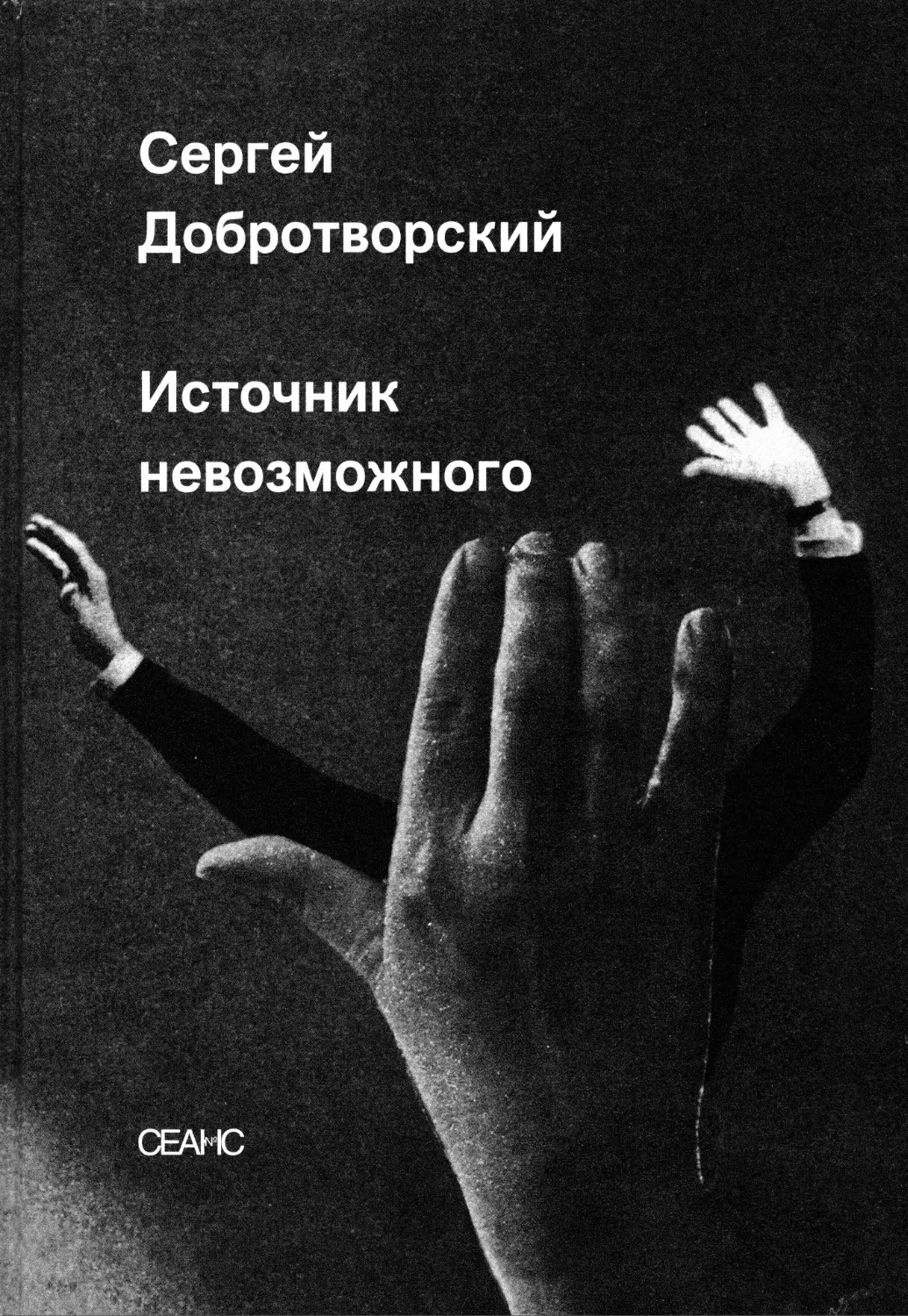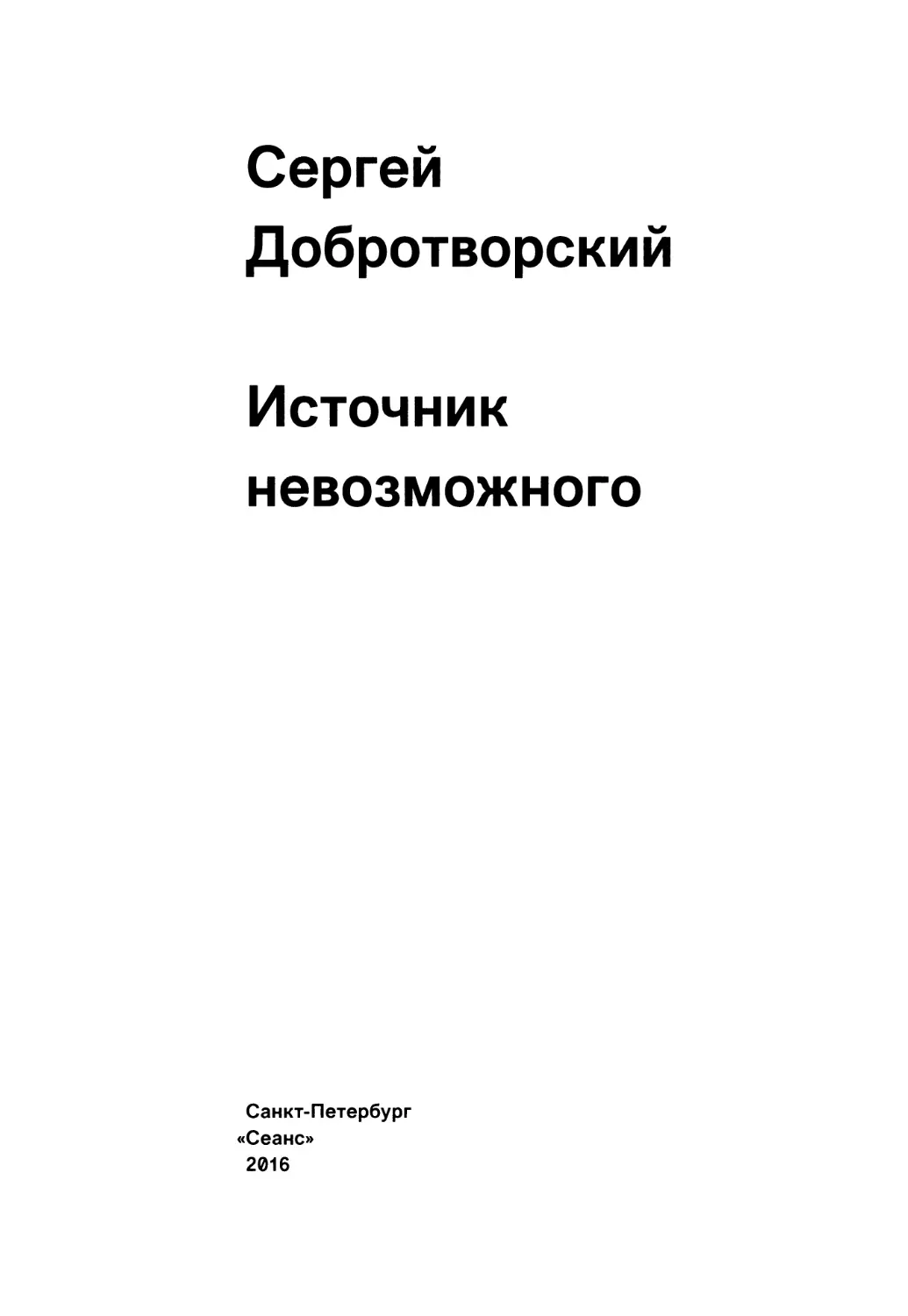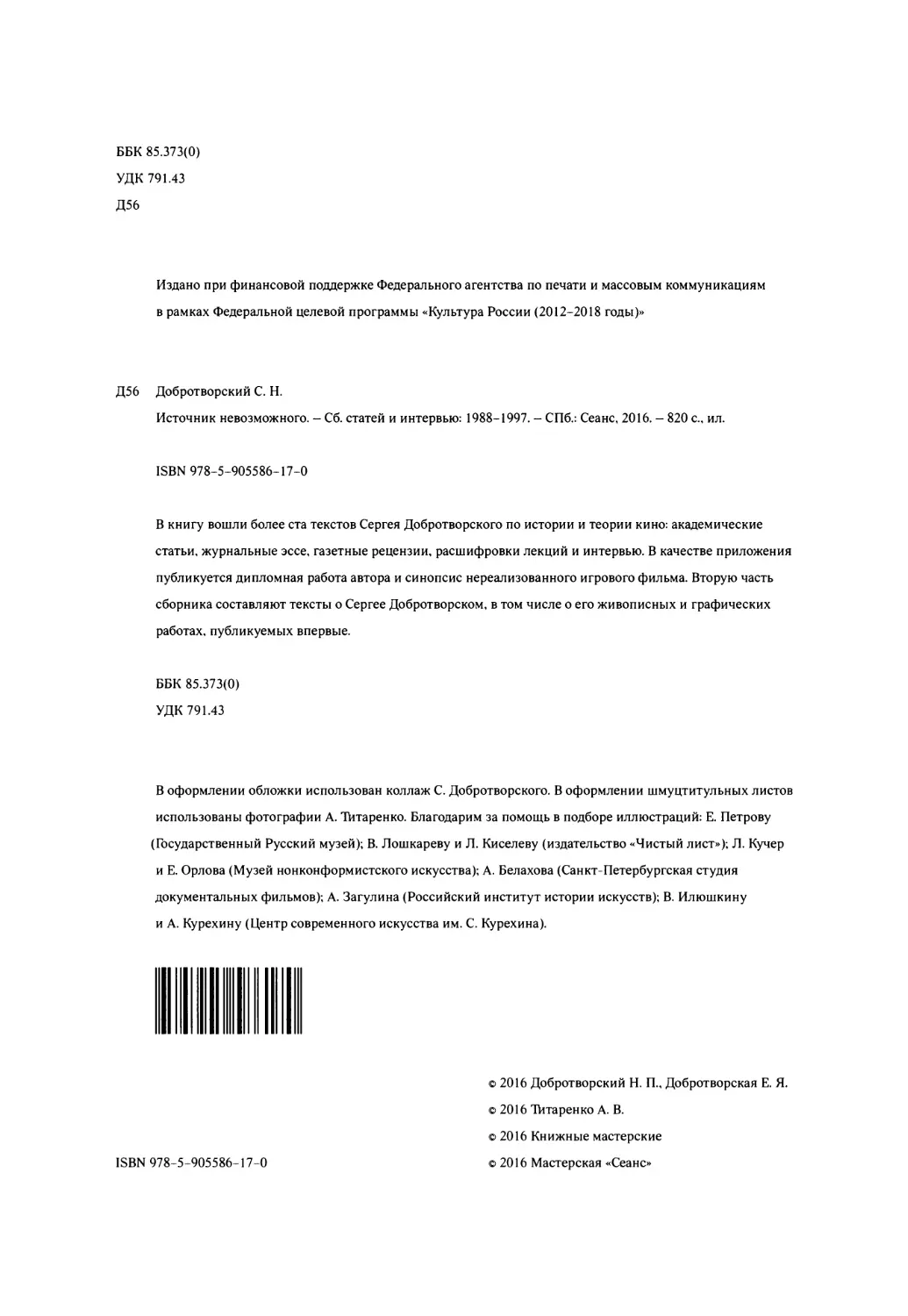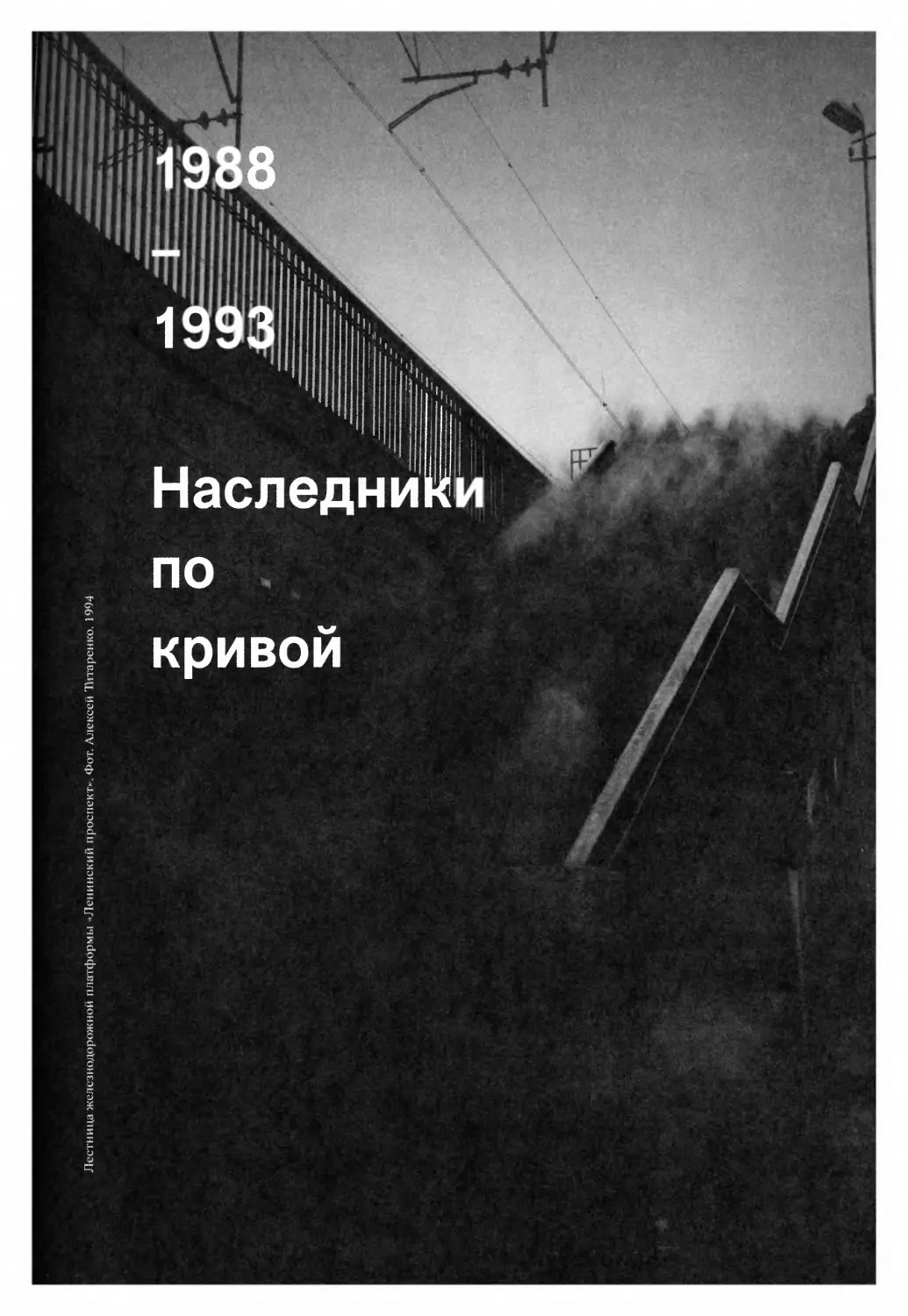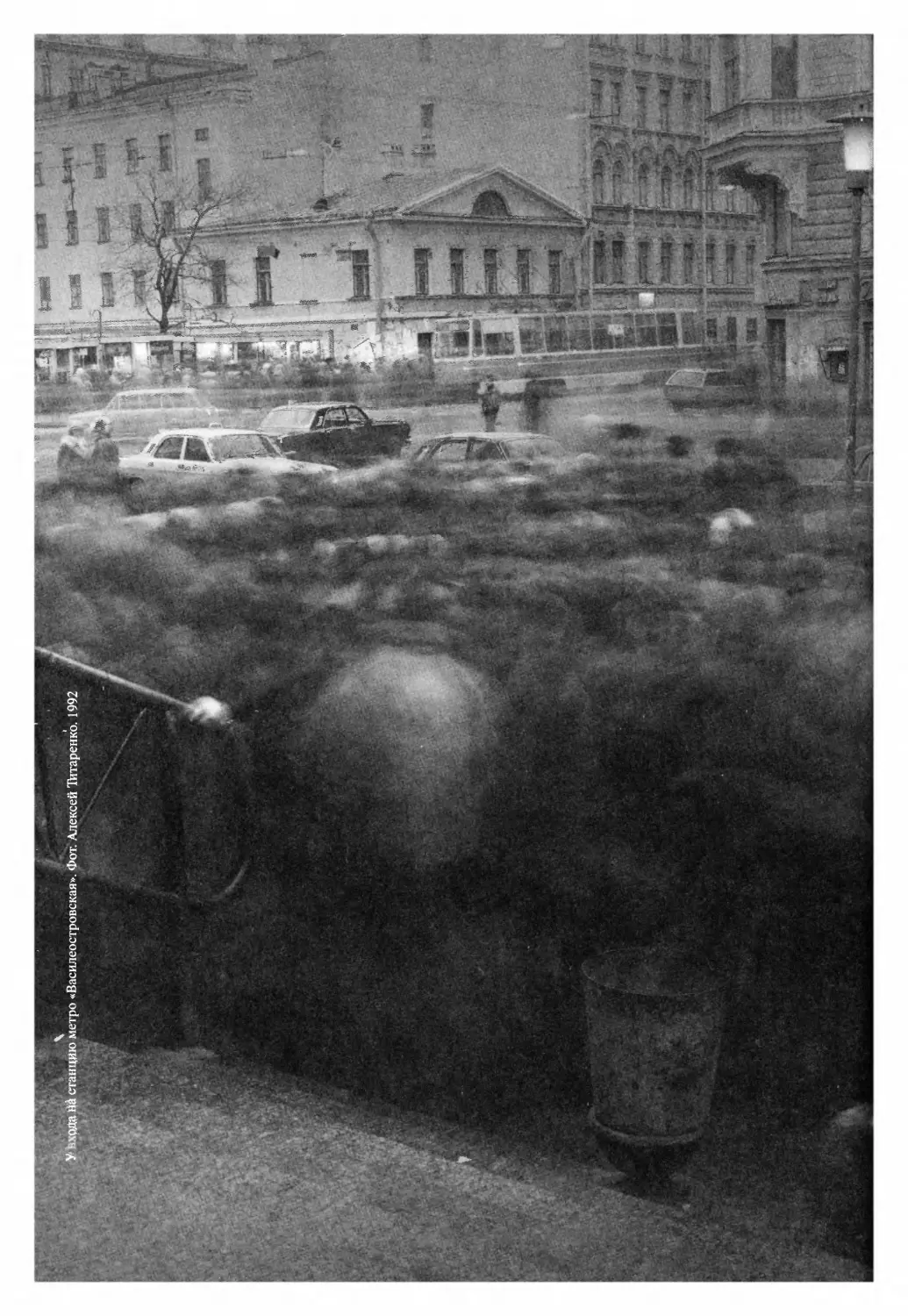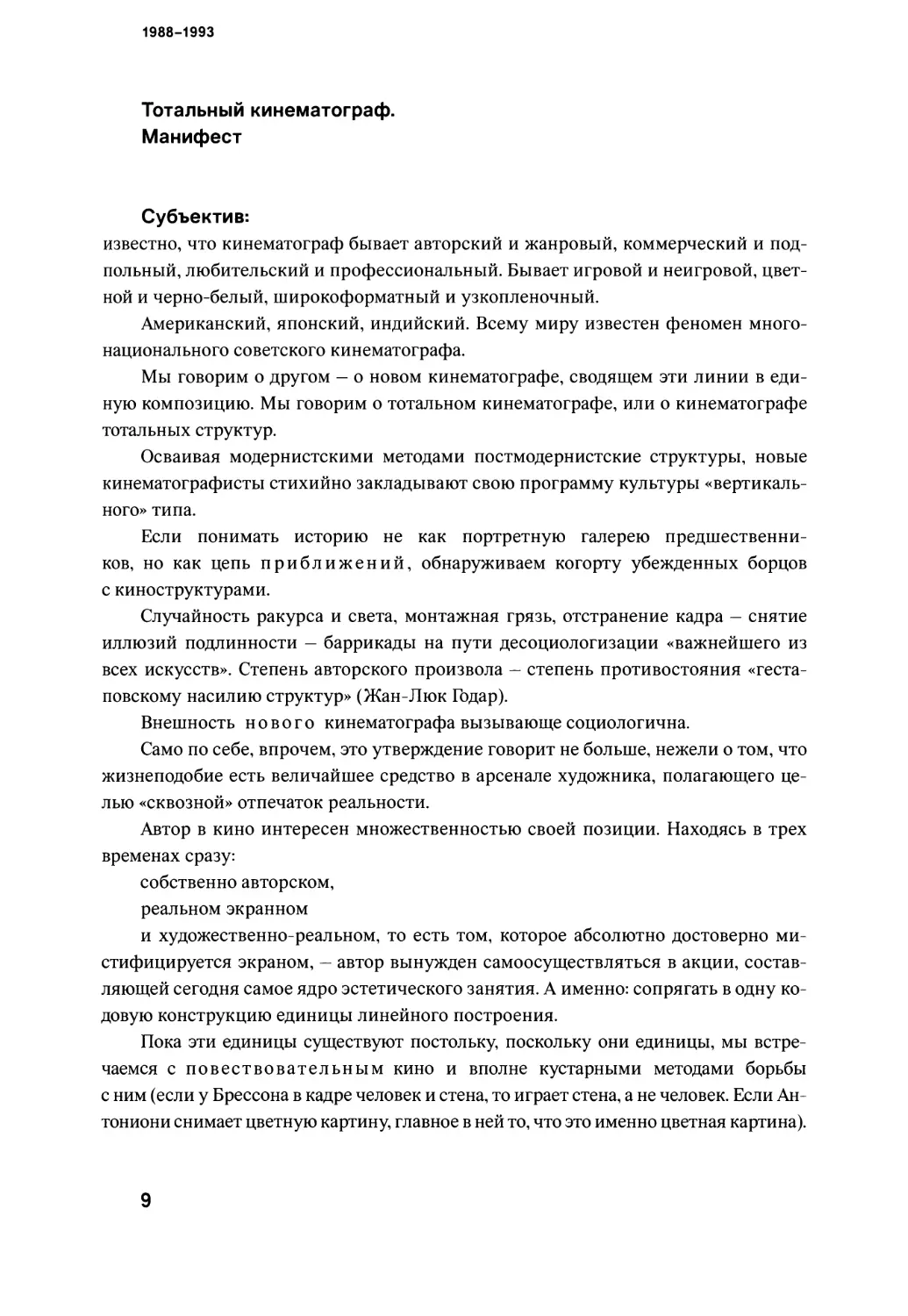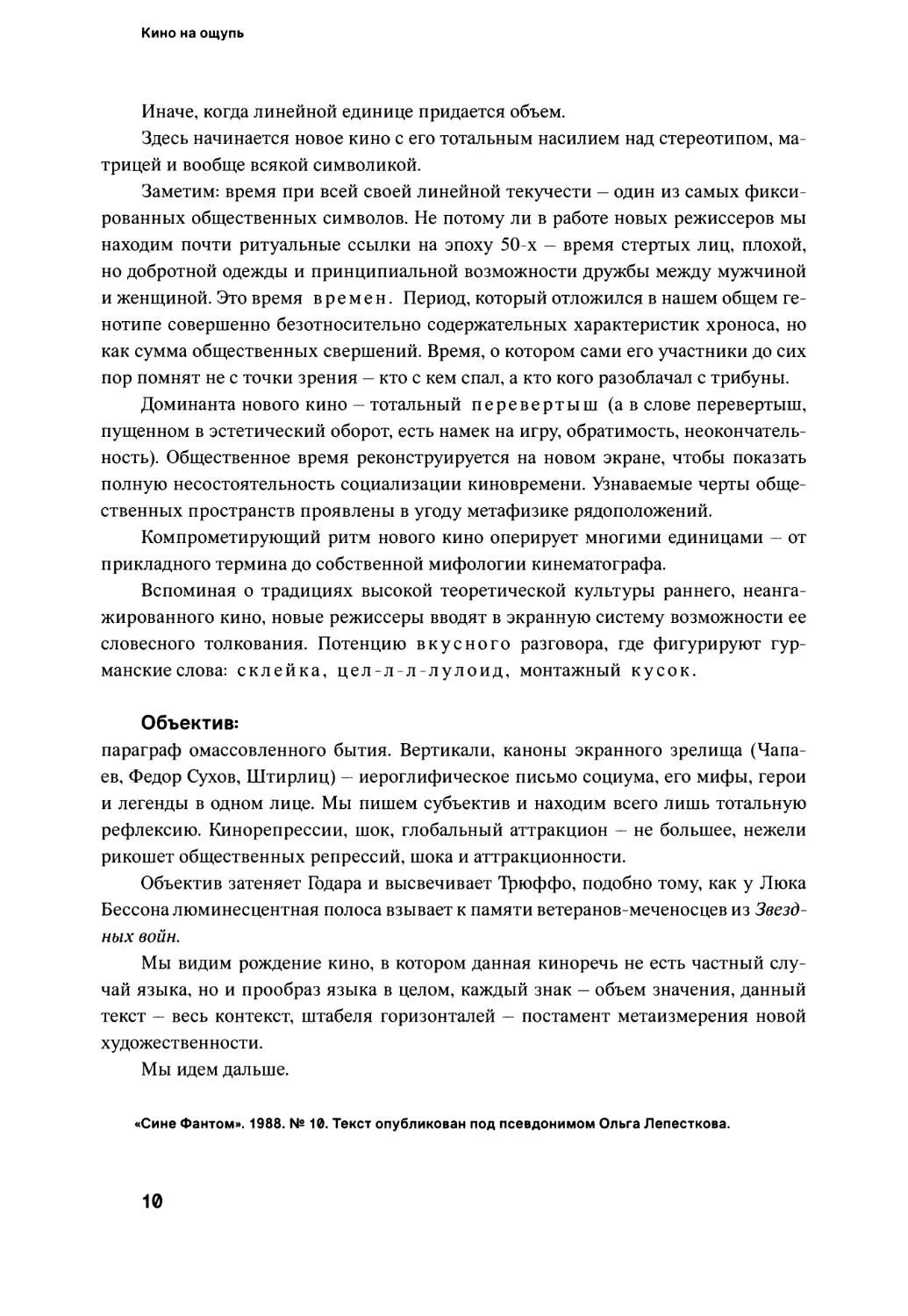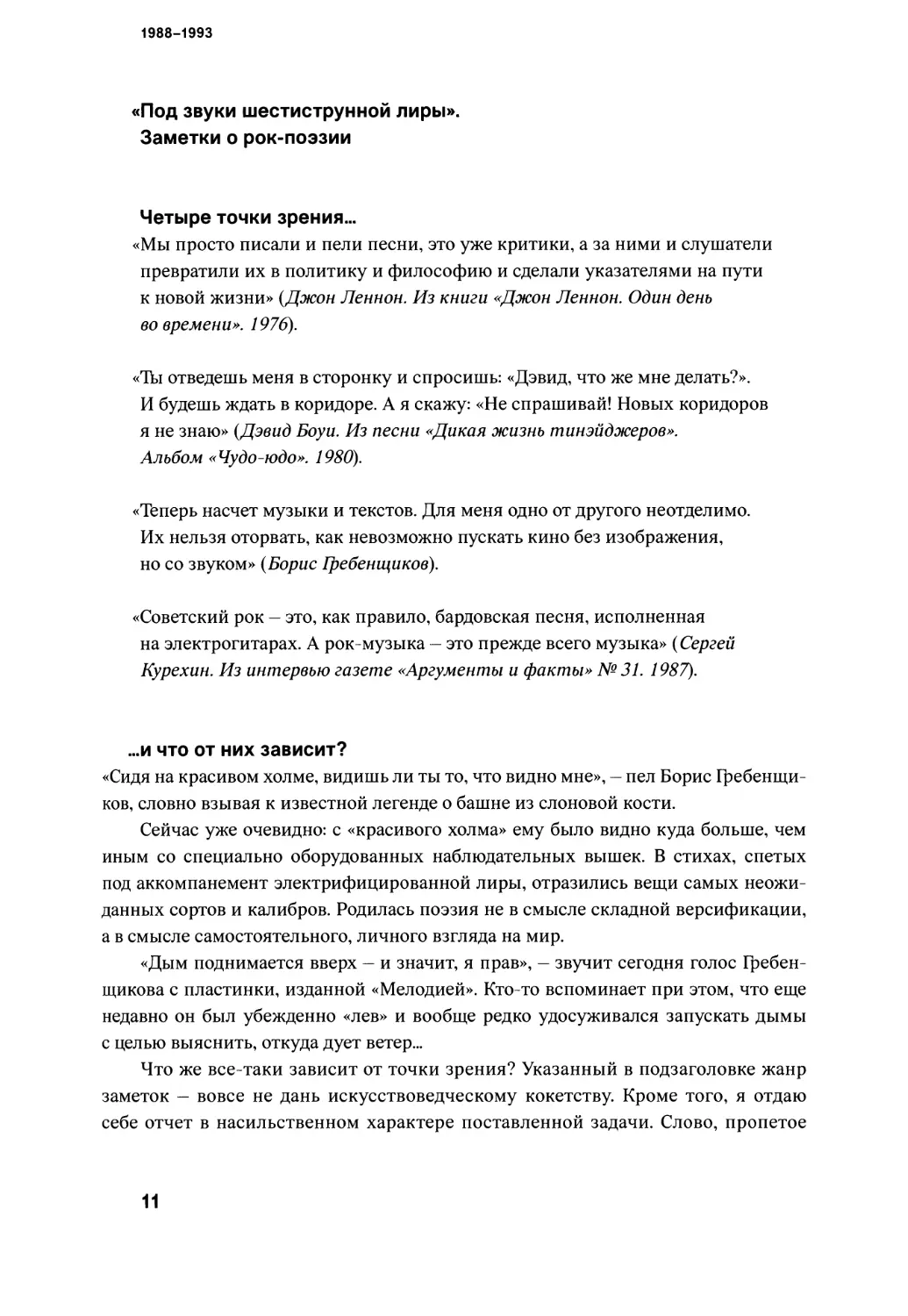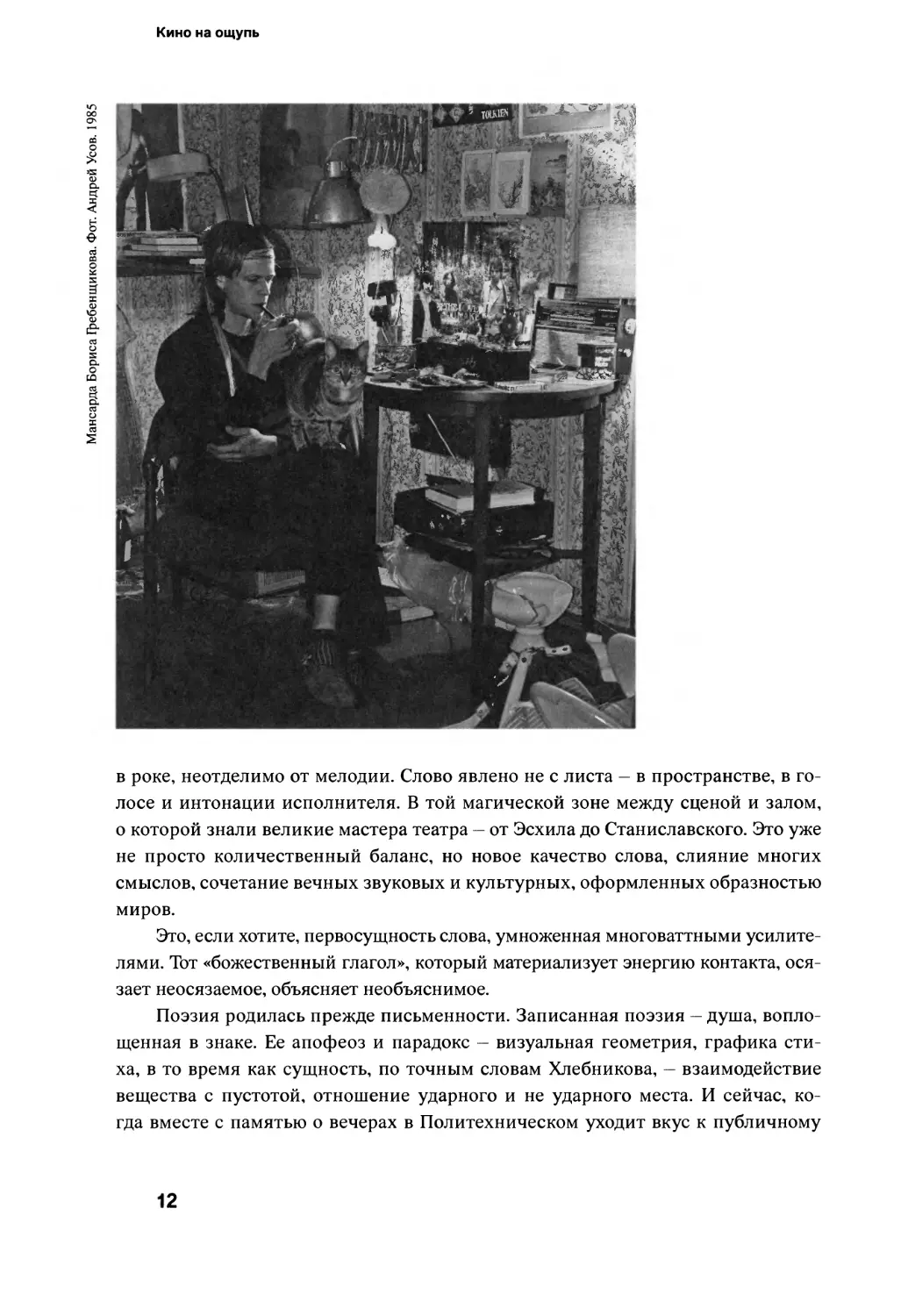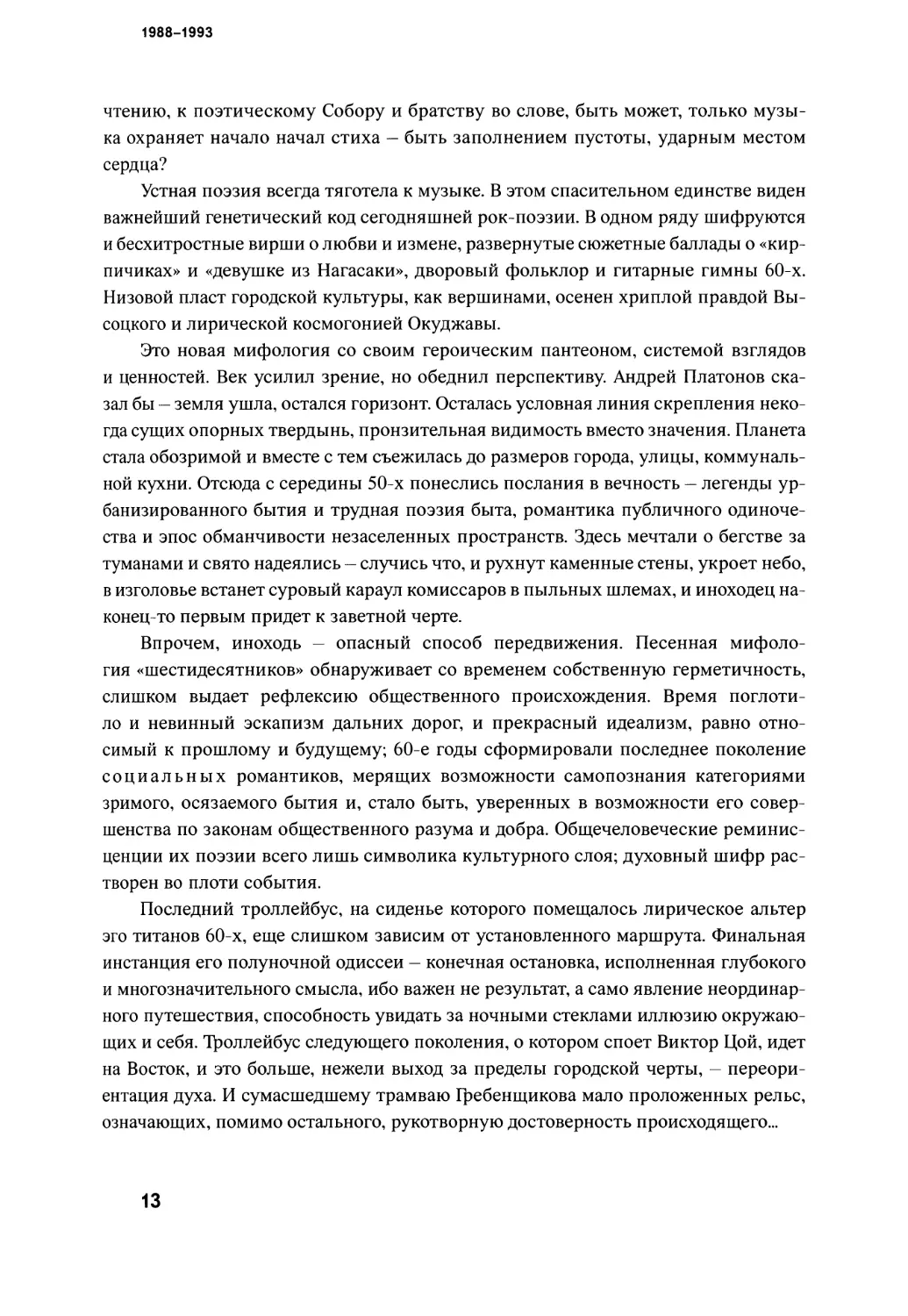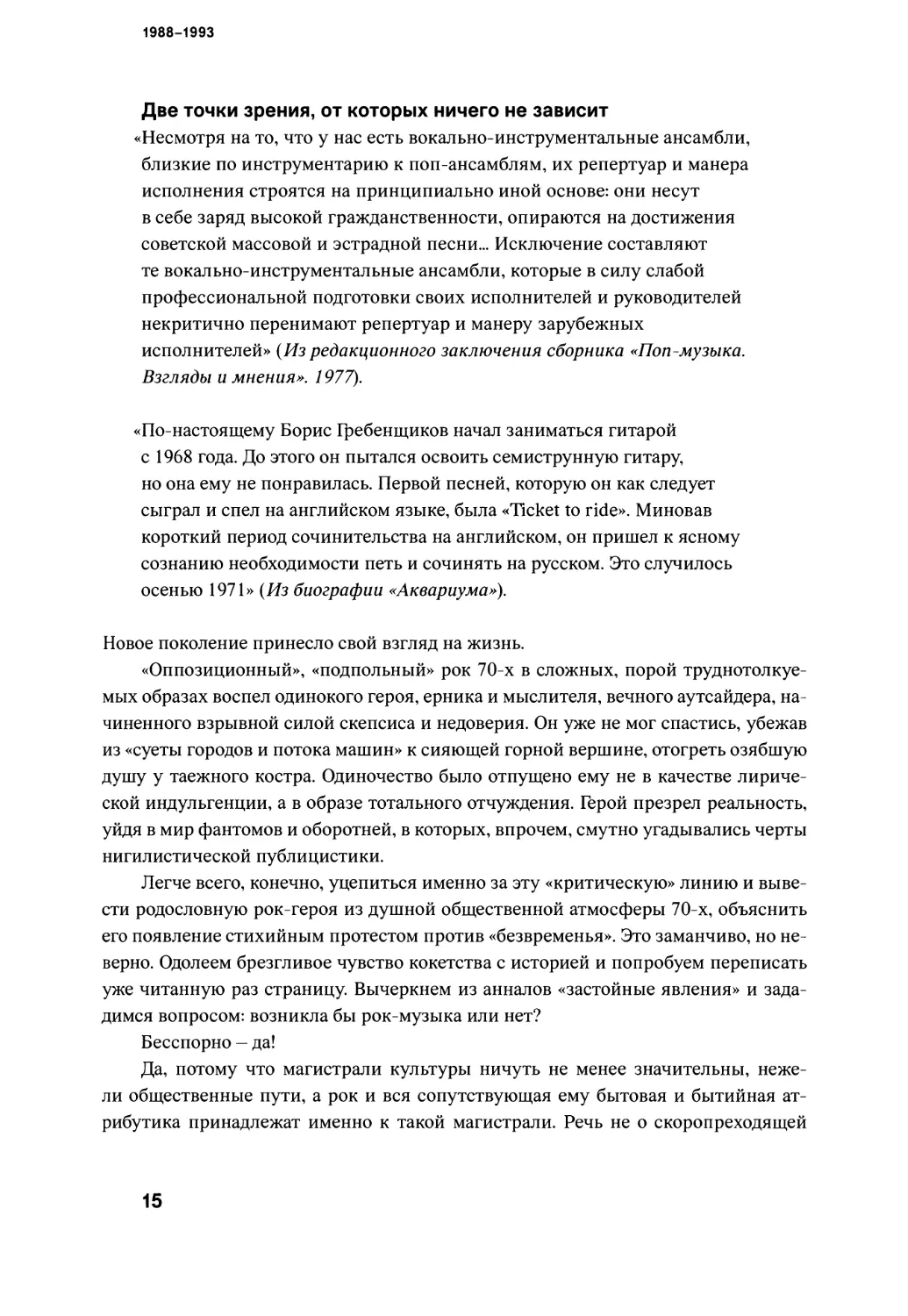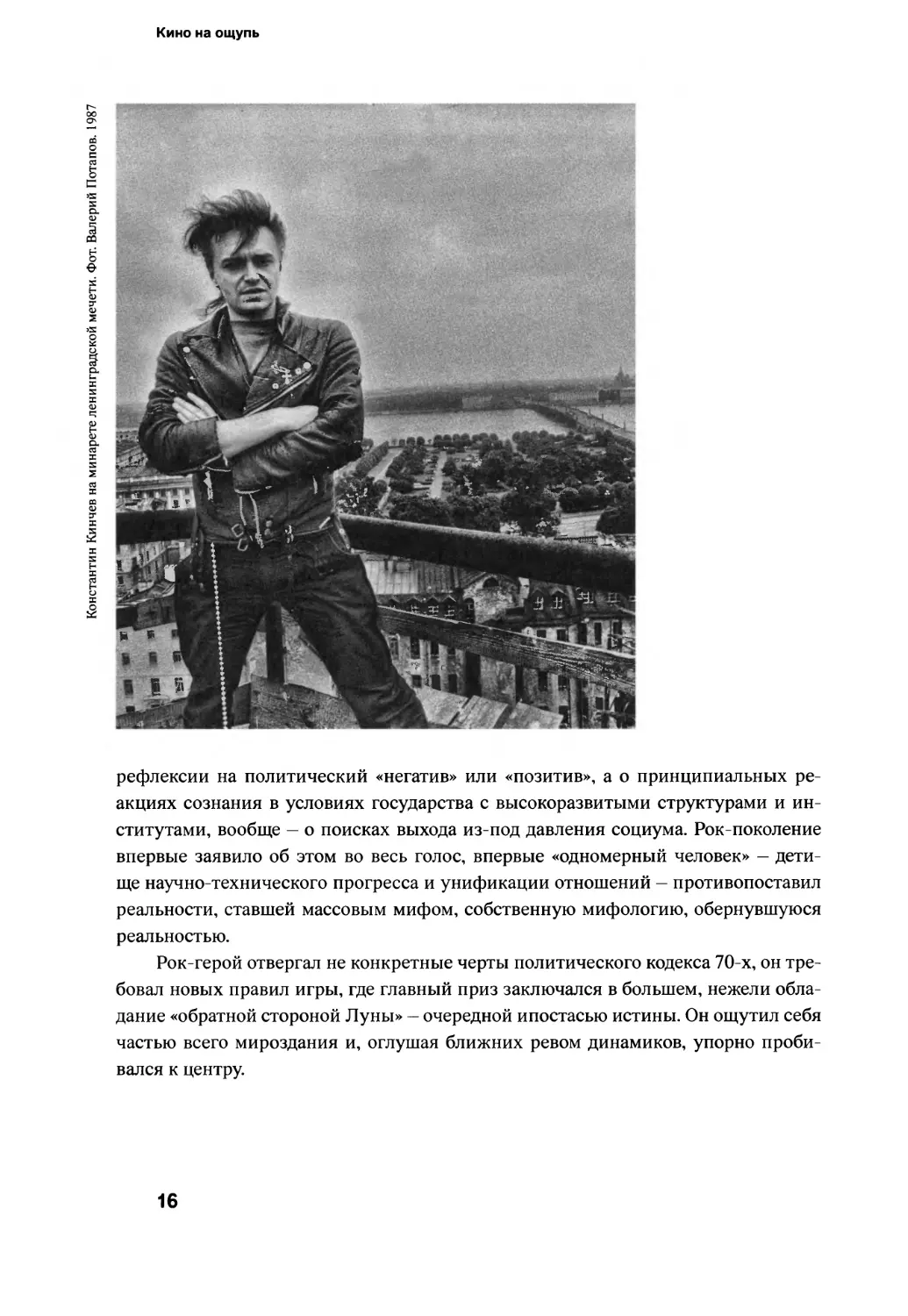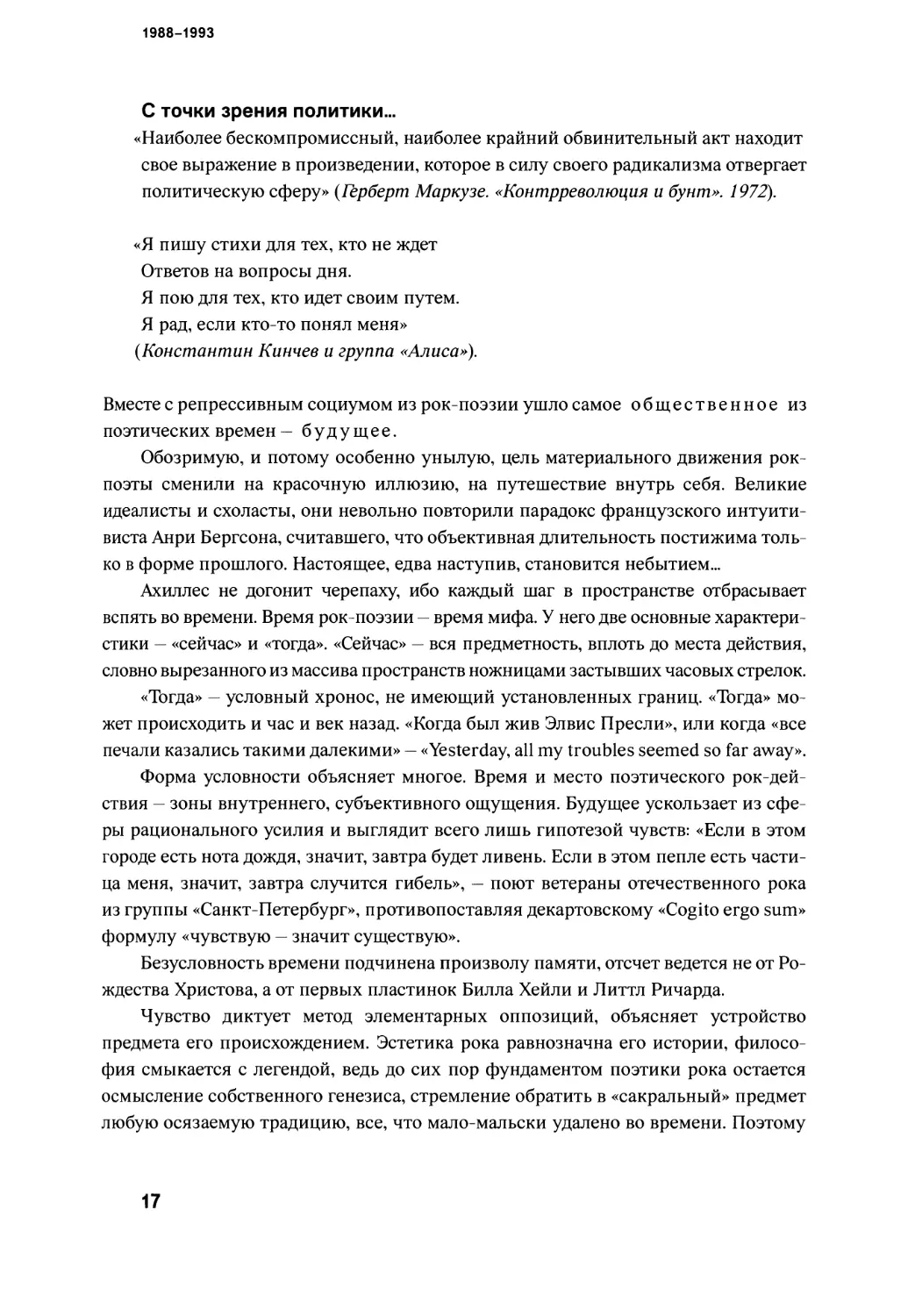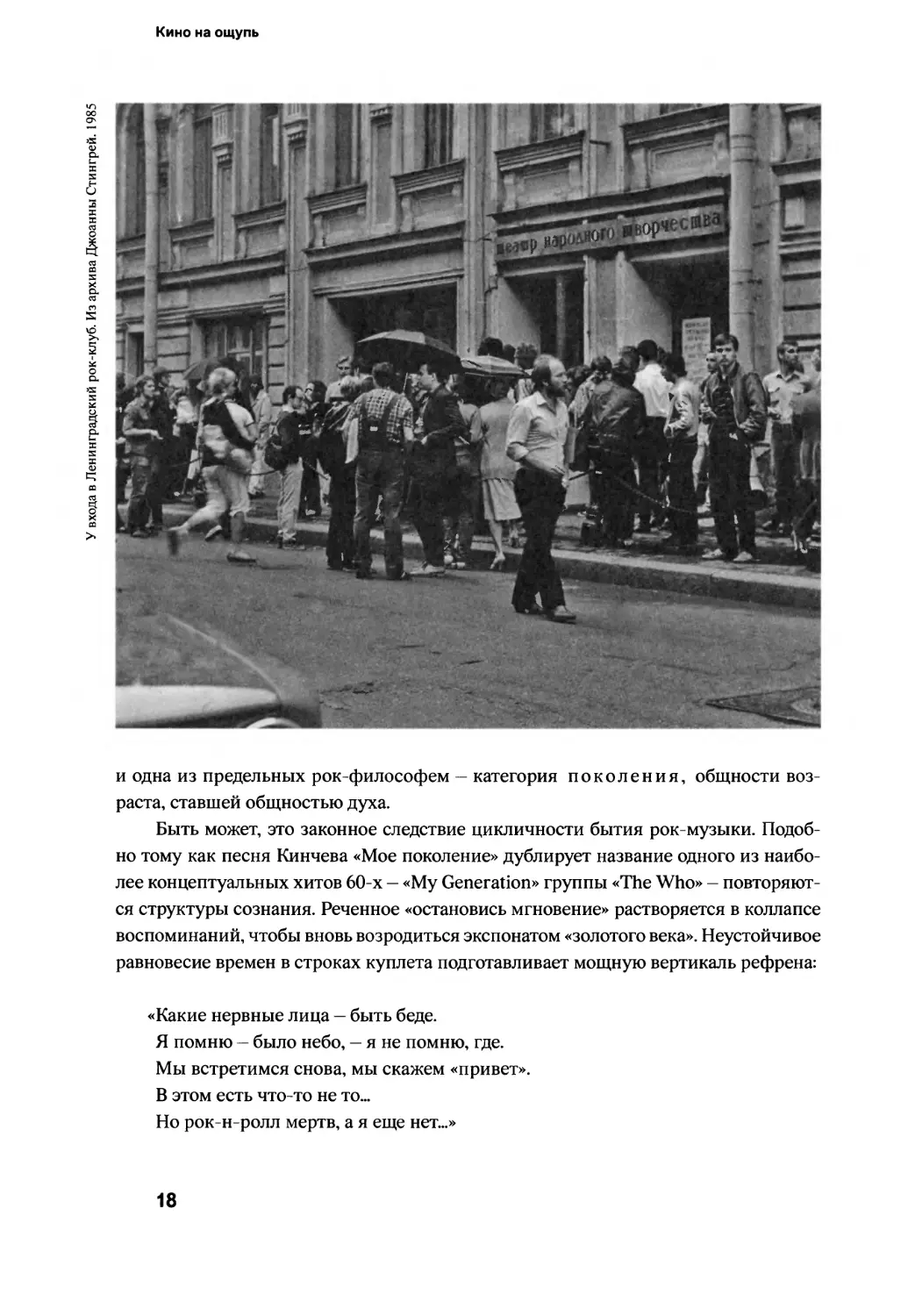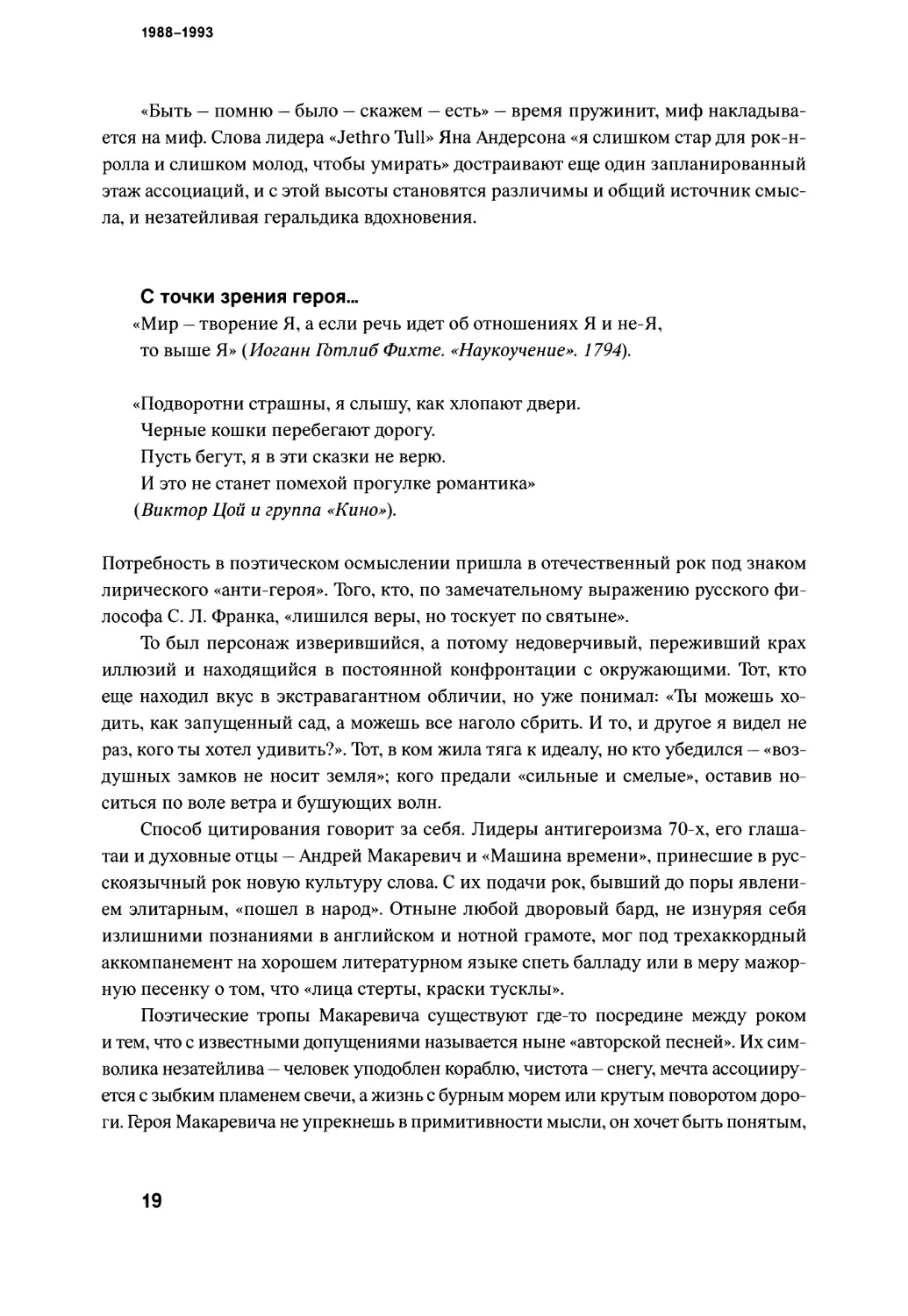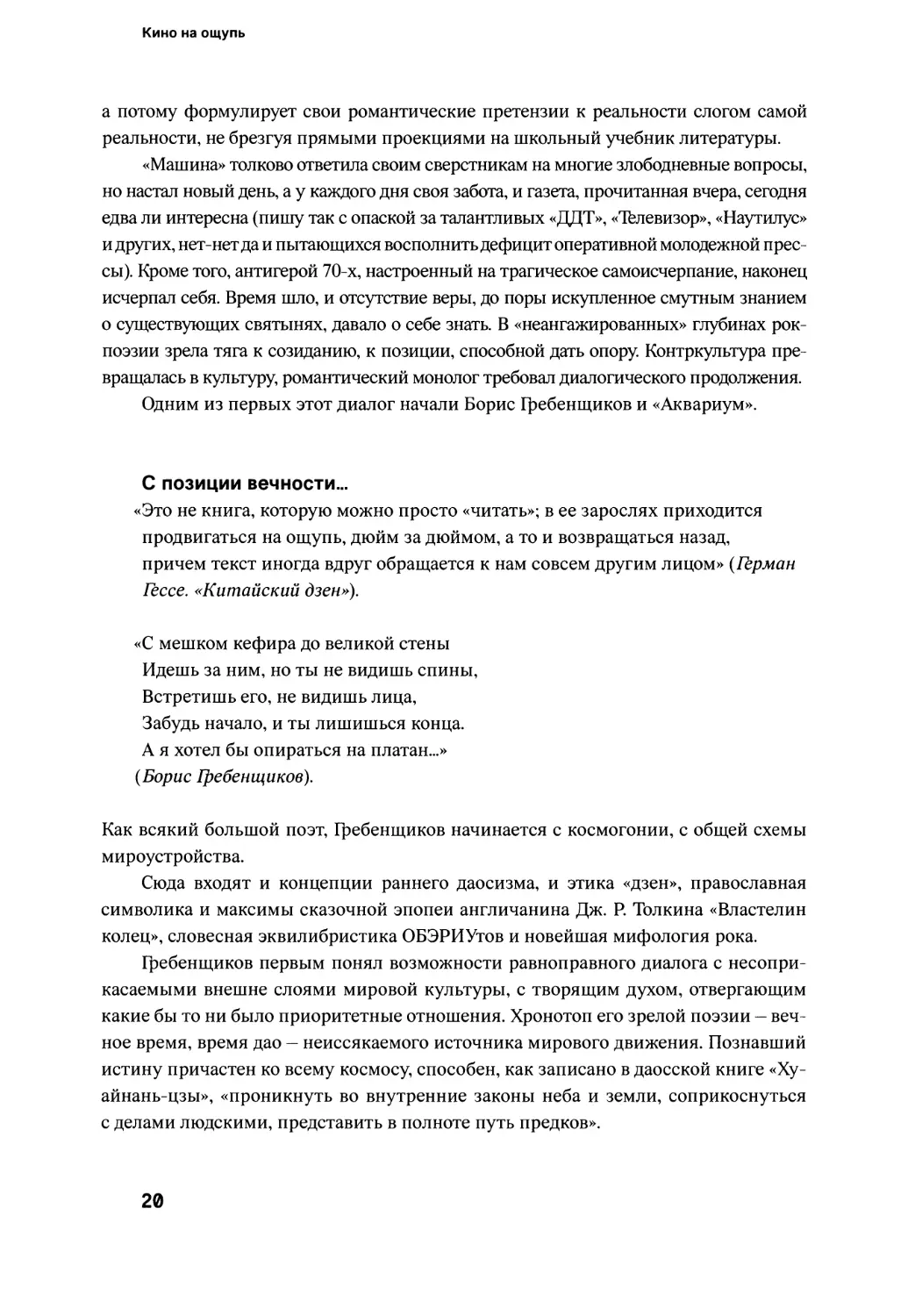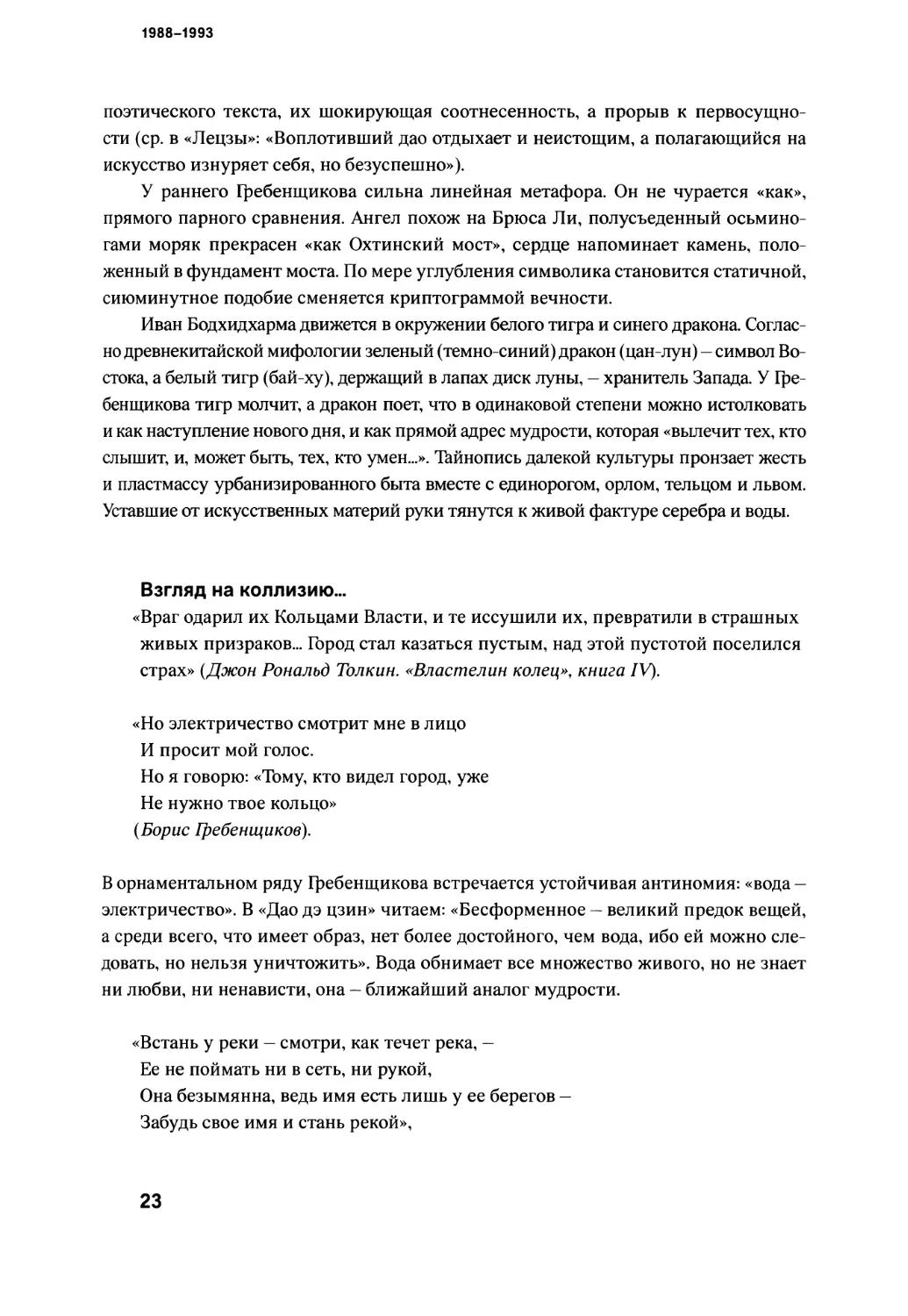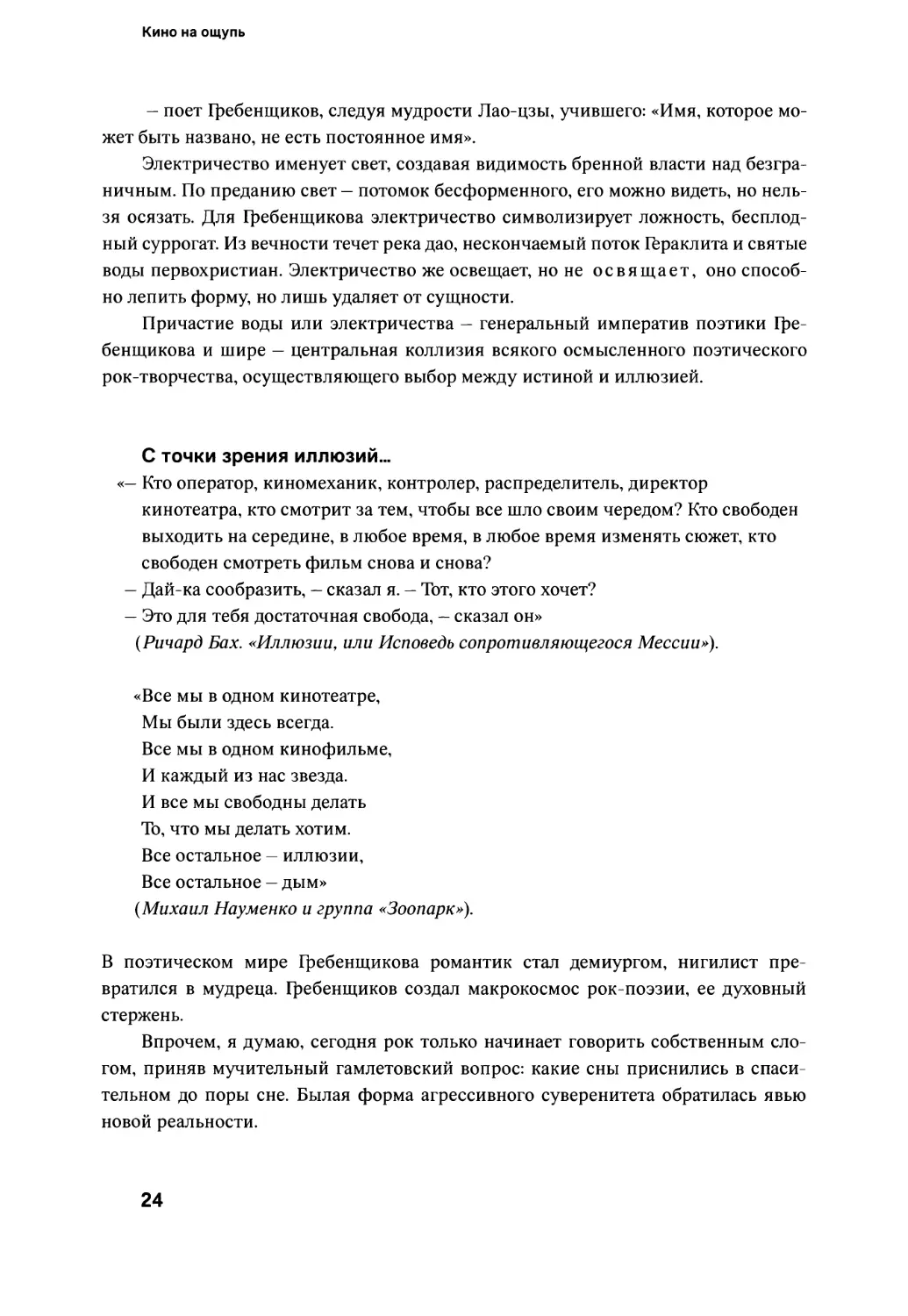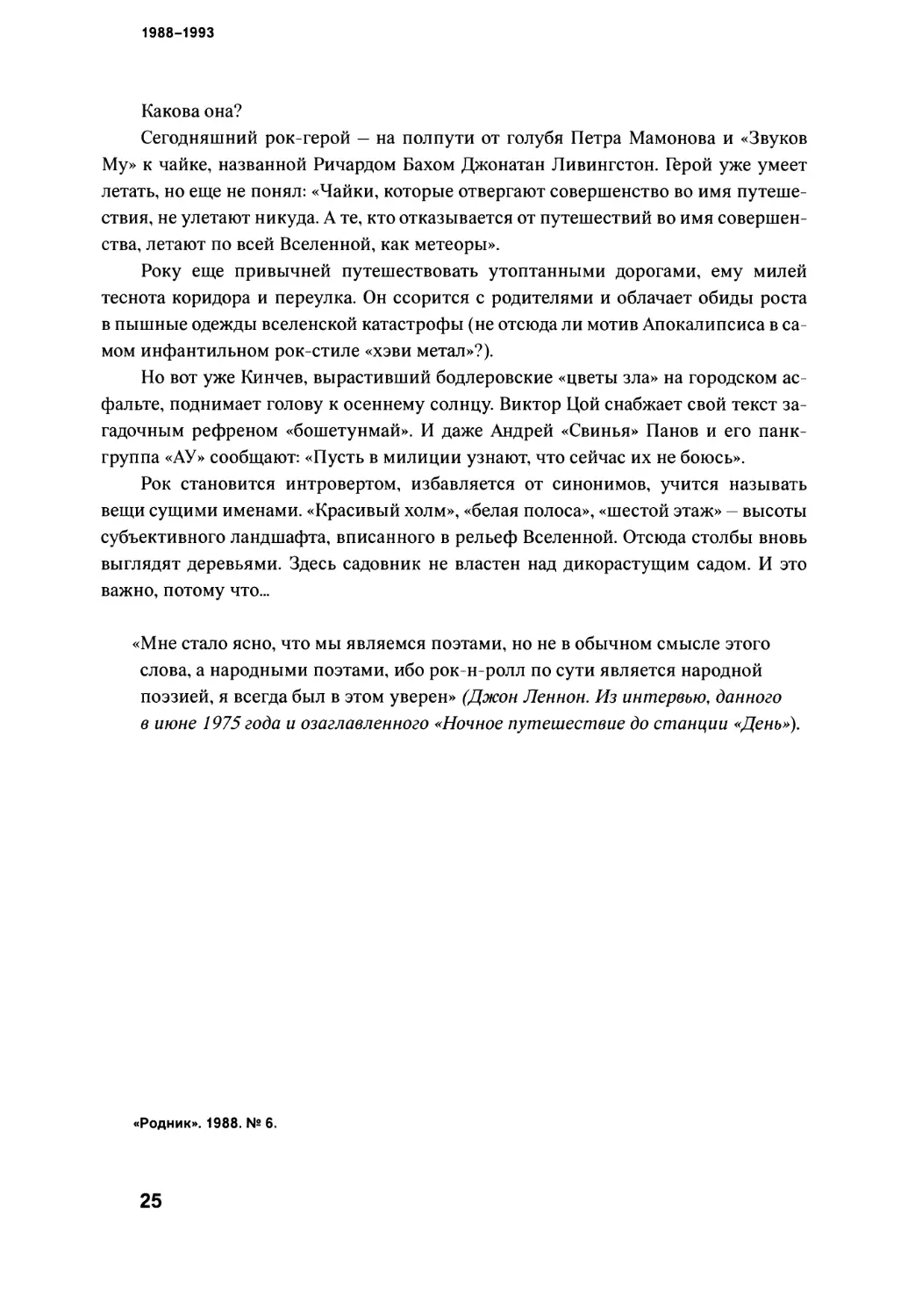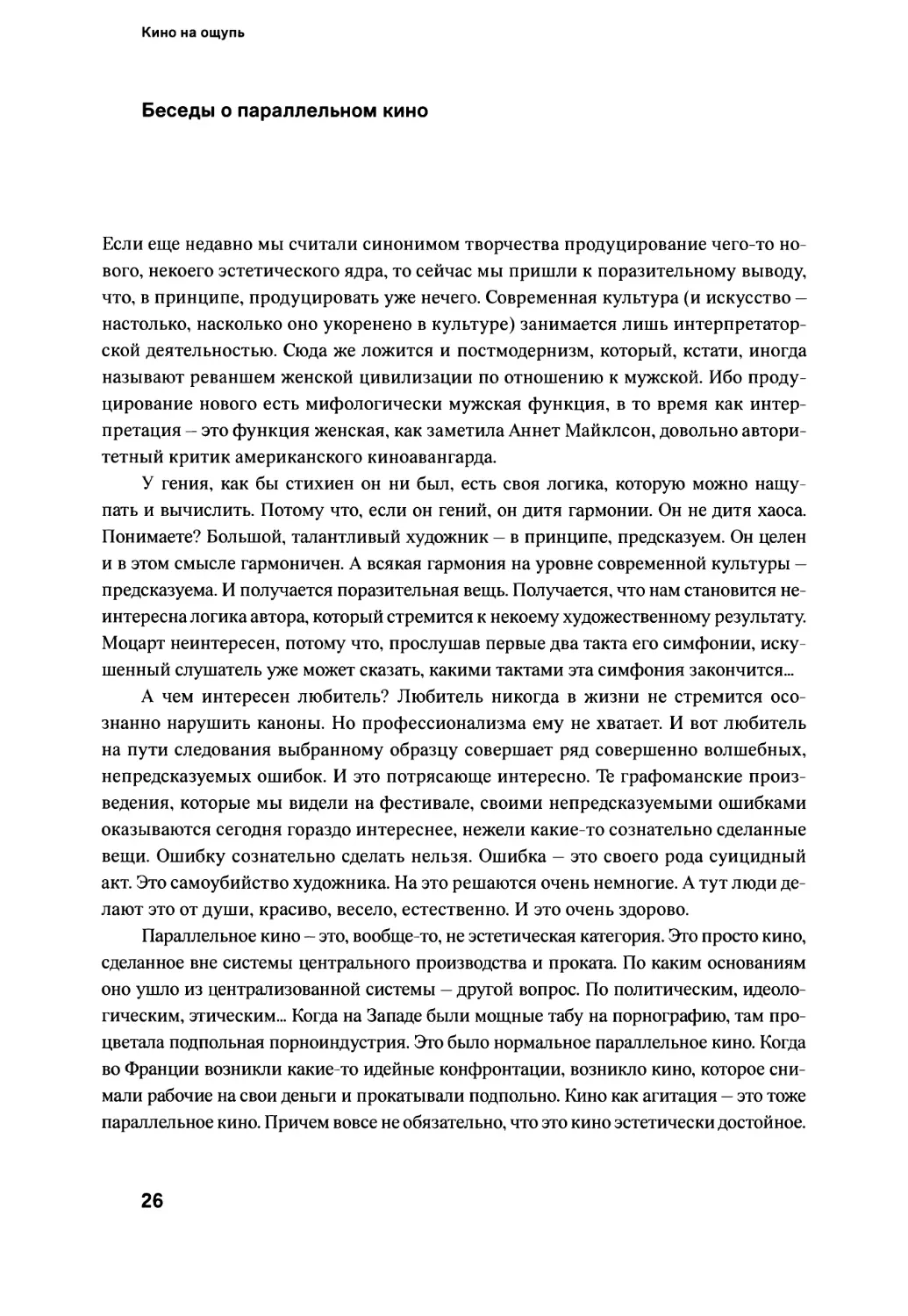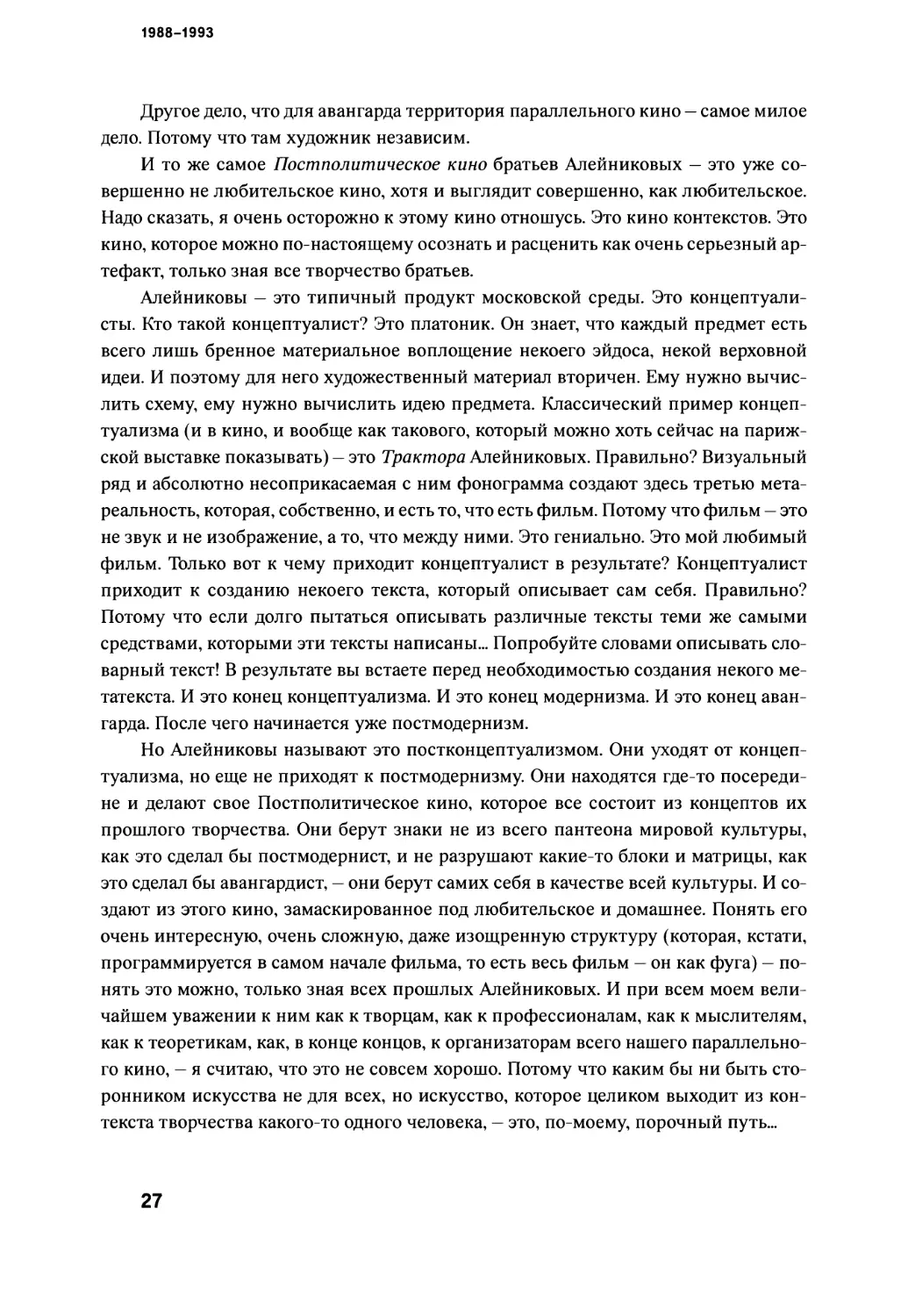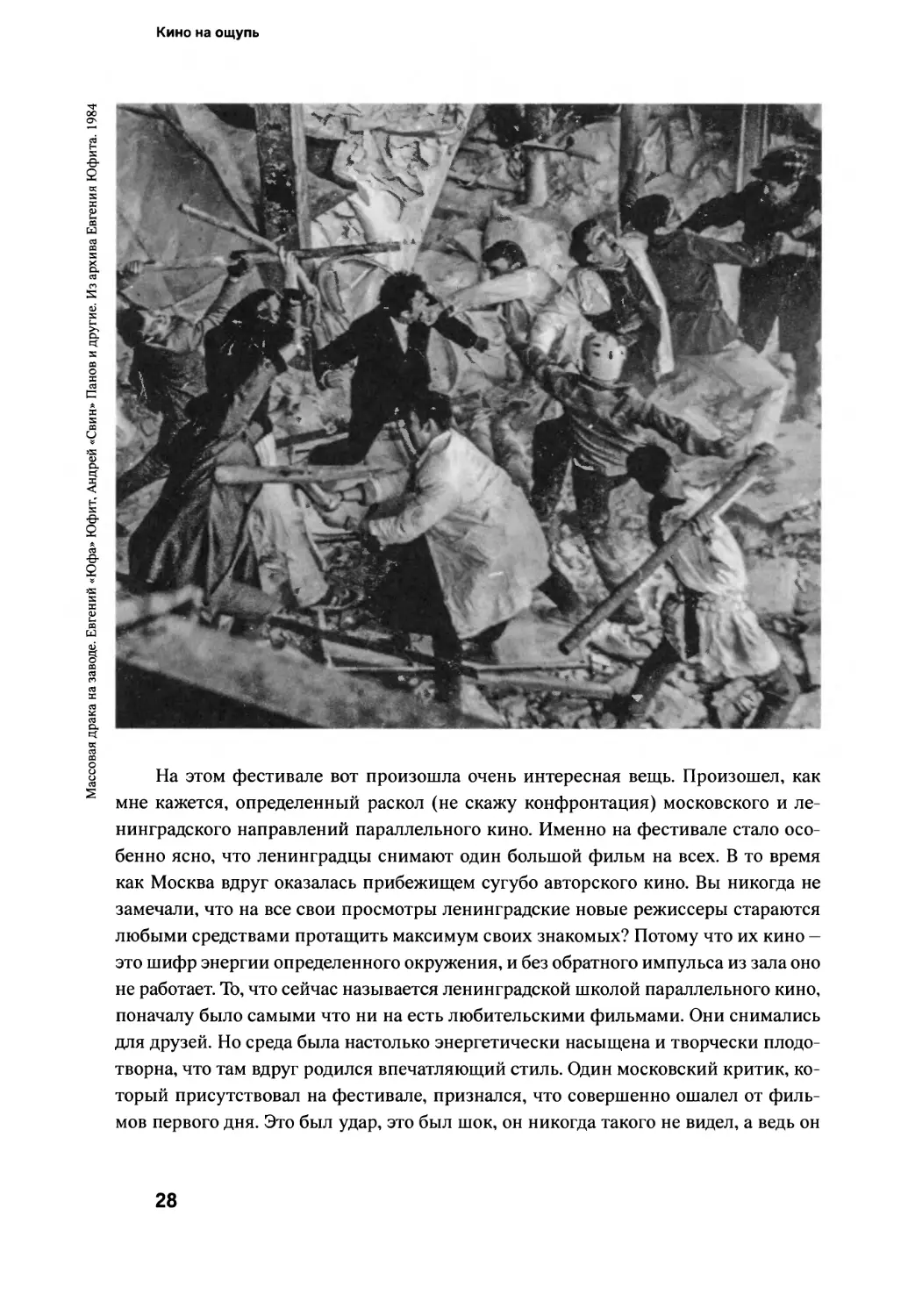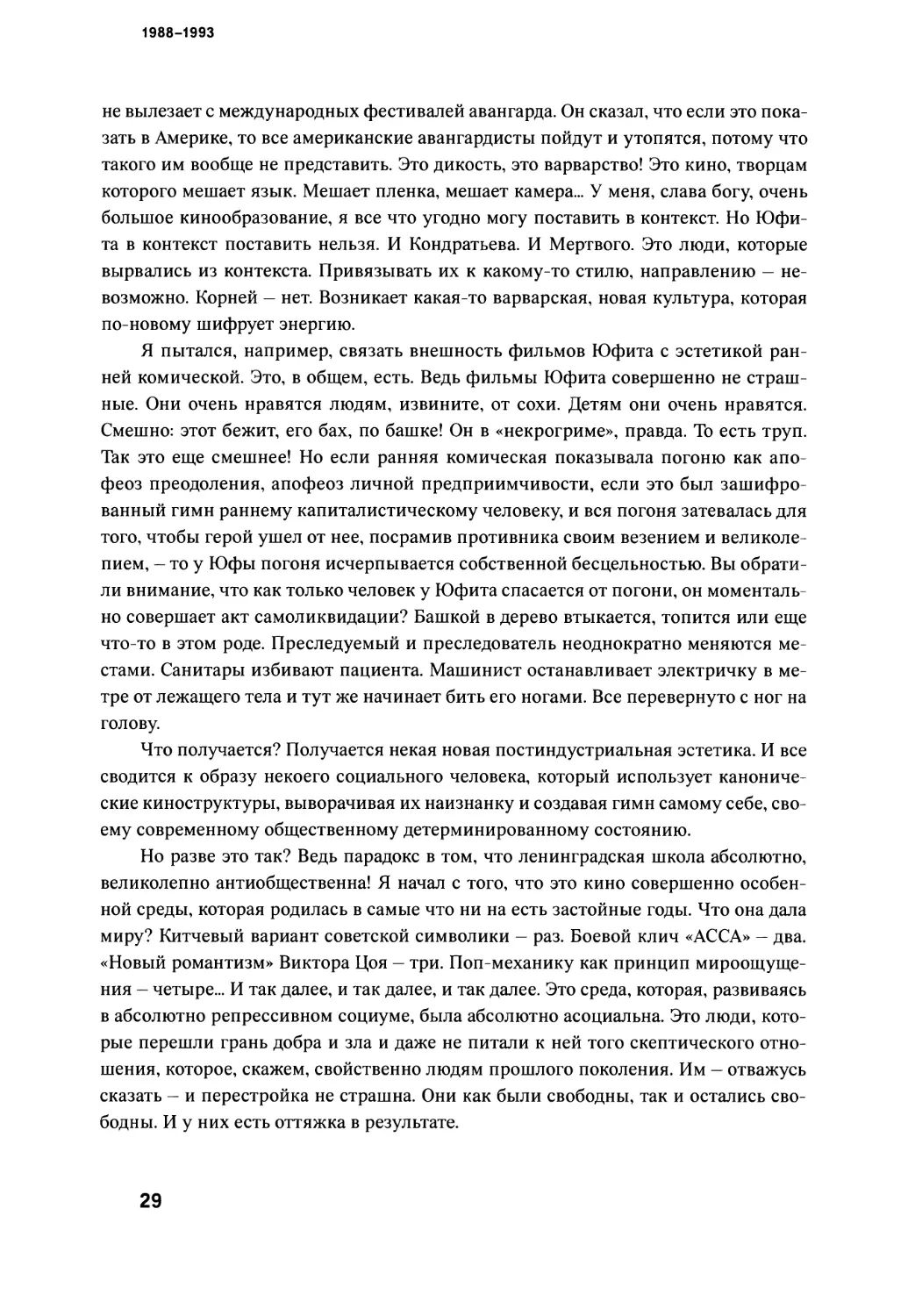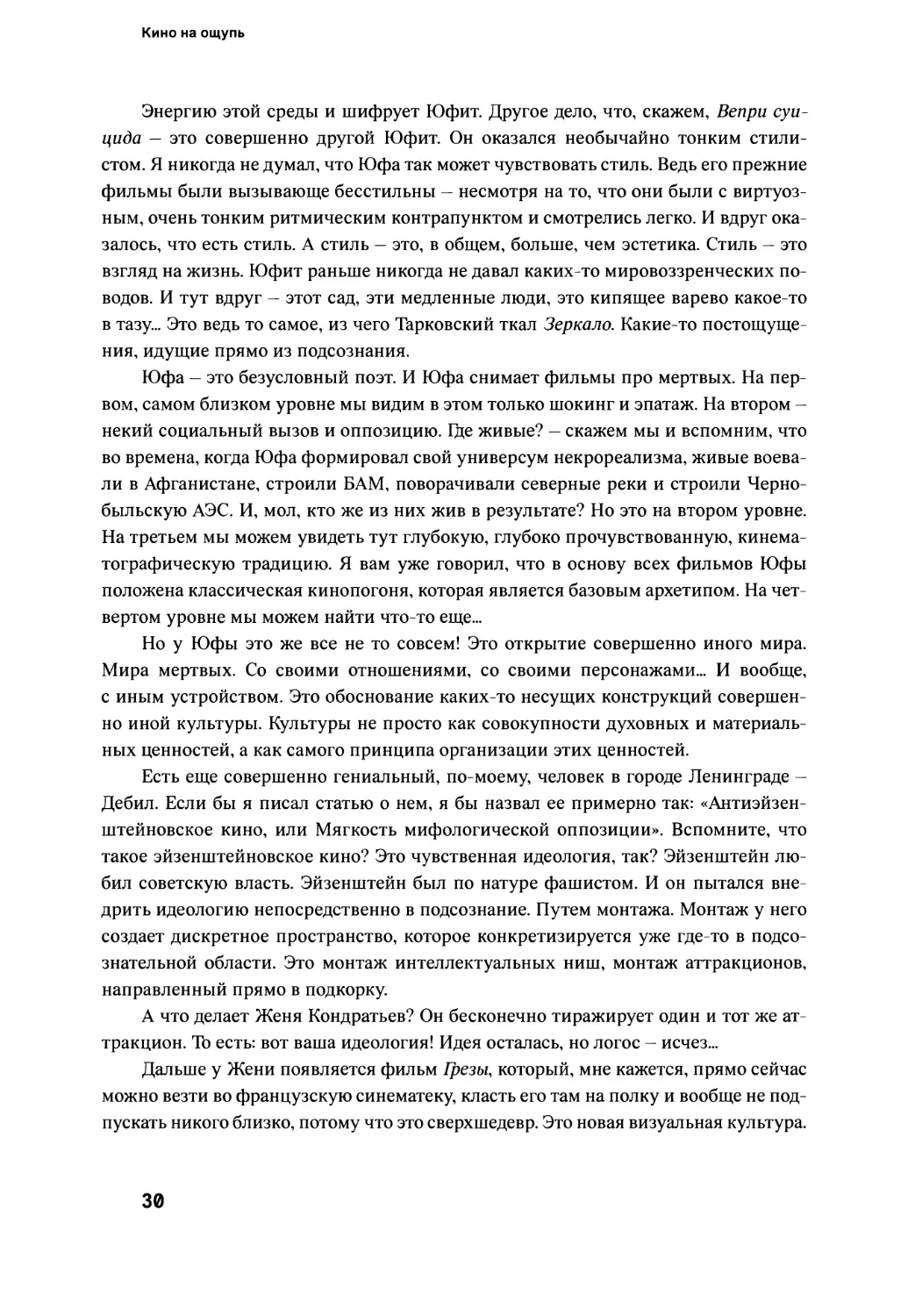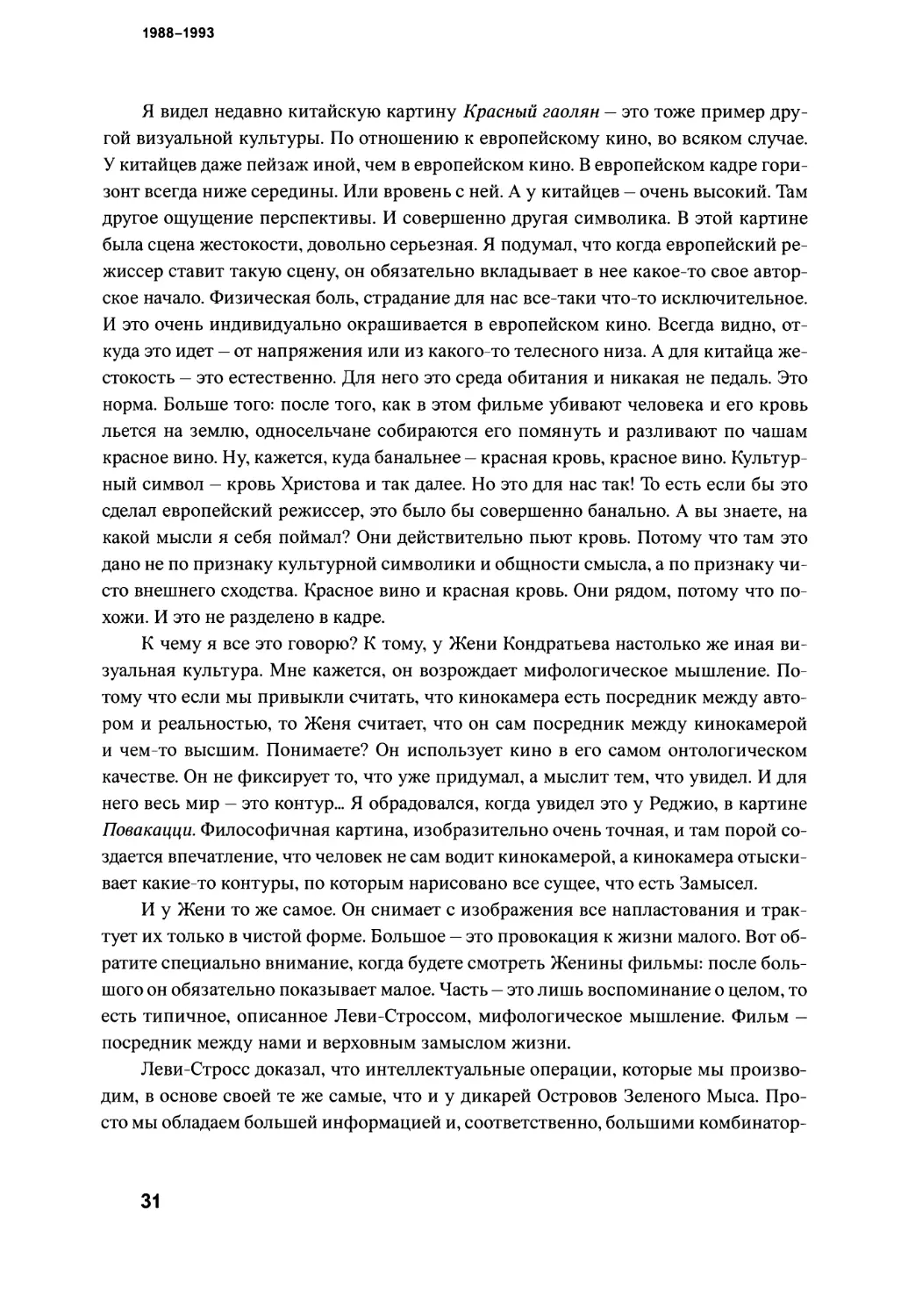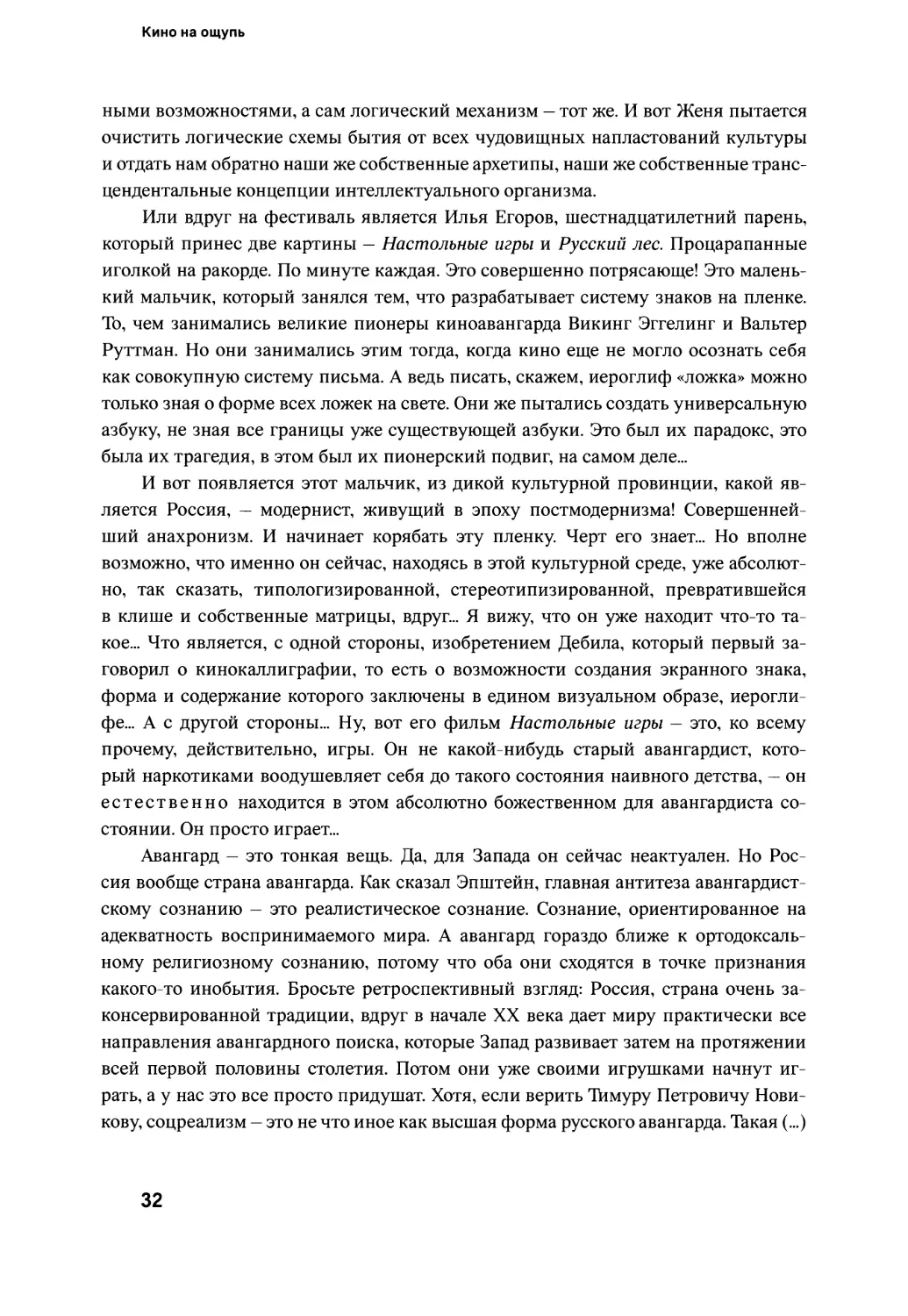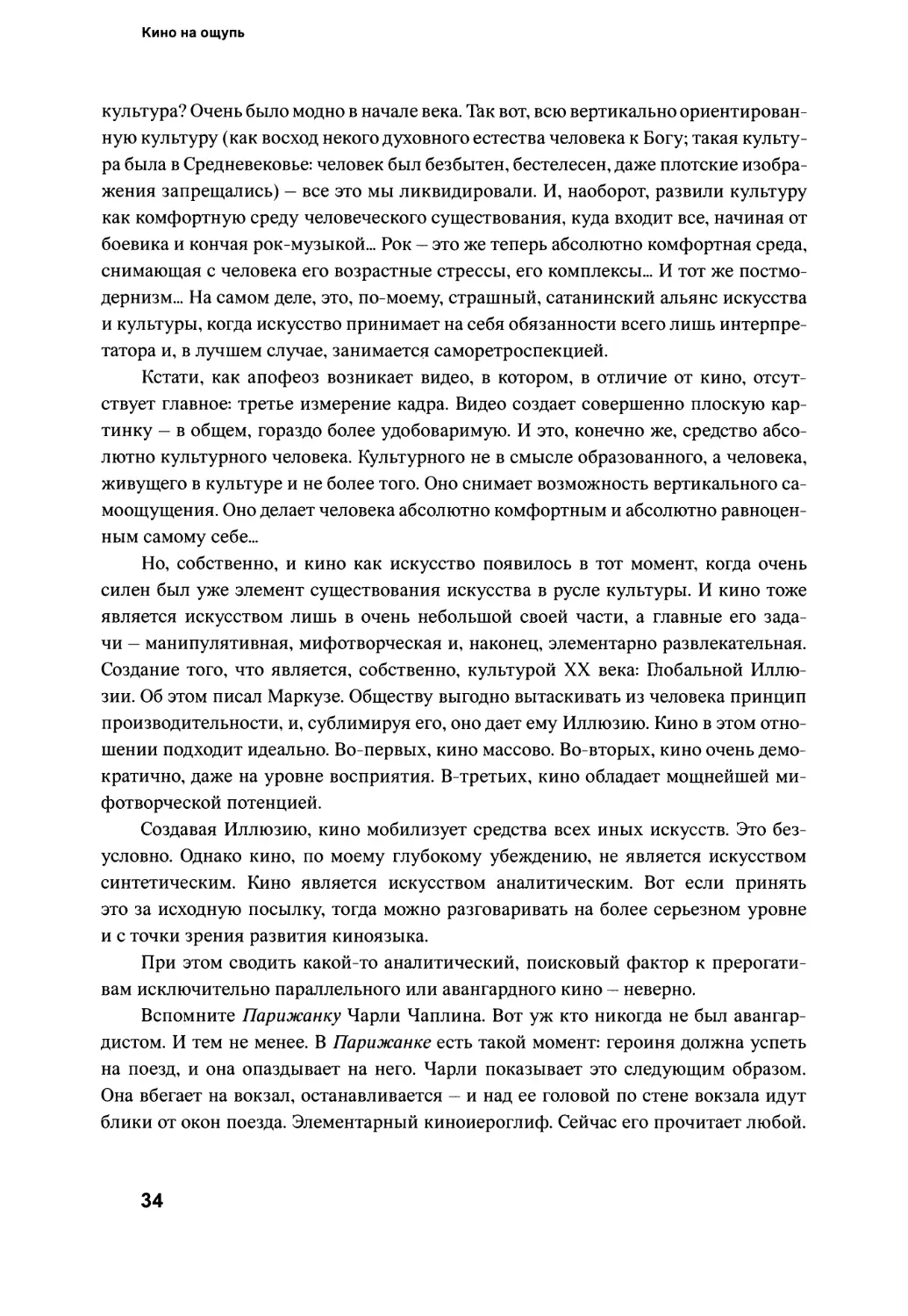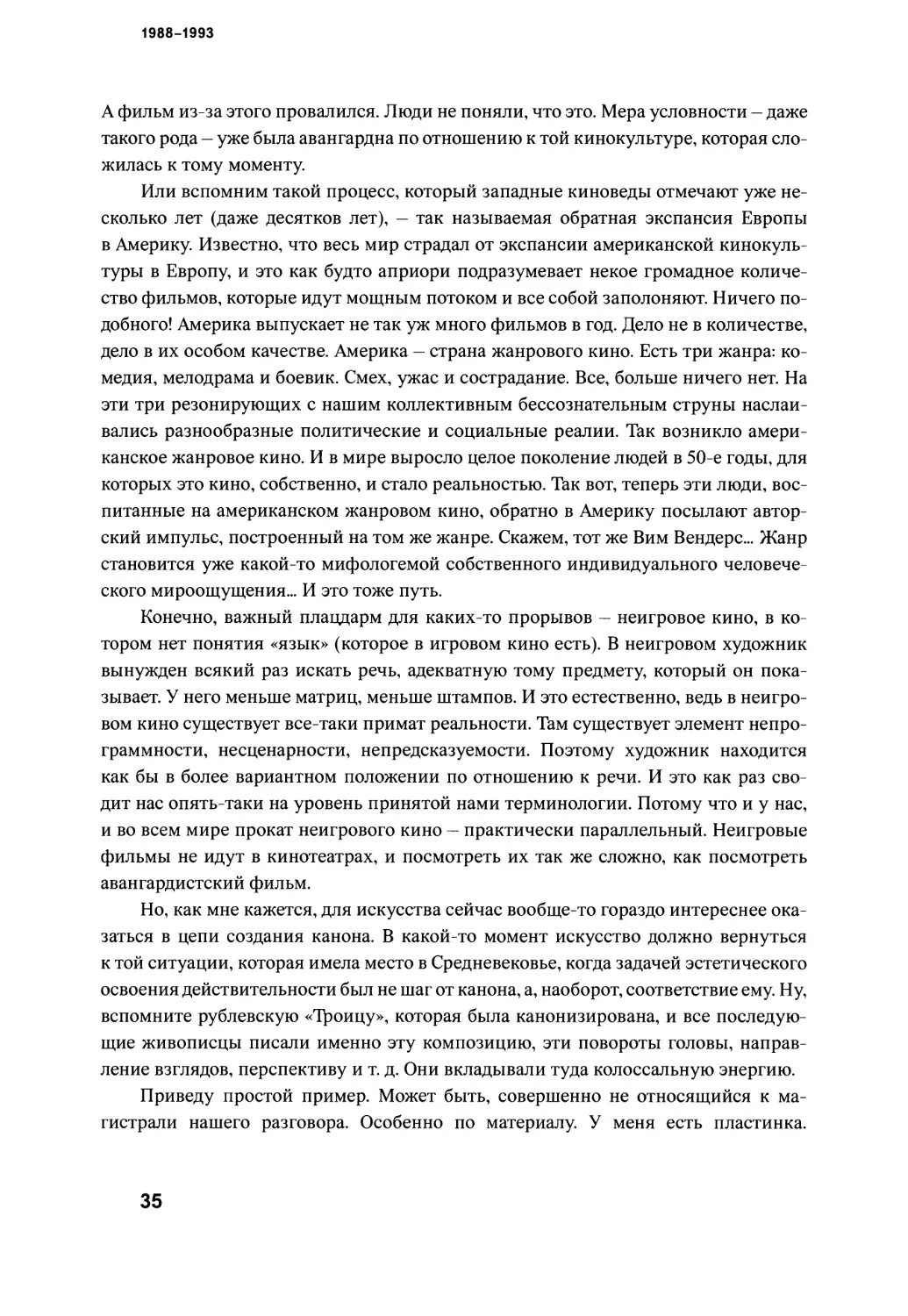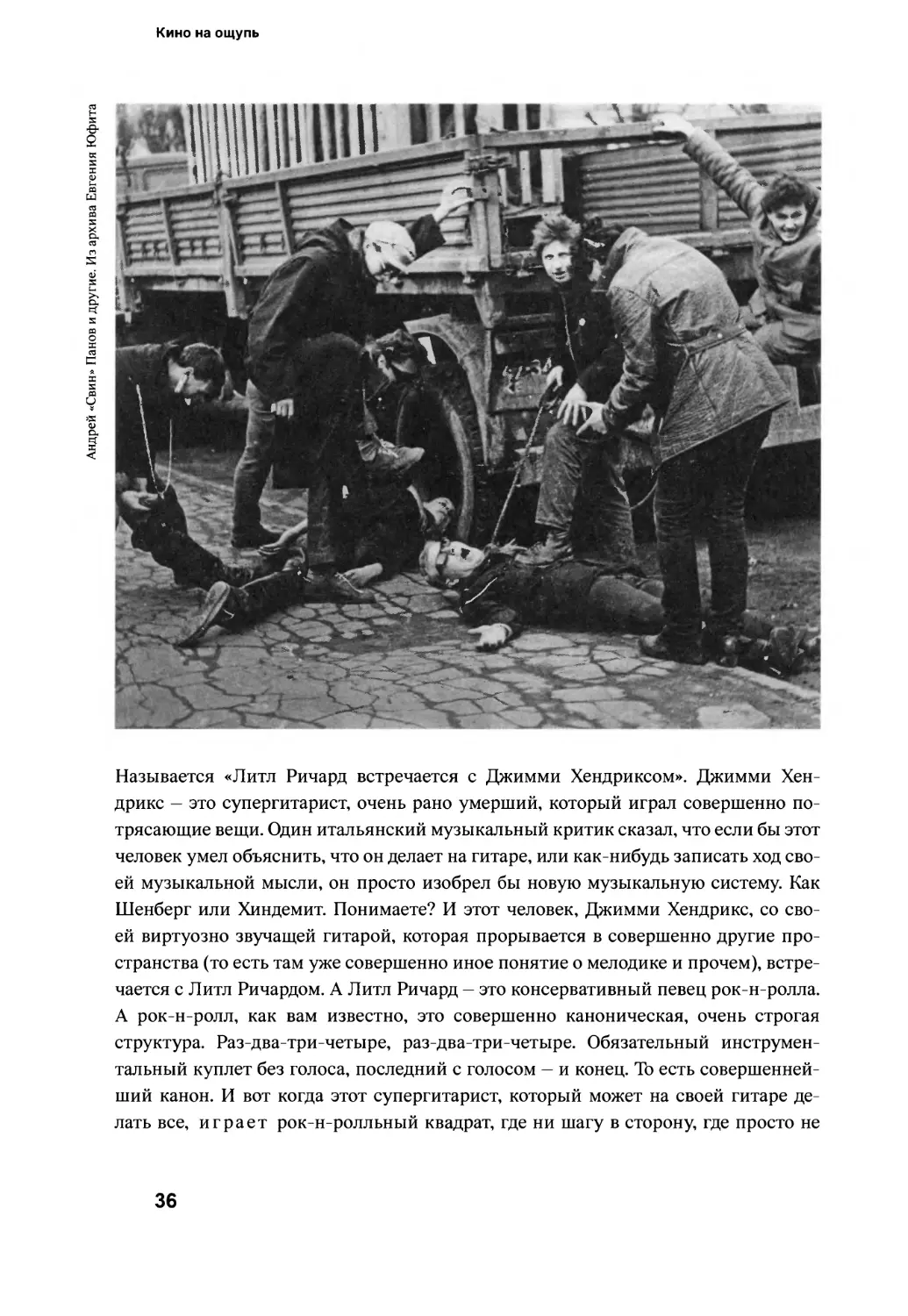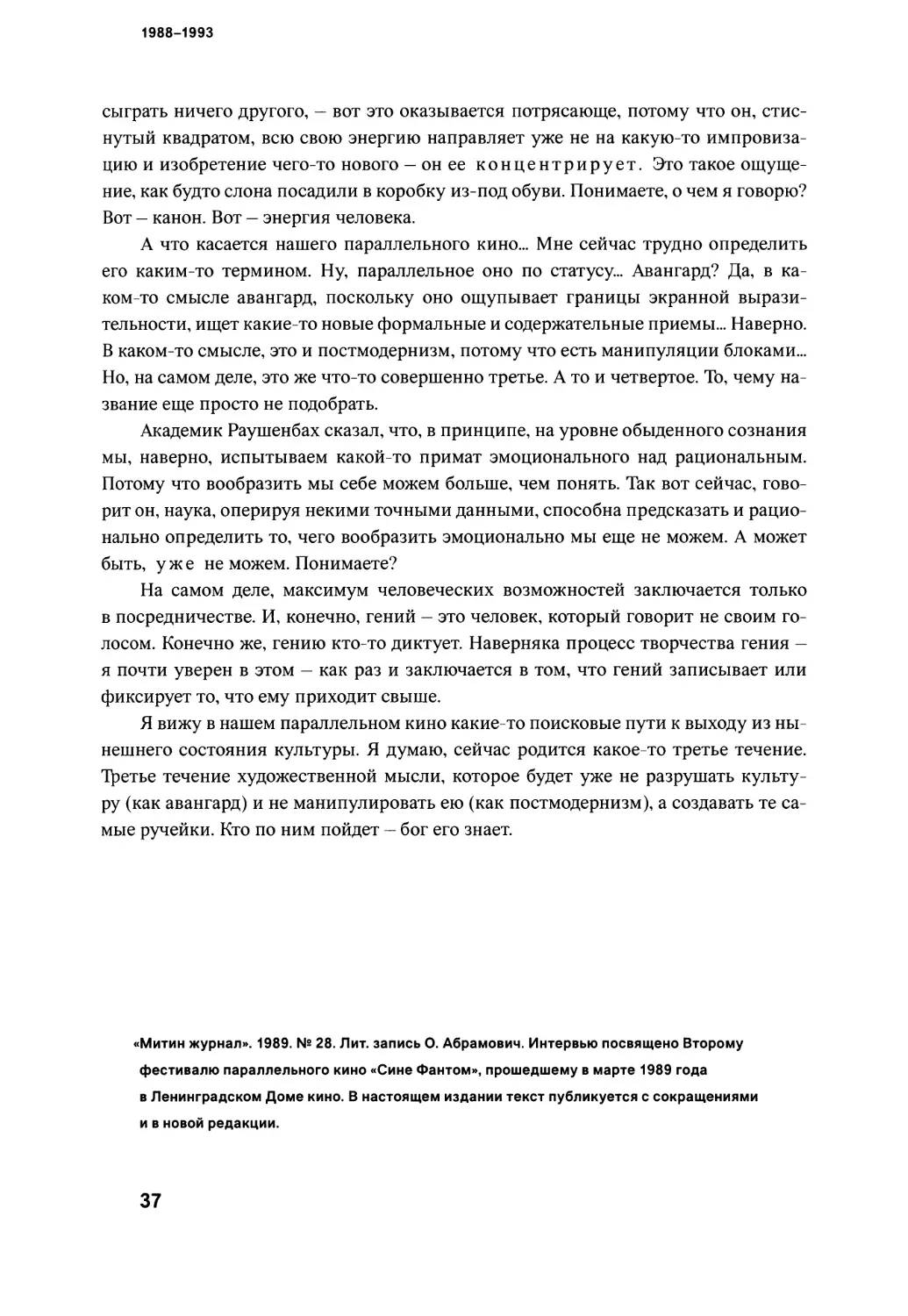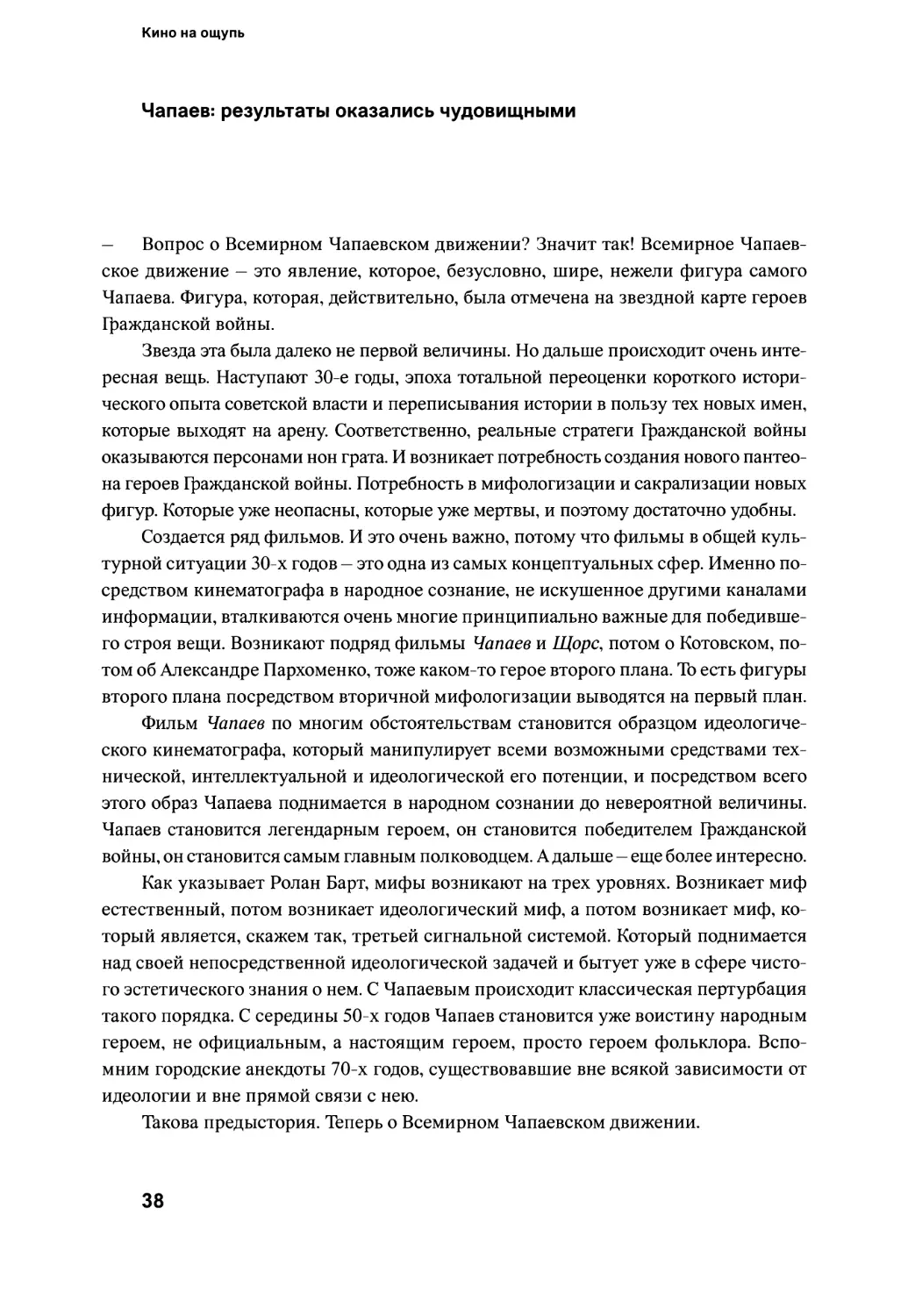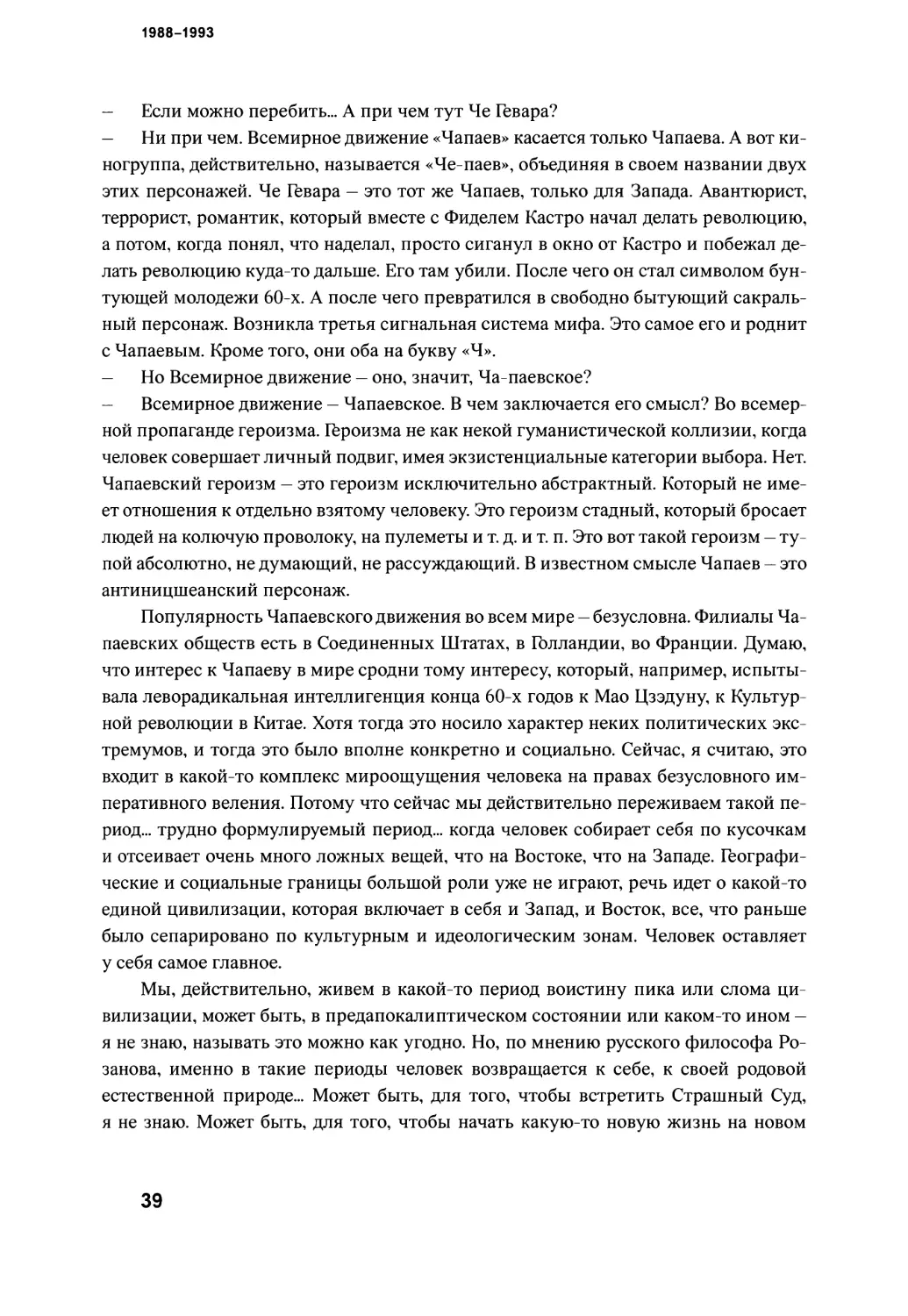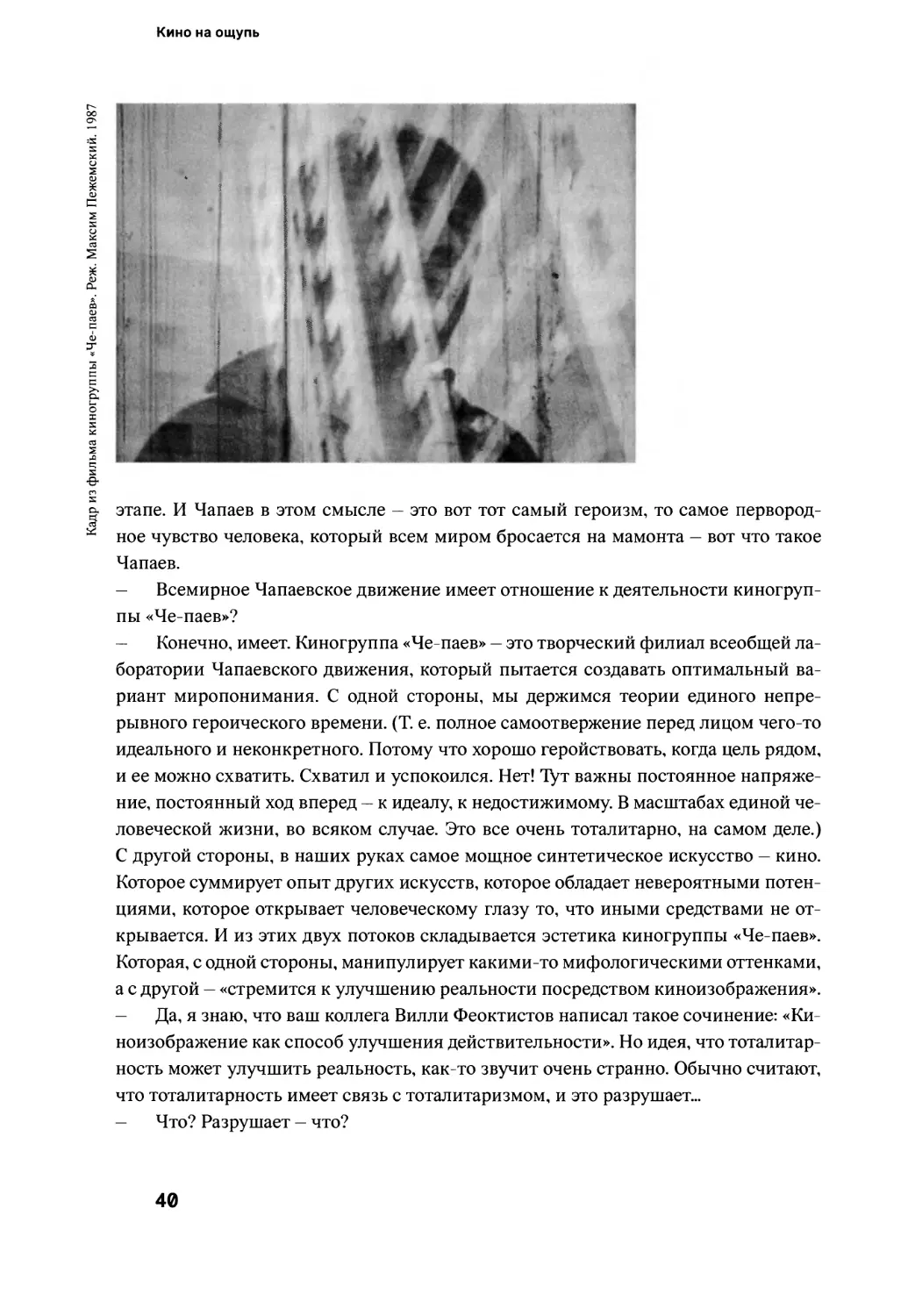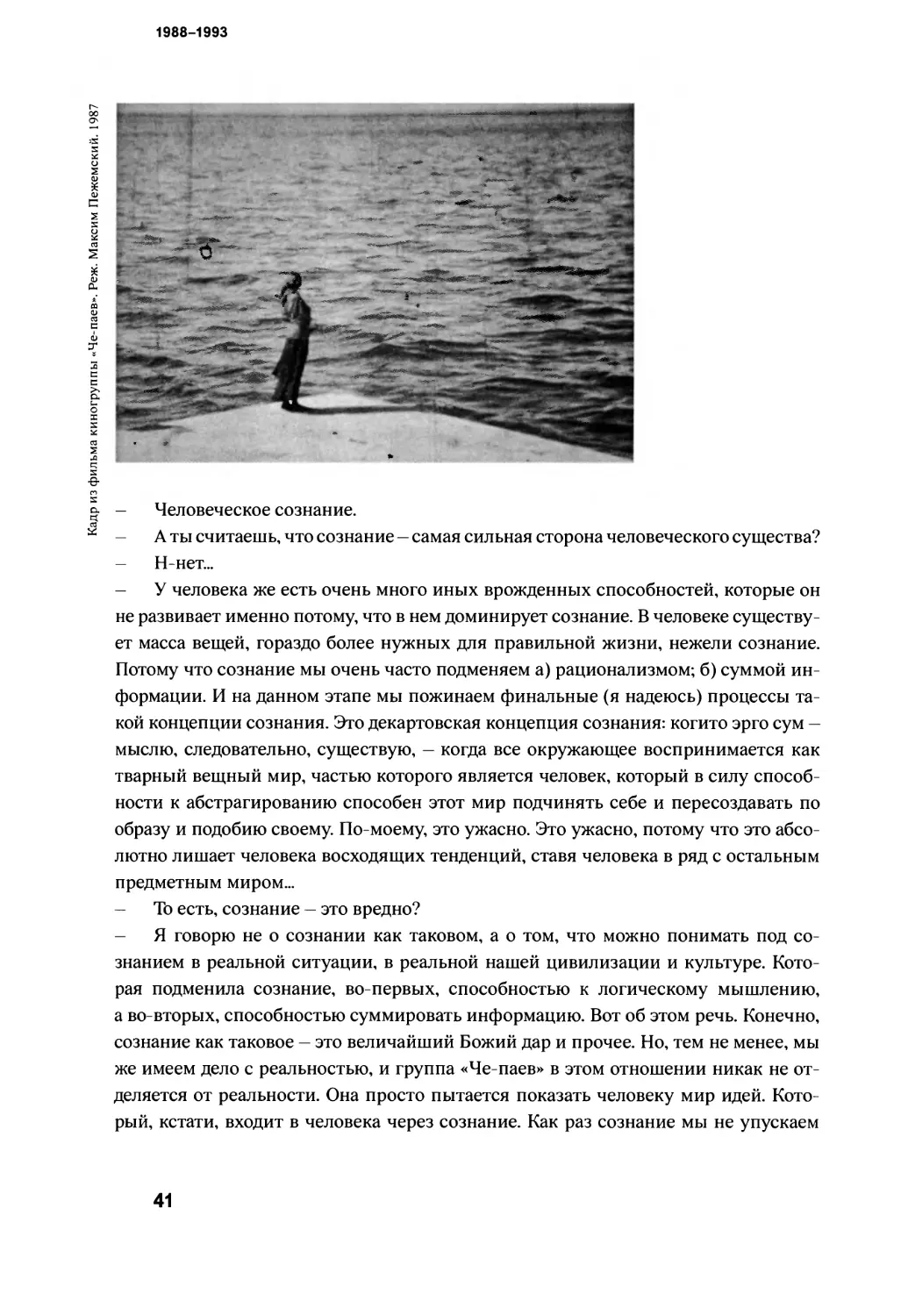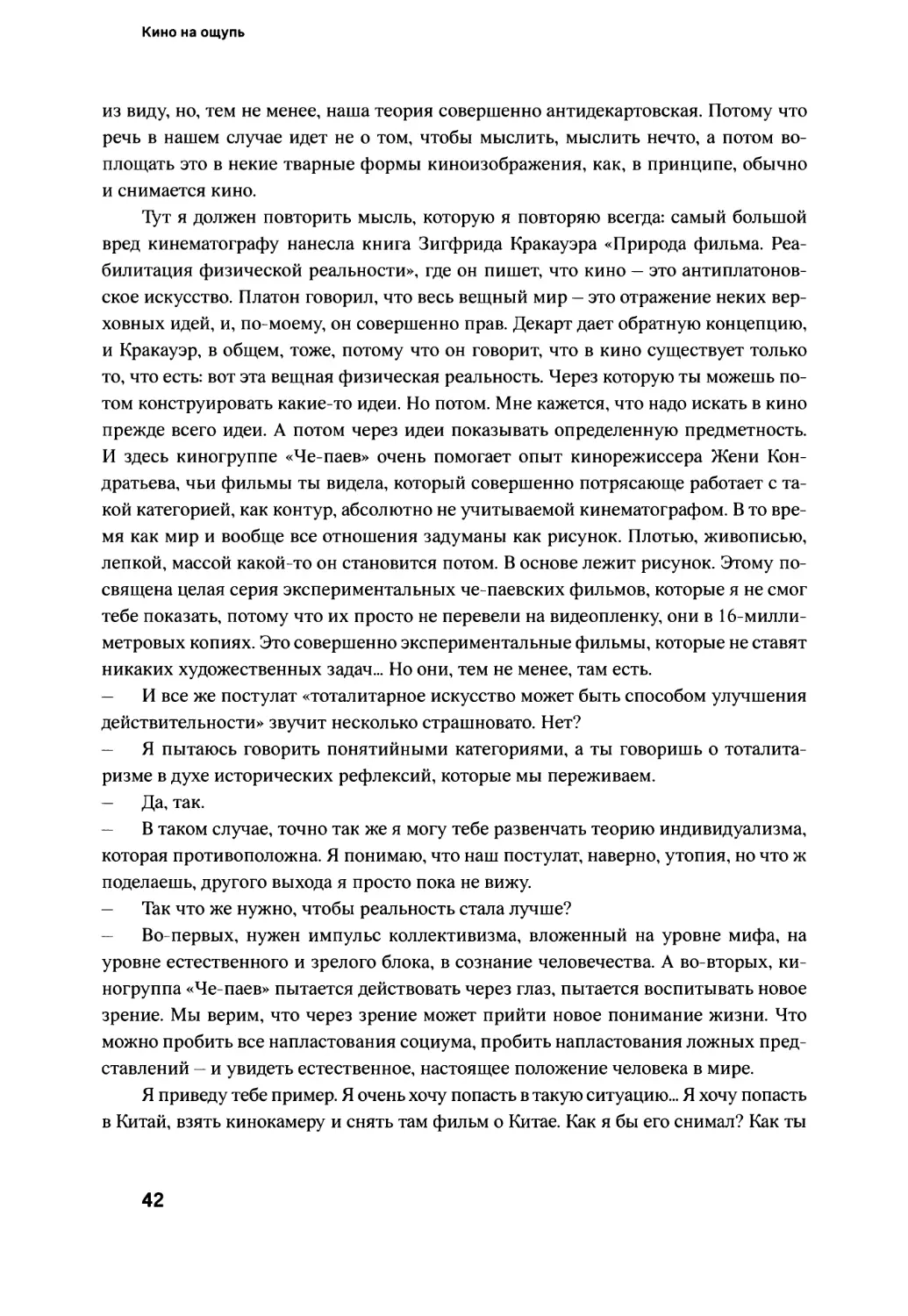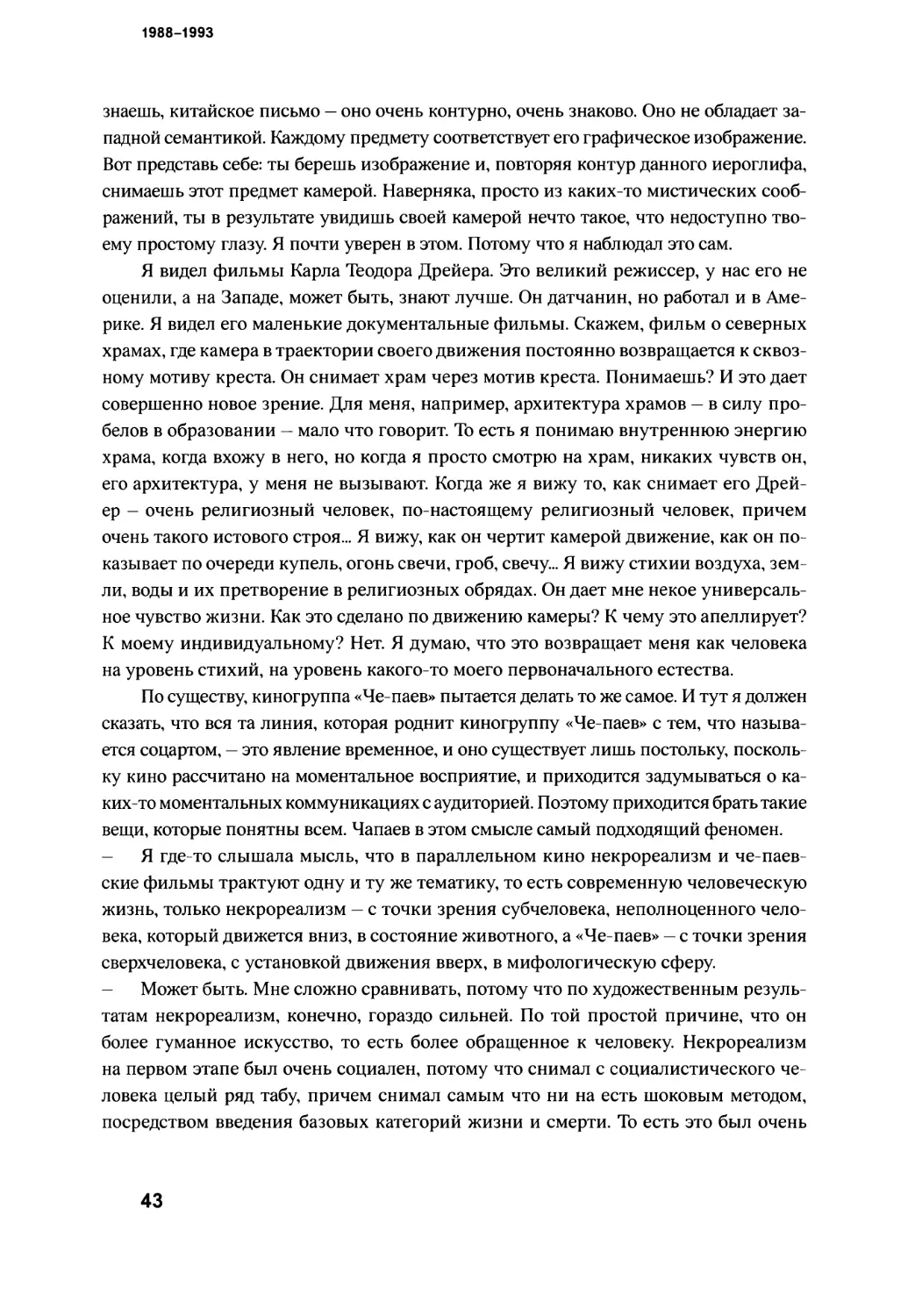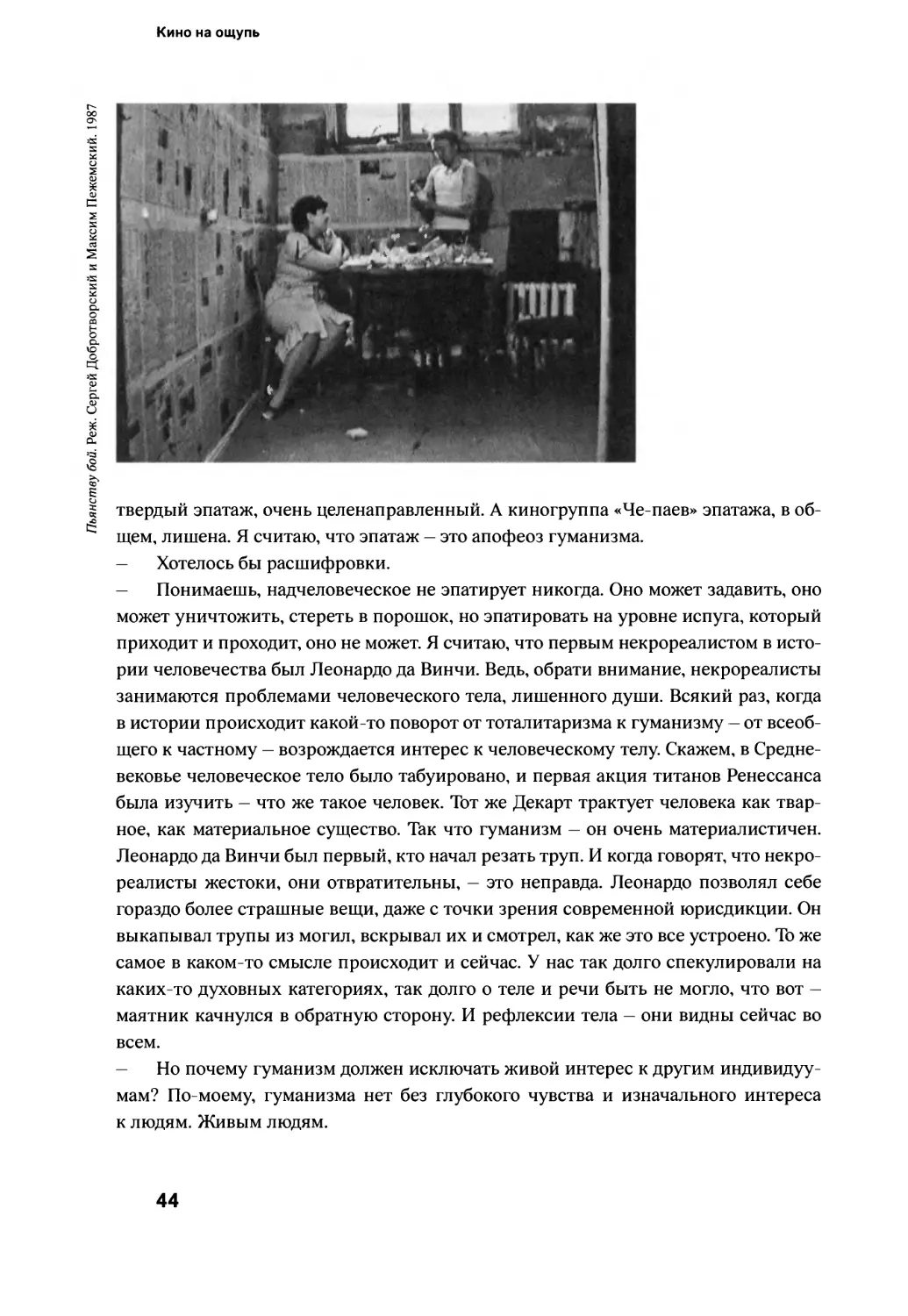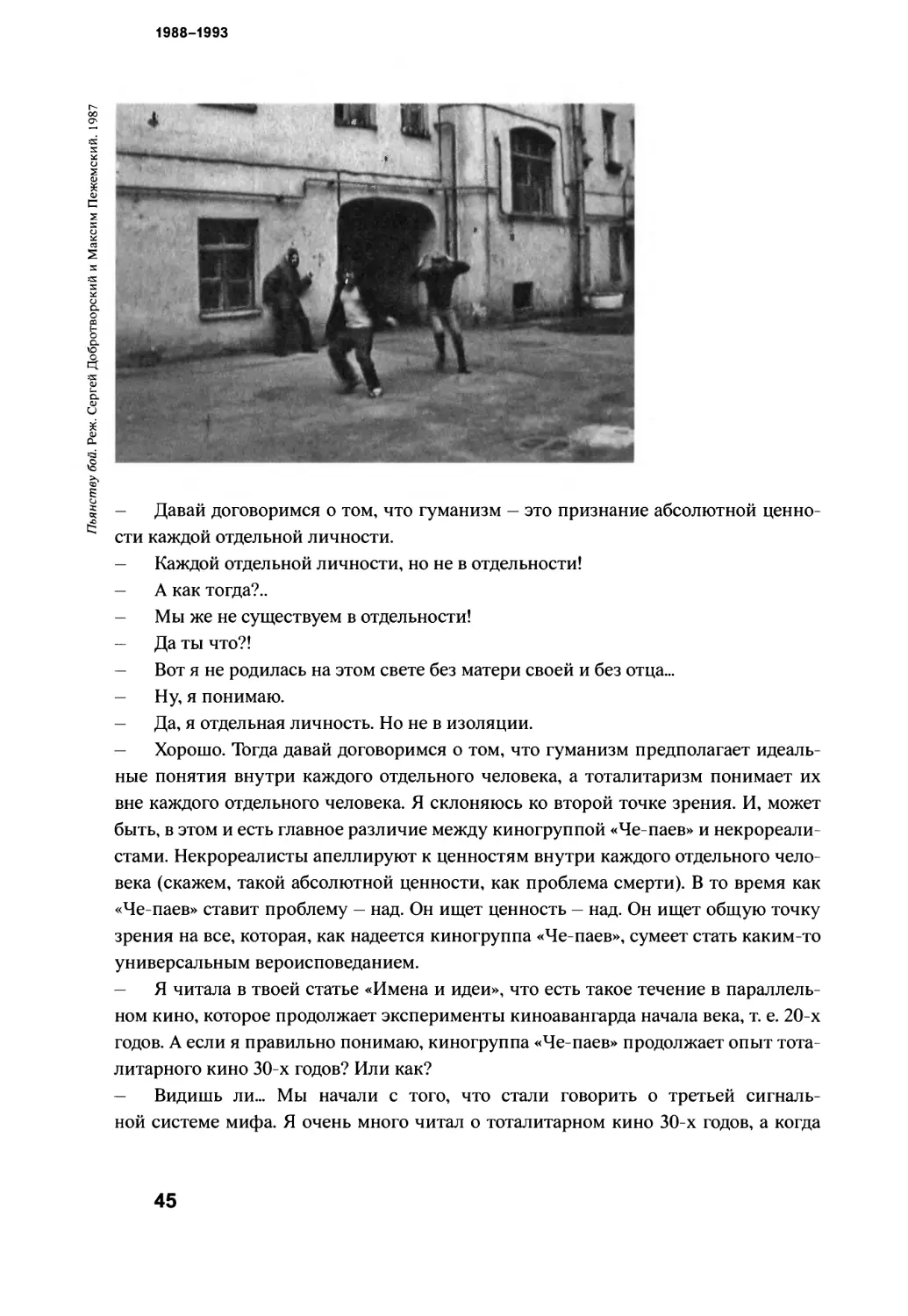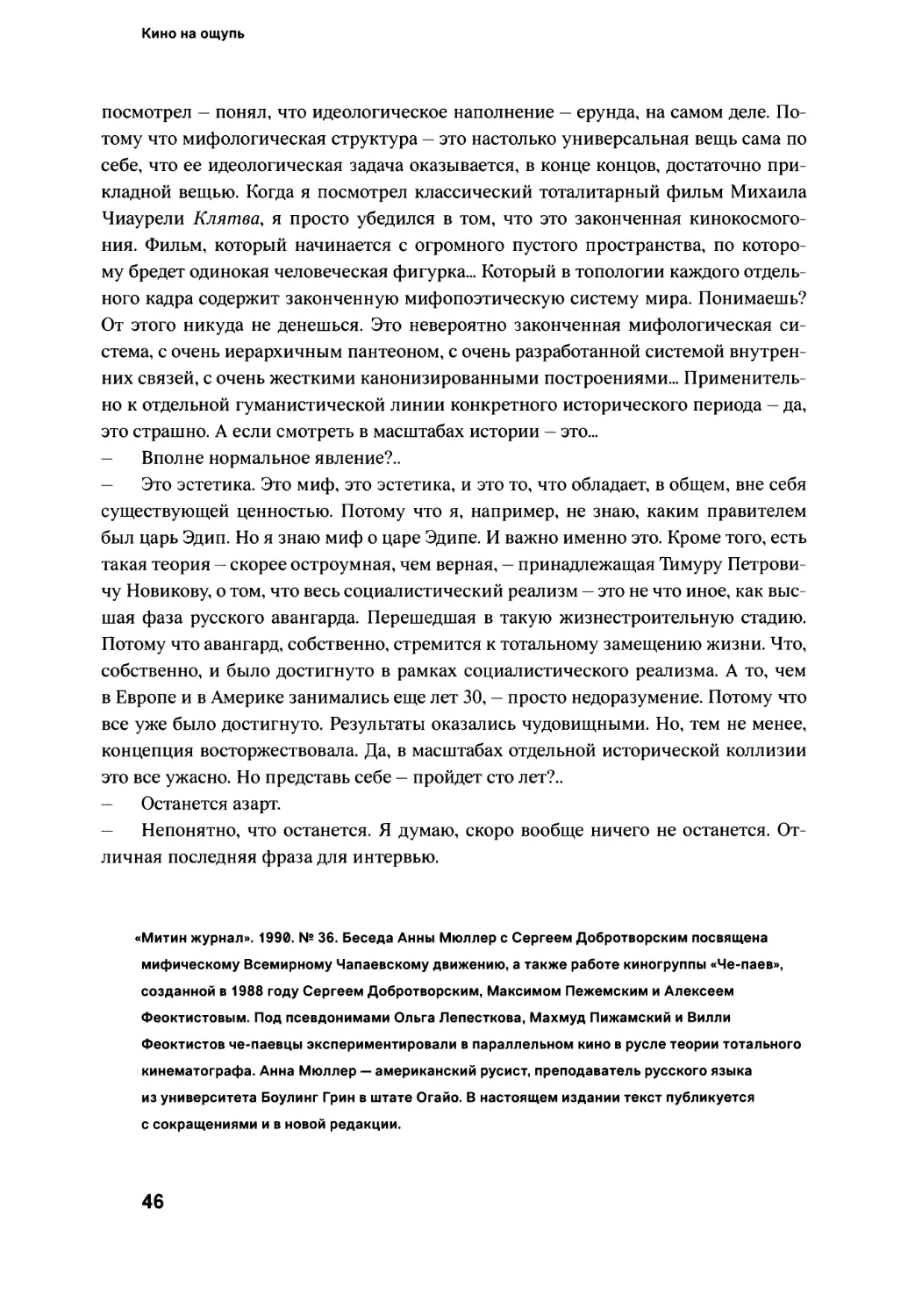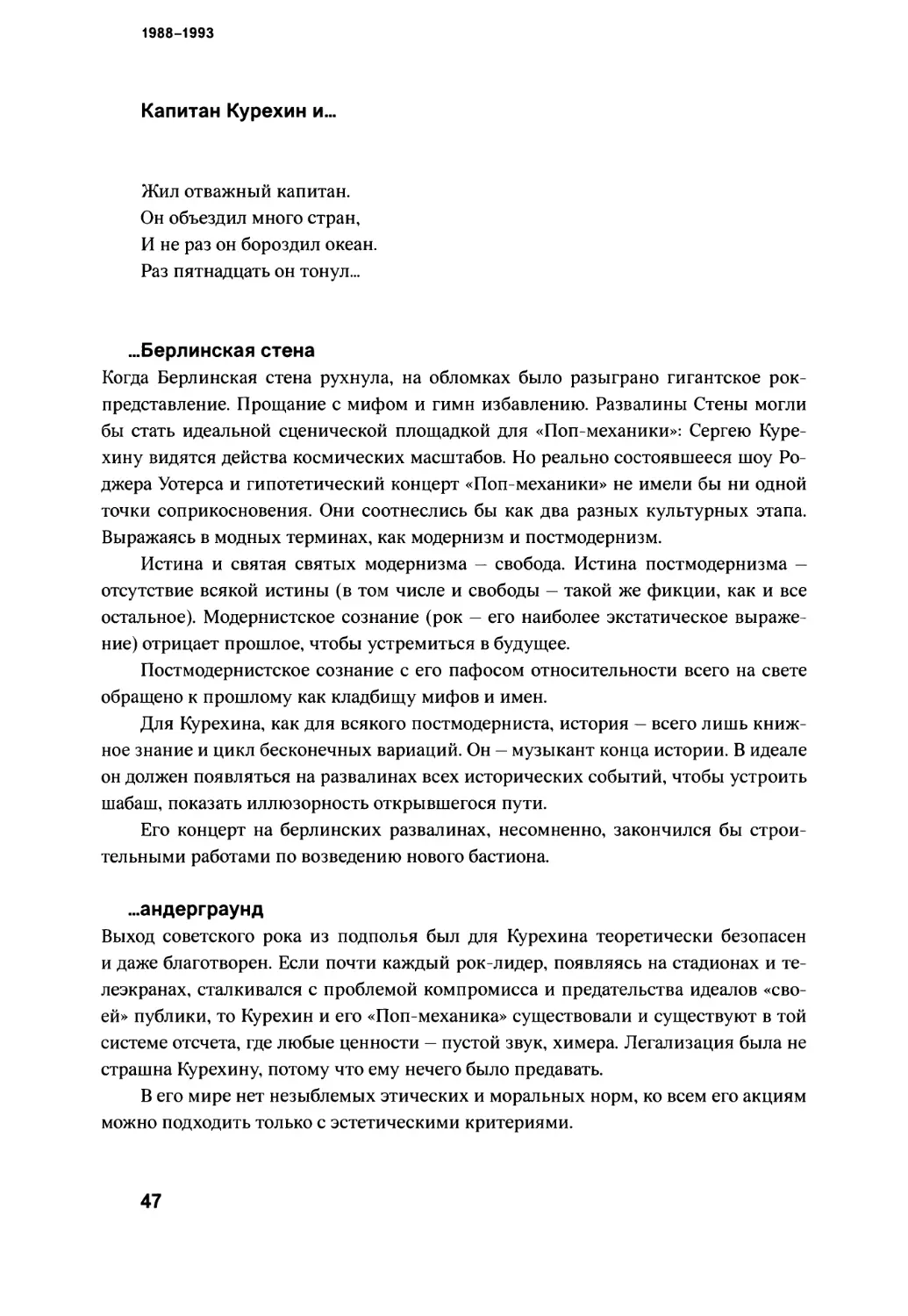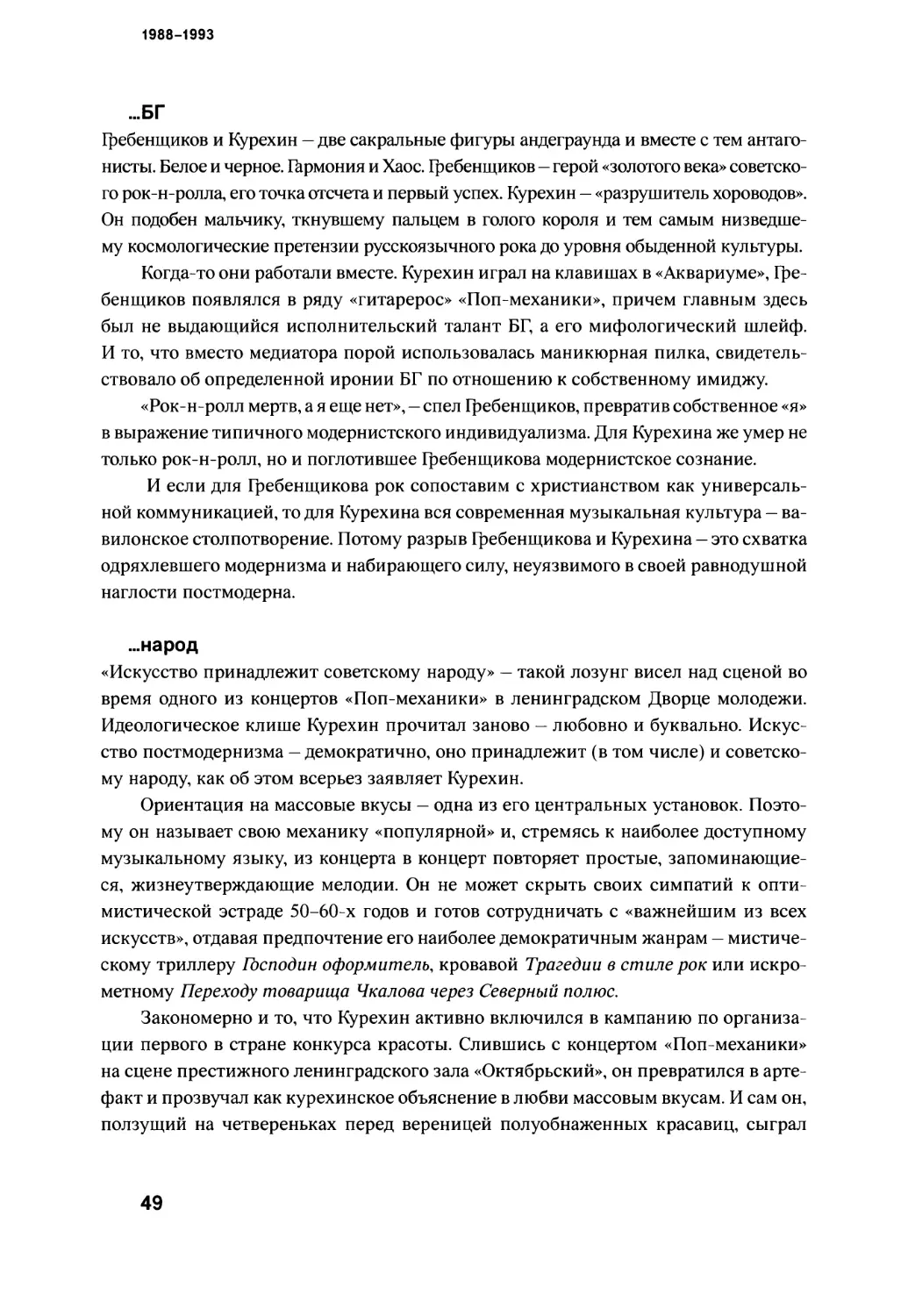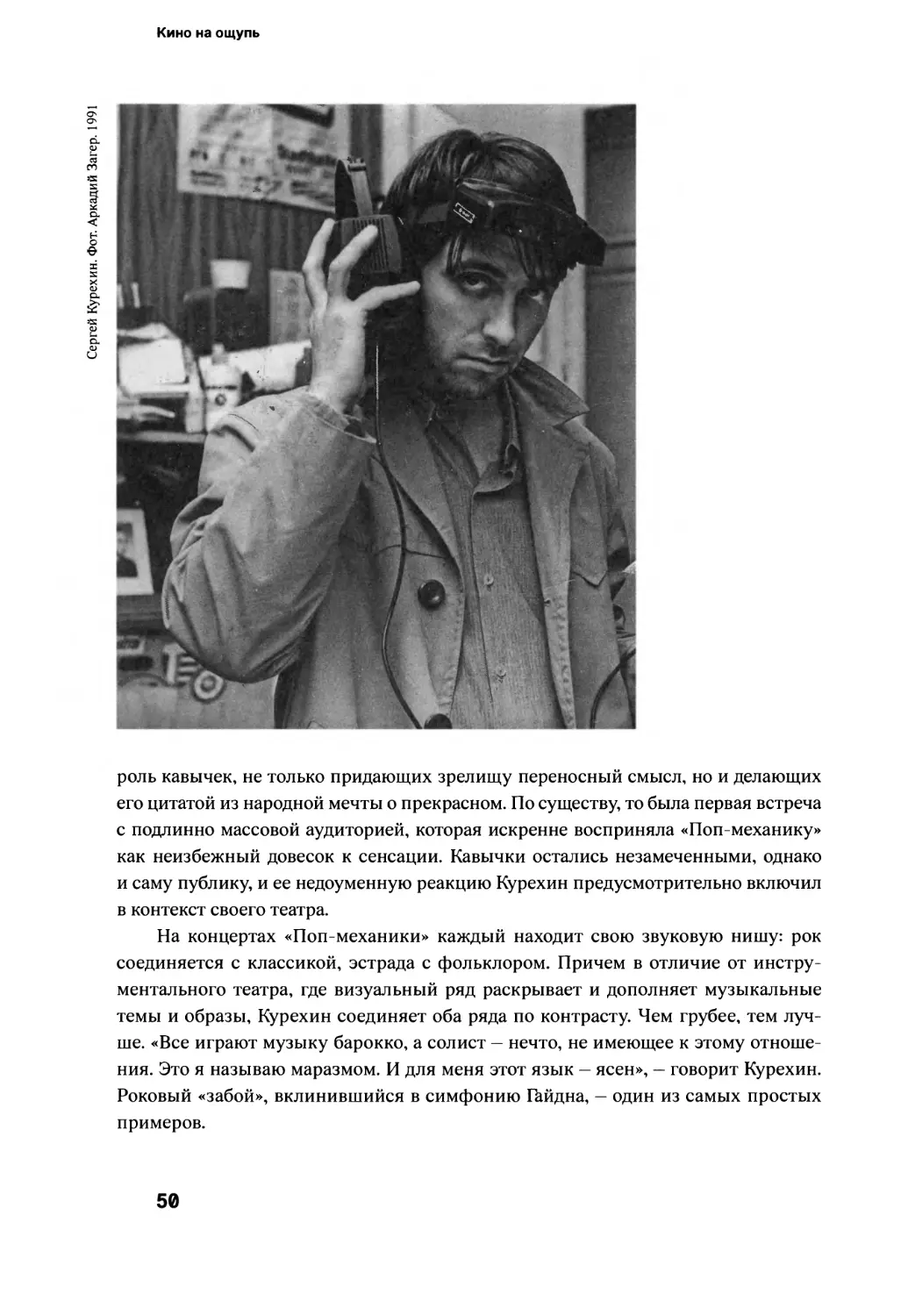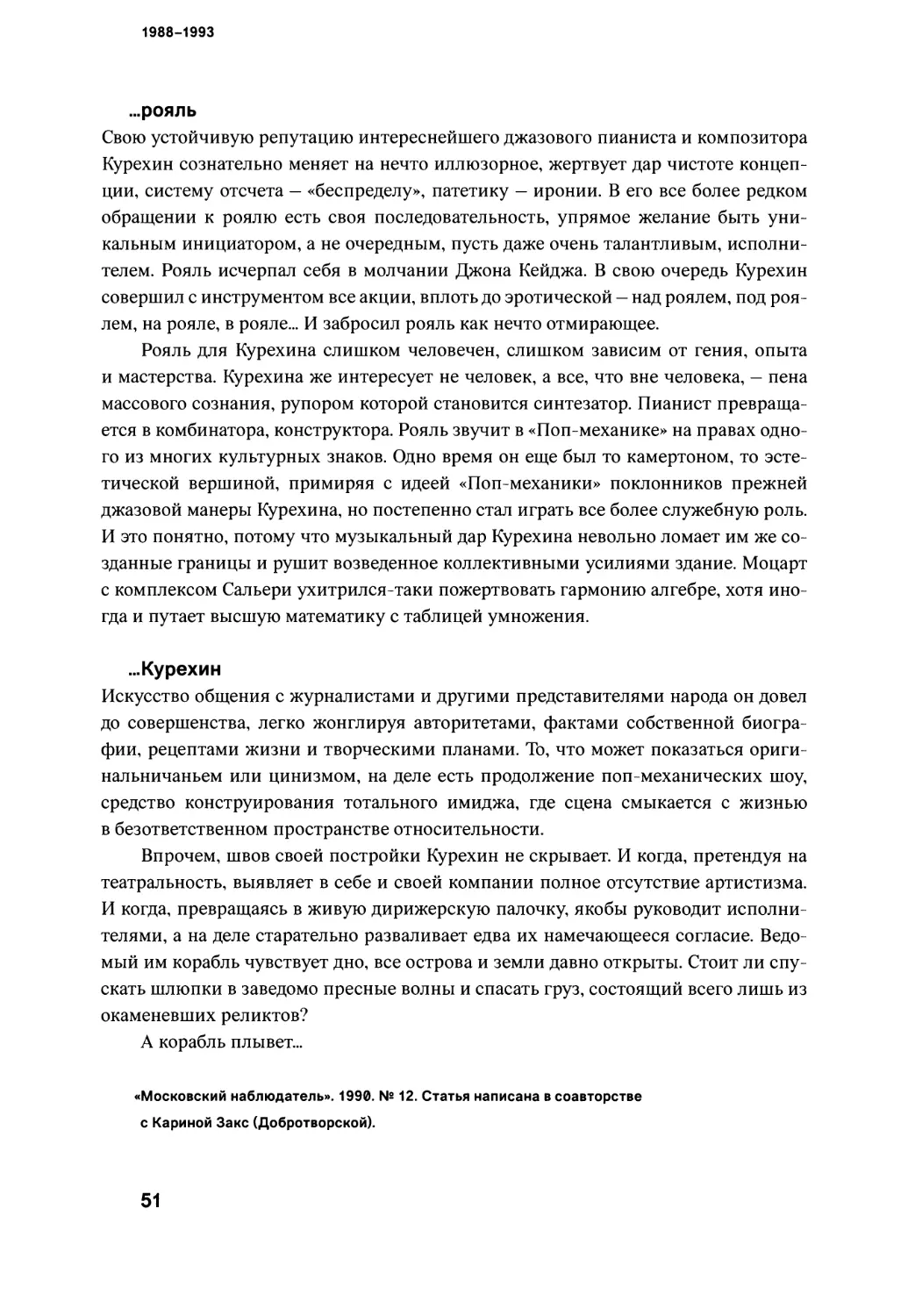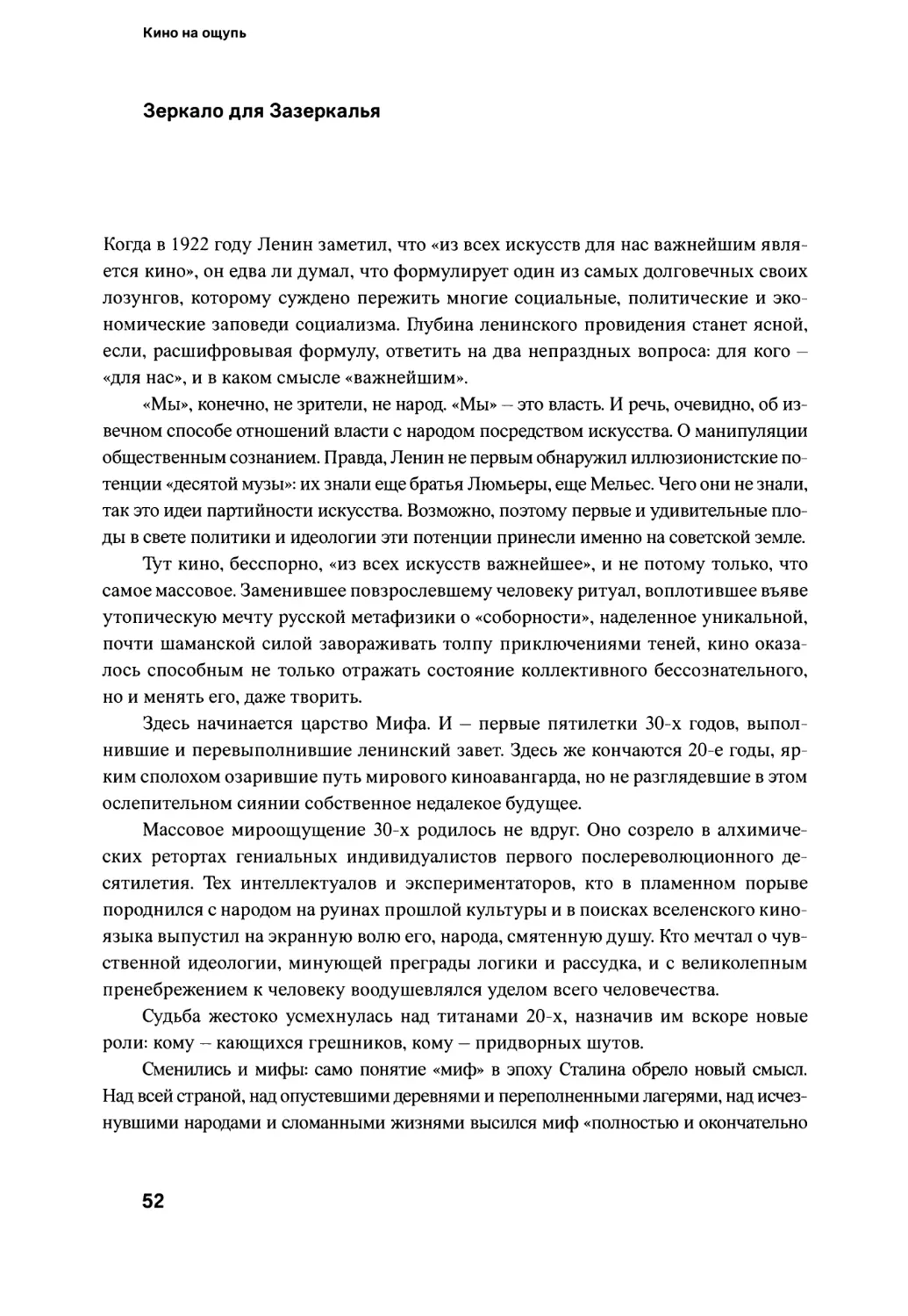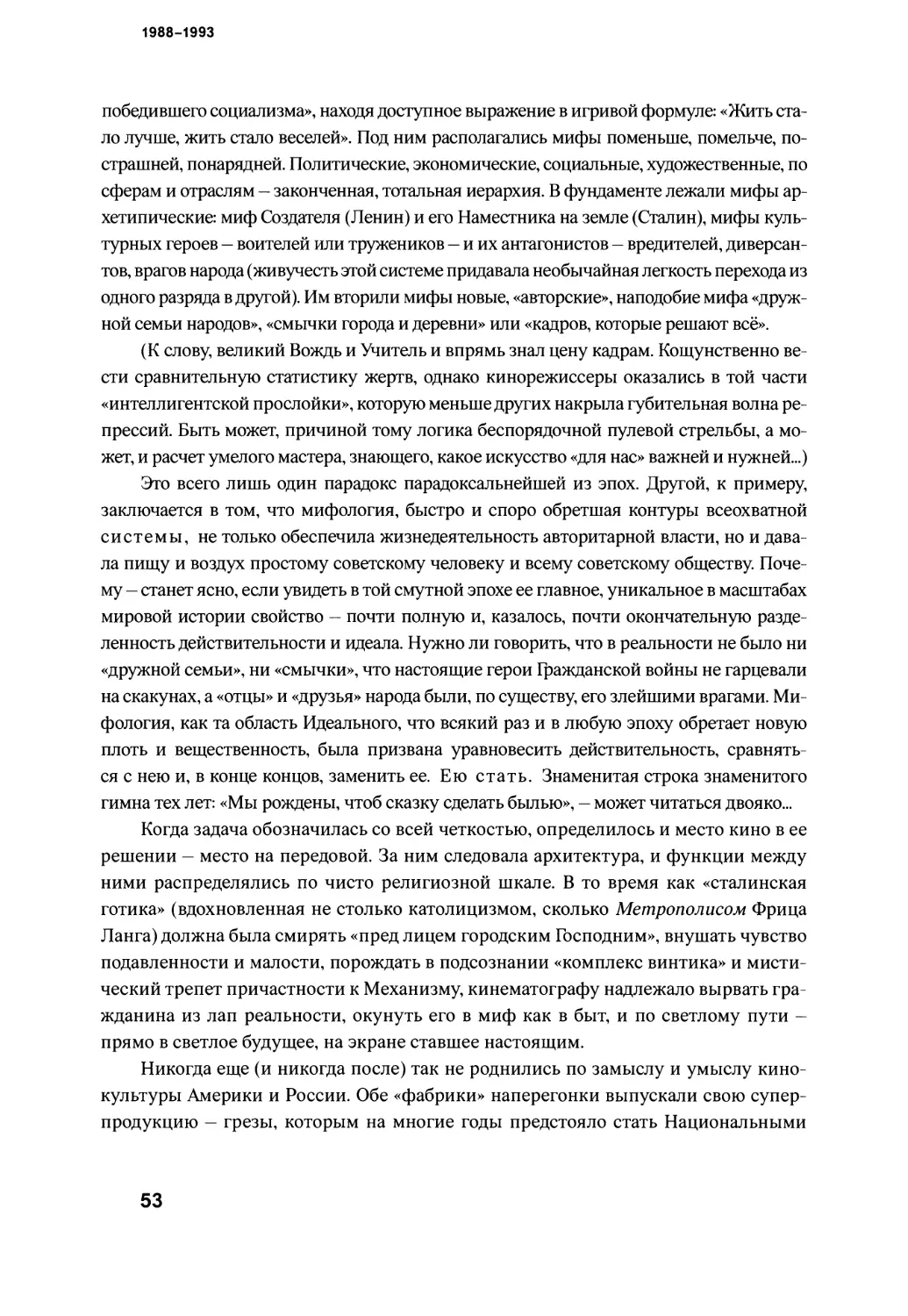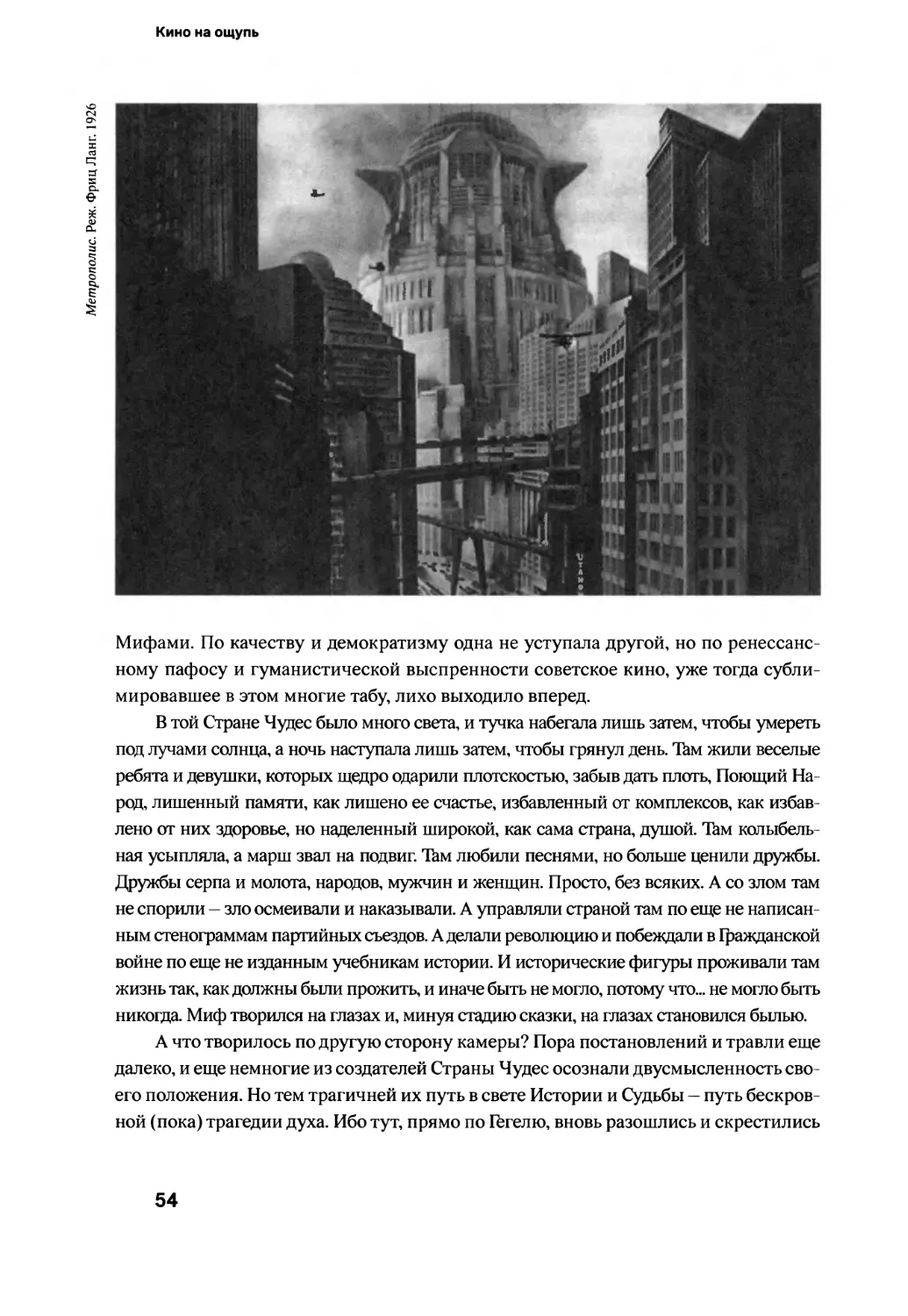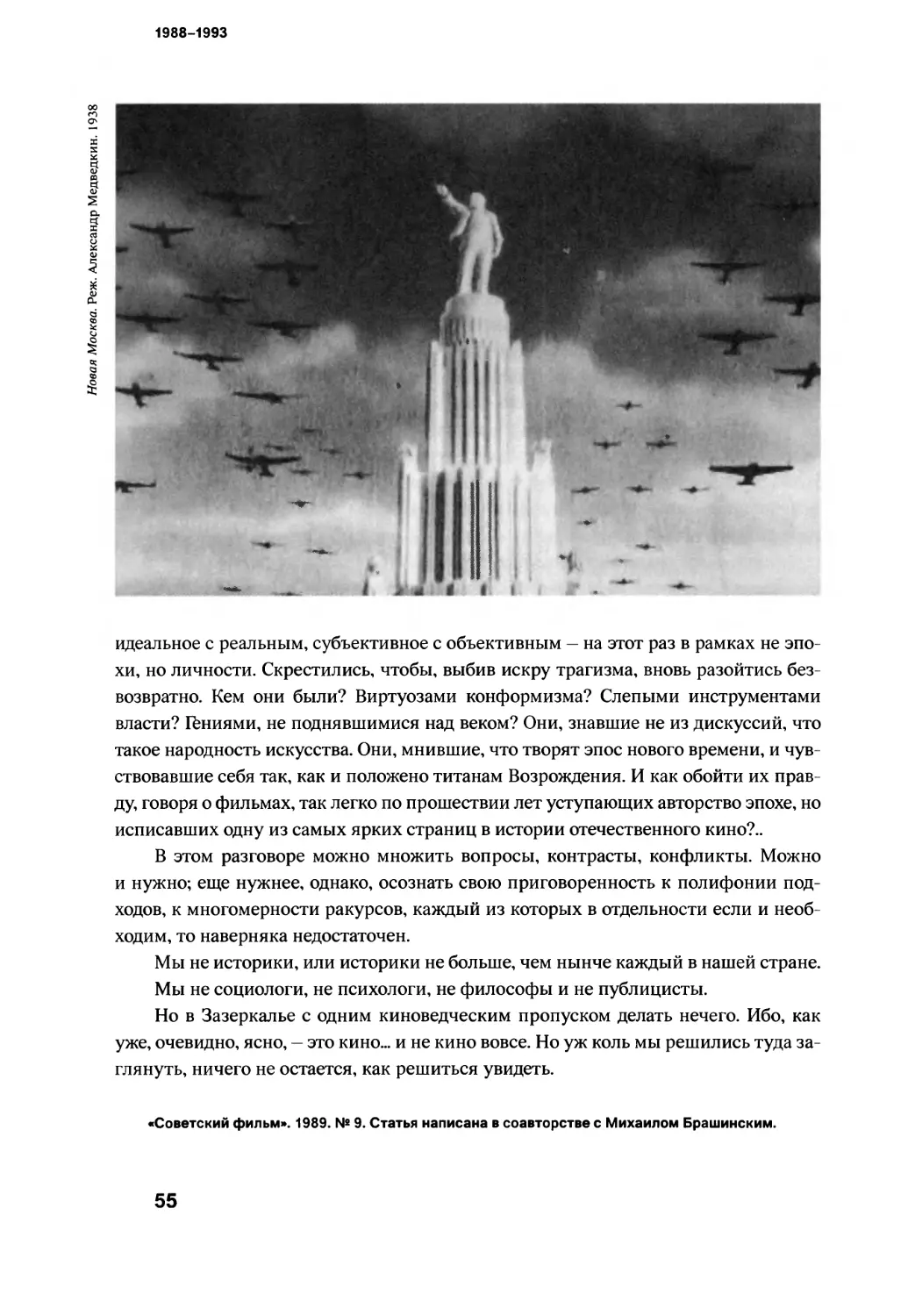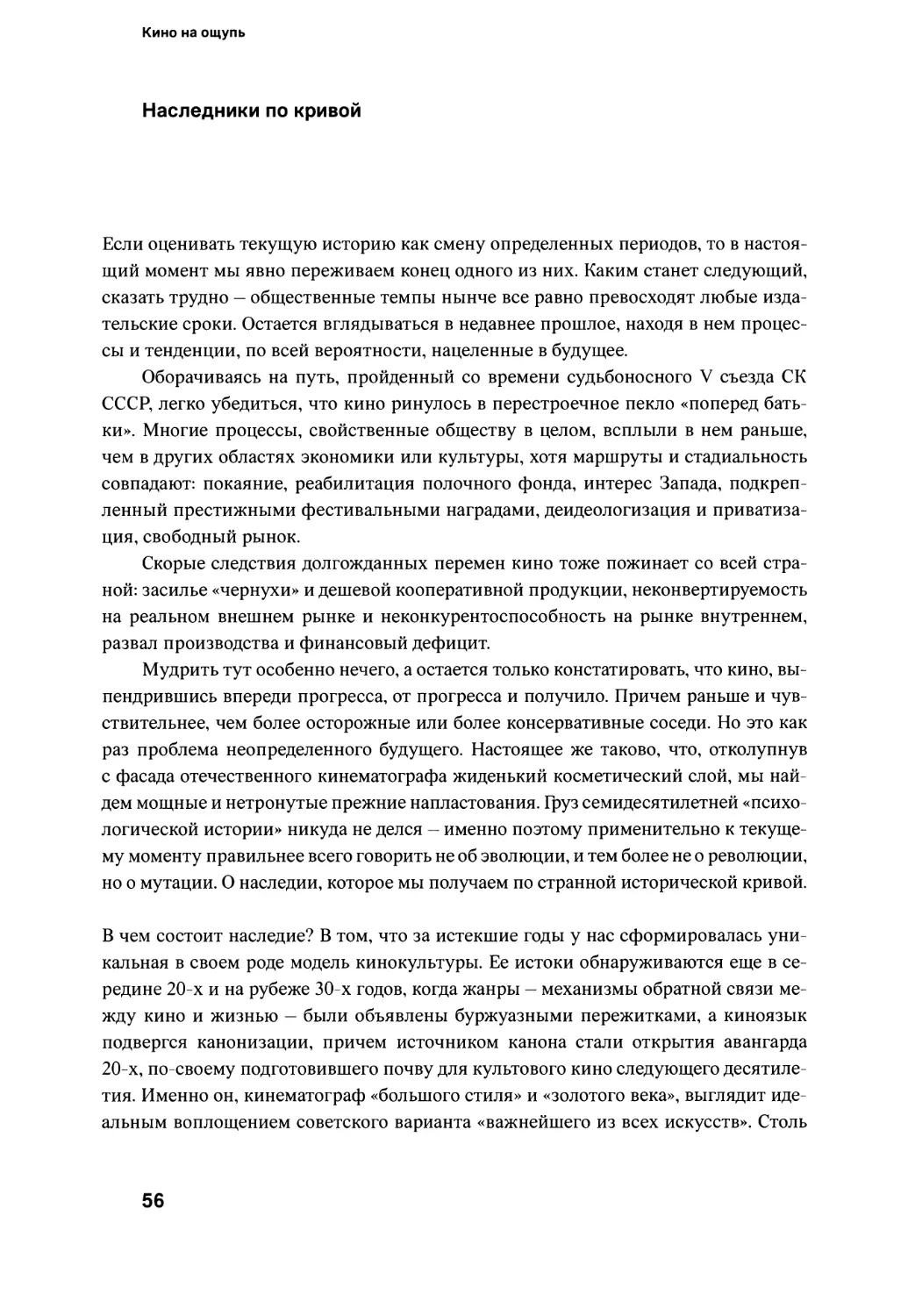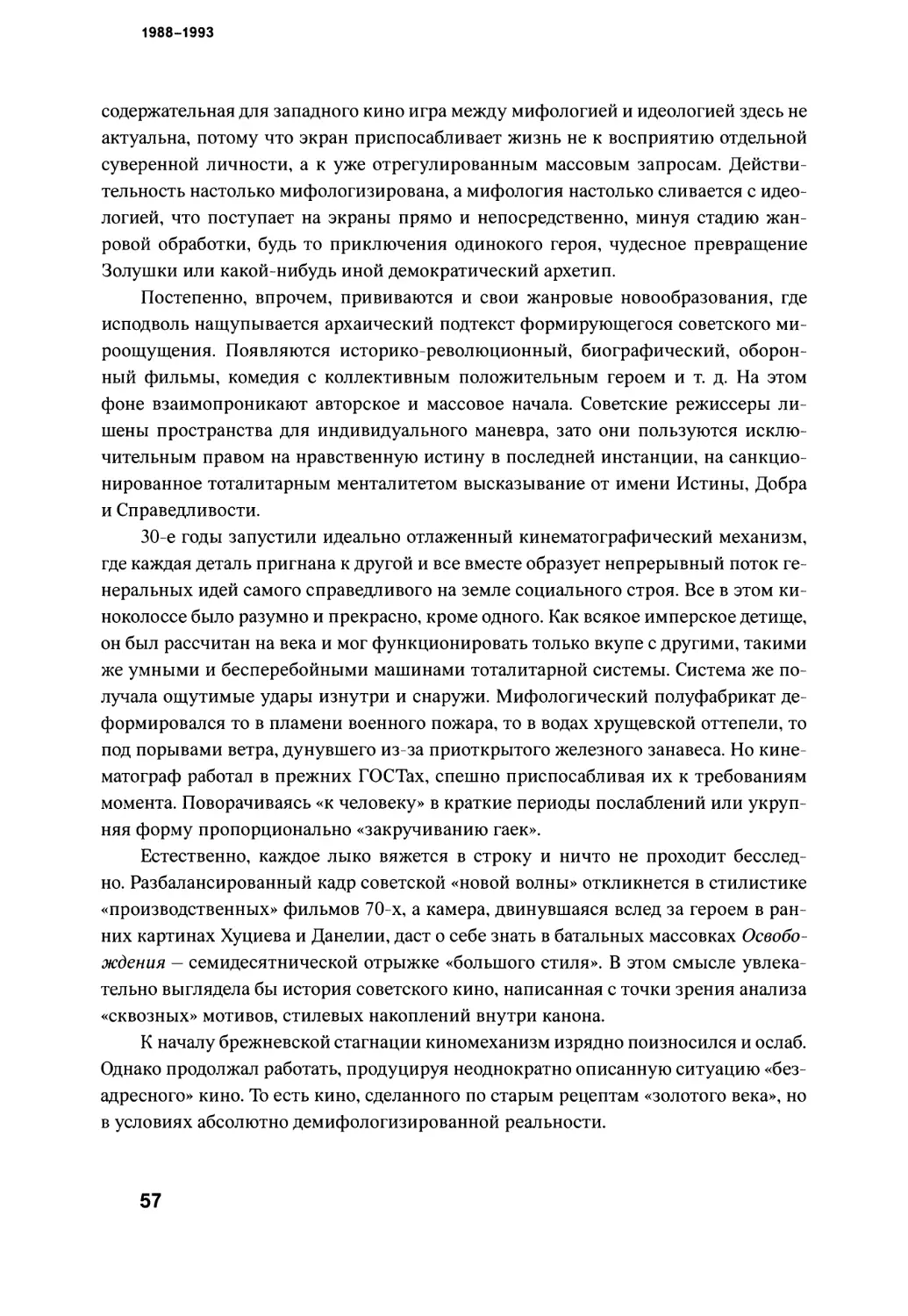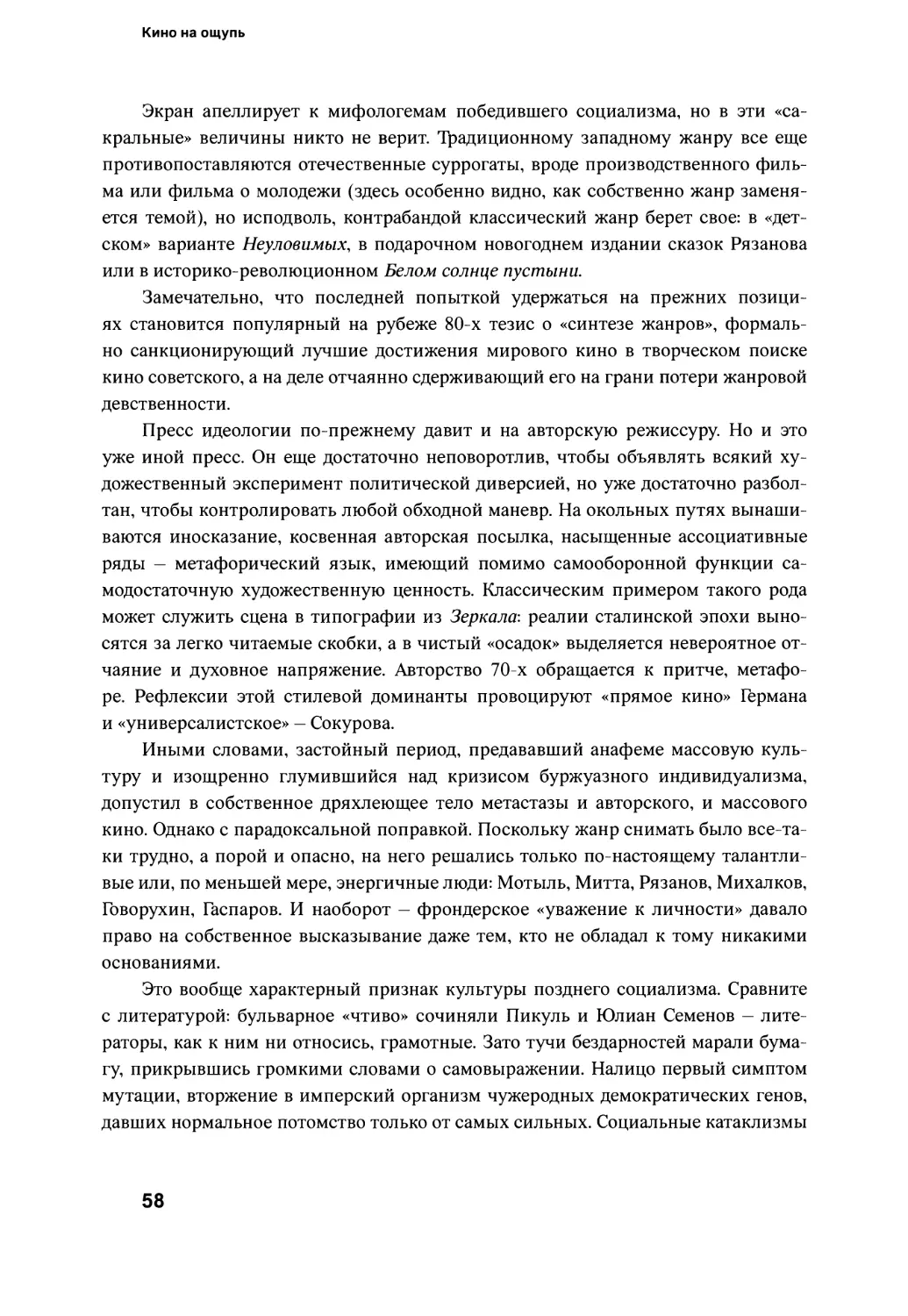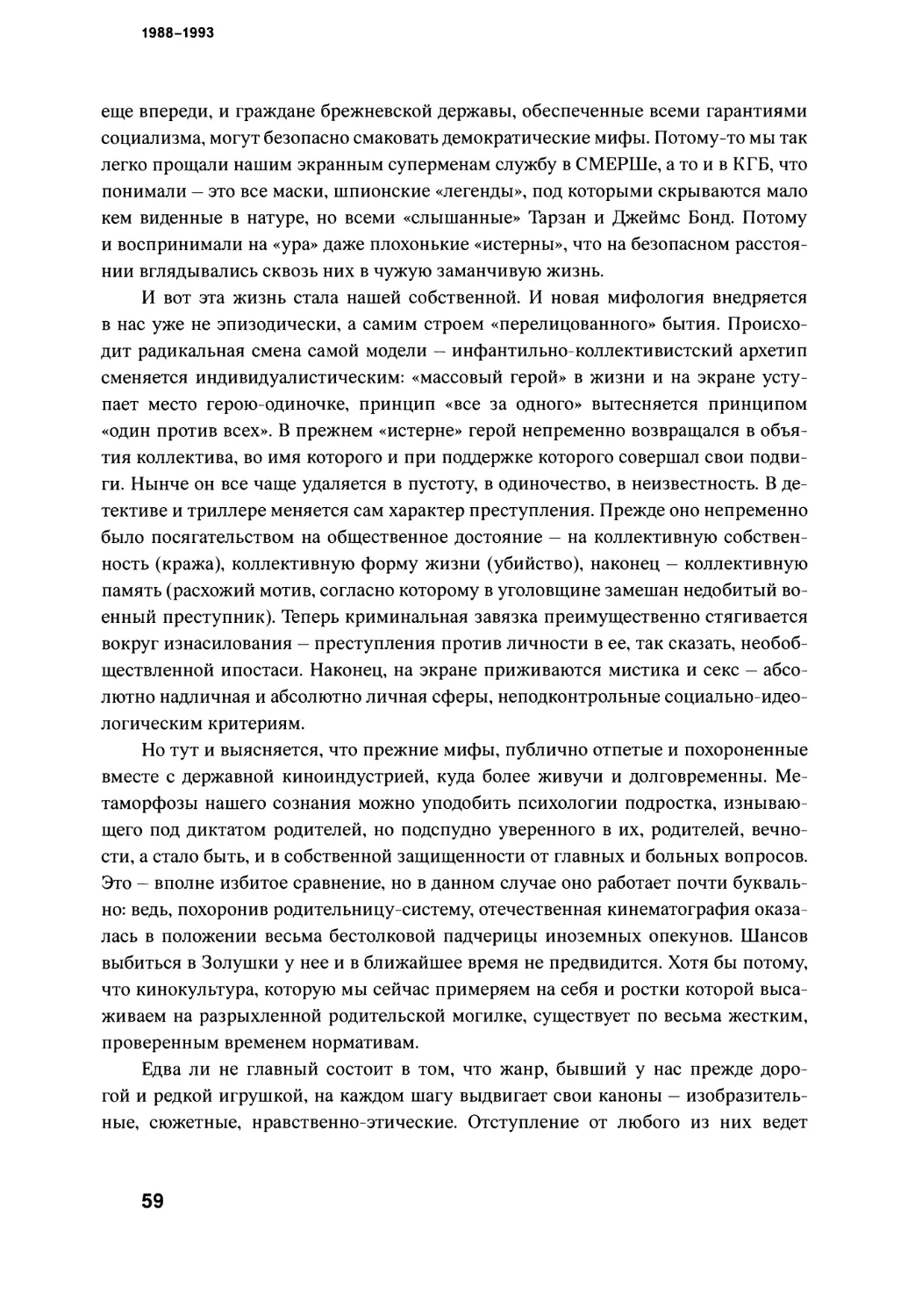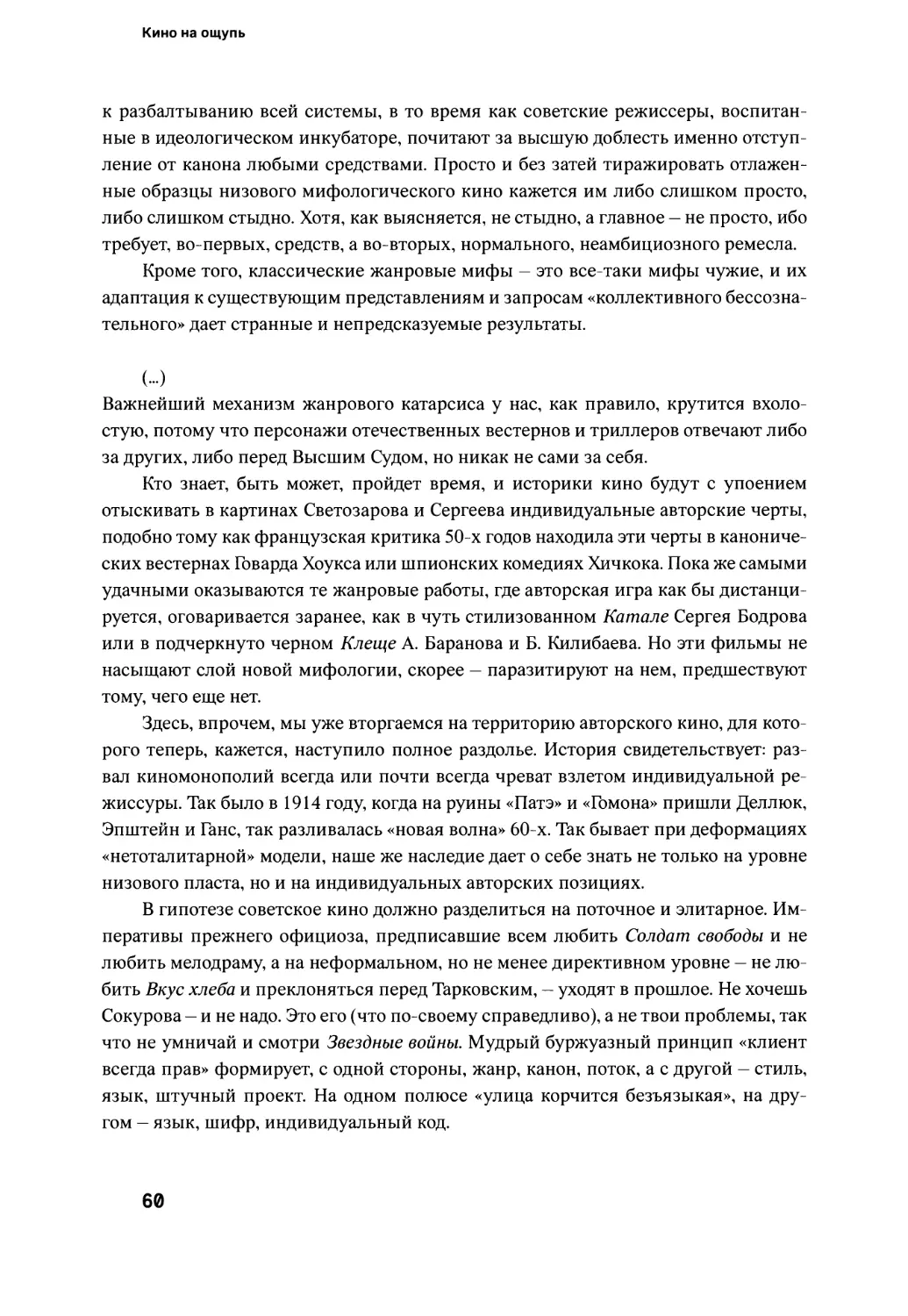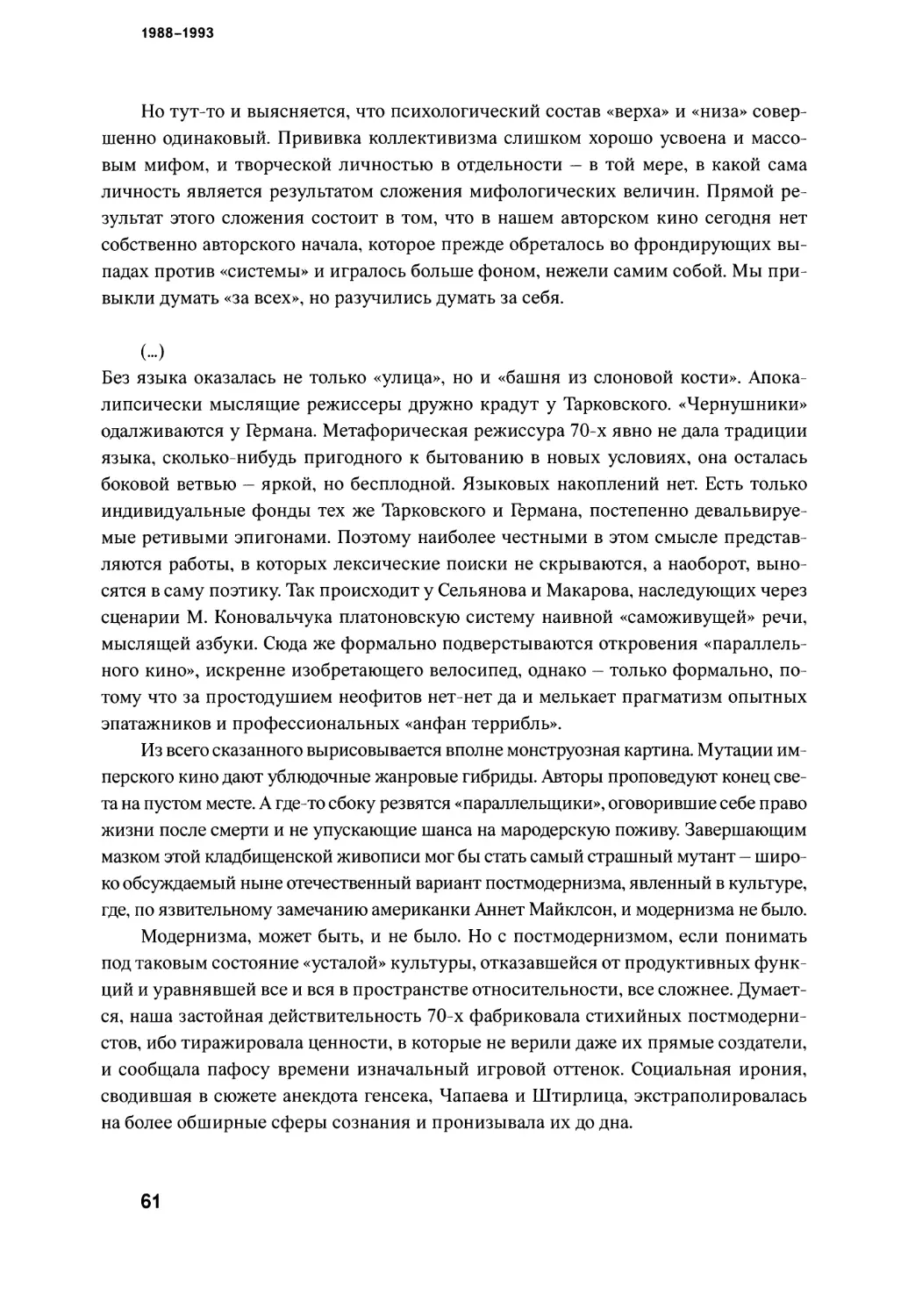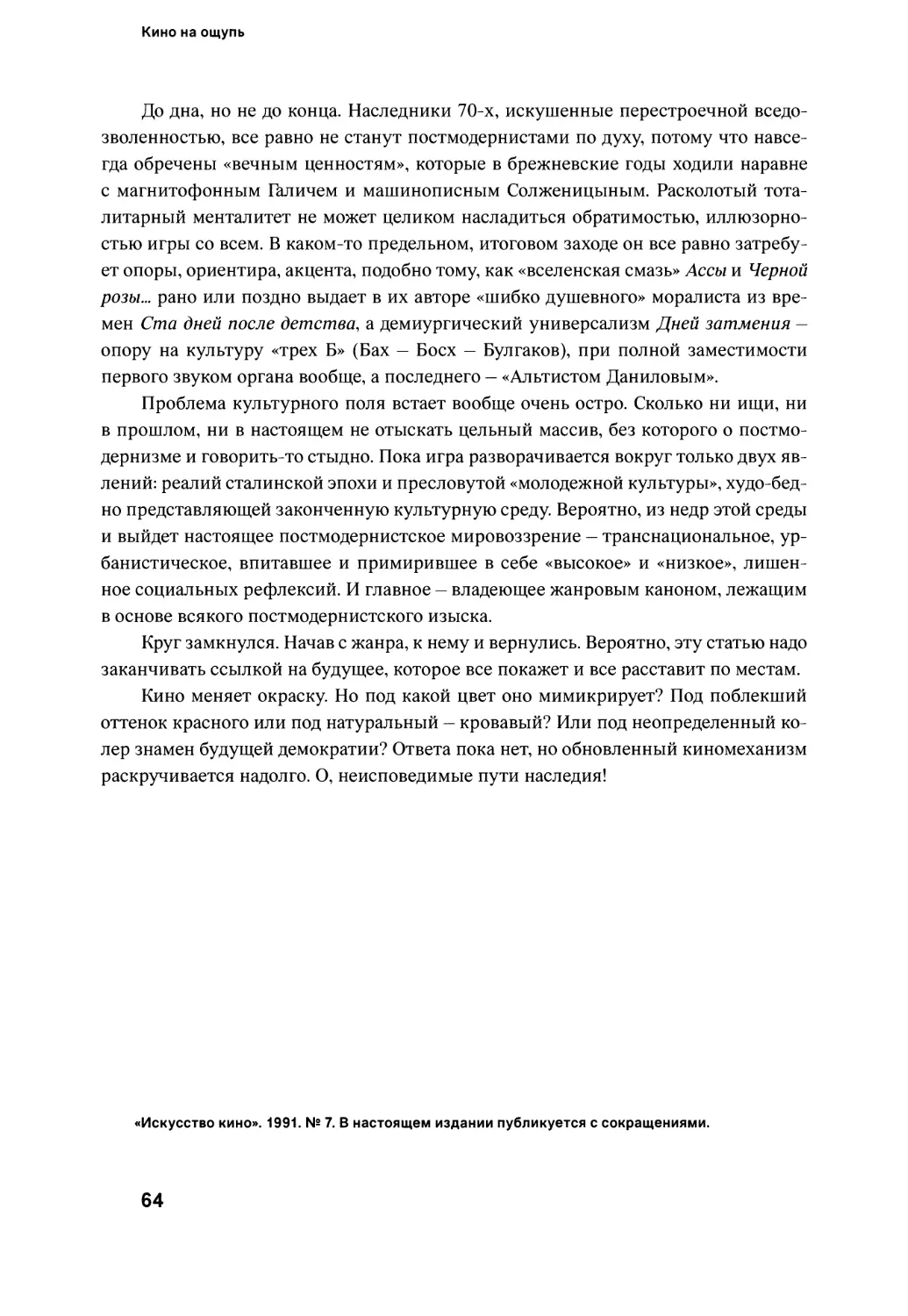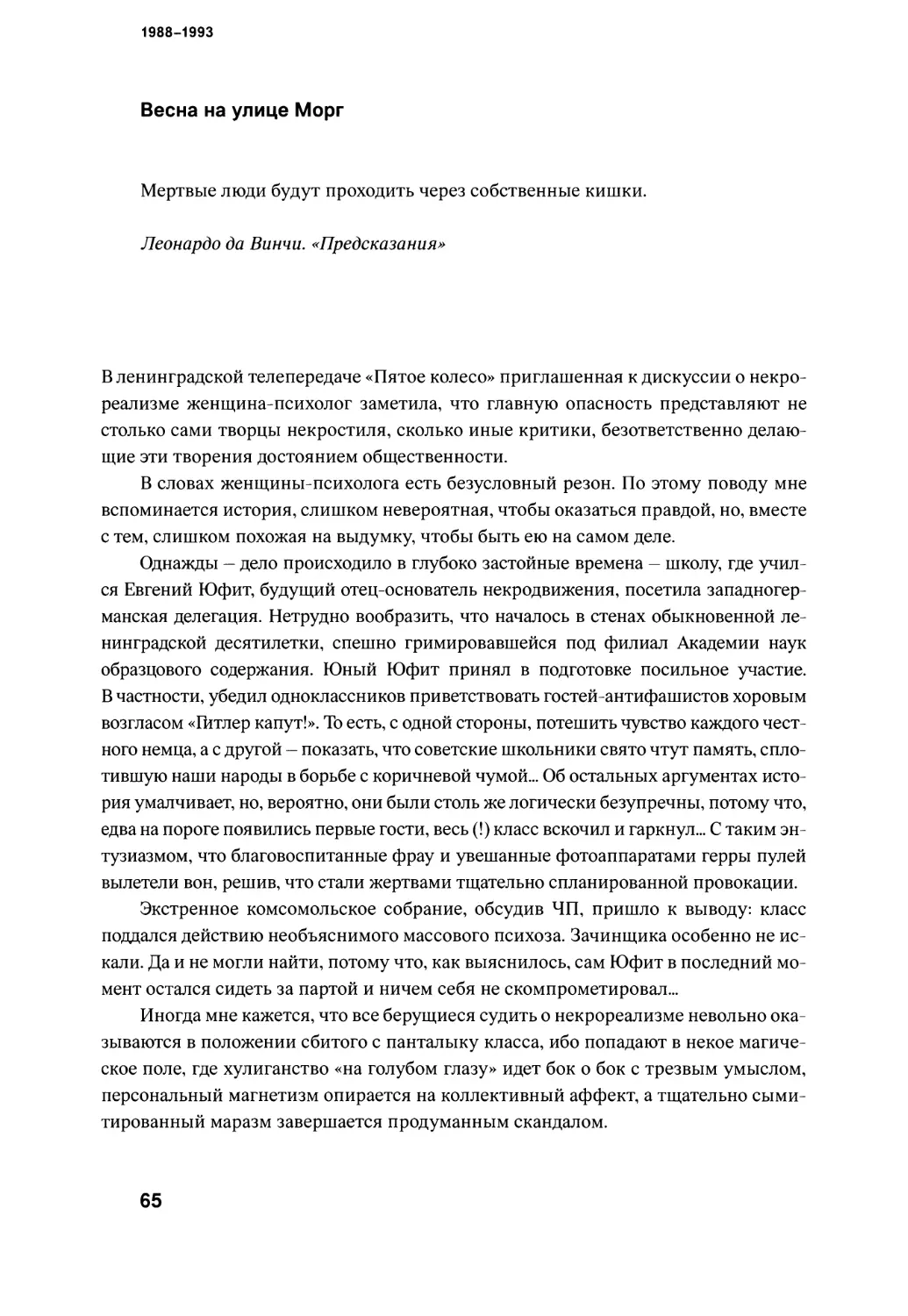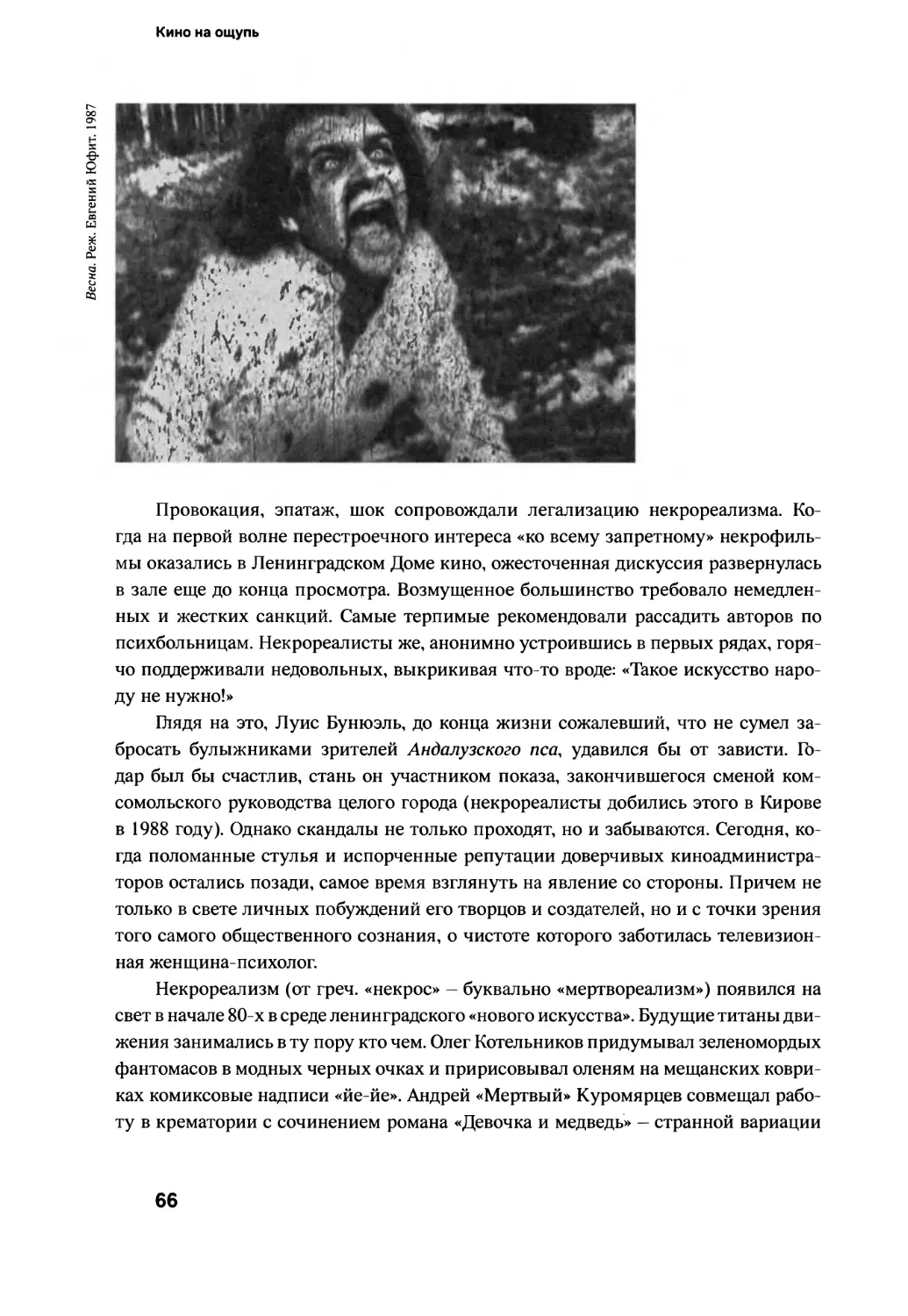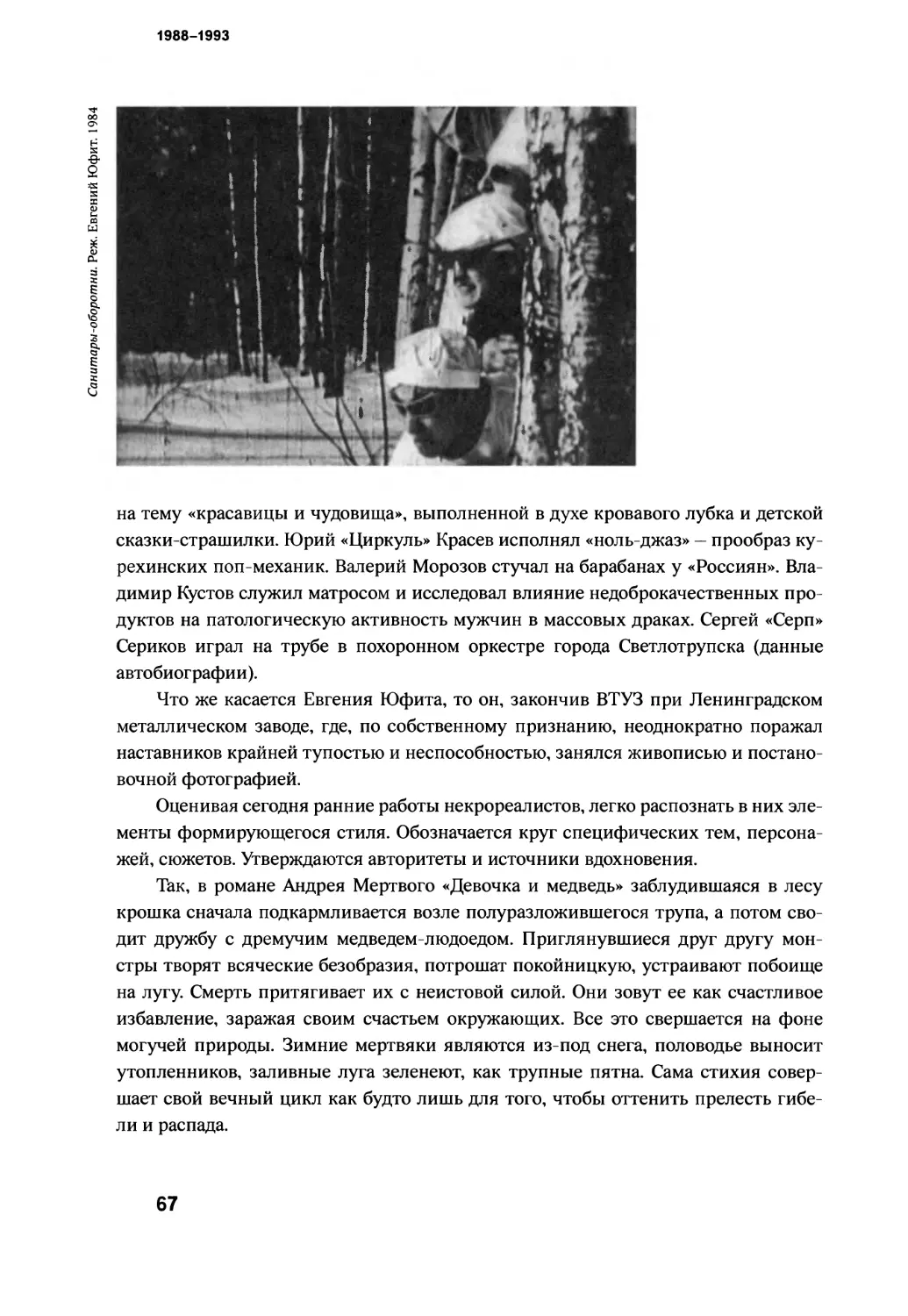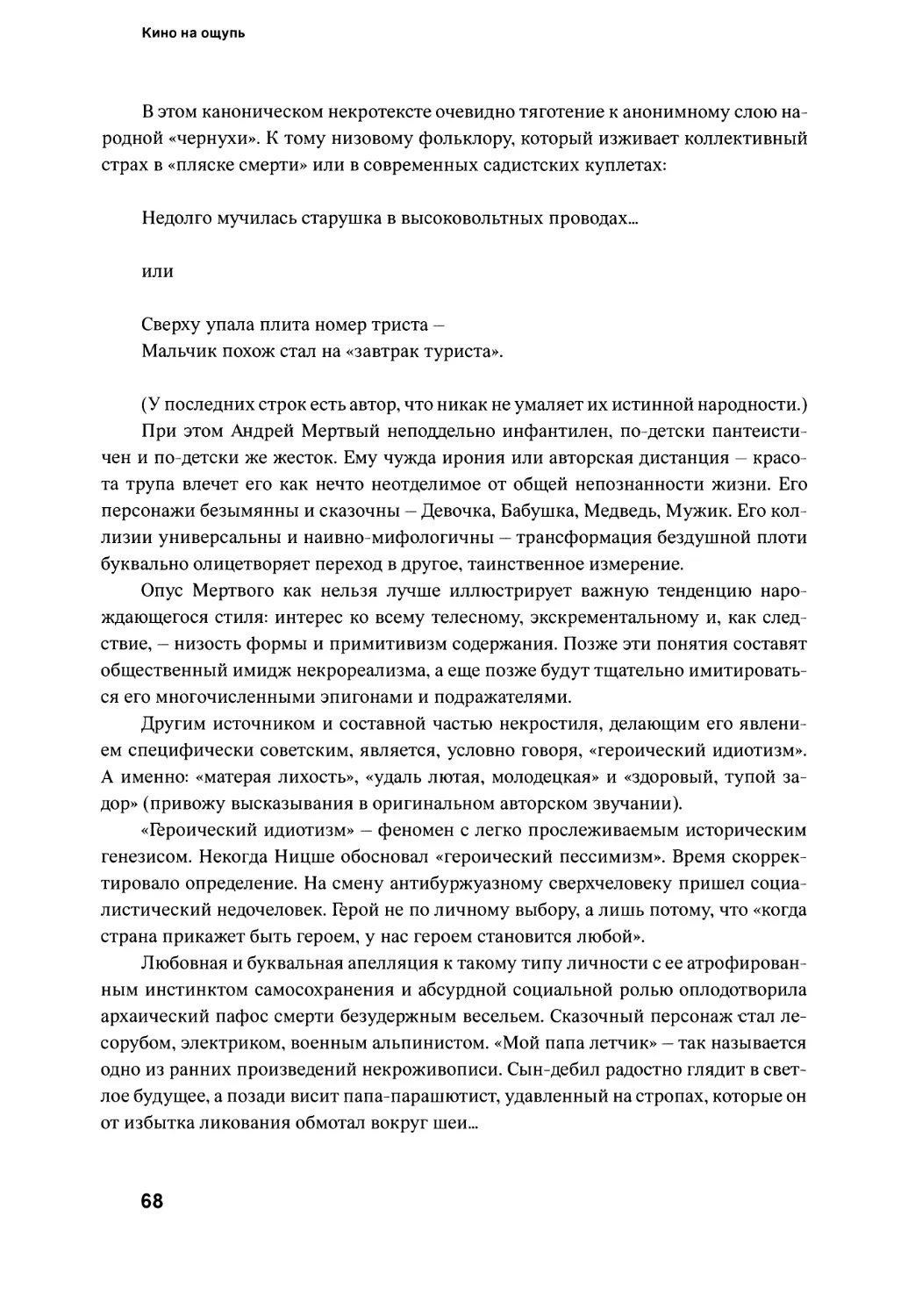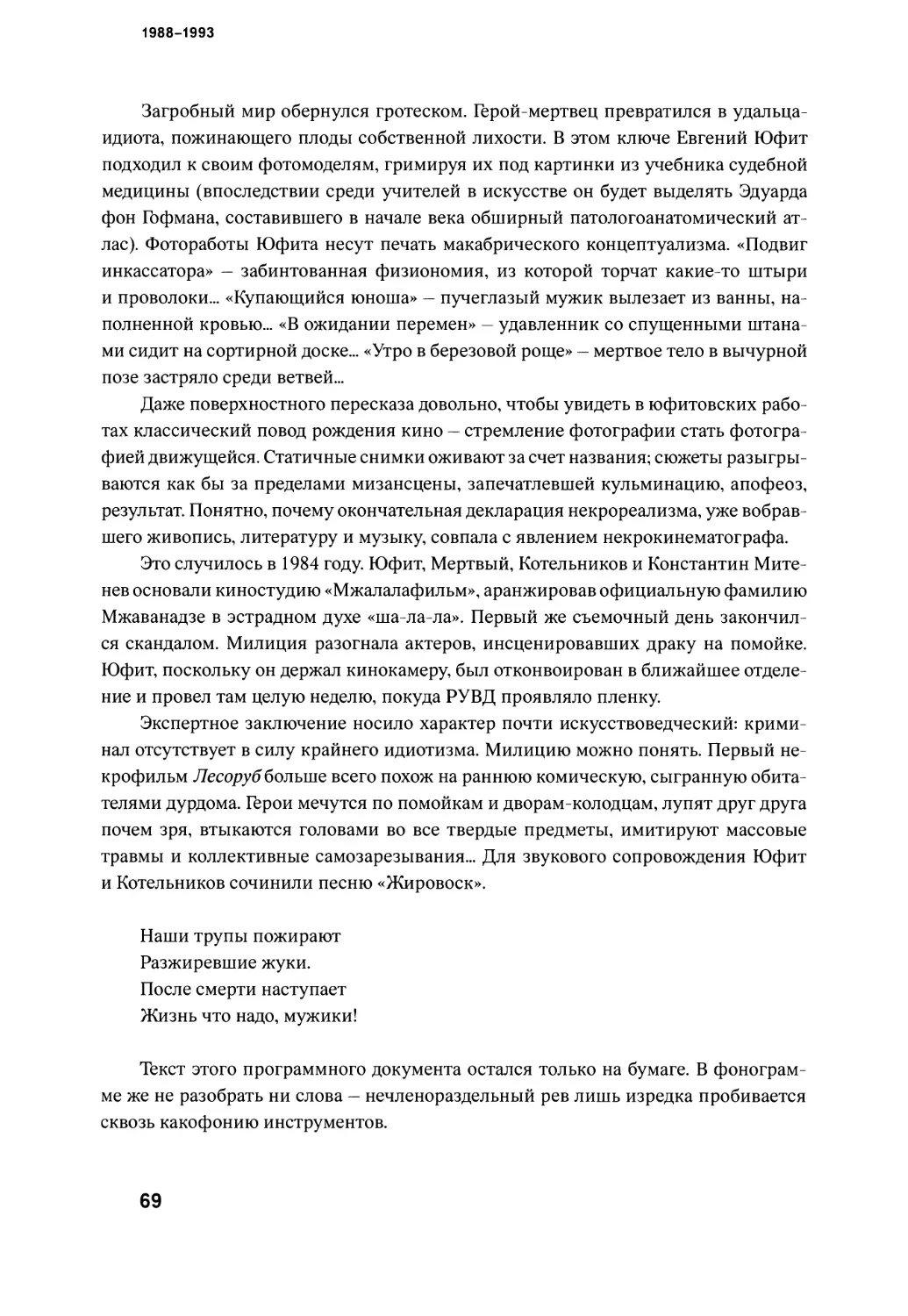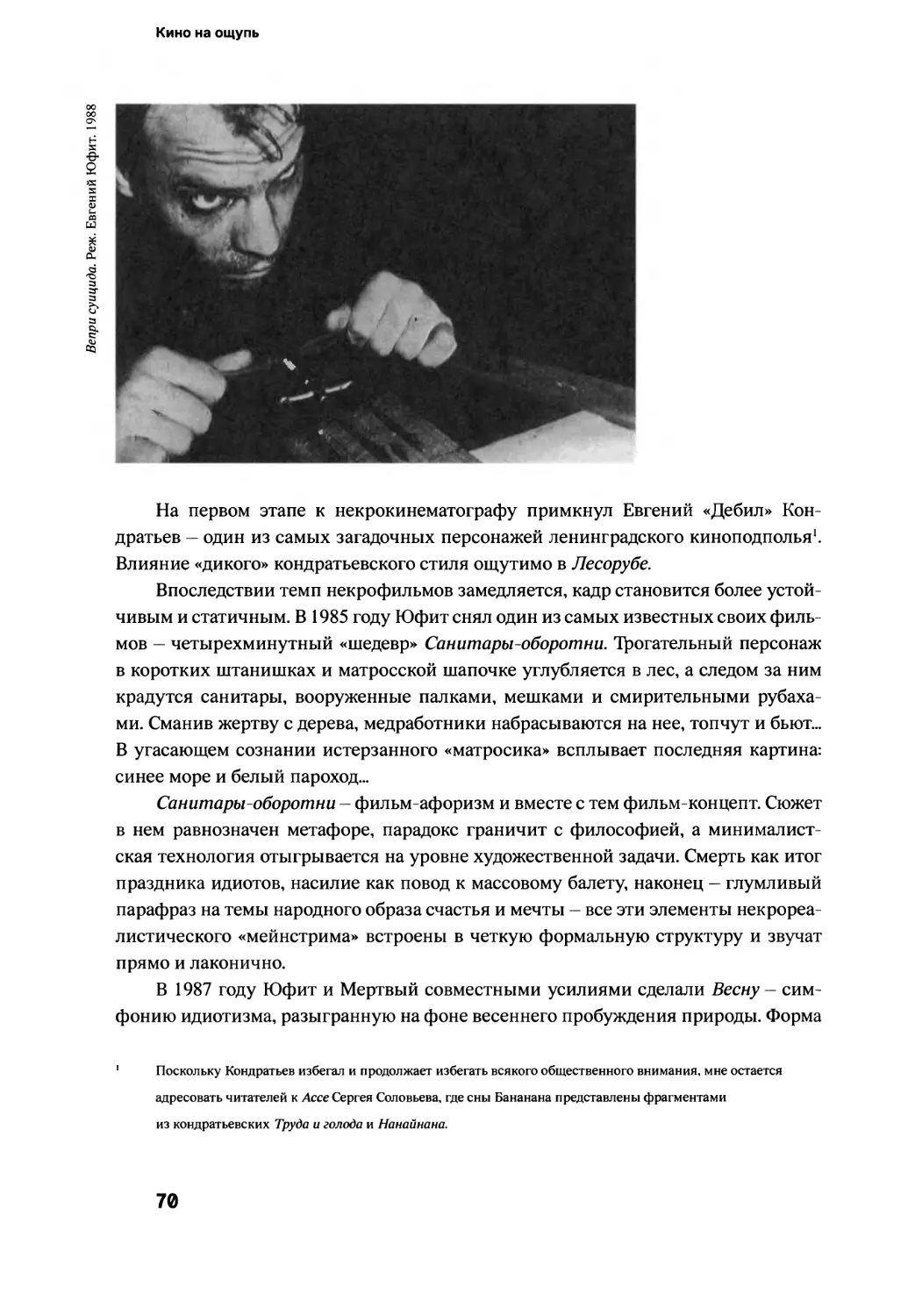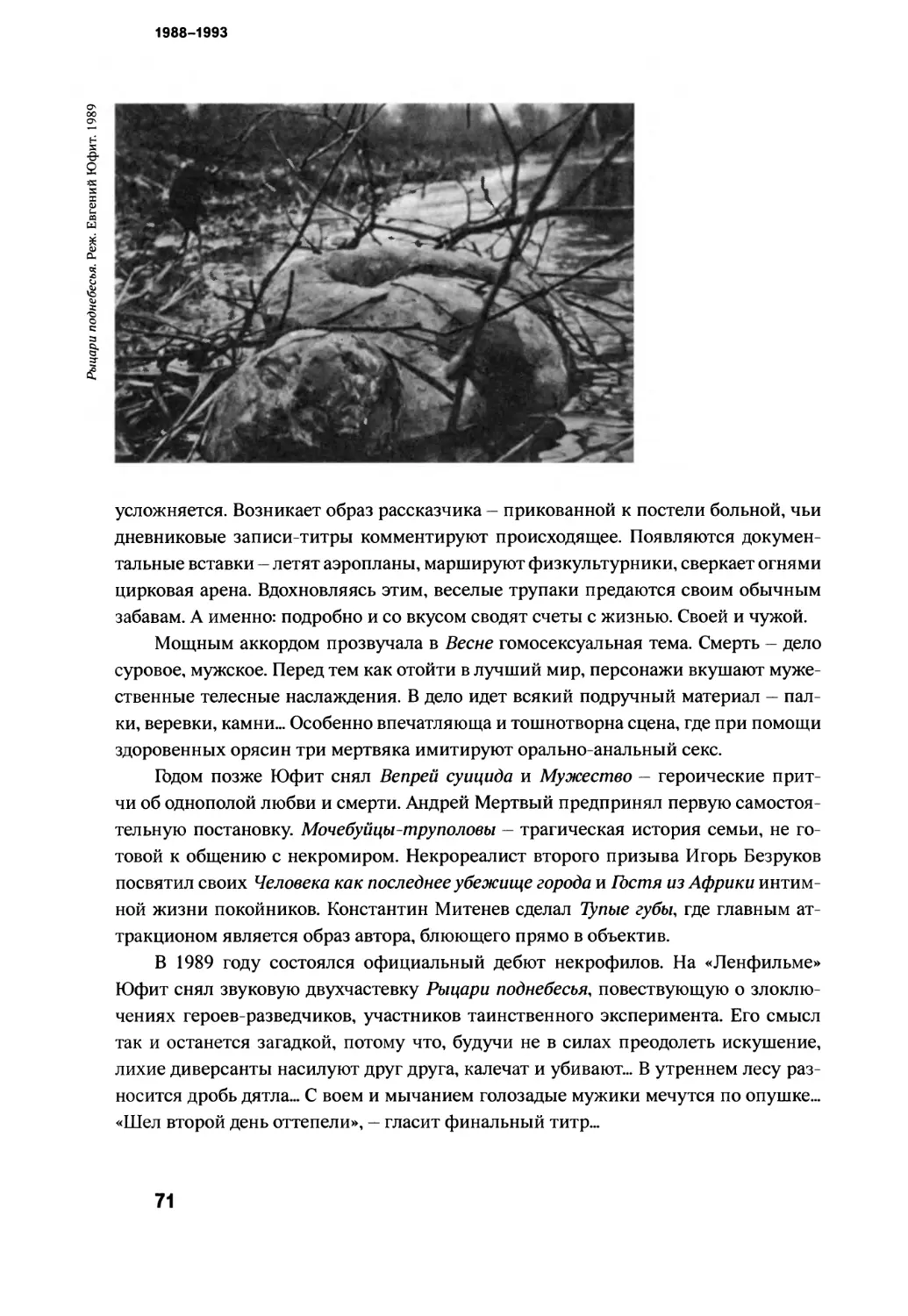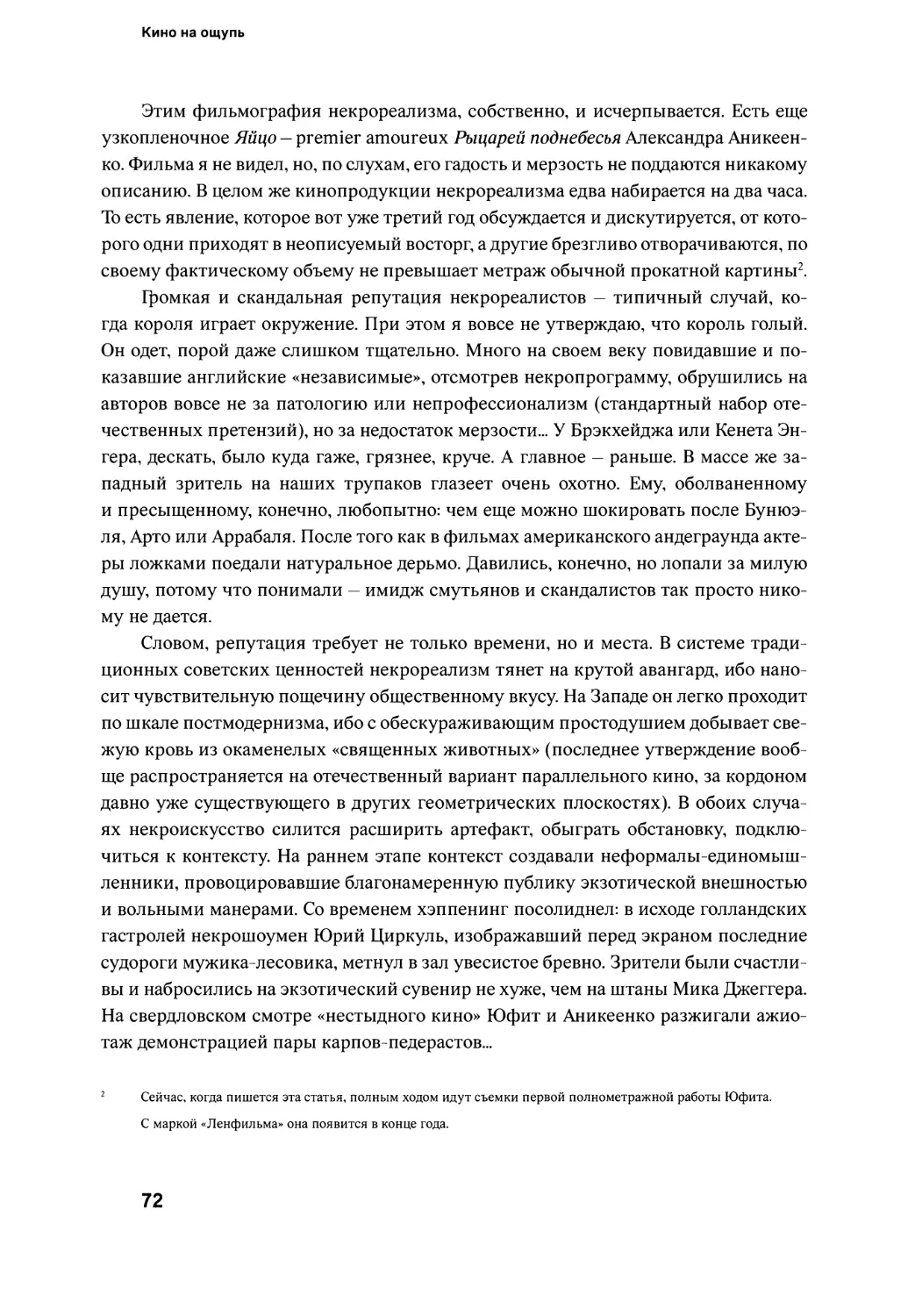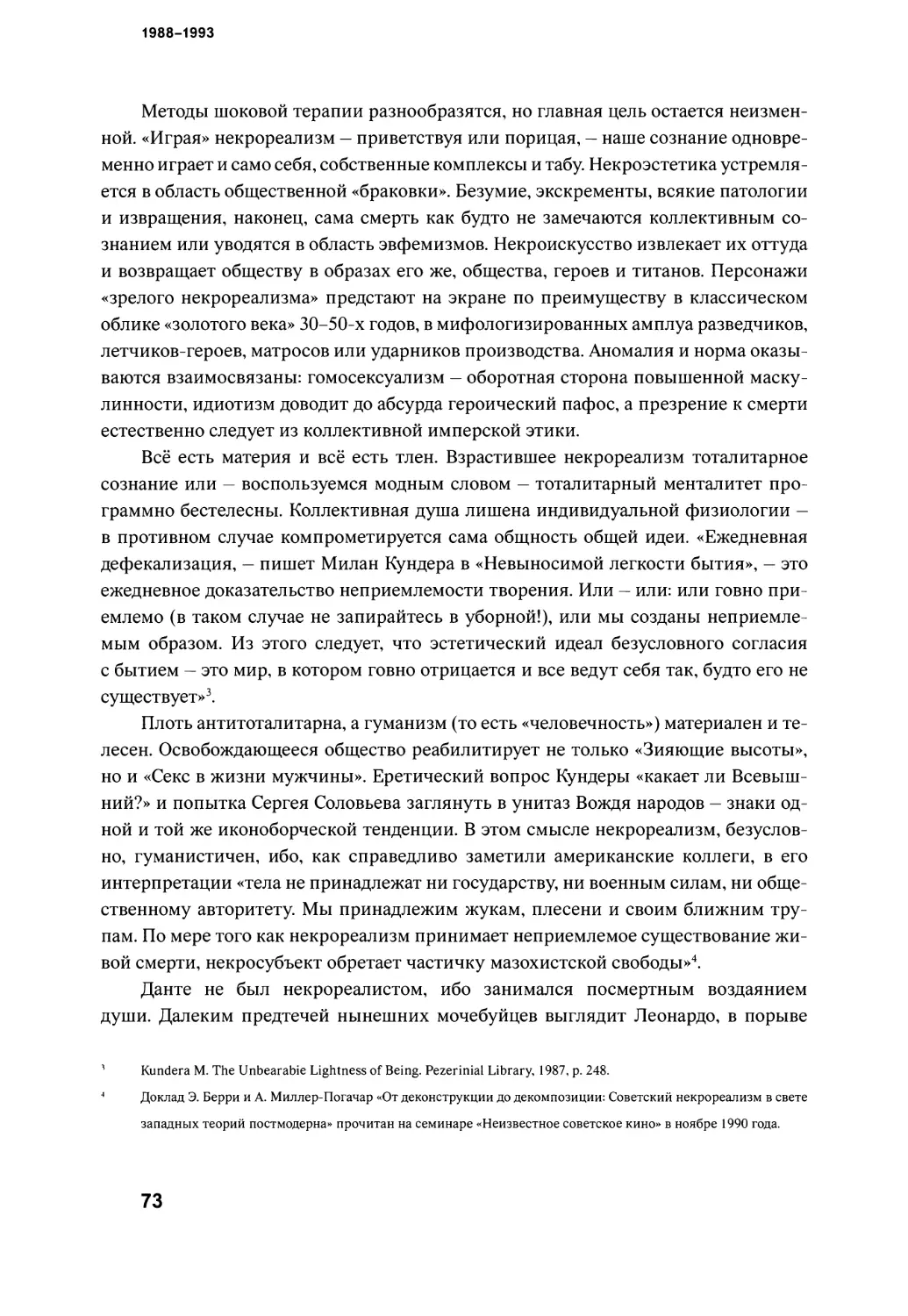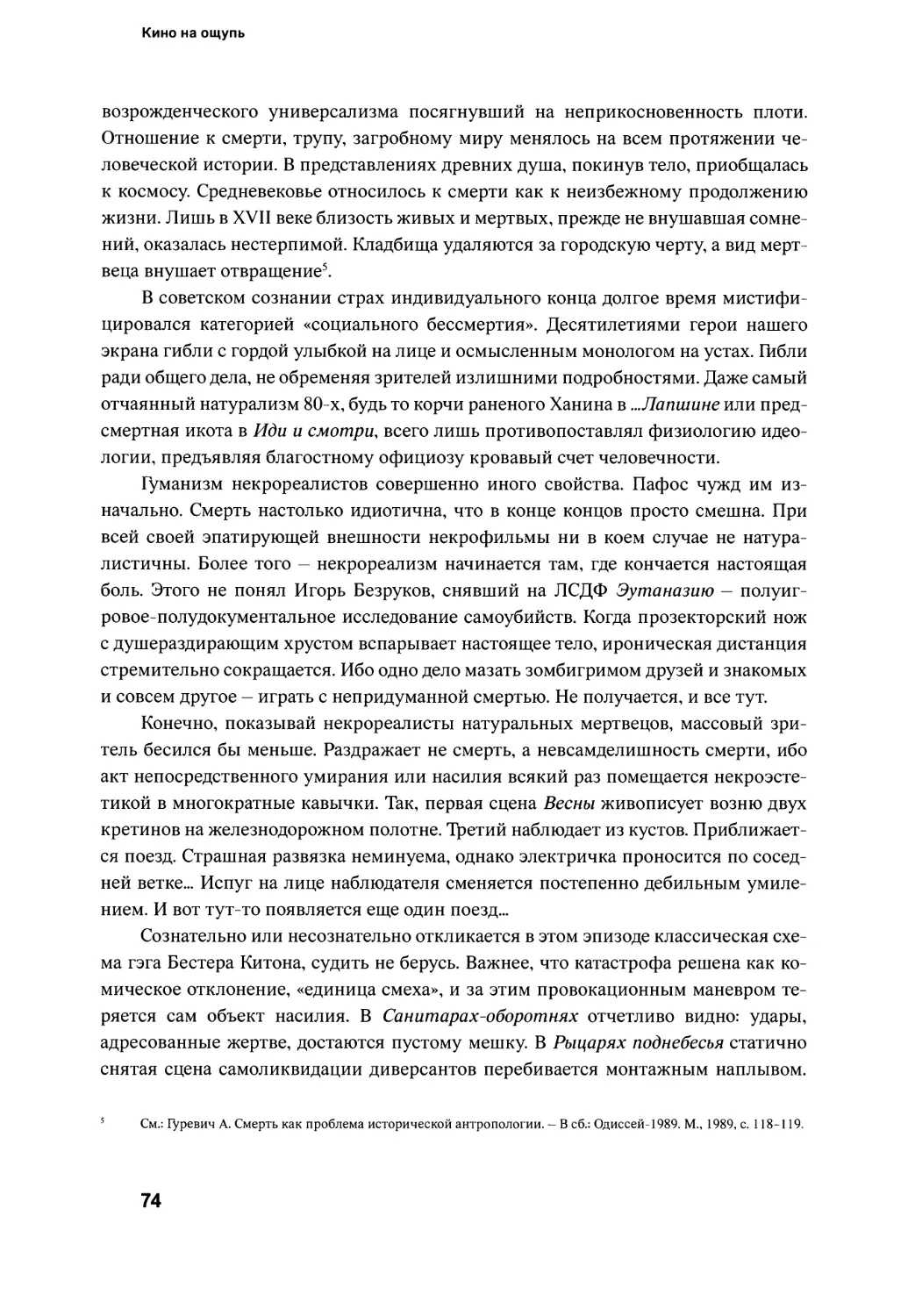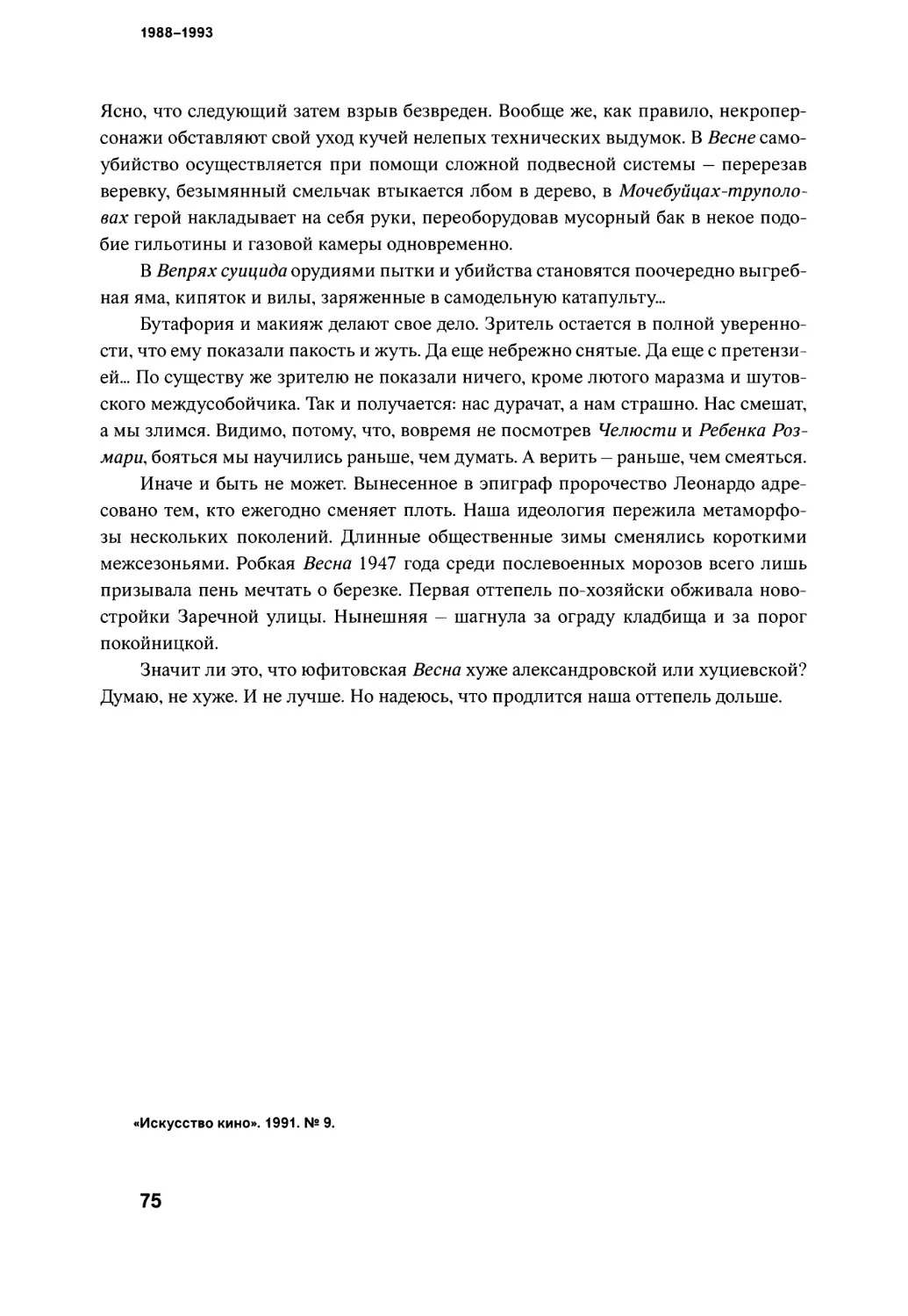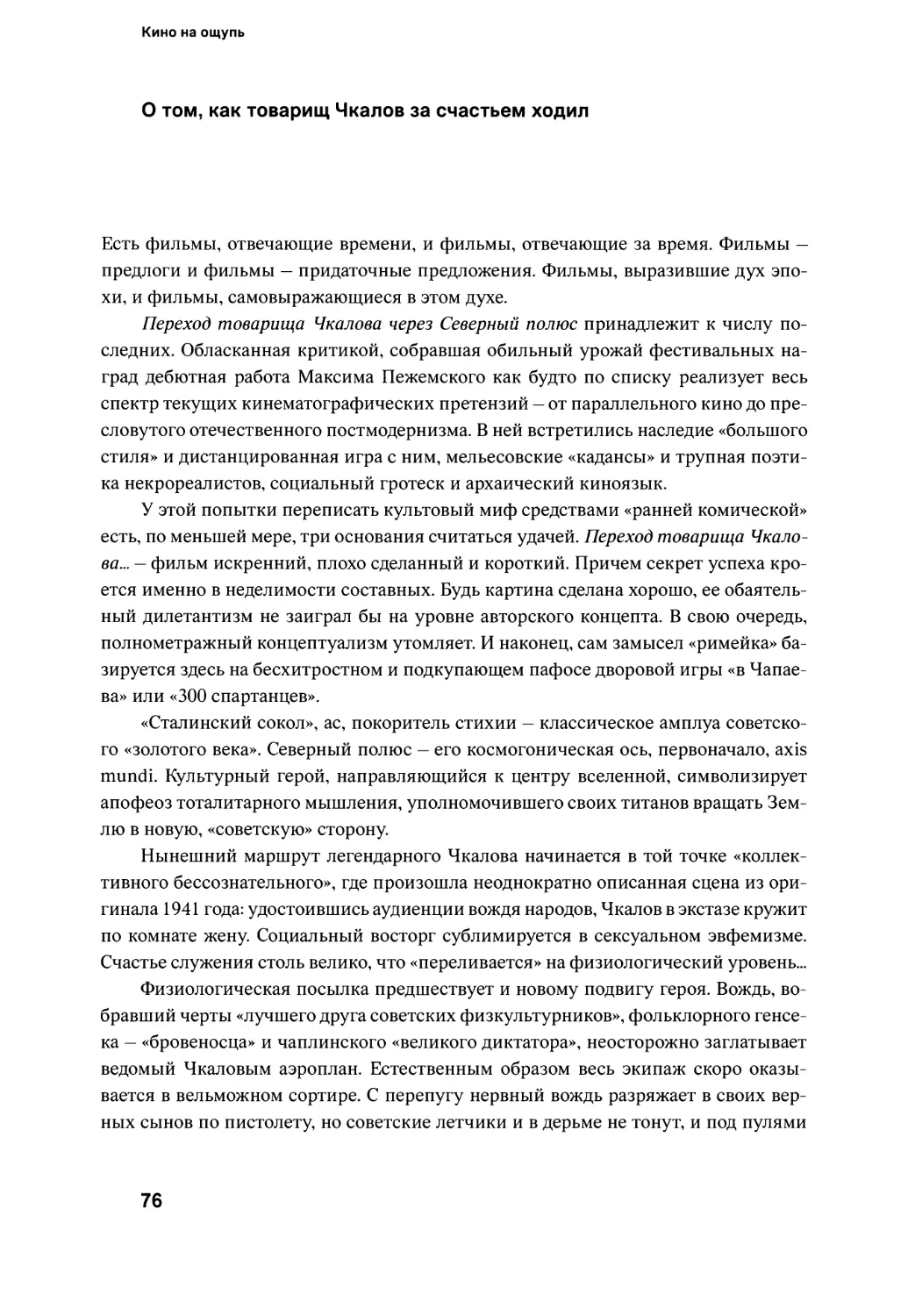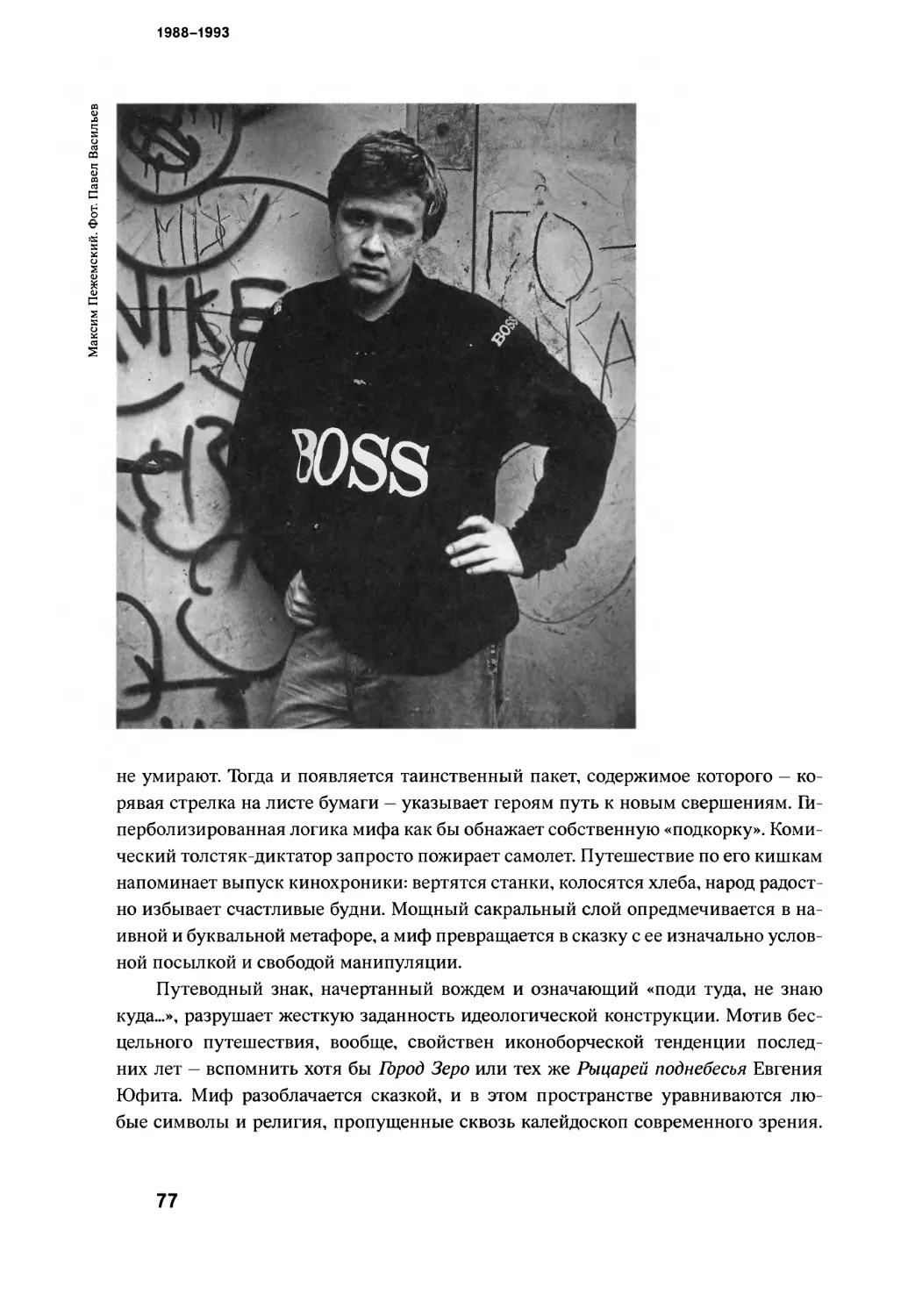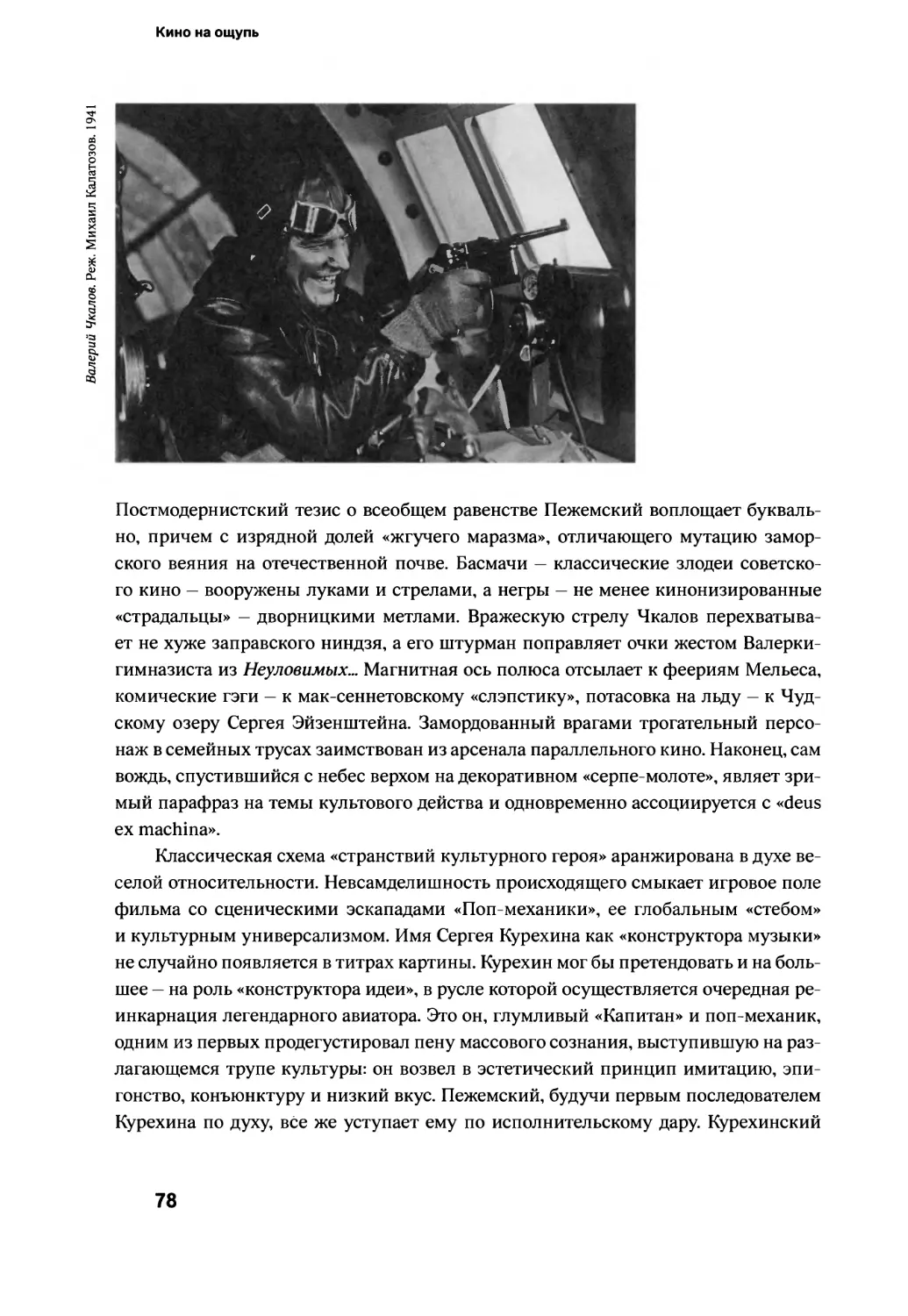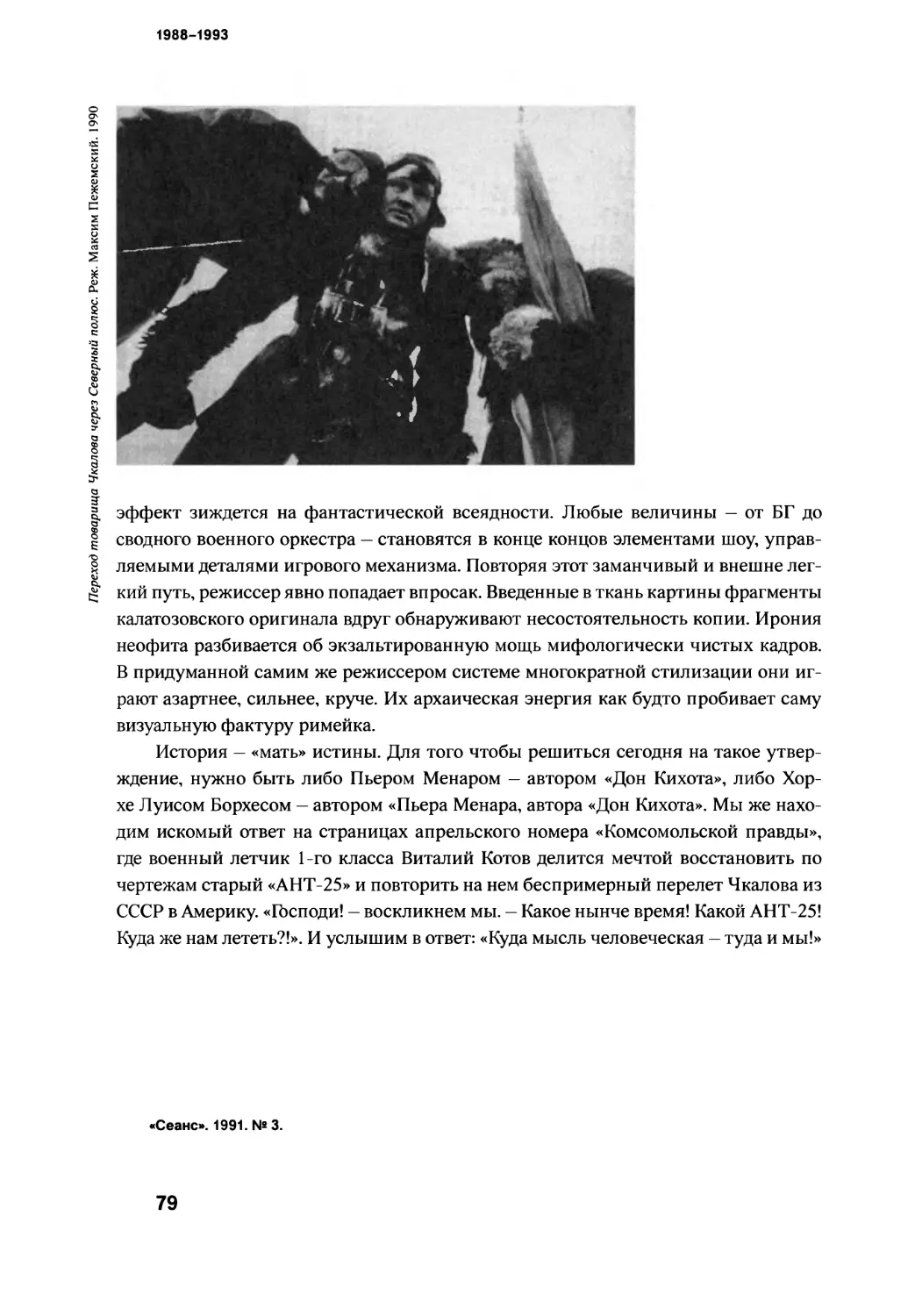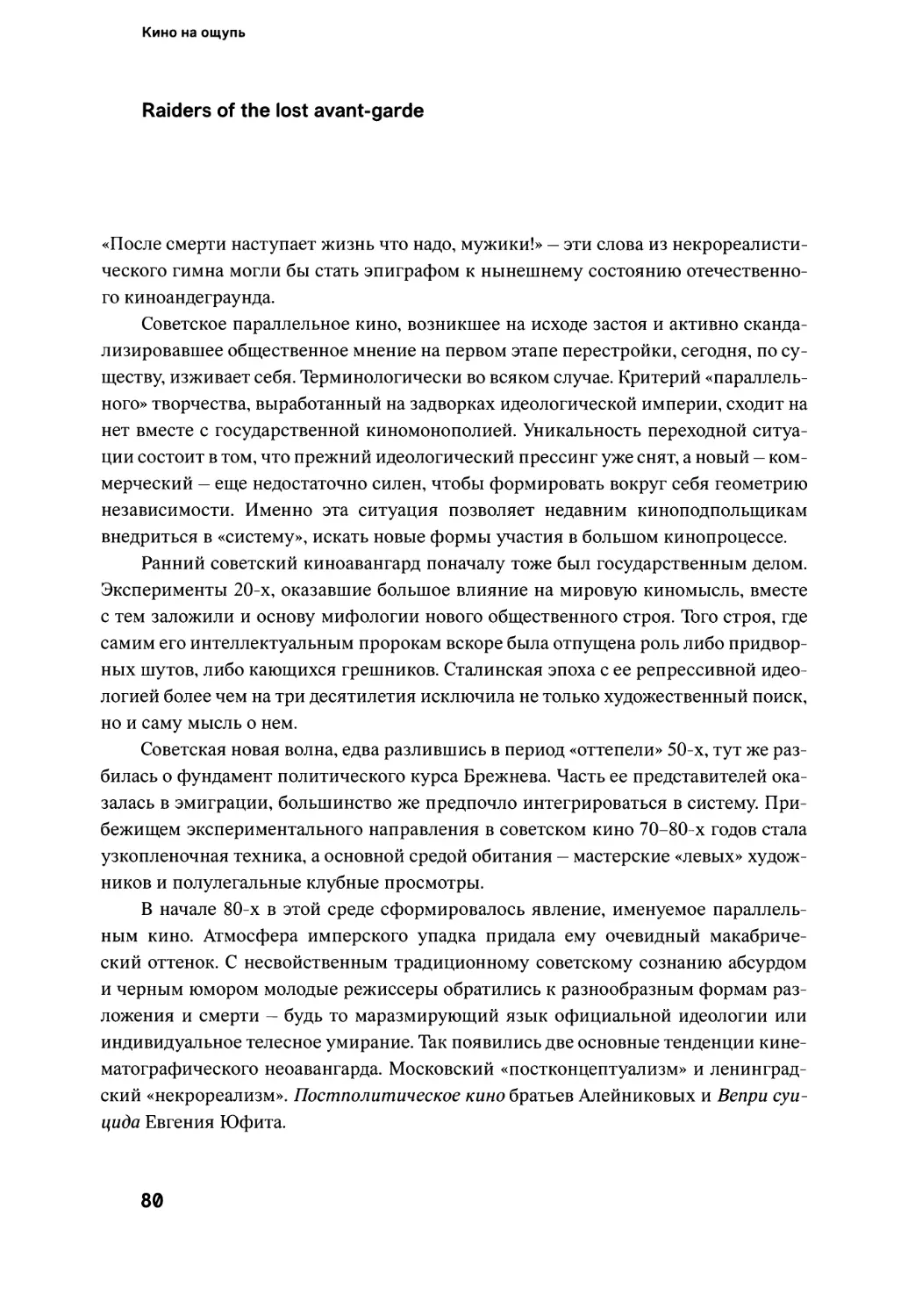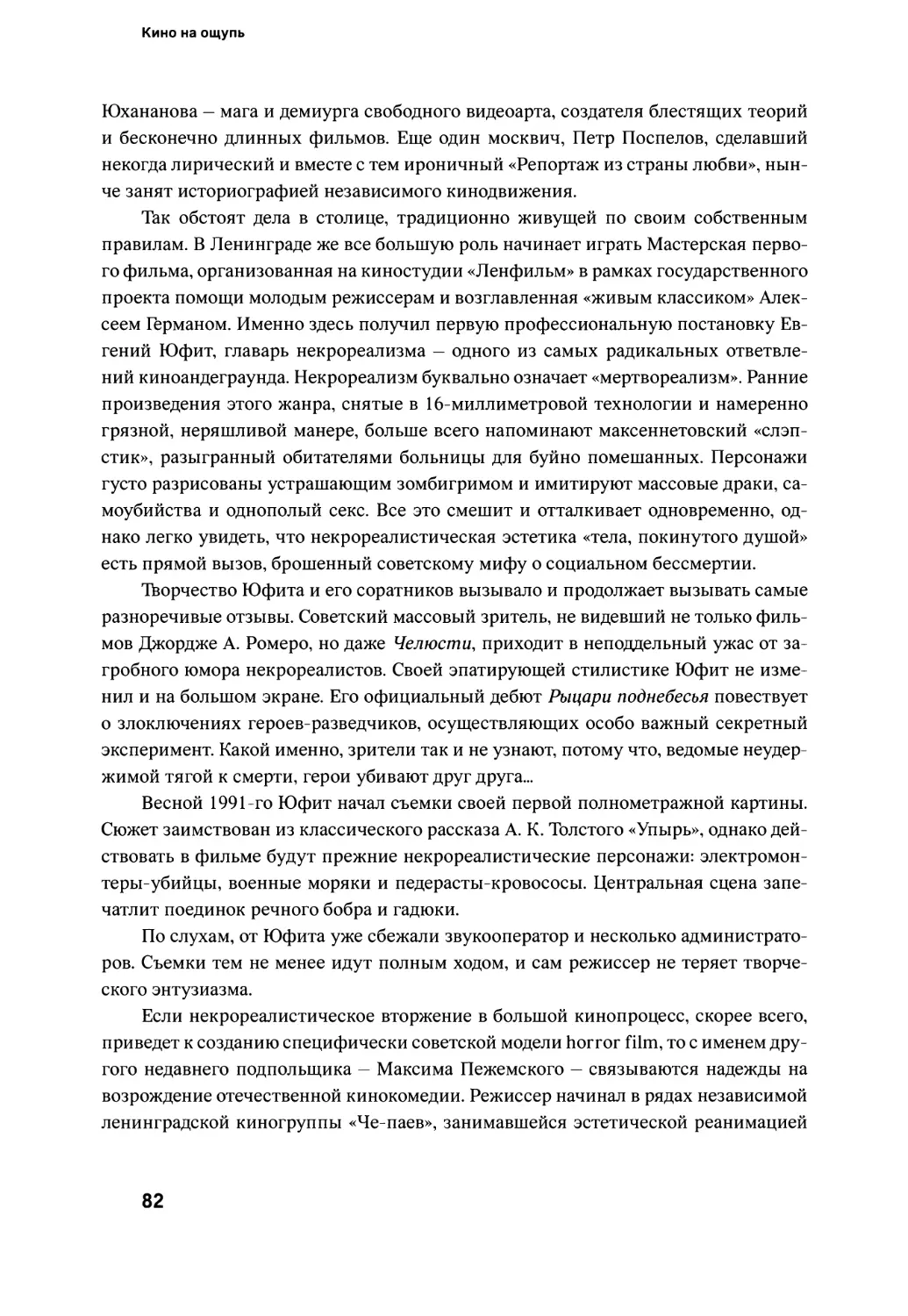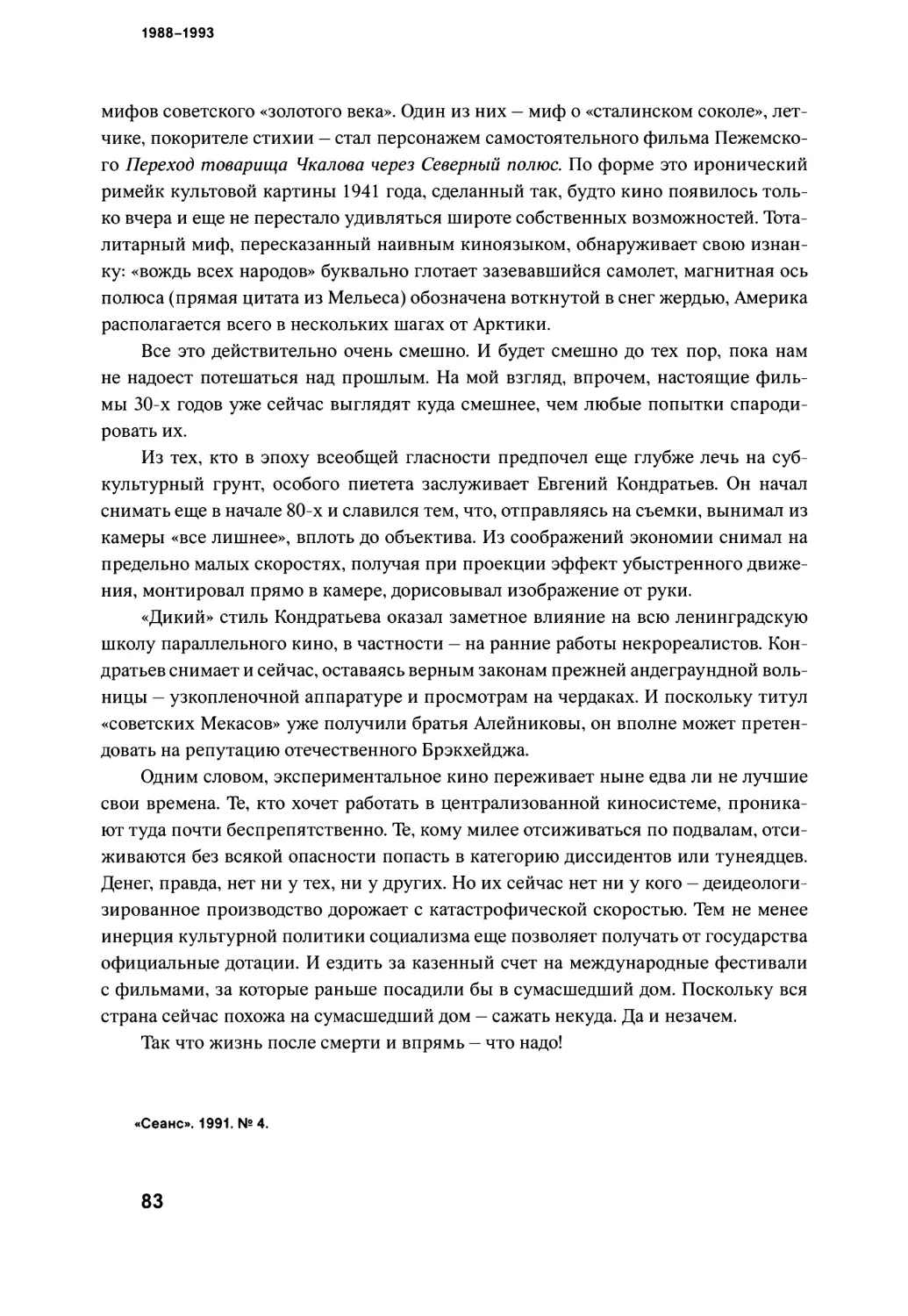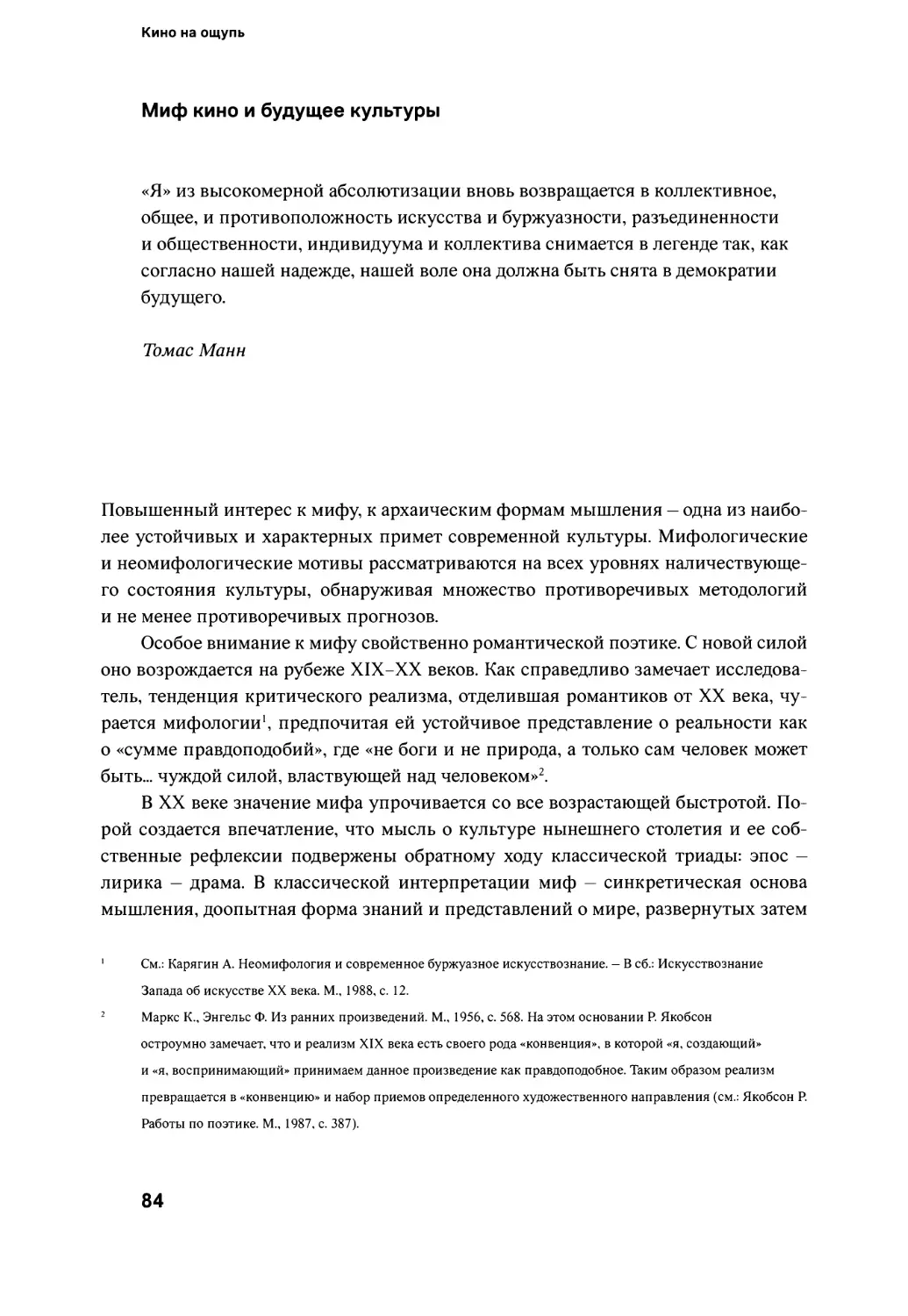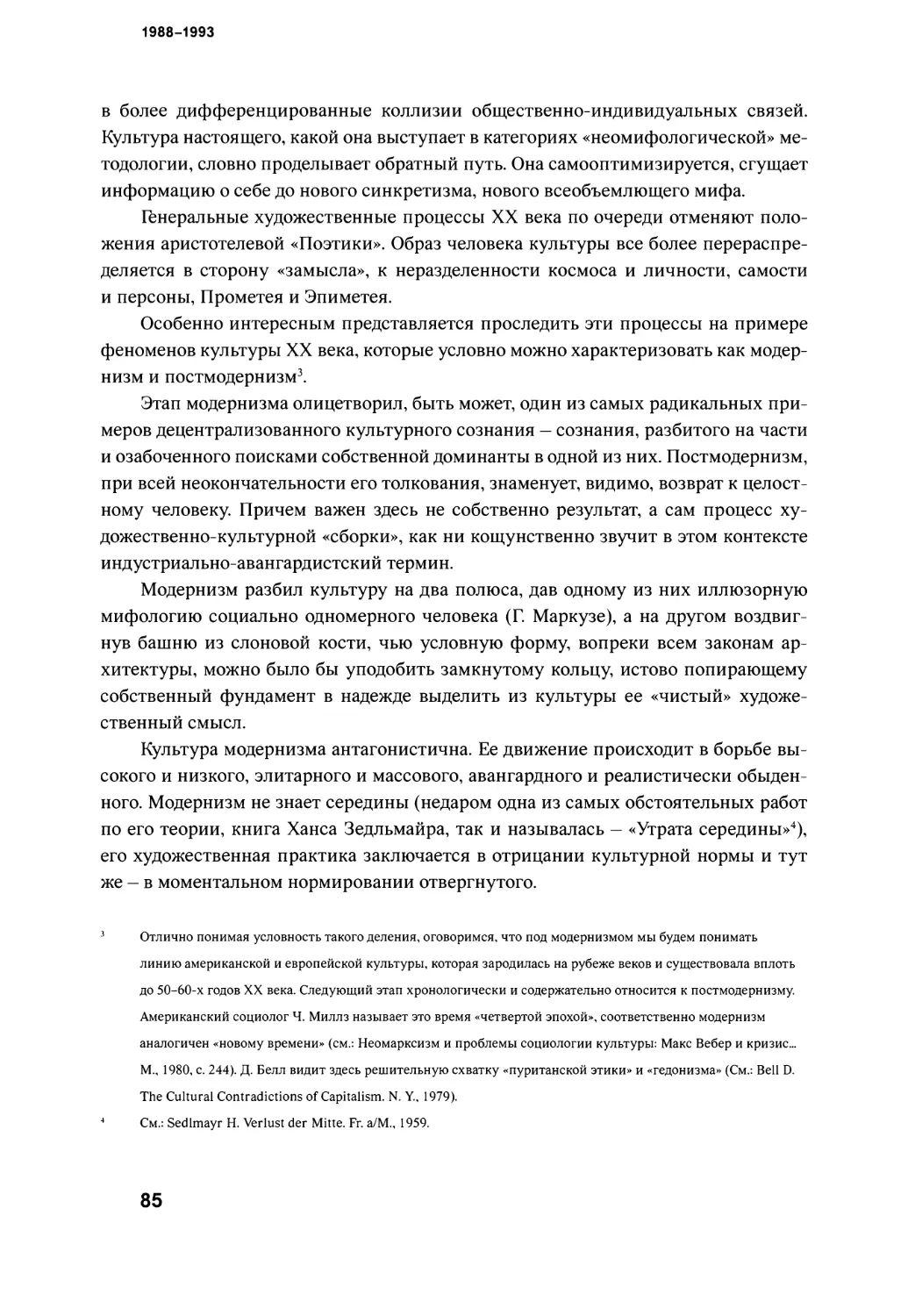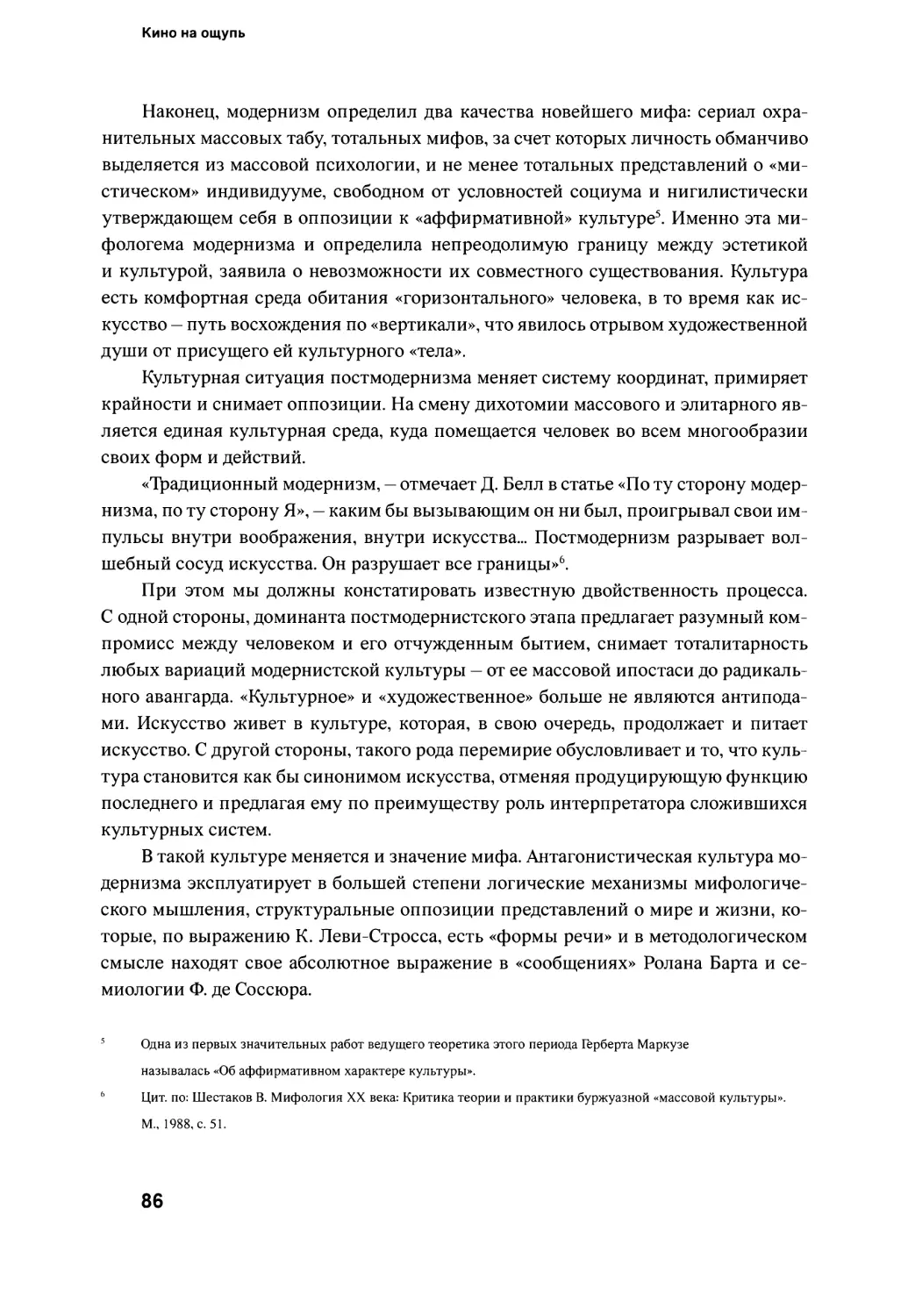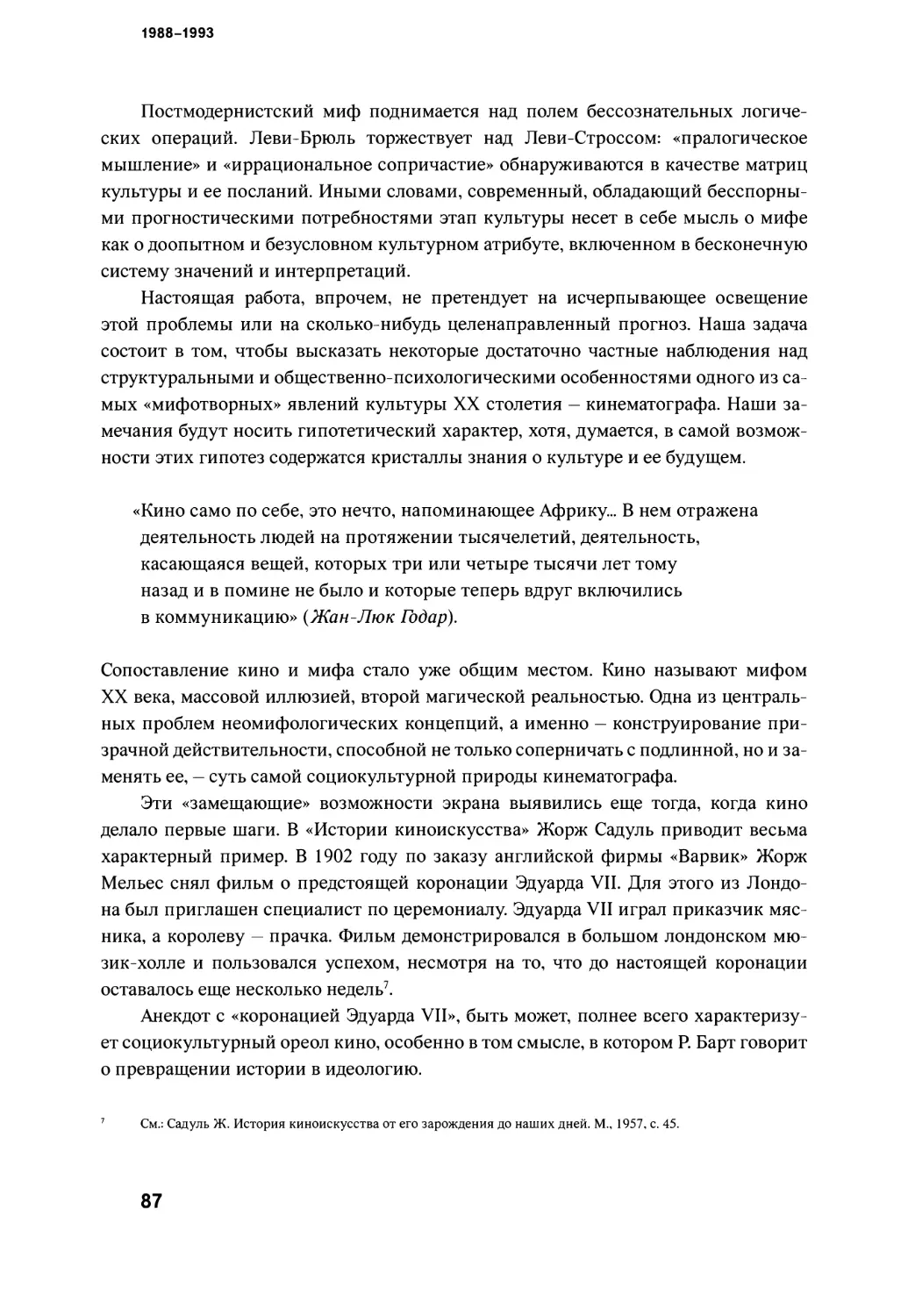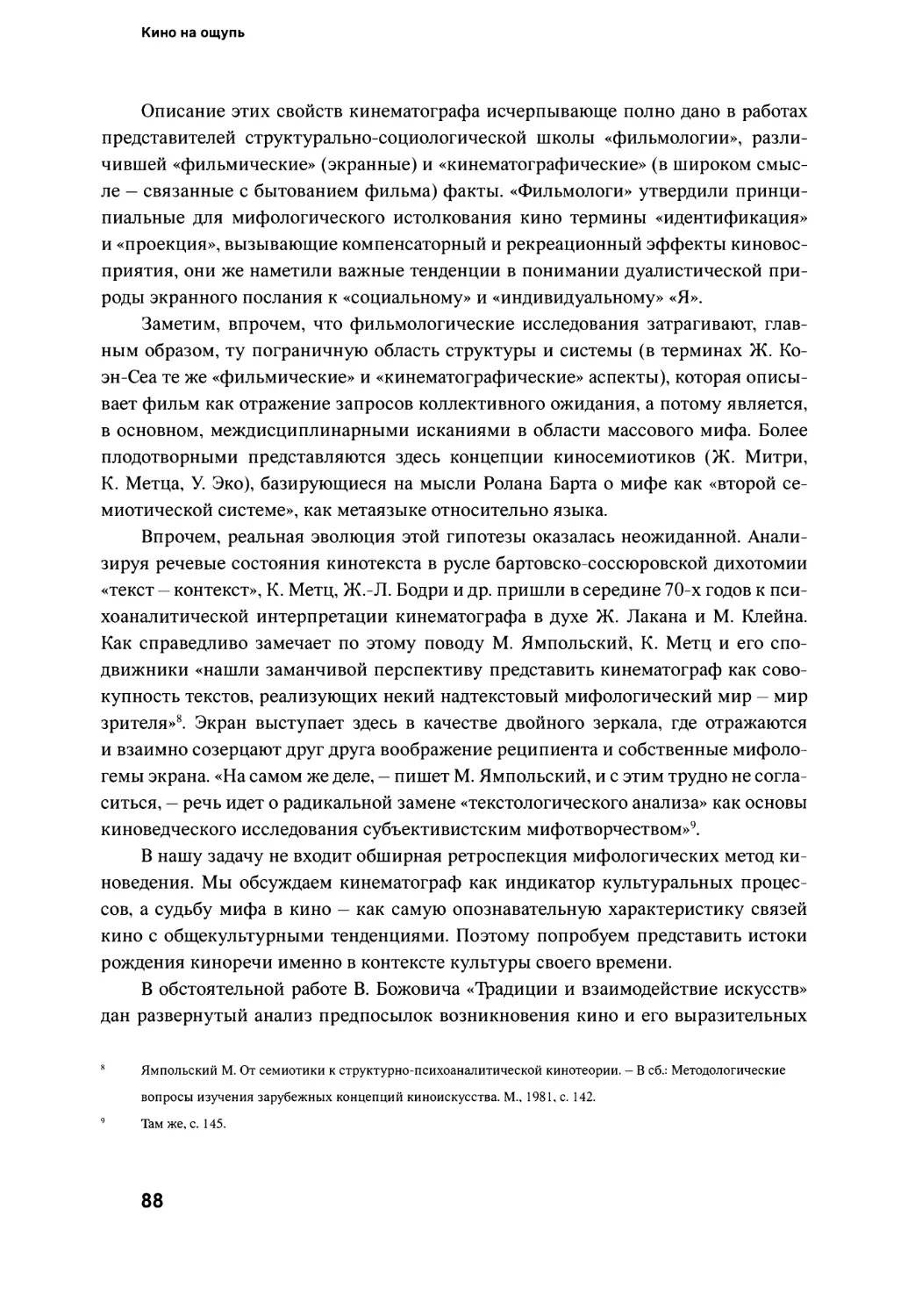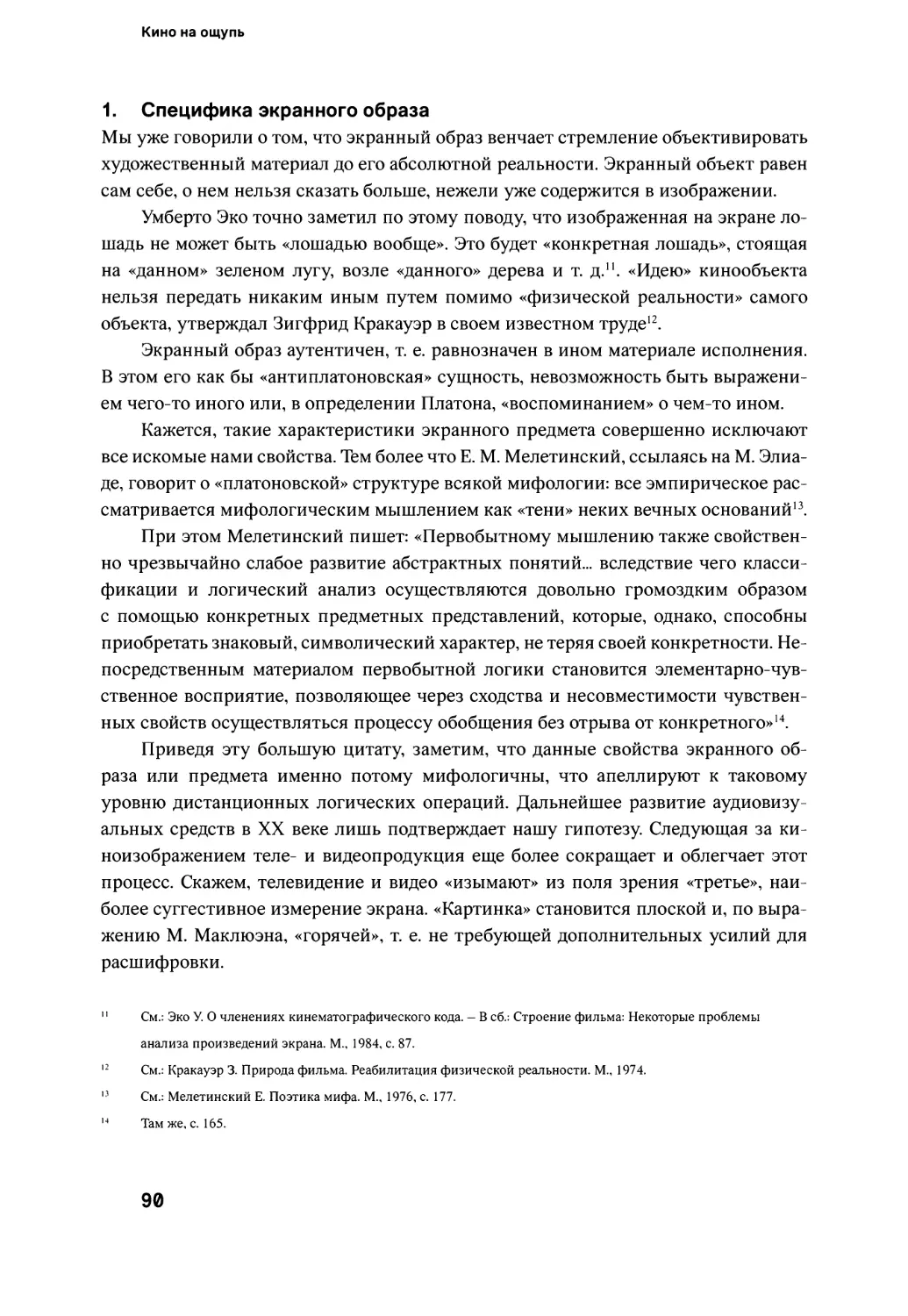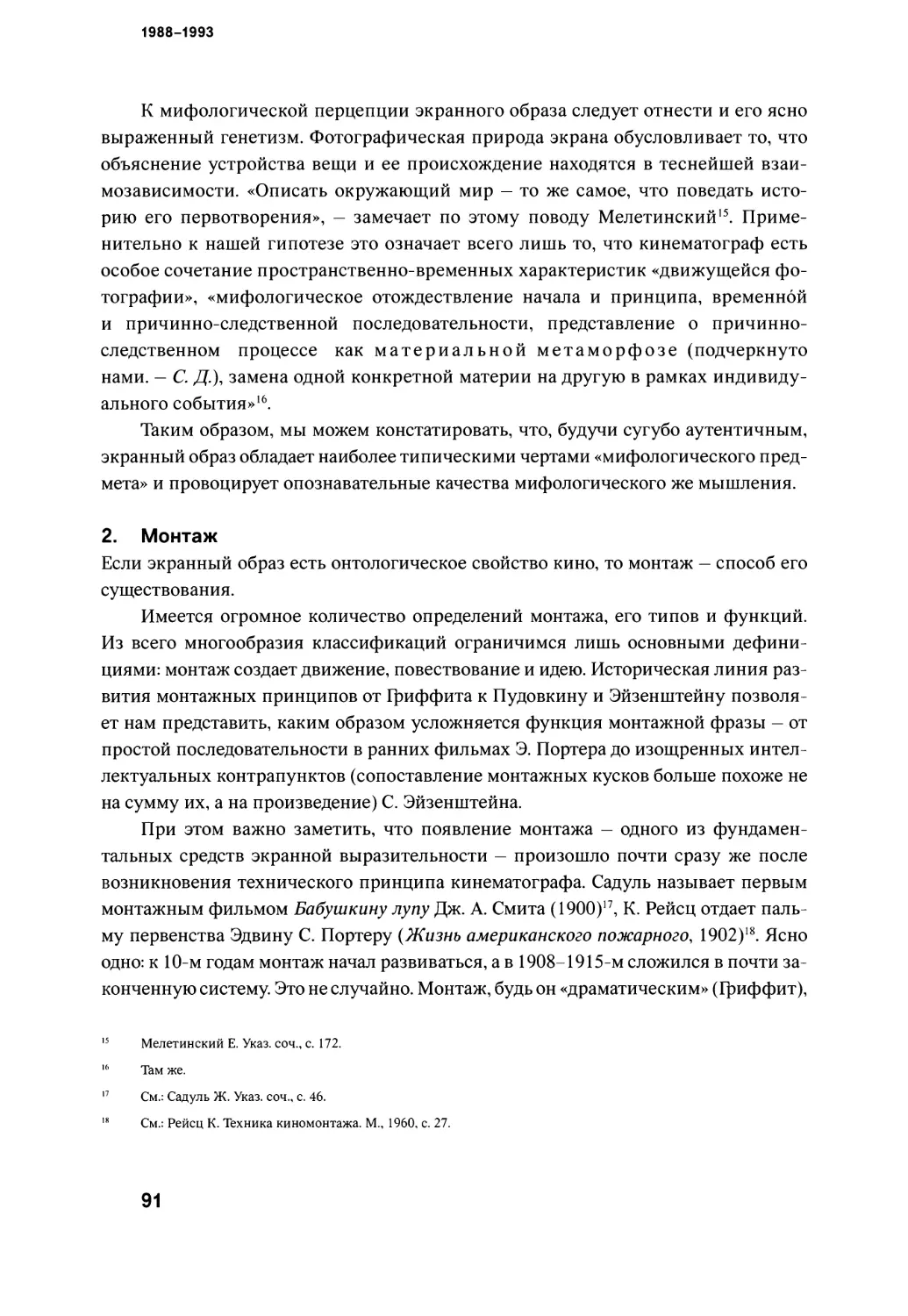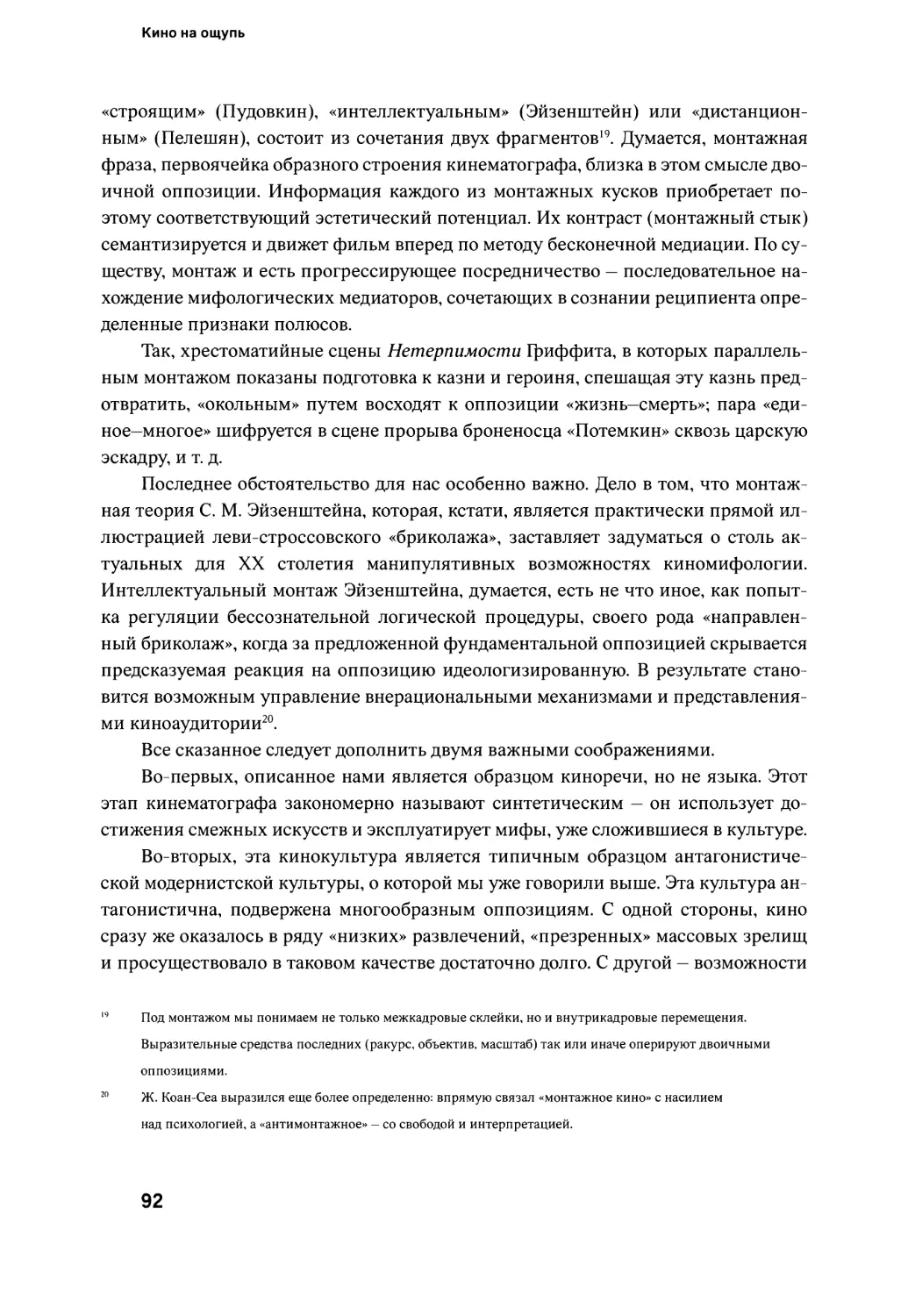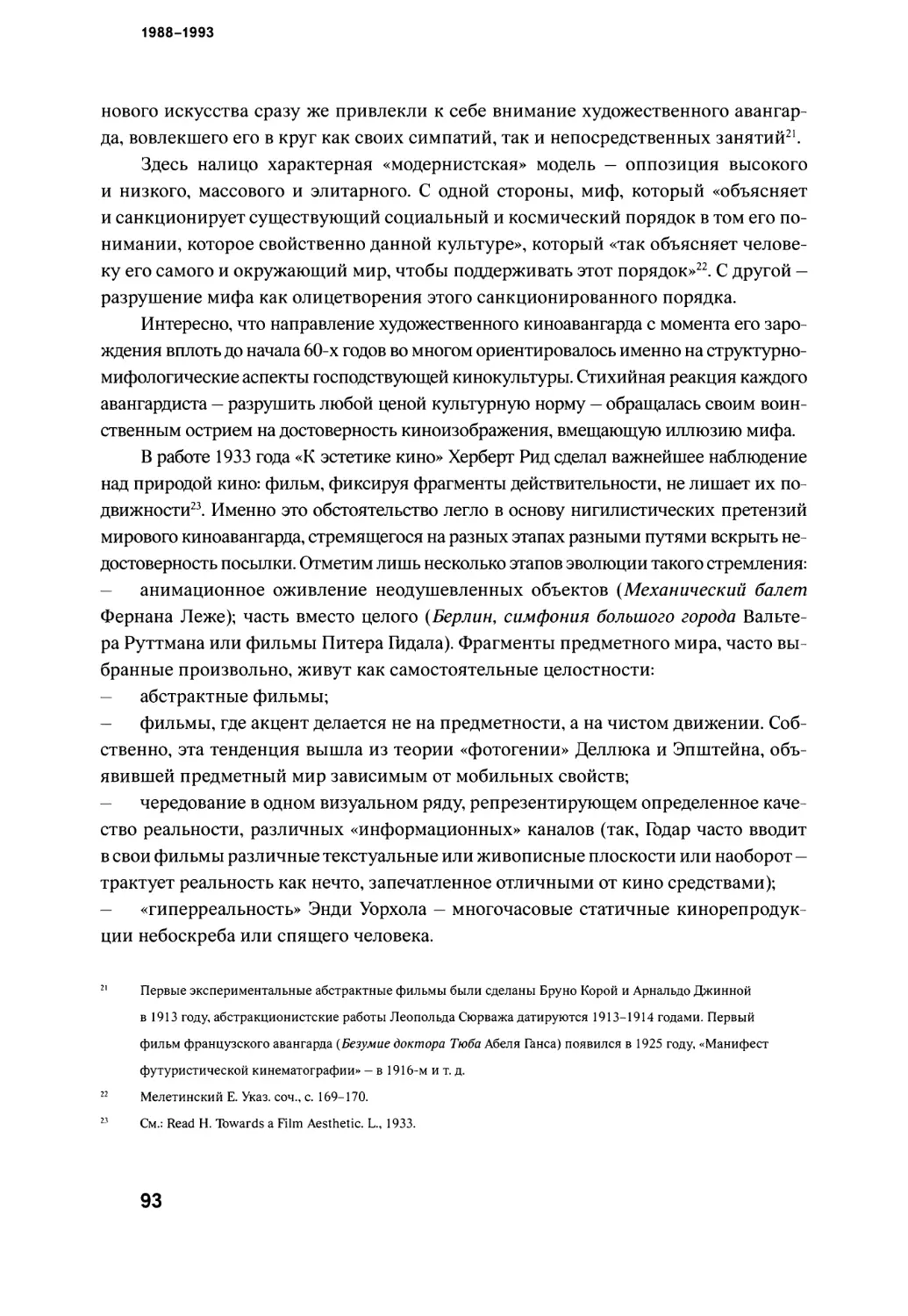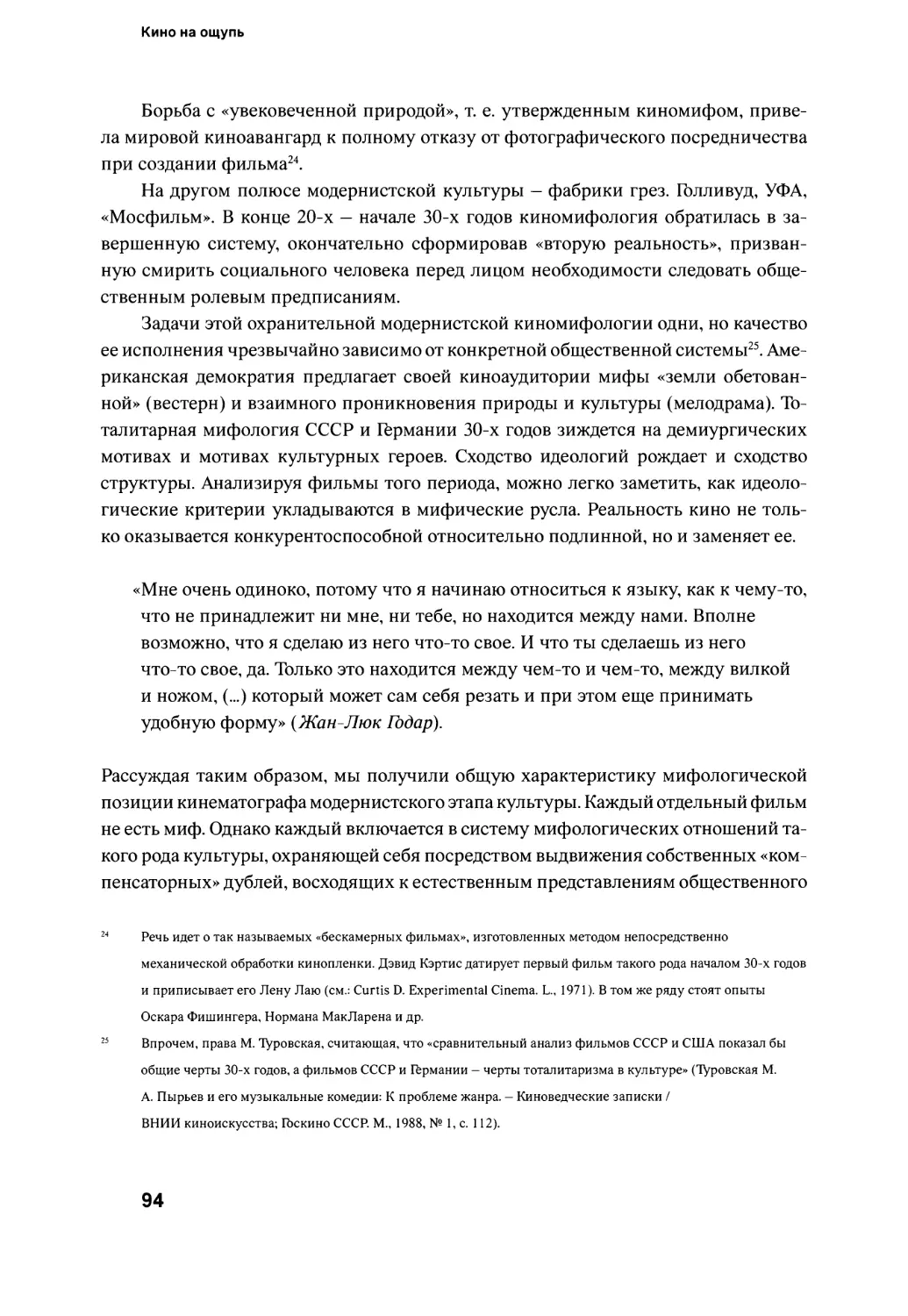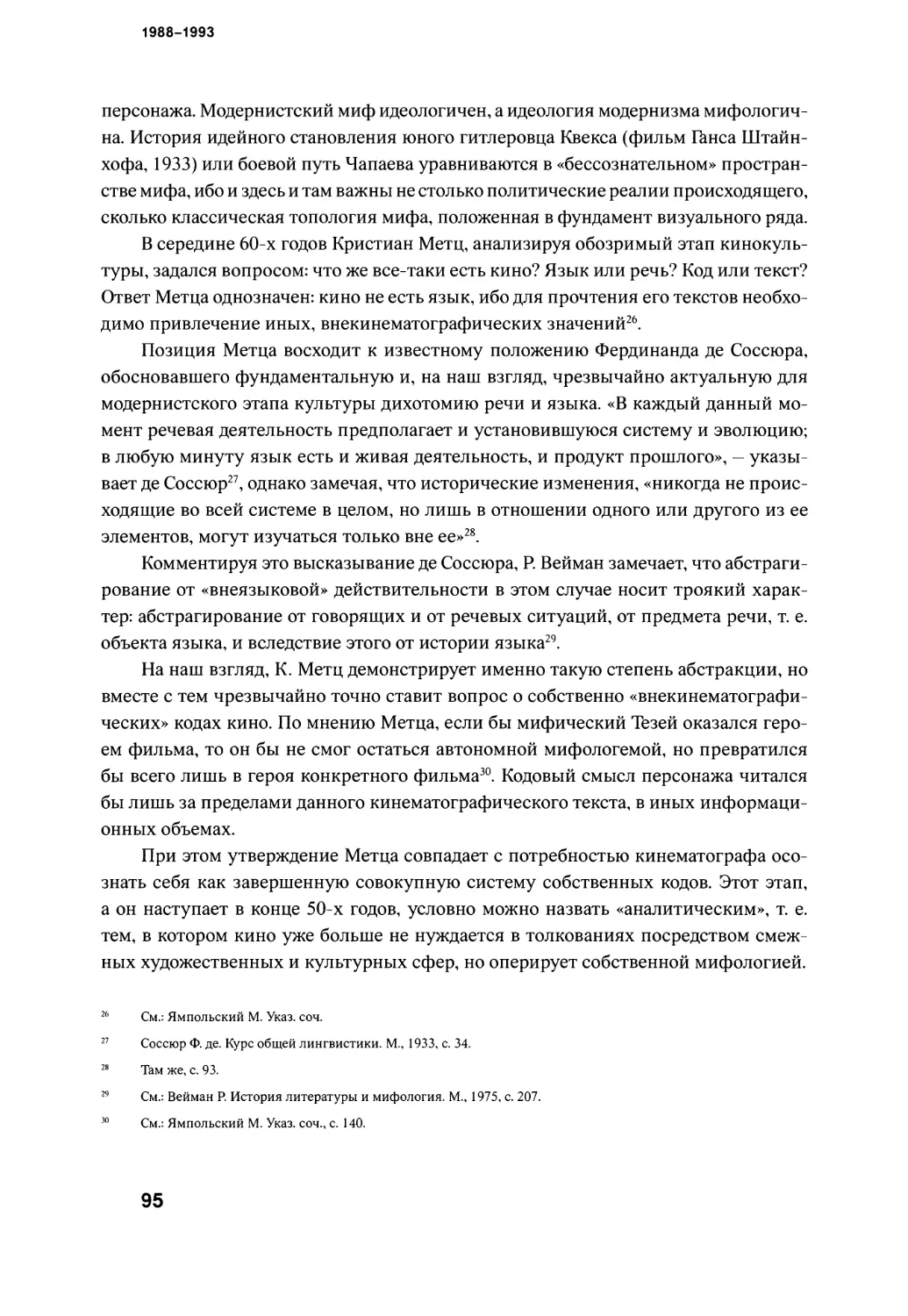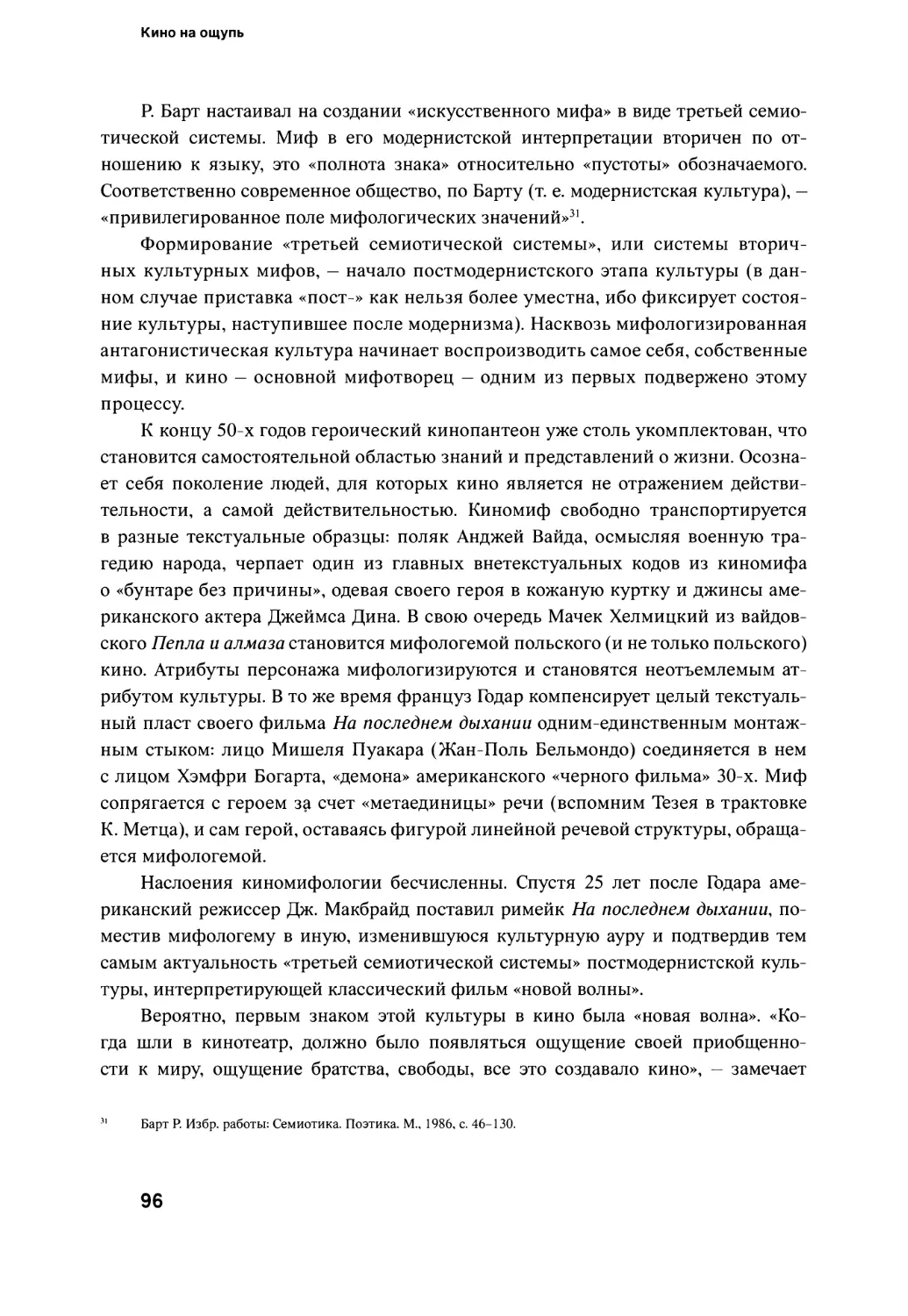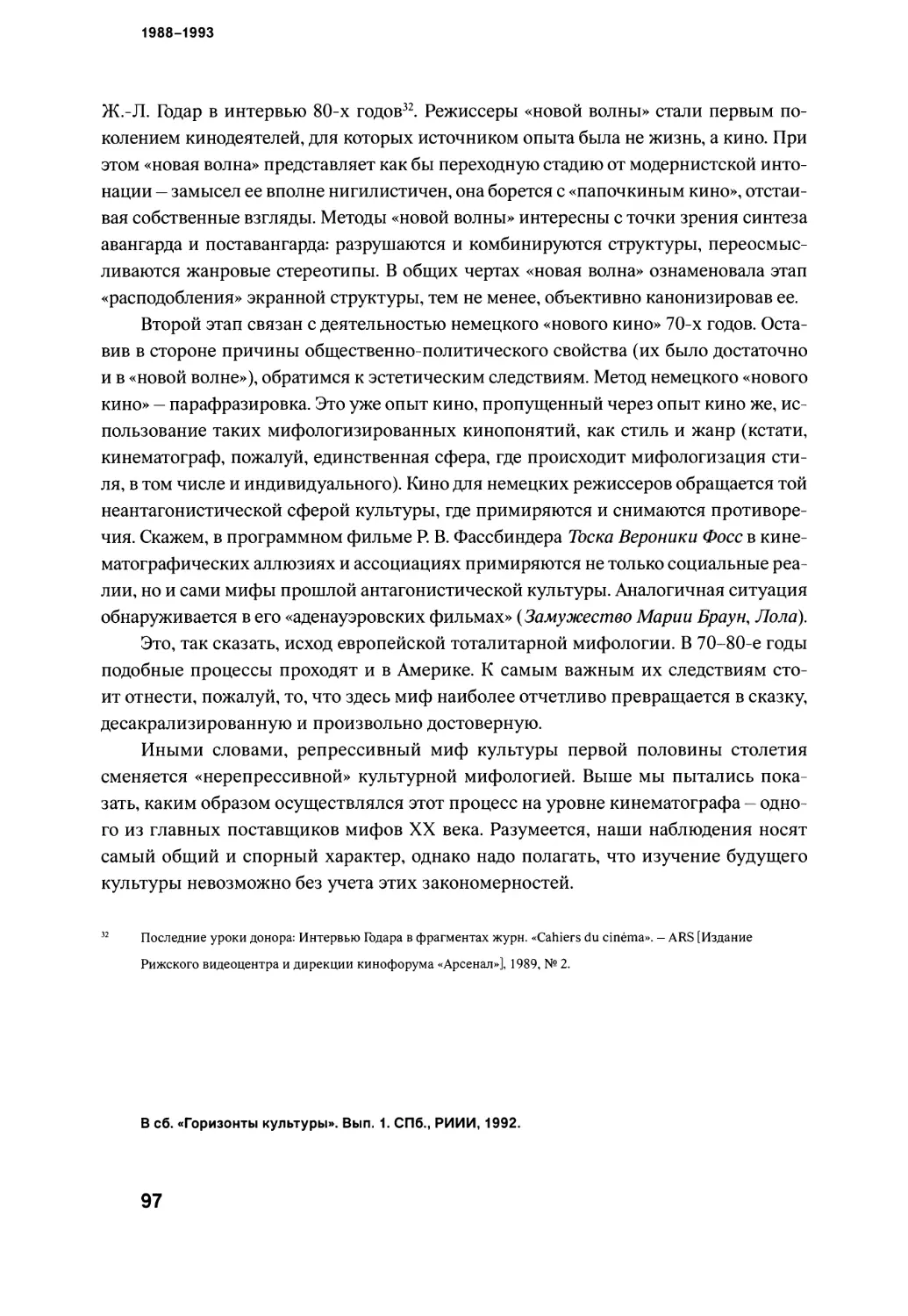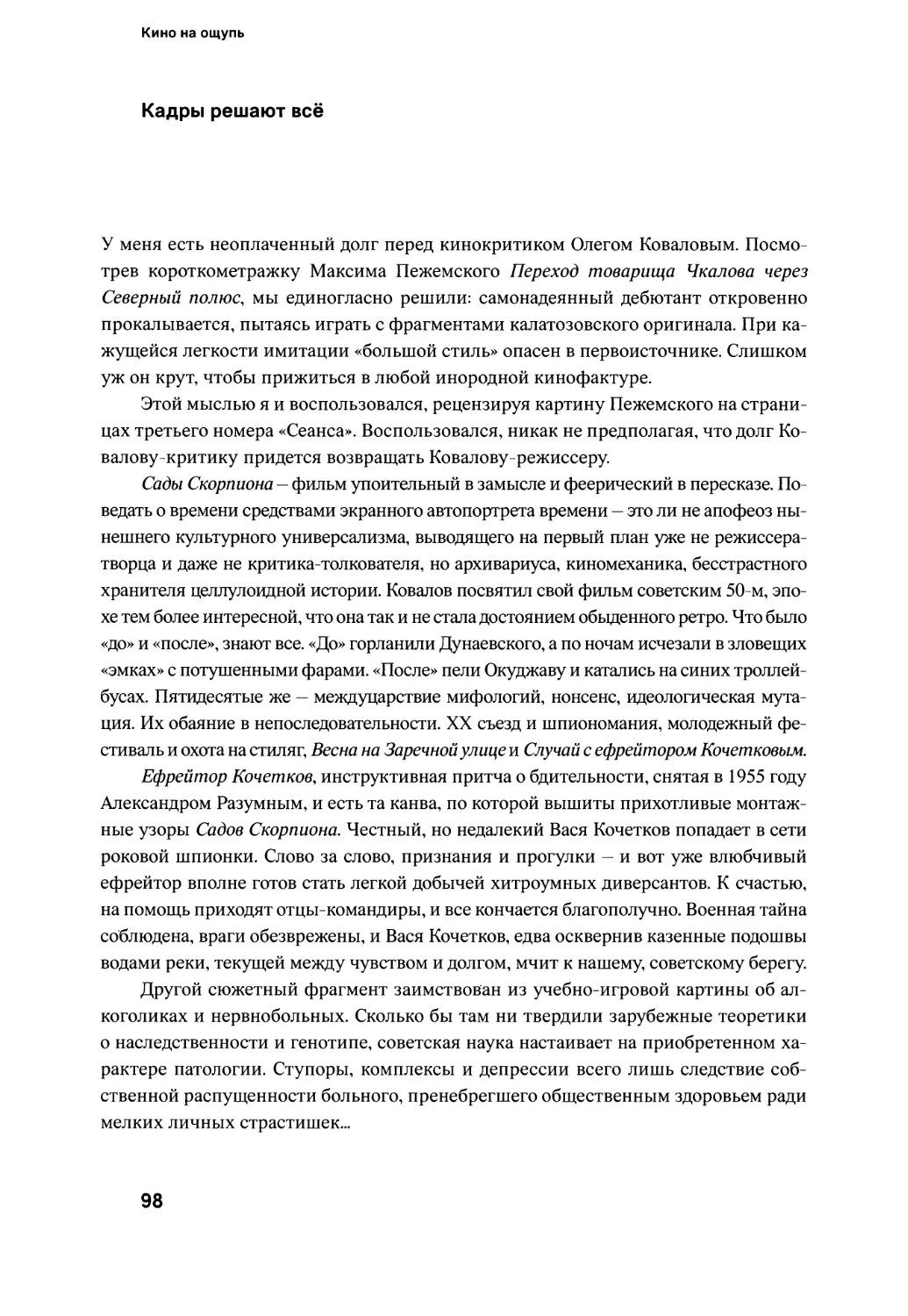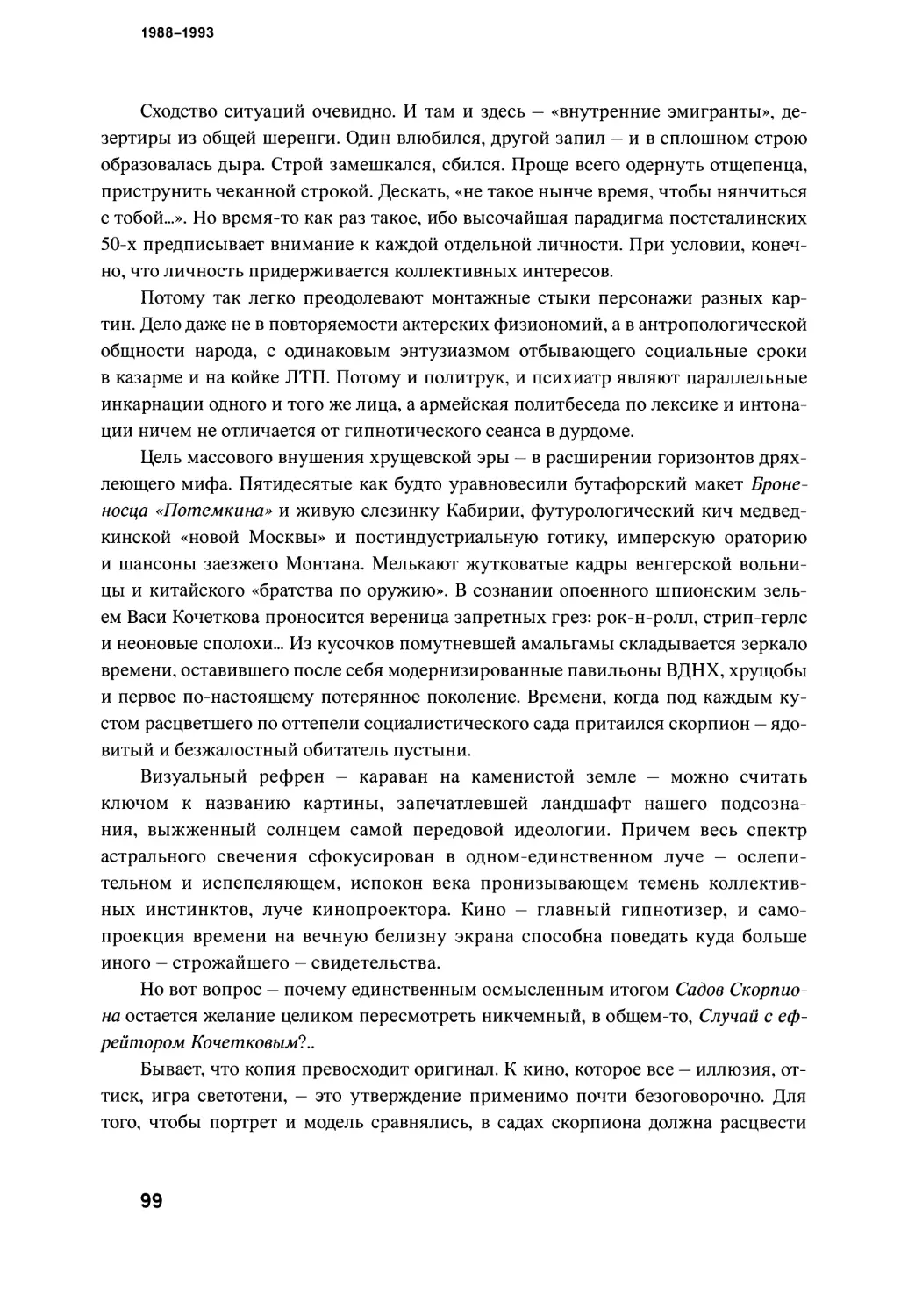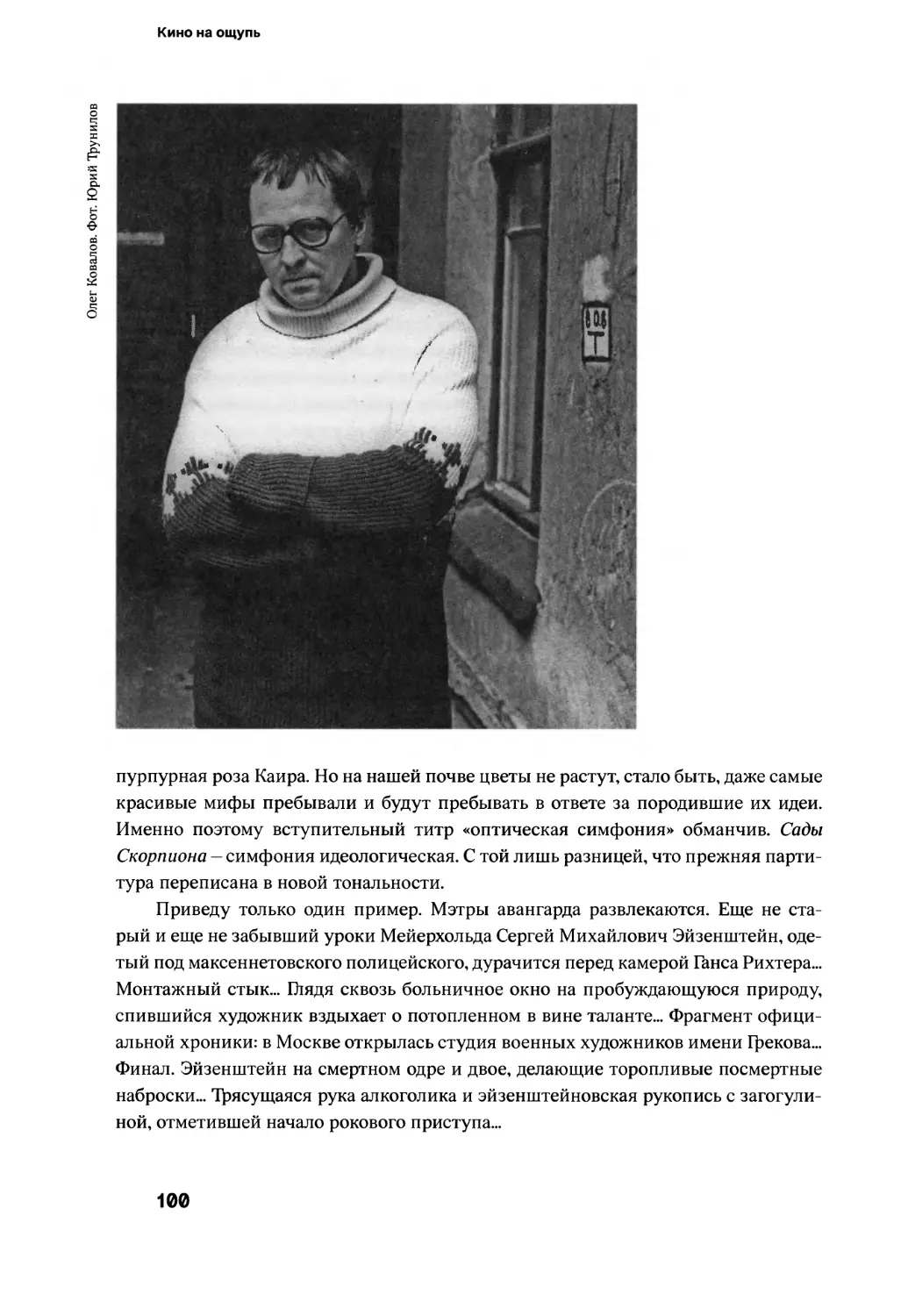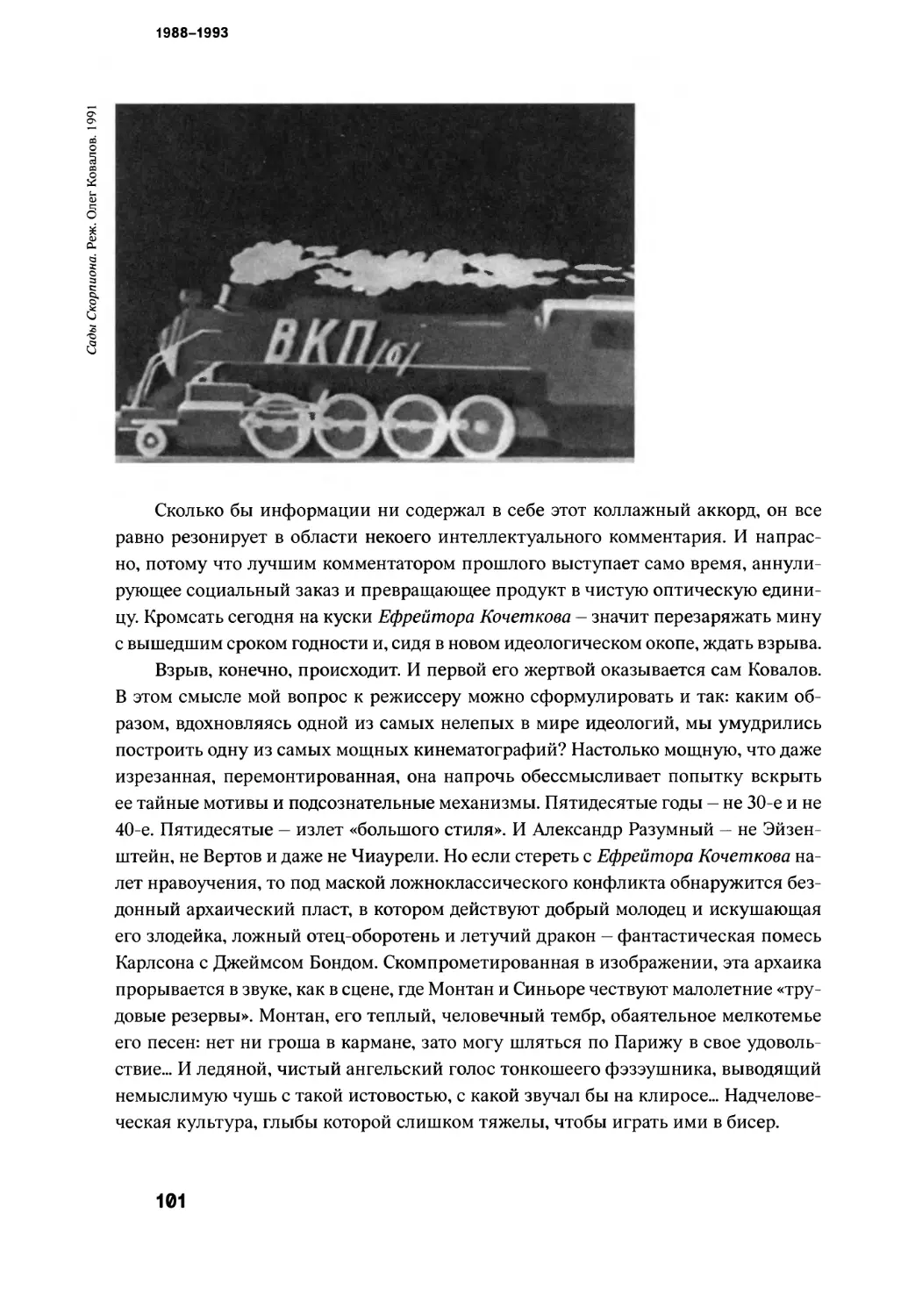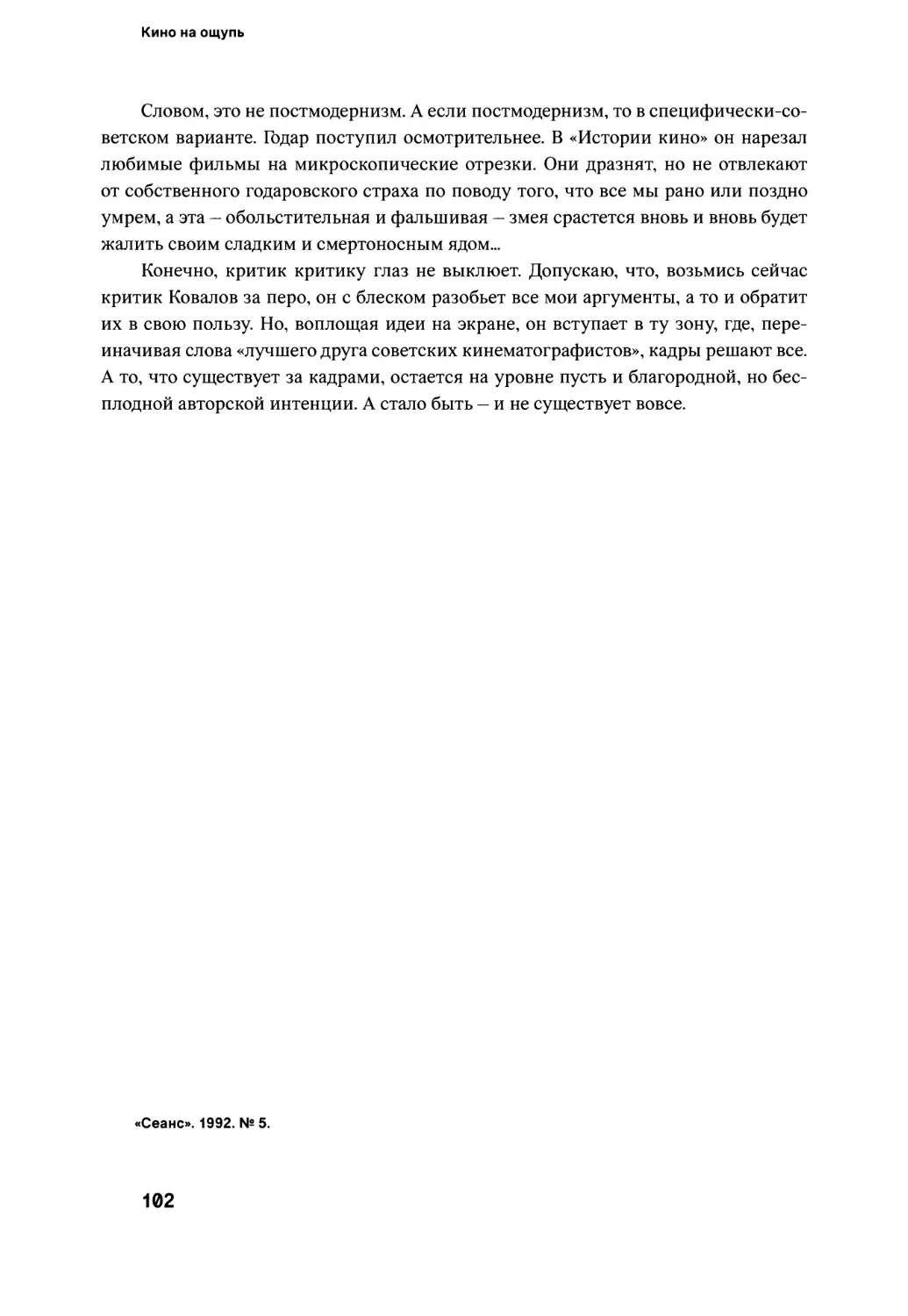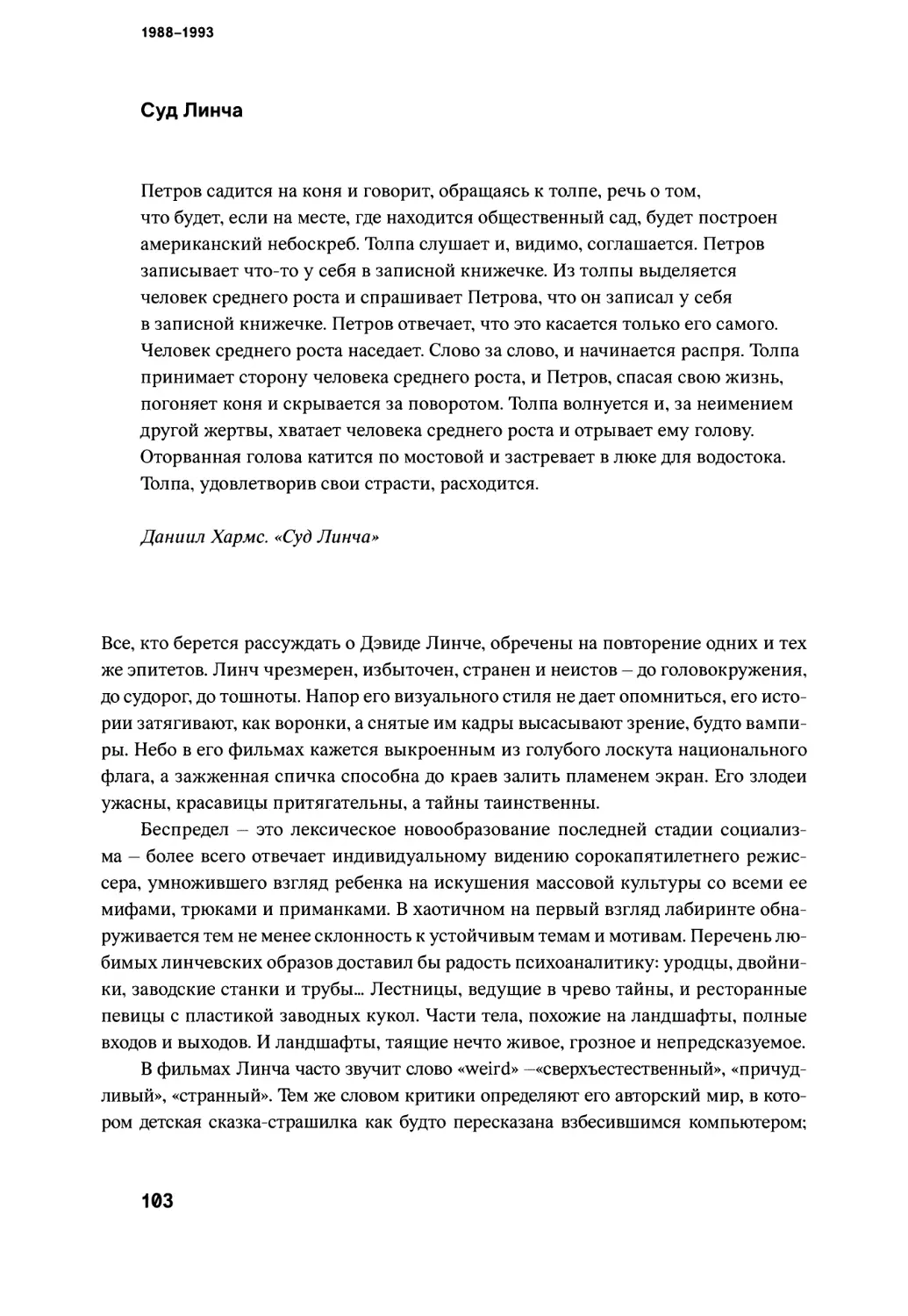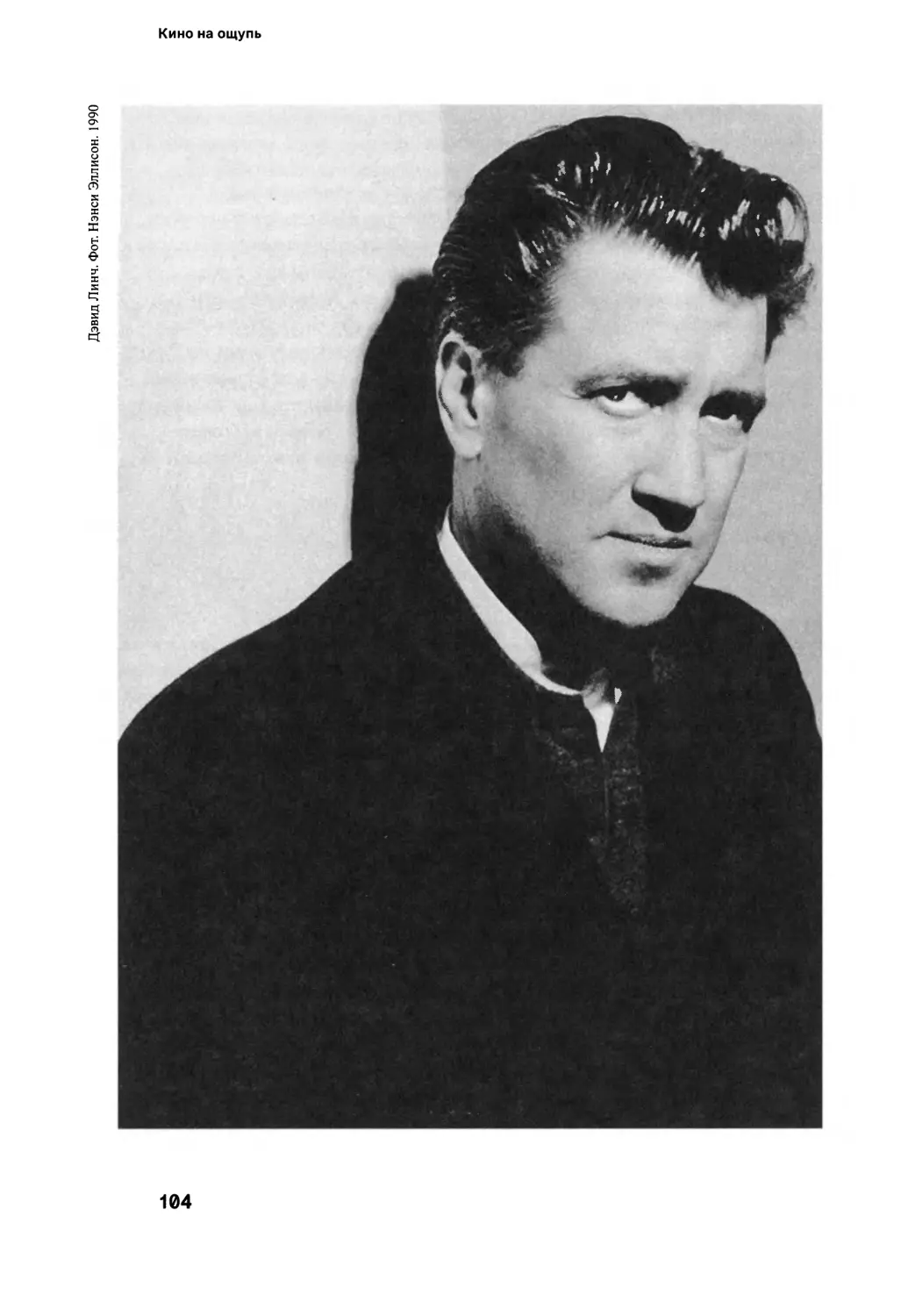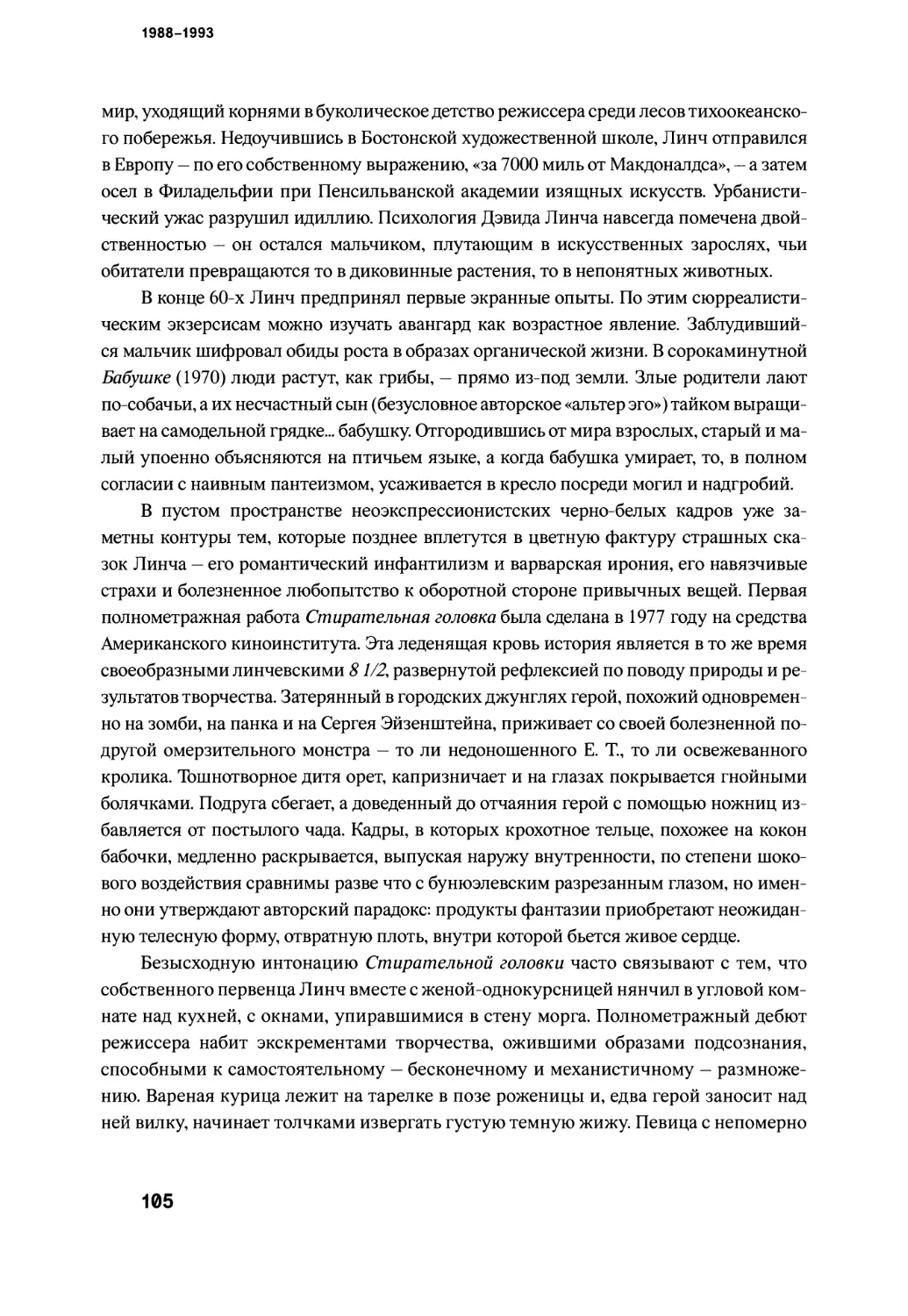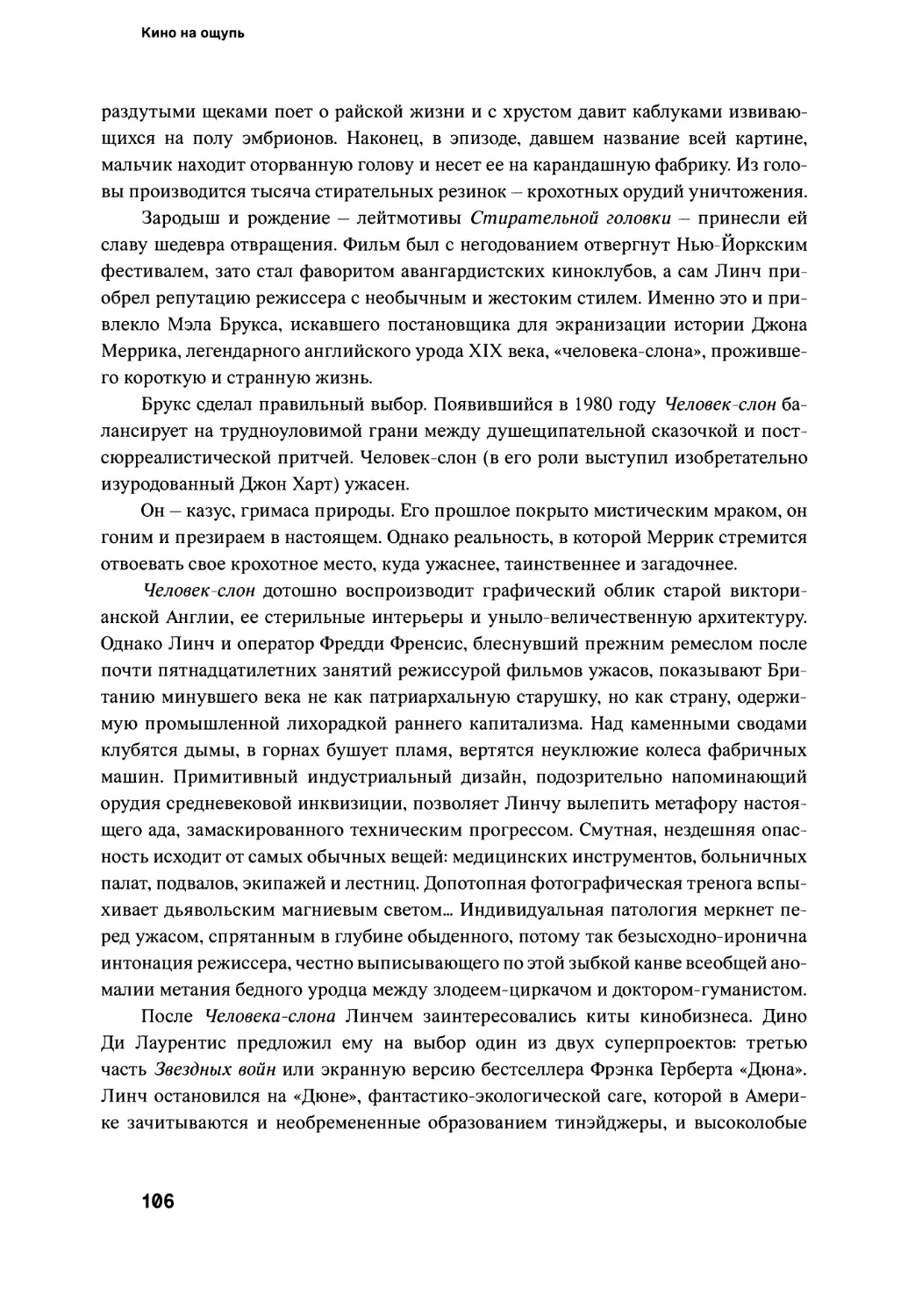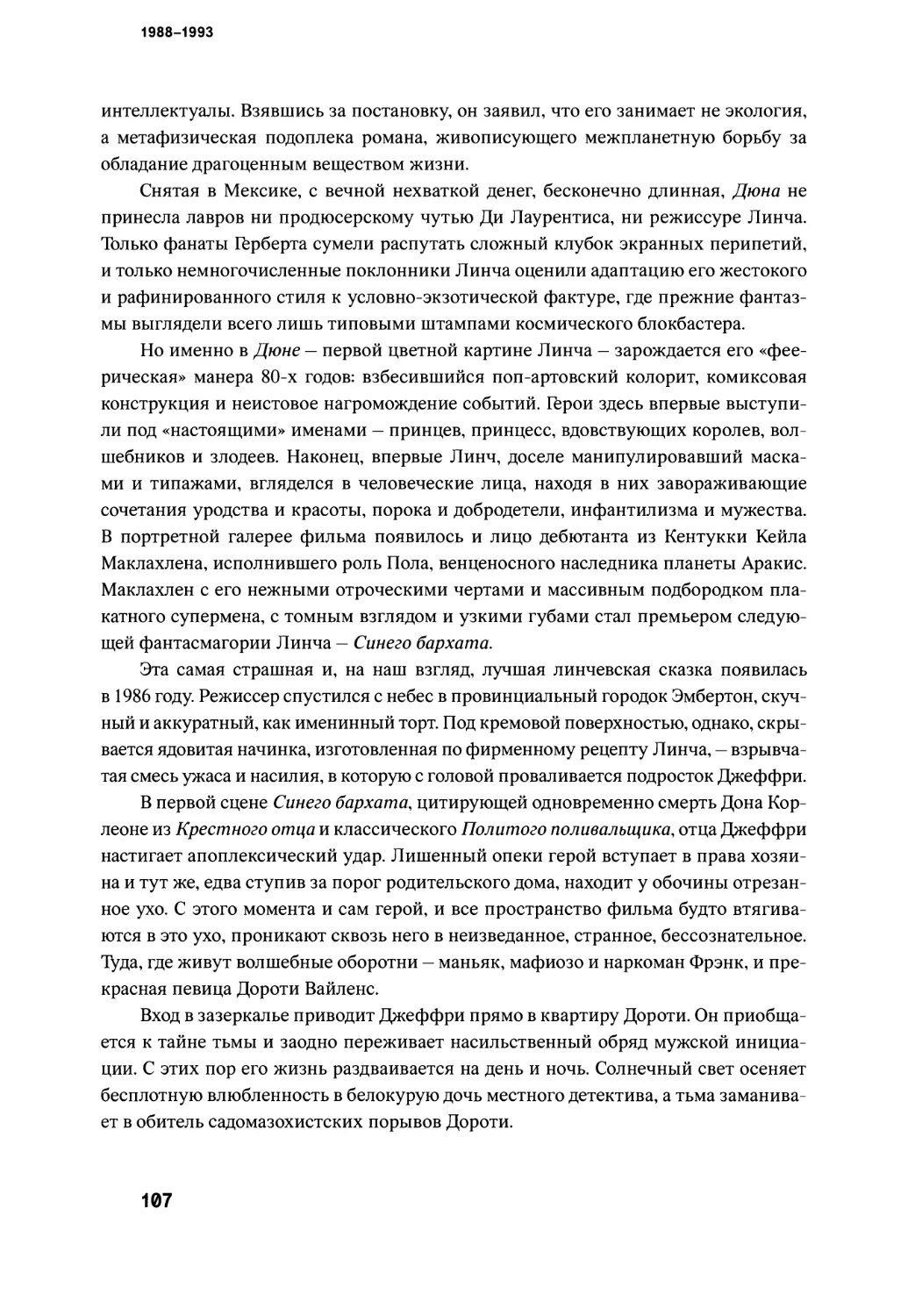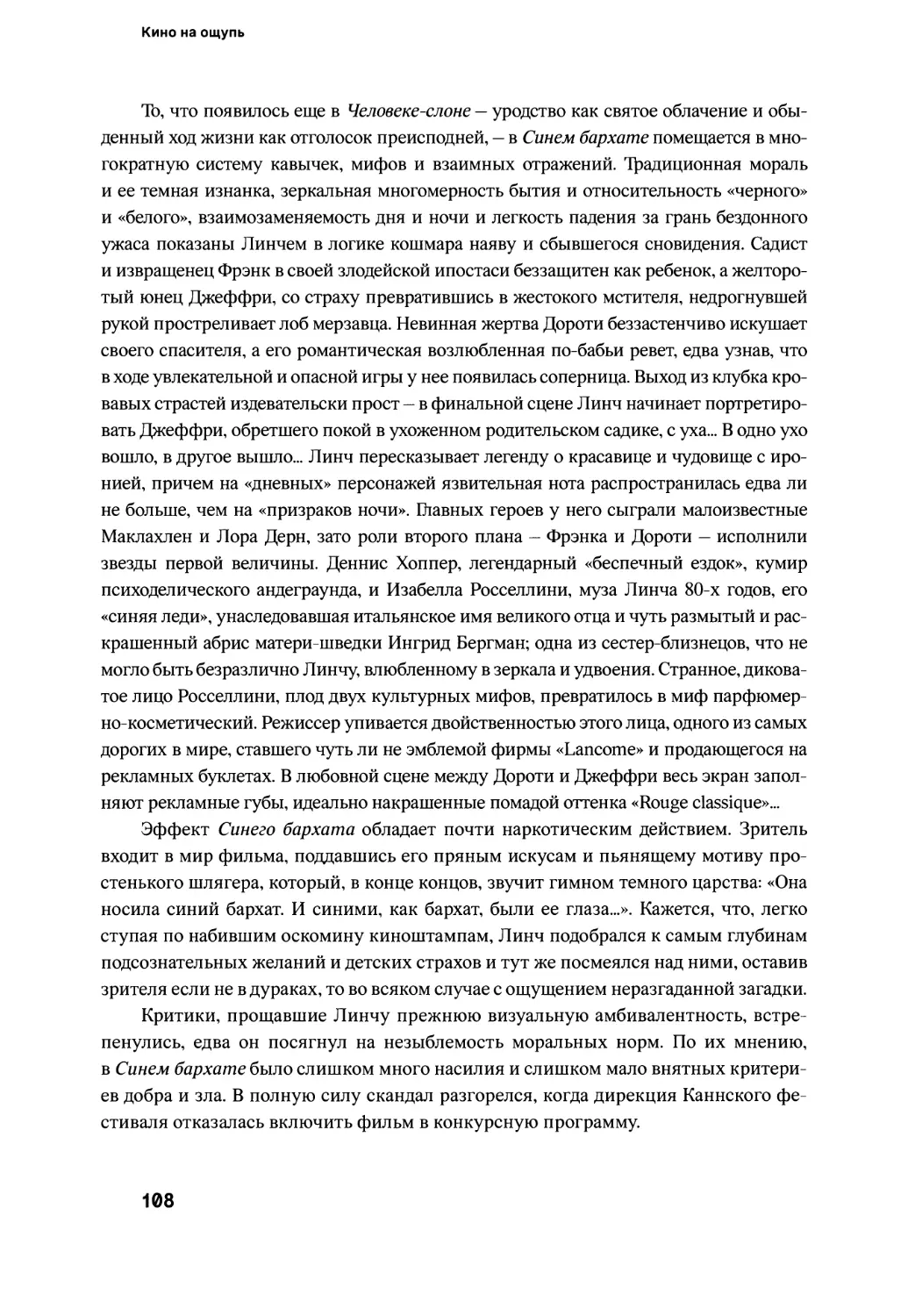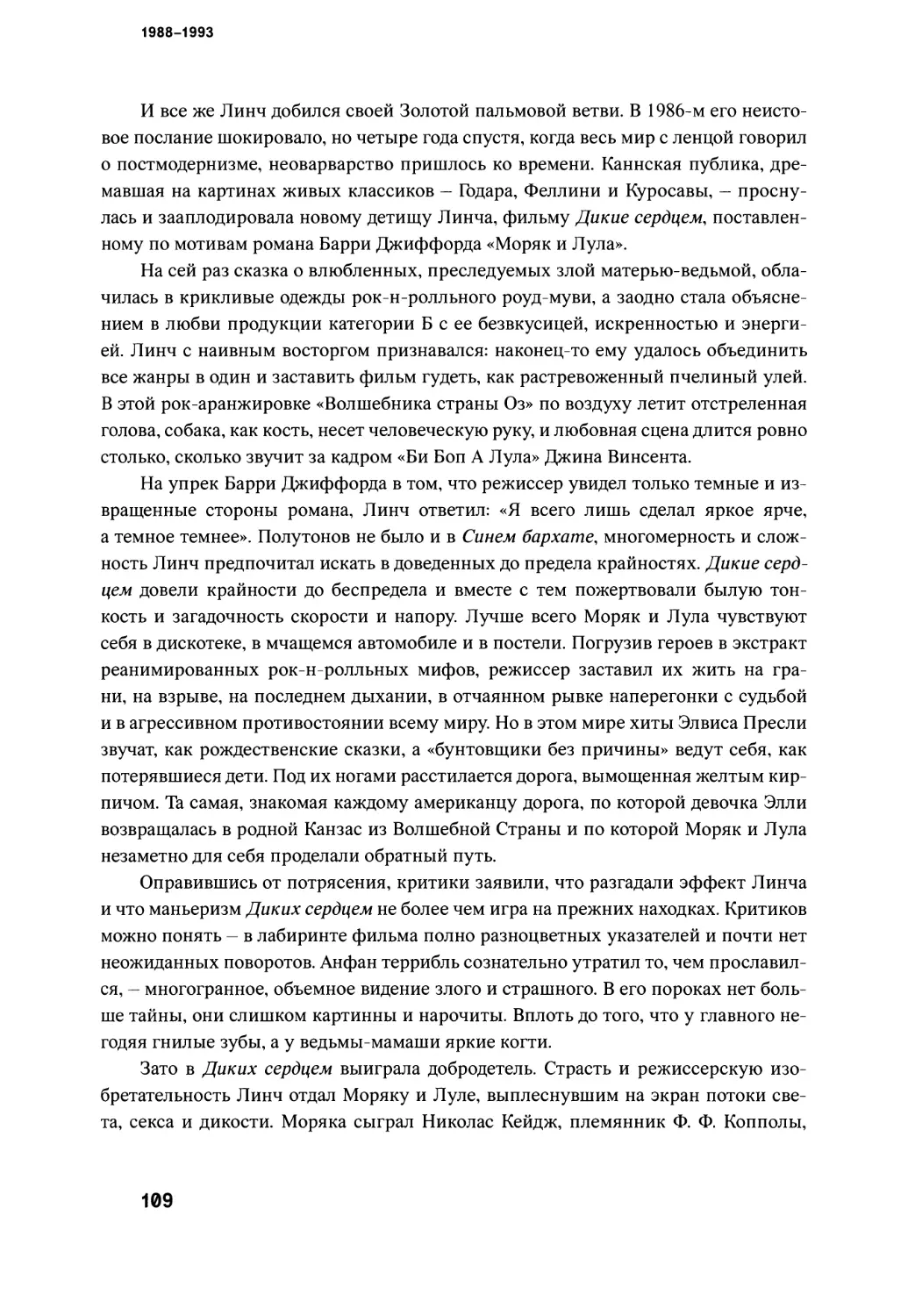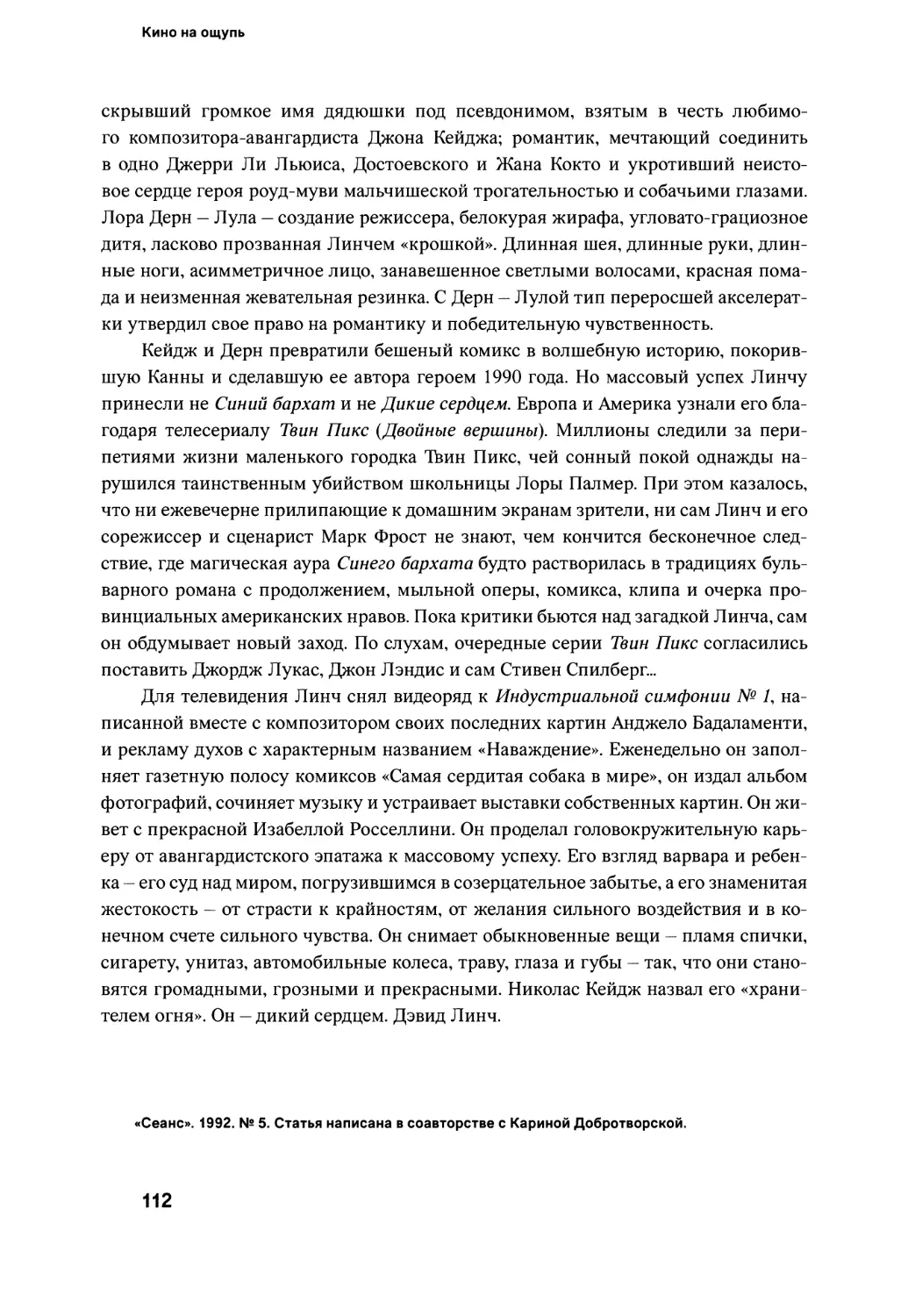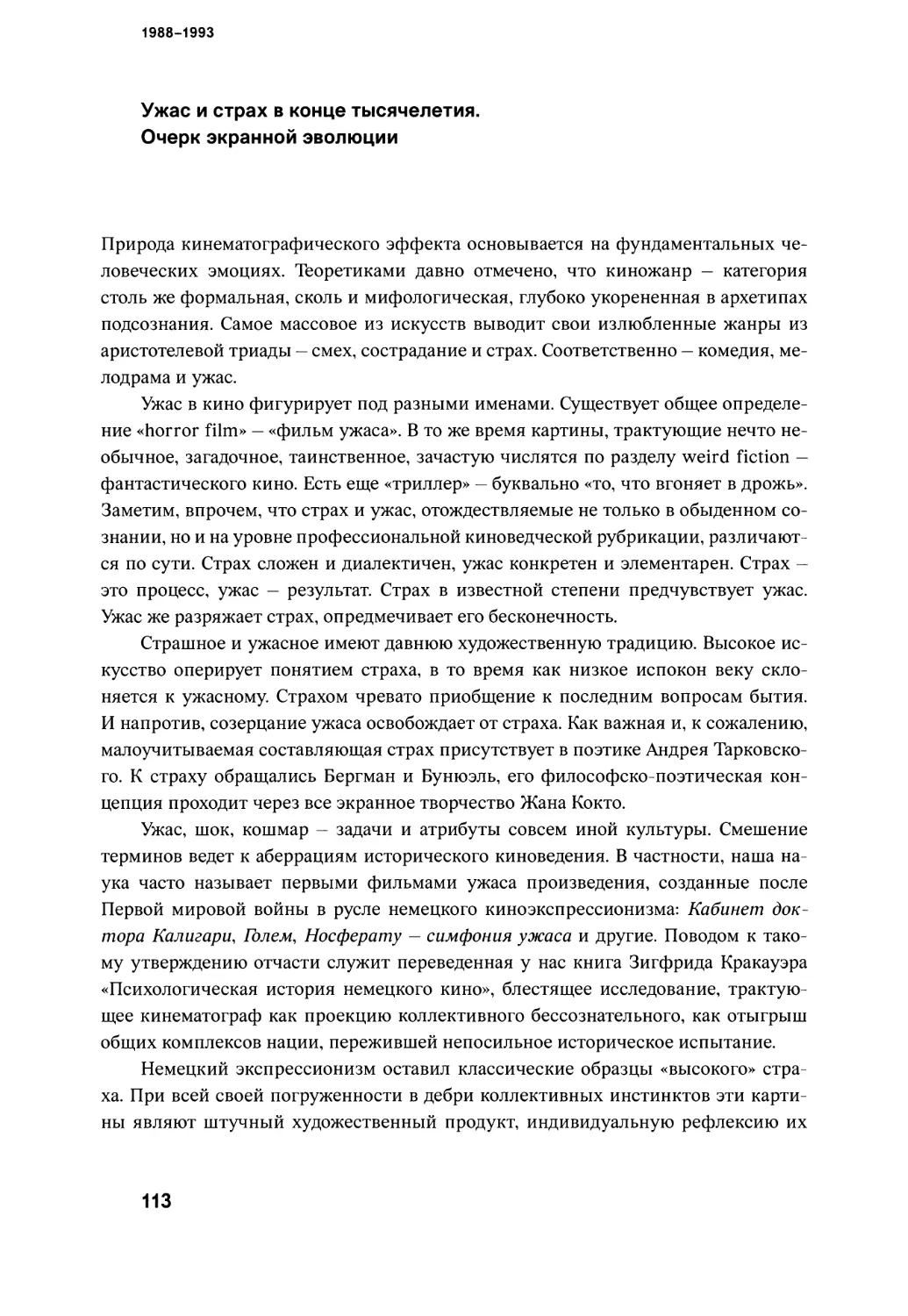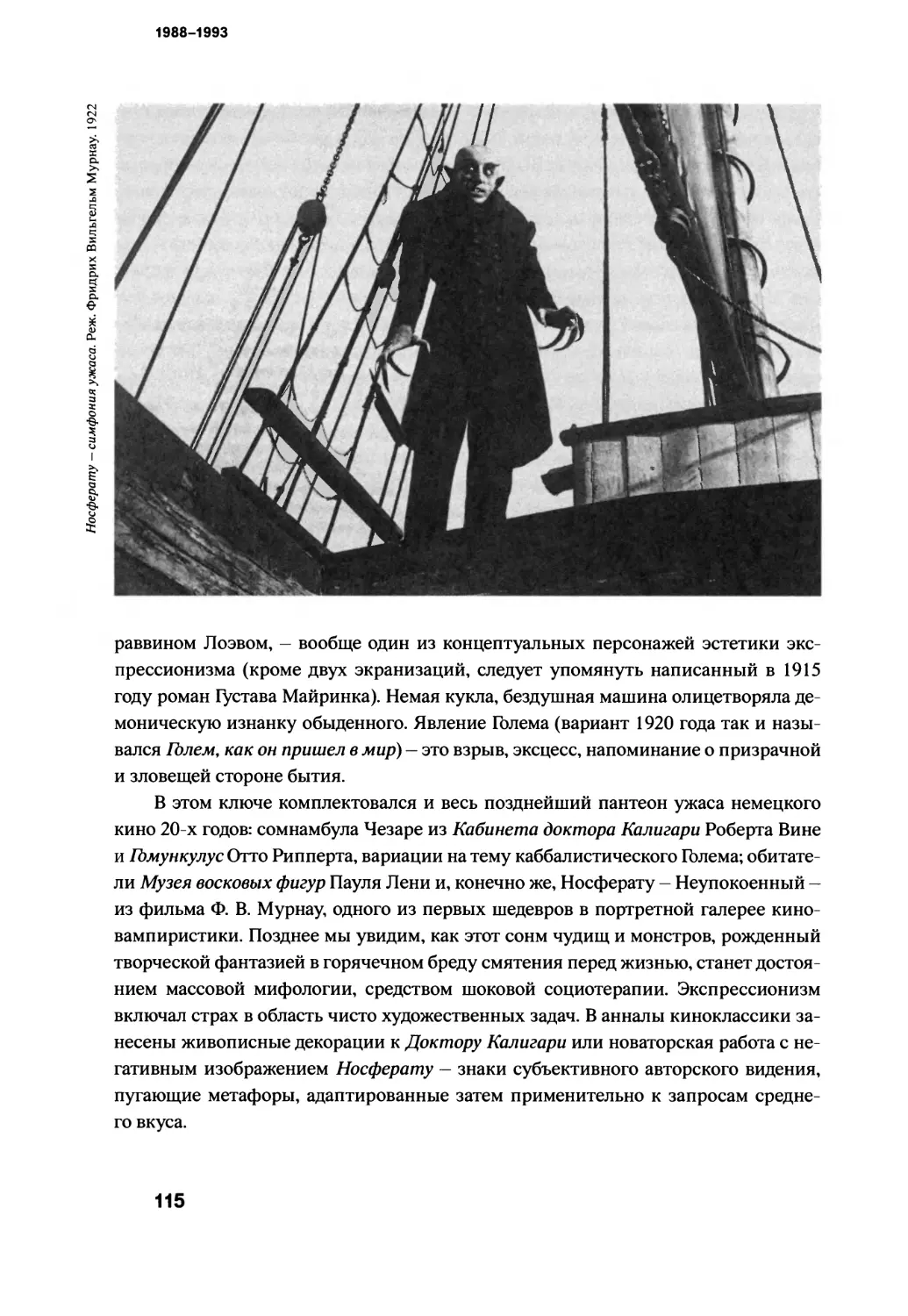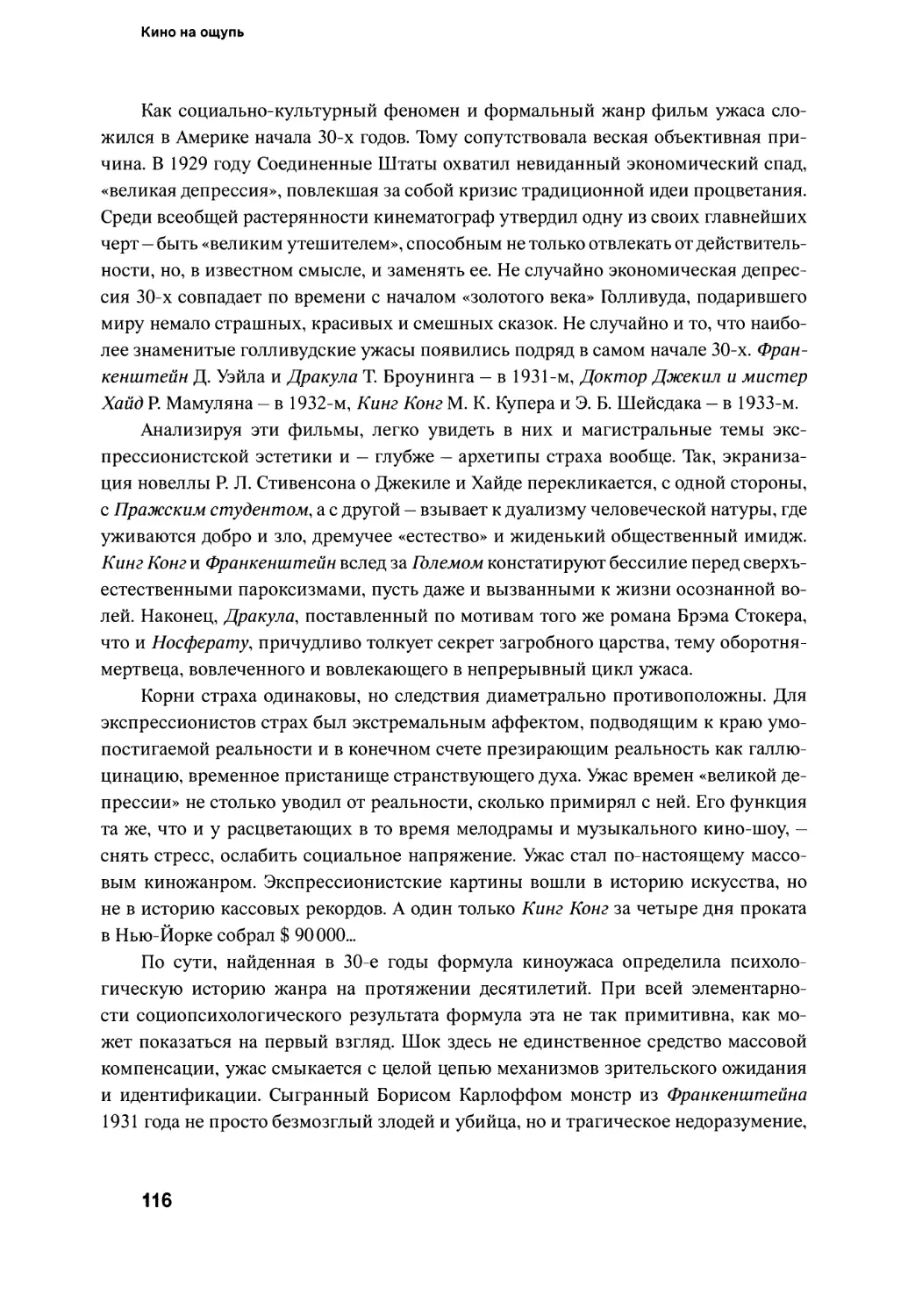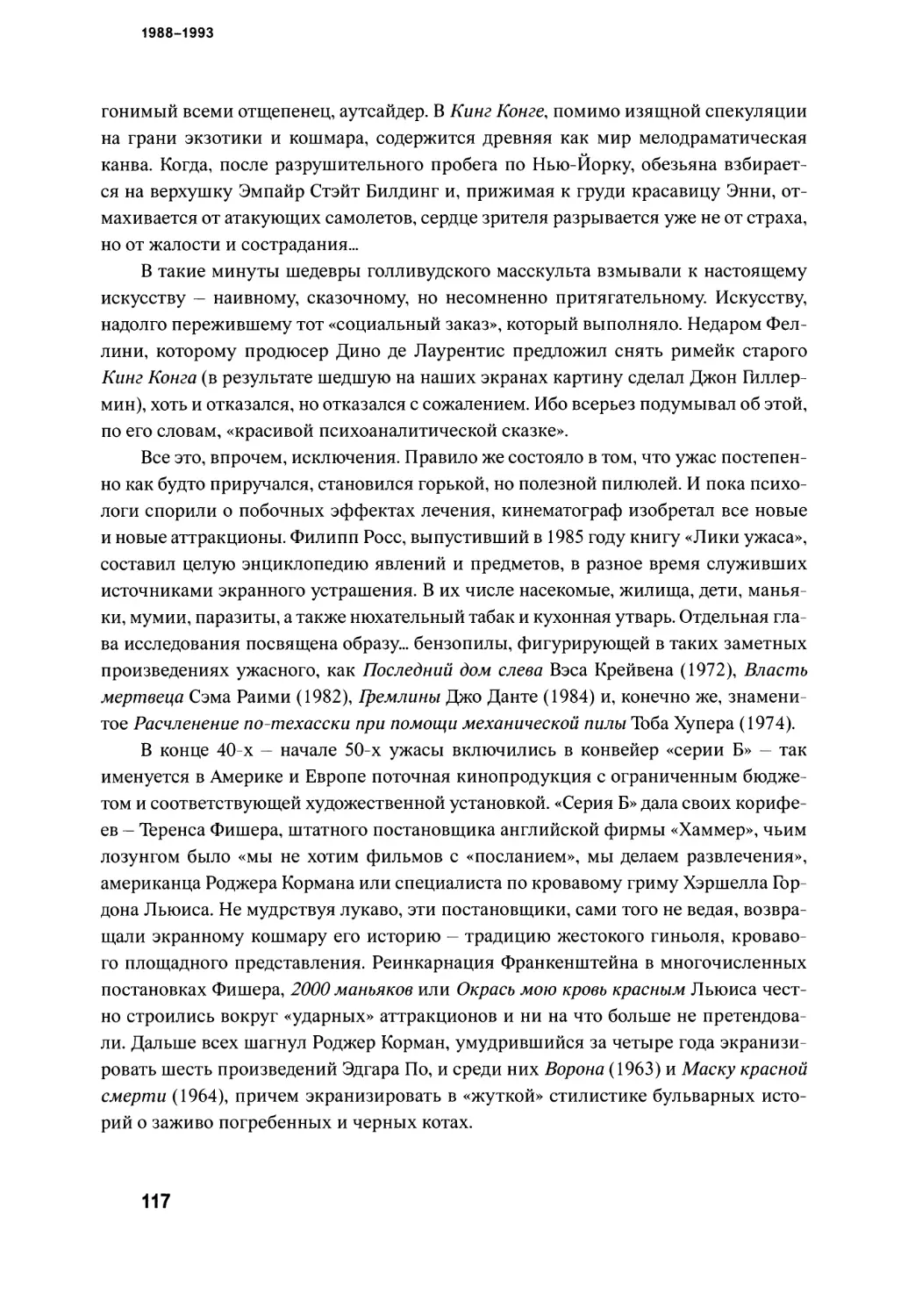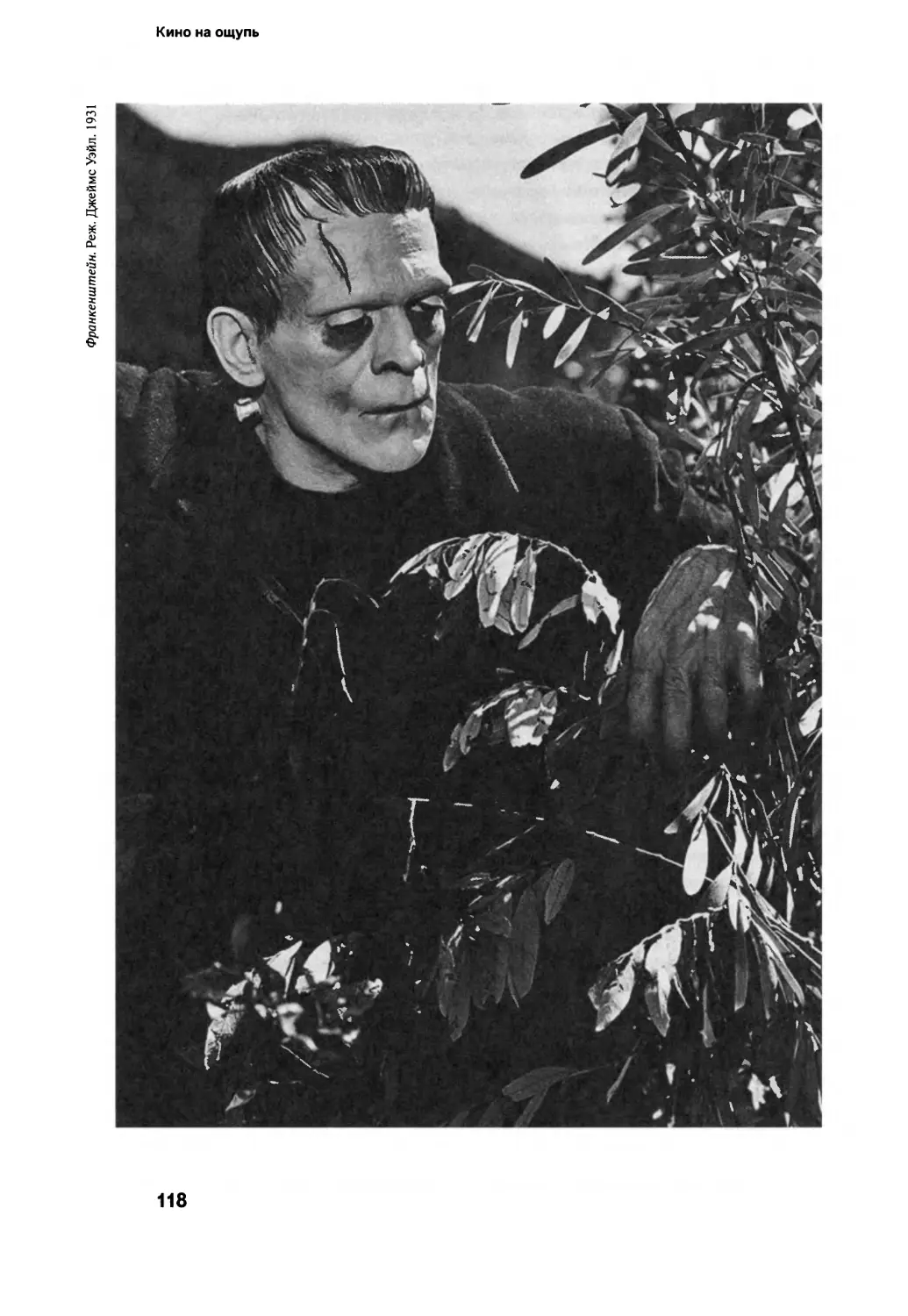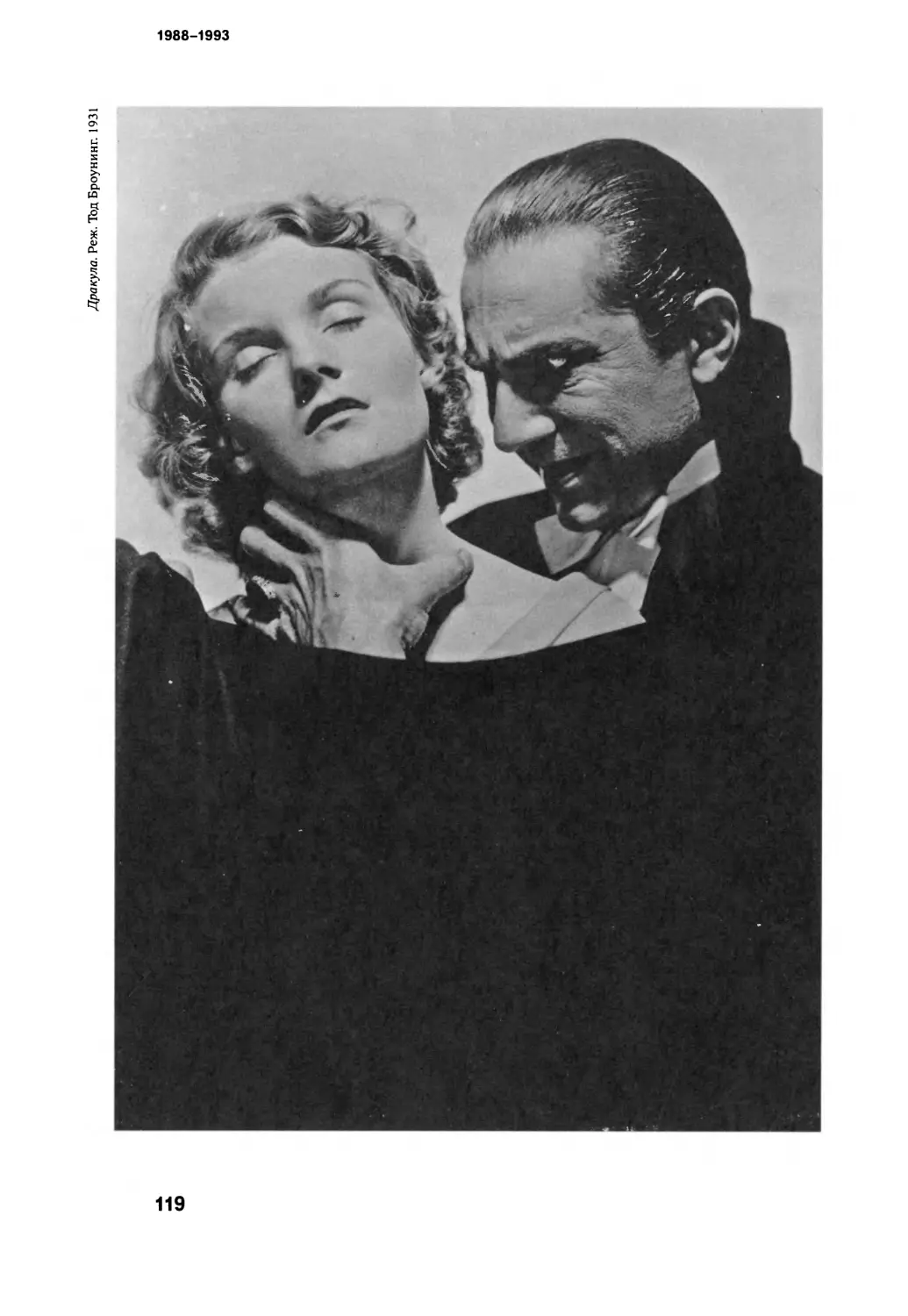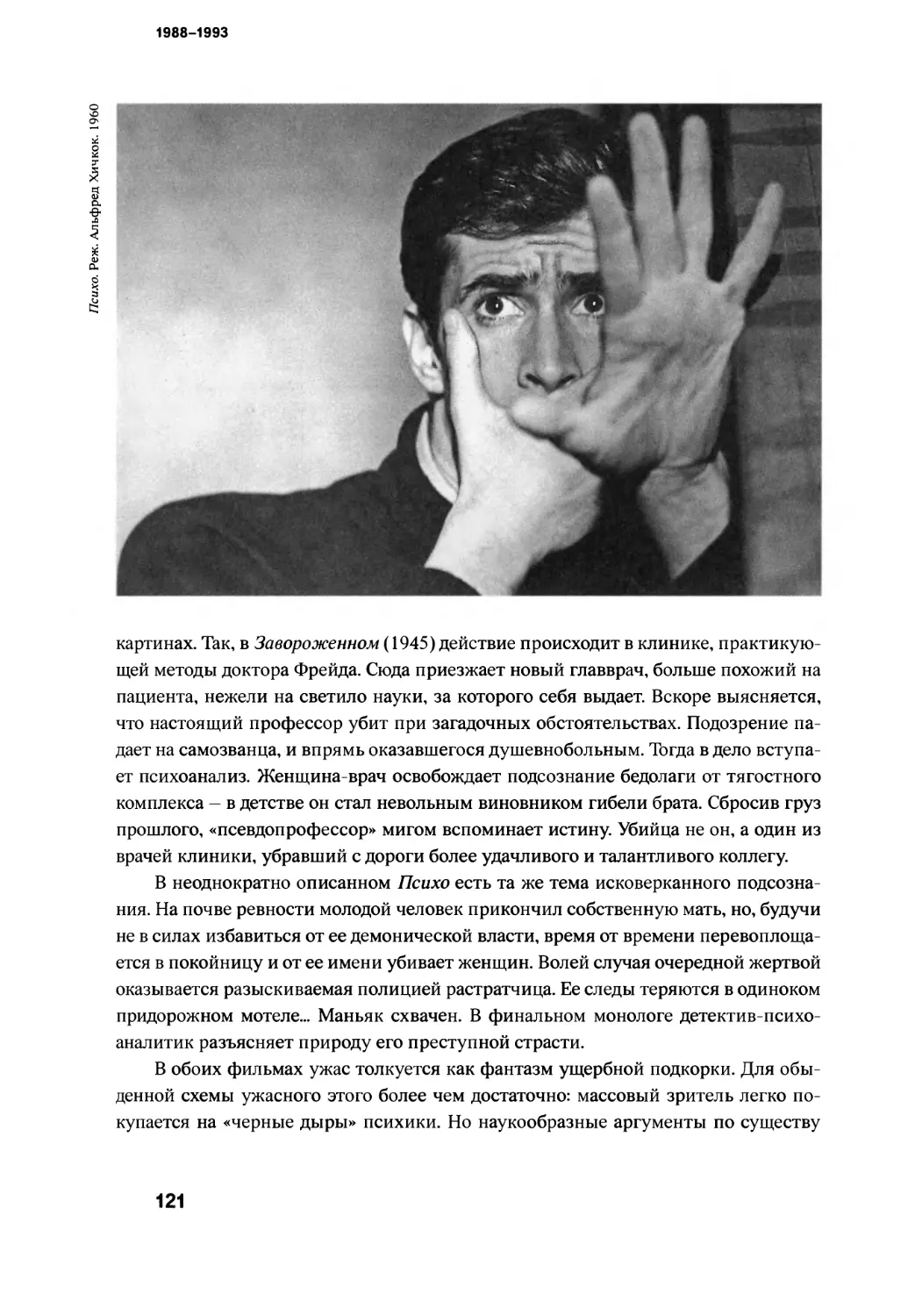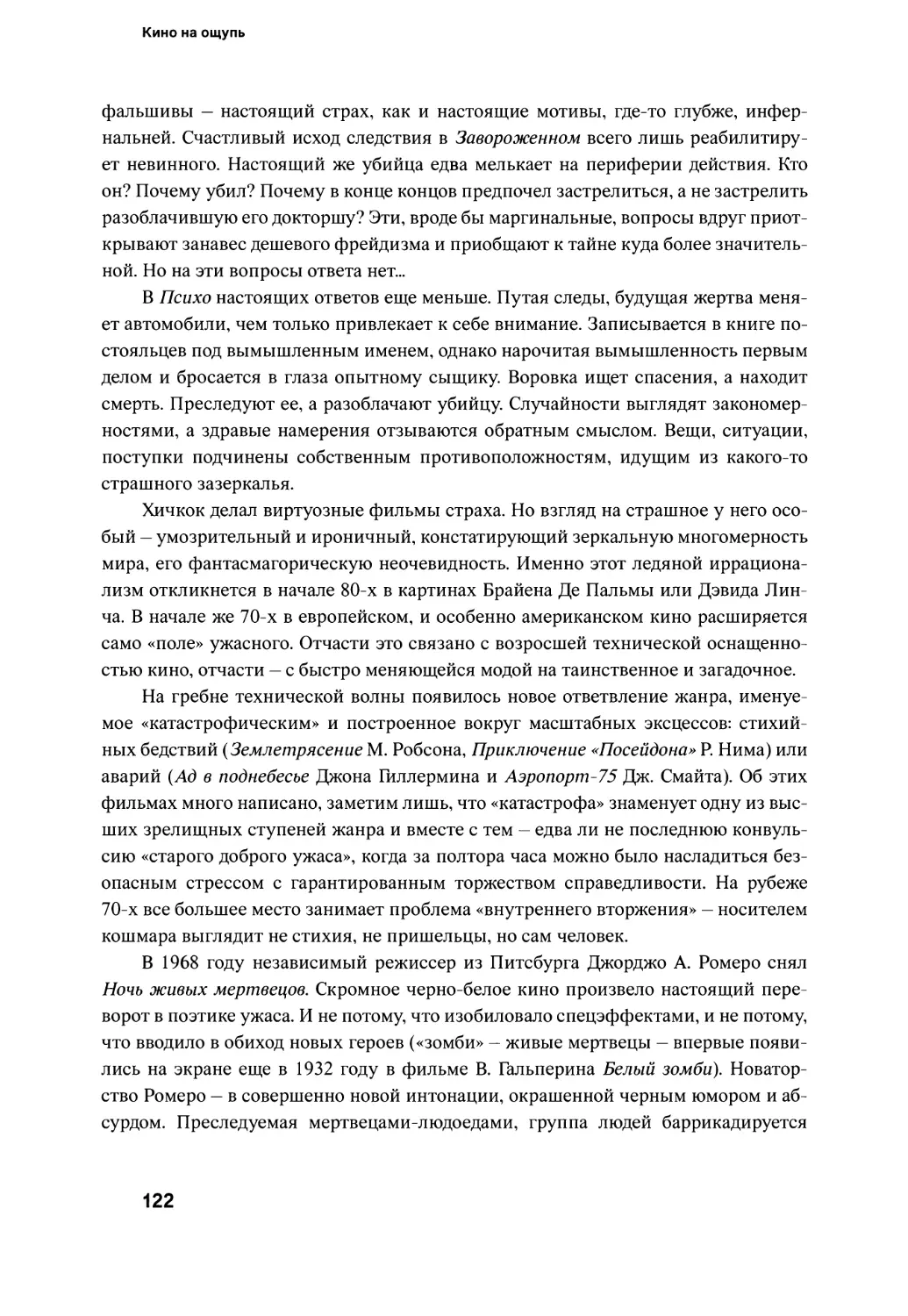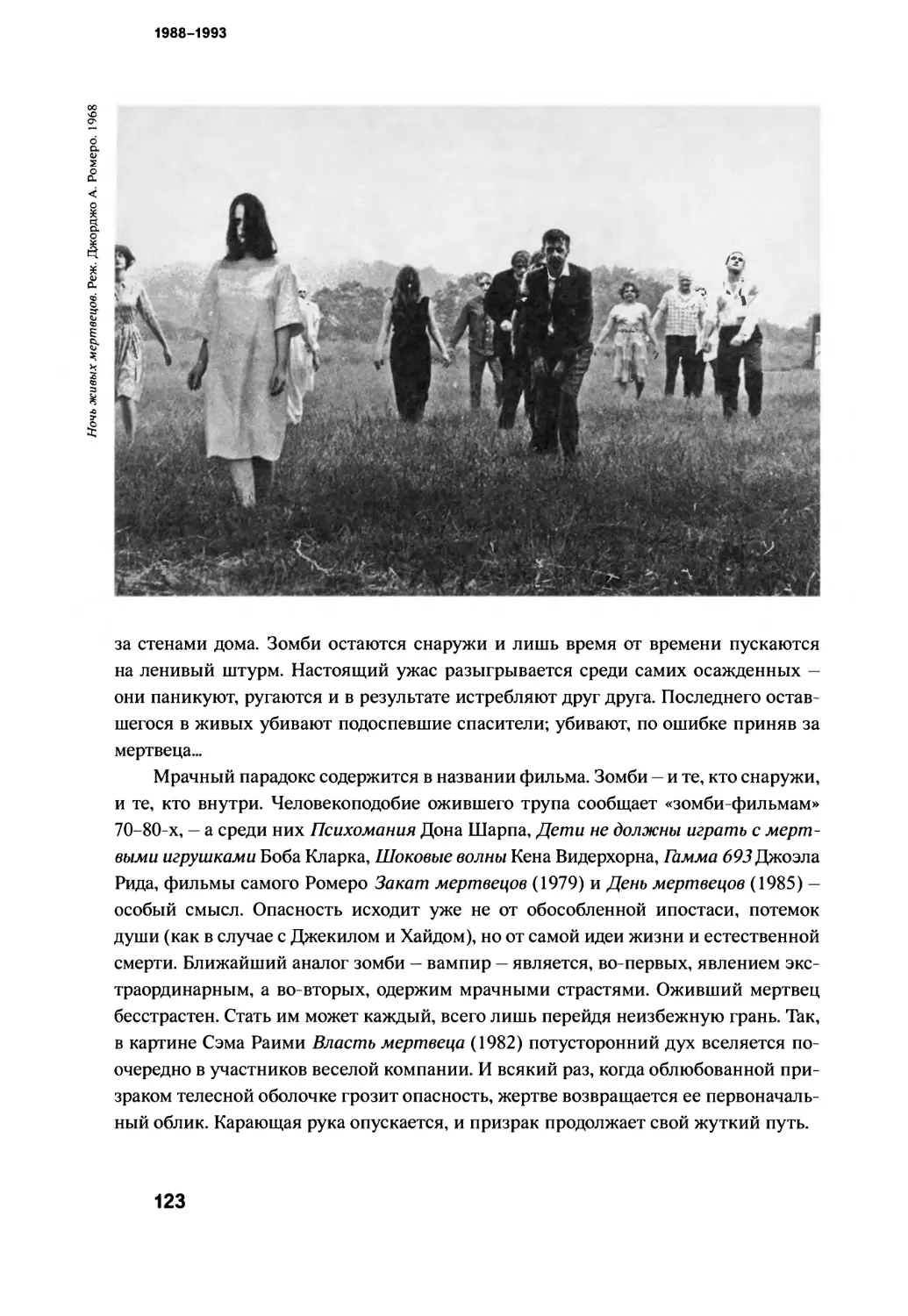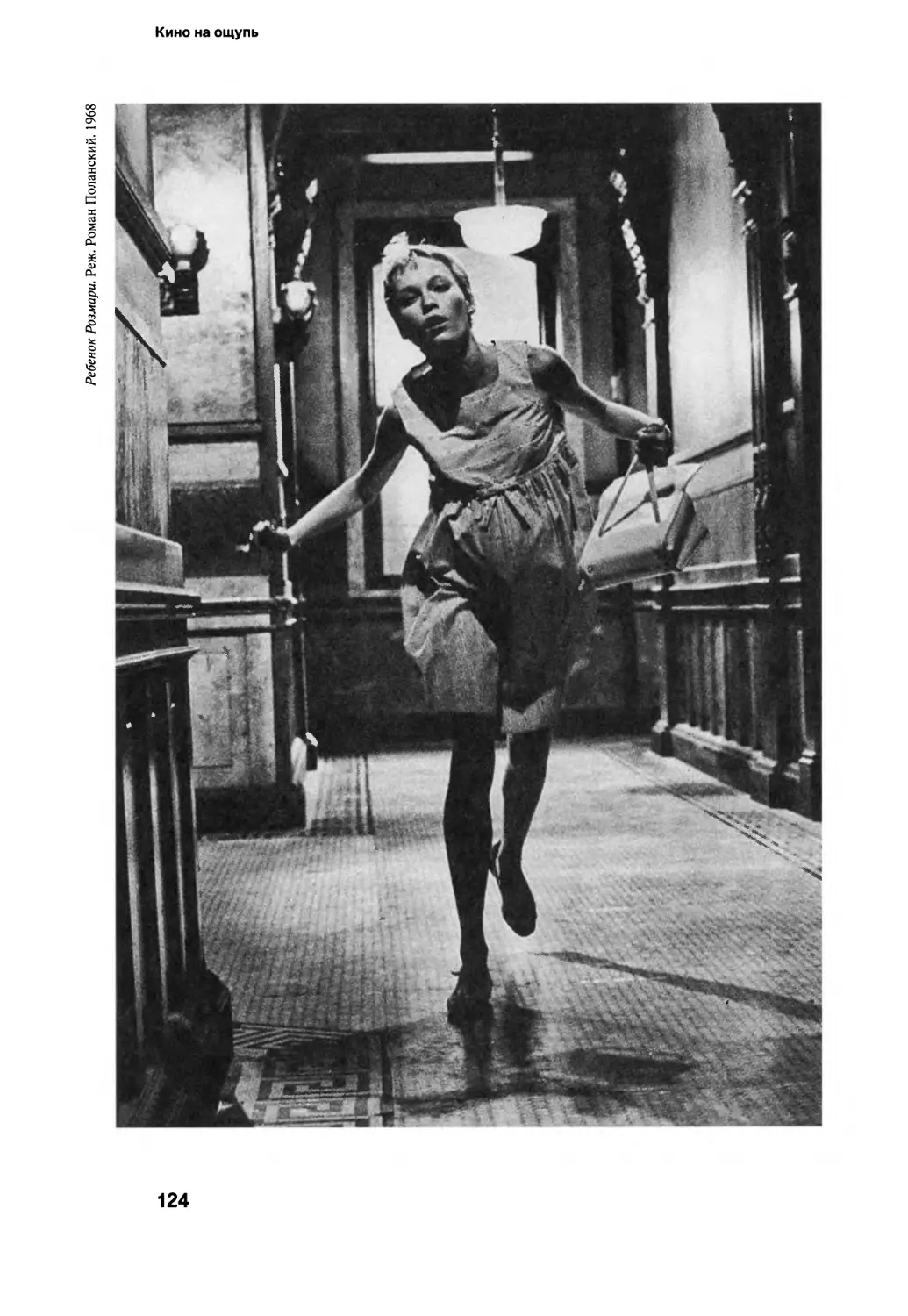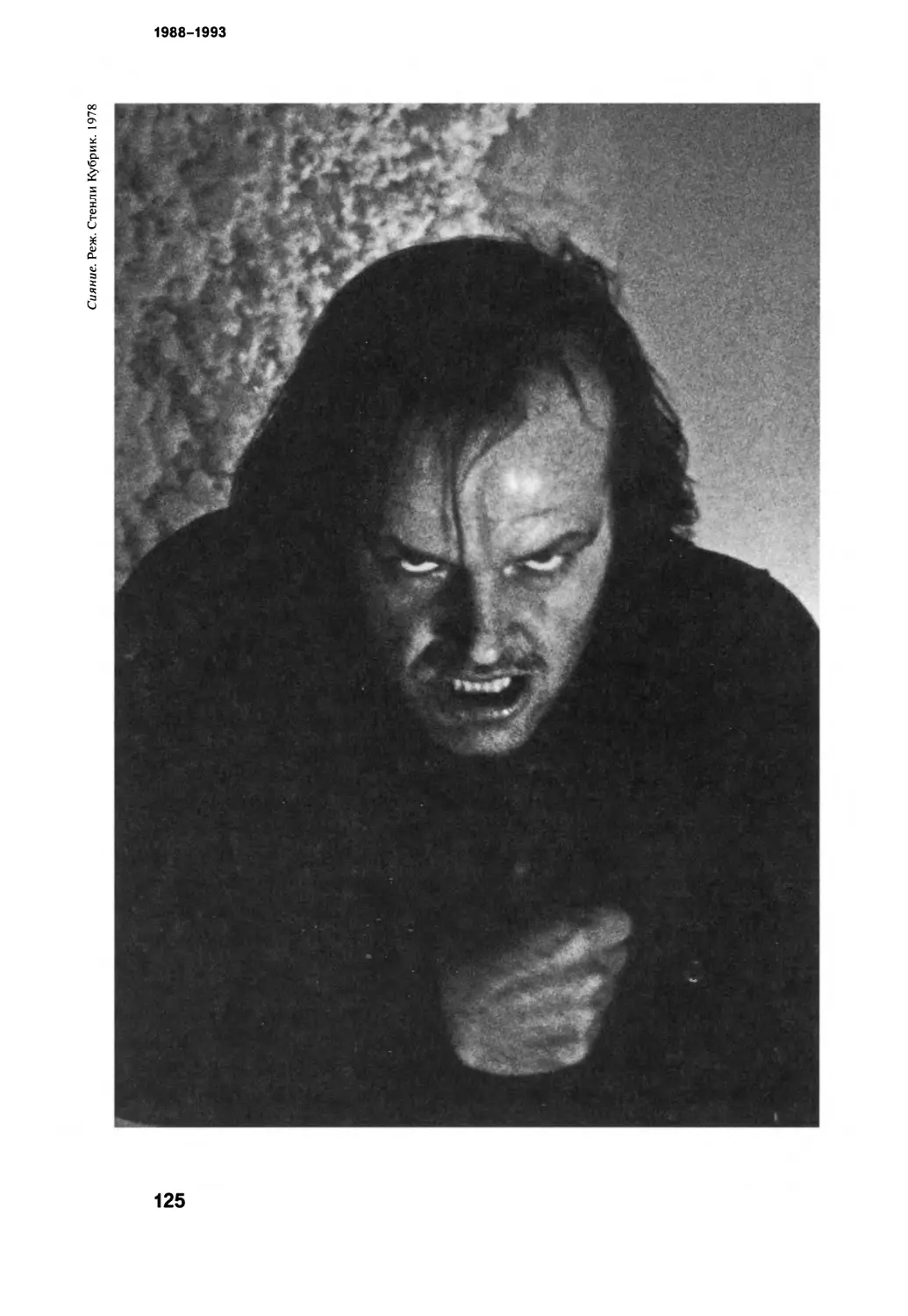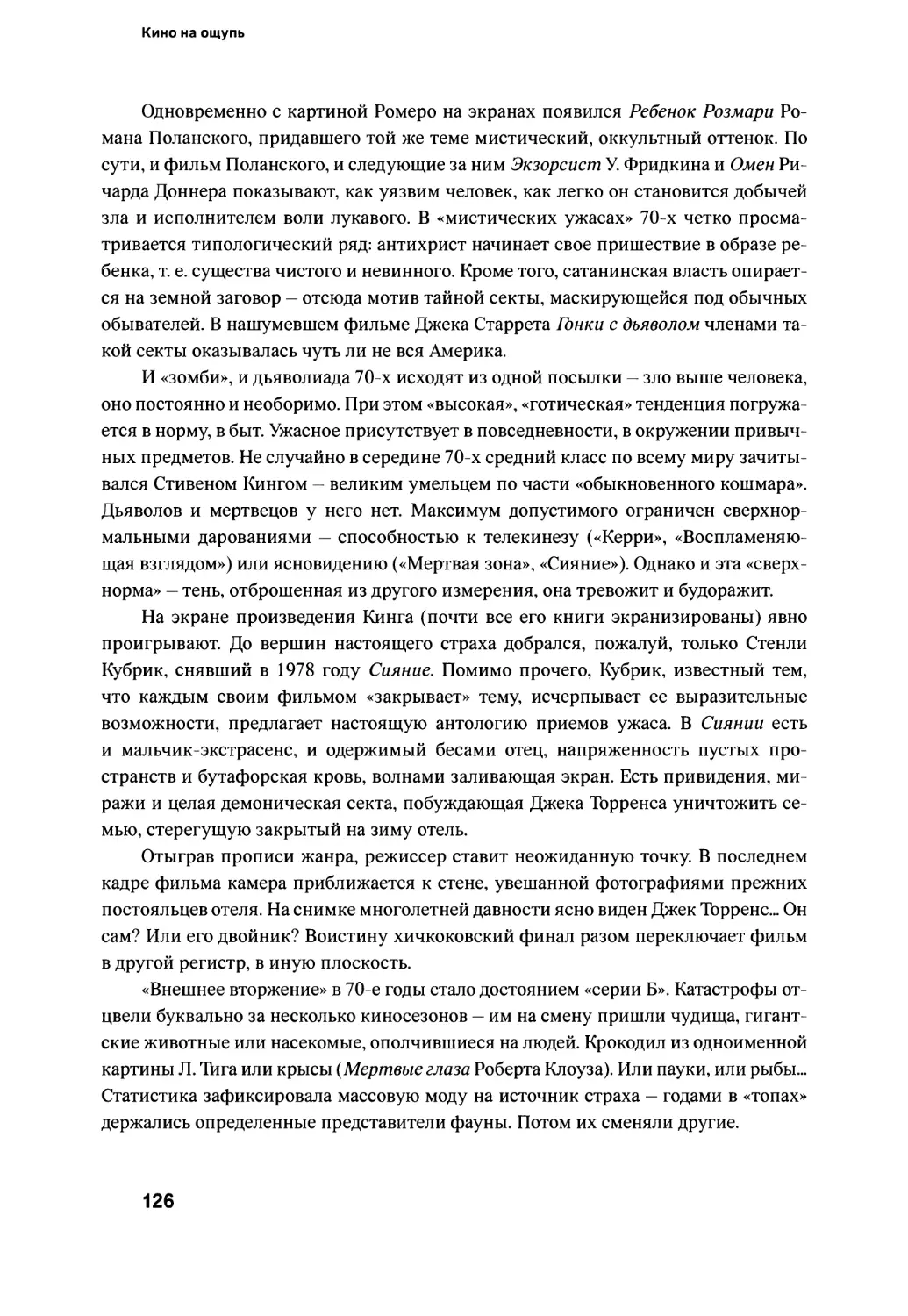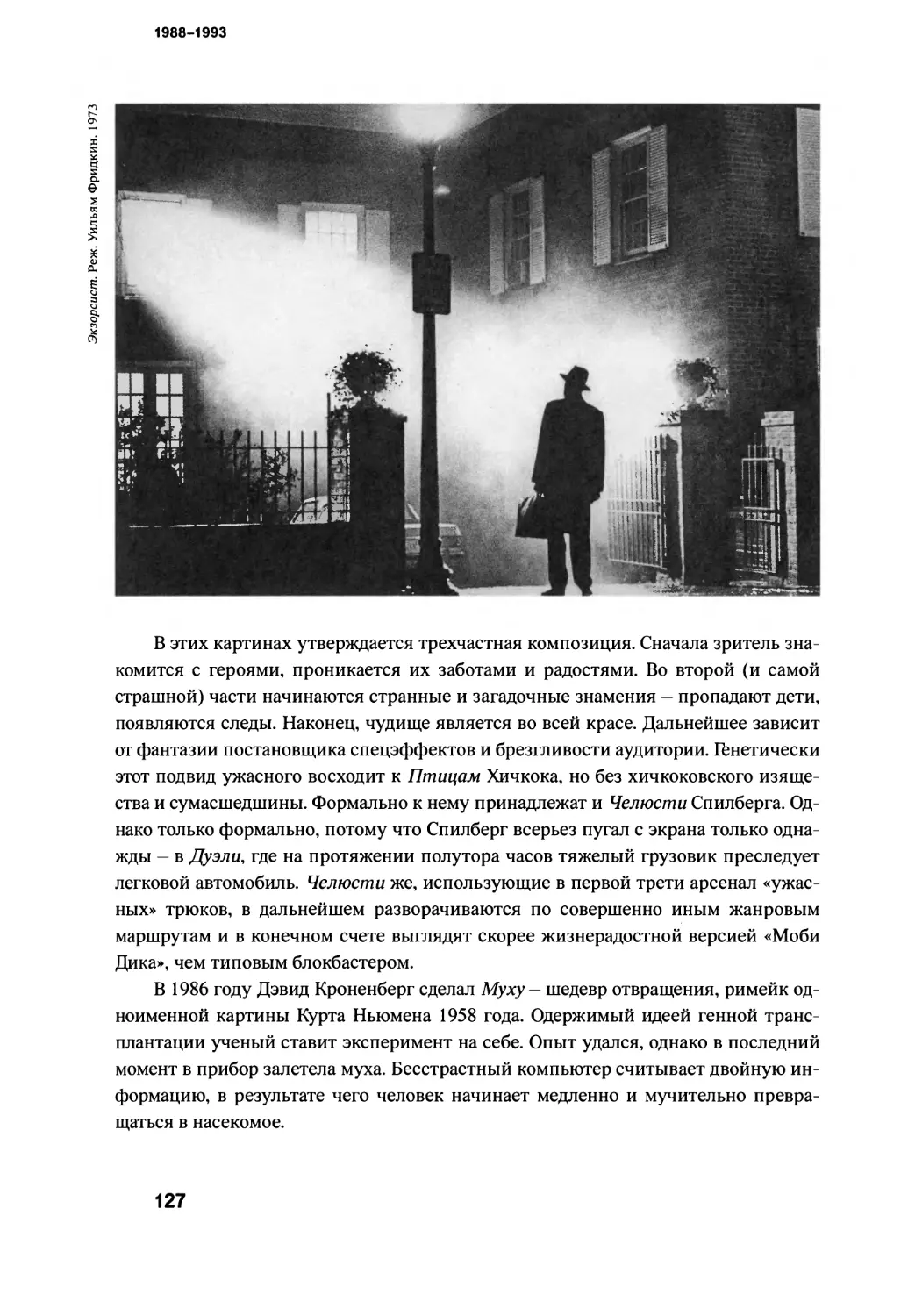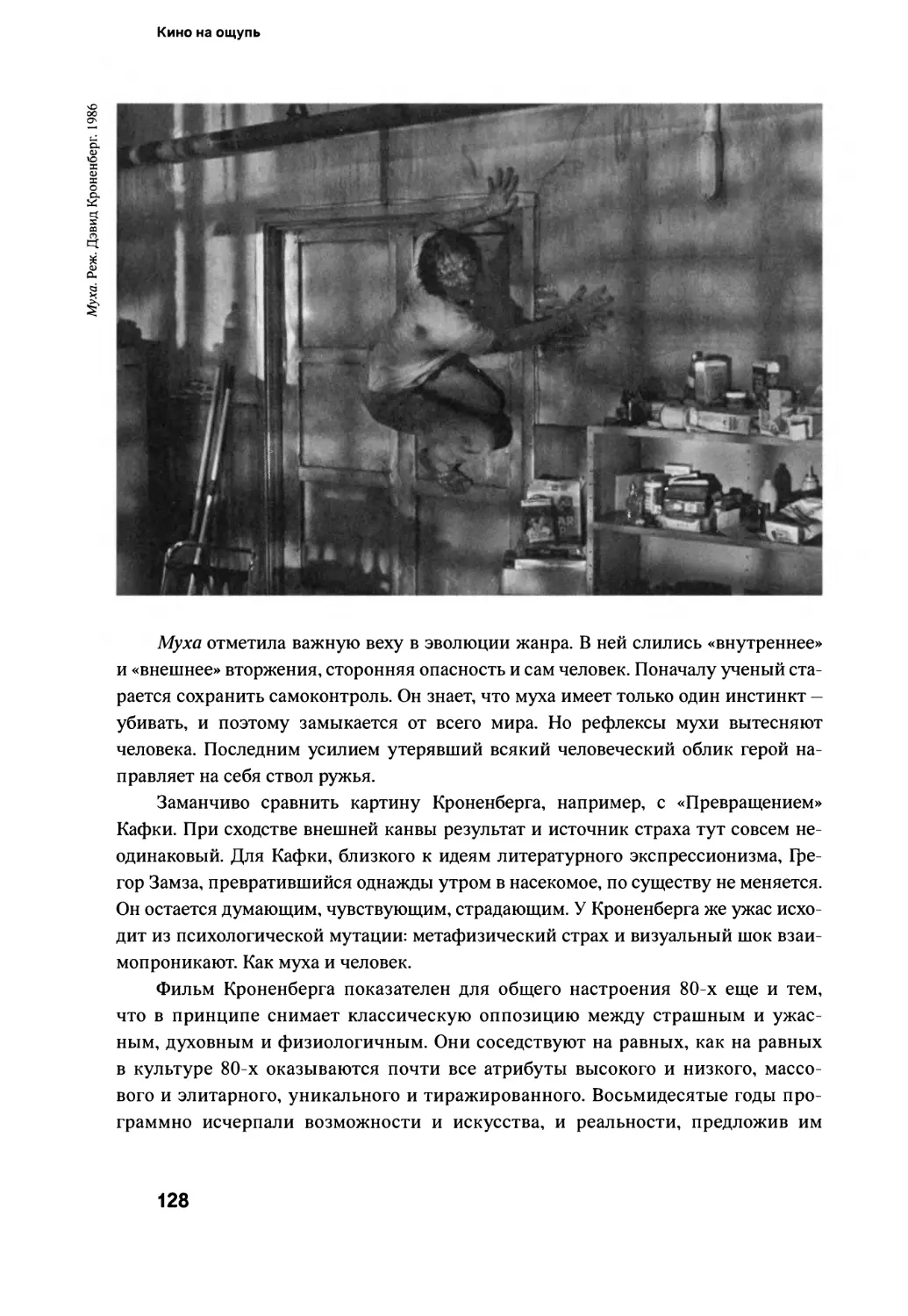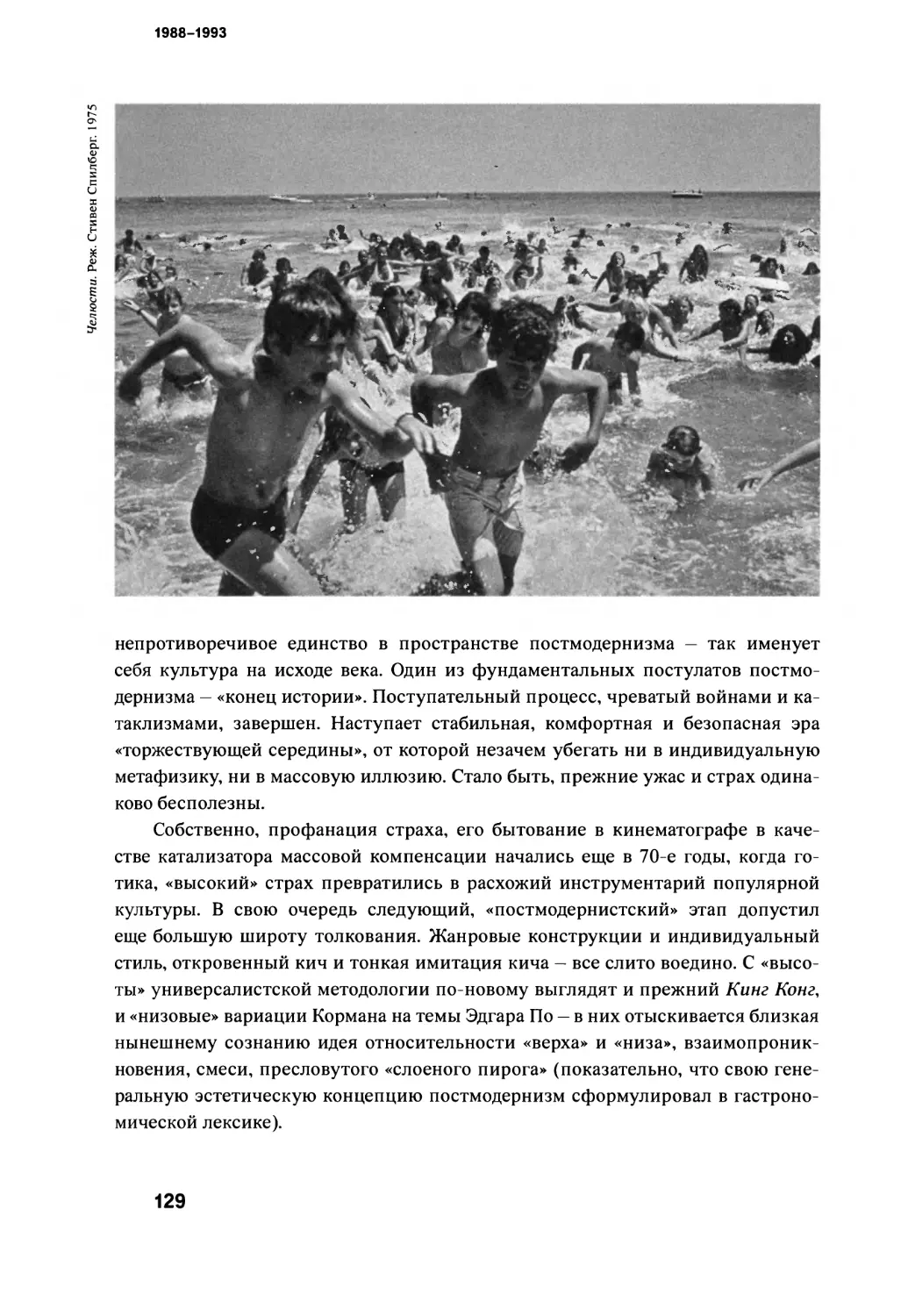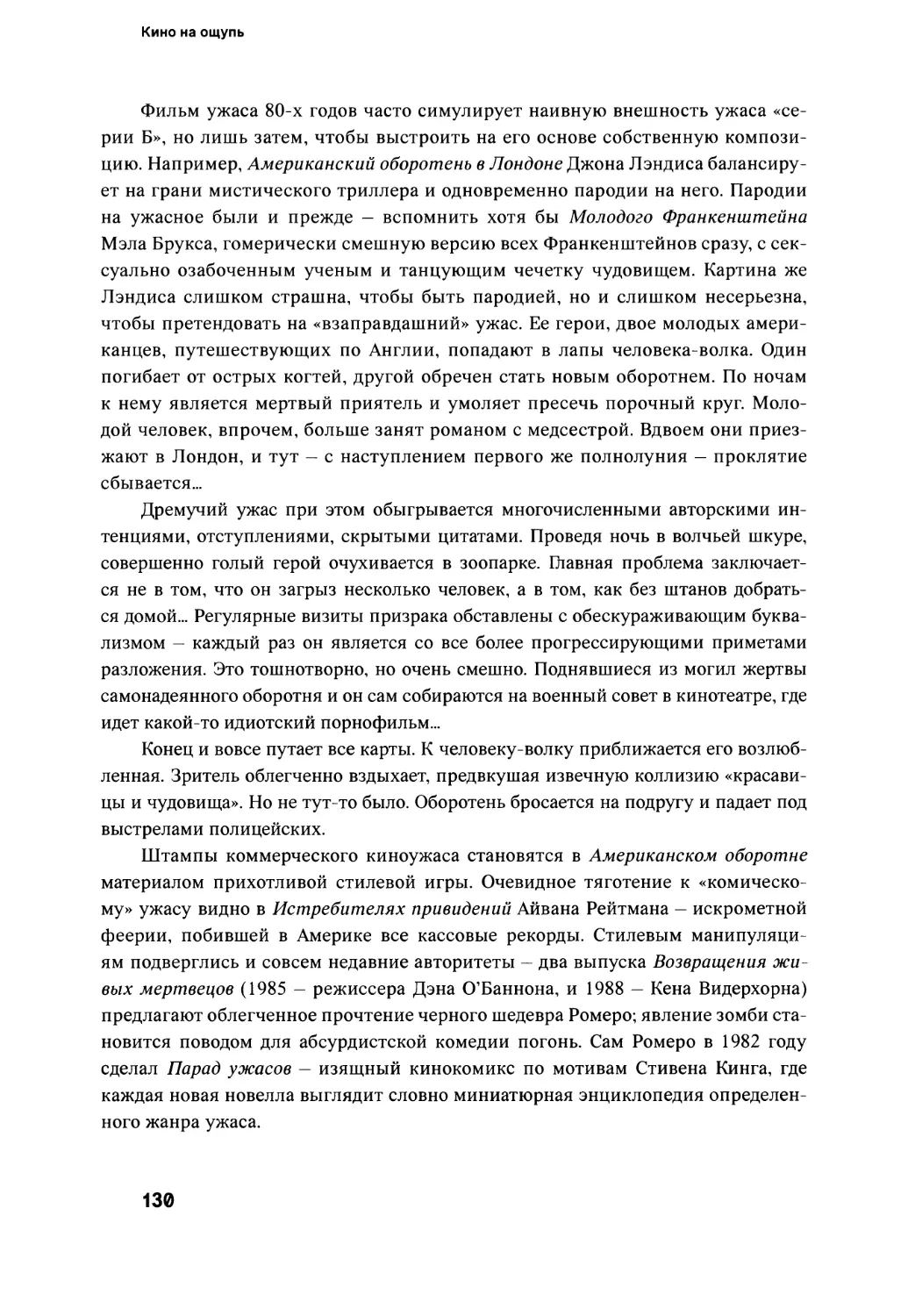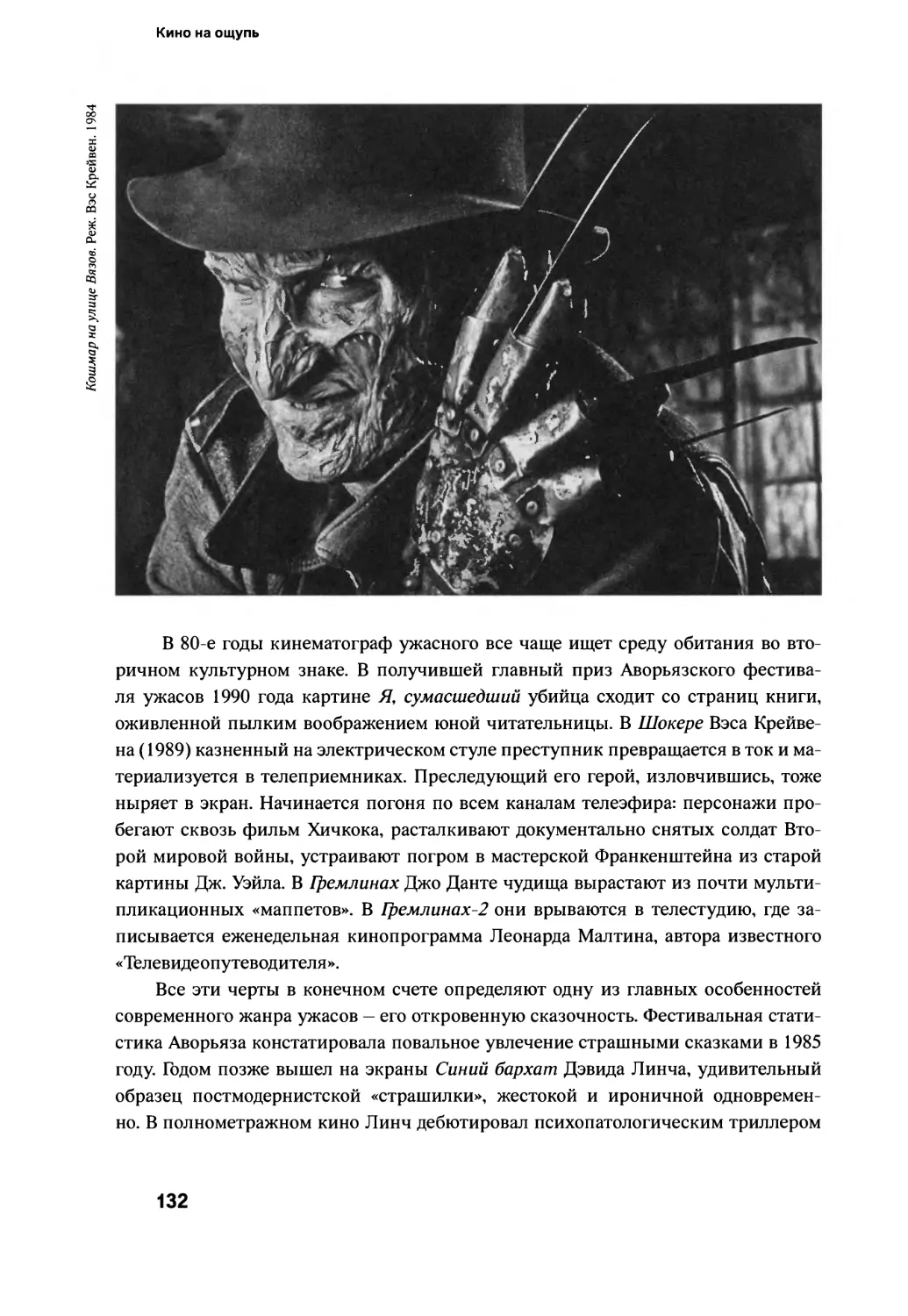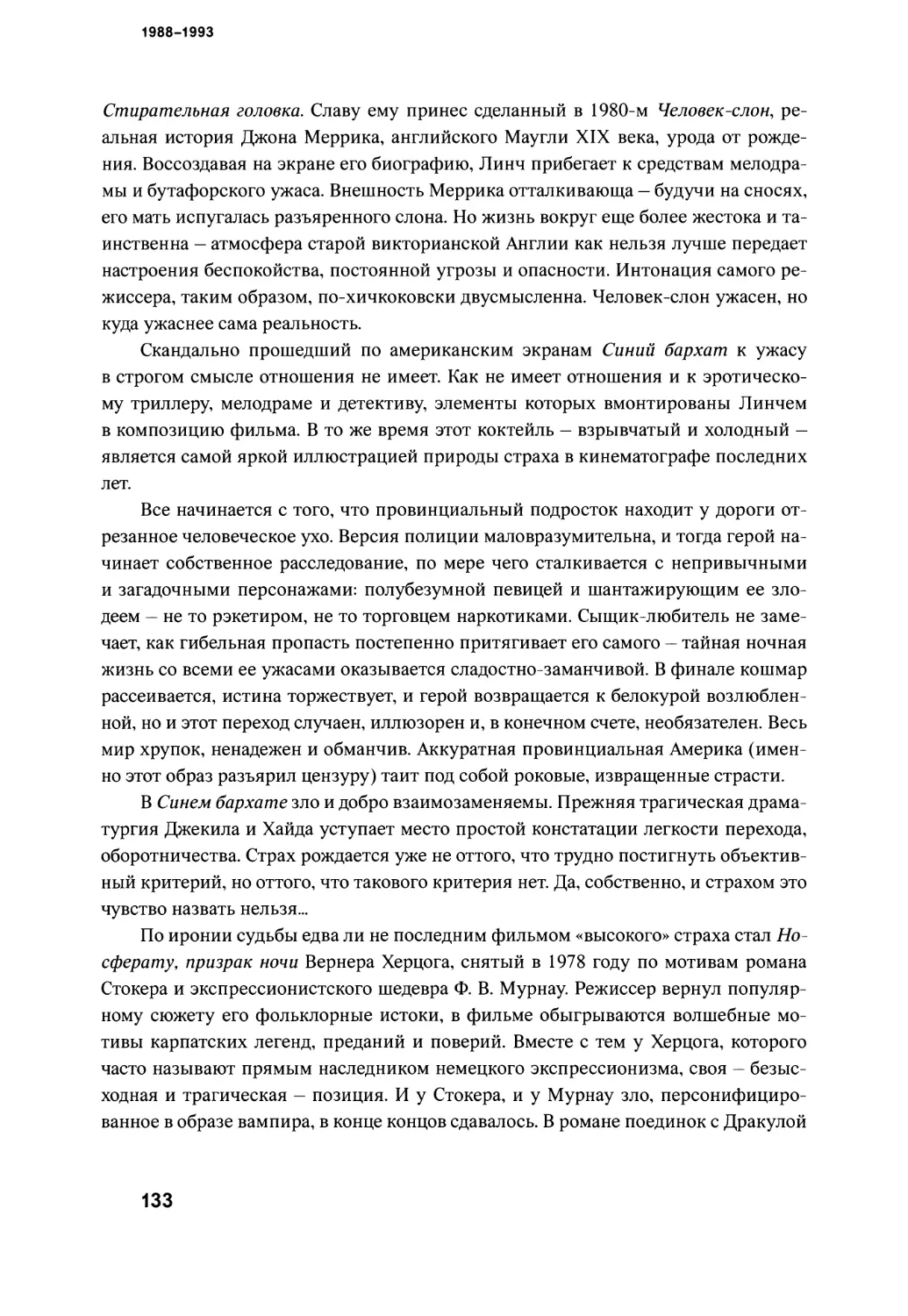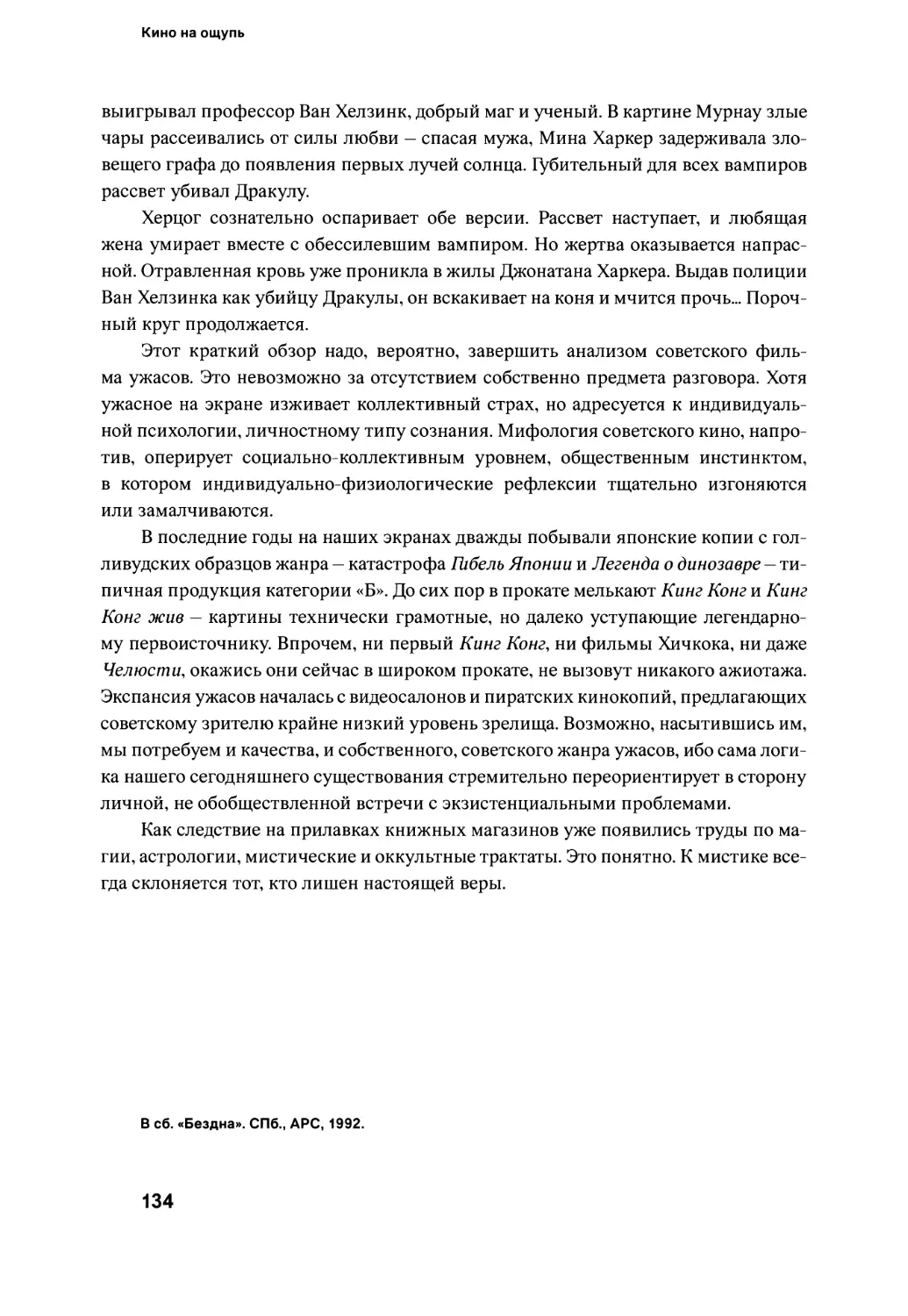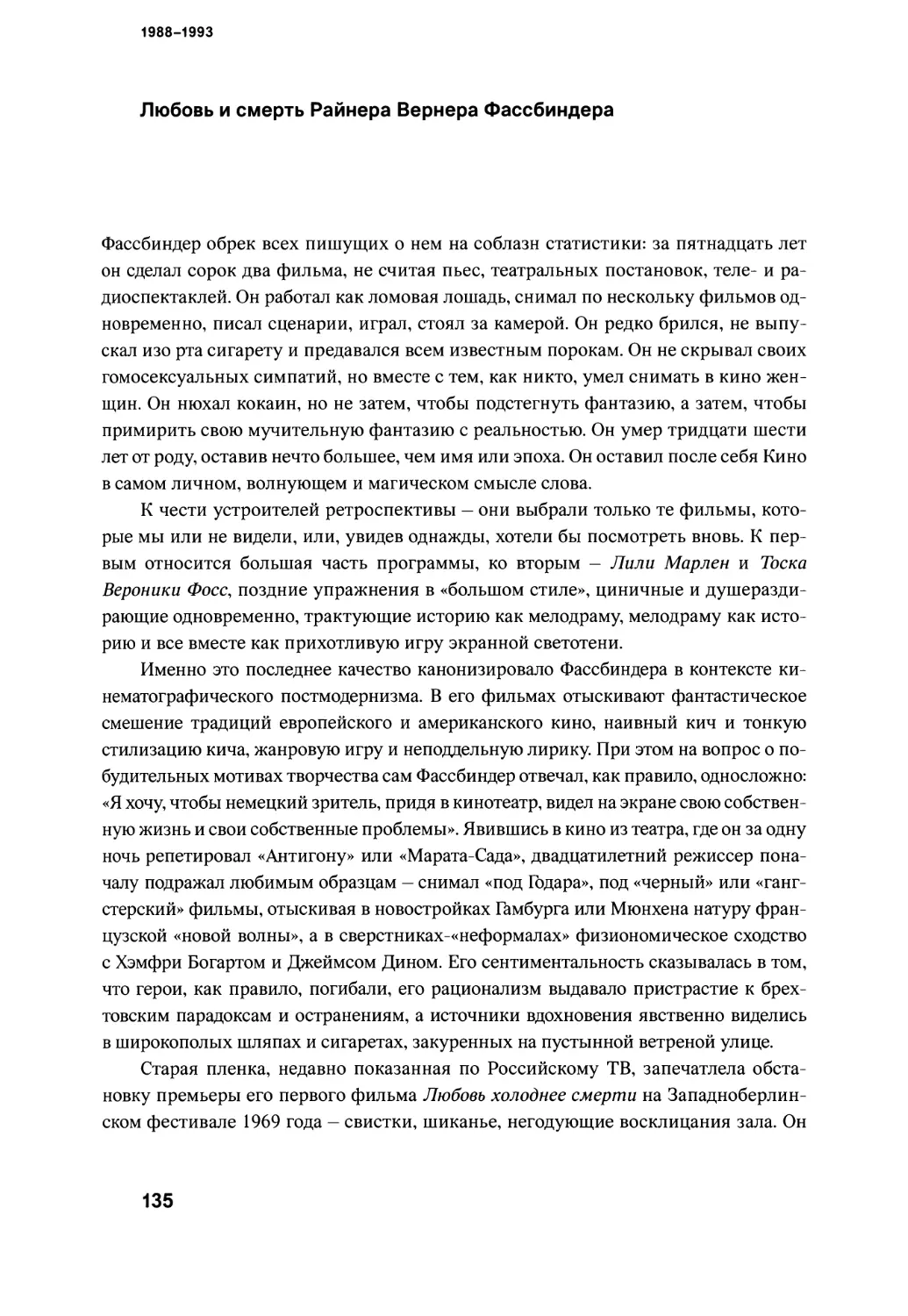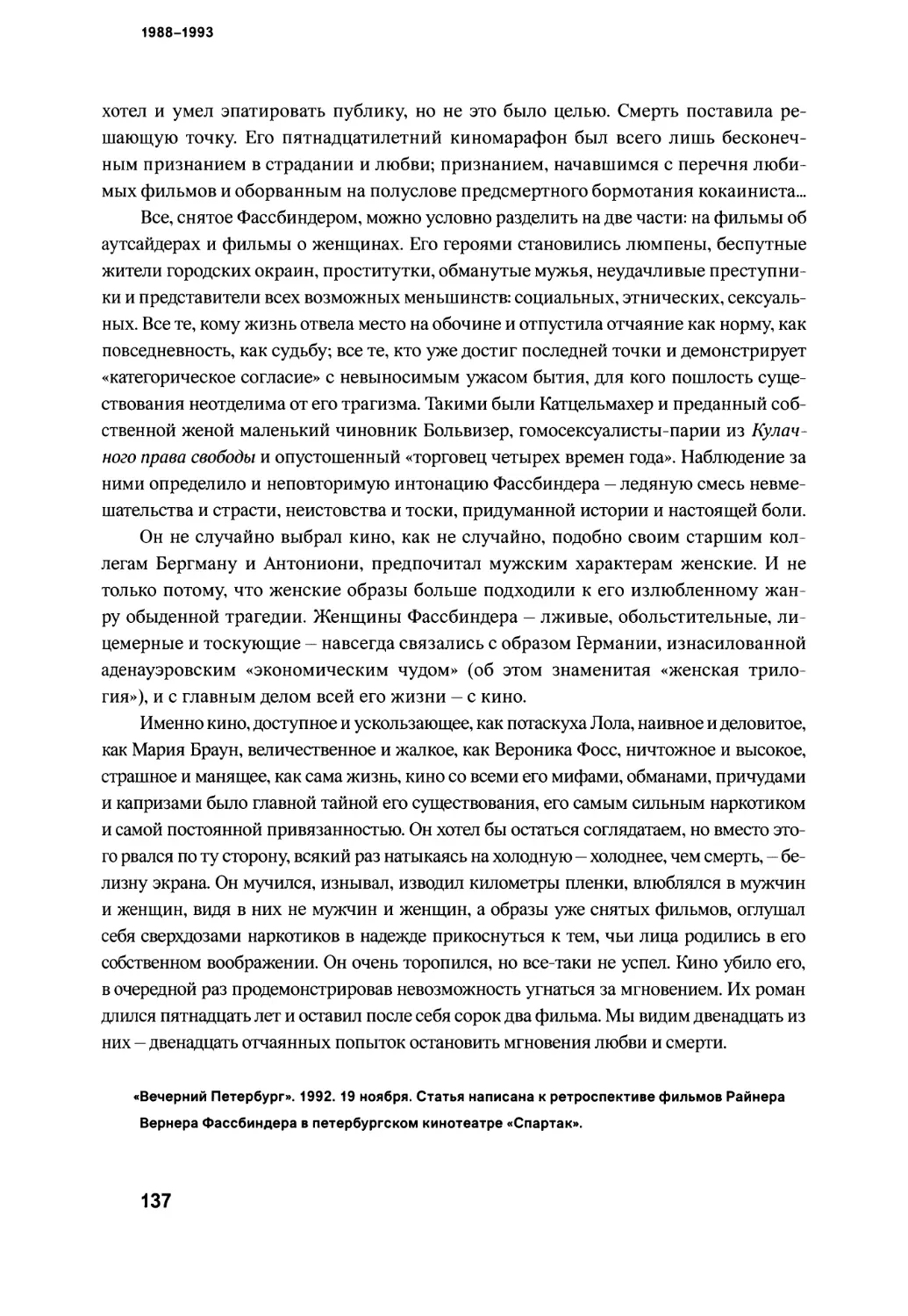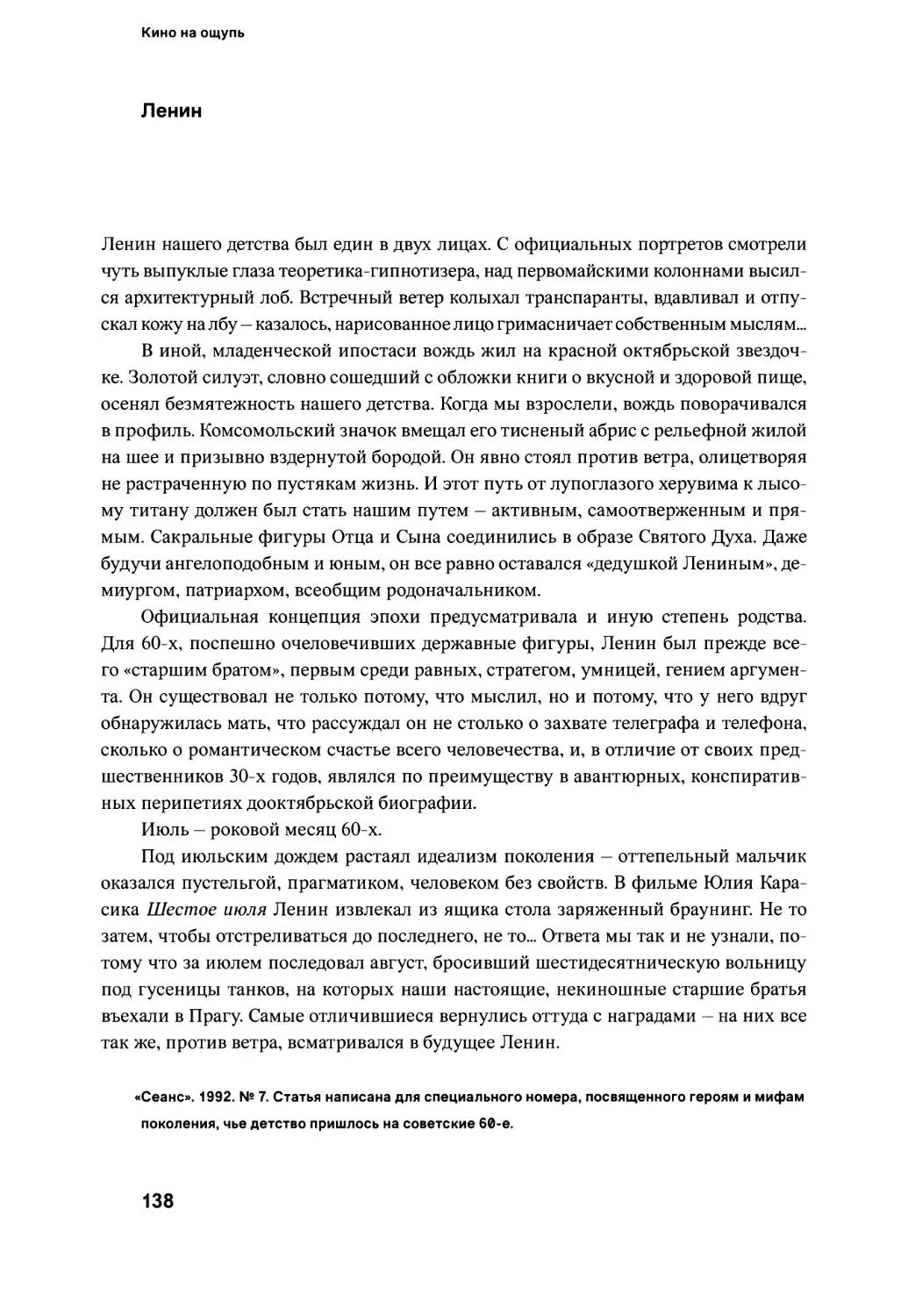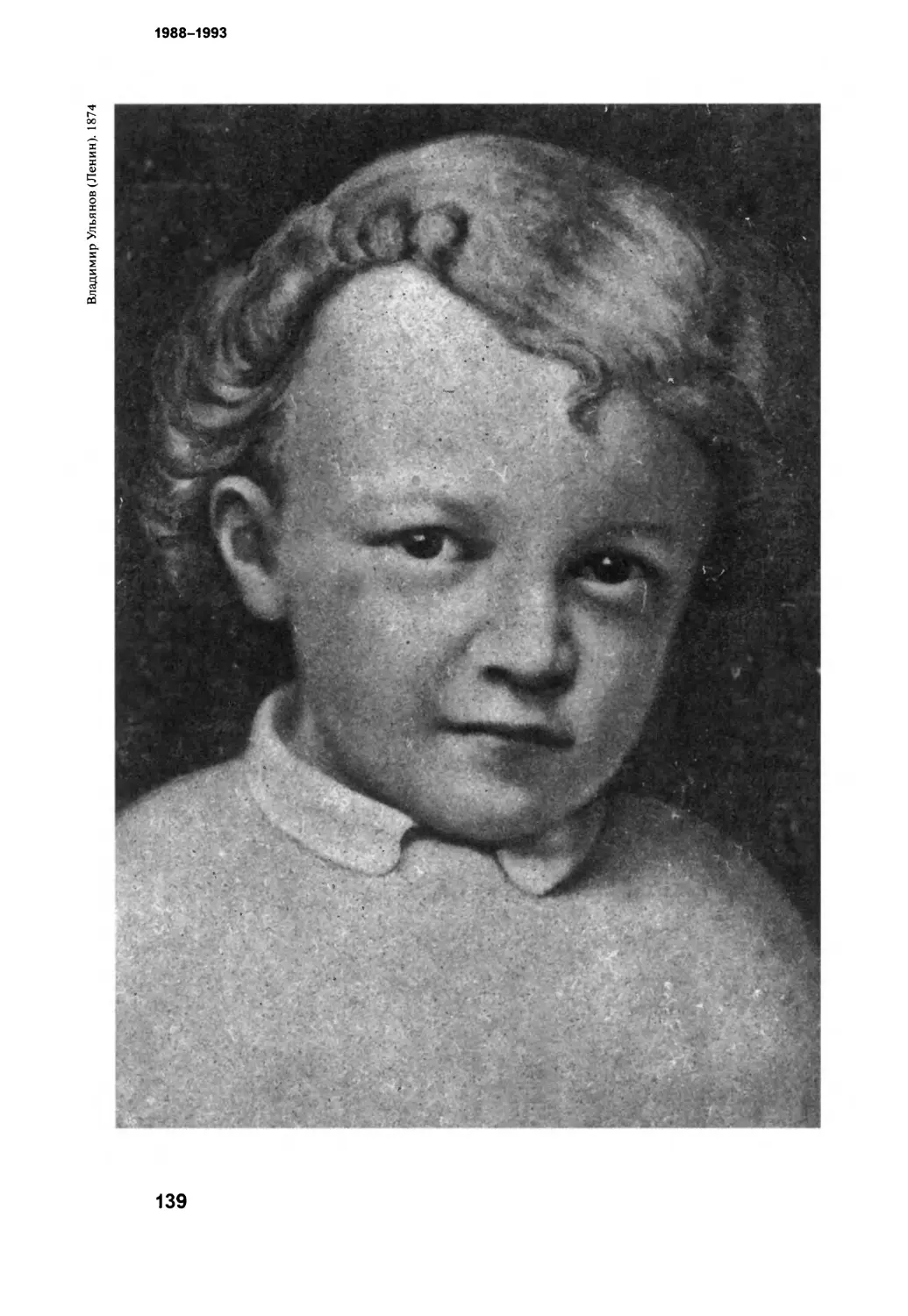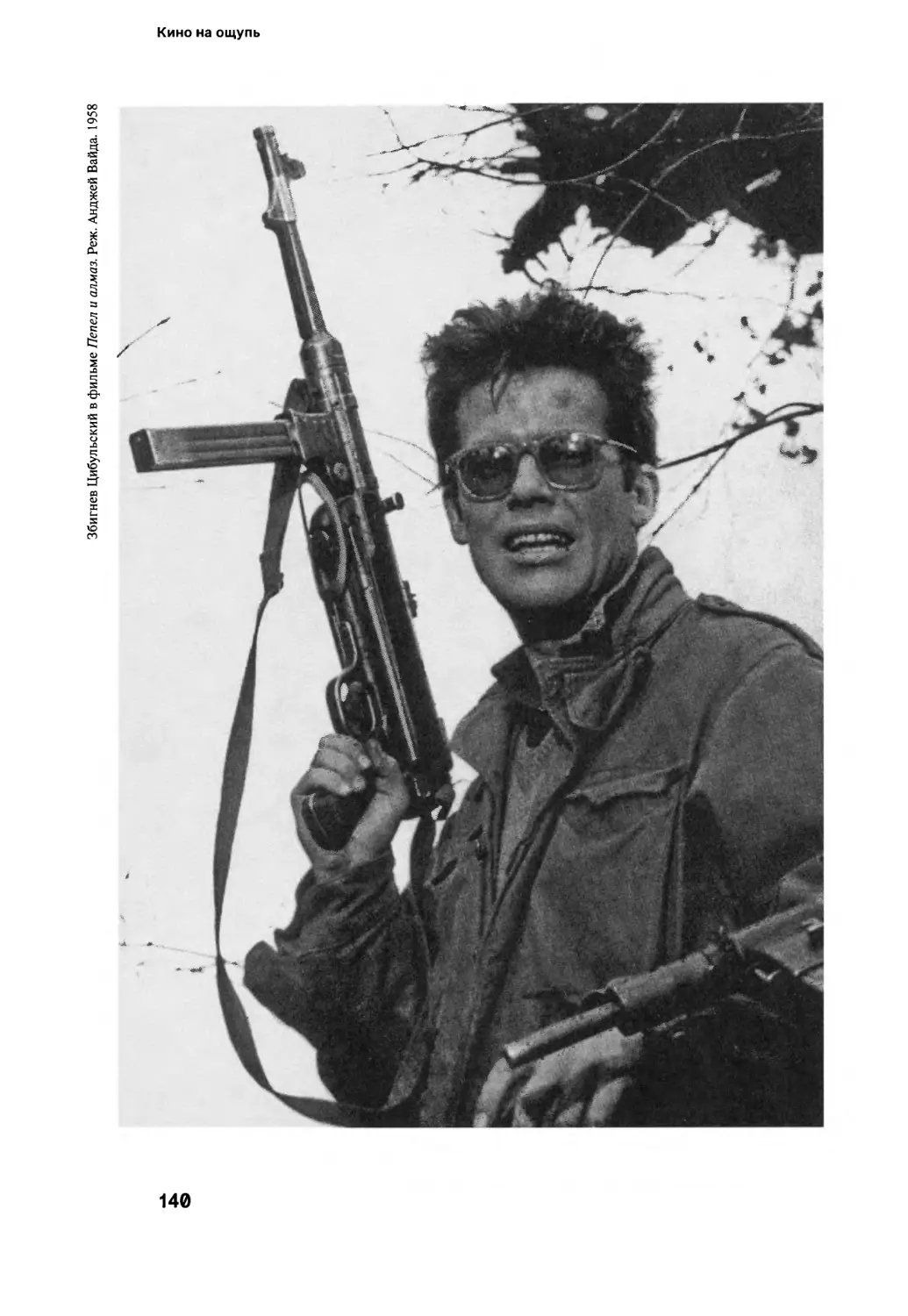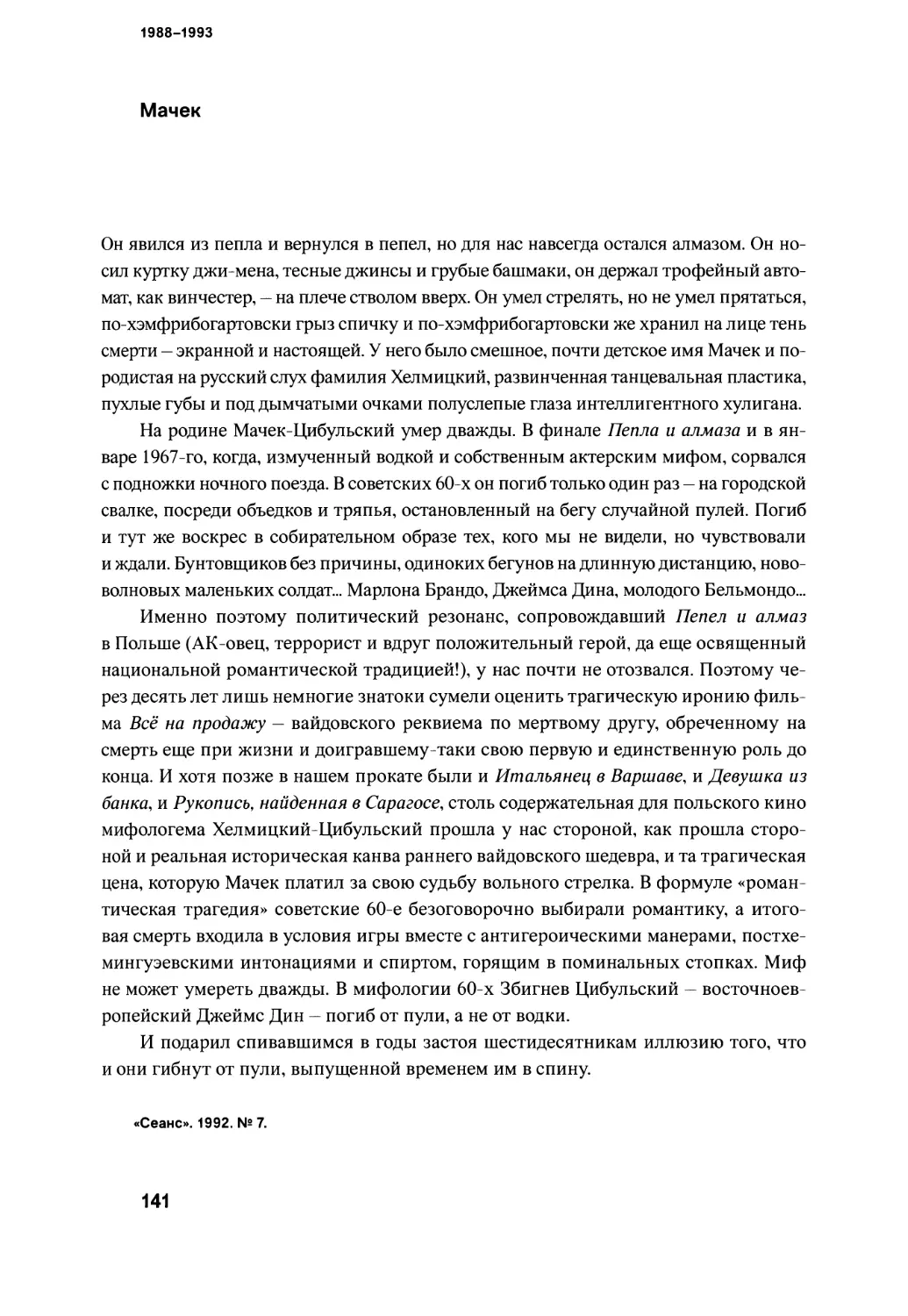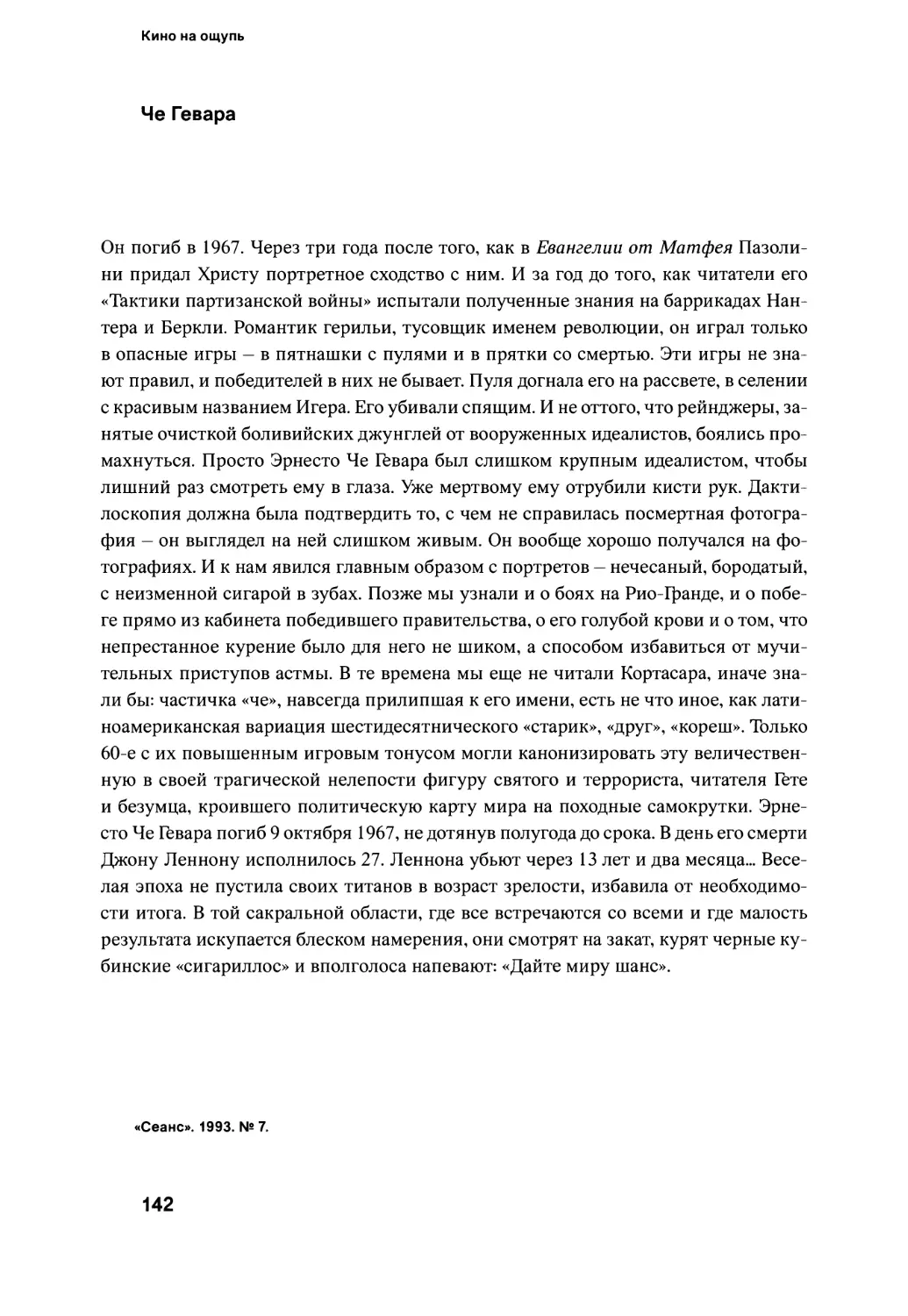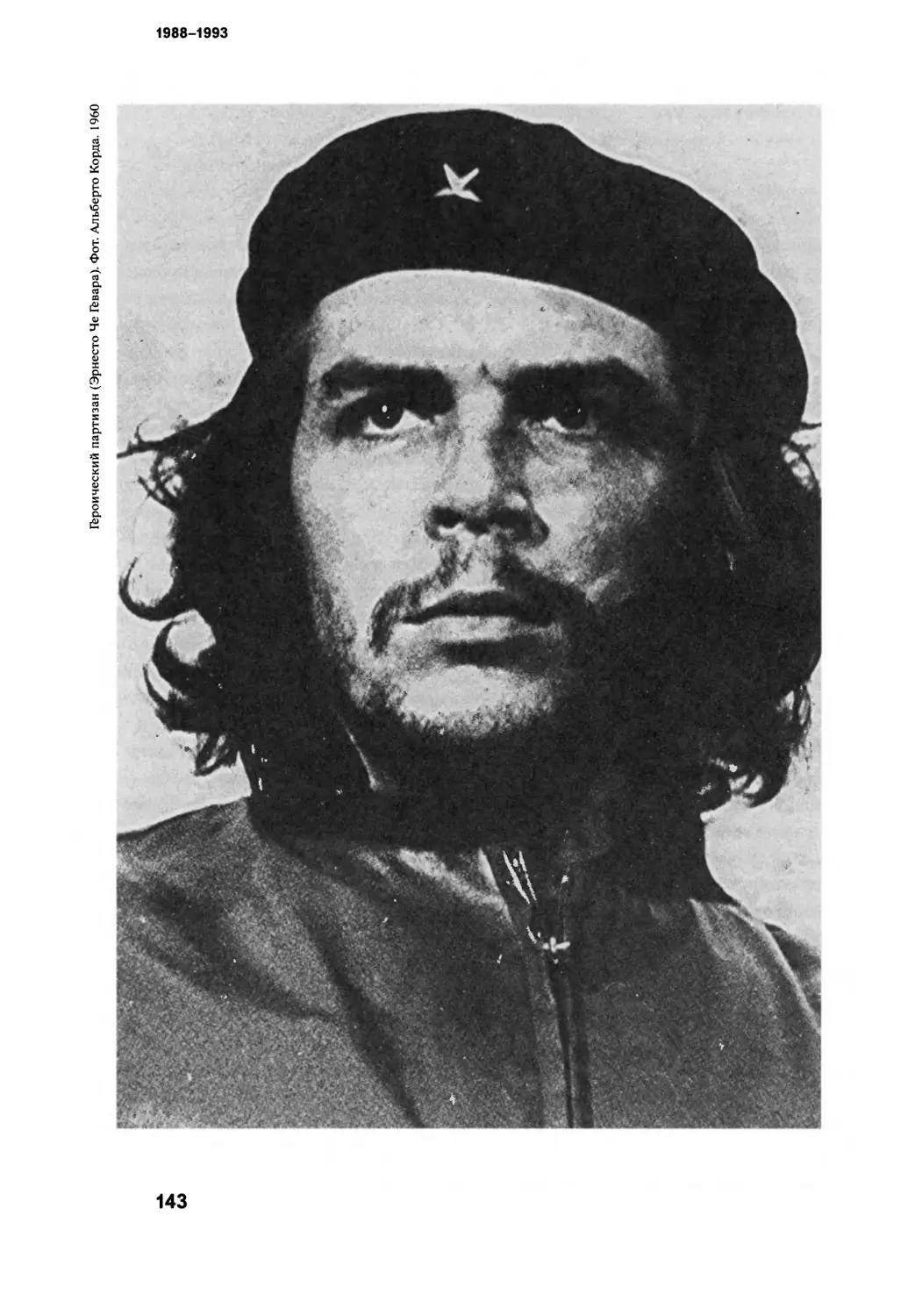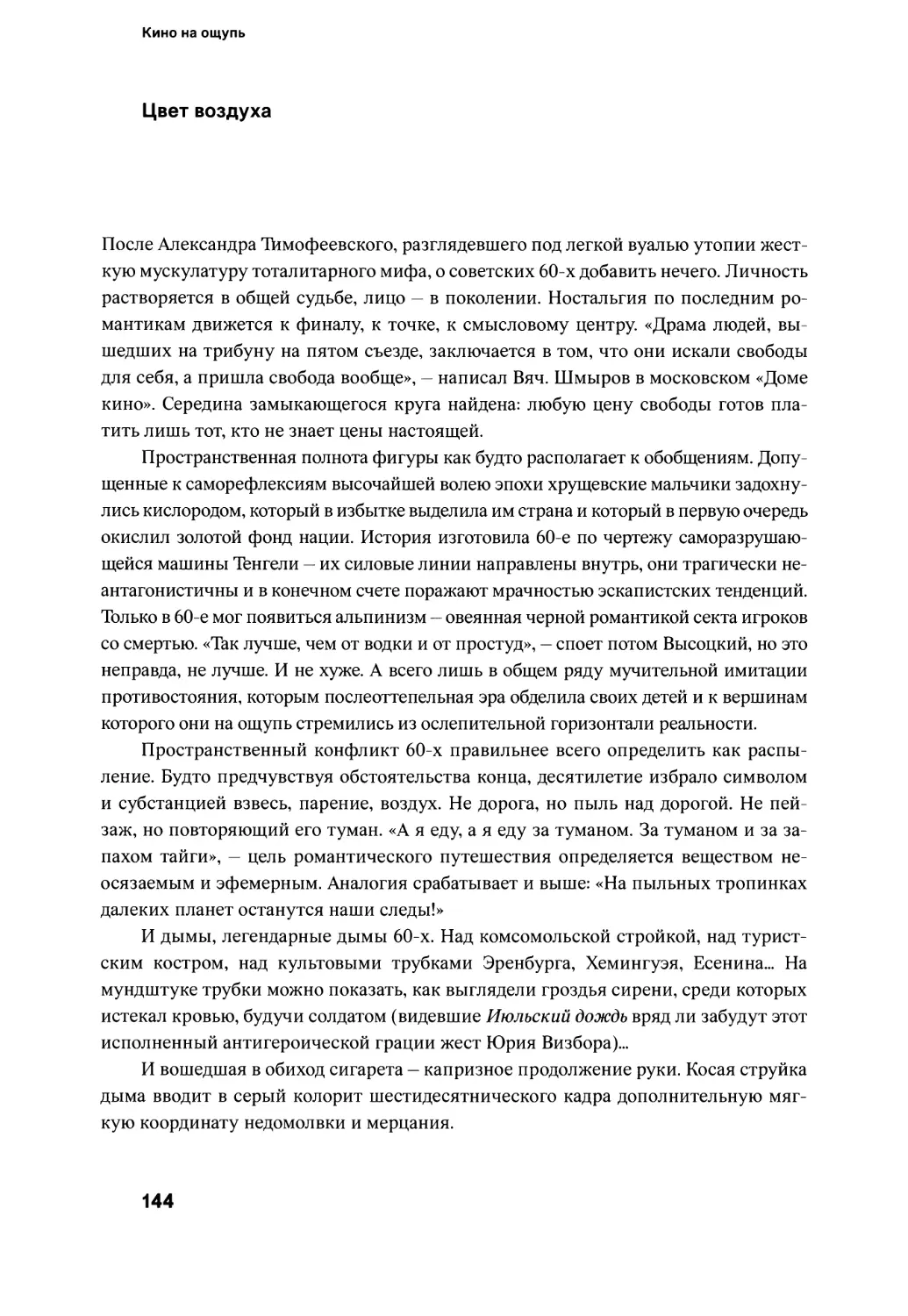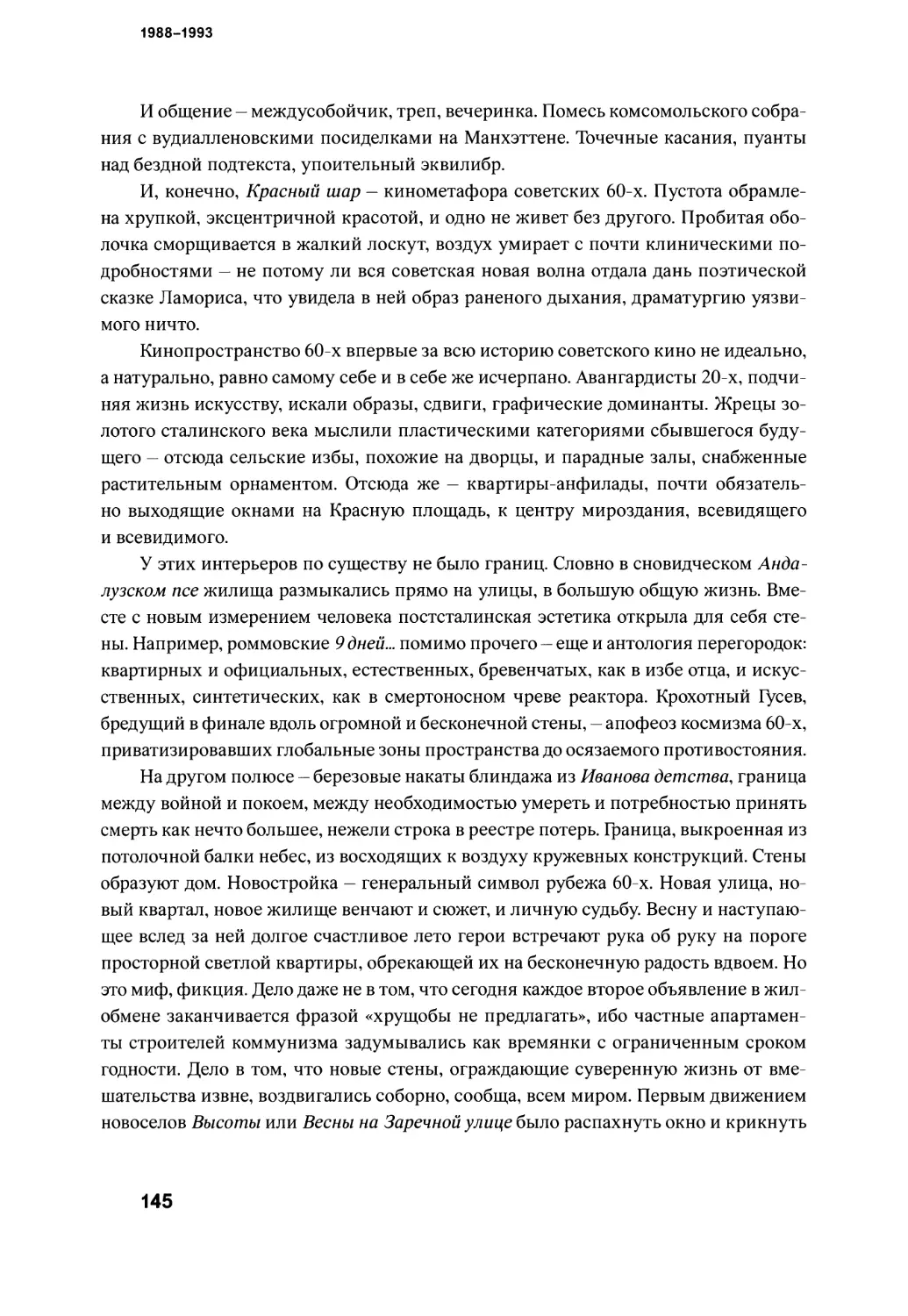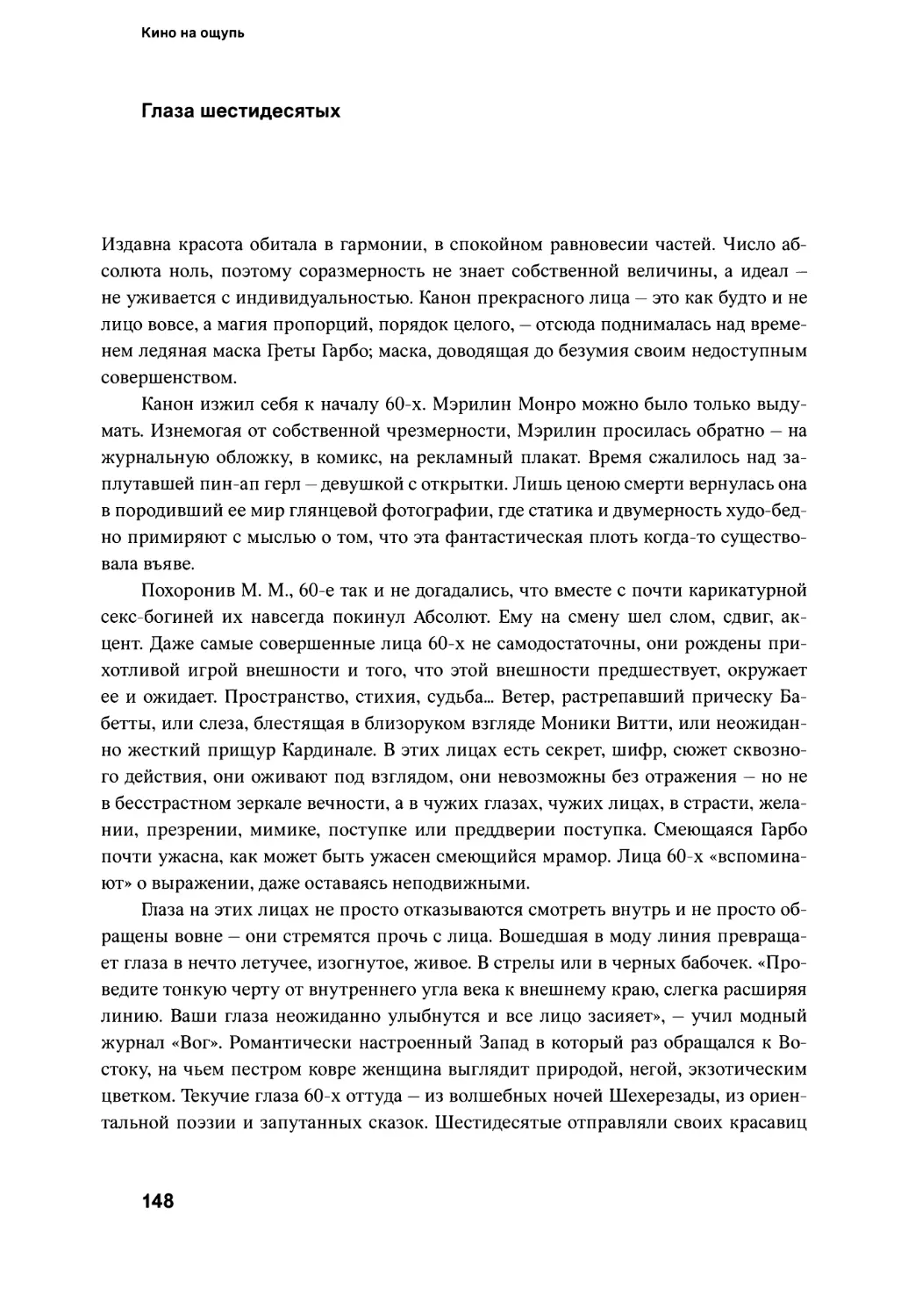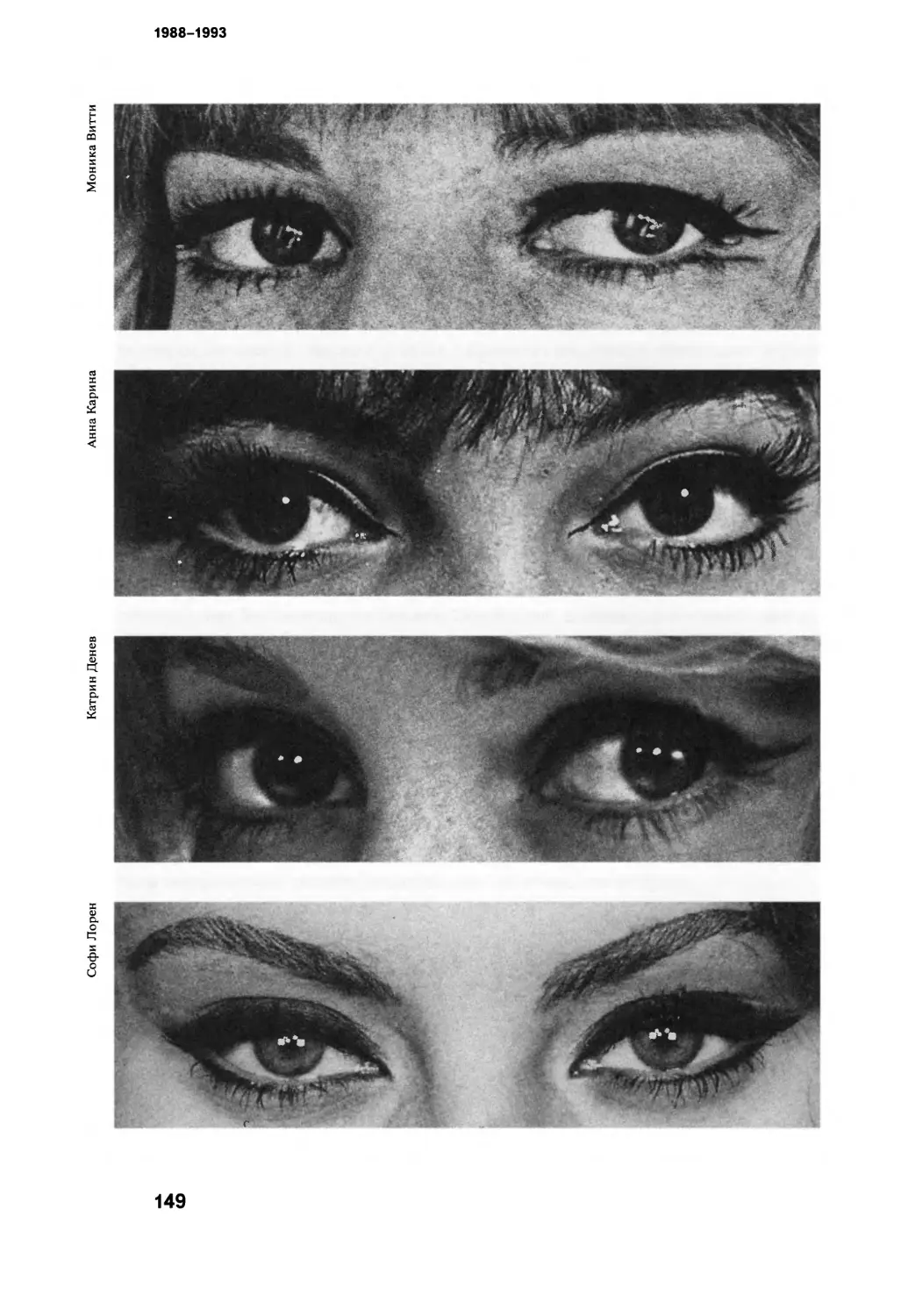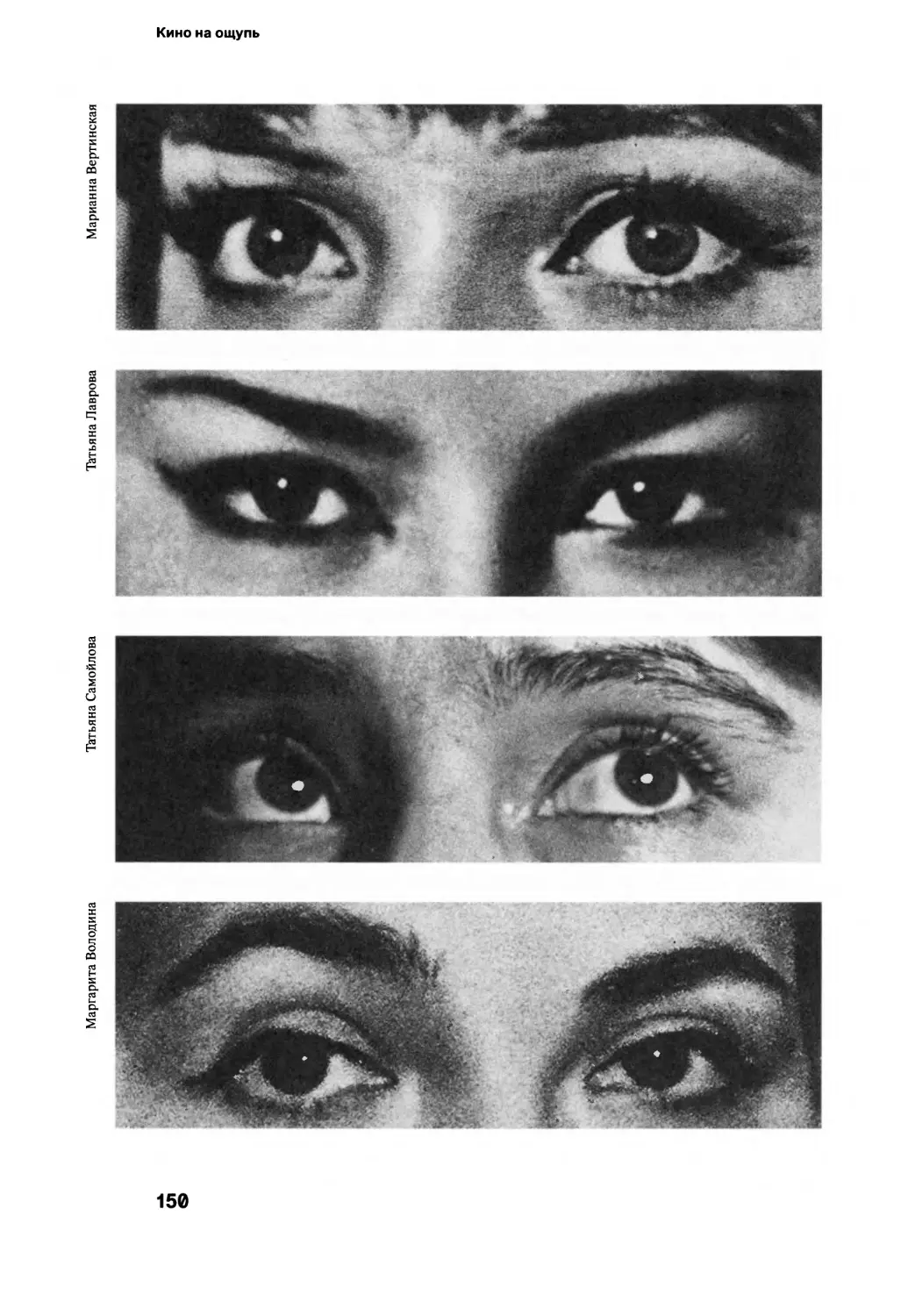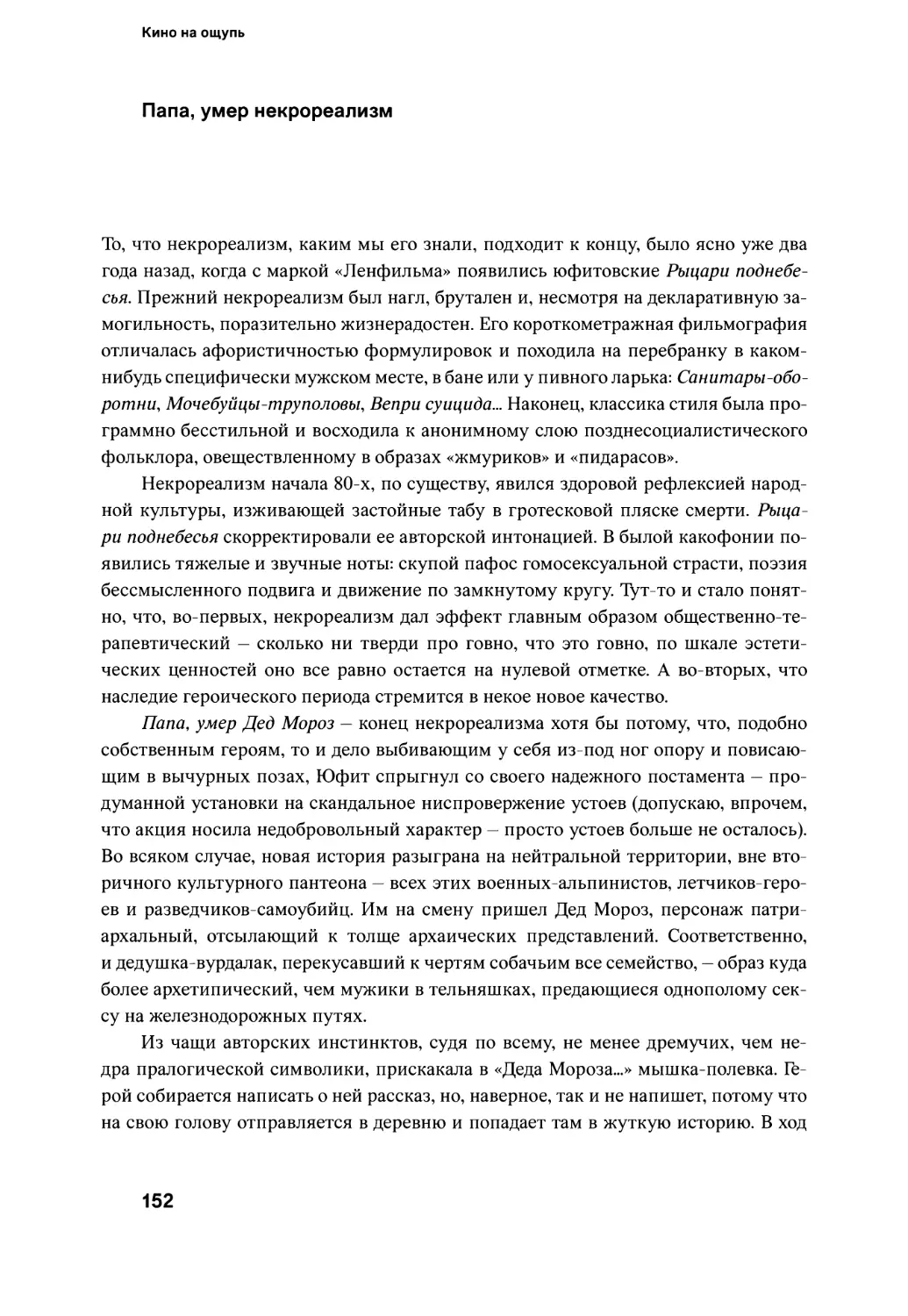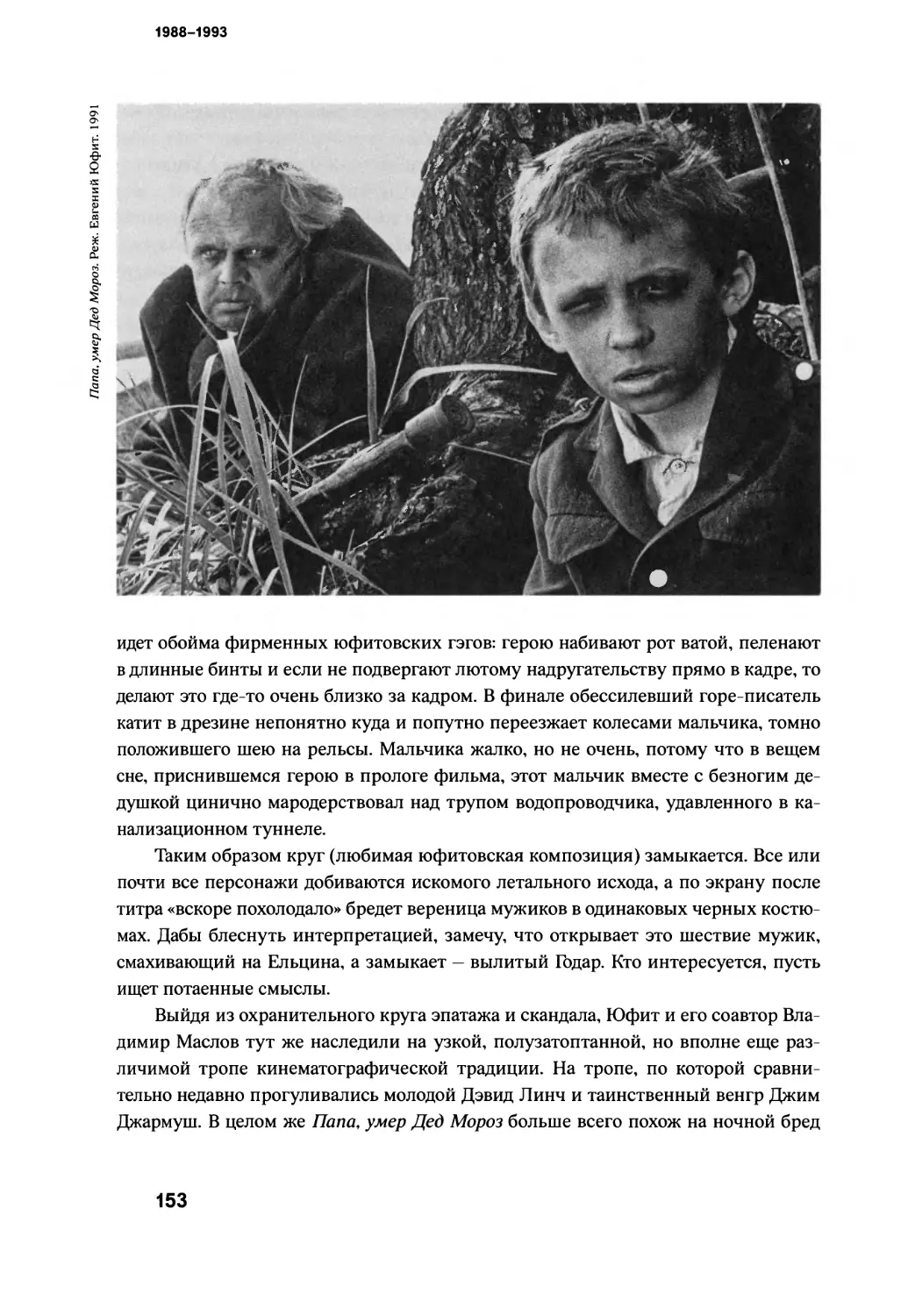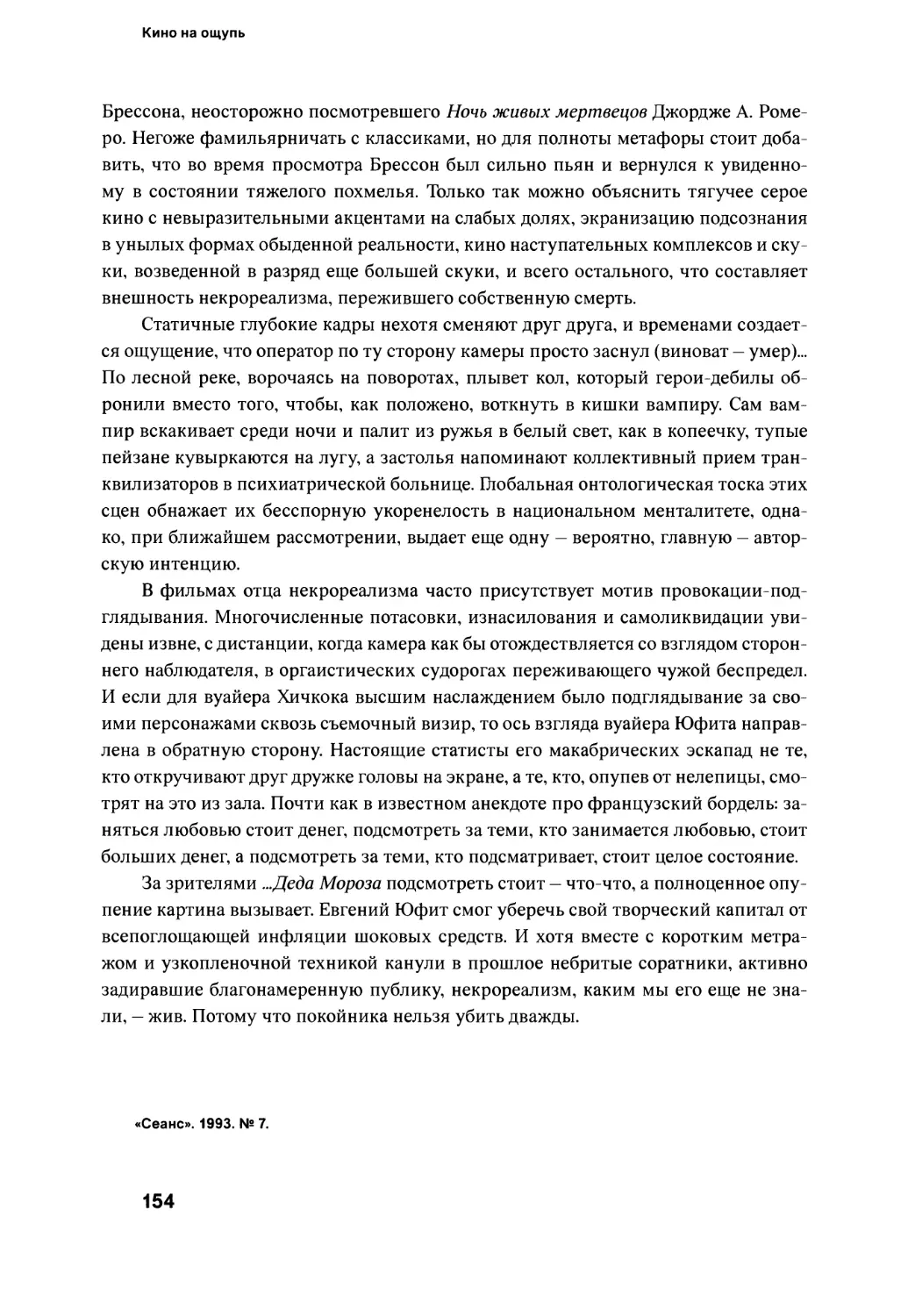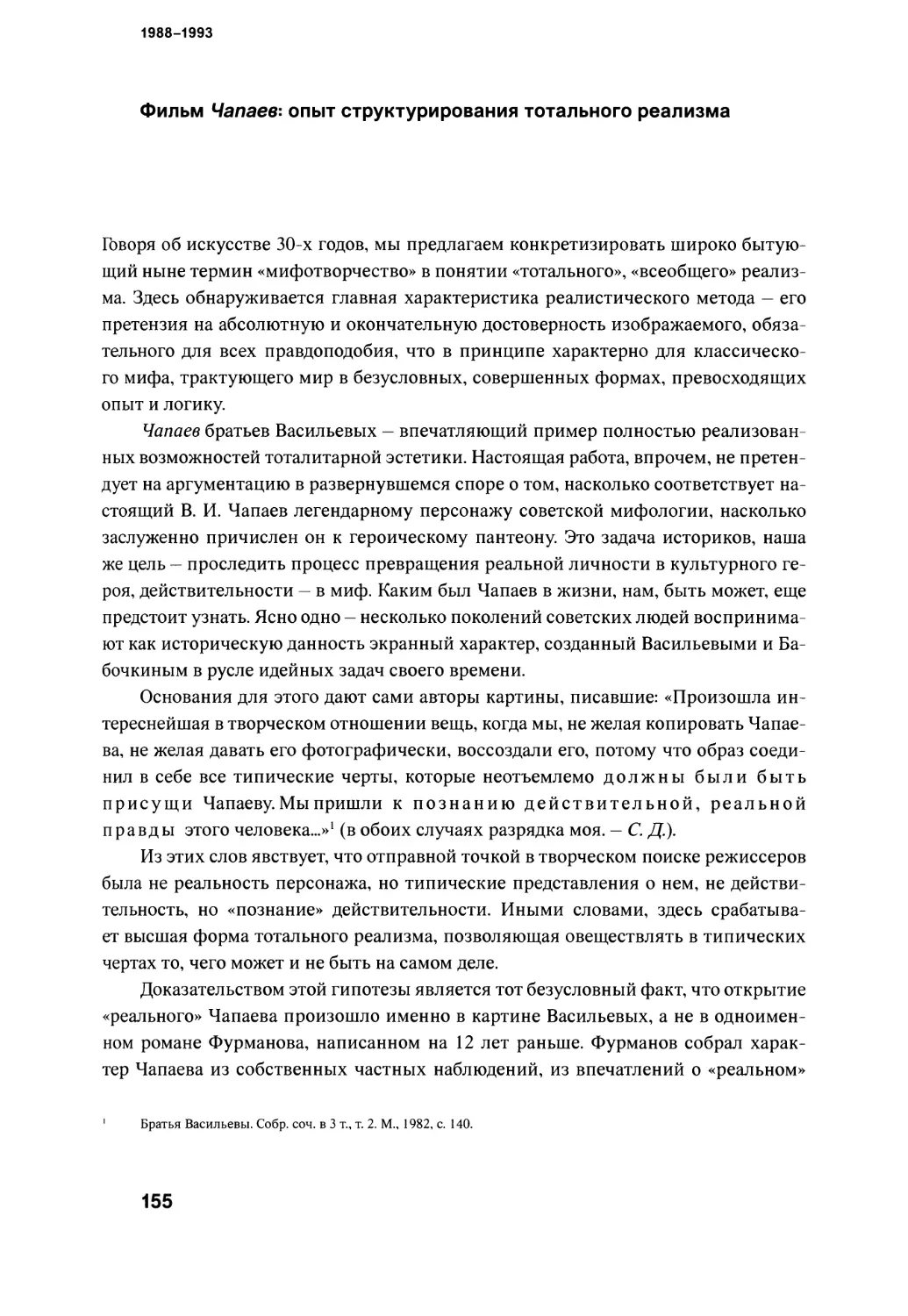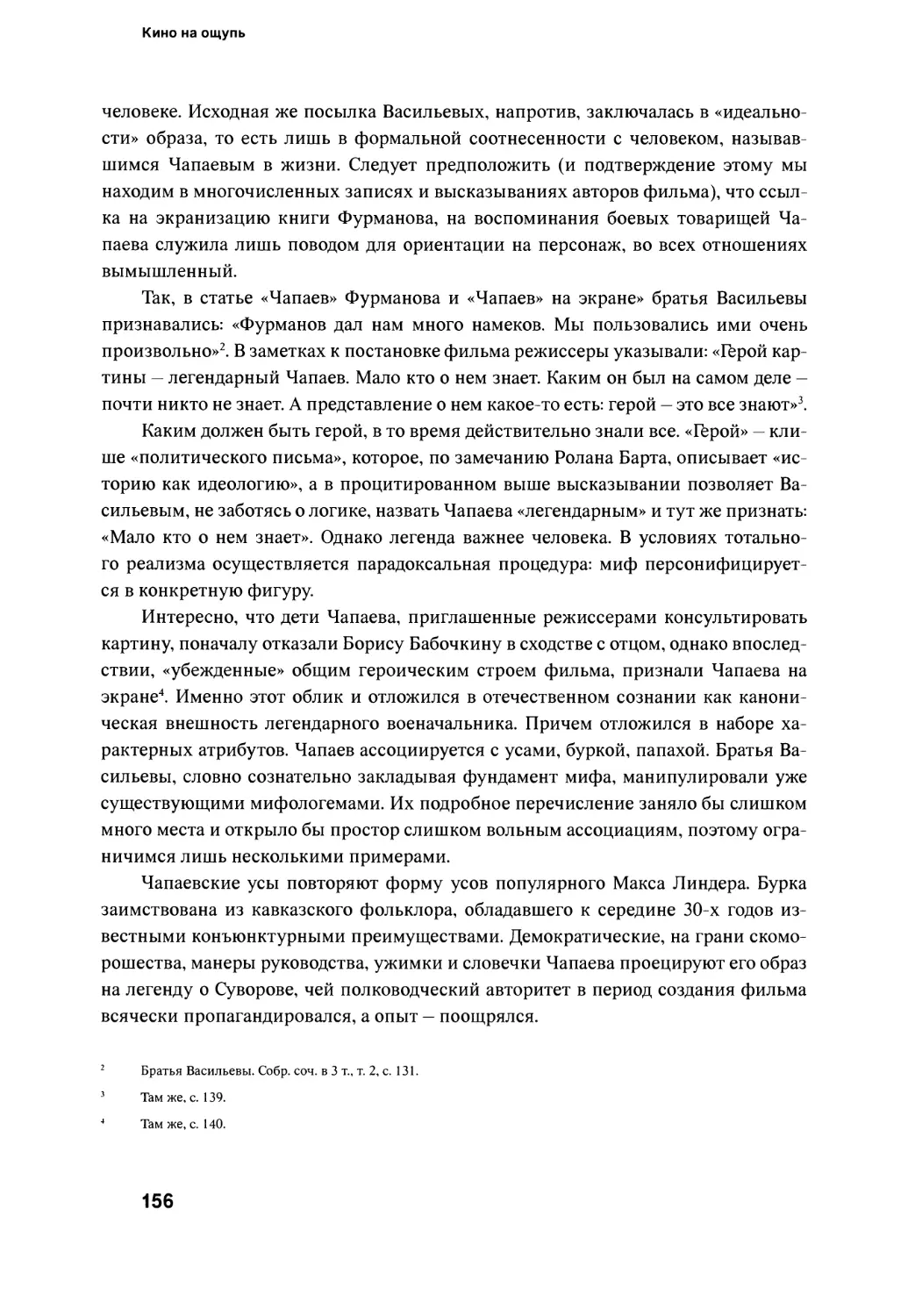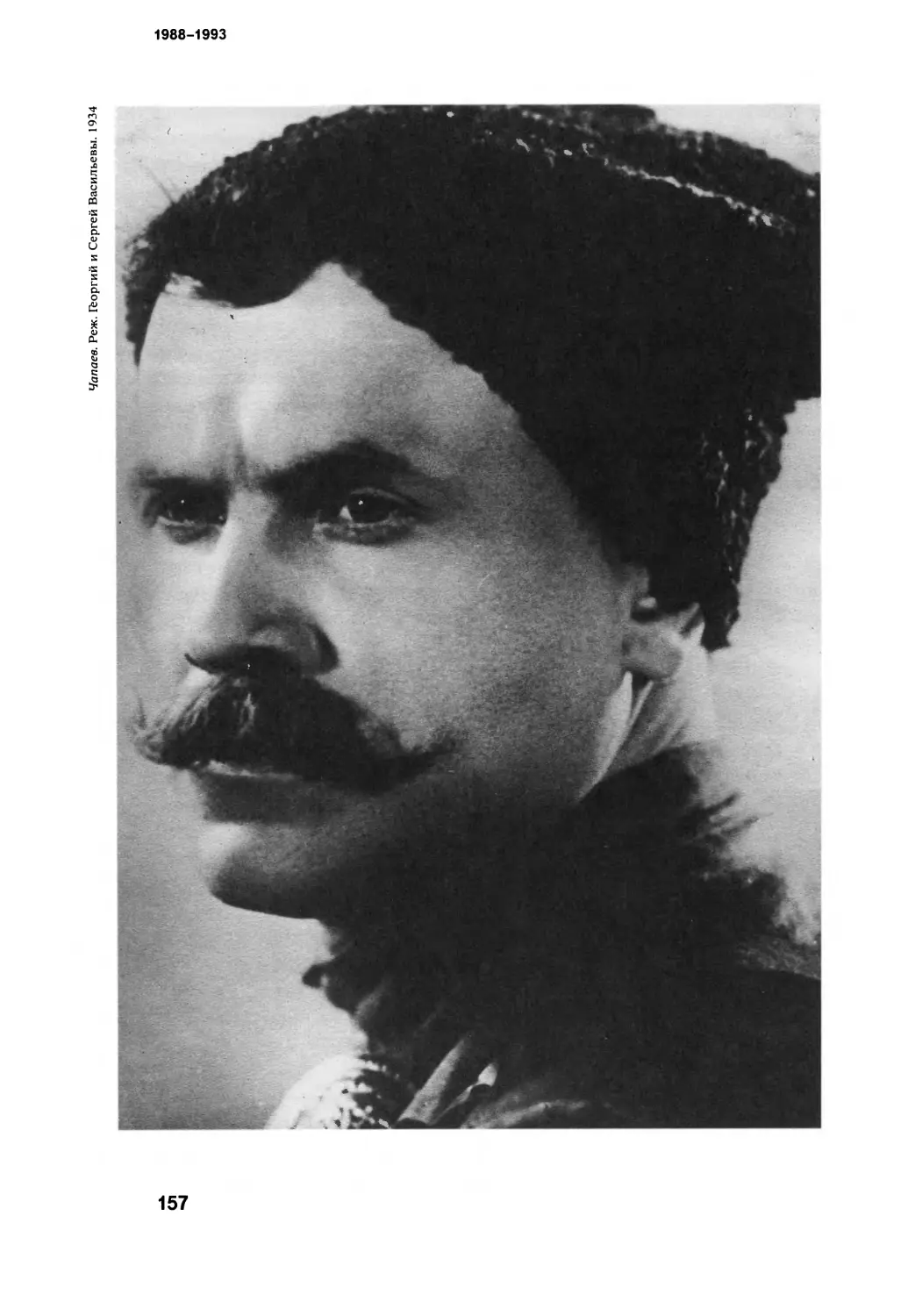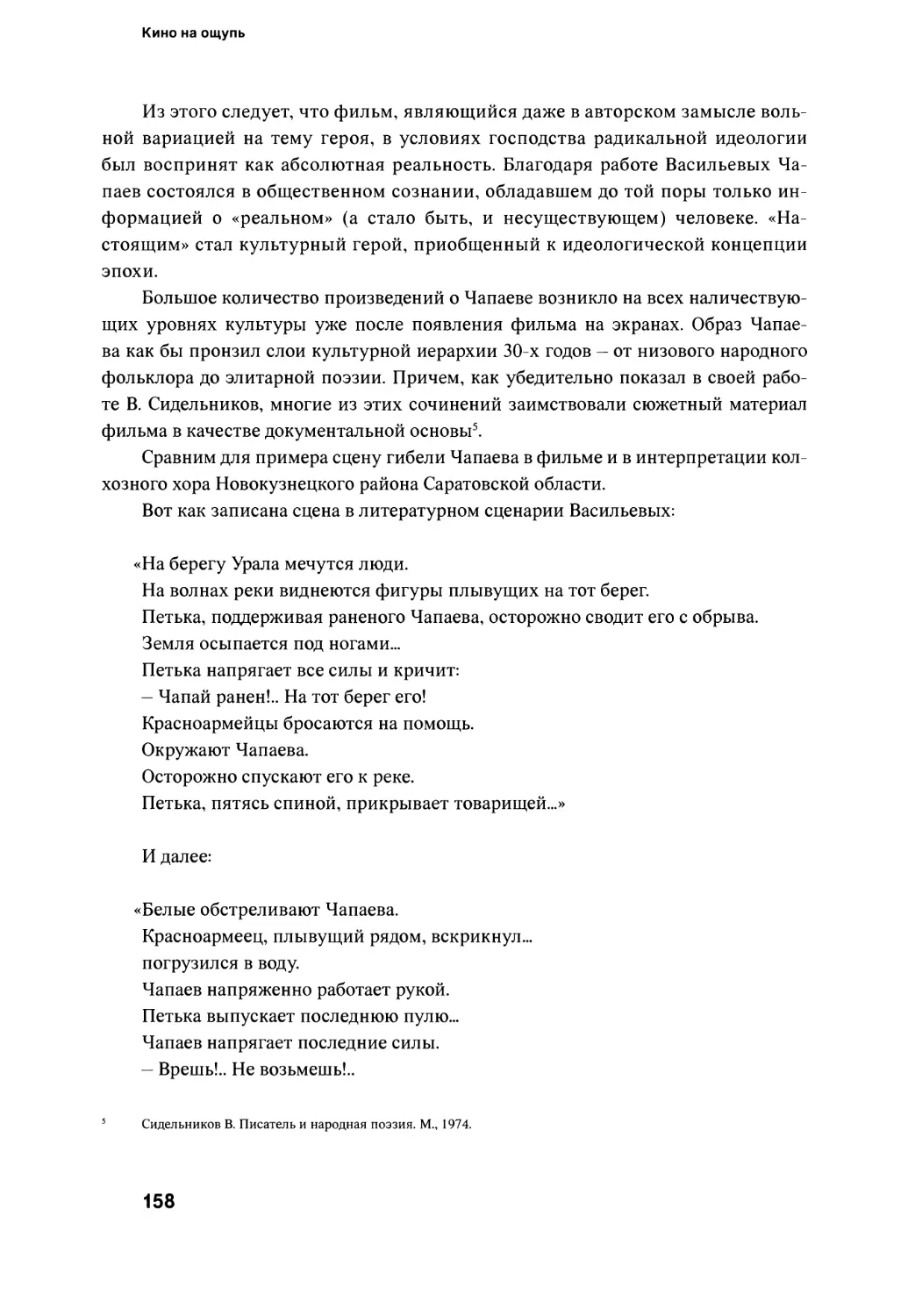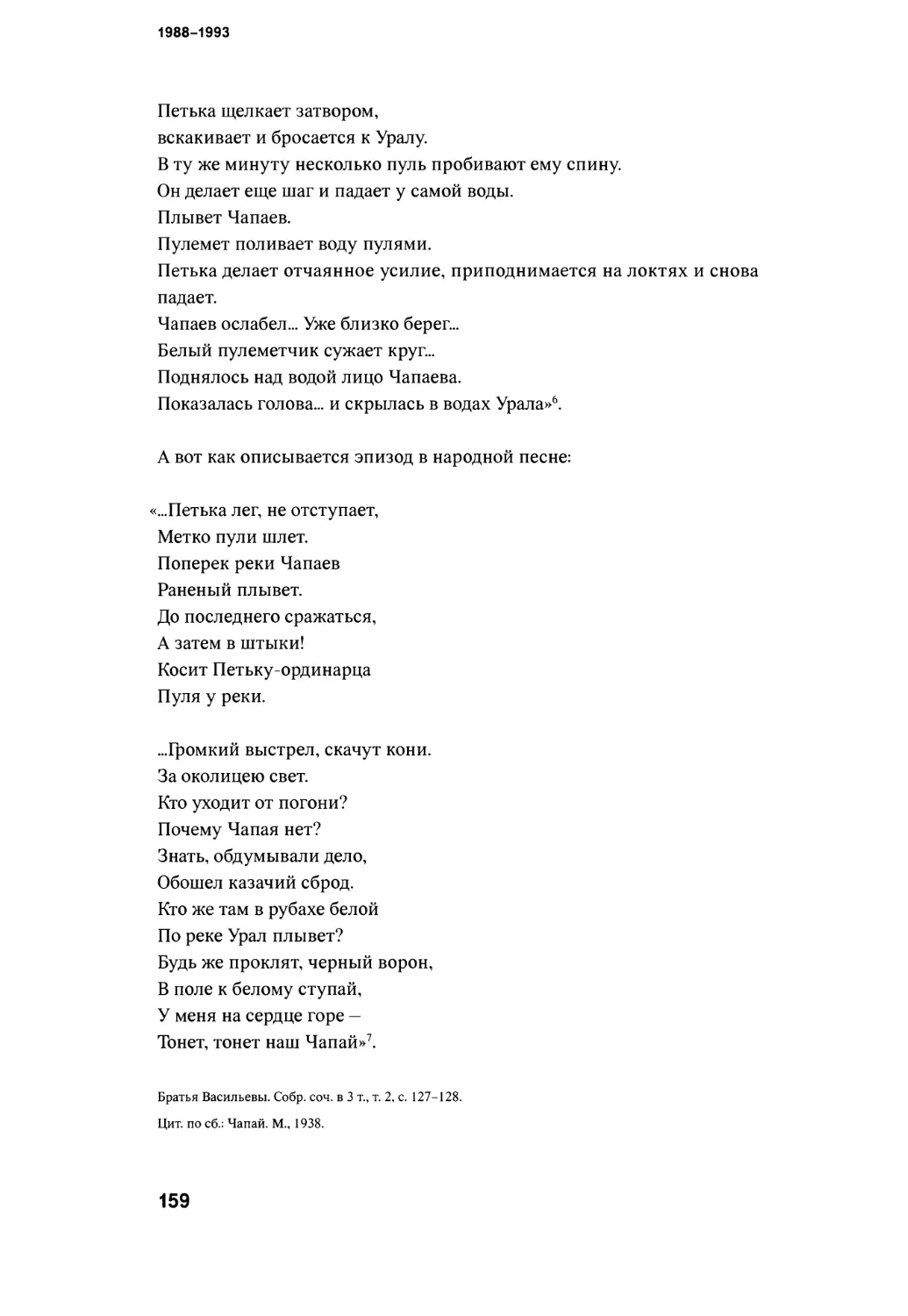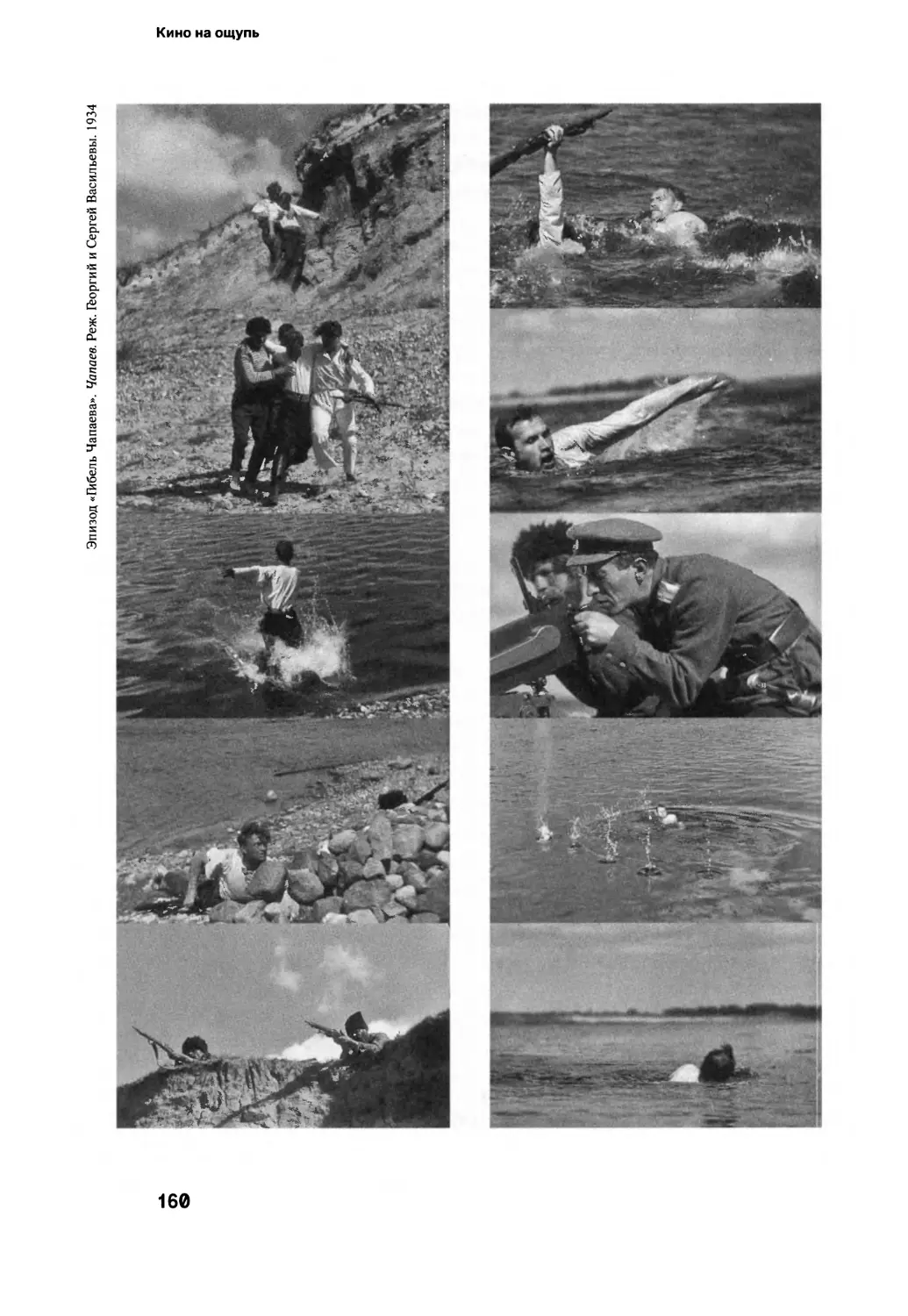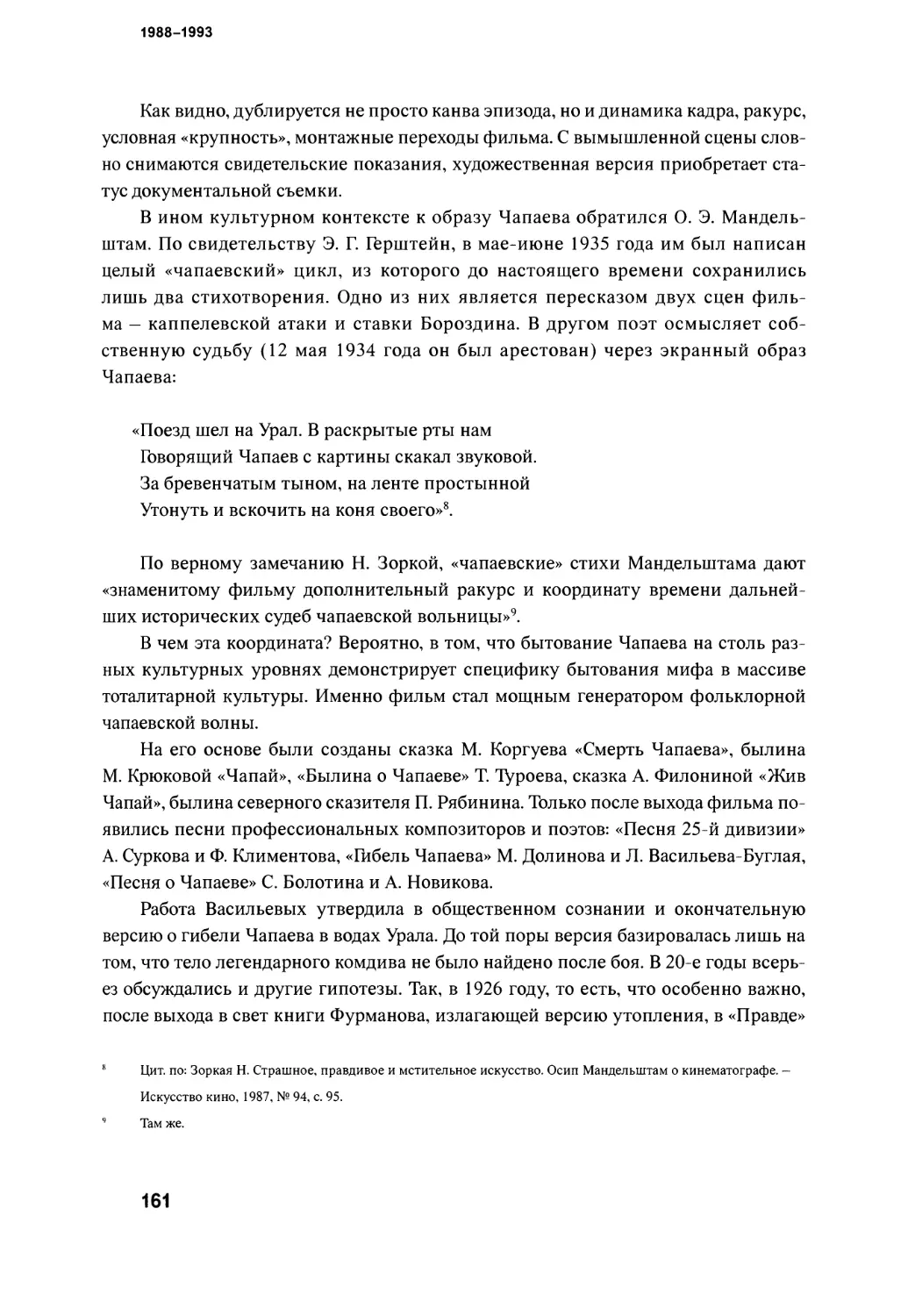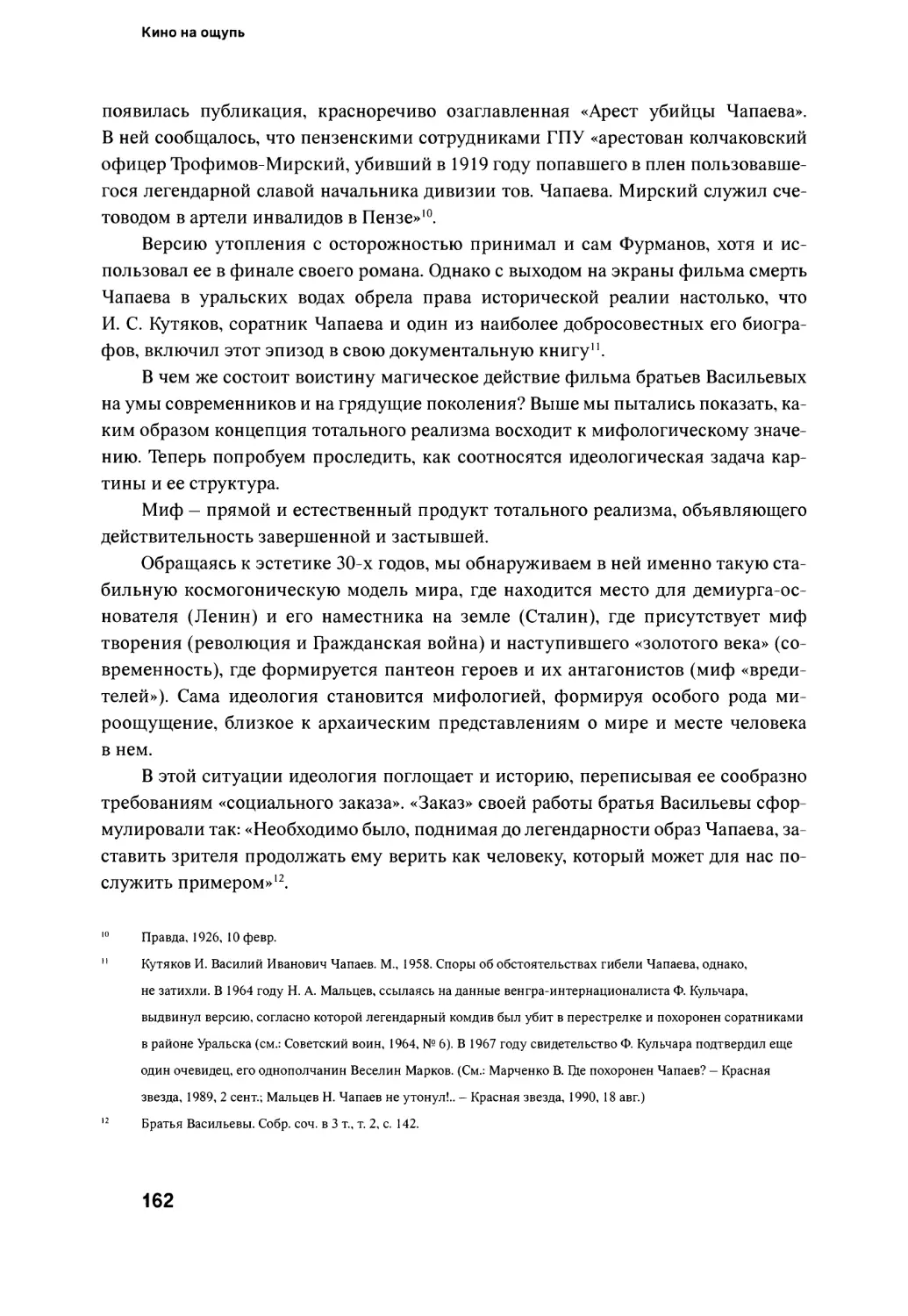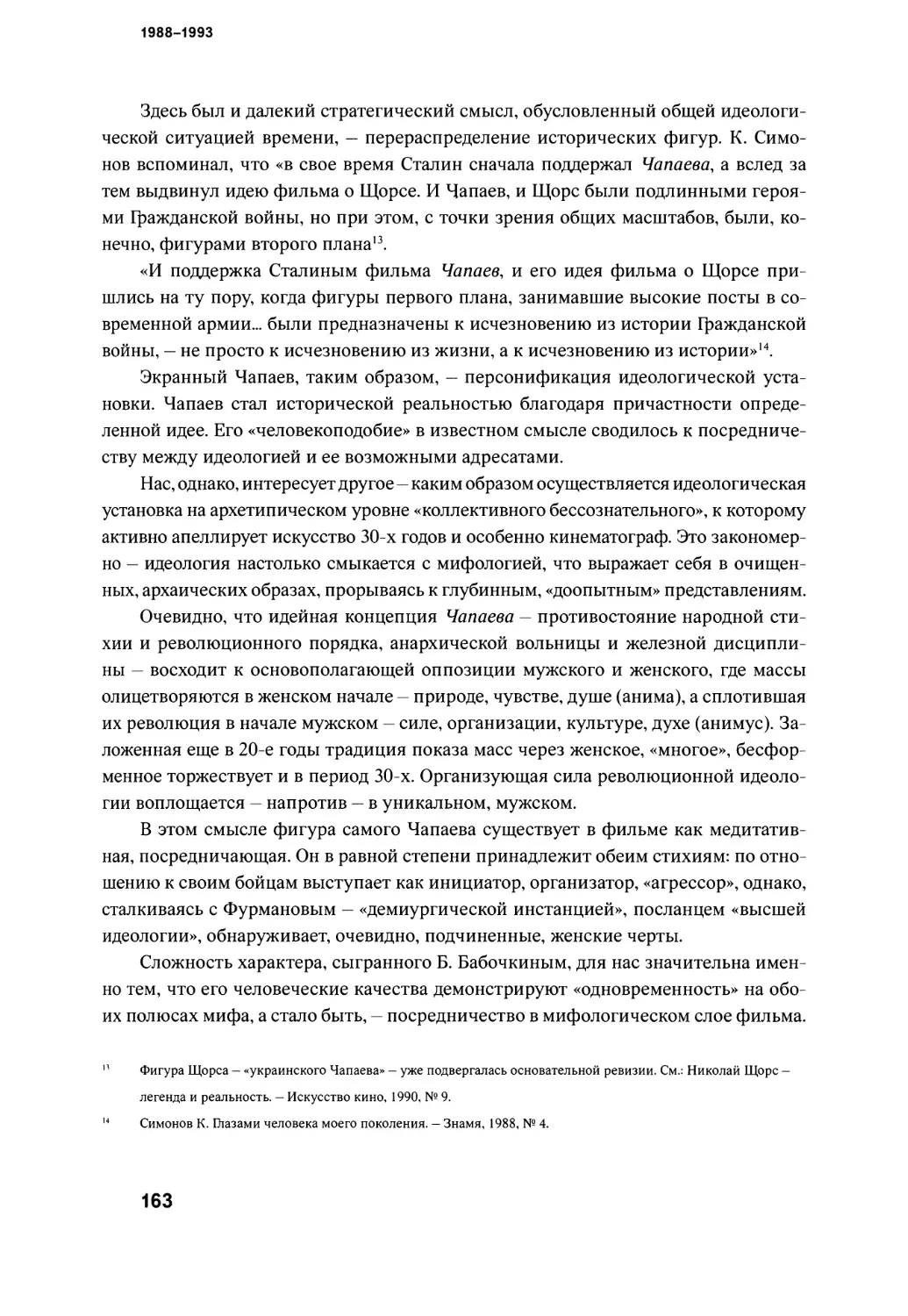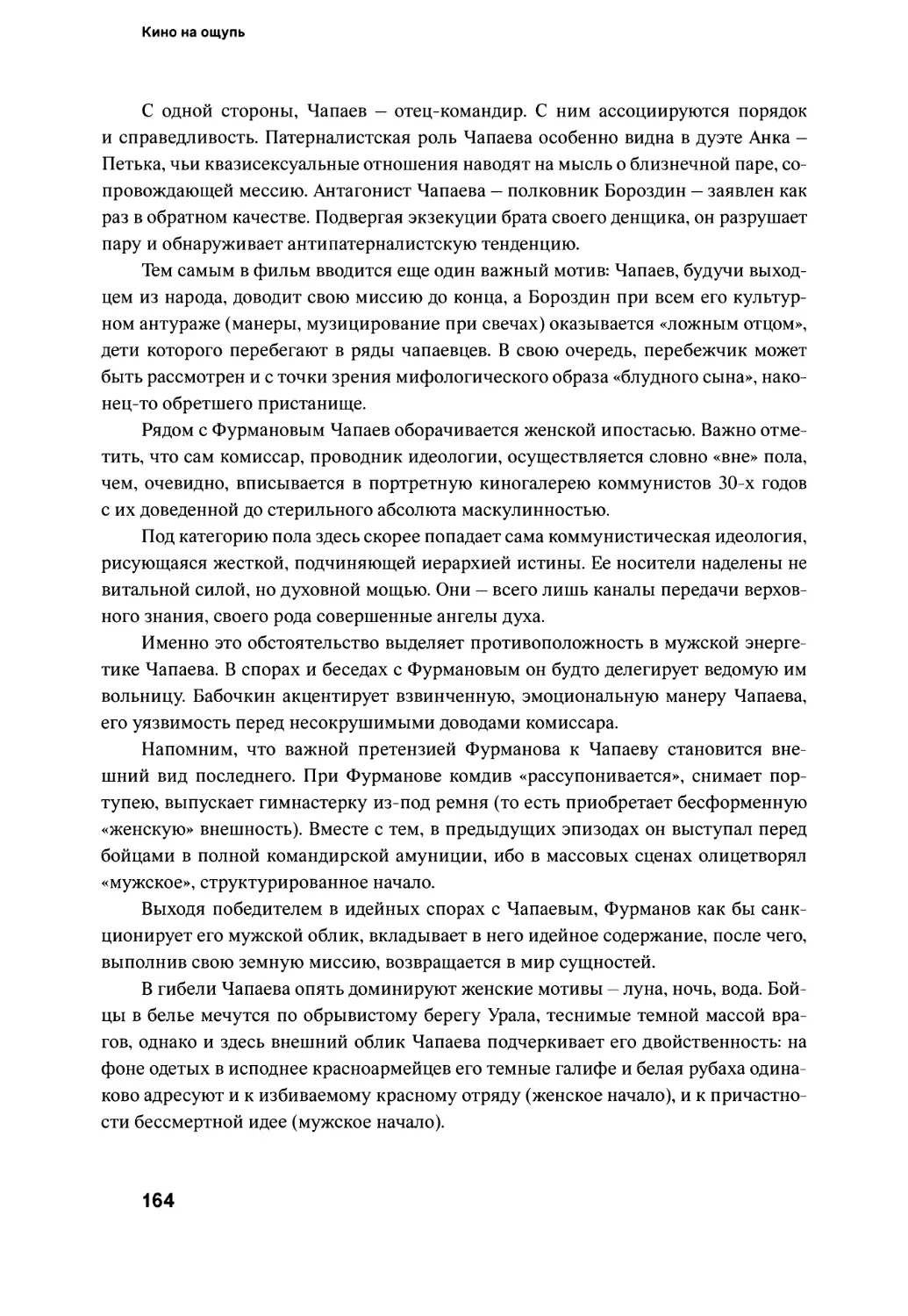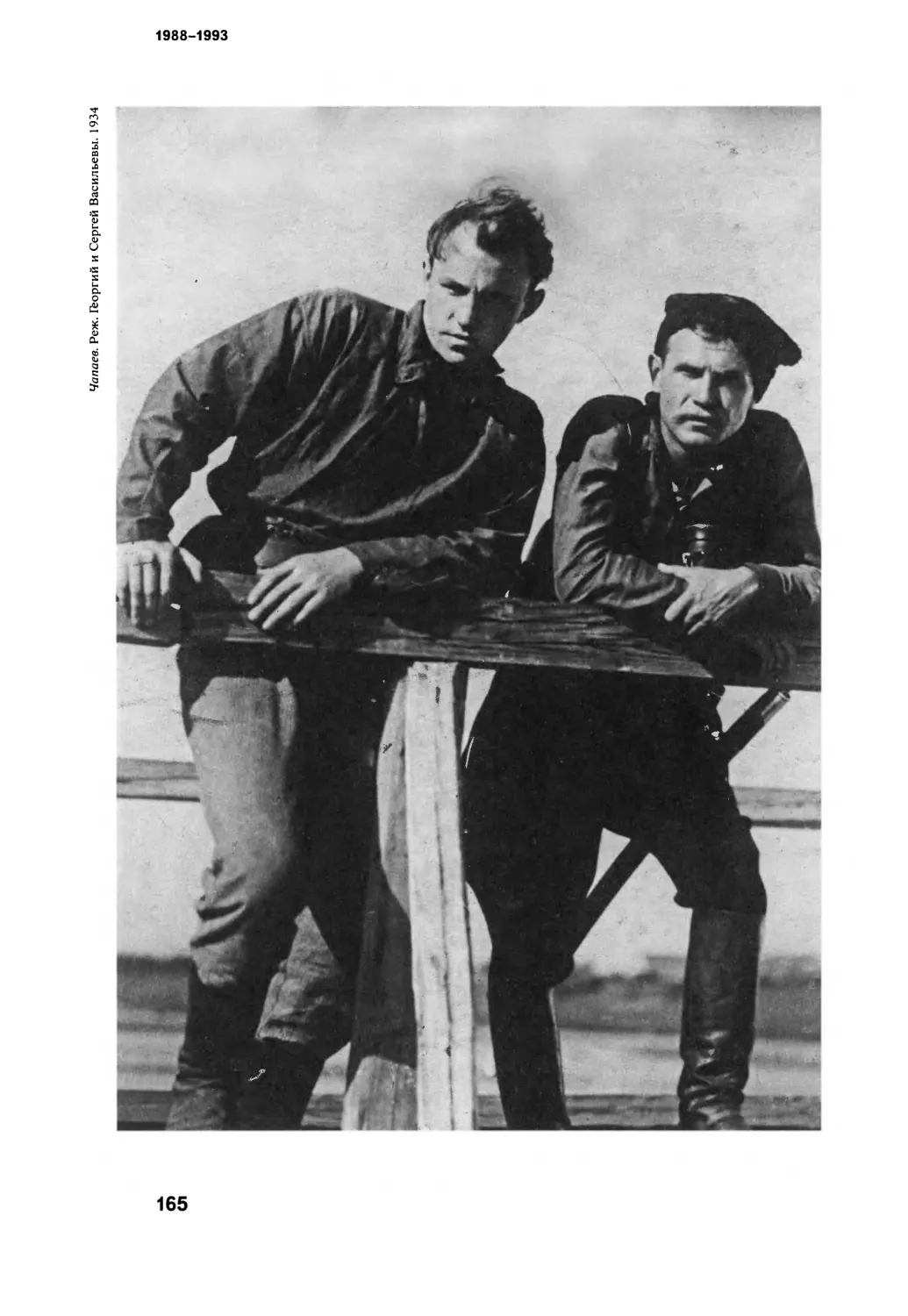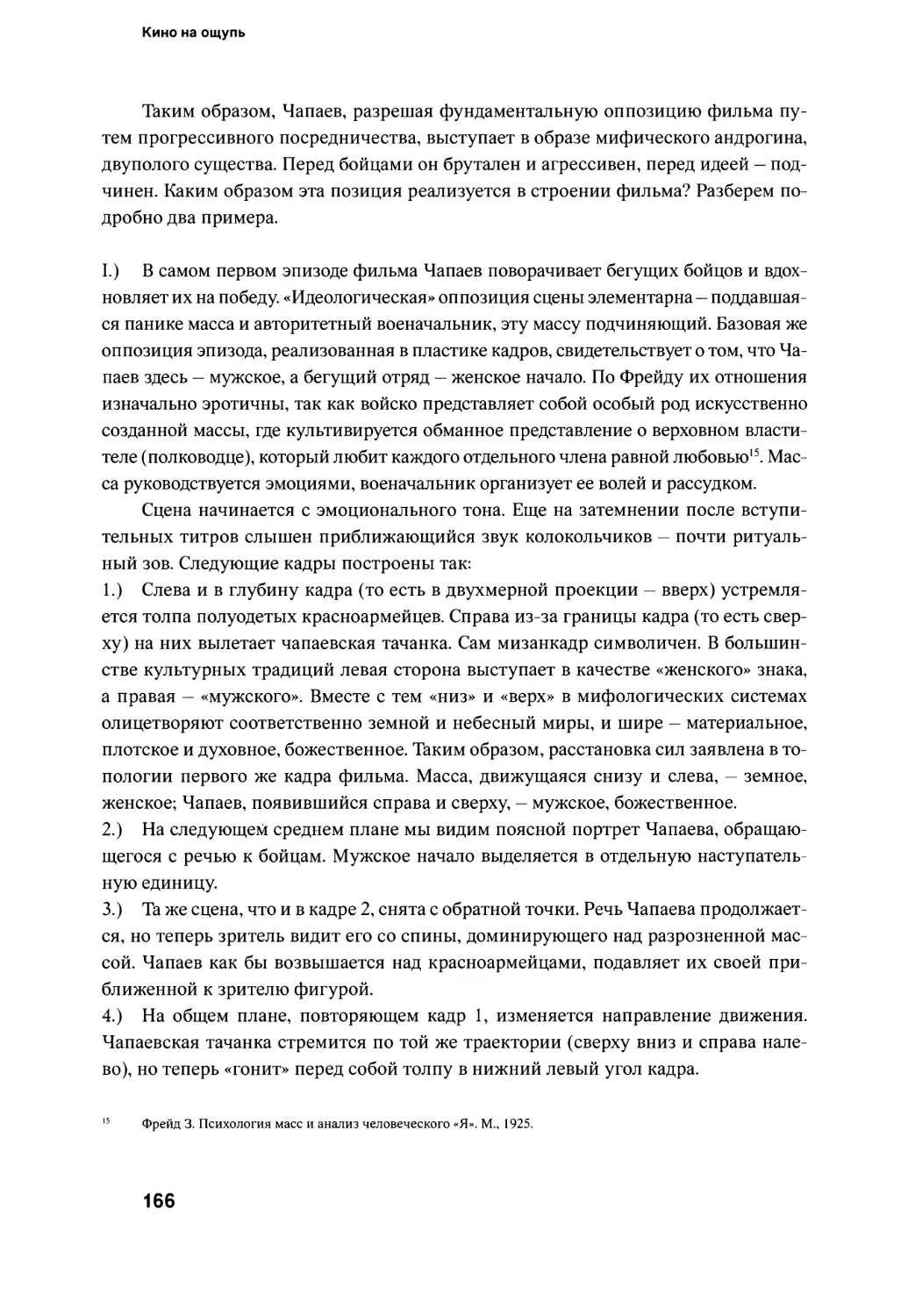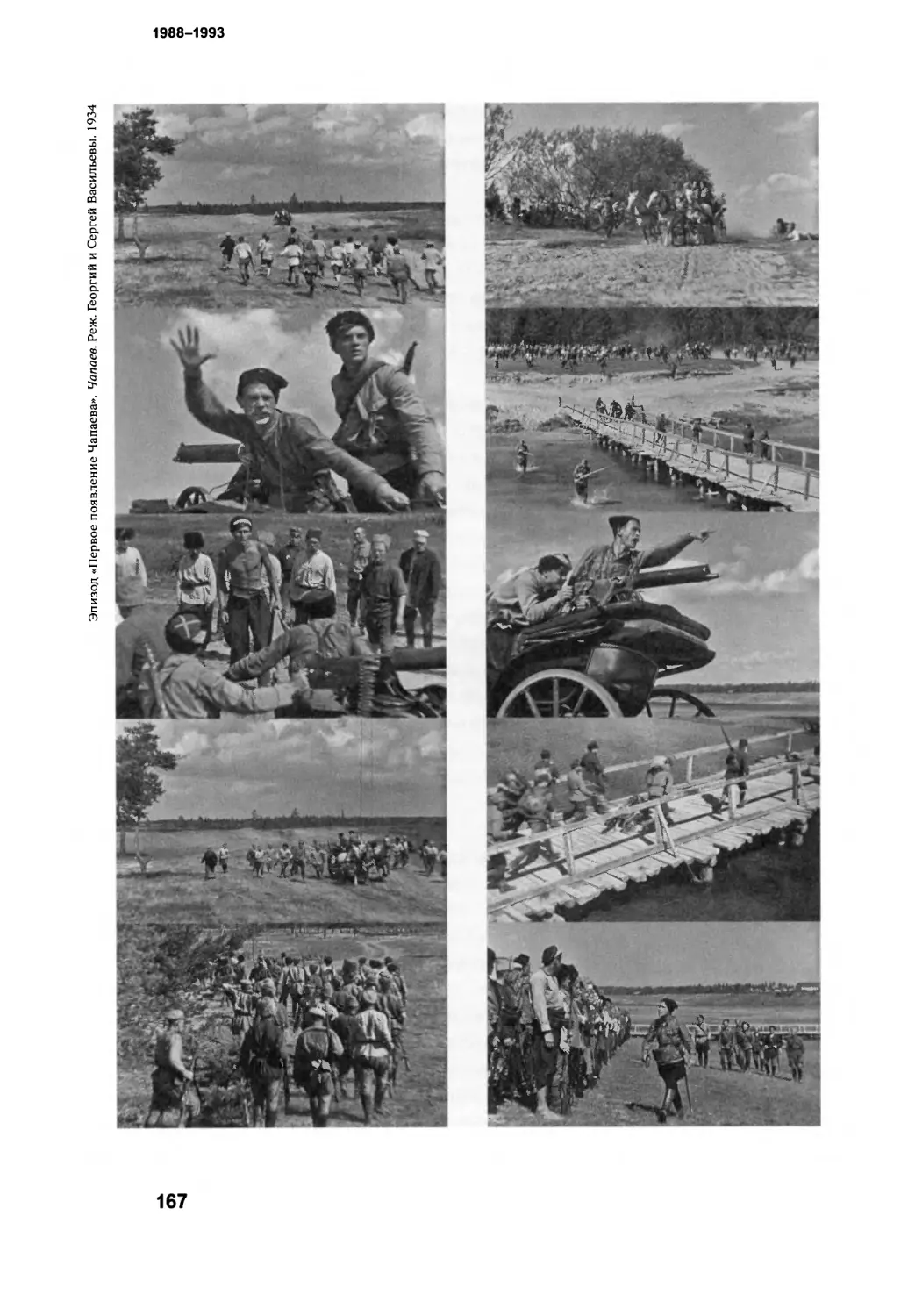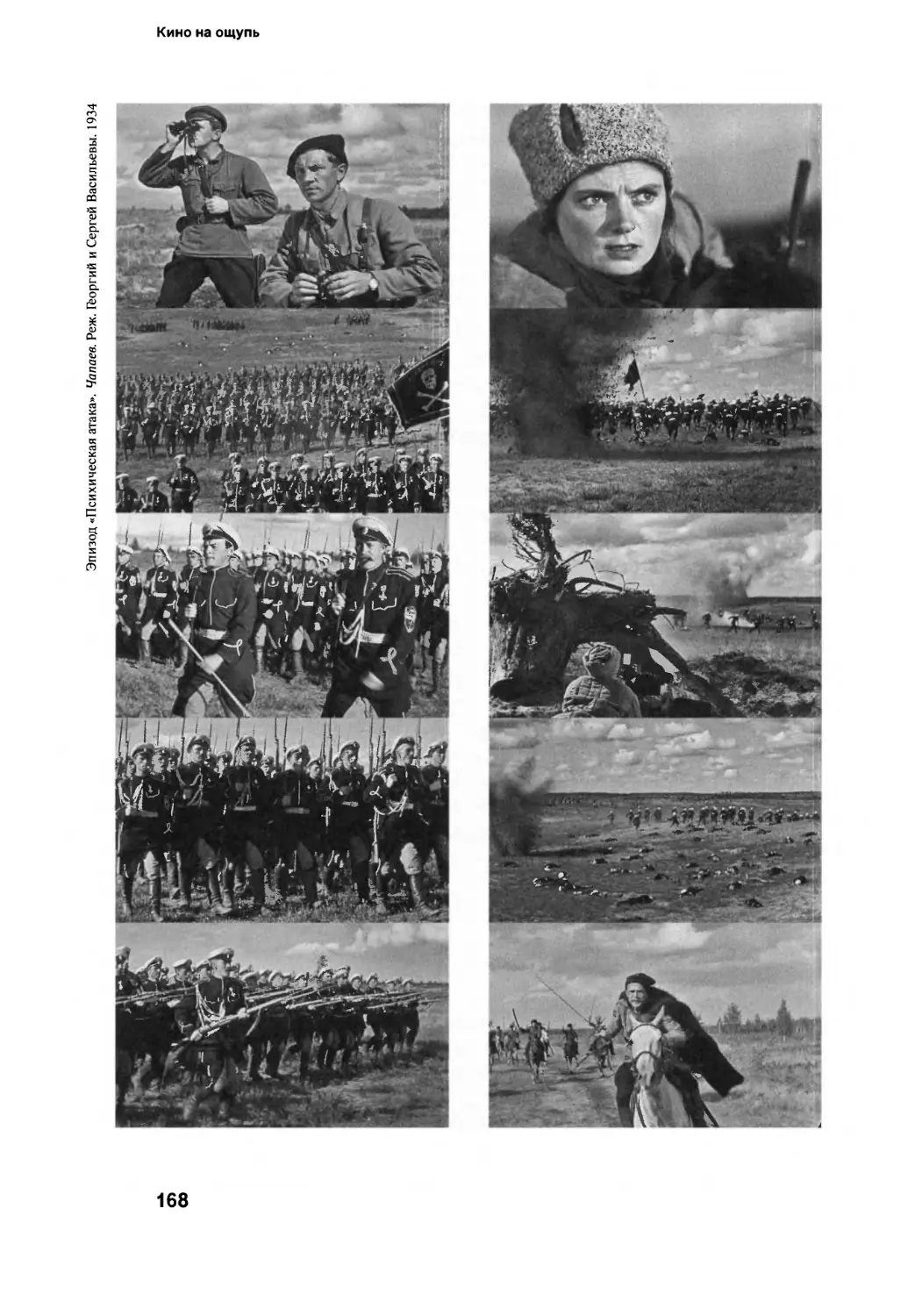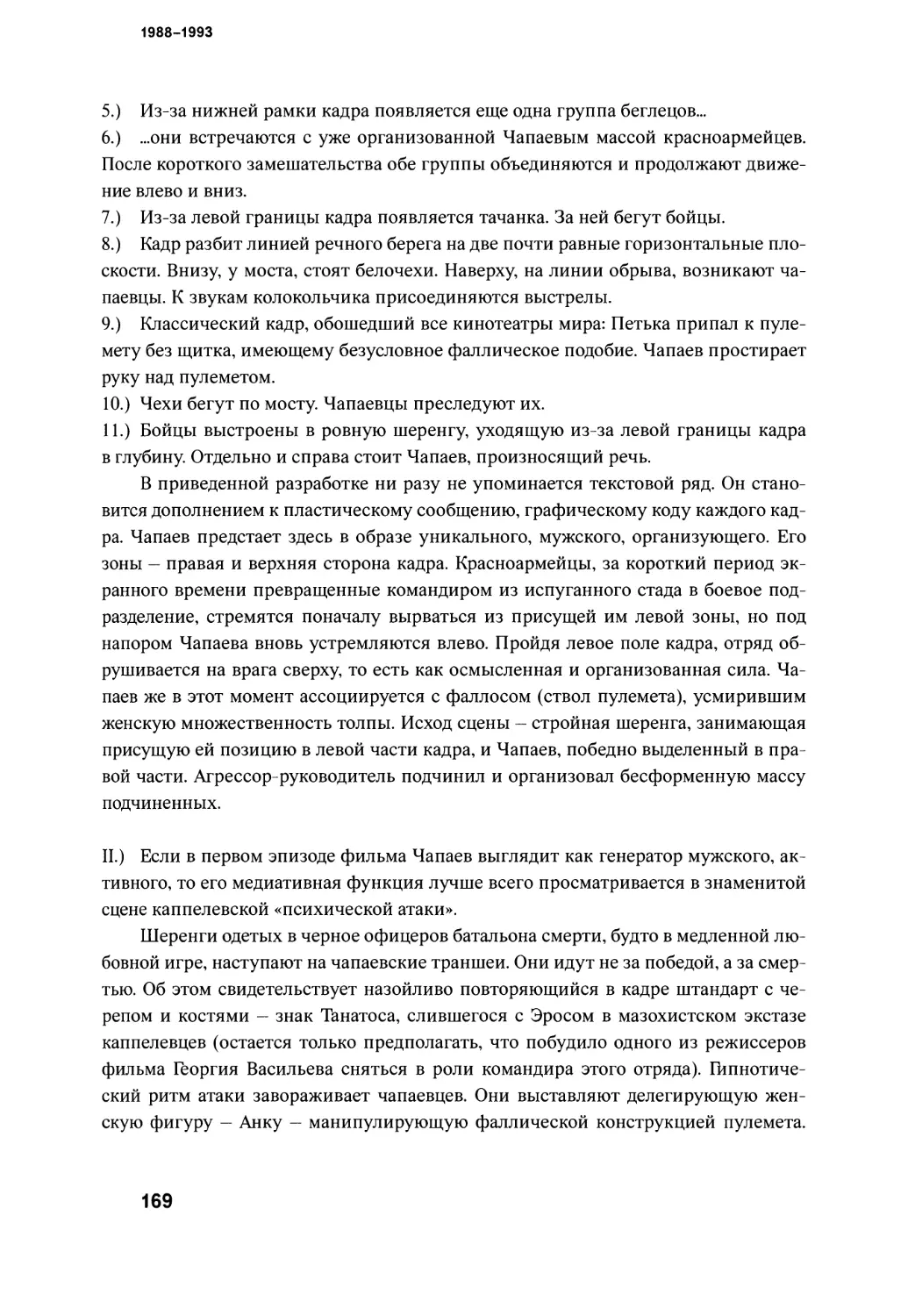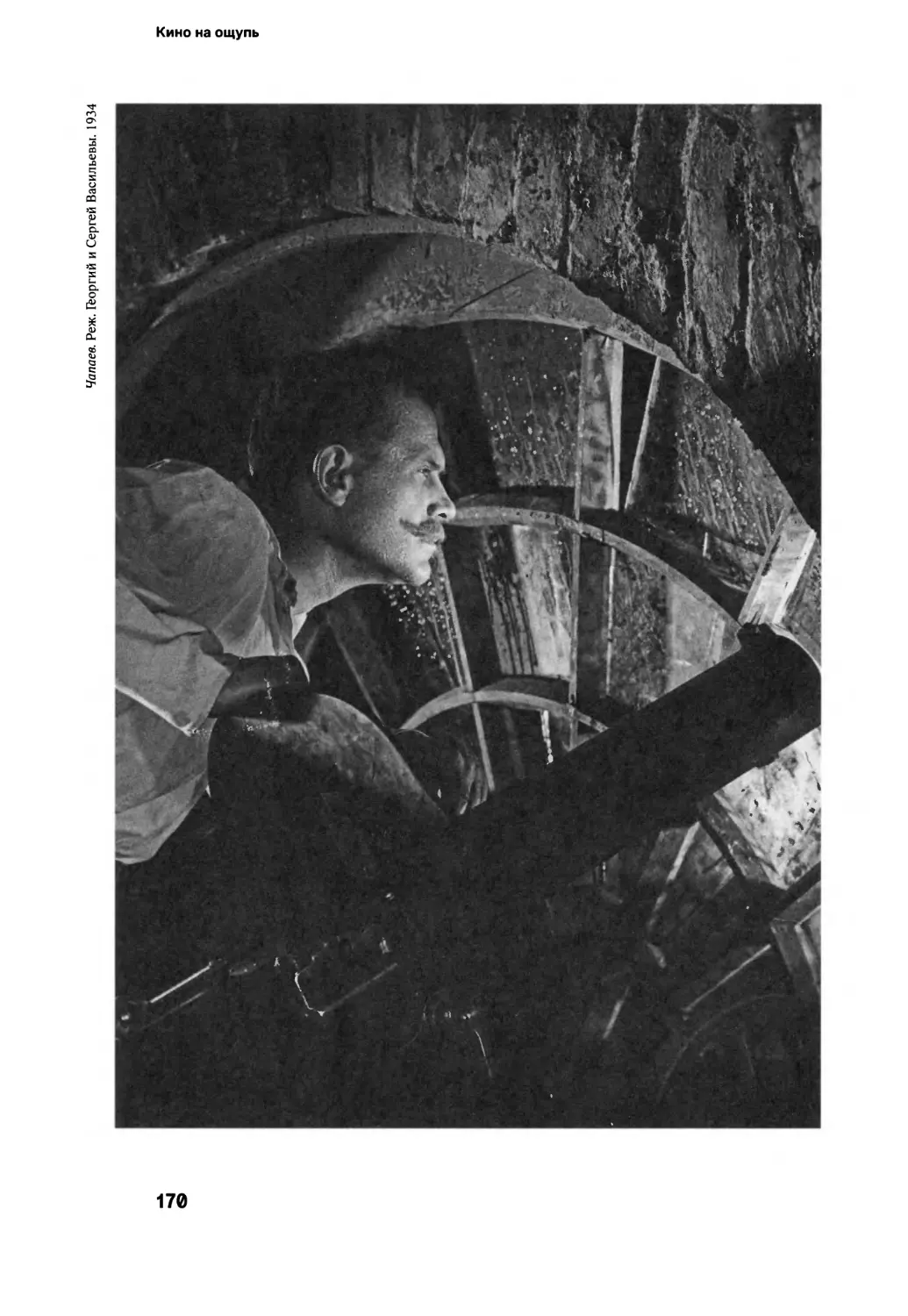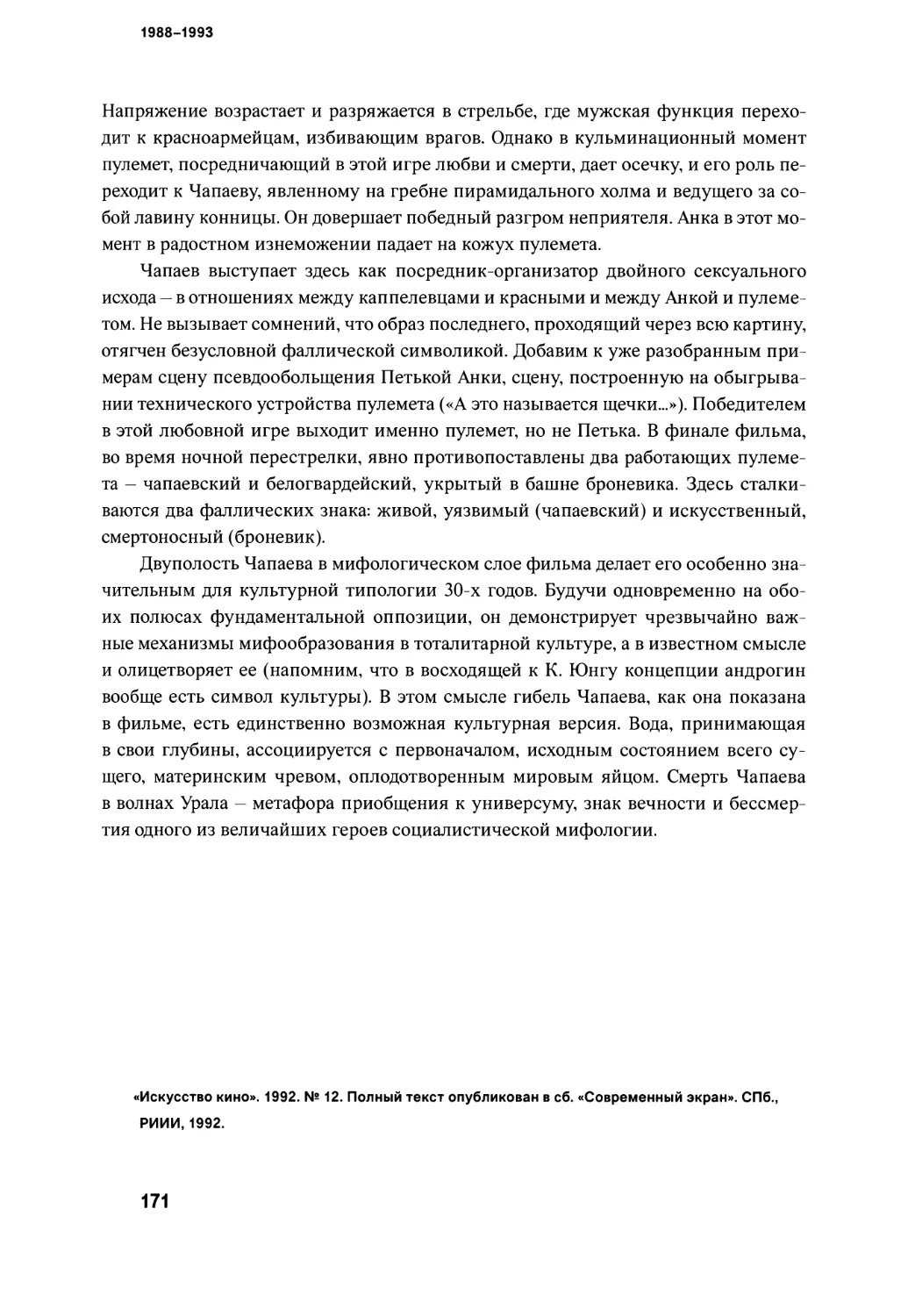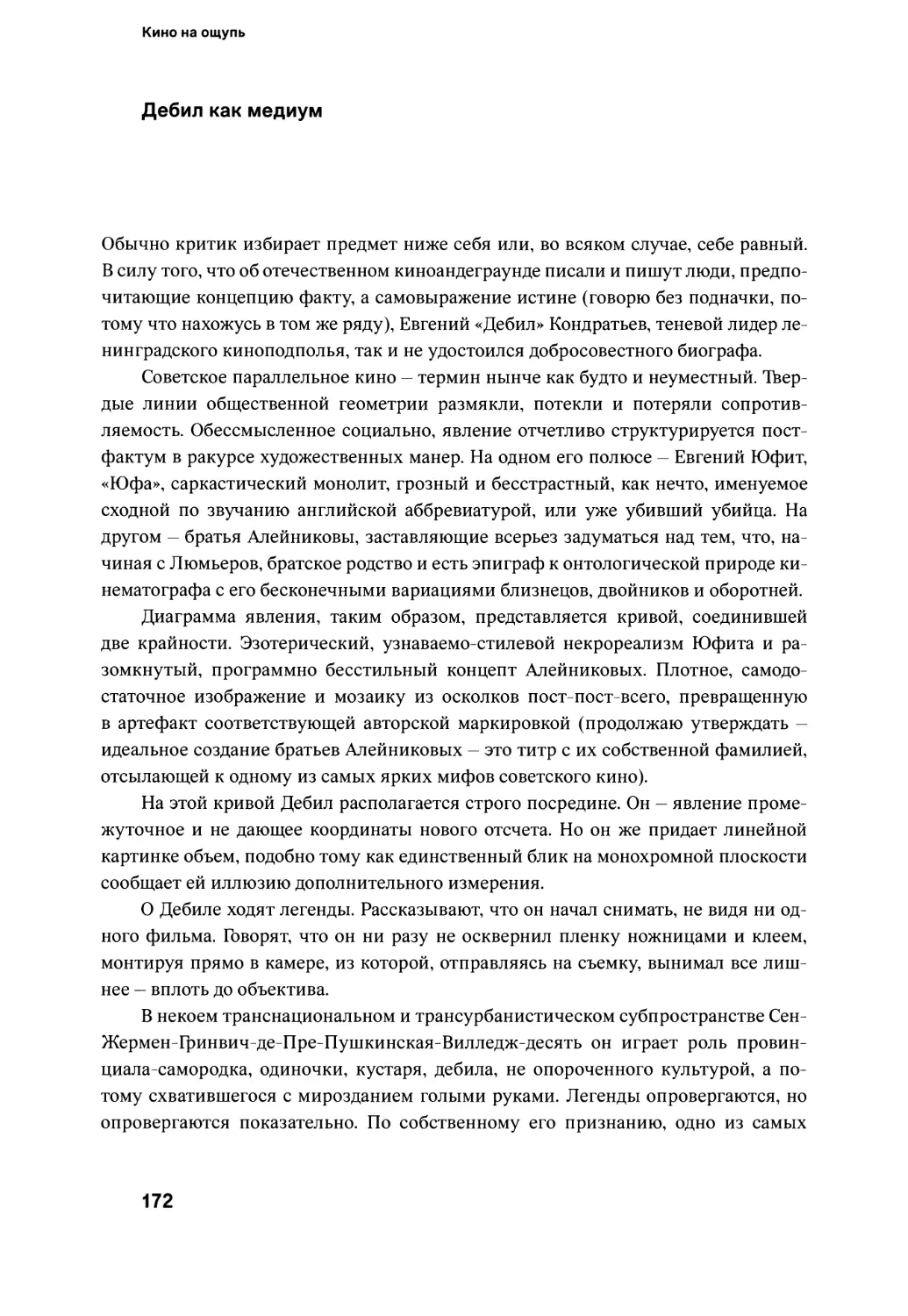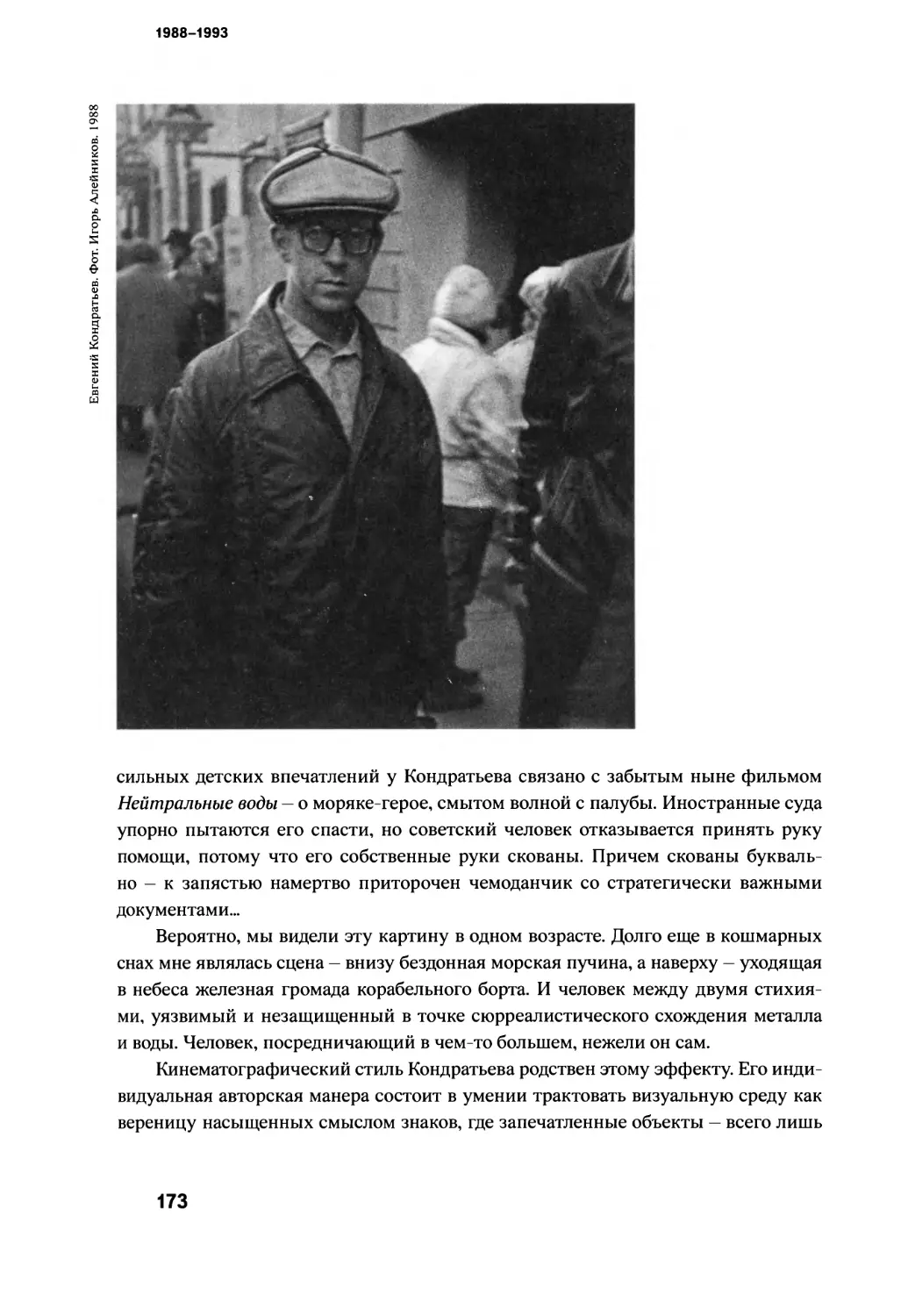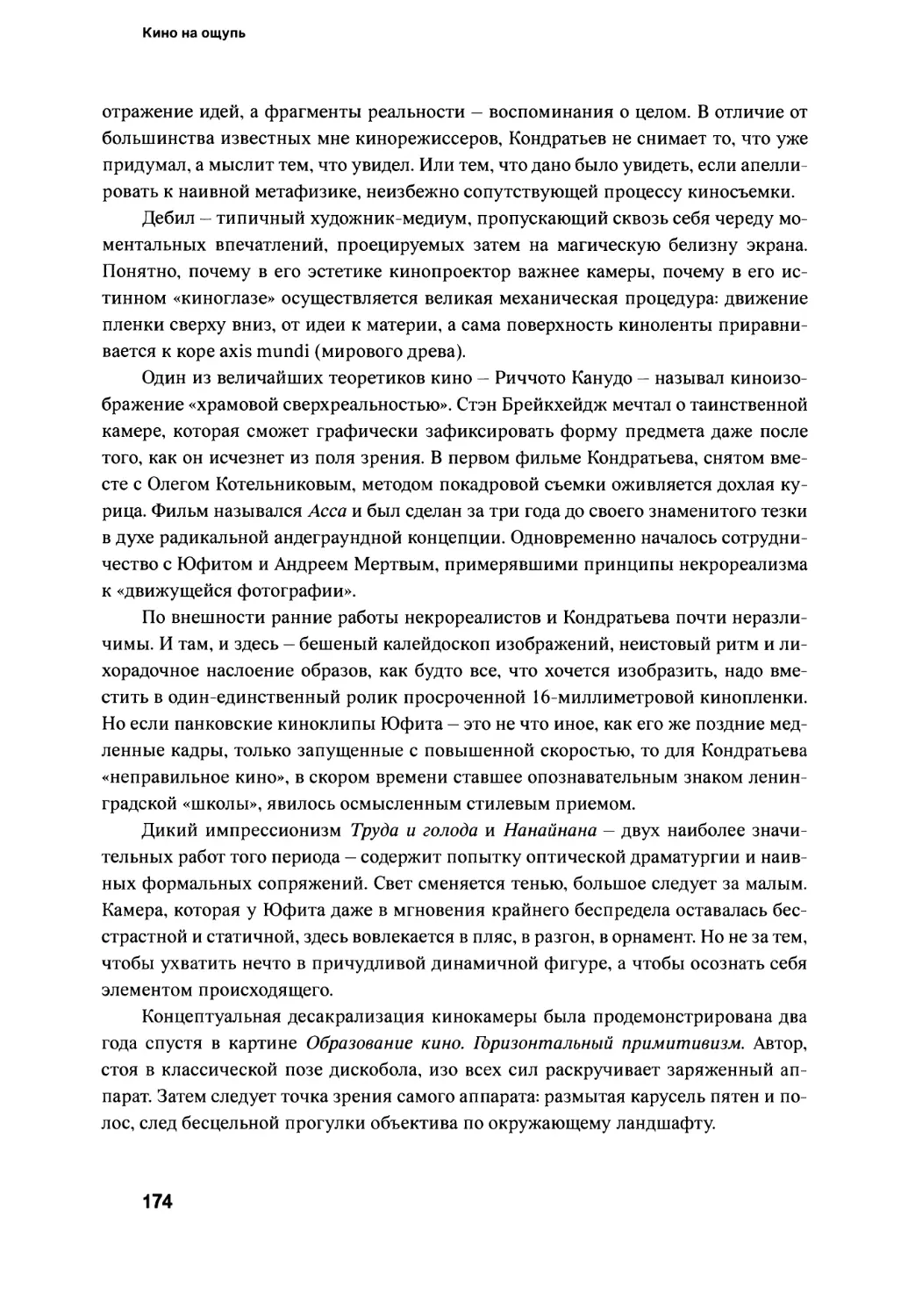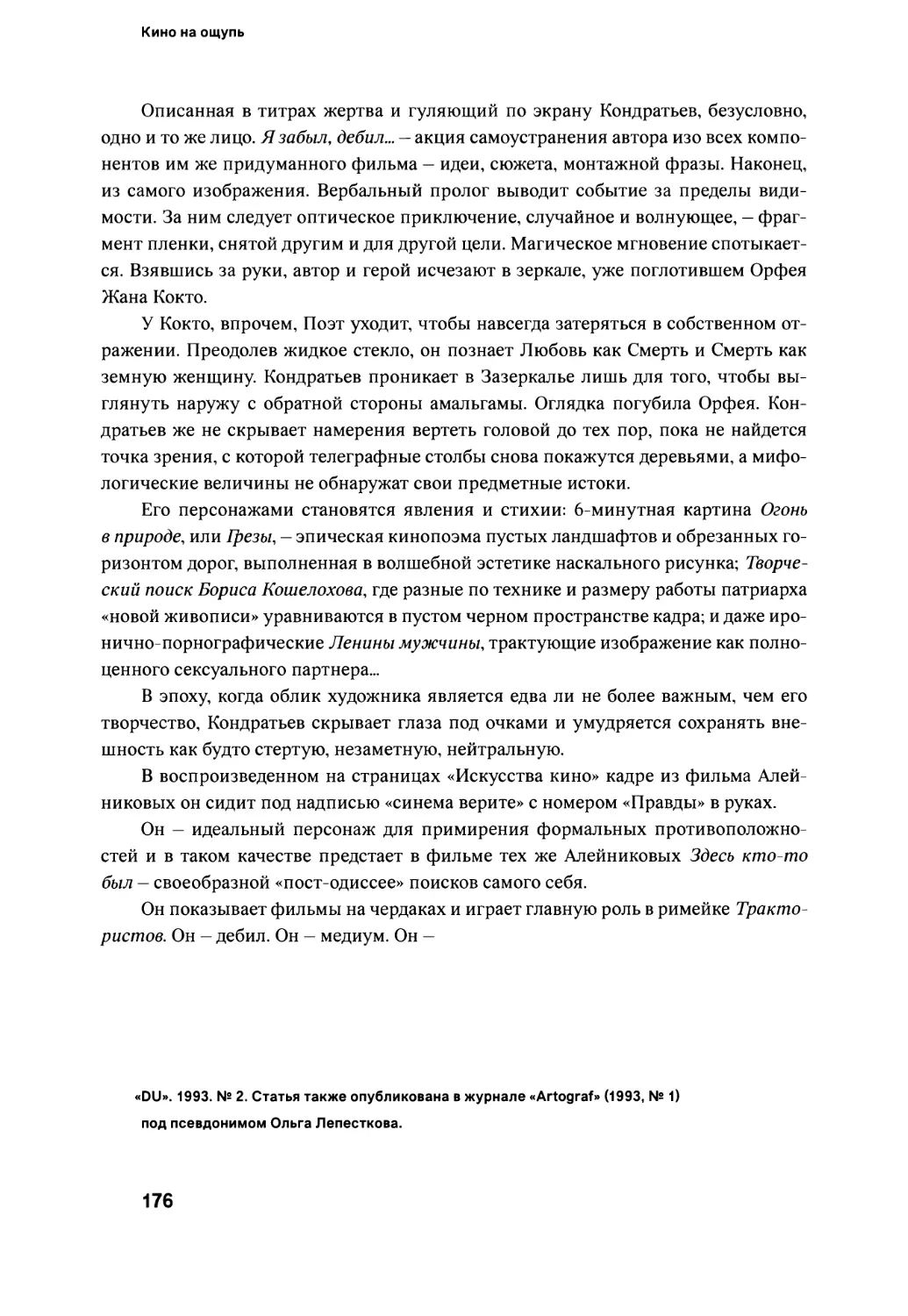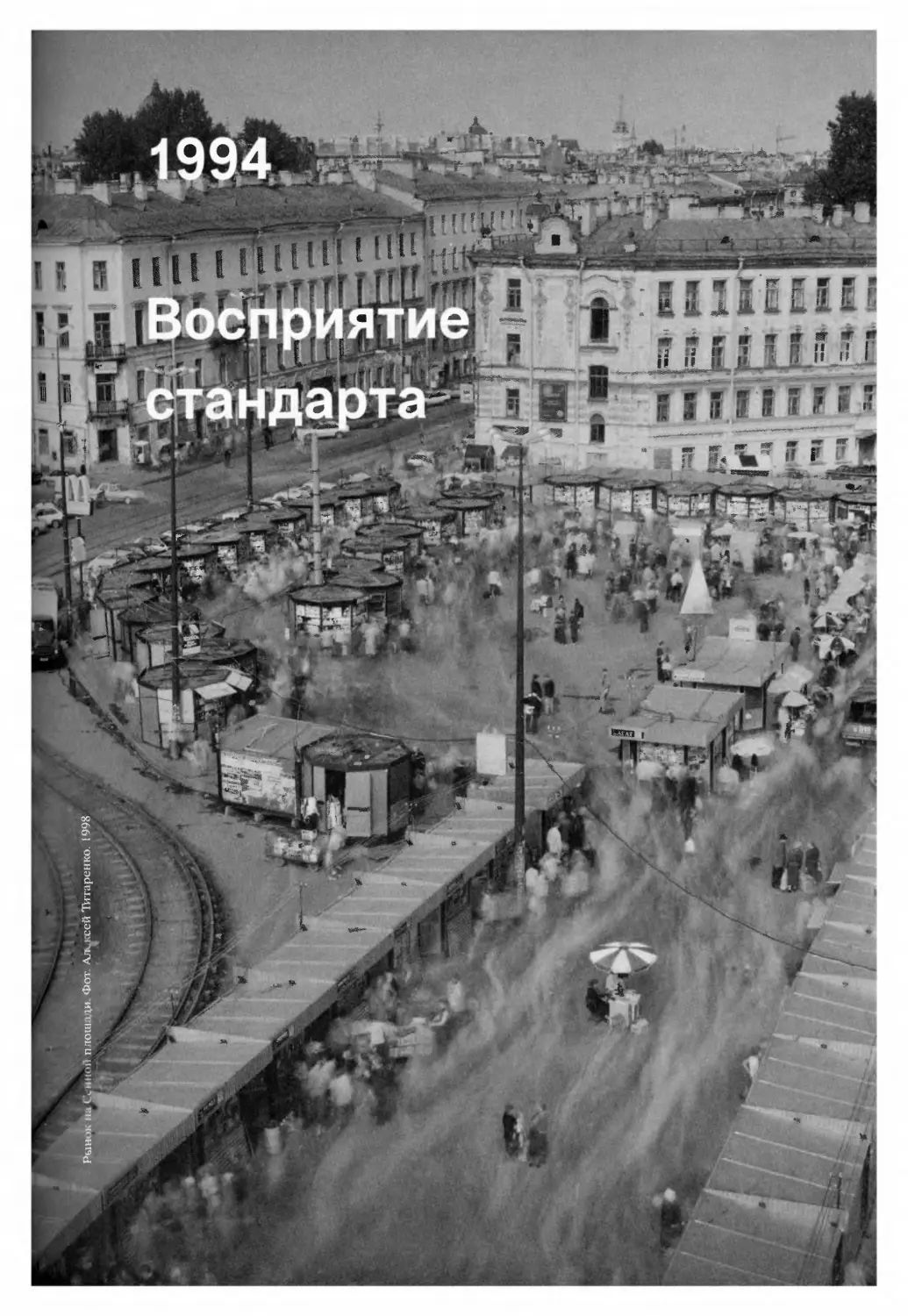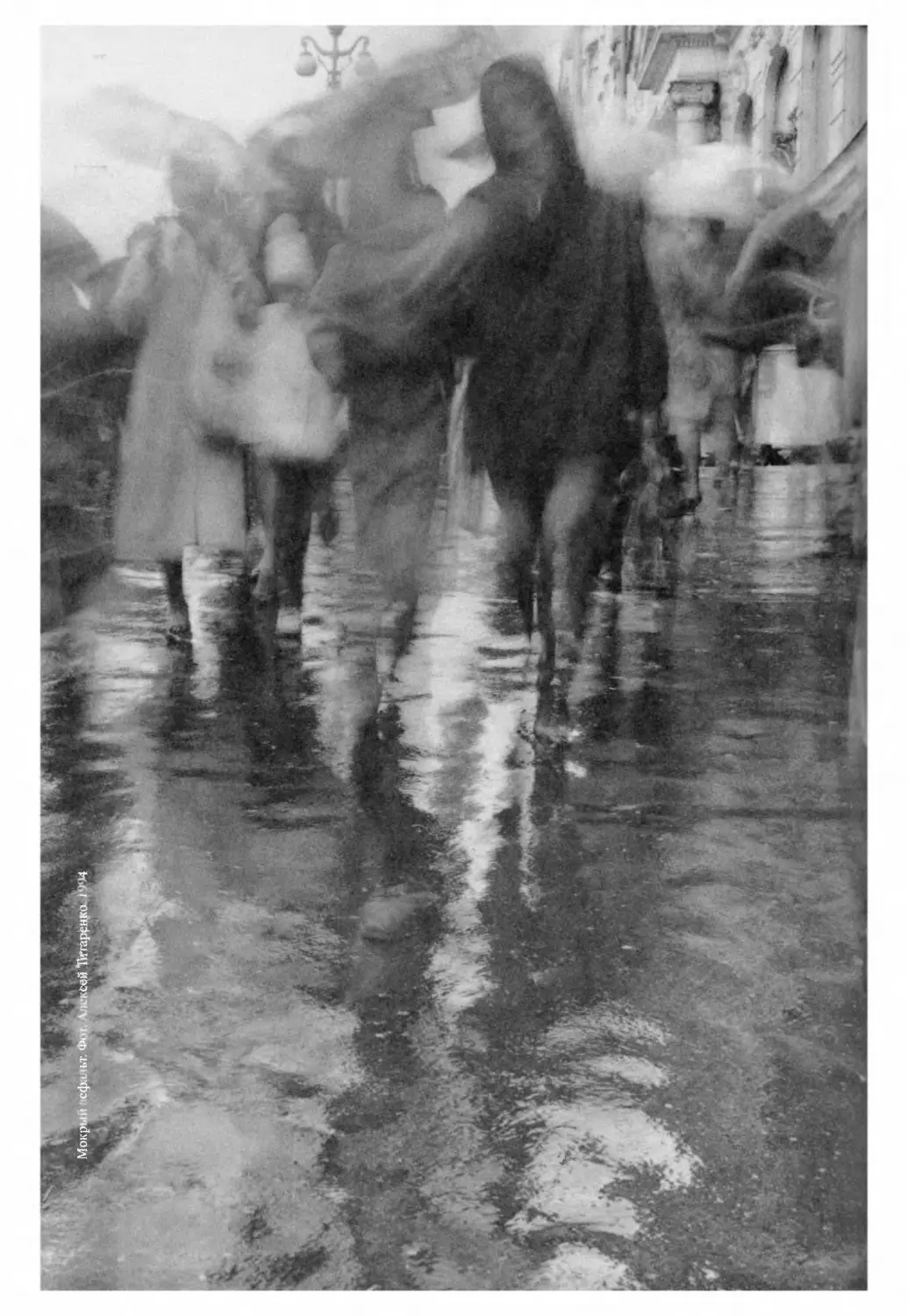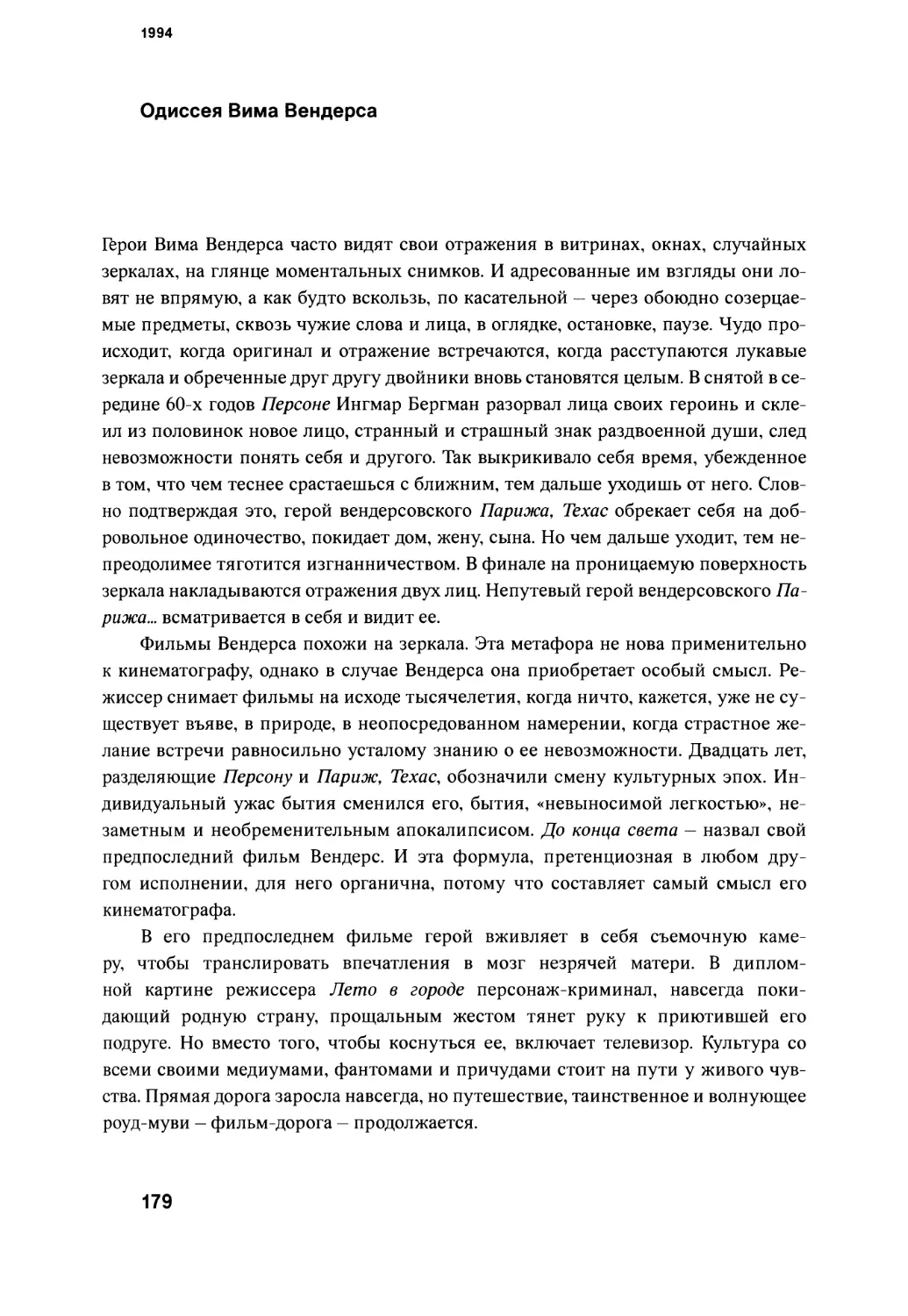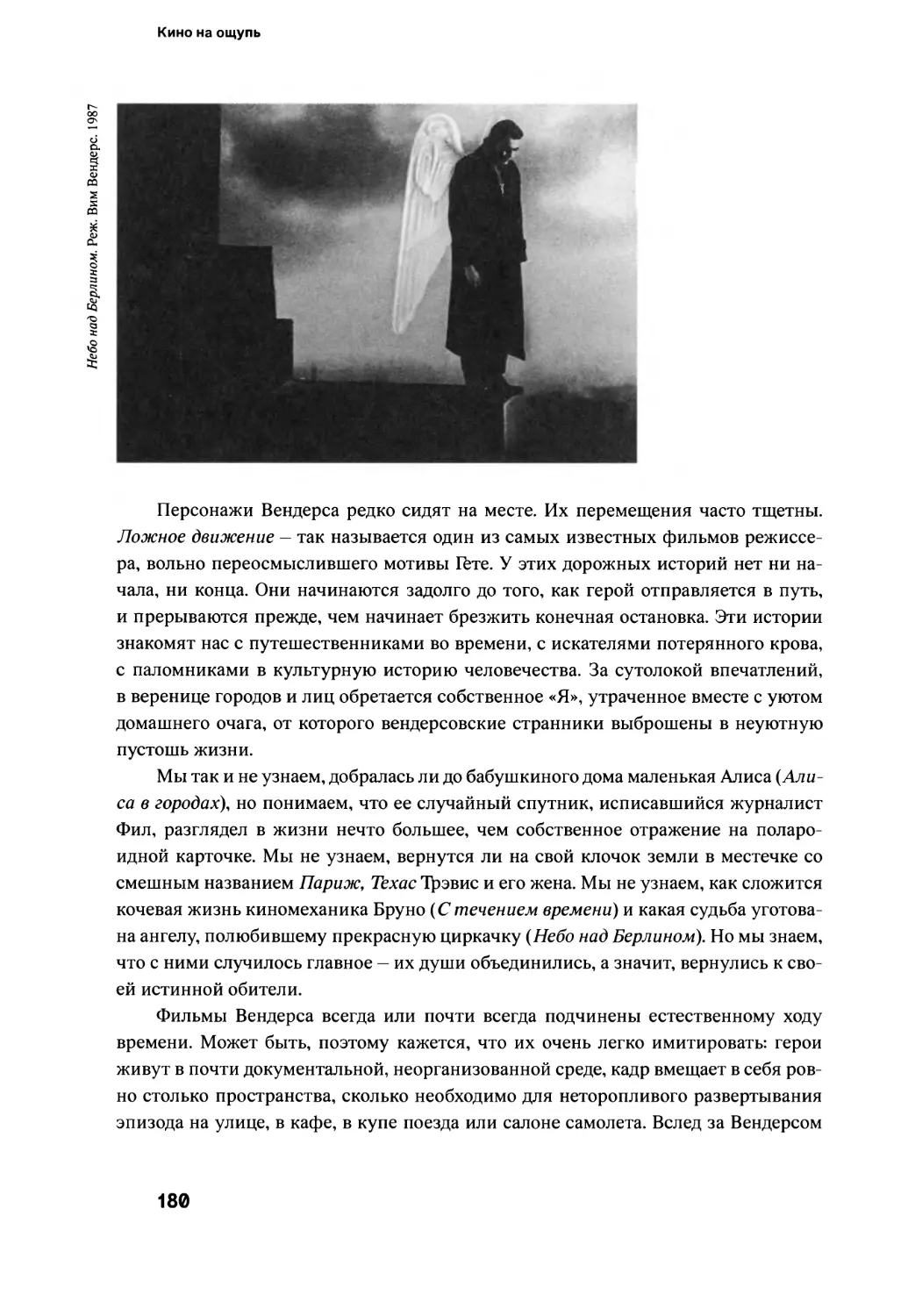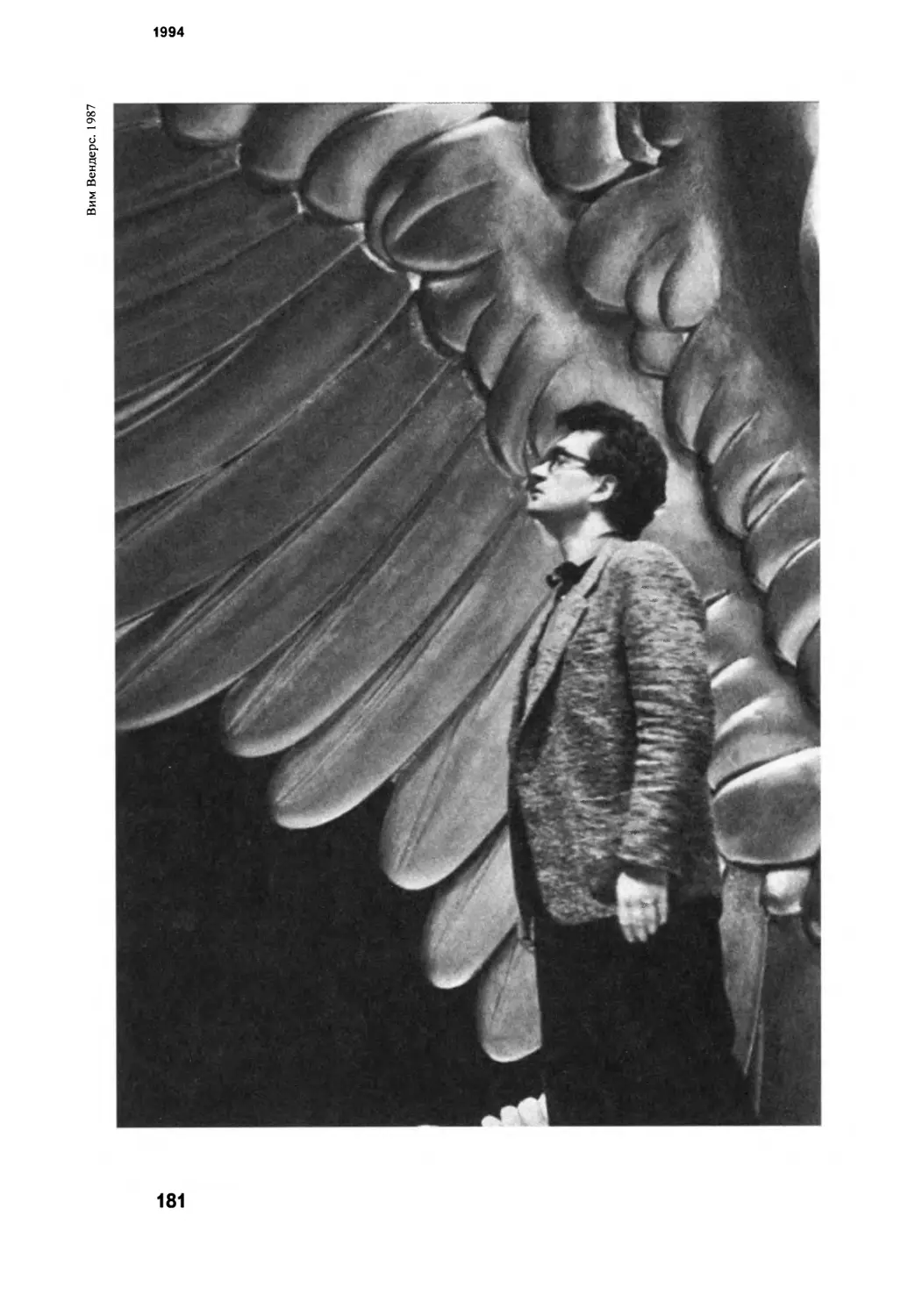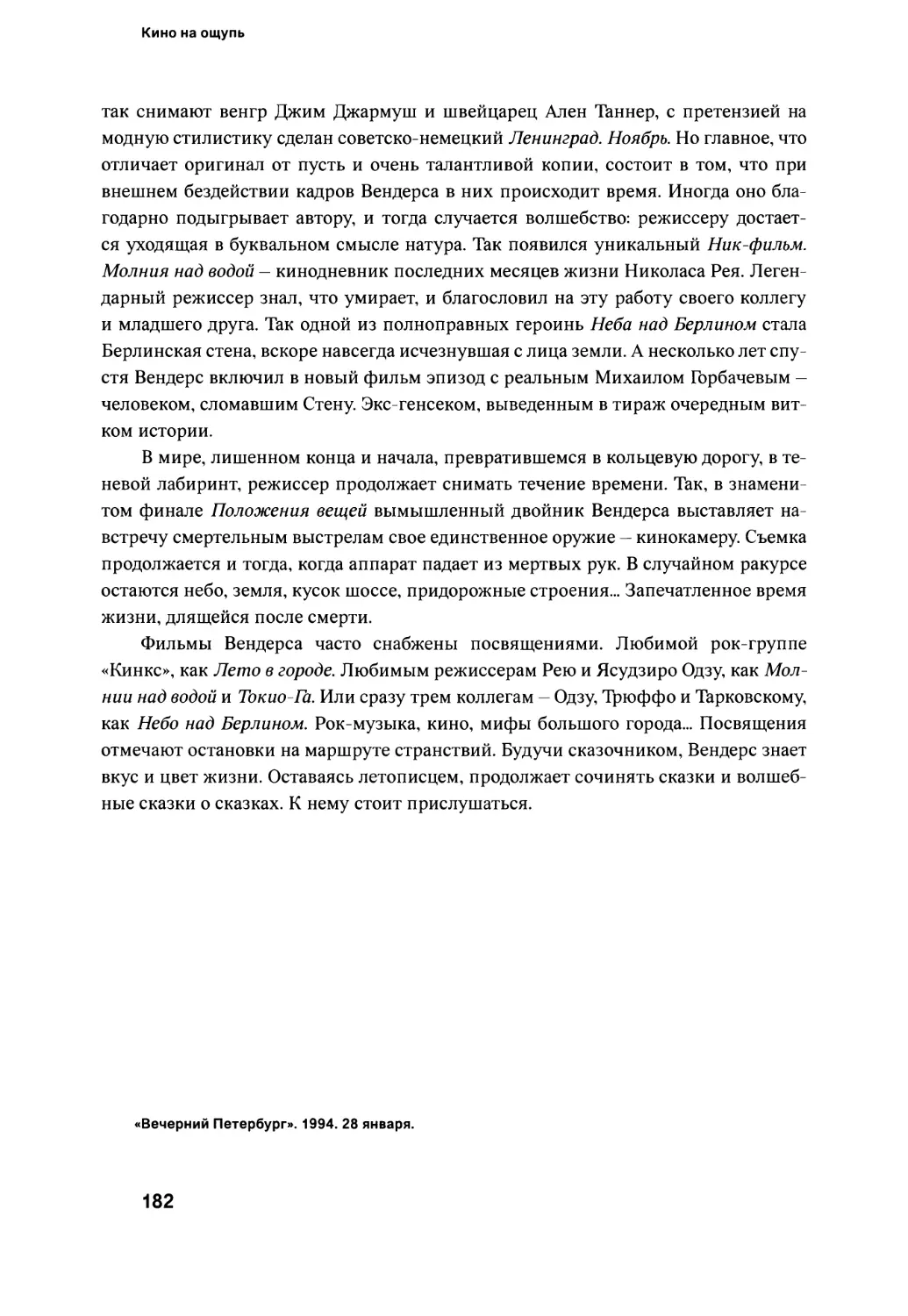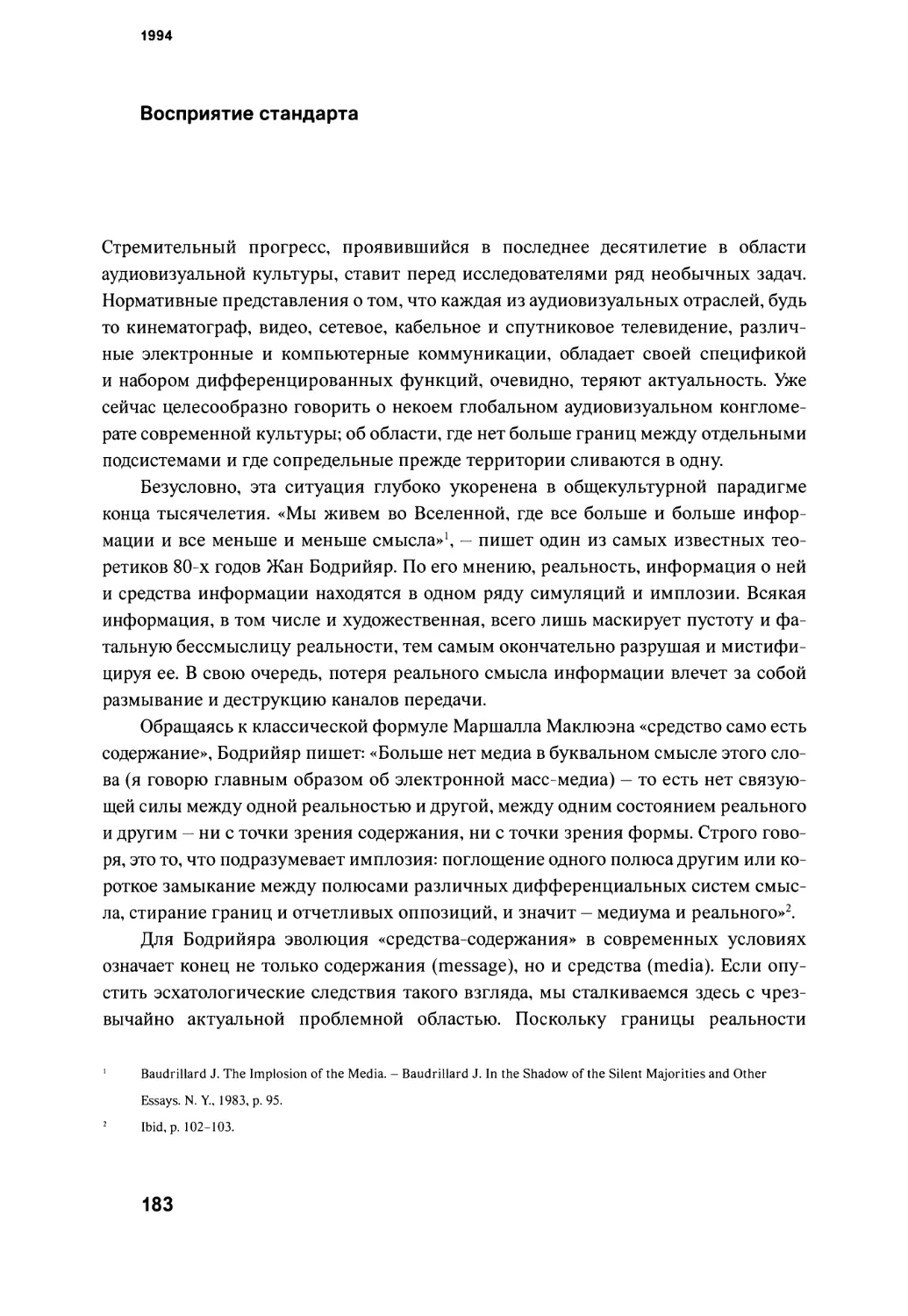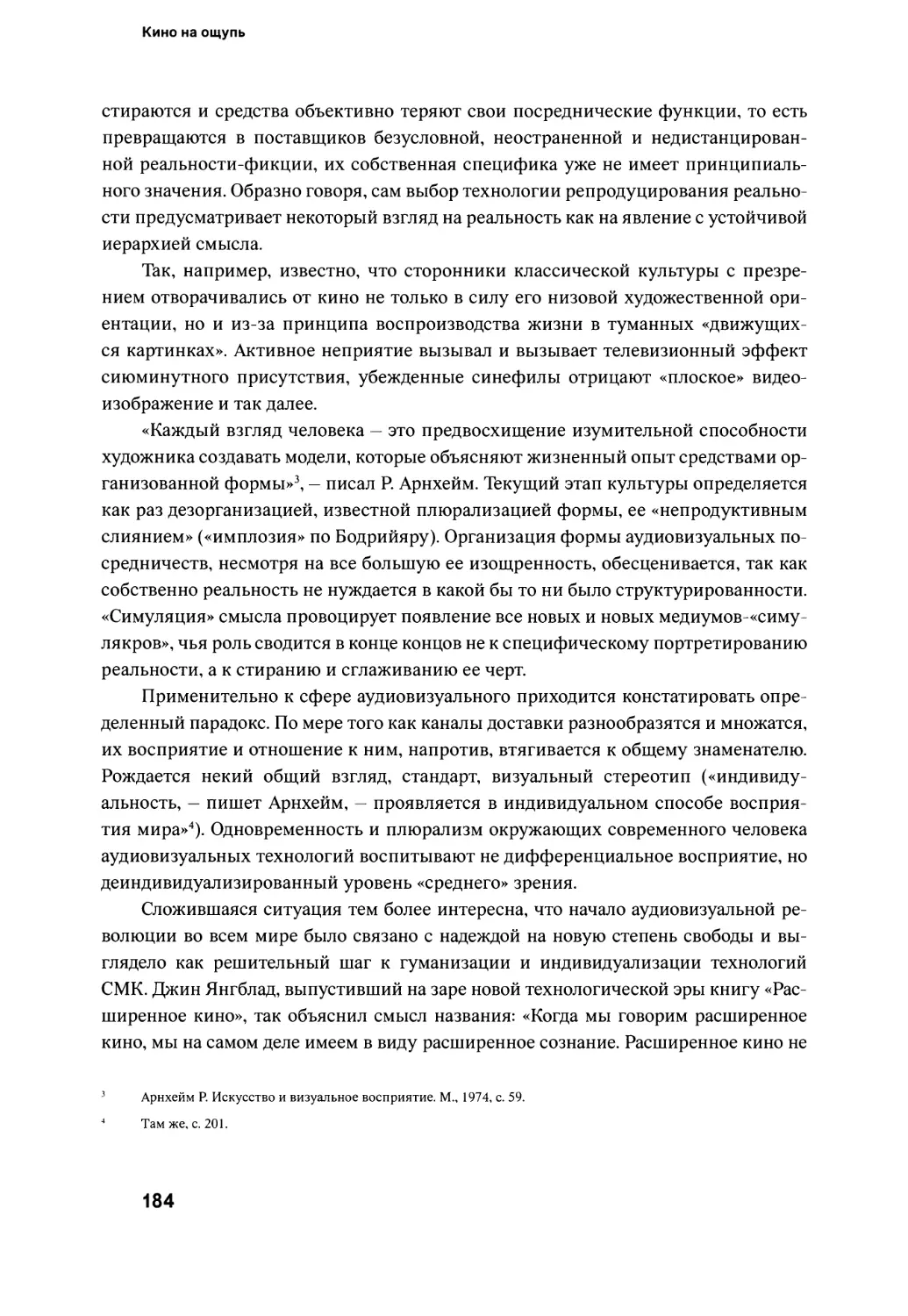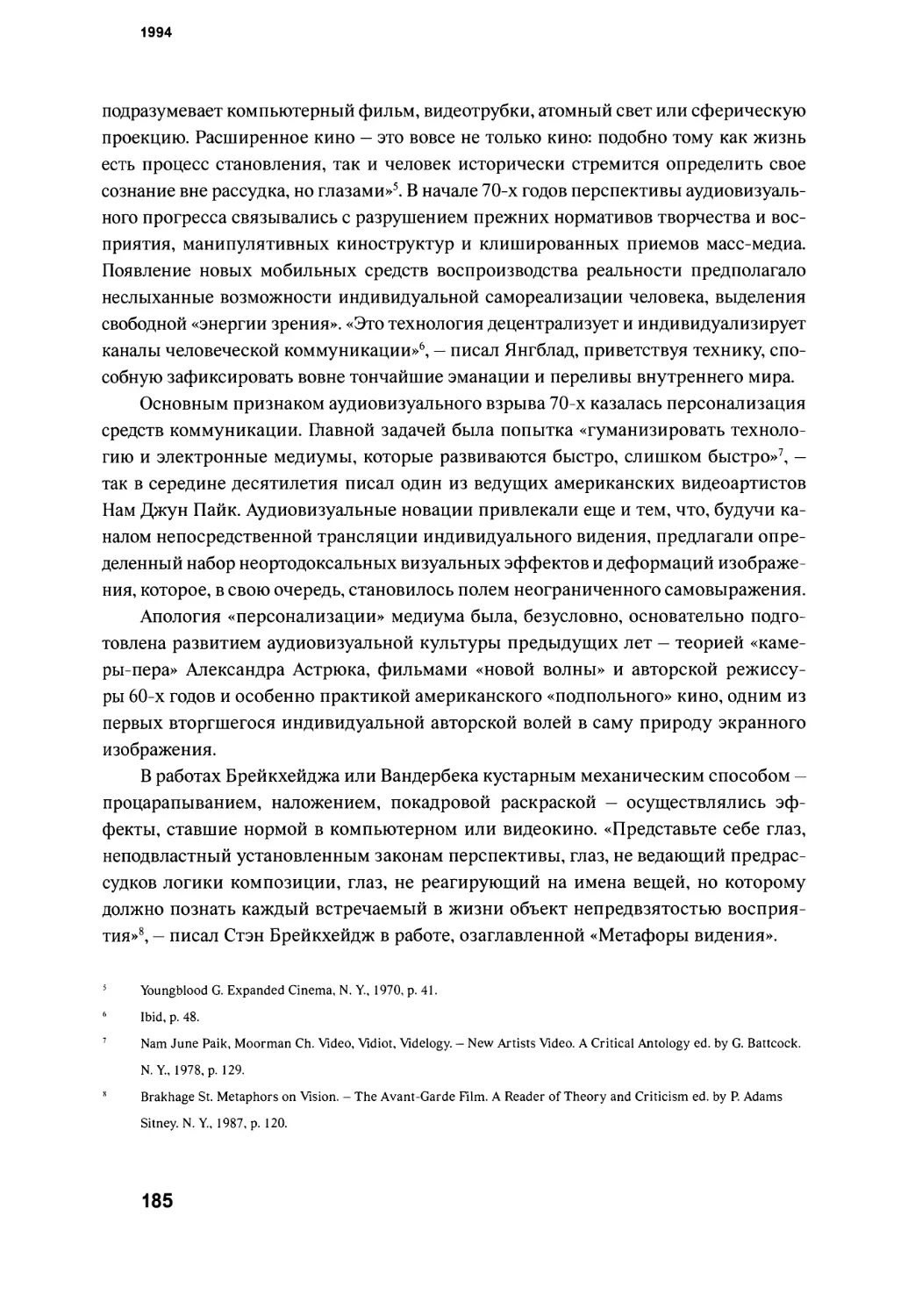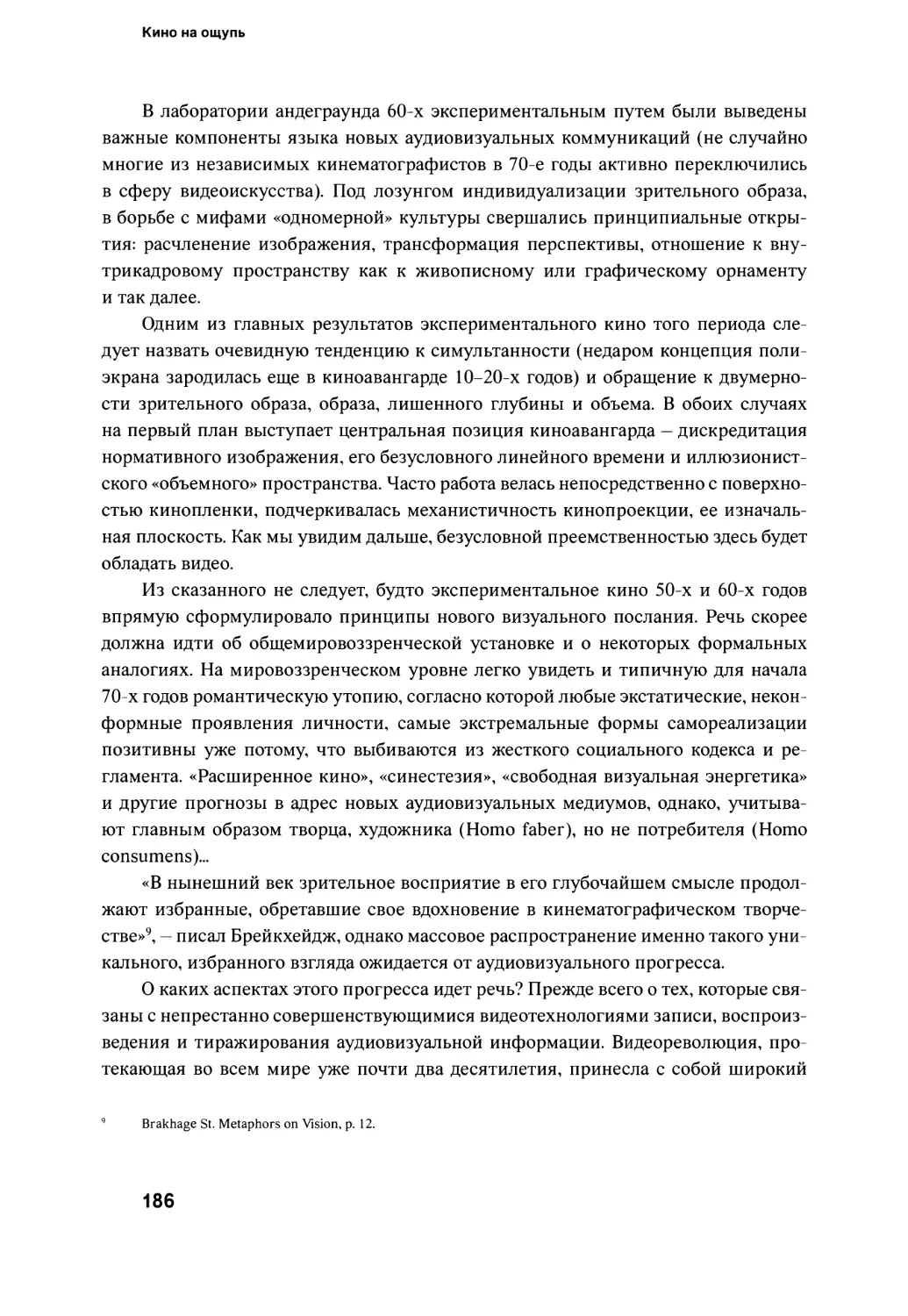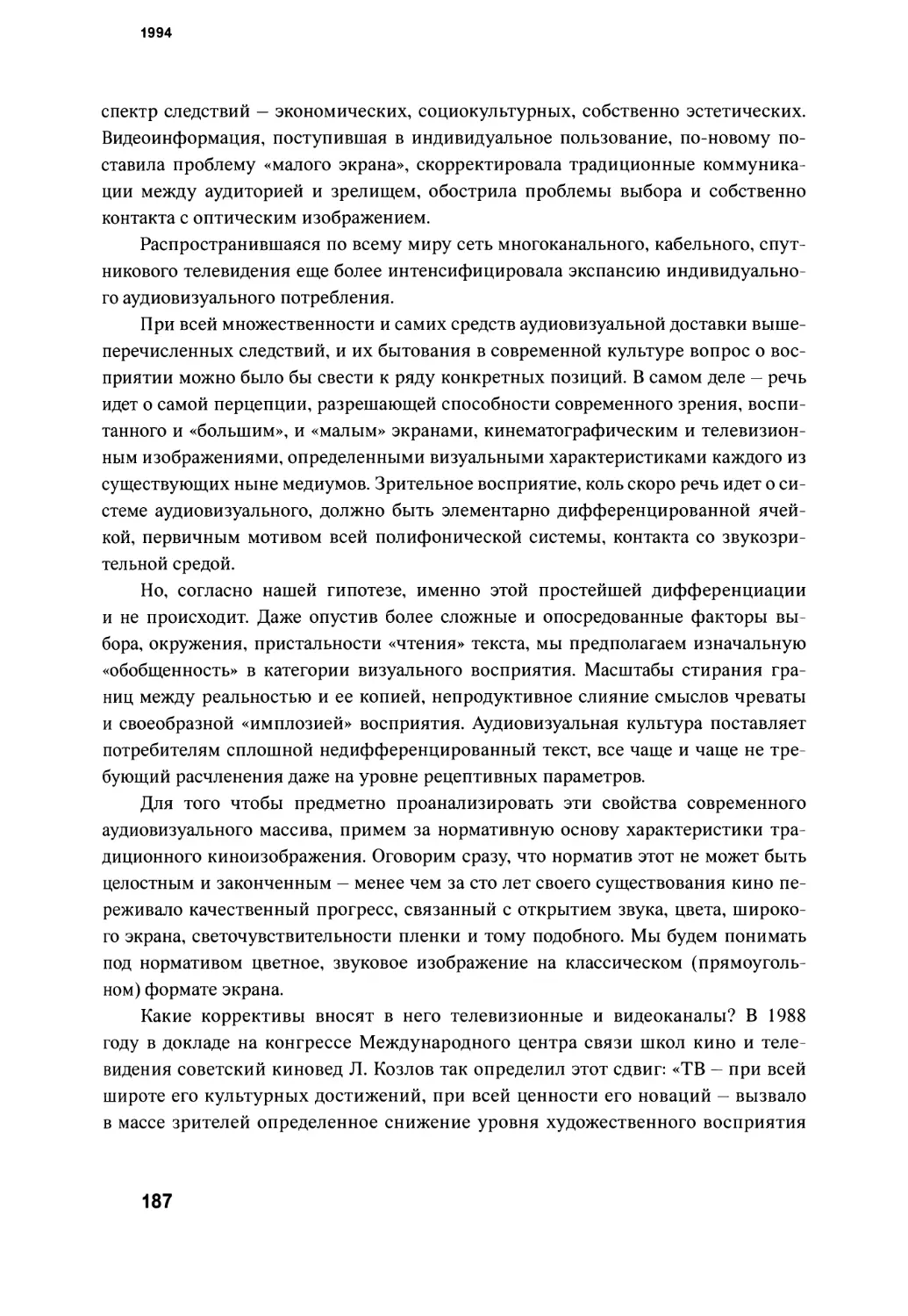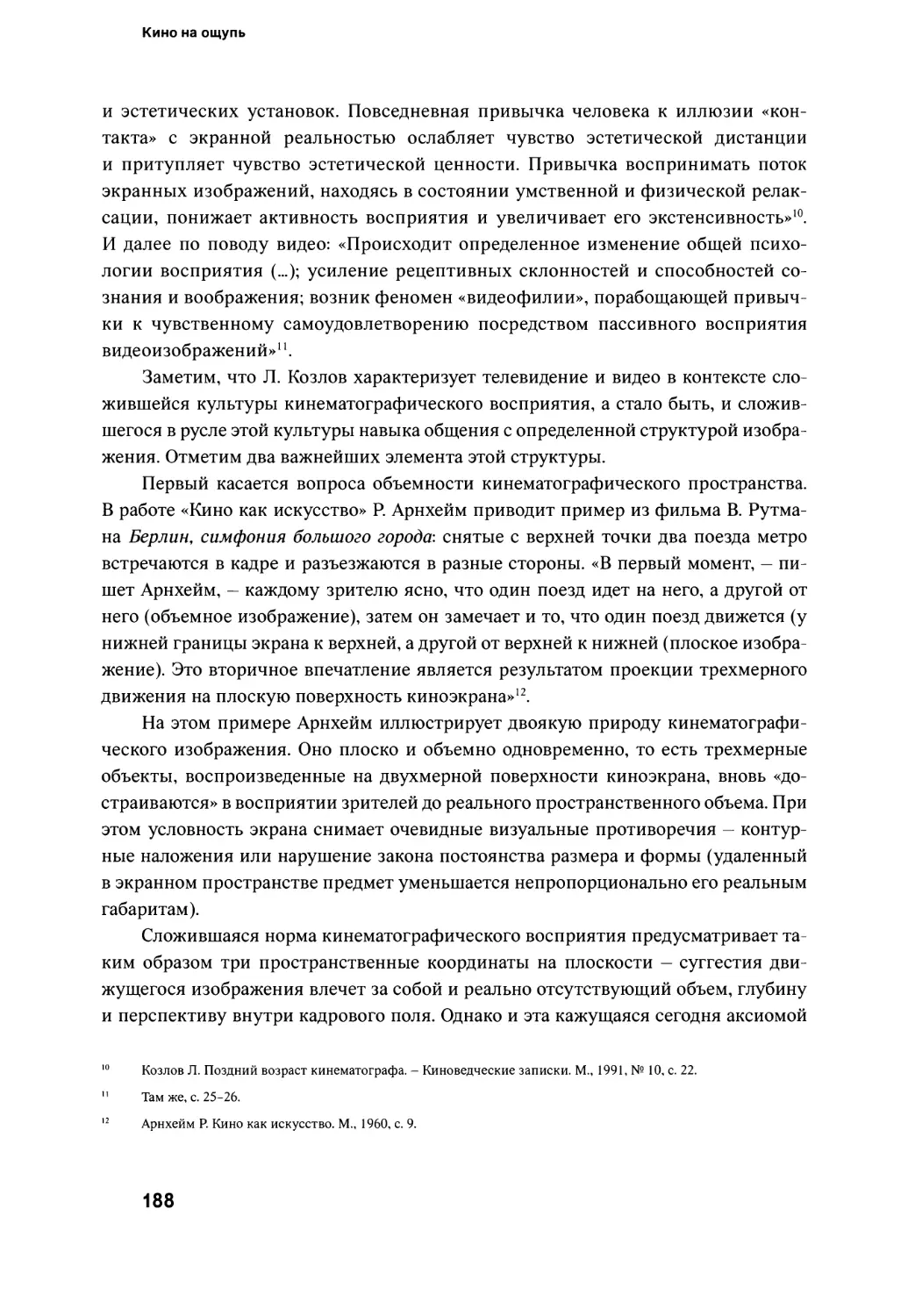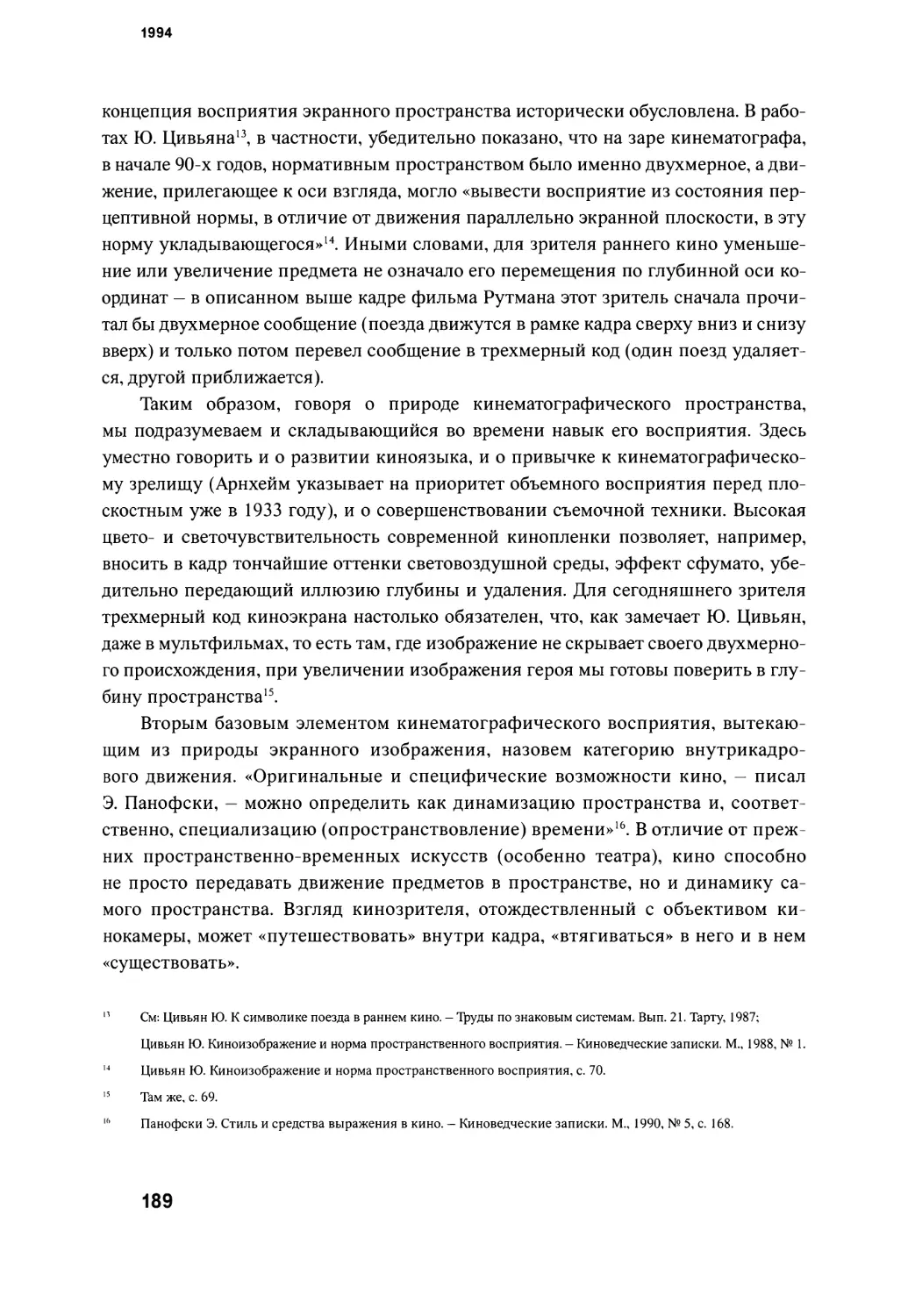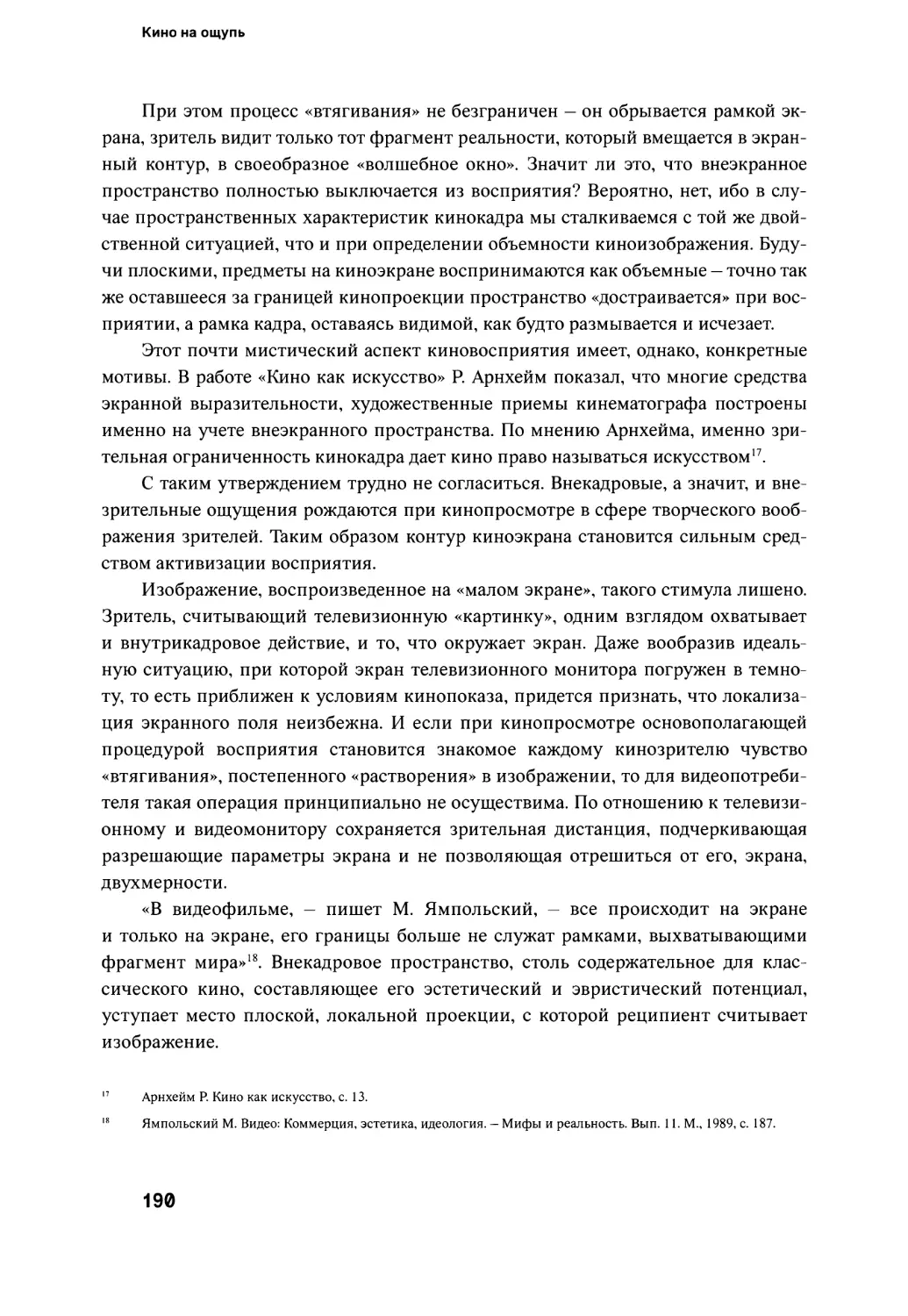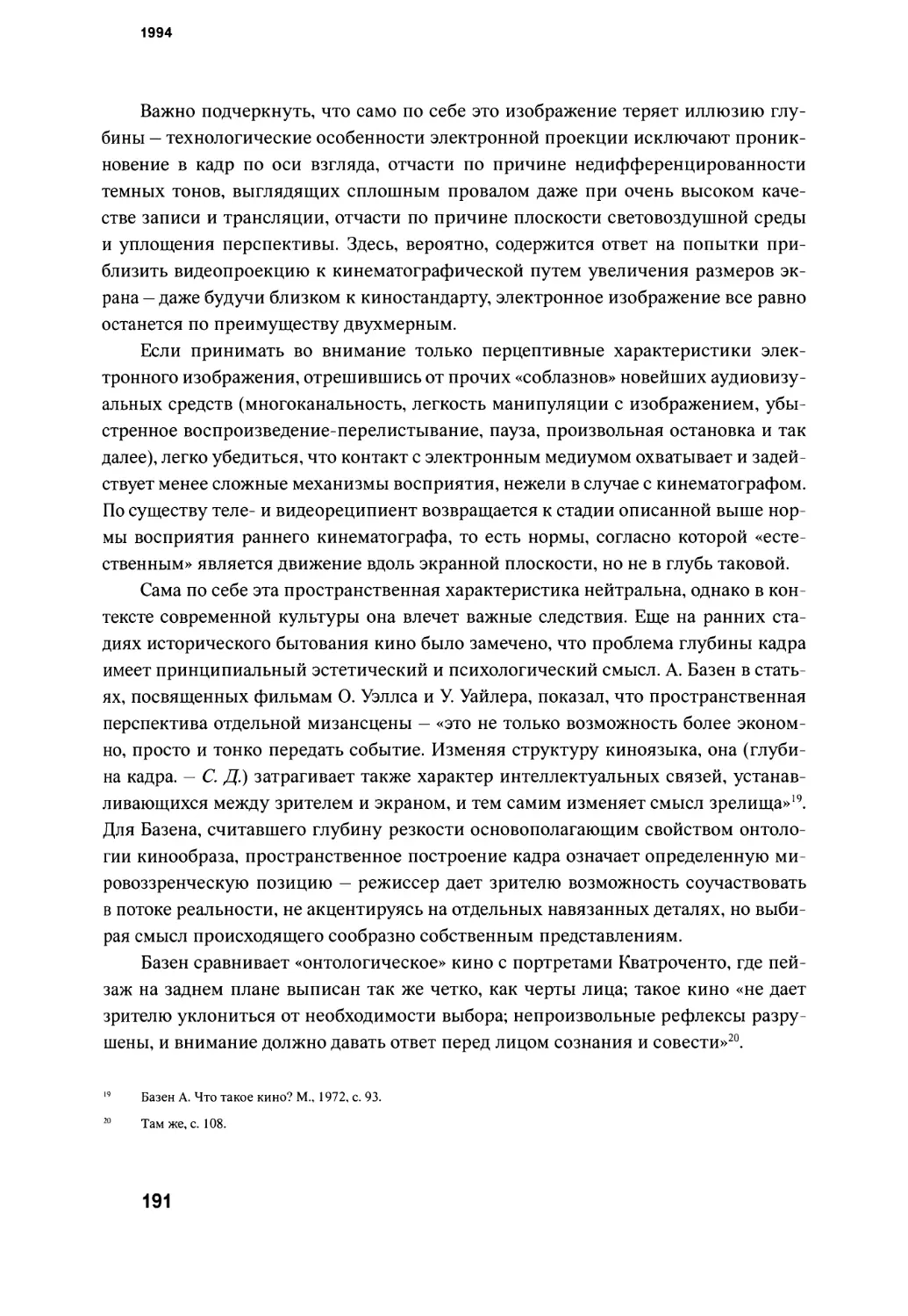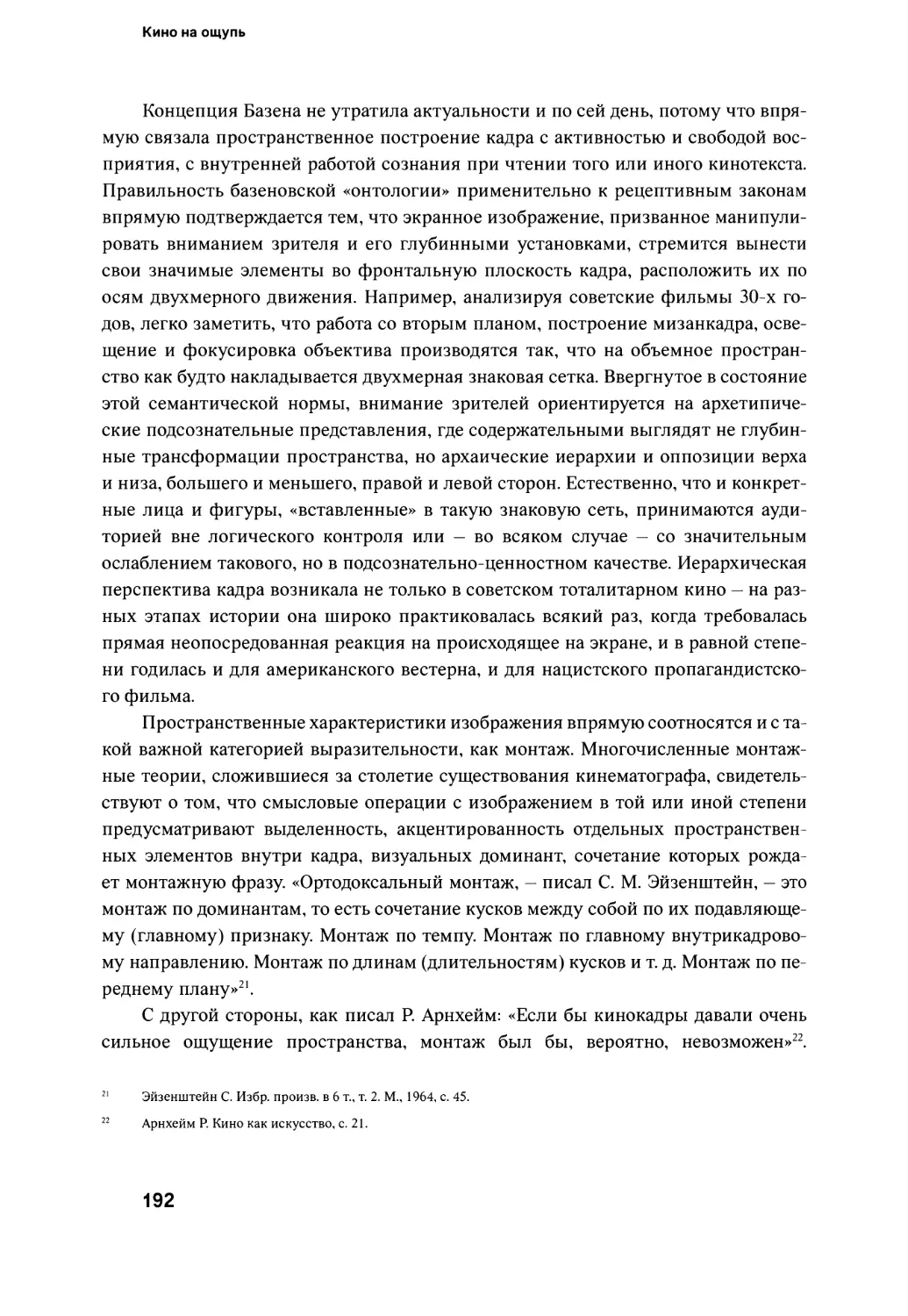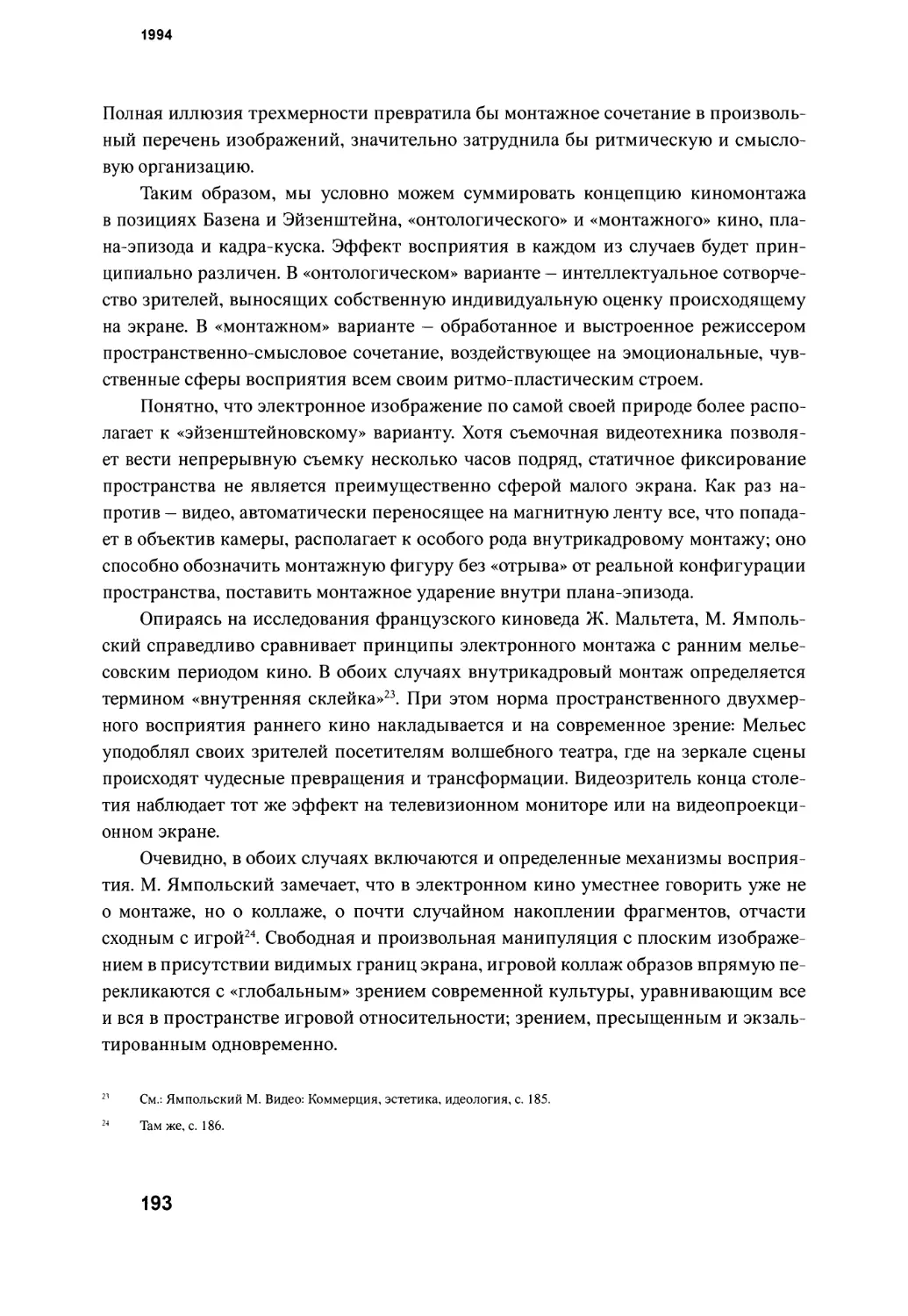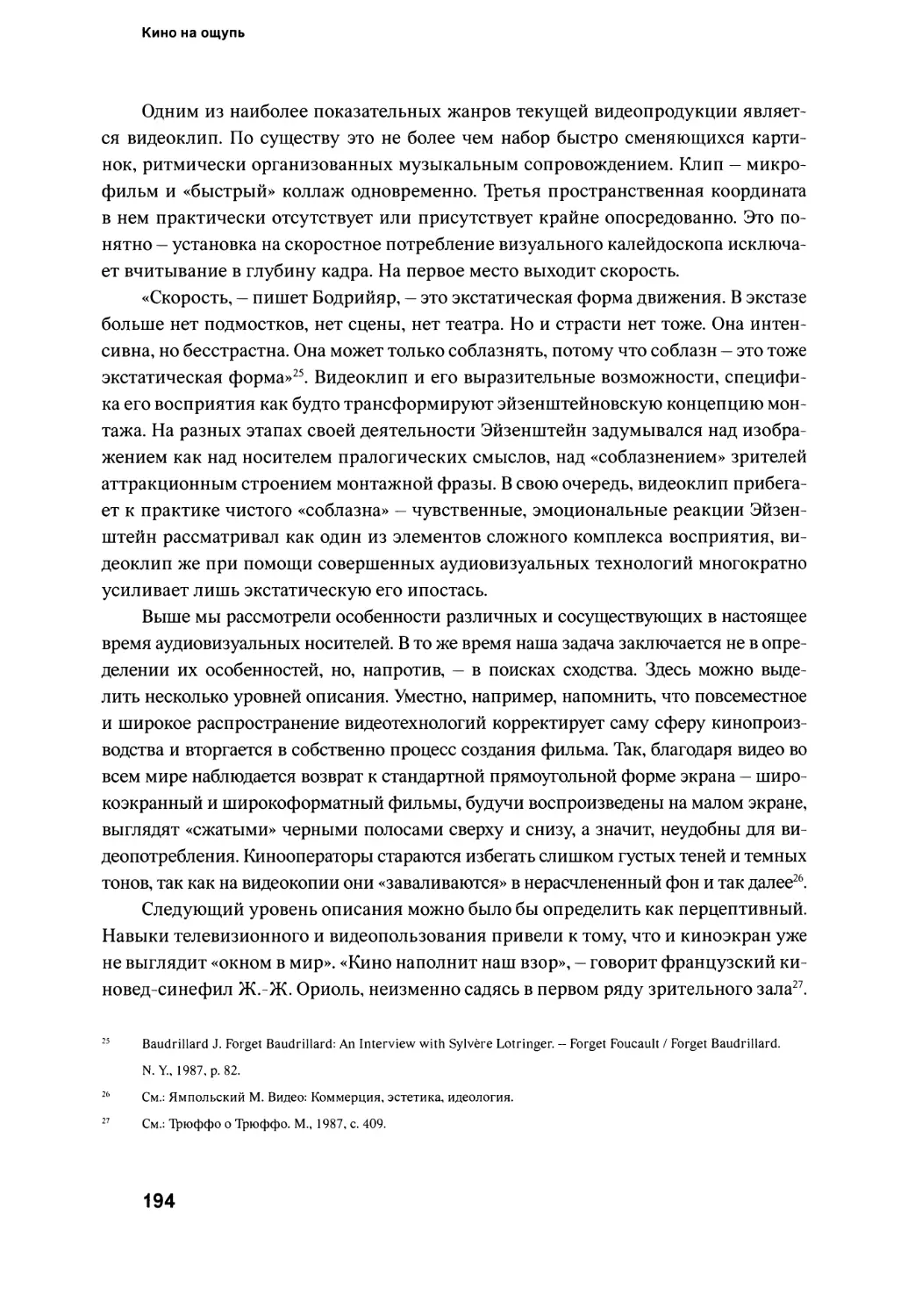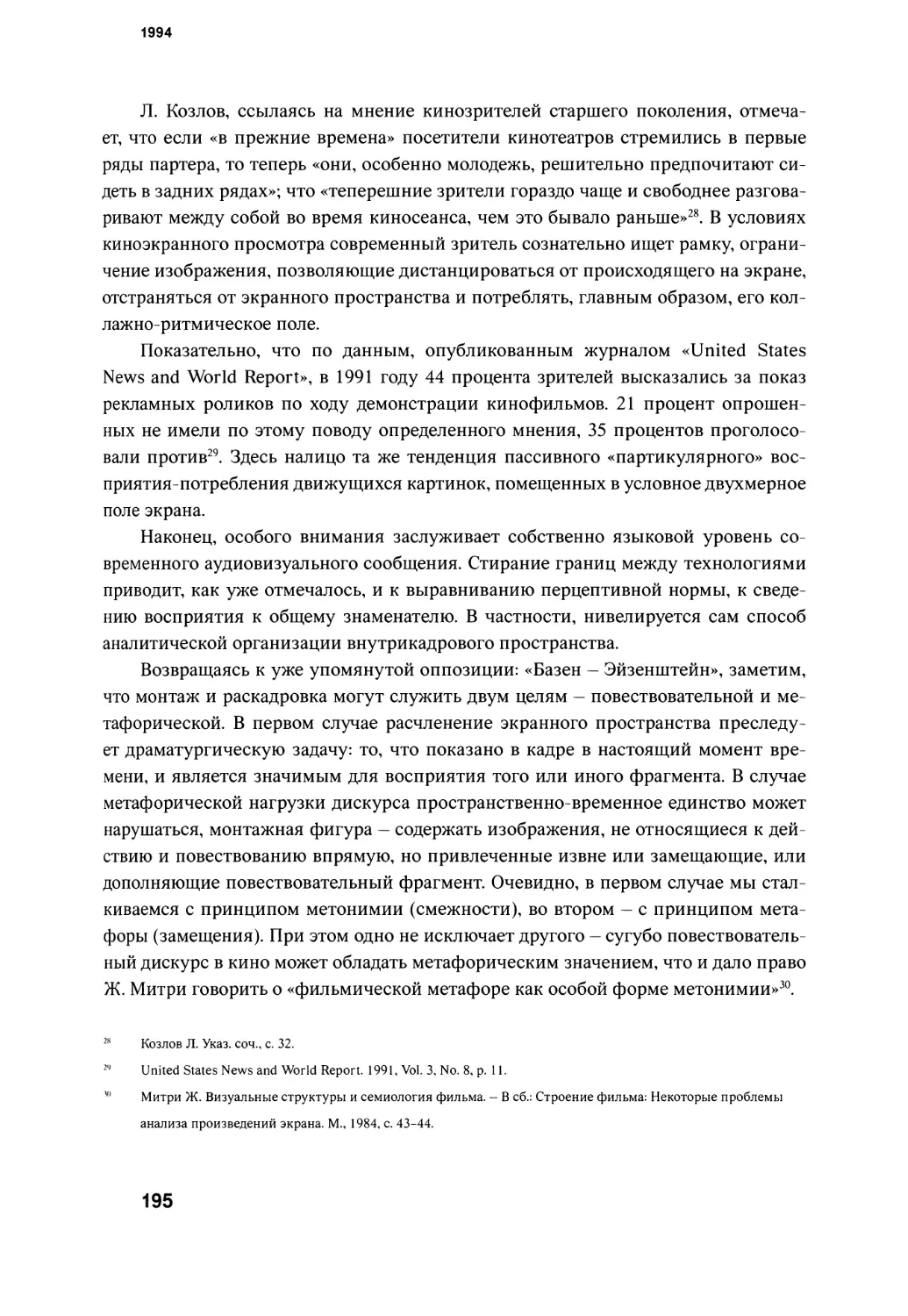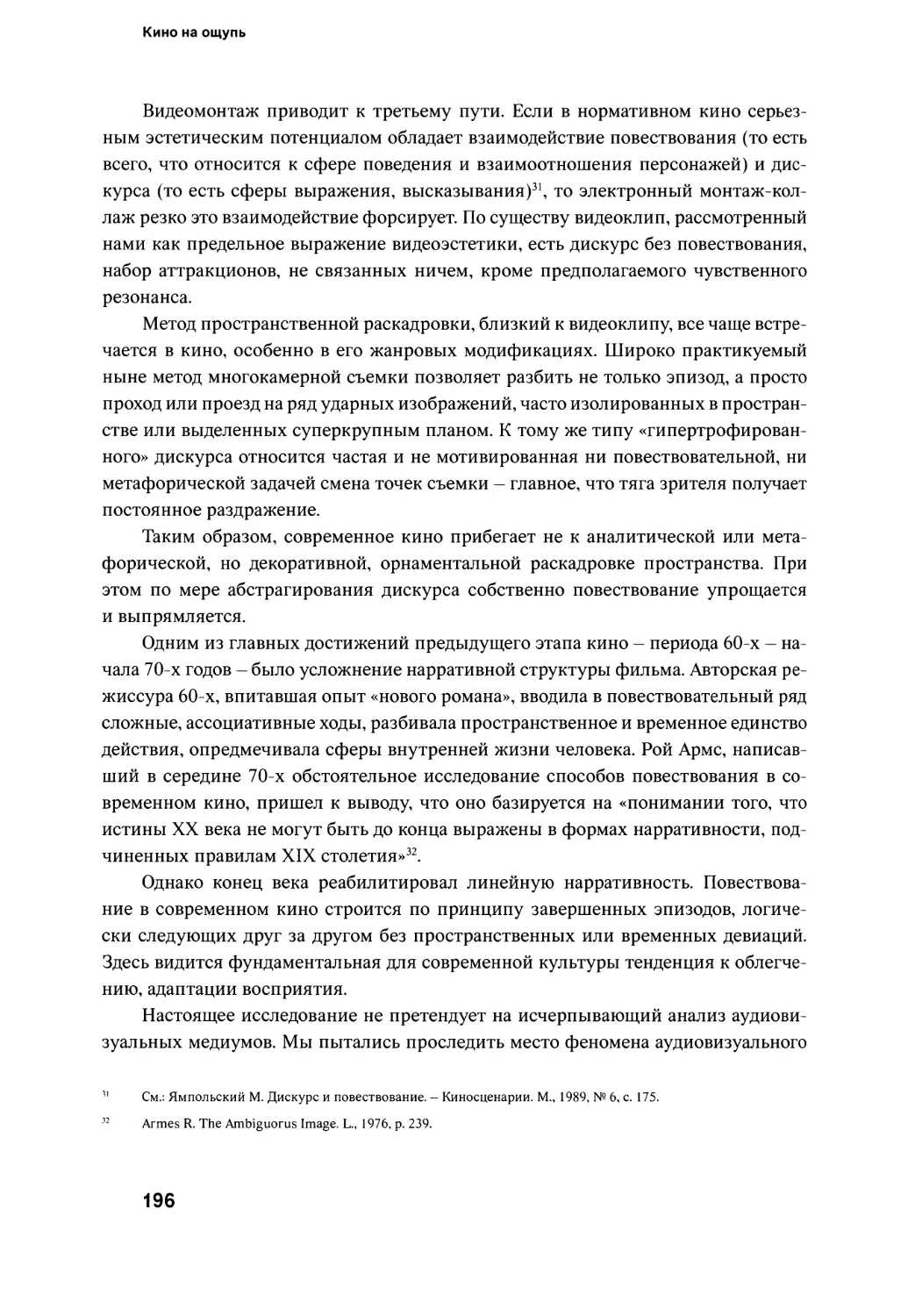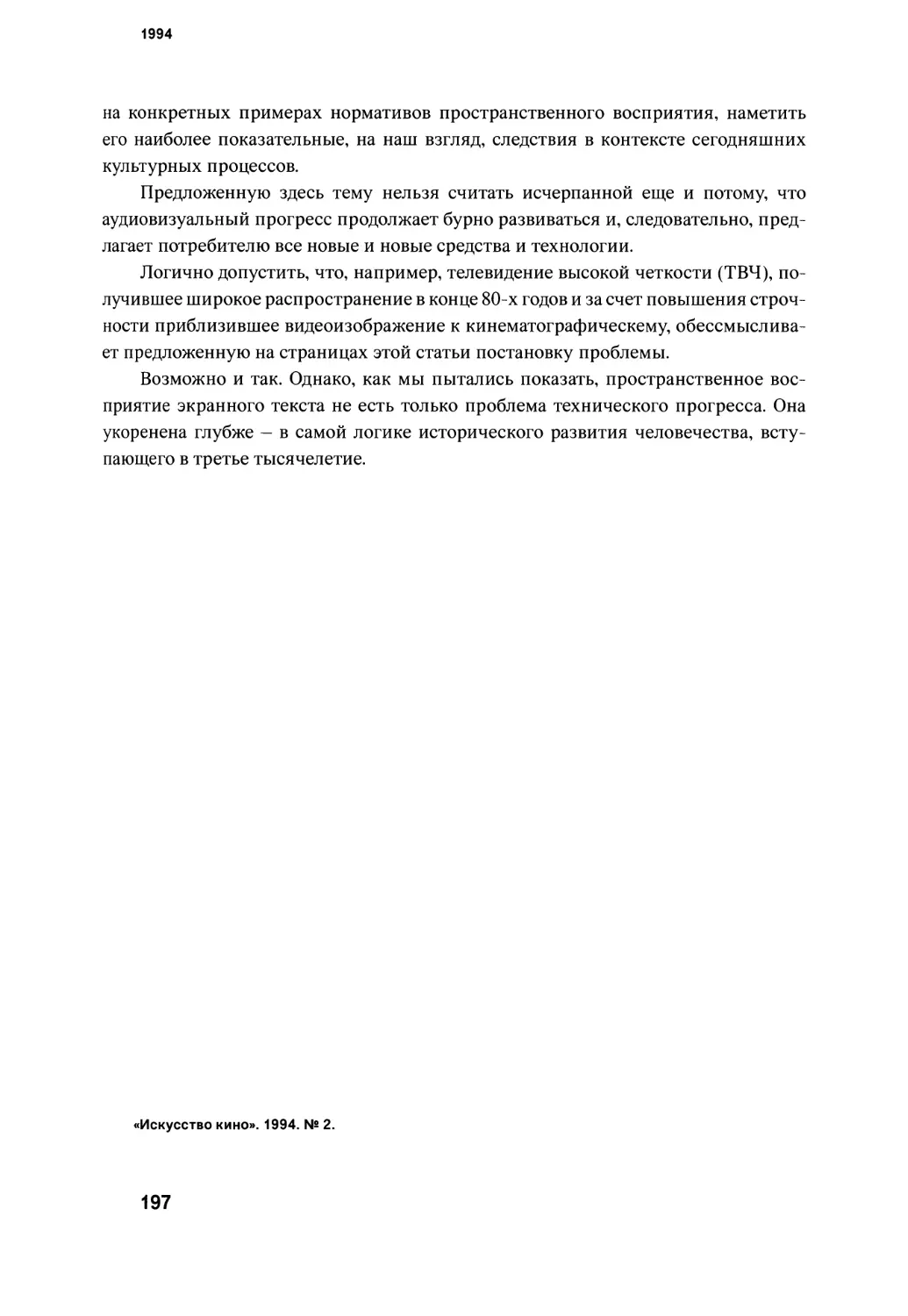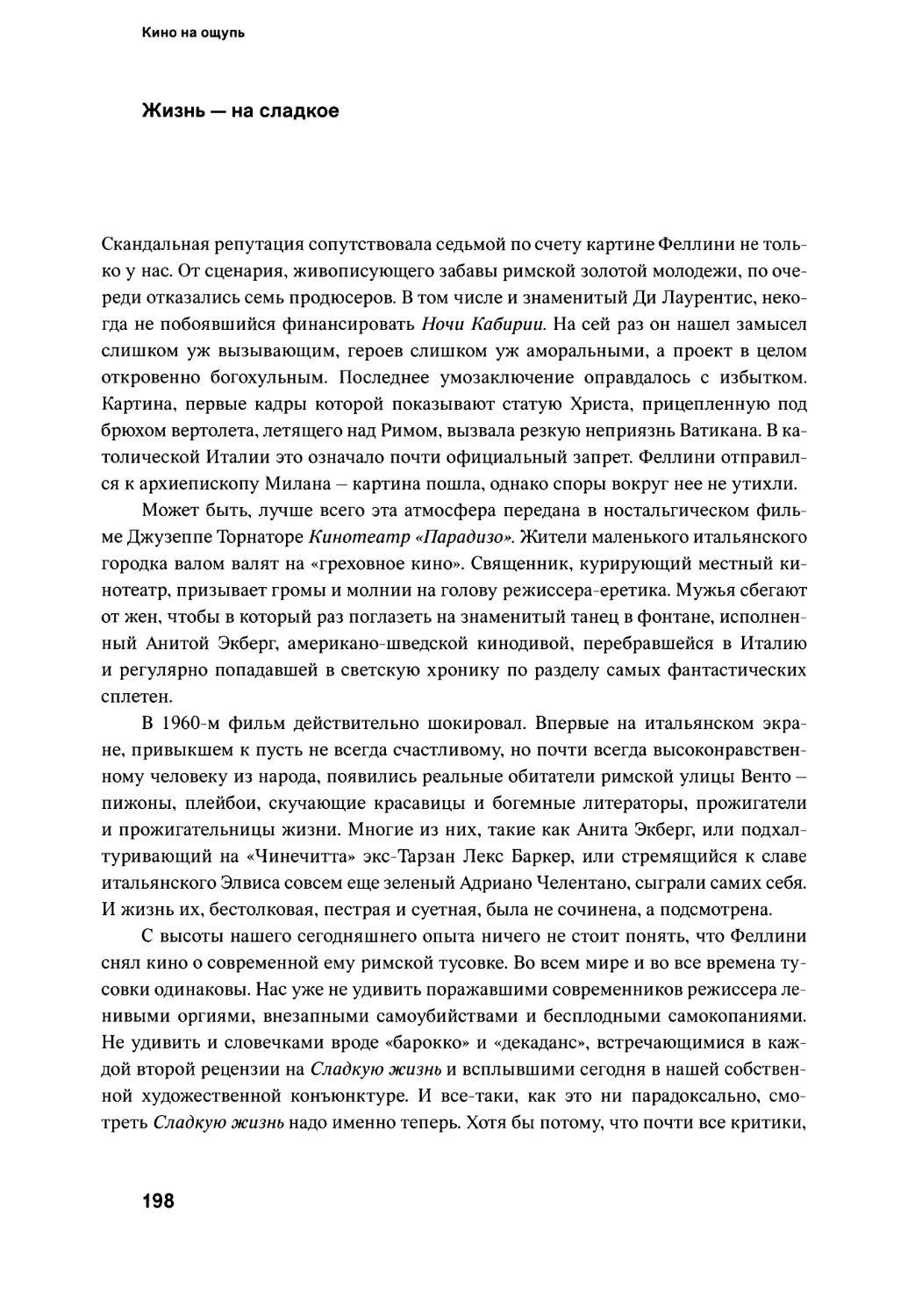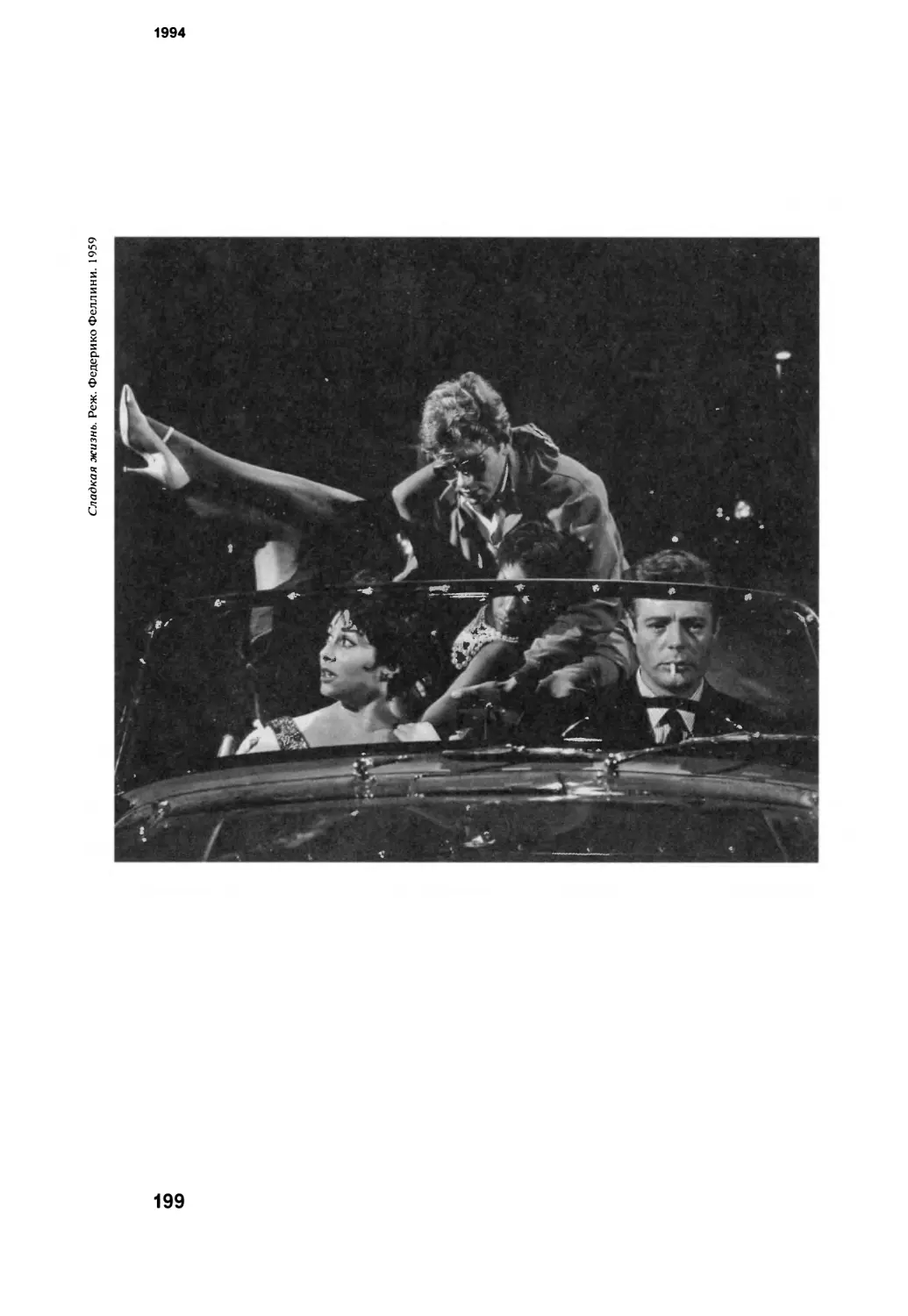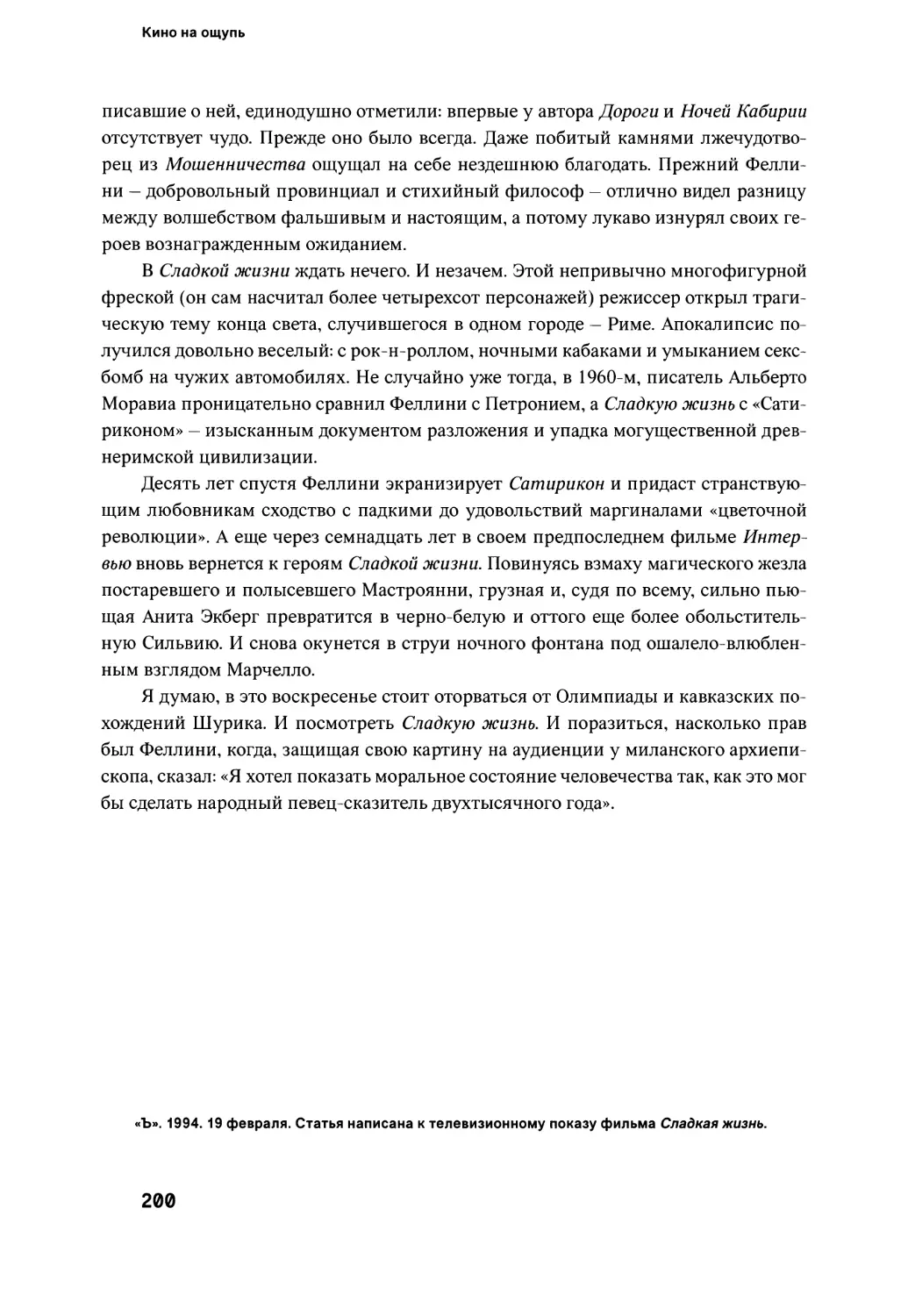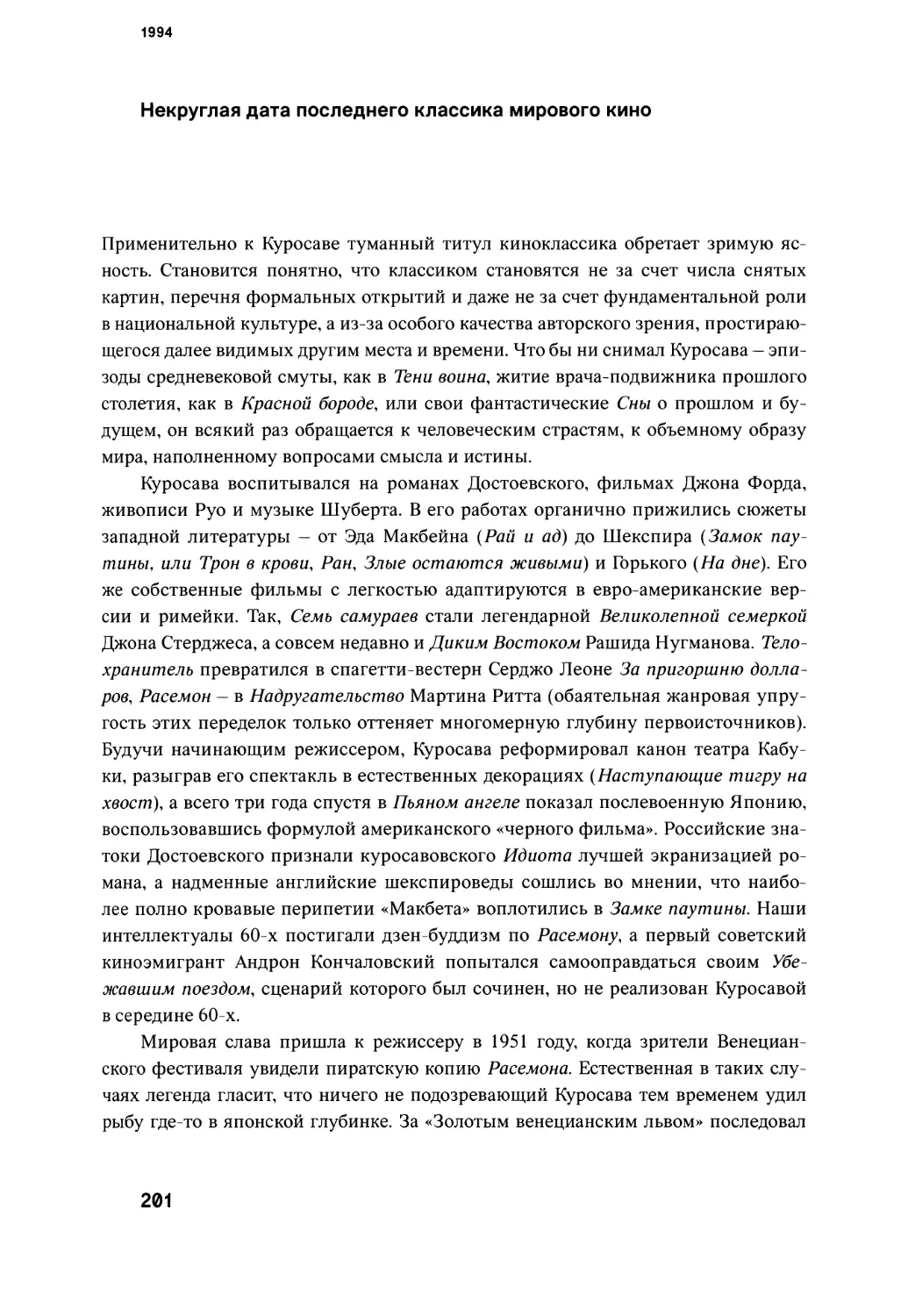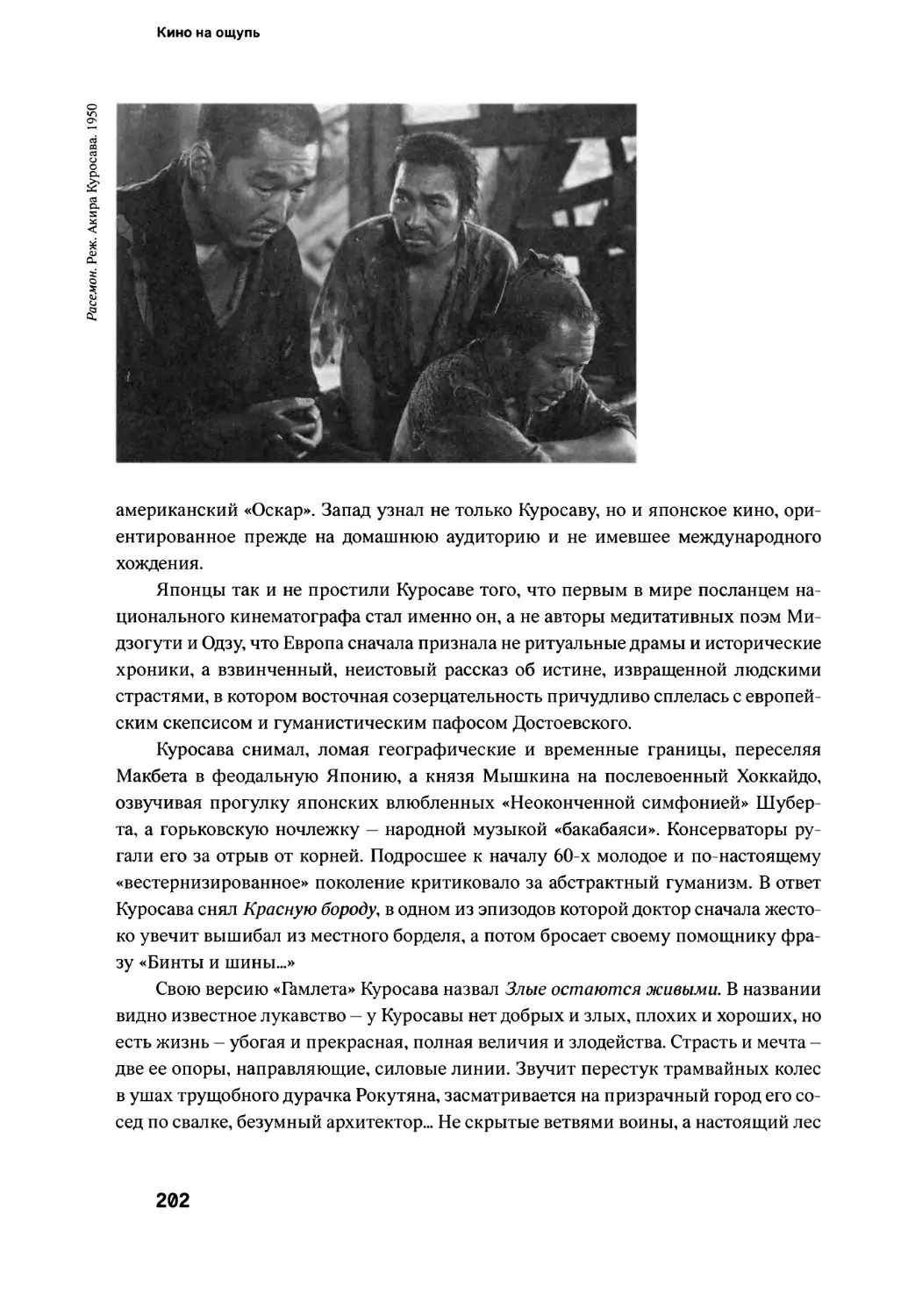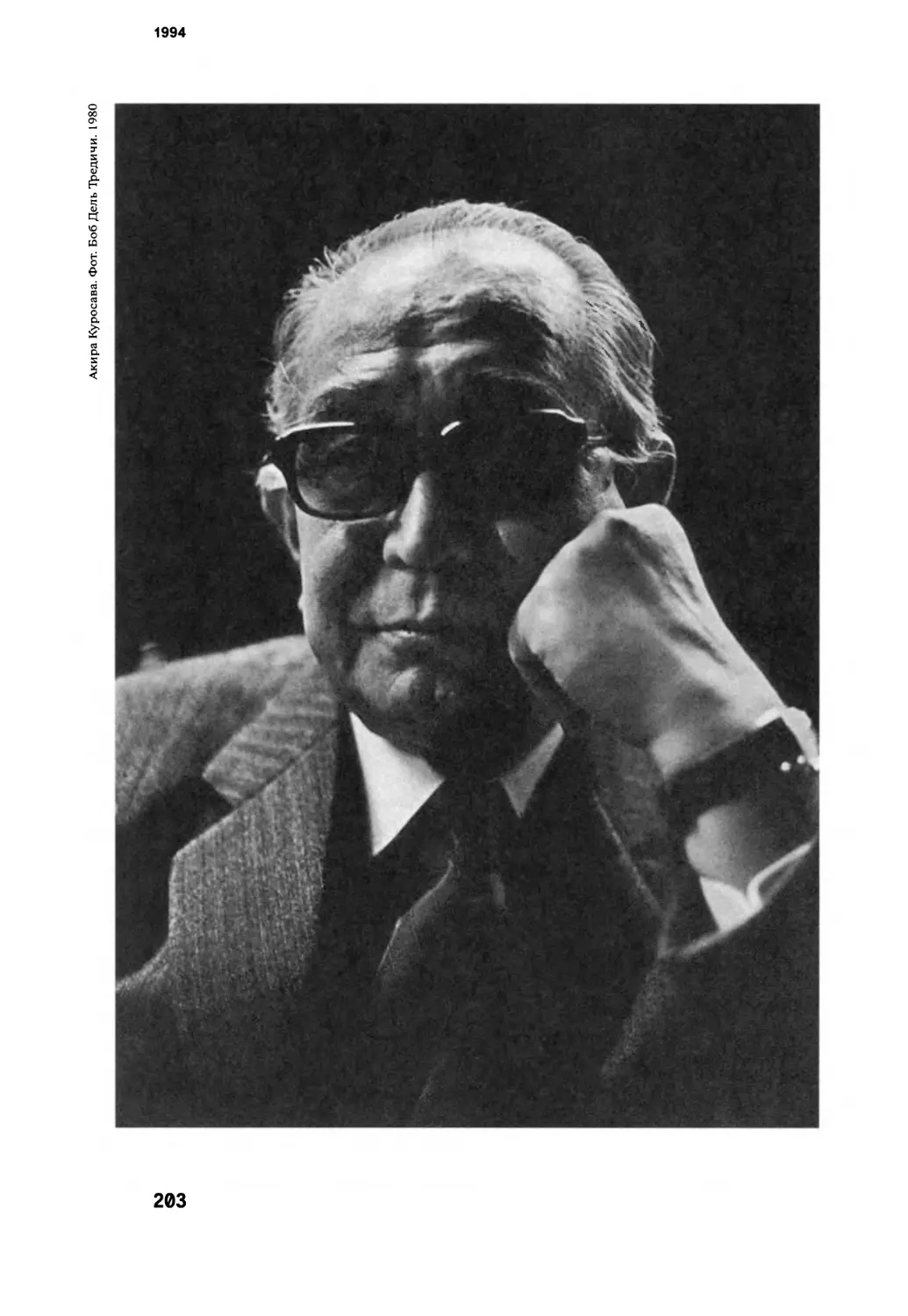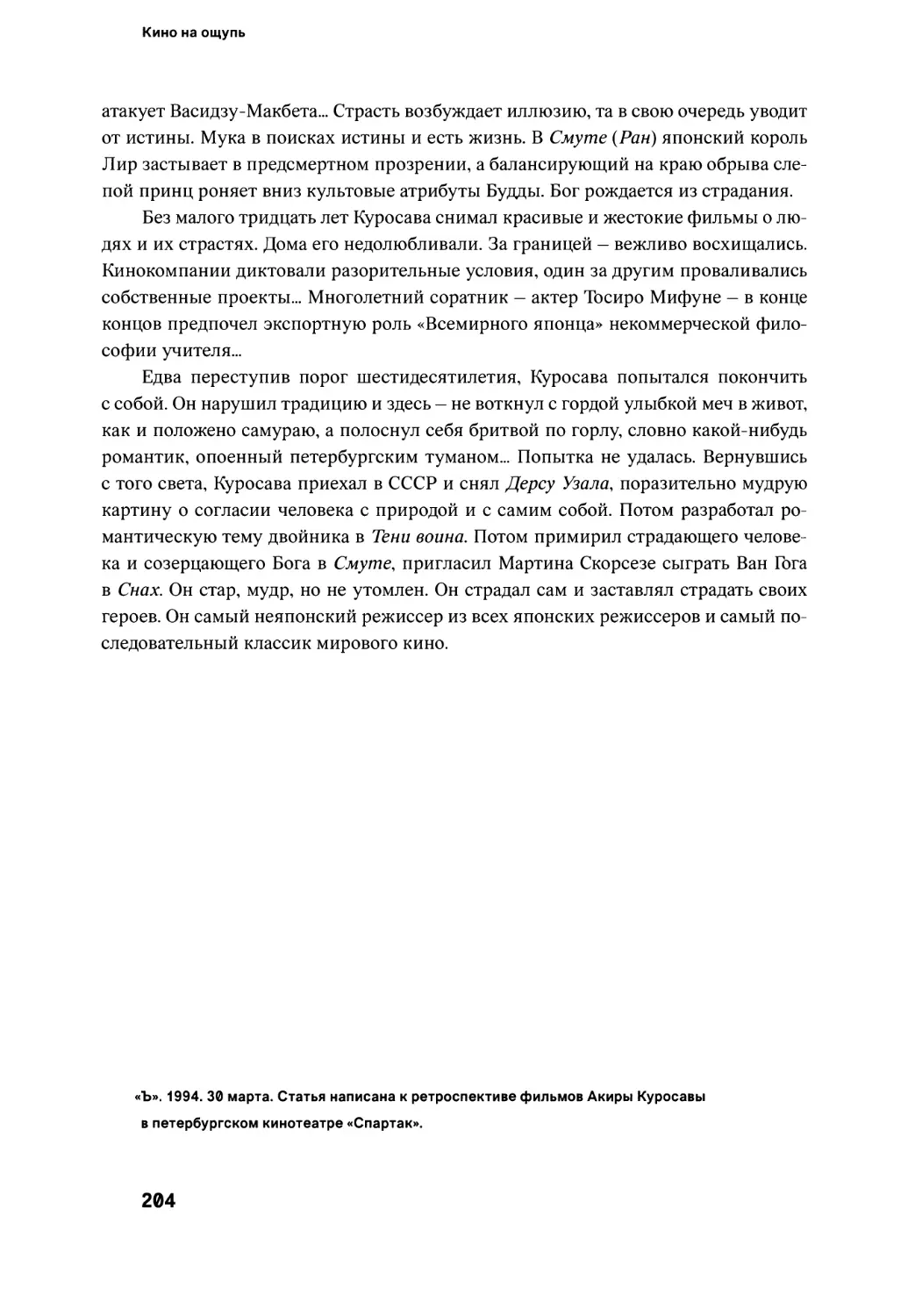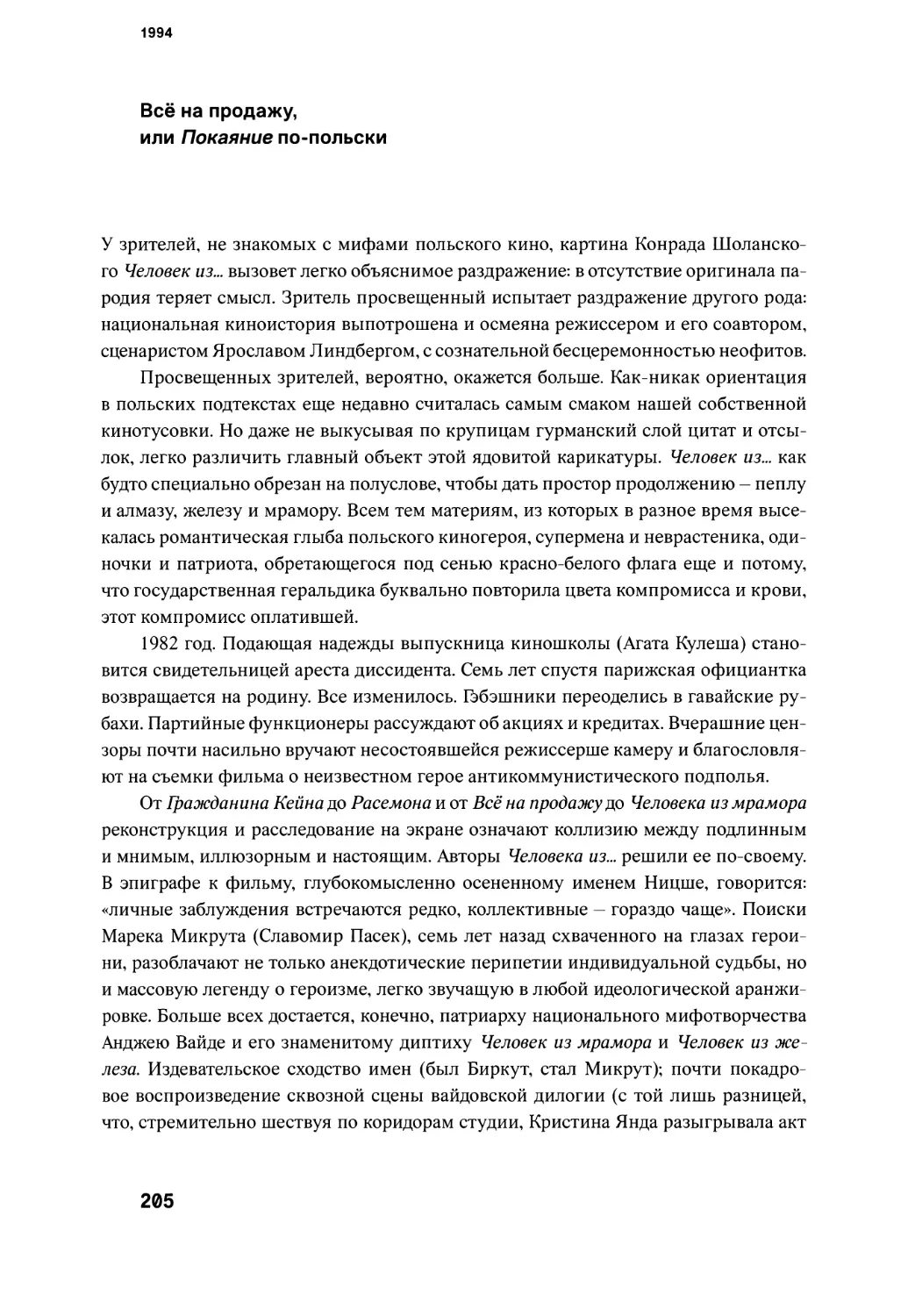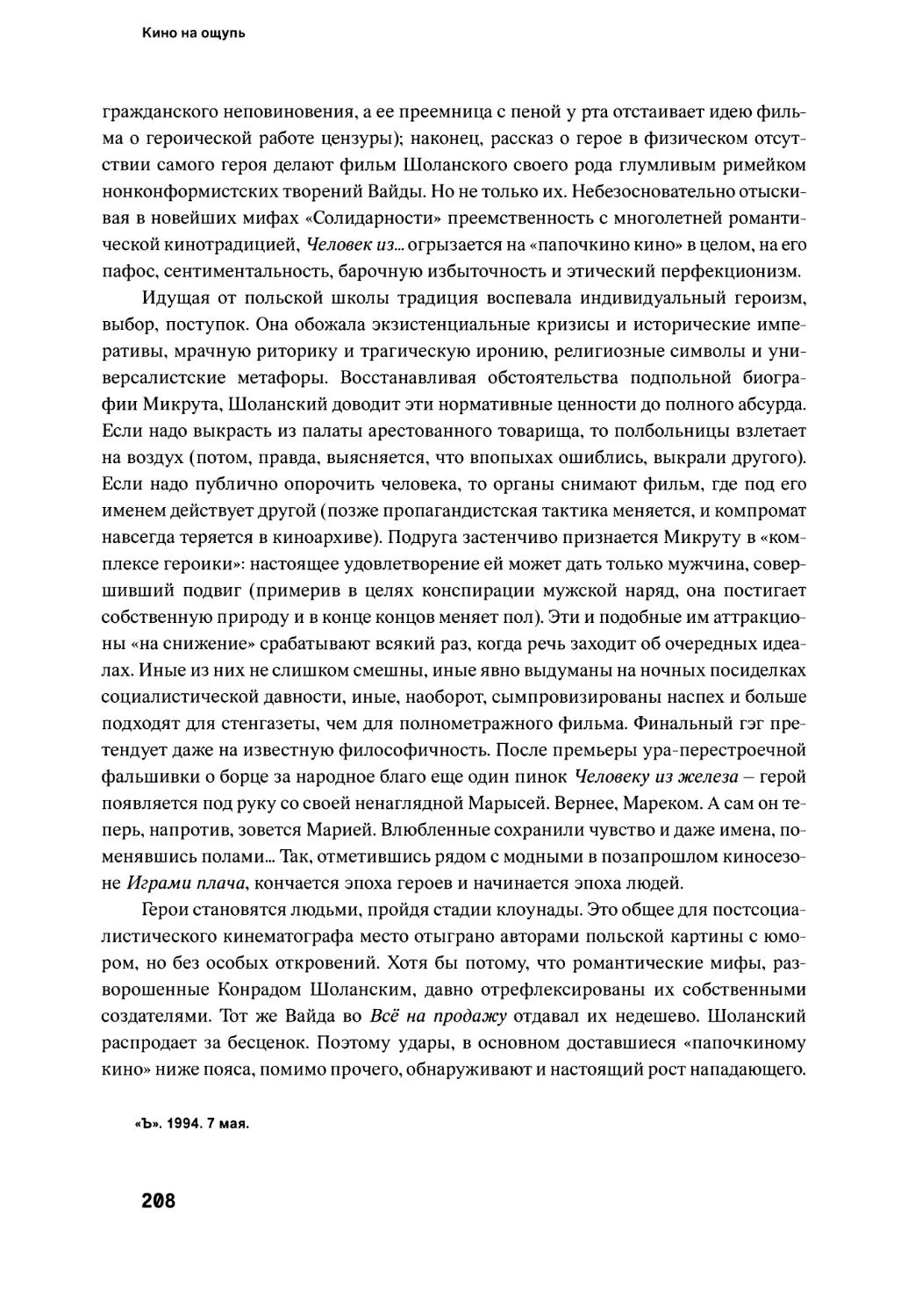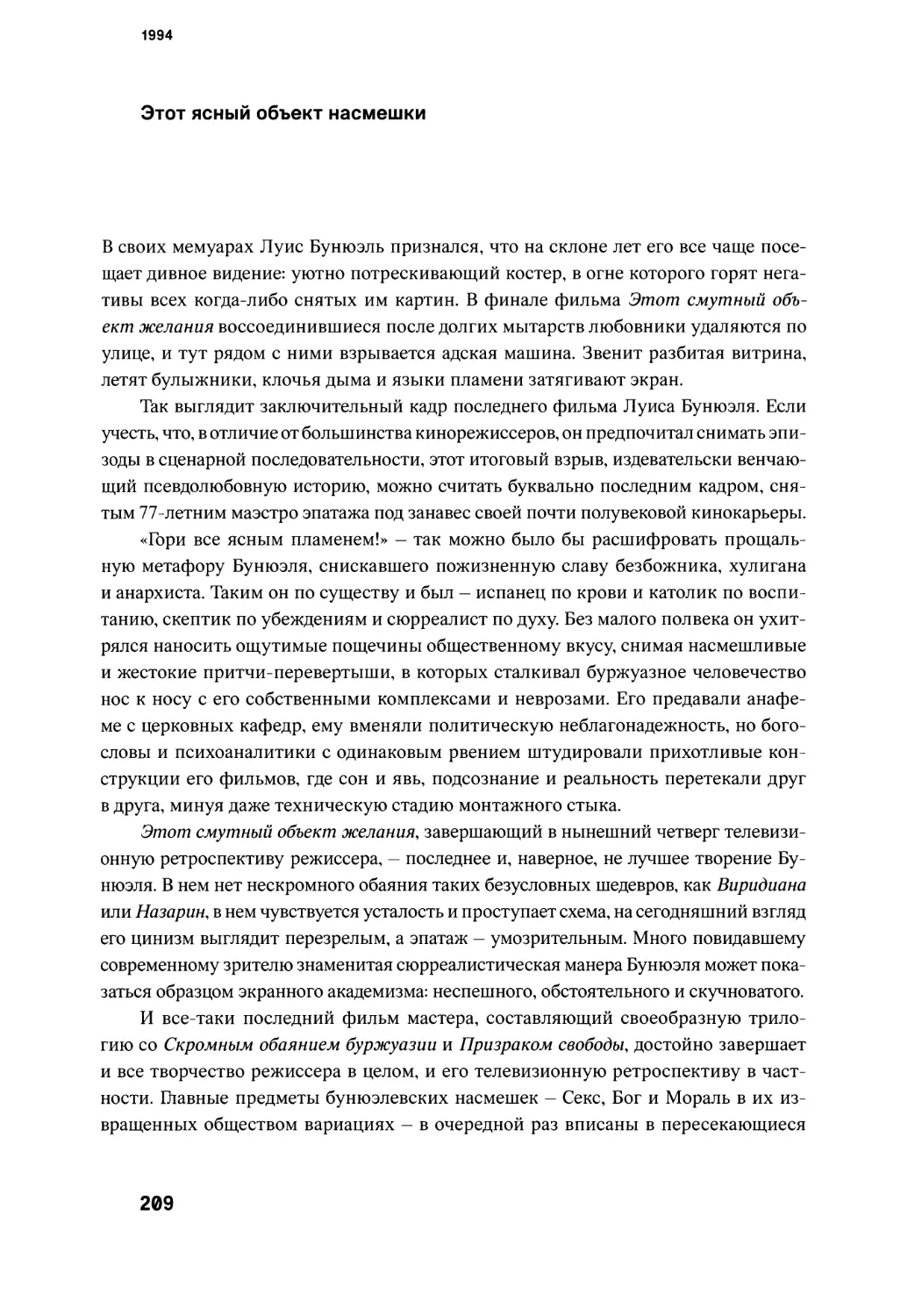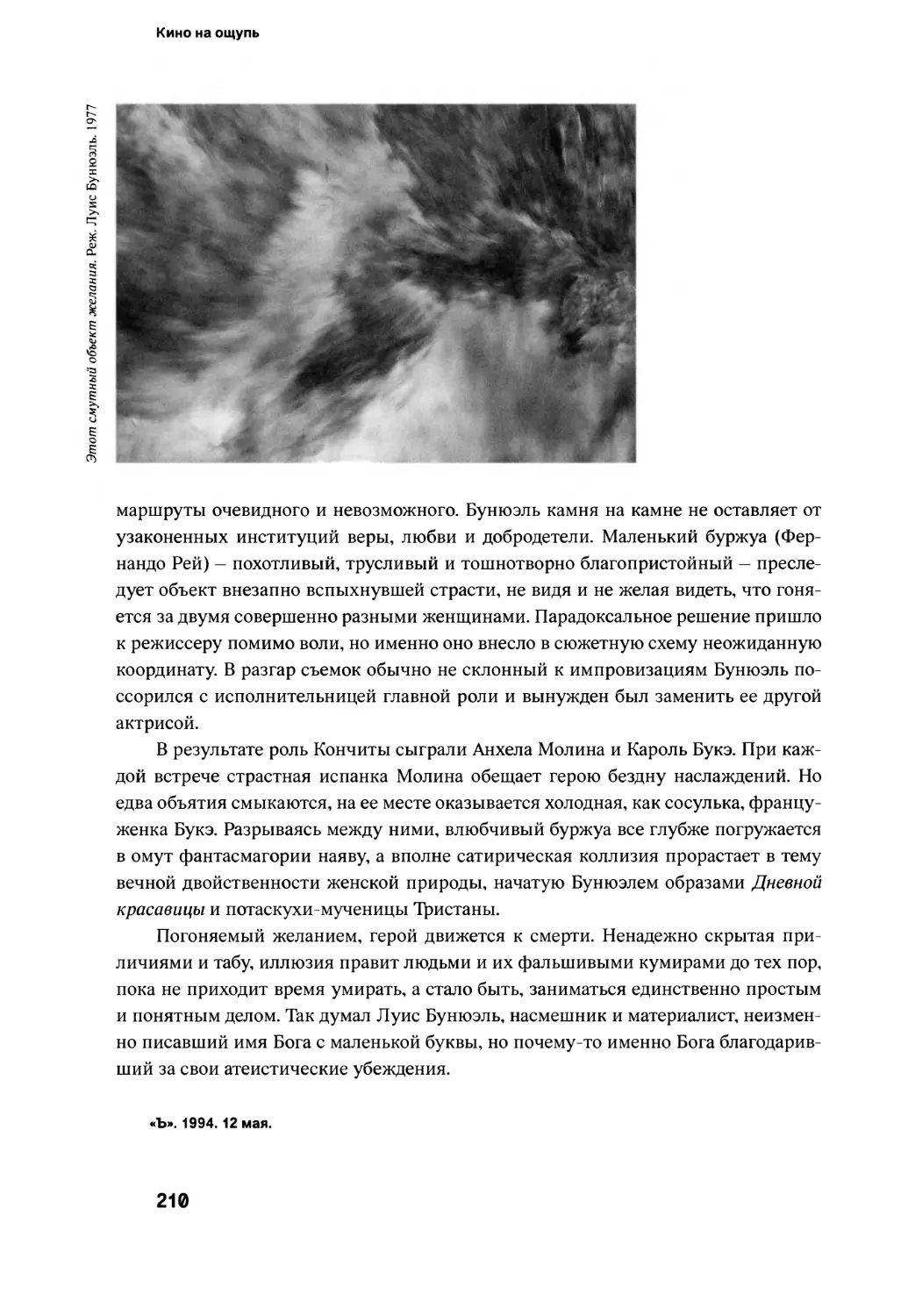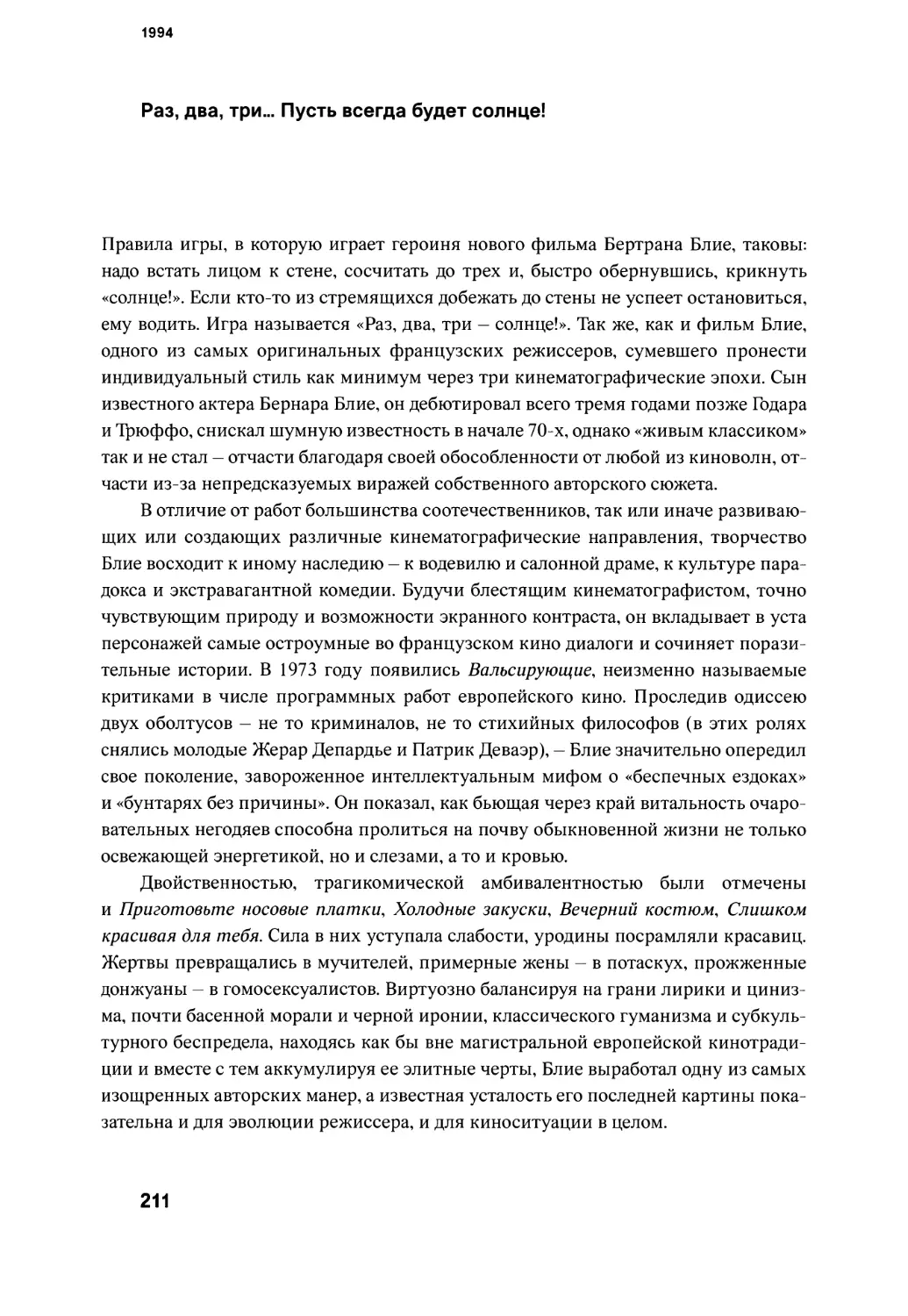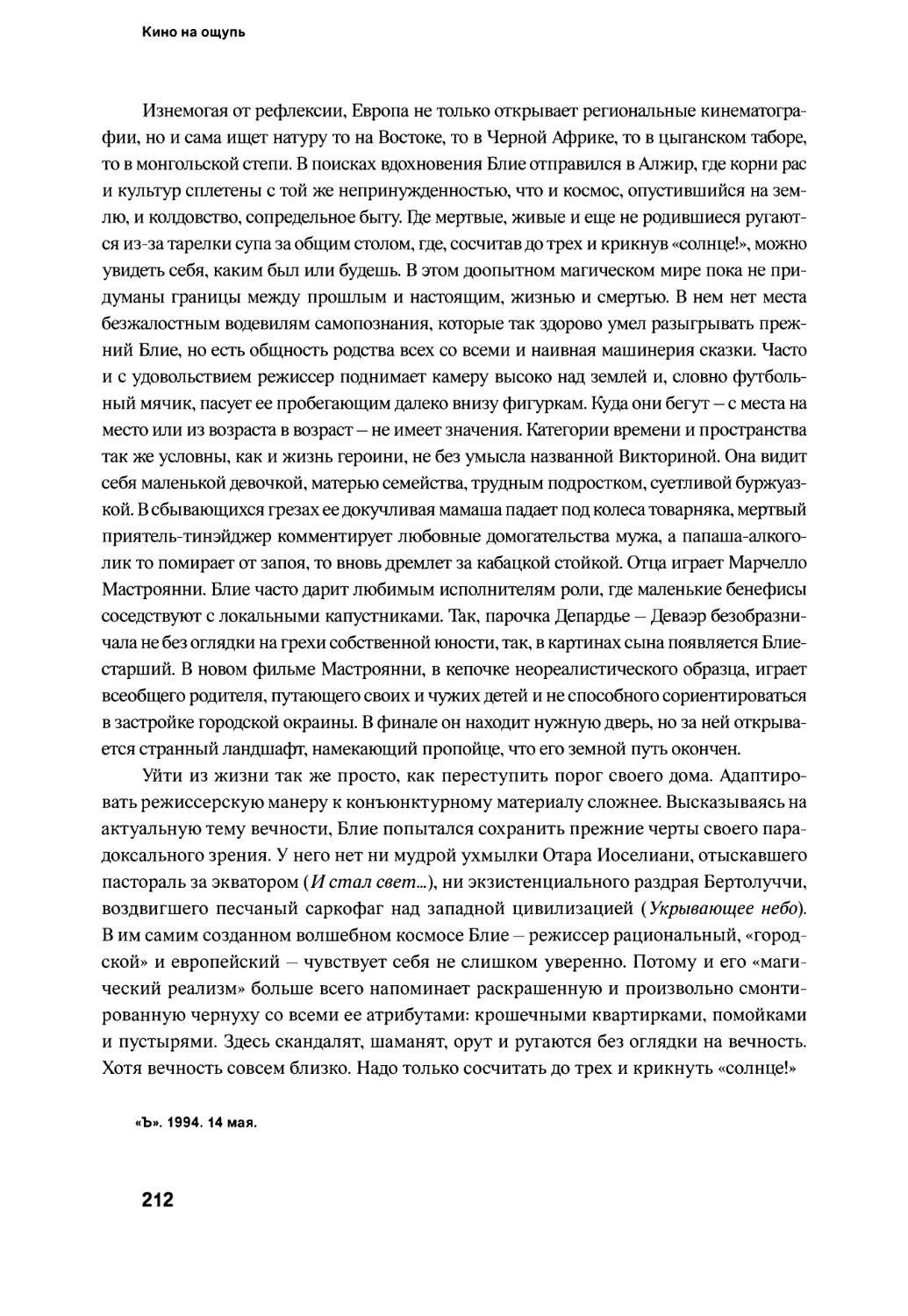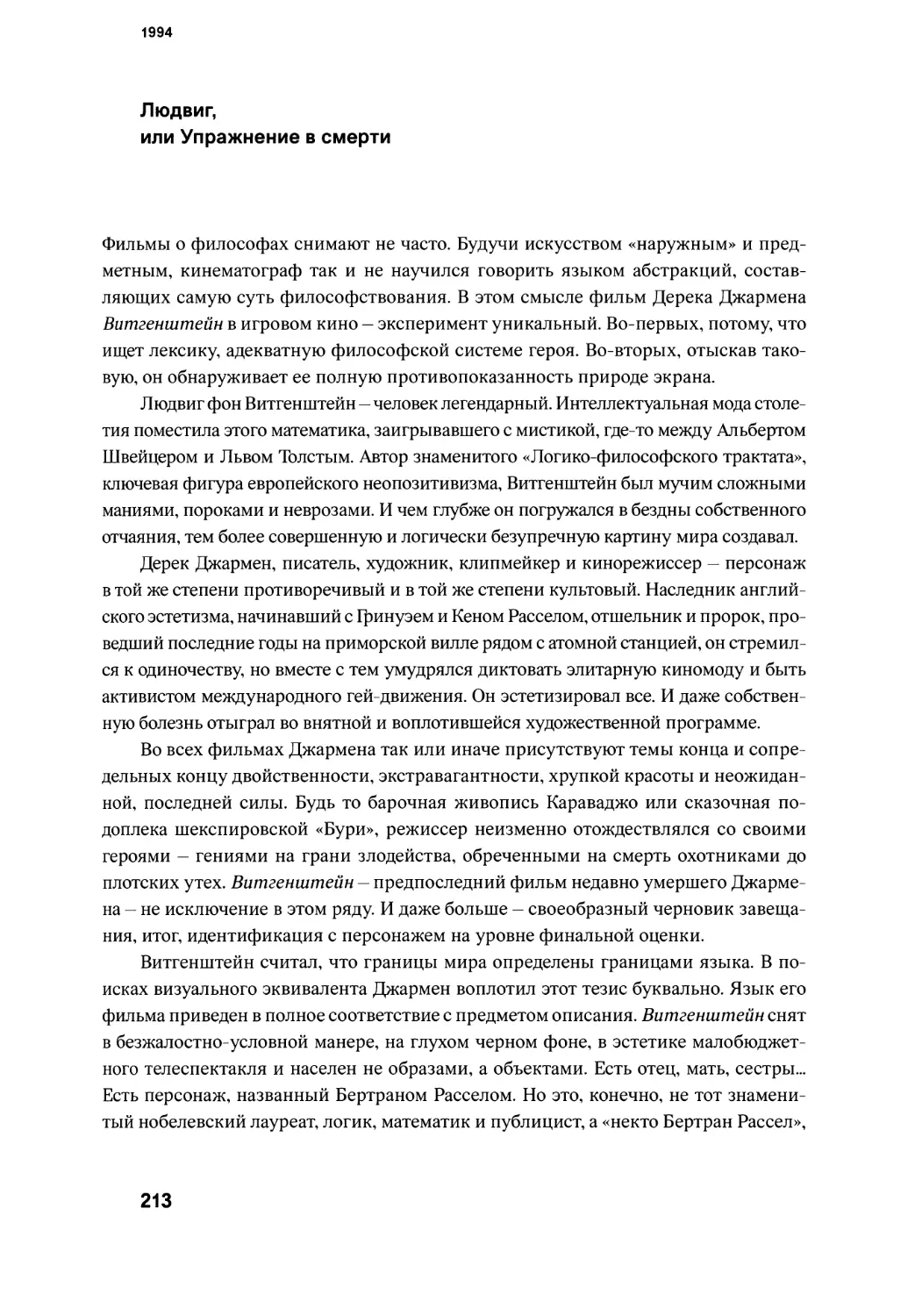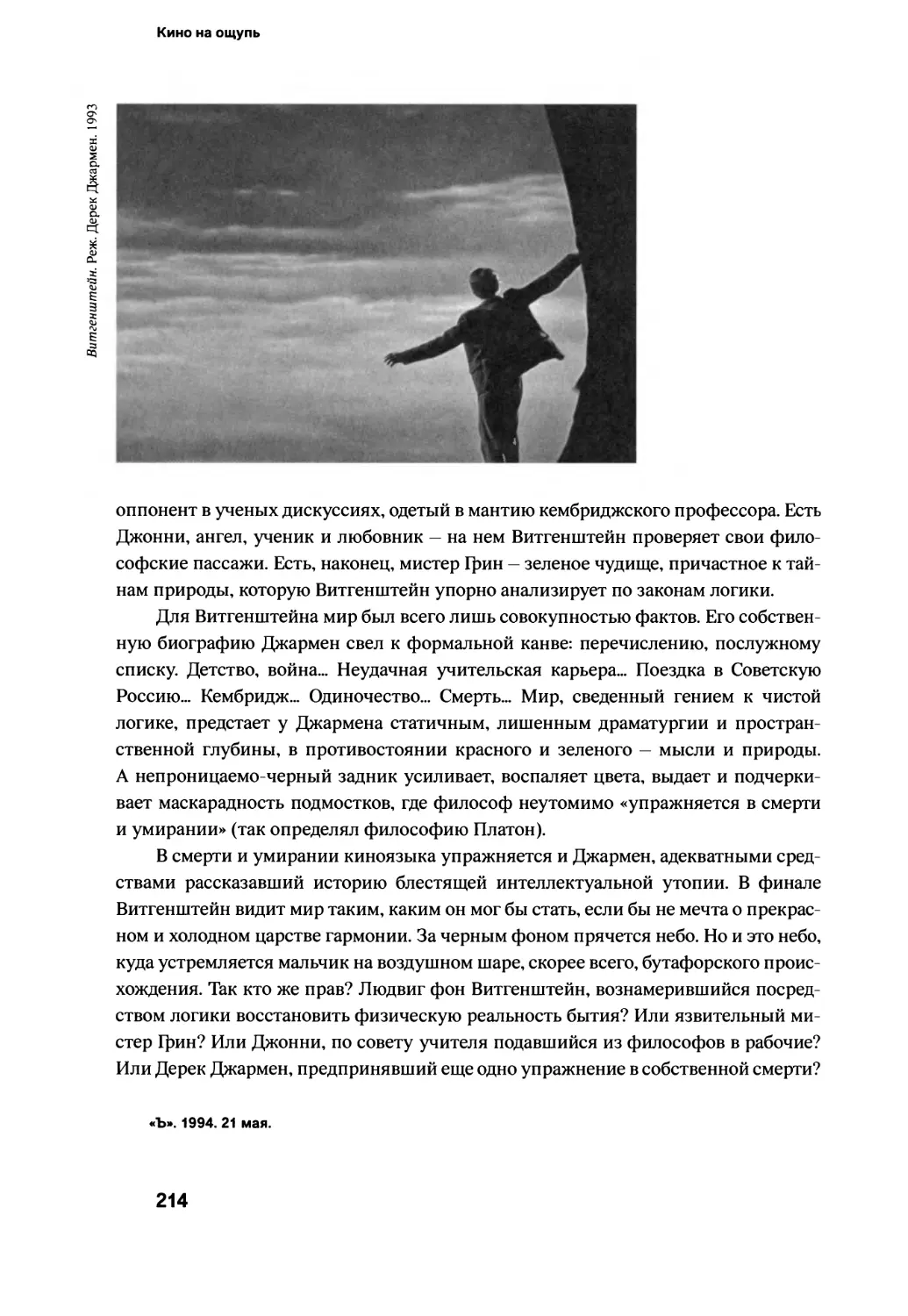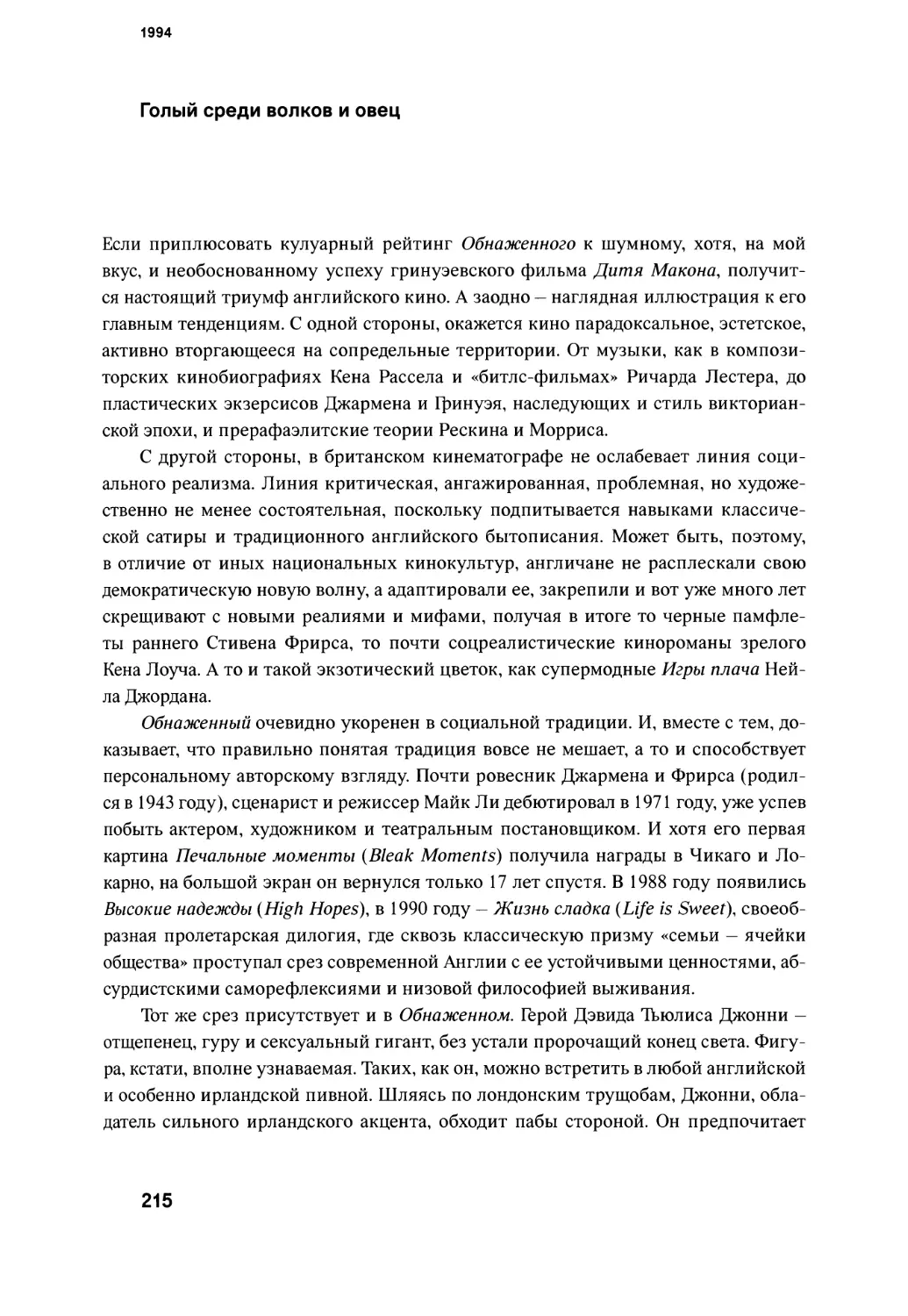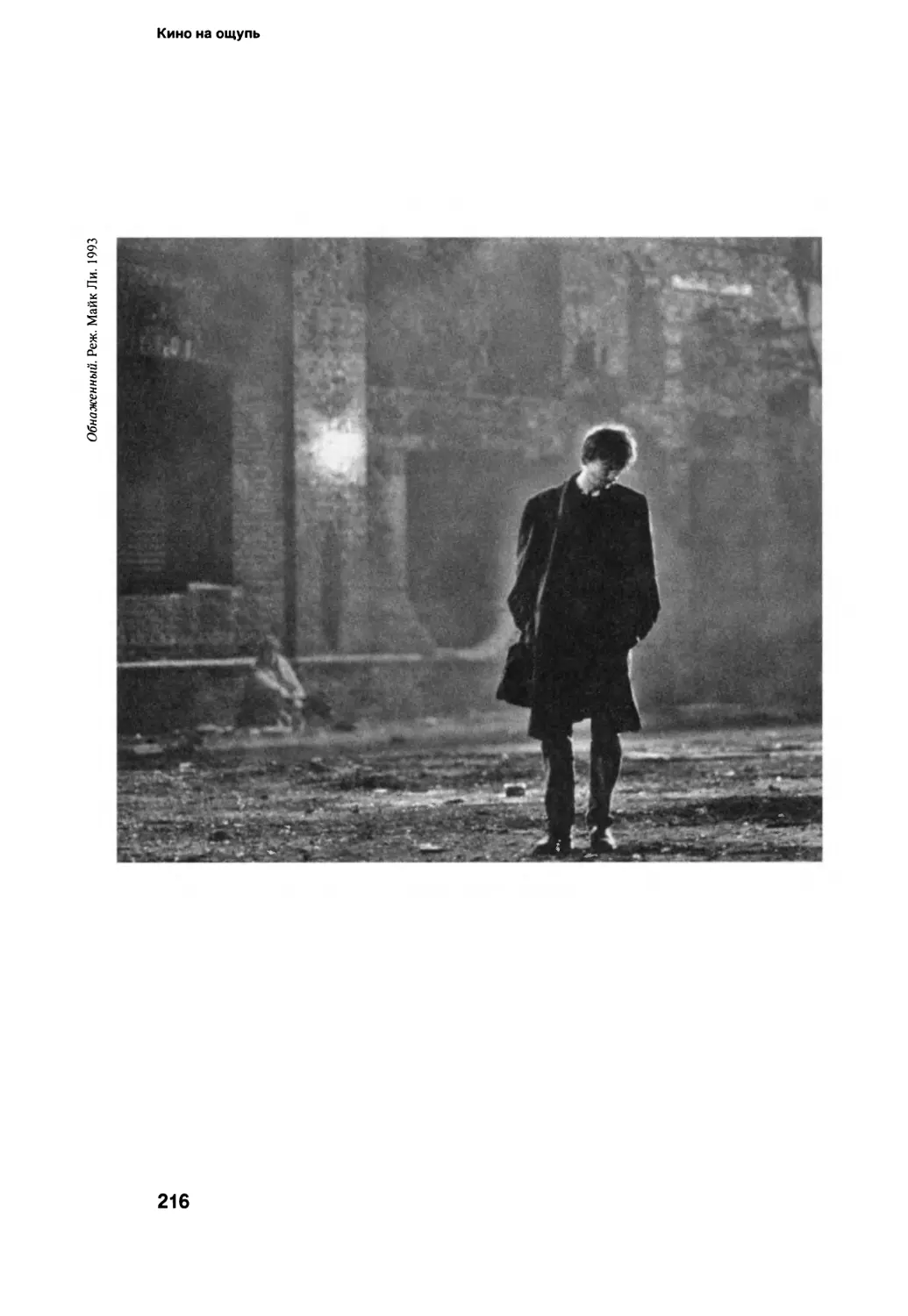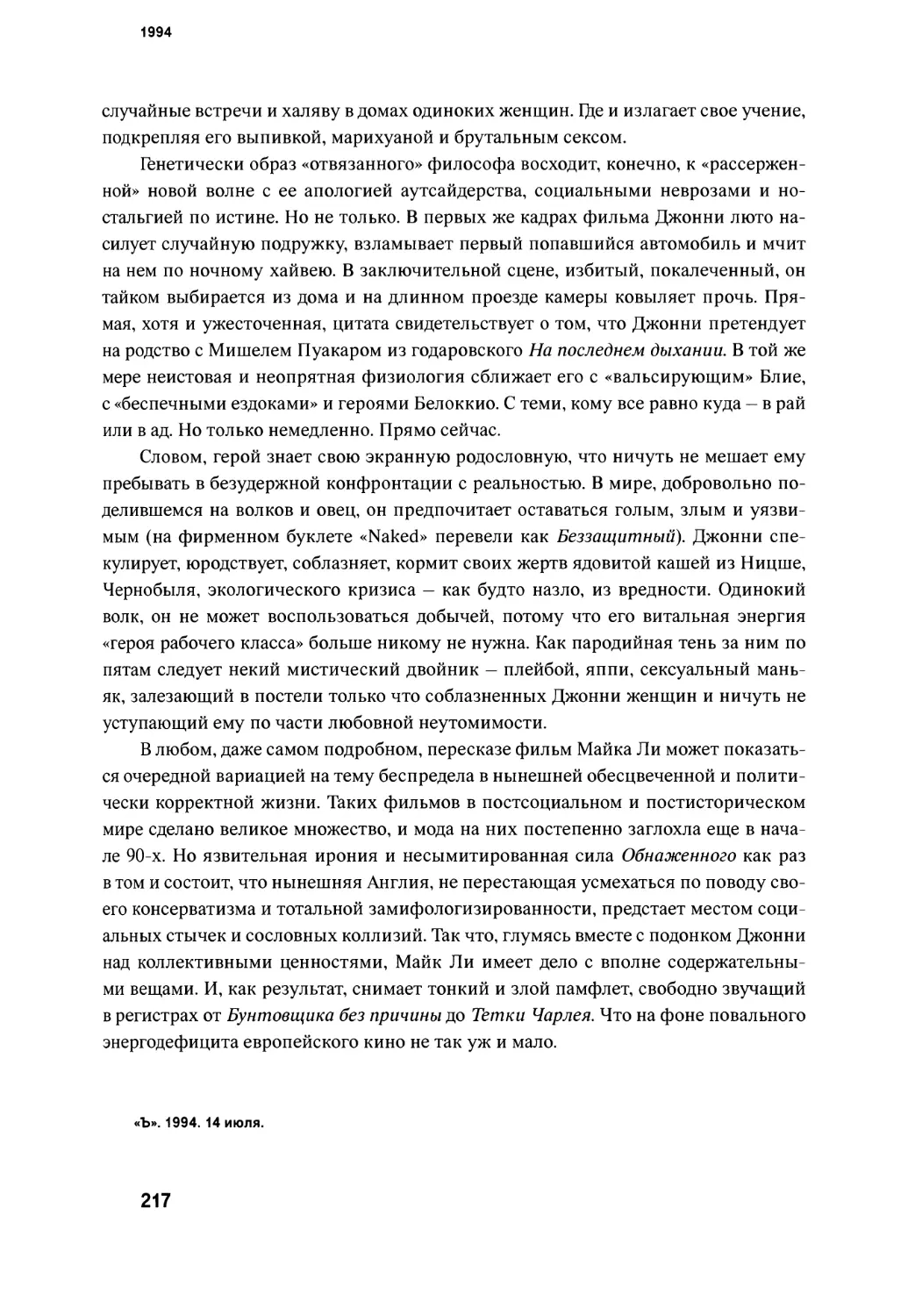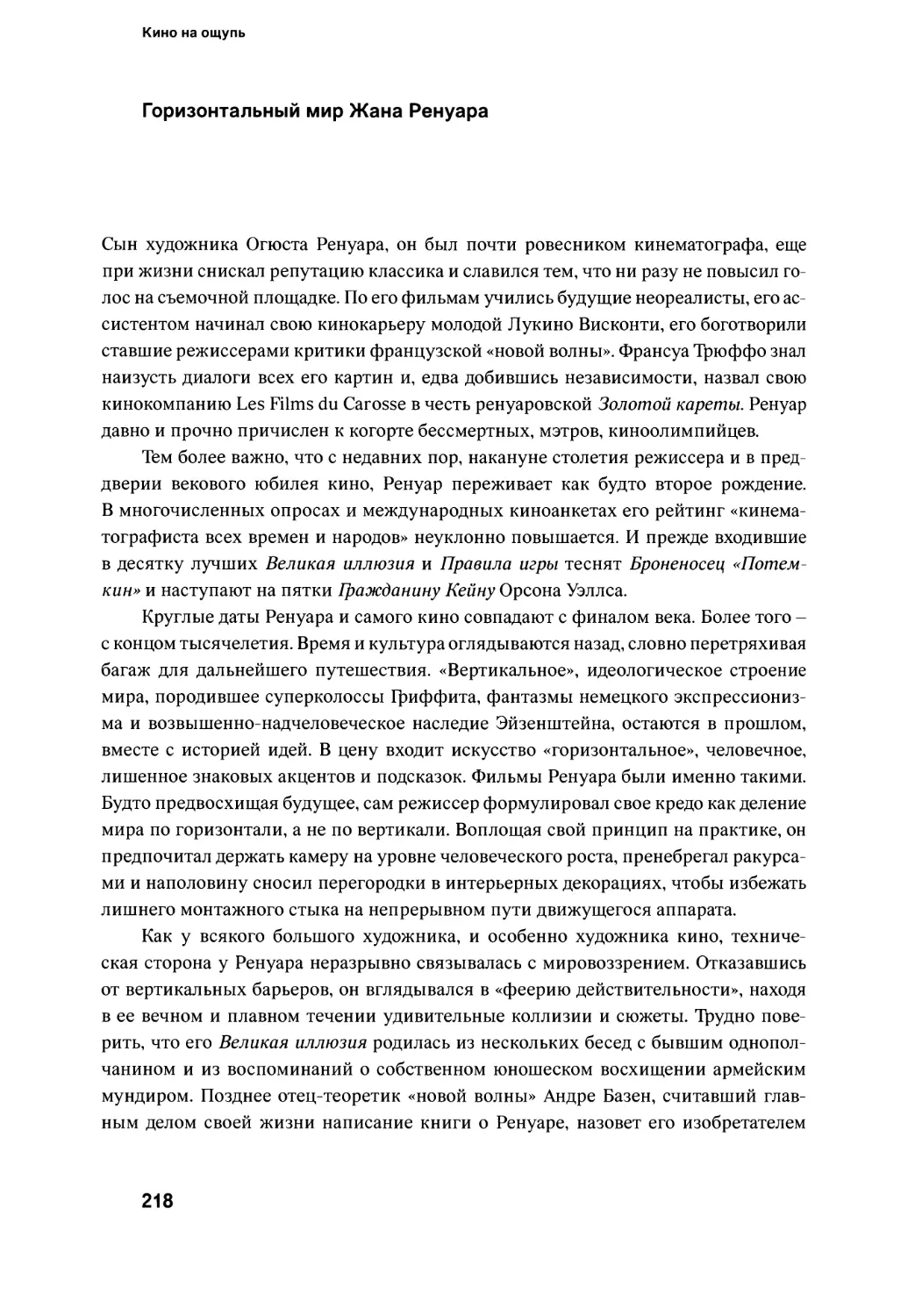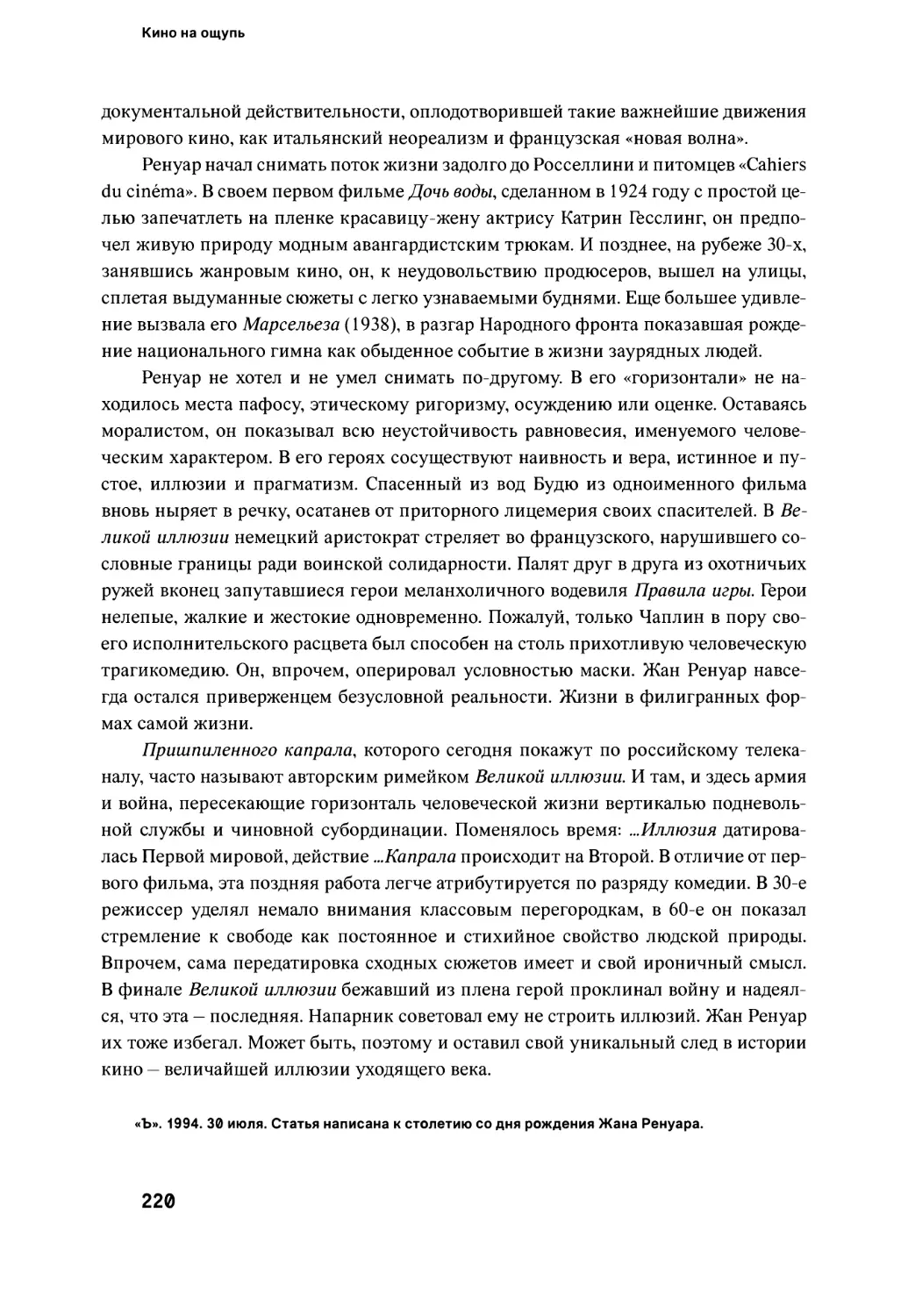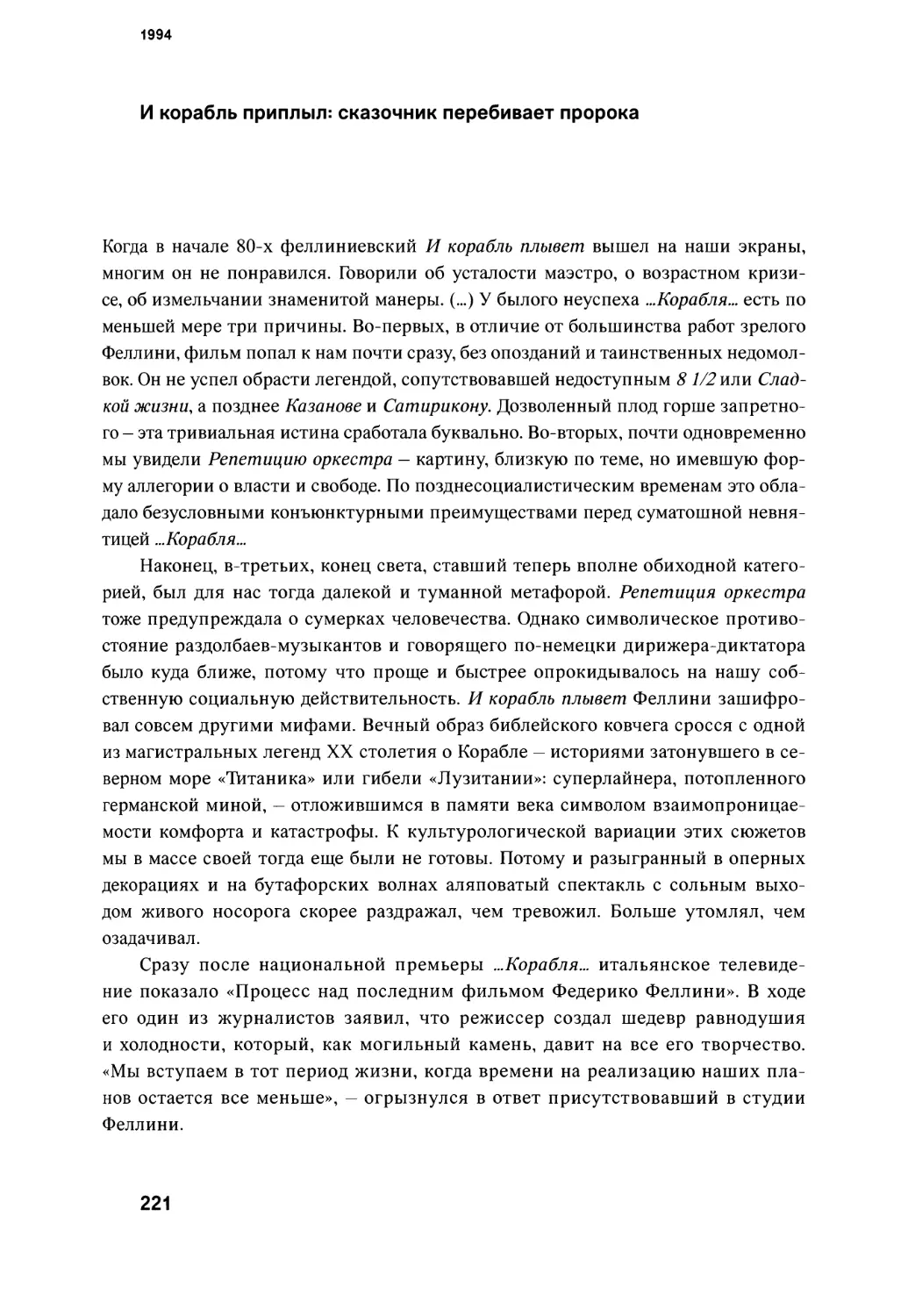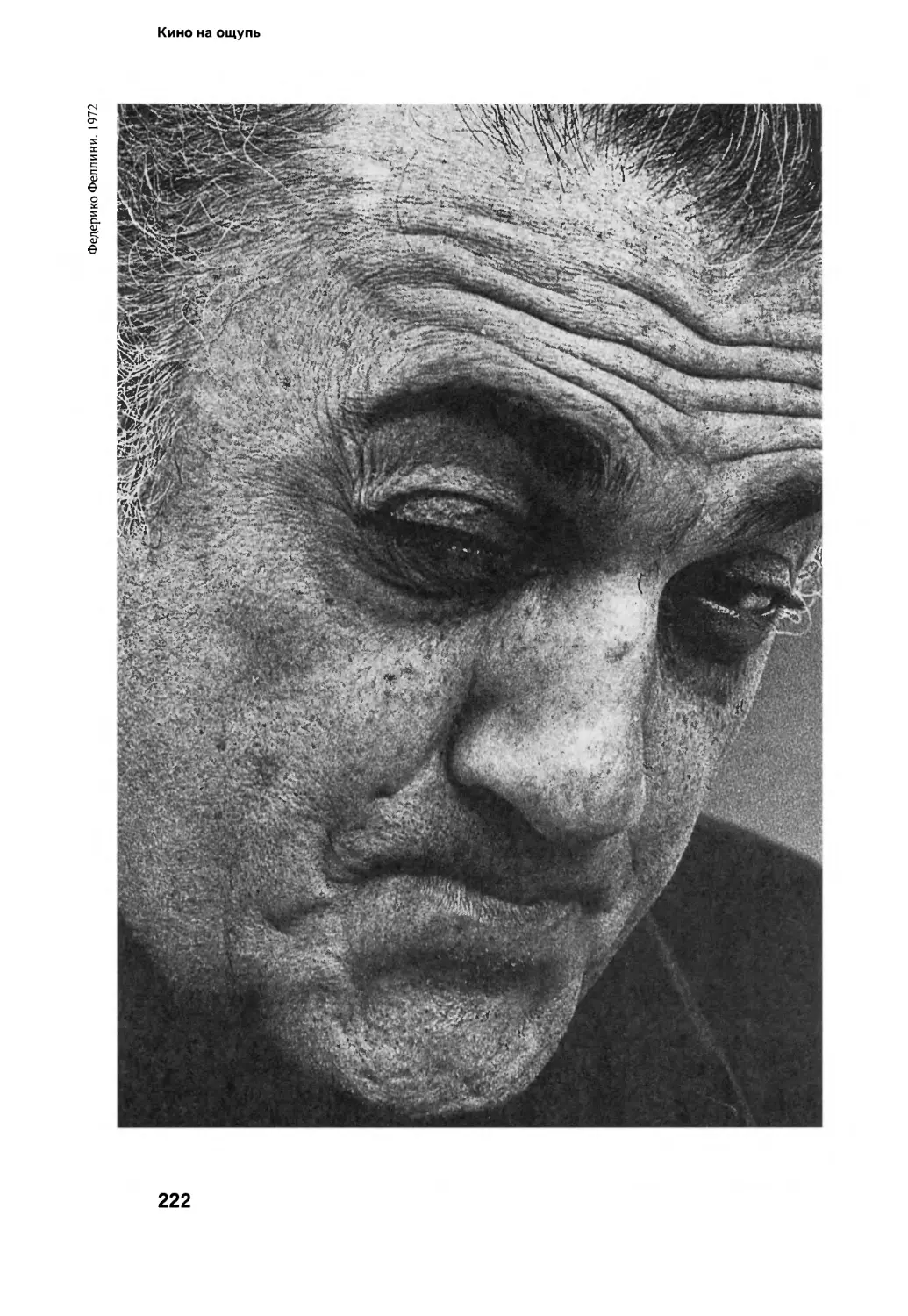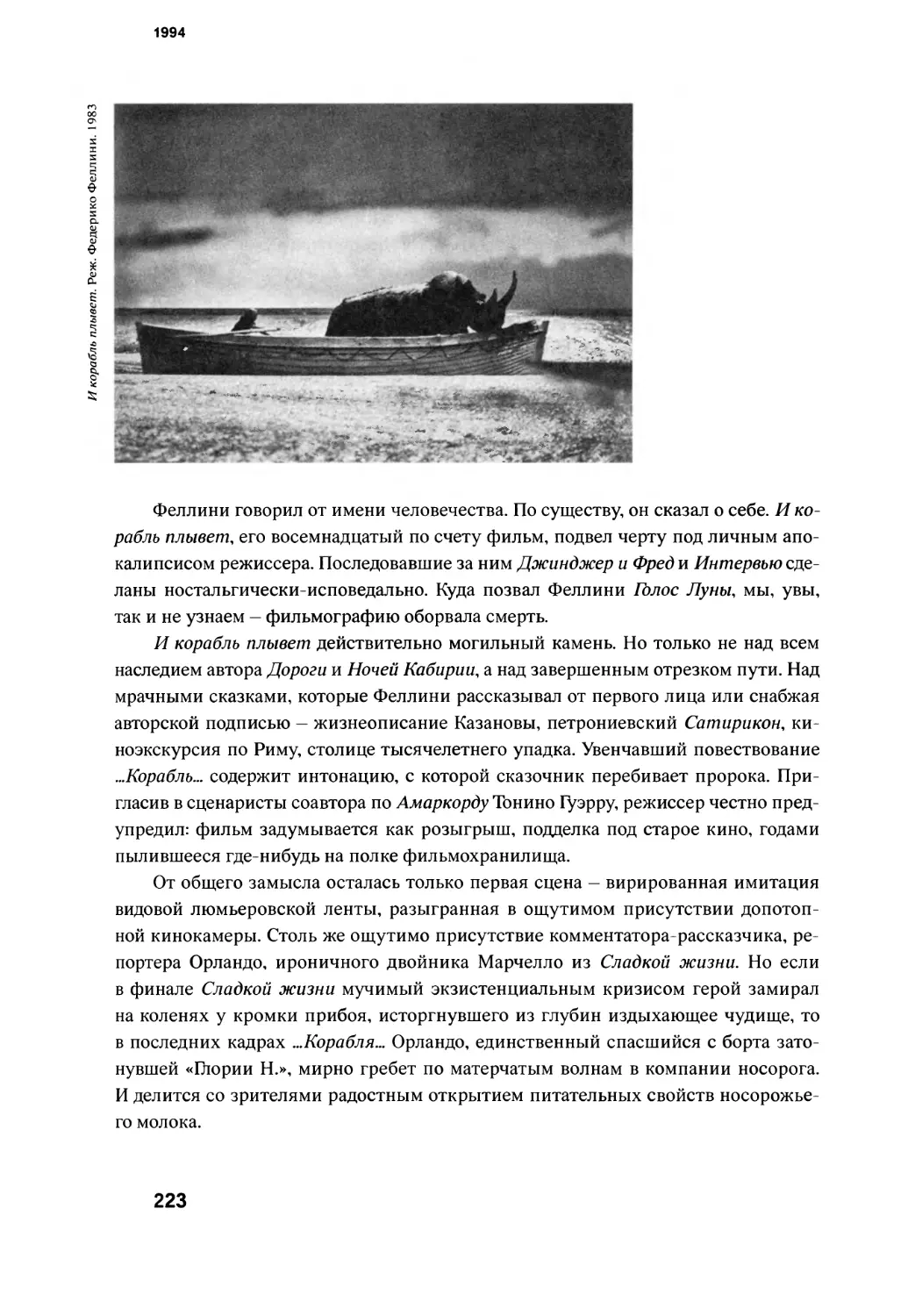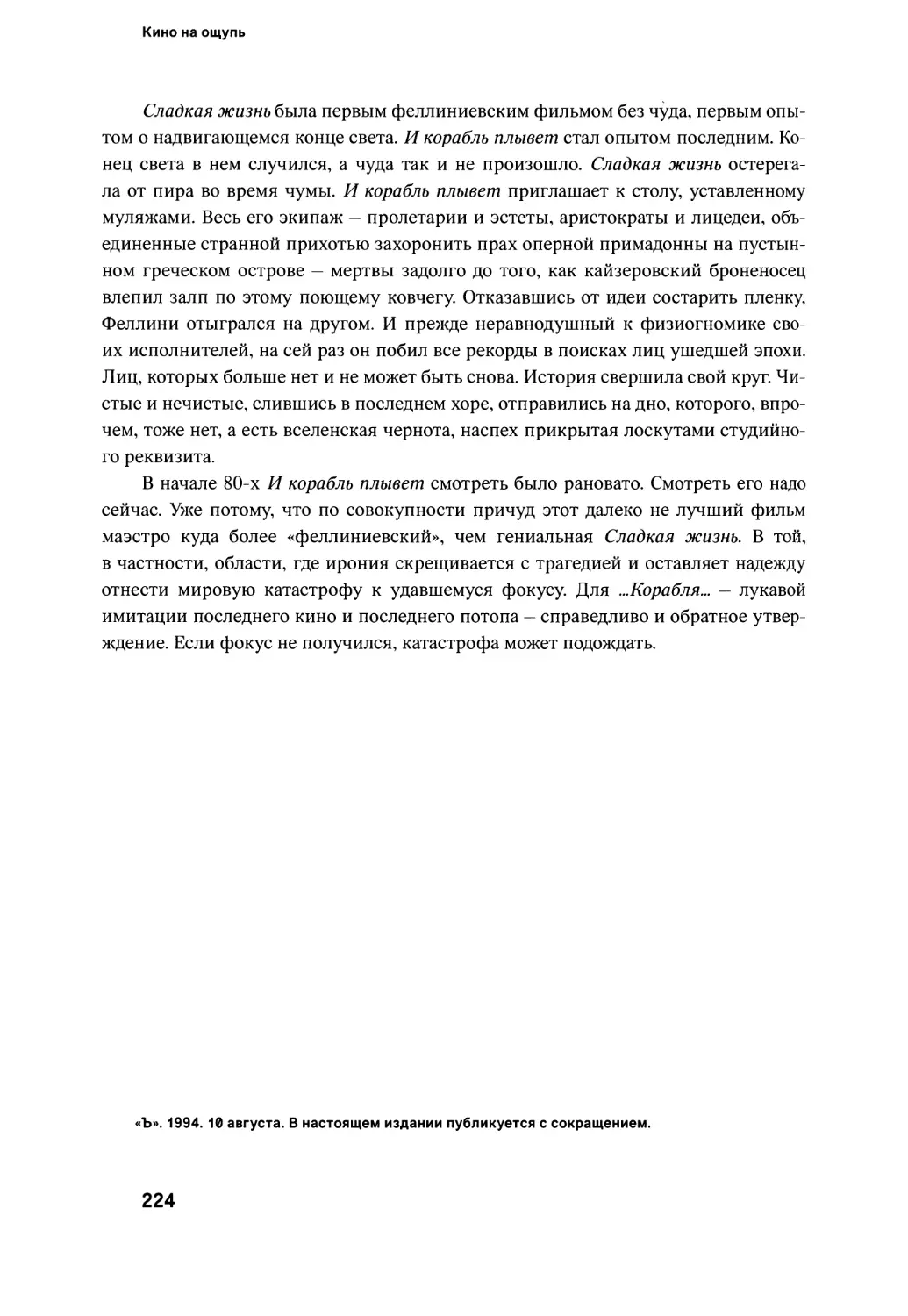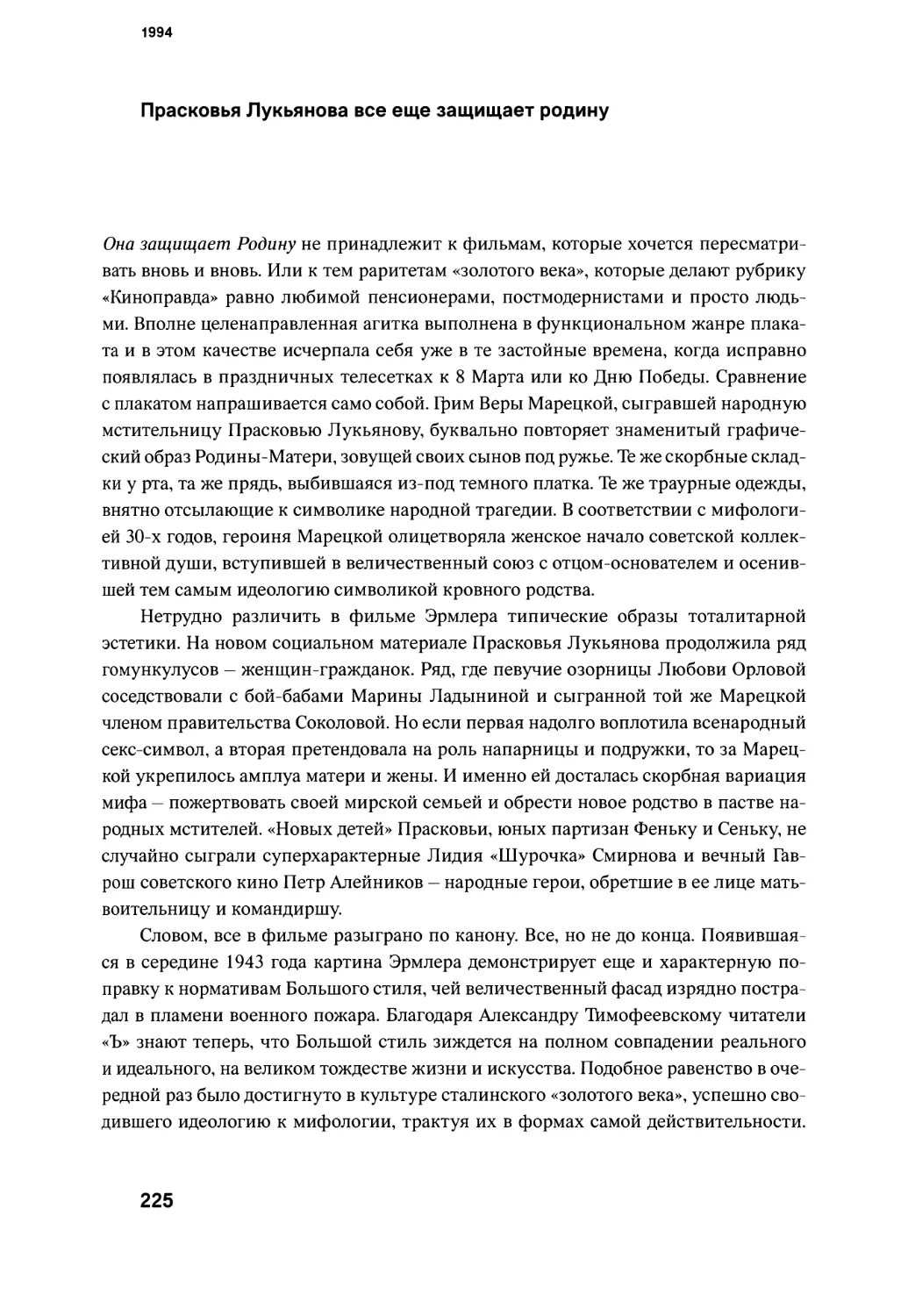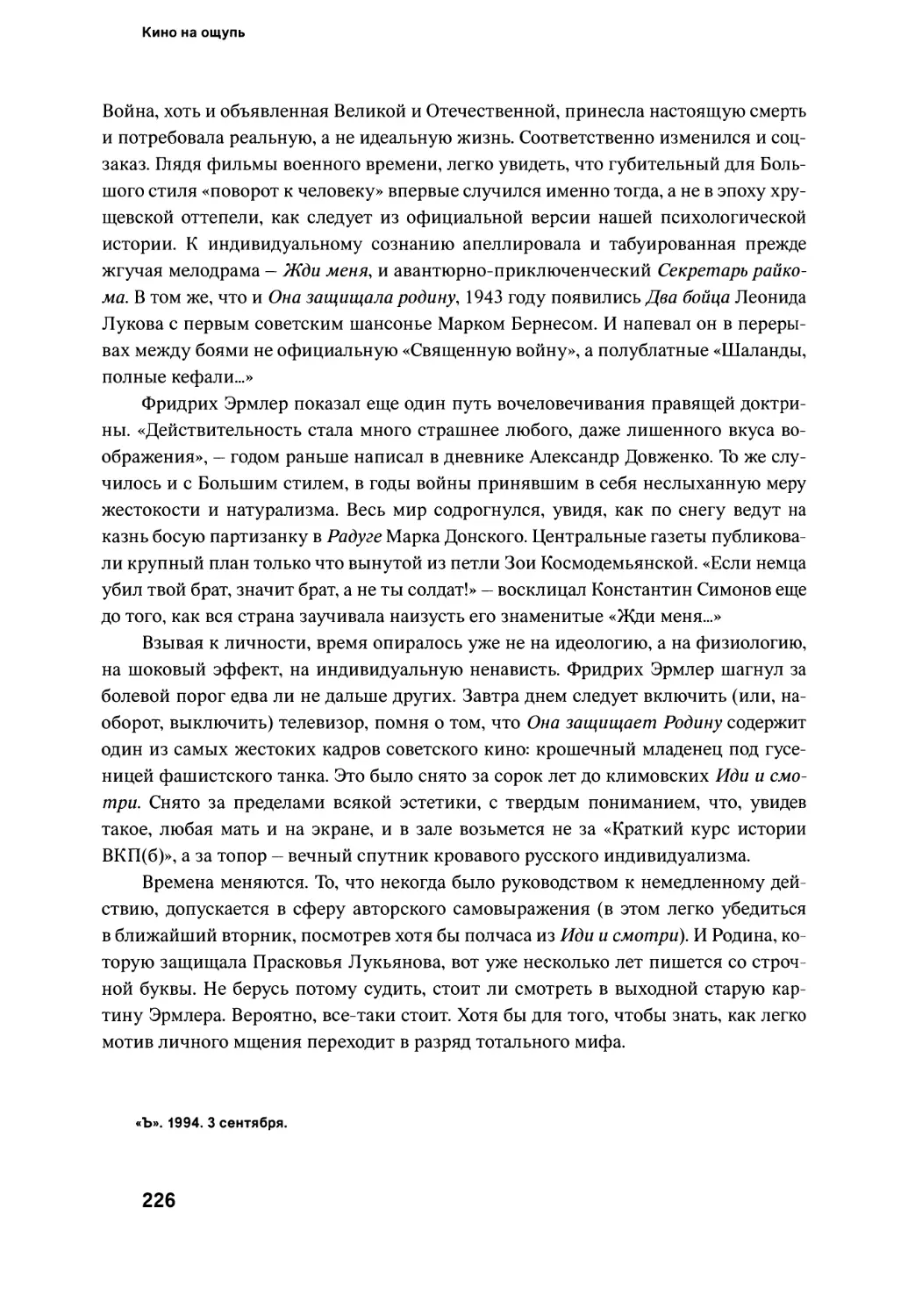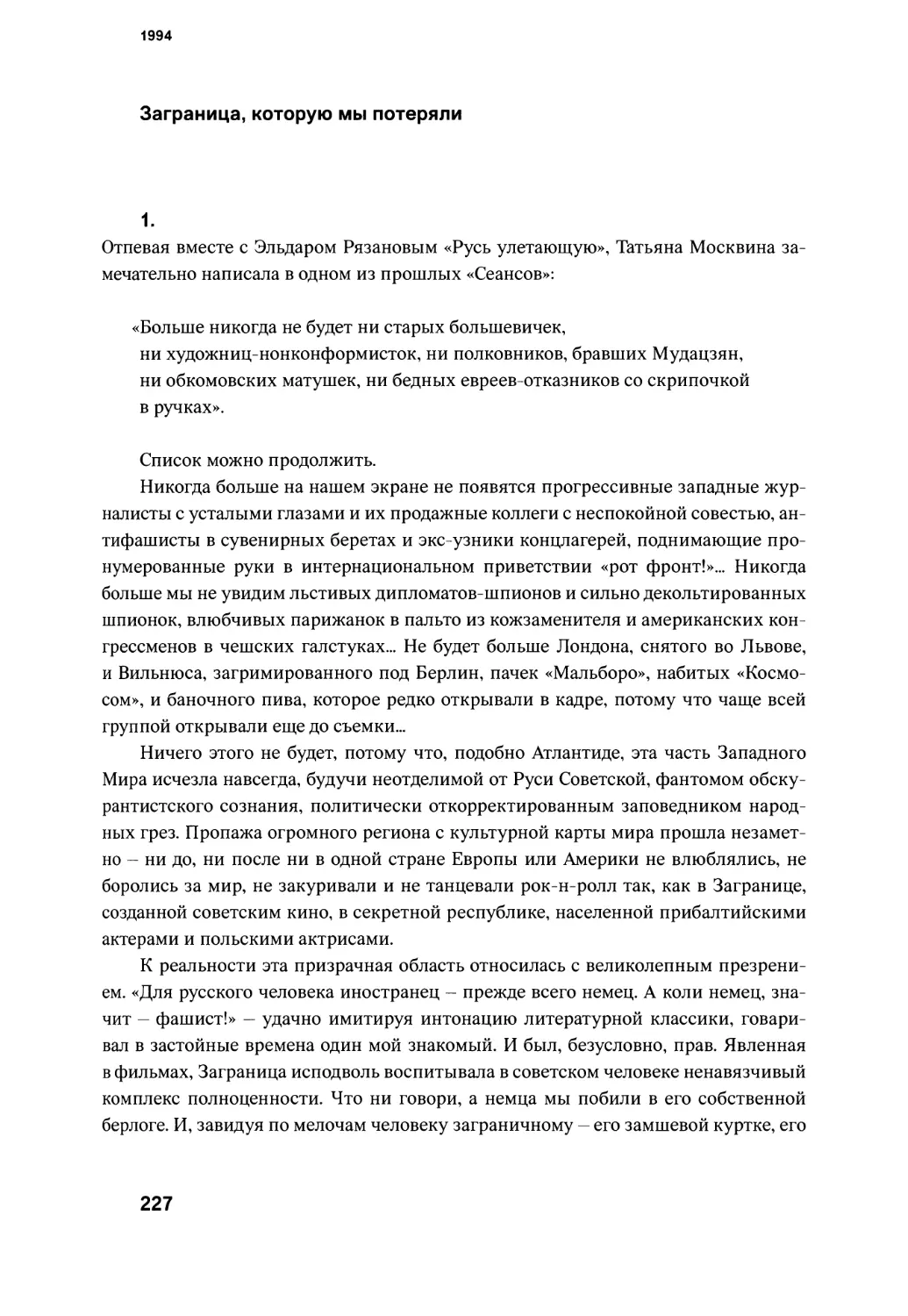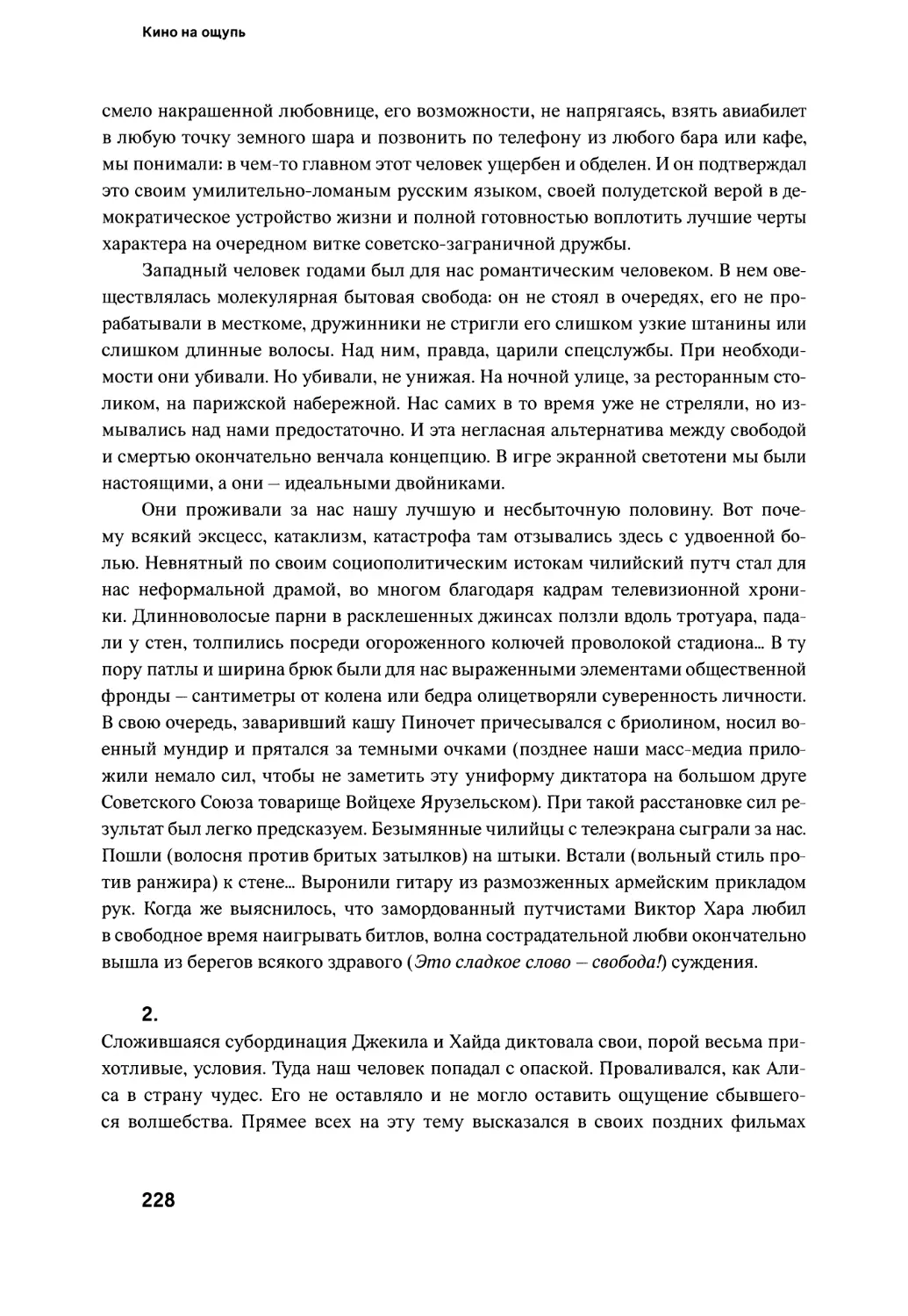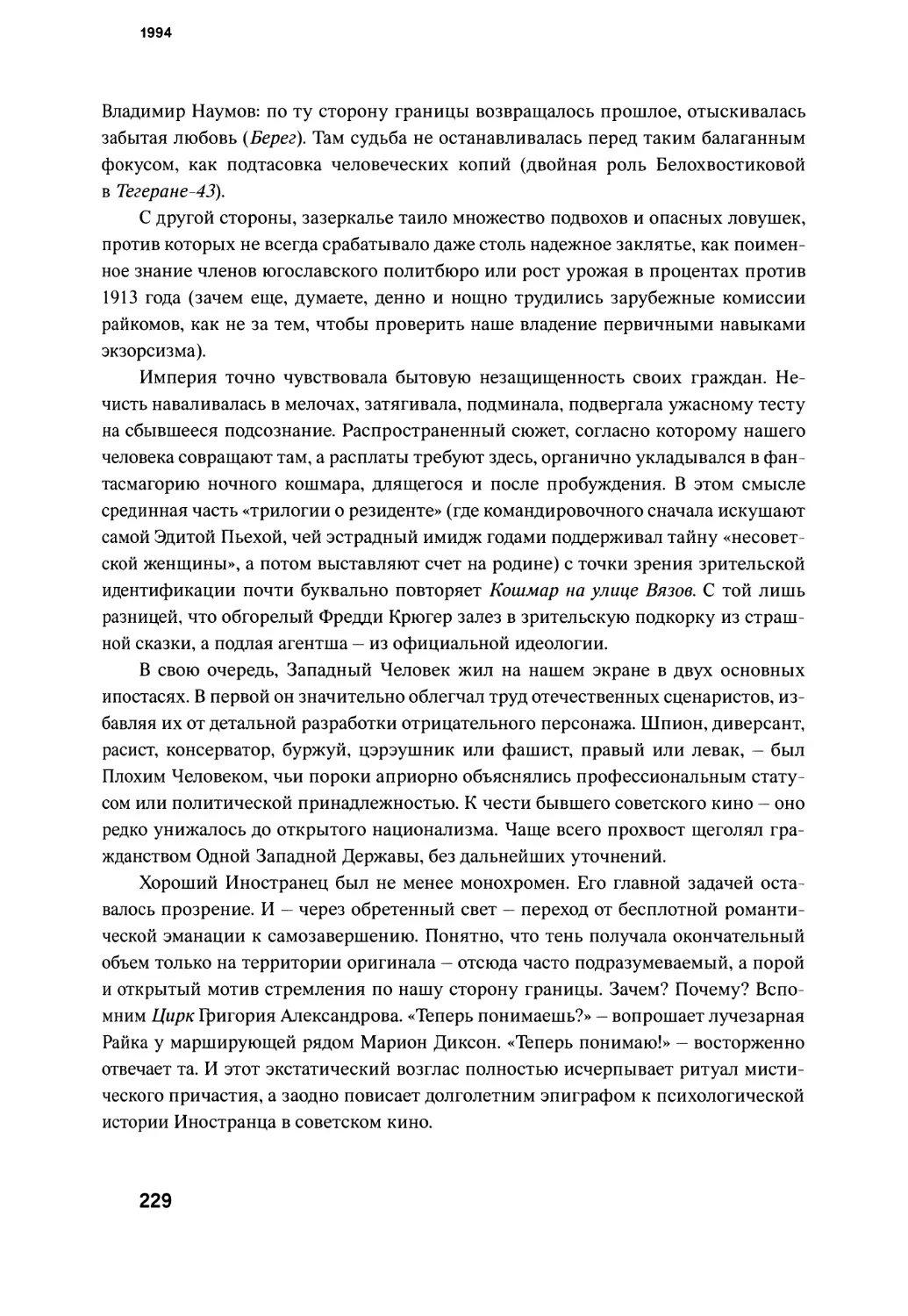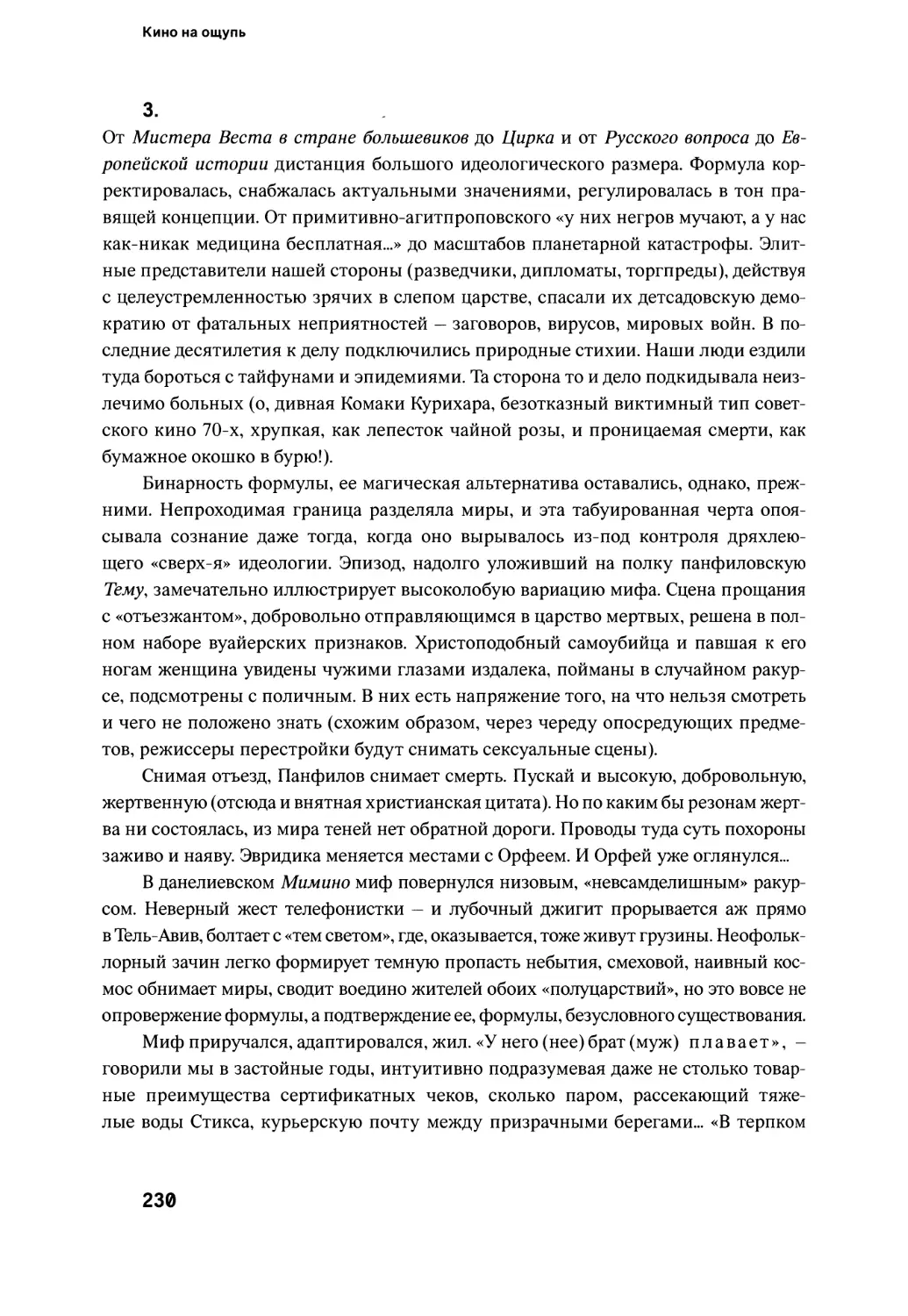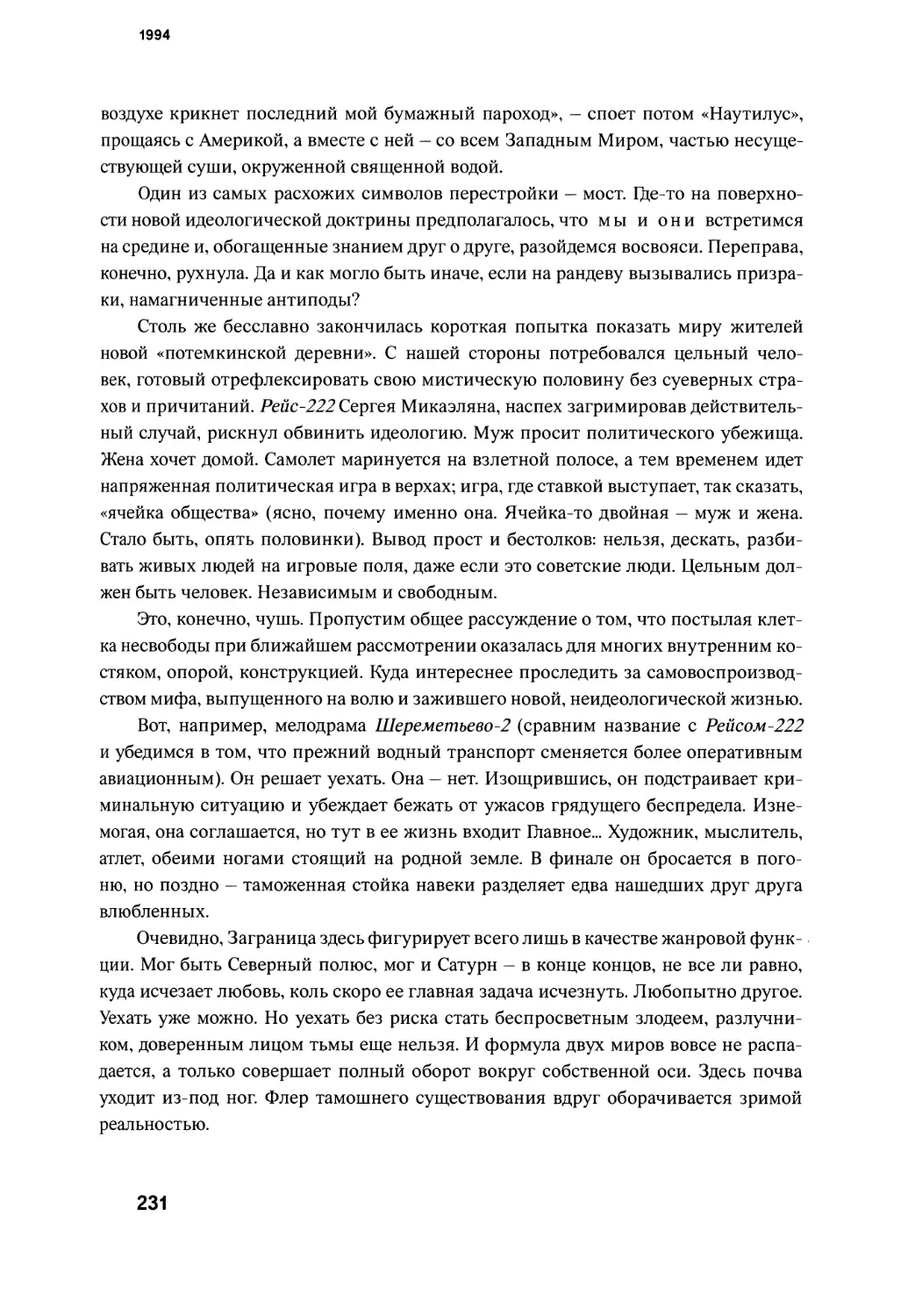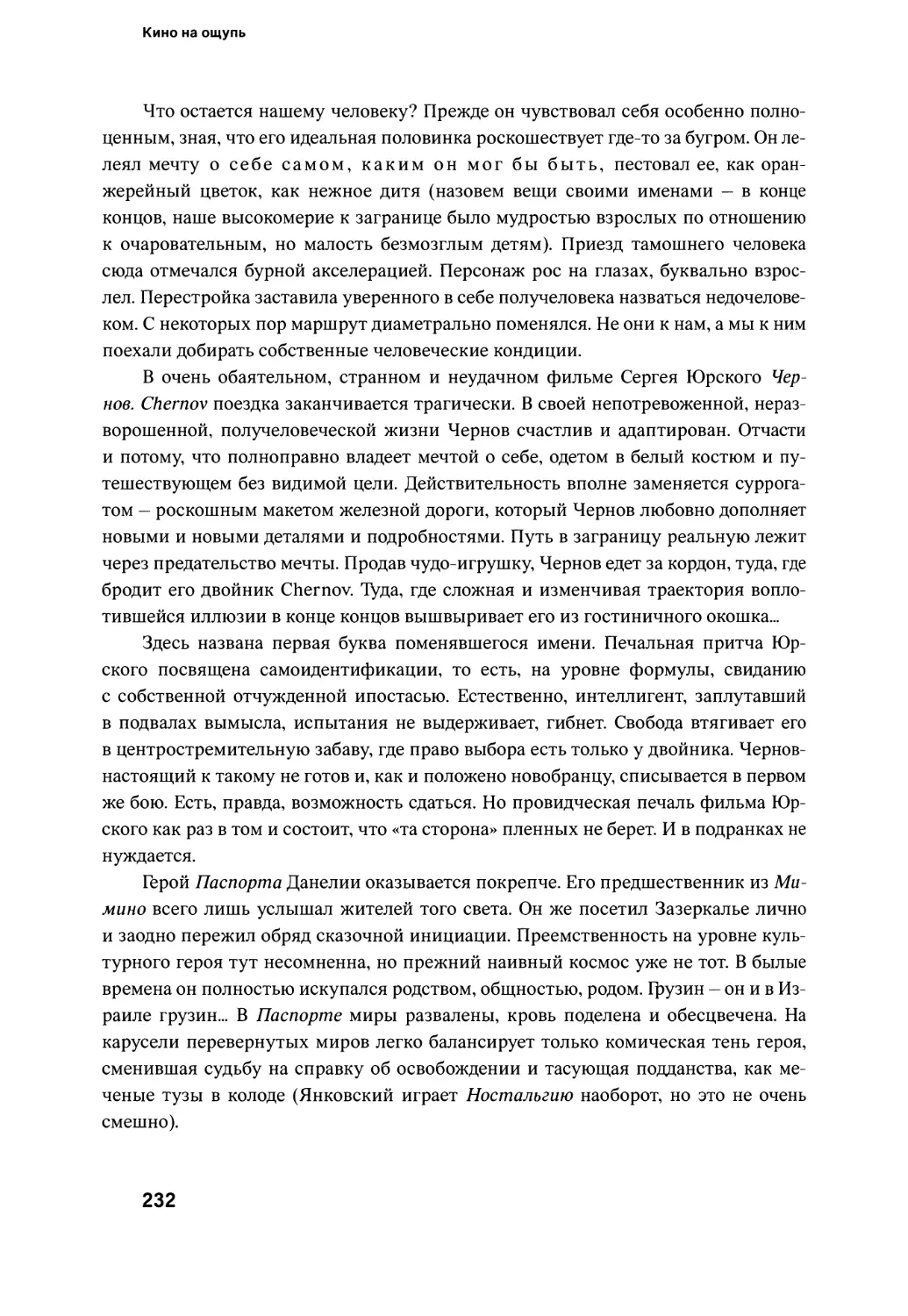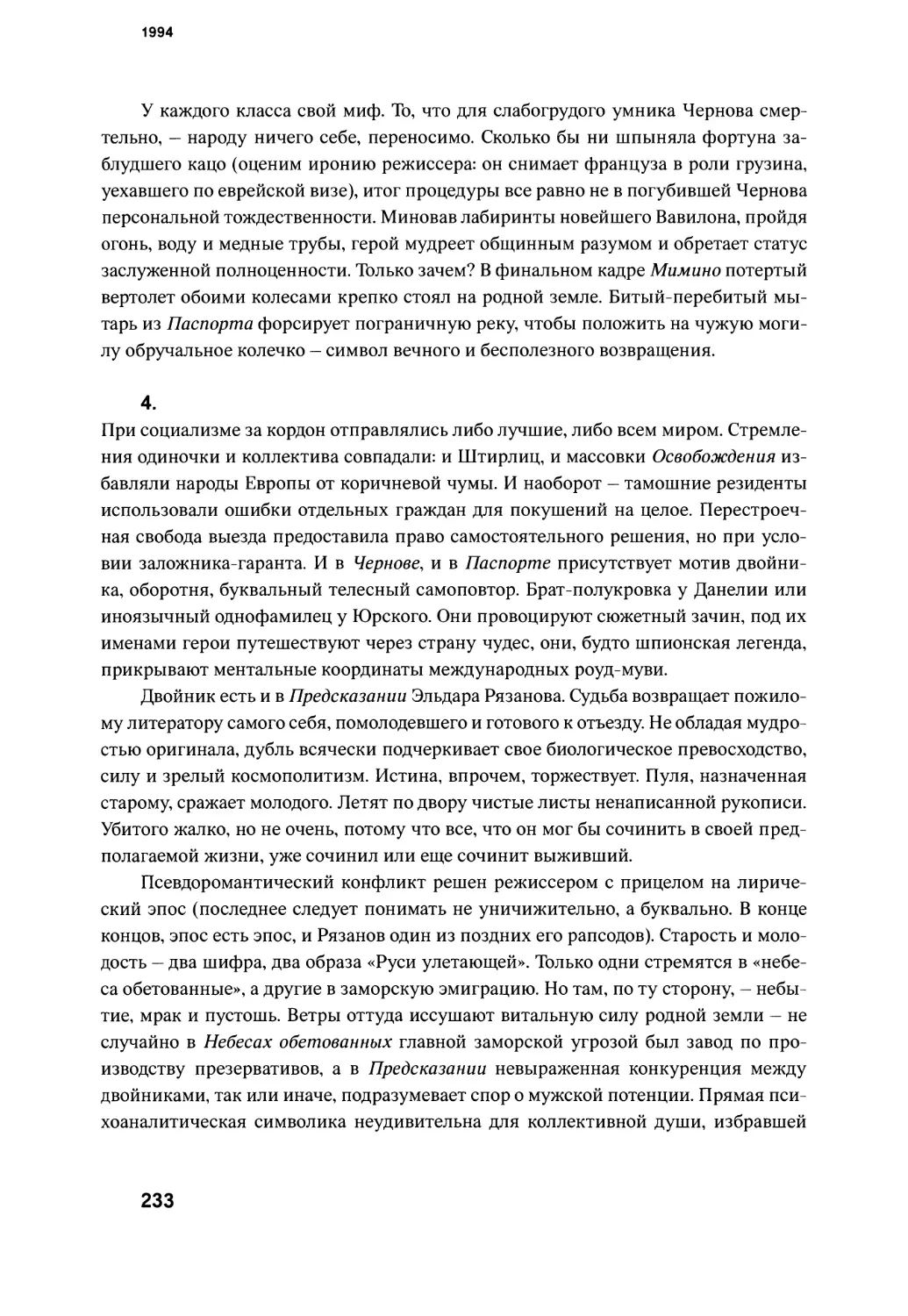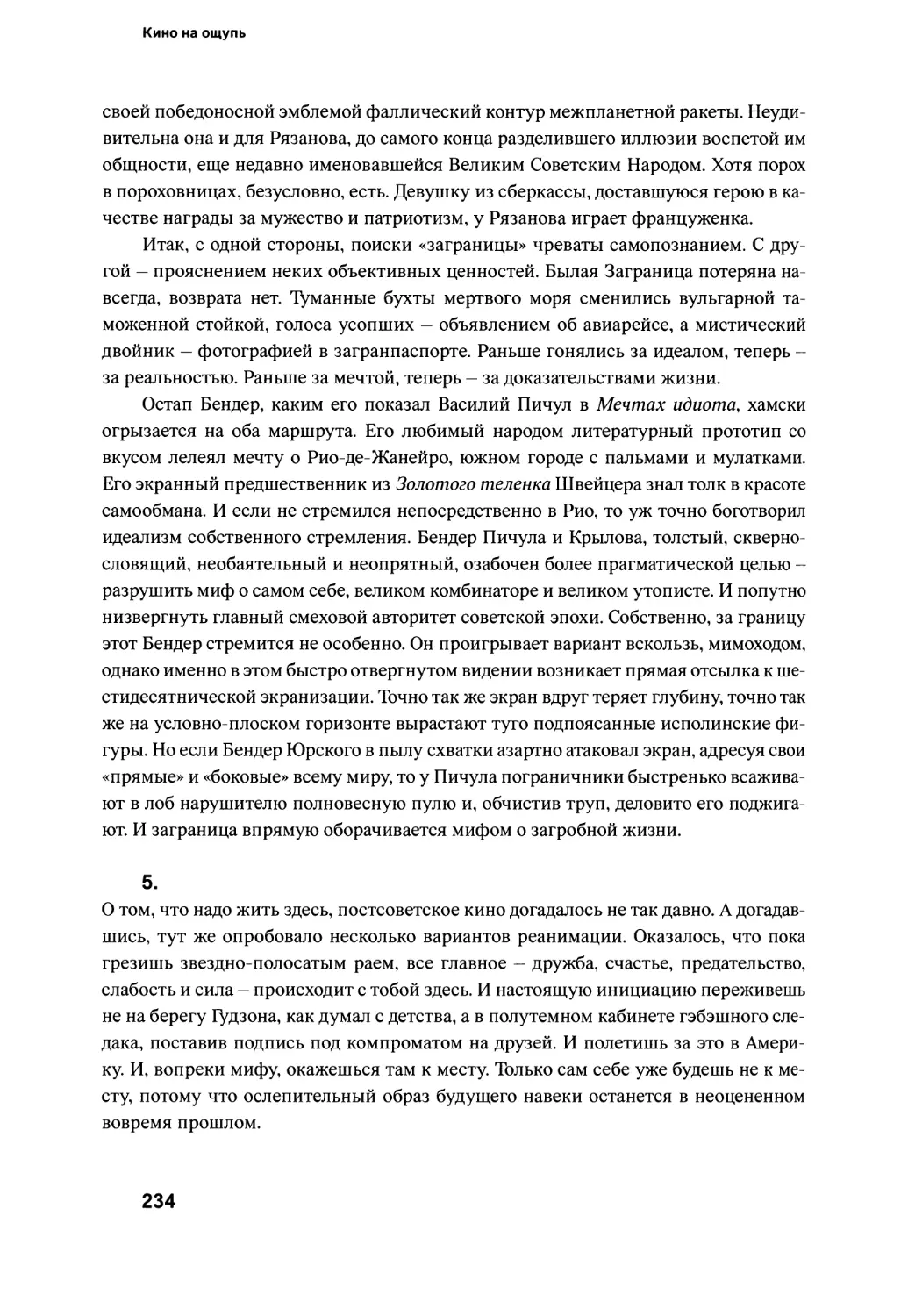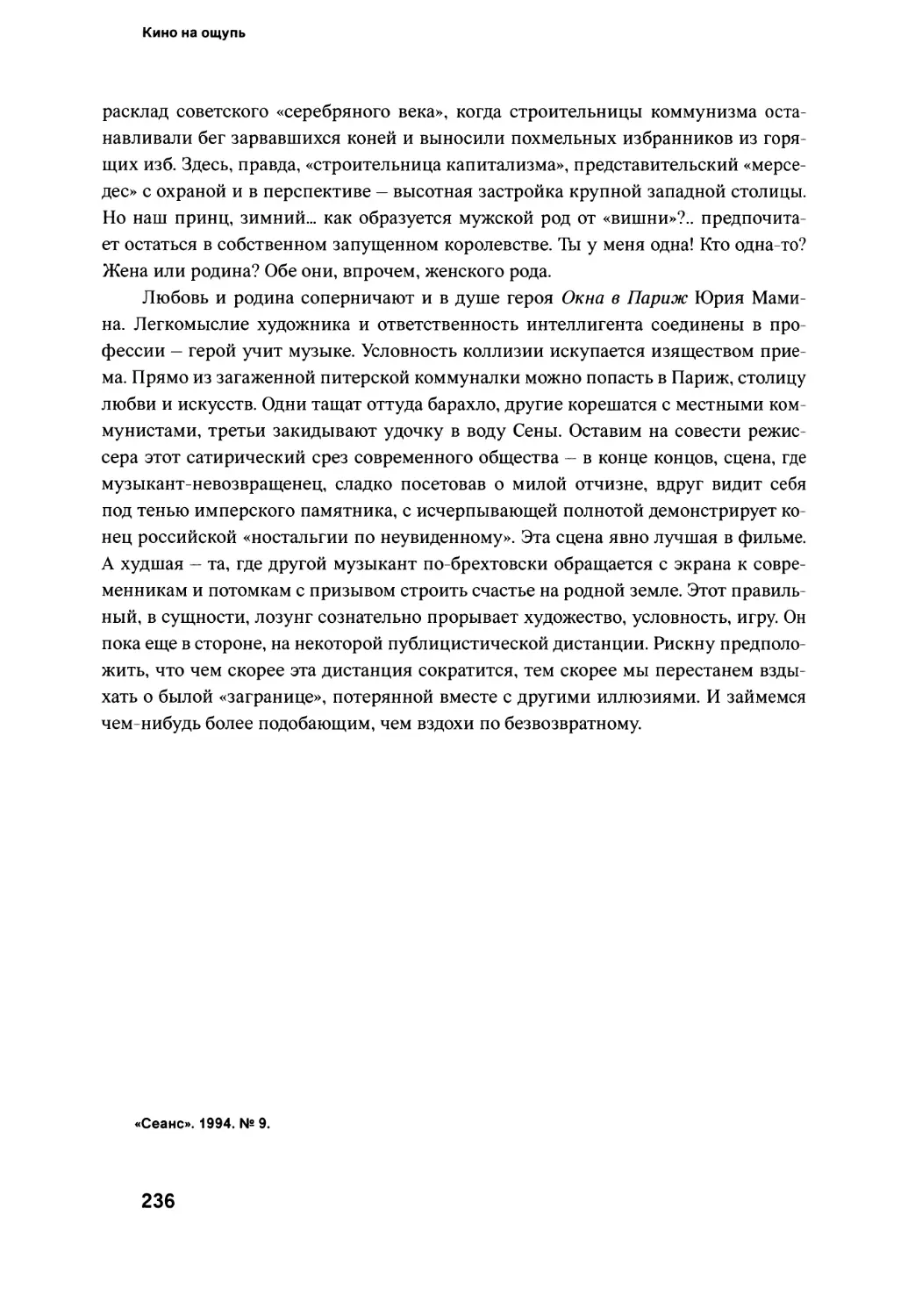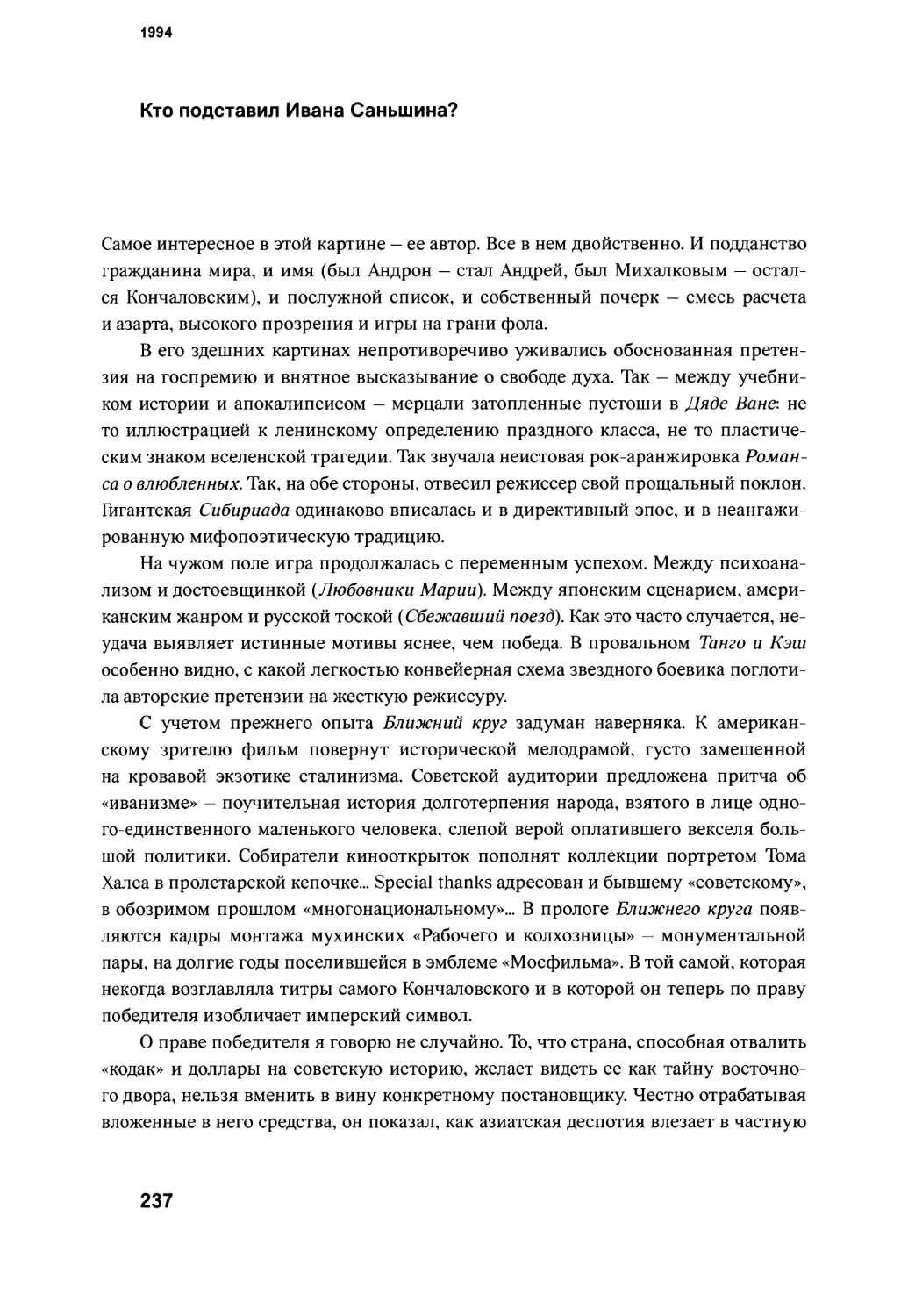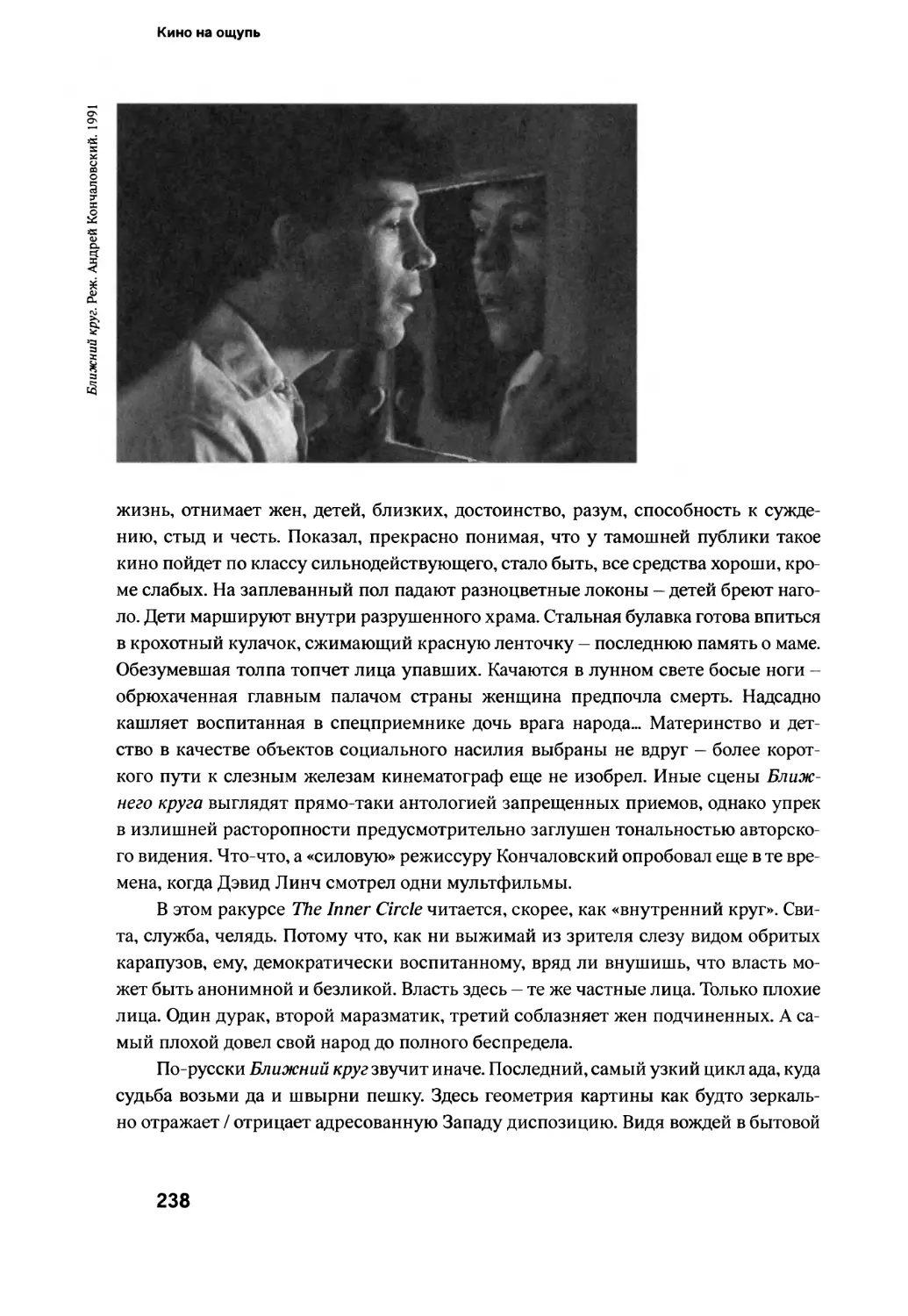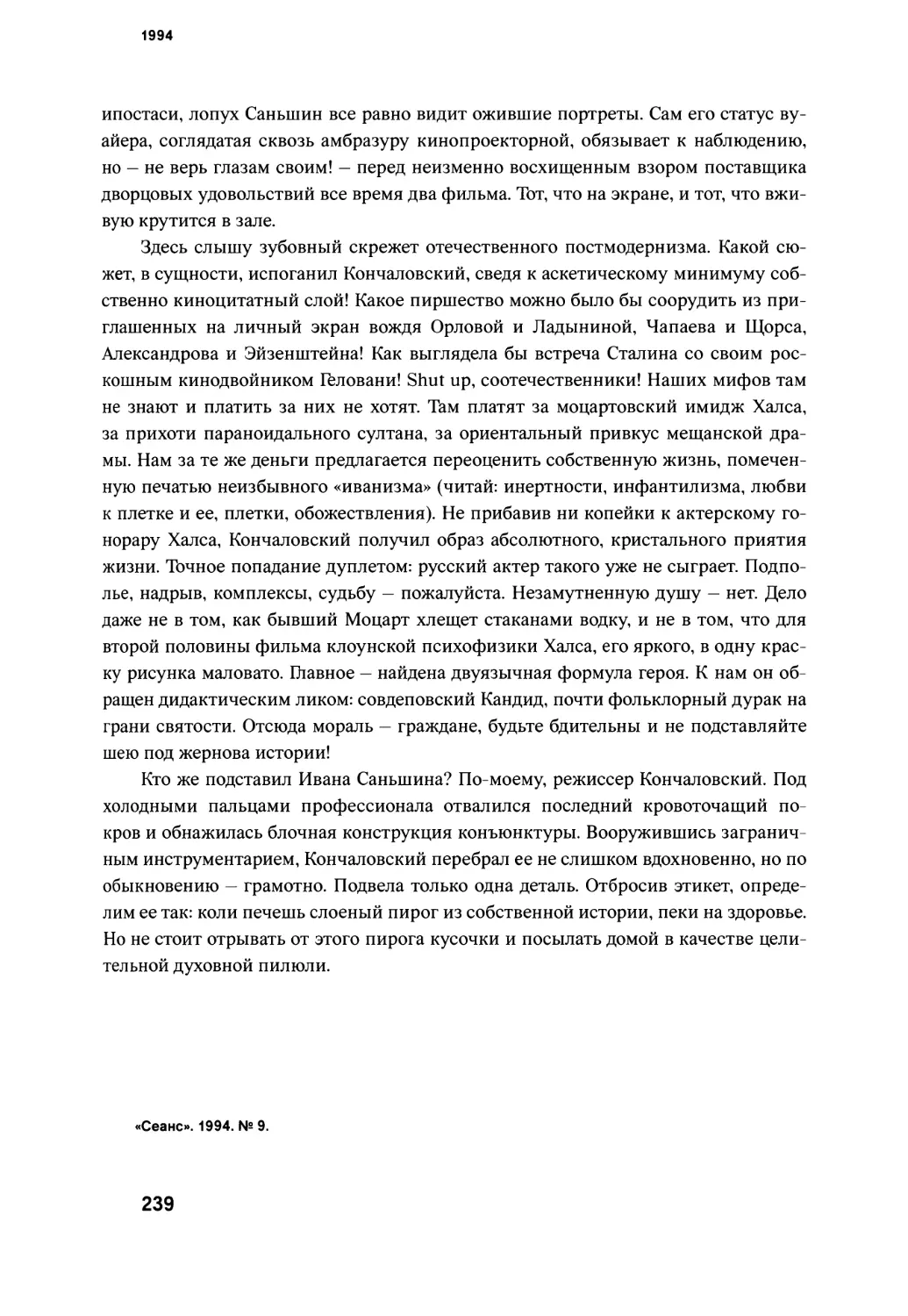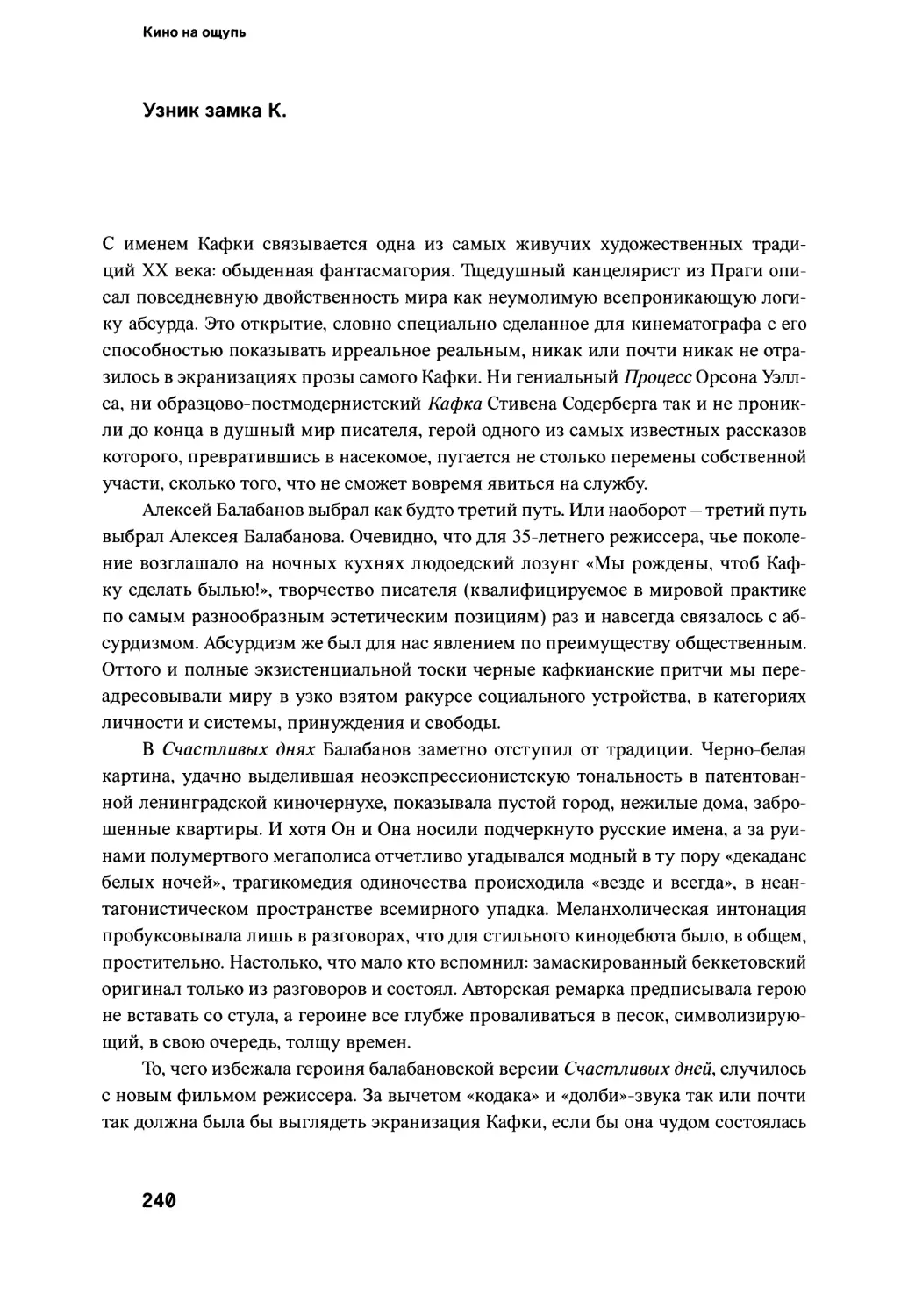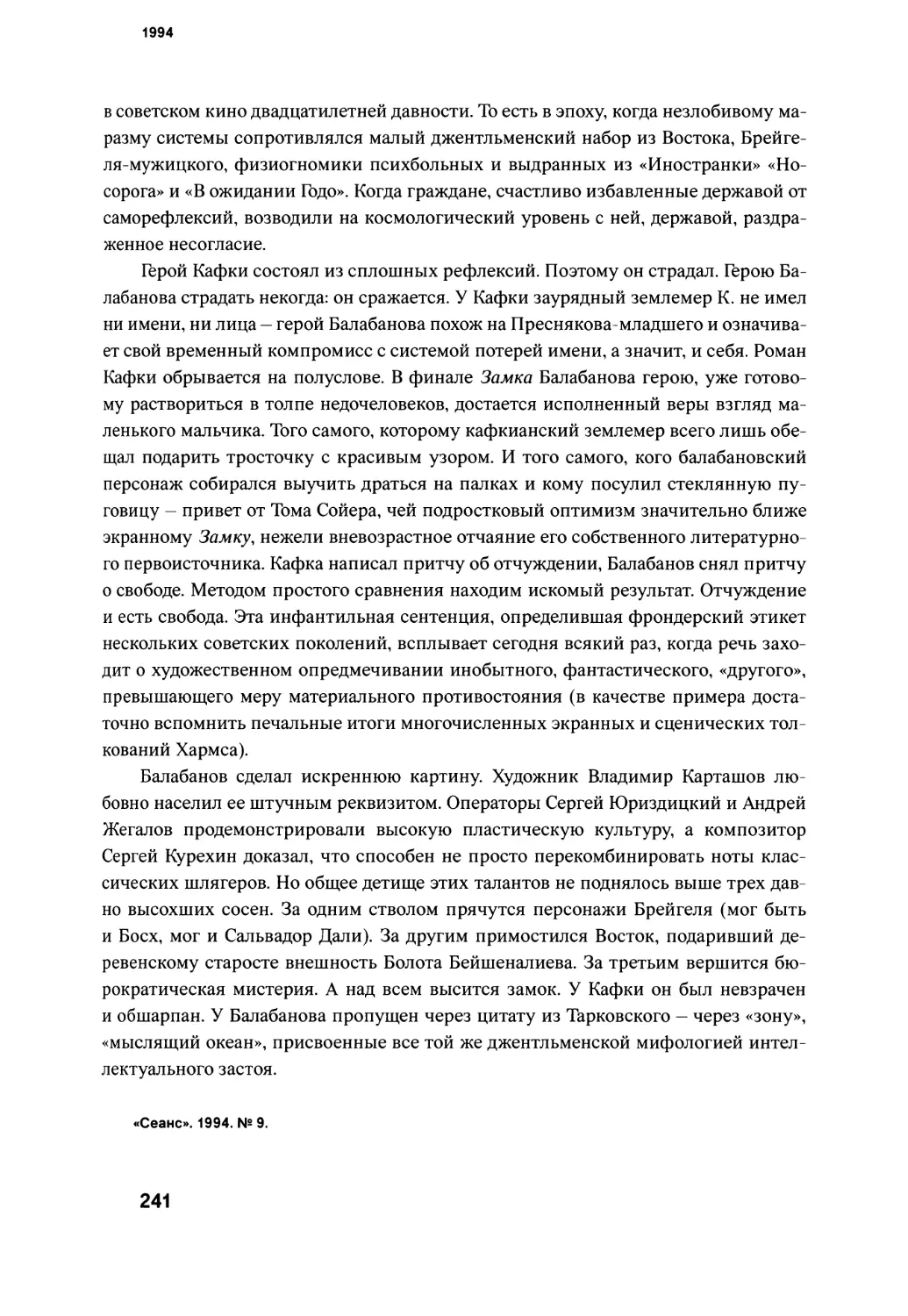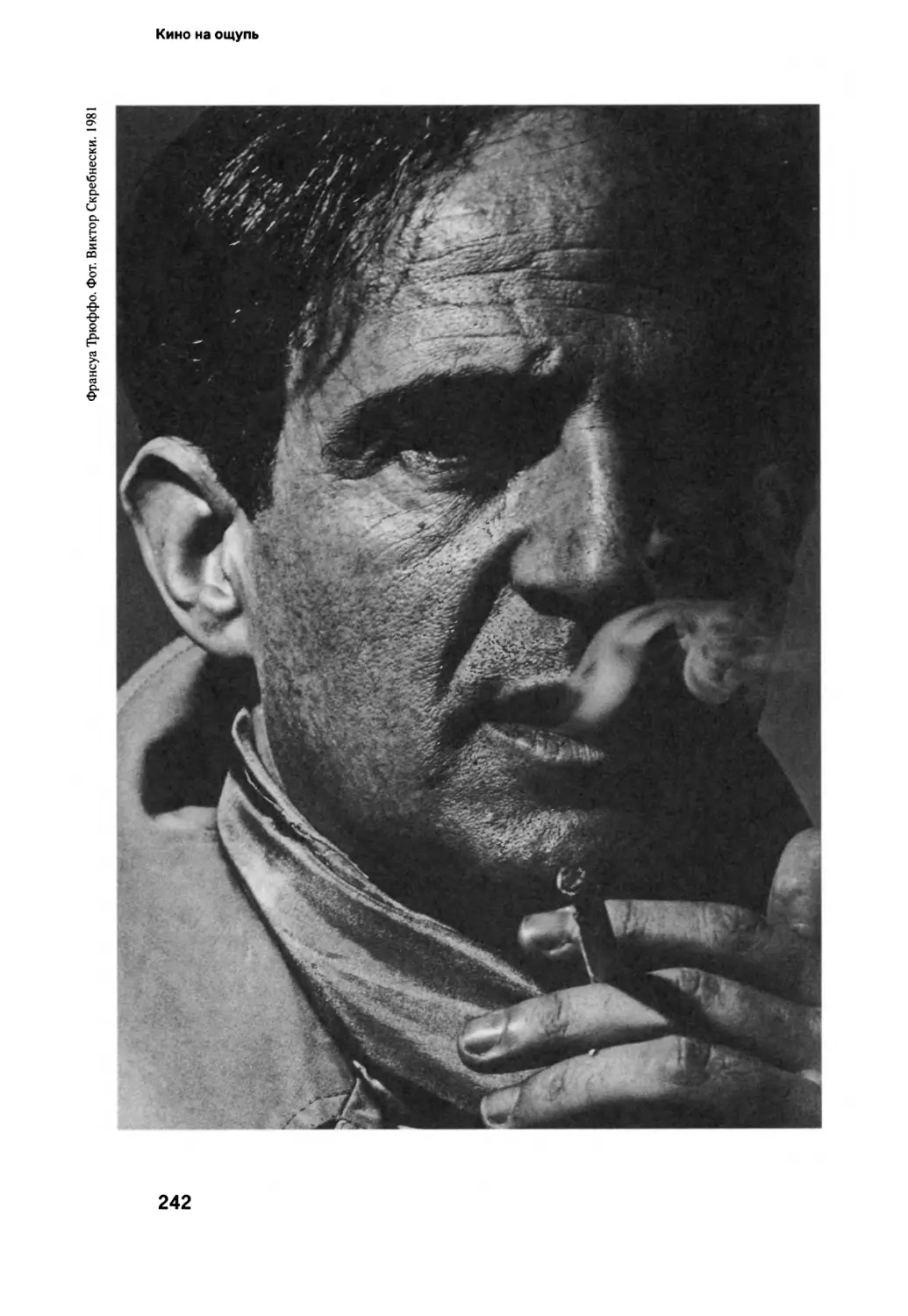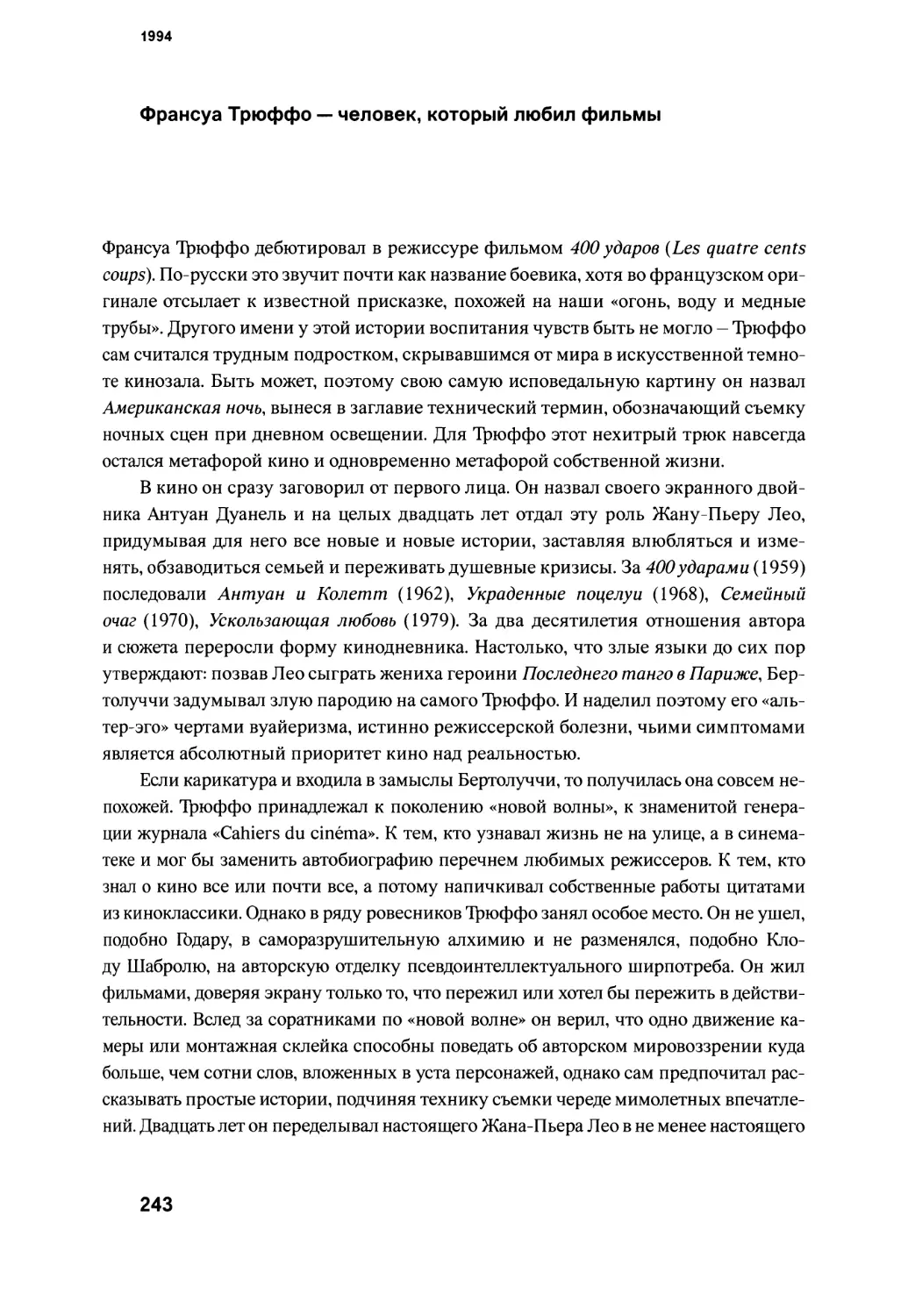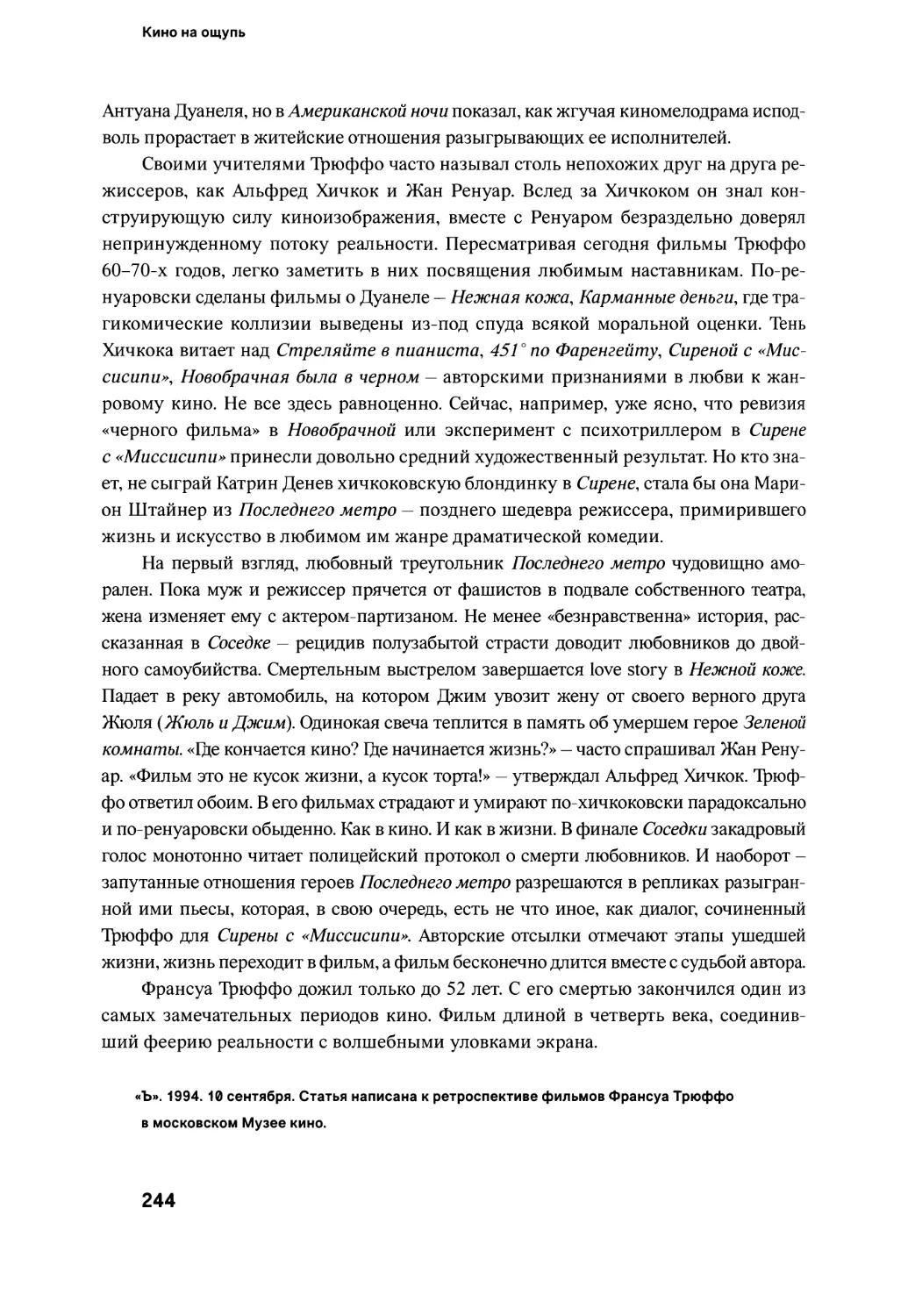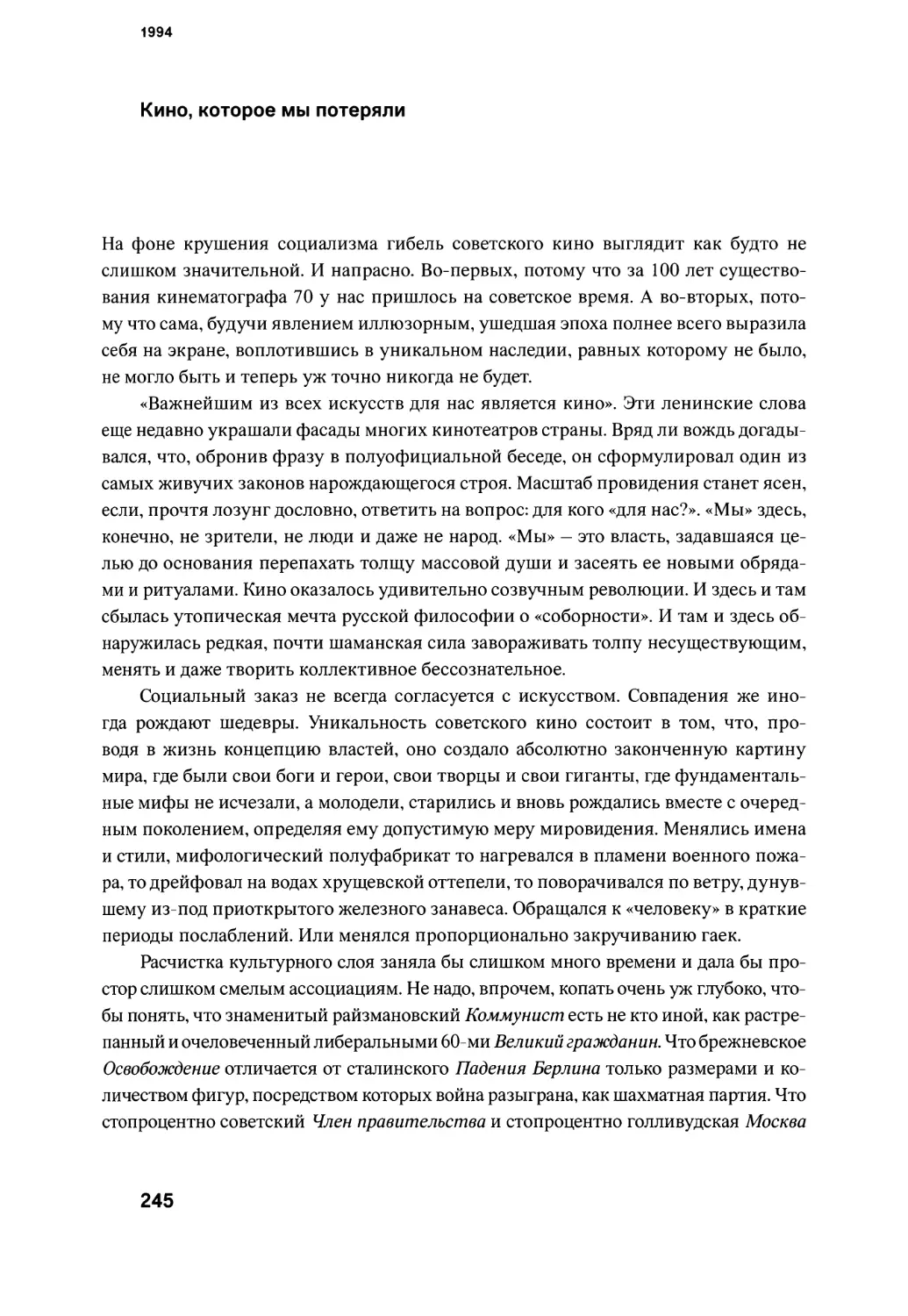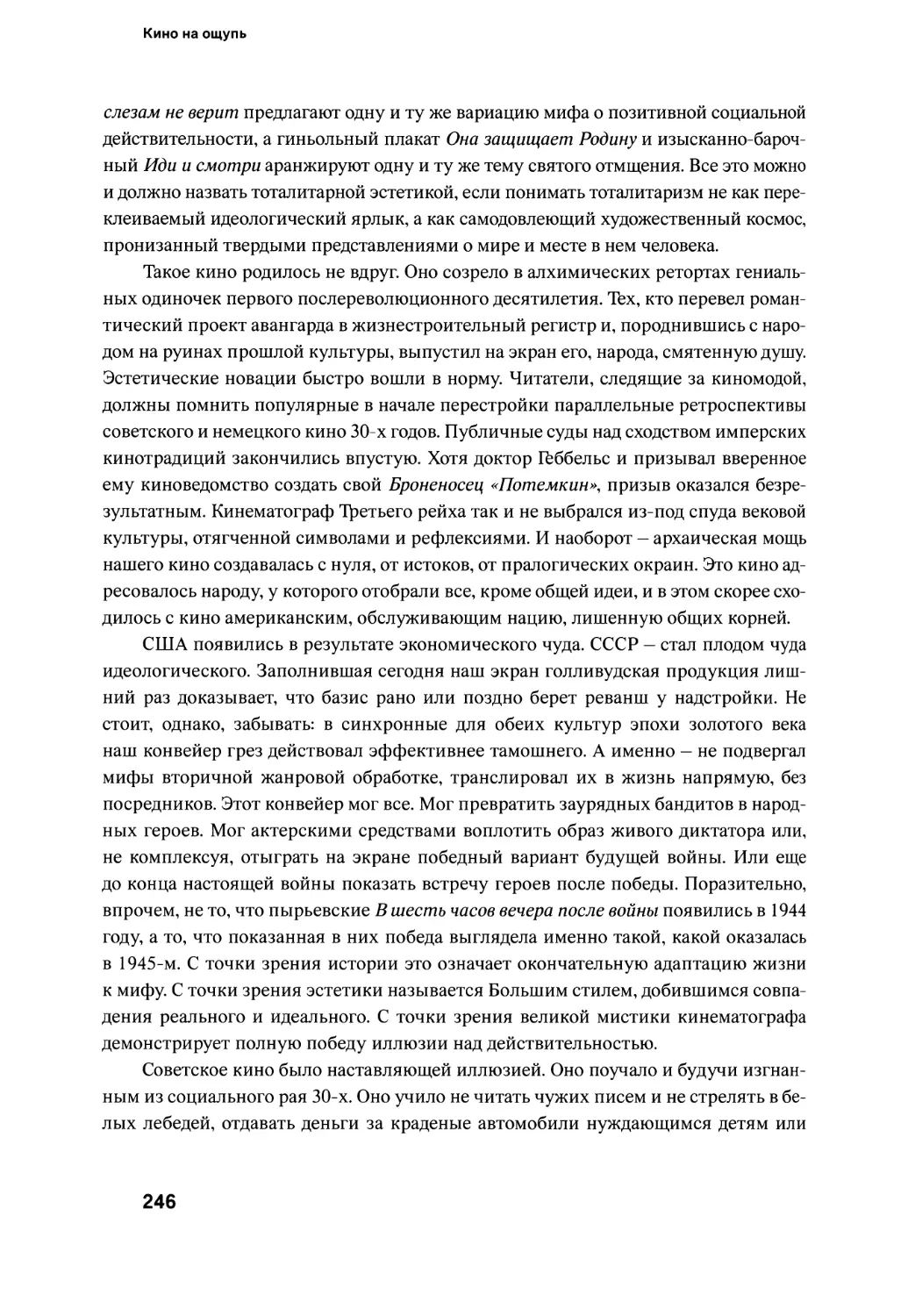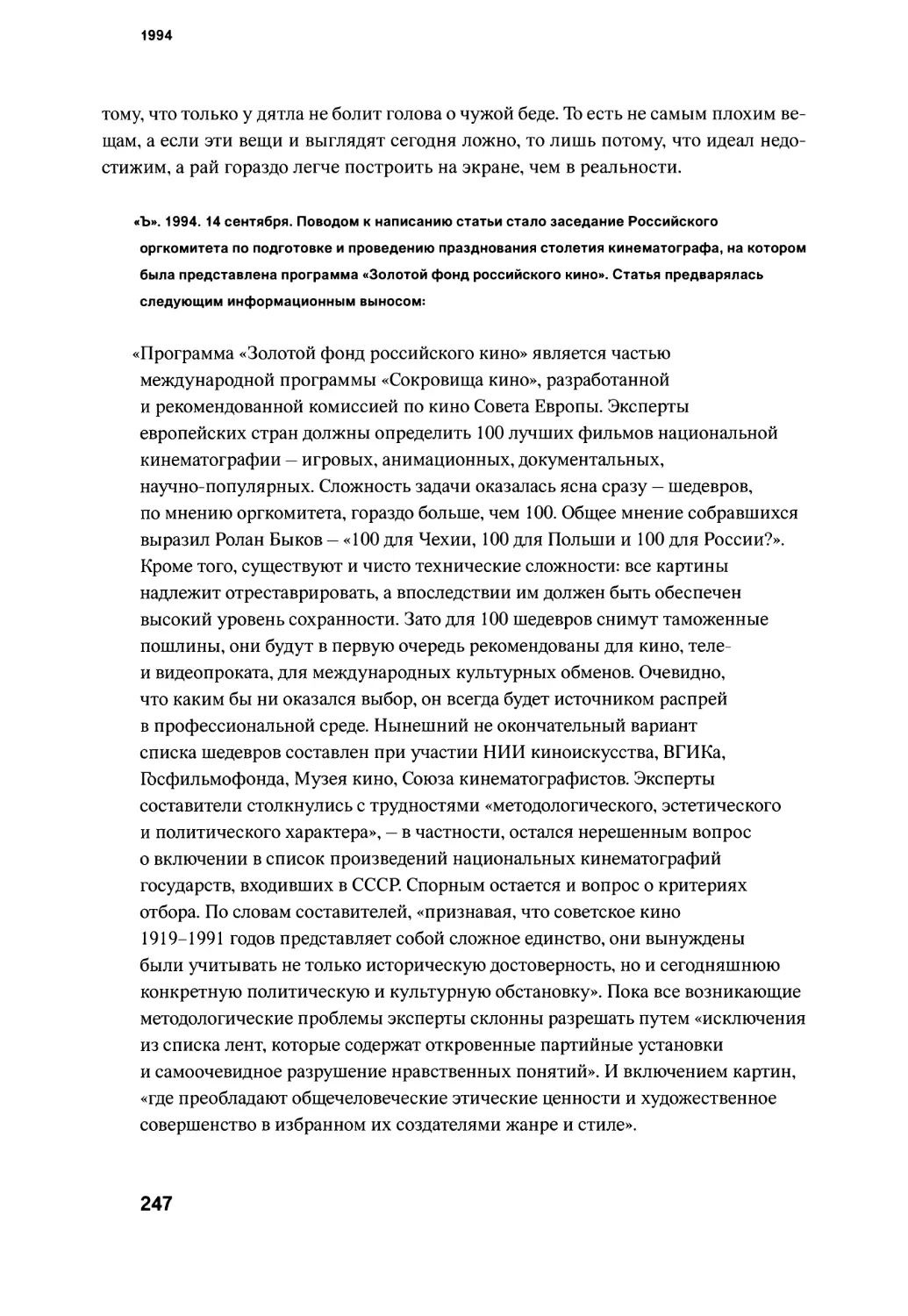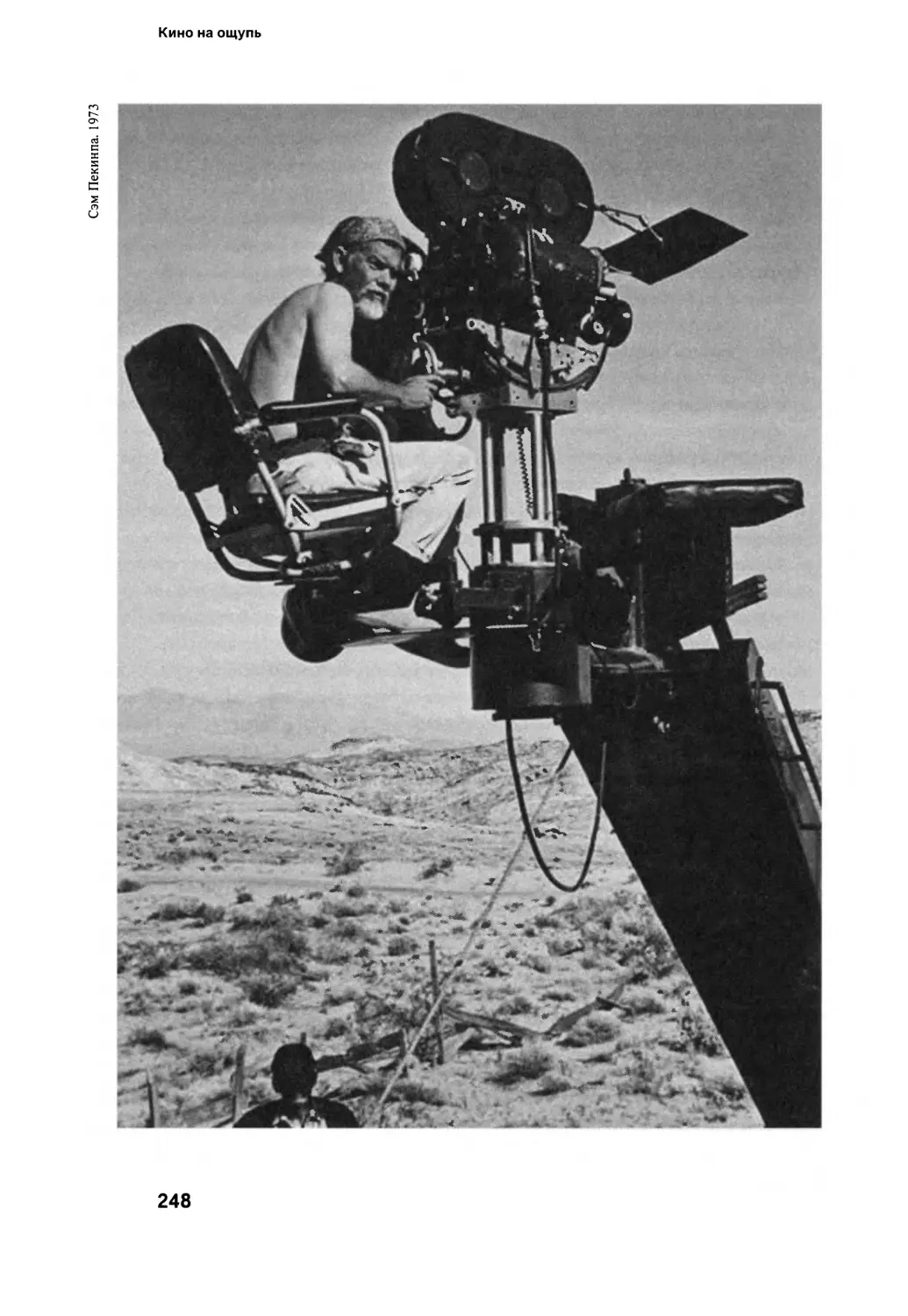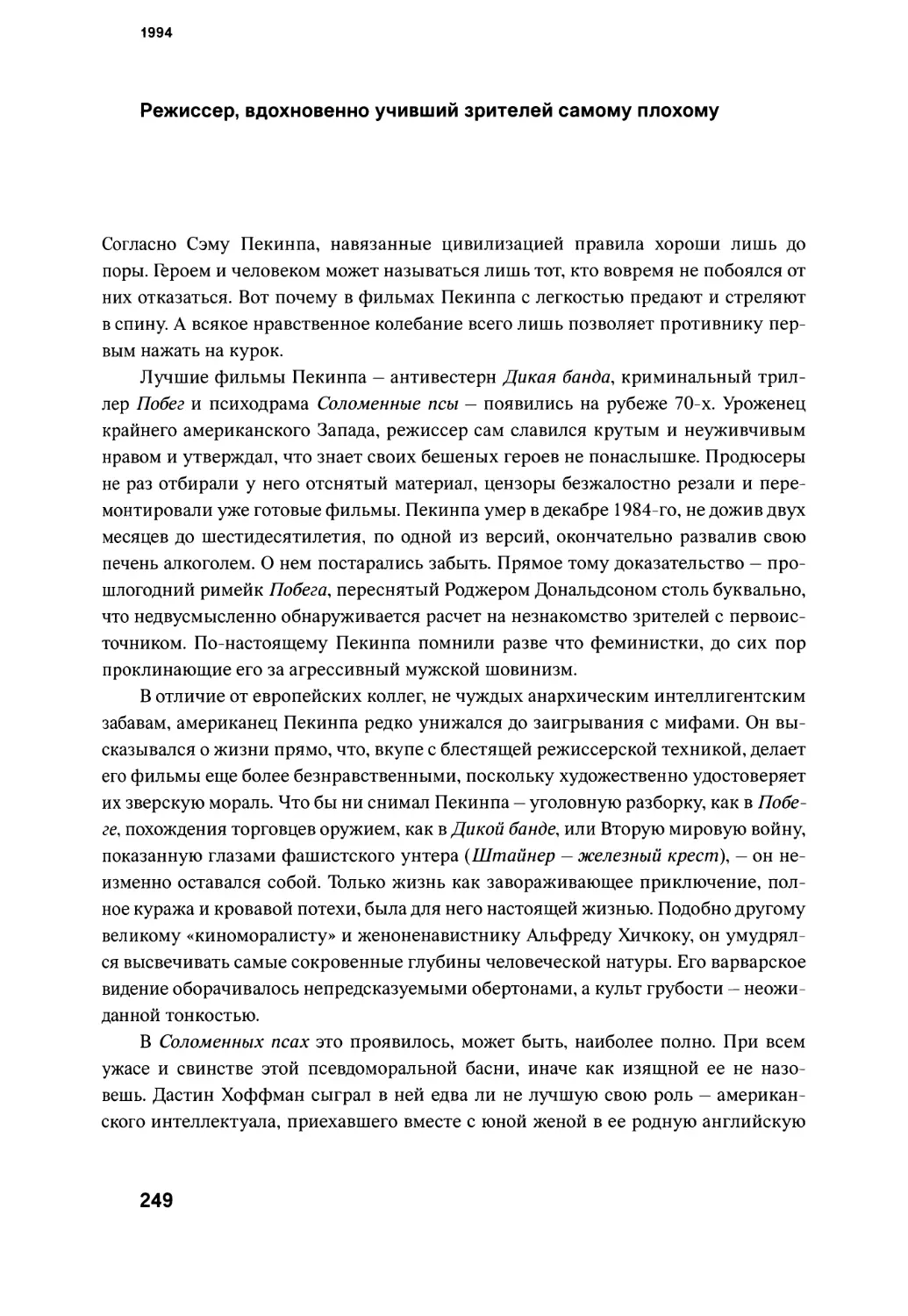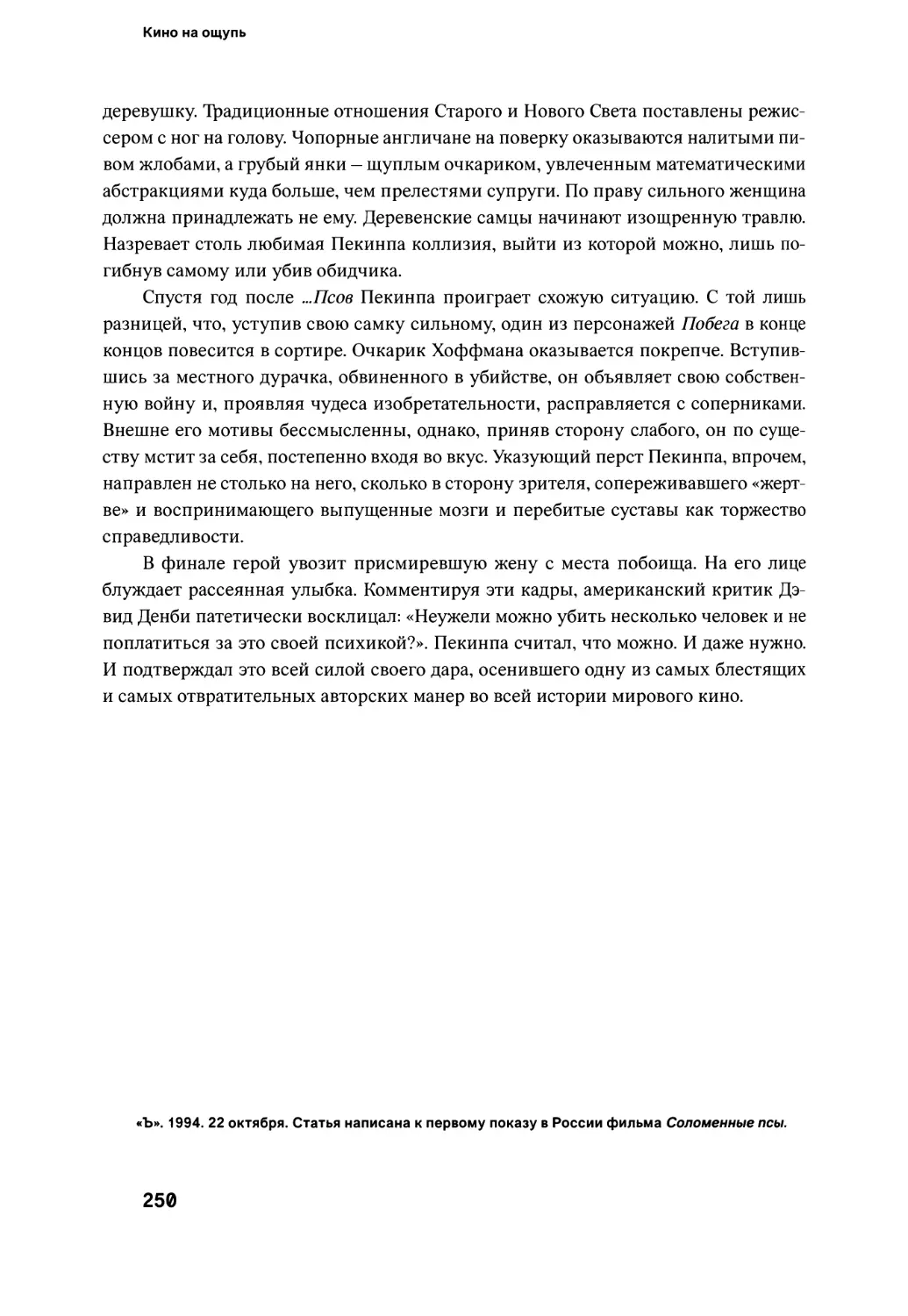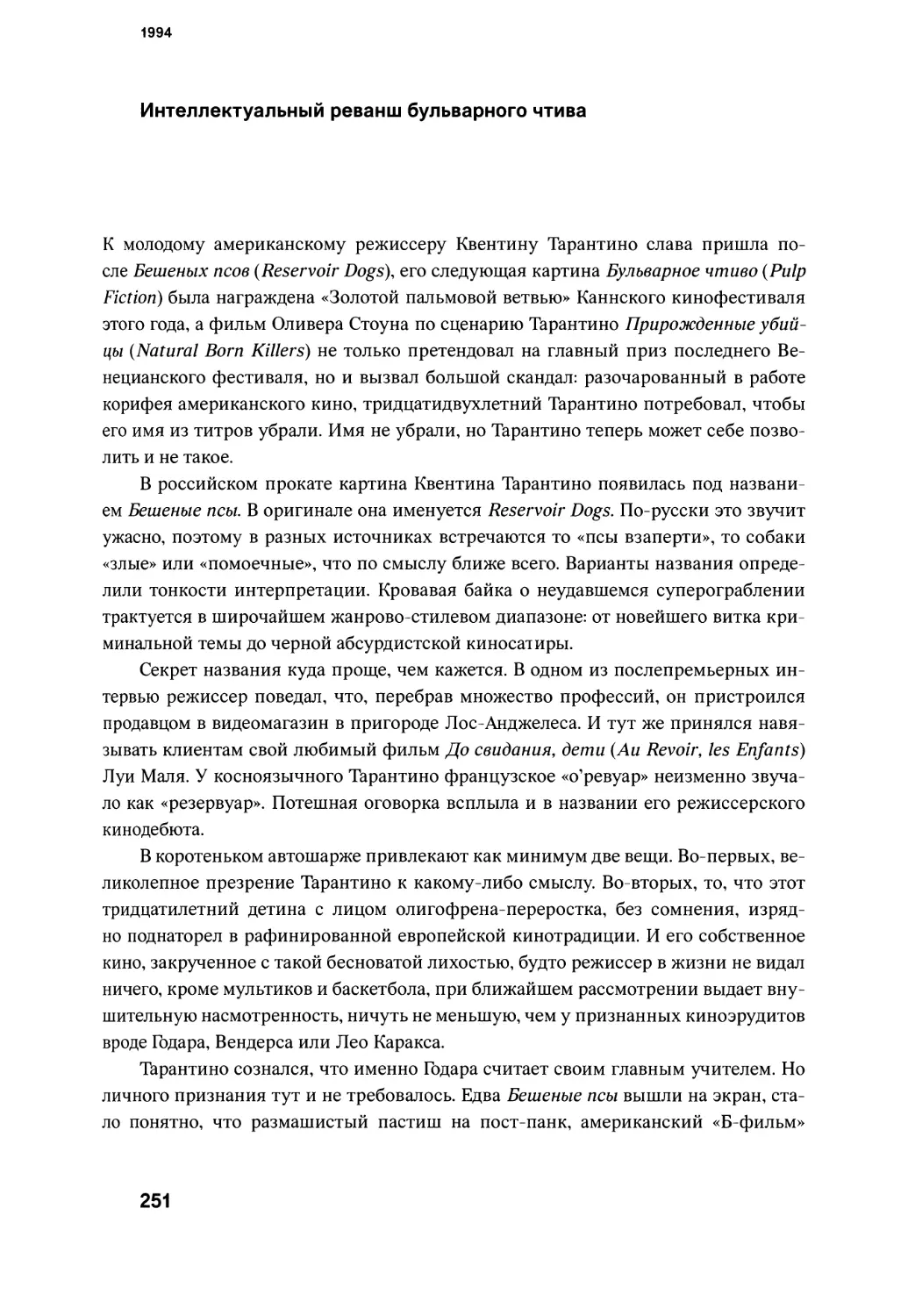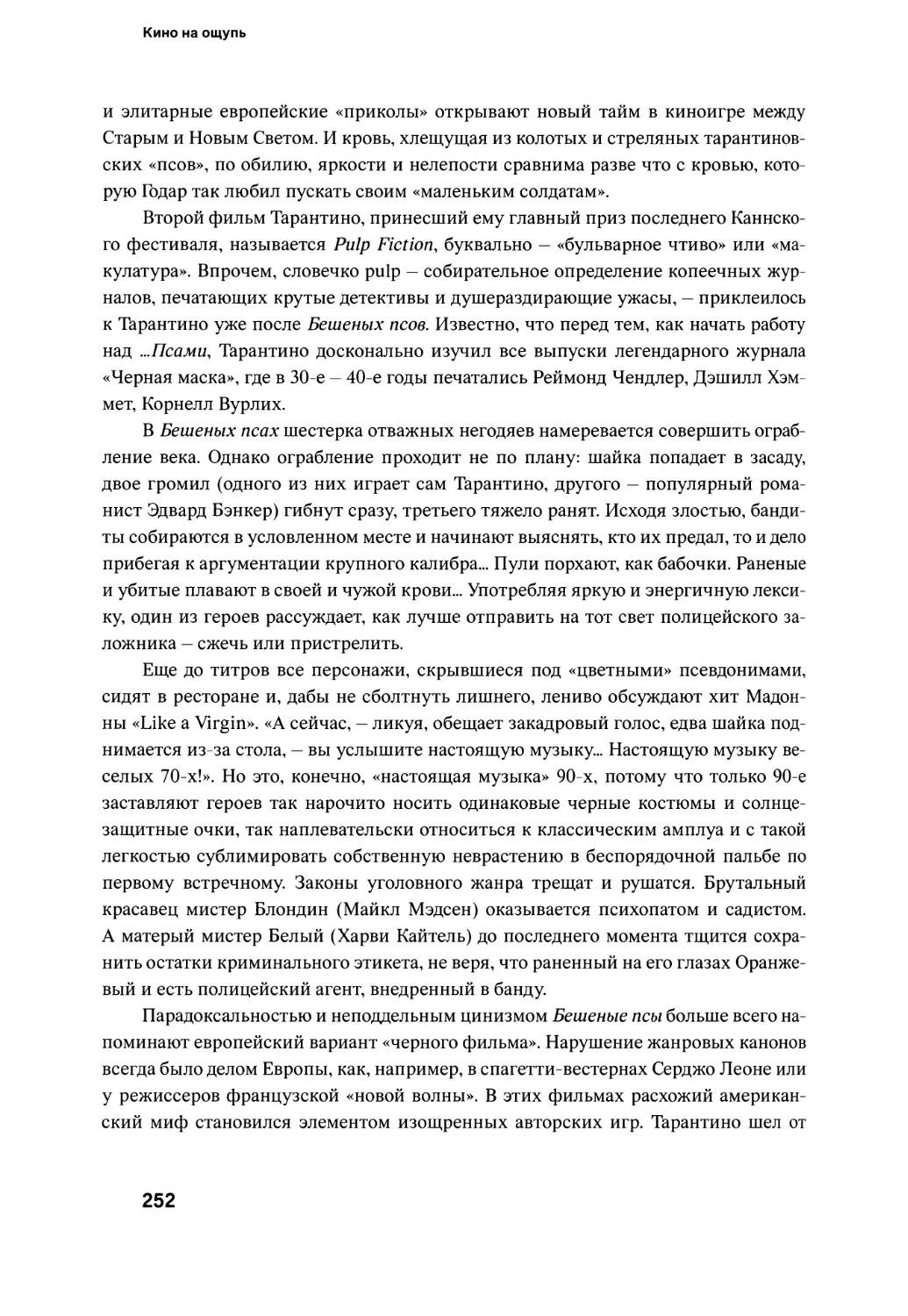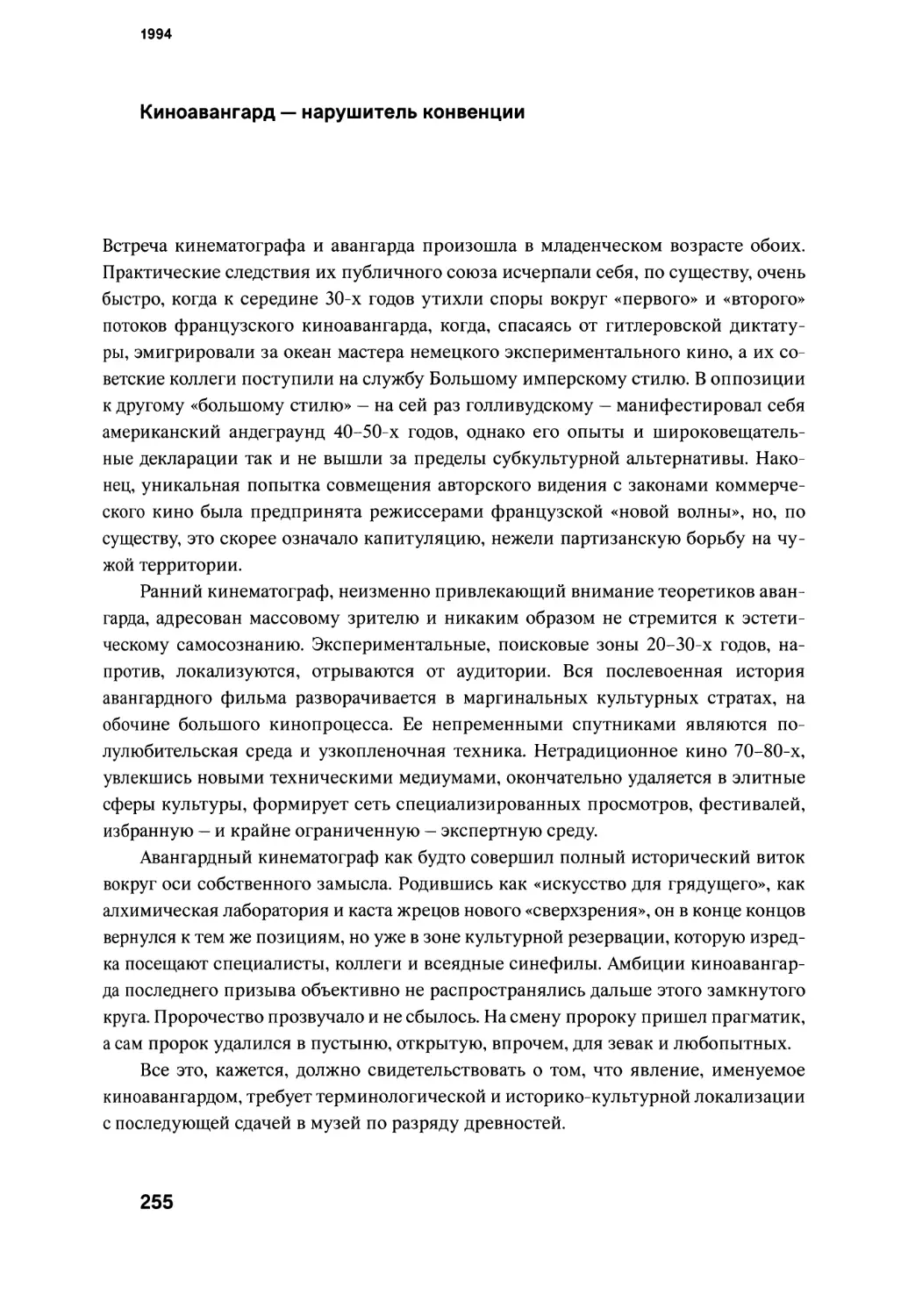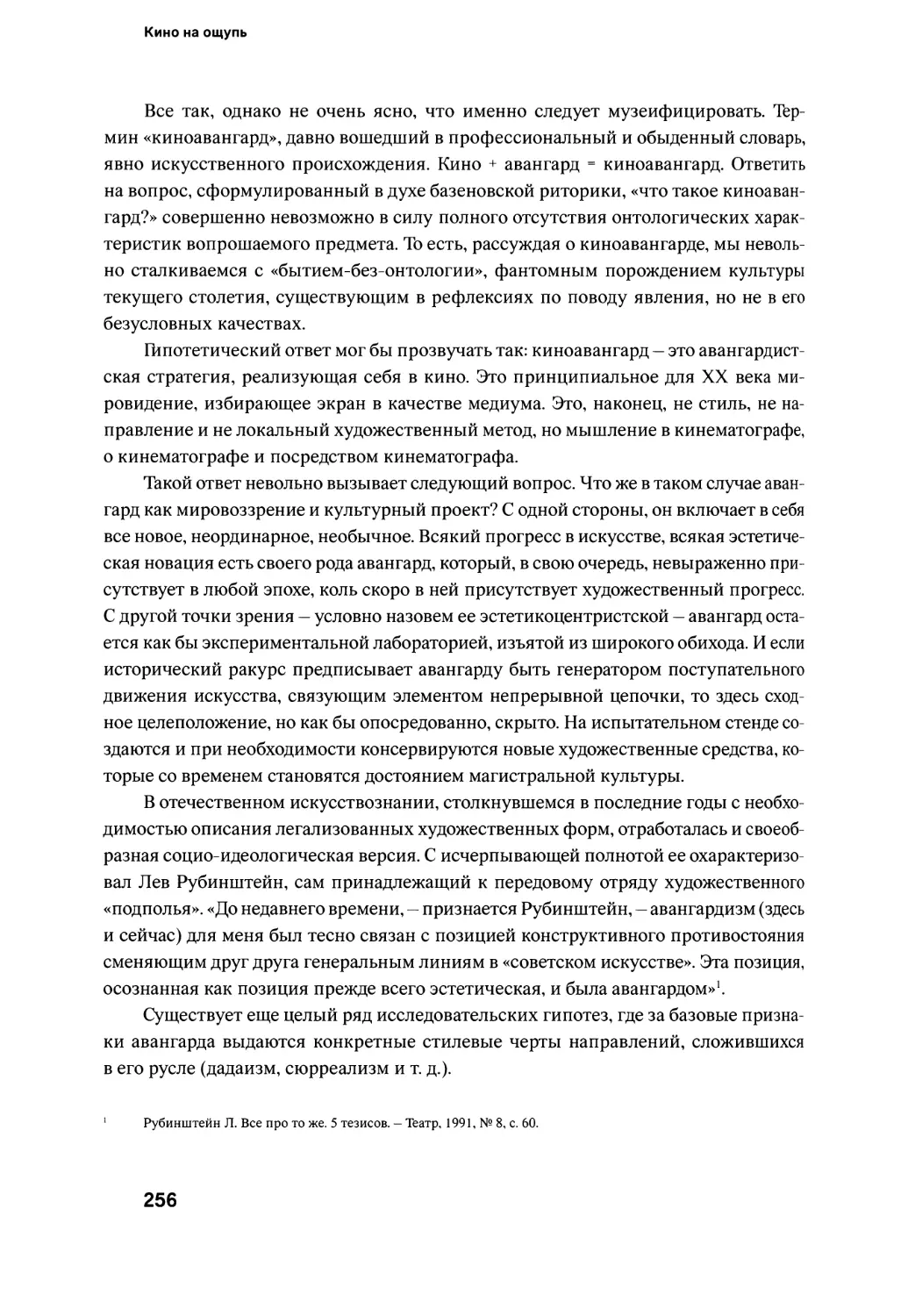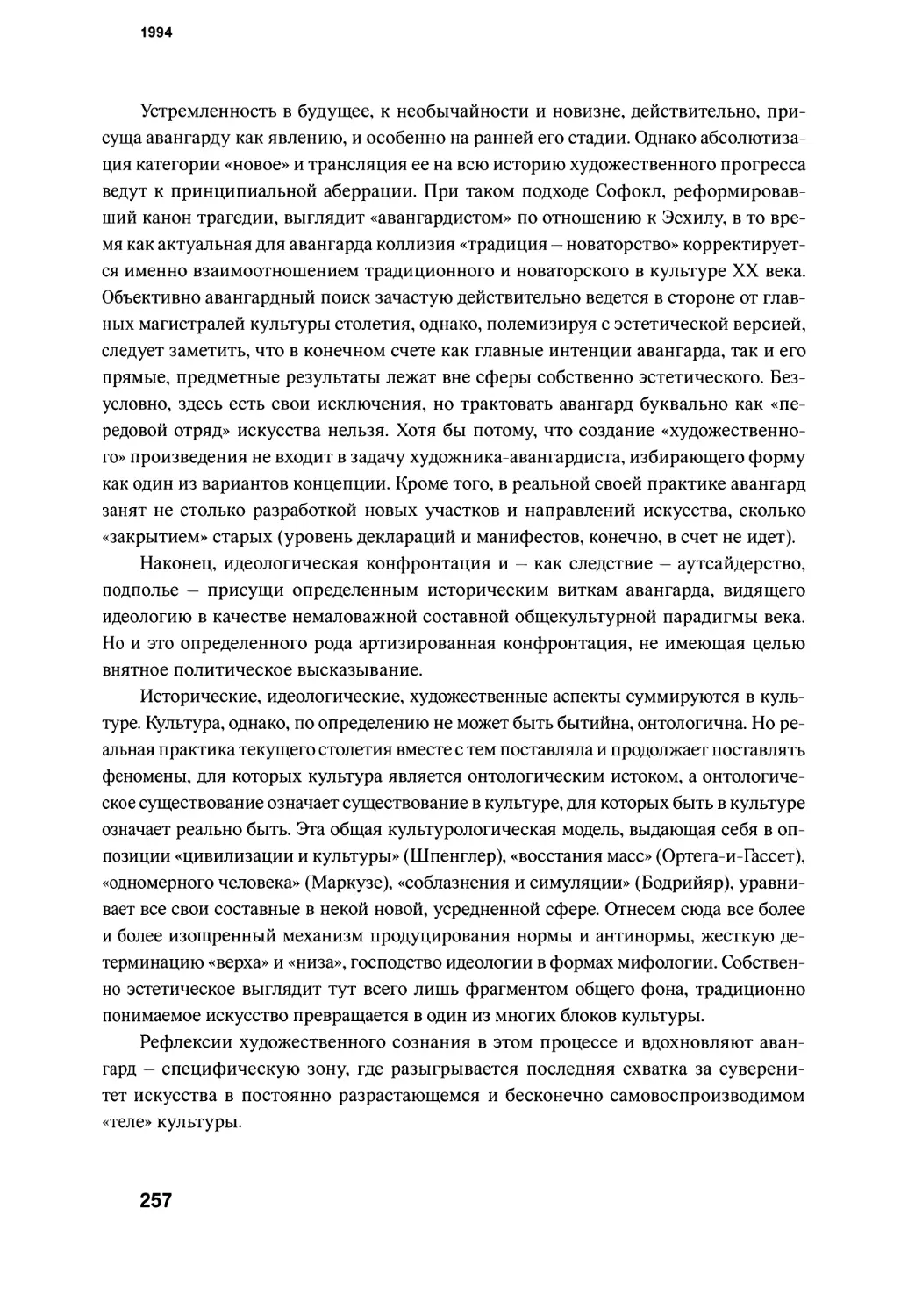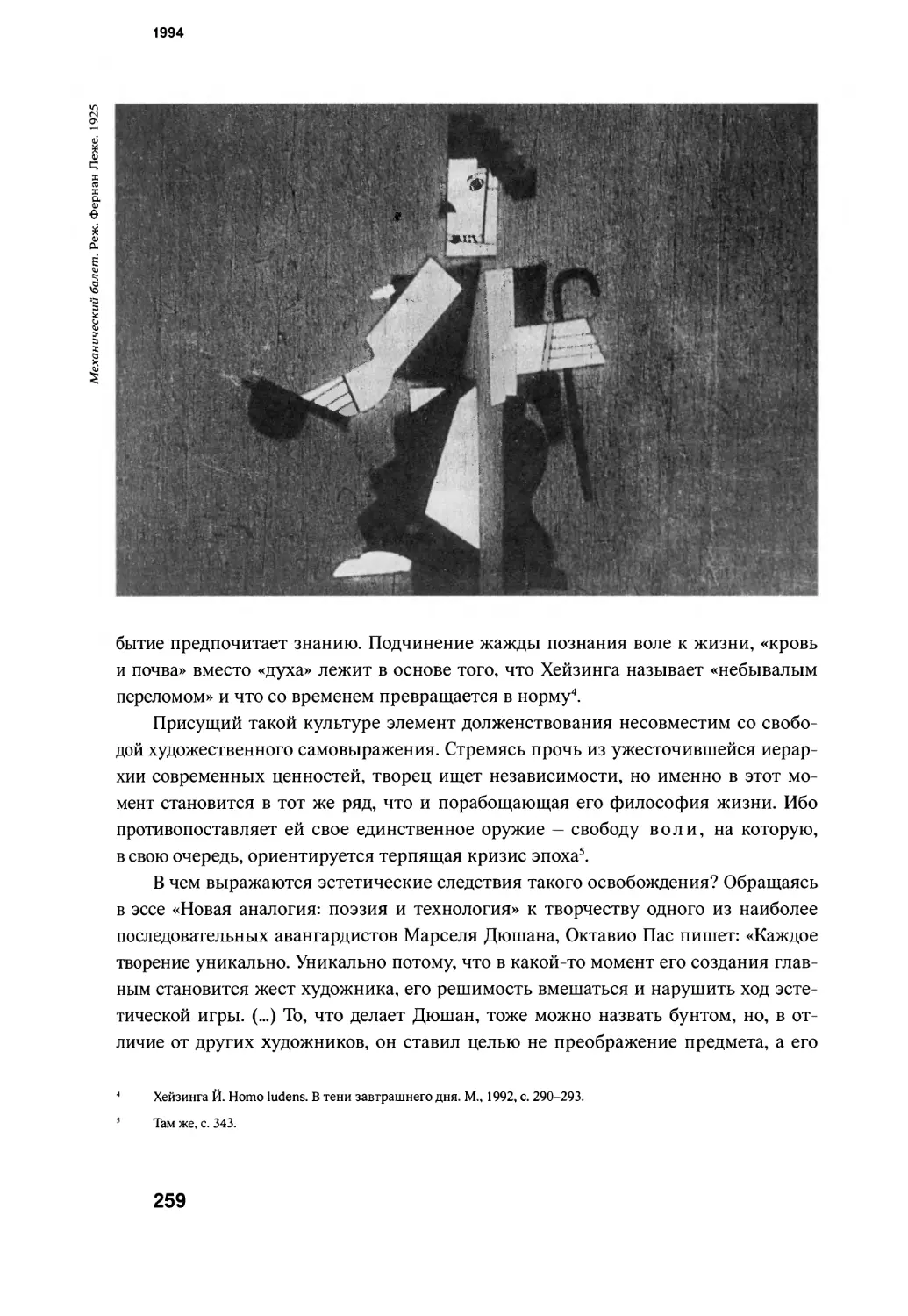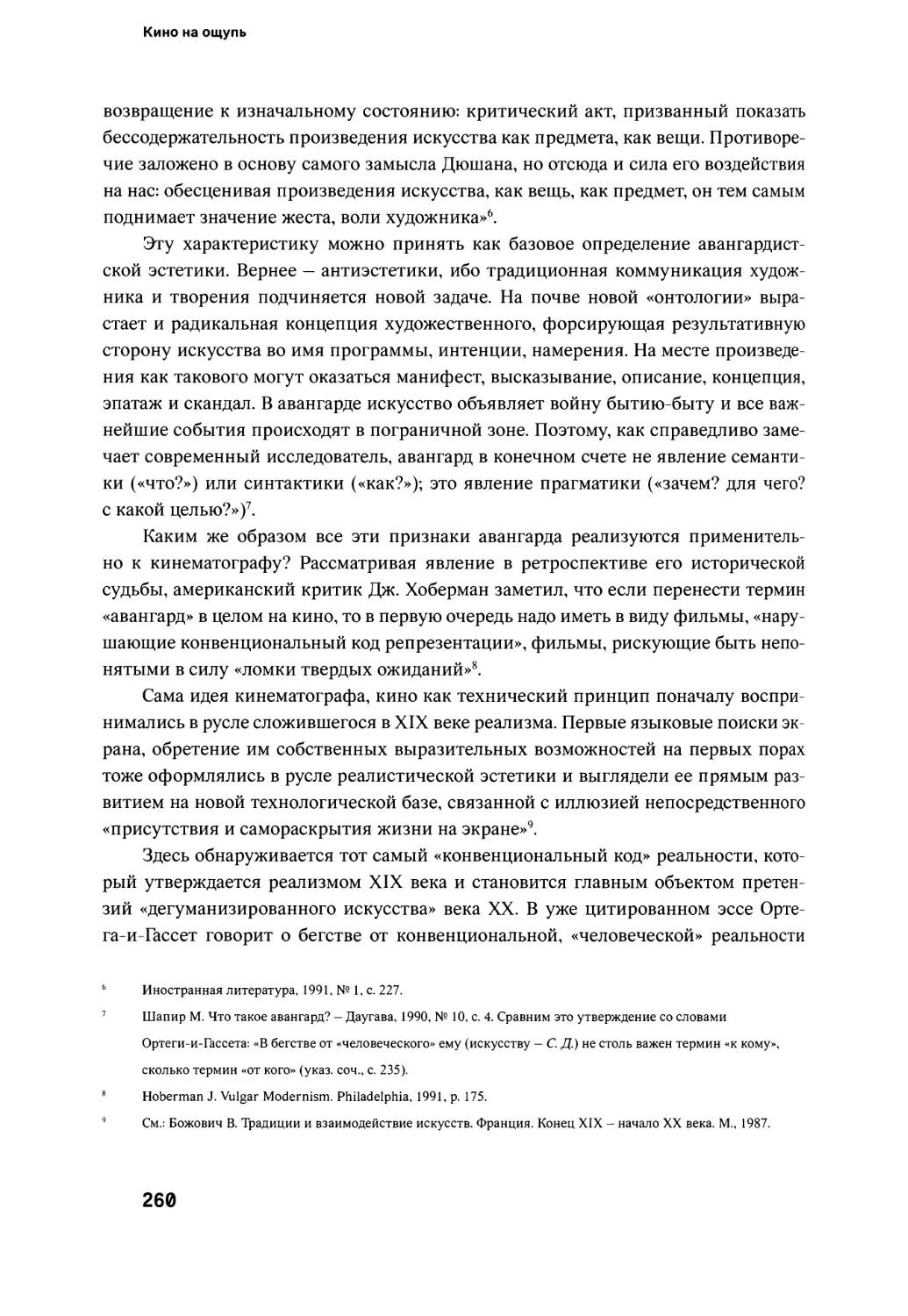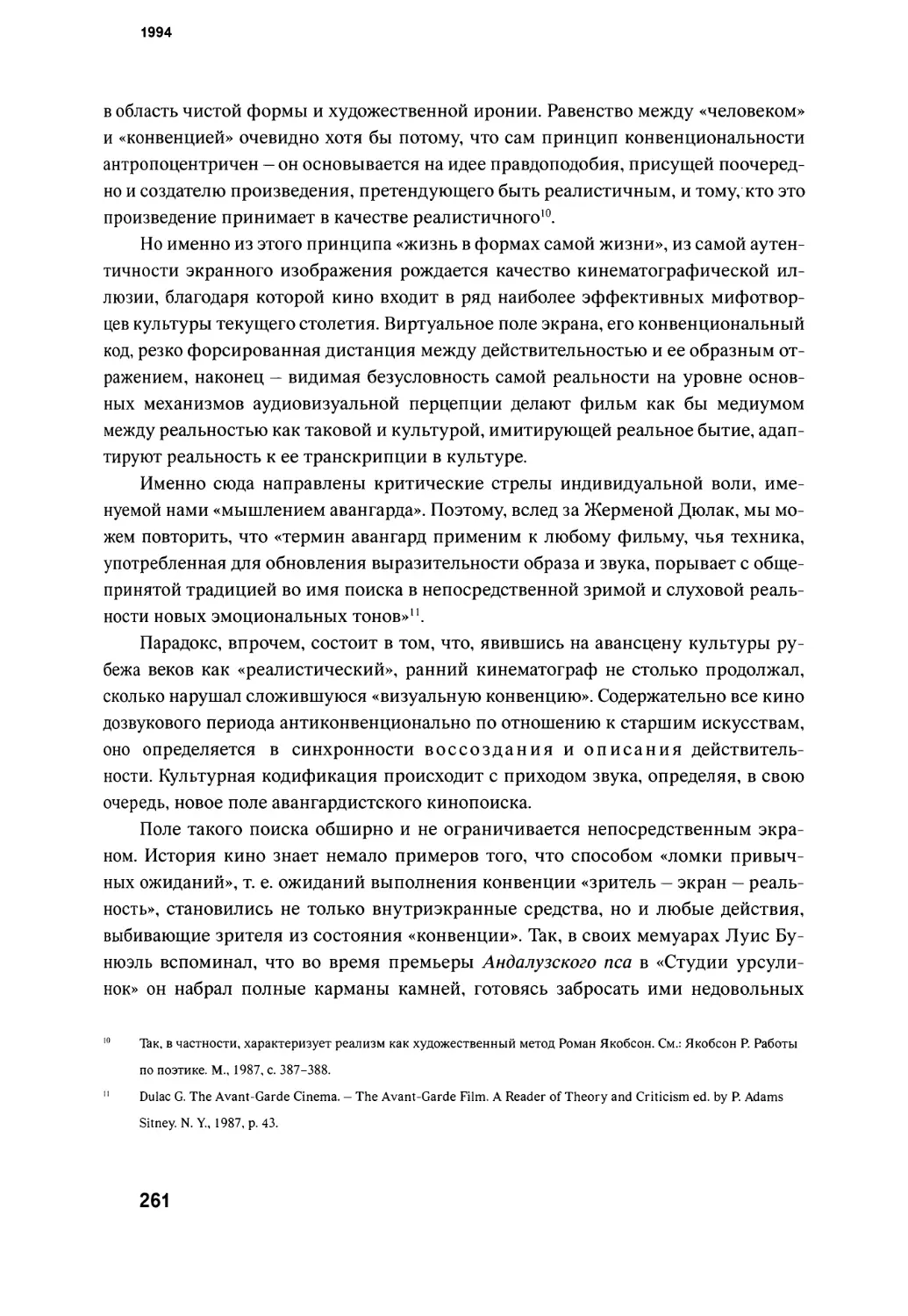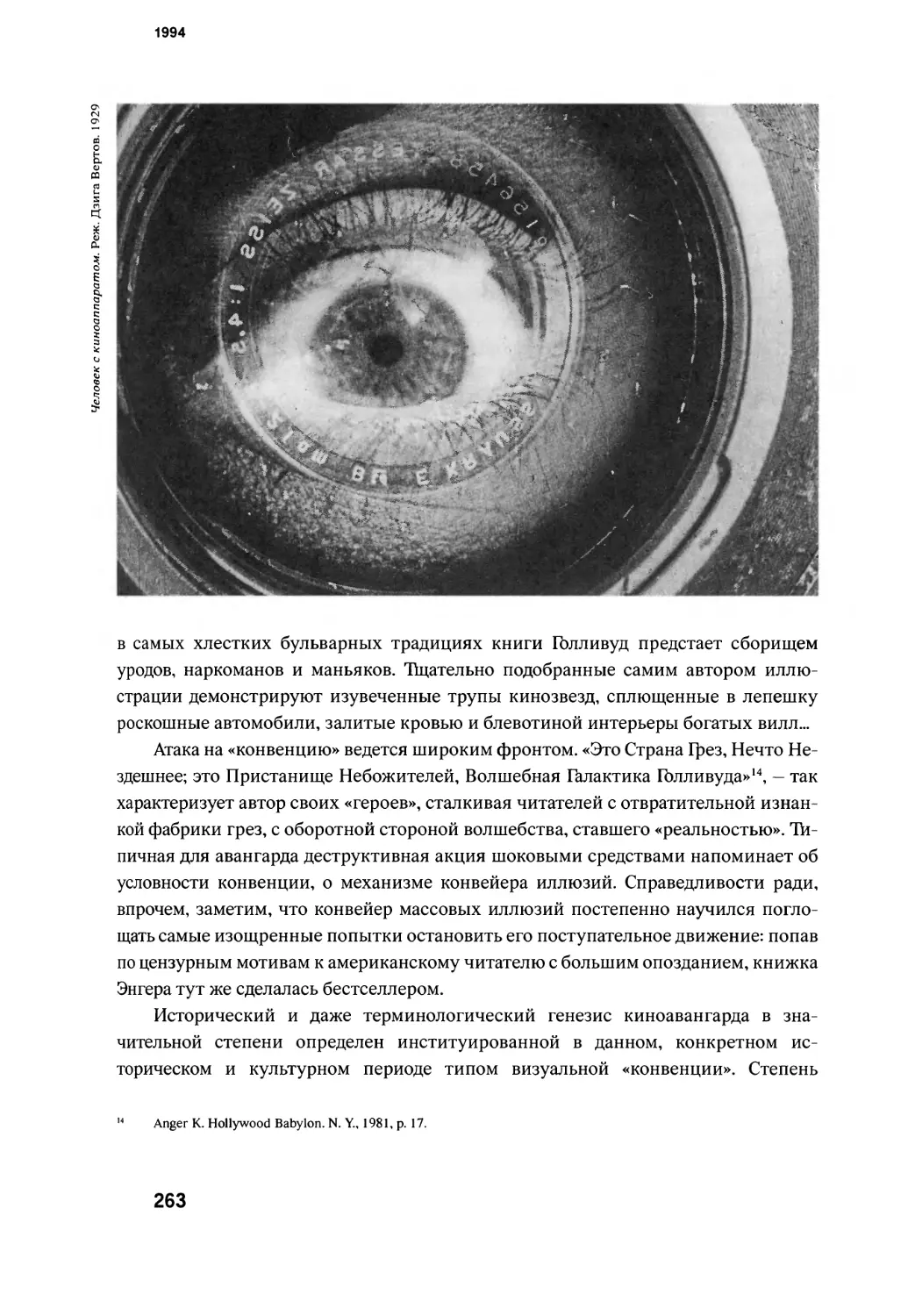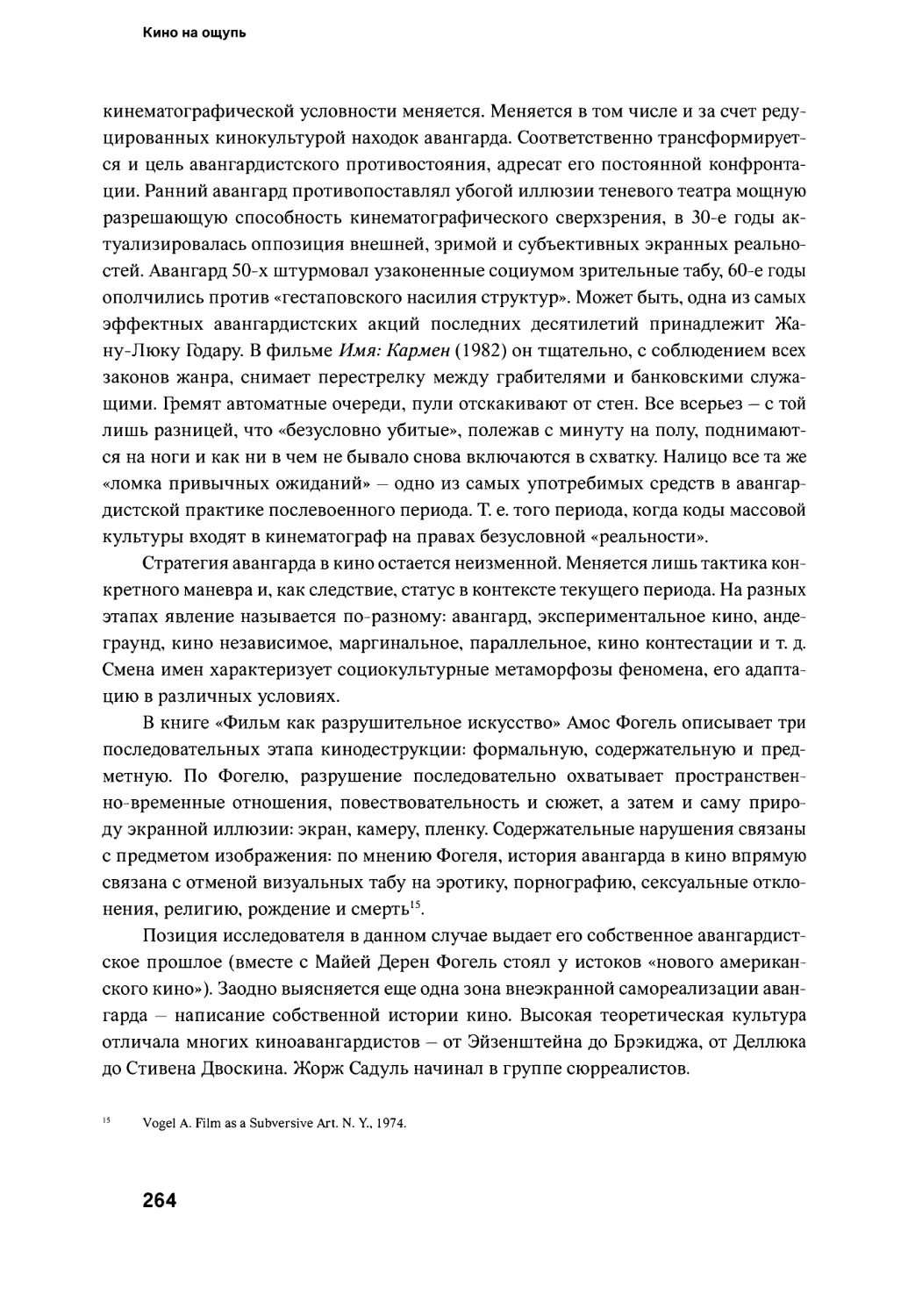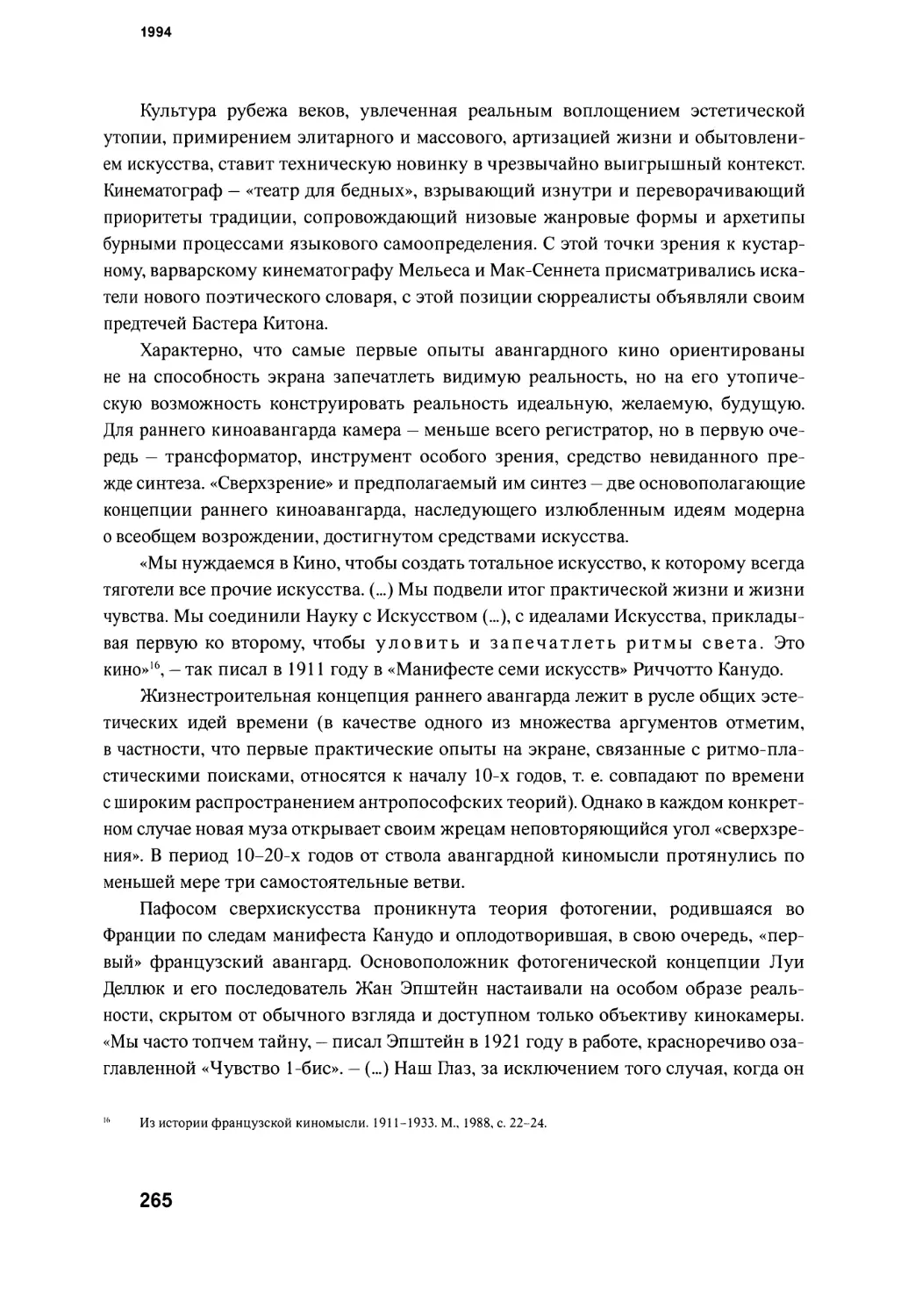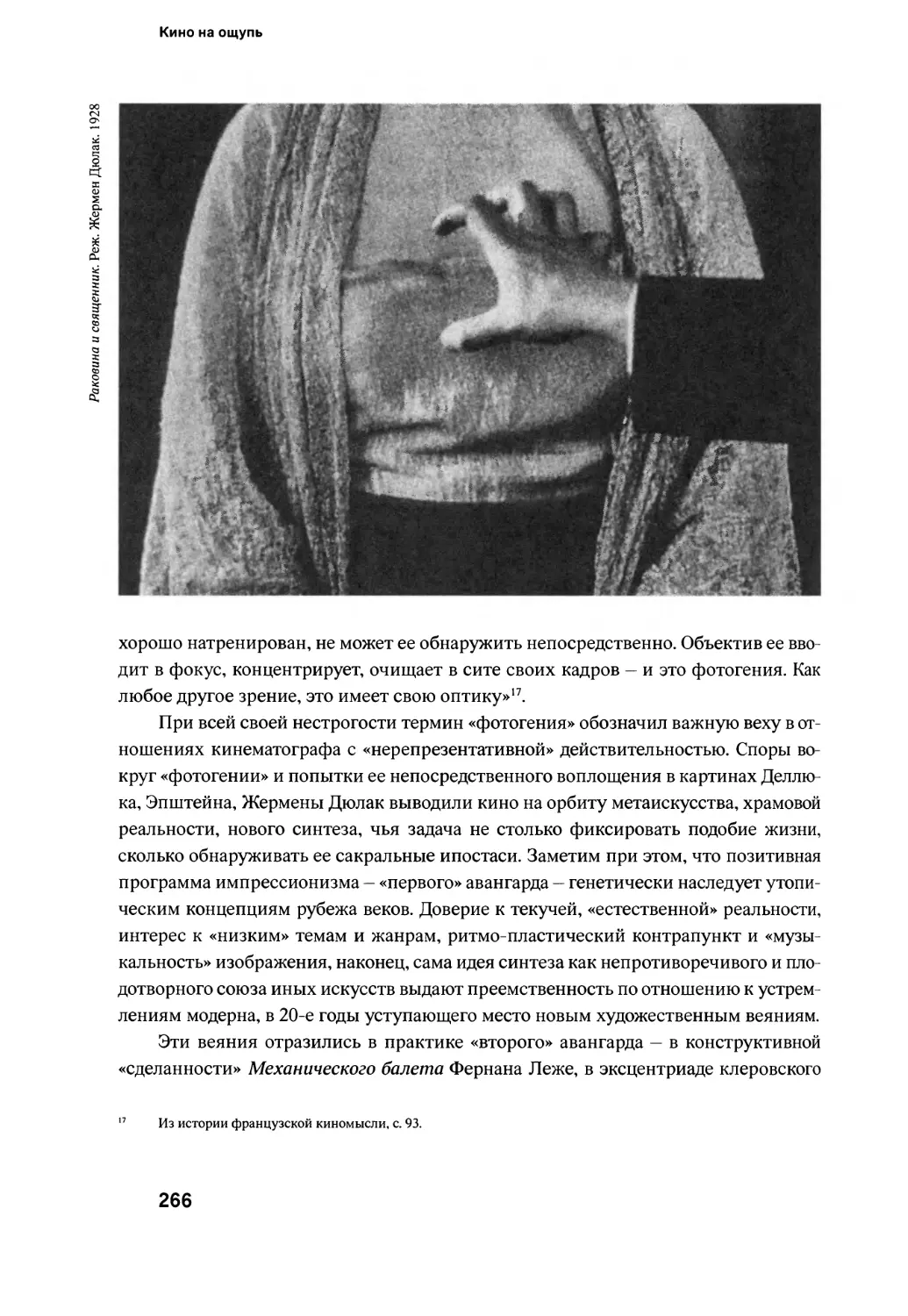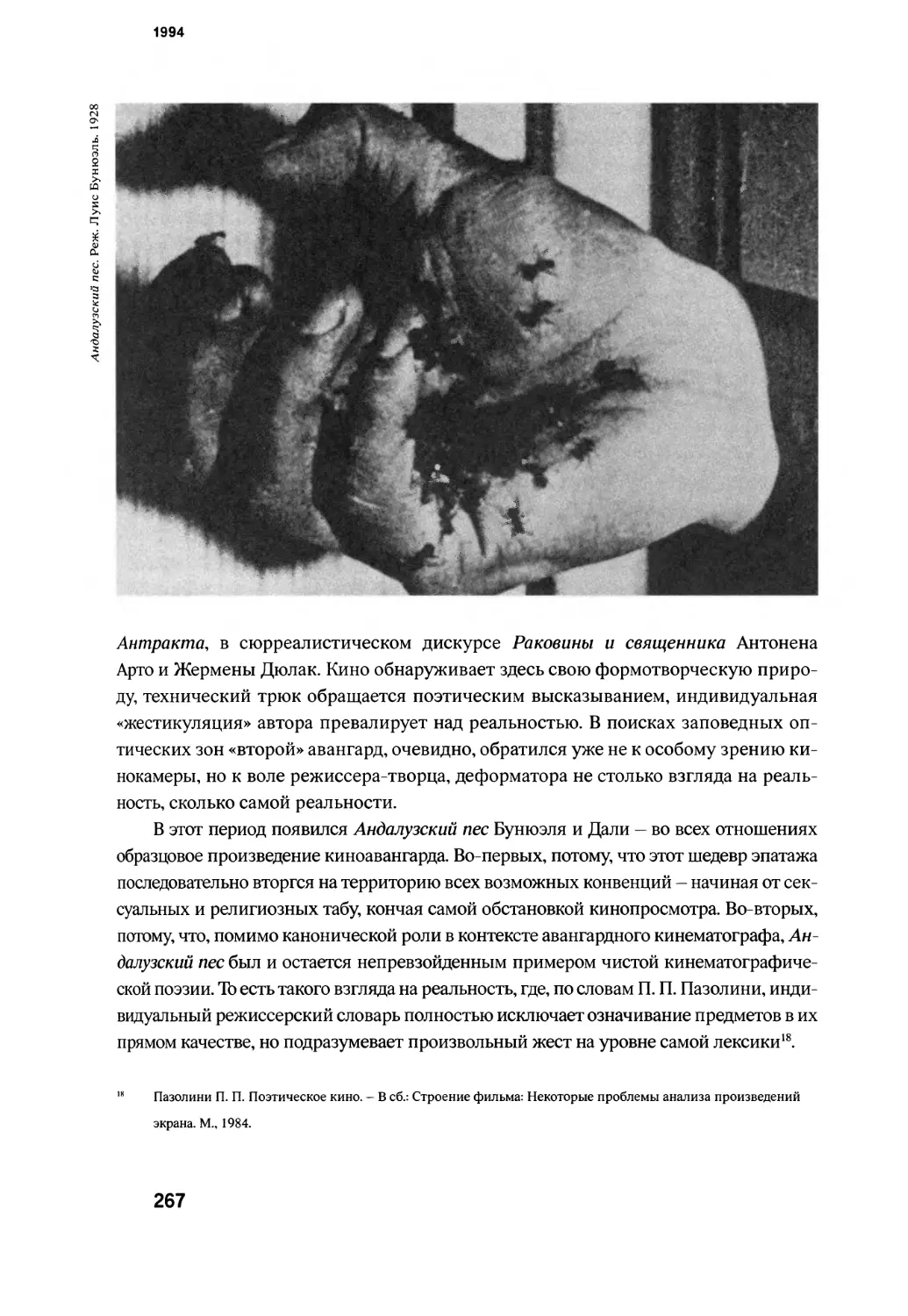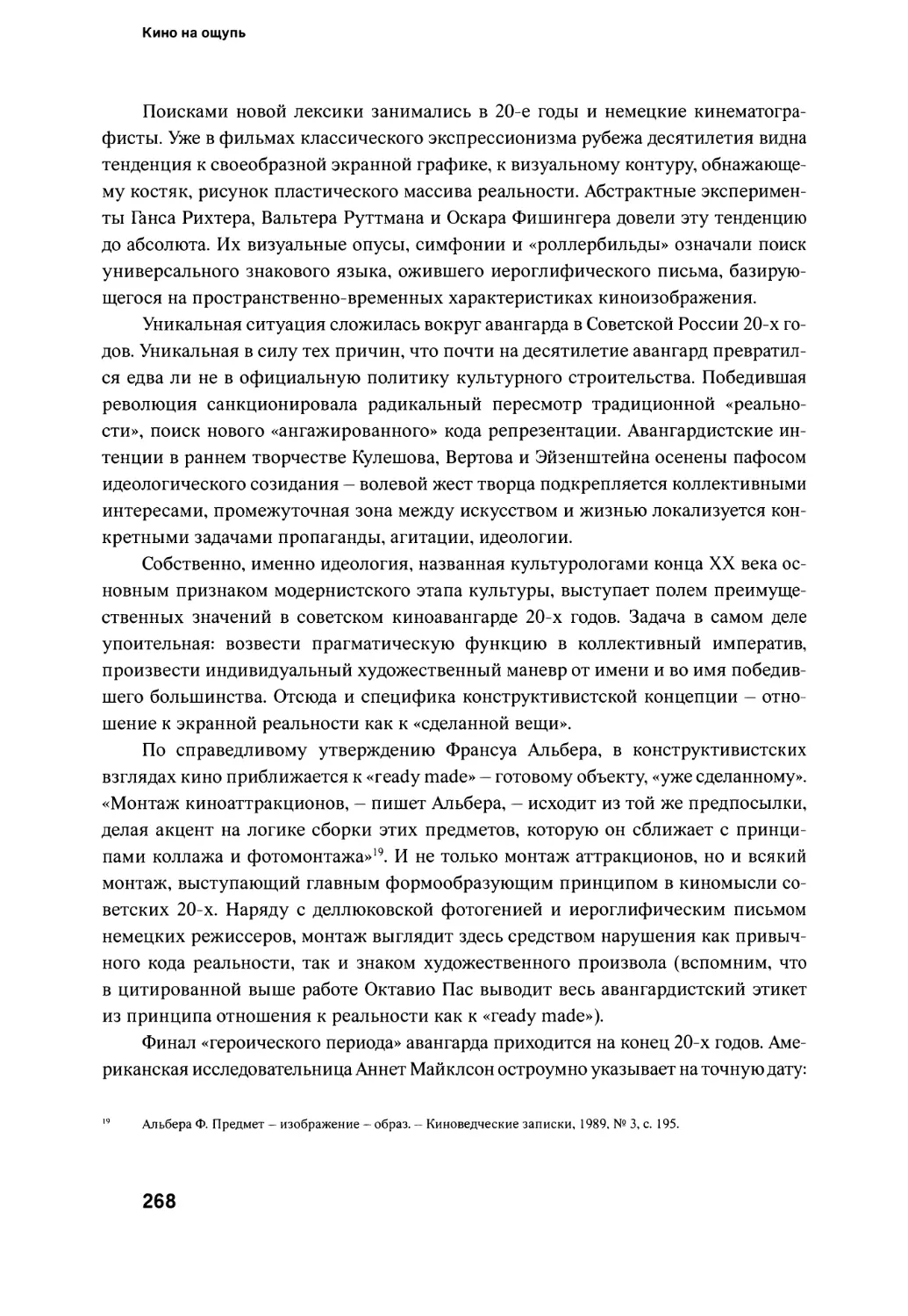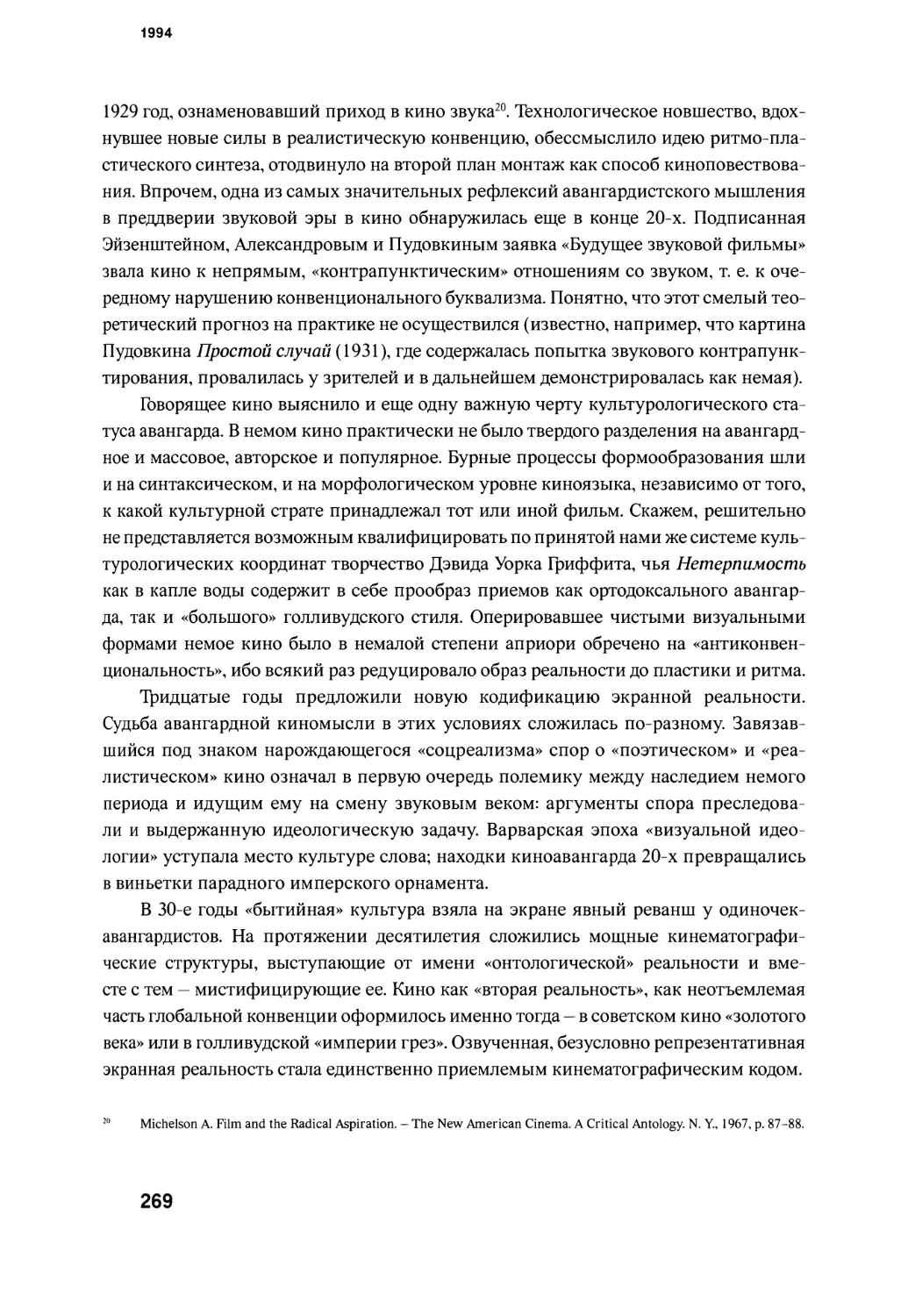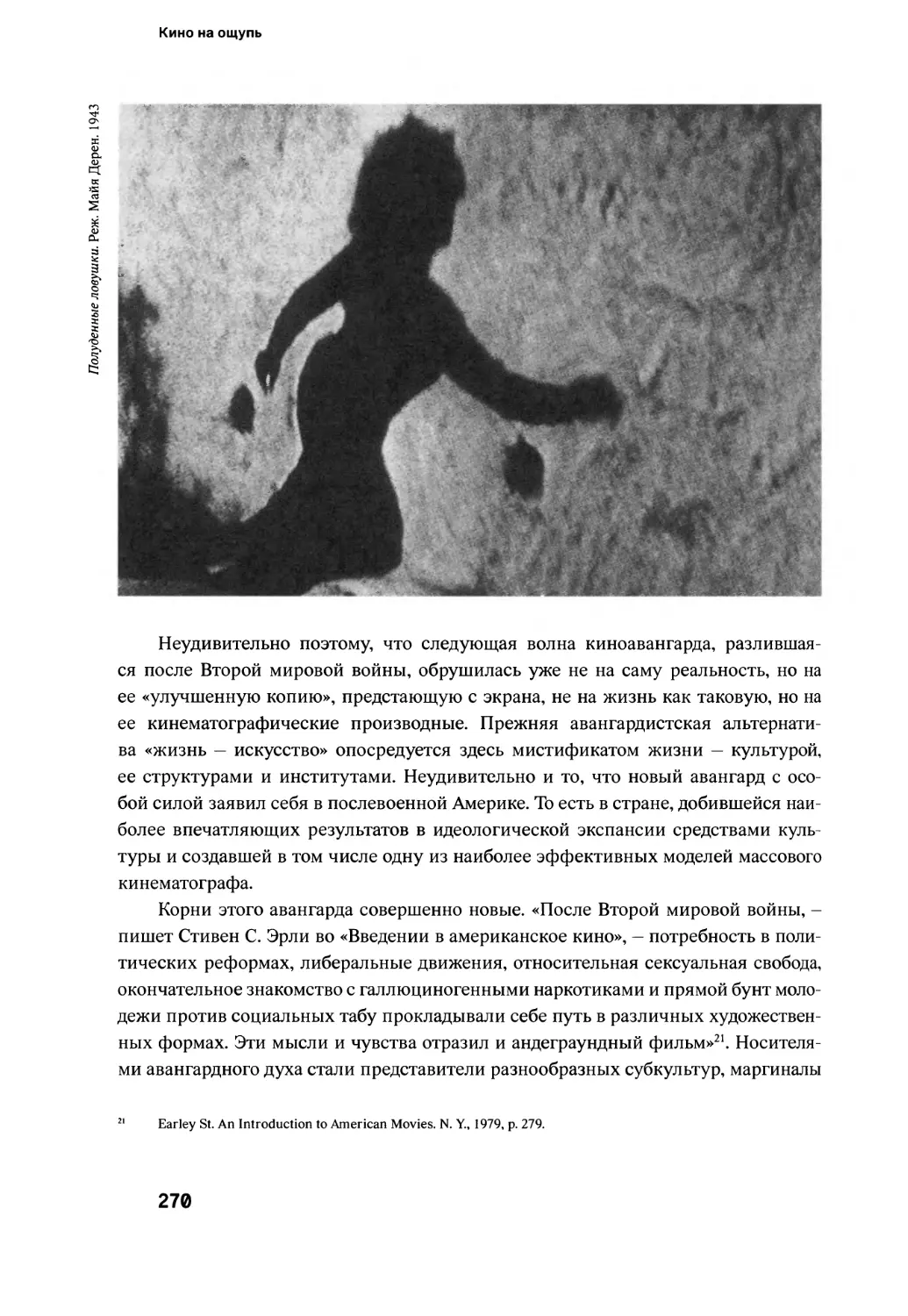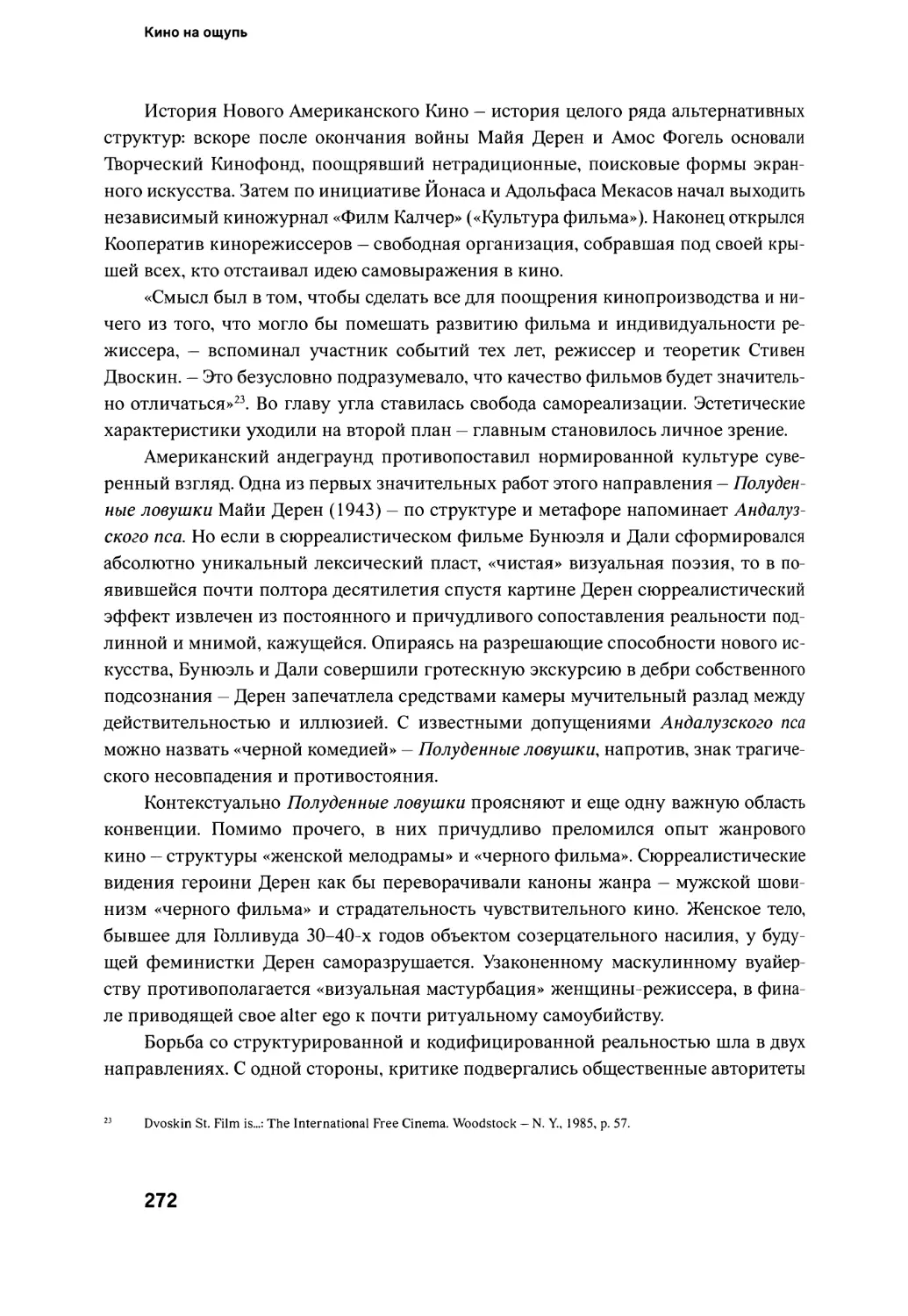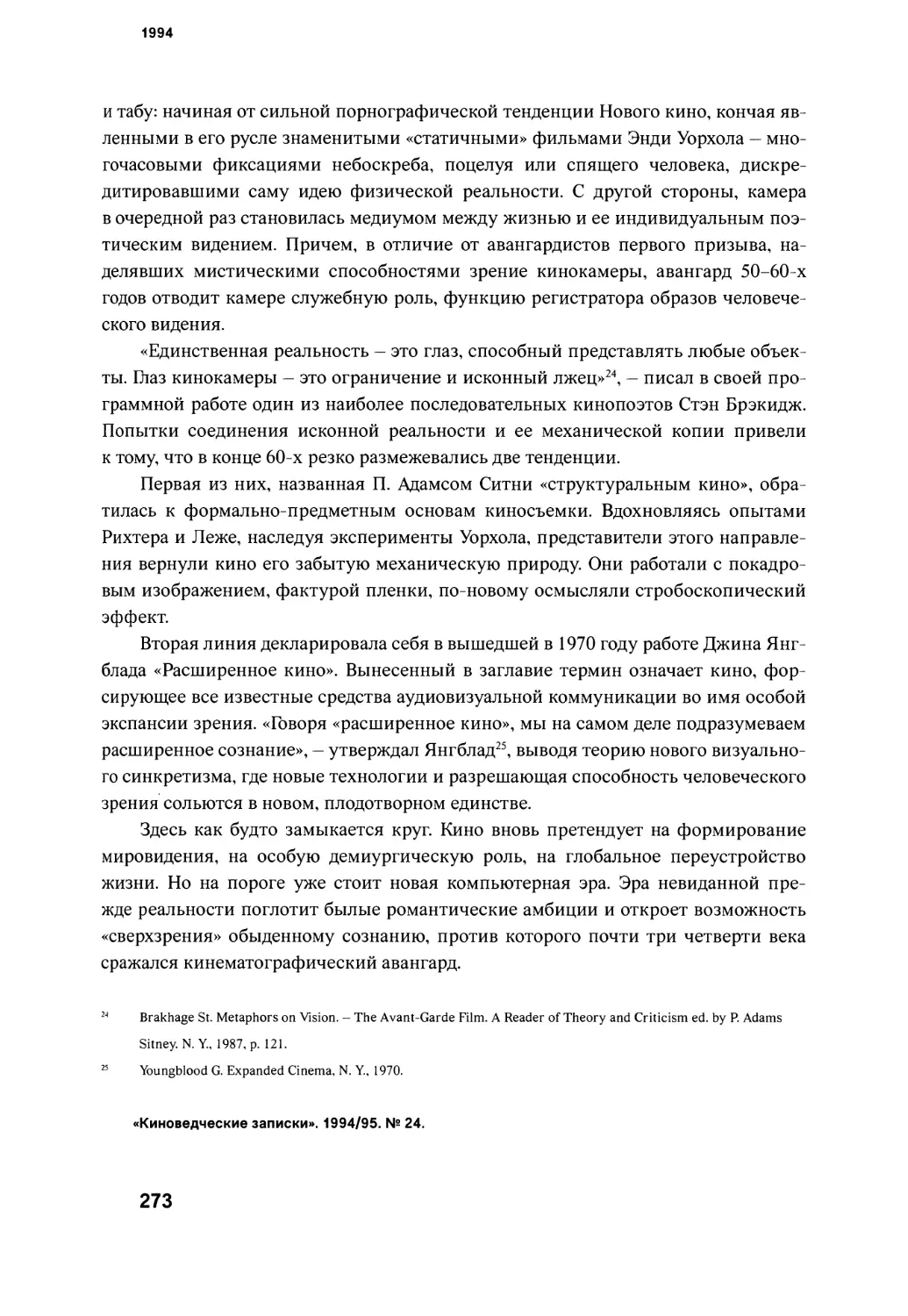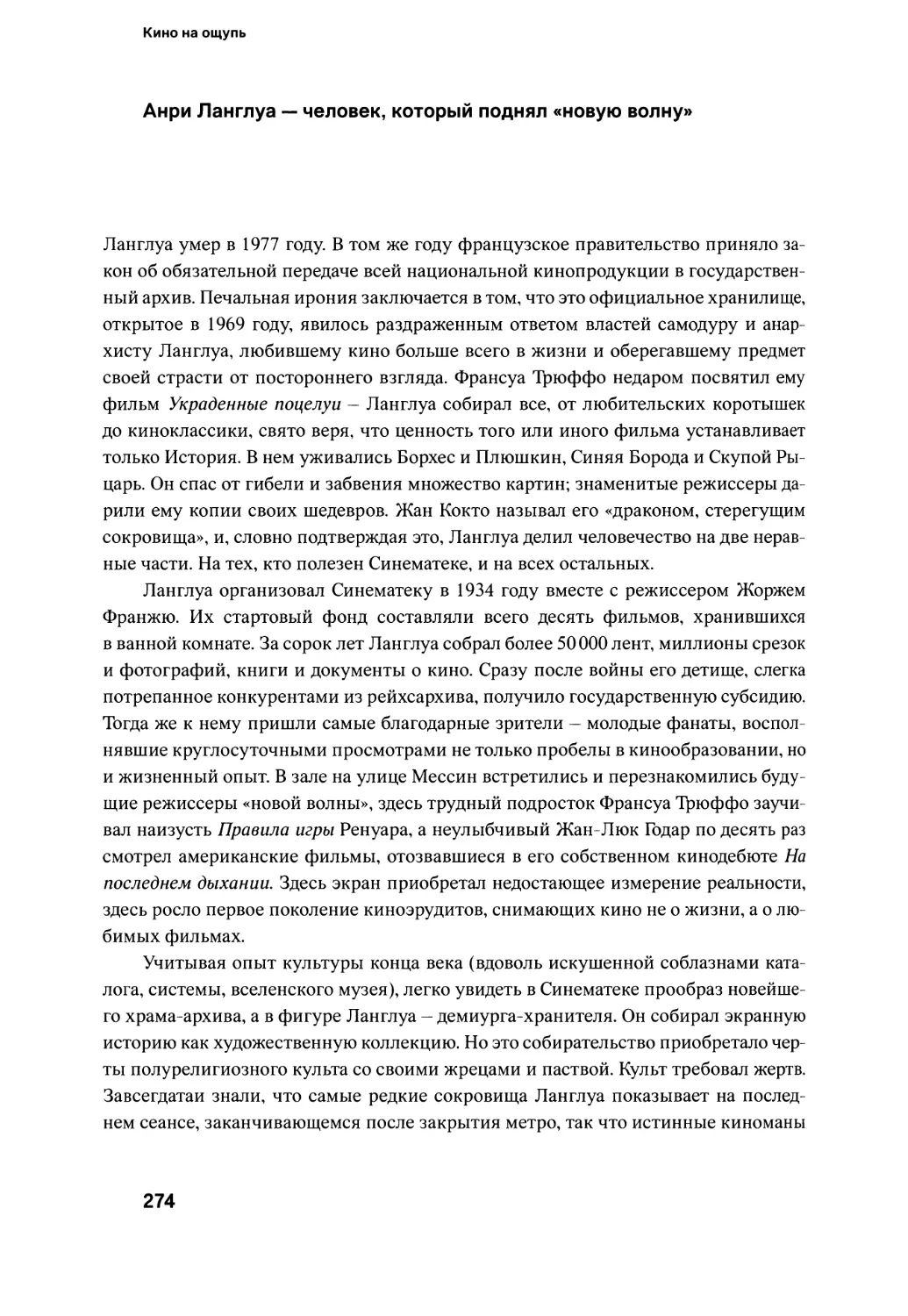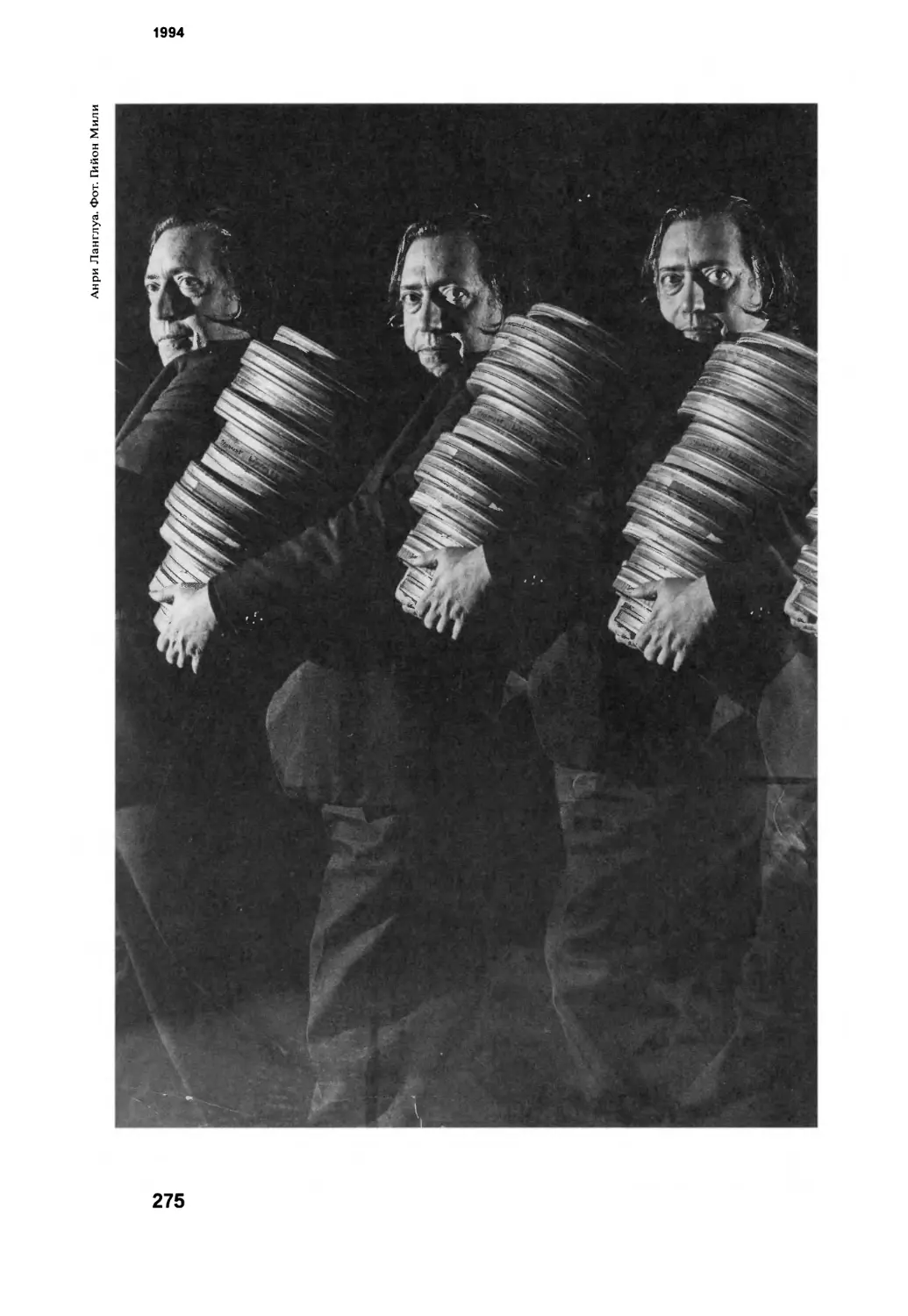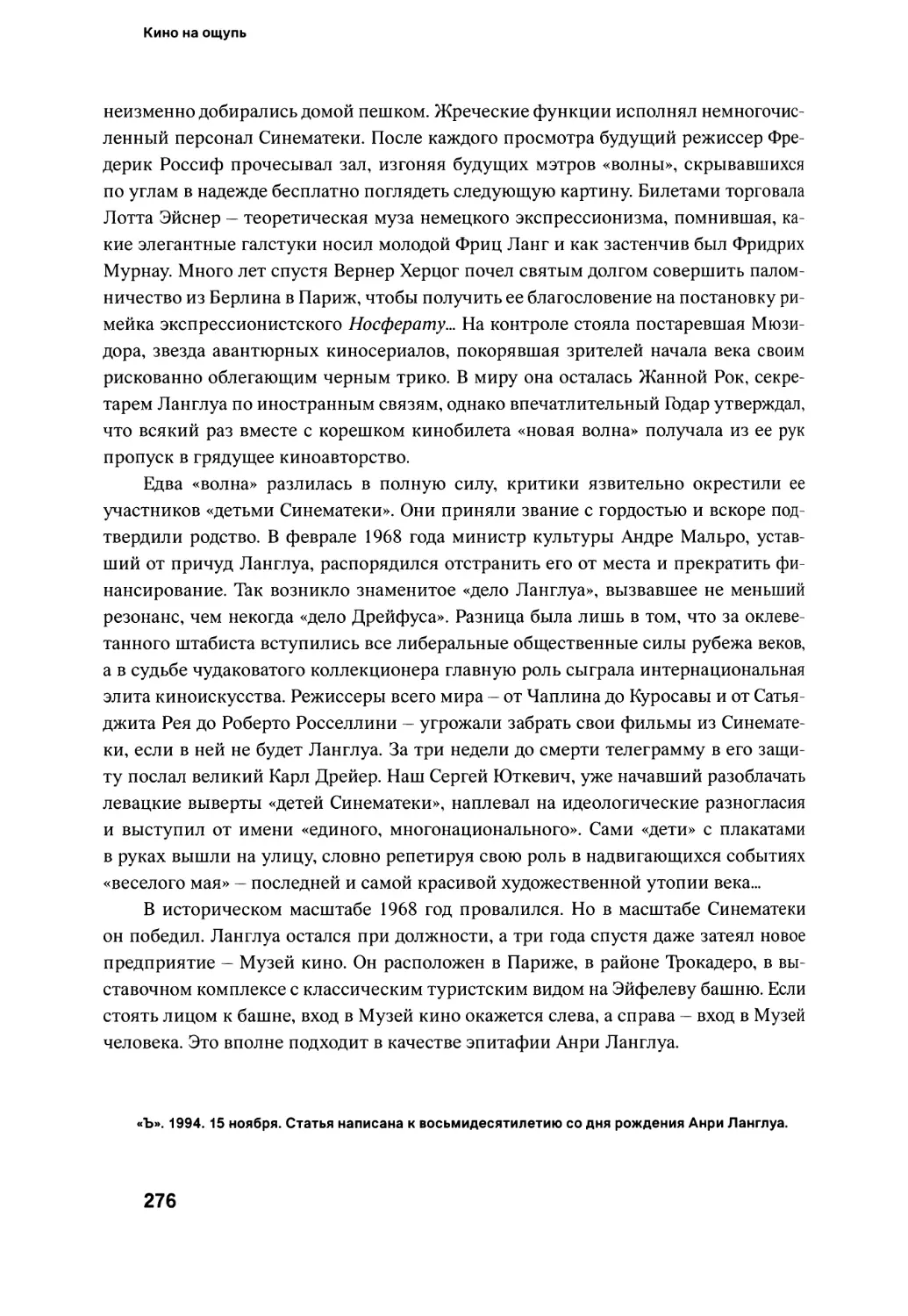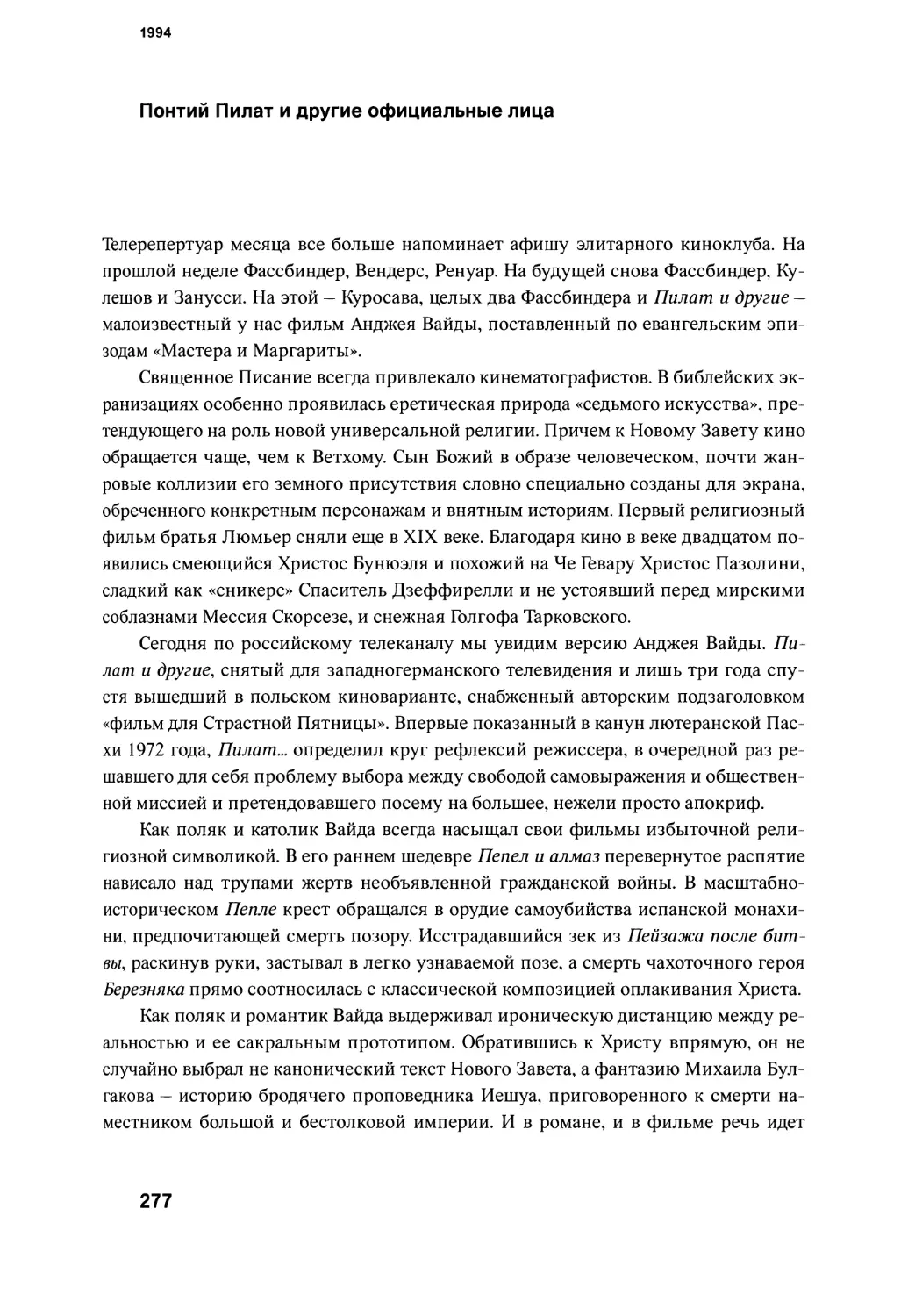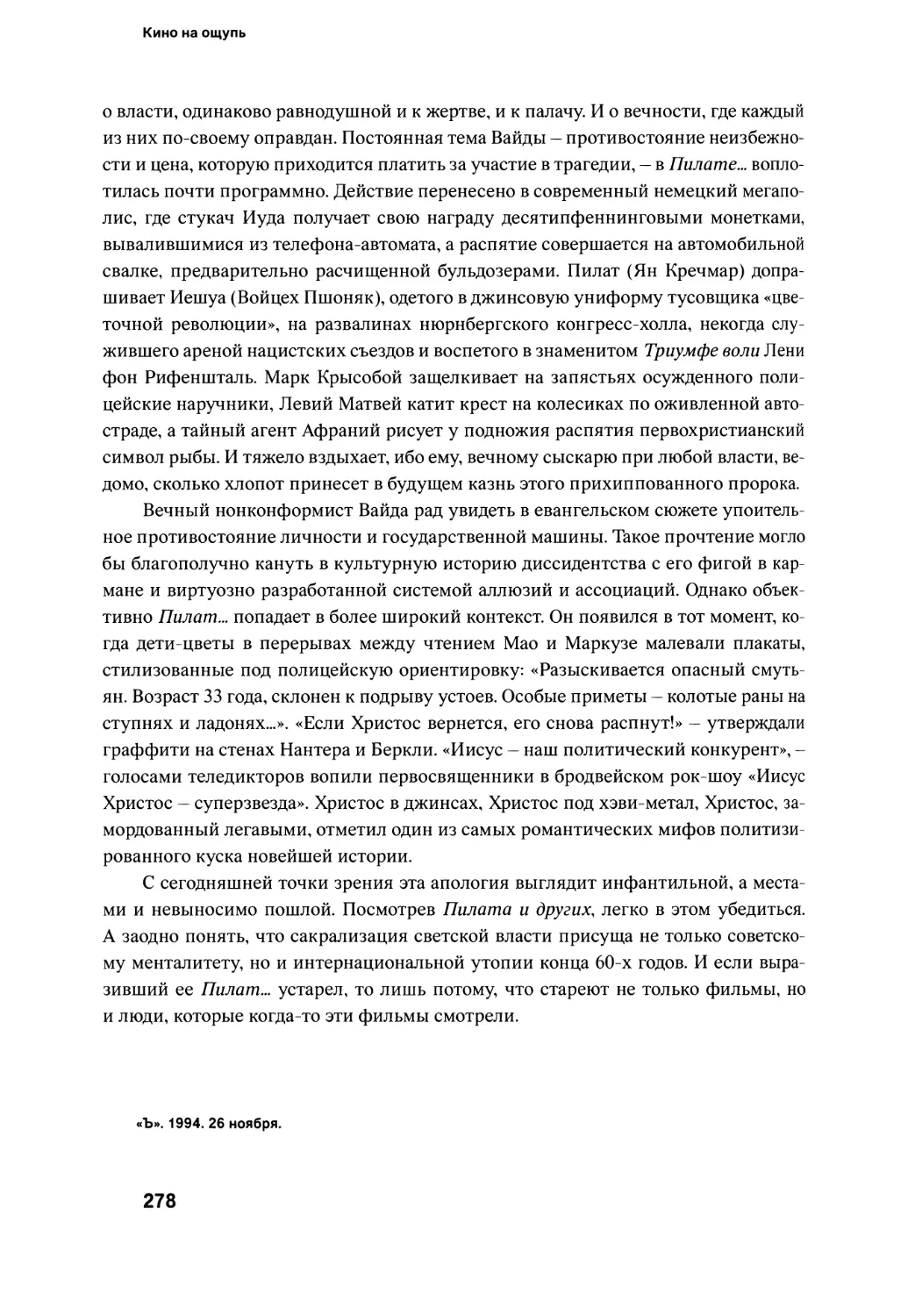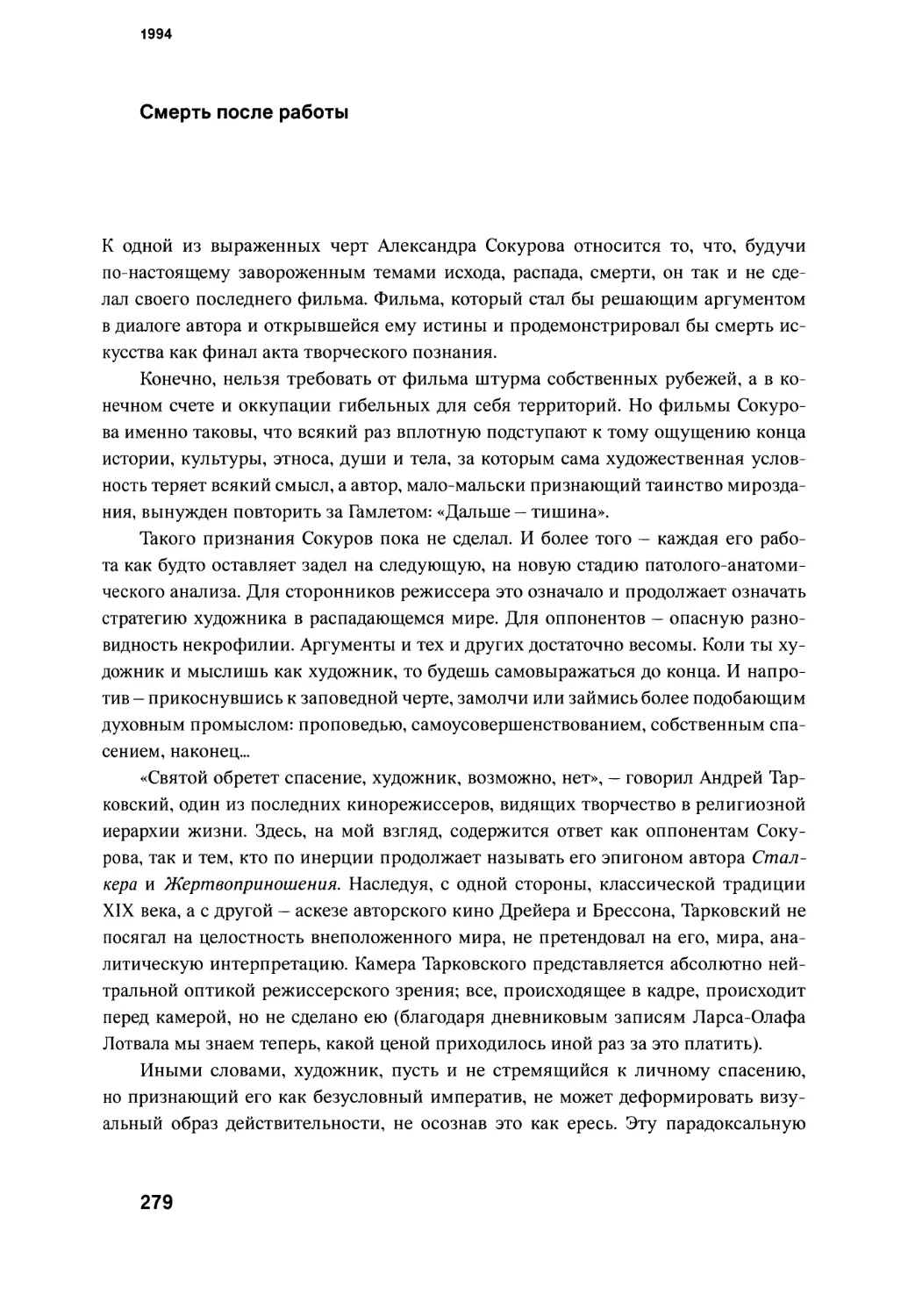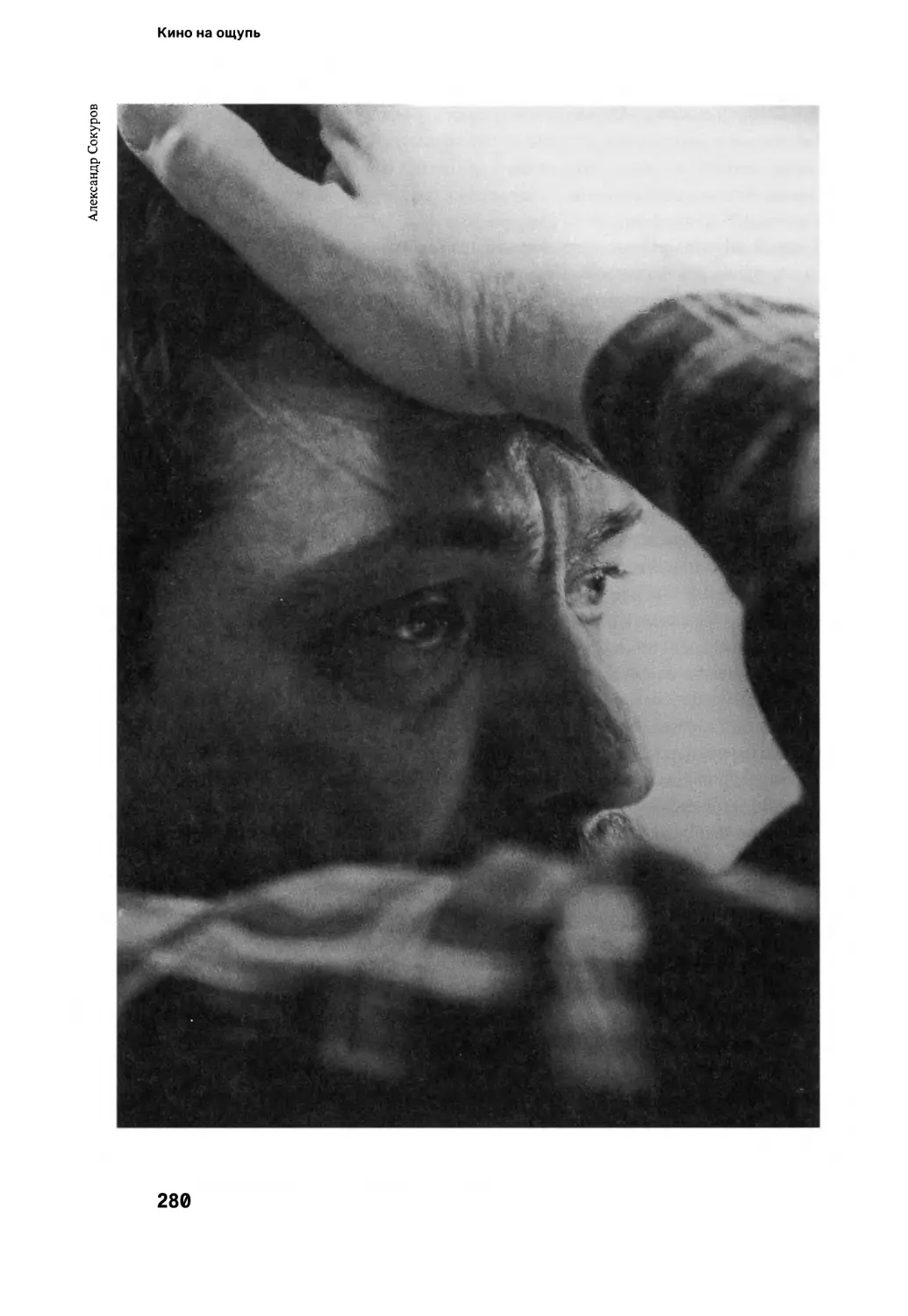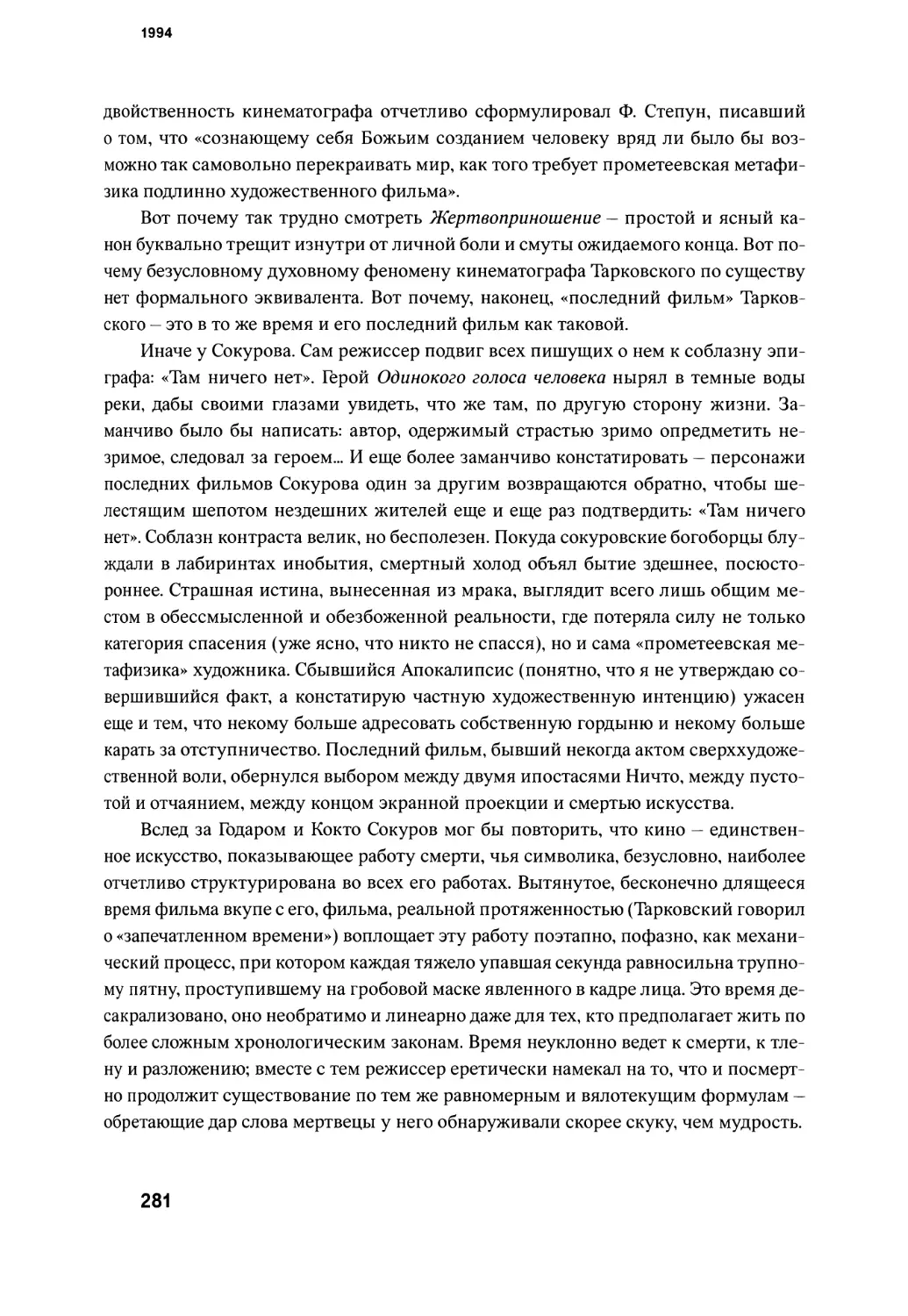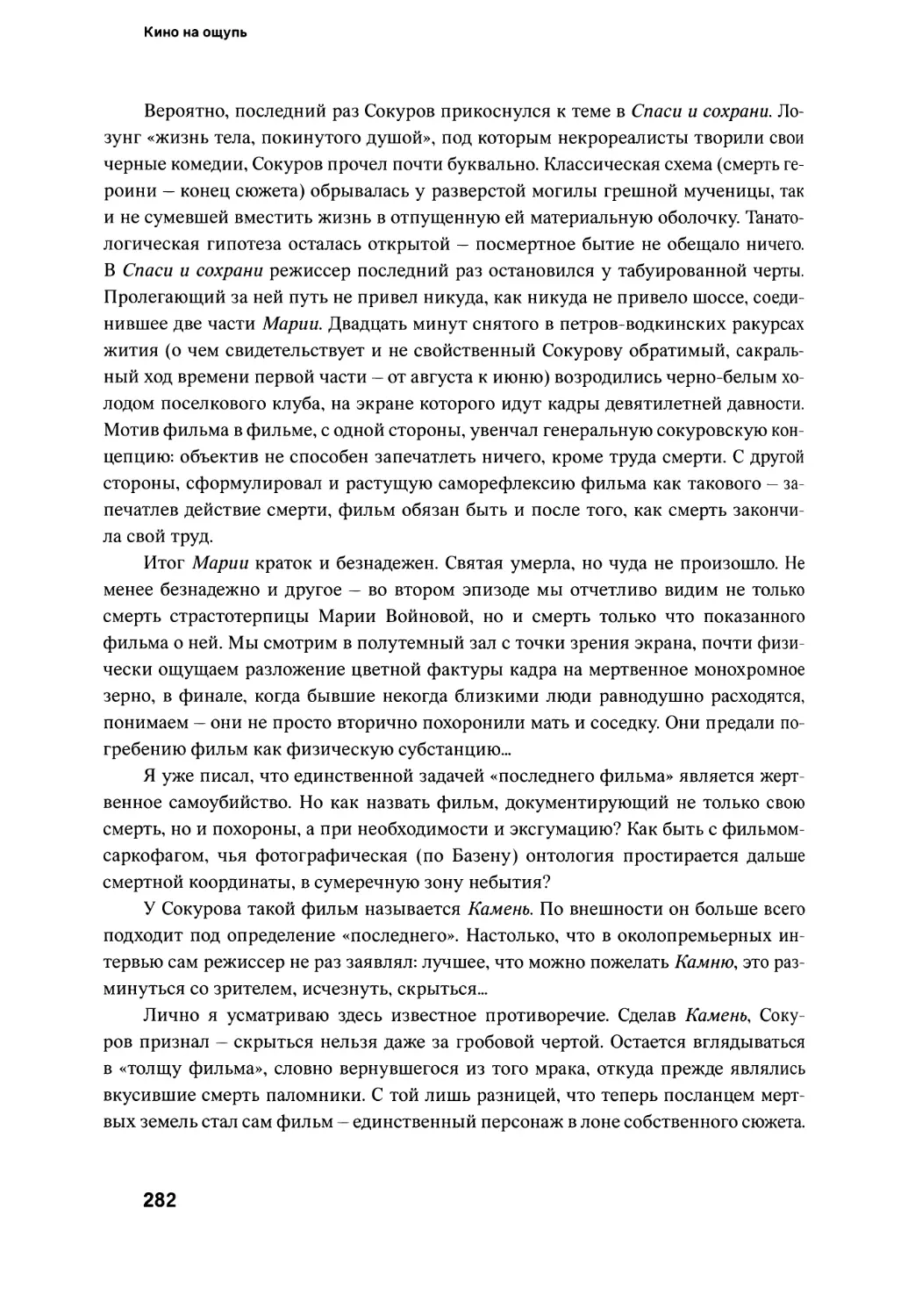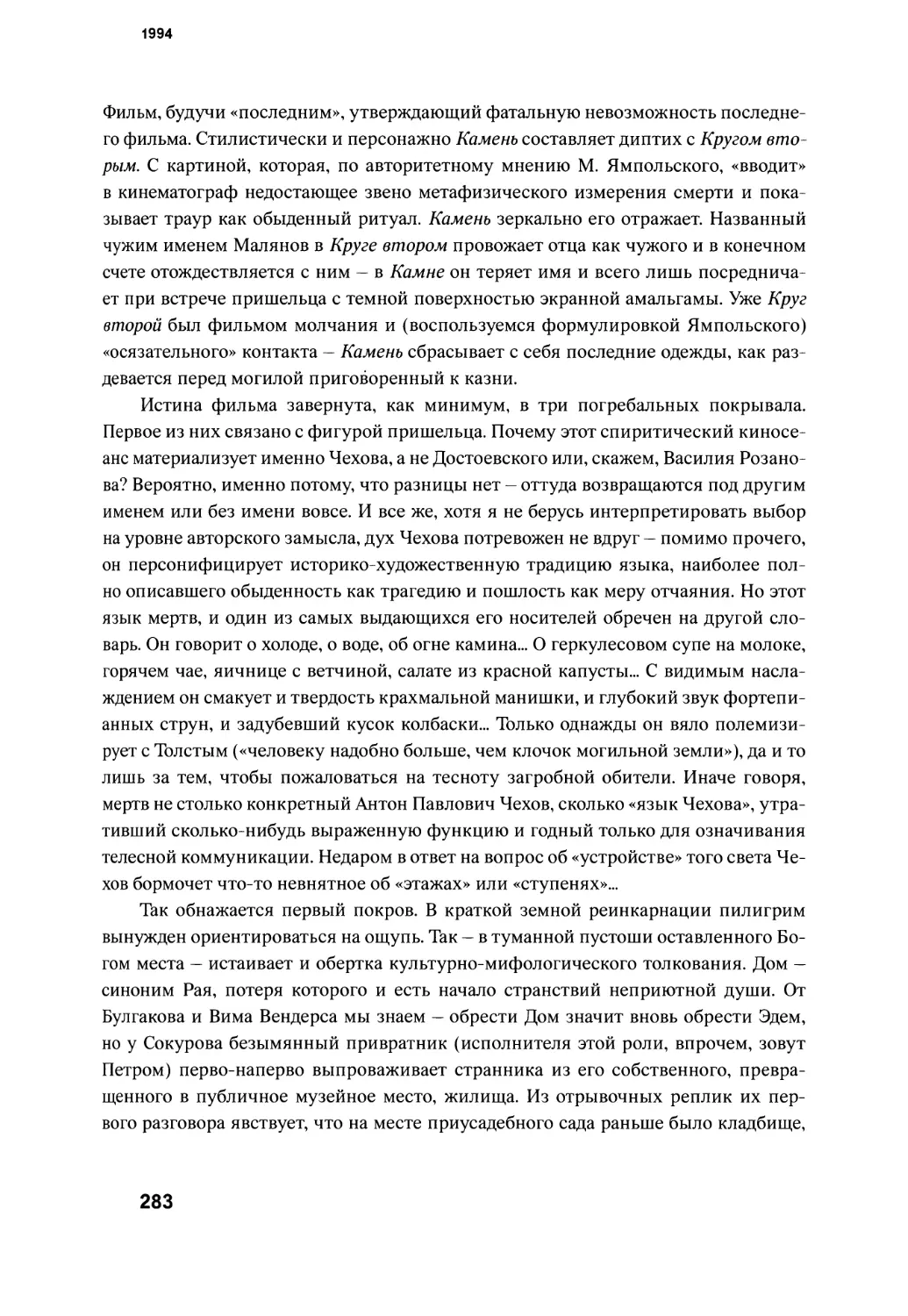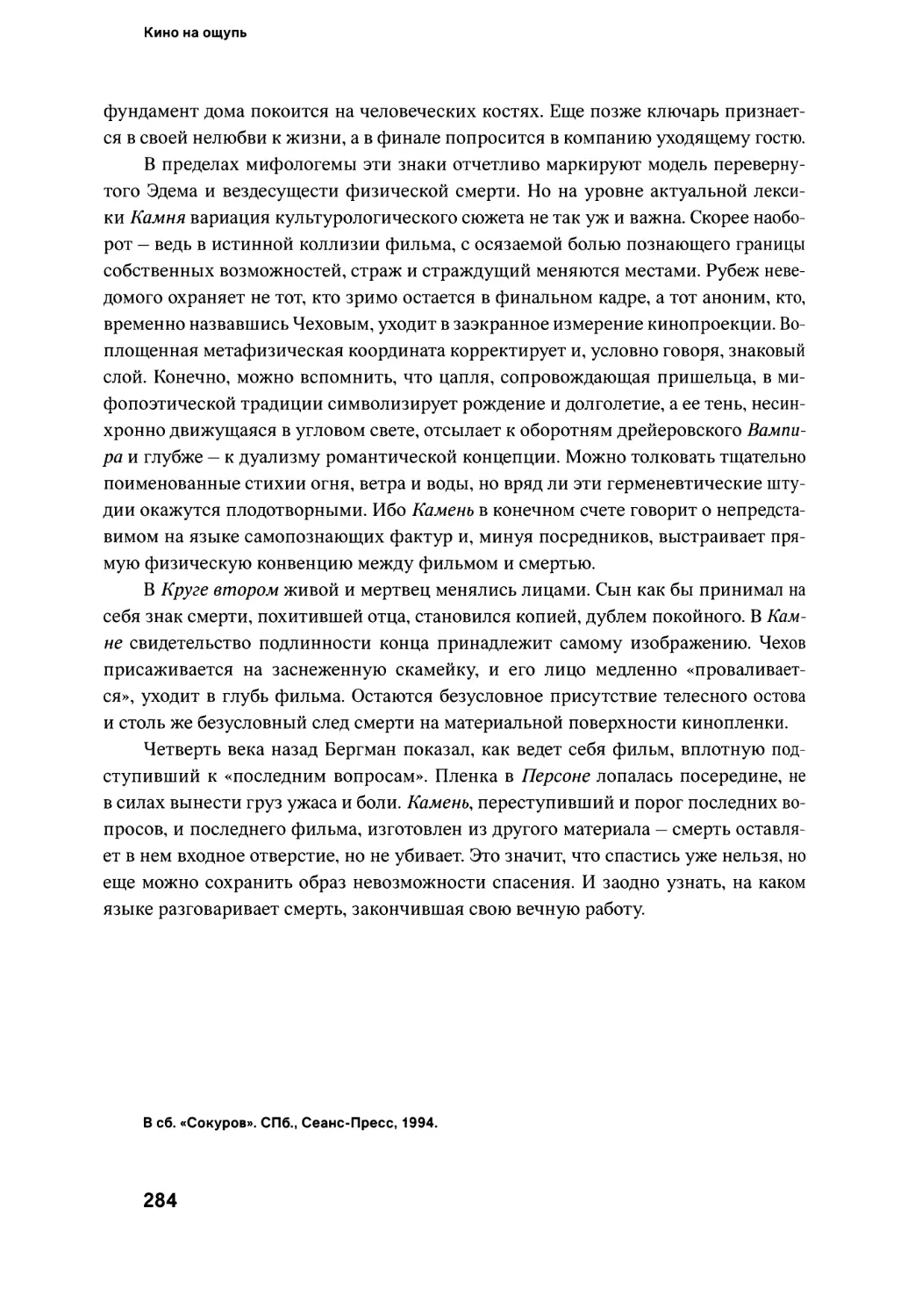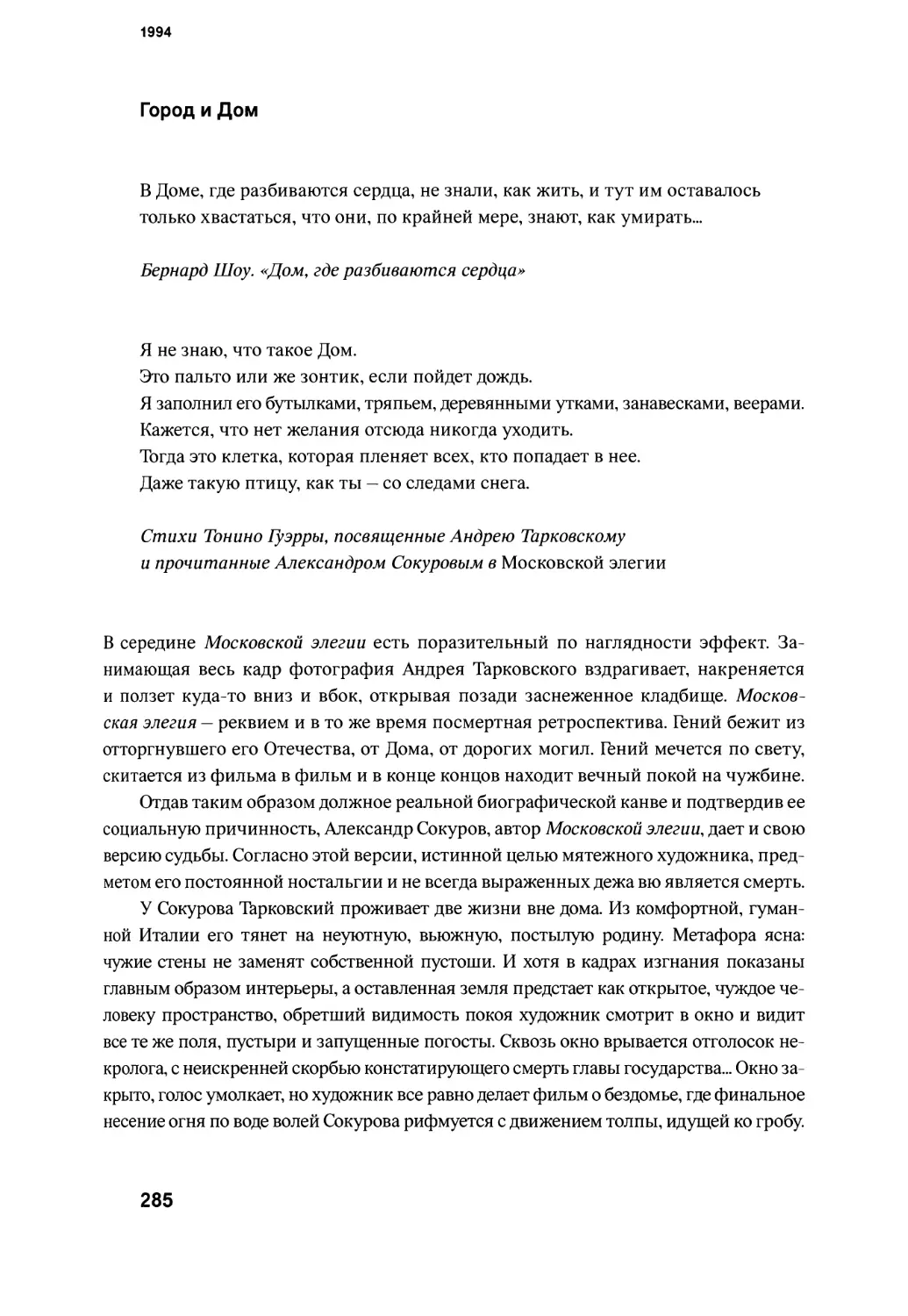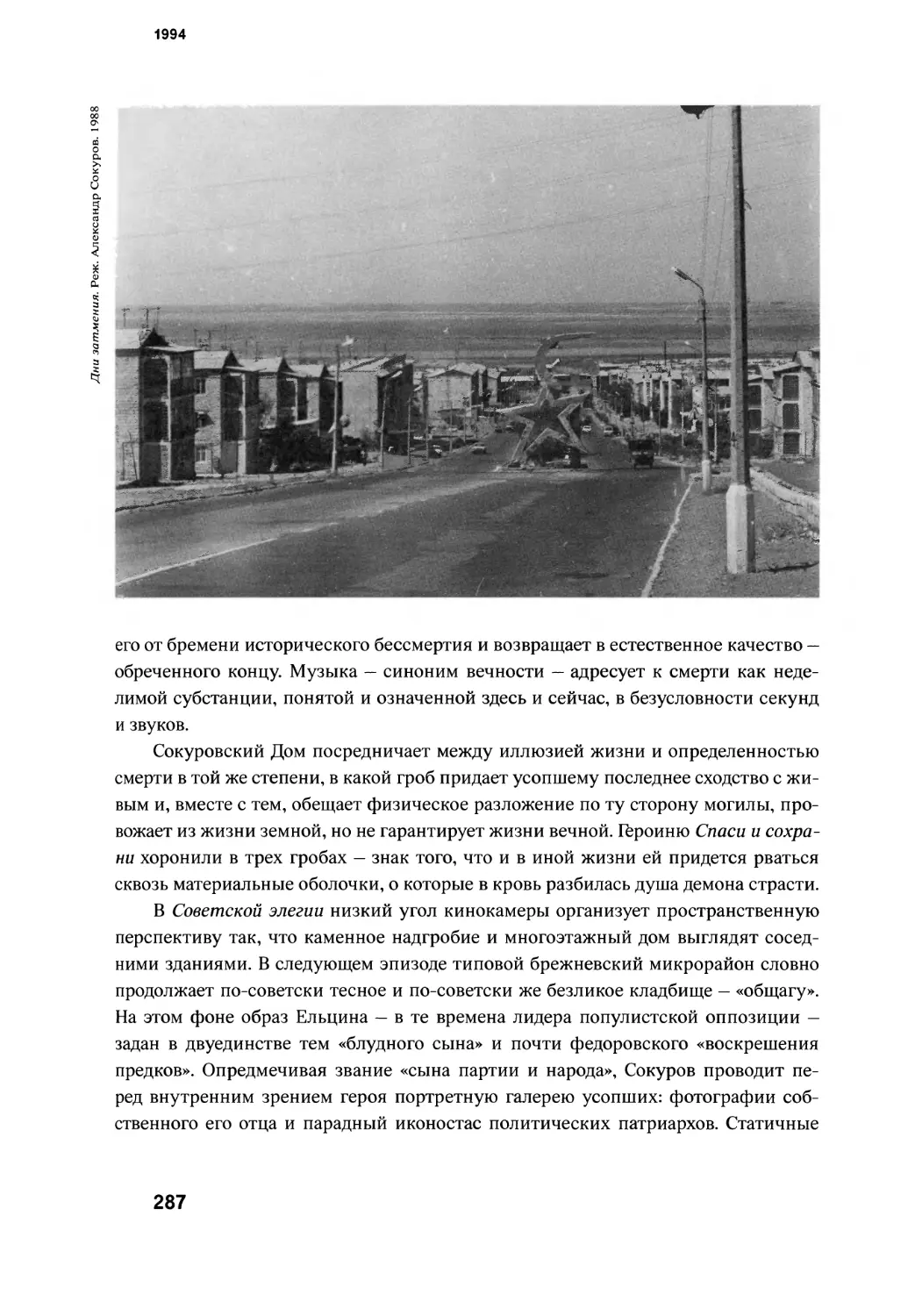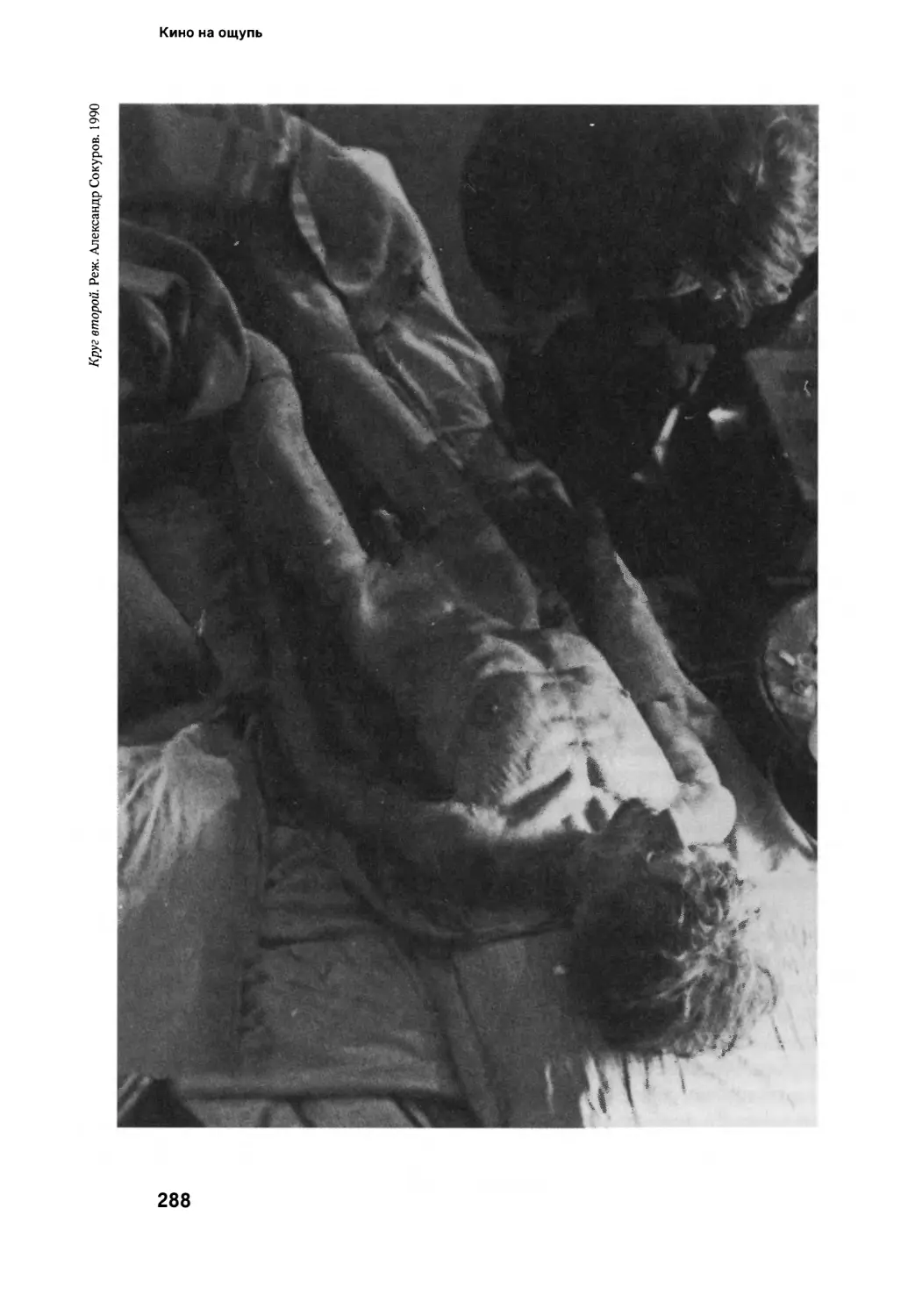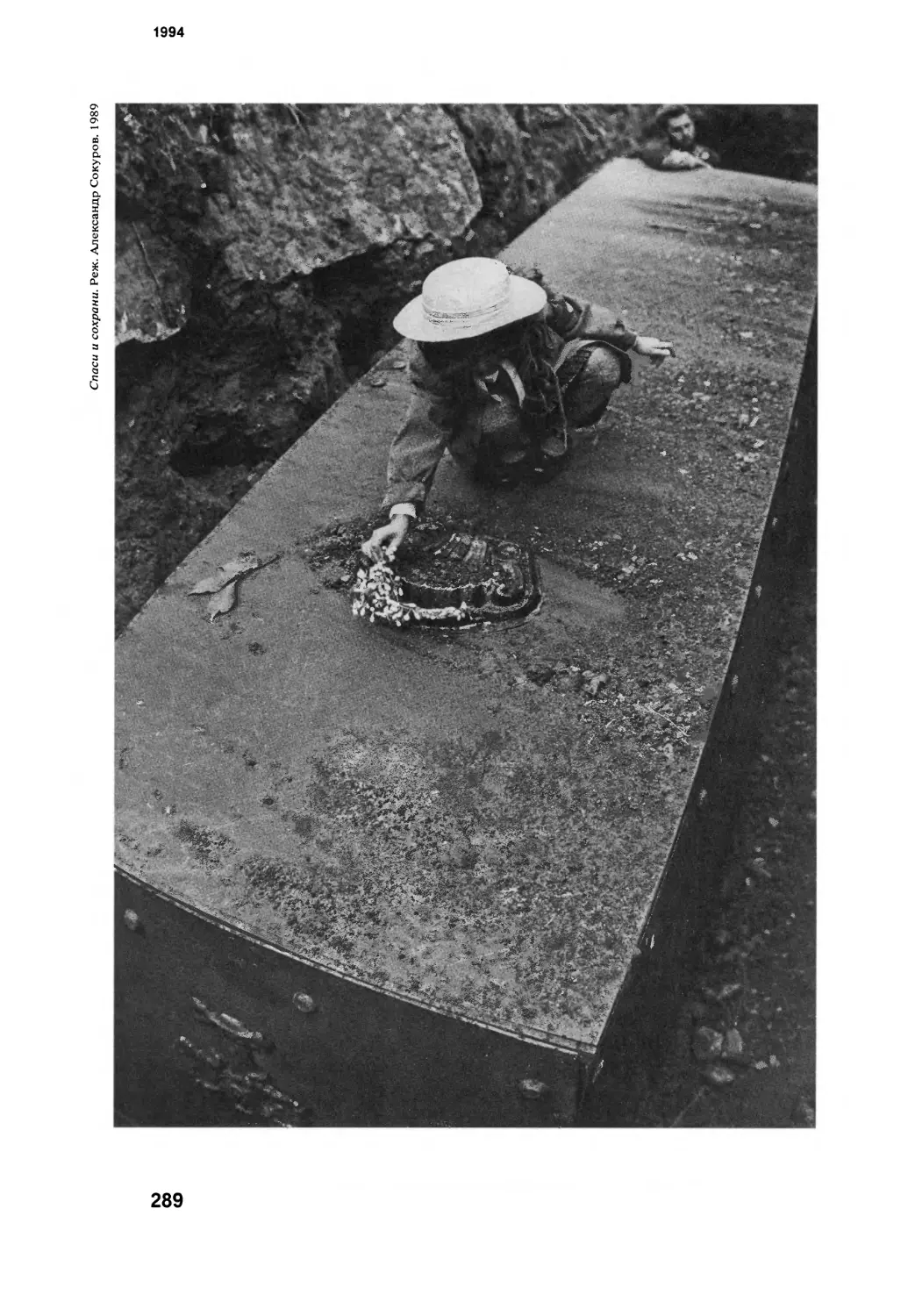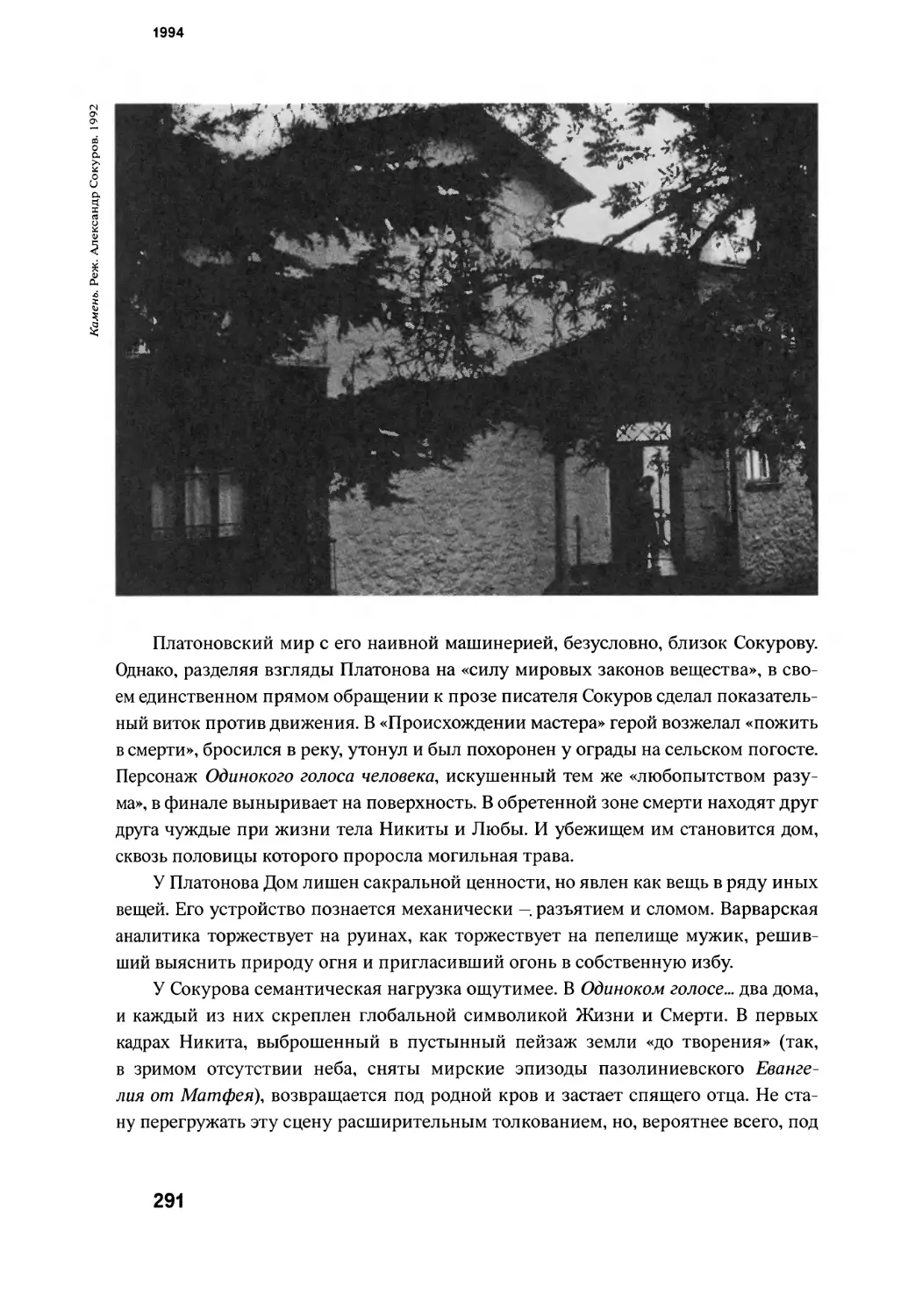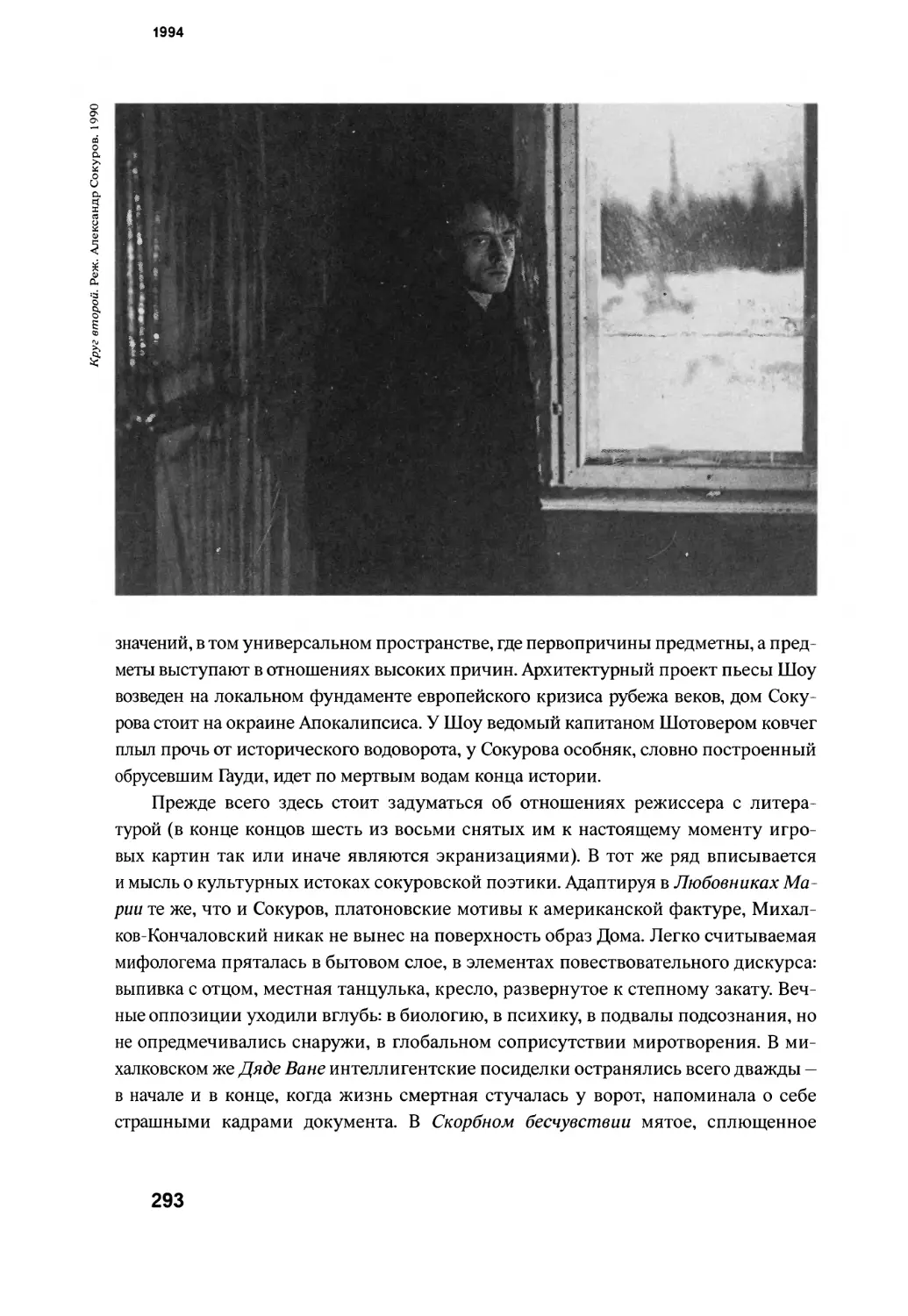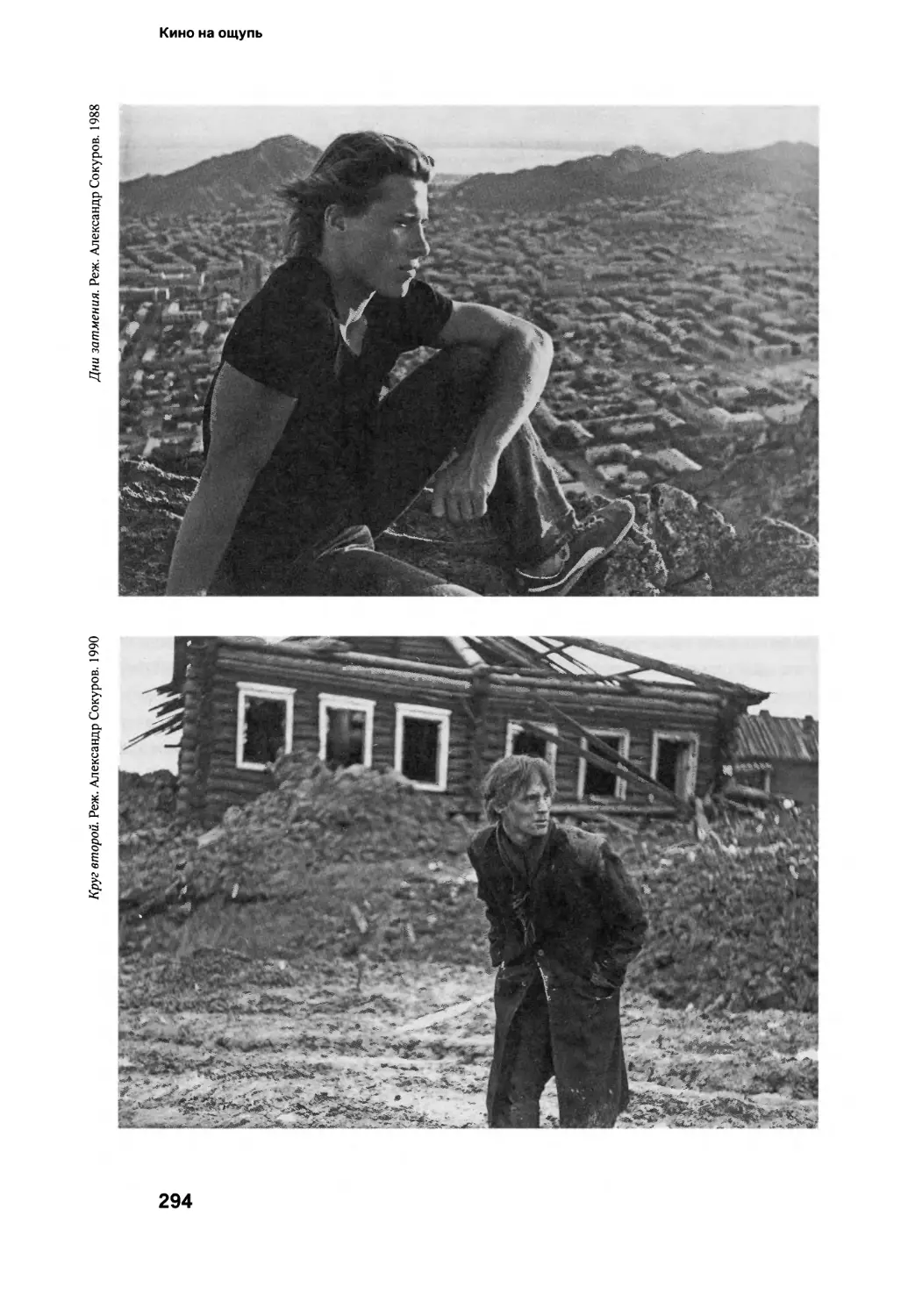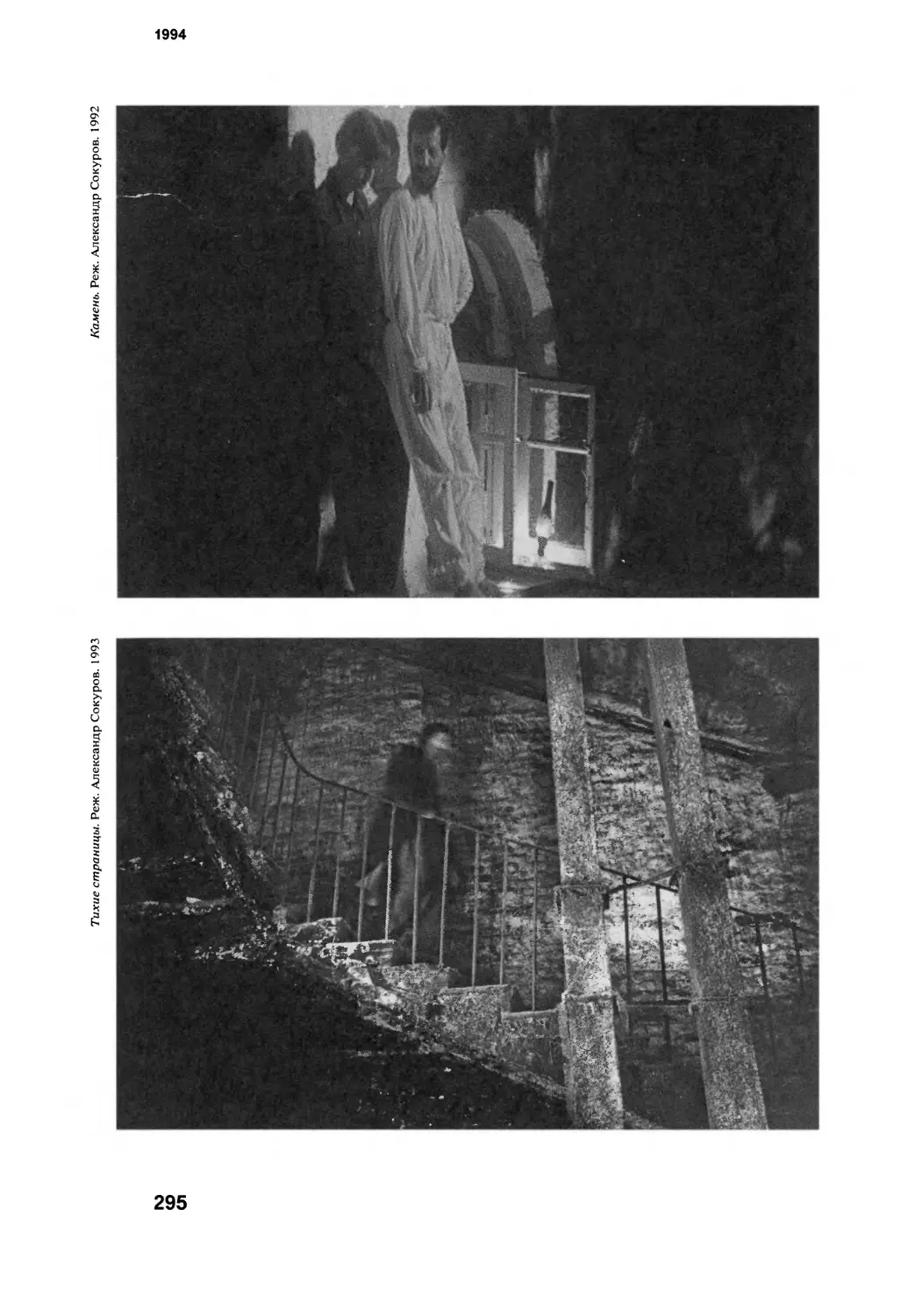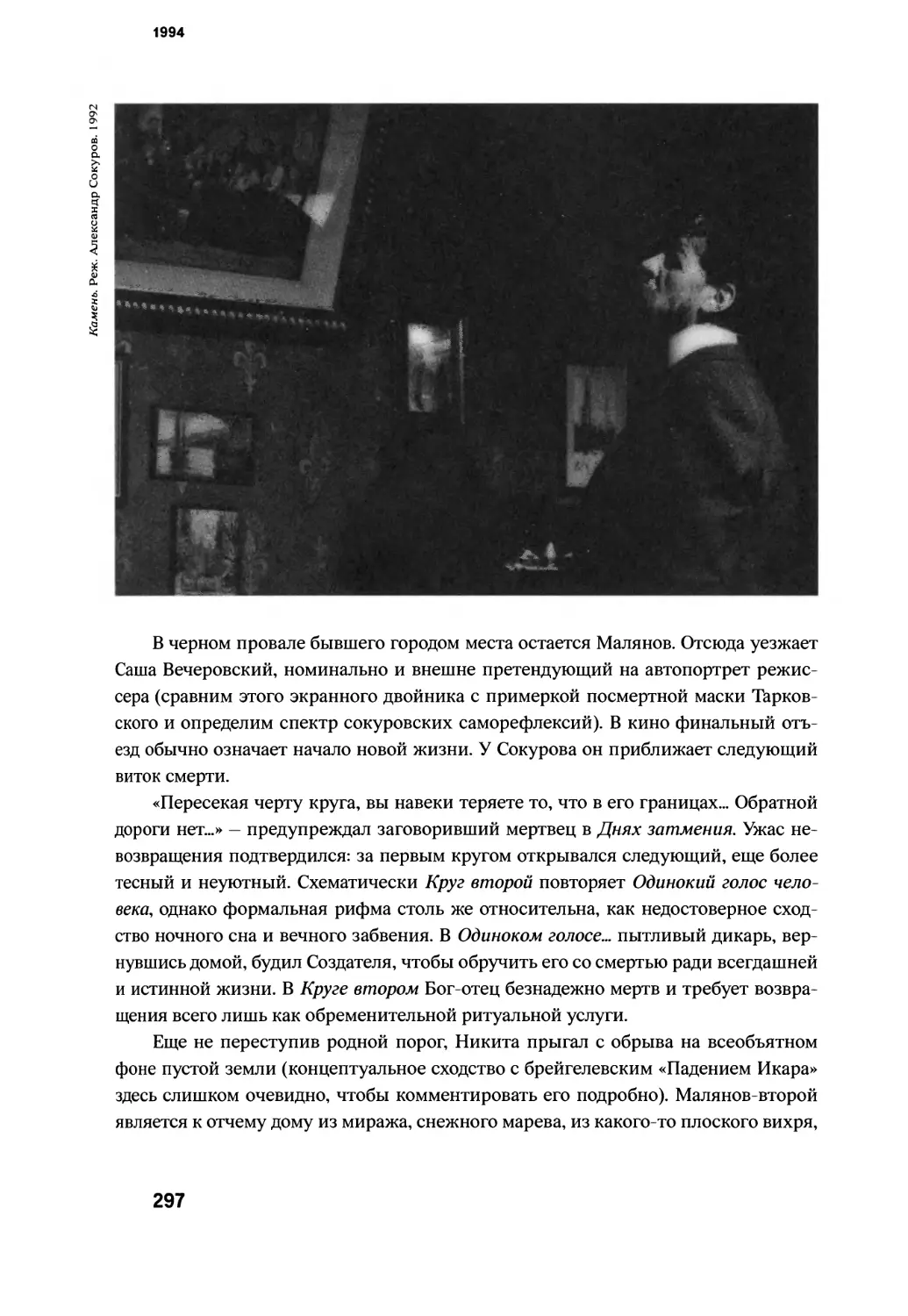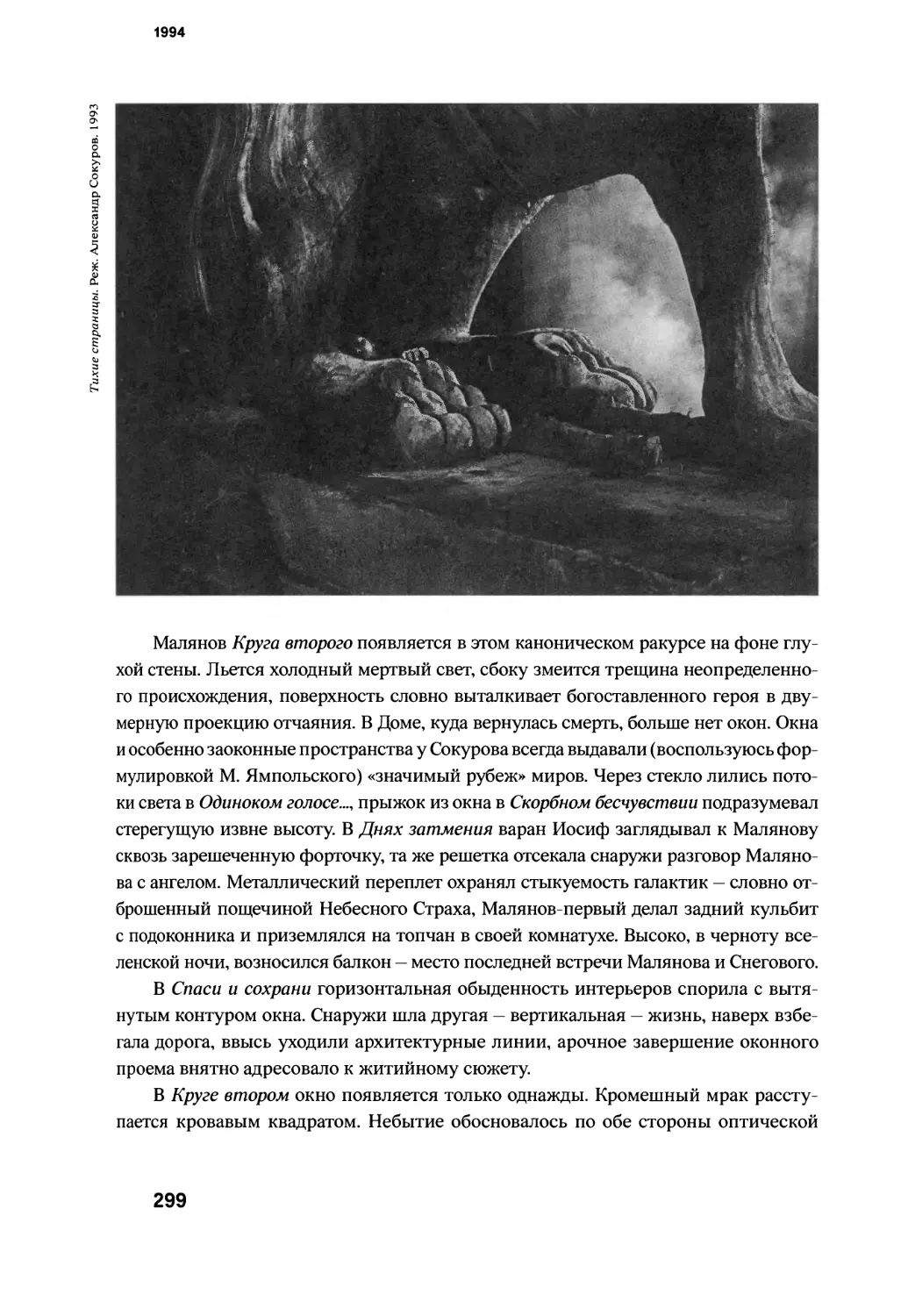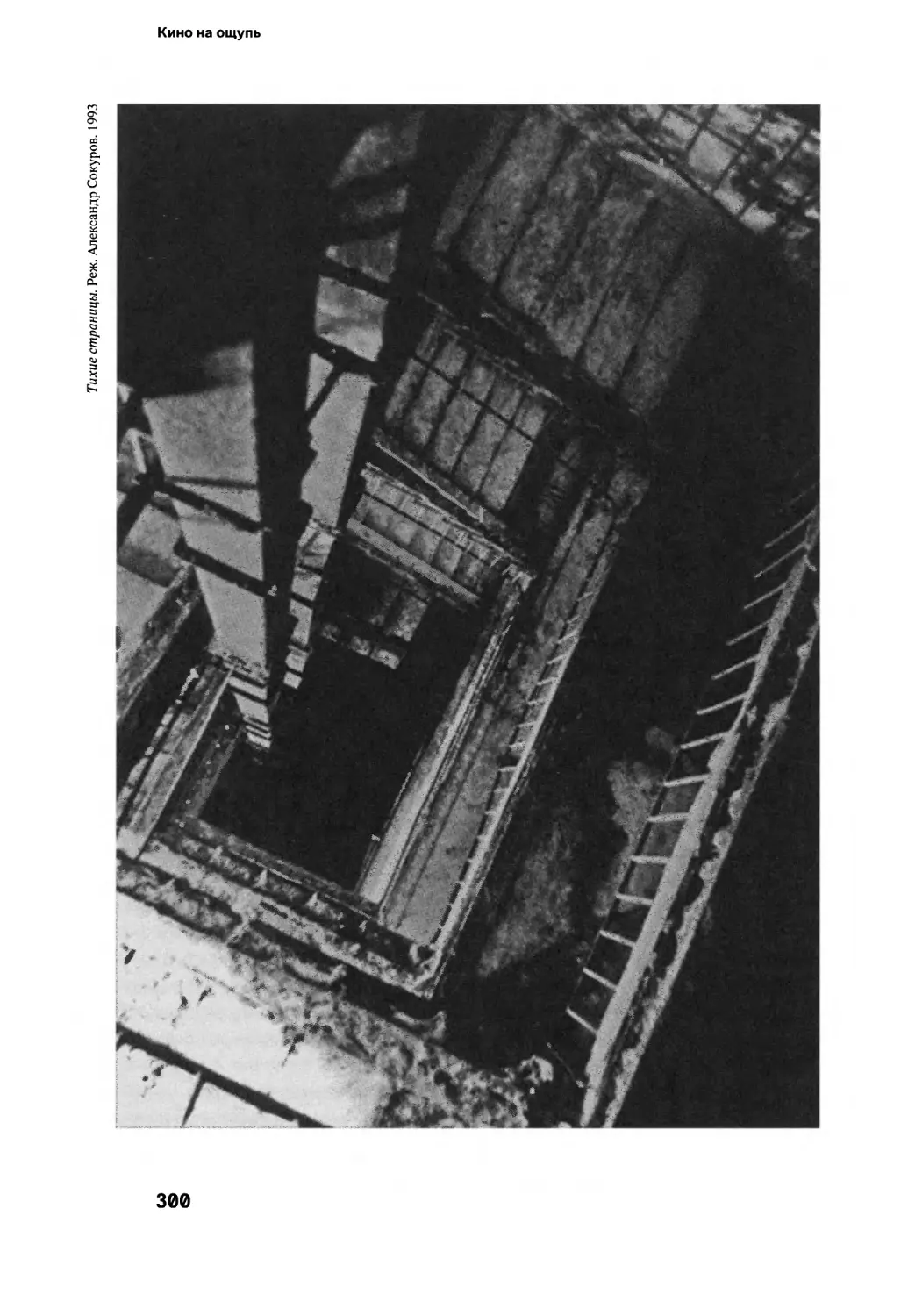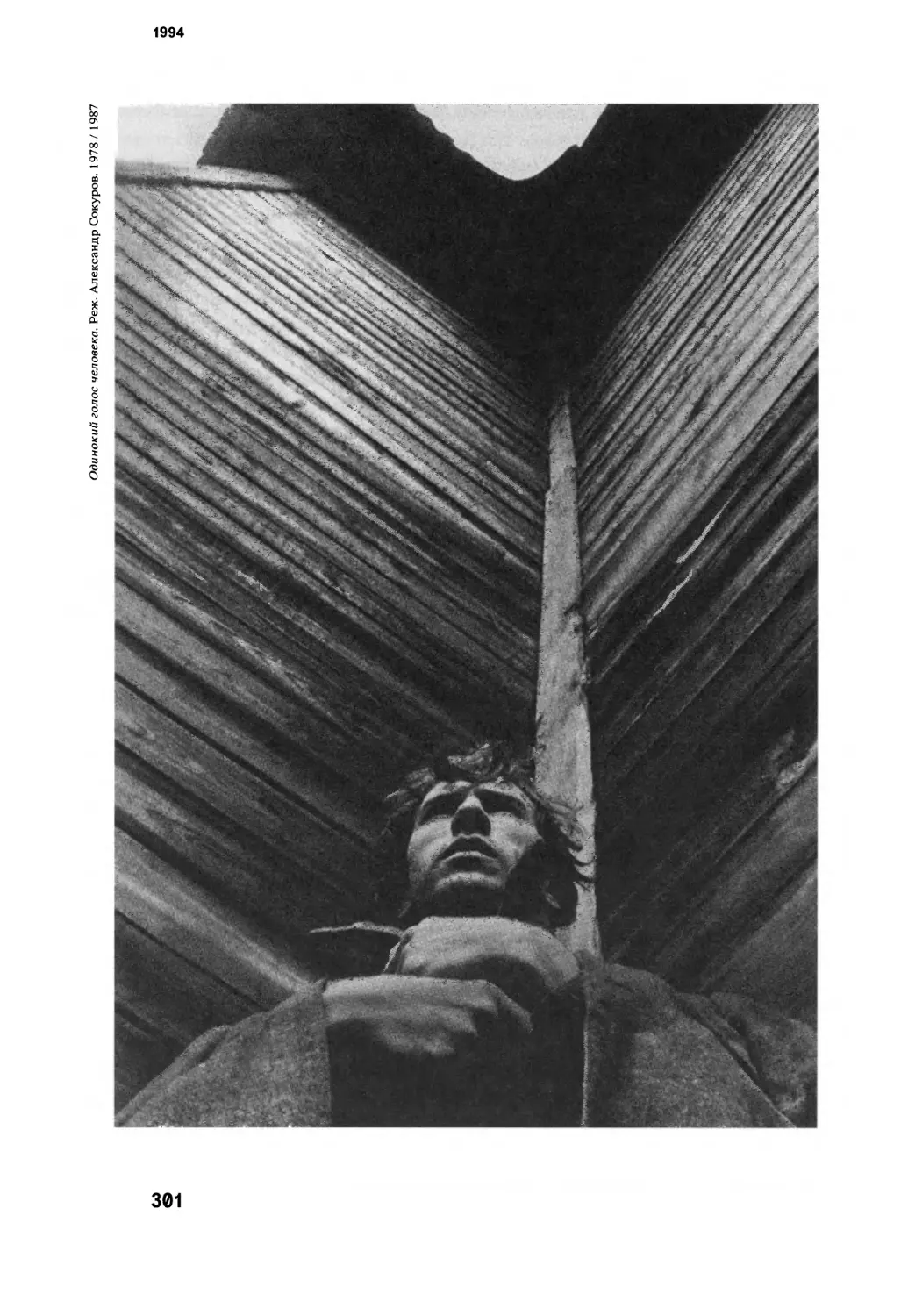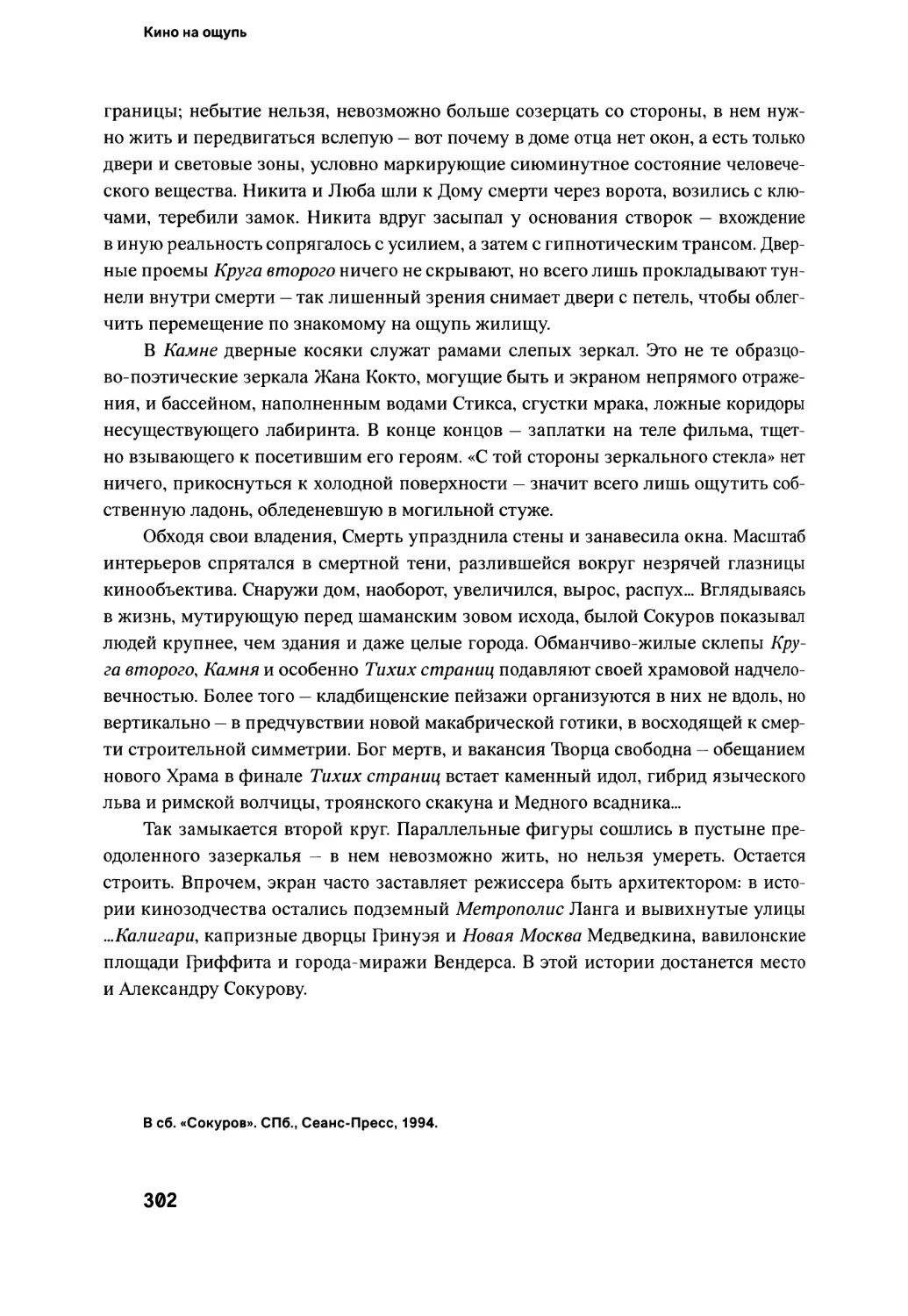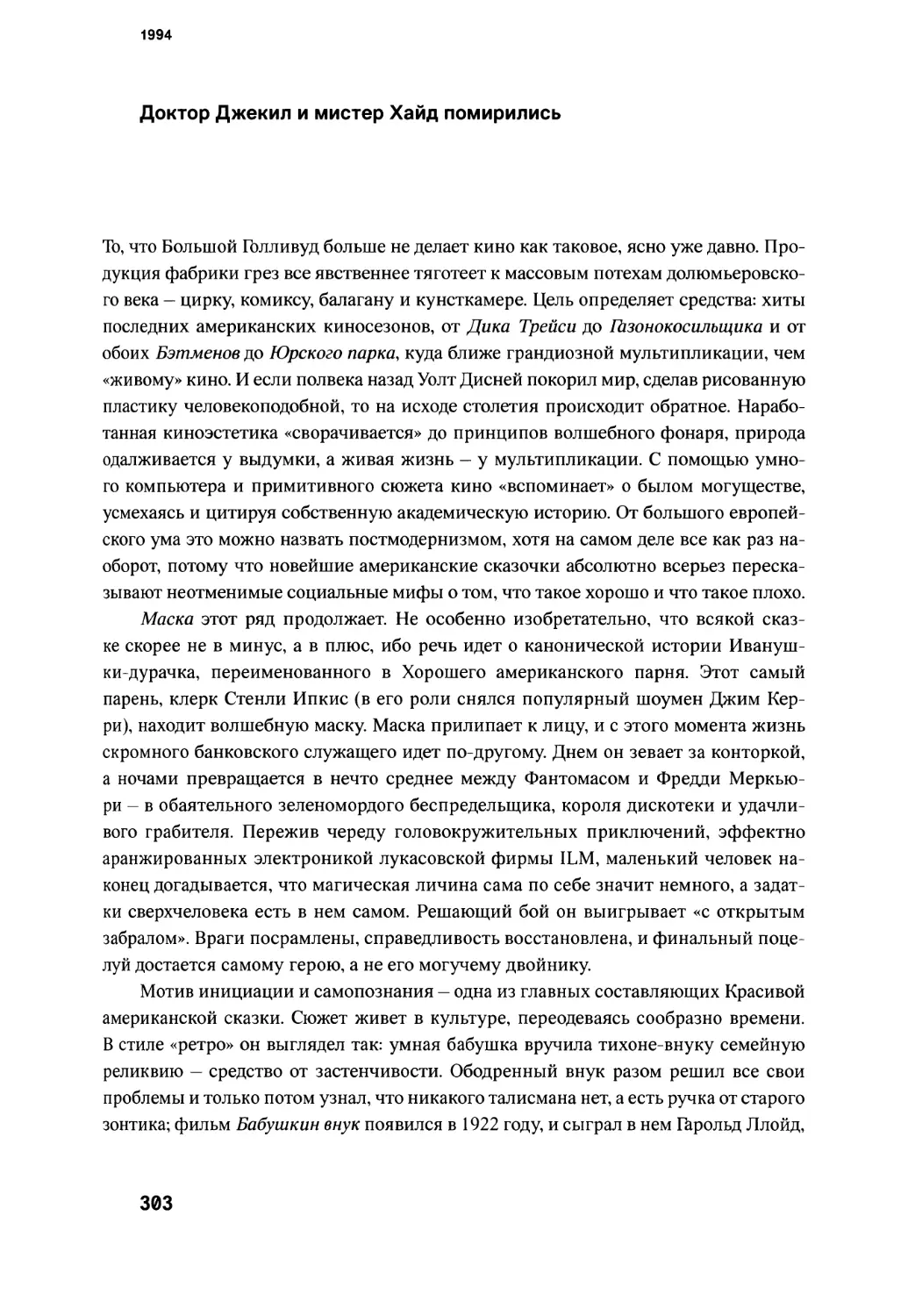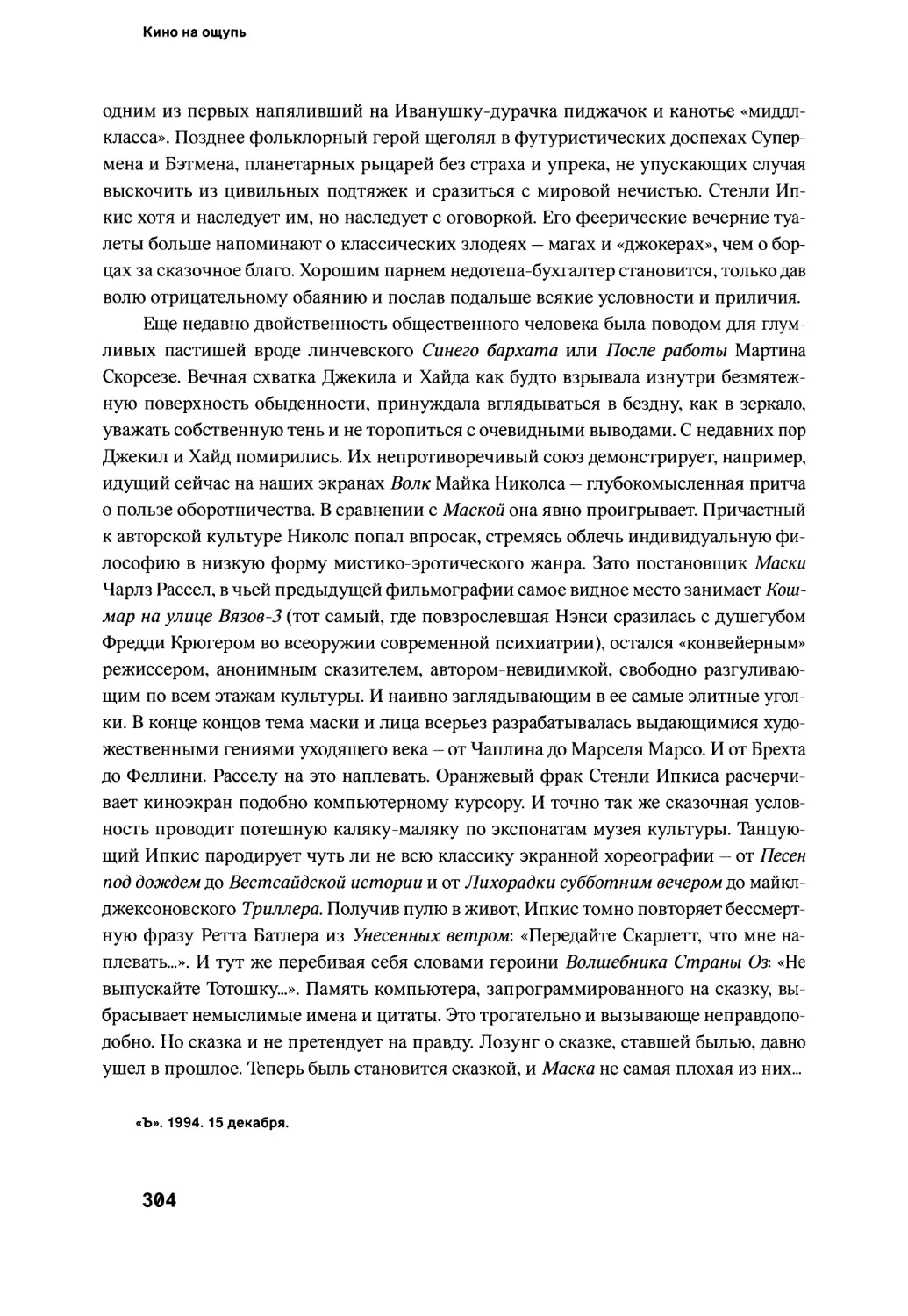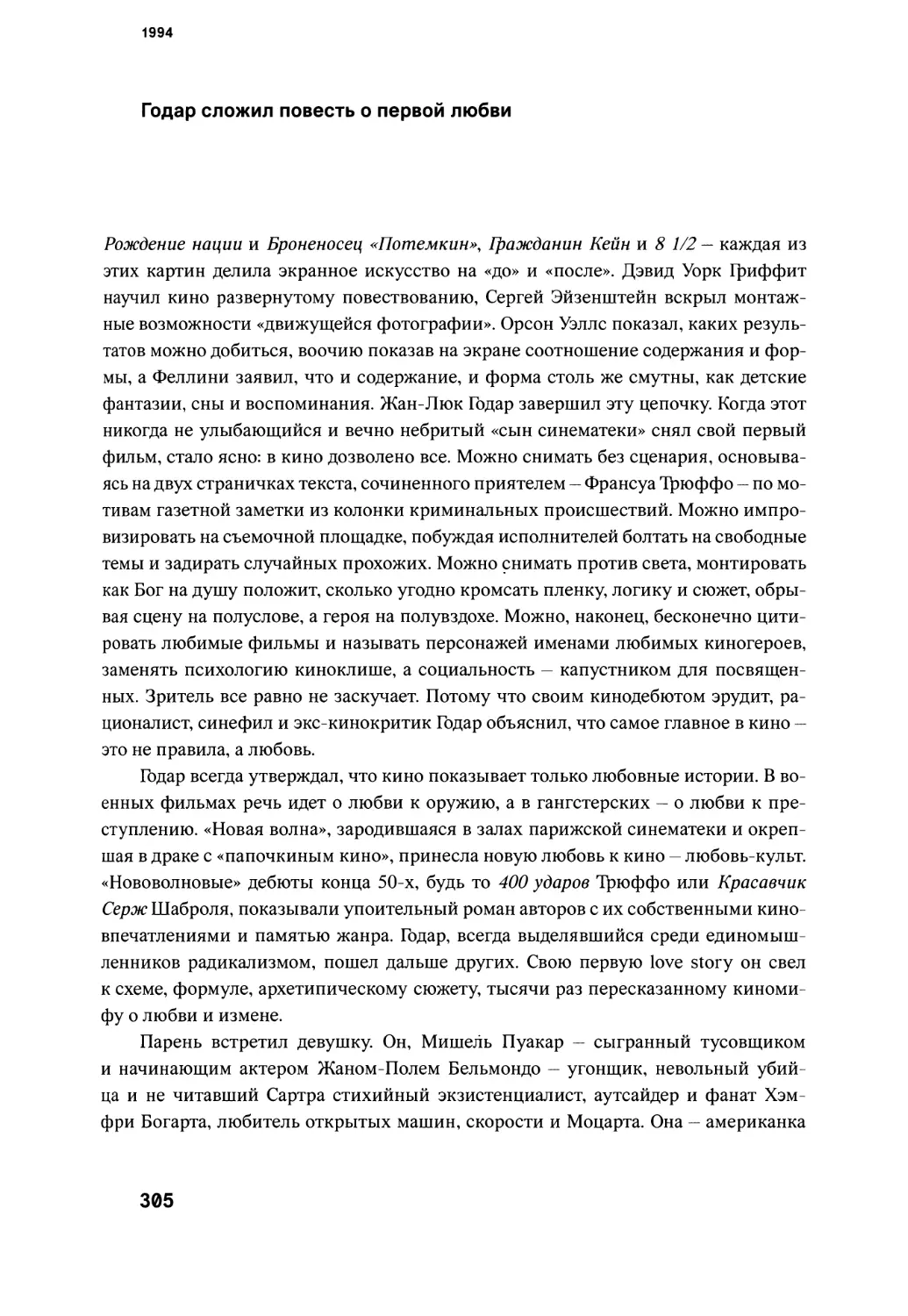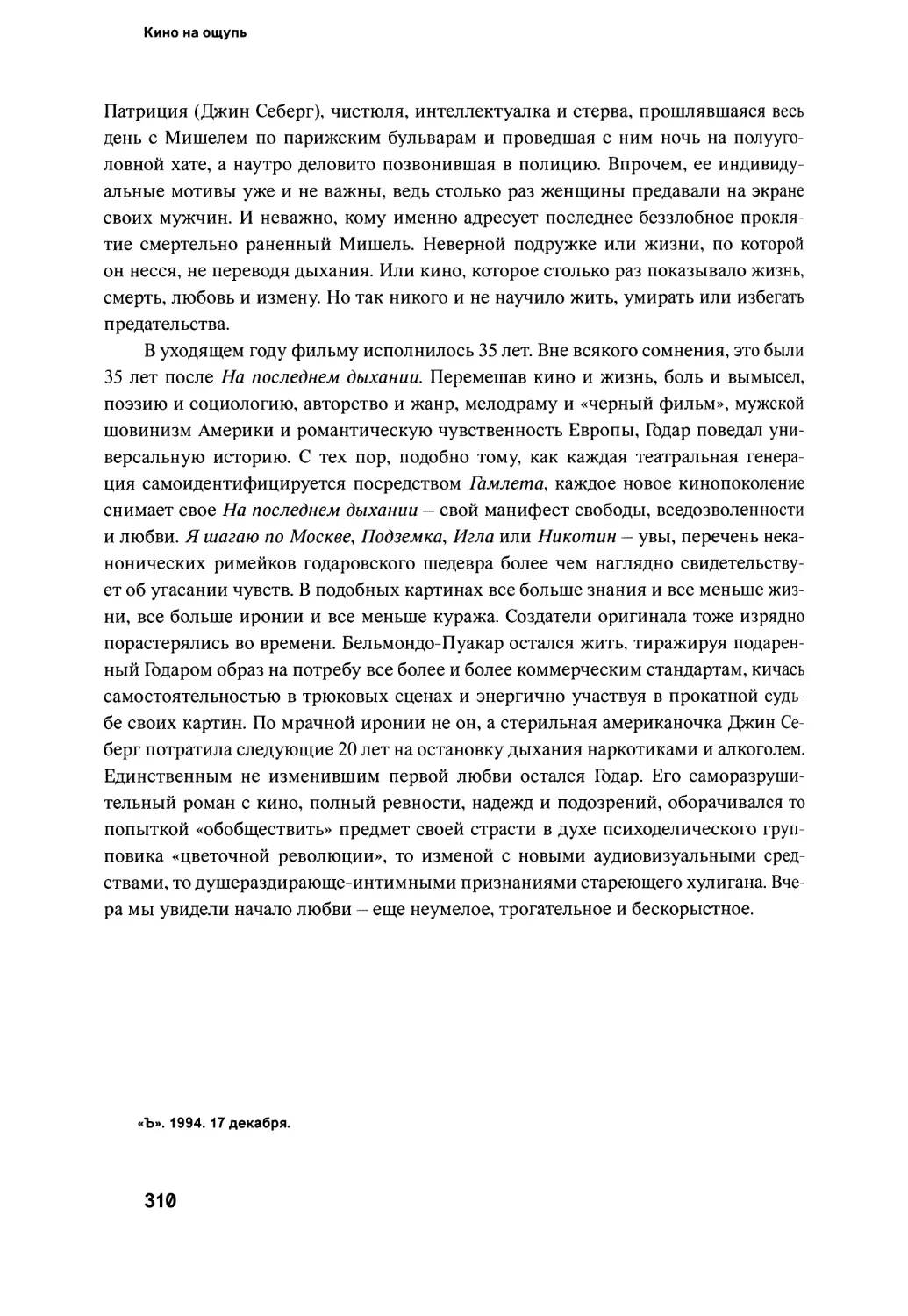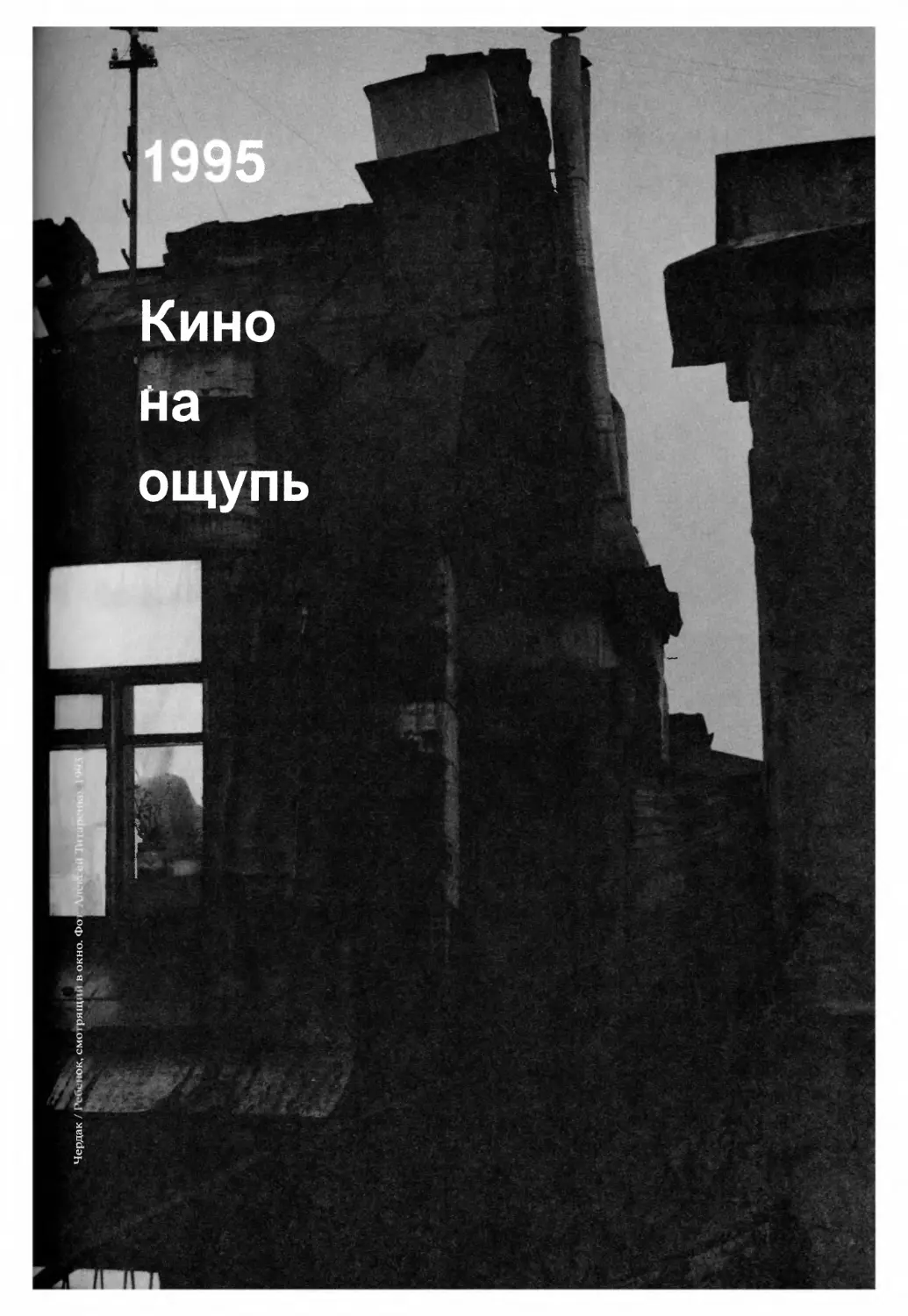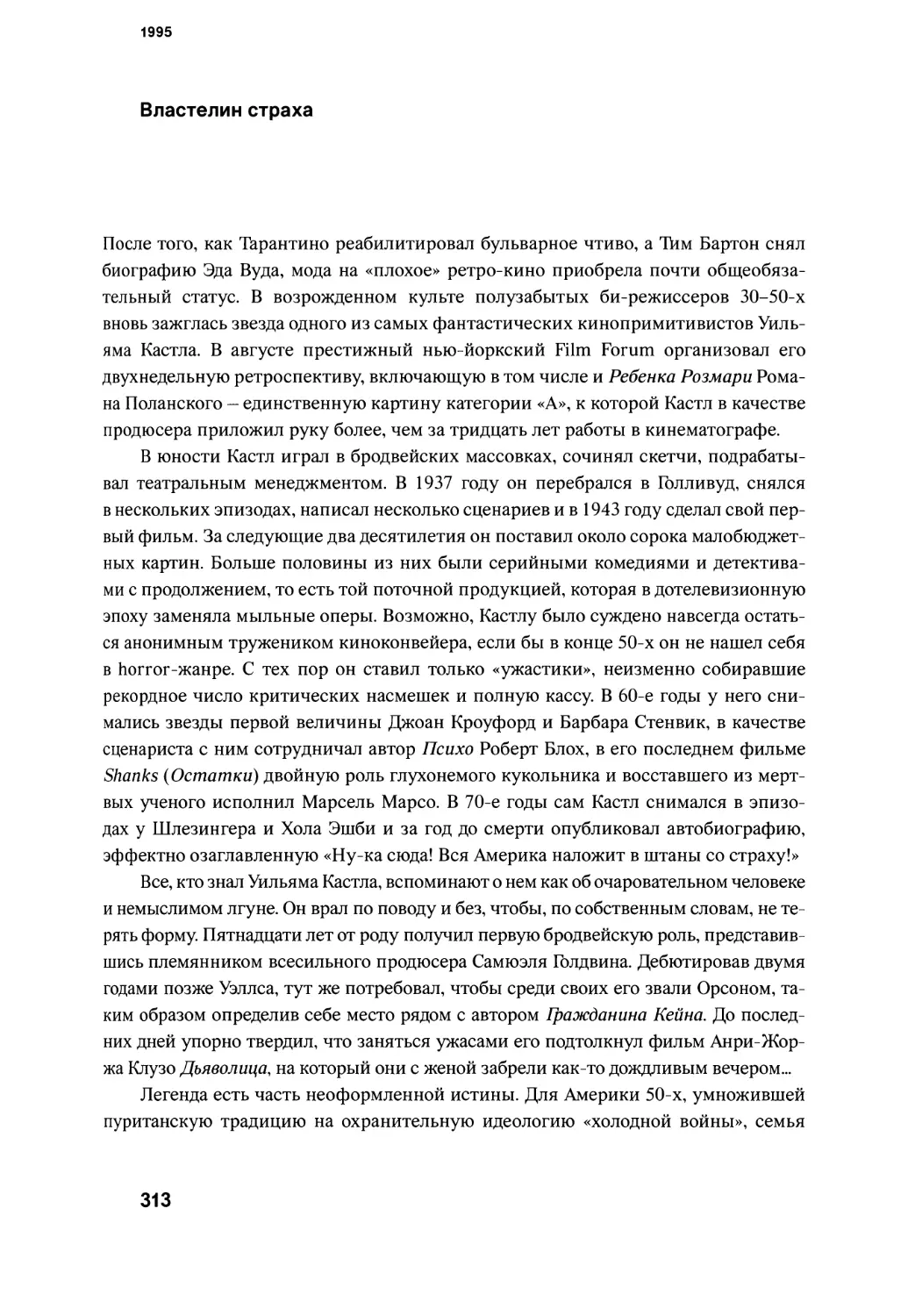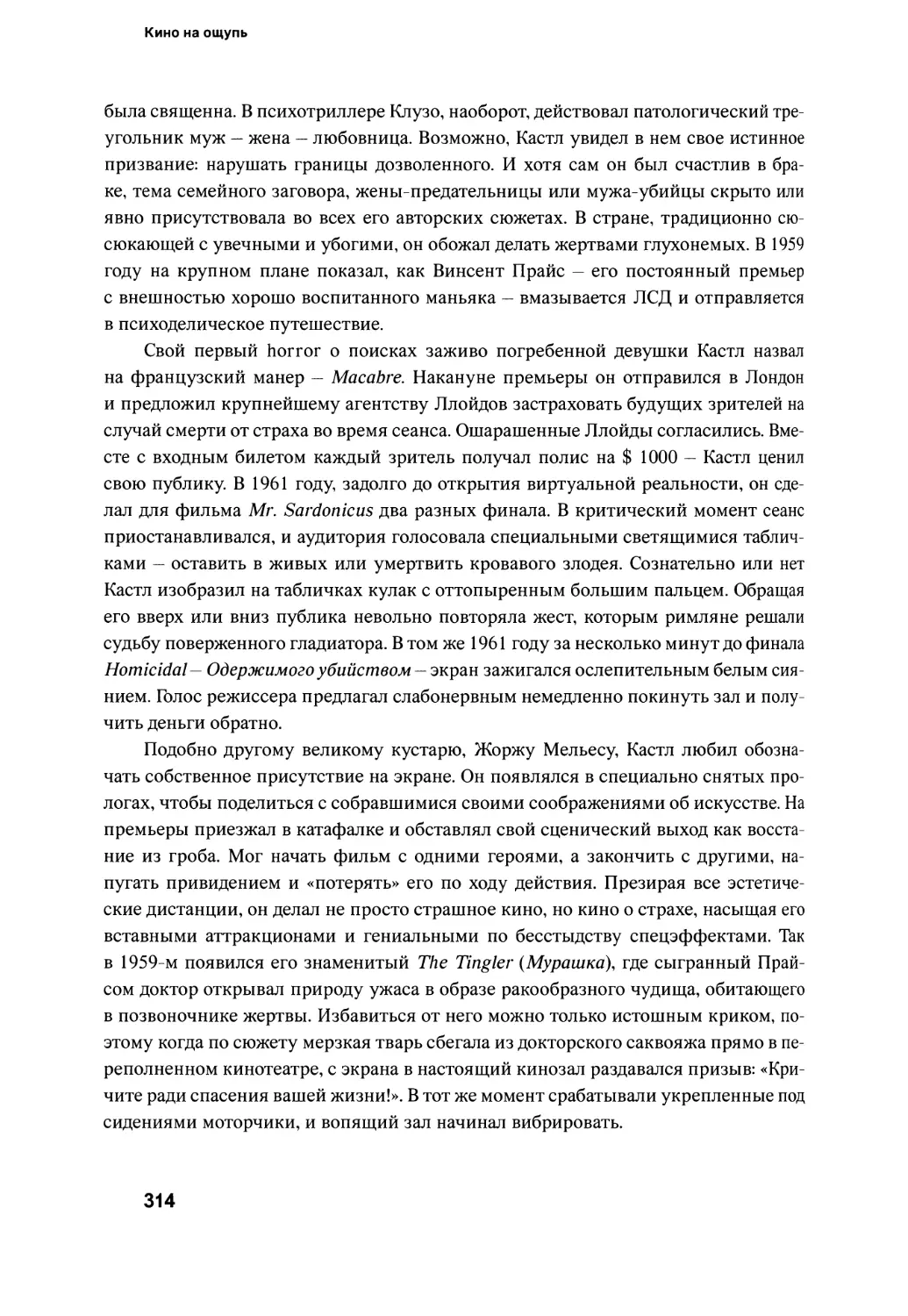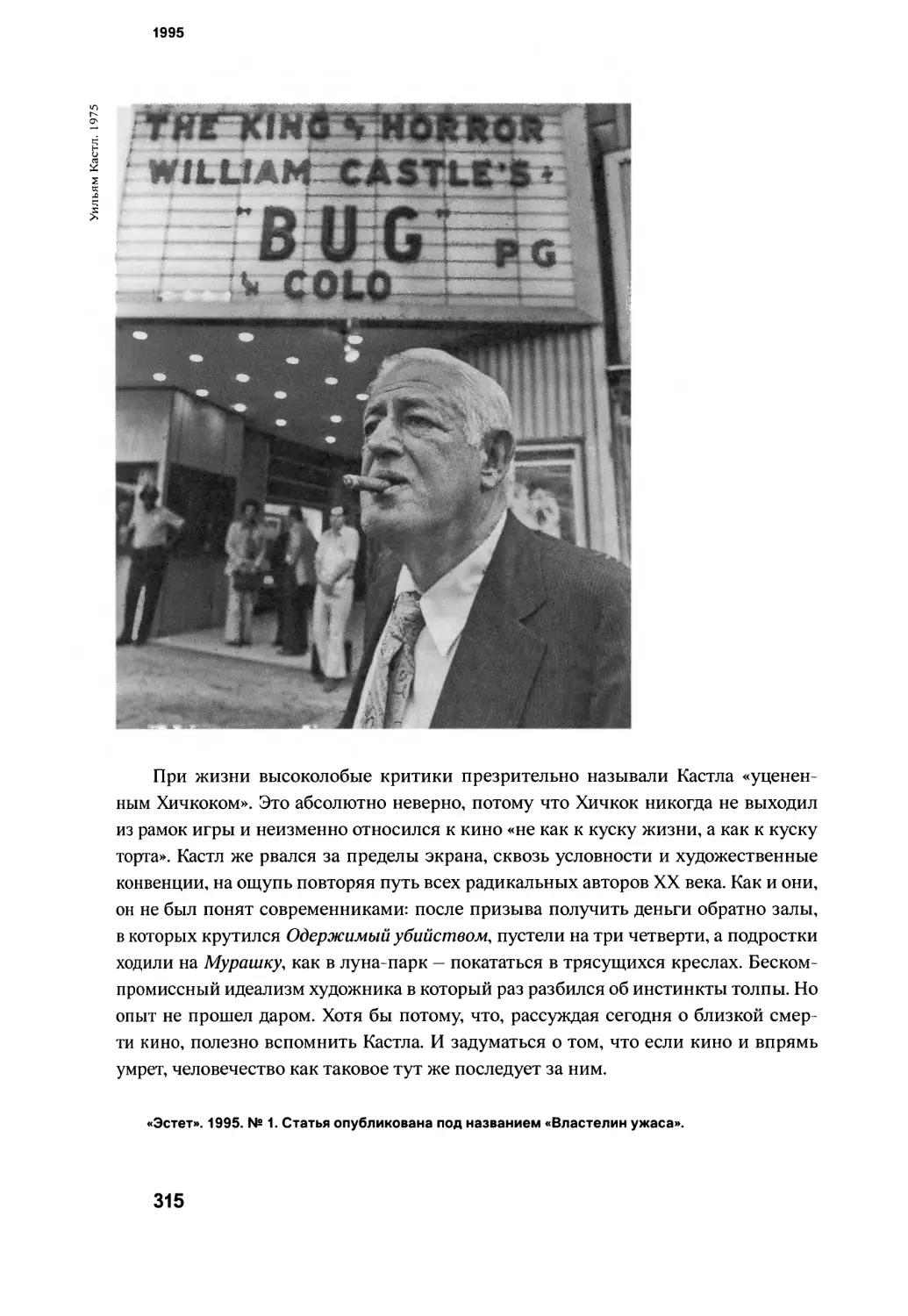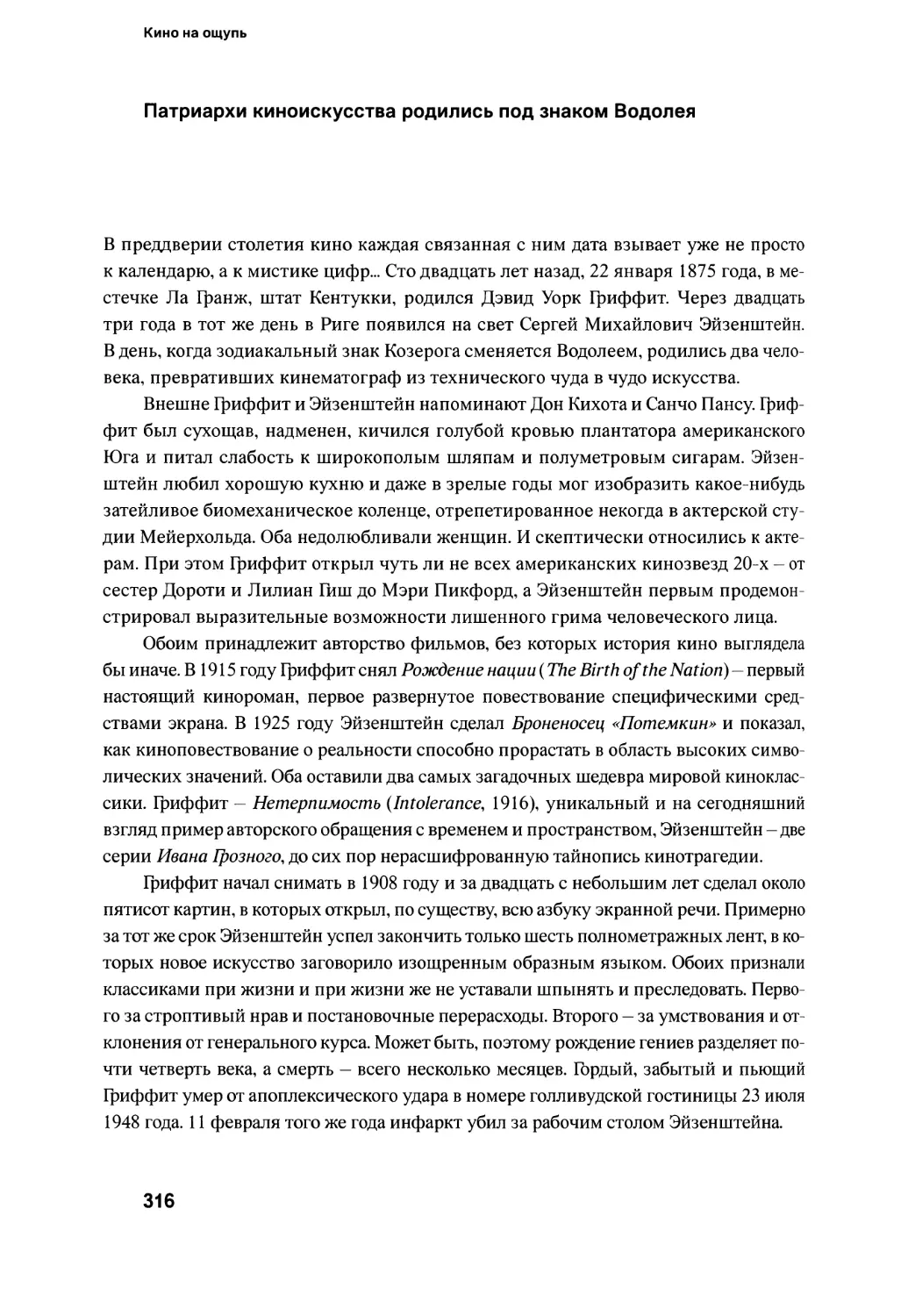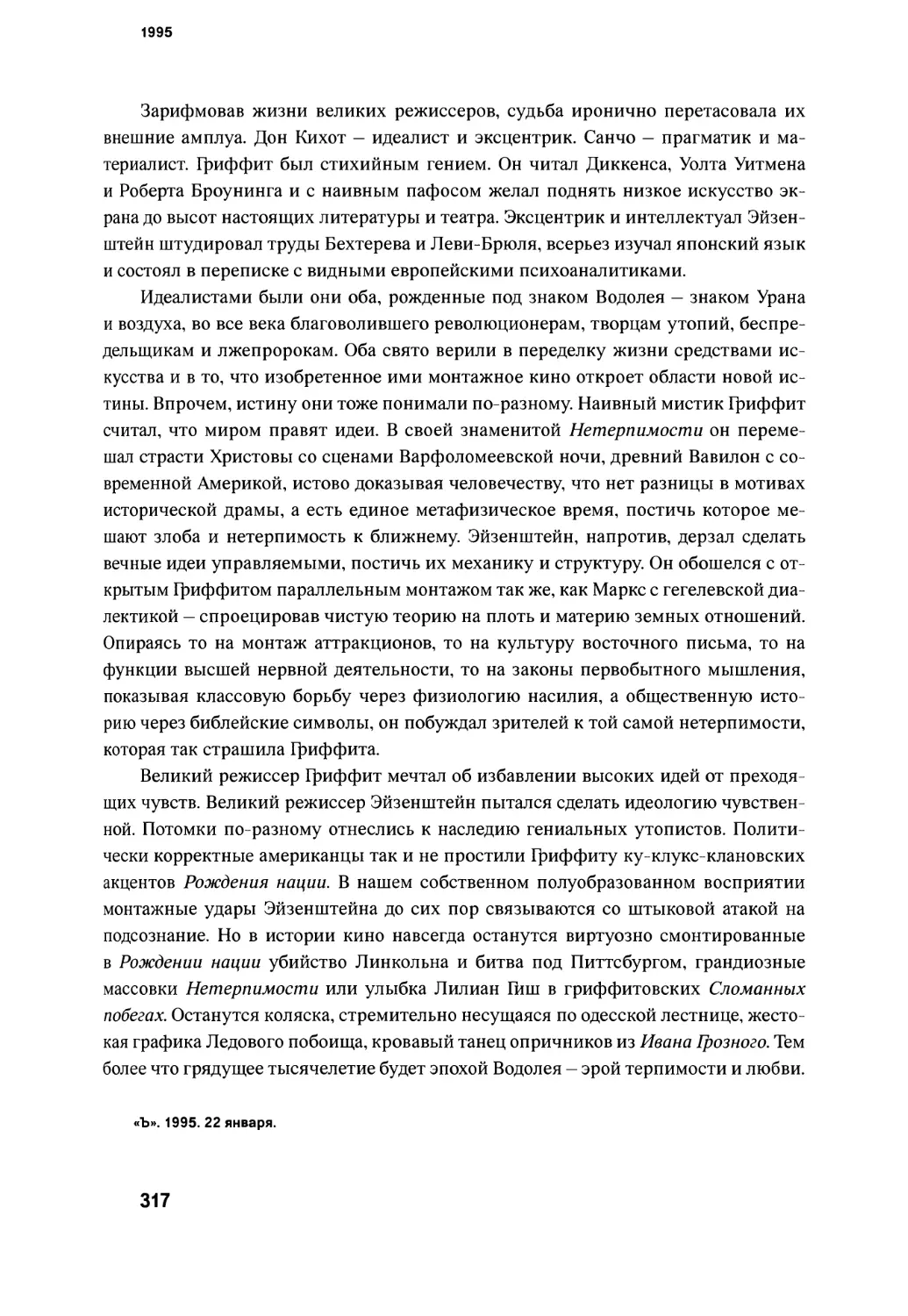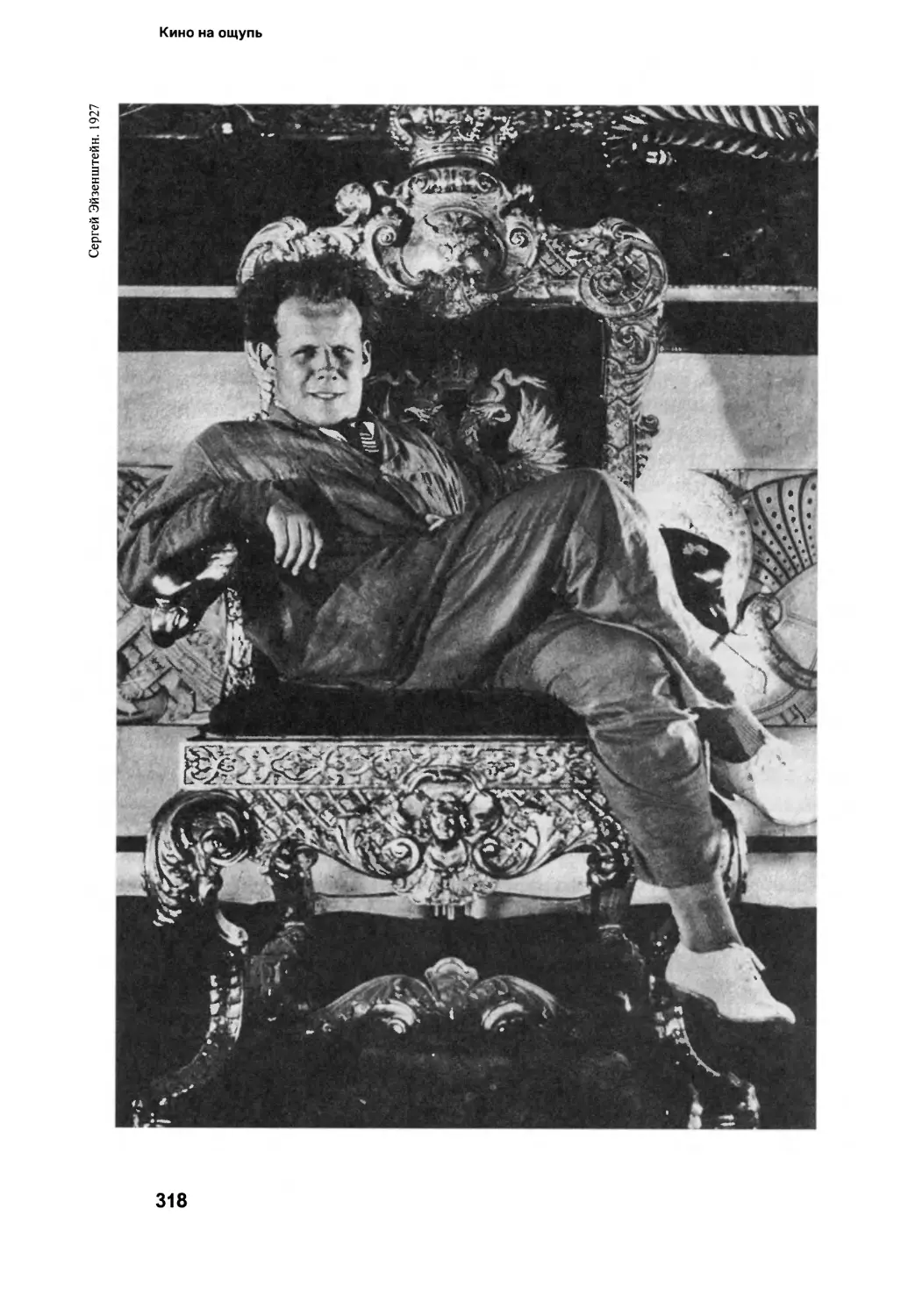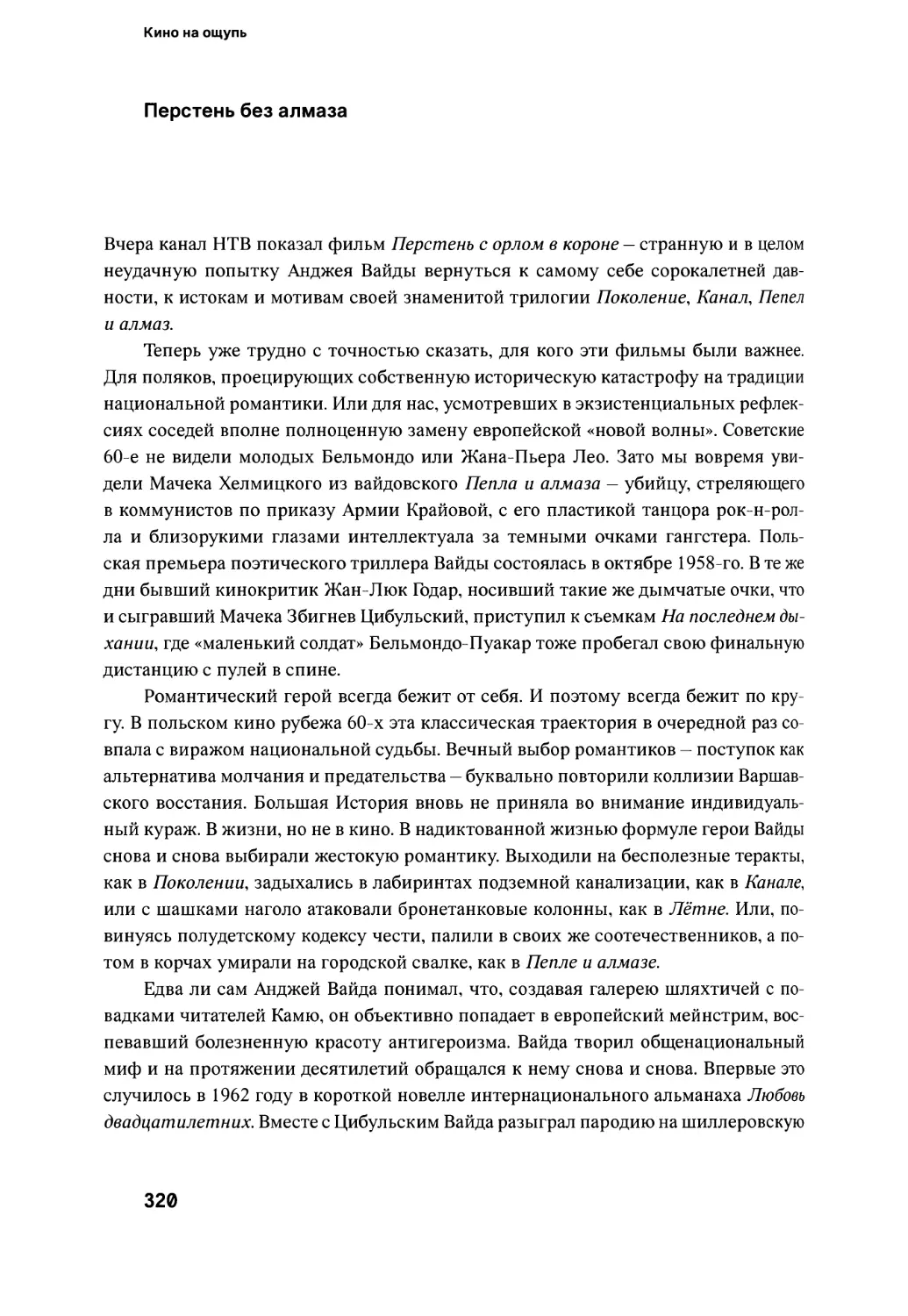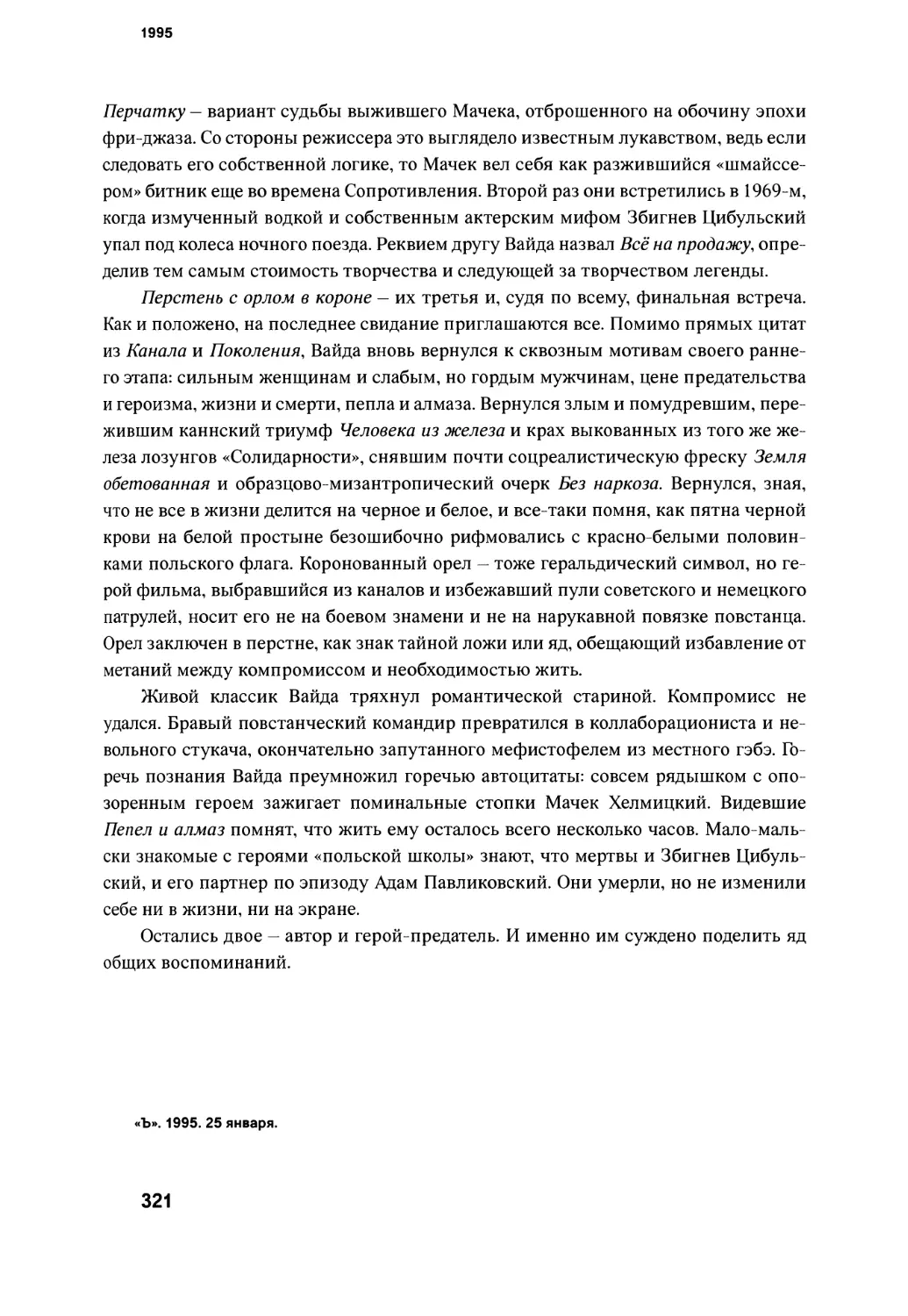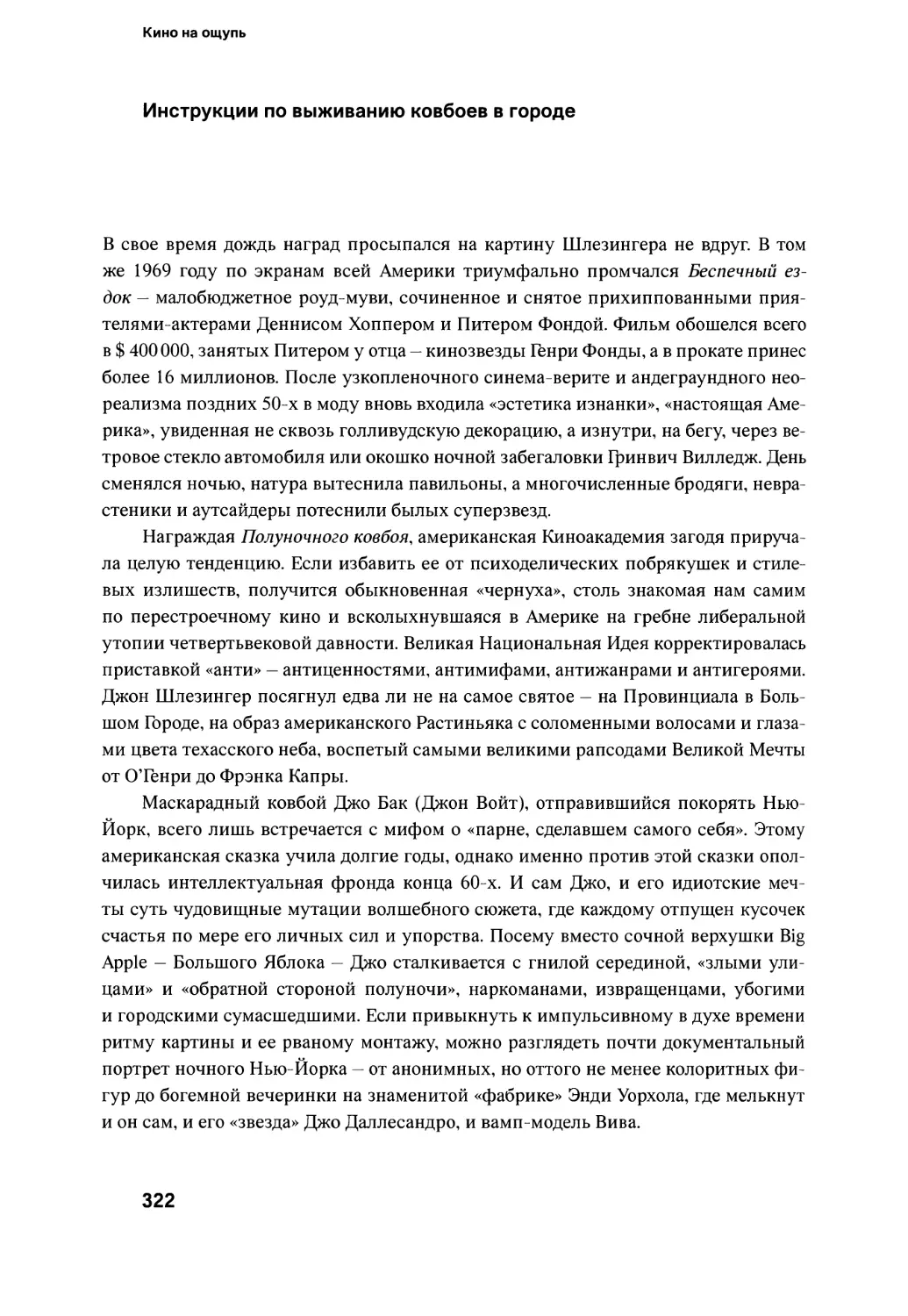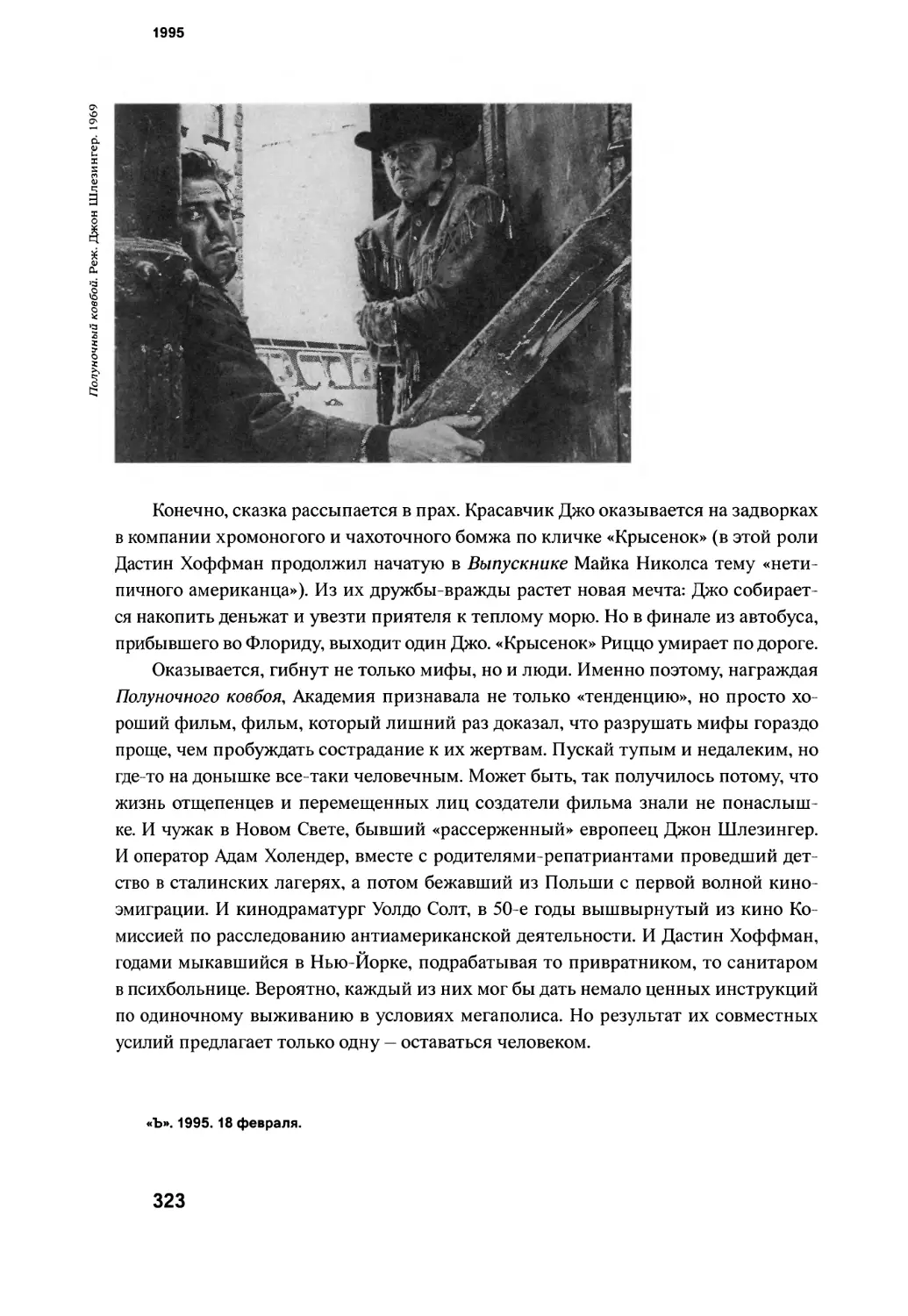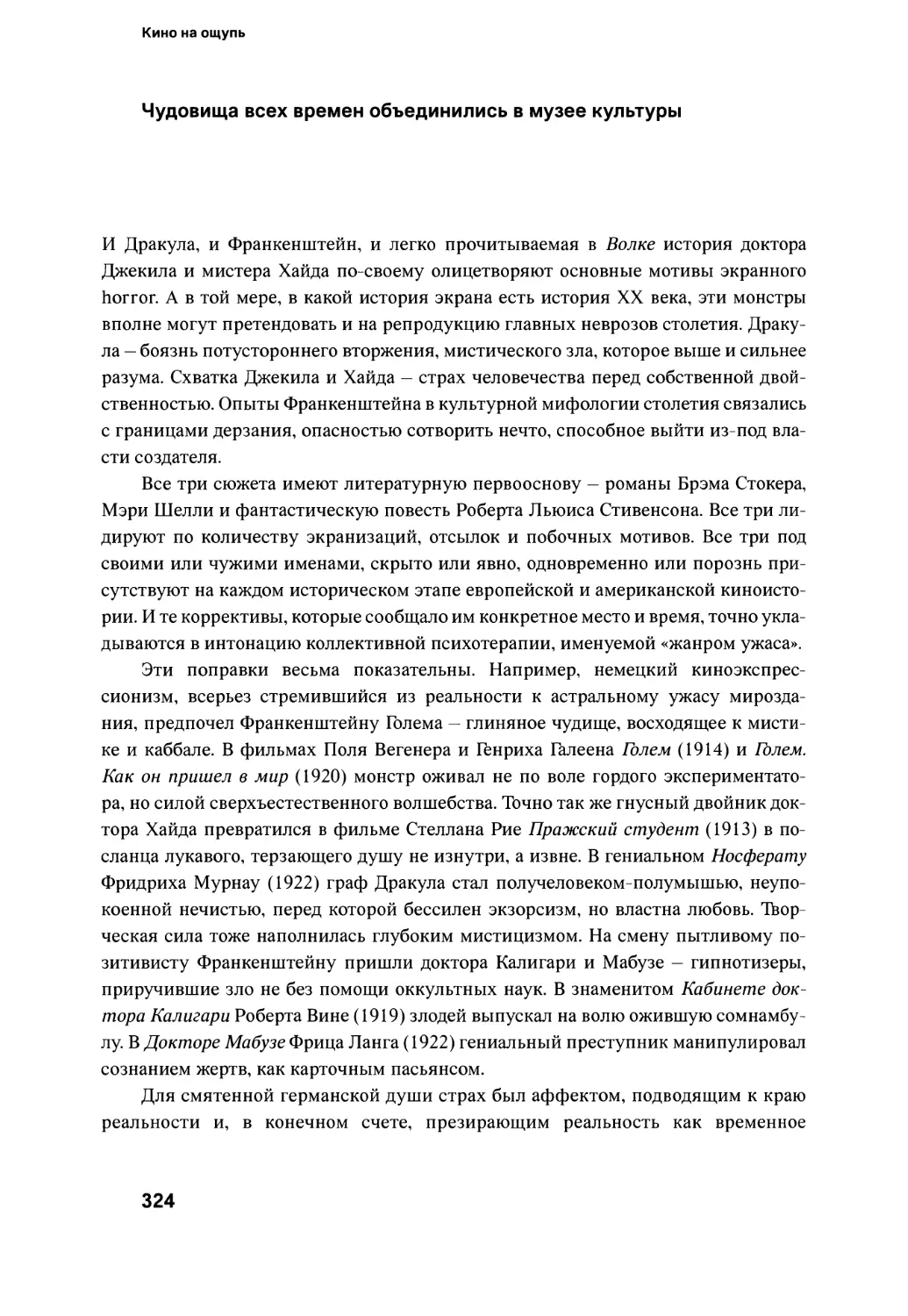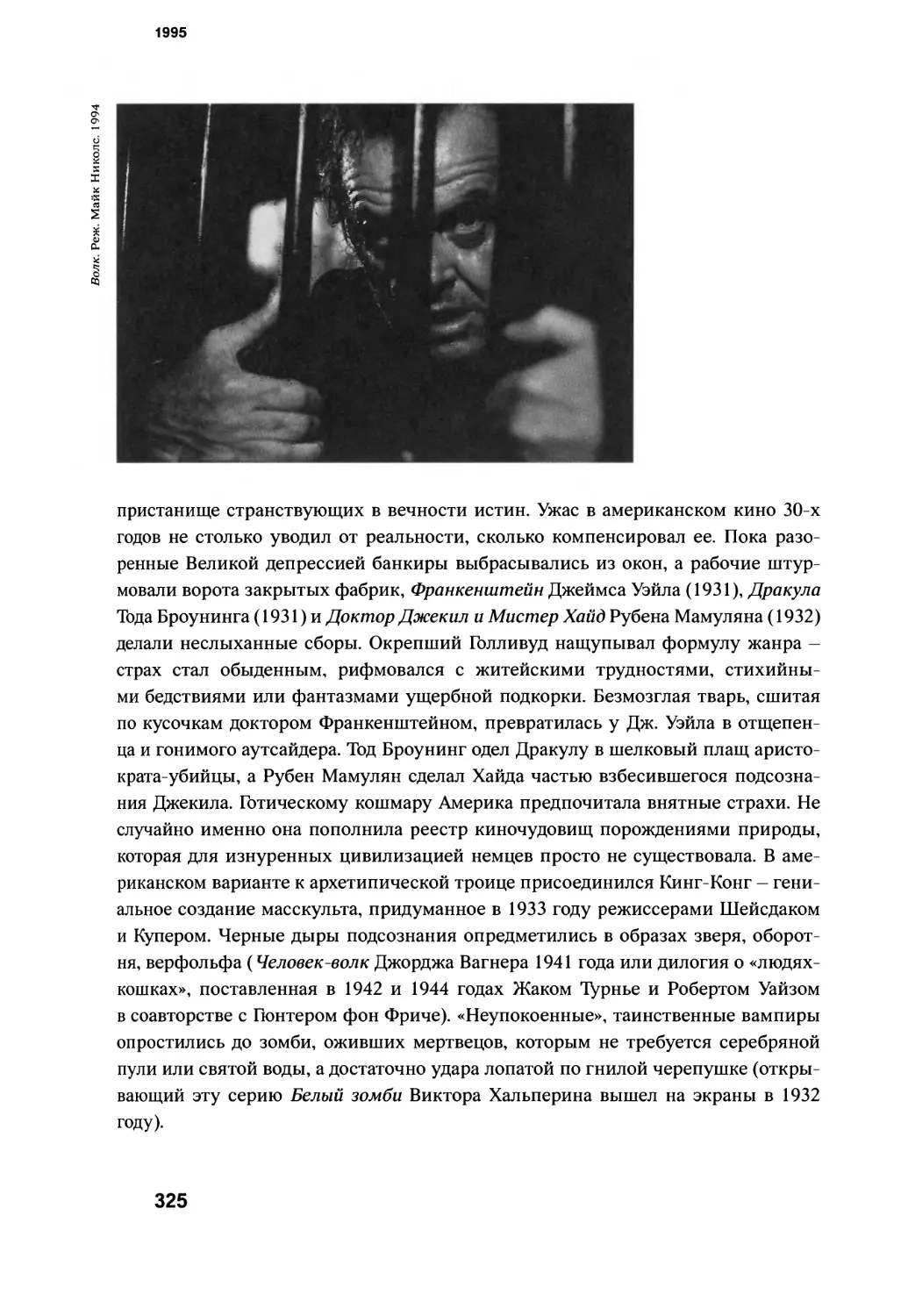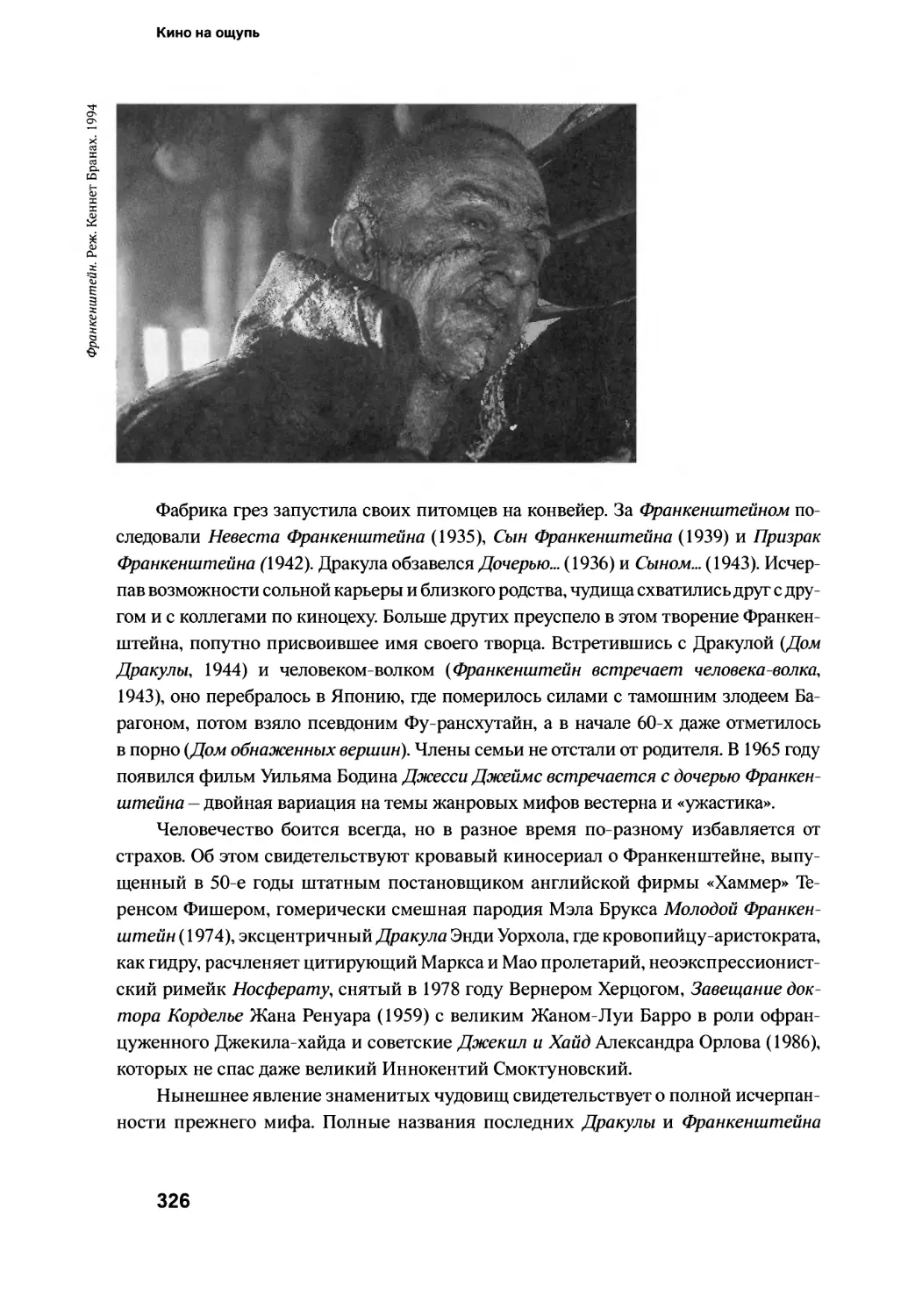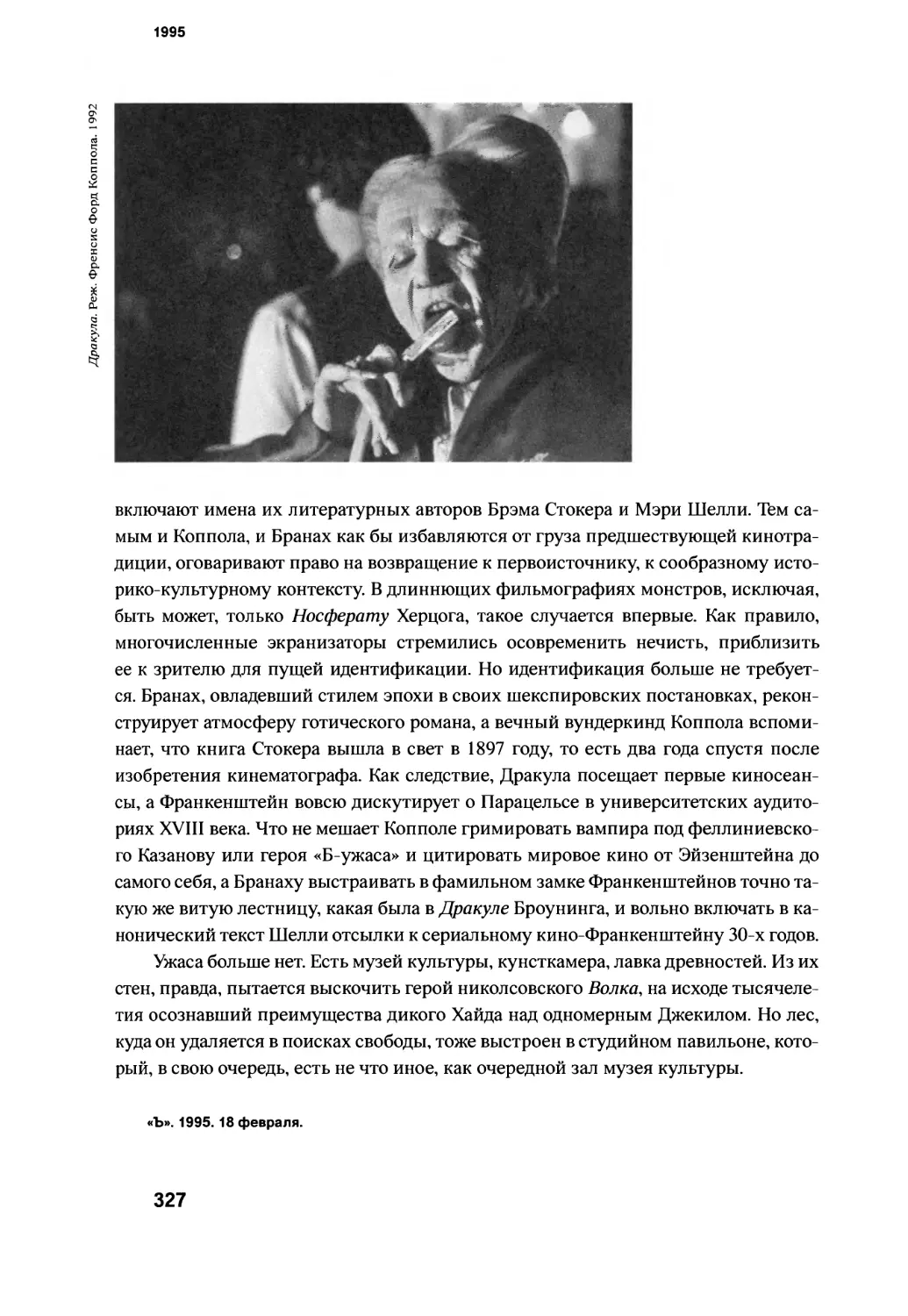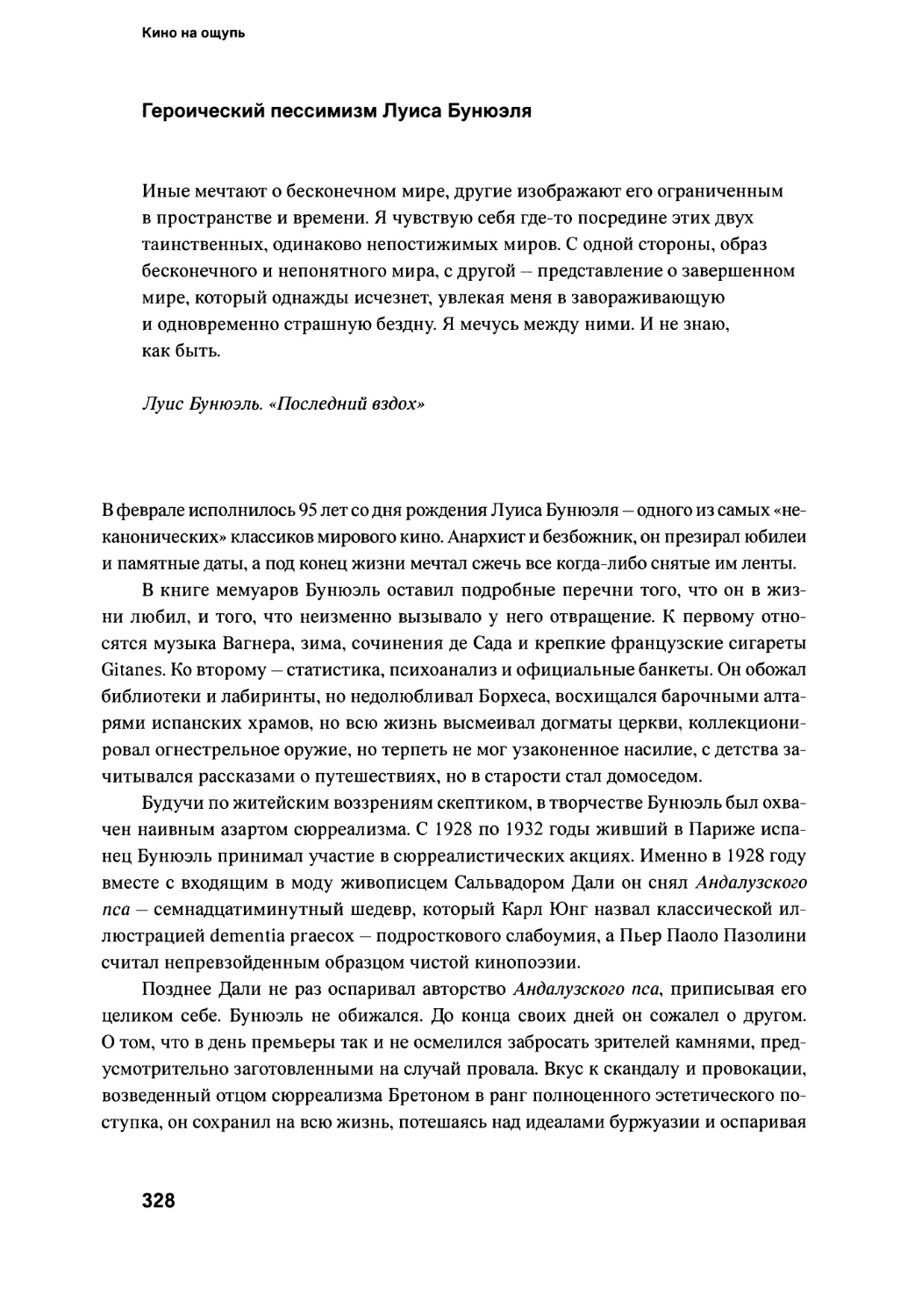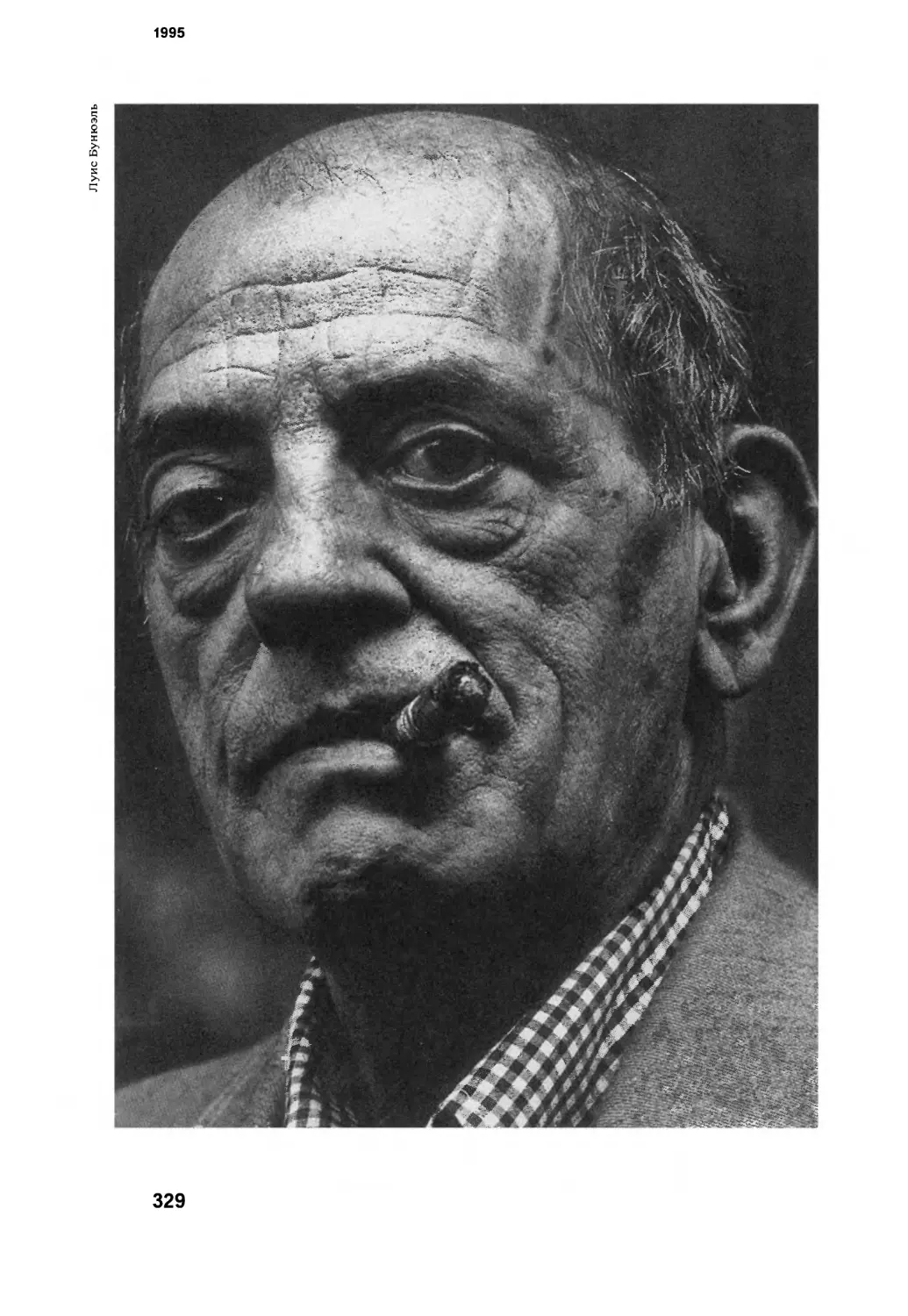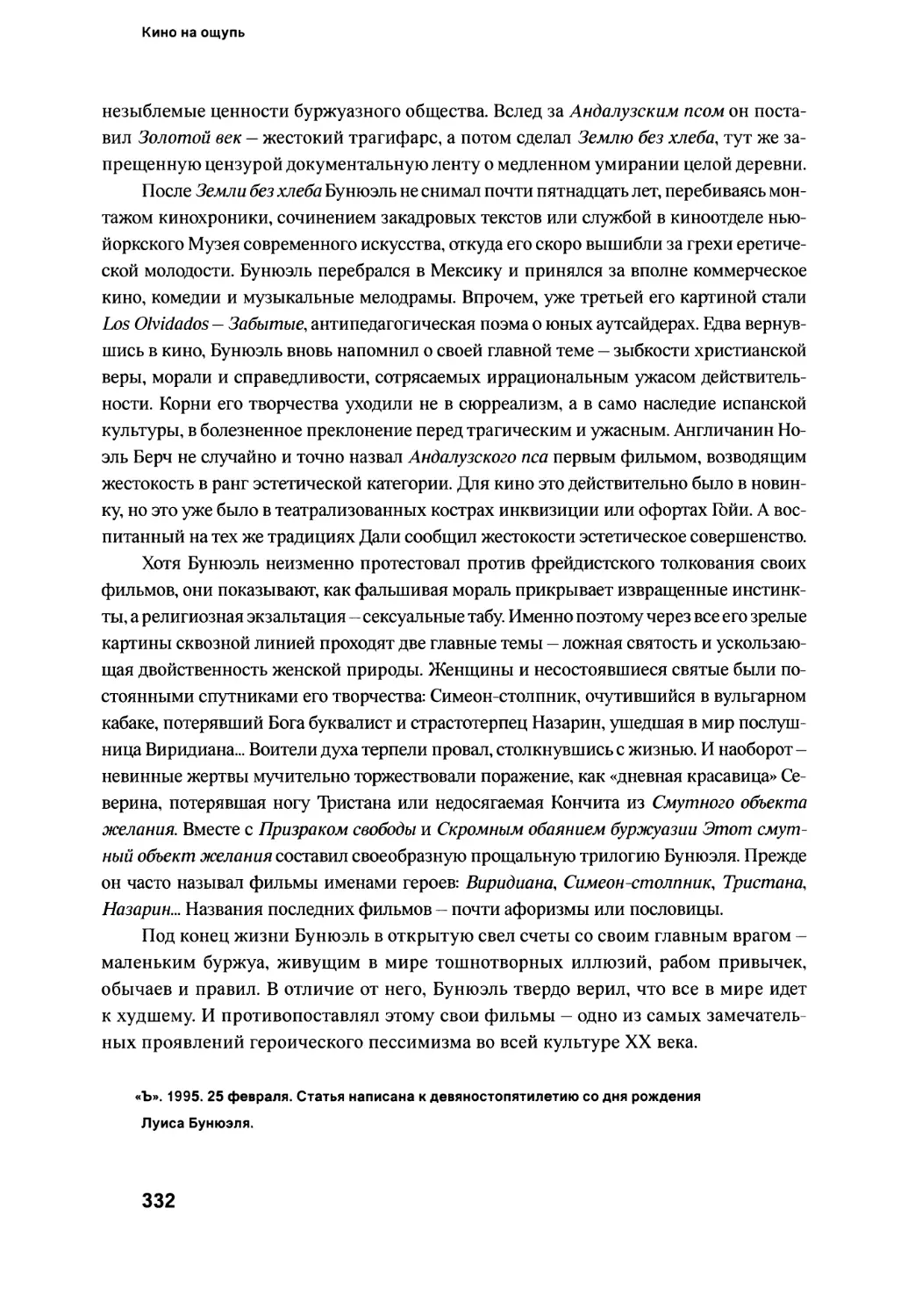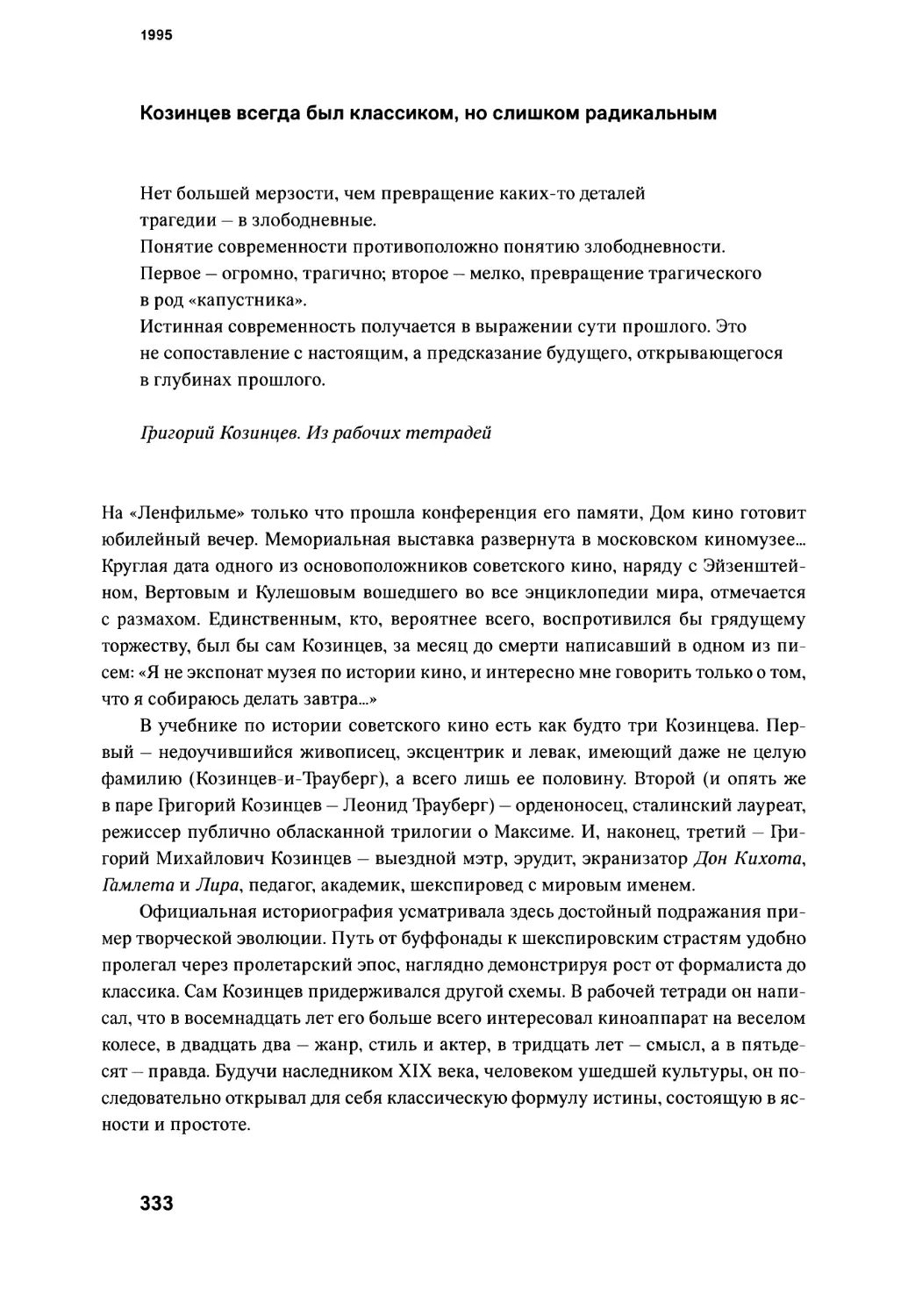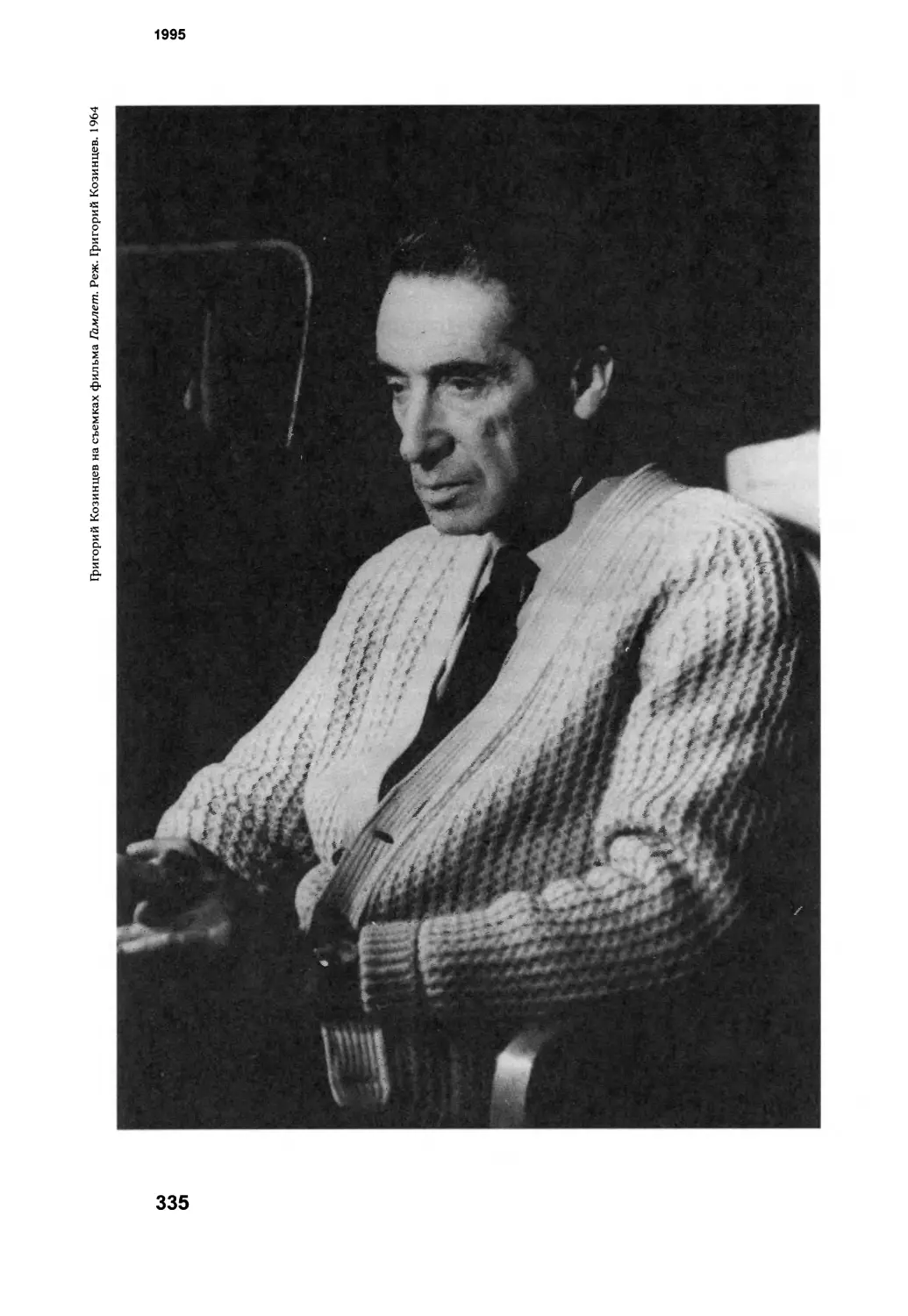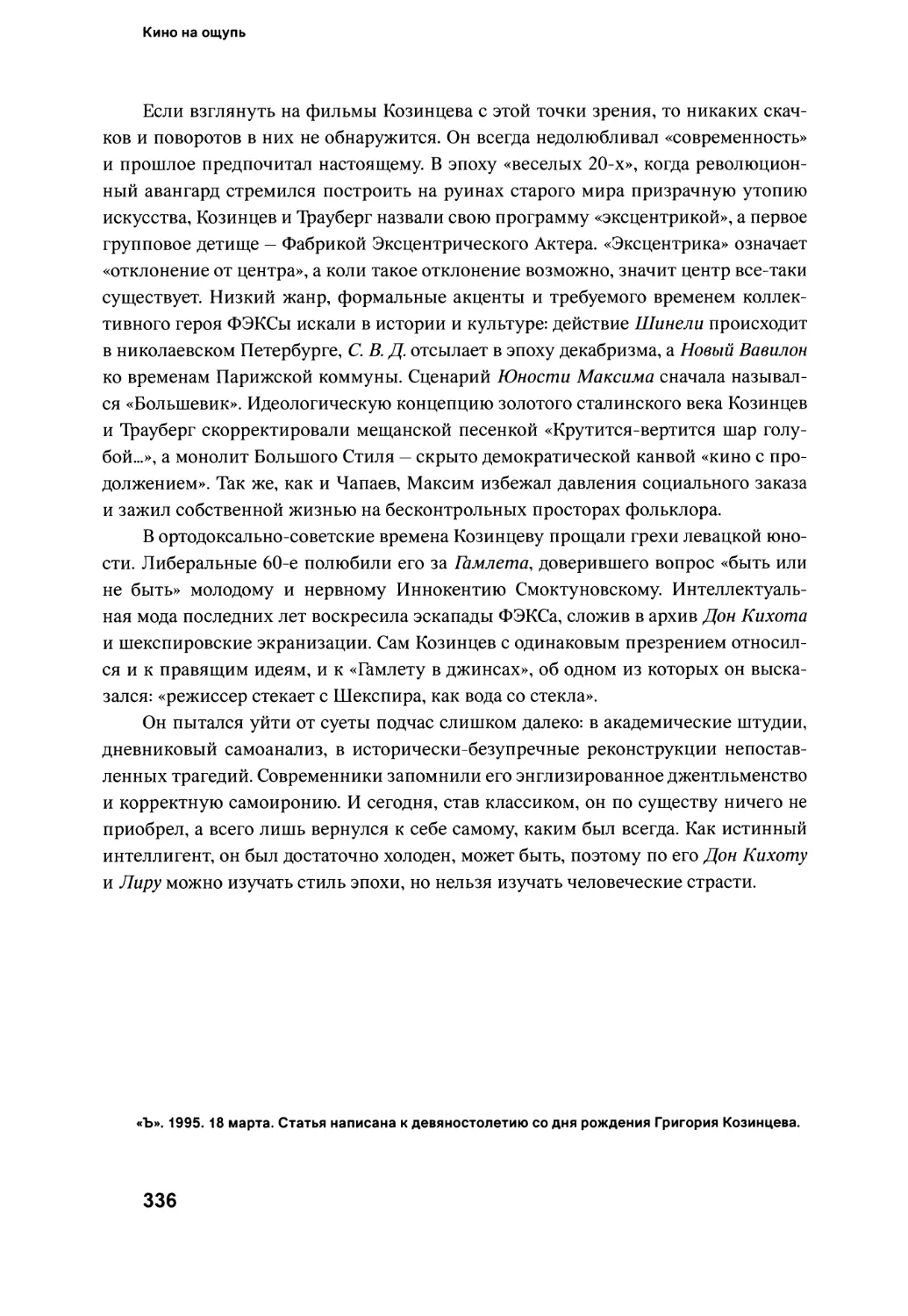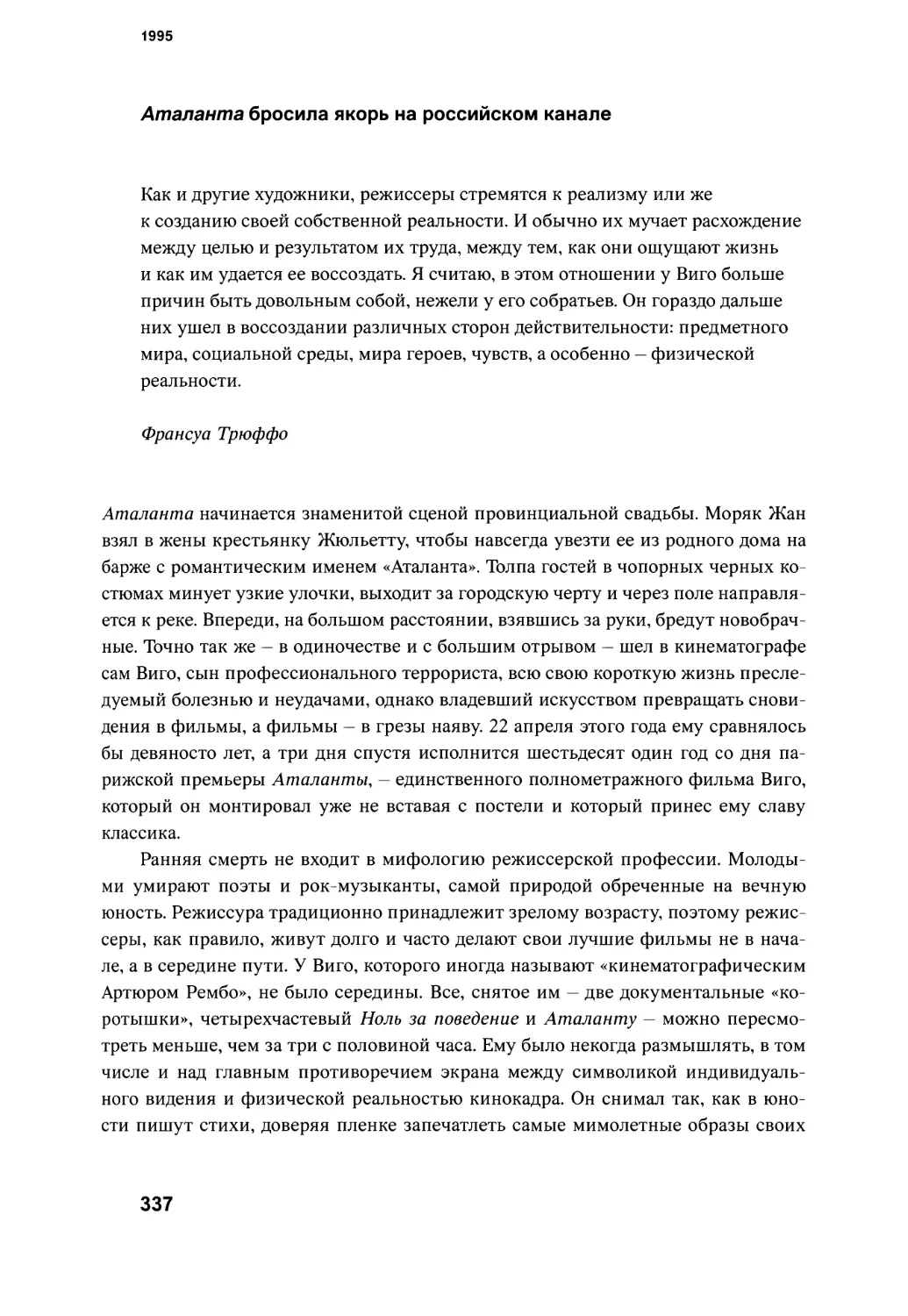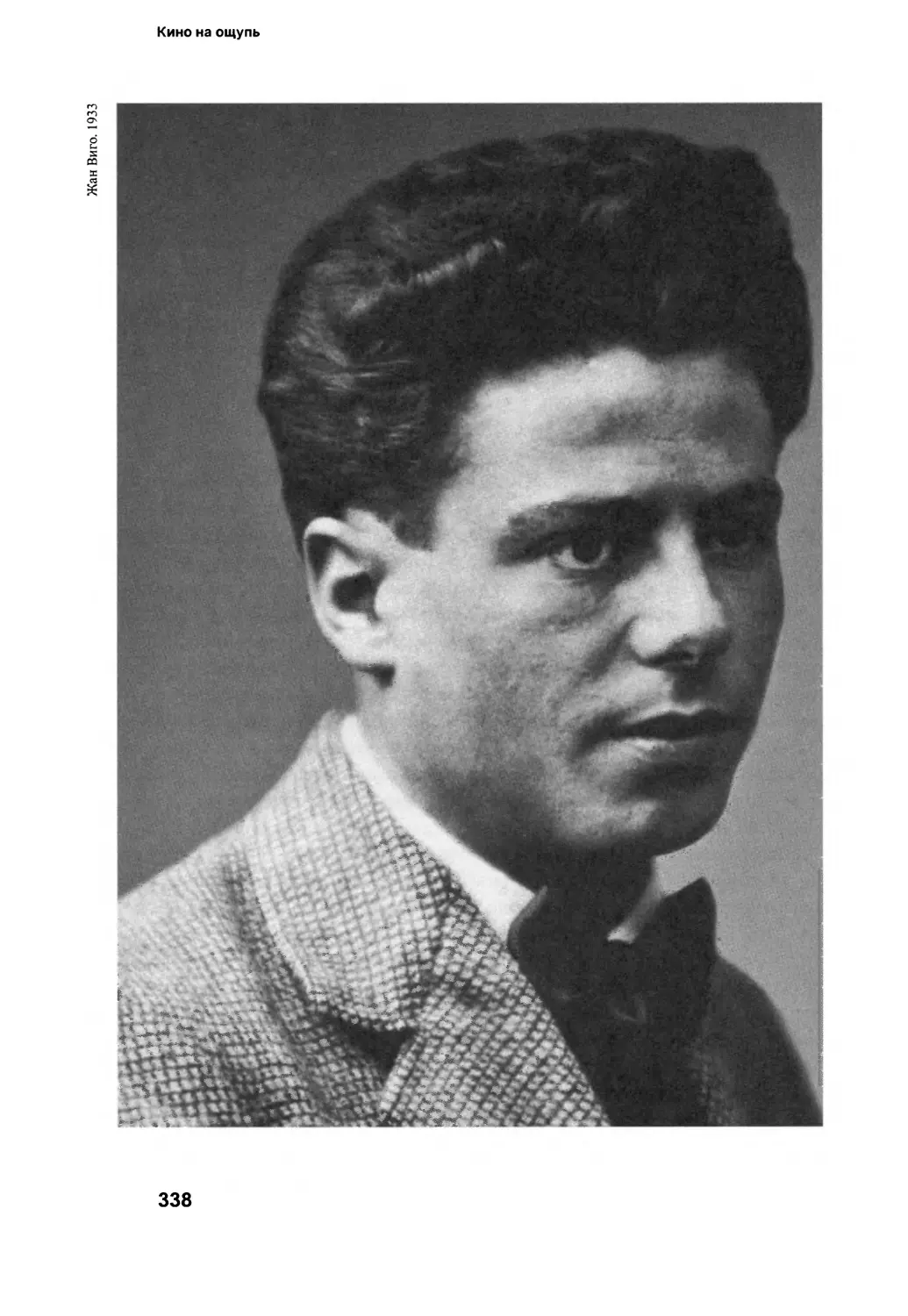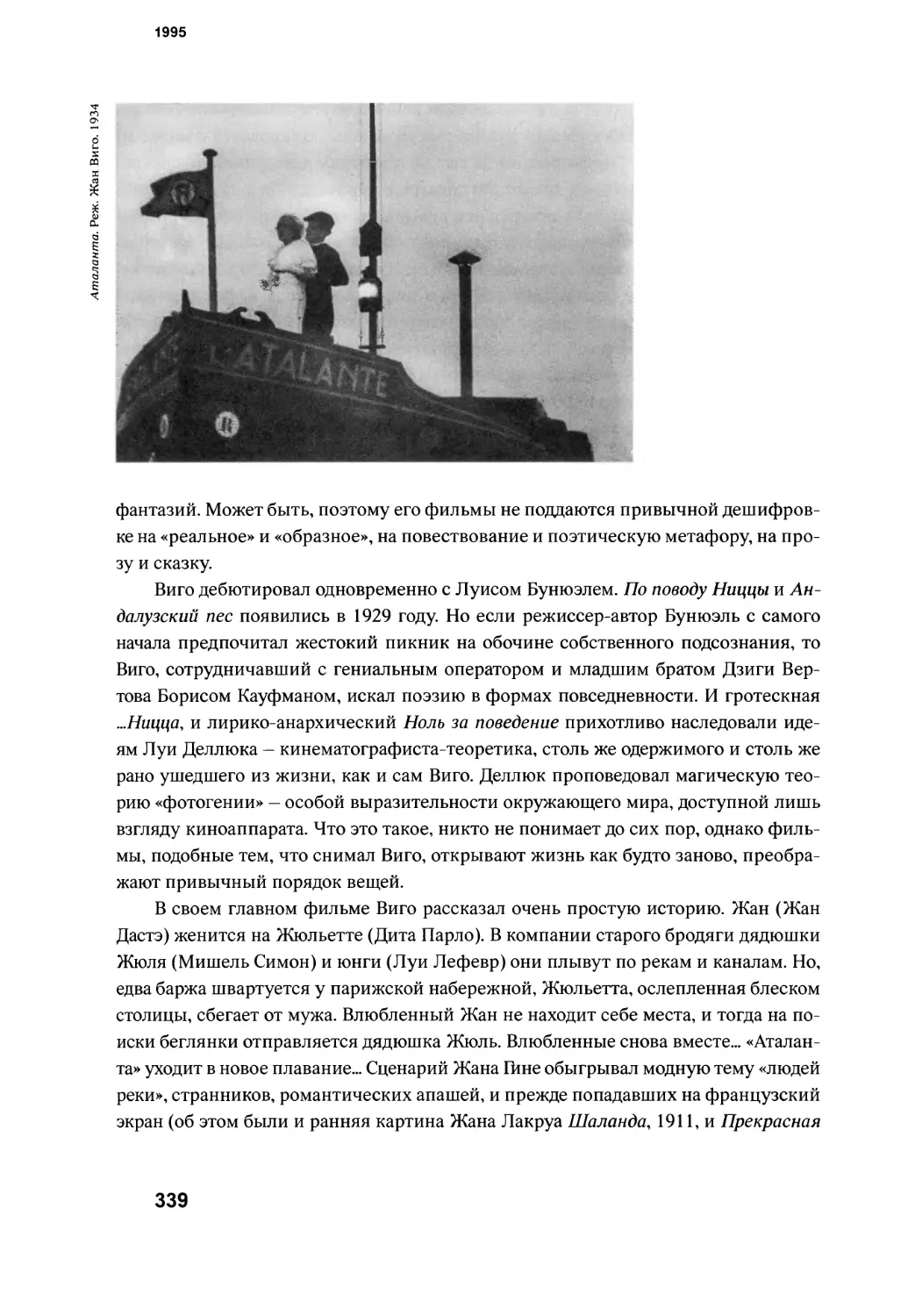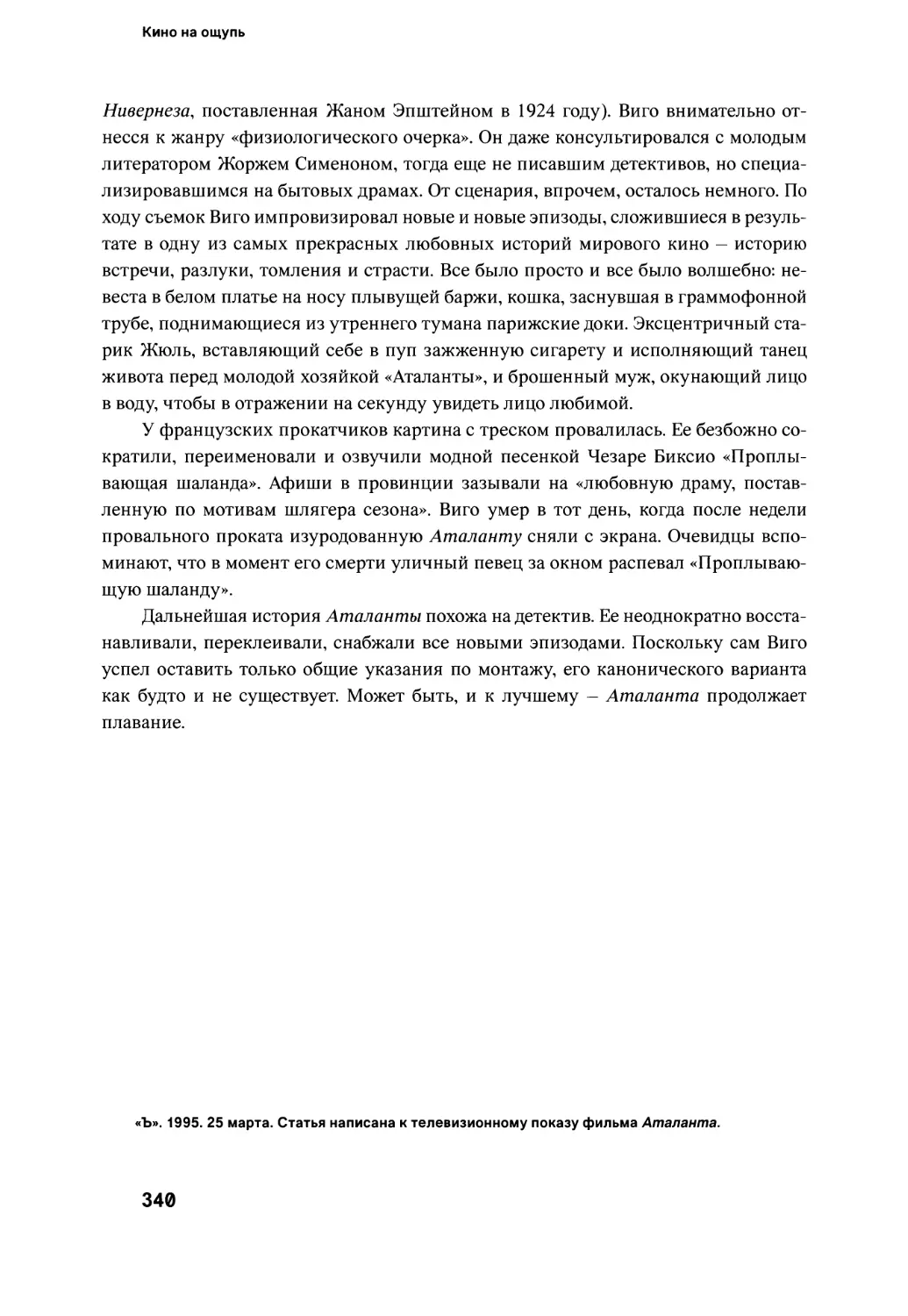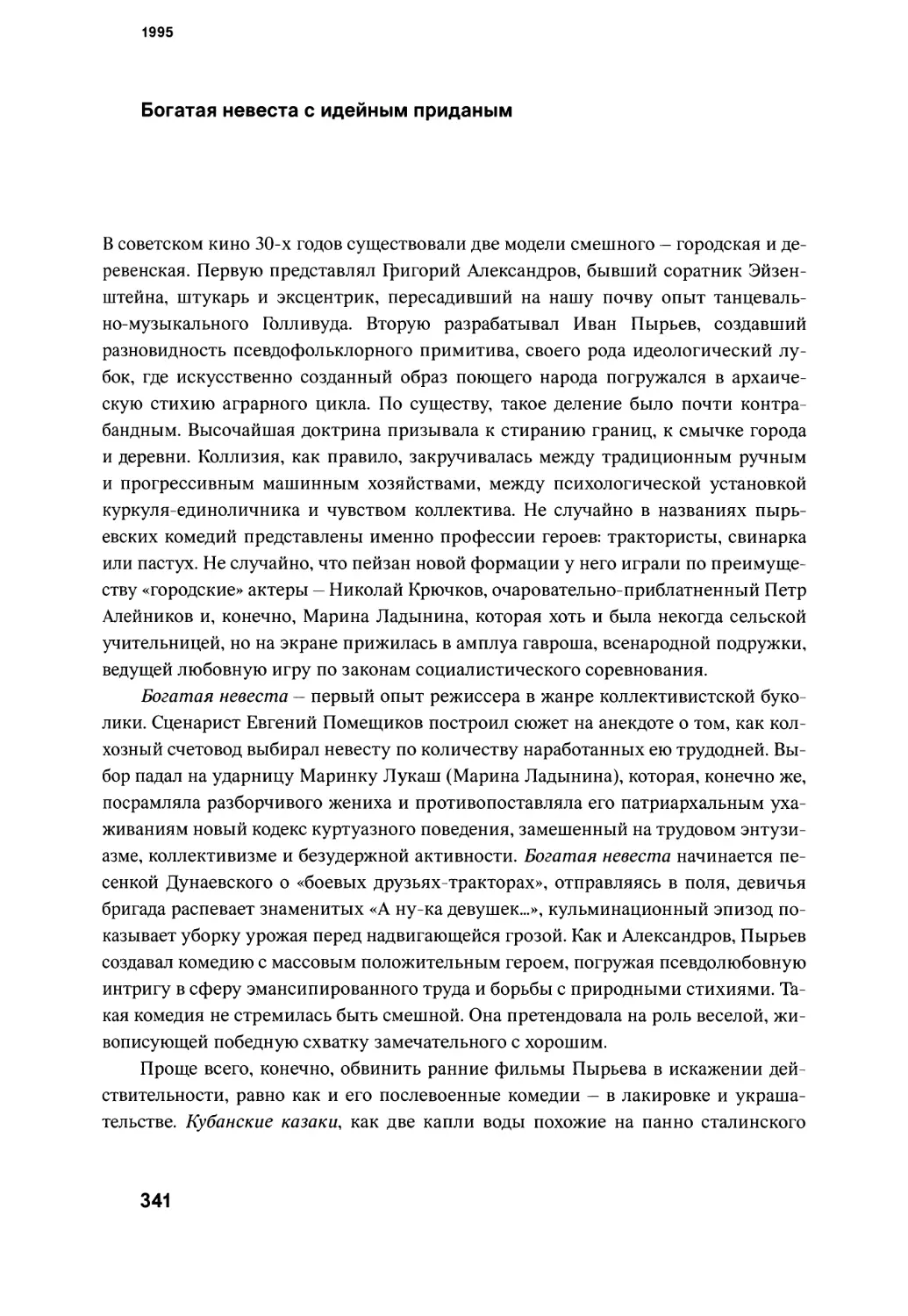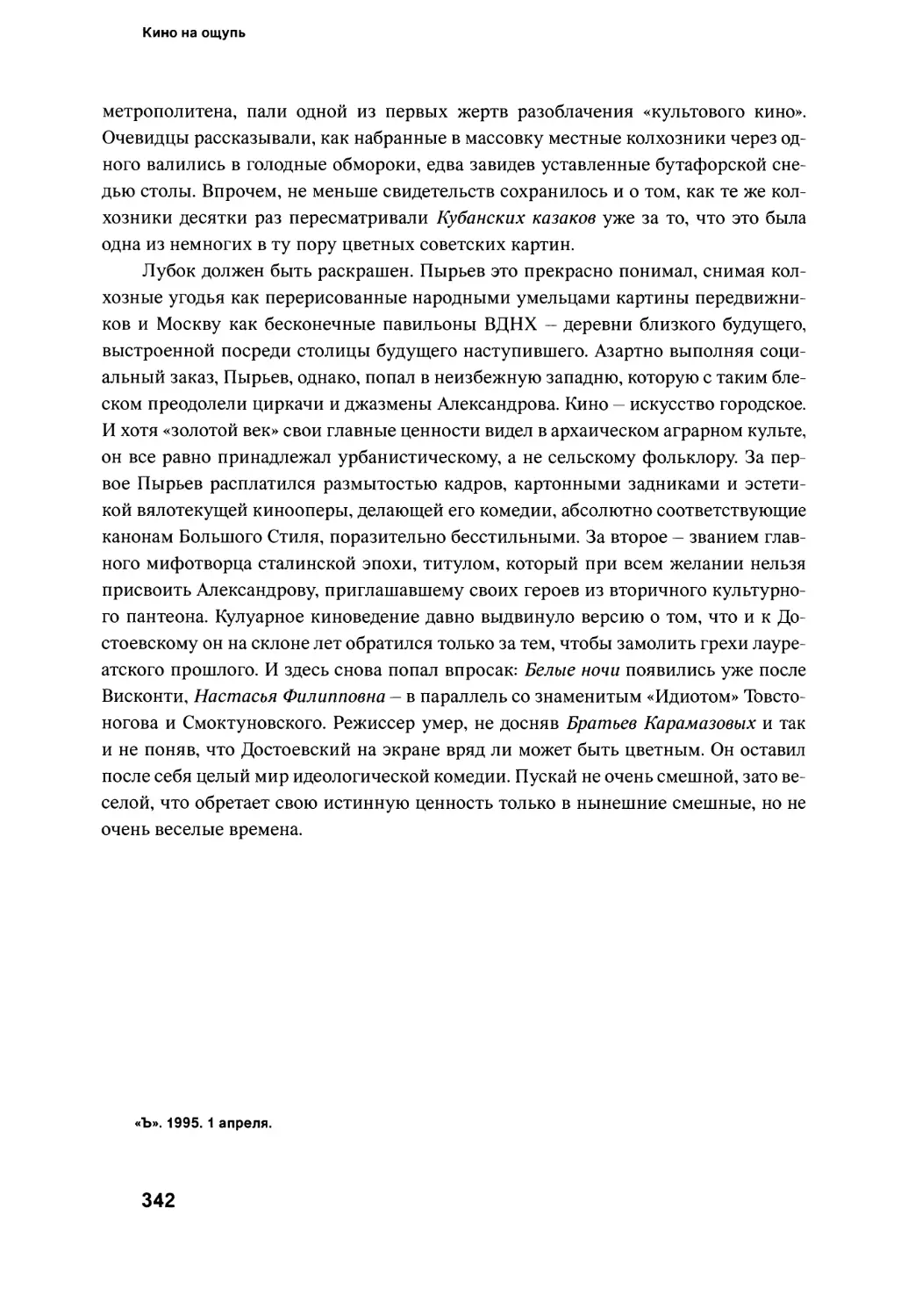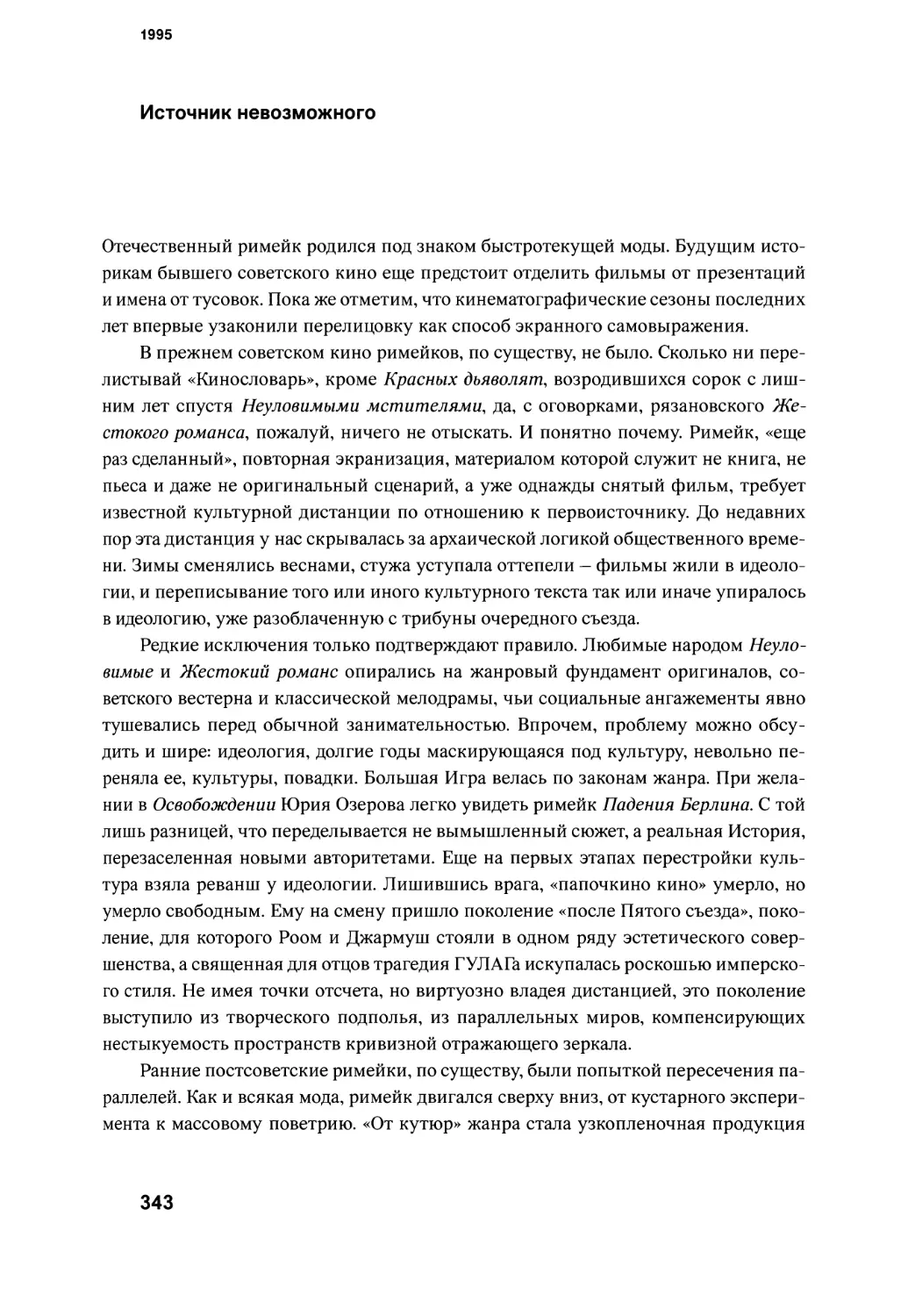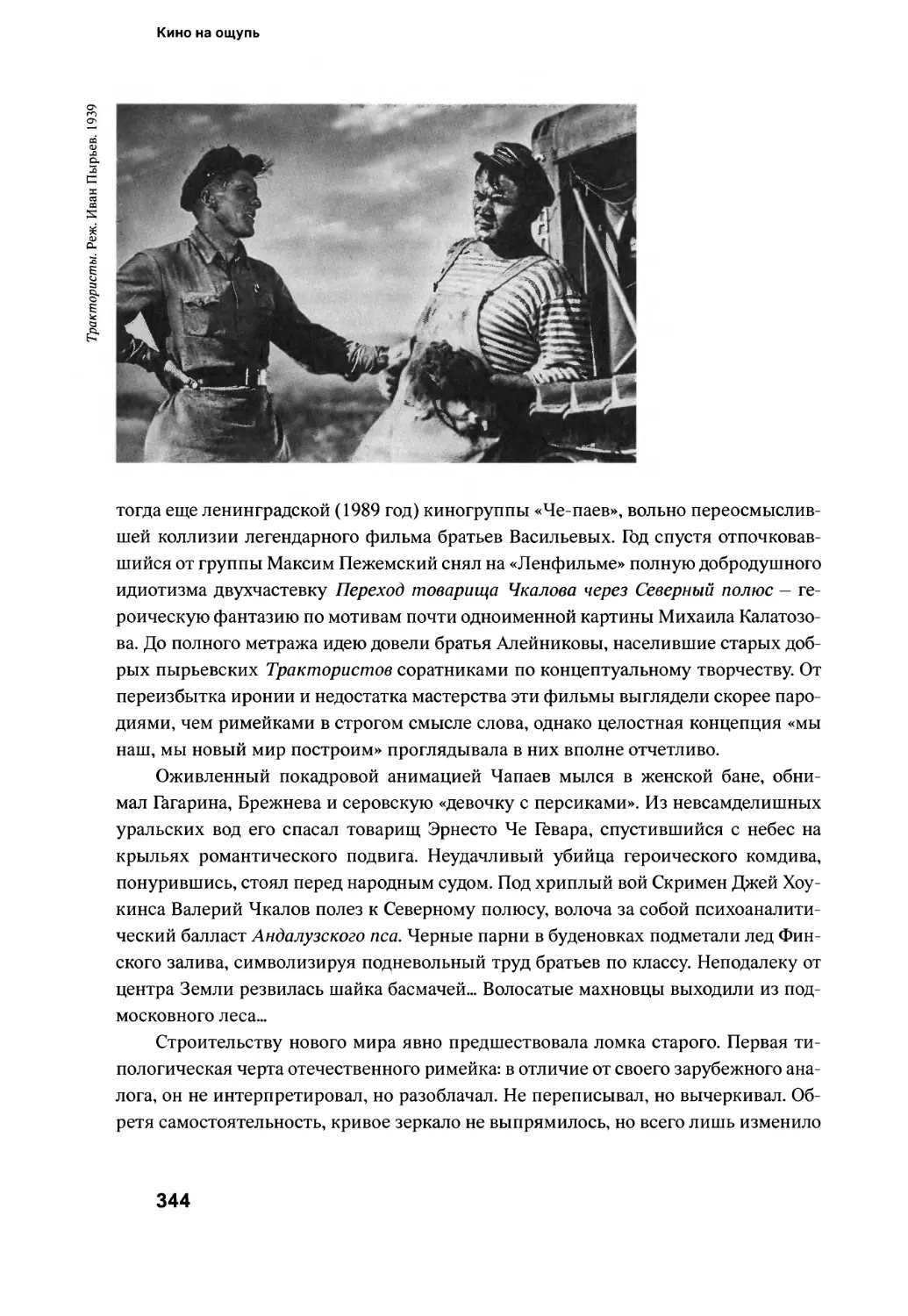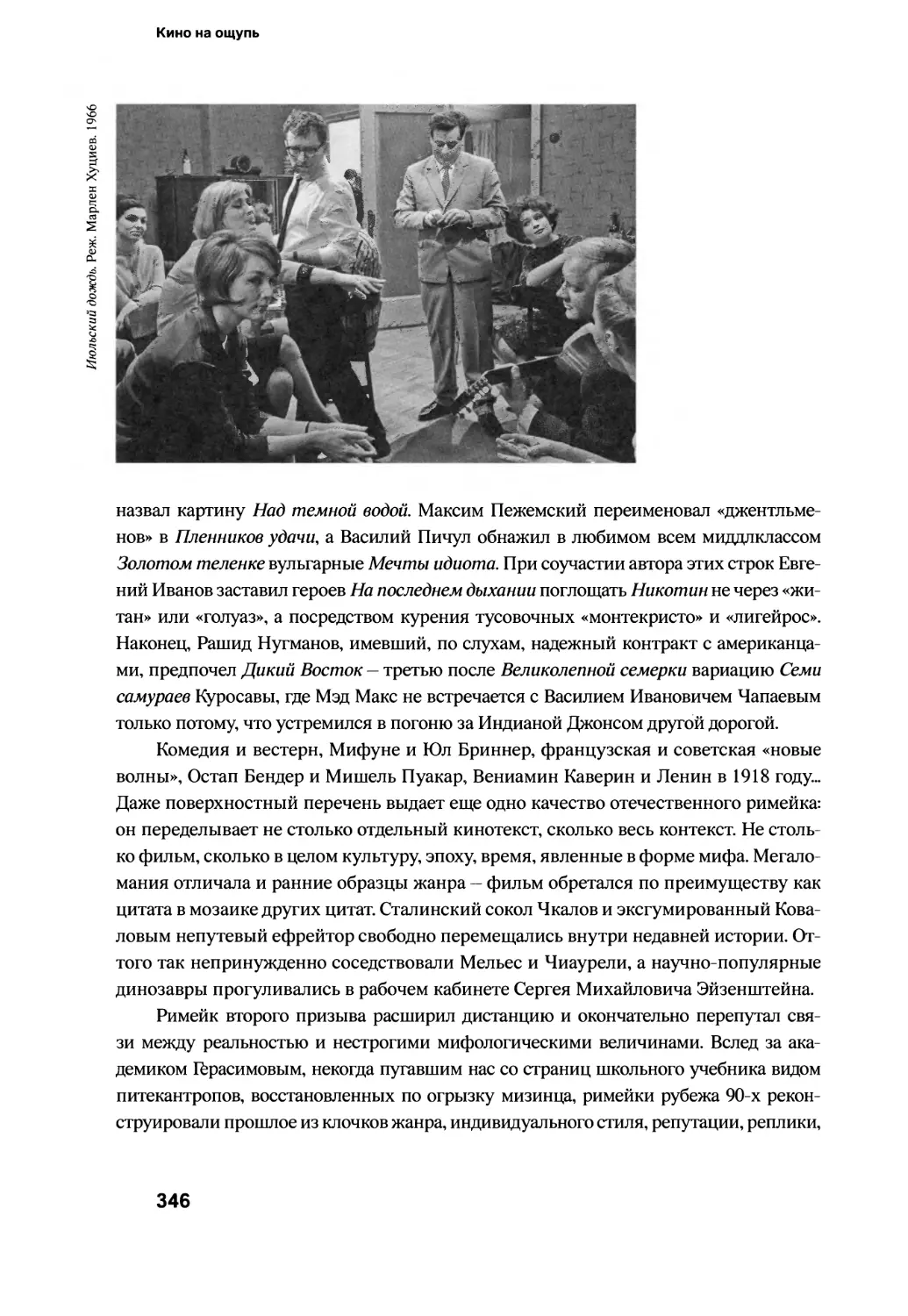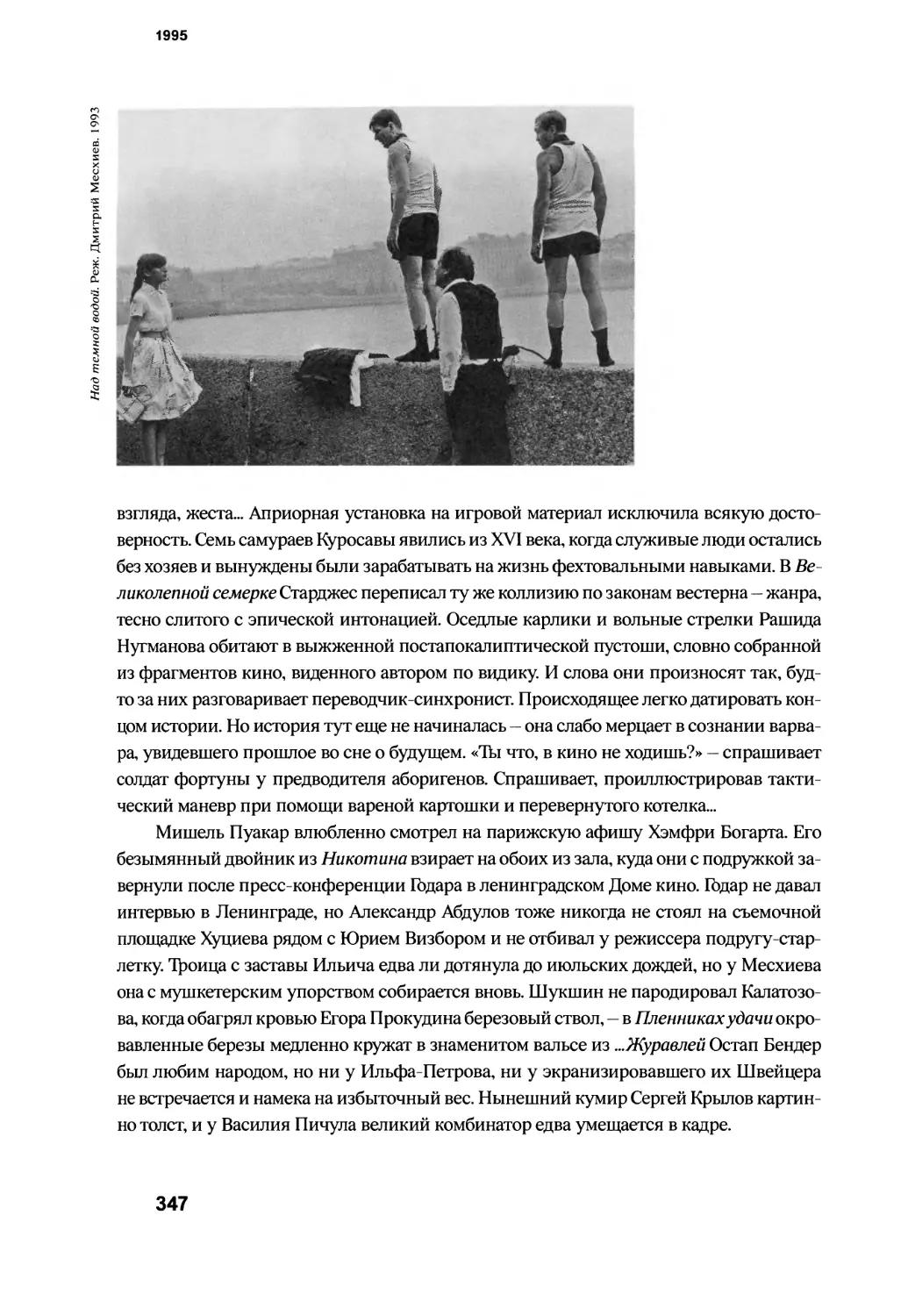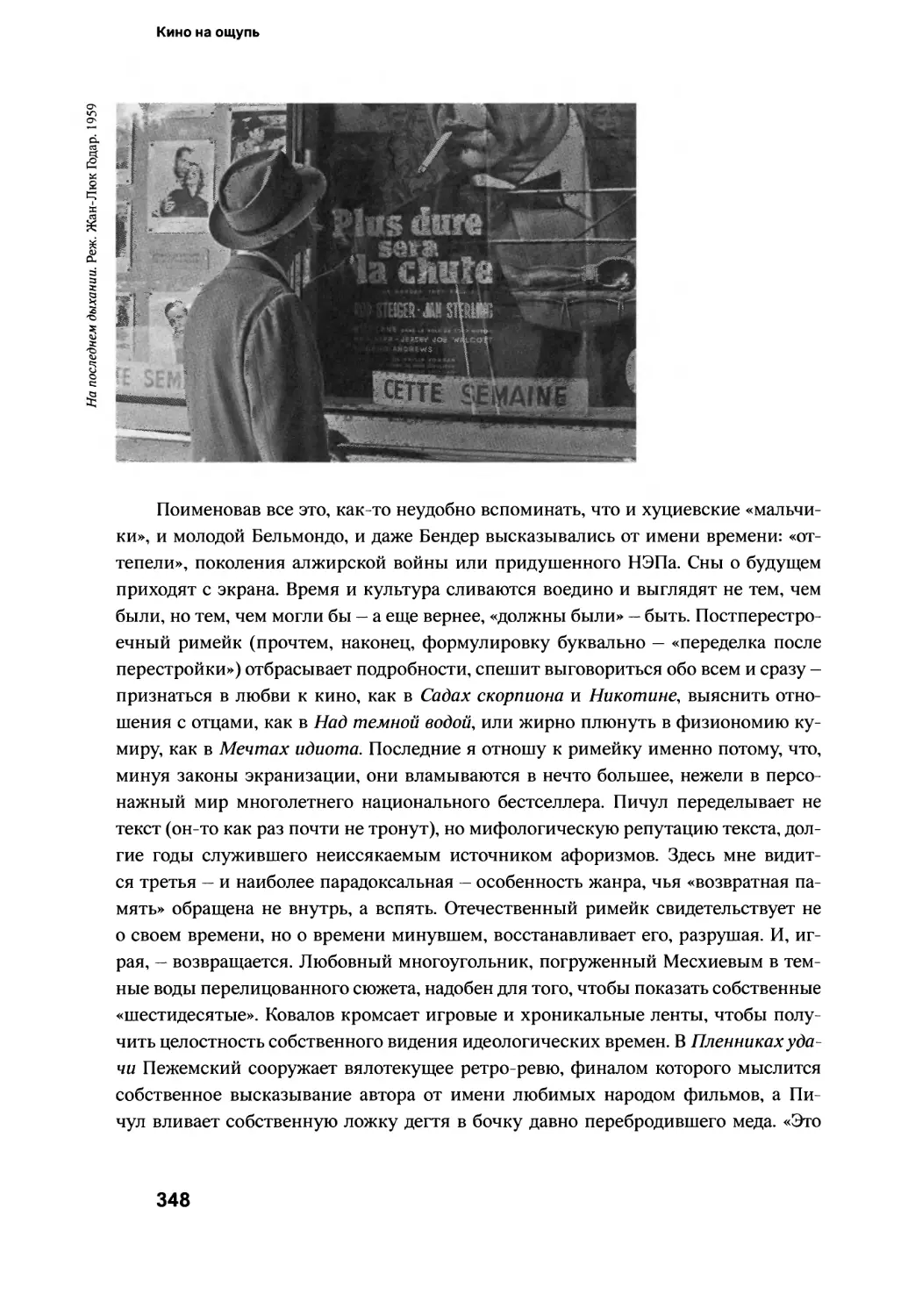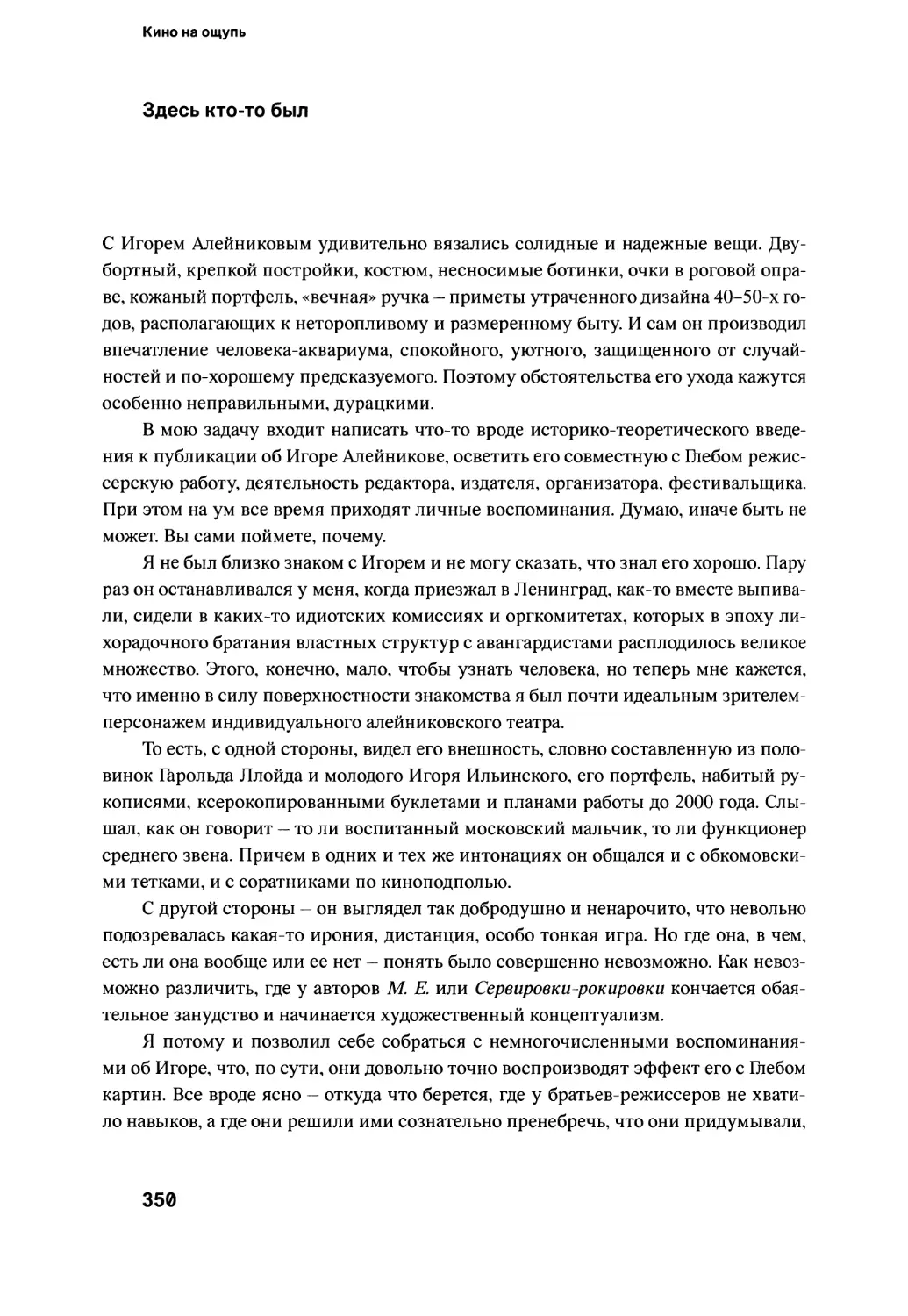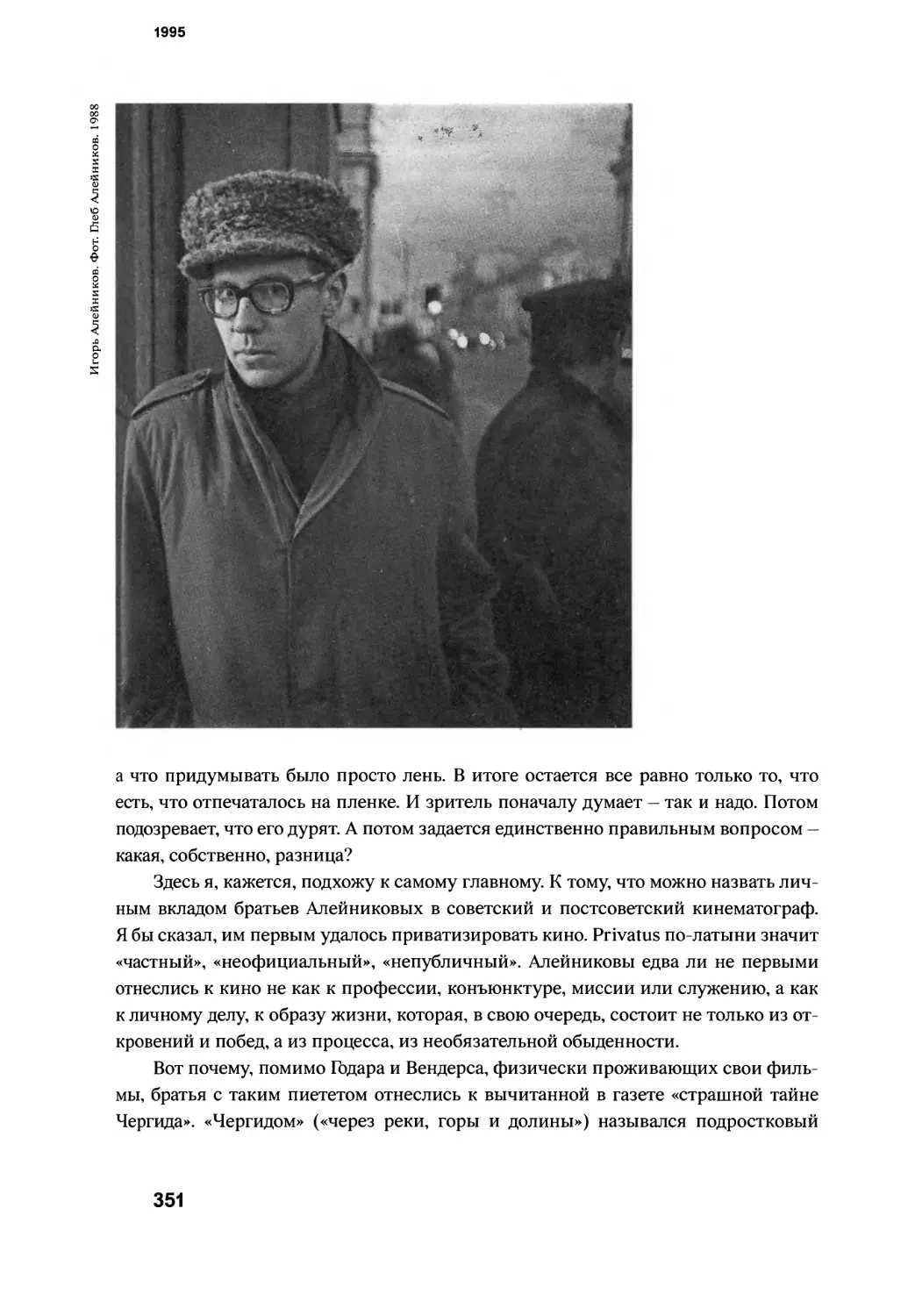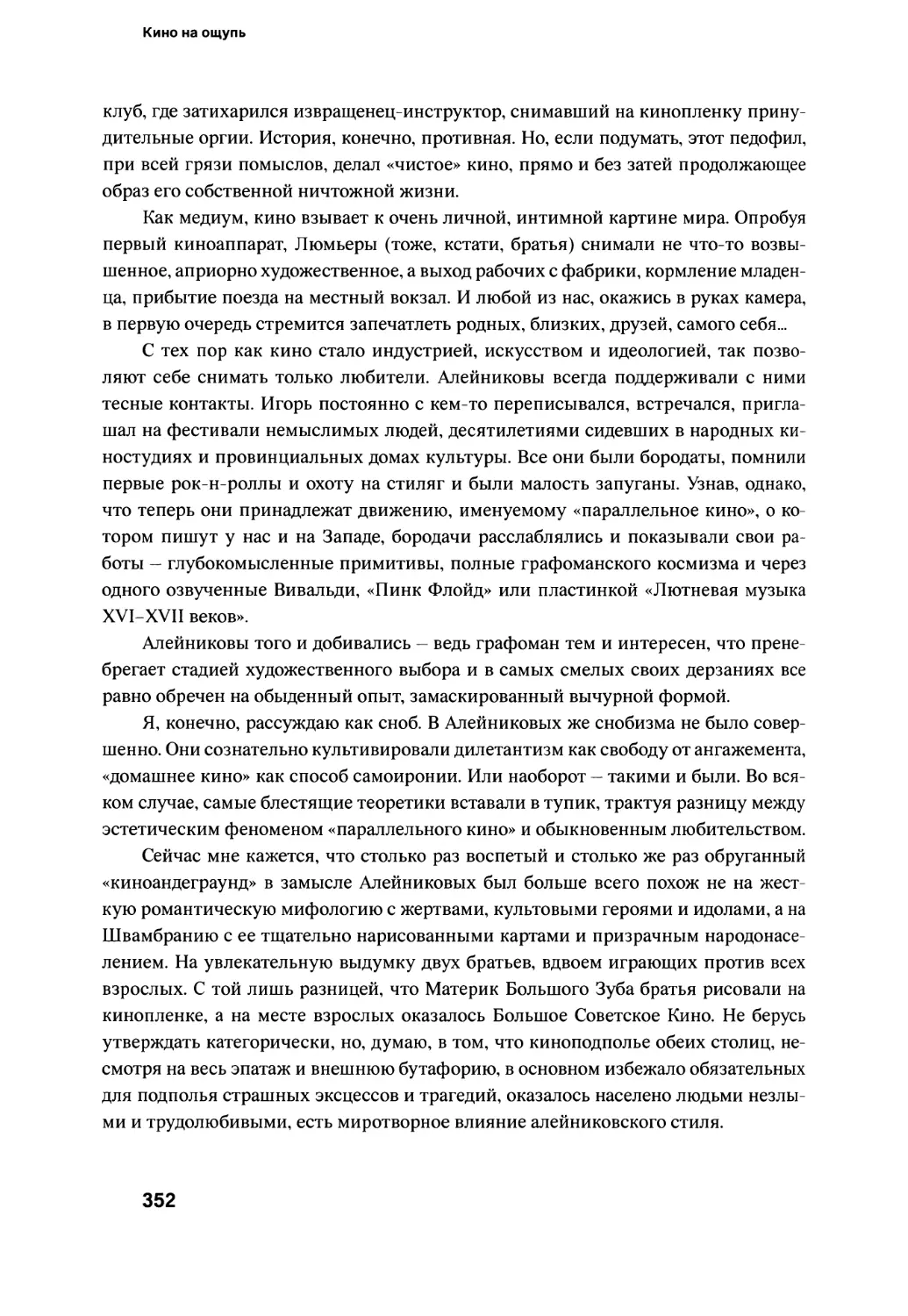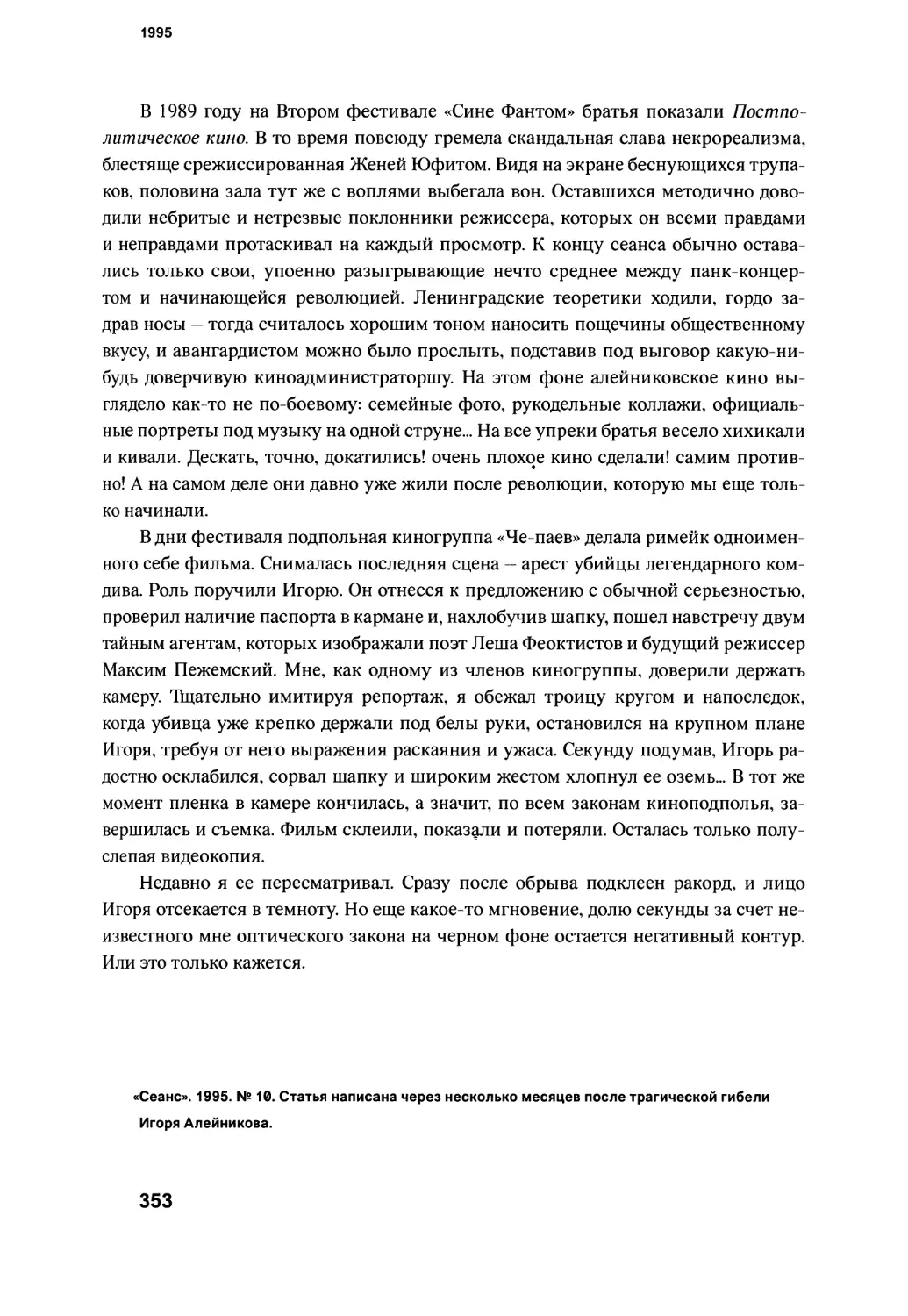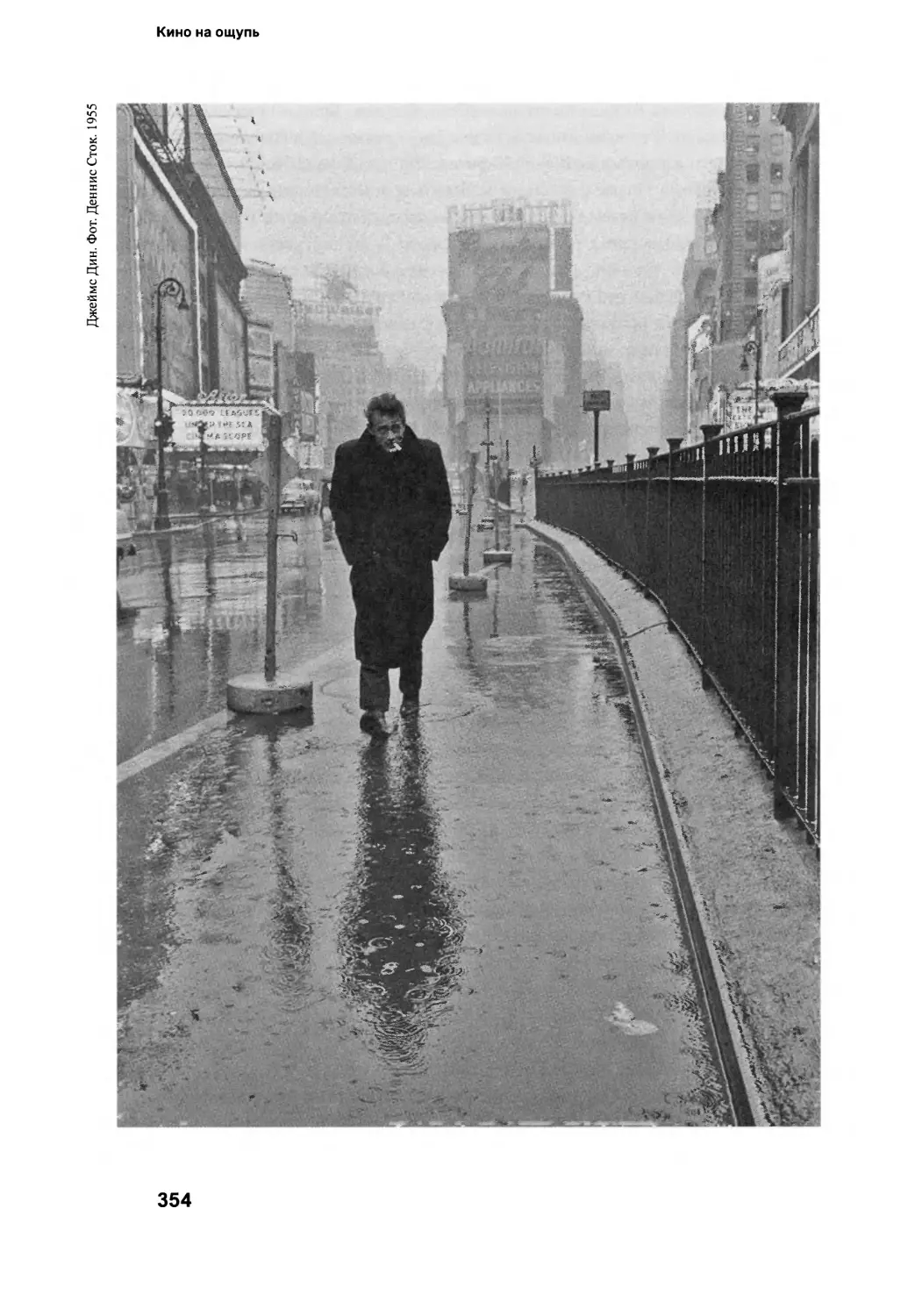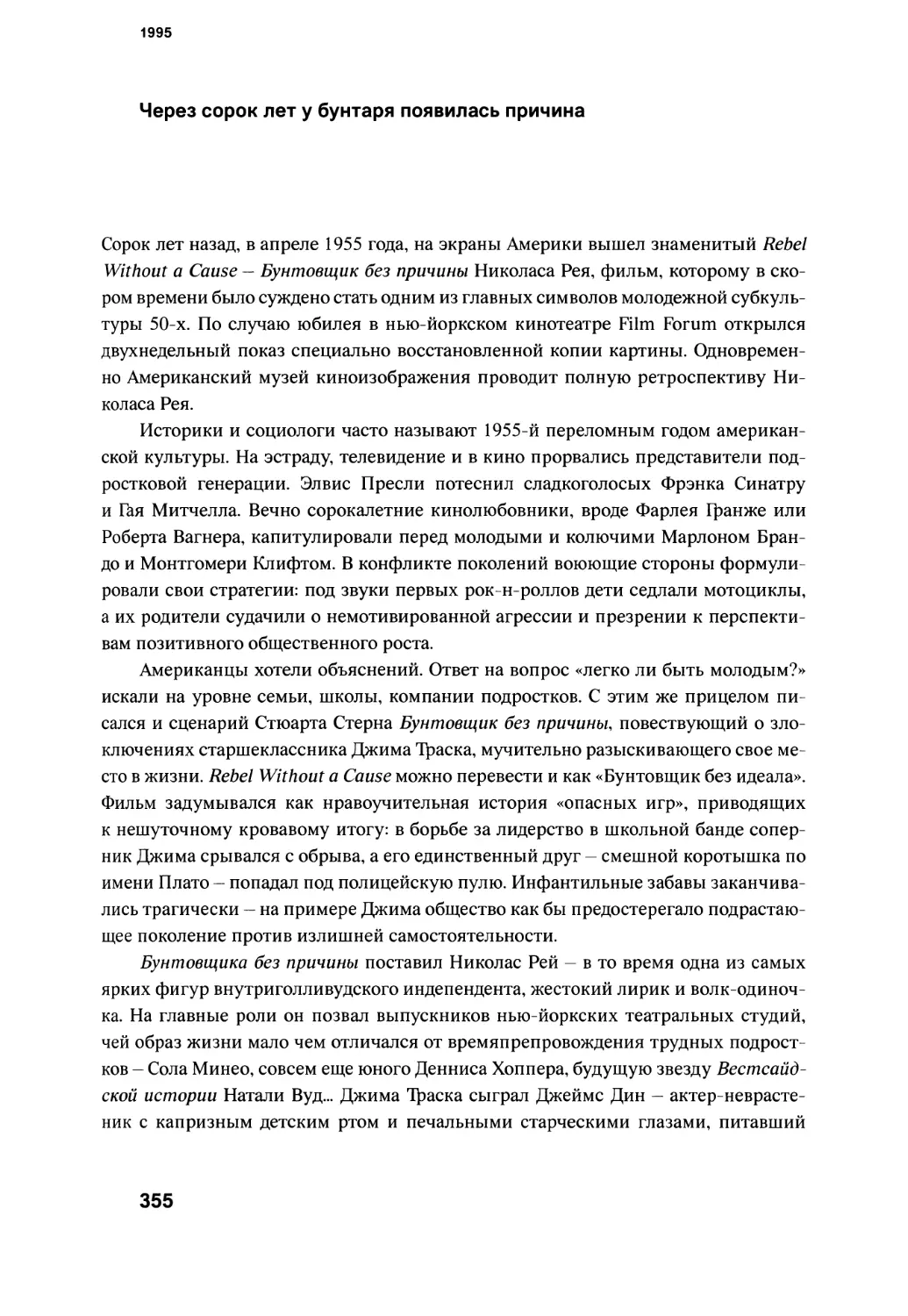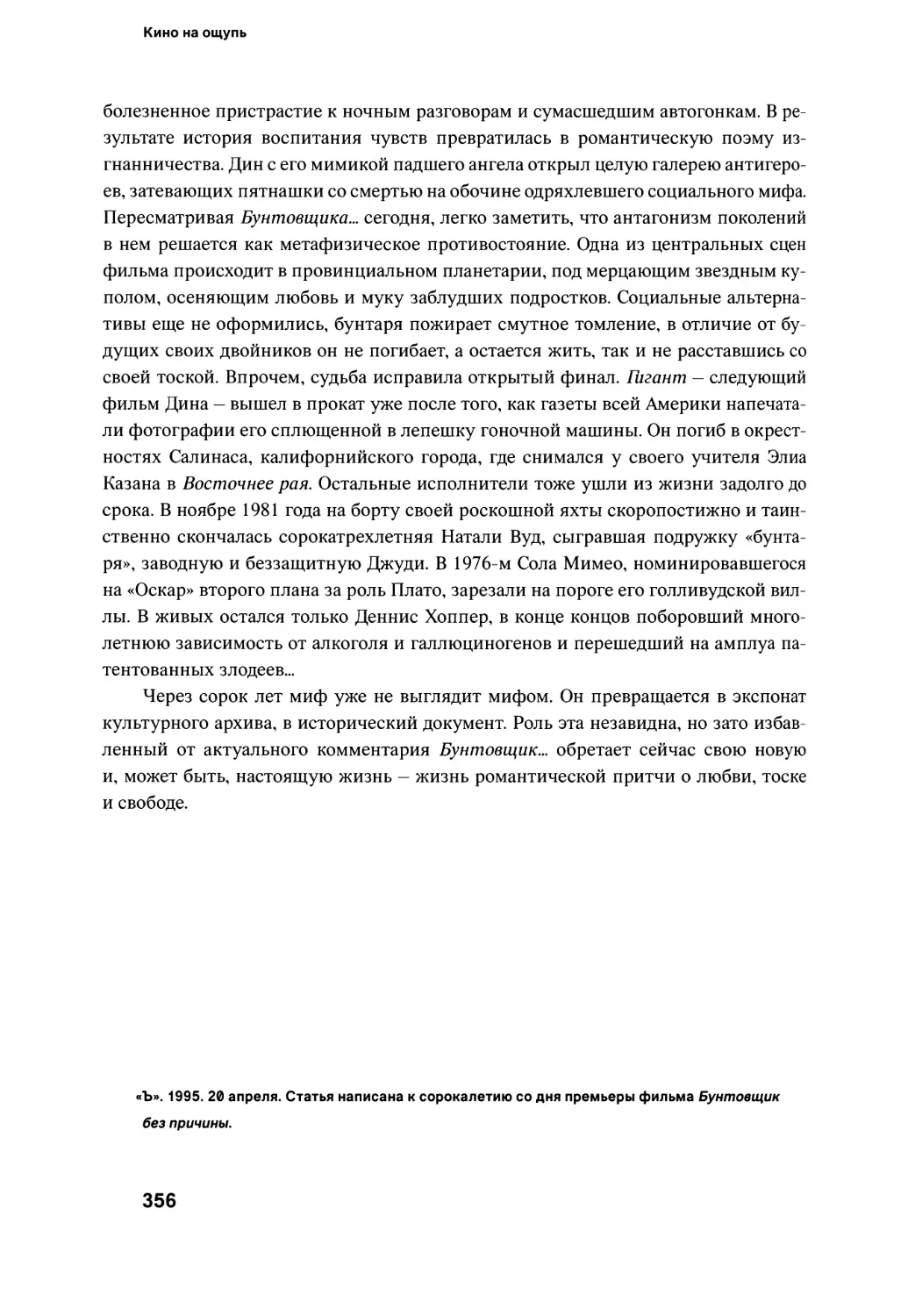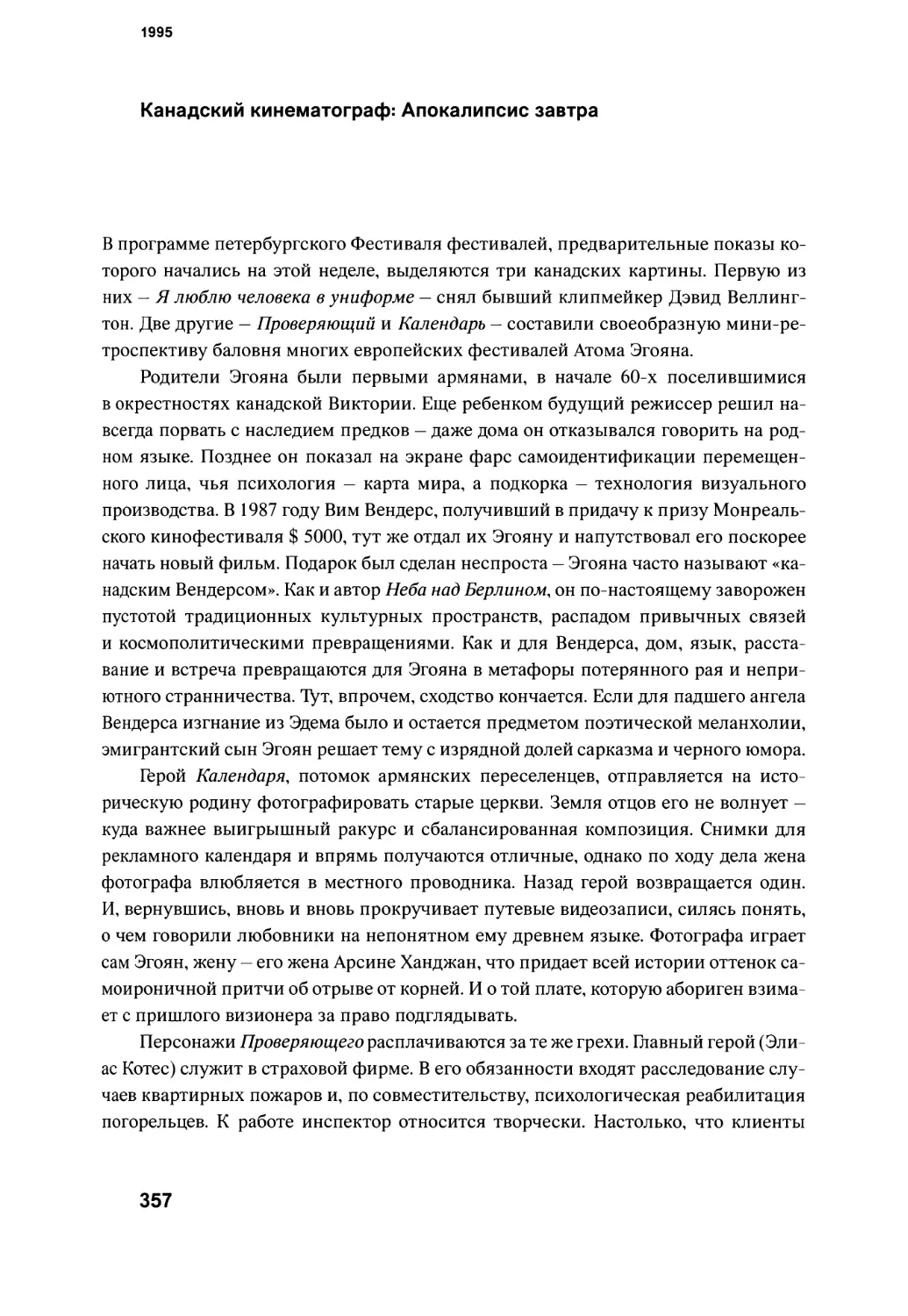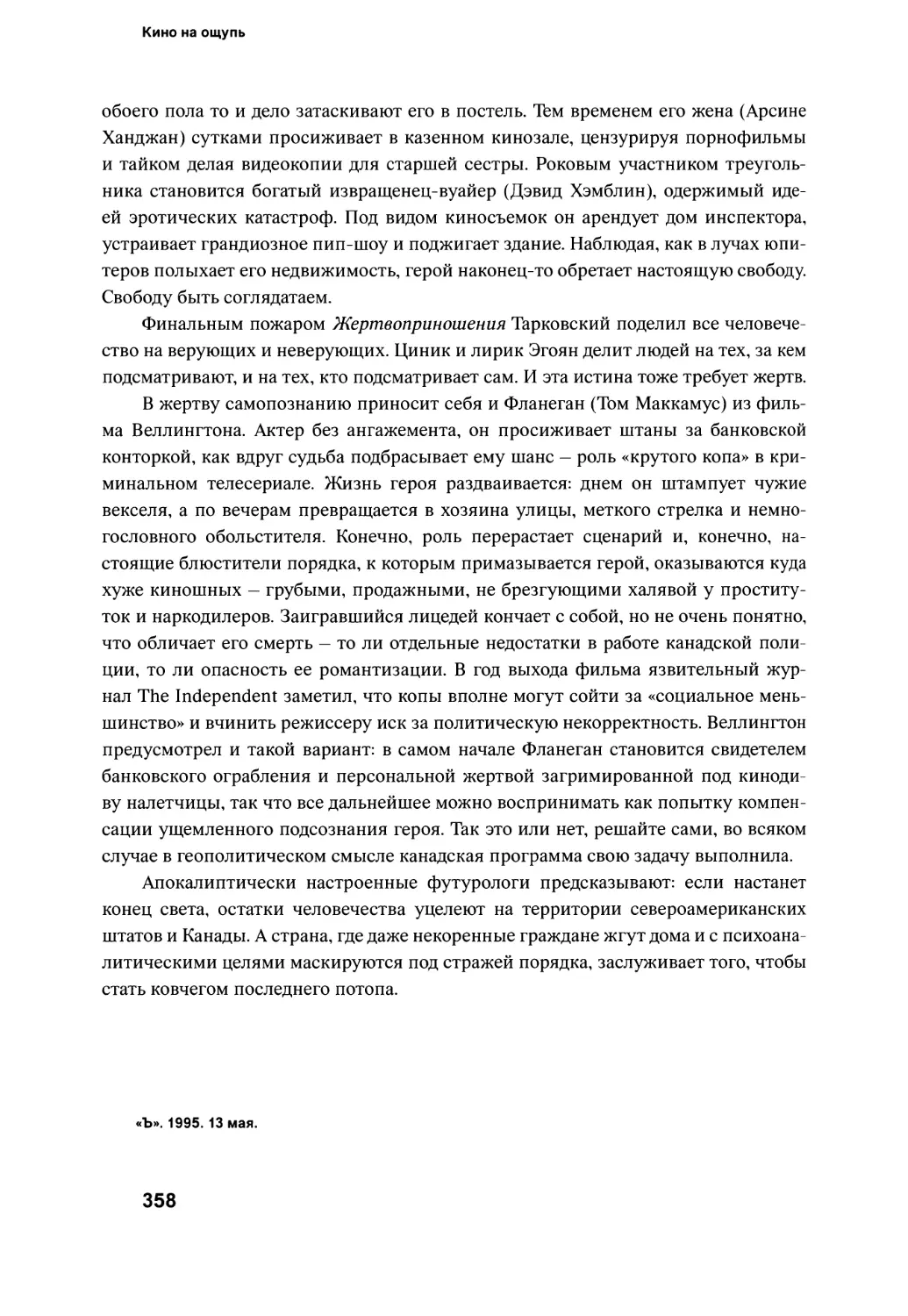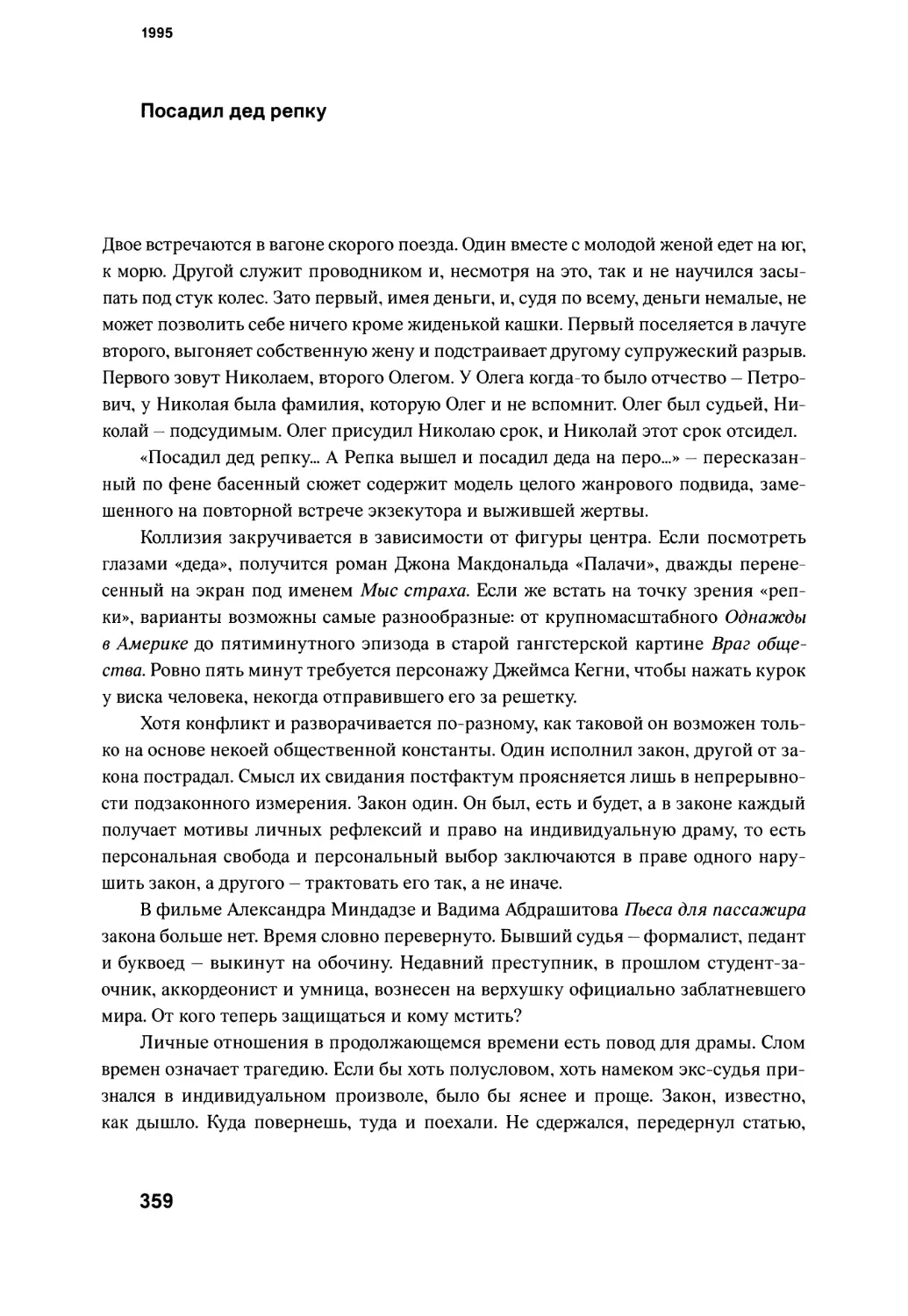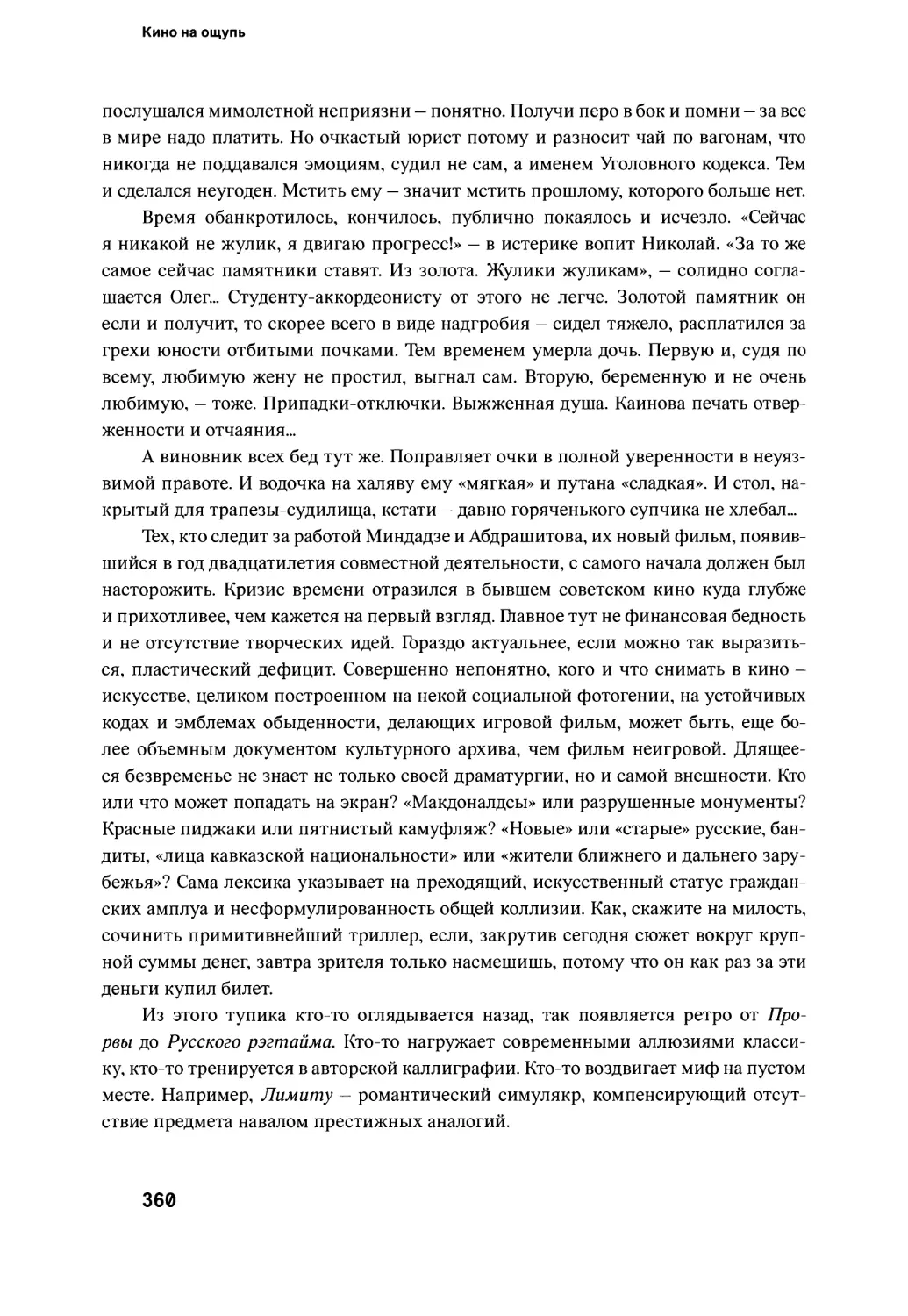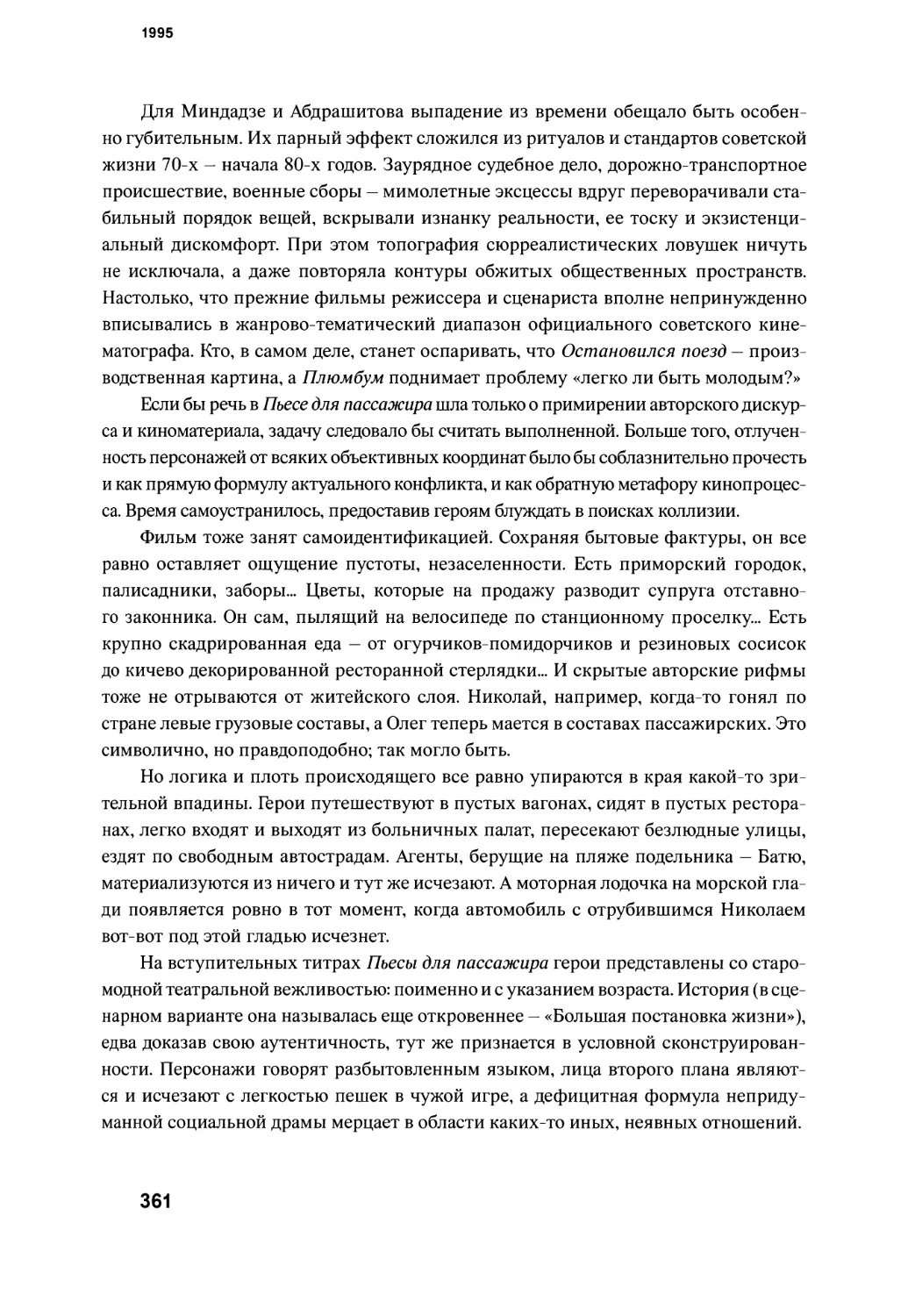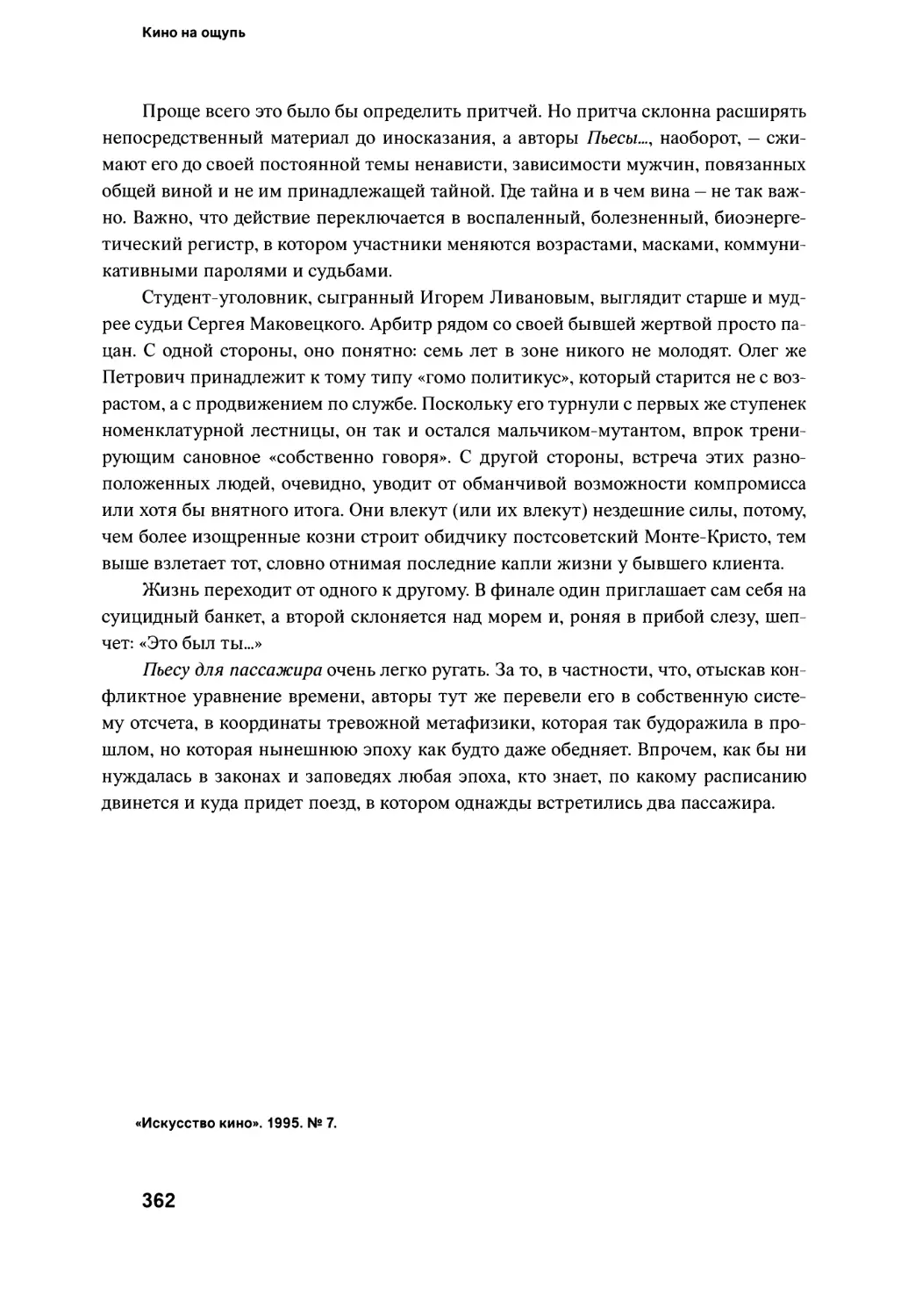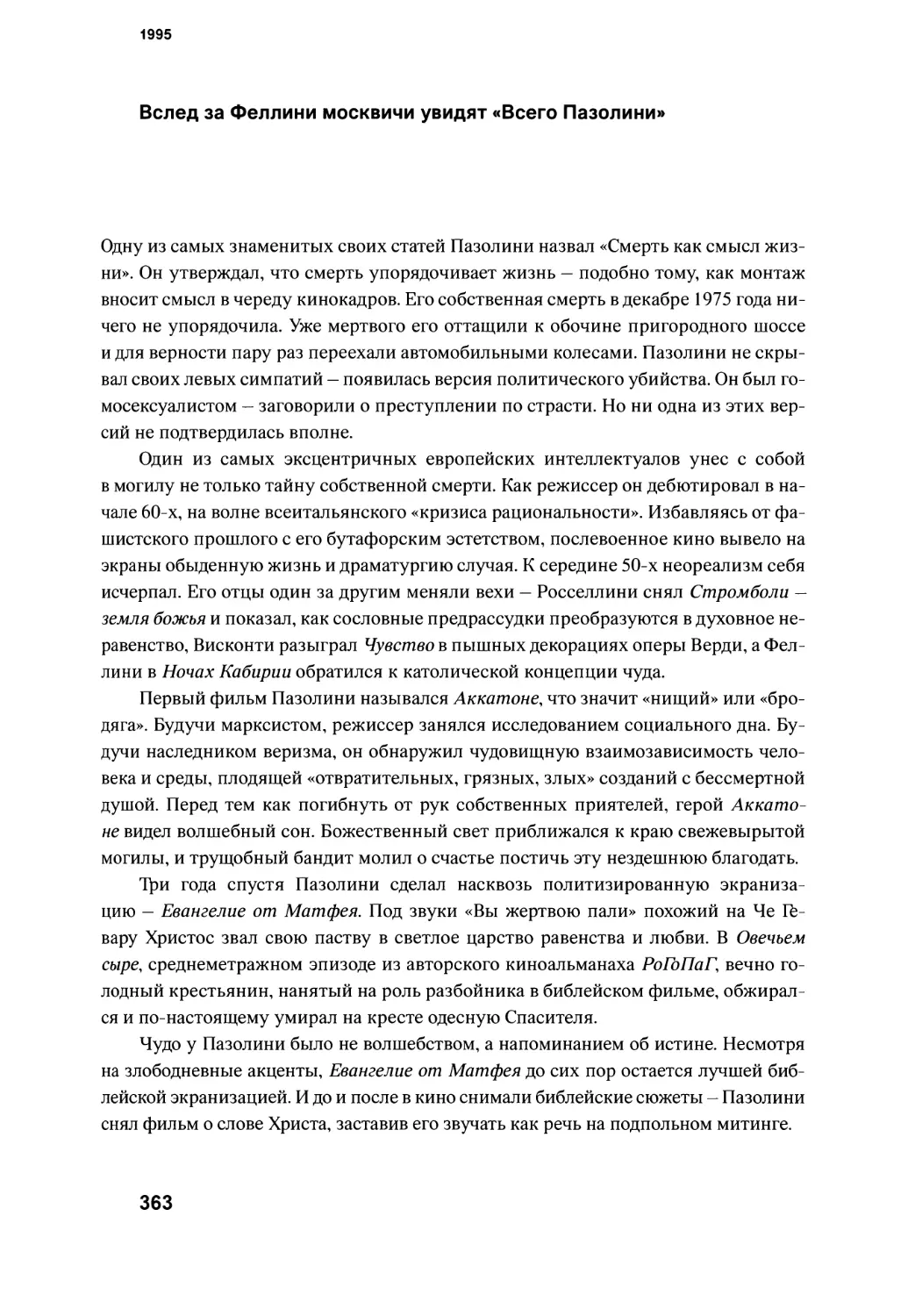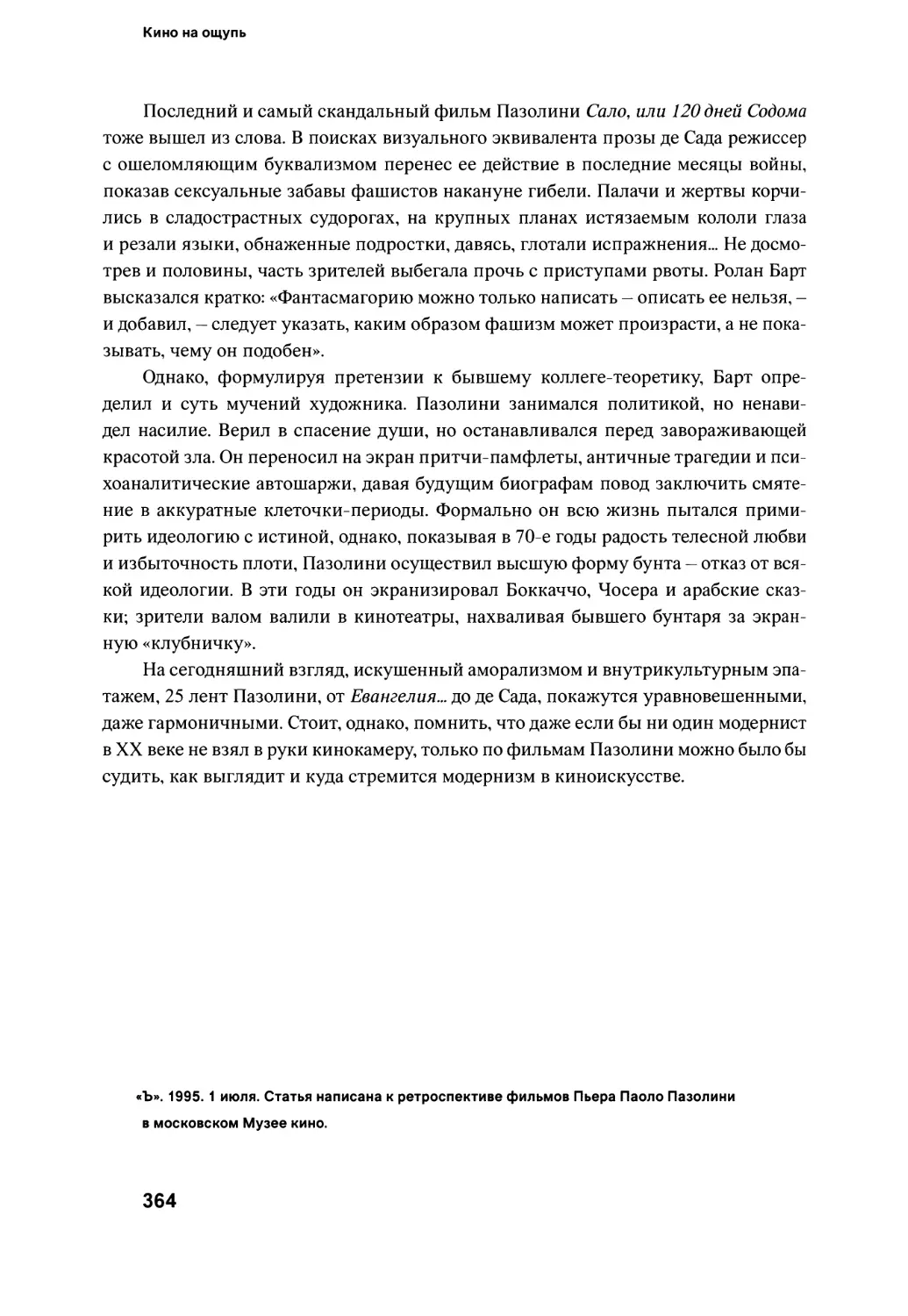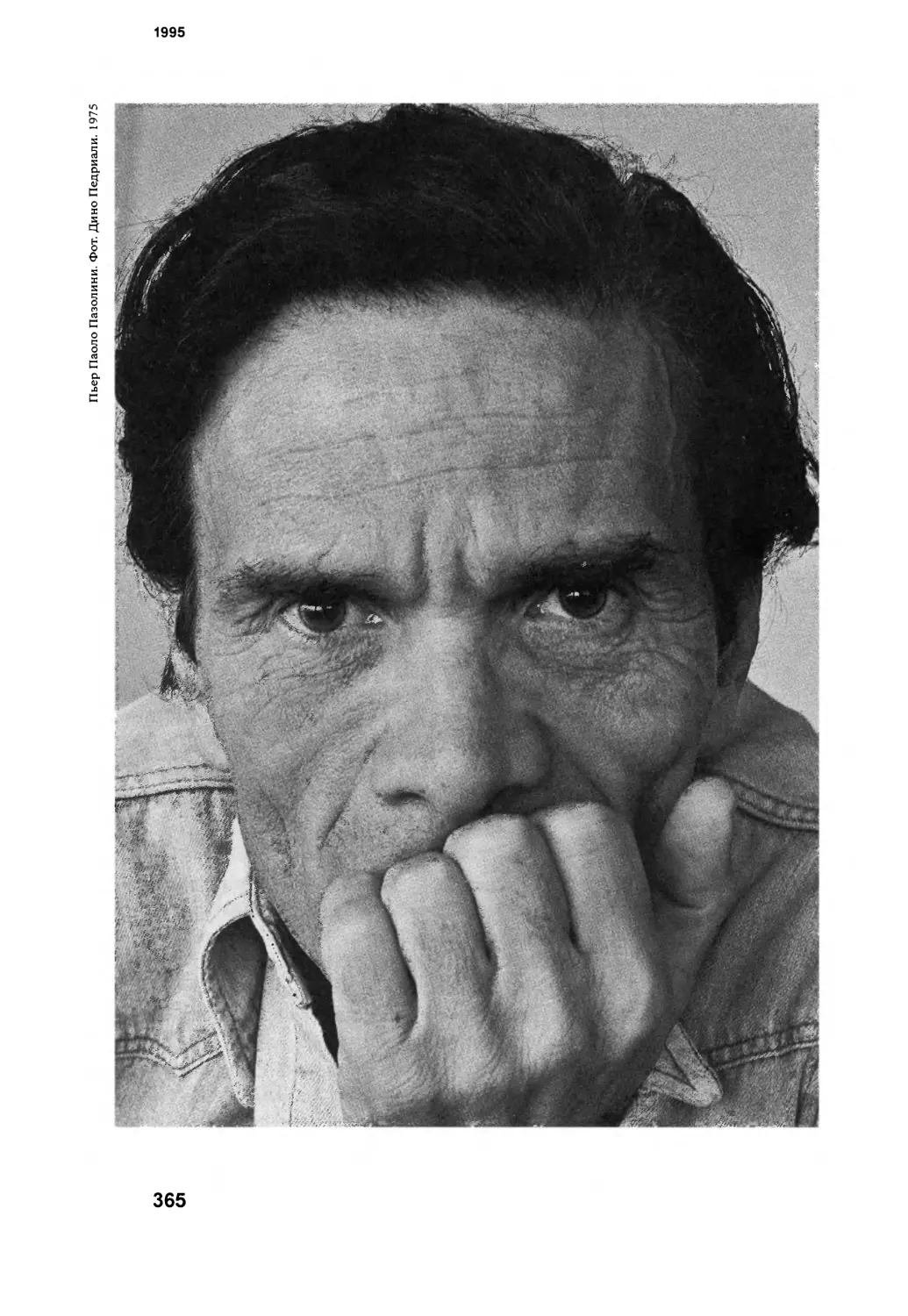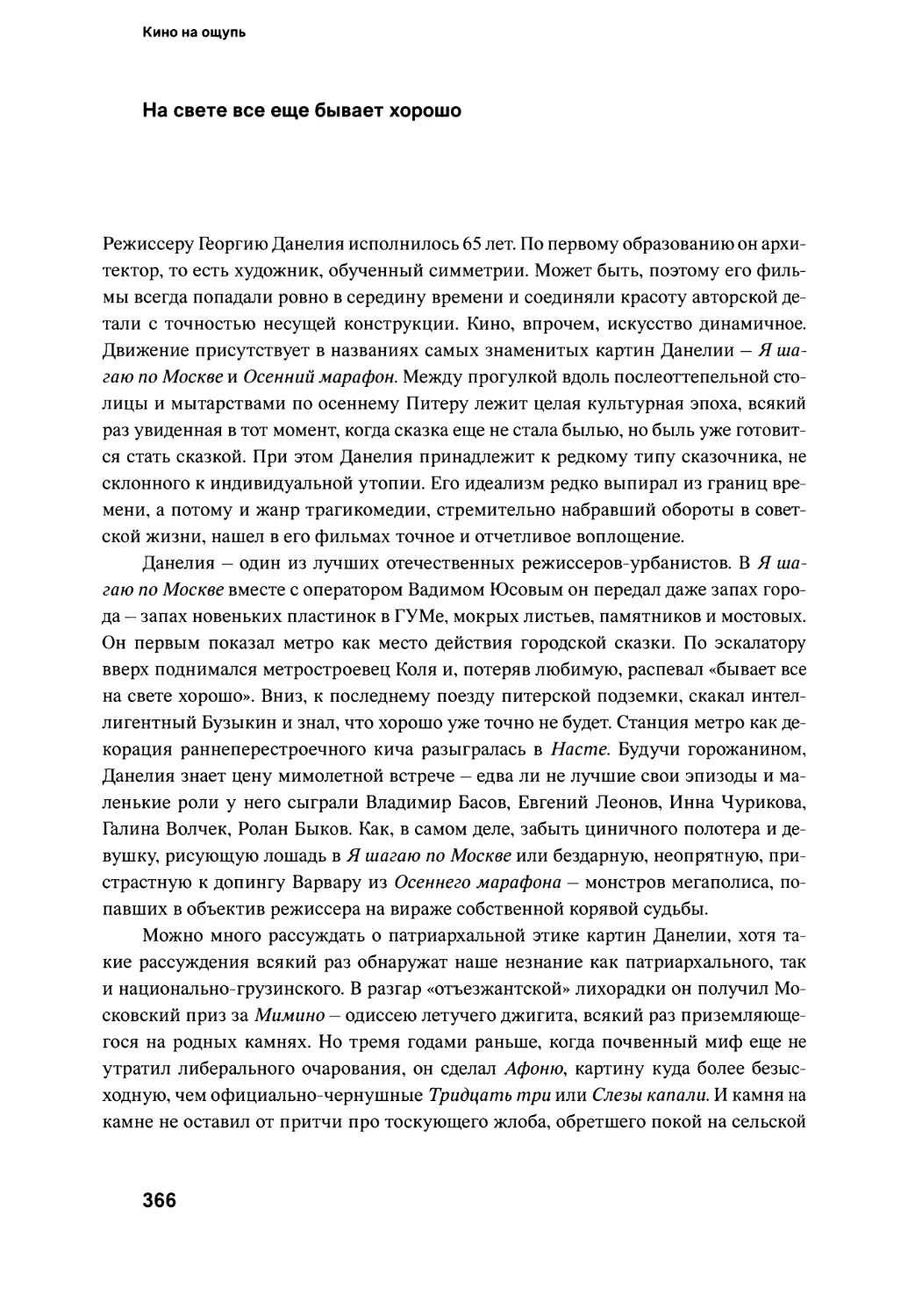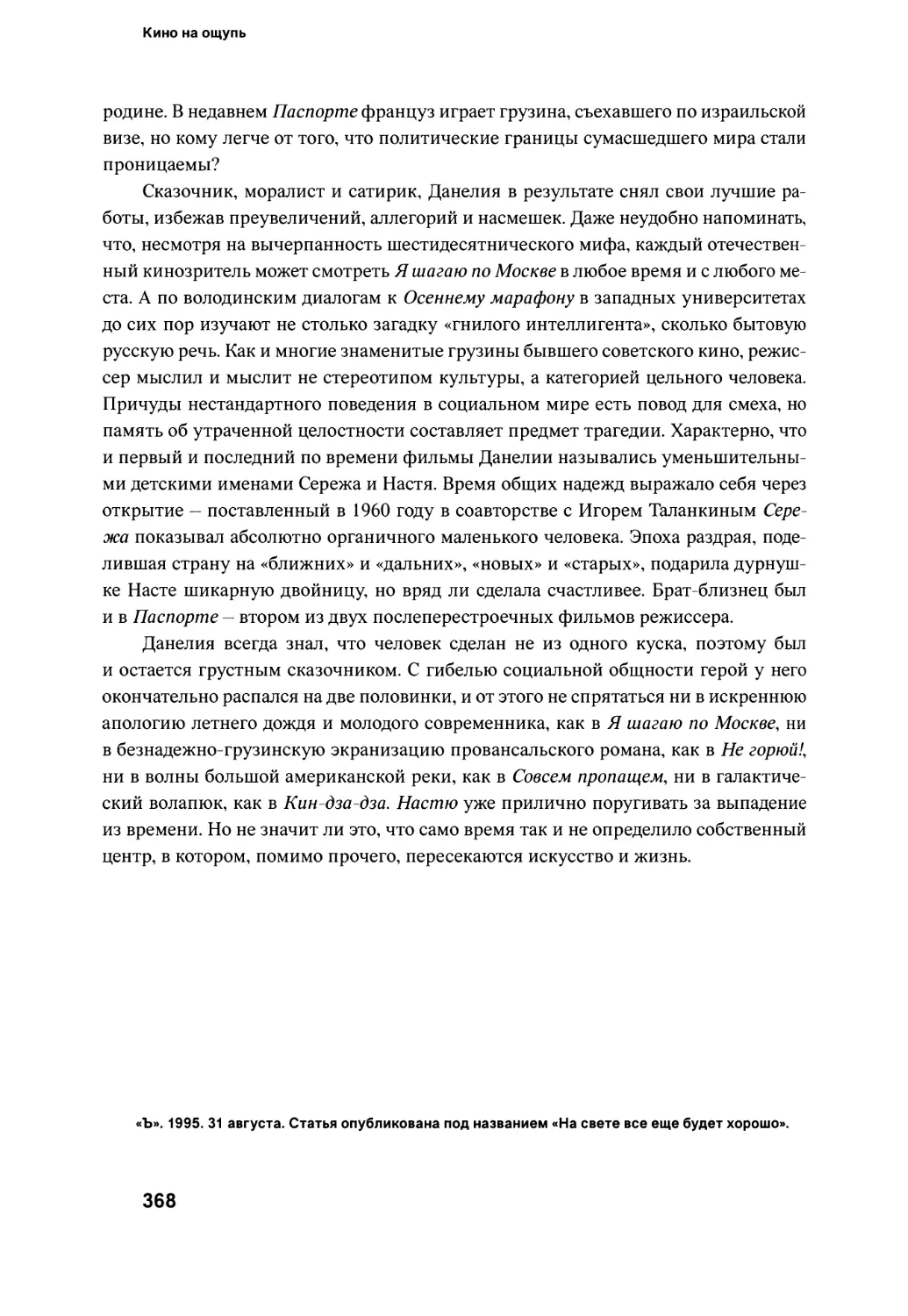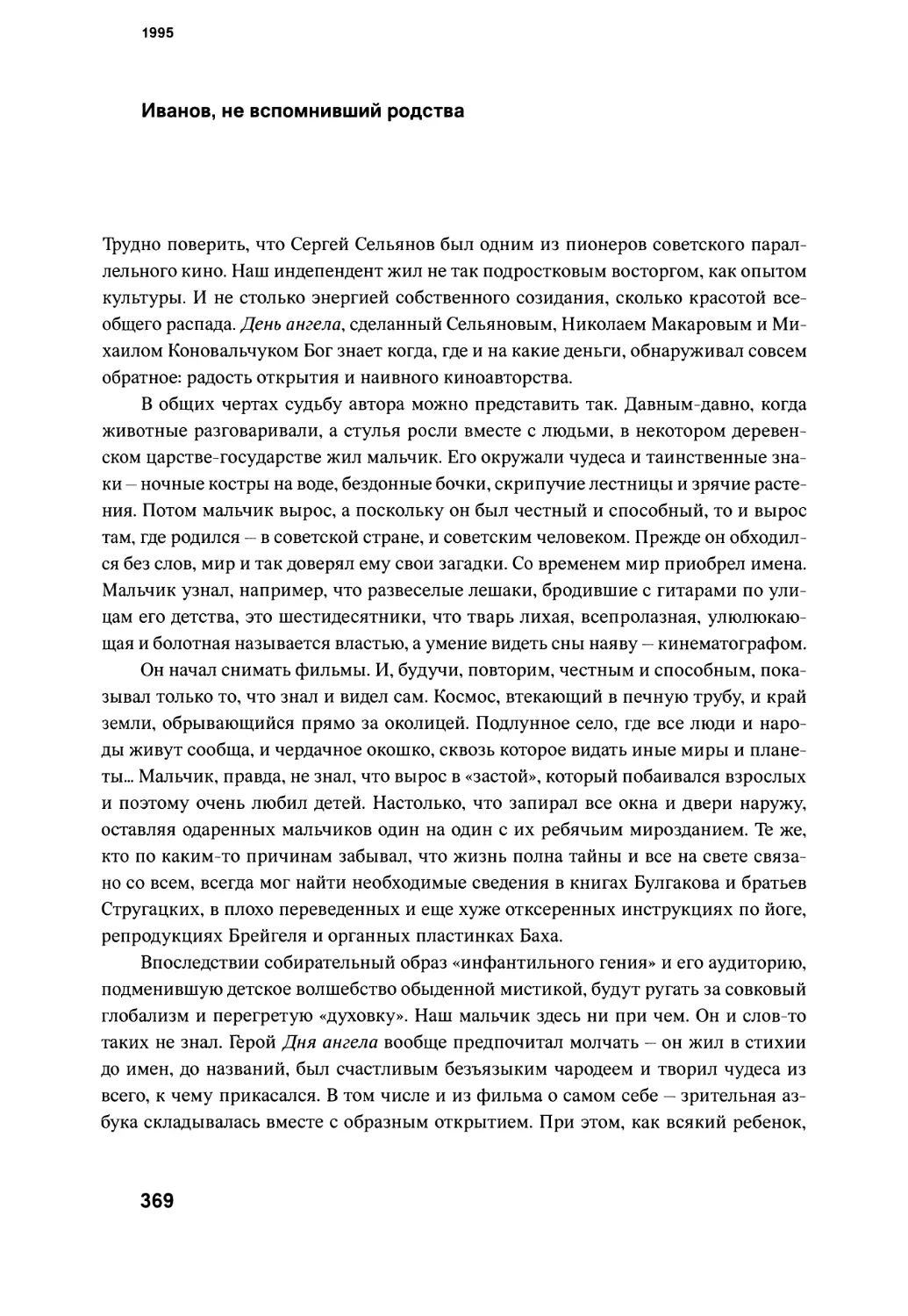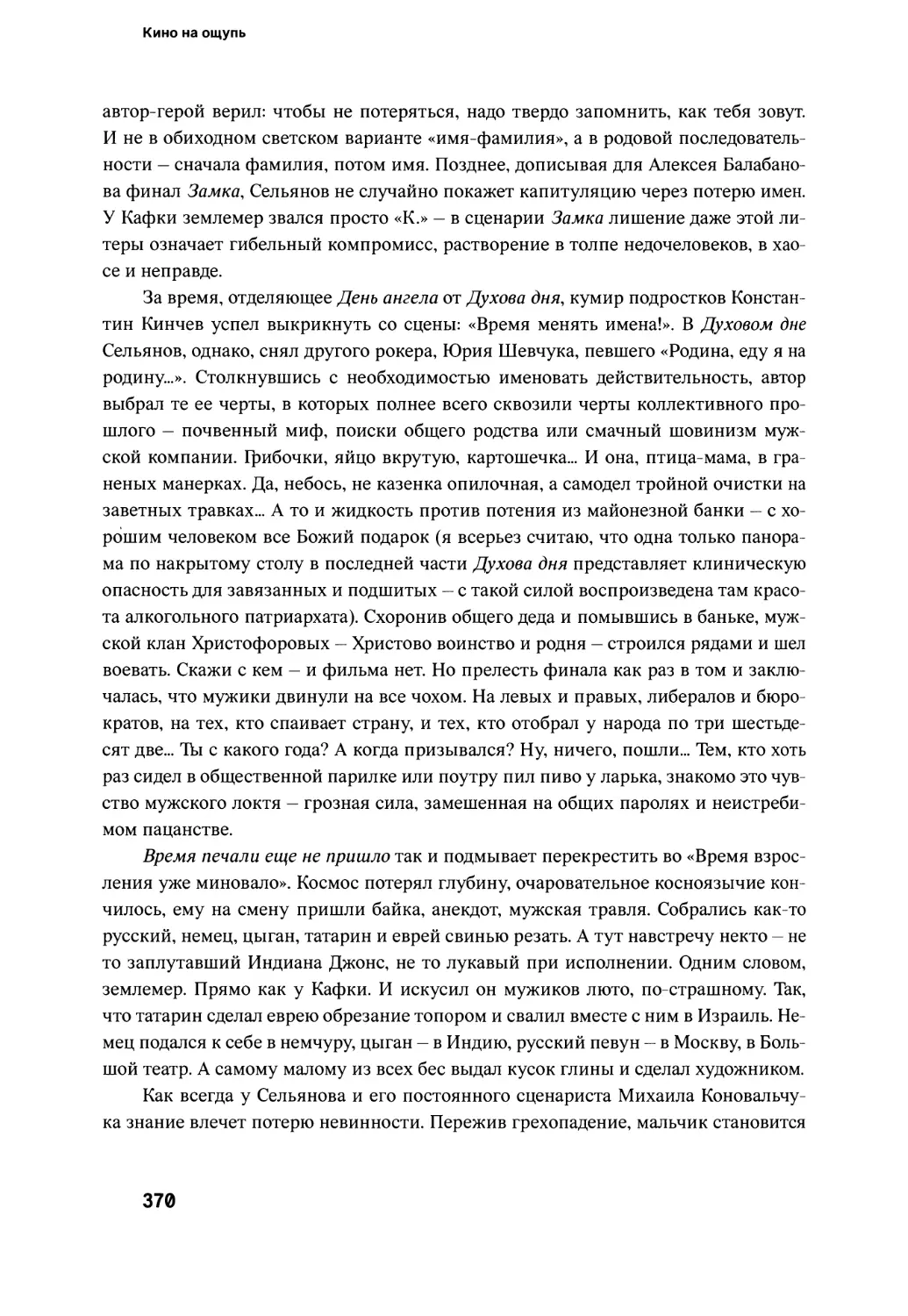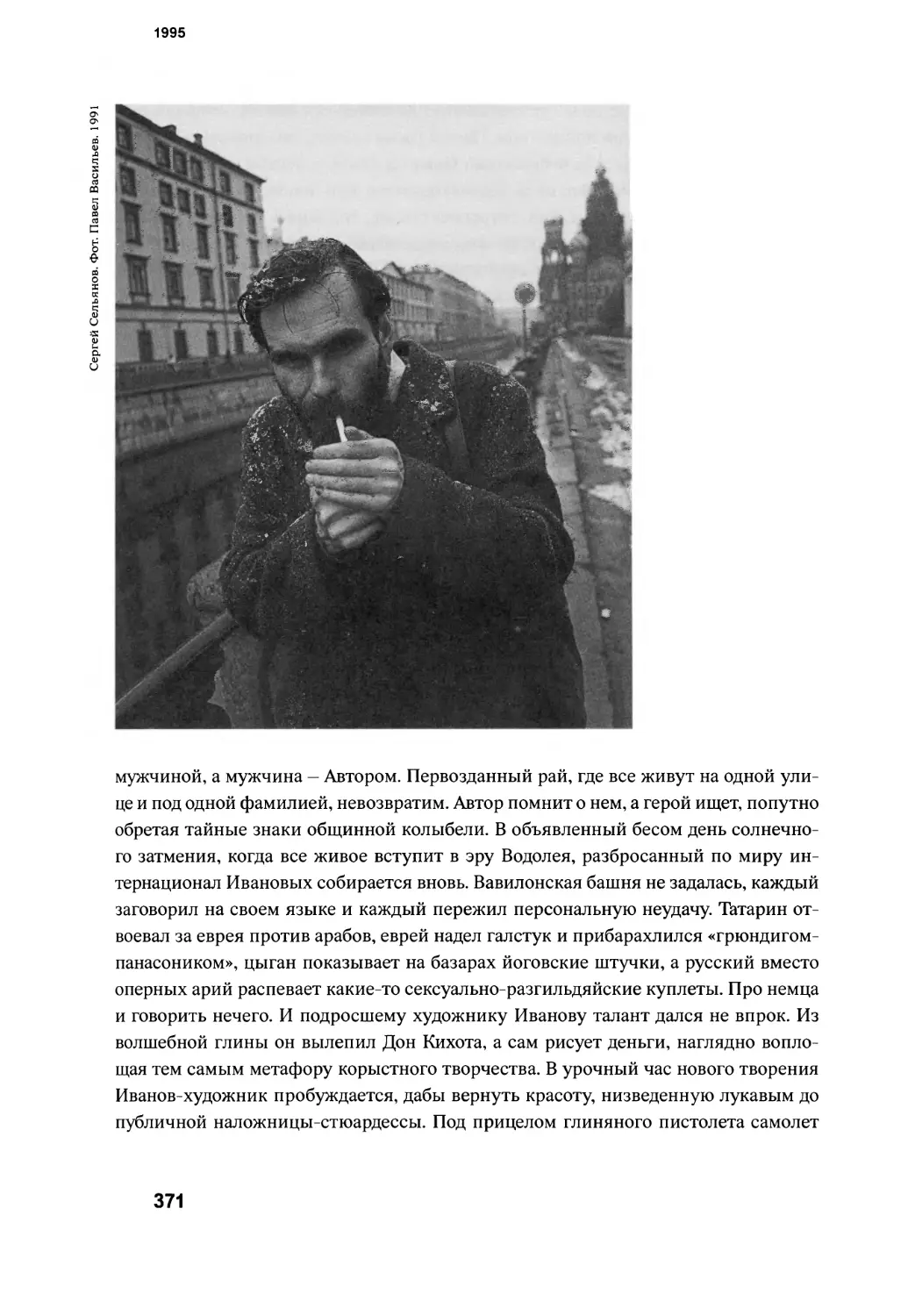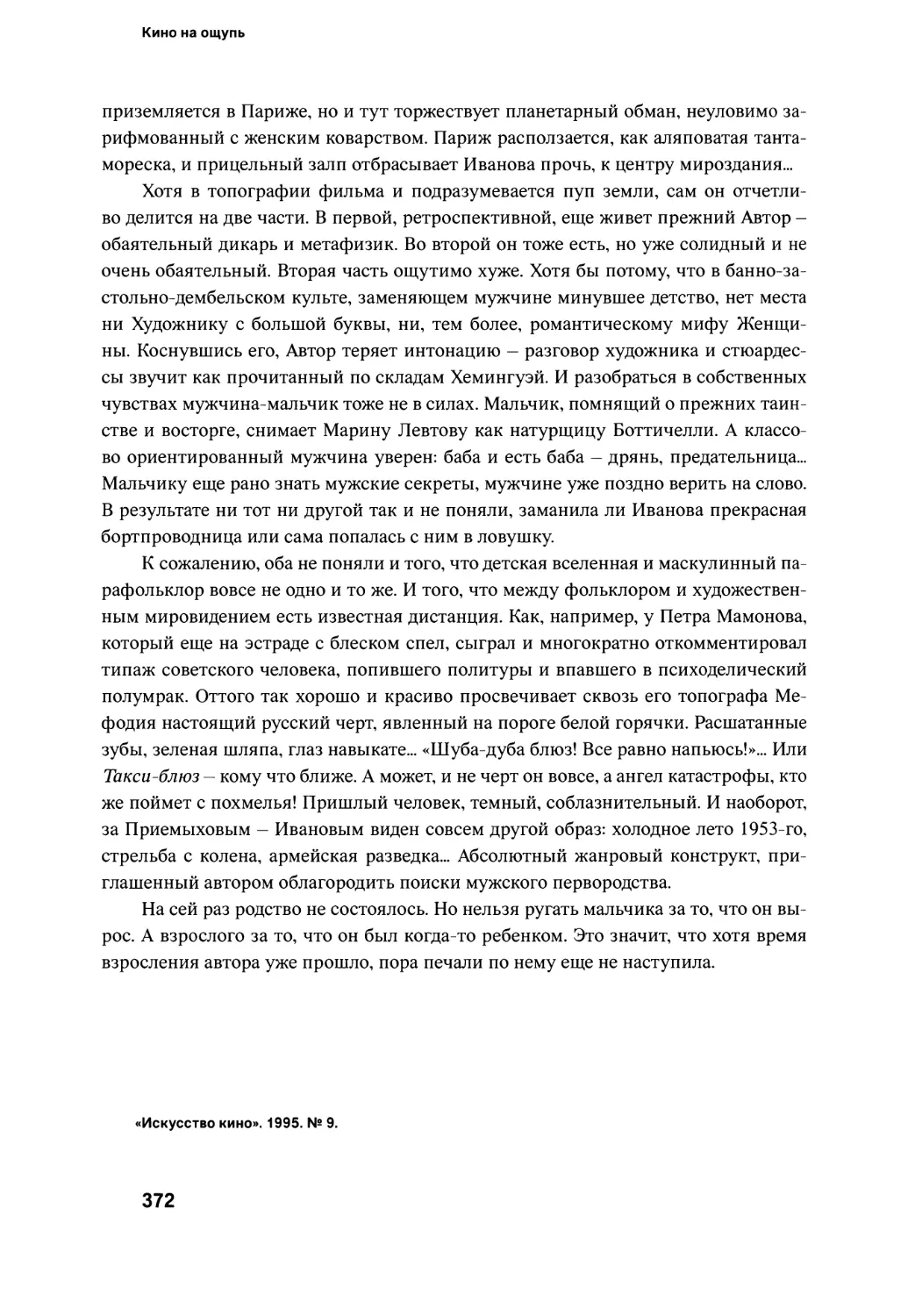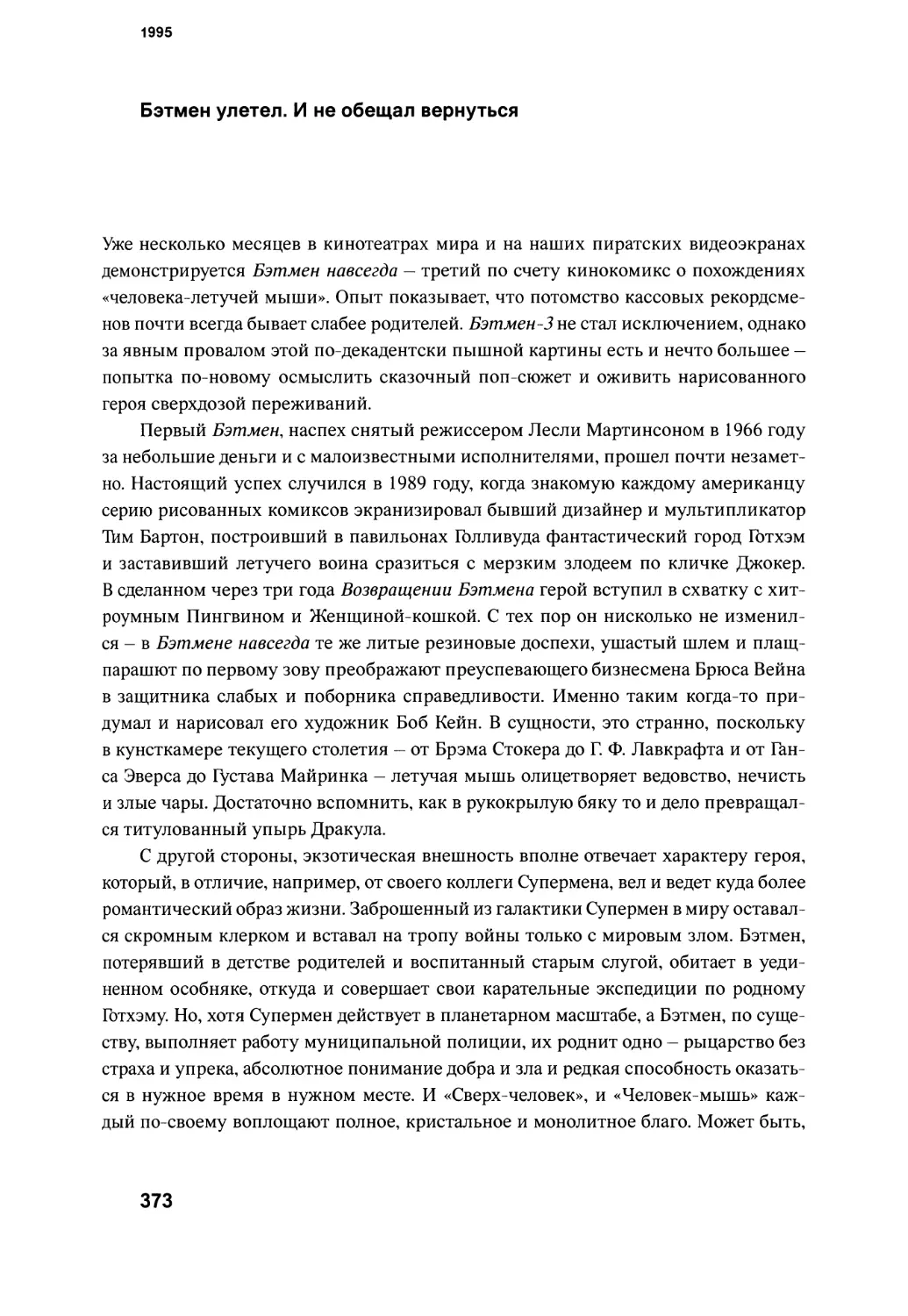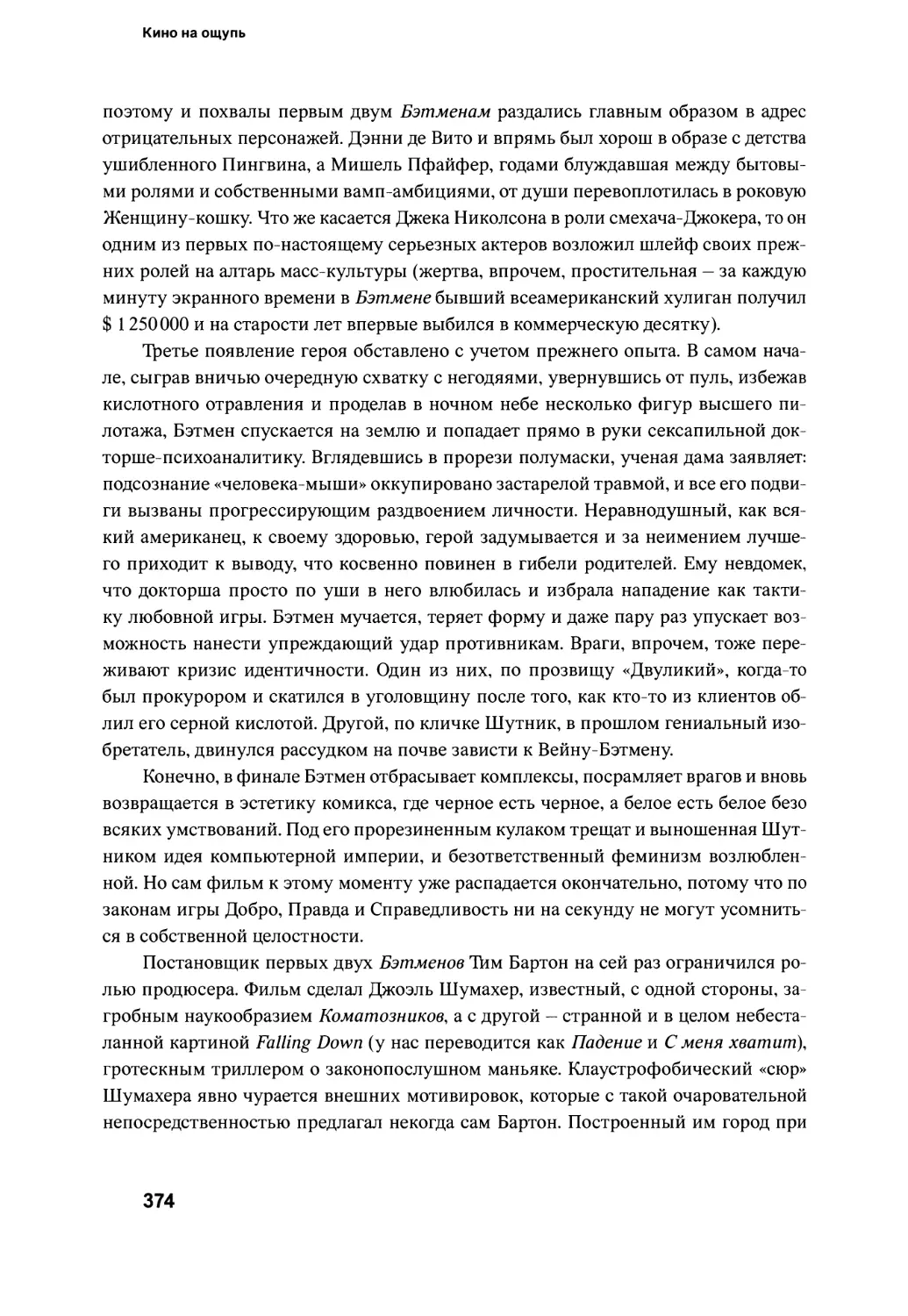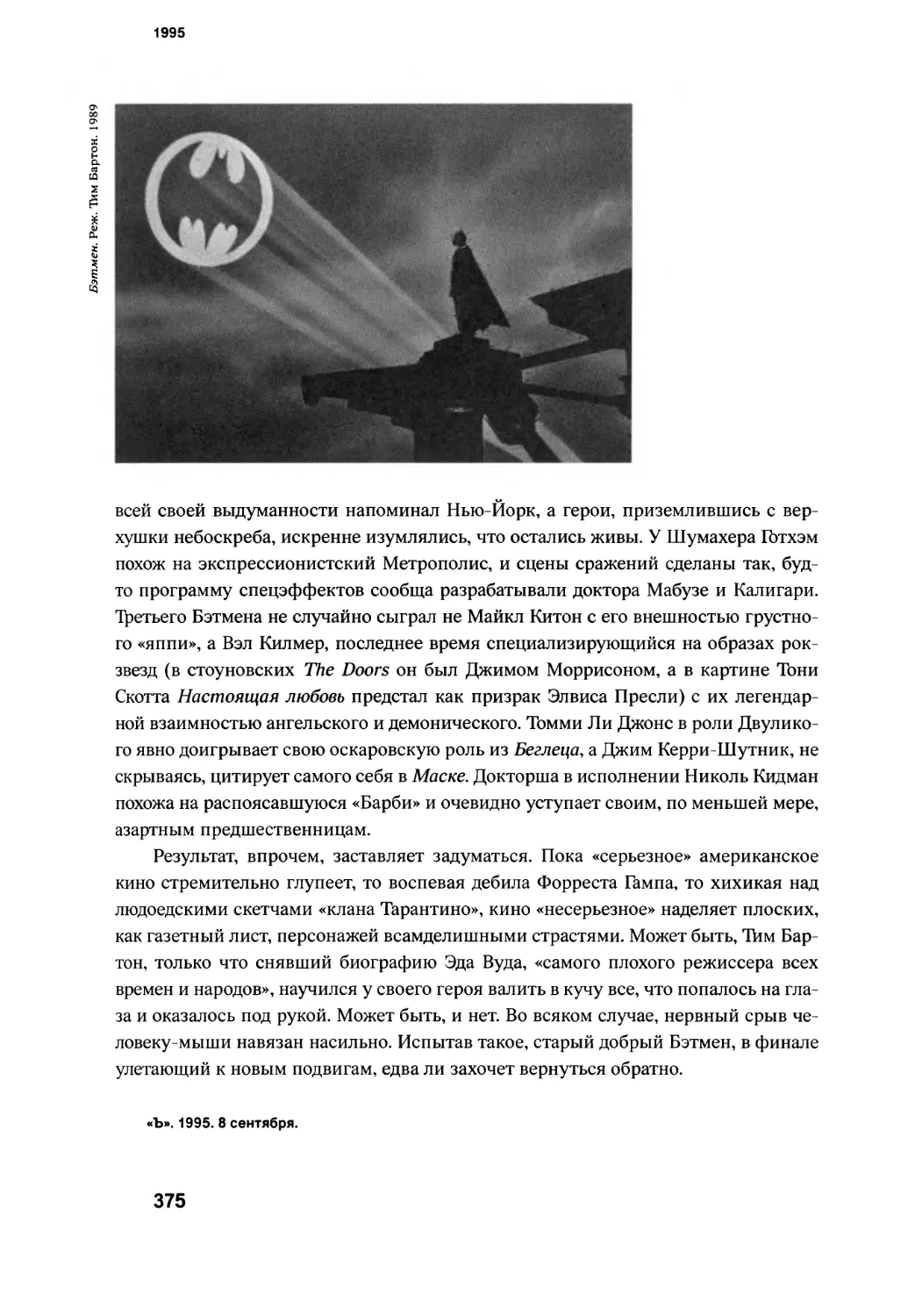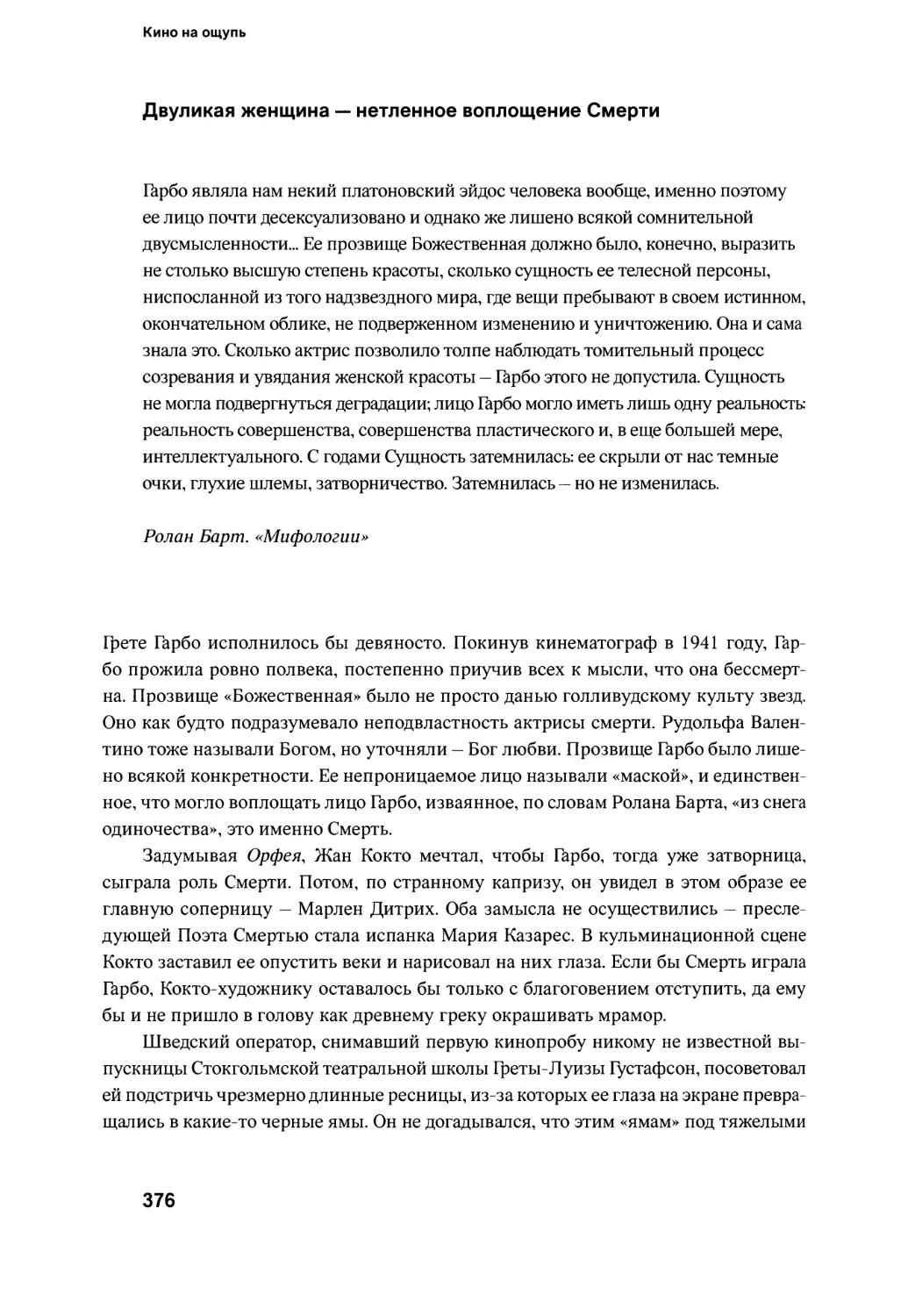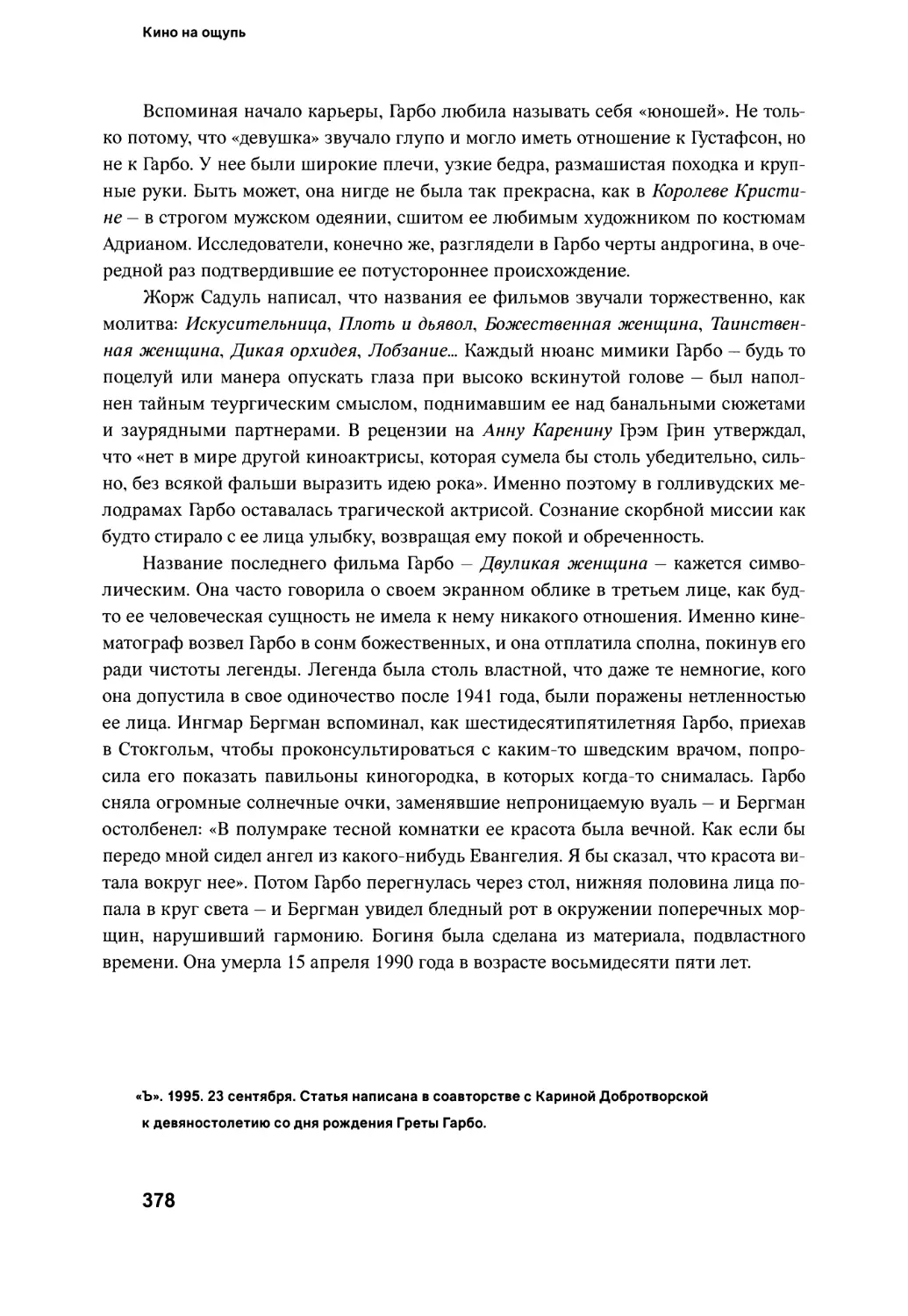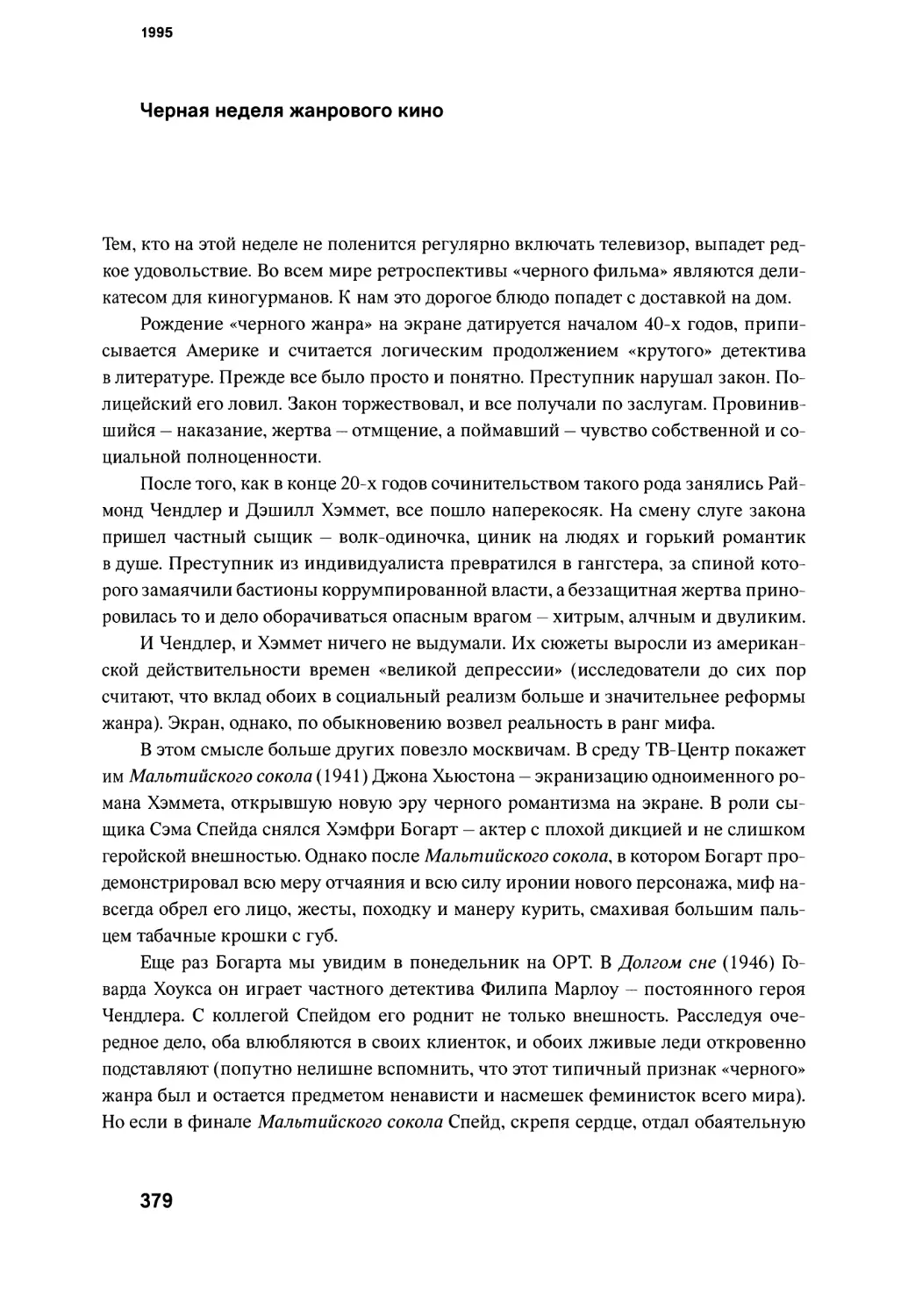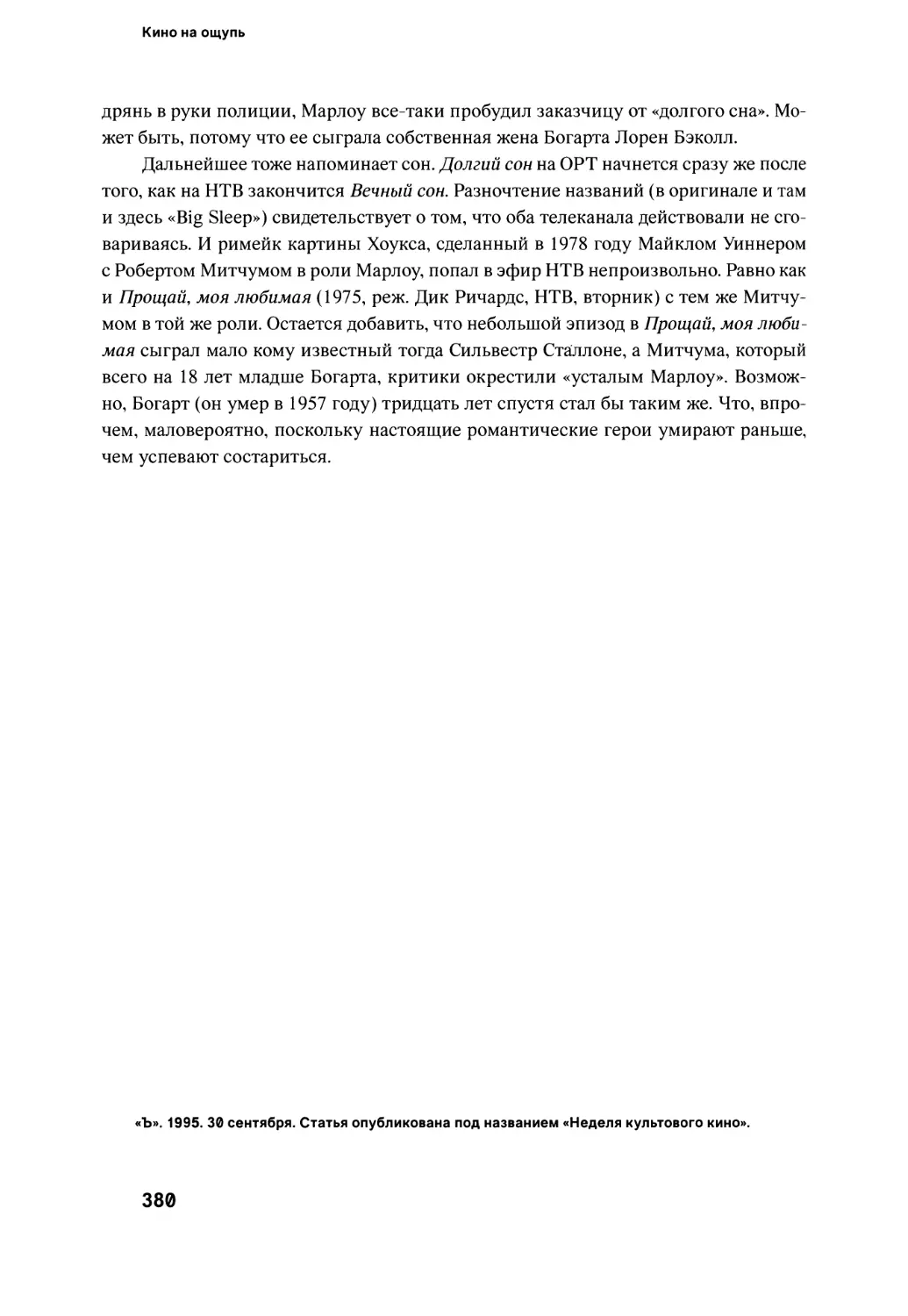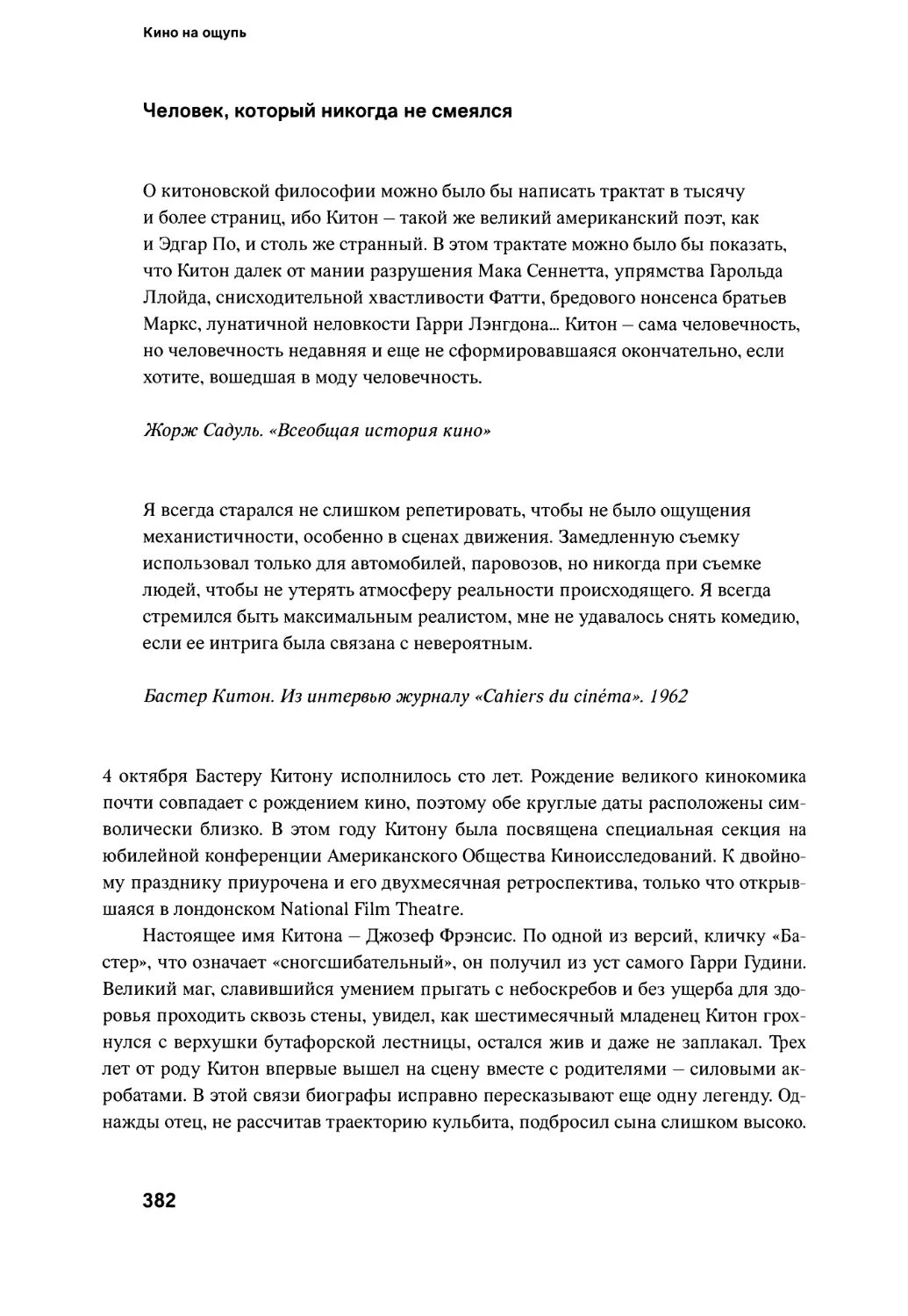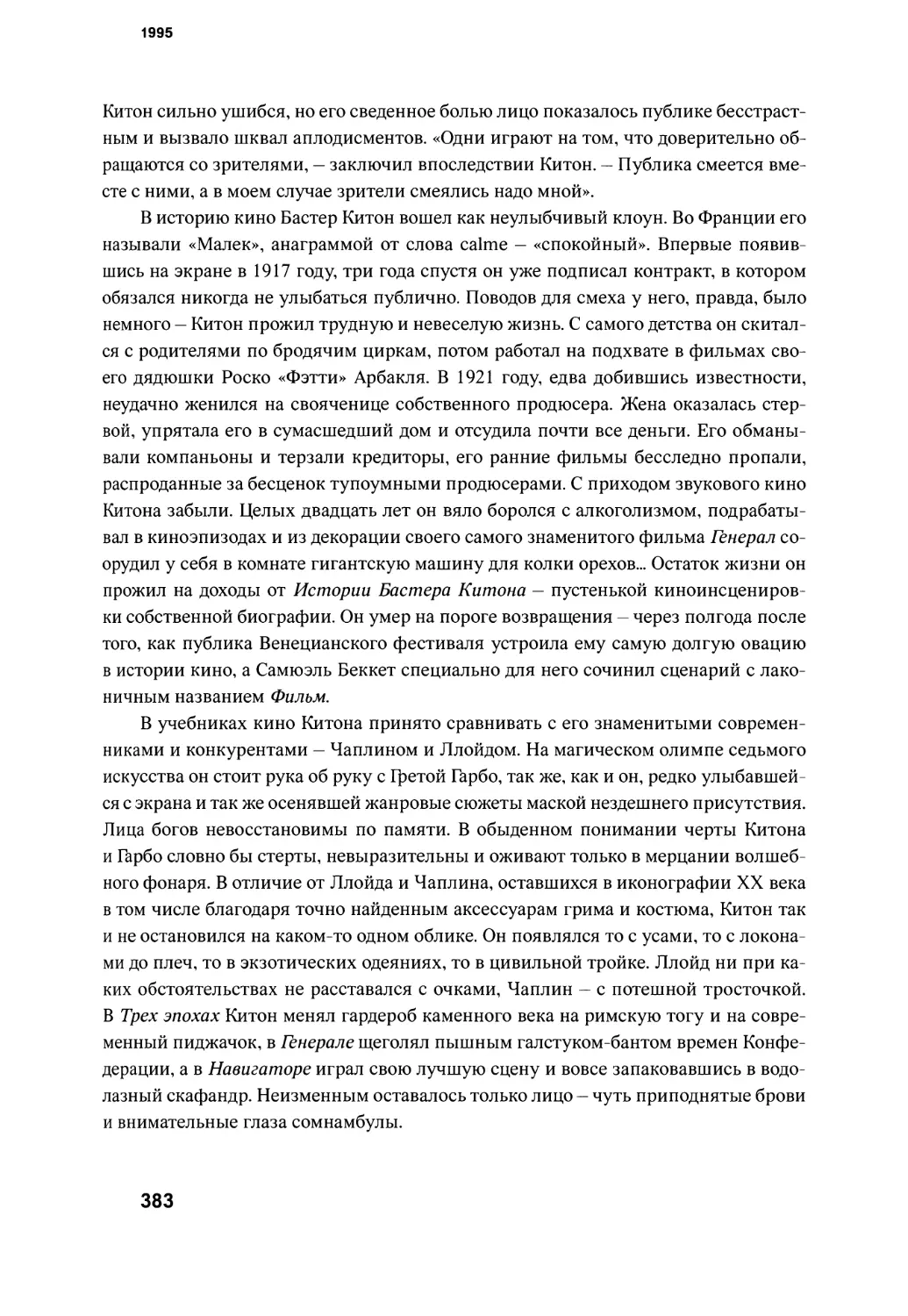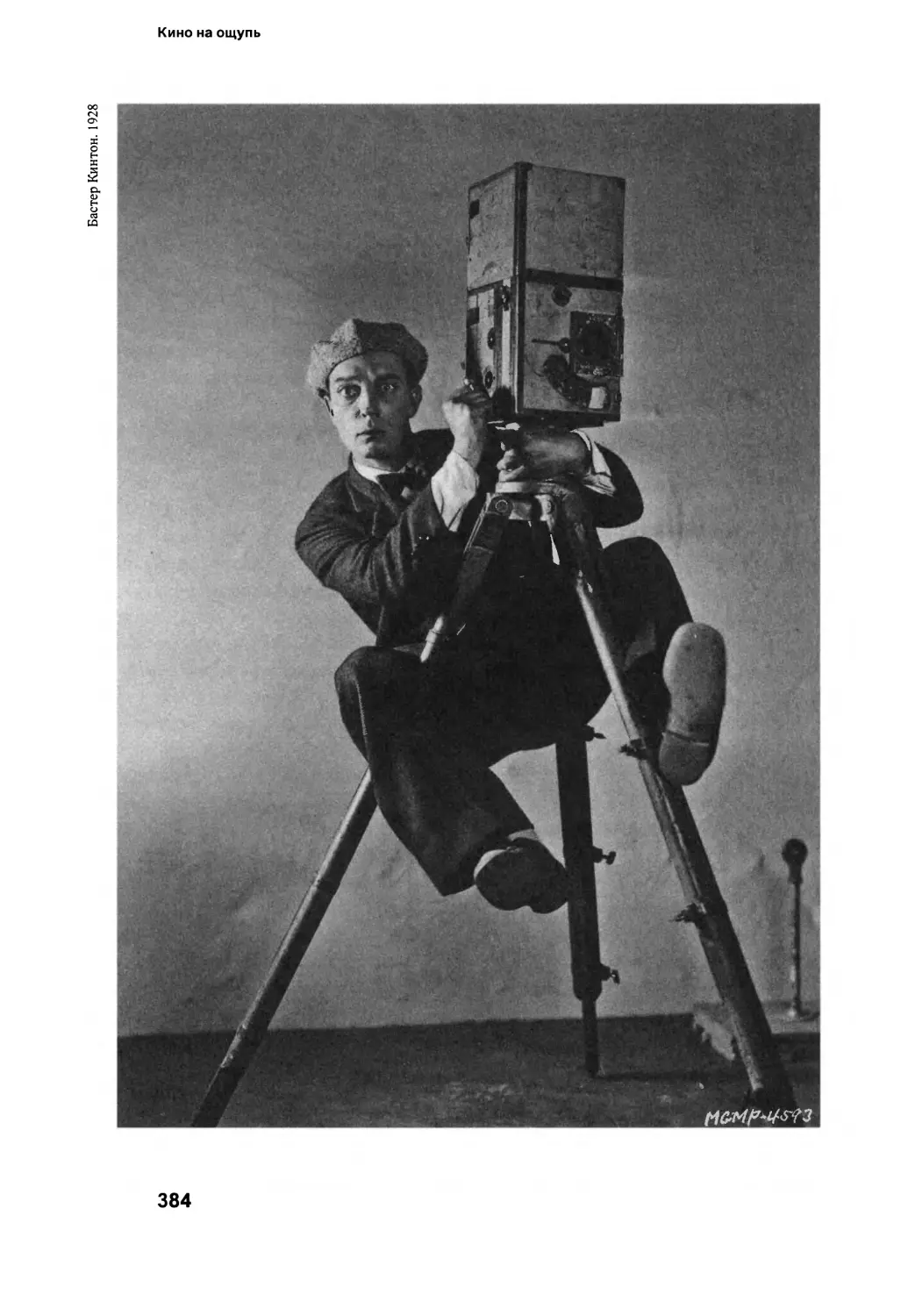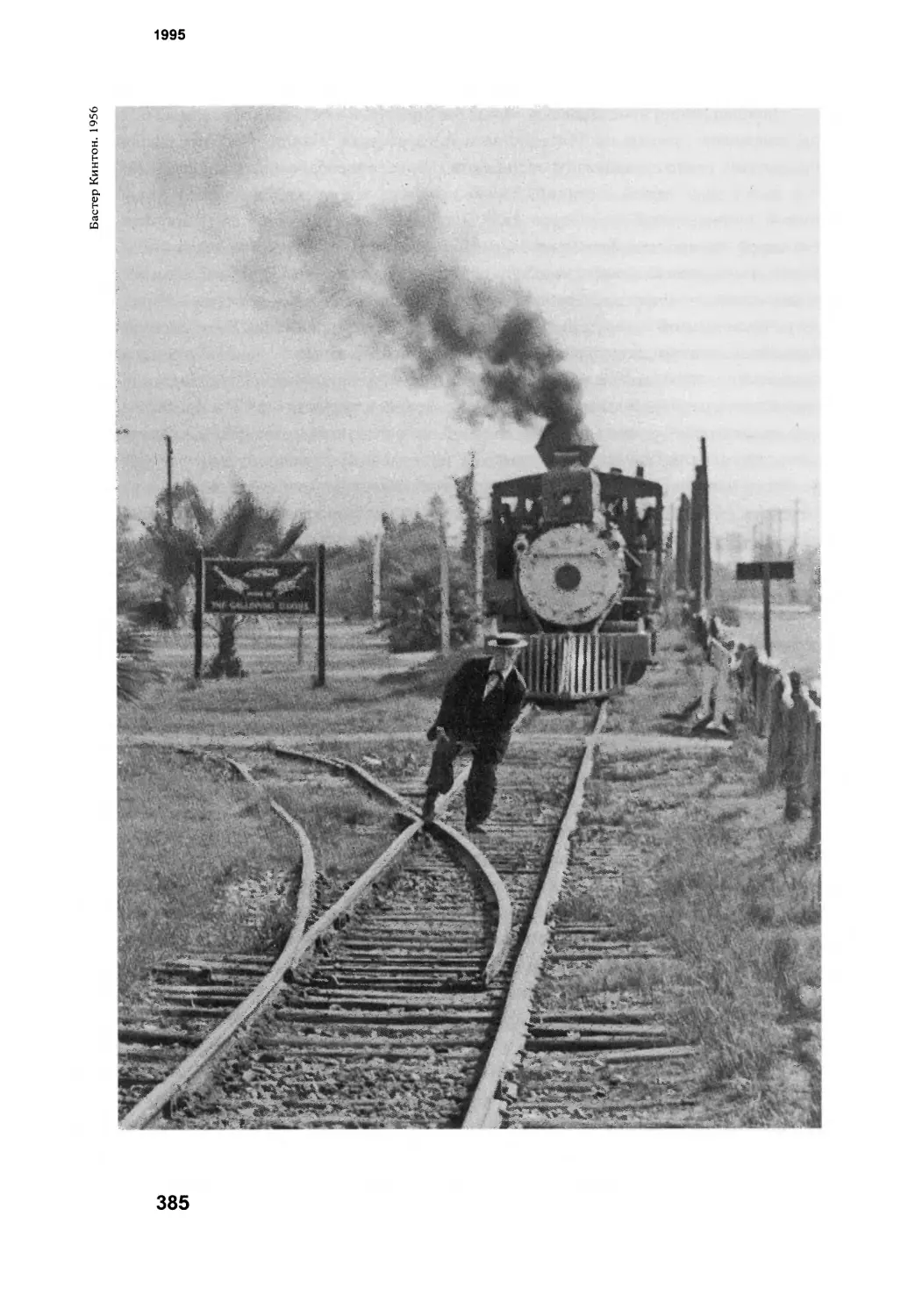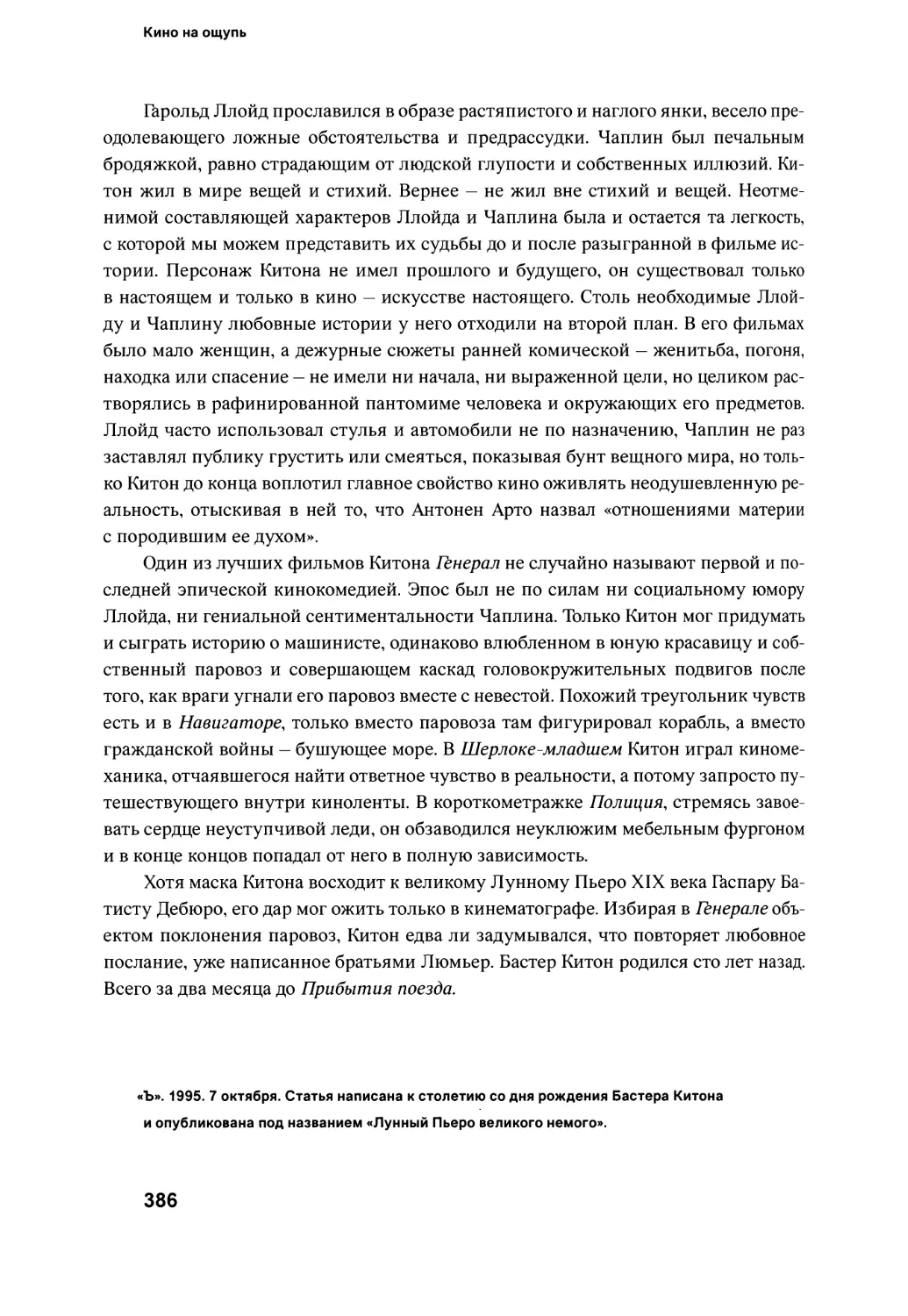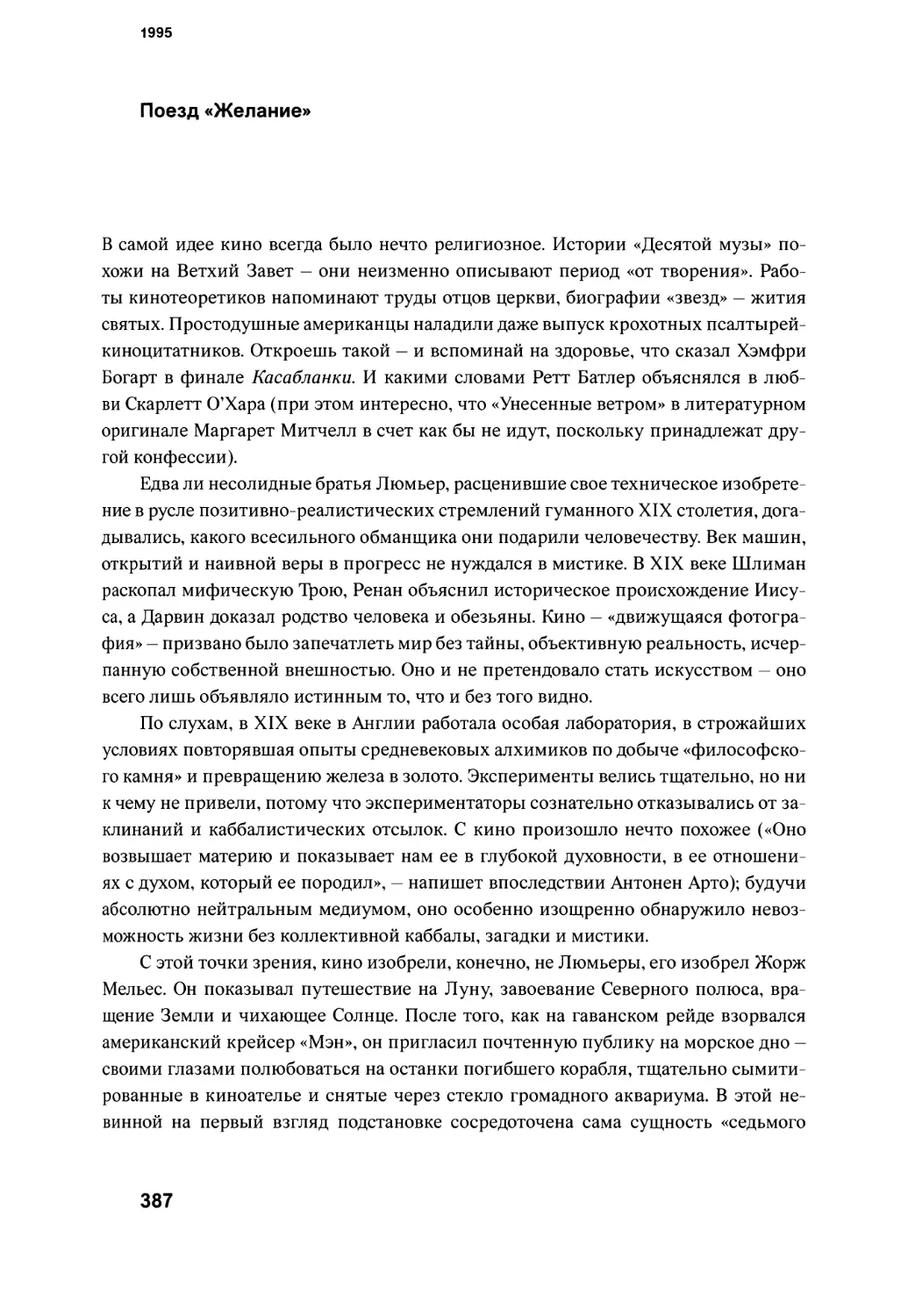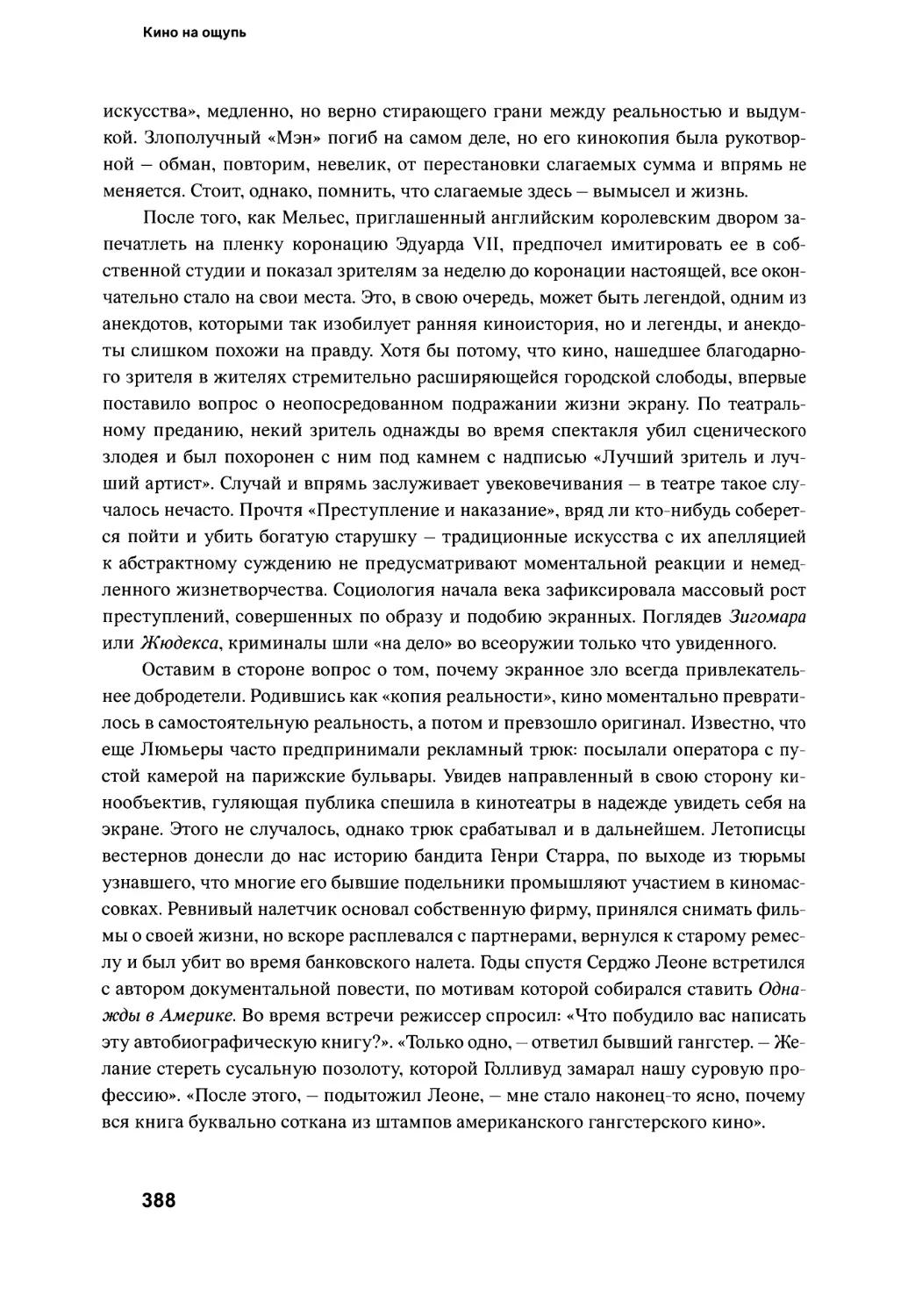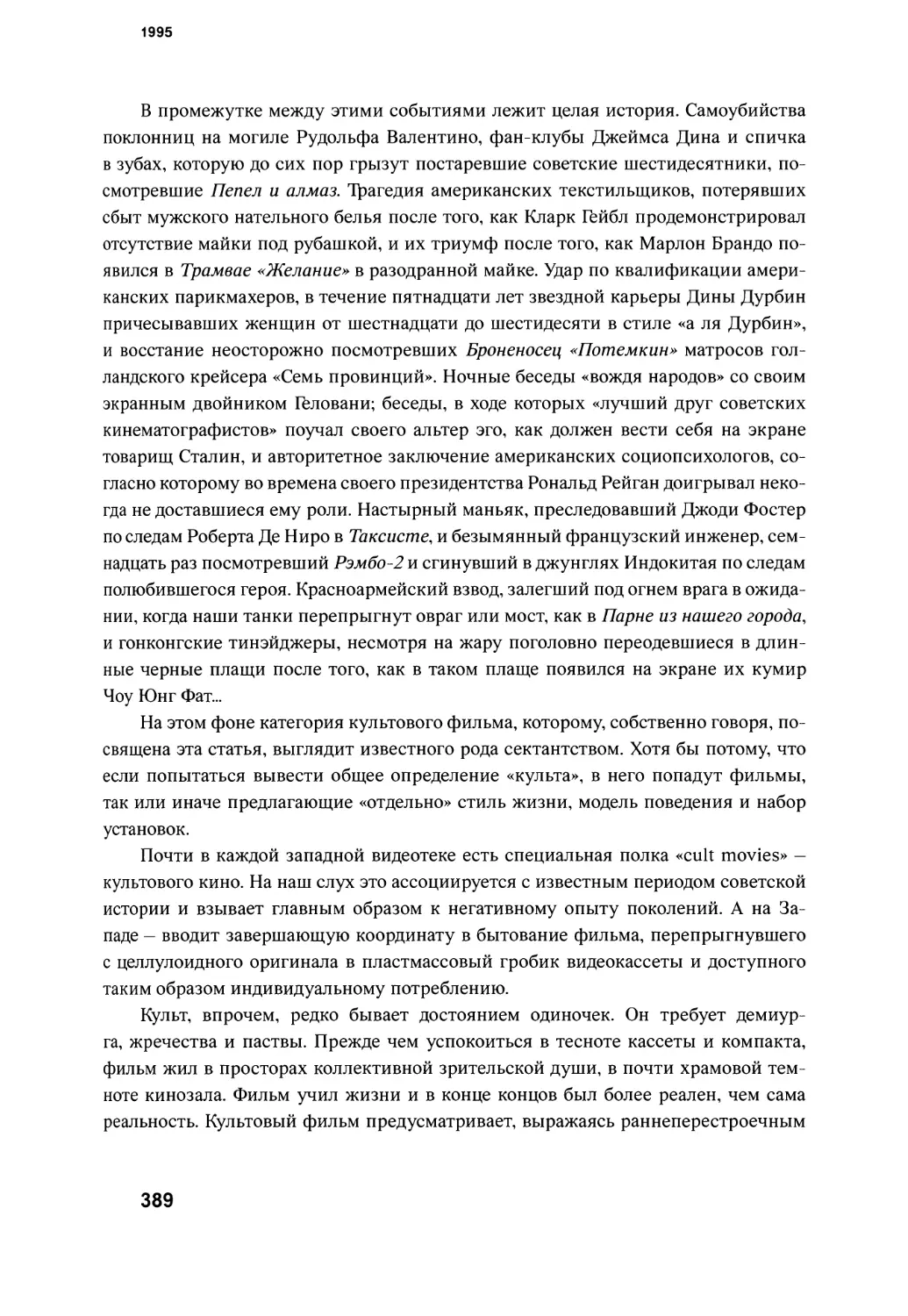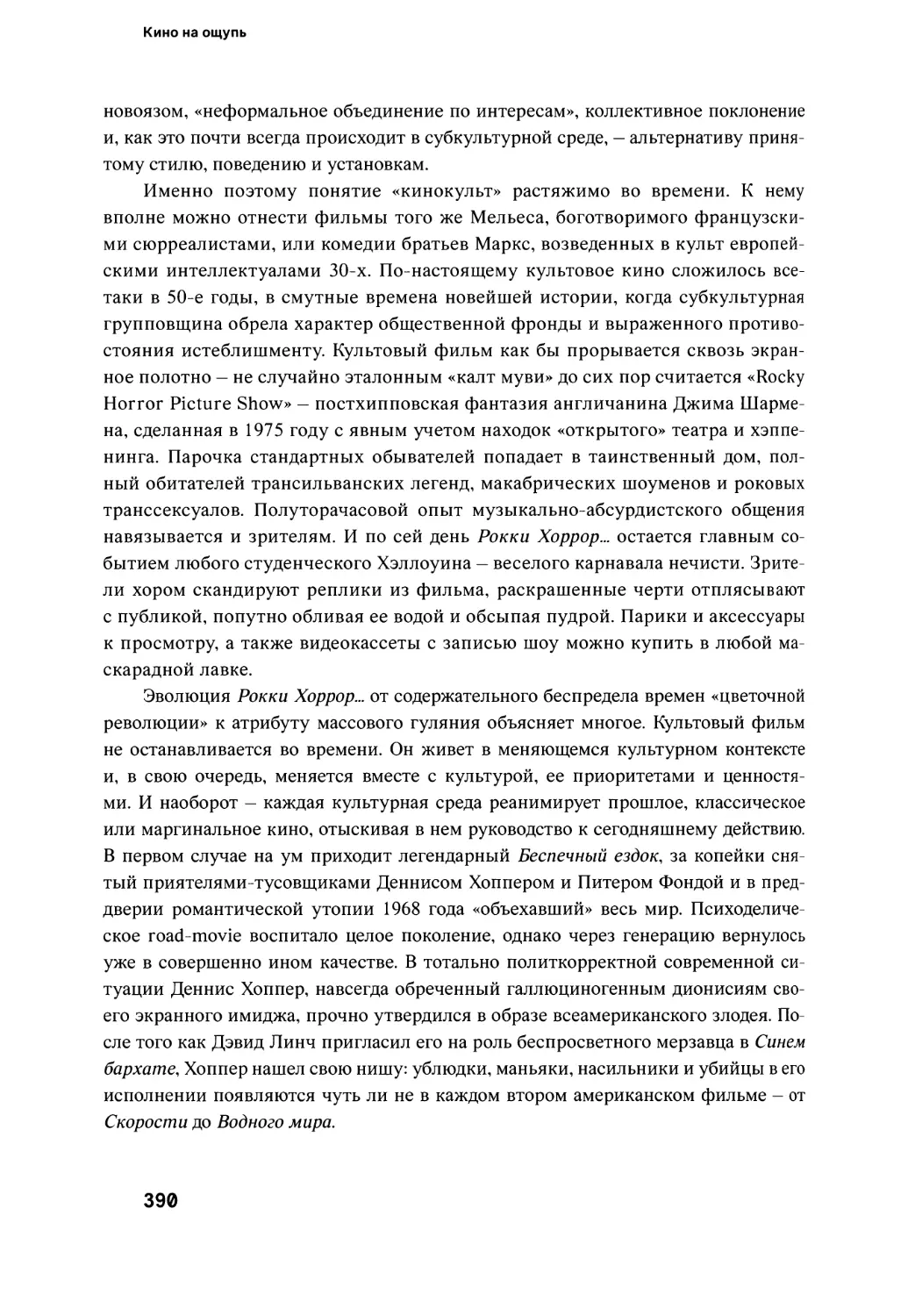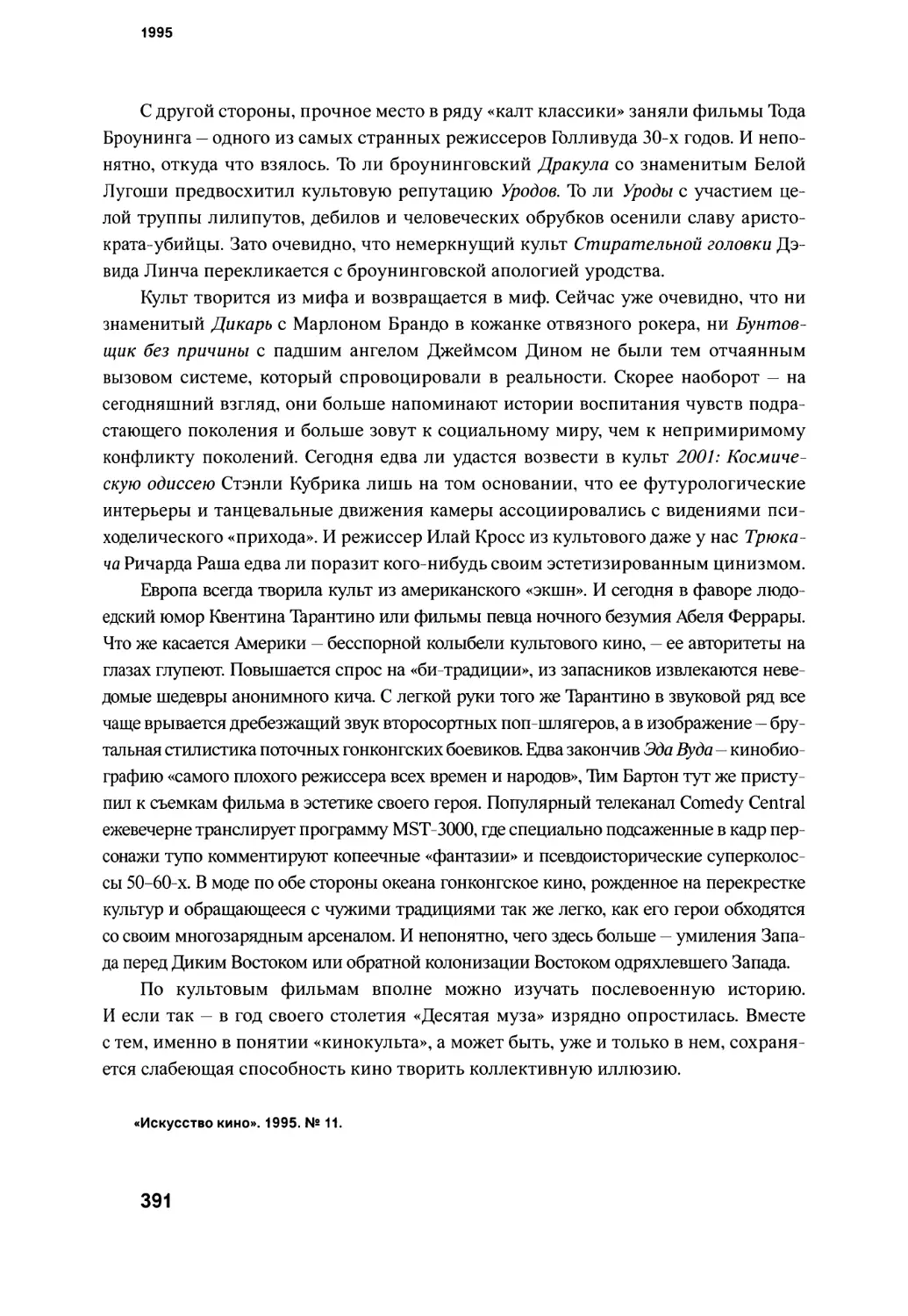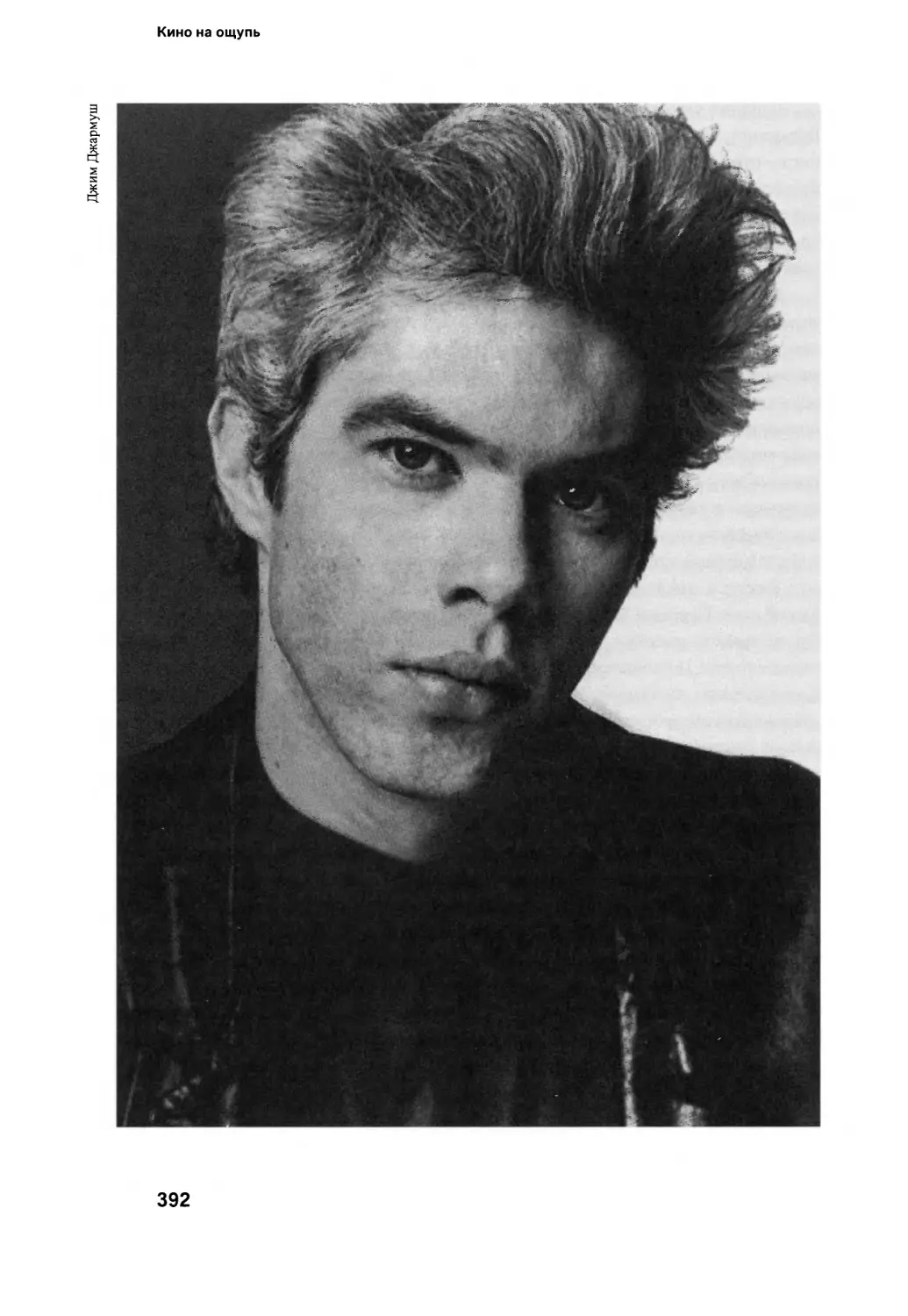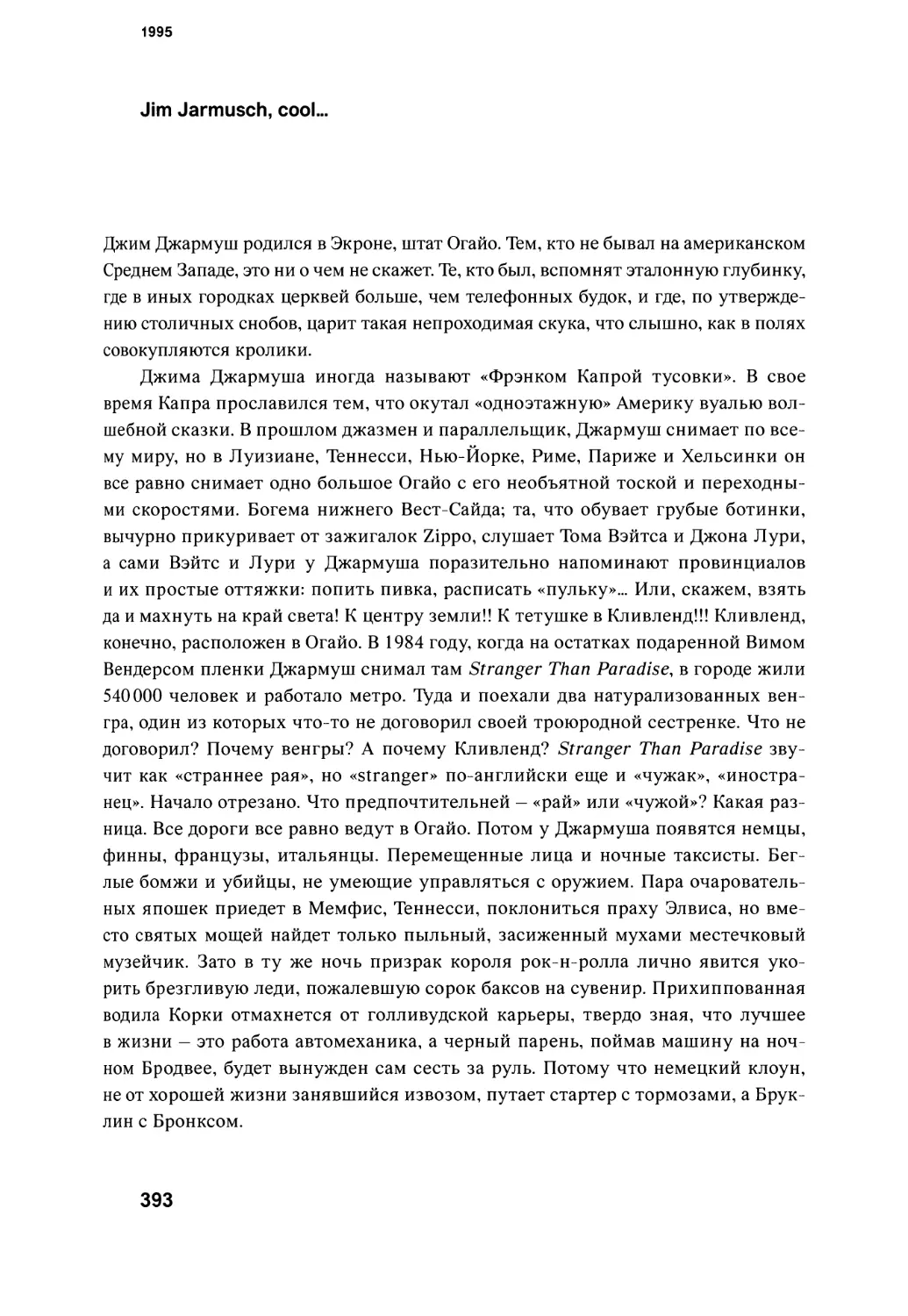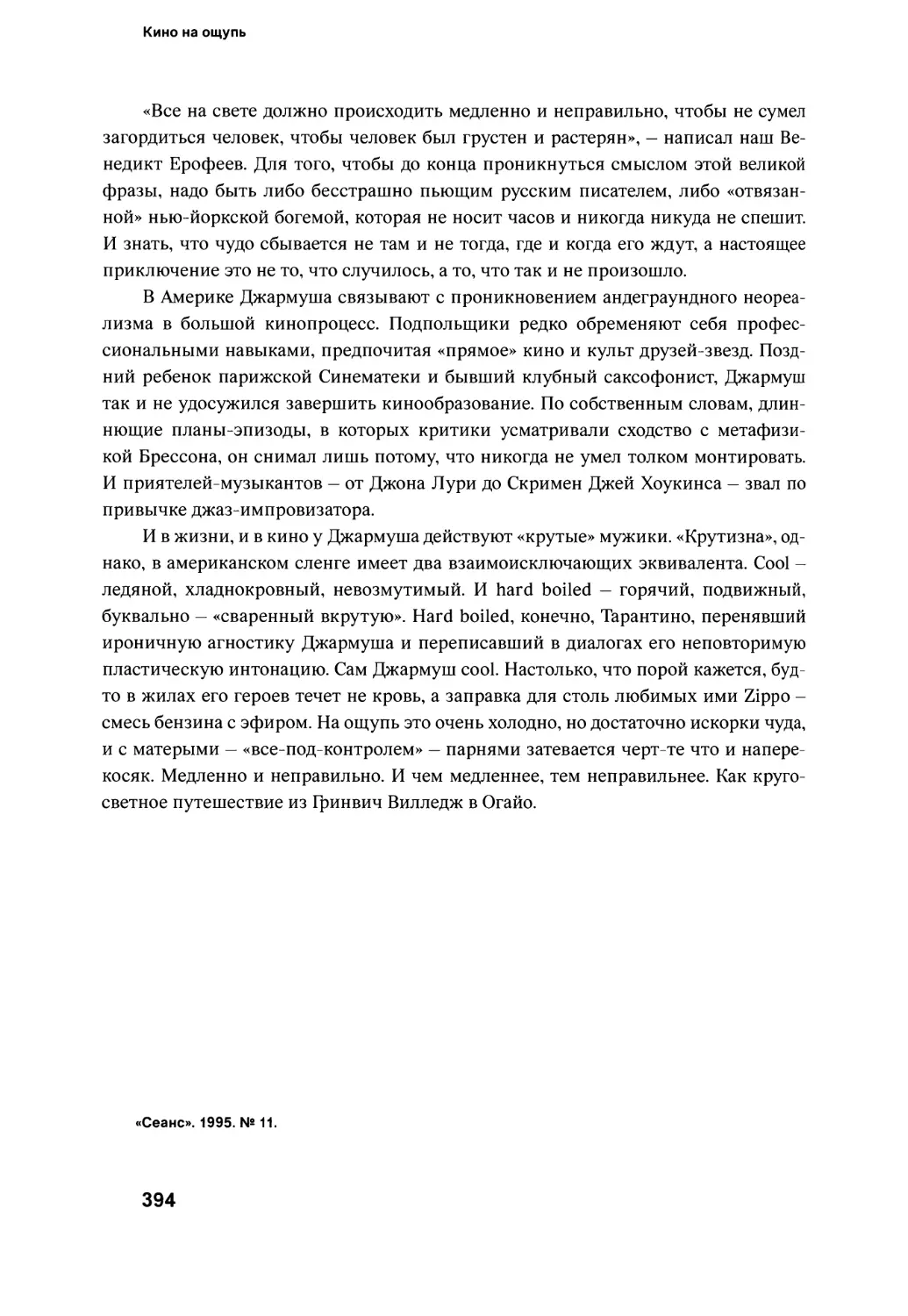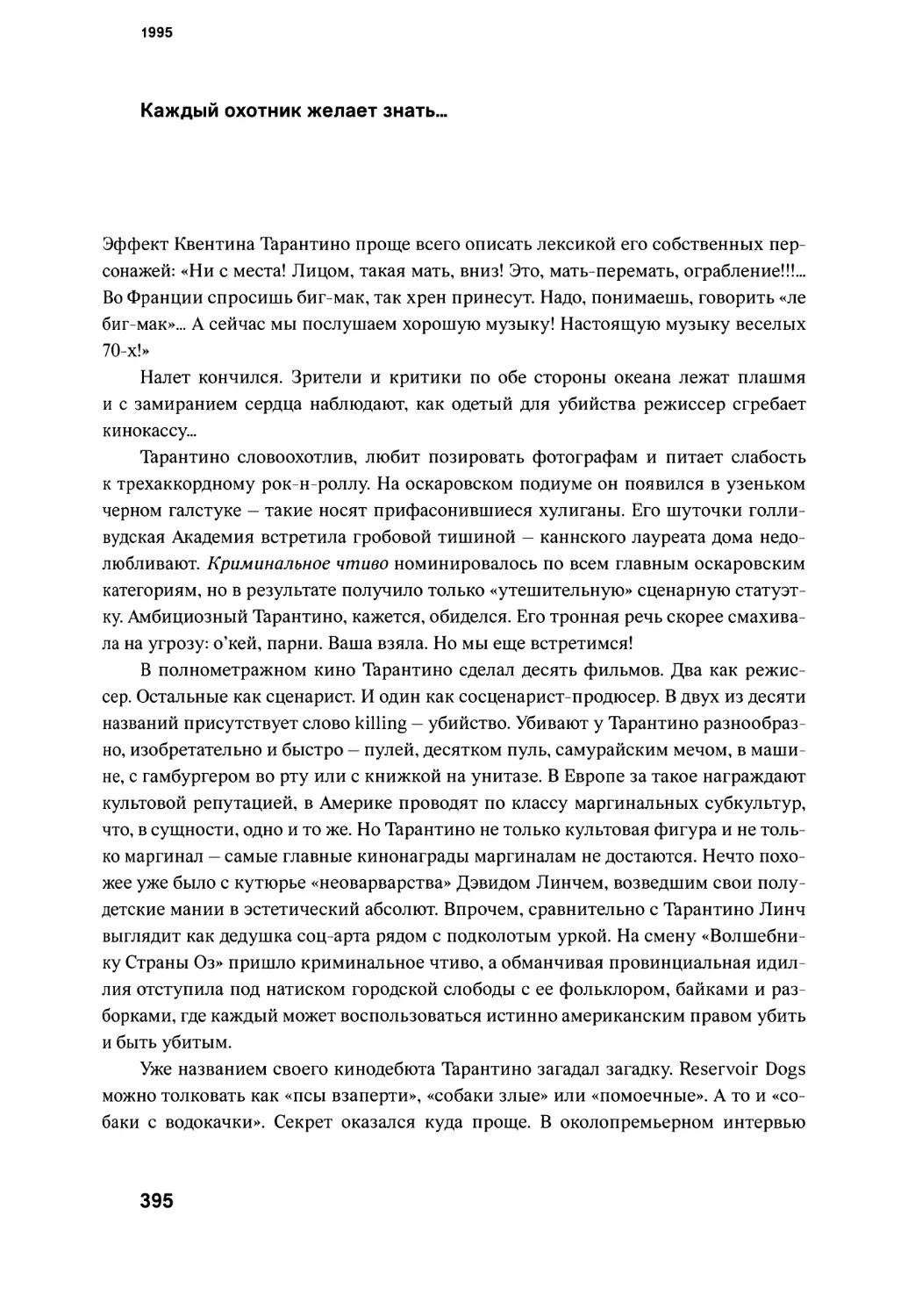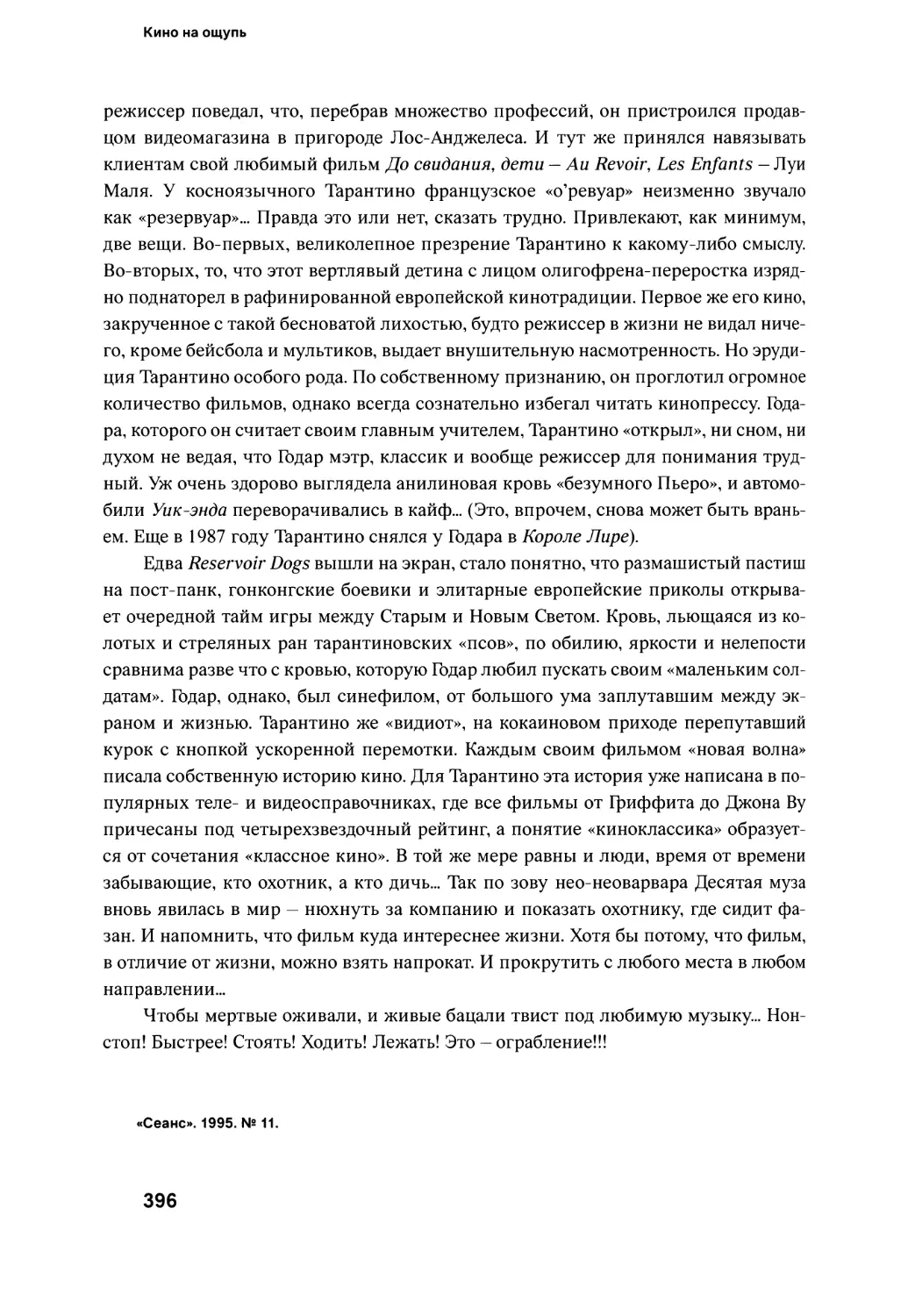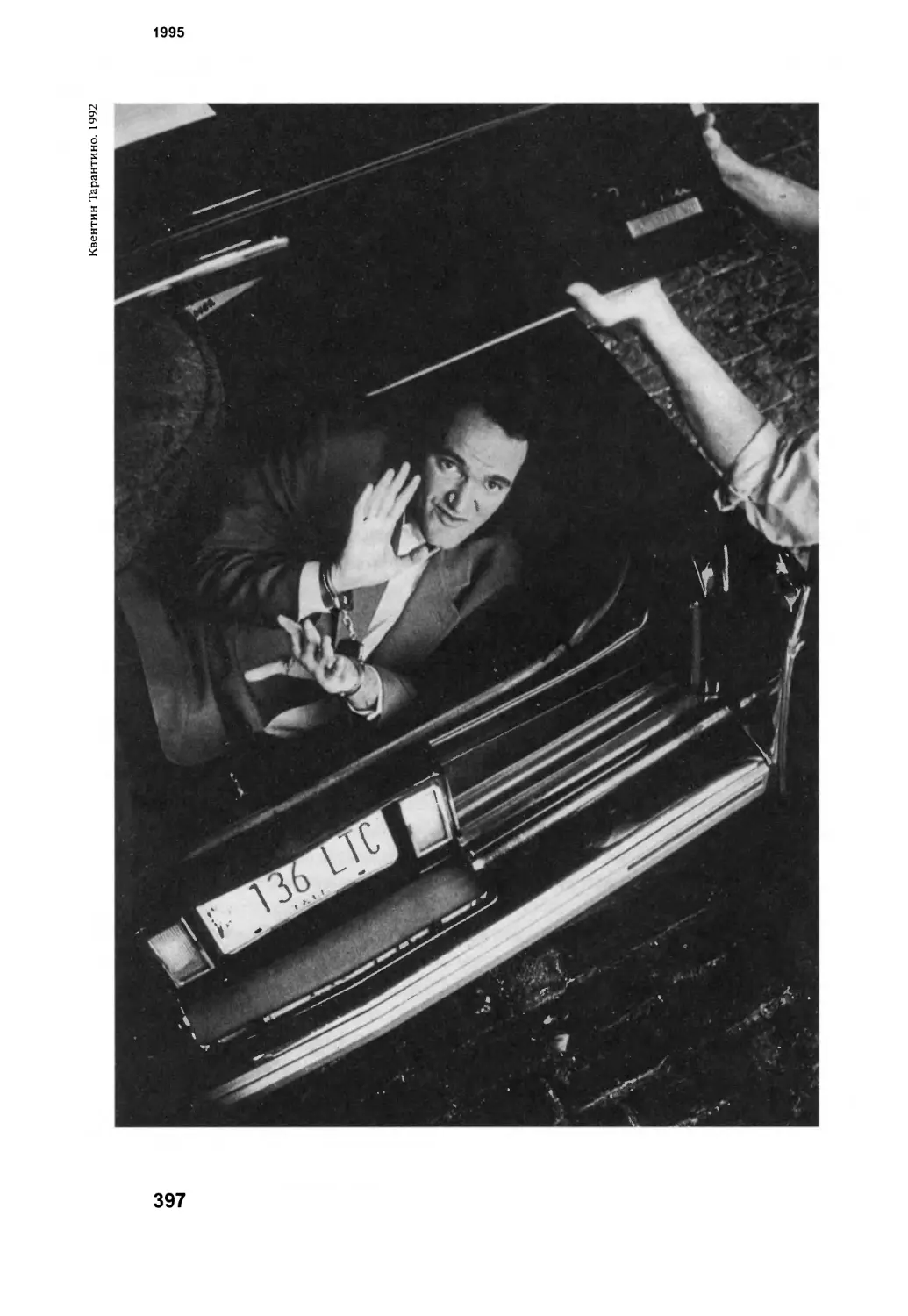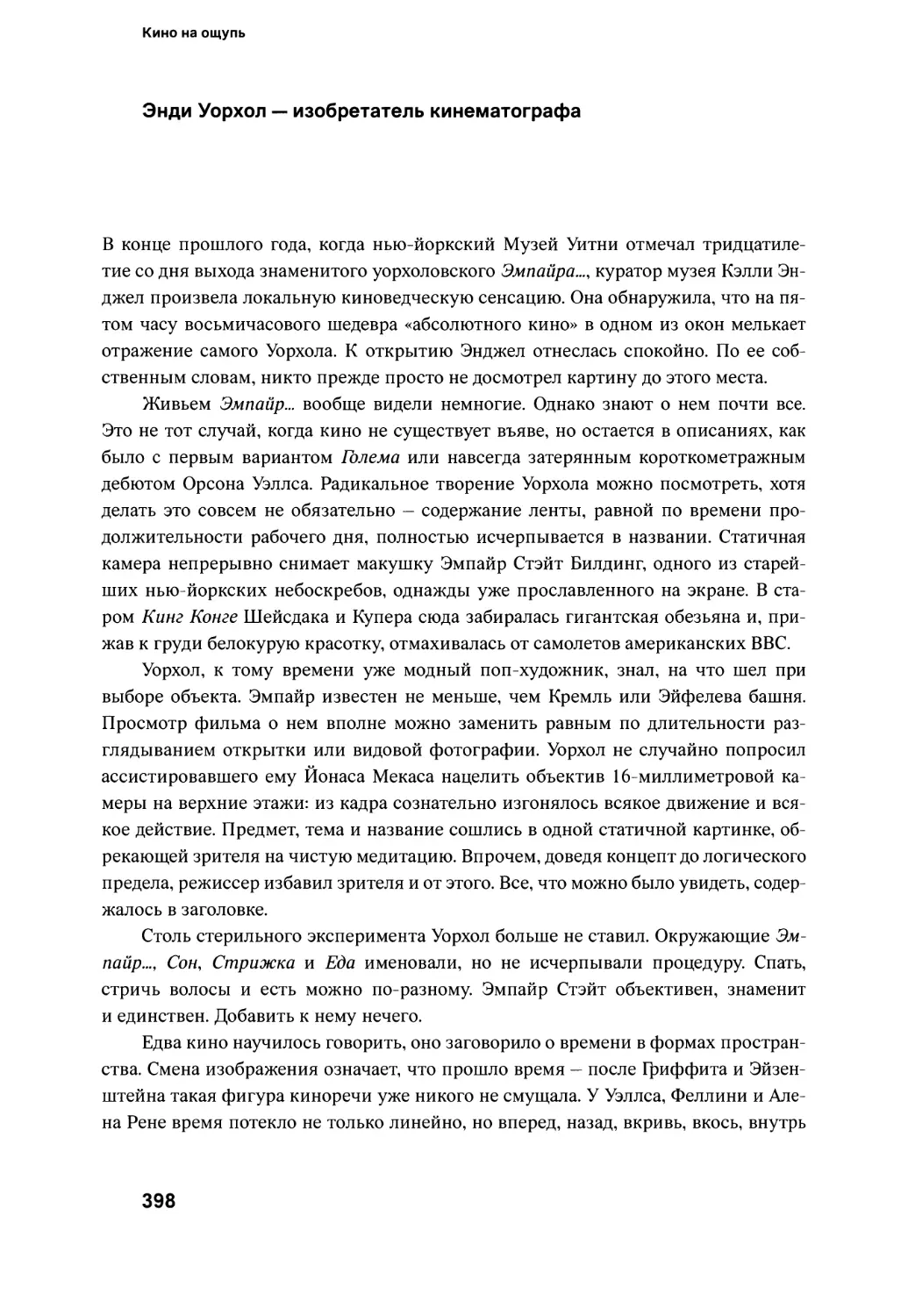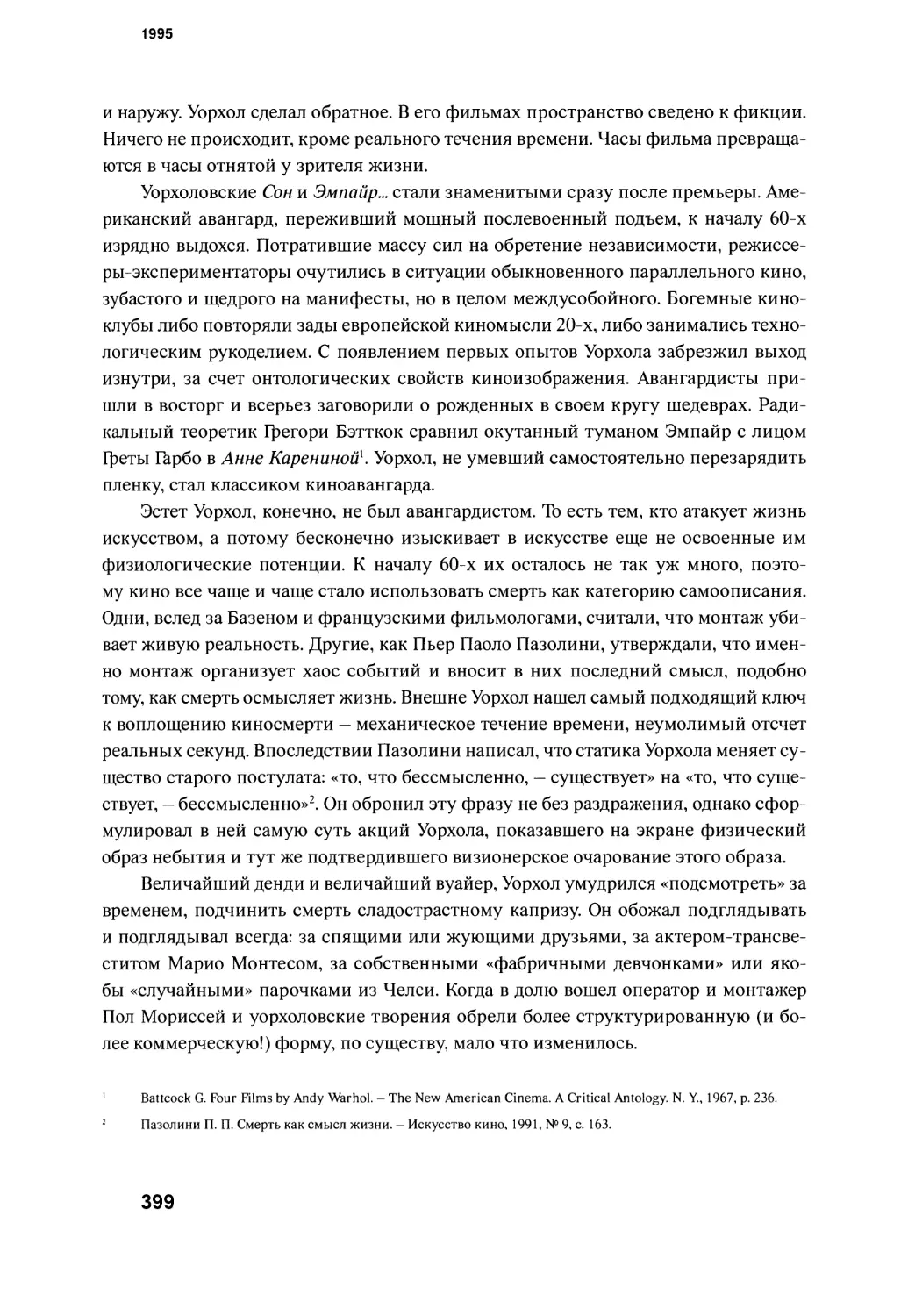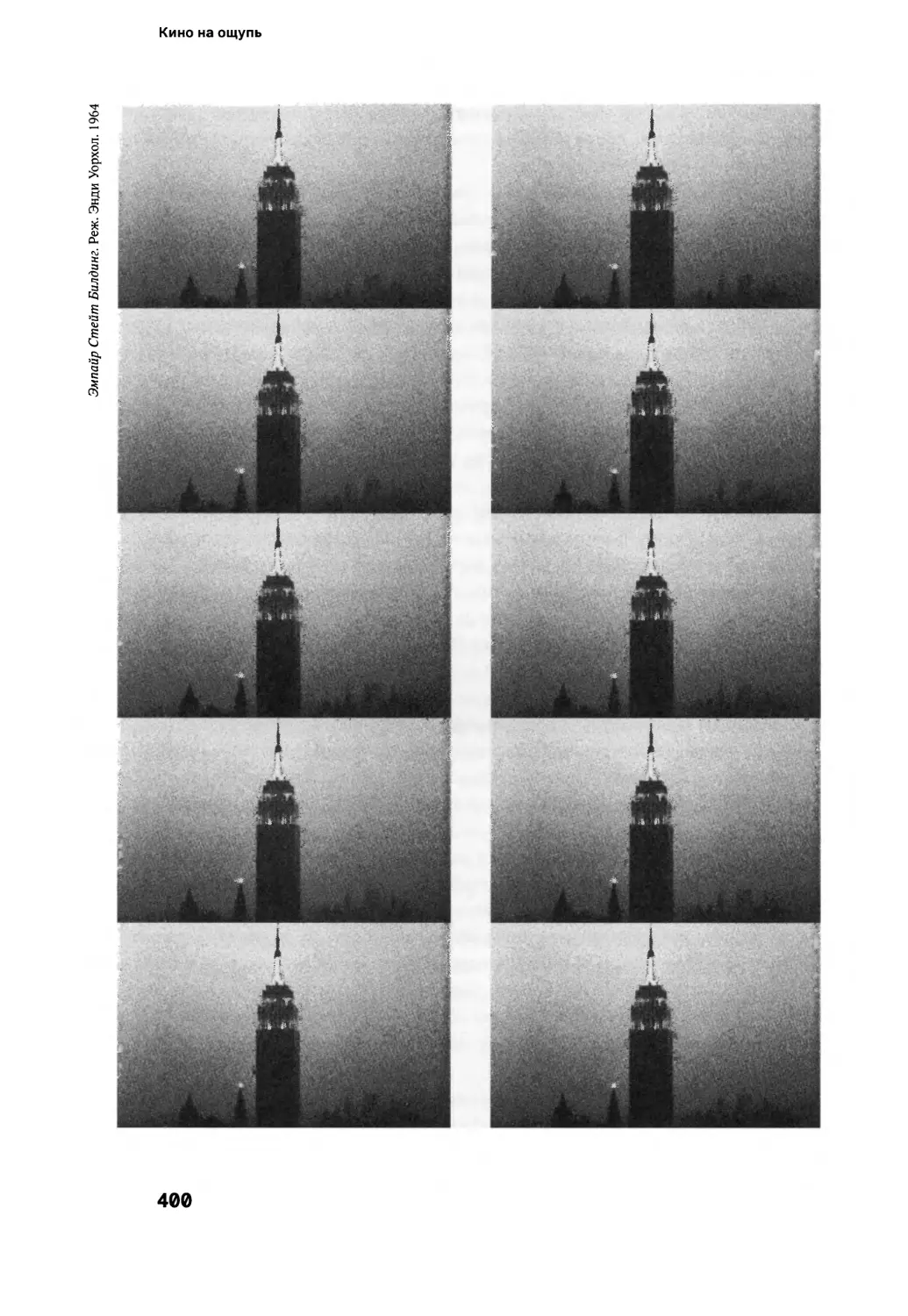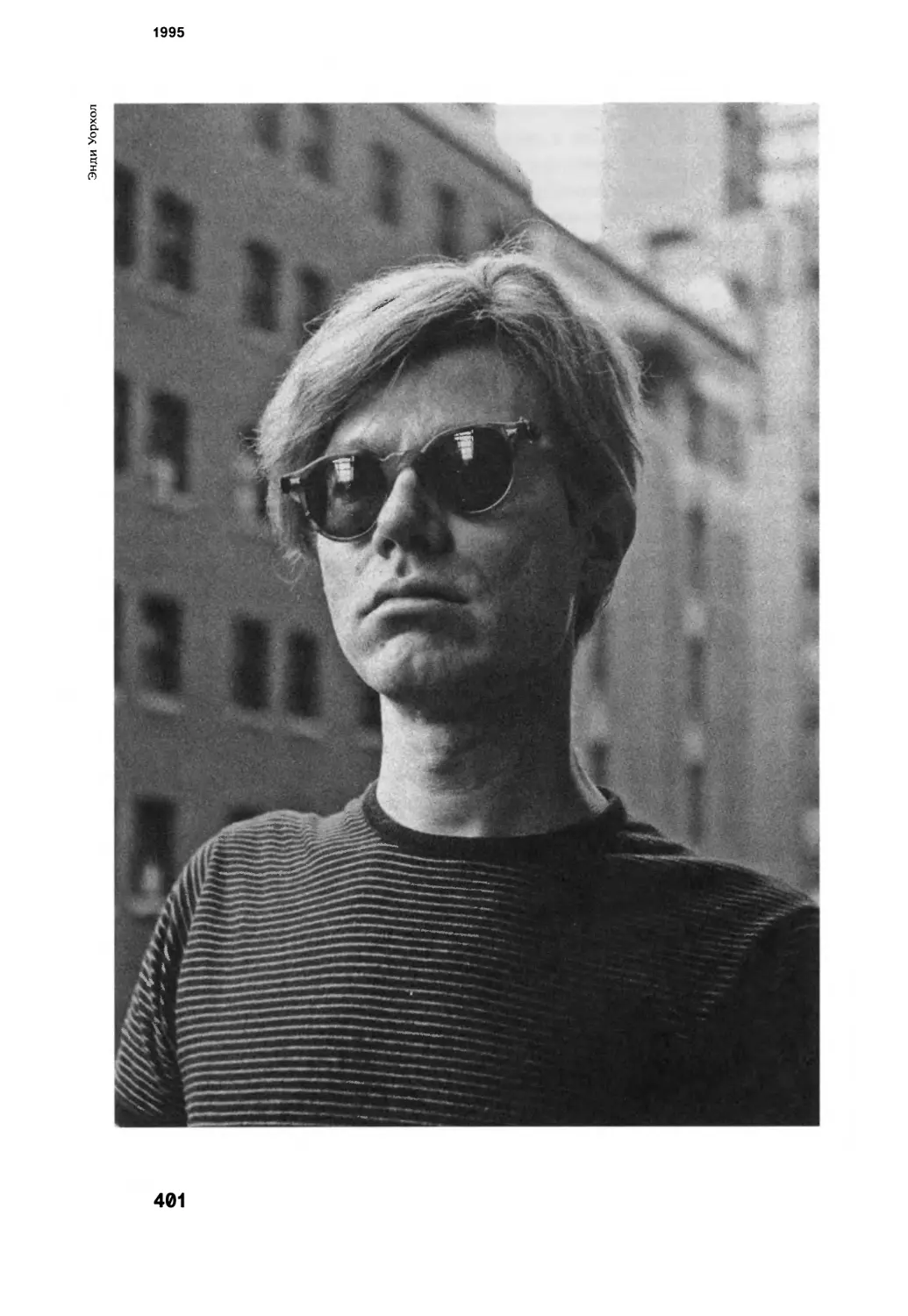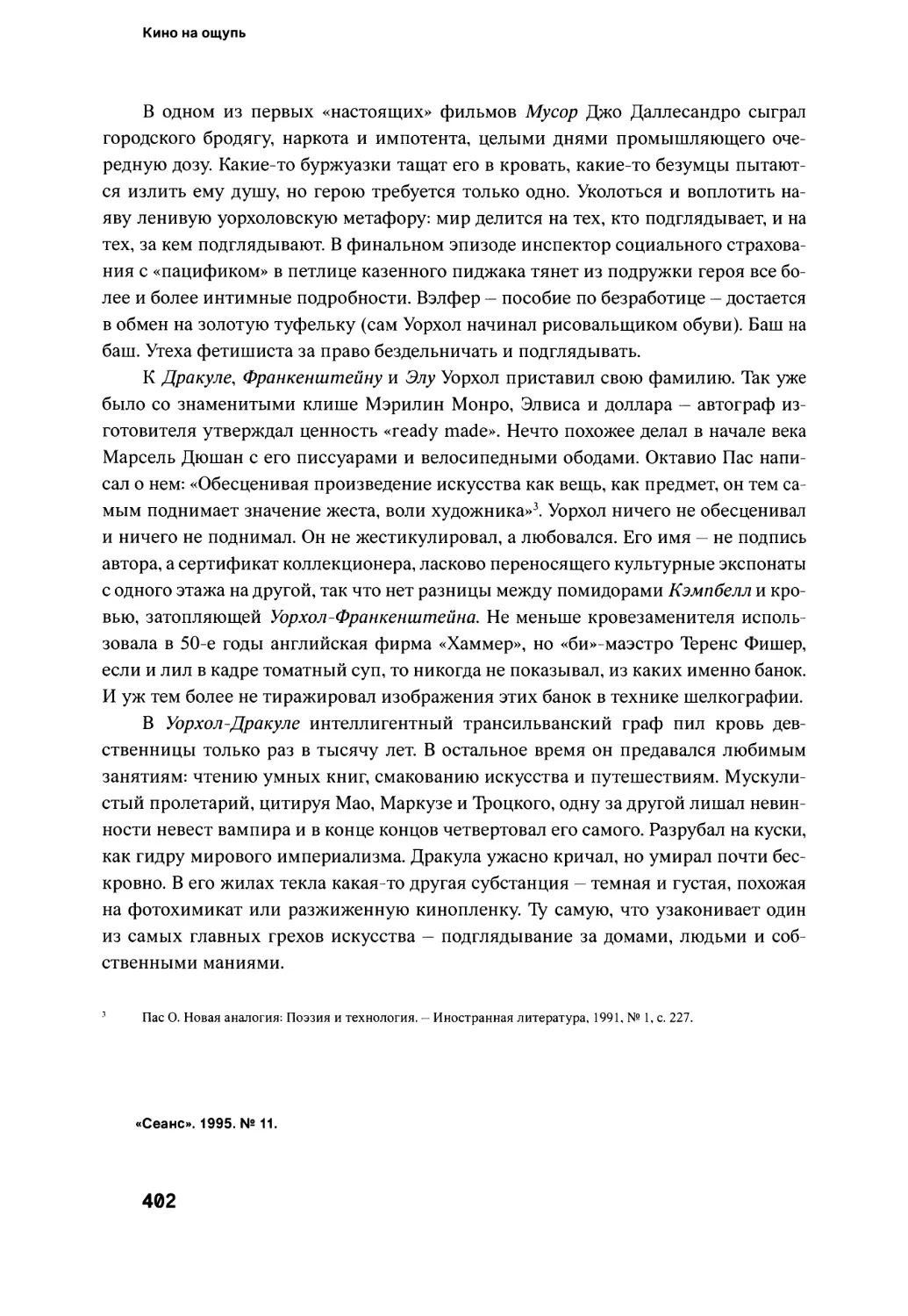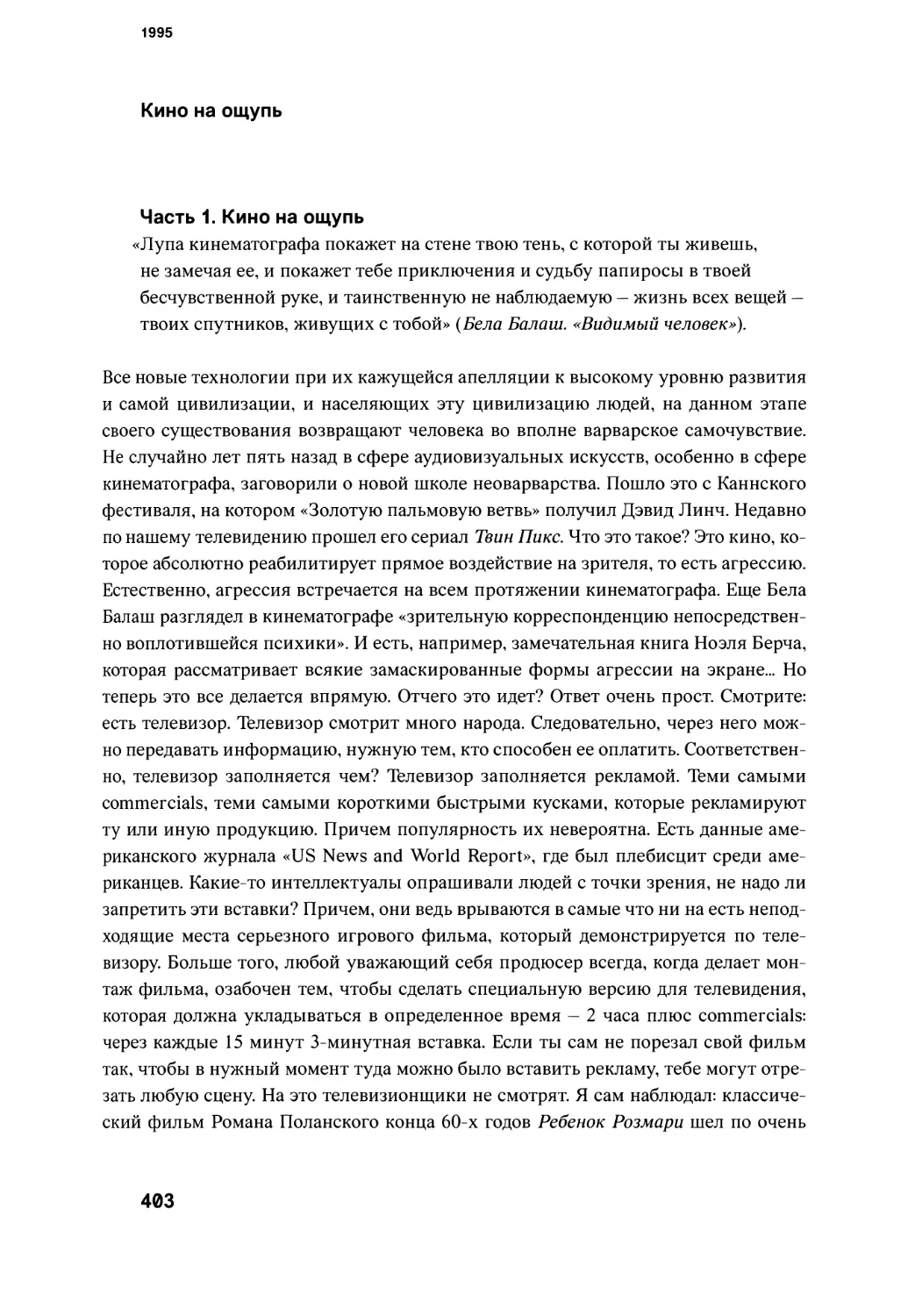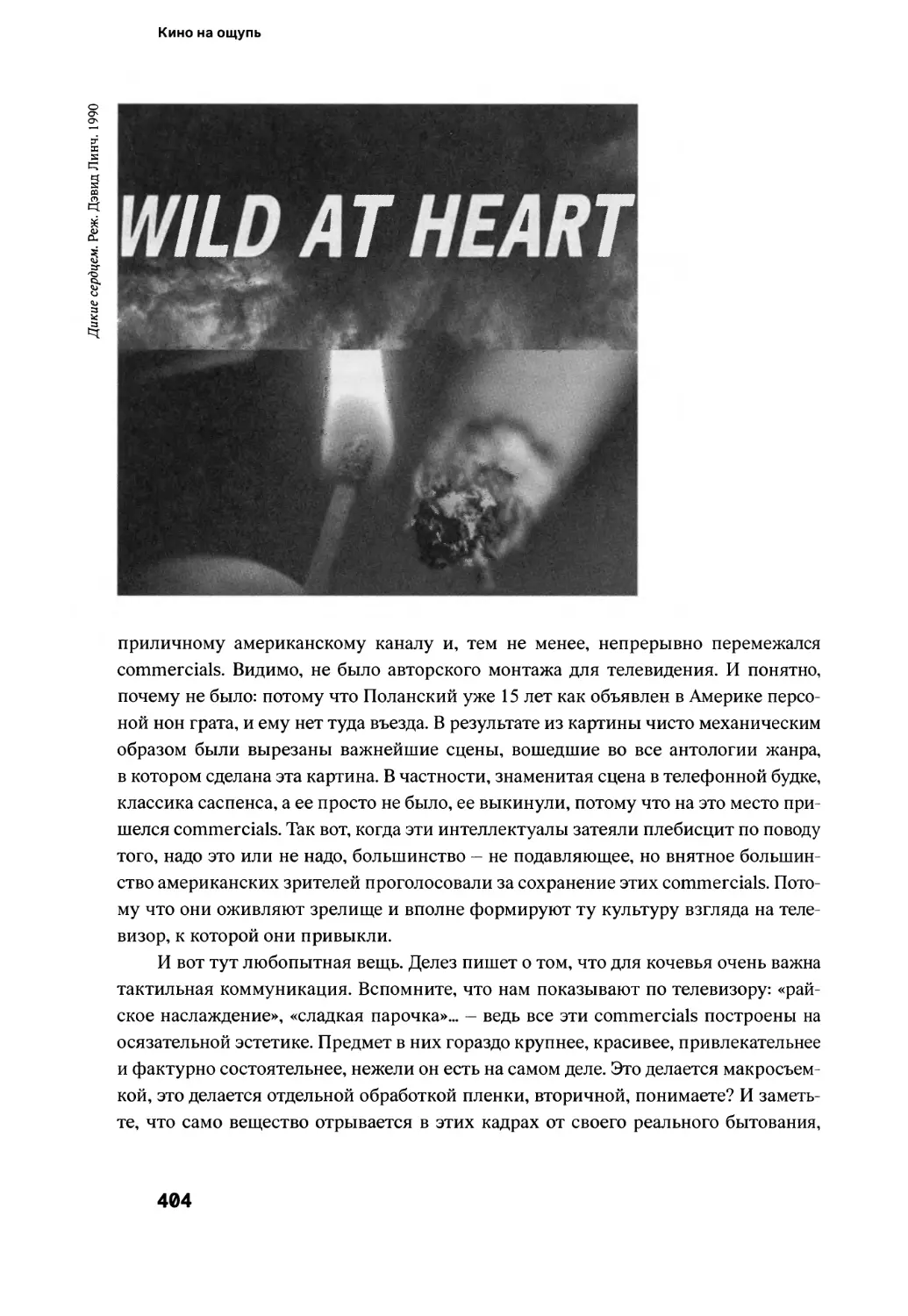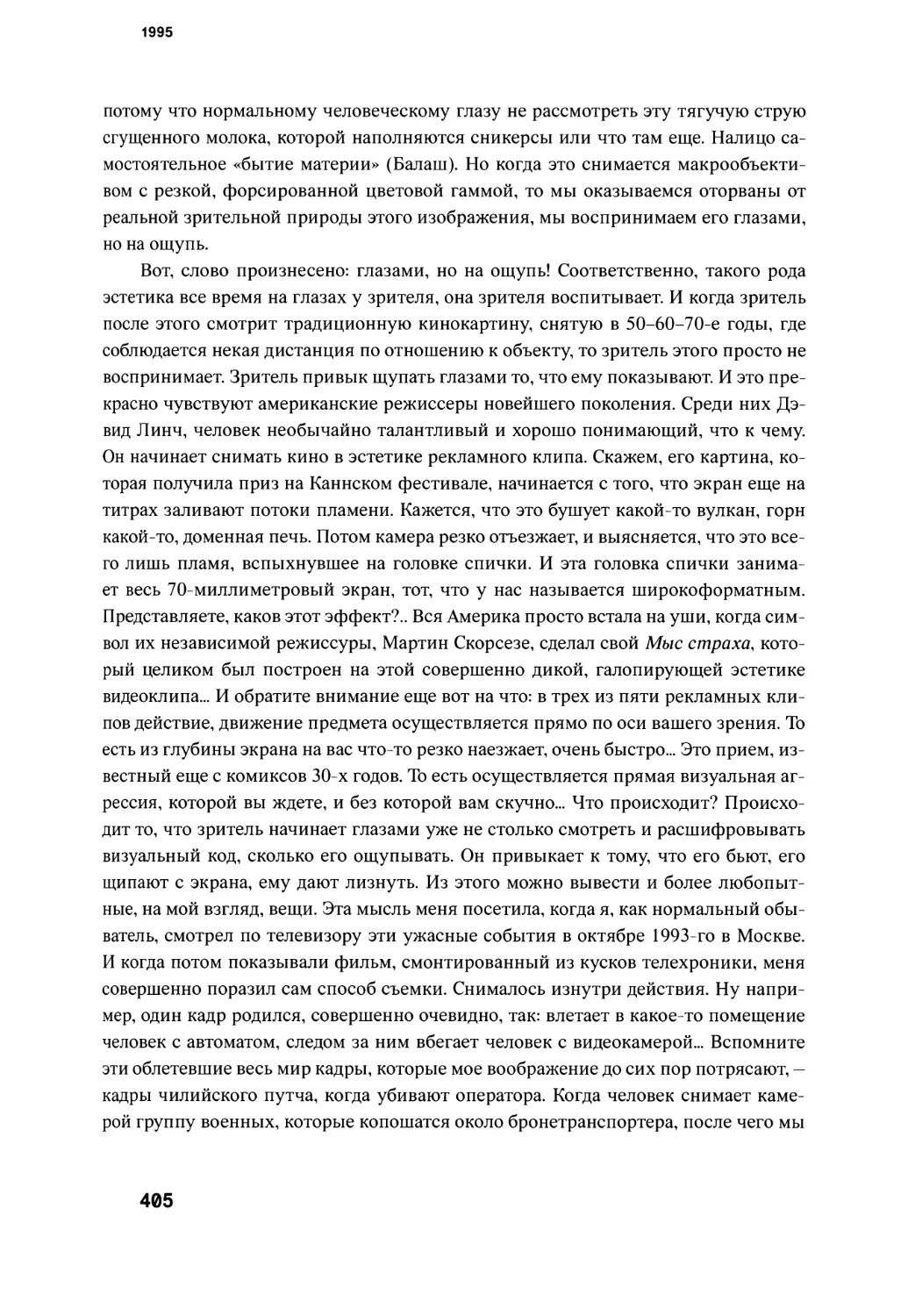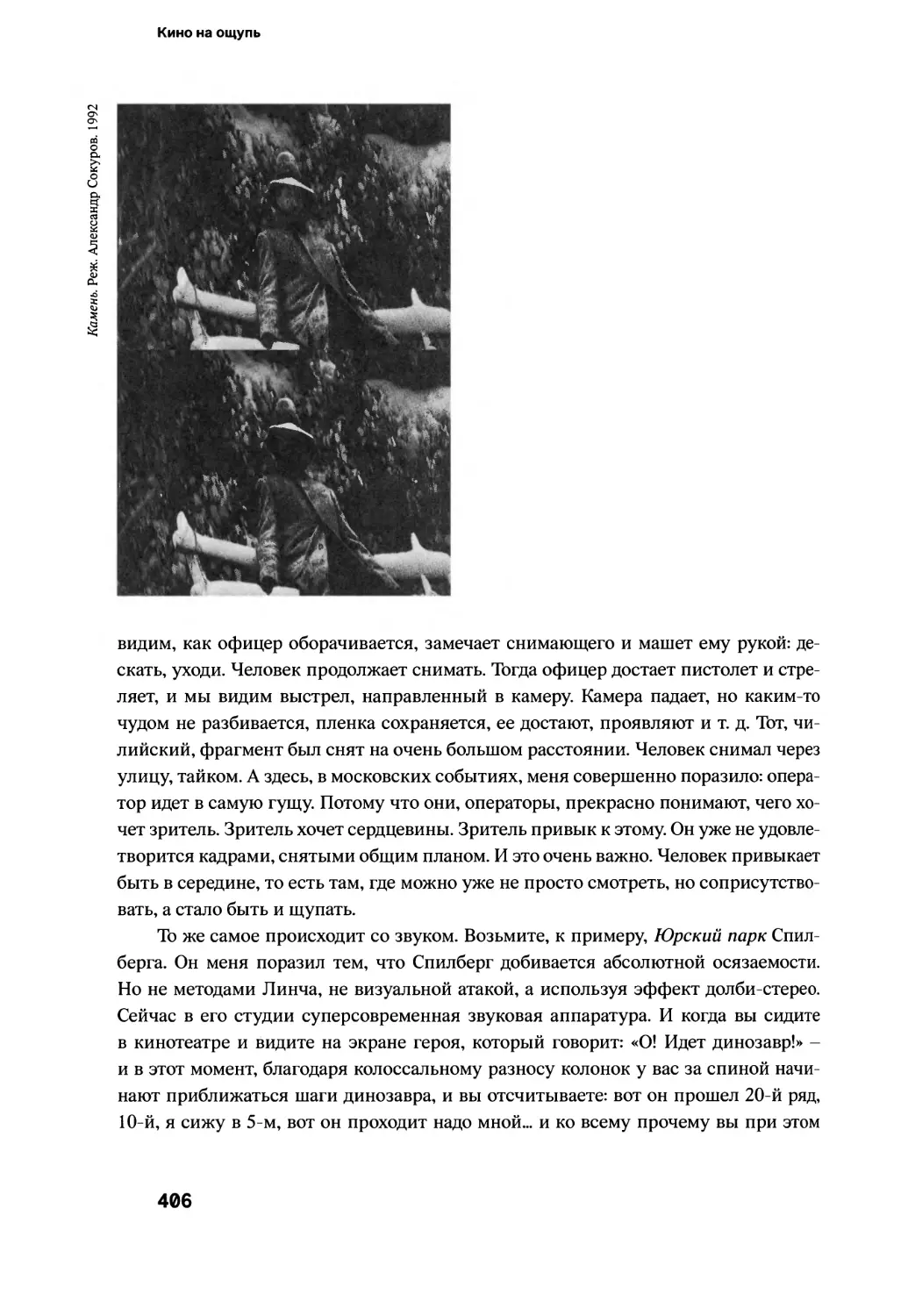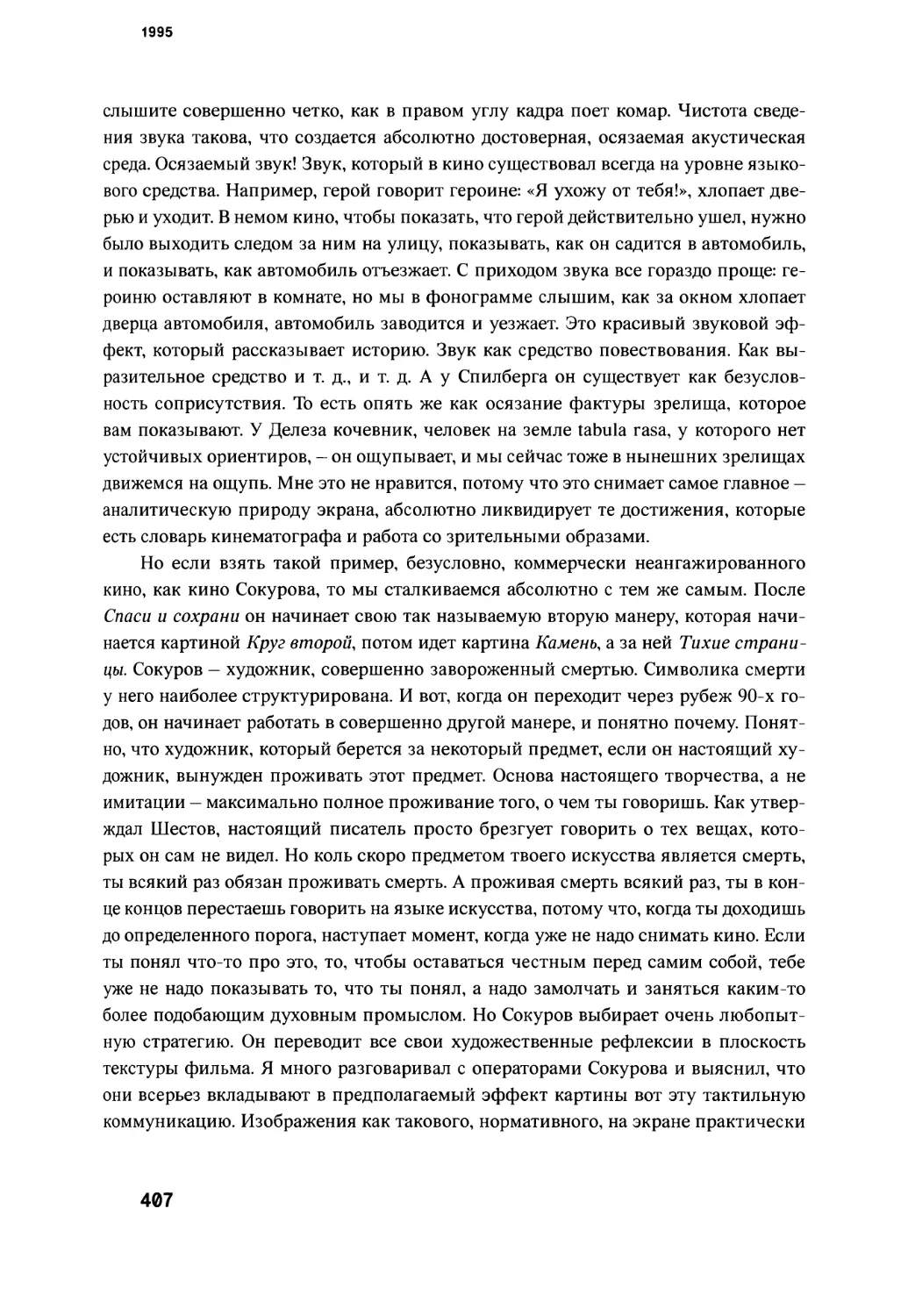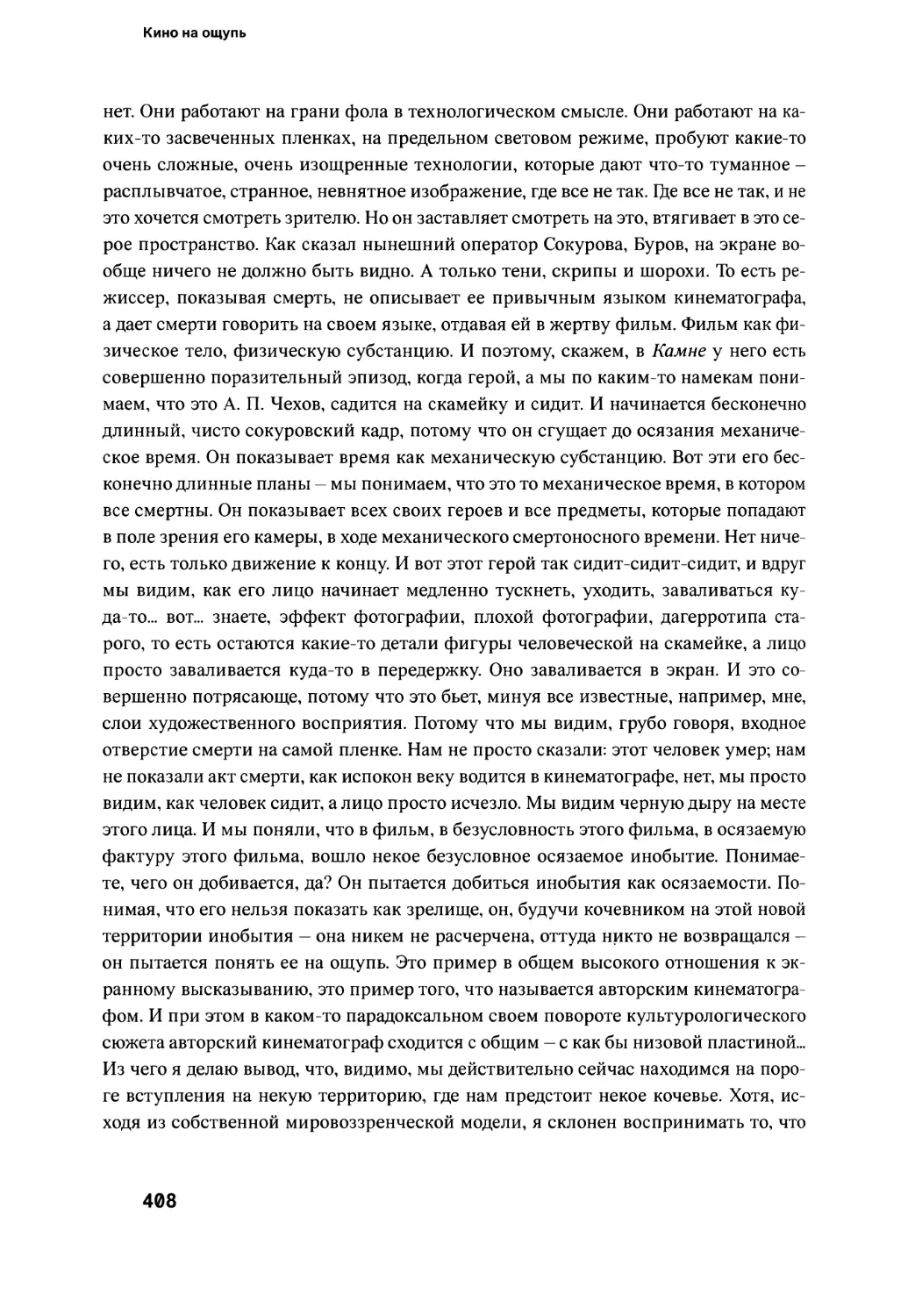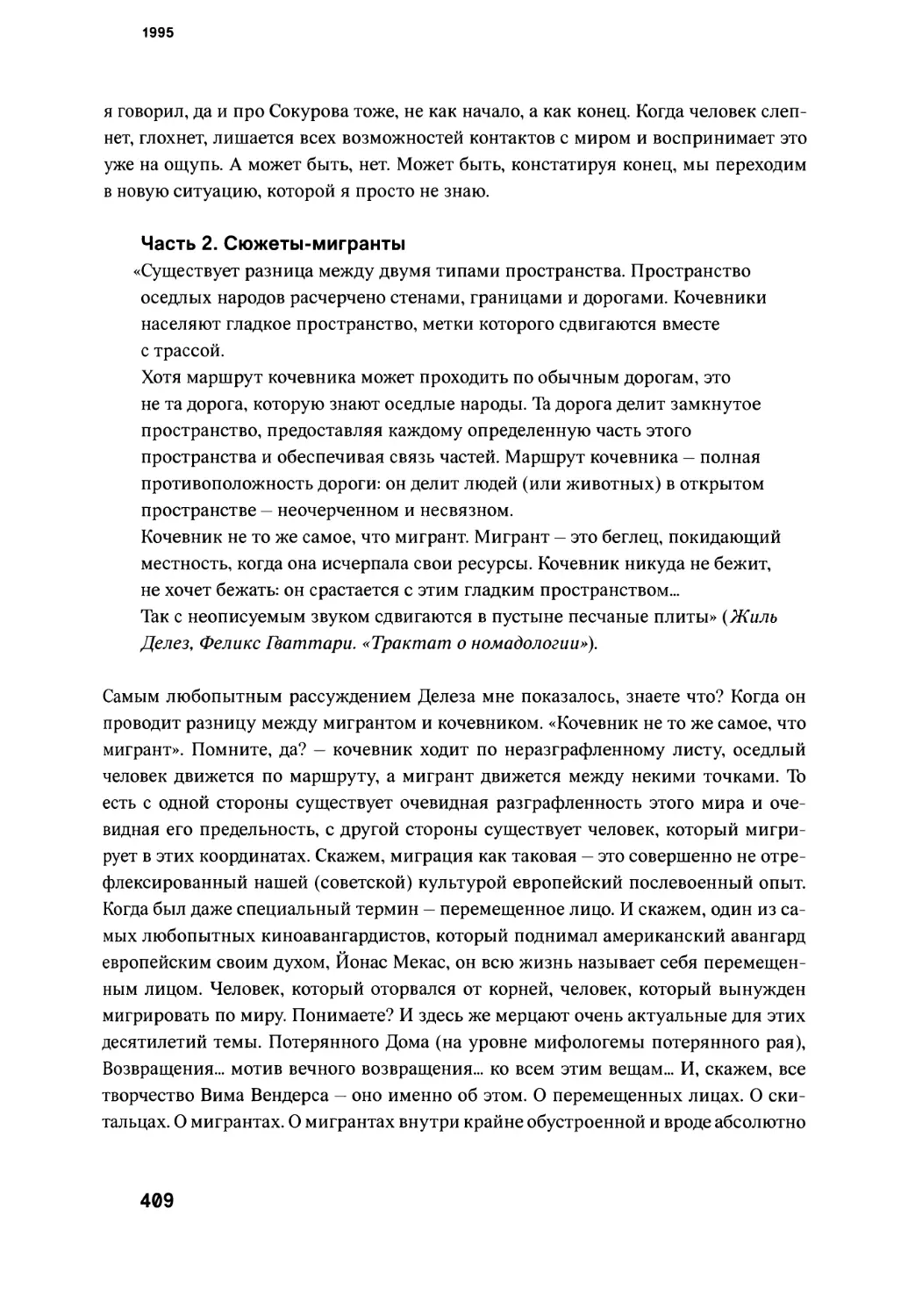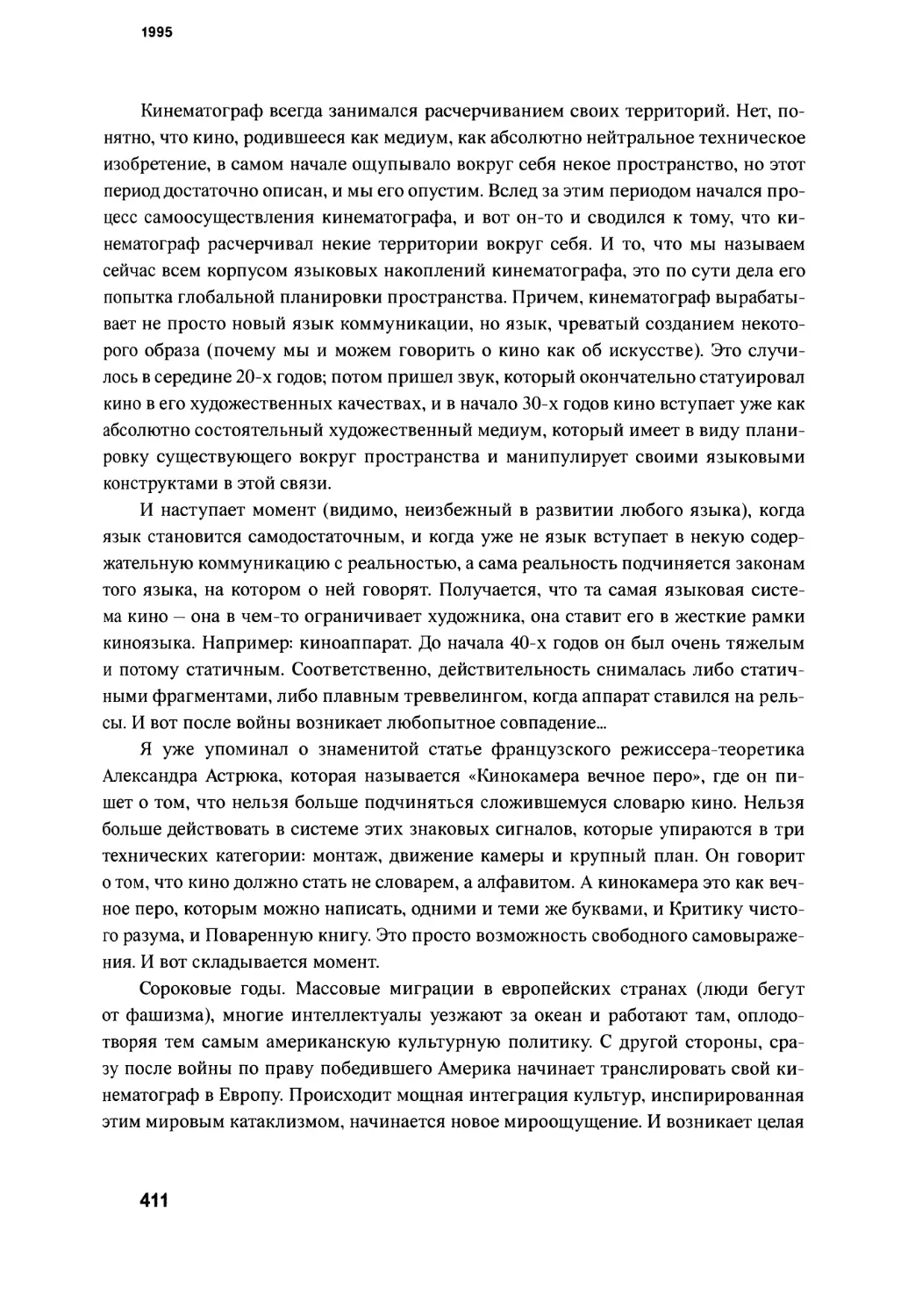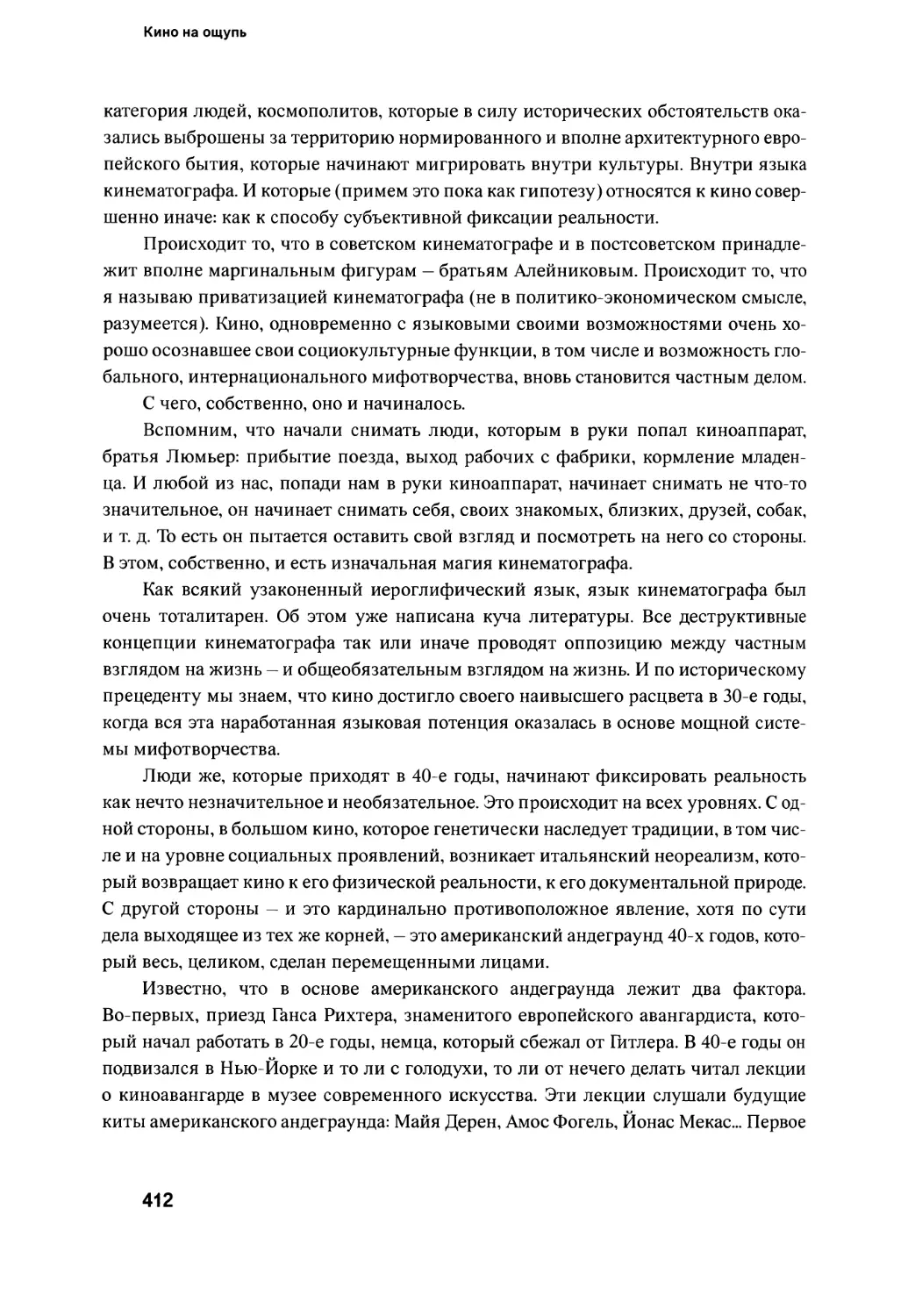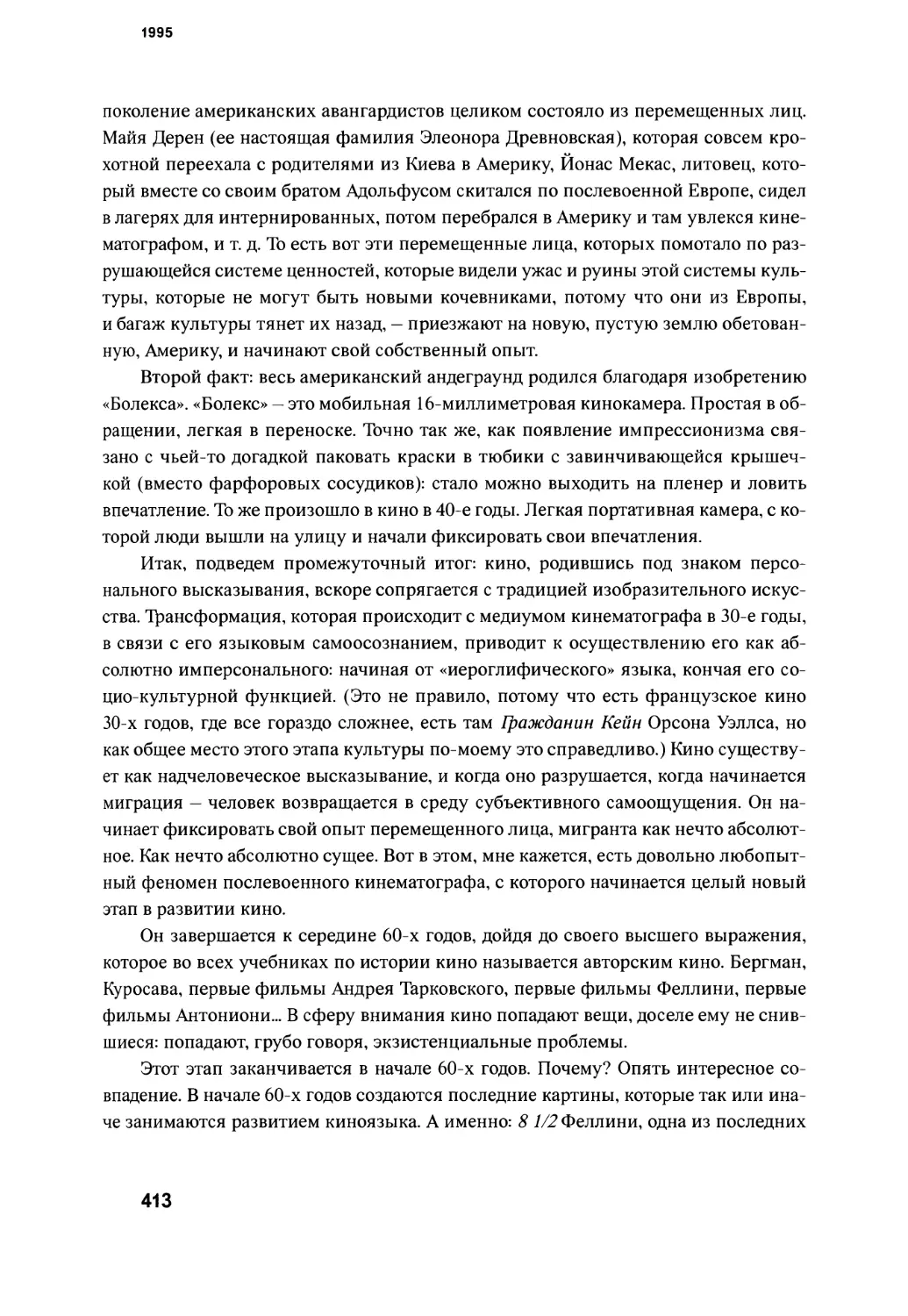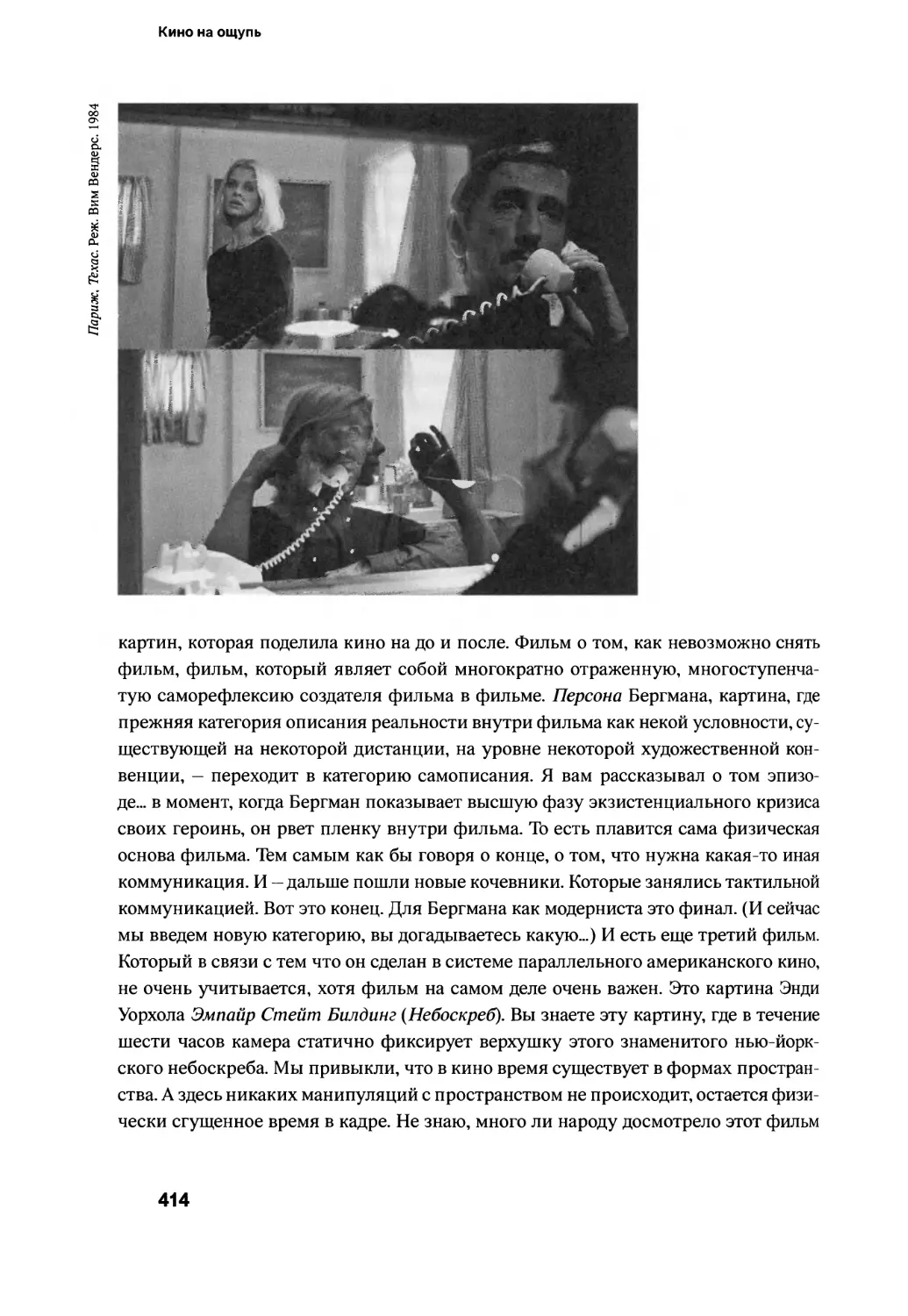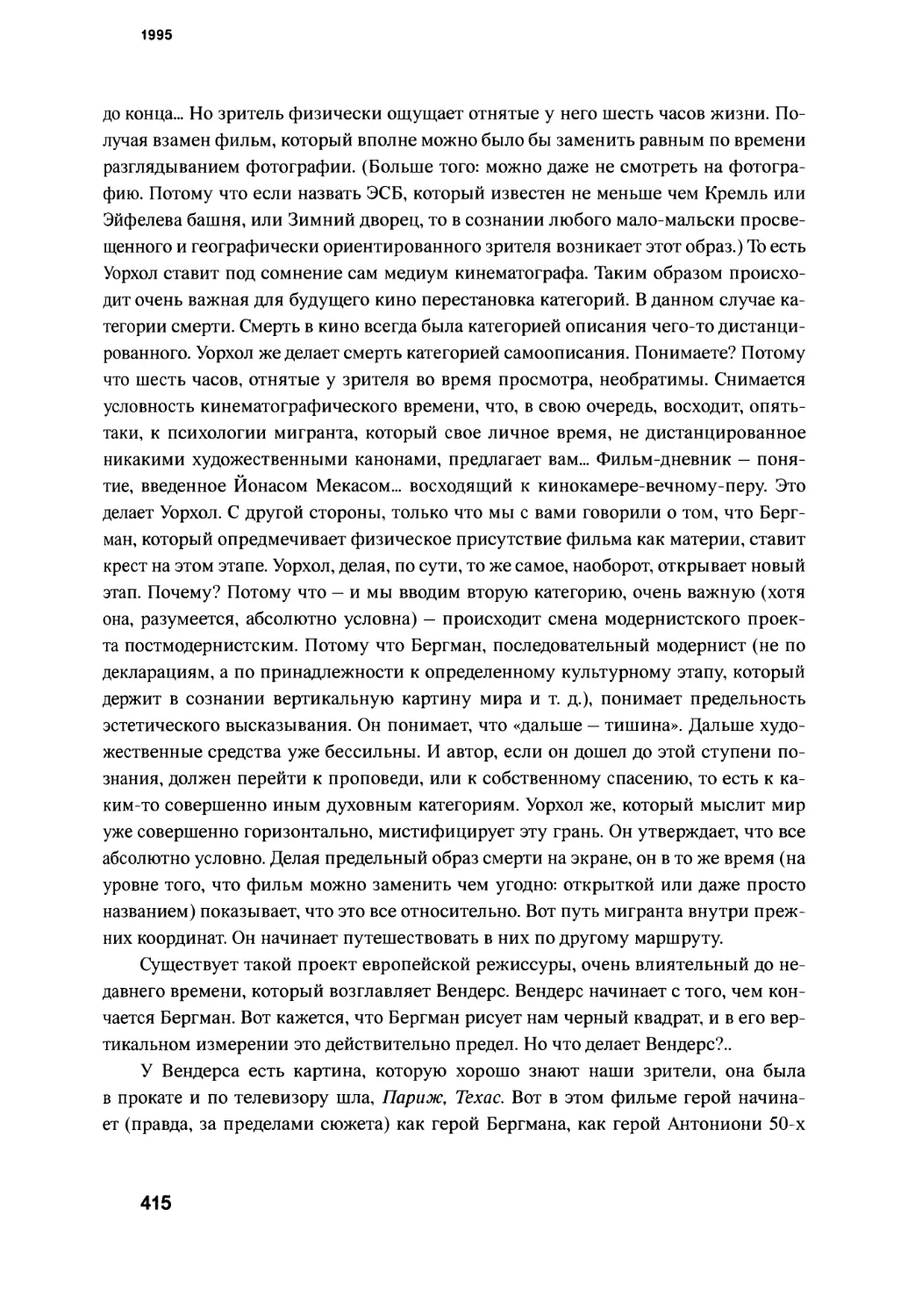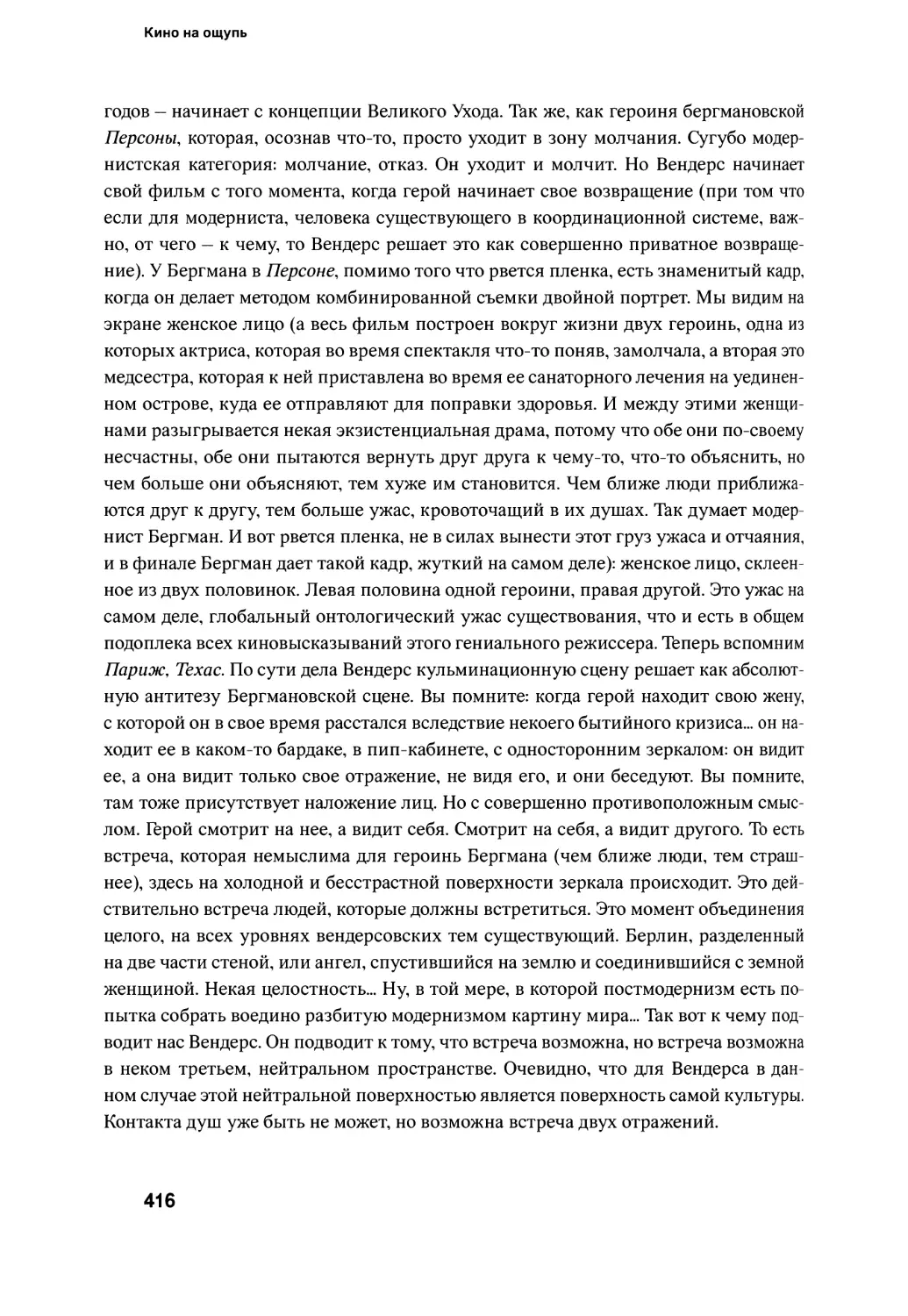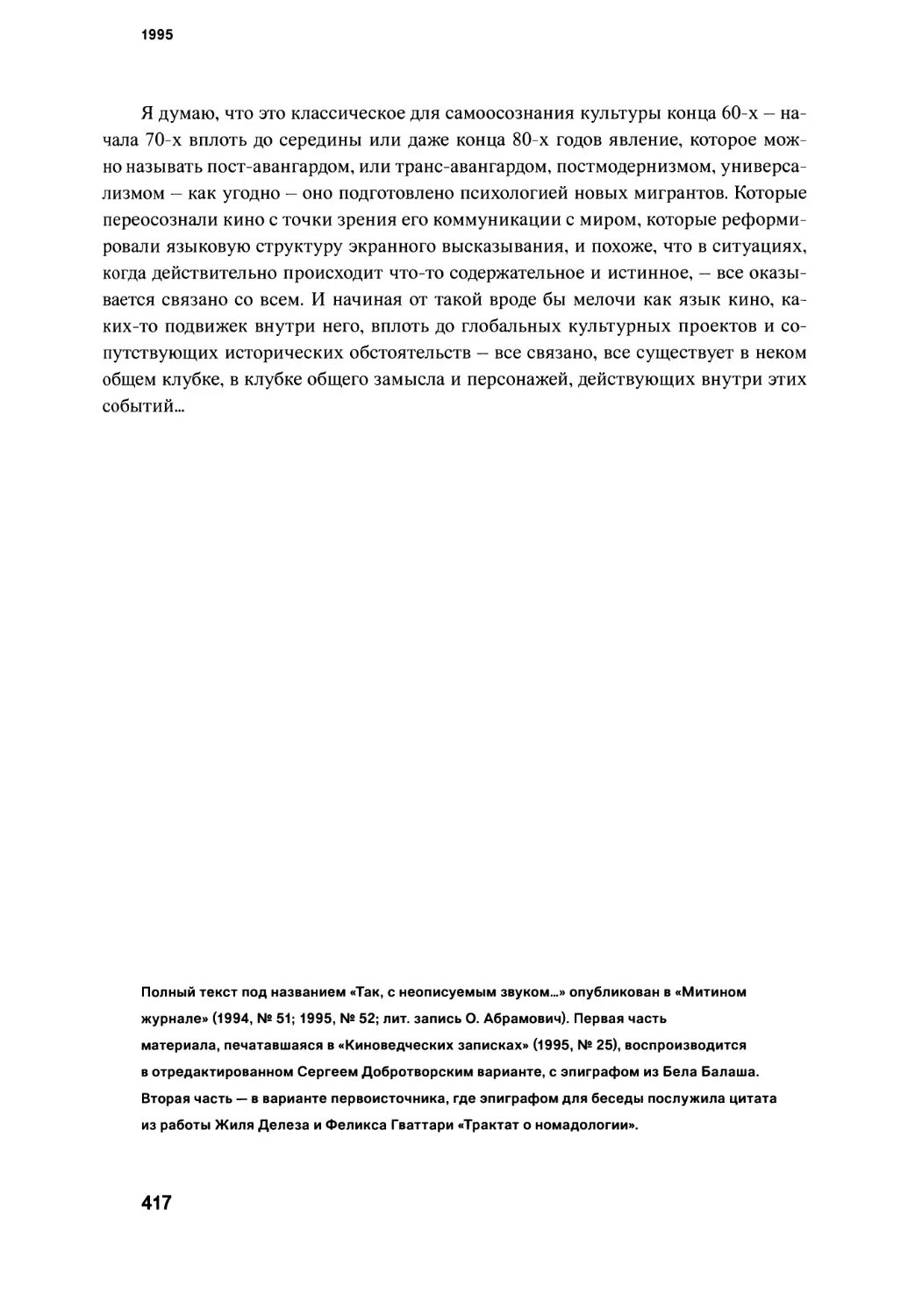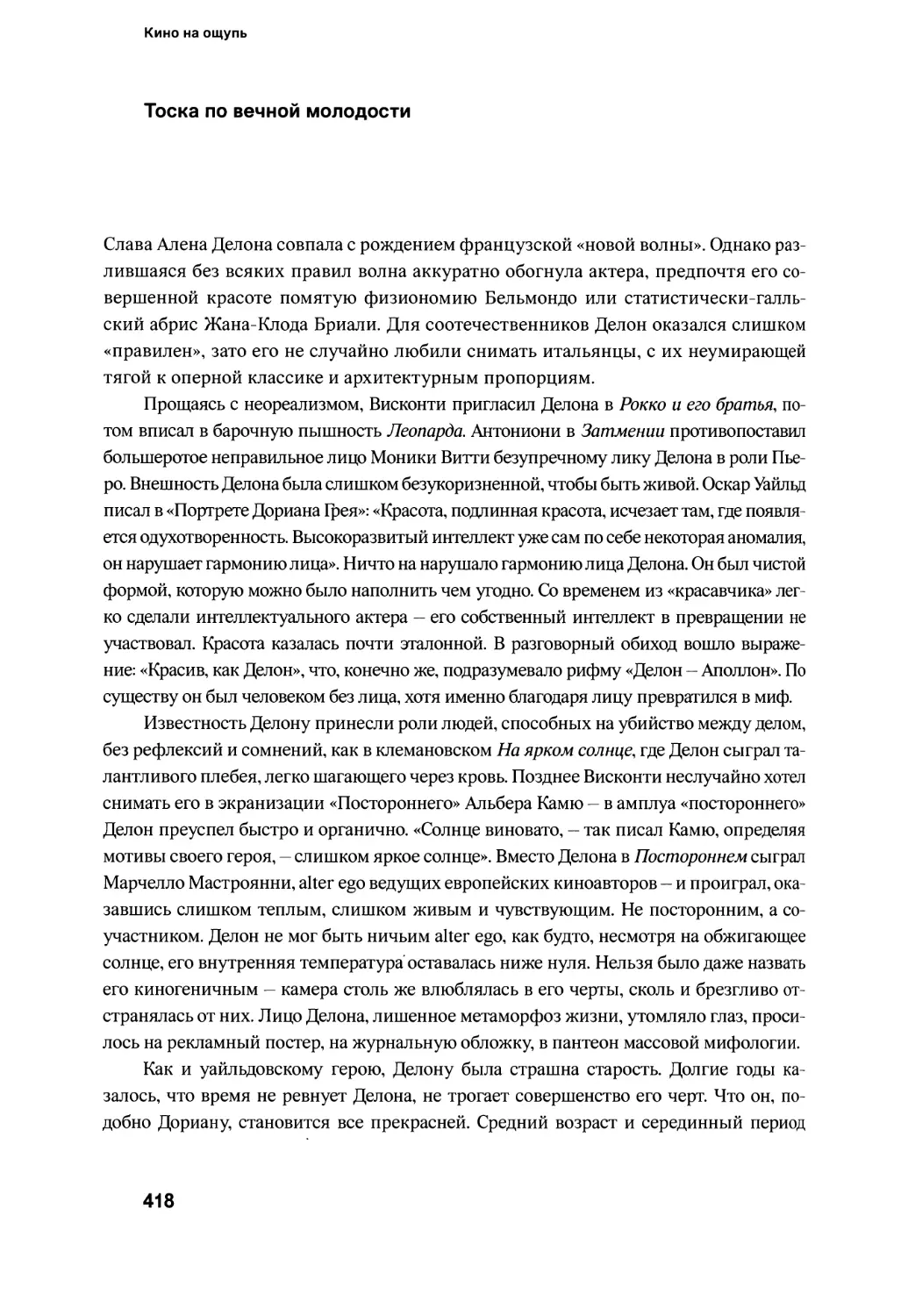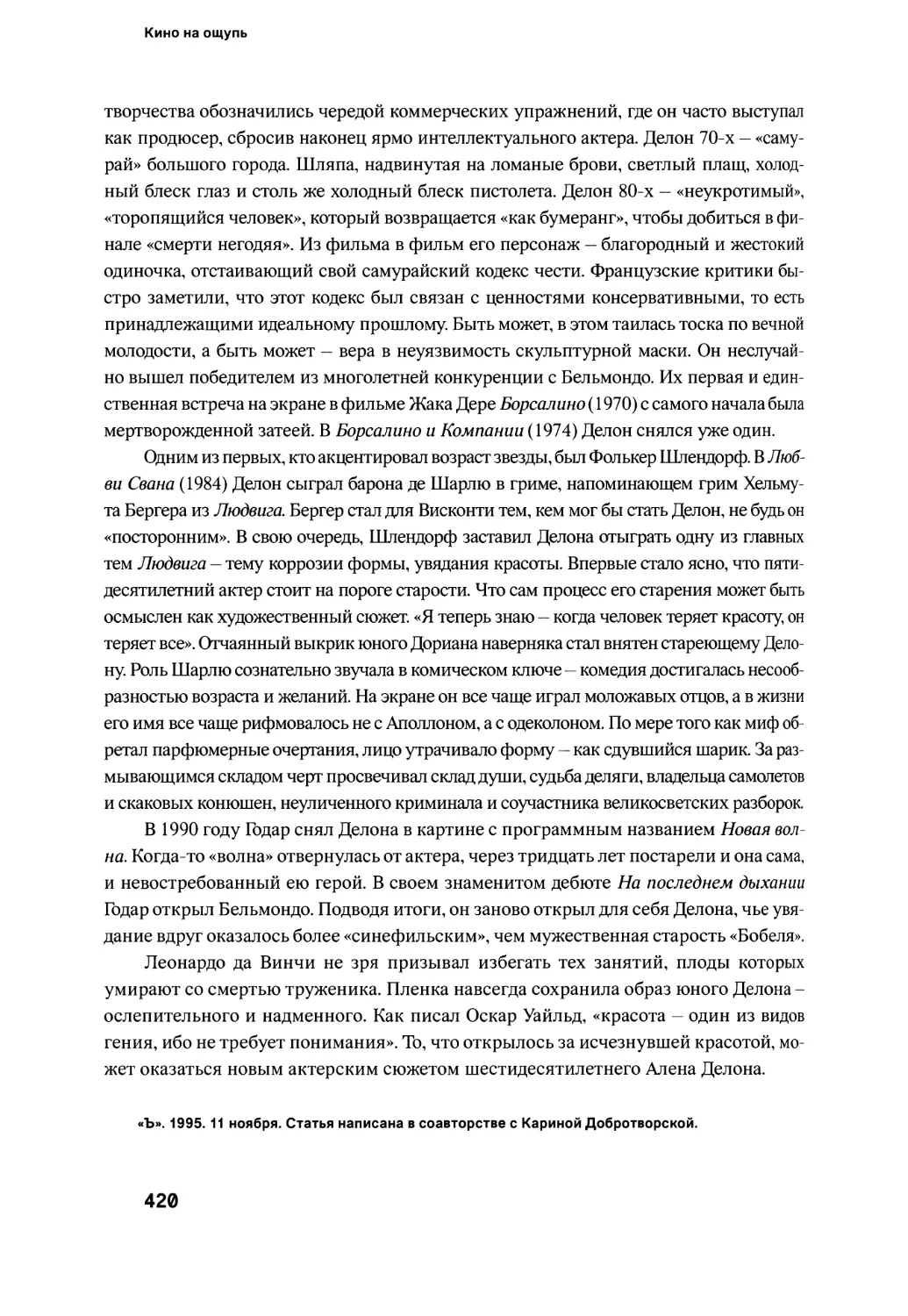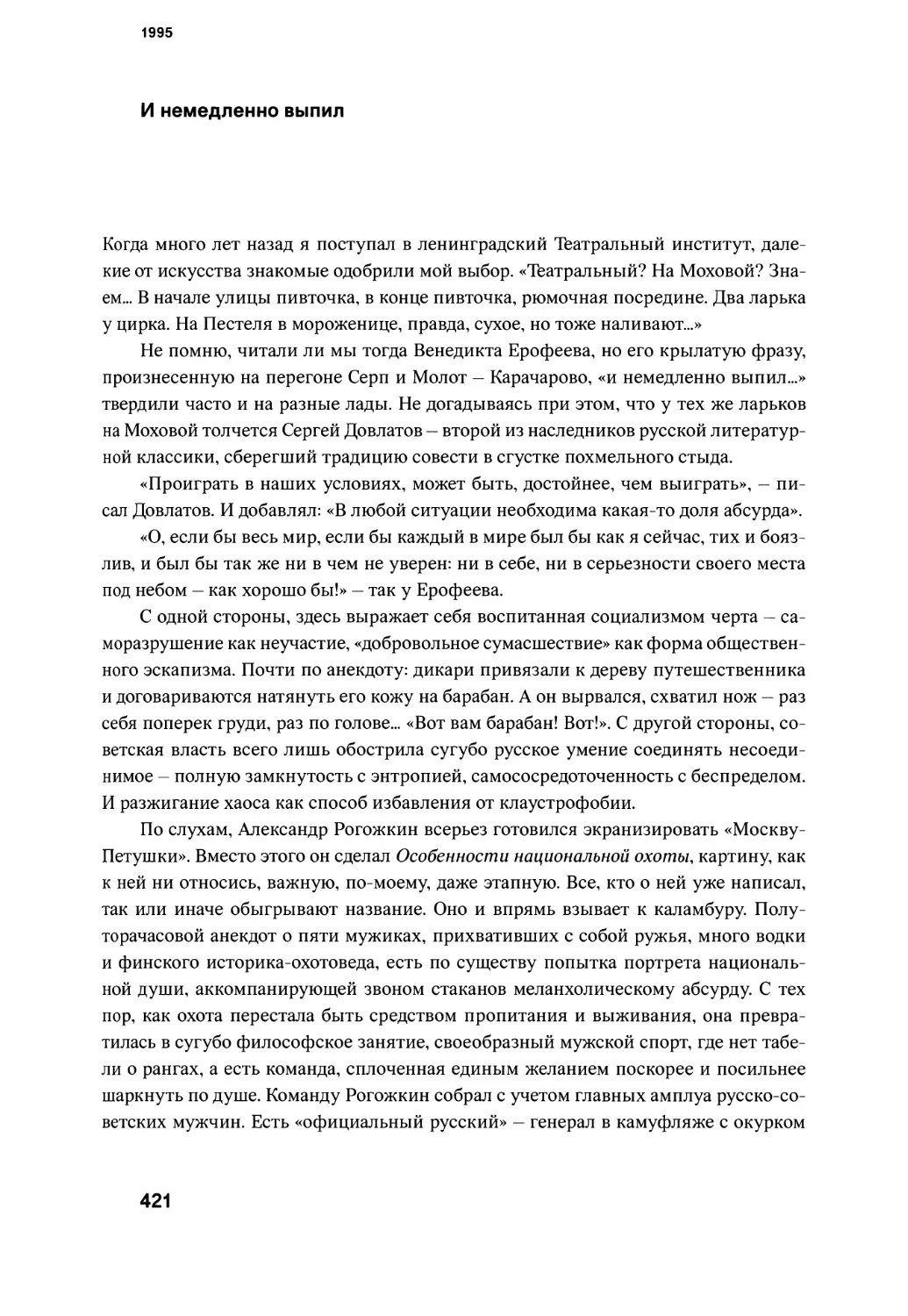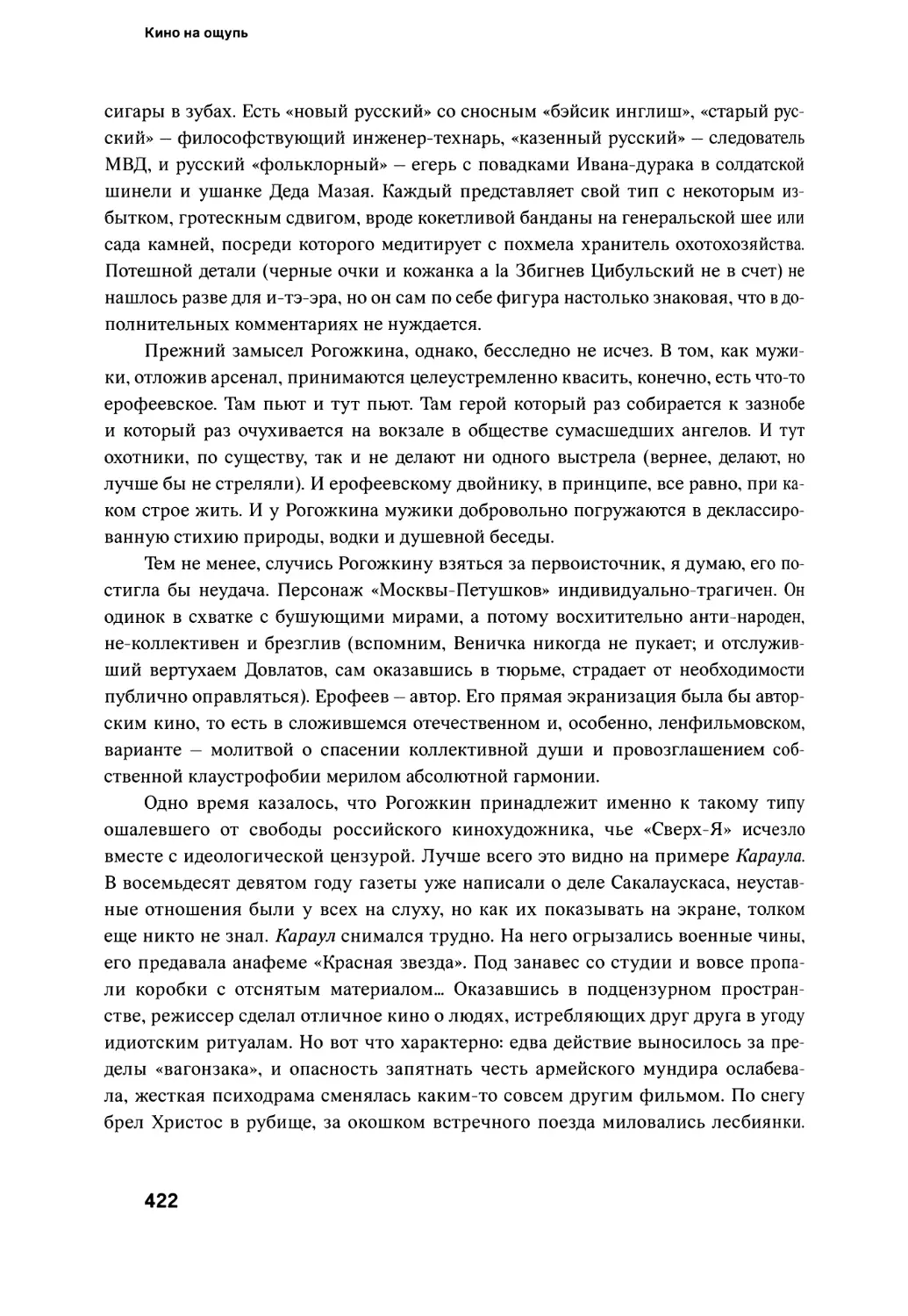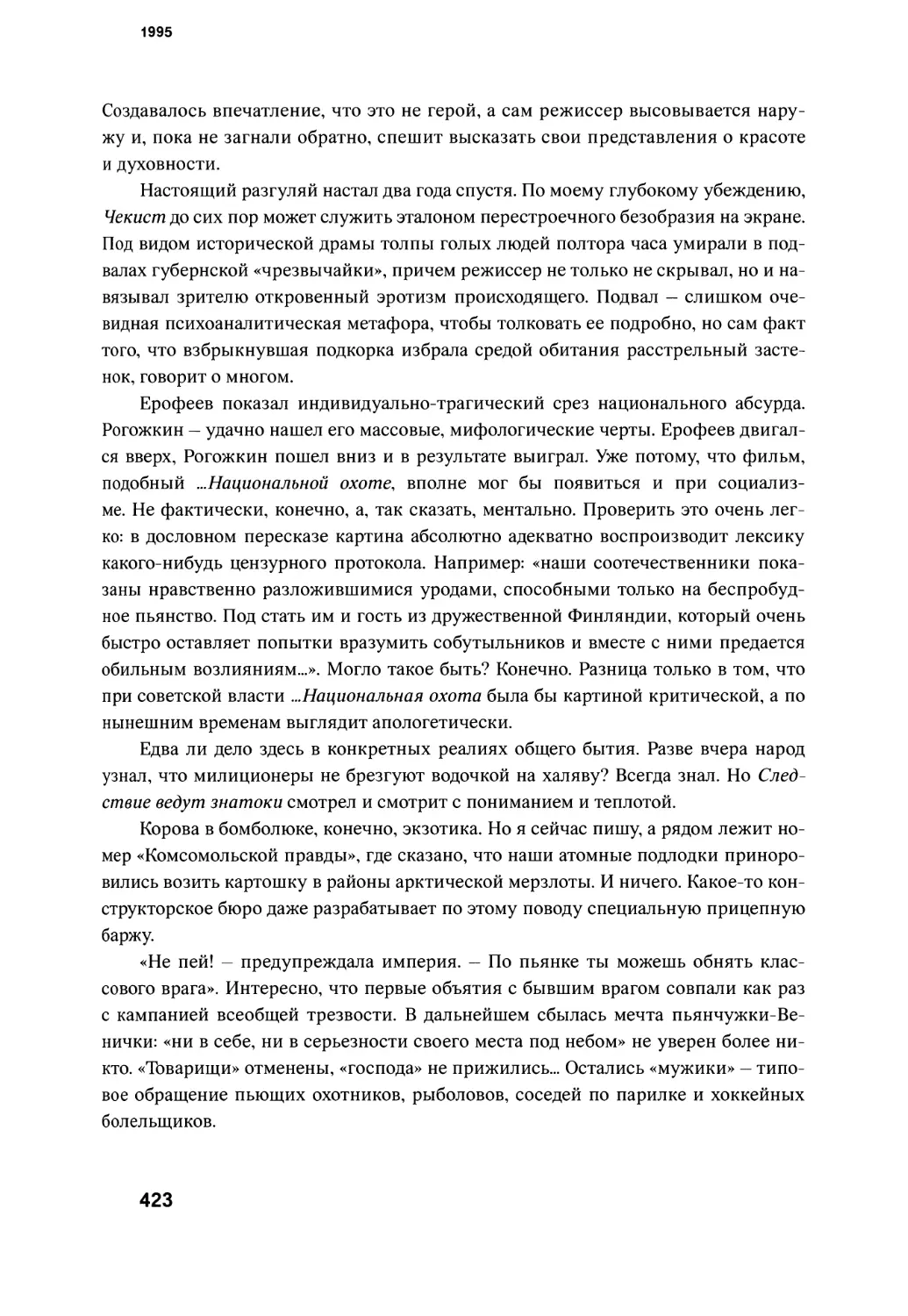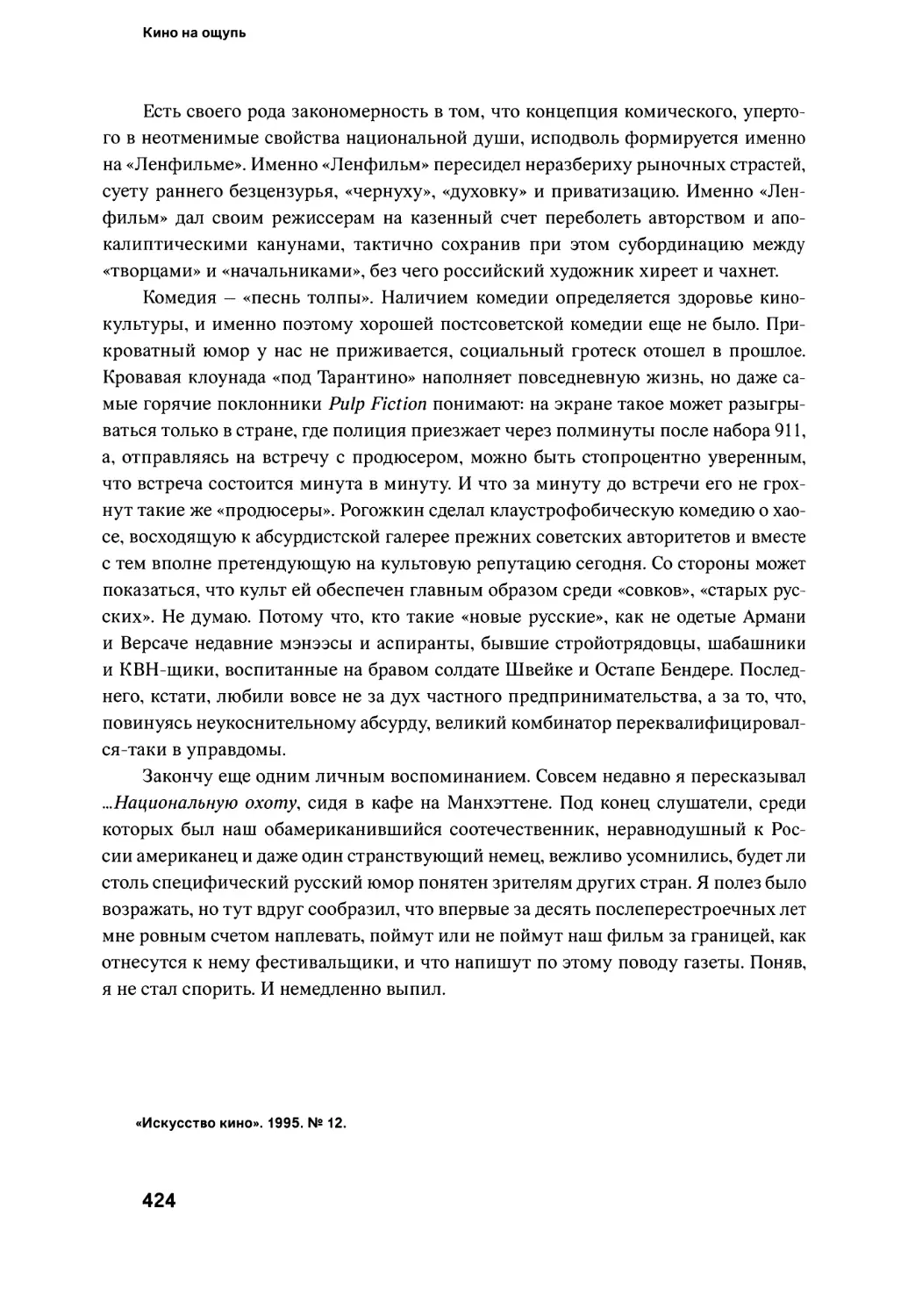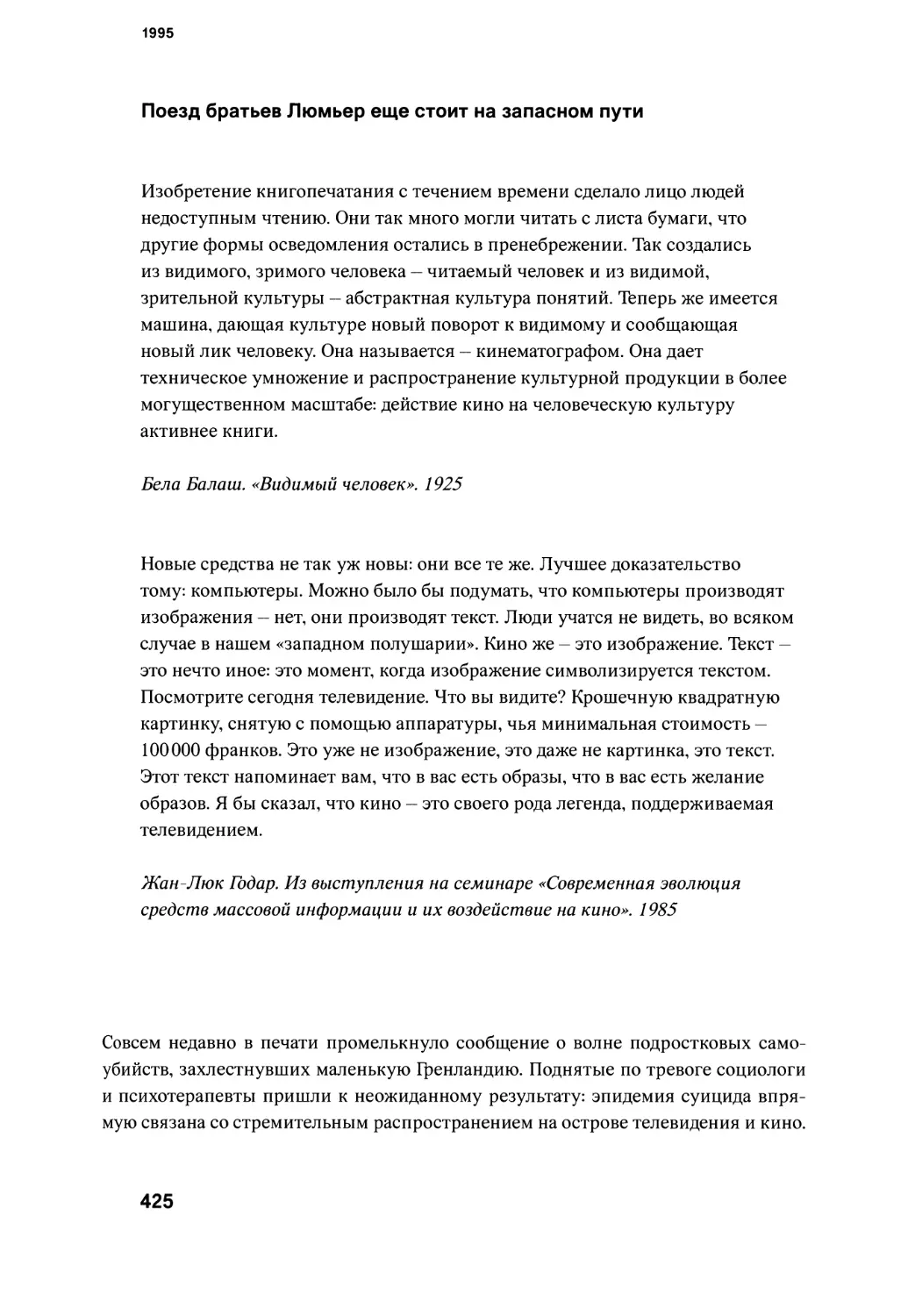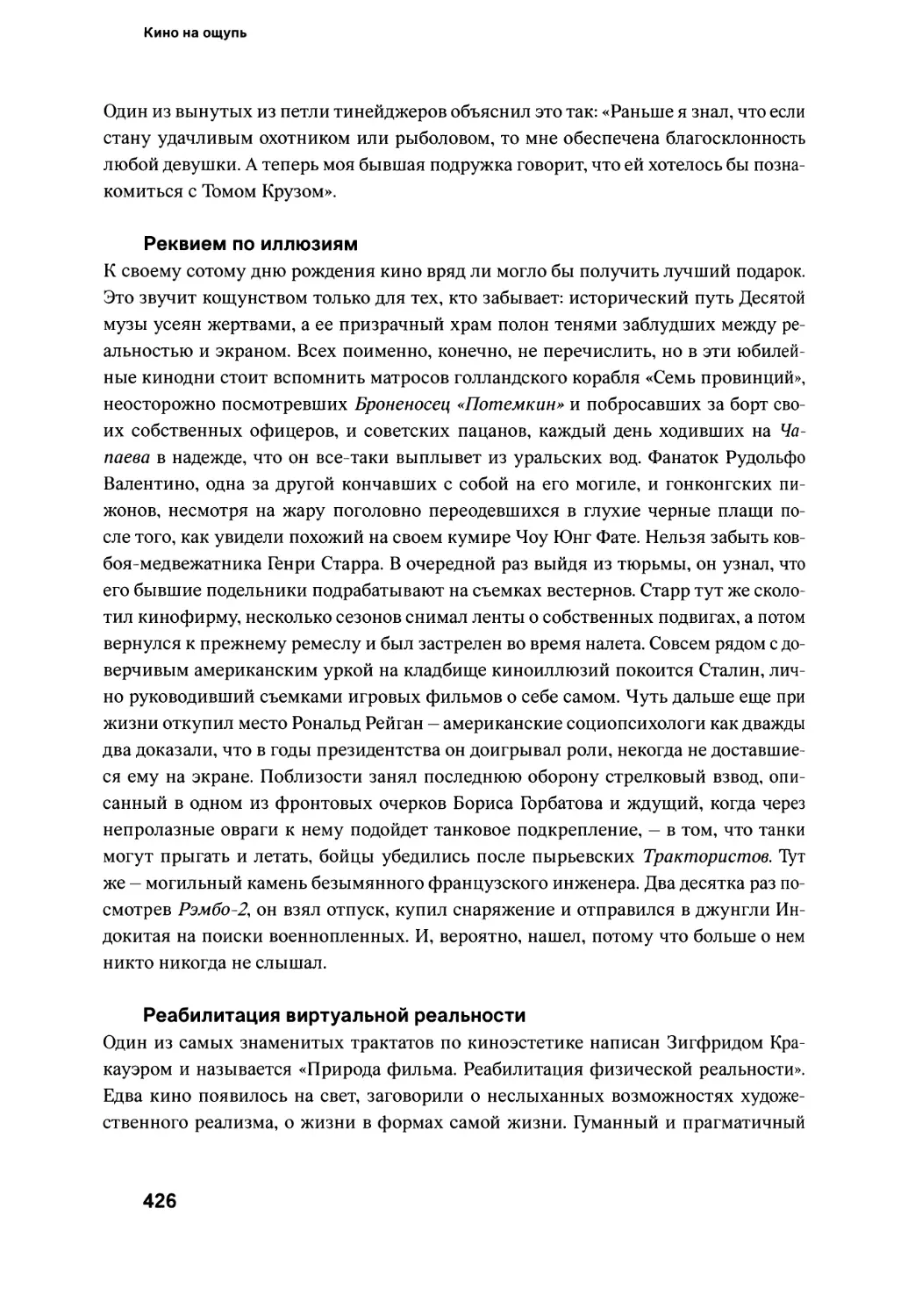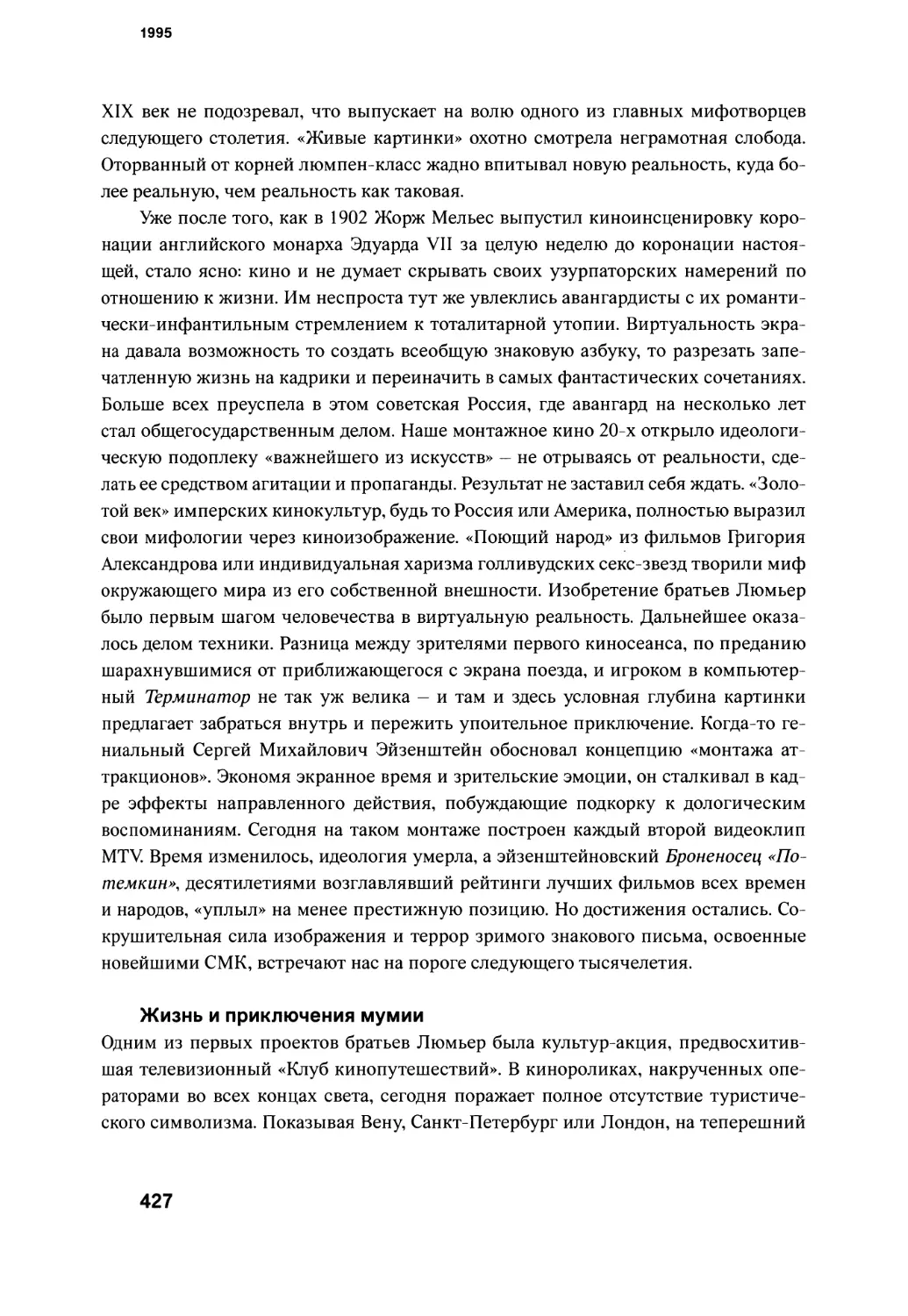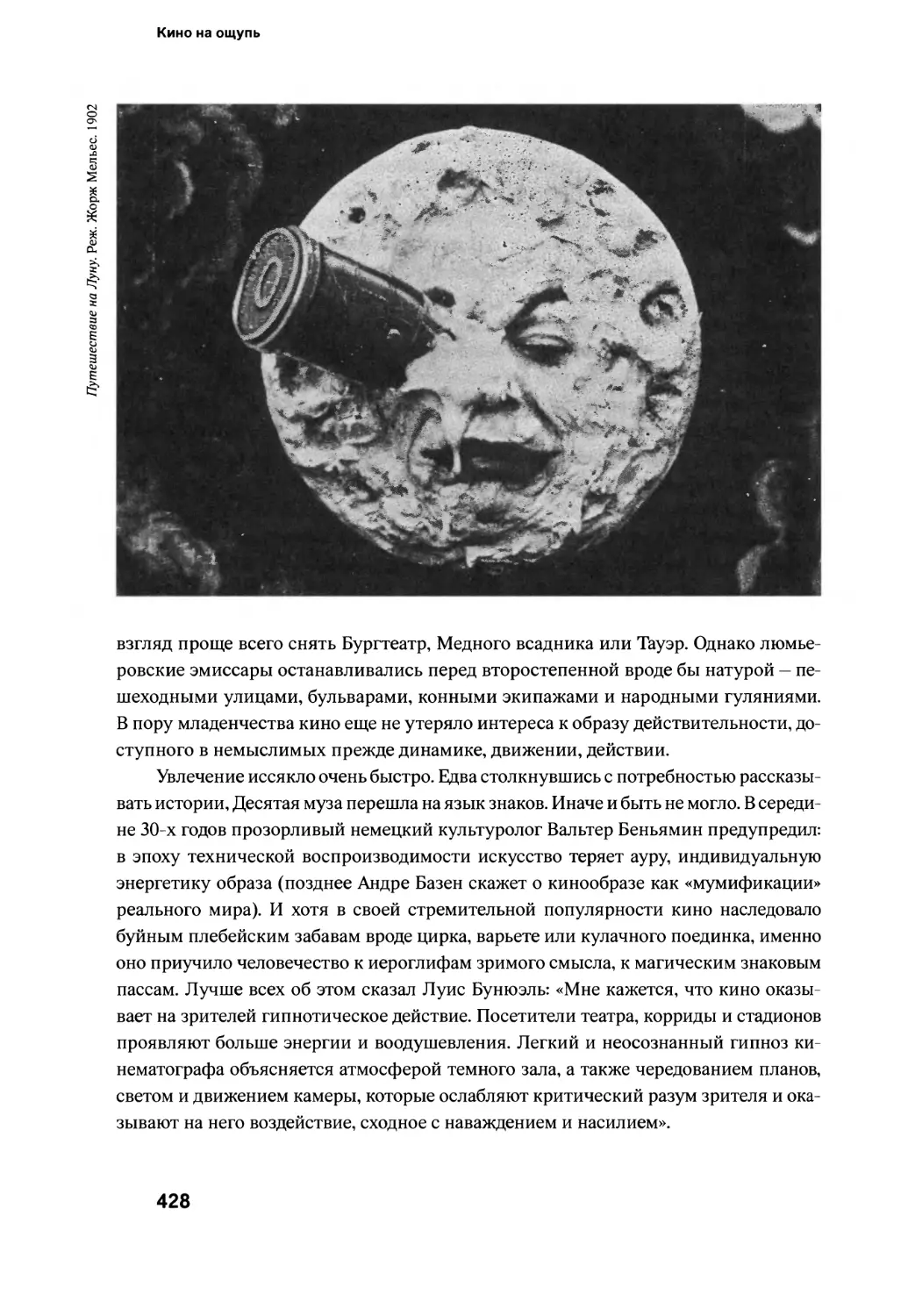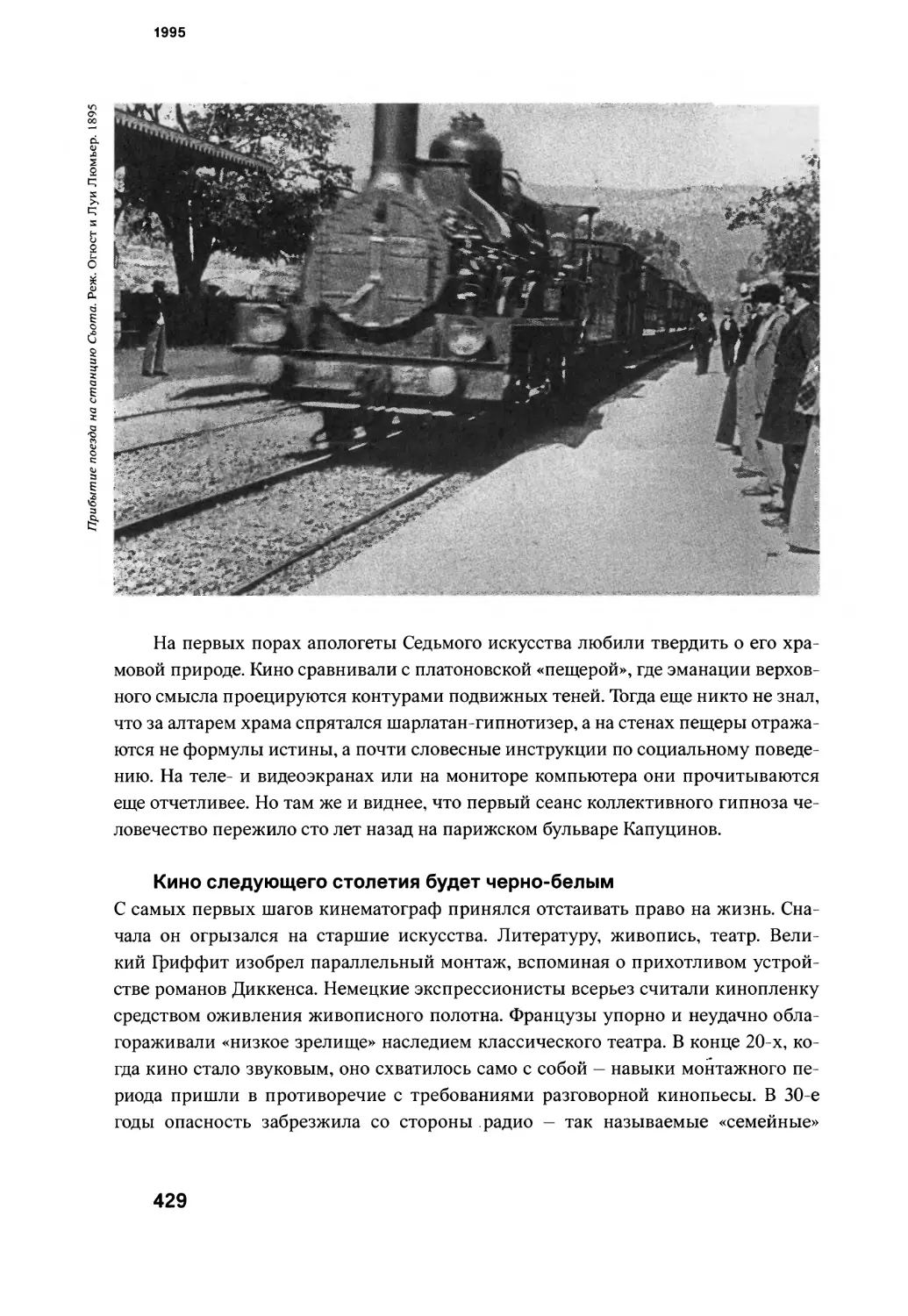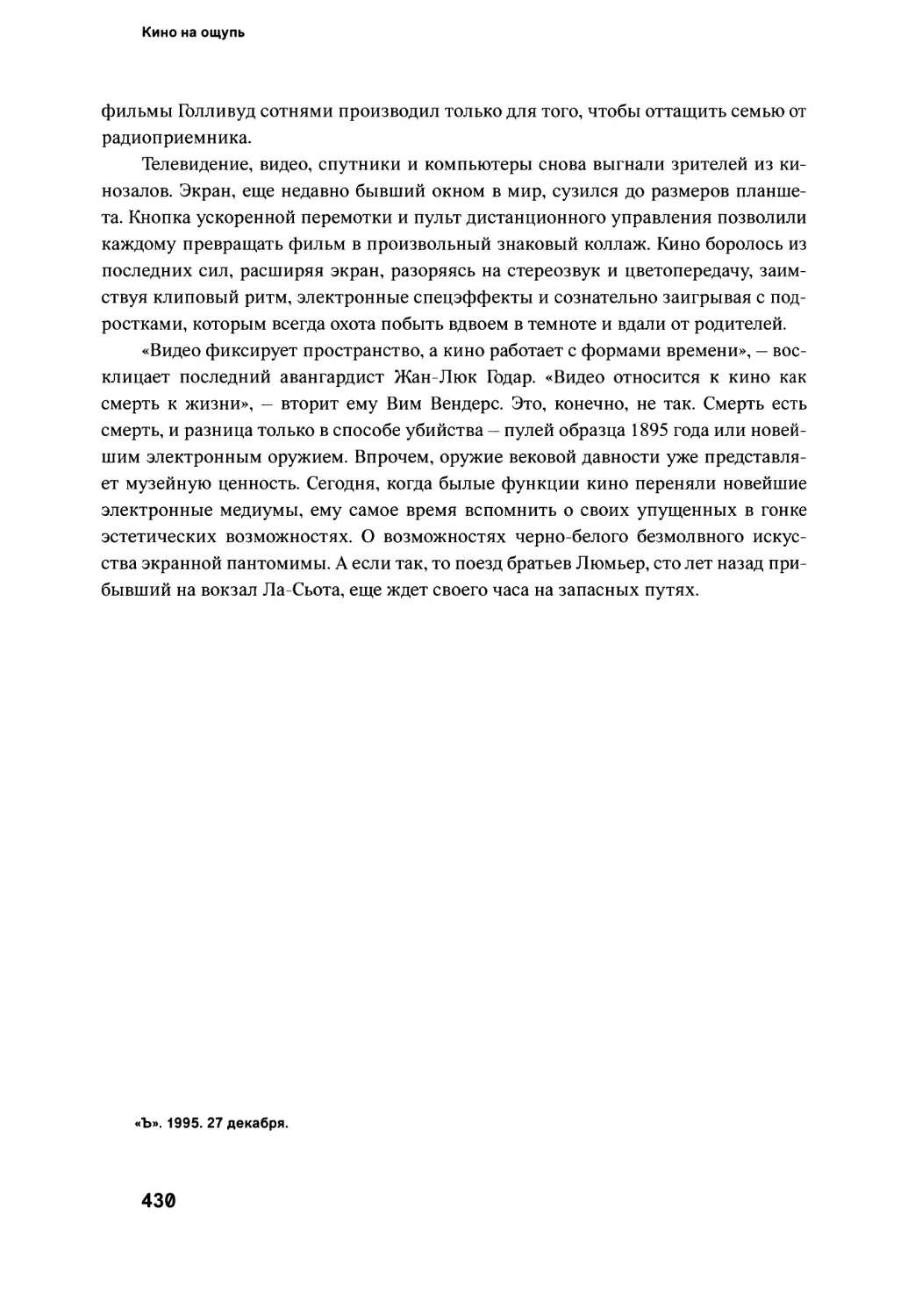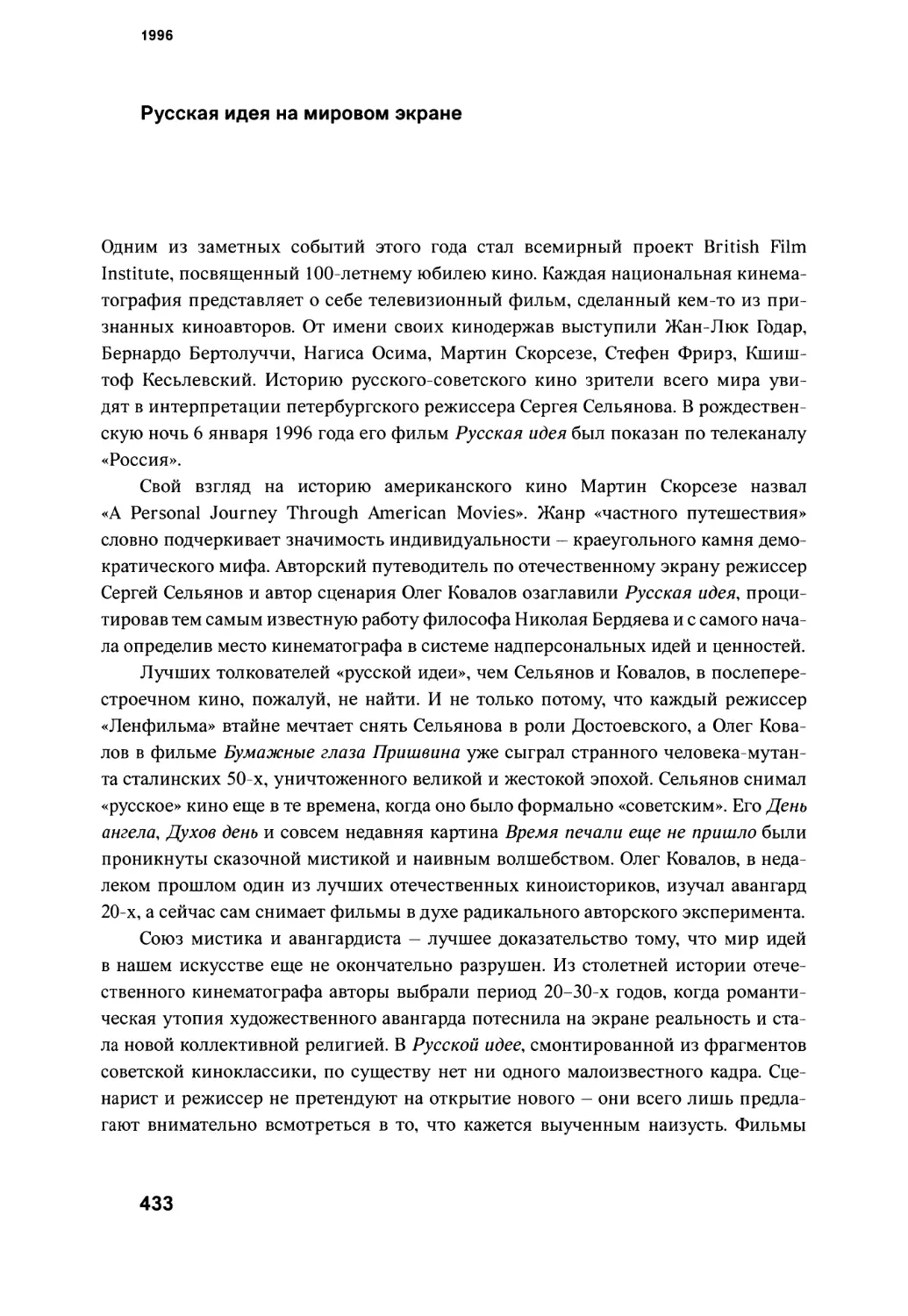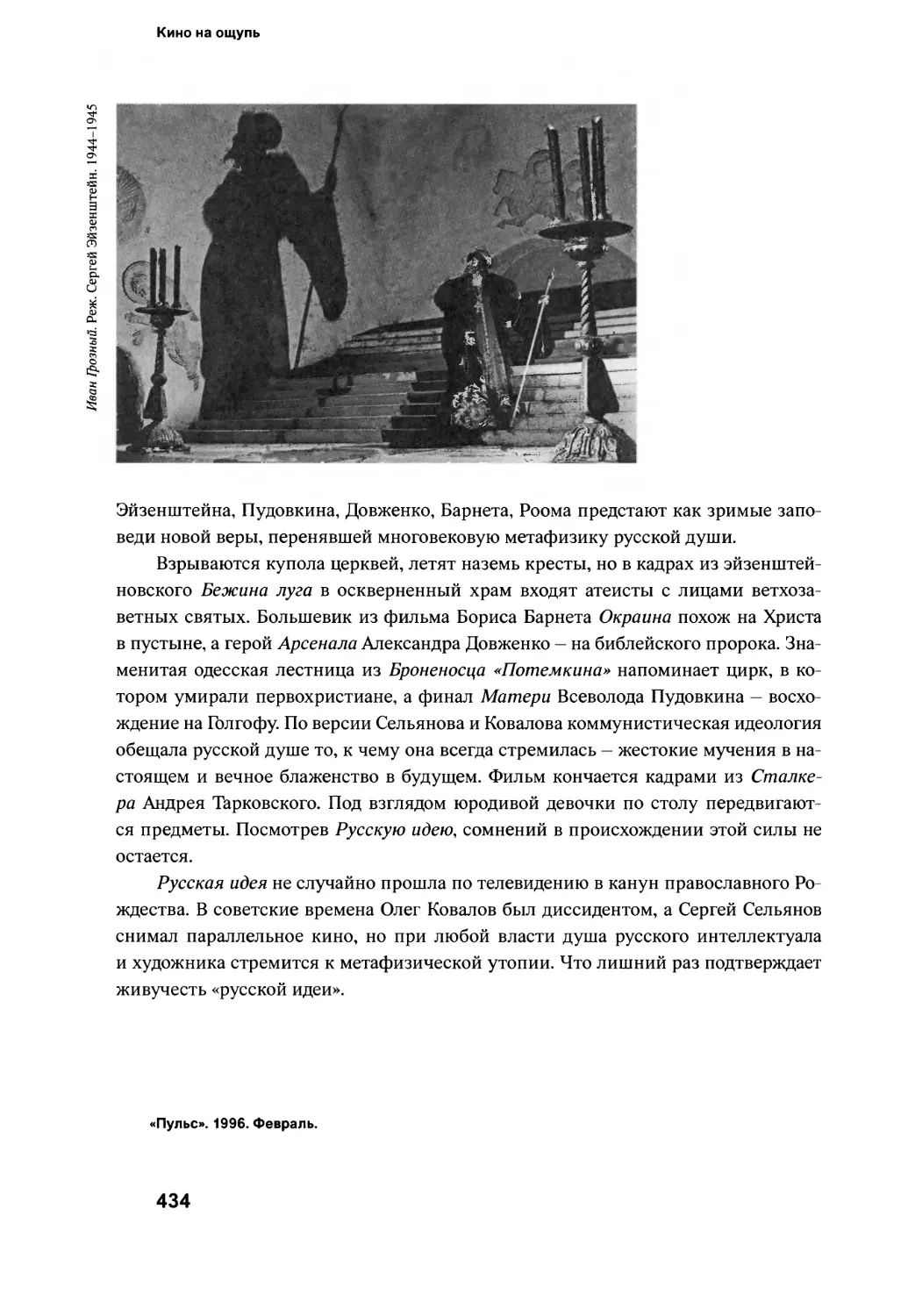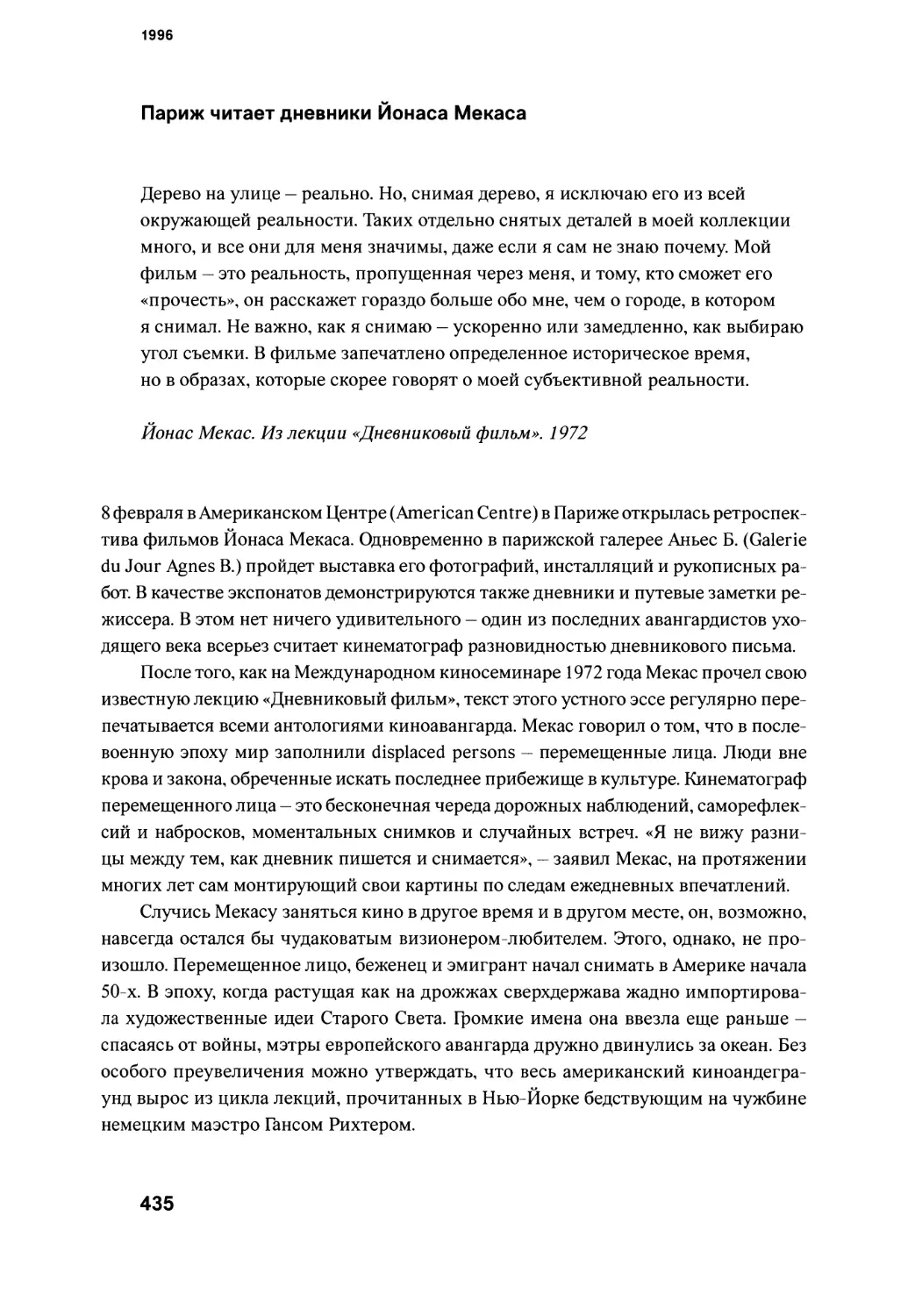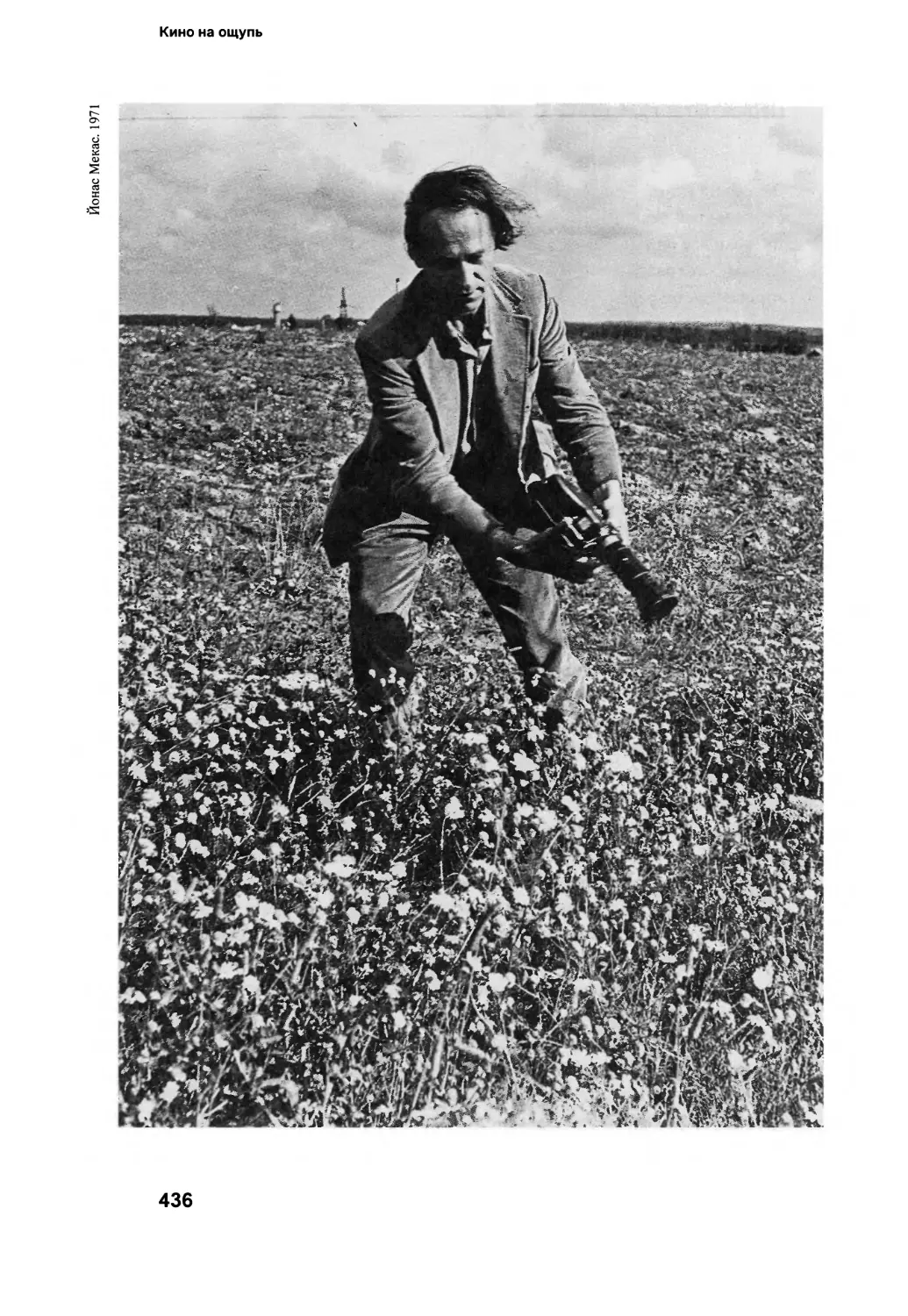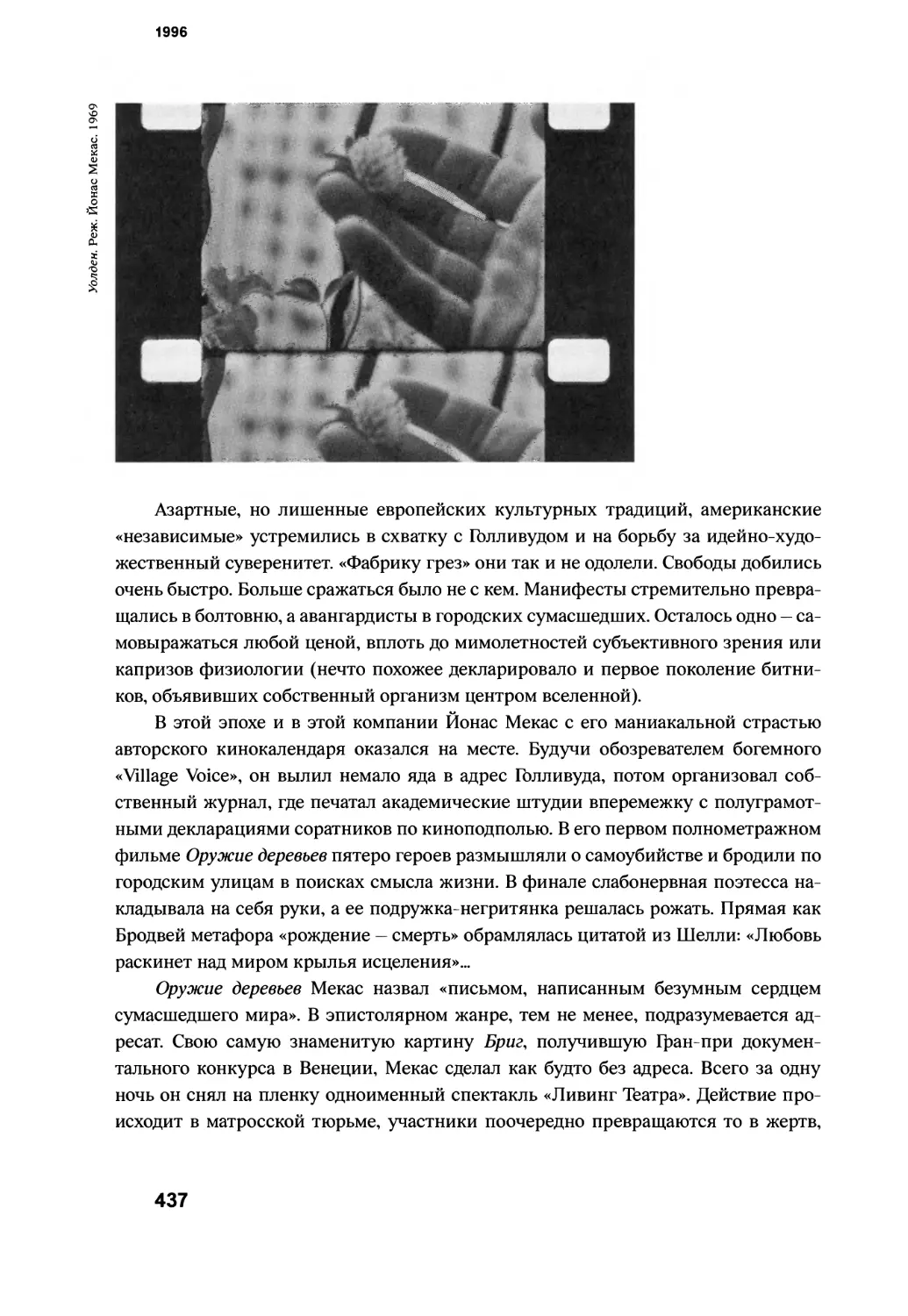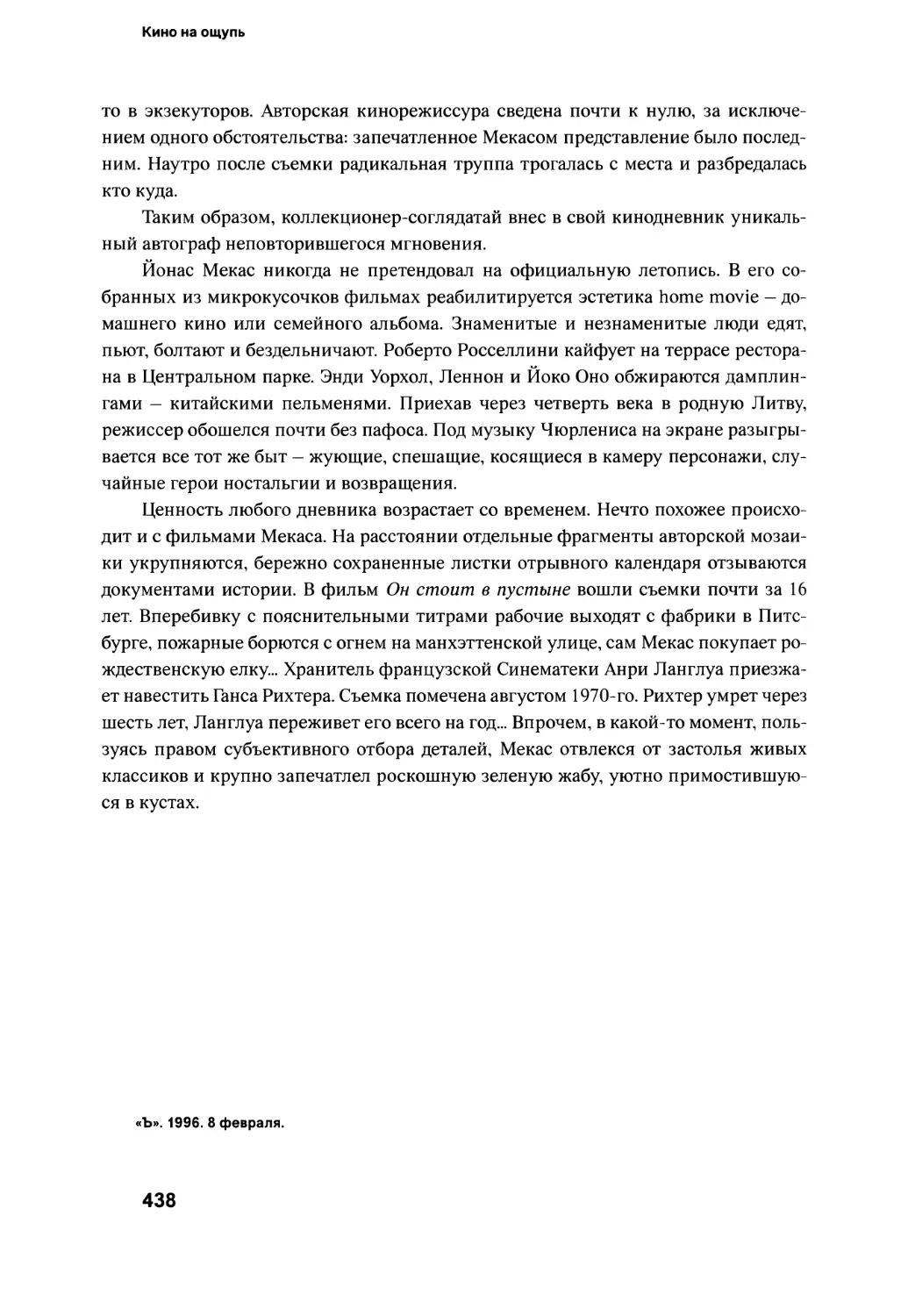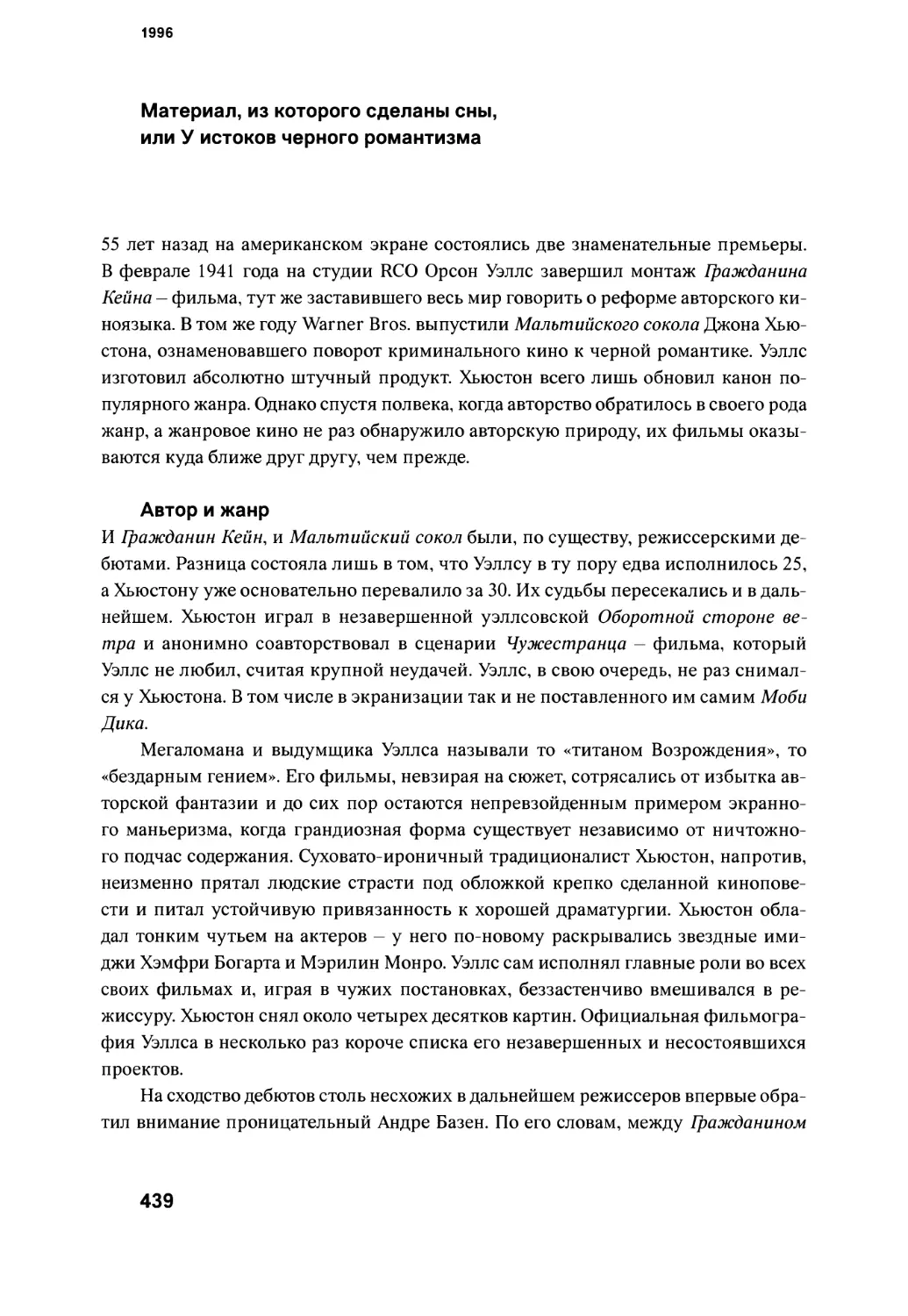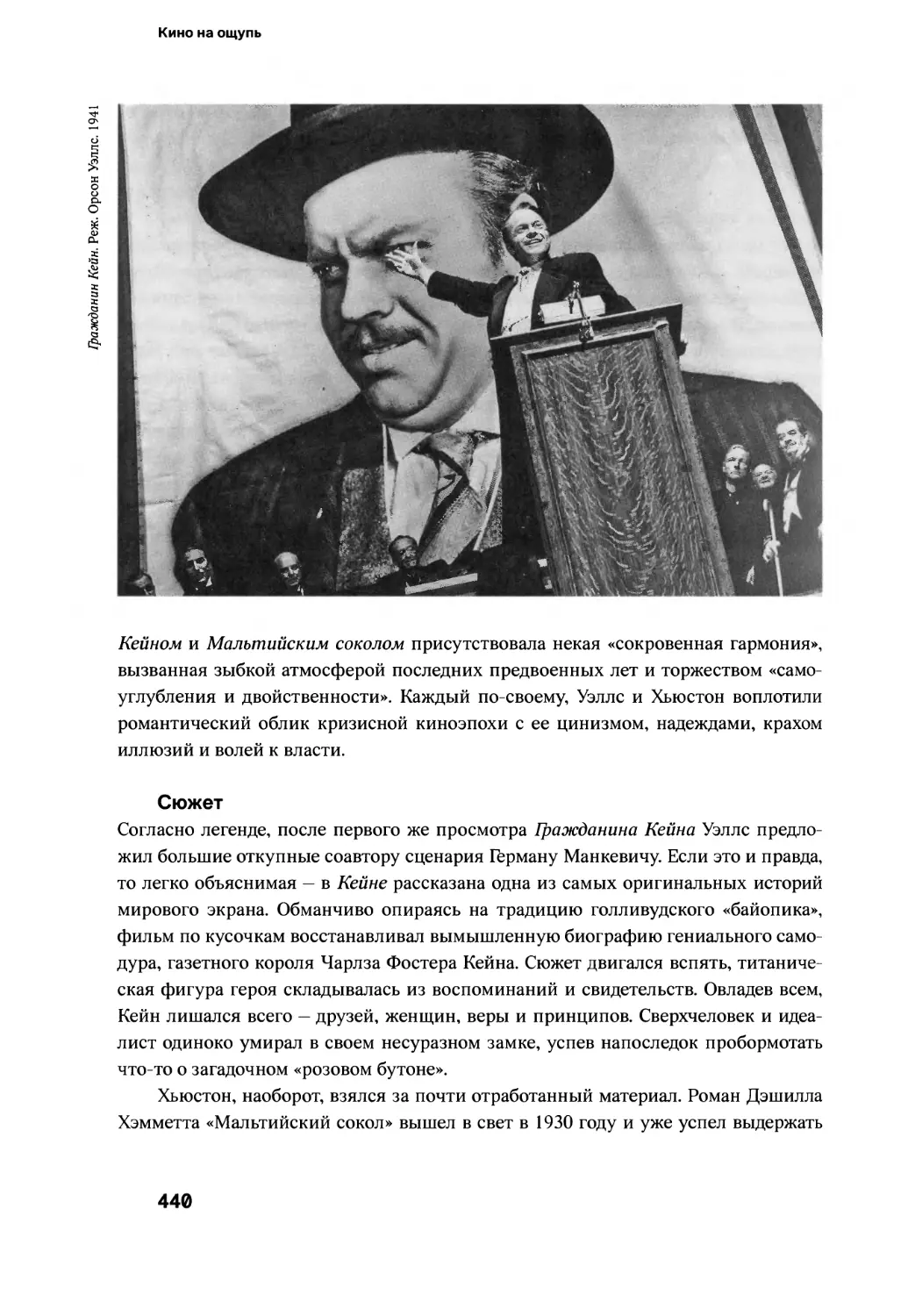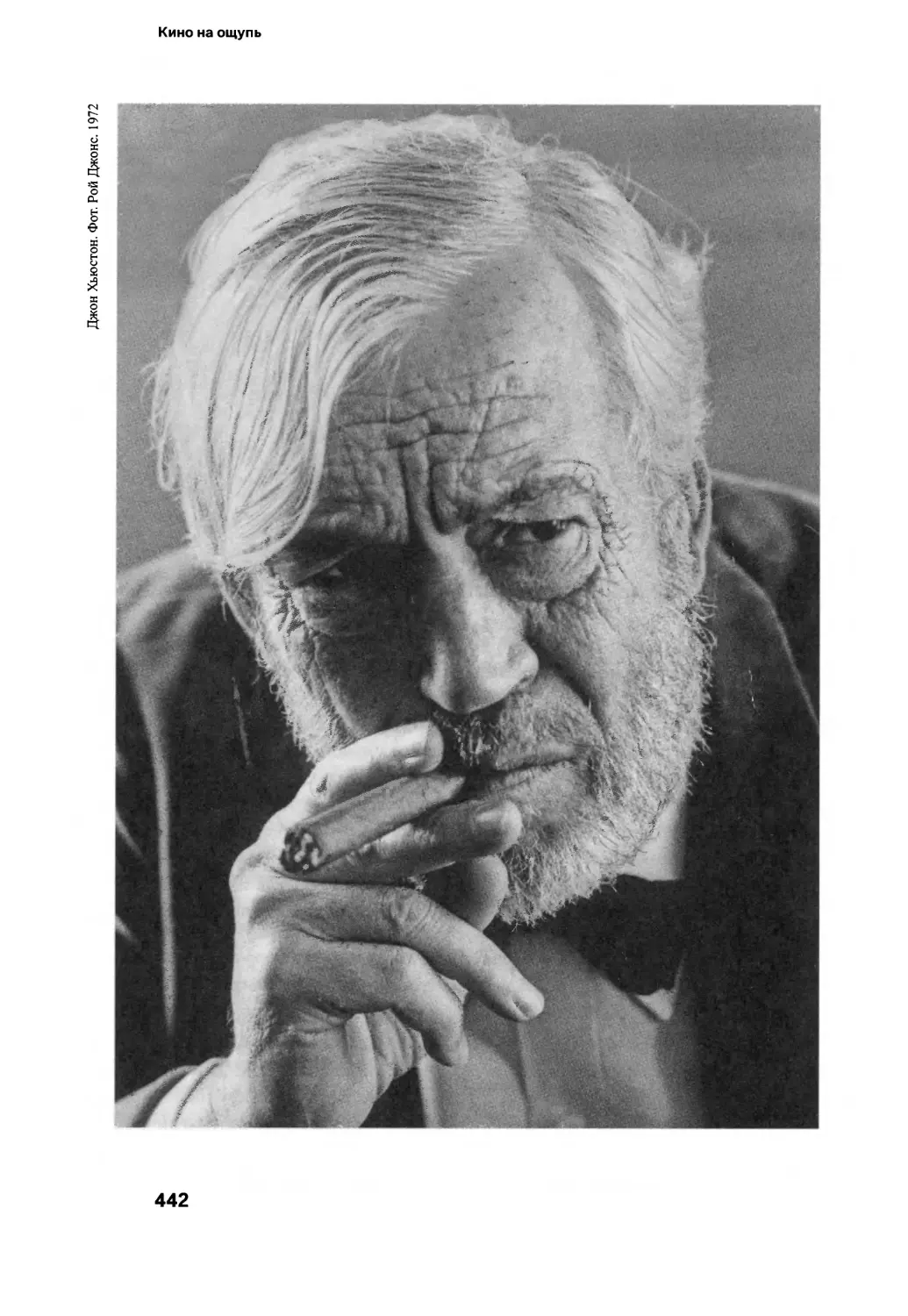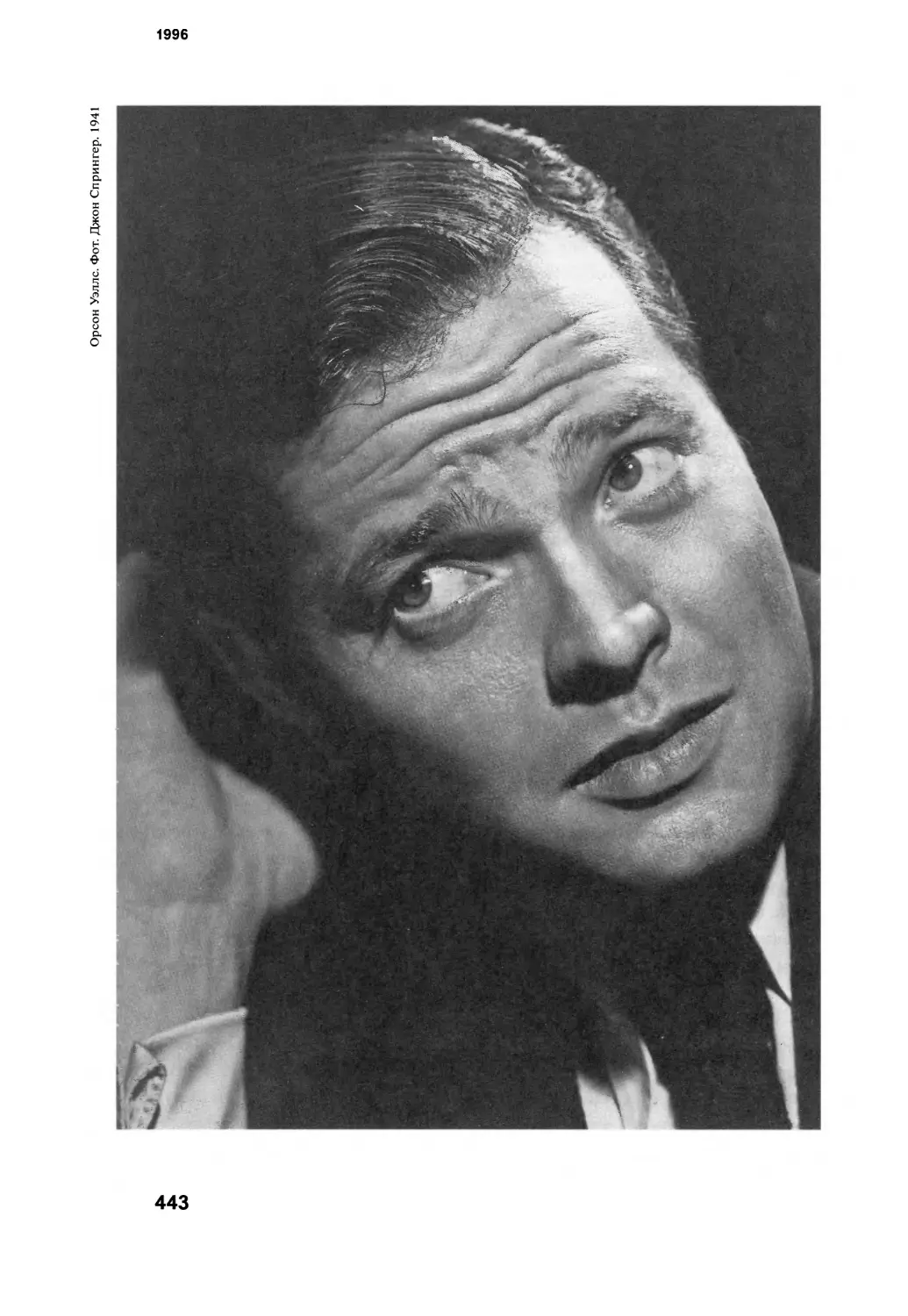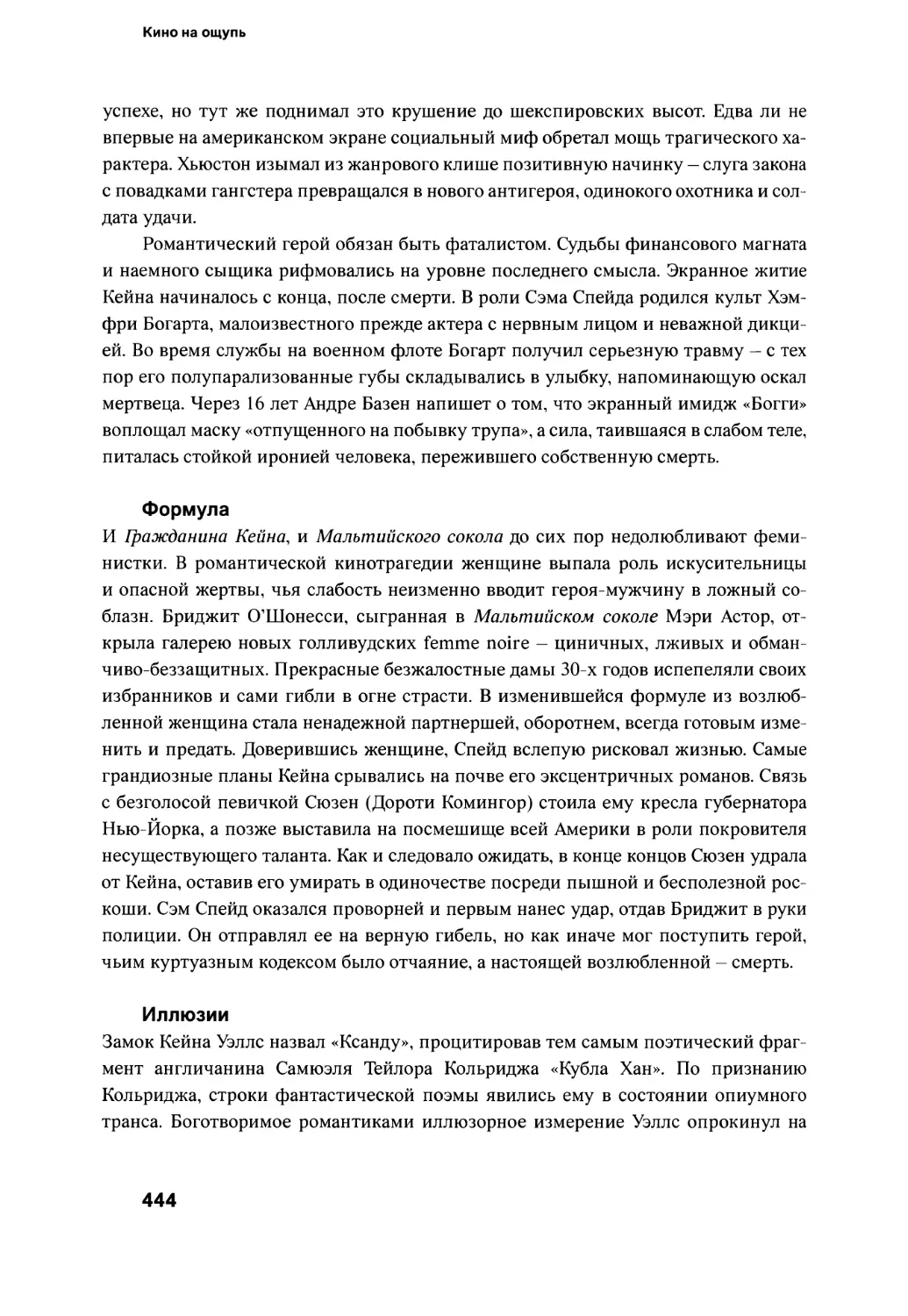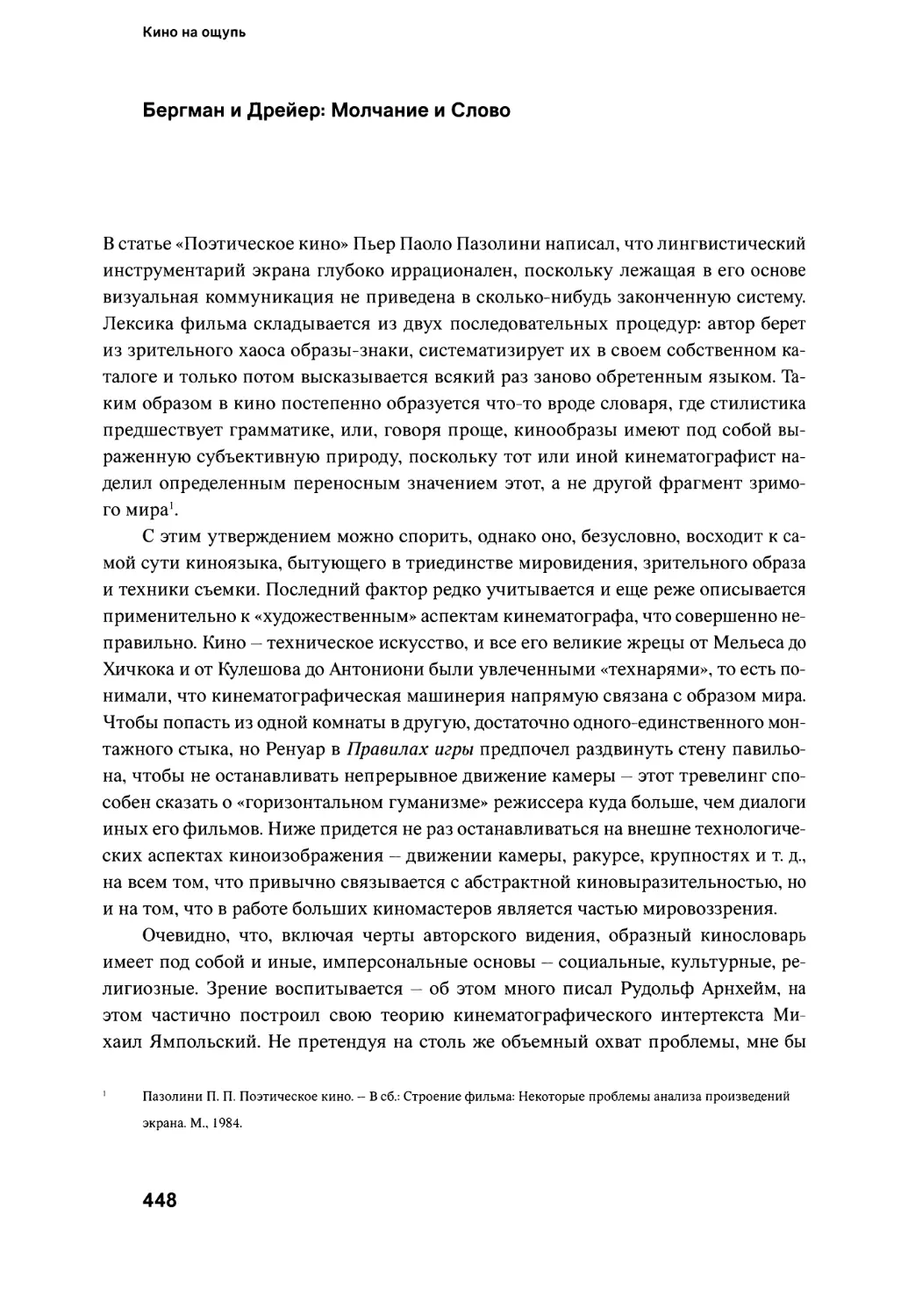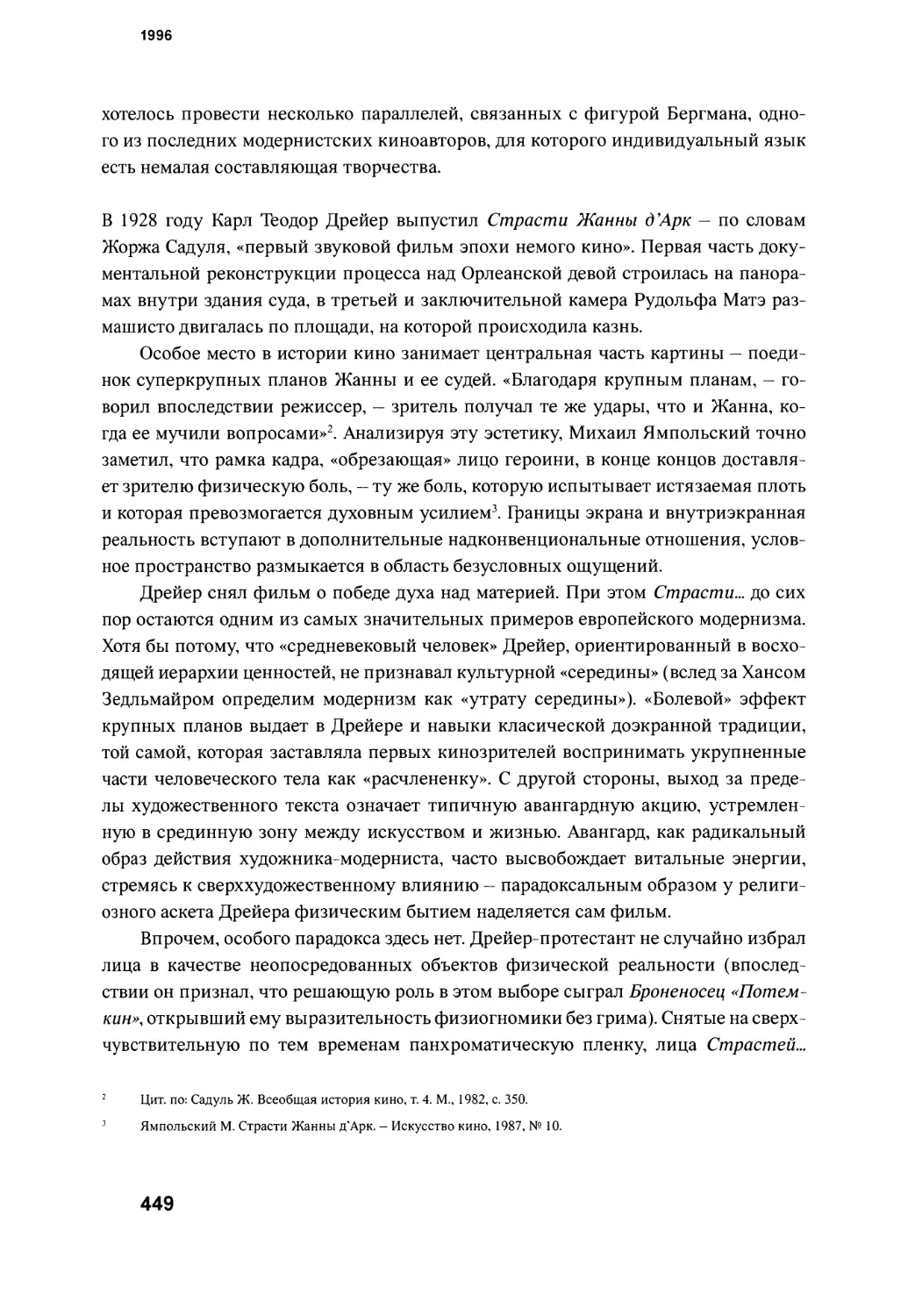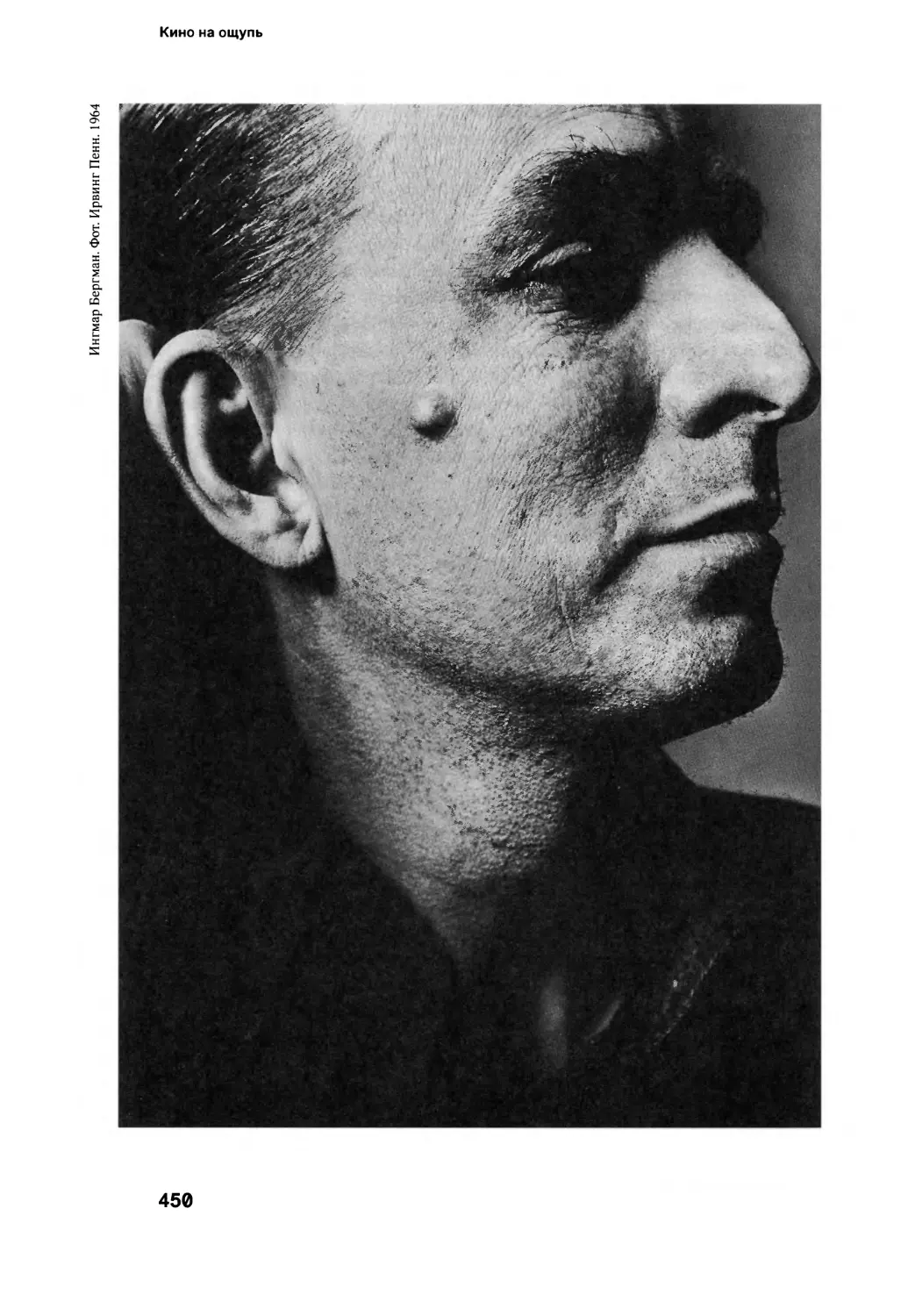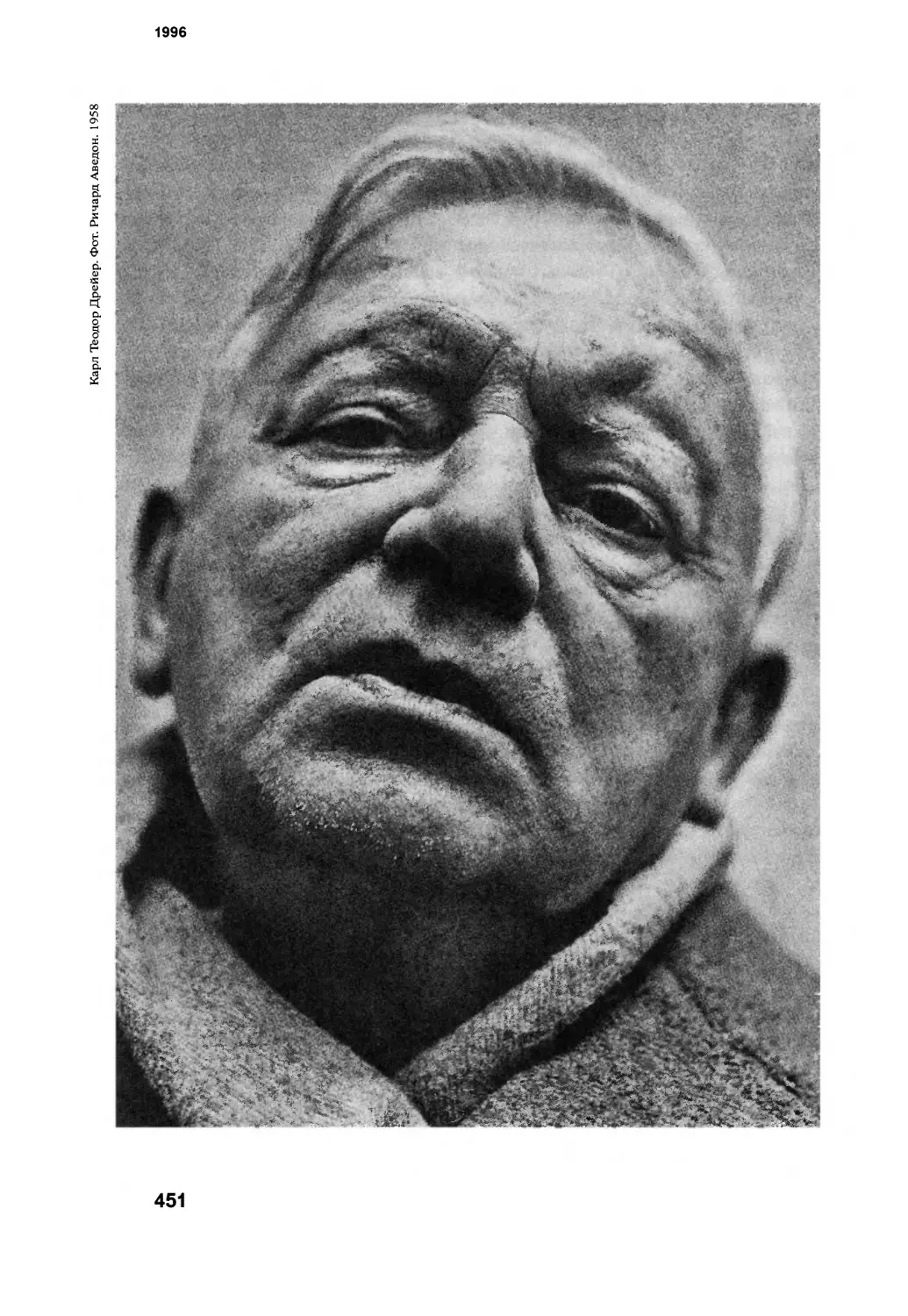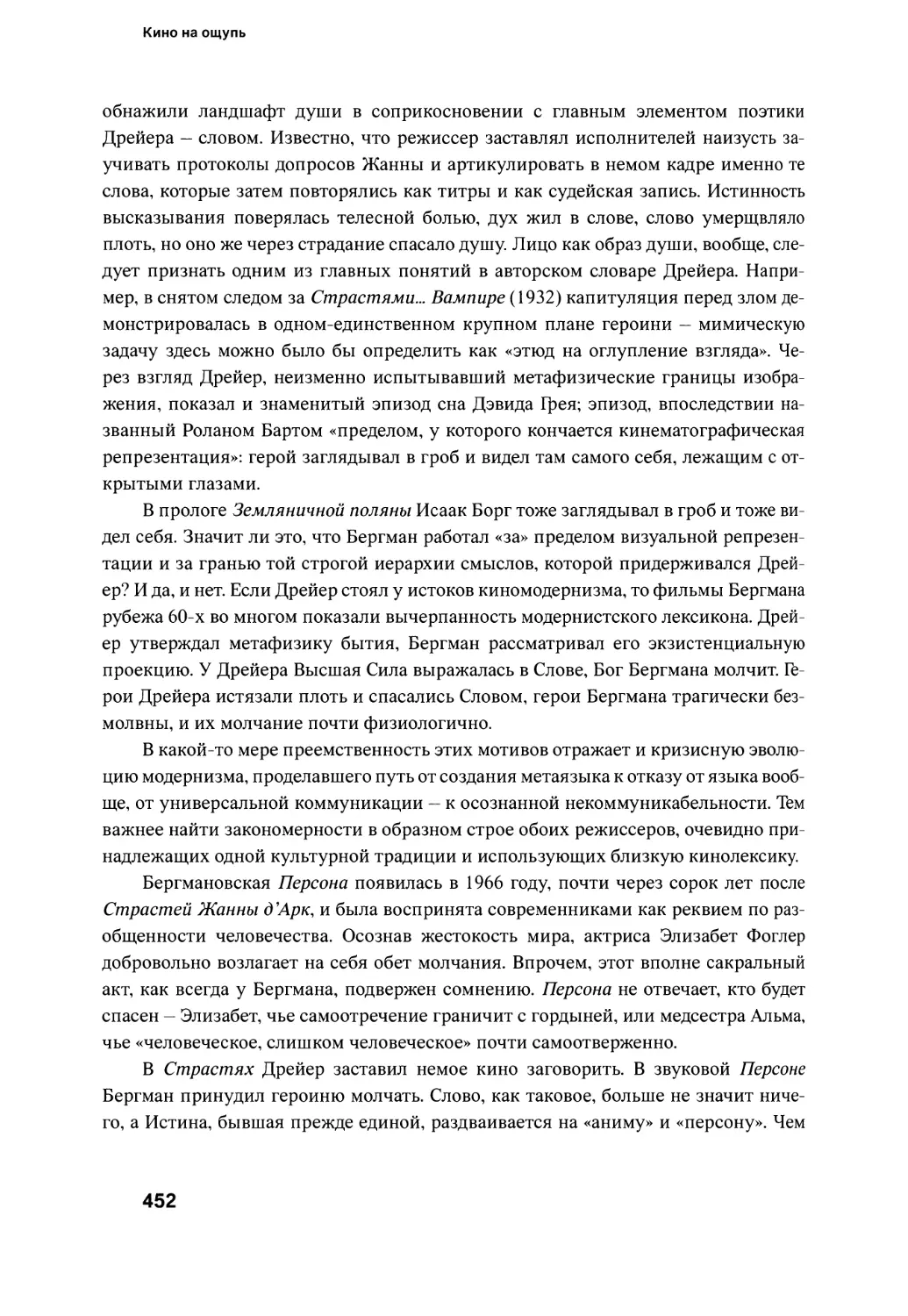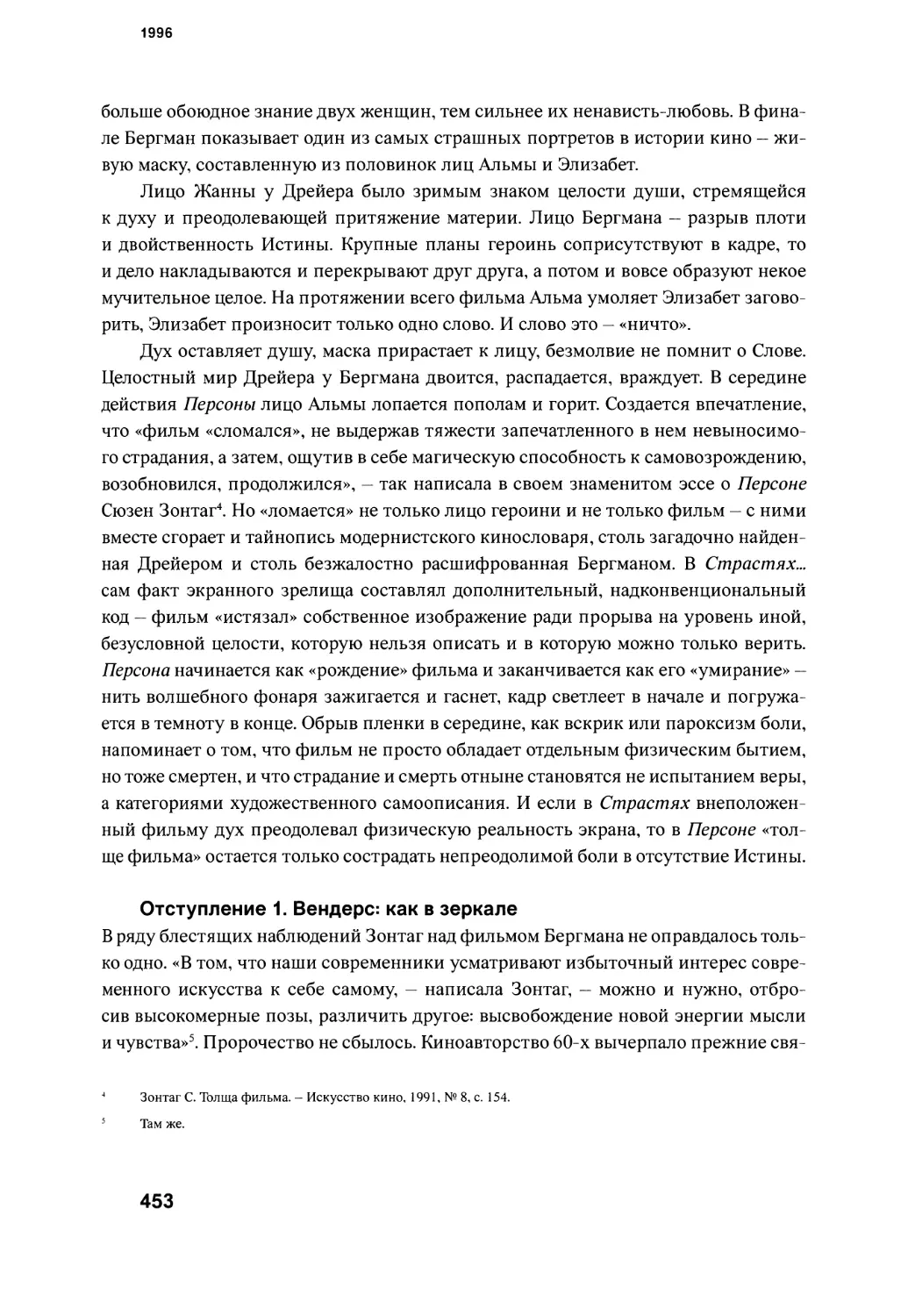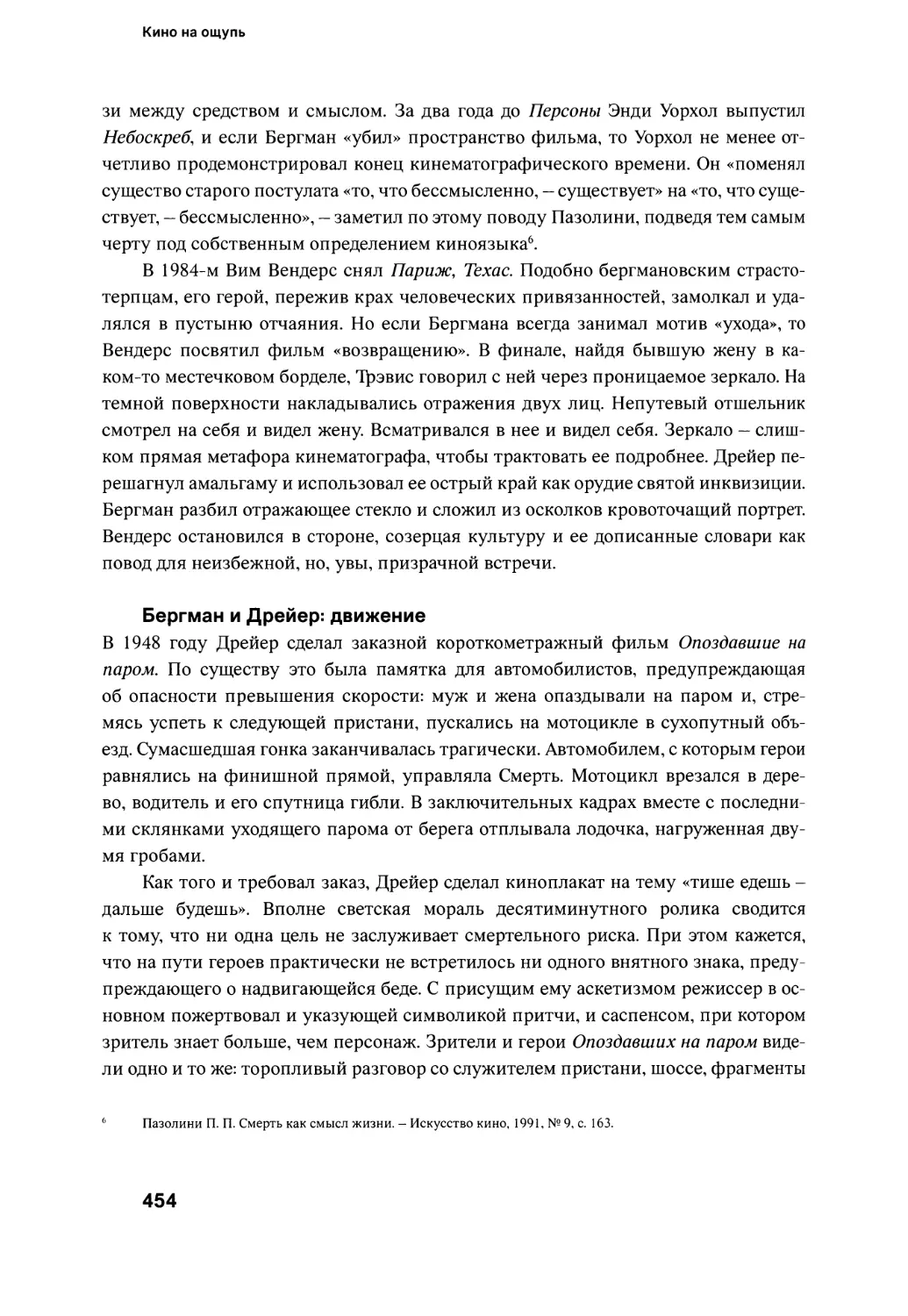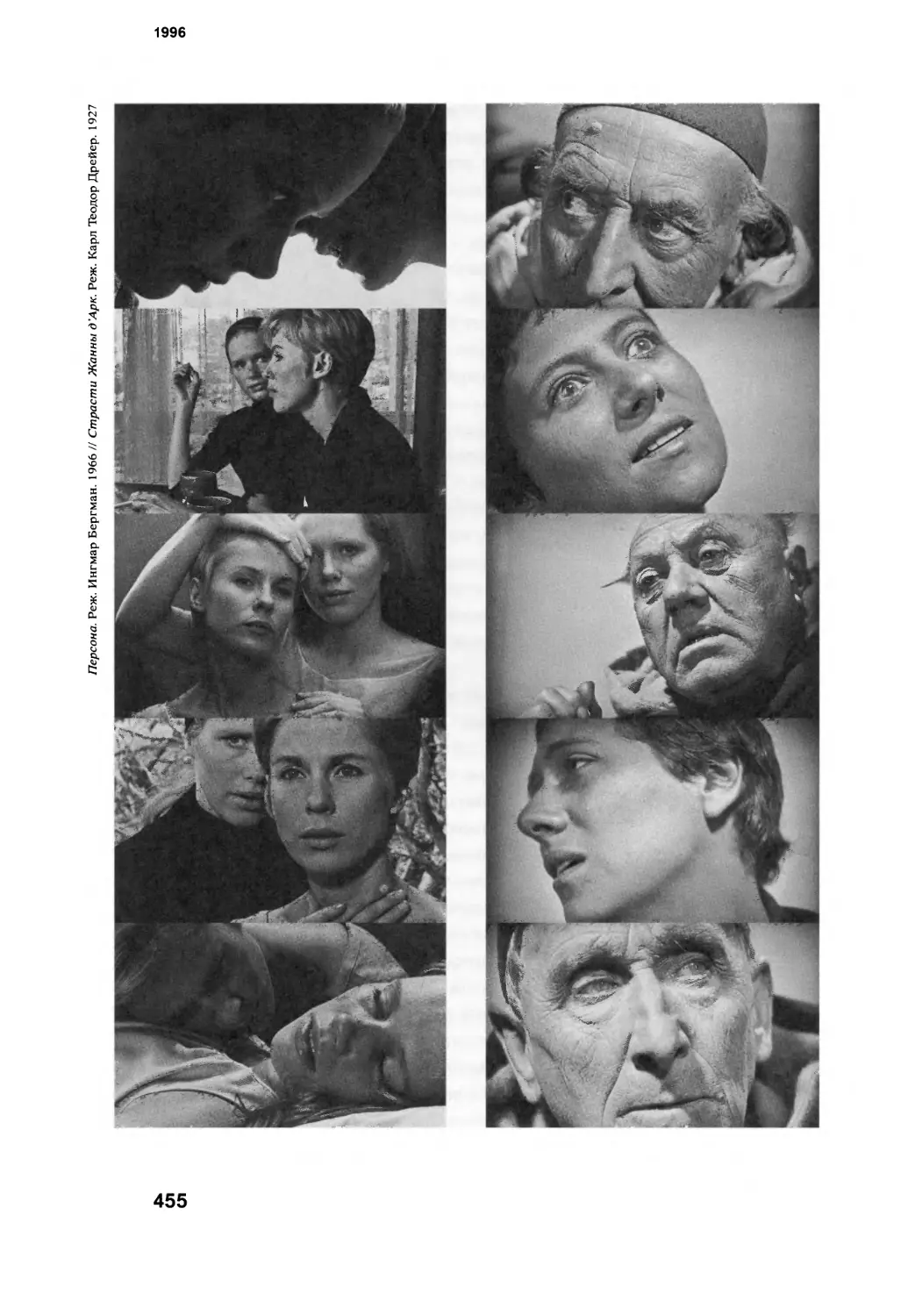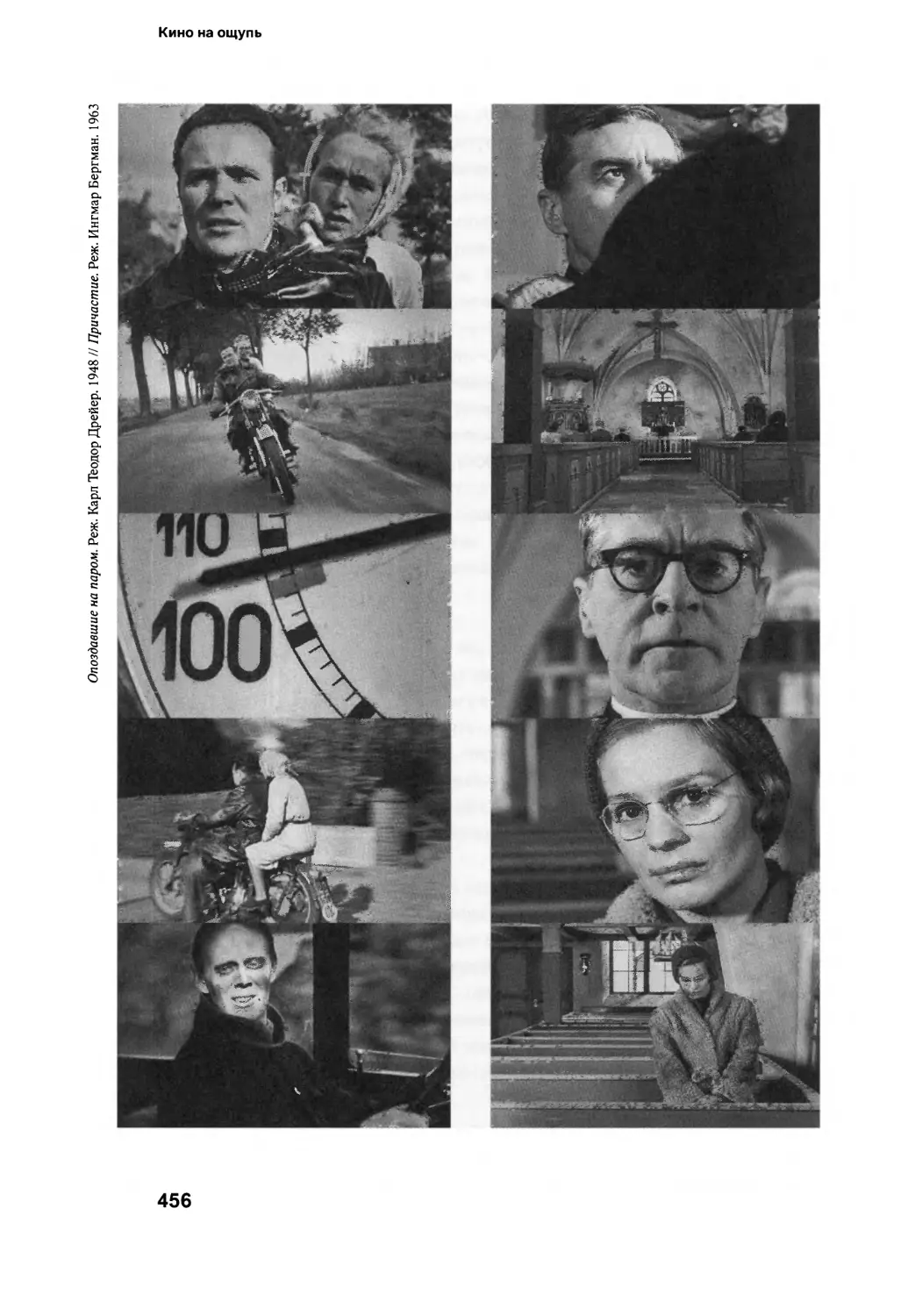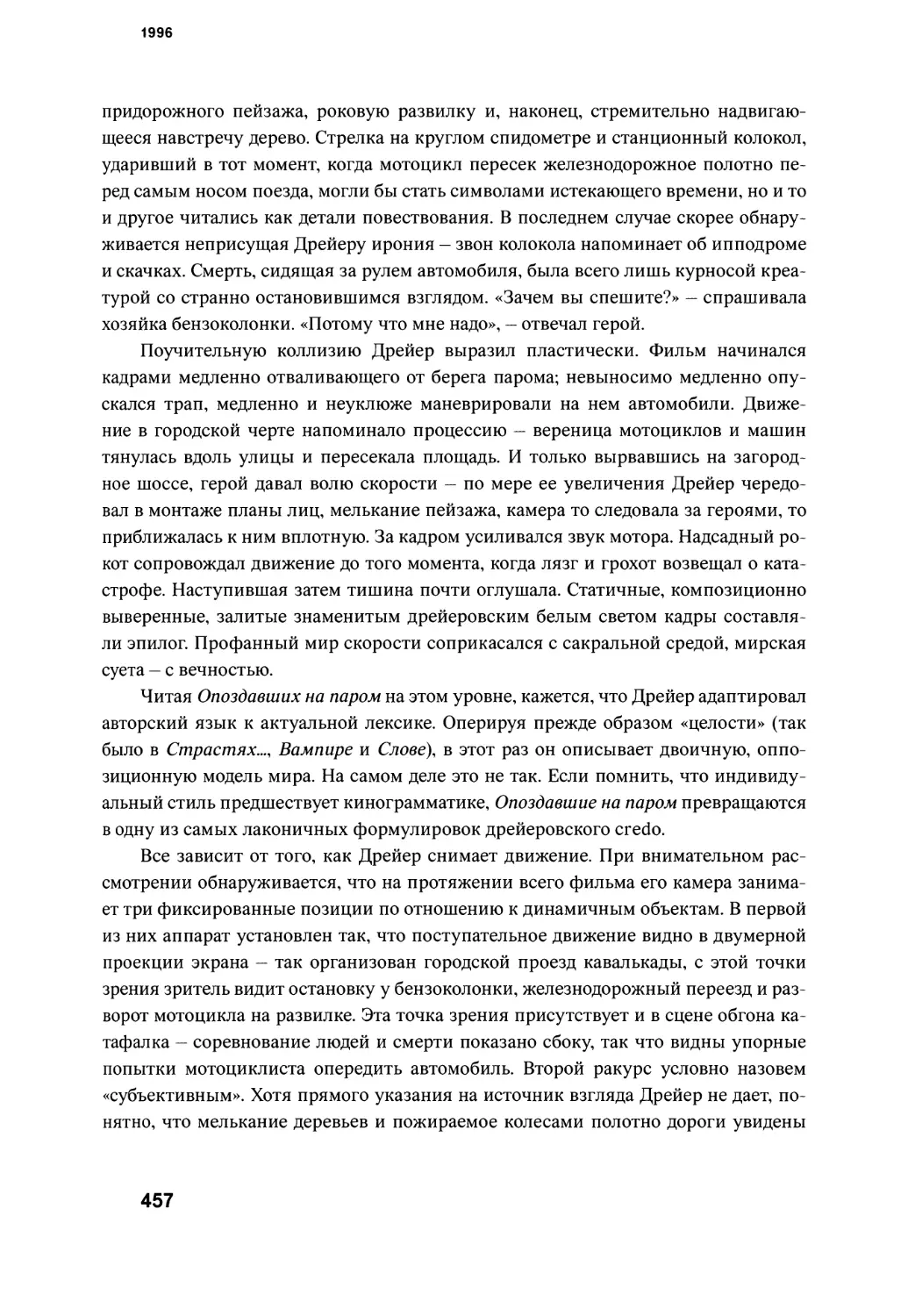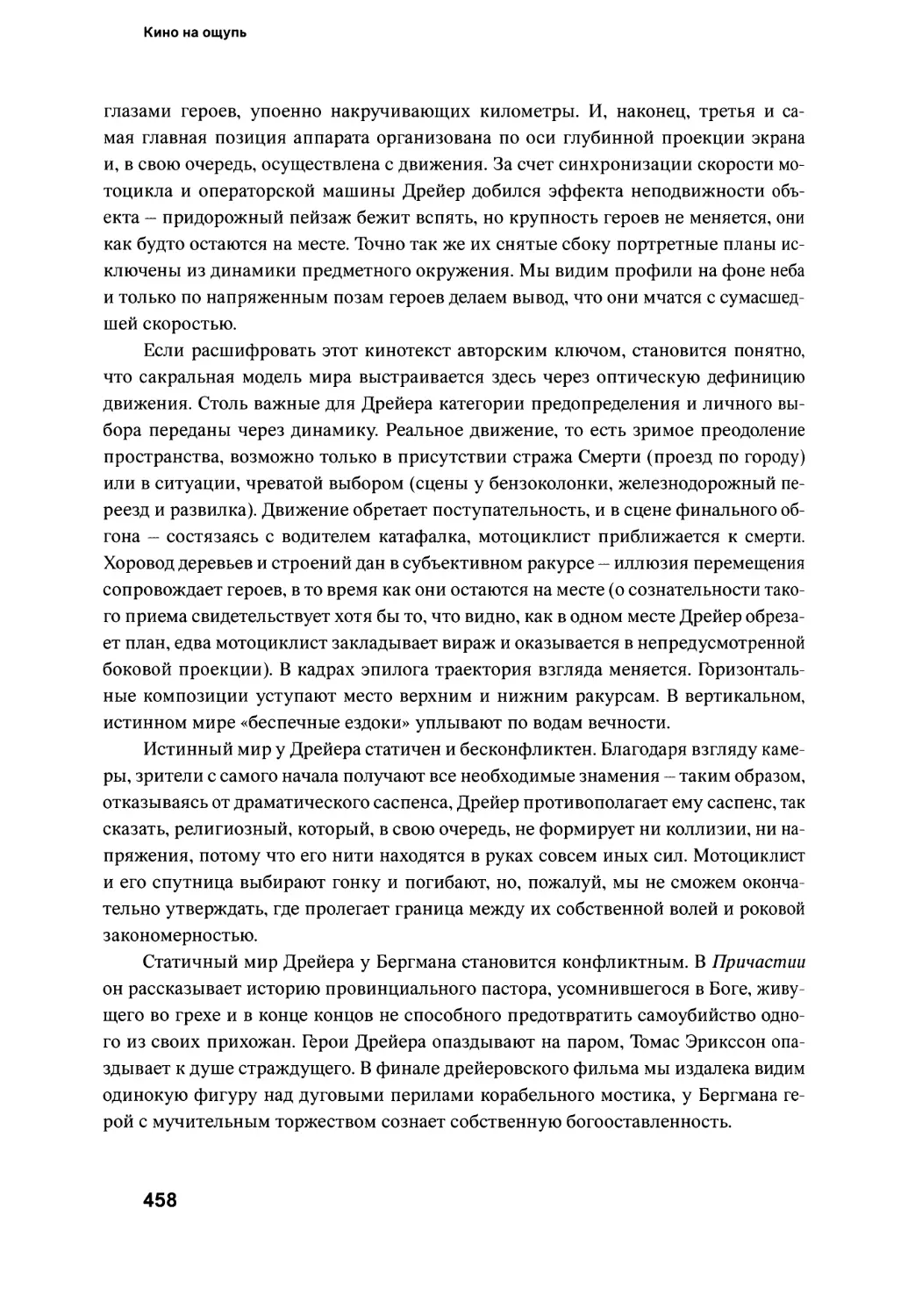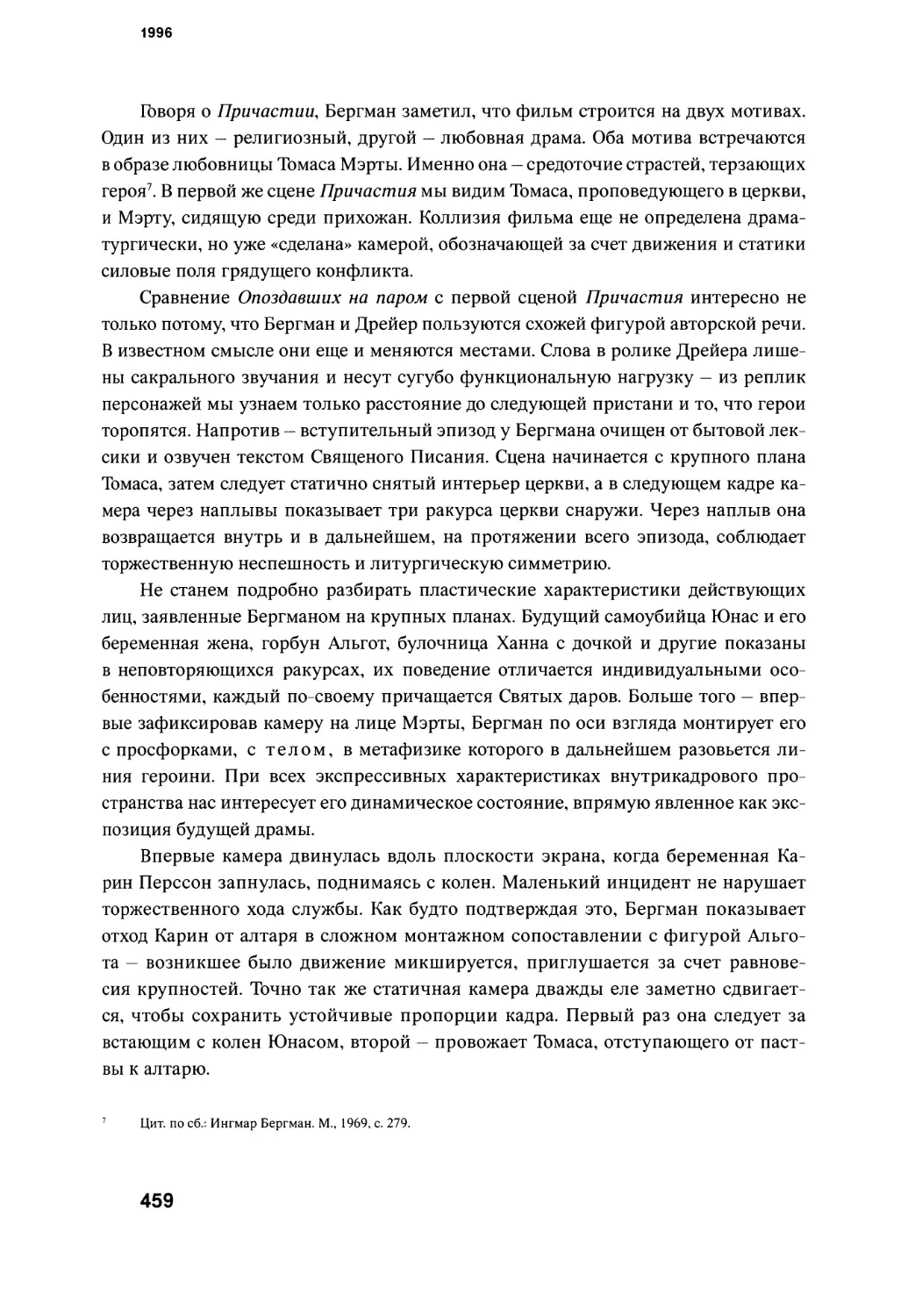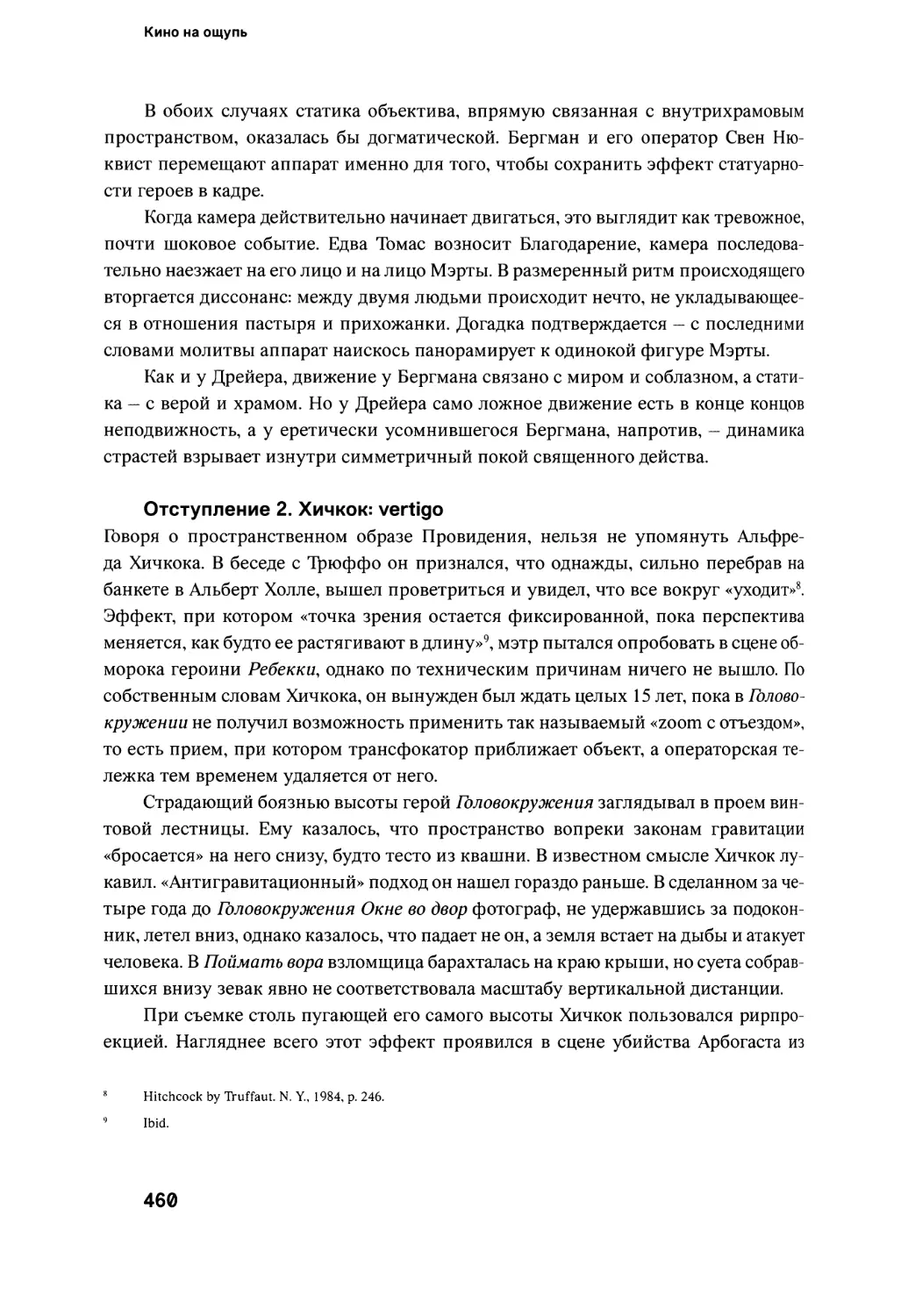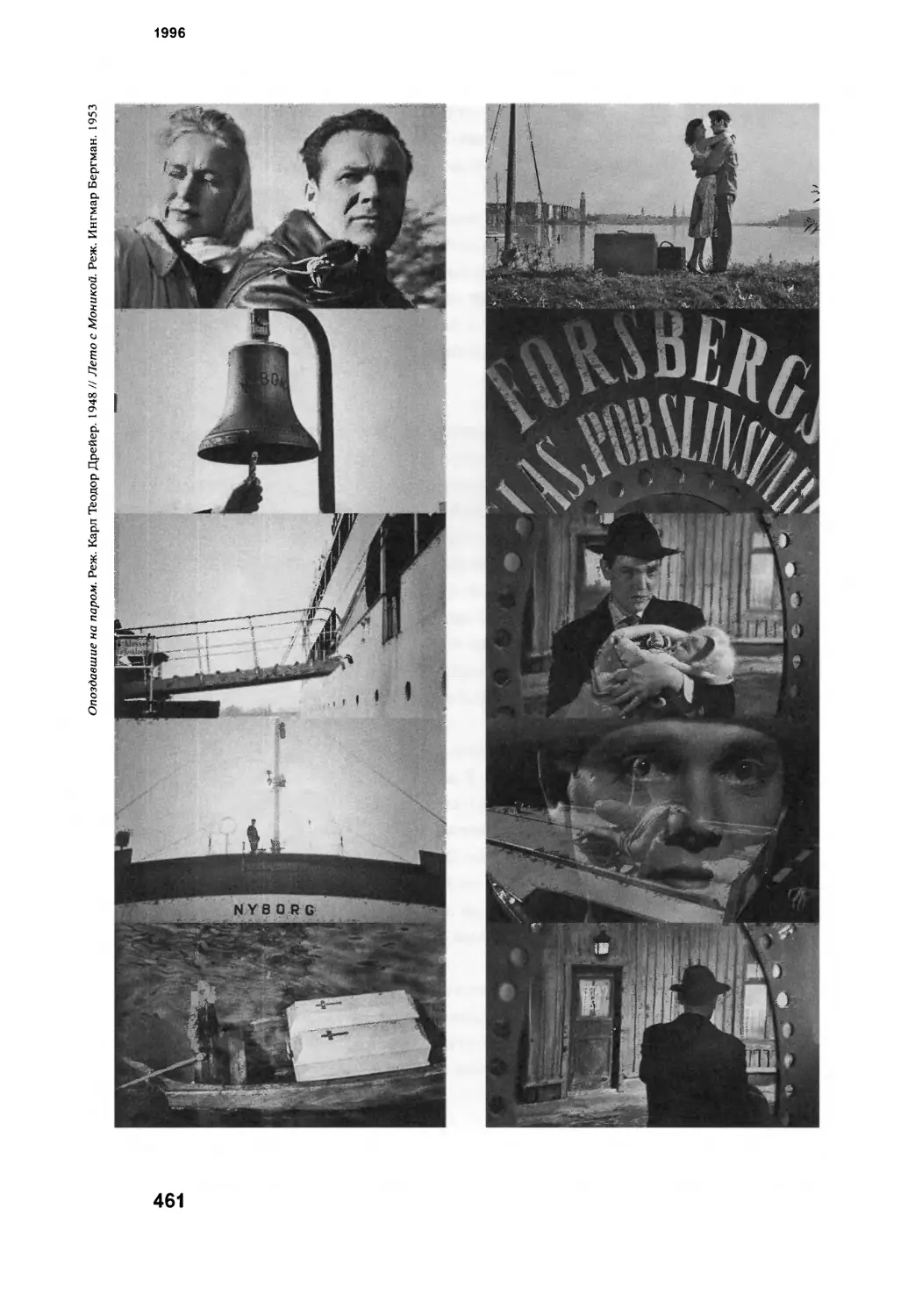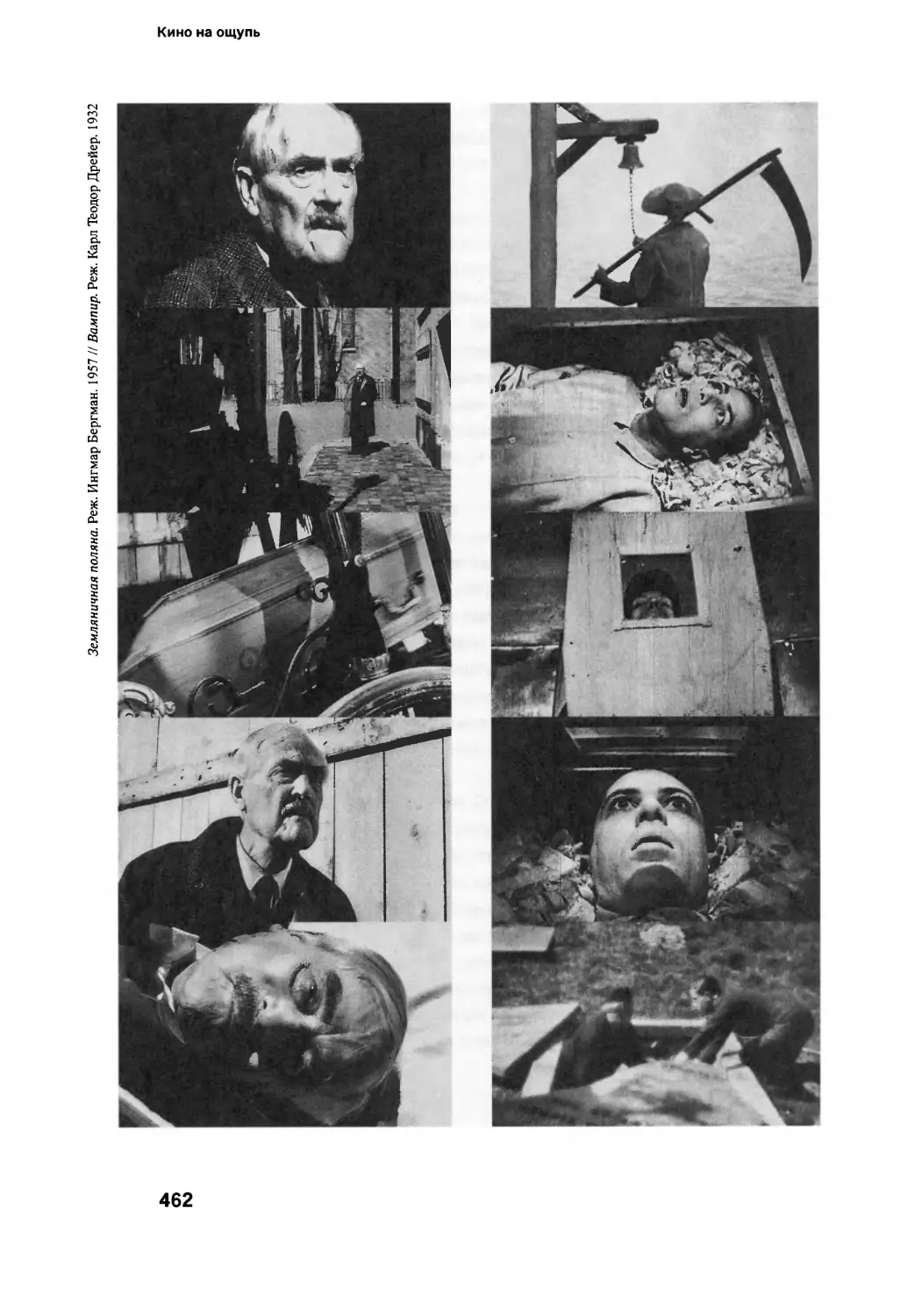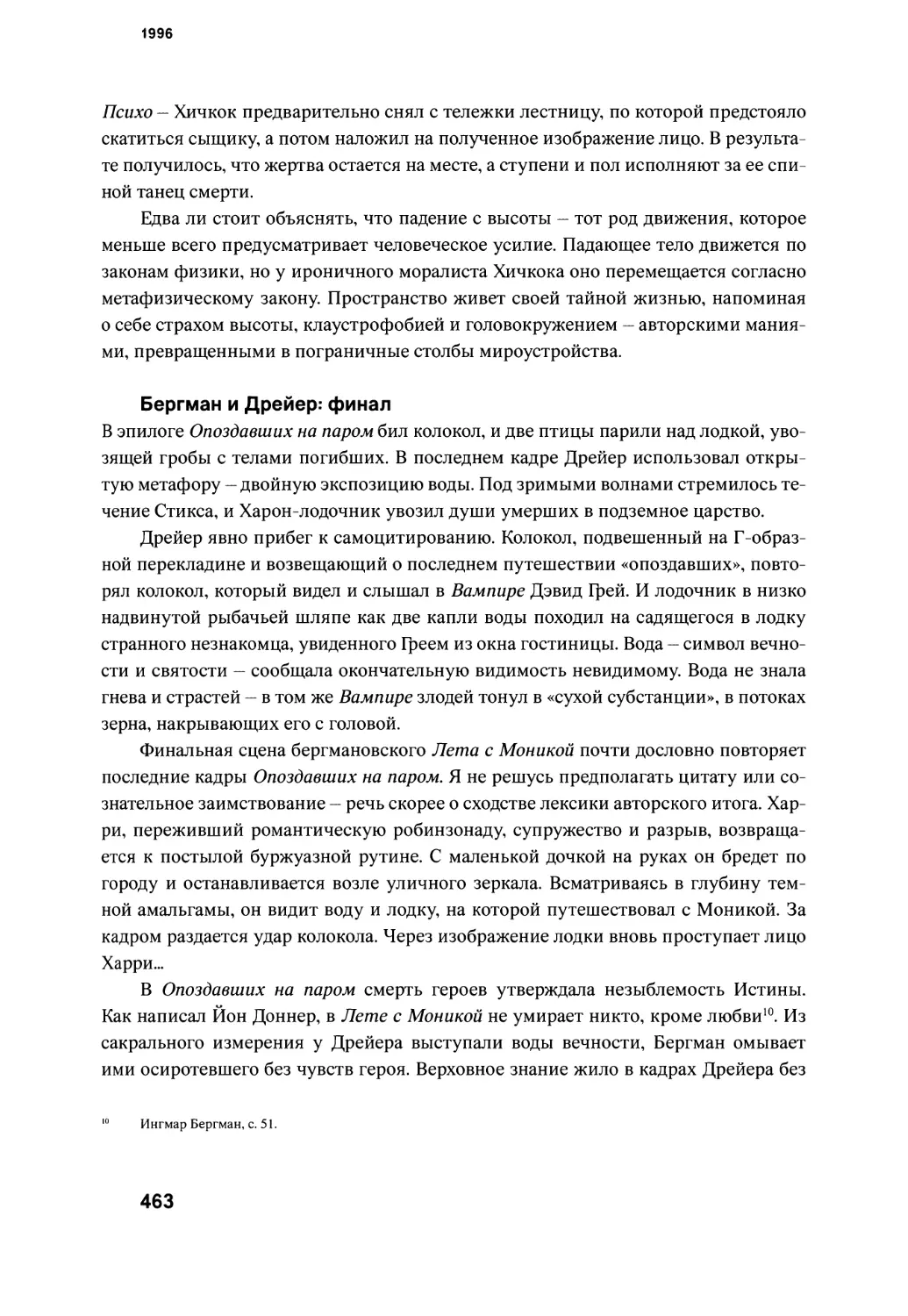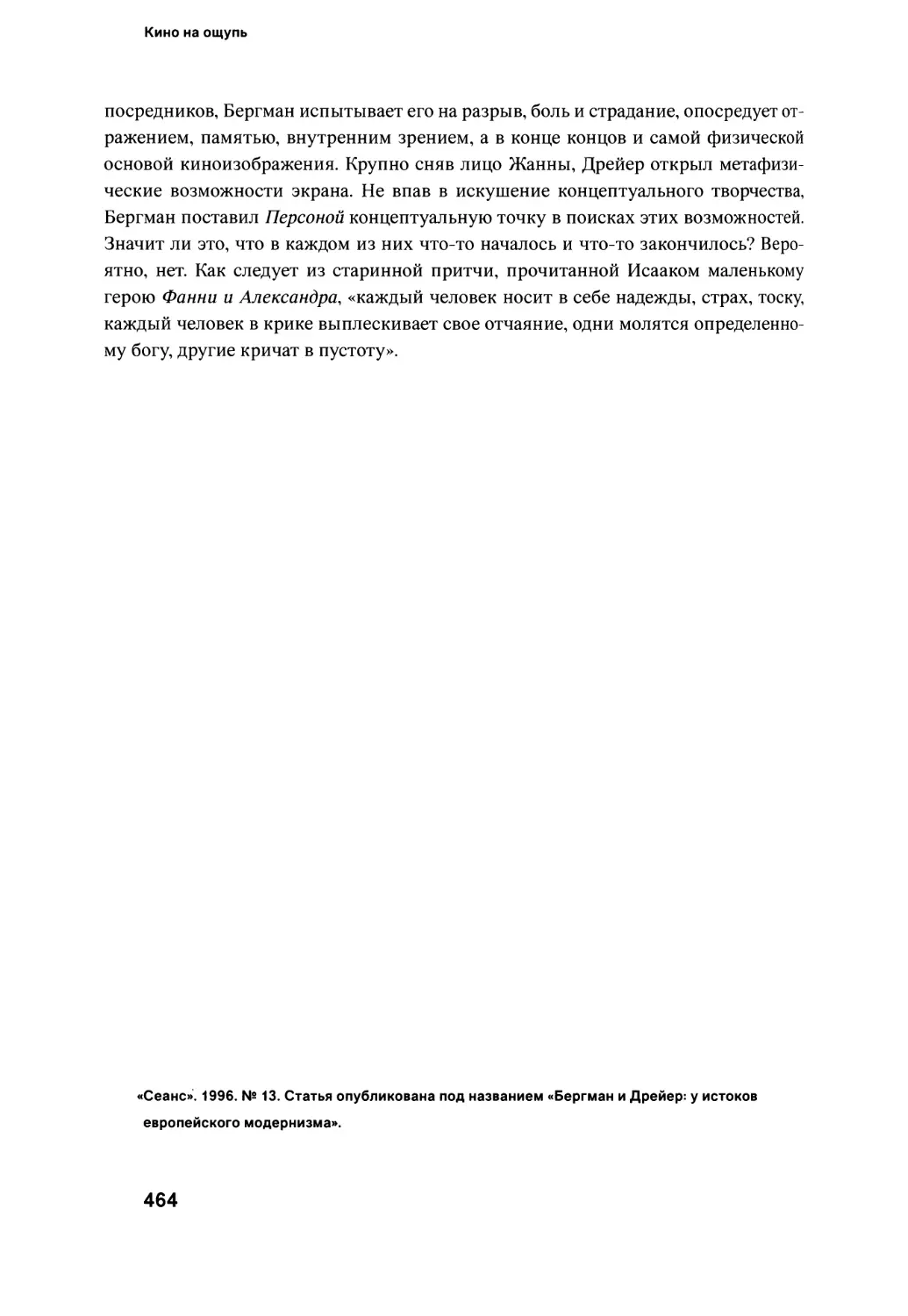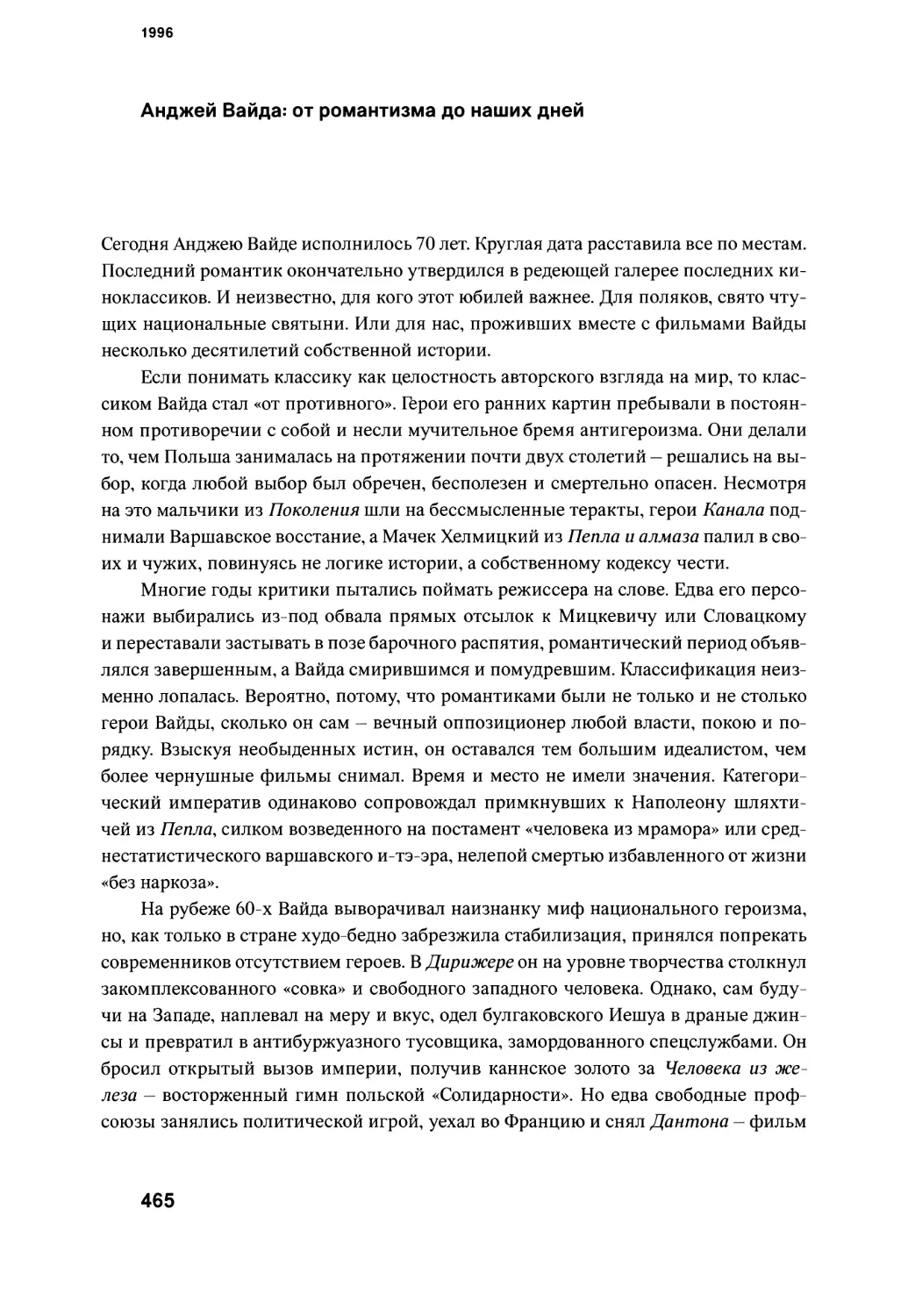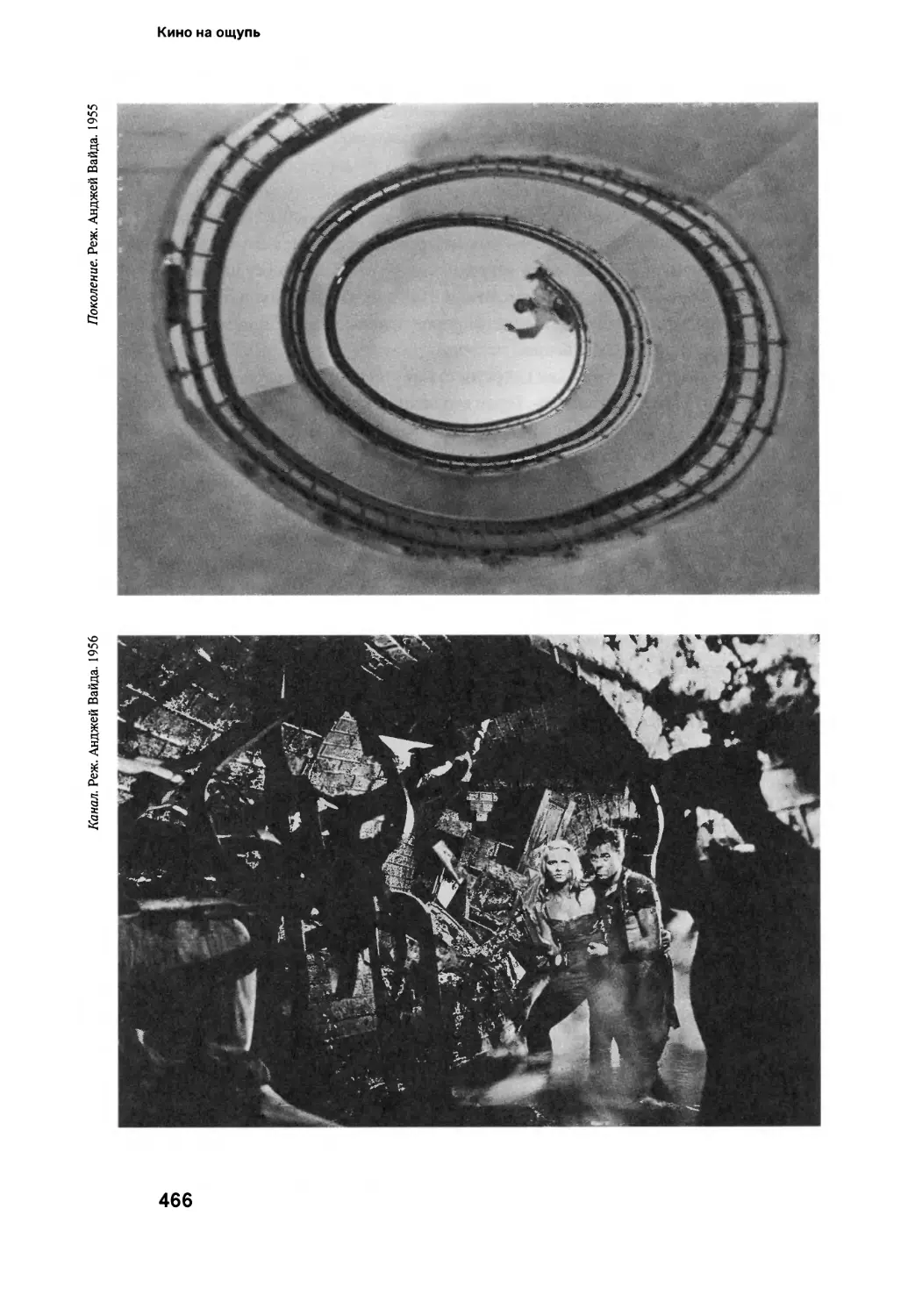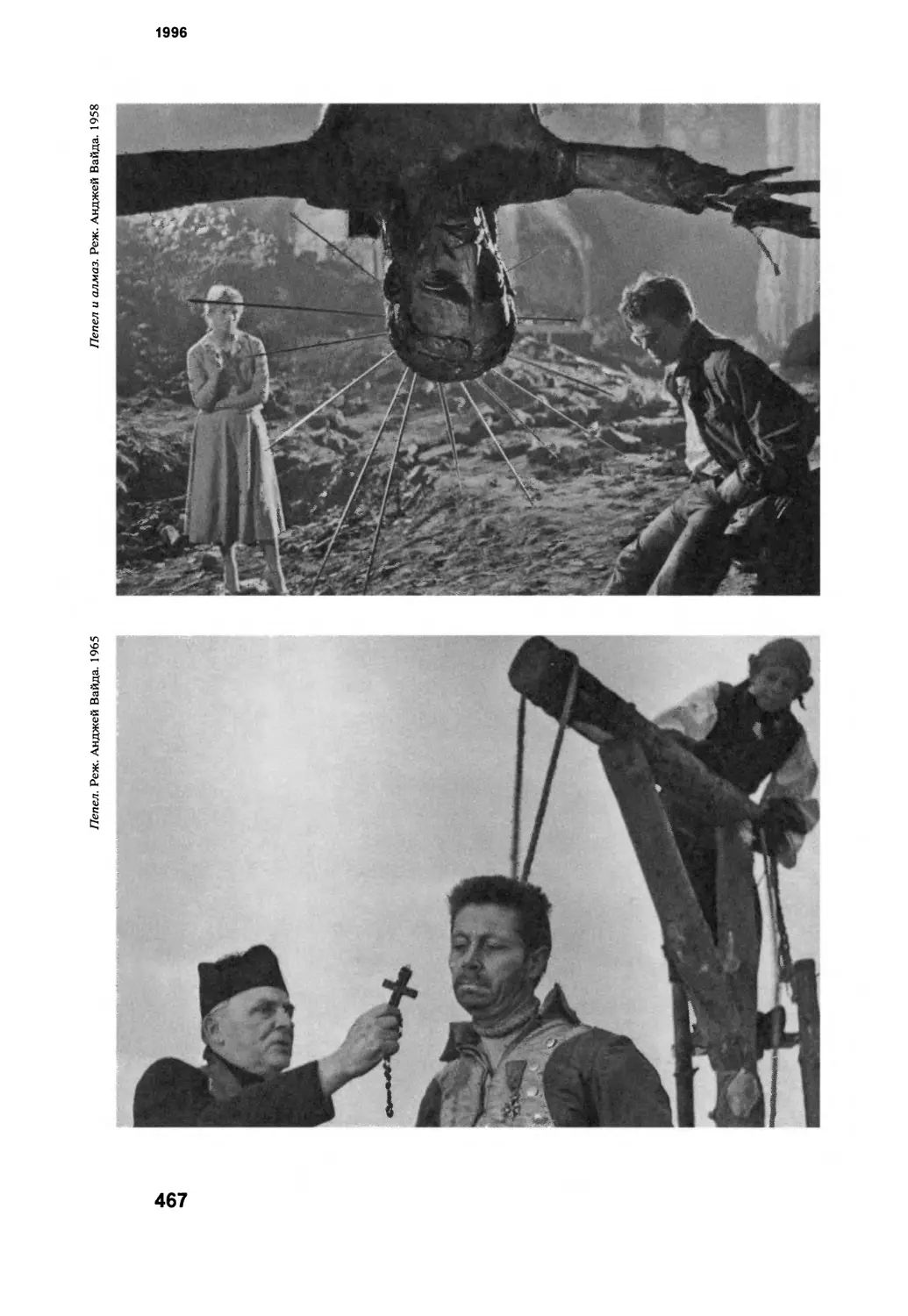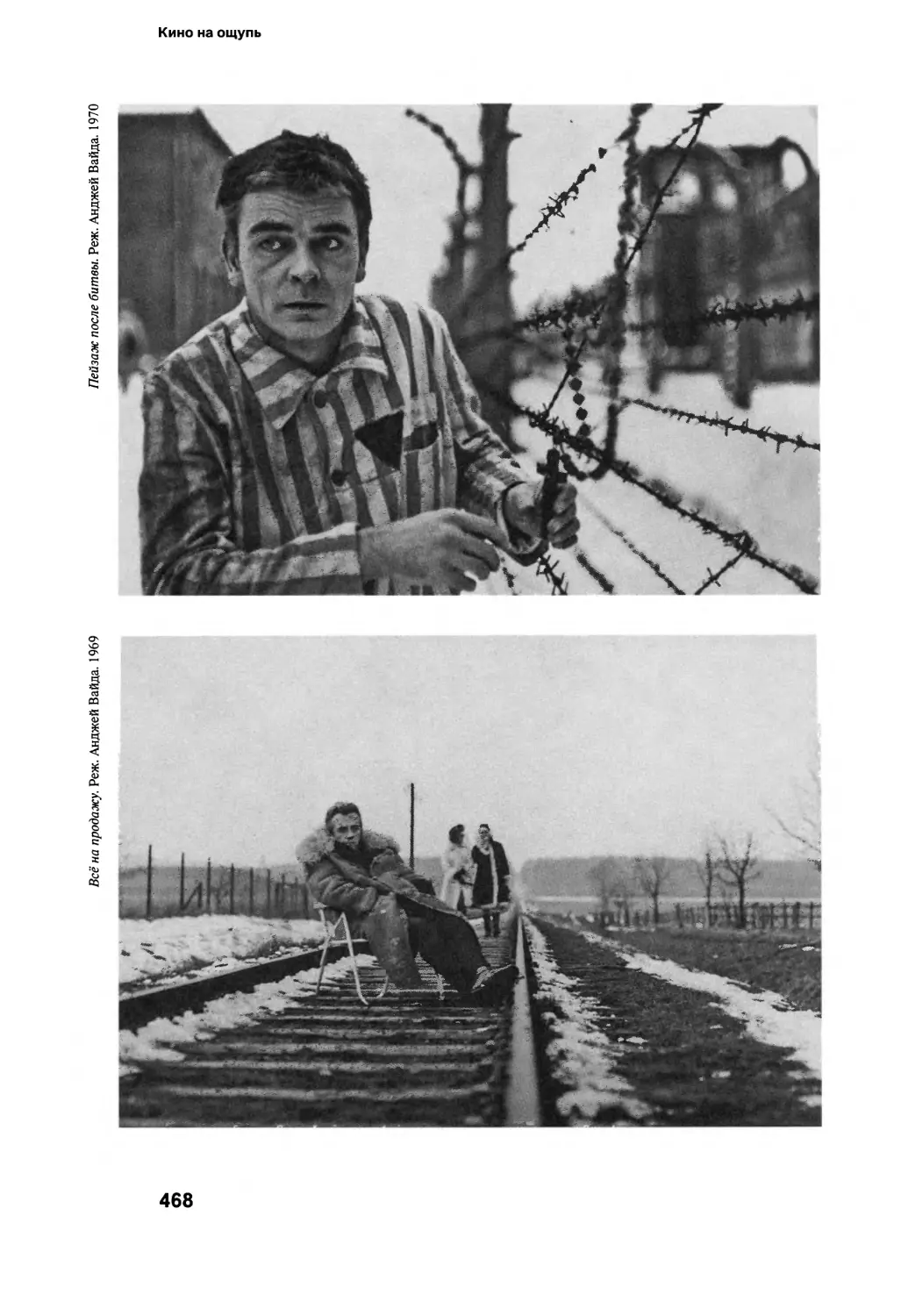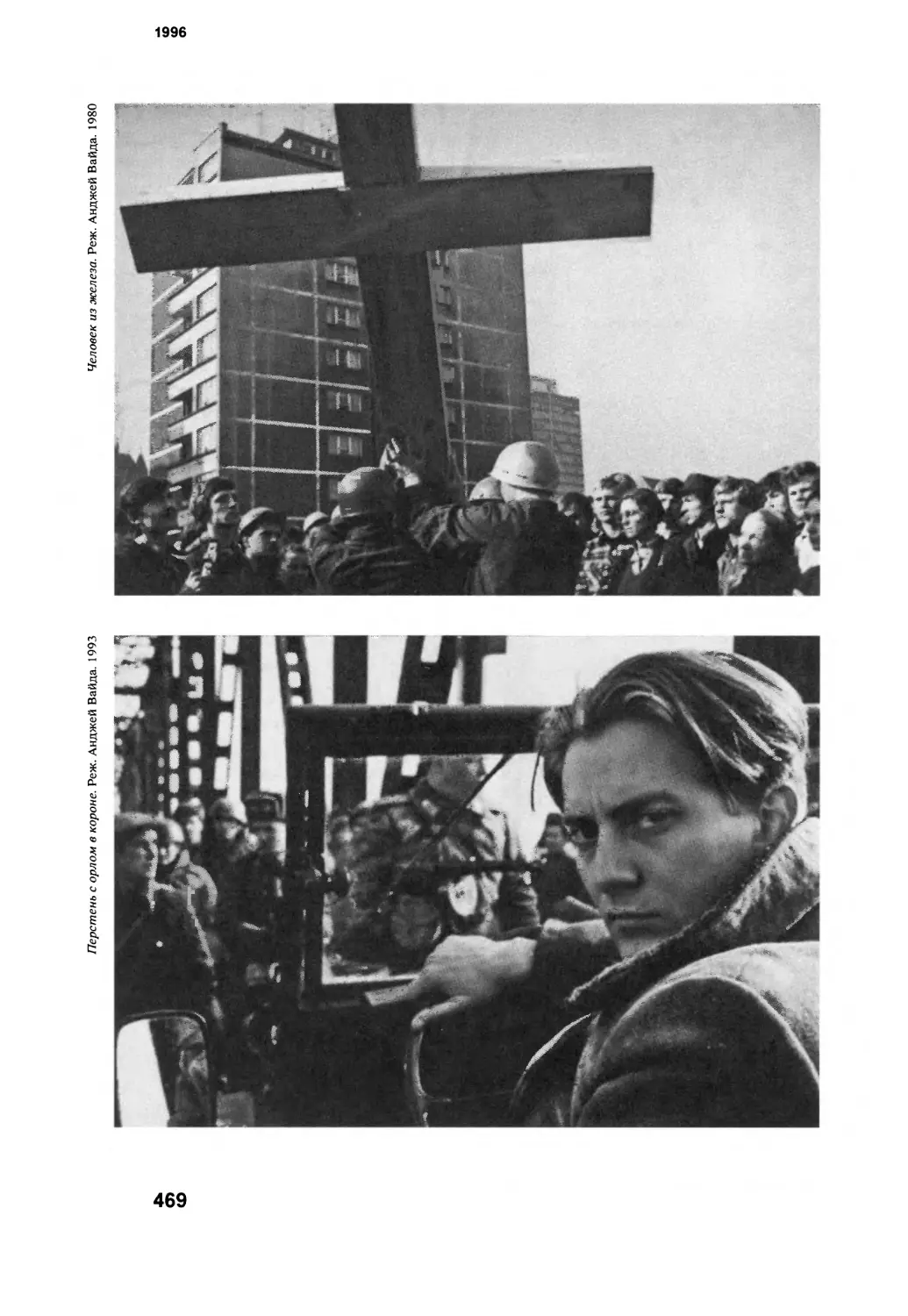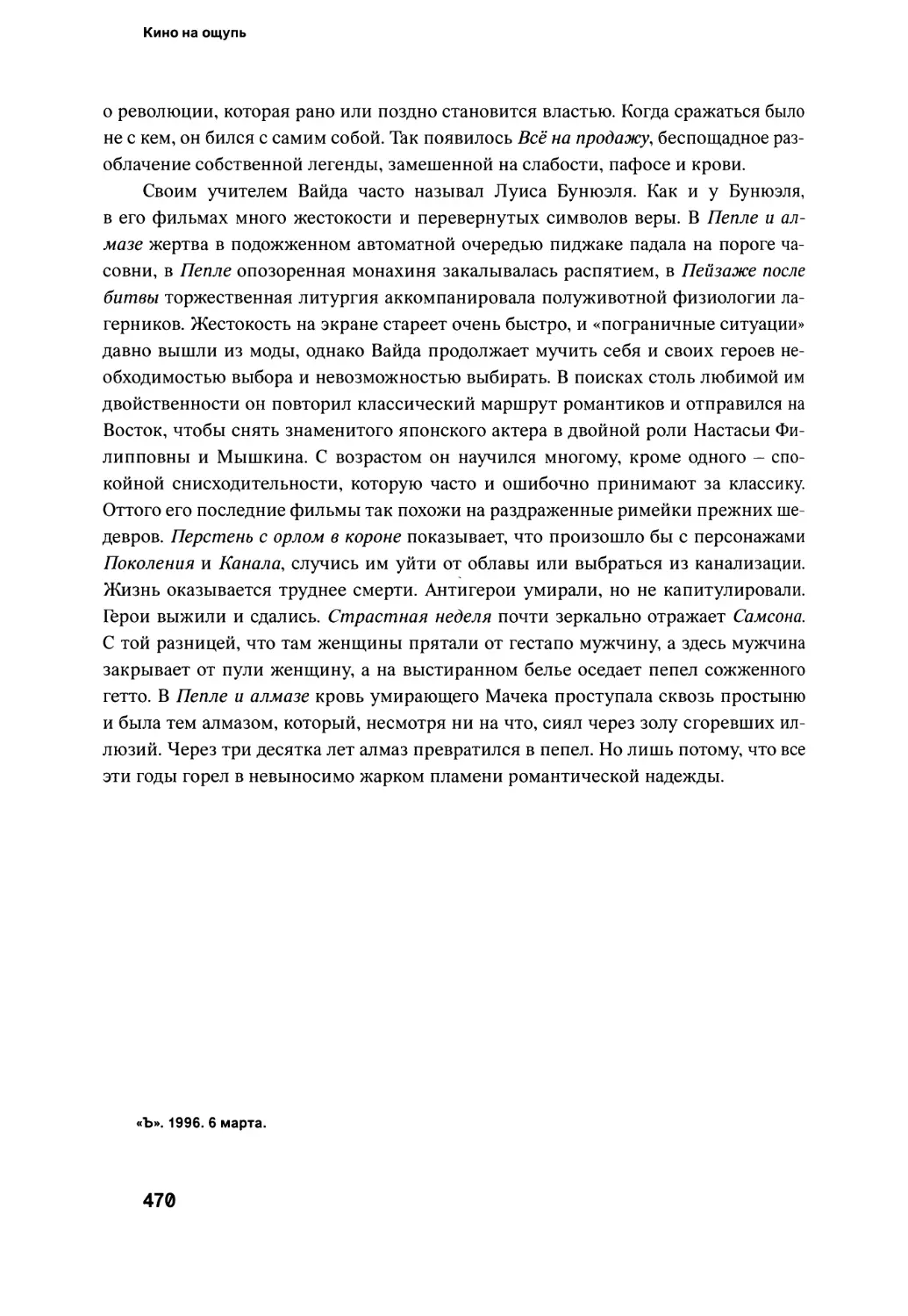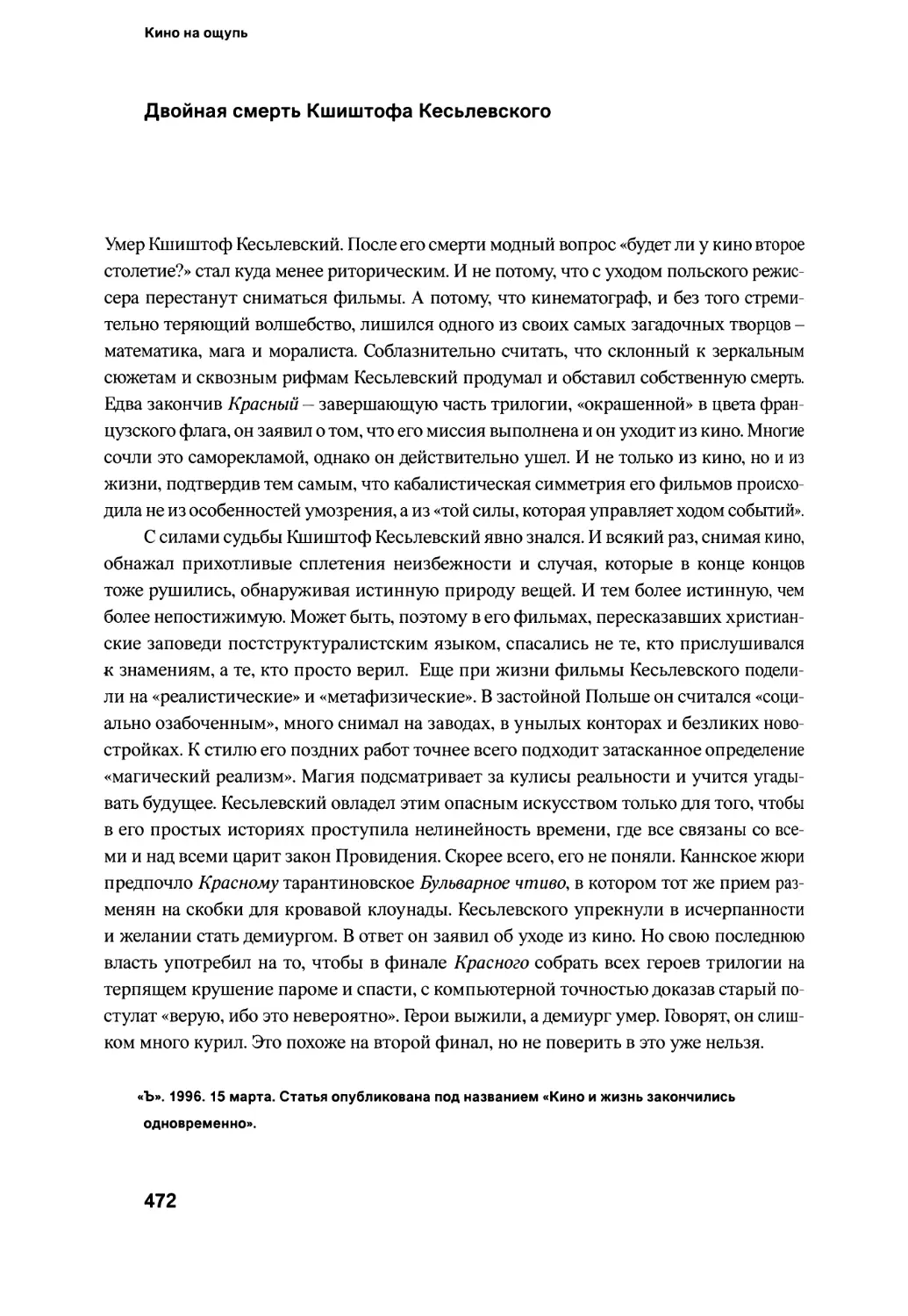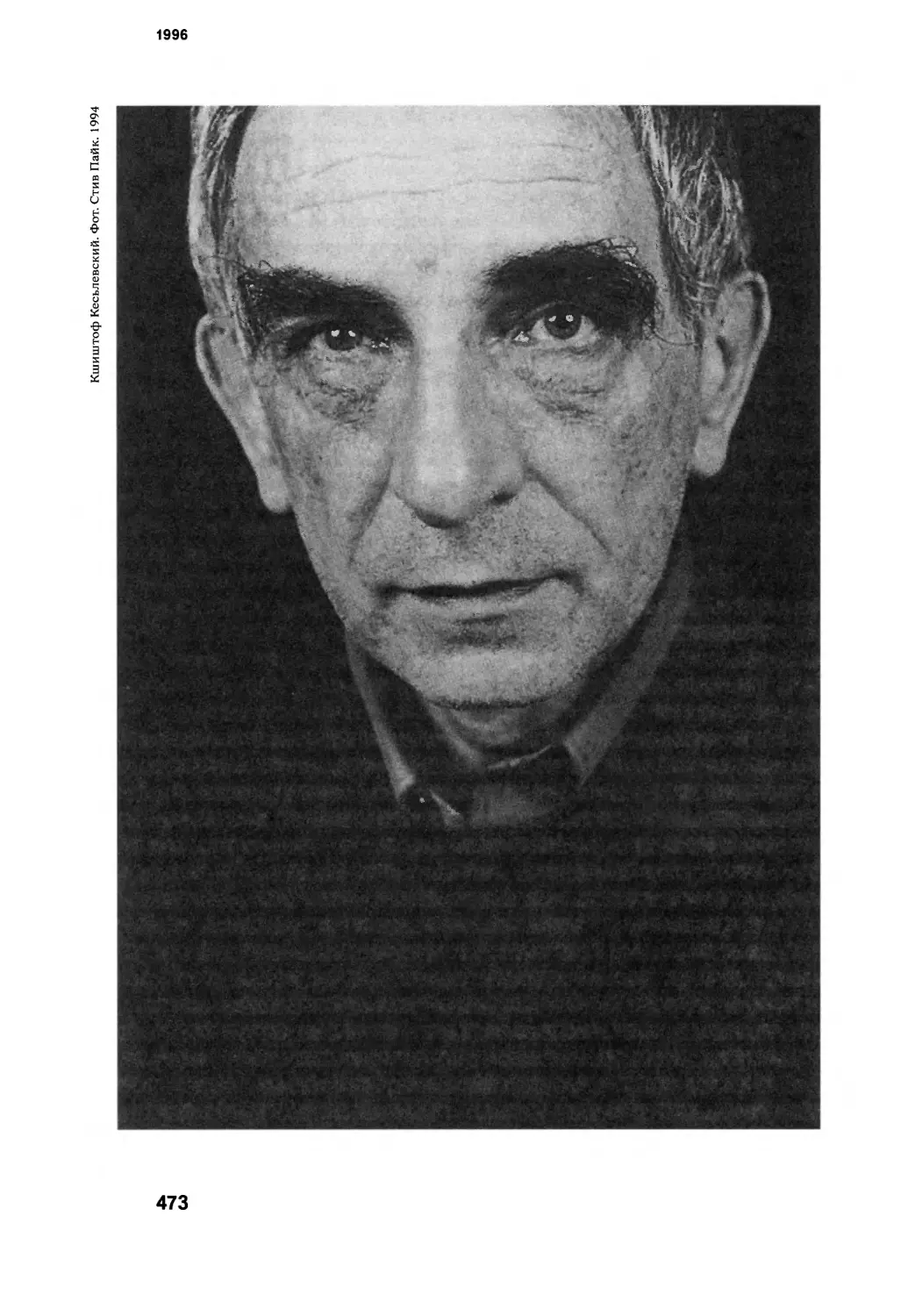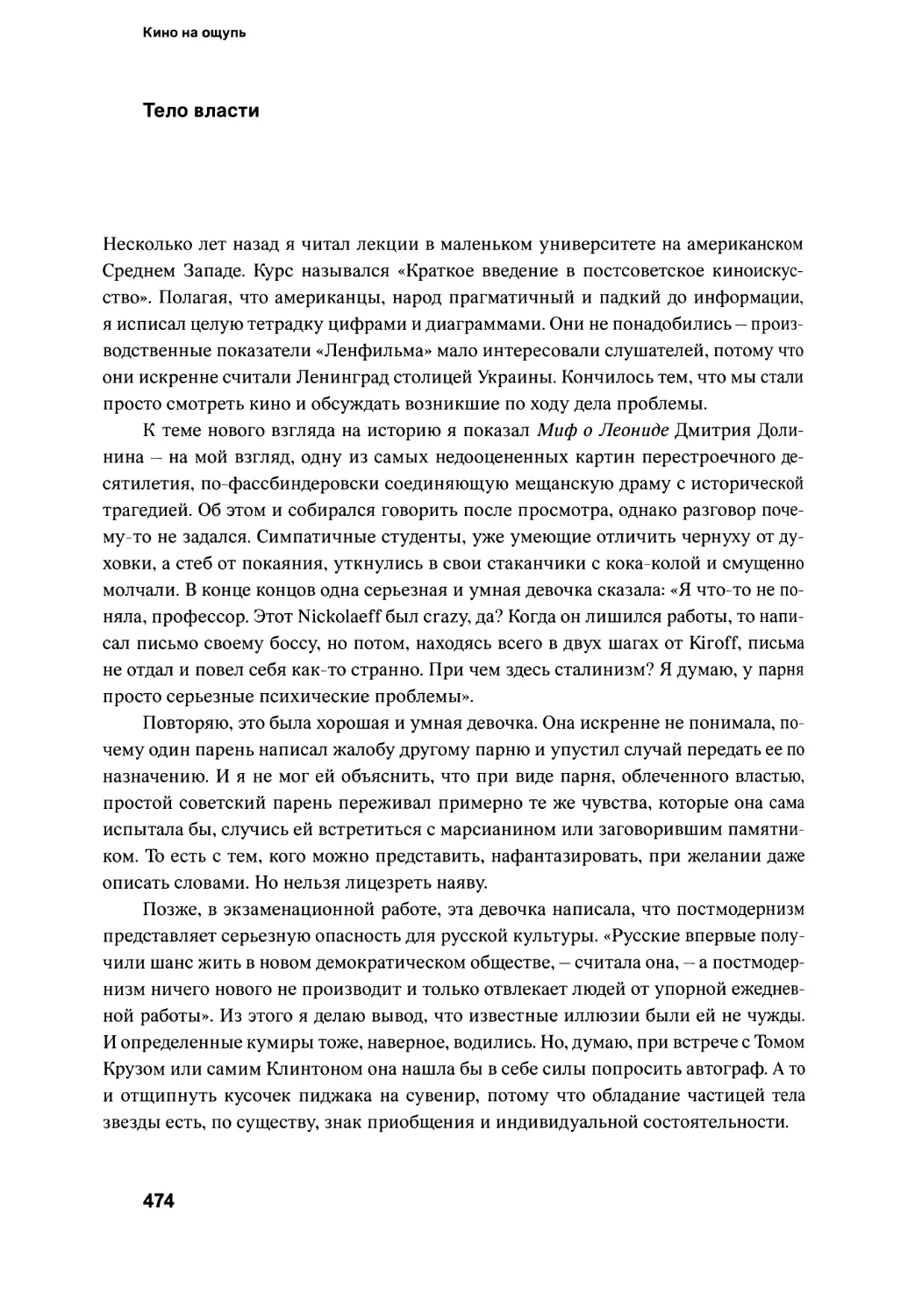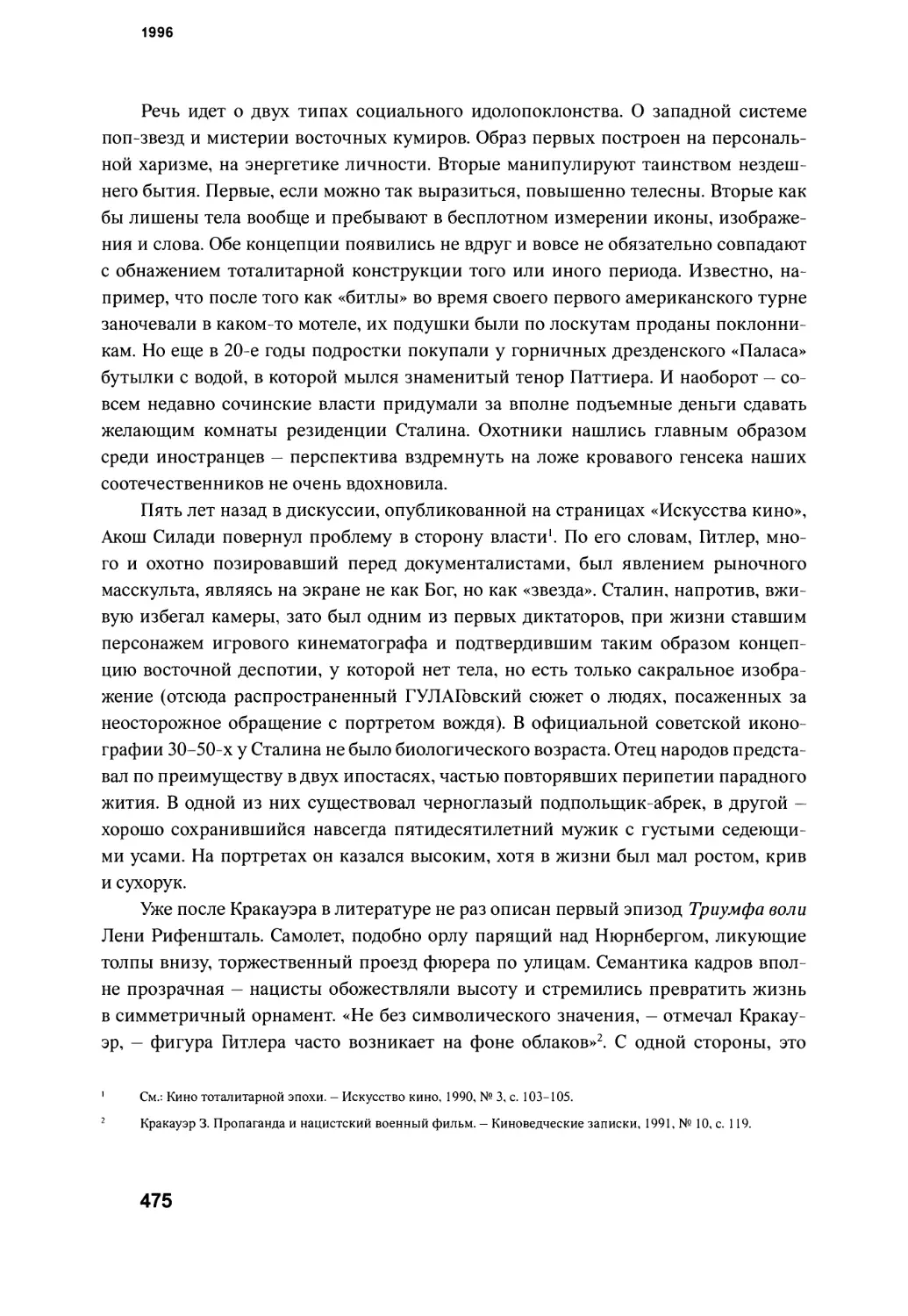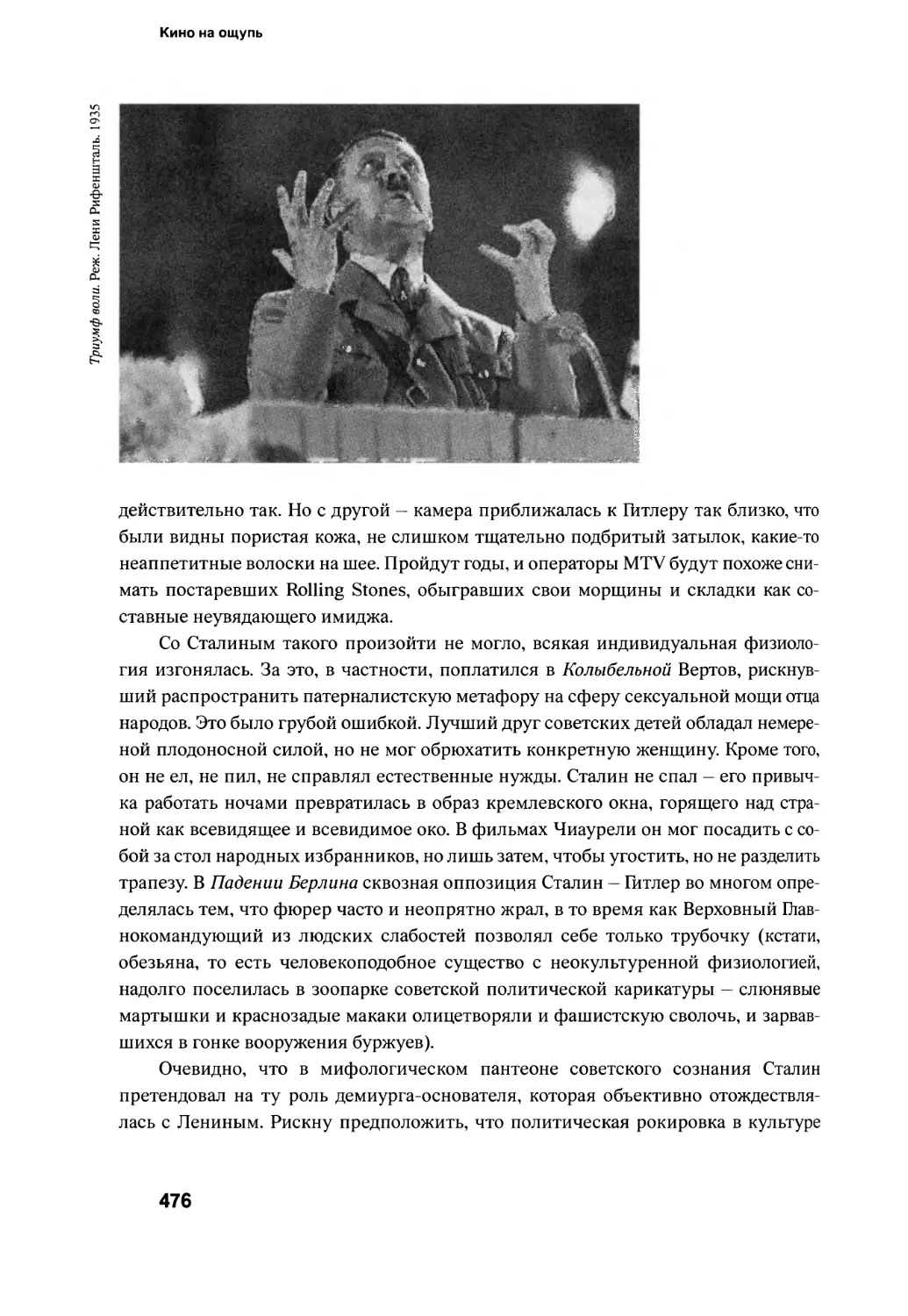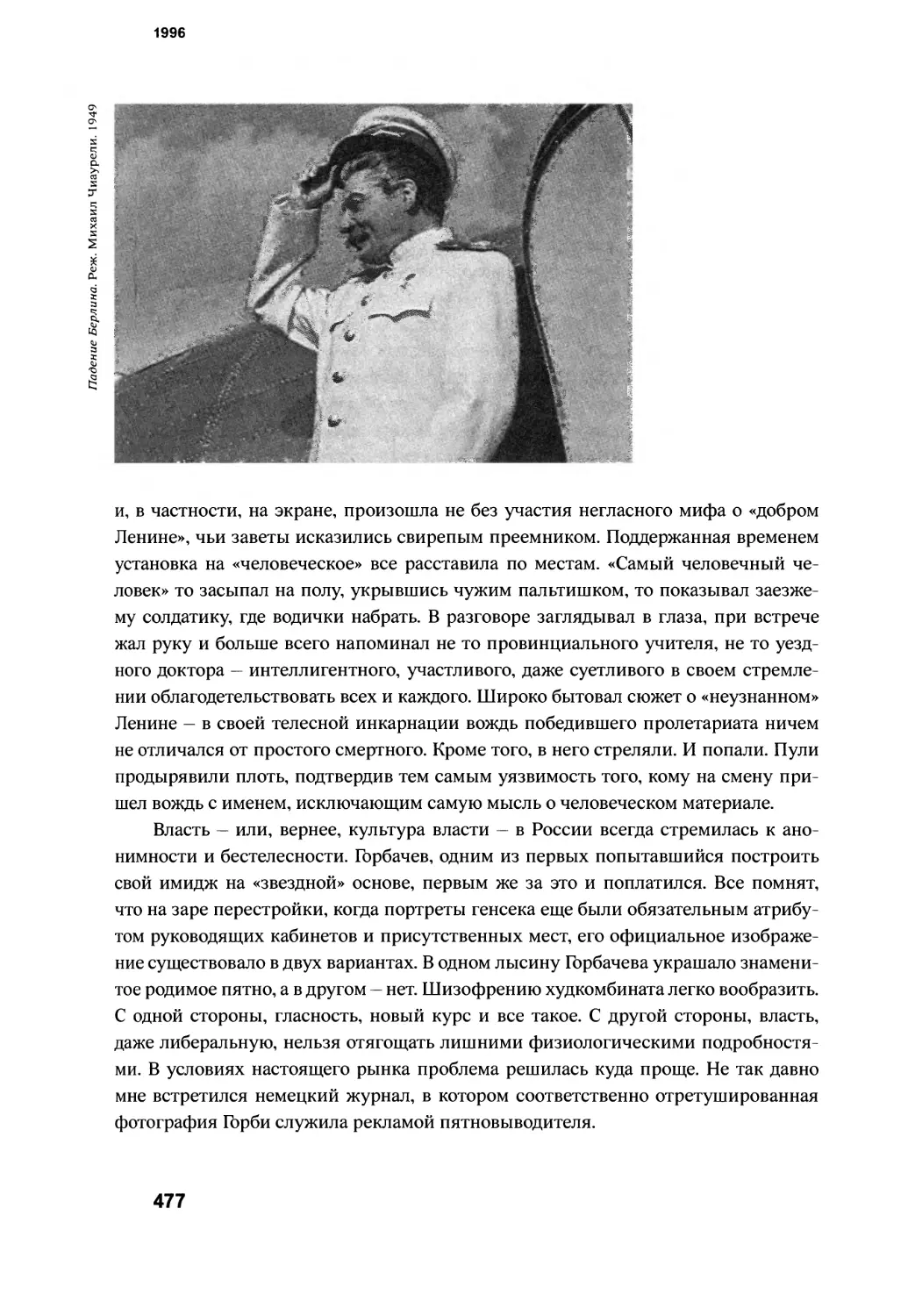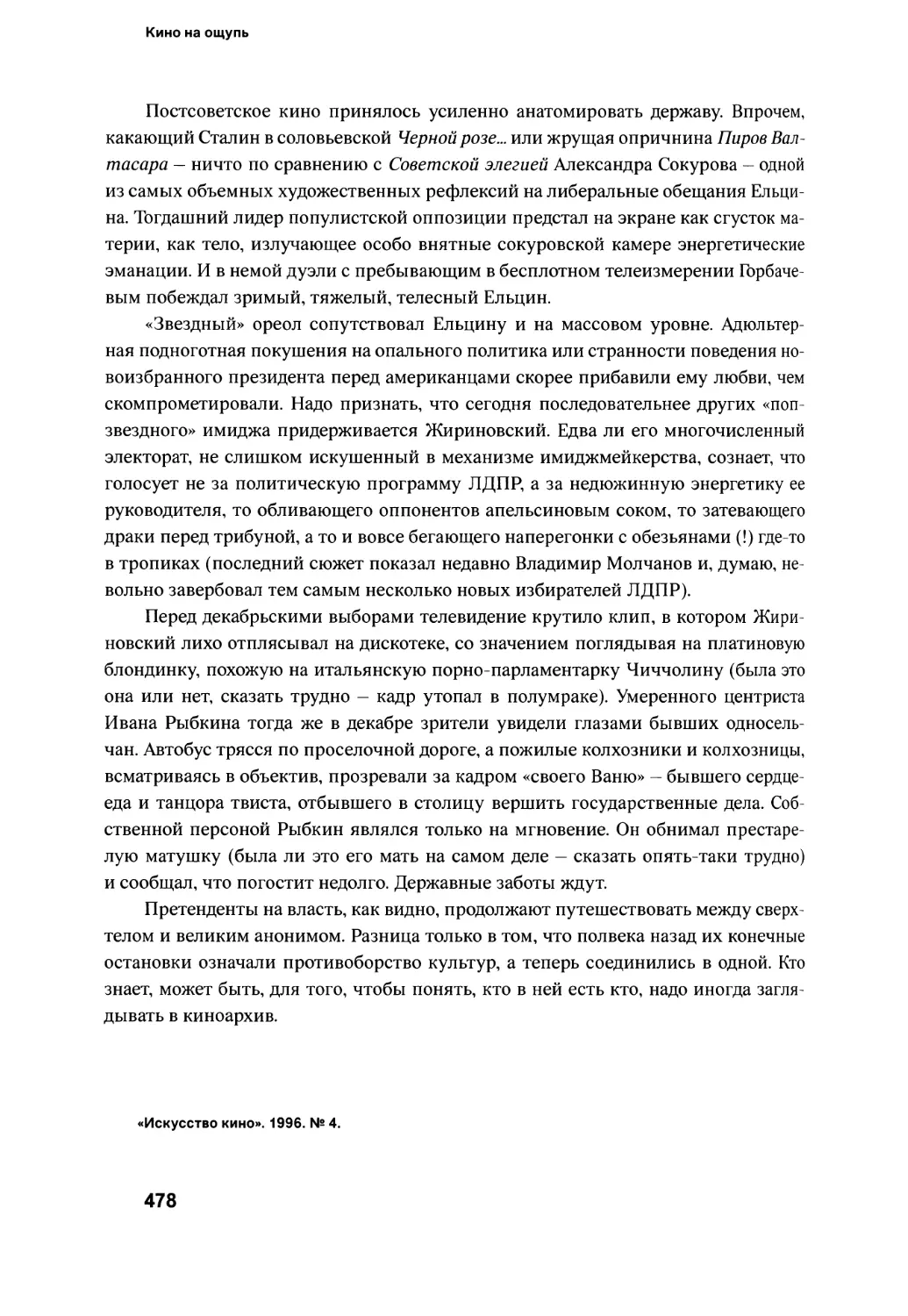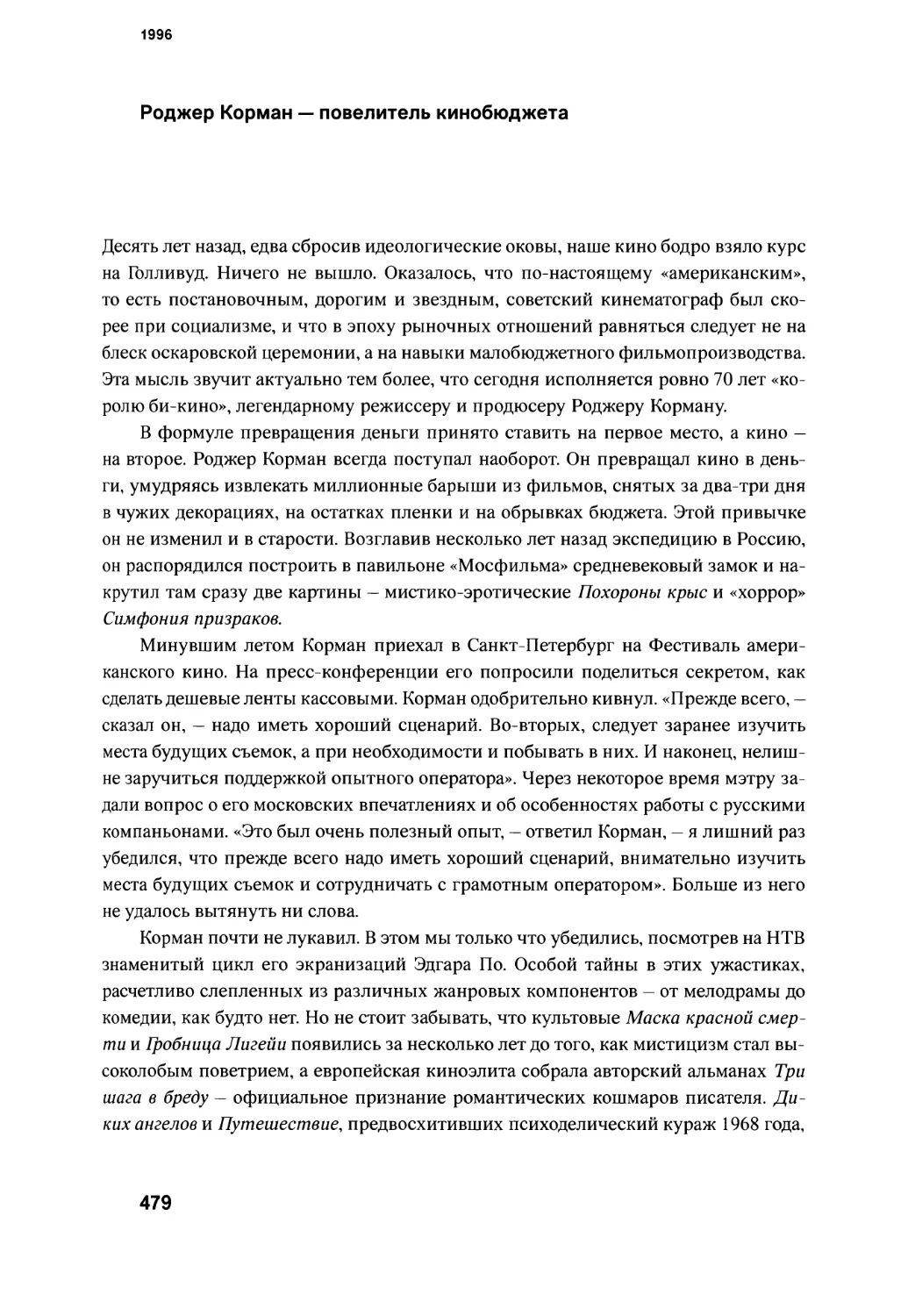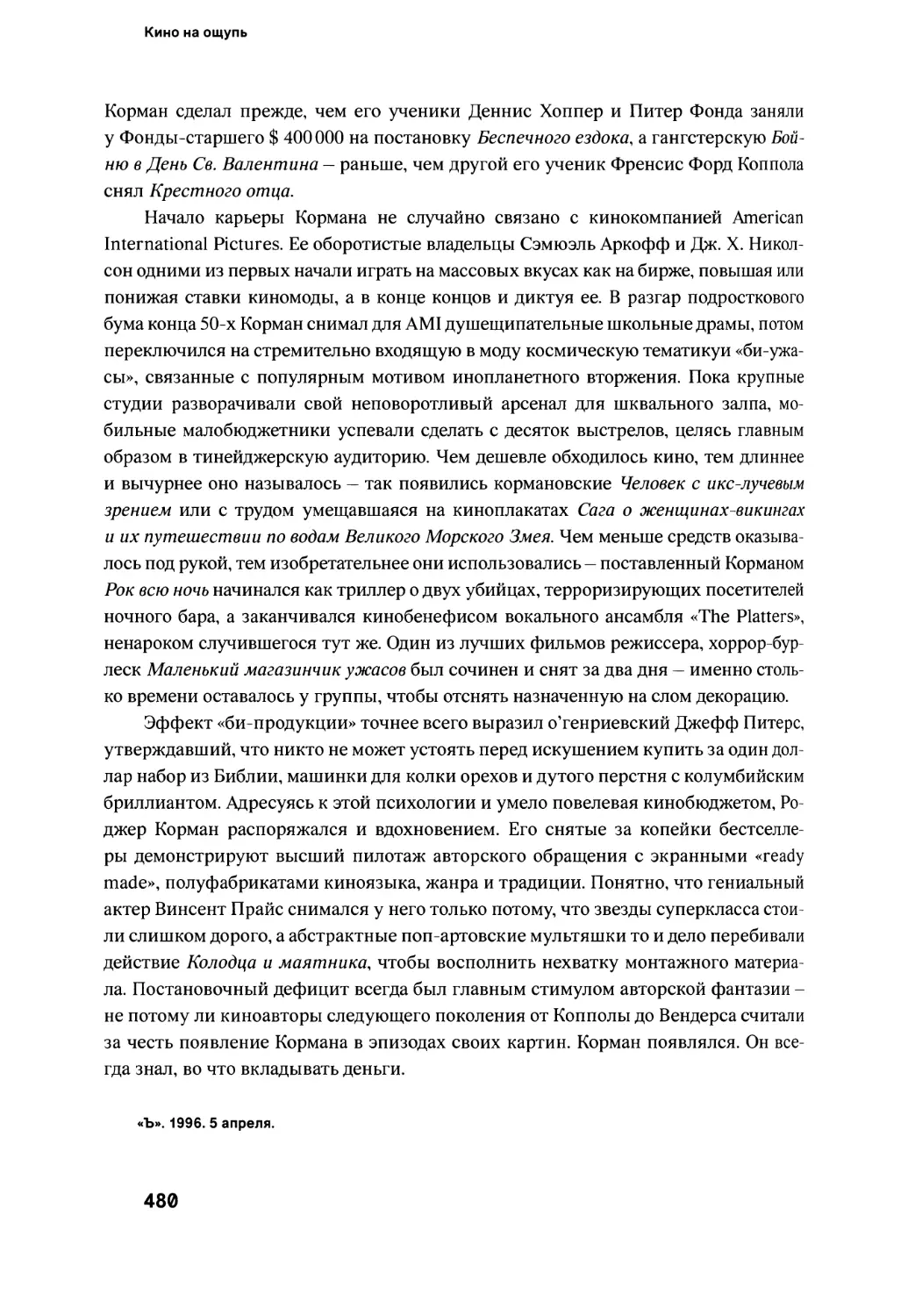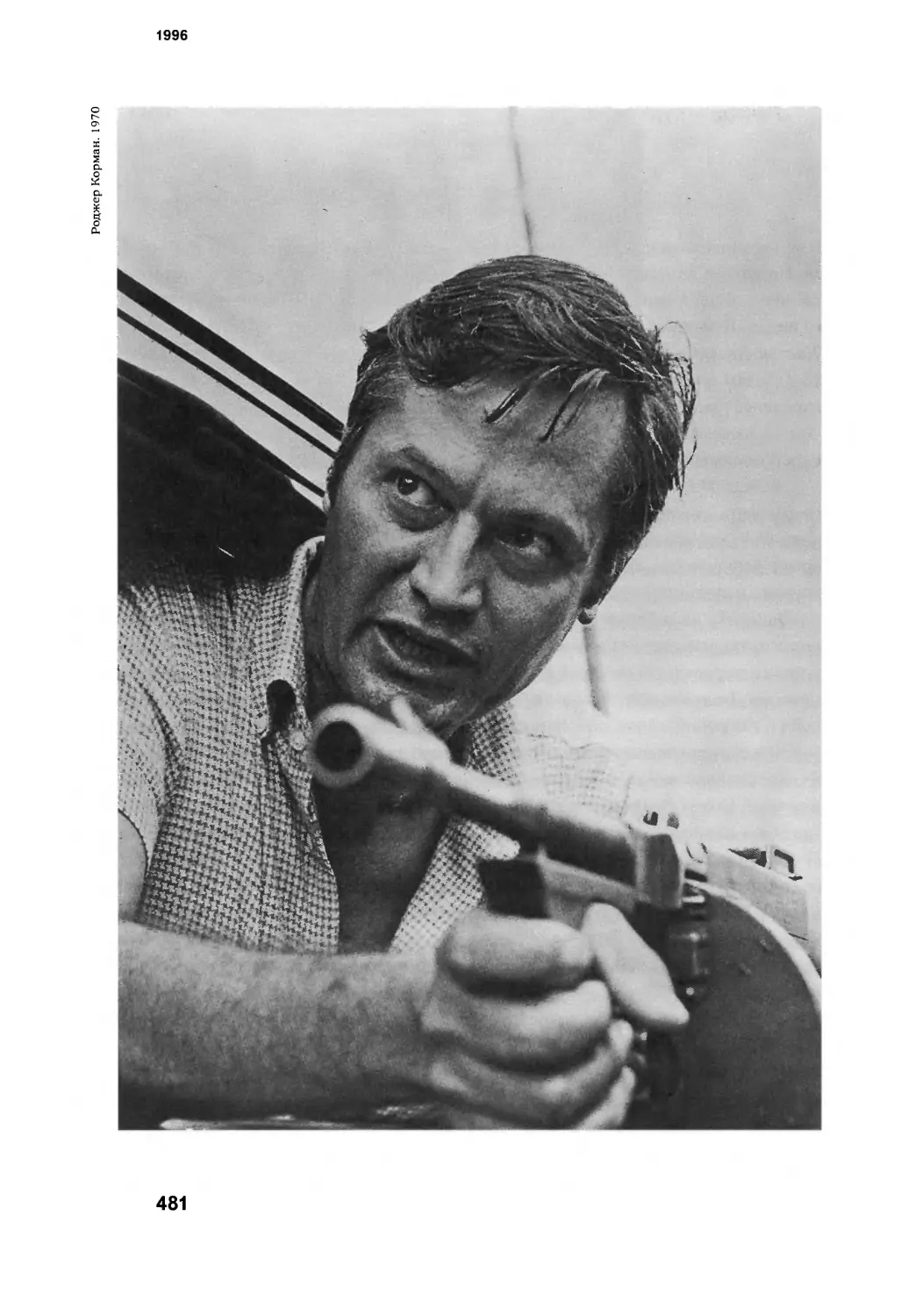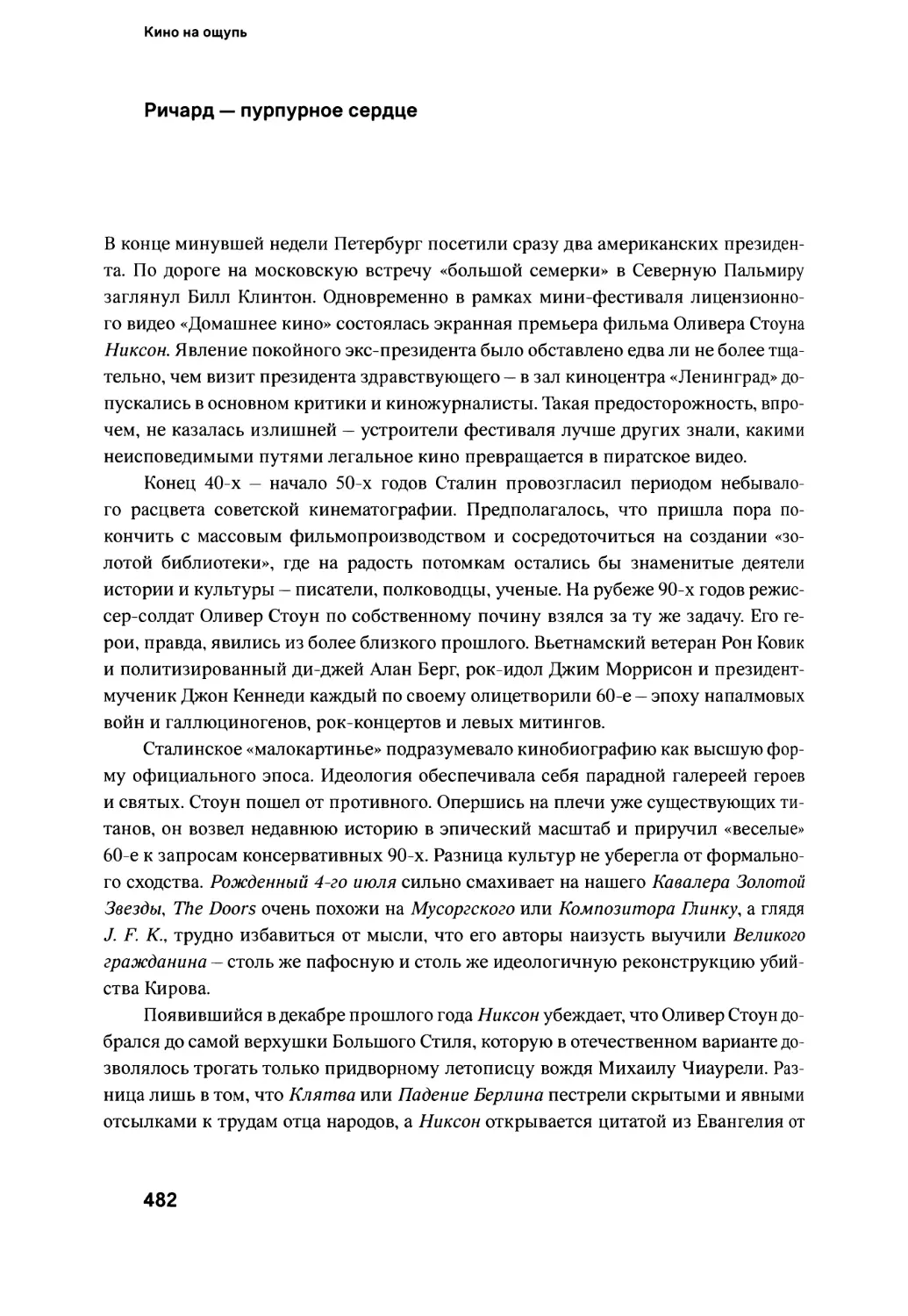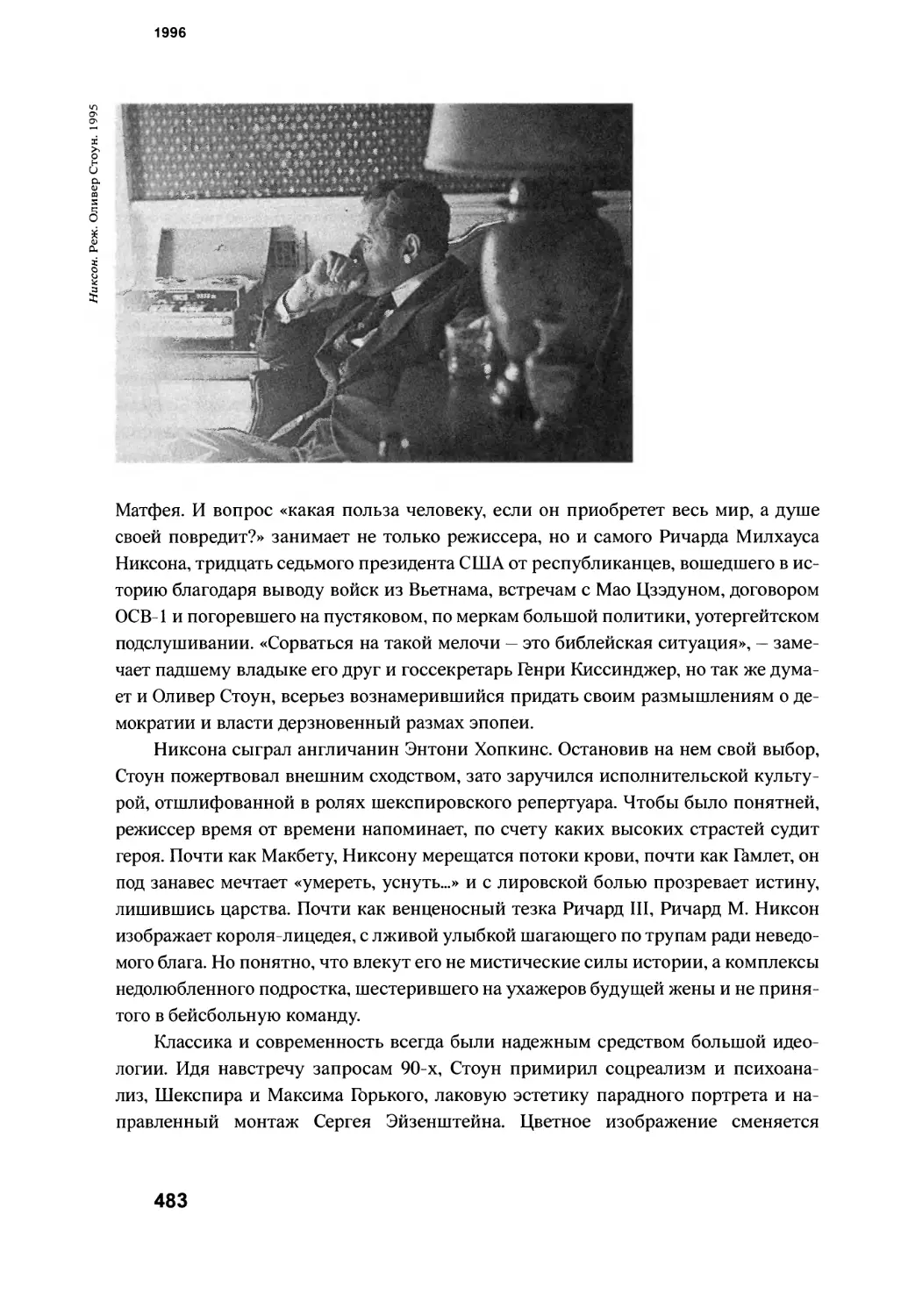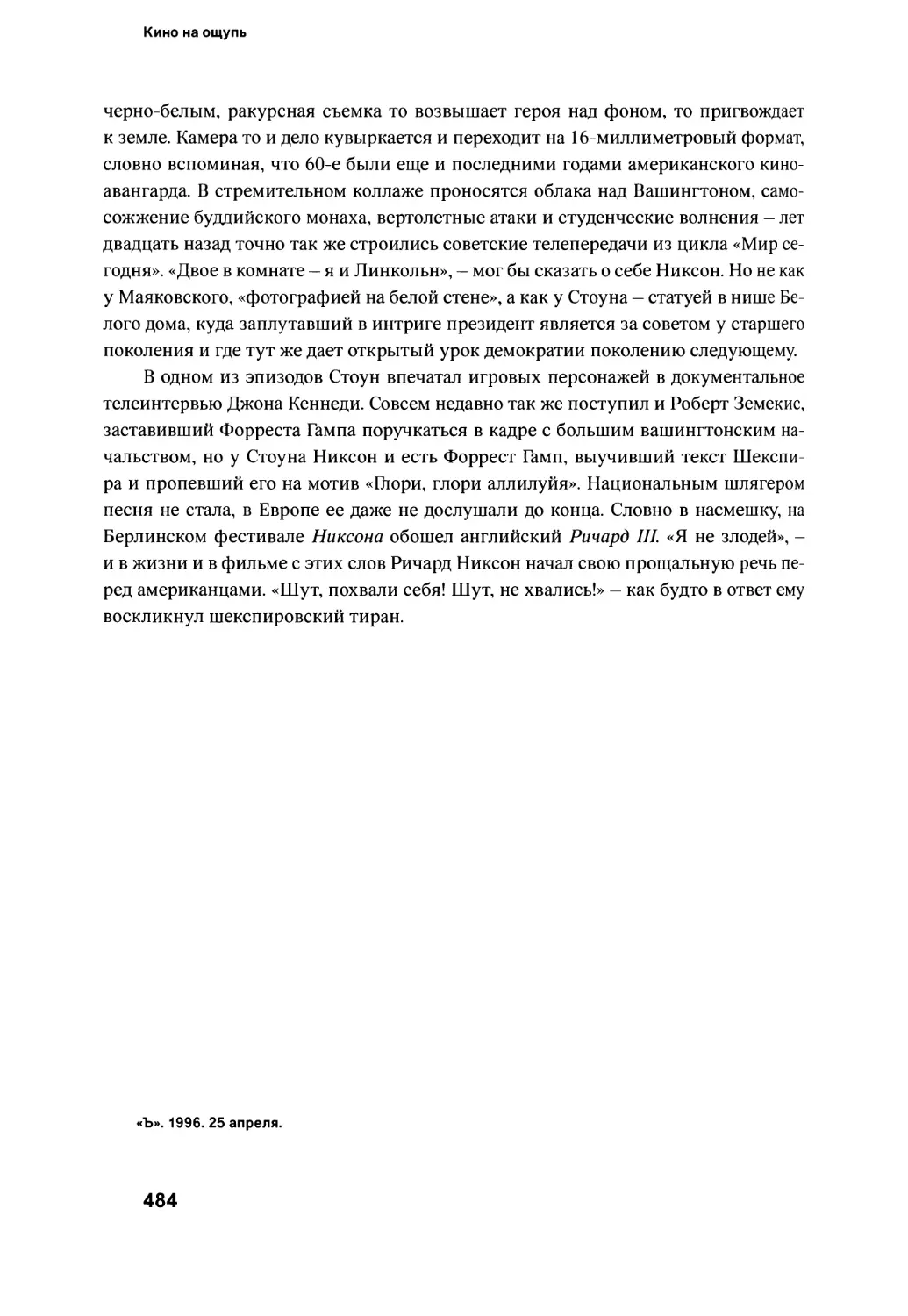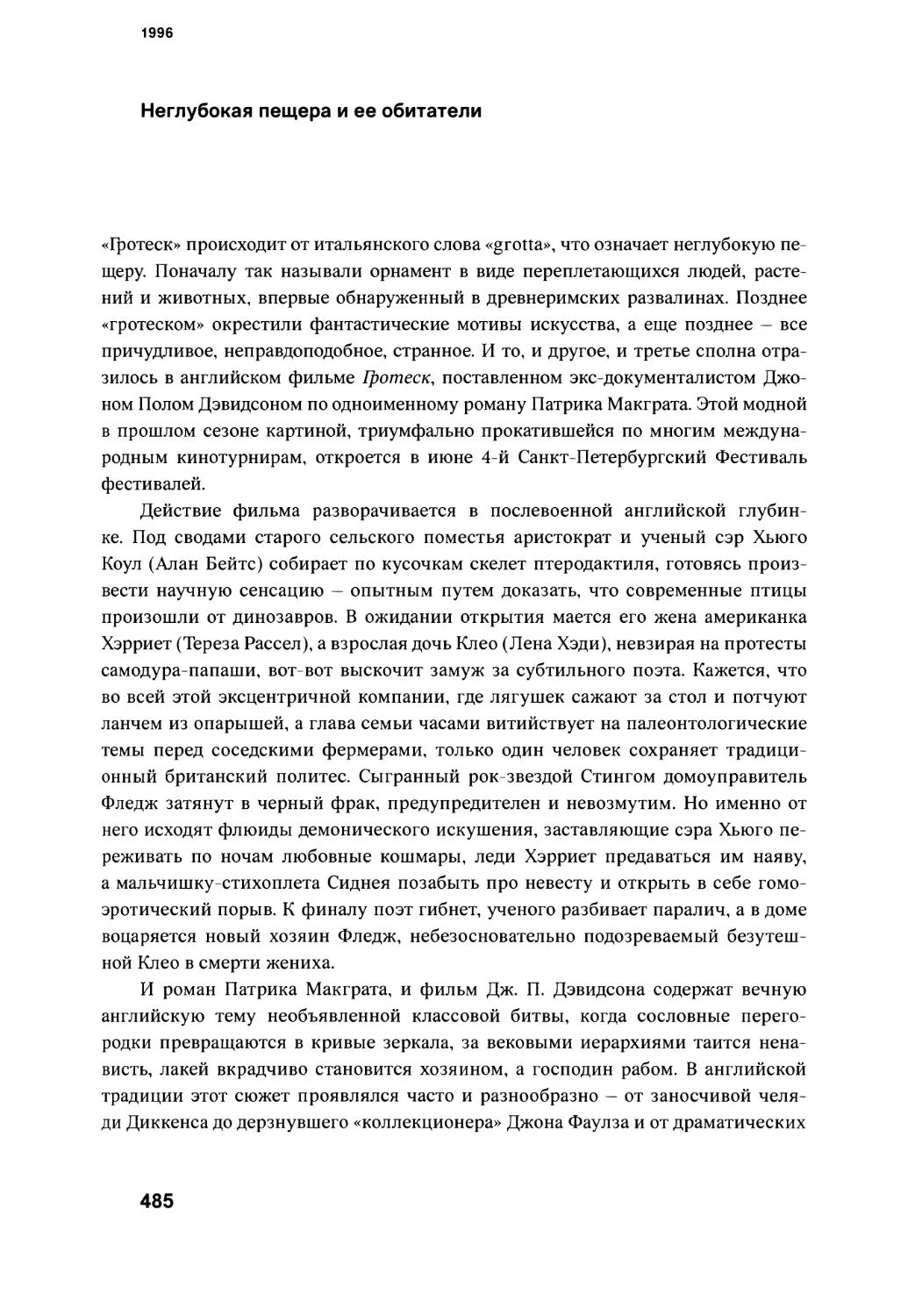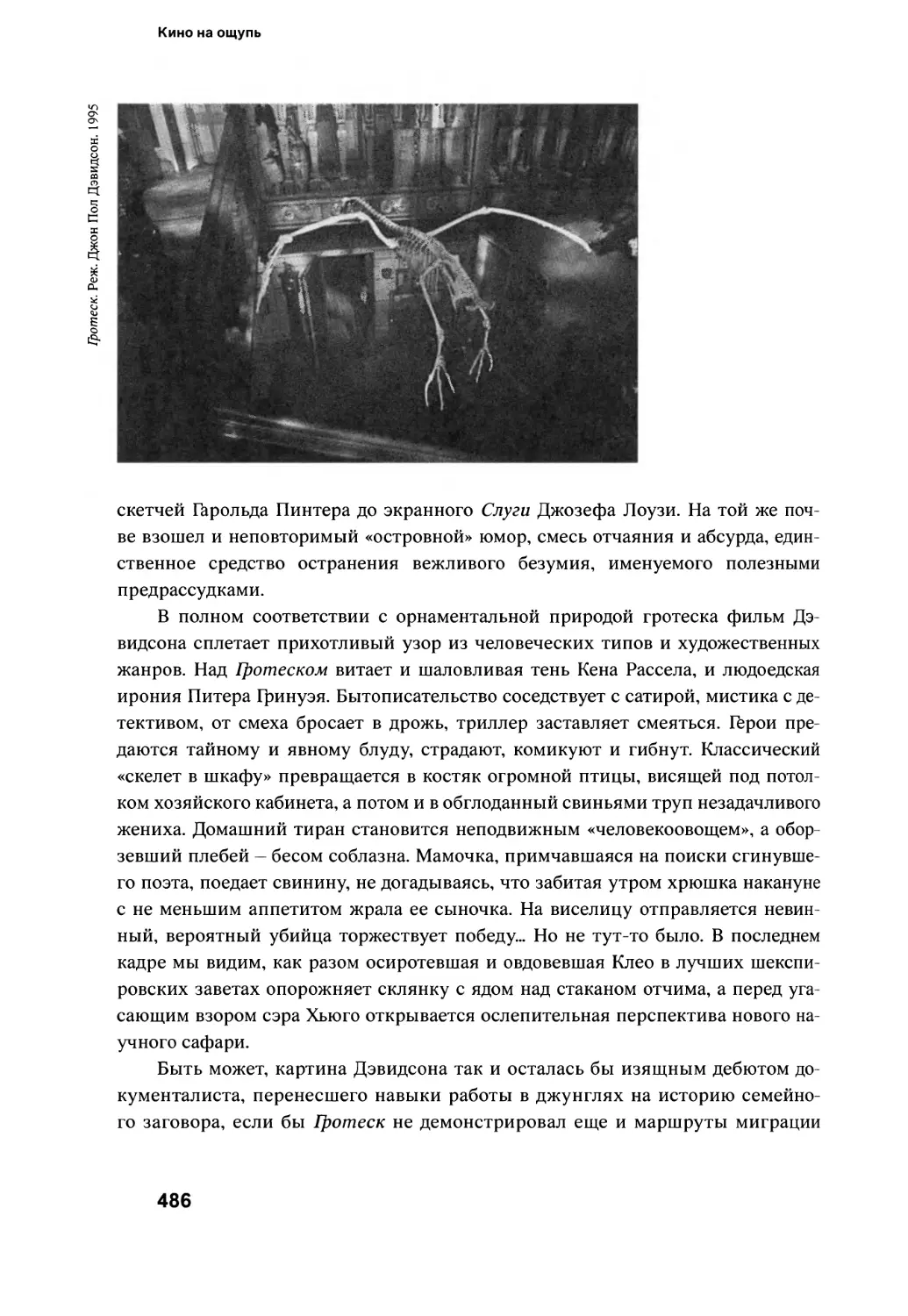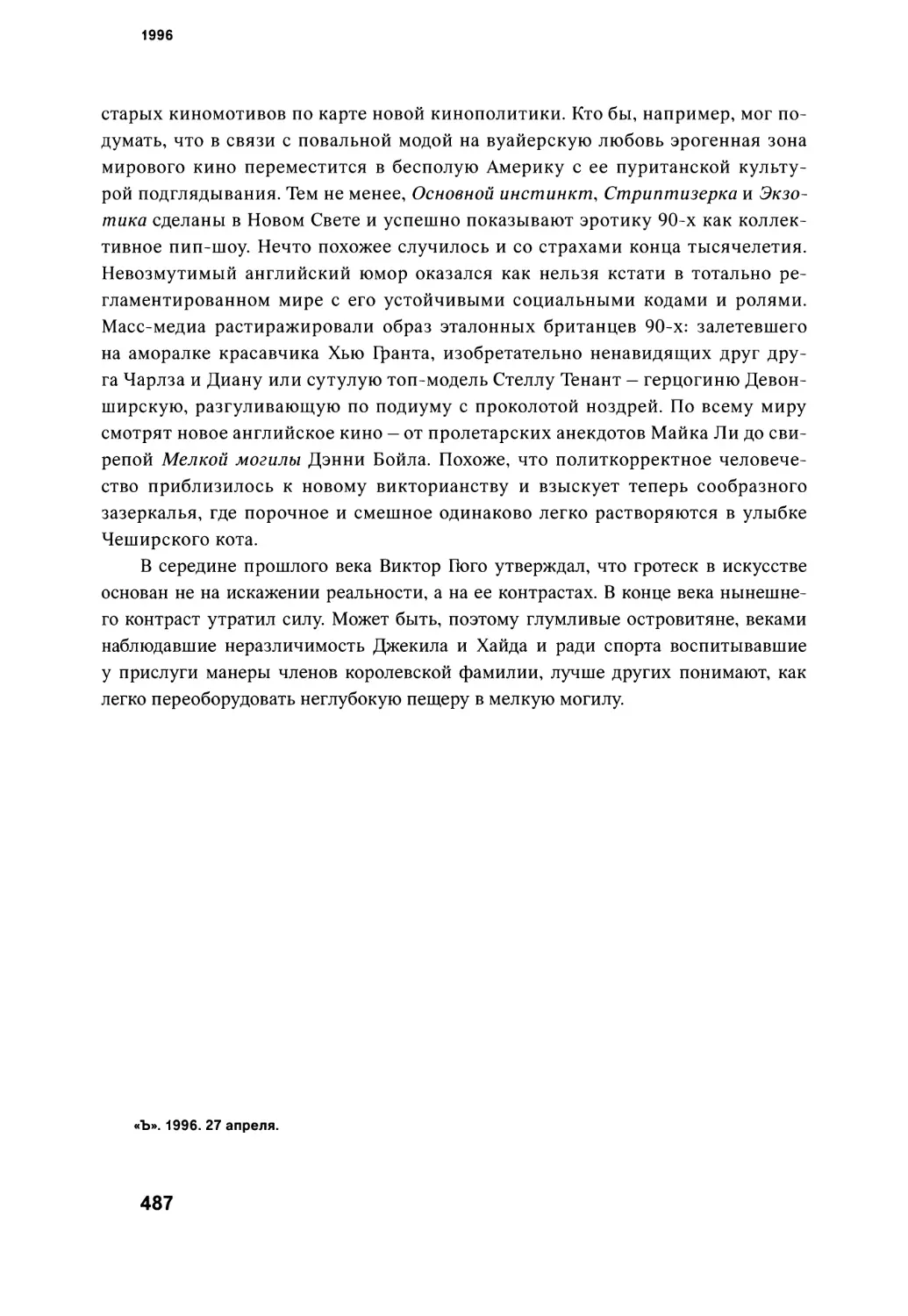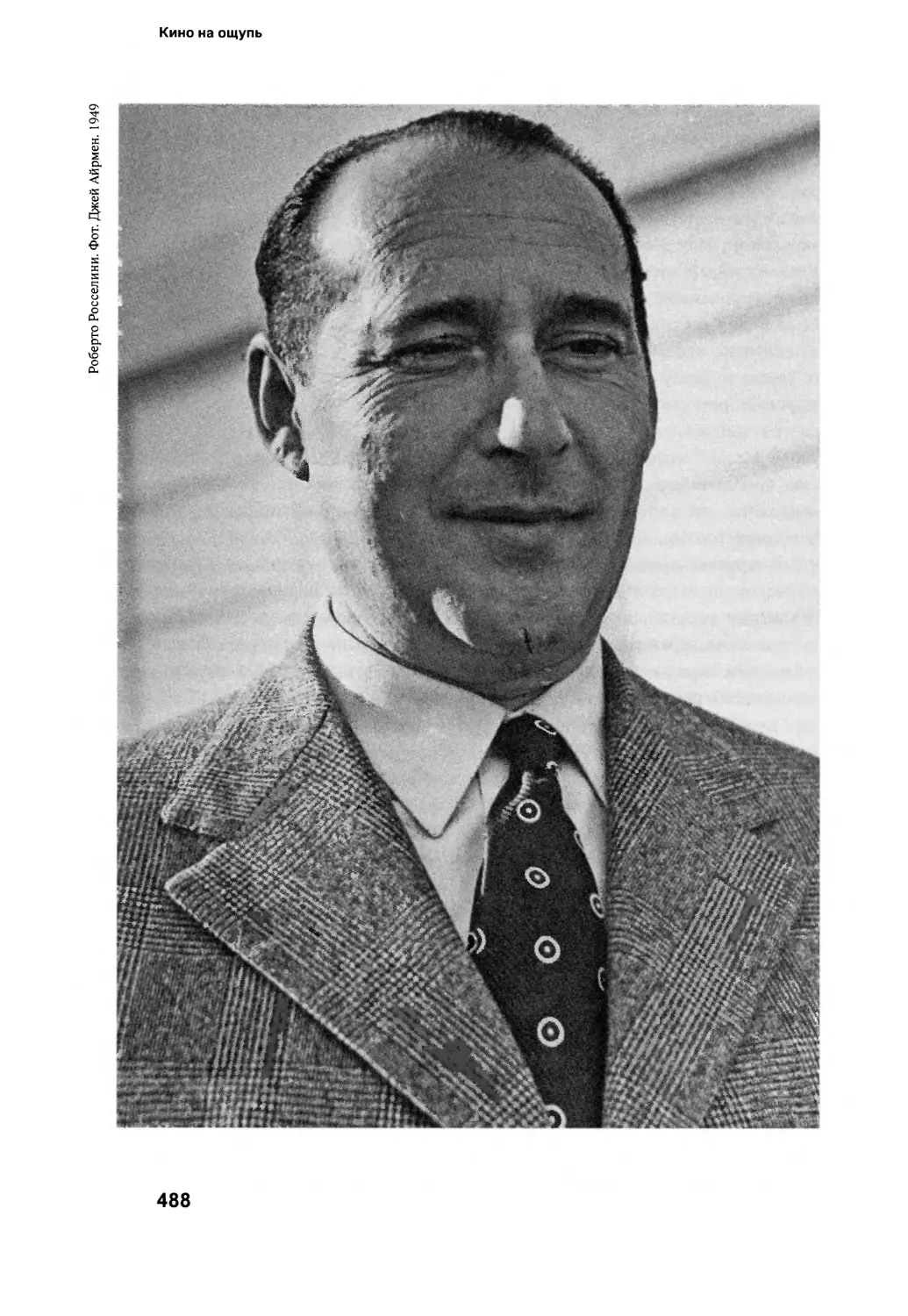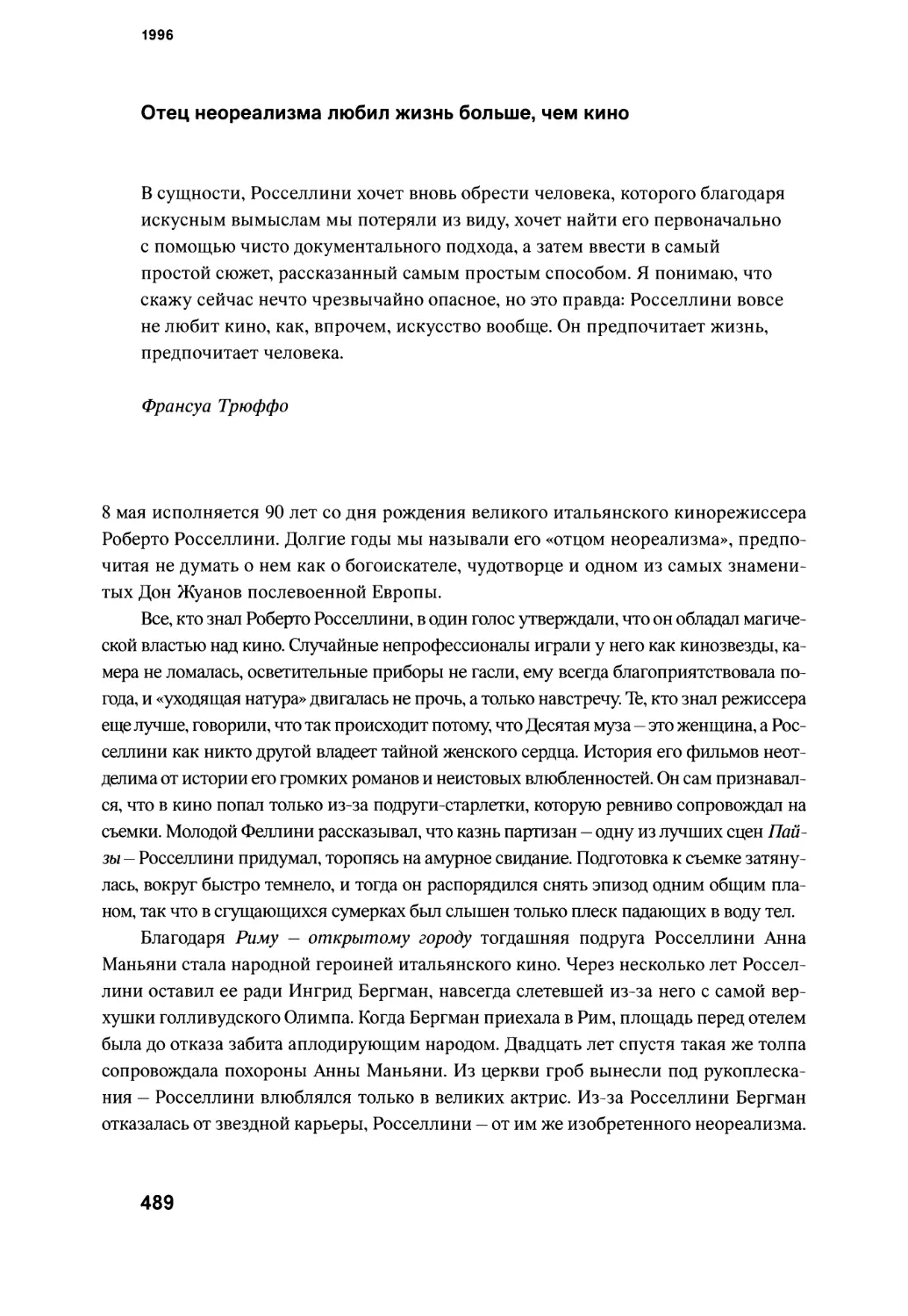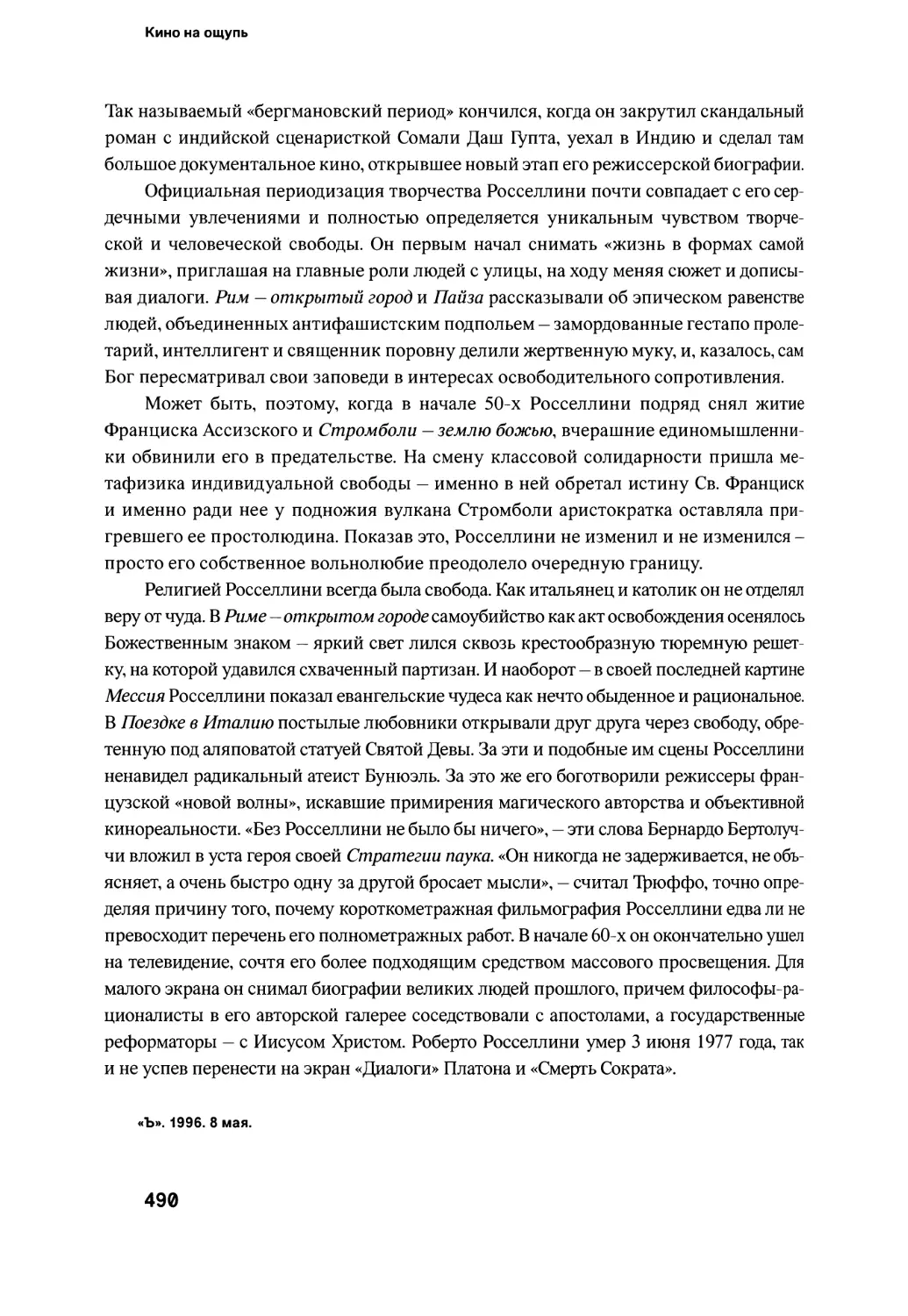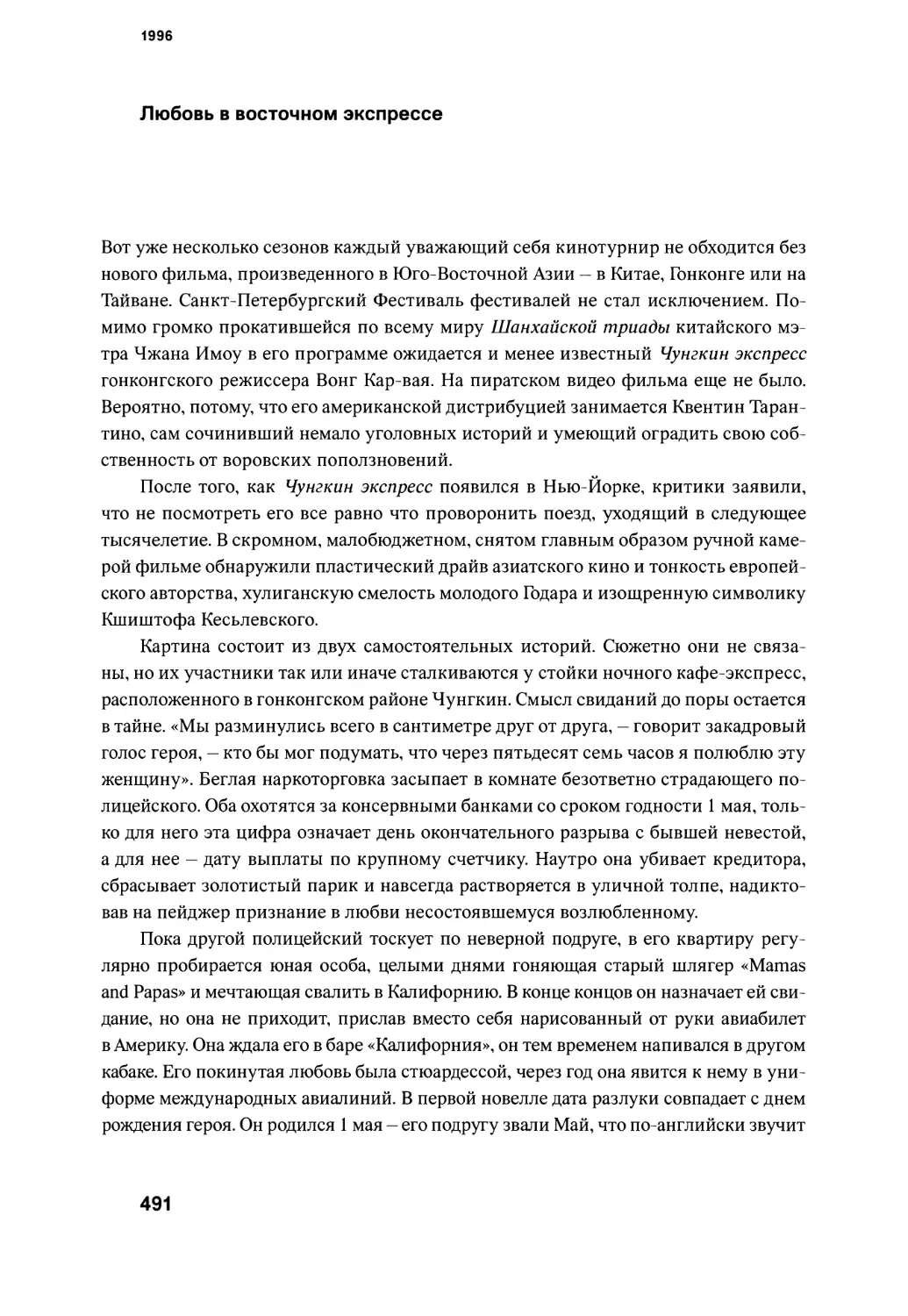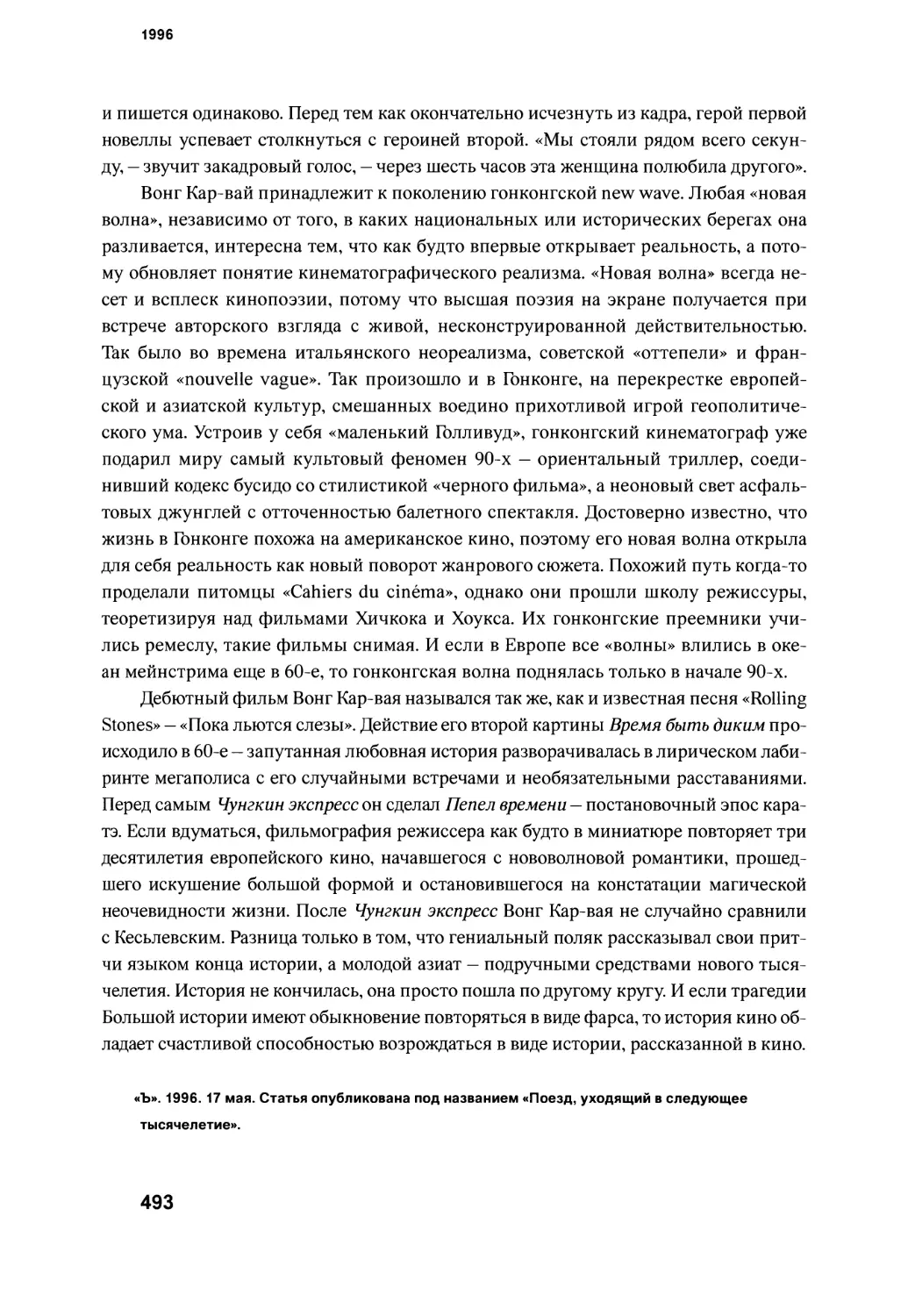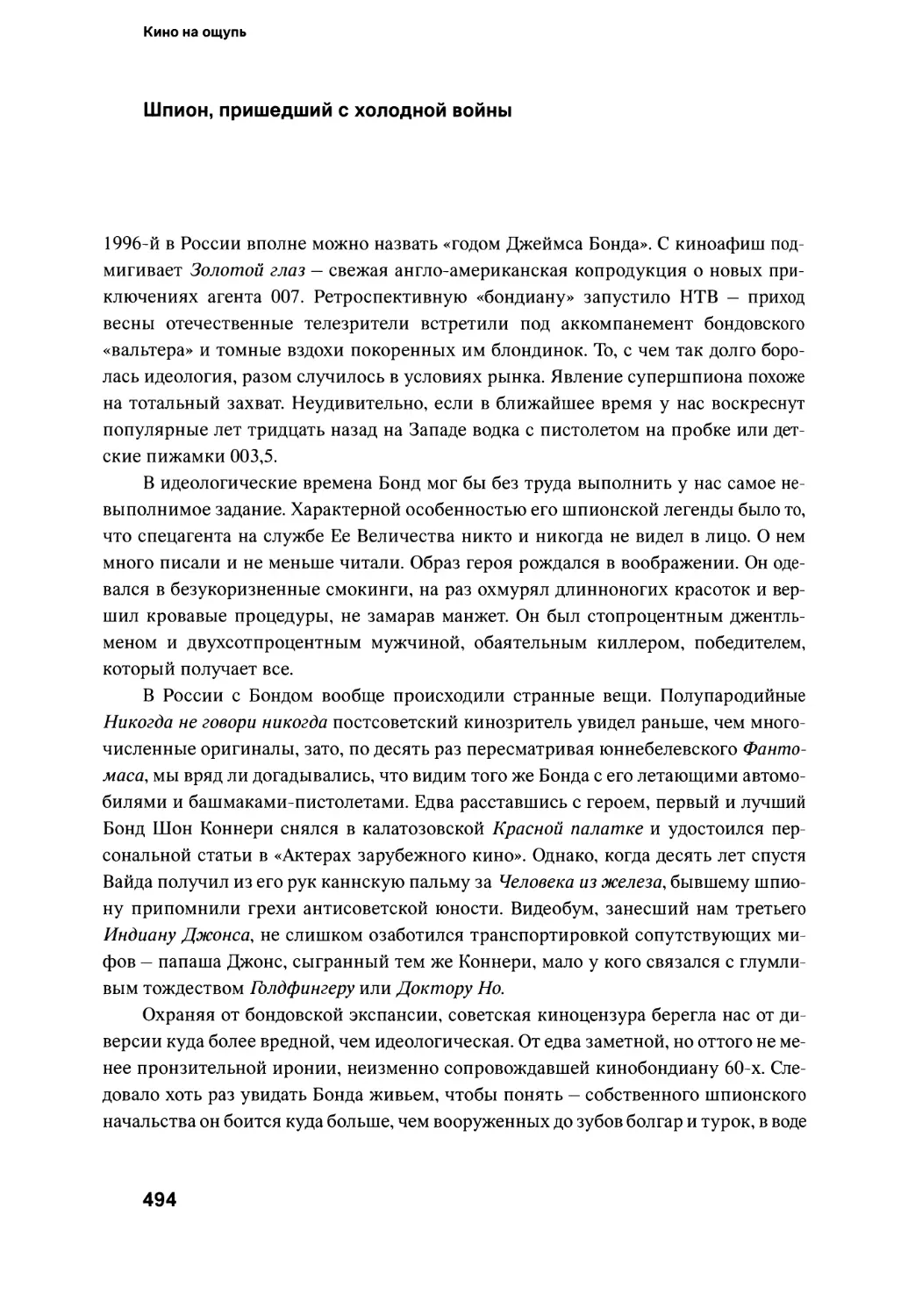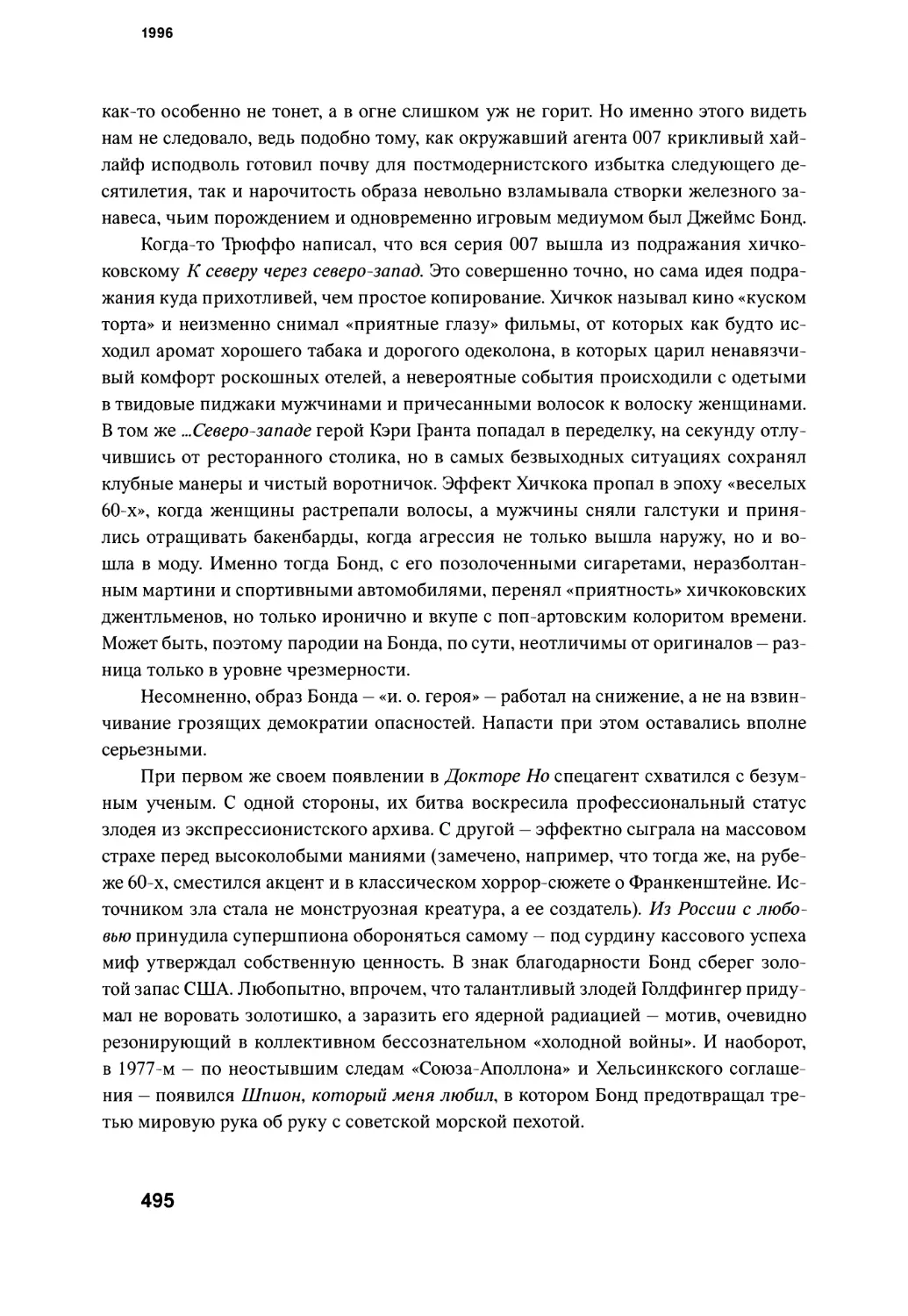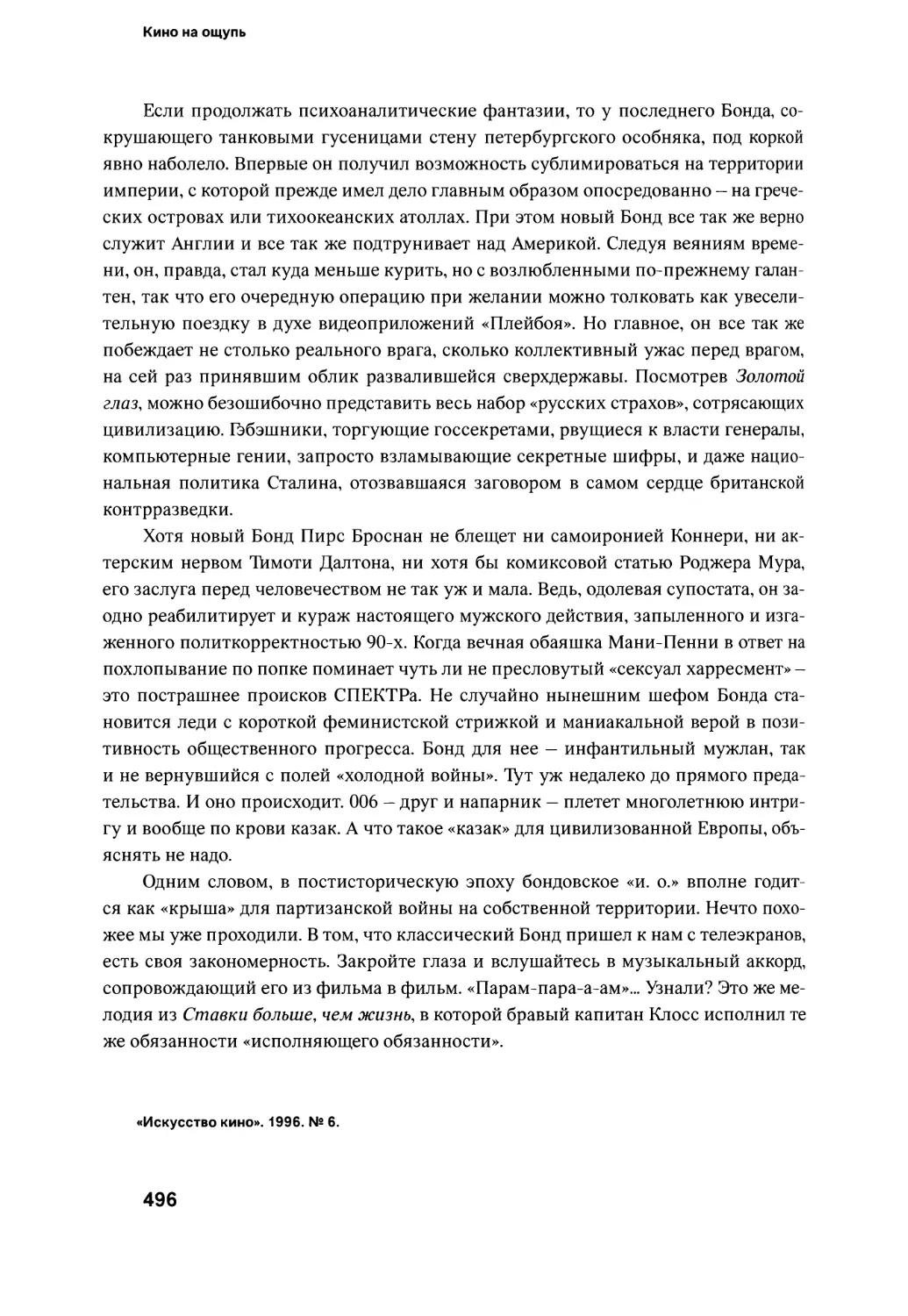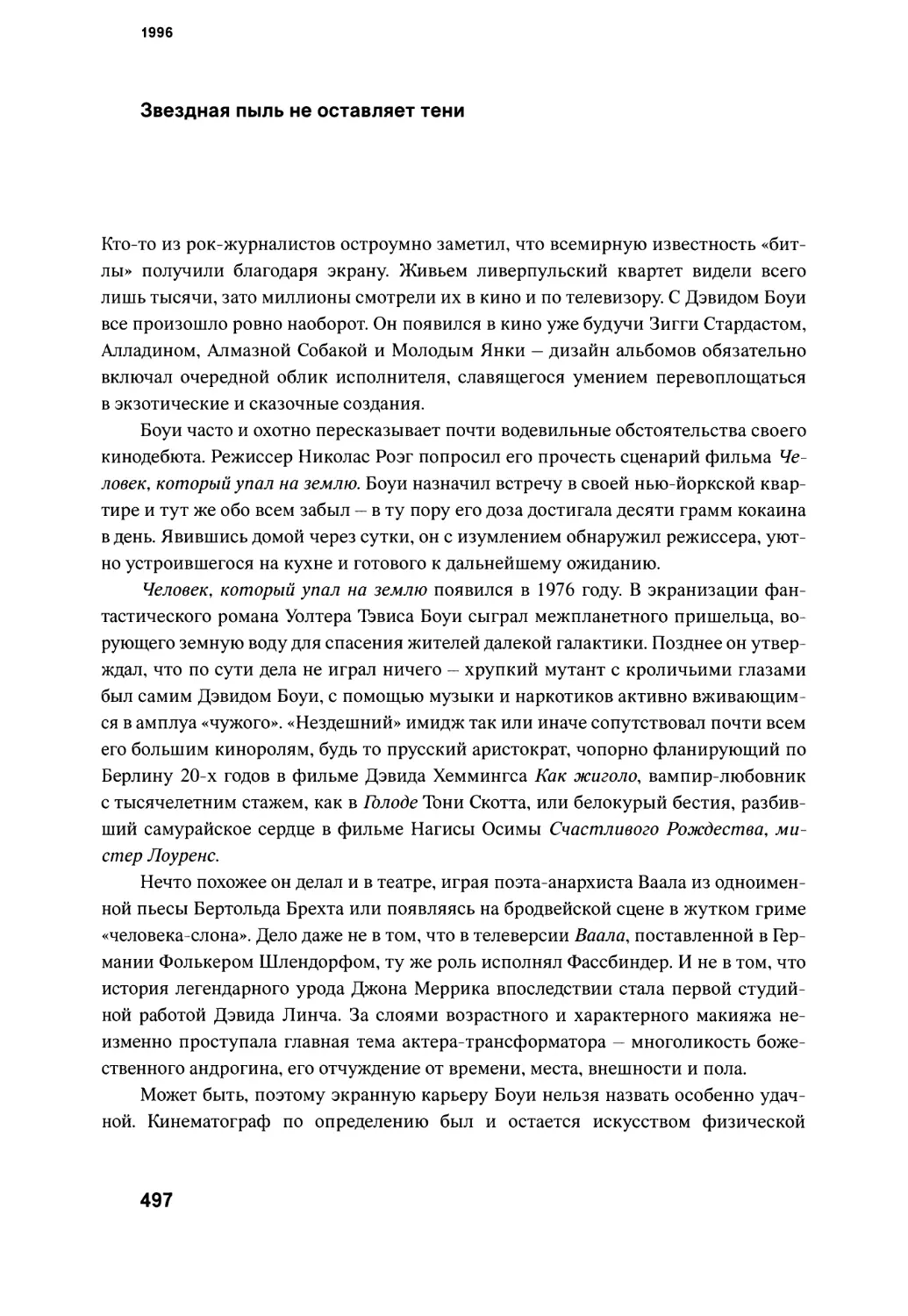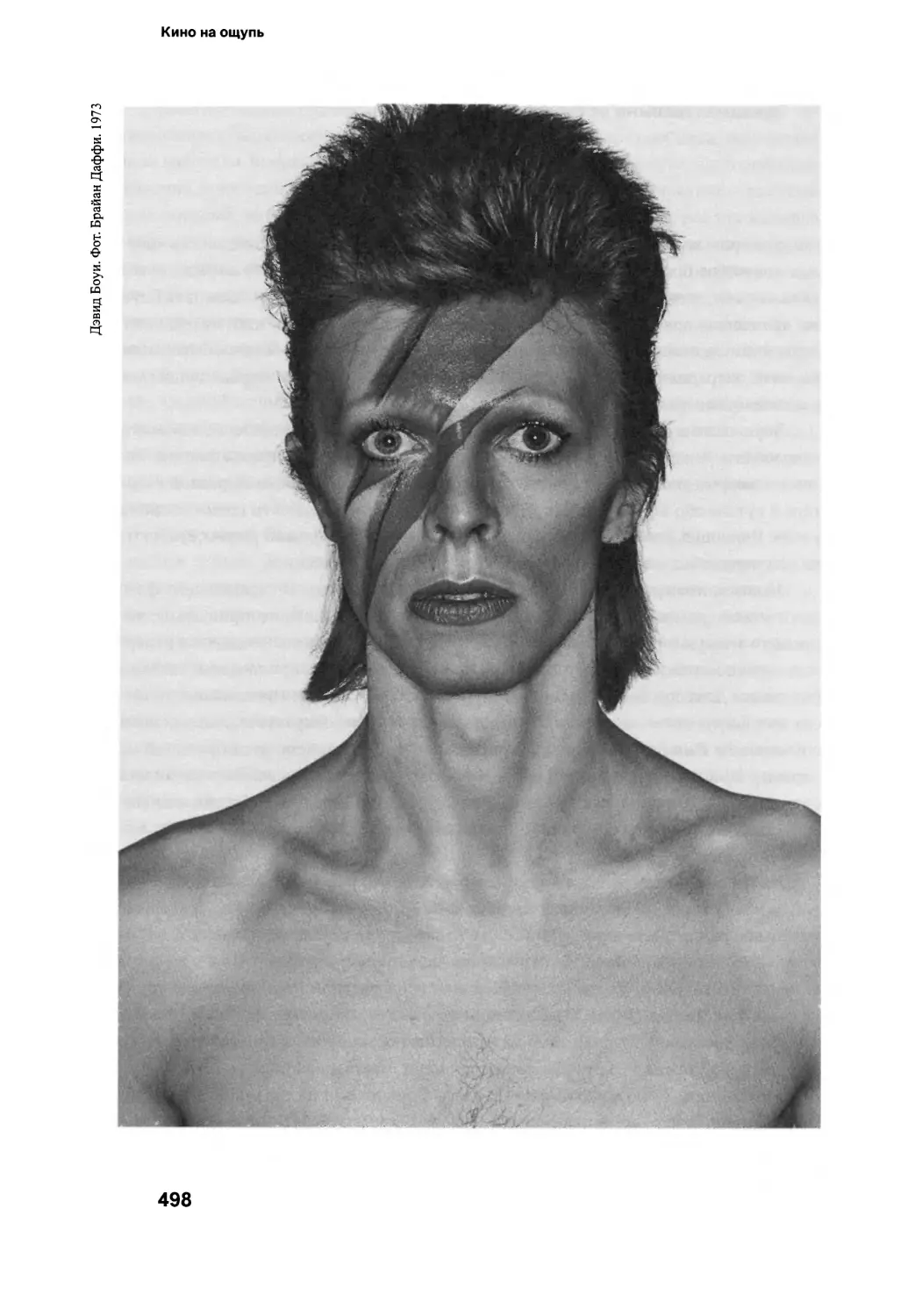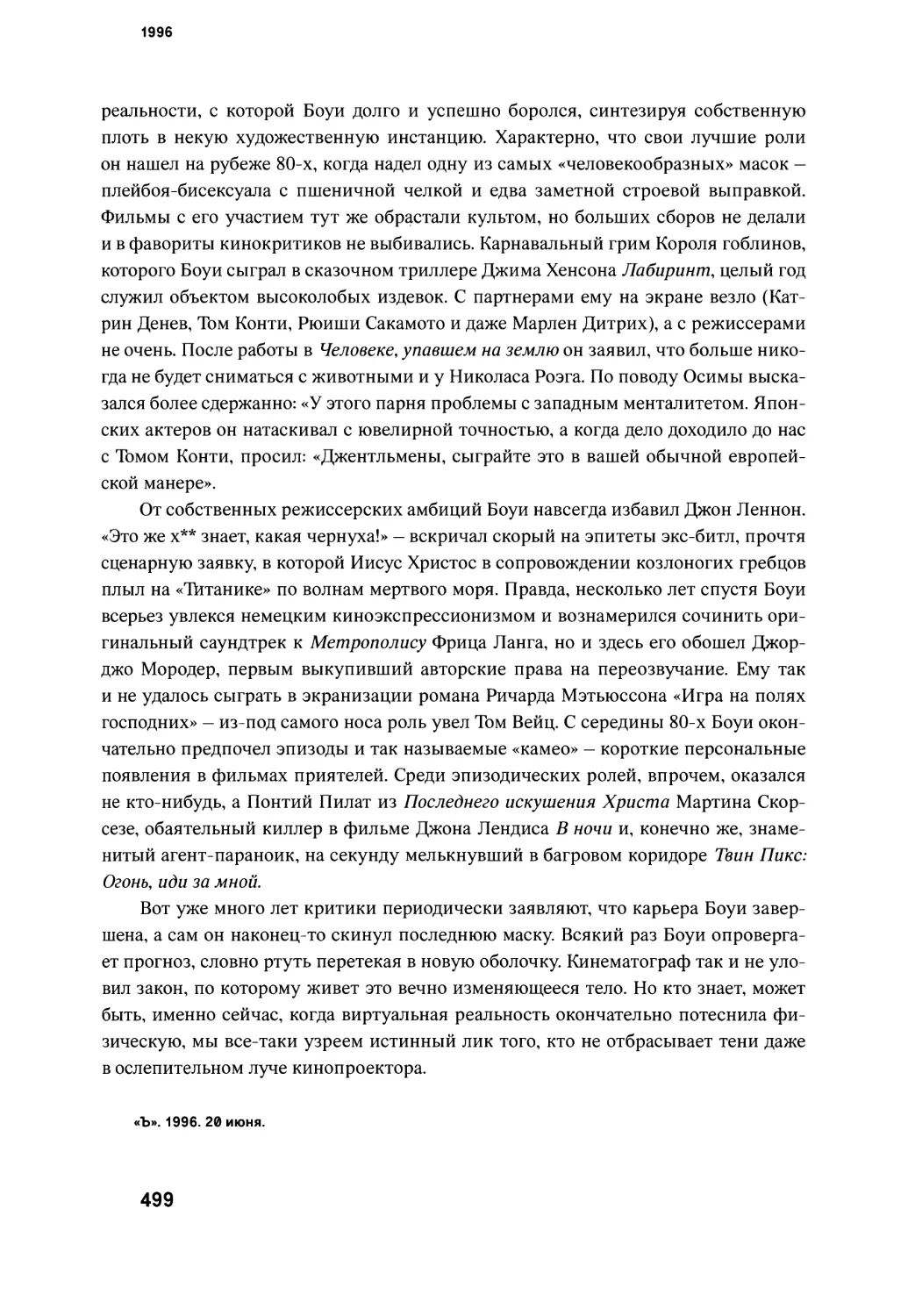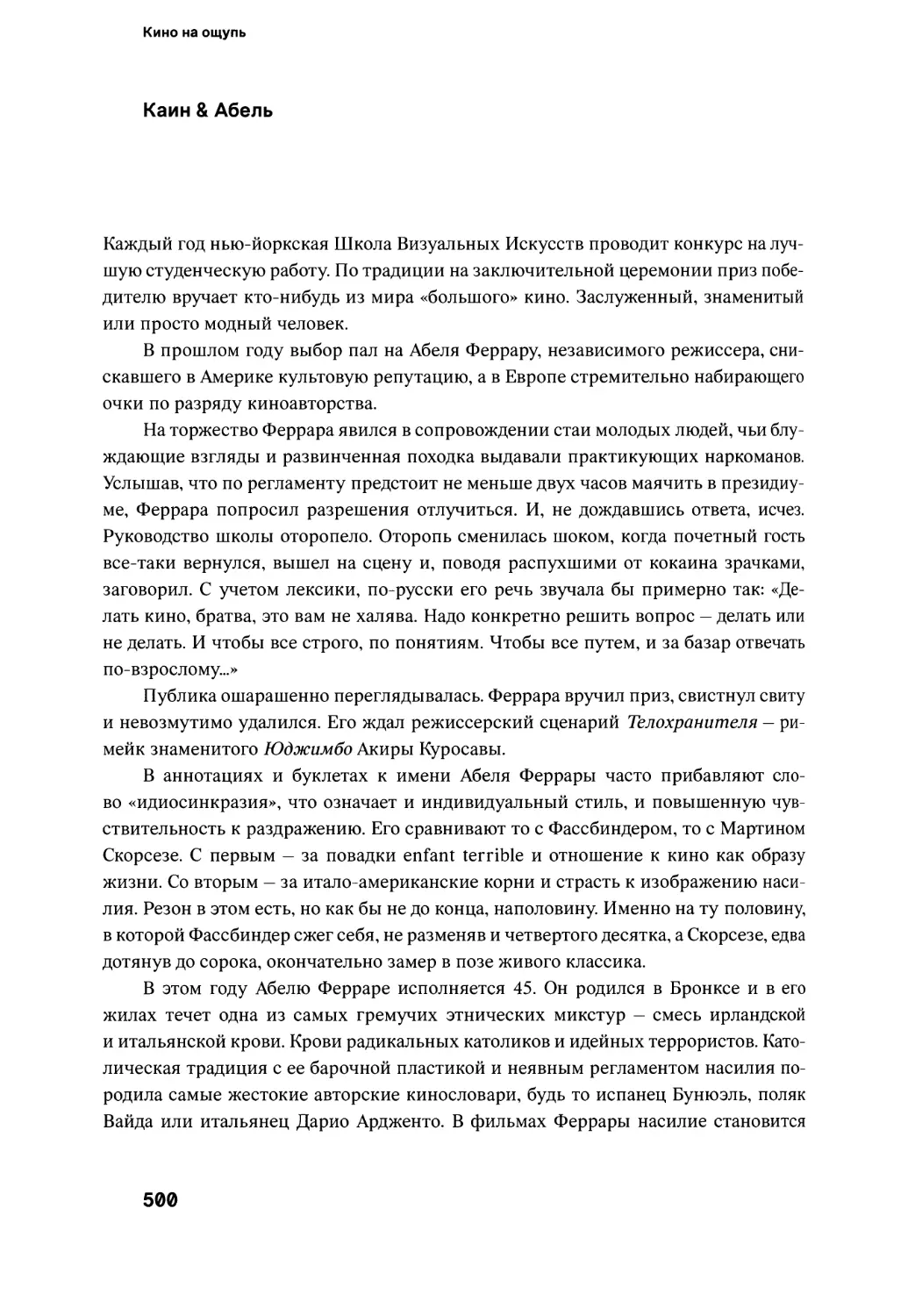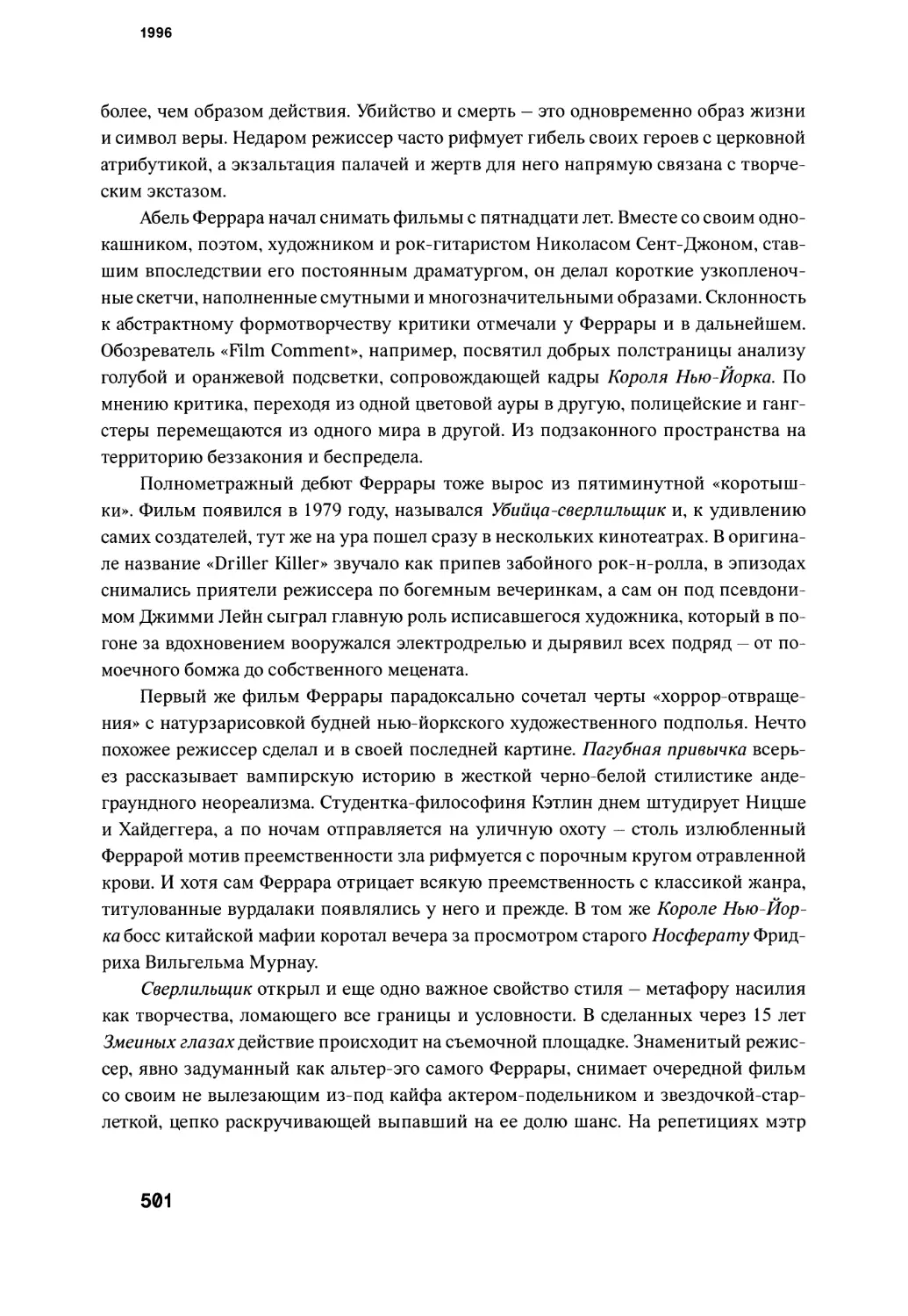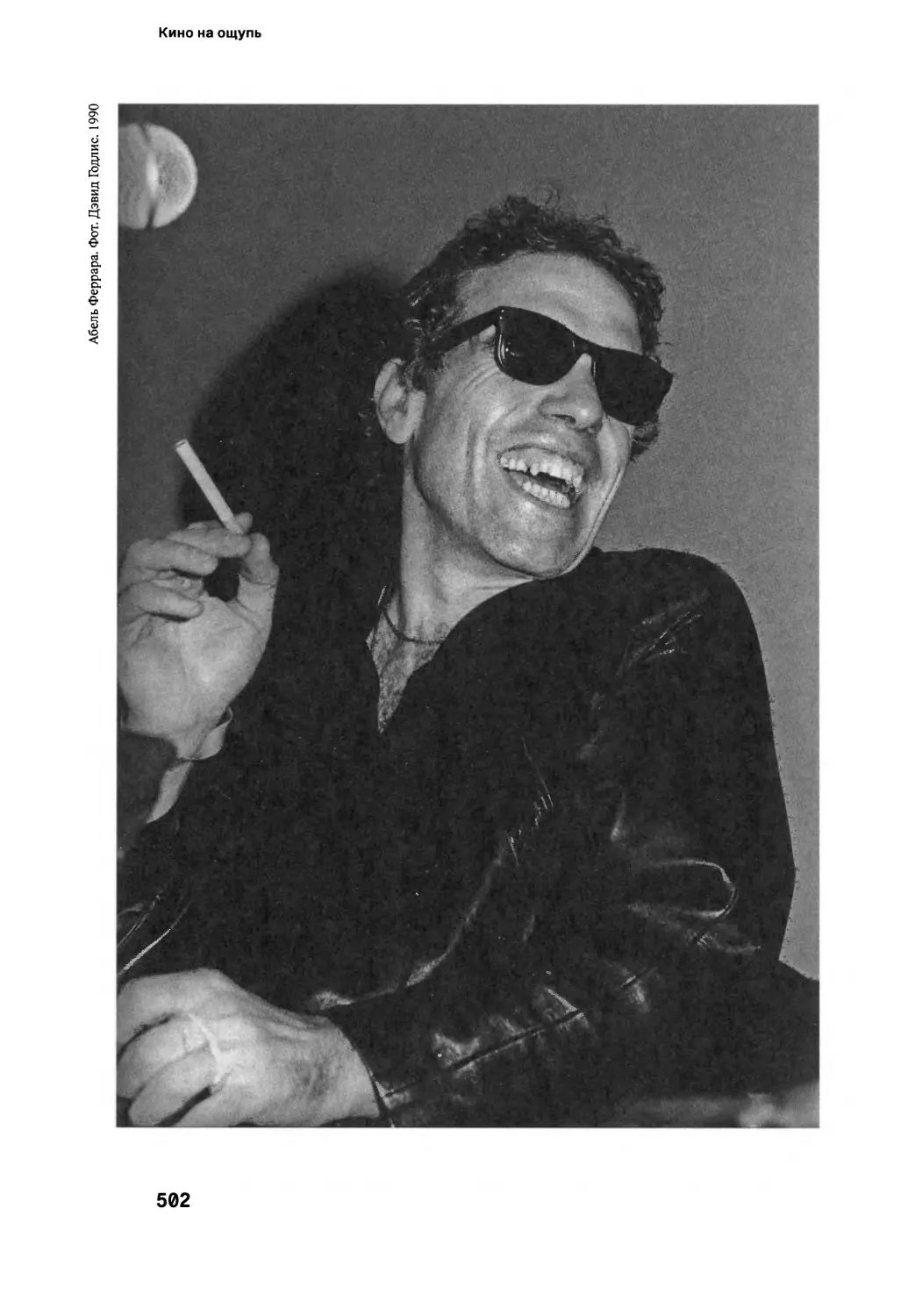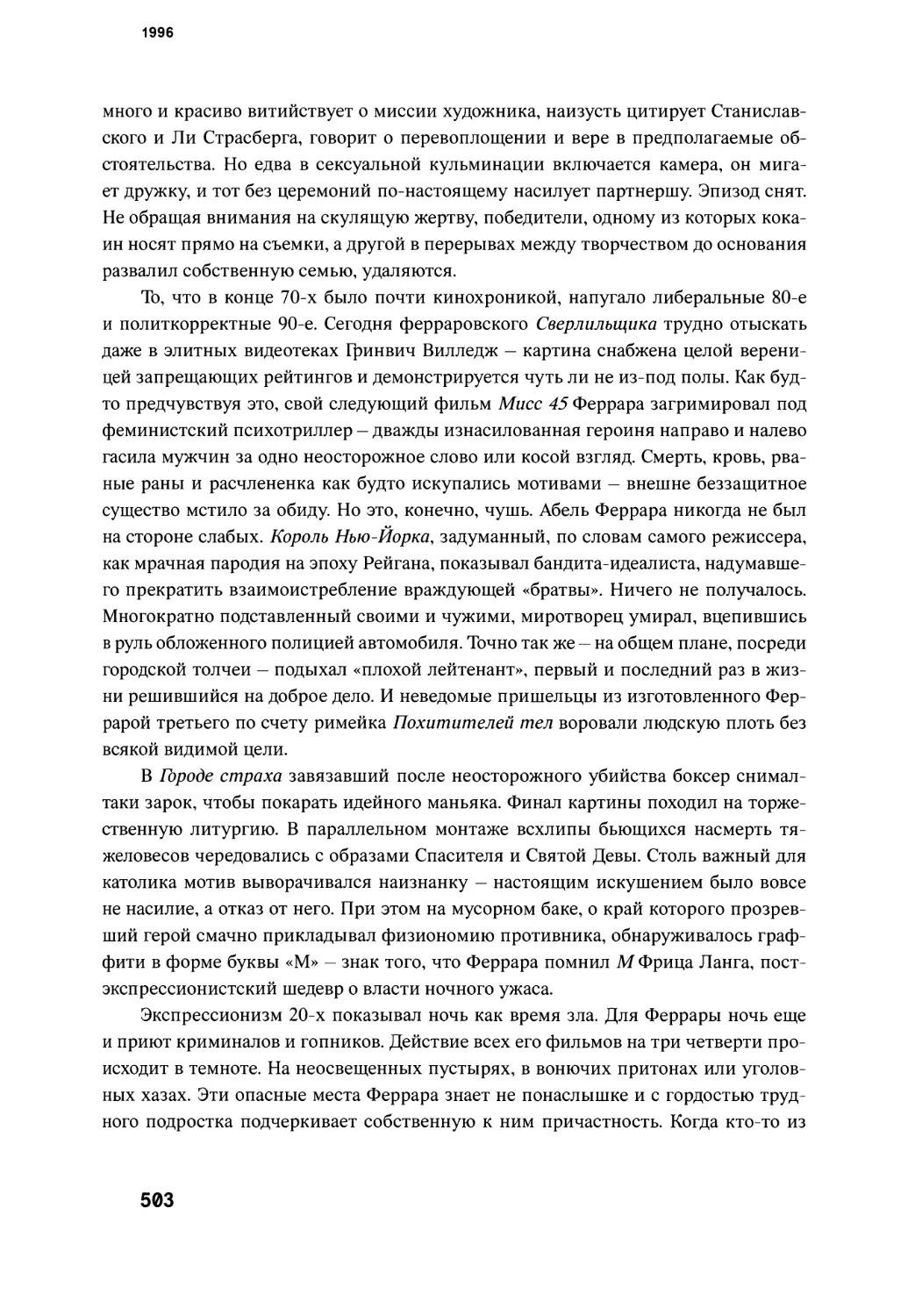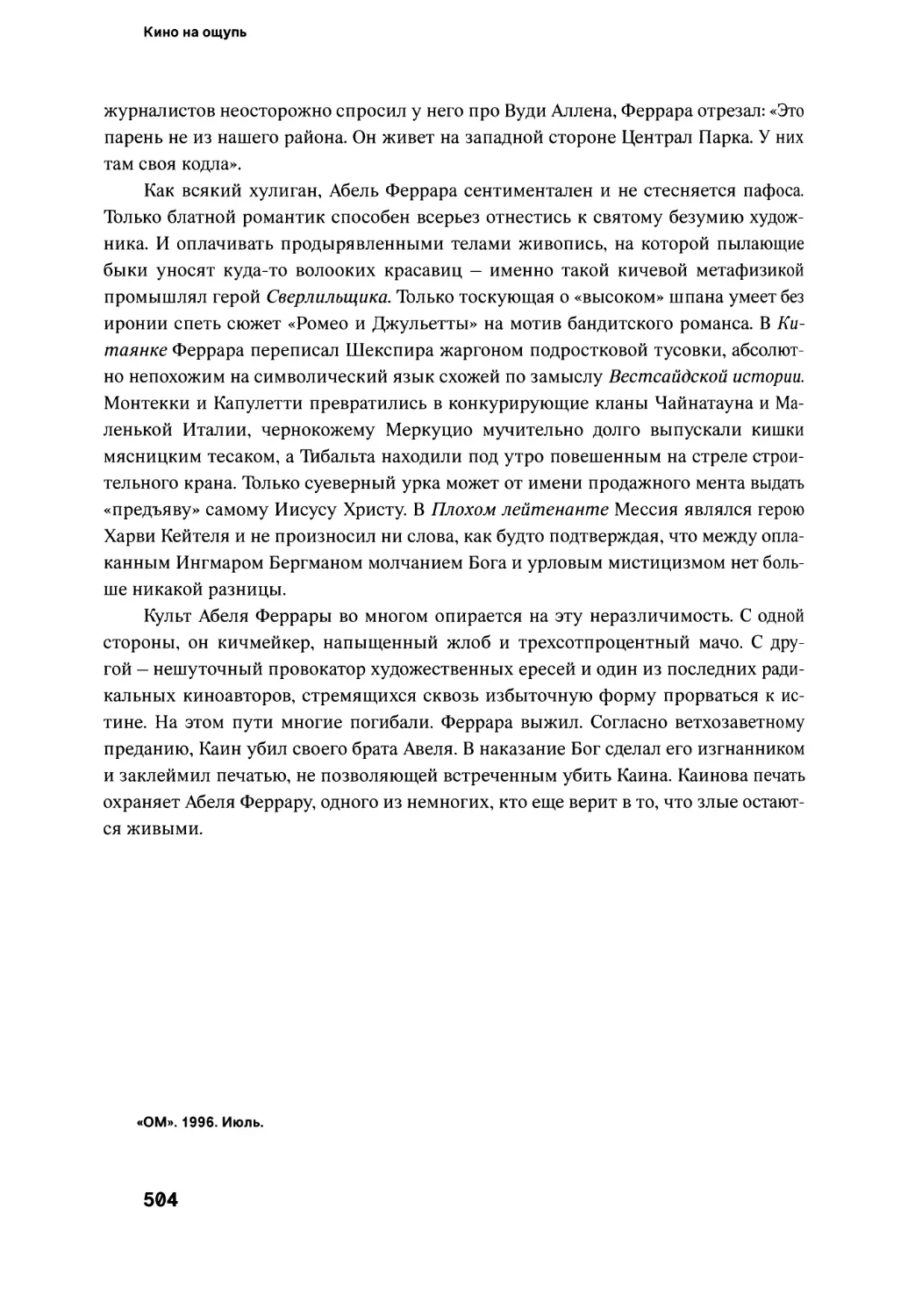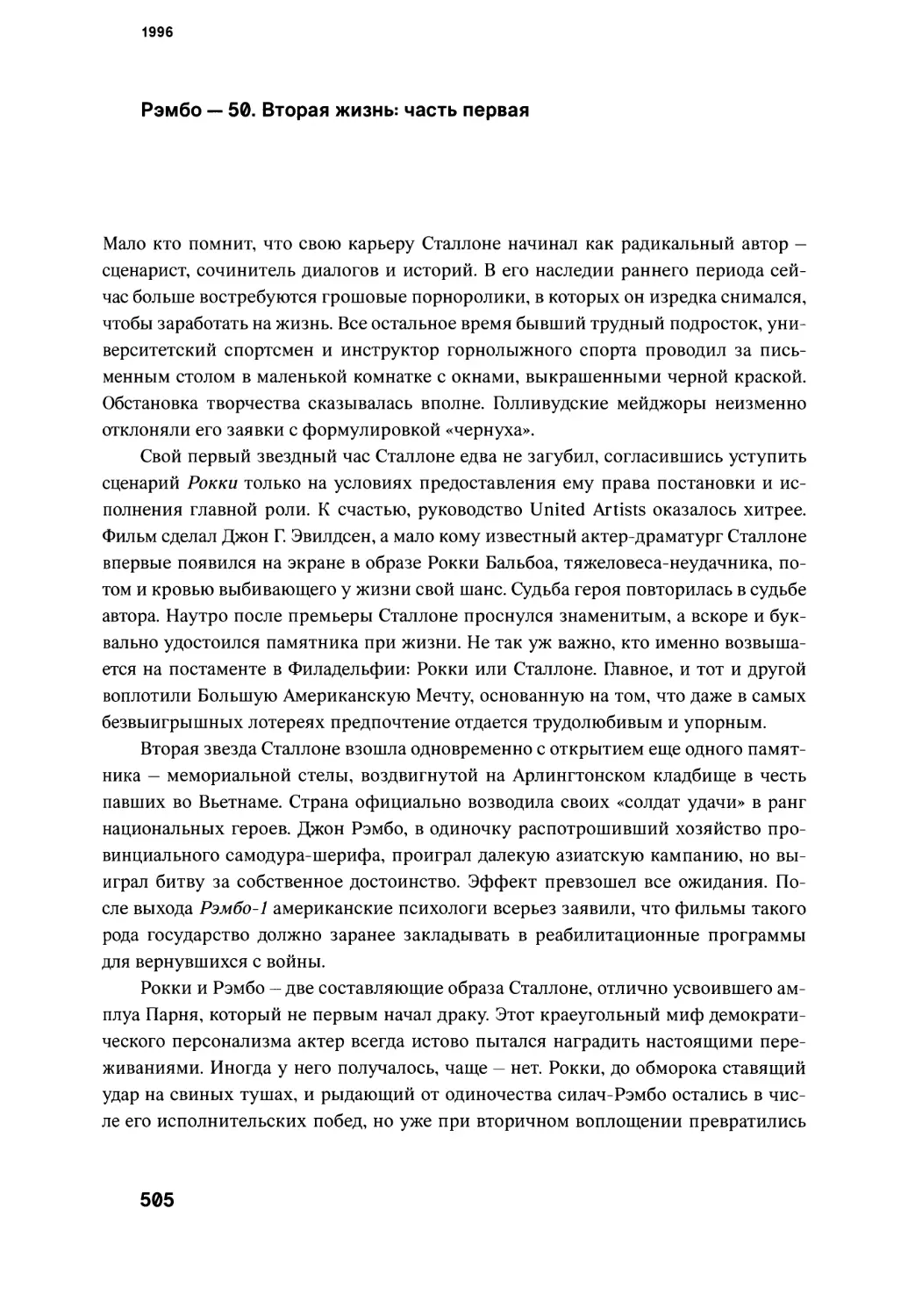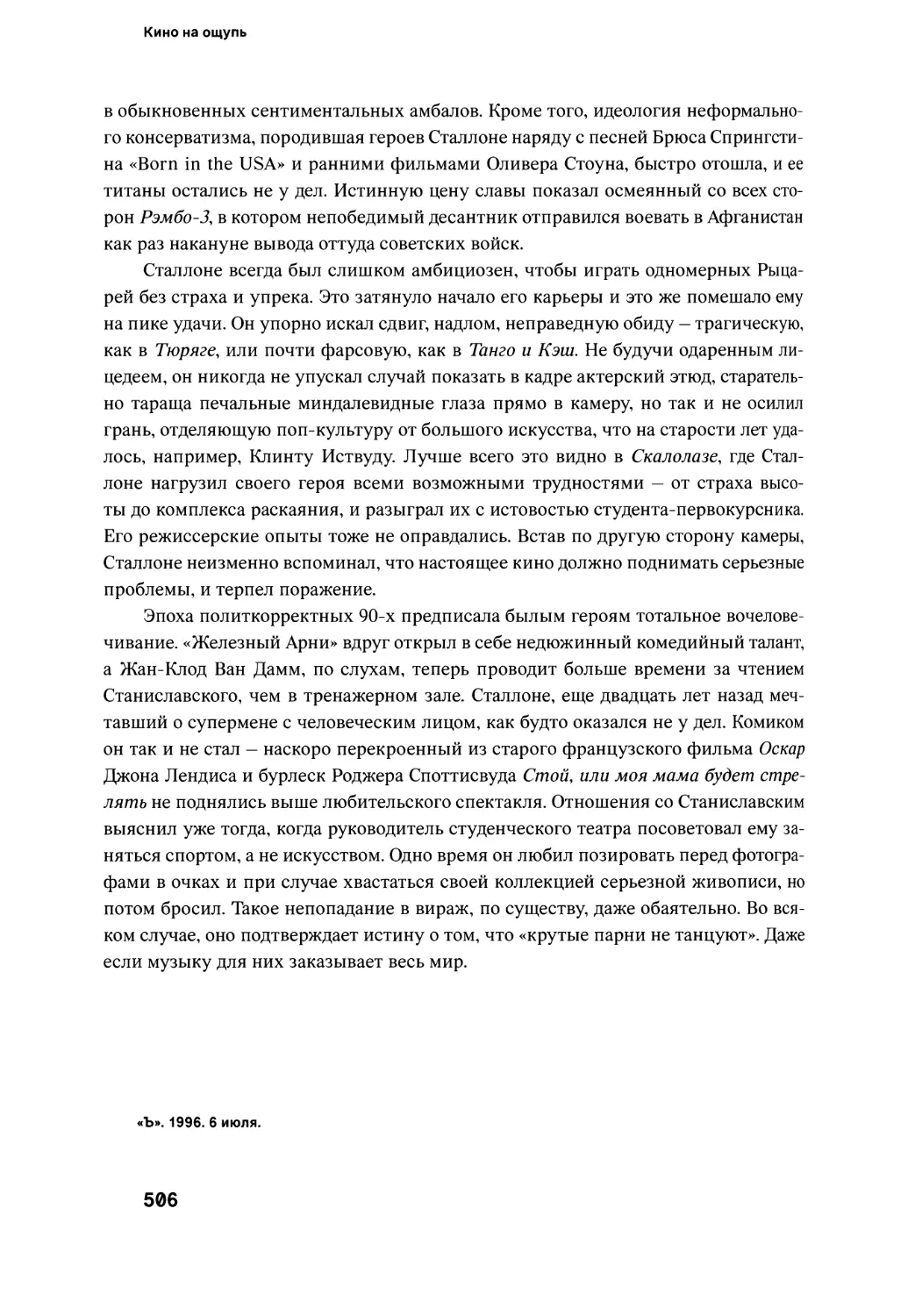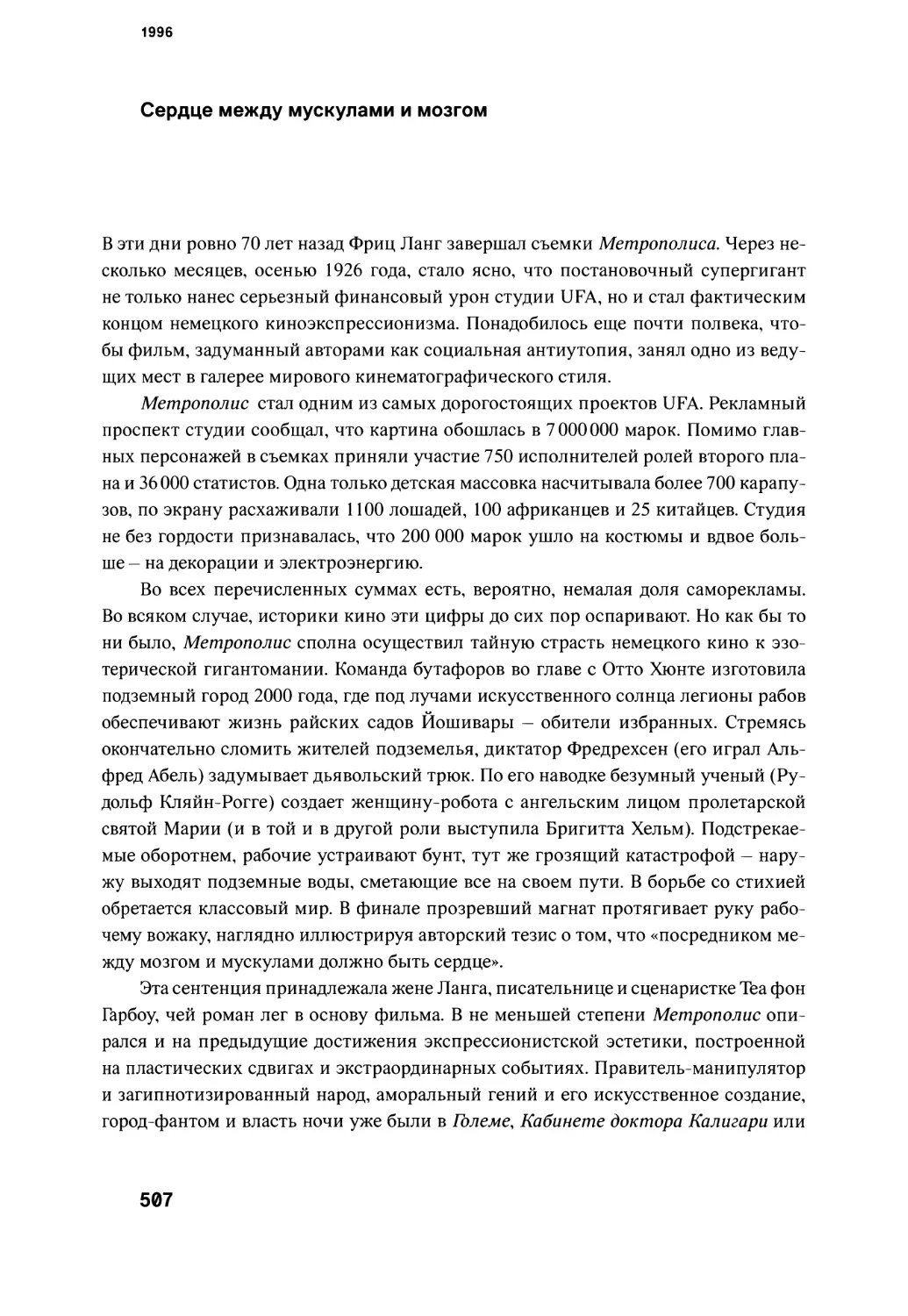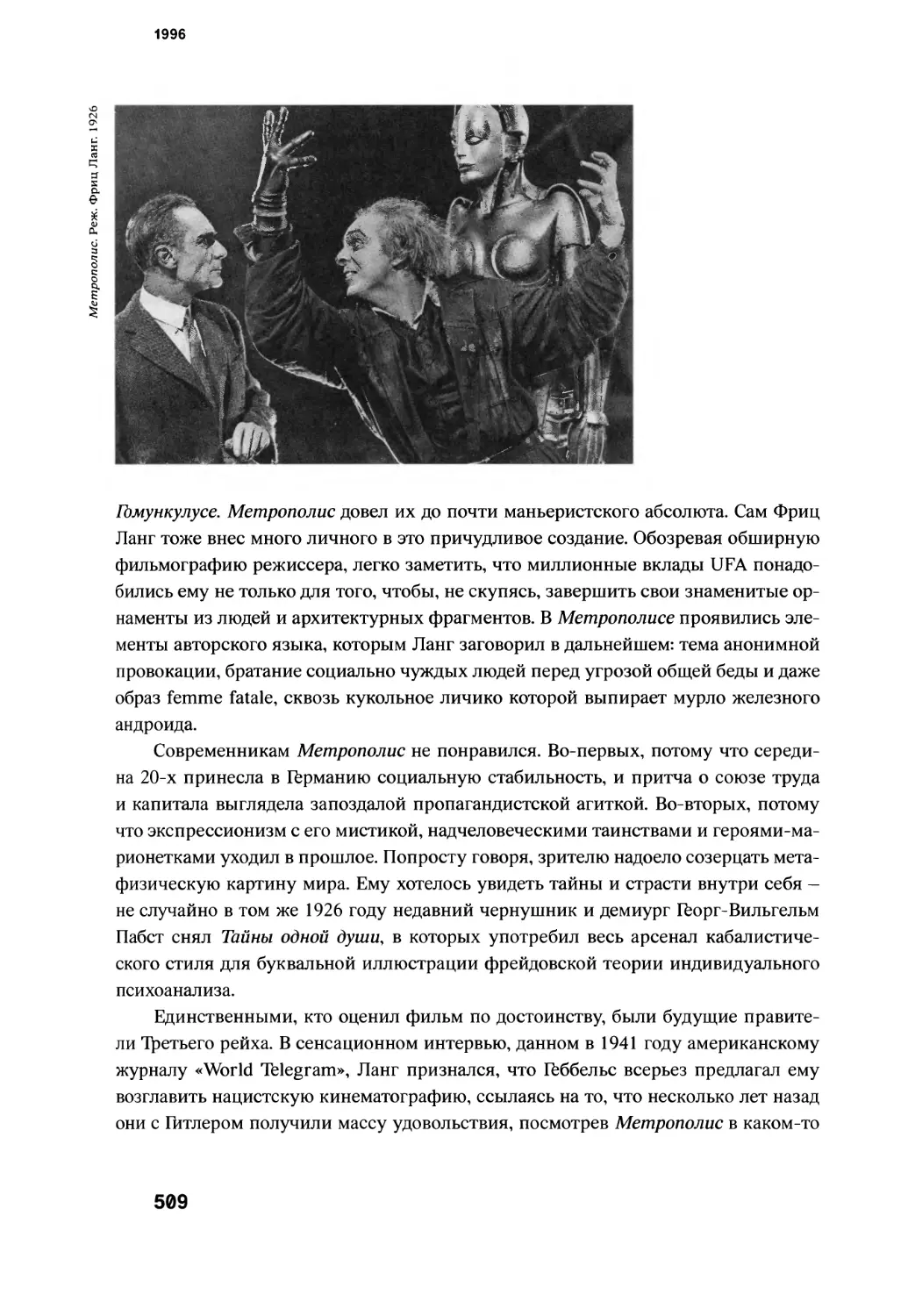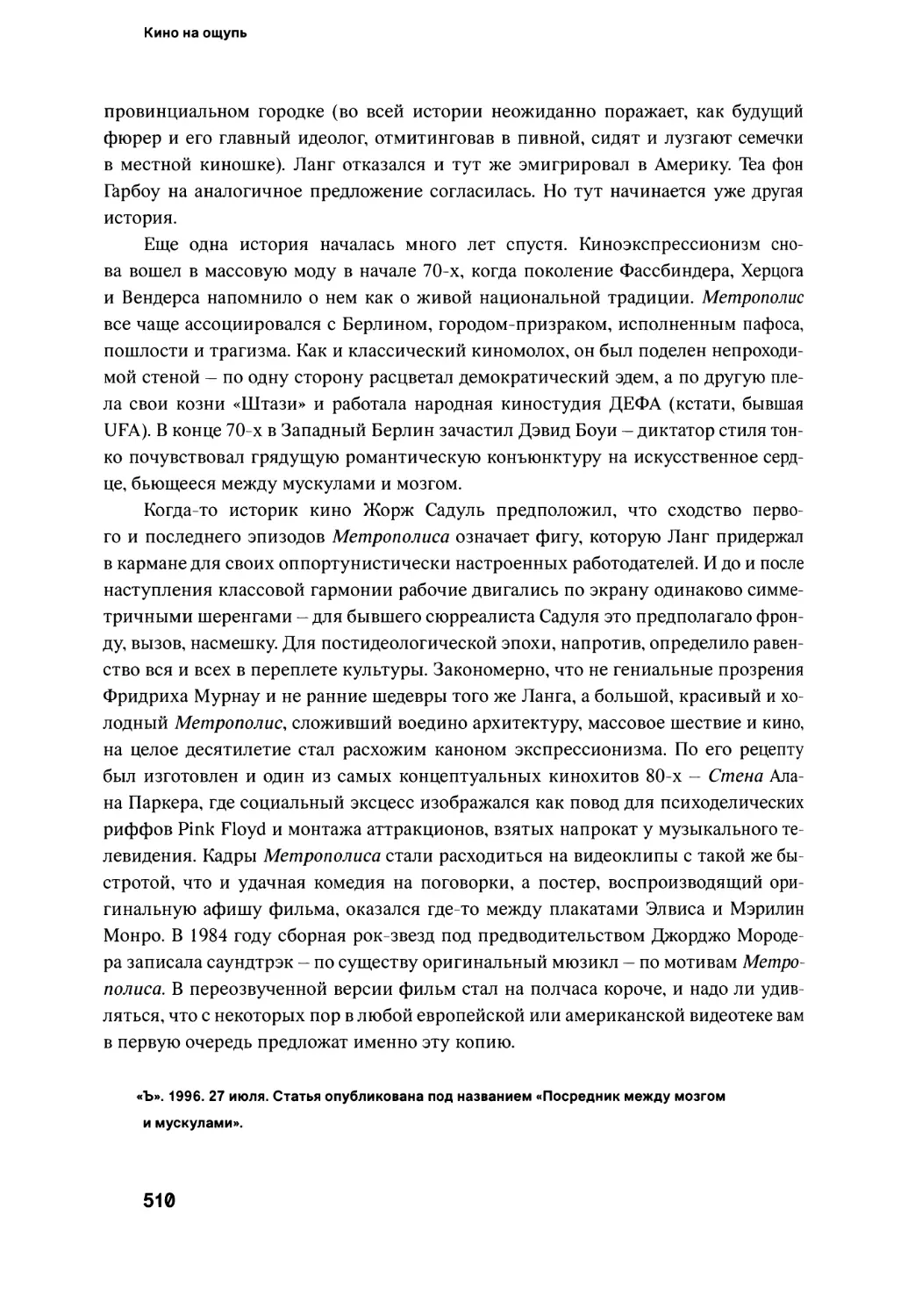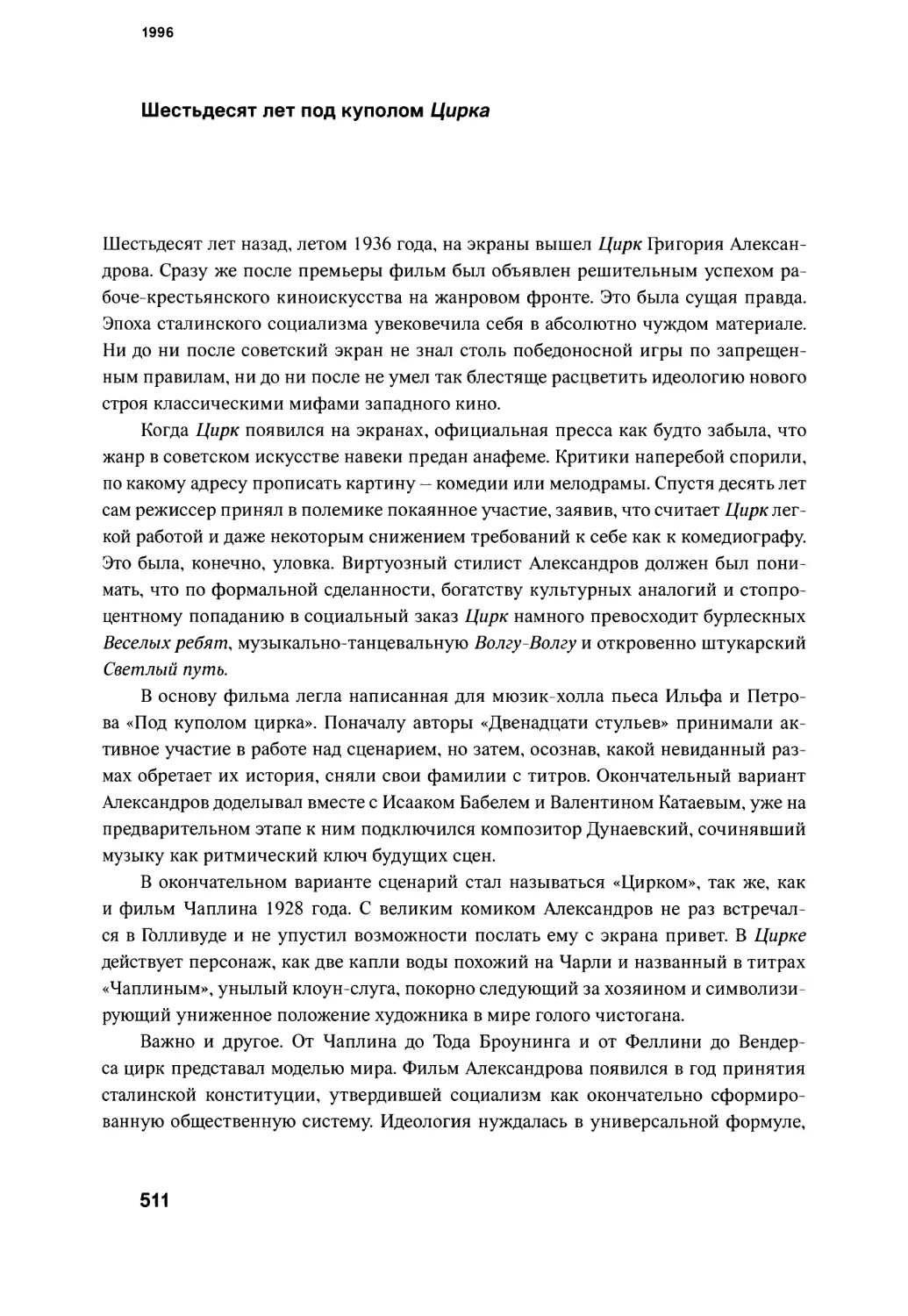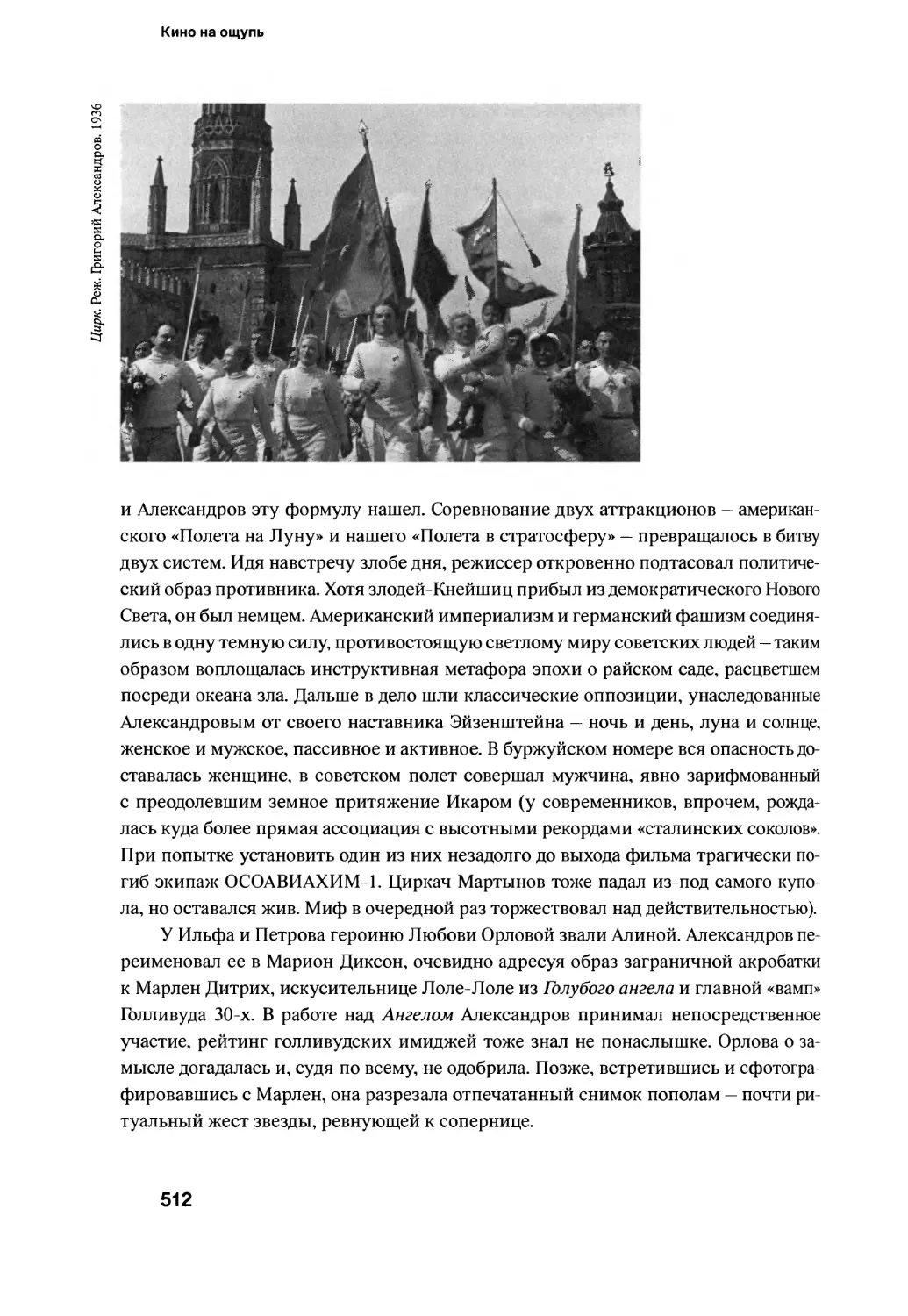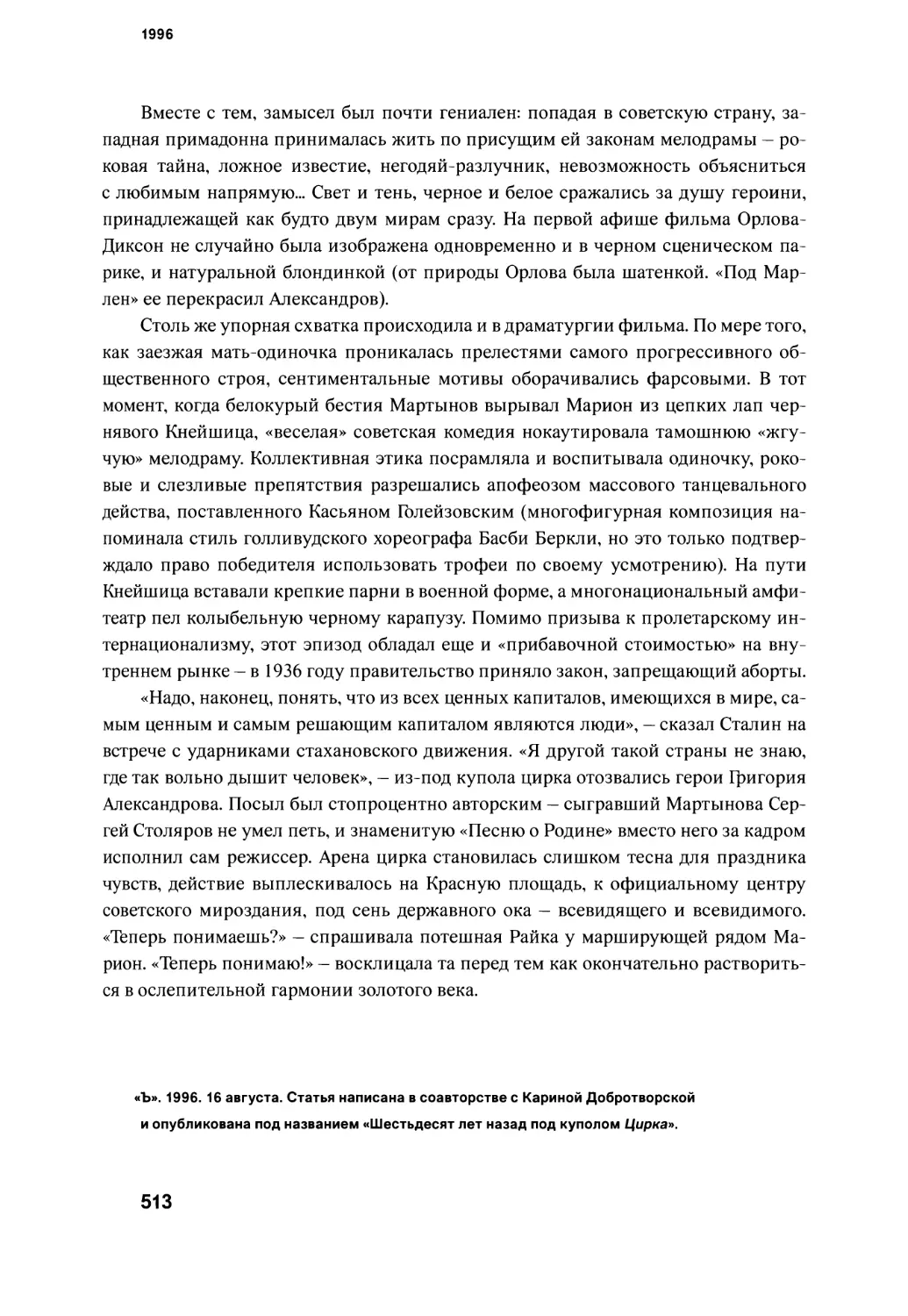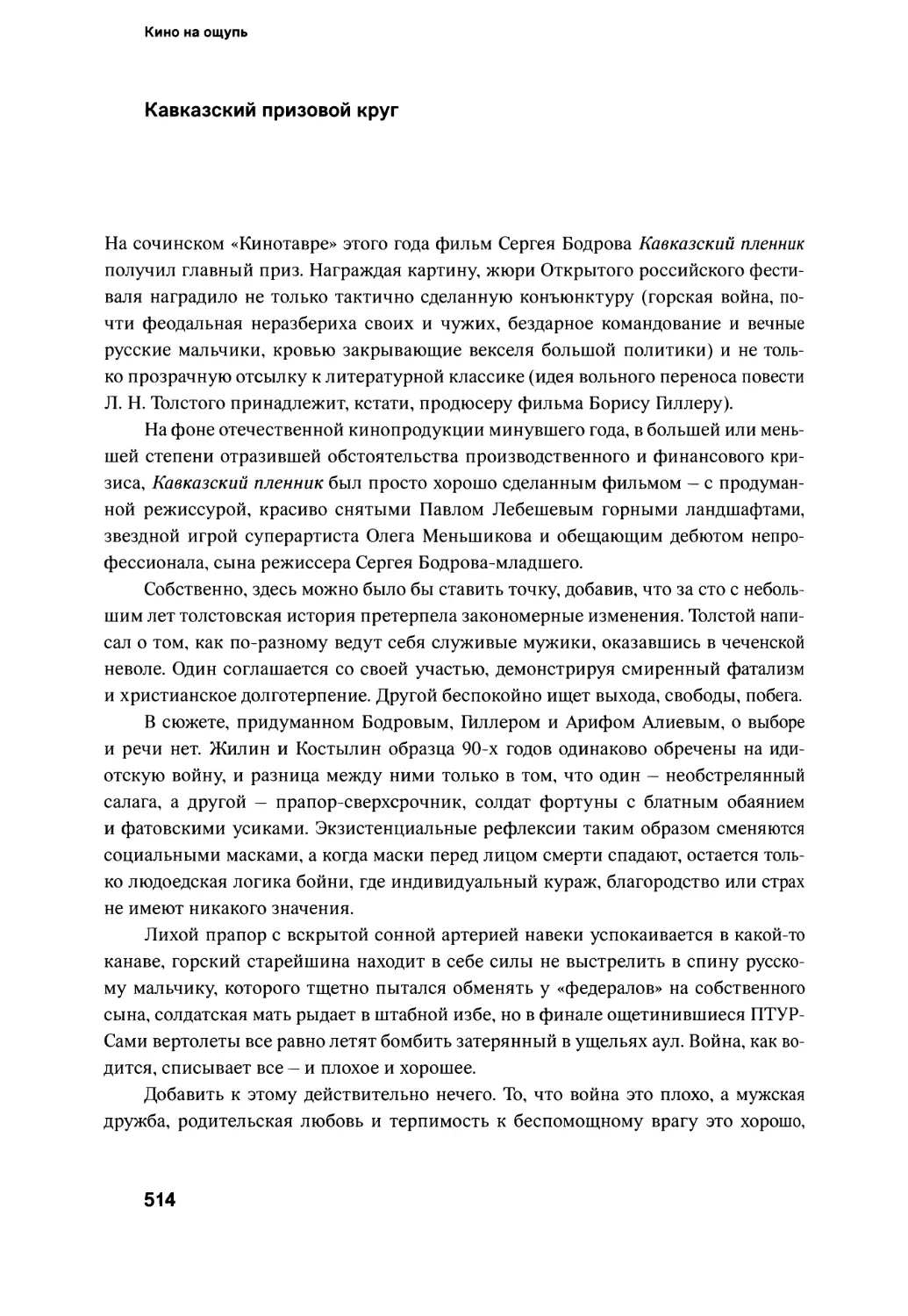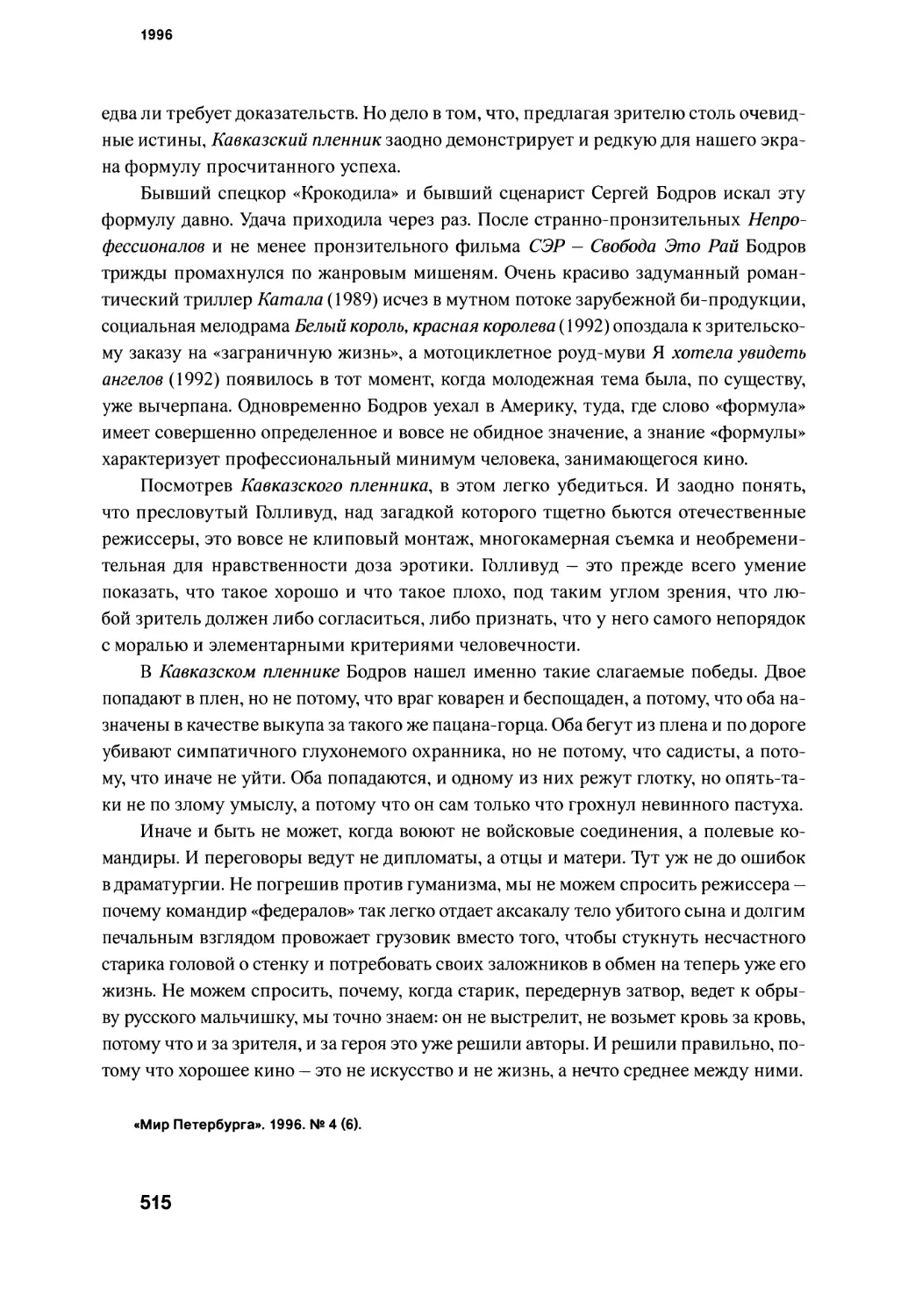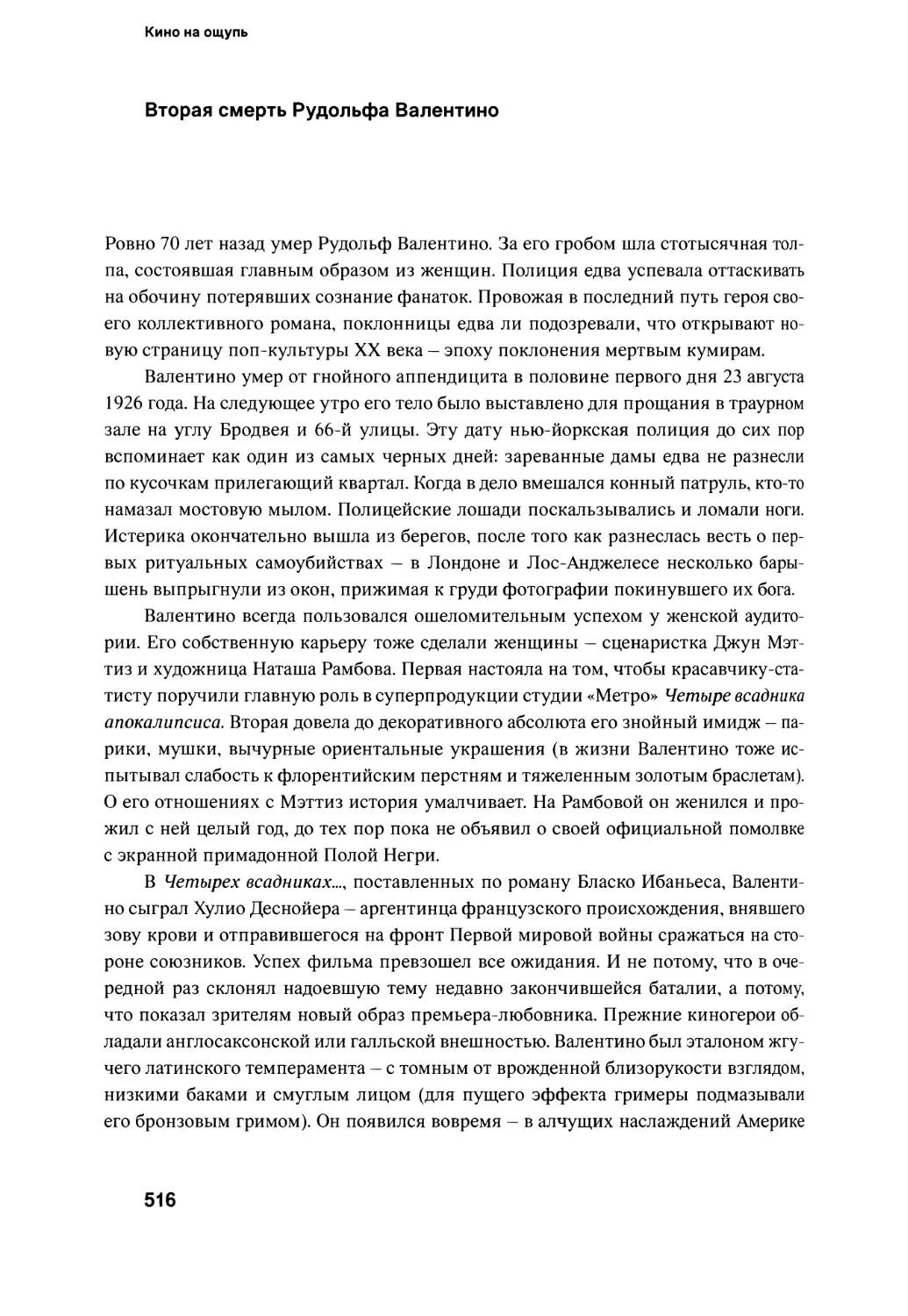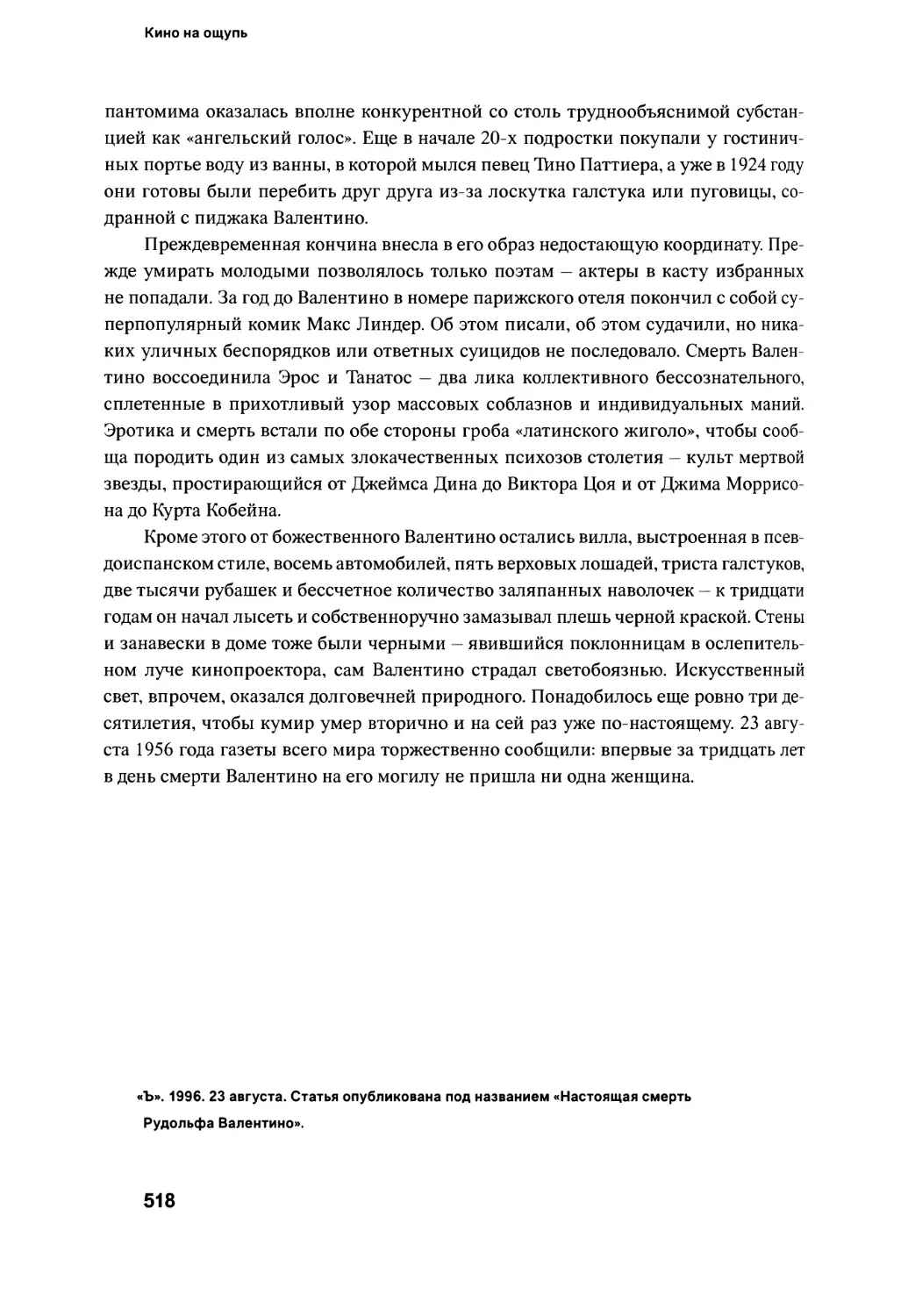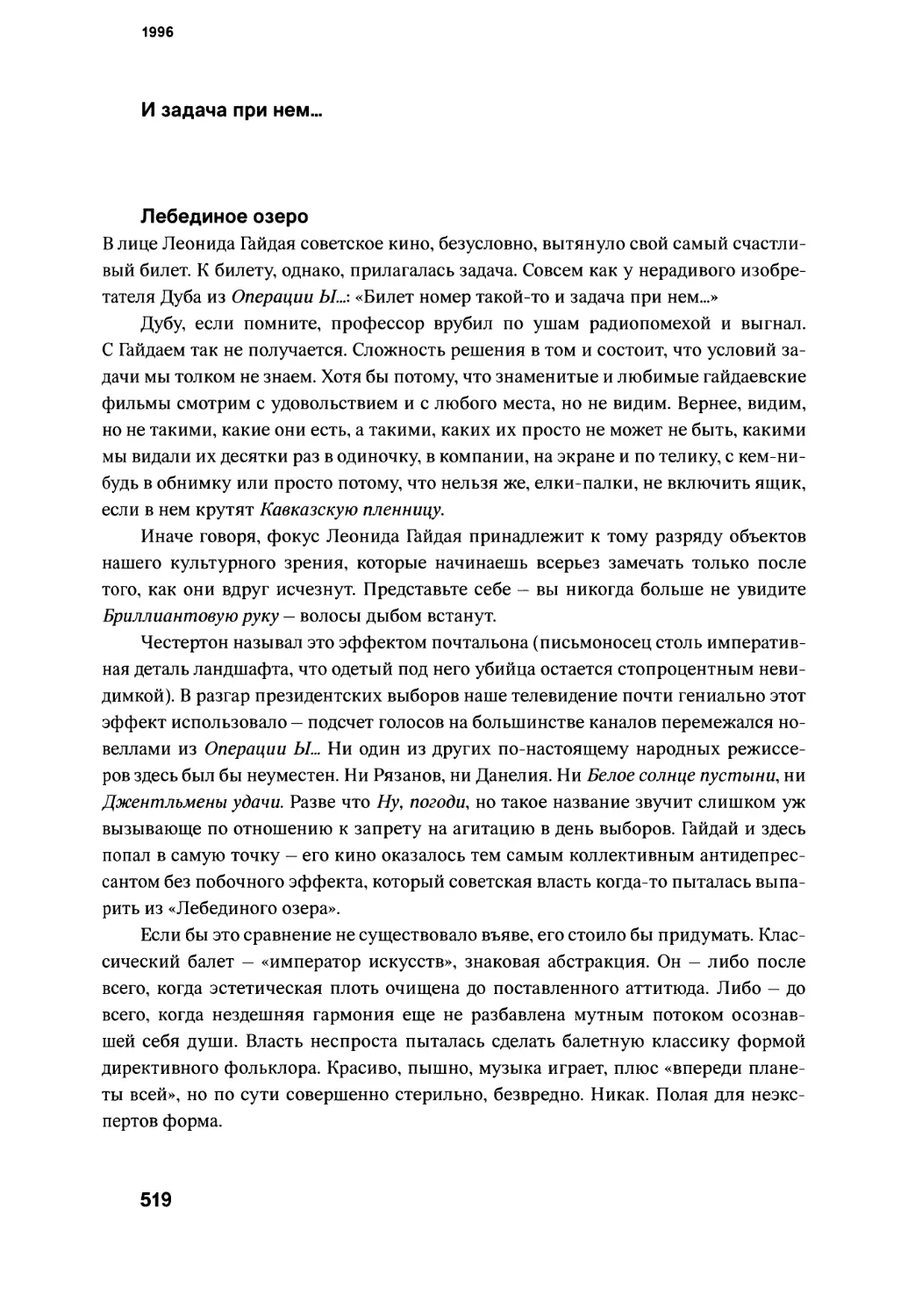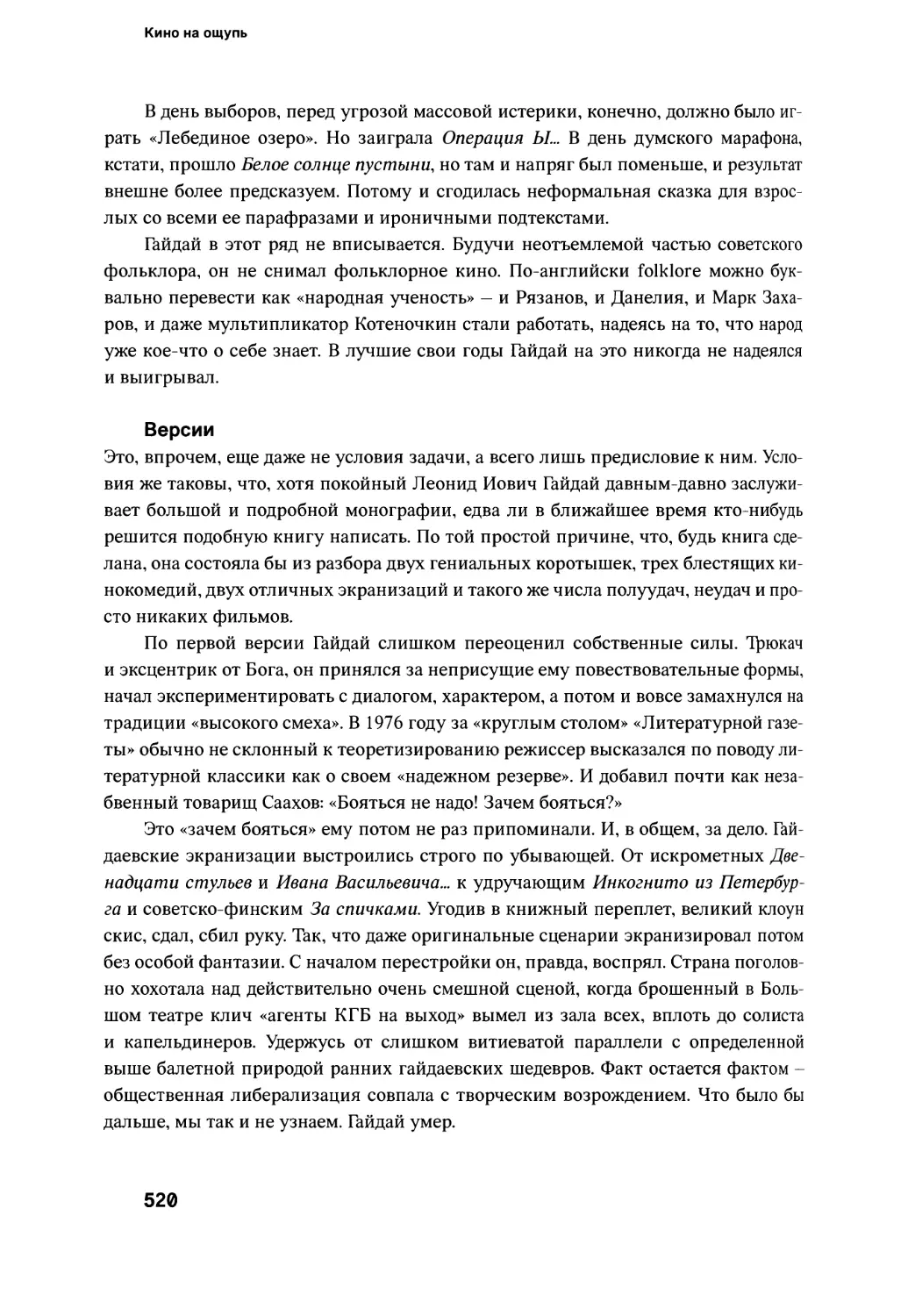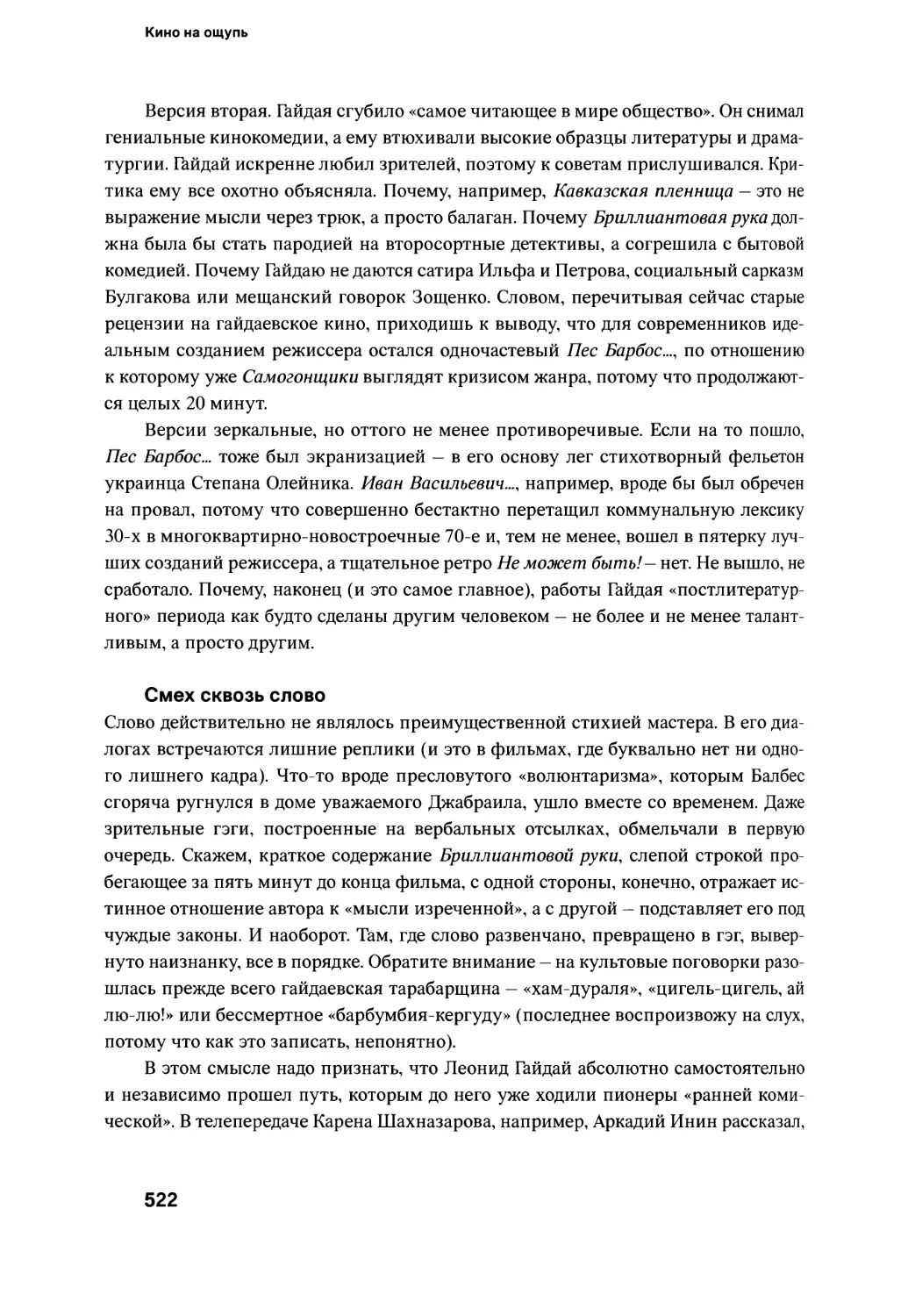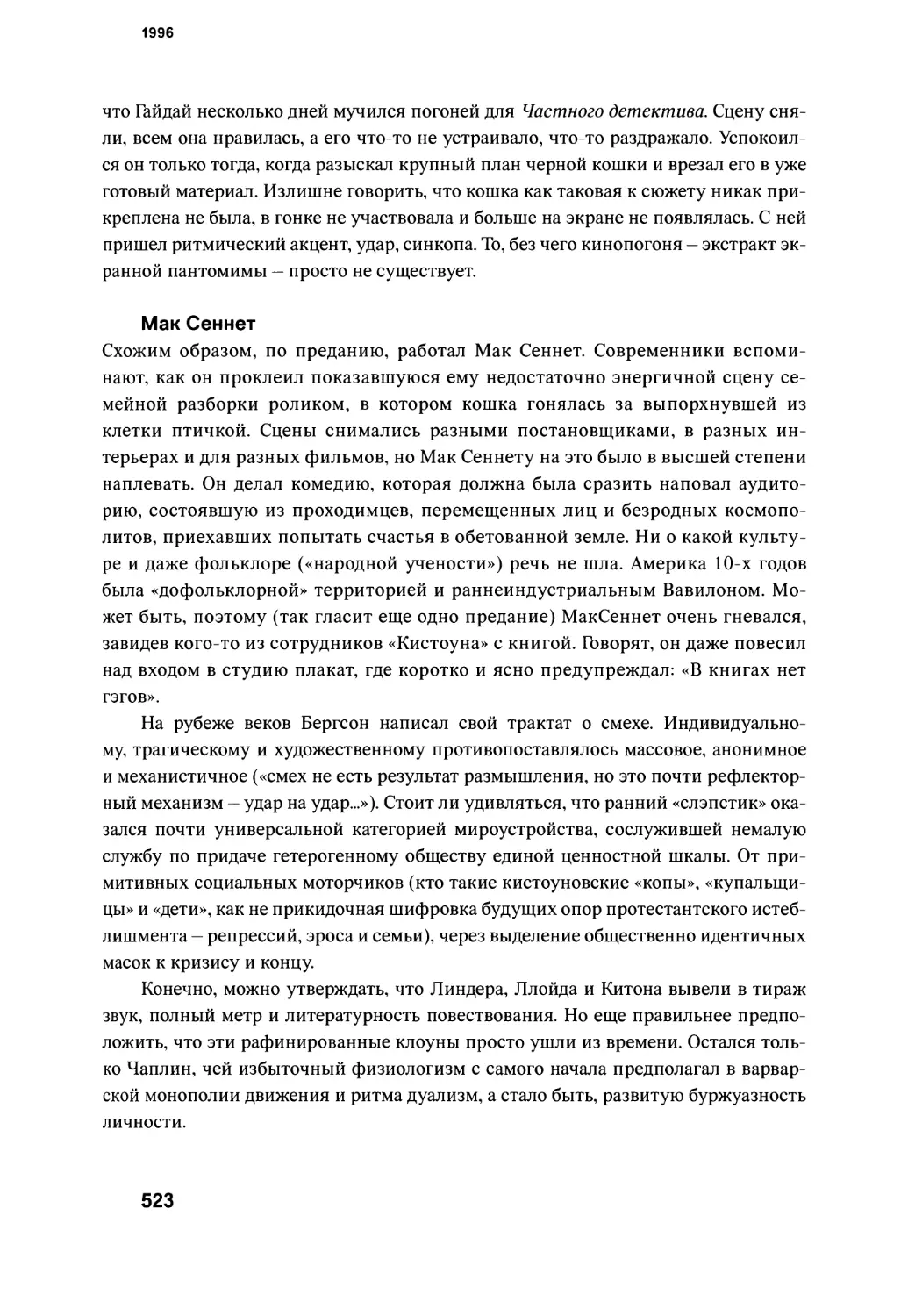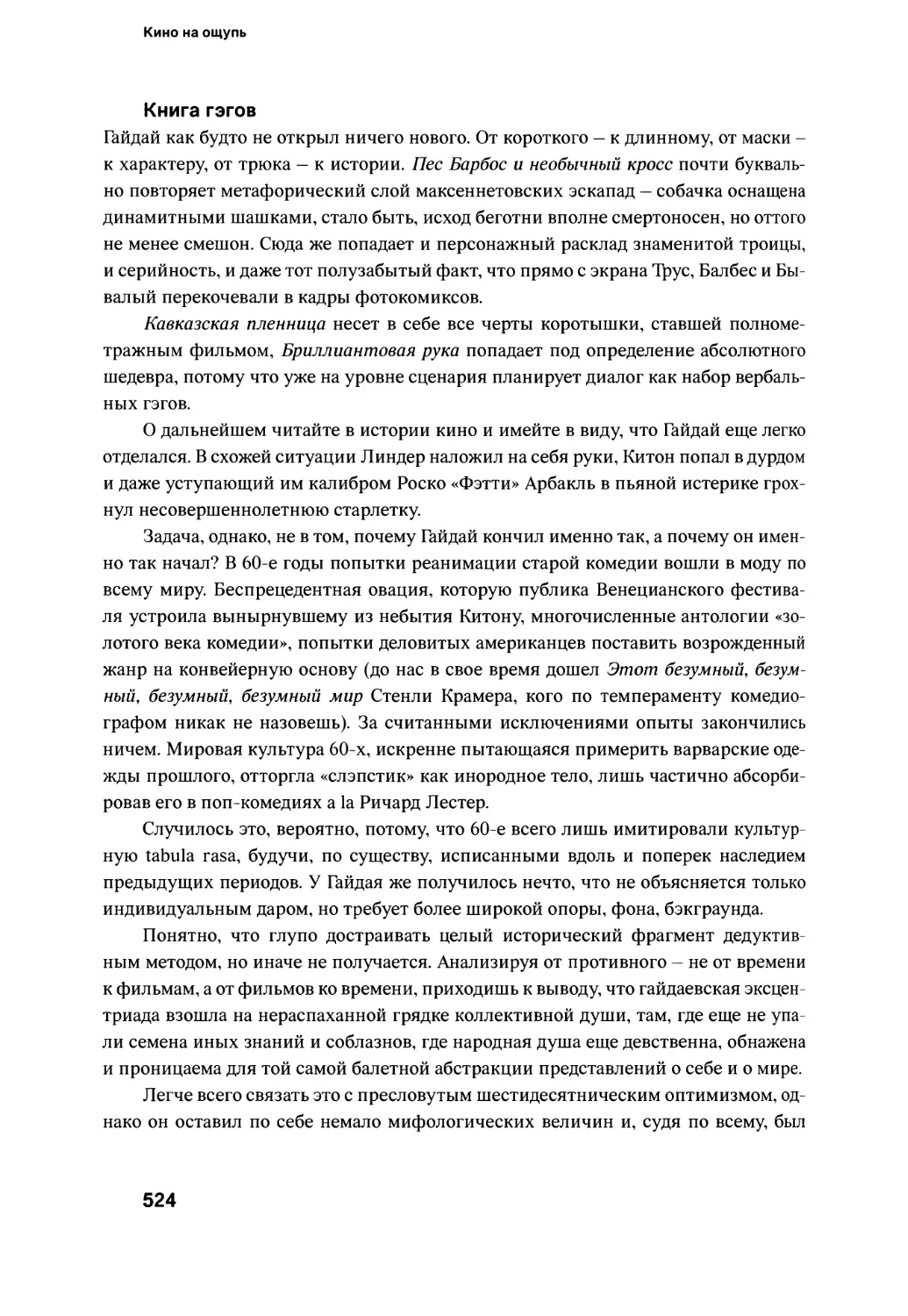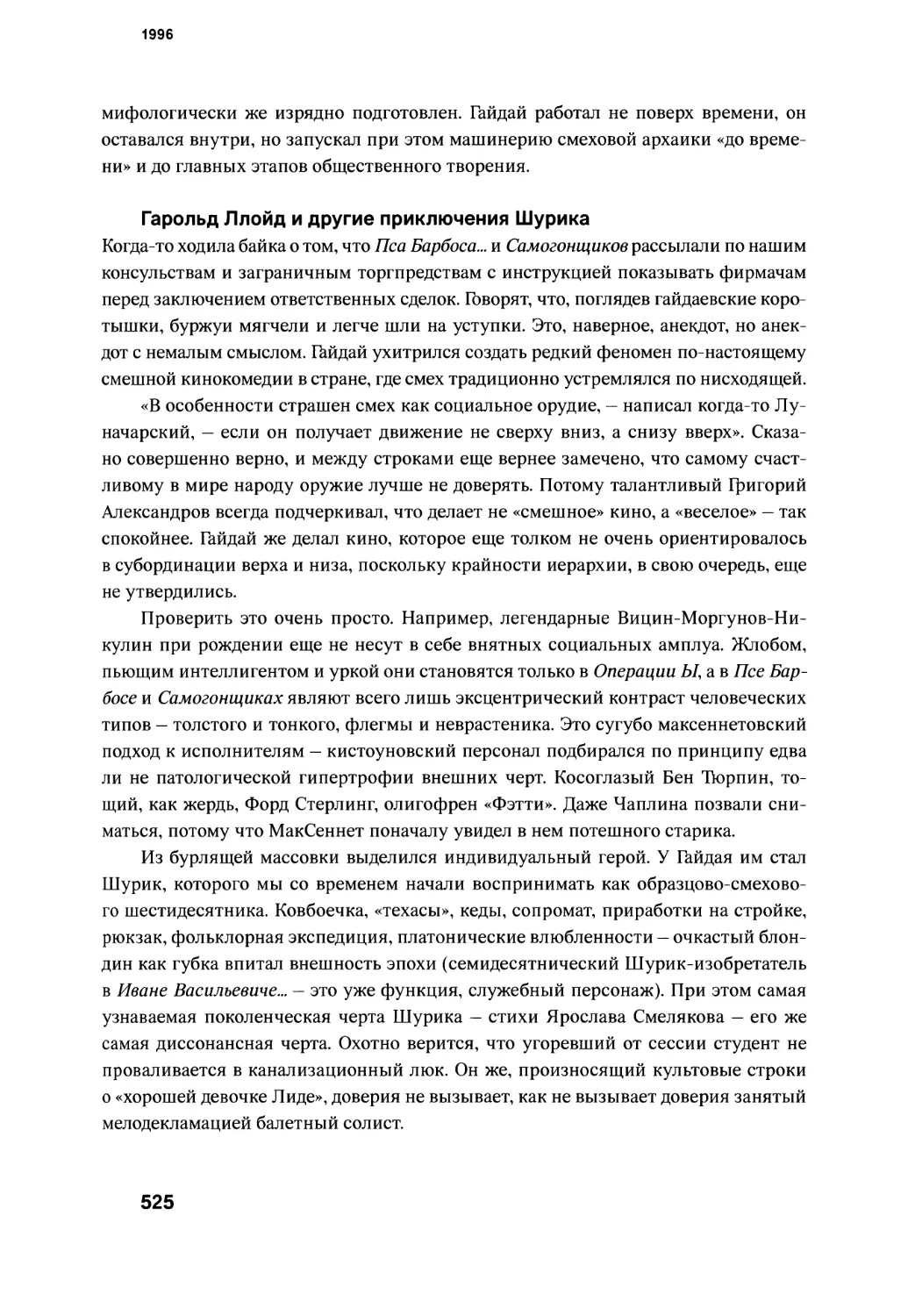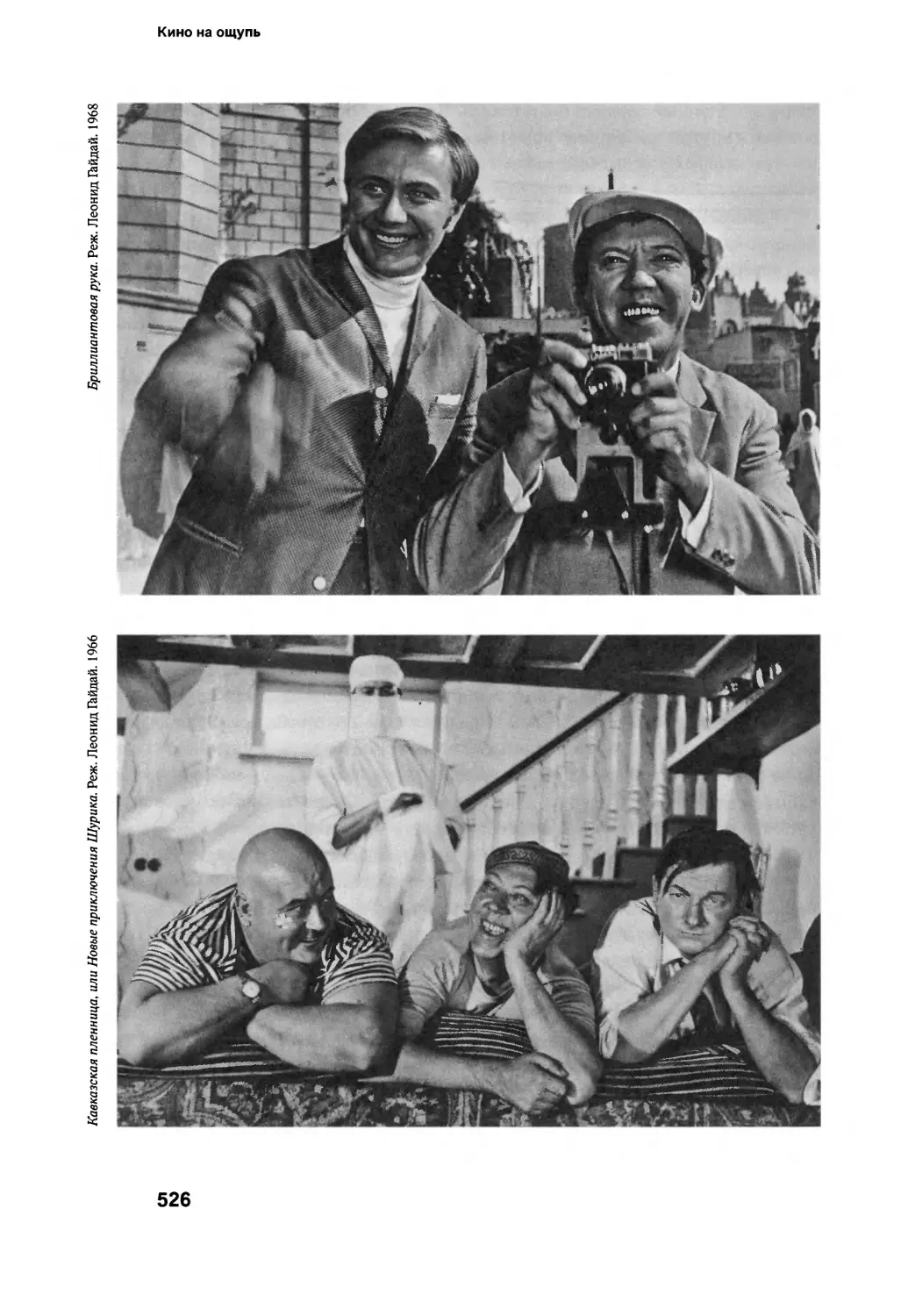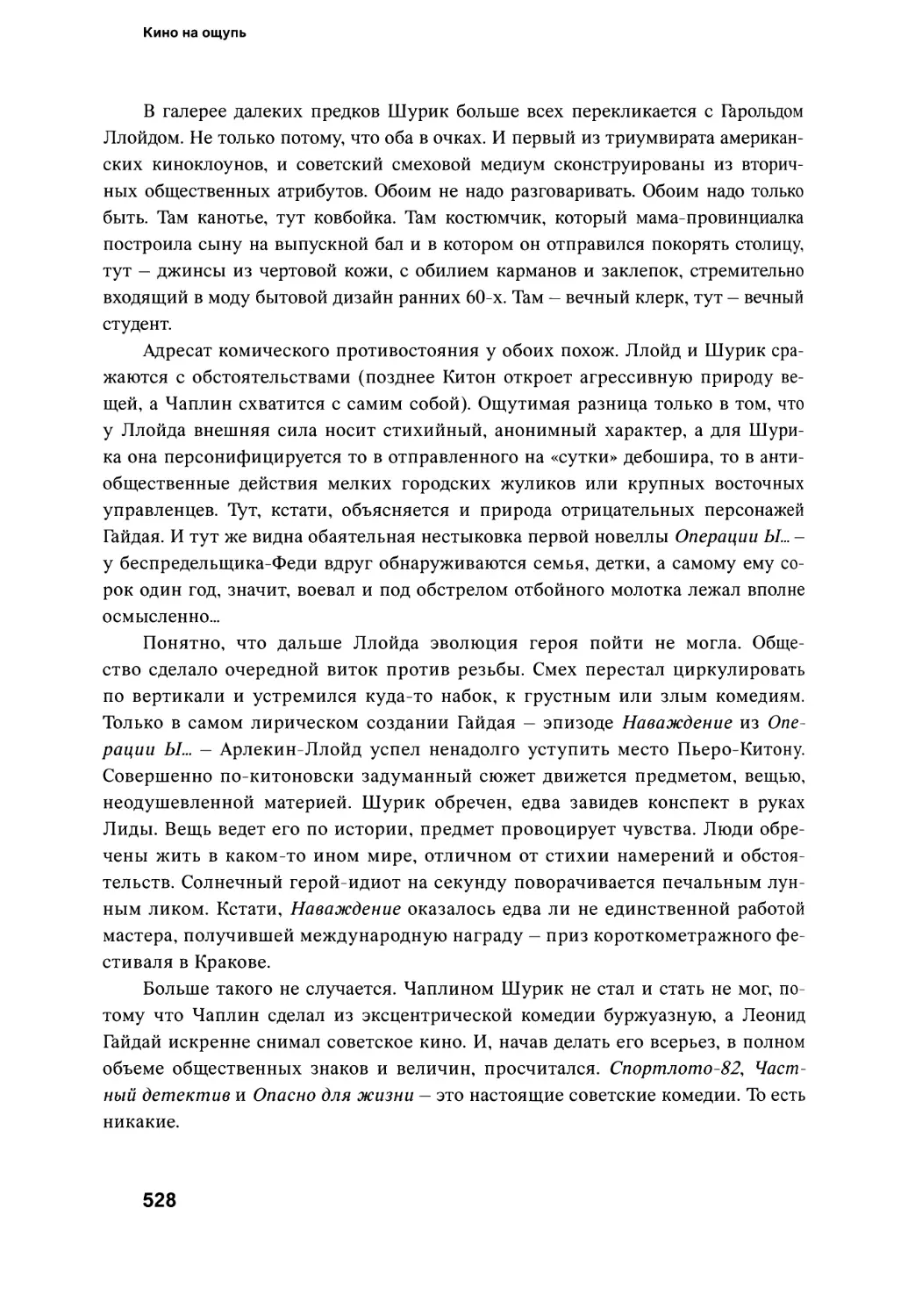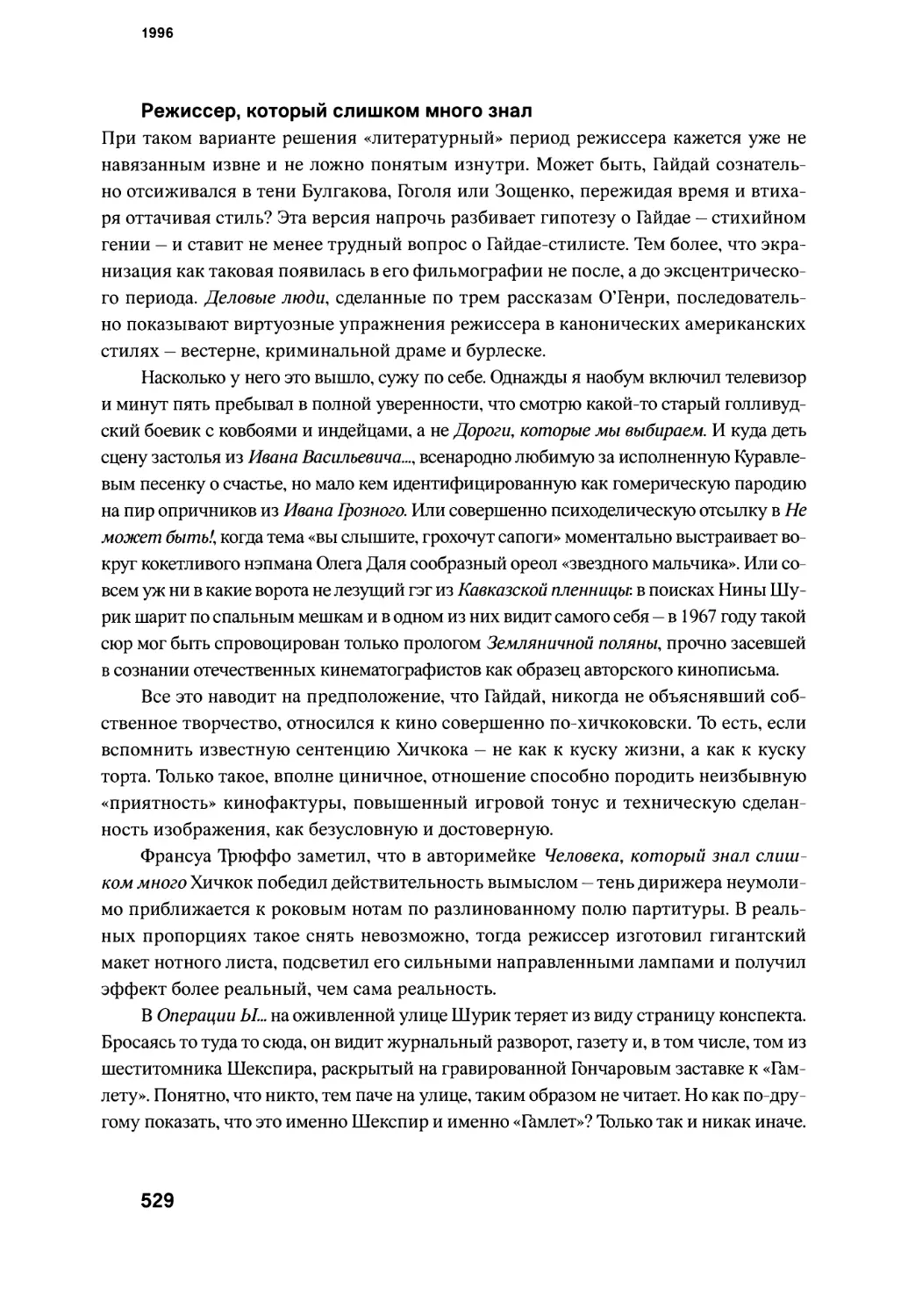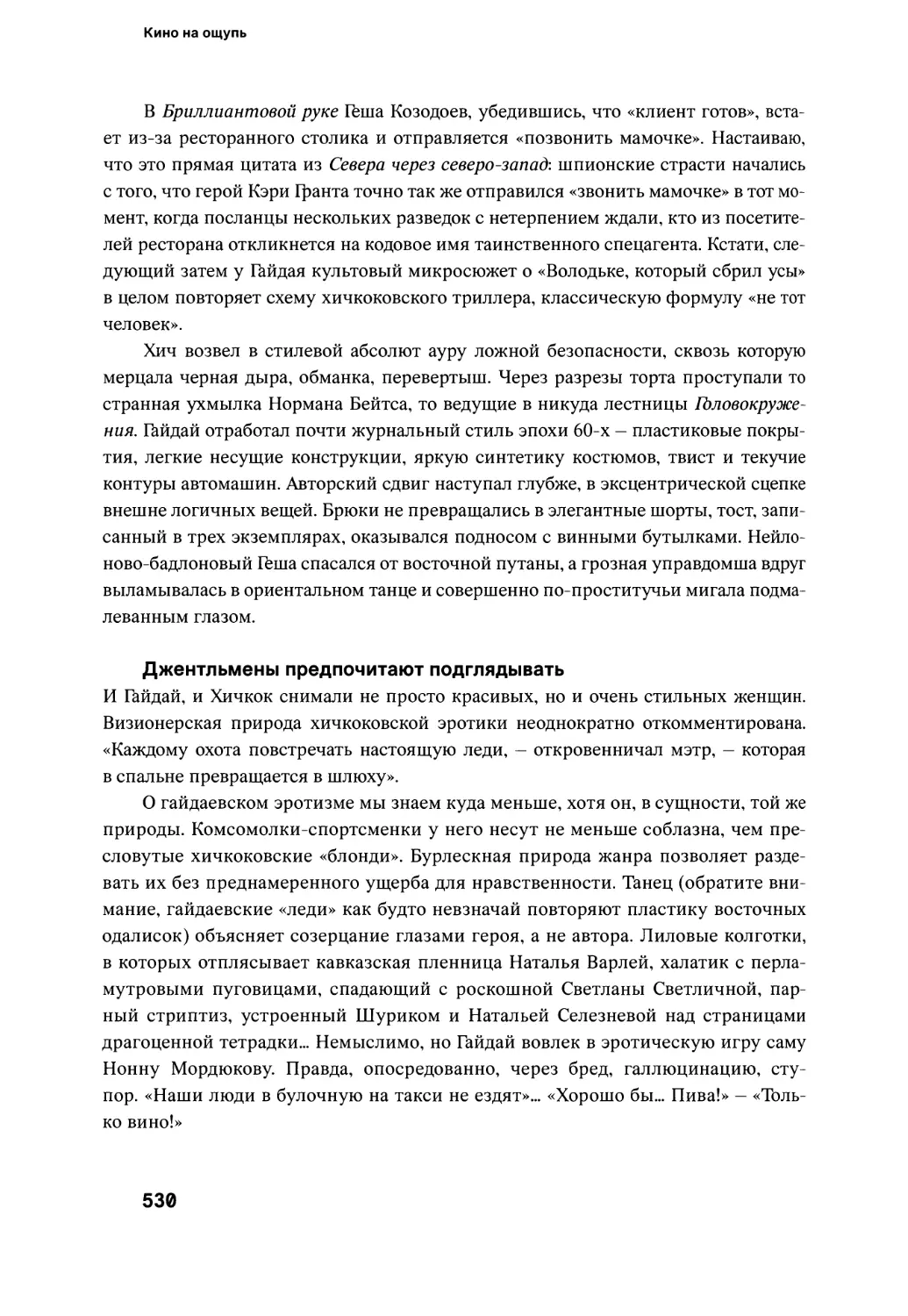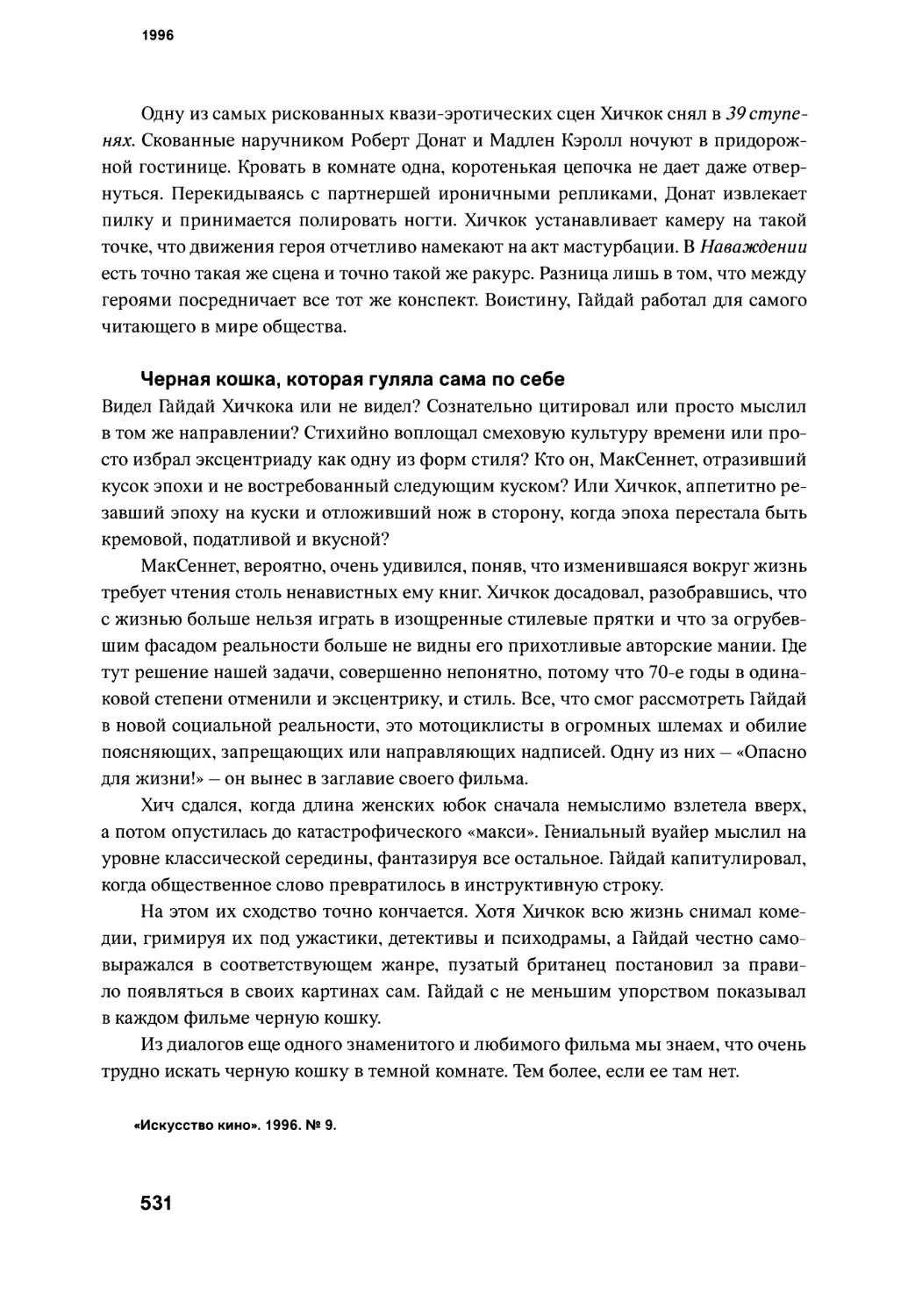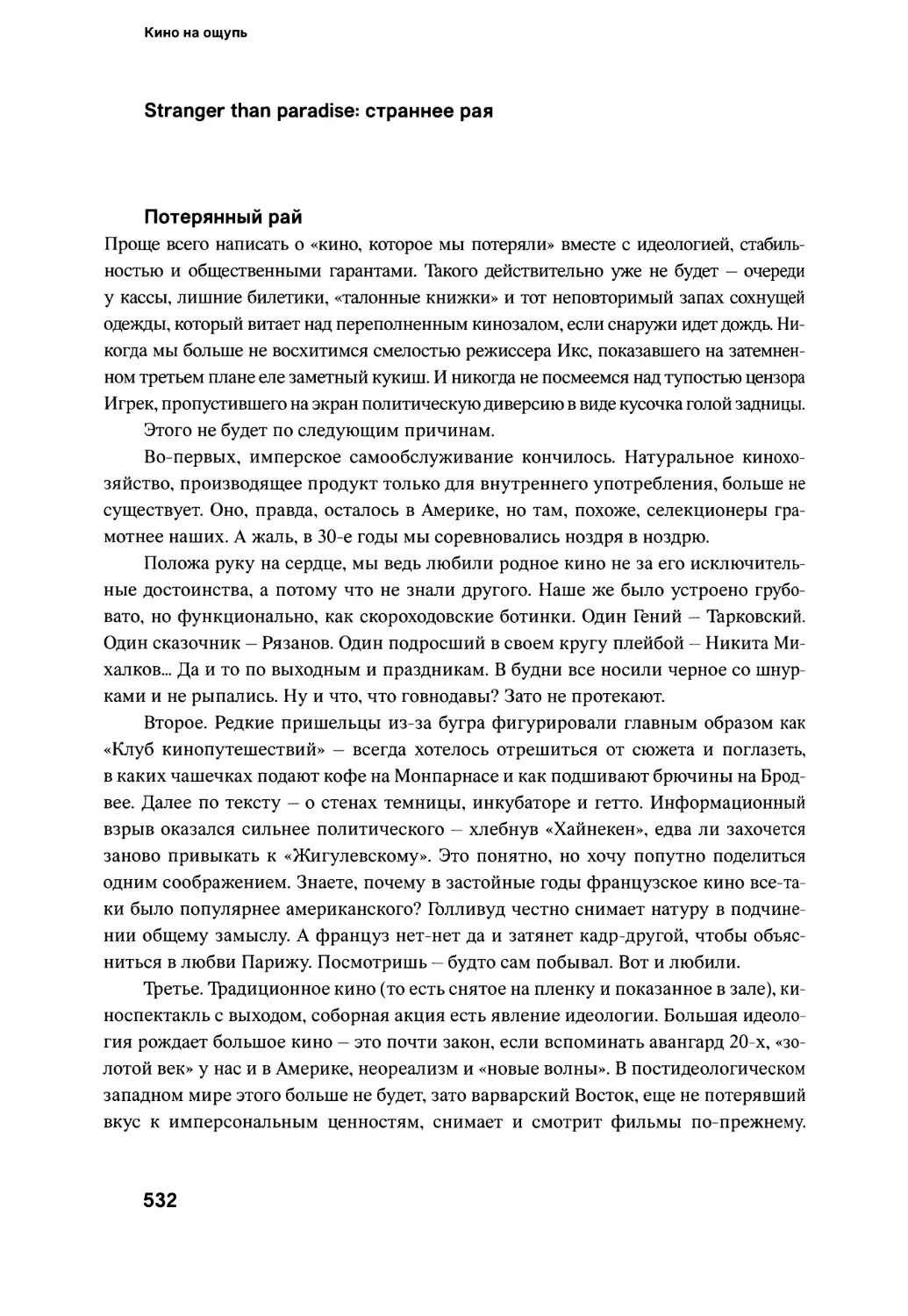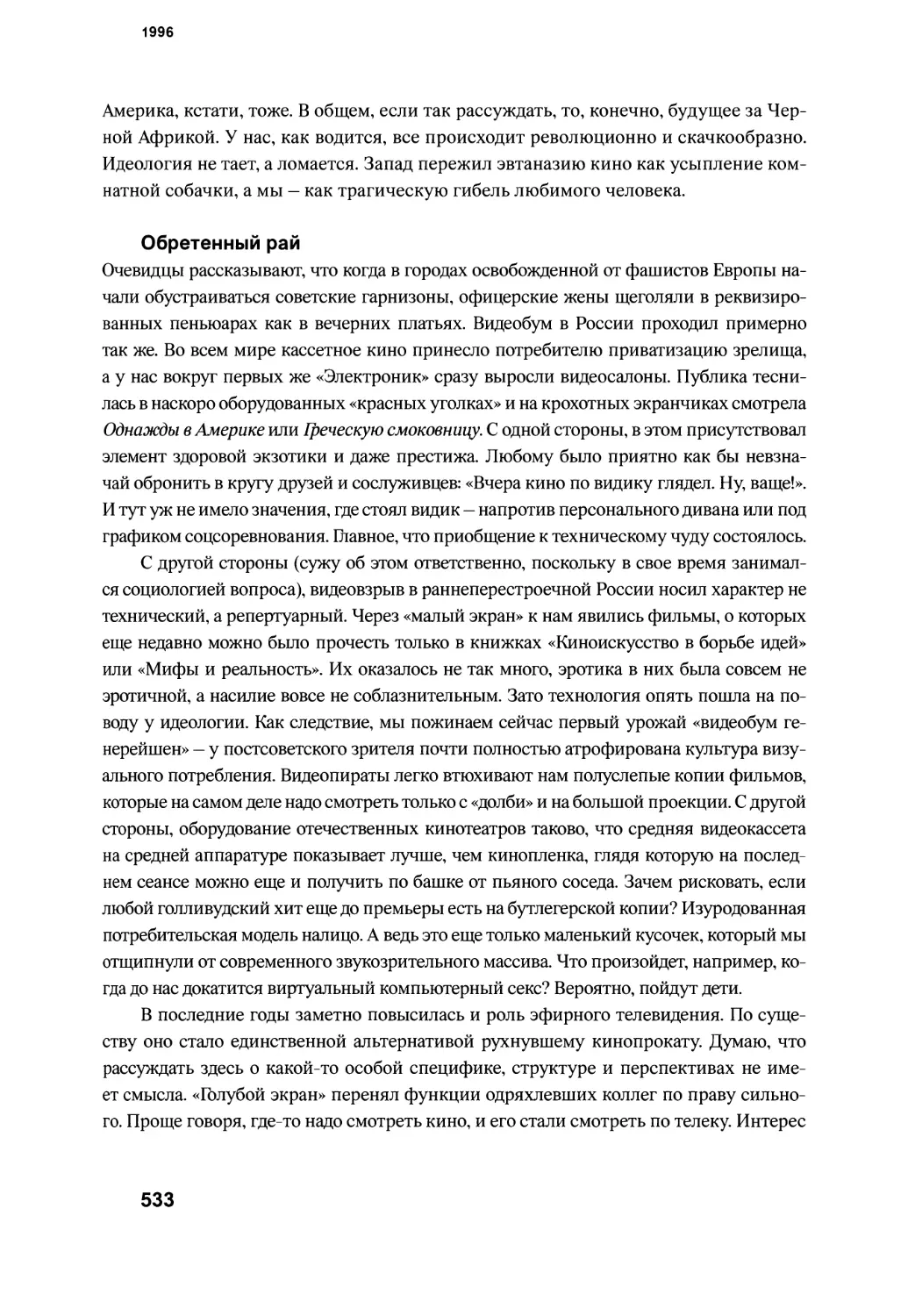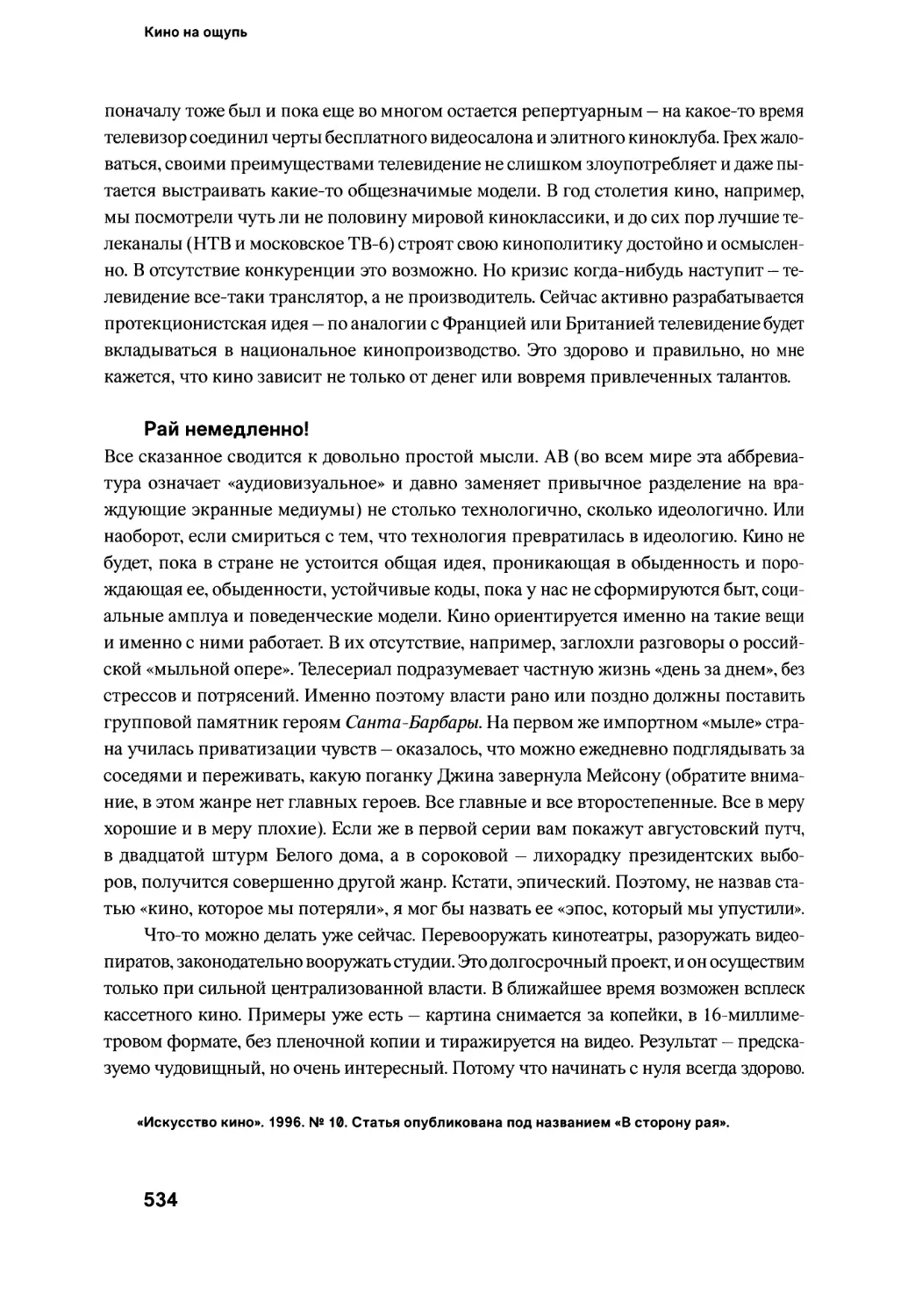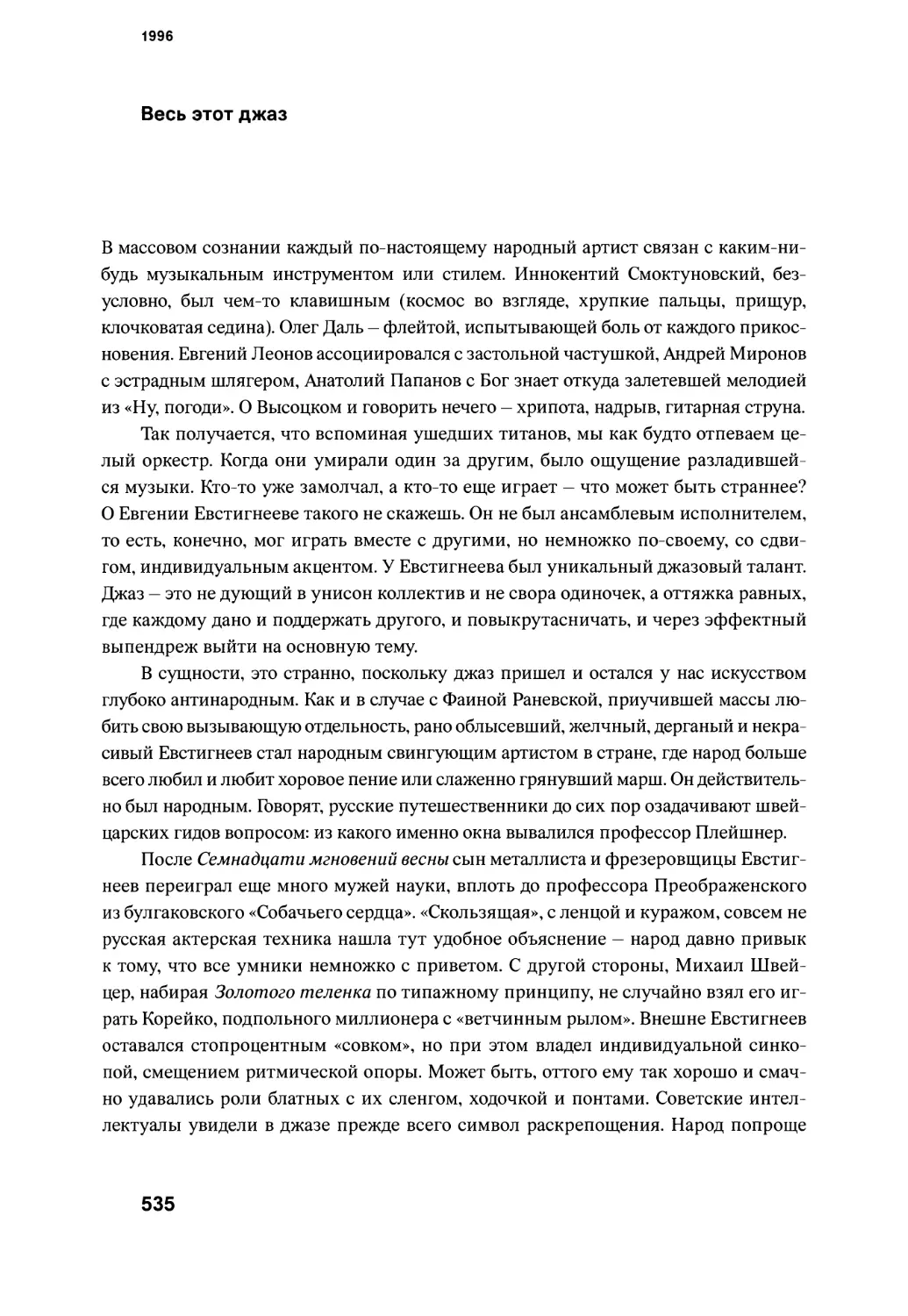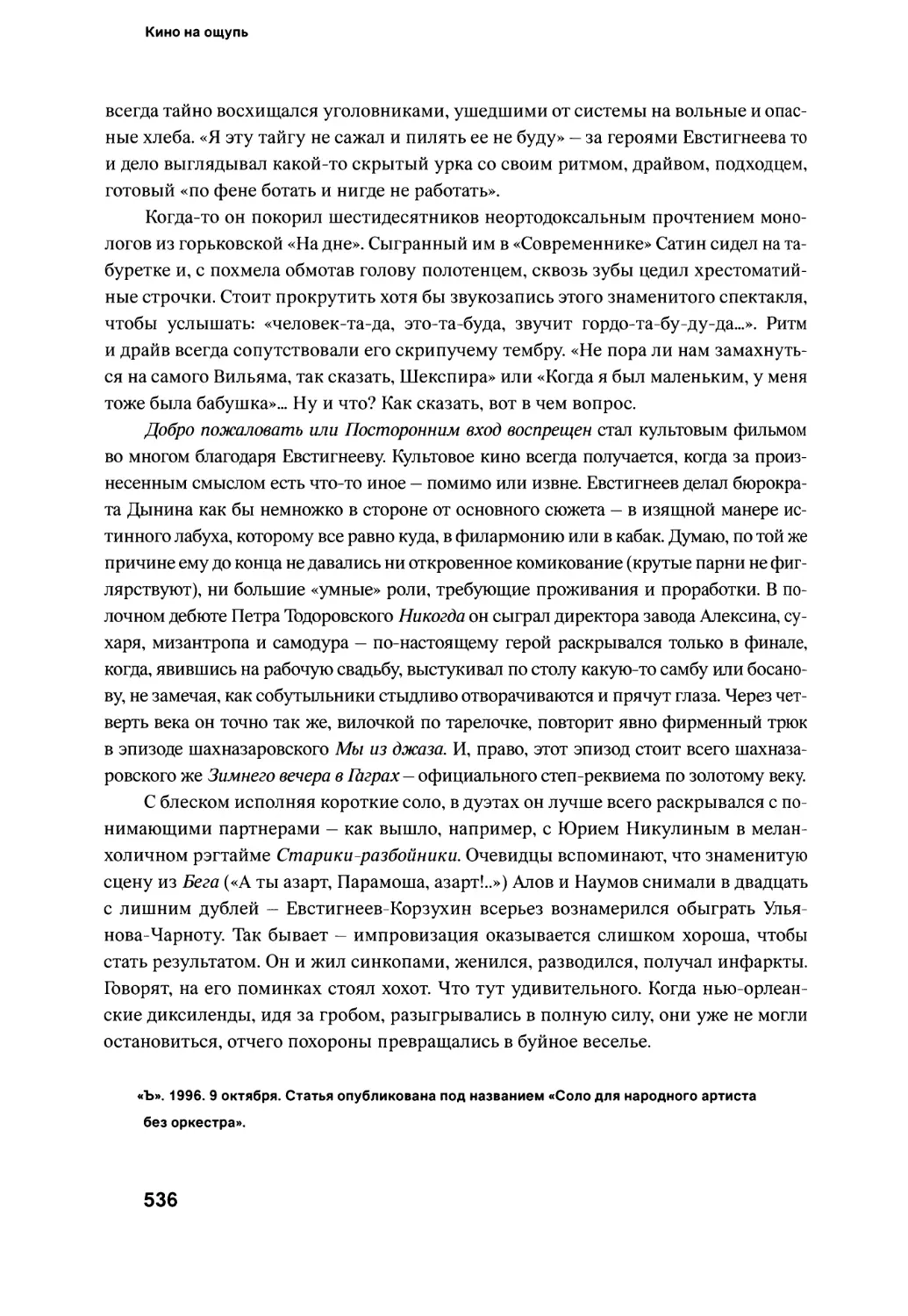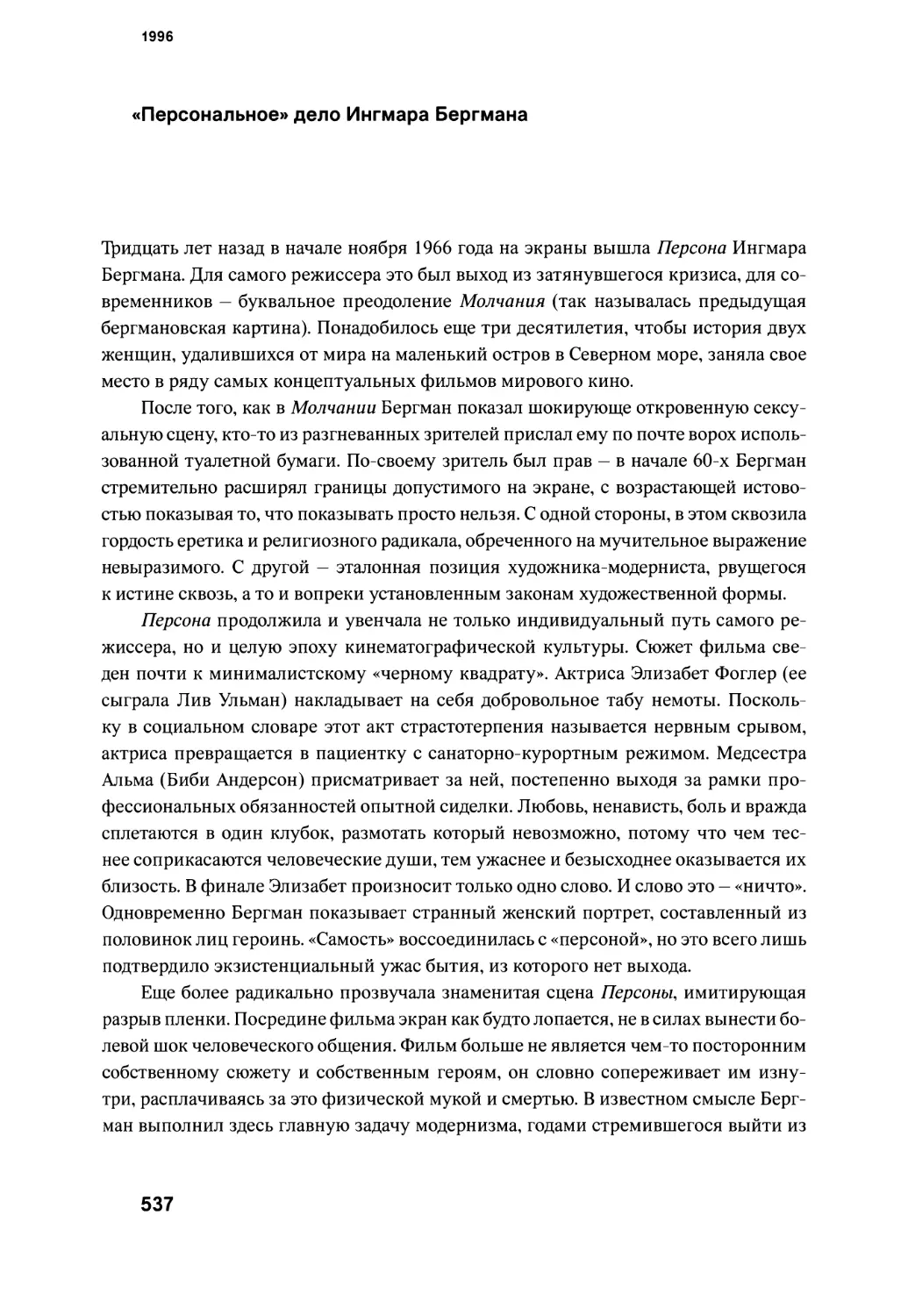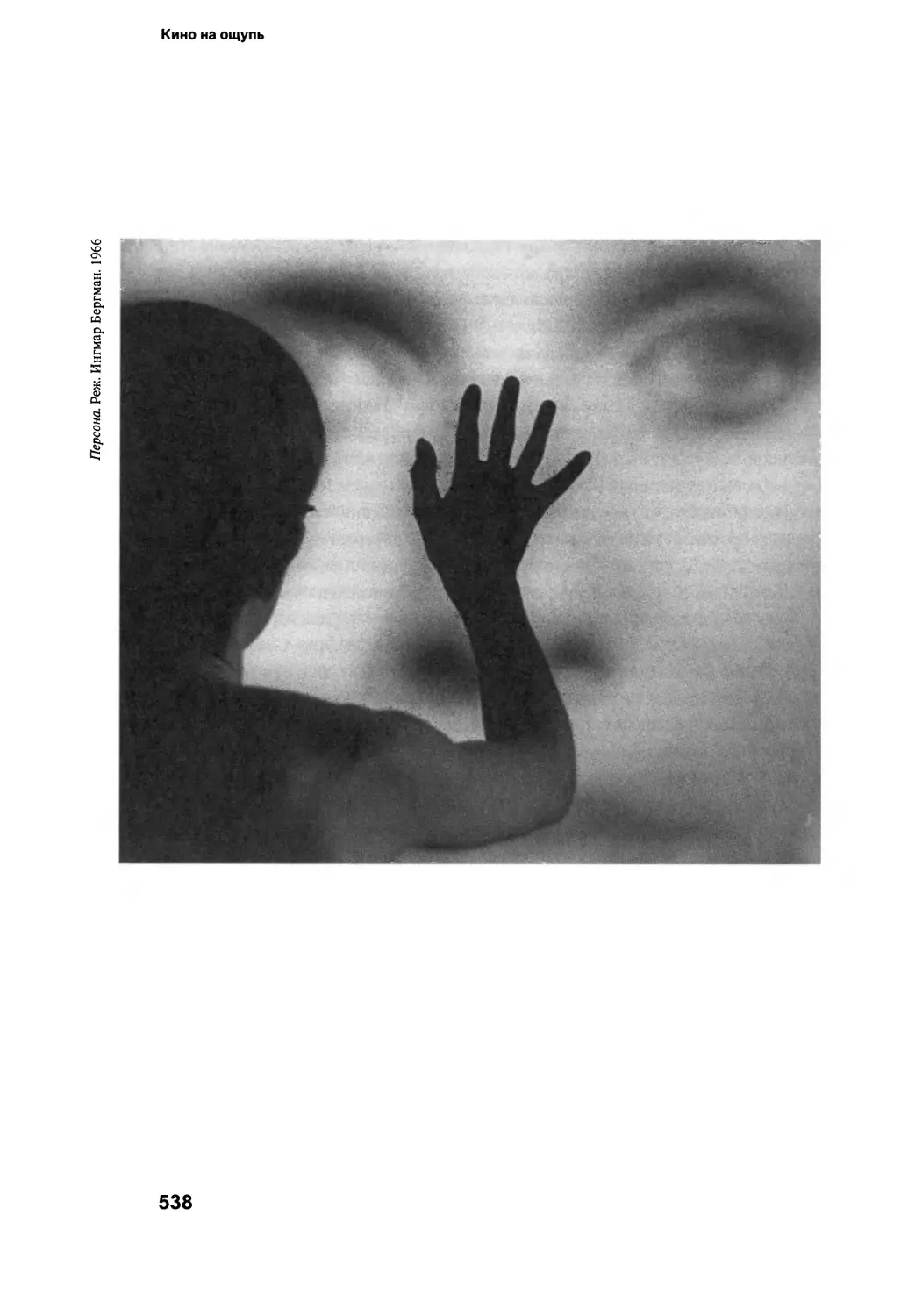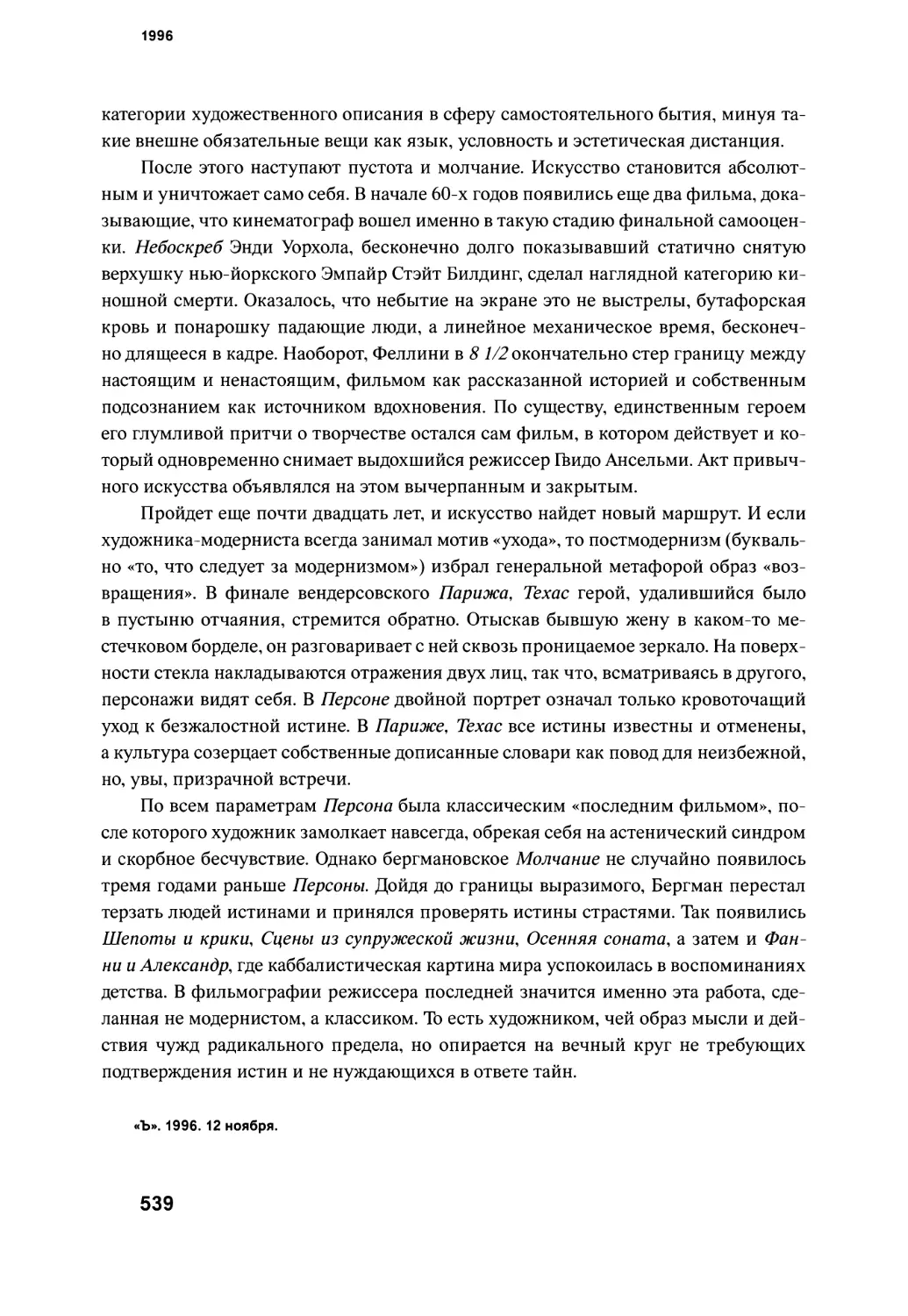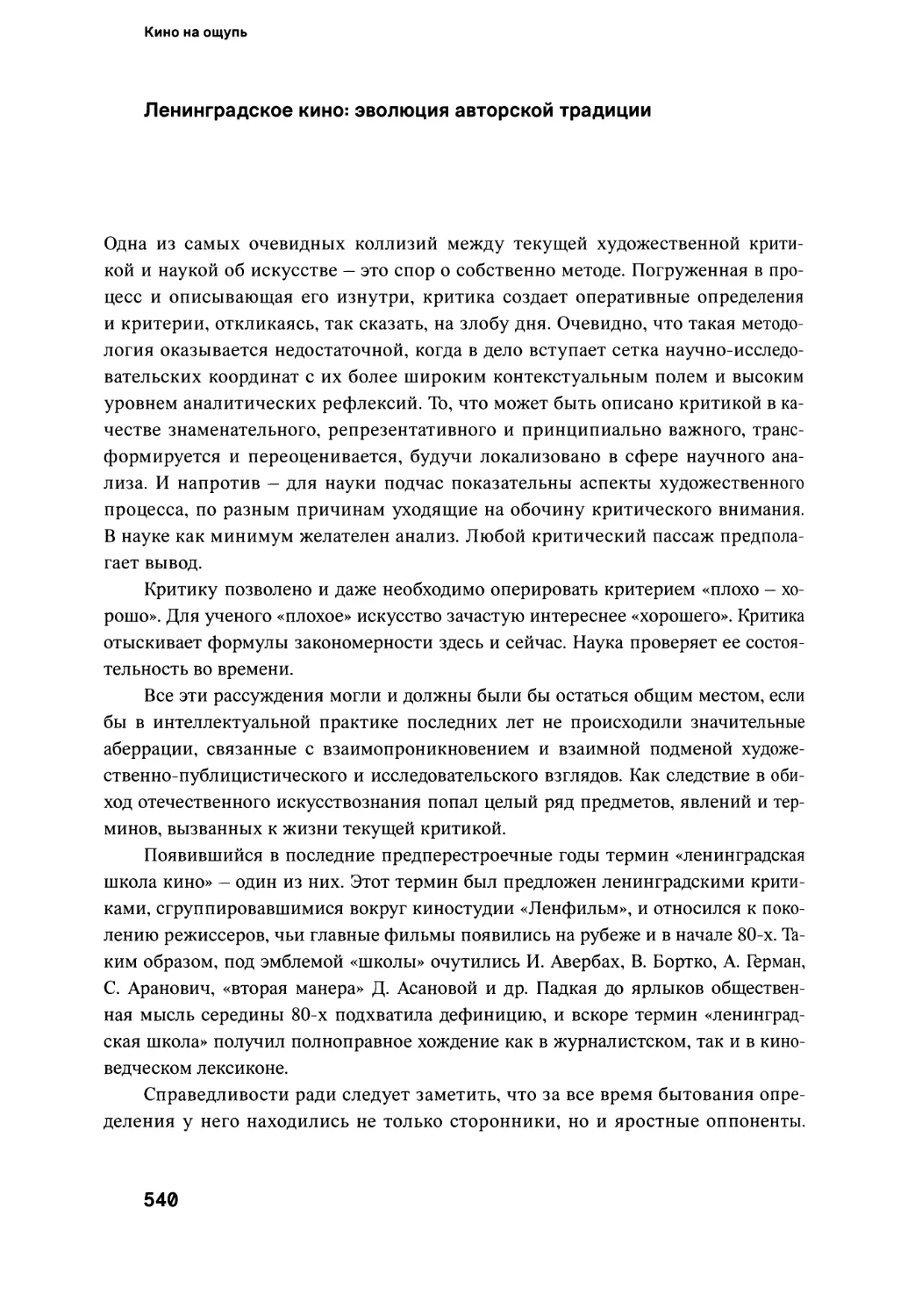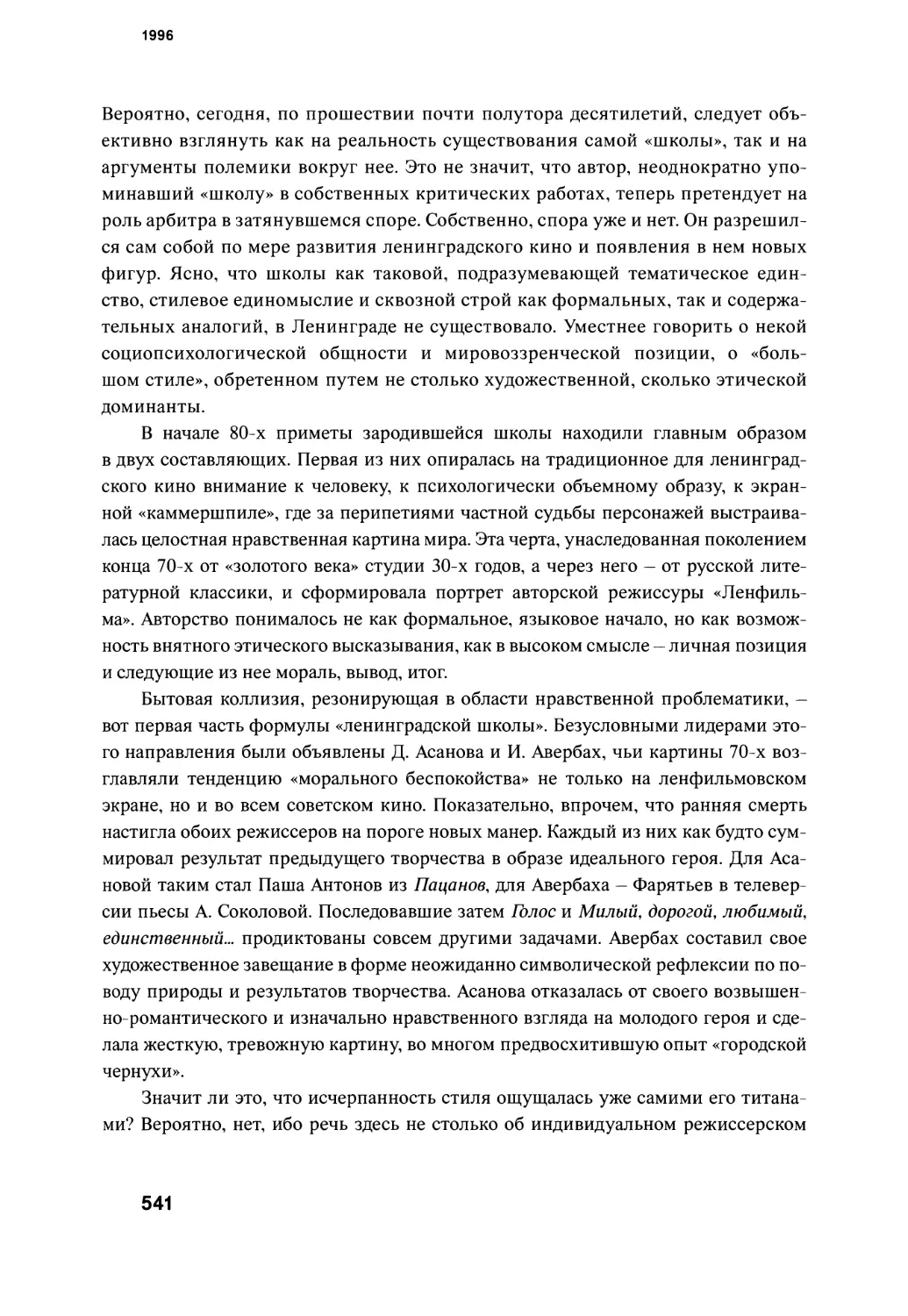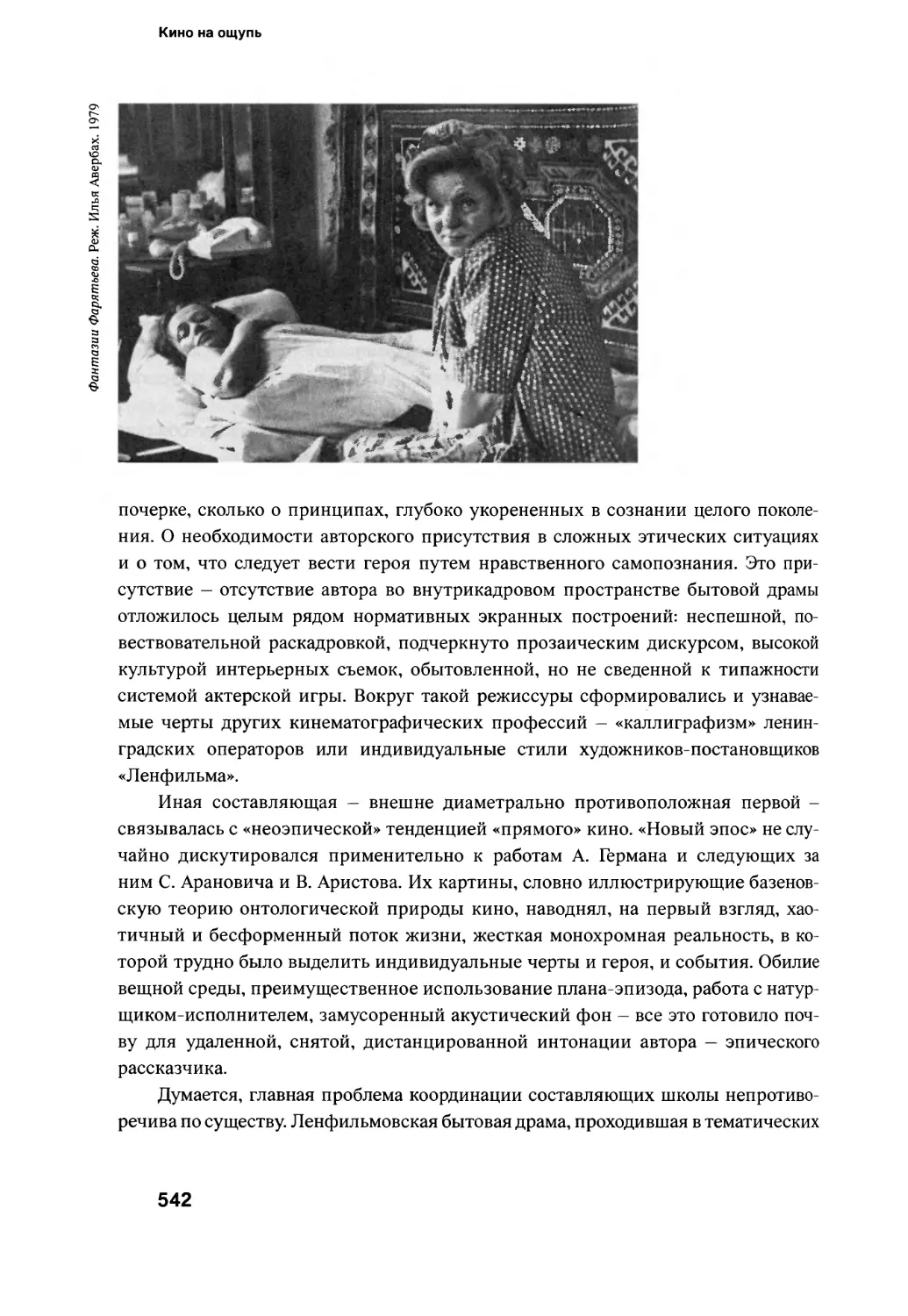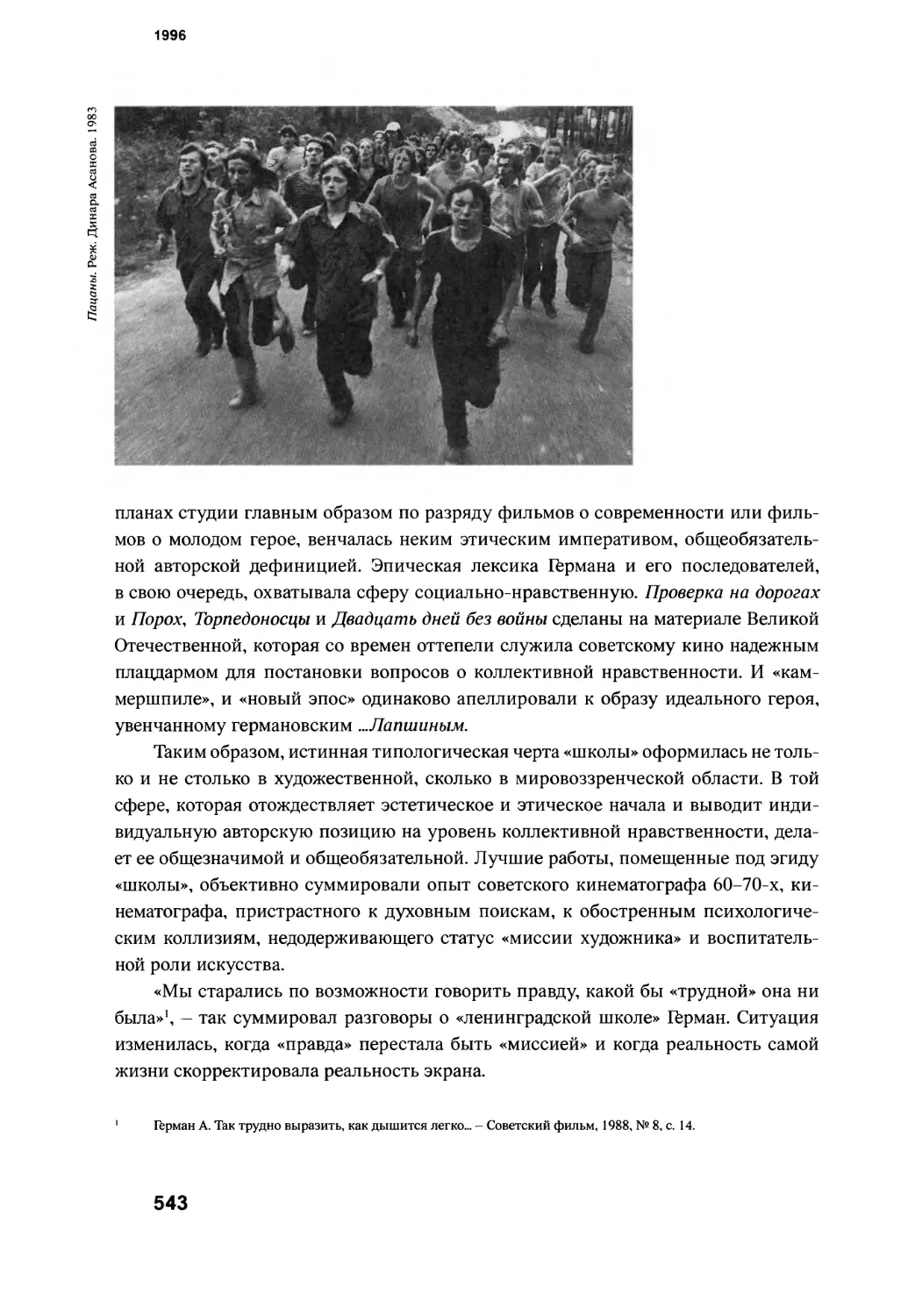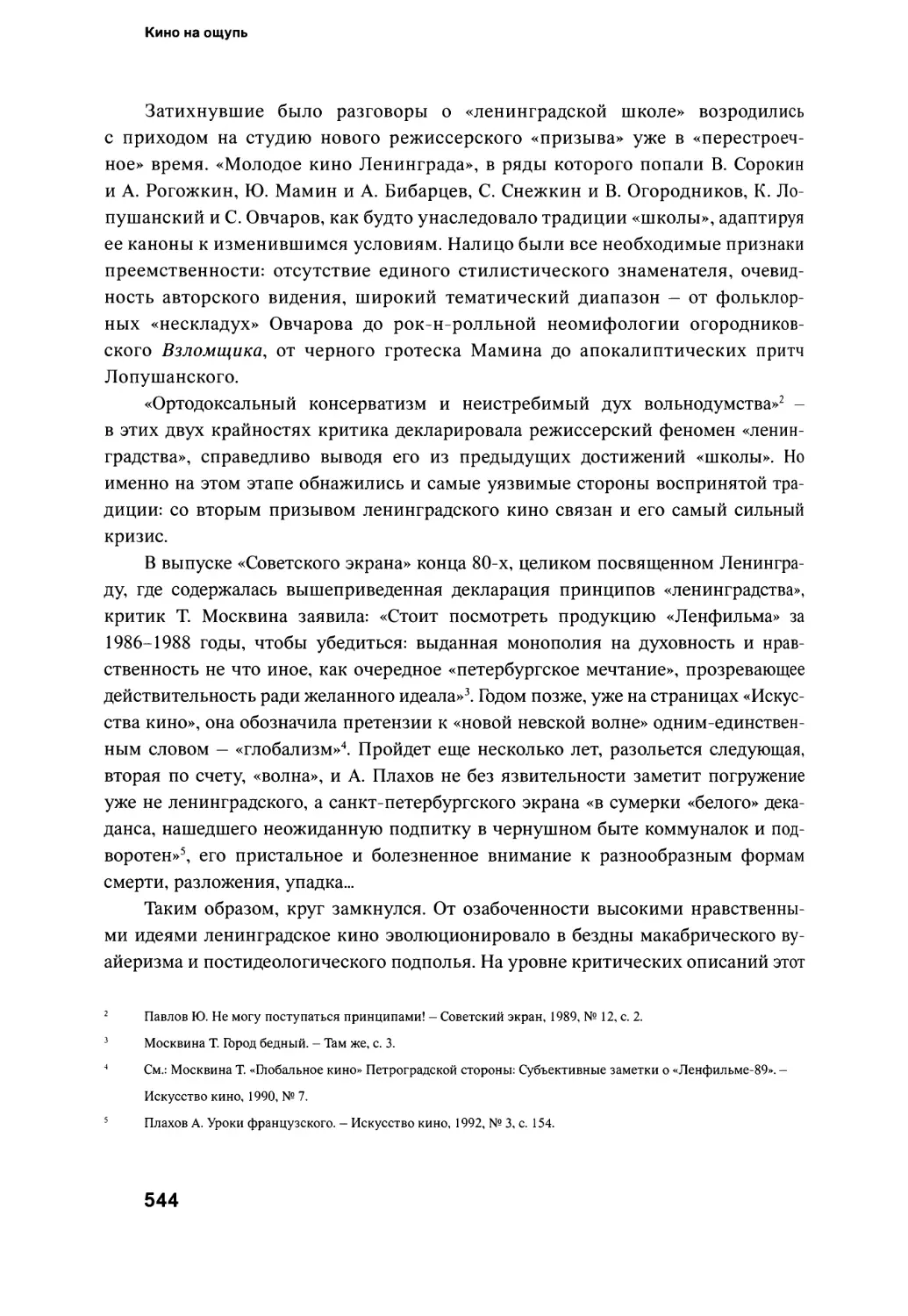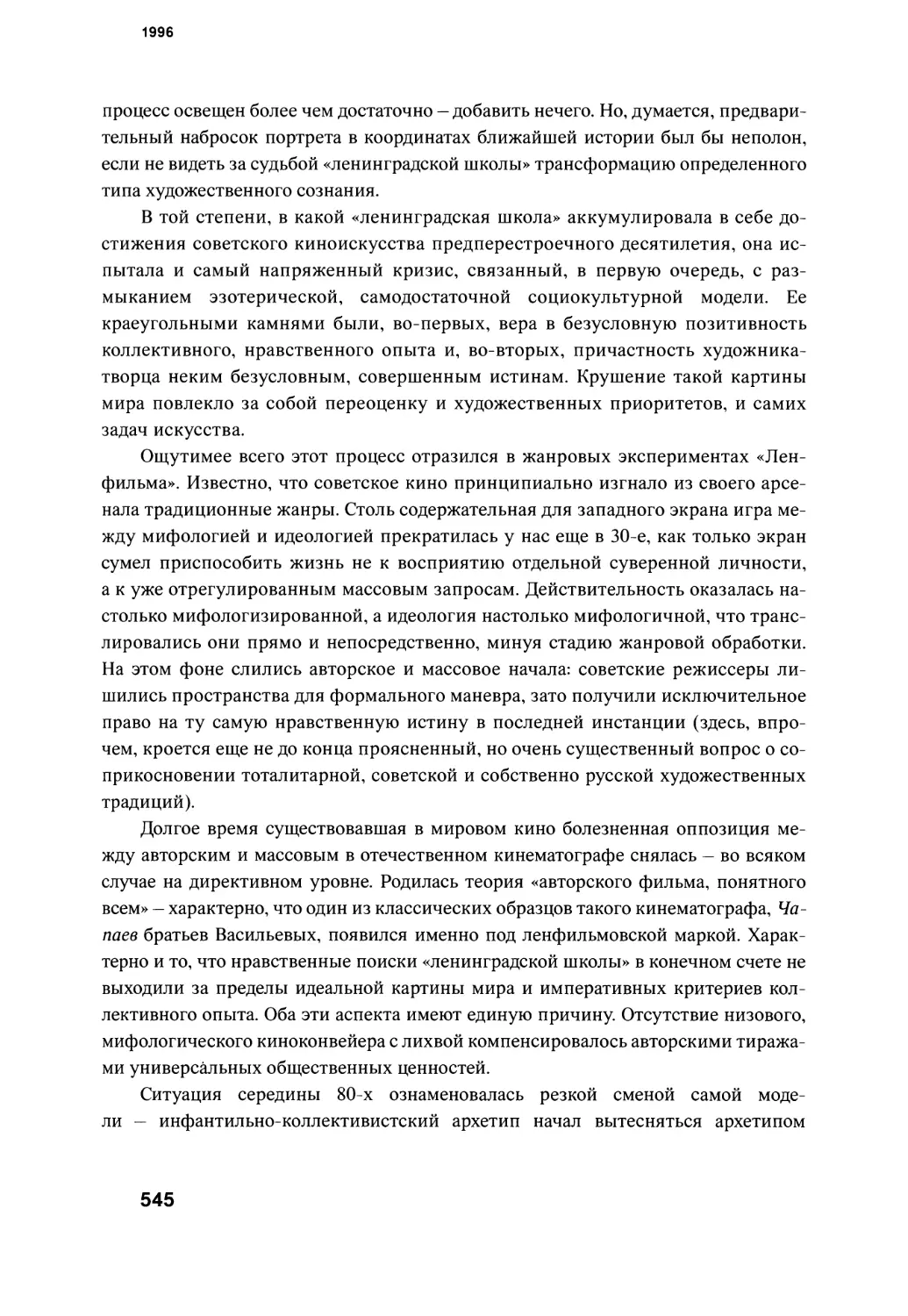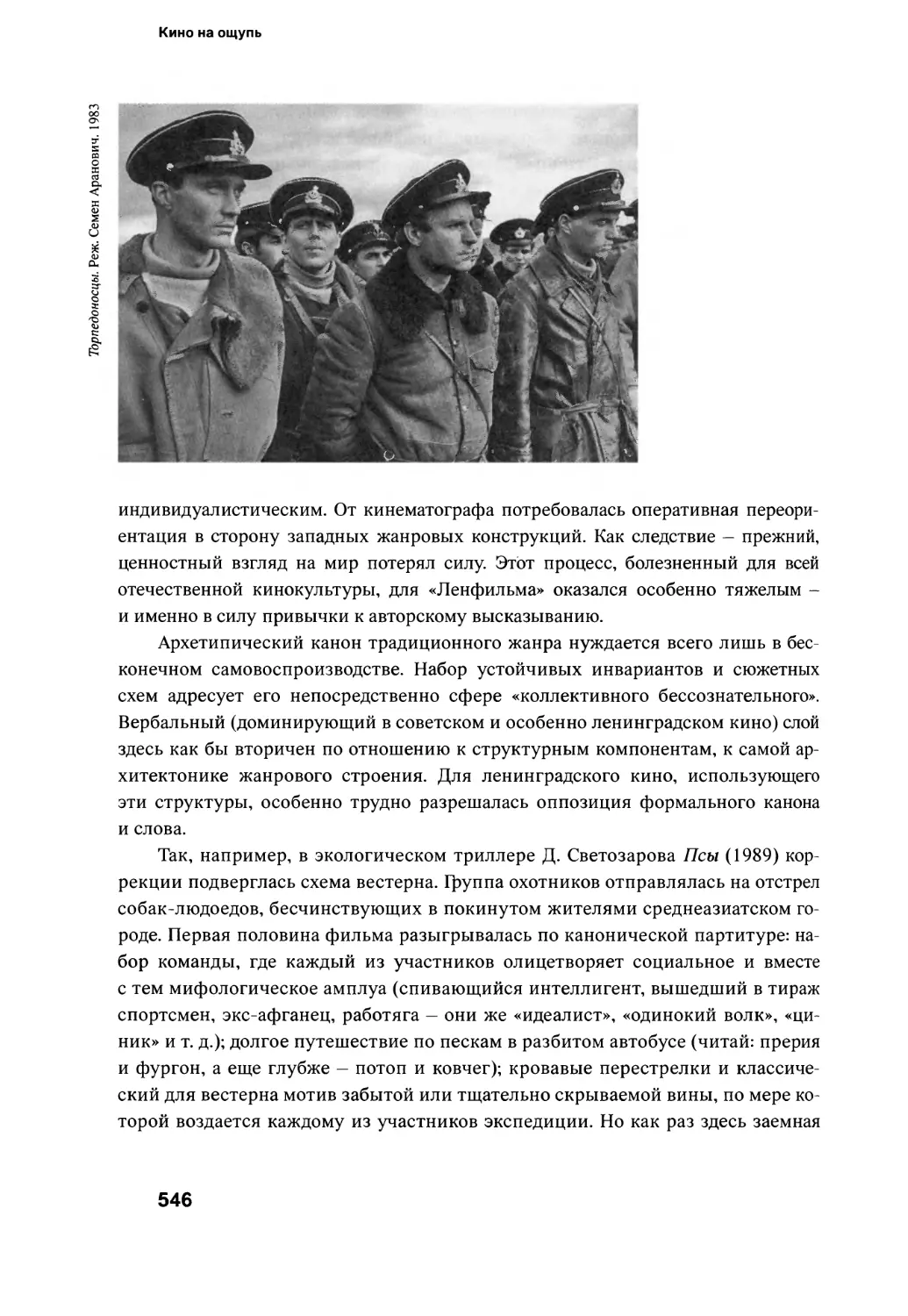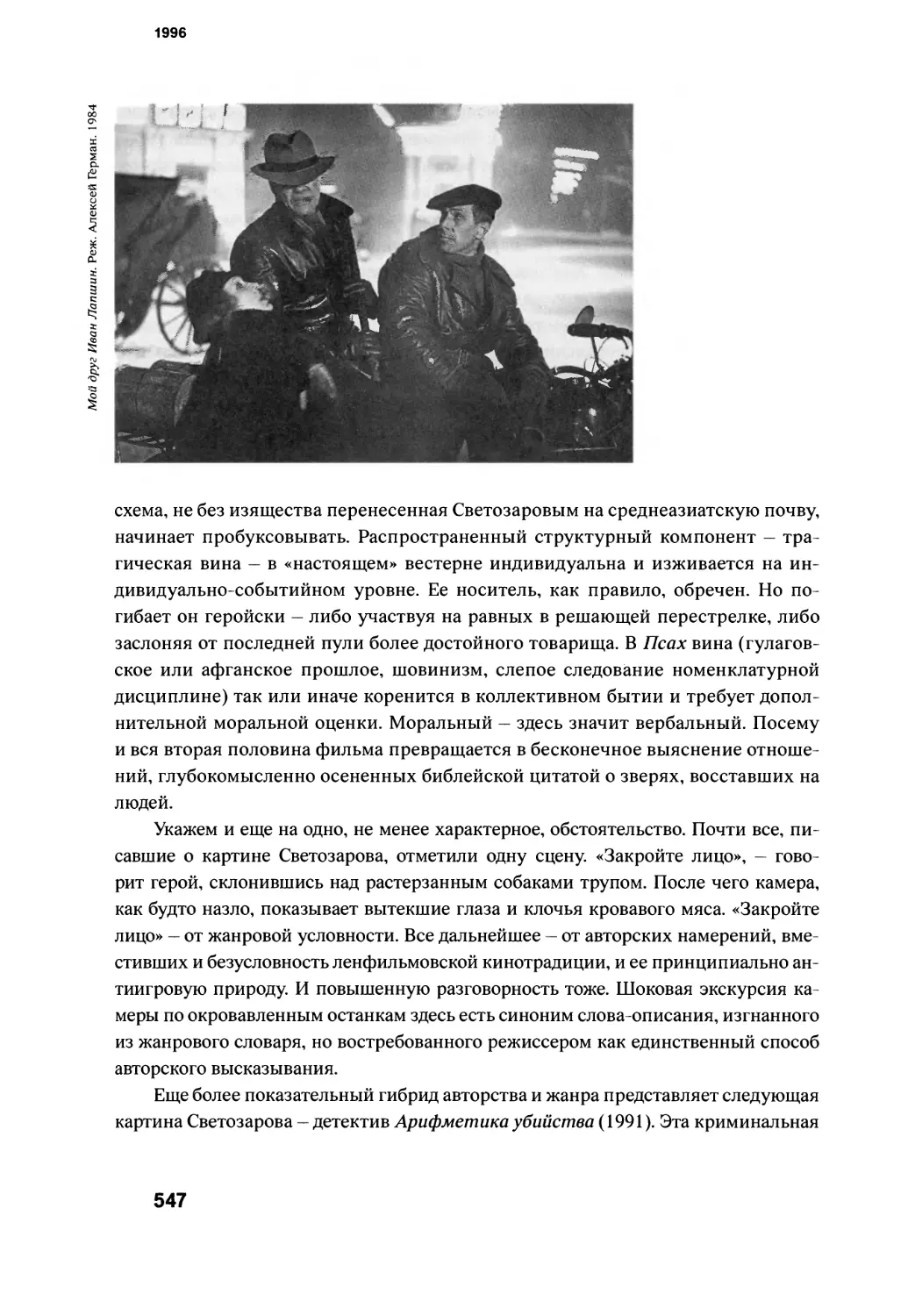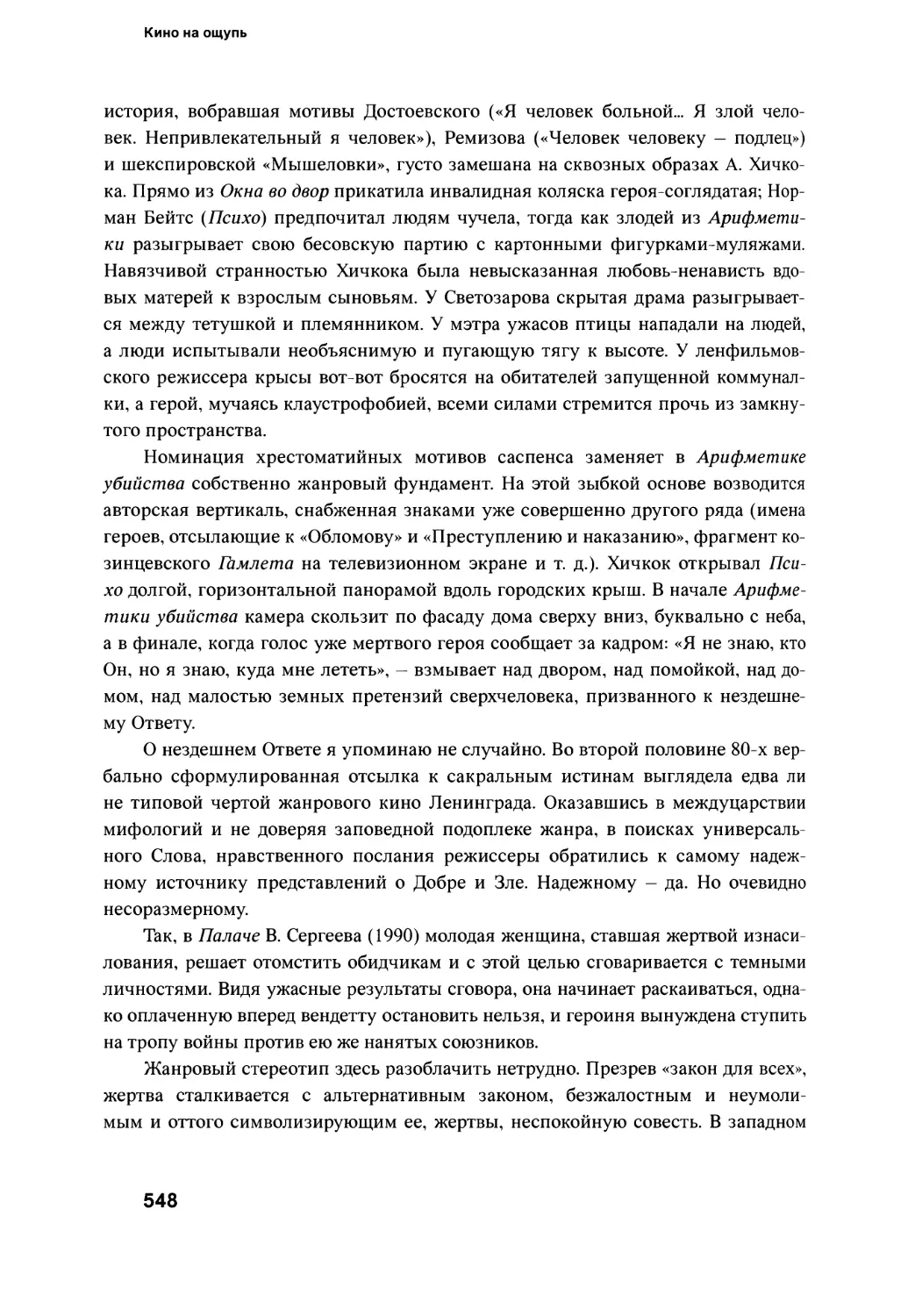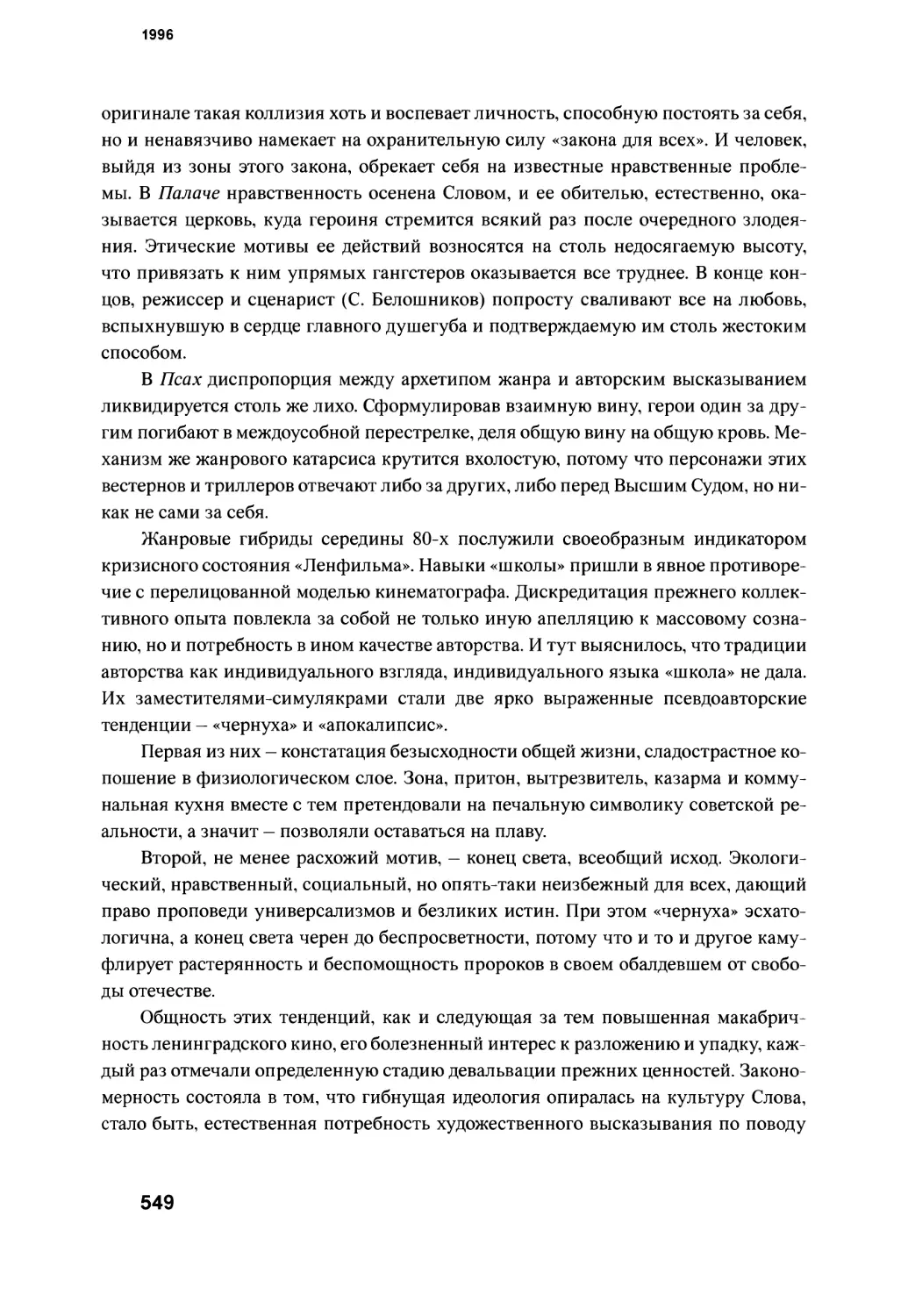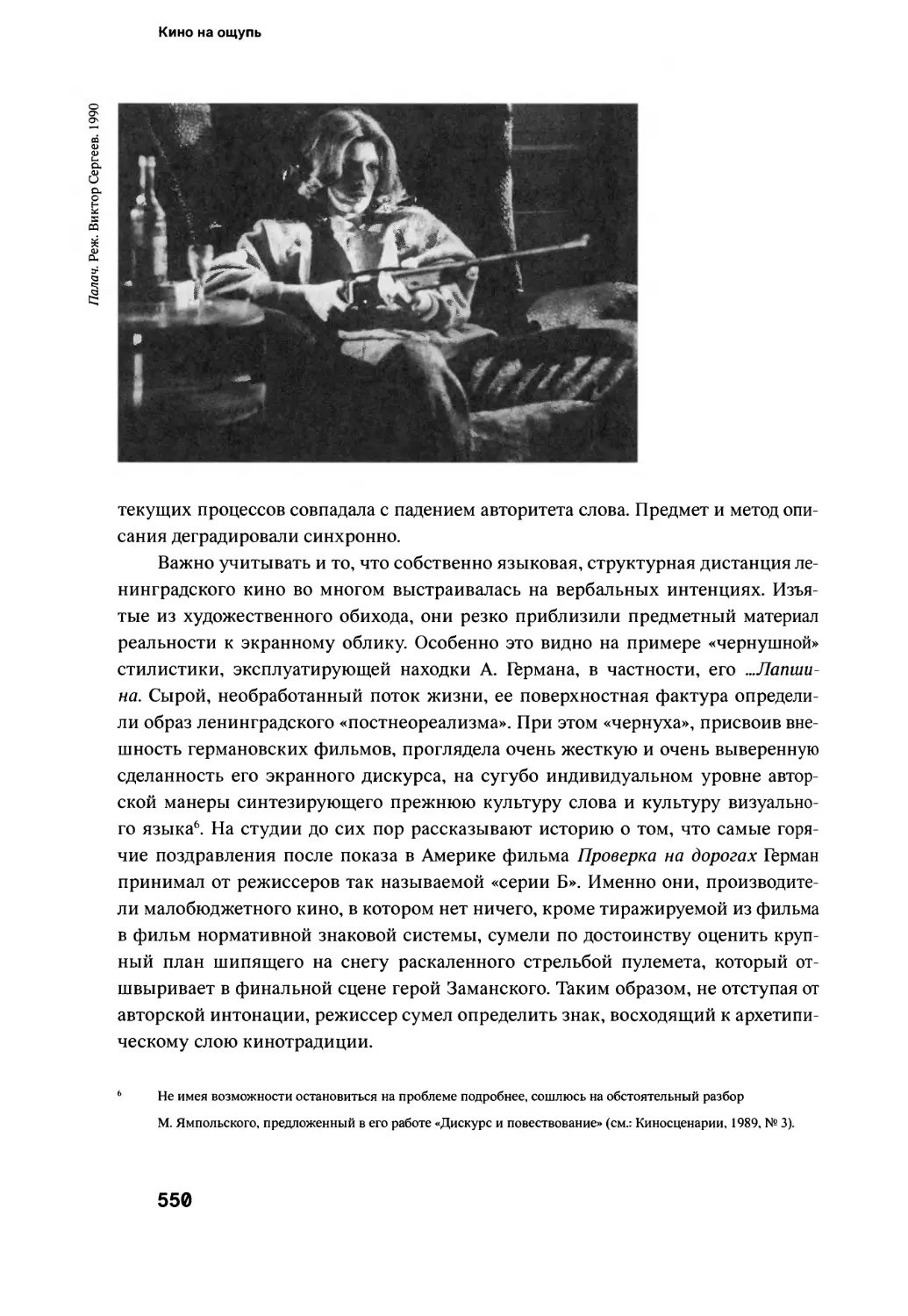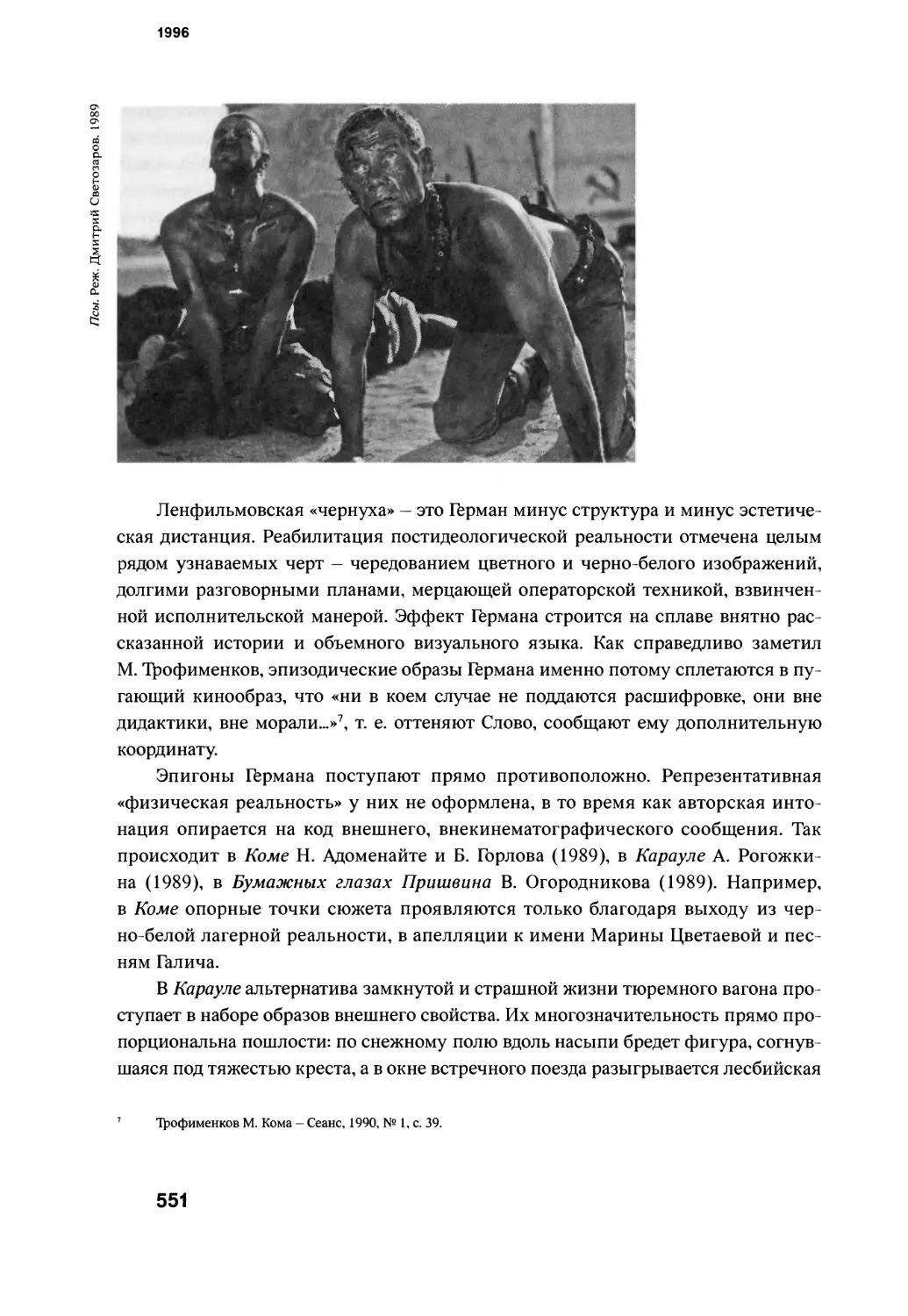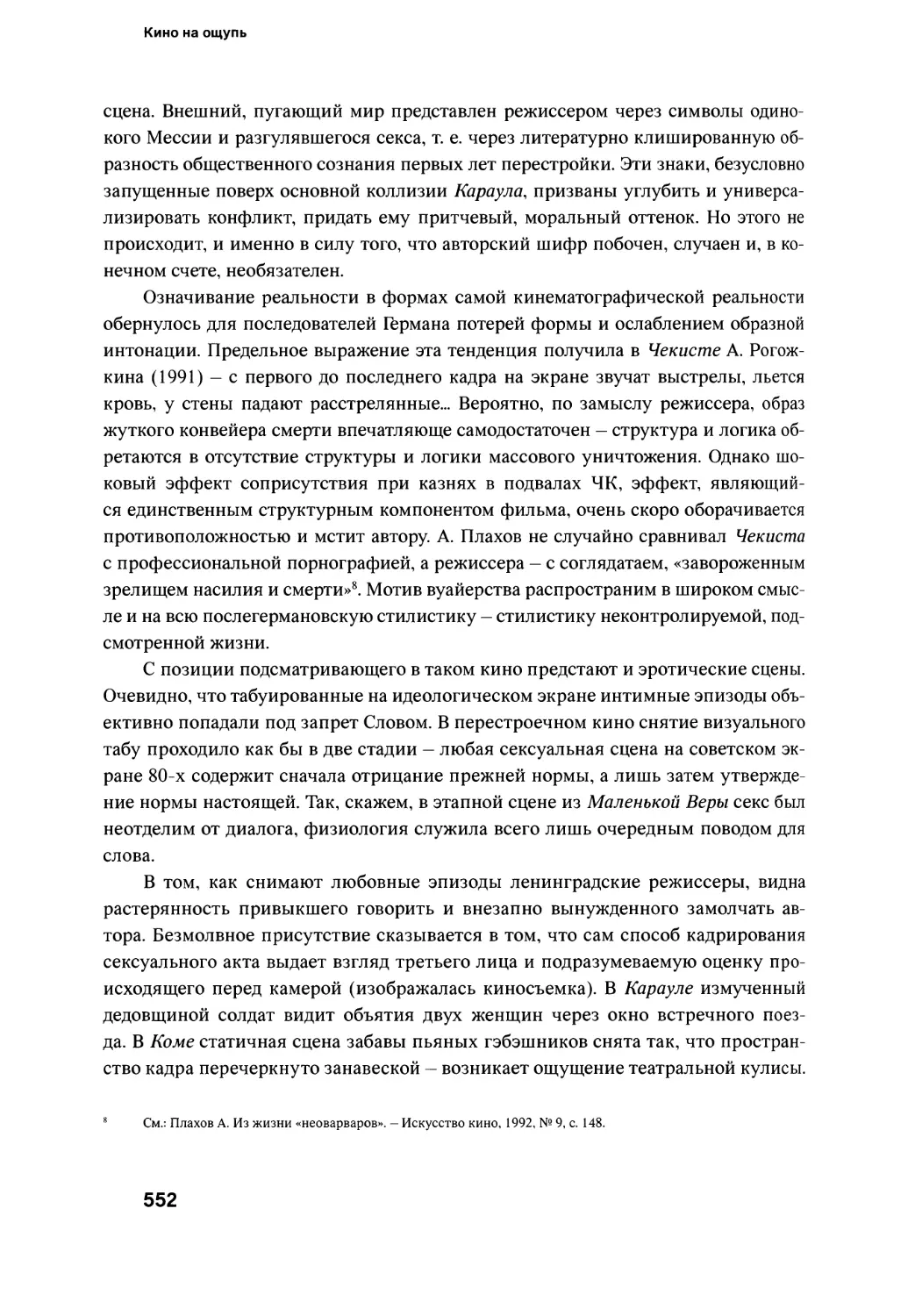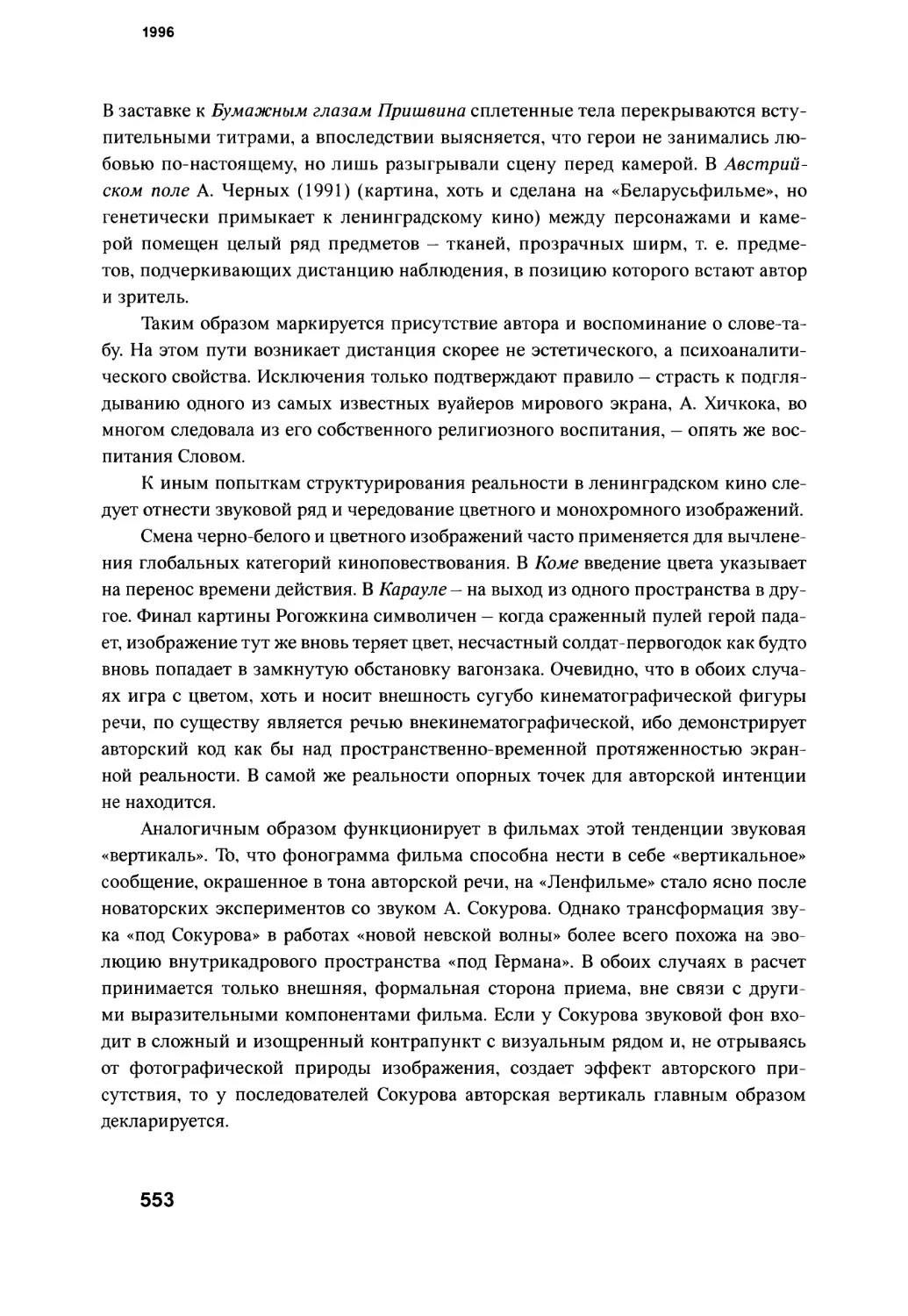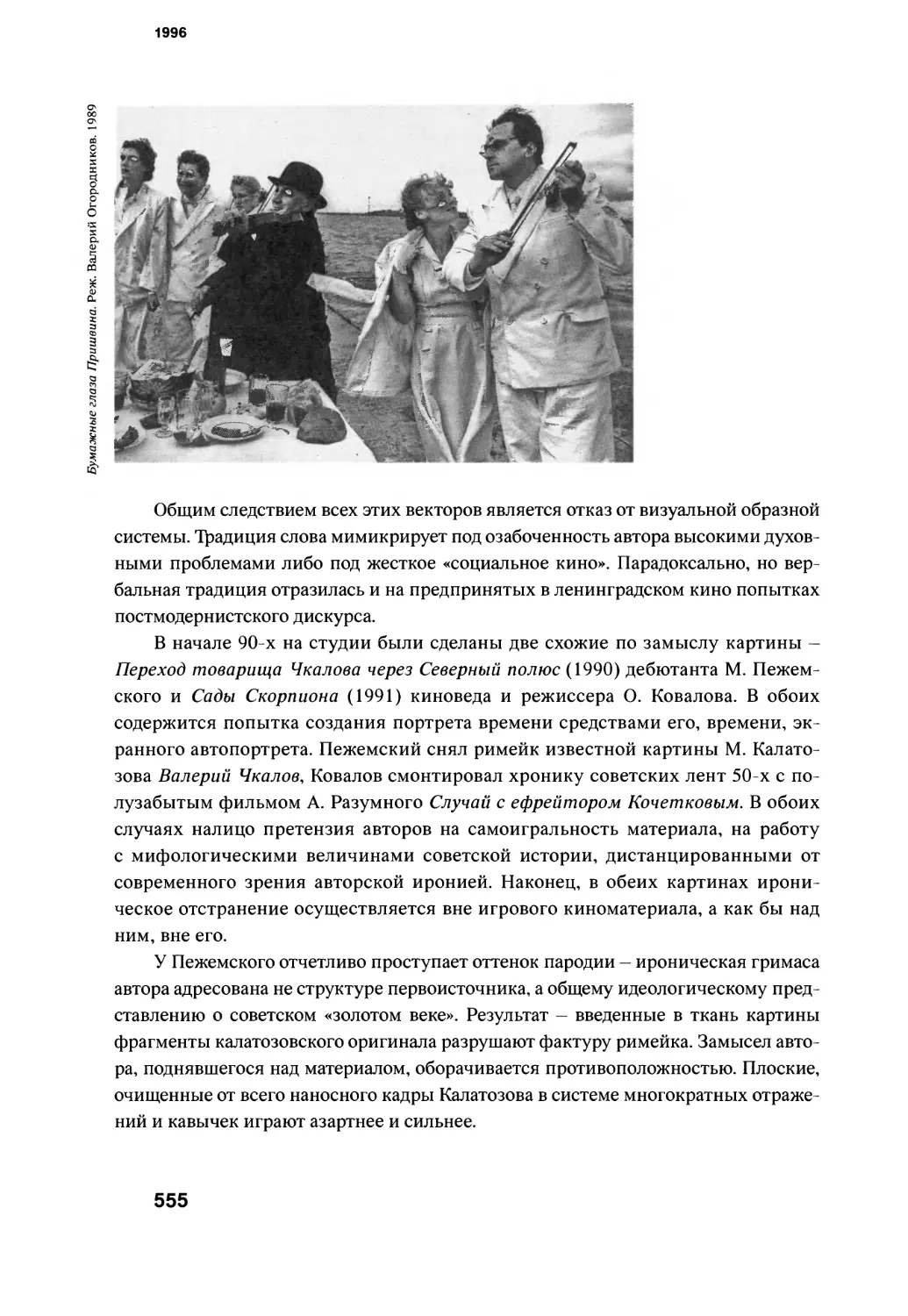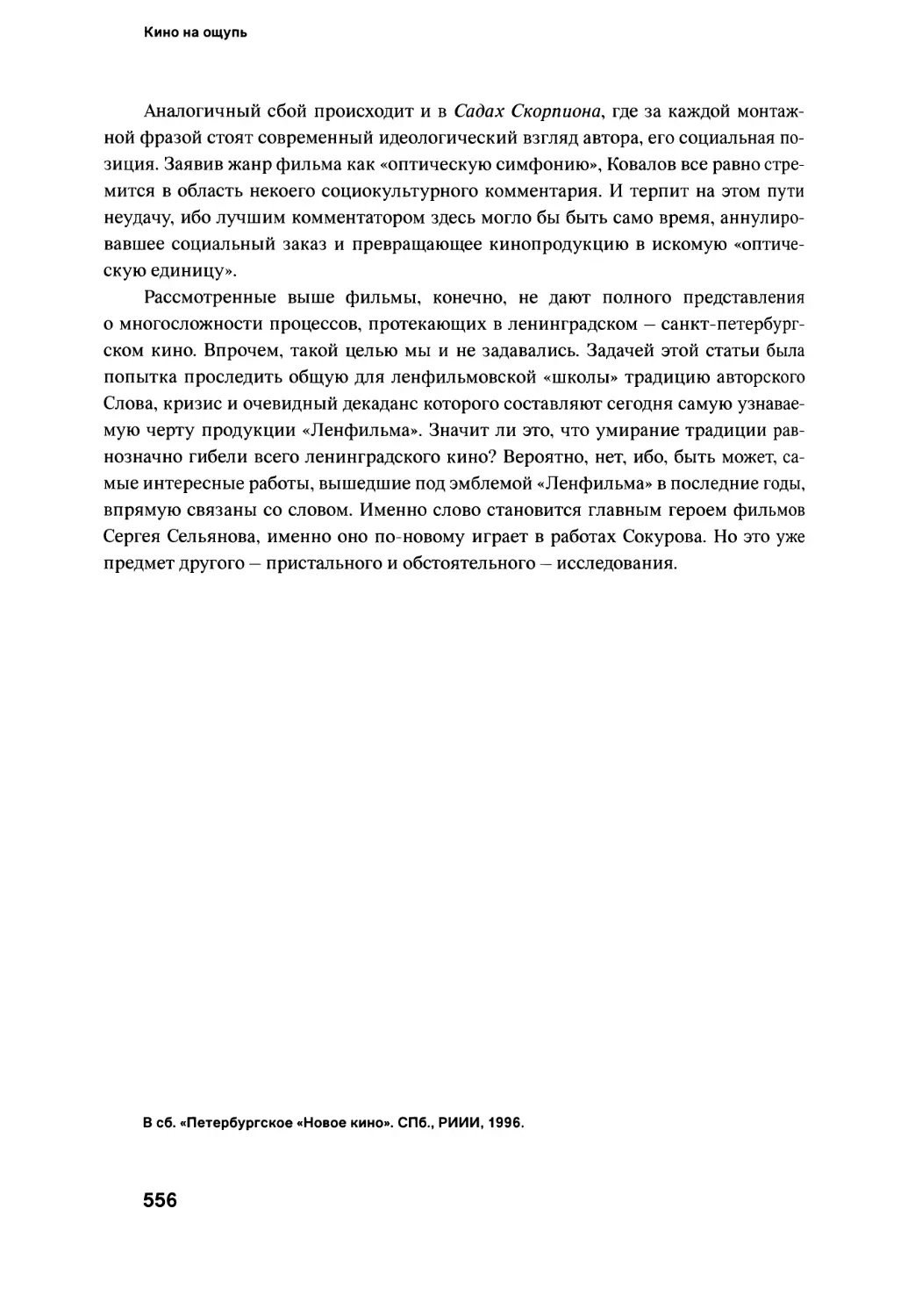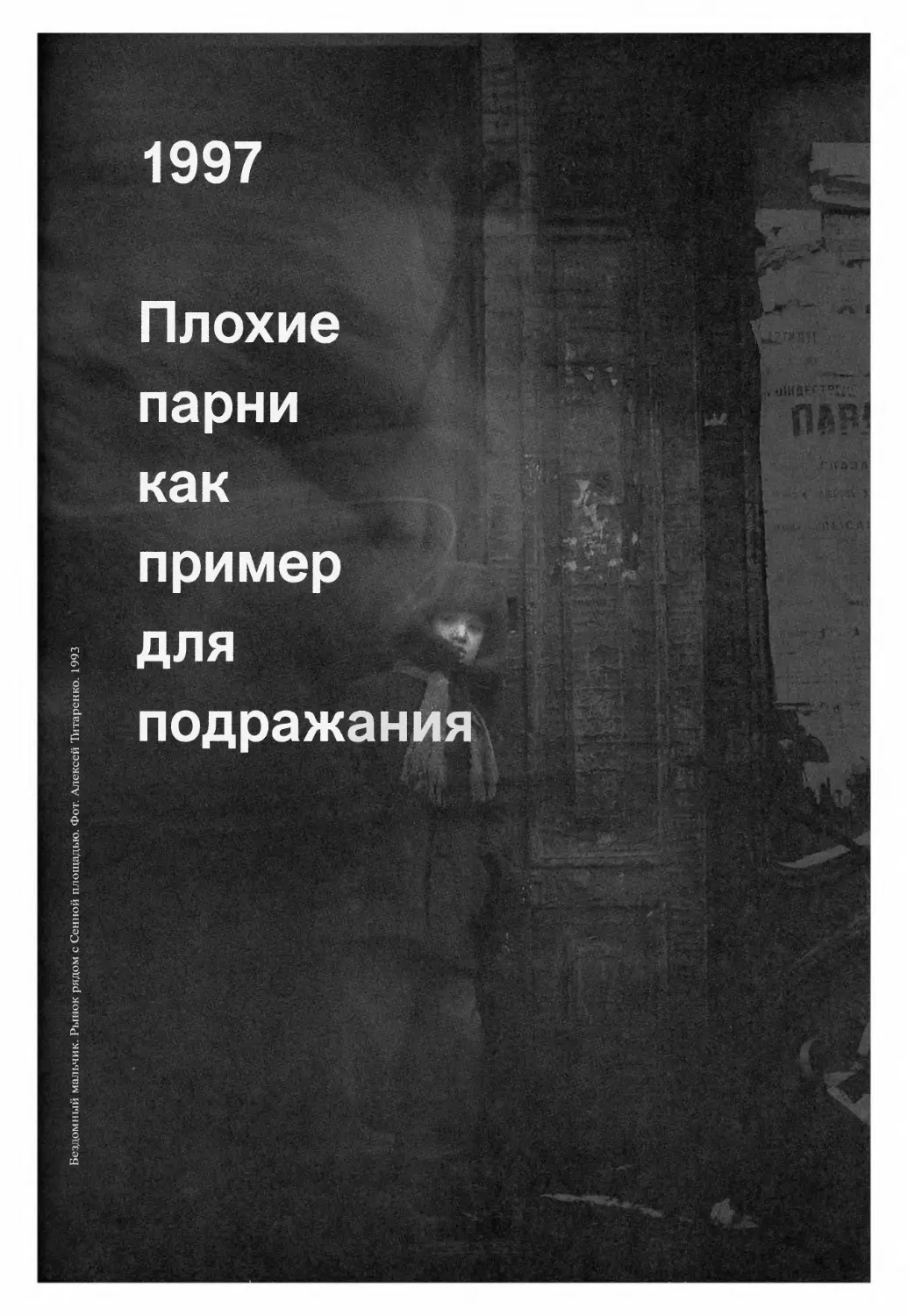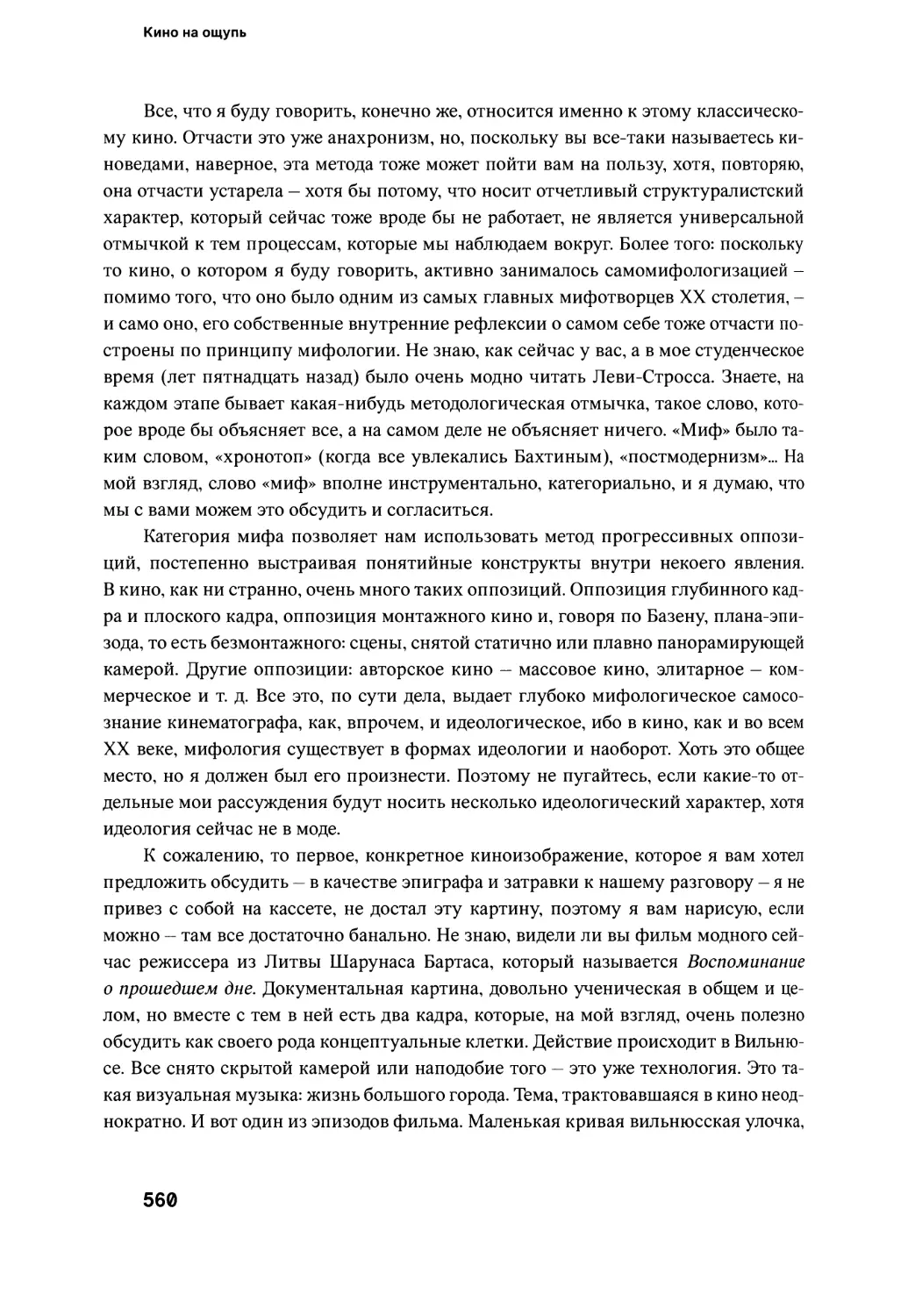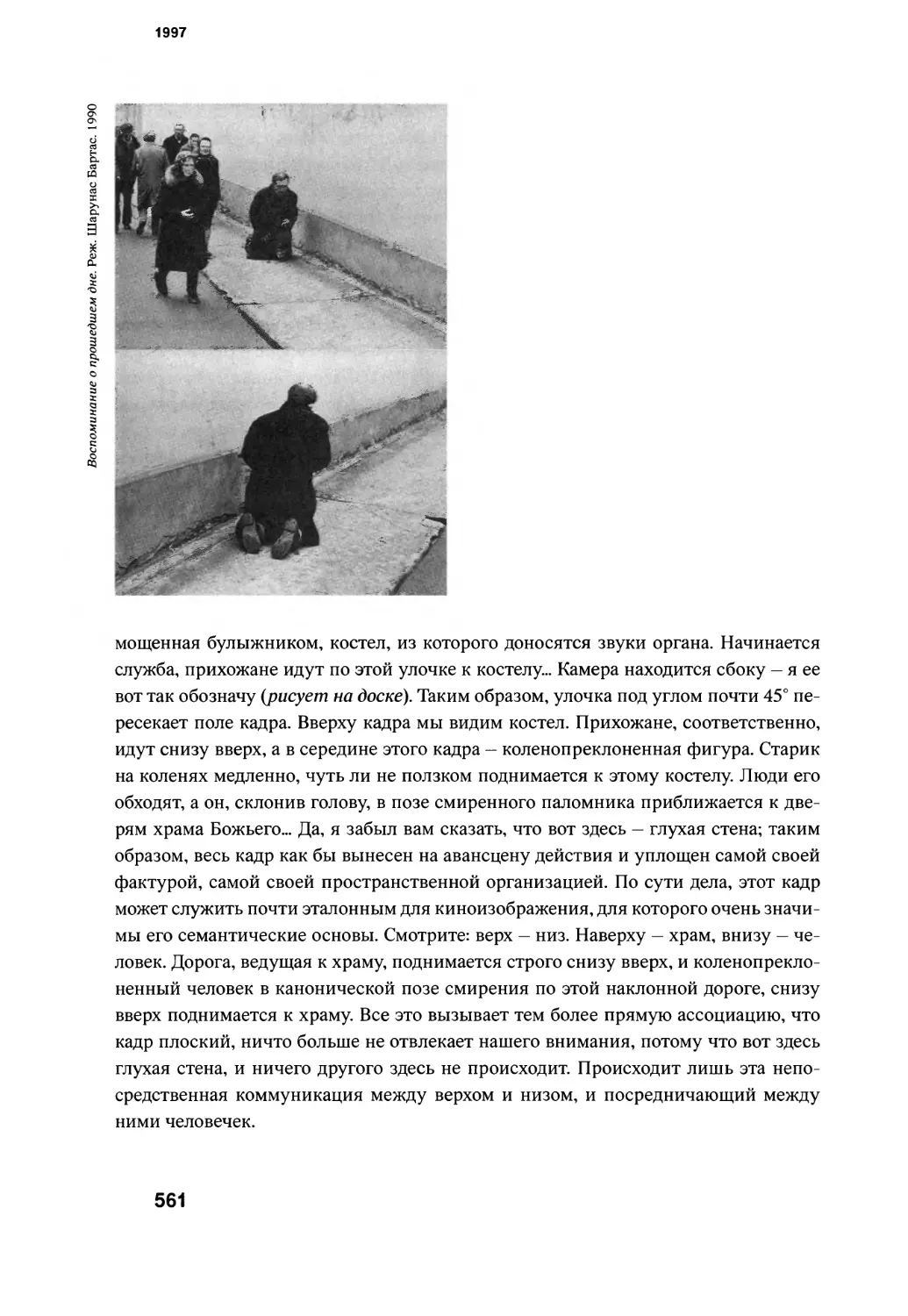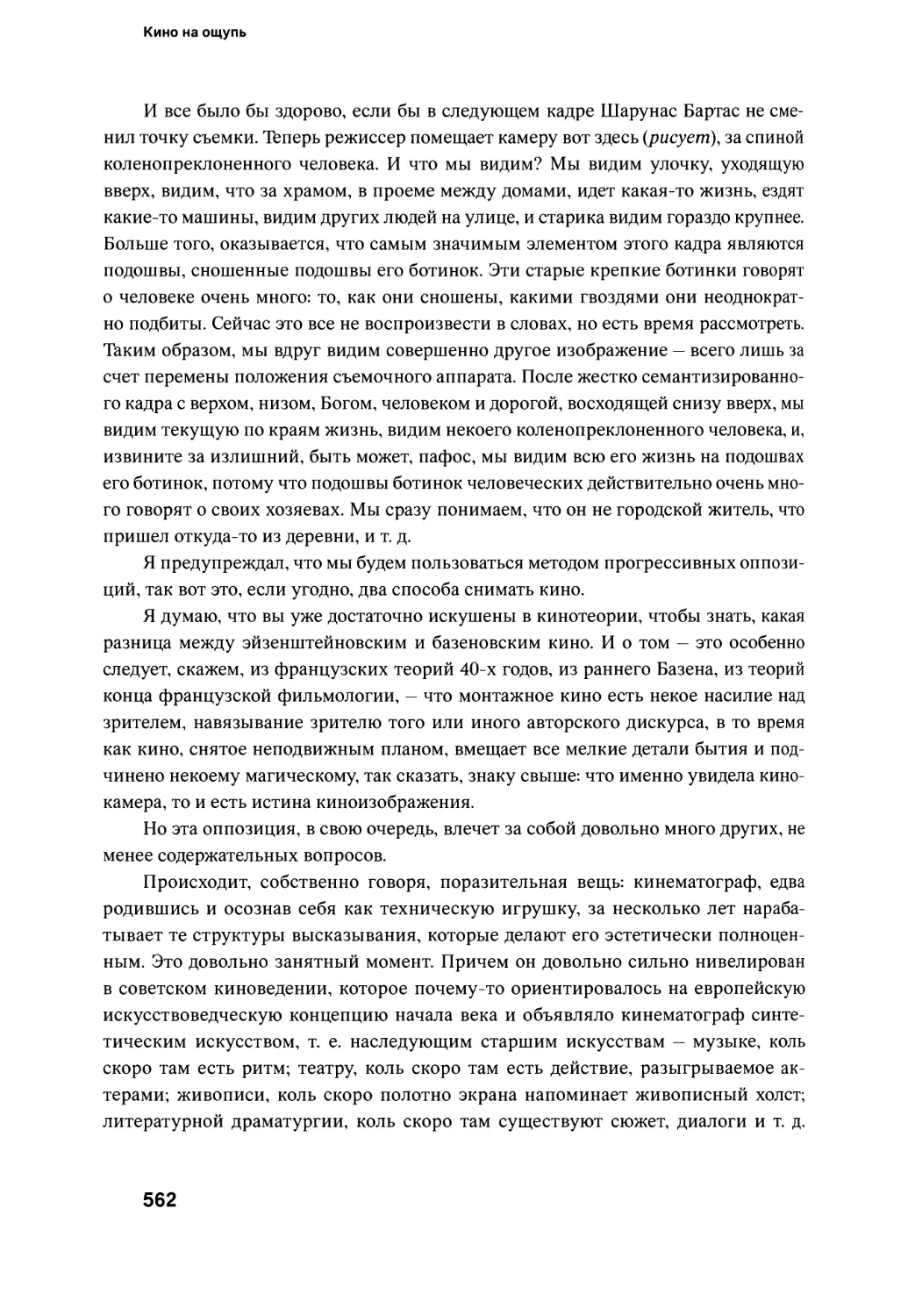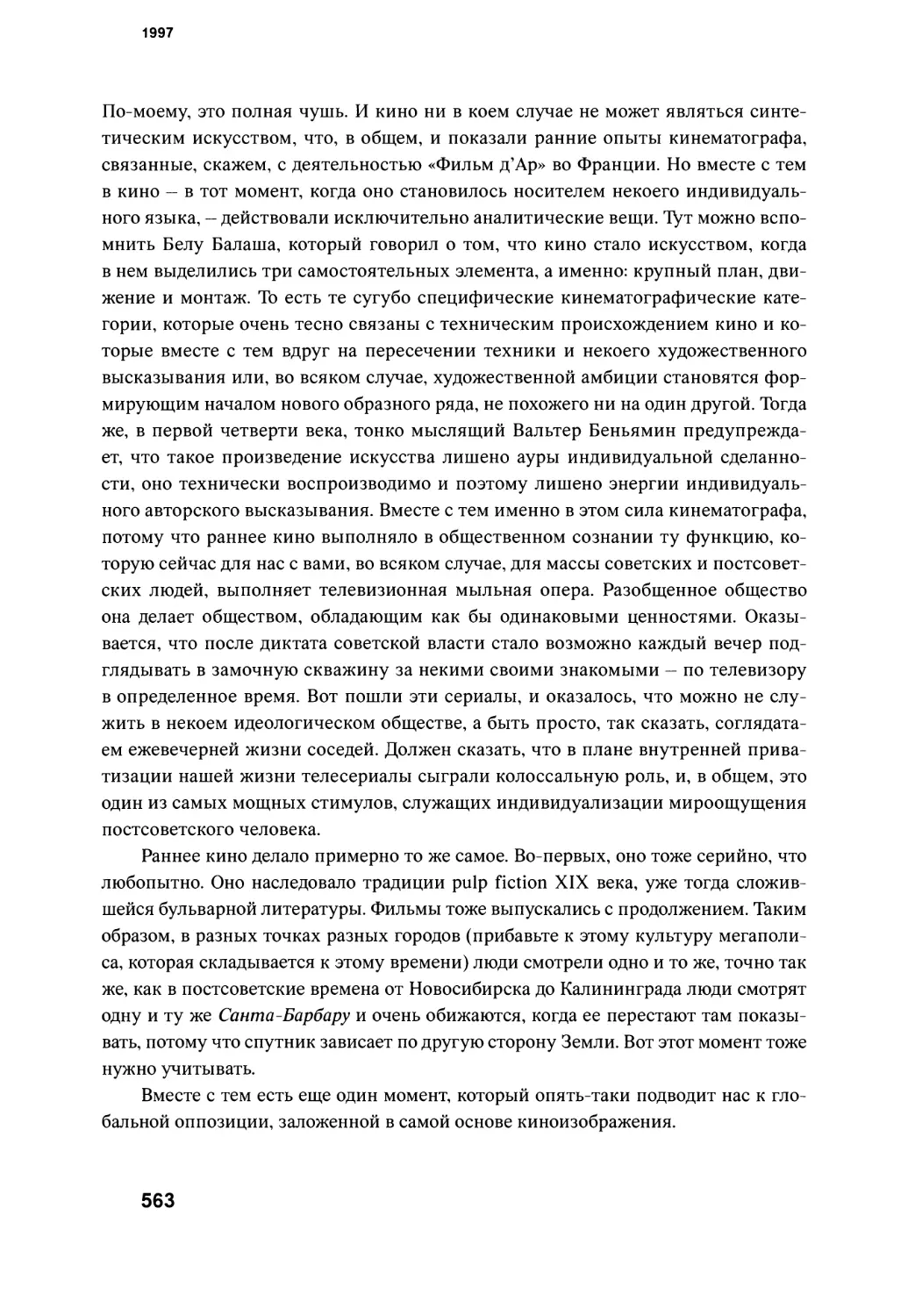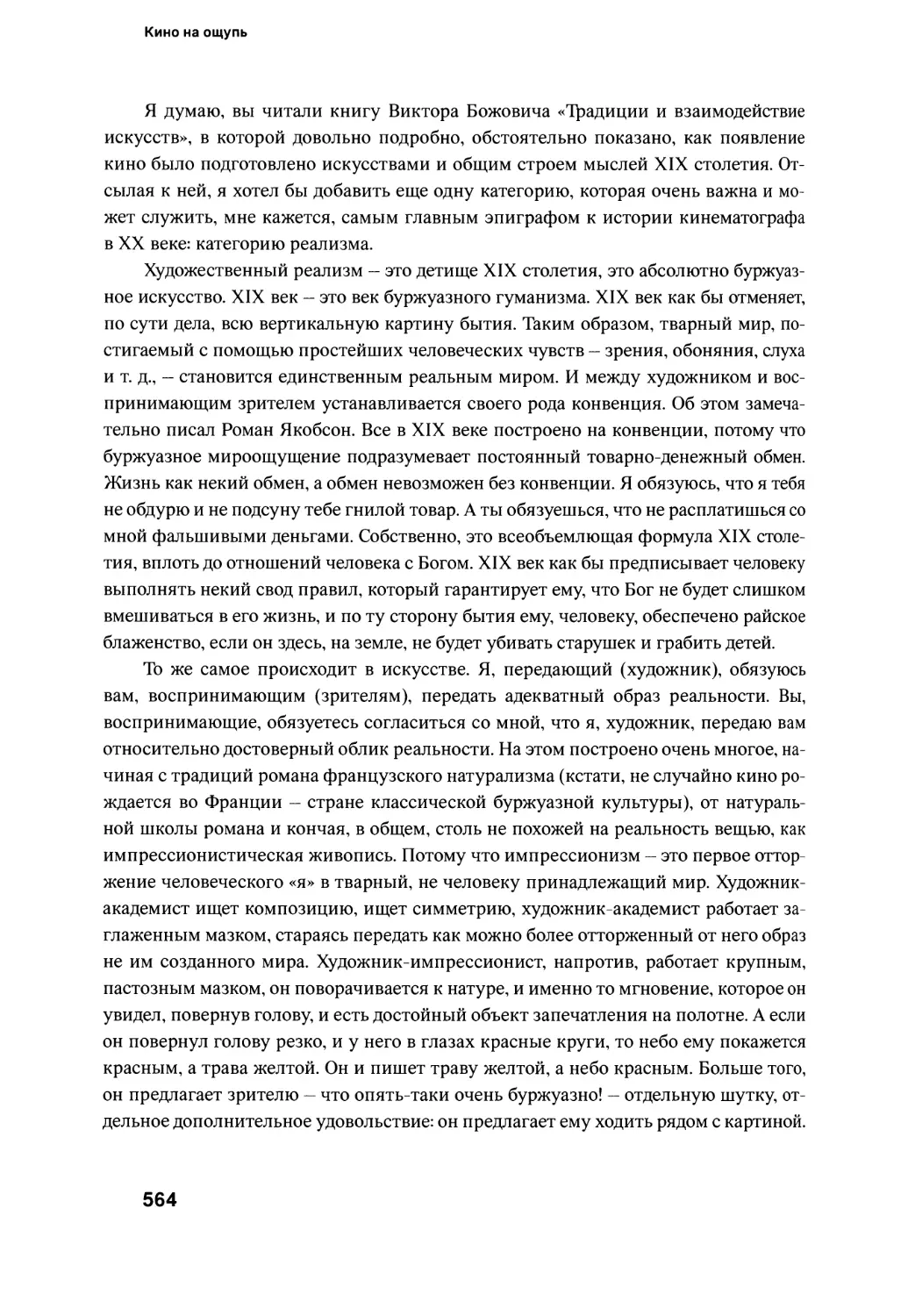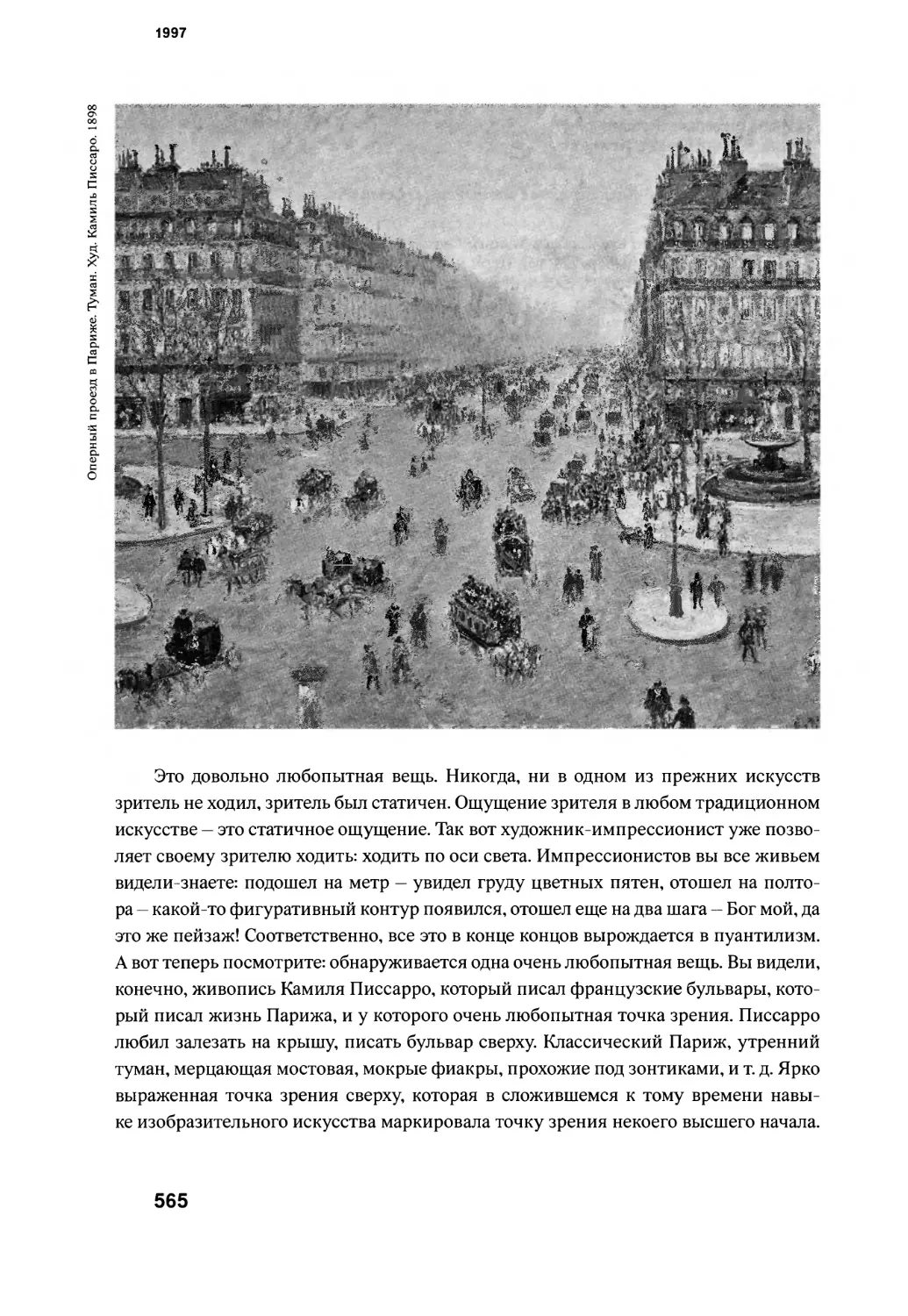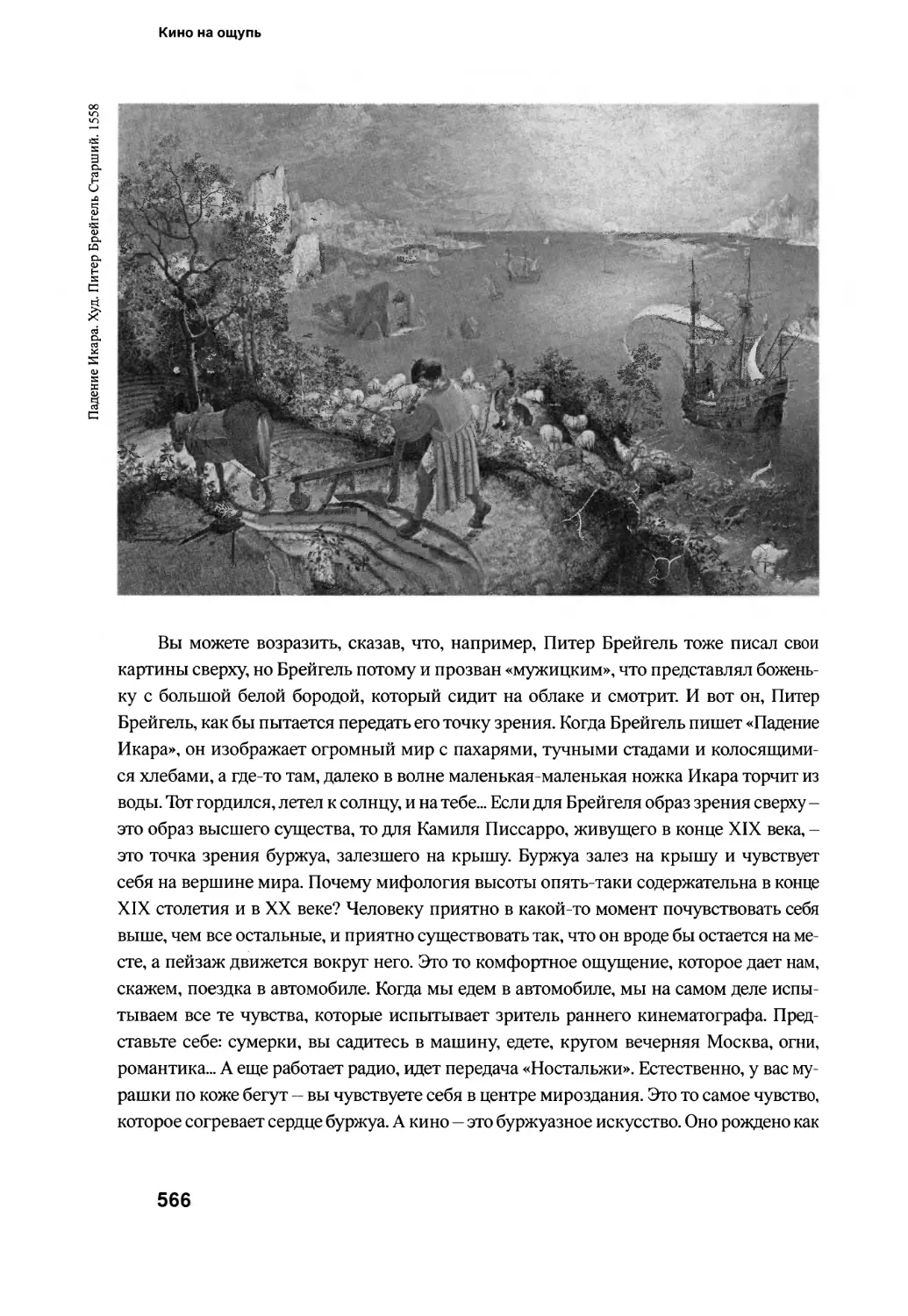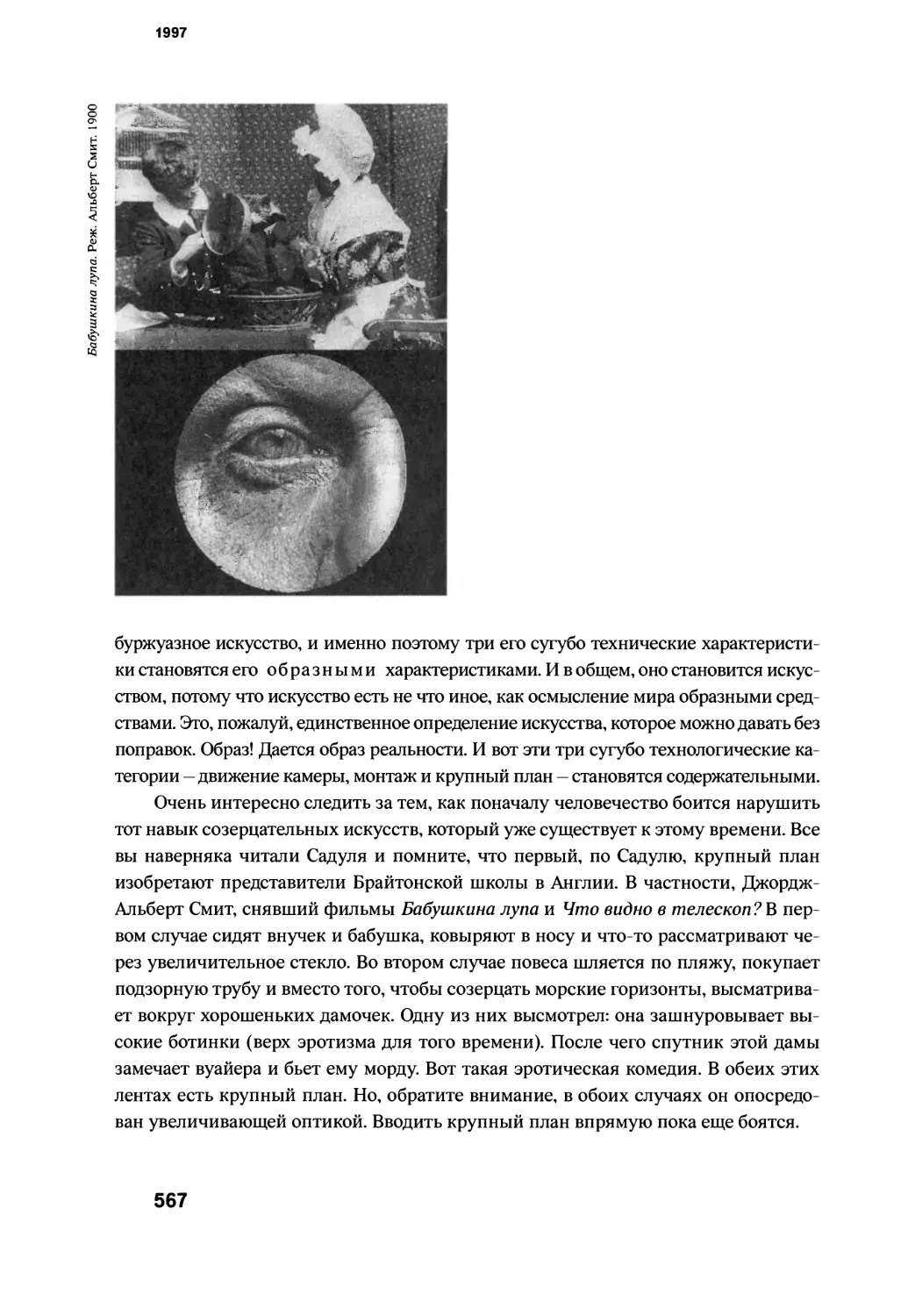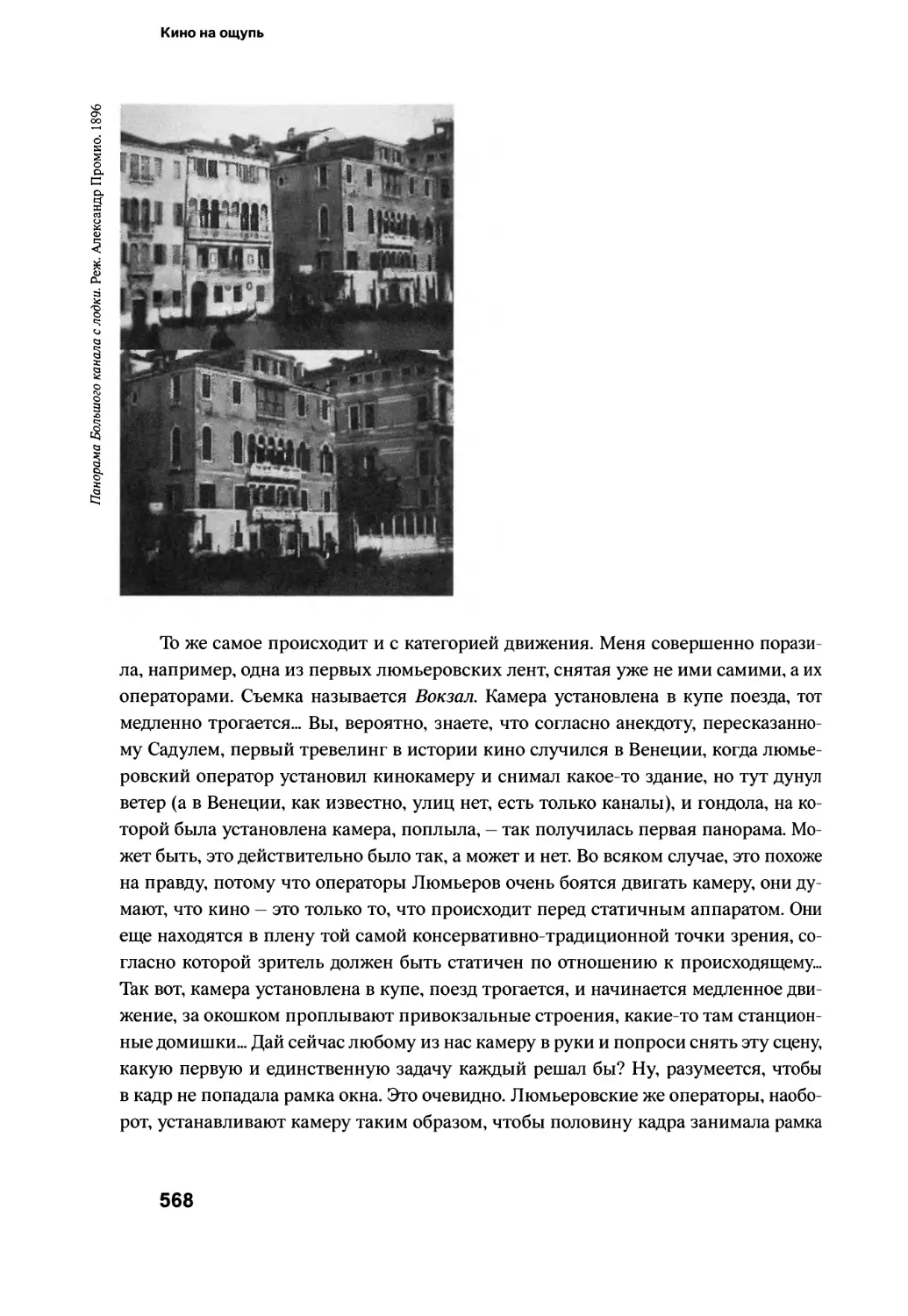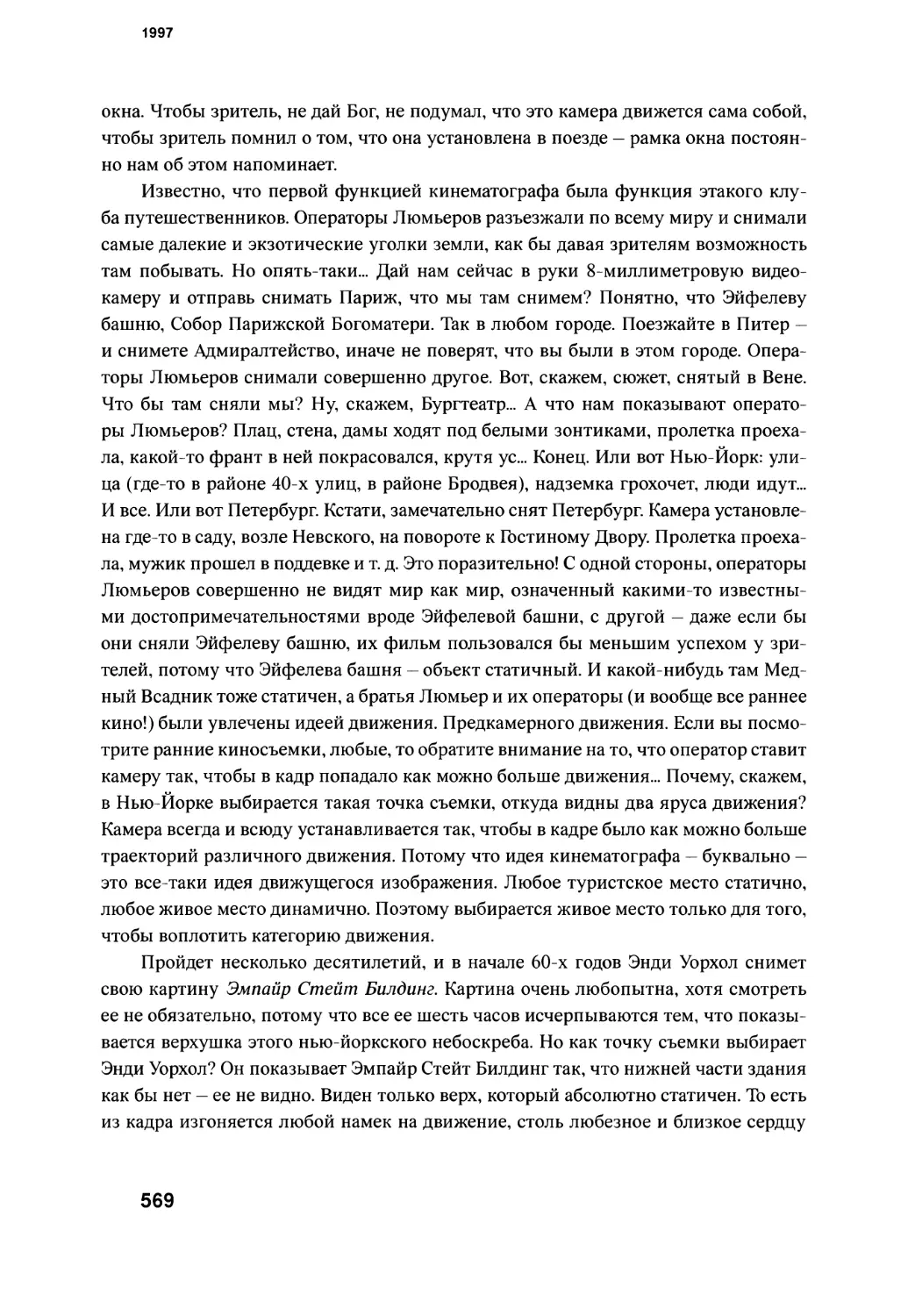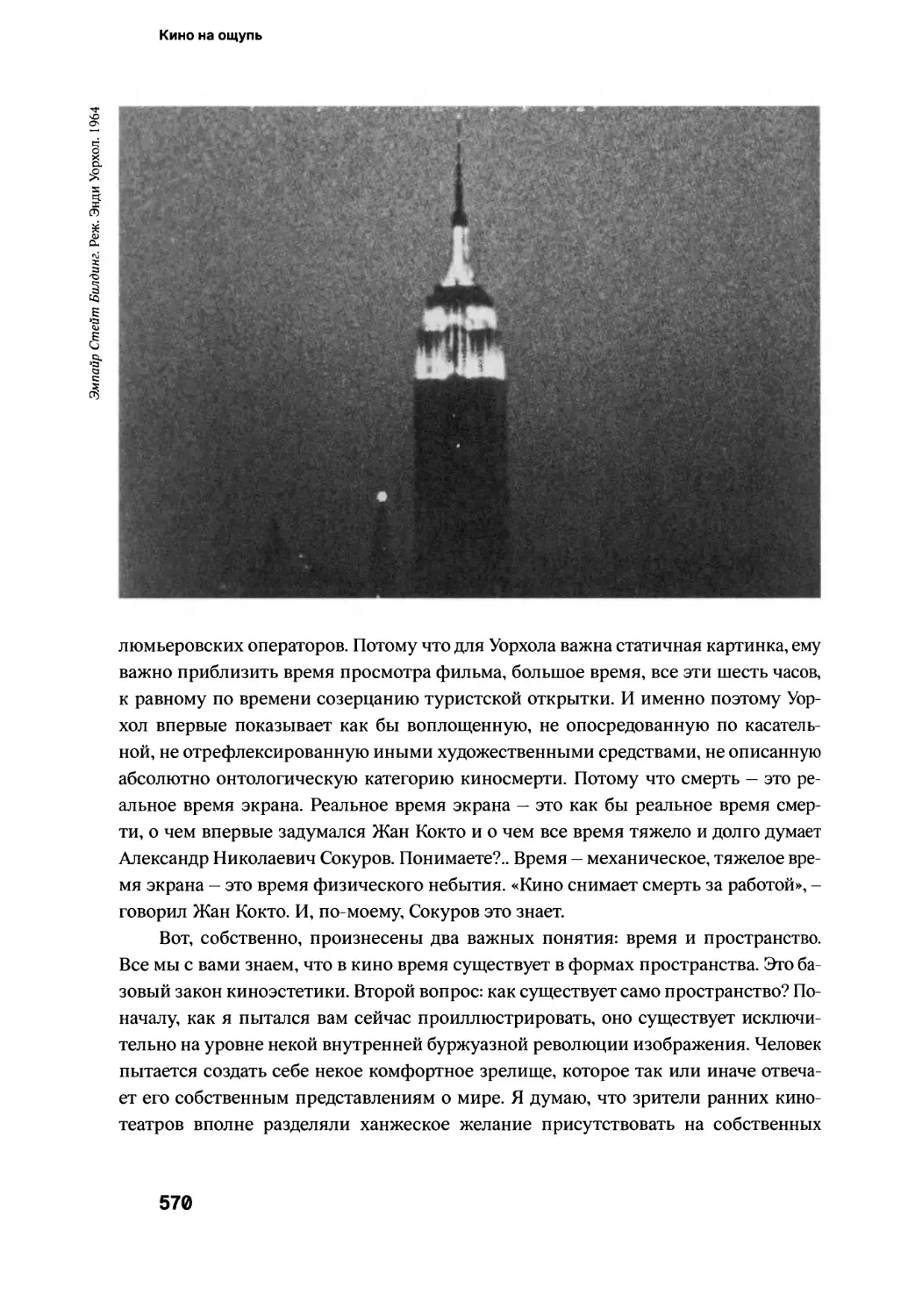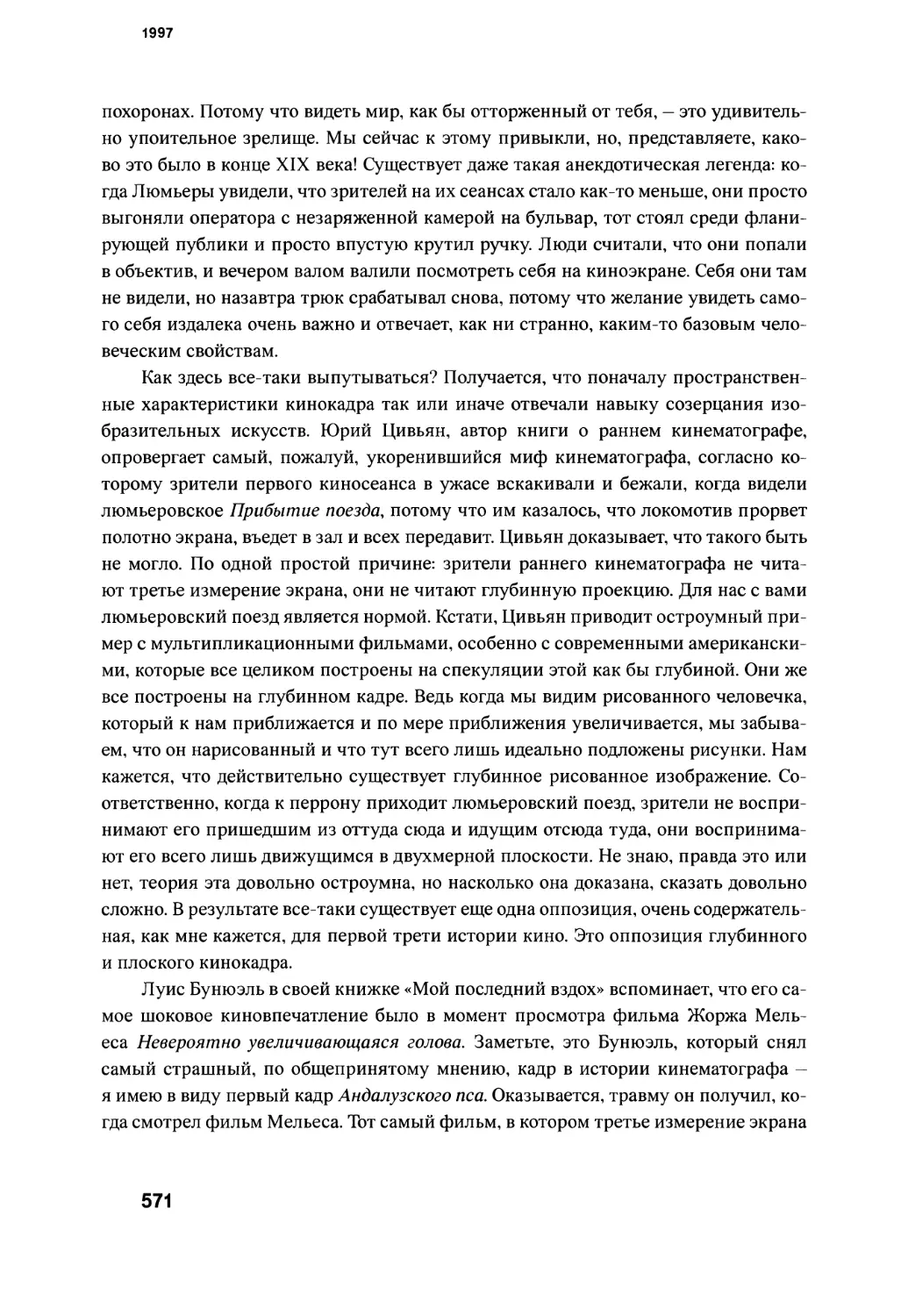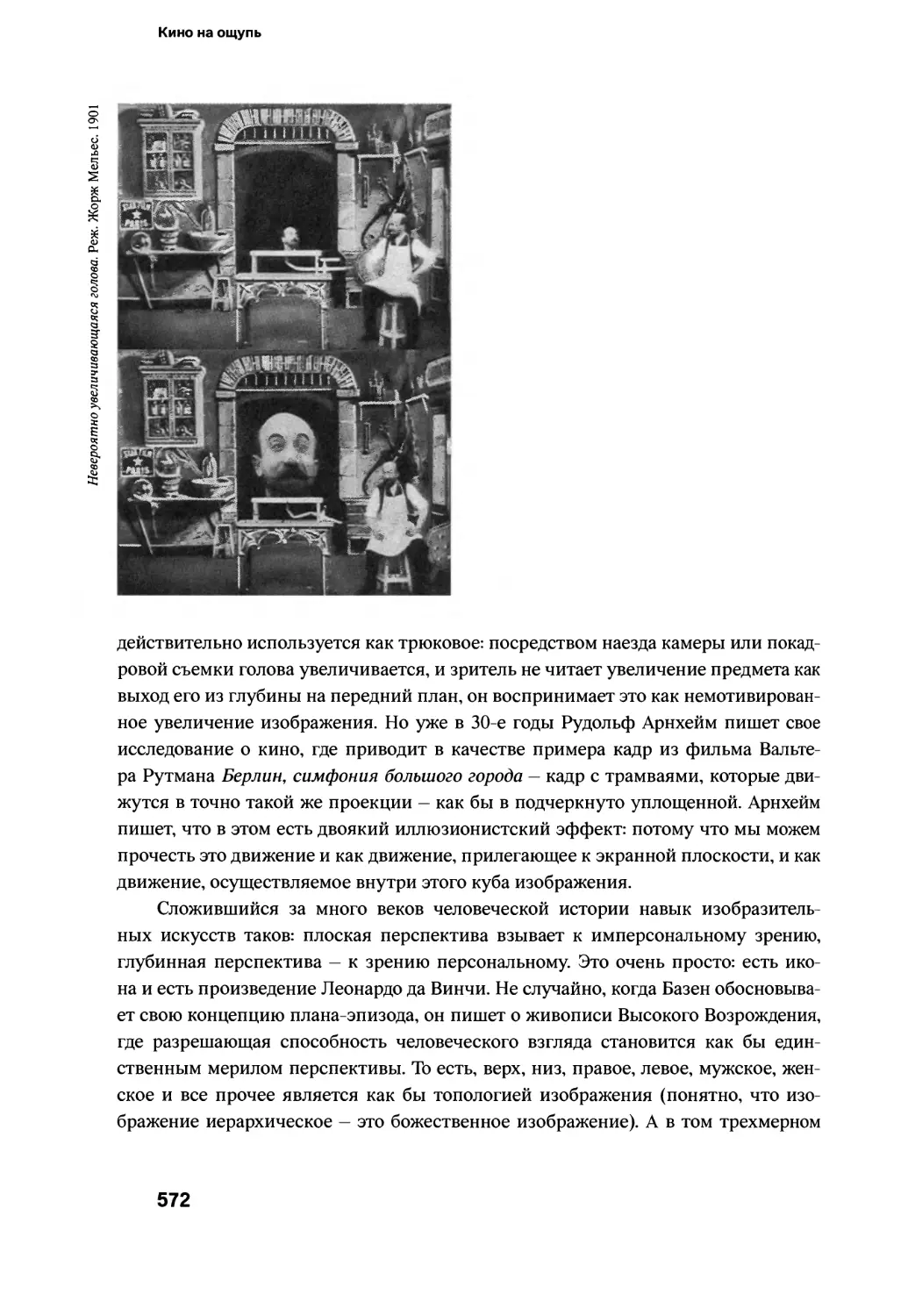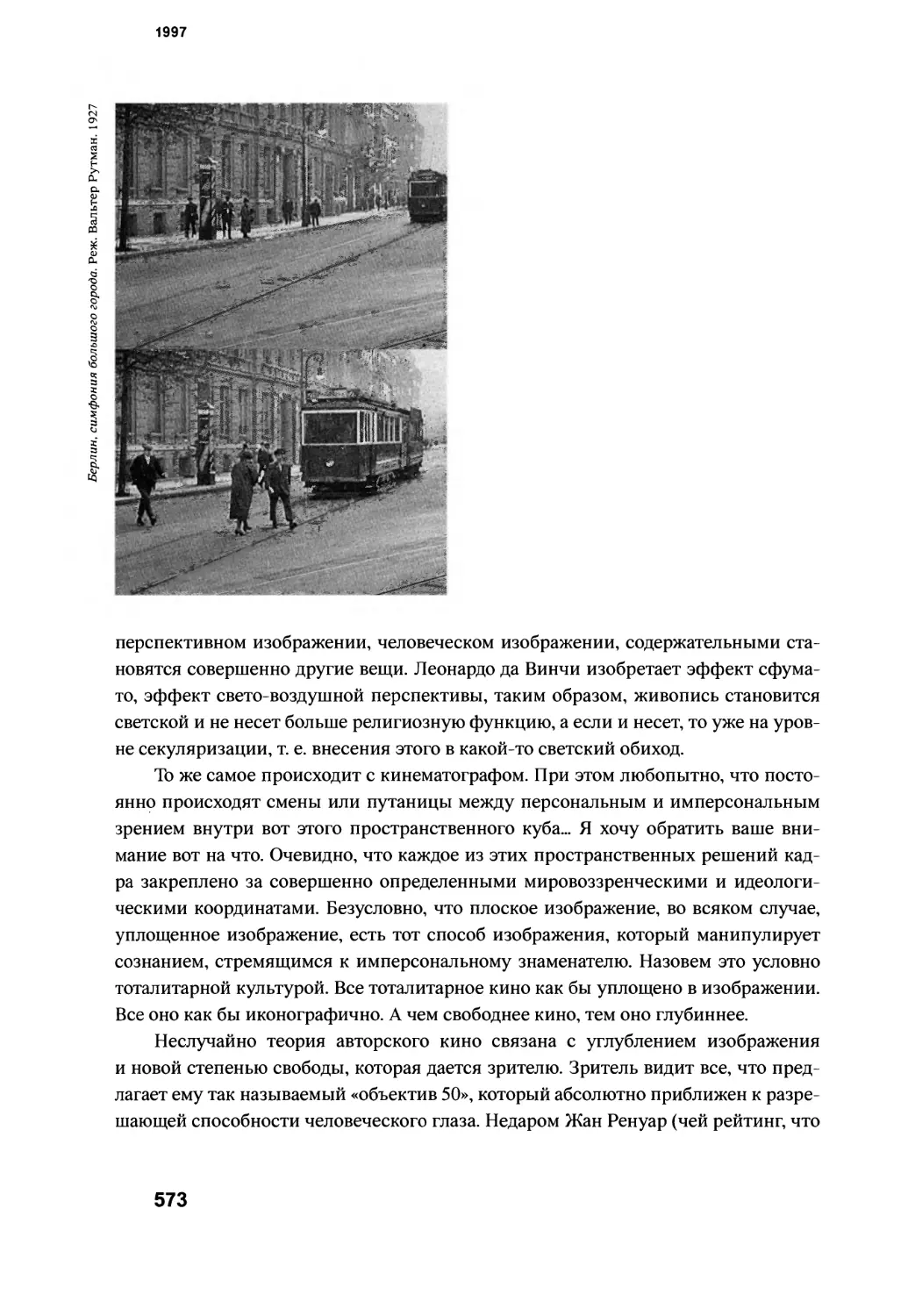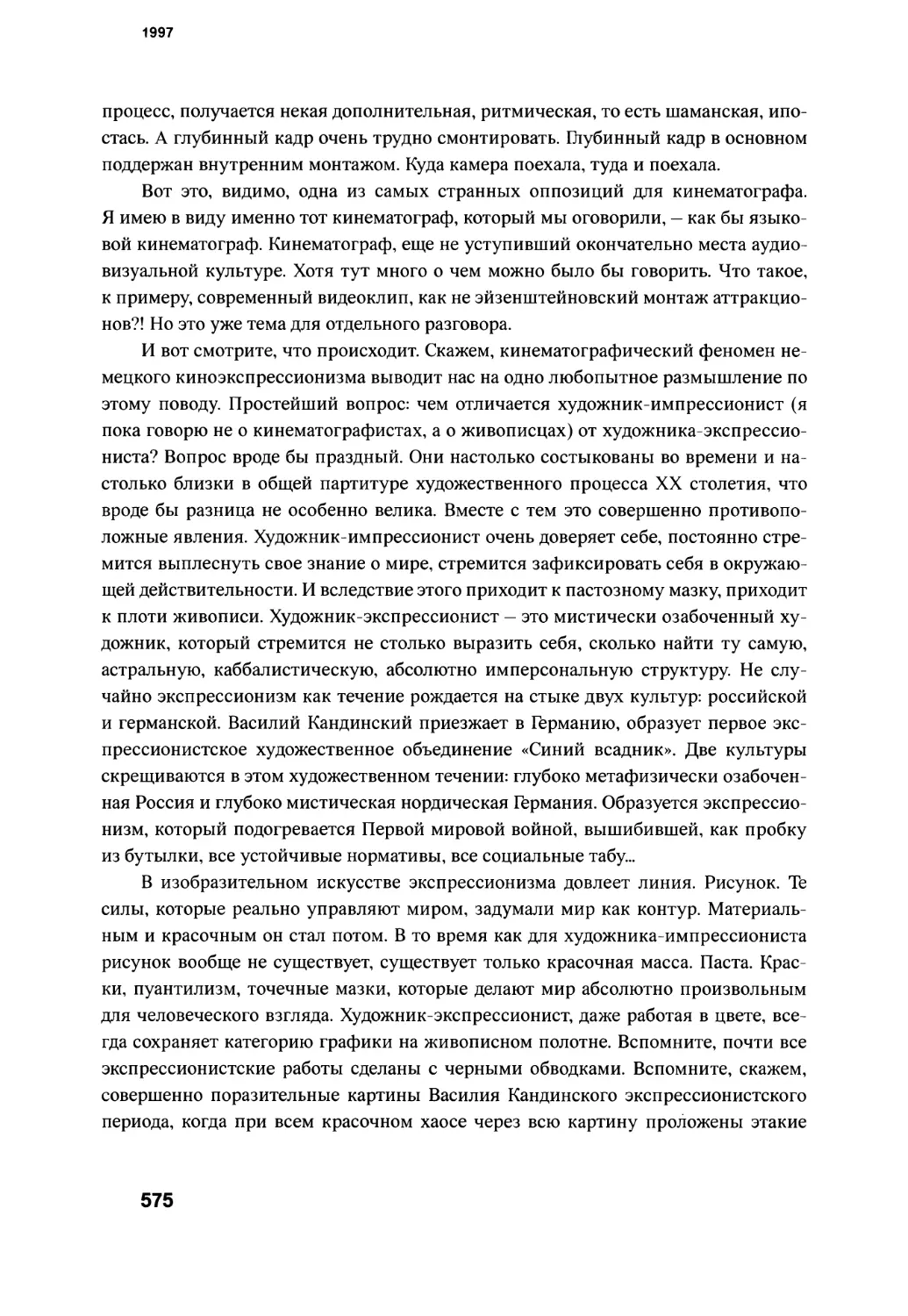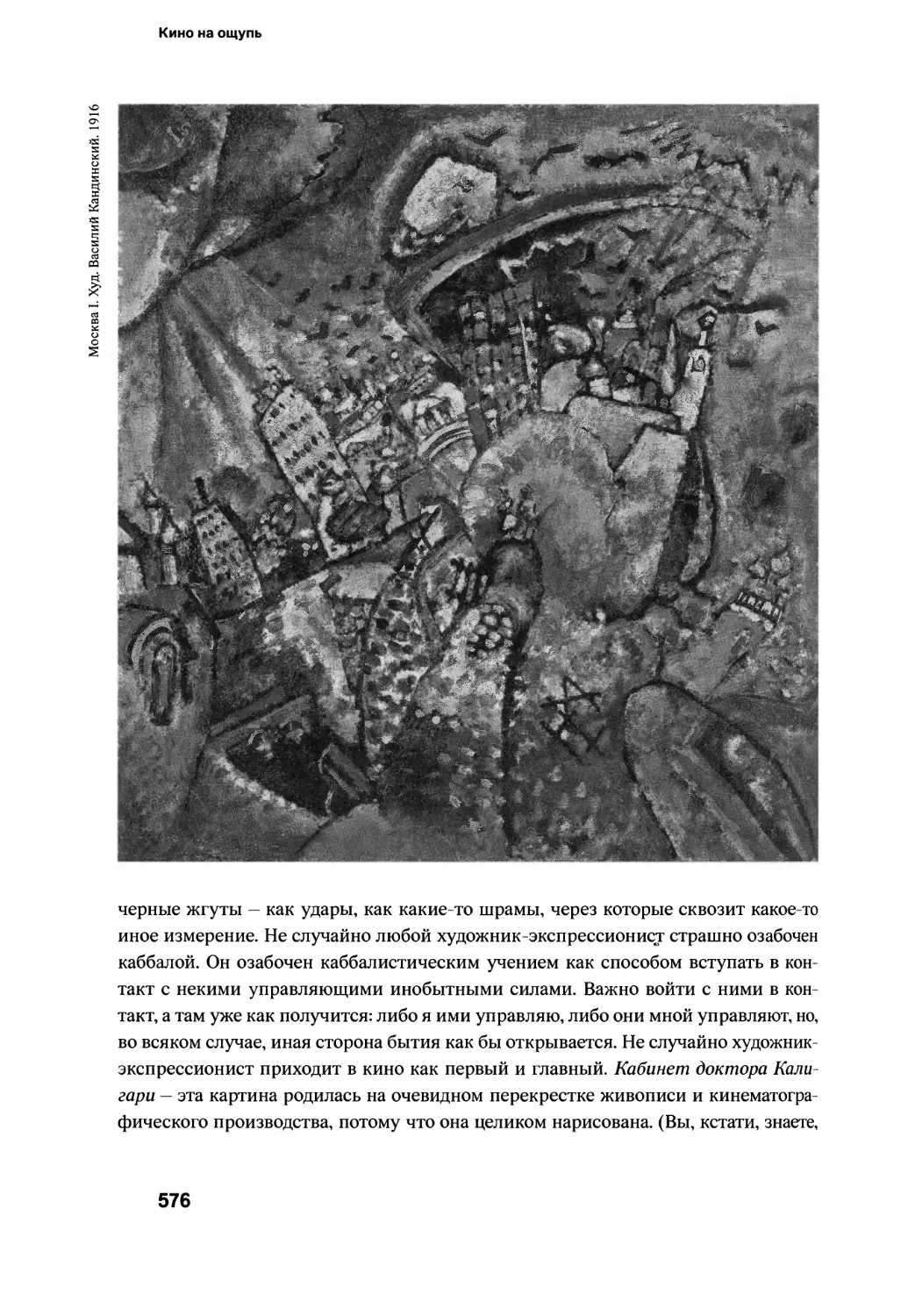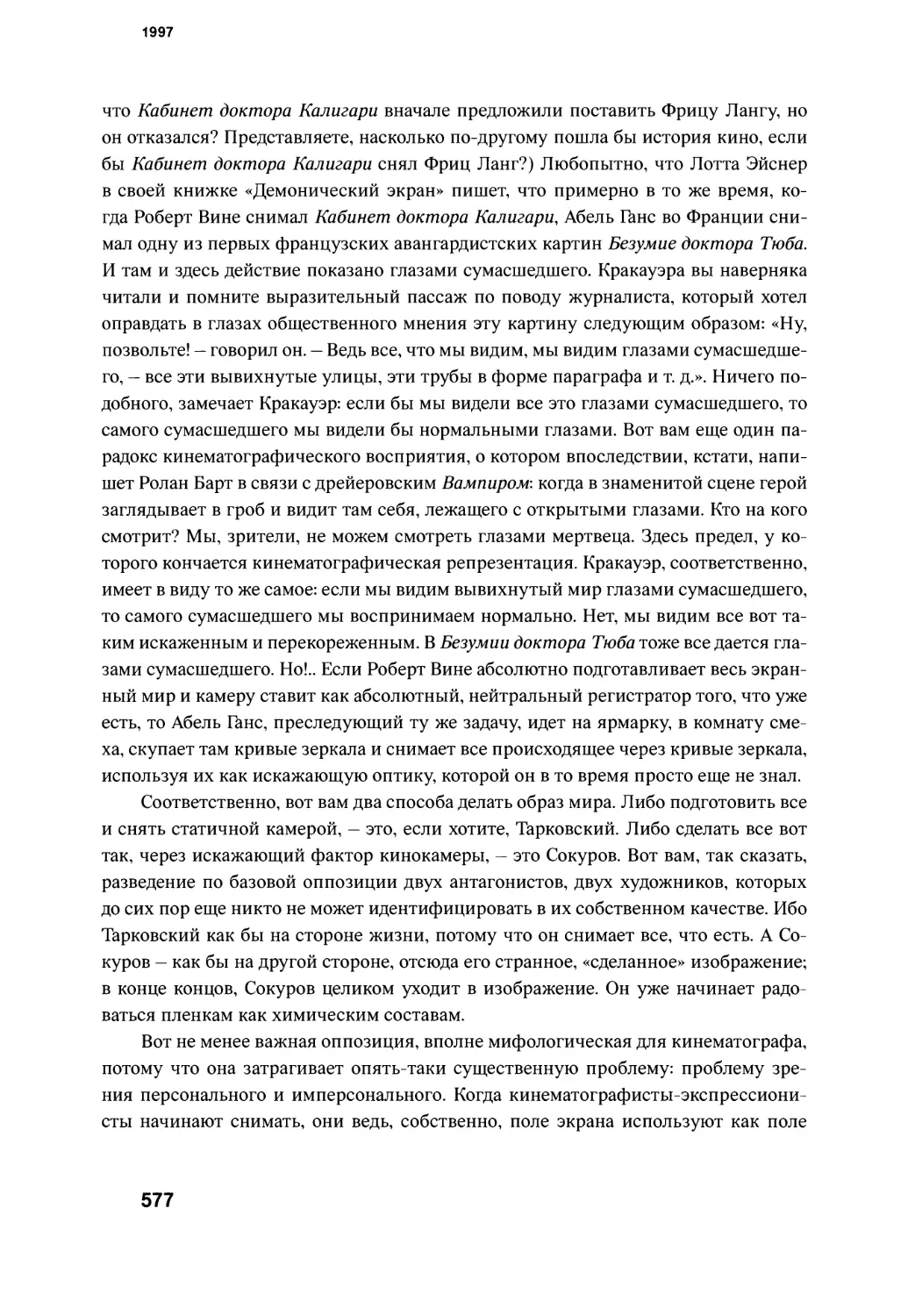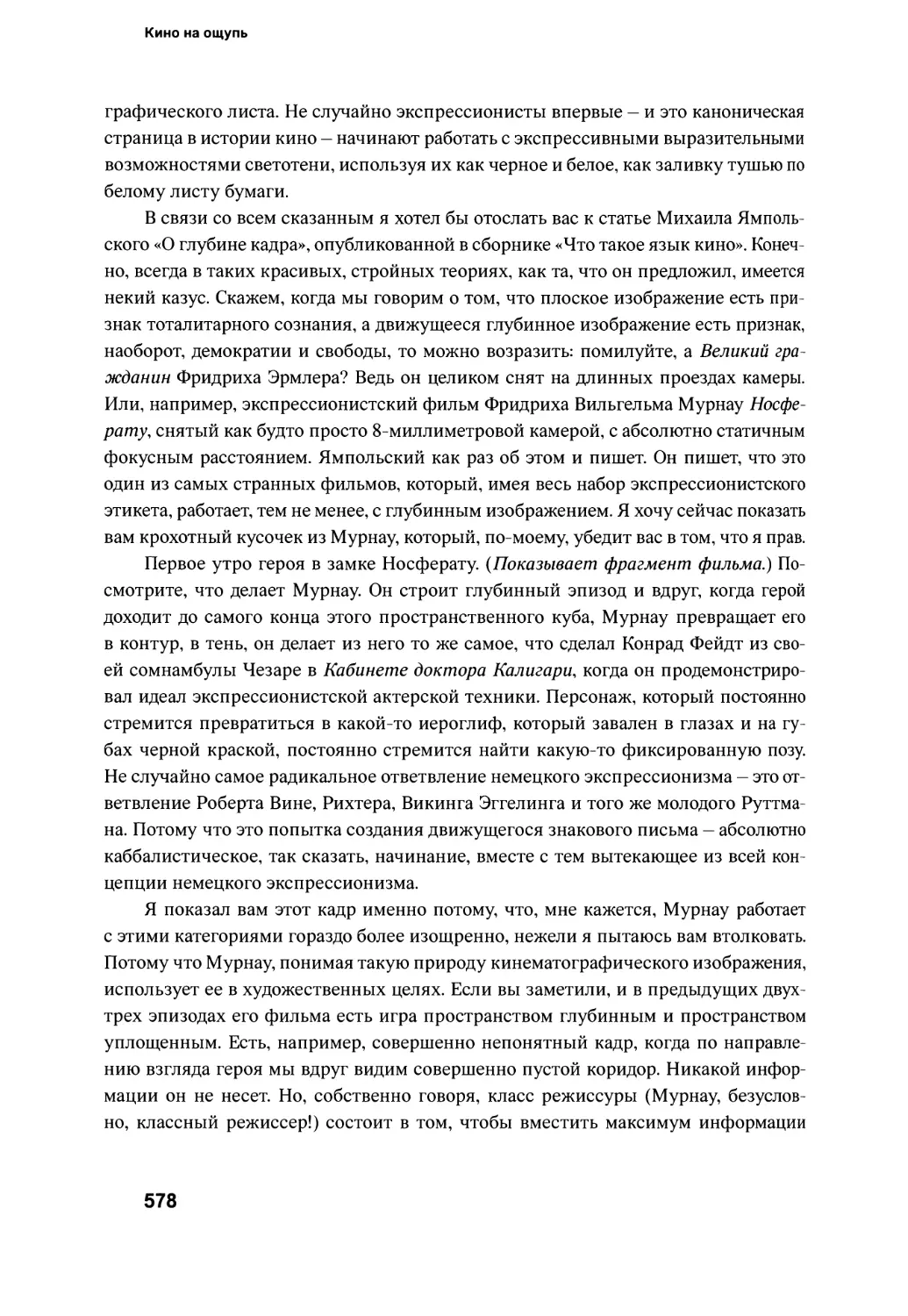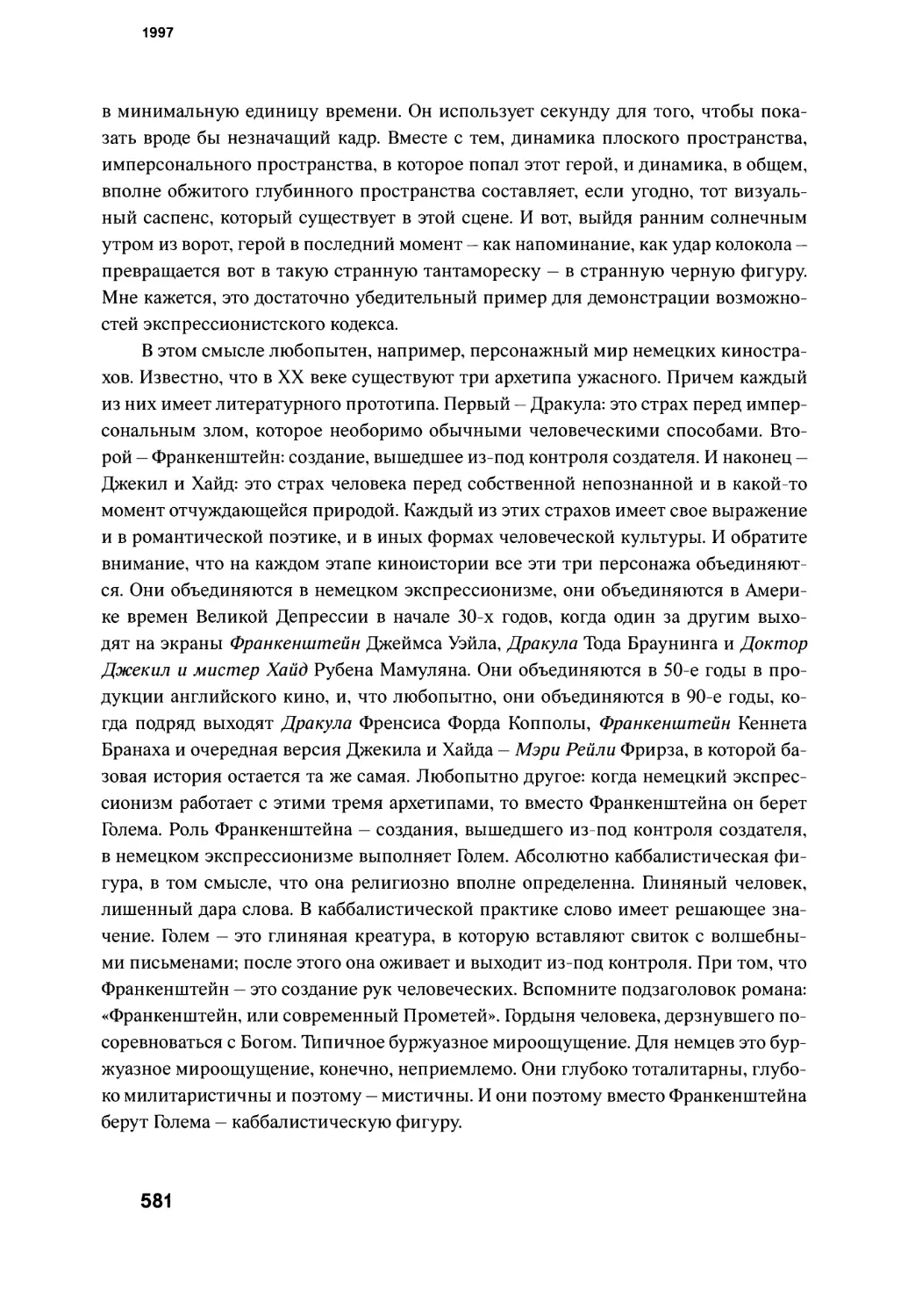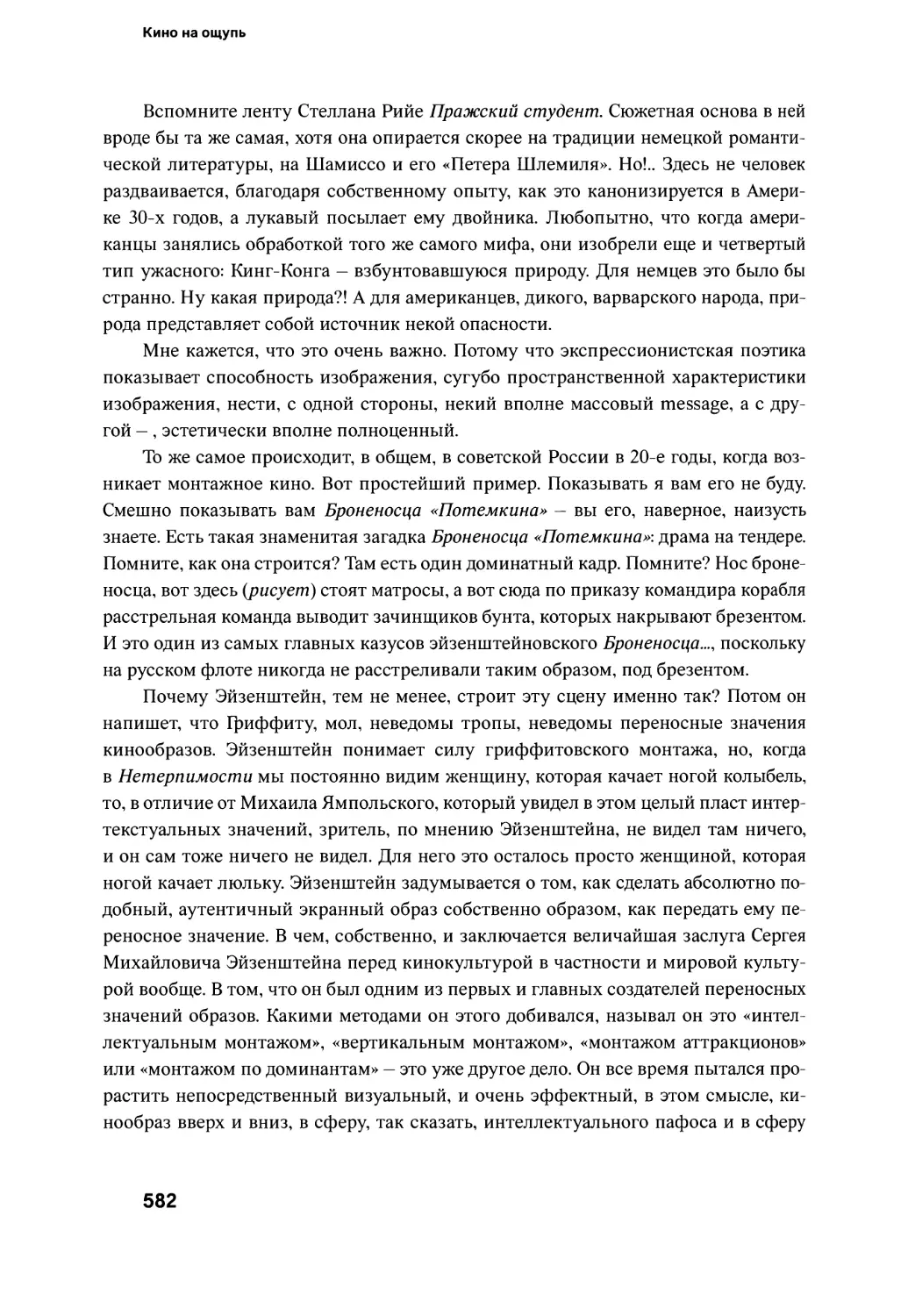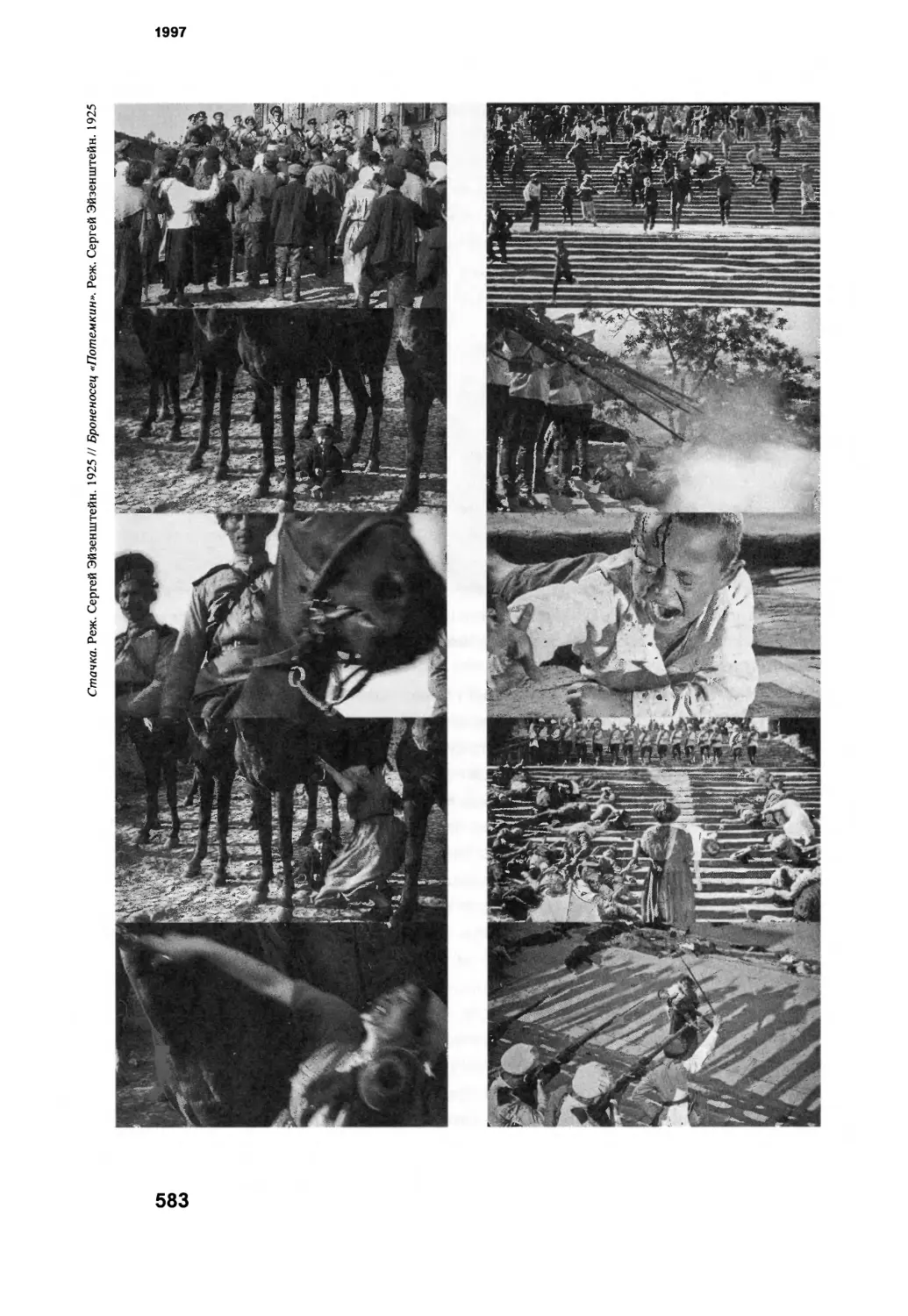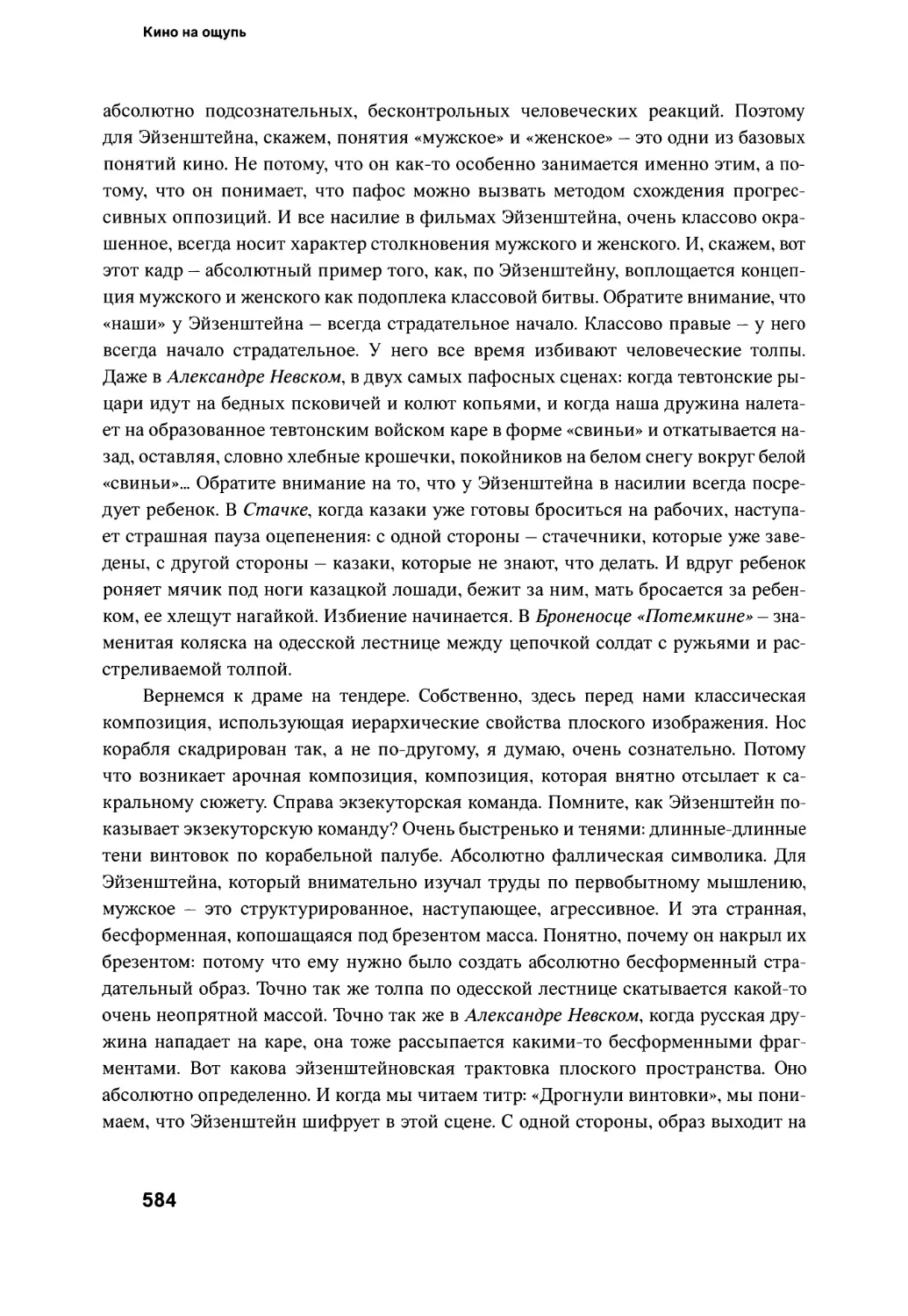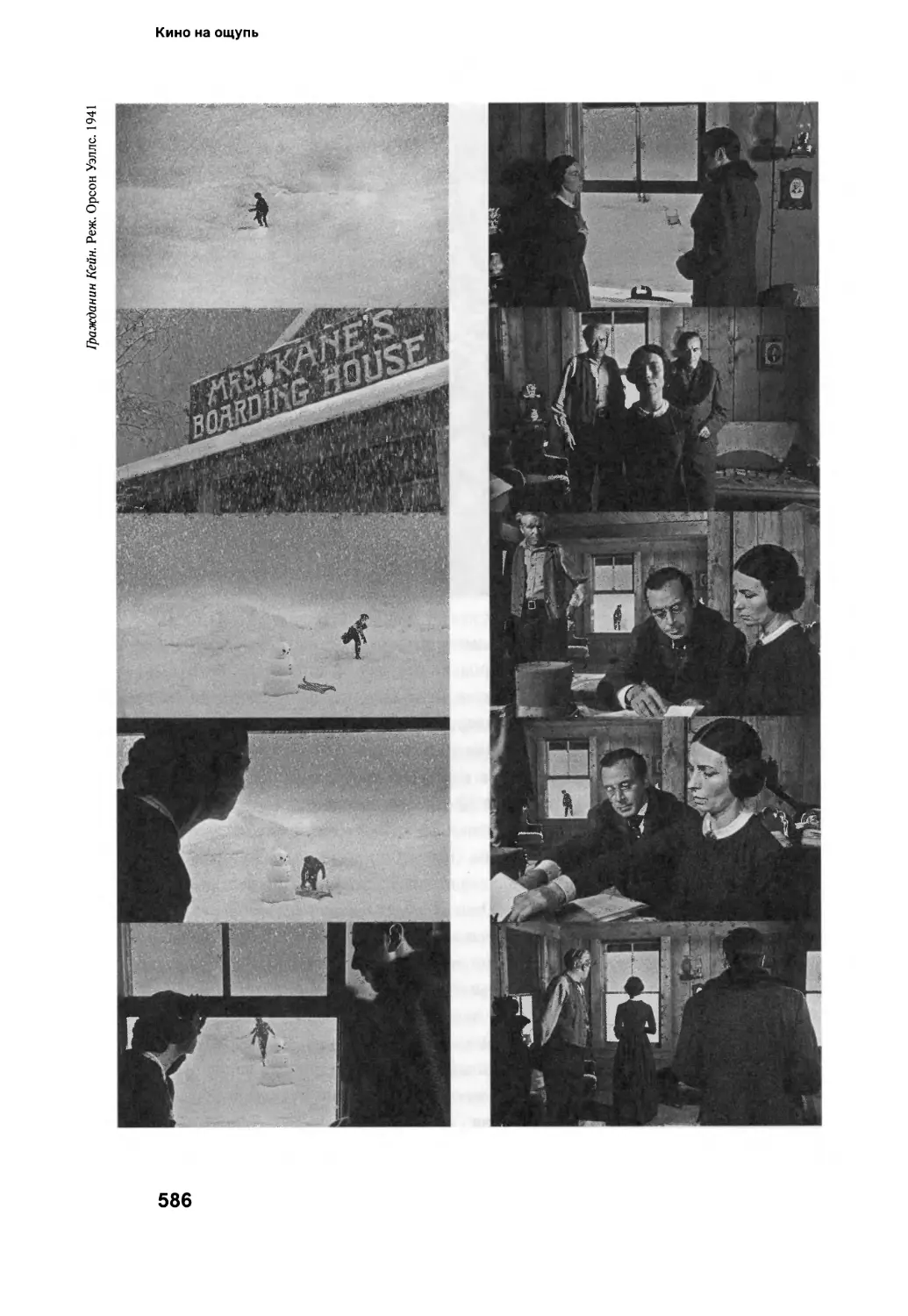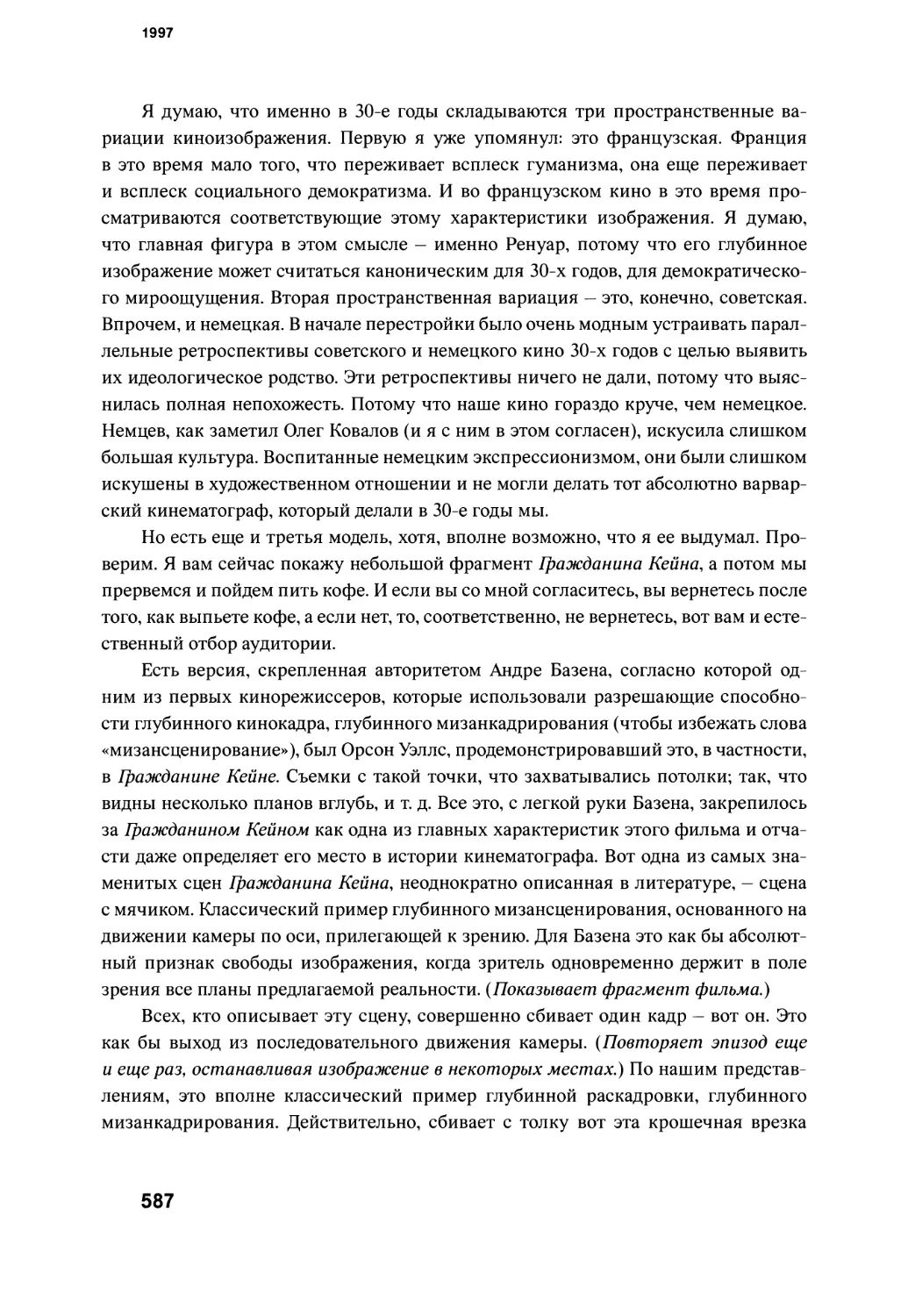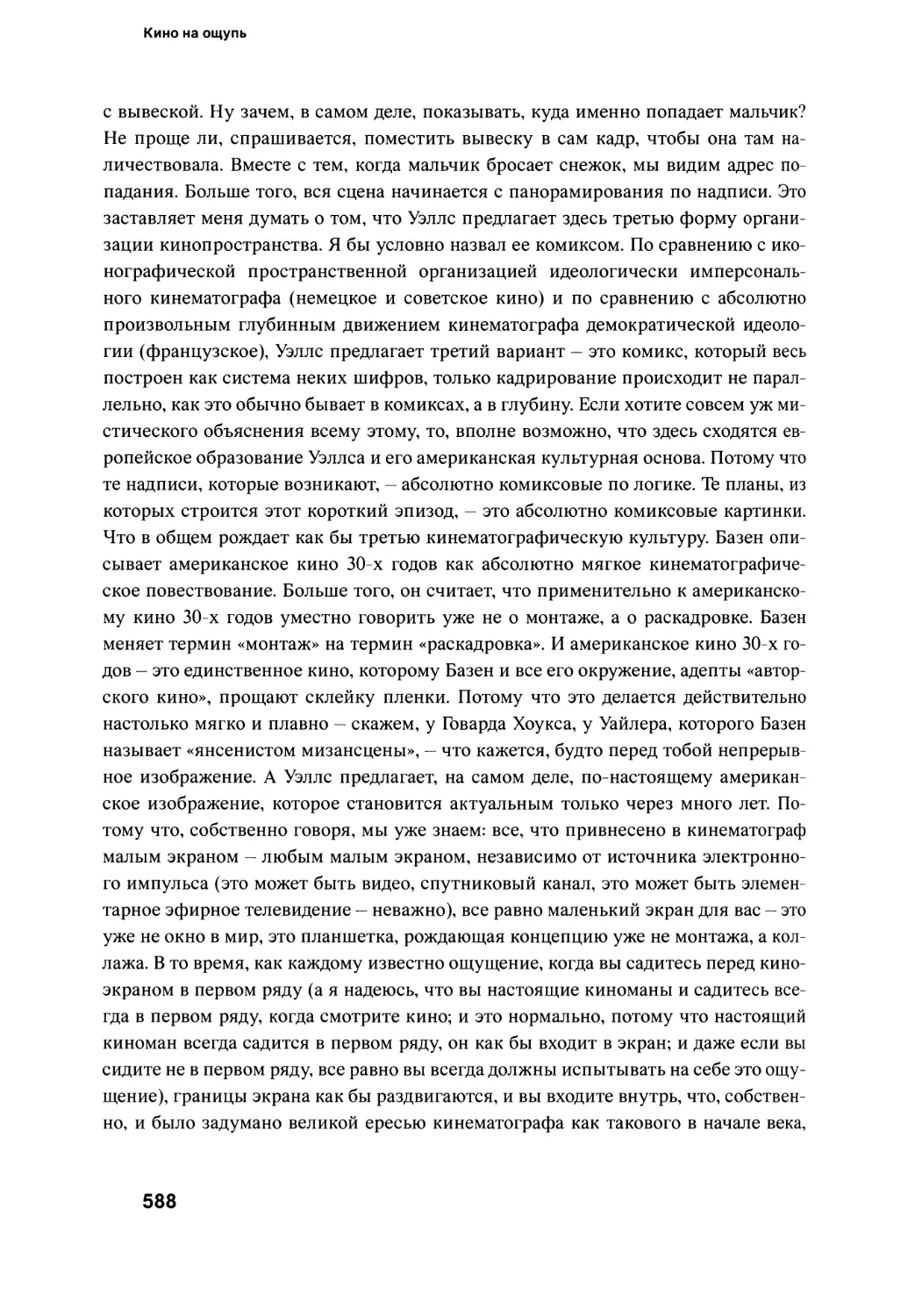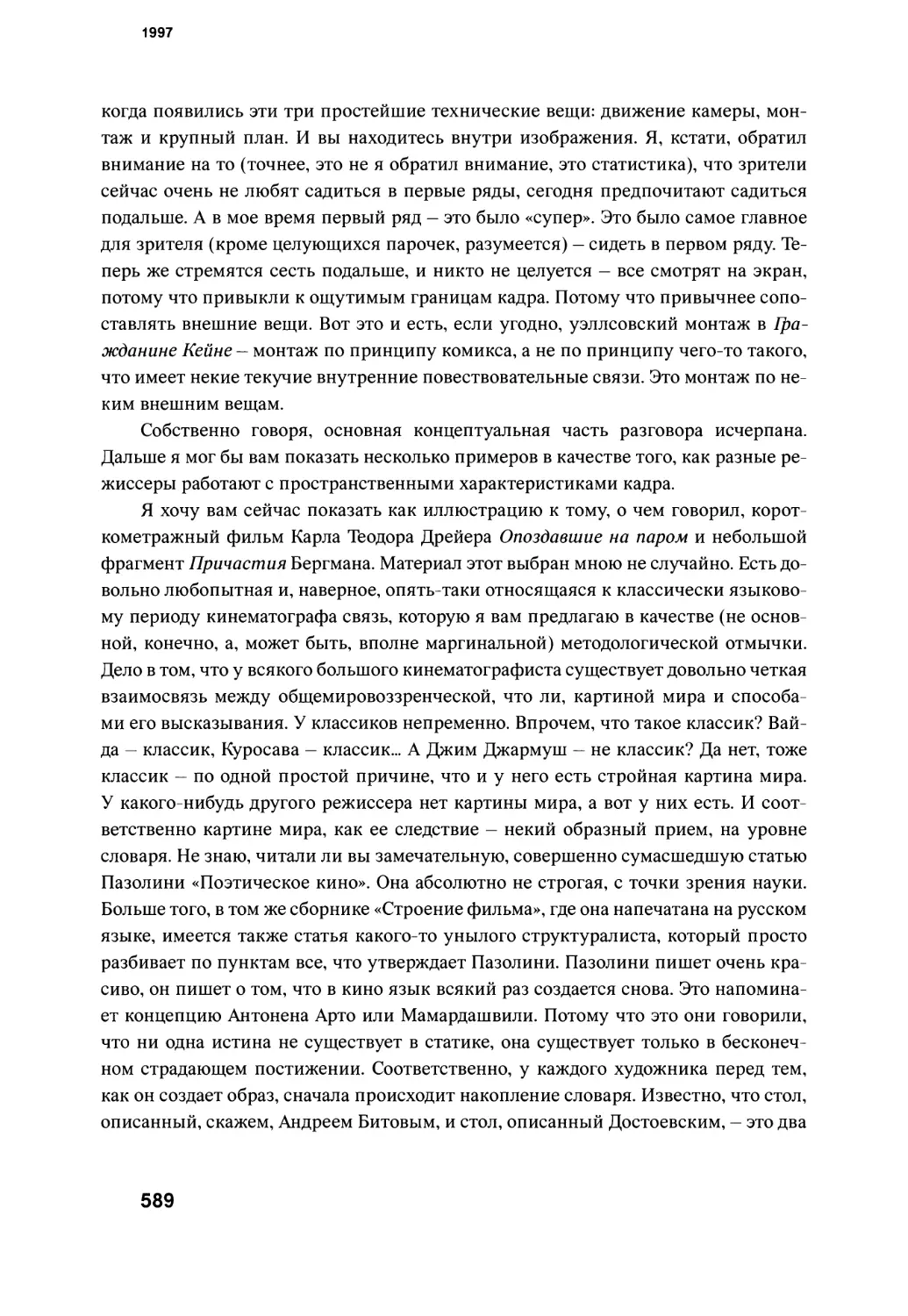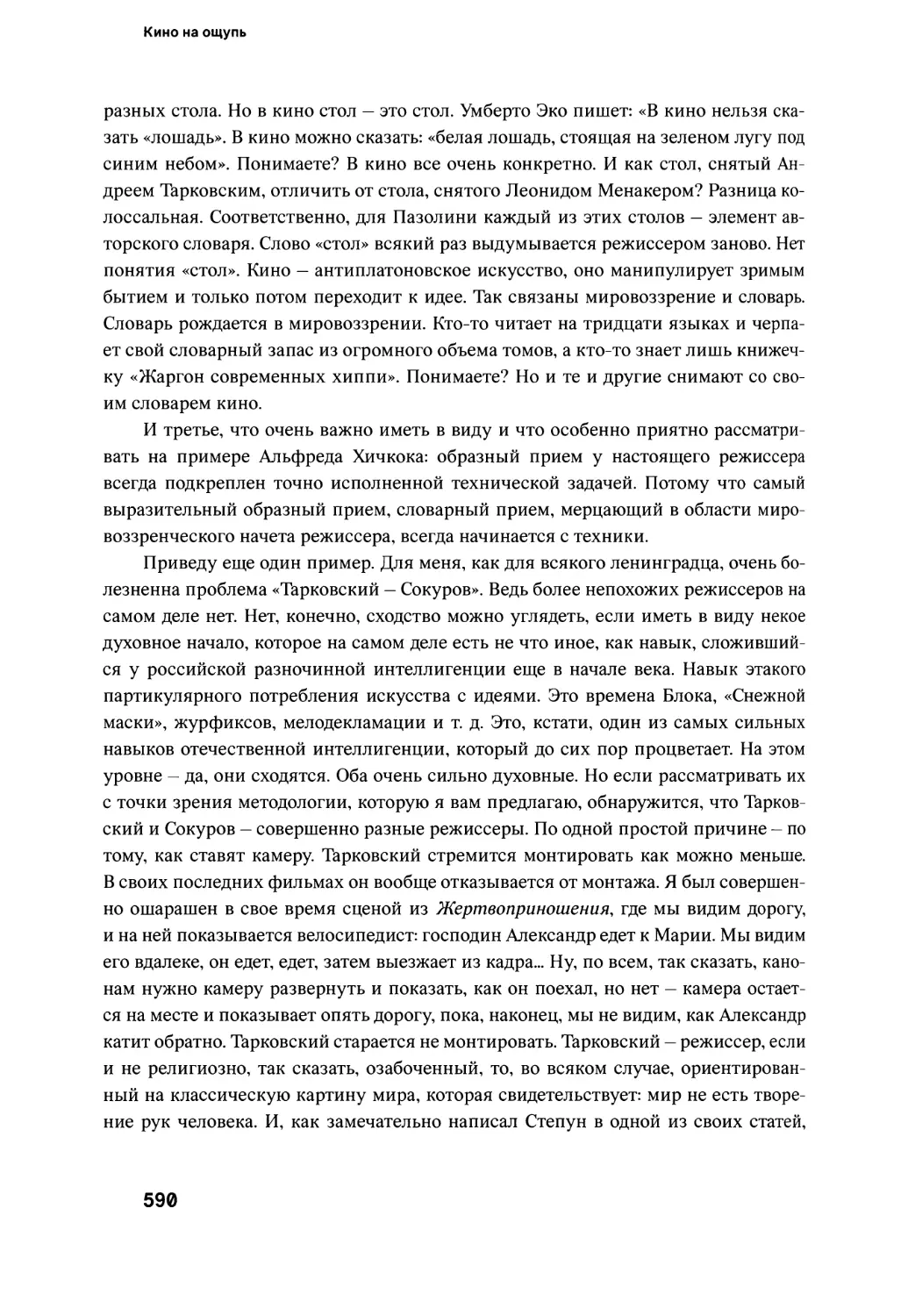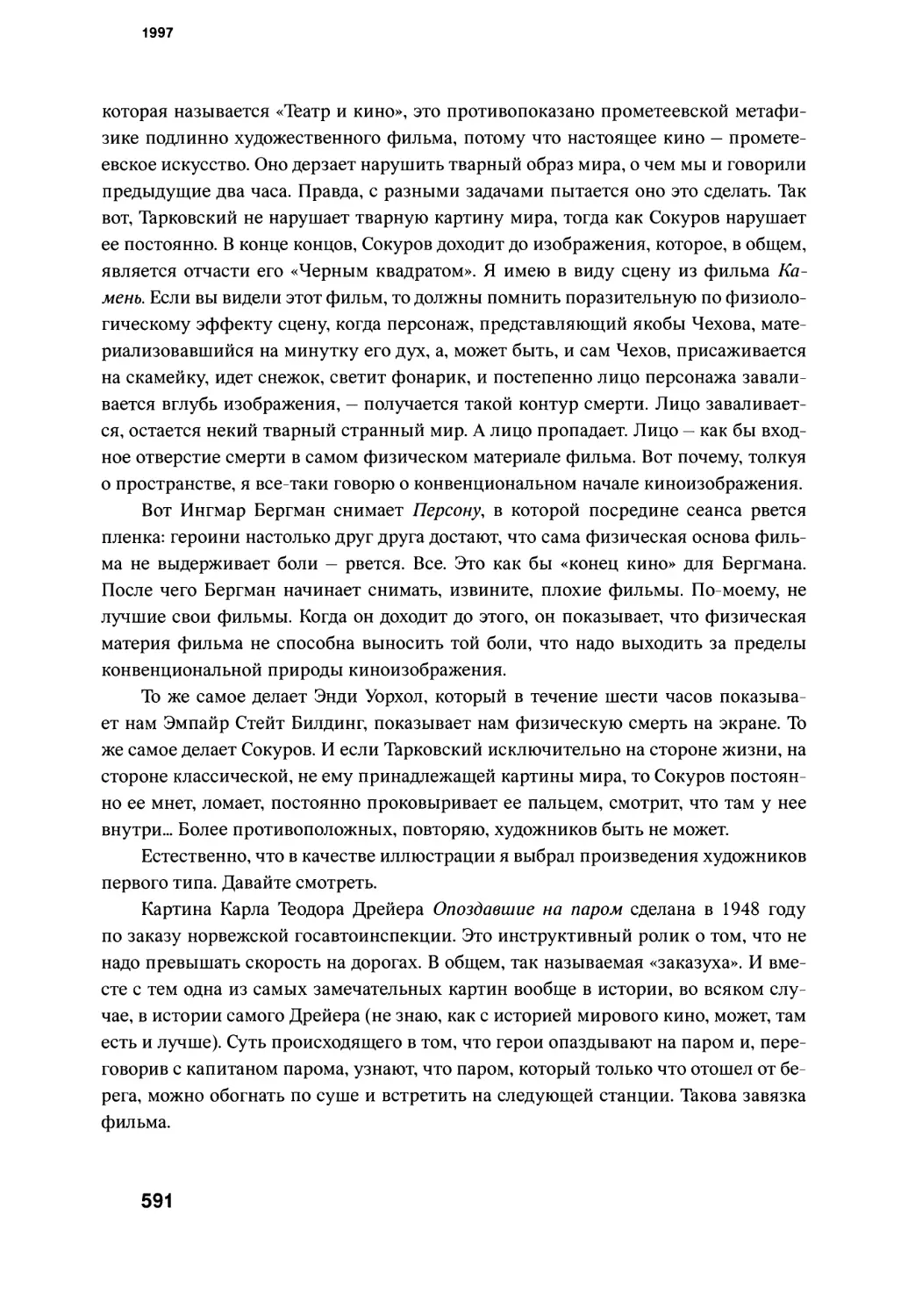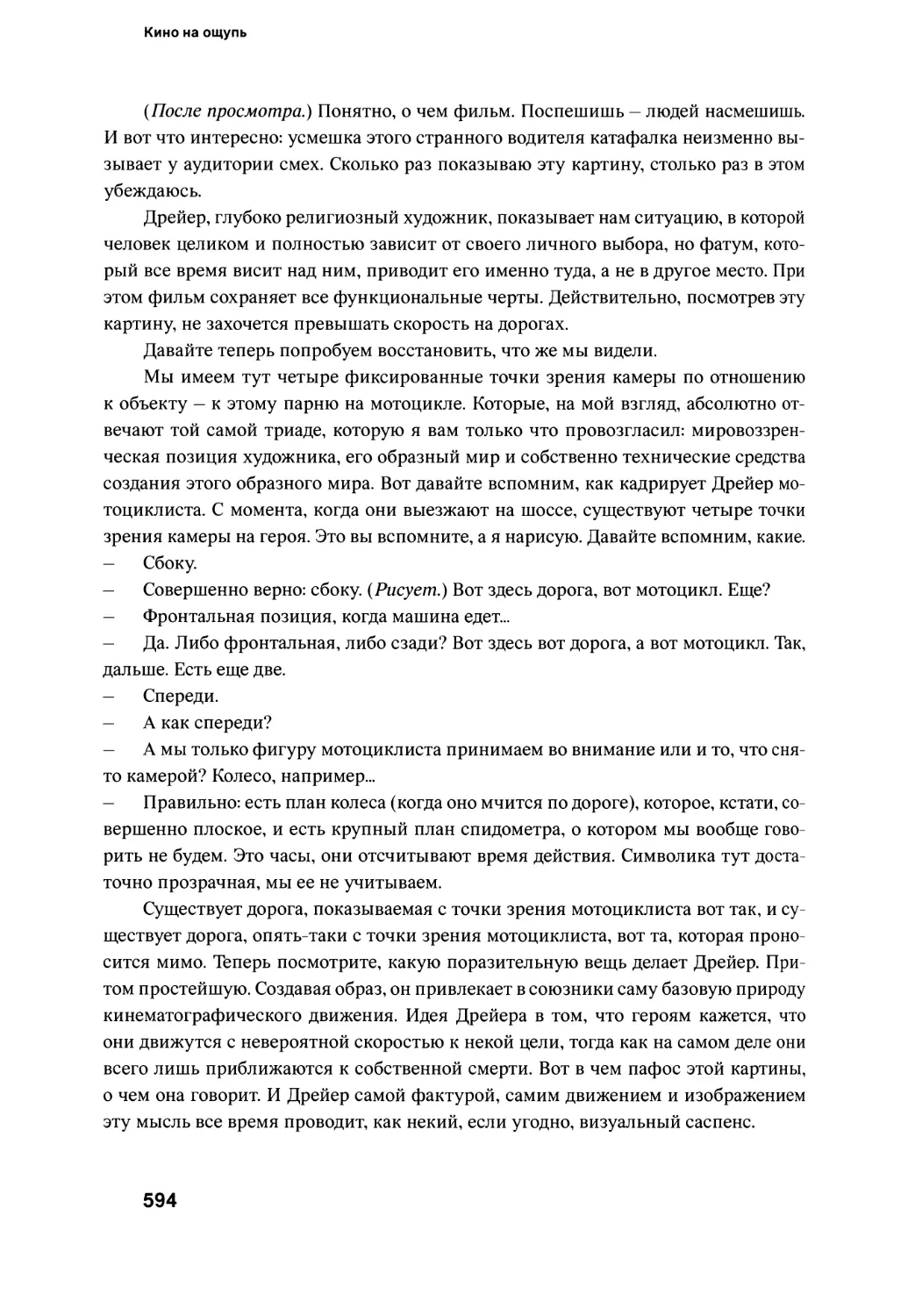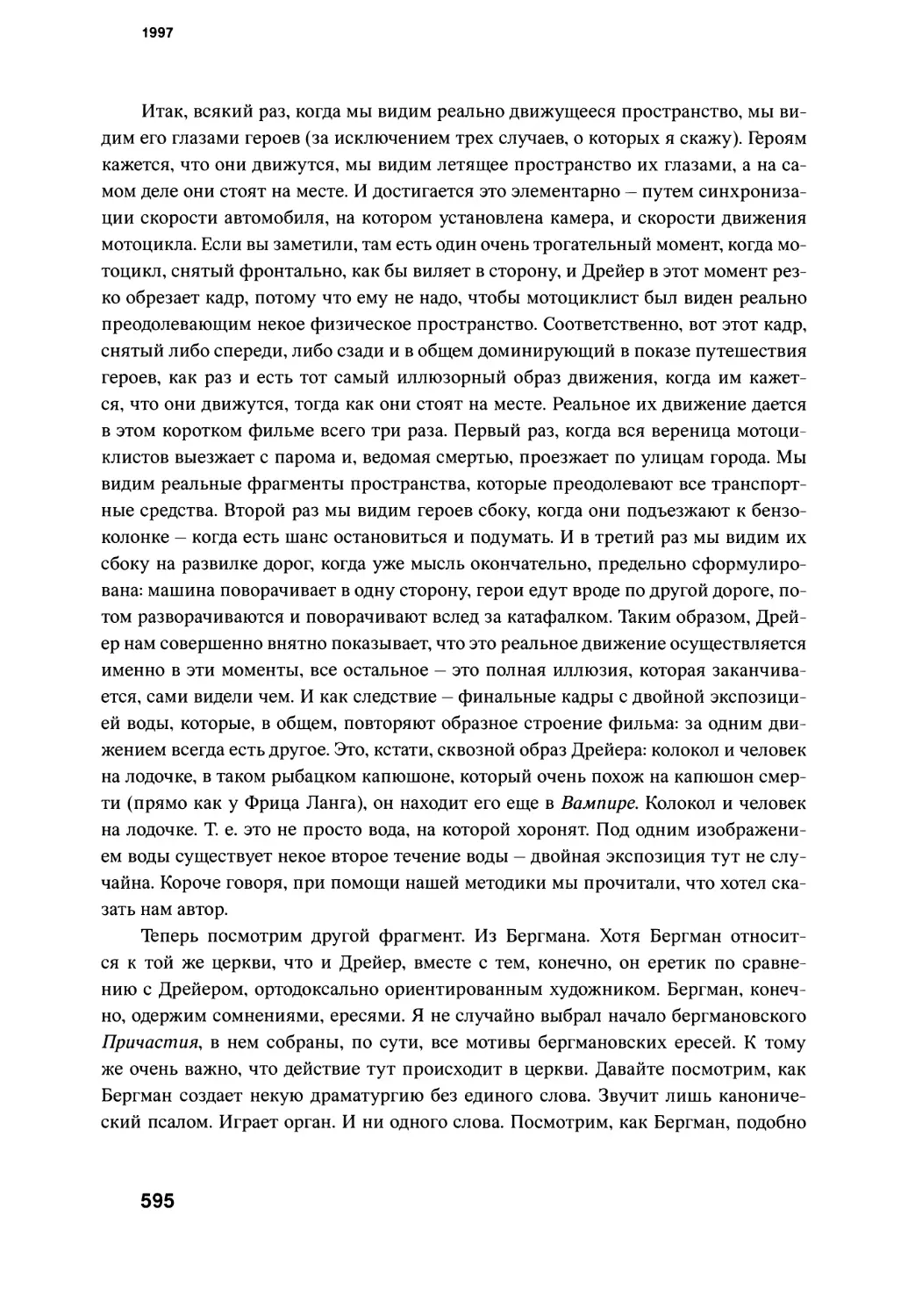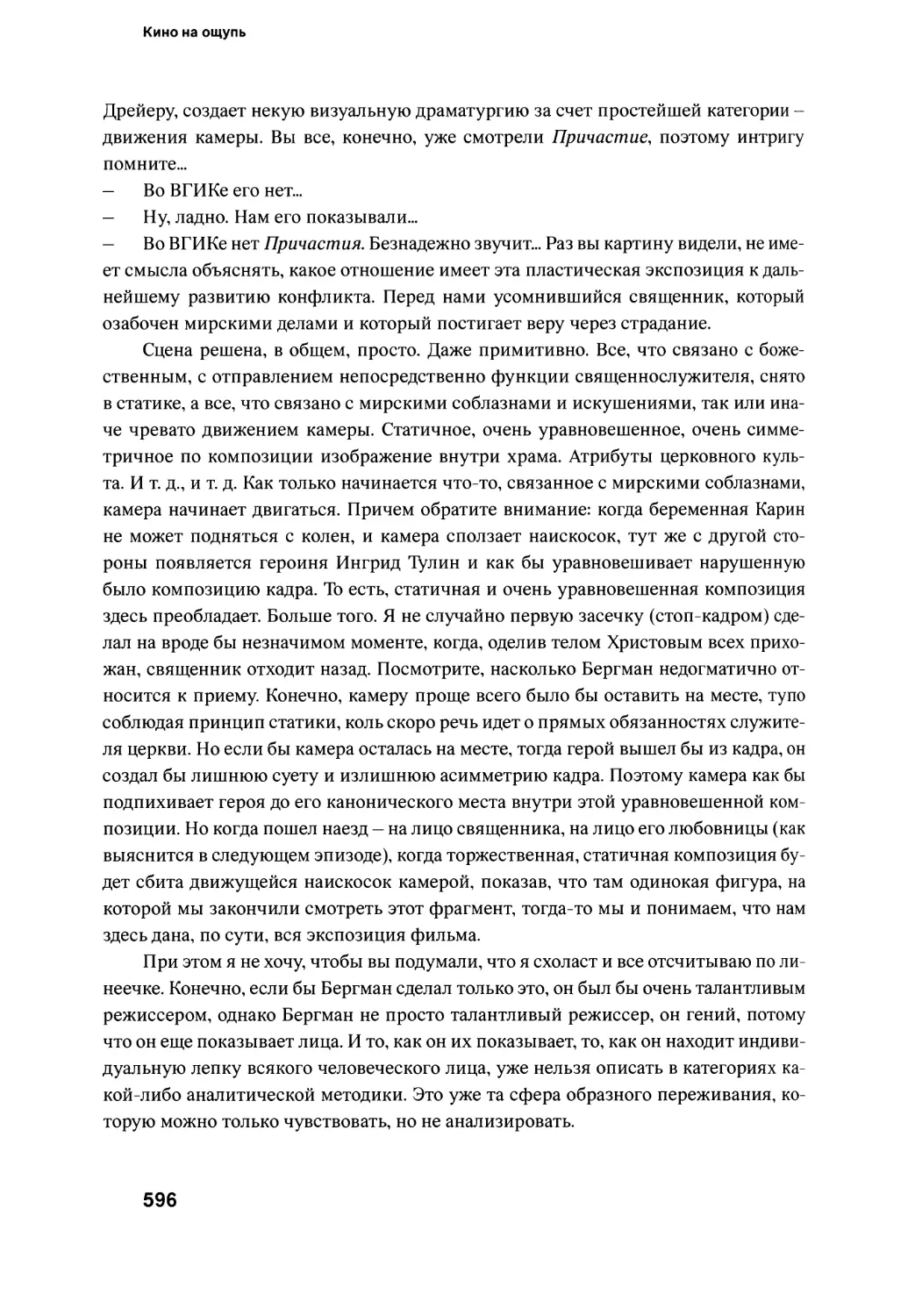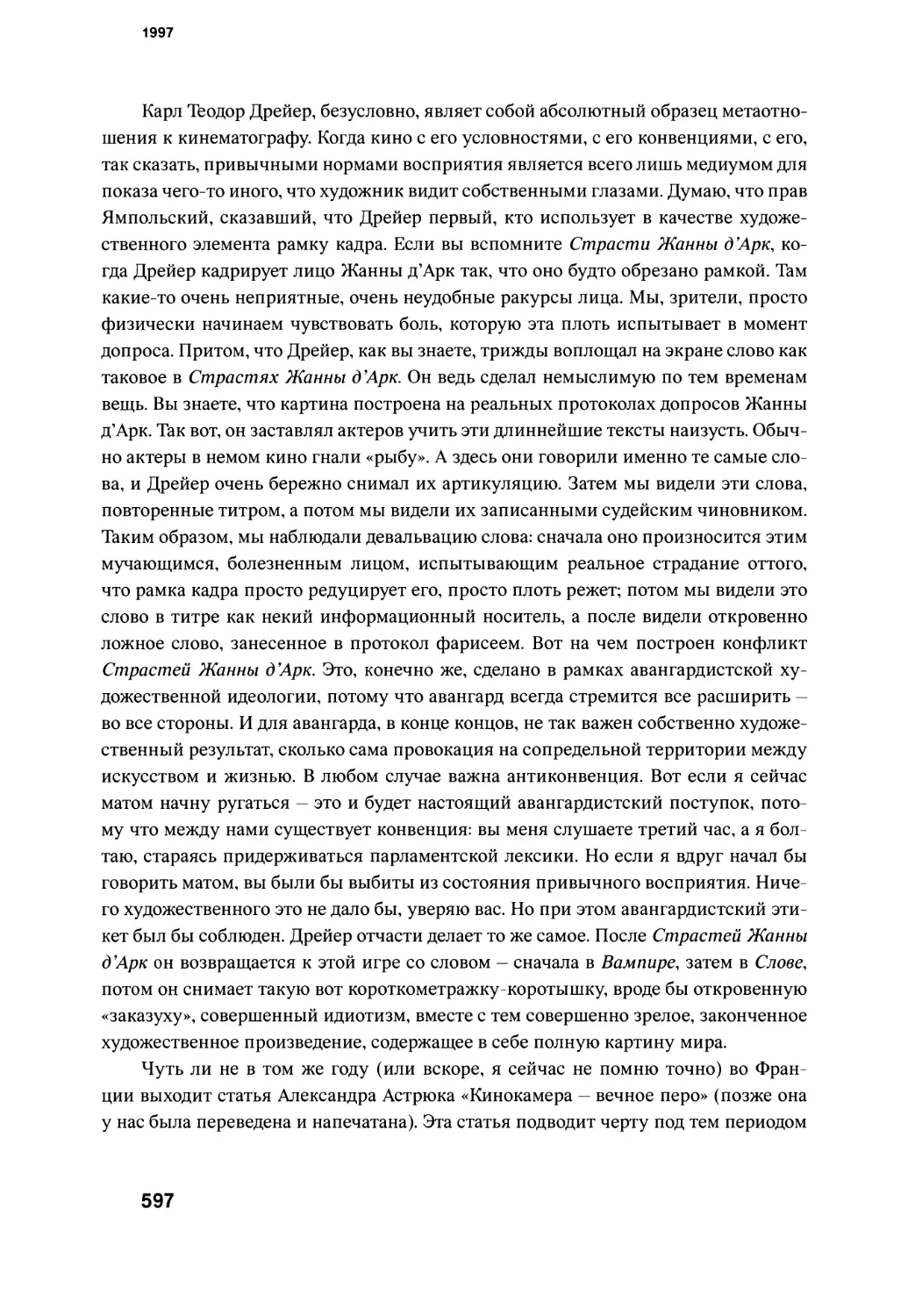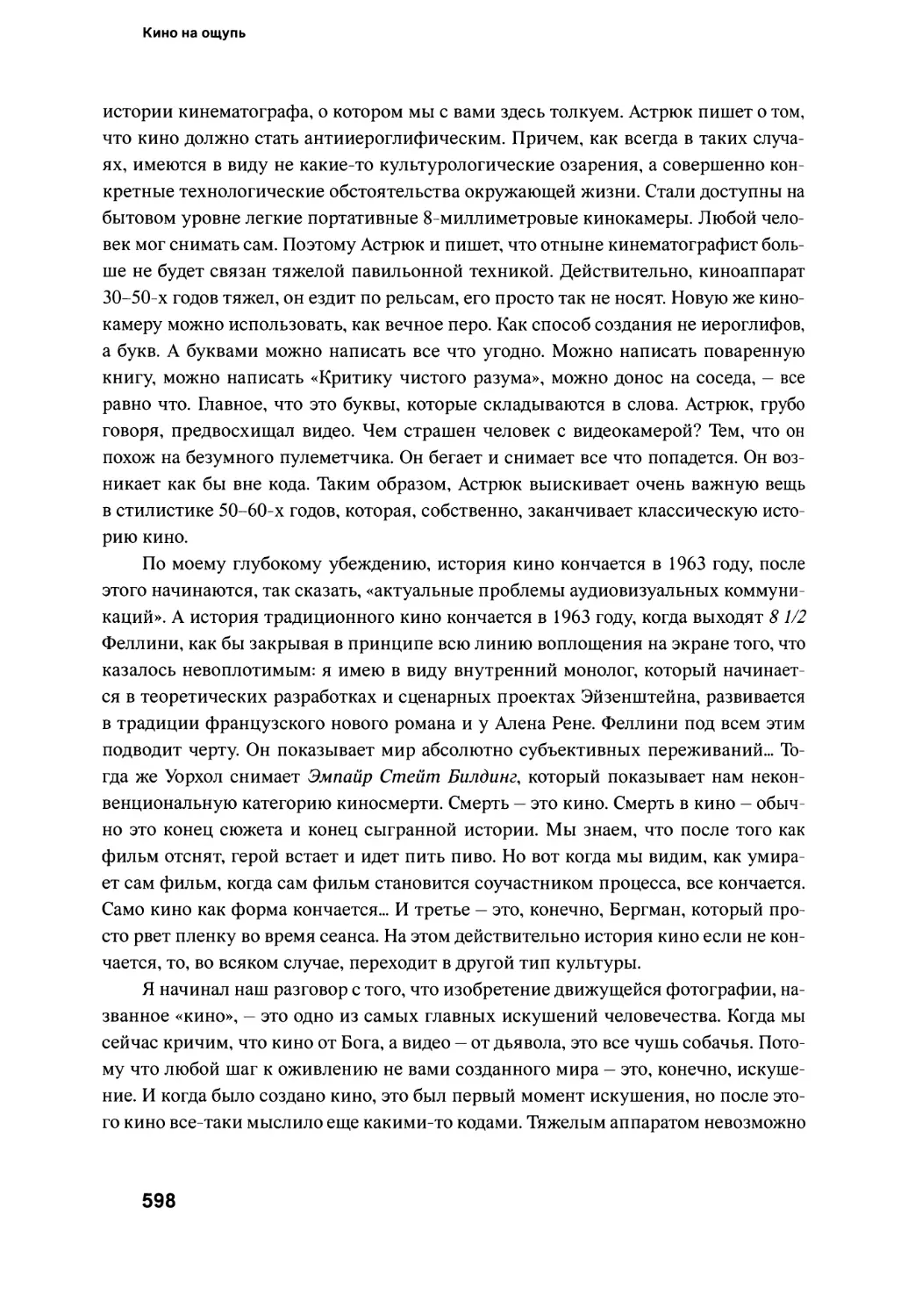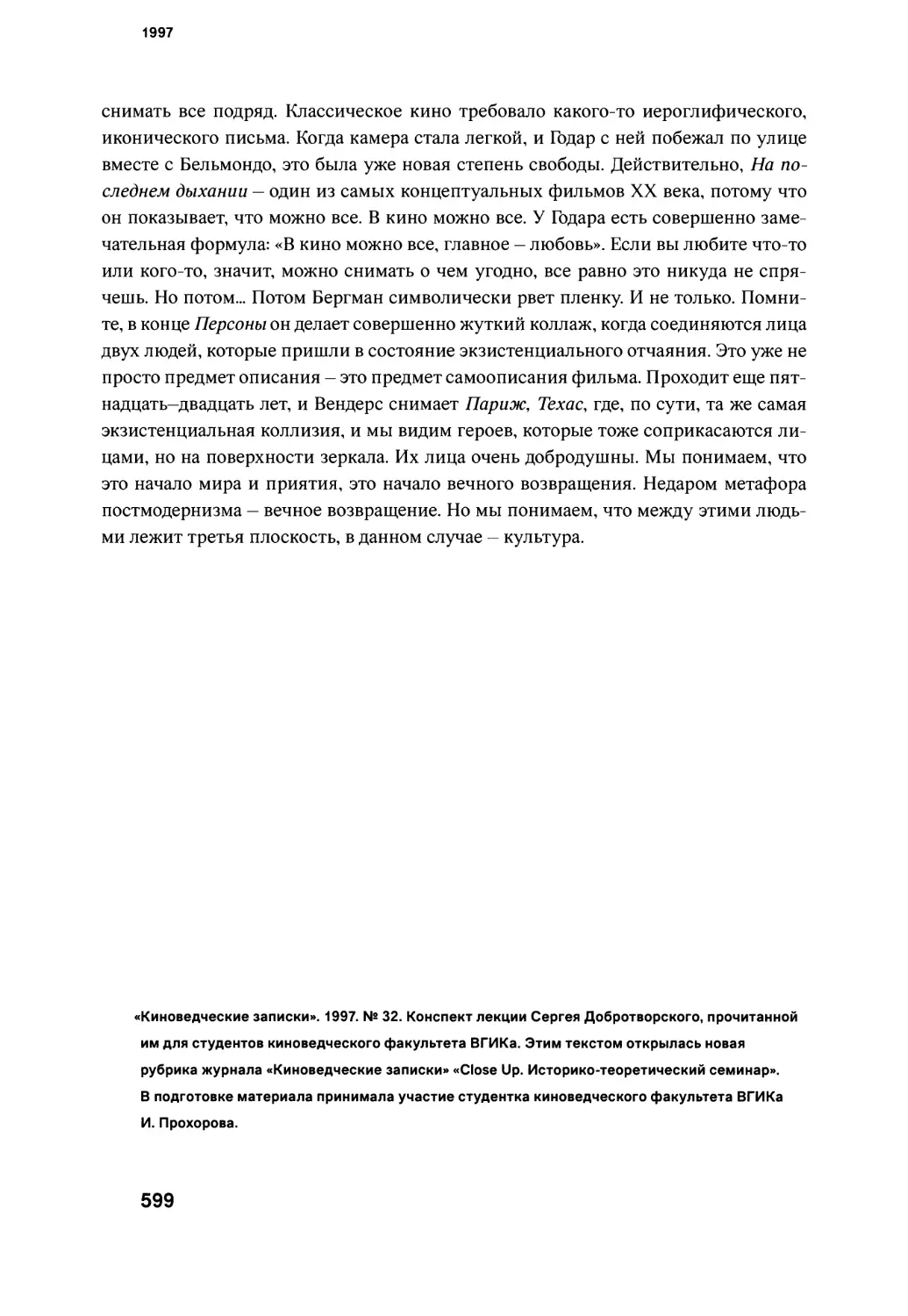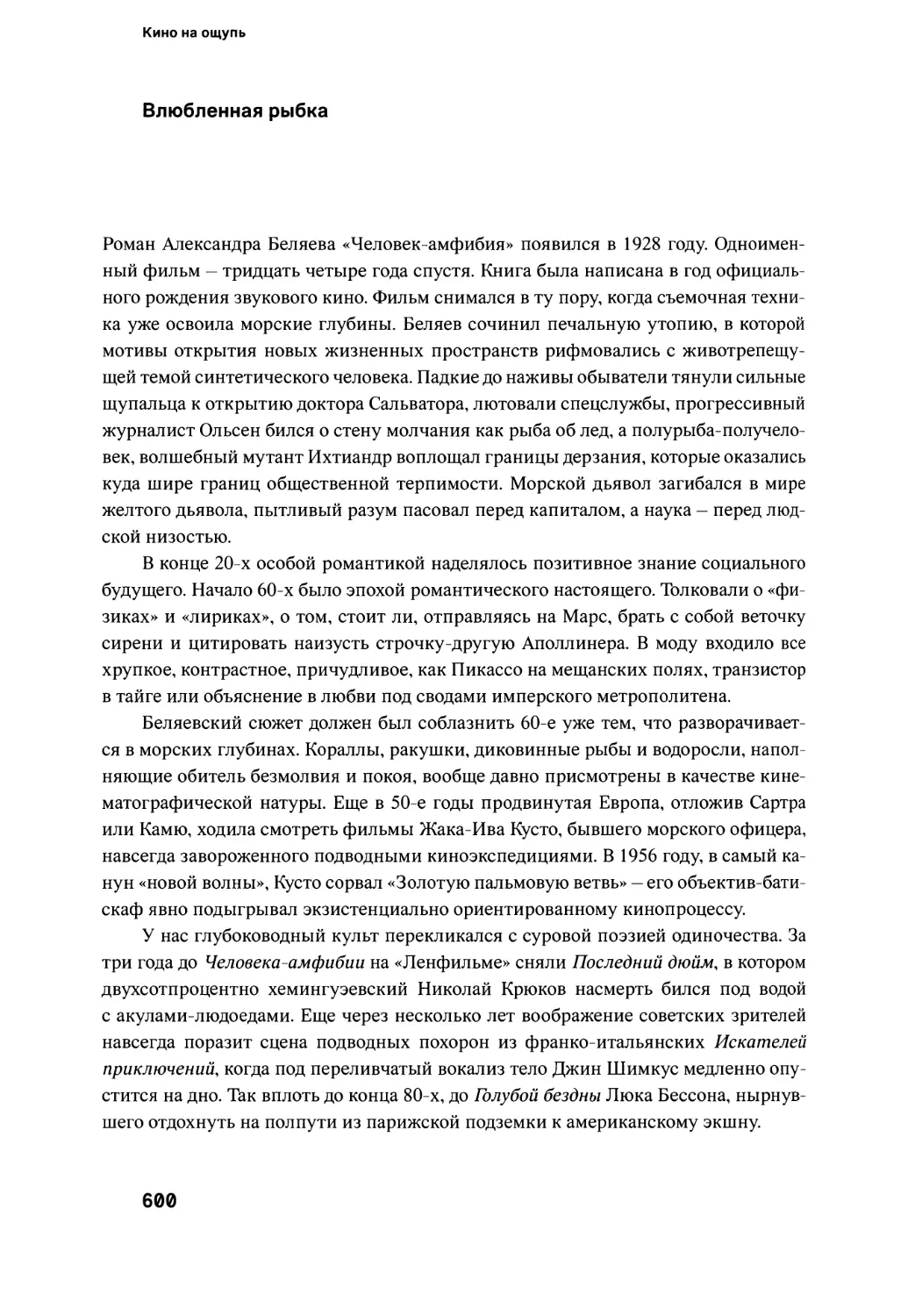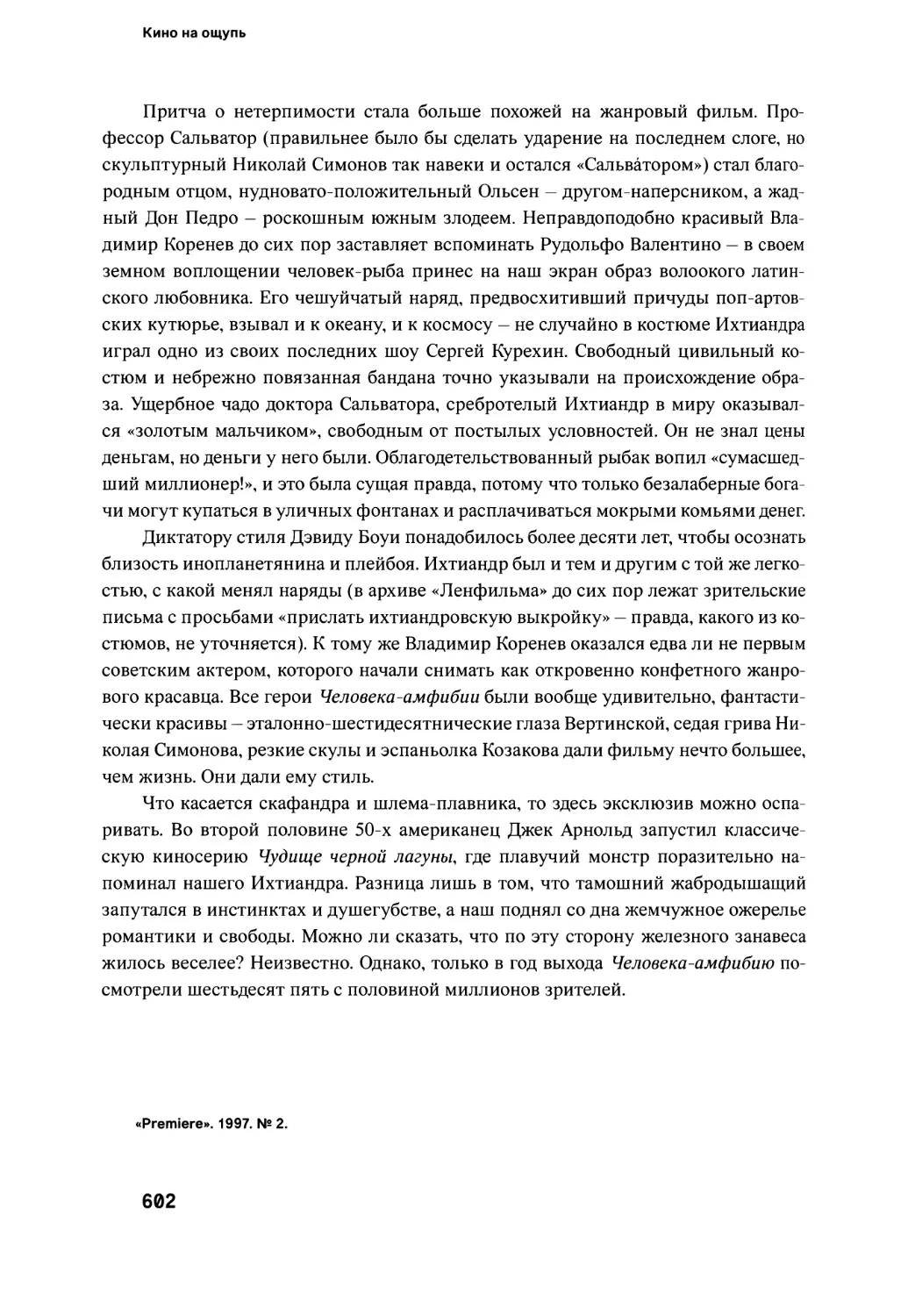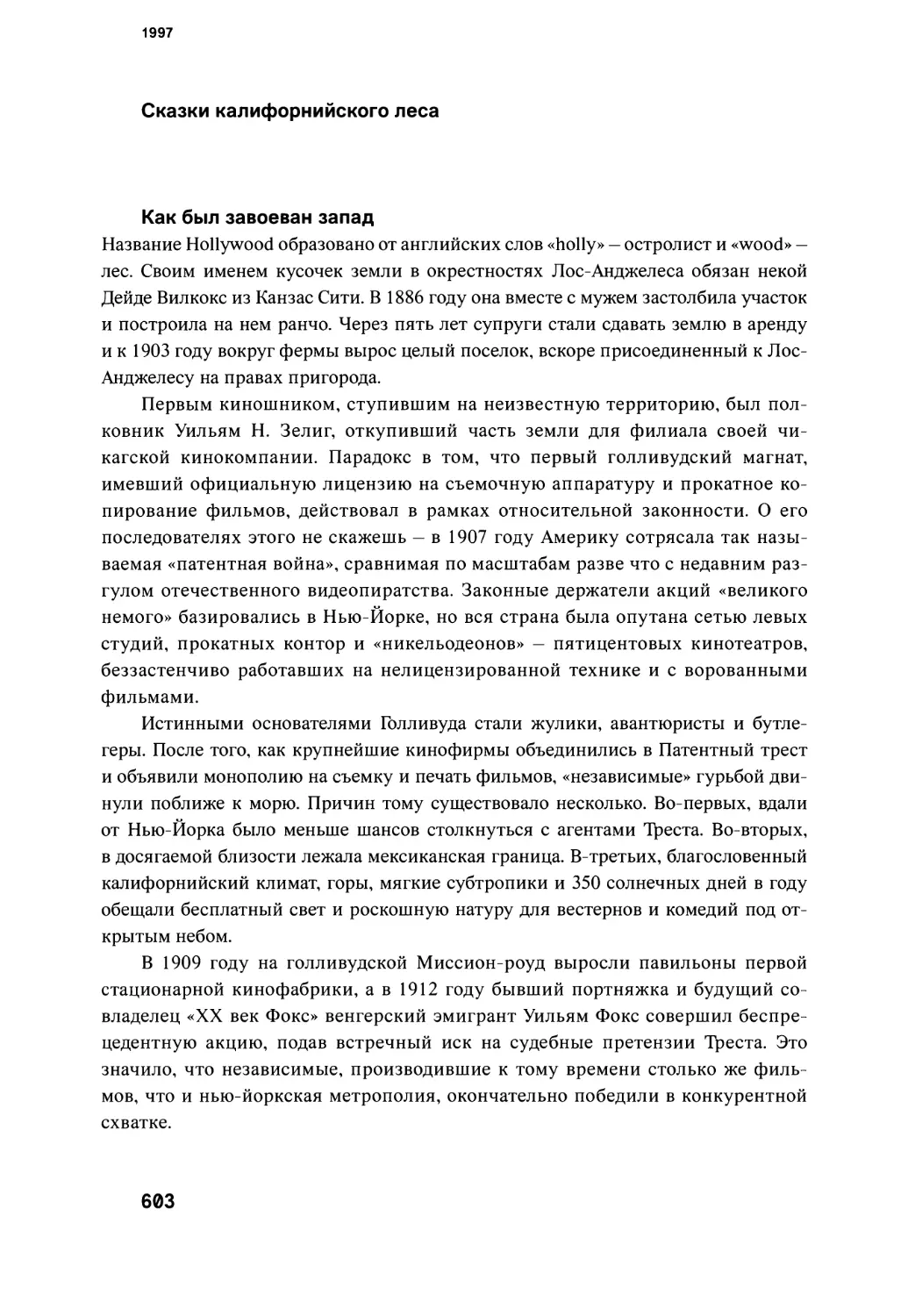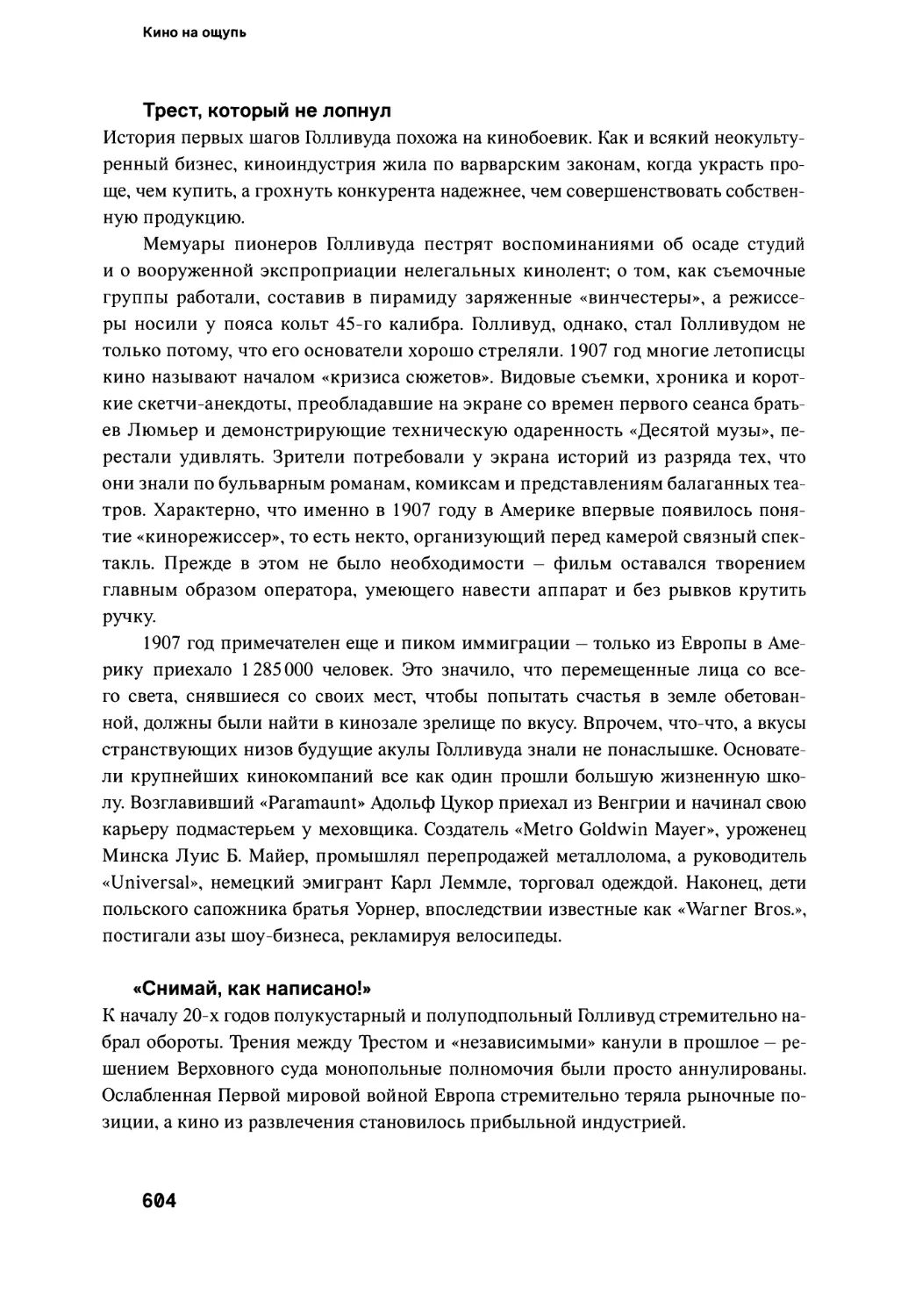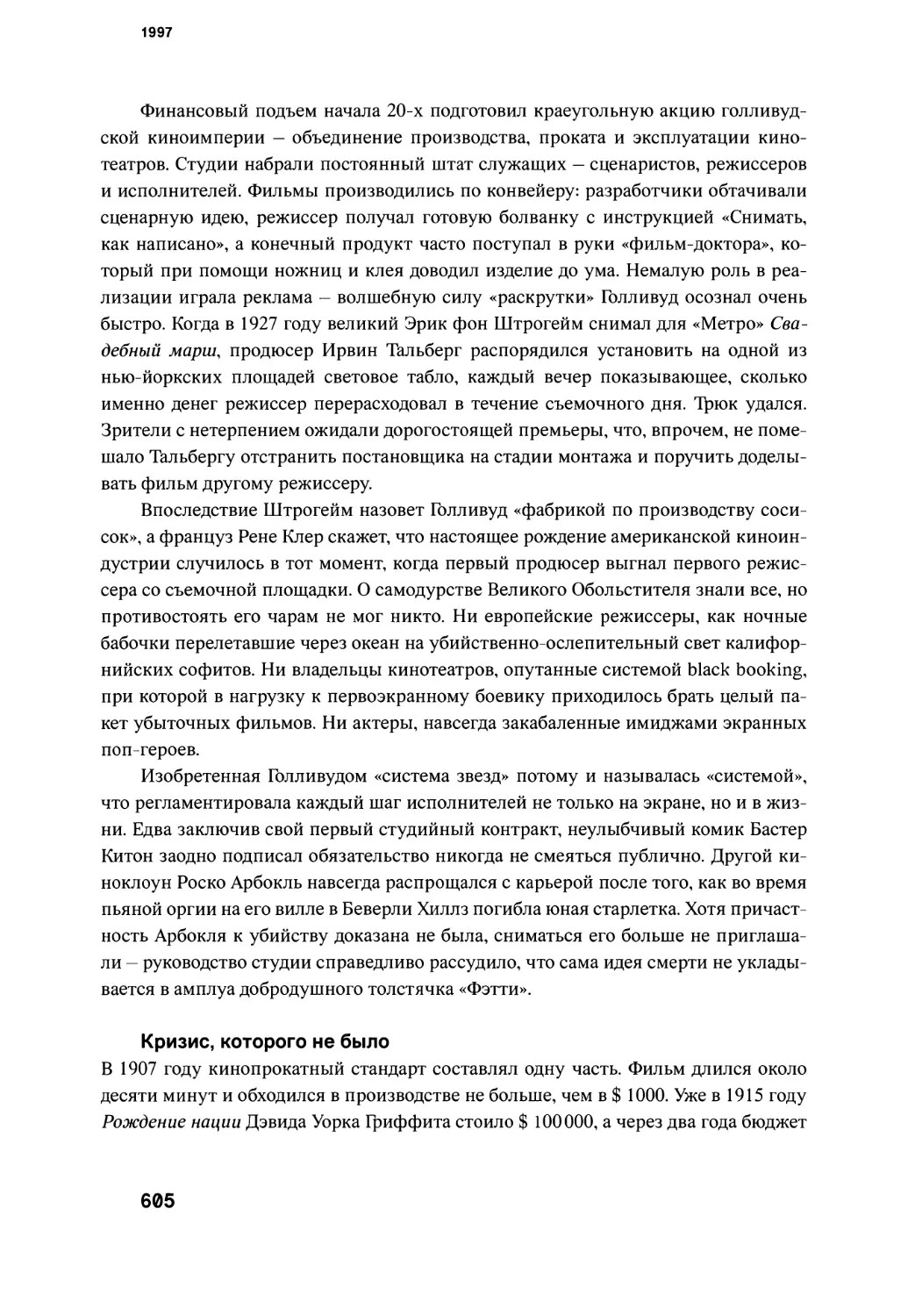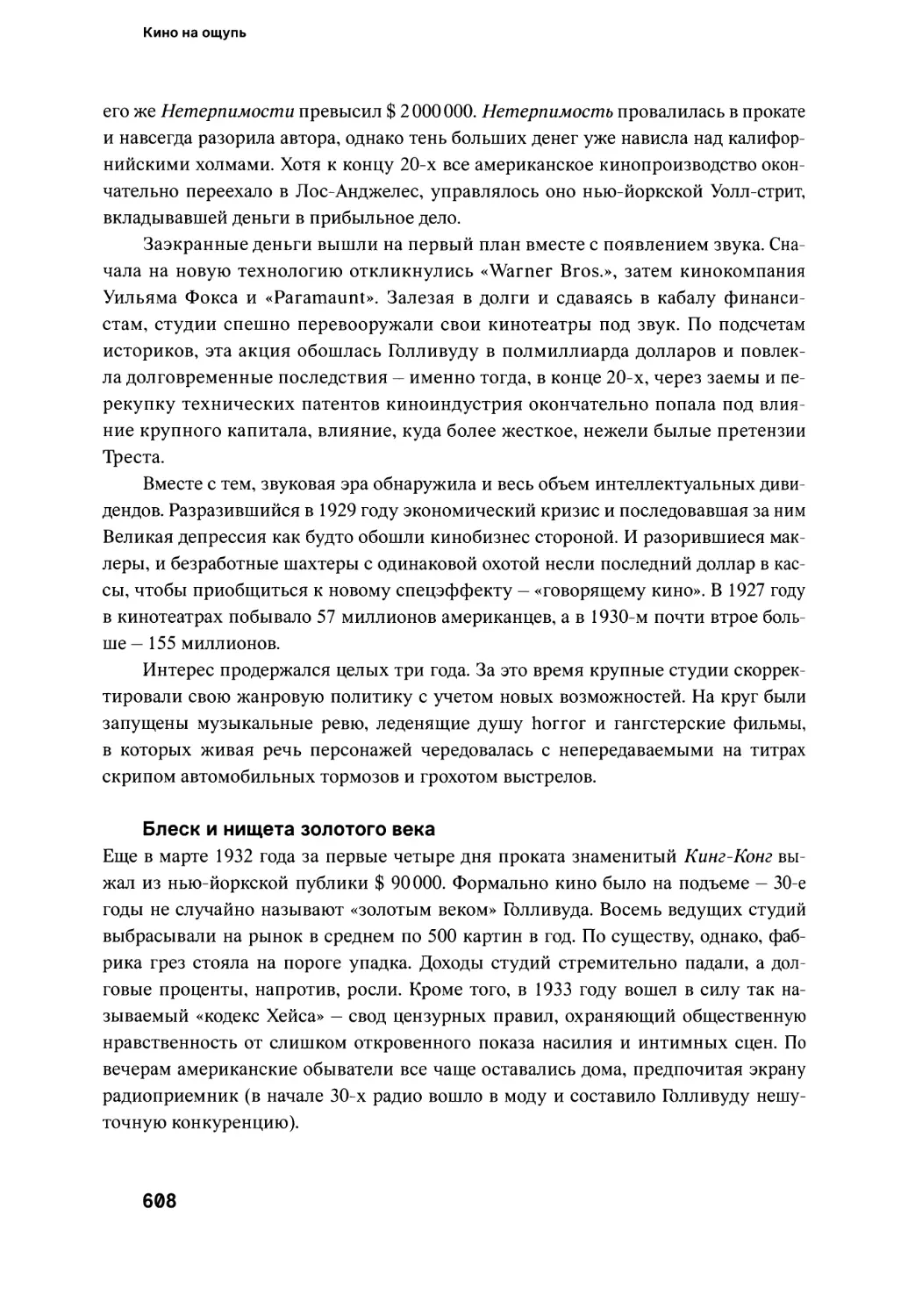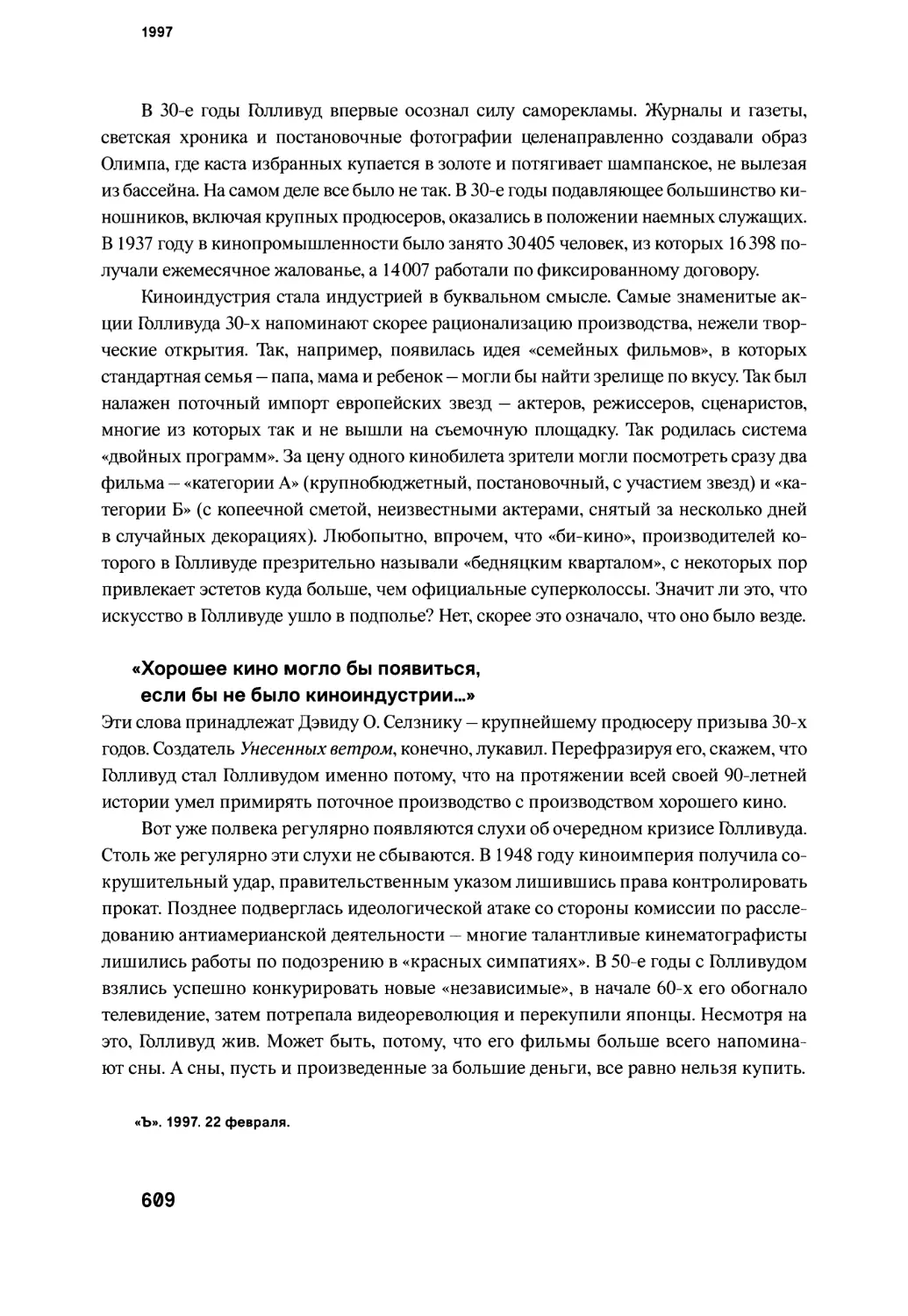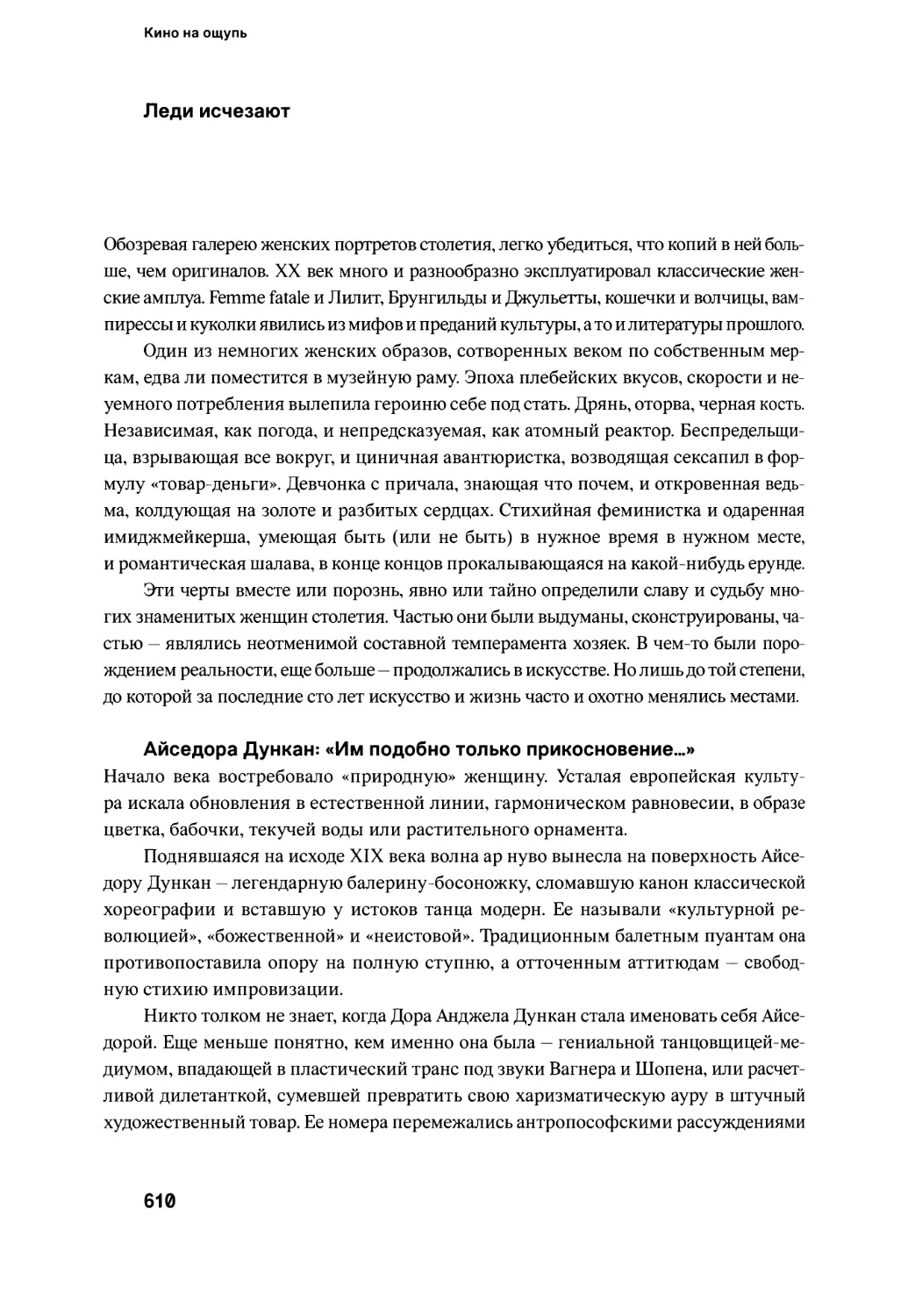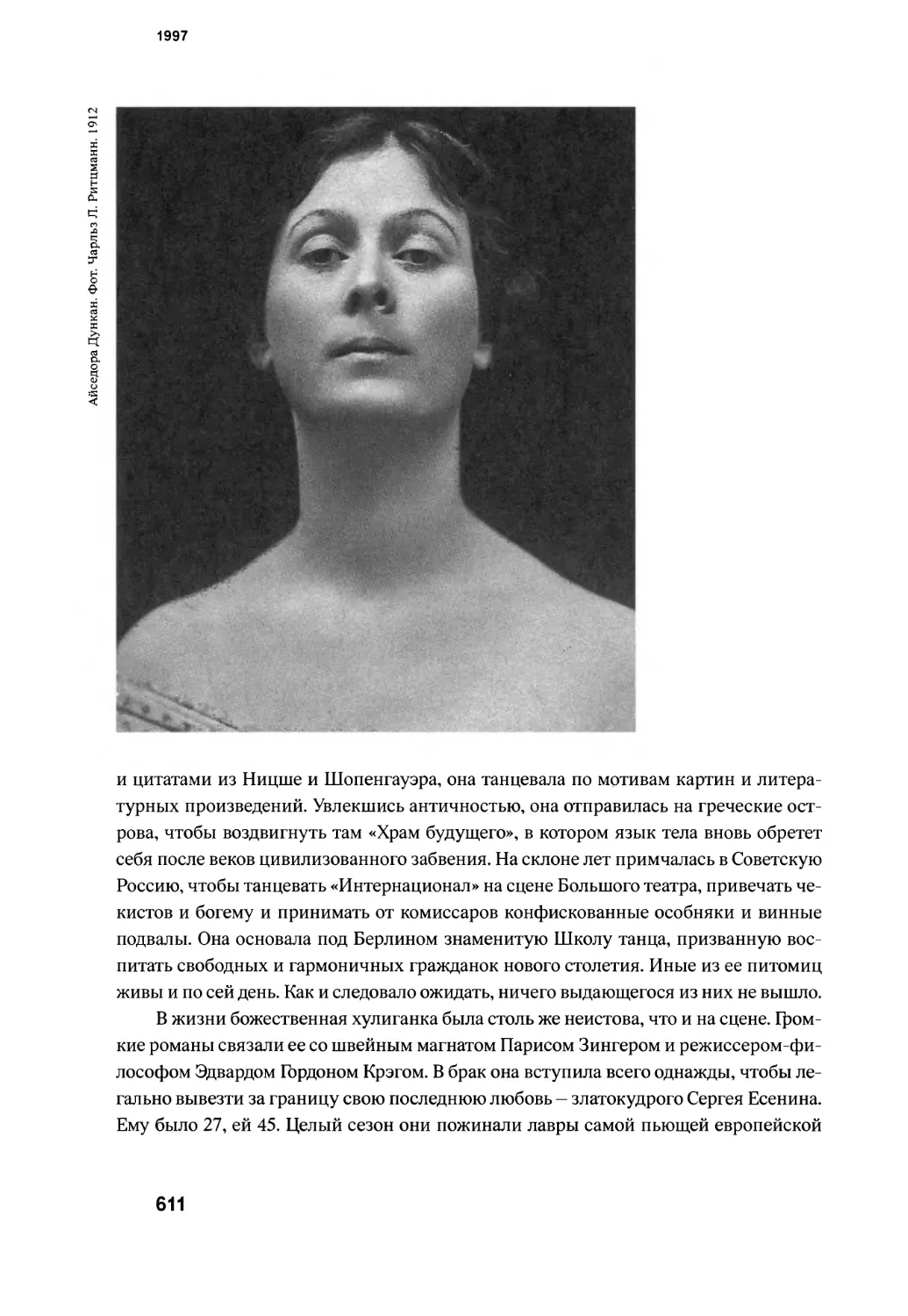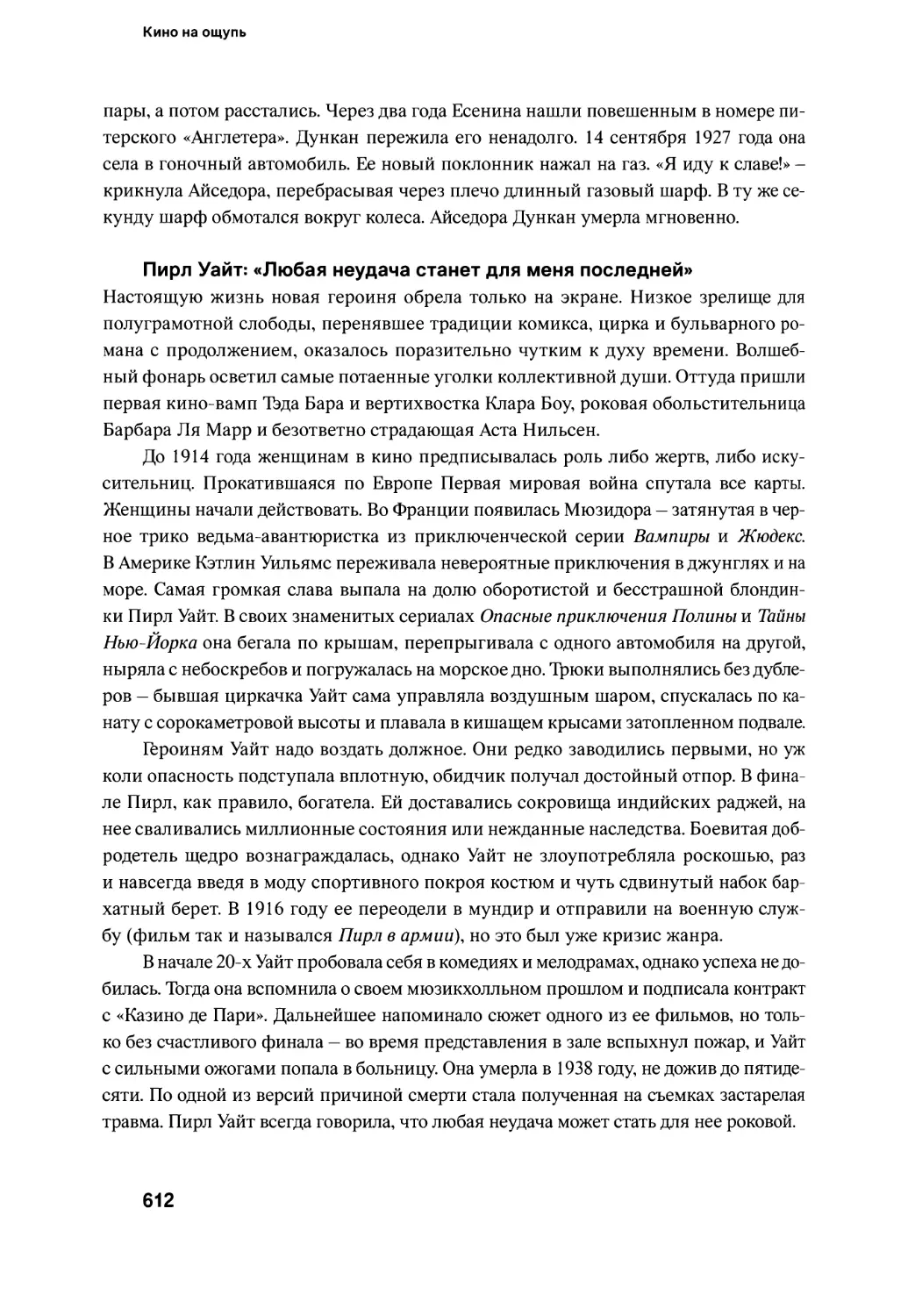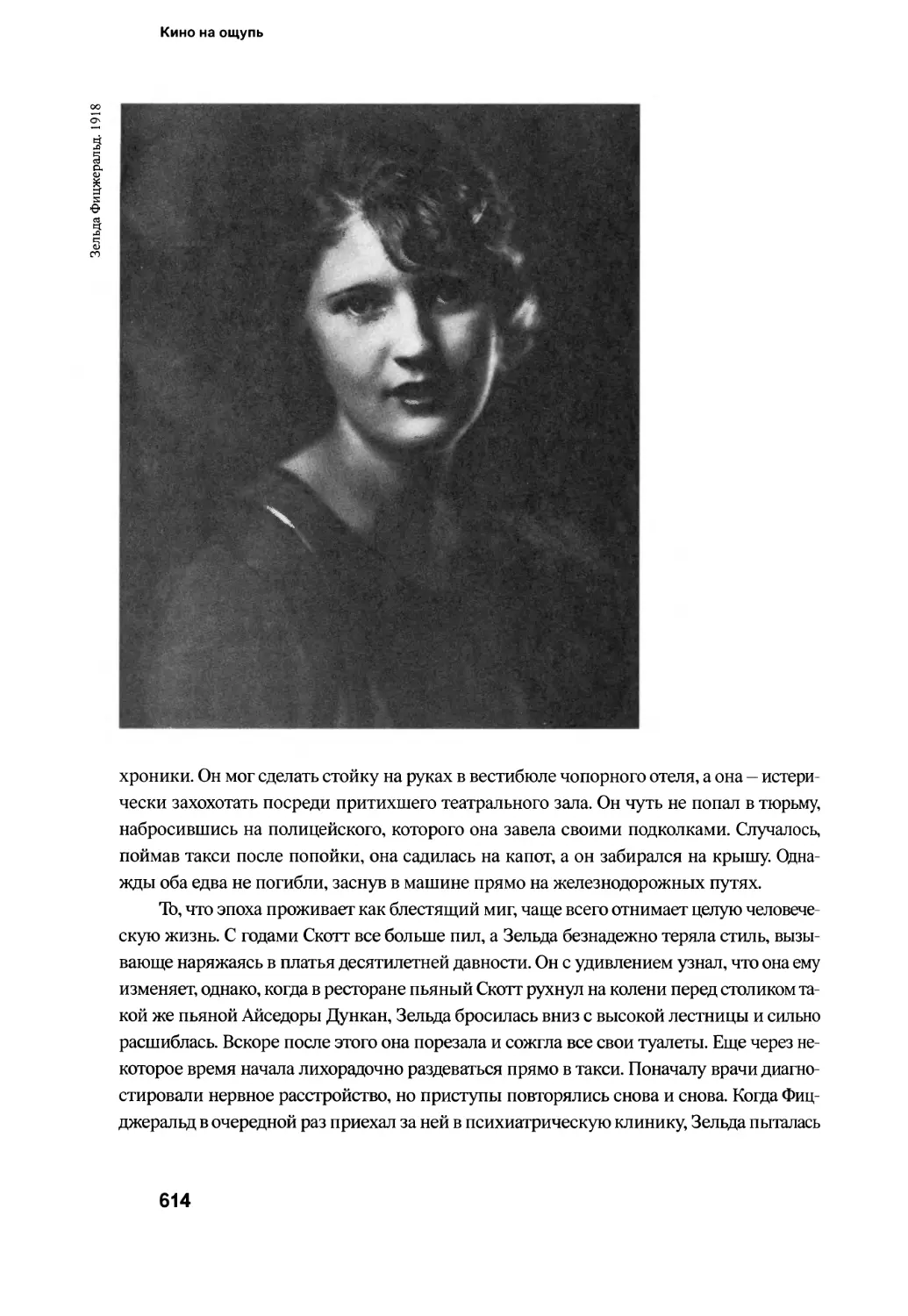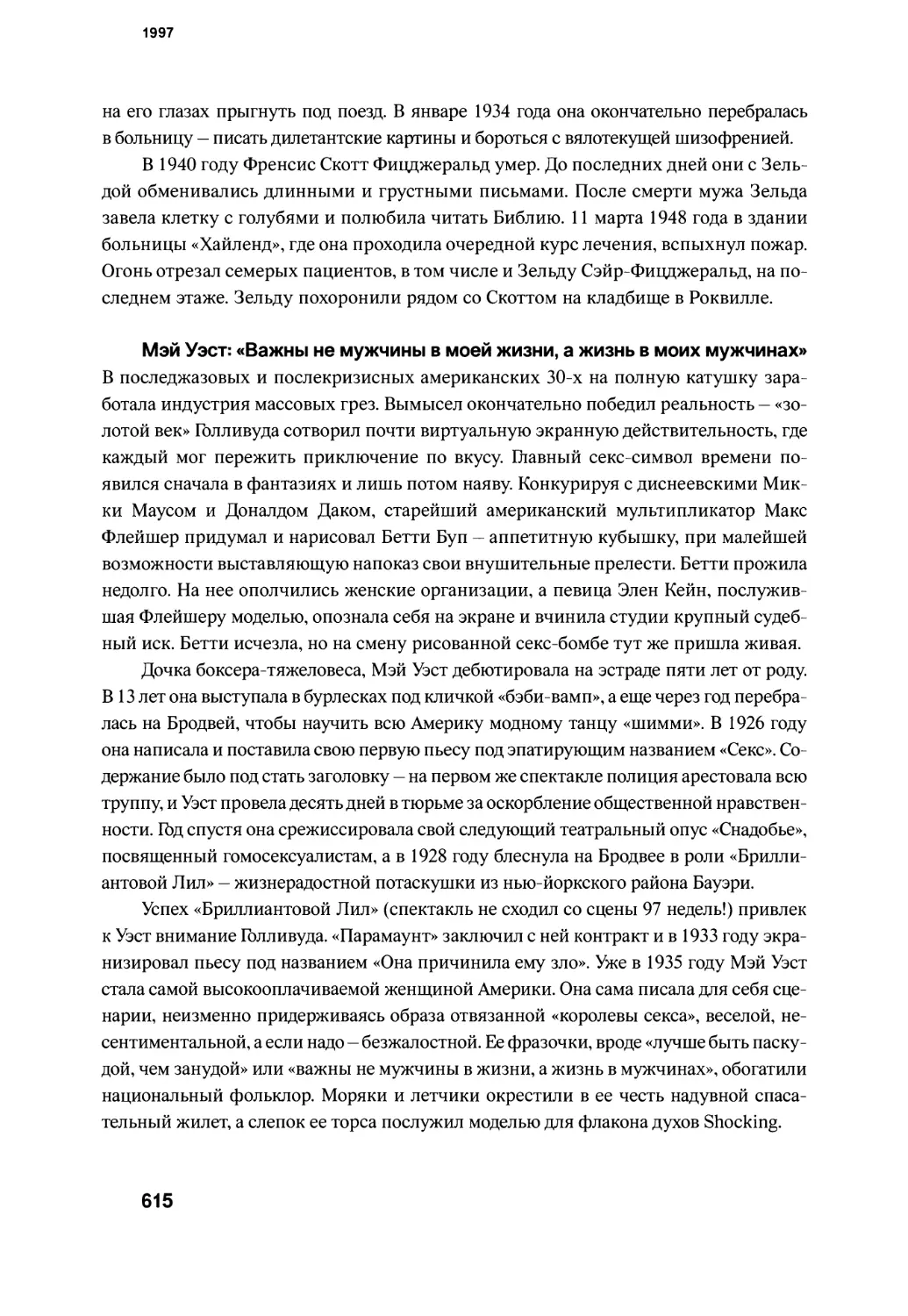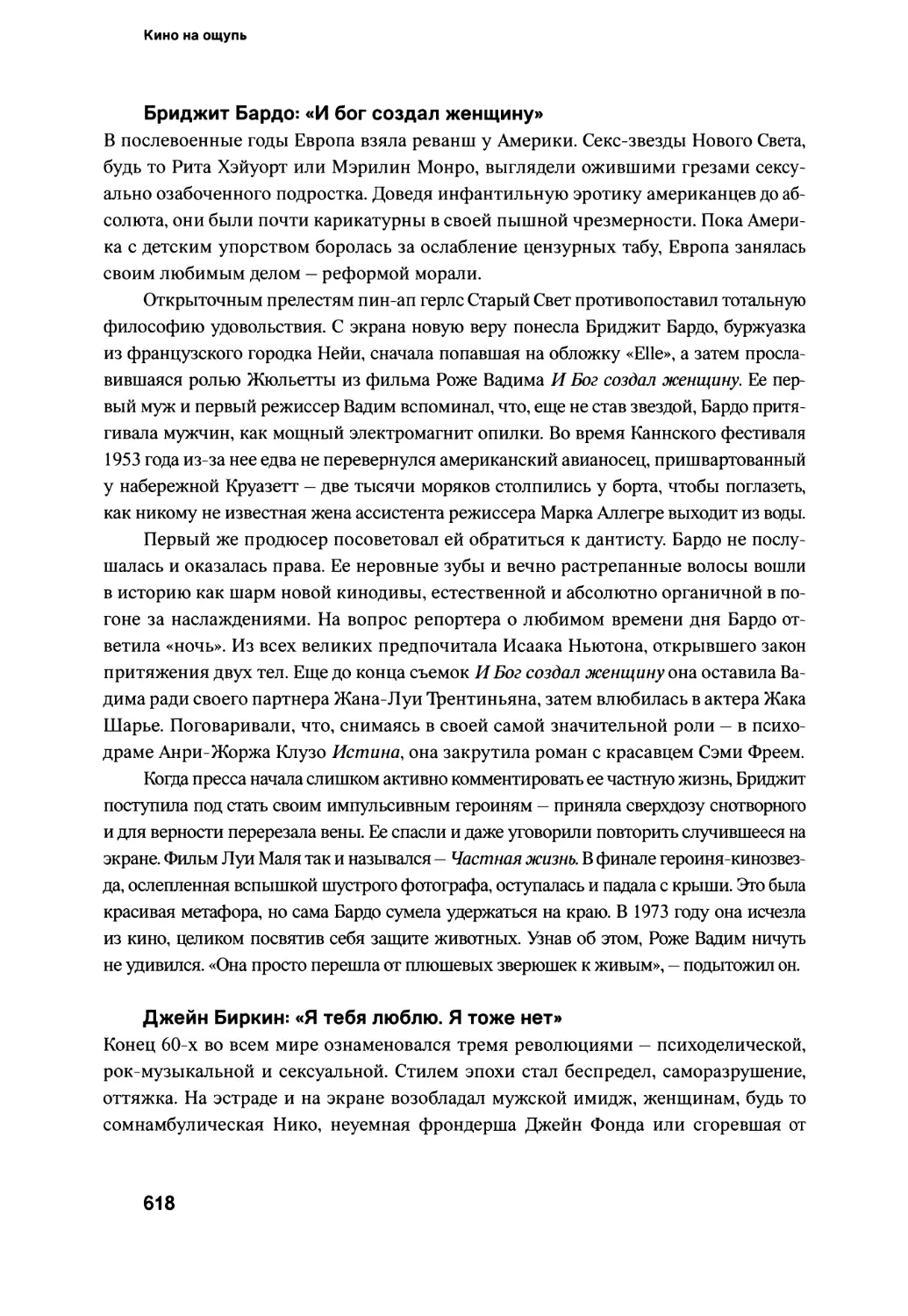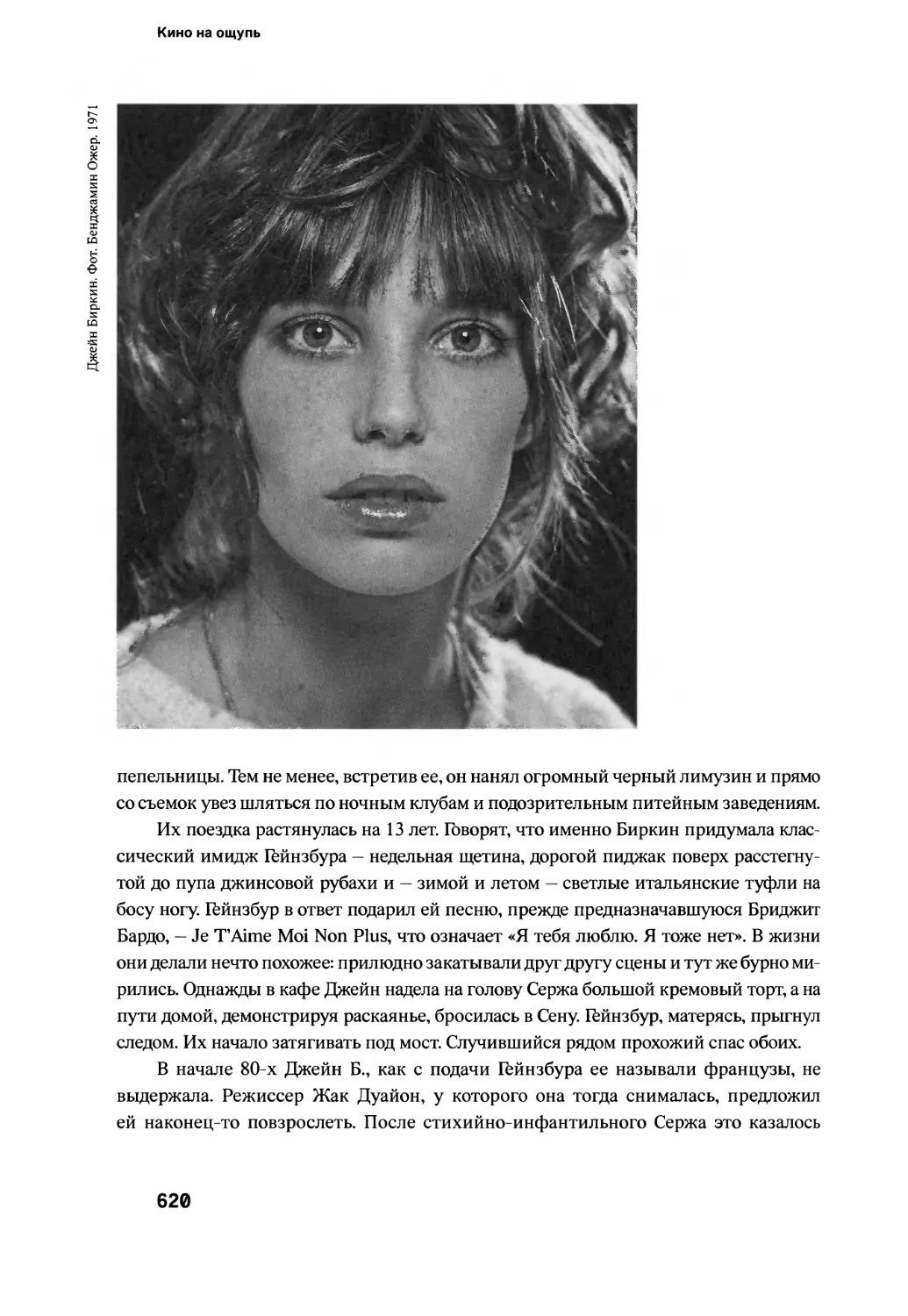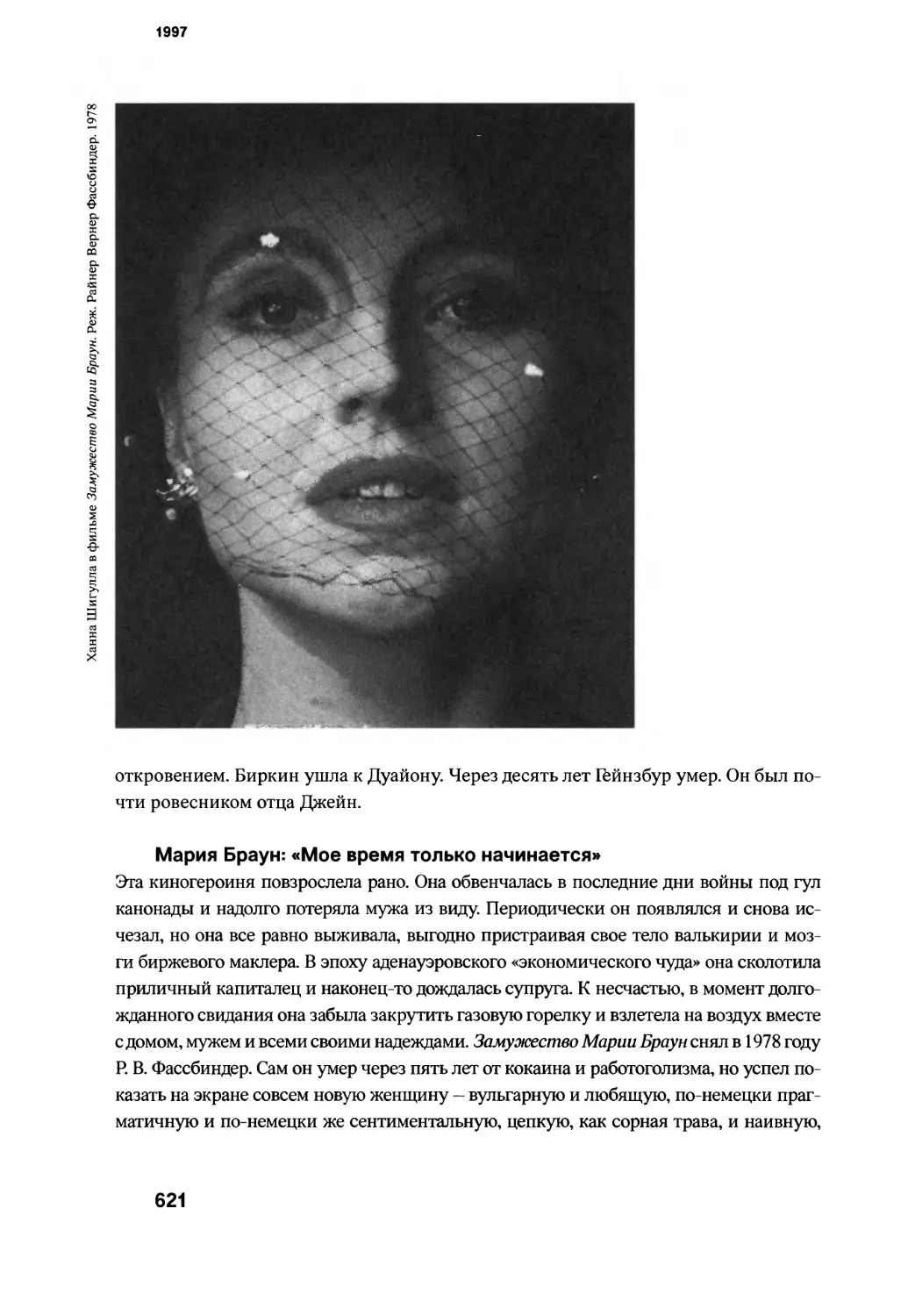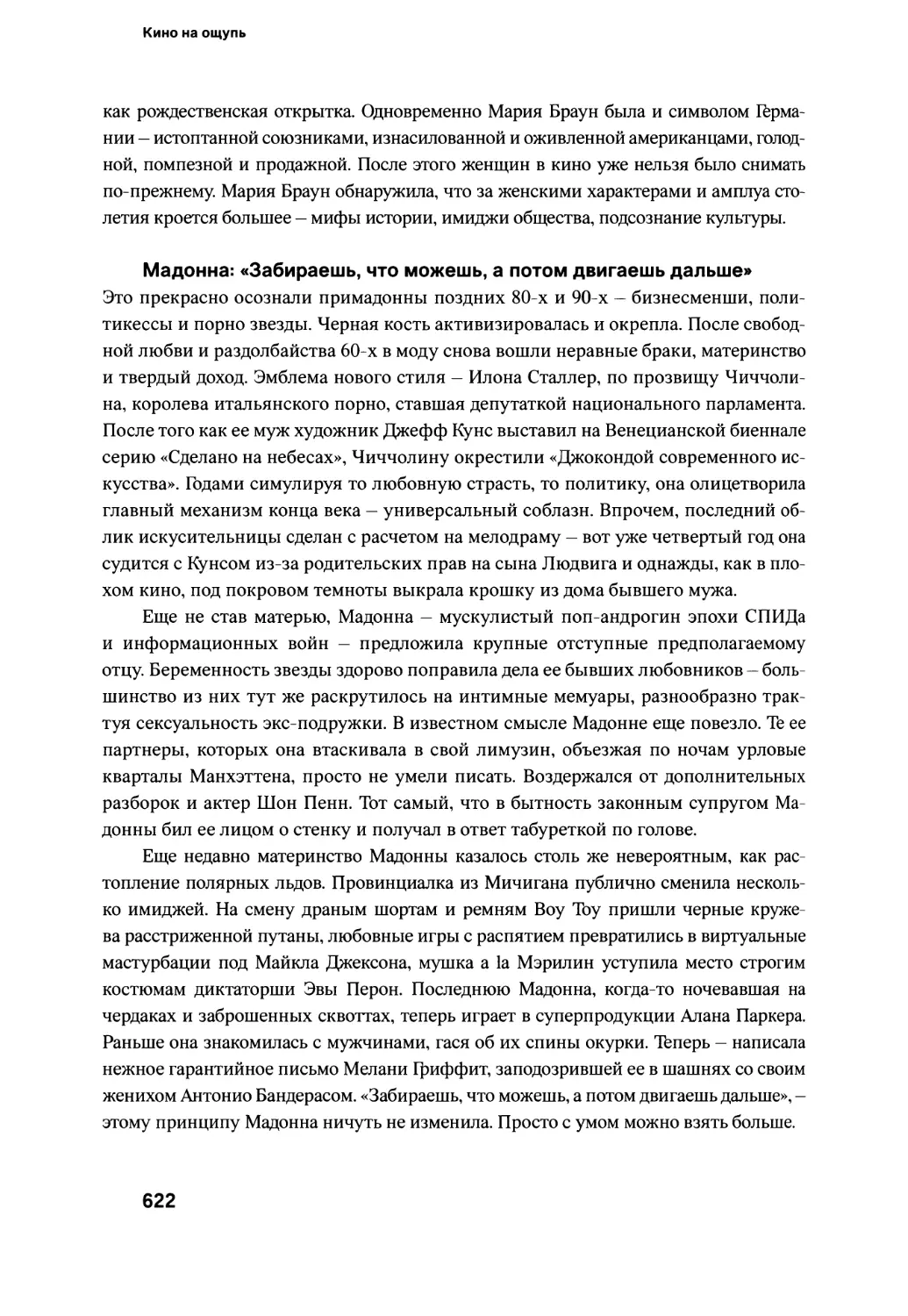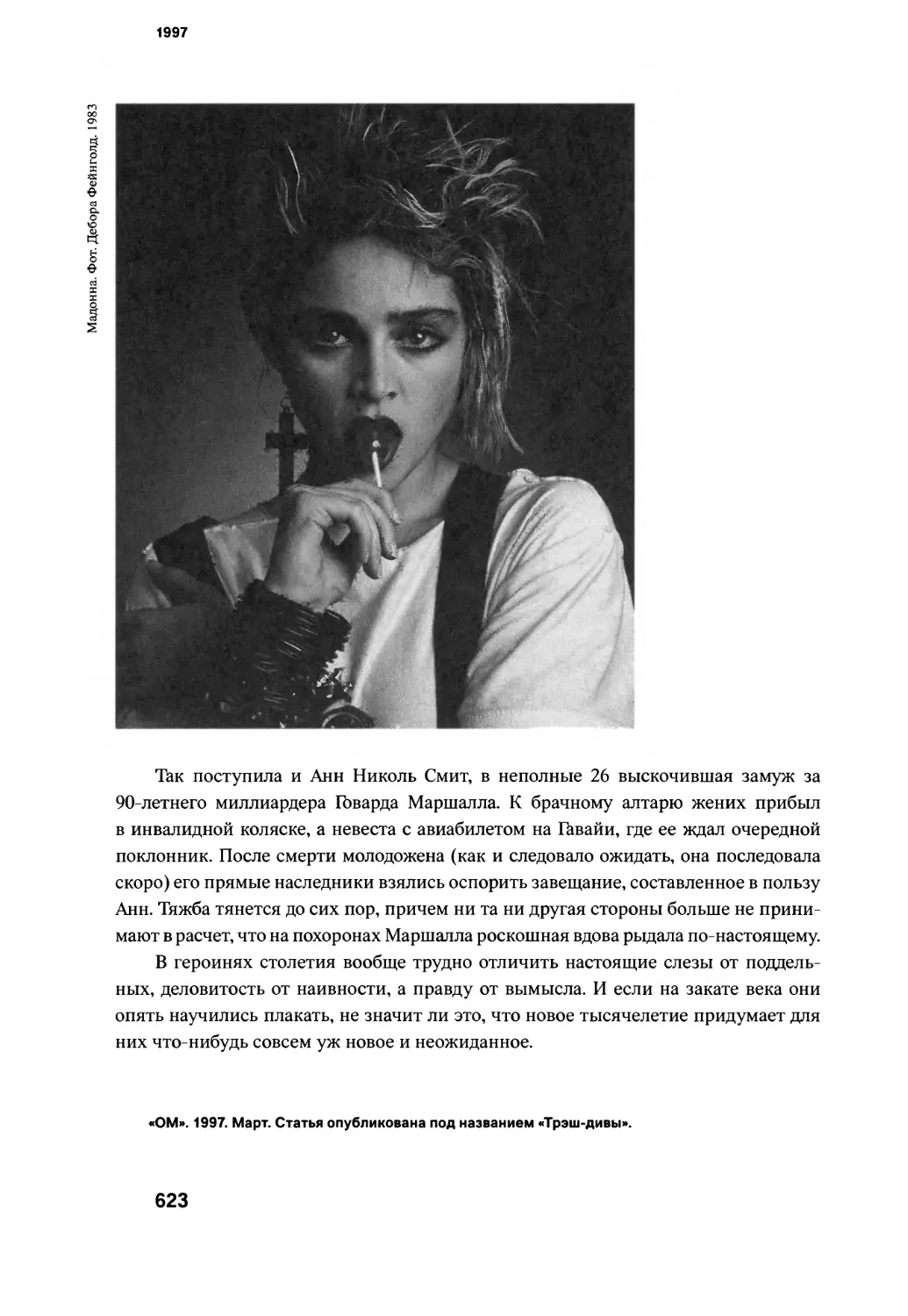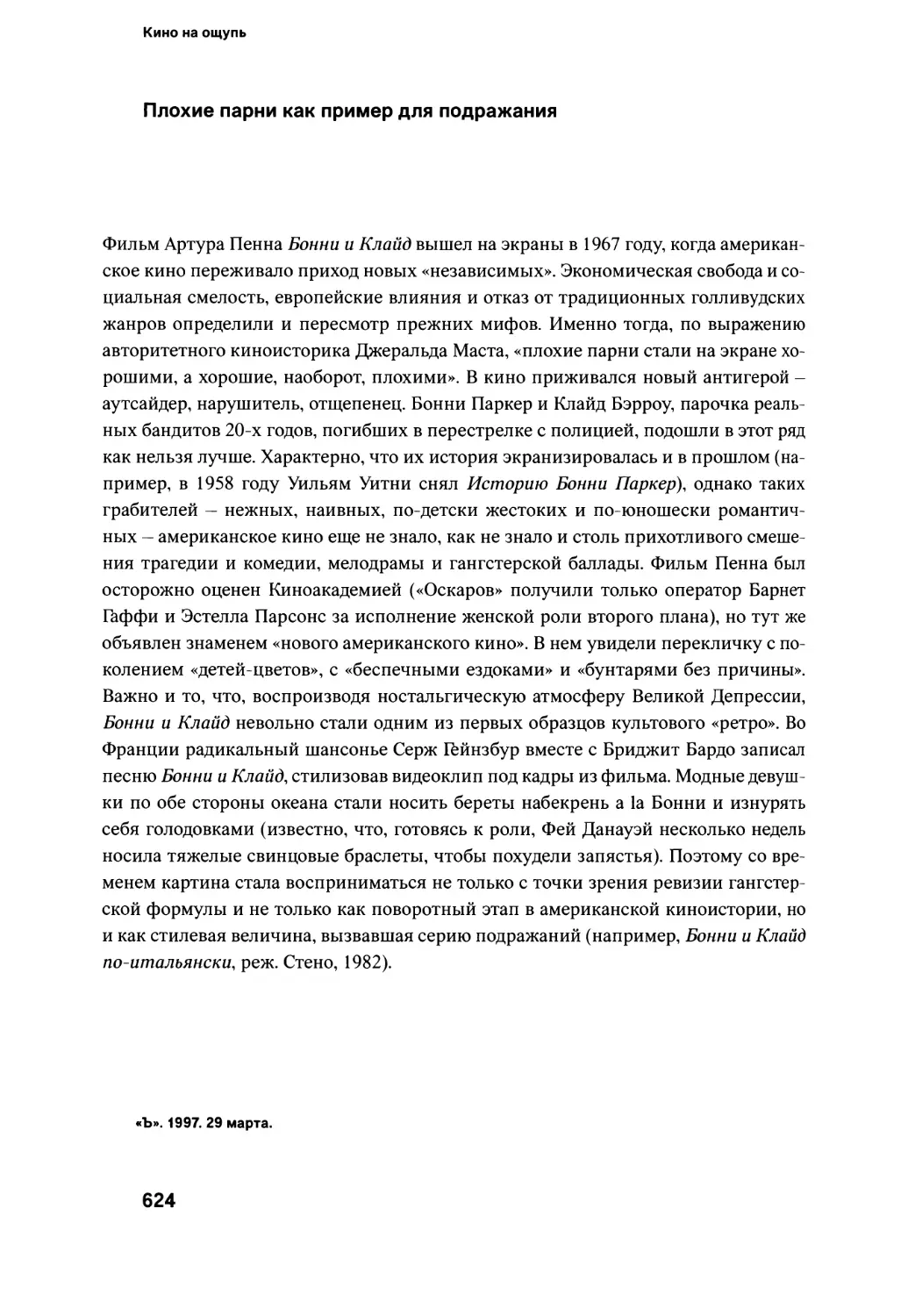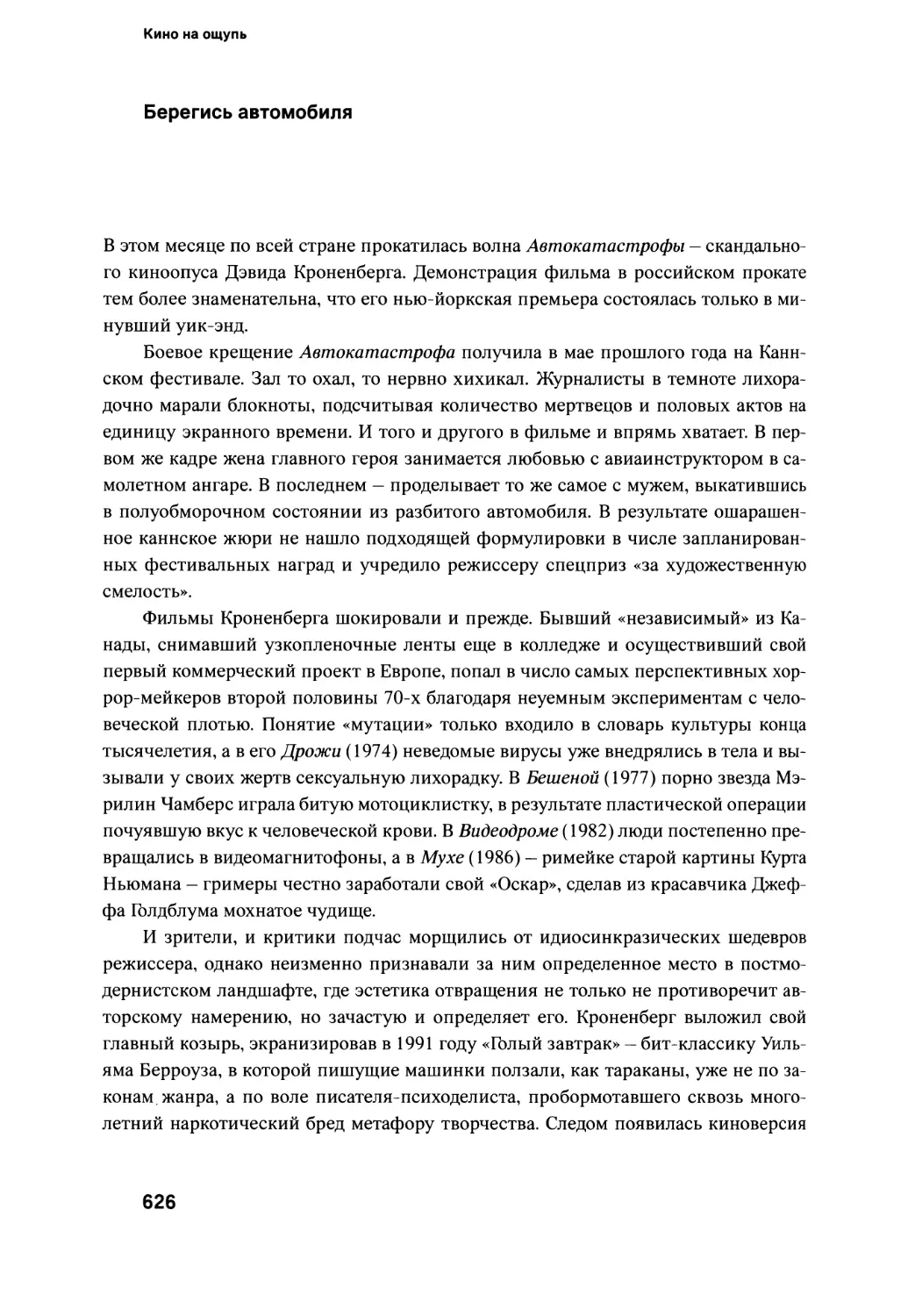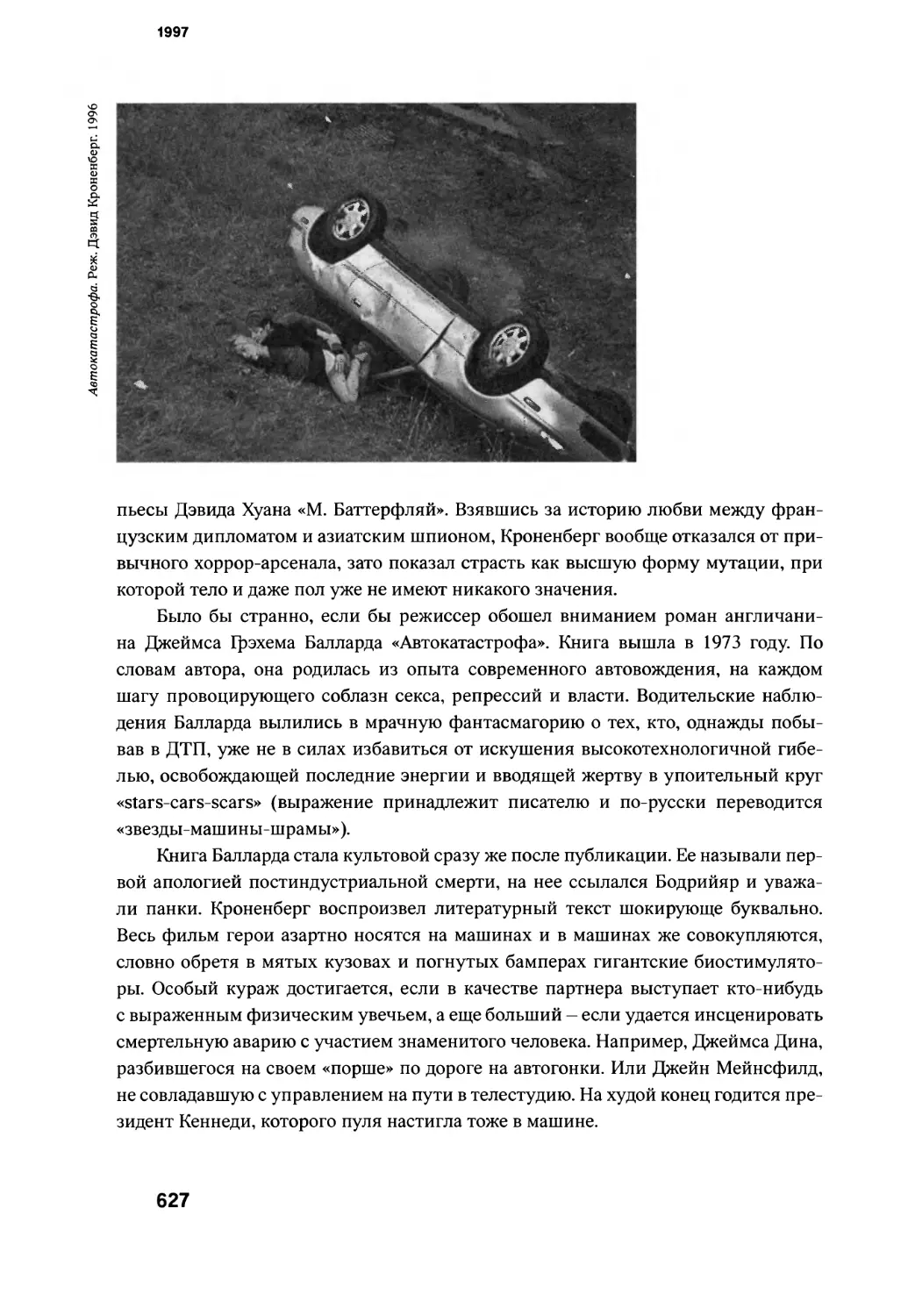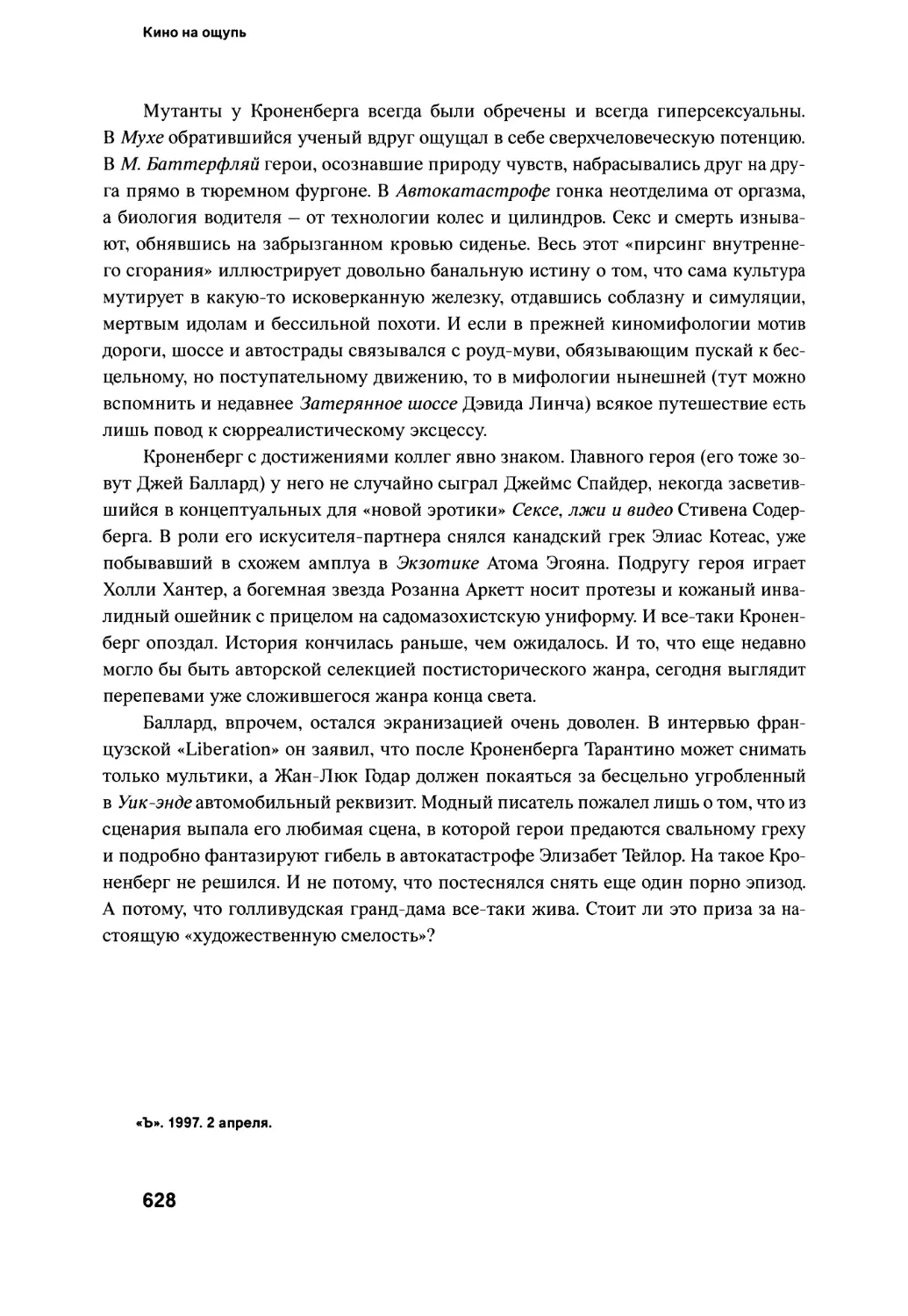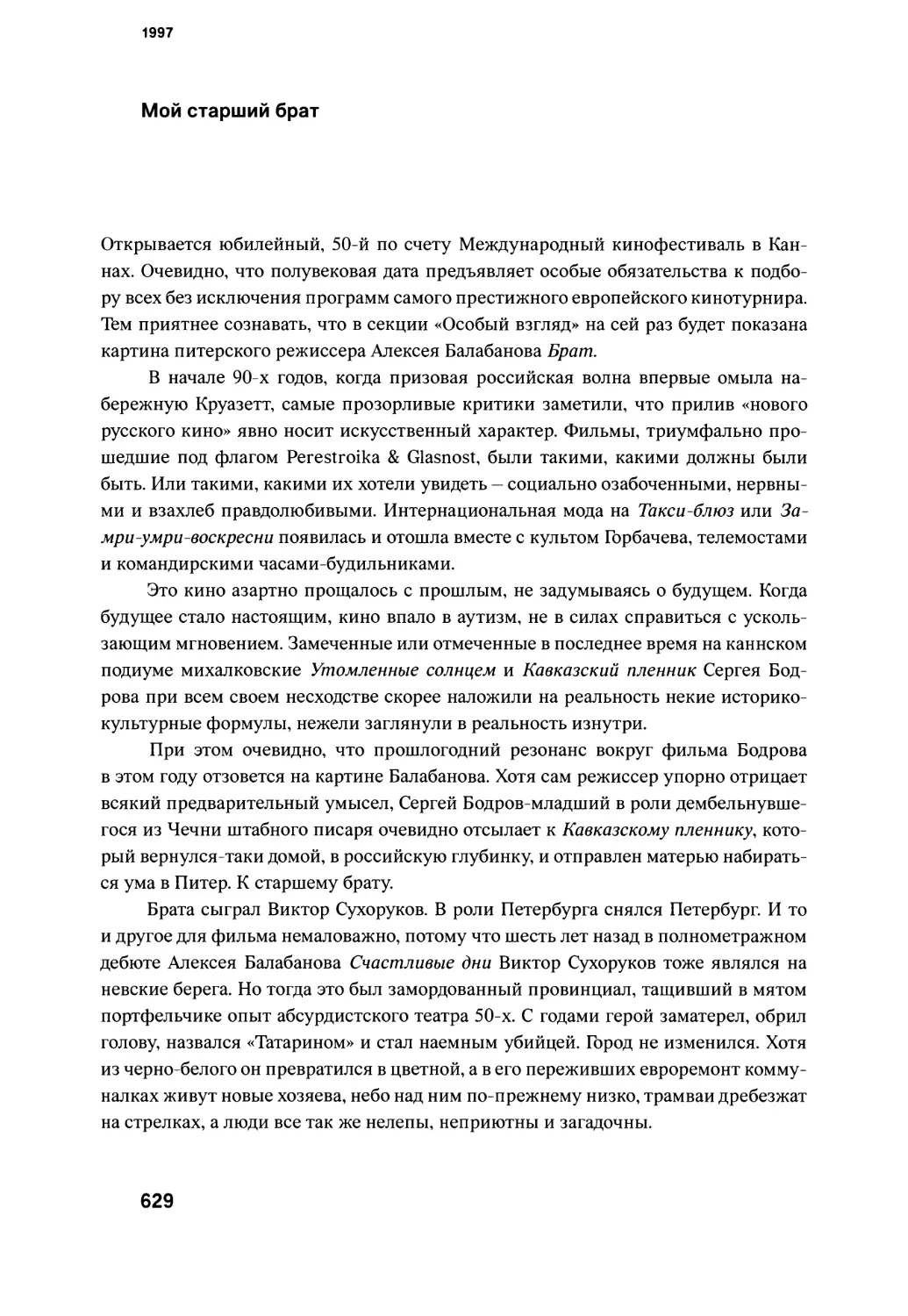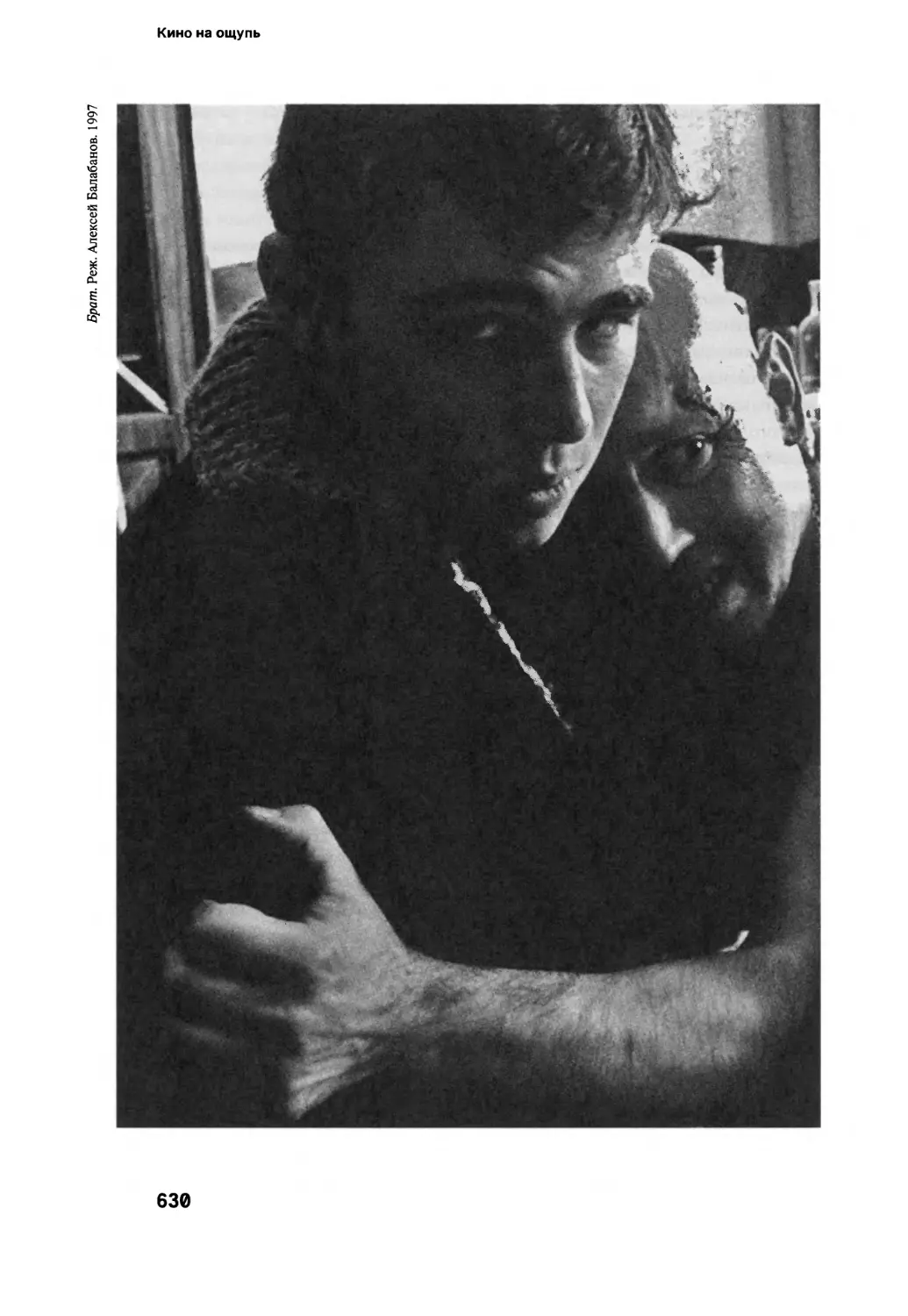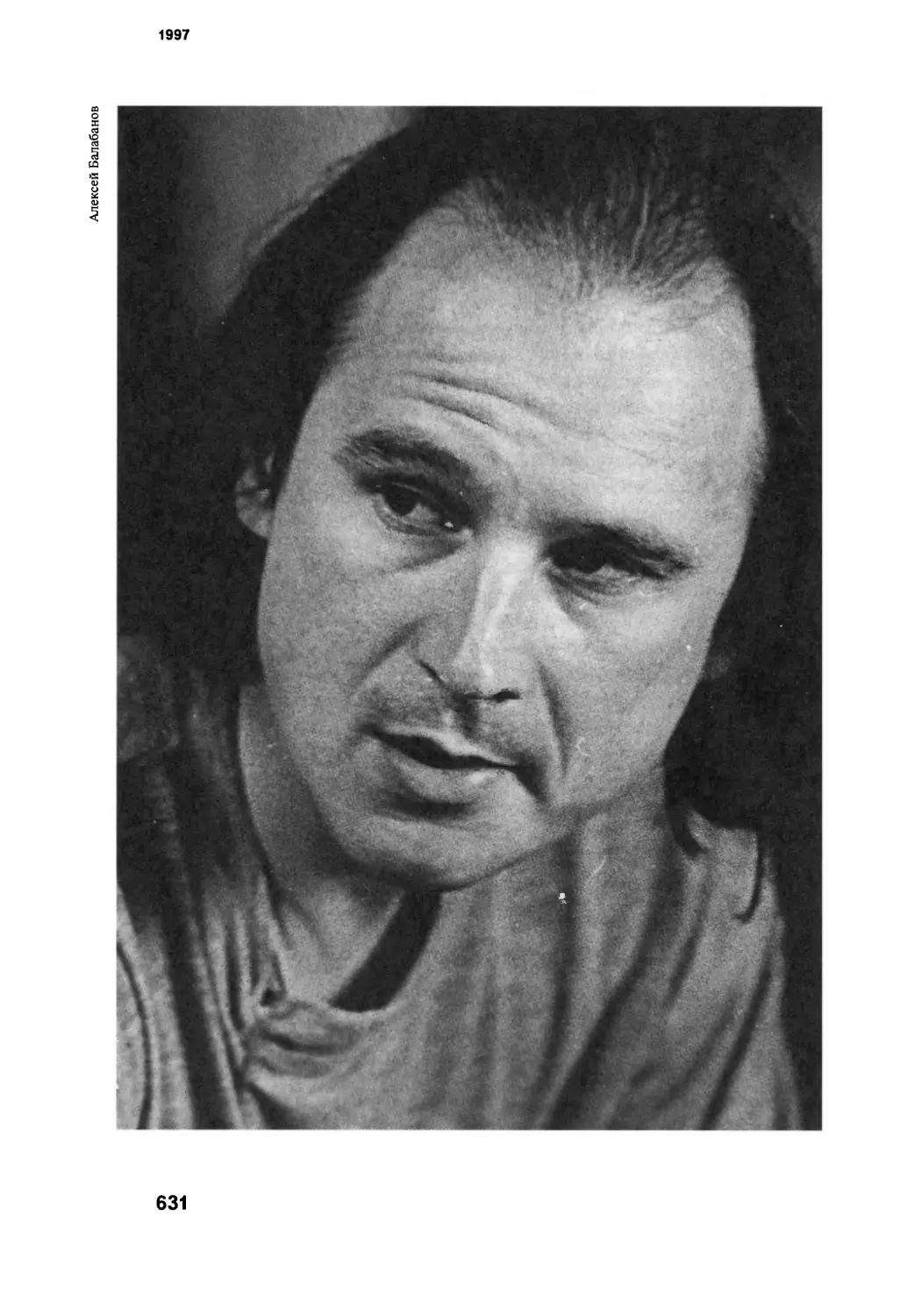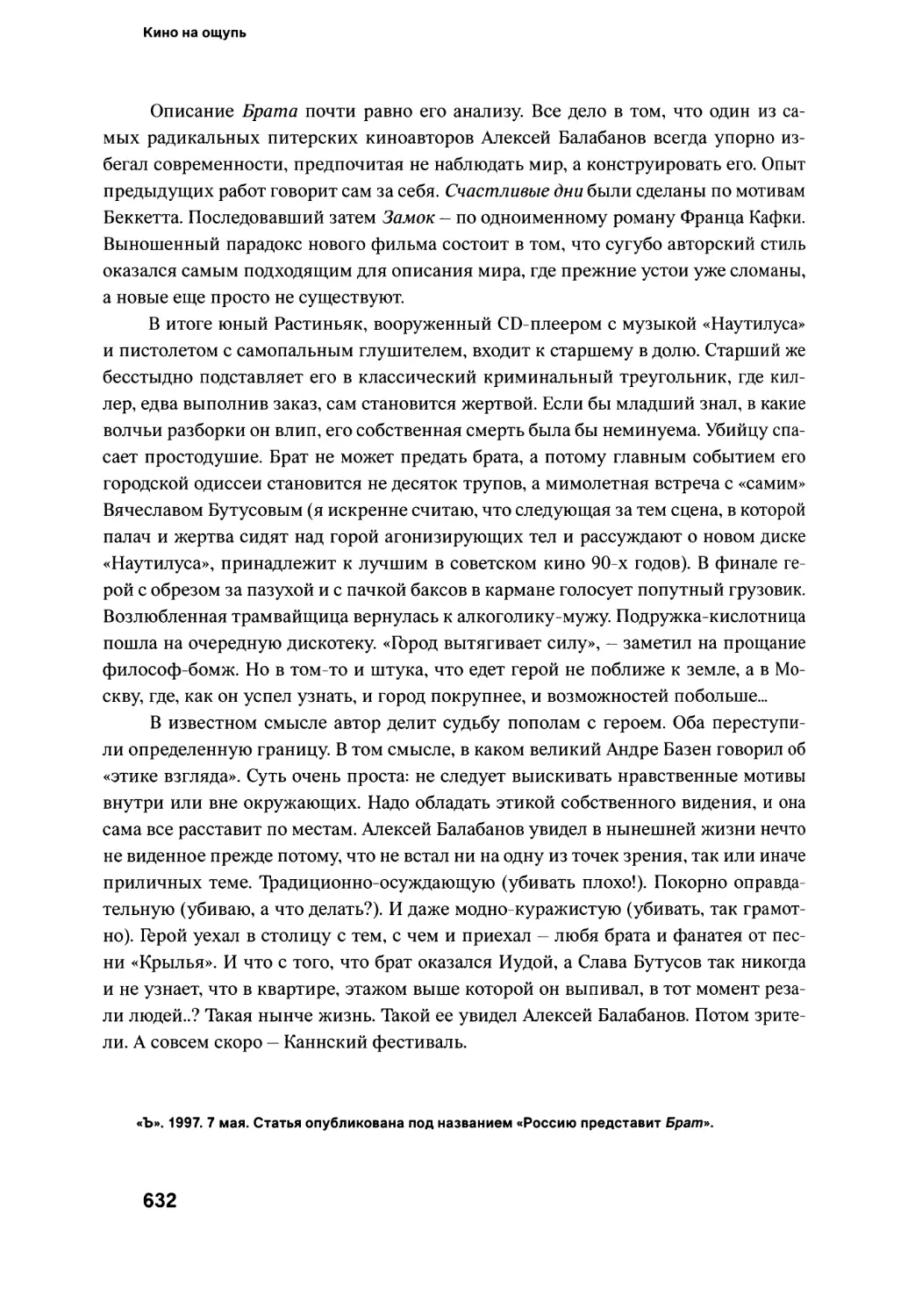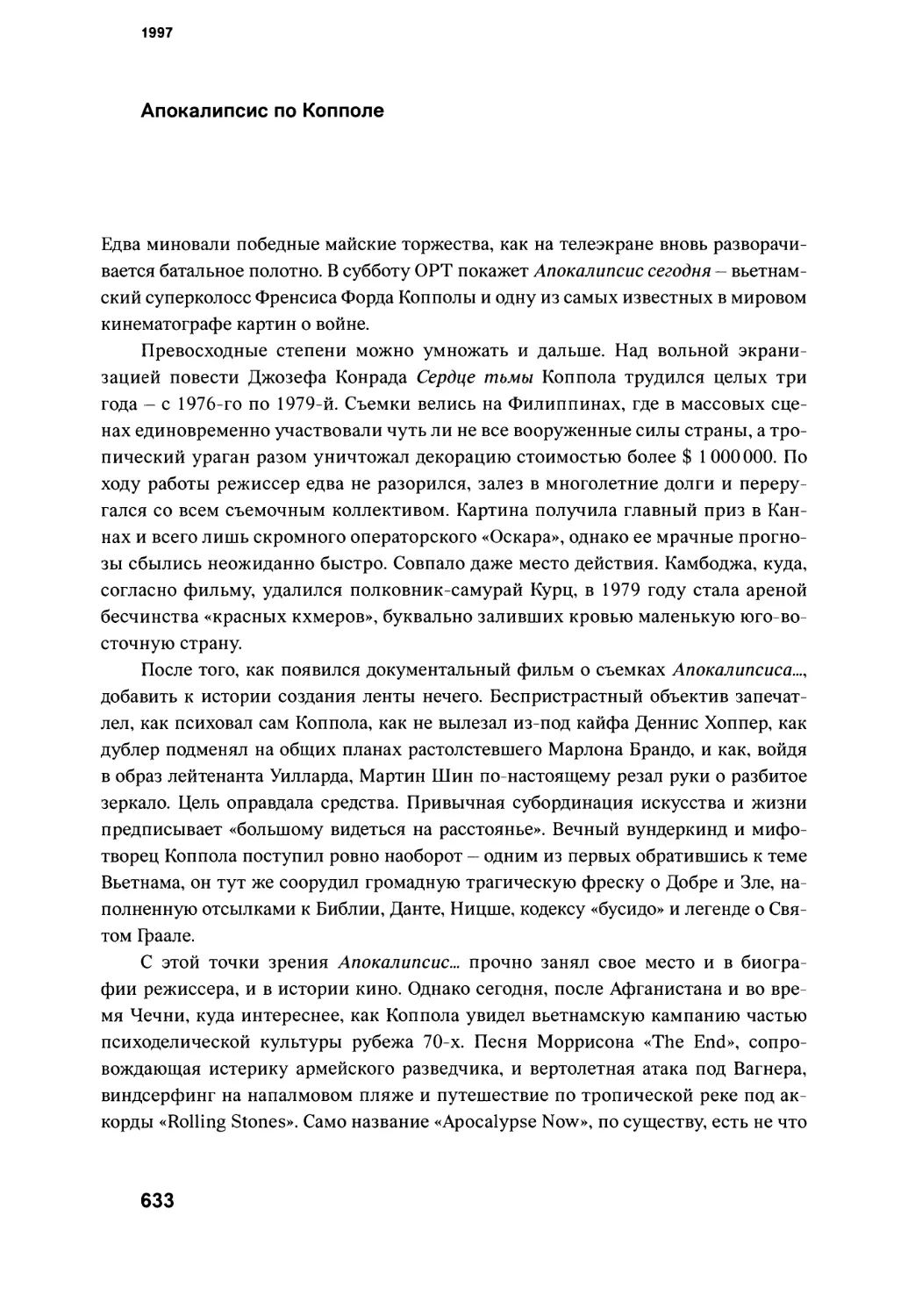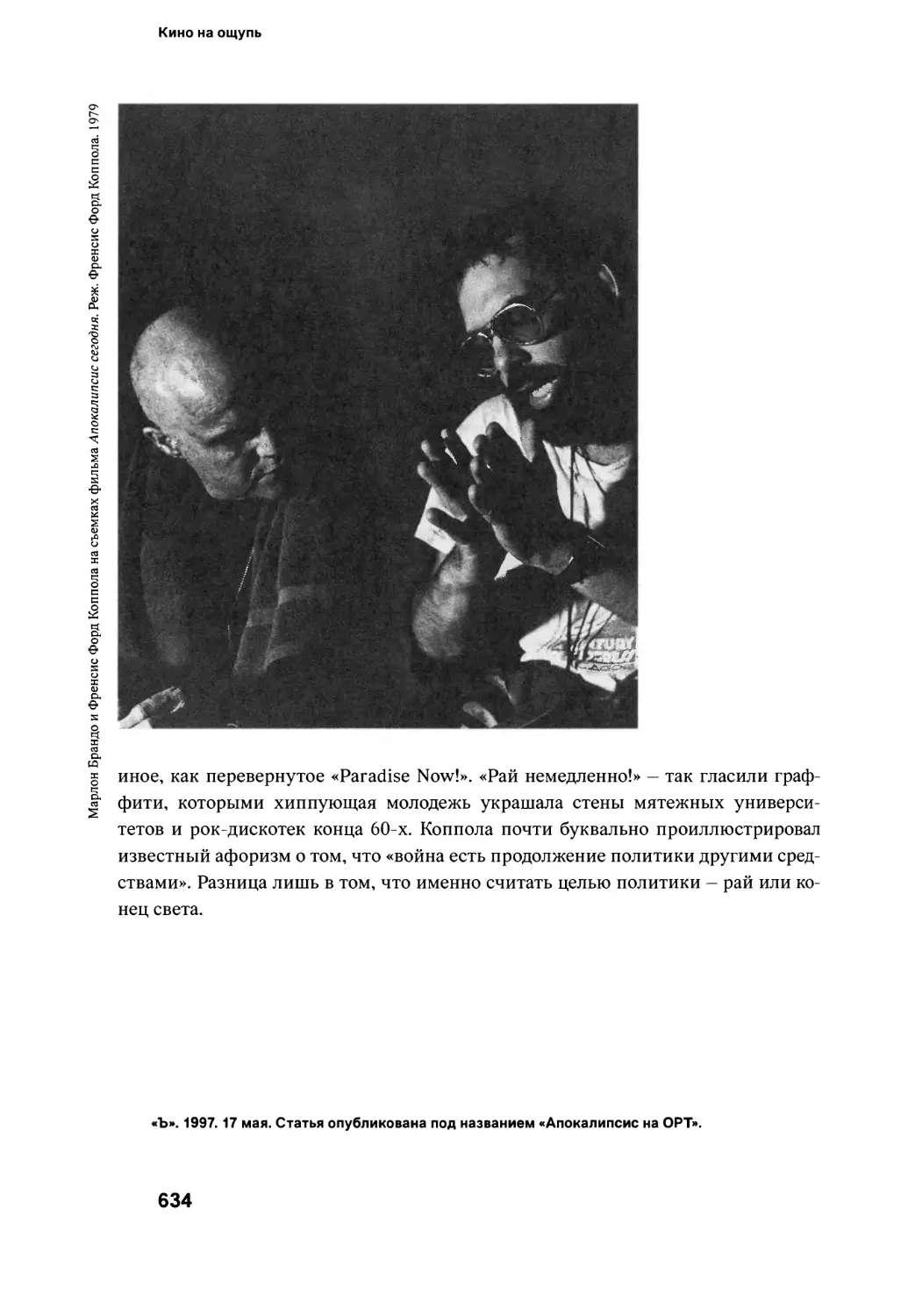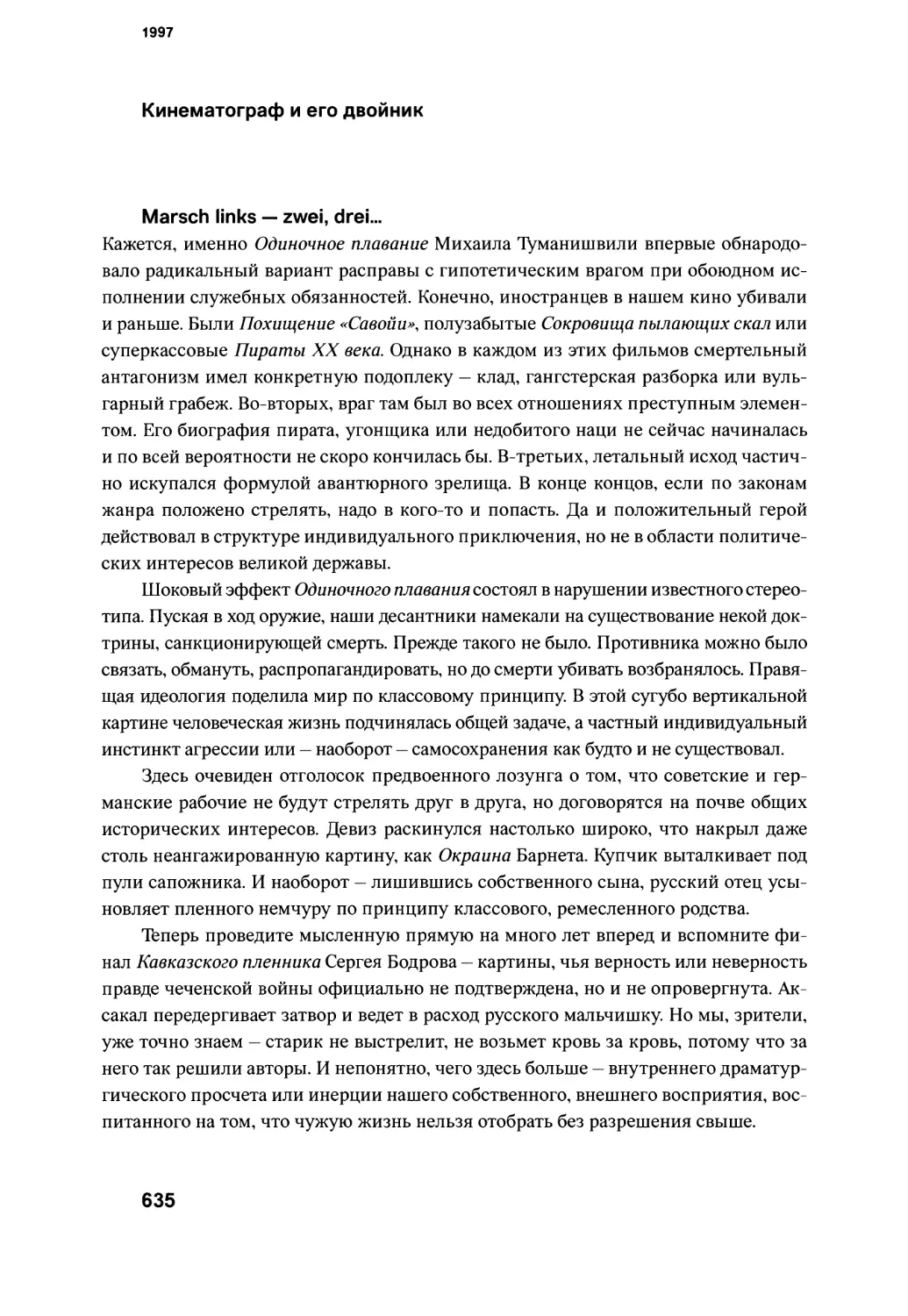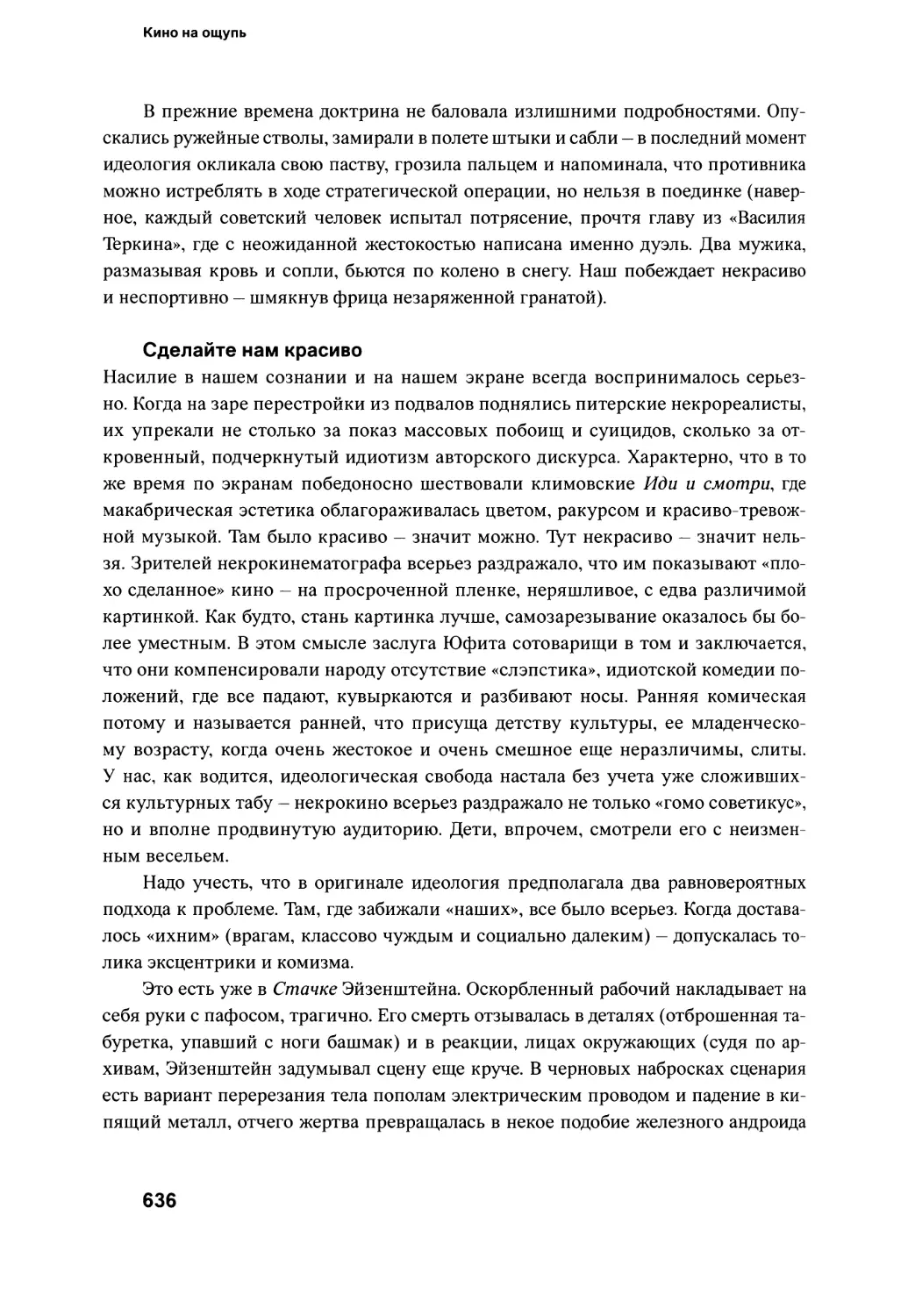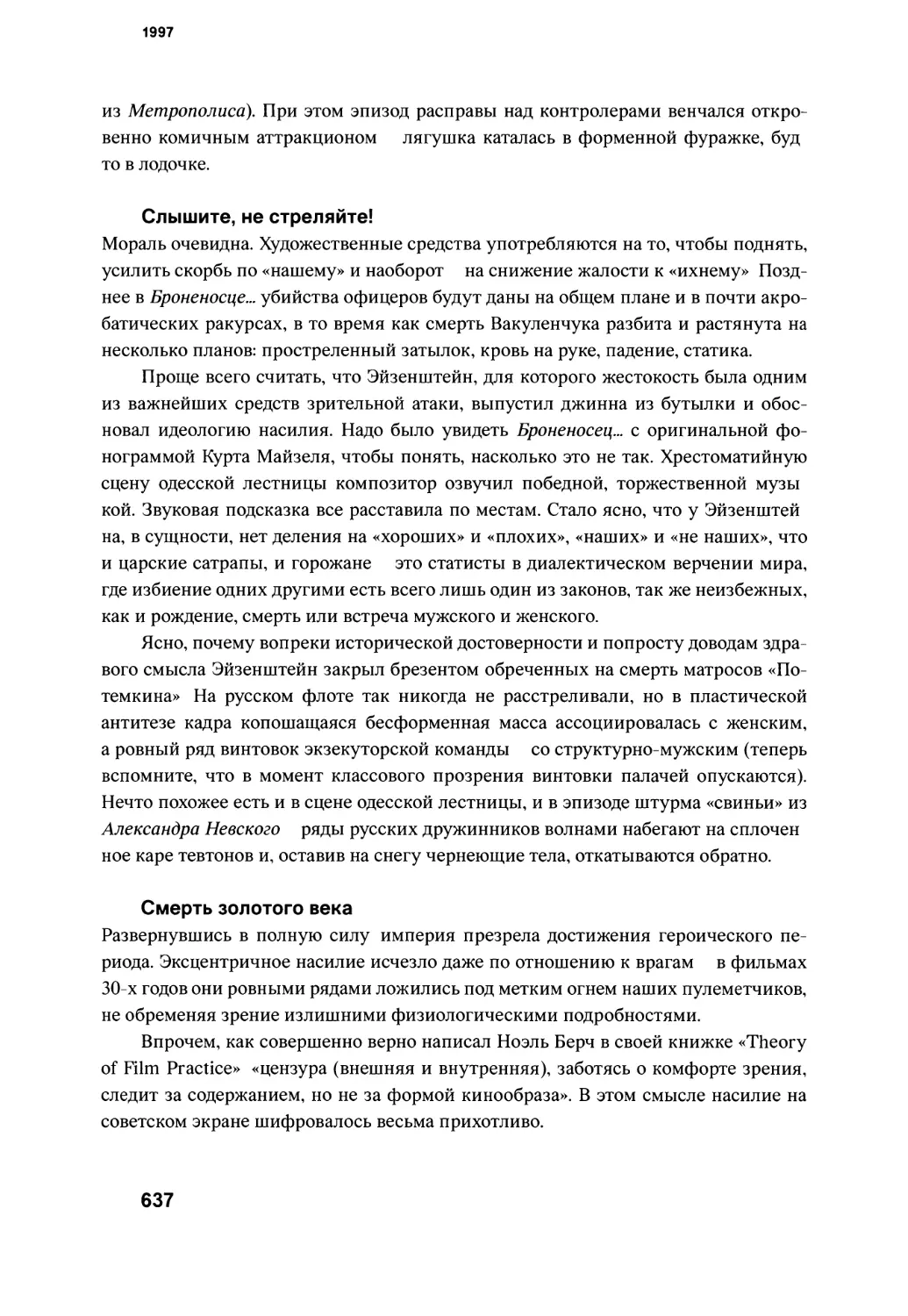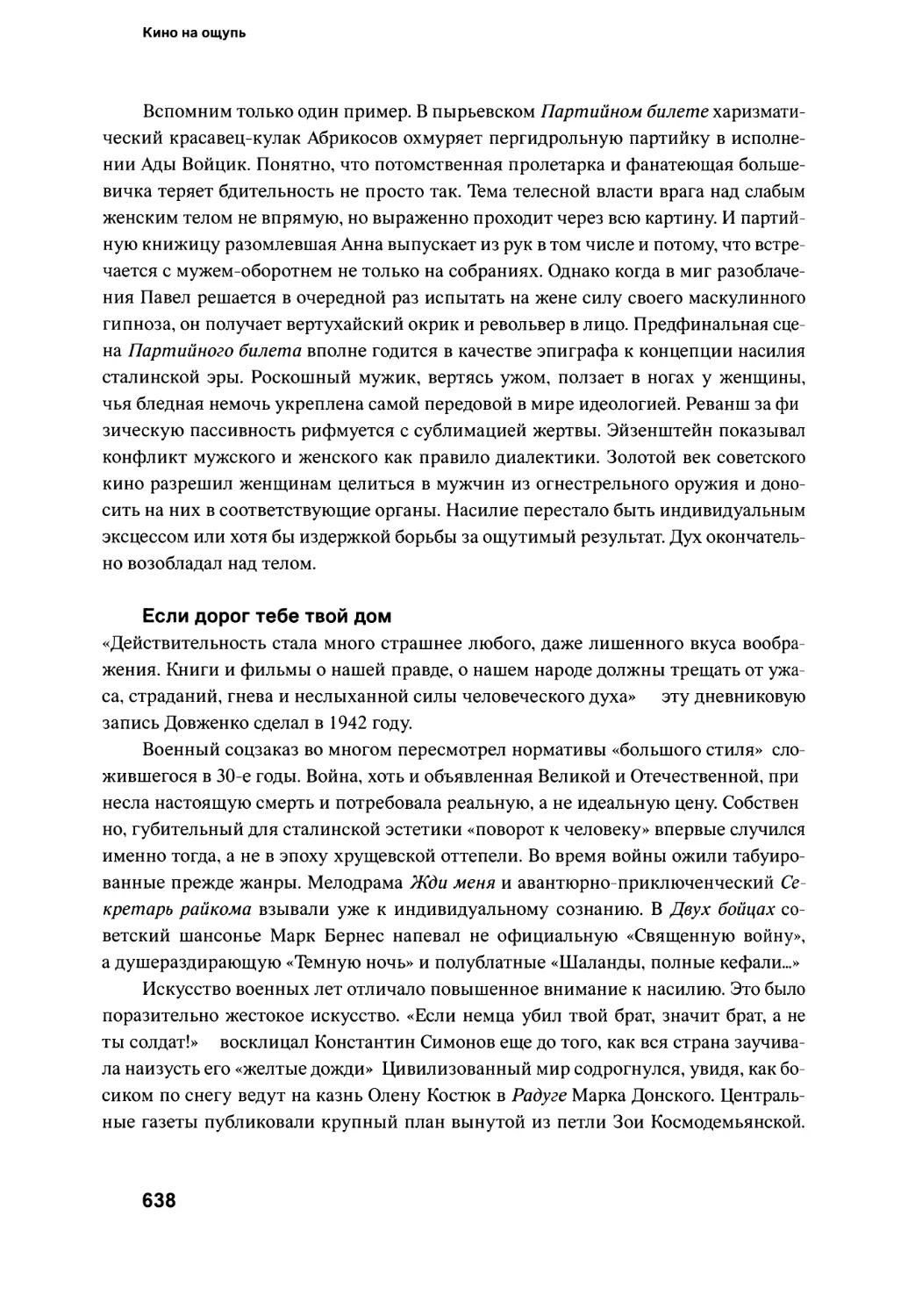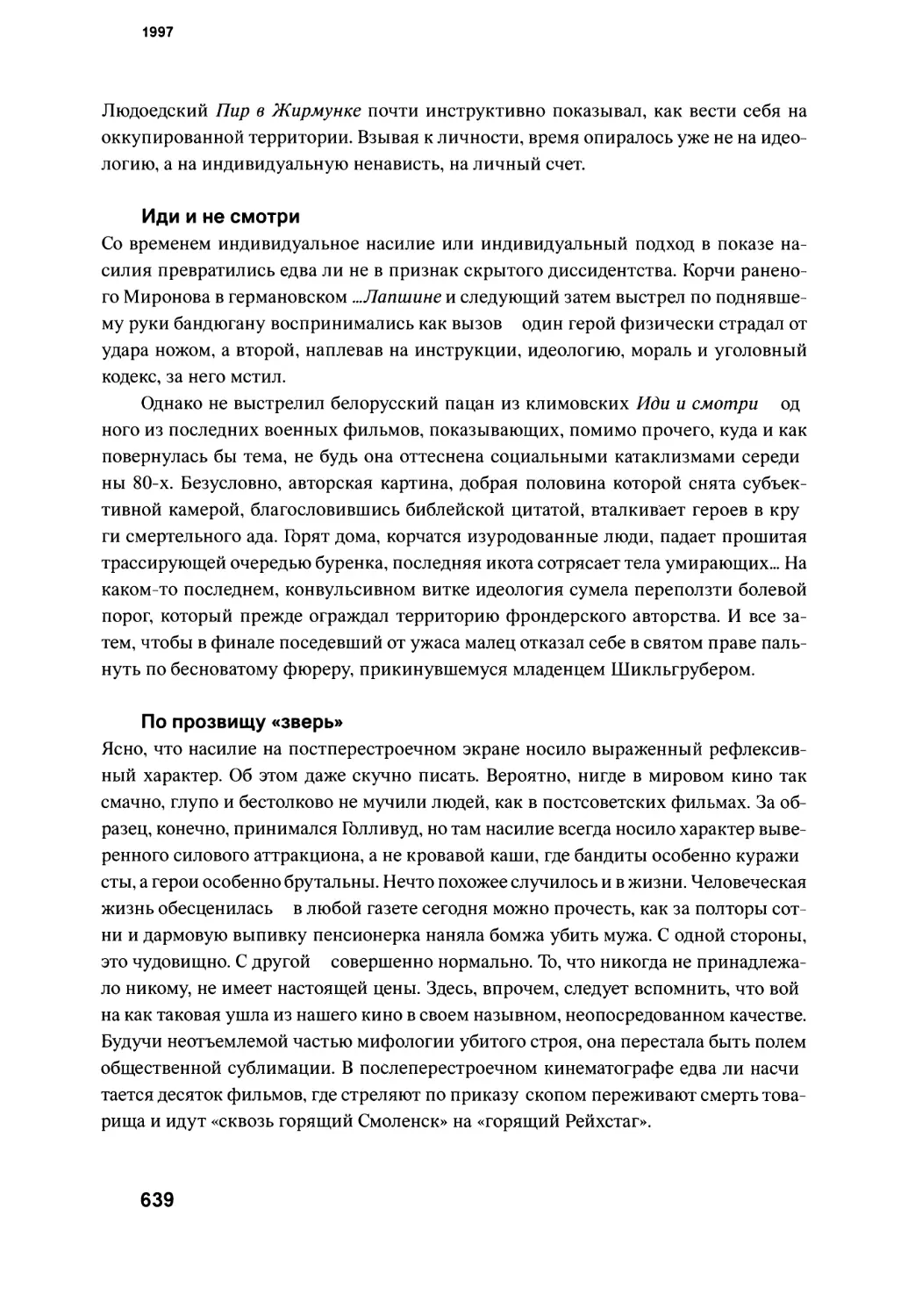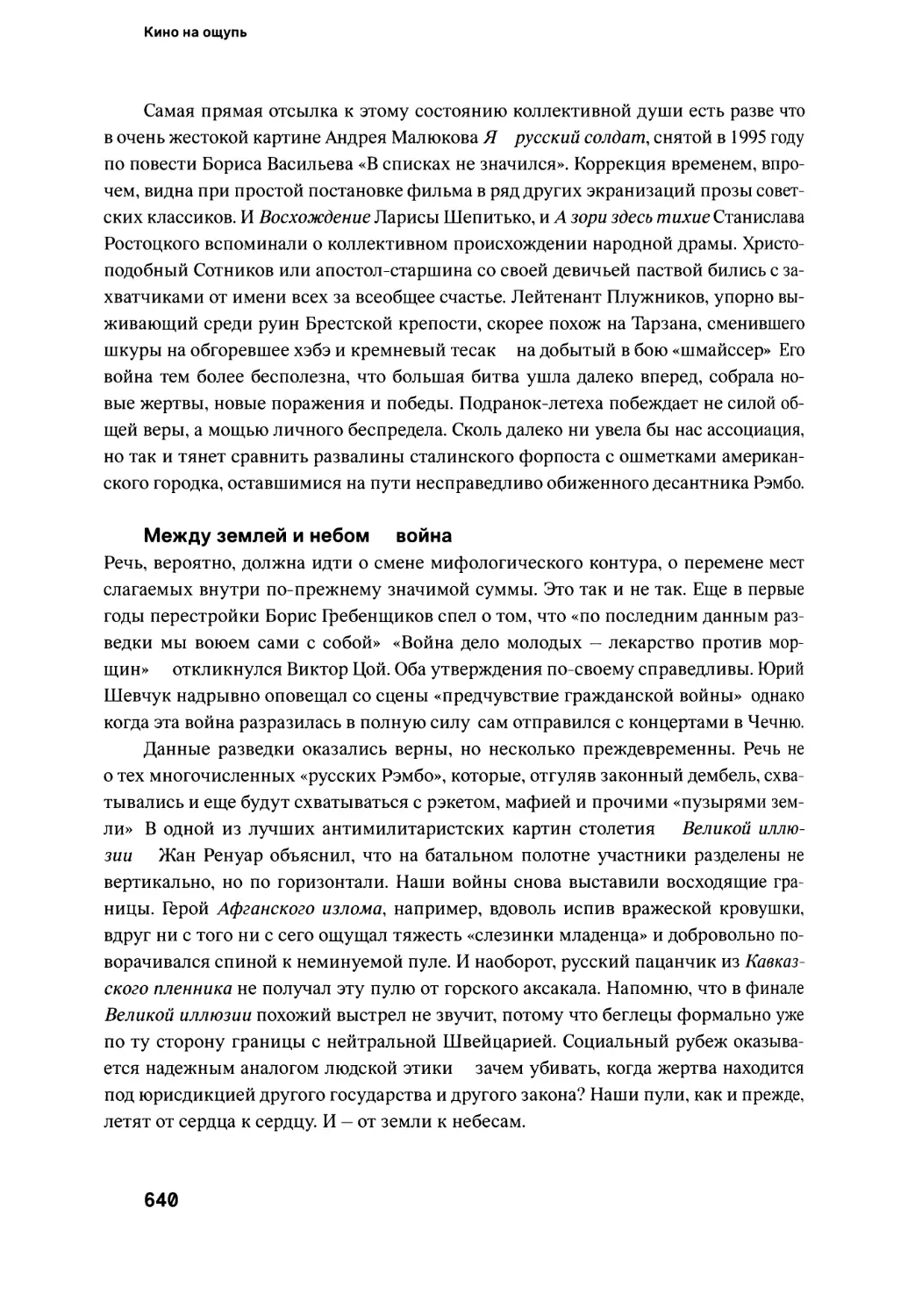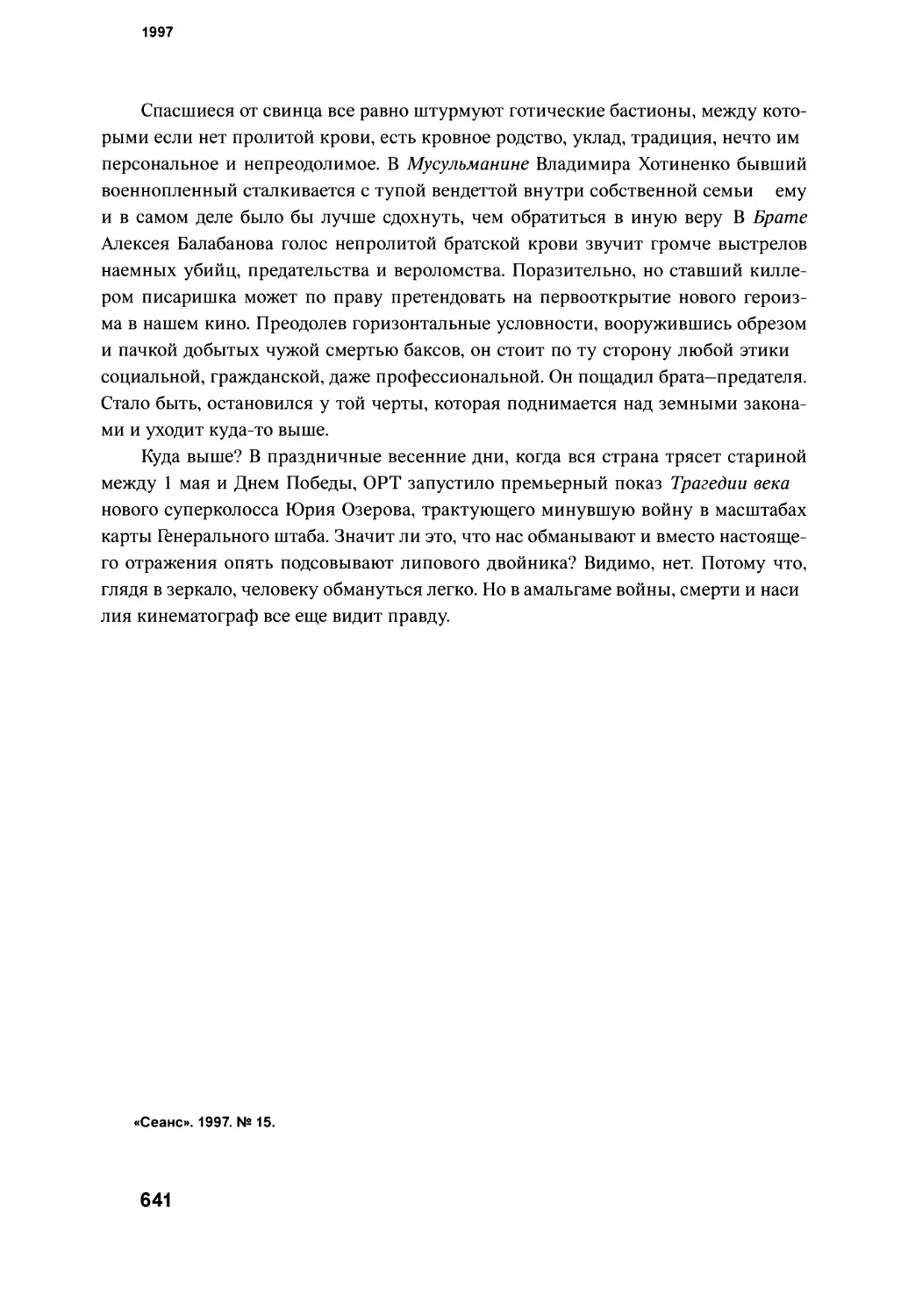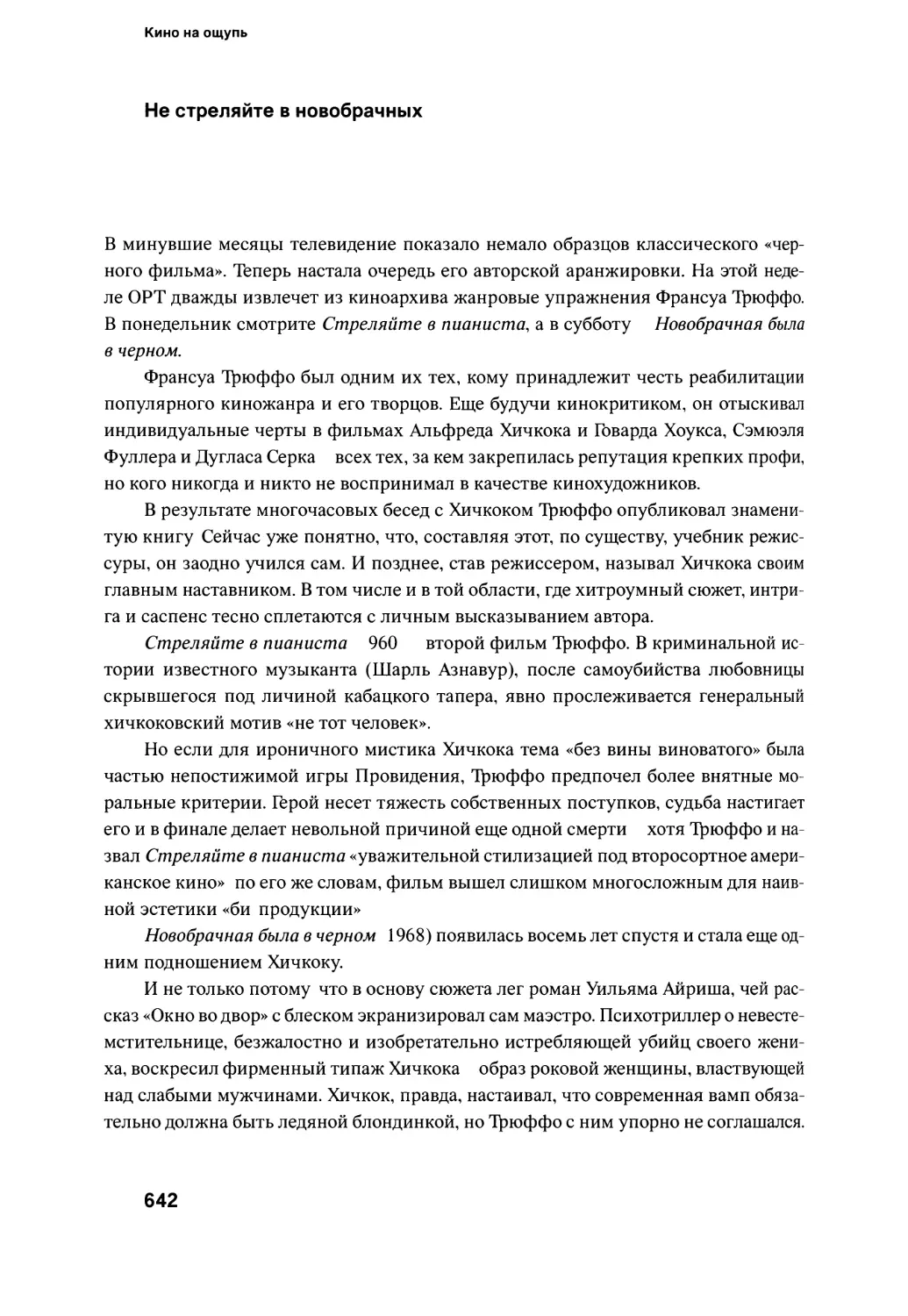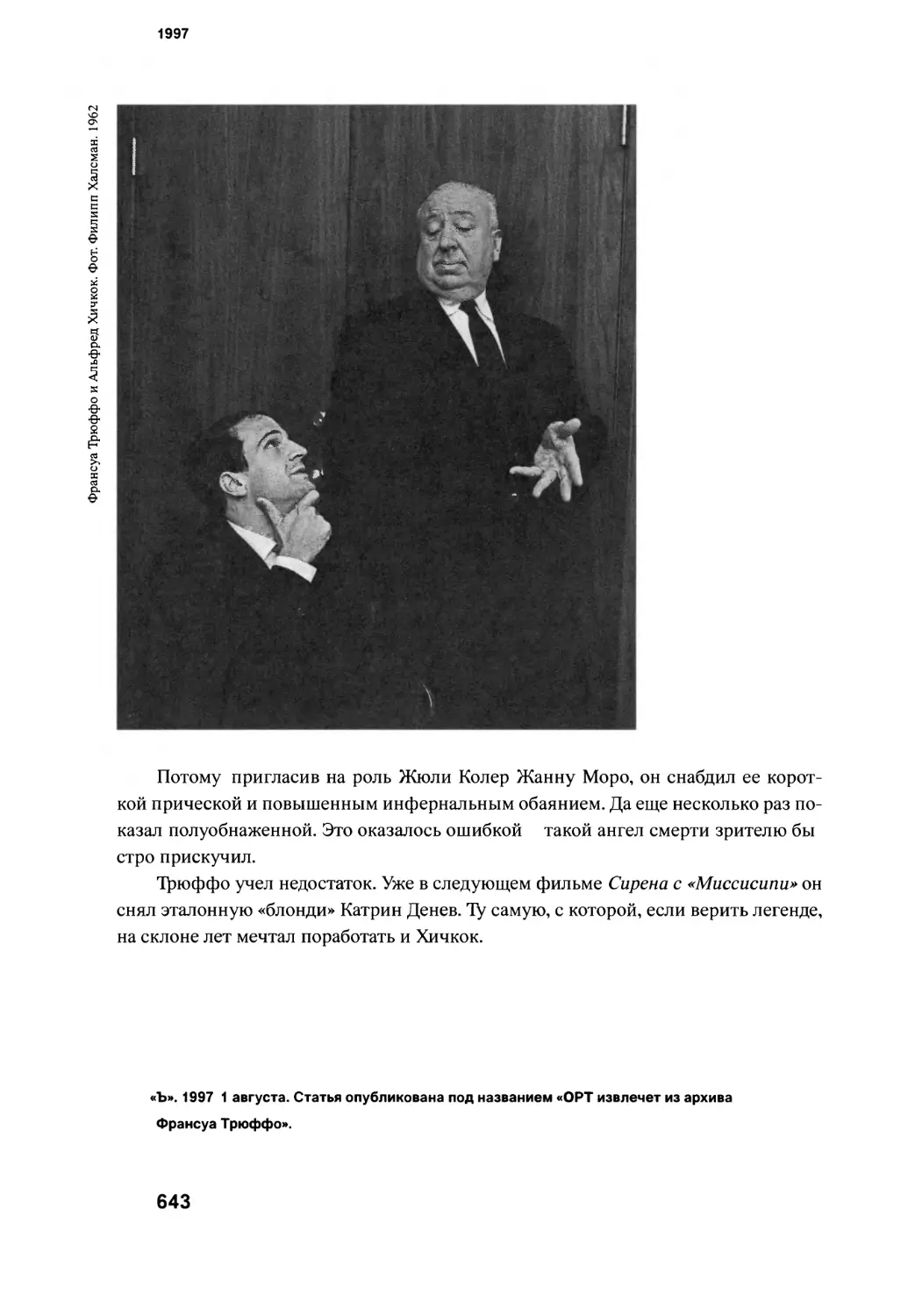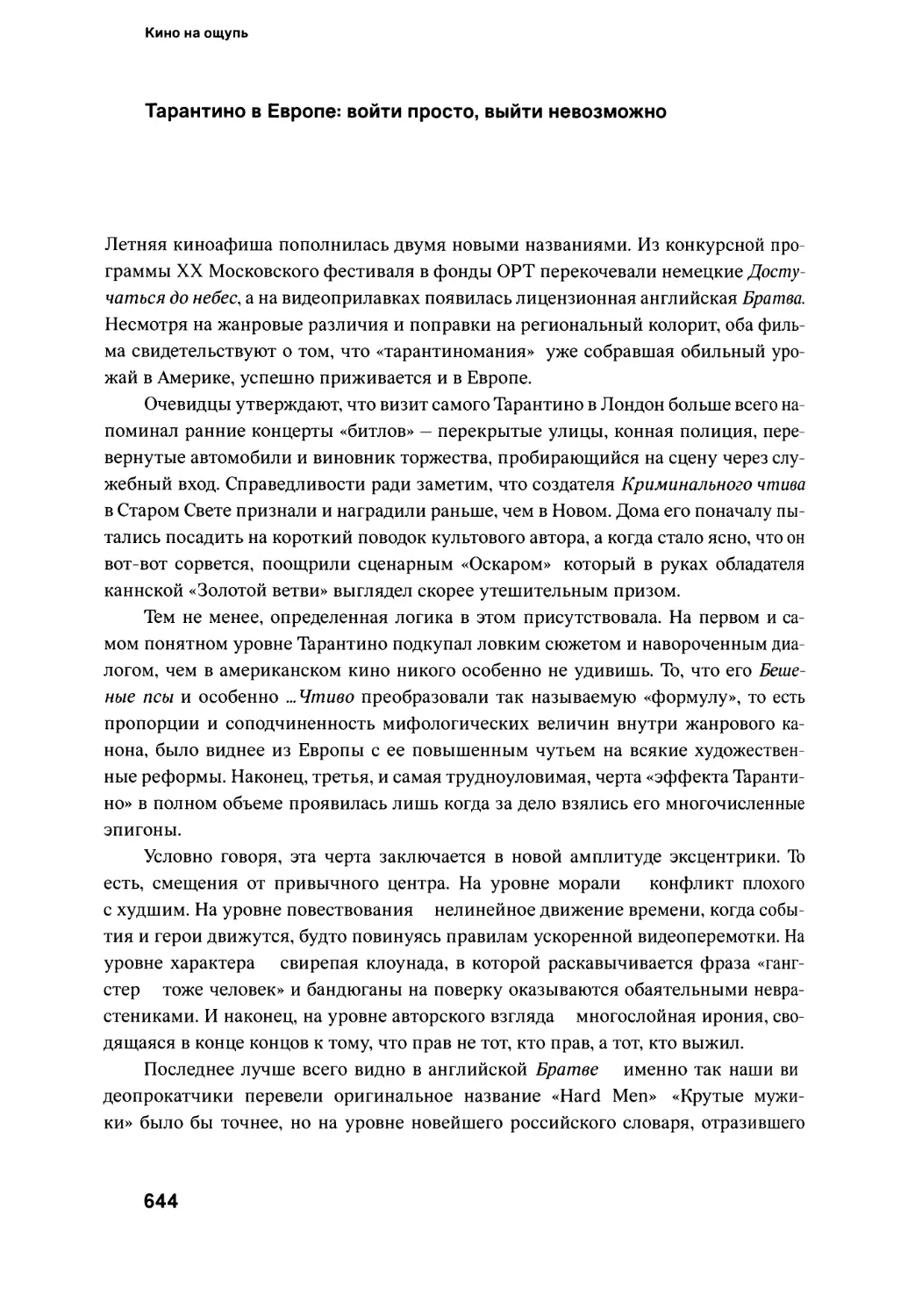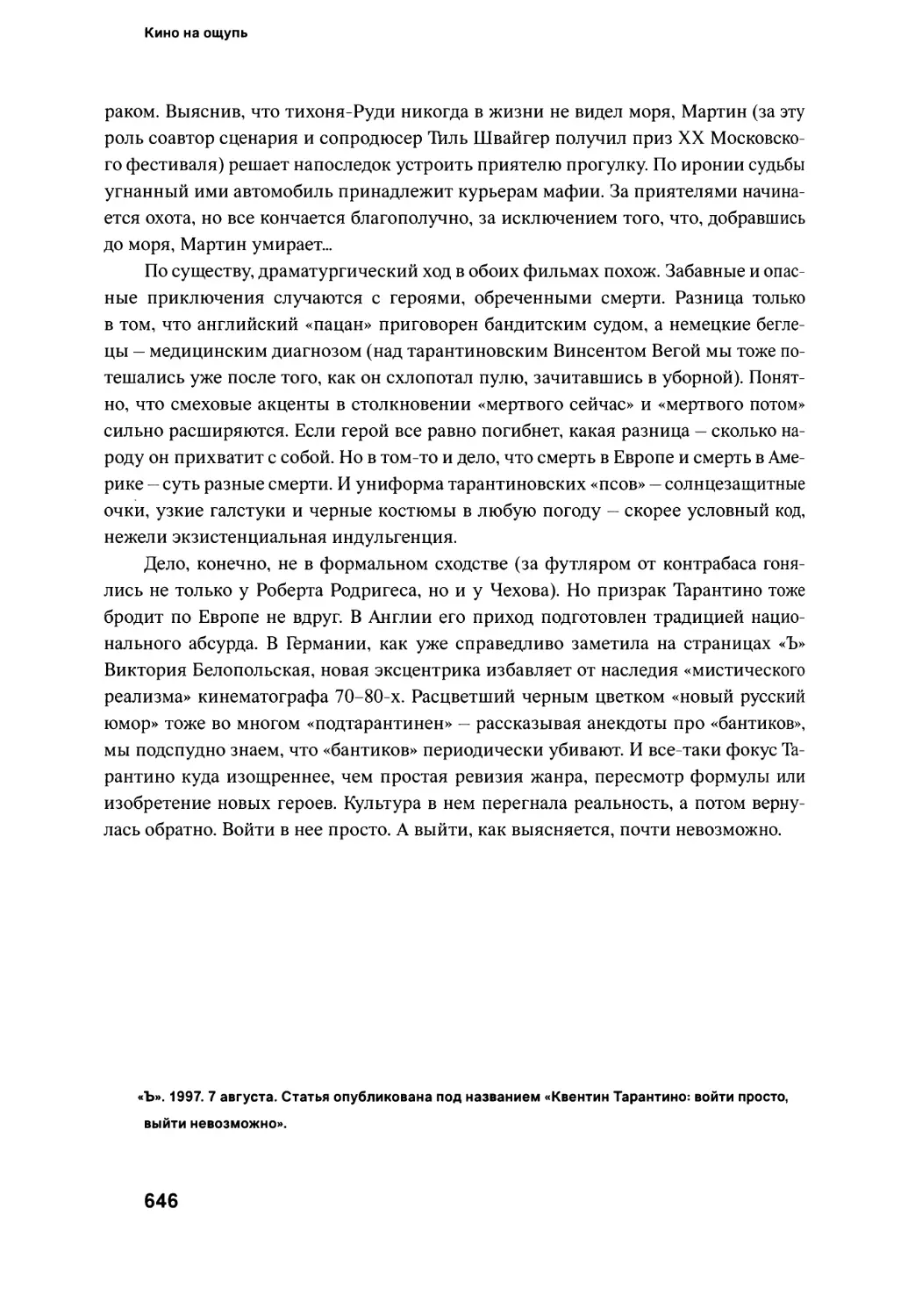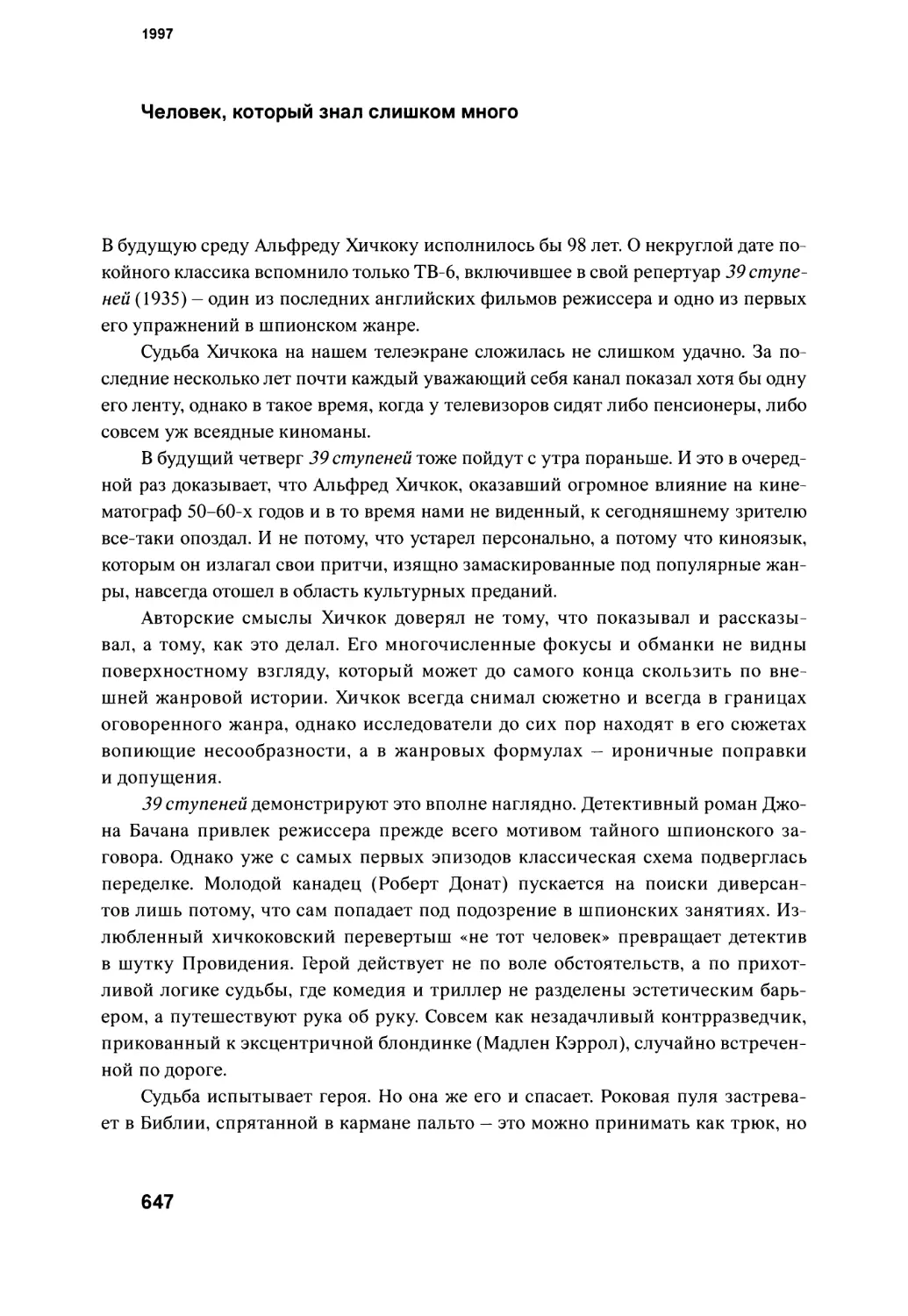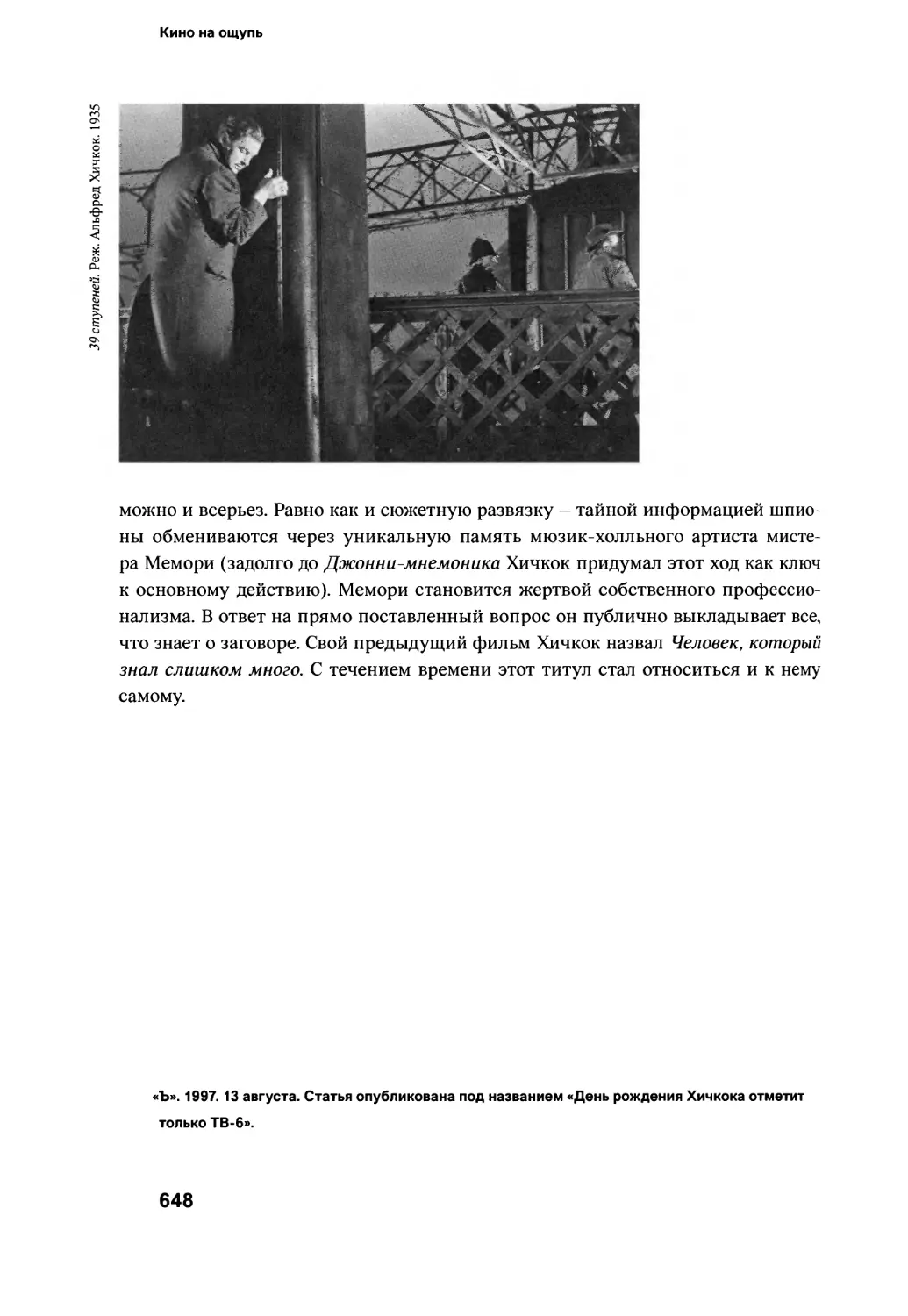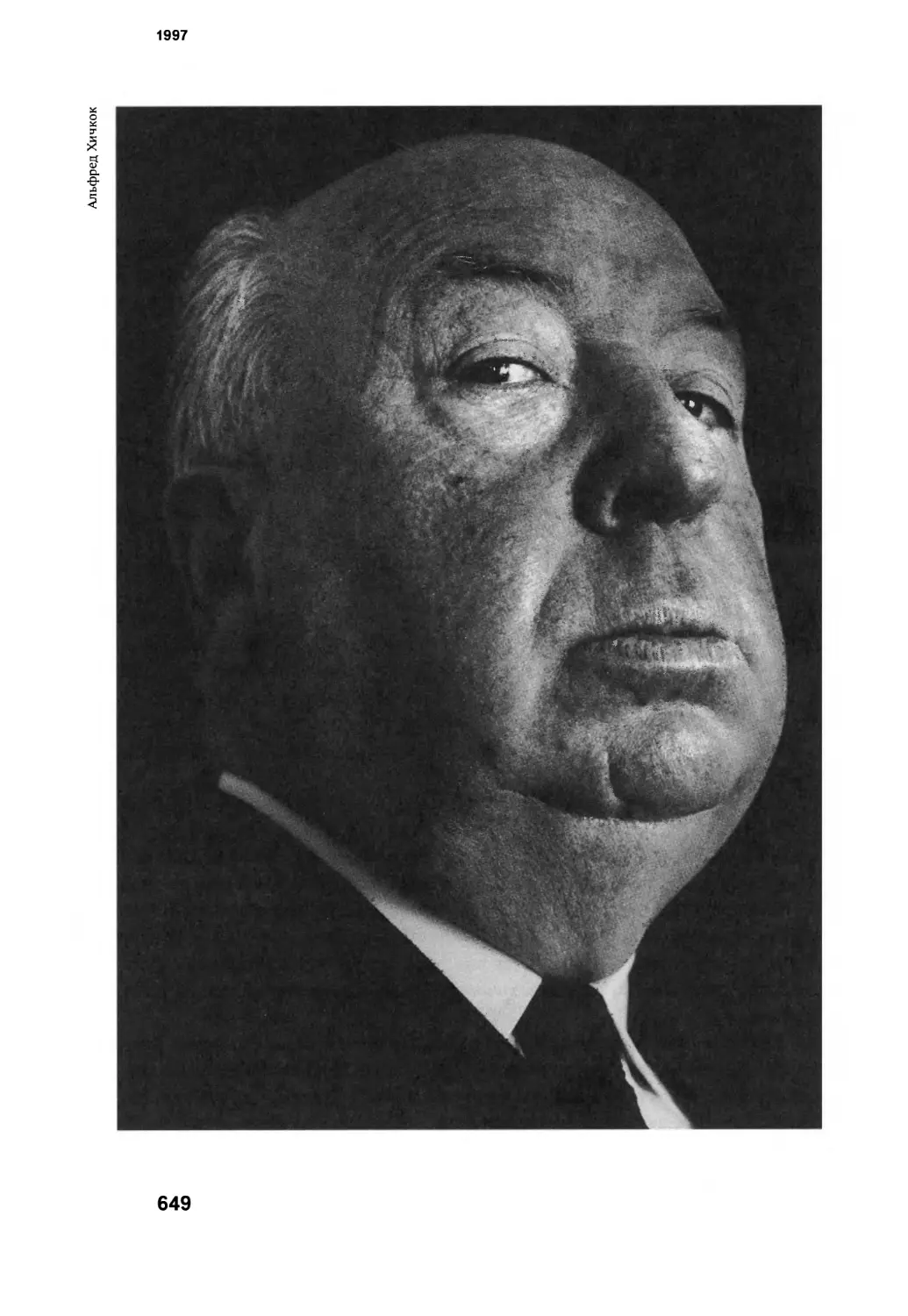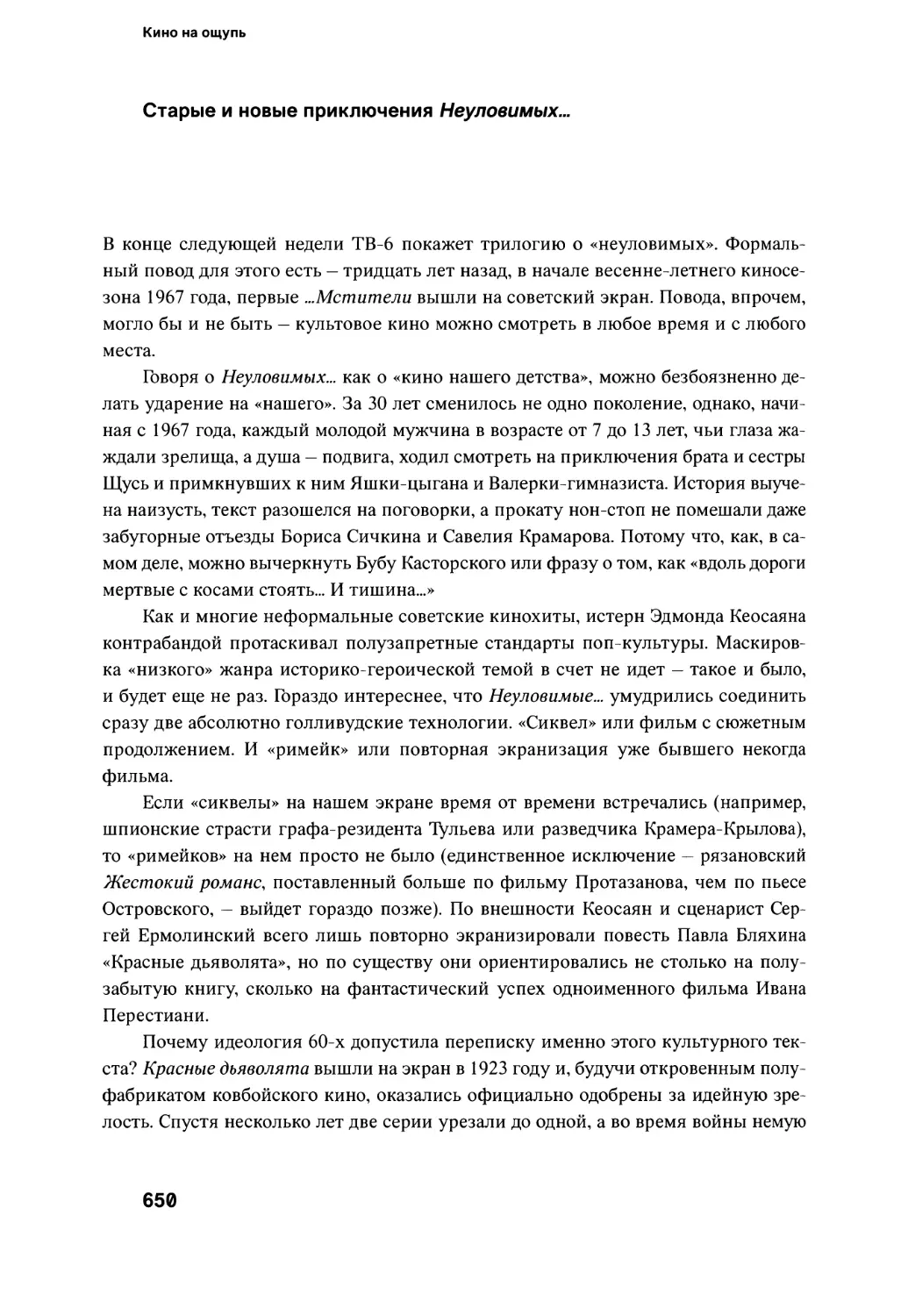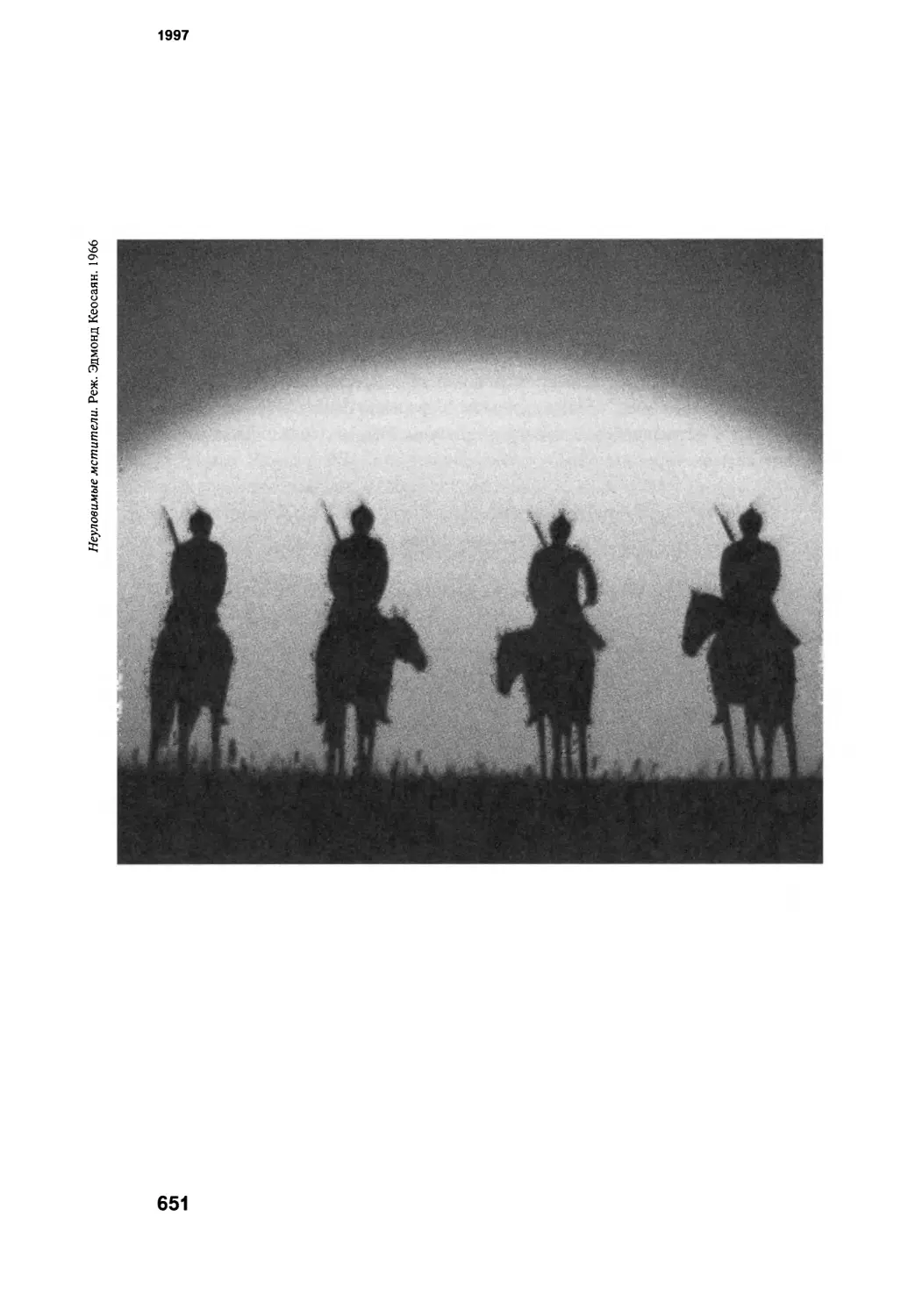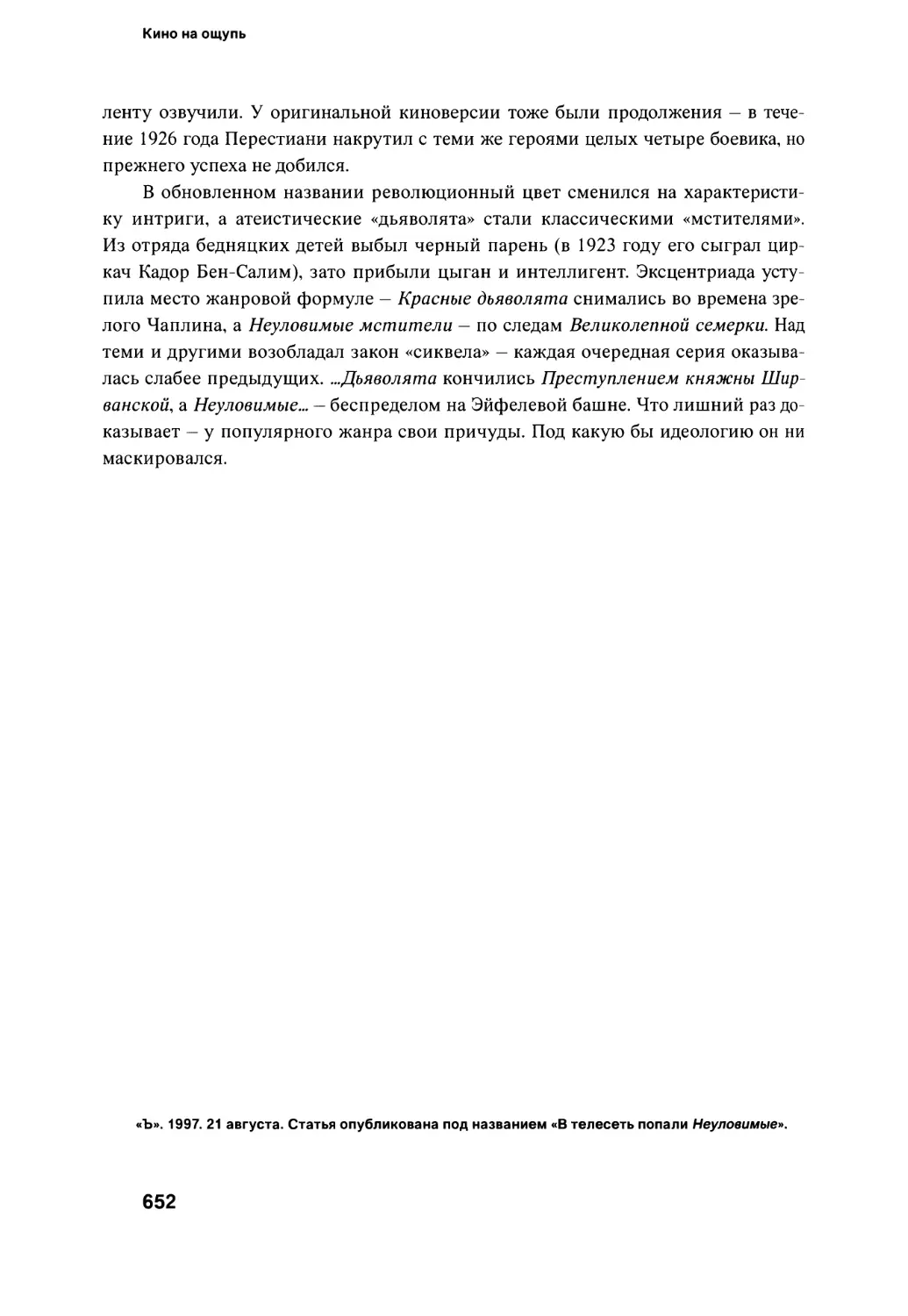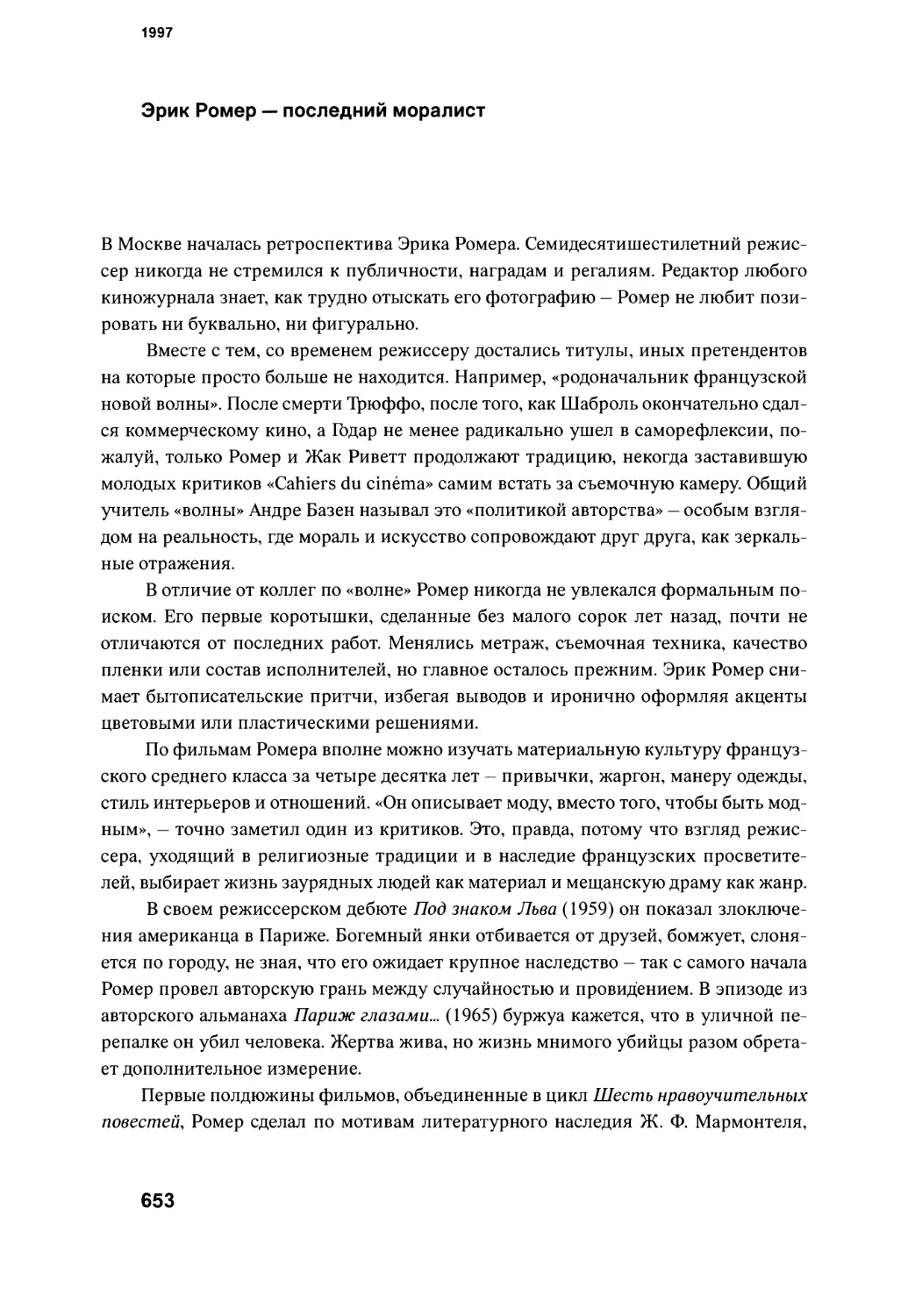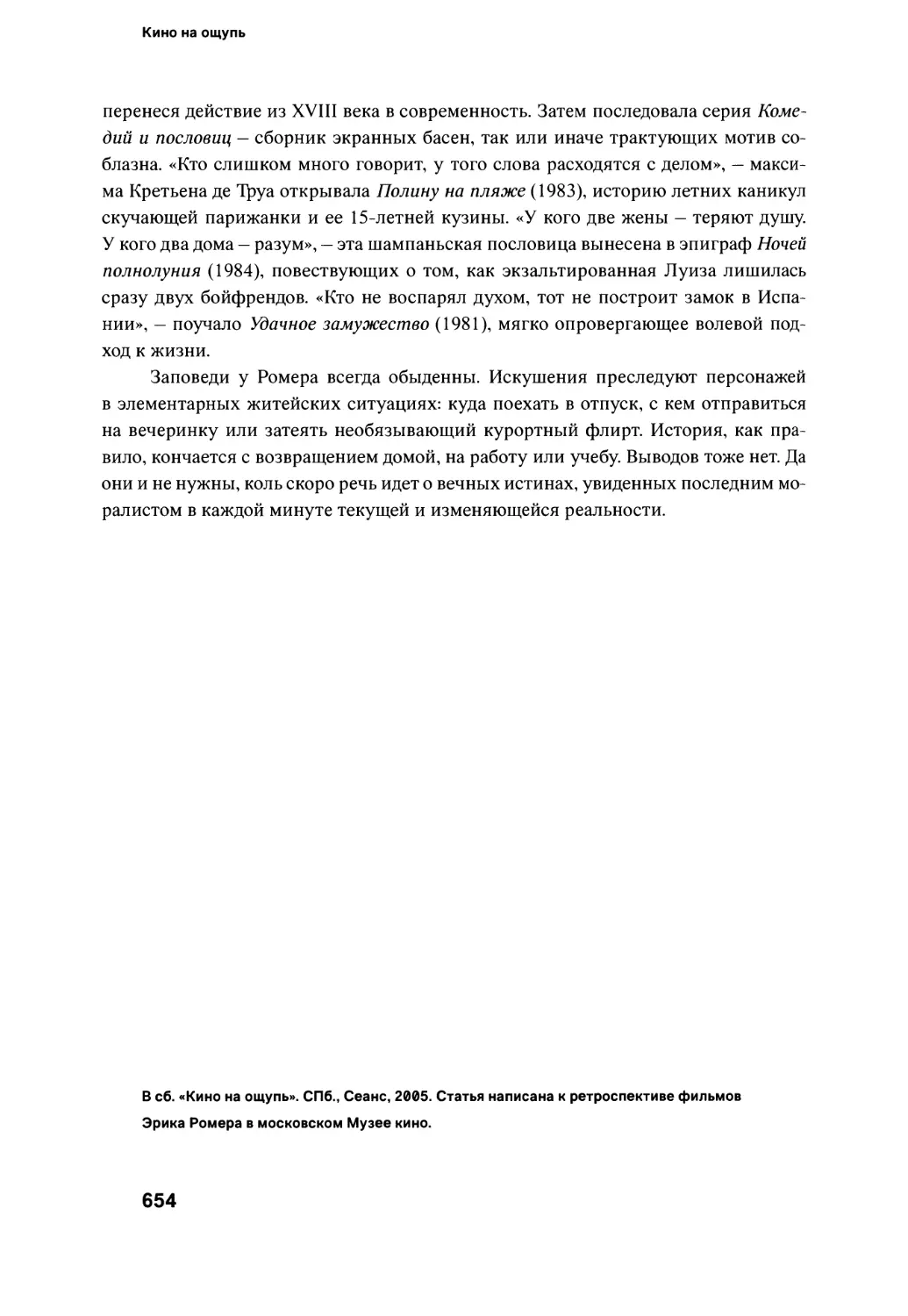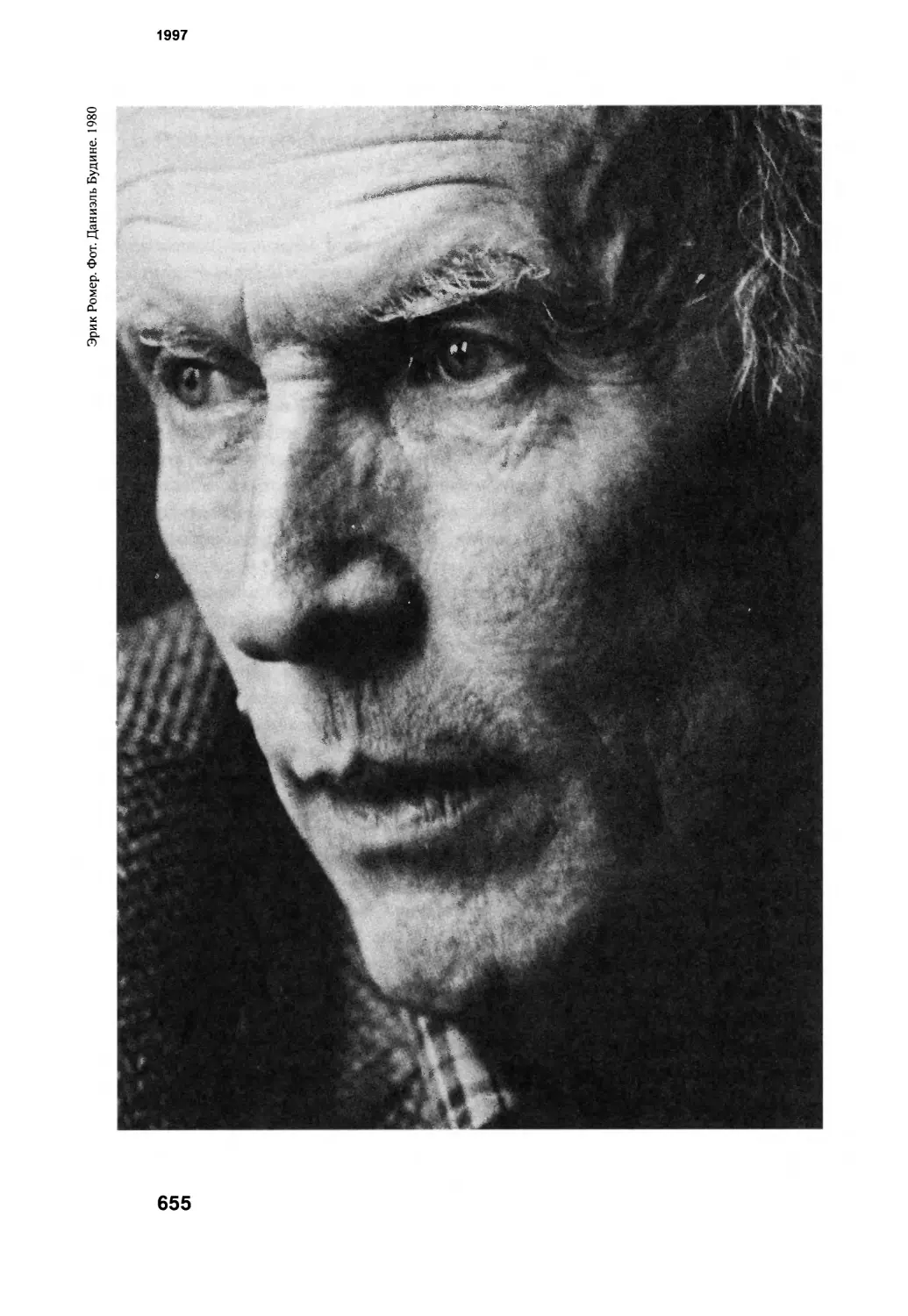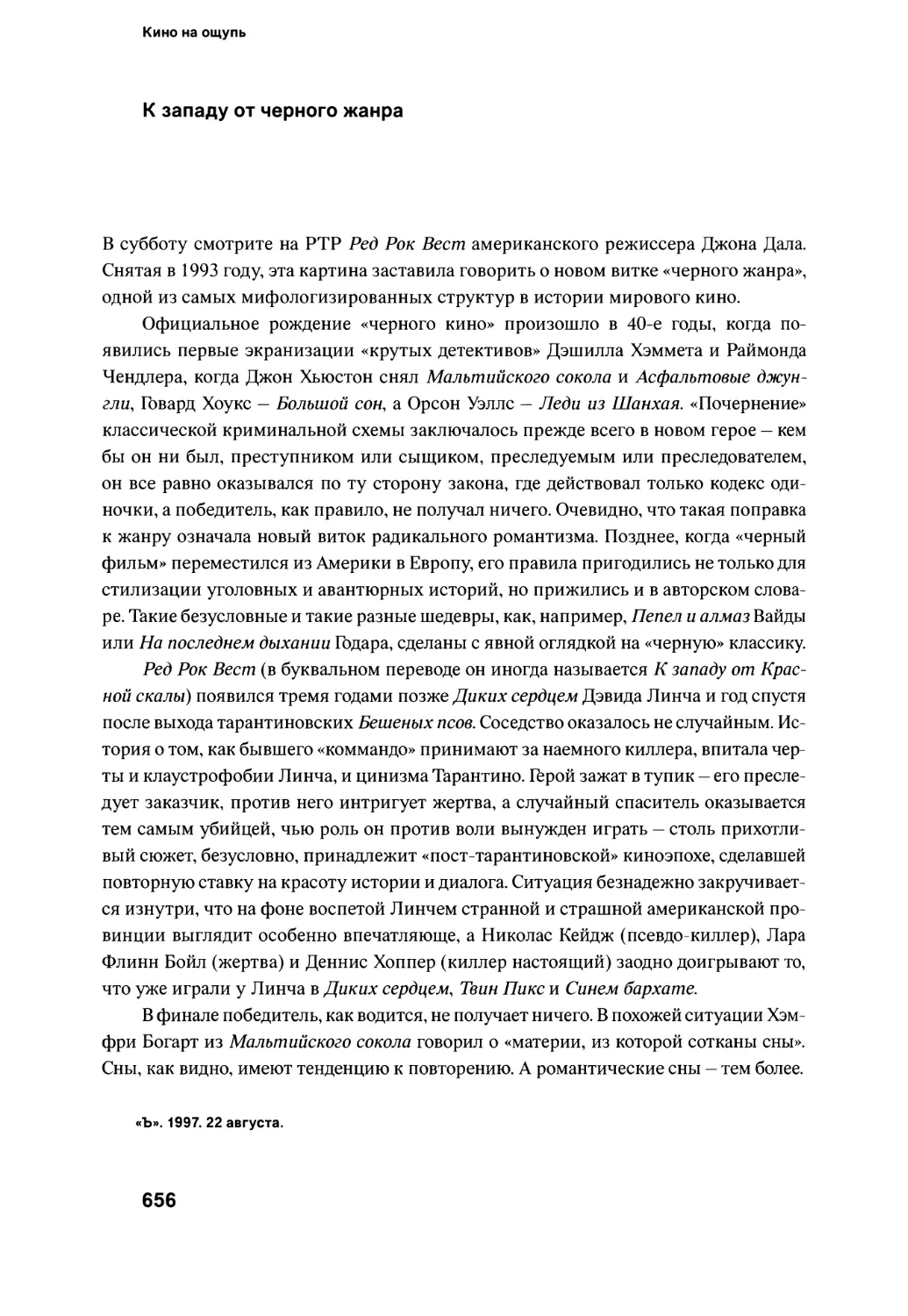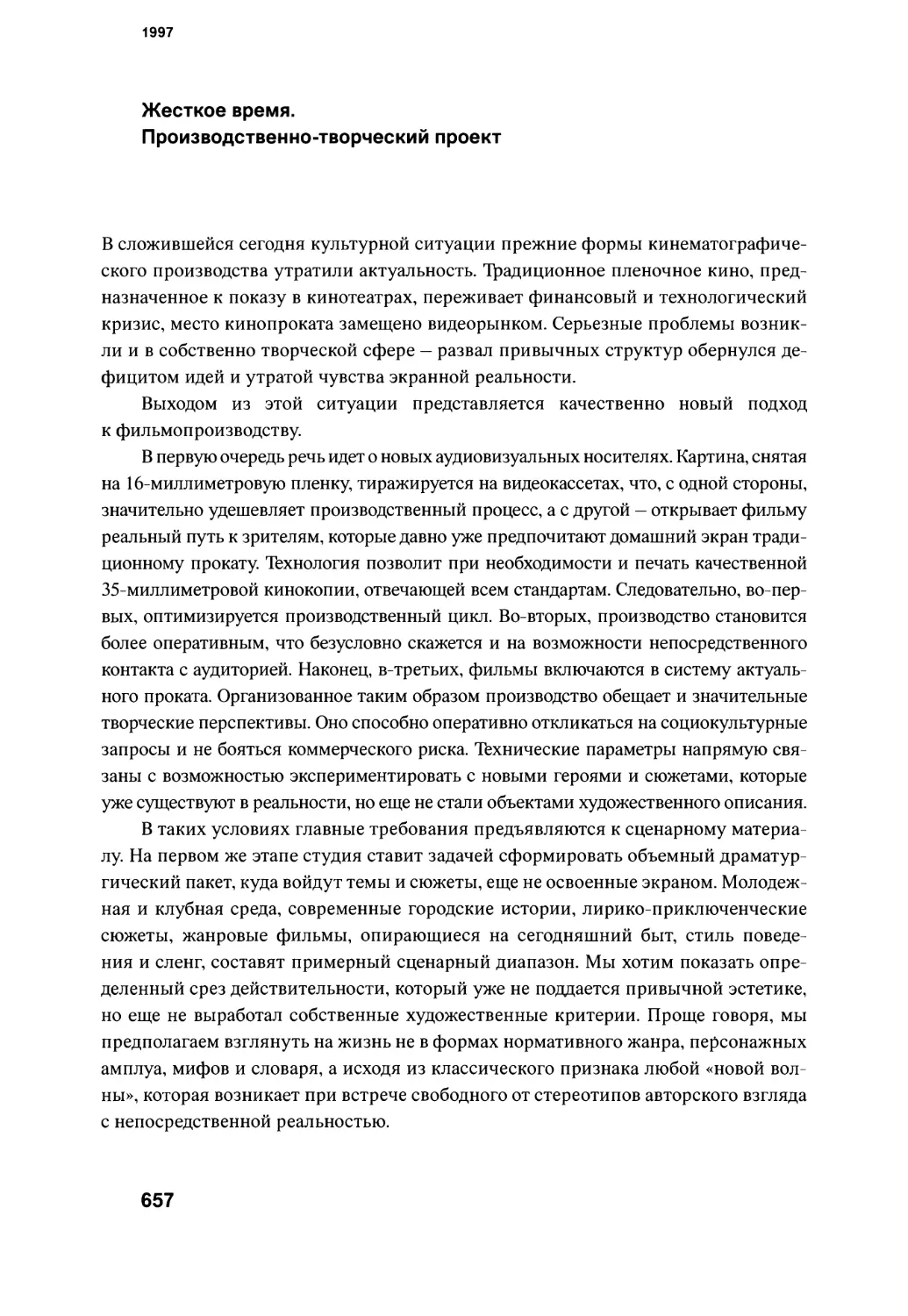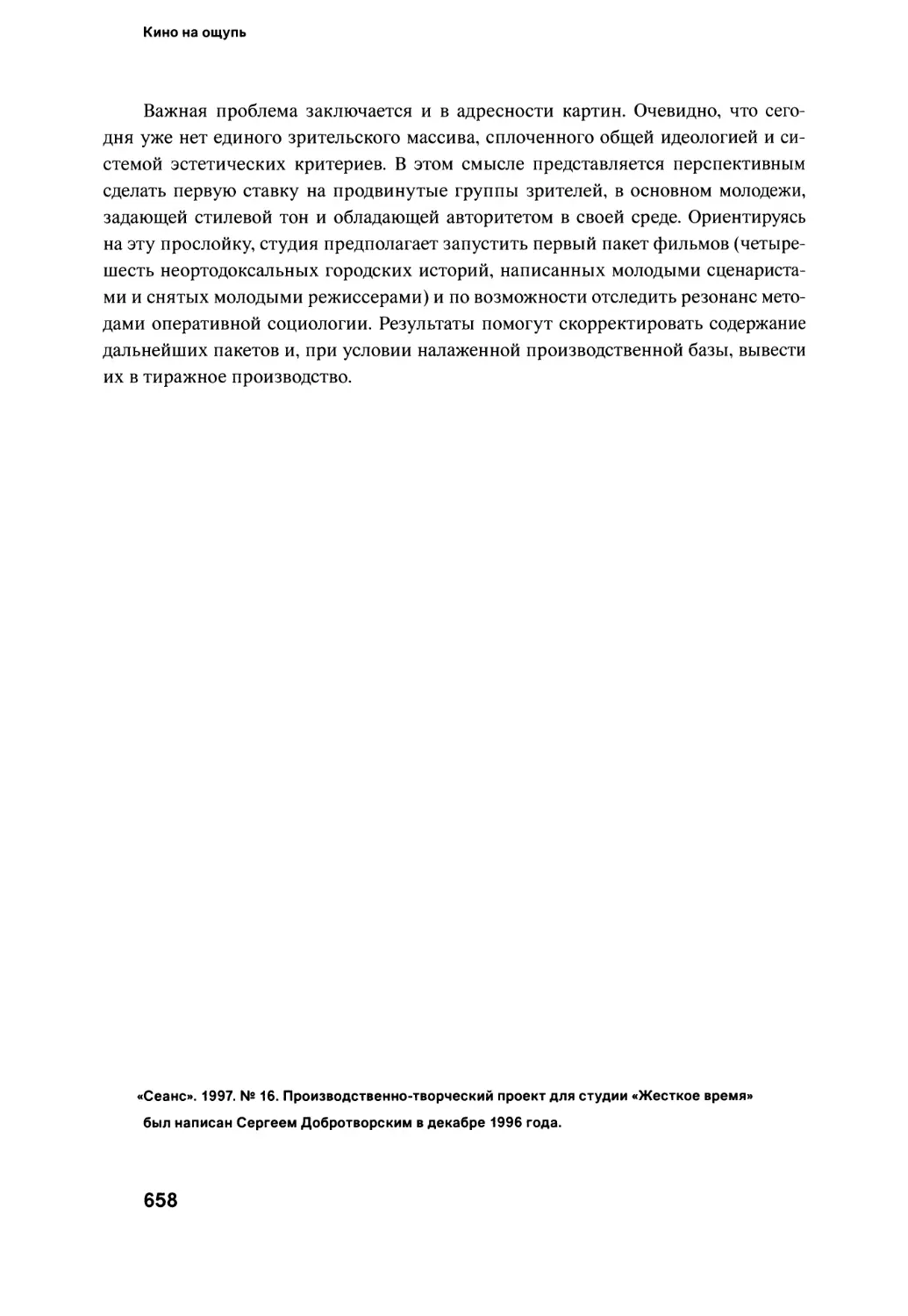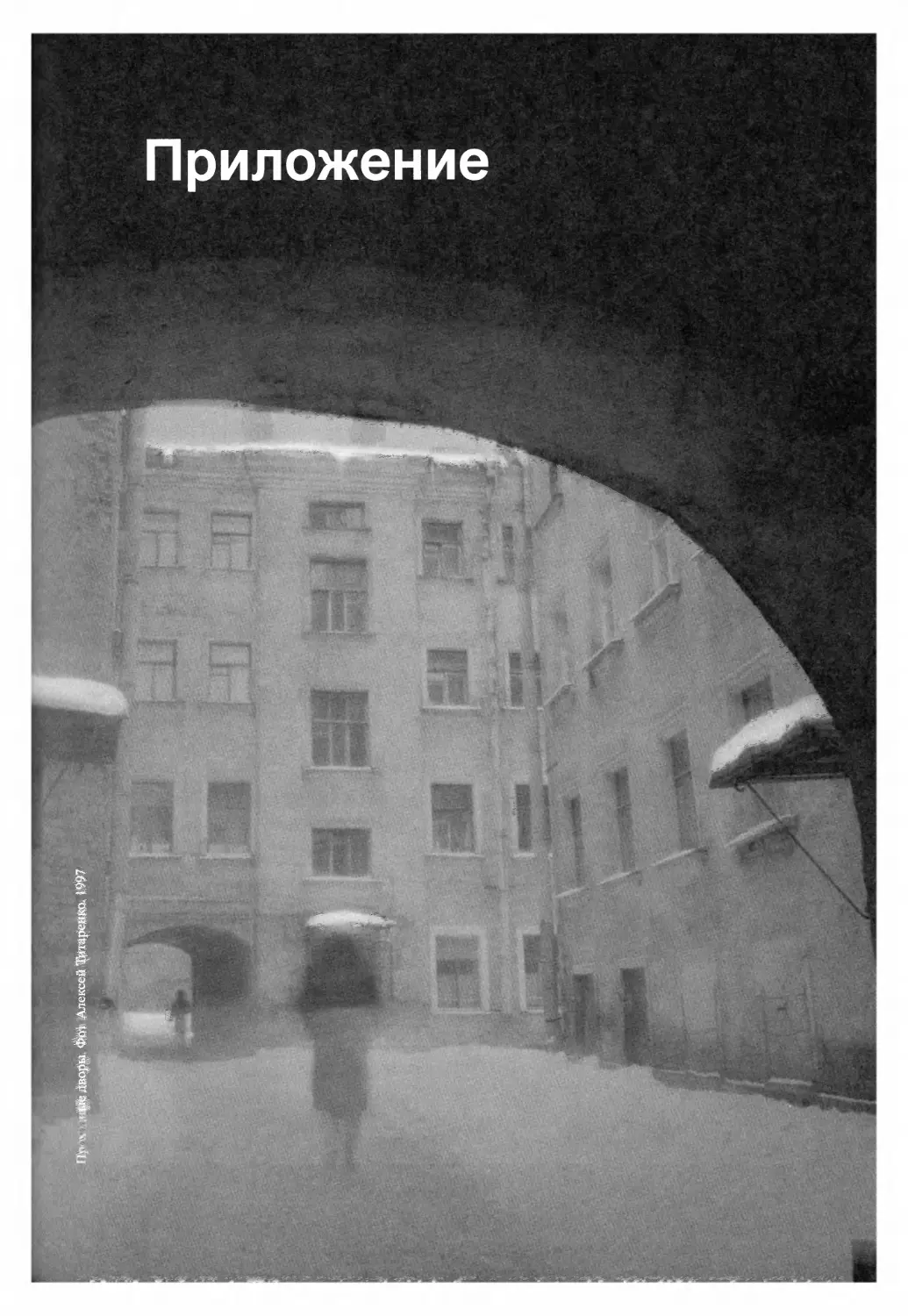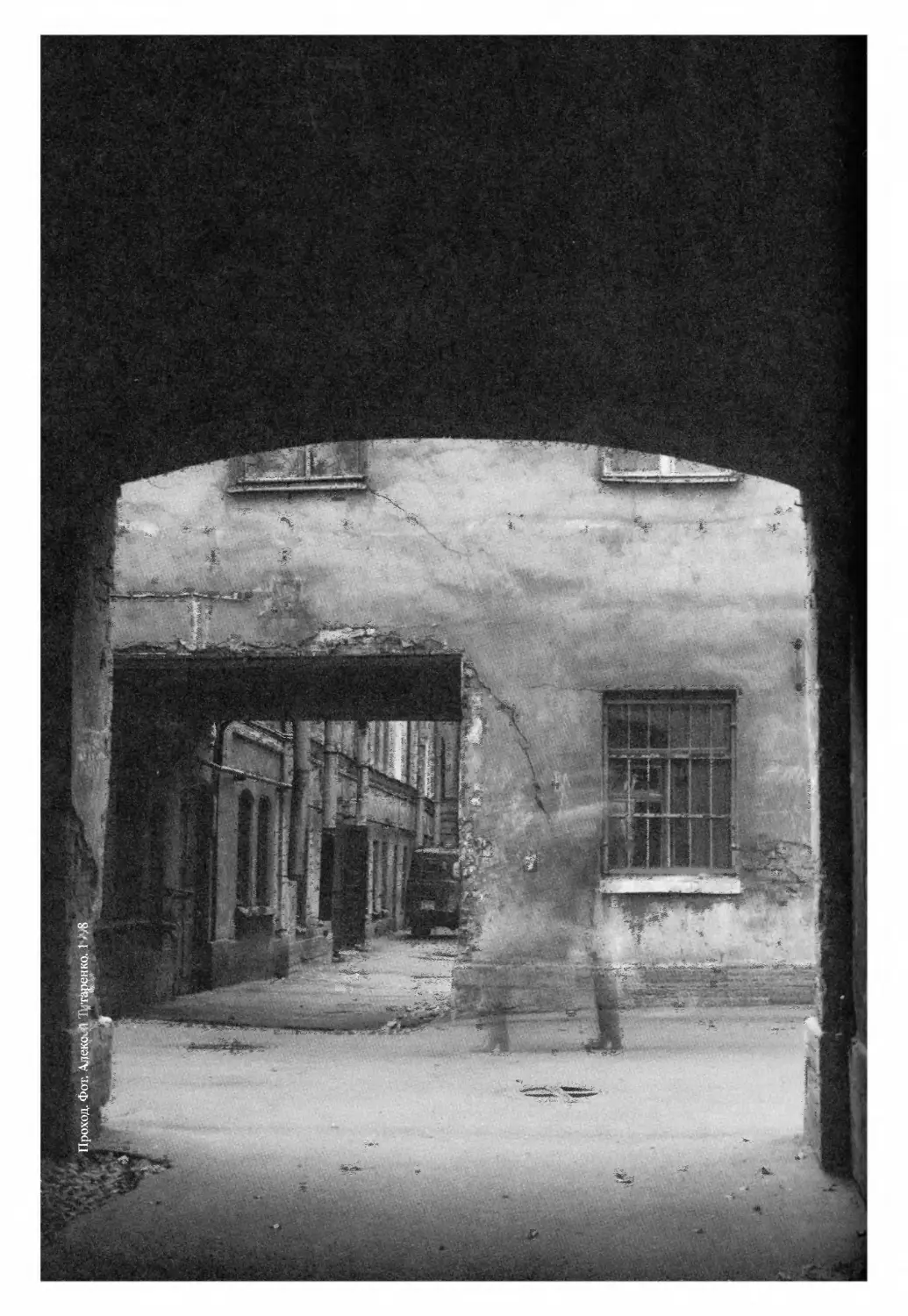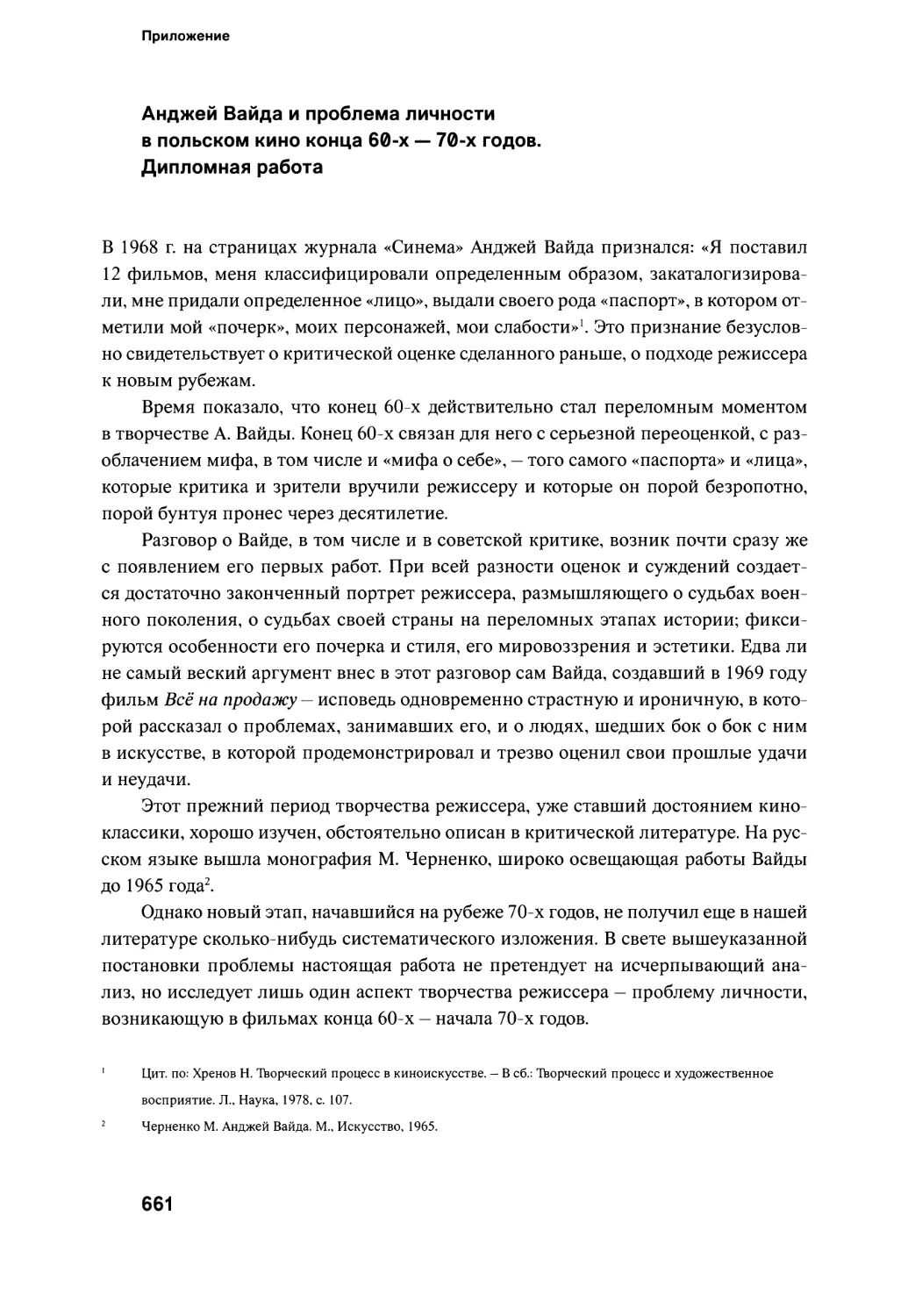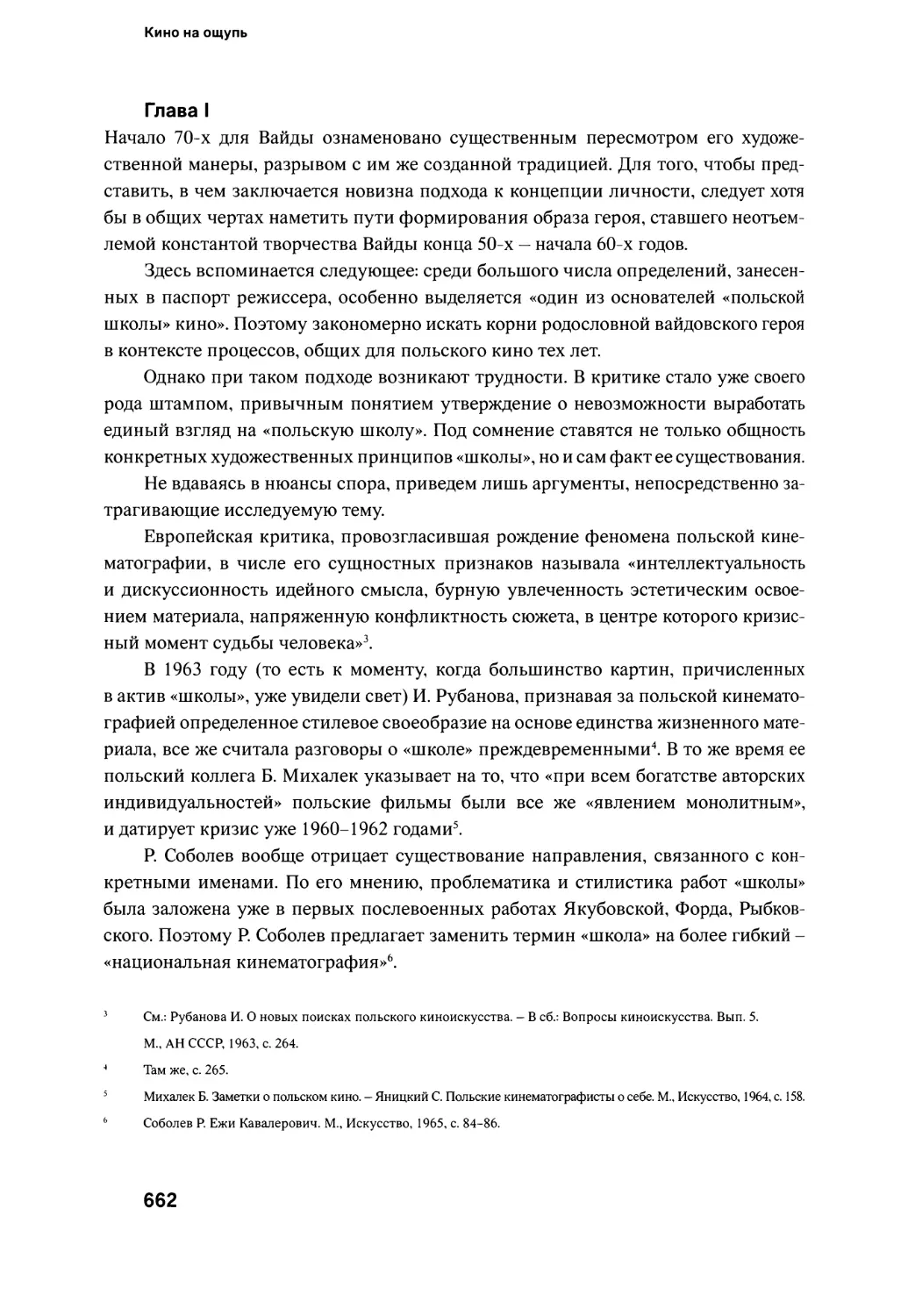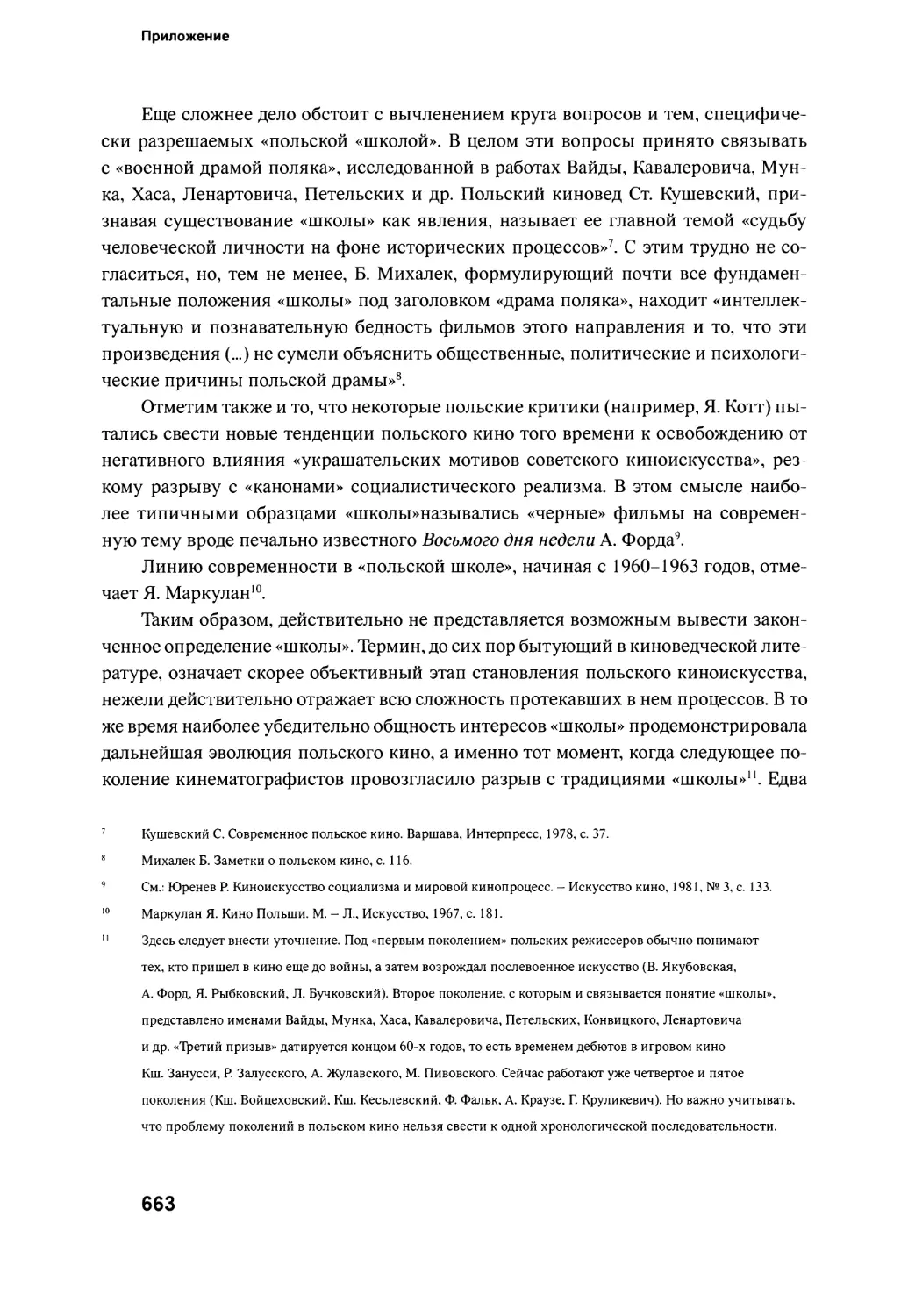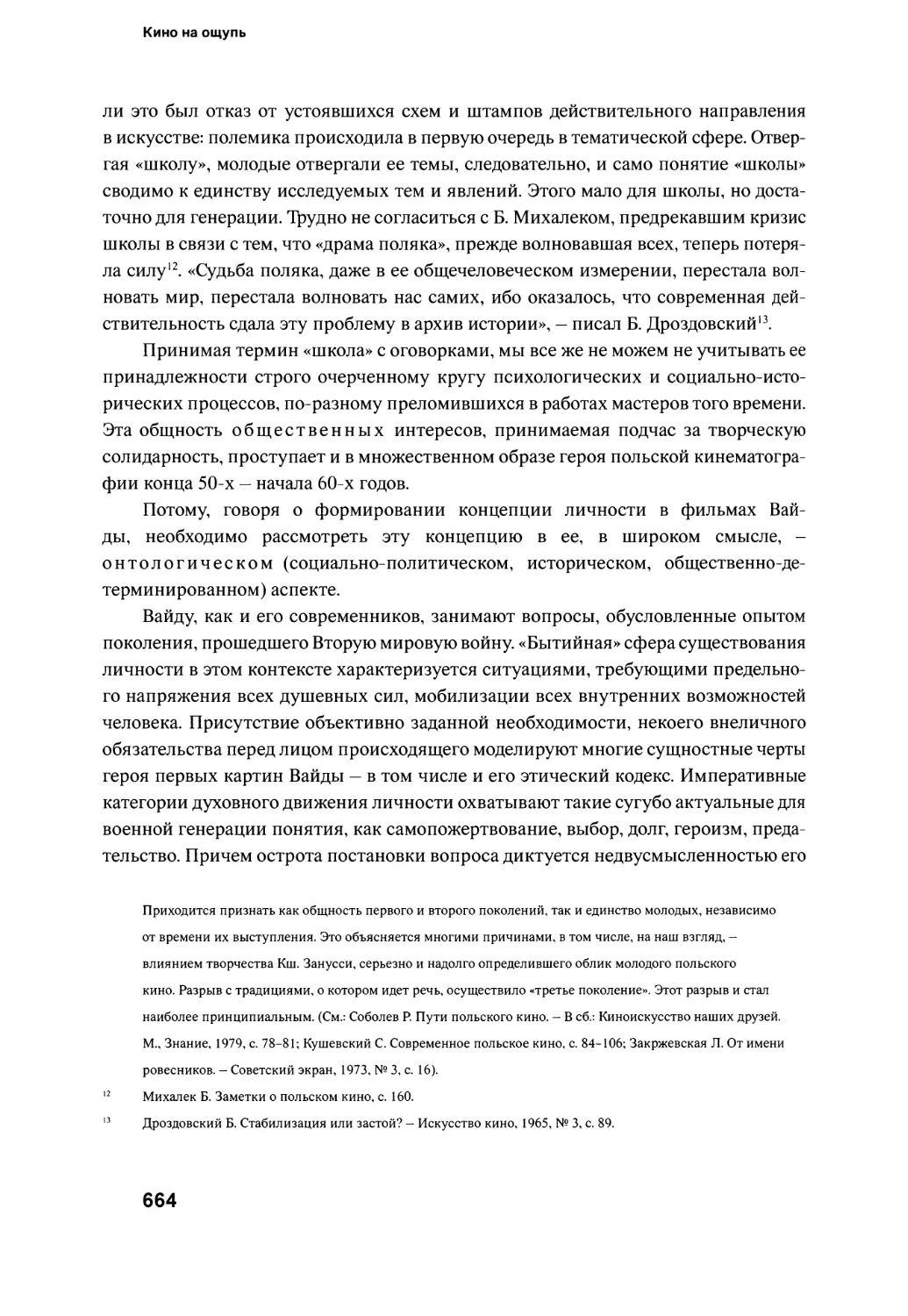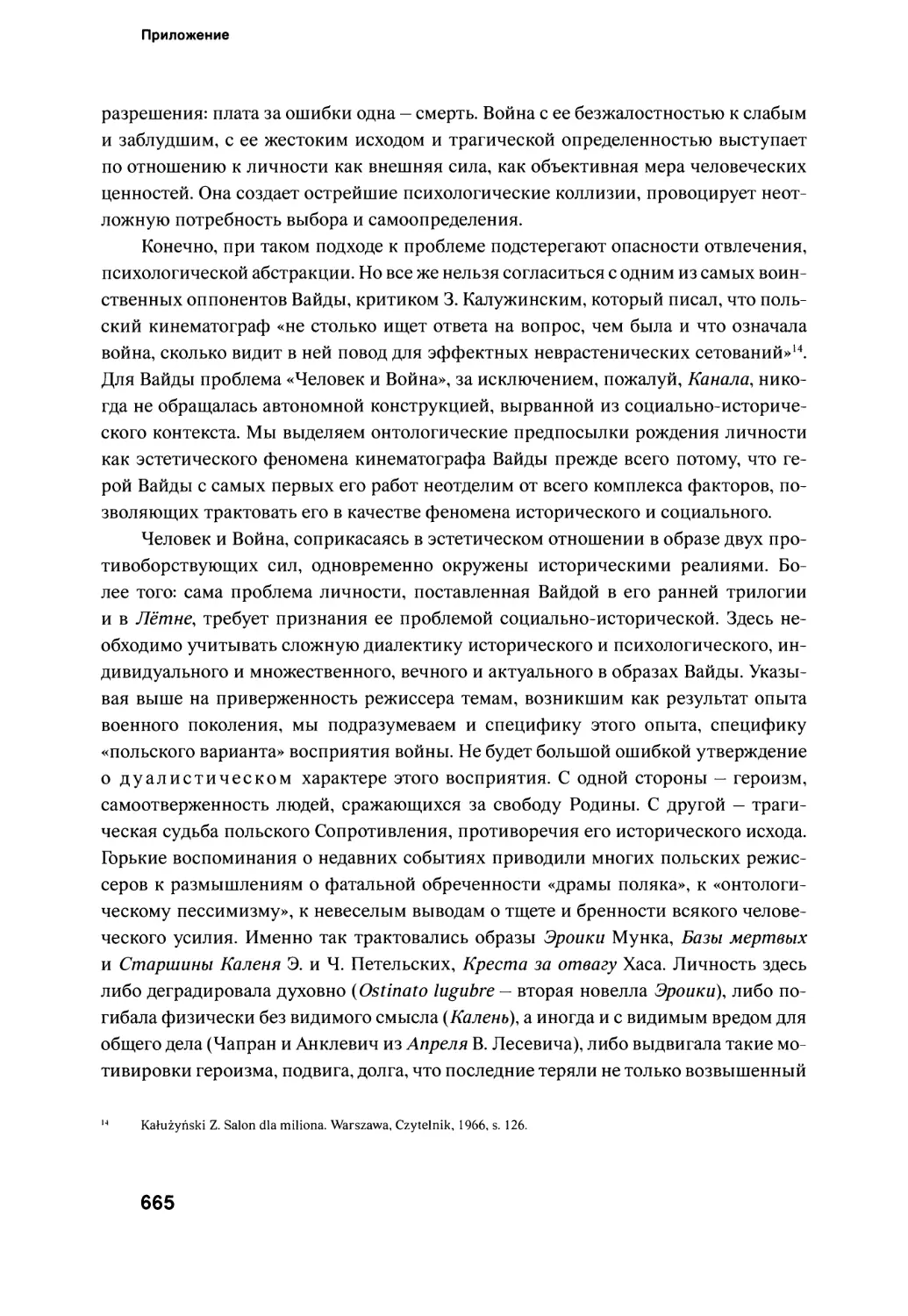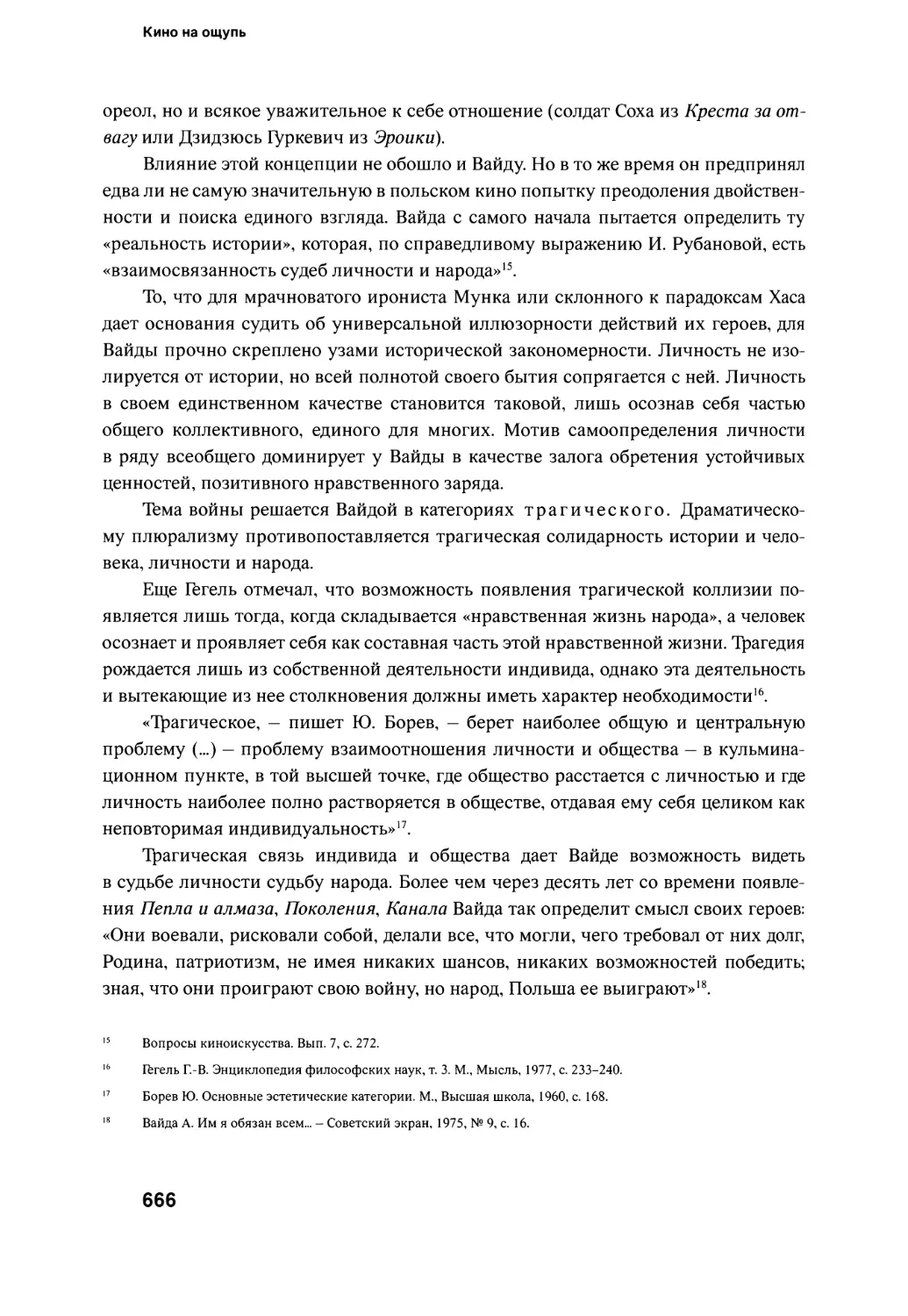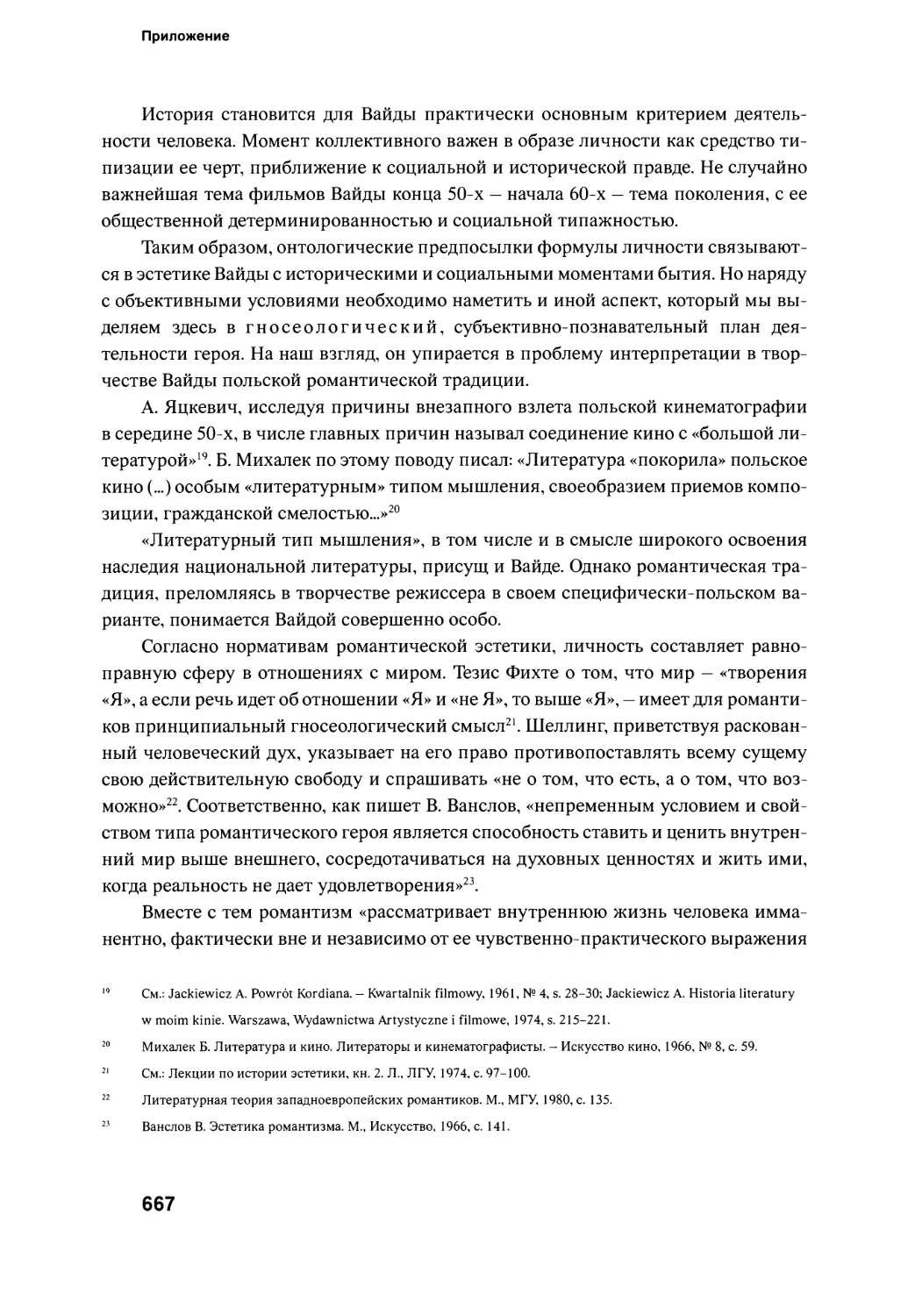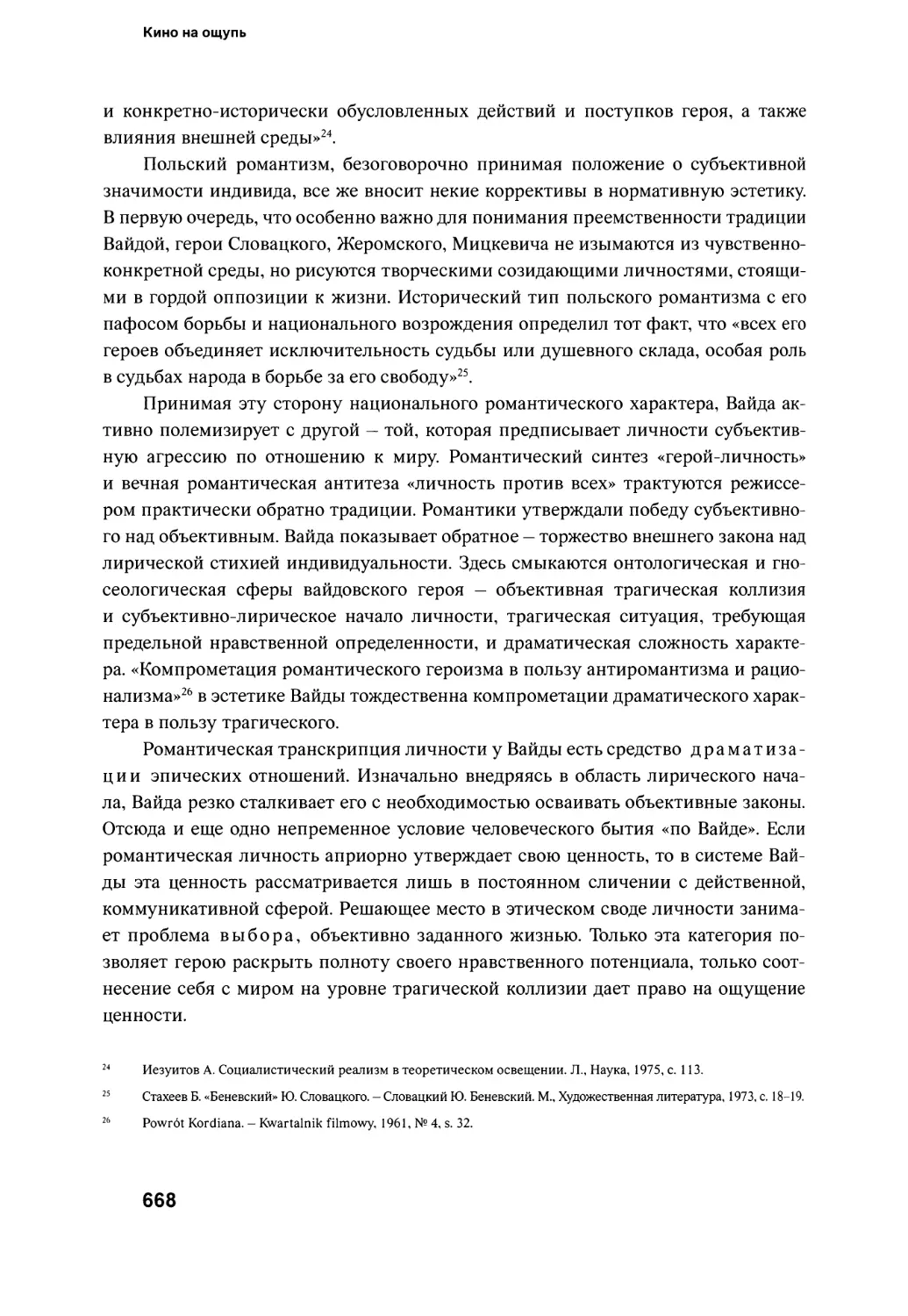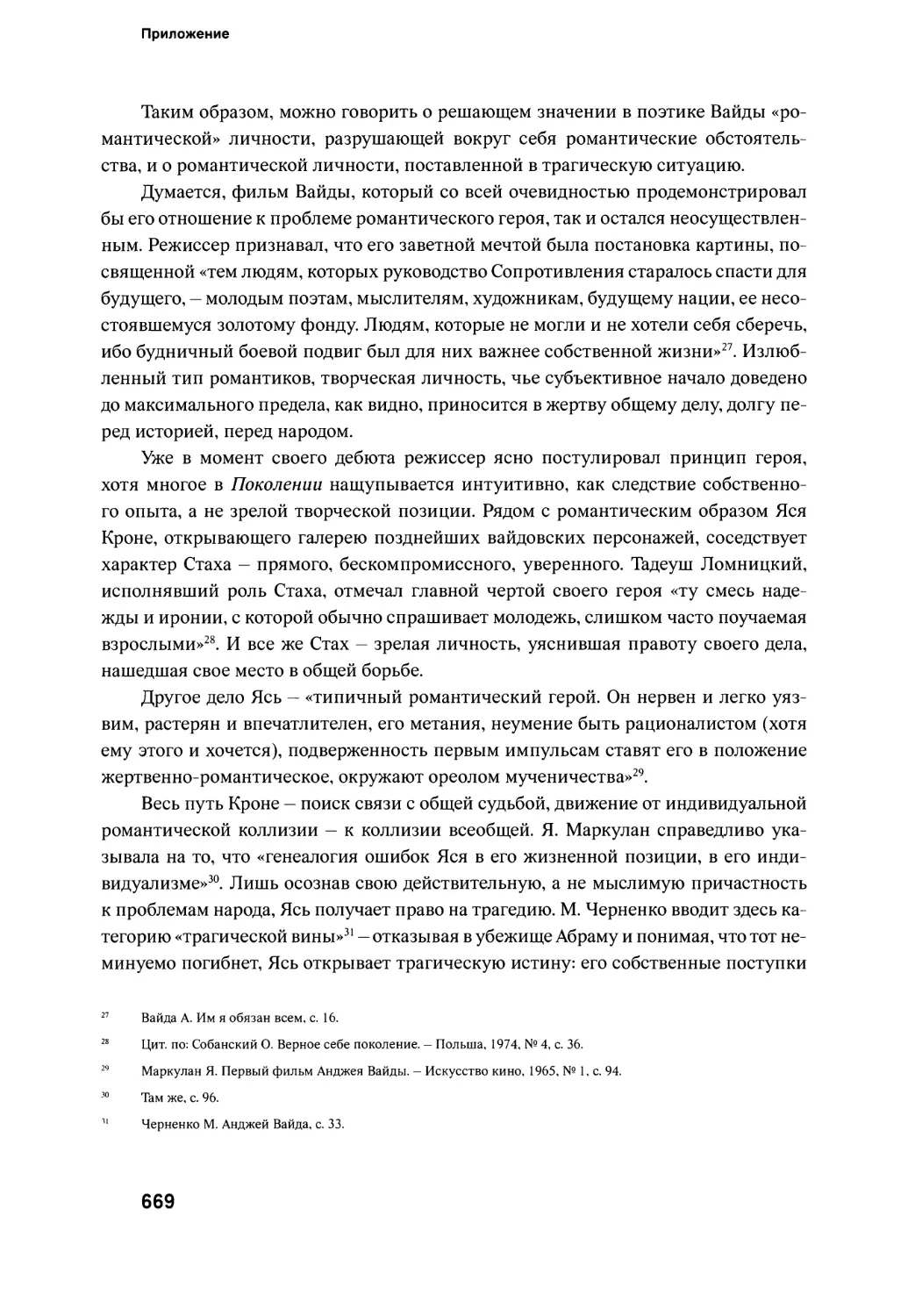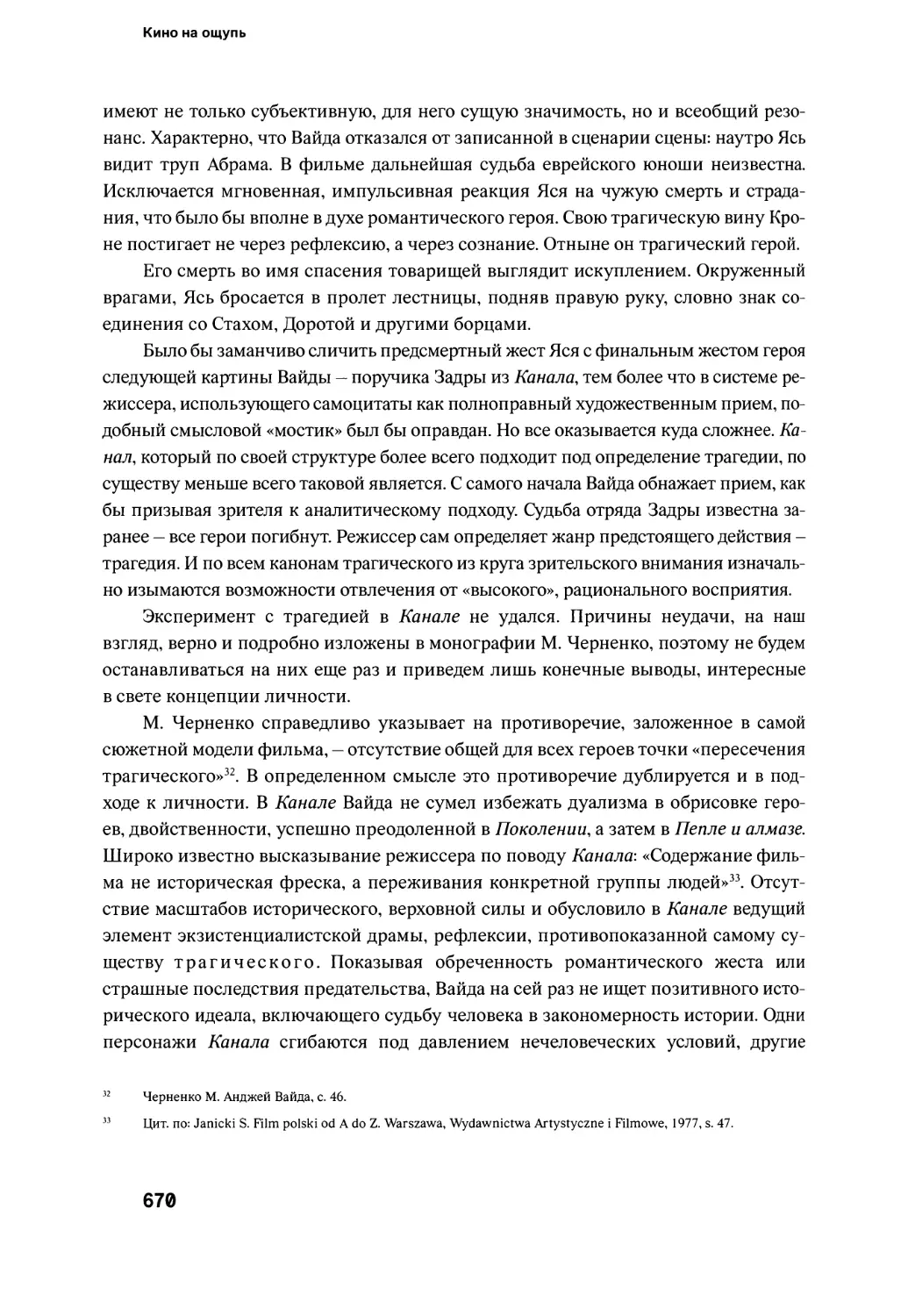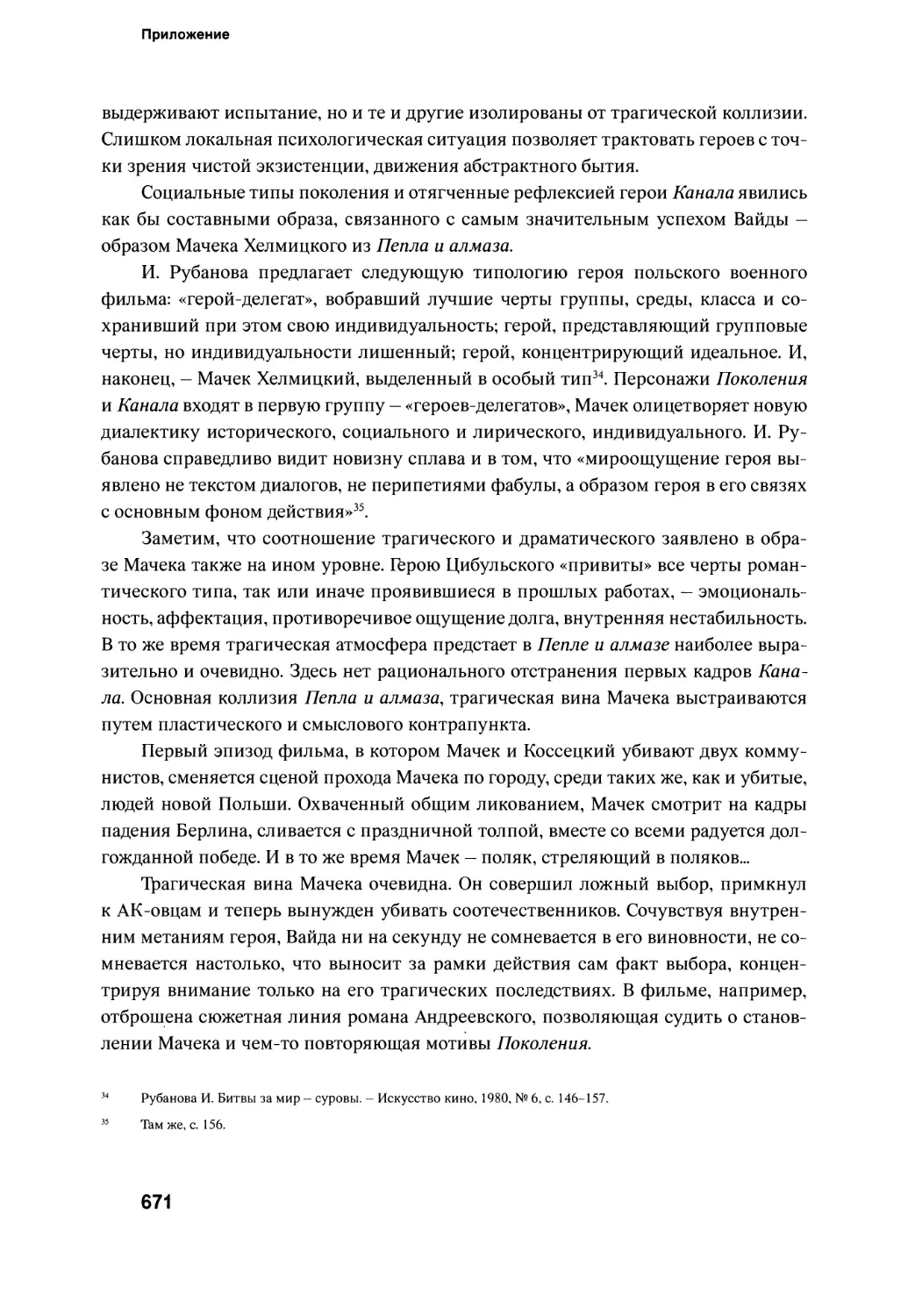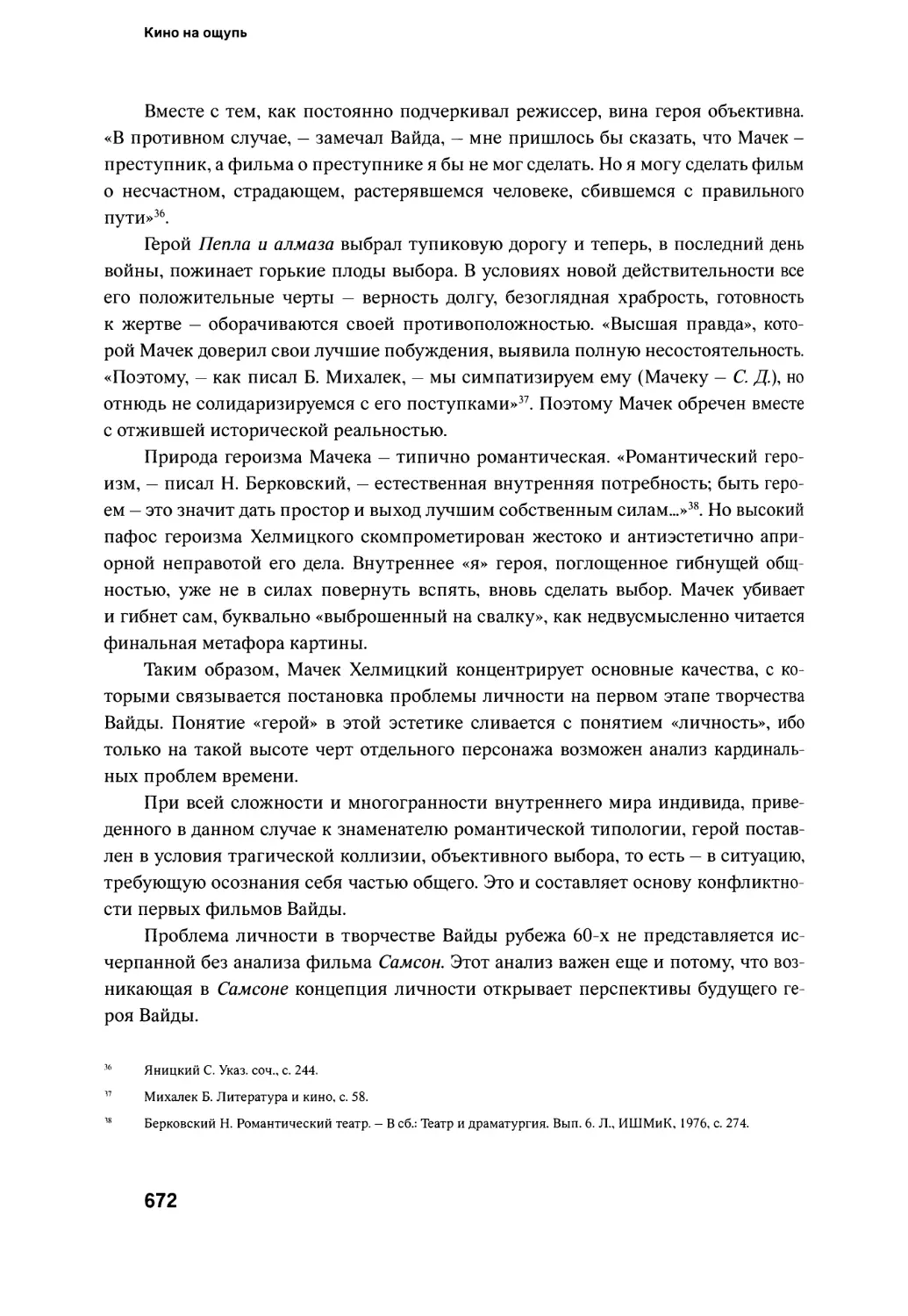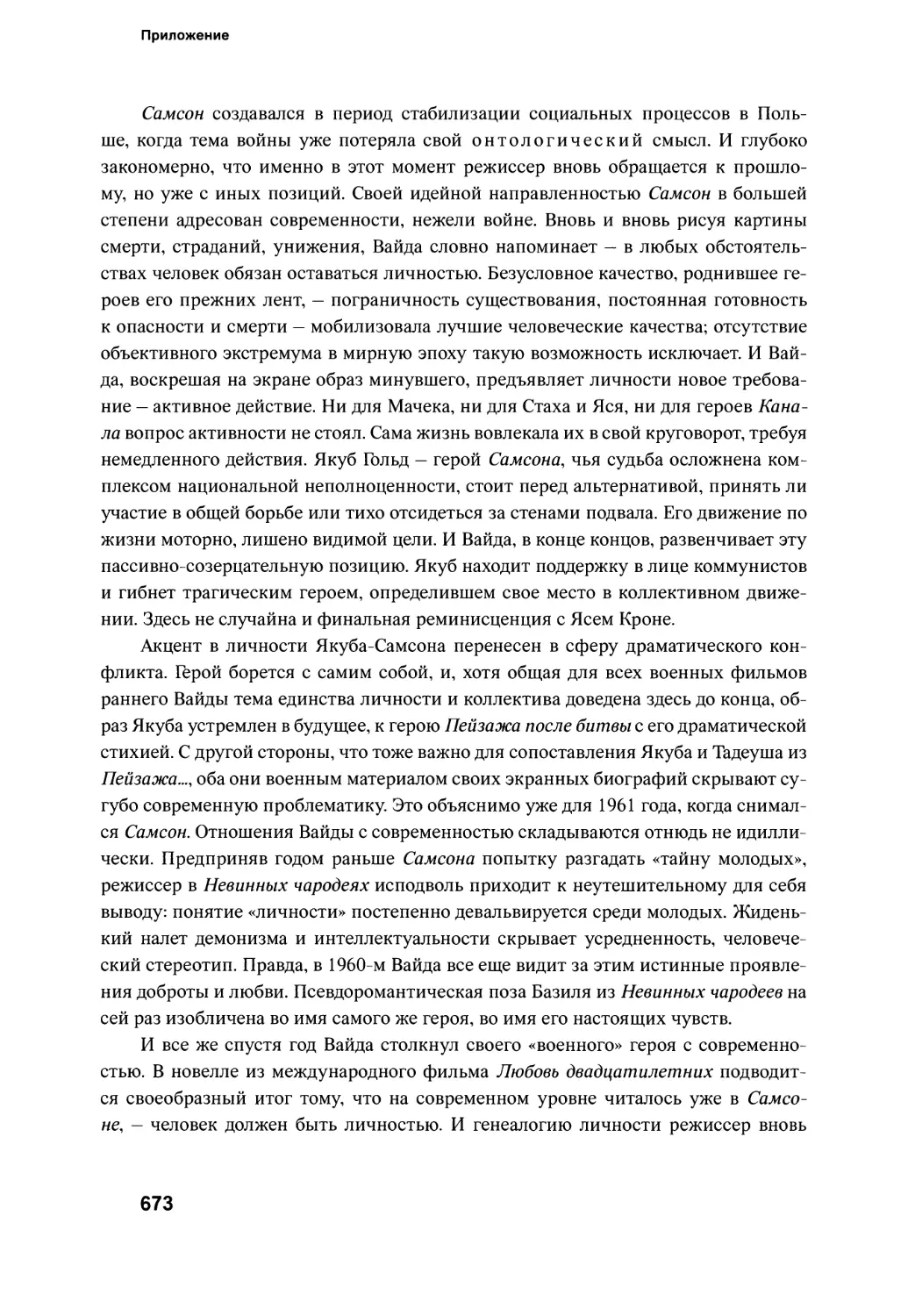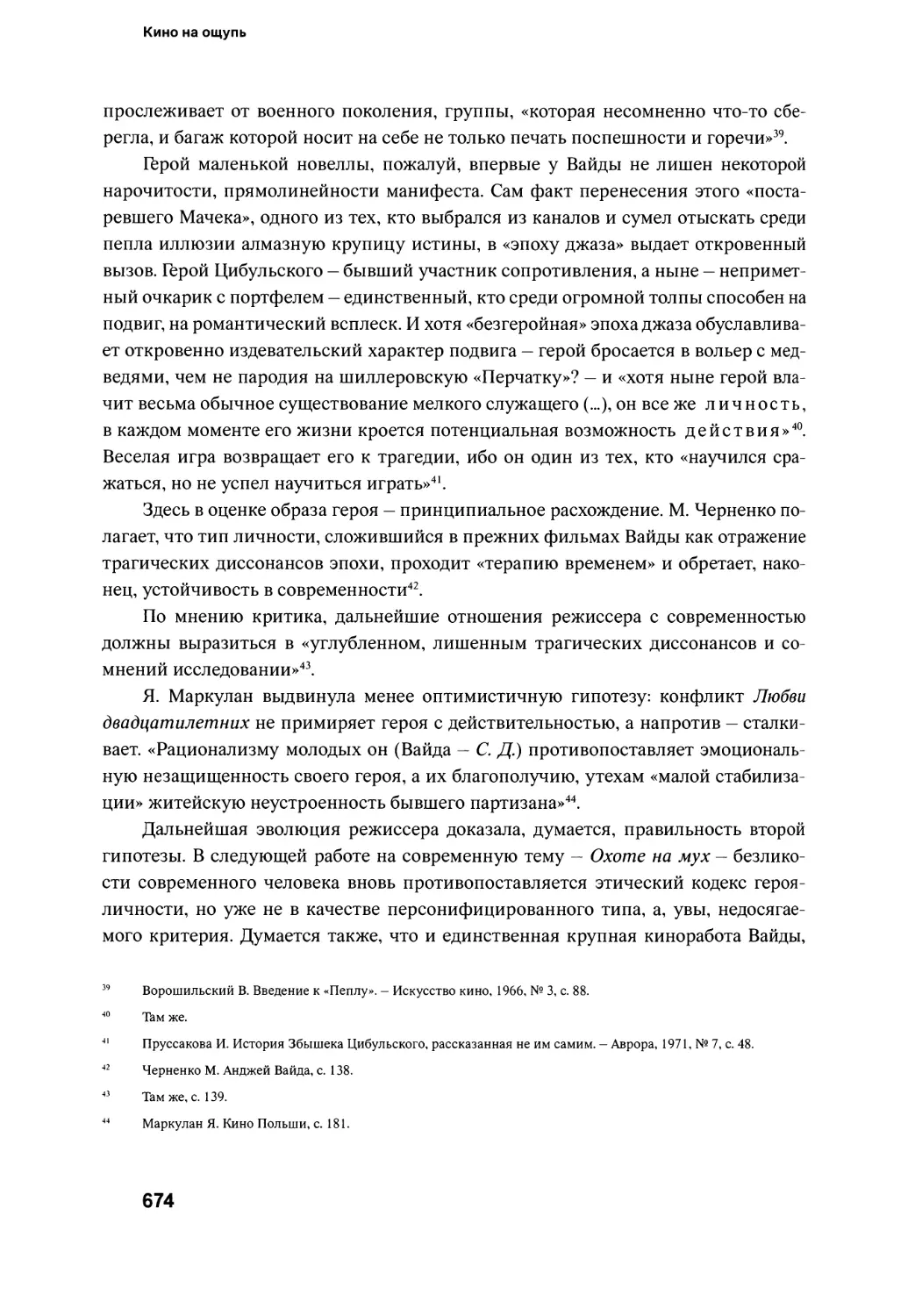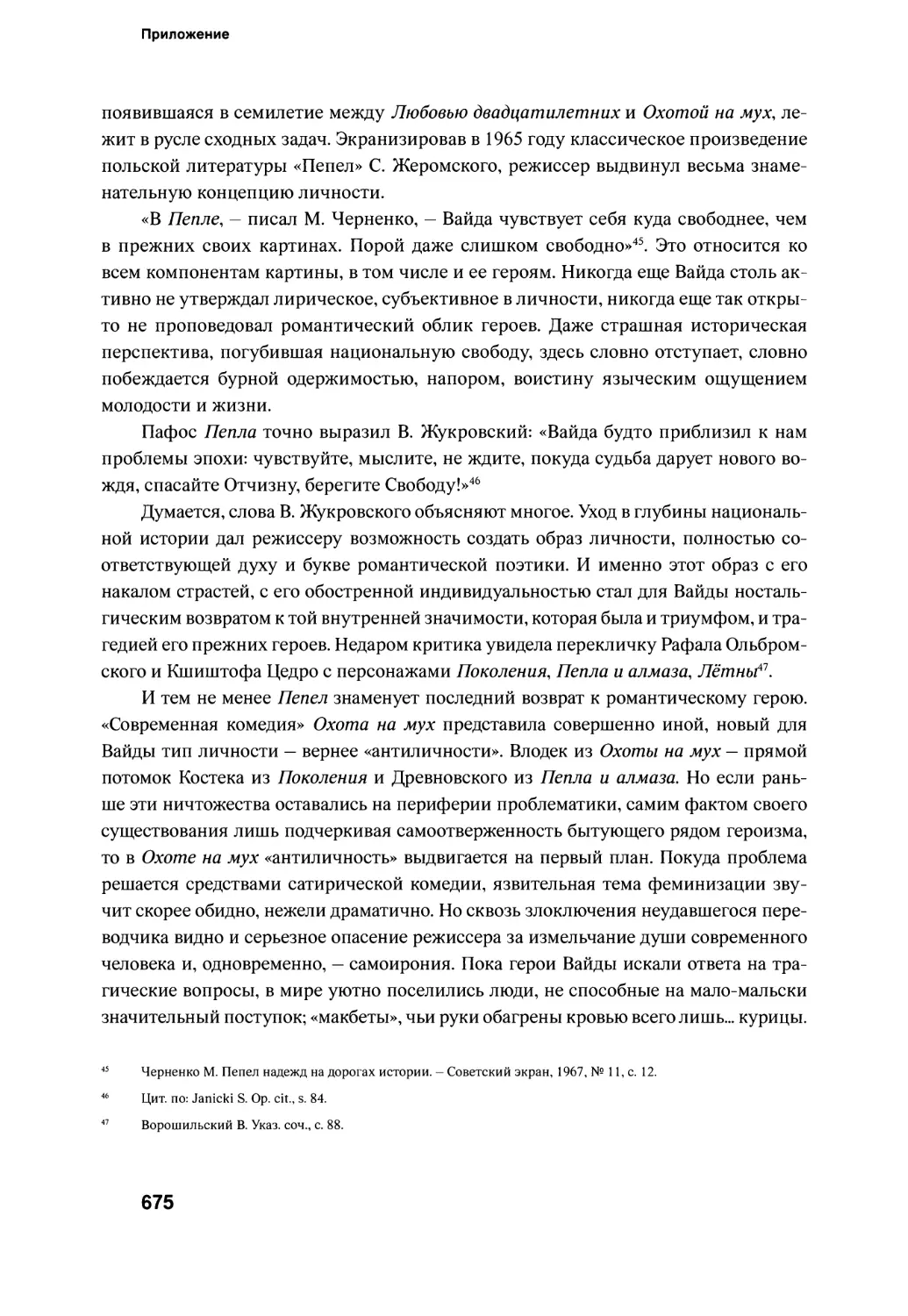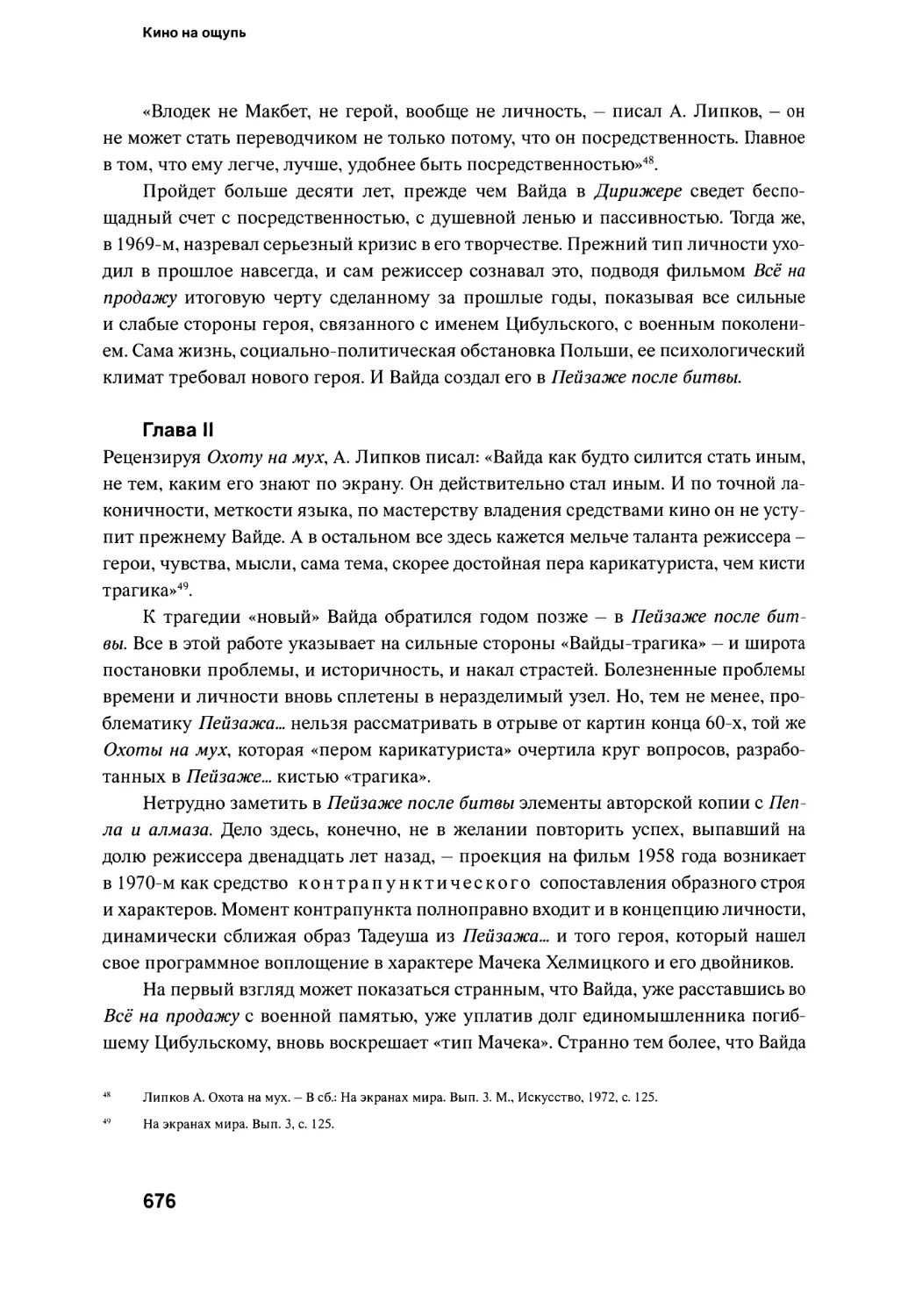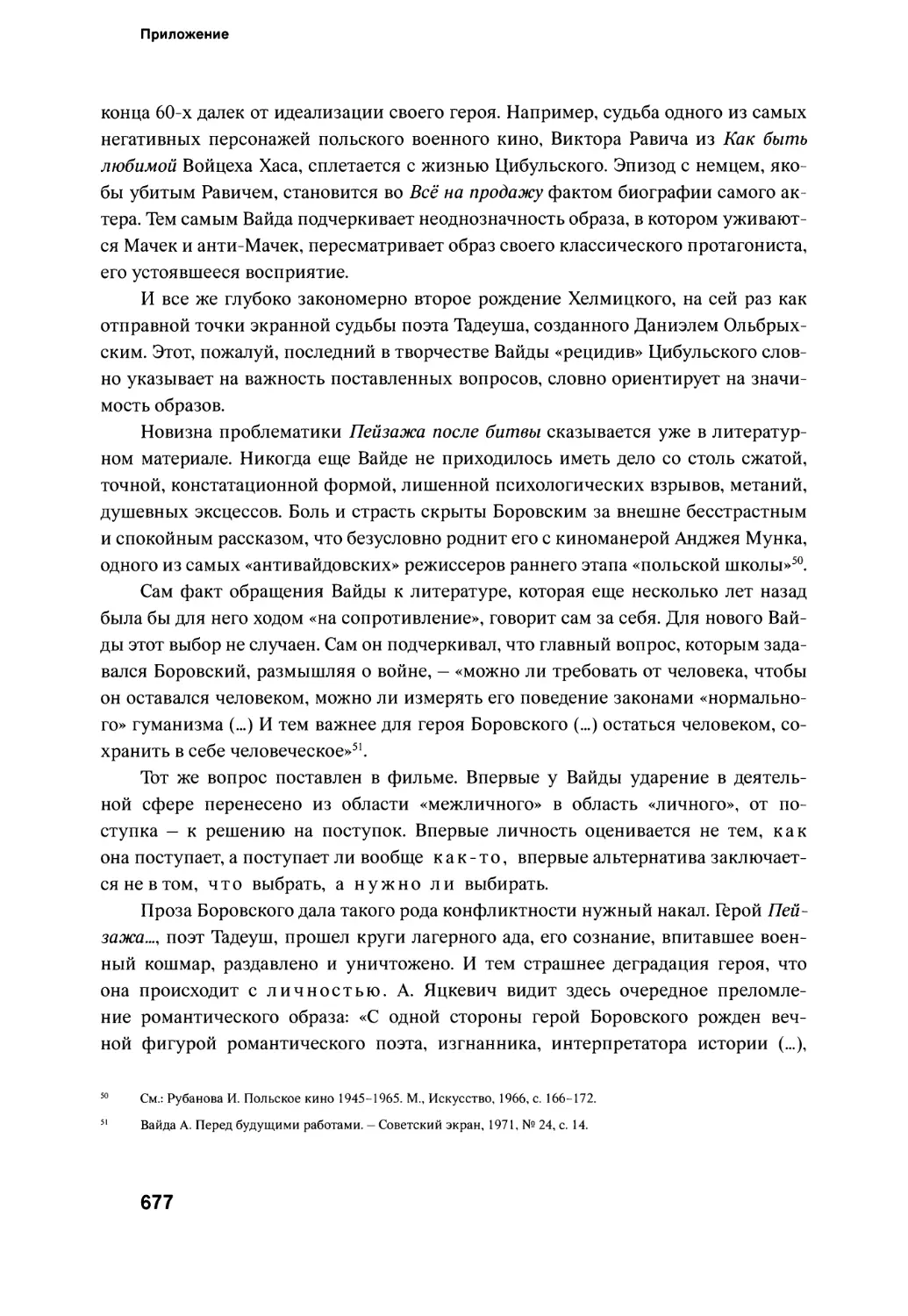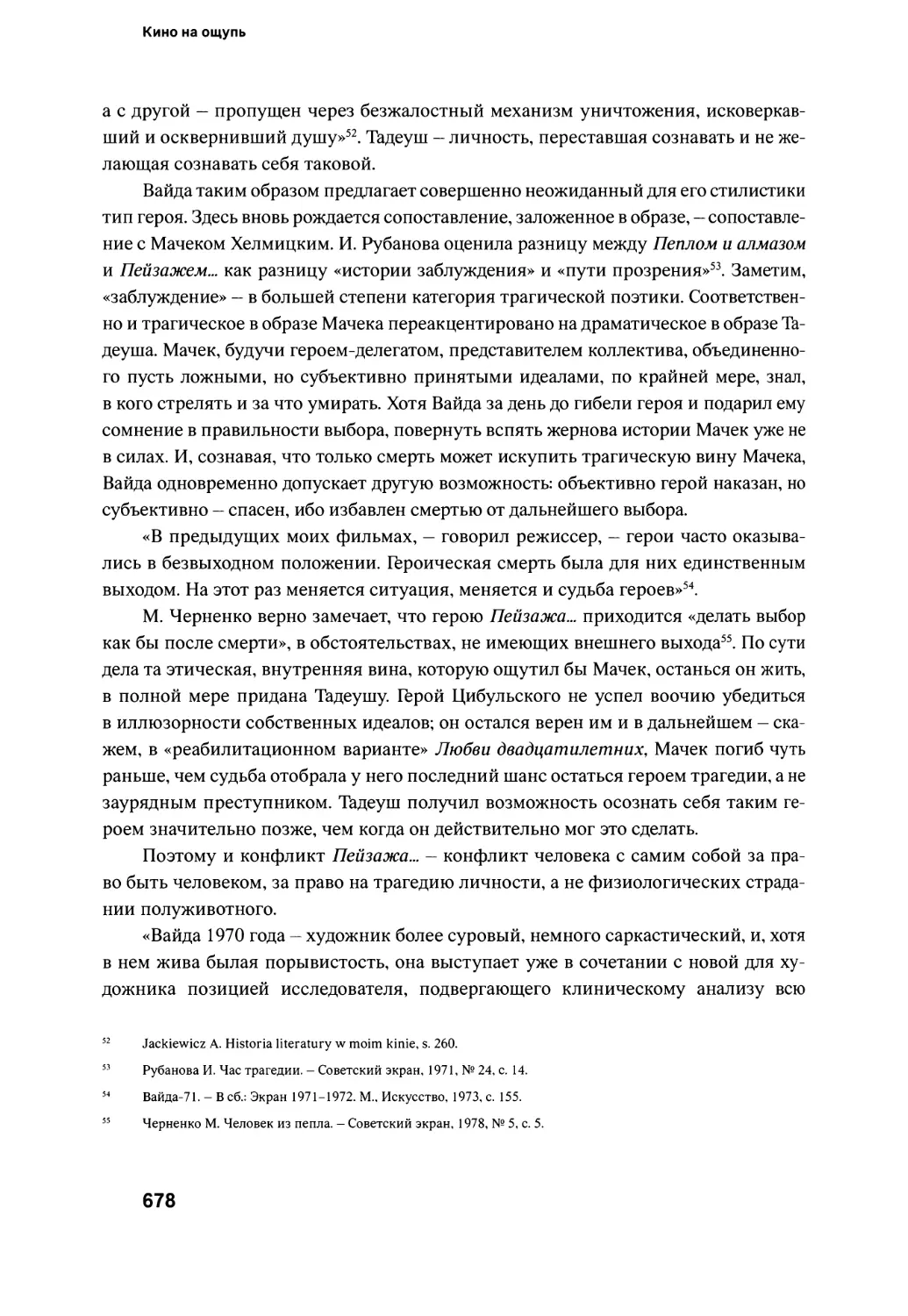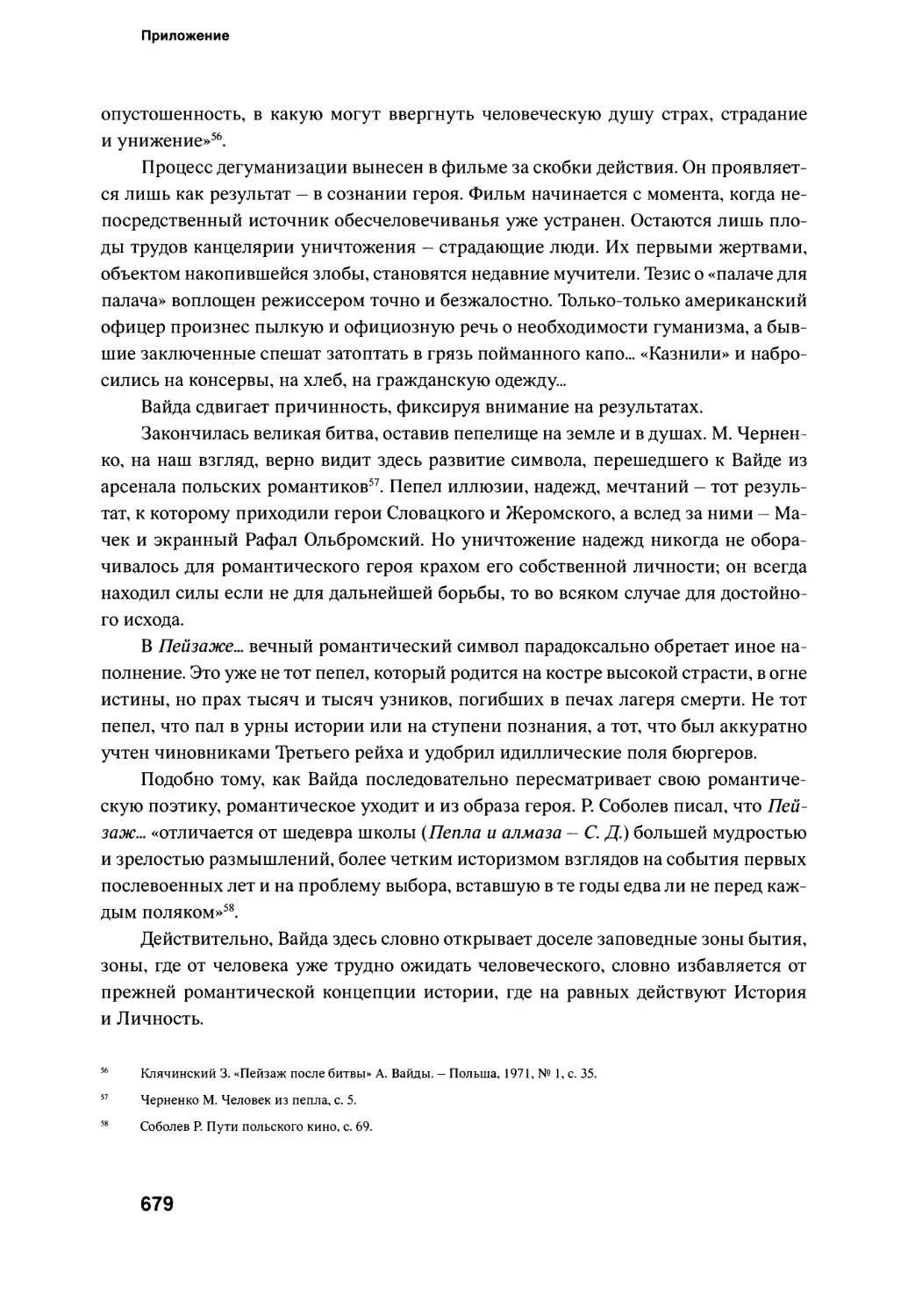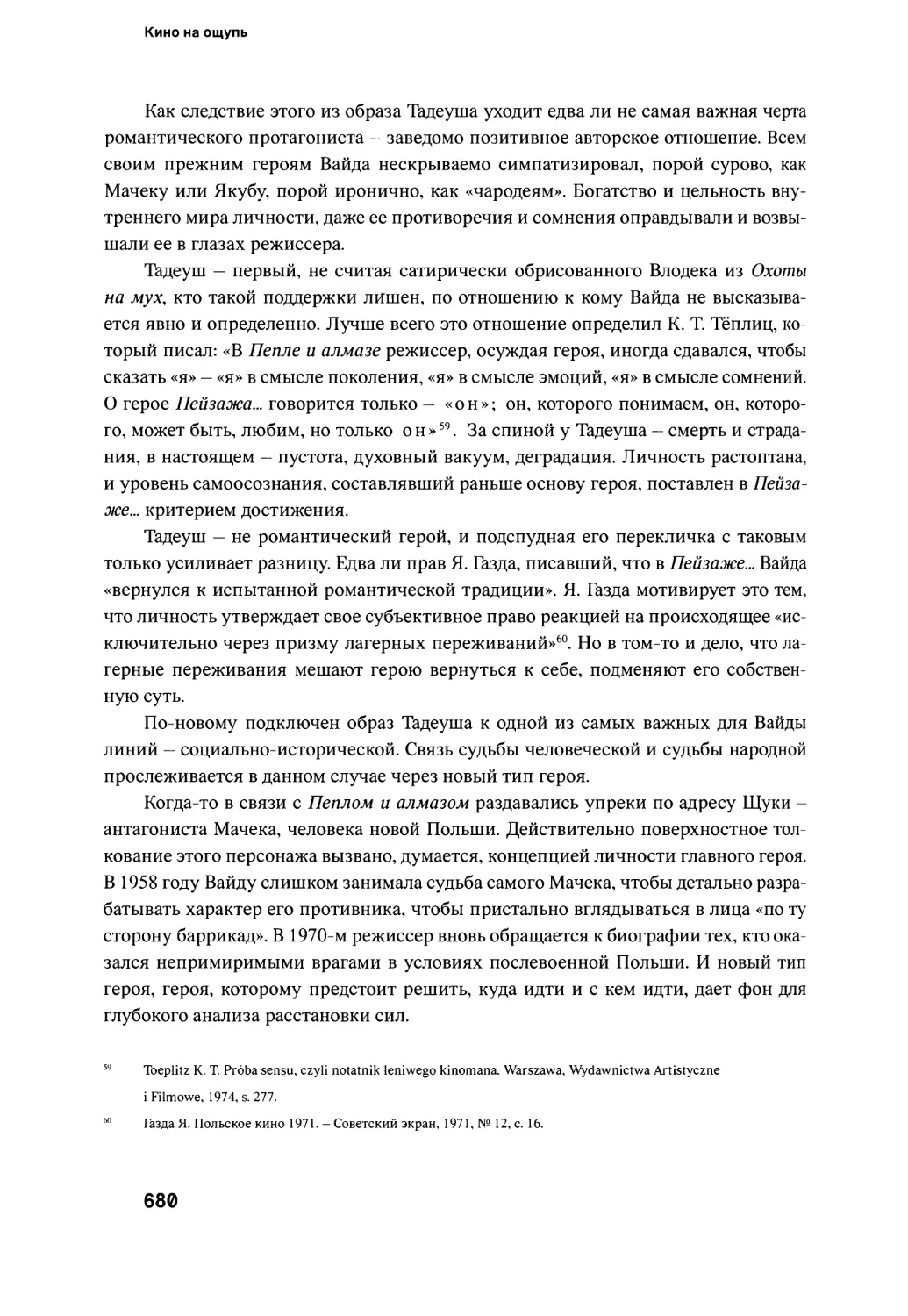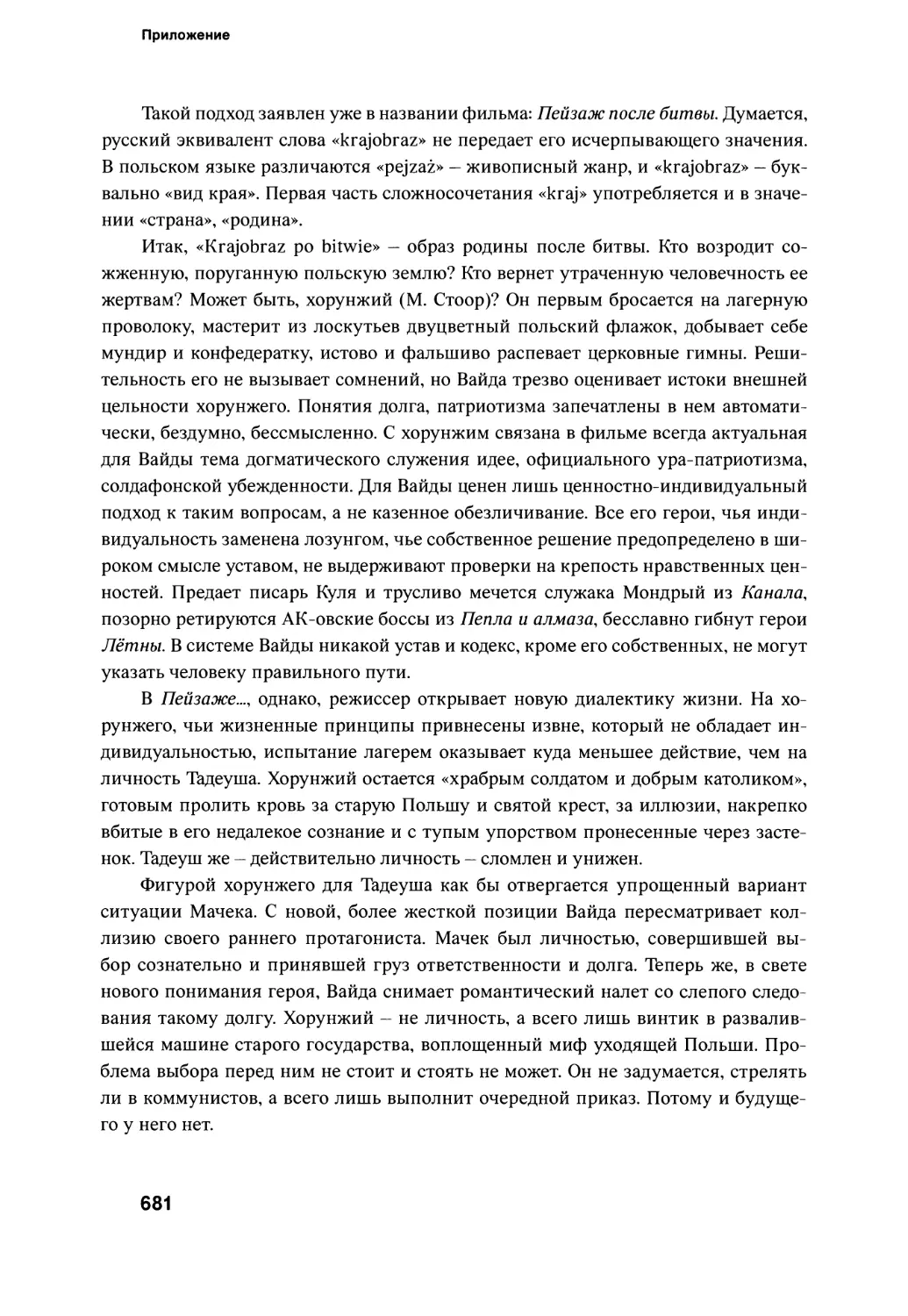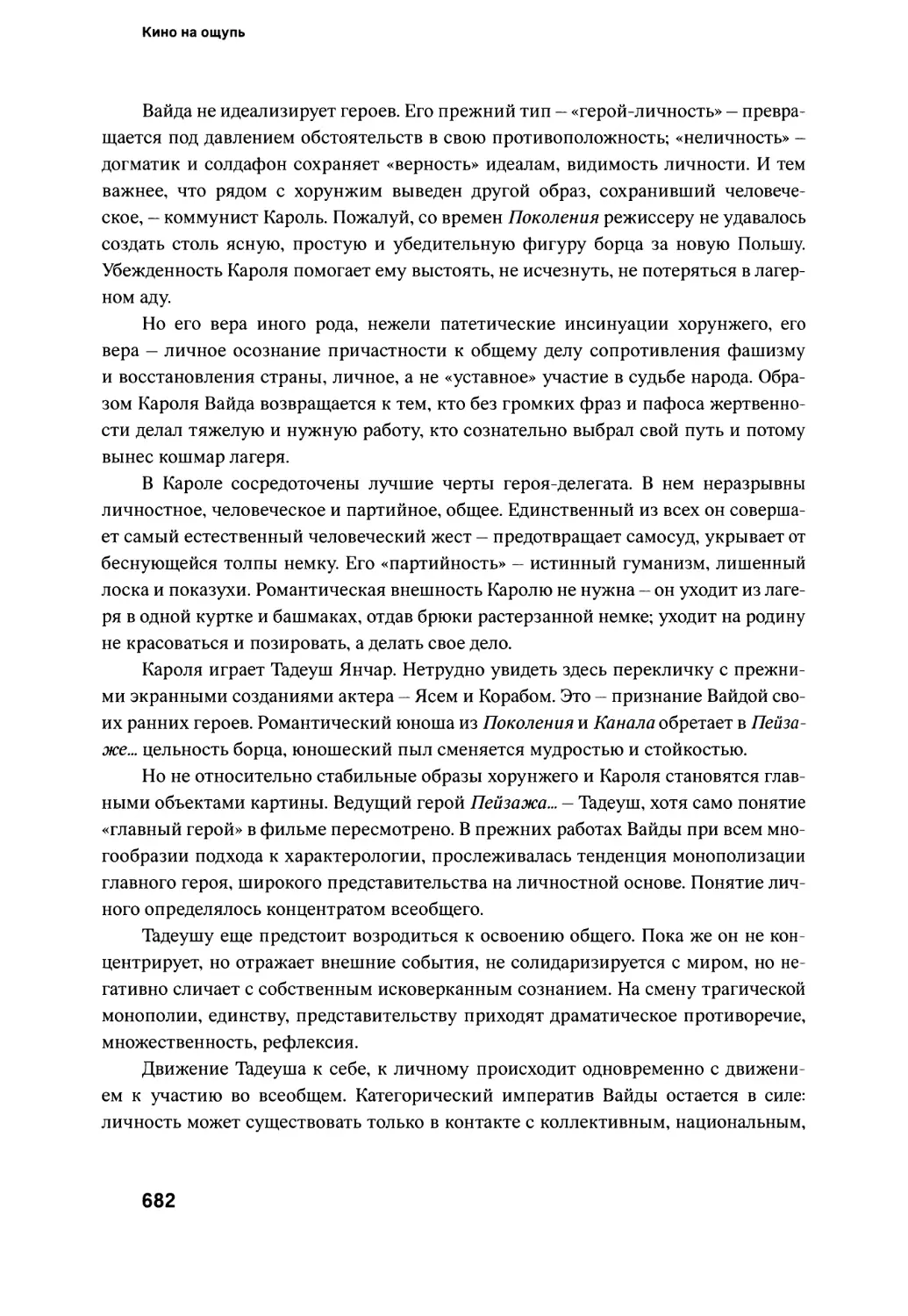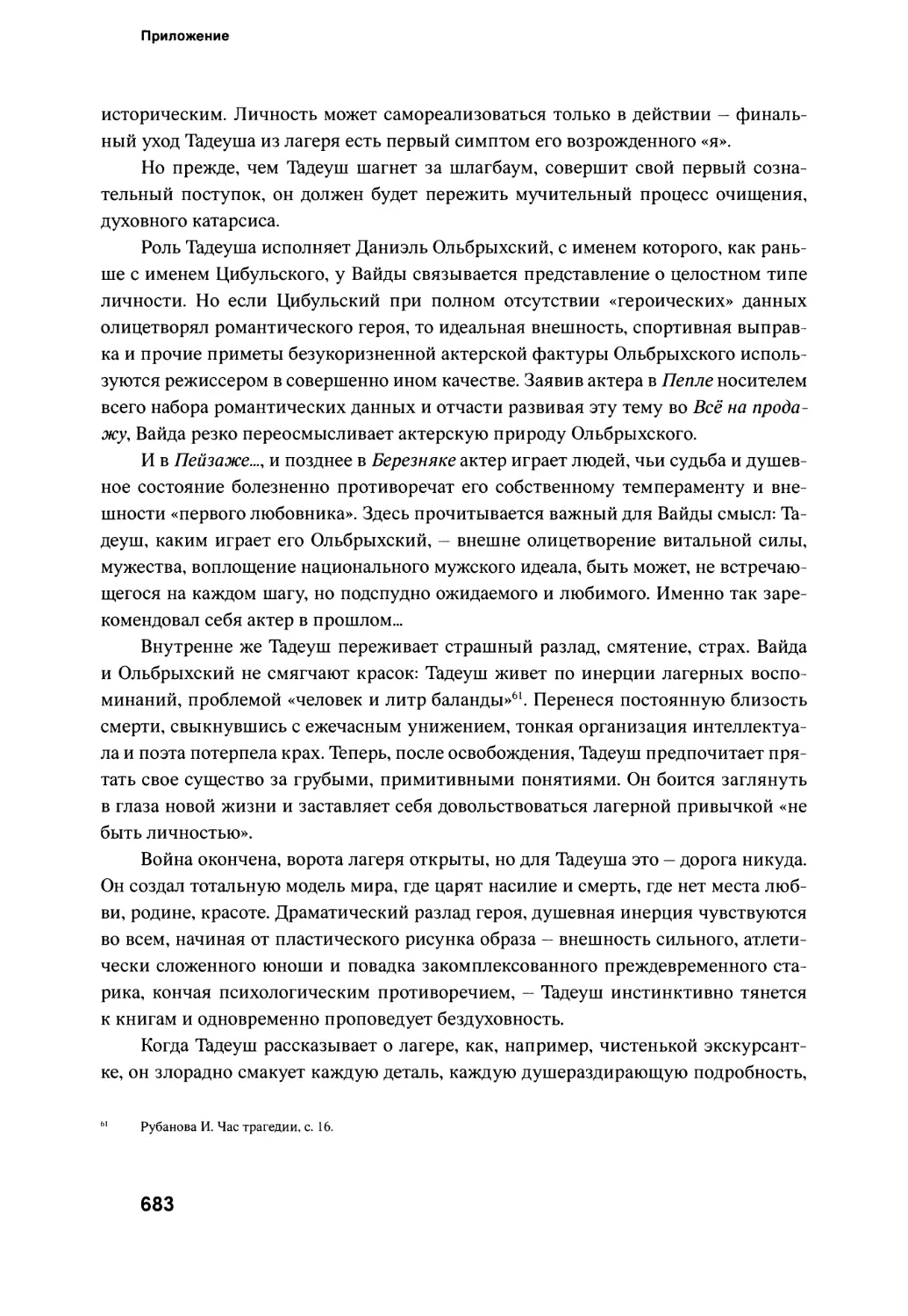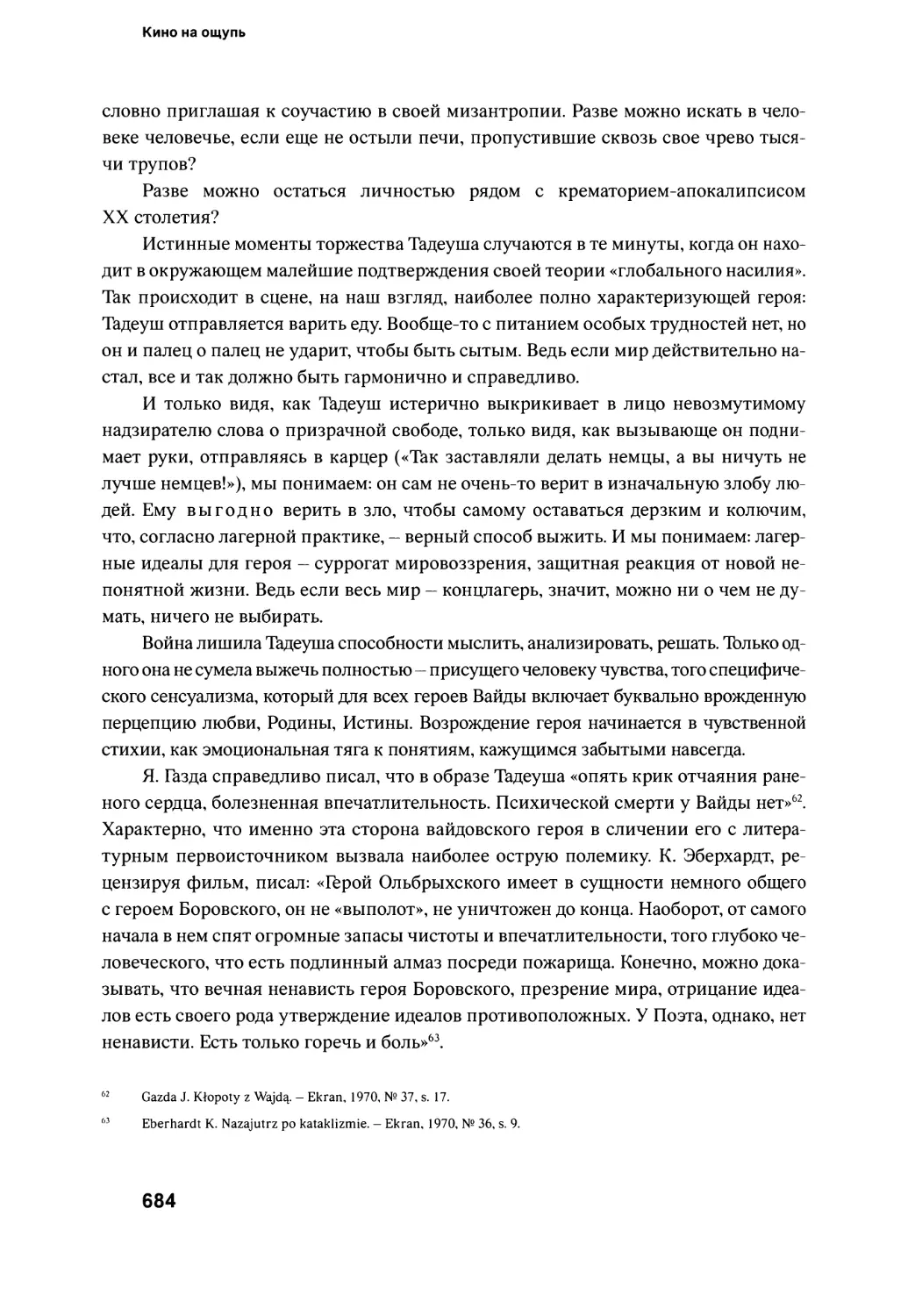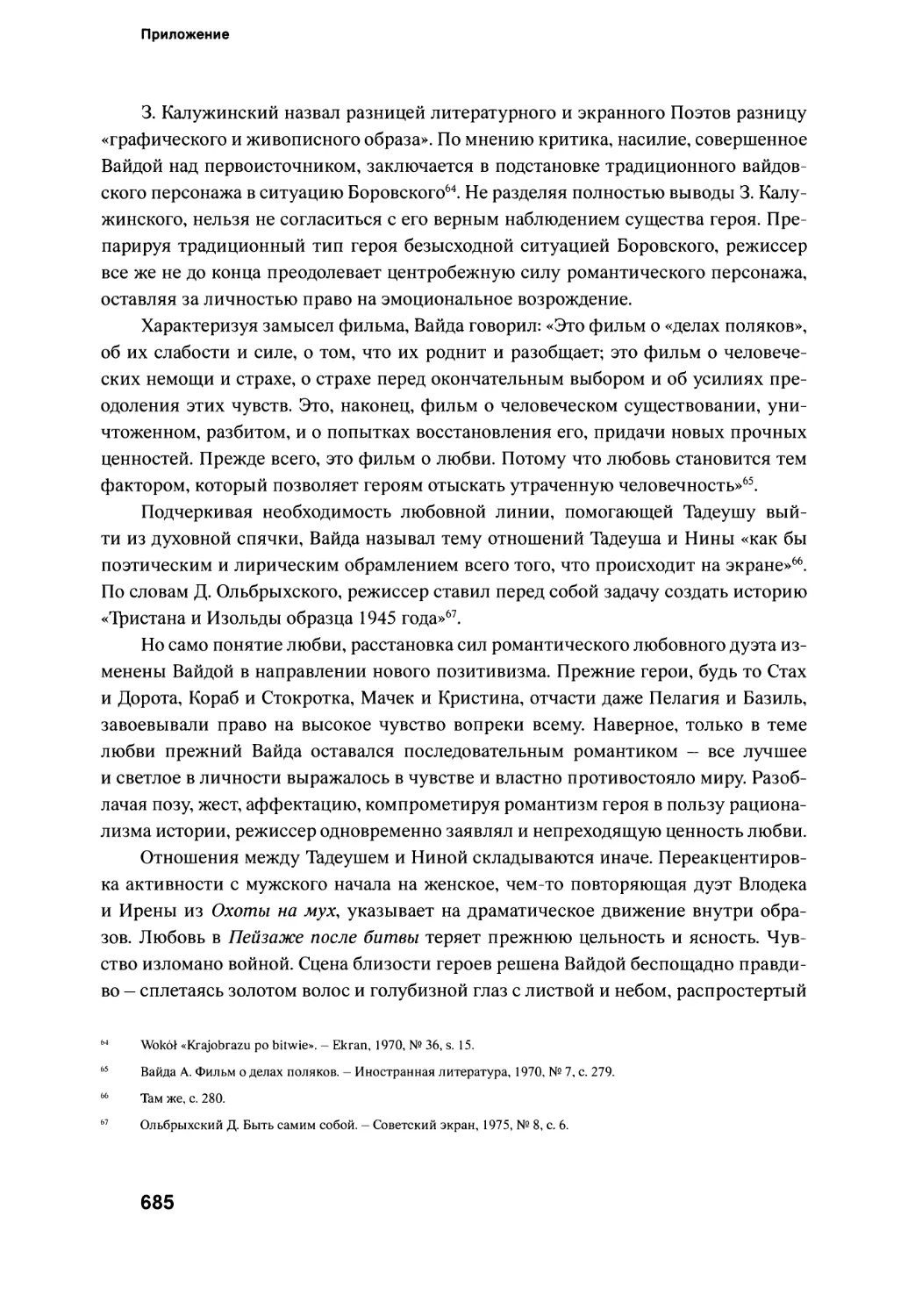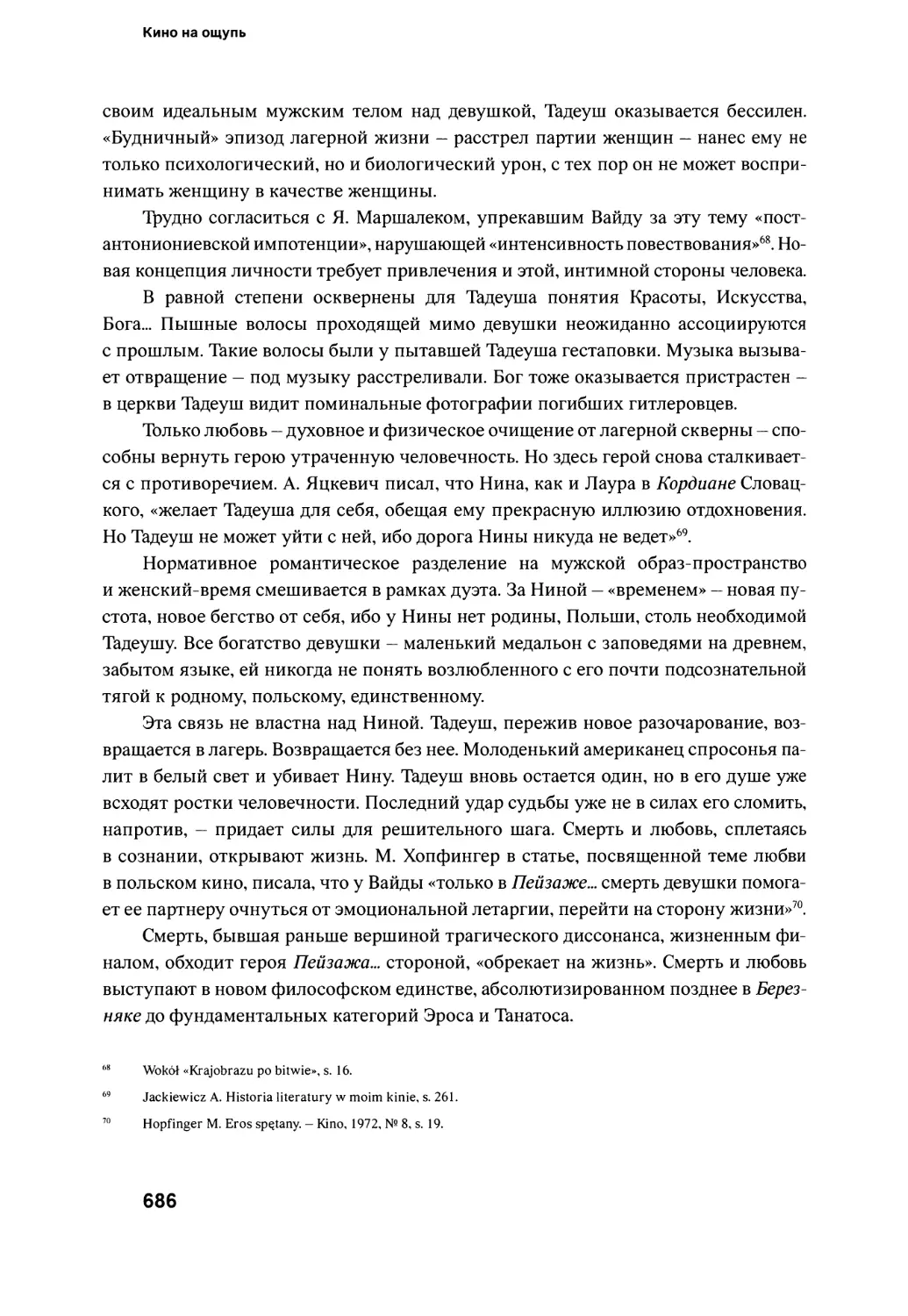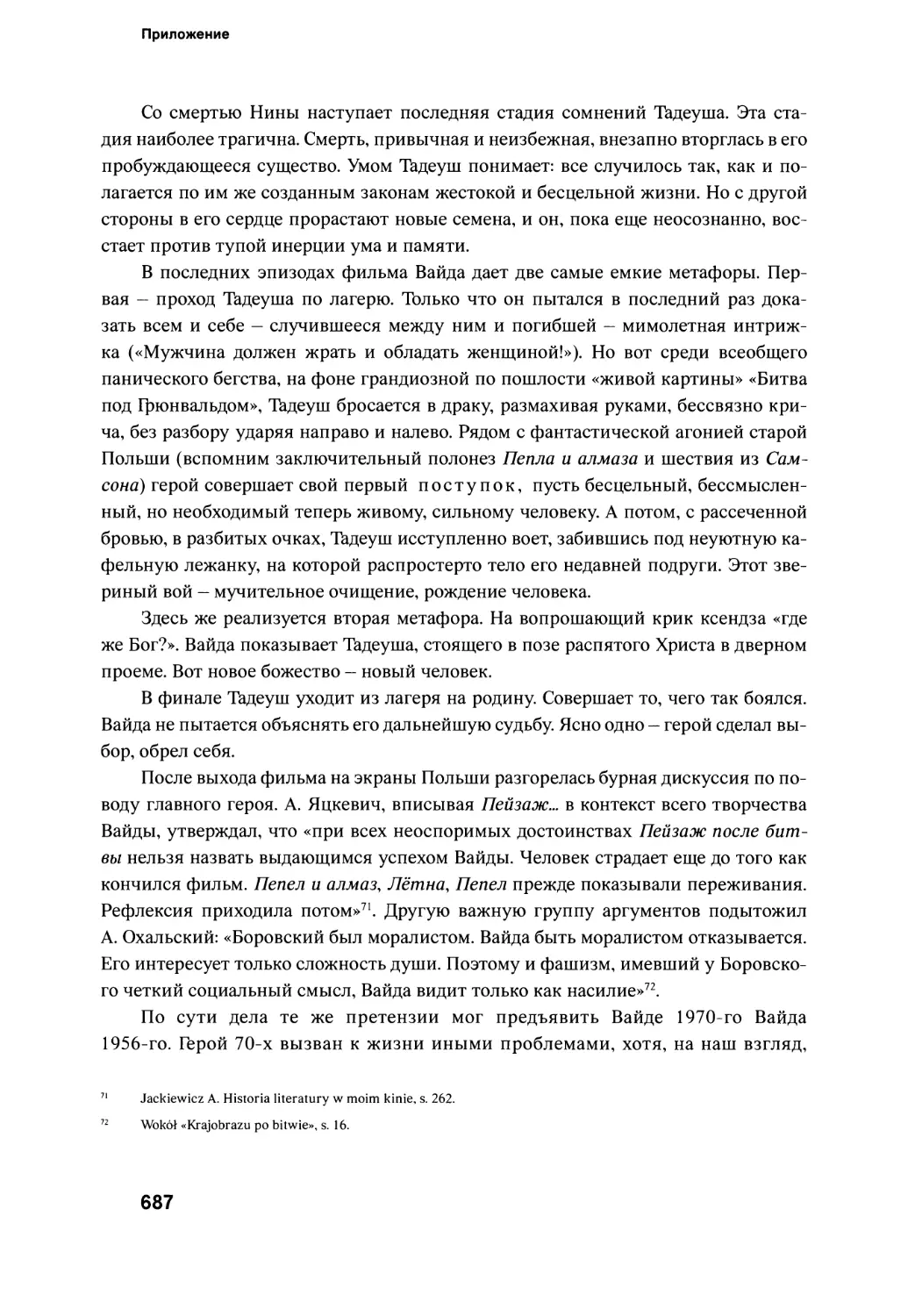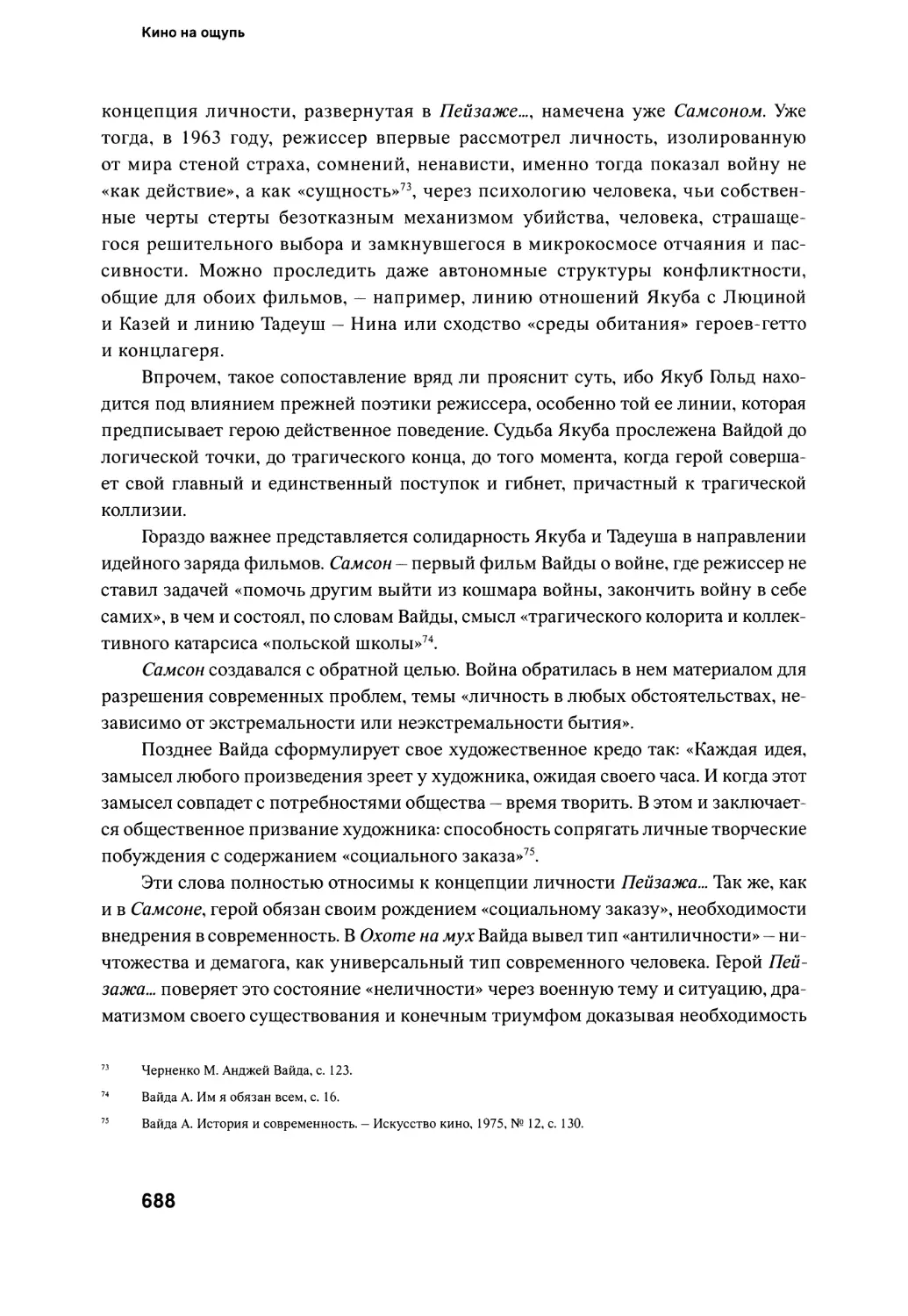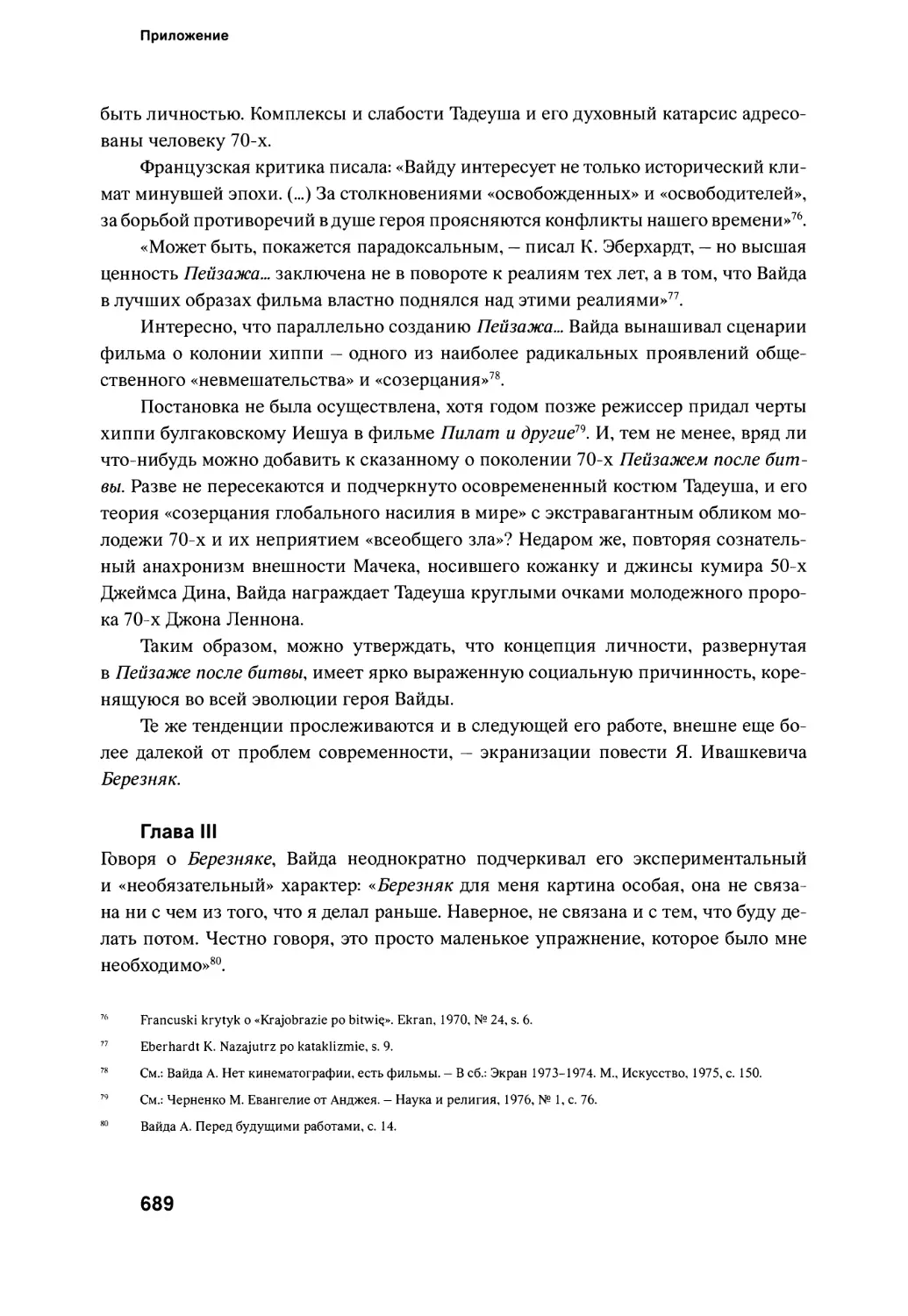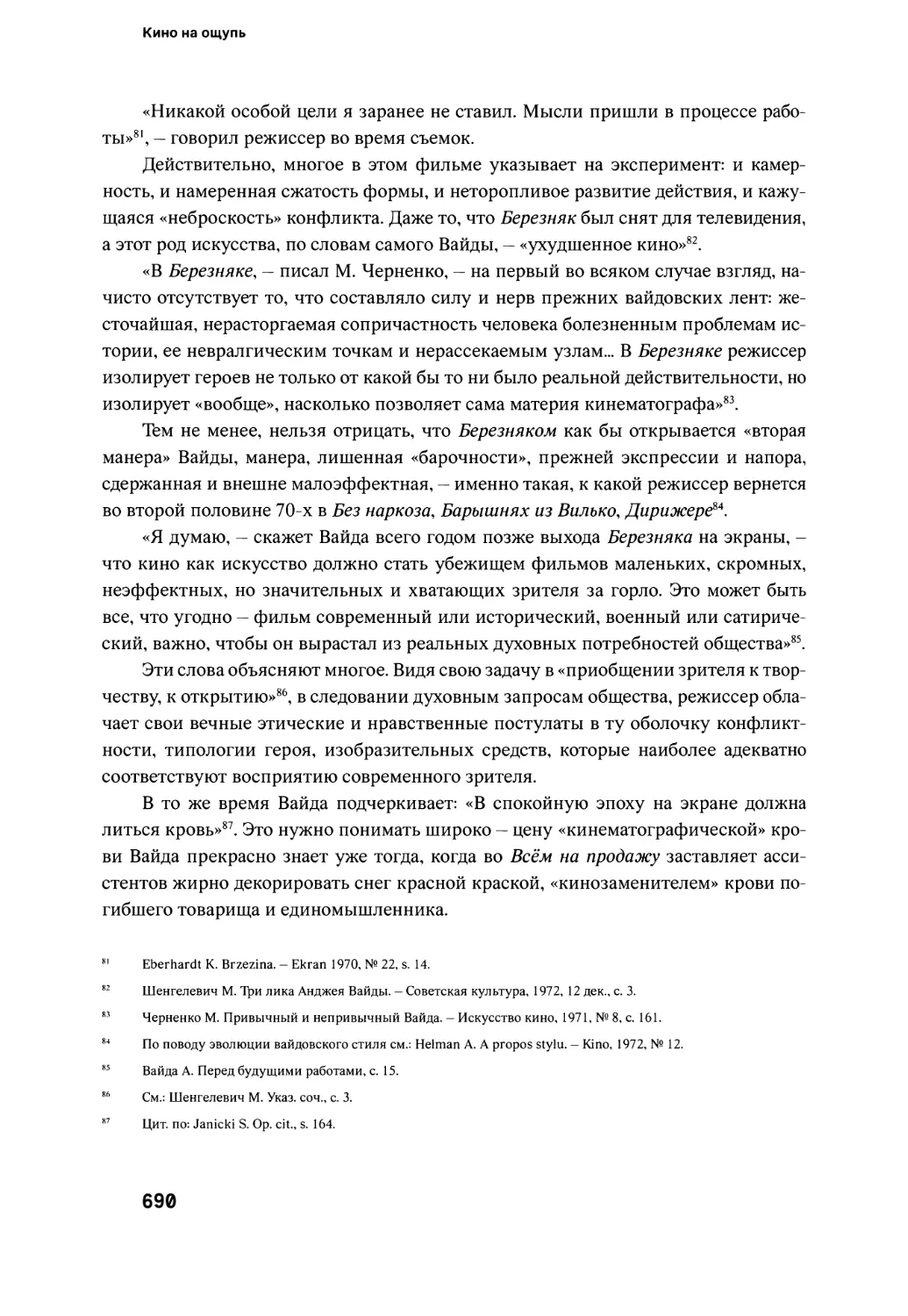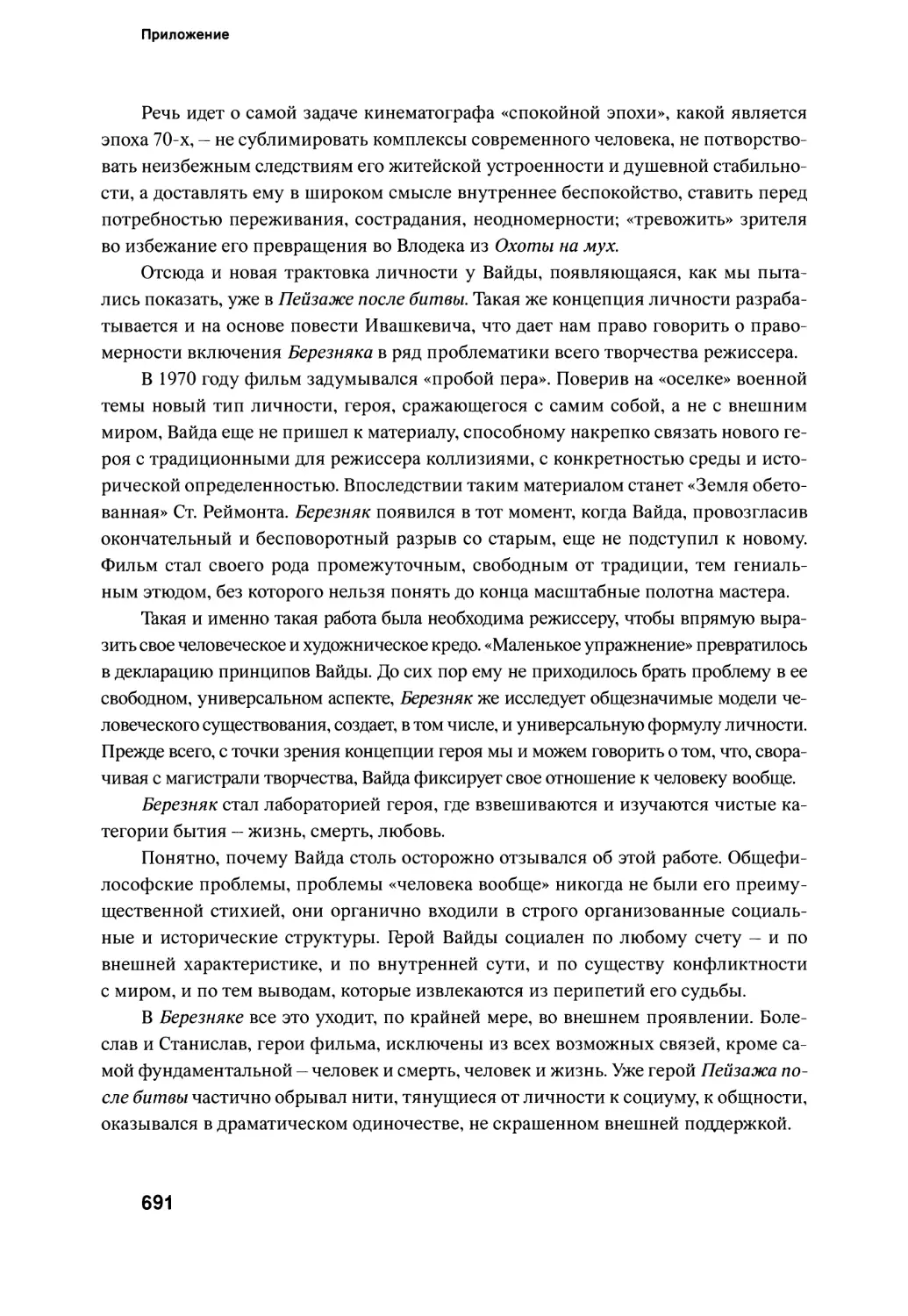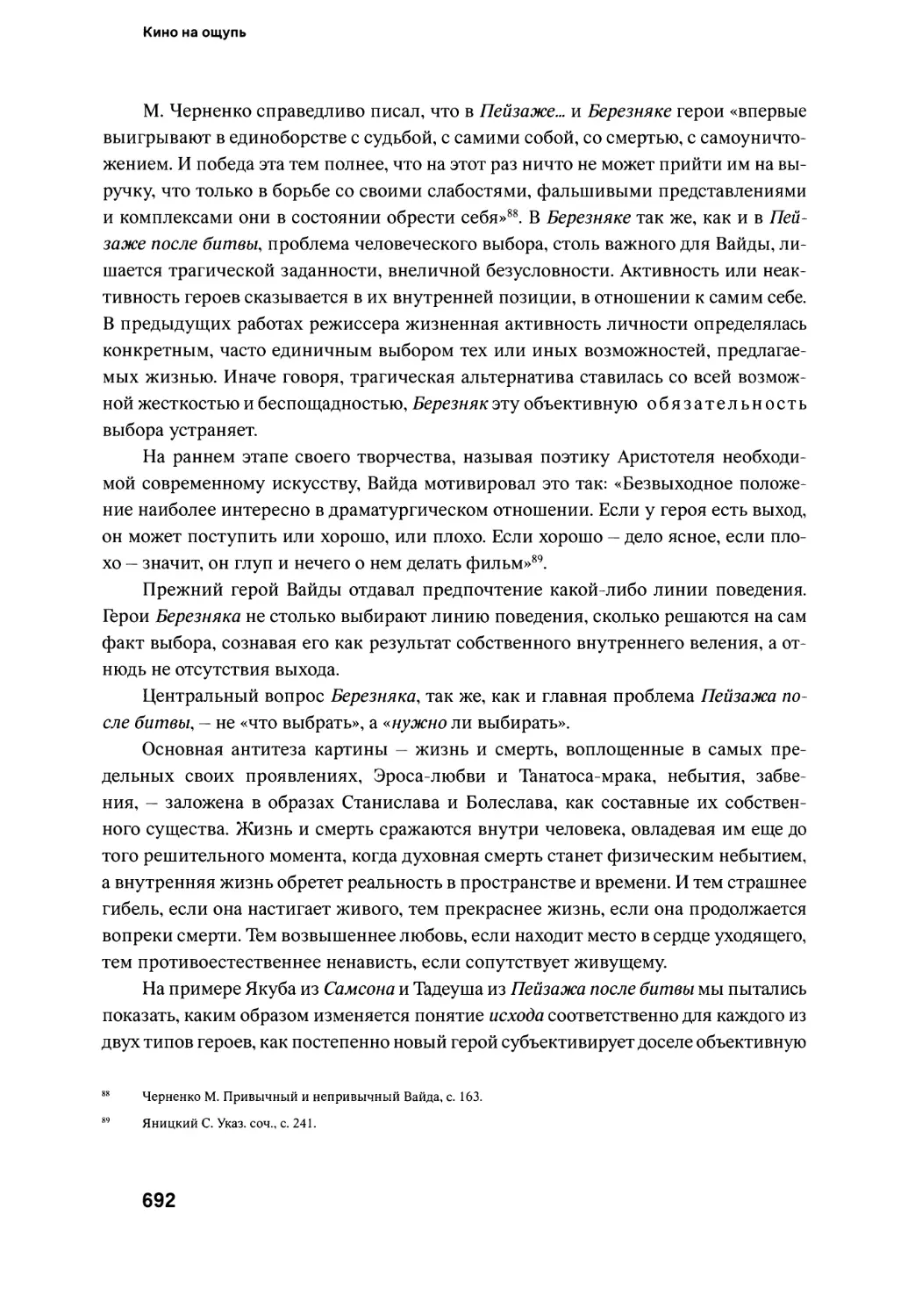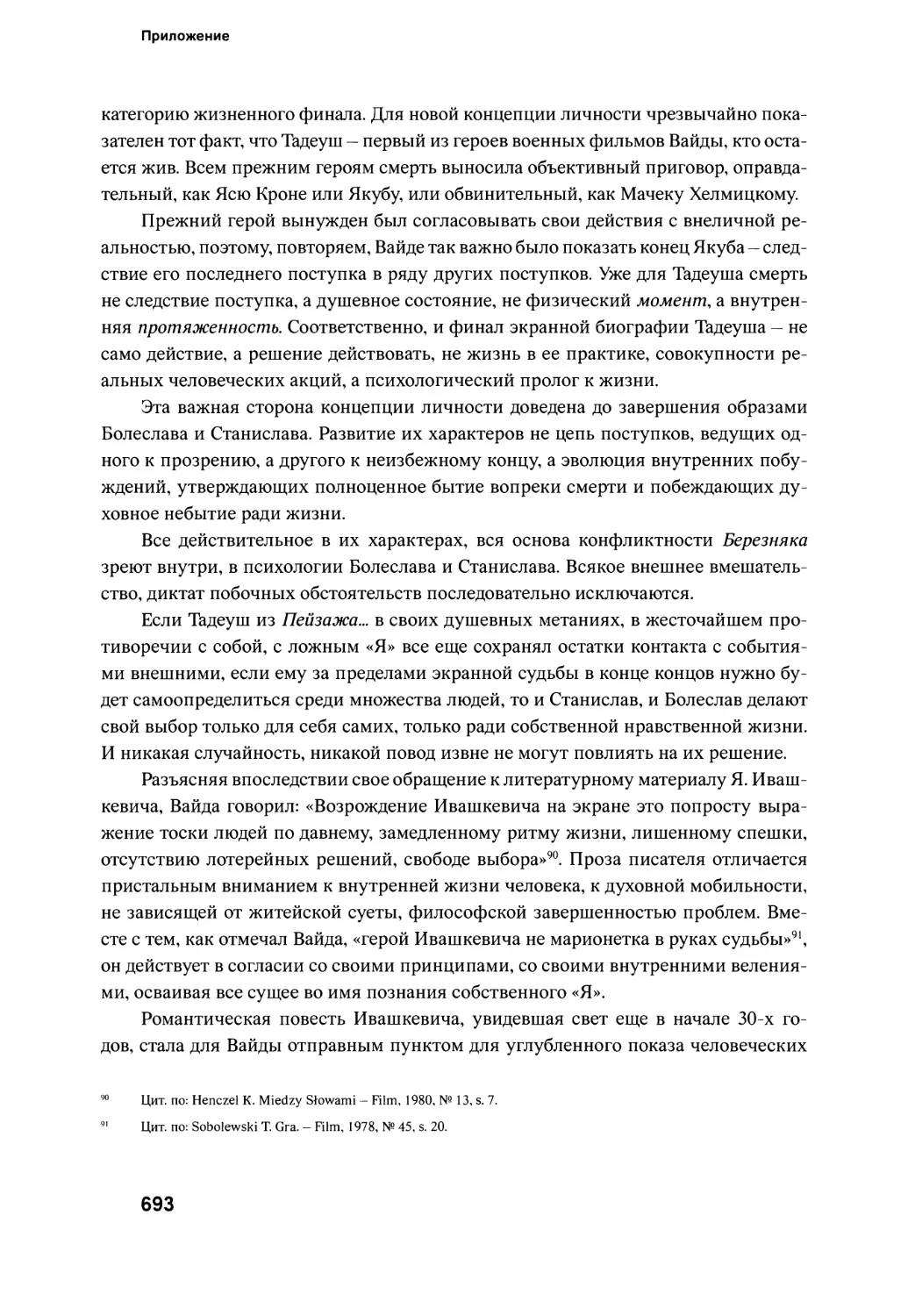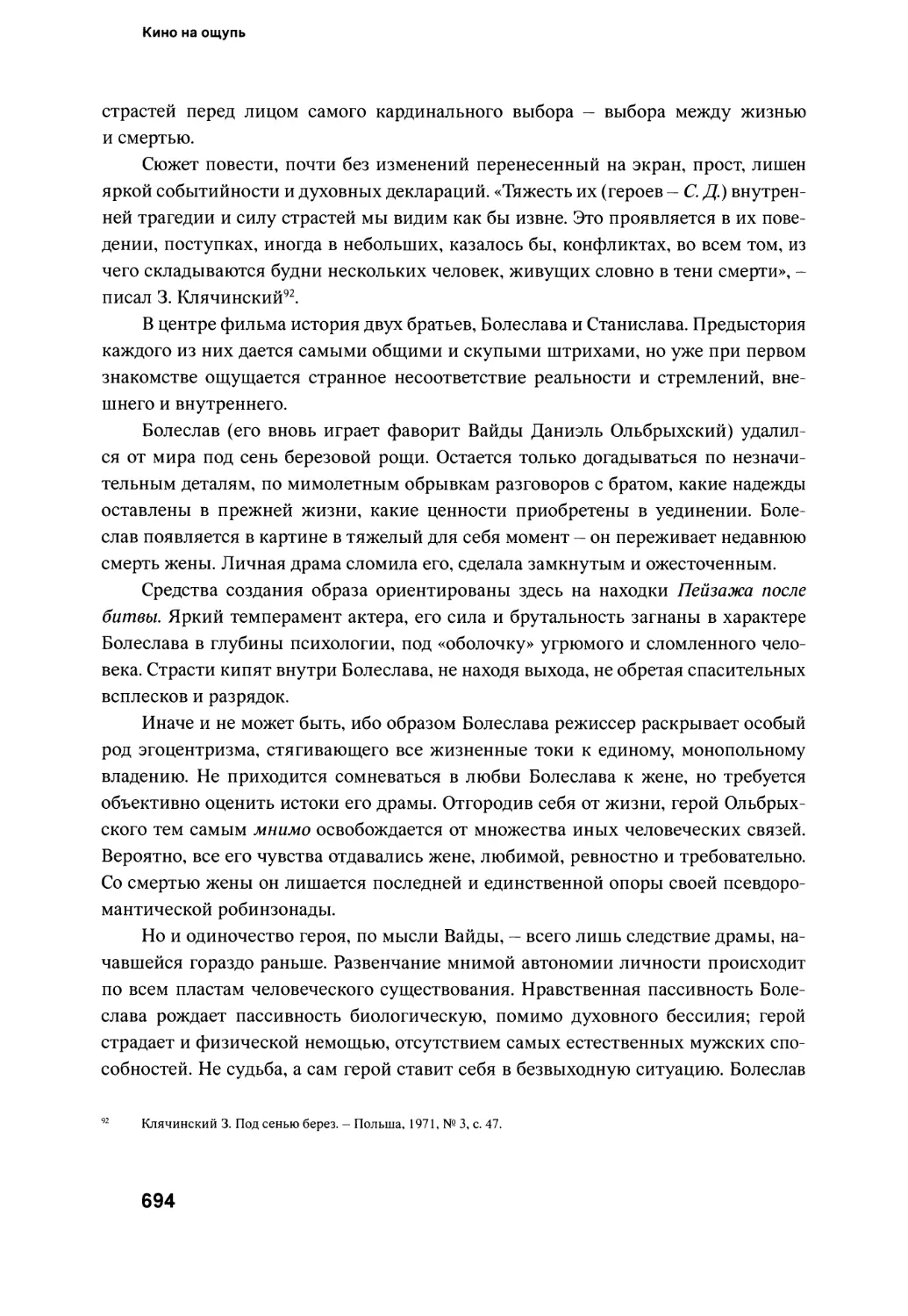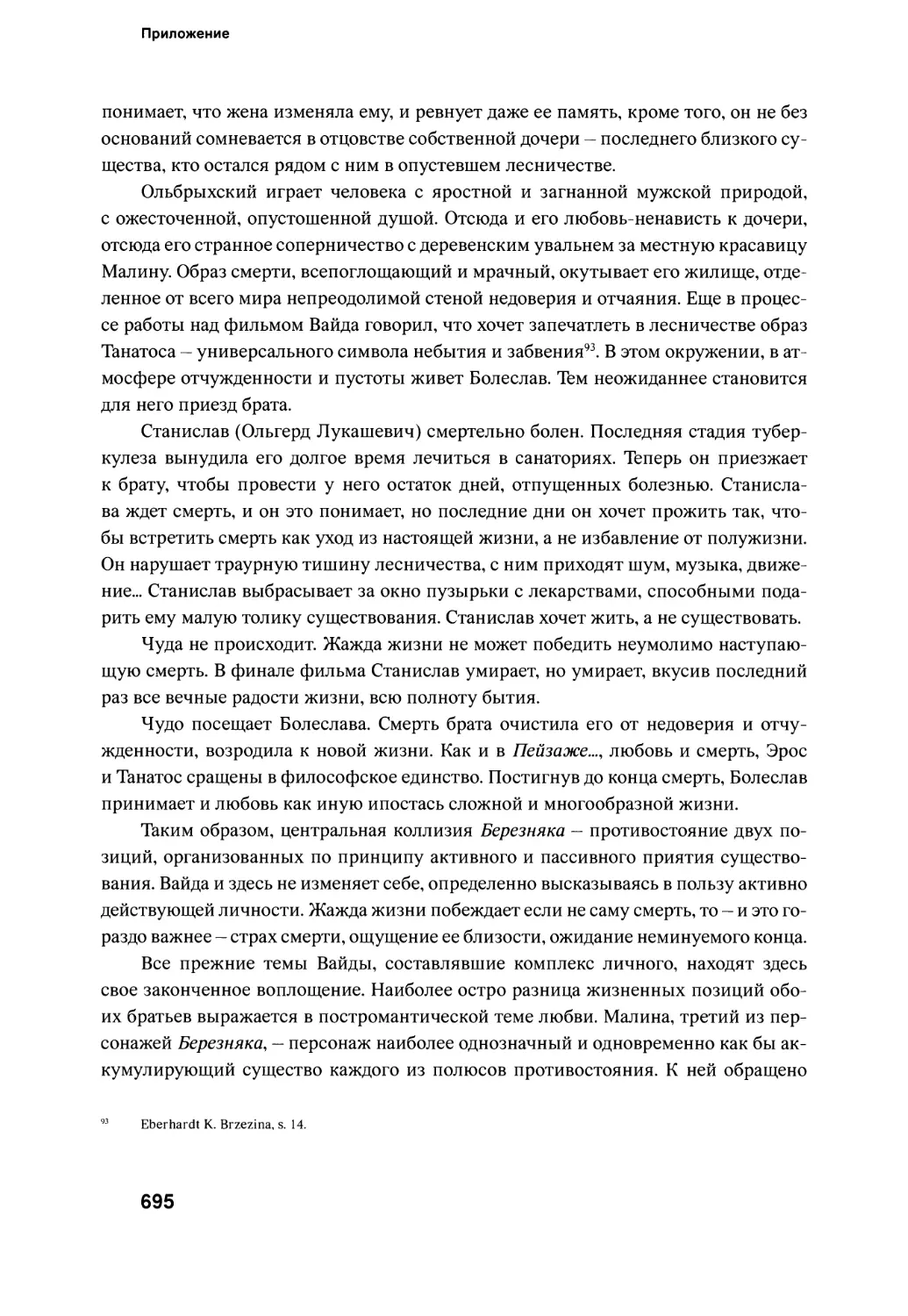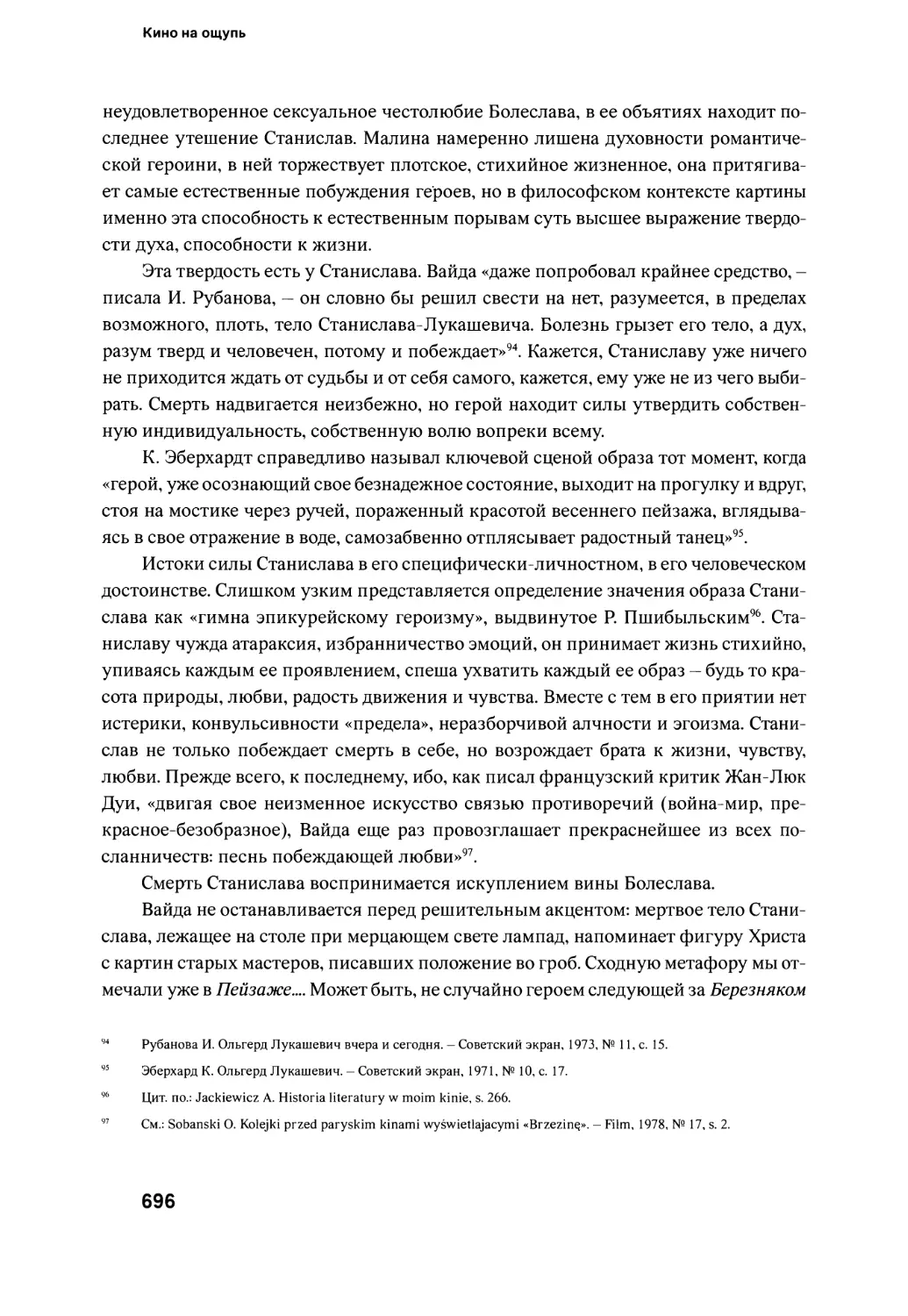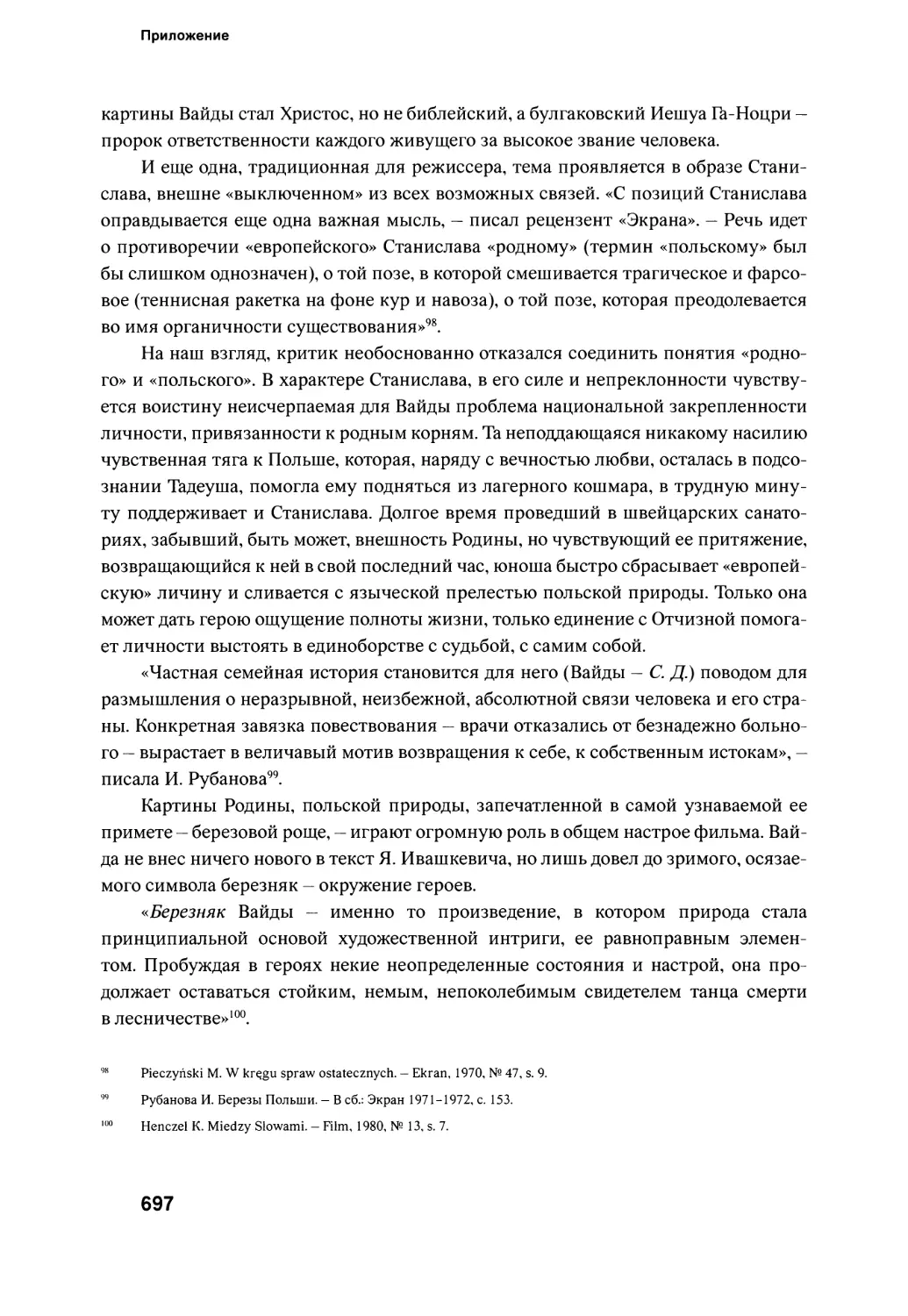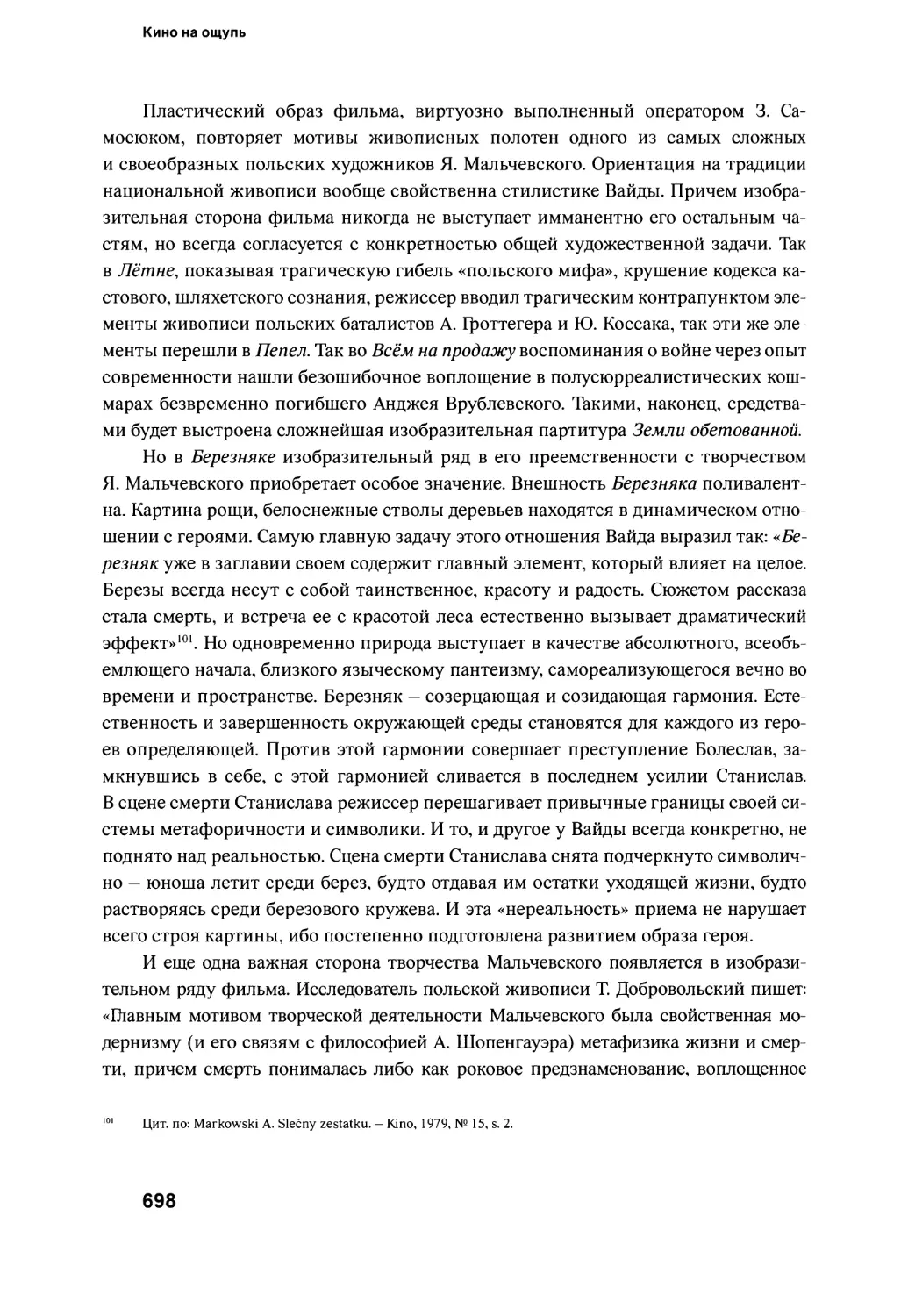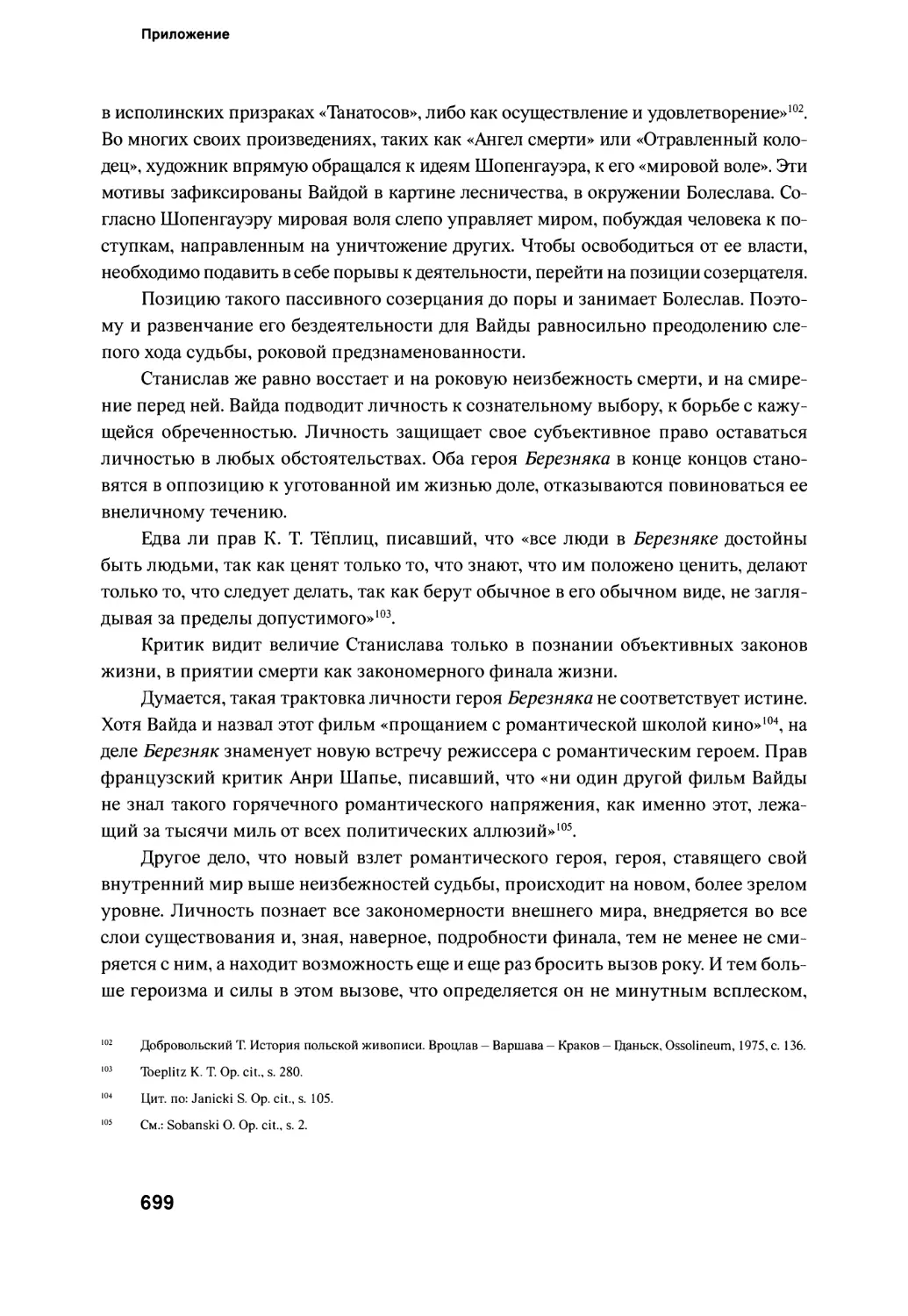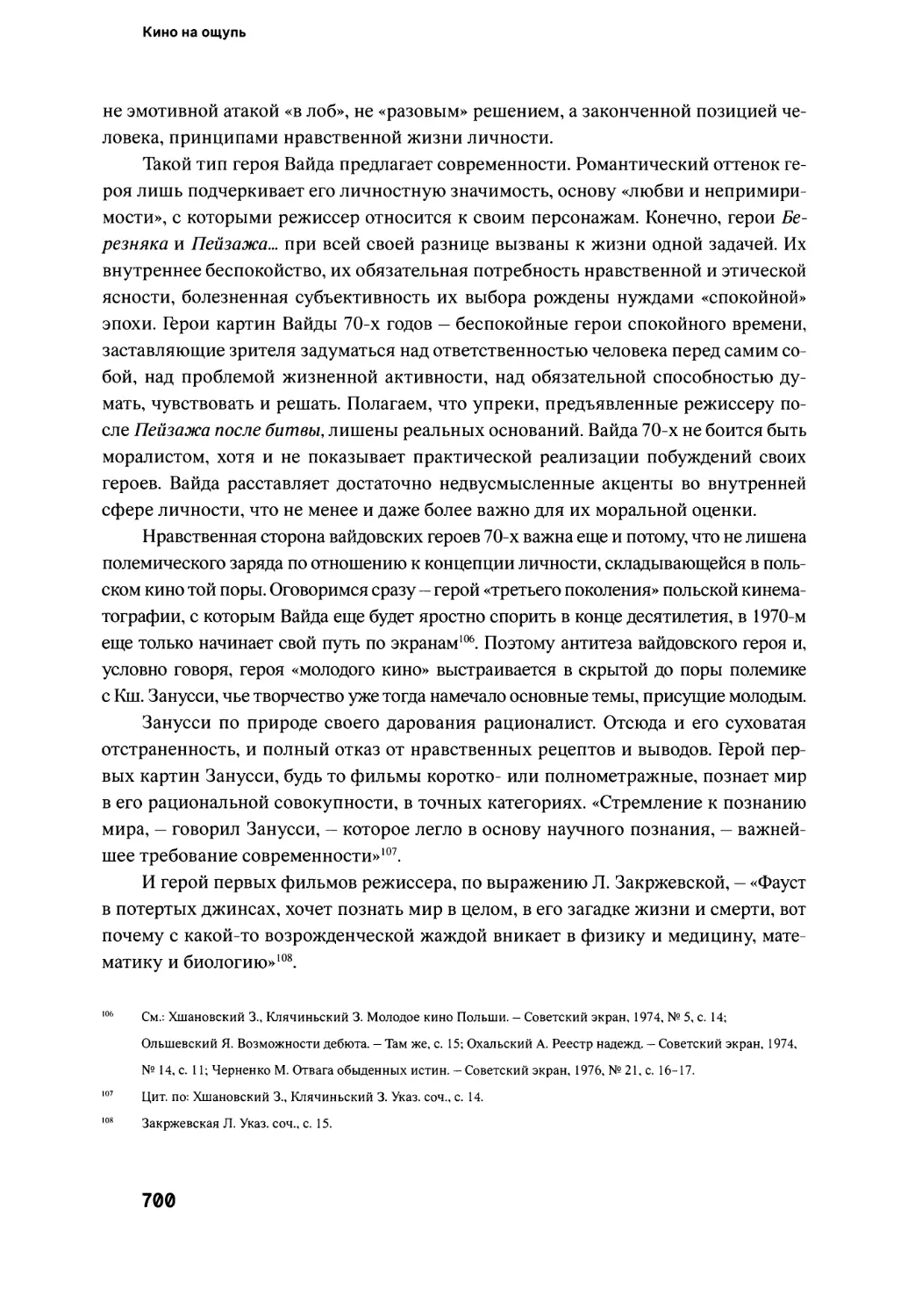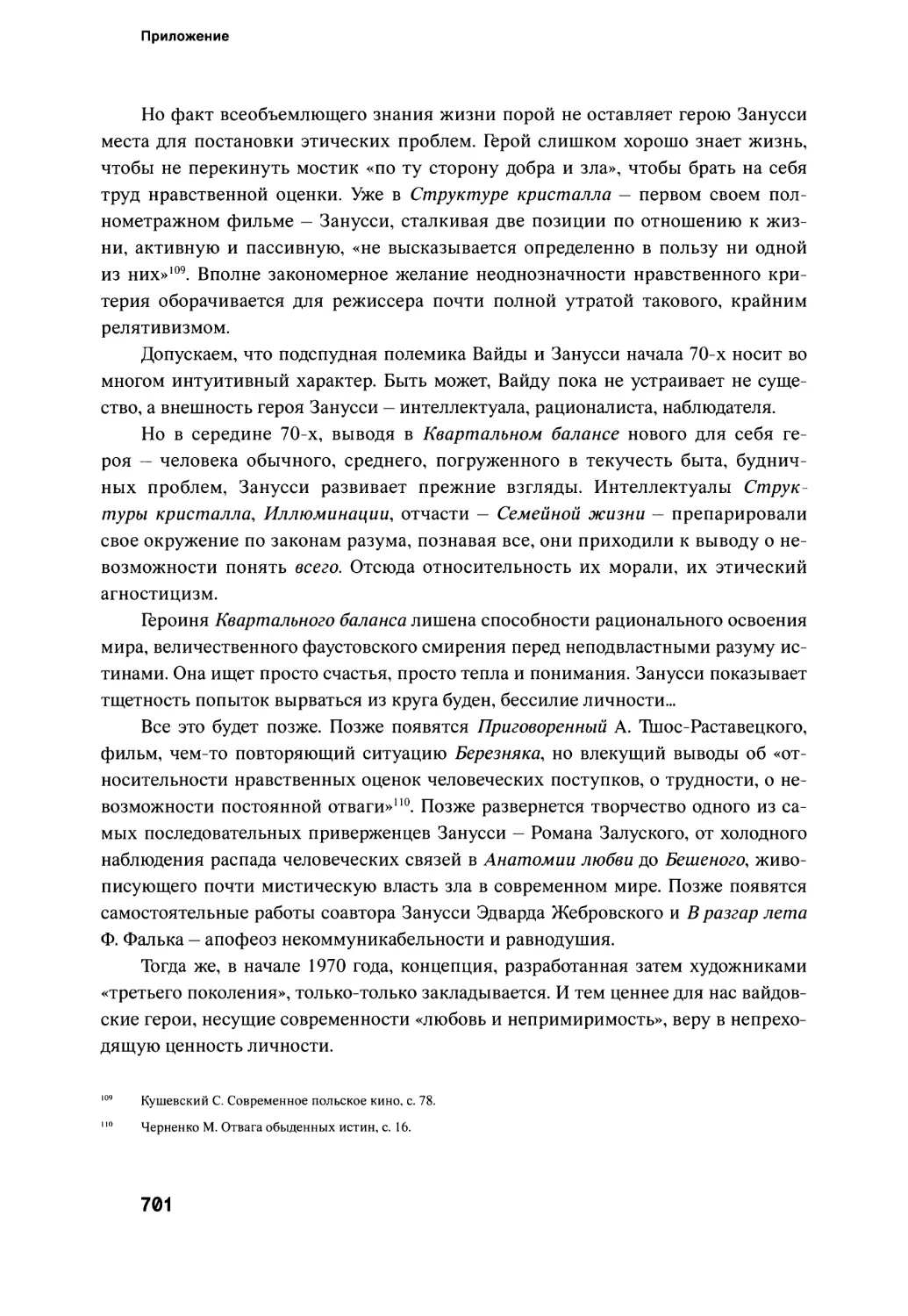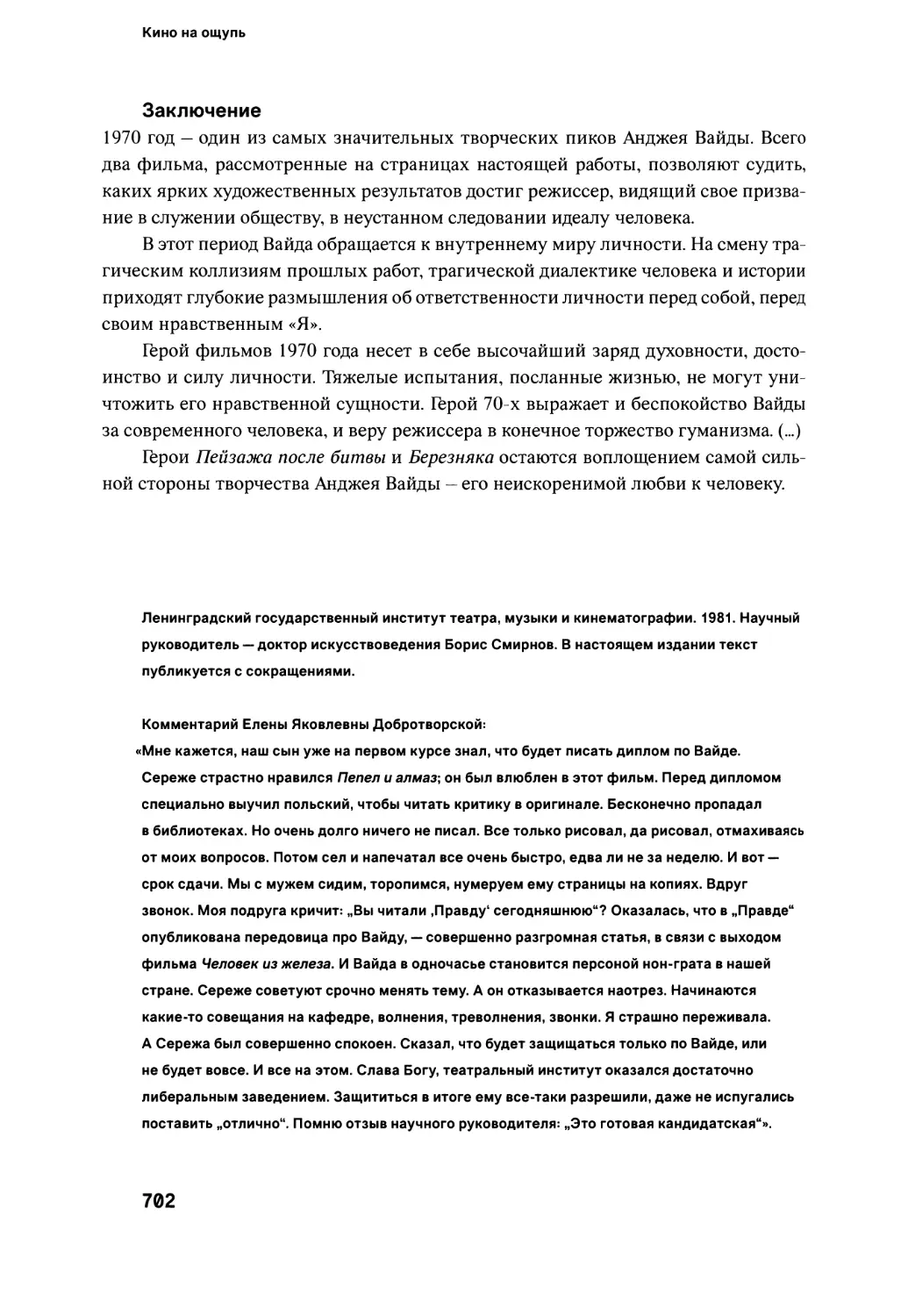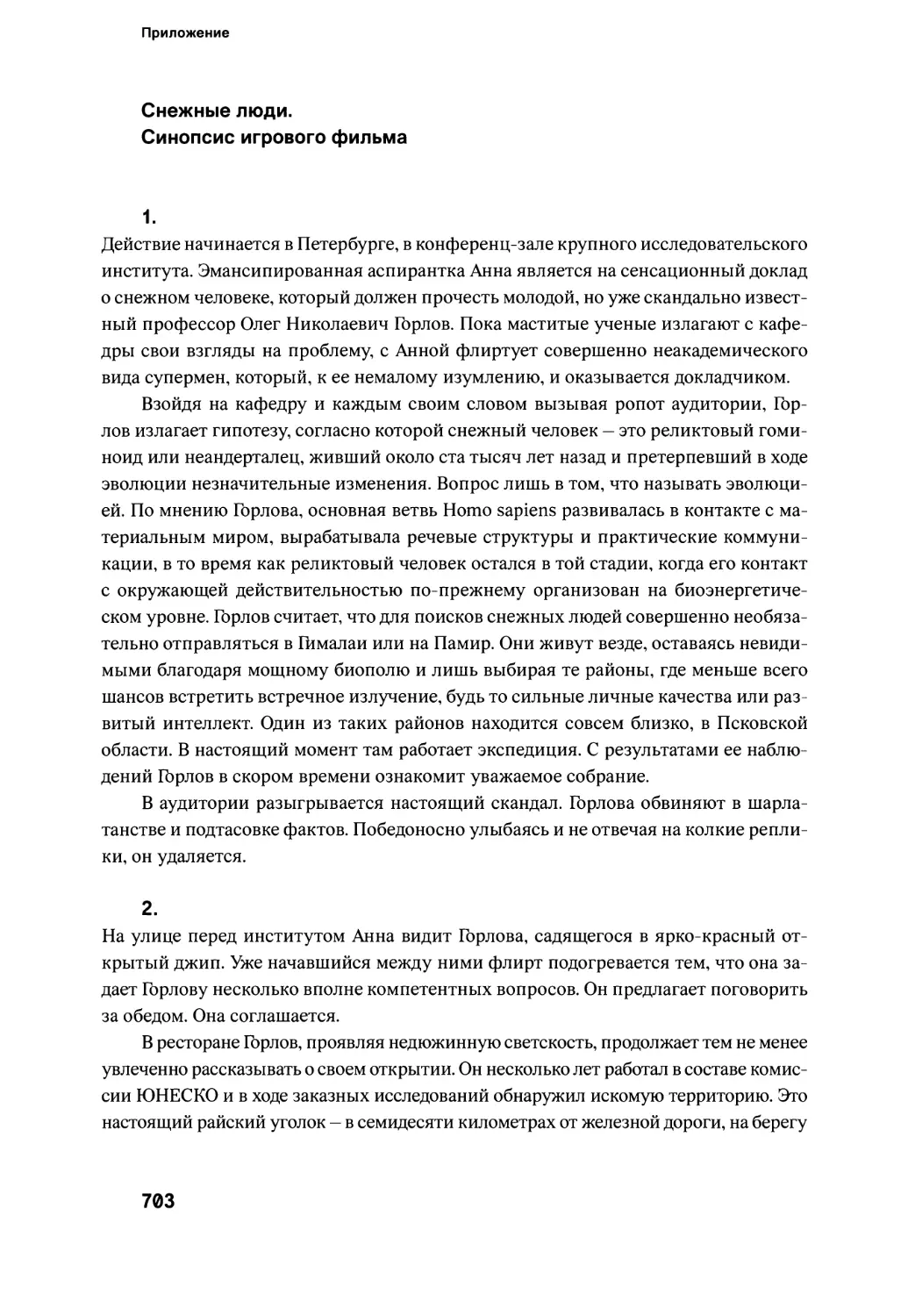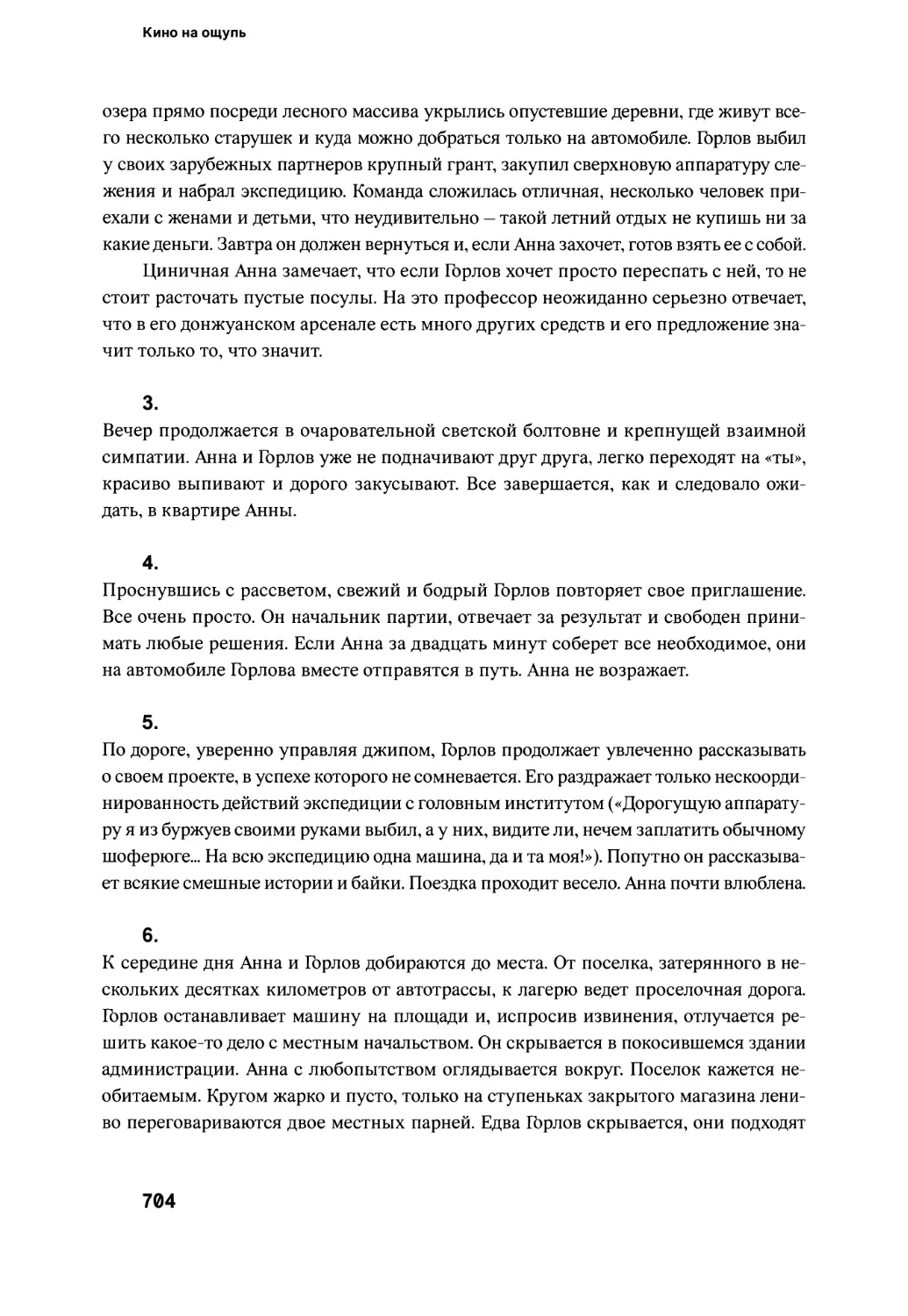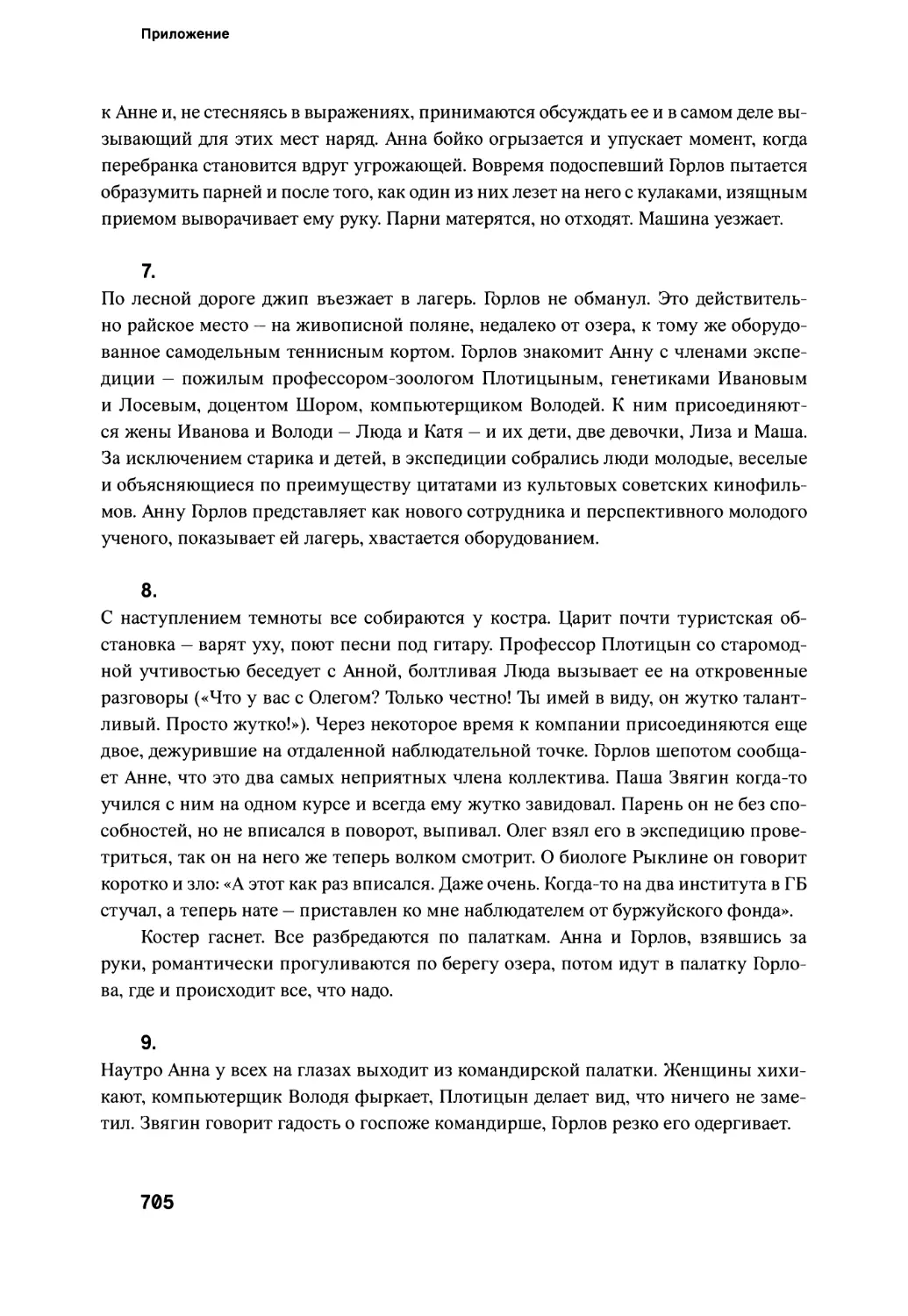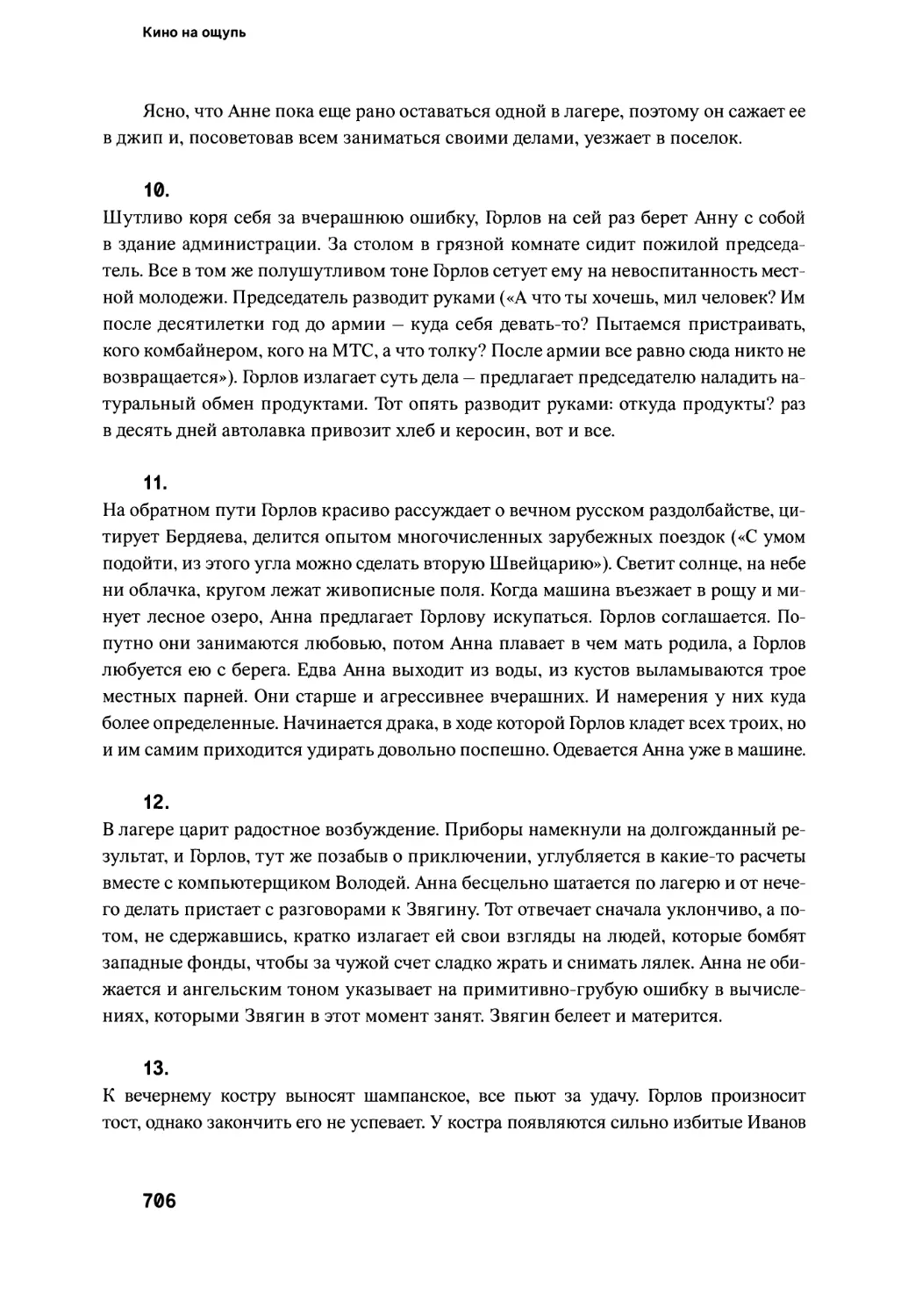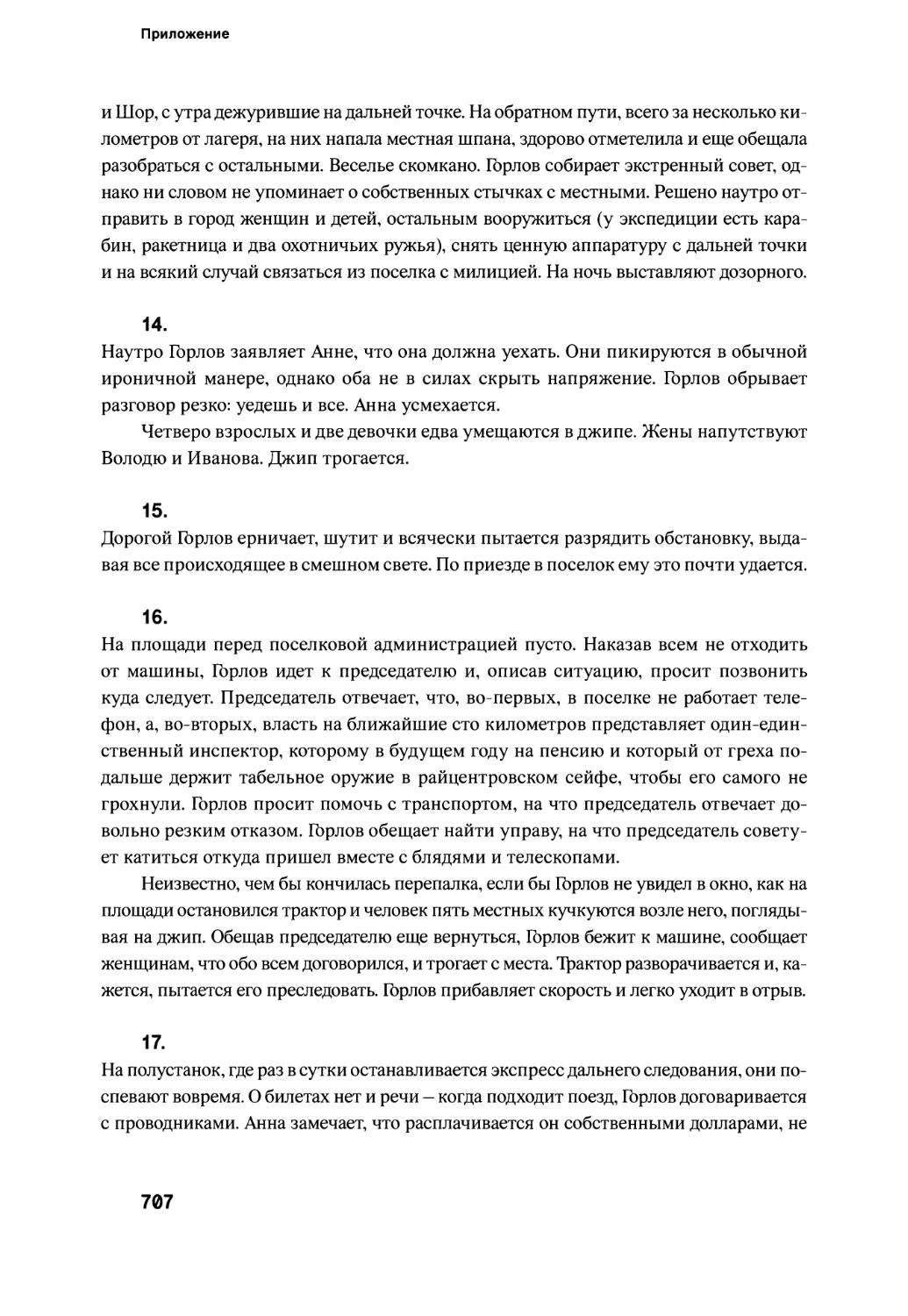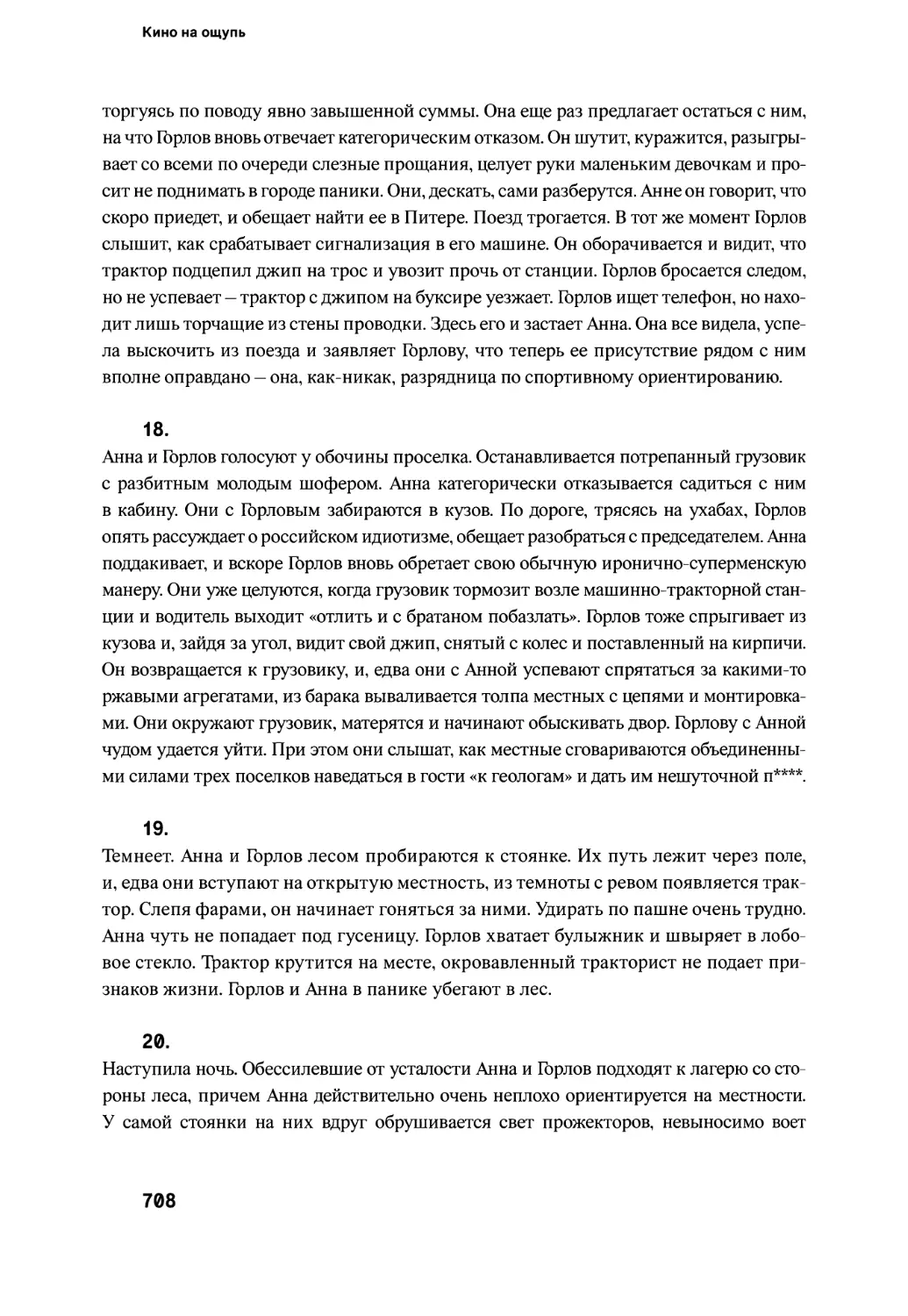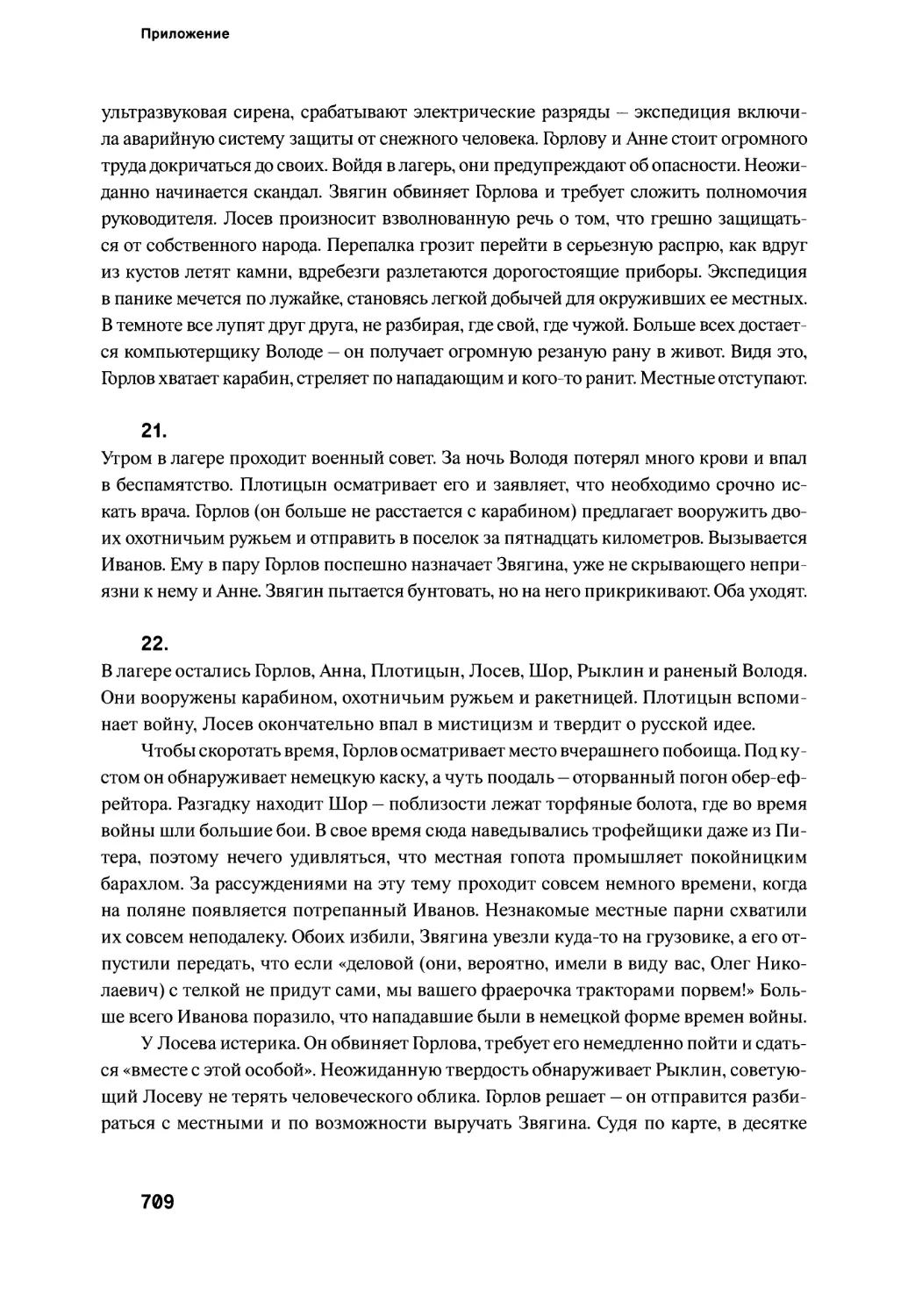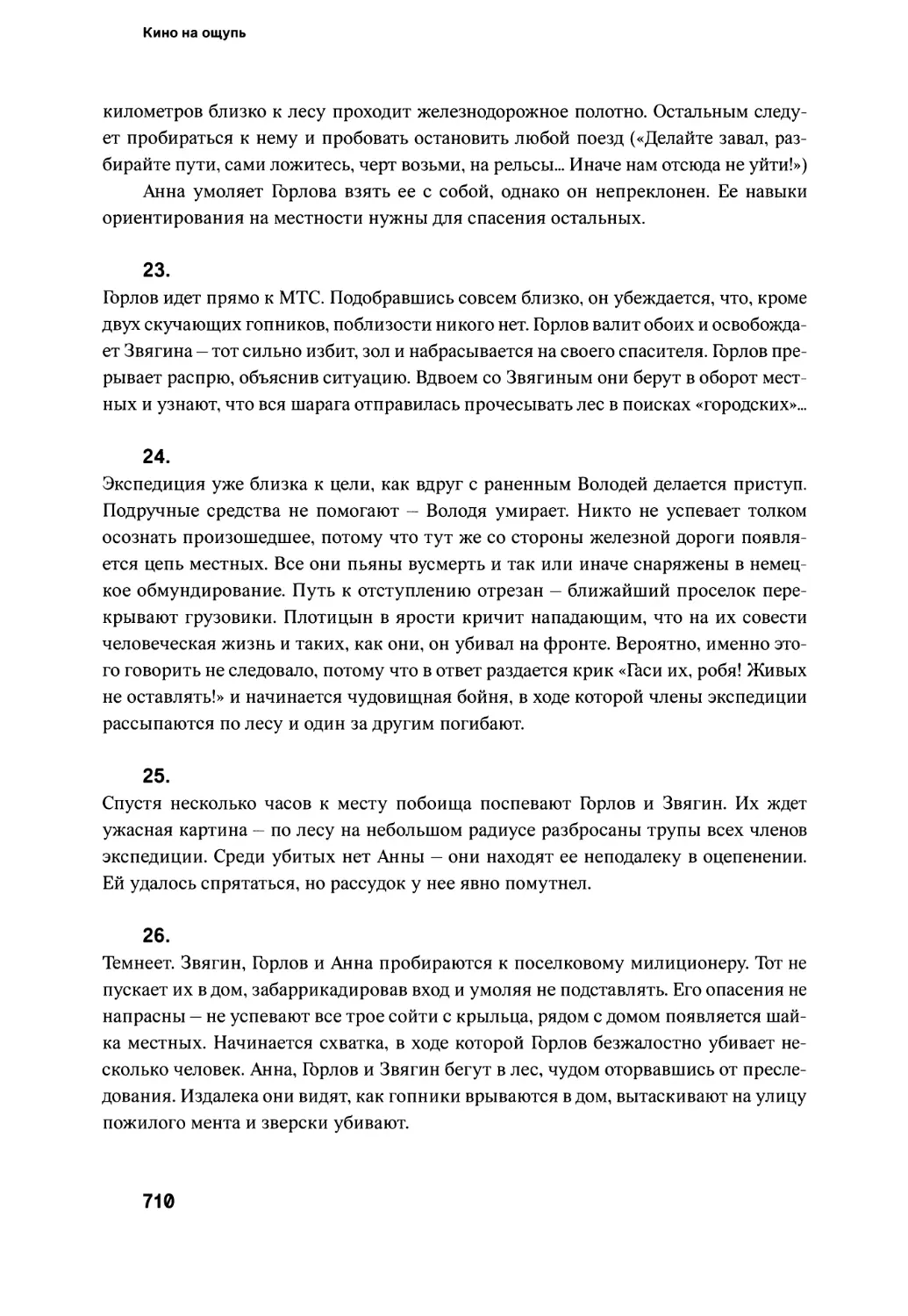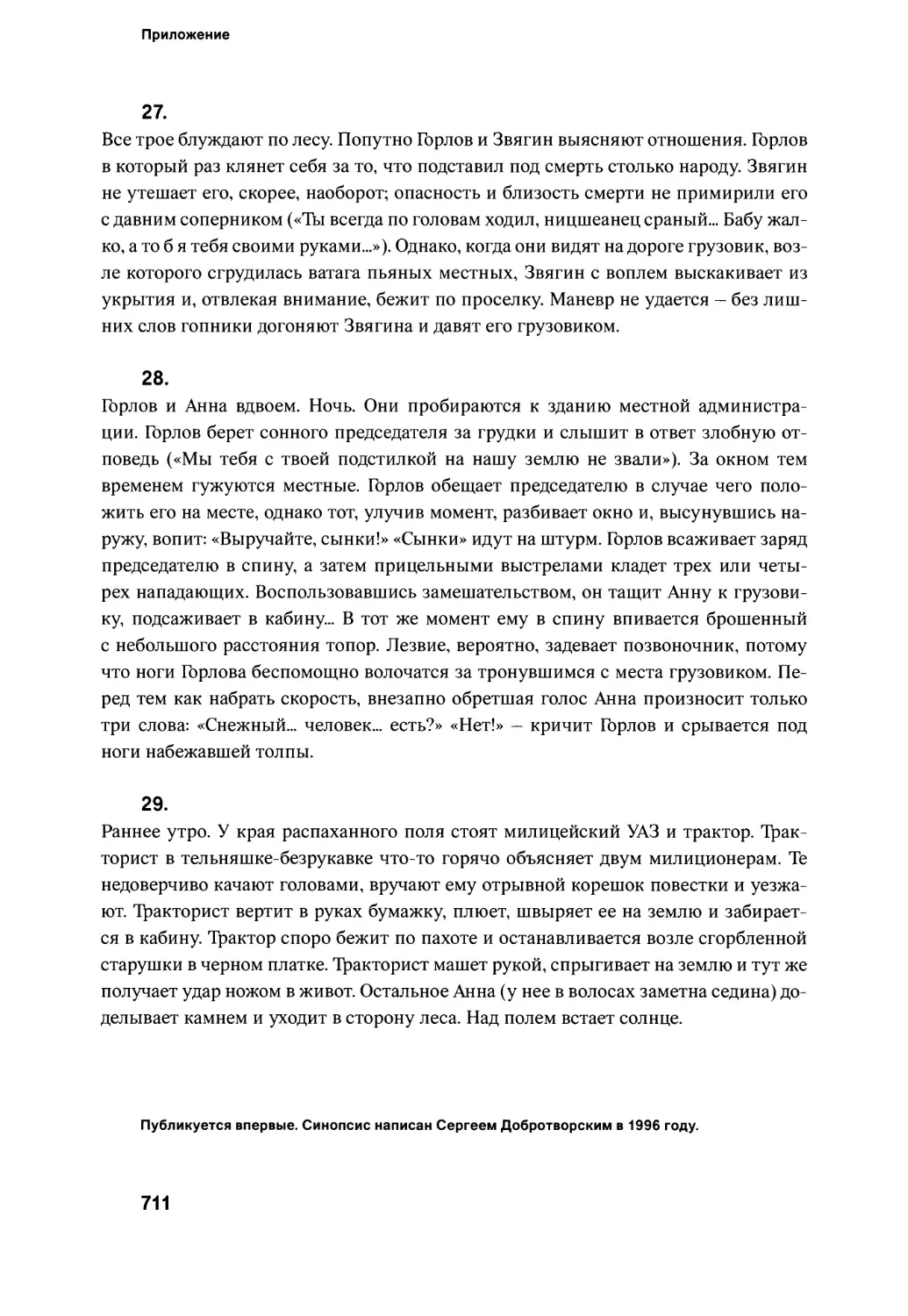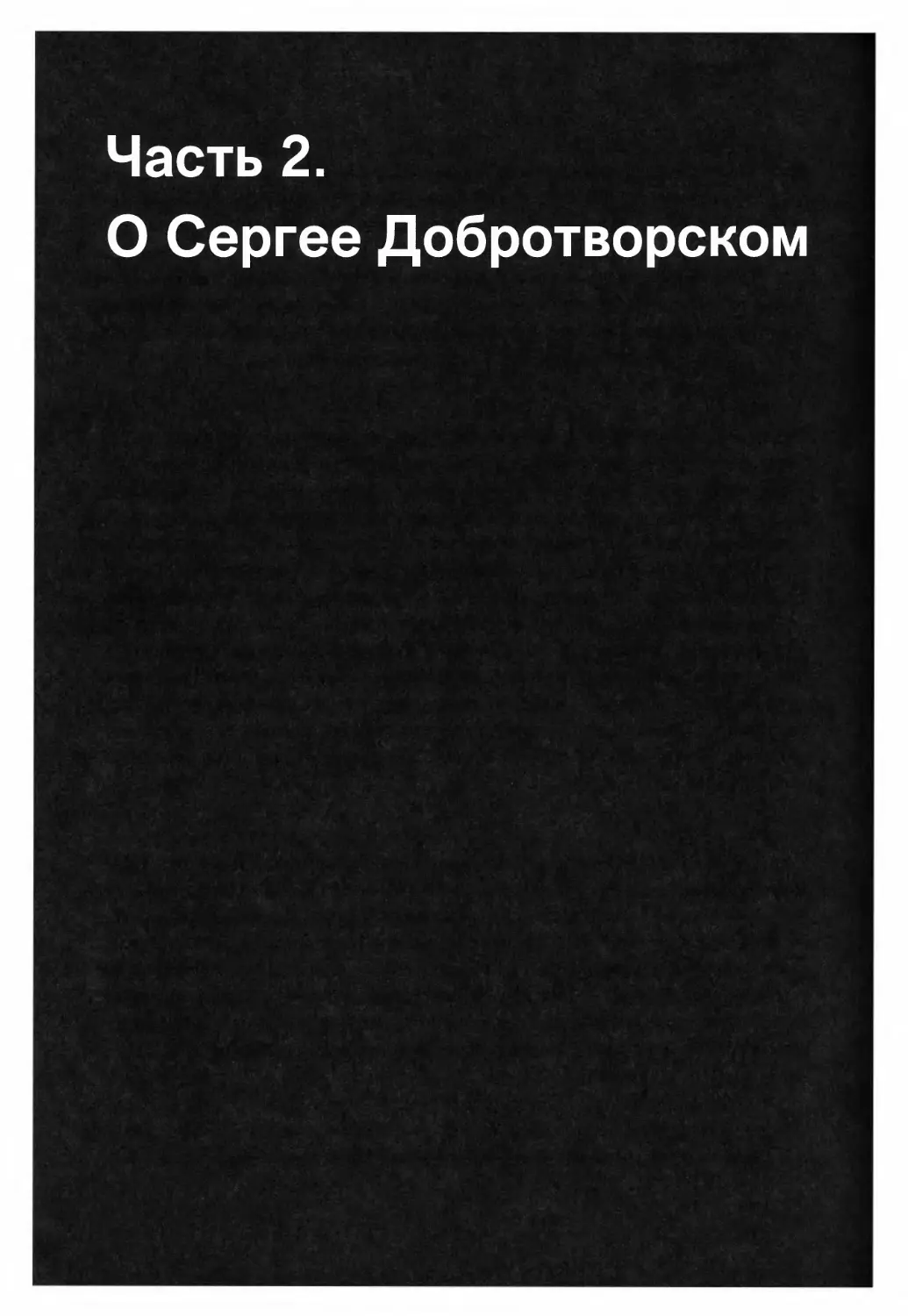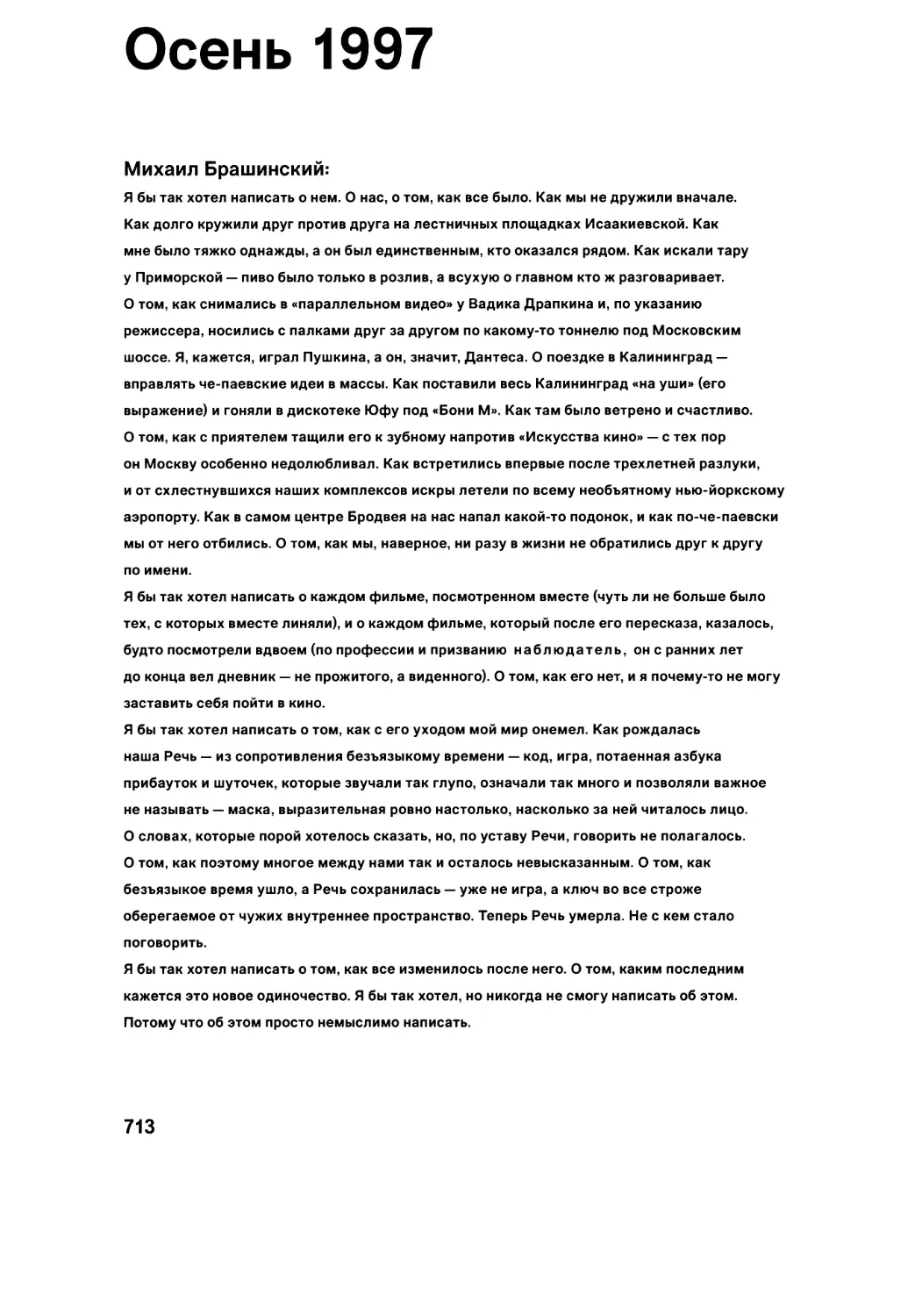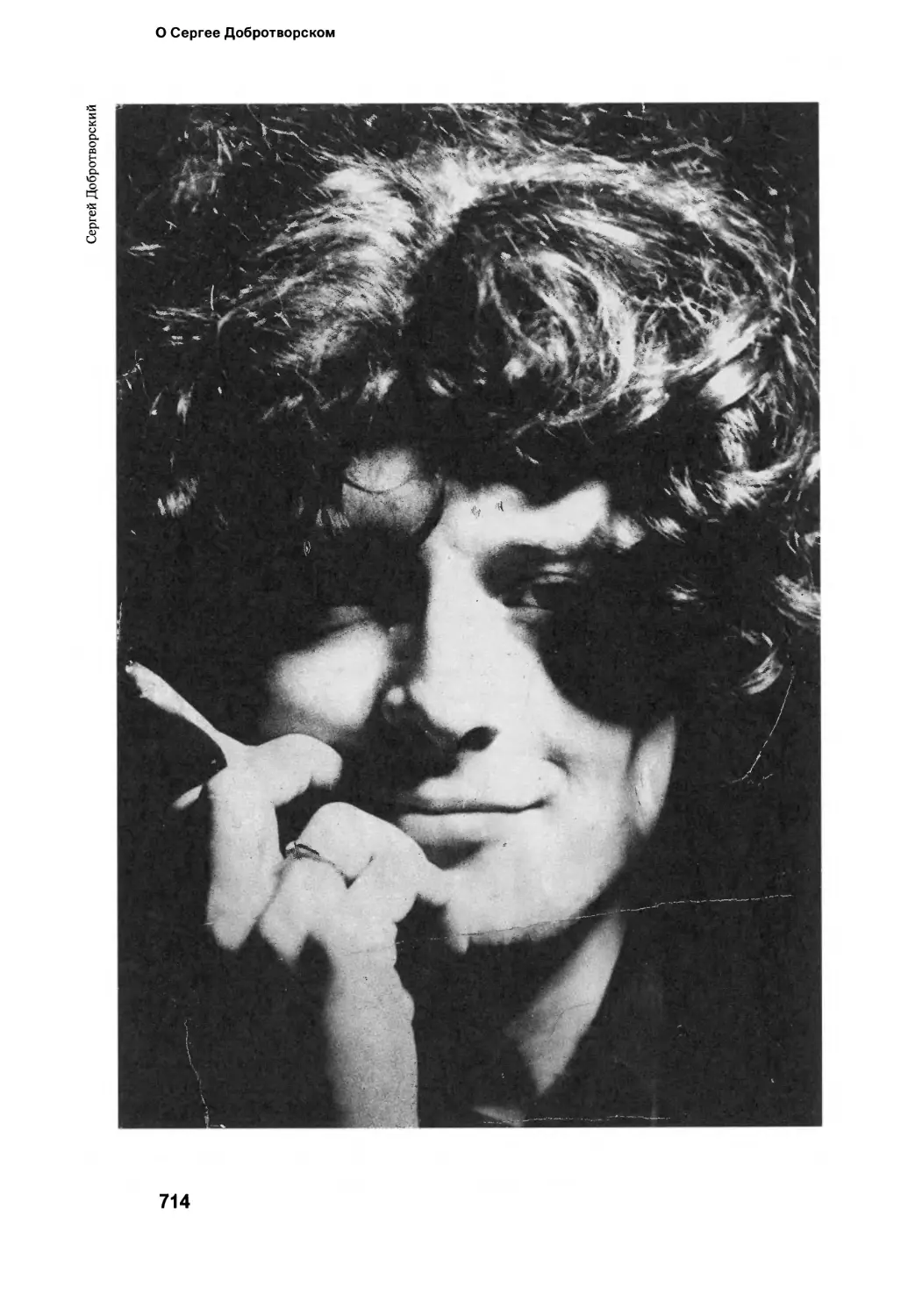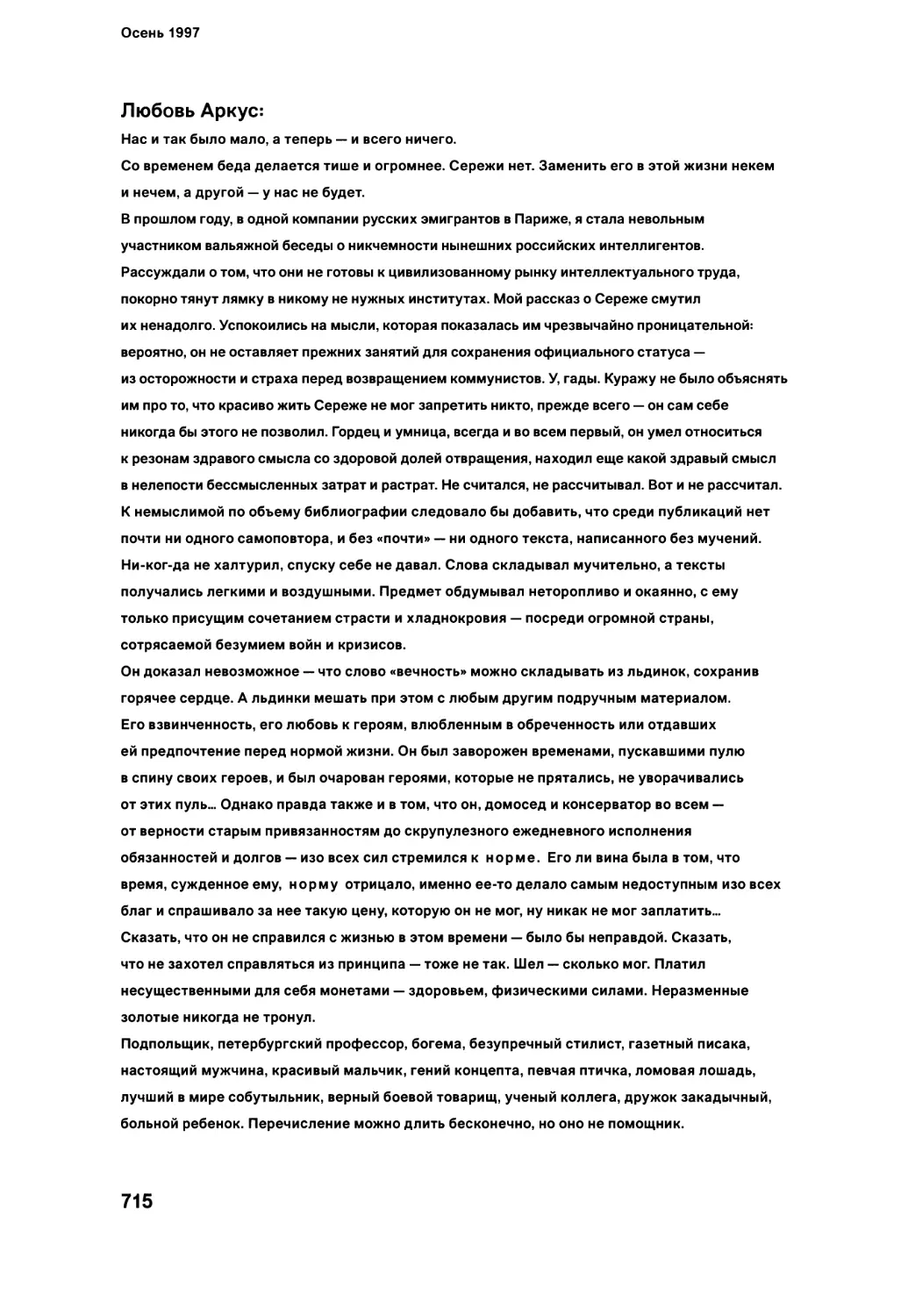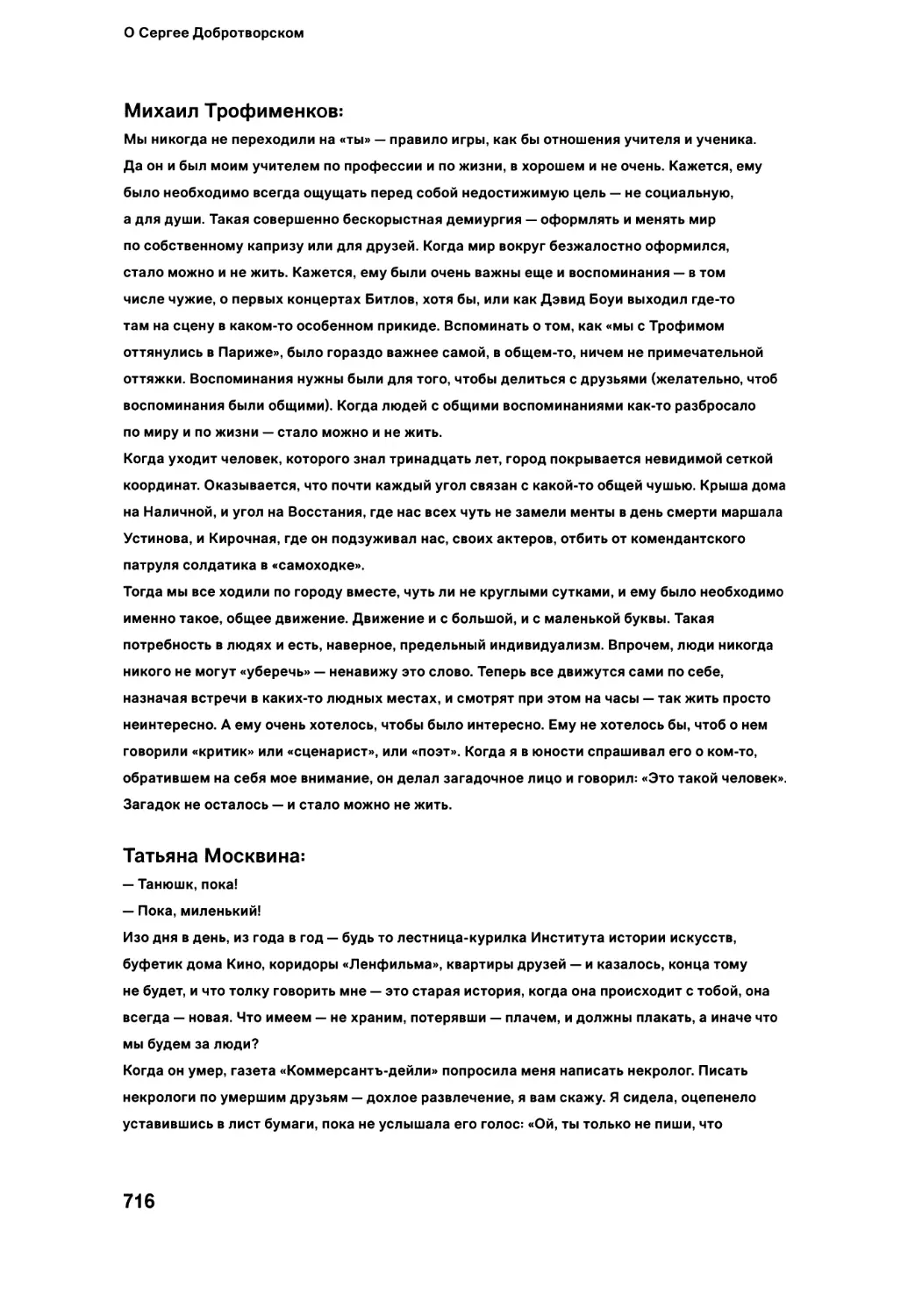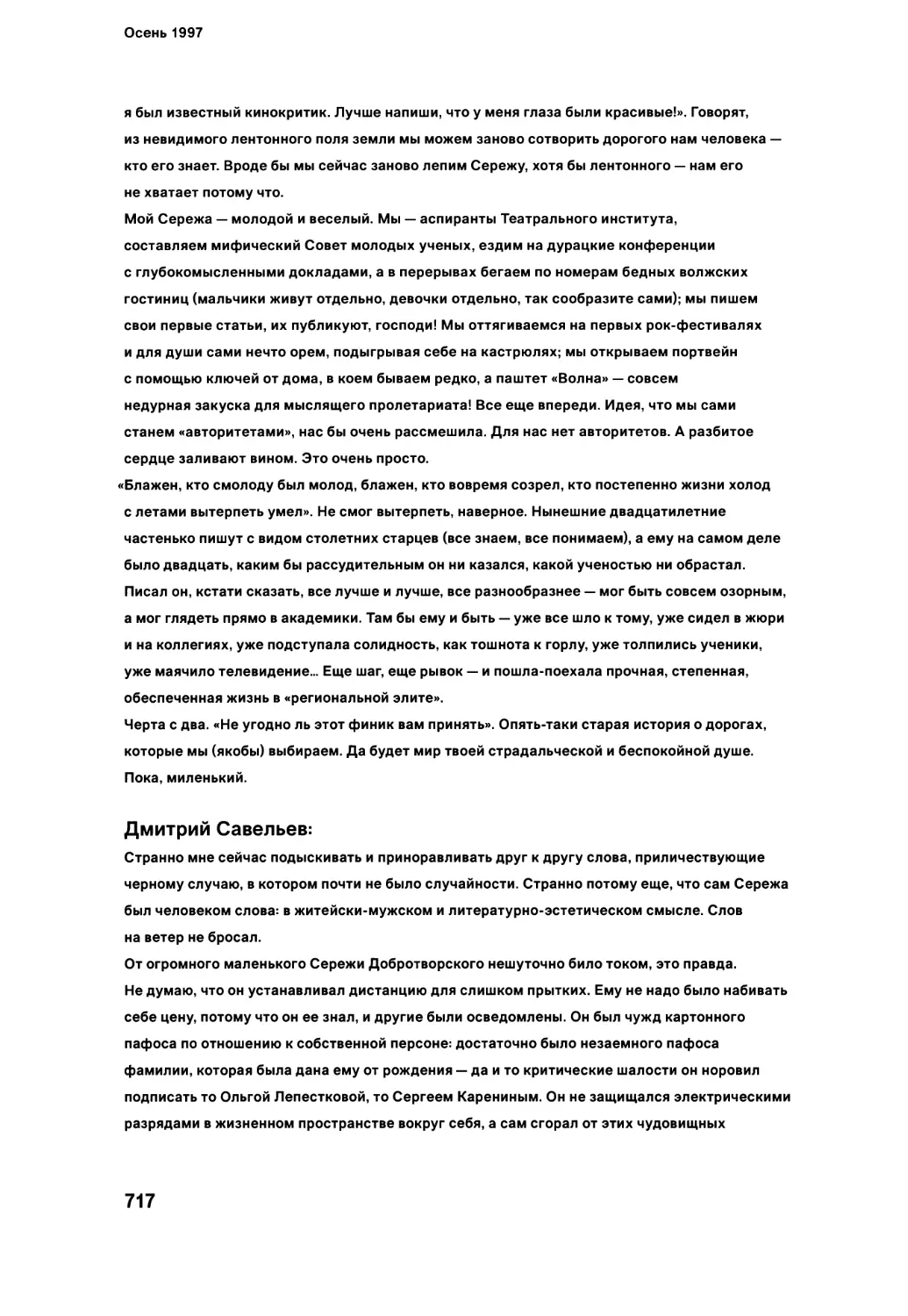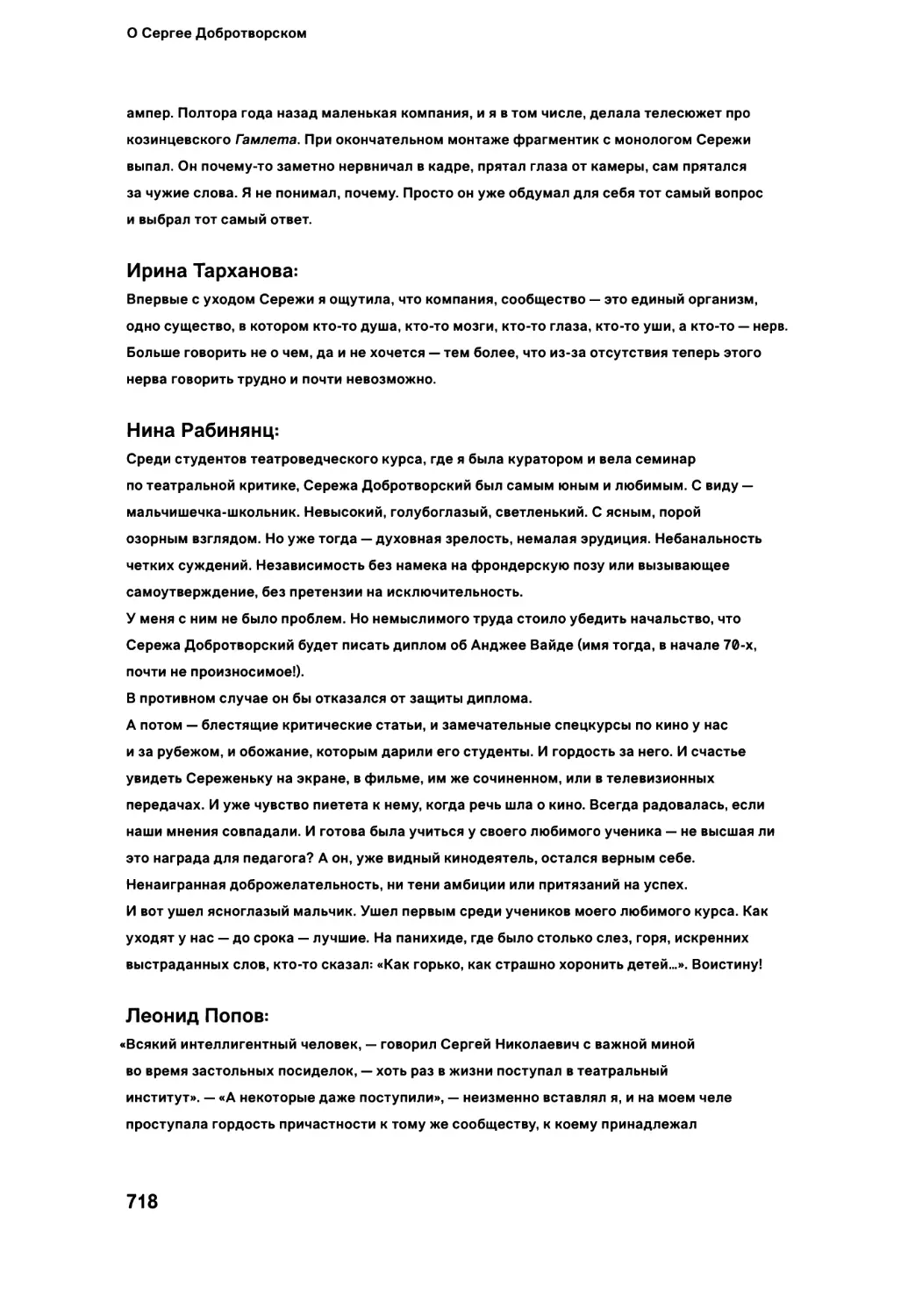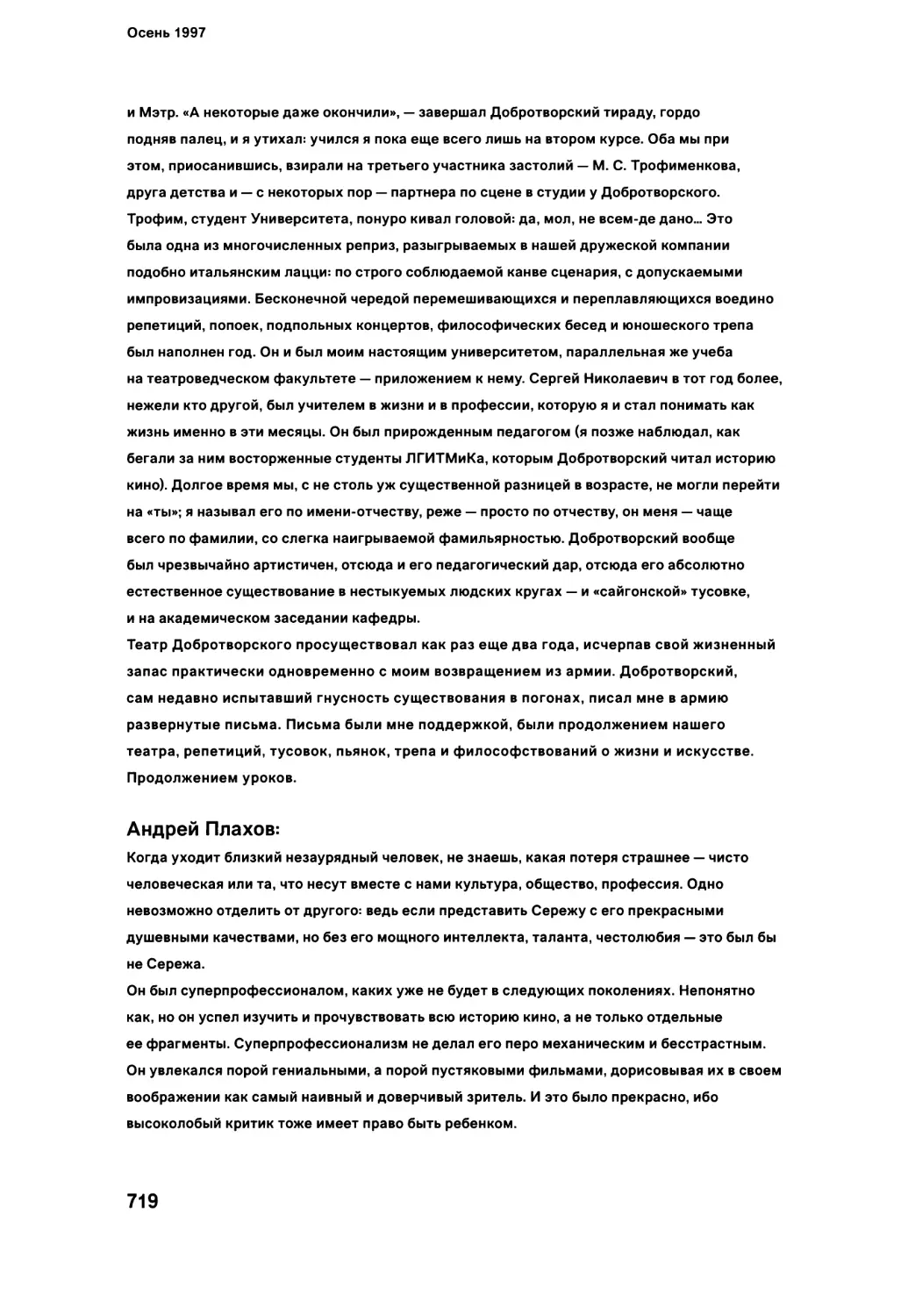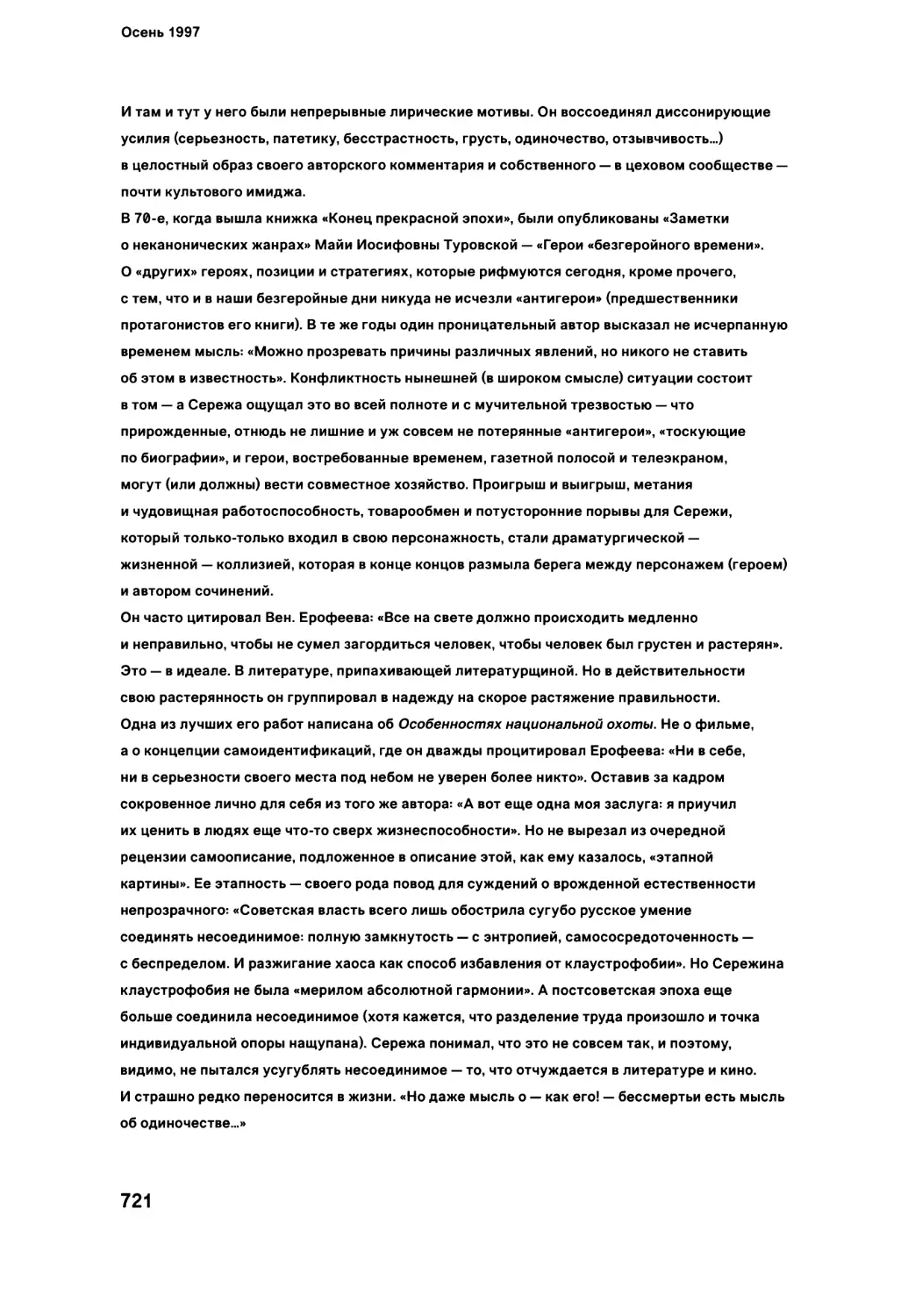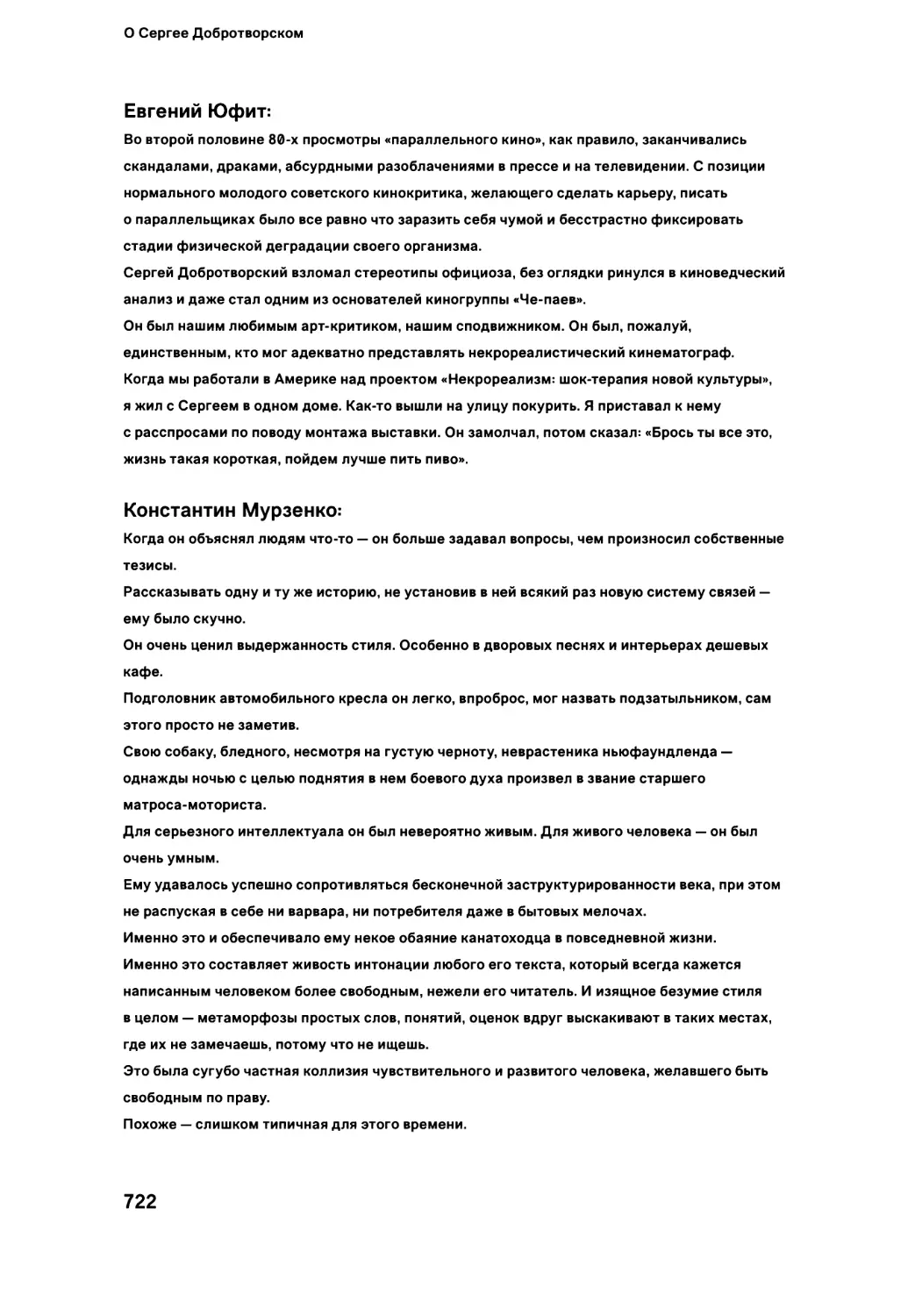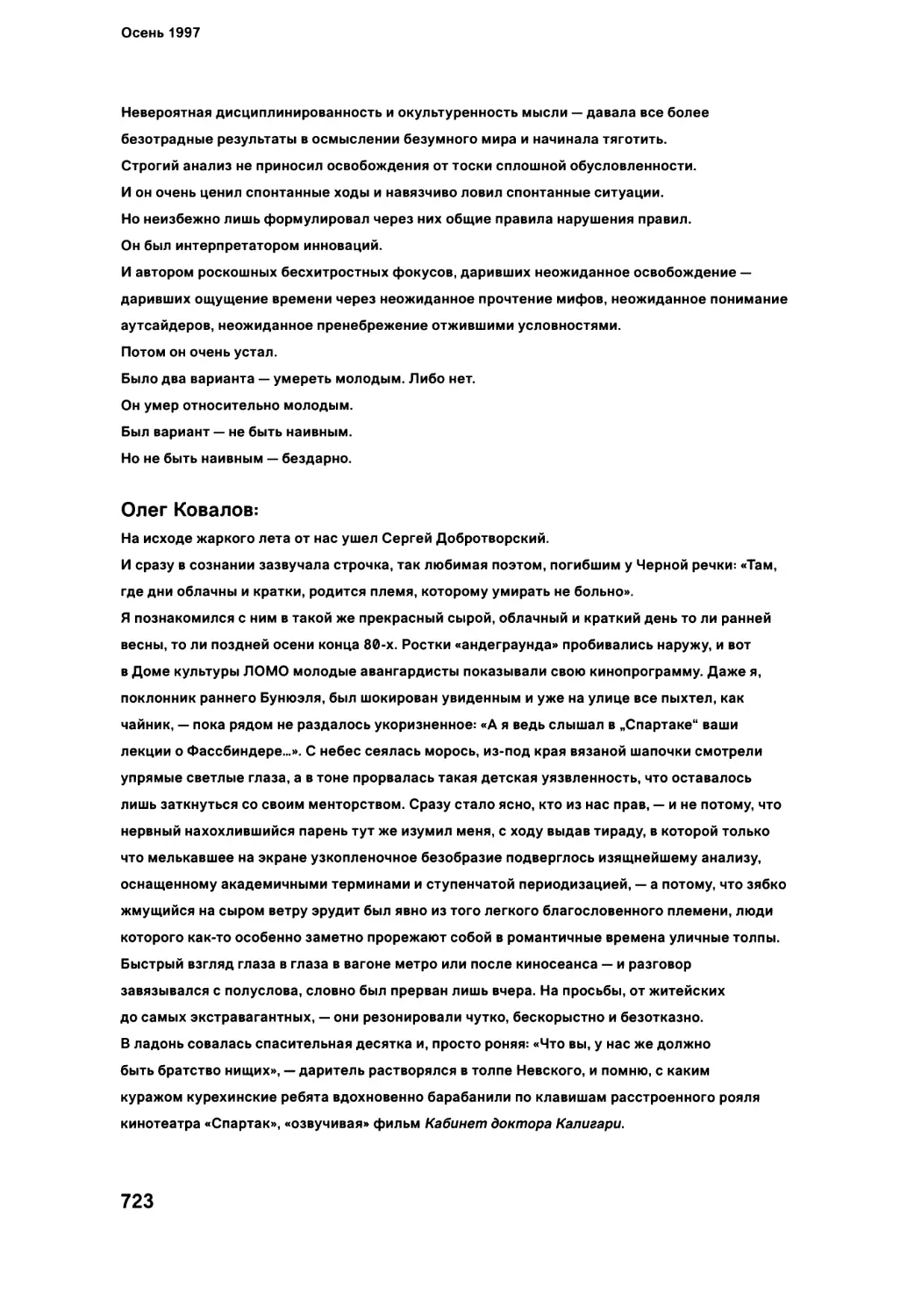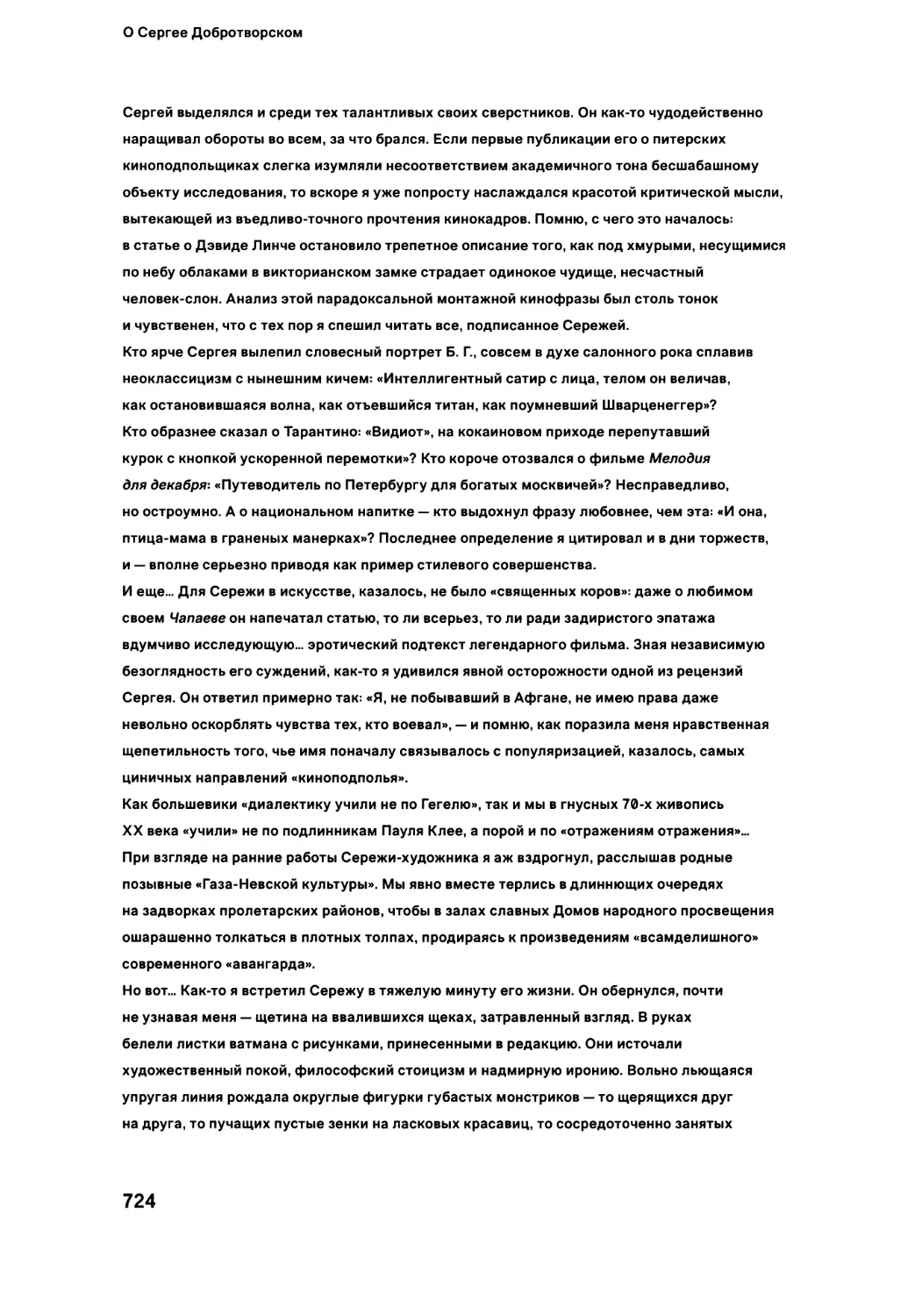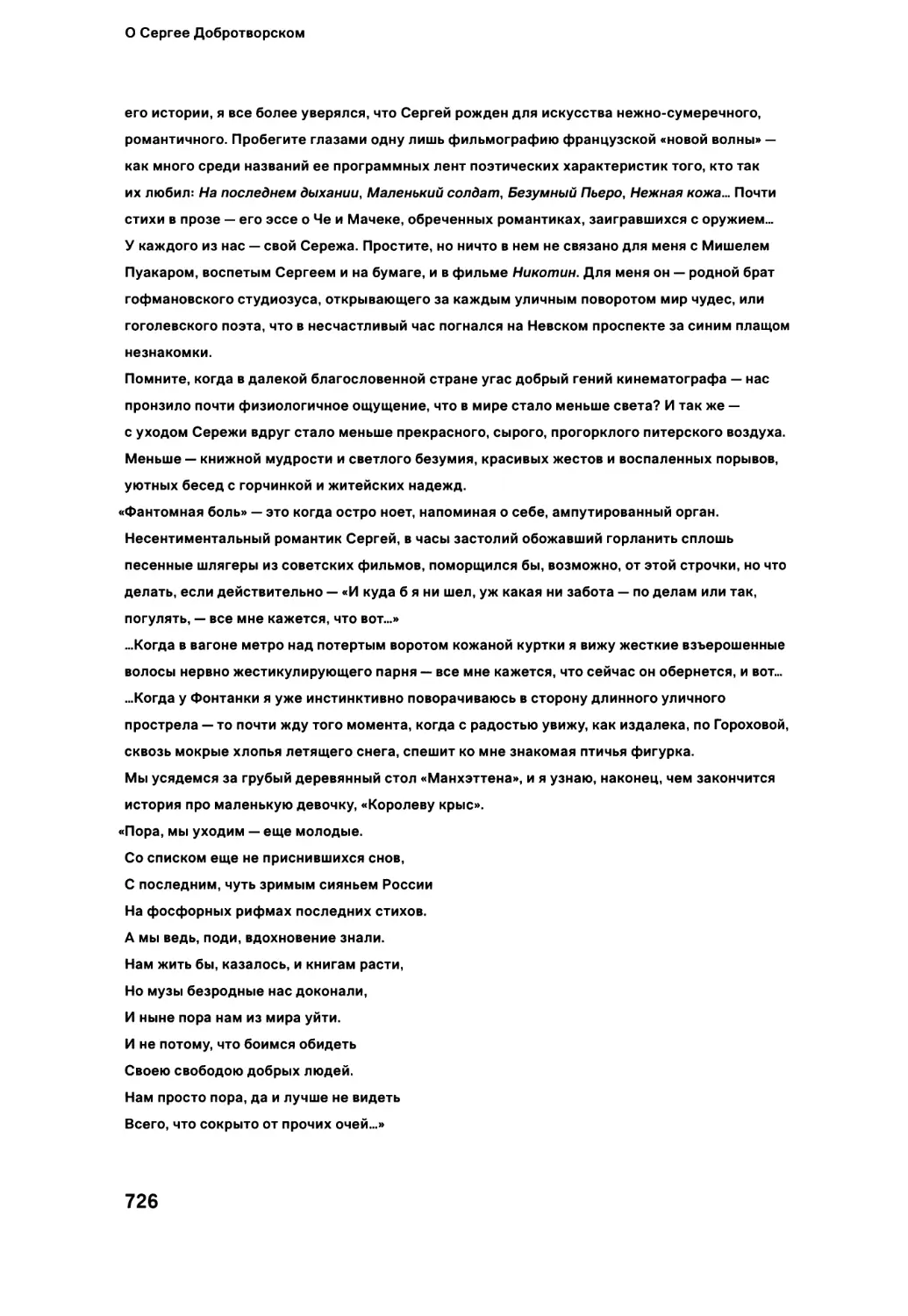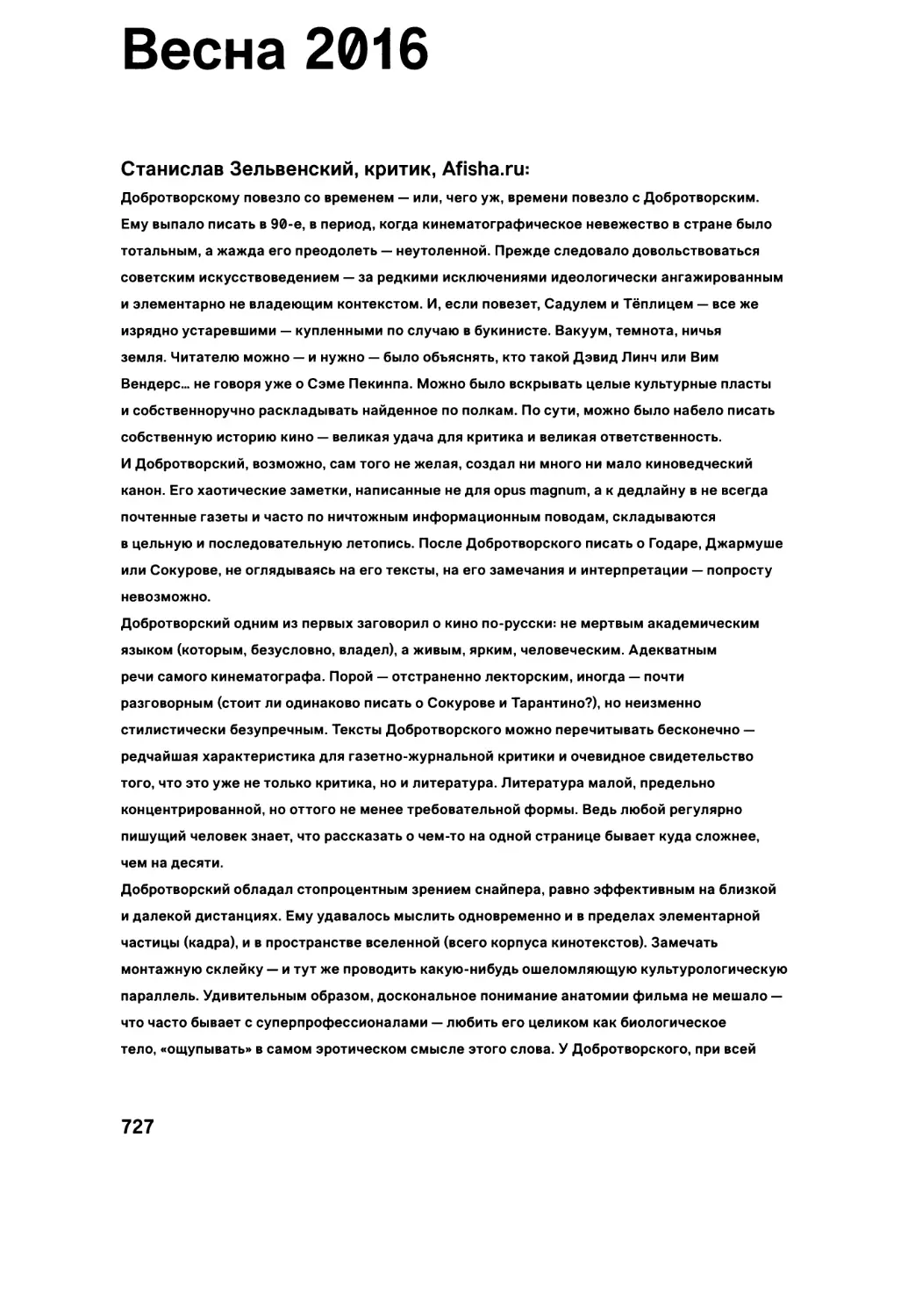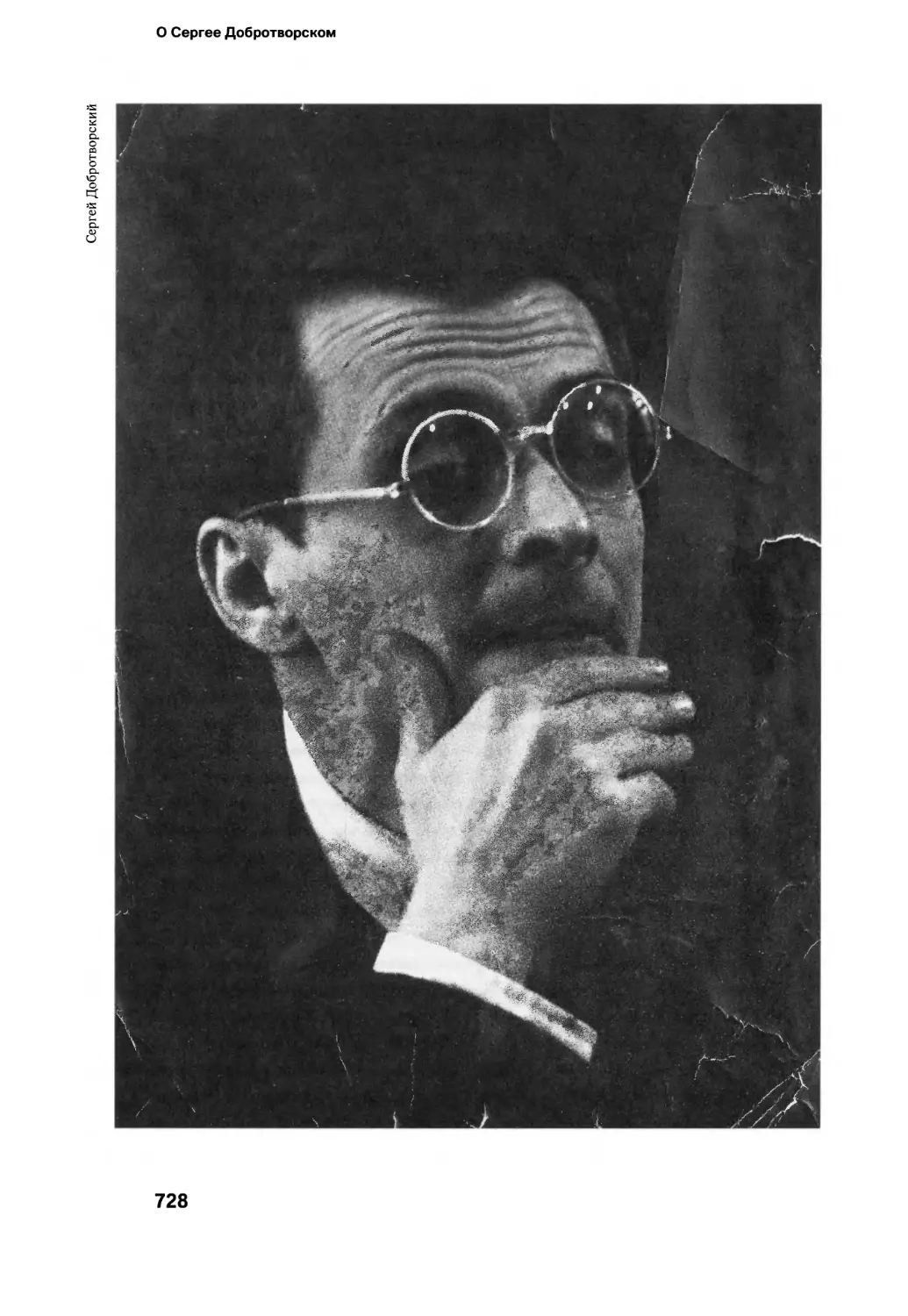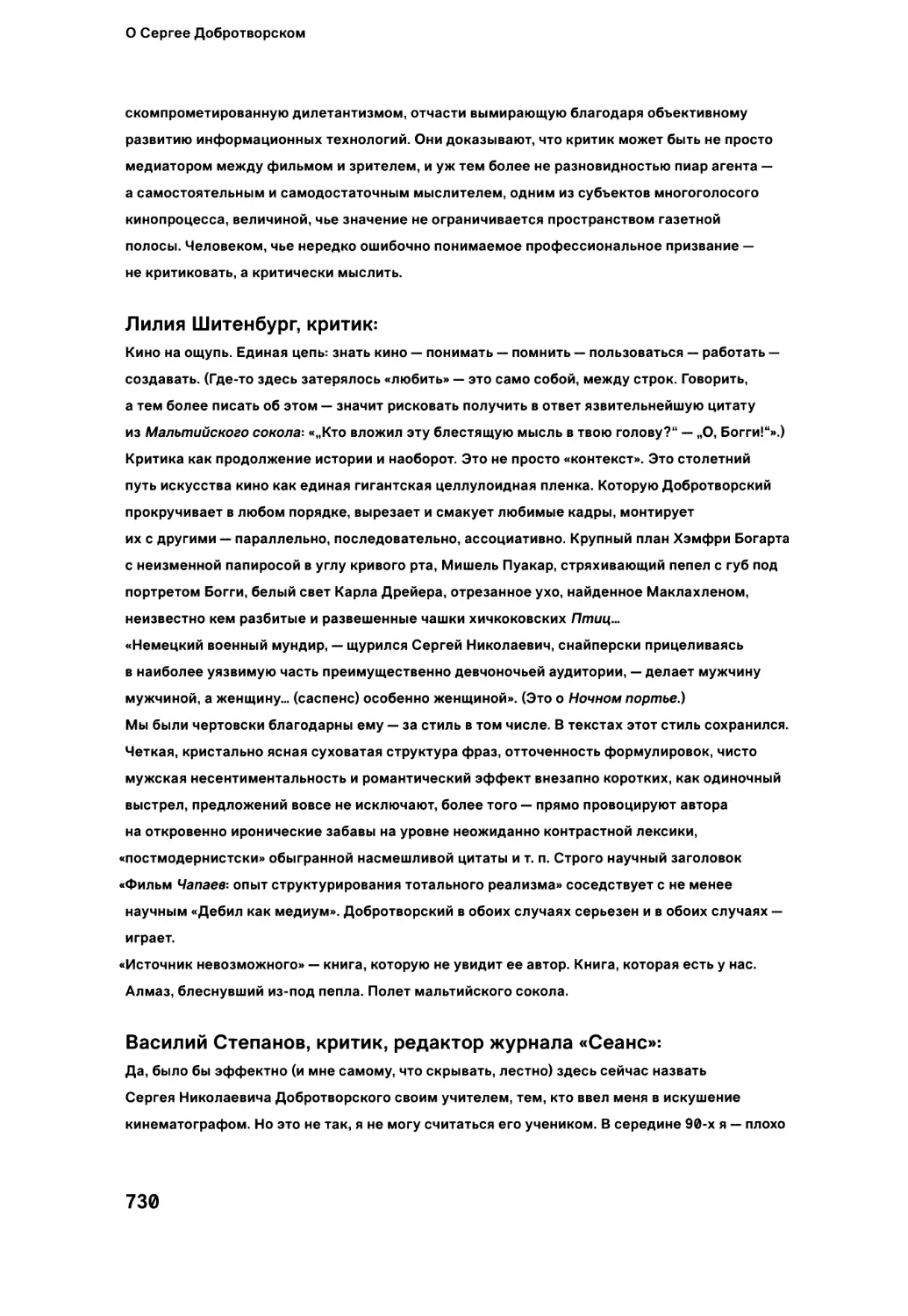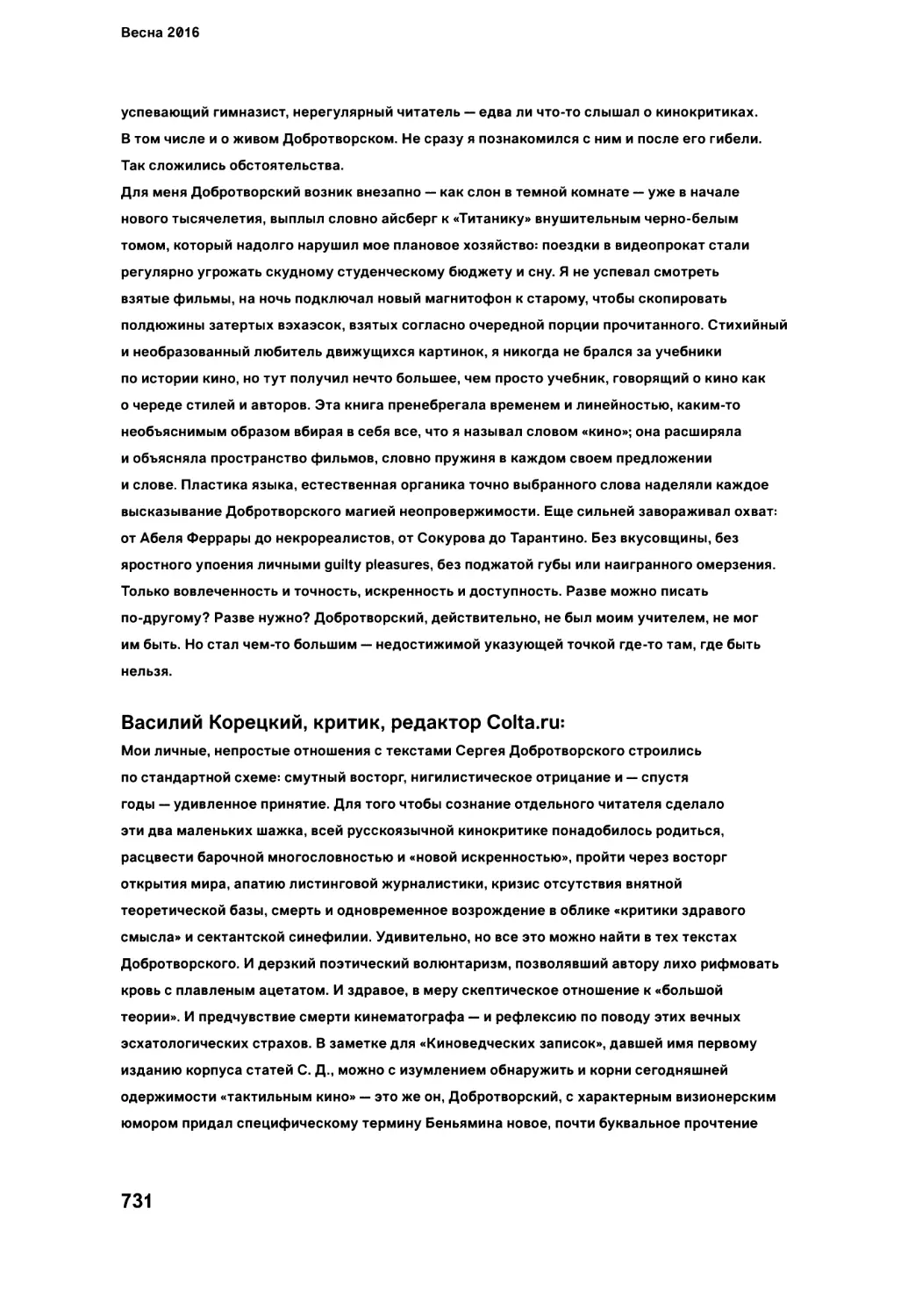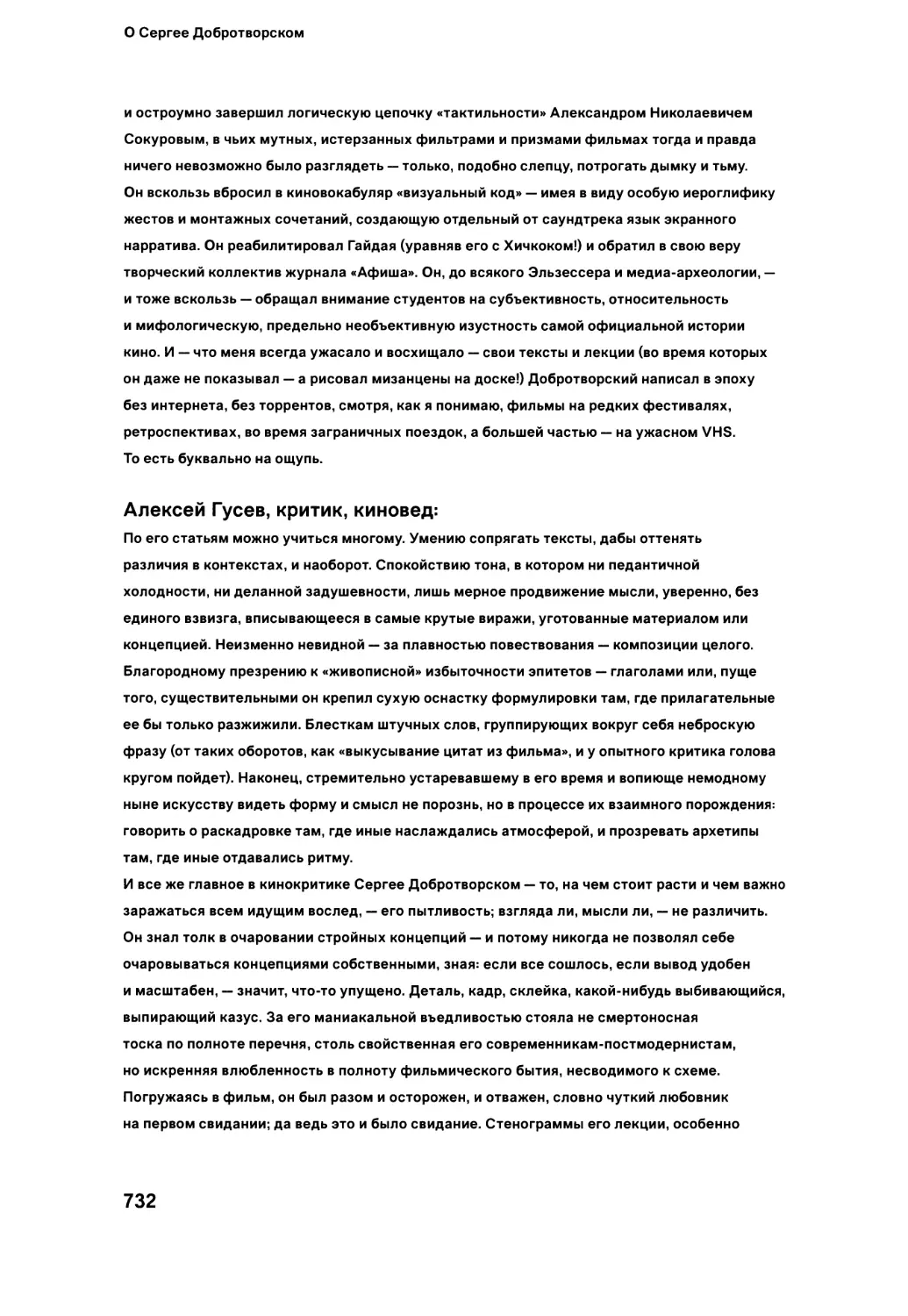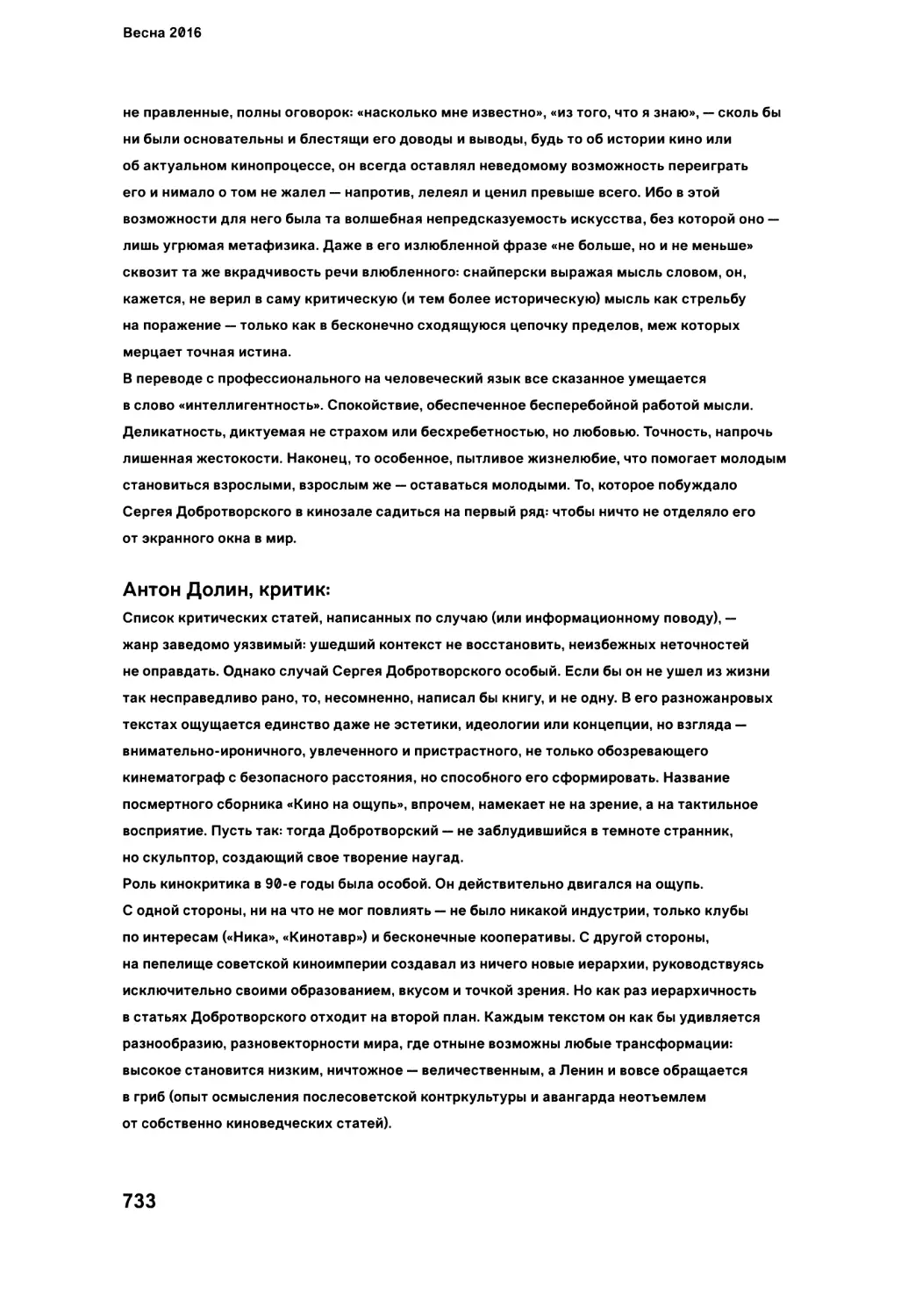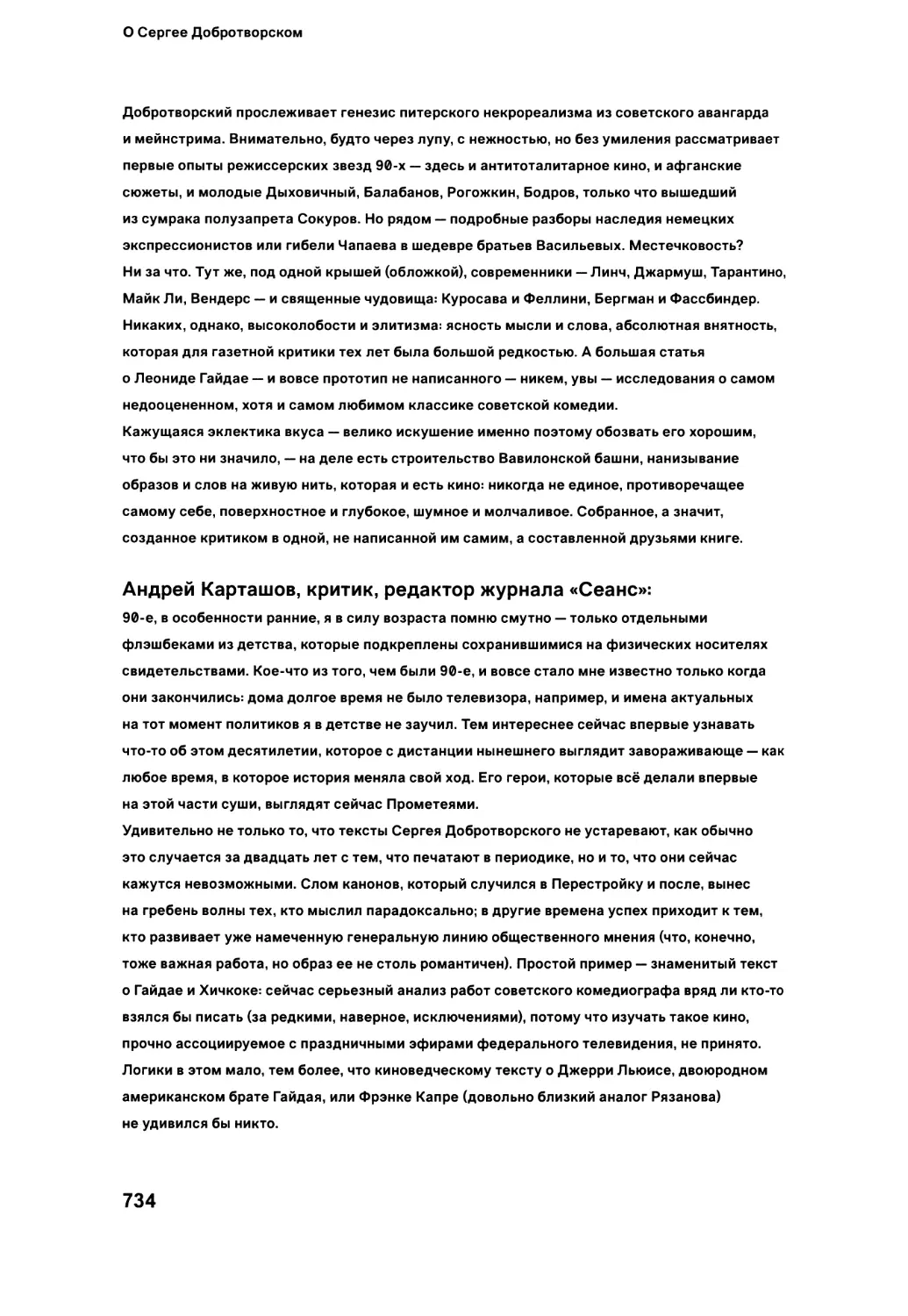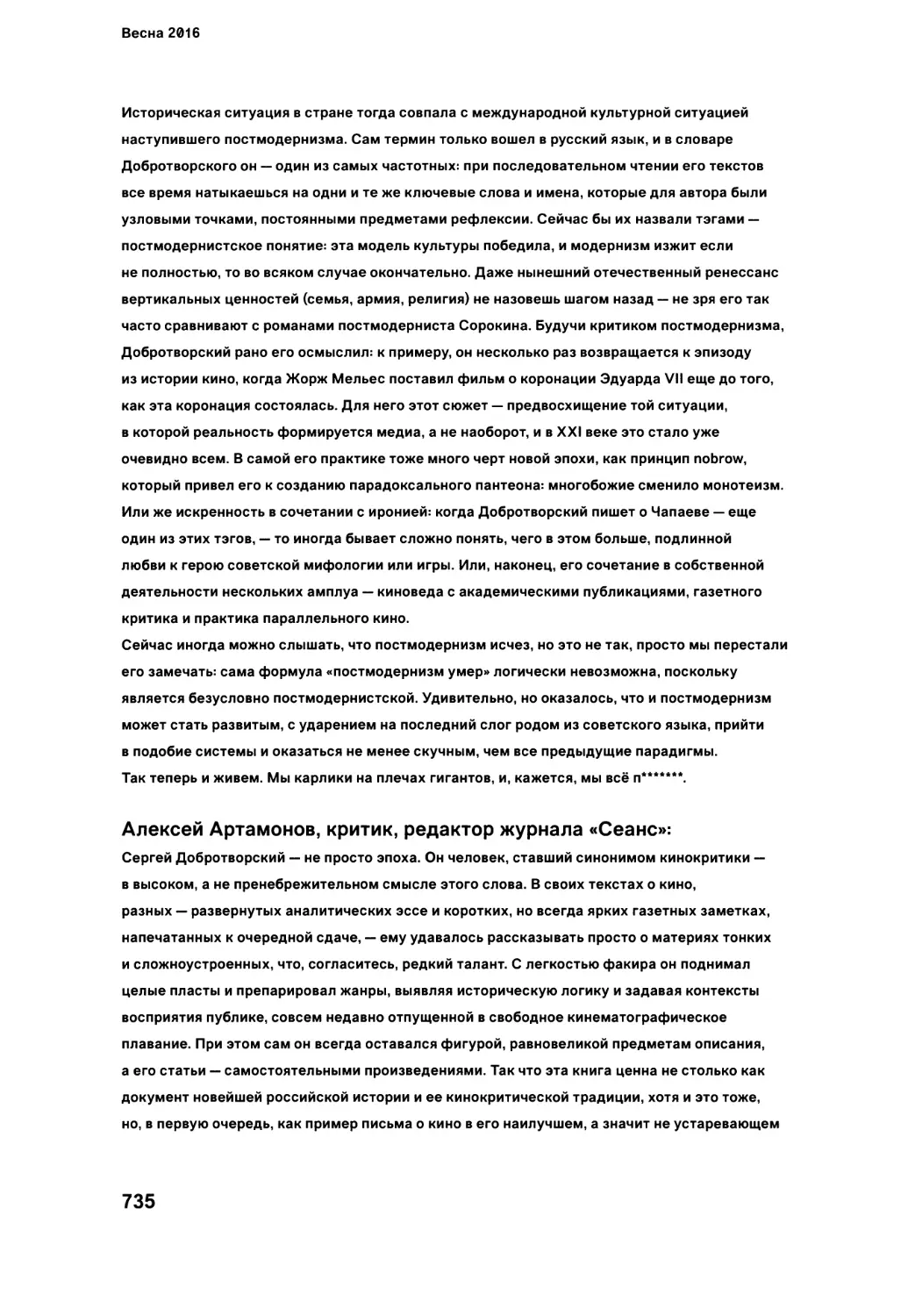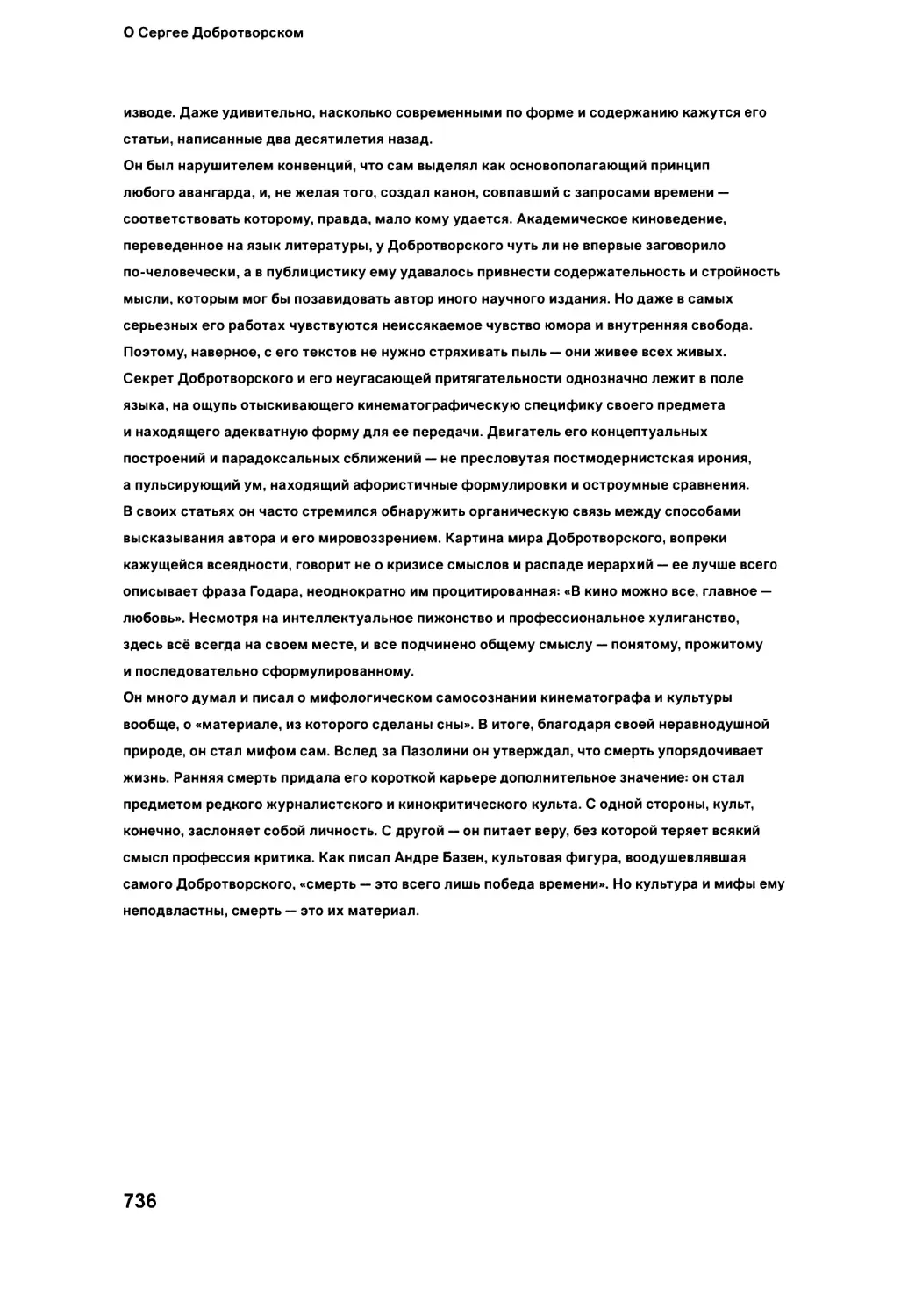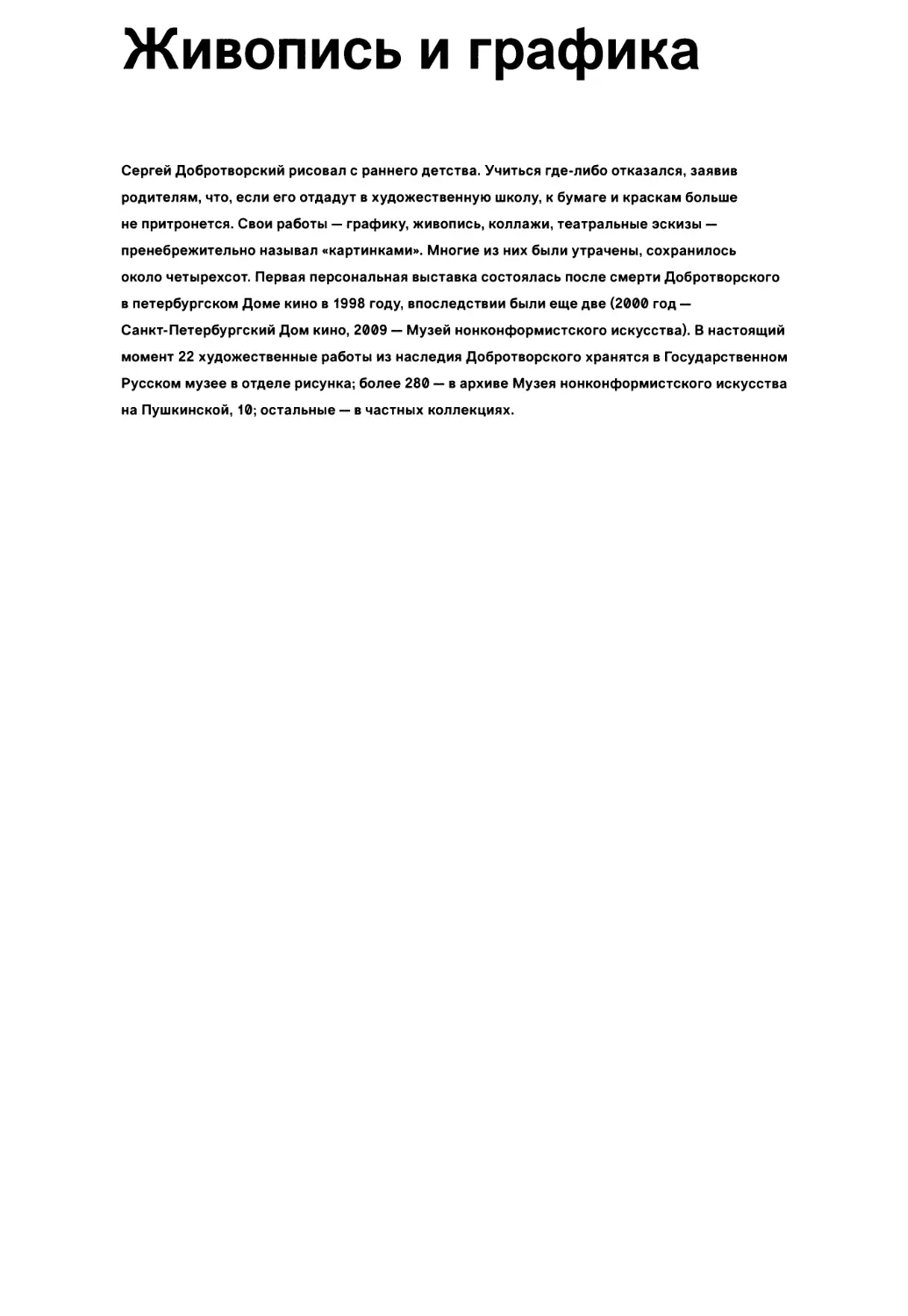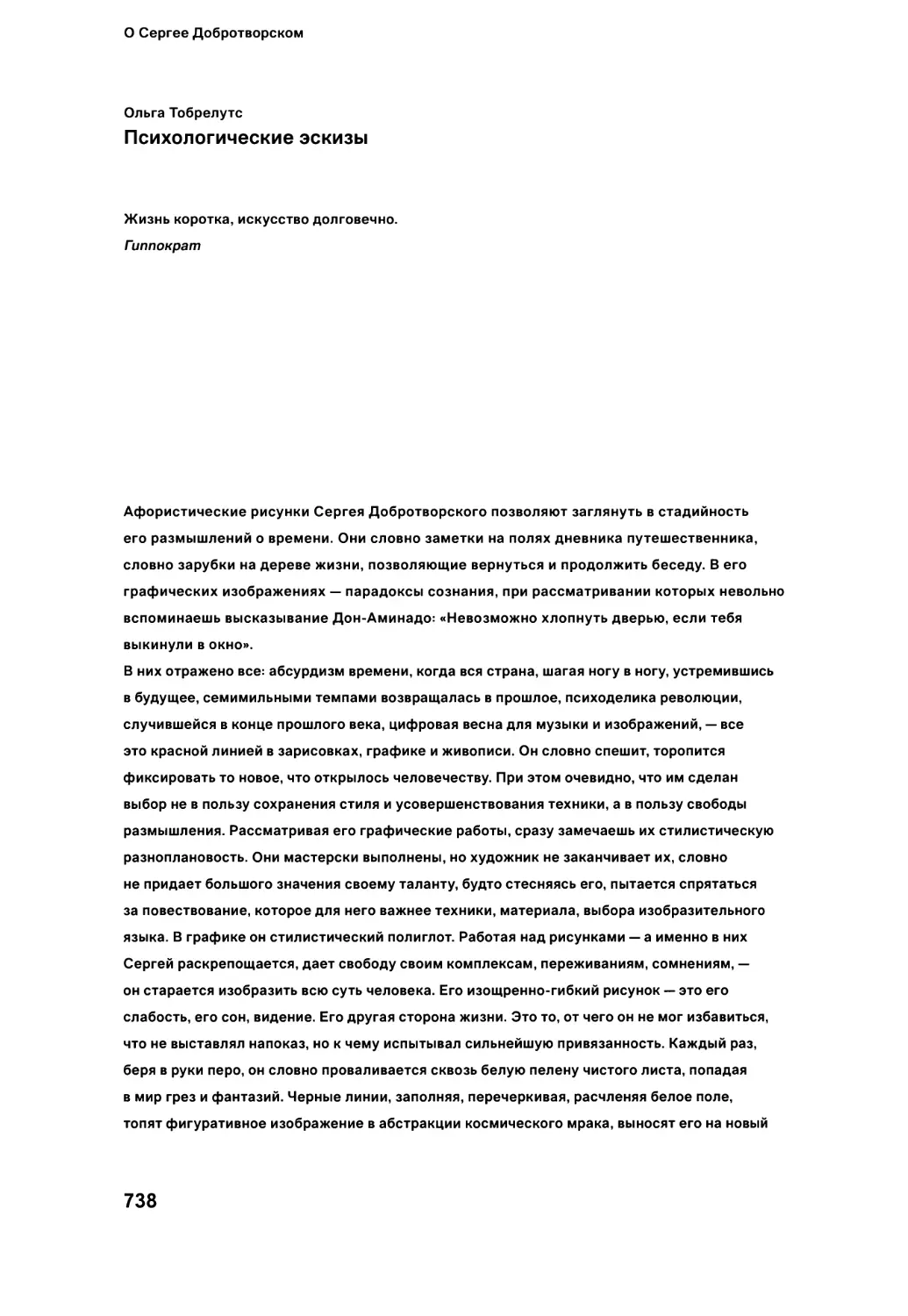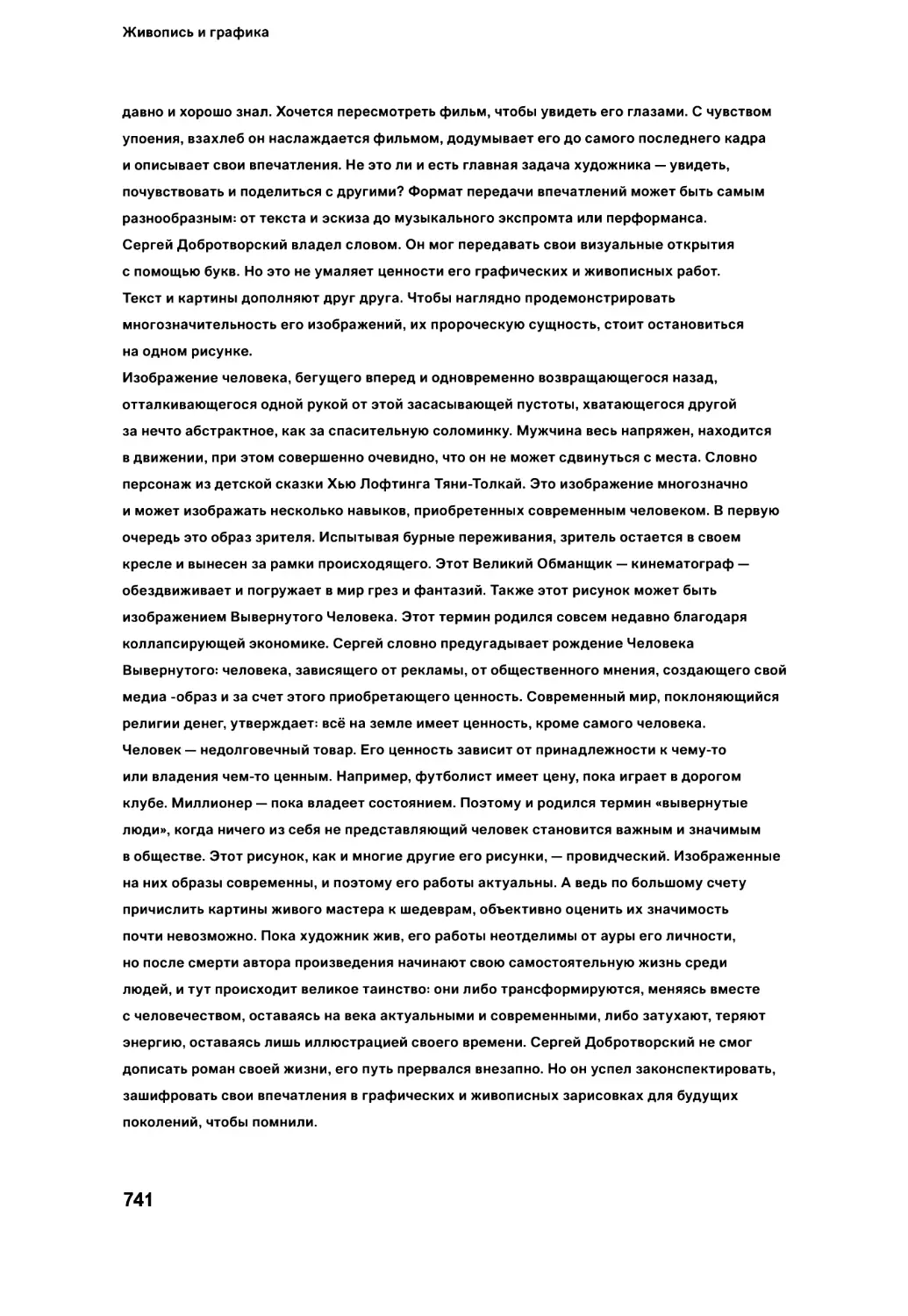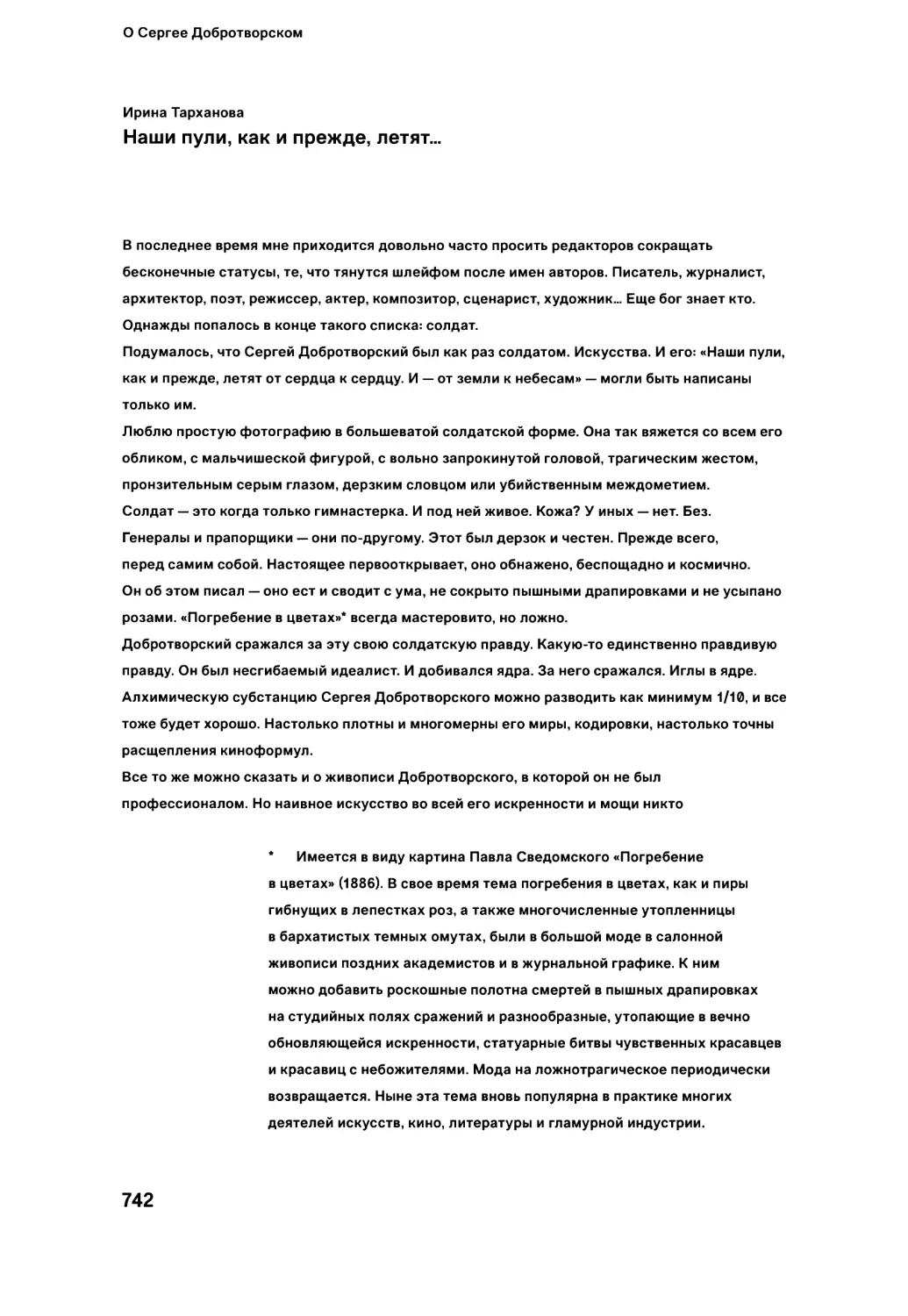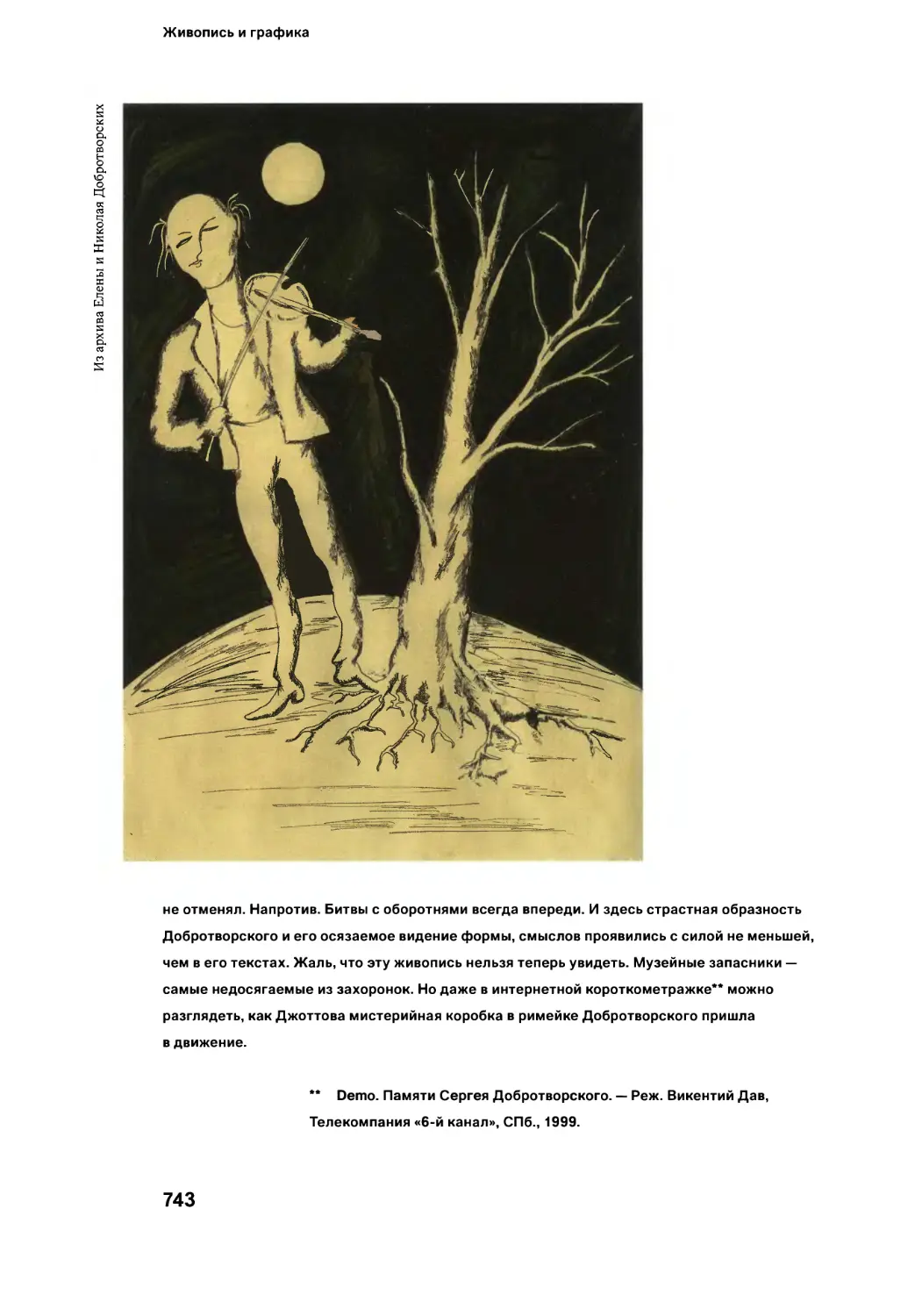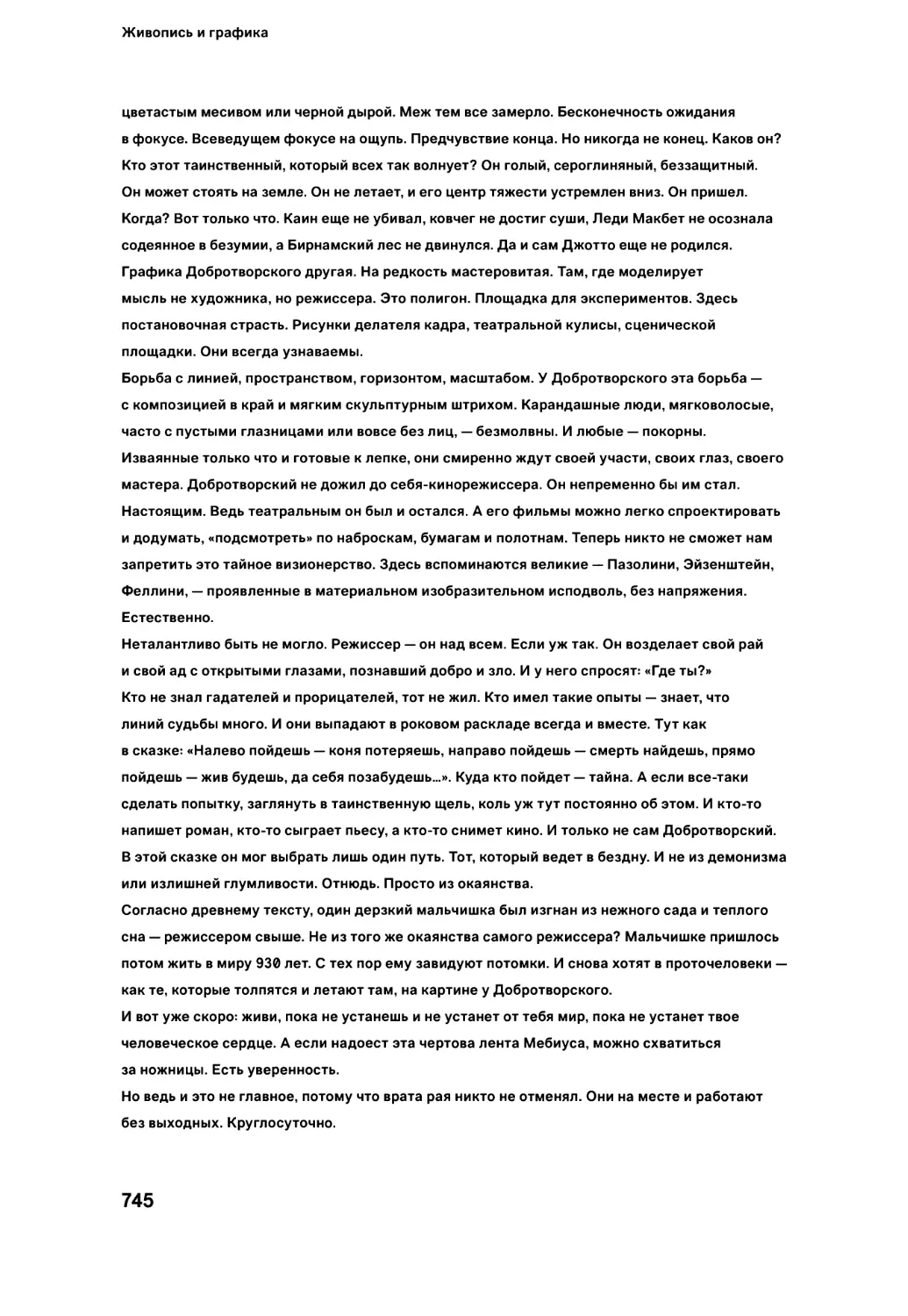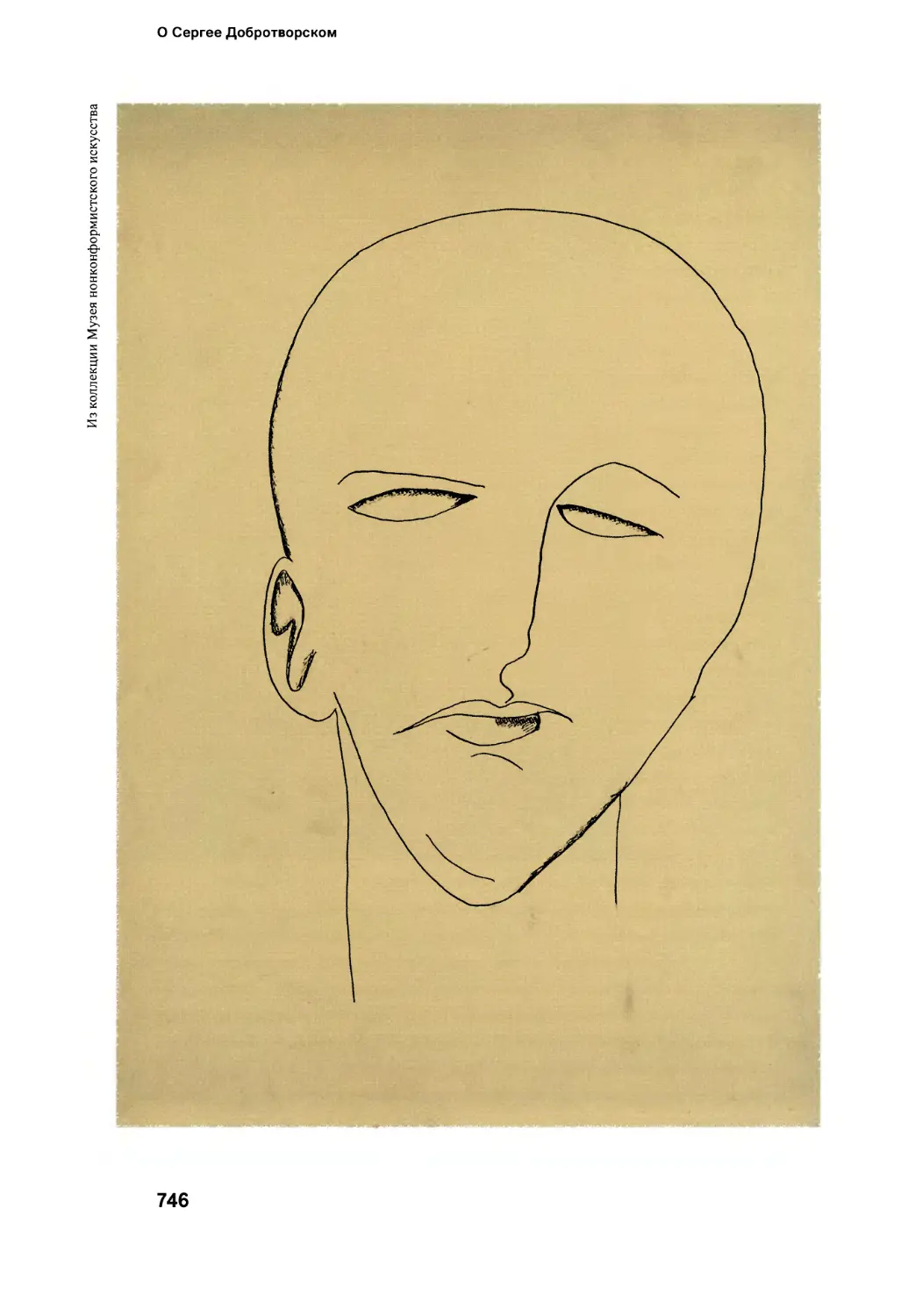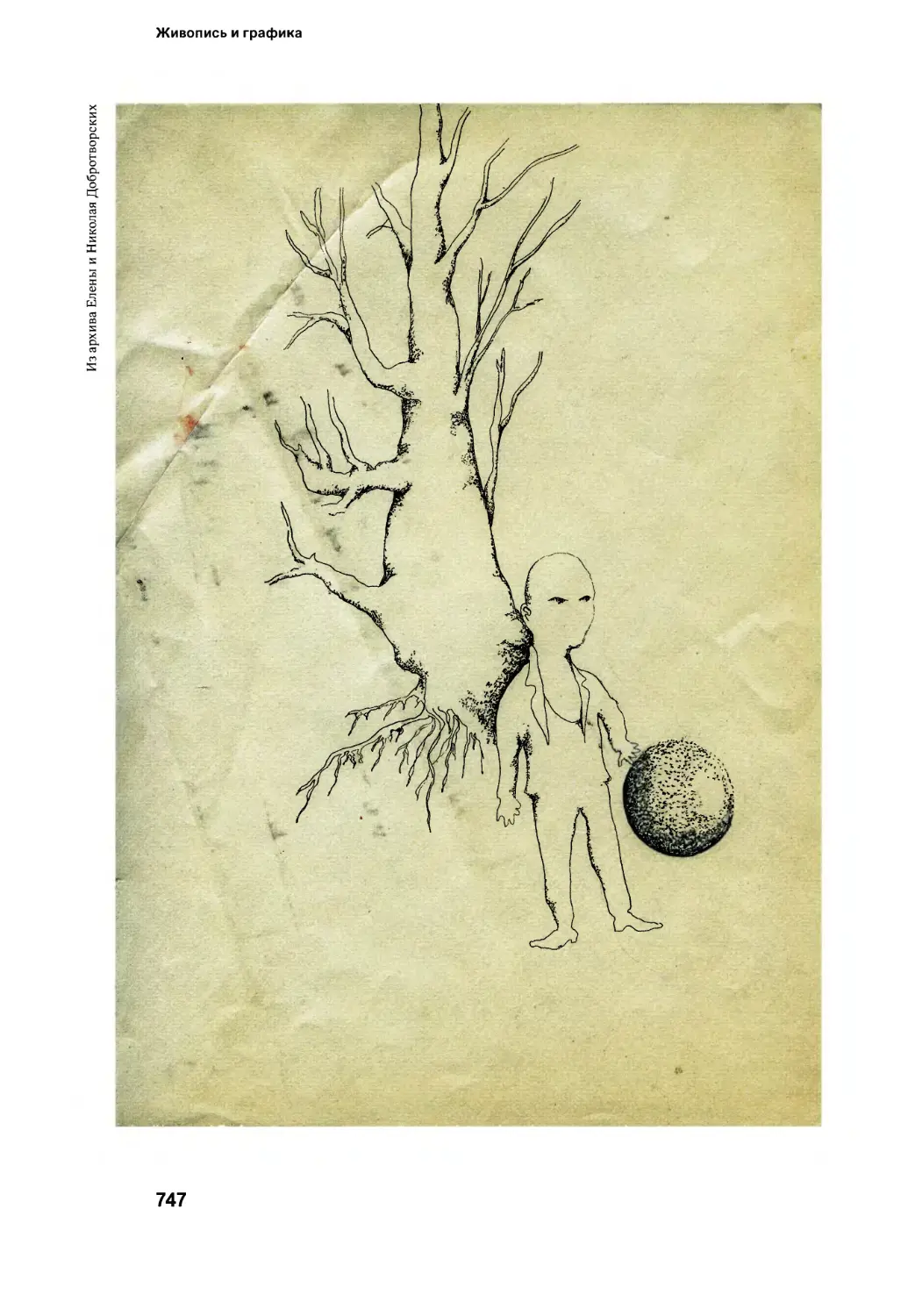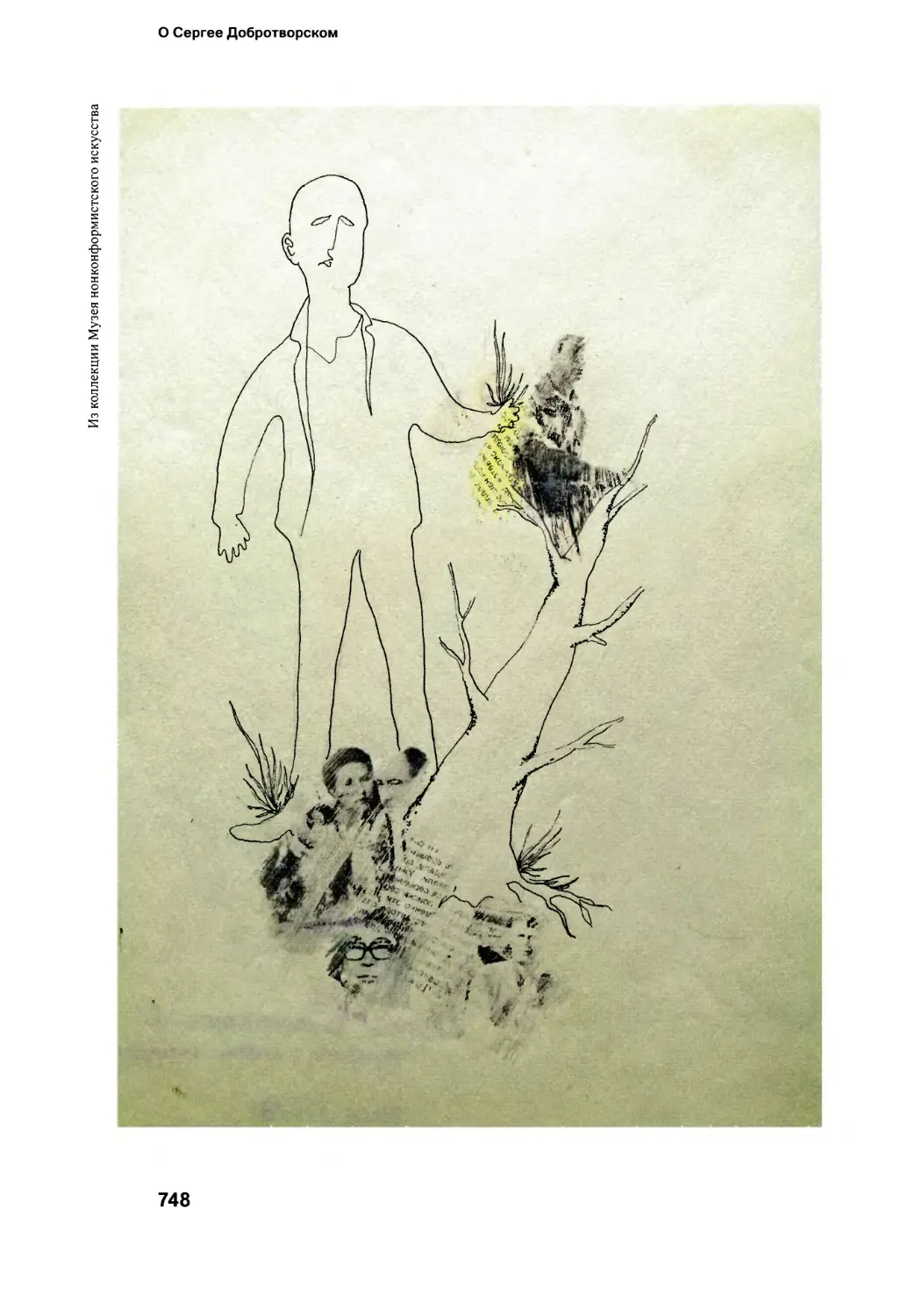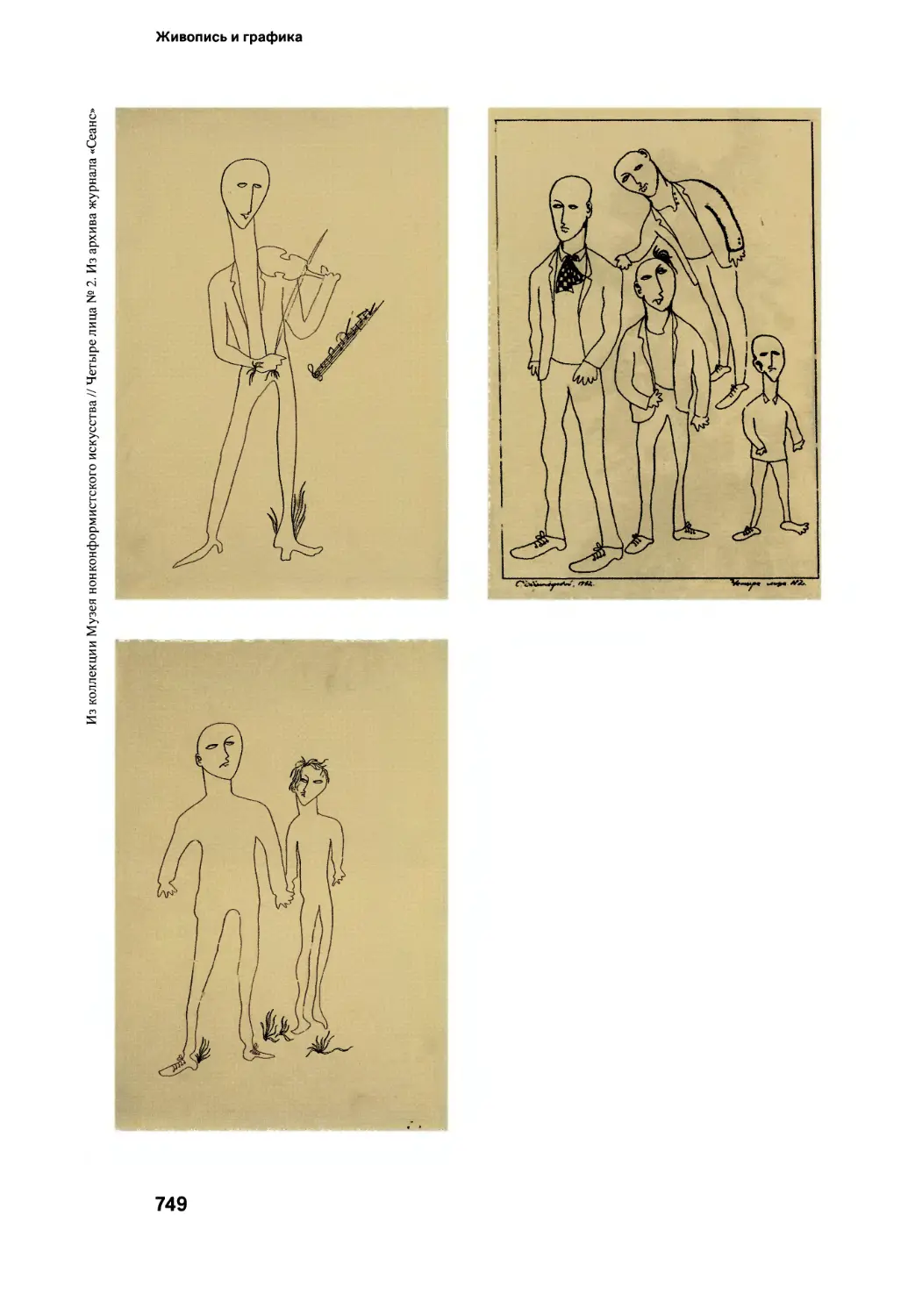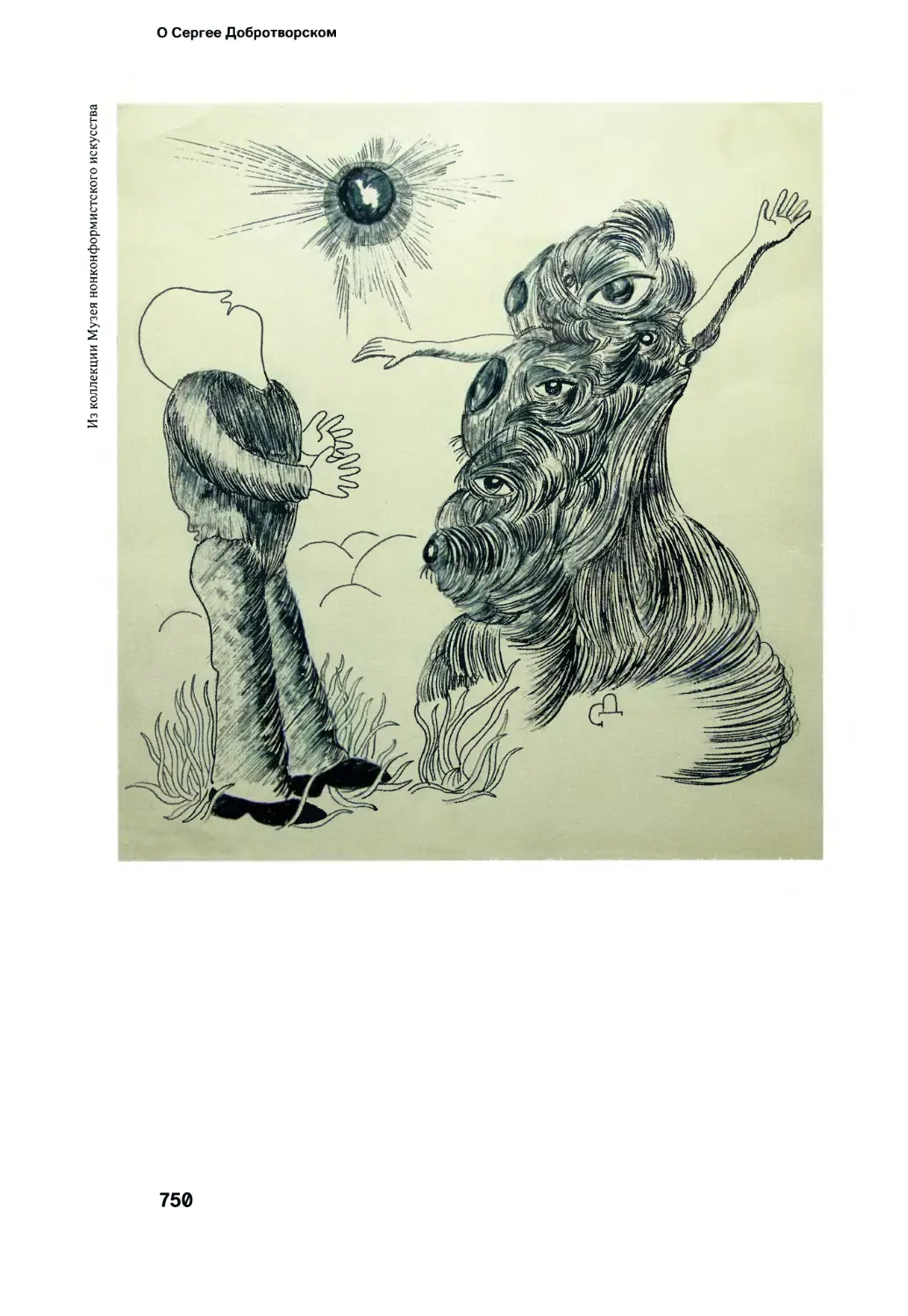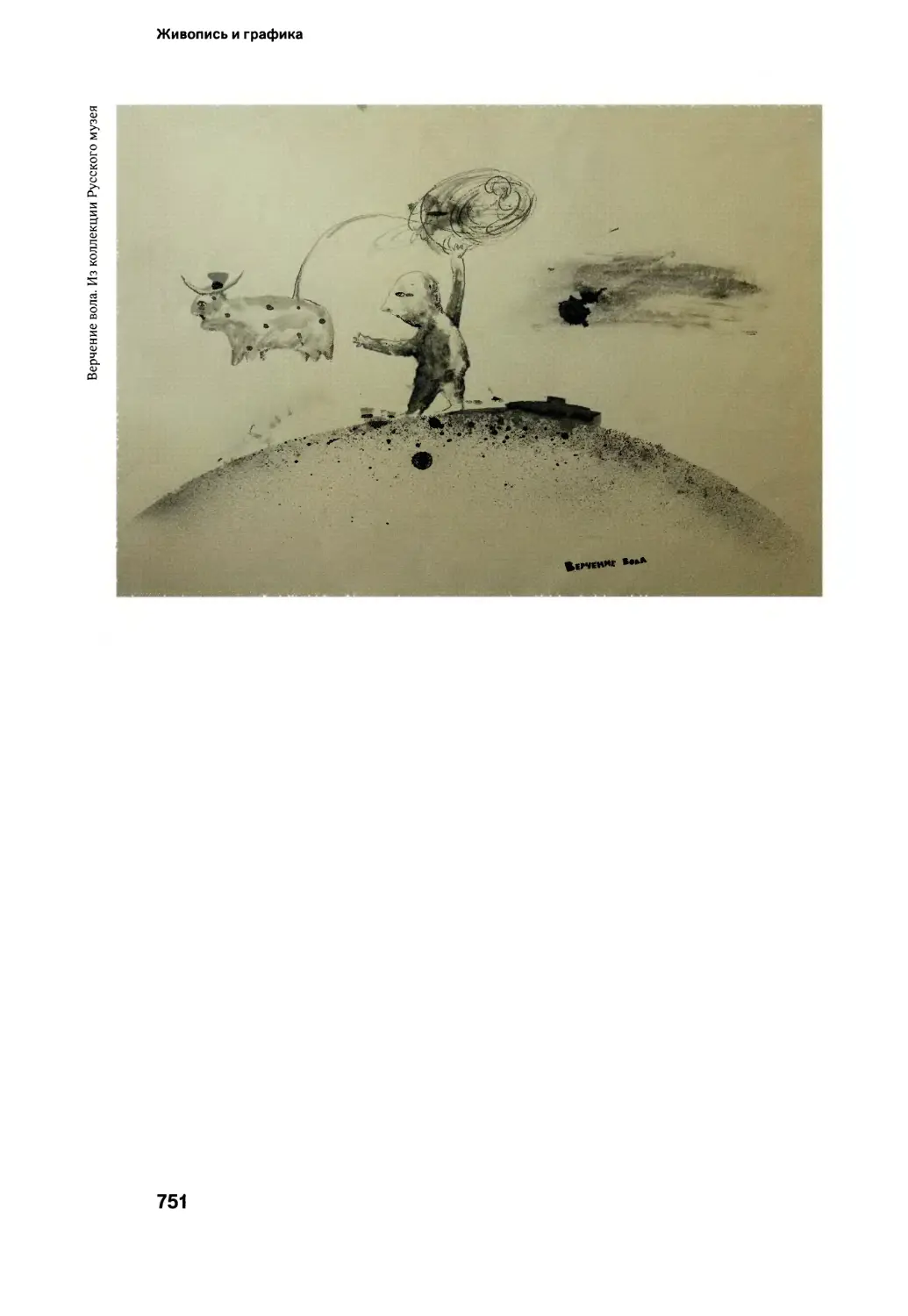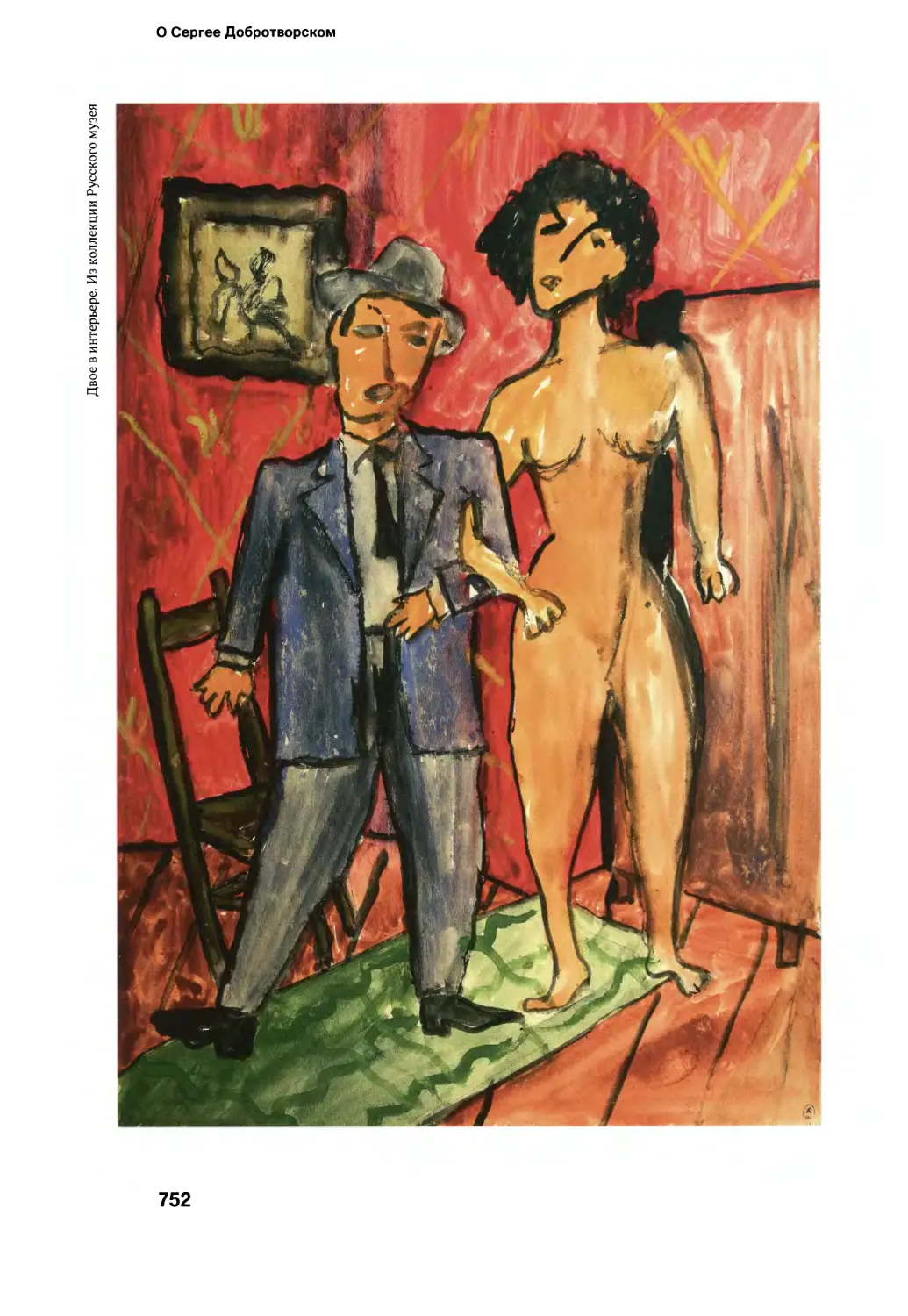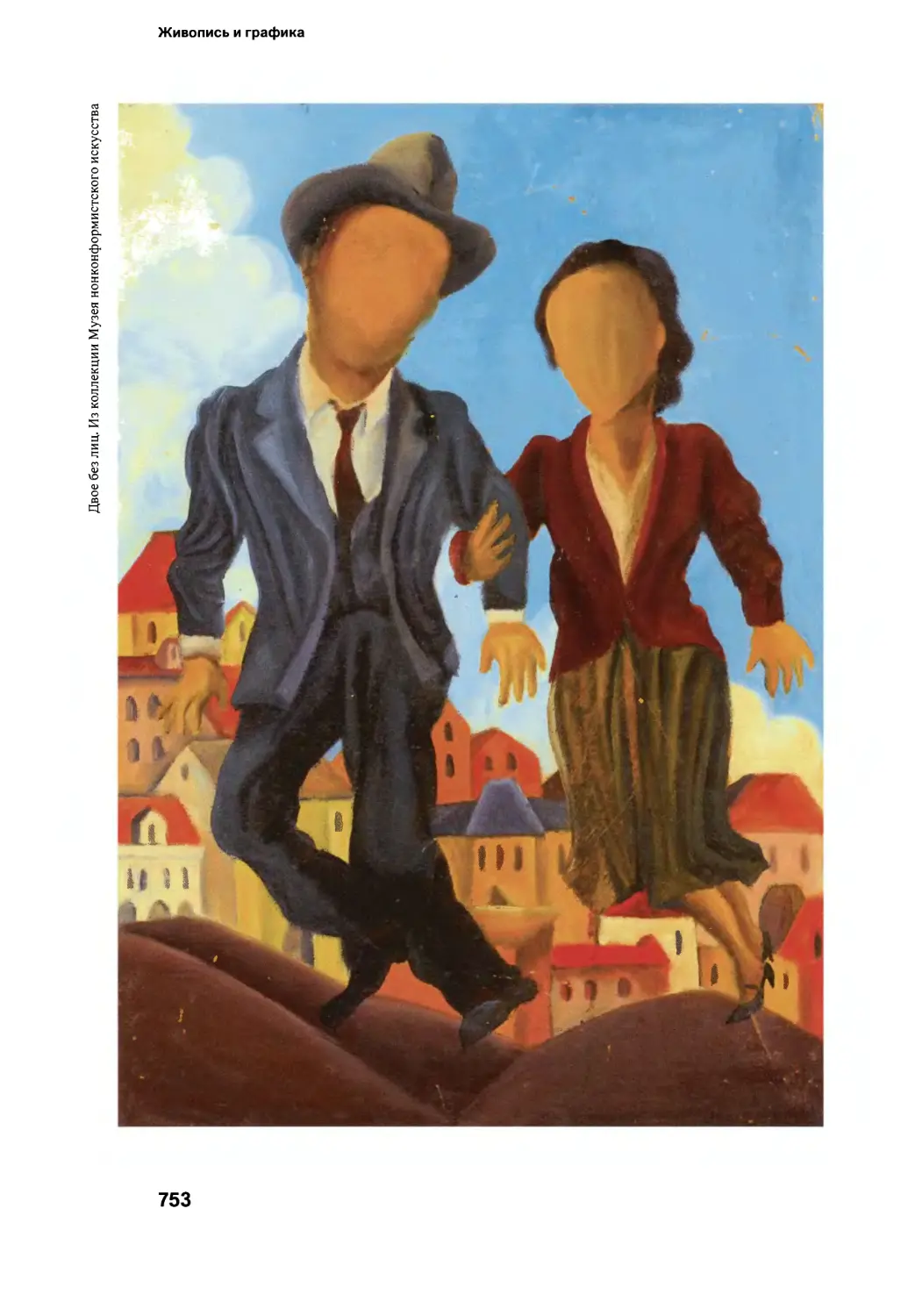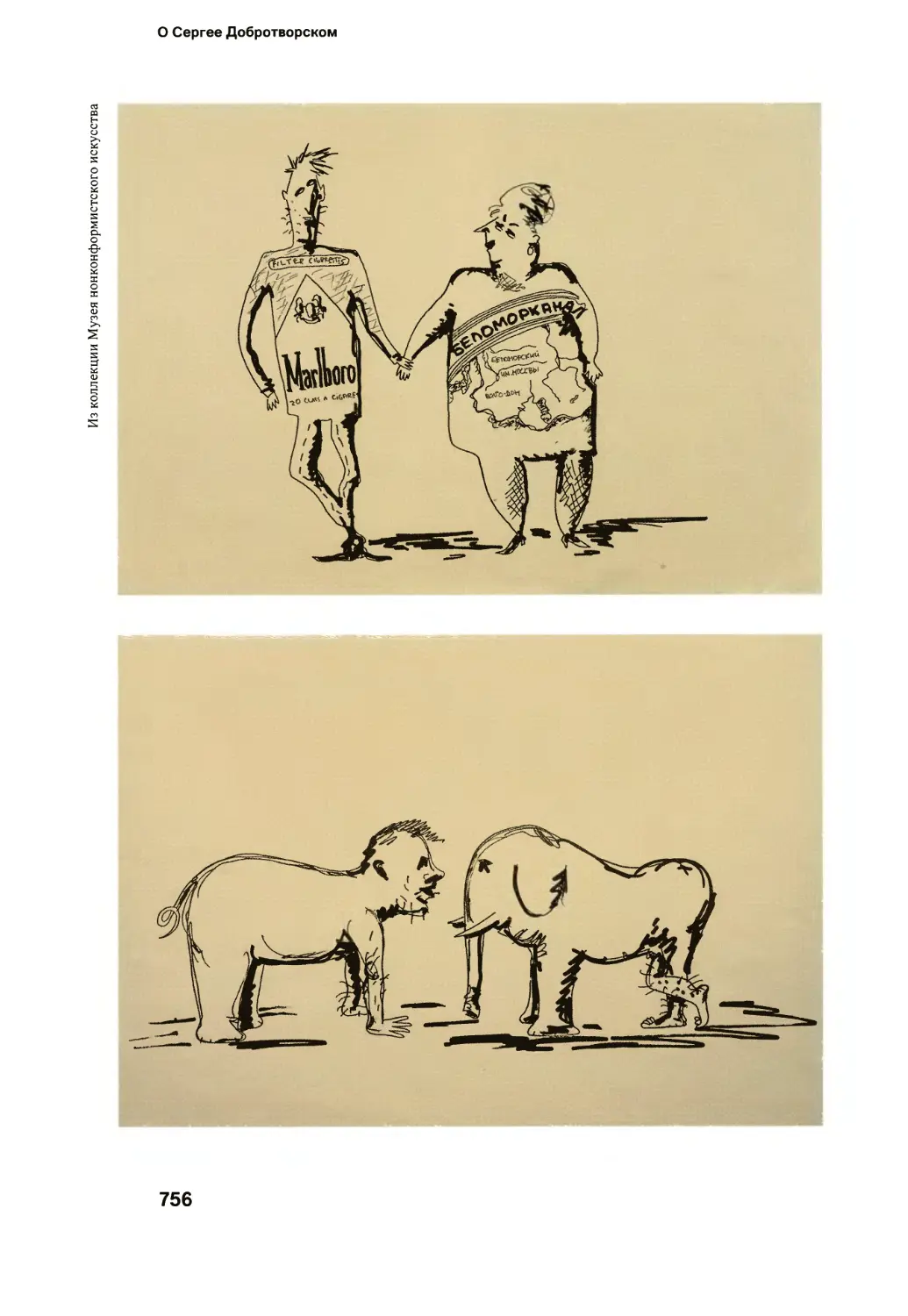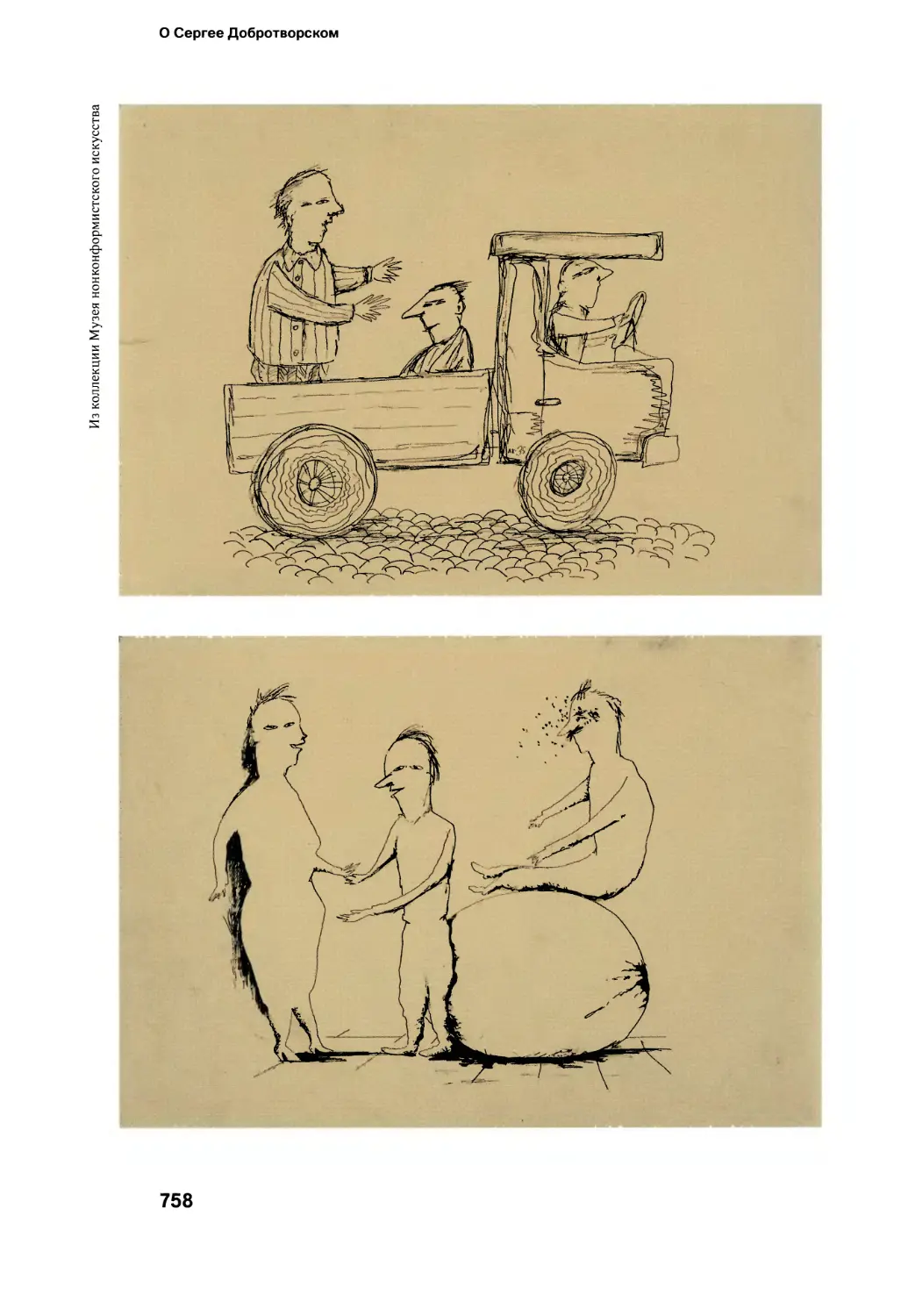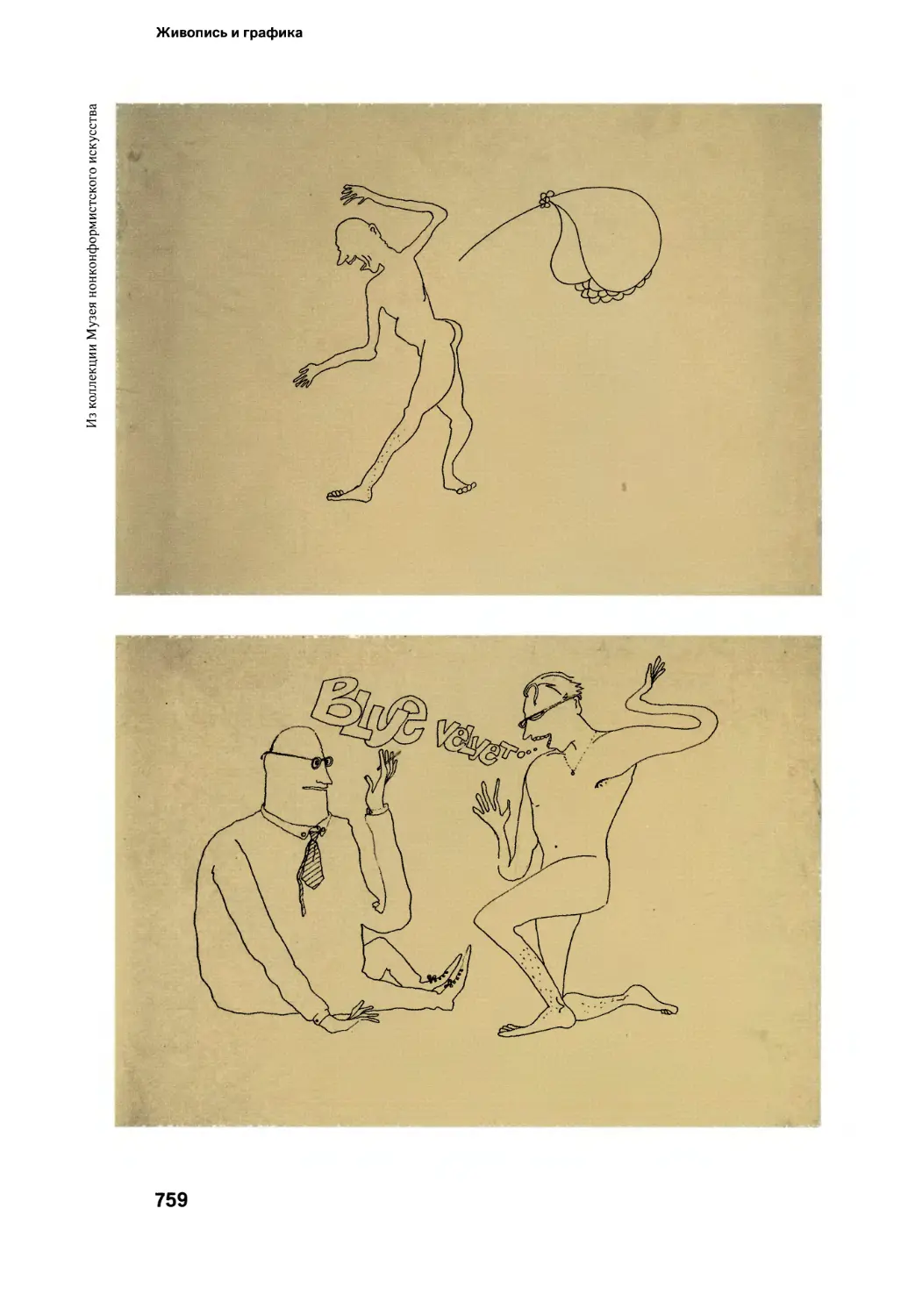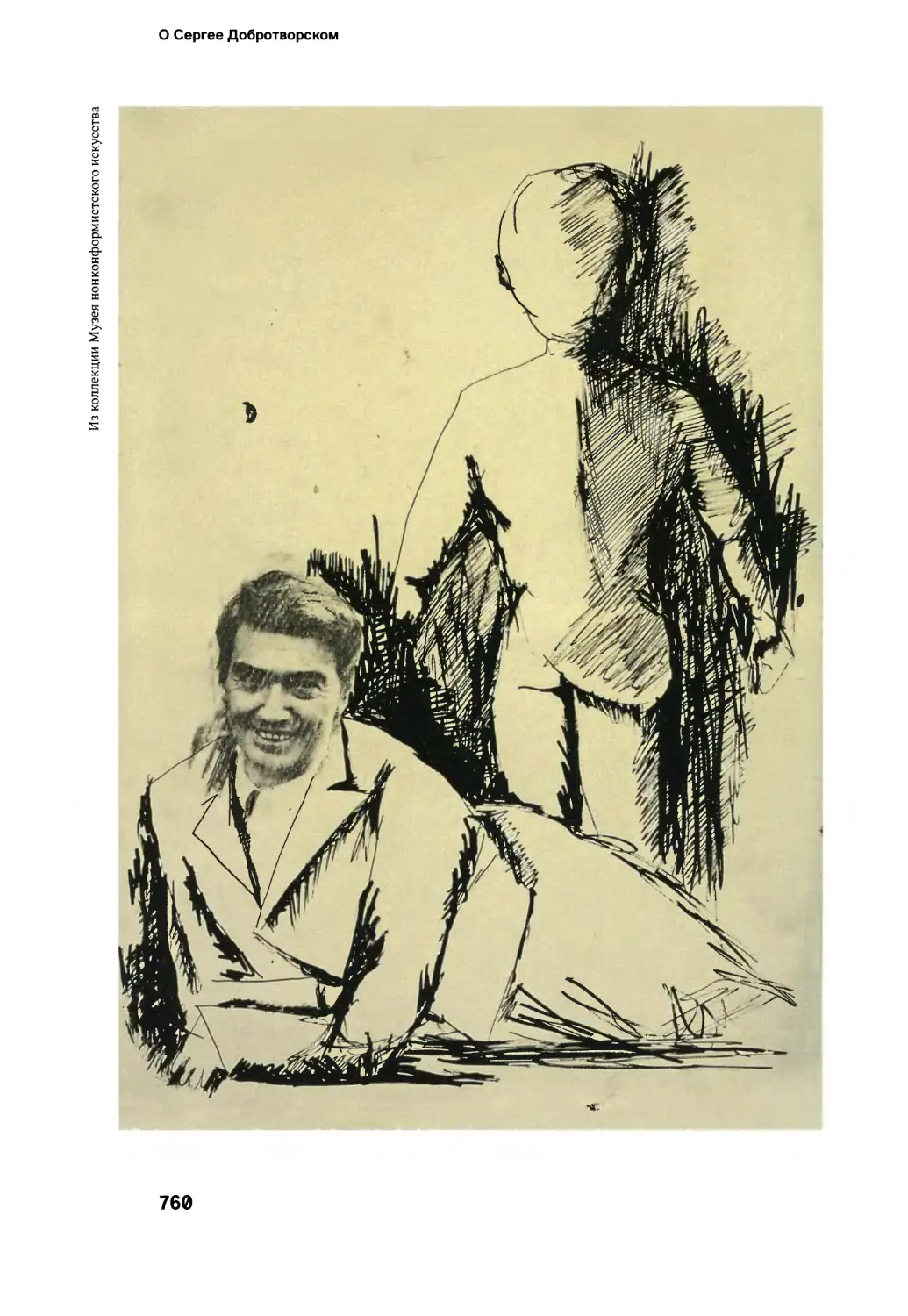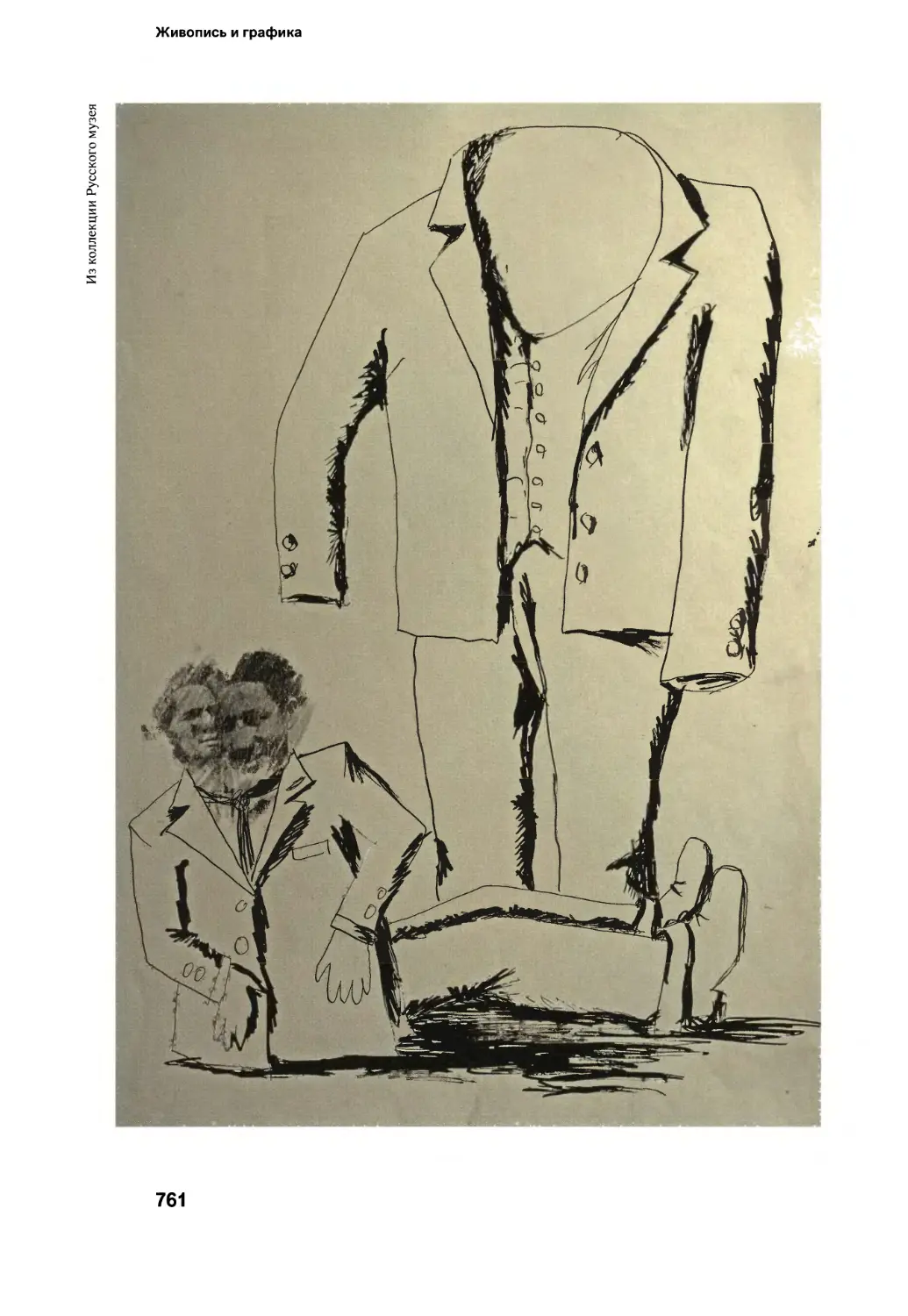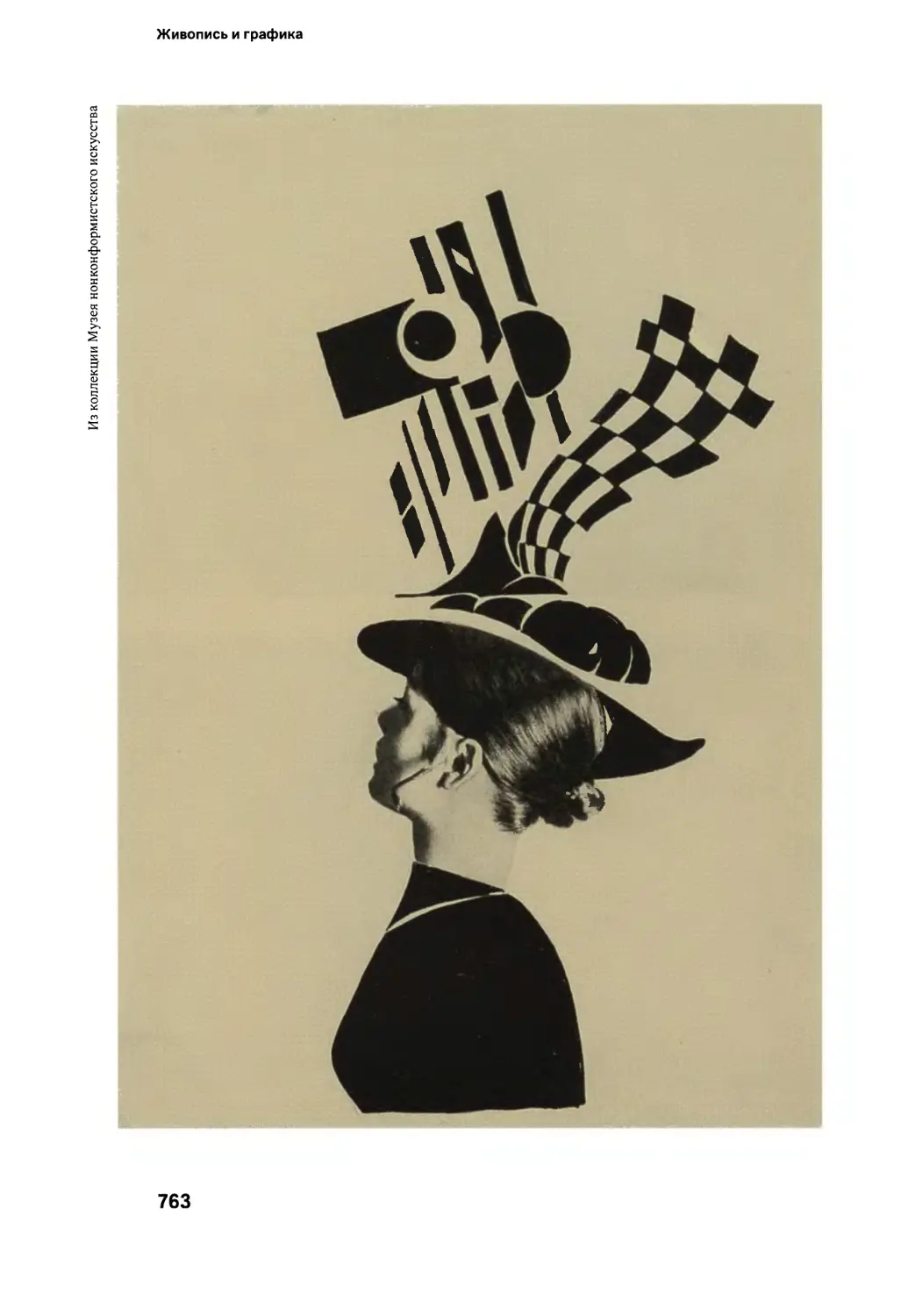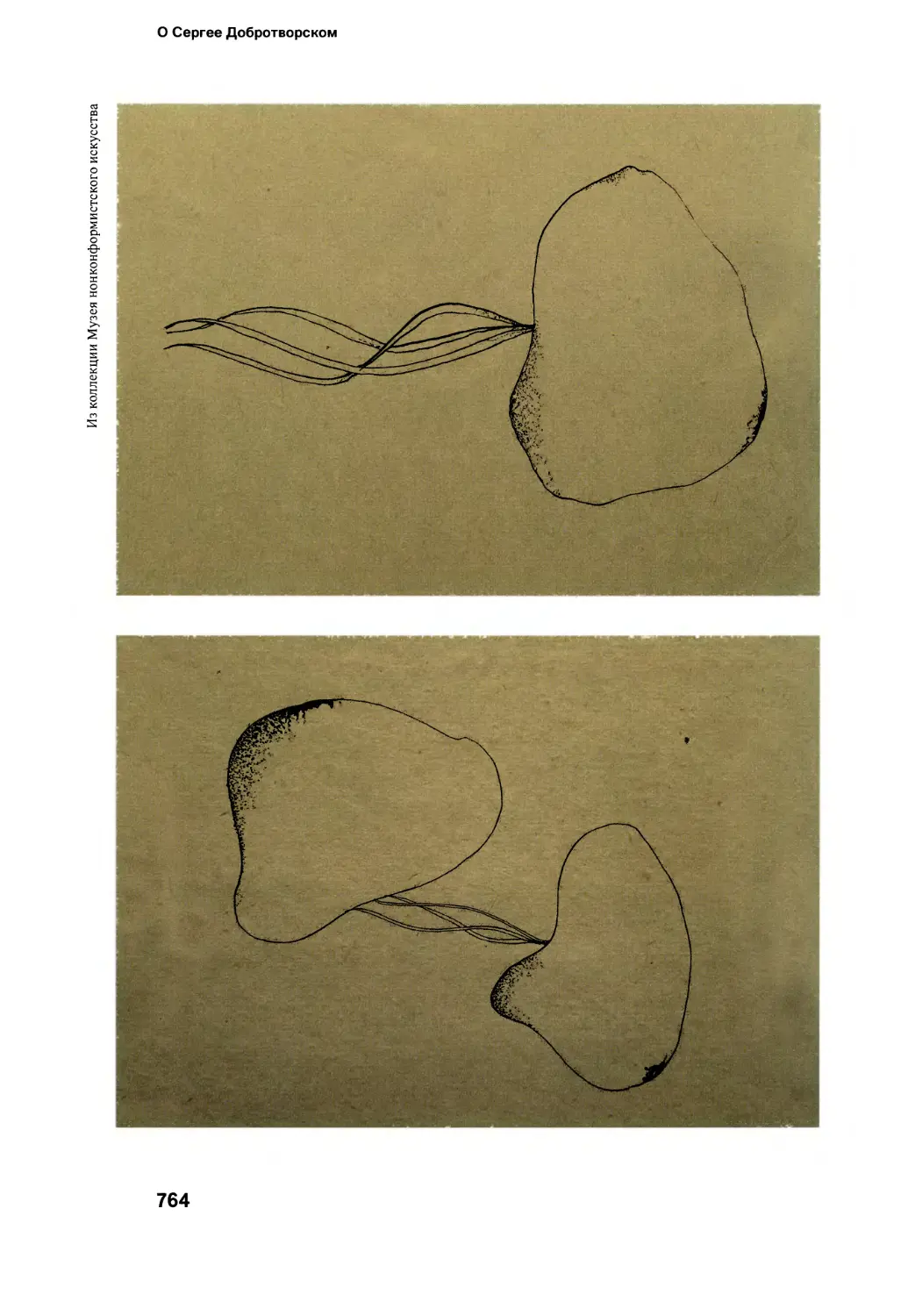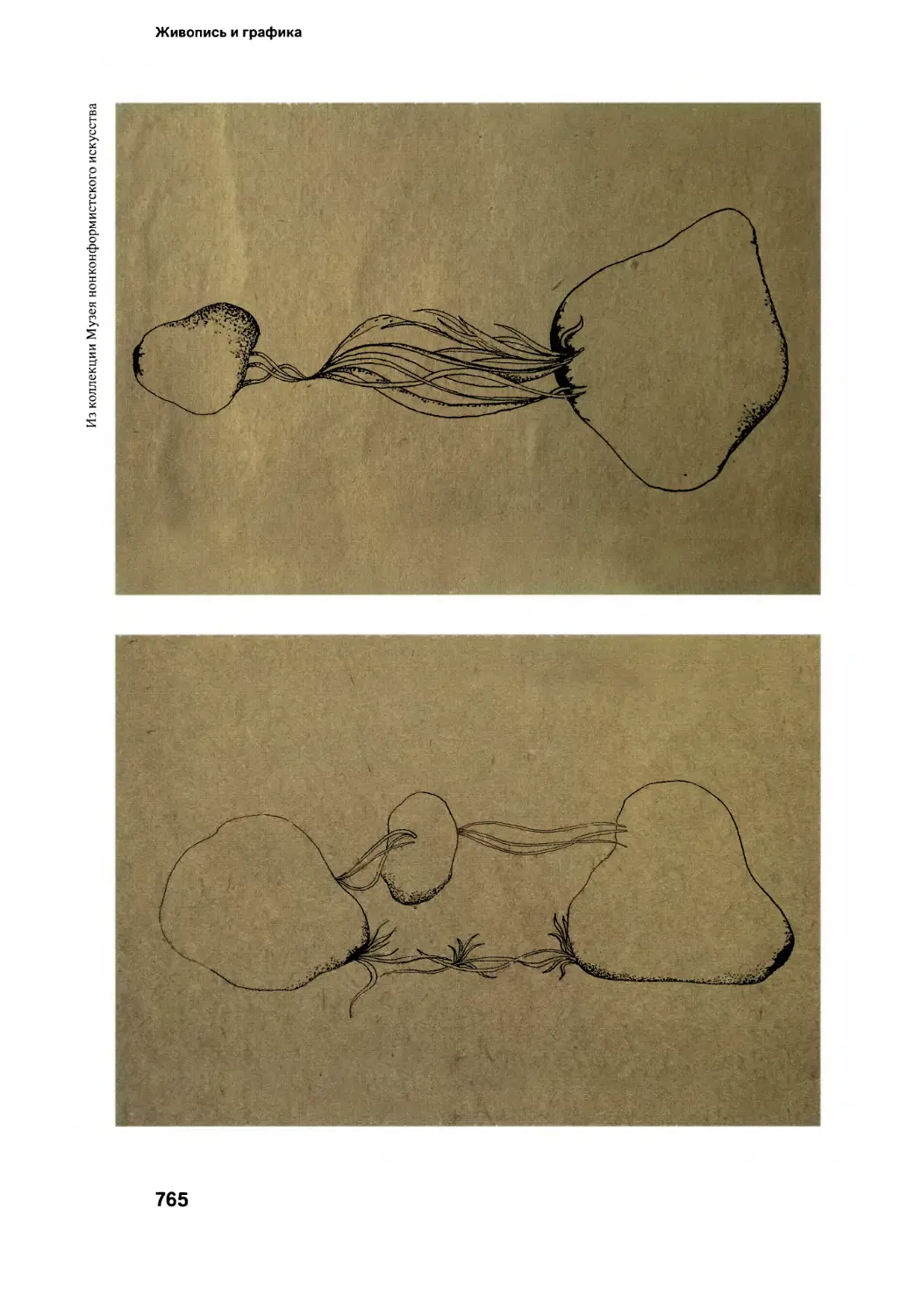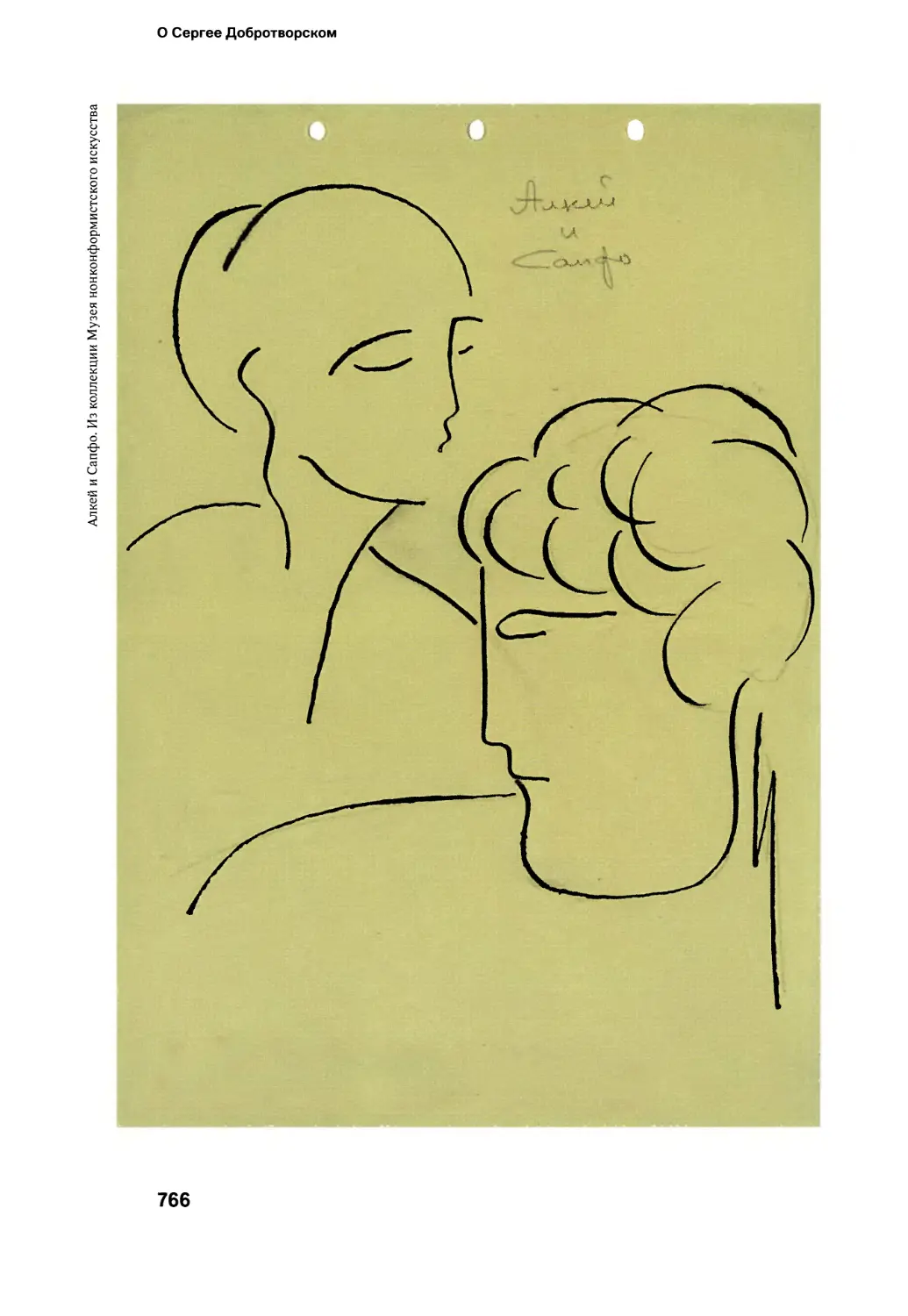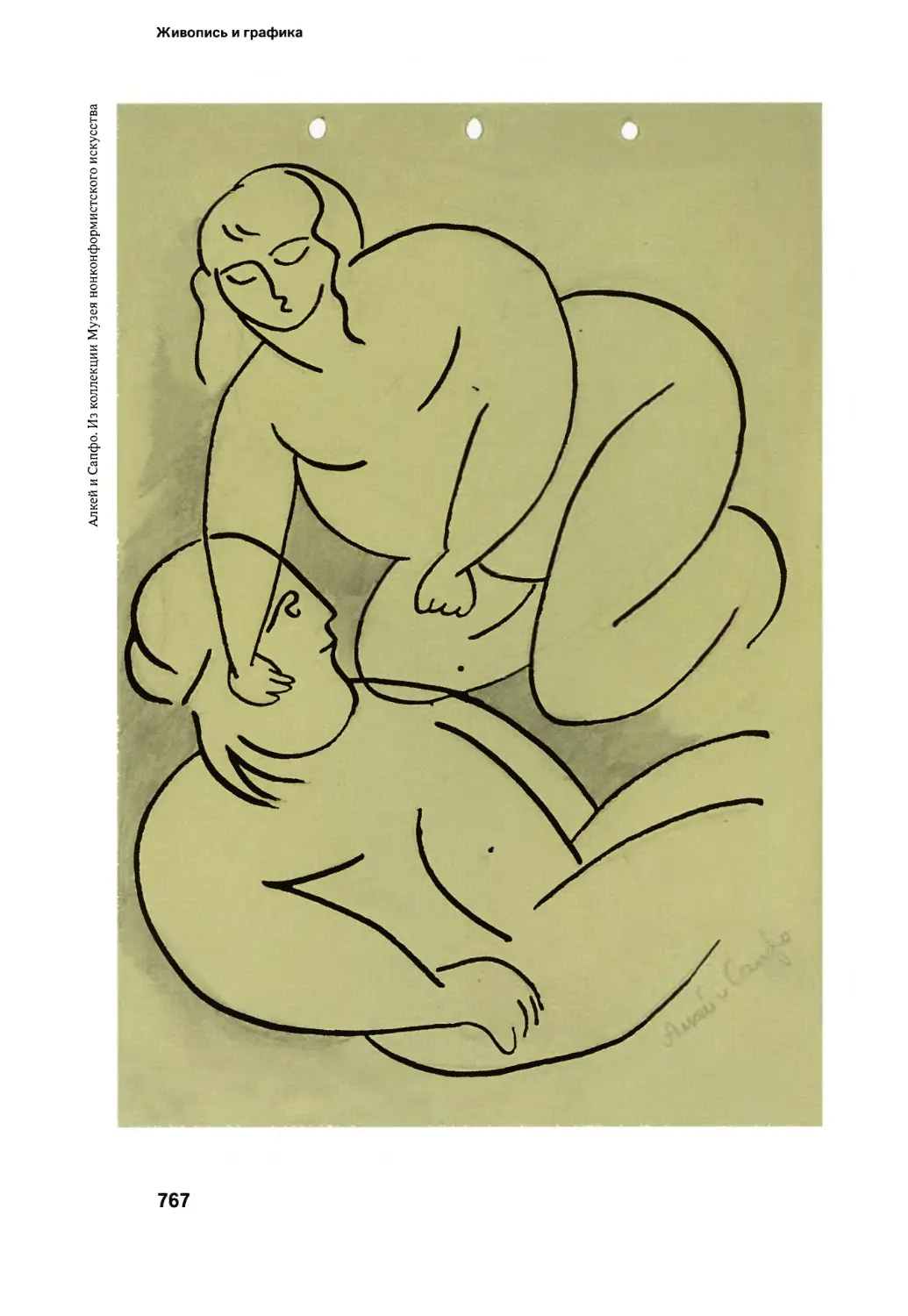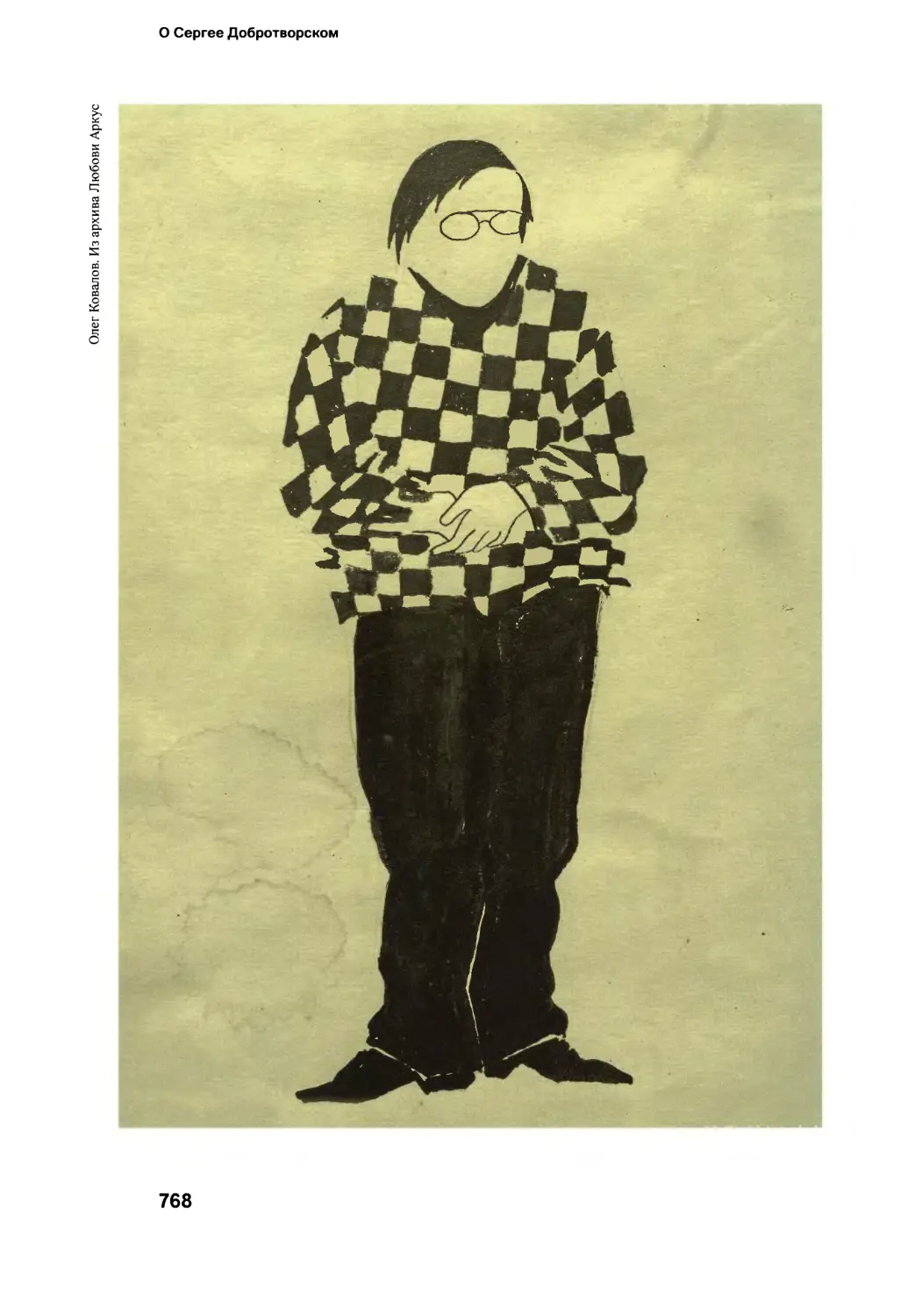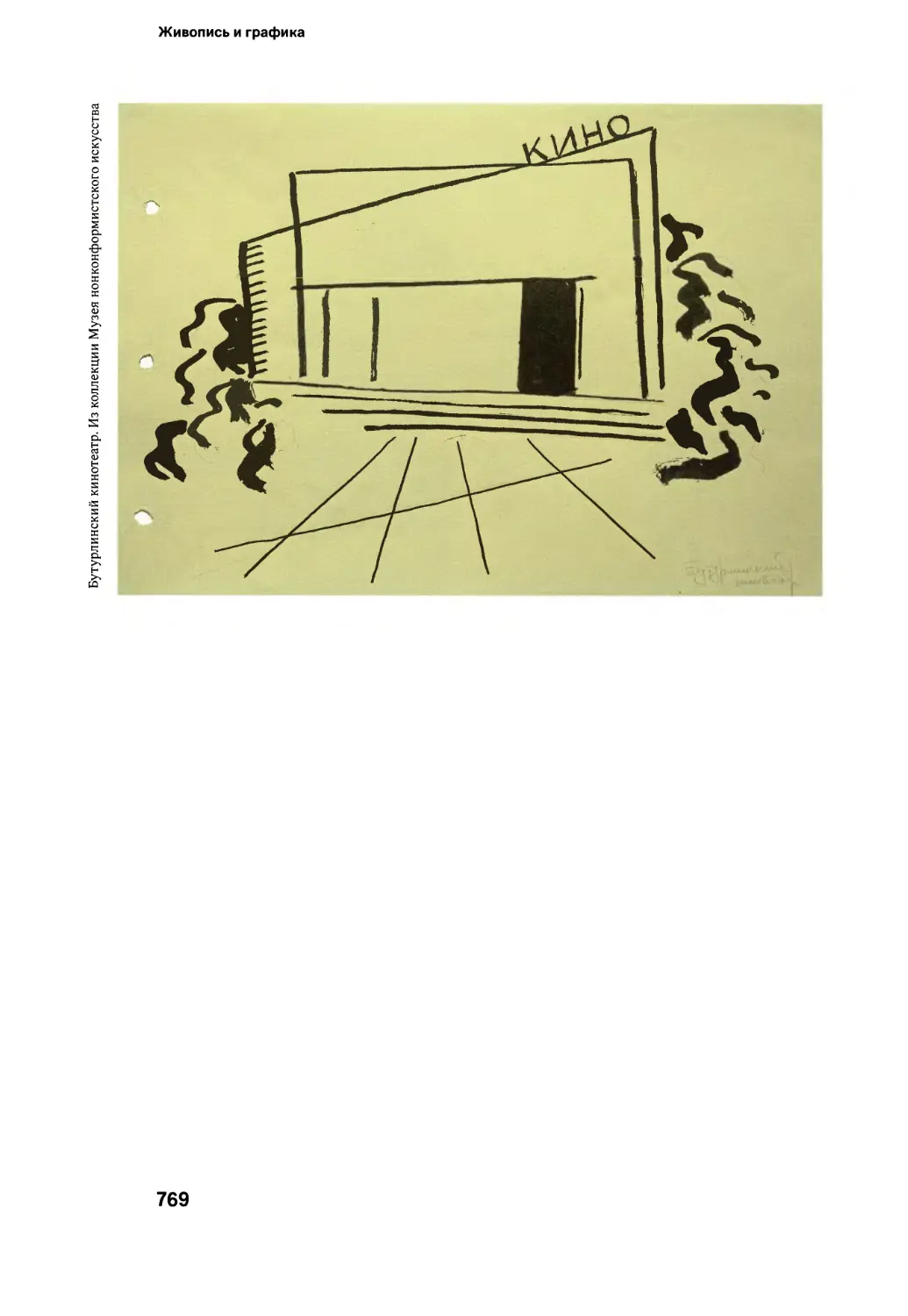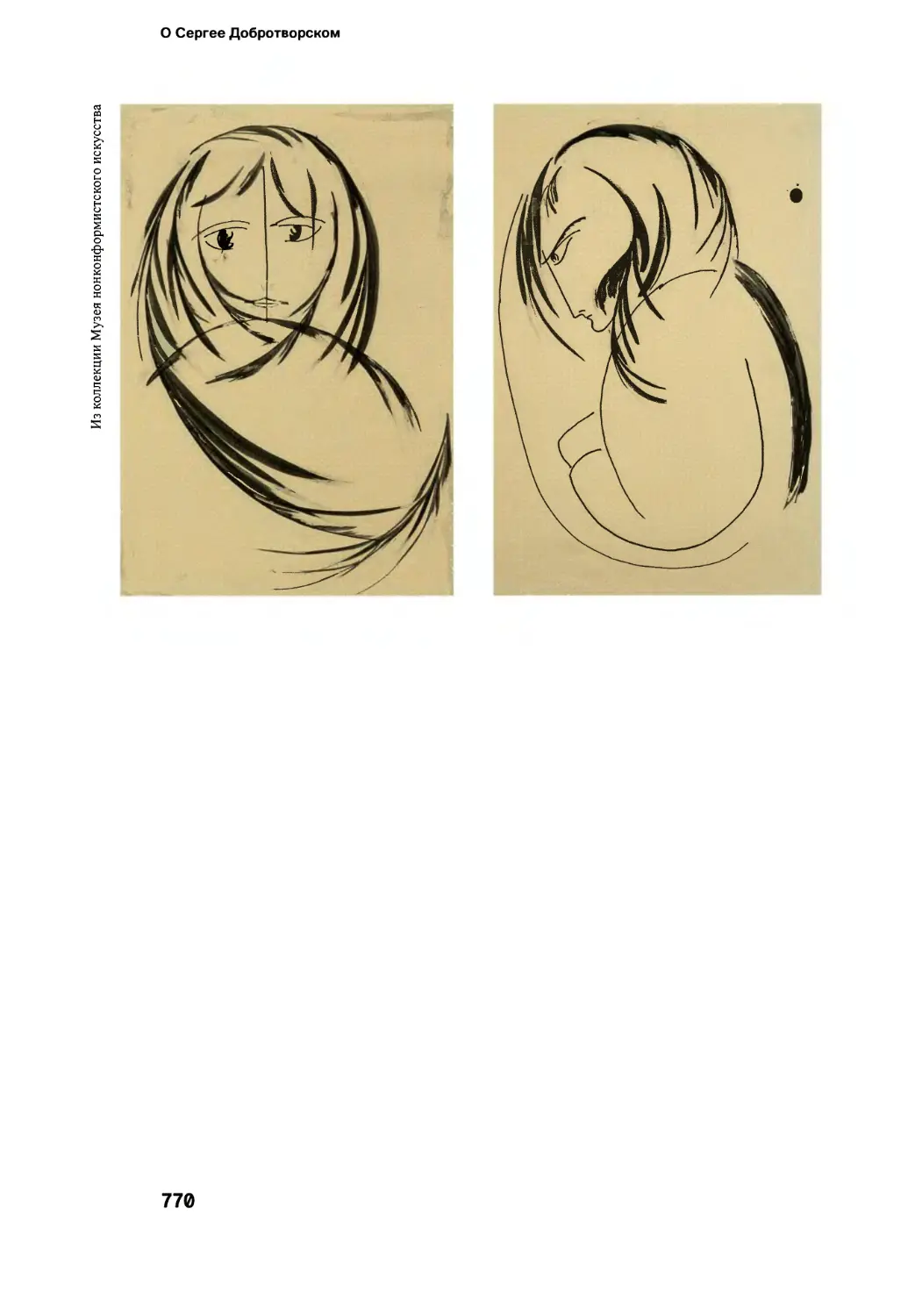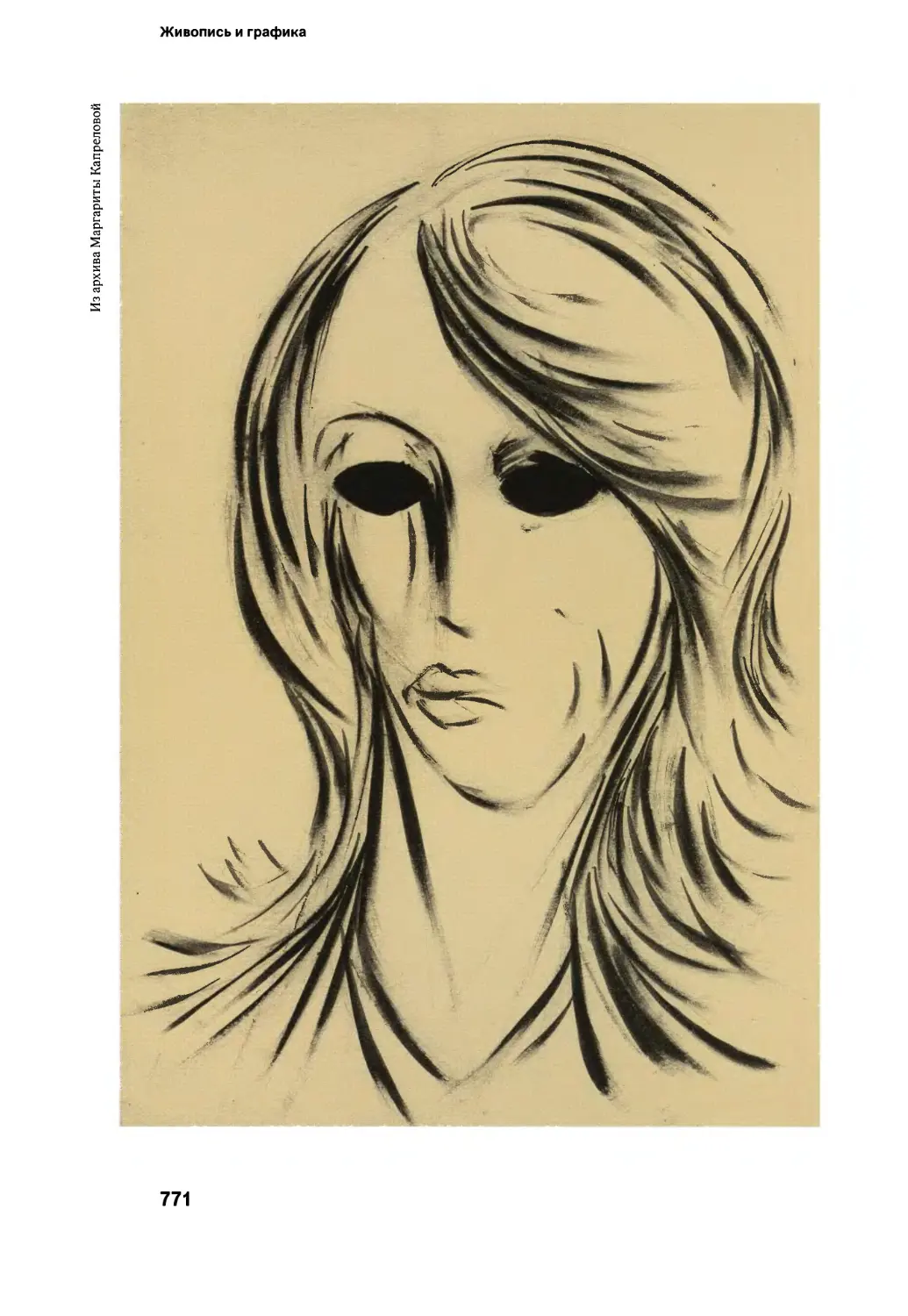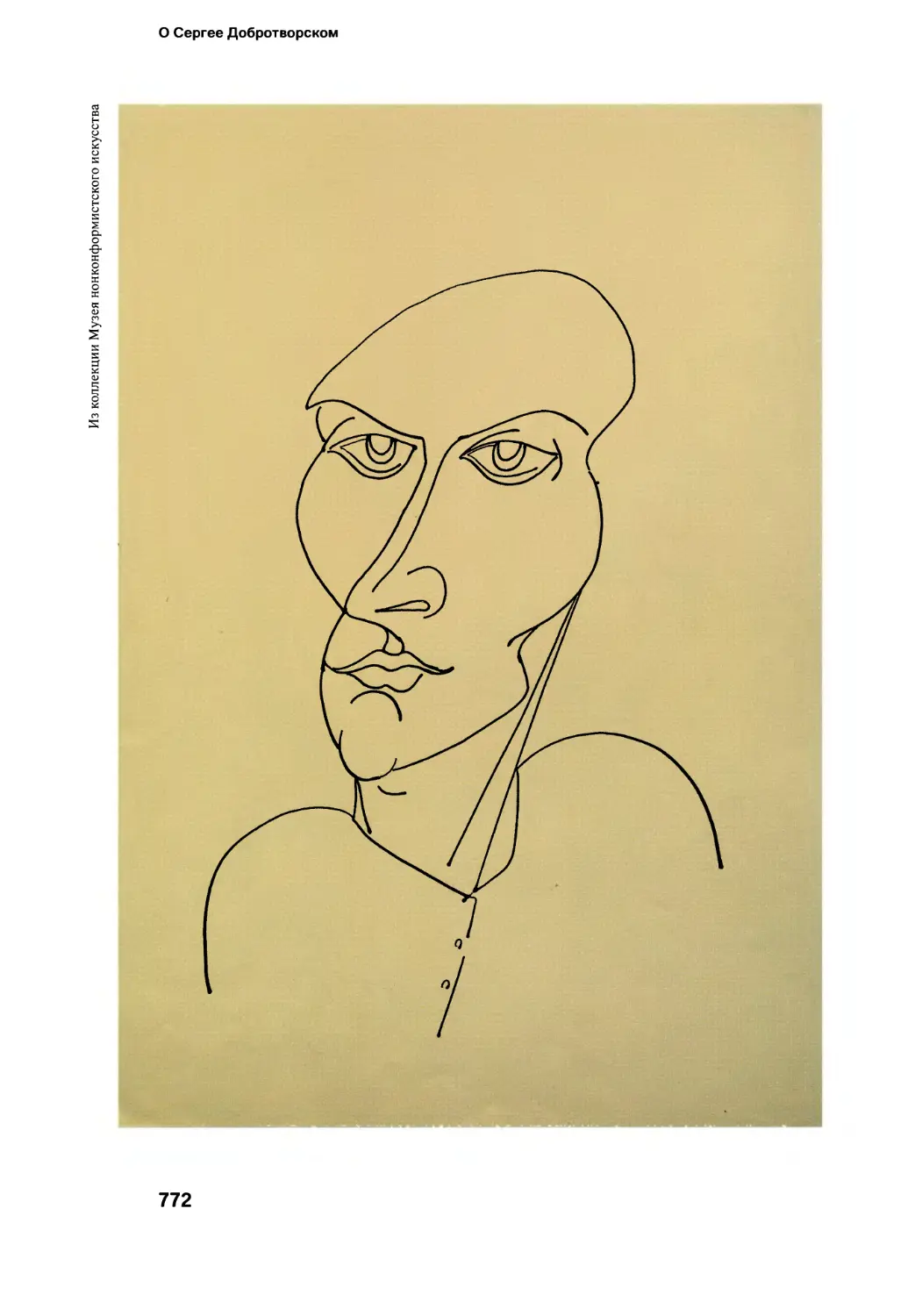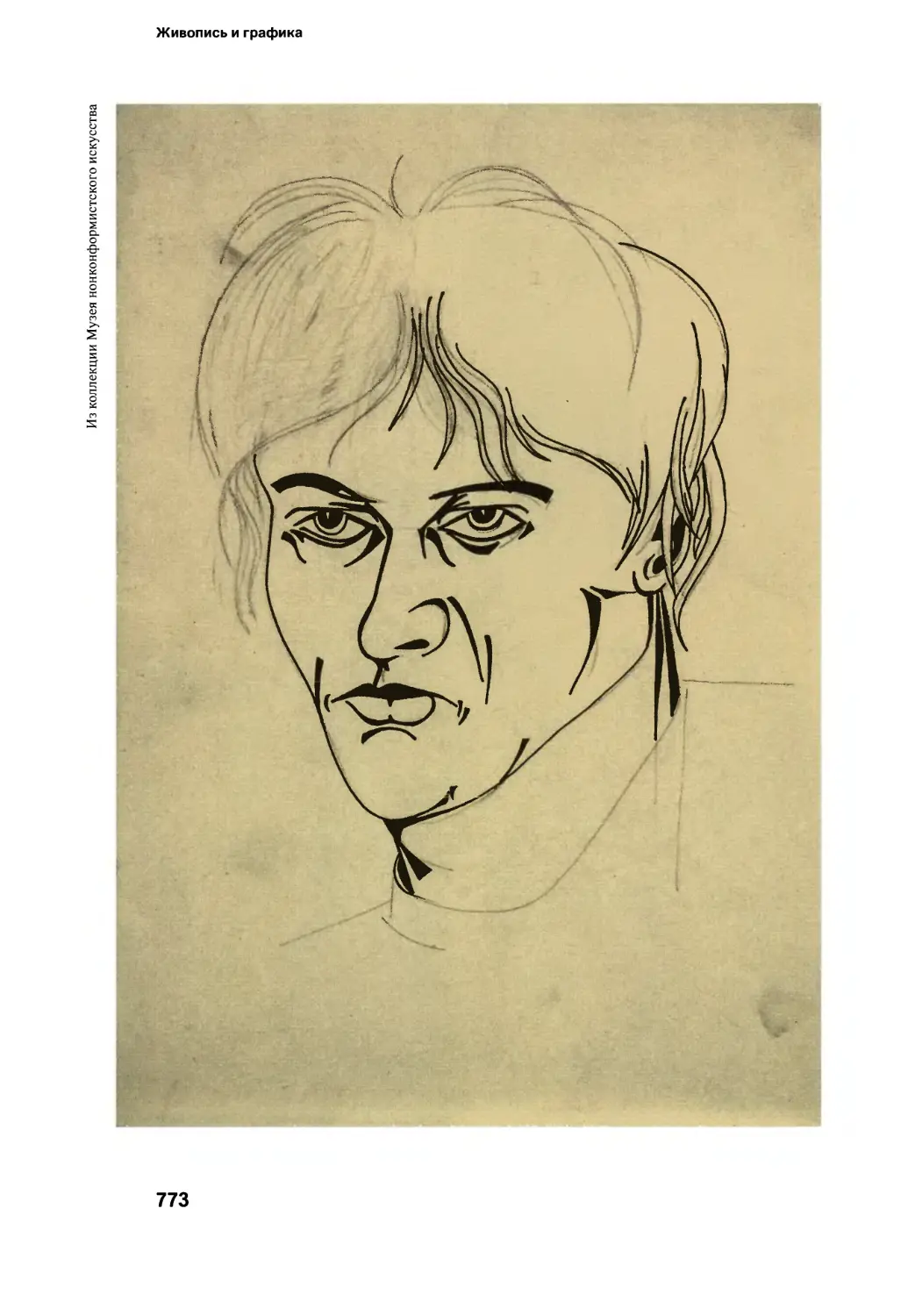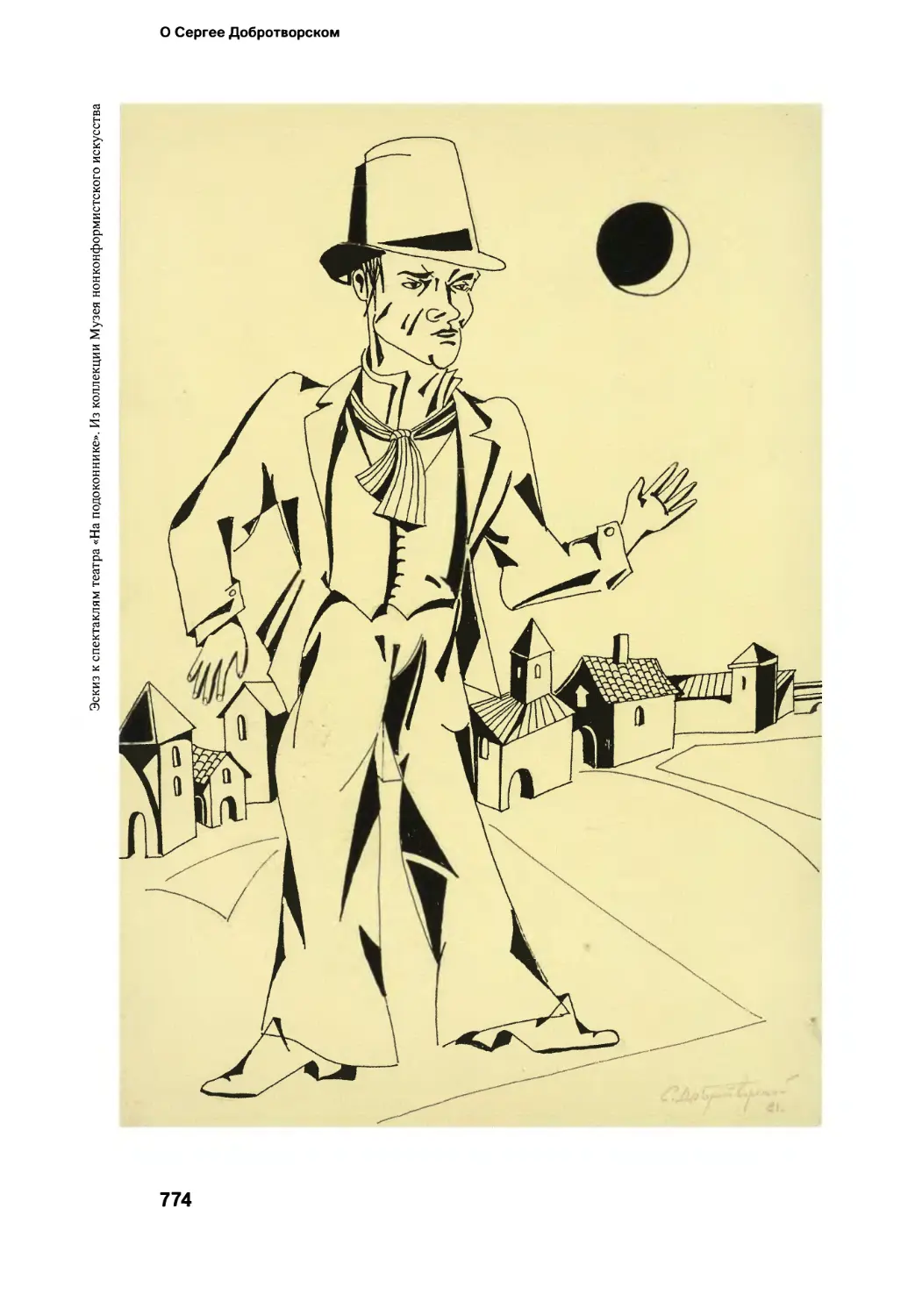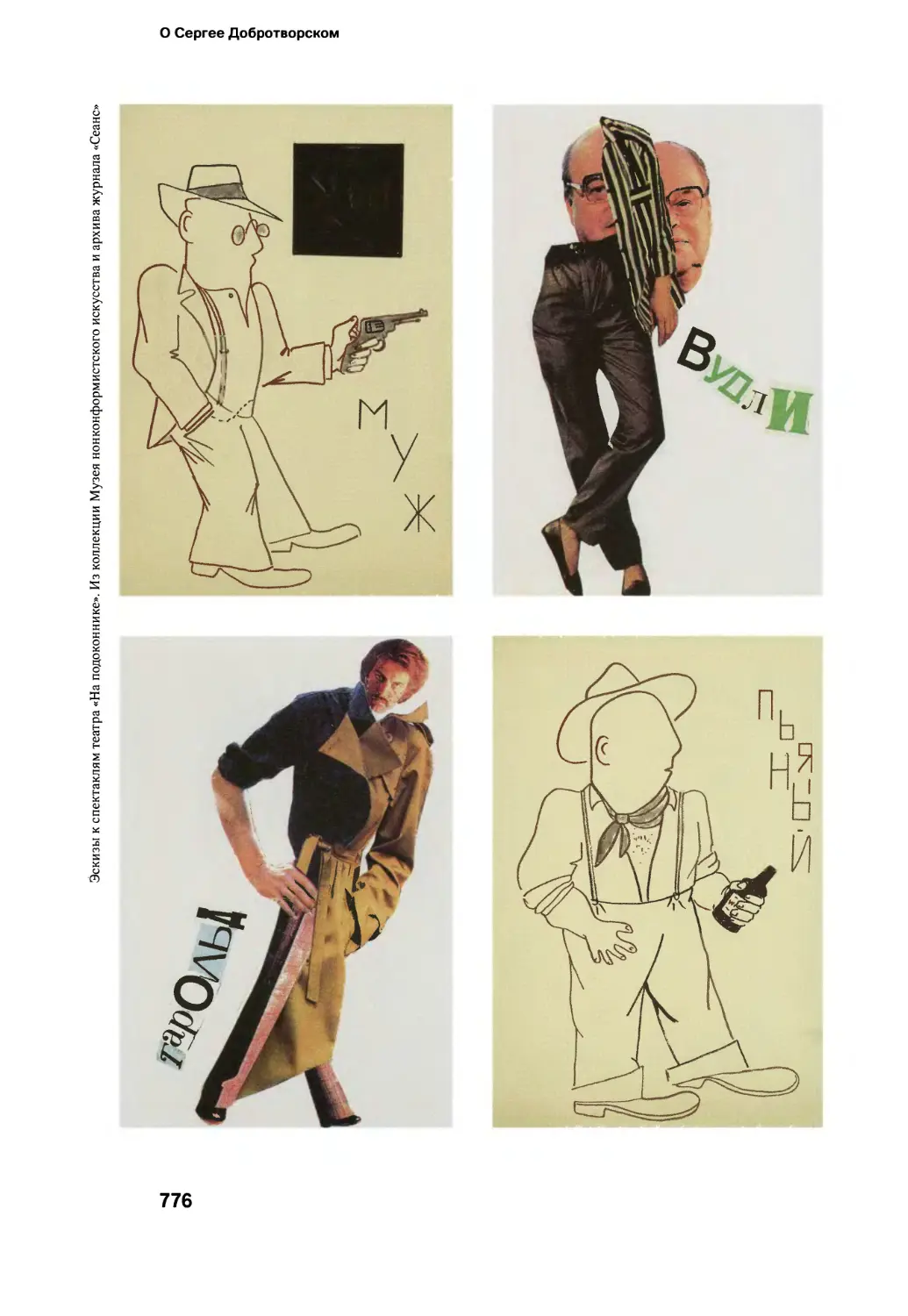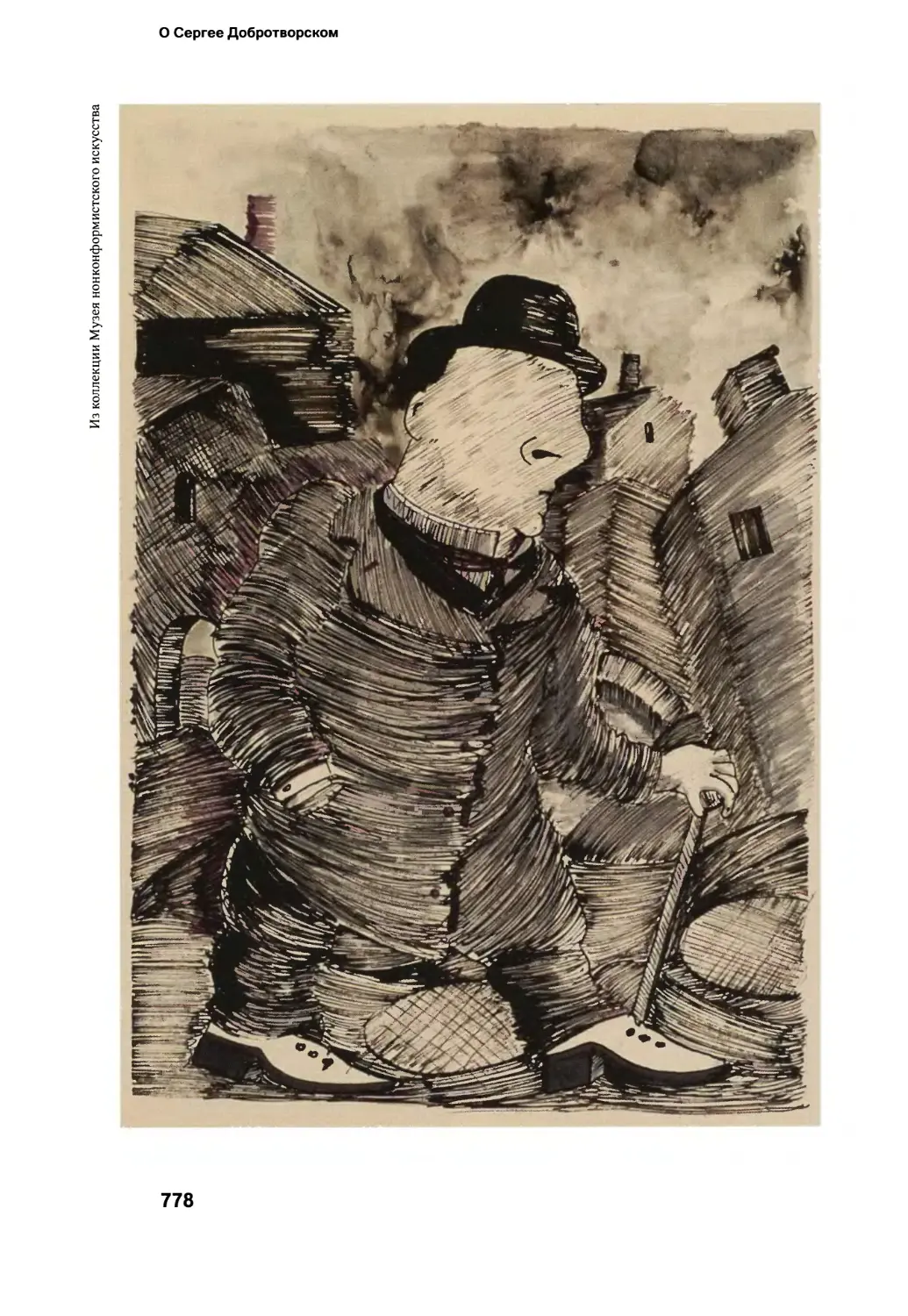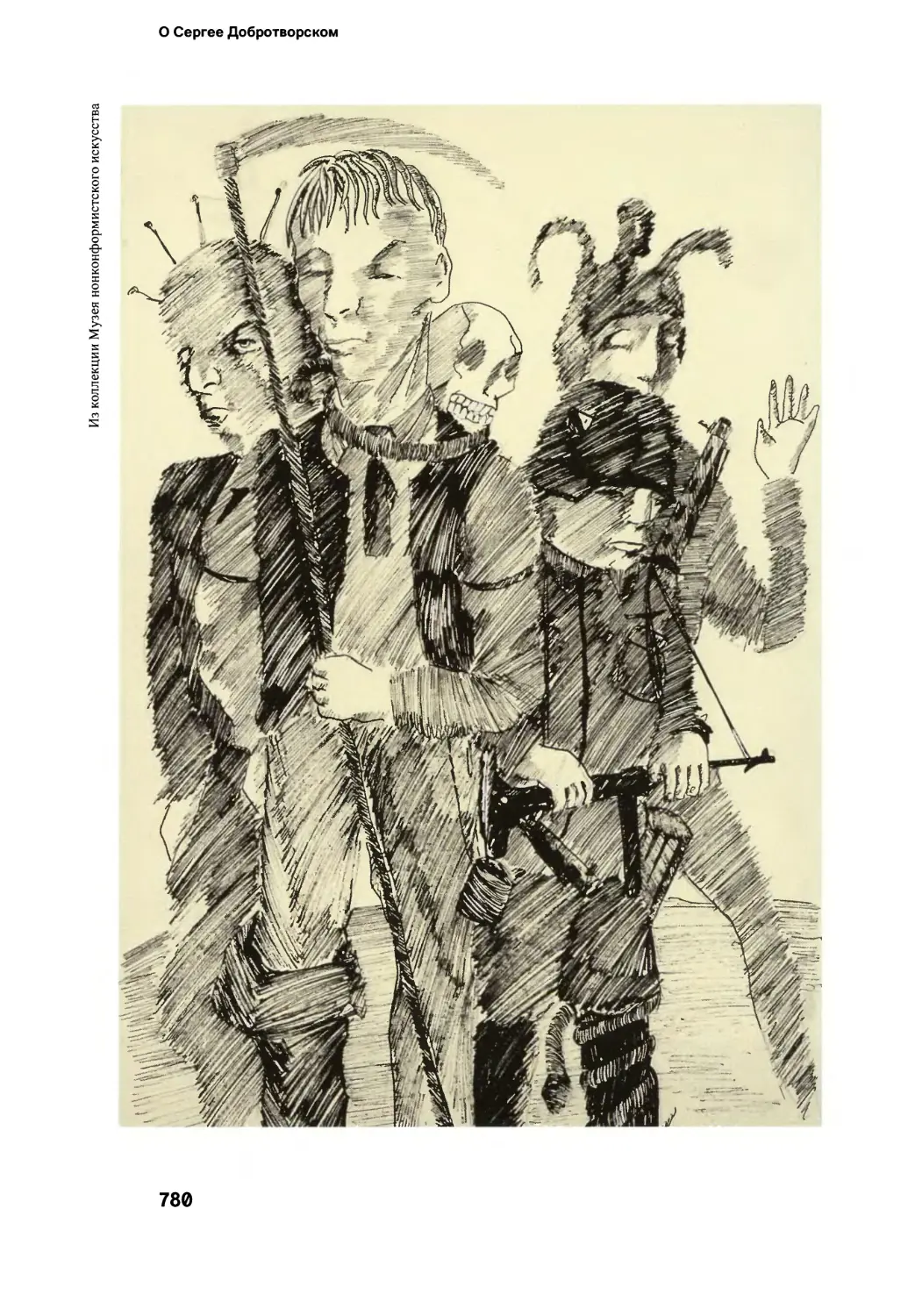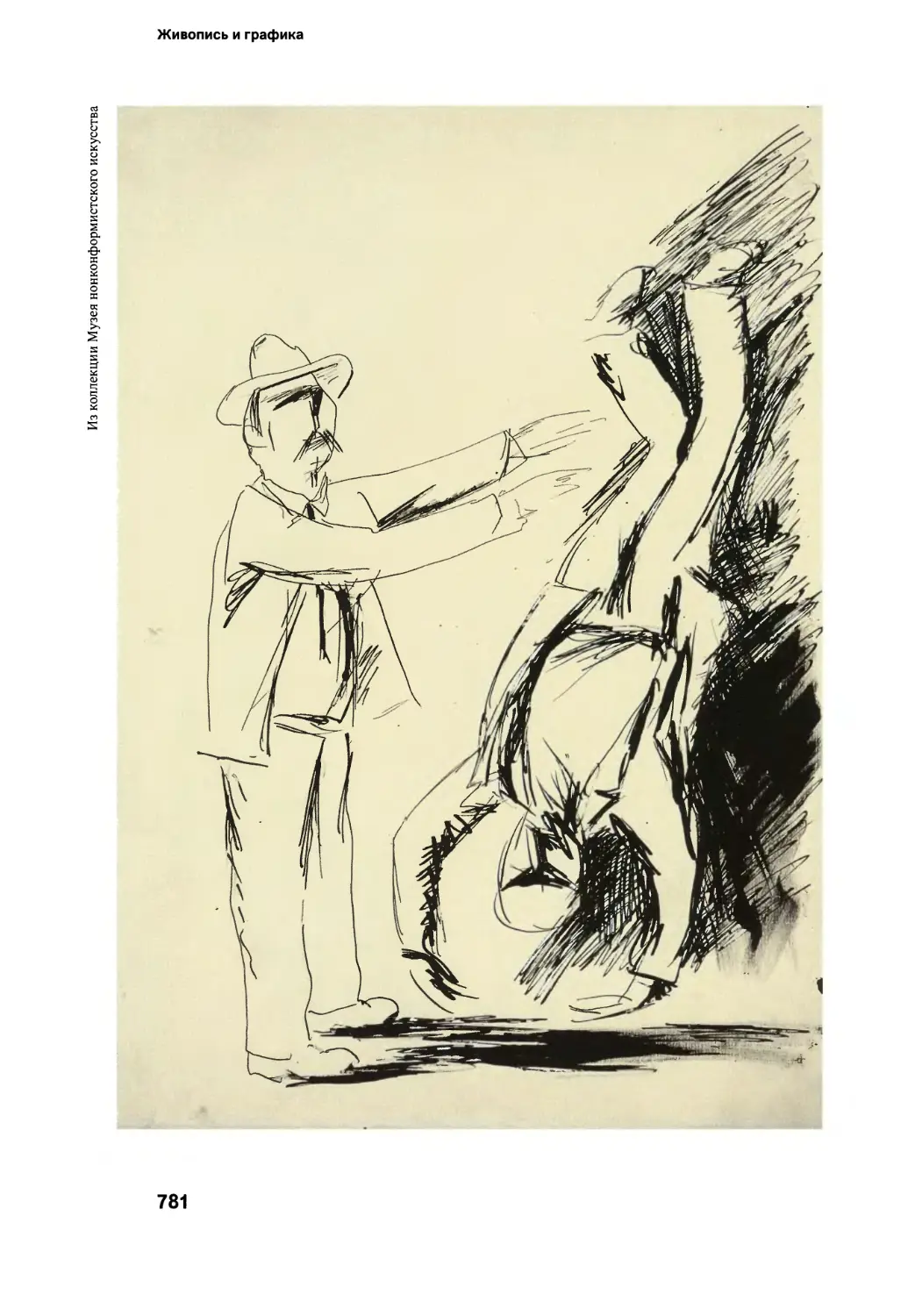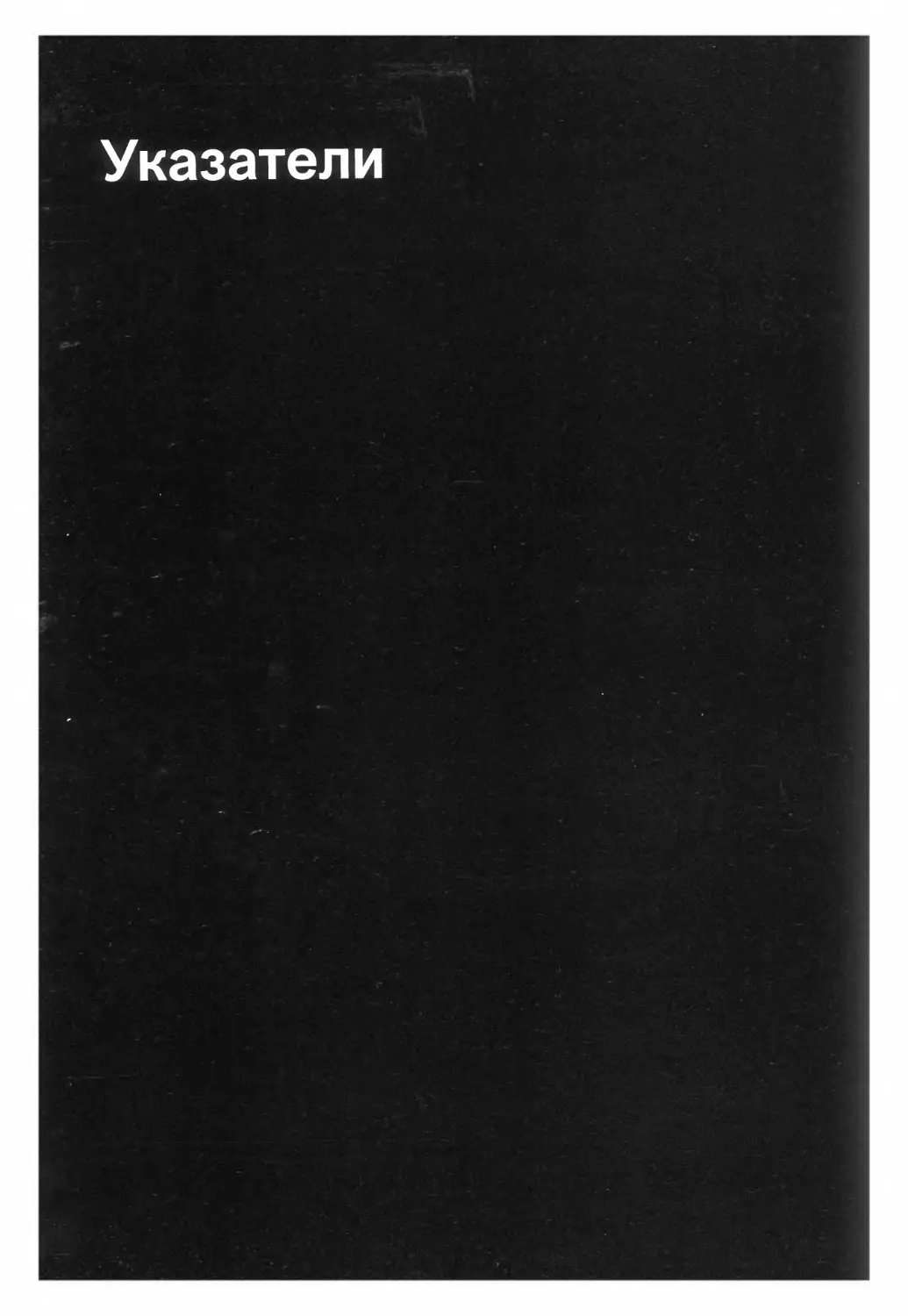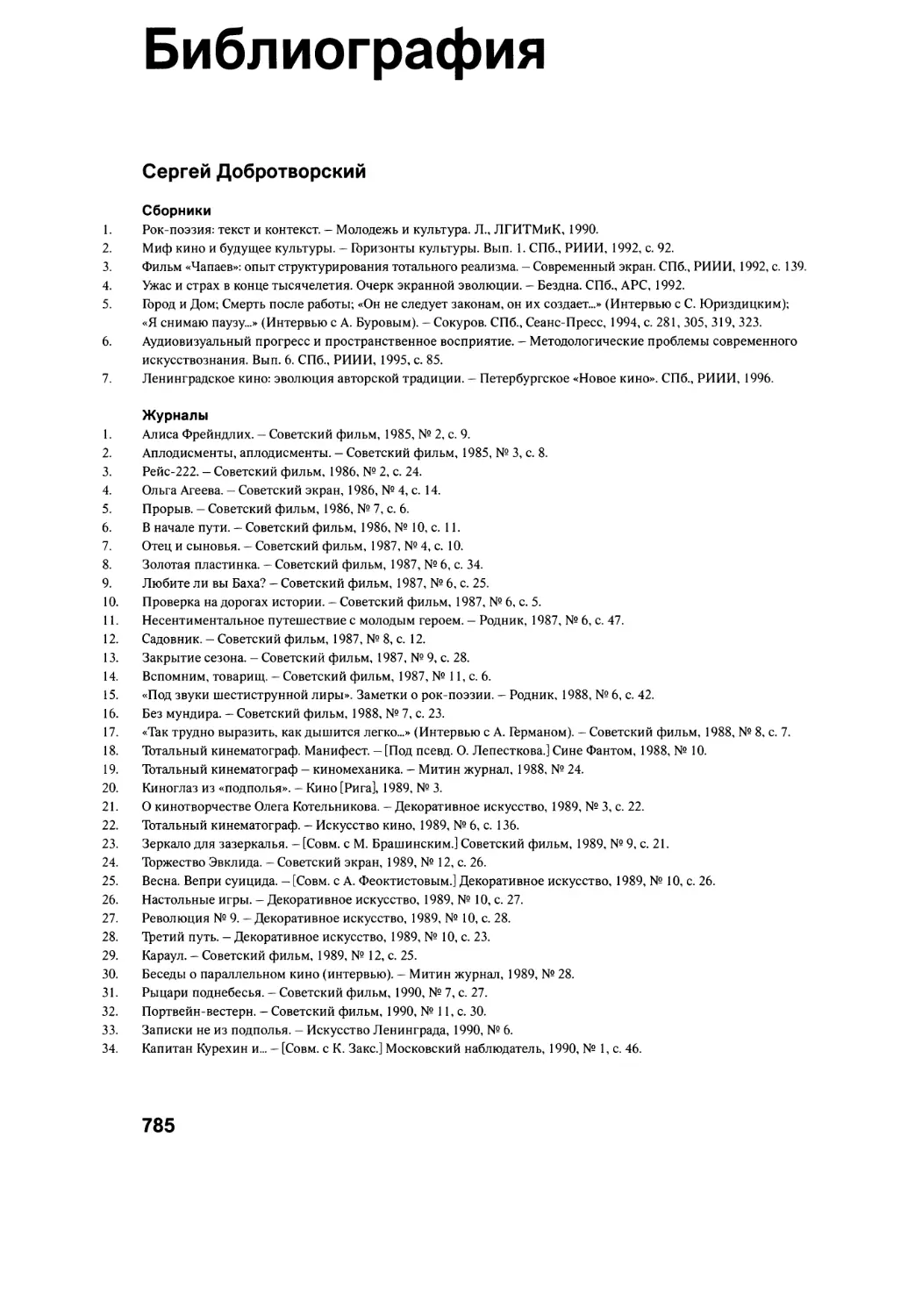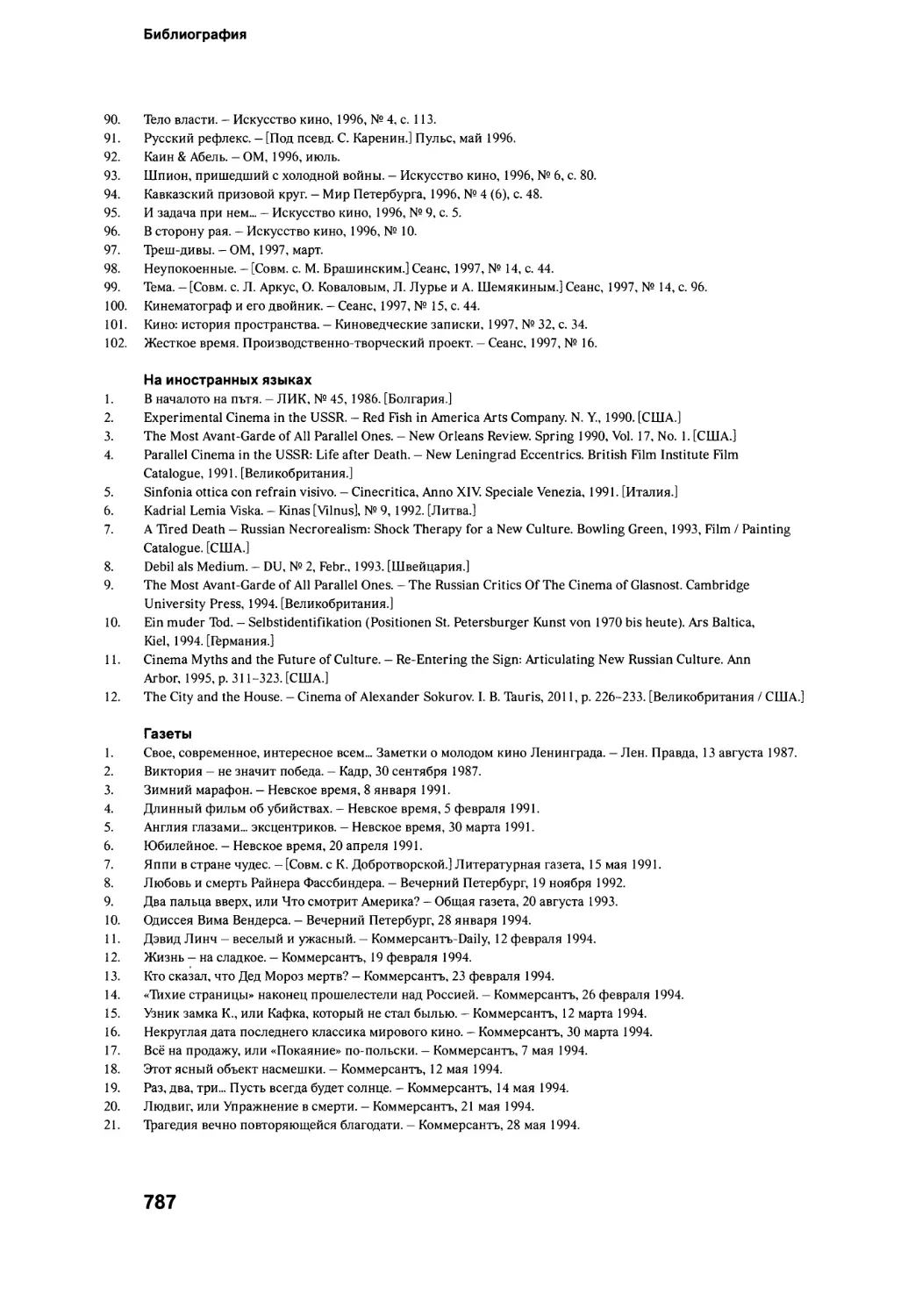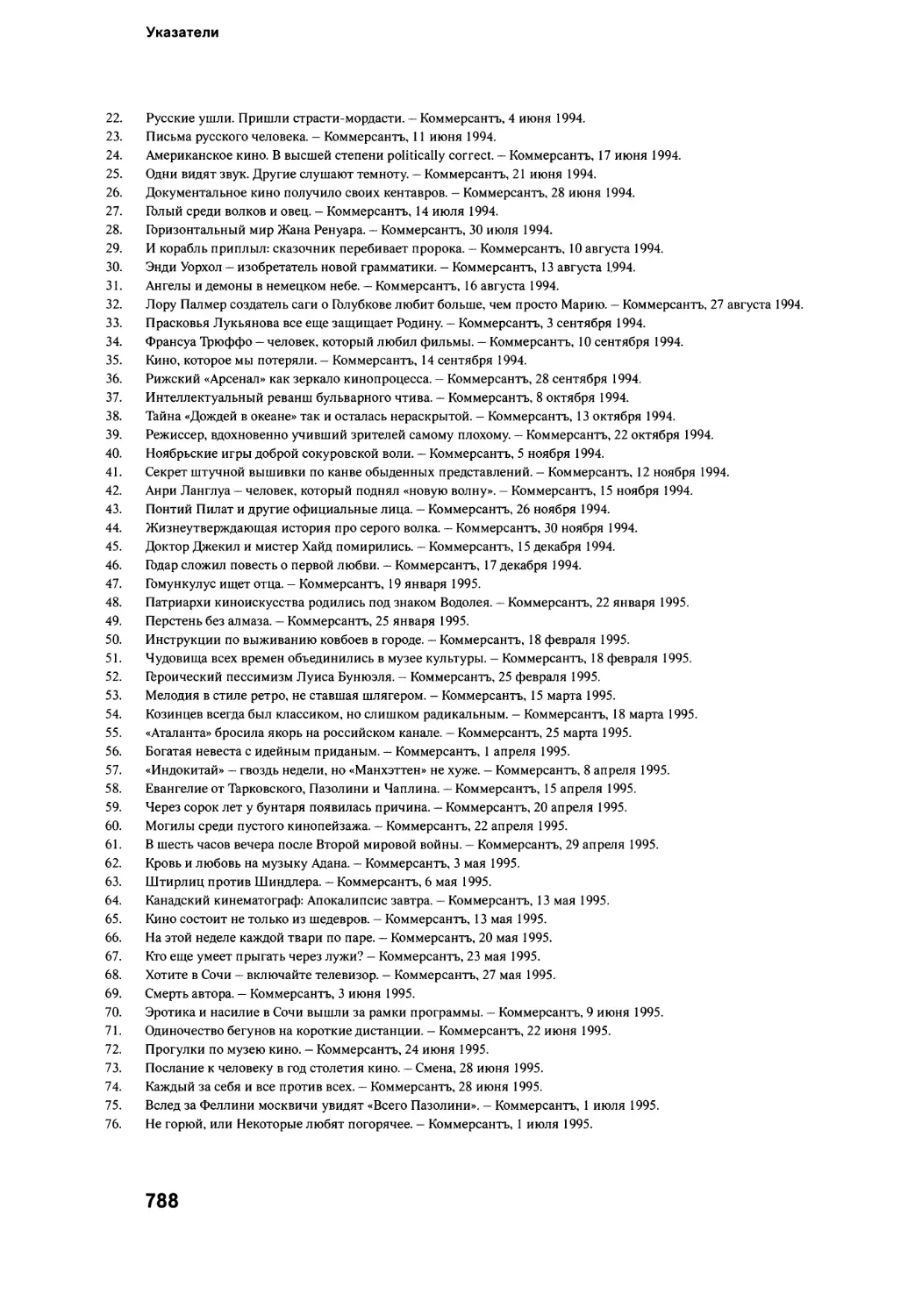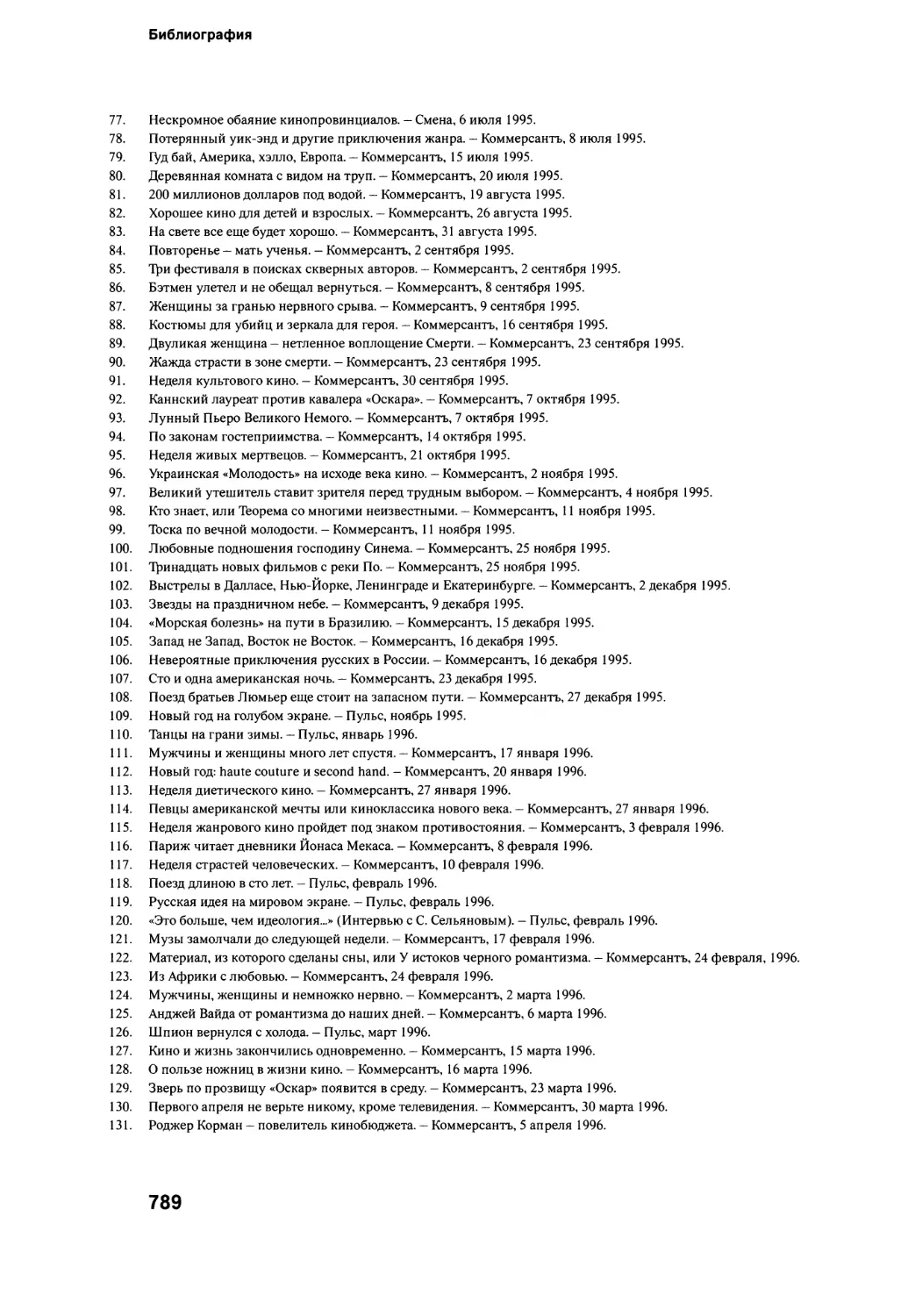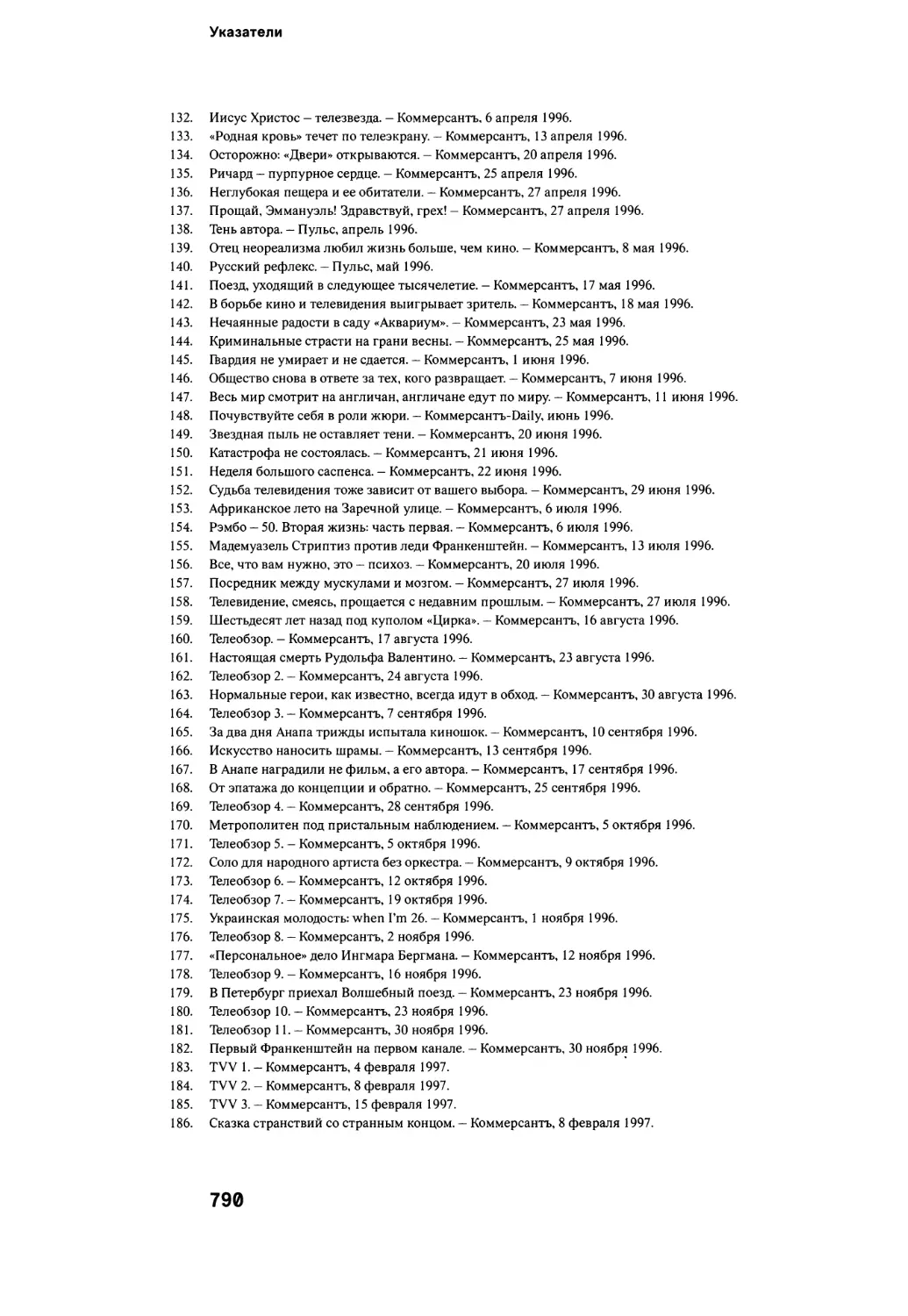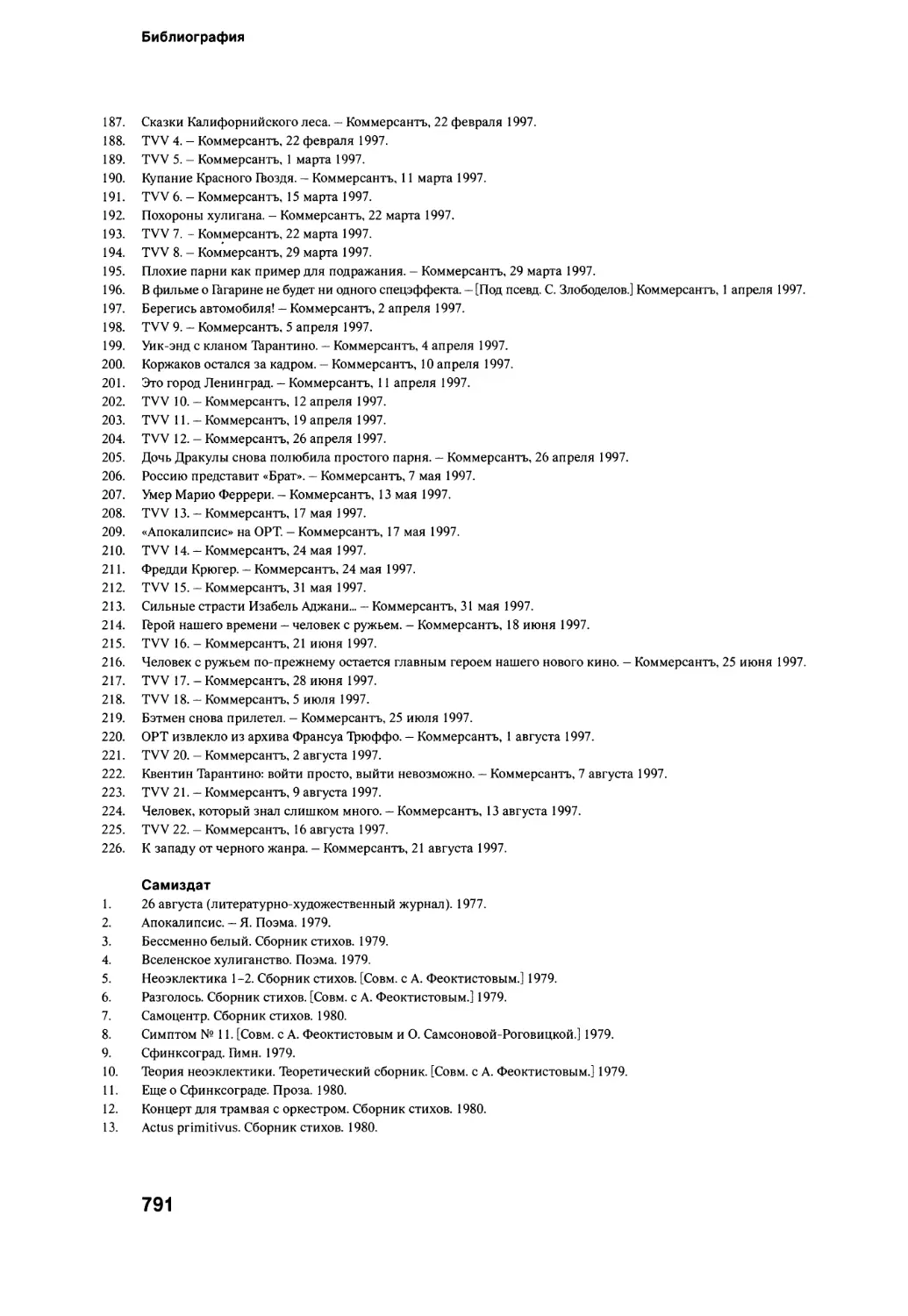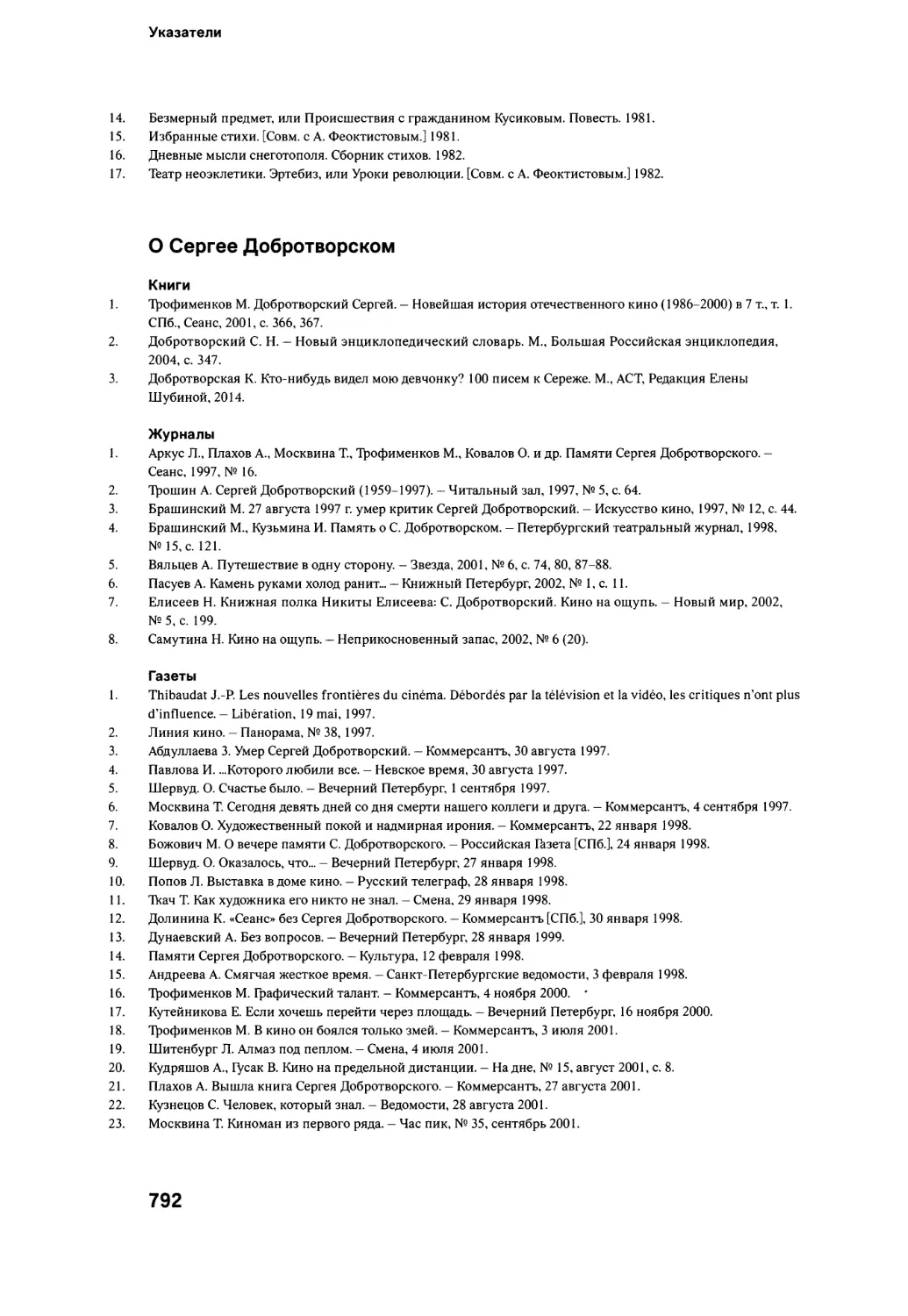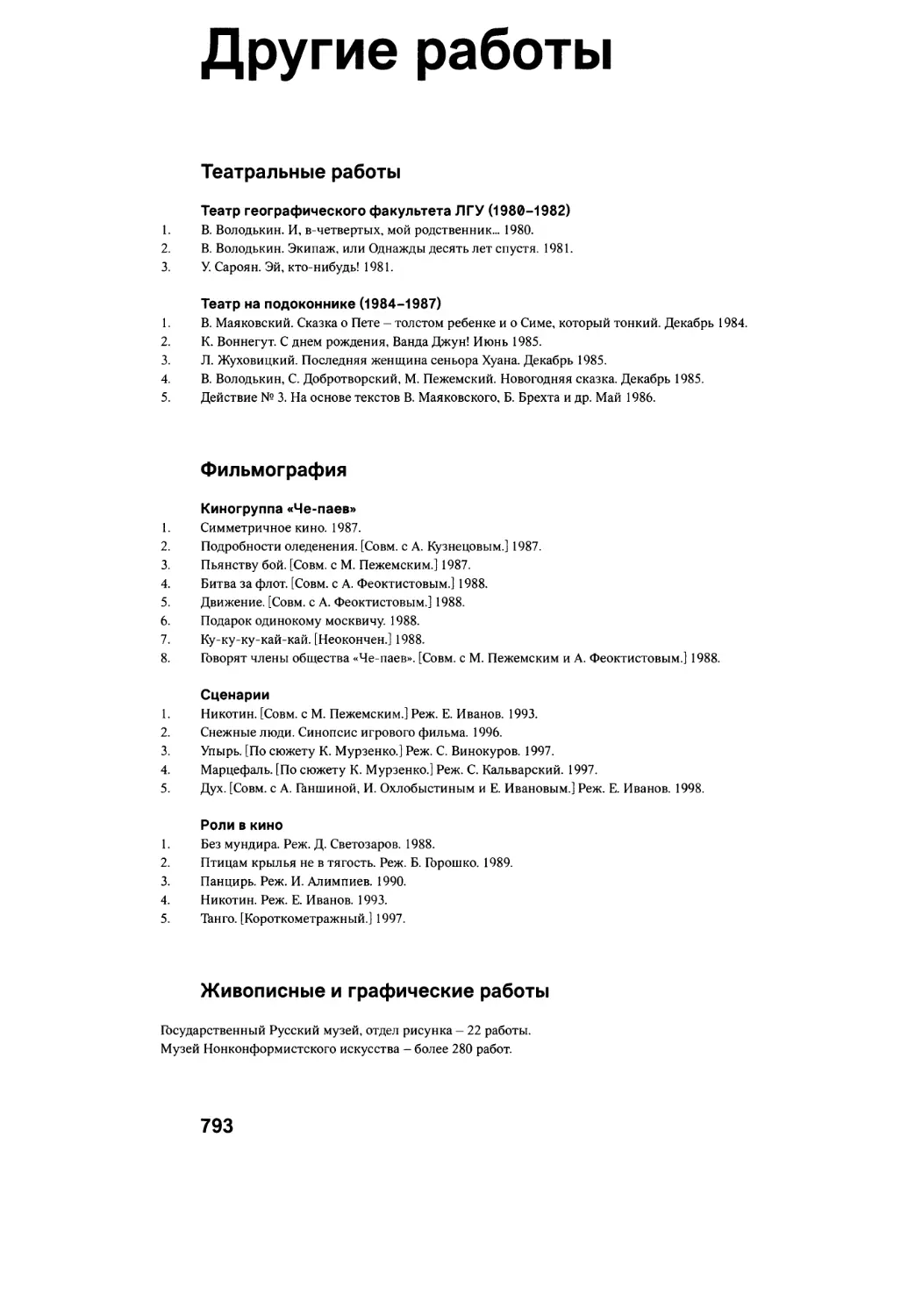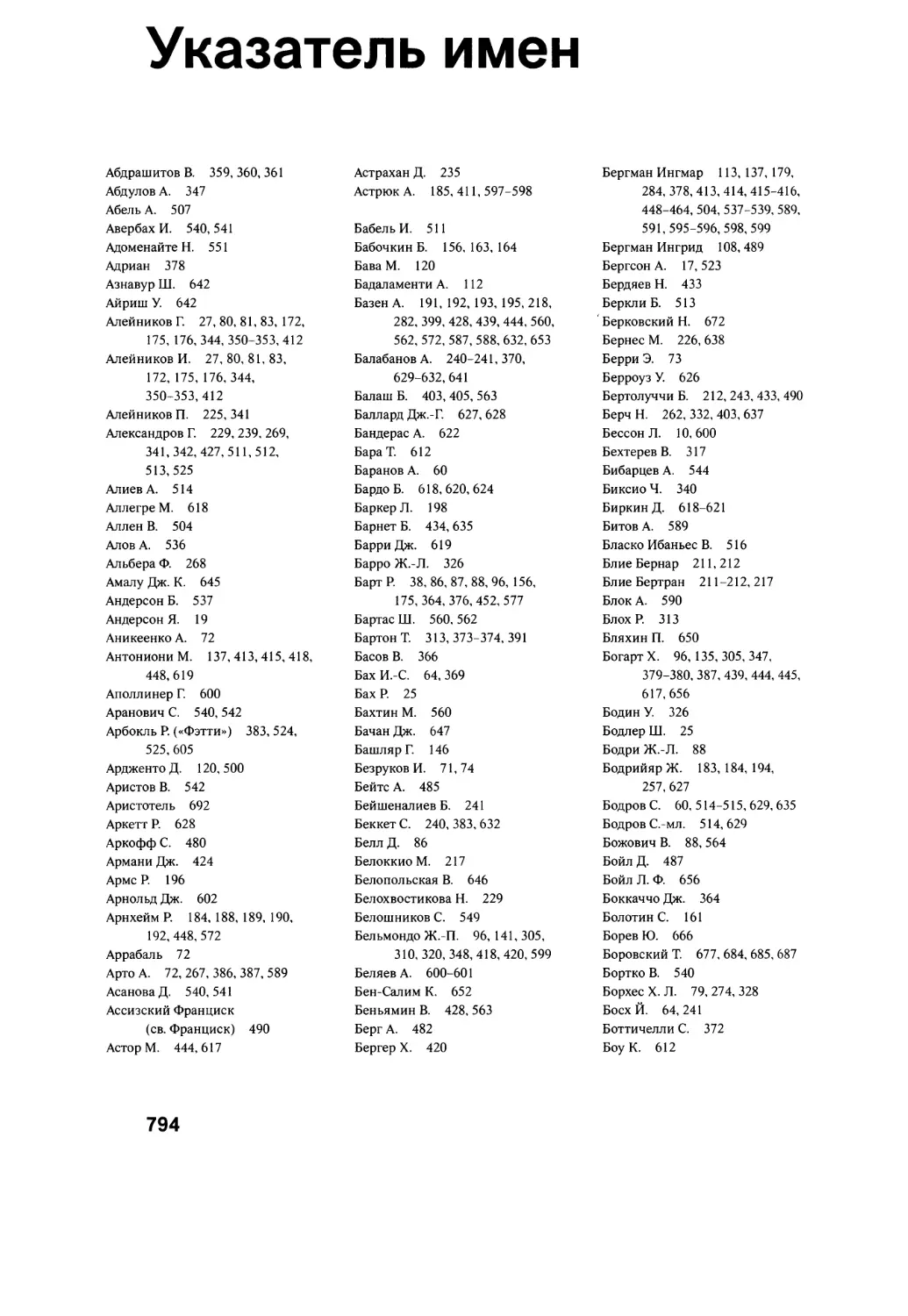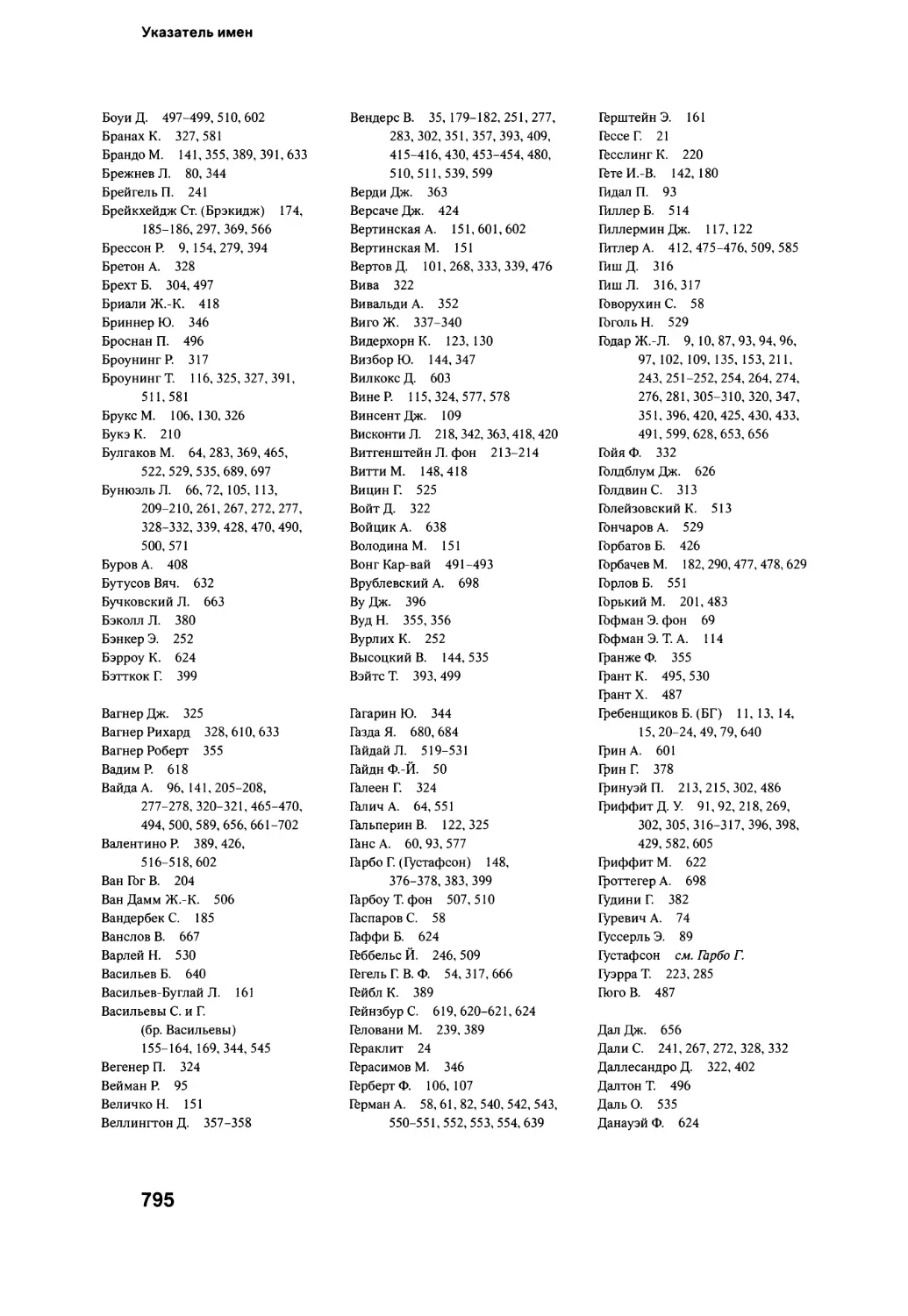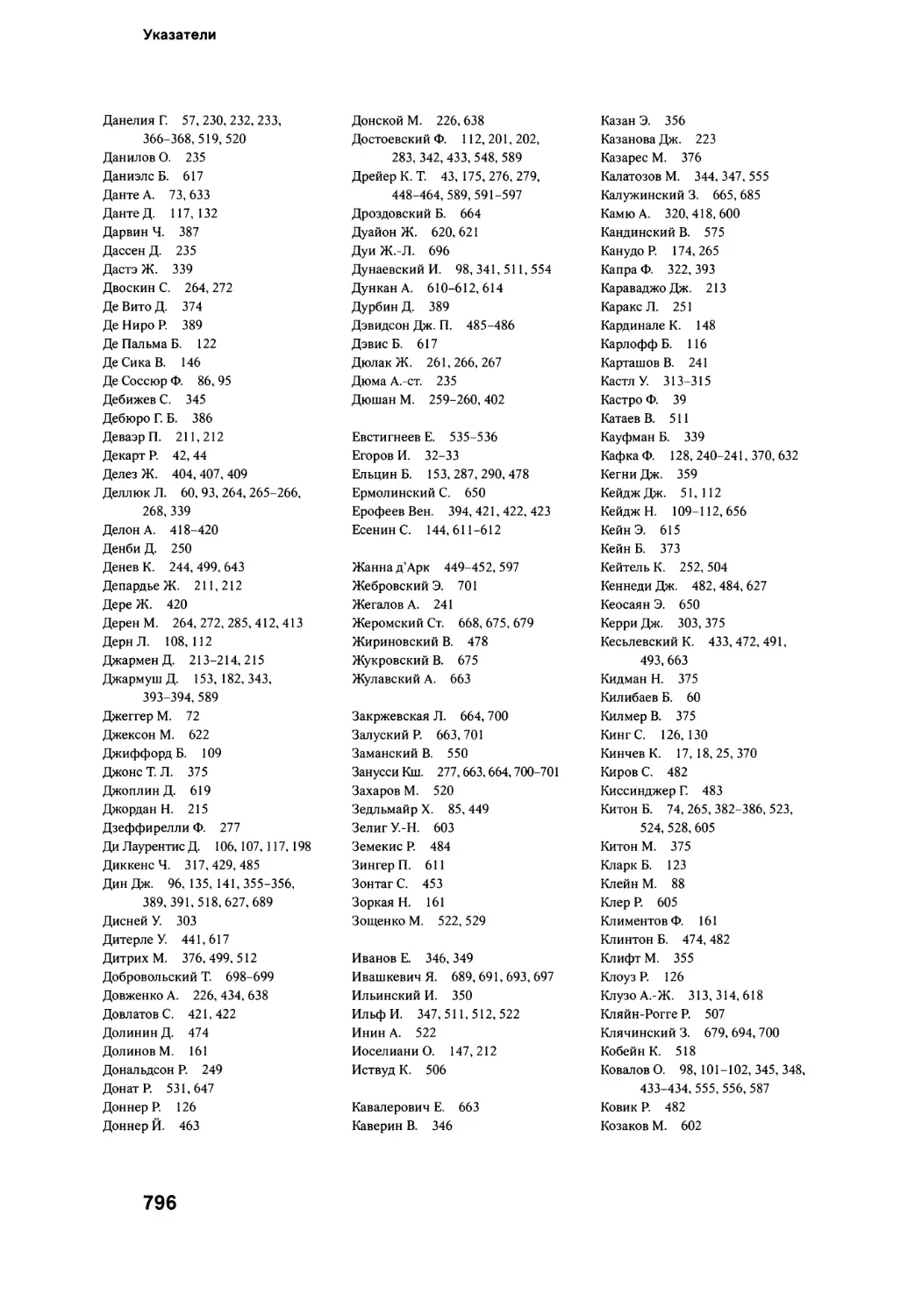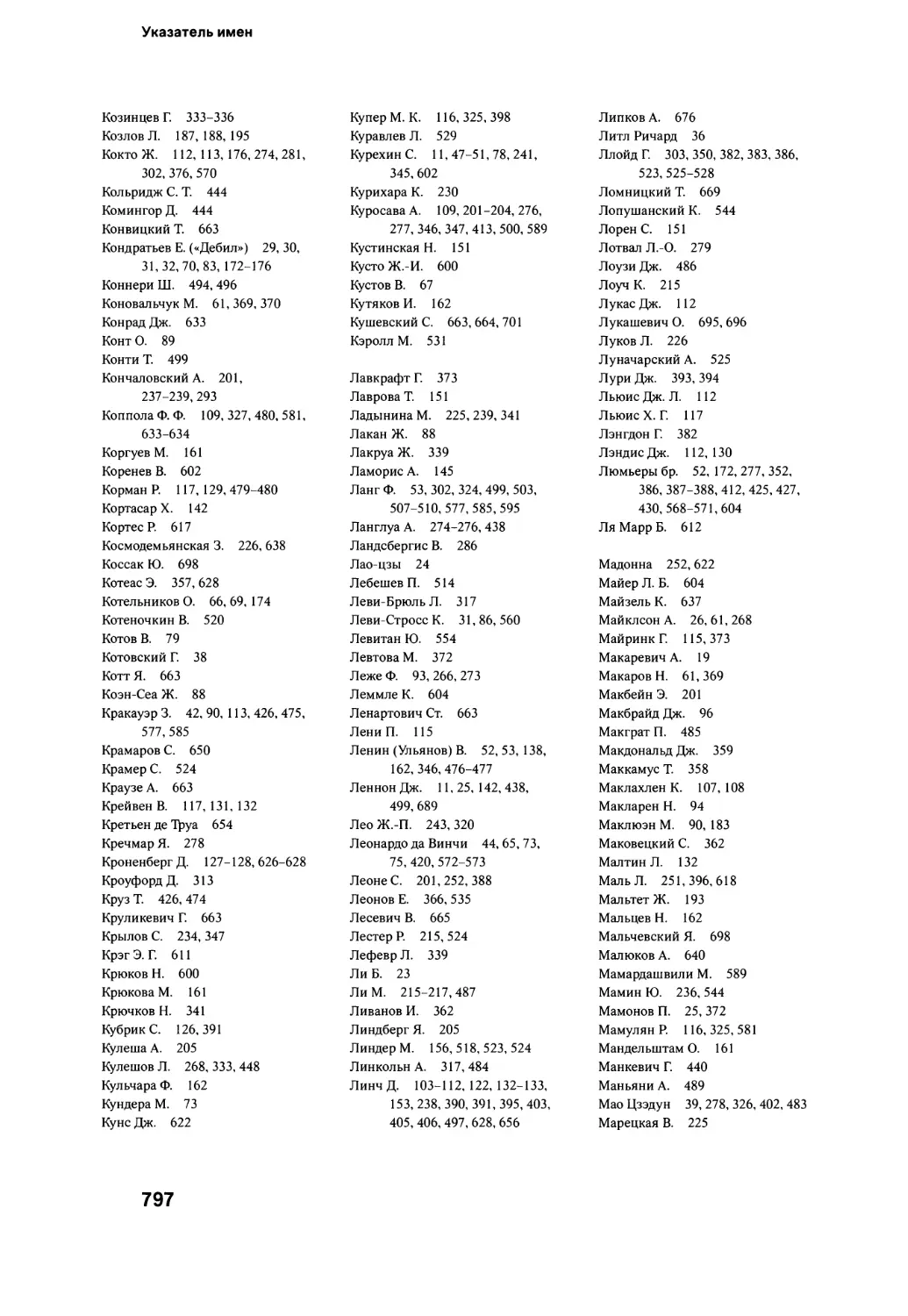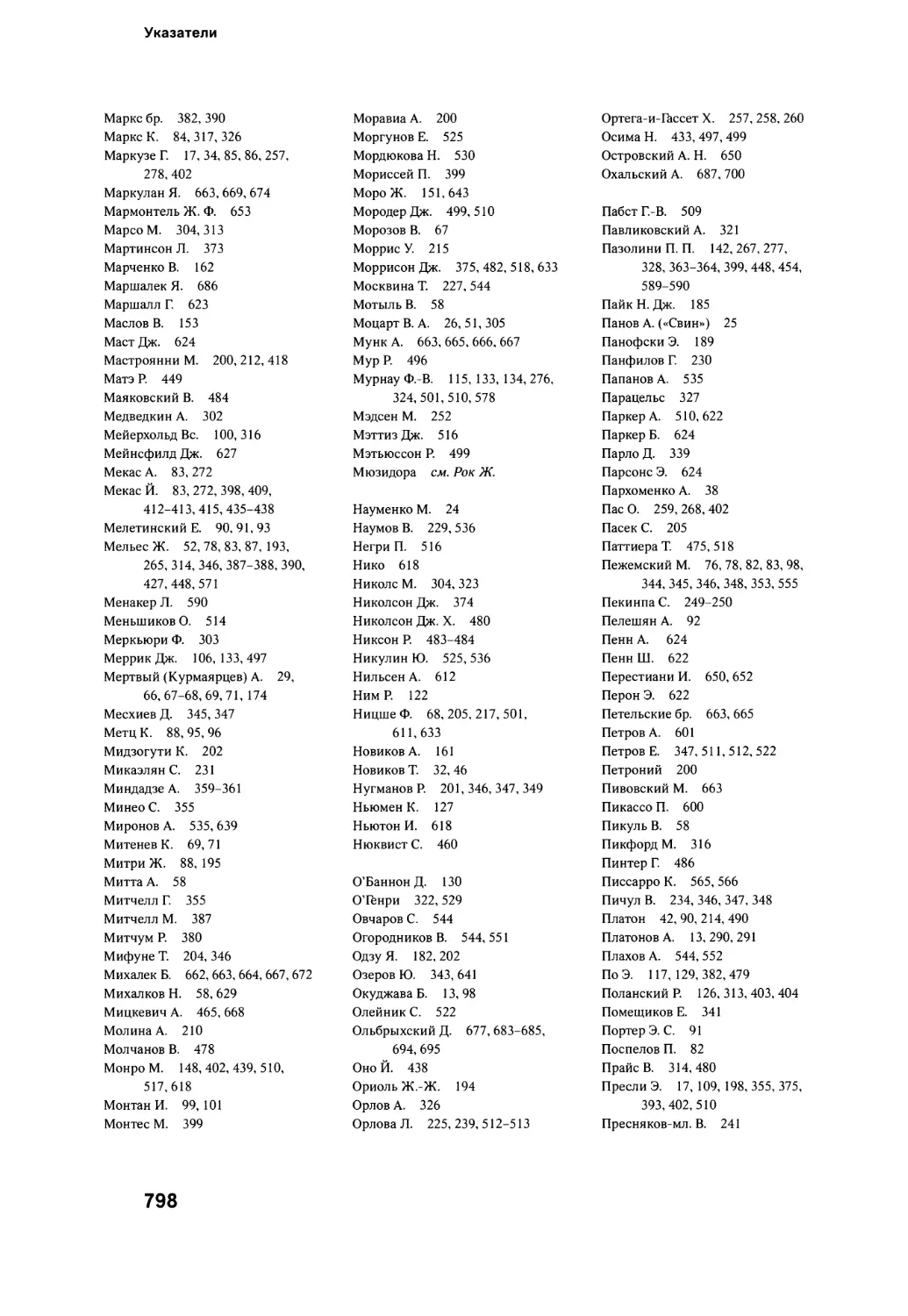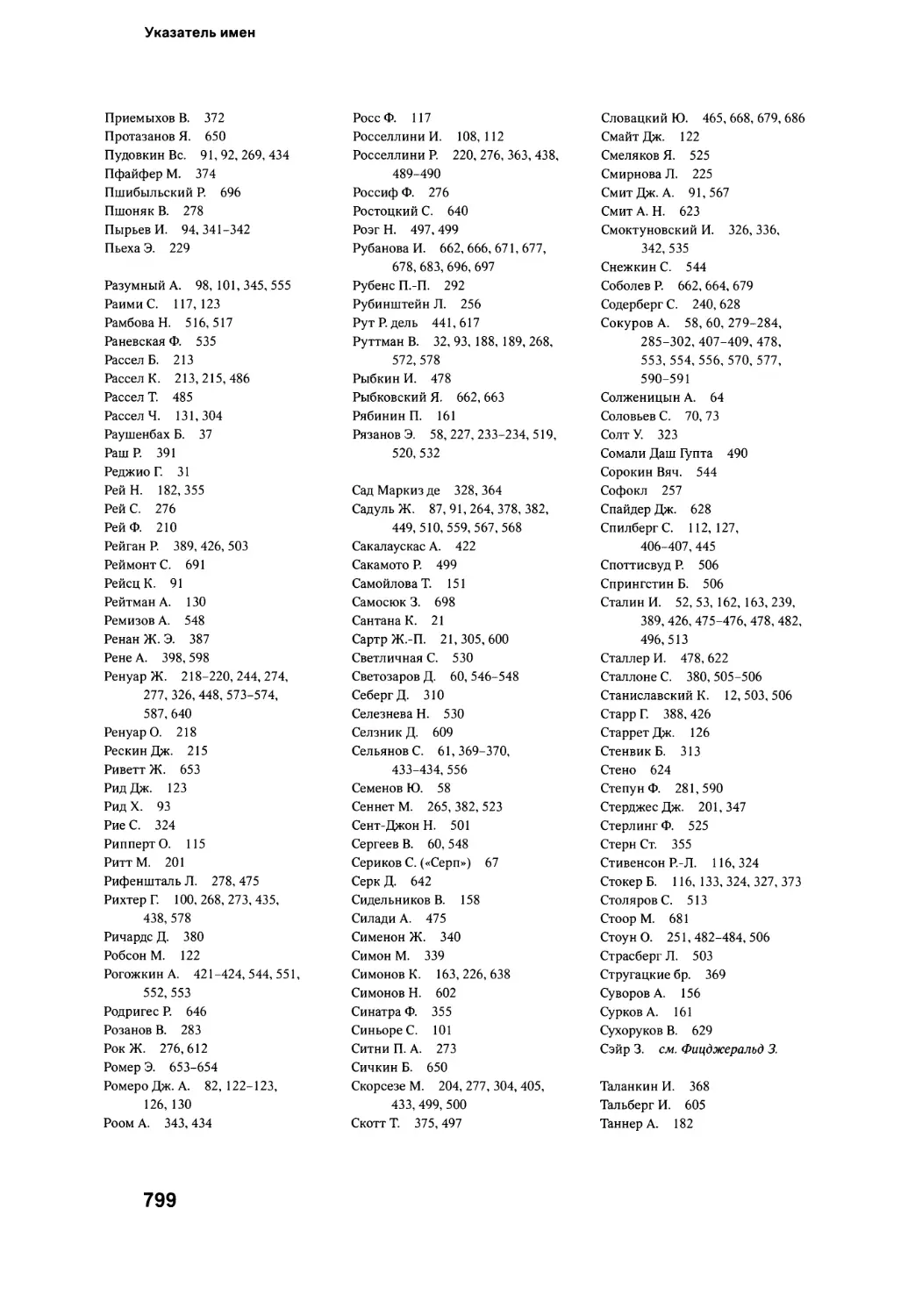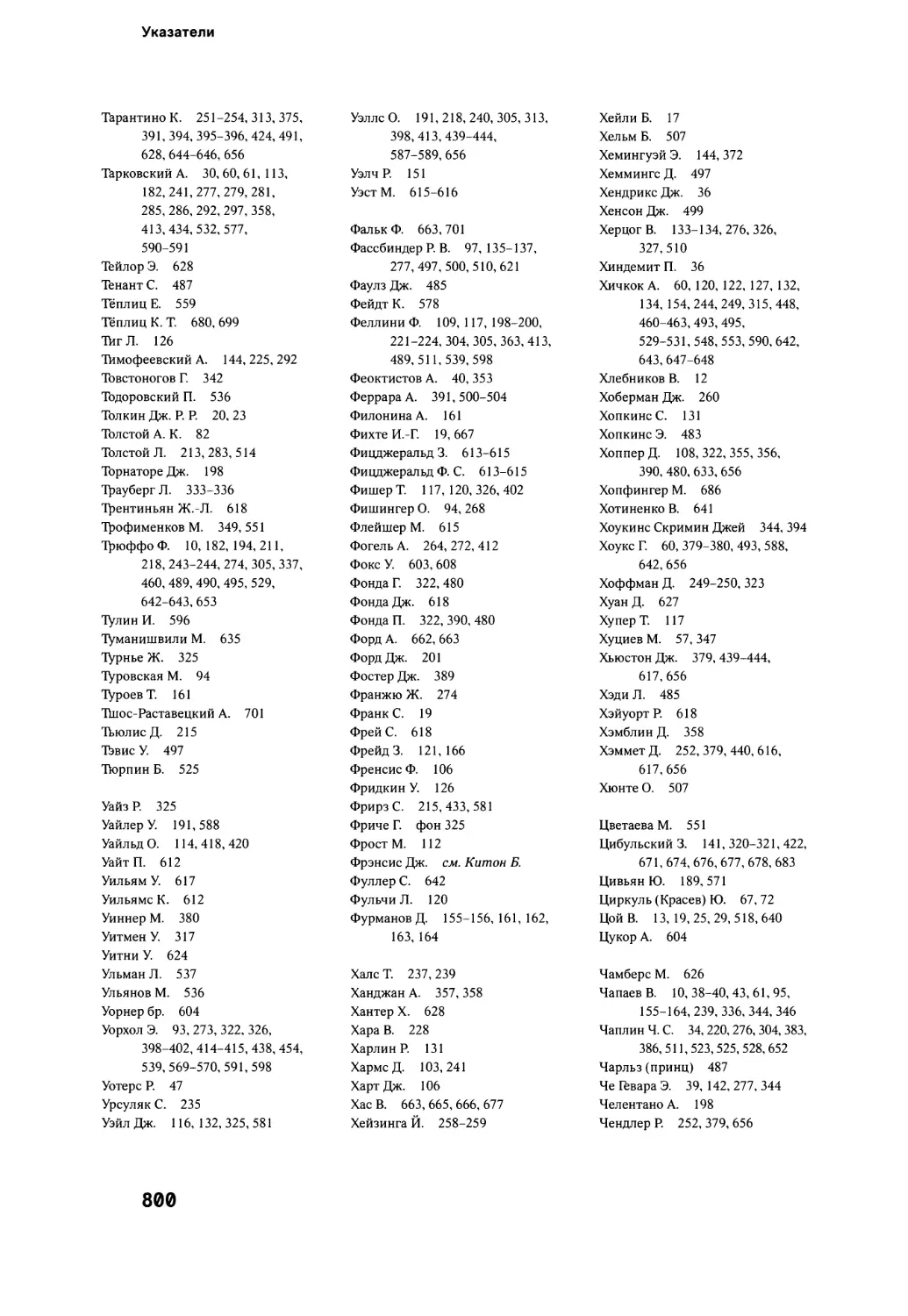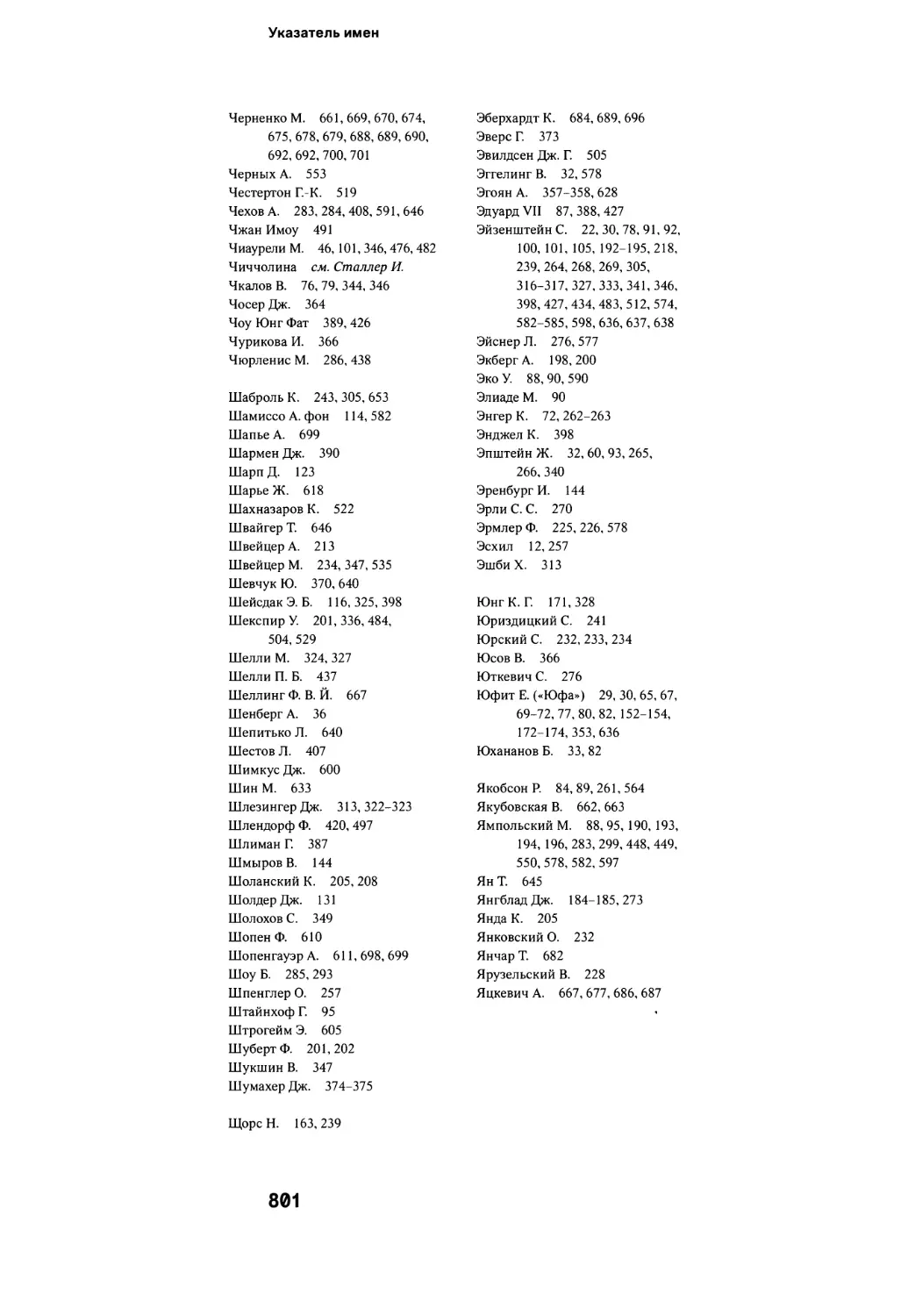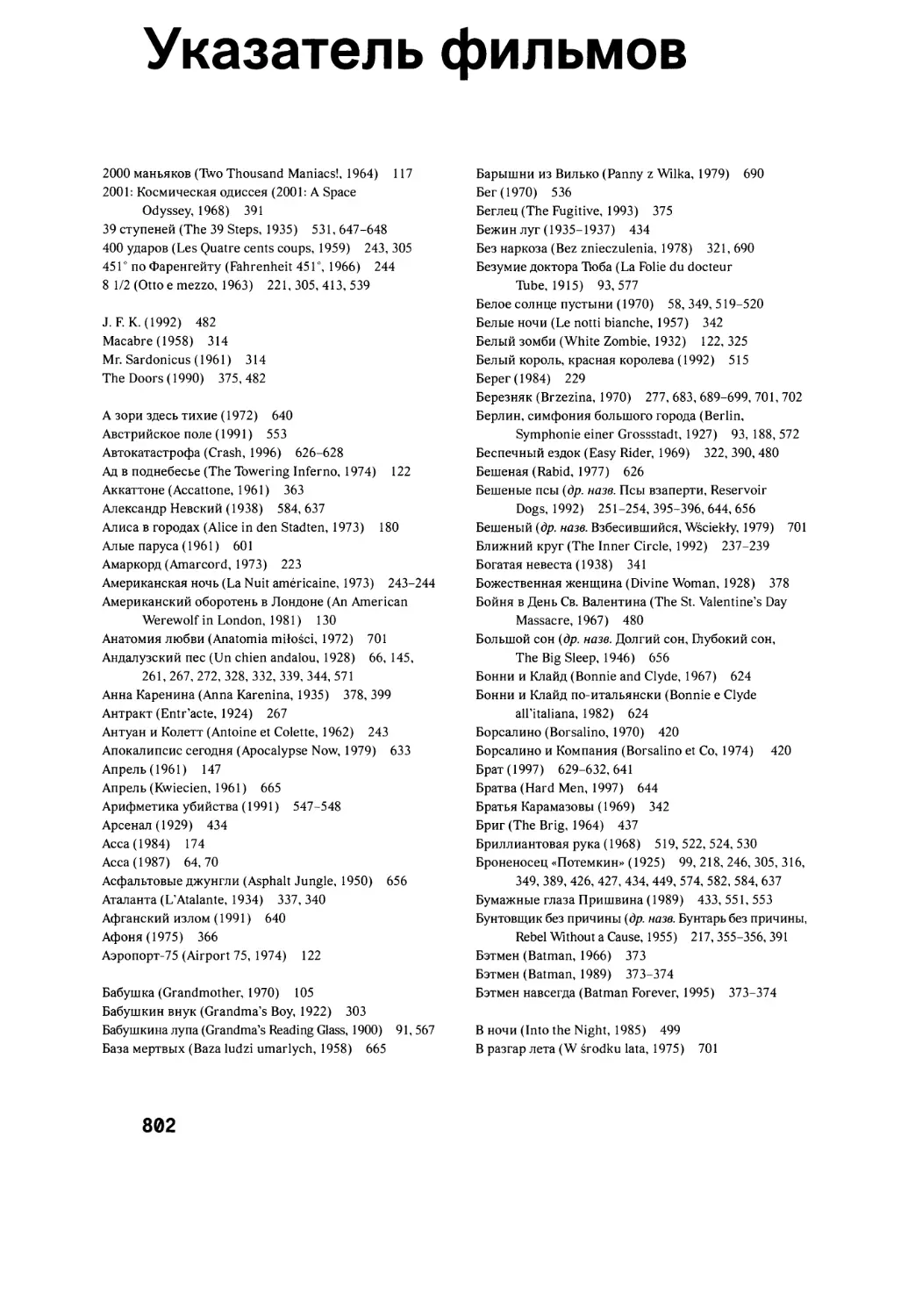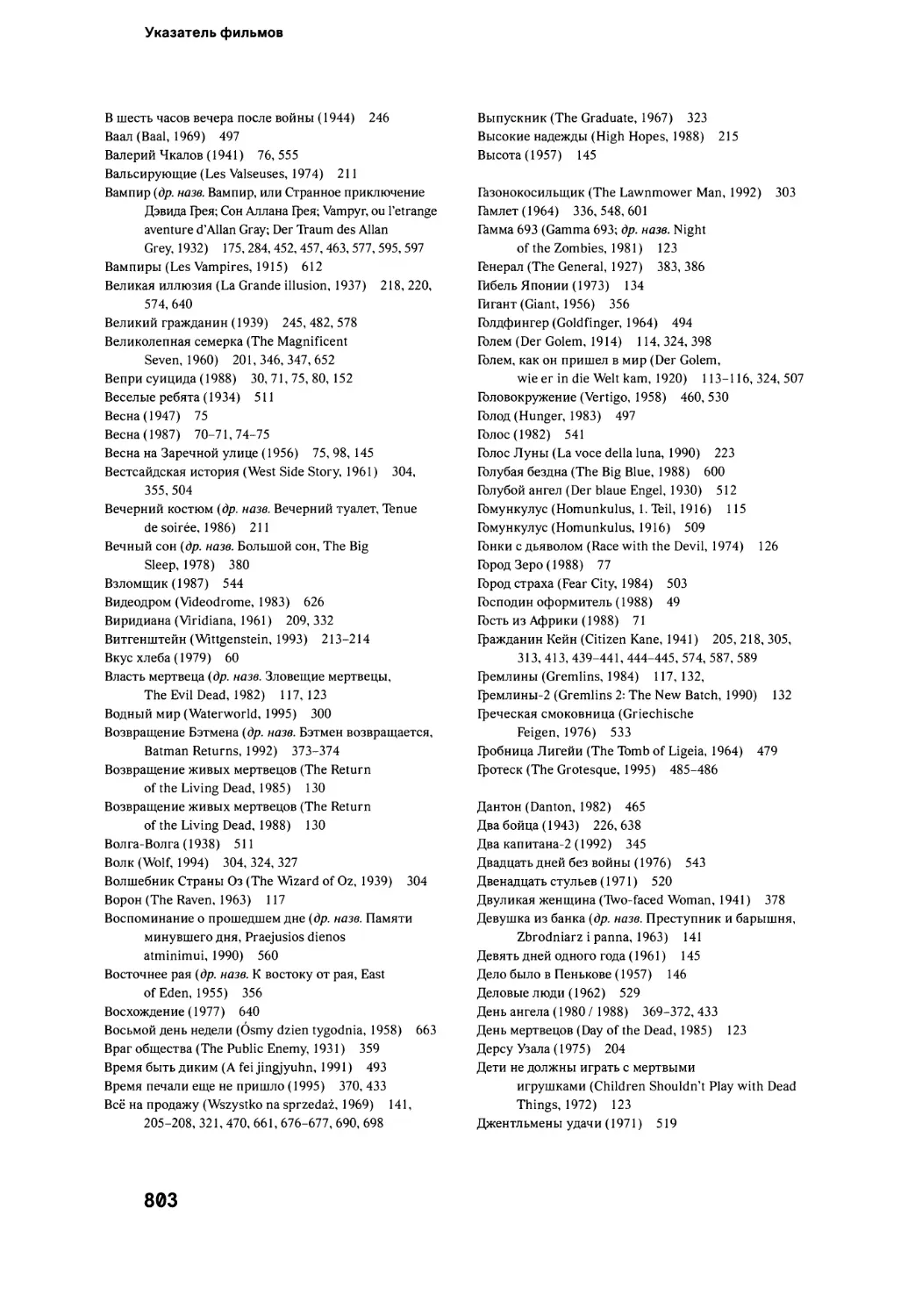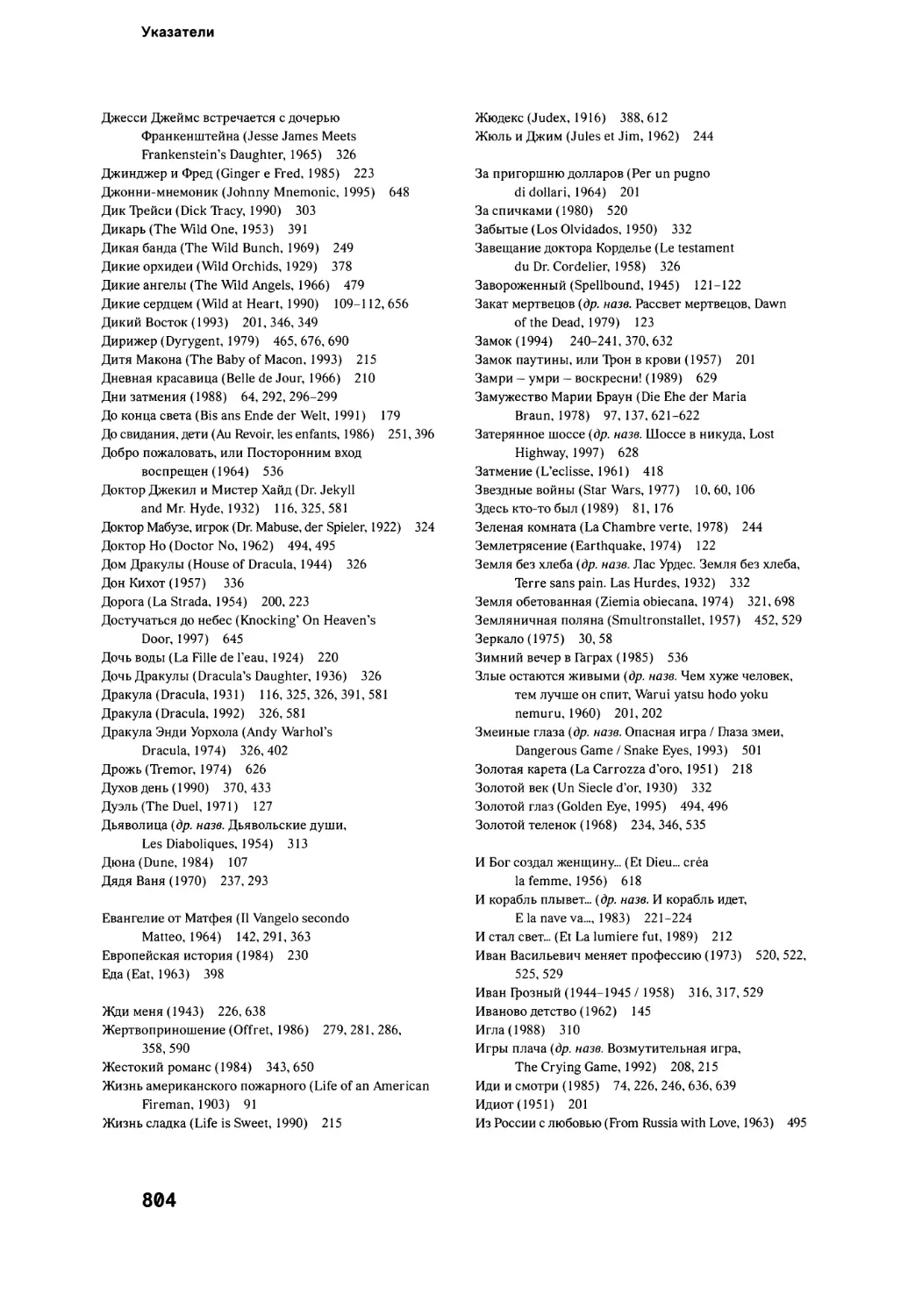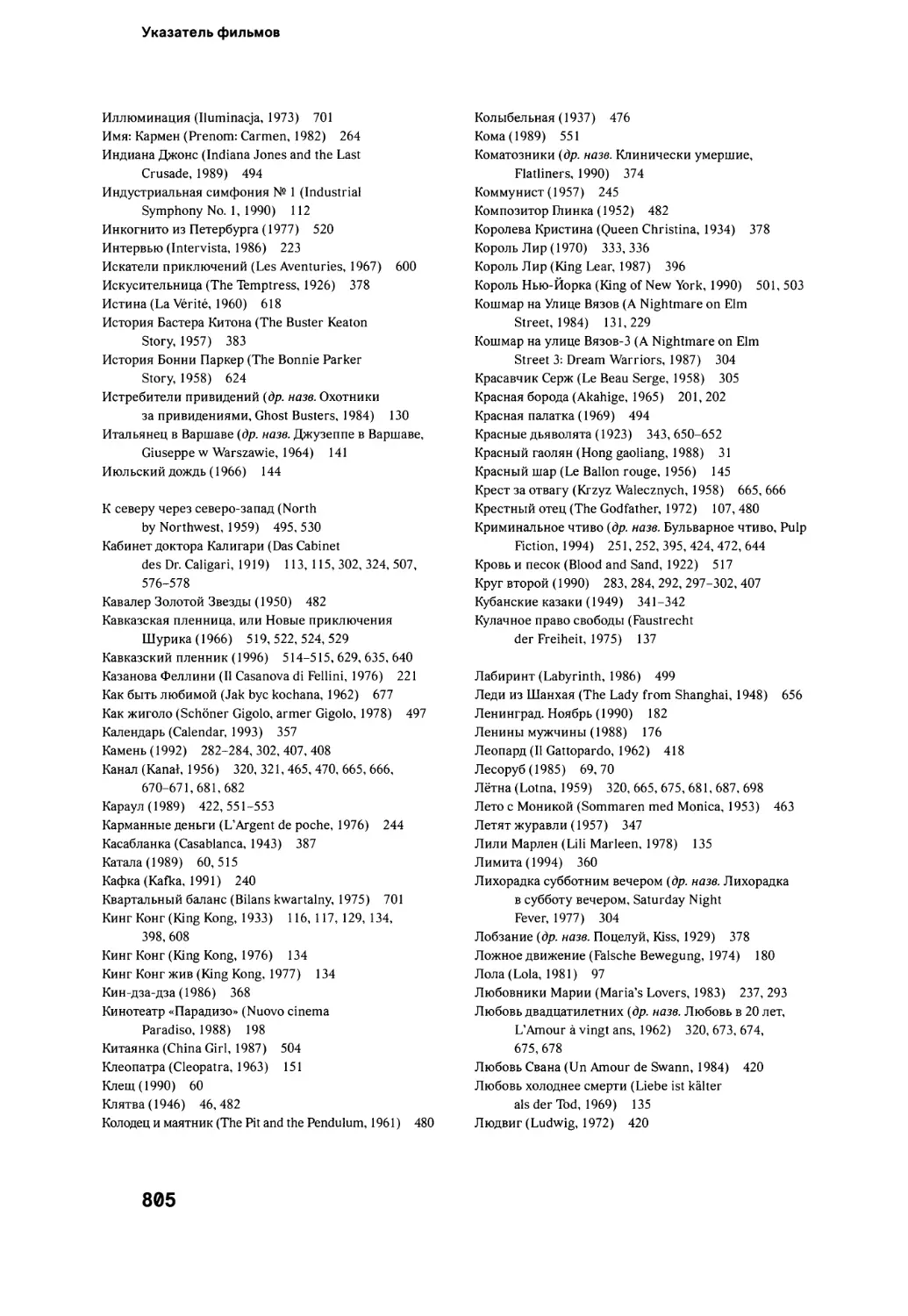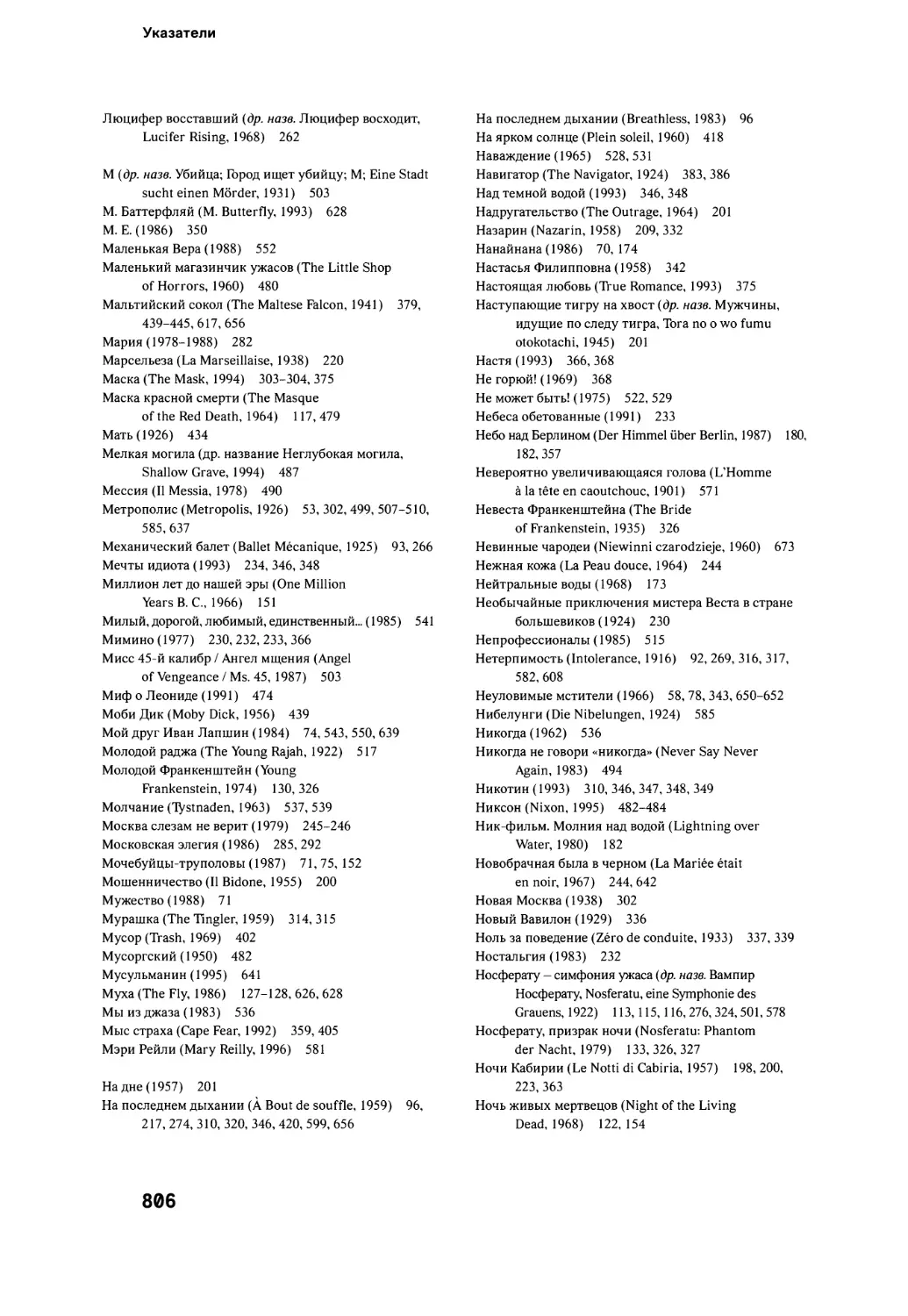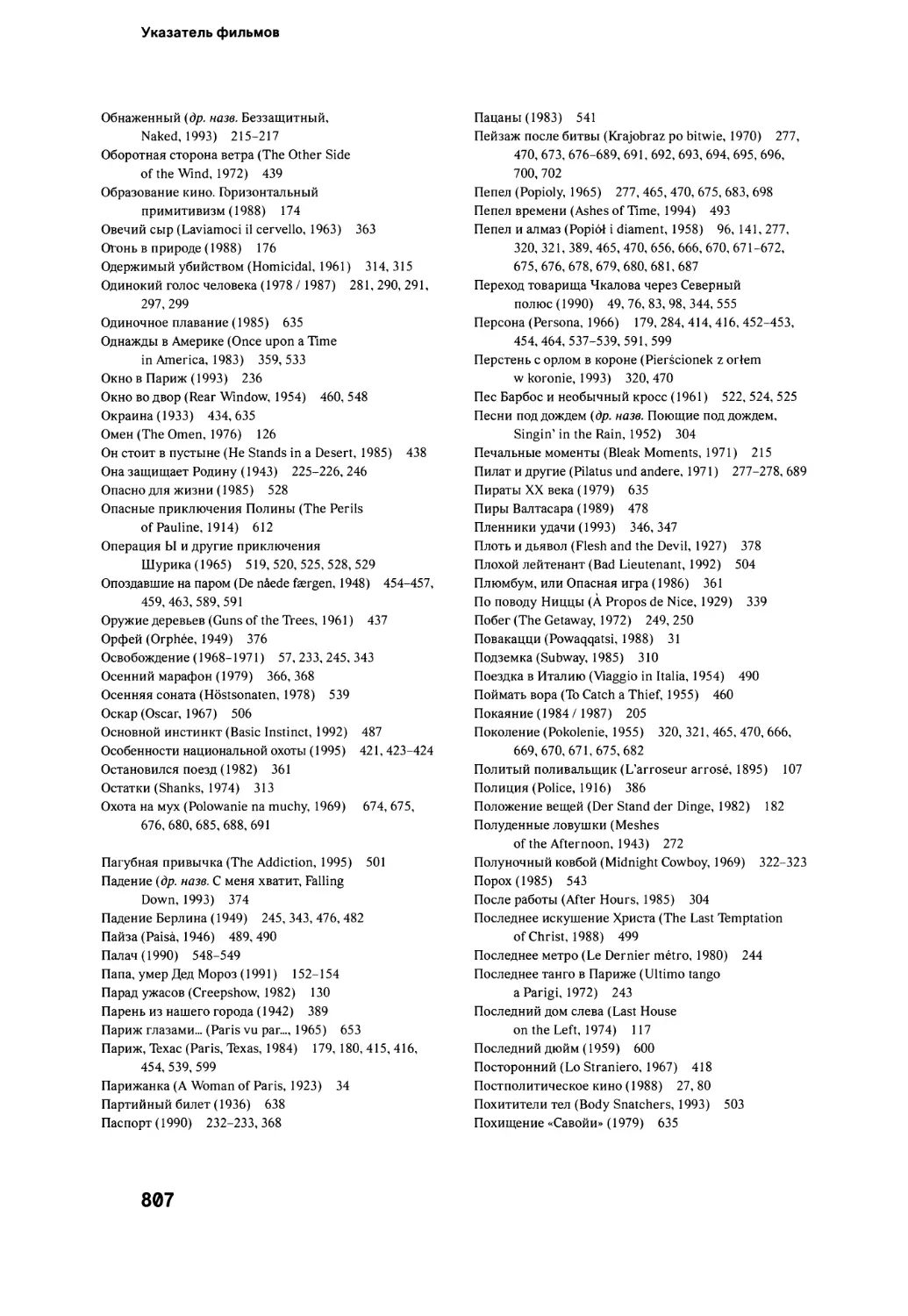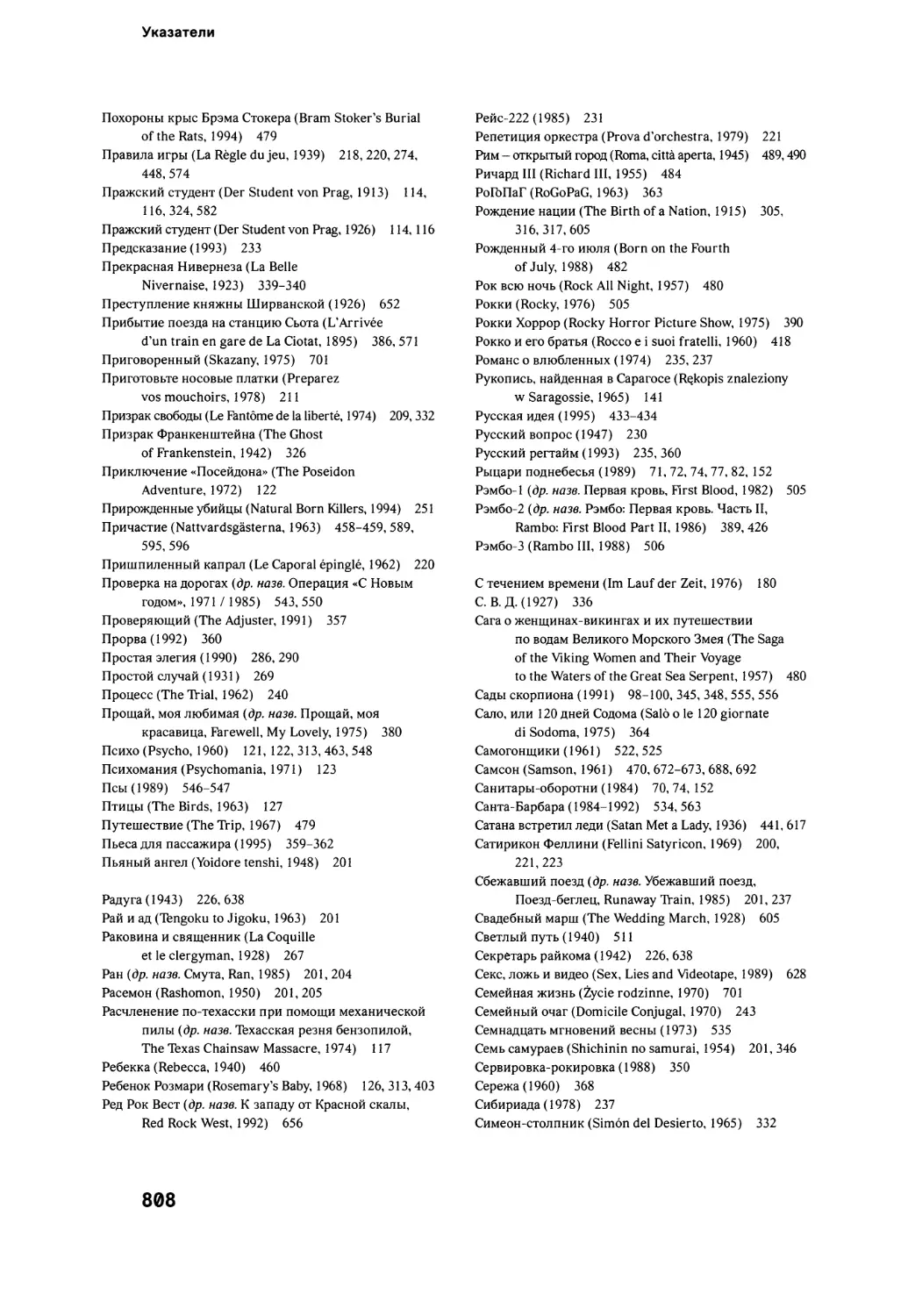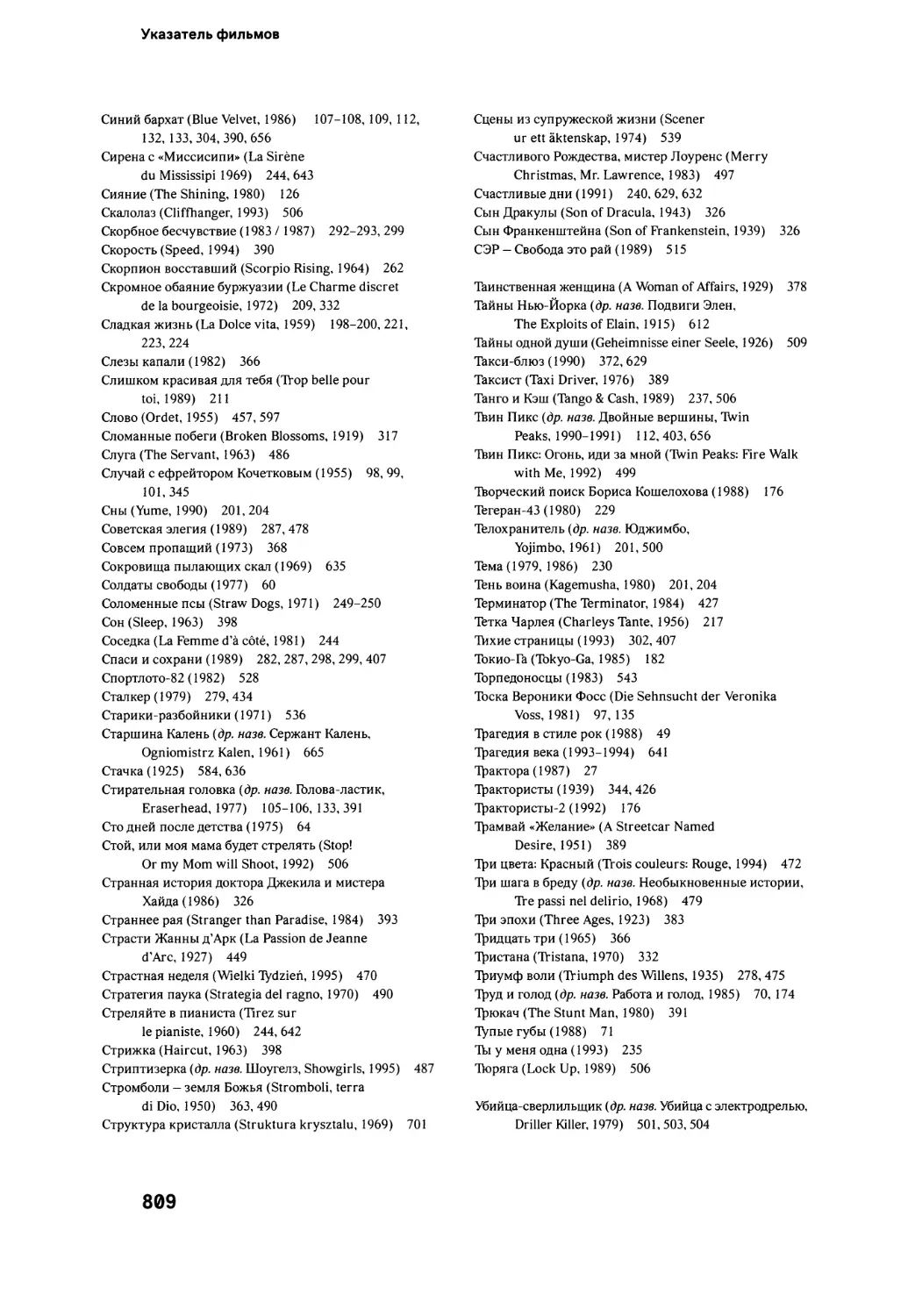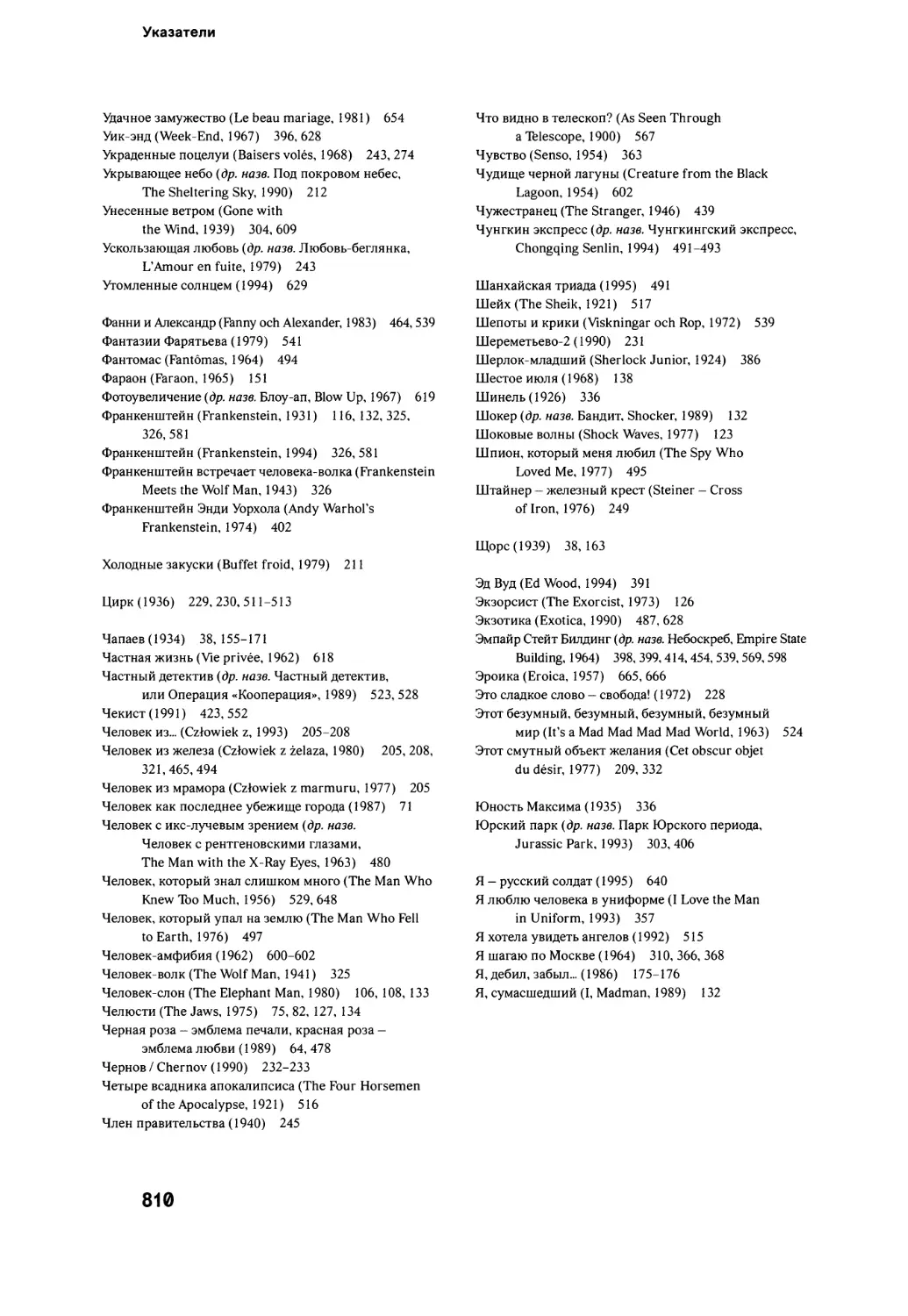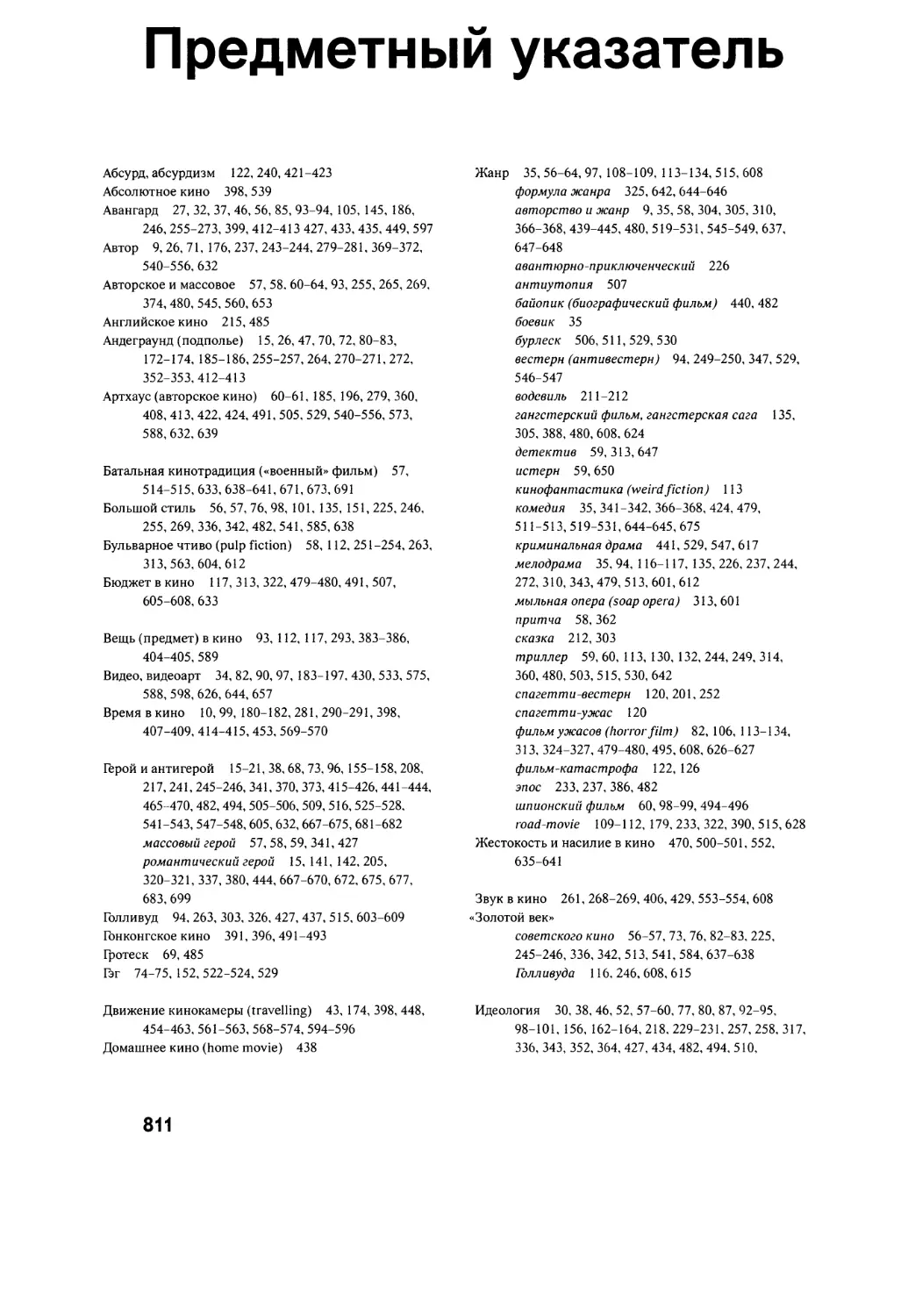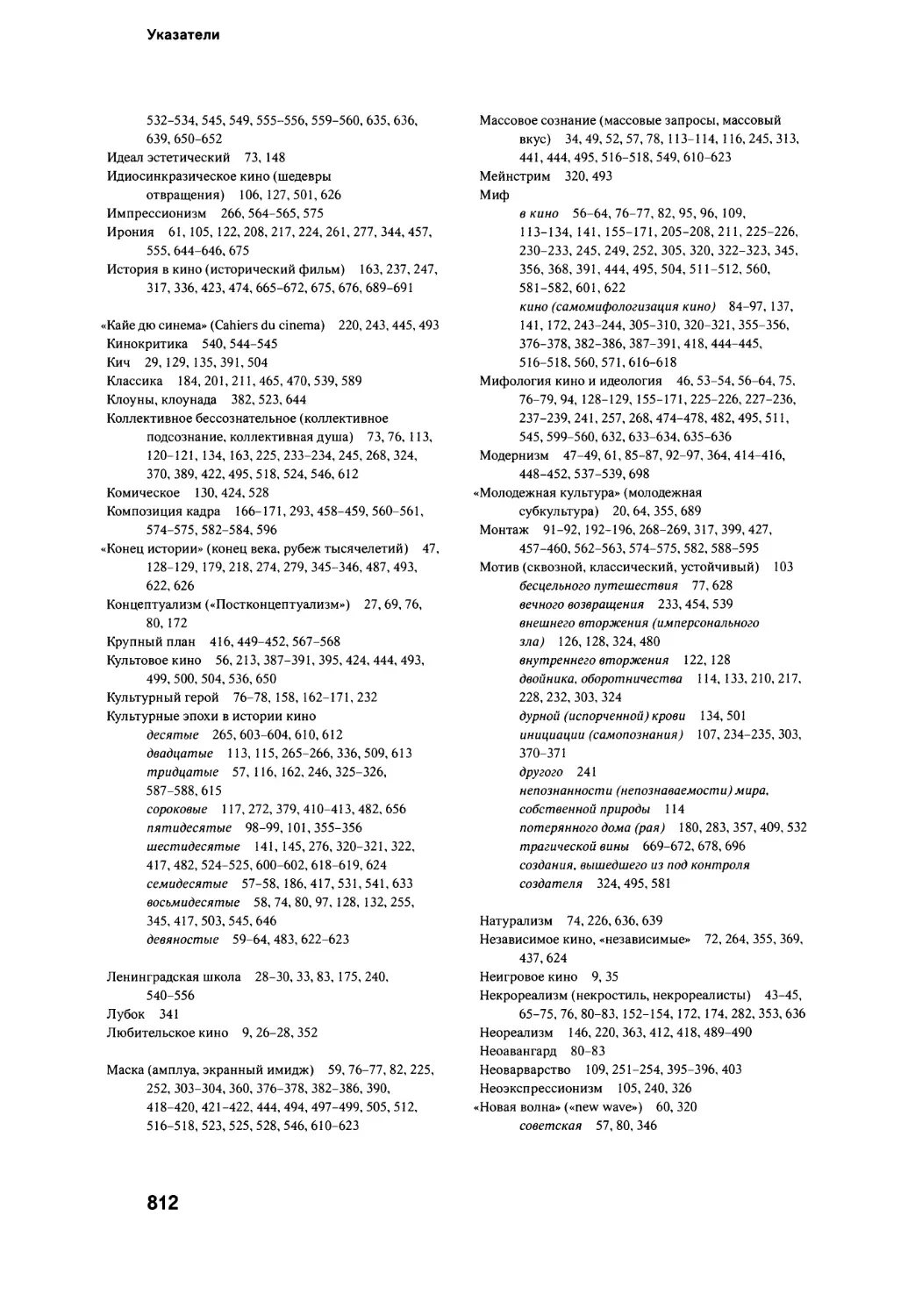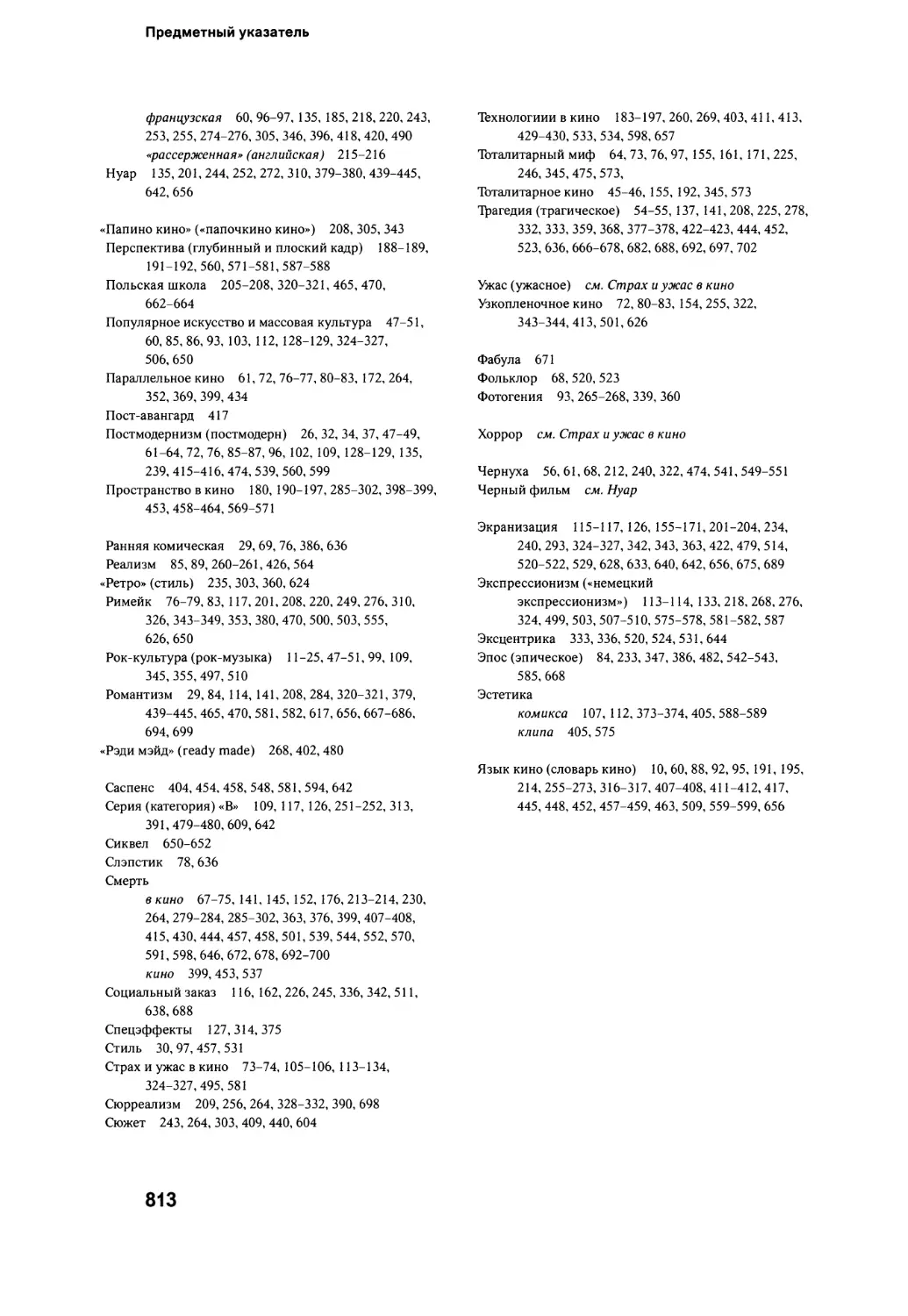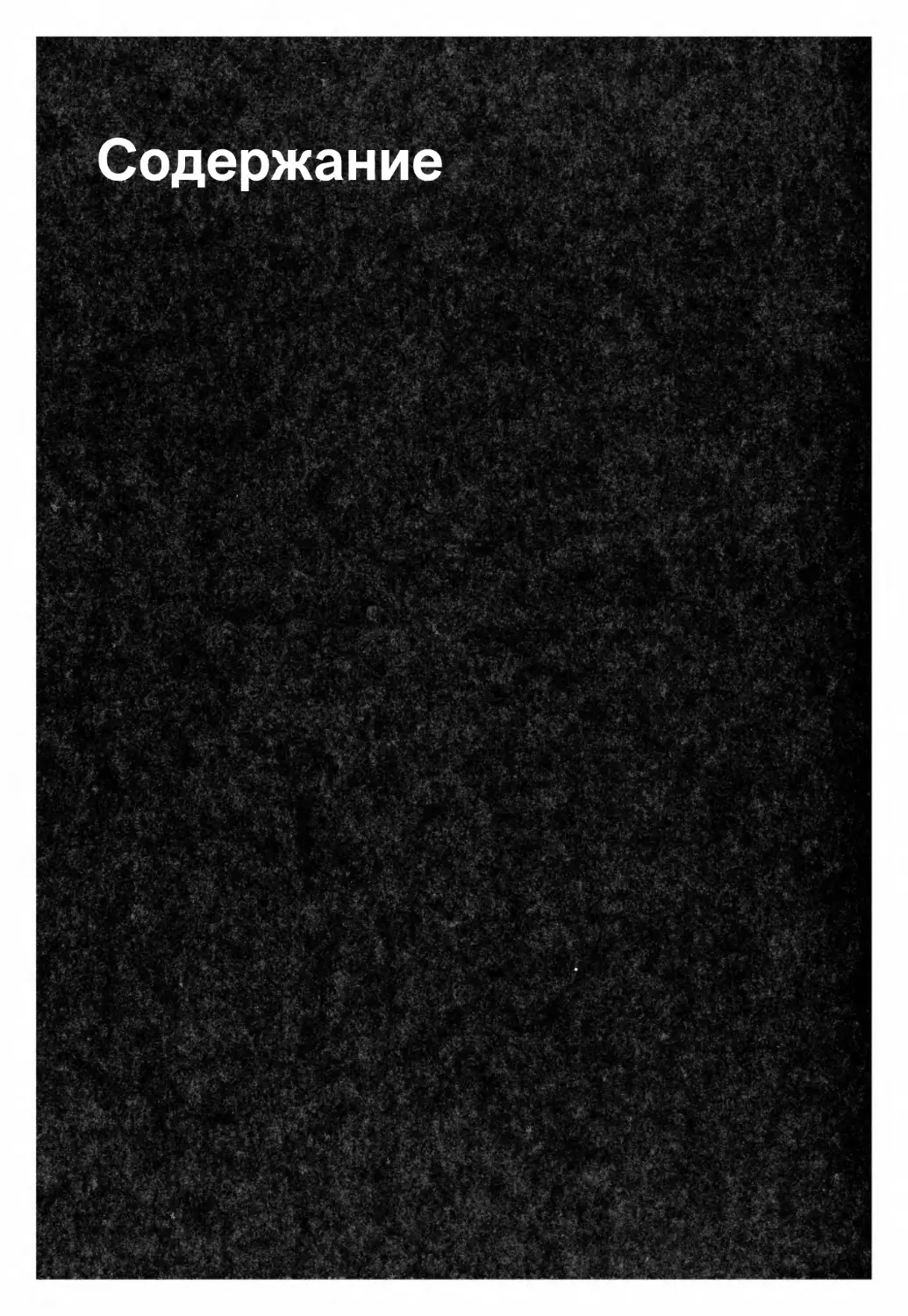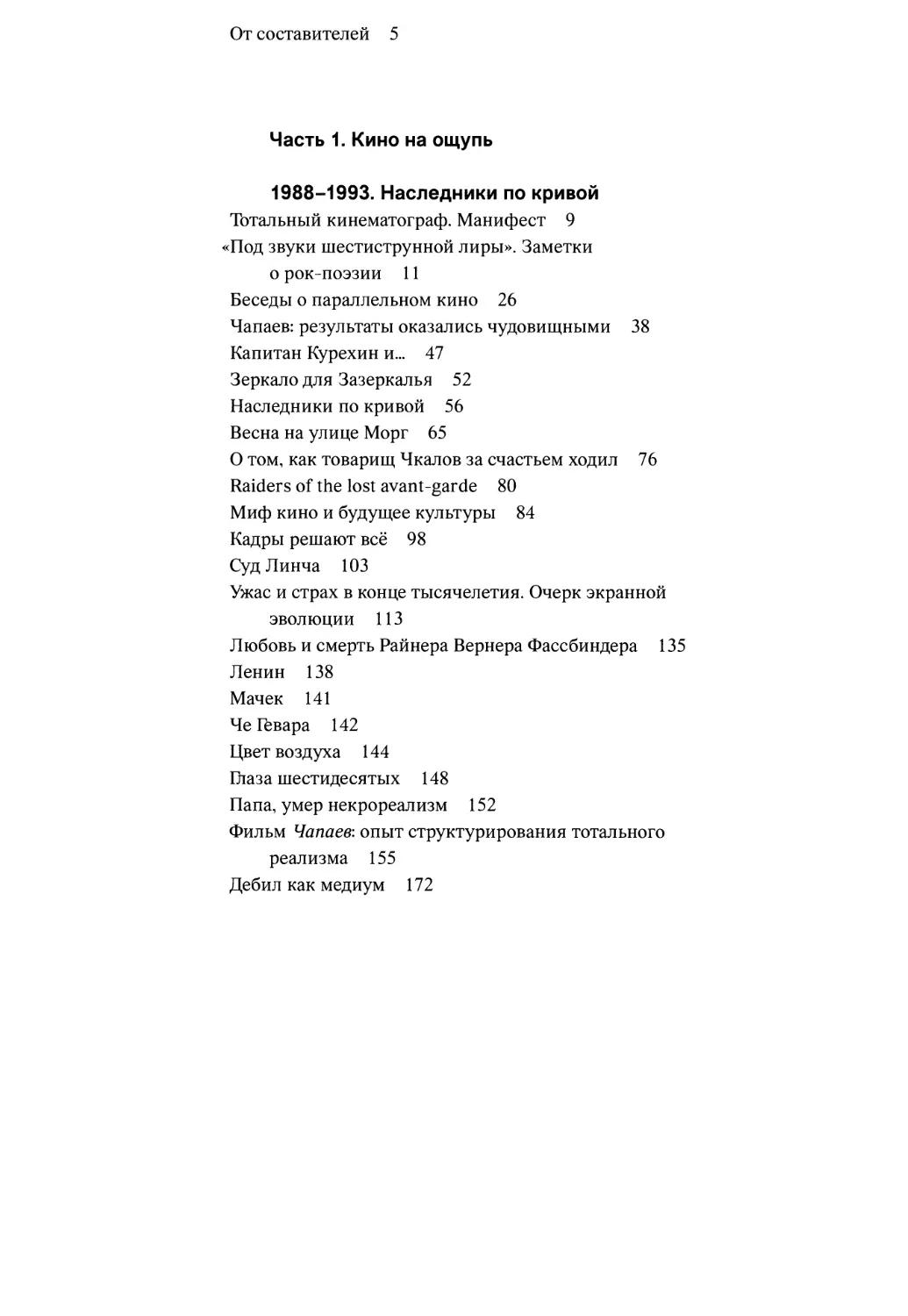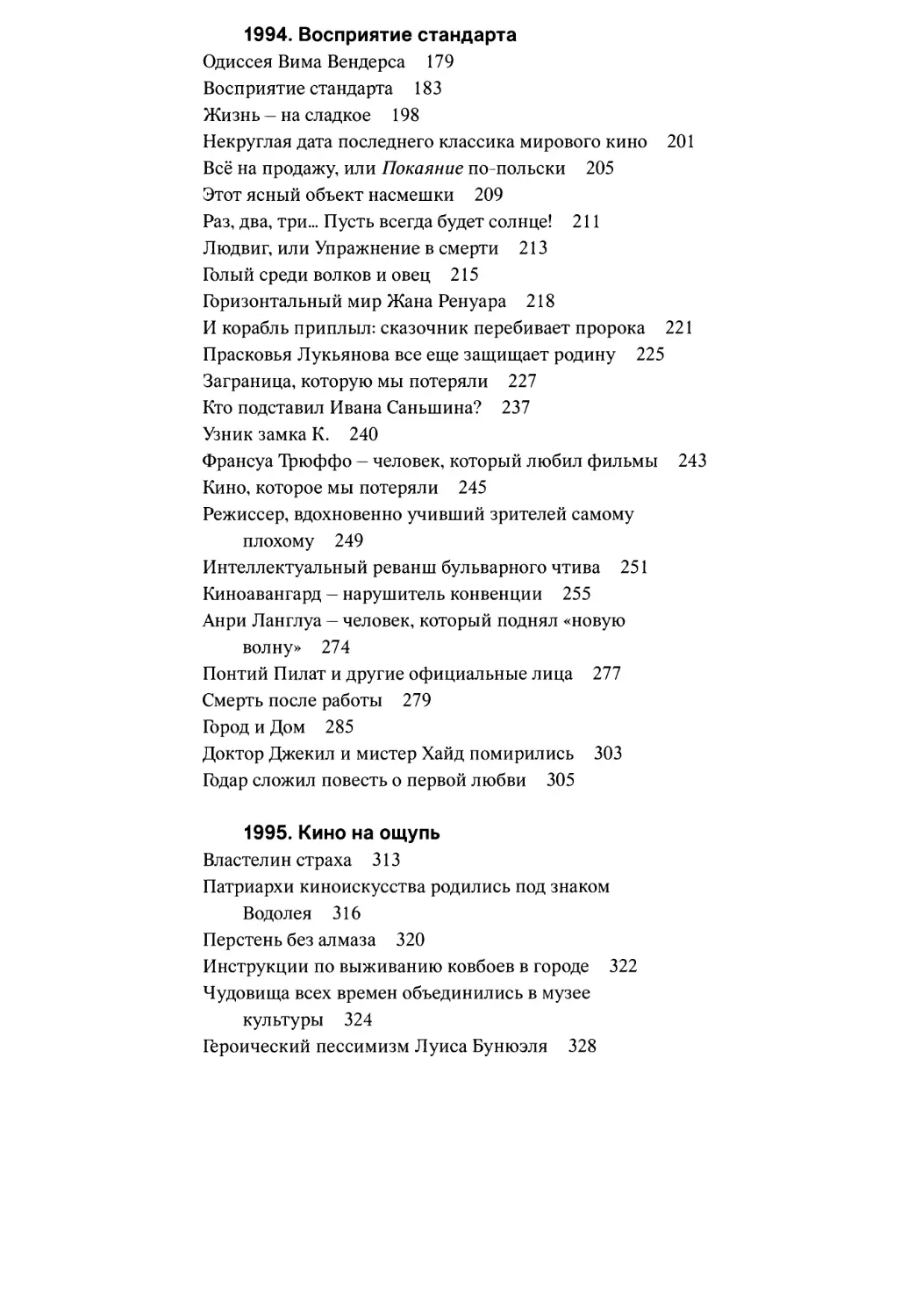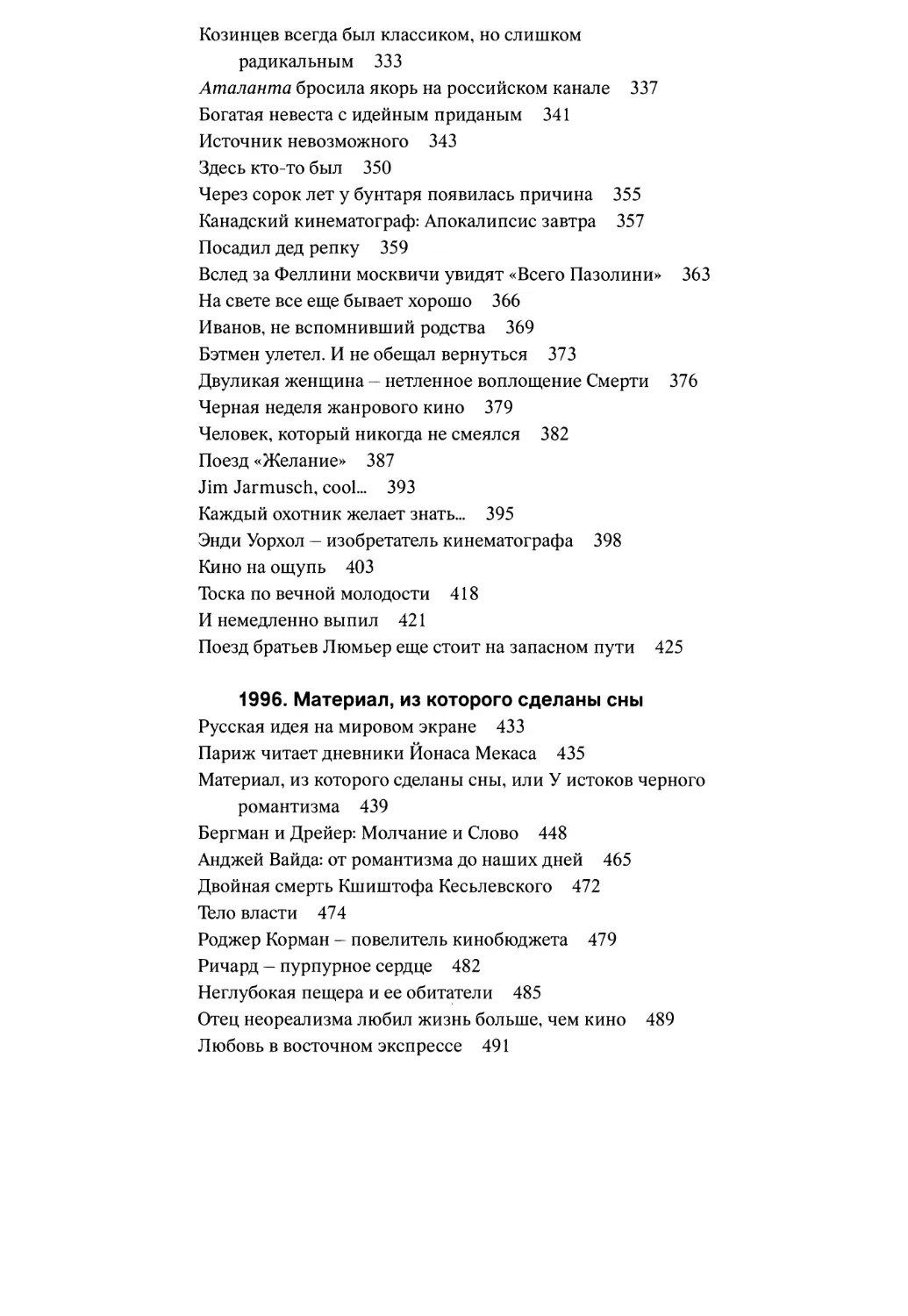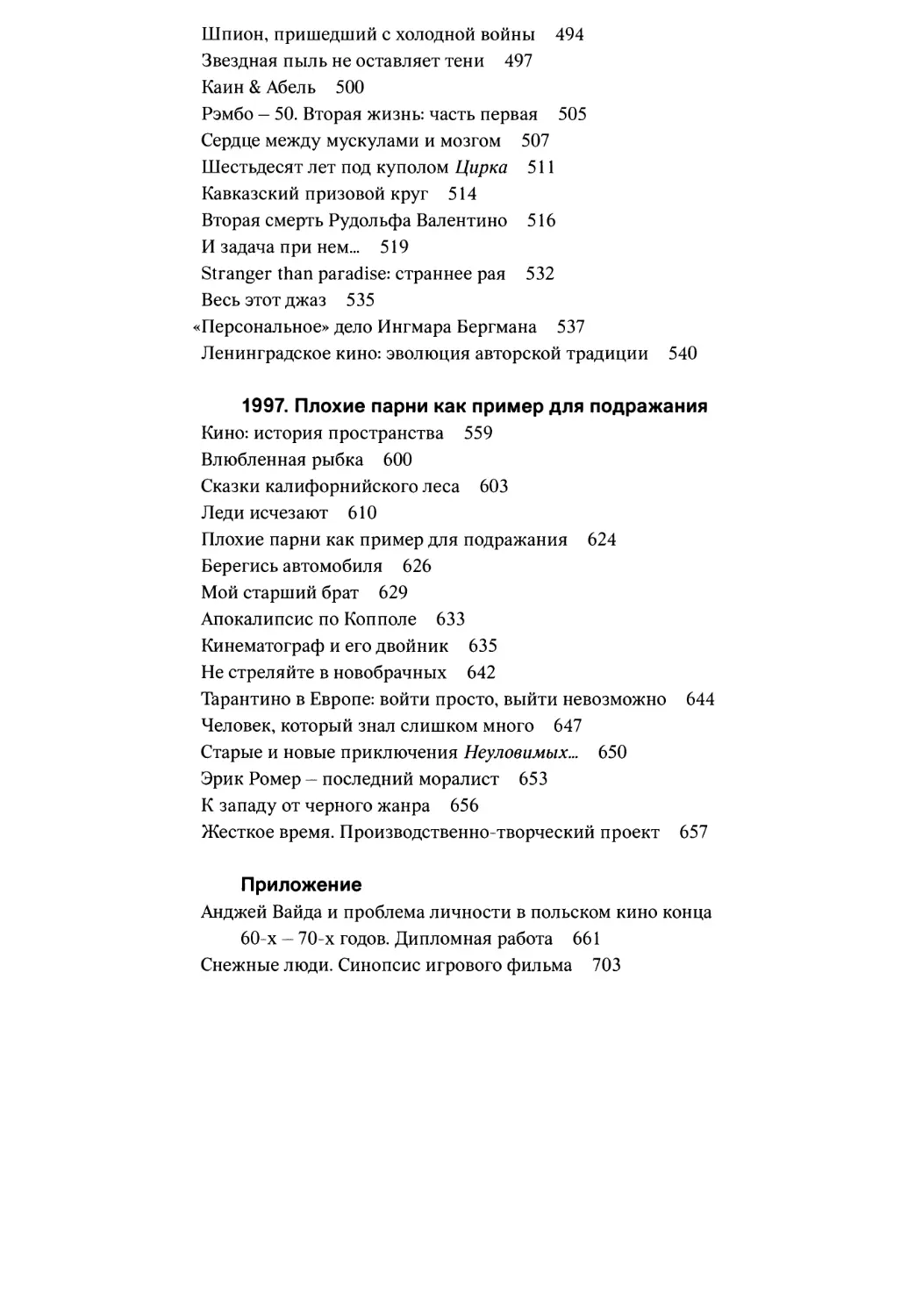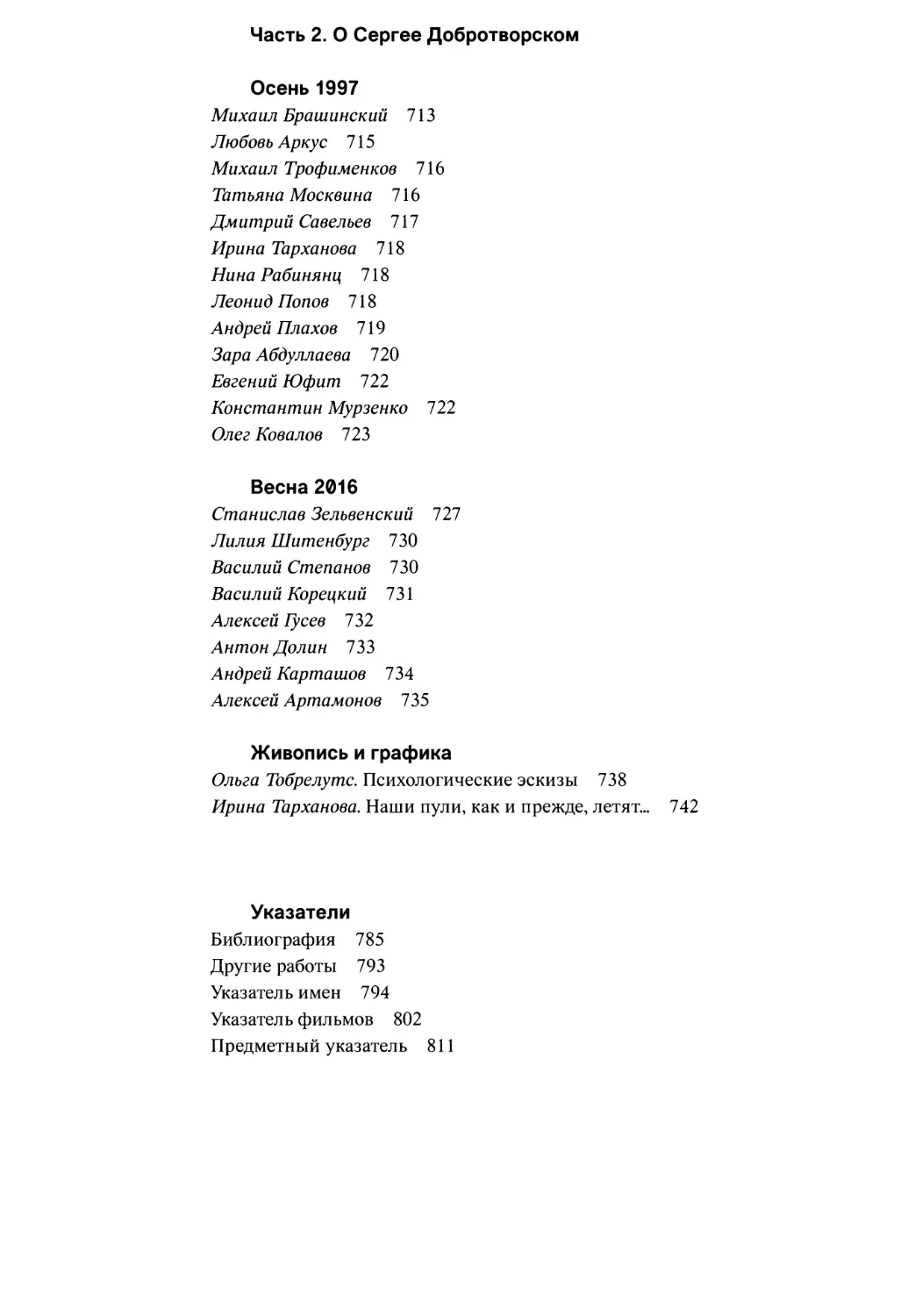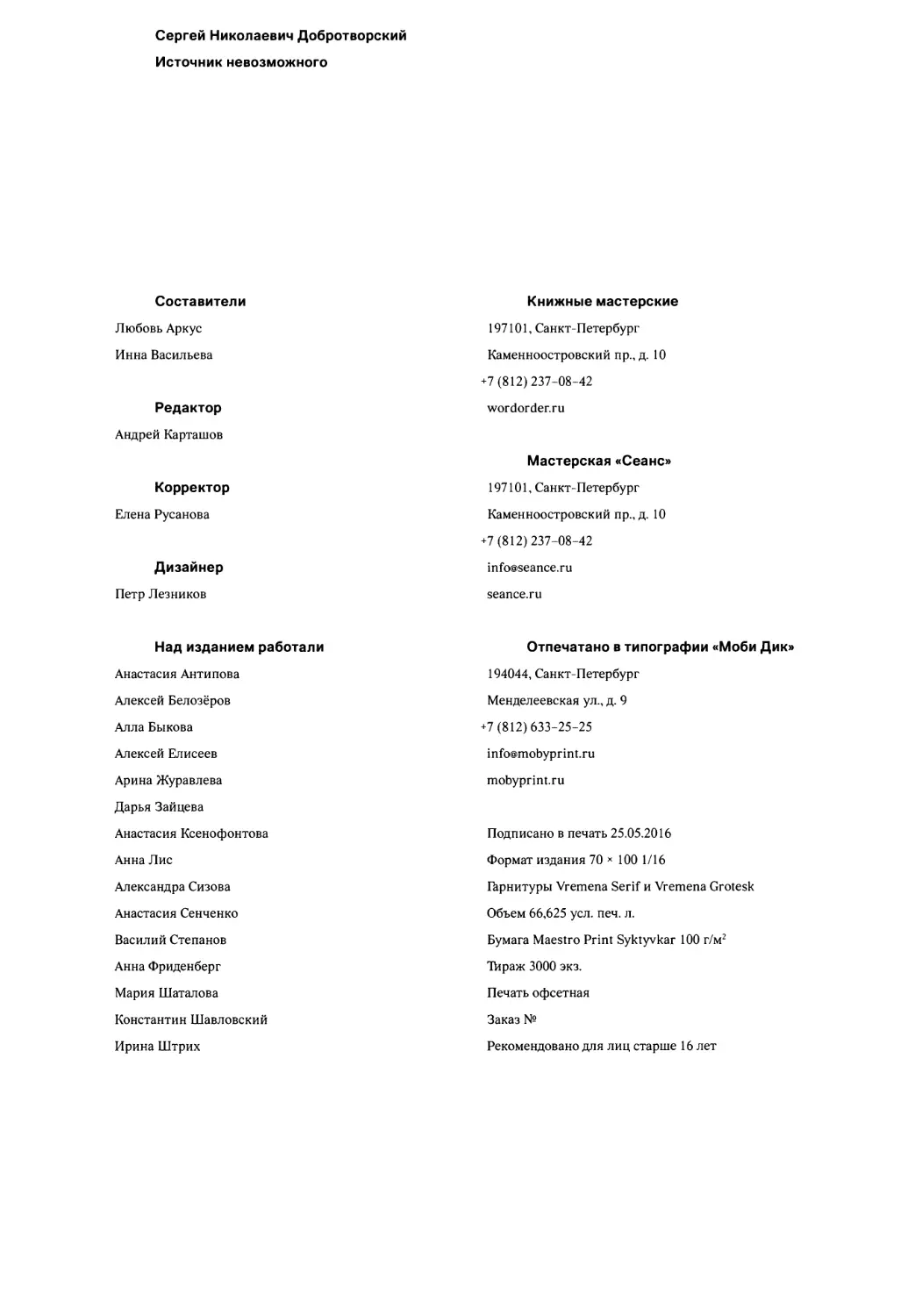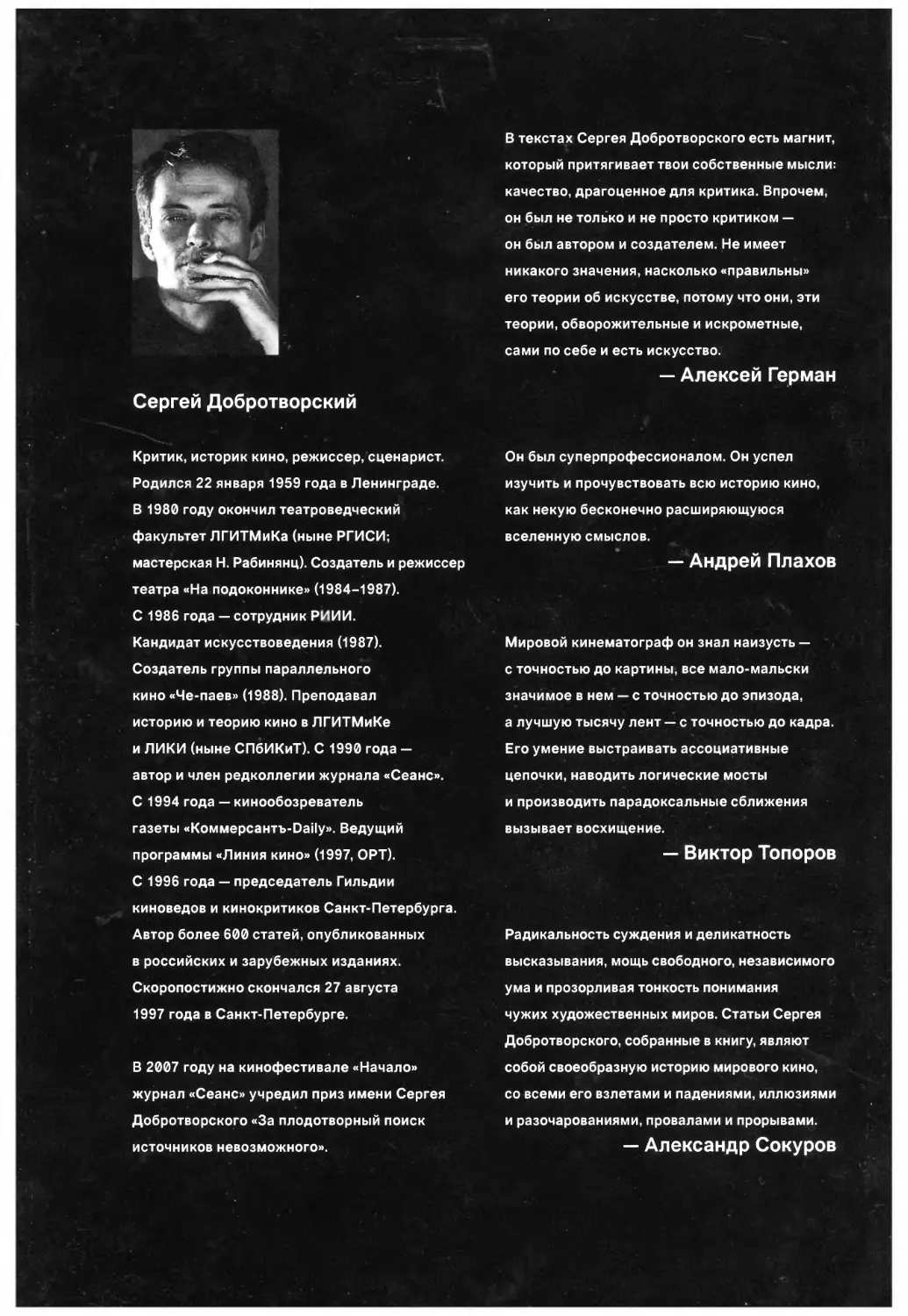Author: Добротворский С.
Tags: общество и кино история киноискусства кино научные исследования
ISBN: 978-5-905586-17-0
Year: 2016
Text
Сергей
Добротворский
Источник
невозможного
Санкт-Петербург
«Сеанс»
2016
ББК 85.373(0)
УДК 791.43
Д56
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»
Д56 Добротворский С. Н.
Источник невозможного. - Сб. статей и интервью: 1988-1997. - СПб.: Сеанс, 2016. - 820 с., ил.
ISBN 978-5-905586-17-0
В книгу вошли более ста текстов Сергея Добротворского по истории и теории кино: академические
статьи, журнальные эссе, газетные рецензии, расшифровки лекций и интервью. В качестве приложения
публикуется дипломная работа автора и синопсис нереализованного игрового фильма. Вторую часть
сборника составляют тексты о Сергее Добротворском, в том числе о его живописных и графических
работах, публикуемых впервые.
ББК 85.373(0)
УДК 791.43
В оформлении обложки использован коллаж С. Добротворского. В оформлении шмуцтитульных листов
использованы фотографии А. Титаренко. Благодарим за помощь в подборе иллюстраций: Е. Петрову
(Государственный Русский музей); В. Лошкареву и Л. Киселеву (издательство «Чистый лист»); Л. Кучер
и Е. Орлова (Музей нонконформистского искусства); А. Белахова (Санкт-Петербургская студия
документальных фильмов); А. Загулина (Российский институт истории искусств); В. Илюшкину
и А. Курехину (Центр современного искусства им. С. Курехина).
ISBN 978-5-905586-17-0
©2016 Добротворский Н. П., Добротворская Е. Я.
© 2016 Титаренко А. В.
©2016 Книжные мастерские
©2016 Мастерская «Сеанс»
«Источник невозможного» — сборник статей, эссе и монологов Сергея Добротворского,
одного из лучших кинокритиков, писавших на русском языке. Сборник составлен на основе
ставшей бестселлером книги «Кино на ощупь», которая издавалась «Сеансом» дважды —
в 2001-м и 2005 годах. Читатель держит в руках, по сути, ее третье издание, существенно
дополненное, — по объему оно почти на треть превосходит предыдущие.
Новой книгой мы хотим не только актуализировать в киноведческом поле тексты
Добротворского, но и приоткрыть для читателя личность их автора, показав эволюцию
во времени его взглядов, чувств, мыслей.
Некоторые из дополнивших сборник текстов обнаружились в домашних архивах родителей
и друзей Добротворского, другие появились благодаря оцифровке самиздата и периодики.
В приложении впервые печатается дипломная работа автора, которая сохранилась в архиве
Российского государственного института сценических искусств.
Киноведческие тексты Добротворского в настоящем издании предстают наряду с иными
его творческими воплощениями: манифестом параллельного кино 80-х, адептом и идеологом
которого он являлся; его живописно-графическими опытами; а также одним из сценарных
экспериментов в проекте «малобюджетного кинематографа» — начинании, с помощью
которого он надеялся взять «на абордаж» рассыпавшуюся под камерами реальность 90-х.
«Источник невозможного» — еще и мемориальное издание. Книгу завершают два блока
текстов о Добротворском: написанные в 1997 году, сразу после его смерти, коллегами
и друзьями, и в 2016-м, — новым поколением кинокритиков. Художественные работы
Добротворского публикуются впервые.
— Любовь Аркус, Инна Васильева
1988-1993
Тотальный кинематограф.
Манифест
Субъектив:
известно, что кинематограф бывает авторский и жанровый, коммерческий и под¬
польный, любительский и профессиональный. Бывает игровой и неигровой, цвет¬
ной и черно-белый, широкоформатный и узкопленочный.
Американский, японский, индийский. Всему миру известен феномен много¬
национального советского кинематографа.
Мы говорим о другом - о новом кинематографе, сводящем эти линии в еди¬
ную композицию. Мы говорим о тотальном кинематографе, или о кинематографе
тотальных структур.
Осваивая модернистскими методами постмодернистские структуры, новые
кинематографисты стихийно закладывают свою программу культуры «вертикаль¬
ного» типа.
Если понимать историю не как портретную галерею предшественни¬
ков, но как цепь приближений, обнаруживаем когорту убежденных борцов
с киноструктурами.
Случайность ракурса и света, монтажная грязь, отстранение кадра - снятие
иллюзий подлинности — баррикады на пути десоциологизации «важнейшего из
всех искусств». Степень авторского произвола - степень противостояния «геста¬
повскому насилию структур» (Жан-Люк Годар).
Внешность нового кинематографа вызывающе социологична.
Само по себе, впрочем, это утверждение говорит не больше, нежели о том, что
жизнеподобие есть величайшее средство в арсенале художника, полагающего це¬
лью «сквозной» отпечаток реальности.
Автор в кино интересен множественностью своей позиции. Находясь в трех
временах сразу:
собственно авторском,
реальном экранном
и художественно-реальном, то есть том, которое абсолютно достоверно ми¬
стифицируется экраном, - автор вынужден самоосуществляться в акции, состав¬
ляющей сегодня самое ядро эстетического занятия. А именно: сопрягать в одну ко¬
довую конструкцию единицы линейного построения.
Пока эти единицы существуют постольку, поскольку они единицы, мы встре¬
чаемся с повествовательным кино и вполне кустарными методами борьбы
с ним (если у Брессона в кадре человек и стена, то играет стена, а не человек. Если Ан¬
тониони снимает цветную картину, главное в ней то, что это именно цветная картина).
9
Кино на ощупь
Иначе, когда линейной единице придается объем.
Здесь начинается новое кино с его тотальным насилием над стереотипом, ма¬
трицей и вообще всякой символикой.
Заметим: время при всей своей линейной текучести - один из самых фикси¬
рованных общественных символов. Не потому ли в работе новых режиссеров мы
находим почти ритуальные ссылки на эпоху 50-х — время стертых лиц, плохой,
но добротной одежды и принципиальной возможности дружбы между мужчиной
и женщиной. Это время времен. Период, который отложился в нашем общем ге¬
нотипе совершенно безотносительно содержательных характеристик хроноса, но
как сумма общественных свершений. Время, о котором сами его участники до сих
пор помнят не с точки зрения — кто с кем спал, а кто кого разоблачал с трибуны.
Доминанта нового кино — тотальный перевертыш (а в слове перевертыш,
пущенном в эстетический оборот, есть намек на игру, обратимость, неокончатель¬
ность). Общественное время реконструируется на новом экране, чтобы показать
полную несостоятельность социализации киновремени. Узнаваемые черты обще¬
ственных пространств проявлены в угоду метафизике рядоположений.
Компрометирующий ритм нового кино оперирует многими единицами - от
прикладного термина до собственной мифологии кинематографа.
Вспоминая о традициях высокой теоретической культуры раннего, неанга-
жированного кино, новые режиссеры вводят в экранную систему возможности ее
словесного толкования. Потенцию вкусного разговора, где фигурируют гур¬
манские слова: склейка, цел-л-л-лулоид, монтажный кусок.
Объектив:
параграф омассовленного бытия. Вертикали, каноны экранного зрелища (Чапа¬
ев, Федор Сухов, Штирлиц) — иероглифическое письмо социума, его мифы, герои
и легенды в одном лице. Мы пишем субъектив и находим всего лишь тотальную
рефлексию. Кинорепрессии, шок, глобальный аттракцион — не большее, нежели
рикошет общественных репрессий, шока и аттракционности.
Объектив затеняет Годара и высвечивает Тфюффо, подобно тому, как у Люка
Бессона люминесцентная полоса взывает к памяти ветеранов-меченосцев из Звезд¬
ных войн.
Мы видим рождение кино, в котором данная киноречь не есть частный слу¬
чай языка, но и прообраз языка в целом, каждый знак — объем значения, данный
текст - весь контекст, штабеля горизонталей - постамент метаизмерения новой
художественности.
Мы идем дальше.
«Сине Фантом». 1988. № 10. Текст опубликован под псевдонимом Ольга Лепесткова.
10
1988-1993
«Под звуки шестиструнной лиры».
Заметки о рок-поэзии
Четыре точки зрения...
«Мы просто писали и пели песни, это уже критики, а за ними и слушатели
превратили их в политику и философию и сделали указателями на пути
к новой жизни» (Джон Леннон. Из книги «Джон Леннон. Один день
во времени». 1976).
«Ты отведешь меня в сторонку и спросишь: «Дэвид, что же мне делать?».
И будешь ждать в коридоре. А я скажу: «Не спрашивай! Новых коридоров
я не знаю» (Дэвид Боуи. Из песни «Дикая жизнь тинэйджеров».
Альбом «Чудо-юдо». 1980).
«Теперь насчет музыки и текстов. Для меня одно от другого неотделимо.
Их нельзя оторвать, как невозможно пускать кино без изображения,
но со звуком» (Борис Гребенщиков).
«Советский рок - это, как правило, бардовская песня, исполненная
на электрогитарах. А рок-музыка — это прежде всего музыка» (Сергей
Курехин. Из интервью газете «Аргументы и факты» №31. 1987).
...и что от них зависит?
«Сидя на красивом холме, видишь ли ты то, что видно мне», - пел Борис Гребенщи¬
ков, словно взывая к известной легенде о башне из слоновой кости.
Сейчас уже очевидно: с «красивого холма» ему было видно куда больше, чем
иным со специально оборудованных наблюдательных вышек. В стихах, спетых
под аккомпанемент электрифицированной лиры, отразились вещи самых неожи¬
данных сортов и калибров. Родилась поэзия не в смысле складной версификации,
а в смысле самостоятельного, личного взгляда на мир.
«Дым поднимается вверх — и значит, я прав», - звучит сегодня голос Гребен¬
щикова с пластинки, изданной «Мелодией». Кто-то вспоминает при этом, что еще
недавно он был убежденно «лев» и вообще редко удосуживался запускать дымы
с целью выяснить, откуда дует ветер...
Что же все-таки зависит от точки зрения? Указанный в подзаголовке жанр
заметок — вовсе не дань искусствоведческому кокетству. Кроме того, я отдаю
себе отчет в насильственном характере поставленной задачи. Слово, пропетое
11
Кино на ощупь
Мансарда Бориса Гребенщикова. Фот. Андрей Усов. 1985
в роке, неотделимо от мелодии. Слово явлено не с листа — в пространстве, в го¬
лосе и интонации исполнителя. В той магической зоне между сценой и залом,
о которой знали великие мастера театра - от Эсхила до Станиславского. Это уже
не просто количественный баланс, но новое качество слова, слияние многих
смыслов, сочетание вечных звуковых и культурных, оформленных образностью
миров.
Это, если хотите, первосущность слова, умноженная многоваттными усилите¬
лями. Тот «божественный глагол», который материализует энергию контакта, ося¬
зает неосязаемое, объясняет необъяснимое.
Поэзия родилась прежде письменности. Записанная поэзия - душа, вопло¬
щенная в знаке. Ее апофеоз и парадокс - визуальная геометрия, графика сти¬
ха, в то время как сущность, по точным словам Хлебникова, — взаимодействие
вещества с пустотой, отношение ударного и не ударного места. И сейчас, ко¬
гда вместе с памятью о вечерах в Политехническом уходит вкус к публичному
12
1988-1993
чтению, к поэтическому Собору и братству во слове, быть может, только музы¬
ка охраняет начало начал стиха - быть заполнением пустоты, ударным местом
сердца?
Устная поэзия всегда тяготела к музыке. В этом спасительном единстве виден
важнейший генетический код сегодняшней рок-поэзии. В одном ряду шифруются
и бесхитростные вирши о любви и измене, развернутые сюжетные баллады о «кир¬
пичиках» и «девушке из Нагасаки», дворовый фольклор и гитарные гимны 60-х.
Низовой пласт городской культуры, как вершинами, осенен хриплой правдой Вы¬
соцкого и лирической космогонией Окуджавы.
Это новая мифология со своим героическим пантеоном, системой взглядов
и ценностей. Век усилил зрение, но обеднил перспективу. Андрей Платонов ска¬
зал бы - земля ушла, остался горизонт. Осталась условная линия скрепления неко¬
гда сущих опорных твердынь, пронзительная видимость вместо значения. Планета
стала обозримой и вместе с тем съежилась до размеров города, улицы, коммуналь¬
ной кухни. Отсюда с середины 50-х понеслись послания в вечность - легенды ур¬
банизированного бытия и трудная поэзия быта, романтика публичного одиноче¬
ства и эпос обманчивости незаселенных пространств. Здесь мечтали о бегстве за
туманами и свято надеялись — случись что, и рухнут каменные стены, укроет небо,
в изголовье встанет суровый караул комиссаров в пыльных шлемах, и иноходец на¬
конец-то первым придет к заветной черте.
Впрочем, иноходь - опасный способ передвижения. Песенная мифоло¬
гия «шестидесятников» обнаруживает со временем собственную герметичность,
слишком выдает рефлексию общественного происхождения. Время поглоти¬
ло и невинный эскапизм дальних дорог, и прекрасный идеализм, равно отно¬
симый к прошлому и будущему; 60-е годы сформировали последнее поколение
социальных романтиков, мерящих возможности самопознания категориями
зримого, осязаемого бытия и, стало быть, уверенных в возможности его совер¬
шенства по законам общественного разума и добра. Общечеловеческие реминис¬
ценции их поэзии всего лишь символика культурного слоя; духовный шифр рас¬
творен во плоти события.
Последний троллейбус, на сиденье которого помещалось лирическое альтер
эго титанов 60-х, еще слишком зависим от установленного маршрута. Финальная
инстанция его полуночной одиссеи — конечная остановка, исполненная глубокого
и многозначительного смысла, ибо важен не результат, а само явление неординар¬
ного путешествия, способность увидать за ночными стеклами иллюзию окружаю¬
щих и себя. Троллейбус следующего поколения, о котором споет Виктор Цой, идет
на Восток, и это больше, нежели выход за пределы городской черты, - переори¬
ентация духа. И сумасшедшему трамваю Гребенщикова мало проложенных рельс,
означающих, помимо остального, рукотворную достоверность происходящего...
13
Кино на ощупь
Виктор Цой (прогулка с Биллом около дома на проспекте Ветеранов). Фот. Дмитрий Конрадт. 1985
Это уже иная система поэтического отсчета, иная предметность. Даже обла¬
дая сверхострым зрением, из окна троллейбуса четвертьвековой давности не раз¬
глядеть холма, воспетого Гребенщиковым. Того холма, на который битлы посадили
своего молчаливого дурака, обладающего способностью видеть траекторию солн¬
ца и кружение миров.
Вместе с седьмой струной на отцовской гитаре рок-генерация обрывала
связь с реальной поэтикой, с возвышенной и вместе с тем заземленной иро¬
нией старших; 70-е годы с их жесткой социальной формулой упразднили до¬
верие к визуальным впечатлениям, оставив в неприкосновенности отработан¬
ную предыдущим десятилетием способность к самоотношению. Топография
песенного стиха сменилась географией, в том числе и буквально, потому что
транснациональная стихия рок-музыки активно прививалась на отечественной
почве.
14
1988-1993
Две точки зрения, от которых ничего не зависит
«Несмотря на то, что у нас есть вокально-инструментальные ансамбли,
близкие по инструментарию к поп-ансамблям, их репертуар и манера
исполнения строятся на принципиально иной основе: они несут
в себе заряд высокой гражданственности, опираются на достижения
советской массовой и эстрадной песни... Исключение составляют
те вокально-инструментальные ансамбли, которые в силу слабой
профессиональной подготовки своих исполнителей и руководителей
некритично перенимают репертуар и манеру зарубежных
исполнителей» (Из редакционного заключения сборника «Поп-музыка.
Взгляды и мнения». 1977).
«По-настоящему Борис Гребенщиков начал заниматься гитарой
с 1968 года. До этого он пытался освоить семиструнную гитару,
но она ему не понравилась. Первой песней, которую он как следует
сыграл и спел на английском языке, была «Ticket to ride». Миновав
короткий период сочинительства на английском, он пришел к ясному
сознанию необходимости петь и сочинять на русском. Это случилось
осенью 1971» (Из биографии «Аквариума»).
Новое поколение принесло свой взгляд на жизнь.
«Оппозиционный», «подпольный» рок 70-х в сложных, порой труднотолкуе¬
мых образах воспел одинокого героя, ерника и мыслителя, вечного аутсайдера, на¬
чиненного взрывной силой скепсиса и недоверия. Он уже не мог спастись, убежав
из «суеты городов и потока машин» к сияющей горной вершине, отогреть озябшую
душу у таежного костра. Одиночество было отпущено ему не в качестве лириче¬
ской индульгенции, а в образе тотального отчуждения. Герой презрел реальность,
уйдя в мир фантомов и оборотней, в которых, впрочем, смутно угадывались черты
нигилистической публицистики.
Легче всего, конечно, уцепиться именно за эту «критическую» линию и выве¬
сти родословную рок-героя из душной общественной атмосферы 70-х, объяснить
его появление стихийным протестом против «безвременья». Это заманчиво, но не¬
верно. Одолеем брезгливое чувство кокетства с историей и попробуем переписать
уже читанную раз страницу. Вычеркнем из анналов «застойные явления» и зада¬
димся вопросом: возникла бы рок-музыка или нет?
Бесспорно — да!
Да, потому что магистрали культуры ничуть не менее значительны, неже¬
ли общественные пути, а рок и вся сопутствующая ему бытовая и бытийная ат¬
рибутика принадлежат именно к такой магистрали. Речь не о скоропреходящей
15
Кино на ощупь
Константин Кинчев на минарете ленинградской мечети. Фот. Валерий Потапов. 1987
рефлексии на политический «негатив» или «позитив», а о принципиальных ре¬
акциях сознания в условиях государства с высокоразвитыми структурами и ин¬
ститутами, вообще — о поисках выхода из-под давления социума. Рок-поколение
впервые заявило об этом во весь голос, впервые «одномерный человек» — дети¬
ще научно-технического прогресса и унификации отношений — противопоставил
реальности, ставшей массовым мифом, собственную мифологию, обернувшуюся
реальностью.
Рок-герой отвергал не конкретные черты политического кодекса 70-х, он тре¬
бовал новых правил игры, где главный приз заключался в большем, нежели обла¬
дание «обратной стороной Луны» - очередной ипостасью истины. Он ощутил себя
частью всего мироздания и, оглушая ближних ревом динамиков, упорно проби¬
вался к центру.
16
1988-1993
С точки зрения политики...
«Наиболее бескомпромиссный, наиболее крайний обвинительный акт находит
свое выражение в произведении, которое в силу своего радикализма отвергает
политическую сферу» (Герберт Маркузе. «Контрреволюция и бунт». 1972).
«Я пишу стихи для тех, кто не ждет
Ответов на вопросы дня.
Я пою для тех, кто идет своим путем.
Я рад, если кто-то понял меня»
(Константин Кинчев и группа «Алиса»).
Вместе с репрессивным социумом из рок-поэзии ушло самое общественное из
поэтических времен - будущее.
Обозримую, и потому особенно унылую, цель материального движения рок-
поэты сменили на красочную иллюзию, на путешествие внутрь себя. Великие
идеалисты и схоласты, они невольно повторили парадокс французского интуити¬
виста Анри Бергсона, считавшего, что объективная длительность постижима толь¬
ко в форме прошлого. Настоящее, едва наступив, становится небытием...
Ахиллес не догонит черепаху, ибо каждый шаг в пространстве отбрасывает
вспять во времени. Время рок-поэзии — время мифа. У него две основные характери¬
стики - «сейчас» и «тогда». «Сейчас» - вся предметность, вплоть до места действия,
словно вырезанного из массива пространств ножницами застывших часовых стрелок.
«Тогда» - условный хронос, не имеющий установленных границ. «Тогда» мо¬
жет происходить и час и век назад. «Когда был жив Элвис Пресли», или когда «все
печали казались такими далекими» — «Yesterday, all my troubles seemed so far away».
Форма условности объясняет многое. Время и место поэтического рок-дей¬
ствия - зоны внутреннего, субъективного ощущения. Будущее ускользает из сфе¬
ры рационального усилия и выглядит всего лишь гипотезой чувств: «Если в этом
городе есть нота дождя, значит, завтра будет ливень. Если в этом пепле есть части¬
ца меня, значит, завтра случится гибель», — поют ветераны отечественного рока
из группы «Санкт-Петербург», противопоставляя декартовскому «Cogito ergo sum»
формулу «чувствую - значит существую».
Безусловность времени подчинена произволу памяти, отсчет ведется не от Ро¬
ждества Христова, а от первых пластинок Билла Хейли и Литтл Ричарда.
Чувство диктует метод элементарных оппозиций, объясняет устройство
предмета его происхождением. Эстетика рока равнозначна его истории, филосо¬
фия смыкается с легендой, ведь до сих пор фундаментом поэтики рока остается
осмысление собственного генезиса, стремление обратить в «сакральный» предмет
любую осязаемую традицию, все, что мало-мальски удалено во времени. Поэтому
17
Кино на ощупь
У входа в Ленинградский рок-клуб. Из архива Джоанны Стингрей. 1985
и одна из предельных рок-философем - категория поколения, общности воз¬
раста, ставшей общностью духа.
Быть может, это законное следствие цикличности бытия рок-музыки. Подоб¬
но тому как песня Кинчева «Мое поколение» дублирует название одного из наибо¬
лее концептуальных хитов 60-х — «Му Generation» группы «The Who» — повторяют¬
ся структуры сознания. Реченное «остановись мгновение» растворяется в коллапсе
воспоминаний, чтобы вновь возродиться экспонатом «золотого века». Неустойчивое
равновесие времен в строках куплета подготавливает мощную вертикаль рефрена:
«Какие нервные лица — быть беде.
Я помню - было небо, - я не помню, где.
Мы встретимся снова, мы скажем «привет».
В этом есть что-то не то...
Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет...»
18
1988-1993
«Быть — помню — было — скажем - есть» - время пружинит, миф накладыва¬
ется на миф. Слова лидера «Jethro Tull» Яна Андерсона «я слишком стар для рок-н-
ролла и слишком молод, чтобы умирать» достраивают еще один запланированный
этаж ассоциаций, и с этой высоты становятся различимы и общий источник смыс¬
ла, и незатейливая геральдика вдохновения.
С точки зрения героя...
«Мир — творение Я, а если речь идет об отношениях Я и не-Я,
то выше Я» (Иоганн Готлиб Фихте. «Наукоучение». 1794).
«Подворотни страшны, я слышу, как хлопают двери.
Черные кошки перебегают дорогу.
Пусть бегут, я в эти сказки не верю.
И это не станет помехой прогулке романтика»
(Виктор Цой и группа «Кино»).
Потребность в поэтическом осмыслении пришла в отечественный рок под знаком
лирического «анти-героя». Того, кто, по замечательному выражению русского фи¬
лософа С. Л. Франка, «лишился веры, но тоскует по святыне».
То был персонаж изверившийся, а потому недоверчивый, переживший крах
иллюзий и находящийся в постоянной конфронтации с окружающими. Тот, кто
еще находил вкус в экстравагантном обличии, но уже понимал: «Ты можешь хо¬
дить, как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить. И то, и другое я видел не
раз, кого ты хотел удивить?». Тот, в ком жила тяга к идеалу, но кто убедился — «воз¬
душных замков не носит земля»; кого предали «сильные и смелые», оставив но¬
ситься по воле ветра и бушующих волн.
Способ цитирования говорит за себя. Лидеры антигероизма 70-х, его глаша¬
таи и духовные отцы — Андрей Макаревич и «Машина времени», принесшие в рус¬
скоязычный рок новую культуру слова. С их подачи рок, бывший до поры явлени¬
ем элитарным, «пошел в народ». Отныне любой дворовый бард, не изнуряя себя
излишними познаниями в английском и нотной грамоте, мог под трехаккордный
аккомпанемент на хорошем литературном языке спеть балладу или в меру мажор¬
ную песенку о том, что «лица стерты, краски тусклы».
Поэтические тропы Макаревича существуют где-то посредине между роком
и тем, что с известными допущениями называется ныне «авторской песней». Их сим¬
волика незатейлива — человек уподоблен кораблю, чистота — снегу, мечта ассоцииру¬
ется с зыбким пламенем свечи, а жизнь с бурным морем или крутым поворотом доро¬
ги. Героя Макаревича не упрекнешь в примитивности мысли, он хочет быть понятым,
19
Кино на ощупь
а потому формулирует свои романтические претензии к реальности слогом самой
реальности, не брезгуя прямыми проекциями на школьный учебник литературы.
«Машина» толково ответила своим сверстникам на многие злободневные вопросы,
но настал новый день, а у каждого дня своя забота, и газета, прочитанная вчера, сегодня
едва ли интересна (пишу так с опаской за талантливых «ДДТ», «Телевизор», «Наутилус»
и других, нет-нет да и пытающихся восполнить дефицит оперативной молодежной прес¬
сы). Кроме того, антигерой 70-х, настроенный на трагическое самоисчерпание, наконец
исчерпал себя. Время шло, и отсутствие веры, до поры искупленное смутным знанием
о существующих святынях, давало о себе знать. В «неангажированных» глубинах рок-
поэзии зрела тяга к созиданию, к позиции, способной дать опору. Контркультура пре¬
вращалась в культуру, романтический монолог требовал диалогического продолжения.
Одним из первых этот диалог начали Борис Гребенщиков и «Аквариум».
С позиции вечности...
«Это не книга, которую можно просто «читать»; в ее зарослях приходится
продвигаться на ощупь, дюйм за дюймом, а то и возвращаться назад,
причем текст иногда вдруг обращается к нам совсем другим лицом» (Герман
Гессе. «Китайский дзен»).
«С мешком кефира до великой стены
Идешь за ним, но ты не видишь спины,
Встретишь его, не видишь лица,
Забудь начало, и ты лишишься конца.
А я хотел бы опираться на платан...»
(Борис Гребенщиков).
Как всякий большой поэт, Гребенщиков начинается с космогонии, с общей схемы
мироустройства.
Сюда входят и концепции раннего даосизма, и этика «дзен», православная
символика и максимы сказочной эпопеи англичанина Дж. Р. Толкина «Властелин
колец», словесная эквилибристика ОБЭРИУтов и новейшая мифология рока.
Гребенщиков первым понял возможности равноправного диалога с несопри¬
касаемыми внешне слоями мировой культуры, с творящим духом, отвергающим
какие бы то ни было приоритетные отношения. Хронотоп его зрелой поэзии - веч¬
ное время, время дао — неиссякаемого источника мирового движения. Познавший
истину причастен ко всему космосу, способен, как записано в даосской книге «Ху¬
айнань-цзы», «проникнуть во внутренние законы неба и земли, соприкоснуться
с делами людскими, представить в полноте путь предков».
20
1988-1993
Концерт в Ленинградском рок-клубе. Из архива Джоанны Стингрей. 1985
Знающему первопричину всех вещей незачем отыскивать логику зримых
связей, отделять конец от начала или подыскивать приличные случаю имена.
Он может стать Иваном Бодхидхармой, Иванушкой-дурачком и первым апосто¬
лом «дзен» (буквально - посвященным в дхарму); мастером Бо или просто Ивано¬
вым, читающим на трамвайной остановке томик Сартра, перекочевавший к нему
из кармана подвыпившего тракториста. И баян здесь играет не частушки, а Санта¬
ну и «Weather Report», и в любой коммунальной квартире есть свой собственный
цирк, квадрат не имеет углов, «каждое слово - ответ», и ритуальный клич «дык,
елы-палы!» соседствует с высоким стилем салонного романса.
Гребенщиков открыл рок-поэзии измерение бесконечной сущности и отно¬
сительности. Он научил рок-героя медитации, снабдил его «веселым знанием»
и «гигиеной души», уподобил Йозефу Кнехту из романа Гессе «Игра в бисер», вла¬
деющему техникой манипуляции всеми знаками и регалиями наличествующей
культуры.
21
Кино на ощупь
Концерт в Ленинградском рок-клубе. Из архива Джоанны Стингрей. 1985
«Тридцать спиц соединяют в одной ступице, но употребление колеса зависит
от пустоты между ними. Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зави¬
сит от пустоты в них», — сказано в даосском трактате «Дао дэ цзин». Поэтическая
манера Гребенщикова состоит в попытке высвобождения содержательных пустот
между словами (так Сергей Эйзенштейн монтировал не кадры, а интеллектуаль¬
ные ниши между ними). Семантика поэтического ряда Гребенщикова эволюцио¬
нировала от образа (доказательство предмета) к символу (вера в предмет). На выс¬
шей ступени символ в свою очередь становится знаком, иероглифом. Их взаимное
наложение организует метасмысл.
«Есть книги для глаз и книги в форме пистолета», - в аттракционном строении
фразы закодированы энергия смыслового промежутка, вертикаль подсознательно¬
го сообщения. Если хотите - поэтическое мышление будущего: отказ от просеи¬
вания породы в истощившемся культурном слое, вместо этого - попытка пере-
комбинации самих слоев. На первом месте здесь не формальные составляющие
22
1988-1993
поэтического текста, их шокирующая соотнесенность, а прорыв к первосущно¬
сти (ср. в «Лецзы»: «Воплотивший дао отдыхает и неистощим, а полагающийся на
искусство изнуряет себя, но безуспешно»).
У раннего Гребенщикова сильна линейная метафора. Он не чурается «как»,
прямого парного сравнения. Ангел похож на Брюса Ли, полусъеденный осьмино¬
гами моряк прекрасен «как Охтинский мост», сердце напоминает камень, поло¬
женный в фундамент моста. По мере углубления символика становится статичной,
сиюминутное подобие сменяется криптограммой вечности.
Иван Бодхидхарма движется в окружении белого тигра и синего дракона. Соглас¬
но древнекитайской мифологии зеленый (темно-синий) дракон (цан-лун) — символ Во¬
стока, а белый тигр (бай-ху), держащий в лапах диск луны, — хранитель Запада. У Гре¬
бенщикова тигр молчит, а дракон поет, что в одинаковой степени можно истолковать
и как наступление нового дня, и как прямой адрес мудрости, которая «вылечит тех, кто
слышит, и, может быть, тех, кто умен...». Тайнопись далекой культуры пронзает жесть
и пластмассу урбанизированного быта вместе с единорогом, орлом, тельцом и львом.
Уставшие от искусственных материй руки тянутся к живой фактуре серебра и воды.
Взгляд на коллизию...
«Враг одарил их Кольцами Власти, и те иссушили их, превратили в страшных
живых призраков... Город стал казаться пустым, над этой пустотой поселился
страх» (Джон Рональд Толкин. «Властелин колец», книга IV).
«Но электричество смотрит мне в лицо
И просит мой голос.
Но я говорю: «Тому, кто видел город, уже
Не нужно твое кольцо»
(Борис Гребенщиков).
В орнаментальном ряду Гребенщикова встречается устойчивая антиномия: «вода —
электричество». В «Дао дэ цзин» читаем: «Бесформенное — великий предок вещей,
а среди всего, что имеет образ, нет более достойного, чем вода, ибо ей можно сле¬
довать, но нельзя уничтожить». Вода обнимает все множество живого, но не знает
ни любви, ни ненависти, она - ближайший аналог мудрости.
«Встань у реки — смотри, как течет река, -
Ее не поймать ни в сеть, ни рукой,
Она безымянна, ведь имя есть лишь у ее берегов —
Забудь свое имя и стань рекой»,
23
Кино на ощупь
- поет Гребенщиков, следуя мудрости Лао-цзы, учившего: «Имя, которое мо¬
жет быть названо, не есть постоянное имя».
Электричество именует свет, создавая видимость бренной власти над безгра¬
ничным. По преданию свет — потомок бесформенного, его можно видеть, но нель¬
зя осязать. Для Гребенщикова электричество символизирует ложность, бесплод¬
ный суррогат. Из вечности течет река дао, нескончаемый поток Гераклита и святые
воды первохристиан. Электричество же освещает, но не освящает, оно способ¬
но лепить форму, но лишь удаляет от сущности.
Причастие воды или электричества — генеральный императив поэтики Гре¬
бенщикова и шире — центральная коллизия всякого осмысленного поэтического
рок-творчества, осуществляющего выбор между истиной и иллюзией.
С точки зрения иллюзий...
«— Кто оператор, киномеханик, контролер, распределитель, директор
кинотеатра, кто смотрит за тем, чтобы все шло своим чередом? Кто свободен
выходить на середине, в любое время, в любое время изменять сюжет, кто
свободен смотреть фильм снова и снова?
— Дай-ка сообразить, - сказал я. - Тот, кто этого хочет?
— Это для тебя достаточная свобода, - сказал он»
(Ричард Бах. «Иллюзии, или Исповедь сопротивляющегося Мессии»).
«Все мы в одном кинотеатре,
Мы были здесь всегда.
Все мы в одном кинофильме,
И каждый из нас звезда.
И все мы свободны делать
То, что мы делать хотим.
Все остальное - иллюзии,
Все остальное — дым»
(Михаил Науменко и группа «Зоопарк»).
В поэтическом мире Гребенщикова романтик стал демиургом, нигилист пре¬
вратился в мудреца. Гребенщиков создал макрокосмос рок-поэзии, ее духовный
стержень.
Впрочем, я думаю, сегодня рок только начинает говорить собственным сло¬
гом, приняв мучительный гамлетовский вопрос: какие сны приснились в спаси¬
тельном до поры сне. Былая форма агрессивного суверенитета обратилась явью
новой реальности.
24
1988-1993
Какова она?
Сегодняшний рок-герой - на полпути от голубя Петра Мамонова и «Звуков
Му» к чайке, названной Ричардом Бахом Джонатан Ливингстон. Герой уже умеет
летать, но еще не понял: «Чайки, которые отвергают совершенство во имя путеше¬
ствия, не улетают никуда. А те, кто отказывается от путешествий во имя совершен¬
ства, летают по всей Вселенной, как метеоры».
Року еще привычней путешествовать утоптанными дорогами, ему милей
теснота коридора и переулка. Он ссорится с родителями и облачает обиды роста
в пышные одежды вселенской катастрофы (не отсюда ли мотив Апокалипсиса в са¬
мом инфантильном рок-стиле «хэви метал»?).
Но вот уже Кинчев, вырастивший бодлеровские «цветы зла» на городском ас¬
фальте, поднимает голову к осеннему солнцу. Виктор Цой снабжает свой текст за¬
гадочным рефреном «бошетунмай». И даже Андрей «Свинья» Панов и его панк-
группа «АУ» сообщают: «Пусть в милиции узнают, что сейчас их не боюсь».
Рок становится интровертом, избавляется от синонимов, учится называть
вещи сущими именами. «Красивый холм», «белая полоса», «шестой этаж» — высоты
субъективного ландшафта, вписанного в рельеф Вселенной. Отсюда столбы вновь
выглядят деревьями. Здесь садовник не властен над дикорастущим садом. И это
важно, потому что...
«Мне стало ясно, что мы являемся поэтами, но не в обычном смысле этого
слова, а народными поэтами, ибо рок-н-ролл по сути является народной
поэзией, я всегда был в этом уверен» (Джон Леннон. Из интервью, данного
в июне 1975 года и озаглавленного «Ночное путешествие до станции «День»).
«Родник». 1988. № 6.
25
Кино на ощупь
Беседы о параллельном кино
Если еще недавно мы считали синонимом творчества продуцирование чего-то но¬
вого, некоего эстетического ядра, то сейчас мы пришли к поразительному выводу,
что, в принципе, продуцировать уже нечего. Современная культура (и искусство -
настолько, насколько оно укоренено в культуре) занимается лишь интерпретатор¬
ской деятельностью. Сюда же ложится и постмодернизм, который, кстати, иногда
называют реваншем женской цивилизации по отношению к мужской. Ибо проду¬
цирование нового есть мифологически мужская функция, в то время как интер¬
претация — это функция женская, как заметила Аннет Майклсон, довольно автори¬
тетный критик американского киноавангарда.
У гения, как бы стихиен он ни был, есть своя логика, которую можно нащу¬
пать и вычислить. Потому что, если он гений, он дитя гармонии. Он не дитя хаоса.
Понимаете? Большой, талантливый художник — в принципе, предсказуем. Он целен
и в этом смысле гармоничен. А всякая гармония на уровне современной культуры -
предсказуема. И получается поразительная вещь. Получается, что нам становится не¬
интересна логика автора, который стремится к некоему художественному результату.
Моцарт неинтересен, потому что, прослушав первые два такта его симфонии, иску¬
шенный слушатель уже может сказать, какими тактами эта симфония закончится...
А чем интересен любитель? Любитель никогда в жизни не стремится осо¬
знанно нарушить каноны. Но профессионализма ему не хватает. И вот любитель
на пути следования выбранному образцу совершает ряд совершенно волшебных,
непредсказуемых ошибок. И это потрясающе интересно. Те графоманские произ¬
ведения, которые мы видели на фестивале, своими непредсказуемыми ошибками
оказываются сегодня гораздо интереснее, нежели какие-то сознательно сделанные
вещи. Ошибку сознательно сделать нельзя. Ошибка - это своего рода суицидный
акт. Это самоубийство художника. На это решаются очень немногие. А тут люди де¬
лают это от души, красиво, весело, естественно. И это очень здорово.
Параллельное кино - это, вообще-то, не эстетическая категория. Это просто кино,
сделанное вне системы центрального производства и проката. По каким основаниям
оно ушло из централизованной системы - другой вопрос. По политическим, идеоло¬
гическим, этическим... Когда на Западе были мощные табу на порнографию, там про¬
цветала подпольная порноиндустрия. Это было нормальное параллельное кино. Когда
во Франции возникли какие-то идейные конфронтации, возникло кино, которое сни¬
мали рабочие на свои деньги и прокатывали подпольно. Кино как агитация — это тоже
параллельное кино. Причем вовсе не обязательно, что это кино эстетически достойное.
26
1988-1993
Другое дело, что для авангарда территория параллельного кино — самое милое
дело. Потому что там художник независим.
И то же самое Постполитическое кино братьев Алейниковых — это уже со¬
вершенно не любительское кино, хотя и выглядит совершенно, как любительское.
Надо сказать, я очень осторожно к этому кино отношусь. Это кино контекстов. Это
кино, которое можно по-настоящему осознать и расценить как очень серьезный ар¬
тефакт, только зная все творчество братьев.
Алейниковы — это типичный продукт московской среды. Это концептуали¬
сты. Кто такой концептуалист? Это платоник. Он знает, что каждый предмет есть
всего лишь бренное материальное воплощение некоего эйдоса, некой верховной
идеи. И поэтому для него художественный материал вторичен. Ему нужно вычис¬
лить схему, ему нужно вычислить идею предмета. Классический пример концеп¬
туализма (и в кино, и вообще как такового, который можно хоть сейчас на париж¬
ской выставке показывать) — это Трактора Алейниковых. Правильно? Визуальный
ряд и абсолютно несоприкасаемая с ним фонограмма создают здесь третью мета¬
реальность, которая, собственно, и есть то, что есть фильм. Потому что фильм — это
не звук и не изображение, а то, что между ними. Это гениально. Это мой любимый
фильм. Только вот к чему приходит концептуалист в результате? Концептуалист
приходит к созданию некоего текста, который описывает сам себя. Правильно?
Потому что если долго пытаться описывать различные тексты теми же самыми
средствами, которыми эти тексты написаны... Попробуйте словами описывать сло¬
варный текст! В результате вы встаете перед необходимостью создания некого ме¬
татекста. И это конец концептуализма. И это конец модернизма. И это конец аван¬
гарда. После чего начинается уже постмодернизм.
Но Алейниковы называют это постконцептуализмом. Они уходят от концеп¬
туализма, но еще не приходят к постмодернизму. Они находятся где-то посереди¬
не и делают свое Постполитическое кино, которое все состоит из концептов их
прошлого творчества. Они берут знаки не из всего пантеона мировой культуры,
как это сделал бы постмодернист, и не разрушают какие-то блоки и матрицы, как
это сделал бы авангардист, — они берут самих себя в качестве всей культуры. И со¬
здают из этого кино, замаскированное под любительское и домашнее. Понять его
очень интересную, очень сложную, даже изощренную структуру (которая, кстати,
программируется в самом начале фильма, то есть весь фильм - он как фуга) - по¬
нять это можно, только зная всех прошлых Алейниковых. И при всем моем вели¬
чайшем уважении к ним как к творцам, как к профессионалам, как к мыслителям,
как к теоретикам, как, в конце концов, к организаторам всего нашего параллельно¬
го кино, - я считаю, что это не совсем хорошо. Потому что каким бы ни быть сто¬
ронником искусства не для всех, но искусство, которое целиком выходит из кон¬
текста творчества какого-то одного человека, — это, по-моему, порочный путь...
27
Кино на ощупь
Массовая драка на заводе. Евгений «Юфа» Юфит, Андрей «Свин» Панов и другие. Из архива Евгения Юфита. 1984
На этом фестивале вот произошла очень интересная вещь. Произошел, как
мне кажется, определенный раскол (не скажу конфронтация) московского и ле¬
нинградского направлений параллельного кино. Именно на фестивале стало осо¬
бенно ясно, что ленинградцы снимают один большой фильм на всех. В то время
как Москва вдруг оказалась прибежищем сугубо авторского кино. Вы никогда не
замечали, что на все свои просмотры ленинградские новые режиссеры стараются
любыми средствами протащить максимум своих знакомых? Потому что их кино -
это шифр энергии определенного окружения, и без обратного импульса из зала оно
не работает. То, что сейчас называется ленинградской школой параллельного кино,
поначалу было самыми что ни на есть любительскими фильмами. Они снимались
для друзей. Но среда была настолько энергетически насыщена и творчески плодо¬
творна, что там вдруг родился впечатляющий стиль. Один московский критик, ко¬
торый присутствовал на фестивале, признался, что совершенно ошалел от филь¬
мов первого дня. Это был удар, это был шок, он никогда такого не видел, а ведь он
28
1988-1993
не вылезает с международных фестивалей авангарда. Он сказал, что если это пока¬
зать в Америке, то все американские авангардисты пойдут и утопятся, потому что
такого им вообще не представить. Это дикость, это варварство! Это кино, творцам
которого мешает язык. Мешает пленка, мешает камера... У меня, слава богу, очень
большое кинообразование, я все что угодно могу поставить в контекст. Но Юфи¬
та в контекст поставить нельзя. И Кондратьева. И Мертвого. Это люди, которые
вырвались из контекста. Привязывать их к какому-то стилю, направлению — не¬
возможно. Корней - нет. Возникает какая-то варварская, новая культура, которая
по-новому шифрует энергию.
Я пытался, например, связать внешность фильмов Юфита с эстетикой ран¬
ней комической. Это, в общем, есть. Ведь фильмы Юфита совершенно не страш¬
ные. Они очень нравятся людям, извините, от сохи. Детям они очень нравятся.
Смешно: этот бежит, его бах, по башке! Он в «некрогриме», правда. То есть труп.
Так это еще смешнее! Но если ранняя комическая показывала погоню как апо¬
феоз преодоления, апофеоз личной предприимчивости, если это был зашифро¬
ванный гимн раннему капиталистическому человеку, и вся погоня затевалась для
того, чтобы герой ушел от нее, посрамив противника своим везением и великоле¬
пием, - то у Юфы погоня исчерпывается собственной бесцельностью. Вы обрати¬
ли внимание, что как только человек у Юфита спасается от погони, он моменталь¬
но совершает акт самоликвидации? Башкой в дерево втыкается, топится или еще
что-то в этом роде. Преследуемый и преследователь неоднократно меняются ме¬
стами. Санитары избивают пациента. Машинист останавливает электричку в ме¬
тре от лежащего тела и тут же начинает бить его ногами. Все перевернуто с ног на
голову.
Что получается? Получается некая новая постиндустриальная эстетика. И все
сводится к образу некоего социального человека, который использует канониче¬
ские киноструктуры, выворачивая их наизнанку и создавая гимн самому себе, сво¬
ему современному общественному детерминированному состоянию.
Но разве это так? Ведь парадокс в том, что ленинградская школа абсолютно,
великолепно антиобщественна! Я начал с того, что это кино совершенно особен¬
ной среды, которая родилась в самые что ни на есть застойные годы. Что она дала
миру? Китчевый вариант советской символики — раз. Боевой клич «АССА» - два.
«Новый романтизм» Виктора Цоя — три. Поп-механику как принцип мироощуще¬
ния - четыре... И так далее, и так далее, и так далее. Это среда, которая, развиваясь
в абсолютно репрессивном социуме, была абсолютно асоциальна. Это люди, кото¬
рые перешли грань добра и зла и даже не питали к ней того скептического отно¬
шения, которое, скажем, свойственно людям прошлого поколения. Им — отважусь
сказать - и перестройка не страшна. Они как были свободны, так и остались сво¬
бодны. И у них есть оттяжка в результате.
29
Кино на ощупь
Энергию этой среды и шифрует Юфит. Другое дело, что, скажем, Вепри суи¬
цида — это совершенно другой Юфит. Он оказался необычайно тонким стили¬
стом. Я никогда не думал, что Юфа так может чувствовать стиль. Ведь его прежние
фильмы были вызывающе бесстильны — несмотря на то, что они были с виртуоз¬
ным, очень тонким ритмическим контрапунктом и смотрелись легко. И вдруг ока¬
залось, что есть стиль. А стиль — это, в общем, больше, чем эстетика. Стиль - это
взгляд на жизнь. Юфит раньше никогда не давал каких-то мировоззренческих по¬
водов. И тут вдруг — этот сад, эти медленные люди, это кипящее варево какое-то
в тазу... Это ведь то самое, из чего Тарковский ткал Зеркало. Какие-то постощуще¬
ния, идущие прямо из подсознания.
Юфа — это безусловный поэт. И Юфа снимает фильмы про мертвых. На пер¬
вом, самом близком уровне мы видим в этом только шокинг и эпатаж. На втором -
некий социальный вызов и оппозицию. Гдe живые? - скажем мы и вспомним, что
во времена, когда Юфа формировал свой универсум некрореализма, живые воева¬
ли в Афганистане, строили БАМ, поворачивали северные реки и строили Черно¬
быльскую АЭС. И, мол, кто же из них жив в результате? Но это на втором уровне.
На третьем мы можем увидеть тут глубокую, глубоко прочувствованную, кинема¬
тографическую традицию. Я вам уже говорил, что в основу всех фильмов Юфы
положена классическая кинопогоня, которая является базовым архетипом. На чет¬
вертом уровне мы можем найти что-то еще...
Но у Юфы это же все не то совсем! Это открытие совершенно иного мира.
Мира мертвых. Со своими отношениями, со своими персонажами... И вообще,
с иным устройством. Это обоснование каких-то несущих конструкций совершен¬
но иной культуры. Культуры не просто как совокупности духовных и материаль¬
ных ценностей, а как самого принципа организации этих ценностей.
Есть еще совершенно гениальный, по-моему, человек в городе Ленинграде -
Дебил. Если бы я писал статью о нем, я бы назвал ее примерно так: «Антиэйзен¬
штейновское кино, или Мягкость мифологической оппозиции». Вспомните, что
такое эйзенштейновское кино? Это чувственная идеология, так? Эйзенштейн лю¬
бил советскую власть. Эйзенштейн был по натуре фашистом. И он пытался вне¬
дрить идеологию непосредственно в подсознание. Путем монтажа. Монтаж у него
создает дискретное пространство, которое конкретизируется уже где-то в подсо¬
знательной области. Это монтаж интеллектуальных ниш, монтаж аттракционов,
направленный прямо в подкорку.
А что делает Женя Кондратьев? Он бесконечно тиражирует один и тот же ат¬
тракцион. То есть: вот ваша идеология! Идея осталась, но логос - исчез...
Дальше у Жени появляется фильм Грезы, который, мне кажется, прямо сейчас
можно везти во французскую синематеку, класть его там на полку и вообще не под¬
пускать никого близко, потому что это сверхшедевр. Это новая визуальная культура.
30
1988-1993
Я видел недавно китайскую картину Красный гаолян — это тоже пример дру¬
гой визуальной культуры. По отношению к европейскому кино, во всяком случае.
У китайцев даже пейзаж иной, чем в европейском кино. В европейском кадре гори¬
зонт всегда ниже середины. Или вровень с ней. А у китайцев - очень высокий. Там
другое ощущение перспективы. И совершенно другая символика. В этой картине
была сцена жестокости, довольно серьезная. Я подумал, что когда европейский ре¬
жиссер ставит такую сцену, он обязательно вкладывает в нее какое-то свое автор¬
ское начало. Физическая боль, страдание для нас все-таки что-то исключительное.
И это очень индивидуально окрашивается в европейском кино. Всегда видно, от¬
куда это идет — от напряжения или из какого-то телесного низа. А для китайца же¬
стокость - это естественно. Для него это среда обитания и никакая не педаль. Это
норма. Больше того: после того, как в этом фильме убивают человека и его кровь
льется на землю, односельчане собираются его помянуть и разливают по чашам
красное вино. Ну, кажется, куда банальнее — красная кровь, красное вино. Культур¬
ный символ — кровь Христова и так далее. Но это для нас так! То есть если бы это
сделал европейский режиссер, это было бы совершенно банально. А вы знаете, на
какой мысли я себя поймал? Они действительно пьют кровь. Потому что там это
дано не по признаку культурной символики и общности смысла, а по признаку чи¬
сто внешнего сходства. Красное вино и красная кровь. Они рядом, потому что по¬
хожи. И это не разделено в кадре.
К чему я все это говорю? К тому, у Жени Кондратьева настолько же иная ви¬
зуальная культура. Мне кажется, он возрождает мифологическое мышление. По¬
тому что если мы привыкли считать, что кинокамера есть посредник между авто¬
ром и реальностью, то Женя считает, что он сам посредник между кинокамерой
и чем-то высшим. Понимаете? Он использует кино в его самом онтологическом
качестве. Он не фиксирует то, что уже придумал, а мыслит тем, что увидел. И для
него весь мир — это контур... Я обрадовался, когда увидел это у Реджио, в картине
Повакацци. Философичная картина, изобразительно очень точная, и там порой со¬
здается впечатление, что человек не сам водит кинокамерой, а кинокамера отыски¬
вает какие-то контуры, по которым нарисовано все сущее, что есть Замысел.
И у Жени то же самое. Он снимает с изображения все напластования и трак¬
тует их только в чистой форме. Большое - это провокация к жизни малого. Вот об¬
ратите специально внимание, когда будете смотреть Женины фильмы: после боль¬
шого он обязательно показывает малое. Часть - это лишь воспоминание о целом, то
есть типичное, описанное Леви-Строссом, мифологическое мышление. Фильм -
посредник между нами и верховным замыслом жизни.
Леви-Стросс доказал, что интеллектуальные операции, которые мы произво¬
дим, в основе своей те же самые, что и у дикарей Островов Зеленого Мыса. Про¬
сто мы обладаем большей информацией и, соответственно, большими комбинатор-
31
Кино на ощупь
ними возможностями, а сам логический механизм — тот же. И вот Женя пытается
очистить логические схемы бытия от всех чудовищных напластований культуры
и отдать нам обратно наши же собственные архетипы, наши же собственные транс¬
цендентальные концепции интеллектуального организма.
Или вдруг на фестиваль является Илья Егоров, шестнадцатилетний парень,
который принес две картины - Настольные игры и Русский лес. Процарапанные
иголкой на ракорде. По минуте каждая. Это совершенно потрясающе! Это малень¬
кий мальчик, который занялся тем, что разрабатывает систему знаков на пленке.
То, чем занимались великие пионеры киноавангарда Викинг Эггелинг и Вальтер
Руттман. Но они занимались этим тогда, когда кино еще не могло осознать себя
как совокупную систему письма. А ведь писать, скажем, иероглиф «ложка» можно
только зная о форме всех ложек на свете. Они же пытались создать универсальную
азбуку, не зная все границы уже существующей азбуки. Это был их парадокс, это
была их трагедия, в этом был их пионерский подвиг, на самом деле...
И вот появляется этот мальчик, из дикой культурной провинции, какой яв¬
ляется Россия, — модернист, живущий в эпоху постмодернизма! Совершенней¬
ший анахронизм. И начинает корябать эту пленку. Черт его знает... Но вполне
возможно, что именно он сейчас, находясь в этой культурной среде, уже абсолют¬
но, так сказать, типологизированной, стереотипизированной, превратившейся
в клише и собственные матрицы, вдруг... Я вижу, что он уже находит что-то та¬
кое... Что является, с одной стороны, изобретением Дебила, который первый за¬
говорил о кинокаллиграфии, то есть о возможности создания экранного знака,
форма и содержание которого заключены в едином визуальном образе, иерогли¬
фе... А с другой стороны... Ну, вот его фильм Настольные игры — это, ко всему
прочему, действительно, игры. Он не какой-нибудь старый авангардист, кото¬
рый наркотиками воодушевляет себя до такого состояния наивного детства, - он
естественно находится в этом абсолютно божественном для авангардиста со¬
стоянии. Он просто играет...
Авангард — это тонкая вещь. Да, для Запада он сейчас неактуален. Но Рос¬
сия вообще страна авангарда. Как сказал Эпштейн, главная антитеза авангардист¬
скому сознанию — это реалистическое сознание. Сознание, ориентированное на
адекватность воспринимаемого мира. А авангард гораздо ближе к ортодоксаль¬
ному религиозному сознанию, потому что оба они сходятся в точке признания
какого-то инобытия. Бросьте ретроспективный взгляд: Россия, страна очень за¬
консервированной традиции, вдруг в начале XX века дает миру практически все
направления авангардного поиска, которые Запад развивает затем на протяжении
всей первой половины столетия. Потом они уже своими игрушками начнут иг¬
рать, а у нас это все просто придушат. Хотя, если верить Тимуру Петровичу Нови¬
кову, соцреализм - это не что иное как высшая форма русского авангарда. Такая (...)
32
1988-1993
Евгений «Юфа» Юфит и Евгений «Дебил» Кондратьев. Из архива Евгения Юфита
жизнестроительная. Мало того что картины писали, так еще и конкурентов убива¬
ли. Чужими руками. Но я отвлекся.
Так вот, Илья Егоров — это тот самый мальчик, который сидит на берегу ми¬
рового океана, складывает камешки и выстраивает из них формулы грядущих
открытий. И это тоже ленинградская школа. Поэтому я, в общем, не очень верю
Юхананову, который говорит, что какая-то энергия замкнулась в круг и со все уси¬
ливающейся бешеной скоростью вращается вокруг своей сердцевины. Юхананов
пророчит, что она подорвет самое себя изнутри, если не будет притока каких-то
свежих сил. Но я считаю, что развитие идет не вширь, развитие идет куда-то по
спирали...
Сейчас во всем мире происходит очень неприятный процесс - аберрация по¬
нятий культуры и искусства. Понимаете, культура ведь не есть искусство. Боль¬
ше того: искусство только своей очень мизерной частью укоренено в древе куль¬
туры. Знаете эту дихотомию: горизонтально и вертикально ориентированная
33
Кино на ощупь
культура? Очень было модно в начале века. Так вот, всю вертикально ориентирован¬
ную культуру (как восход некого духовного естества человека к Богу; такая культу¬
ра была в Средневековье: человек был безбытен, бестелесен, даже плотские изобра¬
жения запрещались) - все это мы ликвидировали. И, наоборот, развили культуру
как комфортную среду человеческого существования, куда входит все, начиная от
боевика и кончая рок-музыкой... Рок — это же теперь абсолютно комфортная среда,
снимающая с человека его возрастные стрессы, его комплексы... И тот же постмо¬
дернизм... На самом деле, это, по-моему, страшный, сатанинский альянс искусства
и культуры, когда искусство принимает на себя обязанности всего лишь интерпре¬
татора и, в лучшем случае, занимается саморетроспекцией.
Кстати, как апофеоз возникает видео, в котором, в отличие от кино, отсут¬
ствует главное: третье измерение кадра. Видео создает совершенно плоскую кар¬
тинку - в общем, гораздо более удобоваримую. И это, конечно же, средство абсо¬
лютно культурного человека. Культурного не в смысле образованного, а человека,
живущего в культуре и не более того. Оно снимает возможность вертикального са¬
моощущения. Оно делает человека абсолютно комфортным и абсолютно равноцен¬
ным самому себе...
Но, собственно, и кино как искусство появилось в тот момент, когда очень
силен был уже элемент существования искусства в русле культуры. И кино тоже
является искусством лишь в очень небольшой своей части, а главные его зада¬
чи - манипулятивная, мифотворческая и, наконец, элементарно развлекательная.
Создание того, что является, собственно, культурой XX века: Глобальной Иллю¬
зии. Об этом писал Маркузе. Обществу выгодно вытаскивать из человека принцип
производительности, и, сублимируя его, оно дает ему Иллюзию. Кино в этом отно¬
шении подходит идеально. Во-первых, кино массово. Во-вторых, кино очень демо¬
кратично, даже на уровне восприятия. В-третьих, кино обладает мощнейшей ми¬
фотворческой потенцией.
Создавая Иллюзию, кино мобилизует средства всех иных искусств. Это без¬
условно. Однако кино, по моему глубокому убеждению, не является искусством
синтетическим. Кино является искусством аналитическим. Вот если принять
это за исходную посылку, тогда можно разговаривать на более серьезном уровне
и с точки зрения развития киноязыка.
При этом сводить какой-то аналитический, поисковый фактор к прерогати¬
вам исключительно параллельного или авангардного кино — неверно.
Вспомните Парижанку Чарли Чаплина. Вот уж кто никогда не был авангар¬
дистом. И тем не менее. В Парижанке есть такой момент: героиня должна успеть
на поезд, и она опаздывает на него. Чарли показывает это следующим образом.
Она вбегает на вокзал, останавливается - и над ее головой по стене вокзала идут
блики от окон поезда. Элементарный киноиероглиф. Сейчас его прочитает любой.
34
1988-1993
А фильм из-за этого провалился. Люди не поняли, что это. Мера условности - даже
такого рода — уже была авангардна по отношению к той кинокультуре, которая сло¬
жилась к тому моменту.
Или вспомним такой процесс, который западные киноведы отмечают уже не¬
сколько лет (даже десятков лет), — так называемая обратная экспансия Европы
в Америку. Известно, что весь мир страдал от экспансии американской кинокуль¬
туры в Европу, и это как будто априори подразумевает некое громадное количе¬
ство фильмов, которые идут мощным потоком и все собой заполоняют. Ничего по¬
добного! Америка выпускает не так уж много фильмов в год. Дело не в количестве,
дело в их особом качестве. Америка — страна жанрового кино. Есть три жанра: ко¬
медия, мелодрама и боевик. Смех, ужас и сострадание. Все, больше ничего нет. На
эти три резонирующих с нашим коллективным бессознательным струны наслаи¬
вались разнообразные политические и социальные реалии. Так возникло амери¬
канское жанровое кино. И в мире выросло целое поколение людей в 50-е годы, для
которых это кино, собственно, и стало реальностью. Так вот, теперь эти люди, вос¬
питанные на американском жанровом кино, обратно в Америку посылают автор¬
ский импульс, построенный на том же жанре. Скажем, тот же Вим Вендерс... Жанр
становится уже какой-то мифологемой собственного индивидуального человече¬
ского мироощущения... И это тоже путь.
Конечно, важный плацдарм для каких-то прорывов — неигровое кино, в ко¬
тором нет понятия «язык» (которое в игровом кино есть). В неигровом художник
вынужден всякий раз искать речь, адекватную тому предмету, который он пока¬
зывает. У него меньше матриц, меньше штампов. И это естественно, ведь в неигро¬
вом кино существует все-таки примат реальности. Там существует элемент непро¬
граммности, несценарности, непредсказуемости. Поэтому художник находится
как бы в более вариантном положении по отношению к речи. И это как раз сво¬
дит нас опять-таки на уровень принятой нами терминологии. Потому что и у нас,
и во всем мире прокат неигрового кино - практически параллельный. Неигровые
фильмы не идут в кинотеатрах, и посмотреть их так же сложно, как посмотреть
авангардистский фильм.
Но, как мне кажется, для искусства сейчас вообще-то гораздо интереснее ока¬
заться в цепи создания канона. В какой-то момент искусство должно вернуться
к той ситуации, которая имела место в Средневековье, когда задачей эстетического
освоения действительности был не шаг от канона, а, наоборот, соответствие ему. Ну,
вспомните рублевскую «Троицу», которая была канонизирована, и все последую¬
щие живописцы писали именно эту композицию, эти повороты головы, направ¬
ление взглядов, перспективу и т. д. Они вкладывали туда колоссальную энергию.
Приведу простой пример. Может быть, совершенно не относящийся к ма¬
гистрали нашего разговора. Особенно по материалу. У меня есть пластинка.
35
Кино на ощупь
Андрей «Свин» Панов и другие. Из архива Евгения Юфита
Называется «Литл Ричард встречается с Джимми Хендриксом». Джимми Хен¬
дрикс - это супергитарист, очень рано умерший, который играл совершенно по¬
трясающие вещи. Один итальянский музыкальный критик сказал, что если бы этот
человек умел объяснить, что он делает на гитаре, или как-нибудь записать ход сво¬
ей музыкальной мысли, он просто изобрел бы новую музыкальную систему. Как
Шенберг или Хиндемит. Понимаете? И этот человек, Джимми Хендрикс, со сво¬
ей виртуозно звучащей гитарой, которая прорывается в совершенно другие про¬
странства (то есть там уже совершенно иное понятие о мелодике и прочем), встре¬
чается с Литл Ричардом. А Литл Ричард — это консервативный певец рок-н-ролла.
А рок-н-ролл, как вам известно, это совершенно каноническая, очень строгая
структура. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Обязательный инструмен¬
тальный куплет без голоса, последний с голосом — и конец. То есть совершенней¬
ший канон. И вот когда этот супергитарист, который может на своей гитаре де¬
лать все, играет рок-н-ролльный квадрат, где ни шагу в сторону, где просто не
36
1988-1993
сыграть ничего другого, - вот это оказывается потрясающе, потому что он, стис¬
нутый квадратом, всю свою энергию направляет уже не на какую-то импровиза¬
цию и изобретение чего-то нового — он ее концентрирует. Это такое ощуще¬
ние, как будто слона посадили в коробку из-под обуви. Понимаете, о чем я говорю?
Вот - канон. Вот — энергия человека.
А что касается нашего параллельного кино... Мне сейчас трудно определить
его каким-то термином. Ну, параллельное оно по статусу... Авангард? Да, в ка¬
ком-то смысле авангард, поскольку оно ощупывает границы экранной вырази¬
тельности, ищет какие-то новые формальные и содержательные приемы... Наверно.
В каком-то смысле, это и постмодернизм, потому что есть манипуляции блоками...
Но, на самом деле, это же что-то совершенно третье. А то и четвертое. То, чему на¬
звание еще просто не подобрать.
Академик Раушенбах сказал, что, в принципе, на уровне обыденного сознания
мы, наверно, испытываем какой-то примат эмоционального над рациональным.
Потому что вообразить мы себе можем больше, чем понять. Так вот сейчас, гово¬
рит он, наука, оперируя некими точными данными, способна предсказать и рацио¬
нально определить то, чего вообразить эмоционально мы еще не можем. А может
быть, уже не можем. Понимаете?
На самом деле, максимум человеческих возможностей заключается только
в посредничестве. И, конечно, гений — это человек, который говорит не своим го¬
лосом. Конечно же, гению кто-то диктует. Наверняка процесс творчества гения —
я почти уверен в этом — как раз и заключается в том, что гений записывает или
фиксирует то, что ему приходит свыше.
Я вижу в нашем параллельном кино какие-то поисковые пути к выходу из ны¬
нешнего состояния культуры. Я думаю, сейчас родится какое-то третье течение.
Третье течение художественной мысли, которое будет уже не разрушать культу¬
ру (как авангард) и не манипулировать ею (как постмодернизм), а создавать те са¬
мые ручейки. Кто по ним пойдет — бог его знает.
«Митин журнал». 1989. № 28. Лит. запись О. Абрамович. Интервью посвящено Второму
фестивалю параллельного кино «Сине Фантом», прошедшему в марте 1989 года
в Ленинградском Доме кино. В настоящем издании текст публикуется с сокращениями
и в новой редакции.
37
Кино на ощупь
Чапаев: результаты оказались чудовищными
- Вопрос о Всемирном Чапаевском движении? Значит так! Всемирное Чапаев¬
ское движение — это явление, которое, безусловно, шире, нежели фигура самого
Чапаева. Фигура, которая, действительно, была отмечена на звездной карте героев
Гражданской войны.
Звезда эта была далеко не первой величины. Но дальше происходит очень инте¬
ресная вещь. Наступают 30-е годы, эпоха тотальной переоценки короткого истори¬
ческого опыта советской власти и переписывания истории в пользу тех новых имен,
которые выходят на арену. Соответственно, реальные стратеги Гражданской войны
оказываются персонами нон грата. И возникает потребность создания нового пантео¬
на героев Гражданской войны. Потребность в мифологизации и сакрализации новых
фигур. Которые уже неопасны, которые уже мертвы, и поэтому достаточно удобны.
Создается ряд фильмов. И это очень важно, потому что фильмы в общей куль¬
турной ситуации 30-х годов — это одна из самых концептуальных сфер. Именно по¬
средством кинематографа в народное сознание, не искушенное другими каналами
информации, вталкиваются очень многие принципиально важные для победивше¬
го строя вещи. Возникают подряд фильмы Чапаев и Щорс, потом о Котовском, по¬
том об Александре Пархоменко, тоже каком-то герое второго плана. То есть фигуры
второго плана посредством вторичной мифологизации выводятся на первый план.
Фильм Чапаев по многим обстоятельствам становится образцом идеологиче¬
ского кинематографа, который манипулирует всеми возможными средствами тех¬
нической, интеллектуальной и идеологической его потенции, и посредством всего
этого образ Чапаева поднимается в народном сознании до невероятной величины.
Чапаев становится легендарным героем, он становится победителем Гражданской
войны, он становится самым главным полководцем. А дальше —еще более интересно.
Как указывает Ролан Барт, мифы возникают на трех уровнях. Возникает миф
естественный, потом возникает идеологический миф, а потом возникает миф, ко¬
торый является, скажем так, третьей сигнальной системой. Который поднимается
над своей непосредственной идеологической задачей и бытует уже в сфере чисто¬
го эстетического знания о нем. С Чапаевым происходит классическая пертурбация
такого порядка. С середины 50-х годов Чапаев становится уже воистину народным
героем, не официальным, а настоящим героем, просто героем фольклора. Вспо¬
мним городские анекдоты 70-х годов, существовавшие вне всякой зависимости от
идеологии и вне прямой связи с нею.
Такова предыстория. Теперь о Всемирном Чапаевском движении.
38
1988-1993
- Если можно перебить... А при чем тут Че Гевара?
- Ни при чем. Всемирное движение «Чапаев» касается только Чапаева. А вот ки¬
ногруппа, действительно, называется «Че-паев», объединяя в своем названии двух
этих персонажей. Че Гевара — это тот же Чапаев, только для Запада. Авантюрист,
террорист, романтик, который вместе с Фиделем Кастро начал делать революцию,
а потом, когда понял, что наделал, просто сиганул в окно от Кастро и побежал де¬
лать революцию куда-то дальше. Его там убили. После чего он стал символом бун¬
тующей молодежи 60-х. А после чего превратился в свободно бытующий сакраль¬
ный персонаж. Возникла третья сигнальная система мифа. Это самое его и роднит
с Чапаевым. Кроме того, они оба на букву «Ч».
- Но Всемирное движение - оно, значит, Ча-паевское?
- Всемирное движение - Чапаевское. В чем заключается его смысл? Во всемер¬
ной пропаганде героизма. Героизма не как некой гуманистической коллизии, когда
человек совершает личный подвиг, имея экзистенциальные категории выбора. Нет.
Чапаевский героизм — это героизм исключительно абстрактный. Который не име¬
ет отношения к отдельно взятому человеку. Это героизм стадный, который бросает
людей на колючую проволоку, на пулеметы и т. д. и т. п. Это вот такой героизм — ту¬
пой абсолютно, не думающий, не рассуждающий. В известном смысле Чапаев — это
антиницшеанский персонаж.
Популярность Чапаевского движения во всем мире — безусловна. Филиалы Ча¬
паевских обществ есть в Соединенных Штатах, в Голландии, во Франции. Думаю,
что интерес к Чапаеву в мире сродни тому интересу, который, например, испыты¬
вала леворадикальная интеллигенция конца 60-х годов к Мао Цзэдуну, к Культур¬
ной революции в Китае. Хотя тогда это носило характер неких политических экс¬
тремумов, и тогда это было вполне конкретно и социально. Сейчас, я считаю, это
входит в какой-то комплекс мироощущения человека на правах безусловного им¬
перативного веления. Потому что сейчас мы действительно переживаем такой пе¬
риод... трудно формулируемый период... когда человек собирает себя по кусочкам
и отсеивает очень много ложных вещей, что на Востоке, что на Западе. Географи¬
ческие и социальные границы большой роли уже не играют, речь идет о какой-то
единой цивилизации, которая включает в себя и Запад, и Восток, все, что раньше
было сепарировано по культурным и идеологическим зонам. Человек оставляет
у себя самое главное.
Мы, действительно, живем в какой-то период воистину пика или слома ци¬
вилизации, может быть, в предапокалиптическом состоянии или каком-то ином -
я не знаю, называть это можно как угодно. Но, по мнению русского философа Ро¬
занова, именно в такие периоды человек возвращается к себе, к своей родовой
естественной природе... Может быть, для того, чтобы встретить Страшный Суд,
я не знаю. Может быть, для того, чтобы начать какую-то новую жизнь на новом
39
Кино на ощупь
Кадр из фильма киногруппы «Че-паев». Реж. Максим Пежемский. 1987
этапе. И Чапаев в этом смысле - это вот тот самый героизм, то самое первород¬
ное чувство человека, который всем миром бросается на мамонта - вот что такое
Чапаев.
— Всемирное Чапаевское движение имеет отношение к деятельности киногруп¬
пы «Че-паев»?
- Конечно, имеет. Киногруппа «Че-паев» - это творческий филиал всеобщей ла¬
боратории Чапаевского движения, который пытается создавать оптимальный ва¬
риант миропонимания. С одной стороны, мы держимся теории единого непре¬
рывного героического времени. (Т. е. полное самоотвержение перед лицом чего-то
идеального и неконкретного. Потому что хорошо геройствовать, когда цель рядом,
и ее можно схватить. Схватил и успокоился. Нет! Тут важны постоянное напряже¬
ние, постоянный ход вперед - к идеалу, к недостижимому. В масштабах единой че¬
ловеческой жизни, во всяком случае. Это все очень тоталитарно, на самом деле.)
С другой стороны, в наших руках самое мощное синтетическое искусство — кино.
Которое суммирует опыт других искусств, которое обладает невероятными потен¬
циями, которое открывает человеческому глазу то, что иными средствами не от¬
крывается. И из этих двух потоков складывается эстетика киногруппы «Че-паев».
Которая, с одной стороны, манипулирует какими-то мифологическими оттенками,
а с другой - «стремится к улучшению реальности посредством киноизображения».
- Да, я знаю, что ваш коллега Вилли Феоктистов написал такое сочинение: «Ки¬
ноизображение как способ улучшения действительности». Но идея, что тоталитар¬
ность может улучшить реальность, как-то звучит очень странно. Обычно считают,
что тоталитарность имеет связь с тоталитаризмом, и это разрушает...
- Что? Разрушает - что?
40
1988-1993
Кадр из фильма киногруппы «Че-паев». Реж. Максим Пежемский. 1987
- Человеческое сознание.
- А ты считаешь, что сознание - самая сильная сторона человеческого существа?
- Н-нет...
- У человека же есть очень много иных врожденных способностей, которые он
не развивает именно потому, что в нем доминирует сознание. В человеке существу¬
ет масса вещей, гораздо более нужных для правильной жизни, нежели сознание.
Потому что сознание мы очень часто подменяем а) рационализмом; б) суммой ин¬
формации. И на данном этапе мы пожинаем финальные (я надеюсь) процессы та¬
кой концепции сознания. Это декартовская концепция сознания: когито эрго сум -
мыслю, следовательно, существую, - когда все окружающее воспринимается как
тварный вещный мир, частью которого является человек, который в силу способ¬
ности к абстрагированию способен этот мир подчинять себе и пересоздавать по
образу и подобию своему. По-моему, это ужасно. Это ужасно, потому что это абсо¬
лютно лишает человека восходящих тенденций, ставя человека в ряд с остальным
предметным миром...
- То есть, сознание - это вредно?
- Я говорю не о сознании как таковом, а о том, что можно понимать под со¬
знанием в реальной ситуации, в реальной нашей цивилизации и культуре. Кото¬
рая подменила сознание, во-первых, способностью к логическому мышлению,
а во-вторых, способностью суммировать информацию. Вот об этом речь. Конечно,
сознание как таковое - это величайший Божий дар и прочее. Но, тем не менее, мы
же имеем дело с реальностью, и группа «Че-паев» в этом отношении никак не от¬
деляется от реальности. Она просто пытается показать человеку мир идей. Кото¬
рый, кстати, входит в человека через сознание. Как раз сознание мы не упускаем
41
Кино на ощупь
из виду, но, тем не менее, наша теория совершенно антидекартовская. Потому что
речь в нашем случае идет не о том, чтобы мыслить, мыслить нечто, а потом во¬
площать это в некие тварные формы киноизображения, как, в принципе, обычно
и снимается кино.
Тут я должен повторить мысль, которую я повторяю всегда: самый большой
вред кинематографу нанесла книга Зигфрида Кракауэра «Природа фильма. Реа¬
билитация физической реальности», где он пишет, что кино - это антиплатонов¬
ское искусство. Платон говорил, что весь вещный мир — это отражение неких вер¬
ховных идей, и, по-моему, он совершенно прав. Декарт дает обратную концепцию,
и Кракауэр, в общем, тоже, потому что он говорит, что в кино существует только
то, что есть: вот эта вещная физическая реальность. Через которую ты можешь по¬
том конструировать какие-то идеи. Но потом. Мне кажется, что надо искать в кино
прежде всего идеи. А потом через идеи показывать определенную предметность.
И здесь киногруппе «Че-паев» очень помогает опыт кинорежиссера Жени Кон¬
дратьева, чьи фильмы ты видела, который совершенно потрясающе работает с та¬
кой категорией, как контур, абсолютно не учитываемой кинематографом. В то вре¬
мя как мир и вообще все отношения задуманы как рисунок. Плотью, живописью,
лепкой, массой какой-то он становится потом. В основе лежит рисунок. Этому по¬
священа целая серия экспериментальных че-паевских фильмов, которые я не смог
тебе показать, потому что их просто не перевели на видеопленку, они в 16-милли¬
метровых копиях. Это совершенно экспериментальные фильмы, которые не ставят
никаких художественных задач... Но они, тем не менее, там есть.
- И все же постулат «тоталитарное искусство может быть способом улучшения
действительности» звучит несколько страшновато. Нет?
- Я пытаюсь говорить понятийными категориями, а ты говоришь о тоталита¬
ризме в духе исторических рефлексий, которые мы переживаем.
- Да, так.
- В таком случае, точно так же я могу тебе развенчать теорию индивидуализма,
которая противоположна. Я понимаю, что наш постулат, наверно, утопия, но что ж
поделаешь, другого выхода я просто пока не вижу.
- Так что же нужно, чтобы реальность стала лучше?
- Во-первых, нужен импульс коллективизма, вложенный на уровне мифа, на
уровне естественного и зрелого блока, в сознание человечества. А во-вторых, ки¬
ногруппа «Че-паев» пытается действовать через глаз, пытается воспитывать новое
зрение. Мы верим, что через зрение может прийти новое понимание жизни. Что
можно пробить все напластования социума, пробить напластования ложных пред¬
ставлений — и увидеть естественное, настоящее положение человека в мире.
Я приведу тебе пример. Я очень хочу попасть в такую ситуацию... Я хочу попасть
в Китай, взять кинокамеру и снять там фильм о Китае. Как я бы его снимал? Как ты
42
1988-1993
знаешь, китайское письмо - оно очень контурно, очень знаково. Оно не обладает за¬
падной семантикой. Каждому предмету соответствует его графическое изображение.
Вот представь себе: ты берешь изображение и, повторяя контур данного иероглифа,
снимаешь этот предмет камерой. Наверняка, просто из каких-то мистических сооб¬
ражений, ты в результате увидишь своей камерой нечто такое, что недоступно тво¬
ему простому глазу. Я почти уверен в этом. Потому что я наблюдал это сам.
Я видел фильмы Карла Теодора Дрейера. Это великий режиссер, у нас его не
оценили, а на Западе, может быть, знают лучше. Он датчанин, но работал и в Аме¬
рике. Я видел его маленькие документальные фильмы. Скажем, фильм о северных
храмах, где камера в траектории своего движения постоянно возвращается к сквоз¬
ному мотиву креста. Он снимает храм через мотив креста. Понимаешь? И это дает
совершенно новое зрение. Для меня, например, архитектура храмов — в силу про¬
белов в образовании — мало что говорит. То есть я понимаю внутреннюю энергию
храма, когда вхожу в него, но когда я просто смотрю на храм, никаких чувств он,
его архитектура, у меня не вызывают. Когда же я вижу то, как снимает его Дрей¬
ер - очень религиозный человек, по-настоящему религиозный человек, причем
очень такого истового строя... Я вижу, как он чертит камерой движение, как он по¬
казывает по очереди купель, огонь свечи, гроб, свечу... Я вижу стихии воздуха, зем¬
ли, воды и их претворение в религиозных обрядах. Он дает мне некое универсаль¬
ное чувство жизни. Как это сделано по движению камеры? К чему это апеллирует?
К моему индивидуальному? Нет. Я думаю, что это возвращает меня как человека
на уровень стихий, на уровень какого-то моего первоначального естества.
По существу, киногруппа «Че-паев» пытается делать то же самое. И тут я должен
сказать, что вся та линия, которая роднит киногруппу «Че-паев» с тем, что называ¬
ется соцартом, — это явление временное, и оно существует лишь постольку, посколь¬
ку кино рассчитано на моментальное восприятие, и приходится задумываться о ка¬
ких-то моментальных коммуникациях с аудиторией. Поэтому приходится брать такие
вещи, которые понятны всем. Чапаев в этом смысле самый подходящий феномен.
- Я где-то слышала мысль, что в параллельном кино некрореализм и че-паев¬
ские фильмы трактуют одну и ту же тематику, то есть современную человеческую
жизнь, только некрореализм — с точки зрения субчеловека, неполноценного чело¬
века, который движется вниз, в состояние животного, а «Че-паев» — с точки зрения
сверхчеловека, с установкой движения вверх, в мифологическую сферу.
- Может быть. Мне сложно сравнивать, потому что по художественным резуль¬
татам некрореализм, конечно, гораздо сильней. По той простой причине, что он
более гуманное искусство, то есть более обращенное к человеку. Некрореализм
на первом этапе был очень социален, потому что снимал с социалистического че¬
ловека целый ряд табу, причем снимал самым что ни на есть шоковым методом,
посредством введения базовых категорий жизни и смерти. То есть это был очень
43
Кино на ощупь
Пьянству бой. Реж. Сергей Добротворский и Максим Пежемский. 1987
твердый эпатаж, очень целенаправленный. А киногруппа «Че-паев» эпатажа, в об¬
щем, лишена. Я считаю, что эпатаж - это апофеоз гуманизма.
- Хотелось бы расшифровки.
- Понимаешь, надчеловеческое не эпатирует никогда. Оно может задавить, оно
может уничтожить, стереть в порошок, но эпатировать на уровне испуга, который
приходит и проходит, оно не может. Я считаю, что первым некрореалистом в исто¬
рии человечества был Леонардо да Винчи. Ведь, обрати внимание, некрореалисты
занимаются проблемами человеческого тела, лишенного души. Всякий раз, когда
в истории происходит какой-то поворот от тоталитаризма к гуманизму - от всеоб¬
щего к частному - возрождается интерес к человеческому телу. Скажем, в Средне¬
вековье человеческое тело было табуировано, и первая акция титанов Ренессанса
была изучить - что же такое человек. Тот же Декарт трактует человека как твар-
ное, как материальное существо. Так что гуманизм - он очень материалистичен.
Леонардо да Винчи был первый, кто начал резать труп. И когда говорят, что некро¬
реалисты жестоки, они отвратительны, - это неправда. Леонардо позволял себе
гораздо более страшные вещи, даже с точки зрения современной юрисдикции. Он
выкапывал трупы из могил, вскрывал их и смотрел, как же это все устроено. То же
самое в каком-то смысле происходит и сейчас. У нас так долго спекулировали на
каких-то духовных категориях, так долго о теле и речи быть не могло, что вот -
маятник качнулся в обратную сторону. И рефлексии тела - они видны сейчас во
всем.
— Но почему гуманизм должен исключать живой интерес к другим индивидуу¬
мам? По-моему, гуманизма нет без глубокого чувства и изначального интереса
к людям. Живым людям.
44
1988-1993
Пьянству бой. Реж. Сергей Добротворский и Максим Пежемский. 1987
- Давай договоримся о том, что гуманизм - это признание абсолютной ценно¬
сти каждой отдельной личности.
- Каждой отдельной личности, но не в отдельности!
- А как тогда?..
- Мы же не существуем в отдельности!
- Да ты что?!
- Вот я не родилась на этом свете без матери своей и без отца...
- Ну, я понимаю.
- Да, я отдельная личность. Но не в изоляции.
- Хорошо. Тогда давай договоримся о том, что гуманизм предполагает идеаль¬
ные понятия внутри каждого отдельного человека, а тоталитаризм понимает их
вне каждого отдельного человека. Я склоняюсь ко второй точке зрения. И, может
быть, в этом и есть главное различие между киногруппой «Че-паев» и некрореали¬
стами. Некрореалисты апеллируют к ценностям внутри каждого отдельного чело¬
века (скажем, такой абсолютной ценности, как проблема смерти). В то время как
«Че-паев» ставит проблему — над. Он ищет ценность - над. Он ищет общую точку
зрения на все, которая, как надеется киногруппа «Че-паев», сумеет стать каким-то
универсальным вероисповеданием.
- Я читала в твоей статье «Имена и идеи», что есть такое течение в параллель¬
ном кино, которое продолжает эксперименты киноавангарда начала века, т. е. 20-х
годов. А если я правильно понимаю, киногруппа «Че-паев» продолжает опыт тота¬
литарного кино 30-х годов? Или как?
- Видишь ли... Мы начали с того, что стали говорить о третьей сигналь¬
ной системе мифа. Я очень много читал о тоталитарном кино 30-х годов, а когда
45
Кино на ощупь
посмотрел — понял, что идеологическое наполнение — ерунда, на самом деле. По¬
тому что мифологическая структура — это настолько универсальная вещь сама по
себе, что ее идеологическая задача оказывается, в конце концов, достаточно при¬
кладной вещью. Когда я посмотрел классический тоталитарный фильм Михаила
Чиаурели Клятва, я просто убедился в том, что это законченная кинокосмого¬
ния. Фильм, который начинается с огромного пустого пространства, по которо¬
му бредет одинокая человеческая фигурка... Который в топологии каждого отдель¬
ного кадра содержит законченную мифопоэтическую систему мира. Понимаешь?
От этого никуда не денешься. Это невероятно законченная мифологическая си¬
стема, с очень иерархичным пантеоном, с очень разработанной системой внутрен¬
них связей, с очень жесткими канонизированными построениями... Применитель¬
но к отдельной гуманистической линии конкретного исторического периода - да,
это страшно. А если смотреть в масштабах истории — это...
- Вполне нормальное явление?..
- Это эстетика. Это миф, это эстетика, и это то, что обладает, в общем, вне себя
существующей ценностью. Потому что я, например, не знаю, каким правителем
был царь Эдип. Но я знаю миф о царе Эдипе. И важно именно это. Кроме того, есть
такая теория - скорее остроумная, чем верная, - принадлежащая Тимуру Петрови¬
чу Новикову, о том, что весь социалистический реализм — это не что иное, как выс¬
шая фаза русского авангарда. Перешедшая в такую жизнестроительную стадию.
Потому что авангард, собственно, стремится к тотальному замещению жизни. Что,
собственно, и было достигнуто в рамках социалистического реализма. А то, чем
в Европе и в Америке занимались еще лет 30, — просто недоразумение. Потому что
все уже было достигнуто. Результаты оказались чудовищными. Но, тем не менее,
концепция восторжествовала. Да, в масштабах отдельной исторической коллизии
это все ужасно. Но представь себе - пройдет сто лет?..
- Останется азарт.
- Непонятно, что останется. Я думаю, скоро вообще ничего не останется. От¬
личная последняя фраза для интервью.
«Митин журнал». 1990. № 36. Беседа Анны Мюллер с Сергеем Добротворским посвящена
мифическому Всемирному Чапаевскому движению, а также работе киногруппы «Че-паев»,
созданной в 1988 году Сергеем Добротворским, Максимом Пежемским и Алексеем
Феоктистовым. Под псевдонимами Ольга Лепесткова, Махмуд Пижамский и Вилли
Феоктистов че-паевцы экспериментировали в параллельном кино в русле теории тотального
кинематографа. Анна Мюллер — американский русист, преподаватель русского языка
из университета Боулинг Грин в штате Огайо. В настоящем издании текст публикуется
с сокращениями и в новой редакции.
46
1988-1993
Капитан Курехин и...
Жил отважный капитан.
Он объездил много стран,
И не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул...
...Берлинская стена
Когда Берлинская стена рухнула, на обломках было разыграно гигантское рок-
представление. Прощание с мифом и гимн избавлению. Развалины Стены могли
бы стать идеальной сценической площадкой для «Поп-механики»: Сергею Куре¬
хину видятся действа космических масштабов. Но реально состоявшееся шоу Ро¬
джера Уотерса и гипотетический концерт «Поп-механики» не имели бы ни одной
точки соприкосновения. Они соотнеслись бы как два разных культурных этапа.
Выражаясь в модных терминах, как модернизм и постмодернизм.
Истина и святая святых модернизма — свобода. Истина постмодернизма —
отсутствие всякой истины (в том числе и свободы — такой же фикции, как и все
остальное). Модернистское сознание (рок — его наиболее экстатическое выраже¬
ние) отрицает прошлое, чтобы устремиться в будущее.
Постмодернистское сознание с его пафосом относительности всего на свете
обращено к прошлому как кладбищу мифов и имен.
Для Курехина, как для всякого постмодерниста, история - всего лишь книж¬
ное знание и цикл бесконечных вариаций. Он - музыкант конца истории. В идеале
он должен появляться на развалинах всех исторических событий, чтобы устроить
шабаш, показать иллюзорность открывшегося пути.
Его концерт на берлинских развалинах, несомненно, закончился бы строи¬
тельными работами по возведению нового бастиона.
...андерграунд
Выход советского рока из подполья был для Курехина теоретически безопасен
и даже благотворен. Если почти каждый рок-лидер, появляясь на стадионах и те¬
леэкранах, сталкивался с проблемой компромисса и предательства идеалов «сво¬
ей» публики, то Курехин и его «Поп-механика» существовали и существуют в той
системе отсчета, где любые ценности - пустой звук, химера. Легализация была не
страшна Курехину, потому что ему нечего было предавать.
В его мире нет незыблемых этических и моральных норм, ко всем его акциям
можно подходить только с эстетическими критериями.
47
Кино на ощупь
Сергей Курехин и музыканты группы «Rova». 1983
Показательна история, воспринятая недавними единомышленниками как
измена. В 1987 году, когда легальная судьба советского рок-н-ролла еще не была
решена и каждый аргумент «за» или «против» рассматривался всерьез, Капитан
Курехин на страницах «Ленинградской правды» - в лучших традициях застой¬
ной логики и лексики — обвинил отечественный рок в «беспомощности», «глупо¬
сти», «пошлости», «развязности» и «ущербности». А также призвал комсомоль¬
ские органы обратить особое внимание на «Аквариум» и «Алису». Для Курехина
уже тогда рок был всего лишь одним из блоков культурного сознания, чьи амби¬
ции его не слишком заботили. Равно как и волна протеста, поднявшаяся в рок-
кругах после названной публикации. Подобные жесты для Курехина естественны,
как впоследствии стали органичны спортивно-концертные комплексы, дорогие
заграничные турне, как все, что позволяло нанести удар по цельной вертикаль¬
ной картине мира, сдвинуть точки отсчета и в очередной раз поменять местами
«верх» и «низ».
48
1988-1993
...БГ
Гребенщиков и Курехин - две сакральные фигуры андеграунда и вместе с тем антаго¬
нисты. Белое и черное. Гармония и Хаос. Гребенщиков — герой «золотого века» советско¬
го рок-н-ролла, его точка отсчета и первый успех. Курехин — «разрушитель хороводов».
Он подобен мальчику, ткнувшему пальцем в голого короля и тем самым низведше¬
му космологические претензии русскоязычного рока до уровня обыденной культуры.
Когда-то они работали вместе. Курехин играл на клавишах в «Аквариуме», Гре-
бенщиков появлялся в ряду «гитарерос» «Поп-механики», причем главным здесь
был не выдающийся исполнительский талант БГ, а его мифологический шлейф.
И то, что вместо медиатора порой использовалась маникюрная пилка, свидетель¬
ствовало об определенной иронии БГ по отношению к собственному имиджу.
«Рок-н-ролл мертв, а я еще нет», — спел Гребенщиков, превратив собственное «я»
в выражение типичного модернистского индивидуализма. Для Курехина же умер не
только рок-н-ролл, но и поглотившее Гребенщикова модернистское сознание.
И если для Гребенщикова рок сопоставим с христианством как универсаль¬
ной коммуникацией, то для Курехина вся современная музыкальная культура — ва¬
вилонское столпотворение. Потому разрыв Гребенщикова и Курехина - это схватка
одряхлевшего модернизма и набирающего силу, неуязвимого в своей равнодушной
наглости постмодерна.
...народ
«Искусство принадлежит советскому народу» - такой лозунг висел над сценой во
время одного из концертов «Поп-механики» в ленинградском Дворце молодежи.
Идеологическое клише Курехин прочитал заново — любовно и буквально. Искус¬
ство постмодернизма - демократично, оно принадлежит (в том числе) и советско¬
му народу, как об этом всерьез заявляет Курехин.
Ориентация на массовые вкусы — одна из его центральных установок. Поэто¬
му он называет свою механику «популярной» и, стремясь к наиболее доступному
музыкальному языку, из концерта в концерт повторяет простые, запоминающие¬
ся, жизнеутверждающие мелодии. Он не может скрыть своих симпатий к опти¬
мистической эстраде 50-60-х годов и готов сотрудничать с «важнейшим из всех
искусств», отдавая предпочтение его наиболее демократичным жанрам - мистиче¬
скому триллеру Господин оформитель, кровавой Трагедии в стиле рок или искро¬
метному Переходу товарища Чкалова через Северный полюс.
Закономерно и то, что Курехин активно включился в кампанию по организа¬
ции первого в стране конкурса красоты. Слившись с концертом «Поп-механики»
на сцене престижного ленинградского зала «Октябрьский», он превратился в арте¬
факт и прозвучал как курехинское объяснение в любви массовым вкусам. И сам он,
ползущий на четвереньках перед вереницей полуобнаженных красавиц, сыграл
49
Кино на ощупь
Сергей Курехин. Фот. Аркадий Загер. 1991
роль кавычек, не только придающих зрелищу переносный смысл, но и делающих
его цитатой из народной мечты о прекрасном. По существу, то была первая встреча
с подлинно массовой аудиторией, которая искренне восприняла «Поп-механику»
как неизбежный довесок к сенсации. Кавычки остались незамеченными, однако
и саму публику, и ее недоуменную реакцию Курехин предусмотрительно включил
в контекст своего театра.
На концертах «Поп-механики» каждый находит свою звуковую нишу: рок
соединяется с классикой, эстрада с фольклором. Причем в отличие от инстру¬
ментального театра, где визуальный ряд раскрывает и дополняет музыкальные
темы и образы, Курехин соединяет оба ряда по контрасту. Чем грубее, тем луч¬
ше. «Все играют музыку барокко, а солист — нечто, не имеющее к этому отноше¬
ния. Это я называю маразмом. И для меня этот язык — ясен», — говорит Курехин.
Роковый «забой», вклинившийся в симфонию Гайдна, — один из самых простых
примеров.
50
1988-1993
...рояль
Свою устойчивую репутацию интереснейшего джазового пианиста и композитора
Курехин сознательно меняет на нечто иллюзорное, жертвует дар чистоте концеп¬
ции, систему отсчета — «беспределу», патетику — иронии. В его все более редком
обращении к роялю есть своя последовательность, упрямое желание быть уни¬
кальным инициатором, а не очередным, пусть даже очень талантливым, исполни¬
телем. Рояль исчерпал себя в молчании Джона Кейджа. В свою очередь Курехин
совершил с инструментом все акции, вплоть до эротической — над роялем, под роя¬
лем, на рояле, в рояле... И забросил рояль как нечто отмирающее.
Рояль для Курехина слишком человечен, слишком зависим от гения, опыта
и мастерства. Курехина же интересует не человек, а все, что вне человека, — пена
массового сознания, рупором которой становится синтезатор. Пианист превраща¬
ется в комбинатора, конструктора. Рояль звучит в «Поп-механике» на правах одно¬
го из многих культурных знаков. Одно время он еще был то камертоном, то эсте¬
тической вершиной, примиряя с идеей «Поп-механики» поклонников прежней
джазовой манеры Курехина, но постепенно стал играть все более служебную роль.
И это понятно, потому что музыкальный дар Курехина невольно ломает им же со¬
зданные границы и рушит возведенное коллективными усилиями здание. Моцарт
с комплексом Сальери ухитрился-таки пожертвовать гармонию алгебре, хотя ино¬
гда и путает высшую математику с таблицей умножения.
...Курехин
Искусство общения с журналистами и другими представителями народа он довел
до совершенства, легко жонглируя авторитетами, фактами собственной биогра¬
фии, рецептами жизни и творческими планами. То, что может показаться ориги¬
нальничаньем или цинизмом, на деле есть продолжение поп-механических шоу,
средство конструирования тотального имиджа, где сцена смыкается с жизнью
в безответственном пространстве относительности.
Впрочем, швов своей постройки Курехин не скрывает. И когда, претендуя на
театральность, выявляет в себе и своей компании полное отсутствие артистизма.
И когда, превращаясь в живую дирижерскую палочку, якобы руководит исполни¬
телями, а на деле старательно разваливает едва их намечающееся согласие. Ведо¬
мый им корабль чувствует дно, все острова и земли давно открыты. Стоит ли спу¬
скать шлюпки в заведомо пресные волны и спасать груз, состоящий всего лишь из
окаменевших реликтов?
А корабль плывет...
«Московский наблюдатель». 1990. № 12. Статья написана в соавторстве
с Кариной Закс (Добротворской).
51
Кино на ощупь
Зеркало для Зазеркалья
Когда в 1922 году Ленин заметил, что «из всех искусств для нас важнейшим явля¬
ется кино», он едва ли думал, что формулирует один из самых долговечных своих
лозунгов, которому суждено пережить многие социальные, политические и эко¬
номические заповеди социализма. Глубина ленинского провидения станет ясной,
если, расшифровывая формулу, ответить на два непраздных вопроса: для кого -
«для нас», и в каком смысле «важнейшим».
«Мы», конечно, не зрители, не народ. «Мы» — это власть. И речь, очевидно, об из¬
вечном способе отношений власти с народом посредством искусства. О манипуляции
общественным сознанием. Правда, Ленин не первым обнаружил иллюзионистские по¬
тенции «десятой музы»: их знали еще братья Люмьеры, еще Мельес. Чего они не знали,
так это идеи партийности искусства. Возможно, поэтому первые и удивительные пло¬
ды в свете политики и идеологии эти потенции принесли именно на советской земле.
Тут кино, бесспорно, «из всех искусств важнейшее», и не потому только, что
самое массовое. Заменившее повзрослевшему человеку ритуал, воплотившее въяве
утопическую мечту русской метафизики о «соборности», наделенное уникальной,
почти шаманской силой завораживать толпу приключениями теней, кино оказа¬
лось способным не только отражать состояние коллективного бессознательного,
но и менять его, даже творить.
Здесь начинается царство Мифа. И — первые пятилетки 30-х годов, выпол¬
нившие и перевыполнившие ленинский завет. Здесь же кончаются 20-е годы, яр¬
ким сполохом озарившие путь мирового киноавангарда, но не разглядевшие в этом
ослепительном сиянии собственное недалекое будущее.
Массовое мироощущение 30-х родилось не вдруг. Оно созрело в алхимиче¬
ских ретортах гениальных индивидуалистов первого послереволюционного де¬
сятилетия. Тех интеллектуалов и экспериментаторов, кто в пламенном порыве
породнился с народом на руинах прошлой культуры и в поисках вселенского кино¬
языка выпустил на экранную волю его, народа, смятенную душу. Кто мечтал о чув¬
ственной идеологии, минующей преграды логики и рассудка, и с великолепным
пренебрежением к человеку воодушевлялся уделом всего человечества.
Судьба жестоко усмехнулась над титанами 20-х, назначив им вскоре новые
роли: кому — кающихся грешников, кому — придворных шутов.
Сменились и мифы: само понятие «миф» в эпоху Сталина обрело новый смысл.
Над всей страной, над опустевшими деревнями и переполненными лагерями, над исчез¬
нувшими народами и сломанными жизнями высился миф «полностью и окончательно
52
1988-1993
победившего социализма», находя доступное выражение в игривой формуле: «Жить ста¬
ло лучше, жить стало веселей». Под ним располагались мифы поменьше, помельче, по¬
страшней, понарядней. Политические, экономические, социальные, художественные, по
сферам и отраслям — законченная, тотальная иерархия. В фундаменте лежали мифы ар¬
хетипические: миф Создателя (Ленин) и его Наместника на земле (Сталин), мифы куль¬
турных героев — воителей или тружеников — и их антагонистов — вредителей, диверсан¬
тов, врагов народа (живучесть этой системе придавала необычайная легкость перехода из
одного разряда в другой). Им вторили мифы новые, «авторские», наподобие мифа «друж¬
ной семьи народов», «смычки города и деревни» или «кадров, которые решают всё».
(К слову, великий Вождь и Учитель и впрямь знал цену кадрам. Кощунственно ве¬
сти сравнительную статистику жертв, однако кинорежиссеры оказались в той части
«интеллигентской прослойки», которую меньше других накрыла губительная волна ре¬
прессий. Быть может, причиной тому логика беспорядочной пулевой стрельбы, а мо¬
жет, и расчет умелого мастера, знающего, какое искусство «для нас» важней и нужней...)
Это всего лишь один парадокс парадоксальнейшей из эпох. Другой, к примеру,
заключается в том, что мифология, быстро и споро обретшая контуры всеохватной
системы, не только обеспечила жизнедеятельность авторитарной власти, но и дава¬
ла пищу и воздух простому советскому человеку и всему советскому обществу. Поче¬
му — станет ясно, если увидеть в той смутной эпохе ее главное, уникальное в масштабах
мировой истории свойство - почти полную и, казалось, почти окончательную разде¬
ленность действительности и идеала. Нужно ли говорить, что в реальности не было ни
«дружной семьи», ни «смычки», что настоящие герои Гражданской войны не гарцевали
на скакунах, а «отцы» и «друзья» народа были, по существу, его злейшими врагами. Ми¬
фология, как та область Идеального, что всякий раз и в любую эпоху обретает новую
плоть и вещественность, была призвана уравновесить действительность, сравнять¬
ся с нею и, в конце концов, заменить ее. Ею стать. Знаменитая строка знаменитого
гимна тех лет: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», - может читаться двояко...
Когда задача обозначилась со всей четкостью, определилось и место кино в ее
решении — место на передовой. За ним следовала архитектура, и функции между
ними распределялись по чисто религиозной шкале. В то время как «сталинская
готика» (вдохновленная не столько католицизмом, сколько Метрополиям Фрица
Ланга) должна была смирять «пред лицем городским Господним», внушать чувство
подавленности и малости, порождать в подсознании «комплекс винтика» и мисти¬
ческий трепет причастности к Механизму, кинематографу надлежало вырвать гра¬
жданина из лап реальности, окунуть его в миф как в быт, и по светлому пути -
прямо в светлое будущее, на экране ставшее настоящим.
Никогда еще (и никогда после) так не роднились по замыслу и умыслу кино¬
культуры Америки и России. Обе «фабрики» наперегонки выпускали свою супер¬
продукцию - грезы, которым на многие годы предстояло стать Национальными
53
Кино на ощупь
Метрополии. Реж. Фриц Ланг. 1926
Мифами. По качеству и демократизму одна не уступала другой, но по ренессанс¬
ному пафосу и гуманистической выспренности советское кино, уже тогда субли¬
мировавшее в этом многие табу, лихо выходило вперед.
В той Стране Чудес было много света, и тучка набегала лишь затем, чтобы умереть
под лучами солнца, а ночь наступала лишь затем, чтобы грянул день. Там жили веселые
ребята и девушки, которых щедро одарили плотскостью, забыв дать плоть, Поющий На¬
род, лишенный памяти, как лишено ее счастье, избавленный от комплексов, как избав¬
лено от них здоровье, но наделенный широкой, как сама страна, душой. Там колыбель¬
ная усыпляла, а марш звал на подвиг. Там любили песнями, но больше ценили дружбы.
Дружбы серпа и молота, народов, мужчин и женщин. Просто, без всяких. А со злом там
не спорили — зло осмеивали и наказывали. А управляли страной там по еще не написан¬
ным стенограммам партийных съездов. А делали революцию и побеждали в Гражданской
войне по еще не изданным учебникам истории. И исторические фигуры проживали там
жизнь так, как должны были прожить, и иначе быть не могло, потому что... не могло быть
никогда. Миф творился на глазах и, минуя стадию сказки, на глазах становился былью.
А что творилось по другую сторону камеры? Пора постановлений и травли еще
далеко, и еще немногие из создателей Страны Чудес осознали двусмысленность сво¬
его положения. Но тем трагичней их путь в свете Истории и Судьбы - путь бескров¬
ной (пока) трагедии духа. Ибо тут, прямо по Гегелю, вновь разошлись и скрестились
54
1988-1993
Новая Москва. Реж. Александр Медведкин. 1938
идеальное с реальным, субъективное с объективным — на этот раз в рамках не эпо¬
хи, но личности. Скрестились, чтобы, выбив искру трагизма, вновь разойтись без¬
возвратно. Кем они были? Виртуозами конформизма? Слепыми инструментами
власти? Гениями, не поднявшимися над веком? Они, знавшие не из дискуссий, что
такое народность искусства. Они, мнившие, что творят эпос нового времени, и чув¬
ствовавшие себя так, как и положено титанам Возрождения. И как обойти их прав¬
ду, говоря о фильмах, так легко по прошествии лет уступающих авторство эпохе, но
исписавших одну из самых ярких страниц в истории отечественного кино?..
В этом разговоре можно множить вопросы, контрасты, конфликты. Можно
и нужно; еще нужнее, однако, осознать свою приговоренность к полифонии под¬
ходов, к многомерности ракурсов, каждый из которых в отдельности если и необ¬
ходим, то наверняка недостаточен.
Мы не историки, или историки не больше, чем нынче каждый в нашей стране.
Мы не социологи, не психологи, не философы и не публицисты.
Но в Зазеркалье с одним киноведческим пропуском делать нечего. Ибо, как
уже, очевидно, ясно, — это кино... и не кино вовсе. Но уж коль мы решились туда за¬
глянуть, ничего не остается, как решиться увидеть.
«Советский фильм». 1989. № 9. Статья написана в соавторстве с Михаилом Брашинским.
55
Кино на ощупь
Наследники по кривой
Если оценивать текущую историю как смену определенных периодов, то в настоя¬
щий момент мы явно переживаем конец одного из них. Каким станет следующий,
сказать трудно - общественные темпы нынче все равно превосходят любые изда¬
тельские сроки. Остается вглядываться в недавнее прошлое, находя в нем процес¬
сы и тенденции, по всей вероятности, нацеленные в будущее.
Оборачиваясь на путь, пройденный со времени судьбоносного V съезда СК
СССР, легко убедиться, что кино ринулось в перестроечное пекло «поперед бать¬
ки». Многие процессы, свойственные обществу в целом, всплыли в нем раньше,
чем в других областях экономики или культуры, хотя маршруты и стадиальность
совпадают: покаяние, реабилитация полочного фонда, интерес Запада, подкреп¬
ленный престижными фестивальными наградами, деидеологизация и приватиза¬
ция, свободный рынок.
Скорые следствия долгожданных перемен кино тоже пожинает со всей стра¬
ной: засилье «чернухи» и дешевой кооперативной продукции, неконвертируемость
на реальном внешнем рынке и неконкурентоспособность на рынке внутреннем,
развал производства и финансовый дефицит.
Мудрить тут особенно нечего, а остается только констатировать, что кино, вы¬
пендрившись впереди прогресса, от прогресса и получило. Причем раньше и чув¬
ствительнее, чем более осторожные или более консервативные соседи. Но это как
раз проблема неопределенного будущего. Настоящее же таково, что, отколупнув
с фасада отечественного кинематографа жиденький косметический слой, мы най¬
дем мощные и нетронутые прежние напластования. Груз семидесятилетней «психо¬
логической истории» никуда не делся - именно поэтому применительно к текуще¬
му моменту правильнее всего говорить не об эволюции, и тем более не о революции,
но о мутации. О наследии, которое мы получаем по странной исторической кривой.
В чем состоит наследие? В том, что за истекшие годы у нас сформировалась уни¬
кальная в своем роде модель кинокультуры. Ее истоки обнаруживаются еще в се¬
редине 20-х и на рубеже 30-х годов, когда жанры — механизмы обратной связи ме¬
жду кино и жизнью — были объявлены буржуазными пережитками, а киноязык
подвергся канонизации, причем источником канона стали открытия авангарда
20-х, по-своему подготовившего почву для культового кино следующего десятиле¬
тия. Именно он, кинематограф «большого стиля» и «золотого века», выглядит иде¬
альным воплощением советского варианта «важнейшего из всех искусств». Столь
56
1988-1993
содержательная для западного кино игра между мифологией и идеологией здесь не
актуальна, потому что экран приспосабливает жизнь не к восприятию отдельной
суверенной личности, а к уже отрегулированным массовым запросам. Действи¬
тельность настолько мифологизирована, а мифология настолько сливается с идео¬
логией, что поступает на экраны прямо и непосредственно, минуя стадию жан¬
ровой обработки, будь то приключения одинокого героя, чудесное превращение
Золушки или какой-нибудь иной демократический архетип.
Постепенно, впрочем, прививаются и свои жанровые новообразования, где
исподволь нащупывается архаический подтекст формирующегося советского ми¬
роощущения. Появляются историко-революционный, биографический, оборон¬
ный фильмы, комедия с коллективным положительным героем и т. д. На этом
фоне взаимопроникают авторское и массовое начала. Советские режиссеры ли¬
шены пространства для индивидуального маневра, зато они пользуются исклю¬
чительным правом на нравственную истину в последней инстанции, на санкцио¬
нированное тоталитарным менталитетом высказывание от имени Истины, Добра
и Справедливости.
30-е годы запустили идеально отлаженный кинематографический механизм,
где каждая деталь пригнана к другой и все вместе образует непрерывный поток ге¬
неральных идей самого справедливого на земле социального строя. Все в этом ки¬
ноколоссе было разумно и прекрасно, кроме одного. Как всякое имперское детище,
он был рассчитан на века и мог функционировать только вкупе с другими, такими
же умными и бесперебойными машинами тоталитарной системы. Система же по¬
лучала ощутимые удары изнутри и снаружи. Мифологический полуфабрикат де¬
формировался то в пламени военного пожара, то в водах хрущевской оттепели, то
под порывами ветра, дунувшего из-за приоткрытого железного занавеса. Но кине¬
матограф работал в прежних ГОСТах, спешно приспосабливая их к требованиям
момента. Поворачиваясь «к человеку» в краткие периоды послаблений или укруп¬
няя форму пропорционально «закручиванию гаек».
Естественно, каждое лыко вяжется в строку и ничто не проходит бесслед¬
но. Разбалансированный кадр советской «новой волны» откликнется в стилистике
«производственных» фильмов 70-х, а камера, двинувшаяся вслед за героем в ран¬
них картинах Хуциева и Данелии, даст о себе знать в батальных массовках Освобо¬
ждения — семидесятнической отрыжке «большого стиля». В этом смысле увлека¬
тельно выглядела бы история советского кино, написанная с точки зрения анализа
«сквозных» мотивов, стилевых накоплений внутри канона.
К началу брежневской стагнации киномеханизм изрядно поизносился и ослаб.
Однако продолжал работать, продуцируя неоднократно описанную ситуацию «без¬
адресного» кино. То есть кино, сделанного по старым рецептам «золотого века», но
в условиях абсолютно демифологизированной реальности.
57
Кино на ощупь
Экран апеллирует к мифологемам победившего социализма, но в эти «са¬
кральные» величины никто не верит. Традиционному западному жанру все еще
противопоставляются отечественные суррогаты, вроде производственного филь¬
ма или фильма о молодежи (здесь особенно видно, как собственно жанр заменя¬
ется темой), но исподволь, контрабандой классический жанр берет свое: в «дет¬
ском» варианте Неуловимых, в подарочном новогоднем издании сказок Рязанова
или в историко-революционном Белом солнце пустыни.
Замечательно, что последней попыткой удержаться на прежних позици¬
ях становится популярный на рубеже 80-х тезис о «синтезе жанров», формаль¬
но санкционирующий лучшие достижения мирового кино в творческом поиске
кино советского, а на деле отчаянно сдерживающий его на грани потери жанровой
девственности.
Пресс идеологии по-прежнему давит и на авторскую режиссуру. Но и это
уже иной пресс. Он еще достаточно неповоротлив, чтобы объявлять всякий ху¬
дожественный эксперимент политической диверсией, но уже достаточно разбол¬
тан, чтобы контролировать любой обходной маневр. На окольных путях вынаши¬
ваются иносказание, косвенная авторская посылка, насыщенные ассоциативные
ряды — метафорический язык, имеющий помимо самооборонной функции са¬
модостаточную художественную ценность. Классическим примером такого рода
может служить сцена в типографии из Зеркала: реалии сталинской эпохи выно¬
сятся за легко читаемые скобки, а в чистый «осадок» выделяется невероятное от¬
чаяние и духовное напряжение. Авторство 70-х обращается к притче, метафо¬
ре. Рефлексии этой стилевой доминанты провоцируют «прямое кино» Германа
и «универсалистское» - Сокурова.
Иными словами, застойный период, предававший анафеме массовую куль¬
туру и изощренно глумившийся над кризисом буржуазного индивидуализма,
допустил в собственное дряхлеющее тело метастазы и авторского, и массового
кино. Однако с парадоксальной поправкой. Поскольку жанр снимать было все-та¬
ки трудно, а порой и опасно, на него решались только по-настоящему талантли¬
вые или, по меньшей мере, энергичные люди: Мотыль, Митта, Рязанов, Михалков,
Говорухин, Гаспаров. И наоборот — фрондерское «уважение к личности» давало
право на собственное высказывание даже тем, кто не обладал к тому никакими
основаниями.
Это вообще характерный признак культуры позднего социализма. Сравните
с литературой: бульварное «чтиво» сочиняли Пикуль и Юлиан Семенов — лите¬
раторы, как к ним ни относись, грамотные. Зато тучи бездарностей марали бума¬
гу, прикрывшись громкими словами о самовыражении. Налицо первый симптом
мутации, вторжение в имперский организм чужеродных демократических генов,
давших нормальное потомство только от самых сильных. Социальные катаклизмы
58
1988-1993
еще впереди, и граждане брежневской державы, обеспеченные всеми гарантиями
социализма, могут безопасно смаковать демократические мифы. Потому-то мы так
легко прощали нашим экранным суперменам службу в СМЕРШе, а то и в КГБ, что
понимали — это все маски, шпионские «легенды», под которыми скрываются мало
кем виденные в натуре, но всеми «слышанные» Тарзан и Джеймс Бонд. Потому
и воспринимали на «ура» даже плохонькие «истерны», что на безопасном расстоя¬
нии вглядывались сквозь них в чужую заманчивую жизнь.
И вот эта жизнь стала нашей собственной. И новая мифология внедряется
в нас уже не эпизодически, а самим строем «перелицованного» бытия. Происхо¬
дит радикальная смена самой модели - инфантильно-коллективистский архетип
сменяется индивидуалистическим: «массовый герой» в жизни и на экране усту¬
пает место герою-одиночке, принцип «все за одного» вытесняется принципом
«один против всех». В прежнем «истерне» герой непременно возвращался в объя¬
тия коллектива, во имя которого и при поддержке которого совершал свои подви¬
ги. Нынче он все чаще удаляется в пустоту, в одиночество, в неизвестность. В де¬
тективе и триллере меняется сам характер преступления. Прежде оно непременно
было посягательством на общественное достояние — на коллективную собствен¬
ность (кража), коллективную форму жизни (убийство), наконец - коллективную
память (расхожий мотив, согласно которому в уголовщине замешан недобитый во¬
енный преступник). Теперь криминальная завязка преимущественно стягивается
вокруг изнасилования - преступления против личности в ее, так сказать, необоб¬
ществленной ипостаси. Наконец, на экране приживаются мистика и секс - абсо¬
лютно надличная и абсолютно личная сферы, неподконтрольные социально-идео¬
логическим критериям.
Но тут и выясняется, что прежние мифы, публично отпетые и похороненные
вместе с державной киноиндустрией, куда более живучи и долговременны. Ме¬
таморфозы нашего сознания можно уподобить психологии подростка, изнываю¬
щего под диктатом родителей, но подспудно уверенного в их, родителей, вечно¬
сти, а стало быть, и в собственной защищенности от главных и больных вопросов.
Это - вполне избитое сравнение, но в данном случае оно работает почти букваль¬
но: ведь, похоронив родительницу-систему, отечественная кинематография оказа¬
лась в положении весьма бестолковой падчерицы иноземных опекунов. Шансов
выбиться в Золушки у нее и в ближайшее время не предвидится. Хотя бы потому,
что кинокультура, которую мы сейчас примеряем на себя и ростки которой выса¬
живаем на разрыхленной родительской могилке, существует по весьма жестким,
проверенным временем нормативам.
Едва ли не главный состоит в том, что жанр, бывший у нас прежде доро¬
гой и редкой игрушкой, на каждом шагу выдвигает свои каноны — изобразитель¬
ные, сюжетные, нравственно-этические. Отступление от любого из них ведет
59
Кино на ощупь
к разбалтыванию всей системы, в то время как советские режиссеры, воспитан¬
ные в идеологическом инкубаторе, почитают за высшую доблесть именно отступ¬
ление от канона любыми средствами. Просто и без затей тиражировать отлажен¬
ные образцы низового мифологического кино кажется им либо слишком просто,
либо слишком стыдно. Хотя, как выясняется, не стыдно, а главное - не просто, ибо
требует, во-первых, средств, а во-вторых, нормального, неамбициозного ремесла.
Кроме того, классические жанровые мифы - это все-таки мифы чужие, и их
адаптация к существующим представлениям и запросам «коллективного бессозна¬
тельного» дает странные и непредсказуемые результаты.
(...)
Важнейший механизм жанрового катарсиса у нас, как правило, крутится вхоло¬
стую, потому что персонажи отечественных вестернов и триллеров отвечают либо
за других, либо перед Высшим Судом, но никак не сами за себя.
Кто знает, быть может, пройдет время, и историки кино будут с упоением
отыскивать в картинах Светозарова и Сергеева индивидуальные авторские черты,
подобно тому как французская критика 50-х годов находила эти черты в канониче¬
ских вестернах Говарда Хоукса или шпионских комедиях Хичкока. Пока же самыми
удачными оказываются те жанровые работы, где авторская игра как бы дистанци¬
руется, оговаривается заранее, как в чуть стилизованном Катале Сергея Бодрова
или в подчеркнуто черном Клеще А. Баранова и Б. Килибаева. Но эти фильмы не
насыщают слой новой мифологии, скорее - паразитируют на нем, предшествуют
тому, чего еще нет.
Здесь, впрочем, мы уже вторгаемся на территорию авторского кино, для кото¬
рого теперь, кажется, наступило полное раздолье. История свидетельствует: раз¬
вал киномонополий всегда или почти всегда чреват взлетом индивидуальной ре¬
жиссуры. Так было в 1914 году, когда на руины «Патэ» и «Гомона» пришли Деллюк,
Эпштейн и Ганс, так разливалась «новая волна» 60-х. Так бывает при деформациях
«нетоталитарной» модели, наше же наследие дает о себе знать не только на уровне
низового пласта, но и на индивидуальных авторских позициях.
В гипотезе советское кино должно разделиться на поточное и элитарное. Им¬
перативы прежнего официоза, предписавшие всем любить Солдат свободы и не
любить мелодраму, а на неформальном, но не менее директивном уровне - не лю¬
бить Вкус хлеба и преклоняться перед Тарковским, — уходят в прошлое. Не хочешь
Сокурова — и не надо. Это его (что по-своему справедливо), а не твои проблемы, так
что не умничай и смотри Звездные войны. Мудрый буржуазный принцип «клиент
всегда прав» формирует, с одной стороны, жанр, канон, поток, а с другой - стиль,
язык, штучный проект. На одном полюсе «улица корчится безъязыкая», на дру¬
гом - язык, шифр, индивидуальный код.
60
1988-1993
Но тут-то и выясняется, что психологический состав «верха» и «низа» совер¬
шенно одинаковый. Прививка коллективизма слишком хорошо усвоена и массо¬
вым мифом, и творческой личностью в отдельности — в той мере, в какой сама
личность является результатом сложения мифологических величин. Прямой ре¬
зультат этого сложения состоит в том, что в нашем авторском кино сегодня нет
собственно авторского начала, которое прежде обреталось во фрондирующих вы¬
падах против «системы» и игралось больше фоном, нежели самим собой. Мы при¬
выкли думать «за всех», но разучились думать за себя.
(...)
Без языка оказалась не только «улица», но и «башня из слоновой кости». Апока¬
липсически мыслящие режиссеры дружно крадут у Тарковского. «Чернушники»
одалживаются у Германа. Метафорическая режиссура 70-х явно не дала традиции
языка, сколько-нибудь пригодного к бытованию в новых условиях, она осталась
боковой ветвью - яркой, но бесплодной. Языковых накоплений нет. Есть только
индивидуальные фонды тех же Тарковского и Германа, постепенно девальвируе¬
мые ретивыми эпигонами. Поэтому наиболее честными в этом смысле представ¬
ляются работы, в которых лексические поиски не скрываются, а наоборот, выно¬
сятся в саму поэтику. Так происходит у Сельянова и Макарова, наследующих через
сценарии М. Коновальчука платоновскую систему наивной «саможивущей» речи,
мыслящей азбуки. Сюда же формально подверстываются откровения «параллель¬
ного кино», искренне изобретающего велосипед, однако — только формально, по¬
тому что за простодушием неофитов нет-нет да и мелькает прагматизм опытных
эпатажников и профессиональных «анфан террибль».
Из всего сказанного вырисовывается вполне монструозная картина. Мутации им¬
перского кино дают ублюдочные жанровые гибриды. Авторы проповедуют конец све¬
та на пустом месте. А где-то сбоку резвятся «параллельщики», оговорившие себе право
жизни после смерти и не упускающие шанса на мародерскую поживу. Завершающим
мазком этой кладбищенской живописи мог бы стать самый страшный мутант — широ¬
ко обсуждаемый ныне отечественный вариант постмодернизма, явленный в культуре,
где, по язвительному замечанию американки Аннет Майклсон, и модернизма не было.
Модернизма, может быть, и не было. Но с постмодернизмом, если понимать
под таковым состояние «усталой» культуры, отказавшейся от продуктивных функ¬
ций и уравнявшей все и вся в пространстве относительности, все сложнее. Думает¬
ся, наша застойная действительность 70-х фабриковала стихийных постмодерни¬
стов, ибо тиражировала ценности, в которые не верили даже их прямые создатели,
и сообщала пафосу времени изначальный игровой оттенок. Социальная ирония,
сводившая в сюжете анекдота генсека, Чапаева и Штирлица, экстраполировалась
на более обширные сферы сознания и пронизывала их до дна.
61
Кино на ощупь
До дна, но не до конца. Наследники 70-х, искушенные перестроечной вседо¬
зволенностью, все равно не станут постмодернистами по духу, потому что навсе¬
гда обречены «вечным ценностям», которые в брежневские годы ходили наравне
с магнитофонным Галичем и машинописным Солженицыным. Расколотый тота¬
литарный менталитет не может целиком насладиться обратимостью, иллюзорно¬
стью игры со всем. В каком-то предельном, итоговом заходе он все равно затребу¬
ет опоры, ориентира, акцента, подобно тому, как «вселенская смазь» Ассы и Черной
розы... рано или поздно выдает в их авторе «шибко душевного» моралиста из вре¬
мен Ста дней после детства, а демиургический универсализм Дней затмения —
опору на культуру «трех Б» (Бах — Босх - Булгаков), при полной заместимости
первого звуком органа вообще, а последнего — «Альтистом Даниловым».
Проблема культурного поля встает вообще очень остро. Сколько ни ищи, ни
в прошлом, ни в настоящем не отыскать цельный массив, без которого о постмо¬
дернизме и говорить-то стыдно. Пока игра разворачивается вокруг только двух яв¬
лений: реалий сталинской эпохи и пресловутой «молодежной культуры», худо-бед¬
но представляющей законченную культурную среду. Вероятно, из недр этой среды
и выйдет настоящее постмодернистское мировоззрение - транснациональное, ур¬
банистическое, впитавшее и примирившее в себе «высокое» и «низкое», лишен¬
ное социальных рефлексий. И главное — владеющее жанровым каноном, лежащим
в основе всякого постмодернистского изыска.
Круг замкнулся. Начав с жанра, к нему и вернулись. Вероятно, эту статью надо
заканчивать ссылкой на будущее, которое все покажет и все расставит по местам.
Кино меняет окраску. Но под какой цвет оно мимикрирует? Под поблекший
оттенок красного или под натуральный - кровавый? Или под неопределенный ко¬
лер знамен будущей демократии? Ответа пока нет, но обновленный киномеханизм
раскручивается надолго. О, неисповедимые пути наследия!
«Искусство кино». 1991. № 7. В настоящем издании публикуется с сокращениями.
64
1988-1993
Весна на улице Морг
Мертвые люди будут проходить через собственные кишки.
Леонардо да Винчи. «Предсказания»
В ленинградской телепередаче «Пятое колесо» приглашенная к дискуссии о некро-
реализме женщина-психолог заметила, что главную опасность представляют не
столько сами творцы некростиля, сколько иные критики, безответственно делаю¬
щие эти творения достоянием общественности.
В словах женщины-психолога есть безусловный резон. По этому поводу мне
вспоминается история, слишком невероятная, чтобы оказаться правдой, но, вместе
с тем, слишком похожая на выдумку, чтобы быть ею на самом деле.
Однажды - дело происходило в глубоко застойные времена - школу, где учил¬
ся Евгений Юфит, будущий отец-основатель некродвижения, посетила западногер¬
манская делегация. Нетрудно вообразить, что началось в стенах обыкновенной ле¬
нинградской десятилетки, спешно гримировавшейся под филиал Академии наук
образцового содержания. Юный Юфит принял в подготовке посильное участие.
В частности, убедил одноклассников приветствовать гостей-антифашистов хоровым
возгласом «Гитлер капут!». То есть, с одной стороны, потешить чувство каждого чест¬
ного немца, а с другой — показать, что советские школьники свято чтут память, спло¬
тившую наши народы в борьбе с коричневой чумой... Об остальных аргументах исто¬
рия умалчивает, но, вероятно, они были столь же логически безупречны, потому что,
едва на пороге появились первые гости, весь (!) класс вскочил и гаркнул... С таким эн¬
тузиазмом, что благовоспитанные фрау и увешанные фотоаппаратами герры пулей
вылетели вон, решив, что стали жертвами тщательно спланированной провокации.
Экстренное комсомольское собрание, обсудив ЧП, пришло к выводу: класс
поддался действию необъяснимого массового психоза. Зачинщика особенно не ис¬
кали. Да и не могли найти, потому что, как выяснилось, сам Юфит в последний мо¬
мент остался сидеть за партой и ничем себя не скомпрометировал...
Иногда мне кажется, что все берущиеся судить о некрореализме невольно ока¬
зываются в положении сбитого с панталыку класса, ибо попадают в некое магиче¬
ское поле, где хулиганство «на голубом глазу» идет бок о бок с трезвым умыслом,
персональный магнетизм опирается на коллективный аффект, а тщательно сыми¬
тированный маразм завершается продуманным скандалом.
65
Кино на ощупь
Весна. Реж. Евгений Юфит. 1987
Провокация, эпатаж, шок сопровождали легализацию некрореализма. Ко¬
гда на первой волне перестроечного интереса «ко всему запретному» некрофиль¬
мы оказались в Ленинградском Доме кино, ожесточенная дискуссия развернулась
в зале еще до конца просмотра. Возмущенное большинство требовало немедлен¬
ных и жестких санкций. Самые терпимые рекомендовали рассадить авторов по
психбольницам. Некрореалисты же, анонимно устроившись в первых рядах, горя¬
чо поддерживали недовольных, выкрикивая что-то вроде: «Такое искусство наро¬
ду не нужно!»
Глядя на это, Луис Бунюэль, до конца жизни сожалевший, что не сумел за¬
бросать булыжниками зрителей Андалузского пса, удавился бы от зависти. Го¬
дар был бы счастлив, стань он участником показа, закончившегося сменой ком¬
сомольского руководства целого города (некрореалисты добились этого в Кирове
в 1988 году). Однако скандалы не только проходят, но и забываются. Сегодня, ко¬
гда поломанные стулья и испорченные репутации доверчивых киноадминистра¬
торов остались позади, самое время взглянуть на явление со стороны. Причем не
только в свете личных побуждений его творцов и создателей, но и с точки зрения
того самого общественного сознания, о чистоте которого заботилась телевизион¬
ная женщина-психолог.
Некрореализм (от греч. «некрос» - буквально «мертвореализм») появился на
свет в начале 80-х в среде ленинградского «нового искусства». Будущие титаны дви¬
жения занимались в ту пору кто чем. Олег Котельников придумывал зеленомордых
фантомасов в модных черных очках и пририсовывал оленям на мещанских коври¬
ках комиксовые надписи «йе-йе». Андрей «Мертвый» Куромярцев совмещал рабо¬
ту в крематории с сочинением романа «Девочка и медведь» - странной вариации
66
1988-1993
Санитары-оборотни. Реж. Евгений Юфит. 1984
на тему «красавицы и чудовища», выполненной в духе кровавого лубка и детской
сказки-страшилки. Юрий «Циркуль» Красев исполнял «ноль-джаз» — прообраз ку¬
рехинских поп-механик. Валерий Морозов стучал на барабанах у «Россиян». Вла¬
димир Кустов служил матросом и исследовал влияние недоброкачественных про¬
дуктов на патологическую активность мужчин в массовых драках. Сергей «Серп»
Сериков играл на трубе в похоронном оркестре города Светлотрупска (данные
автобиографии).
Что же касается Евгения Юфита, то он, закончив ВТУЗ при Ленинградском
металлическом заводе, где, по собственному признанию, неоднократно поражал
наставников крайней тупостью и неспособностью, занялся живописью и постано¬
вочной фотографией.
Оценивая сегодня ранние работы некрореалистов, легко распознать в них эле¬
менты формирующегося стиля. Обозначается круг специфических тем, персона¬
жей, сюжетов. Утверждаются авторитеты и источники вдохновения.
Так, в романе Андрея Мертвого «Девочка и медведь» заблудившаяся в лесу
крошка сначала подкармливается возле полуразложившегося трупа, а потом сво¬
дит дружбу с дремучим медведем-людоедом. Приглянувшиеся друг другу мон¬
стры творят всяческие безобразия, потрошат покойницкую, устраивают побоище
на лугу. Смерть притягивает их с неистовой силой. Они зовут ее как счастливое
избавление, заражая своим счастьем окружающих. Все это свершается на фоне
могучей природы. Зимние мертвяки являются из-под снега, половодье выносит
утопленников, заливные луга зеленеют, как трупные пятна. Сама стихия совер¬
шает свой вечный цикл как будто лишь для того, чтобы оттенить прелесть гибе¬
ли и распада.
67
Кино на ощупь
В этом каноническом некротексте очевидно тяготение к анонимному слою на¬
родной «чернухи». К тому низовому фольклору, который изживает коллективный
страх в «пляске смерти» или в современных садистских куплетах:
Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах...
или
Сверху упала плита номер триста —
Мальчик похож стал на «завтрак туриста».
(У последних строк есть автор, что никак не умаляет их истинной народности.)
При этом Андрей Мертвый неподдельно инфантилен, по-детски пантеисти¬
чен и по-детски же жесток. Ему чужда ирония или авторская дистанция — красо¬
та трупа влечет его как нечто неотделимое от общей непознанности жизни. Его
персонажи безымянны и сказочны - Девочка, Бабушка, Медведь, Мужик. Его кол¬
лизии универсальны и наивно-мифологичны - трансформация бездушной плоти
буквально олицетворяет переход в другое, таинственное измерение.
Опус Мертвого как нельзя лучше иллюстрирует важную тенденцию наро¬
ждающегося стиля: интерес ко всему телесному, экскрементальному и, как след¬
ствие, — низость формы и примитивизм содержания. Позже эти понятия составят
общественный имидж некрореализма, а еще позже будут тщательно имитировать¬
ся его многочисленными эпигонами и подражателями.
Другим источником и составной частью некростиля, делающим его явлени¬
ем специфически советским, является, условно говоря, «героический идиотизм».
А именно: «матерая лихость», «удаль лютая, молодецкая» и «здоровый, тупой за¬
дор» (привожу высказывания в оригинальном авторском звучании).
«Героический идиотизм» — феномен с легко прослеживаемым историческим
генезисом. Некогда Ницше обосновал «героический пессимизм». Время скоррек¬
тировало определение. На смену антибуржуазному сверхчеловеку пришел социа¬
листический недочеловек. Герой не по личному выбору, а лишь потому, что «когда
страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой».
Любовная и буквальная апелляция к такому типу личности с ее атрофирован¬
ным инстинктом самосохранения и абсурдной социальной ролью оплодотворила
архаический пафос смерти безудержным весельем. Сказочный персонаж стал ле¬
сорубом, электриком, военным альпинистом. «Мой папа летчик» — так называется
одно из ранних произведений некроживописи. Сын-дебил радостно глядит в свет¬
лое будущее, а позади висит папа-парашютист, удавленный на стропах, которые он
от избытка ликования обмотал вокруг шеи...
68
1988-1993
Загробный мир обернулся гротеском. Герой-мертвец превратился в удальца-
идиота, пожинающего плоды собственной лихости. В этом ключе Евгений Юфит
подходил к своим фотомоделям, гримируя их под картинки из учебника судебной
медицины (впоследствии среди учителей в искусстве он будет выделять Эдуарда
фон Гофмана, составившего в начале века обширный патологоанатомический ат¬
лас). Фотоработы Юфита несут печать макабрического концептуализма. «Подвиг
инкассатора» — забинтованная физиономия, из которой торчат какие-то штыри
и проволоки... «Купающийся юноша» — пучеглазый мужик вылезает из ванны, на¬
полненной кровью... «В ожидании перемен» - удавленник со спущенными штана¬
ми сидит на сортирной доске... «Утро в березовой роще» — мертвое тело в вычурной
позе застряло среди ветвей...
Даже поверхностного пересказа довольно, чтобы увидеть в юфитовских рабо¬
тах классический повод рождения кино — стремление фотографии стать фотогра¬
фией движущейся. Статичные снимки оживают за счет названия; сюжеты разыгры¬
ваются как бы за пределами мизансцены, запечатлевшей кульминацию, апофеоз,
результат. Понятно, почему окончательная декларация некрореализма, уже вобрав¬
шего живопись, литературу и музыку, совпала с явлением некрокинематографа.
Это случилось в 1984 году. Юфит, Мертвый, Котельников и Константин Мите¬
нев основали киностудию «Мжалалафильм», аранжировав официальную фамилию
Мжаванадзе в эстрадном духе «ша-ла-ла». Первый же съемочный день закончил¬
ся скандалом. Милиция разогнала актеров, инсценировавших драку на помойке.
Юфит, поскольку он держал кинокамеру, был отконвоирован в ближайшее отделе¬
ние и провел там целую неделю, покуда РУВД проявляло пленку.
Экспертное заключение носило характер почти искусствоведческий: крими¬
нал отсутствует в силу крайнего идиотизма. Милицию можно понять. Первый не¬
крофильм Лесоруб больше всего похож на раннюю комическую, сыгранную обита¬
телями дурдома. Герои мечутся по помойкам и дворам-колодцам, лупят друг друга
почем зря, втыкаются головами во все твердые предметы, имитируют массовые
травмы и коллективные самозарезывания... Для звукового сопровождения Юфит
и Котельников сочинили песню «Жировоск».
Наши трупы пожирают
Разжиревшие жуки.
После смерти наступает
Жизнь что надо, мужики!
Текст этого программного документа остался только на бумаге. В фонограм¬
ме же не разобрать ни слова - нечленораздельный рев лишь изредка пробивается
сквозь какофонию инструментов.
69
Кино на ощупь
Вепри суицида. Реж. Евгений Юфит. 1988
На первом этапе к некрокинематографу примкнул Евгений «Дебил» Кон¬
дратьев — один из самых загадочных персонажей ленинградского киноподполья1.
Влияние «дикого» кондратьевского стиля ощутимо в Лесорубе.
Впоследствии темп некрофильмов замедляется, кадр становится более устой¬
чивым и статичным. В 1985 году Юфит снял один из самых известных своих филь¬
мов - четырехминутный «шедевр» Санитары-оборотни. Трогательный персонаж
в коротких штанишках и матросской шапочке углубляется в лес, а следом за ним
крадутся санитары, вооруженные палками, мешками и смирительными рубаха¬
ми. Сманив жертву с дерева, медработники набрасываются на нее, топчут и бьют...
В угасающем сознании истерзанного «матросика» всплывает последняя картина:
синее море и белый пароход...
Санитары-оборотни — фильм-афоризм и вместе с тем фильм-концепт. Сюжет
в нем равнозначен метафоре, парадокс граничит с философией, а минималист¬
ская технология отыгрывается на уровне художественной задачи. Смерть как итог
праздника идиотов, насилие как повод к массовому балету, наконец — глумливый
парафраз на темы народного образа счастья и мечты - все эти элементы некрореа¬
листического «мейнстрима» встроены в четкую формальную структуру и звучат
прямо и лаконично.
В 1987 году Юфит и Мертвый совместными усилиями сделали Весну — сим¬
фонию идиотизма, разыгранную на фоне весеннего пробуждения природы. Форма 1
1 Поскольку Кондратьев избегал и продолжает избегать всякого общественного внимания, мне остается
адресовать читателей к Ассе Сергея Соловьева, где сны Бананана представлены фрагментами
из кондратьевских Труда и голода и Нанайнана.
70
1988-1993
Рыцари поднебесья. Реж. Евгений Юфит. 1989
усложняется. Возникает образ рассказчика — прикованной к постели больной, чьи
дневниковые записи-титры комментируют происходящее. Появляются докумен¬
тальные вставки — летят аэропланы, маршируют физкультурники, сверкает огнями
цирковая арена. Вдохновляясь этим, веселые трупаки предаются своим обычным
забавам. А именно: подробно и со вкусом сводят счеты с жизнью. Своей и чужой.
Мощным аккордом прозвучала в Весне гомосексуальная тема. Смерть — дело
суровое, мужское. Перед тем как отойти в лучший мир, персонажи вкушают муже¬
ственные телесные наслаждения. В дело идет всякий подручный материал — пал¬
ки, веревки, камни... Особенно впечатляюща и тошнотворна сцена, где при помощи
здоровенных орясин три мертвяка имитируют орально-анальный секс.
Годом позже Юфит снял Вепрей суицида и Мужество — героические прит¬
чи об однополой любви и смерти. Андрей Мертвый предпринял первую самостоя¬
тельную постановку. Мочебуйцы-труполовы — трагическая история семьи, не го¬
товой к общению с некромиром. Некрореалист второго призыва Игорь Безруков
посвятил своих Человека как последнее убежище города и Гостя из Африки интим¬
ной жизни покойников. Константин Митенев сделал Тупые губы, где главным ат¬
тракционом является образ автора, блюющего прямо в объектив.
В 1989 году состоялся официальный дебют некрофилов. На «Ленфильме»
Юфит снял звуковую двухчастевку Рыцари поднебесья, повествующую о злоклю¬
чениях героев-разведчиков, участников таинственного эксперимента. Его смысл
так и останется загадкой, потому что, будучи не в силах преодолеть искушение,
лихие диверсанты насилуют друг друга, калечат и убивают... В утреннем лесу раз¬
носится дробь дятла... С воем и мычанием голозадые мужики мечутся по опушке...
«Шел второй день оттепели», — гласит финальный титр...
71
Кино на ощупь
Этим фильмография некрореализма, собственно, и исчерпывается. Есть еще
узкопленочное Яйцо — premier amoureux Рыцарей поднебесья Александра Аникеен¬
ко. Фильма я не видел, но, по слухам, его гадость и мерзость не поддаются никакому
описанию. В целом же кинопродукции некрореализма едва набирается на два часа.
То есть явление, которое вот уже третий год обсуждается и дискутируется, от кото¬
рого одни приходят в неописуемый восторг, а другие брезгливо отворачиваются, по
своему фактическому объему не превышает метраж обычной прокатной картины2.
Громкая и скандальная репутация некрореалистов — типичный случай, ко¬
гда короля играет окружение. При этом я вовсе не утверждаю, что король голый.
Он одет, порой даже слишком тщательно. Много на своем веку повидавшие и по¬
казавшие английские «независимые», отсмотрев некропрограмму, обрушились на
авторов вовсе не за патологию или непрофессионализм (стандартный набор оте¬
чественных претензий), но за недостаток мерзости... У Брэкхейджа или Кенета Эн-
гера, дескать, было куда гаже, грязнее, круче. А главное - раньше. В массе же за¬
падный зритель на наших трупаков глазеет очень охотно. Ему, оболваненному
и пресыщенному, конечно, любопытно: чем еще можно шокировать после Бунюэ¬
ля, Арто или Аррабаля. После того как в фильмах американского андеграунда акте¬
ры ложками поедали натуральное дерьмо. Давились, конечно, но лопали за милую
душу, потому что понимали - имидж смутьянов и скандалистов так просто нико¬
му не дается.
Словом, репутация требует не только времени, но и места. В системе тради¬
ционных советских ценностей некрореализм тянет на крутой авангард, ибо нано¬
сит чувствительную пощечину общественному вкусу. На Западе он легко проходит
по шкале постмодернизма, ибо с обескураживающим простодушием добывает све¬
жую кровь из окаменелых «священных животных» (последнее утверждение вооб¬
ще распространяется на отечественный вариант параллельного кино, за кордоном
давно уже существующего в других геометрических плоскостях). В обоих случа¬
ях некроискусство силится расширить артефакт, обыграть обстановку, подклю¬
читься к контексту. На раннем этапе контекст создавали неформалы-единомыш¬
ленники, провоцировавшие благонамеренную публику экзотической внешностью
и вольными манерами. Со временем хэппенинг посолиднел: в исходе голландских
гастролей некрошоумен Юрий Циркуль, изображавший перед экраном последние
судороги мужика-лесовика, метнул в зал увесистое бревно. Зрители были счастли¬
вы и набросились на экзотический сувенир не хуже, чем на штаны Мика Джеггера.
На свердловском смотре «нестыдного кино» Юфит и Аникеенко разжигали ажио¬
таж демонстрацией пары карпов-педерастов...
2 Сейчас, когда пишется эта статья, полным ходом идут съемки первой полнометражной работы Юфита.
С маркой «Ленфильма» она появится в конце года.
72
1988-1993
Методы шоковой терапии разнообразятся, но главная цель остается неизмен¬
ной. «Играя» некрореализм - приветствуя или порицая, - наше сознание одновре¬
менно играет и само себя, собственные комплексы и табу. Некроэстетика устремля¬
ется в область общественной «браковки». Безумие, экскременты, всякие патологии
и извращения, наконец, сама смерть как будто не замечаются коллективным со¬
знанием или уводятся в область эвфемизмов. Некроискусство извлекает их оттуда
и возвращает обществу в образах его же, общества, героев и титанов. Персонажи
«зрелого некрореализма» предстают на экране по преимуществу в классическом
облике «золотого века» 30-50-х годов, в мифологизированных амплуа разведчиков,
летчиков-героев, матросов или ударников производства. Аномалия и норма оказы¬
ваются взаимосвязаны: гомосексуализм — оборотная сторона повышенной маску¬
линности, идиотизм доводит до абсурда героический пафос, а презрение к смерти
естественно следует из коллективной имперской этики.
Всё есть материя и всё есть тлен. Взрастившее некрореализм тоталитарное
сознание или - воспользуемся модным словом — тоталитарный менталитет про¬
граммно бестелесны. Коллективная душа лишена индивидуальной физиологии -
в противном случае компрометируется сама общность общей идеи. «Ежедневная
дефекализация, - пишет Милан Кундера в «Невыносимой легкости бытия», — это
ежедневное доказательство неприемлемости творения. Или - или: или говно при¬
емлемо (в таком случае не запирайтесь в уборной!), или мы созданы неприемле¬
мым образом. Из этого следует, что эстетический идеал безусловного согласия
с бытием - это мир, в котором говно отрицается и все ведут себя так, будто его не
существует»3.
Плоть антитоталитарна, а гуманизм (то есть «человечность») материален и те¬
лесен. Освобождающееся общество реабилитирует не только «Зияющие высоты»,
но и «Секс в жизни мужчины». Еретический вопрос Кундеры «какает ли Всевыш¬
ний?» и попытка Сергея Соловьева заглянуть в унитаз Вождя народов — знаки од¬
ной и той же иконоборческой тенденции. В этом смысле некрореализм, безуслов¬
но, гуманистичен, ибо, как справедливо заметили американские коллеги, в его
интерпретации «тела не принадлежат ни государству, ни военным силам, ни обще¬
ственному авторитету. Мы принадлежим жукам, плесени и своим ближним тру¬
пам. По мере того как некрореализм принимает неприемлемое существование жи¬
вой смерти, некросубъект обретает частичку мазохистской свободы»4.
Данте не был некрореалистом, ибо занимался посмертным воздаянием
души. Далеким предтечей нынешних мочебуйцев выглядит Леонардо, в порыве
3 Kundera М. The Unbearabie Lightness of Being. Pezerinial Library, 1987, p. 248.
4 Доклад Э. Берри и А. Миллер-Погачар «От деконструкции до декомпозиции: Советский некрореализм в свете
западных теорий постмодерна» прочитан на семинаре «Неизвестное советское кино» в ноябре 1990 года.
73
Кино на ощупь
возрожденческого универсализма посягнувший на неприкосновенность плоти.
Отношение к смерти, трупу, загробному миру менялось на всем протяжении че¬
ловеческой истории. В представлениях древних душа, покинув тело, приобщалась
к космосу. Средневековье относилось к смерти как к неизбежному продолжению
жизни. Лишь в XVII веке близость живых и мертвых, прежде не внушавшая сомне¬
ний, оказалась нестерпимой. Кладбища удаляются за городскую черту, а вид мерт¬
веца внушает отвращение5.
В советском сознании страх индивидуального конца долгое время мистифи¬
цировался категорией «социального бессмертия». Десятилетиями герои нашего
экрана гибли с гордой улыбкой на лице и осмысленным монологом на устах. Гибли
ради общего дела, не обременяя зрителей излишними подробностями. Даже самый
отчаянный натурализм 80-х, будь то корчи раненого Ханина в ...Лапшине или пред¬
смертная икота в Иди и смотри, всего лишь противопоставлял физиологию идео¬
логии, предъявляя благостному официозу кровавый счет человечности.
Гуманизм некрореалистов совершенно иного свойства. Пафос чужд им из¬
начально. Смерть настолько идиотична, что в конце концов просто смешна. При
всей своей эпатирующей внешности некрофильмы ни в коем случае не натура¬
листичны. Более того - некрореализм начинается там, где кончается настоящая
боль. Этого не понял Игорь Безруков, снявший на ЛСДФ Эутаназию — полуиг¬
ровое-полудокументальное исследование самоубийств. Когда прозекторский нож
с душераздирающим хрустом вспарывает настоящее тело, ироническая дистанция
стремительно сокращается. Ибо одно дело мазать зомбигримом друзей и знакомых
и совсем другое — играть с непридуманной смертью. Не получается, и все тут.
Конечно, показывай некрореалисты натуральных мертвецов, массовый зри¬
тель бесился бы меньше. Раздражает не смерть, а невсамделишность смерти, ибо
акт непосредственного умирания или насилия всякий раз помещается некроэсте¬
тикой в многократные кавычки. Так, первая сцена Весны живописует возню двух
кретинов на железнодорожном полотне. Третий наблюдает из кустов. Приближает¬
ся поезд. Страшная развязка неминуема, однако электричка проносится по сосед¬
ней ветке... Испуг на лице наблюдателя сменяется постепенно дебильным умиле¬
нием. И вот тут-то появляется еще один поезд...
Сознательно или несознательно откликается в этом эпизоде классическая схе¬
ма гэга Бестера Китона, судить не берусь. Важнее, что катастрофа решена как ко¬
мическое отклонение, «единица смеха», и за этим провокационным маневром те¬
ряется сам объект насилия. В Санитарах-оборотнях отчетливо видно: удары,
адресованные жертве, достаются пустому мешку. В Рыцарях поднебесья статично
снятая сцена самоликвидации диверсантов перебивается монтажным наплывом.
5 См.: Гуревич А. Смерть как проблема исторической антропологии. - В сб.: Одиссей-1989. М., 1989, с. 118-119.
74
1988-1993
Ясно, что следующий затем взрыв безвреден. Вообще же, как правило, некропер¬
сонажи обставляют свой уход кучей нелепых технических выдумок. В Весне само¬
убийство осуществляется при помощи сложной подвесной системы - перерезав
веревку, безымянный смельчак втыкается лбом в дерево, в Мочебуйцах-труполо¬
вах герой накладывает на себя руки, переоборудовав мусорный бак в некое подо¬
бие гильотины и газовой камеры одновременно.
В Вепрях суицида орудиями пытки и убийства становятся поочередно выгреб¬
ная яма, кипяток и вилы, заряженные в самодельную катапульту...
Бутафория и макияж делают свое дело. Зритель остается в полной уверенно¬
сти, что ему показали пакость и жуть. Да еще небрежно снятые. Да еще с претензи¬
ей... По существу же зрителю не показали ничего, кроме лютого маразма и шутов¬
ского междусобойчика. Так и получается: нас дурачат, а нам страшно. Нас смешат,
а мы злимся. Видимо, потому, что, вовремя не посмотрев Челюсти и Ребенка Роз¬
мари, бояться мы научились раньше, чем думать. А верить - раньше, чем смеяться.
Иначе и быть не может. Вынесенное в эпиграф пророчество Леонардо адре¬
совано тем, кто ежегодно сменяет плоть. Наша идеология пережила метаморфо¬
зы нескольких поколений. Длинные общественные зимы сменялись короткими
межсезоньями. Робкая Весна 1947 года среди послевоенных морозов всего лишь
призывала пень мечтать о березке. Первая оттепель по-хозяйски обживала ново¬
стройки Заречной улицы. Нынешняя — шагнула за ограду кладбища и за порог
покойницкой.
Значит ли это, что юфитовская Весна хуже александровской или хуциевской?
Думаю, не хуже. И не лучше. Но надеюсь, что продлится наша оттепель дольше.
«Искусство кино». 1991. № 9.
75
Кино на ощупь
О том, как товарищ Чкалов за счастьем ходил
Есть фильмы, отвечающие времени, и фильмы, отвечающие за время. Фильмы -
предлоги и фильмы — придаточные предложения. Фильмы, выразившие дух эпо¬
хи, и фильмы, самовыражающиеся в этом духе.
Переход товарища Чкалова через Северный полюс принадлежит к числу по¬
следних. Обласканная критикой, собравшая обильный урожай фестивальных на¬
град дебютная работа Максима Пежемского как будто по списку реализует весь
спектр текущих кинематографических претензий - от параллельного кино до пре¬
словутого отечественного постмодернизма. В ней встретились наследие «большого
стиля» и дистанцированная игра с ним, мельесовские «кадансы» и трупная поэти¬
ка некрореалистов, социальный гротеск и архаический киноязык.
У этой попытки переписать культовый миф средствами «ранней комической»
есть, по меньшей мере, три основания считаться удачей. Переход товарища Чкало¬
ва... — фильм искренний, плохо сделанный и короткий. Причем секрет успеха кро¬
ется именно в неделимости составных. Будь картина сделана хорошо, ее обаятель¬
ный дилетантизм не заиграл бы на уровне авторского концепта. В свою очередь,
полнометражный концептуализм утомляет. И наконец, сам замысел «римейка» ба¬
зируется здесь на бесхитростном и подкупающем пафосе дворовой игры «в Чапае¬
ва» или «300 спартанцев».
«Сталинский сокол», ас, покоритель стихии — классическое амплуа советско¬
го «золотого века». Северный полюс - его космогоническая ось, первоначало, axis
mundi. Культурный герой, направляющийся к центру вселенной, символизирует
апофеоз тоталитарного мышления, уполномочившего своих титанов вращать Зем¬
лю в новую, «советскую» сторону.
Нынешний маршрут легендарного Чкалова начинается в той точке «коллек¬
тивного бессознательного», где произошла неоднократно описанная сцена из ори¬
гинала 1941 года: удостоившись аудиенции вождя народов, Чкалов в экстазе кружит
по комнате жену. Социальный восторг сублимируется в сексуальном эвфемизме.
Счастье служения столь велико, что «переливается» на физиологический уровень...
Физиологическая посылка предшествует и новому подвигу героя. Вождь, во¬
бравший черты «лучшего друга советских физкультурников», фольклорного генсе¬
ка - «бровеносца» и чаплинского «великого диктатора», неосторожно заглатывает
ведомый Чкаловым аэроплан. Естественным образом весь экипаж скоро оказы¬
вается в вельможном сортире. С перепугу нервный вождь разряжает в своих вер¬
ных сынов по пистолету, но советские летчики и в дерьме не тонут, и под пулями
76
1988-1993
Максим Пежемский. Фот. Павел Васильев
не умирают. Тогда и появляется таинственный пакет, содержимое которого - ко¬
рявая стрелка на листе бумаги - указывает героям путь к новым свершениям. Ги¬
перболизированная логика мифа как бы обнажает собственную «подкорку». Коми¬
ческий толстяк-диктатор запросто пожирает самолет. Путешествие по его кишкам
напоминает выпуск кинохроники: вертятся станки, колосятся хлеба, народ радост¬
но избывает счастливые будни. Мощный сакральный слой опредмечивается в на¬
ивной и буквальной метафоре, а миф превращается в сказку с ее изначально услов¬
ной посылкой и свободой манипуляции.
Путеводный знак, начертанный вождем и означающий «поди туда, не знаю
куда...», разрушает жесткую заданность идеологической конструкции. Мотив бес¬
цельного путешествия, вообще, свойствен иконоборческой тенденции послед¬
них лет — вспомнить хотя бы Гоpoд Зеро или тех же Рыцарей поднебесья Евгения
Юфита. Миф разоблачается сказкой, и в этом пространстве уравниваются лю¬
бые символы и религия, пропущенные сквозь калейдоскоп современного зрения.
77
Кино на ощупь
Валерий Чкалов. Реж. Михаил Калатозов. 1941
Постмодернистский тезис о всеобщем равенстве Пежемский воплощает букваль¬
но, причем с изрядной долей «жгучего маразма», отличающего мутацию замор¬
ского веяния на отечественной почве. Басмачи — классические злодеи советско¬
го кино — вооружены луками и стрелами, а негры — не менее кинонизированные
«страдальцы» - дворницкими метлами. Вражескую стрелу Чкалов перехватыва¬
ет не хуже заправского ниндзя, а его штурман поправляет очки жестом Валерки-
гимназиста из Неуловимых... Магнитная ось полюса отсылает к феериям Мельеса,
комические гэги — к мак-сеннетовскому «слэпстику», потасовка на льду — к Чуд¬
скому озеру Сергея Эйзенштейна. Замордованный врагами трогательный персо¬
наж в семейных трусах заимствован из арсенала параллельного кино. Наконец, сам
вождь, спустившийся с небес верхом на декоративном «серпе-молоте», являет зри¬
мый парафраз на темы культового действа и одновременно ассоциируется с «deus
ex machina».
Классическая схема «странствий культурного героя» аранжирована в духе ве¬
селой относительности. Невсамделишность происходящего смыкает игровое поле
фильма со сценическими эскападами «Поп-механики», ее глобальным «стебом»
и культурным универсализмом. Имя Сергея Курехина как «конструктора музыки»
не случайно появляется в титрах картины. Курехин мог бы претендовать и на боль¬
шее - на роль «конструктора идеи», в русле которой осуществляется очередная ре¬
инкарнация легендарного авиатора. Это он, глумливый «Капитан» и поп-механик,
одним из первых продегустировал пену массового сознания, выступившую на раз¬
лагающемся трупе культуры: он возвел в эстетический принцип имитацию, эпи¬
гонство, конъюнктуру и низкий вкус. Пежемский, будучи первым последователем
Курехина по духу, все же уступает ему по исполнительскому дару. Курехинский
78
1988-1993
Переход товарища Чкалова через Северный полюс. Реж. Максим Пежемский. 1990
эффект зиждется на фантастической всеядности. Любые величины — от БГ до
сводного военного оркестра — становятся в конце концов элементами шоу, управ¬
ляемыми деталями игрового механизма. Повторяя этот заманчивый и внешне лег¬
кий путь, режиссер явно попадает впросак. Введенные в ткань картины фрагменты
калатозовского оригинала вдруг обнаруживают несостоятельность копии. Ирония
неофита разбивается об экзальтированную мощь мифологически чистых кадров.
В придуманной самим же режиссером системе многократной стилизации они иг¬
рают азартнее, сильнее, круче. Их архаическая энергия как будто пробивает саму
визуальную фактуру римейка.
История — «мать» истины. Для того чтобы решиться сегодня на такое утвер¬
ждение, нужно быть либо Пьером Менаром - автором «Дон Кихота», либо Хор¬
хе Луисом Борхесом — автором «Пьера Менара, автора «Дон Кихота». Мы же нахо¬
дим искомый ответ на страницах апрельского номера «Комсомольской правды»,
где военный летчик 1-го класса Виталий Котов делится мечтой восстановить по
чертежам старый «АНТ-25» и повторить на нем беспримерный перелет Чкалова из
СССР в Америку «Господи! — воскликнем мы. — Какое нынче время! Какой АНТ-25!
Куда же нам лететь?!». И услышим в ответ: «Куда мысль человеческая - туда и мы!»
«Сеанс». 1991. № 3.
79
Кино на ощупь
Raiders of the lost avant-garde
«После смерти наступает жизнь что надо, мужики!» — эти слова из некрореалисти¬
ческого гимна могли бы стать эпиграфом к нынешнему состоянию отечественно¬
го киноандеграунда.
Советское параллельное кино, возникшее на исходе застоя и активно сканда¬
лизировавшее общественное мнение на первом этапе перестройки, сегодня, по су¬
ществу, изживает себя. Терминологически во всяком случае. Критерий «параллель¬
ного» творчества, выработанный на задворках идеологической империи, сходит на
нет вместе с государственной киномонополией. Уникальность переходной ситуа¬
ции состоит в том, что прежний идеологический прессинг уже снят, а новый - ком¬
мерческий — еще недостаточно силен, чтобы формировать вокруг себя геометрию
независимости. Именно эта ситуация позволяет недавним киноподпольщикам
внедриться в «систему», искать новые формы участия в большом кинопроцессе.
Ранний советский киноавангард поначалу тоже был государственным делом.
Эксперименты 20-х, оказавшие большое влияние на мировую киномысль, вместе
с тем заложили и основу мифологии нового общественного строя. Того строя, где
самим его интеллектуальным пророкам вскоре была отпущена роль либо придвор¬
ных шутов, либо кающихся грешников. Сталинская эпоха с ее репрессивной идео¬
логией более чем на три десятилетия исключила не только художественный поиск,
но и саму мысль о нем.
Советская новая волна, едва разлившись в период «оттепели» 50-х, тут же раз¬
билась о фундамент политического курса Брежнева. Часть ее представителей ока¬
залась в эмиграции, большинство же предпочло интегрироваться в систему. При¬
бежищем экспериментального направления в советском кино 70-80-х годов стала
узкопленочная техника, а основной средой обитания — мастерские «левых» худож¬
ников и полулегальные клубные просмотры.
В начале 80-х в этой среде сформировалось явление, именуемое параллель¬
ным кино. Атмосфера имперского упадка придала ему очевидный макабриче¬
ский оттенок. С несвойственным традиционному советскому сознанию абсурдом
и черным юмором молодые режиссеры обратились к разнообразным формам раз¬
ложения и смерти - будь то маразмирующий язык официальной идеологии или
индивидуальное телесное умирание. Так появились две основные тенденции кине¬
матографического неоавангарда. Московский «постконцептуализм» и ленинград¬
ский «некрореализм». Постполитическое кино братьев Алейниковых и Вепри суи¬
цида Евгения Юфита.
80
1988-1993
Андрей Мертвый, Юрий Циркуль, Евгений Юфит, Александр Аникеенко и Константин Митенев. Фот. Павел Васильев. 1991
Легализованный перестроенным интересом «ко всему запретному» киноан¬
деграунд на несколько лет оказался обреченным на успех. С чердаков и мансард
узкопленочные фильмы перекочевали в центральные кинозалы. Случалось, плохо
одетые авторы не могли попасть на собственные просмотры в престижном Доме
кино. По мере падения общественного ажиотажа ситуация стабилизировалась.
Смерть социума наконец случилась. Наступившая свобода творчества обернулась
прежде всего свободой выбора: окончательно всплывать на поверхность или опу¬
скаться еще глубже на дно.
Каждый решил эту дилемму по-своему. Так, отыграв на уровне концепту¬
альной акции факт собственного лидерства в параллельном кино, преврати¬
лись в мосфильмовских постановщиков братья Игорь и Глеб Алейниковы — ре¬
жиссеры, теоретики, издатели независимого киножурнала «Сине Фантом». После
среднеметражного дебюта Здесь кто-то был они приступили к съемкам пер¬
вой прокатной картины. Гдe-то в великосветских подвалах затихает голос Бориса
81
Кино на ощупь
Юхананова — мага и демиурга свободного видеоарта, создателя блестящих теорий
и бесконечно длинных фильмов. Еще один москвич, Петр Поспелов, сделавший
некогда лирический и вместе с тем ироничный «Репортаж из страны любви», нын¬
че занят историографией независимого кинодвижения.
Так обстоят дела в столице, традиционно живущей по своим собственным
правилам. В Ленинграде же все большую роль начинает играть Мастерская перво¬
го фильма, организованная на киностудии «Ленфильм» в рамках государственного
проекта помощи молодым режиссерам и возглавленная «живым классиком» Алек¬
сеем Германом. Именно здесь получил первую профессиональную постановку Ев¬
гений Юфит, главарь некрореализма — одного из самых радикальных ответвле¬
ний киноандеграунда. Некрореализм буквально означает «мертвореализм». Ранние
произведения этого жанра, снятые в 16-миллиметровой технологии и намеренно
грязной, неряшливой манере, больше всего напоминают максеннетовский «слэп¬
стик», разыгранный обитателями больницы для буйно помешанных. Персонажи
густо разрисованы устрашающим зомбигримом и имитируют массовые драки, са¬
моубийства и однополый секс. Все это смешит и отталкивает одновременно, од¬
нако легко увидеть, что некрореалистическая эстетика «тела, покинутого душой»
есть прямой вызов, брошенный советскому мифу о социальном бессмертии.
Творчество Юфита и его соратников вызывало и продолжает вызывать самые
разноречивые отзывы. Советский массовый зритель, не видевший не только филь¬
мов Джордже А. Ромеро, но даже Челюсти, приходит в неподдельный ужас от за¬
гробного юмора некрореалистов. Своей эпатирующей стилистике Юфит не изме¬
нил и на большом экране. Его официальный дебют Рыцари поднебесья повествует
о злоключениях героев-разведчиков, осуществляющих особо важный секретный
эксперимент. Какой именно, зрители так и не узнают, потому что, ведомые неудер¬
жимой тягой к смерти, герои убивают друг друга...
Весной 1991-го Юфит начал съемки своей первой полнометражной картины.
Сюжет заимствован из классического рассказа А. К. Толстого «Упырь», однако дей¬
ствовать в фильме будут прежние некрореалистические персонажи: электромон¬
теры-убийцы, военные моряки и педерасты-кровососы. Центральная сцена запе¬
чатлит поединок речного бобра и гадюки.
По слухам, от Юфита уже сбежали звукооператор и несколько администрато¬
ров. Съемки тем не менее идут полным ходом, и сам режиссер не теряет творче¬
ского энтузиазма.
Если некрореалистическое вторжение в большой кинопроцесс, скорее всего,
приведет к созданию специфически советской модели horror film, то с именем дру¬
гого недавнего подпольщика — Максима Пежемского — связываются надежды на
возрождение отечественной кинокомедии. Режиссер начинал в рядах независимой
ленинградской киногруппы «Че-паев», занимавшейся эстетической реанимацией
82
1988-1993
мифов советского «золотого века». Один из них — миф о «сталинском соколе», лет¬
чике, покорителе стихии - стал персонажем самостоятельного фильма Пежемско¬
го Переход товарища Чкалова через Северный полюс. По форме это иронический
римейк культовой картины 1941 года, сделанный так, будто кино появилось толь¬
ко вчера и еще не перестало удивляться широте собственных возможностей. Тота¬
литарный миф, пересказанный наивным киноязыком, обнаруживает свою изнан¬
ку: «вождь всех народов» буквально глотает зазевавшийся самолет, магнитная ось
полюса (прямая цитата из Мельеса) обозначена воткнутой в снег жердью, Америка
располагается всего в нескольких шагах от Арктики.
Все это действительно очень смешно. И будет смешно до тех пор, пока нам
не надоест потешаться над прошлым. На мой взгляд, впрочем, настоящие филь¬
мы 30-х годов уже сейчас выглядят куда смешнее, чем любые попытки спароди¬
ровать их.
Из тех, кто в эпоху всеобщей гласности предпочел еще глубже лечь на суб¬
культурный грунт, особого пиетета заслуживает Евгений Кондратьев. Он начал
снимать еще в начале 80-х и славился тем, что, отправляясь на съемки, вынимал из
камеры «все лишнее», вплоть до объектива. Из соображений экономии снимал на
предельно малых скоростях, получая при проекции эффект убыстренного движе¬
ния, монтировал прямо в камере, дорисовывал изображение от руки.
«Дикий» стиль Кондратьева оказал заметное влияние на всю ленинградскую
школу параллельного кино, в частности — на ранние работы некрореалистов. Кон¬
дратьев снимает и сейчас, оставаясь верным законам прежней андеграундной воль¬
ницы — узкопленочной аппаратуре и просмотрам на чердаках. И поскольку титул
«советских Мекасов» уже получили братья Алейниковы, он вполне может претен¬
довать на репутацию отечественного Брэкхейджа.
Одним словом, экспериментальное кино переживает ныне едва ли не лучшие
свои времена. Те, кто хочет работать в централизованной киносистеме, проника¬
ют туда почти беспрепятственно. Те, кому милее отсиживаться по подвалам, отси¬
живаются без всякой опасности попасть в категорию диссидентов или тунеядцев.
Денег, правда, нет ни у тех, ни у других. Но их сейчас нет ни у кого - деидеологи-
зированное производство дорожает с катастрофической скоростью. Тем не менее
инерция культурной политики социализма еще позволяет получать от государства
официальные дотации. И ездить за казенный счет на международные фестивали
с фильмами, за которые раньше посадили бы в сумасшедший дом. Поскольку вся
страна сейчас похожа на сумасшедший дом — сажать некуда. Да и незачем.
Так что жизнь после смерти и впрямь — что надо!
«Сеанс». 1991. № 4.
83
Кино на ощупь
Миф кино и будущее культуры
«Я» из высокомерной абсолютизации вновь возвращается в коллективное,
общее, и противоположность искусства и буржуазности, разъединенности
и общественности, индивидуума и коллектива снимается в легенде так, как
согласно нашей надежде, нашей воле она должна быть снята в демократии
будущего.
Томас Манн
Повышенный интерес к мифу, к архаическим формам мышления — одна из наибо¬
лее устойчивых и характерных примет современной культуры. Мифологические
и неомифологические мотивы рассматриваются на всех уровнях наличествующе¬
го состояния культуры, обнаруживая множество противоречивых методологий
и не менее противоречивых прогнозов.
Особое внимание к мифу свойственно романтической поэтике. С новой силой
оно возрождается на рубеже XIX-XX веков. Как справедливо замечает исследова¬
тель, тенденция критического реализма, отделившая романтиков от XX века, чу¬
рается мифологии1, предпочитая ей устойчивое представление о реальности как
о «сумме правдоподобий», где «не боги и не природа, а только сам человек может
быть... чуждой силой, властвующей над человеком»1 2.
В XX веке значение мифа упрочивается со все возрастающей быстротой. По¬
рой создается впечатление, что мысль о культуре нынешнего столетия и ее соб¬
ственные рефлексии подвержены обратному ходу классической триады: эпос —
лирика — драма. В классической интерпретации миф - синкретическая основа
мышления, доопытная форма знаний и представлений о мире, развернутых затем
1 См.: Карягин А. Неомифология и современное буржуазное искусствознание. - В сб.: Искусствознание
Запада об искусстве XX века. М., 1988, с. 12.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 568. На этом основании Р. Якобсон
остроумно замечает, что и реализм XIX века есть своего рода «конвенция», в которой «я, создающий»
и «я, воспринимающий» принимаем данное произведение как правдоподобное. Таким образом реализм
превращается в «конвенцию» и набор приемов определенного художественного направления (см.: Якобсон Р.
Работы по поэтике. М., 1987, с. 387).
84
1988-1993
в более дифференцированные коллизии общественно-индивидуальных связей.
Культура настоящего, какой она выступает в категориях «неомифологической» ме¬
тодологии, словно проделывает обратный путь. Она самооптимизируется, сгущает
информацию о себе до нового синкретизма, нового всеобъемлющего мифа.
Генеральные художественные процессы XX века по очереди отменяют поло¬
жения аристотелевой «Поэтики». Образ человека культуры все более перераспре¬
деляется в сторону «замысла», к неразделенности космоса и личности, самости
и персоны, Прометея и Эпиметея.
Особенно интересным представляется проследить эти процессы на примере
феноменов культуры XX века, которые условно можно характеризовать как модер¬
низм и постмодернизм3.
Этап модернизма олицетворил, быть может, один из самых радикальных при¬
меров децентрализованного культурного сознания — сознания, разбитого на части
и озабоченного поисками собственной доминанты в одной из них. Постмодернизм,
при всей неокончательности его толкования, знаменует, видимо, возврат к целост¬
ному человеку. Причем важен здесь не собственно результат, а сам процесс ху¬
дожественно-культурной «сборки», как ни кощунственно звучит в этом контексте
индустриально-авангардистский термин.
Модернизм разбил культуру на два полюса, дав одному из них иллюзорную
мифологию социально одномерного человека (Г. Маркузе), а на другом воздвиг¬
нув башню из слоновой кости, чью условную форму, вопреки всем законам ар¬
хитектуры, можно было бы уподобить замкнутому кольцу, истово попирающему
собственный фундамент в надежде выделить из культуры ее «чистый» художе¬
ственный смысл.
Культура модернизма антагонистична. Ее движение происходит в борьбе вы¬
сокого и низкого, элитарного и массового, авангардного и реалистически обыден¬
ного. Модернизм не знает середины (недаром одна из самых обстоятельных работ
по его теории, книга Ханса Зедльмайра, так и называлась — «Утрата середины»4),
его художественная практика заключается в отрицании культурной нормы и тут
же — в моментальном нормировании отвергнутого.
3 Отлично понимая условность такого деления, оговоримся, что под модернизмом мы будем понимать
линию американской и европейской культуры, которая зародилась на рубеже веков и существовала вплоть
до 50-60-х годов XX века. Следующий этап хронологически и содержательно относится к постмодернизму.
Американский социолог Ч. Миллз называет это время «четвертой эпохой», соответственно модернизм
аналогичен «новому времени» (см.: Неомарксизм и проблемы социологии культуры: Макс Вебер и кризис...
М., 1980, с. 244). Д. Белл видит здесь решительную схватку «пуританской этики» и «гедонизма» (См.: Bell D.
The Cultural Contradictions of Capitalism. N. Y., 1979).
4 Cm.: Sedlmayr H. Verlust der Mitte. Fr. a/M., 1959.
85
Кино на ощупь
Наконец, модернизм определил два качества новейшего мифа: сериал охра¬
нительных массовых табу, тотальных мифов, за счет которых личность обманчиво
выделяется из массовой психологии, и не менее тотальных представлений о «ми¬
стическом» индивидууме, свободном от условностей социума и нигилистически
утверждающем себя в оппозиции к «аффирмативной» культуре5. Именно эта ми¬
фологема модернизма и определила непреодолимую границу между эстетикой
и культурой, заявила о невозможности их совместного существования. Культура
есть комфортная среда обитания «горизонтального» человека, в то время как ис¬
кусство — путь восхождения по «вертикали», что явилось отрывом художественной
души от присущего ей культурного «тела».
Культурная ситуация постмодернизма меняет систему координат, примиряет
крайности и снимает оппозиции. На смену дихотомии массового и элитарного яв¬
ляется единая культурная среда, куда помещается человек во всем многообразии
своих форм и действий.
«Традиционный модернизм, - отмечает Д. Белл в статье «По ту сторону модер¬
низма, по ту сторону Я», — каким бы вызывающим он ни был, проигрывал свои им¬
пульсы внутри воображения, внутри искусства... Постмодернизм разрывает вол¬
шебный сосуд искусства. Он разрушает все границы»6.
При этом мы должны констатировать известную двойственность процесса.
С одной стороны, доминанта постмодернистского этапа предлагает разумный ком¬
промисс между человеком и его отчужденным бытием, снимает тоталитарность
любых вариаций модернистской культуры — от ее массовой ипостаси до радикаль¬
ного авангарда. «Культурное» и «художественное» больше не являются антипода¬
ми. Искусство живет в культуре, которая, в свою очередь, продолжает и питает
искусство. С другой стороны, такого рода перемирие обусловливает и то, что куль¬
тура становится как бы синонимом искусства, отменяя продуцирующую функцию
последнего и предлагая ему по преимуществу роль интерпретатора сложившихся
культурных систем.
В такой культуре меняется и значение мифа. Антагонистическая культура мо¬
дернизма эксплуатирует в большей степени логические механизмы мифологиче¬
ского мышления, структуральные оппозиции представлений о мире и жизни, ко¬
торые, по выражению К. Леви-Стросса, есть «формы речи» и в методологическом
смысле находят свое абсолютное выражение в «сообщениях» Ролана Барта и се¬
миологии Ф. де Соссюра.
5 Одна из первых значительных работ ведущего теоретика этого периода Герберта Маркузе
называлась «Об аффирмативном характере культуры».
6 Цит. по: Шестаков В. Мифология XX века: Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры».
М., 1988, с. 51.
86
1988-1993
Постмодернистский миф поднимается над полем бессознательных логиче¬
ских операций. Леви-Брюль торжествует над Леви-Строссом: «пралогическое
мышление» и «иррациональное сопричастие» обнаруживаются в качестве матриц
культуры и ее посланий. Иными словами, современный, обладающий бесспорны¬
ми прогностическими потребностями этап культуры несет в себе мысль о мифе
как о доопытном и безусловном культурном атрибуте, включенном в бесконечную
систему значений и интерпретаций.
Настоящая работа, впрочем, не претендует на исчерпывающее освещение
этой проблемы или на сколько-нибудь целенаправленный прогноз. Наша задача
состоит в том, чтобы высказать некоторые достаточно частные наблюдения над
структуральными и общественно-психологическими особенностями одного из са¬
мых «мифотворных» явлений культуры XX столетия - кинематографа. Наши за¬
мечания будут носить гипотетический характер, хотя, думается, в самой возмож¬
ности этих гипотез содержатся кристаллы знания о культуре и ее будущем.
«Кино само по себе, это нечто, напоминающее Африку... В нем отражена
деятельность людей на протяжении тысячелетий, деятельность,
касающаяся вещей, которых три или четыре тысячи лет тому
назад и в помине не было и которые теперь вдруг включились
в коммуникацию» (Жан-Люк Годар).
Сопоставление кино и мифа стало уже общим местом. Кино называют мифом
XX века, массовой иллюзией, второй магической реальностью. Одна из централь¬
ных проблем неомифологических концепций, а именно - конструирование при¬
зрачной действительности, способной не только соперничать с подлинной, но и за¬
менять ее, — суть самой социокультурной природы кинематографа.
Эти «замещающие» возможности экрана выявились еще тогда, когда кино
делало первые шаги. В «Истории киноискусства» Жорж Садуль приводит весьма
характерный пример. В 1902 году по заказу английской фирмы «Варвик» Жорж
Мельес снял фильм о предстоящей коронации Эдуарда VII. Для этого из Лондо¬
на был приглашен специалист по церемониалу. Эдуарда VII играл приказчик мяс¬
ника, а королеву — прачка. Фильм демонстрировался в большом лондонском мю¬
зик-холле и пользовался успехом, несмотря на то, что до настоящей коронации
оставалось еще несколько недель7.
Анекдот с «коронацией Эдуарда VII», быть может, полнее всего характеризу¬
ет социокультурный ореол кино, особенно в том смысле, в котором Р. Барт говорит
о превращении истории в идеологию.
7 См.: Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. M., 1957, с. 45.
87
Кино на ощупь
Описание этих свойств кинематографа исчерпывающе полно дано в работах
представителей структурально-социологической школы «фильмологии», разли¬
чившей «фильмические» (экранные) и «кинематографические» (в широком смыс¬
ле — связанные с бытованием фильма) факты. «Фильмологи» утвердили принци¬
пиальные для мифологического истолкования кино термины «идентификация»
и «проекция», вызывающие компенсаторный и рекреационный эффекты киновос¬
приятия, они же наметили важные тенденции в понимании дуалистической при¬
роды экранного послания к «социальному» и «индивидуальному» «Я».
Заметим, впрочем, что фильмологические исследования затрагивают, глав¬
ным образом, ту пограничную область структуры и системы (в терминах Ж. Ко-
эн-Сеа те же «фильмические» и «кинематографические» аспекты), которая описы¬
вает фильм как отражение запросов коллективного ожидания, а потому является,
в основном, междисциплинарными исканиями в области массового мифа. Более
плодотворными представляются здесь концепции киносемиотиков (Ж. Митри,
К. Метца, У. Эко), базирующиеся на мысли Ролана Барта о мифе как «второй се¬
миотической системе», как метаязыке относительно языка.
Впрочем, реальная эволюция этой гипотезы оказалась неожиданной. Анали¬
зируя речевые состояния кинотекста в русле бартовско-соссюровской дихотомии
«текст - контекст», К. Метц, Ж.-Л. Бодри и др. пришли в середине 70-х годов к пси¬
хоаналитической интерпретации кинематографа в духе Ж. Лакана и М. Клейна.
Как справедливо замечает по этому поводу М. Ямпольский, К. Метц и его спо¬
движники «нашли заманчивой перспективу представить кинематограф как сово¬
купность текстов, реализующих некий надтекстовый мифологический мир - мир
зрителя»8. Экран выступает здесь в качестве двойного зеркала, где отражаются
и взаимно созерцают друг друга воображение реципиента и собственные мифоло¬
гемы экрана. «На самом же деле, — пишет М. Ямпольский, и с этим трудно не согла¬
ситься, — речь идет о радикальной замене «текстологического анализа» как основы
киноведческого исследования субъективистским мифотворчеством»9.
В нашу задачу не входит обширная ретроспекция мифологических метод ки¬
новедения. Мы обсуждаем кинематограф как индикатор культуральных процес¬
сов, а судьбу мифа в кино — как самую опознавательную характеристику связей
кино с общекультурными тенденциями. Поэтому попробуем представить истоки
рождения киноречи именно в контексте культуры своего времени.
В обстоятельной работе В. Божовича «Традиции и взаимодействие искусств»
дан развернутый анализ предпосылок возникновения кино и его выразительных
8 Ямпольский М. От семиотики к структурно-психоаналитической кинотеории. - В сб.: Методологические
вопросы изучения зарубежных концепций киноискусства. М., 1981, с. 142.
9 Там же, с. 145.
88
1988-1993
средств на фоне иных искусств10. Напомним, что в живописи это был импрессио¬
низм — моментальное впечатление от природы, в литературе — натурализм, обна¬
руживший новые качества объективного мира в его сугубо внешних связях, в сце¬
нических искусствах — первые шаги режиссерского театра, опирающиеся все на те
же открытия «натуральной» эстетики.
«Культурный век», отметивший появление кинематографа и, быть может, не
совпадающий с хронологическими границами столетий, начался под знаком пози¬
тивизма и закончился философией феноменологии. Позитивизм, вдохновленный
в середине XIX века Огюстом Контом, отказавшись от особой философской «обла¬
сти действительности», предположил существование лишь в описании. Феномено¬
логия, чьи принципы были сформулированы в начале XX века Ф. Гуссерлем, заня¬
лась обнаружением изначального опыта сознания путем интенциональности, т. е.
прямой направленности на предмет.
Как видно, и философская мысль, и художественная практика «века кино»
знаменуют крайнюю стадию позитивистского отношения к действительности, ко¬
гда сама реальность не постигается вне иных категорий опыта, кроме непосред¬
ственно детерминированных данной объективной сферой. Художественный образ
действительности максимально приближается к реальности же, а условная ди¬
станция между предметом и его эстетическим отражением, напротив, максималь¬
но сокращается.
Идеальной эстетикой этого времени должна была стать та, в которой реаль¬
ность и условность слились бы воедино или более того — реальность предшество¬
вала бы условности.
Таким искусством и стало кино, продемонстрировавшее беспрецедентные
темпы превращения из технического приема в художественную форму со своими
выразительными средствами, образами и зачатками собственной речи.
При этом, как ни парадоксально, апофеозом эпохи, провозгласившей эмпи¬
рический опыт превыше всего, заменившей философию результатами естествен¬
но-научных открытий, а универсальные императивы мироздания — законами про¬
изводства, стала «десятая муза», в самой основе посланий которой заключались
контуры нового мифа, нового идеалистического представления.
В начале нашей работы мы уже ссылались на замечания Романа Якобсо¬
на о реализме. Вероятно, сама специфика языка кино есть реакция на диктатуру
«преимущественной реальности», понимаемой в таковом качестве лишь в услов¬
ном пространстве конвенции между передающим и воспринимающим.
Теперь попробуем рассмотреть несколько «первоэлементов» кино с точки зре¬
ния парадокса «абсолютной реальности» и «абсолютной мифологичности».
10 См.: Божович В. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX - начало XX века. М., 1987.
89
Кино на ощупь
1. Специфика экранного образа
Мы уже говорили о том, что экранный образ венчает стремление объективировать
художественный материал до его абсолютной реальности. Экранный объект равен
сам себе, о нем нельзя сказать больше, нежели уже содержится в изображении.
Умберто Эко точно заметил по этому поводу, что изображенная на экране ло¬
шадь не может быть «лошадью вообще». Это будет «конкретная лошадь», стоящая
на «данном» зеленом лугу, возле «данного» дерева и т. д.11. «Идею» кинообъекта
нельзя передать никаким иным путем помимо «физической реальности» самого
объекта, утверждал Зигфрид Кракауэр в своем известном труде11 12.
Экранный образ аутентичен, т. е. равнозначен в ином материале исполнения.
В этом его как бы «антиплатоновская» сущность, невозможность быть выражени¬
ем чего-то иного или, в определении Платона, «воспоминанием» о чем-то ином.
Кажется, такие характеристики экранного предмета совершенно исключают
все искомые нами свойства. Тем более что Е. М. Мелетинский, ссылаясь на М. Элиа-
де, говорит о «платоновской» структуре всякой мифологии: все эмпирическое рас¬
сматривается мифологическим мышлением как «тени» неких вечных оснований13.
При этом Мелетинский пишет: «Первобытному мышлению также свойствен¬
но чрезвычайно слабое развитие абстрактных понятий... вследствие чего класси¬
фикации и логический анализ осуществляются довольно громоздким образом
с помощью конкретных предметных представлений, которые, однако, способны
приобретать знаковый, символический характер, не теряя своей конкретности. Не¬
посредственным материалом первобытной логики становится элементарно-чув¬
ственное восприятие, позволяющее через сходства и несовместимости чувствен¬
ных свойств осуществляться процессу обобщения без отрыва от конкретного»14.
Приведя эту большую цитату, заметим, что данные свойства экранного об¬
раза или предмета именно потому мифологичны, что апеллируют к таковому
уровню дистанционных логических операций. Дальнейшее развитие аудиовизу¬
альных средств в XX веке лишь подтверждает нашу гипотезу. Следующая за ки¬
ноизображением теле- и видеопродукция еще более сокращает и облегчает этот
процесс. Скажем, телевидение и видео «изымают» из поля зрения «третье», наи¬
более суггестивное измерение экрана. «Картинка» становится плоской и, по выра¬
жению М. Маклюэна, «горячей», т. е. не требующей дополнительных усилий для
расшифровки.
11 См.: Эко У. О членениях кинематографического кода. - В сб.: Строение фильма: Некоторые проблемы
анализа произведений экрана. M., 1984, с. 87.
12 См.: Кракауэр 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
13 См.: Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 1976, с. 177.
14 Там же, с. 165.
90
1988-1993
К мифологической перцепции экранного образа следует отнести и его ясно
выраженный генетизм. Фотографическая природа экрана обусловливает то, что
объяснение устройства вещи и ее происхождение находятся в теснейшей взаи¬
мозависимости. «Описать окружающий мир - то же самое, что поведать исто¬
рию его первотворения», — замечает по этому поводу Мелетинский15. Приме¬
нительно к нашей гипотезе это означает всего лишь то, что кинематограф есть
особое сочетание пространственно-временных характеристик «движущейся фо¬
тографии», «мифологическое отождествление начала и принципа, временной
и причинно-следственной последовательности, представление о причинно-
следственном процессе как материальной метаморфозе (подчеркнуто
нами. - С. Д.), замена одной конкретной материи на другую в рамках индивиду¬
ального события»16.
Таким образом, мы можем констатировать, что, будучи сугубо аутентичным,
экранный образ обладает наиболее типическими чертами «мифологического пред¬
мета» и провоцирует опознавательные качества мифологического же мышления.
2. Монтаж
Если экранный образ есть онтологическое свойство кино, то монтаж — способ его
существования.
Имеется огромное количество определений монтажа, его типов и функций.
Из всего многообразия классификаций ограничимся лишь основными дефини¬
циями: монтаж создает движение, повествование и идею. Историческая линия раз¬
вития монтажных принципов от Гриффита к Пудовкину и Эйзенштейну позволя¬
ет нам представить, каким образом усложняется функция монтажной фразы - от
простой последовательности в ранних фильмах Э. Портера до изощренных интел¬
лектуальных контрапунктов (сопоставление монтажных кусков больше похоже не
на сумму их, а на произведение) С. Эйзенштейна.
При этом важно заметить, что появление монтажа - одного из фундамен¬
тальных средств экранной выразительности - произошло почти сразу же после
возникновения технического принципа кинематографа. Садуль называет первым
монтажным фильмом Бабушкину лупу Дж. А. Смита (1900)17, К. Рейсц отдает паль¬
му первенства Эдвину С. Портеру (Жизнь американского пожарного, 1902)18. Ясно
одно: к 10-м годам монтаж начал развиваться, а в 1908-1915-м сложился в почти за¬
конченную систему. Это не случайно. Монтаж, будь он «драматическим» (Гриффит),
15 Мелетинский Е. Указ, соч., с. 172.
16 Там же.
17 См.: Садуль Ж. Указ, соч., с. 46.
18 См.: Рейсц К. Техника киномонтажа. М., 1960, с. 27.
91
Кино на ощупь
«строящим» (Пудовкин), «интеллектуальным» (Эйзенштейн) или «дистанцион¬
ным» (Пелешян), состоит из сочетания двух фрагментов19. Думается, монтажная
фраза, первоячейка образного строения кинематографа, близка в этом смысле дво¬
ичной оппозиции. Информация каждого из монтажных кусков приобретает по¬
этому соответствующий эстетический потенциал. Их контраст (монтажный стык)
семантизируется и движет фильм вперед по методу бесконечной медиации. По су¬
ществу, монтаж и есть прогрессирующее посредничество — последовательное на¬
хождение мифологических медиаторов, сочетающих в сознании реципиента опре¬
деленные признаки полюсов.
Так, хрестоматийные сцены Нетерпимости Гриффита, в которых параллель¬
ным монтажом показаны подготовка к казни и героиня, спешащая эту казнь пред¬
отвратить, «окольным» путем восходят к оппозиции «жизнь—смерть»; пара «еди-
ное-многое» шифруется в сцене прорыва броненосца «Потемкин» сквозь царскую
эскадру, и т. д.
Последнее обстоятельство для нас особенно важно. Дело в том, что монтаж¬
ная теория С. М. Эйзенштейна, которая, кстати, является практически прямой ил¬
люстрацией леви-строссовского «бриколажа», заставляет задуматься о столь ак¬
туальных для XX столетия манипулятивных возможностях киномифологии.
Интеллектуальный монтаж Эйзенштейна, думается, есть не что иное, как попыт¬
ка регуляции бессознательной логической процедуры, своего рода «направлен¬
ный бриколаж», когда за предложенной фундаментальной оппозицией скрывается
предсказуемая реакция на оппозицию идеологизированную. В результате стано¬
вится возможным управление внерациональными механизмами и представления¬
ми киноаудитории20.
Все сказанное следует дополнить двумя важными соображениями.
Во-первых, описанное нами является образцом киноречи, но не языка. Этот
этап кинематографа закономерно называют синтетическим — он использует до¬
стижения смежных искусств и эксплуатирует мифы, уже сложившиеся в культуре.
Во-вторых, эта кинокультура является типичным образцом антагонистиче¬
ской модернистской культуры, о которой мы уже говорили выше. Эта культура ан¬
тагонистична, подвержена многообразным оппозициям. С одной стороны, кино
сразу же оказалось в ряду «низких» развлечений, «презренных» массовых зрелищ
и просуществовало в таковом качестве достаточно долго. С другой — возможности
19 Под монтажом мы понимаем не только межкадровые склейки, но и внутрикадровые перемещения.
Выразительные средства последних (ракурс, объектив, масштаб) так или иначе оперируют двоичными
оппозициями.
20 Ж. Коан-Сеа выразился еще более определенно: впрямую связал «монтажное кино» с насилием
над психологией, а «антимонтажное» - со свободой и интерпретацией.
92
1988-1993
нового искусства сразу же привлекли к себе внимание художественного авангар¬
да, вовлекшего его в круг как своих симпатий, так и непосредственных занятий21.
Здесь налицо характерная «модернистская» модель — оппозиция высокого
и низкого, массового и элитарного. С одной стороны, миф, который «объясняет
и санкционирует существующий социальный и космический порядок в том его по¬
нимании, которое свойственно данной культуре», который «так объясняет челове¬
ку его самого и окружающий мир, чтобы поддерживать этот порядок»22. С другой —
разрушение мифа как олицетворения этого санкционированного порядка.
Интересно, что направление художественного киноавангарда с момента его заро¬
ждения вплоть до начала 60-х годов во многом ориентировалось именно на структурно¬
мифологические аспекты господствующей кинокультуры. Стихийная реакция каждого
авангардиста - разрушить любой ценой культурную норму — обращалась своим воин¬
ственным острием на достоверность киноизображения, вмещающую иллюзию мифа.
В работе 1933 года «К эстетике кино» Херберт Рид сделал важнейшее наблюдение
над природой кино: фильм, фиксируя фрагменты действительности, не лишает их по¬
движности23. Именно это обстоятельство легло в основу нигилистических претензий
мирового киноавангарда, стремящегося на разных этапах разными путями вскрыть не¬
достоверность посылки. Отметим лишь несколько этапов эволюции такого стремления:
- анимационное оживление неодушевленных объектов (Механический балет
Фернана Леже); часть вместо целого (Берлин, симфония большого города Вальте¬
ра Руттмана или фильмы Питера Гидала). Фрагменты предметного мира, часто вы¬
бранные произвольно, живут как самостоятельные целостности:
- абстрактные фильмы;
- фильмы, где акцент делается не на предметности, а на чистом движении. Соб¬
ственно, эта тенденция вышла из теории «фотогении» Деллюка и Эпштейна, объ¬
явившей предметный мир зависимым от мобильных свойств;
- чередование в одном визуальном ряду, репрезентирующем определенное каче¬
ство реальности, различных «информационных» каналов (так, Годар часто вводит
в свои фильмы различные текстуальные или живописные плоскости или наоборот —
трактует реальность как нечто, запечатленное отличными от кино средствами);
- «гиперреальность» Энди Уорхола — многочасовые статичные кинорепродук¬
ции небоскреба или спящего человека.
21 Первые экспериментальные абстрактные фильмы были сделаны Бруно Корой и Арнальдо Джинной
в 1913 году, абстракционистские работы Леопольда Сюрважа датируются 1913-1914 годами. Первый
фильм французского авангарда (Безумие доктора Тюба Абеля Ганса) появился в 1925 году, «Манифест
футуристической кинематографии» — в 1916-м и т. д.
22 Мелетинский Е. Указ, соч., с. 169-170.
23 См.: Read Н. Towards a Film Aesthetic. L., 1933.
93
Кино на ощупь
Борьба с «увековеченной природой», т. е. утвержденным киномифом, приве¬
ла мировой киноавангард к полному отказу от фотографического посредничества
при создании фильма24.
На другом полюсе модернистской культуры - фабрики грез. Голливуд, УФА,
«Мосфильм». В конце 20-х — начале 30-х годов киномифология обратилась в за¬
вершенную систему, окончательно сформировав «вторую реальность», призван¬
ную смирить социального человека перед лицом необходимости следовать обще¬
ственным ролевым предписаниям.
Задачи этой охранительной модернистской киномифологии одни, но качество
ее исполнения чрезвычайно зависимо от конкретной общественной системы25. Аме¬
риканская демократия предлагает своей киноаудитории мифы «земли обетован¬
ной» (вестерн) и взаимного проникновения природы и культуры (мелодрама). То¬
талитарная мифология СССР и Германии 30-х годов зиждется на демиургических
мотивах и мотивах культурных героев. Сходство идеологий рождает и сходство
структуры. Анализируя фильмы того периода, можно легко заметить, как идеоло¬
гические критерии укладываются в мифические русла. Реальность кино не толь¬
ко оказывается конкурентоспособной относительно подлинной, но и заменяет ее.
«Мне очень одиноко, потому что я начинаю относиться к языку, как к чему-то,
что не принадлежит ни мне, ни тебе, но находится между нами. Вполне
возможно, что я сделаю из него что-то свое. И что ты сделаешь из него
что-то свое, да. Только это находится между чем-то и чем-то, между вилкой
и ножом, (...) который может сам себя резать и при этом еще принимать
удобную форму» (Жан-Люк Годар).
Рассуждая таким образом, мы получили общую характеристику мифологической
позиции кинематографа модернистского этапа культуры. Каждый отдельный фильм
не есть миф. Однако каждый включается в систему мифологических отношений та¬
кого рода культуры, охраняющей себя посредством выдвижения собственных «ком¬
пенсаторных» дублей, восходящих к естественным представлениям общественного
24 Речь идет о так называемых «бескамерных фильмах», изготовленных методом непосредственно
механической обработки кинопленки. Дэвид Кэртис датирует первый фильм такого рода началом 30-х годов
и приписывает его Лену Лаю (см.: Curtis D. Experimental Cinema. L., 1971). В том же ряду стоят опыты
Оскара Фишингера, Нормана МакЛарена и др.
25 Впрочем, права М. Туровская, считающая, что «сравнительный анализ фильмов СССР и США показал бы
общие черты 30-х годов, а фильмов СССР и Германии - черты тоталитаризма в культуре» (Туровская М.
А. Пырьев и его музыкальные комедии: К проблеме жанра. — Киноведческие записки /
ВНИИ киноискусства; Госкино СССР. М., 1988, № 1, с. 112).
94
1988-1993
персонажа. Модернистский миф идеологичен, а идеология модернизма мифологич¬
на. История идейного становления юного гитлеровца Квекса (фильм Ганса Штайн-
хофа, 1933) или боевой путь Чапаева уравниваются в «бессознательном» простран¬
стве мифа, ибо и здесь и там важны не столько политические реалии происходящего,
сколько классическая топология мифа, положенная в фундамент визуального ряда.
В середине 60-х годов Кристиан Метц, анализируя обозримый этап кинокуль¬
туры, задался вопросом: что же все-таки есть кино? Язык или речь? Код или текст?
Ответ Метца однозначен: кино не есть язык, ибо для прочтения его текстов необхо¬
димо привлечение иных, внекинематографических значений26.
Позиция Метца восходит к известному положению Фердинанда де Соссюра,
обосновавшего фундаментальную и, на наш взгляд, чрезвычайно актуальную для
модернистского этапа культуры дихотомию речи и языка. «В каждый данный мо¬
мент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию;
в любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого», — указы¬
вает де Соссюр27, однако замечая, что исторические изменения, «никогда не проис¬
ходящие во всей системе в целом, но лишь в отношении одного или другого из ее
элементов, могут изучаться только вне ее»28.
Комментируя это высказывание де Соссюра, Р. Вейман замечает, что абстраги¬
рование от «внеязыковой» действительности в этом случае носит троякий харак¬
тер: абстрагирование от говорящих и от речевых ситуаций, от предмета речи, т. е.
объекта языка, и вследствие этого от истории языка29.
На наш взгляд, К. Метц демонстрирует именно такую степень абстракции, но
вместе с тем чрезвычайно точно ставит вопрос о собственно «внекинематографи¬
ческих» кодах кино. По мнению Метца, если бы мифический Тезей оказался геро¬
ем фильма, то он бы не смог остаться автономной мифологемой, но превратился
бы всего лишь в героя конкретного фильма30. Кодовый смысл персонажа читался
бы лишь за пределами данного кинематографического текста, в иных информаци¬
онных объемах.
При этом утверждение Метца совпадает с потребностью кинематографа осо¬
знать себя как завершенную совокупную систему собственных кодов. Этот этап,
а он наступает в конце 50-х годов, условно можно назвать «аналитическим», т. е.
тем, в котором кино уже больше не нуждается в толкованиях посредством смеж¬
ных художественных и культурных сфер, но оперирует собственной мифологией.
26 См.: Ямпольский М. Указ. соч.
27 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933, с. 34.
28 Там же, с. 93.
29 См.: Вейман Р. История литературы и мифология. М., 1975, с. 207.
30 См.: Ямпольский М. Указ, соч., с. 140.
95
Кино на ощупь
Р. Барт настаивал на создании «искусственного мифа» в виде третьей семио¬
тической системы. Миф в его модернистской интерпретации вторичен по от¬
ношению к языку, это «полнота знака» относительно «пустоты» обозначаемого.
Соответственно современное общество, по Барту (т. е. модернистская культура), —
«привилегированное поле мифологических значений»31.
Формирование «третьей семиотической системы», или системы вторич¬
ных культурных мифов, — начало постмодернистского этапа культуры (в дан¬
ном случае приставка «пост-» как нельзя более уместна, ибо фиксирует состоя¬
ние культуры, наступившее после модернизма). Насквозь мифологизированная
антагонистическая культура начинает воспроизводить самое себя, собственные
мифы, и кино - основной мифотворец — одним из первых подвержено этому
процессу.
К концу 50-х годов героический кинопантеон уже столь укомплектован, что
становится самостоятельной областью знаний и представлений о жизни. Осозна¬
ет себя поколение людей, для которых кино является не отражением действи¬
тельности, а самой действительностью. Киномиф свободно транспортируется
в разные текстуальные образцы: поляк Анджей Вайда, осмысляя военную тра¬
гедию народа, черпает один из главных внетекстуальных кодов из киномифа
о «бунтаре без причины», одевая своего героя в кожаную куртку и джинсы аме¬
риканского актера Джеймса Дина. В свою очередь Мачек Хелмицкий из вайдов-
ского Пепла и алмаза становится мифологемой польского (и не только польского)
кино. Атрибуты персонажа мифологизируются и становятся неотъемлемым ат¬
рибутом культуры. В то же время француз Годар компенсирует целый текстуаль¬
ный пласт своего фильма На последнем дыхании одним-единственным монтаж¬
ным стыком: лицо Мишеля Пуакара (Жан-Поль Бельмондо) соединяется в нем
с лицом Хэмфри Богарта, «демона» американского «черного фильма» 30-х. Миф
сопрягается с героем за счет «метаединицы» речи (вспомним Тезея в трактовке
К. Метца), и сам герой, оставаясь фигурой линейной речевой структуры, обраща¬
ется мифологемой.
Наслоения киномифологии бесчисленны. Спустя 25 лет после Годара аме¬
риканский режиссер Дж. Макбрайд поставил римейк На последнем дыхании, по¬
местив мифологему в иную, изменившуюся культурную ауру и подтвердив тем
самым актуальность «третьей семиотической системы» постмодернистской куль¬
туры, интерпретирующей классический фильм «новой волны».
Вероятно, первым знаком этой культуры в кино была «новая волна». «Ко¬
гда шли в кинотеатр, должно было появляться ощущение своей приобщенно¬
сти к миру, ощущение братства, свободы, все это создавало кино», — замечает
31 Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика. М., 1986, с. 46-130.
96
1988-1993
Ж.-Л. Годар в интервью 80-х годов32. Режиссеры «новой волны» стали первым по¬
колением кинодеятелей, для которых источником опыта была не жизнь, а кино. При
этом «новая волна» представляет как бы переходную стадию от модернистской инто¬
нации - замысел ее вполне нигилистичен, она борется с «папочкиным кино», отстаи¬
вая собственные взгляды. Методы «новой волны» интересны с точки зрения синтеза
авангарда и поставангарда: разрушаются и комбинируются структуры, переосмыс¬
ливаются жанровые стереотипы. В общих чертах «новая волна» ознаменовала этап
«расподобления» экранной структуры, тем не менее, объективно канонизировав ее.
Второй этап связан с деятельностью немецкого «нового кино» 70-х годов. Оста¬
вив в стороне причины общественно-политического свойства (их было достаточно
и в «новой волне»), обратимся к эстетическим следствиям. Метод немецкого «нового
кино» — парафразировка. Это уже опыт кино, пропущенный через опыт кино же, ис¬
пользование таких мифологизированных кинопонятий, как стиль и жанр (кстати,
кинематограф, пожалуй, единственная сфера, где происходит мифологизация сти¬
ля, в том числе и индивидуального). Кино для немецких режиссеров обращается той
неантагонистической сферой культуры, где примиряются и снимаются противоре¬
чия. Скажем, в программном фильме Р. В. Фассбиндера Тоска Вероники Фосс в кине¬
матографических аллюзиях и ассоциациях примиряются не только социальные реа¬
лии, но и сами мифы прошлой антагонистической культуры. Аналогичная ситуация
обнаруживается в его «аденауэровских фильмах» (Замужество Марии Браун, Лола).
Это, так сказать, исход европейской тоталитарной мифологии. В 70-80-е годы
подобные процессы проходят и в Америке. К самым важным их следствиям сто¬
ит отнести, пожалуй, то, что здесь миф наиболее отчетливо превращается в сказку,
десакрализированную и произвольно достоверную.
Иными словами, репрессивный миф культуры первой половины столетия
сменяется «нерепрессивной» культурной мифологией. Выше мы пытались пока¬
зать, каким образом осуществлялся этот процесс на уровне кинематографа - одно¬
го из главных поставщиков мифов XX века. Разумеется, наши наблюдения носят
самый общий и спорный характер, однако надо полагать, что изучение будущего
культуры невозможно без учета этих закономерностей.
32 Последние уроки донора: Интервью Годара в фрагментах журн. «Cahiers du cinema». — ARS [Издание
Рижского видеоцентра и дирекции кинофорума «Арсенал»], 1989, № 2.
В сб. «Горизонты культуры». Вып. 1. СПб., РИИИ, 1992.
97
Кино на ощупь
Кадры решают всё
У меня есть неоплаченный долг перед кинокритиком Олегом Коваловым. Посмо¬
трев короткометражку Максима Пежемского Переход товарища Чкалова через
Северный полюс, мы единогласно решили: самонадеянный дебютант откровенно
прокалывается, пытаясь играть с фрагментами калатозовского оригинала. При ка¬
жущейся легкости имитации «большой стиль» опасен в первоисточнике. Слишком
уж он крут, чтобы прижиться в любой инородной кинофактуре.
Этой мыслью я и воспользовался, рецензируя картину Пежемского на страни¬
цах третьего номера «Сеанса». Воспользовался, никак не предполагая, что долг Ко-
валову-критику придется возвращать Ковалову-режиссеру.
Сады Скорпиона — фильм упоительный в замысле и феерический в пересказе. По¬
ведать о времени средствами экранного автопортрета времени — это ли не апофеоз ны¬
нешнего культурного универсализма, выводящего на первый план уже не режиссера-
творца и даже не критика-толкователя, но архивариуса, киномеханика, бесстрастного
хранителя целлулоидной истории. Ковалов посвятил свой фильм советским 50-м, эпо¬
хе тем более интересной, что она так и не стала достоянием обыденного ретро. Что было
«до» и «после», знают все. «До» горланили Дунаевского, а по ночам исчезали в зловещих
«эмках» с потушенными фарами. «После» пели Окуджаву и катались на синих троллей¬
бусах. Пятидесятые же — междуцарствие мифологий, нонсенс, идеологическая мута¬
ция. Их обаяние в непоследовательности. XX съезд и шпиономания, молодежный фе¬
стиваль и охота на стиляг, Весна на Заречной улице и Случай с ефрейтором Кочетковым.
Ефрейтор Кочетков, инструктивная притча о бдительности, снятая в 1955 году
Александром Разумным, и есть та канва, по которой вышиты прихотливые монтаж¬
ные узоры Садов Скорпиона. Честный, но недалекий Вася Кочетков попадает в сети
роковой шпионки. Слово за слово, признания и прогулки — и вот уже влюбчивый
ефрейтор вполне готов стать легкой добычей хитроумных диверсантов. К счастью,
на помощь приходят отцы-командиры, и все кончается благополучно. Военная тайна
соблюдена, враги обезврежены, и Вася Кочетков, едва осквернив казенные подошвы
водами реки, текущей между чувством и долгом, мчит к нашему, советскому берегу.
Другой сюжетный фрагмент заимствован из учебно-игровой картины об ал¬
коголиках и нервнобольных. Сколько бы там ни твердили зарубежные теоретики
о наследственности и генотипе, советская наука настаивает на приобретенном ха¬
рактере патологии. Ступоры, комплексы и депрессии всего лишь следствие соб¬
ственной распущенности больного, пренебрегшего общественным здоровьем ради
мелких личных страстишек...
98
1988-1993
Сходство ситуаций очевидно. И там и здесь - «внутренние эмигранты», де¬
зертиры из общей шеренги. Один влюбился, другой запил — и в сплошном строю
образовалась дыра. Строй замешкался, сбился. Проще всего одернуть отщепенца,
приструнить чеканной строкой. Дескать, «не такое нынче время, чтобы нянчиться
с тобой...». Но время-то как раз такое, ибо высочайшая парадигма постсталинских
50-х предписывает внимание к каждой отдельной личности. При условии, конеч¬
но, что личность придерживается коллективных интересов.
Потому так легко преодолевают монтажные стыки персонажи разных кар¬
тин. Дело даже не в повторяемости актерских физиономий, а в антропологической
общности народа, с одинаковым энтузиазмом отбывающего социальные сроки
в казарме и на койке ЛТП. Потому и политрук, и психиатр являют параллельные
инкарнации одного и того же лица, а армейская политбеседа по лексике и интона¬
ции ничем не отличается от гипнотического сеанса в дурдоме.
Цель массового внушения хрущевской эры — в расширении горизонтов дрях¬
леющего мифа. Пятидесятые как будто уравновесили бутафорский макет Броне¬
носца «Потемкина» и живую слезинку Кабирии, футурологический кич медвед-
кинской «новой Москвы» и постиндустриальную готику, имперскую ораторию
и шансоны заезжего Монтана. Мелькают жутковатые кадры венгерской вольни¬
цы и китайского «братства по оружию». В сознании опоенного шпионским зель¬
ем Васи Кочеткова проносится вереница запретных грез: рок-н-ролл, стрип-герлс
и неоновые сполохи... Из кусочков помутневшей амальгамы складывается зеркало
времени, оставившего после себя модернизированные павильоны ВДНХ, хрущобы
и первое по-настоящему потерянное поколение. Времени, когда под каждым ку¬
стом расцветшего по оттепели социалистического сада притаился скорпион — ядо¬
витый и безжалостный обитатель пустыни.
Визуальный рефрен — караван на каменистой земле — можно считать
ключом к названию картины, запечатлевшей ландшафт нашего подсозна¬
ния, выжженный солнцем самой передовой идеологии. Причем весь спектр
астрального свечения сфокусирован в одном-единственном луче — ослепи¬
тельном и испепеляющем, испокон века пронизывающем темень коллектив¬
ных инстинктов, луче кинопроектора. Кино — главный гипнотизер, и само-
проекция времени на вечную белизну экрана способна поведать куда больше
иного - строжайшего - свидетельства.
Но вот вопрос — почему единственным осмысленным итогом Садов Скорпио¬
на остается желание целиком пересмотреть никчемный, в общем-то, Случай с еф¬
рейтором Кочетковым?..
Бывает, что копия превосходит оригинал. К кино, которое все - иллюзия, от¬
тиск, игра светотени, — это утверждение применимо почти безоговорочно. Для
того, чтобы портрет и модель сравнялись, в садах скорпиона должна расцвести
99
Кино на ощупь
Олег Ковалев. Фот. Юрий Трунилов
пурпурная роза Каира. Но на нашей почве цветы не растут, стало быть, даже самые
красивые мифы пребывали и будут пребывать в ответе за породившие их идеи.
Именно поэтому вступительный титр «оптическая симфония» обманчив. Сады
Скорпиона - симфония идеологическая. С той лишь разницей, что прежняя парти¬
тура переписана в новой тональности.
Приведу только один пример. Мэтры авангарда развлекаются. Еще не ста¬
рый и еще не забывший уроки Мейерхольда Сергей Михайлович Эйзенштейн, оде¬
тый под максеннетовского полицейского, дурачится перед камерой Ганса Рихтера...
Монтажный стык... Глядя сквозь больничное окно на пробуждающуюся природу,
спившийся художник вздыхает о потопленном в вине таланте... Фрагмент офици¬
альной хроники: в Москве открылась студия военных художников имени Грекова...
Финал. Эйзенштейн на смертном одре и двое, делающие торопливые посмертные
наброски... Трясущаяся рука алкоголика и эйзенштейновская рукопись с загогули¬
ной, отметившей начало рокового приступа...
100
1988-1993
Сады Скорпиона. Реж. Олег Ковалов. 1991
Сколько бы информации ни содержал в себе этот коллажный аккорд, он все
равно резонирует в области некоего интеллектуального комментария. И напрас¬
но, потому что лучшим комментатором прошлого выступает само время, аннули¬
рующее социальный заказ и превращающее продукт в чистую оптическую едини¬
цу. Кромсать сегодня на куски Ефрейтора Кочеткова - значит перезаряжать мину
с вышедшим сроком годности и, сидя в новом идеологическом окопе, ждать взрыва.
Взрыв, конечно, происходит. И первой его жертвой оказывается сам Ковалов.
В этом смысле мой вопрос к режиссеру можно сформулировать и так: каким об¬
разом, вдохновляясь одной из самых нелепых в мире идеологий, мы умудрились
построить одну из самых мощных кинематографий? Настолько мощную, что даже
изрезанная, перемонтированная, она напрочь обессмысливает попытку вскрыть
ее тайные мотивы и подсознательные механизмы. Пятидесятые годы - не 30-е и не
40-е. Пятидесятые — излет «большого стиля». И Александр Разумный — не Эйзен¬
штейн, не Вертов и даже не Чиаурели. Но если стереть с Ефрейтора Кочеткова на¬
лет нравоучения, то под маской ложноклассического конфликта обнаружится без¬
донный архаический пласт, в котором действуют добрый молодец и искушающая
его злодейка, ложный отец-оборотень и летучий дракон - фантастическая помесь
Карлсона с Джеймсом Бондом. Скомпрометированная в изображении, эта архаика
прорывается в звуке, как в сцене, где Монтан и Синьоре чествуют малолетние «тру¬
довые резервы». Монтан, его теплый, человечный тембр, обаятельное мелкотемье
его песен: нет ни гроша в кармане, зато могу шляться по Парижу в свое удоволь¬
ствие... И ледяной, чистый ангельский голос тонкошеего фэзэушника, выводящий
немыслимую чушь с такой истовостью, с какой звучал бы на клиросе... Надчелове¬
ческая культура, глыбы которой слишком тяжелы, чтобы играть ими в бисер.
101
Кино на ощупь
Словом, это не постмодернизм. А если постмодернизм, то в специфически-со-
ветском варианте. Годар поступил осмотрительнее. В «Истории кино» он нарезал
любимые фильмы на микроскопические отрезки. Они дразнят, но не отвлекают
от собственного годаровского страха по поводу того, что все мы рано или поздно
умрем, а эта - обольстительная и фальшивая - змея срастется вновь и вновь будет
жалить своим сладким и смертоносным ядом...
Конечно, критик критику глаз не выклюет. Допускаю, что, возьмись сейчас
критик Ковалов за перо, он с блеском разобьет все мои аргументы, а то и обратит
их в свою пользу. Но, воплощая идеи на экране, он вступает в ту зону, где, пере¬
иначивая слова «лучшего друга советских кинематографистов», кадры решают все.
А то, что существует за кадрами, остается на уровне пусть и благородной, но бес¬
плодной авторской интенции. А стало быть — и не существует вовсе.
«Сеанс». 1992. № 5.
102
1988-1993
Суд Линча
Петров садится на коня и говорит, обращаясь к толпе, речь о том,
что будет, если на месте, где находится общественный сад, будет построен
американский небоскреб. Толпа слушает и, видимо, соглашается. Петров
записывает что-то у себя в записной книжечке. Из толпы выделяется
человек среднего роста и спрашивает Петрова, что он записал у себя
в записной книжечке. Петров отвечает, что это касается только его самого.
Человек среднего роста наседает. Слово за слово, и начинается распря. Толпа
принимает сторону человека среднего роста, и Петров, спасая свою жизнь,
погоняет коня и скрывается за поворотом. Толпа волнуется и, за неимением
другой жертвы, хватает человека среднего роста и отрывает ему голову.
Оторванная голова катится по мостовой и застревает в люке для водостока.
Толпа, удовлетворив свои страсти, расходится.
Даниил Хармс. «Суд Линча»
Все, кто берется рассуждать о Дэвиде Линче, обречены на повторение одних и тех
же эпитетов. Линч чрезмерен, избыточен, странен и неистов - до головокружения,
до судорог, до тошноты. Напор его визуального стиля не дает опомниться, его исто¬
рии затягивают, как воронки, а снятые им кадры высасывают зрение, будто вампи¬
ры. Небо в его фильмах кажется выкроенным из голубого лоскута национального
флага, а зажженная спичка способна до краев залить пламенем экран. Его злодеи
ужасны, красавицы притягательны, а тайны таинственны.
Беспредел - это лексическое новообразование последней стадии социализ¬
ма - более всего отвечает индивидуальному видению сорокапятилетнего режис¬
сера, умножившего взгляд ребенка на искушения массовой культуры со всеми ее
мифами, трюками и приманками. В хаотичном на первый взгляд лабиринте обна¬
руживается тем не менее склонность к устойчивым темам и мотивам. Перечень лю¬
бимых линчевских образов доставил бы радость психоаналитику: уродцы, двойни¬
ки, заводские станки и трубы... Лестницы, ведущие в чрево тайны, и ресторанные
певицы с пластикой заводных кукол. Части тела, похожие на ландшафты, полные
входов и выходов. И ландшафты, таящие нечто живое, грозное и непредсказуемое.
В фильмах Линча часто звучит слово «weird» -«сверхъестественный», «причуд¬
ливый», «странный». Тем же словом критики определяют его авторский мир, в кото¬
ром детская сказка-страшилка как будто пересказана взбесившимся компьютером;
103
Кино на ощупь
104
Дэвид Линч. Фот. Нэнси Эллисон. 1990
1988-1993
мир, уходящий корнями в буколическое детство режиссера среди лесов тихоокеанско¬
го побережья. Недоучившись в Бостонской художественной школе, Линч отправился
в Европу — по его собственному выражению, «за 7000 миль от Макдоналдса», — а затем
осел в Филадельфии при Пенсильванской академии изящных искусств. Урбанисти¬
ческий ужас разрушил идиллию. Психология Дэвида Линча навсегда помечена двой¬
ственностью — он остался мальчиком, плутающим в искусственных зарослях, чьи
обитатели превращаются то в диковинные растения, то в непонятных животных.
В конце 60-х Линч предпринял первые экранные опыты. По этим сюрреалисти¬
ческим экзерсисам можно изучать авангард как возрастное явление. Заблудивший¬
ся мальчик шифровал обиды роста в образах органической жизни. В сорокаминутной
Бабушке (1970) люди растут, как грибы, — прямо из-под земли. Злые родители лают
по-собачьи, а их несчастный сын (безусловное авторское «альтер эго») тайком выращи¬
вает на самодельной грядке... бабушку. Отгородившись от мира взрослых, старый и ма¬
лый упоенно объясняются на птичьем языке, а когда бабушка умирает, то, в полном
согласии с наивным пантеизмом, усаживается в кресло посреди могил и надгробий.
В пустом пространстве неоэкспрессионистских черно-белых кадров уже за¬
метны контуры тем, которые позднее вплетутся в цветную фактуру страшных ска¬
зок Линча — его романтический инфантилизм и варварская ирония, его навязчивые
страхи и болезненное любопытство к оборотной стороне привычных вещей. Первая
полнометражная работа Старательная головка была сделана в 1977 году на средства
Американского киноинститута. Эта леденящая кровь история является в то же время
своеобразными линчевскими 8 1/2, развернутой рефлексией по поводу природы и ре¬
зультатов творчества. Затерянный в городских джунглях герой, похожий одновремен¬
но на зомби, на панка и на Сергея Эйзенштейна, приживает со своей болезненной по¬
другой омерзительного монстра — то ли недоношенного Е. Т., то ли освежеванного
кролика. Тошнотворное дитя орет, капризничает и на глазах покрывается гнойными
болячками. Подруга сбегает, а доведенный до отчаяния герой с помощью ножниц из¬
бавляется от постылого чада. Кадры, в которых крохотное тельце, похожее на кокон
бабочки, медленно раскрывается, выпуская наружу внутренности, по степени шоко¬
вого воздействия сравнимы разве что с бунюэлевским разрезанным глазом, но имен¬
но они утверждают авторский парадокс: продукты фантазии приобретают неожидан¬
ную телесную форму, отвратную плоть, внутри которой бьется живое сердце.
Безысходную интонацию Старательной головка часто связывают с тем, что
собственного первенца Линч вместе с женой-однокурсницей нянчил в угловой ком¬
нате над кухней, с окнами, упиравшимися в стену морга. Полнометражный дебют
режиссера набит экскрементами творчества, ожившими образами подсознания,
способными к самостоятельному — бесконечному и механистичному - размноже¬
нию. Вареная курица лежит на тарелке в позе роженицы и, едва герой заносит над
ней вилку, начинает толчками извергать густую темную жижу. Певица с непомерно
105
Кино на ощупь
раздутыми щеками поет о райской жизни и с хрустом давит каблуками извиваю¬
щихся на полу эмбрионов. Наконец, в эпизоде, давшем название всей картине,
мальчик находит оторванную голову и несет ее на карандашную фабрику. Из голо¬
вы производится тысяча старательных резинок — крохотных орудий уничтожения.
Зародыш и рождение — лейтмотивы Старательной головки — принесли ей
славу шедевра отвращения. Фильм был с негодованием отвергнут Нью-Йоркским
фестивалем, зато стал фаворитом авангардистских киноклубов, а сам Линч при¬
обрел репутацию режиссера с необычным и жестоким стилем. Именно это и при¬
влекло Мэла Брукса, искавшего постановщика для экранизации истории Джона
Меррика, легендарного английского урода XIX века, «человека-слона», проживше¬
го короткую и странную жизнь.
Брукс сделал правильный выбор. Появившийся в 1980 году Человек-слон ба¬
лансирует на трудноуловимой грани между душещипательной сказочкой и пост¬
сюрреалистической притчей. Человек-слон (в его роли выступил изобретательно
изуродованный Джон Харт) ужасен.
Он — казус, гримаса природы. Его прошлое покрыто мистическим мраком, он
гоним и презираем в настоящем. Однако реальность, в которой Меррик стремится
отвоевать свое крохотное место, куда ужаснее, таинственнее и загадочнее.
Человек-слон дотошно воспроизводит графический облик старой виктори¬
анской Англии, ее стерильные интерьеры и уныло-величественную архитектуру.
Однако Линч и оператор Фредди Френсис, блеснувший прежним ремеслом после
почти пятнадцатилетних занятий режиссурой фильмов ужасов, показывают Бри¬
танию минувшего века не как патриархальную старушку, но как страну, одержи¬
мую промышленной лихорадкой раннего капитализма. Над каменными сводами
клубятся дымы, в горнах бушует пламя, вертятся неуклюжие колеса фабричных
машин. Примитивный индустриальный дизайн, подозрительно напоминающий
орудия средневековой инквизиции, позволяет Линчу вылепить метафору настоя¬
щего ада, замаскированного техническим прогрессом. Смутная, нездешняя опас¬
ность исходит от самых обычных вещей: медицинских инструментов, больничных
палат, подвалов, экипажей и лестниц. Допотопная фотографическая тренога вспы¬
хивает дьявольским магниевым светом... Индивидуальная патология меркнет пе¬
ред ужасом, спрятанным в глубине обыденного, потому так безысходно-иронична
интонация режиссера, честно выписывающего по этой зыбкой канве всеобщей ано¬
малии метания бедного уродца между злодеем-циркачом и доктором-гуманистом.
После Человека-слона Линчем заинтересовались киты кинобизнеса. Дино
Ди Лаурентис предложил ему на выбор один из двух суперпроектов: третью
часть Звездных войн или экранную версию бестселлера Фрэнка Герберта «Дюна».
Линч остановился на «Дюне», фантастико-экологической саге, которой в Амери¬
ке зачитываются и необремененные образованием тинэйджеры, и высоколобые
106
1988-1993
интеллектуалы. Взявшись за постановку, он заявил, что его занимает не экология,
а метафизическая подоплека романа, живописующего межпланетную борьбу за
обладание драгоценным веществом жизни.
Снятая в Мексике, с вечной нехваткой денег, бесконечно длинная, Дюна не
принесла лавров ни продюсерскому чутью Ди Лаурентиса, ни режиссуре Линча.
Только фанаты Герберта сумели распутать сложный клубок экранных перипетий,
и только немногочисленные поклонники Линча оценили адаптацию его жестокого
и рафинированного стиля к условно-экзотической фактуре, где прежние фантаз-
мы выглядели всего лишь типовыми штампами космического блокбастера.
Но именно в Дюне — первой цветной картине Линча — зарождается его «фее¬
рическая» манера 80-х годов: взбесившийся поп-артовский колорит, комиксовая
конструкция и неистовое нагромождение событий. Герои здесь впервые выступи¬
ли под «настоящими» именами - принцев, принцесс, вдовствующих королев, вол¬
шебников и злодеев. Наконец, впервые Линч, доселе манипулировавший маска¬
ми и типажами, вгляделся в человеческие лица, находя в них завораживающие
сочетания уродства и красоты, порока и добродетели, инфантилизма и мужества.
В портретной галерее фильма появилось и лицо дебютанта из Кентукки Кейла
Маклахлена, исполнившего роль Пола, венценосного наследника планеты Аракис.
Маклахлен с его нежными отроческими чертами и массивным подбородком пла¬
катного супермена, с томным взглядом и узкими губами стал премьером следую¬
щей фантасмагории Линча - Синего бархата.
Эта самая страшная и, на наш взгляд, лучшая линчевская сказка появилась
в 1986 году. Режиссер спустился с небес в провинциальный городок Эмбертон, скуч¬
ный и аккуратный, как именинный торт. Под кремовой поверхностью, однако, скры¬
вается ядовитая начинка, изготовленная по фирменному рецепту Линча, — взрывча¬
тая смесь ужаса и насилия, в которую с головой проваливается подросток Джеффри.
В первой сцене Синего бархата, цитирующей одновременно смерть Дона Кор¬
леоне из Крестного отца и классического Политого поливальщика, отца Джеффри
настигает апоплексический удар. Лишенный опеки герой вступает в права хозяи¬
на и тут же, едва ступив за порог родительского дома, находит у обочины отрезан¬
ное ухо. С этого момента и сам герой, и все пространство фильма будто втягива¬
ются в это ухо, проникают сквозь него в неизведанное, странное, бессознательное.
Туда, где живут волшебные оборотни — маньяк, мафиозо и наркоман Фрэнк, и пре¬
красная певица Дороти Вайленс.
Вход в Зазеркалье приводит Джеффри прямо в квартиру Дороти. Он приобща¬
ется к тайне тьмы и заодно переживает насильственный обряд мужской инициа¬
ции. С этих пор его жизнь раздваивается на день и ночь. Солнечный свет осеняет
бесплотную влюбленность в белокурую дочь местного детектива, а тьма заманива¬
ет в обитель садомазохистских порывов Дороти.
107
Кино на ощупь
То, что появилось еще в Человеке-слоне — уродство как святое облачение и обы¬
денный ход жизни как отголосок преисподней, — в Синем бархате помещается в мно¬
гократную систему кавычек, мифов и взаимных отражений. Традиционная мораль
и ее темная изнанка, зеркальная многомерность бытия и относительность «черного»
и «белого», взаимозаменяемость дня и ночи и легкость падения за грань бездонного
ужаса показаны Линчем в логике кошмара наяву и сбывшегося сновидения. Садист
и извращенец Фрэнк в своей злодейской ипостаси беззащитен как ребенок, а желторо¬
тый юнец Джеффри, со страху превратившись в жестокого мстителя, недрогнувшей
рукой простреливает лоб мерзавца. Невинная жертва Дороти беззастенчиво искушает
своего спасителя, а его романтическая возлюбленная по-бабьи ревет, едва узнав, что
в ходе увлекательной и опасной игры у нее появилась соперница. Выход из клубка кро¬
вавых страстей издевательски прост - в финальной сцене Линч начинает портретиро¬
вать Джеффри, обретшего покой в ухоженном родительском садике, с уха... В одно ухо
вошло, в другое вышло... Линч пересказывает легенду о красавице и чудовище с иро¬
нией, причем на «дневных» персонажей язвительная нота распространилась едва ли
не больше, чем на «призраков ночи». Главных героев у него сыграли малоизвестные
Маклахлен и Лора Дерн, зато роли второго плана - Фрэнка и Дороти — исполнили
звезды первой величины. Деннис Хоппер, легендарный «беспечный ездок», кумир
психоделического андеграунда, и Изабелла Росселлини, муза Линча 80-х годов, его
«синяя леди», унаследовавшая итальянское имя великого отца и чуть размытый и рас¬
крашенный абрис матери-шведки Ингрид Бергман; одна из сестер-близнецов, что не
могло быть безразлично Линчу, влюбленному в зеркала и удвоения. Странное, дикова¬
тое лицо Росселлини, плод двух культурных мифов, превратилось в миф парфюмер¬
но-косметический. Режиссер упивается двойственностью этого лица, одного из самых
дорогих в мире, ставшего чуть ли не эмблемой фирмы «Lancome» и продающегося на
рекламных буклетах. В любовной сцене между Дороти и Джеффри весь экран запол¬
няют рекламные губы, идеально накрашенные помадой оттенка «Rouge classique»...
Эффект Синего бархата обладает почти наркотическим действием. Зритель
входит в мир фильма, поддавшись его пряным искусам и пьянящему мотиву про¬
стенького шлягера, который, в конце концов, звучит гимном темного царства: «Она
носила синий бархат. И синими, как бархат, были ее глаза...». Кажется, что, легко
ступая по набившим оскомину киноштампам, Линч подобрался к самым глубинам
подсознательных желаний и детских страхов и тут же посмеялся над ними, оставив
зрителя если не в дураках, то во всяком случае с ощущением неразгаданной загадки.
Критики, прощавшие Линчу прежнюю визуальную амбивалентность, встре¬
пенулись, едва он посягнул на незыблемость моральных норм. По их мнению,
в Синем бархате было слишком много насилия и слишком мало внятных критери¬
ев добра и зла. В полную силу скандал разгорелся, когда дирекция Каннского фе¬
стиваля отказалась включить фильм в конкурсную программу.
108
1988-1993
И все же Линч добился своей Золотой пальмовой ветви. В 1986-м его неисто¬
вое послание шокировало, но четыре года спустя, когда весь мир с ленцой говорил
о постмодернизме, неоварварство пришлось ко времени. Каннская публика, дре¬
мавшая на картинах живых классиков — Годара, Феллини и Куросавы, — просну¬
лась и зааплодировала новому детищу Линча, фильму Дикие сердцем, поставлен¬
ному по мотивам романа Барри Джиффорда «Моряк и Лула».
На сей раз сказка о влюбленных, преследуемых злой матерью-ведьмой, обла¬
чилась в крикливые одежды рок-н-ролльного роуд-муви, а заодно стала объясне¬
нием в любви продукции категории Б с ее безвкусицей, искренностью и энерги¬
ей. Линч с наивным восторгом признавался: наконец-то ему удалось объединить
все жанры в один и заставить фильм гудеть, как растревоженный пчелиный улей.
В этой рок-аранжировке «Волшебника страны Оз» по воздуху летит отстреленная
голова, собака, как кость, несет человеческую руку, и любовная сцена длится ровно
столько, сколько звучит за кадром «Би Боп А Лула» Джина Винсента.
На упрек Барри Джиффорда в том, что режиссер увидел только темные и из¬
вращенные стороны романа, Линч ответил: «Я всего лишь сделал яркое ярче,
а темное темнее». Полутонов не было и в Синем бархате, многомерность и слож¬
ность Линч предпочитал искать в доведенных до предела крайностях. Дикие серд¬
цем довели крайности до беспредела и вместе с тем пожертвовали былую тон¬
кость и загадочность скорости и напору. Лучше всего Моряк и Лула чувствуют
себя в дискотеке, в мчащемся автомобиле и в постели. Погрузив героев в экстракт
реанимированных рок-н-ролльных мифов, режиссер заставил их жить на гра¬
ни, на взрыве, на последнем дыхании, в отчаянном рывке наперегонки с судьбой
и в агрессивном противостоянии всему миру. Но в этом мире хиты Элвиса Пресли
звучат, как рождественские сказки, а «бунтовщики без причины» ведут себя, как
потерявшиеся дети. Под их ногами расстилается дорога, вымощенная желтым кир¬
пичом. Та самая, знакомая каждому американцу дорога, по которой девочка Элли
возвращалась в родной Канзас из Волшебной Страны и по которой Моряк и Лула
незаметно для себя проделали обратный путь.
Оправившись от потрясения, критики заявили, что разгадали эффект Линча
и что маньеризм Диких сердцем не более чем игра на прежних находках. Критиков
можно понять - в лабиринте фильма полно разноцветных указателей и почти нет
неожиданных поворотов. Анфан террибль сознательно утратил то, чем прославил¬
ся, - многогранное, объемное видение злого и страшного. В его пороках нет боль¬
ше тайны, они слишком картинны и нарочиты. Вплоть до того, что у главного не¬
годяя гнилые зубы, а у ведьмы-мамаши яркие когти.
Зато в Диких сердцем выиграла добродетель. Страсть и режиссерскую изо¬
бретательность Линч отдал Моряку и Луле, выплеснувшим на экран потоки све¬
та, секса и дикости. Моряка сыграл Николас Кейдж, племянник Ф. Ф. Копполы,
109
Кино на ощупь
скрывший громкое имя дядюшки под псевдонимом, взятым в честь любимо¬
го композитора-авангардиста Джона Кейджа; романтик, мечтающий соединить
в одно Джерри Ли Льюиса, Достоевского и Жана Кокто и укротивший неисто¬
вое сердце героя роуд-муви мальчишеской трогательностью и собачьими глазами.
Лора Дерн — Лула — создание режиссера, белокурая жирафа, угловато-грациозное
дитя, ласково прозванная Линчем «крошкой». Длинная шея, длинные руки, длин¬
ные ноги, асимметричное лицо, занавешенное светлыми волосами, красная пома¬
да и неизменная жевательная резинка. С Дерн — Лулой тип переросшей акселерат¬
ки утвердил свое право на романтику и победительную чувственность.
Кейдж и Дерн превратили бешеный комикс в волшебную историю, покорив¬
шую Канны и сделавшую ее автора героем 1990 года. Но массовый успех Линчу
принесли не Синий бархат и не Дикие сердцем. Европа и Америка узнали его бла¬
годаря телесериалу Твин Пикс (Двойные вершины). Миллионы следили за пери¬
петиями жизни маленького городка Твин Пикс, чей сонный покой однажды на¬
рушился таинственным убийством школьницы Лоры Палмер. При этом казалось,
что ни ежевечерне прилипающие к домашним экранам зрители, ни сам Линч и его
сорежиссер и сценарист Марк Фрост не знают, чем кончится бесконечное след¬
ствие, где магическая аура Синего бархата будто растворилась в традициях буль¬
варного романа с продолжением, мыльной оперы, комикса, клипа и очерка про¬
винциальных американских нравов. Пока критики бьются над загадкой Линча, сам
он обдумывает новый заход. По слухам, очередные серии Твин Пикс согласились
поставить Джордж Лукас, Джон Лэндис и сам Стивен Спилберг...
Для телевидения Линч снял видеоряд к Индустриальной симфонии № 1, на¬
писанной вместе с композитором своих последних картин Анджело Бадаламенти,
и рекламу духов с характерным названием «Наваждение». Еженедельно он запол¬
няет газетную полосу комиксов «Самая сердитая собака в мире», он издал альбом
фотографий, сочиняет музыку и устраивает выставки собственных картин. Он жи¬
вет с прекрасной Изабеллой Росселлини. Он проделал головокружительную карь¬
еру от авангардистского эпатажа к массовому успеху. Его взгляд варвара и ребен¬
ка — его суд над миром, погрузившимся в созерцательное забытье, а его знаменитая
жестокость - от страсти к крайностям, от желания сильного воздействия и в ко¬
нечном счете сильного чувства. Он снимает обыкновенные вещи - пламя спички,
сигарету, унитаз, автомобильные колеса, траву, глаза и губы — так, что они стано¬
вятся громадными, грозными и прекрасными. Николас Кейдж назвал его «храни¬
телем огня». Он — дикий сердцем. Дэвид Линч.
«Сеанс». 1992. № 5. Статья написана в соавторстве с Кариной Добротворской.
112
1988-1993
Ужас и страх в конце тысячелетия.
Очерк экранной эволюции
Природа кинематографического эффекта основывается на фундаментальных че¬
ловеческих эмоциях. Теоретиками давно отмечено, что киножанр — категория
столь же формальная, сколь и мифологическая, глубоко укорененная в архетипах
подсознания. Самое массовое из искусств выводит свои излюбленные жанры из
аристотелевой триады — смех, сострадание и страх. Соответственно — комедия, ме¬
лодрама и ужас.
Ужас в кино фигурирует под разными именами. Существует общее определе¬
ние «horror film» — «фильм ужаса». В то же время картины, трактующие нечто не¬
обычное, загадочное, таинственное, зачастую числятся по разделу weird fiction —
фантастического кино. Есть еще «триллер» - буквально «то, что вгоняет в дрожь».
Заметим, впрочем, что страх и ужас, отождествляемые не только в обыденном со¬
знании, но и на уровне профессиональной киноведческой рубрикации, различают¬
ся по сути. Страх сложен и диалектичен, ужас конкретен и элементарен. Страх -
это процесс, ужас — результат. Страх в известной степени предчувствует ужас.
Ужас же разряжает страх, опредмечивает его бесконечность.
Страшное и ужасное имеют давнюю художественную традицию. Высокое ис¬
кусство оперирует понятием страха, в то время как низкое испокон веку скло¬
няется к ужасному. Страхом чревато приобщение к последним вопросам бытия.
И напротив, созерцание ужаса освобождает от страха. Как важная и, к сожалению,
малоучитываемая составляющая страх присутствует в поэтике Андрея Тарковско¬
го. К страху обращались Бергман и Бунюэль, его философско-поэтическая кон¬
цепция проходит через все экранное творчество Жана Кокто.
Ужас, шок, кошмар - задачи и атрибуты совсем иной культуры. Смешение
терминов ведет к аберрациям исторического киноведения. В частности, наша на¬
ука часто называет первыми фильмами ужаса произведения, созданные после
Первой мировой войны в русле немецкого киноэкспрессионизма: Кабинет док¬
тора Калигари, Голем, Носферату — симфония ужаса и другие. Поводом к тако¬
му утверждению отчасти служит переведенная у нас книга Зигфрида Кракауэра
«Психологическая история немецкого кино», блестящее исследование, трактую¬
щее кинематограф как проекцию коллективного бессознательного, как отыгрыш
общих комплексов нации, пережившей непосильное историческое испытание.
Немецкий экспрессионизм оставил классические образцы «высокого» стра¬
ха. При всей своей погруженности в дебри коллективных инстинктов эти карти¬
ны являют штучный художественный продукт, индивидуальную рефлексию их
113
Кино на ощупь
Кабинет доктора Калигари. Реж. Роберт Вине. 1919
творцов и создателей на мрачную и тревожную атмосферу века. Обратившись
к национальной романтической традиции, экспрессионисты искали выход в двух
внешне несхожих сферах — глубинно личностной и абсолютно надличной. Отсю¬
да и две тенденции — тайные, непредсказуемые эманации души и не менее зага¬
дочные игры сверхреальности. Отсюда и страх перед бесконечностью, непознавае¬
мостью человека и мира. Страх, который экспрессионисты считали благотворной
метафизической эмоцией, прорывом сквозь обыденность к высотам совершенной
истины.
Эти тенденции возникают уже в первых экранных опытах экспрессионизма,
Пражском студенте и Големе. Обе картины выдержали по две авторские редак¬
ции (соответственно 1913 и 1926, 1914 и 1920 годы), в обеих романтическая тради¬
ция получила модернизированное экспрессионистское звучание. Герой Пражско¬
го студента, прямой потомок персонажей Шамиссо, Гофмана и Оскара Уайльда,
в результате сделки с дьяволом обретал двойника. Естественно, дубль оказывался
проворнее и сильнее оригинала. Адресованная ему в финале пуля настигала лег¬
комысленного студента. Романтический двойник в духе генеральных идей эпохи
трансформировался в пугающий образ оборотня, мистического узурпатора.
Магические, оккультные мотивы прозвучали в Големе. Механическое че¬
ловекоподобное существо, согласно иудаистской легенде, созданное пражским
114
1988-1993
Носферату — симфония ужаса. Реж. Фридрих Вильгельм Мурнау. 1922
раввином Лоэвом, — вообще один из концептуальных персонажей эстетики экс¬
прессионизма (кроме двух экранизаций, следует упомянуть написанный в 1915
году роман Густава Майринка). Немая кукла, бездушная машина олицетворяла де¬
моническую изнанку обыденного. Явление Голема (вариант 1920 года так и назы¬
вался Голем, как он пришел в мир) — это взрыв, эксцесс, напоминание о призрачной
и зловещей стороне бытия.
В этом ключе комплектовался и весь позднейший пантеон ужаса немецкого
кино 20-х годов: сомнамбула Чезаре из Кабинета доктора Калигари Роберта Вине
и Гомункулус Отто Рипперта, вариации на тему каббалистического Голема; обитате¬
ли Музея восковых фигур Пауля Лени и, конечно же, Носферату — Неупокоенный —
из фильма Ф. В. Мурнау, одного из первых шедевров в портретной галерее кино-
вампиристики. Позднее мы увидим, как этот сонм чудищ и монстров, рожденный
творческой фантазией в горячечном бреду смятения перед жизнью, станет достоя¬
нием массовой мифологии, средством шоковой социотерапии. Экспрессионизм
включал страх в область чисто художественных задач. В анналы киноклассики за¬
несены живописные декорации к Доктору Калигари или новаторская работа с не¬
гативным изображением Носферату — знаки субъективного авторского видения,
пугающие метафоры, адаптированные затем применительно к запросам средне¬
го вкуса.
115
Кино на ощупь
Как социально-культурный феномен и формальный жанр фильм ужаса сло¬
жился в Америке начала 30-х годов. Тому сопутствовала веская объективная при¬
чина. В 1929 году Соединенные Штаты охватил невиданный экономический спад,
«великая депрессия», повлекшая за собой кризис традиционной идеи процветания.
Среди всеобщей растерянности кинематограф утвердил одну из своих главнейших
черт — быть «великим утешителем», способным не только отвлекать от действитель¬
ности, но, в известном смысле, и заменять ее. Не случайно экономическая депрес¬
сия 30-х совпадает по времени с началом «золотого века» Голливуда, подарившего
миру немало страшных, красивых и смешных сказок. Не случайно и то, что наибо¬
лее знаменитые голливудские ужасы появились подряд в самом начале 30-х. Фран¬
кенштейн Д. Уэйла и Дракула Т. Броунинга — в 1931-м, Доктор Джекил и мистер
Хайд Р. Мамуляна - в 1932-м, Кинг Конг М. К. Купера и Э. Б. Шейсдака - в 1933-м.
Анализируя эти фильмы, легко увидеть в них и магистральные темы экс¬
прессионистской эстетики и — глубже - архетипы страха вообще. Так, экраниза¬
ция новеллы Р. Л. Стивенсона о Джекиле и Хайде перекликается, с одной стороны,
с Пражским студентом, а с другой — взывает к дуализму человеческой натуры, где
уживаются добро и зло, дремучее «естество» и жиденький общественный имидж.
Кинг Конг и Франкенштейн вслед за Големом констатируют бессилие перед сверхъ¬
естественными пароксизмами, пусть даже и вызванными к жизни осознанной во¬
лей. Наконец, Дракула, поставленный по мотивам того же романа Брэма Стокера,
что и Носферату, причудливо толкует секрет загробного царства, тему оборотня-
мертвеца, вовлеченного и вовлекающего в непрерывный цикл ужаса.
Корни страха одинаковы, но следствия диаметрально противоположны. Для
экспрессионистов страх был экстремальным аффектом, подводящим к краю умо¬
постигаемой реальности и в конечном счете презирающим реальность как галлю¬
цинацию, временное пристанище странствующего духа. Ужас времен «великой де¬
прессии» не столько уводил от реальности, сколько примирял с ней. Его функция
та же, что и у расцветающих в то время мелодрамы и музыкального кино-шоу, —
снять стресс, ослабить социальное напряжение. Ужас стал по-настоящему массо¬
вым киножанром. Экспрессионистские картины вошли в историю искусства, но
не в историю кассовых рекордов. А один только Кинг Конг за четыре дня проката
в Нью-Йорке собрал $ 90000...
По сути, найденная в 30-е годы формула киноужаса определила психоло¬
гическую историю жанра на протяжении десятилетий. При всей элементарно¬
сти социопсихологического результата формула эта не так примитивна, как мо¬
жет показаться на первый взгляд. Шок здесь не единственное средство массовой
компенсации, ужас смыкается с целой цепью механизмов зрительского ожидания
и идентификации. Сыгранный Борисом Карлоффом монстр из Франкенштейна
1931 года не просто безмозглый злодей и убийца, но и трагическое недоразумение,
116
1988-1993
гонимый всеми отщепенец, аутсайдер. В Кинг Конге, помимо изящной спекуляции
на грани экзотики и кошмара, содержится древняя как мир мелодраматическая
канва. Когда, после разрушительного пробега по Нью-Йорку, обезьяна взбирает¬
ся на верхушку Эмпайр Стэйт Билдинг и, прижимая к груди красавицу Энни, от¬
махивается от атакующих самолетов, сердце зрителя разрывается уже не от страха,
но от жалости и сострадания...
В такие минуты шедевры голливудского масскульта взмывали к настоящему
искусству - наивному, сказочному, но несомненно притягательному. Искусству,
надолго пережившему тот «социальный заказ», который выполняло. Недаром Фел¬
лини, которому продюсер Дино де Лаурентис предложил снять римейк старого
Кинг Конга (в результате шедшую на наших экранах картину сделал Джон Гйллер-
мин), хоть и отказался, но отказался с сожалением. Ибо всерьез подумывал об этой,
по его словам, «красивой психоаналитической сказке».
Все это, впрочем, исключения. Правило же состояло в том, что ужас постепен¬
но как будто приручался, становился горькой, но полезной пилюлей. И пока психо¬
логи спорили о побочных эффектах лечения, кинематограф изобретал все новые
и новые аттракционы. Филипп Росс, выпустивший в 1985 году книгу «Лики ужаса»,
составил целую энциклопедию явлений и предметов, в разное время служивших
источниками экранного устрашения. В их числе насекомые, жилища, дети, манья¬
ки, мумии, паразиты, а также нюхательный табак и кухонная утварь. Отдельная гла¬
ва исследования посвящена образу... бензопилы, фигурирующей в таких заметных
произведениях ужасного, как Последний дом слева Вэса Крейвена (1972), Власть
мертвеца Сэма Раими (1982), Гремлины Джо Данте (1984) и, конечно же, знамени¬
тое Расчленение по-техасски при помощи механической пилы Тоба Хупера (1974).
В конце 40-х - начале 50-х ужасы включились в конвейер «серии Б» — так
именуется в Америке и Европе поточная кинопродукция с ограниченным бюдже¬
том и соответствующей художественной установкой. «Серия Б» дала своих корифе¬
ев - Теренса Фишера, штатного постановщика английской фирмы «Хаммер», чьим
лозунгом было «мы не хотим фильмов с «посланием», мы делаем развлечения»,
американца Роджера Кормана или специалиста по кровавому гриму Хэршелла Гор¬
дона Льюиса. Не мудрствуя лукаво, эти постановщики, сами того не ведая, возвра¬
щали экранному кошмару его историю - традицию жестокого гиньоля, кроваво¬
го площадного представления. Реинкарнация Франкенштейна в многочисленных
постановках Фишера, 2000 маньяков или Окрась мою кровь красным Льюиса чест¬
но строились вокруг «ударных» аттракционов и ни на что больше не претендова¬
ли. Дальше всех шагнул Роджер Корман, умудрившийся за четыре года экранизи¬
ровать шесть произведений Эдгара По, и среди них Ворона (1963) и Маску красной
смерти (1964), причем экранизировать в «жуткой» стилистике бульварных исто¬
рий о заживо погребенных и черных котах.
117
Кино на ощупь
Франкенштейн. Реж. Джеймс Уэйл. 1931
118
1988-1993
119
Дракула. Реж. Тод Броунинг. 1931
Кино на ощупь
Завороженный. Реж. Альфред Хичкок. 1945
Схожими задачами вдохновлялись итальянские режиссеры 60-х — Марио Бава
или Лучано Фульчи. Подобно тому, как «спагетти-вестерн» отличался особым ци¬
низмом и зверством по отношению к оригиналу, «спагетти-ужас» эксплуатировал
совсем уж запредельную мистику и жуть - почву, на которой позже взошло твор¬
чество одного из самых фантастических мастеров страха 60-х, режиссера и писа¬
теля Дарио Ардженто.
Кажется, страшное и ужасное окончательно удаляются из сферы художествен¬
ного. Не совсем. Опрощение жанровой схемы, стереотип, высокая степень пред¬
сказуемости позволяют как бы двойную игру, как бы дополнительную дистанцию
по отношению к отмеренной дозе испуга.
Прежде всего это относится к фильмам Альфреда Хичкока. Его по недоразу¬
мению нарекли «королем ужаса», титулом, скорее подобающим Фишеру или Ар¬
дженто. Хичкок щадил вкус публики: его ужасы не физиологичны и отличаются
безупречной логикой, однако истинный страх прячется именно за этой способно¬
стью к здравому объяснению, которое режиссер всегда предлагал зрителям, но ко¬
торое не объясняло ничего.
И уж коли мы назвали кинематограф ужаса репродукцией коллективно¬
го подсознания, целесообразно рассмотреть, каким образом тема решается Хич¬
коком. Психоаналитические мотивы занимают важное место в его послевоенных
120
1988-1993
Психо. Реж. Альфред Хичкок. 1960
картинах. Так, в Завороженном (1945) действие происходит в клинике, практикую¬
щей методы доктора Фрейда. Сюда приезжает новый главврач, больше похожий на
пациента, нежели на светило науки, за которого себя выдает. Вскоре выясняется,
что настоящий профессор убит при загадочных обстоятельствах. Подозрение па¬
дает на самозванца, и впрямь оказавшегося душевнобольным. Тогда в дело вступа¬
ет психоанализ. Женщина-врач освобождает подсознание бедолаги от тягостного
комплекса - в детстве он стал невольным виновником гибели брата. Сбросив груз
прошлого, «псевдопрофессор» мигом вспоминает истину. Убийца не он, а один из
врачей клиники, убравший с дороги более удачливого и талантливого коллегу.
В неоднократно описанном Психо есть та же тема исковерканного подсозна¬
ния. На почве ревности молодой человек прикончил собственную мать, но, будучи
не в силах избавиться от ее демонической власти, время от времени перевоплоща¬
ется в покойницу и от ее имени убивает женщин. Волей случая очередной жертвой
оказывается разыскиваемая полицией растратчица. Ее следы теряются в одиноком
придорожном мотеле... Маньяк схвачен. В финальном монологе детектив-психо¬
аналитик разъясняет природу его преступной страсти.
В обоих фильмах ужас толкуется как фантазм ущербной подкорки. Для обы¬
денной схемы ужасного этого более чем достаточно: массовый зритель легко по¬
купается на «черные дыры» психики. Но наукообразные аргументы по существу
121
Кино на ощупь
фальшивы — настоящий страх, как и настоящие мотивы, где-то глубже, инфер¬
нальней. Счастливый исход следствия в Завороженном всего лишь реабилитиру¬
ет невинного. Настоящий же убийца едва мелькает на периферии действия. Кто
он? Почему убил? Почему в конце концов предпочел застрелиться, а не застрелить
разоблачившую его докторшу? Эти, вроде бы маргинальные, вопросы вдруг приот¬
крывают занавес дешевого фрейдизма и приобщают к тайне куда более значитель¬
ной. Но на эти вопросы ответа нет...
В Психо настоящих ответов еще меньше. Путая следы, будущая жертва меня¬
ет автомобили, чем только привлекает к себе внимание. Записывается в книге по¬
стояльцев под вымышленным именем, однако нарочитая вымышленность первым
делом и бросается в глаза опытному сыщику. Воровка ищет спасения, а находит
смерть. Преследуют ее, а разоблачают убийцу. Случайности выглядят закономер¬
ностями, а здравые намерения отзываются обратным смыслом. Вещи, ситуации,
поступки подчинены собственным противоположностям, идущим из какого-то
страшного Зазеркалья.
Хичкок делал виртуозные фильмы страха. Но взгляд на страшное у него осо¬
бый - умозрительный и ироничный, констатирующий зеркальную многомерность
мира, его фантасмагорическую неочевидность. Именно этот ледяной иррациона¬
лизм откликнется в начале 80-х в картинах Брайена Де Пальмы или Дэвида Лин¬
ча. В начале же 70-х в европейском, и особенно американском кино расширяется
само «поле» ужасного. Отчасти это связано с возросшей технической оснащенно¬
стью кино, отчасти — с быстро меняющейся модой на таинственное и загадочное.
На гребне технической волны появилось новое ответвление жанра, именуе¬
мое «катастрофическим» и построенное вокруг масштабных эксцессов: стихий¬
ных бедствий (Землетрясение М. Робсона, Приключение «Посейдона» Р. Нима) или
аварий (Ад в поднебесье Джона Гиллермина и Аэропорт-75 Дж. Смайта). Об этих
фильмах много написано, заметим лишь, что «катастрофа» знаменует одну из выс¬
ших зрелищных ступеней жанра и вместе с тем — едва ли не последнюю конвуль¬
сию «старого доброго ужаса», когда за полтора часа можно было насладиться без¬
опасным стрессом с гарантированным торжеством справедливости. На рубеже
70-х все большее место занимает проблема «внутреннего вторжения» - носителем
кошмара выглядит не стихия, не пришельцы, но сам человек.
В 1968 году независимый режиссер из Питсбурга Джорджо А. Ромеро снял
Ночь живых мертвецов. Скромное черно-белое кино произвело настоящий пере¬
ворот в поэтике ужаса. И не потому, что изобиловало спецэффектами, и не потому,
что вводило в обиход новых героев («зомби» - живые мертвецы - впервые появи¬
лись на экране еще в 1932 году в фильме В. Гальперина Белый зомби). Новатор¬
ство Ромеро — в совершенно новой интонации, окрашенной черным юмором и аб¬
сурдом. Преследуемая мертвецами-людоедами, группа людей баррикадируется
122
1988-1993
Ночь живых мертвецов. Реж. Джорджо А. Ромеро. 1968
за стенами дома. Зомби остаются снаружи и лишь время от времени пускаются
на ленивый штурм. Настоящий ужас разыгрывается среди самих осажденных —
они паникуют, ругаются и в результате истребляют друг друга. Последнего остав¬
шегося в живых убивают подоспевшие спасители; убивают, по ошибке приняв за
мертвеца...
Мрачный парадокс содержится в названии фильма. Зомби - и те, кто снаружи,
и те, кто внутри. Человекоподобие ожившего трупа сообщает «зомби-фильмам»
70-80-х, - а среди них Психомания Дона Шарпа, Дети не должны играть с мерт¬
выми игрушками Боба Кларка, Шоковые волны Кена Видерхорна, Гамма 693 Джоэла
Рида, фильмы самого Ромеро Закат мертвецов (1979) и День мертвецов (1985) —
особый смысл. Опасность исходит уже не от обособленной ипостаси, потемок
души (как в случае с Джекилом и Хайдом), но от самой идеи жизни и естественной
смерти. Ближайший аналог зомби — вампир - является, во-первых, явлением экс¬
траординарным, а во-вторых, одержим мрачными страстями. Оживший мертвец
бесстрастен. Стать им может каждый, всего лишь перейдя неизбежную грань. Так,
в картине Сэма Раими Власть мертвеца (1982) потусторонний дух вселяется по¬
очередно в участников веселой компании. И всякий раз, когда облюбованной при¬
зраком телесной оболочке грозит опасность, жертве возвращается ее первоначаль¬
ный облик. Карающая рука опускается, и призрак продолжает свой жуткий путь.
123
Кино на ощупь
124
Ребенок Розмари. Реж. Роман Поланский. 1968
1988-1993
125
Сияние. Реж. Стенли Кубрик. 1978
Кино на ощупь
Одновременно с картиной Ромеро на экранах появился Ребенок Розмари Ро¬
мана Поланского, придавшего той же теме мистический, оккультный оттенок. По
сути, и фильм Поланского, и следующие за ним Экзорсист У. Фридкина и Омен Ри¬
чарда Доннера показывают, как уязвим человек, как легко он становится добычей
зла и исполнителем воли лукавого. В «мистических ужасах» 70-х четко просма¬
тривается типологический ряд: антихрист начинает свое пришествие в образе ре¬
бенка, т. е. существа чистого и невинного. Кроме того, сатанинская власть опирает¬
ся на земной заговор — отсюда мотив тайной секты, маскирующейся под обычных
обывателей. В нашумевшем фильме Джека Старрета Гонки с дьяволом членами та¬
кой секты оказывалась чуть ли не вся Америка.
И «зомби», и дьяволиада 70-х исходят из одной посылки - зло выше человека,
оно постоянно и необоримо. При этом «высокая», «готическая» тенденция погружа¬
ется в норму, в быт. Ужасное присутствует в повседневности, в окружении привыч¬
ных предметов. Не случайно в середине 70-х средний класс по всему миру зачиты¬
вался Стивеном Кингом - великим умельцем по части «обыкновенного кошмара».
Дьяволов и мертвецов у него нет. Максимум допустимого ограничен сверхнор¬
мальными дарованиями — способностью к телекинезу («Керри», «Воспламеняю¬
щая взглядом») или ясновидению («Мертвая зона», «Сияние»). Однако и эта «сверх¬
норма» — тень, отброшенная из другого измерения, она тревожит и будоражит.
На экране произведения Кинга (почти все его книги экранизированы) явно
проигрывают. До вершин настоящего страха добрался, пожалуй, только Стенли
Кубрик, снявший в 1978 году Сияние. Помимо прочего, Кубрик, известный тем,
что каждым своим фильмом «закрывает» тему, исчерпывает ее выразительные
возможности, предлагает настоящую антологию приемов ужаса. В Сиянии есть
и мальчик-экстрасенс, и одержимый бесами отец, напряженность пустых про¬
странств и бутафорская кровь, волнами заливающая экран. Есть привидения, ми¬
ражи и целая демоническая секта, побуждающая Джека Торренса уничтожить се¬
мью, стерегущую закрытый на зиму отель.
Отыграв прописи жанра, режиссер ставит неожиданную точку. В последнем
кадре фильма камера приближается к стене, увешанной фотографиями прежних
постояльцев отеля. На снимке многолетней давности ясно виден Джек Торренс... Он
сам? Или его двойник? Воистину хичкоковский финал разом переключает фильм
в другой регистр, в иную плоскость.
«Внешнее вторжение» в 70-е годы стало достоянием «серии Б». Катастрофы от¬
цвели буквально за несколько киносезонов — им на смену пришли чудища, гигант¬
ские животные или насекомые, ополчившиеся на людей. Крокодил из одноименной
картины Л. Тига или крысы (Мертвые глаза Роберта Клоуза). Или пауки, или рыбы...
Статистика зафиксировала массовую моду на источник страха — годами в «топах»
держались определенные представители фауны. Потом их сменяли другие.
126
1988-1993
Экзорсист. Реж. Уильям Фридкин. 1973
В этих картинах утверждается трехчастная композиция. Сначала зритель зна¬
комится с героями, проникается их заботами и радостями. Во второй (и самой
страшной) части начинаются странные и загадочные знамения — пропадают дети,
появляются следы. Наконец, чудище является во всей красе. Дальнейшее зависит
от фантазии постановщика спецэффектов и брезгливости аудитории. Генетически
этот подвид ужасного восходит к Птицам Хичкока, но без хичкоковского изяще¬
ства и сумасшедшины. Формально к нему принадлежат и Челюсти Спилберга. Од¬
нако только формально, потому что Спилберг всерьез пугал с экрана только одна¬
жды - в Дуэли, где на протяжении полутора часов тяжелый грузовик преследует
легковой автомобиль. Челюсти же, использующие в первой трети арсенал «ужас¬
ных» трюков, в дальнейшем разворачиваются по совершенно иным жанровым
маршрутам и в конечном счете выглядят скорее жизнерадостной версией «Моби
Дика», чем типовым блокбастером.
В 1986 году Дэвид Кроненберг сделал Муху - шедевр отвращения, римейк од¬
ноименной картины Курта Ньюмена 1958 года. Одержимый идеей генной транс¬
плантации ученый ставит эксперимент на себе. Опыт удался, однако в последний
момент в прибор залетела муха. Бесстрастный компьютер считывает двойную ин¬
формацию, в результате чего человек начинает медленно и мучительно превра¬
щаться в насекомое.
127
Кино на ощупь
Муха. Реж. Дэвид Кроненберг. 1986
Муха отметила важную веху в эволюции жанра. В ней слились «внутреннее»
и «внешнее» вторжения, сторонняя опасность и сам человек. Поначалу ученый ста¬
рается сохранить самоконтроль. Он знает, что муха имеет только один инстинкт —
убивать, и поэтому замыкается от всего мира. Но рефлексы мухи вытесняют
человека. Последним усилием утерявший всякий человеческий облик герой на¬
правляет на себя ствол ружья.
Заманчиво сравнить картину Кроненберга, например, с «Превращением»
Кафки. При сходстве внешней канвы результат и источник страха тут совсем не¬
одинаковый. Для Кафки, близкого к идеям литературного экспрессионизма, Гре¬
гор Замза, превратившийся однажды утром в насекомое, по существу не меняется.
Он остается думающим, чувствующим, страдающим. У Кроненберга же ужас исхо¬
дит из психологической мутации: метафизический страх и визуальный шок взаи¬
мопроникают. Как муха и человек.
Фильм Кроненберга показателен для общего настроения 80-х еще и тем,
что в принципе снимает классическую оппозицию между страшным и ужас¬
ным, духовным и физиологичным. Они соседствуют на равных, как на равных
в культуре 80-х оказываются почти все атрибуты высокого и низкого, массо¬
вого и элитарного, уникального и тиражированного. Восьмидесятые годы про¬
граммно исчерпали возможности и искусства, и реальности, предложив им
128
1988-1993
Челюсти. Реж. Стивен Спилберг. 1975
непротиворечивое единство в пространстве постмодернизма — так именует
себя культура на исходе века. Один из фундаментальных постулатов постмо¬
дернизма — «конец истории». Поступательный процесс, чреватый войнами и ка¬
таклизмами, завершен. Наступает стабильная, комфортная и безопасная эра
«торжествующей середины», от которой незачем убегать ни в индивидуальную
метафизику, ни в массовую иллюзию. Стало быть, прежние ужас и страх одина¬
ково бесполезны.
Собственно, профанация страха, его бытование в кинематографе в каче¬
стве катализатора массовой компенсации начались еще в 70-е годы, когда го¬
тика, «высокий» страх превратились в расхожий инструментарий популярной
культуры. В свою очередь следующий, «постмодернистский» этап допустил
еще большую широту толкования. Жанровые конструкции и индивидуальный
стиль, откровенный кич и тонкая имитация кича - все слито воедино. С «высо¬
ты» универсалистской методологии по-новому выглядят и прежний Кинг Конг,
и «низовые» вариации Кормана на темы Эдгара По — в них отыскивается близкая
нынешнему сознанию идея относительности «верха» и «низа», взаимопроник¬
новения, смеси, пресловутого «слоеного пирога» (показательно, что свою гене¬
ральную эстетическую концепцию постмодернизм сформулировал в гастроно¬
мической лексике).
129
Кино на ощупь
Фильм ужаса 80-х годов часто симулирует наивную внешность ужаса «се¬
рии Б», но лишь затем, чтобы выстроить на его основе собственную компози¬
цию. Например, Американский оборотень в Лондоне Джона Лэндиса балансиру¬
ет на грани мистического триллера и одновременно пародии на него. Пародии
на ужасное были и прежде - вспомнить хотя бы Молодого Франкенштейна
Мэла Брукса, гомерически смешную версию всех Франкенштейнов сразу, с сек¬
суально озабоченным ученым и танцующим чечетку чудовищем. Картина же
Лэндиса слишком страшна, чтобы быть пародией, но и слишком несерьезна,
чтобы претендовать на «взаправдашний» ужас. Ее герои, двое молодых амери¬
канцев, путешествующих по Англии, попадают в лапы человека-волка. Один
погибает от острых когтей, другой обречен стать новым оборотнем. По ночам
к нему является мертвый приятель и умоляет пресечь порочный круг. Моло¬
дой человек, впрочем, больше занят романом с медсестрой. Вдвоем они приез¬
жают в Лондон, и тут - с наступлением первого же полнолуния — проклятие
сбывается...
Дремучий ужас при этом обыгрывается многочисленными авторскими ин¬
тенциями, отступлениями, скрытыми цитатами. Проведя ночь в волчьей шкуре,
совершенно голый герой очухивается в зоопарке. Главная проблема заключает¬
ся не в том, что он загрыз несколько человек, а в том, как без штанов добрать¬
ся домой... Регулярные визиты призрака обставлены с обескураживающим буква¬
лизмом - каждый раз он является со все более прогрессирующими приметами
разложения. Это тошнотворно, но очень смешно. Поднявшиеся из могил жертвы
самонадеянного оборотня и он сам собираются на военный совет в кинотеатре, где
идет какой-то идиотский порнофильм...
Конец и вовсе путает все карты. К человеку-волку приближается его возлюб¬
ленная. Зритель облегченно вздыхает, предвкушая извечную коллизию «красави¬
цы и чудовища». Но не тут-то было. Оборотень бросается на подругу и падает под
выстрелами полицейских.
Штампы коммерческого киноужаса становятся в Американском оборотне
материалом прихотливой стилевой игры. Очевидное тяготение к «комическо¬
му» ужасу видно в Истребителях привидений Айвана Рейтмана — искрометной
феерии, побившей в Америке все кассовые рекорды. Стилевым манипуляци¬
ям подверглись и совсем недавние авторитеты - два выпуска Возвращения жи¬
вых мертвецов (1985 - режиссера Дэна О’Баннона, и 1988 - Кена Видерхорна)
предлагают облегченное прочтение черного шедевра Ромеро; явление зомби ста¬
новится поводом для абсурдистской комедии погонь. Сам Ромеро в 1982 году
сделал Парад ужасов — изящный кинокомикс по мотивам Стивена Кинга, где
каждая новая новелла выглядит словно миниатюрная энциклопедия определен¬
ного жанра ужаса.
130
1988-1993
Американский оборотень в Лондоне. Реж. Джон Лэндис. 1981
Свобода обращения с уровнями восприятия и вкуса присуща и Вэсу Крейвену.
Наверное, все современные тинэйджеры знают, кто такой Фредди Крюгер, персо¬
наж начатого Крейвеном сериала Кошмар на улице Вязов (следующие серии сдела¬
ли Джек Шолдер, Чак Рассел, Ренни Харлин и Стефен Хопкинс). Обожженная фи¬
зиономия Фредди глядит с витрин игрушечных магазинов, его перчатка с острыми
бритвами-ногтями фигурирует в качестве сувенира. Группа «Скинхэдз» с южного
побережья Америки посвятила ему песню: что-то вроде «Фредди Крюгер с нами!»
Крюгер - классический злодей, однако действует он нетрадиционными метода¬
ми. Некогда его, детоубийцу-маньяка, заживо сожгли доведенные до отчаяния жи¬
тели маленького американского городка. Самосуд не прошел даром. Каждую ночь
Фредди является к новым жертвам, но не наяву, а во сне. И если мальчик или девочка
не успевают вовремя проснуться, они обречены на страшную и мучительную смерть.
В самой идее такой перестановки реальности есть четкая и продуманная тен¬
денция к взаимозаменяемости ужасного и страшного. Ужас царит на заповедной
территории страха - во сне, когда человек уязвим и незащищен. Ночной кошмар
иллюзорен, он не может разрядиться в разовом шоке, и эта навязчивость, текучесть
ужаса сообщает фильму Крейвена (следующие серии в основном эксплуатировали
популярный имидж Фредди) внешность того «постмодернизма второго эшелона»,
который по собственному вкусу сортирует наследие «высокой» традиции страха.
131
Кино на ощупь
Кошмар на улице Вязов. Реж. Вэс Крейвен. 1984
В 80-е годы кинематограф ужасного все чаще ищет среду обитания во вто¬
ричном культурном знаке. В получившей главный приз Аворьязского фестива¬
ля ужасов 1990 года картине Я, сумасшедший убийца сходит со страниц книги,
оживленной пылким воображением юной читательницы. В Шокере Вэса Крейве¬
на (1989) казненный на электрическом стуле преступник превращается в ток и ма¬
териализуется в телеприемниках. Преследующий его герой, изловчившись, тоже
ныряет в экран. Начинается погоня по всем каналам телеэфира: персонажи про¬
бегают сквозь фильм Хичкока, расталкивают документально снятых солдат Вто¬
рой мировой войны, устраивают погром в мастерской Франкенштейна из старой
картины Дж. Уэйла. В Гремлинах Джо Данте чудища вырастают из почти мульти¬
пликационных «маппетов». В Гремлинах-2 они врываются в телестудию, где за¬
писывается еженедельная кинопрограмма Леонарда Малтина, автора известного
«Телевидеопутеводителя».
Все эти черты в конечном счете определяют одну из главных особенностей
современного жанра ужасов — его откровенную сказочность. Фестивальная стати¬
стика Аворьяза констатировала повальное увлечение страшными сказками в 1985
году. Годом позже вышел на экраны Синий бархат Дэвида Линча, удивительный
образец постмодернистской «страшилки», жестокой и ироничной одновремен¬
но. В полнометражном кино Линч дебютировал психопатологическим триллером
132
1988-1993
Старательная головка. Славу ему принес сделанный в 1980-м Человек-слон, ре¬
альная история Джона Меррика, английского Маугли XIX века, урода от рожде¬
ния. Воссоздавая на экране его биографию, Линч прибегает к средствам мелодра¬
мы и бутафорского ужаса. Внешность Меррика отталкивающа — будучи на сносях,
его мать испугалась разъяренного слона. Но жизнь вокруг еще более жестока и та¬
инственна - атмосфера старой викторианской Англии как нельзя лучше передает
настроения беспокойства, постоянной угрозы и опасности. Интонация самого ре¬
жиссера, таким образом, по-хичкоковски двусмысленна. Человек-слон ужасен, но
куда ужаснее сама реальность.
Скандально прошедший по американским экранам Синий бархат к ужасу
в строгом смысле отношения не имеет. Как не имеет отношения и к эротическо¬
му триллеру, мелодраме и детективу, элементы которых вмонтированы Линчем
в композицию фильма. В то же время этот коктейль - взрывчатый и холодный —
является самой яркой иллюстрацией природы страха в кинематографе последних
лет.
Все начинается с того, что провинциальный подросток находит у дороги от¬
резанное человеческое ухо. Версия полиции маловразумительна, и тогда герой на¬
чинает собственное расследование, по мере чего сталкивается с непривычными
и загадочными персонажами: полубезумной певицей и шантажирующим ее зло¬
деем — не то рэкетиром, не то торговцем наркотиками. Сыщик-любитель не заме¬
чает, как гибельная пропасть постепенно притягивает его самого - тайная ночная
жизнь со всеми ее ужасами оказывается сладостно-заманчивой. В финале кошмар
рассеивается, истина торжествует, и герой возвращается к белокурой возлюблен¬
ной, но и этот переход случаен, иллюзорен и, в конечном счете, необязателен. Весь
мир хрупок, ненадежен и обманчив. Аккуратная провинциальная Америка (имен¬
но этот образ разъярил цензуру) таит под собой роковые, извращенные страсти.
В Синем бархате зло и добро взаимозаменяемы. Прежняя трагическая драма¬
тургия Джекила и Хайда уступает место простой констатации легкости перехода,
оборотничества. Страх рождается уже не оттого, что трудно постигнуть объектив¬
ный критерий, но оттого, что такового критерия нет. Да, собственно, и страхом это
чувство назвать нельзя...
По иронии судьбы едва ли не последним фильмом «высокого» страха стал Но¬
сферату, призрак ночи Вернера Херцога, снятый в 1978 году по мотивам романа
Стокера и экспрессионистского шедевра Ф. В. Мурнау. Режиссер вернул популяр¬
ному сюжету его фольклорные истоки, в фильме обыгрываются волшебные мо¬
тивы карпатских легенд, преданий и поверий. Вместе с тем у Херцога, которого
часто называют прямым наследником немецкого экспрессионизма, своя — безыс¬
ходная и трагическая — позиция. И у Стокера, и у Мурнау зло, персонифициро¬
ванное в образе вампира, в конце концов сдавалось. В романе поединок с Дракулой
133
Кино на ощупь
выигрывал профессор Ван Хелзинк, добрый маг и ученый. В картине Мурнау злые
чары рассеивались от силы любви — спасая мужа, Мина Харкер задерживала зло¬
вещего графа до появления первых лучей солнца. Губительный для всех вампиров
рассвет убивал Дракулу.
Херцог сознательно оспаривает обе версии. Рассвет наступает, и любящая
жена умирает вместе с обессилевшим вампиром. Но жертва оказывается напрас¬
ной. Отравленная кровь уже проникла в жилы Джонатана Харкера. Выдав полиции
Ван Хелзинка как убийцу Дракулы, он вскакивает на коня и мчится прочь... Пороч¬
ный круг продолжается.
Этот краткий обзор надо, вероятно, завершить анализом советского филь¬
ма ужасов. Это невозможно за отсутствием собственно предмета разговора. Хотя
ужасное на экране изживает коллективный страх, но адресуется к индивидуаль¬
ной психологии, личностному типу сознания. Мифология советского кино, напро¬
тив, оперирует социально-коллективным уровнем, общественным инстинктом,
в котором индивидуально-физиологические рефлексии тщательно изгоняются
или замалчиваются.
В последние годы на наших экранах дважды побывали японские копии с гол¬
ливудских образцов жанра — катастрофа Гибель Японии и Легенда о динозавре - ти¬
пичная продукция категории «Б». До сих пор в прокате мелькают Кинг Конг и Кинг
Конг жив — картины технически грамотные, но далеко уступающие легендарно¬
му первоисточнику. Впрочем, ни первый Кинг Конг, ни фильмы Хичкока, ни даже
Челюсти, окажись они сейчас в широком прокате, не вызовут никакого ажиотажа.
Экспансия ужасов началась с видеосалонов и пиратских кинокопий, предлагающих
советскому зрителю крайне низкий уровень зрелища. Возможно, насытившись им,
мы потребуем и качества, и собственного, советского жанра ужасов, ибо сама логи¬
ка нашего сегодняшнего существования стремительно переориентирует в сторону
личной, не обобществленной встречи с экзистенциальными проблемами.
Как следствие на прилавках книжных магазинов уже появились труды по ма¬
гии, астрологии, мистические и оккультные трактаты. Это понятно. К мистике все¬
гда склоняется тот, кто лишен настоящей веры.
В сб. «Бездна». СПб., АРС, 1992.
134
1988-1993
Любовь и смерть Райнера Вернера Фассбиндера
Фассбиндер обрек всех пишущих о нем на соблазн статистики: за пятнадцать лет
он сделал сорок два фильма, не считая пьес, театральных постановок, теле- и ра¬
диоспектаклей. Он работал как ломовая лошадь, снимал по нескольку фильмов од¬
новременно, писал сценарии, играл, стоял за камерой. Он редко брился, не выпу¬
скал изо рта сигарету и предавался всем известным порокам. Он не скрывал своих
гомосексуальных симпатий, но вместе с тем, как никто, умел снимать в кино жен¬
щин. Он нюхал кокаин, но не затем, чтобы подстегнуть фантазию, а затем, чтобы
примирить свою мучительную фантазию с реальностью. Он умер тридцати шести
лет от роду, оставив нечто большее, чем имя или эпоха. Он оставил после себя Кино
в самом личном, волнующем и магическом смысле слова.
К чести устроителей ретроспективы — они выбрали только те фильмы, кото¬
рые мы или не видели, или, увидев однажды, хотели бы посмотреть вновь. К пер¬
вым относится большая часть программы, ко вторым - Лили Марлен и Тоска
Вероники Фосс, поздние упражнения в «большом стиле», циничные и душеразди¬
рающие одновременно, трактующие историю как мелодраму, мелодраму как исто¬
рию и все вместе как прихотливую игру экранной светотени.
Именно это последнее качество канонизировало Фассбиндера в контексте ки¬
нематографического постмодернизма. В его фильмах отыскивают фантастическое
смешение традиций европейского и американского кино, наивный кич и тонкую
стилизацию кича, жанровую игру и неподдельную лирику. При этом на вопрос о по¬
будительных мотивах творчества сам Фассбиндер отвечал, как правило, односложно:
«Я хочу, чтобы немецкий зритель, придя в кинотеатр, видел на экране свою собствен¬
ную жизнь и свои собственные проблемы». Явившись в кино из театра, где он за одну
ночь репетировал «Антигону» или «Марата-Сада», двадцатилетний режиссер пона¬
чалу подражал любимым образцам - снимал «под Годара», под «черный» или «ганг¬
стерский» фильмы, отыскивая в новостройках Гамбурга или Мюнхена натуру фран¬
цузской «новой волны», а в сверстниках-«неформалах» физиономическое сходство
с Хэмфри Богартом и Джеймсом Дином. Его сентиментальность сказывалась в том,
что герои, как правило, погибали, его рационализм выдавало пристрастие к брех¬
товским парадоксам и остранениям, а источники вдохновения явственно виделись
в широкополых шляпах и сигаретах, закуренных на пустынной ветреной улице.
Старая пленка, недавно показанная по Российскому ТВ, запечатлела обста¬
новку премьеры его первого фильма Любовь холоднее смерти на Западноберлин¬
ском фестивале 1969 года - свистки, шиканье, негодующие восклицания зала. Он
135
Кино на ощупь
136
Райнер Вернер Фассбиндер. Фот. Хельмут Ньютон. 1980
1988-1993
хотел и умел эпатировать публику, но не это было целью. Смерть поставила ре¬
шающую точку. Его пятнадцатилетний киномарафон был всего лишь бесконеч¬
ным признанием в страдании и любви; признанием, начавшимся с перечня люби¬
мых фильмов и оборванным на полуслове предсмертного бормотания кокаиниста...
Все, снятое Фассбиндером, можно условно разделить на две части: на фильмы об
аутсайдерах и фильмы о женщинах. Его героями становились люмпены, беспутные
жители городских окраин, проститутки, обманутые мужья, неудачливые преступни¬
ки и представители всех возможных меньшинств: социальных, этнических, сексуаль¬
ных. Все те, кому жизнь отвела место на обочине и отпустила отчаяние как норму, как
повседневность, как судьбу; все те, кто уже достиг последней точки и демонстрирует
«категорическое согласие» с невыносимым ужасом бытия, для кого пошлость суще¬
ствования неотделима от его трагизма. Такими были Катцельмахер и преданный соб¬
ственной женой маленький чиновник Больвизер, гомосексуалисты-парии из Кулач¬
ного права свободы и опустошенный «торговец четырех времен года». Наблюдение за
ними определило и неповторимую интонацию Фассбиндера — ледяную смесь невме¬
шательства и страсти, неистовства и тоски, придуманной истории и настоящей боли.
Он не случайно выбрал кино, как не случайно, подобно своим старшим кол¬
легам Бергману и Антониони, предпочитал мужским характерам женские. И не
только потому, что женские образы больше подходили к его излюбленному жан¬
ру обыденной трагедии. Женщины Фассбиндера - лживые, обольстительные, ли¬
цемерные и тоскующие — навсегда связались с образом Германии, изнасилованной
аденауэровским «экономическим чудом» (об этом знаменитая «женская трило¬
гия»), и с главным делом всей его жизни — с кино.
Именно кино, доступное и ускользающее, как потаскуха Лола, наивное и деловитое,
как Мария Браун, величественное и жалкое, как Вероника Фосс, ничтожное и высокое,
страшное и манящее, как сама жизнь, кино со всеми его мифами, обманами, причудами
и капризами было главной тайной его существования, его самым сильным наркотиком
и самой постоянной привязанностью. Он хотел бы остаться соглядатаем, но вместо это¬
го рвался по ту сторону, всякий раз натыкаясь на холодную — холоднее, чем смерть, — бе¬
лизну экрана. Он мучился, изнывал, изводил километры пленки, влюблялся в мужчин
и женщин, видя в них не мужчин и женщин, а образы уже снятых фильмов, оглушал
себя сверхдозами наркотиков в надежде прикоснуться к тем, чьи лица родились в его
собственном воображении. Он очень торопился, но все-таки не успел. Кино убило его,
в очередной раз продемонстрировав невозможность угнаться за мгновением. Их роман
длился пятнадцать лет и оставил после себя сорок два фильма. Мы видим двенадцать из
них - двенадцать отчаянных попыток остановить мгновения любви и смерти.
«Вечерний Петербург». 1992. 19 ноября. Статья написана к ретроспективе фильмов Райнера
Вернера Фассбиндера в петербургском кинотеатре «Спартак».
137
Кино на ощупь
Ленин
Ленин нашего детства был един в двух лицах. С официальных портретов смотрели
чуть выпуклые глаза теоретика-гипнотизера, над первомайскими колоннами высил¬
ся архитектурный лоб. Встречный ветер колыхал транспаранты, вдавливал и отпу¬
скал кожу на лбу — казалось, нарисованное лицо гримасничает собственным мыслям...
В иной, младенческой ипостаси вождь жил на красной октябрьской звездоч¬
ке. Золотой силуэт, словно сошедший с обложки книги о вкусной и здоровой пище,
осенял безмятежность нашего детства. Когда мы взрослели, вождь поворачивался
в профиль. Комсомольский значок вмещал его тисненый абрис с рельефной жилой
на шее и призывно вздернутой бородой. Он явно стоял против ветра, олицетворяя
не растраченную по пустякам жизнь. И этот путь от лупоглазого херувима к лысо¬
му титану должен был стать нашим путем - активным, самоотверженным и пря¬
мым. Сакральные фигуры Отца и Сына соединились в образе Святого Духа. Даже
будучи ангелоподобным и юным, он все равно оставался «дедушкой Лениным», де¬
миургом, патриархом, всеобщим родоначальником.
Официальная концепция эпохи предусматривала и иную степень родства.
Для 60-х, поспешно очеловечивших державные фигуры, Ленин был прежде все¬
го «старшим братом», первым среди равных, стратегом, умницей, гением аргумен¬
та. Он существовал не только потому, что мыслил, но и потому, что у него вдруг
обнаружилась мать, что рассуждал он не столько о захвате телеграфа и телефона,
сколько о романтическом счастье всего человечества, и, в отличие от своих пред¬
шественников 30-х годов, являлся по преимуществу в авантюрных, конспиратив¬
ных перипетиях дооктябрьской биографии.
Июль — роковой месяц 60-х.
Под июльским дождем растаял идеализм поколения - оттепельный мальчик
оказался пустельгой, прагматиком, человеком без свойств. В фильме Юлия Кара¬
сика Шестое июля Ленин извлекал из ящика стола заряженный браунинг. Не то
затем, чтобы отстреливаться до последнего, не то... Ответа мы так и не узнали, по¬
тому что за июлем последовал август, бросивший шестидесятническую вольницу
под гусеницы танков, на которых наши настоящие, некиношные старшие братья
въехали в Прагу. Самые отличившиеся вернулись оттуда с наградами - на них все
так же, против ветра, всматривался в будущее Ленин.
«Сеанс». 1992. № 7. Статья написана для специального номера, посвященного героям и мифам
поколения, чье детство пришлось на советские 60-е.
138
1988-1993
139
Кино на ощупь
140
Збигнев Цибульский в фильме Пепел и алмаз. Реж. Анджей Вайда. 1958
1988-1993
Мачек
Он явился из пепла и вернулся в пепел, но для нас навсегда остался алмазом. Он но¬
сил куртку джи-мена, тесные джинсы и грубые башмаки, он держал трофейный авто¬
мат, как винчестер, - на плече стволом вверх. Он умел стрелять, но не умел прятаться,
по-хэмфрибогартовски грыз спичку и по-хэмфрибогартовски же хранил на лице тень
смерти - экранной и настоящей. У него было смешное, почти детское имя Мачек и по¬
родистая на русский слух фамилия Хелмицкий, развинченная танцевальная пластика,
пухлые губы и под дымчатыми очками полуслепые глаза интеллигентного хулигана.
На родине Мачек-Цибульский умер дважды. В финале Пепла и алмаза и в ян¬
варе 1967-го, когда, измученный водкой и собственным актерским мифом, сорвался
с подножки ночного поезда. В советских 60-х он погиб только один раз — на городской
свалке, посреди объедков и тряпья, остановленный на бегу случайной пулей. Погиб
и тут же воскрес в собирательном образе тех, кого мы не видели, но чувствовали
и ждали. Бунтовщиков без причины, одиноких бегунов на длинную дистанцию, ново¬
волновых маленьких солдат... Марлона Брандо, Джеймса Дина, молодого Бельмондо...
Именно поэтому политический резонанс, сопровождавший Пепел и алмаз
в Польше (АК-овец, террорист и вдруг положительный герой, да еще освященный
национальной романтической традицией!), у нас почти не отозвался. Поэтому че¬
рез десять лет лишь немногие знатоки сумели оценить трагическую иронию филь¬
ма Всё на продажу — вайдовского реквиема по мертвому другу, обреченному на
смерть еще при жизни и доигравшему-таки свою первую и единственную роль до
конца. И хотя позже в нашем прокате были и Итальянец в Варшаве, и Девушка из
банка, и Рукопись, найденная в Сарагосе, столь содержательная для польского кино
мифологема Хелмицкий-Цибульский прошла у нас стороной, как прошла сторо¬
ной и реальная историческая канва раннего вайдовского шедевра, и та трагическая
цена, которую Мачек платил за свою судьбу вольного стрелка. В формуле «роман¬
тическая трагедия» советские 60-е безоговорочно выбирали романтику, а итого¬
вая смерть входила в условия игры вместе с антигероическими манерами, постхе-
мингуэевскими интонациями и спиртом, горящим в поминальных стопках. Миф
не может умереть дважды. В мифологии 60-х Збигнев Цибульский - восточноев¬
ропейский Джеймс Дин — погиб от пули, а не от водки.
И подарил спивавшимся в годы застоя шестидесятникам иллюзию того, что
и они гибнут от пули, выпущенной временем им в спину.
«Сеанс». 1992. № 7.
141
Кино на ощупь
Че Гевара
Он погиб в 1967. Через три года после того, как в Евангелии от Матфея Пазоли¬
ни придал Христу портретное сходство с ним. И за год до того, как читатели его
«Тактики партизанской войны» испытали полученные знания на баррикадах Пан¬
тера и Беркли. Романтик герильи, тусовщик именем революции, он играл только
в опасные игры - в пятнашки с пулями и в прятки со смертью. Эти игры не зна¬
ют правил, и победителей в них не бывает. Пуля догнала его на рассвете, в селении
с красивым названием Игера. Его убивали спящим. И не оттого, что рейнджеры, за¬
нятые очисткой боливийских джунглей от вооруженных идеалистов, боялись про¬
махнуться. Просто Эрнесто Че Гевара был слишком крупным идеалистом, чтобы
лишний раз смотреть ему в глаза. Уже мертвому ему отрубили кисти рук. Дакти¬
лоскопия должна была подтвердить то, с чем не справилась посмертная фотогра¬
фия - он выглядел на ней слишком живым. Он вообще хорошо получался на фо¬
тографиях. И к нам явился главным образом с портретов — нечесаный, бородатый,
с неизменной сигарой в зубах. Позже мы узнали и о боях на Рио-Гранде, и о побе¬
ге прямо из кабинета победившего правительства, о его голубой крови и о том, что
непрестанное курение было для него не шиком, а способом избавиться от мучи¬
тельных приступов астмы. В те времена мы еще не читали Кортасара, иначе зна¬
ли бы: частичка «че», навсегда прилипшая к его имени, есть не что иное, как лати¬
ноамериканская вариация шестидесятнического «старик», «друг», «кореш». Только
60-е с их повышенным игровым тонусом могли канонизировать эту величествен¬
ную в своей трагической нелепости фигуру святого и террориста, читателя Гете
и безумца, кроившего политическую карту мира на походные самокрутки. Эрне¬
сто Че Гевара погиб 9 октября 1967, не дотянув полугода до срока. В день его смерти
Джону Леннону исполнилось 27. Леннона убьют через 13 лет и два месяца... Весе¬
лая эпоха не пустила своих титанов в возраст зрелости, избавила от необходимо¬
сти итога. В той сакральной области, где все встречаются со всеми и где малость
результата искупается блеском намерения, они смотрят на закат, курят черные ку¬
бинские «сигариллос» и вполголоса напевают: «Дайте миру шанс».
«Сеанс». 1993. № 7.
142
143
1988-1993
Героический партизан (Эрнесто Че Гевара). Фот. Альберто Корда. 1960
Кино на ощупь
Цвет воздуха
После Александра Тимофеевского, разглядевшего под легкой вуалью утопии жест¬
кую мускулатуру тоталитарного мифа, о советских 60-х добавить нечего. Личность
растворяется в общей судьбе, лицо - в поколении. Ностальгия по последним ро¬
мантикам движется к финалу, к точке, к смысловому центру. «Драма людей, вы¬
шедших на трибуну на пятом съезде, заключается в том, что они искали свободы
для себя, а пришла свобода вообще», - написал Вяч. Шмыров в московском «Доме
кино». Середина замыкающегося круга найдена: любую цену свободы готов пла¬
тить лишь тот, кто не знает цены настоящей.
Пространственная полнота фигуры как будто располагает к обобщениям. Допу¬
щенные к саморефлексиям высочайшей волею эпохи хрущевские мальчики задохну¬
лись кислородом, который в избытке выделила им страна и который в первую очередь
окислил золотой фонд нации. История изготовила 60-е по чертежу саморазрушаю-
щейся машины Тенгели — их силовые линии направлены внутрь, они трагически не¬
антагонистичны и в конечном счете поражают мрачностью эскапистских тенденций.
Только в 60-е мог появиться альпинизм — овеянная черной романтикой секта игроков
со смертью. «Так лучше, чем от водки и от простуд», — споет потом Высоцкий, но это
неправда, не лучше. И не хуже. А всего лишь в общем ряду мучительной имитации
противостояния, которым послеоттепельная эра обделила своих детей и к вершинам
которого они на ощупь стремились из ослепительной горизонтали реальности.
Пространственный конфликт 60-х правильнее всего определить как распы¬
ление. Будто предчувствуя обстоятельства конца, десятилетие избрало символом
и субстанцией взвесь, парение, воздух. Не дорога, но пыль над дорогой. Не пей¬
заж, но повторяющий его туман. «А я еду, а я еду за туманом. За туманом и за за¬
пахом тайги», - цель романтического путешествия определяется веществом не¬
осязаемым и эфемерным. Аналогия срабатывает и выше: «На пыльных тропинках
далеких планет останутся наши следы!»
И дымы, легендарные дымы 60-х. Над комсомольской стройкой, над турист¬
ским костром, над культовыми трубками Эренбурга, Хемингуэя, Есенина... На
мундштуке трубки можно показать, как выглядели гроздья сирени, среди которых
истекал кровью, будучи солдатом (видевшие Июльский дождь вряд ли забудут этот
исполненный антигероической грации жест Юрия Визбора)...
И вошедшая в обиход сигарета - капризное продолжение руки. Косая струйка
дыма вводит в серый колорит шестидесятнического кадра дополнительную мяг¬
кую координату недомолвки и мерцания.
144
1988-1993
И общение - междусобойчик, треп, вечеринка. Помесь комсомольского собра¬
ния с вудиалленовскими посиделками на Манхэттене. Точечные касания, пуанты
над бездной подтекста, упоительный эквилибр.
И, конечно, Красный шар - кинометафора советских 60-х. Пустота обрамле¬
на хрупкой, эксцентричной красотой, и одно не живет без другого. Пробитая обо¬
лочка сморщивается в жалкий лоскут, воздух умирает с почти клиническими по¬
дробностями - не потому ли вся советская новая волна отдала дань поэтической
сказке Ламориса, что увидела в ней образ раненого дыхания, драматургию уязви¬
мого ничто.
Кинопространство 60-х впервые за всю историю советского кино не идеально,
а натурально, равно самому себе и в себе же исчерпано. Авангардисты 20-х, подчи¬
няя жизнь искусству, искали образы, сдвиги, графические доминанты. Жрецы зо¬
лотого сталинского века мыслили пластическими категориями сбывшегося буду¬
щего - отсюда сельские избы, похожие на дворцы, и парадные залы, снабженные
растительным орнаментом. Отсюда же — квартиры-анфилады, почти обязатель¬
но выходящие окнами на Красную площадь, к центру мироздания, всевидящего
и всевидимого.
У этих интерьеров по существу не было границ. Словно в сновидческом Анда¬
лузском псе жилища размыкались прямо на улицы, в большую общую жизнь. Вме¬
сте с новым измерением человека постсталинская эстетика открыла для себя сте¬
ны. Например, роммовские 9 дней... помимо прочего — еще и антология перегородок:
квартирных и официальных, естественных, бревенчатых, как в избе отца, и искус¬
ственных, синтетических, как в смертоносном чреве реактора. Крохотный Гусев,
бредущий в финале вдоль огромной и бесконечной стены, - апофеоз космизма 60-х,
приватизировавших глобальные зоны пространства до осязаемого противостояния.
На другом полюсе - березовые накаты блиндажа из Иванова детства, граница
между войной и покоем, между необходимостью умереть и потребностью принять
смерть как нечто большее, нежели строка в реестре потерь. Граница, выкроенная из
потолочной балки небес, из восходящих к воздуху кружевных конструкций. Стены
образуют дом. Новостройка - генеральный символ рубежа 60-х. Новая улица, но¬
вый квартал, новое жилище венчают и сюжет, и личную судьбу. Весну и наступаю¬
щее вслед за ней долгое счастливое лето герои встречают рука об руку на пороге
просторной светлой квартиры, обрекающей их на бесконечную радость вдвоем. Но
это миф, фикция. Дело даже не в том, что сегодня каждое второе объявление в жил-
обмене заканчивается фразой «хрущобы не предлагать», ибо частные апартамен¬
ты строителей коммунизма задумывались как времянки с ограниченным сроком
годности. Дело в том, что новые стены, ограждающие суверенную жизнь от вме¬
шательства извне, воздвигались соборно, сообща, всем миром. Первым движением
новоселов Высоты или Весны на Заречной улице было распахнуть окно и крикнуть
145
Кино на ощупь
Застава Ильича (Мне двадцать лет). Реж. Марлен Хуциев. 1964 / 1988
наружу что-то бодрое, звонкое, утверждающее. То, что будет подхвачено стоящими
внизу и разнесется по миру от одного хорошего человека к другому. И стена здесь
никак не помеха, а скорее резонатор, усилитель чувства общности и сопричастия.
В неореалистической традиции, безусловно, питавшей поиск постоттепельно¬
го кино, коллектив не претендовал на стены. Соседи объединялись лишь для того,
чтобы подвести уже построенное здание под крышу (так и назывался знамени¬
тый фильм Де Сики). Обозрев в «Поэтике пространства» мотив жилища — «прибе¬
жища интимности», Гастон Башляр трактует возведение наружной стены как пер¬
сональное мужское дело. Но как раз это маскулинное начало и мистифицируется
братством, общностью, массой. И наоборот — мятущийся красавец-индивидуалист
Матвей из Дело было в Пенькове добивается взаимности, лишь вогнав свой гвоздь
в общую стену...
Подобно тому, как стена в кинематографе 30-х служила главным образом
стендом для любовно вырезанного из «Огонька» портрета отца народов, стены на¬
шего детства по преимуществу не впитывают, а отражают. Воздух, свет, звук. Их
многократное повторение и зримое эхо составили портрет эпохи, ее физиогноми¬
ку и характер. Воздух заполняет жилище изнутри. Согласно тому же Башляру, ин¬
терьер обживает женщина, но новая квартира, как правило, пуста, в ней вольготно
располагаются поэзия и свобода, но не приживается мебель.
146
1988-1993
Дом, в котором я живу. Реж. Лев Кулиджанов и Яков Сегель. 1957
Сегодня мало кто вспоминает среднеметражный игровой дебют Отара Иосе¬
лиани Апрель. Двое входили в пустой дом, им светило солнце, для них звучала
музыка и пели птицы. Идиллию нарушали зловещие черные пришельцы — с ме¬
тодичной сноровкой они набивали дом разномастными столами, сервантами и фи¬
кусами. Погрузившись в ад вещей, сказка умирала — ей на смену приходило удуш¬
ливое пространство быта. Пространство без воздуха, а значит, без любви.
Так замыкается второй круг. Воздух мстит предмету, атакует своей неосязае¬
мой силой осязаемую, но такую бессильную фактуру. Задумывались ли хрущев-
ско-розовские мальчики, рубая дедовской шашкой мещанские мебеля, что мол¬
чаливый до поры клинок обретает голос, соприкоснувшись с воздухом, извлекая
из его рассеченной плоти ритуальный вопль оборванной жизни? Видели ли себя
в разбитом недрогнувшей рукой зеркале времени?..
Впрочем, когда в статье, посвященной пространству, появляется слово «вре¬
мя», статья не нуждается в продолжении...
«Сеанс». 1993. № 7.
147
Кино на ощупь
Глаза шестидесятых
Издавна красота обитала в гармонии, в спокойном равновесии частей. Число аб¬
солюта ноль, поэтому соразмерность не знает собственной величины, а идеал -
не уживается с индивидуальностью. Канон прекрасного лица — это как будто и не
лицо вовсе, а магия пропорций, порядок целого, - отсюда поднималась над време¬
нем ледяная маска Греты Гарбо; маска, доводящая до безумия своим недоступным
совершенством.
Канон изжил себя к началу 60-х. Мэрилин Монро можно было только выду¬
мать. Изнемогая от собственной чрезмерности, Мэрилин просилась обратно — на
журнальную обложку, в комикс, на рекламный плакат. Время сжалилось над за¬
плутавшей пин-ап герл - девушкой с открытки. Лишь ценою смерти вернулась она
в породивший ее мир глянцевой фотографии, где статика и двумерность худо-бед¬
но примиряют с мыслью о том, что эта фантастическая плоть когда-то существо¬
вала въяве.
Похоронив М. М., 60-е так и не догадались, что вместе с почти карикатурной
секс-богиней их навсегда покинул Абсолют. Ему на смену шел слом, сдвиг, ак¬
цент. Даже самые совершенные лица 60-х не самодостаточны, они рождены при¬
хотливой игрой внешности и того, что этой внешности предшествует, окружает
ее и ожидает. Пространство, стихия, судьба... Ветер, растрепавший прическу Ба¬
бетты, или слеза, блестящая в близоруком взгляде Моники Витти, или неожидан¬
но жесткий прищур Кардинале. В этих лицах есть секрет, шифр, сюжет сквозно¬
го действия, они оживают под взглядом, они невозможны без отражения - но не
в бесстрастном зеркале вечности, а в чужих глазах, чужих лицах, в страсти, жела¬
нии, презрении, мимике, поступке или преддверии поступка. Смеющаяся Гарбо
почти ужасна, как может быть ужасен смеющийся мрамор. Лица 60-х «вспомина¬
ют» о выражении, даже оставаясь неподвижными.
Глаза на этих лицах не просто отказываются смотреть внутрь и не просто об¬
ращены вовне — они стремятся прочь с лица. Вошедшая в моду линия превраща¬
ет глаза в нечто летучее, изогнутое, живое. В стрелы или в черных бабочек. «Про¬
ведите тонкую черту от внутреннего угла века к внешнему краю, слегка расширяя
линию. Ваши глаза неожиданно улыбнутся и все лицо засияет», — учил модный
журнал «Вог». Романтически настроенный Запад в который раз обращался к Во¬
стоку, на чьем пестром ковре женщина выглядит природой, негой, экзотическим
цветком. Текучие глаза 60-х оттуда - из волшебных ночей Шехерезады, из ориен¬
тальной поэзии и запутанных сказок. Шестидесятые отправляли своих красавиц
148
1988-1993
149
Кино на ощупь
150
1988-1993
и в путешествия по времени. Макияж тейлоровской Клеопатры или героинь поль¬
ского Фараона выглядит так, будто древние египтянки гримировались по рецеп¬
там «L’art et la mode». В доисторическом Миллионе лет до нашей эры Ракел Уэлч
больше похожа на манекенщицу из Сохо, чем на жительницу каменного века.
Плавный рисунок глаз венчает общий контур времени. В почете физиогноми¬
ка с погрешностью против классической нормы - от эффектных ошибок в лицах
суперзвезд до очаровательных помарок во внешности звездочек. Неровные зубы
и спутанная челка Б. Б., громадный рот Софи Лорен, почти сократовский лоб Жан¬
ны Моро. Их черты раздражали бы в интерьерах, но 60-е выводят своих героинь
на улицы, сажают на самолеты и яхты, в приземистые, словно облизанные встреч¬
ным воздухом, автомобили. Кинодивы прошлого передвигались главным образом
на поездах; случись им оказаться на корабельной палубе - и море отступало назад,
на второй план, пряталось в рирпроекции, боясь смутить своим дыханием скульп¬
турные складки одежды и волосок к волоску уложенные прически. Не потому ли
60-е, по существу, отказались от амплуа вамп, что роковая красота требует застыв¬
шего, безвоздушного пространства, где сама близость только удаляет от образа, со¬
творенного из соблазна и мечты. Шестидесятые соблазнялись другим - движени¬
ем, жизнью, танцем, естественной страстью и секретом живого чувства.
Отбросив наследие «большого стиля», советские 60-е занялись лепкой неклас¬
сических лиц. Высокие скулы Татьяны Самойловой, взлетающие к вискам глаза се¬
стер Вертинских, обиженный взгляд Лавровой. Кустинская, Величко, Володина...
Лучшие свои роли эти звезды оставили в подарившем им облик времени - рубеж
десятилетия перешагнули немногие. Семидесятые позабудут резкий, графичный
абрис Марианны Вертинской и всмотрятся в плавные линии лица Анастасии. При
их фамильном сходстве вне времени окажется гармоничный канон.
В 70-е станет ясно, что у Анны Карениной не может быть лица Самойловой...
Кто-то перейдет на возрастные роли, кто-то просто исчезнет...
Вместе с ними постареют и уйдут 60-е — запоздалое детство столетия. В гон¬
ке со временем побеждает вечность — и до, и после в кино и в жизни были и будут
лица совершеннее, красивее, значительнее. Но живее уже не будет.
«Сеанс». 1992. № 7. Статья написана в соавторстве с Кариной Добротворской.
151
Кино на ощупь
Папа, умер некрореализм
То, что некрореализм, каким мы его знали, подходит к концу, было ясно уже два
года назад, когда с маркой «Ленфильма» появились юфитовские Рыцари поднебе¬
сья. Прежний некрореализм был нагл, брутален и, несмотря на декларативную за-
могильность, поразительно жизнерадостен. Его короткометражная фильмография
отличалась афористичностью формулировок и походила на перебранку в каком-
нибудь специфически мужском месте, в бане или у пивного ларька: Санитары-обо¬
ротни, Мочебуйцы-труполовы, Вепри суицида... Наконец, классика стиля была про¬
граммно бесстильной и восходила к анонимному слою позднесоциалистического
фольклора, овеществленному в образах «жмуриков» и «пидарасов».
Некрореализм начала 80-х, по существу, явился здоровой рефлексией народ¬
ной культуры, изживающей застойные табу в гротесковой пляске смерти. Рыца¬
ри поднебесья скорректировали ее авторской интонацией. В былой какофонии по¬
явились тяжелые и звучные ноты: скупой пафос гомосексуальной страсти, поэзия
бессмысленного подвига и движение по замкнутому кругу. Тут-то и стало понят¬
но, что, во-первых, некрореализм дал эффект главным образом общественно-те¬
рапевтический — сколько ни тверди про говно, что это говно, по шкале эстети¬
ческих ценностей оно все равно остается на нулевой отметке. А во-вторых, что
наследие героического периода стремится в некое новое качество.
Папа, умер Дед Мороз — конец некрореализма хотя бы потому, что, подобно
собственным героям, то и дело выбивающим у себя из-под ног опору и повисаю¬
щим в вычурных позах, Юфит спрыгнул со своего надежного постамента — про¬
думанной установки на скандальное ниспровержение устоев (допускаю, впрочем,
что акция носила недобровольный характер — просто устоев больше не осталось).
Во всяком случае, новая история разыграна на нейтральной территории, вне вто¬
ричного культурного пантеона — всех этих военных-альпинистов, летчиков-геро¬
ев и разведчиков-самоубийц. Им на смену пришел Дед Мороз, персонаж патри¬
архальный, отсылающий к толще архаических представлений. Соответственно,
и дедушка-вурдалак, перекусавший к чертям собачьим все семейство, — образ куда
более архетипический, чем мужики в тельняшках, предающиеся однополому сек¬
су на железнодорожных путях.
Из чащи авторских инстинктов, судя по всему, не менее дремучих, чем не¬
дра пралогической символики, прискакала в «Деда Мороза...» мышка-полевка. Ге-
рой собирается написать о ней рассказ, но, наверное, так и не напишет, потому что
на свою голову отправляется в деревню и попадает там в жуткую историю. В ход
152
1988-1993
Папа, умер Дед Мороз. Реж. Евгений Юфит. 1991
идет обойма фирменных юфитовских гэгов: герою набивают рот ватой, пеленают
в длинные бинты и если не подвергают лютому надругательству прямо в кадре, то
делают это где-то очень близко за кадром. В финале обессилевший горе-писатель
катит в дрезине непонятно куда и попутно переезжает колесами мальчика, томно
положившего шею на рельсы. Мальчика жалко, но не очень, потому что в вещем
сне, приснившемся герою в прологе фильма, этот мальчик вместе с безногим де¬
душкой цинично мародерствовал над трупом водопроводчика, удавленного в ка¬
нализационном туннеле.
Таким образом круг (любимая юфитовская композиция) замыкается. Все или
почти все персонажи добиваются искомого летального исхода, а по экрану после
титра «вскоре похолодало» бредет вереница мужиков в одинаковых черных костю¬
мах. Дабы блеснуть интерпретацией, замечу, что открывает это шествие мужик,
смахивающий на Ельцина, а замыкает — вылитый Годар. Кто интересуется, пусть
ищет потаенные смыслы.
Выйдя из охранительного круга эпатажа и скандала, Юфит и его соавтор Вла¬
димир Маслов тут же наследили на узкой, полузатоптанной, но вполне еще раз¬
личимой тропе кинематографической традиции. На тропе, по которой сравни¬
тельно недавно прогуливались молодой Дэвид Линч и таинственный венгр Джим
Джармуш. В целом же Папа, умер Дед Мороз больше всего похож на ночной бред
153
Кино на ощупь
Брессона, неосторожно посмотревшего Ночь живых мертвецов Джордже А. Роме¬
ро. Негоже фамильярничать с классиками, но для полноты метафоры стоит доба¬
вить, что во время просмотра Брессон был сильно пьян и вернулся к увиденно¬
му в состоянии тяжелого похмелья. Только так можно объяснить тягучее серое
кино с невыразительными акцентами на слабых долях, экранизацию подсознания
в унылых формах обыденной реальности, кино наступательных комплексов и ску¬
ки, возведенной в разряд еще большей скуки, и всего остального, что составляет
внешность некрореализма, пережившего собственную смерть.
Статичные глубокие кадры нехотя сменяют друг друга, и временами создает¬
ся ощущение, что оператор по ту сторону камеры просто заснул (виноват - умер)...
По лесной реке, ворочаясь на поворотах, плывет кол, который герои-дебилы об¬
ронили вместо того, чтобы, как положено, воткнуть в кишки вампиру. Сам вам¬
пир вскакивает среди ночи и палит из ружья в белый свет, как в копеечку, тупые
пейзане кувыркаются на лугу, а застолья напоминают коллективный прием тран¬
квилизаторов в психиатрической больнице. Глобальная онтологическая тоска этих
сцен обнажает их бесспорную укоренелость в национальном менталитете, одна¬
ко, при ближайшем рассмотрении, выдает еще одну - вероятно, главную — автор¬
скую интенцию.
В фильмах отца некрореализма часто присутствует мотив провокации-под¬
глядывания. Многочисленные потасовки, изнасилования и самоликвидации уви¬
дены извне, с дистанции, когда камера как бы отождествляется со взглядом сторон¬
него наблюдателя, в оргаистических судорогах переживающего чужой беспредел.
И если для вуайера Хичкока высшим наслаждением было подглядывание за сво¬
ими персонажами сквозь съемочный визир, то ось взгляда вуайера Юфита направ¬
лена в обратную сторону. Настоящие статисты его макабрических эскапад не те,
кто откручивают друг дружке головы на экране, а те, кто, опупев от нелепицы, смо¬
трят на это из зала. Почти как в известном анекдоте про французский бордель: за¬
няться любовью стоит денег, подсмотреть за теми, кто занимается любовью, стоит
больших денег, а подсмотреть за теми, кто подсматривает, стоит целое состояние.
За зрителями ...Деда Мороза подсмотреть стоит — что-что, а полноценное опу¬
пение картина вызывает. Евгений Юфит смог уберечь свой творческий капитал от
всепоглощающей инфляции шоковых средств. И хотя вместе с коротким метра¬
жом и узкопленочной техникой канули в прошлое небритые соратники, активно
задиравшие благонамеренную публику, некрореализм, каким мы его еще не зна¬
ли, - жив. Потому что покойника нельзя убить дважды.
«Сеанс». 1993. № 7.
154
1988-1993
Фильм Чапаев: опыт структурирования тотального реализма
Говоря об искусстве 30-х годов, мы предлагаем конкретизировать широко бытую¬
щий ныне термин «мифотворчество» в понятии «тотального», «всеобщего» реализ¬
ма. Здесь обнаруживается главная характеристика реалистического метода — его
претензия на абсолютную и окончательную достоверность изображаемого, обяза¬
тельного для всех правдоподобия, что в принципе характерно для классическо¬
го мифа, трактующего мир в безусловных, совершенных формах, превосходящих
опыт и логику
Чапаев братьев Васильевых — впечатляющий пример полностью реализован¬
ных возможностей тоталитарной эстетики. Настоящая работа, впрочем, не претен¬
дует на аргументацию в развернувшемся споре о том, насколько соответствует на¬
стоящий В. И. Чапаев легендарному персонажу советской мифологии, насколько
заслуженно причислен он к героическому пантеону. Это задача историков, наша
же цель - проследить процесс превращения реальной личности в культурного ге¬
роя, действительности — в миф. Каким был Чапаев в жизни, нам, быть может, еще
предстоит узнать. Ясно одно - несколько поколений советских людей воспринима¬
ют как историческую данность экранный характер, созданный Васильевыми и Ба¬
бочкиным в русле идейных задач своего времени.
Основания для этого дают сами авторы картины, писавшие: «Произошла ин¬
тереснейшая в творческом отношении вещь, когда мы, не желая копировать Чапае¬
ва, не желая давать его фотографически, воссоздали его, потому что образ соеди¬
нил в себе все типические черты, которые неотъемлемо должны были быть
присущи Чапаеву. Мы пришли к познанию действительной, реальной
правды этого человека...»1 (в обоих случаях разрядка моя. — С. Д.).
Из этих слов явствует, что отправной точкой в творческом поиске режиссеров
была не реальность персонажа, но типические представления о нем, не действи¬
тельность, но «познание» действительности. Иными словами, здесь срабатыва¬
ет высшая форма тотального реализма, позволяющая овеществлять в типических
чертах то, чего может и не быть на самом деле.
Доказательством этой гипотезы является тот безусловный факт, что открытие
«реального» Чапаева произошло именно в картине Васильевых, а не в одноимен¬
ном романе Фурманова, написанном на 12 лет раньше. Фурманов собрал харак¬
тер Чапаева из собственных частных наблюдений, из впечатлений о «реальном»
1 Братья Васильевы. Собр. соч. в 3 т., т. 2. М., 1982, с. 140.
155
Кино на ощупь
человеке. Исходная же посылка Васильевых, напротив, заключалась в «идеально¬
сти» образа, то есть лишь в формальной соотнесенности с человеком, называв¬
шимся Чапаевым в жизни. Следует предположить (и подтверждение этому мы
находим в многочисленных записях и высказываниях авторов фильма), что ссыл¬
ка на экранизацию книги Фурманова, на воспоминания боевых товарищей Ча¬
паева служила лишь поводом для ориентации на персонаж, во всех отношениях
вымышленный.
Так, в статье «Чапаев» Фурманова и «Чапаев» на экране» братья Васильевы
признавались: «Фурманов дал нам много намеков. Мы пользовались ими очень
произвольно»2. В заметках к постановке фильма режиссеры указывали: «Герой кар¬
тины — легендарный Чапаев. Мало кто о нем знает. Каким он был на самом деле -
почти никто не знает. А представление о нем какое-то есть: герой — это все знают»3.
Каким должен быть герой, в то время действительно знали все. «Герой» - кли¬
ше «политического письма», которое, по замечанию Ролана Барта, описывает «ис¬
торию как идеологию», а в процитированном выше высказывании позволяет Ва¬
сильевым, не заботясь о логике, назвать Чапаева «легендарным» и тут же признать:
«Мало кто о нем знает». Однако легенда важнее человека. В условиях тотально¬
го реализма осуществляется парадоксальная процедура: миф персонифицирует¬
ся в конкретную фигуру.
Интересно, что дети Чапаева, приглашенные режиссерами консультировать
картину, поначалу отказали Борису Бабочкину в сходстве с отцом, однако впослед¬
ствии, «убежденные» общим героическим строем фильма, признали Чапаева на
экране4. Именно этот облик и отложился в отечественном сознании как канони¬
ческая внешность легендарного военачальника. Причем отложился в наборе ха¬
рактерных атрибутов. Чапаев ассоциируется с усами, буркой, папахой. Братья Ва¬
сильевы, словно сознательно закладывая фундамент мифа, манипулировали уже
существующими мифологемами. Их подробное перечисление заняло бы слишком
много места и открыло бы простор слишком вольным ассоциациям, поэтому огра¬
ничимся лишь несколькими примерами.
Чапаевские усы повторяют форму усов популярного Макса Линдера. Бурка
заимствована из кавказского фольклора, обладавшего к середине 30-х годов из¬
вестными конъюнктурными преимуществами. Демократические, на грани скомо¬
рошества, манеры руководства, ужимки и словечки Чапаева проецируют его образ
на легенду о Суворове, чей полководческий авторитет в период создания фильма
всячески пропагандировался, а опыт — поощрялся.
2 Братья Васильевы. Собр. соч. в 3 т., т. 2, с. 131.
3 Там же, с. 139.
4 Там же, с. 140.
156
1988-1993
157
Чапаев. Реж. Георгий и Сергей Васильевы. 1934
Кино на ощупь
Из этого следует, что фильм, являющийся даже в авторском замысле воль¬
ной вариацией на тему героя, в условиях господства радикальной идеологии
был воспринят как абсолютная реальность. Благодаря работе Васильевых Ча¬
паев состоялся в общественном сознании, обладавшем до той поры только ин¬
формацией о «реальном» (а стало быть, и несуществующем) человеке. «На¬
стоящим» стал культурный герой, приобщенный к идеологической концепции
эпохи.
Большое количество произведений о Чапаеве возникло на всех наличествую¬
щих уровнях культуры уже после появления фильма на экранах. Образ Чапае¬
ва как бы пронзил слои культурной иерархии 30-х годов - от низового народного
фольклора до элитарной поэзии. Причем, как убедительно показал в своей рабо¬
те В. Сидельников, многие из этих сочинений заимствовали сюжетный материал
фильма в качестве документальной основы5.
Сравним для примера сцену гибели Чапаева в фильме и в интерпретации кол¬
хозного хора Новокузнецкого района Саратовской области.
Вот как записана сцена в литературном сценарии Васильевых:
«На берегу Урала мечутся люди.
На волнах реки виднеются фигуры плывущих на тот берег.
Петька, поддерживая раненого Чапаева, осторожно сводит его с обрыва.
Земля осыпается под ногами...
Петька напрягает все силы и кричит:
— Чапай ранен!.. На тот берег его!
Красноармейцы бросаются на помощь.
Окружают Чапаева.
Осторожно спускают его к реке.
Петька, пятясь спиной, прикрывает товарищей...»
И далее:
«Белые обстреливают Чапаева.
Красноармеец, плывущий рядом, вскрикнул...
погрузился в воду.
Чапаев напряженно работает рукой.
Петька выпускает последнюю пулю...
Чапаев напрягает последние силы.
- Врешь!.. Не возьмешь!..
5 Сидельников В. Писатель и народная поэзия. М., 1974.
158
1988-1993
Петька щелкает затвором,
вскакивает и бросается к Уралу.
В ту же минуту несколько пуль пробивают ему спину
Он делает еще шаг и падает у самой воды.
Плывет Чапаев.
Пулемет поливает воду пулями.
Петька делает отчаянное усилие, приподнимается на локтях и снова
падает.
Чапаев ослабел... Уже близко берег...
Белый пулеметчик сужает круг...
Поднялось над водой лицо Чапаева.
Показалась голова... и скрылась в водах Урала»6.
А вот как описывается эпизод в народной песне:
«...Петька лег, не отступает,
Метко пули шлет.
Поперек реки Чапаев
Раненый плывет.
До последнего сражаться,
А затем в штыки!
Косит Петьку-ординарца
Пуля у реки.
...Громкий выстрел, скачут кони.
За околицею свет.
Кто уходит от погони?
Почему Чапая нет?
Знать, обдумывали дело,
Обошел казачий сброд.
Кто же там в рубахе белой
По реке Урал плывет?
Будь же проклят, черный ворон,
В поле к белому ступай,
У меня на сердце горе —
Тонет, тонет наш Чапай»7.
Братья Васильевы. Собр. соч. в 3 т., т. 2, с. 127-128.
Цит. по сб.: Чапай. М., 1938.
159
Кино на ощупь
160
Эпизод «Гибель Чапаева». Чапаев. Реж. Георгий и Сергей Васильевы. 1934
1988-1993
Как видно, дублируется не просто канва эпизода, но и динамика кадра, ракурс,
условная «крупность», монтажные переходы фильма. С вымышленной сцены слов¬
но снимаются свидетельские показания, художественная версия приобретает ста¬
тус документальной съемки.
В ином культурном контексте к образу Чапаева обратился О. Э. Мандель¬
штам. По свидетельству Э. Г. Герштейн, в мае-июне 1935 года им был написан
целый «чапаевский» цикл, из которого до настоящего времени сохранились
лишь два стихотворения. Одно из них является пересказом двух сцен филь¬
ма - каппелевской атаки и ставки Бороздина. В другом поэт осмысляет соб¬
ственную судьбу (12 мая 1934 года он был арестован) через экранный образ
Чапаева:
«Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой.
За бревенчатым тыном, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего»8.
По верному замечанию Н. Зоркой, «чапаевские» стихи Мандельштама дают
«знаменитому фильму дополнительный ракурс и координату времени дальней¬
ших исторических судеб чапаевской вольницы»9.
В чем эта координата? Вероятно, в том, что бытование Чапаева на столь раз¬
ных культурных уровнях демонстрирует специфику бытования мифа в массиве
тоталитарной культуры. Именно фильм стал мощным генератором фольклорной
чапаевской волны.
На его основе были созданы сказка М. Коргуева «Смерть Чапаева», былина
М. Крюковой «Чапай», «Былина о Чапаеве» Т. Туроева, сказка А. Филониной «Жив
Чапай», былина северного сказителя П. Рябинина. Только после выхода фильма по¬
явились песни профессиональных композиторов и поэтов: «Песня 25-й дивизии»
А. Суркова и Ф. Климентова, «Гибель Чапаева» М. Долинова и Л. Васильева-Буглая,
«Песня о Чапаеве» С. Болотина и А. Новикова.
Работа Васильевых утвердила в общественном сознании и окончательную
версию о гибели Чапаева в водах Урала. До той поры версия базировалась лишь на
том, что тело легендарного комдива не было найдено после боя. В 20-е годы всерь¬
ез обсуждались и другие гипотезы. Так, в 1926 году, то есть, что особенно важно,
после выхода в свет книги Фурманова, излагающей версию утопления, в «Правде»
8 Цит. по: Зоркая Н. Страшное, правдивое и мстительное искусство. Осип Мандельштам о кинематографе. -
Искусство кино, 1987, № 94, с. 95.
9 Там же.
161
Кино на ощупь
появилась публикация, красноречиво озаглавленная «Арест убийцы Чапаева».
В ней сообщалось, что пензенскими сотрудниками ГПУ «арестован колчаковский
офицер Трофимов-Мирский, убивший в 1919 году попавшего в плен пользовавше¬
гося легендарной славой начальника дивизии тов. Чапаева. Мирский служил сче¬
товодом в артели инвалидов в Пензе»10 11.
Версию утопления с осторожностью принимал и сам Фурманов, хотя и ис¬
пользовал ее в финале своего романа. Однако с выходом на экраны фильма смерть
Чапаева в уральских водах обрела права исторической реалии настолько, что
И. С. Кутяков, соратник Чапаева и один из наиболее добросовестных его биогра¬
фов, включил этот эпизод в свою документальную книгу11.
В чем же состоит воистину магическое действие фильма братьев Васильевых
на умы современников и на грядущие поколения? Выше мы пытались показать, ка¬
ким образом концепция тотального реализма восходит к мифологическому значе¬
нию. Теперь попробуем проследить, как соотносятся идеологическая задача кар¬
тины и ее структура.
Миф — прямой и естественный продукт тотального реализма, объявляющего
действительность завершенной и застывшей.
Обращаясь к эстетике 30-х годов, мы обнаруживаем в ней именно такую ста¬
бильную космогоническую модель мира, где находится место для демиурга-ос¬
нователя (Ленин) и его наместника на земле (Сталин), где присутствует миф
творения (революция и Гражданская война) и наступившего «золотого века» (со¬
временность), где формируется пантеон героев и их антагонистов (миф «вреди¬
телей»). Сама идеология становится мифологией, формируя особого рода ми¬
роощущение, близкое к архаическим представлениям о мире и месте человека
в нем.
В этой ситуации идеология поглощает и историю, переписывая ее сообразно
требованиям «социального заказа». «Заказ» своей работы братья Васильевы сфор¬
мулировали так: «Необходимо было, поднимая до легендарности образ Чапаева, за¬
ставить зрителя продолжать ему верить как человеку, который может для нас по¬
служить примером»12.
10 Правда, 1926, 10 февр.
11 Кутяков И. Василий Иванович Чапаев. М., 1958. Споры об обстоятельствах гибели Чапаева, однако,
не затихли. В 1964 году H. А. Мальцев, ссылаясь на данные венгра-интернационалиста Ф. Кульчара,
выдвинул версию, согласно которой легендарный комдив был убит в перестрелке и похоронен соратниками
в районе Уральска (см.: Советский воин, 1964, № 6). В 1967 году свидетельство Ф. Кульчара подтвердил еще
один очевидец, его однополчанин Веселии Марков. (См.: Марченко В. Где похоронен Чапаев? — Красная
звезда, 1989, 2 сент.; Мальцев Н. Чапаев не утонул!.. - Красная звезда, 1990, 18 авг.)
12 Братья Васильевы. Собр. соч. в 3 т., т. 2, с. 142.
162
1988-1993
Здесь был и далекий стратегический смысл, обусловленный общей идеологи¬
ческой ситуацией времени, - перераспределение исторических фигур. К. Симо¬
нов вспоминал, что «в свое время Сталин сначала поддержал Чапаева, а вслед за
тем выдвинул идею фильма о Щорсе. И Чапаев, и Щорс были подлинными героя¬
ми Гражданской войны, но при этом, с точки зрения общих масштабов, были, ко¬
нечно, фигурами второго плана13.
«И поддержка Сталиным фильма Чапаев, и его идея фильма о Щорсе при¬
шлись на ту пору, когда фигуры первого плана, занимавшие высокие посты в со¬
временной армии... были предназначены к исчезновению из истории Гражданской
войны, - не просто к исчезновению из жизни, а к исчезновению из истории»14.
Экранный Чапаев, таким образом, — персонификация идеологической уста¬
новки. Чапаев стал исторической реальностью благодаря причастности опреде¬
ленной идее. Его «человекоподобие» в известном смысле сводилось к посредниче¬
ству между идеологией и ее возможными адресатами.
Нас, однако, интересует другое - каким образом осуществляется идеологическая
установка на архетипическом уровне «коллективного бессознательного», к которому
активно апеллирует искусство 30-х годов и особенно кинематограф. Это закономер¬
но - идеология настолько смыкается с мифологией, что выражает себя в очищен¬
ных, архаических образах, прорываясь к глубинным, «доопытным» представлениям.
Очевидно, что идейная концепция Чапаева — противостояние народной сти¬
хии и революционного порядка, анархической вольницы и железной дисципли¬
ны - восходит к основополагающей оппозиции мужского и женского, где массы
олицетворяются в женском начале — природе, чувстве, душе (анима), а сплотившая
их революция в начале мужском - силе, организации, культуре, духе (анимус). За¬
ложенная еще в 20-е годы традиция показа масс через женское, «многое», бесфор¬
менное торжествует и в период 30-х. Организующая сила революционной идеоло¬
гии воплощается - напротив — в уникальном, мужском.
В этом смысле фигура самого Чапаева существует в фильме как медитатив¬
ная, посредничающая. Он в равной степени принадлежит обеим стихиям: по отно¬
шению к своим бойцам выступает как инициатор, организатор, «агрессор», однако,
сталкиваясь с Фурмановым - «демиургической инстанцией», посланцем «высшей
идеологии», обнаруживает, очевидно, подчиненные, женские черты.
Сложность характера, сыгранного Б. Бабочкиным, для нас значительна имен¬
но тем, что его человеческие качества демонстрируют «одновременность» на обо¬
их полюсах мифа, а стало быть, - посредничество в мифологическом слое фильма.
13 Фигура Щорса - «украинского Чапаева» - уже подвергалась основательной ревизии. См.: Николай Щорс -
легенда и реальность. — Искусство кино, 1990, № 9.
14 Симонов К. Глазами человека моего поколения. - Знамя, 1988, № 4.
163
Кино на ощупь
С одной стороны, Чапаев — отец-командир. С ним ассоциируются порядок
и справедливость. Патерналистская роль Чапаева особенно видна в дуэте Анка -
Петька, чьи квазисексуальные отношения наводят на мысль о близнечной паре, со¬
провождающей мессию. Антагонист Чапаева — полковник Бороздин — заявлен как
раз в обратном качестве. Подвергая экзекуции брата своего денщика, он разрушает
пару и обнаруживает антипатерналистскую тенденцию.
Тем самым в фильм вводится еще один важный мотив: Чапаев, будучи выход¬
цем из народа, доводит свою миссию до конца, а Бороздин при всем его культур¬
ном антураже (манеры, музицирование при свечах) оказывается «ложным отцом»,
дети которого перебегают в ряды чапаевцев. В свою очередь, перебежчик может
быть рассмотрен и с точки зрения мифологического образа «блудного сына», нако¬
нец-то обретшего пристанище.
Рядом с Фурмановым Чапаев оборачивается женской ипостасью. Важно отме¬
тить, что сам комиссар, проводник идеологии, осуществляется словно «вне» пола,
чем, очевидно, вписывается в портретную киногалерею коммунистов 30-х годов
с их доведенной до стерильного абсолюта маскулинностью.
Под категорию пола здесь скорее попадает сама коммунистическая идеология,
рисующаяся жесткой, подчиняющей иерархией истины. Ее носители наделены не
витальной силой, но духовной мощью. Они — всего лишь каналы передачи верхов¬
ного знания, своего рода совершенные ангелы духа.
Именно это обстоятельство выделяет противоположность в мужской энерге¬
тике Чапаева. В спорах и беседах с Фурмановым он будто делегирует ведомую им
вольницу. Бабочкин акцентирует взвинченную, эмоциональную манеру Чапаева,
его уязвимость перед несокрушимыми доводами комиссара.
Напомним, что важной претензией Фурманова к Чапаеву становится вне¬
шний вид последнего. При Фурманове комдив «рассупонивается», снимает пор¬
тупею, выпускает гимнастерку из-под ремня (то есть приобретает бесформенную
«женскую» внешность). Вместе с тем, в предыдущих эпизодах он выступал перед
бойцами в полной командирской амуниции, ибо в массовых сценах олицетворял
«мужское», структурированное начало.
Выходя победителем в идейных спорах с Чапаевым, Фурманов как бы санк¬
ционирует его мужской облик, вкладывает в него идейное содержание, после чего,
выполнив свою земную миссию, возвращается в мир сущностей.
В гибели Чапаева опять доминируют женские мотивы — луна, ночь, вода. Бой¬
цы в белье мечутся по обрывистому берегу Урала, теснимые темной массой вра¬
гов, однако и здесь внешний облик Чапаева подчеркивает его двойственность: на
фоне одетых в исподнее красноармейцев его темные галифе и белая рубаха одина¬
ково адресуют и к избиваемому красному отряду (женское начало), и к причастно¬
сти бессмертной идее (мужское начало).
164
1988-1993
165
Чапаев. Реж. Георгий и Сергей Васильевы. 1934
Кино на ощупь
Таким образом, Чапаев, разрешая фундаментальную оппозицию фильма пу¬
тем прогрессивного посредничества, выступает в образе мифического андрогина,
двуполого существа. Перед бойцами он брутален и агрессивен, перед идеей - под¬
чинен. Каким образом эта позиция реализуется в строении фильма? Разберем по¬
дробно два примера.
I.) В самом первом эпизоде фильма Чапаев поворачивает бегущих бойцов и вдох¬
новляет их на победу. «Идеологическая» оппозиция сцены элементарна - поддавшая¬
ся панике масса и авторитетный военачальник, эту массу подчиняющий. Базовая же
оппозиция эпизода, реализованная в пластике кадров, свидетельствует о том, что Ча¬
паев здесь — мужское, а бегущий отряд — женское начало. По Фрейду их отношения
изначально эротичны, так как войско представляет собой особый род искусственно
созданной массы, где культивируется обманное представление о верховном власти¬
теле (полководце), который любит каждого отдельного члена равной любовью15. Мас¬
са руководствуется эмоциями, военачальник организует ее волей и рассудком.
Сцена начинается с эмоционального тона. Еще на затемнении после вступи¬
тельных титров слышен приближающийся звук колокольчиков - почти ритуаль¬
ный зов. Следующие кадры построены так:
1 .) Слева и в глубину кадра (то есть в двухмерной проекции - вверх) устремля¬
ется толпа полуодетых красноармейцев. Справа из-за границы кадра (то есть свер¬
ху) на них вылетает чапаевская тачанка. Сам мизанкадр символичен. В большин¬
стве культурных традиций левая сторона выступает в качестве «женского» знака,
а правая - «мужского». Вместе с тем «низ» и «верх» в мифологических системах
олицетворяют соответственно земной и небесный миры, и шире - материальное,
плотское и духовное, божественное. Таким образом, расстановка сил заявлена в то¬
пологии первого же кадра фильма. Масса, движущаяся снизу и слева, - земное,
женское; Чапаев, появившийся справа и сверху, - мужское, божественное.
2 .) На следующем среднем плане мы видим поясной портрет Чапаева, обращаю¬
щегося с речью к бойцам. Мужское начало выделяется в отдельную наступатель¬
ную единицу.
3 .) Та же сцена, что и в кадре 2, снята с обратной точки. Речь Чапаева продолжает¬
ся, но теперь зритель видит его со спины, доминирующего над разрозненной мас¬
сой. Чапаев как бы возвышается над красноармейцами, подавляет их своей при¬
ближенной к зрителю фигурой.
4 .) На общем плане, повторяющем кадр 1, изменяется направление движения.
Чапаевская тачанка стремится по той же траектории (сверху вниз и справа нале¬
во), но теперь «гонит» перед собой толпу в нижний левый угол кадра.
15 Фрейд 3. Психология масс и анализ человеческого «Я». М., 1925.
166
1988-1993
Эпизод «Первое появление Чапаева». Чапаев. Реж. Георгий и Сергей Васильевы. 1934
167
Кино на ощупь
Эпизод «Психическая атака». Чапаев. Реж. Георгий и Сергей Васильевы. 1934
168
1988-1993
5 .) Из-за нижней рамки кадра появляется еще одна группа беглецов...
6 .) ...они встречаются с уже организованной Чапаевым массой красноармейцев.
После короткого замешательства обе группы объединяются и продолжают движе¬
ние влево и вниз.
7 .) Из-за левой границы кадра появляется тачанка. За ней бегут бойцы.
8 .) Кадр разбит линией речного берега на две почти равные горизонтальные пло¬
скости. Внизу, у моста, стоят белочехи. Наверху, на линии обрыва, возникают ча-
паевцы. К звукам колокольчика присоединяются выстрелы.
9 .) Классический кадр, обошедший все кинотеатры мира: Петька припал к пуле¬
мету без щитка, имеющему безусловное фаллическое подобие. Чапаев простирает
руку над пулеметом.
10 .) Чехи бегут по мосту. Чапаевцы преследуют их.
11 .) Бойцы выстроены в ровную шеренгу, уходящую из-за левой границы кадра
в глубину. Отдельно и справа стоит Чапаев, произносящий речь.
В приведенной разработке ни разу не упоминается текстовой ряд. Он стано¬
вится дополнением к пластическому сообщению, графическому коду каждого кад¬
ра. Чапаев предстает здесь в образе уникального, мужского, организующего. Его
зоны - правая и верхняя сторона кадра. Красноармейцы, за короткий период эк¬
ранного времени превращенные командиром из испуганного стада в боевое под¬
разделение, стремятся поначалу вырваться из присущей им левой зоны, но под
напором Чапаева вновь устремляются влево. Пройдя левое поле кадра, отряд об¬
рушивается на врага сверху, то есть как осмысленная и организованная сила. Ча¬
паев же в этот момент ассоциируется с фаллосом (ствол пулемета), усмирившим
женскую множественность толпы. Исход сцены — стройная шеренга, занимающая
присущую ей позицию в левой части кадра, и Чапаев, победно выделенный в пра¬
вой части. Агрессор-руководитель подчинил и организовал бесформенную массу
подчиненных.
II.) Если в первом эпизоде фильма Чапаев выглядит как генератор мужского, ак¬
тивного, то его медиативная функция лучше всего просматривается в знаменитой
сцене каппелевской «психической атаки».
Шеренги одетых в черное офицеров батальона смерти, будто в медленной лю¬
бовной игре, наступают на чапаевские траншеи. Они идут не за победой, а за смер¬
тью. Об этом свидетельствует назойливо повторяющийся в кадре штандарт с че¬
репом и костями — знак Танатоса, слившегося с Эросом в мазохистском экстазе
каппелевцев (остается только предполагать, что побудило одного из режиссеров
фильма Георгия Васильева сняться в роли командира этого отряда). Гипнотиче¬
ский ритм атаки завораживает чапаевцев. Они выставляют делегирующую жен¬
скую фигуру — Анку — манипулирующую фаллической конструкцией пулемета.
169
Кино на ощупь
Чапаев. Реж. Георгий и Сергей Васильевы. 1934
170
1988-1993
Напряжение возрастает и разряжается в стрельбе, где мужская функция перехо¬
дит к красноармейцам, избивающим врагов. Однако в кульминационный момент
пулемет, посредничающий в этой игре любви и смерти, дает осечку, и его роль пе¬
реходит к Чапаеву, явленному на гребне пирамидального холма и ведущего за со¬
бой лавину конницы. Он довершает победный разгром неприятеля. Анка в этот мо¬
мент в радостном изнеможении падает на кожух пулемета.
Чапаев выступает здесь как посредник-организатор двойного сексуального
исхода - в отношениях между каппелевцами и красными и между Анкой и пулеме¬
том. Не вызывает сомнений, что образ последнего, проходящий через всю картину,
отягчен безусловной фаллической символикой. Добавим к уже разобранным при¬
мерам сцену псевдообольщения Петькой Анки, сцену, построенную на обыгрыва¬
нии технического устройства пулемета («А это называется щечки...»). Победителем
в этой любовной игре выходит именно пулемет, но не Петька. В финале фильма,
во время ночной перестрелки, явно противопоставлены два работающих пулеме¬
та - чапаевский и белогвардейский, укрытый в башне броневика. Здесь сталки¬
ваются два фаллических знака: живой, уязвимый (чапаевский) и искусственный,
смертоносный (броневик).
Двуполость Чапаева в мифологическом слое фильма делает его особенно зна¬
чительным для культурной типологии 30-х годов. Будучи одновременно на обо¬
их полюсах фундаментальной оппозиции, он демонстрирует чрезвычайно важ¬
ные механизмы мифообразования в тоталитарной культуре, а в известном смысле
и олицетворяет ее (напомним, что в восходящей к К. Юнгу концепции андрогин
вообще есть символ культуры). В этом смысле гибель Чапаева, как она показана
в фильме, есть единственно возможная культурная версия. Вода, принимающая
в свои глубины, ассоциируется с первоначалом, исходным состоянием всего су¬
щего, материнским чревом, оплодотворенным мировым яйцом. Смерть Чапаева
в волнах Урала - метафора приобщения к универсуму, знак вечности и бессмер¬
тия одного из величайших героев социалистической мифологии.
«Искусство кино». 1992. № 12. Полный текст опубликован в сб. «Современный экран». СПб.,
РИИИ, 1992.
171
Кино на ощупь
Дебил как медиум
Обычно критик избирает предмет ниже себя или, во всяком случае, себе равный.
В силу того, что об отечественном киноандеграунде писали и пишут люди, предпо¬
читающие концепцию факту, а самовыражение истине (говорю без подначки, по¬
тому что нахожусь в том же ряду), Евгений «Дебил» Кондратьев, теневой лидер ле¬
нинградского киноподполья, так и не удостоился добросовестного биографа.
Советское параллельное кино - термин нынче как будто и неуместный. Твер¬
дые линии общественной геометрии размякли, потекли и потеряли сопротив¬
ляемость. Обессмысленное социально, явление отчетливо структурируется пост¬
фактум в ракурсе художественных манер. На одном его полюсе — Евгений Юфит,
«Юфа», саркастический монолит, грозный и бесстрастный, как нечто, именуемое
сходной по звучанию английской аббревиатурой, или уже убивший убийца. На
другом - братья Алейниковы, заставляющие всерьез задуматься над тем, что, на¬
чиная с Люмьеров, братское родство и есть эпиграф к онтологической природе ки¬
нематографа с его бесконечными вариациями близнецов, двойников и оборотней.
Диаграмма явления, таким образом, представляется кривой, соединившей
две крайности. Эзотерический, узнаваемо-стилевой некрореализм Юфита и ра¬
зомкнутый, программно бесстильный концепт Алейниковых. Плотное, самодо¬
статочное изображение и мозаику из осколков пост-пост-всего, превращенную
в артефакт соответствующей авторской маркировкой (продолжаю утверждать -
идеальное создание братьев Алейниковых — это титр с их собственной фамилией,
отсылающей к одному из самых ярких мифов советского кино).
На этой кривой Дебил располагается строго посредине. Он — явление проме¬
жуточное и не дающее координаты нового отсчета. Но он же придает линейной
картинке объем, подобно тому как единственный блик на монохромной плоскости
сообщает ей иллюзию дополнительного измерения.
О Дебиле ходят легенды. Рассказывают, что он начал снимать, не видя ни од¬
ного фильма. Говорят, что он ни разу не осквернил пленку ножницами и клеем,
монтируя прямо в камере, из которой, отправляясь на съемку, вынимал все лиш¬
нее — вплоть до объектива.
В некоем транснациональном и трансурбанистическом субпространстве Сен-
Жермен-Гринвич-де-Пре-Пушкинская-Вилледж-десять он играет роль провин¬
циала-самородка, одиночки, кустаря, дебила, не опороченного культурой, а по¬
тому схватившегося с мирозданием голыми руками. Легенды опровергаются, но
опровергаются показательно. По собственному его признанию, одно из самых
172
1988-1993
Евгений Кондратьев. Фот. Игорь Алейников. 1988
сильных детских впечатлений у Кондратьева связано с забытым ныне фильмом
Нейтральные воды — о моряке-герое, смытом волной с палубы. Иностранные суда
упорно пытаются его спасти, но советский человек отказывается принять руку
помощи, потому что его собственные руки скованы. Причем скованы букваль¬
но - к запястью намертво приторочен чемоданчик со стратегически важными
документами...
Вероятно, мы видели эту картину в одном возрасте. Долго еще в кошмарных
снах мне являлась сцена - внизу бездонная морская пучина, а наверху - уходящая
в небеса железная громада корабельного борта. И человек между двумя стихия¬
ми, уязвимый и незащищенный в точке сюрреалистического схождения металла
и воды. Человек, посредничающий в чем-то большем, нежели он сам.
Кинематографический стиль Кондратьева родствен этому эффекту. Его инди¬
видуальная авторская манера состоит в умении трактовать визуальную среду как
вереницу насыщенных смыслом знаков, где запечатленные объекты - всего лишь
173
Кино на ощупь
отражение идей, а фрагменты реальности - воспоминания о целом. В отличие от
большинства известных мне кинорежиссеров, Кондратьев не снимает то, что уже
придумал, а мыслит тем, что увидел. Или тем, что дано было увидеть, если апелли¬
ровать к наивной метафизике, неизбежно сопутствующей процессу киносъемки.
Дебил - типичный художник-медиум, пропускающий сквозь себя череду мо¬
ментальных впечатлений, проецируемых затем на магическую белизну экрана.
Понятно, почему в его эстетике кинопроектор важнее камеры, почему в его ис¬
тинном «киноглазе» осуществляется великая механическая процедура: движение
пленки сверху вниз, от идеи к материи, а сама поверхность киноленты приравни¬
вается к коре axis mundi (мирового древа).
Один из величайших теоретиков кино - Риччото Канудо - называл киноизо¬
бражение «храмовой сверхреальностью». Стэн Брейкхейдж мечтал о таинственной
камере, которая сможет графически зафиксировать форму предмета даже после
того, как он исчезнет из поля зрения. В первом фильме Кондратьева, снятом вме¬
сте с Олегом Котельниковым, методом покадровой съемки оживляется дохлая ку¬
рица. Фильм назывался Асса и был сделан за три года до своего знаменитого тезки
в духе радикальной андеграундной концепции. Одновременно началось сотрудни¬
чество с Юфитом и Андреем Мертвым, примерявшими принципы некрореализма
к «движущейся фотографии».
По внешности ранние работы некрореалистов и Кондратьева почти неразли¬
чимы. И там, и здесь — бешеный калейдоскоп изображений, неистовый ритм и ли¬
хорадочное наслоение образов, как будто все, что хочется изобразить, надо вме¬
стить в один-единственный ролик просроченной 16-миллиметровой кинопленки.
Но если панковские киноклипы Юфита - это не что иное, как его же поздние мед¬
ленные кадры, только запущенные с повышенной скоростью, то для Кондратьева
«неправильное кино», в скором времени ставшее опознавательным знаком ленин¬
градской «школы», явилось осмысленным стилевым приемом.
Дикий импрессионизм Труда и голода и Нанайнана — двух наиболее значи¬
тельных работ того периода — содержит попытку оптической драматургии и наив¬
ных формальных сопряжений. Свет сменяется тенью, большое следует за малым.
Камера, которая у Юфита даже в мгновения крайнего беспредела оставалась бес¬
страстной и статичной, здесь вовлекается в пляс, в разгон, в орнамент. Но не за тем,
чтобы ухватить нечто в причудливой динамичной фигуре, а чтобы осознать себя
элементом происходящего.
Концептуальная десакрализация кинокамеры была продемонстрирована два
года спустя в картине Образование кино. Горизонтальный примитивизм. Автор,
стоя в классической позе дискобола, изо всех сил раскручивает заряженный ап¬
парат. Затем следует точка зрения самого аппарата: размытая карусель пятен и по¬
лос, след бесцельной прогулки объектива по окружающему ландшафту.
174
1988-1993
Схожую сцену из дрейеровского Вампира Ролан Барт называл «пределом,
у которого разоблачается репрезентация». Зритель Дрейера не может идентифи¬
цировать себя с открытыми глазами мертвеца, который сначала видит свое тело
в гробу, а затем из гроба наблюдает за собственными похоронами. У Кондрать¬
ева, едва камера становится субъектом действия, рушится аксиома киноиллю¬
зии: совпадение взгляда зрителя и взгляда объектива. Естественно, напрашива¬
ется мысль о третьем взгляде, демиургическом зрении, более проницательном
и более остром, нежели доступно разрешающей способности глаза или объекти¬
ва. Поискам этого взгляда и посвящены работы Кондратьева второй половины
и конца 80-х.
Приняв языческий тезис о первичности контура, рисунка, схемы, он прихо¬
дит к практике «бескамерного» фильма. То есть фильма, изготовленного без уча¬
стия камеры, методом непосредственной обработки поверхности кинопленки.
В результате появилась кинокаллиграфия - иероглифическое кинописьмо, ши¬
фрующее в знаках универсальные значения. Своим ученикам и последователям
Кондратьев выдавал засвеченные ракорды и рекомендовал делать кино иголкой,
гвоздем, фломастером — всем, что непосредственно связывает руку с энергетикой
визуальной среды.
Известны случаи, когда художник перевоплощался в своих героев. В ситуа¬
ции Кондратьева состоялось радикальное превращение творца в инструмент твор¬
чества, режиссера - в кинокамеру, медитирующую посредством графических об¬
разов. Ручная графика, царапины и загогулины перекочевали в фотографическую
реальность как напоминание о том, что вся система кинематографических опо-
средований, стоящих между зрителем и фильмом, есть лишь условности переда¬
чи и шаманские трюки.
На переломе творческой манеры возник трехминутный шедевр Я забыл, де¬
бил... К цветной кинопробе, снятой для фильма братьев Алейниковых, где он уча¬
ствовал как актер, Кондратьев приклеил черно-белый титр с рассказом о том, как
неизвестные злоумышленники соблазнили пионера перспективой киносъемок
и увезли в неизвестном направлении. Больше мальчика никто не видел... Затем на
экране появляется сам режиссер, несколько раз пересекающий экран наискосок.
Венчает фильм чернота оконного проема...
У этой картины есть две интерпретации.
Сергей Добротворский: опровержение эйзенштейновской теории монтажа ат¬
тракционов. Тиражирование одного-единственного аттракциона разрушает идео¬
логию. Идея остается, логос исчезает.
Глеб Алейников: первое появление концепции в дикой ленинградской школе.
Зрителю ясно, что ничего не произойдет, но глаза не могут оторваться от экрана.
Остается только желание уйти в иллюзорный мир.
175
Кино на ощупь
Описанная в титрах жертва и гуляющий по экрану Кондратьев, безусловно,
одно и то же лицо. Я забыл, дебил... — акция самоустранения автора изо всех компо¬
нентов им же придуманного фильма - идеи, сюжета, монтажной фразы. Наконец,
из самого изображения. Вербальный пролог выводит событие за пределы види¬
мости. За ним следует оптическое приключение, случайное и волнующее, - фраг¬
мент пленки, снятой другим и для другой цели. Магическое мгновение спотыкает¬
ся. Взявшись за руки, автор и герой исчезают в зеркале, уже поглотившем Орфея
Жана Кокто.
У Кокто, впрочем, Поэт уходит, чтобы навсегда затеряться в собственном от¬
ражении. Преодолев жидкое стекло, он познает Любовь как Смерть и Смерть как
земную женщину. Кондратьев проникает в Зазеркалье лишь для того, чтобы вы¬
глянуть наружу с обратной стороны амальгамы. Оглядка погубила Орфея. Кон¬
дратьев же не скрывает намерения вертеть головой до тех пор, пока не найдется
точка зрения, с которой телеграфные столбы снова покажутся деревьями, а мифо¬
логические величины не обнаружат свои предметные истоки.
Его персонажами становятся явления и стихии: 6-минутная картина Огонь
в природе, или Грезы, — эпическая кинопоэма пустых ландшафтов и обрезанных го¬
ризонтом дорог, выполненная в волшебной эстетике наскального рисунка; Творче¬
ский поиск Бориса Кошелохова, где разные по технике и размеру работы патриарха
«новой живописи» уравниваются в пустом черном пространстве кадра; и даже иро¬
нично-порнографические Ленины мужчины, трактующие изображение как полно¬
ценного сексуального партнера...
В эпоху, когда облик художника является едва ли не более важным, чем его
творчество, Кондратьев скрывает глаза под очками и умудряется сохранять вне¬
шность как будто стертую, незаметную, нейтральную.
В воспроизведенном на страницах «Искусства кино» кадре из фильма Алей¬
никовых он сидит под надписью «синема верите» с номером «Правды» в руках.
Он - идеальный персонаж для примирения формальных противоположно¬
стей и в таком качестве предстает в фильме тех же Алейниковых Здесь кто-то
был — своеобразной «пост-одиссее» поисков самого себя.
Он показывает фильмы на чердаках и играет главную роль в римейке Тракто¬
ристов. Он - дебил. Он - медиум. Он —
«DU». 1993. № 2. Статья также опубликована в журнале «Artograf» (1993, № 1)
под псевдонимом Ольга Лепесткова.
176
1994
Одиссея Вима Вендерса
Герои Вима Вендерса часто видят свои отражения в витринах, окнах, случайных
зеркалах, на глянце моментальных снимков. И адресованные им взгляды они ло¬
вят не впрямую, а как будто вскользь, по касательной — через обоюдно созерцае¬
мые предметы, сквозь чужие слова и лица, в оглядке, остановке, паузе. Чудо про¬
исходит, когда оригинал и отражение встречаются, когда расступаются лукавые
зеркала и обреченные друг другу двойники вновь становятся целым. В снятой в се¬
редине 60-х годов Персоне Ингмар Бергман разорвал лица своих героинь и скле¬
ил из половинок новое лицо, странный и страшный знак раздвоенной души, след
невозможности понять себя и другого. Так выкрикивало себя время, убежденное
в том, что чем теснее срастаешься с ближним, тем дальше уходишь от него. Слов¬
но подтверждая это, герой вендерсовского Парижа, Техас обрекает себя на доб¬
ровольное одиночество, покидает дом, жену, сына. Но чем дальше уходит, тем не¬
преодолимее тяготится изгнанничеством. В финале на проницаемую поверхность
зеркала накладываются отражения двух лиц. Непутевый герой вендерсовского Па¬
рижа... всматривается в себя и видит ее.
Фильмы Вендерса похожи на зеркала. Эта метафора не нова применительно
к кинематографу, однако в случае Вендерса она приобретает особый смысл. Ре¬
жиссер снимает фильмы на исходе тысячелетия, когда ничто, кажется, уже не су¬
ществует въяве, в природе, в неопосредованном намерении, когда страстное же¬
лание встречи равносильно усталому знанию о ее невозможности. Двадцать лет,
разделяющие Персону и Париж, Техас, обозначили смену культурных эпох. Ин¬
дивидуальный ужас бытия сменился его, бытия, «невыносимой легкостью», не¬
заметным и необременительным апокалипсисом. До конца света - назвал свой
предпоследний фильм Вендерс. И эта формула, претенциозная в любом дру¬
гом исполнении, для него органична, потому что составляет самый смысл его
кинематографа.
В его предпоследнем фильме герой вживляет в себя съемочную каме¬
ру, чтобы транслировать впечатления в мозг незрячей матери. В диплом¬
ной картине режиссера Лето в городе персонаж-криминал, навсегда поки¬
дающий родную страну, прощальным жестом тянет руку к приютившей его
подруге. Но вместо того, чтобы коснуться ее, включает телевизор. Культура со
всеми своими медиумами, фантомами и причудами стоит на пути у живого чув¬
ства. Прямая дорога заросла навсегда, но путешествие, таинственное и волнующее
роуд-муви - фильм-дорога - продолжается.
179
Кино на ощупь
Небо над Берлином. Реж. Вим Вендерс. 1987
Персонажи Вендерса редко сидят на месте. Их перемещения часто тщетны.
Ложное движение - так называется один из самых известных фильмов режиссе¬
ра, вольно переосмыслившего мотивы Гете. У этих дорожных историй нет ни на¬
чала, ни конца. Они начинаются задолго до того, как герой отправляется в путь,
и прерываются прежде, чем начинает брезжить конечная остановка. Эти истории
знакомят нас с путешественниками во времени, с искателями потерянного крова,
с паломниками в культурную историю человечества. За сутолокой впечатлений,
в веренице городов и лиц обретается собственное «Я», утраченное вместе с уютом
домашнего очага, от которого вендерсовские странники выброшены в неуютную
пустошь жизни.
Мы так и не узнаем, добралась ли до бабушкиного дома маленькая Алиса (Али¬
са в городах), но понимаем, что ее случайный спутник, исписавшийся журналист
Фил, разглядел в жизни нечто большее, чем собственное отражение на поларо-
идной карточке. Мы не узнаем, вернутся ли на свой клочок земли в местечке со
смешным названием Париж, Техас Трэвис и его жена. Мы не узнаем, как сложится
кочевая жизнь киномеханика Бруно (С течением времени) и какая судьба уготова¬
на ангелу, полюбившему прекрасную циркачку (Небо над Берлином). Но мы знаем,
что с ними случилось главное — их души объединились, а значит, вернулись к сво¬
ей истинной обители.
Фильмы Вендерса всегда или почти всегда подчинены естественному ходу
времени. Может быть, поэтому кажется, что их очень легко имитировать: герои
живут в почти документальной, неорганизованной среде, кадр вмещает в себя ров¬
но столько пространства, сколько необходимо для неторопливого развертывания
эпизода на улице, в кафе, в купе поезда или салоне самолета. Вслед за Вендерсом
180
1994
Вим Вендерс. 1987
181
Кино на ощупь
так снимают венгр Джим Джармуш и швейцарец Ален Таннер, с претензией на
модную стилистику сделан советско-немецкий Ленинград. Ноябрь. Но главное, что
отличает оригинал от пусть и очень талантливой копии, состоит в том, что при
внешнем бездействии кадров Вендерса в них происходит время. Иногда оно бла¬
годарно подыгрывает автору, и тогда случается волшебство: режиссеру достает¬
ся уходящая в буквальном смысле натура. Так появился уникальный Ник-фильм.
Молния над водой - кинодневник последних месяцев жизни Николаса Рея. Леген¬
дарный режиссер знал, что умирает, и благословил на эту работу своего коллегу
и младшего друга. Так одной из полноправных героинь Неба над Берлином стала
Берлинская стена, вскоре навсегда исчезнувшая с лица земли. А несколько лет спу¬
стя Вендерс включил в новый фильм эпизод с реальным Михаилом Горбачевым -
человеком, сломавшим Стену. Экс-генсеком, выведенным в тираж очередным вит¬
ком истории.
В мире, лишенном конца и начала, превратившемся в кольцевую дорогу, в те¬
невой лабиринт, режиссер продолжает снимать течение времени. Так, в знамени¬
том финале Положения вещей вымышленный двойник Вендерса выставляет на¬
встречу смертельным выстрелам свое единственное оружие - кинокамеру. Съемка
продолжается и тогда, когда аппарат падает из мертвых рук. В случайном ракурсе
остаются небо, земля, кусок шоссе, придорожные строения... Запечатленное время
жизни, длящейся после смерти.
Фильмы Вендерса часто снабжены посвящениями. Любимой рок-группе
«Кинкс», как Лето в городе. Любимым режиссерам Рею и Ясудзиро Одзу, как Мол¬
нии над водой и Токио-Га. Или сразу трем коллегам - Одзу, Тфюффо и Тарковскому,
как Небо над Берлином. Рок-музыка, кино, мифы большого города... Посвящения
отмечают остановки на маршруте странствий. Будучи сказочником, Вендерс знает
вкус и цвет жизни. Оставаясь летописцем, продолжает сочинять сказки и волшеб¬
ные сказки о сказках. К нему стоит прислушаться.
«Вечерний Петербург». 1994. 28 января.
182
1994
Восприятие стандарта
Стремительный прогресс, проявившийся в последнее десятилетие в области
аудиовизуальной культуры, ставит перед исследователями ряд необычных задач.
Нормативные представления о том, что каждая из аудиовизуальных отраслей, будь
то кинематограф, видео, сетевое, кабельное и спутниковое телевидение, различ¬
ные электронные и компьютерные коммуникации, обладает своей спецификой
и набором дифференцированных функций, очевидно, теряют актуальность. Уже
сейчас целесообразно говорить о некоем глобальном аудиовизуальном конгломе¬
рате современной культуры; об области, где нет больше границ между отдельными
подсистемами и где сопредельные прежде территории сливаются в одну.
Безусловно, эта ситуация глубоко укоренена в общекультурной парадигме
конца тысячелетия. «Мы живем во Вселенной, где все больше и больше инфор¬
мации и все меньше и меньше смысла»1, — пишет один из самых известных тео¬
ретиков 80-х годов Жан Бодрийяр. По его мнению, реальность, информация о ней
и средства информации находятся в одном ряду симуляций и имплозии. Всякая
информация, в том числе и художественная, всего лишь маскирует пустоту и фа¬
тальную бессмыслицу реальности, тем самым окончательно разрушая и мистифи¬
цируя ее. В свою очередь, потеря реального смысла информации влечет за собой
размывание и деструкцию каналов передачи.
Обращаясь к классической формуле Маршалла Маклюэна «средство само есть
содержание», Бодрийяр пишет: «Больше нет медиа в буквальном смысле этого сло¬
ва (я говорю главным образом об электронной масс-медиа) — то есть нет связую¬
щей силы между одной реальностью и другой, между одним состоянием реального
и другим - ни с точки зрения содержания, ни с точки зрения формы. Строго гово¬
ря, это то, что подразумевает имплозия: поглощение одного полюса другим или ко¬
роткое замыкание между полюсами различных дифференциальных систем смыс¬
ла, стирание границ и отчетливых оппозиций, и значит — медиума и реального»1 2.
Для Бодрийяра эволюция «средства-содержания» в современных условиях
означает конец не только содержания (message), но и средства (media). Если опу¬
стить эсхатологические следствия такого взгляда, мы сталкиваемся здесь с чрез¬
вычайно актуальной проблемной областью. Поскольку границы реальности
1 Baudrillard J. The Implosion of the Media. - Baudrillard J. In the Shadow of the Silent Majorities and Other
Essays. N. Y., 1983, p. 95.
2 Ibid, p. 102-103.
183
Кино на ощупь
стираются и средства объективно теряют свои посреднические функции, то есть
превращаются в поставщиков безусловной, неостраненной и недистанцирован¬
ной реальности-фикции, их собственная специфика уже не имеет принципиаль¬
ного значения. Образно говоря, сам выбор технологии репродуцирования реально¬
сти предусматривает некоторый взгляд на реальность как на явление с устойчивой
иерархией смысла.
Так, например, известно, что сторонники классической культуры с презре¬
нием отворачивались от кино не только в силу его низовой художественной ори¬
ентации, но и из-за принципа воспроизводства жизни в туманных «движущих¬
ся картинках». Активное неприятие вызывал и вызывает телевизионный эффект
сиюминутного присутствия, убежденные синефилы отрицают «плоское» видео¬
изображение и так далее.
«Каждый взгляд человека - это предвосхищение изумительной способности
художника создавать модели, которые объясняют жизненный опыт средствами ор¬
ганизованной формы»3, — писал Р. Арнхейм. Текущий этап культуры определяется
как раз дезорганизацией, известной плюрализацией формы, ее «непродуктивным
слиянием» («имплозия» по Бодрийяру). Организация формы аудиовизуальных по¬
средничеств, несмотря на все большую ее изощренность, обесценивается, так как
собственно реальность не нуждается в какой бы то ни было структурированности.
«Симуляция» смысла провоцирует появление все новых и новых медиумов-«симу-
лякров», чья роль сводится в конце концов не к специфическому портретированию
реальности, а к стиранию и сглаживанию ее черт.
Применительно к сфере аудиовизуального приходится констатировать опре¬
деленный парадокс. По мере того как каналы доставки разнообразятся и множатся,
их восприятие и отношение к ним, напротив, втягивается к общему знаменателю.
Рождается некий общий взгляд, стандарт, визуальный стереотип («индивиду¬
альность, — пишет Арнхейм, - проявляется в индивидуальном способе восприя¬
тия мира»4). Одновременность и плюрализм окружающих современного человека
аудиовизуальных технологий воспитывают не дифференциальное восприятие, но
деиндивидуализированный уровень «среднего» зрения.
Сложившаяся ситуация тем более интересна, что начало аудиовизуальной ре¬
волюции во всем мире было связано с надеждой на новую степень свободы и вы¬
глядело как решительный шаг к гуманизации и индивидуализации технологий
СМК. Джин Янгблад, выпустивший на заре новой технологической эры книгу «Рас¬
ширенное кино», так объяснил смысл названия: «Когда мы говорим расширенное
кино, мы на самом деле имеем в виду расширенное сознание. Расширенное кино не
3 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974, с. 59.
4 Там же, с. 201.
184
1994
подразумевает компьютерный фильм, видеотрубки, атомный свет или сферическую
проекцию. Расширенное кино — это вовсе не только кино: подобно тому как жизнь
есть процесс становления, так и человек исторически стремится определить свое
сознание вне рассудка, но глазами»5. В начале 70-х годов перспективы аудиовизуаль¬
ного прогресса связывались с разрушением прежних нормативов творчества и вос¬
приятия, манипулятивных киноструктур и клишированных приемов масс-медиа.
Появление новых мобильных средств воспроизводства реальности предполагало
неслыханные возможности индивидуальной самореализации человека, выделения
свободной «энергии зрения». «Это технология децентрализует и индивидуализирует
каналы человеческой коммуникации»6, - писал Янгблад, приветствуя технику, спо¬
собную зафиксировать вовне тончайшие эманации и переливы внутреннего мира.
Основным признаком аудиовизуального взрыва 70-х казалась персонализация
средств коммуникации. Главной задачей была попытка «гуманизировать техноло¬
гию и электронные медиумы, которые развиваются быстро, слишком быстро»7, —
так в середине десятилетия писал один из ведущих американских видеоартистов
Нам Джун Пайк. Аудиовизуальные новации привлекали еще и тем, что, будучи ка¬
налом непосредственной трансляции индивидуального видения, предлагали опре¬
деленный набор неортодоксальных визуальных эффектов и деформаций изображе¬
ния, которое, в свою очередь, становилось полем неограниченного самовыражения.
Апология «персонализации» медиума была, безусловно, основательно подго¬
товлена развитием аудиовизуальной культуры предыдущих лет - теорией «каме¬
ры-пера» Александра Астрюка, фильмами «новой волны» и авторской режиссу¬
ры 60-х годов и особенно практикой американского «подпольного» кино, одним из
первых вторгшегося индивидуальной авторской волей в саму природу экранного
изображения.
В работах Брейкхейджа или Вандербека кустарным механическим способом -
процарапыванием, наложением, покадровой раскраской — осуществлялись эф¬
фекты, ставшие нормой в компьютерном или видеокино. «Представьте себе глаз,
неподвластный установленным законам перспективы, глаз, не ведающий предрас¬
судков логики композиции, глаз, не реагирующий на имена вещей, но которому
должно познать каждый встречаемый в жизни объект непредвзятостью восприя¬
тия»8, - писал Стэн Брейкхейдж в работе, озаглавленной «Метафоры видения».
5 Youngblood G. Expanded Cinema, N. Y, 1970, p. 41.
6 Ibid, p. 48.
7 Nam June Paik, Moorman Ch. Video, Vidiot, Videlogy. — New Artists Video. A Critical Antology ed. by G. Battcock.
N.Y, 1978, p. 129.
8 Brakhage St. Metaphors on Vision. - The Avant-Garde Film. A Reader of Theory and Criticism ed. by P. Adams
Sitney. N. Y, 1987, p. 120.
185
Кино на ощупь
В лаборатории андеграунда 60-х экспериментальным путем были выведены
важные компоненты языка новых аудиовизуальных коммуникаций (не случайно
многие из независимых кинематографистов в 70-е годы активно переключились
в сферу видеоискусства). Под лозунгом индивидуализации зрительного образа,
в борьбе с мифами «одномерной» культуры свершались принципиальные откры¬
тия: расчленение изображения, трансформация перспективы, отношение к вну-
трикадровому пространству как к живописному или графическому орнаменту
и так далее.
Одним из главных результатов экспериментального кино того периода сле¬
дует назвать очевидную тенденцию к симультанности (недаром концепция поли¬
экрана зародилась еще в киноавангарде 10-20-х годов) и обращение к двумерно¬
сти зрительного образа, образа, лишенного глубины и объема. В обоих случаях
на первый план выступает центральная позиция киноавангарда - дискредитация
нормативного изображения, его безусловного линейного времени и иллюзионист¬
ского «объемного» пространства. Часто работа велась непосредственно с поверхно¬
стью кинопленки, подчеркивалась механистичность кинопроекции, ее изначаль¬
ная плоскость. Как мы увидим дальше, безусловной преемственностью здесь будет
обладать видео.
Из сказанного не следует, будто экспериментальное кино 50-х и 60-х годов
впрямую сформулировало принципы нового визуального послания. Речь скорее
должна идти об общемировоззренческой установке и о некоторых формальных
аналогиях. На мировоззренческом уровне легко увидеть и типичную для начала
70-х годов романтическую утопию, согласно которой любые экстатические, некон¬
формные проявления личности, самые экстремальные формы самореализации
позитивны уже потому, что выбиваются из жесткого социального кодекса и ре¬
гламента. «Расширенное кино», «синестезия», «свободная визуальная энергетика»
и другие прогнозы в адрес новых аудиовизуальных медиумов, однако, учитыва¬
ют главным образом творца, художника (Homo faber), но не потребителя (Ното
consumens)...
«В нынешний век зрительное восприятие в его глубочайшем смысле продол¬
жают избранные, обретавшие свое вдохновение в кинематографическом творче¬
стве»9, — писал Брейкхейдж, однако массовое распространение именно такого уни¬
кального, избранного взгляда ожидается от аудиовизуального прогресса.
О каких аспектах этого прогресса идет речь? Прежде всего о тех, которые свя¬
заны с непрестанно совершенствующимися видеотехнологиями записи, воспроиз¬
ведения и тиражирования аудиовизуальной информации. Видеореволюция, про¬
текающая во всем мире уже почти два десятилетия, принесла с собой широкий
9 Brakhage St. Metaphors on Vision, p. 12.
186
1994
спектр следствий — экономических, социокультурных, собственно эстетических.
Видеоинформация, поступившая в индивидуальное пользование, по-новому по¬
ставила проблему «малого экрана», скорректировала традиционные коммуника¬
ции между аудиторией и зрелищем, обострила проблемы выбора и собственно
контакта с оптическим изображением.
Распространившаяся по всему миру сеть многоканального, кабельного, спут¬
никового телевидения еще более интенсифицировала экспансию индивидуально¬
го аудиовизуального потребления.
При всей множественности и самих средств аудиовизуальной доставки выше¬
перечисленных следствий, и их бытования в современной культуре вопрос о вос¬
приятии можно было бы свести к ряду конкретных позиций. В самом деле - речь
идет о самой перцепции, разрешающей способности современного зрения, воспи¬
танного и «большим», и «малым» экранами, кинематографическим и телевизион¬
ным изображениями, определенными визуальными характеристиками каждого из
существующих ныне медиумов. Зрительное восприятие, коль скоро речь идет о си¬
стеме аудиовизуального, должно быть элементарно дифференцированной ячей¬
кой, первичным мотивом всей полифонической системы, контакта со звукозри¬
тельной средой.
Но, согласно нашей гипотезе, именно этой простейшей дифференциации
и не происходит. Даже опустив более сложные и опосредованные факторы вы¬
бора, окружения, пристальности «чтения» текста, мы предполагаем изначальную
«обобщенность» в категории визуального восприятия. Масштабы стирания гра¬
ниц между реальностью и ее копией, непродуктивное слияние смыслов чреваты
и своеобразной «имплозией» восприятия. Аудиовизуальная культура поставляет
потребителям сплошной недифференцированный текст, все чаще и чаще не тре¬
бующий расчленения даже на уровне рецептивных параметров.
Для того чтобы предметно проанализировать эти свойства современного
аудиовизуального массива, примем за нормативную основу характеристики тра¬
диционного киноизображения. Оговорим сразу, что норматив этот не может быть
целостным и законченным — менее чем за сто лет своего существования кино пе¬
реживало качественный прогресс, связанный с открытием звука, цвета, широко¬
го экрана, светочувствительности пленки и тому подобного. Мы будем понимать
под нормативом цветное, звуковое изображение на классическом (прямоуголь¬
ном) формате экрана.
Какие коррективы вносят в него телевизионные и видеоканалы? В 1988
году в докладе на конгрессе Международного центра связи школ кино и теле¬
видения советский киновед Л. Козлов так определил этот сдвиг: «ТВ — при всей
широте его культурных достижений, при всей ценности его новаций - вызвало
в массе зрителей определенное снижение уровня художественного восприятия
187
Кино на ощупь
и эстетических установок. Повседневная привычка человека к иллюзии «кон¬
такта» с экранной реальностью ослабляет чувство эстетической дистанции
и притупляет чувство эстетической ценности. Привычка воспринимать поток
экранных изображений, находясь в состоянии умственной и физической релак¬
сации, понижает активность восприятия и увеличивает его экстенсивность»10.
И далее по поводу видео: «Происходит определенное изменение общей психо¬
логии восприятия (...); усиление рецептивных склонностей и способностей со¬
знания и воображения; возник феномен «видеофилии», порабощающей привыч¬
ки к чувственному самоудовлетворению посредством пассивного восприятия
видеоизображений»11.
Заметим, что Л. Козлов характеризует телевидение и видео в контексте сло¬
жившейся культуры кинематографического восприятия, а стало быть, и сложив¬
шегося в русле этой культуры навыка общения с определенной структурой изобра¬
жения. Отметим два важнейших элемента этой структуры.
Первый касается вопроса объемности кинематографического пространства.
В работе «Кино как искусство» Р. Арнхейм приводит пример из фильма В. Рутма-
на Берлин, симфония большого города: снятые с верхней точки два поезда метро
встречаются в кадре и разъезжаются в разные стороны. «В первый момент, - пи¬
шет Арнхейм, — каждому зрителю ясно, что один поезд идет на него, а другой от
него (объемное изображение), затем он замечает и то, что один поезд движется (у
нижней границы экрана к верхней, а другой от верхней к нижней (плоское изобра¬
жение). Это вторичное впечатление является результатом проекции трехмерного
движения на плоскую поверхность киноэкрана»12.
На этом примере Арнхейм иллюстрирует двоякую природу кинематографи¬
ческого изображения. Оно плоско и объемно одновременно, то есть трехмерные
объекты, воспроизведенные на двухмерной поверхности киноэкрана, вновь «до¬
страиваются» в восприятии зрителей до реального пространственного объема. При
этом условность экрана снимает очевидные визуальные противоречия - контур¬
ные наложения или нарушение закона постоянства размера и формы (удаленный
в экранном пространстве предмет уменьшается непропорционально его реальным
габаритам).
Сложившаяся норма кинематографического восприятия предусматривает та¬
ким образом три пространственные координаты на плоскости - суггестия дви¬
жущегося изображения влечет за собой и реально отсутствующий объем, глубину
и перспективу внутри кадрового поля. Однако и эта кажущаяся сегодня аксиомой
10 Козлов Л. Поздний возраст кинематографа. - Киноведческие записки. М., 1991, № 10, с. 22.
11 Там же, с. 25-26.
12 Арнхейм Р. Кино как искусство. М„ 1960, с. 9.
188
1994
концепция восприятия экранного пространства исторически обусловлена. В рабо¬
тах Ю. Цивьяна13, в частности, убедительно показано, что на заре кинематографа,
в начале 90-х годов, нормативным пространством было именно двухмерное, а дви¬
жение, прилегающее к оси взгляда, могло «вывести восприятие из состояния пер¬
цептивной нормы, в отличие от движения параллельно экранной плоскости, в эту
норму укладывающегося»14. Иными словами, для зрителя раннего кино уменьше¬
ние или увеличение предмета не означало его перемещения по глубинной оси ко¬
ординат — в описанном выше кадре фильма Рутмана этот зритель сначала прочи¬
тал бы двухмерное сообщение (поезда движутся в рамке кадра сверху вниз и снизу
вверх) и только потом перевел сообщение в трехмерный код (один поезд удаляет¬
ся, другой приближается).
Таким образом, говоря о природе кинематографического пространства,
мы подразумеваем и складывающийся во времени навык его восприятия. Здесь
уместно говорить и о развитии киноязыка, и о привычке к кинематографическо¬
му зрелищу (Арнхейм указывает на приоритет объемного восприятия перед пло¬
скостным уже в 1933 году), и о совершенствовании съемочной техники. Высокая
цвето- и светочувствительность современной кинопленки позволяет, например,
вносить в кадр тончайшие оттенки световоздушной среды, эффект сфумато, убе¬
дительно передающий иллюзию глубины и удаления. Для сегодняшнего зрителя
трехмерный код киноэкрана настолько обязателен, что, как замечает Ю. Цивьян,
даже в мультфильмах, то есть там, где изображение не скрывает своего двухмерно¬
го происхождения, при увеличении изображения героя мы готовы поверить в глу¬
бину пространства15.
Вторым базовым элементом кинематографического восприятия, вытекаю¬
щим из природы экранного изображения, назовем категорию внутрикадро-
вого движения. «Оригинальные и специфические возможности кино, — писал
Э. Панофски, - можно определить как динамизацию пространства и, соответ¬
ственно, специализацию (опространствовление) времени»16. В отличие от преж¬
них пространственно-временных искусств (особенно театра), кино способно
не просто передавать движение предметов в пространстве, но и динамику са¬
мого пространства. Взгляд кинозрителя, отождествленный с объективом ки¬
нокамеры, может «путешествовать» внутри кадра, «втягиваться» в него и в нем
«существовать».
13 См: Цивьян Ю. К символике поезда в раннем кино. - Труды по знаковым системам. Вып. 21. Тарту, 1987;
Цивьян Ю. Киноизображение и норма пространственного восприятия. — Киноведческие записки. М., 1988, № 1.
14 Цивьян Ю. Киноизображение и норма пространственного восприятия, с. 70.
15 Там же, с. 69.
16 Панофски Э. Стиль и средства выражения в кино. - Киноведческие записки. М., 1990, № 5, с. 168.
189
Кино на ощупь
При этом процесс «втягивания» не безграничен — он обрывается рамкой эк¬
рана, зритель видит только тот фрагмент реальности, который вмещается в экран¬
ный контур, в своеобразное «волшебное окно». Значит ли это, что внеэкранное
пространство полностью выключается из восприятия? Вероятно, нет, ибо в слу¬
чае пространственных характеристик кинокадра мы сталкиваемся с той же двой¬
ственной ситуацией, что и при определении объемности киноизображения. Буду¬
чи плоскими, предметы на киноэкране воспринимаются как объемные - точно так
же оставшееся за границей кинопроекции пространство «достраивается» при вос¬
приятии, а рамка кадра, оставаясь видимой, как будто размывается и исчезает.
Этот почти мистический аспект киновосприятия имеет, однако, конкретные
мотивы. В работе «Кино как искусство» Р. Арнхейм показал, что многие средства
экранной выразительности, художественные приемы кинематографа построены
именно на учете внеэкранного пространства. По мнению Арнхейма, именно зри¬
тельная ограниченность кинокадра дает кино право называться искусством17.
С таким утверждением трудно не согласиться. Внекадровые, а значит, и вне-
зрительные ощущения рождаются при кинопросмотре в сфере творческого вооб¬
ражения зрителей. Таким образом контур киноэкрана становится сильным сред¬
ством активизации восприятия.
Изображение, воспроизведенное на «малом экране», такого стимула лишено.
Зритель, считывающий телевизионную «картинку», одним взглядом охватывает
и внутрикадровое действие, и то, что окружает экран. Даже вообразив идеаль¬
ную ситуацию, при которой экран телевизионного монитора погружен в темно¬
ту, то есть приближен к условиям кинопоказа, придется признать, что локализа¬
ция экранного поля неизбежна. И если при кинопросмотре основополагающей
процедурой восприятия становится знакомое каждому кинозрителю чувство
«втягивания», постепенного «растворения» в изображении, то для видеопотреби¬
теля такая операция принципиально не осуществима. По отношению к телевизи¬
онному и видеомонитору сохраняется зрительная дистанция, подчеркивающая
разрешающие параметры экрана и не позволяющая отрешиться от его, экрана,
двухмерности.
«В видеофильме, — пишет М. Ямпольский, - все происходит на экране
и только на экране, его границы больше не служат рамками, выхватывающими
фрагмент мира»18. Внекадровое пространство, столь содержательное для клас¬
сического кино, составляющее его эстетический и эвристический потенциал,
уступает место плоской, локальной проекции, с которой реципиент считывает
изображение.
17 Арнхейм Р. Кино как искусство, с. 13.
18 Ямпольский М. Видео: Коммерция, эстетика, идеология. - Мифы и реальность. Вып. 11. М., 1989, с. 187.
190
1994
Важно подчеркнуть, что само по себе это изображение теряет иллюзию глу¬
бины — технологические особенности электронной проекции исключают проник¬
новение в кадр по оси взгляда, отчасти по причине недифференцированности
темных тонов, выглядящих сплошным провалом даже при очень высоком каче¬
стве записи и трансляции, отчасти по причине плоскости световоздушной среды
и уплощения перспективы. Здесь, вероятно, содержится ответ на попытки при¬
близить видеопроекцию к кинематографической путем увеличения размеров эк¬
рана - даже будучи близком к киностандарту, электронное изображение все равно
останется по преимуществу двухмерным.
Если принимать во внимание только перцептивные характеристики элек¬
тронного изображения, отрешившись от прочих «соблазнов» новейших аудиовизу¬
альных средств (многоканальность, легкость манипуляции с изображением, убы¬
стренное воспроизведение-перелистывание, пауза, произвольная остановка и так
далее), легко убедиться, что контакт с электронным медиумом охватывает и задей¬
ствует менее сложные механизмы восприятия, нежели в случае с кинематографом.
По существу теле- и видеореципиент возвращается к стадии описанной выше нор¬
мы восприятия раннего кинематографа, то есть нормы, согласно которой «есте¬
ственным» является движение вдоль экранной плоскости, но не в глубь таковой.
Сама по себе эта пространственная характеристика нейтральна, однако в кон¬
тексте современной культуры она влечет важные следствия. Еще на ранних ста¬
диях исторического бытования кино было замечено, что проблема глубины кадра
имеет принципиальный эстетический и психологический смысл. А. Базен в стать¬
ях, посвященных фильмам О. Уэллса и У. Уайлера, показал, что пространственная
перспектива отдельной мизансцены — «это не только возможность более эконом¬
но, просто и тонко передать событие. Изменяя структуру киноязыка, она (глуби¬
на кадра. - С. Д.) затрагивает также характер интеллектуальных связей, устанав¬
ливающихся между зрителем и экраном, и тем самим изменяет смысл зрелища»19.
Для Базена, считавшего глубину резкости основополагающим свойством онтоло¬
гии кинообраза, пространственное построение кадра означает определенную ми¬
ровоззренческую позицию — режиссер дает зрителю возможность соучаствовать
в потоке реальности, не акцентируясь на отдельных навязанных деталях, но выби¬
рая смысл происходящего сообразно собственным представлениям.
Базен сравнивает «онтологическое» кино с портретами Кватроченто, где пей¬
заж на заднем плане выписан так же четко, как черты лица; такое кино «не дает
зрителю уклониться от необходимости выбора; непроизвольные рефлексы разру¬
шены, и внимание должно давать ответ перед лицом сознания и совести»20.
19 Базен А. Что такое кино? М., 1972, с. 93.
20 Там же, с. 108.
191
Кино на ощупь
Концепция Базена не утратила актуальности и по сей день, потому что впря¬
мую связала пространственное построение кадра с активностью и свободой вос¬
приятия, с внутренней работой сознания при чтении того или иного кинотекста.
Правильность базеновской «онтологии» применительно к рецептивным законам
впрямую подтверждается тем, что экранное изображение, призванное манипули¬
ровать вниманием зрителя и его глубинными установками, стремится вынести
свои значимые элементы во фронтальную плоскость кадра, расположить их по
осям двухмерного движения. Например, анализируя советские фильмы 30-х го¬
дов, легко заметить, что работа со вторым планом, построение мизанкадра, осве¬
щение и фокусировка объектива производятся так, что на объемное простран¬
ство как будто накладывается двухмерная знаковая сетка. Ввергнутое в состояние
этой семантической нормы, внимание зрителей ориентируется на архетипиче¬
ские подсознательные представления, где содержательными выглядят не глубин¬
ные трансформации пространства, но архаические иерархии и оппозиции верха
и низа, большего и меньшего, правой и левой сторон. Естественно, что и конкрет¬
ные лица и фигуры, «вставленные» в такую знаковую сеть, принимаются ауди¬
торией вне логического контроля или — во всяком случае - со значительным
ослаблением такового, но в подсознательно-ценностном качестве. Иерархическая
перспектива кадра возникала не только в советском тоталитарном кино - на раз¬
ных этапах истории она широко практиковалась всякий раз, когда требовалась
прямая неопосредованная реакция на происходящее на экране, и в равной степе¬
ни годилась и для американского вестерна, и для нацистского пропагандистско¬
го фильма.
Пространственные характеристики изображения впрямую соотносятся и с та¬
кой важной категорией выразительности, как монтаж. Многочисленные монтаж¬
ные теории, сложившиеся за столетие существования кинематографа, свидетель¬
ствуют о том, что смысловые операции с изображением в той или иной степени
предусматривают выделенность, акцентированность отдельных пространствен¬
ных элементов внутри кадра, визуальных доминант, сочетание которых рожда¬
ет монтажную фразу. «Ортодоксальный монтаж, — писал С. М. Эйзенштейн, - это
монтаж по доминантам, то есть сочетание кусков между собой по их подавляюще¬
му (главному) признаку. Монтаж по темпу. Монтаж по главному внутрикадрово-
му направлению. Монтаж по длинам (длительностям) кусков и т. д. Монтаж по пе¬
реднему плану»21.
С другой стороны, как писал Р. Арнхейм: «Если бы кинокадры давали очень
сильное ощущение пространства, монтаж был бы, вероятно, невозможен»22.
21 Эйзенштейн С. Избр. произв. в 6 т., т. 2. М., 1964, с. 45.
22 Арнхейм Р. Кино как искусство, с. 21.
192
1994
Полная иллюзия трехмерности превратила бы монтажное сочетание в произволь¬
ный перечень изображений, значительно затруднила бы ритмическую и смысло¬
вую организацию.
Таким образом, мы условно можем суммировать концепцию киномонтажа
в позициях Базена и Эйзенштейна, «онтологического» и «монтажного» кино, пла¬
на-эпизода и кадра-куска. Эффект восприятия в каждом из случаев будет прин¬
ципиально различен. В «онтологическом» варианте - интеллектуальное сотворче¬
ство зрителей, выносящих собственную индивидуальную оценку происходящему
на экране. В «монтажном» варианте — обработанное и выстроенное режиссером
пространственно-смысловое сочетание, воздействующее на эмоциональные, чув¬
ственные сферы восприятия всем своим ритмо-пластическим строем.
Понятно, что электронное изображение по самой своей природе более распо¬
лагает к «эйзенштейновскому» варианту. Хотя съемочная видеотехника позволя¬
ет вести непрерывную съемку несколько часов подряд, статичное фиксирование
пространства не является преимущественно сферой малого экрана. Как раз на¬
против — видео, автоматически переносящее на магнитную ленту все, что попада¬
ет в объектив камеры, располагает к особого рода внутрикадровому монтажу; оно
способно обозначить монтажную фигуру без «отрыва» от реальной конфигурации
пространства, поставить монтажное ударение внутри плана-эпизода.
Опираясь на исследования французского киноведа Ж. Мальтета, М. Ямполь¬
ский справедливо сравнивает принципы электронного монтажа с ранним мелье-
совским периодом кино. В обоих случаях внутрикадровый монтаж определяется
термином «внутренняя склейка»23. При этом норма пространственного двухмер¬
ного восприятия раннего кино накладывается и на современное зрение: Мельес
уподоблял своих зрителей посетителям волшебного театра, где на зеркале сцены
происходят чудесные превращения и трансформации. Видеозритель конца столе¬
тия наблюдает тот же эффект на телевизионном мониторе или на видеопроекци¬
онном экране.
Очевидно, в обоих случаях включаются и определенные механизмы восприя¬
тия. М. Ямпольский замечает, что в электронном кино уместнее говорить уже не
о монтаже, но о коллаже, о почти случайном накоплении фрагментов, отчасти
сходным с игрой24. Свободная и произвольная манипуляция с плоским изображе¬
нием в присутствии видимых границ экрана, игровой коллаж образов впрямую пе¬
рекликаются с «глобальным» зрением современной культуры, уравнивающим все
и вся в пространстве игровой относительности; зрением, пресыщенным и экзаль¬
тированным одновременно.
23 См.: Ямпольский М. Видео: Коммерция, эстетика, идеология, с. 185.
24 Там же, с. 186.
193
Кино на ощупь
Одним из наиболее показательных жанров текущей видеопродукции являет¬
ся видеоклип. По существу это не более чем набор быстро сменяющихся карти¬
нок, ритмически организованных музыкальным сопровождением. Клип - микро¬
фильм и «быстрый» коллаж одновременно. Третья пространственная координата
в нем практически отсутствует или присутствует крайне опосредованно. Это по¬
нятно — установка на скоростное потребление визуального калейдоскопа исключа¬
ет вчитывание в глубину кадра. На первое место выходит скорость.
«Скорость, — пишет Бодрийяр, - это экстатическая форма движения. В экстазе
больше нет подмостков, нет сцены, нет театра. Но и страсти нет тоже. Она интен¬
сивна, но бесстрастна. Она может только соблазнять, потому что соблазн — это тоже
экстатическая форма»25. Видеоклип и его выразительные возможности, специфи¬
ка его восприятия как будто трансформируют эйзенштейновскую концепцию мон¬
тажа. На разных этапах своей деятельности Эйзенштейн задумывался над изобра¬
жением как над носителем пралогических смыслов, над «соблазнением» зрителей
аттракционным строением монтажной фразы. В свою очередь, видеоклип прибега¬
ет к практике чистого «соблазна» - чувственные, эмоциональные реакции Эйзен¬
штейн рассматривал как один из элементов сложного комплекса восприятия, ви¬
деоклип же при помощи совершенных аудиовизуальных технологий многократно
усиливает лишь экстатическую его ипостась.
Выше мы рассмотрели особенности различных и сосуществующих в настоящее
время аудиовизуальных носителей. В то же время наша задача заключается не в опре¬
делении их особенностей, но, напротив, — в поисках сходства. Здесь можно выде¬
лить несколько уровней описания. Уместно, например, напомнить, что повсеместное
и широкое распространение видеотехнологий корректирует саму сферу кинопроиз¬
водства и вторгается в собственно процесс создания фильма. Так, благодаря видео во
всем мире наблюдается возврат к стандартной прямоугольной форме экрана - широ¬
коэкранный и широкоформатный фильмы, будучи воспроизведены на малом экране,
выглядят «сжатыми» черными полосами сверху и снизу, а значит, неудобны для ви¬
деопотребления. Кинооператоры стараются избегать слишком густых теней и темных
тонов, так как на видеокопии они «заваливаются» в нерасчлененный фон и так далее26.
Следующий уровень описания можно было бы определить как перцептивный.
Навыки телевизионного и видеопользования привели к тому, что и киноэкран уже
не выглядит «окном в мир». «Кино наполнит наш взор», — говорит французский ки¬
новед-синефил Ж.-Ж. Ориоль, неизменно садясь в первом ряду зрительного зала27.
25 Baudrillard J. Forget Baudrillard: An Interview with Sylvere Lotringer. - Forget Foucault / Forget Baudrillard.
N. Y., 1987, p. 82.
26 См.: Ямпольский M. Видео: Коммерция, эстетика, идеология.
27 См.: Трюффо о Трюффо. М., 1987, с. 409.
194
1994
Л. Козлов, ссылаясь на мнение кинозрителей старшего поколения, отмеча¬
ет, что если «в прежние времена» посетители кинотеатров стремились в первые
ряды партера, то теперь «они, особенно молодежь, решительно предпочитают си¬
деть в задних рядах»; что «теперешние зрители гораздо чаще и свободнее разгова¬
ривают между собой во время киносеанса, чем это бывало раньше»28. В условиях
киноэкранного просмотра современный зритель сознательно ищет рамку, ограни¬
чение изображения, позволяющие дистанцироваться от происходящего на экране,
отстраняться от экранного пространства и потреблять, главным образом, его кол¬
лажно-ритмическое поле.
Показательно, что по данным, опубликованным журналом «United States
News and World Report», в 1991 году 44 процента зрителей высказались за показ
рекламных роликов по ходу демонстрации кинофильмов. 21 процент опрошен¬
ных не имели по этому поводу определенного мнения, 35 процентов проголосо¬
вали против29. Здесь налицо та же тенденция пассивного «партикулярного» вос¬
приятия-потребления движущихся картинок, помещенных в условное двухмерное
поле экрана.
Наконец, особого внимания заслуживает собственно языковой уровень со¬
временного аудиовизуального сообщения. Стирание границ между технологиями
приводит, как уже отмечалось, и к выравниванию перцептивной нормы, к сведе¬
нию восприятия к общему знаменателю. В частности, нивелируется сам способ
аналитической организации внутрикадрового пространства.
Возвращаясь к уже упомянутой оппозиции: «Базен - Эйзенштейн», заметим,
что монтаж и раскадровка могут служить двум целям — повествовательной и ме¬
тафорической. В первом случае расчленение экранного пространства преследу¬
ет драматургическую задачу: то, что показано в кадре в настоящий момент вре¬
мени, и является значимым для восприятия того или иного фрагмента. В случае
метафорической нагрузки дискурса пространственно-временное единство может
нарушаться, монтажная фигура — содержать изображения, не относящиеся к дей¬
ствию и повествованию впрямую, но привлеченные извне или замещающие, или
дополняющие повествовательный фрагмент. Очевидно, в первом случае мы стал¬
киваемся с принципом метонимии (смежности), во втором - с принципом мета¬
форы (замещения). При этом одно не исключает другого - сугубо повествователь¬
ный дискурс в кино может обладать метафорическим значением, что и дало право
Ж. Митри говорить о «фильмической метафоре как особой форме метонимии»30.
28 Козлов Л. Указ, соч., с. 32.
29 United States News and World Report. 1991, Vol. 3, No. 8, p. 11.
30 Митри Ж. Визуальные структуры и семиология фильма. - В сб.: Строение фильма: Некоторые проблемы
анализа произведений экрана. М., 1984, с. 43-44.
195
Кино на ощупь
Видеомонтаж приводит к третьему пути. Если в нормативном кино серьез¬
ным эстетическим потенциалом обладает взаимодействие повествования (то есть
всего, что относится к сфере поведения и взаимоотношения персонажей) и дис¬
курса (то есть сферы выражения, высказывания)31, то электронный монтаж-кол¬
лаж резко это взаимодействие форсирует. По существу видеоклип, рассмотренный
нами как предельное выражение видеоэстетики, есть дискурс без повествования,
набор аттракционов, не связанных ничем, кроме предполагаемого чувственного
резонанса.
Метод пространственной раскадровки, близкий к видеоклипу, все чаще встре¬
чается в кино, особенно в его жанровых модификациях. Широко практикуемый
ныне метод многокамерной съемки позволяет разбить не только эпизод, а просто
проход или проезд на ряд ударных изображений, часто изолированных в простран¬
стве или выделенных суперкрупным планом. К тому же типу «гипертрофирован¬
ного» дискурса относится частая и не мотивированная ни повествовательной, ни
метафорической задачей смена точек съемки - главное, что тяга зрителя получает
постоянное раздражение.
Таким образом, современное кино прибегает не к аналитической или мета¬
форической, но декоративной, орнаментальной раскадровке пространства. При
этом по мере абстрагирования дискурса собственно повествование упрощается
и выпрямляется.
Одним из главных достижений предыдущего этапа кино - периода 60-х - на¬
чала 70-х годов — было усложнение нарративной структуры фильма. Авторская ре¬
жиссура 60-х, впитавшая опыт «нового романа», вводила в повествовательный ряд
сложные, ассоциативные ходы, разбивала пространственное и временное единство
действия, опредмечивала сферы внутренней жизни человека. Рой Армс, написав¬
ший в середине 70-х обстоятельное исследование способов повествования в со¬
временном кино, пришел к выводу, что оно базируется на «понимании того, что
истины XX века не могут быть до конца выражены в формах нарративности, под¬
чиненных правилам XIX столетия»32.
Однако конец века реабилитировал линейную нарративность. Повествова¬
ние в современном кино строится по принципу завершенных эпизодов, логиче¬
ски следующих друг за другом без пространственных или временных девиаций.
Здесь видится фундаментальная для современной культуры тенденция к облегче¬
нию, адаптации восприятия.
Настоящее исследование не претендует на исчерпывающий анализ аудиови¬
зуальных медиумов. Мы пытались проследить место феномена аудиовизуального
31 См.: Ямпольский М. Дискурс и повествование. - Киносценарии. М., 1989, № 6, с. 175.
32 Armes R. The Ambiguorus Image. L., 1976, p. 239.
196
1994
на конкретных примерах нормативов пространственного восприятия, наметить
его наиболее показательные, на наш взгляд, следствия в контексте сегодняшних
культурных процессов.
Предложенную здесь тему нельзя считать исчерпанной еще и потому, что
аудиовизуальный прогресс продолжает бурно развиваться и, следовательно, пред¬
лагает потребителю все новые и новые средства и технологии.
Логично допустить, что, например, телевидение высокой четкости (ТВЧ), по¬
лучившее широкое распространение в конце 80-х годов и за счет повышения строч¬
ности приблизившее видеоизображение к кинематографическему, обессмыслива¬
ет предложенную на страницах этой статьи постановку проблемы.
Возможно и так. Однако, как мы пытались показать, пространственное вос¬
приятие экранного текста не есть только проблема технического прогресса. Она
укоренена глубже - в самой логике исторического развития человечества, всту¬
пающего в третье тысячелетие.
«Искусство кино». 1994. № 2.
197
Кино на ощупь
Жизнь — на сладкое
Скандальная репутация сопутствовала седьмой по счету картине Феллини не толь¬
ко у нас. От сценария, живописующего забавы римской золотой молодежи, по оче¬
реди отказались семь продюсеров. В том числе и знаменитый Ди Лаурентис, неко¬
гда не побоявшийся финансировать Ночи Кабирии. На сей раз он нашел замысел
слишком уж вызывающим, героев слишком уж аморальными, а проект в целом
откровенно богохульным. Последнее умозаключение оправдалось с избытком.
Картина, первые кадры которой показывают статую Христа, прицепленную под
брюхом вертолета, летящего над Римом, вызвала резкую неприязнь Ватикана. В ка¬
толической Италии это означало почти официальный запрет. Феллини отправил¬
ся к архиепископу Милана — картина пошла, однако споры вокруг нее не утихли.
Может быть, лучше всего эта атмосфера передана в ностальгическом филь¬
ме Джузеппе Торнаторе Кинотеатр «Парадизо». Жители маленького итальянского
городка валом валят на «греховное кино». Священник, курирующий местный ки¬
нотеатр, призывает громы и молнии на голову режиссера-еретика. Мужья сбегают
от жен, чтобы в который раз поглазеть на знаменитый танец в фонтане, исполнен¬
ный Анитой Экберг, американо-шведской кинодивой, перебравшейся в Италию
и регулярно попадавшей в светскую хронику по разделу самых фантастических
сплетен.
В 1960-м фильм действительно шокировал. Впервые на итальянском экра¬
не, привыкшем к пусть не всегда счастливому, но почти всегда высоконравствен¬
ному человеку из народа, появились реальные обитатели римской улицы Венто —
пижоны, плейбои, скучающие красавицы и богемные литераторы, прожигатели
и прожигательницы жизни. Многие из них, такие как Анита Экберг, или подхал¬
туривающий на «Чинечитта» экс-Тарзан Лекс Баркер, или стремящийся к славе
итальянского Элвиса совсем еще зеленый Адриано Челентано, сыграли самих себя.
И жизнь их, бестолковая, пестрая и суетная, была не сочинена, а подсмотрена.
С высоты нашего сегодняшнего опыта ничего не стоит понять, что Феллини
снял кино о современной ему римской тусовке. Во всем мире и во все времена ту¬
совки одинаковы. Нас уже не удивить поражавшими современников режиссера ле¬
нивыми оргиями, внезапными самоубийствами и бесплодными самокопаниями.
Не удивить и словечками вроде «барокко» и «декаданс», встречающимися в каж¬
дой второй рецензии на Сладкую жизнь и всплывшими сегодня в нашей собствен¬
ной художественной конъюнктуре. И все-таки, как это ни парадоксально, смо¬
треть Сладкую жизнь надо именно теперь. Хотя бы потому, что почти все критики,
198
1994
Сладкая жизнь. Реж. Федерико Феллини. 1959
199
Кино на ощупь
писавшие о ней, единодушно отметили: впервые у автора Дороги и Ночей Кабирии
отсутствует чудо. Прежде оно было всегда. Даже побитый камнями лжечудотво-
рец из Мошенничества ощущал на себе нездешнюю благодать. Прежний Фелли¬
ни - добровольный провинциал и стихийный философ - отлично видел разницу
между волшебством фальшивым и настоящим, а потому лукаво изнурял своих ге¬
роев вознагражденным ожиданием.
В Сладкой жизни ждать нечего. И незачем. Этой непривычно многофигурной
фреской (он сам насчитал более четырехсот персонажей) режиссер открыл траги¬
ческую тему конца света, случившегося в одном городе — Риме. Апокалипсис по¬
лучился довольно веселый: с рок-н-роллом, ночными кабаками и умыканием секс-
бомб на чужих автомобилях. Не случайно уже тогда, в 1960-м, писатель Альберто
Моравиа проницательно сравнил Феллини с Петронием, а Сладкую жизнь с «Сати¬
риконом» — изысканным документом разложения и упадка могущественной древ¬
неримской цивилизации.
Десять лет спустя Феллини экранизирует Сатирикон и придаст странствую¬
щим любовникам сходство с падкими до удовольствий маргиналами «цветочной
революции». А еще через семнадцать лет в своем предпоследнем фильме Интер¬
вью вновь вернется к героям Сладкой жизни. Повинуясь взмаху магического жезла
постаревшего и полысевшего Мастроянни, грузная и, судя по всему, сильно пью¬
щая Анита Экберг превратится в черно-белую и оттого еще более обольститель¬
ную Сильвию. И снова окунется в струи ночного фонтана под ошалело-влюблен¬
ным взглядом Марчелло.
Я думаю, в это воскресенье стоит оторваться от Олимпиады и кавказских по¬
хождений Шурика. И посмотреть Сладкую жизнь. И поразиться, насколько прав
был Феллини, когда, защищая свою картину на аудиенции у миланского архиепи¬
скопа, сказал: «Я хотел показать моральное состояние человечества так, как это мог
бы сделать народный певец-сказитель двухтысячного года».
«Ъ». 1994. 19 февраля. Статья написана к телевизионному показу фильма Сладкая жизнь.
200
1994
Некруглая дата последнего классика мирового кино
Применительно к Куросаве туманный титул киноклассика обретает зримую яс¬
ность. Становится понятно, что классиком становятся не за счет числа снятых
картин, перечня формальных открытий и даже не за счет фундаментальной роли
в национальной культуре, а из-за особого качества авторского зрения, простираю¬
щегося далее видимых другим места и времени. Что бы ни снимал Куросава — эпи¬
зоды средневековой смуты, как в Тени воина, житие врача-подвижника прошлого
столетия, как в Красной бороде, или свои фантастические Сны о прошлом и бу¬
дущем, он всякий раз обращается к человеческим страстям, к объемному образу
мира, наполненному вопросами смысла и истины.
Куросава воспитывался на романах Достоевского, фильмах Джона Форда,
живописи Руо и музыке Шуберта. В его работах органично прижились сюжеты
западной литературы - от Эда Макбейна (Рай и ад) до Шекспира (Замок пау¬
тины, или Трон в крови, Ран, Злые остаются живыми) и Горького (На дне). Его
же собственные фильмы с легкостью адаптируются в евро-американские вер¬
сии и римейки. Так, Семь самураев стали легендарной Великолепной семеркой
Джона Стерджеса, а совсем недавно и Диким Востоком Рашида Нугманова. Тело¬
хранитель превратился в спагетти-вестерн Серджо Леоне За пригоршню долла¬
ров, Расемон — в Надругательство Мартина Ритта (обаятельная жанровая упру¬
гость этих переделок только оттеняет многомерную глубину первоисточников).
Будучи начинающим режиссером, Куросава реформировал канон театра Кабу¬
ки, разыграв его спектакль в естественных декорациях (Наступающие тигру на
хвост), а всего три года спустя в Пьяном ангеле показал послевоенную Японию,
воспользовавшись формулой американского «черного фильма». Российские зна¬
токи Достоевского признали куросавовского Идиота лучшей экранизацией ро¬
мана, а надменные английские шекспироведы сошлись во мнении, что наибо¬
лее полно кровавые перипетии «Макбета» воплотились в Замке паутины. Наши
интеллектуалы 60-х постигали дзен-буддизм по Расемону, а первый советский
киноэмигрант Андрон Кончаловский попытался самооправдаться своим Убе¬
жавшим поездом, сценарий которого был сочинен, но не реализован Куросавой
в середине 60-х.
Мировая слава пришла к режиссеру в 1951 году, когда зрители Венециан¬
ского фестиваля увидели пиратскую копию Расемона. Естественная в таких слу¬
чаях легенда гласит, что ничего не подозревающий Куросава тем временем удил
рыбу где-то в японской глубинке. За «Золотым венецианским львом» последовал
201
Кино на ощупь
Расемон. Реж. Акира Куросава. 1950
американский «Оскар». Запад узнал не только Куросаву, но и японское кино, ори¬
ентированное прежде на домашнюю аудиторию и не имевшее международного
хождения.
Японцы так и не простили Куросаве того, что первым в мире посланцем на¬
ционального кинематографа стал именно он, а не авторы медитативных поэм Ми¬
дзогути и Одзу, что Европа сначала признала не ритуальные драмы и исторические
хроники, а взвинченный, неистовый рассказ об истине, извращенной людскими
страстями, в котором восточная созерцательность причудливо сплелась с европей¬
ским скепсисом и гуманистическим пафосом Достоевского.
Куросава снимал, ломая географические и временные границы, переселяя
Макбета в феодальную Японию, а князя Мышкина на послевоенный Хоккайдо,
озвучивая прогулку японских влюбленных «Неоконченной симфонией» Шубер¬
та, а горьковскую ночлежку — народной музыкой «бакабаяси». Консерваторы ру¬
гали его за отрыв от корней. Подросшее к началу 60-х молодое и по-настоящему
«вестернизированное» поколение критиковало за абстрактный гуманизм. В ответ
Куросава снял Красную бороду, в одном из эпизодов которой доктор сначала жесто¬
ко увечит вышибал из местного борделя, а потом бросает своему помощнику фра¬
зу «Бинты и шины...»
Свою версию «Гамлета» Куросава назвал Злые остаются живыми. В названии
видно известное лукавство — у Куросавы нет добрых и злых, плохих и хороших, но
есть жизнь - убогая и прекрасная, полная величия и злодейства. Страсть и мечта -
две ее опоры, направляющие, силовые линии. Звучит перестук трамвайных колес
в ушах трущобного дурачка Рокутяна, засматривается на призрачный город его со¬
сед по свалке, безумный архитектор... Не скрытые ветвями воины, а настоящий лес
202
1994
Акира Куросава. Фот. Боб Дель Тредичи. 1980
203
Кино на ощупь
атакует Васидзу-Макбета... Страсть возбуждает иллюзию, та в свою очередь уводит
от истины. Мука в поисках истины и есть жизнь. В Смуте (Ран) японский король
Лир застывает в предсмертном прозрении, а балансирующий на краю обрыва сле¬
пой принц роняет вниз культовые атрибуты Будды. Бог рождается из страдания.
Без малого тридцать лет Куросава снимал красивые и жестокие фильмы о лю¬
дях и их страстях. Дома его недолюбливали. За границей - вежливо восхищались.
Кинокомпании диктовали разорительные условия, один за другим проваливались
собственные проекты... Многолетний соратник — актер Тосиро Мифуне - в конце
концов предпочел экспортную роль «Всемирного японца» некоммерческой фило¬
софии учителя...
Едва переступив порог шестидесятилетия, Куросава попытался покончить
с собой. Он нарушил традицию и здесь — не воткнул с гордой улыбкой меч в живот,
как и положено самураю, а полоснул себя бритвой по горлу, словно какой-нибудь
романтик, опоенный петербургским туманом... Попытка не удалась. Вернувшись
с того света, Куросава приехал в СССР и снял Дереу Узала, поразительно мудрую
картину о согласии человека с природой и с самим собой. Потом разработал ро¬
мантическую тему двойника в Тени воина. Потом примирил страдающего челове¬
ка и созерцающего Бога в Смуте, пригласил Мартина Скорсезе сыграть Ван Гога
в Снах. Он стар, мудр, но не утомлен. Он страдал сам и заставлял страдать своих
героев. Он самый неяпонский режиссер из всех японских режиссеров и самый по¬
следовательный классик мирового кино.
«Ъ». 1994. 30 марта. Статья написана к ретроспективе фильмов Акиры Куросавы
в петербургском кинотеатре «Спартак».
204
1994
Всё на продажу,
или Покаяние по-польски
У зрителей, не знакомых с мифами польского кино, картина Конрада Шоланско¬
го Человек из... вызовет легко объяснимое раздражение: в отсутствие оригинала па¬
родия теряет смысл. Зритель просвещенный испытает раздражение другого рода:
национальная киноистория выпотрошена и осмеяна режиссером и его соавтором,
сценаристом Ярославом Линдбергом, с сознательной бесцеремонностью неофитов.
Просвещенных зрителей, вероятно, окажется больше. Как-никак ориентация
в польских подтекстах еще недавно считалась самым смаком нашей собственной
кинотусовки. Но даже не выкусывая по крупицам гурманский слой цитат и отсы¬
лок, легко различить главный объект этой ядовитой карикатуры. Человек из... как
будто специально обрезан на полуслове, чтобы дать простор продолжению — пеплу
и алмазу, железу и мрамору. Всем тем материям, из которых в разное время высе¬
калась романтическая глыба польского киногероя, супермена и неврастеника, оди¬
ночки и патриота, обретающегося под сенью красно-белого флага еще и потому,
что государственная геральдика буквально повторила цвета компромисса и крови,
этот компромисс оплатившей.
1982 год. Подающая надежды выпускница киношколы (Агата Кулеша) стано¬
вится свидетельницей ареста диссидента. Семь лет спустя парижская официантка
возвращается на родину. Все изменилось. Гэбэшники переоделись в гавайские ру¬
бахи. Партийные функционеры рассуждают об акциях и кредитах. Вчерашние цен¬
зоры почти насильно вручают несостоявшейся режиссерше камеру и благословля¬
ют на съемки фильма о неизвестном герое антикоммунистического подполья.
От Гражданина Кейна до Расемона и от Всё на продажу до Человека из мрамора
реконструкция и расследование на экране означают коллизию между подлинным
и мнимым, иллюзорным и настоящим. Авторы Человека из... решили ее по-своему.
В эпиграфе к фильму, глубокомысленно осененному именем Ницше, говорится:
«личные заблуждения встречаются редко, коллективные - гораздо чаще». Поиски
Марека Микрута (Славомир Пасек), семь лет назад схваченного на глазах герои¬
ни, разоблачают не только анекдотические перипетии индивидуальной судьбы, но
и массовую легенду о героизме, легко звучащую в любой идеологической аранжи¬
ровке. Больше всех достается, конечно, патриарху национального мифотворчества
Анджею Вайде и его знаменитому диптиху Человек из мрамора и Человек из же¬
леза. Издевательское сходство имен (был Биркут, стал Микрут); почти покадро¬
вое воспроизведение сквозной сцены вайдовской дилогии (с той лишь разницей,
что, стремительно шествуя по коридорам студии, Кристина Янда разыгрывала акт
205
Кино на ощупь
гражданского неповиновения, а ее преемница с пеной у рта отстаивает идею филь¬
ма о героической работе цензуры); наконец, рассказ о герое в физическом отсут¬
ствии самого героя делают фильм Шоланского своего рода глумливым римейком
нонконформистских творений Вайды. Но не только их. Небезосновательно отыски¬
вая в новейших мифах «Солидарности» преемственность с многолетней романти¬
ческой кинотрадицией, Человек из... огрызается на «папочкино кино» в целом, на его
пафос, сентиментальность, барочную избыточность и этический перфекционизм.
Идущая от польской школы традиция воспевала индивидуальный героизм,
выбор, поступок. Она обожала экзистенциальные кризисы и исторические импе¬
ративы, мрачную риторику и трагическую иронию, религиозные символы и уни¬
версалистские метафоры. Восстанавливая обстоятельства подпольной биогра¬
фии Микрута, Шоланский доводит эти нормативные ценности до полного абсурда.
Если надо выкрасть из палаты арестованного товарища, то полбольницы взлетает
на воздух (потом, правда, выясняется, что впопыхах ошиблись, выкрали другого).
Если надо публично опорочить человека, то органы снимают фильм, где под его
именем действует другой (позже пропагандистская тактика меняется, и компромат
навсегда теряется в киноархиве). Подруга застенчиво признается Микруту в «ком¬
плексе героики»: настоящее удовлетворение ей может дать только мужчина, совер¬
шивший подвиг (примерив в целях конспирации мужской наряд, она постигает
собственную природу и в конце концов меняет пол). Эти и подобные им аттракцио¬
ны «на снижение» срабатывают всякий раз, когда речь заходит об очередных идеа¬
лах. Иные из них не слишком смешны, иные явно выдуманы на ночных посиделках
социалистической давности, иные, наоборот, сымпровизированы наспех и больше
подходят для стенгазеты, чем для полнометражного фильма. Финальный гэг пре¬
тендует даже на известную философичность. После премьеры ура-перестроечной
фальшивки о борце за народное благо еще один пинок Человеку из железа — герой
появляется под руку со своей ненаглядной Марысей. Вернее, Мареком. А сам он те¬
перь, напротив, зовется Марией. Влюбленные сохранили чувство и даже имена, по¬
менявшись полами... Так, отметившись рядом с модными в позапрошлом киносезо¬
не Играми плача, кончается эпоха героев и начинается эпоха людей.
Герои становятся людьми, пройдя стадии клоунады. Это общее для постсоциа¬
листического кинематографа место отыграно авторами польской картины с юмо¬
ром, но без особых откровений. Хотя бы потому, что романтические мифы, раз¬
ворошенные Конрадом Шоланским, давно отрефлексированы их собственными
создателями. Тот же Вайда во Всё на продажу отдавал их недешево. Шоланский
распродает за бесценок. Поэтому удары, в основном доставшиеся «папочкиному
кино» ниже пояса, помимо прочего, обнаруживают и настоящий рост нападающего.
«Ъ». 1994. 7 мая.
208
1994
Этот ясный объект насмешки
В своих мемуарах Луис Бунюэль признался, что на склоне лет его все чаще посе¬
щает дивное видение: уютно потрескивающий костер, в огне которого горят нега¬
тивы всех когда-либо снятых им картин. В финале фильма Этот смутный объ¬
ект желания воссоединившиеся после долгих мытарств любовники удаляются по
улице, и тут рядом с ними взрывается адская машина. Звенит разбитая витрина,
летят булыжники, клочья дыма и языки пламени затягивают экран.
Так выглядит заключительный кадр последнего фильма Луиса Бунюэля. Если
учесть, что, в отличие от большинства кинорежиссеров, он предпочитал снимать эпи¬
зоды в сценарной последовательности, этот итоговый взрыв, издевательски венчаю¬
щий псевдолюбовную историю, можно считать буквально последним кадром, сня¬
тым 77-летним маэстро эпатажа под занавес своей почти полувековой кинокарьеры.
«Гори все ясным пламенем!» — так можно было бы расшифровать прощаль¬
ную метафору Бунюэля, снискавшего пожизненную славу безбожника, хулигана
и анархиста. Таким он по существу и был - испанец по крови и католик по воспи¬
танию, скептик по убеждениям и сюрреалист по духу. Без малого полвека он ухит¬
рялся наносить ощутимые пощечины общественному вкусу, снимая насмешливые
и жестокие притчи-перевертыши, в которых сталкивал буржуазное человечество
нос к носу с его собственными комплексами и неврозами. Его предавали анафе¬
ме с церковных кафедр, ему вменяли политическую неблагонадежность, но бого¬
словы и психоаналитики с одинаковым рвением штудировали прихотливые кон¬
струкции его фильмов, где сон и явь, подсознание и реальность перетекали друг
в друга, минуя даже техническую стадию монтажного стыка.
Этот смутный объект желания, завершающий в нынешний четверг телевизи¬
онную ретроспективу режиссера, - последнее и, наверное, не лучшее творение Бу¬
нюэля. В нем нет нескромного обаяния таких безусловных шедевров, как Виридиана
или Назарин, в нем чувствуется усталость и проступает схема, на сегодняшний взгляд
его цинизм выглядит перезрелым, а эпатаж — умозрительным. Много повидавшему
современному зрителю знаменитая сюрреалистическая манера Бунюэля может пока¬
заться образцом экранного академизма: неспешного, обстоятельного и скучноватого.
И все-таки последний фильм мастера, составляющий своеобразную трило¬
гию со Скромным обаянием буржуазии и Призраком свободы, достойно завершает
и все творчество режиссера в целом, и его телевизионную ретроспективу в част¬
ности. Главные предметы бунюэлевских насмешек — Секс, Бог и Мораль в их из¬
вращенных обществом вариациях — в очередной раз вписаны в пересекающиеся
209
Кино на ощупь
Этот смутный объект желания. Реж. Луис Бунюэль. 1977
маршруты очевидного и невозможного. Бунюэль камня на камне не оставляет от
узаконенных институций веры, любви и добродетели. Маленький буржуа (Фер¬
нандо Рей) - похотливый, трусливый и тошнотворно благопристойный - пресле¬
дует объект внезапно вспыхнувшей страсти, не видя и не желая видеть, что гоня¬
ется за двумя совершенно разными женщинами. Парадоксальное решение пришло
к режиссеру помимо воли, но именно оно внесло в сюжетную схему неожиданную
координату. В разгар съемок обычно не склонный к импровизациям Бунюэль по¬
ссорился с исполнительницей главной роли и вынужден был заменить ее другой
актрисой.
В результате роль Кончиты сыграли Анхела Молина и Кароль Букэ. При каж¬
дой встрече страстная испанка Молина обещает герою бездну наслаждений. Но
едва объятия смыкаются, на ее месте оказывается холодная, как сосулька, францу¬
женка Букэ. Разрываясь между ними, влюбчивый буржуа все глубже погружается
в омут фантасмагории наяву, а вполне сатирическая коллизия прорастает в тему
вечной двойственности женской природы, начатую Бунюэлем образами Дневной
красавицы и потаскухи-мученицы Тристаны.
Погоняемый желанием, герой движется к смерти. Ненадежно скрытая при¬
личиями и табу, иллюзия правит людьми и их фальшивыми кумирами до тех пор,
пока не приходит время умирать, а стало быть, заниматься единственно простым
и понятным делом. Так думал Луис Бунюэль, насмешник и материалист, неизмен¬
но писавший имя Бога с маленькой буквы, но почему-то именно Бога благодарив¬
ший за свои атеистические убеждения.
«Ъ». 1994. 12 мая.
210
1994
Раз, два, три... Пусть всегда будет солнце!
Правила игры, в которую играет героиня нового фильма Бертрана Блие, таковы:
надо встать лицом к стене, сосчитать до трех и, быстро обернувшись, крикнуть
«солнце!». Если кто-то из стремящихся добежать до стены не успеет остановиться,
ему водить. Игра называется «Раз, два, три - солнце!». Так же, как и фильм Блие,
одного из самых оригинальных французских режиссеров, сумевшего пронести
индивидуальный стиль как минимум через три кинематографические эпохи. Сын
известного актера Бернара Блие, он дебютировал всего тремя годами позже Годара
и Трюффо, снискал шумную известность в начале 70-х, однако «живым классиком»
так и не стал - отчасти благодаря своей обособленности от любой из киноволн, от¬
части из-за непредсказуемых виражей собственного авторского сюжета.
В отличие от работ большинства соотечественников, так или иначе развиваю¬
щих или создающих различные кинематографические направления, творчество
Блие восходит к иному наследию — к водевилю и салонной драме, к культуре пара¬
докса и экстравагантной комедии. Будучи блестящим кинематографистом, точно
чувствующим природу и возможности экранного контраста, он вкладывает в уста
персонажей самые остроумные во французском кино диалоги и сочиняет порази¬
тельные истории. В 1973 году появились Вальсирующие, неизменно называемые
критиками в числе программных работ европейского кино. Проследив одиссею
двух оболтусов - не то криминалов, не то стихийных философов (в этих ролях
снялись молодые Жерар Депардье и Патрик Деваэр), - Блие значительно опередил
свое поколение, завороженное интеллектуальным мифом о «беспечных ездоках»
и «бунтарях без причины». Он показал, как бьющая через край витальность очаро¬
вательных негодяев способна пролиться на почву обыкновенной жизни не только
освежающей энергетикой, но и слезами, а то и кровью.
Двойственностью, трагикомической амбивалентностью были отмечены
и Приготовьте носовые платки, Холодные закуски, Вечерний костюм, Слишком
красивая для тебя. Сила в них уступала слабости, уродины посрамляли красавиц.
Жертвы превращались в мучителей, примерные жены — в потаскух, прожженные
донжуаны - в гомосексуалистов. Виртуозно балансируя на грани лирики и циниз¬
ма, почти басенной морали и черной иронии, классического гуманизма и субкуль¬
турного беспредела, находясь как бы вне магистральной европейской кинотради¬
ции и вместе с тем аккумулируя ее элитные черты, Блие выработал одну из самых
изощренных авторских манер, а известная усталость его последней картины пока¬
зательна и для эволюции режиссера, и для киноситуации в целом.
211
Кино на ощупь
Изнемогая от рефлексии, Европа не только открывает региональные кинематогра¬
фии, но и сама ищет натуру то на Востоке, то в Черной Африке, то в цыганском таборе,
то в монгольской степи. В поисках вдохновения Блие отправился в Алжир, где корни рас
и культур сплетены с той же непринужденностью, что и космос, опустившийся на зем¬
лю, и колдовство, сопредельное быту. Где мертвые, живые и еще не родившиеся ругают¬
ся из-за тарелки супа за общим столом, где, сосчитав до трех и крикнув «солнце!», можно
увидеть себя, каким был или будешь. В этом доопытном магическом мире пока не при¬
думаны границы между прошлым и настоящим, жизнью и смертью. В нем нет места
безжалостным водевилям самопознания, которые так здорово умел разыгрывать преж¬
ний Блие, но есть общность родства всех со всеми и наивная машинерия сказки. Часто
и с удовольствием режиссер поднимает камеру высоко над землей и, словно футболь¬
ный мячик, пасует ее пробегающим далеко внизу фигуркам. Куда они бегут - с места на
место или из возраста в возраст — не имеет значения. Категории времени и пространства
так же условны, как и жизнь героини, не без умысла названной Викториной. Она видит
себя маленькой девочкой, матерью семейства, трудным подростком, суетливой буржуаз¬
ий. В сбывающихся грезах ее докучливая мамаша падает под колеса товарняка, мертвый
приятель-тинэйджер комментирует любовные домогательства мужа, а папаша-алкого¬
лик то помирает от запоя, то вновь дремлет за кабацкой стойкой. Отца играет Марчелло
Мастроянни. Блие часто дарит любимым исполнителям роли, где маленькие бенефисы
соседствуют с локальными капустниками. Так, парочка Депардье - Деваэр безобразни¬
чала не без оглядки на грехи собственной юности, так, в картинах сына появляется Блие-
старший. В новом фильме Мастроянни, в кепочке неореалистического образца, играет
всеобщего родителя, путающего своих и чужих детей и не способного сориентироваться
в застройке городской окраины. В финале он находит нужную дверь, но за ней открыва¬
ется странный ландшафт, намекающий пропойце, что его земной путь окончен.
Уйти из жизни так же просто, как переступить порог своего дома. Адаптиро¬
вать режиссерскую манеру к конъюнктурному материалу сложнее. Высказываясь на
актуальную тему вечности, Блие попытался сохранить прежние черты своего пара¬
доксального зрения. У него нет ни мудрой ухмылки Отара Иоселиани, отыскавшего
пастораль за экватором (И стал свет...), ни экзистенциального раздрая Бертолуччи,
воздвигшего песчаный саркофаг над западной цивилизацией (Укрывающее небо).
В им самим созданном волшебном космосе Блие - режиссер рациональный, «город¬
ской» и европейский — чувствует себя не слишком уверенно. Потому и его «маги¬
ческий реализм» больше всего напоминает раскрашенную и произвольно смонти¬
рованную чернуху со всеми ее атрибутами: крошечными квартирками, помойками
и пустырями. Здесь скандалят, шаманят, орут и ругаются без оглядки на вечность.
Хотя вечность совсем близко. Надо только сосчитать до трех и крикнуть «солнце!»
«Ъ». 1994. 14 мая.
212
1994
Людвиг,
или Упражнение в смерти
Фильмы о философах снимают не часто. Будучи искусством «наружным» и пред¬
метным, кинематограф так и не научился говорить языком абстракций, состав¬
ляющих самую суть философствования. В этом смысле фильм Дерека Джармена
Витгенштейн в игровом кино - эксперимент уникальный. Во-первых, потому, что
ищет лексику, адекватную философской системе героя. Во-вторых, отыскав тако¬
вую, он обнаруживает ее полную противопоказанность природе экрана.
Людвиг фон Витгенштейн — человек легендарный. Интеллектуальная мода столе¬
тия поместила этого математика, заигрывавшего с мистикой, где-то между Альбертом
Швейцером и Львом Толстым. Автор знаменитого «Логико-философского трактата»,
ключевая фигура европейского неопозитивизма, Витгенштейн был мучим сложными
маниями, пороками и неврозами. И чем глубже он погружался в бездны собственного
отчаяния, тем более совершенную и логически безупречную картину мира создавал.
Дерек Джармен, писатель, художник, клипмейкер и кинорежиссер — персонаж
в той же степени противоречивый и в той же степени культовый. Наследник англий¬
ского эстетизма, начинавший с Гринуэем и Кеном Расселом, отшельник и пророк, про¬
ведший последние годы на приморской вилле рядом с атомной станцией, он стремил¬
ся к одиночеству, но вместе с тем умудрялся диктовать элитарную киномоду и быть
активистом международного гей-движения. Он эстетизировал все. И даже собствен¬
ную болезнь отыграл во внятной и воплотившейся художественной программе.
Во всех фильмах Джармена так или иначе присутствуют темы конца и сопре¬
дельных концу двойственности, экстравагантности, хрупкой красоты и неожидан¬
ной, последней силы. Будь то барочная живопись Караваджо или сказочная по¬
доплека шекспировской «Бури», режиссер неизменно отождествлялся со своими
героями - гениями на грани злодейства, обреченными на смерть охотниками до
плотских утех. Витгенштейн — предпоследний фильм недавно умершего Джарме¬
на - не исключение в этом ряду. И даже больше - своеобразный черновик завеща¬
ния, итог, идентификация с персонажем на уровне финальной оценки.
Витгенштейн считал, что границы мира определены границами языка. В по¬
исках визуального эквивалента Джармен воплотил этот тезис буквально. Язык его
фильма приведен в полное соответствие с предметом описания. Витгенштейн снят
в безжалостно-условной манере, на глухом черном фоне, в эстетике малобюджет¬
ного телеспектакля и населен не образами, а объектами. Есть отец, мать, сестры...
Есть персонаж, названный Бертраном Расселом. Но это, конечно, не тот знамени¬
тый нобелевский лауреат, логик, математик и публицист, а «некто Бертран Рассел»,
213
Кино на ощупь
Витгенштейн. Реж. Дерек Джармен. 1993
оппонент в ученых дискуссиях, одетый в мантию кембриджского профессора. Есть
Джонни, ангел, ученик и любовник - на нем Витгенштейн проверяет свои фило¬
софские пассажи. Есть, наконец, мистер Грин - зеленое чудище, причастное к тай¬
нам природы, которую Витгенштейн упорно анализирует по законам логики.
Для Витгенштейна мир был всего лишь совокупностью фактов. Его собствен¬
ную биографию Джармен свел к формальной канве: перечислению, послужному
списку. Детство, война... Неудачная учительская карьера... Поездка в Советскую
Россию... Кембридж... Одиночество... Смерть... Мир, сведенный гением к чистой
логике, предстает у Джармена статичным, лишенным драматургии и простран¬
ственной глубины, в противостоянии красного и зеленого — мысли и природы.
А непроницаемо-черный задник усиливает, воспаляет цвета, выдает и подчерки¬
вает маскарадность подмостков, где философ неутомимо «упражняется в смерти
и умирании» (так определял философию Платон).
В смерти и умирании киноязыка упражняется и Джармен, адекватными сред¬
ствами рассказавший историю блестящей интеллектуальной утопии. В финале
Витгенштейн видит мир таким, каким он мог бы стать, если бы не мечта о прекрас¬
ном и холодном царстве гармонии. За черным фоном прячется небо. Но и это небо,
куда устремляется мальчик на воздушном шаре, скорее всего, бутафорского проис¬
хождения. Так кто же прав? Людвиг фон Витгенштейн, вознамерившийся посред¬
ством логики восстановить физическую реальность бытия? Или язвительный ми¬
стер Грин? Или Джонни, по совету учителя подавшийся из философов в рабочие?
Или Дерек Джармен, предпринявший еще одно упражнение в собственной смерти?
«Ъ». 1994. 21 мая.
214
1994
Голый среди волков и овец
Если приплюсовать кулуарный рейтинг Обнаженного к шумному, хотя, на мой
вкус, и необоснованному успеху гринуэевского фильма Дитя Макона, получит¬
ся настоящий триумф английского кино. А заодно - наглядная иллюстрация к его
главным тенденциям. С одной стороны, окажется кино парадоксальное, эстетское,
активно вторгающееся на сопредельные территории. От музыки, как в компози¬
торских кинобиографиях Кена Рассела и «битлс-фильмах» Ричарда Лестера, до
пластических экзерсисов Джармена и Гринуэя, наследующих и стиль викториан¬
ской эпохи, и прерафаэлитские теории Рескина и Морриса.
С другой стороны, в британском кинематографе не ослабевает линия соци¬
ального реализма. Линия критическая, ангажированная, проблемная, но художе¬
ственно не менее состоятельная, поскольку подпитывается навыками классиче¬
ской сатиры и традиционного английского бытописания. Может быть, поэтому,
в отличие от иных национальных кинокультур, англичане не расплескали свою
демократическую новую волну, а адаптировали ее, закрепили и вот уже много лет
скрещивают с новыми реалиями и мифами, получая в итоге то черные памфле¬
ты раннего Стивена Фрирса, то почти соцреалистические кинороманы зрелого
Кена Лоуча. А то и такой экзотический цветок, как супермодные Игры плача Ней¬
ла Джордана.
Обнаженный очевидно укоренен в социальной традиции. И, вместе с тем, до¬
казывает, что правильно понятая традиция вовсе не мешает, а то и способствует
персональному авторскому взгляду. Почти ровесник Джармена и Фрирса (родил¬
ся в 1943 году), сценарист и режиссер Майк Ли дебютировал в 1971 году, уже успев
побыть актером, художником и театральным постановщиком. И хотя его первая
картина Печальные моменты (Bleak Moments) получила награды в Чикаго и Ло¬
карно, на большой экран он вернулся только 17 лет спустя. В 1988 году появились
Высокие надежды (High Hopes), в 1990 году - Жизнь сладка (Life is Sweet), своеоб¬
разная пролетарская дилогия, где сквозь классическую призму «семьи - ячейки
общества» проступал срез современной Англии с ее устойчивыми ценностями, аб¬
сурдистскими саморефлексиями и низовой философией выживания.
Тот же срез присутствует и в Обнаженном. Герой Дэвида Тьюлиса Джонни -
отщепенец, гуру и сексуальный гигант, без устали пророчащий конец света. Фигу¬
ра, кстати, вполне узнаваемая. Таких, как он, можно встретить в любой английской
и особенно ирландской пивной. Шляясь по лондонским трущобам, Джонни, обла¬
датель сильного ирландского акцента, обходит пабы стороной. Он предпочитает
215
Кино на ощупь
Обнаженный. Реж. Майк Ли. 1993
216
1994
случайные встречи и халяву в домах одиноких женщин. Где и излагает свое учение,
подкрепляя его выпивкой, марихуаной и брутальным сексом.
Генетически образ «отвязанного» философа восходит, конечно, к «рассержен¬
ной» новой волне с ее апологией аутсайдерства, социальными неврозами и но¬
стальгией по истине. Но не только. В первых же кадрах фильма Джонни люто на¬
силует случайную подружку, взламывает первый попавшийся автомобиль и мчит
на нем по ночному хайвею. В заключительной сцене, избитый, покалеченный, он
тайком выбирается из дома и на длинном проезде камеры ковыляет прочь. Пря¬
мая, хотя и ужесточенная, цитата свидетельствует о том, что Джонни претендует
на родство с Мишелем Пуакаром из годаровского На последнем дыхании. В той же
мере неистовая и неопрятная физиология сближает его с «вальсирующим» Блие,
с «беспечными ездоками» и героями Белоккио. С теми, кому все равно куда — в рай
или в ад. Но только немедленно. Прямо сейчас.
Словом, герой знает свою экранную родословную, что ничуть не мешает ему
пребывать в безудержной конфронтации с реальностью. В мире, добровольно по¬
делившемся на волков и овец, он предпочитает оставаться голым, злым и уязви¬
мым (на фирменном буклете «Naked» перевели как Беззащитный). Джонни спе¬
кулирует, юродствует, соблазняет, кормит своих жертв ядовитой кашей из Ницше,
Чернобыля, экологического кризиса - как будто назло, из вредности. Одинокий
волк, он не может воспользоваться добычей, потому что его витальная энергия
«героя рабочего класса» больше никому не нужна. Как пародийная тень за ним по
пятам следует некий мистический двойник - плейбой, яппи, сексуальный мань¬
як, залезающий в постели только что соблазненных Джонни женщин и ничуть не
уступающий ему по части любовной неутомимости.
В любом, даже самом подробном, пересказе фильм Майка Ли может показать¬
ся очередной вариацией на тему беспредела в нынешней обесцвеченной и полити¬
чески корректной жизни. Таких фильмов в постсоциальном и постисторическом
мире сделано великое множество, и мода на них постепенно заглохла еще в нача¬
ле 90-х. Но язвительная ирония и несымитированная сила Обнаженного как раз
в том и состоит, что нынешняя Англия, не перестающая усмехаться по поводу сво¬
его консерватизма и тотальной замифологизированности, предстает местом соци¬
альных стычек и сословных коллизий. Так что, глумясь вместе с подонком Джонни
над коллективными ценностями, Майк Ли имеет дело с вполне содержательны¬
ми вещами. И, как результат, снимает тонкий и злой памфлет, свободно звучащий
в регистрах от Бунтовщика без причины до Тетки Чарлея. Что на фоне повального
энергодефицита европейского кино не так уж и мало.
«Ъ». 1994. 14 июля.
217
Кино на ощупь
Горизонтальный мир Жана Ренуара
Сын художника Огюста Ренуара, он был почти ровесником кинематографа, еще
при жизни снискал репутацию классика и славился тем, что ни разу не повысил го¬
лос на съемочной площадке. По его фильмам учились будущие неореалисты, его ас¬
систентом начинал свою кинокарьеру молодой Лукино Висконти, его боготворили
ставшие режиссерами критики французской «новой волны». Франсуа Трюффо знал
наизусть диалоги всех его картин и, едва добившись независимости, назвал свою
кинокомпанию Les Films du Carosse в честь ренуаровской Золотой кареты. Ренуар
давно и прочно причислен к когорте бессмертных, мэтров, киноолимпийцев.
Тем более важно, что с недавних пор, накануне столетия режиссера и в пред¬
дверии векового юбилея кино, Ренуар переживает как будто второе рождение.
В многочисленных опросах и международных киноанкетах его рейтинг «кинема¬
тографиста всех времен и народов» неуклонно повышается. И прежде входившие
в десятку лучших Великая иллюзия и Правила игры теснят Броненосец «Потем¬
кин» и наступают на пятки Гражданину Кейну Орсона Уэллса.
Круглые даты Ренуара и самого кино совпадают с финалом века. Более того -
с концом тысячелетия. Время и культура оглядываются назад, словно перетряхивая
багаж для дальнейшего путешествия. «Вертикальное», идеологическое строение
мира, породившее суперколоссы Гриффита, фантазмы немецкого экспрессиониз¬
ма и возвышенно-надчеловеческое наследие Эйзенштейна, остаются в прошлом,
вместе с историей идей. В цену входит искусство «горизонтальное», человечное,
лишенное знаковых акцентов и подсказок. Фильмы Ренуара были именно такими.
Будто предвосхищая будущее, сам режиссер формулировал свое кредо как деление
мира по горизонтали, а не по вертикали. Воплощая свой принцип на практике, он
предпочитал держать камеру на уровне человеческого роста, пренебрегал ракурса¬
ми и наполовину сносил перегородки в интерьерных декорациях, чтобы избежать
лишнего монтажного стыка на непрерывном пути движущегося аппарата.
Как у всякого большого художника, и особенно художника кино, техниче¬
ская сторона у Ренуара неразрывно связывалась с мировоззрением. Отказавшись
от вертикальных барьеров, он вглядывался в «феерию действительности», находя
в ее вечном и плавном течении удивительные коллизии и сюжеты. Трудно пове¬
рить, что его Великая иллюзия родилась из нескольких бесед с бывшим однопол¬
чанином и из воспоминаний о собственном юношеском восхищении армейским
мундиром. Позднее отец-теоретик «новой волны» Андре Базен, считавший глав¬
ным делом своей жизни написание книги о Ренуаре, назовет его изобретателем
218
1994
Жан Ренуар. 1956
219
Кино на ощупь
документальной действительности, оплодотворившей такие важнейшие движения
мирового кино, как итальянский неореализм и французская «новая волна».
Ренуар начал снимать поток жизни задолго до Росселлини и питомцев «Cahiers
du cinema». В своем первом фильме Дочь воды, сделанном в 1924 году с простой це¬
лью запечатлеть на пленке красавицу-жену актрису Катрин Гесслинг, он предпо¬
чел живую природу модным авангардистским трюкам. И позднее, на рубеже 30-х,
занявшись жанровым кино, он, к неудовольствию продюсеров, вышел на улицы,
сплетая выдуманные сюжеты с легко узнаваемыми буднями. Еще большее удивле¬
ние вызвала его Марсельеза (1938), в разгар Народного фронта показавшая рожде¬
ние национального гимна как обыденное событие в жизни заурядных людей.
Ренуар не хотел и не умел снимать по-другому. В его «горизонтали» не на¬
ходилось места пафосу, этическому ригоризму, осуждению или оценке. Оставаясь
моралистом, он показывал всю неустойчивость равновесия, именуемого челове¬
ческим характером. В его героях сосуществуют наивность и вера, истинное и пу¬
стое, иллюзии и прагматизм. Спасенный из вод Будю из одноименного фильма
вновь ныряет в речку, осатанев от приторного лицемерия своих спасителей. В Ве¬
ликой иллюзии немецкий аристократ стреляет во французского, нарушившего со¬
словные границы ради воинской солидарности. Палят друг в друга из охотничьих
ружей вконец запутавшиеся герои меланхоличного водевиля Правила игры. Герои
нелепые, жалкие и жестокие одновременно. Пожалуй, только Чаплин в пору сво¬
его исполнительского расцвета был способен на столь прихотливую человеческую
трагикомедию. Он, впрочем, оперировал условностью маски. Жан Ренуар навсе¬
гда остался приверженцем безусловной реальности. Жизни в филигранных фор¬
мах самой жизни.
Пришпиленного капрала, которого сегодня покажут по российскому телека¬
налу, часто называют авторским римейком Великой иллюзии. И там, и здесь армия
и война, пересекающие горизонталь человеческой жизни вертикалью подневоль¬
ной службы и чиновной субординации. Поменялось время: ...Иллюзия датирова¬
лась Первой мировой, действие ...Капрала происходит на Второй. В отличие от пер¬
вого фильма, эта поздняя работа легче атрибутируется по разряду комедии. В 30-е
режиссер уделял немало внимания классовым перегородкам, в 60-е он показал
стремление к свободе как постоянное и стихийное свойство людской природы.
Впрочем, сама передатировка сходных сюжетов имеет и свой ироничный смысл.
В финале Великой иллюзии бежавший из плена герой проклинал войну и надеял¬
ся, что эта — последняя. Напарник советовал ему не строить иллюзий. Жан Ренуар
их тоже избегал. Может быть, поэтому и оставил свой уникальный след в истории
кино — величайшей иллюзии уходящего века.
«Ъ». 1994. 30 июля. Статья написана к столетию со дня рождения Жана Ренуара.
220
1994
И корабль приплыл: сказочник перебивает пророка
Когда в начале 80-х феллиниевский И корабль плывет вышел на наши экраны,
многим он не понравился. Говорили об усталости маэстро, о возрастном кризи¬
се, об измельчании знаменитой манеры. (...) У былого неуспеха ...Корабля... есть по
меньшей мере три причины. Во-первых, в отличие от большинства работ зрелого
Феллини, фильм попал к нам почти сразу, без опозданий и таинственных недомол¬
вок. Он не успел обрасти легендой, сопутствовавшей недоступным 8 1/2 или Слад¬
кой. жизни, а позднее Казанове и Сатирикону. Дозволенный плод горше запретно¬
го - эта тривиальная истина сработала буквально. Во-вторых, почти одновременно
мы увидели Репетицию оркестра — картину, близкую по теме, но имевшую фор¬
му аллегории о власти и свободе. По позднесоциалистическим временам это обла¬
дало безусловными конъюнктурными преимуществами перед суматошной невня¬
тицей ...Корабля...
Наконец, в-третьих, конец света, ставший теперь вполне обиходной катего¬
рией, был для нас тогда далекой и туманной метафорой. Репетиция оркестра
тоже предупреждала о сумерках человечества. Однако символическое противо¬
стояние раздолбаев-музыкантов и говорящего по-немецки дирижера-диктатора
было куда ближе, потому что проще и быстрее опрокидывалось на нашу соб¬
ственную социальную действительность. И корабль плывет Феллини зашифро¬
вал совсем другими мифами. Вечный образ библейского ковчега сросся с одной
из магистральных легенд XX столетия о Корабле - историями затонувшего в се¬
верном море «Титаника» или гибели «Лузитании»: суперлайнера, потопленного
германской миной, - отложившимся в памяти века символом взаимопроницае-
мости комфорта и катастрофы. К культурологической вариации этих сюжетов
мы в массе своей тогда еще были не готовы. Потому и разыгранный в оперных
декорациях и на бутафорских волнах аляповатый спектакль с сольным выхо¬
дом живого носорога скорее раздражал, чем тревожил. Больше утомлял, чем
озадачивал.
Сразу после национальной премьеры ...Корабля... итальянское телевиде¬
ние показало «Процесс над последним фильмом Федерико Феллини». В ходе
его один из журналистов заявил, что режиссер создал шедевр равнодушия
и холодности, который, как могильный камень, давит на все его творчество.
«Мы вступаем в тот период жизни, когда времени на реализацию наших пла¬
нов остается все меньше», — огрызнулся в ответ присутствовавший в студии
Феллини.
221
Кино на ощупь
Федерико Феллини. 1972
222
1994
И корабль плывет. Реж. Федерико Феллини. 1983
Феллини говорил от имени человечества. По существу, он сказал о себе. И ко¬
рабль плывет, его восемнадцатый по счету фильм, подвел черту под личным апо¬
калипсисом режиссера. Последовавшие за ним Джинджер и Фред и Интервью сде¬
ланы ностальгически-исповедально. Куда позвал Феллини Голос Луны, мы, увы,
так и не узнаем - фильмографию оборвала смерть.
И корабль плывет действительно могильный камень. Но только не над всем
наследием автора Дороги и Ночей Кабирии, а над завершенным отрезком пути. Над
мрачными сказками, которые Феллини рассказывал от первого лица или снабжая
авторской подписью - жизнеописание Казановы, петрониевский Сатирикон, ки¬
ноэкскурсия по Риму, столице тысячелетнего упадка. Увенчавший повествование
...Корабль... содержит интонацию, с которой сказочник перебивает пророка. При¬
гласив в сценаристы соавтора по Амаркорду Тонино Гуэрру, режиссер честно пред¬
упредил: фильм задумывается как розыгрыш, подделка под старое кино, годами
пылившееся где-нибудь на полке фильмохранилища.
От общего замысла осталась только первая сцена - вирированная имитация
видовой люмьеровской ленты, разыгранная в ощутимом присутствии допотоп¬
ной кинокамеры. Столь же ощутимо присутствие комментатора-рассказчика, ре¬
портера Орландо, ироничного двойника Марчелло из Сладкой жизни. Но если
в финале Сладкой жизни мучимый экзистенциальным кризисом герой замирал
на коленях у кромки прибоя, исторгнувшего из глубин издыхающее чудище, то
в последних кадрах ...Корабля... Орландо, единственный спасшийся с борта зато¬
нувшей «Глории Н.», мирно гребет по матерчатым волнам в компании носорога.
И делится со зрителями радостным открытием питательных свойств носорожье¬
го молока.
223
Кино на ощупь
Сладкая жизнь была первым феллиниевским фильмом без чуда, первым опы¬
том о надвигающемся конце света. И корабль плывет стал опытом последним. Ко¬
нец света в нем случился, а чуда так и не произошло. Сладкая жизнь остерега¬
ла от пира во время чумы. И корабль плывет приглашает к столу, уставленному
муляжами. Весь его экипаж - пролетарии и эстеты, аристократы и лицедеи, объ¬
единенные странной прихотью захоронить прах оперной примадонны на пустын¬
ном греческом острове — мертвы задолго до того, как кайзеровский броненосец
влепил залп по этому поющему ковчегу. Отказавшись от идеи состарить пленку,
Феллини отыгрался на другом. И прежде неравнодушный к физиогномике сво¬
их исполнителей, на сей раз он побил все рекорды в поисках лиц ушедшей эпохи.
Лиц, которых больше нет и не может быть снова. История свершила свой круг. Чи¬
стые и нечистые, слившись в последнем хоре, отправились на дно, которого, впро¬
чем, тоже нет, а есть вселенская чернота, наспех прикрытая лоскутами студийно¬
го реквизита.
В начале 80-х И корабль плывет смотреть было рановато. Смотреть его надо
сейчас. Уже потому, что по совокупности причуд этот далеко не лучший фильм
маэстро куда более «феллиниевский», чем гениальная Сладкая жизнь. В той,
в частности, области, где ирония скрещивается с трагедией и оставляет надежду
отнести мировую катастрофу к удавшемуся фокусу. Для ...Корабля... — лукавой
имитации последнего кино и последнего потопа - справедливо и обратное утвер¬
ждение. Если фокус не получился, катастрофа может подождать.
«Ъ». 1994. 10 августа. В настоящем издании публикуется с сокращением.
224
1994
Прасковья Лукьянова все еще защищает родину
Она защищает Родину не принадлежит к фильмам, которые хочется пересматри¬
вать вновь и вновь. Или к тем раритетам «золотого века», которые делают рубрику
«Киноправда» равно любимой пенсионерами, постмодернистами и просто людь¬
ми. Вполне целенаправленная агитка выполнена в функциональном жанре плака¬
та и в этом качестве исчерпала себя уже в те застойные времена, когда исправно
появлялась в праздничных телесетках к 8 Марта или ко Дню Победы. Сравнение
с плакатом напрашивается само собой. Грим Веры Марецкой, сыгравшей народную
мстительницу Прасковью Лукьянову, буквально повторяет знаменитый графиче¬
ский образ Родины-Матери, зовущей своих сынов под ружье. Те же скорбные склад¬
ки у рта, та же прядь, выбившаяся из-под темного платка. Те же траурные одежды,
внятно отсылающие к символике народной трагедии. В соответствии с мифологи¬
ей 30-х годов, героиня Марецкой олицетворяла женское начало советской коллек¬
тивной души, вступившей в величественный союз с отцом-основателем и осенив¬
шей тем самым идеологию символикой кровного родства.
Нетрудно различить в фильме Эрмлера типические образы тоталитарной
эстетики. На новом социальном материале Прасковья Лукьянова продолжила ряд
гомункулусов — женщин-гражданок. Ряд, где певучие озорницы Любови Орловой
соседствовали с бой-бабами Марины Ладыниной и сыгранной той же Марецкой
членом правительства Соколовой. Но если первая надолго воплотила всенародный
секс-символ, а вторая претендовала на роль напарницы и подружки, то за Марец¬
кой укрепилось амплуа матери и жены. И именно ей досталась скорбная вариация
мифа - пожертвовать своей мирской семьей и обрести новое родство в пастве на¬
родных мстителей. «Новых детей» Прасковьи, юных партизан Феньку и Сеньку, не
случайно сыграли суперхарактерные Лидия «Шурочка» Смирнова и вечный Гав¬
рош советского кино Петр Алейников — народные герои, обретшие в ее лице мать-
воительницу и командиршу.
Словом, все в фильме разыграно по канону. Все, но не до конца. Появившая¬
ся в середине 1943 года картина Эрмлера демонстрирует еще и характерную по¬
правку к нормативам Большого стиля, чей величественный фасад изрядно постра¬
дал в пламени военного пожара. Благодаря Александру Тимофеевскому читатели
«Ъ» знают теперь, что Большой стиль зиждется на полном совпадении реального
и идеального, на великом тождестве жизни и искусства. Подобное равенство в оче¬
редной раз было достигнуто в культуре сталинского «золотого века», успешно сво¬
дившего идеологию к мифологии, трактуя их в формах самой действительности.
225
Кино на ощупь
Война, хоть и объявленная Великой и Отечественной, принесла настоящую смерть
и потребовала реальную, а не идеальную жизнь. Соответственно изменился и соц-
заказ. Глядя фильмы военного времени, легко увидеть, что губительный для Боль¬
шого стиля «поворот к человеку» впервые случился именно тогда, а не в эпоху хру¬
щевской оттепели, как следует из официальной версии нашей психологической
истории. К индивидуальному сознанию апеллировала и табуированная прежде
жгучая мелодрама — Жди меня, и авантюрно-приключенческий Секретарь райко¬
ма. В том же, что и Она защищала родину, 1943 году появились Два бойца Леонида
Лукова с первым советским шансонье Марком Бернесом. И напевал он в переры¬
вах между боями не официальную «Священную войну», а полублатные «Шаланды,
полные кефали...»
Фридрих Эрмлер показал еще один путь вочеловечивания правящей доктри¬
ны. «Действительность стала много страшнее любого, даже лишенного вкуса во¬
ображения», - годом раньше написал в дневнике Александр Довженко. То же слу¬
чилось и с Большим стилем, в годы войны принявшим в себя неслыханную меру
жестокости и натурализма. Весь мир содрогнулся, увидя, как по снегу ведут на
казнь босую партизанку в Радуге Марка Донского. Центральные газеты публикова¬
ли крупный план только что вынутой из петли Зои Космодемьянской. «Если немца
убил твой брат, значит брат, а не ты солдат!» — восклицал Константин Симонов еще
до того, как вся страна заучивала наизусть его знаменитые «Жди меня...»
Взывая к личности, время опиралось уже не на идеологию, а на физиологию,
на шоковый эффект, на индивидуальную ненависть. Фридрих Эрмлер шагнул за
болевой порог едва ли не дальше других. Завтра днем следует включить (или, на¬
оборот, выключить) телевизор, помня о том, что Она защищает Родину содержит
один из самых жестоких кадров советского кино: крошечный младенец под гусе¬
ницей фашистского танка. Это было снято за сорок лет до климовских Иди и смо¬
три. Снято за пределами всякой эстетики, с твердым пониманием, что, увидев
такое, любая мать и на экране, и в зале возьмется не за «Краткий курс истории
ВКП(б)», а за топор - вечный спутник кровавого русского индивидуализма.
Времена меняются. То, что некогда было руководством к немедленному дей¬
ствию, допускается в сферу авторского самовыражения (в этом легко убедиться
в ближайший вторник, посмотрев хотя бы полчаса из Иди и смотри). И Родина, ко¬
торую защищала Прасковья Лукьянова, вот уже несколько лет пишется со строч¬
ной буквы. Не берусь потому судить, стоит ли смотреть в выходной старую кар¬
тину Эрмлера. Вероятно, все-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы знать, как легко
мотив личного мщения переходит в разряд тотального мифа.
«Ъ». 1994. 3 сентября.
226
1994
Заграница, которую мы потеряли
1.
Отпевая вместе с Эльдаром Рязановым «Русь улетающую», Татьяна Москвина за¬
мечательно написала в одном из прошлых «Сеансов»:
«Больше никогда не будет ни старых большевичек,
ни художниц-нонконформисток, ни полковников, бравших Мудацзян,
ни обкомовских матушек, ни бедных евреев-отказников со скрипочкой
в ручках».
Список можно продолжить.
Никогда больше на нашем экране не появятся прогрессивные западные жур¬
налисты с усталыми глазами и их продажные коллеги с неспокойной совестью, ан¬
тифашисты в сувенирных беретах и экс-узники концлагерей, поднимающие про¬
нумерованные руки в интернациональном приветствии «рот фронт!»... Никогда
больше мы не увидим льстивых дипломатов-шпионов и сильно декольтированных
шпионок, влюбчивых парижанок в пальто из кожзаменителя и американских кон¬
грессменов в чешских галстуках... Не будет больше Лондона, снятого во Львове,
и Вильнюса, загримированного под Берлин, пачек «Мальборо», набитых «Космо¬
сом», и баночного пива, которое редко открывали в кадре, потому что чаще всей
группой открывали еще до съемки...
Ничего этого не будет, потому что, подобно Атлантиде, эта часть Западного
Мира исчезла навсегда, будучи неотделимой от Руси Советской, фантомом обску¬
рантистского сознания, политически откорректированным заповедником народ¬
ных грез. Пропажа огромного региона с культурной карты мира прошла незамет¬
но - ни до, ни после ни в одной стране Европы или Америки не влюблялись, не
боролись за мир, не закуривали и не танцевали рок-н-ролл так, как в Загранице,
созданной советским кино, в секретной республике, населенной прибалтийскими
актерами и польскими актрисами.
К реальности эта призрачная область относилась с великолепным презрени¬
ем. «Для русского человека иностранец - прежде всего немец. А коли немец, зна¬
чит - фашист!» — удачно имитируя интонацию литературной классики, говари¬
вал в застойные времена один мой знакомый. И был, безусловно, прав. Явленная
в фильмах, Заграница исподволь воспитывала в советском человеке ненавязчивый
комплекс полноценности. Что ни говори, а немца мы побили в его собственной
берлоге. И, завидуя по мелочам человеку заграничному - его замшевой куртке, его
227
Кино на ощупь
смело накрашенной любовнице, его возможности, не напрягаясь, взять авиабилет
в любую точку земного шара и позвонить по телефону из любого бара или кафе,
мы понимали: в чем-то главном этот человек ущербен и обделен. И он подтверждал
это своим умилительно-ломаным русским языком, своей полудетской верой в де¬
мократическое устройство жизни и полной готовностью воплотить лучшие черты
характера на очередном витке советско-заграничной дружбы.
Западный человек годами был для нас романтическим человеком. В нем ове¬
ществлялась молекулярная бытовая свобода: он не стоял в очередях, его не про¬
рабатывали в месткоме, дружинники не стригли его слишком узкие штанины или
слишком длинные волосы. Над ним, правда, царили спецслужбы. При необходи¬
мости они убивали. Но убивали, не унижая. На ночной улице, за ресторанным сто¬
ликом, на парижской набережной. Нас самих в то время уже не стреляли, но из¬
мывались над нами предостаточно. И эта негласная альтернатива между свободой
и смертью окончательно венчала концепцию. В игре экранной светотени мы были
настоящими, а они — идеальными двойниками.
Они проживали за нас нашу лучшую и несбыточную половину. Вот поче¬
му всякий эксцесс, катаклизм, катастрофа там отзывались здесь с удвоенной бо¬
лью. Невнятный по своим социополитическим истокам чилийский путч стал для
нас неформальной драмой, во многом благодаря кадрам телевизионной хрони¬
ки. Длинноволосые парни в расклешенных джинсах ползли вдоль тротуара, пада¬
ли у стен, толпились посреди огороженного колючей проволокой стадиона... В ту
пору патлы и ширина брюк были для нас выраженными элементами общественной
фронды — сантиметры от колена или бедра олицетворяли суверенность личности.
В свою очередь, заваривший кашу Пиночет причесывался с бриолином, носил во¬
енный мундир и прятался за темными очками (позднее наши масс-медиа прило¬
жили немало сил, чтобы не заметить эту униформу диктатора на большом друге
Советского Союза товарище Войцехе Ярузельском). При такой расстановке сил ре¬
зультат был легко предсказуем. Безымянные чилийцы с телеэкрана сыграли за нас.
Пошли (волосня против бритых затылков) на штыки. Встали (вольный стиль про¬
тив ранжира) к стене... Выронили гитару из размозженных армейским прикладом
рук. Когда же выяснилось, что замордованный путчистами Виктор Хара любил
в свободное время наигрывать битлов, волна сострадательной любви окончательно
вышла из берегов всякого здравого (Это сладкое слово — свобода!) суждения.
2.
Сложившаяся субординация Джекила и Хайда диктовала свои, порой весьма при¬
хотливые, условия. Туда наш человек попадал с опаской. Проваливался, как Али¬
са в страну чудес. Его не оставляло и не могло оставить ощущение сбывшего¬
ся волшебства. Прямее всех на эту тему высказался в своих поздних фильмах
228
1994
Владимир Наумов: по ту сторону границы возвращалось прошлое, отыскивалась
забытая любовь (Берег). Там судьба не останавливалась перед таким балаганным
фокусом, как подтасовка человеческих копий (двойная роль Белохвостиковой
в Тегеране-43).
С другой стороны, Зазеркалье таило множество подвохов и опасных ловушек,
против которых не всегда срабатывало даже столь надежное заклятье, как поимен¬
ное знание членов югославского политбюро или рост урожая в процентах против
1913 года (зачем еще, думаете, денно и нощно трудились зарубежные комиссии
райкомов, как не за тем, чтобы проверить наше владение первичными навыками
экзорсизма).
Империя точно чувствовала бытовую незащищенность своих граждан. Не¬
чисть наваливалась в мелочах, затягивала, подминала, подвергала ужасному тесту
на сбывшееся подсознание. Распространенный сюжет, согласно которому нашего
человека совращают там, а расплаты требуют здесь, органично укладывался в фан¬
тасмагорию ночного кошмара, длящегося и после пробуждения. В этом смысле
срединная часть «трилогии о резиденте» (где командировочного сначала искушают
самой Эдитой Пьехой, чей эстрадный имидж годами поддерживал тайну «несовет¬
ской женщины», а потом выставляют счет на родине) с точки зрения зрительской
идентификации почти буквально повторяет Кошмар на улице Вязов. С той лишь
разницей, что обгорелый Фредди Крюгер залез в зрительскую подкорку из страш¬
ной сказки, а подлая агентша — из официальной идеологии.
В свою очередь, Западный Человек жил на нашем экране в двух основных
ипостасях. В первой он значительно облегчал труд отечественных сценаристов, из¬
бавляя их от детальной разработки отрицательного персонажа. Шпион, диверсант,
расист, консерватор, буржуй, цэрэушник или фашист, правый или левак, - был
Плохим Человеком, чьи пороки априорно объяснялись профессиональным стату¬
сом или политической принадлежностью. К чести бывшего советского кино — оно
редко унижалось до открытого национализма. Чаще всего прохвост щеголял гра¬
жданством Одной Западной Державы, без дальнейших уточнений.
Хороший Иностранец был не менее монохромен. Его главной задачей оста¬
валось прозрение. И - через обретенный свет - переход от бесплотной романти¬
ческой эманации к самозавершению. Понятно, что тень получала окончательный
объем только на территории оригинала — отсюда часто подразумеваемый, а порой
и открытый мотив стремления по нашу сторону границы. Зачем? Почему? Вспо¬
мним Цирк Григория Александрова. «Теперь понимаешь?» - вопрошает лучезарная
Райка у марширующей рядом Марион Диксон. «Теперь понимаю!» - восторженно
отвечает та. И этот экстатический возглас полностью исчерпывает ритуал мисти¬
ческого причастия, а заодно повисает долголетним эпиграфом к психологической
истории Иностранца в советском кино.
229
Кино на ощупь
3.
От Мистера Веста в стране большевиков до Цирка и от Русского вопроса до Ев¬
ропейской истории дистанция большого идеологического размера. Формула кор¬
ректировалась, снабжалась актуальными значениями, регулировалась в тон пра¬
вящей концепции. От примитивно-агитпроповского «у них негров мучают, а у нас
как-никак медицина бесплатная...» до масштабов планетарной катастрофы. Элит¬
ные представители нашей стороны (разведчики, дипломаты, торгпреды), действуя
с целеустремленностью зрячих в слепом царстве, спасали их детсадовскую демо¬
кратию от фатальных неприятностей — заговоров, вирусов, мировых войн. В по¬
следние десятилетия к делу подключились природные стихии. Наши люди ездили
туда бороться с тайфунами и эпидемиями. Та сторона то и дело подкидывала неиз¬
лечимо больных (о, дивная Комаки Курихара, безотказный виктимный тип совет¬
ского кино 70-х, хрупкая, как лепесток чайной розы, и проницаемая смерти, как
бумажное окошко в бурю!).
Бинарность формулы, ее магическая альтернатива оставались, однако, преж¬
ними. Непроходимая граница разделяла миры, и эта табуированная черта опоя¬
сывала сознание даже тогда, когда оно вырывалось из-под контроля дряхлею¬
щего «сверх-я» идеологии. Эпизод, надолго уложивший на полку панфиловскую
Тему, замечательно иллюстрирует высоколобую вариацию мифа. Сцена прощания
с «отъезжантом», добровольно отправляющимся в царство мертвых, решена в пол¬
ном наборе вуайерских признаков. Христоподобный самоубийца и павшая к его
ногам женщина увидены чужими глазами издалека, пойманы в случайном ракур¬
се, подсмотрены с поличным. В них есть напряжение того, на что нельзя смотреть
и чего не положено знать (схожим образом, через череду опосредующих предме¬
тов, режиссеры перестройки будут снимать сексуальные сцены).
Снимая отъезд, Панфилов снимает смерть. Пускай и высокую, добровольную,
жертвенную (отсюда и внятная христианская цитата). Но по каким бы резонам жерт¬
ва ни состоялась, из мира теней нет обратной дороги. Проводы туда суть похороны
заживо и наяву. Эвридика меняется местами с Орфеем. И Орфей уже оглянулся...
В данелиевском Мимино миф повернулся низовым, «невсамделишным» ракур¬
сом. Неверный жест телефонистки — и лубочный джигит прорывается аж прямо
в Тель-Авив, болтает с «тем светом», где, оказывается, тоже живут грузины. Неофольк-
лорный зачин легко формирует темную пропасть небытия, смеховой, наивный кос¬
мос обнимает миры, сводит воедино жителей обоих «полуцарствий», но это вовсе не
опровержение формулы, а подтверждение ее, формулы, безусловного существования.
Миф приручался, адаптировался, жил. «У него (нее) брат (муж) плавает», -
говорили мы в застойные годы, интуитивно подразумевая даже не столько товар¬
ные преимущества сертификатных чеков, сколько паром, рассекающий тяже¬
лые воды Стикса, курьерскую почту между призрачными берегами... «В терпком
230
1994
воздухе крикнет последний мой бумажный пароход», — споет потом «Наутилус»,
прощаясь с Америкой, а вместе с ней - со всем Западным Миром, частью несуще¬
ствующей суши, окруженной священной водой.
Один из самых расхожих символов перестройки — мост. Гдe-то на поверхно¬
сти новой идеологической доктрины предполагалось, что мы и они встретимся
на средине и, обогащенные знанием друг о друге, разойдемся восвояси. Переправа,
конечно, рухнула. Да и как могло быть иначе, если на рандеву вызывались призра¬
ки, намагниченные антиподы?
Столь же бесславно закончилась короткая попытка показать миру жителей
новой «потемкинской деревни». С нашей стороны потребовался цельный чело¬
век, готовый отрефлексировать свою мистическую половину без суеверных стра¬
хов и причитаний. Рейс-222 Сергея Микаэляна, наспех загримировав действитель¬
ный случай, рискнул обвинить идеологию. Муж просит политического убежища.
Жена хочет домой. Самолет маринуется на взлетной полосе, а тем временем идет
напряженная политическая игра в верхах; игра, где ставкой выступает, так сказать,
«ячейка общества» (ясно, почему именно она. Ячейка-то двойная — муж и жена.
Стало быть, опять половинки). Вывод прост и бестолков: нельзя, дескать, разби¬
вать живых людей на игровые поля, даже если это советские люди. Цельным дол¬
жен быть человек. Независимым и свободным.
Это, конечно, чушь. Пропустим общее рассуждение о том, что постылая клет¬
ка несвободы при ближайшем рассмотрении оказалась для многих внутренним ко¬
стяком, опорой, конструкцией. Куда интереснее проследить за самовоспроизвод-
ством мифа, выпущенного на волю и зажившего новой, неидеологической жизнью.
Вот, например, мелодрама Шереметьево-2 (сравним название с Рейсом-222
и убедимся в том, что прежний водный транспорт сменяется более оперативным
авиационным). Он решает уехать. Она — нет. Изощрившись, он подстраивает кри¬
минальную ситуацию и убеждает бежать от ужасов грядущего беспредела. Изне¬
могая, она соглашается, но тут в ее жизнь входит Главное... Художник, мыслитель,
атлет, обеими ногами стоящий на родной земле. В финале он бросается в пого¬
ню, но поздно - таможенная стойка навеки разделяет едва нашедших друг друга
влюбленных.
Очевидно, Заграница здесь фигурирует всего лишь в качестве жанровой функ¬
ции. Мог быть Северный полюс, мог и Сатурн - в конце концов, не все ли равно,
куда исчезает любовь, коль скоро ее главная задача исчезнуть. Любопытно другое.
Уехать уже можно. Но уехать без риска стать беспросветным злодеем, разлучни¬
ком, доверенным лицом тьмы еще нельзя. И формула двух миров вовсе не распа¬
дается, а только совершает полный оборот вокруг собственной оси. Здесь почва
уходит из-под ног. Флер тамошнего существования вдруг оборачивается зримой
реальностью.
231
Кино на ощупь
Что остается нашему человеку? Прежде он чувствовал себя особенно полно¬
ценным, зная, что его идеальная половинка роскошествует где-то за бугром. Он ле¬
леял мечту о себе самом, каким он мог бы быть, пестовал ее, как оран¬
жерейный цветок, как нежное дитя (назовем вещи своими именами - в конце
концов, наше высокомерие к загранице было мудростью взрослых по отношению
к очаровательным, но малость безмозглым детям). Приезд тамошнего человека
сюда отмечался бурной акселерацией. Персонаж рос на глазах, буквально взрос¬
лел. Перестройка заставила уверенного в себе получеловека назваться недочелове¬
ком. С некоторых пор маршрут диаметрально поменялся. Не они к нам, а мы к ним
поехали добирать собственные человеческие кондиции.
В очень обаятельном, странном и неудачном фильме Сергея Юрского Чер¬
нов. Chernov поездка заканчивается трагически. В своей непотревоженной, нераз-
ворошенной, получеловеческой жизни Чернов счастлив и адаптирован. Отчасти
и потому, что полноправно владеет мечтой о себе, одетом в белый костюм и пу¬
тешествующем без видимой цели. Действительность вполне заменяется суррога¬
том - роскошным макетом железной дороги, который Чернов любовно дополняет
новыми и новыми деталями и подробностями. Путь в заграницу реальную лежит
через предательство мечты. Продав чудо-игрушку, Чернов едет за кордон, туда, где
бродит его двойник Chernov. Туда, где сложная и изменчивая траектория вопло¬
тившейся иллюзии в конце концов вышвыривает его из гостиничного окошка...
Здесь названа первая буква поменявшегося имени. Печальная притча Юр¬
ского посвящена самоидентификации, то есть, на уровне формулы, свиданию
с собственной отчужденной ипостасью. Естественно, интеллигент, заплутавший
в подвалах вымысла, испытания не выдерживает, гибнет. Свобода втягивает его
в центростремительную забаву, где право выбора есть только у двойника. Чернов-
настоящий к такому не готов и, как и положено новобранцу, списывается в первом
же бою. Есть, правда, возможность сдаться. Но провидческая печаль фильма Юр¬
ского как раз в том и состоит, что «та сторона» пленных не берет. И в подранках не
нуждается.
Герой Паспорта Данелии оказывается покрепче. Его предшественник из Ма¬
мино всего лишь услышал жителей того света. Он же посетил Зазеркалье лично
и заодно пережил обряд сказочной инициации. Преемственность на уровне куль¬
турного героя тут несомненна, но прежний наивный космос уже не тот. В былые
времена он полностью искупался родством, общностью, родом. Грузин — он и в Из¬
раиле грузин... В Паспорте миры развалены, кровь поделена и обесцвечена. На
карусели перевернутых миров легко балансирует только комическая тень героя,
сменившая судьбу на справку об освобождении и тасующая подданства, как ме¬
ченые тузы в колоде (Янковский играет Ностальгию наоборот, но это не очень
смешно).
232
1994
У каждого класса свой миф. То, что для слабогрудого умника Чернова смер¬
тельно, — народу ничего себе, переносимо. Сколько бы ни шпыняла фортуна за¬
блудшего кацо (оценим иронию режиссера: он снимает француза в роли грузина,
уехавшего по еврейской визе), итог процедуры все равно не в погубившей Чернова
персональной тождественности. Миновав лабиринты новейшего Вавилона, пройдя
огонь, воду и медные трубы, герой мудреет общинным разумом и обретает статус
заслуженной полноценности. Только зачем? В финальном кадре Мимино потертый
вертолет обоими колесами крепко стоял на родной земле. Битый-перебитый мы¬
тарь из Паспорта форсирует пограничную реку, чтобы положить на чужую моги¬
лу обручальное колечко — символ вечного и бесполезного возвращения.
4.
При социализме за кордон отправлялись либо лучшие, либо всем миром. Стремле¬
ния одиночки и коллектива совпадали: и Штирлиц, и массовки Освобождения из¬
бавляли народы Европы от коричневой чумы. И наоборот - тамошние резиденты
использовали ошибки отдельных граждан для покушений на целое. Перестроеч¬
ная свобода выезда предоставила право самостоятельного решения, но при усло¬
вии заложника-гаранта. И в Чернове, и в Паспорте присутствует мотив двойни¬
ка, оборотня, буквальный телесный самоповтор. Брат-полукровка у Данелии или
иноязычный однофамилец у Юрского. Они провоцируют сюжетный зачин, под их
именами герои путешествуют через страну чудес, они, будто шпионская легенда,
прикрывают ментальные координаты международных роуд-муви.
Двойник есть и в Предсказании Эльдара Рязанова. Судьба возвращает пожило¬
му литератору самого себя, помолодевшего и готового к отъезду. Не обладая мудро¬
стью оригинала, дубль всячески подчеркивает свое биологическое превосходство,
силу и зрелый космополитизм. Истина, впрочем, торжествует. Пуля, назначенная
старому, сражает молодого. Летят по двору чистые листы ненаписанной рукописи.
Убитого жалко, но не очень, потому что все, что он мог бы сочинить в своей пред¬
полагаемой жизни, уже сочинил или еще сочинит выживший.
Псевдоромантический конфликт решен режиссером с прицелом на лириче¬
ский эпос (последнее следует понимать не уничижительно, а буквально. В конце
концов, эпос есть эпос, и Рязанов один из поздних его рапсодов). Старость и моло¬
дость - два шифра, два образа «Руси улетающей». Только одни стремятся в «небе¬
са обетованные», а другие в заморскую эмиграцию. Но там, по ту сторону, - небы¬
тие, мрак и пустошь. Ветры оттуда иссушают витальную силу родной земли — не
случайно в Небесах обетованных главной заморской угрозой был завод по про¬
изводству презервативов, а в Предсказании невыраженная конкуренция между
двойниками, так или иначе, подразумевает спор о мужской потенции. Прямая пси¬
хоаналитическая символика неудивительна для коллективной души, избравшей
233
Кино на ощупь
своей победоносной эмблемой фаллический контур межпланетной ракеты. Неуди¬
вительна она и для Рязанова, до самого конца разделившего иллюзии воспетой им
общности, еще недавно именовавшейся Великим Советским Народом. Хотя порох
в пороховницах, безусловно, есть. Девушку из сберкассы, доставшуюся герою в ка¬
честве награды за мужество и патриотизм, у Рязанова играет француженка.
Итак, с одной стороны, поиски «заграницы» чреваты самопознанием. С дру¬
гой - прояснением неких объективных ценностей. Былая Заграница потеряна на¬
всегда, возврата нет. Туманные бухты мертвого моря сменились вульгарной та¬
моженной стойкой, голоса усопших - объявлением об авиарейсе, а мистический
двойник - фотографией в загранпаспорте. Раньше гонялись за идеалом, теперь -
за реальностью. Раньше за мечтой, теперь - за доказательствами жизни.
Остап Бендер, каким его показал Василий Пичул в Мечтах идиота, хамски
огрызается на оба маршрута. Его любимый народом литературный прототип со
вкусом лелеял мечту о Рио-де-Жанейро, южном городе с пальмами и мулатками.
Его экранный предшественник из Золотого теленка Швейцера знал толк в красоте
самообмана. И если не стремился непосредственно в Рио, то уж точно боготворил
идеализм собственного стремления. Бендер Пичула и Крылова, толстый, скверно¬
словящий, необаятельный и неопрятный, озабочен более прагматической целью -
разрушить миф о самом себе, великом комбинаторе и великом утописте. И попутно
низвергнуть главный смеховой авторитет советской эпохи. Собственно, за границу
этот Бендер стремится не особенно. Он проигрывает вариант вскользь, мимоходом,
однако именно в этом быстро отвергнутом видении возникает прямая отсылка к ше-
стидесятнической экранизации. Точно так же экран вдруг теряет глубину, точно так
же на условно-плоском горизонте вырастают туго подпоясанные исполинские фи¬
гуры. Но если Бендер Юрского в пылу схватки азартно атаковал экран, адресуя свои
«прямые» и «боковые» всему миру, то у Пичула пограничники быстренько всажива¬
ют в лоб нарушителю полновесную пулю и, обчистив труп, деловито его поджига¬
ют. И заграница впрямую оборачивается мифом о загробной жизни.
5.
О том, что надо жить здесь, постсоветское кино догадалось не так давно. А догадав¬
шись, тут же опробовало несколько вариантов реанимации. Оказалось, что пока
грезишь звездно-полосатым раем, все главное - дружба, счастье, предательство,
слабость и сила — происходит с тобой здесь. И настоящую инициацию переживешь
не на берегу Гудзона, как думал с детства, а в полутемном кабинете гэбэшного сле-
дака, поставив подпись под компроматом на друзей. И полетишь за это в Амери¬
ку. И, вопреки мифу, окажешься там к месту. Только сам себе уже будешь не к ме¬
сту, потому что ослепительный образ будущего навеки останется в неоцененном
вовремя прошлом.
234
1994
Стилистика ретро всегда подразумевает повторный роман с полузабытыми
возлюбленными. Русский регтайм Сергея Урсуляка ищет любовь там, где еще пару
лет назад царили только издевка и злоба. Клеш от пояса, Джо Дассен, воротник
«собачьи уши»... Москва, Романс о влюбленных, ВИА с гремящей духовой секцией...
«Союз-Аполлон» в еще твердой пачке... Папа, народный артист, декламирующий
«Ленина и печника» после утренней опохмелки французским коньячком... Коло¬
рит времени написан в один слой, но густо. В мире ностальгического пастиша ком¬
промисс обезболен, прикрыт романтической дымкой воспоминания, так что даже
угрозы гэбэ звучат как текст ретро-шлягера. Всего этого не было, но это было, как
была великая эпоха трех советских мушкетеров. И один из них принял гвардей¬
ский плащ из рук Ришелье. Что с того? Пора, пора, порадуемся!.. Salut, c’est encore
moi... Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся друзей не терять!
Тень Дюма-пэра витает над фильмом Урсуляка не вдруг. Для нескольких со¬
ветских поколений авантюрная канва знаменитого романа упоительно шифровала
антитезу между светской и духовной властью, королем и кардиналом, романтикой
долга и секьюрити. Мушкетеры служат Франции, но плюют на ее неформально¬
го лидера. Прикрывшись постмодернистской амнезией, Русский регтайм находит
смысл в минувшем, очевидно проецируя его в будущее.
Инициация на своей территории происходит в мелодраме Дмитрия Астраха-
на Ты у меня одна. Вернее, как и в Русском регтайме, здесь правильнее говорить не
столько о посвящении, сколько о возрождении. От перестроечного кошмара пробу¬
ждается наш (даром что живет в эпоху конверсий и ваучеров) мужчина. Мэ-нэ-эс,
боксер, вечный студент, властелин хрущобы... «Старый советский», со всех сторон
обложенный «новыми русскими», вестниками заграницы в наших, так сказать, до¬
машних пределах. Но никакая заграница не способна купить любовь. И никакие
виллы в Майами, пиджаки от Валентино и длинные черные автомобили не сыми¬
тируют чувства, коль скоро его нет...
Любовный треугольник у Астрахана заявлен через возвращение оттуда. От¬
вергнутая, уехавшая, вскормленная на тамошних хлебах пацанка является во всем
блеске совместного предприятия, чтобы увезти своего «дядю Женю» в замор¬
ский Эдем. Нетрудно разглядеть здесь скорректированный былым «совком» ска¬
зочный канон. Обычно рыцарь отправляется за три моря, чтобы завоевать сердце
капризной принцессы подвигами и богатыми подарками. Часто, в поисках осо¬
бо почетных приключений, он добирается и до «того света» (читай — в «заграни¬
цу»). Советский кодекс куртуазного поведения предписывал поступать наоборот:
сильные женщины сражались за сердца томных мужчин, изнуренных «осенни¬
ми марафонами» и объевшихся «зимних вишен». Заигрывая с архетипом массовой
души, Астрахан и его драматург Олег Данилов расположили силовые линии жан¬
ра ретроспективно. По существу, мелодраматический эффект фильма эксгумирует
235
Кино на ощупь
расклад советского «серебряного века», когда строительницы коммунизма оста¬
навливали бег зарвавшихся коней и выносили похмельных избранников из горя¬
щих изб. Здесь, правда, «строительница капитализма», представительский «мерсе¬
дес» с охраной и в перспективе - высотная застройка крупной западной столицы.
Но наш принц, зимний... как образуется мужской род от «вишни»?.. предпочита¬
ет остаться в собственном запущенном королевстве. Ты у меня одна! Кто одна-то?
Жена или родина? Обе они, впрочем, женского рода.
Любовь и родина соперничают и в душе героя Окна в Париж Юрия Мами¬
на. Легкомыслие художника и ответственность интеллигента соединены в про¬
фессии — герой учит музыке. Условность коллизии искупается изяществом прие¬
ма. Прямо из загаженной питерской коммуналки можно попасть в Париж, столицу
любви и искусств. Одни тащат оттуда барахло, другие корешатся с местными ком¬
мунистами, третьи закидывают удочку в воду Сены. Оставим на совести режис¬
сера этот сатирический срез современного общества - в конце концов, сцена, где
музыкант-невозвращенец, сладко посетовав о милой отчизне, вдруг видит себя
под тенью имперского памятника, с исчерпывающей полнотой демонстрирует ко¬
нец российской «ностальгии по неувиденному». Эта сцена явно лучшая в фильме.
А худшая — та, где другой музыкант по-брехтовски обращается с экрана к совре¬
менникам и потомкам с призывом строить счастье на родной земле. Этот правиль¬
ный, в сущности, лозунг сознательно прорывает художество, условность, игру. Он
пока еще в стороне, на некоторой публицистической дистанции. Рискну предполо¬
жить, что чем скорее эта дистанция сократится, тем скорее мы перестанем взды¬
хать о былой «загранице», потерянной вместе с другими иллюзиями. И займемся
чем-нибудь более подобающим, чем вздохи по безвозвратному.
«Сеанс». 1994. № 9.
236
1994
Кто подставил Ивана Саньшина?
Самое интересное в этой картине — ее автор. Все в нем двойственно. И подданство
гражданина мира, и имя (был Андрон - стал Андрей, был Михалковым - остал¬
ся Кончаловским), и послужной список, и собственный почерк - смесь расчета
и азарта, высокого прозрения и игры на грани фола.
В его здешних картинах непротиворечиво уживались обоснованная претен¬
зия на госпремию и внятное высказывание о свободе духа. Так — между учебни¬
ком истории и апокалипсисом - мерцали затопленные пустоши в Дяде Ване: не
то иллюстрацией к ленинскому определению праздного класса, не то пластиче¬
ским знаком вселенской трагедии. Так звучала неистовая рок-аранжировка Роман¬
са о влюбленных. Так, на обе стороны, отвесил режиссер свой прощальный поклон.
Гигантская Сибириада одинаково вписалась и в директивный эпос, и в неангажи-
рованную мифопоэтическую традицию.
На чужом поле игра продолжалась с переменным успехом. Между психоана¬
лизом и достоевщинкой (Любовники Марии). Между японским сценарием, амери¬
канским жанром и русской тоской (Сбежавший поезд). Как это часто случается, не¬
удача выявляет истинные мотивы яснее, чем победа. В провальном Танго и Кэш
особенно видно, с какой легкостью конвейерная схема звездного боевика поглоти¬
ла авторские претензии на жесткую режиссуру.
С учетом прежнего опыта Ближний круг задуман наверняка. К американ¬
скому зрителю фильм повернут исторической мелодрамой, густо замешенной
на кровавой экзотике сталинизма. Советской аудитории предложена притча об
«иванизме» — поучительная история долготерпения народа, взятого в лице одно-
го-единственного маленького человека, слепой верой оплатившего векселя боль¬
шой политики. Собиратели кинооткрыток пополнят коллекции портретом Тома
Халса в пролетарской кепочке... Special thanks адресован и бывшему «советскому»,
в обозримом прошлом «многонациональному»... В прологе Ближнего круга появ¬
ляются кадры монтажа мухинских «Рабочего и колхозницы» - монументальной
пары, на долгие годы поселившейся в эмблеме «Мосфильма». В той самой, которая
некогда возглавляла титры самого Кончаловского и в которой он теперь по праву
победителя изобличает имперский символ.
О праве победителя я говорю не случайно. То, что страна, способная отвалить
«кодак» и доллары на советскую историю, желает видеть ее как тайну восточно¬
го двора, нельзя вменить в вину конкретному постановщику. Честно отрабатывая
вложенные в него средства, он показал, как азиатская деспотия влезает в частную
237
Кино на ощупь
Ближний круг. Реж. Андрей Кончаловский. 1991
жизнь, отнимает жен, детей, близких, достоинство, разум, способность к сужде¬
нию, стыд и честь. Показал, прекрасно понимая, что у тамошней публики такое
кино пойдет по классу сильнодействующего, стало быть, все средства хороши, кро¬
ме слабых. На заплеванный пол падают разноцветные локоны - детей бреют наго¬
ло. Дети маршируют внутри разрушенного храма. Стальная булавка готова впиться
в крохотный кулачок, сжимающий красную ленточку — последнюю память о маме.
Обезумевшая толпа топчет лица упавших. Качаются в лунном свете босые ноги -
обрюхаченная главным палачом страны женщина предпочла смерть. Надсадно
кашляет воспитанная в спецприемнике дочь врага народа... Материнство и дет¬
ство в качестве объектов социального насилия выбраны не вдруг — более корот¬
кого пути к слезным железам кинематограф еще не изобрел. Иные сцены Ближ¬
него круга выглядят прямо-таки антологией запрещенных приемов, однако упрек
в излишней расторопности предусмотрительно заглушен тональностью авторско¬
го видения. Что-что, а «силовую» режиссуру Кончаловский опробовал еще в те вре¬
мена, когда Дэвид Линч смотрел одни мультфильмы.
В этом ракурсе The Inner Circle читается, скорее, как «внутренний круг». Сви¬
та, служба, челядь. Потому что, как ни выжимай из зрителя слезу видом обритых
карапузов, ему, демократически воспитанному, вряд ли внушишь, что власть мо¬
жет быть анонимной и безликой. Власть здесь - те же частные лица. Только плохие
лица. Один дурак, второй маразматик, третий соблазняет жен подчиненных. А са¬
мый плохой довел свой народ до полного беспредела.
По-русски Ближний круг звучит иначе. Последний, самый узкий цикл ада, куда
судьба возьми да и швырни пешку. Здесь геометрия картины как будто зеркаль¬
но отражает / отрицает адресованную Западу диспозицию. Видя вождей в бытовой
238
1994
ипостаси, лопух Саньшин все равно видит ожившие портреты. Сам его статус ву¬
айера, соглядатая сквозь амбразуру кинопроекторной, обязывает к наблюдению,
но - не верь глазам своим! - перед неизменно восхищенным взором поставщика
дворцовых удовольствий все время два фильма. Тот, что на экране, и тот, что вжи¬
вую крутится в зале.
Здесь слышу зубовный скрежет отечественного постмодернизма. Какой сю¬
жет, в сущности, испоганил Кончаловский, сведя к аскетическому минимуму соб¬
ственно киноцитатный слой! Какое пиршество можно было бы соорудить из при¬
глашенных на личный экран вождя Орловой и Ладыниной, Чапаева и Щорса,
Александрова и Эйзенштейна! Как выглядела бы встреча Сталина со своим рос¬
кошным кинодвойником Геловани! Shut up, соотечественники! Наших мифов там
не знают и платить за них не хотят. Там платят за моцартовский имидж Халса,
за прихоти параноидального султана, за ориентальный привкус мещанской дра¬
мы. Нам за те же деньги предлагается переоценить собственную жизнь, помечен¬
ную печатью неизбывного «иванизма» (читай: инертности, инфантилизма, любви
к плетке и ее, плетки, обожествления). Не прибавив ни копейки к актерскому го¬
норару Халса, Кончаловский получил образ абсолютного, кристального приятия
жизни. Точное попадание дуплетом: русский актер такого уже не сыграет. Подпо¬
лье, надрыв, комплексы, судьбу — пожалуйста. Незамутненную душу — нет. Дело
даже не в том, как бывший Моцарт хлещет стаканами водку, и не в том, что для
второй половины фильма клоунской психофизики Халса, его яркого, в одну крас¬
ку рисунка маловато. Главное — найдена двуязычная формула героя. К нам он об¬
ращен дидактическим ликом: совдеповский Кандид, почти фольклорный дурак на
грани святости. Отсюда мораль — граждане, будьте бдительны и не подставляйте
шею под жернова истории!
Кто же подставил Ивана Саньшина? По-моему, режиссер Кончаловский. Под
холодными пальцами профессионала отвалился последний кровоточащий по¬
кров и обнажилась блочная конструкция конъюнктуры. Вооружившись загранич¬
ным инструментарием, Кончаловский перебрал ее не слишком вдохновенно, но по
обыкновению - грамотно. Подвела только одна деталь. Отбросив этикет, опреде¬
лим ее так: коли печешь слоеный пирог из собственной истории, пеки на здоровье.
Но не стоит отрывать от этого пирога кусочки и посылать домой в качестве цели¬
тельной духовной пилюли.
«Сеанс». 1994. № 9.
239
Кино на ощупь
Узник замка К.
С именем Кафки связывается одна из самых живучих художественных тради¬
ций XX века: обыденная фантасмагория. Тщедушный канцелярист из Праги опи¬
сал повседневную двойственность мира как неумолимую всепроникающую логи¬
ку абсурда. Это открытие, словно специально сделанное для кинематографа с его
способностью показывать ирреальное реальным, никак или почти никак не отра¬
зилось в экранизациях прозы самого Кафки. Ни гениальный Процесс Орсона Уэлл¬
са, ни образцово-постмодернистский Кафка Стивена Содерберга так и не проник¬
ли до конца в душный мир писателя, герой одного из самых известных рассказов
которого, превратившись в насекомое, пугается не столько перемены собственной
участи, сколько того, что не сможет вовремя явиться на службу.
Алексей Балабанов выбрал как будто третий путь. Или наоборот — третий путь
выбрал Алексея Балабанова. Очевидно, что для 35-летнего режиссера, чье поколе¬
ние возглашало на ночных кухнях людоедский лозунг «Мы рождены, чтоб Каф¬
ку сделать былью!», творчество писателя (квалифицируемое в мировой практике
по самым разнообразным эстетическим позициям) раз и навсегда связалось с аб¬
сурдизмом. Абсурдизм же был для нас явлением по преимуществу общественным.
Оттого и полные экзистенциальной тоски черные кафкианские притчи мы пере¬
адресовывали миру в узко взятом ракурсе социального устройства, в категориях
личности и системы, принуждения и свободы.
В Счастливых днях Балабанов заметно отступил от традиции. Черно-белая
картина, удачно выделившая неоэкспрессионистскую тональность в патентован¬
ной ленинградской киночернухе, показывала пустой город, нежилые дома, забро¬
шенные квартиры. И хотя Он и Она носили подчеркнуто русские имена, а за руи¬
нами полумертвого мегаполиса отчетливо угадывался модный в ту пору «декаданс
белых ночей», трагикомедия одиночества происходила «везде и всегда», в неан¬
тагонистическом пространстве всемирного упадка. Меланхолическая интонация
пробуксовывала лишь в разговорах, что для стильного кинодебюта было, в общем,
простительно. Настолько, что мало кто вспомнил: замаскированный беккетовский
оригинал только из разговоров и состоял. Авторская ремарка предписывала герою
не вставать со стула, а героине все глубже проваливаться в песок, символизирую¬
щий, в свою очередь, толщу времен.
То, чего избежала героиня балабановской версии Счастливых дней, случилось
с новым фильмом режиссера. За вычетом «кодака» и «долби»-звука так или почти
так должна была бы выглядеть экранизация Кафки, если бы она чудом состоялась
240
1994
в советском кино двадцатилетней давности. То есть в эпоху, когда незлобивому ма¬
разму системы сопротивлялся малый джентльменский набор из Востока, Брейге-
ля-мужицкого, физиогномики психбольных и выдранных из «Иностранки» «Но¬
сорога» и «В ожидании Годо». Когда граждане, счастливо избавленные державой от
саморефлексий, возводили на космологический уровень с ней, державой, раздра¬
женное несогласие.
Герой Кафки состоял из сплошных рефлексий. Поэтому он страдал. Герою Ба¬
лабанова страдать некогда: он сражается. У Кафки заурядный землемер К. не имел
ни имени, ни лица — герой Балабанова похож на Преснякова-младшего и означива¬
ет свой временный компромисс с системой потерей имени, а значит, и себя. Роман
Кафки обрывается на полуслове. В финале Замка Балабанова герою, уже готово¬
му раствориться в толпе недочеловеков, достается исполненный веры взгляд ма¬
ленького мальчика. Того самого, которому кафкианский землемер всего лишь обе¬
щал подарить тросточку с красивым узором. И того самого, кого балабановский
персонаж собирался выучить драться на палках и кому посулил стеклянную пу¬
говицу - привет от Тома Сойера, чей подростковый оптимизм значительно ближе
экранному Замку, нежели вневозрастное отчаяние его собственного литературно¬
го первоисточника. Кафка написал притчу об отчуждении, Балабанов снял притчу
о свободе. Методом простого сравнения находим искомый результат. Отчуждение
и есть свобода. Эта инфантильная сентенция, определившая фрондерский этикет
нескольких советских поколений, всплывает сегодня всякий раз, когда речь захо¬
дит о художественном опредмечивании инобытного, фантастического, «другого»,
превышающего меру материального противостояния (в качестве примера доста¬
точно вспомнить печальные итоги многочисленных экранных и сценических тол¬
кований Хармса).
Балабанов сделал искреннюю картину. Художник Владимир Карташов лю¬
бовно населил ее штучным реквизитом. Операторы Сергей Юриздицкий и Андрей
Жегалов продемонстрировали высокую пластическую культуру, а композитор
Сергей Курехин доказал, что способен не просто перекомбинировать ноты клас¬
сических шлягеров. Но общее детище этих талантов не поднялось выше трех дав¬
но высохших сосен. За одним стволом прячутся персонажи Брейгеля (мог быть
и Босх, мог и Сальвадор Дали). За другим примостился Восток, подаривший де¬
ревенскому старосте внешность Болота Бейшеналиева. За третьим вершится бю¬
рократическая мистерия. А над всем высится замок. У Кафки он был невзрачен
и обшарпан. У Балабанова пропущен через цитату из Тарковского - через «зону»,
«мыслящий океан», присвоенные все той же джентльменской мифологией интел¬
лектуального застоя.
«Сеанс». 1994. № 9.
241
Кино на ощупь
Франсуа Трюффо. Фот. Виктор Скребнески. 1981
242
1994
Франсуа Трюффо — человек, который любил фильмы
Франсуа Трюффо дебютировал в режиссуре фильмом 400 ударов (Les quatre cents
coups). По-русски это звучит почти как название боевика, хотя во французском ори¬
гинале отсылает к известной присказке, похожей на наши «огонь, воду и медные
трубы». Другого имени у этой истории воспитания чувств быть не могло — Трюффо
сам считался трудным подростком, скрывавшимся от мира в искусственной темно¬
те кинозала. Быть может, поэтому свою самую исповедальную картину он назвал
Американская ночь, вынеся в заглавие технический термин, обозначающий съемку
ночных сцен при дневном освещении. Для Тфюффо этот нехитрый трюк навсегда
остался метафорой кино и одновременно метафорой собственной жизни.
В кино он сразу заговорил от первого лица. Он назвал своего экранного двой¬
ника Антуан Дуанель и на целых двадцать лет отдал эту роль Жану-Пьеру Лео,
придумывая для него все новые и новые истории, заставляя влюбляться и изме¬
нять, обзаводиться семьей и переживать душевные кризисы. За 400 ударами (1959)
последовали Антуан и Колетт (1962), Украденные поцелуи (1968), Семейный
очаг (1970), Ускользающая любовь (1979). За два десятилетия отношения автора
и сюжета переросли форму кинодневника. Настолько, что злые языки до сих пор
утверждают: позвав Лео сыграть жениха героини Последнего танго в Париже, Бер¬
толуччи задумывал злую пародию на самого Трюффо. И наделил поэтому его «аль-
тер-эго» чертами вуайеризма, истинно режиссерской болезни, чьими симптомами
является абсолютный приоритет кино над реальностью.
Если карикатура и входила в замыслы Бертолуччи, то получилась она совсем не¬
похожей. Тфюффо принадлежал к поколению «новой волны», к знаменитой генера¬
ции журнала «Cahiers du cinema». К тем, кто узнавал жизнь не на улице, а в синема¬
теке и мог бы заменить автобиографию перечнем любимых режиссеров. К тем, кто
знал о кино все или почти все, а потому напичкивал собственные работы цитатами
из киноклассики. Однако в ряду ровесников Трюффо занял особое место. Он не ушел,
подобно Годару, в саморазрушительную алхимию и не разменялся, подобно Кло¬
ду Шабролю, на авторскую отделку псевдоинтеллектуального ширпотреба. Он жил
фильмами, доверяя экрану только то, что пережил или хотел бы пережить в действи¬
тельности. Вслед за соратниками по «новой волне» он верил, что одно движение ка¬
меры или монтажная склейка способны поведать об авторском мировоззрении куда
больше, чем сотни слов, вложенных в уста персонажей, однако сам предпочитал рас¬
сказывать простые истории, подчиняя технику съемки череде мимолетных впечатле¬
ний. Двадцать лет он переделывал настоящего Жана-Пьера Лео в не менее настоящего
243
Кино на ощупь
Антуана Дуанеля, но в Американской ночи показал, как жгучая киномелодрама испод¬
воль прорастает в житейские отношения разыгрывающих ее исполнителей.
Своими учителями Трюффо часто называл столь непохожих друг на друга ре¬
жиссеров, как Альфред Хичкок и Жан Ренуар. Вслед за Хичкоком он знал кон¬
струирующую силу киноизображения, вместе с Ренуаром безраздельно доверял
непринужденному потоку реальности. Пересматривая сегодня фильмы Трюффо
60-70-х годов, легко заметить в них посвящения любимым наставникам. По-ре¬
нуаровски сделаны фильмы о Дуанеле — Нежная кожа, Карманные деньги, где тра¬
гикомические коллизии выведены из-под спуда всякой моральной оценки. Тень
Хичкока витает над Стреляйте в пианиста, 451 ° по Фаренгейту, Сиреной с «Мис¬
сисипи», Новобрачная была в черном — авторскими признаниями в любви к жан¬
ровому кино. Не все здесь равноценно. Сейчас, например, уже ясно, что ревизия
«черного фильма» в Новобрачной или эксперимент с психотриллером в Сирене
с «Миссисипи» принесли довольно средний художественный результат. Но кто зна¬
ет, не сыграй Катрин Денев хичкоковскую блондинку в Сирене, стала бы она Мари¬
он Штайнер из Последнего метро — позднего шедевра режиссера, примирившего
жизнь и искусство в любимом им жанре драматической комедии.
На первый взгляд, любовный треугольник Последнего метро чудовищно амо¬
рален. Пока муж и режиссер прячется от фашистов в подвале собственного театра,
жена изменяет ему с актером-партизаном. Не менее «безнравственна» история, рас¬
сказанная в Соседке — рецидив полузабытой страсти доводит любовников до двой¬
ного самоубийства. Смертельным выстрелом завершается love story в Нежной коже.
Падает в реку автомобиль, на котором Джим увозит жену от своего верного друга
Жюля (Жюль и Джим). Одинокая свеча теплится в память об умершем герое Зеленой
комнаты. «Где кончается кино? Где начинается жизнь?» — часто спрашивал Жан Рену¬
ар. «Фильм это не кусок жизни, а кусок торта!» - утверждал Альфред Хичкок. Трюф¬
фо ответил обоим. В его фильмах страдают и умирают по-хичкоковски парадоксально
и по-ренуаровски обыденно. Как в кино. И как в жизни. В финале Соседки закадровый
голос монотонно читает полицейский протокол о смерти любовников. И наоборот -
запутанные отношения героев Последнего метро разрешаются в репликах разыгран¬
ной ими пьесы, которая, в свою очередь, есть не что иное, как диалог, сочиненный
Тфюффо для Сирены с «Миссисипи». Авторские отсылки отмечают этапы ушедшей
жизни, жизнь переходит в фильм, а фильм бесконечно длится вместе с судьбой автора.
Франсуа Трюффо дожил только до 52 лет. С его смертью закончился один из
самых замечательных периодов кино. Фильм длиной в четверть века, соединив¬
ший феерию реальности с волшебными уловками экрана.
«Ъ». 1994. 10 сентября. Статья написана к ретроспективе фильмов Франсуа Трюффо
в московском Музее кино.
244
1994
Кино, которое мы потеряли
На фоне крушения социализма гибель советского кино выглядит как будто не
слишком значительной. И напрасно. Во-первых, потому что за 100 лет существо¬
вания кинематографа 70 у нас пришлось на советское время. А во-вторых, пото¬
му что сама, будучи явлением иллюзорным, ушедшая эпоха полнее всего выразила
себя на экране, воплотившись в уникальном наследии, равных которому не было,
не могло быть и теперь уж точно никогда не будет.
«Важнейшим из всех искусств для нас является кино». Эти ленинские слова
еще недавно украшали фасады многих кинотеатров страны. Вряд ли вождь догады¬
вался, что, обронив фразу в полуофициальной беседе, он сформулировал один из
самых живучих законов нарождающегося строя. Масштаб провидения станет ясен,
если, прочтя лозунг дословно, ответить на вопрос: для кого «для нас?». «Мы» здесь,
конечно, не зрители, не люди и даже не народ. «Мы» — это власть, задавшаяся це¬
лью до основания перепахать толщу массовой души и засеять ее новыми обряда¬
ми и ритуалами. Кино оказалось удивительно созвучным революции. И здесь и там
сбылась утопическая мечта русской философии о «соборности». И там и здесь об¬
наружилась редкая, почти шаманская сила завораживать толпу несуществующим,
менять и даже творить коллективное бессознательное.
Социальный заказ не всегда согласуется с искусством. Совпадения же ино¬
гда рождают шедевры. Уникальность советского кино состоит в том, что, про¬
водя в жизнь концепцию властей, оно создало абсолютно законченную картину
мира, где были свои боги и герои, свои творцы и свои гиганты, где фундаменталь¬
ные мифы не исчезали, а молодели, старились и вновь рождались вместе с очеред¬
ным поколением, определяя ему допустимую меру мировидения. Менялись имена
и стили, мифологический полуфабрикат то нагревался в пламени военного пожа¬
ра, то дрейфовал на водах хрущевской оттепели, то поворачивался по ветру, дунув¬
шему из-под приоткрытого железного занавеса. Обращался к «человеку» в краткие
периоды послаблений. Или менялся пропорционально закручиванию гаек.
Расчистка культурного слоя заняла бы слишком много времени и дала бы про¬
стор слишком смелым ассоциациям. Не надо, впрочем, копать очень уж глубоко, что¬
бы понять, что знаменитый райзмановский Коммунист есть не кто иной, как растре¬
панный и очеловеченный либеральными 60-ми Великий гражданин. Что брежневское
Освобождение отличается от сталинского Падения Берлина только размерами и ко¬
личеством фигур, посредством которых война разыграна, как шахматная партия. Что
стопроцентно советский Член правительства и стопроцентно голливудская Москва
245
Кино на ощупь
слезам не верит предлагают одну и ту же вариацию мифа о позитивной социальной
действительности, а гиньольный плакат Она защищает Родину и изысканно-бароч¬
ный Иди и смотри аранжируют одну и ту же тему святого отмщения. Все это можно
и должно назвать тоталитарной эстетикой, если понимать тоталитаризм не как пере¬
клеиваемый идеологический ярлык, а как самодовлеющий художественный космос,
пронизанный твердыми представлениями о мире и месте в нем человека.
Такое кино родилось не вдруг. Оно созрело в алхимических ретортах гениаль¬
ных одиночек первого послереволюционного десятилетия. Тех, кто перевел роман¬
тический проект авангарда в жизнестроительный регистр и, породнившись с наро¬
дом на руинах прошлой культуры, выпустил на экран его, народа, смятенную душу.
Эстетические новации быстро вошли в норму. Читатели, следящие за киномодой,
должны помнить популярные в начале перестройки параллельные ретроспективы
советского и немецкого кино 30-х годов. Публичные суды над сходством имперских
кинотрадиций закончились впустую. Хотя доктор Геббельс и призывал вверенное
ему киноведомство создать свой Броненосец «Потемкин», призыв оказался безре¬
зультатным. Кинематограф Третьего рейха так и не выбрался из-под спуда вековой
культуры, отягченной символами и рефлексиями. И наоборот — архаическая мощь
нашего кино создавалась с нуля, от истоков, от пралогических окраин. Это кино ад¬
ресовалось народу, у которого отобрали все, кроме общей идеи, и в этом скорее схо¬
дилось с кино американским, обслуживающим нацию, лишенную общих корней.
США появились в результате экономического чуда. СССР — стал плодом чуда
идеологического. Заполнившая сегодня наш экран голливудская продукция лиш¬
ний раз доказывает, что базис рано или поздно берет реванш у надстройки. Не
стоит, однако, забывать: в синхронные для обеих культур эпохи золотого века
наш конвейер грез действовал эффективнее тамошнего. А именно - не подвергал
мифы вторичной жанровой обработке, транслировал их в жизнь напрямую, без
посредников. Этот конвейер мог все. Мог превратить заурядных бандитов в народ¬
ных героев. Мог актерскими средствами воплотить образ живого диктатора или,
не комплексуя, отыграть на экране победный вариант будущей войны. Или еще
до конца настоящей войны показать встречу героев после победы. Поразительно,
впрочем, не то, что пырьевские В шесть часов вечера после войны появились в 1944
году, а то, что показанная в них победа выглядела именно такой, какой оказалась
в 1945-м. С точки зрения истории это означает окончательную адаптацию жизни
к мифу. С точки зрения эстетики называется Большим стилем, добившимся совпа¬
дения реального и идеального. С точки зрения великой мистики кинематографа
демонстрирует полную победу иллюзии над действительностью.
Советское кино было наставляющей иллюзией. Оно поучало и будучи изгнан¬
ным из социального рая 30-х. Оно учило не читать чужих писем и не стрелять в бе¬
лых лебедей, отдавать деньги за краденые автомобили нуждающимся детям или
246
1994
тому, что только у дятла не болит голова о чужой беде. То есть не самым плохим ве¬
щам, а если эти вещи и выглядят сегодня ложно, то лишь потому, что идеал недо¬
стижим, а рай гораздо легче построить на экране, чем в реальности.
«Ъ». 1994.14 сентября. Поводом к написанию статьи стало заседание Российского
оргкомитета по подготовке и проведению празднования столетия кинематографа, на котором
была представлена программа «Золотой фонд российского кино». Статья предварялась
следующим информационным выносом:
«Программа «Золотой фонд российского кино» является частью
международной программы «Сокровища кино», разработанной
и рекомендованной комиссией по кино Совета Европы. Эксперты
европейских стран должны определить 100 лучших фильмов национальной
кинематографии - игровых, анимационных, документальных,
научно-популярных. Сложность задачи оказалась ясна сразу — шедевров,
по мнению оргкомитета, гораздо больше, чем 100. Общее мнение собравшихся
выразил Ролан Быков — «100 для Чехии, 100 для Польши и 100 для России?».
Кроме того, существуют и чисто технические сложности: все картины
надлежит отреставрировать, а впоследствии им должен быть обеспечен
высокий уровень сохранности. Зато для 100 шедевров снимут таможенные
пошлины, они будут в первую очередь рекомендованы для кино, теле-
и видеопроката, для международных культурных обменов. Очевидно,
что каким бы ни оказался выбор, он всегда будет источником распрей
в профессиональной среде. Нынешний не окончательный вариант
списка шедевров составлен при участии НИИ киноискусства, ВГИКа,
Госфильмофонда, Музея кино, Союза кинематографистов. Эксперты
составители столкнулись с трудностями «методологического, эстетического
и политического характера», - в частности, остался нерешенным вопрос
о включении в список произведений национальных кинематографий
государств, входивших в СССР. Спорным остается и вопрос о критериях
отбора. По словам составителей, «признавая, что советское кино
1919-1991 годов представляет собой сложное единство, они вынуждены
были учитывать не только историческую достоверность, но и сегодняшнюю
конкретную политическую и культурную обстановку». Пока все возникающие
методологические проблемы эксперты склонны разрешать путем «исключения
из списка лент, которые содержат откровенные партийные установки
и самоочевидное разрушение нравственных понятий». И включением картин,
«где преобладают общечеловеческие этические ценности и художественное
совершенство в избранном их создателями жанре и стиле».
247
Кино на ощупь
Сэм Пекинпа. 1973
248
1994
Режиссер, вдохновенно учивший зрителей самому плохому
Согласно Сэму Пекинпа, навязанные цивилизацией правила хороши лишь до
поры. Героем и человеком может называться лишь тот, кто вовремя не побоялся от
них отказаться. Вот почему в фильмах Пекинпа с легкостью предают и стреляют
в спину. А всякое нравственное колебание всего лишь позволяет противнику пер¬
вым нажать на курок.
Лучшие фильмы Пекинпа — антивестерн Дикая банда, криминальный трил¬
лер Побег и психодрама Соломенные псы — появились на рубеже 70-х. Уроженец
крайнего американского Запада, режиссер сам славился крутым и неуживчивым
нравом и утверждал, что знает своих бешеных героев не понаслышке. Продюсеры
не раз отбирали у него отснятый материал, цензоры безжалостно резали и пере¬
монтировали уже готовые фильмы. Пекинпа умер в декабре 1984-го, не дожив двух
месяцев до шестидесятилетия, по одной из версий, окончательно развалив свою
печень алкоголем. О нем постарались забыть. Прямое тому доказательство — про¬
шлогодний римейк Побега, переснятый Роджером Дональдсоном столь буквально,
что недвусмысленно обнаруживается расчет на незнакомство зрителей с первоис¬
точником. По-настоящему Пекинпа помнили разве что феминистки, до сих пор
проклинающие его за агрессивный мужской шовинизм.
В отличие от европейских коллег, не чуждых анархическим интеллигентским
забавам, американец Пекинпа редко унижался до заигрывания с мифами. Он вы¬
сказывался о жизни прямо, что, вкупе с блестящей режиссерской техникой, делает
его фильмы еще более безнравственными, поскольку художественно удостоверяет
их зверскую мораль. Что бы ни снимал Пекинпа - уголовную разборку, как в Побе¬
ге, похождения торговцев оружием, как в Дикой банде, или Вторую мировую войну,
показанную глазами фашистского унтера (Штайнер — железный крест), — он не¬
изменно оставался собой. Только жизнь как завораживающее приключение, пол¬
ное куража и кровавой потехи, была для него настоящей жизнью. Подобно другому
великому «киноморалисту» и женоненавистнику Альфреду Хичкоку, он умудрял¬
ся высвечивать самые сокровенные глубины человеческой натуры. Его варварское
видение оборачивалось непредсказуемыми обертонами, а культ грубости — неожи¬
данной тонкостью.
В Соломенных псах это проявилось, может быть, наиболее полно. При всем
ужасе и свинстве этой псевдоморальной басни, иначе как изящной ее не назо¬
вешь. Дастин Хоффман сыграл в ней едва ли не лучшую свою роль — американ¬
ского интеллектуала, приехавшего вместе с юной женой в ее родную английскую
249
Кино на ощупь
деревушку. Традиционные отношения Старого и Нового Света поставлены режис¬
сером с ног на голову. Чопорные англичане на поверку оказываются налитыми пи¬
вом жлобами, а грубый янки — щуплым очкариком, увлеченным математическими
абстракциями куда больше, чем прелестями супруги. По праву сильного женщина
должна принадлежать не ему. Деревенские самцы начинают изощренную травлю.
Назревает столь любимая Пекинпа коллизия, выйти из которой можно, лишь по¬
гибнув самому или убив обидчика.
Спустя год после ...Псов Пекинпа проиграет схожую ситуацию. С той лишь
разницей, что, уступив свою самку сильному, один из персонажей Побега в конце
концов повесится в сортире. Очкарик Хоффмана оказывается покрепче. Вступив¬
шись за местного дурачка, обвиненного в убийстве, он объявляет свою собствен¬
ную войну и, проявляя чудеса изобретательности, расправляется с соперниками.
Внешне его мотивы бессмысленны, однако, приняв сторону слабого, он по суще¬
ству мстит за себя, постепенно входя во вкус. Указующий перст Пекинпа, впрочем,
направлен не столько на него, сколько в сторону зрителя, сопереживавшего «жерт¬
ве» и воспринимающего выпущенные мозги и перебитые суставы как торжество
справедливости.
В финале герой увозит присмиревшую жену с места побоища. На его лице
блуждает рассеянная улыбка. Комментируя эти кадры, американский критик Дэ¬
вид Денби патетически восклицал: «Неужели можно убить несколько человек и не
поплатиться за это своей психикой?». Пекинпа считал, что можно. И даже нужно.
И подтверждал это всей силой своего дара, осенившего одну из самых блестящих
и самых отвратительных авторских манер во всей истории мирового кино.
«Ъ». 1994. 22 октября. Статья написана к первому показу в России фильма Соломенные псы.
250
1994
Интеллектуальный реванш бульварного чтива
К молодому американскому режиссеру Квентину Тарантино слава пришла по¬
сле Бешеных псов (Reservoir Dogs), его следующая картина Бульварное чтиво (Pulp
Fiction) была награждена «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля
этого года, а фильм Оливера Стоуна по сценарию Тарантино Прирожденные убий¬
цы (Natural Born Killers) не только претендовал на главный приз последнего Ве¬
нецианского фестиваля, но и вызвал большой скандал: разочарованный в работе
корифея американского кино, тридцатидвухлетний Тарантино потребовал, чтобы
его имя из титров убрали. Имя не убрали, но Тарантино теперь может себе позво¬
лить и не такое.
В российском прокате картина Квентина Тарантино появилась под названи¬
ем Бешеные псы. В оригинале она именуется Reservoir Dogs. По-русски это звучит
ужасно, поэтому в разных источниках встречаются то «псы взаперти», то собаки
«злые» или «помоечные», что по смыслу ближе всего. Варианты названия опреде¬
лили тонкости интерпретации. Кровавая байка о неудавшемся суперограблении
трактуется в широчайшем жанрово-стилевом диапазоне: от новейшего витка кри¬
минальной темы до черной абсурдистской киносатиры.
Секрет названия куда проще, чем кажется. В одном из послепремьерных ин¬
тервью режиссер поведал, что, перебрав множество профессий, он пристроился
продавцом в видеомагазин в пригороде Лос-Анджелеса. И тут же принялся навя¬
зывать клиентам свой любимый фильм До свидания, дети (Au Revoir, les Enfants)
Луи Маля. У косноязычного Тарантино французское «о’ревуар» неизменно звуча¬
ло как «резервуар». Потешная оговорка всплыла и в названии его режиссерского
кинодебюта.
В коротеньком автошарже привлекают как минимум две вещи. Во-первых, ве¬
ликолепное презрение Тарантино к какому-либо смыслу. Во-вторых, то, что этот
тридцатилетний детина с лицом олигофрена-переростка, без сомнения, изряд¬
но поднаторел в рафинированной европейской кинотрадиции. И его собственное
кино, закрученное с такой бесноватой лихостью, будто режиссер в жизни не видал
ничего, кроме мультиков и баскетбола, при ближайшем рассмотрении выдает вну¬
шительную насмотренность, ничуть не меньшую, чем у признанных киноэрудитов
вроде Годара, Вендерса или Лео Каракса.
Тарантино сознался, что именно Годара считает своим главным учителем. Но
личного признания тут и не требовалось. Едва Бешеные псы вышли на экран, ста¬
ло понятно, что размашистый пастиш на пост-панк, американский «Б-фильм»
251
Кино на ощупь
и элитарные европейские «приколы» открывают новый тайм в киноигре между
Старым и Новым Светом. И кровь, хлещущая из колотых и стреляных тарантинов-
ских «псов», по обилию, яркости и нелепости сравнима разве что с кровью, кото¬
рую Годар так любил пускать своим «маленьким солдатам».
Второй фильм Тарантино, принесший ему главный приз последнего Каннско¬
го фестиваля, называется Pulp Fiction, буквально - «бульварное чтиво» или «ма¬
кулатура». Впрочем, словечко pulp — собирательное определение копеечных жур¬
налов, печатающих крутые детективы и душераздирающие ужасы, — приклеилось
к Тарантино уже после Бешеных псов. Известно, что перед тем, как начать работу
над ...Псами, Тарантино досконально изучил все выпуски легендарного журнала
«Черная маска», где в 30-е - 40-е годы печатались Реймонд Чендлер, Дэшилл Хэм¬
мет, Корнелл Вурлих.
В Бешеных псах шестерка отважных негодяев намеревается совершить ограб¬
ление века. Однако ограбление проходит не по плану: шайка попадает в засаду,
двое громил (одного из них играет сам Тарантино, другого — популярный рома¬
нист Эдвард Бэнкер) гибнут сразу, третьего тяжело ранят. Исходя злостью, банди¬
ты собираются в условленном месте и начинают выяснять, кто их предал, то и дело
прибегая к аргументации крупного калибра... Пули порхают, как бабочки. Раненые
и убитые плавают в своей и чужой крови... Употребляя яркую и энергичную лекси¬
ку, один из героев рассуждает, как лучше отправить на тот свет полицейского за¬
ложника — сжечь или пристрелить.
Еще до титров все персонажи, скрывшиеся под «цветными» псевдонимами,
сидят в ресторане и, дабы не сболтнуть лишнего, лениво обсуждают хит Мадон¬
ны «Like a Virgin». «А сейчас, — ликуя, обещает закадровый голос, едва шайка под¬
нимается из-за стола, — вы услышите настоящую музыку... Настоящую музыку ве¬
селых 70-х!». Но это, конечно, «настоящая музыка» 90-х, потому что только 90-е
заставляют героев так нарочито носить одинаковые черные костюмы и солнце¬
защитные очки, так наплевательски относиться к классическим амплуа и с такой
легкостью сублимировать собственную неврастению в беспорядочной пальбе по
первому встречному. Законы уголовного жанра трещат и рушатся. Брутальный
красавец мистер Блондин (Майкл Мэдсен) оказывается психопатом и садистом.
А матерый мистер Белый (Харви Кайтель) до последнего момента тщится сохра¬
нить остатки криминального этикета, не веря, что раненный на его глазах Оранже¬
вый и есть полицейский агент, внедренный в банду.
Парадоксальностью и неподдельным цинизмом Бешеные псы больше всего на¬
поминают европейский вариант «черного фильма». Нарушение жанровых канонов
всегда было делом Европы, как, например, в спагетти-вестернах Серджо Леоне или
у режиссеров французской «новой волны». В этих фильмах расхожий американ¬
ский миф становился элементом изощренных авторских игр. Тарантино шел от
252
1994
Бешеные псы. Реж. Квентин Тарантино. 1992
253
Кино на ощупь
противного. По собственным словам, он пересмотрел огромное количество филь¬
мов, однако всегда сознательно избегал читать кинопрессу. Он открыл для себя Го¬
дара, не зная, что Годар — великий реформатор, авангардист и вообще режиссер
для понимания трудный. Таким образом, авторское наследие, избавленное варва¬
ром от интеллектуального груза, зажило новой, вполне реальной жизнью, а из при¬
хотливого коктейля вновь выделились чистые зрелищные ингредиенты. Играючи,
Тарантино нащупал совершенно оригинальную формулу фильма: действие Беше¬
ных псов разворачивается в замкнутом, почти театральном пространстве, изред¬
ка нарушаясь искусственно внедренными ретроспекциями. Годар снимал бы так
от большого ума. Тарантино - от недостатка денег и от веселого маразма происхо¬
дящего, сводя воедино высокое и низкое, авангард и лубочную поэтику pulp, си¬
нефильский храм и конуру для бешеных собак. В этой тональности французское
au revoir и впрямь звучит как «резервуар», а усталый европейский мэтр и жиз¬
нерадостный американский хулиган сходятся в модном пространстве всеобщей
относительности.
«Ъ». 1994. 8 октября.
254
1994
Киноавангард — нарушитель конвенции
Встреча кинематографа и авангарда произошла в младенческом возрасте обоих.
Практические следствия их публичного союза исчерпали себя, по существу, очень
быстро, когда к середине 30-х годов утихли споры вокруг «первого» и «второго»
потоков французского киноавангарда, когда, спасаясь от гитлеровской диктату¬
ры, эмигрировали за океан мастера немецкого экспериментального кино, а их со¬
ветские коллеги поступили на службу Большому имперскому стилю. В оппозиции
к другому «большому стилю» — на сей раз голливудскому - манифестировал себя
американский андеграунд 40-50-х годов, однако его опыты и широковещатель¬
ные декларации так и не вышли за пределы субкультурной альтернативы. Нако¬
нец, уникальная попытка совмещения авторского видения с законами коммерче¬
ского кино была предпринята режиссерами французской «новой волны», но, по
существу, это скорее означало капитуляцию, нежели партизанскую борьбу на чу¬
жой территории.
Ранний кинематограф, неизменно привлекающий внимание теоретиков аван¬
гарда, адресован массовому зрителю и никаким образом не стремится к эстети¬
ческому самосознанию. Экспериментальные, поисковые зоны 20-30-х годов, на¬
против, локализуются, отрываются от аудитории. Вся послевоенная история
авангардного фильма разворачивается в маргинальных культурных стратах, на
обочине большого кинопроцесса. Ее непременными спутниками являются по-
лулюбительская среда и узкопленочная техника. Нетрадиционное кино 70-80-х,
увлекшись новыми техническими медиумами, окончательно удаляется в элитные
сферы культуры, формирует сеть специализированных просмотров, фестивалей,
избранную - и крайне ограниченную - экспертную среду.
Авангардный кинематограф как будто совершил полный исторический виток
вокруг оси собственного замысла. Родившись как «искусство для грядущего», как
алхимическая лаборатория и каста жрецов нового «сверхзрения», он в конце концов
вернулся к тем же позициям, но уже в зоне культурной резервации, которую изред¬
ка посещают специалисты, коллеги и всеядные синефилы. Амбиции киноавангар¬
да последнего призыва объективно не распространялись дальше этого замкнутого
круга. Пророчество прозвучало и не сбылось. На смену пророку пришел прагматик,
а сам пророк удалился в пустыню, открытую, впрочем, для зевак и любопытных.
Все это, кажется, должно свидетельствовать о том, что явление, именуемое
киноавангардом, требует терминологической и историко-культурной локализации
с последующей сдачей в музей по разряду древностей.
255
Кино на ощупь
Все так, однако не очень ясно, что именно следует музеифицировать. Тер¬
мин «киноавангард», давно вошедший в профессиональный и обыденный словарь,
явно искусственного происхождения. Кино + авангард = киноавангард. Ответить
на вопрос, сформулированный в духе базеновской риторики, «что такое киноаван¬
гард?» совершенно невозможно в силу полного отсутствия онтологических харак¬
теристик вопрошаемого предмета. То есть, рассуждая о киноавангарде, мы неволь¬
но сталкиваемся с «бытием-без-онтологии», фантомным порождением культуры
текущего столетия, существующим в рефлексиях по поводу явления, но не в его
безусловных качествах.
Гипотетический ответ мог бы прозвучать так: киноавангард — это авангардист¬
ская стратегия, реализующая себя в кино. Это принципиальное для XX века ми-
ровидение, избирающее экран в качестве медиума. Это, наконец, не стиль, не на¬
правление и не локальный художественный метод, но мышление в кинематографе,
о кинематографе и посредством кинематографа.
Такой ответ невольно вызывает следующий вопрос. Что же в таком случае аван¬
гард как мировоззрение и культурный проект? С одной стороны, он включает в себя
все новое, неординарное, необычное. Всякий прогресс в искусстве, всякая эстетиче¬
ская новация есть своего рода авангард, который, в свою очередь, невыраженно при¬
сутствует в любой эпохе, коль скоро в ней присутствует художественный прогресс.
С другой точки зрения — условно назовем ее эстетикоцентристской — авангард оста¬
ется как бы экспериментальной лабораторией, изъятой из широкого обихода. И если
исторический ракурс предписывает авангарду быть генератором поступательного
движения искусства, связующим элементом непрерывной цепочки, то здесь сход¬
ное целеположение, но как бы опосредованно, скрыто. На испытательном стенде со¬
здаются и при необходимости консервируются новые художественные средства, ко¬
торые со временем становятся достоянием магистральной культуры.
В отечественном искусствознании, столкнувшемся в последние годы с необхо¬
димостью описания легализованных художественных форм, отработалась и своеоб¬
разная социо-идеологическая версия. С исчерпывающей полнотой ее охарактеризо¬
вал Лев Рубинштейн, сам принадлежащий к передовому отряду художественного
«подполья». «До недавнего времени, — признается Рубинштейн, - авангардизм (здесь
и сейчас) для меня был тесно связан с позицией конструктивного противостояния
сменяющим друг друга генеральным линиям в «советском искусстве». Эта позиция,
осознанная как позиция прежде всего эстетическая, и была авангардом»1.
Существует еще целый ряд исследовательских гипотез, где за базовые призна¬
ки авангарда выдаются конкретные стилевые черты направлений, сложившихся
в его русле (дадаизм, сюрреализм и т. д.).
1 Рубинштейн Л. Все про то же. 5 тезисов. — Театр, 1991, № 8, с. 60.
256
1994
Устремленность в будущее, к необычайности и новизне, действительно, при¬
суща авангарду как явлению, и особенно на ранней его стадии. Однако абсолютиза¬
ция категории «новое» и трансляция ее на всю историю художественного прогресса
ведут к принципиальной аберрации. При таком подходе Софокл, реформировав¬
ший канон трагедии, выглядит «авангардистом» по отношению к Эсхилу, в то вре¬
мя как актуальная для авангарда коллизия «традиция - новаторство» корректирует¬
ся именно взаимоотношением традиционного и новаторского в культуре XX века.
Объективно авангардный поиск зачастую действительно ведется в стороне от глав¬
ных магистралей культуры столетия, однако, полемизируя с эстетической версией,
следует заметить, что в конечном счете как главные интенции авангарда, так и его
прямые, предметные результаты лежат вне сферы собственно эстетического. Без¬
условно, здесь есть свои исключения, но трактовать авангард буквально как «пе¬
редовой отряд» искусства нельзя. Хотя бы потому, что создание «художественно¬
го» произведения не входит в задачу художника-авангардиста, избирающего форму
как один из вариантов концепции. Кроме того, в реальной своей практике авангард
занят не столько разработкой новых участков и направлений искусства, сколько
«закрытием» старых (уровень деклараций и манифестов, конечно, в счет не идет).
Наконец, идеологическая конфронтация и - как следствие - аутсайдерство,
подполье — присущи определенным историческим виткам авангарда, видящего
идеологию в качестве немаловажной составной общекультурной парадигмы века.
Но и это определенного рода артизированная конфронтация, не имеющая целью
внятное политическое высказывание.
Исторические, идеологические, художественные аспекты суммируются в куль¬
туре. Культура, однако, по определению не может быть бытийна, онтологична. Но ре¬
альная практика текущего столетия вместе с тем поставляла и продолжает поставлять
феномены, для которых культура является онтологическим истоком, а онтологиче¬
ское существование означает существование в культуре, для которых быть в культуре
означает реально быть. Эта общая культурологическая модель, выдающая себя в оп¬
позиции «цивилизации и культуры» (Шпенглер), «восстания масс» (Ортега-и-Гассет),
«одномерного человека» (Маркузе), «соблазнения и симуляции» (Бодрийяр), уравни¬
вает все свои составные в некой новой, усредненной сфере. Отнесем сюда все более
и более изощренный механизм продуцирования нормы и антинормы, жесткую де¬
терминацию «верха» и «низа», господство идеологии в формах мифологии. Собствен¬
но эстетическое выглядит тут всего лишь фрагментом общего фона, традиционно
понимаемое искусство превращается в один из многих блоков культуры.
Рефлексии художественного сознания в этом процессе и вдохновляют аван¬
гард - специфическую зону, где разыгрывается последняя схватка за суверени¬
тет искусства в постоянно разрастающемся и бесконечно самовоспроизводимом
«теле» культуры.
257
Кино на ощупь
Антракт. Реж. Рене Клер. 1924
Таким образом, проблема приобретает два аспекта. С одной стороны, аван¬
гард — бунт, восстание против погружения в «аффирмативный» (утверждающий)
культурный слой. С другой стороны, этот образ действия художественного, роман-
тически-ориентированного сознания инспирирован и возможен только в культуре
же. В «Дегуманизации искусства» Ортега-и-Гассет писал: «Искусство, ранее распо¬
лагавшееся, как наука или политика, в непосредственной близости от центра тя¬
жести нашей личности, теперь переместилось ближе к периферии. Оно не потеря¬
ло ни одного из своих внешних признаков, но удалилось, стало вторичным и менее
весомым»2. Для того чтобы выжить в этой ситуации, искусство вынуждено «дегу¬
манизироваться», избегать живых форм, стремиться к формальной сделанности,
иронии и «антитрансцендентности»3.
Авангард в этом смысле - наиболее радикальный образ действия в культуре,
присвоившей себе бытийные функции. Но сам характер протестующего действия
во многом детерминирован общим состоянием культурного поля времени. Еще
в конце 30-х годов И. Хейзинга заметил, что духовный кризис Европы между дву¬
мя войнами вызван тем, что культура, претендующая стать философией жизни,
Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 1991, с. 258.
Там же, с. 227.
258
1994
Механический балет. Реж. Фернан Леже. 1925
бытие предпочитает знанию. Подчинение жажды познания воле к жизни, «кровь
и почва» вместо «духа» лежит в основе того, что Хейзинга называет «небывалым
переломом» и что со временем превращается в норму4.
Присущий такой культуре элемент долженствования несовместим со свобо¬
дой художественного самовыражения. Стремясь прочь из ужесточившейся иерар¬
хии современных ценностей, творец ищет независимости, но именно в этот мо¬
мент становится в тот же ряд, что и порабощающая его философия жизни. Ибо
противопоставляет ей свое единственное оружие — свободу воли, на которую,
в свою очередь, ориентируется терпящая кризис эпоха5.
В чем выражаются эстетические следствия такого освобождения? Обращаясь
в эссе «Новая аналогия: поэзия и технология» к творчеству одного из наиболее
последовательных авангардистов Марселя Дюшана, Октавио Пас пишет: «Каждое
творение уникально. Уникально потому, что в какой-то момент его создания глав¬
ным становится жест художника, его решимость вмешаться и нарушить ход эсте¬
тической игры. (...) То, что делает Дюшан, тоже можно назвать бунтом, но, в от¬
личие от других художников, он ставил целью не преображение предмета, а его
4 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М„ 1992, с. 290-293.
5 Там же, с. 343.
259
Кино на ощупь
возвращение к изначальному состоянию: критический акт, призванный показать
бессодержательность произведения искусства как предмета, как вещи. Противоре¬
чие заложено в основу самого замысла Дюшана, но отсюда и сила его воздействия
на нас: обесценивая произведения искусства, как вещь, как предмет, он тем самым
поднимает значение жеста, воли художника»6.
Эту характеристику можно принять как базовое определение авангардист¬
ской эстетики. Вернее — антиэстетики, ибо традиционная коммуникация худож¬
ника и творения подчиняется новой задаче. На почве новой «онтологии» выра¬
стает и радикальная концепция художественного, форсирующая результативную
сторону искусства во имя программы, интенции, намерения. На месте произведе¬
ния как такового могут оказаться манифест, высказывание, описание, концепция,
эпатаж и скандал. В авангарде искусство объявляет войну бытию-быту и все важ¬
нейшие события происходят в пограничной зоне. Поэтому, как справедливо заме¬
чает современный исследователь, авангард в конечном счете не явление семанти¬
ки («что?») или синтактики («как?»); это явление прагматики («зачем? для чего?
с какой целью?»)7.
Каким же образом все эти признаки авангарда реализуются применитель¬
но к кинематографу? Рассматривая явление в ретроспективе его исторической
судьбы, американский критик Дж. Хоберман заметил, что если перенести термин
«авангард» в целом на кино, то в первую очередь надо иметь в виду фильмы, «нару¬
шающие конвенциональный код репрезентации», фильмы, рискующие быть непо¬
нятыми в силу «ломки твердых ожиданий»8.
Сама идея кинематографа, кино как технический принцип поначалу воспри¬
нимались в русле сложившегося в XIX веке реализма. Первые языковые поиски эк¬
рана, обретение им собственных выразительных возможностей на первых порах
тоже оформлялись в русле реалистической эстетики и выглядели ее прямым раз¬
витием на новой технологической базе, связанной с иллюзией непосредственного
«присутствия и самораскрытия жизни на экране»9.
Здесь обнаруживается тот самый «конвенциональный код» реальности, кото¬
рый утверждается реализмом XIX века и становится главным объектом претен¬
зий «дегуманизированного искусства» века XX. В уже цитированном эссе Орте-
га-и-Гассет говорит о бегстве от конвенциональной, «человеческой» реальности
6 Иностранная литература, 1991, № 1, с. 227.
7 Шапир М. Что такое авангард? - Даугава, 1990, № 10, с. 4. Сравним это утверждение со словами
Ортеги-и-Гассета: «В бегстве от «человеческого» ему (искусству - С. Д.) не столь важен термин «к кому»,
сколько термин «от кого» (указ, соч., с. 235).
8 Hoberman J. Vulgar Modernism. Philadelphia, 1991, p. 175.
9 См.: Божович В. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX - начало XX века. М., 1987.
260
1994
в область чистой формы и художественной иронии. Равенство между «человеком»
и «конвенцией» очевидно хотя бы потому, что сам принцип конвенциональности
антропоцентричен - он основывается на идее правдоподобия, присущей поочеред¬
но и создателю произведения, претендующего быть реалистичным, и тому, кто это
произведение принимает в качестве реалистичного10 *.
Но именно из этого принципа «жизнь в формах самой жизни», из самой аутен¬
тичности экранного изображения рождается качество кинематографической ил¬
люзии, благодаря которой кино входит в ряд наиболее эффективных мифотвор-
цев культуры текущего столетия. Виртуальное поле экрана, его конвенциональный
код, резко форсированная дистанция между действительностью и ее образным от¬
ражением, наконец — видимая безусловность самой реальности на уровне основ¬
ных механизмов аудиовизуальной перцепции делают фильм как бы медиумом
между реальностью как таковой и культурой, имитирующей реальное бытие, адап¬
тируют реальность к ее транскрипции в культуре.
Именно сюда направлены критические стрелы индивидуальной воли, име¬
нуемой нами «мышлением авангарда». Поэтому, вслед за Жерменой Дюлак, мы мо¬
жем повторить, что «термин авангард применим к любому фильму, чья техника,
употребленная для обновления выразительности образа и звука, порывает с обще¬
принятой традицией во имя поиска в непосредственной зримой и слуховой реаль¬
ности новых эмоциональных тонов»11.
Парадокс, впрочем, состоит в том, что, явившись на авансцену культуры ру¬
бежа веков как «реалистический», ранний кинематограф не столько продолжал,
сколько нарушал сложившуюся «визуальную конвенцию». Содержательно все кино
дозвукового периода антиконвенционально по отношению к старшим искусствам,
оно определяется в синхронности воссоздания и описания действитель¬
ности. Культурная кодификация происходит с приходом звука, определяя, в свою
очередь, новое поле авангардистского кинопоиска.
Поле такого поиска обширно и не ограничивается непосредственным экра¬
ном. История кино знает немало примеров того, что способом «ломки привыч¬
ных ожиданий», т. е. ожиданий выполнения конвенции «зритель — экран — реаль¬
ность», становились не только внутриэкранные средства, но и любые действия,
выбивающие зрителя из состояния «конвенции». Так, в своих мемуарах Луис Бу¬
нюэль вспоминал, что во время премьеры Андалузского пса в «Студии урсули¬
нок» он набрал полные карманы камней, готовясь забросать ими недовольных
10 Так, в частности, характеризует реализм как художественный метод Роман Якобсон. См.: Якобсон Р. Работы
по поэтике. М., 1987, с. 387-388.
11 Dulac G. The Avant-Garde Cinema. - The Avant-Garde Film. A Reader of Theory and Criticism ed. by P. Adams
Sitney. N. Y., 1987, p. 43.
261
Кино на ощупь
Берлин, симфония большого города. Реж. Вальтер Рутман. 1927
зрителей12. Эффект фильма, который Ноэль Берч небезосновательно называ¬
ет первым фильмом в истории кино, «использующим насилие как структурный
элемент»13, предусматривает два равновероятных действия: эпатаж художествен¬
ной формой или, в случае недостаточности художественного воздействия, фи¬
зическую атаку на аудиторию; атаку, которая в данном случае выступает полно¬
правным компонентом структуры фильма. И, в известном смысле, компонентом
предпочтительным, ибо структура размыкается в ту самую промежуточную об¬
ласть между искусством и жизнью, где авангард видит главный плацдарм.
Еще один пример расширенного киноавангарда продемонстрировал амери¬
канский режиссер Кеннет Энгер, автор скандально известного диптиха Скорпион
восставший и Люцифер восставший. Уже будучи признанным авторитетом в ря¬
дах андеграунда, создателем причудливых полусюрреалистических фильмов, на¬
полненных жестокой поэзией, попадая каждой новой своей работой под почти все
существующие цензурные запреты, Энгер опубликовал книгу «Голливуд, Вави¬
лон» — настоящую опись киношных и околокиношных скандалов, бракоразводных
процессов, сексуальных драм и пьяных самоубийств. Со страниц этой написанной
12 Бунюэль о Бунюэле. М., 1989, с. 132.
13 Burch N. Theory of Film Practice. N. Y. - Wash., 1973, p. 125.
262
1994
Человек с киноаппаратом. Реж. Дзига Вертов. 1929
в самых хлестких бульварных традициях книги Голливуд предстает сборищем
уродов, наркоманов и маньяков. Тщательно подобранные самим автором иллю¬
страции демонстрируют изувеченные трупы кинозвезд, сплющенные в лепешку
роскошные автомобили, залитые кровью и блевотиной интерьеры богатых вилл...
Атака на «конвенцию» ведется широким фронтом. «Это Страна Грез, Нечто Не¬
здешнее; это Пристанище Небожителей, Волшебная Галактика Голливуда»14, — так
характеризует автор своих «героев», сталкивая читателей с отвратительной изнан¬
кой фабрики грез, с оборотной стороной волшебства, ставшего «реальностью». Ти¬
пичная для авангарда деструктивная акция шоковыми средствами напоминает об
условности конвенции, о механизме конвейера иллюзий. Справедливости ради,
впрочем, заметим, что конвейер массовых иллюзий постепенно научился погло¬
щать самые изощренные попытки остановить его поступательное движение: попав
по цензурным мотивам к американскому читателю с большим опозданием, книжка
Энгера тут же сделалась бестселлером.
Исторический и даже терминологический генезис киноавангарда в зна¬
чительной степени определен институированной в данном, конкретном ис¬
торическом и культурном периоде типом визуальной «конвенции». Степень
14 Anger К. Hollywood Babylon. N. Y., 1981, p. 17.
263
Кино на ощупь
кинематографической условности меняется. Меняется в том числе и за счет реду¬
цированных кинокультурой находок авангарда. Соответственно трансформирует¬
ся и цель авангардистского противостояния, адресат его постоянной конфронта¬
ции. Ранний авангард противопоставлял убогой иллюзии теневого театра мощную
разрешающую способность кинематографического сверхзрения, в 30-е годы ак¬
туализировалась оппозиция внешней, зримой и субъективных экранных реально¬
стей. Авангард 50-х штурмовал узаконенные социумом зрительные табу, 60-е годы
ополчились против «гестаповского насилия структур». Может быть, одна из самых
эффектных авангардистских акций последних десятилетий принадлежит Жа¬
ну-Люку Годару. В фильме Имя: Кармен (1982) он тщательно, с соблюдением всех
законов жанра, снимает перестрелку между грабителями и банковскими служа¬
щими. Гремят автоматные очереди, пули отскакивают от стен. Все всерьез - с той
лишь разницей, что «безусловно убитые», полежав с минуту на полу, поднимают¬
ся на ноги и как ни в чем не бывало снова включаются в схватку. Налицо все та же
«ломка привычных ожиданий» - одно из самых употребимых средств в авангар¬
дистской практике послевоенного периода. Т. е. того периода, когда коды массовой
культуры входят в кинематограф на правах безусловной «реальности».
Стратегия авангарда в кино остается неизменной. Меняется лишь тактика кон¬
кретного маневра и, как следствие, статус в контексте текущего периода. На разных
этапах явление называется по-разному: авангард, экспериментальное кино, анде¬
граунд, кино независимое, маргинальное, параллельное, кино контестации и т. д.
Смена имен характеризует социокультурные метаморфозы феномена, его адапта¬
цию в различных условиях.
В книге «Фильм как разрушительное искусство» Амос Фогель описывает три
последовательных этапа кинодеструкции: формальную, содержательную и пред¬
метную. По Фогелю, разрушение последовательно охватывает пространствен¬
но-временные отношения, повествовательность и сюжет, а затем и саму приро¬
ду экранной иллюзии: экран, камеру, пленку. Содержательные нарушения связаны
с предметом изображения: по мнению Фогеля, история авангарда в кино впрямую
связана с отменой визуальных табу на эротику, порнографию, сексуальные откло¬
нения, религию, рождение и смерть15.
Позиция исследователя в данном случае выдает его собственное авангардист¬
ское прошлое (вместе с Майей Дерен Фогель стоял у истоков «нового американ¬
ского кино»). Заодно выясняется еще одна зона внеэкранной самореализации аван¬
гарда - написание собственной истории кино. Высокая теоретическая культура
отличала многих киноавангардистов - от Эйзенштейна до Брэкиджа, от Деллюка
до Стивена Двоскина. Жорж Садуль начинал в группе сюрреалистов.
15 Vogel A. Film as a Subversive Art. N. Y., 1974.
264
1994
Культура рубежа веков, увлеченная реальным воплощением эстетической
утопии, примирением элитарного и массового, артизацией жизни и обытовлени-
ем искусства, ставит техническую новинку в чрезвычайно выигрышный контекст.
Кинематограф — «театр для бедных», взрывающий изнутри и переворачивающий
приоритеты традиции, сопровождающий низовые жанровые формы и архетипы
бурными процессами языкового самоопределения. С этой точки зрения к кустар¬
ному, варварскому кинематографу Мельеса и Мак-Сеннета присматривались иска¬
тели нового поэтического словаря, с этой позиции сюрреалисты объявляли своим
предтечей Бастера Китона.
Характерно, что самые первые опыты авангардного кино ориентированы
не на способность экрана запечатлеть видимую реальность, но на его утопиче¬
скую возможность конструировать реальность идеальную, желаемую, будущую.
Для раннего киноавангарда камера - меньше всего регистратор, но в первую оче¬
редь - трансформатор, инструмент особого зрения, средство невиданного пре¬
жде синтеза. «Сверхзрение» и предполагаемый им синтез - две основополагающие
концепции раннего киноавангарда, наследующего излюбленным идеям модерна
о всеобщем возрождении, достигнутом средствами искусства.
«Мы нуждаемся в Кино, чтобы создать тотальное искусство, к которому всегда
тяготели все прочие искусства. (...) Мы подвели итог практической жизни и жизни
чувства. Мы соединили Науку с Искусством (...), с идеалами Искусства, приклады¬
вая первую ко второму, чтобы уловить и запечатлеть ритмы света. Это
кино»16, - так писал в 1911 году в «Манифесте семи искусств» Риччотто Канудо.
Жизнестроительная концепция раннего авангарда лежит в русле общих эсте¬
тических идей времени (в качестве одного из множества аргументов отметим,
в частности, что первые практические опыты на экране, связанные с ритмо-пла¬
стическими поисками, относятся к началу 10-х годов, т. е. совпадают по времени
с широким распространением антропософских теорий). Однако в каждом конкрет¬
ном случае новая муза открывает своим жрецам неповторяющийся угол «сверхзре¬
ния». В период 10-20-х годов от ствола авангардной киномысли протянулись по
меньшей мере три самостоятельные ветви.
Пафосом сверхискусства проникнута теория фотогении, родившаяся во
Франции по следам манифеста Канудо и оплодотворившая, в свою очередь, «пер¬
вый» французский авангард. Основоположник фотогенической концепции Луи
Деллюк и его последователь Жан Эпштейн настаивали на особом образе реаль¬
ности, скрытом от обычного взгляда и доступном только объективу кинокамеры.
«Мы часто топчем тайну, — писал Эпштейн в 1921 году в работе, красноречиво оза¬
главленной «Чувство 1-бис». — (...) Наш Глаз, за исключением того случая, когда он
16 Из истории французской киномысли. 1911-1933. М., 1988, с. 22-24.
265
Кино на ощупь
Раковина и священник. Реж. Жермен Дюлак. 1928
хорошо натренирован, не может ее обнаружить непосредственно. Объектив ее вво¬
дит в фокус, концентрирует, очищает в сите своих кадров — и это фотогения. Как
любое другое зрение, это имеет свою оптику»17.
При всей своей нестрогости термин «фотогения» обозначил важную веху в от¬
ношениях кинематографа с «нерепрезентативной» действительностью. Споры во¬
круг «фотогении» и попытки ее непосредственного воплощения в картинах Деллю¬
ка, Эпштейна, Жермены Дюлак выводили кино на орбиту метаискусства, храмовой
реальности, нового синтеза, чья задача не столько фиксировать подобие жизни,
сколько обнаруживать ее сакральные ипостаси. Заметим при этом, что позитивная
программа импрессионизма — «первого» авангарда — генетически наследует утопи¬
ческим концепциям рубежа веков. Доверие к текучей, «естественной» реальности,
интерес к «низким» темам и жанрам, ритмо-пластический контрапункт и «музы¬
кальность» изображения, наконец, сама идея синтеза как непротиворечивого и пло¬
дотворного союза иных искусств выдают преемственность по отношению к устрем¬
лениям модерна, в 20-е годы уступающего место новым художественным веяниям.
Эти веяния отразились в практике «второго» авангарда — в конструктивной
«сделанности» Механического балета Фернана Леже, в эксцентриаде клеровского
17 Из истории французской киномысли, с. 93.
266
1994
Андалузский пес. Реж. Луис Бунюэль. 1928
Антракта, в сюрреалистическом дискурсе Раковины и священника Антонена
Арто и Жермены Дюлак. Кино обнаруживает здесь свою формотворческую приро¬
ду, технический трюк обращается поэтическим высказыванием, индивидуальная
«жестикуляция» автора превалирует над реальностью. В поисках заповедных оп¬
тических зон «второй» авангард, очевидно, обратился уже не к особому зрению ки¬
нокамеры, но к воле режиссера-творца, деформатора не столько взгляда на реаль¬
ность, сколько самой реальности.
В этот период появился Андалузский пес Бунюэля и Дали - во всех отношениях
образцовое произведение киноавангарда. Во-первых, потому, что этот шедевр эпатажа
последовательно вторгся на территорию всех возможных конвенций - начиная от сек¬
суальных и религиозных табу, кончая самой обстановкой кинопросмотра. Во-вторых,
потому, что, помимо канонической роли в контексте авангардного кинематографа, Ан¬
далузский пес был и остается непревзойденным примером чистой кинематографиче¬
ской поэзии. То есть такого взгляда на реальность, где, по словам П. П. Пазолини, инди¬
видуальный режиссерский словарь полностью исключает означивание предметов в их
прямом качестве, но подразумевает произвольный жест на уровне самой лексики18.
18 Пазолини П. П. Поэтическое кино. - В сб.: Строение фильма: Некоторые проблемы анализа произведений
экрана. M., 1984.
267
Кино на ощупь
Поисками новой лексики занимались в 20-е годы и немецкие кинематогра¬
фисты. Уже в фильмах классического экспрессионизма рубежа десятилетия видна
тенденция к своеобразной экранной графике, к визуальному контуру, обнажающе¬
му костяк, рисунок пластического массива реальности. Абстрактные эксперимен¬
ты Ганса Рихтера, Вальтера Руттмана и Оскара Фишингера довели эту тенденцию
до абсолюта. Их визуальные опусы, симфонии и «роллербильды» означали поиск
универсального знакового языка, ожившего иероглифического письма, базирую¬
щегося на пространственно-временных характеристиках киноизображения.
Уникальная ситуация сложилась вокруг авангарда в Советской России 20-х го¬
дов. Уникальная в силу тех причин, что почти на десятилетие авангард превратил¬
ся едва ли не в официальную политику культурного строительства. Победившая
революция санкционировала радикальный пересмотр традиционной «реально¬
сти», поиск нового «ангажированного» кода репрезентации. Авангардистские ин¬
тенции в раннем творчестве Кулешова, Вертова и Эйзенштейна осенены пафосом
идеологического созидания — волевой жест творца подкрепляется коллективными
интересами, промежуточная зона между искусством и жизнью локализуется кон¬
кретными задачами пропаганды, агитации, идеологии.
Собственно, именно идеология, названная культурологами конца XX века ос¬
новным признаком модернистского этапа культуры, выступает полем преимуще¬
ственных значений в советском киноавангарде 20-х годов. Задача в самом деле
упоительная: возвести прагматическую функцию в коллективный императив,
произвести индивидуальный художественный маневр от имени и во имя победив¬
шего большинства. Отсюда и специфика конструктивистской концепции — отно¬
шение к экранной реальности как к «сделанной вещи».
По справедливому утверждению Франсуа Альбера, в конструктивистских
взглядах кино приближается к «ready made» - готовому объекту, «уже сделанному».
«Монтаж киноаттракционов, - пишет Альбера, - исходит из той же предпосылки,
делая акцент на логике сборки этих предметов, которую он сближает с принци¬
пами коллажа и фотомонтажа»19. И не только монтаж аттракционов, но и всякий
монтаж, выступающий главным формообразующим принципом в киномысли со¬
ветских 20-х. Наряду с деллюковской фотогенией и иероглифическим письмом
немецких режиссеров, монтаж выглядит здесь средством нарушения как привыч¬
ного кода реальности, так и знаком художественного произвола (вспомним, что
в цитированной выше работе Октавио Пас выводит весь авангардистский этикет
из принципа отношения к реальности как к «ready made»).
Финал «героического периода» авангарда приходится на конец 20-х годов. Аме¬
риканская исследовательница Аннет Майклсон остроумно указывает на точную дату:
19 Альбера Ф. Предмет - изображение - образ. - Киноведческие записки, 1989, № 3, с. 195.
268
1994
1929 год, ознаменовавший приход в кино звука20. Технологическое новшество, вдох¬
нувшее новые силы в реалистическую конвенцию, обессмыслило идею ритмо-пла¬
стического синтеза, отодвинуло на второй план монтаж как способ киноповествова¬
ния. Впрочем, одна из самых значительных рефлексий авангардистского мышления
в преддверии звуковой эры в кино обнаружилась еще в конце 20-х. Подписанная
Эйзенштейном, Александровым и Пудовкиным заявка «Будущее звуковой фильмы»
звала кино к непрямым, «контрапунктическим» отношениям со звуком, т. е. к оче¬
редному нарушению конвенционального буквализма. Понятно, что этот смелый тео¬
ретический прогноз на практике не осуществился (известно, например, что картина
Пудовкина Простой случай (1931), где содержалась попытка звукового контрапунк-
тирования, провалилась у зрителей и в дальнейшем демонстрировалась как немая).
Говорящее кино выяснило и еще одну важную черту культурологического ста¬
туса авангарда. В немом кино практически не было твердого разделения на авангард¬
ное и массовое, авторское и популярное. Бурные процессы формообразования шли
и на синтаксическом, и на морфологическом уровне киноязыка, независимо от того,
к какой культурной страте принадлежал тот или иной фильм. Скажем, решительно
не представляется возможным квалифицировать по принятой нами же системе куль¬
турологических координат творчество Дэвида Уорка Гриффита, чья Нетерпимость
как в капле воды содержит в себе прообраз приемов как ортодоксального авангар¬
да, так и «большого» голливудского стиля. Оперировавшее чистыми визуальными
формами немое кино было в немалой степени априори обречено на «антиконвен-
циональность», ибо всякий раз редуцировало образ реальности до пластики и ритма.
Тридцатые годы предложили новую кодификацию экранной реальности.
Судьба авангардной киномысли в этих условиях сложилась по-разному. Завязав¬
шийся под знаком нарождающегося «соцреализма» спор о «поэтическом» и «реа¬
листическом» кино означал в первую очередь полемику между наследием немого
периода и идущим ему на смену звуковым веком: аргументы спора преследова¬
ли и выдержанную идеологическую задачу. Варварская эпоха «визуальной идео¬
логии» уступала место культуре слова; находки киноавангарда 20-х превращались
в виньетки парадного имперского орнамента.
В 30-е годы «бытийная» культура взяла на экране явный реванш у одиночек-
авангардистов. На протяжении десятилетия сложились мощные кинематографи¬
ческие структуры, выступающие от имени «онтологической» реальности и вме¬
сте с тем - мистифицирующие ее. Кино как «вторая реальность», как неотъемлемая
часть глобальной конвенции оформилось именно тогда — в советском кино «золотого
века» или в голливудской «империи грез». Озвученная, безусловно репрезентативная
экранная реальность стала единственно приемлемым кинематографическим кодом.
20 Michelson A. Film and the Radical Aspiration. - The New American Cinema. A Critical Antology. N. Y., 1967, p. 87-88.
269
Кино на ощупь
Полуденные ловушки. Реж. Майя Дерен. 1943
Неудивительно поэтому, что следующая волна киноавангарда, разлившая¬
ся после Второй мировой войны, обрушилась уже не на саму реальность, но на
ее «улучшенную копию», предстающую с экрана, не на жизнь как таковую, но на
ее кинематографические производные. Прежняя авангардистская альтернати¬
ва «жизнь — искусство» опосредуется здесь мистификатом жизни - культурой,
ее структурами и институтами. Неудивительно и то, что новый авангард с осо¬
бой силой заявил себя в послевоенной Америке. То есть в стране, добившейся наи¬
более впечатляющих результатов в идеологической экспансии средствами куль¬
туры и создавшей в том числе одну из наиболее эффективных моделей массового
кинематографа.
Корни этого авангарда совершенно новые. «После Второй мировой войны, -
пишет Стивен С. Эрли во «Введении в американское кино», - потребность в поли¬
тических реформах, либеральные движения, относительная сексуальная свобода,
окончательное знакомство с галлюциногенными наркотиками и прямой бунт моло¬
дежи против социальных табу прокладывали себе путь в различных художествен¬
ных формах. Эти мысли и чувства отразил и андеграундный фильм»21. Носителя¬
ми авангардного духа стали представители разнообразных субкультур, маргиналы
21 Earley St. An Introduction to American Movies. N. Y., 1979, p. 279.
270
1994
Скорпион восставший. Реж. Кеннет Энгер. 1964
и аутсайдеры - все те, кто оказался на обочине «системы», отказался от ее директив¬
ных установок и ценностей. Этот авангард назвал себя «андеграундом» - «подполь¬
ем», подчеркивая тем самым свою внеположенность господствующей культуре. Его
«жест» носил характер прежде всего социокультурной фронды, нонконформизма.
«Наш бунт против старого, официального известен, - гласил первый пункт
Манифеста Нового Американского Кино. - Он в первую очередь носит этический
характер. Нас интересует Человек. То, что с человеком происходит»22. Остальные
пункты декларировали отказ от цензуры, поиск новых форм финансирования, не¬
обходимость объединения. Здесь легко увидеть, как меняется сама направленность
«прагматического жеста». Новый авангард заявил себя как группировка, самостоя¬
тельная организация, независимая субкультурная среда. И не только заявил, но
и во всех перечисленных качествах самоосуществился: едва ли не больше места,
чем собственно фильмопроизводство, новое американское кино занималось орга¬
низационной деятельностью. Факт наличия в «большом» кино неделимой экспери¬
ментальной страты трансформировал извечную тягу авангарда к эпатажу - только
на место индивидуального скандала со временем пришли вызывающая независи¬
мость, братство антиконформистов.
22 The First Statement of the New American Cinema Group. - Film Culture, 1961, Vol. 22-23.
271
Кино на ощупь
История Нового Американского Кино - история целого ряда альтернативных
структур: вскоре после окончания войны Майя Дерен и Амос Фогель основали
Творческий Кинофонд, поощрявший нетрадиционные, поисковые формы экран¬
ного искусства. Затем по инициативе Йонаса и Адольфаса Мекасов начал выходить
независимый киножурнал «Филм Калчер» («Культура фильма»). Наконец открылся
Кооператив кинорежиссеров — свободная организация, собравшая под своей кры¬
шей всех, кто отстаивал идею самовыражения в кино.
«Смысл был в том, чтобы сделать все для поощрения кинопроизводства и ни¬
чего из того, что могло бы помешать развитию фильма и индивидуальности ре¬
жиссера, - вспоминал участник событий тех лет, режиссер и теоретик Стивен
Двоскин. — Это безусловно подразумевало, что качество фильмов будет значитель¬
но отличаться»23. Во главу угла ставилась свобода самореализации. Эстетические
характеристики уходили на второй план - главным становилось личное зрение.
Американский андеграунд противопоставил нормированной культуре суве¬
ренный взгляд. Одна из первых значительных работ этого направления — Полуден¬
ные ловушки Майи Дерен (1943) - по структуре и метафоре напоминает Андалуз¬
ского пса. Но если в сюрреалистическом фильме Бунюэля и Дали сформировался
абсолютно уникальный лексический пласт, «чистая» визуальная поэзия, то в по¬
явившейся почти полтора десятилетия спустя картине Дерен сюрреалистический
эффект извлечен из постоянного и причудливого сопоставления реальности под¬
линной и мнимой, кажущейся. Опираясь на разрешающие способности нового ис¬
кусства, Бунюэль и Дали совершили гротескную экскурсию в дебри собственного
подсознания - Дерен запечатлела средствами камеры мучительный разлад между
действительностью и иллюзией. С известными допущениями Андалузского пса
можно назвать «черной комедией» - Полуденные ловушки, напротив, знак трагиче¬
ского несовпадения и противостояния.
Контекстуально Полуденные ловушки проясняют и еще одну важную область
конвенции. Помимо прочего, в них причудливо преломился опыт жанрового
кино — структуры «женской мелодрамы» и «черного фильма». Сюрреалистические
видения героини Дерен как бы переворачивали каноны жанра - мужской шови¬
низм «черного фильма» и страдательность чувствительного кино. Женское тело,
бывшее для Голливуда 30-40-х годов объектом созерцательного насилия, у буду¬
щей феминистки Дерен саморазрушается. Узаконенному маскулинному вуайер-
ству противополагается «визуальная мастурбация» женщины-режиссера, в фина¬
ле приводящей свое alter ego к почти ритуальному самоубийству.
Борьба со структурированной и кодифицированной реальностью шла в двух
направлениях. С одной стороны, критике подвергались общественные авторитеты
23 Dvoskin St. Film is...: The International Free Cinema. Woodstock - N. Y., 1985, p. 57.
272
1994
и табу: начиная от сильной порнографической тенденции Нового кино, кончая яв¬
ленными в его русле знаменитыми «статичными» фильмами Энди Уорхола — мно¬
гочасовыми фиксациями небоскреба, поцелуя или спящего человека, дискре¬
дитировавшими саму идею физической реальности. С другой стороны, камера
в очередной раз становилась медиумом между жизнью и ее индивидуальным поэ¬
тическим видением. Причем, в отличие от авангардистов первого призыва, на¬
делявших мистическими способностями зрение кинокамеры, авангард 50-60-х
годов отводит камере служебную роль, функцию регистратора образов человече¬
ского видения.
«Единственная реальность — это глаз, способный представлять любые объек¬
ты. Глаз кинокамеры - это ограничение и исконный лжец»24, — писал в своей про¬
граммной работе один из наиболее последовательных кинопоэтов Стэн Брэкидж.
Попытки соединения исконной реальности и ее механической копии привели
к тому, что в конце 60-х резко размежевались две тенденции.
Первая из них, названная П. Адамсом Ситни «структуральным кино», обра¬
тилась к формально-предметным основам киносъемки. Вдохновляясь опытами
Рихтера и Леже, наследуя эксперименты Уорхола, представители этого направле¬
ния вернули кино его забытую механическую природу. Они работали с покадро¬
вым изображением, фактурой пленки, по-новому осмысляли стробоскопический
эффект.
Вторая линия декларировала себя в вышедшей в 1970 году работе Джина Янг¬
блада «Расширенное кино». Вынесенный в заглавие термин означает кино, фор¬
сирующее все известные средства аудиовизуальной коммуникации во имя особой
экспансии зрения. «Говоря «расширенное кино», мы на самом деле подразумеваем
расширенное сознание», — утверждал Янгблад25, выводя теорию нового визуально¬
го синкретизма, где новые технологии и разрешающая способность человеческого
зрения сольются в новом, плодотворном единстве.
Здесь как будто замыкается круг. Кино вновь претендует на формирование
мировидения, на особую демиургическую роль, на глобальное переустройство
жизни. Но на пороге уже стоит новая компьютерная эра. Эра невиданной пре¬
жде реальности поглотит былые романтические амбиции и откроет возможность
«сверхзрения» обыденному сознанию, против которого почти три четверти века
сражался кинематографический авангард.
24 Brakhage St. Metaphors on Vision. - The Avant-Garde Film. A Reader of Theory and Criticism ed. by P. Adams
Sitney.N.Y, 1987, p. 121.
25 Youngblood G. Expanded Cinema, N. Y., 1970.
«Киноведческие записки». 1994/95. № 24.
273
Кино на ощупь
Анри Ланглуа — человек, который поднял «новую волну»
Ланглуа умер в 1977 году. В том же году французское правительство приняло за¬
кон об обязательной передаче всей национальной кинопродукции в государствен¬
ный архив. Печальная ирония заключается в том, что это официальное хранилище,
открытое в 1969 году, явилось раздраженным ответом властей самодуру и анар¬
хисту Ланглуа, любившему кино больше всего в жизни и оберегавшему предмет
своей страсти от постороннего взгляда. Франсуа Трюффо недаром посвятил ему
фильм Украденные поцелуи — Ланглуа собирал все, от любительских коротышек
до киноклассики, свято веря, что ценность того или иного фильма устанавливает
только История. В нем уживались Борхес и Плюшкин, Синяя Борода и Скупой Ры¬
царь. Он спас от гибели и забвения множество картин; знаменитые режиссеры да¬
рили ему копии своих шедевров. Жан Кокто называл его «драконом, стерегущим
сокровища», и, словно подтверждая это, Ланглуа делил человечество на две нерав¬
ные части. На тех, кто полезен Синематеке, и на всех остальных.
Ланглуа организовал Синематеку в 1934 году вместе с режиссером Жоржем
Франжю. Их стартовый фонд составляли всего десять фильмов, хранившихся
в ванной комнате. За сорок лет Ланглуа собрал более 50000 лент, миллионы срезок
и фотографий, книги и документы о кино. Сразу после войны его детище, слегка
потрепанное конкурентами из рейхсархива, получило государственную субсидию.
Тогда же к нему пришли самые благодарные зрители — молодые фанаты, воспол¬
нявшие круглосуточными просмотрами не только пробелы в кинообразовании, но
и жизненный опыт. В зале на улице Мессин встретились и перезнакомились буду¬
щие режиссеры «новой волны», здесь трудный подросток Франсуа Трюффо заучи¬
вал наизусть Правила игры Ренуара, а неулыбчивый Жан-Люк Годар по десять раз
смотрел американские фильмы, отозвавшиеся в его собственном кинодебюте На
последнем дыхании. Здесь экран приобретал недостающее измерение реальности,
здесь росло первое поколение киноэрудитов, снимающих кино не о жизни, а о лю¬
бимых фильмах.
Учитывая опыт культуры конца века (вдоволь искушенной соблазнами ката¬
лога, системы, вселенского музея), легко увидеть в Синематеке прообраз новейше¬
го храма-архива, а в фигуре Ланглуа - демиурга-хранителя. Он собирал экранную
историю как художественную коллекцию. Но это собирательство приобретало чер¬
ты полурелигиозного культа со своими жрецами и паствой. Культ требовал жертв.
Завсегдатаи знали, что самые редкие сокровища Ланглуа показывает на послед¬
нем сеансе, заканчивающемся после закрытия метро, так что истинные киноманы
274
1994
Анри Ланглуа. Фот. Гийон Мили
275
Кино на ощупь
неизменно добирались домой пешком. Жреческие функции исполнял немногочис¬
ленный персонал Синематеки. После каждого просмотра будущий режиссер Фре¬
дерик Россиф прочесывал зал, изгоняя будущих мэтров «волны», скрывавшихся
по углам в надежде бесплатно поглядеть следующую картину. Билетами торговала
Лотта Эйснер — теоретическая муза немецкого экспрессионизма, помнившая, ка¬
кие элегантные галстуки носил молодой Фриц Ланг и как застенчив был Фридрих
Мурнау. Много лет спустя Вернер Херцог почел святым долгом совершить палом¬
ничество из Берлина в Париж, чтобы получить ее благословение на постановку ри¬
мейка экспрессионистского Носферату... На контроле стояла постаревшая Мюзи-
дора, звезда авантюрных киносериалов, покорявшая зрителей начала века своим
рискованно облегающим черным трико. В миру она осталась Жанной Рок, секре¬
тарем Ланглуа по иностранным связям, однако впечатлительный Годар утверждал,
что всякий раз вместе с корешком кинобилета «новая волна» получала из ее рук
пропуск в грядущее киноавторство.
Едва «волна» разлилась в полную силу, критики язвительно окрестили ее
участников «детьми Синематеки». Они приняли звание с гордостью и вскоре под¬
твердили родство. В феврале 1968 года министр культуры Андре Мальро, устав¬
ший от причуд Ланглуа, распорядился отстранить его от места и прекратить фи¬
нансирование. Так возникло знаменитое «дело Ланглуа», вызвавшее не меньший
резонанс, чем некогда «дело Дрейфуса». Разница была лишь в том, что за оклеве¬
танного штабиста вступились все либеральные общественные силы рубежа веков,
а в судьбе чудаковатого коллекционера главную роль сыграла интернациональная
элита киноискусства. Режиссеры всего мира — от Чаплина до Куросавы и от Сатья¬
джита Рея до Роберто Росселлини — угрожали забрать свои фильмы из Синемате¬
ки, если в ней не будет Ланглуа. За три недели до смерти телеграмму в его защи¬
ту послал великий Карл Дрейер. Наш Сергей Юткевич, уже начавший разоблачать
левацкие выверты «детей Синематеки», наплевал на идеологические разногласия
и выступил от имени «единого, многонационального». Сами «дети» с плакатами
в руках вышли на улицу, словно репетируя свою роль в надвигающихся событиях
«веселого мая» - последней и самой красивой художественной утопии века...
В историческом масштабе 1968 год провалился. Но в масштабе Синематеки
он победил. Ланглуа остался при должности, а три года спустя даже затеял новое
предприятие - Музей кино. Он расположен в Париже, в районе Трокадеро, в вы¬
ставочном комплексе с классическим туристским видом на Эйфелеву башню. Если
стоять лицом к башне, вход в Музей кино окажется слева, а справа - вход в Музей
человека. Это вполне подходит в качестве эпитафии Анри Ланглуа.
«Ъ». 1994.15 ноября. Статья написана к восьмидесятилетию со дня рождения Анри Ланглуа.
276
1994
Понтий Пилат и другие официальные лица
Телерепертуар месяца все больше напоминает афишу элитарного киноклуба. На
прошлой неделе Фассбиндер, Вендерс, Ренуар. На будущей снова Фассбиндер, Ку¬
лешов и Занусси. На этой — Куросава, целых два Фассбиндера и Пилат и другие —
малоизвестный у нас фильм Анджея Вайды, поставленный по евангельским эпи¬
зодам «Мастера и Маргариты».
Священное Писание всегда привлекало кинематографистов. В библейских эк¬
ранизациях особенно проявилась еретическая природа «седьмого искусства», пре¬
тендующего на роль новой универсальной религии. Причем к Новому Завету кино
обращается чаще, чем к Ветхому. Сын Божий в образе человеческом, почти жан¬
ровые коллизии его земного присутствия словно специально созданы для экрана,
обреченного конкретным персонажам и внятным историям. Первый религиозный
фильм братья Люмьер сняли еще в XIX веке. Благодаря кино в веке двадцатом по¬
явились смеющийся Христос Бунюэля и похожий на Че Гевару Христос Пазолини,
сладкий как «сникерс» Спаситель Дзеффирелли и не устоявший перед мирскими
соблазнами Мессия Скорсезе, и снежная Голгофа Тарковского.
Сегодня по российскому телеканалу мы увидим версию Анджея Вайды. Пи¬
лат и другие, снятый для западногерманского телевидения и лишь три года спу¬
стя вышедший в польском киноварианте, снабженный авторским подзаголовком
«фильм для Страстной Пятницы». Впервые показанный в канун лютеранской Пас¬
хи 1972 года, Пилат... определил круг рефлексий режиссера, в очередной раз ре¬
шавшего для себя проблему выбора между свободой самовыражения и обществен¬
ной миссией и претендовавшего посему на большее, нежели просто апокриф.
Как поляк и католик Вайда всегда насыщал свои фильмы избыточной рели¬
гиозной символикой. В его раннем шедевре Пепел и алмаз перевернутое распятие
нависало над трупами жертв необъявленной гражданской войны. В масштабно¬
историческом Пепле крест обращался в орудие самоубийства испанской монахи¬
ни, предпочитающей смерть позору. Исстрадавшийся зек из Пейзажа после бит¬
вы, раскинув руки, застывал в легко узнаваемой позе, а смерть чахоточного героя
Березняка прямо соотносилась с классической композицией оплакивания Христа.
Как поляк и романтик Вайда выдерживал ироническую дистанцию между ре¬
альностью и ее сакральным прототипом. Обратившись к Христу впрямую, он не
случайно выбрал не канонический текст Нового Завета, а фантазию Михаила Бул¬
гакова - историю бродячего проповедника Иешуа, приговоренного к смерти на¬
местником большой и бестолковой империи. И в романе, и в фильме речь идет
277
Кино на ощупь
о власти, одинаково равнодушной и к жертве, и к палачу. И о вечности, где каждый
из них по-своему оправдан. Постоянная тема Вайды - противостояние неизбежно¬
сти и цена, которую приходится платить за участие в трагедии, - в Пилате... вопло¬
тилась почти программно. Действие перенесено в современный немецкий мегапо¬
лис, где стукач Иуда получает свою награду десятипфеннинговыми монетками,
вывалившимися из телефона-автомата, а распятие совершается на автомобильной
свалке, предварительно расчищенной бульдозерами. Пилат (Ян Кречмар) допра¬
шивает Иешуа (Войцех Пшоняк), одетого в джинсовую униформу тусовщика «цве¬
точной революции», на развалинах нюрнбергского конгресс-холла, некогда слу¬
жившего ареной нацистских съездов и воспетого в знаменитом Триумфе воли Лени
фон Рифеншталь. Марк Крысобой защелкивает на запястьях осужденного поли¬
цейские наручники, Левий Матвей катит крест на колесиках по оживленной авто¬
страде, а тайный агент Афраний рисует у подножия распятия первохристианский
символ рыбы. И тяжело вздыхает, ибо ему, вечному сыскарю при любой власти, ве¬
домо, сколько хлопот принесет в будущем казнь этого прихиппованного пророка.
Вечный нонконформист Вайда рад увидеть в евангельском сюжете упоитель¬
ное противостояние личности и государственной машины. Такое прочтение могло
бы благополучно кануть в культурную историю диссидентства с его фигой в кар¬
мане и виртуозно разработанной системой аллюзий и ассоциаций. Однако объек¬
тивно Пилат... попадает в более широкий контекст. Он появился в тот момент, ко¬
гда дети-цветы в перерывах между чтением Мао и Маркузе малевали плакаты,
стилизованные под полицейскую ориентировку: «Разыскивается опасный смуть¬
ян. Возраст 33 года, склонен к подрыву устоев. Особые приметы - колотые раны на
ступнях и ладонях...». «Если Христос вернется, его снова распнут!» — утверждали
граффити на стенах Нантера и Беркли. «Иисус - наш политический конкурент», -
голосами теледикторов вопили первосвященники в бродвейском рок-шоу «Иисус
Христос - суперзвезда». Христос в джинсах, Христос под хэви-метал, Христос, за¬
мордованный легавыми, отметил один из самых романтических мифов политизи¬
рованного куска новейшей истории.
С сегодняшней точки зрения эта апология выглядит инфантильной, а места¬
ми и невыносимо пошлой. Посмотрев Пилата и других, легко в этом убедиться.
А заодно понять, что сакрализация светской власти присуща не только советско¬
му менталитету, но и интернациональной утопии конца 60-х годов. И если выра¬
зивший ее Пилат... устарел, то лишь потому, что стареют не только фильмы, но
и люди, которые когда-то эти фильмы смотрели.
«Ъ». 1994. 26 ноября.
278
1994
Смерть после работы
К одной из выраженных черт Александра Сокурова относится то, что, будучи
по-настоящему завороженным темами исхода, распада, смерти, он так и не сде¬
лал своего последнего фильма. Фильма, который стал бы решающим аргументом
в диалоге автора и открывшейся ему истины и продемонстрировал бы смерть ис¬
кусства как финал акта творческого познания.
Конечно, нельзя требовать от фильма штурма собственных рубежей, а в ко¬
нечном счете и оккупации гибельных для себя территорий. Но фильмы Сокуро¬
ва именно таковы, что всякий раз вплотную подступают к тому ощущению конца
истории, культуры, этноса, души и тела, за которым сама художественная услов¬
ность теряет всякий смысл, а автор, мало-мальски признающий таинство мирозда¬
ния, вынужден повторить за Гамлетом: «Дальше - тишина».
Такого признания Сокуров пока не сделал. И более того - каждая его рабо¬
та как будто оставляет задел на следующую, на новую стадию патолого-анатоми¬
ческого анализа. Для сторонников режиссера это означало и продолжает означать
стратегию художника в распадающемся мире. Для оппонентов — опасную разно¬
видность некрофилии. Аргументы и тех и других достаточно весомы. Коли ты ху¬
дожник и мыслишь как художник, то будешь самовыражаться до конца. И напро¬
тив - прикоснувшись к заповедной черте, замолчи или займись более подобающим
духовным промыслом: проповедью, самоусовершенствованием, собственным спа¬
сением, наконец...
«Святой обретет спасение, художник, возможно, нет», — говорил Андрей Тар¬
ковский, один из последних кинорежиссеров, видящих творчество в религиозной
иерархии жизни. Здесь, на мой взгляд, содержится ответ как оппонентам Соку¬
рова, так и тем, кто по инерции продолжает называть его эпигоном автора Стал¬
кера и Жертвоприношения. Наследуя, с одной стороны, классической традиции
XIX века, а с другой - аскезе авторского кино Дрейера и Брессона, Тарковский не
посягал на целостность внеположенного мира, не претендовал на его, мира, ана¬
литическую интерпретацию. Камера Тарковского представляется абсолютно ней¬
тральной оптикой режиссерского зрения; все, происходящее в кадре, происходит
перед камерой, но не сделано ею (благодаря дневниковым записям Ларса-Олафа
Лотвала мы знаем теперь, какой ценой приходилось иной раз за это платить).
Иными словами, художник, пусть и не стремящийся к личному спасению,
но признающий его как безусловный императив, не может деформировать визу¬
альный образ действительности, не осознав это как ересь. Эту парадоксальную
279
Кино на ощупь
Александр Сокуров
280
1994
двойственность кинематографа отчетливо сформулировал Ф. Степун, писавший
о том, что «сознающему себя Божьим созданием человеку вряд ли было бы воз¬
можно так самовольно перекраивать мир, как того требует прометеевская метафи¬
зика подлинно художественного фильма».
Вот почему так трудно смотреть Жертвоприношение — простой и ясный ка¬
нон буквально трещит изнутри от личной боли и смуты ожидаемого конца. Вот по¬
чему безусловному духовному феномену кинематографа Тарковского по существу
нет формального эквивалента. Вот почему, наконец, «последний фильм» Тарков¬
ского - это в то же время и его последний фильм как таковой.
Иначе у Сокурова. Сам режиссер подвиг всех пишущих о нем к соблазну эпи¬
графа: «Там ничего нет». Герой Одинокого голоса человека нырял в темные воды
реки, дабы своими глазами увидеть, что же там, по другую сторону жизни. За¬
манчиво было бы написать: автор, одержимый страстью зримо опредметить не¬
зримое, следовал за героем... И еще более заманчиво констатировать — персонажи
последних фильмов Сокурова один за другим возвращаются обратно, чтобы ше¬
лестящим шепотом нездешних жителей еще и еще раз подтвердить: «Там ничего
нет». Соблазн контраста велик, но бесполезен. Покуда сокуровские богоборцы блу¬
ждали в лабиринтах инобытия, смертный холод объял бытие здешнее, посюсто¬
роннее. Страшная истина, вынесенная из мрака, выглядит всего лишь общим ме¬
стом в обессмысленной и обезбоженной реальности, где потеряла силу не только
категория спасения (уже ясно, что никто не спасся), но и сама «прометеевская ме¬
тафизика» художника. Сбывшийся Апокалипсис (понятно, что я не утверждаю со¬
вершившийся факт, а констатирую частную художественную интенцию) ужасен
еще и тем, что некому больше адресовать собственную гордыню и некому больше
карать за отступничество. Последний фильм, бывший некогда актом сверххудоже¬
ственной воли, обернулся выбором между двумя ипостасями Ничто, между пусто¬
той и отчаянием, между концом экранной проекции и смертью искусства.
Вслед за Годаром и Кокто Сокуров мог бы повторить, что кино - единствен¬
ное искусство, показывающее работу смерти, чья символика, безусловно, наиболее
отчетливо структурирована во всех его работах. Вытянутое, бесконечно длящееся
время фильма вкупе с его, фильма, реальной протяженностью (Тарковский говорил
о «запечатленном времени») воплощает эту работу поэтапно, пофазно, как механи¬
ческий процесс, при котором каждая тяжело упавшая секунда равносильна трупно¬
му пятну, проступившему на гробовой маске явленного в кадре лица. Это время де-
сакрализовано, оно необратимо и линеарно даже для тех, кто предполагает жить по
более сложным хронологическим законам. Время неуклонно ведет к смерти, к тле¬
ну и разложению; вместе с тем режиссер еретически намекал на то, что и посмерт¬
но продолжит существование по тем же равномерным и вялотекущим формулам —
обретающие дар слова мертвецы у него обнаруживали скорее скуку, чем мудрость.
281
Кино на ощупь
Вероятно, последний раз Сокуров прикоснулся к теме в Спаси и сохрани. Ло¬
зунг «жизнь тела, покинутого душой», под которым некрореалисты творили свои
черные комедии, Сокуров прочел почти буквально. Классическая схема (смерть ге¬
роини - конец сюжета) обрывалась у разверстой могилы грешной мученицы, так
и не сумевшей вместить жизнь в отпущенную ей материальную оболочку. Танато¬
логическая гипотеза осталась открытой — посмертное бытие не обещало ничего.
В Спаси и сохрани режиссер последний раз остановился у табуированной черты.
Пролегающий за ней путь не привел никуда, как никуда не привело шоссе, соеди¬
нившее две части Марии. Двадцать минут снятого в петров-водкинских ракурсах
жития (о чем свидетельствует и не свойственный Сокурову обратимый, сакраль¬
ный ход времени первой части - от августа к июню) возродились черно-белым хо¬
лодом поселкового клуба, на экране которого идут кадры девятилетней давности.
Мотив фильма в фильме, с одной стороны, увенчал генеральную сокуровскую кон¬
цепцию: объектив не способен запечатлеть ничего, кроме труда смерти. С другой
стороны, сформулировал и растущую саморефлексию фильма как такового - за¬
печатлев действие смерти, фильм обязан быть и после того, как смерть закончи¬
ла свой труд.
Итог Марии краток и безнадежен. Святая умерла, но чуда не произошло. Не
менее безнадежно и другое — во втором эпизоде мы отчетливо видим не только
смерть страстотерпицы Марии Войновой, но и смерть только что показанного
фильма о ней. Мы смотрим в полутемный зал с точки зрения экрана, почти физи¬
чески ощущаем разложение цветной фактуры кадра на мертвенное монохромное
зерно, в финале, когда бывшие некогда близкими люди равнодушно расходятся,
понимаем — они не просто вторично похоронили мать и соседку. Они предали по¬
гребению фильм как физическую субстанцию...
Я уже писал, что единственной задачей «последнего фильма» является жерт¬
венное самоубийство. Но как назвать фильм, документирующий не только свою
смерть, но и похороны, а при необходимости и эксгумацию? Как быть с фильмом-
саркофагом, чья фотографическая (по Базену) онтология простирается дальше
смертной координаты, в сумеречную зону небытия?
У Сокурова такой фильм называется Камень. По внешности он больше всего
подходит под определение «последнего». Настолько, что в околопремьерных ин¬
тервью сам режиссер не раз заявлял: лучшее, что можно пожелать Камню, это раз¬
минуться со зрителем, исчезнуть, скрыться...
Лично я усматриваю здесь известное противоречие. Сделав Камень, Соку¬
ров признал — скрыться нельзя даже за гробовой чертой. Остается вглядываться
в «толщу фильма», словно вернувшегося из того мрака, откуда прежде являлись
вкусившие смерть паломники. С той лишь разницей, что теперь посланцем мерт¬
вых земель стал сам фильм — единственный персонаж в лоне собственного сюжета.
282
1994
Фильм, будучи «последним», утверждающий фатальную невозможность последне¬
го фильма. Стилистически и персонажно Камень составляет диптих с Кругом вто¬
рым. С картиной, которая, по авторитетному мнению М. Ямпольского, «вводит»
в кинематограф недостающее звено метафизического измерения смерти и пока¬
зывает траур как обыденный ритуал. Камень зеркально его отражает. Названный
чужим именем Малянов в Круге втором провожает отца как чужого и в конечном
счете отождествляется с ним - в Камне он теряет имя и всего лишь посреднича¬
ет при встрече пришельца с темной поверхностью экранной амальгамы. Уже Круг
второй был фильмом молчания и (воспользуемся формулировкой Ямпольского)
«осязательного» контакта - Камень сбрасывает с себя последние одежды, как раз¬
девается перед могилой приговоренный к казни.
Истина фильма завернута, как минимум, в три погребальных покрывала.
Первое из них связано с фигурой пришельца. Почему этот спиритический киносе¬
анс материализует именно Чехова, а не Достоевского или, скажем, Василия Розано¬
ва? Вероятно, именно потому, что разницы нет - оттуда возвращаются под другим
именем или без имени вовсе. И все же, хотя я не берусь интерпретировать выбор
на уровне авторского замысла, дух Чехова потревожен не вдруг — помимо прочего,
он персонифицирует историко-художественную традицию языка, наиболее пол¬
но описавшего обыденность как трагедию и пошлость как меру отчаяния. Но этот
язык мертв, и один из самых выдающихся его носителей обречен на другой сло¬
варь. Он говорит о холоде, о воде, об огне камина... О геркулесовом супе на молоке,
горячем чае, яичнице с ветчиной, салате из красной капусты... С видимым насла¬
ждением он смакует и твердость крахмальной манишки, и глубокий звук фортепи¬
анных струн, и задубевший кусок колбаски... Только однажды он вяло полемизи¬
рует с Толстым («человеку надобно больше, чем клочок могильной земли»), да и то
лишь за тем, чтобы пожаловаться на тесноту загробной обители. Иначе говоря,
мертв не столько конкретный Антон Павлович Чехов, сколько «язык Чехова», утра¬
тивший сколько-нибудь выраженную функцию и годный только для означивания
телесной коммуникации. Недаром в ответ на вопрос об «устройстве» того света Че¬
хов бормочет что-то невнятное об «этажах» или «ступенях»...
Так обнажается первый покров. В краткой земной реинкарнации пилигрим
вынужден ориентироваться на ощупь. Так — в туманной пустоши оставленного Бо¬
гом места — истаивает и обертка культурно-мифологического толкования. Дом —
синоним Рая, потеря которого и есть начало странствий неприютной души. От
Булгакова и Вима Вендерса мы знаем — обрести Дом значит вновь обрести Эдем,
но у Сокурова безымянный привратник (исполнителя этой роли, впрочем, зовут
Петром) перво-наперво выпроваживает странника из его собственного, превра¬
щенного в публичное музейное место, жилища. Из отрывочных реплик их пер¬
вого разговора явствует, что на месте приусадебного сада раньше было кладбище,
283
Кино на ощупь
фундамент дома покоится на человеческих костях. Еще позже ключарь признает¬
ся в своей нелюбви к жизни, а в финале попросится в компанию уходящему гостю.
В пределах мифологемы эти знаки отчетливо маркируют модель переверну¬
того Эдема и вездесущести физической смерти. Но на уровне актуальной лекси¬
ки Камня вариация культурологического сюжета не так уж и важна. Скорее наобо¬
рот — ведь в истинной коллизии фильма, с осязаемой болью познающего границы
собственных возможностей, страж и страждущий меняются местами. Рубеж неве¬
домого охраняет не тот, кто зримо остается в финальном кадре, а тот аноним, кто,
временно назвавшись Чеховым, уходит в заэкранное измерение кинопроекции. Во¬
площенная метафизическая координата корректирует и, условно говоря, знаковый
слой. Конечно, можно вспомнить, что цапля, сопровождающая пришельца, в ми¬
фопоэтической традиции символизирует рождение и долголетие, а ее тень, несин¬
хронно движущаяся в угловом свете, отсылает к оборотням дрейеровского Вампи¬
ра и глубже — к дуализму романтической концепции. Можно толковать тщательно
поименованные стихии огня, ветра и воды, но вряд ли эти герменевтические шту¬
дии окажутся плодотворными. Ибо Камень в конечном счете говорит о непредста¬
вимом на языке самопознающих фактур и, минуя посредников, выстраивает пря¬
мую физическую конвенцию между фильмом и смертью.
В Круге втором живой и мертвец менялись лицами. Сын как бы принимал на
себя знак смерти, похитившей отца, становился копией, дублем покойного. В Кам¬
не свидетельство подлинности конца принадлежит самому изображению. Чехов
присаживается на заснеженную скамейку, и его лицо медленно «проваливает¬
ся», уходит в глубь фильма. Остаются безусловное присутствие телесного остова
и столь же безусловный след смерти на материальной поверхности кинопленки.
Четверть века назад Бергман показал, как ведет себя фильм, вплотную под¬
ступивший к «последним вопросам». Пленка в Персоне лопалась посередине, не
в силах вынести груз ужаса и боли. Камень, переступивший и порог последних во¬
просов, и последнего фильма, изготовлен из другого материала — смерть оставля¬
ет в нем входное отверстие, но не убивает. Это значит, что спастись уже нельзя, но
еще можно сохранить образ невозможности спасения. И заодно узнать, на каком
языке разговаривает смерть, закончившая свою вечную работу.
В сб. «Сокуров». СПб., Сеанс-Пресс, 1994.
284
1994
Город и Дом
В Доме, где разбиваются сердца, не знали, как жить, и тут им оставалось
только хвастаться, что они, по крайней мере, знают, как умирать...
Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца»
Я не знаю, что такое Дом.
Это пальто или же зонтик, если пойдет дождь.
Я заполнил его бутылками, тряпьем, деревянными утками, занавесками, веерами.
Кажется, что нет желания отсюда никогда уходить.
Тогда это клетка, которая пленяет всех, кто попадает в нее.
Даже такую птицу, как ты - со следами снега.
Стихи Тонино Гуэрры, посвященные Андрею Тарковскому
и прочитанные Александром Сокуровым в Московской элегии
В середине Московской элегии есть поразительный по наглядности эффект. За¬
нимающая весь кадр фотография Андрея Тарковского вздрагивает, накреняется
и ползет куда-то вниз и вбок, открывая позади заснеженное кладбище. Москов¬
ская элегия — реквием и в то же время посмертная ретроспектива. Гений бежит из
отторгнувшего его Отечества, от Дома, от дорогих могил. Гений мечется по свету,
скитается из фильма в фильм и в конце концов находит вечный покой на чужбине.
Отдав таким образом должное реальной биографической канве и подтвердив ее
социальную причинность, Александр Сокуров, автор Московской элегии, дает и свою
версию судьбы. Согласно этой версии, истинной целью мятежного художника, пред¬
метом его постоянной ностальгии и не всегда выраженных дежа вю является смерть.
У Сокурова Тарковский проживает две жизни вне дома. Из комфортной, гуман¬
ной Италии его тянет на неуютную, вьюжную, постылую родину. Метафора ясна:
чужие стены не заменят собственной пустоши. И хотя в кадрах изгнания показаны
главным образом интерьеры, а оставленная земля предстает как открытое, чуждое че¬
ловеку пространство, обретший видимость покоя художник смотрит в окно и видит
все те же поля, пустыри и запущенные погосты. Сквозь окно врывается отголосок не¬
кролога, с неискренней скорбью констатирующего смерть главы государства... Окно за¬
крыто, голос умолкает, но художник все равно делает фильм о бездомье, где финальное
несение огня по воде волей Сокурова рифмуется с движением толпы, идущей ко гробу.
285
Кино на ощупь
Советская элегия. Реж. Александр Сокуров. 1989
Снятое в Швеции Жертвоприношение заканчивалось поджогом жилища. Ви¬
деосъемку предназначенной огню декорации Сокуров монтирует с московской
квартирой Тарковского. Следом появляются разоренные комнаты, в которых про¬
шла юность режиссера, а потом и деревенский дом, купленный и обставленный им
в последней попытке устроить свой быт на родине. Композиция замыкается. Уго¬
лок парижского кладбища и интерьер последнего дома, где, по закадровому при¬
знанию самого Сокурова, съемочная группа так и не смогла согреться, венчают
вторую, и последнюю, жизнь. Пылает огонь в камине, но ни он, ни его жертвенный
экранный двойник не могут разогнать могильный холод. И понятно, что не в идео¬
логическую ссылку отправился отсюда творец, а всего лишь покинул очередной
приют на пути к единственной, только ему назначенной обители.
У Сокурова смерть венчает маршрут земного скитания, мирскую неприют-
ность («Петербургская» и «Московская» элегии), предполагает иллюминацию,
прорыв, момент истины (элегия «Советская») или причастие человека собствен¬
ной неотчужденной природе. Погружая Витаутаса Ландсбергиса в поток смерто¬
носного настоящего времени и — с другой стороны - в стихию его первой и главной
профессии, Простая элегия дает образ государственного мужа, ненадолго вернув¬
шегося «домой». И хотя литовский премьер не покидает стен своего официаль¬
ного кабинета, реальное время звучания музыки Чюрлениса словно освобождает
286
1994
Дни затмения. Реж. Александр Сокуров. 1988
его от бремени исторического бессмертия и возвращает в естественное качество —
обреченного концу. Музыка — синоним вечности — адресует к смерти как неде¬
лимой субстанции, понятой и означенной здесь и сейчас, в безусловности секунд
и звуков.
Сокуровский Дом посредничает между иллюзией жизни и определенностью
смерти в той же степени, в какой гроб придает усопшему последнее сходство с жи¬
вым и, вместе с тем, обещает физическое разложение по ту сторону могилы, про¬
вожает из жизни земной, но не гарантирует жизни вечной. Героиню Спаси и сохра¬
ни хоронили в трех гробах — знак того, что и в иной жизни ей придется рваться
сквозь материальные оболочки, о которые в кровь разбилась душа демона страсти.
В Советской элегии низкий угол кинокамеры организует пространственную
перспективу так, что каменное надгробие и многоэтажный дом выглядят сосед¬
ними зданиями. В следующем эпизоде типовой брежневский микрорайон словно
продолжает по-советски тесное и по-советски же безликое кладбище — «общагу».
На этом фоне образ Ельцина - в те времена лидера популистской оппозиции -
задан в двуединстве тем «блудного сына» и почти федоровского «воскрешения
предков». Опредмечивая звание «сына партии и народа», Сокуров проводит пе¬
ред внутренним зрением героя портретную галерею усопших: фотографии соб¬
ственного его отца и парадный иконостас политических патриархов. Статичные
287
Кино на ощупь
Круг второй. Реж. Александр Сокуров. 1990
288
1994
Спаси и сохрани. Реж. Александр Сокуров. 1989
289
Кино на ощупь
Скорбное бесчувствие. Реж. Александр Сокуров. 1983 / 1987
изображения (в Одиноком голосе... смерть впервые окликала Никиту через альбом
с фотографиями) ассоциируются с кладбищем, динамичный проход по правитель¬
ственным коридорам сменяется покоем приватного жилища, общественный пер¬
сонаж предстает в текучести механического времени (смысл этого принципиаль¬
ного для Сокурова приема я уже показал на примере Простой элегии)... Буквальное
и фигуральное «возвращение домой» и следующие затем раздумья происходят на
территории, сопредельной смерти. И это тем более важно, что размышление идет
о стратегии жизни, о возведении стен нового общественного Дома. Все сказан¬
ное может показаться преувеличением как со стороны режиссера, так и со сто¬
роны интерпретирующего его замысел критика, если не знать, что для Сокурова
истина лежит в плоскости телесного, а значит — подверженного смерти - суще¬
ствования. Так, в уже неоднократно описанной дуэли Ельцина и Горбачева послед¬
ний проигрывает именно потому, что, ловко орудуя словом, пребывает в бесплот¬
ном измерении телеэкрана, в объятиях новейшего Голема, в призрачном мерцании
электронно-лучевой трансляции. И напротив — его молчащий оппонент, находя¬
щийся в собственном доме (думаю, сцена не прозвучала бы, будь она снята, ска¬
жем, в офисе Ельцина), зрим, осязаем, следовательно — проницаем смерти и тому
ходу времени, которое, по словам Андрея Платонова, есть «равномерная тугая сила
пружины».
290
1994
Камень. Реж. Александр Сокуров. 1992
Платоновский мир с его наивной машинерией, безусловно, близок Сокурову.
Однако, разделяя взгляды Платонова на «силу мировых законов вещества», в сво¬
ем единственном прямом обращении к прозе писателя Сокуров сделал показатель¬
ный виток против движения. В «Происхождении мастера» герой возжелал «пожить
в смерти», бросился в реку, утонул и был похоронен у ограды на сельском погосте.
Персонаж Одинокого голоса человека, искушенный тем же «любопытством разу¬
ма», в финале выныривает на поверхность. В обретенной зоне смерти находят друг
друга чуждые при жизни тела Никиты и Любы. И убежищем им становится дом,
сквозь половицы которого проросла могильная трава.
У Платонова Дом лишен сакральной ценности, но явлен как вещь в ряду иных
вещей. Его устройство познается механически - разъятием и сломом. Варварская
аналитика торжествует на руинах, как торжествует на пепелище мужик, решив¬
ший выяснить природу огня и пригласивший огонь в собственную избу.
У Сокурова семантическая нагрузка ощутимее. В Одиноком голосе... два дома,
и каждый из них скреплен глобальной символикой Жизни и Смерти. В первых
кадрах Никита, выброшенный в пустынный пейзаж земли «до творения» (так,
в зримом отсутствии неба, сняты мирские эпизоды пазолиниевского Еванге¬
лия от Матфея), возвращается под родной кров и застает спящего отца. Не ста¬
ну перегружать эту сцену расширительным толкованием, но, вероятнее всего, под
291
Кино на ощупь
Спаси и сохрани. Реж. Александр Сокуров. 1989
отцовством у Сокурова подразумевается некое демиургическое начало жизни (сю¬
жет Круга второго, окончательно констатирующего богооставленность, вырастает
из смерти и похорон отца).
Тем важнее вспомнить, что некогда Никита мечтал о женитьбе отца на Люби¬
ной матери, с чьим ретроспективным присутствием в фильме связана тема смерти.
Нечто похожее мы увидим и в Днях затмения — полубезумный учитель истории
сначала покажет Малянову странный фотоальбом-складень, а потом уйдет вслед за
юной азиаткой — не то мадонной, не то ангелом-истребителем. Еретический резон
мезальянса ясен: первым в ряду сокуровских духоборцев Никита жаждет кровного
родства жизни и смерти, Царства небесного и загробной обители. Поначалу отец
отказывается: «Кресла у них высокие, московские... О чем говорить буду?» (инте¬
ресно, что, снимая годы спустя Московскую элегию, режиссер найдет в квартире
Тарковского на 1-м Мосфильмовском именно такие кресла), но, видя уход сына,
просится следом. Из Дома жизни - в Дом, где обитает смерть.
По поводу следующей работы Сокурова - Скорбного бесчувствия - ироничный
критик Александр Тимофеевский заметил: с тех пор, как Рубенс говорил не о круше¬
нии космоса, а всего лишь о гибели джорджоневского мифа, по меньшей мере комично
утверждать сакральное тождество Дома и Космоса. Не претендуя на полемику, заме¬
чу, что сокуровская метафора Дома мерцает именно в этой — расширенной - области
292
1994
Круг второй. Реж. Александр Сокуров. 1990
значений, в том универсальном пространстве, где первопричины предметны, а пред¬
меты выступают в отношениях высоких причин. Архитектурный проект пьесы Шоу
возведен на локальном фундаменте европейского кризиса рубежа веков, дом Соку¬
рова стоит на окраине Апокалипсиса. У Шоу ведомый капитаном Шотовером ковчег
плыл прочь от исторического водоворота, у Сокурова особняк, словно построенный
обрусевшим Гауди, идет по мертвым водам конца истории.
Прежде всего здесь стоит задуматься об отношениях режиссера с литера¬
турой (в конце концов шесть из восьми снятых им к настоящему моменту игро¬
вых картин так или иначе являются экранизациями). В тот же ряд вписывается
и мысль о культурных истоках сокуровской поэтики. Адаптируя в Любовниках Ма¬
рии те же, что и Сокуров, платоновские мотивы к американской фактуре, Михал¬
ков-Кончаловский никак не вынес на поверхность образ Дома. Легко считываемая
мифологема пряталась в бытовом слое, в элементах повествовательного дискурса:
выпивка с отцом, местная танцулька, кресло, развернутое к степному закату. Веч¬
ные оппозиции уходили вглубь: в биологию, в психику, в подвалы подсознания, но
не опредмечивались снаружи, в глобальном соприсутствии миротворения. В ми¬
халковском же Дяде Ване интеллигентские посиделки остранялись всего дважды —
в начале и в конце, когда жизнь смертная стучалась у ворот, напоминала о себе
страшными кадрами документа. В Скорбном бесчувствии мятое, сплющенное
293
Кино на ощупь
Круг второй. Реж. Александр Сокуров. 1990 Дни затмения. Реж. Александр Сокуров. 1988
294
1994
Тихие страницы. Реж. Александр Сокуров. 1993 Камень. Реж. Александр Сокуров. 1992
295
Кино на ощупь
Спаси и сохрани. Реж. Александр Сокуров. 1989
киносвидетельство смерти крадется из кадра в кадр, топчется, гримасничает, под¬
мигивает... Словом, живет в доме на равных правах.
Варварская метафизика Сокурова, безусловно, вырастает из советской куль¬
турной истории. В жилище варвара сосуществуют идолы и демоны, культовые ат¬
рибуты и похоронные принадлежности, невнятные обрывки этноса и обескуражи¬
вающе простые кадры космоса, еще не написанная Библия и уже не прочитанная
«Правда», мертвые и живые, ангелы и Политбюро... Все то, что так вещественно на¬
полняет кадр в Днях затмения и что постепенно изгоняется из Дома, по мере при¬
ближения его настоящей владелицы - Смерти.
В Днях затмения видна композиция. Я не утверждаю ее как покадровую по¬
следовательность, но констатирую как субъективное ощущение — предметная сре¬
да тает, очищается, уходит. Интерьеры становятся скупее, оголеннее, строже. От
панорамы по столу Малянова (есть время рассмотреть и печатные заголовки,
и страницу рукописи) до дырявой стены в невнятно обставленной квартире Вече-
ровского. Вещи шелушатся, мертвеют - в невыносимо долгой сцене обыска в ком¬
нате Снегового работает счетчик столь любимого Сокуровым механического вре¬
мени, люди-тени движутся среди трупов вещей. В конце концов исчезает и город,
впервые у игрового Сокурова данный как кладбище, а еще вернее — как толкучка
случайных могил, исключающая саму мысль о благородной геометрии вечности.
296
1994
Камень. Реж. Александр Сокуров. 1992
В черном провале бывшего городом места остается Малянов. Отсюда уезжает
Саша Вечеровский, номинально и внешне претендующий на автопортрет режис¬
сера (сравним этого экранного двойника с примеркой посмертной маски Тарков¬
ского и определим спектр сокуровских саморефлексий). В кино финальный отъ¬
езд обычно означает начало новой жизни. У Сокурова он приближает следующий
виток смерти.
«Пересекая черту круга, вы навеки теряете то, что в его границах... Обратной
дороги нет...» - предупреждал заговоривший мертвец в Днях затмения. Ужас не¬
возвращения подтвердился: за первым кругом открывался следующий, еще более
тесный и неуютный. Схематически Круг второй повторяет Одинокий голос чело¬
века, однако формальная рифма столь же относительна, как недостоверное сход¬
ство ночного сна и вечного забвения. В Одиноком голосе... пытливый дикарь, вер¬
нувшись домой, будил Создателя, чтобы обручить его со смертью ради всегдашней
и истинной жизни. В Круге втором Бог-отец безнадежно мертв и требует возвра¬
щения всего лишь как обременительной ритуальной услуги.
Еще не переступив родной порог, Никита прыгал с обрыва на всеобъятном
фоне пустой земли (концептуальное сходство с брейгелевским «Падением Икара»
здесь слишком очевидно, чтобы комментировать его подробно). Малянов-второй
является к отчему дому из миража, снежного марева, из какого-то плоского вихря,
297
Кино на ощупь
Круг второй. Реж. Александр Сокуров. 1990
в котором больше нет верха, низа, объема и глубины. Дома как такового тоже нет -
проход по темной лестнице тут же приводит к дверям квартиры. Нет и кладбища -
резервации смерти. Оно замещается проездами вдоль улиц заполярного райцен¬
тра, чьи каменные бараки выглядят надгробиями.
Отмечая следы земного присутствия смерти, прежний Сокуров снимал дома,
как могилы, и кладбища, как города. Сокуров Круга второго больше не видит раз¬
ницы между жилищем здешним и потусторонним. Победившая смерть упразд¬
нила не только третье, глубинное, измерение, в котором она пряталась, будучи
предполагаемой антитезой жизни, но и всякое, пусть иллюзорное, сравнение. Из
структуры посмертного жилища уходит частичка «как» - остаются голые ступени
саркофага, приют промежуточного бытия, постоялый двор для странников между
сомкнувшимися мирами.
Из фильма в фильм у Сокурова кочует одинаковый план: человек, «обрезан¬
ный» по плечи нижней границей кадра, поднимает голову и смотрит вверх и назад.
Я думаю, что это самый «субъективный» сокуровский ракурс. Каждый видит в нем
свое: Никита - все тот же архаический ландшафт, Малянов из Дней затмения — об¬
лачную высь, героиня Спаси и сохрани — теплый золотой свет и порхание пушинок.
Однако, в конце концов, каждый видит одно — инобытную реальность, на которой
сфокусировано внутреннее зрение.
298
1994
Тихие страницы. Реж. Александр Сокуров. 1993
Малянов Круга второго появляется в этом каноническом ракурсе на фоне глу¬
хой стены. Льется холодный мертвый свет, сбоку змеится трещина неопределенно¬
го происхождения, поверхность словно выталкивает богоставленного героя в дву¬
мерную проекцию отчаяния. В Доме, куда вернулась смерть, больше нет окон. Окна
и особенно заоконные пространства у Сокурова всегда выдавали (воспользуюсь фор¬
мулировкой М. Ямпольского) «значимый рубеж» миров. Через стекло лились пото¬
ки света в Одиноком голосе..., прыжок из окна в Скорбном бесчувствии подразумевал
стерегущую извне высоту. В Днях затмения варан Иосиф заглядывал к Малянову
сквозь зарешеченную форточку, та же решетка отсекала снаружи разговор Маляно-
ва с ангелом. Металлический переплет охранял стыкуемость галактик — словно от¬
брошенный пощечиной Небесного Страха, Малянов-первый делал задний кульбит
с подоконника и приземлялся на топчан в своей комнатухе. Высоко, в черноту все¬
ленской ночи, возносился балкон — место последней встречи Малянова и Снегового.
В Спаси и сохрани горизонтальная обыденность интерьеров спорила с вытя¬
нутым контуром окна. Снаружи шла другая — вертикальная — жизнь, наверх взбе¬
гала дорога, ввысь уходили архитектурные линии, арочное завершение оконного
проема внятно адресовало к житийному сюжету.
В Круге втором окно появляется только однажды. Кромешный мрак рассту¬
пается кровавым квадратом. Небытие обосновалось по обе стороны оптической
299
Кино на ощупь
Тихие страницы. Реж. Александр Сокуров. 1993
300
1994
Одинокий голос человека. Реж. Александр Сокуров. 1978 / 1987
301
Кино на ощупь
границы; небытие нельзя, невозможно больше созерцать со стороны, в нем нуж¬
но жить и передвигаться вслепую - вот почему в доме отца нет окон, а есть только
двери и световые зоны, условно маркирующие сиюминутное состояние человече¬
ского вещества. Никита и Люба шли к Дому смерти через ворота, возились с клю¬
чами, теребили замок. Никита вдруг засыпал у основания створок — вхождение
в иную реальность сопрягалось с усилием, а затем с гипнотическим трансом. Двер¬
ные проемы Круга второго ничего не скрывают, но всего лишь прокладывают тун¬
нели внутри смерти — так лишенный зрения снимает двери с петель, чтобы облег¬
чить перемещение по знакомому на ощупь жилищу.
В Камне дверные косяки служат рамами слепых зеркал. Это не те образцо¬
во-поэтические зеркала Жана Кокто, могущие быть и экраном непрямого отраже¬
ния, и бассейном, наполненным водами Стикса, сгустки мрака, ложные коридоры
несуществующего лабиринта. В конце концов — заплатки на теле фильма, тщет¬
но взывающего к посетившим его героям. «С той стороны зеркального стекла» нет
ничего, прикоснуться к холодной поверхности — значит всего лишь ощутить соб¬
ственную ладонь, обледеневшую в могильной стуже.
Обходя свои владения, Смерть упразднила стены и занавесила окна. Масштаб
интерьеров спрятался в смертной тени, разлившейся вокруг незрячей глазницы
кинообъектива. Снаружи дом, наоборот, увеличился, вырос, распух... Вглядываясь
в жизнь, мутирующую перед шаманским зовом исхода, былой Сокуров показывал
людей крупнее, чем здания и даже целые города. Обманчиво-жилые склепы Кру¬
га второго, Камня и особенно Тихих страниц подавляют своей храмовой надчело¬
вечностью. Более того — кладбищенские пейзажи организуются в них не вдоль, но
вертикально — в предчувствии новой макабрической готики, в восходящей к смер¬
ти строительной симметрии. Бог мертв, и вакансия Творца свободна — обещанием
нового Храма в финале Тихих страниц встает каменный идол, гибрид языческого
льва и римской волчицы, троянского скакуна и Медного всадника...
Так замыкается второй круг. Параллельные фигуры сошлись в пустыне пре¬
одоленного Зазеркалья - в нем невозможно жить, но нельзя умереть. Остается
строить. Впрочем, экран часто заставляет режиссера быть архитектором: в исто¬
рии кинозодчества остались подземный Метрополис Ланга и вывихнутые улицы
...Калигари, капризные дворцы Гринуэя и Новая Москва Медведкина, вавилонские
площади Гриффита и города-миражи Вендерса. В этой истории достанется место
и Александру Сокурову.
В сб. «Сокуров». СПб., Сеанс-Пресс, 1994.
302
1994
Доктор Джекил и мистер Хайд помирились
То, что Большой Голливуд больше не делает кино как таковое, ясно уже давно. Про¬
дукция фабрики грез все явственнее тяготеет к массовым потехам долюмьеровско-
го века - цирку, комиксу, балагану и кунсткамере. Цель определяет средства: хиты
последних американских киносезонов, от Дика Трейси до Газонокосильщика и от
обоих Бэтменов до Юрского парка, куда ближе грандиозной мультипликации, чем
«живому» кино. И если полвека назад Уолт Дисней покорил мир, сделав рисованную
пластику человекоподобной, то на исходе столетия происходит обратное. Нарабо¬
танная киноэстетика «сворачивается» до принципов волшебного фонаря, природа
одалживается у выдумки, а живая жизнь — у мультипликации. С помощью умно¬
го компьютера и примитивного сюжета кино «вспоминает» о былом могуществе,
усмехаясь и цитируя собственную академическую историю. От большого европей¬
ского ума это можно назвать постмодернизмом, хотя на самом деле все как раз на¬
оборот, потому что новейшие американские сказочки абсолютно всерьез переска¬
зывают неотменимые социальные мифы о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Маска этот ряд продолжает. Не особенно изобретательно, что всякой сказ¬
ке скорее не в минус, а в плюс, ибо речь идет о канонической истории Ивануш¬
ки-дурачка, переименованного в Хорошего американского парня. Этот самый
парень, клерк Стенли Ипкис (в его роли снялся популярный шоумен Джим Кер¬
ри), находит волшебную маску. Маска прилипает к лицу, и с этого момента жизнь
скромного банковского служащего идет по-другому. Днем он зевает за конторкой,
а ночами превращается в нечто среднее между Фантомасом и Фредди Меркью¬
ри - в обаятельного зеленомордого беспредельщика, короля дискотеки и удачли¬
вого грабителя. Пережив череду головокружительных приключений, эффектно
аранжированных электроникой Лукасовской фирмы ILM, маленький человек на¬
конец догадывается, что магическая личина сама по себе значит немного, а задат¬
ки сверхчеловека есть в нем самом. Решающий бой он выигрывает «с открытым
забралом». Враги посрамлены, справедливость восстановлена, и финальный поце¬
луй достается самому герою, а не его могучему двойнику.
Мотив инициации и самопознания — одна из главных составляющих Красивой
американской сказки. Сюжет живет в культуре, переодеваясь сообразно времени.
В стиле «ретро» он выглядел так: умная бабушка вручила тихоне-внуку семейную
реликвию — средство от застенчивости. Ободренный внук разом решил все свои
проблемы и только потом узнал, что никакого талисмана нет, а есть ручка от старого
зонтика; фильм Бабушкин внук появился в 1922 году, и сыграл в нем Гарольд Ллойд,
303
Кино на ощупь
одним из первых напяливший на Иванушку-дурачка пиджачок и канотье «миддл-
класса». Позднее фольклорный герой щеголял в футуристических доспехах Супер¬
мена и Бэтмена, планетарных рыцарей без страха и упрека, не упускающих случая
выскочить из цивильных подтяжек и сразиться с мировой нечистью. Стенли Ип-
кис хотя и наследует им, но наследует с оговоркой. Его феерические вечерние туа¬
леты больше напоминают о классических злодеях — магах и «джокерах», чем о бор¬
цах за сказочное благо. Хорошим парнем недотепа-бухгалтер становится, только дав
волю отрицательному обаянию и послав подальше всякие условности и приличия.
Еще недавно двойственность общественного человека была поводом для глум¬
ливых пастишей вроде линчевского Синего бархата или После работы Мартина
Скорсезе. Вечная схватка Джекила и Хайда как будто взрывала изнутри безмятеж¬
ную поверхность обыденности, принуждала вглядываться в бездну, как в зеркало,
уважать собственную тень и не торопиться с очевидными выводами. С недавних пор
Джекил и Хайд помирились. Их непротиворечивый союз демонстрирует, например,
идущий сейчас на наших экранах Волк Майка Николса — глубокомысленная притча
о пользе оборотничества. В сравнении с Маской она явно проигрывает. Причастный
к авторской культуре Николс попал впросак, стремясь облечь индивидуальную фи¬
лософию в низкую форму мистико-эротического жанра. Зато постановщик Маски
Чарлз Рассел, в чьей предыдущей фильмографии самое видное место занимает Кош¬
мар на улице Вязов-3 (тот самый, где повзрослевшая Нэнси сразилась с душегубом
Фредди Крюгером во всеоружии современной психиатрии), остался «конвейерным»
режиссером, анонимным сказителем, автором-невидимкой, свободно разгуливаю¬
щим по всем этажам культуры. И наивно заглядывающим в ее самые элитные угол¬
ки. В конце концов тема маски и лица всерьез разрабатывалась выдающимися худо¬
жественными гениями уходящего века - от Чаплина до Марселя Марсо. И от Брехта
до Феллини. Расселу на это наплевать. Оранжевый фрак Стенли Ипкиса расчерчи¬
вает киноэкран подобно компьютерному курсору. И точно так же сказочная услов¬
ность проводит потешную каляку-маляку по экспонатам музея культуры. Танцую¬
щий Ипкис пародирует чуть ли не всю классику экранной хореографии - от Песен
под дождем до Вестсайдской истории и от Лихорадки субботним вечером до майкл-
джексоновского Триллера. Получив пулю в живот, Ипкис томно повторяет бессмерт¬
ную фразу Ретта Батлера из Унесенных ветром: «Передайте Скарлетт, что мне на¬
плевать...». И тут же перебивая себя словами героини Волшебника Страны Оз: «Не
выпускайте Тотошку...». Память компьютера, запрограммированного на сказку, вы¬
брасывает немыслимые имена и цитаты. Это трогательно и вызывающе неправдопо¬
добно. Но сказка и не претендует на правду. Лозунг о сказке, ставшей былью, давно
ушел в прошлое. Теперь быль становится сказкой, и Маска не самая плохая из них...
«Ъ». 1994. 15 декабря.
304
1994
Годар сложил повесть о первой любви
Рождение нации и Броненосец «Потемкин», Гражданин Кейн и 8 1/2 — каждая из
этих картин делила экранное искусство на «до» и «после». Дэвид Уорк Гриффит
научил кино развернутому повествованию, Сергей Эйзенштейн вскрыл монтаж¬
ные возможности «движущейся фотографии». Орсон Уэллс показал, каких резуль¬
татов можно добиться, воочию показав на экране соотношение содержания и фор¬
мы, а Феллини заявил, что и содержание, и форма столь же смутны, как детские
фантазии, сны и воспоминания. Жан-Люк Годар завершил эту цепочку. Когда этот
никогда не улыбающийся и вечно небритый «сын синематеки» снял свой первый
фильм, стало ясно: в кино дозволено все. Можно снимать без сценария, основыва¬
ясь на двух страничках текста, сочиненного приятелем - Франсуа Трюффо — по мо¬
тивам газетной заметки из колонки криминальных происшествий. Можно импро¬
визировать на съемочной площадке, побуждая исполнителей болтать на свободные
темы и задирать случайных прохожих. Можно снимать против света, монтировать
как Бог на душу положит, сколько угодно кромсать пленку, логику и сюжет, обры¬
вая сцену на полуслове, а героя на полувздохе. Можно, наконец, бесконечно цити¬
ровать любимые фильмы и называть персонажей именами любимых киногероев,
заменять психологию киноклише, а социальность - капустником для посвящен¬
ных. Зритель все равно не заскучает. Потому что своим кинодебютом эрудит, ра¬
ционалист, синефил и экс-кинокритик Годар объяснил, что самое главное в кино -
это не правила, а любовь.
Годар всегда утверждал, что кино показывает только любовные истории. В во¬
енных фильмах речь идет о любви к оружию, а в гангстерских - о любви к пре¬
ступлению. «Новая волна», зародившаяся в залах парижской синематеки и окреп¬
шая в драке с «папочкиным кино», принесла новую любовь к кино - любовь-культ.
«Нововолновые» дебюты конца 50-х, будь то 400 ударов Трюффо или Красавчик
Серж Шаброля, показывали упоительный роман авторов с их собственными кино¬
впечатлениями и памятью жанра. Годар, всегда выделявшийся среди единомыш¬
ленников радикализмом, пошел дальше других. Свою первую love story он свел
к схеме, формуле, архетипическому сюжету, тысячи раз пересказанному киноми¬
фу о любви и измене.
Парень встретил девушку. Он, Мишель Пуакар — сыгранный тусовщиком
и начинающим актером Жаном-Полем Бельмондо - угонщик, невольный убий¬
ца и не читавший Сартра стихийный экзистенциалист, аутсайдер и фанат Хэм¬
фри Богарта, любитель открытых машин, скорости и Моцарта. Она — американка
305
Кино на ощупь
Жан-Люк Годар
306
1994
На последнем дыхании. Реж. Жан-Люк Годар. 1959
307
Кино на ощупь
Патриция (Джин Себерг), чистюля, интеллектуалка и стерва, прошлявшаяся весь
день с Мишелем по парижским бульварам и проведшая с ним ночь на полууго-
ловной хате, а наутро деловито позвонившая в полицию. Впрочем, ее индивиду¬
альные мотивы уже и не важны, ведь столько раз женщины предавали на экране
своих мужчин. И неважно, кому именно адресует последнее беззлобное прокля¬
тие смертельно раненный Мишель. Неверной подружке или жизни, по которой
он несся, не переводя дыхания. Или кино, которое столько раз показывало жизнь,
смерть, любовь и измену. Но так никого и не научило жить, умирать или избегать
предательства.
В уходящем году фильму исполнилось 35 лет. Вне всякого сомнения, это были
35 лет после На последнем дыхании. Перемешав кино и жизнь, боль и вымысел,
поэзию и социологию, авторство и жанр, мелодраму и «черный фильм», мужской
шовинизм Америки и романтическую чувственность Европы, Годар поведал уни¬
версальную историю. С тех пор, подобно тому, как каждая театральная генера¬
ция самоидентифицируется посредством Гамлета, каждое новое кинопоколение
снимает свое На последнем дыхании — свой манифест свободы, вседозволенности
и любви. Я шагаю по Москве, Подземка, Игла или Никотин — увы, перечень нека¬
нонических римейков годаровского шедевра более чем наглядно свидетельству¬
ет об угасании чувств. В подобных картинах все больше знания и все меньше жиз¬
ни, все больше иронии и все меньше куража. Создатели оригинала тоже изрядно
порастерялись во времени. Бельмондо-Пуакар остался жить, тиражируя подарен¬
ный Годаром образ на потребу все более и более коммерческим стандартам, кичась
самостоятельностью в трюковых сценах и энергично участвуя в прокатной судь¬
бе своих картин. По мрачной иронии не он, а стерильная американочка Джин Се¬
берг потратила следующие 20 лет на остановку дыхания наркотиками и алкоголем.
Единственным не изменившим первой любви остался Годар. Его саморазруши¬
тельный роман с кино, полный ревности, надежд и подозрений, оборачивался то
попыткой «обобществить» предмет своей страсти в духе психоделического груп-
повика «цветочной революции», то изменой с новыми аудиовизуальными сред¬
ствами, то душераздирающе-интимными признаниями стареющего хулигана. Вче¬
ра мы увидели начало любви — еще неумелое, трогательное и бескорыстное.
«Ъ». 1994. 17 декабря.
310
1995
Властелин страха
После того, как Тарантино реабилитировал бульварное чтиво, а Тим Бартон снял
биографию Эда Вуда, мода на «плохое» ретро-кино приобрела почти общеобяза¬
тельный статус. В возрожденном культе полузабытых би-режиссеров 30-50-х
вновь зажглась звезда одного из самых фантастических кинопримитивистов Уиль¬
яма Кастла. В августе престижный нью-йоркский Film Forum организовал его
двухнедельную ретроспективу, включающую в том числе и Ребенка Розмари Рома¬
на Поланского - единственную картину категории «А», к которой Кастл в качестве
продюсера приложил руку более, чем за тридцать лет работы в кинематографе.
В юности Кастл играл в бродвейских массовках, сочинял скетчи, подрабаты¬
вал театральным менеджментом. В 1937 году он перебрался в Голливуд, снялся
в нескольких эпизодах, написал несколько сценариев и в 1943 году сделал свой пер¬
вый фильм. За следующие два десятилетия он поставил около сорока малобюджет¬
ных картин. Больше половины из них были серийными комедиями и детектива¬
ми с продолжением, то есть той поточной продукцией, которая в дотелевизионную
эпоху заменяла мыльные оперы. Возможно, Кастлу было суждено навсегда остать¬
ся анонимным тружеником киноконвейера, если бы в конце 50-х он не нашел себя
в horror-жанре. С тех пор он ставил только «ужастики», неизменно собиравшие
рекордное число критических насмешек и полную кассу. В 60-е годы у него сни¬
мались звезды первой величины Джоан Кроуфорд и Барбара Стенвик, в качестве
сценариста с ним сотрудничал автор Психо Роберт Блох, в его последнем фильме
Shanks (Остатки) двойную роль глухонемого кукольника и восставшего из мерт¬
вых ученого исполнил Марсель Марсо. В 70-е годы сам Кастл снимался в эпизо¬
дах у Шлезингера и Хола Эшби и за год до смерти опубликовал автобиографию,
эффектно озаглавленную «Ну-ка сюда! Вся Америка наложит в штаны со страху!»
Все, кто знал Уильяма Кастла, вспоминают о нем как об очаровательном человеке
и немыслимом лгуне. Он врал по поводу и без, чтобы, по собственным словам, не те¬
рять форму. Пятнадцати лет от роду получил первую бродвейскую роль, представив¬
шись племянником всесильного продюсера Самюэля Голдвина. Дебютировав двумя
годами позже Уэллса, тут же потребовал, чтобы среди своих его звали Орсоном, та¬
ким образом определив себе место рядом с автором Гражданина Кейна. До послед¬
них дней упорно твердил, что заняться ужасами его подтолкнул фильм Анри-Жор¬
жа Клузо Дьяволица, на который они с женой забрели как-то дождливым вечером...
Легенда есть часть неоформленной истины. Для Америки 50-х, умножившей
пуританскую традицию на охранительную идеологию «холодной войны», семья
313
Кино на ощупь
была священна. В психотриллере Клузо, наоборот, действовал патологический тре¬
угольник муж — жена — любовница. Возможно, Кастл увидел в нем свое истинное
призвание: нарушать границы дозволенного. И хотя сам он был счастлив в бра¬
ке, тема семейного заговора, жены-предательницы или мужа-убийцы скрыто или
явно присутствовала во всех его авторских сюжетах. В стране, традиционно сю¬
сюкающей с увечными и убогими, он обожал делать жертвами глухонемых. В 1959
году на крупном плане показал, как Винсент Прайс - его постоянный премьер
с внешностью хорошо воспитанного маньяка - вмазывается ЛСД и отправляется
в психоделическое путешествие.
Свой первый horror о поисках заживо погребенной девушки Кастл назвал
на французский манер - Macabre. Накануне премьеры он отправился в Лондон
и предложил крупнейшему агентству Ллойдов застраховать будущих зрителей на
случай смерти от страха во время сеанса. Ошарашенные Ллойды согласились. Вме¬
сте с входным билетом каждый зритель получал полис на $ 1000 - Кастл ценил
свою публику. В 1961 году, задолго до открытия виртуальной реальности, он сде¬
лал для фильма Mr. Sardonicus два разных финала. В критический момент сеанс
приостанавливался, и аудитория голосовала специальными светящимися таблич¬
ками — оставить в живых или умертвить кровавого злодея. Сознательно или нет
Кастл изобразил на табличках кулак с оттопыренным большим пальцем. Обращая
его вверх или вниз публика невольно повторяла жест, которым римляне решали
судьбу поверженного гладиатора. В том же 1961 году за несколько минут до финала
Homicidal— Одержимого убийством — экран зажигался ослепительным белым сия¬
нием. Голос режиссера предлагал слабонервным немедленно покинуть зал и полу¬
чить деньги обратно.
Подобно другому великому кустарю, Жоржу Мельесу, Кастл любил обозна¬
чать собственное присутствие на экране. Он появлялся в специально снятых про¬
логах, чтобы поделиться с собравшимися своими соображениями об искусстве. На
премьеры приезжал в катафалке и обставлял свой сценический выход как восста¬
ние из гроба. Мог начать фильм с одними героями, а закончить с другими, на¬
пугать привидением и «потерять» его по ходу действия. Презирая все эстетиче¬
ские дистанции, он делал не просто страшное кино, но кино о страхе, насыщая его
вставными аттракционами и гениальными по бесстыдству спецэффектами. Так
в 1959-м появился его знаменитый The Tingler (Мурашка), где сыгранный Прай¬
сом доктор открывал природу ужаса в образе ракообразного чудища, обитающего
в позвоночнике жертвы. Избавиться от него можно только истошным криком, по¬
этому когда по сюжету мерзкая тварь сбегала из докторского саквояжа прямо в пе¬
реполненном кинотеатре, с экрана в настоящий кинозал раздавался призыв: «Кри¬
чите ради спасения вашей жизни!». В тот же момент срабатывали укрепленные под
сидениями моторчики, и вопящий зал начинал вибрировать.
314
1995
Уильям Кастл. 1975
При жизни высоколобые критики презрительно называли Кастла «уценен¬
ным Хичкоком». Это абсолютно неверно, потому что Хичкок никогда не выходил
из рамок игры и неизменно относился к кино «не как к куску жизни, а как к куску
торта». Кастл же рвался за пределы экрана, сквозь условности и художественные
конвенции, на ощупь повторяя путь всех радикальных авторов XX века. Как и они,
он не был понят современниками: после призыва получить деньги обратно залы,
в которых крутился Одержимый убийством, пустели на три четверти, а подростки
ходили на Мурашку, как в луна-парк - покататься в трясущихся креслах. Беском¬
промиссный идеализм художника в который раз разбился об инстинкты толпы. Но
опыт не прошел даром. Хотя бы потому, что, рассуждая сегодня о близкой смер¬
ти кино, полезно вспомнить Кастла. И задуматься о том, что если кино и впрямь
умрет, человечество как таковое тут же последует за ним.
«Эстет». 1995. № 1. Статья опубликована под названием «Властелин ужаса».
315
Кино на ощупь
Патриархи киноискусства родились под знаком Водолея
В преддверии столетия кино каждая связанная с ним дата взывает уже не просто
к календарю, а к мистике цифр... Сто двадцать лет назад, 22 января 1875 года, в ме¬
стечке Ла Гранж, штат Кентукки, родился Дэвид Уорк Гриффит. Через двадцать
три года в тот же день в Риге появился на свет Сергей Михайлович Эйзенштейн.
В день, когда зодиакальный знак Козерога сменяется Водолеем, родились два чело¬
века, превративших кинематограф из технического чуда в чудо искусства.
Внешне Гриффит и Эйзенштейн напоминают Дон Кихота и Санчо Пансу. Гриф¬
фит был сухощав, надменен, кичился голубой кровью плантатора американского
Юга и питал слабость к широкополым шляпам и полуметровым сигарам. Эйзен¬
штейн любил хорошую кухню и даже в зрелые годы мог изобразить какое-нибудь
затейливое биомеханическое коленце, отрепетированное некогда в актерской сту¬
дии Мейерхольда. Оба недолюбливали женщин. И скептически относились к акте¬
рам. При этом Гриффит открыл чуть ли не всех американских кинозвезд 20-х - от
сестер Дороти и Лилиан Гиш до Мэри Пикфорд, а Эйзенштейн первым продемон¬
стрировал выразительные возможности лишенного грима человеческого лица.
Обоим принадлежит авторство фильмов, без которых история кино выглядела
бы иначе. В 1915 году Гриффит снял Рождение нации (The Birth of the Nation) — первый
настоящий кинороман, первое развернутое повествование специфическими сред¬
ствами экрана. В 1925 году Эйзенштейн сделал Броненосец «Потемкин» и показал,
как киноповествование о реальности способно прорастать в область высоких симво¬
лических значений. Оба оставили два самых загадочных шедевра мировой киноклас¬
сики. Гриффит — Нетерпимость (Intolerance, 1916), уникальный и на сегодняшний
взгляд пример авторского обращения с временем и пространством, Эйзенштейн - две
серии Ивана Грозного, до сих пор нерасшифрованную тайнопись кинотрагедии.
Гриффит начал снимать в 1908 году и за двадцать с небольшим лет сделал около
пятисот картин, в которых открыл, по существу, всю азбуку экранной речи. Примерно
за тот же срок Эйзенштейн успел закончить только шесть полнометражных лент, в ко¬
торых новое искусство заговорило изощренным образным языком. Обоих признали
классиками при жизни и при жизни же не уставали шпынять и преследовать. Перво¬
го за строптивый нрав и постановочные перерасходы. Второго - за умствования и от¬
клонения от генерального курса. Может быть, поэтому рождение гениев разделяет по¬
чти четверть века, а смерть — всего несколько месяцев. Гордый, забытый и пьющий
Гриффит умер от апоплексического удара в номере голливудской гостиницы 23 июля
1948 года. 11 февраля того же года инфаркт убил за рабочим столом Эйзенштейна.
316
1995
Зарифмовав жизни великих режиссеров, судьба иронично перетасовала их
внешние амплуа. Дон Кихот — идеалист и эксцентрик. Санчо — прагматик и ма¬
териалист. Гриффит был стихийным гением. Он читал Диккенса, Уолта Уитмена
и Роберта Броунинга и с наивным пафосом желал поднять низкое искусство эк¬
рана до высот настоящих литературы и театра. Эксцентрик и интеллектуал Эйзен¬
штейн штудировал труды Бехтерева и Леви-Брюля, всерьез изучал японский язык
и состоял в переписке с видными европейскими психоаналитиками.
Идеалистами были они оба, рожденные под знаком Водолея — знаком Урана
и воздуха, во все века благоволившего революционерам, творцам утопий, беспре-
делыцикам и лжепророкам. Оба свято верили в переделку жизни средствами ис¬
кусства и в то, что изобретенное ими монтажное кино откроет области новой ис¬
тины. Впрочем, истину они тоже понимали по-разному. Наивный мистик Гриффит
считал, что миром правят идеи. В своей знаменитой Нетерпимости он переме¬
шал страсти Христовы со сценами Варфоломеевской ночи, древний Вавилон с со¬
временной Америкой, истово доказывая человечеству, что нет разницы в мотивах
исторической драмы, а есть единое метафизическое время, постичь которое ме¬
шают злоба и нетерпимость к ближнему. Эйзенштейн, напротив, дерзал сделать
вечные идеи управляемыми, постичь их механику и структуру. Он обошелся с от¬
крытым Гриффитом параллельным монтажом так же, как Маркс с гегелевской диа¬
лектикой — спроецировав чистую теорию на плоть и материю земных отношений.
Опираясь то на монтаж аттракционов, то на культуру восточного письма, то на
функции высшей нервной деятельности, то на законы первобытного мышления,
показывая классовую борьбу через физиологию насилия, а общественную исто¬
рию через библейские символы, он побуждал зрителей к той самой нетерпимости,
которая так страшила Гриффита.
Великий режиссер Гриффит мечтал об избавлении высоких идей от преходя¬
щих чувств. Великий режиссер Эйзенштейн пытался сделать идеологию чувствен¬
ной. Потомки по-разному отнеслись к наследию гениальных утопистов. Полити¬
чески корректные американцы так и не простили Гриффиту ку-клукс-клановских
акцентов Рождения нации. В нашем собственном полуобразованном восприятии
монтажные удары Эйзенштейна до сих пор связываются со штыковой атакой на
подсознание. Но в истории кино навсегда останутся виртуозно смонтированные
в Рождении нации убийство Линкольна и битва под Питтсбургом, грандиозные
массовки Нетерпимости или улыбка Лилиан Гиш в гриффитовских Сломанных
побегах. Останутся коляска, стремительно несущаяся по одесской лестнице, жесто¬
кая графика Ледового побоища, кровавый танец опричников из Ивана Грозного. Тем
более что грядущее тысячелетие будет эпохой Водолея - эрой терпимости и любви.
«Ъ». 1995. 22 января.
317
Кино на ощупь
Сергей Эйзенштейн. 1927
318
1995
Дэвид Уорк Гриффит
319
Кино на ощупь
Перстень без алмаза
Вчера канал НТВ показал фильм Перстень с орлом в короне - странную и в целом
неудачную попытку Анджея Вайды вернуться к самому себе сорокалетней дав¬
ности, к истокам и мотивам своей знаменитой трилогии Поколение, Канал, Пепел
и алмаз.
Теперь уже трудно с точностью сказать, для кого эти фильмы были важнее.
Для поляков, проецирующих собственную историческую катастрофу на традиции
национальной романтики. Или для нас, усмотревших в экзистенциальных рефлек¬
сиях соседей вполне полноценную замену европейской «новой волны». Советские
60-е не видели молодых Бельмондо или Жана-Пьера Лео. Зато мы вовремя уви¬
дели Мачека Хелмицкого из вайдовского Пепла и алмаза — убийцу, стреляющего
в коммунистов по приказу Армии Крайовой, с его пластикой танцора рок-н-рол-
ла и близорукими глазами интеллектуала за темными очками гангстера. Поль¬
ская премьера поэтического триллера Вайды состоялась в октябре 1958-го. В те же
дни бывший кинокритик Жан-Люк Годар, носивший такие же дымчатые очки, что
и сыгравший Мачека Збигнев Цибульский, приступил к съемкам На последнем ды¬
хании, где «маленький солдат» Бельмондо-Пуакар тоже пробегал свою финальную
дистанцию с пулей в спине.
Романтический герой всегда бежит от себя. И поэтому всегда бежит по кру¬
гу. В польском кино рубежа 60-х эта классическая траектория в очередной раз со¬
впала с виражом национальной судьбы. Вечный выбор романтиков — поступок как
альтернатива молчания и предательства - буквально повторили коллизии Варшав¬
ского восстания. Большая История вновь не приняла во внимание индивидуаль¬
ный кураж. В жизни, но не в кино. В надиктованной жизнью формуле герои Вайды
снова и снова выбирали жестокую романтику. Выходили на бесполезные теракты,
как в Поколении, задыхались в лабиринтах подземной канализации, как в Канале,
или с шашками наголо атаковали бронетанковые колонны, как в Лётне. Или, по¬
винуясь полудетскому кодексу чести, палили в своих же соотечественников, а по¬
том в корчах умирали на городской свалке, как в Пепле и алмазе.
Едва ли сам Анджей Вайда понимал, что, создавая галерею шляхтичей с по¬
вадками читателей Камю, он объективно попадает в европейский мейнстрим, вос¬
певавший болезненную красоту антигероизма. Вайда творил общенациональный
миф и на протяжении десятилетий обращался к нему снова и снова. Впервые это
случилось в 1962 году в короткой новелле интернационального альманаха Любовь
двадцатилетних. Вместе с Цибульским Вайда разыграл пародию на шиллеровскую
320
1995
Перчатку — вариант судьбы выжившего Мачека, отброшенного на обочину эпохи
фри-джаза. Со стороны режиссера это выглядело известным лукавством, ведь если
следовать его собственной логике, то Мачек вел себя как разжившийся «шмайссе-
ром» битник еще во времена Сопротивления. Второй раз они встретились в 1969-м,
когда измученный водкой и собственным актерским мифом Збигнев Цибульский
упал под колеса ночного поезда. Реквием другу Вайда назвал Всё на продажу, опре¬
делив тем самым стоимость творчества и следующей за творчеством легенды.
Перстень с орлом в короне — их третья и, судя по всему, финальная встреча.
Как и положено, на последнее свидание приглашаются все. Помимо прямых цитат
из Канала и Поколения, Вайда вновь вернулся к сквозным мотивам своего ранне¬
го этапа: сильным женщинам и слабым, но гордым мужчинам, цене предательства
и героизма, жизни и смерти, пепла и алмаза. Вернулся злым и помудревшим, пере¬
жившим каннский триумф Человека из железа и крах выкованных из того же же¬
леза лозунгов «Солидарности», снявшим почти соцреалистическую фреску Земля
обетованная и образцово-мизантропический очерк Без наркоза. Вернулся, зная,
что не все в жизни делится на черное и белое, и все-таки помня, как пятна черной
крови на белой простыне безошибочно рифмовались с красно-белыми половин¬
ками польского флага. Коронованный орел - тоже геральдический символ, но ге¬
рой фильма, выбравшийся из каналов и избежавший пули советского и немецкого
патрулей, носит его не на боевом знамени и не на нарукавной повязке повстанца.
Орел заключен в перстне, как знак тайной ложи или яд, обещающий избавление от
метаний между компромиссом и необходимостью жить.
Живой классик Вайда тряхнул романтической стариной. Компромисс не
удался. Бравый повстанческий командир превратился в коллаборациониста и не¬
вольного стукача, окончательно запутанного Мефистофелем из местного гэбэ. Го¬
речь познания Вайда преумножил горечью автоцитаты: совсем рядышком с опо¬
зоренным героем зажигает поминальные стопки Мачек Хелмицкий. Видевшие
Пепел и алмаз помнят, что жить ему осталось всего несколько часов. Мало-маль¬
ски знакомые с героями «польской школы» знают, что мертвы и Збигнев Цибуль¬
ский, и его партнер по эпизоду Адам Павликовский. Они умерли, но не изменили
себе ни в жизни, ни на экране.
Остались двое — автор и герой-предатель. И именно им суждено поделить яд
общих воспоминаний.
«Ъ». 1995. 25 января.
321
Кино на ощупь
Инструкции по выживанию ковбоев в городе
В свое время дождь наград просыпался на картину Шлезингера не вдруг. В том
же 1969 году по экранам всей Америки триумфально промчался Беспечный ез¬
док - малобюджетное роуд-муви, сочиненное и снятое прихиппованными прия¬
телями-актерами Деннисом Хоппером и Питером Фондой. Фильм обошелся всего
в $ 400000, занятых Питером у отца - кинозвезды Генри Фонды, а в прокате принес
более 16 миллионов. После узкопленочного синема-верите и андеграундного нео¬
реализма поздних 50-х в моду вновь входила «эстетика изнанки», «настоящая Аме¬
рика», увиденная не сквозь голливудскую декорацию, а изнутри, на бегу, через ве¬
тровое стекло автомобиля или окошко ночной забегаловки Гринвич Вилледж. День
сменялся ночью, натура вытеснила павильоны, а многочисленные бродяги, невра¬
стеники и аутсайдеры потеснили былых суперзвезд.
Награждая Полуночного ковбоя, американская Киноакадемия загодя прируча¬
ла целую тенденцию. Если избавить ее от психоделических побрякушек и стиле¬
вых излишеств, получится обыкновенная «чернуха», столь знакомая нам самим
по перестроечному кино и всколыхнувшаяся в Америке на гребне либеральной
утопии четвертьвековой давности. Великая Национальная Идея корректировалась
приставкой «анти» — антиценностями, антимифами, антижанрами и антигероями.
Джон Шлезингер посягнул едва ли не на самое святое — на Провинциала в Боль¬
шом Городе, на образ американского Растиньяка с соломенными волосами и глаза¬
ми цвета техасского неба, воспетый самыми великими рапсодами Великой Мечты
от О’Генри до Фрэнка Капры.
Маскарадный ковбой Джо Бак (Джон Войт), отправившийся покорять Нью-
Йорк, всего лишь встречается с мифом о «парне, сделавшем самого себя». Этому
американская сказка учила долгие годы, однако именно против этой сказки опол¬
чилась интеллектуальная фронда конца 60-х. И сам Джо, и его идиотские меч¬
ты суть чудовищные мутации волшебного сюжета, где каждому отпущен кусочек
счастья по мере его личных сил и упорства. Посему вместо сочной верхушки Big
Apple — Большого Яблока — Джо сталкивается с гнилой серединой, «злыми ули¬
цами» и «обратной стороной полуночи», наркоманами, извращенцами, убогими
и городскими сумасшедшими. Если привыкнуть к импульсивному в духе времени
ритму картины и ее рваному монтажу, можно разглядеть почти документальный
портрет ночного Нью-Йорка — от анонимных, но оттого не менее колоритных фи¬
гур до богемной вечеринки на знаменитой «фабрике» Энди Уорхола, где мелькнут
и он сам, и его «звезда» Джо Даллесандро, и вамп-модель Вива.
322
1995
Полуночный ковбой. Реж. Джон Шлезингер. 1969
Конечно, сказка рассыпается в прах. Красавчик Джо оказывается на задворках
в компании хромоногого и чахоточного бомжа по кличке «Крысенок» (в этой роли
Дастин Хоффман продолжил начатую в Выпускнике Майка Николса тему «нети¬
пичного американца»). Из их дружбы-вражды растет новая мечта: Джо собирает¬
ся накопить деньжат и увезти приятеля к теплому морю. Но в финале из автобуса,
прибывшего во Флориду, выходит один Джо. «Крысенок» Риццо умирает по дороге.
Оказывается, гибнут не только мифы, но и люди. Именно поэтому, награждая
Полуночного ковбоя, Академия признавала не только «тенденцию», но просто хо¬
роший фильм, фильм, который лишний раз доказал, что разрушать мифы гораздо
проще, чем пробуждать сострадание к их жертвам. Пускай тупым и недалеким, но
где-то на донышке все-таки человечным. Может быть, так получилось потому, что
жизнь отщепенцев и перемещенных лиц создатели фильма знали не понаслыш¬
ке. И чужак в Новом Свете, бывший «рассерженный» европеец Джон Шлезингер.
И оператор Адам Холендер, вместе с родителями-репатриантами проведший дет¬
ство в сталинских лагерях, а потом бежавший из Польши с первой волной кино¬
эмиграции. И кинодраматург Уолдо Солт, в 50-е годы вышвырнутый из кино Ко¬
миссией по расследованию антиамериканской деятельности. И Дастин Хоффман,
годами мыкавшийся в Нью-Йорке, подрабатывая то привратником, то санитаром
в психбольнице. Вероятно, каждый из них мог бы дать немало ценных инструкций
по одиночному выживанию в условиях мегаполиса. Но результат их совместных
усилий предлагает только одну — оставаться человеком.
«Ъ». 1995. 18 февраля.
323
Кино на ощупь
Чудовища всех времен объединились в музее культуры
И Дракула, и Франкенштейн, и легко прочитываемая в Волке история доктора
Джекила и мистера Хайда по-своему олицетворяют основные мотивы экранного
horror. А в той мере, в какой история экрана есть история XX века, эти монстры
вполне могут претендовать и на репродукцию главных неврозов столетия. Драку¬
ла — боязнь потустороннего вторжения, мистического зла, которое выше и сильнее
разума. Схватка Джекила и Хайда — страх человечества перед собственной двой¬
ственностью. Опыты Франкенштейна в культурной мифологии столетия связались
с границами дерзания, опасностью сотворить нечто, способное выйти из-под вла¬
сти создателя.
Все три сюжета имеют литературную первооснову — романы Брэма Стокера,
Мэри Шелли и фантастическую повесть Роберта Льюиса Стивенсона. Все три ли¬
дируют по количеству экранизаций, отсылок и побочных мотивов. Все три под
своими или чужими именами, скрыто или явно, одновременно или порознь при¬
сутствуют на каждом историческом этапе европейской и американской киноисто¬
рии. И те коррективы, которые сообщало им конкретное место и время, точно укла¬
дываются в интонацию коллективной психотерапии, именуемой «жанром ужаса».
Эти поправки весьма показательны. Например, немецкий киноэкспрес¬
сионизм, всерьез стремившийся из реальности к астральному ужасу мирозда¬
ния, предпочел Франкенштейну Голема - глиняное чудище, восходящее к мисти¬
ке и каббале. В фильмах Поля Вегенера и Генриха Галеена Голем (1914) и Голем.
Как он пришел в мир (1920) монстр оживал не по воле гордого экспериментато¬
ра, но силой сверхъестественного волшебства. Точно так же гнусный двойник док¬
тора Хайда превратился в фильме Стеллана Рие Пражский студент (1913) в по¬
сланца лукавого, терзающего душу не изнутри, а извне. В гениальном Носферату
Фридриха Мурнау (1922) граф Дракула стал получеловеком-полумышью, неупо-
коенной нечистью, перед которой бессилен экзорсизм, но властна любовь. Твор¬
ческая сила тоже наполнилась глубоким мистицизмом. На смену пытливому по¬
зитивисту Франкенштейну пришли доктора Калигари и Мабузе - гипнотизеры,
приручившие зло не без помощи оккультных наук. В знаменитом Кабинете док¬
тора Калигари Роберта Вине (1919) злодей выпускал на волю ожившую сомнамбу¬
лу. В Докторе Мабузе Фрица Ланга (1922) гениальный преступник манипулировал
сознанием жертв, как карточным пасьянсом.
Для смятенной германской души страх был аффектом, подводящим к краю
реальности и, в конечном счете, презирающим реальность как временное
324
1995
Волк. Реж. Майк Николс. 1994
пристанище странствующих в вечности истин. Ужас в американском кино 30-х
годов не столько уводил от реальности, сколько компенсировал ее. Пока разо¬
ренные Великой депрессией банкиры выбрасывались из окон, а рабочие штур¬
мовали ворота закрытых фабрик, Франкенштейн Джеймса Уэйла (1931), Дракула
Тода Броунинга (1931) и Доктор Джекил и Мистер Хайд Рубена Мамуляна (1932)
делали неслыханные сборы. Окрепший Голливуд нащупывал формулу жанра -
страх стал обыденным, рифмовался с житейскими трудностями, стихийны¬
ми бедствиями или фантазмами ущербной подкорки. Безмозглая тварь, сшитая
по кусочкам доктором Франкенштейном, превратилась у Дж. Уэйла в отщепен¬
ца и гонимого аутсайдера. Тод Броунинг одел Дракулу в шелковый плащ аристо¬
крата-убийцы, а Рубен Мамулян сделал Хайда частью взбесившегося подсозна¬
ния Джекила. Готическому кошмару Америка предпочитала внятные страхи. Не
случайно именно она пополнила реестр киночудовищ порождениями природы,
которая для изнуренных цивилизацией немцев просто не существовала. В аме¬
риканском варианте к архетипической троице присоединился Кинг-Конг — гени¬
альное создание масскульта, придуманное в 1933 году режиссерами Шейсдаком
и Купером. Черные дыры подсознания опредметились в образах зверя, оборот¬
ня, верфольфа (Человек-волк Джорджа Вагнера 1941 года или дилогия о «людях-
кошках», поставленная в 1942 и 1944 годах Жаком Турнье и Робертом Уайзом
в соавторстве с Понтером фон Фриче). «Неупокоенные», таинственные вампиры
опростились до зомби, оживших мертвецов, которым не требуется серебряной
пули или святой воды, а достаточно удара лопатой по гнилой черепушке (откры¬
вающий эту серию Белый зомби Виктора Хальперина вышел на экраны в 1932
году).
325
Кино на ощупь
Франкенштейн. Реж. Кеннет Бранах. 1994
Фабрика грез запустила своих питомцев на конвейер. За Франкенштейном по¬
следовали Невеста Франкенштейна (1935), Сын Франкенштейна (1939) и Призрак
Франкенштейна (1942). Дракула обзавелся Дочерью... (1936) и Сыном... (1943). Исчер¬
пав возможности сольной карьеры и близкого родства, чудища схватились друг с дру¬
гом и с коллегами по киноцеху. Больше других преуспело в этом творение Франкен¬
штейна, попутно присвоившее имя своего творца. Встретившись с Дракулой (Дом
Дракулы, 1944) и человеком-волком (Франкенштейн встречает человека-волка,
1943), оно перебралось в Японию, где померилось силами с тамошним злодеем Ба-
рагоном, потом взяло псевдоним Фу-рансхутайн, а в начале 60-х даже отметилось
в порно (Дом обнаженных вершин). Члены семьи не отстали от родителя. В 1965 году
появился фильм Уильяма Бодина Джесси Джеймс встречается с дочерью Франкен¬
штейна — двойная вариация на темы жанровых мифов вестерна и «ужастика».
Человечество боится всегда, но в разное время по-разному избавляется от
страхов. Об этом свидетельствуют кровавый киносериал о Франкенштейне, выпу¬
щенный в 50-е годы штатным постановщиком английской фирмы «Хаммер» Те¬
ренсом Фишером, гомерически смешная пародия Мэла Брукса Молодой Франкен¬
штейн (1974), эксцентричный Дракула Энди Уорхола, где кровопийцу-аристократа,
как гидру, расчленяет цитирующий Маркса и Мао пролетарий, неоэкспрессионист-
ский римейк Носферату, снятый в 1978 году Вернером Херцогом, Завещание док¬
тора Корделье Жана Ренуара (1959) с великим Жаном-Луи Барро в роли офран¬
цуженного Джекила-хайда и советские Джекил и Хайд Александра Орлова (1986),
которых не спас даже великий Иннокентий Смоктуновский.
Нынешнее явление знаменитых чудовищ свидетельствует о полной исчерпан¬
ности прежнего мифа. Полные названия последних Дракулы и Франкенштейна
326
1995
Дракула. Реж. Френсис Форд Коппола. 1992
включают имена их литературных авторов Брэма Стокера и Мэри Шелли. Тем са¬
мым и Коппола, и Бранах как бы избавляются от груза предшествующей кинотра¬
диции, оговаривают право на возвращение к первоисточнику, к сообразному исто¬
рико-культурному контексту. В длиннющих фильмографиях монстров, исключая,
быть может, только Носферату Херцога, такое случается впервые. Как правило,
многочисленные экранизаторы стремились осовременить нечисть, приблизить
ее к зрителю для пущей идентификации. Но идентификация больше не требует¬
ся. Бранах, овладевший стилем эпохи в своих шекспировских постановках, рекон¬
струирует атмосферу готического романа, а вечный вундеркинд Коппола вспоми¬
нает, что книга Стокера вышла в свет в 1897 году, то есть два года спустя после
изобретения кинематографа. Как следствие, Дракула посещает первые киносеан¬
сы, а Франкенштейн вовсю дискутирует о Парацельсе в университетских аудито¬
риях XVIII века. Что не мешает Копполе гримировать вампира под феллиниевско¬
го Казанову или героя «Б-ужаса» и цитировать мировое кино от Эйзенштейна до
самого себя, а Бранаху выстраивать в фамильном замке Франкенштейнов точно та¬
кую же витую лестницу, какая была в Дракуле Броунинга, и вольно включать в ка¬
нонический текст Шелли отсылки к сериальному кино-Франкенштейну 30-х годов.
Ужаса больше нет. Есть музей культуры, кунсткамера, лавка древностей. Из их
стен, правда, пытается выскочить герой николсовского Волка, на исходе тысячеле¬
тия осознавший преимущества дикого Хайда над одномерным Джекилом. Но лес,
куда он удаляется в поисках свободы, тоже выстроен в студийном павильоне, кото¬
рый, в свою очередь, есть не что иное, как очередной зал музея культуры.
«Ъ». 1995. 18 февраля.
327
Кино на ощупь
Героический пессимизм Луиса Бунюэля
Иные мечтают о бесконечном мире, другие изображают его ограниченным
в пространстве и времени. Я чувствую себя где-то посредине этих двух
таинственных, одинаково непостижимых миров. С одной стороны, образ
бесконечного и непонятного мира, с другой — представление о завершенном
мире, который однажды исчезнет, увлекая меня в завораживающую
и одновременно страшную бездну. Я мечусь между ними. И не знаю,
как быть.
Луис Бунюэль. «Последний вздох»
В феврале исполнилось 95 лет со дня рождения Луиса Бунюэля — одного из самых «не¬
канонических» классиков мирового кино. Анархист и безбожник, он презирал юбилеи
и памятные даты, а под конец жизни мечтал сжечь все когда-либо снятые им ленты.
В книге мемуаров Бунюэль оставил подробные перечни того, что он в жиз¬
ни любил, и того, что неизменно вызывало у него отвращение. К первому отно¬
сятся музыка Вагнера, зима, сочинения де Сада и крепкие французские сигареты
Gitanes. Ко второму — статистика, психоанализ и официальные банкеты. Он обожал
библиотеки и лабиринты, но недолюбливал Борхеса, восхищался барочными алта¬
рями испанских храмов, но всю жизнь высмеивал догматы церкви, коллекциони¬
ровал огнестрельное оружие, но терпеть не мог узаконенное насилие, с детства за¬
читывался рассказами о путешествиях, но в старости стал домоседом.
Будучи по житейским воззрениям скептиком, в творчестве Бунюэль был охва¬
чен наивным азартом сюрреализма. С 1928 по 1932 годы живший в Париже испа¬
нец Бунюэль принимал участие в сюрреалистических акциях. Именно в 1928 году
вместе с входящим в моду живописцем Сальвадором Дали он снял Андалузского
пса — семнадцатиминутный шедевр, который Карл Юнг назвал классической ил¬
люстрацией dementia ргаесох - подросткового слабоумия, а Пьер Паоло Пазолини
считал непревзойденным образцом чистой кинопоэзии.
Позднее Дали не раз оспаривал авторство Андалузского пса, приписывая его
целиком себе. Бунюэль не обижался. До конца своих дней он сожалел о другом.
О том, что в день премьеры так и не осмелился забросать зрителей камнями, пред¬
усмотрительно заготовленными на случай провала. Вкус к скандалу и провокации,
возведенный отцом сюрреализма Бретоном в ранг полноценного эстетического по¬
ступка, он сохранил на всю жизнь, потешаясь над идеалами буржуазии и оспаривая
328
1995
Луис Бунюэль
329
Кино на ощупь
незыблемые ценности буржуазного общества. Вслед за Андалузским псом он поста¬
вил Золотой век — жестокий трагифарс, а потом сделал Землю без хлеба, тут же за¬
прещенную цензурой документальную ленту о медленном умирании целой деревни.
После Земли без хлеба Бунюэль не снимал почти пятнадцать лет, перебиваясь мон¬
тажом кинохроники, сочинением закадровых текстов или службой в киноотделе нью-
йоркского Музея современного искусства, откуда его скоро вышибли за грехи еретиче¬
ской молодости. Бунюэль перебрался в Мексику и принялся за вполне коммерческое
кино, комедии и музыкальные мелодрамы. Впрочем, уже третьей его картиной стали
Los Olvidados — Забытые, антипедагогическая поэма о юных аутсайдерах. Едва вернув¬
шись в кино, Бунюэль вновь напомнил о своей главной теме — зыбкости христианской
веры, морали и справедливости, сотрясаемых иррациональным ужасом действитель¬
ности. Корни его творчества уходили не в сюрреализм, а в само наследие испанской
культуры, в болезненное преклонение перед трагическим и ужасным. Англичанин Но¬
эль Берч не случайно и точно назвал Андалузского пса первым фильмом, возводящим
жестокость в ранг эстетической категории. Для кино это действительно было в новин¬
ку, но это уже было в театрализованных кострах инквизиции или офортах Гойи. А вос¬
питанный на тех же традициях Дали сообщил жестокости эстетическое совершенство.
Хотя Бунюэль неизменно протестовал против фрейдистского толкования своих
фильмов, они показывают, как фальшивая мораль прикрывает извращенные инстинк¬
ты, а религиозная экзальтация—сексуальные табу. Именно поэтому через все его зрелые
картины сквозной линией проходят две главные темы — ложная святость и ускользаю¬
щая двойственность женской природы. Женщины и несостоявшиеся святые были по¬
стоянными спутниками его творчества: Симеон-столпник, очутившийся в вульгарном
кабаке, потерявший Бога буквалист и страстотерпец Назарин, ушедшая в мир послуш¬
ница Виридиана... Воители духа терпели провал, столкнувшись с жизнью. И наоборот -
невинные жертвы мучительно торжествовали поражение, как «дневная красавица» Се¬
верина, потерявшая ногу Тристана или недосягаемая Кончита из Смутного объекта
желания. Вместе с Призраком свободы и Скромным обаянием буржуазии Этот смут¬
ный объект желания составил своеобразную прощальную трилогию Бунюэля. Прежде
он часто называл фильмы именами героев: Виридиана, Симеон-столпник, Тристана,
Назарин... Названия последних фильмов - почти афоризмы или пословицы.
Под конец жизни Бунюэль в открытую свел счеты со своим главным врагом -
маленьким буржуа, живущим в мире тошнотворных иллюзий, рабом привычек,
обычаев и правил. В отличие от него, Бунюэль твердо верил, что все в мире идет
к худшему. И противопоставлял этому свои фильмы - одно из самых замечатель¬
ных проявлений героического пессимизма во всей культуре XX века.
«Ъ». 1995. 25 февраля. Статья написана к девяностопятилетию со дня рождения
Луиса Бунюэля.
332
1995
Козинцев всегда был классиком, но слишком радикальным
Нет большей мерзости, чем превращение каких-то деталей
трагедии — в злободневные.
Понятие современности противоположно понятию злободневности.
Первое - огромно, трагично; второе - мелко, превращение трагического
в род «капустника».
Истинная современность получается в выражении сути прошлого. Это
не сопоставление с настоящим, а предсказание будущего, открывающегося
в глубинах прошлого.
Григорий Козинцев. Из рабочих тетрадей
На «Ленфильме» только что прошла конференция его памяти, Дом кино готовит
юбилейный вечер. Мемориальная выставка развернута в московском киномузее...
Круглая дата одного из основоположников советского кино, наряду с Эйзенштей¬
ном, Вертовым и Кулешовым вошедшего во все энциклопедии мира, отмечается
с размахом. Единственным, кто, вероятнее всего, воспротивился бы грядущему
торжеству, был бы сам Козинцев, за месяц до смерти написавший в одном из пи¬
сем: «Я не экспонат музея по истории кино, и интересно мне говорить только о том,
что я собираюсь делать завтра...»
В учебнике по истории советского кино есть как будто три Козинцева. Пер¬
вый - недоучившийся живописец, эксцентрик и левак, имеющий даже не целую
фамилию (Козинцев-и-Трауберг), а всего лишь ее половину. Второй (и опять же
в паре Григорий Козинцев — Леонид Трауберг) — орденоносец, сталинский лауреат,
режиссер публично обласканной трилогии о Максиме. И, наконец, третий - Гри¬
горий Михайлович Козинцев — выездной мэтр, эрудит, экранизатор Дон Кихота,
Гамлета и Лира, педагог, академик, шекспировед с мировым именем.
Официальная историография усматривала здесь достойный подражания при¬
мер творческой эволюции. Путь от буффонады к шекспировским страстям удобно
пролегал через пролетарский эпос, наглядно демонстрируя рост от формалиста до
классика. Сам Козинцев придерживался другой схемы. В рабочей тетради он напи¬
сал, что в восемнадцать лет его больше всего интересовал киноаппарат на веселом
колесе, в двадцать два — жанр, стиль и актер, в тридцать лет — смысл, а в пятьде¬
сят - правда. Будучи наследником XIX века, человеком ушедшей культуры, он по¬
следовательно открывал для себя классическую формулу истины, состоящую в яс¬
ности и простоте.
333
Кино на ощупь
Григорий Козинцев на съемках фильма Новый Вавилон. Реж. Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. 1929
334
1995
Григорий Козинцев на съемках фильма Гамлет. Реж. Григорий Козинцев. 1964
335
Кино на ощупь
Если взглянуть на фильмы Козинцева с этой точки зрения, то никаких скач¬
ков и поворотов в них не обнаружится. Он всегда недолюбливал «современность»
и прошлое предпочитал настоящему. В эпоху «веселых 20-х», когда революцион¬
ный авангард стремился построить на руинах старого мира призрачную утопию
искусства, Козинцев и Трауберг назвали свою программу «эксцентрикой», а первое
групповое детище — Фабрикой Эксцентрического Актера. «Эксцентрика» означает
«отклонение от центра», а коли такое отклонение возможно, значит центр все-таки
существует. Низкий жанр, формальные акценты и требуемого временем коллек¬
тивного героя ФЭКСы искали в истории и культуре: действие Шинели происходит
в николаевском Петербурге, С. В. Д. отсылает в эпоху декабризма, а Новый Вавилон
ко временам Парижской коммуны. Сценарий Юности Максима сначала называл¬
ся «Большевик». Идеологическую концепцию золотого сталинского века Козинцев
и Трауберг скорректировали мещанской песенкой «Крутится-вертится шар голу¬
бой...», а монолит Большого Стиля - скрыто демократической канвой «кино с про¬
должением». Так же, как и Чапаев, Максим избежал давления социального заказа
и зажил собственной жизнью на бесконтрольных просторах фольклора.
В ортодоксально-советские времена Козинцеву прощали грехи левацкой юно¬
сти. Либеральные 60-е полюбили его за Гамлета, доверившего вопрос «быть или
не быть» молодому и нервному Иннокентию Смоктуновскому. Интеллектуаль¬
ная мода последних лет воскресила эскапады ФЭКСа, сложив в архив Дон Кихота
и шекспировские экранизации. Сам Козинцев с одинаковым презрением относил¬
ся и к правящим идеям, и к «Гамлету в джинсах», об одном из которых он выска¬
зался: «режиссер стекает с Шекспира, как вода со стекла».
Он пытался уйти от суеты подчас слишком далеко: в академические штудии,
дневниковый самоанализ, в исторически-безупречные реконструкции непостав-
ленных трагедий. Современники запомнили его энглизированное джентльменство
и корректную самоиронию. И сегодня, став классиком, он по существу ничего не
приобрел, а всего лишь вернулся к себе самому, каким был всегда. Как истинный
интеллигент, он был достаточно холоден, может быть, поэтому по его Дон Кихоту
и Лиру можно изучать стиль эпохи, но нельзя изучать человеческие страсти.
«Ъ». 1995. 18 марта. Статья написана к девяностолетию со дня рождения Григория Козинцева.
336
1995
Аталанта бросила якорь на российском канале
Как и другие художники, режиссеры стремятся к реализму или же
к созданию своей собственной реальности. И обычно их мучает расхождение
между целью и результатом их труда, между тем, как они ощущают жизнь
и как им удается ее воссоздать. Я считаю, в этом отношении у Виго больше
причин быть довольным собой, нежели у его собратьев. Он гораздо дальше
них ушел в воссоздании различных сторон действительности: предметного
мира, социальной среды, мира героев, чувств, а особенно — физической
реальности.
Франсуа Трюффо
Аталанта начинается знаменитой сценой провинциальной свадьбы. Моряк Жан
взял в жены крестьянку Жюльетту, чтобы навсегда увезти ее из родного дома на
барже с романтическим именем «Аталанта». Толпа гостей в чопорных черных ко¬
стюмах минует узкие улочки, выходит за городскую черту и через поле направля¬
ется к реке. Впереди, на большом расстоянии, взявшись за руки, бредут новобрач¬
ные. Точно так же - в одиночестве и с большим отрывом - шел в кинематографе
сам Виго, сын профессионального террориста, всю свою короткую жизнь пресле¬
дуемый болезнью и неудачами, однако владевший искусством превращать снови¬
дения в фильмы, а фильмы - в грезы наяву. 22 апреля этого года ему сравнялось
бы девяносто лет, а три дня спустя исполнится шестьдесят один год со дня па¬
рижской премьеры Аталанты, — единственного полнометражного фильма Виго,
который он монтировал уже не вставая с постели и который принес ему славу
классика.
Ранняя смерть не входит в мифологию режиссерской профессии. Молоды¬
ми умирают поэты и рок-музыканты, самой природой обреченные на вечную
юность. Режиссура традиционно принадлежит зрелому возрасту, поэтому режис¬
серы, как правило, живут долго и часто делают свои лучшие фильмы не в нача¬
ле, а в середине пути. У Виго, которого иногда называют «кинематографическим
Артюром Рембо», не было середины. Все, снятое им - две документальные «ко¬
ротышки», четырехчастевый Ноль за поведение и Аталанту — можно пересмо¬
треть меньше, чем за три с половиной часа. Ему было некогда размышлять, в том
числе и над главным противоречием экрана между символикой индивидуаль¬
ного видения и физической реальностью кинокадра. Он снимал так, как в юно¬
сти пишут стихи, доверяя пленке запечатлеть самые мимолетные образы своих
337
Кино на ощупь
Жан Виго. 1933
338
1995
Аталанта. Реж. Жан Виго. 1934
фантазий. Может быть, поэтому его фильмы не поддаются привычной дешифров¬
ке на «реальное» и «образное», на повествование и поэтическую метафору, на про¬
зу и сказку.
Виго дебютировал одновременно с Луисом Бунюэлем. По поводу Ниццы и Ан¬
далузский пес появились в 1929 году. Но если режиссер-автор Бунюэль с самого
начала предпочитал жестокий пикник на обочине собственного подсознания, то
Виго, сотрудничавший с гениальным оператором и младшим братом Дзиги Вер¬
това Борисом Кауфманом, искал поэзию в формах повседневности. И гротескная
...Ницца, и лирико-анархический Ноль за поведение прихотливо наследовали иде¬
ям Луи Деллюка — кинематографиста-теоретика, столь же одержимого и столь же
рано ушедшего из жизни, как и сам Виго. Деллюк проповедовал магическую тео¬
рию «фотогении» — особой выразительности окружающего мира, доступной лишь
взгляду киноаппарата. Что это такое, никто не понимает до сих пор, однако филь¬
мы, подобные тем, что снимал Виго, открывают жизнь как будто заново, преобра¬
жают привычный порядок вещей.
В своем главном фильме Виго рассказал очень простую историю. Жан (Жан
Дастэ) женится на Жюльетте (Дита Парло). В компании старого бродяги дядюшки
Жюля (Мишель Симон) и юнги (Луи Лефевр) они плывут по рекам и каналам. Но,
едва баржа швартуется у парижской набережной, Жюльетта, ослепленная блеском
столицы, сбегает от мужа. Влюбленный Жан не находит себе места, и тогда на по¬
иски беглянки отправляется дядюшка Жюль. Влюбленные снова вместе... «Аталан¬
та» уходит в новое плавание... Сценарий Жана Гине обыгрывал модную тему «людей
реки», странников, романтических апашей, и прежде попадавших на французский
экран (об этом были и ранняя картина Жана Лакруа Шаланда, 1911, и Прекрасная
339
Кино на ощупь
Нивернеза, поставленная Жаном Эпштейном в 1924 году). Виго внимательно от¬
несся к жанру «физиологического очерка». Он даже консультировался с молодым
литератором Жоржем Сименоном, тогда еще не писавшим детективов, но специа¬
лизировавшимся на бытовых драмах. От сценария, впрочем, осталось немного. По
ходу съемок Виго импровизировал новые и новые эпизоды, сложившиеся в резуль¬
тате в одну из самых прекрасных любовных историй мирового кино - историю
встречи, разлуки, томления и страсти. Все было просто и все было волшебно: не¬
веста в белом платье на носу плывущей баржи, кошка, заснувшая в граммофонной
трубе, поднимающиеся из утреннего тумана парижские доки. Эксцентричный ста¬
рик Жюль, вставляющий себе в пуп зажженную сигарету и исполняющий танец
живота перед молодой хозяйкой «Аталанты», и брошенный муж, окунающий лицо
в воду, чтобы в отражении на секунду увидеть лицо любимой.
У французских прокатчиков картина с треском провалилась. Ее безбожно со¬
кратили, переименовали и озвучили модной песенкой Чезаре Биксио «Проплы¬
вающая шаланда». Афиши в провинции зазывали на «любовную драму, постав¬
ленную по мотивам шлягера сезона». Виго умер в тот день, когда после недели
провального проката изуродованную Аталанту сняли с экрана. Очевидцы вспо¬
минают, что в момент его смерти уличный певец за окном распевал «Проплываю¬
щую шаланду».
Дальнейшая история Аталанты похожа на детектив. Ее неоднократно восста¬
навливали, переклеивали, снабжали все новыми эпизодами. Поскольку сам Виго
успел оставить только общие указания по монтажу, его канонического варианта
как будто и не существует. Может быть, и к лучшему - Аталанта продолжает
плавание.
«Ъ». 1995. 25 марта. Статья написана к телевизионному показу фильма Аталанта.
340
1995
Богатая невеста с идейным приданым
В советском кино 30-х годов существовали две модели смешного — городская и де¬
ревенская. Первую представлял Григорий Александров, бывший соратник Эйзен¬
штейна, штукарь и эксцентрик, пересадивший на нашу почву опыт танцеваль¬
но-музыкального Голливуда. Вторую разрабатывал Иван Пырьев, создавший
разновидность псевдофольклорного примитива, своего рода идеологический лу¬
бок, где искусственно созданный образ поющего народа погружался в архаиче¬
скую стихию аграрного цикла. По существу, такое деление было почти контра¬
бандным. Высочайшая доктрина призывала к стиранию границ, к смычке города
и деревни. Коллизия, как правило, закручивалась между традиционным ручным
и прогрессивным машинным хозяйствами, между психологической установкой
куркуля-единоличника и чувством коллектива. Не случайно в названиях пырь-
евских комедий представлены именно профессии героев: трактористы, свинарка
или пастух. Не случайно, что пейзан новой формации у него играли по преимуще¬
ству «городские» актеры - Николай Крючков, очаровательно-приблатненный Петр
Алейников и, конечно, Марина Ладынина, которая хоть и была некогда сельской
учительницей, но на экране прижилась в амплуа гавроша, всенародной подружки,
ведущей любовную игру по законам социалистического соревнования.
Богатая невеста — первый опыт режиссера в жанре коллективистской буко¬
лики. Сценарист Евгений Помещиков построил сюжет на анекдоте о том, как кол¬
хозный счетовод выбирал невесту по количеству наработанных ею трудодней. Вы¬
бор падал на ударницу Маринку Лукаш (Марина Ладынина), которая, конечно же,
посрамляла разборчивого жениха и противопоставляла его патриархальным уха¬
живаниям новый кодекс куртуазного поведения, замешенный на трудовом энтузи¬
азме, коллективизме и безудержной активности. Богатая невеста начинается пе¬
сенкой Дунаевского о «боевых друзьях-тракторах», отправляясь в поля, девичья
бригада распевает знаменитых «А ну-ка девушек...», кульминационный эпизод по¬
казывает уборку урожая перед надвигающейся грозой. Как и Александров, Пырьев
создавал комедию с массовым положительным героем, погружая псевдолюбовную
интригу в сферу эмансипированного труда и борьбы с природными стихиями. Та¬
кая комедия не стремилась быть смешной. Она претендовала на роль веселой, жи¬
вописующей победную схватку замечательного с хорошим.
Проще всего, конечно, обвинить ранние фильмы Пырьева в искажении дей¬
ствительности, равно как и его послевоенные комедии — в лакировке и украша¬
тельстве. Кубанские казаки, как две капли воды похожие на панно сталинского
341
Кино на ощупь
метрополитена, пали одной из первых жертв разоблачения «культового кино».
Очевидцы рассказывали, как набранные в массовку местные колхозники через од¬
ного валились в голодные обмороки, едва завидев уставленные бутафорской сне¬
дью столы. Впрочем, не меньше свидетельств сохранилось и о том, как те же кол¬
хозники десятки раз пересматривали Кубанских казаков уже за то, что это была
одна из немногих в ту пору цветных советских картин.
Лубок должен быть раскрашен. Пырьев это прекрасно понимал, снимая кол¬
хозные угодья как перерисованные народными умельцами картины передвижни¬
ков и Москву как бесконечные павильоны ВДНХ - деревни близкого будущего,
выстроенной посреди столицы будущего наступившего. Азартно выполняя соци¬
альный заказ, Пырьев, однако, попал в неизбежную западню, которую с таким бле¬
ском преодолели циркачи и джазмены Александрова. Кино - искусство городское.
И хотя «золотой век» свои главные ценности видел в архаическом аграрном культе,
он все равно принадлежал урбанистическому, а не сельскому фольклору. За пер¬
вое Пырьев расплатился размытостью кадров, картонными задниками и эстети¬
кой вялотекущей кинооперы, делающей его комедии, абсолютно соответствующие
канонам Большого Стиля, поразительно бесстильными. За второе — званием глав¬
ного мифотворца сталинской эпохи, титулом, который при всем желании нельзя
присвоить Александрову, приглашавшему своих героев из вторичного культурно¬
го пантеона. Кулуарное киноведение давно выдвинуло версию о том, что и к До¬
стоевскому он на склоне лет обратился только за тем, чтобы замолить грехи лауре¬
атского прошлого. И здесь снова попал впросак: Белые ночи появились уже после
Висконти, Настасья Филипповна — в параллель со знаменитым «Идиотом» Товсто¬
ногова и Смоктуновского. Режиссер умер, не досняв Братьев Карамазовых и так
и не поняв, что Достоевский на экране вряд ли может быть цветным. Он оставил
после себя целый мир идеологической комедии. Пускай не очень смешной, зато ве¬
селой, что обретает свою истинную ценность только в нынешние смешные, но не
очень веселые времена.
«Ъ». 1995. 1 апреля.
342
1995
Источник невозможного
Отечественный римейк родился под знаком быстротекущей моды. Будущим исто¬
рикам бывшего советского кино еще предстоит отделить фильмы от презентаций
и имена от тусовок. Пока же отметим, что кинематографические сезоны последних
лет впервые узаконили перелицовку как способ экранного самовыражения.
В прежнем советском кино римейков, по существу, не было. Сколько ни пере¬
листывай «Кинословарь», кроме Красных дьяволят, возродившихся сорок с лиш¬
ним лет спустя Неуловимыми мстителями, да, с оговорками, рязановского Же¬
стокого романса, пожалуй, ничего не отыскать. И понятно почему. Римейк, «еще
раз сделанный», повторная экранизация, материалом которой служит не книга, не
пьеса и даже не оригинальный сценарий, а уже однажды снятый фильм, требует
известной культурной дистанции по отношению к первоисточнику. До недавних
пор эта дистанция у нас скрывалась за архаической логикой общественного време¬
ни. Зимы сменялись веснами, стужа уступала оттепели - фильмы жили в идеоло¬
гии, и переписывание того или иного культурного текста так или иначе упиралось
в идеологию, уже разоблаченную с трибуны очередного съезда.
Редкие исключения только подтверждают правило. Любимые народом Неуло¬
вимые и Жестокий романс опирались на жанровый фундамент оригиналов, со¬
ветского вестерна и классической мелодрамы, чьи социальные ангажементы явно
тушевались перед обычной занимательностью. Впрочем, проблему можно обсу¬
дить и шире: идеология, долгие годы маскирующаяся под культуру, невольно пе¬
реняла ее, культуры, повадки. Большая Игра велась по законам жанра. При жела¬
нии в Освобождении Юрия Озерова легко увидеть римейк Падения Берлина. С той
лишь разницей, что переделывается не вымышленный сюжет, а реальная История,
перезаселенная новыми авторитетами. Еще на первых этапах перестройки куль¬
тура взяла реванш у идеологии. Лишившись врага, «папочкино кино» умерло, но
умерло свободным. Ему на смену пришло поколение «после Пятого съезда», поко¬
ление, для которого Роом и Джармуш стояли в одном ряду эстетического совер¬
шенства, а священная для отцов трагедия ГУЛАГа искупалась роскошью имперско¬
го стиля. Не имея точки отсчета, но виртуозно владея дистанцией, это поколение
выступило из творческого подполья, из параллельных миров, компенсирующих
нестыкуемость пространств кривизной отражающего зеркала.
Ранние постсоветские римейки, по существу, были попыткой пересечения па¬
раллелей. Как и всякая мода, римейк двигался сверху вниз, от кустарного экспери¬
мента к массовому поветрию. «От кутюр» жанра стала узкопленочная продукция
343
Кино на ощупь
Трактористы. Реж. Иван Пырьев. 1939
тогда еще ленинградской (1989 год) киногруппы «Че-паев», вольно переосмыслив¬
шей коллизии легендарного фильма братьев Васильевых. Год спустя отпочковав¬
шийся от группы Максим Пежемский снял на «Ленфильме» полную добродушного
идиотизма двухчастевку Переход товарища Чкалова через Северный полюс — ге¬
роическую фантазию по мотивам почти одноименной картины Михаила Калатозо¬
ва. До полного метража идею довели братья Алейниковы, населившие старых доб¬
рых пырьевских Трактористов соратниками по концептуальному творчеству. От
переизбытка иронии и недостатка мастерства эти фильмы выглядели скорее паро¬
диями, чем римейками в строгом смысле слова, однако целостная концепция «мы
наш, мы новый мир построим» проглядывала в них вполне отчетливо.
Оживленный покадровой анимацией Чапаев мылся в женской бане, обни¬
мал Гагарина, Брежнева и серовскую «девочку с персиками». Из невсамделишных
уральских вод его спасал товарищ Эрнесто Че Гевара, спустившийся с небес на
крыльях романтического подвига. Неудачливый убийца героического комдива,
понурившись, стоял перед народным судом. Под хриплый вой Скримен Джей Хоу-
кинса Валерий Чкалов полез к Северному полюсу, волоча за собой психоаналити¬
ческий балласт Андалузского пса. Черные парни в буденовках подметали лед Фин¬
ского залива, символизируя подневольный труд братьев по классу. Неподалеку от
центра Земли резвилась шайка басмачей... Волосатые махновцы выходили из под¬
московного леса...
Строительству нового мира явно предшествовала ломка старого. Первая ти¬
пологическая черта отечественного римейка: в отличие от своего зарубежного ана¬
лога, он не интерпретировал, но разоблачал. Не переписывал, но вычеркивал. Об¬
ретя самостоятельность, кривое зеркало не выпрямилось, но всего лишь изменило
344
1995
Трактористы-2. Реж. Глe6 и Игорь Алейниковы. 1992
угол зрения. В его волнистом отражении священные чудовища превращались в ка¬
рикатуры, политические колоссы - в цирковых лилипутов, а руины империи -
в восхитительную игровую площадку.
Каюсь, в свое время я не разглядел эту выраженную черту. Рецензируя на стра¬
ницах «Сеанса» короткометражку Пежемского и Сады скорпиона Олега Ковалова —
развернутую сноску ко всей истории советского кино, помещенную в подстрочник
Случая с ефрейтором Кочетковым Александра Разумного, — я инкриминировал обе¬
им картинам отказ от текстологической реконструкции оригиналов. И был, вероят¬
но, не прав. Пересказ культового мифа средствами постмодернистской сказочки (Пе-
жемский) и аналитическое разложение монтажного спектра (Ковалов) претендовали
на вскрытие природы экранного тоталитаризма, самой формулы мифообразования.
Классический римейк опирается на непрерывность времени или на «конец»
времени, бывшего некогда непрерывным. Постсоветский римейк азартно конста¬
тировал необратимость разрыва с прошлым. Классический римейк вносит хро¬
нологические поправки в работу механизмов культуры. Постсоветский римейк
первой волны принялся растаскивать по частям ржавую машинерию социализма
и оказался где-то между Геростратом, опоздавшим к месту поджога, и Пьером Ме¬
наром, склонившимся над страницей «Истории КПСС». В конце 80-х это было все¬
общим поветрием. Не случайно исчерпывающий пример римейка я нахожу не на
экране, а на рок-сцене, откуда группа «Ноль» спела «зоопарковские» «Буги-вуги
каждый день» на мотив «Варшавянки».
Вторая волна разлилась куда мощнее. И географически, и исторически. Сергей
Дебижев и Сергей Курехин объединились в Двух капитанах-2. Дмитрий Месхиев пере¬
двинул «июльский дождь» на июнь, однако, не добрав кондиций хуциевского шедевра,
345
Кино на ощупь
Июльский дождь. Реж. Марлен Хуциев. 1966
назвал картину Над темной водой. Максим Пежемский переименовал «джентльме¬
нов» в Пленников удачи, а Василий Пичул обнажил в любимом всем миддлклассом
Золотом теленке вульгарные Мечты идиота. При соучастии автора этих строк Евге¬
ний Иванов заставил героев На последнем дыхании поглощать Никотин не через «жи-
тан» или «голуаз», а посредством курения тусовочных «монтекристо» и «лигейрос».
Наконец, Рашид Нугманов, имевший, по слухам, надежный контракт с американца¬
ми, предпочел Дикий Восток — третью после Великолепной семерки вариацию Семи
самураев Куросавы, где Мэд Макс не встречается с Василием Ивановичем Чапаевым
только потому, что устремился в погоню за Индианой Джонсом другой дорогой.
Комедия и вестерн, Мифуне и Юл Бриннер, французская и советская «новые
волны», Остап Бендер и Мишель Пуакар, Вениамин Каверин и Ленин в 1918 году...
Даже поверхностный перечень выдает еще одно качество отечественного римейка:
он переделывает не столько отдельный кинотекст, сколько весь контекст. Не столь¬
ко фильм, сколько в целом культуру, эпоху, время, явленные в форме мифа. Мегало¬
мания отличала и ранние образцы жанра - фильм обретался по преимуществу как
цитата в мозаике других цитат. Сталинский сокол Чкалов и эксгумированный Кова-
ловым непутевый ефрейтор свободно перемещались внутри недавней истории. От¬
того так непринужденно соседствовали Мельес и Чиаурели, а научно-популярные
динозавры прогуливались в рабочем кабинете Сергея Михайловича Эйзенштейна.
Римейк второго призыва расширил дистанцию и окончательно перепутал свя¬
зи между реальностью и нестрогими мифологическими величинами. Вслед за ака¬
демиком Герасимовым, некогда пугавшим нас со страниц школьного учебника видом
питекантропов, восстановленных по огрызку мизинца, римейки рубежа 90-х рекон¬
струировали прошлое из клочков жанра, индивидуального стиля, репутации, реплики,
346
1995
Над темной водой. Реж. Дмитрий Месхиев. 1993
взгляда, жеста... Априорная установка на игровой материал исключила всякую досто¬
верность. Семь самураев Куросавы явились из XVI века, когда служивые люди остались
без хозяев и вынуждены были зарабатывать на жизнь фехтовальными навыками. В Ве¬
ликолепной семерке Старджес переписал ту же коллизию по законам вестерна - жанра,
тесно слитого с эпической интонацией. Оседлые карлики и вольные стрелки Рашида
Нугманова обитают в выжженной постапокалиптической пустоши, словно собранной
из фрагментов кино, виденного автором по видику. И слова они произносят так, буд¬
то за них разговаривает переводчик-синхронист. Происходящее легко датировать кон¬
цом истории. Но история тут еще не начиналась - она слабо мерцает в сознании варва¬
ра, увидевшего прошлое во сне о будущем. «Ты что, в кино не ходишь?» — спрашивает
солдат фортуны у предводителя аборигенов. Спрашивает, проиллюстрировав такти¬
ческий маневр при помощи вареной картошки и перевернутого котелка...
Мишель Пуакар влюбленно смотрел на парижскую афишу Хэмфри Богарта. Его
безымянный двойник из Никотина взирает на обоих из зала, куда они с подружкой за¬
вернули после пресс-конференции Годара в ленинградском Доме кино. Годар не давал
интервью в Ленинграде, но Александр Абдулов тоже никогда не стоял на съемочной
площадке Хуциева рядом с Юрием Визбором и не отбивал у режиссера подругу-стар¬
летку. Троица с заставы Ильича едва ли дотянула до июльских дождей, но у Месхиева
она с мушкетерским упорством собирается вновь. Шукшин не пародировал Калатозо¬
ва, когда обагрял кровью Егора Прокудина березовый ствол, — в Пленниках удачи окро¬
вавленные березы медленно кружат в знаменитом вальсе из ...Журавлей Остап Бендер
был любим народом, но ни у Ильфа-Петрова, ни у экранизировавшего их Швейцера
не встречается и намека на избыточный вес. Нынешний кумир Сергей Крылов картин¬
но толст, и у Василия Пичула великий комбинатор едва умещается в кадре.
347
Кино на ощупь
На последнем дыхании. Реж. Жан-Люк Годар. 1959
Поименовав все это, как-то неудобно вспоминать, что и хуциевские «мальчи¬
ки», и молодой Бельмондо, и даже Бендер высказывались от имени времени: «от¬
тепели», поколения алжирской войны или придушенного НЭПа. Сны о будущем
приходят с экрана. Время и культура сливаются воедино и выглядят не тем, чем
были, но тем, чем могли бы — а еще вернее, «должны были» — быть. Постперестро¬
ечный римейк (прочтем, наконец, формулировку буквально — «переделка после
перестройки») отбрасывает подробности, спешит выговориться обо всем и сразу -
признаться в любви к кино, как в Садах скорпиона и Никотине, выяснить отно¬
шения с отцами, как в Над темной водой, или жирно плюнуть в физиономию ку¬
миру, как в Мечтах идиота. Последние я отношу к римейку именно потому, что,
минуя законы экранизации, они вламываются в нечто большее, нежели в персо¬
нажный мир многолетнего национального бестселлера. Пичул переделывает не
текст (он-то как раз почти не тронут), но мифологическую репутацию текста, дол¬
гие годы служившего неиссякаемым источником афоризмов. Здесь мне видит¬
ся третья — и наиболее парадоксальная — особенность жанра, чья «возвратная па¬
мять» обращена не внутрь, а вспять. Отечественный римейк свидетельствует не
о своем времени, но о времени минувшем, восстанавливает его, разрушая. И, иг¬
рая, - возвращается. Любовный многоугольник, погруженный Месхиевым в тем¬
ные воды перелицованного сюжета, надобен для того, чтобы показать собственные
«шестидесятые». Ковалов кромсает игровые и хроникальные ленты, чтобы полу¬
чить целостность собственного видения идеологических времен. В Пленниках уда¬
чи Пежемский сооружает вялотекущее ретро-ревю, финалом которого мыслится
собственное высказывание автора от имени любимых народом фильмов, а Пи¬
чул вливает собственную ложку дегтя в бочку давно перебродившего меда. «Это
348
1995
Никотин. Реж. Евгений Иванов. 1993
похоже на механическое передвижение в пространстве чужой тебе страны», — при¬
знается Нугманов, сидя с тележурналистом Сергеем Шолоховым в тенистом дво¬
рике зарубежного фестиваля. И это правда, потому что единственным итогом Ди¬
кого Востока следует считать попытку режиссера присвоить фильмы, некогда
снятые другими. В свою очередь Никотин (свидетельствую как один из соавторов)
продиктован желанием хотя бы на час превратить Ленинград в Париж.
Римейк — источник невозможного — позволяет сбыться несбыточному, выдох¬
нуть воздух, которым никогда не дышали. Михаил Трофименков видит здесь суб¬
лимацию культурологических комплексов поколения. Думаю, впрочем, что одним
психоанализом не обойтись. Ведь если так, то кроме Эдипова комплекса у Мес¬
хиева и подавленного садо-мазохизма у Иванова ничего не обнаружится. Гораздо
важнее увидеть ложность тщательно декларируемого разрыва, призыв к вседозво¬
ленности при малости запросов. И — что самое главное - вымученность и тщету
культурных дистанций при недостатке собственно культуры.
Вероятно, поэтому мода постепенно сходит на убыль. Еще вчера по коридорам
студий бродили люди, с горящими глазами излагавшие проекты гомосексуальной
версии Броненосца «Потемкина» или продолжения Белого солнца пустыни. Сего¬
дня они ушли в мелкотоварный бизнес или вернулись к своим прямым обязанно¬
стям осветителей и ассистентов по монтажу. Те же, в чьи задачи входит придумы¬
вать и снимать фильмы, поняли: даже поголовно переодевшись в папины галстуки
и траченые молью бабушкины горжетки, детский сад все равно останется детским
садом. Если вовремя не повзрослеет, конечно.
«Сеанс». 1995. № 10.
349
Кино на ощупь
Здесь кто-то был
С Игорем Алейниковым удивительно вязались солидные и надежные вещи. Дву¬
бортный, крепкой постройки, костюм, несносимые ботинки, очки в роговой опра¬
ве, кожаный портфель, «вечная» ручка - приметы утраченного дизайна 40-50-х го¬
дов, располагающих к неторопливому и размеренному быту. И сам он производил
впечатление человека-аквариума, спокойного, уютного, защищенного от случай¬
ностей и по-хорошему предсказуемого. Поэтому обстоятельства его ухода кажутся
особенно неправильными, дурацкими.
В мою задачу входит написать что-то вроде историко-теоретического введе¬
ния к публикации об Игоре Алейникове, осветить его совместную с Глебом режис¬
серскую работу, деятельность редактора, издателя, организатора, фестивалыцика.
При этом на ум все время приходят личные воспоминания. Думаю, иначе быть не
может. Вы сами поймете, почему.
Я не был близко знаком с Игорем и не могу сказать, что знал его хорошо. Пару
раз он останавливался у меня, когда приезжал в Ленинград, как-то вместе выпива¬
ли, сидели в каких-то идиотских комиссиях и оргкомитетах, которых в эпоху ли¬
хорадочного братания властных структур с авангардистами расплодилось великое
множество. Этого, конечно, мало, чтобы узнать человека, но теперь мне кажется,
что именно в силу поверхностности знакомства я был почти идеальным зрителем-
персонажем индивидуального алейниковского театра.
То есть, с одной стороны, видел его внешность, словно составленную из поло¬
винок Гарольда Ллойда и молодого Игоря Ильинского, его портфель, набитый ру¬
кописями, ксерокопированными буклетами и планами работы до 2000 года. Слы¬
шал, как он говорит — то ли воспитанный московский мальчик, то ли функционер
среднего звена. Причем в одних и тех же интонациях он общался и с обкомовски¬
ми тетками, и с соратниками по киноподполью.
С другой стороны - он выглядел так добродушно и ненарочито, что невольно
подозревалась какая-то ирония, дистанция, особо тонкая игра. Но где она, в чем,
есть ли она вообще или ее нет - понять было совершенно невозможно. Как невоз¬
можно различить, где у авторов М. Е. или Сервировки-рокировки кончается обая¬
тельное занудство и начинается художественный концептуализм.
Я потому и позволил себе собраться с немногочисленными воспоминания¬
ми об Игоре, что, по сути, они довольно точно воспроизводят эффект его с Глебом
картин. Все вроде ясно — откуда что берется, где у братьев-режиссеров не хвати¬
ло навыков, а где они решили ими сознательно пренебречь, что они придумывали,
350
1995
Игорь Алейников. Фот. Глеб Алейников. 1988
а что придумывать было просто лень. В итоге остается все равно только то, что
есть, что отпечаталось на пленке. И зритель поначалу думает - так и надо. Потом
подозревает, что его дурят. А потом задается единственно правильным вопросом —
какая, собственно, разница?
Здесь я, кажется, подхожу к самому главному. К тому, что можно назвать лич¬
ным вкладом братьев Алейниковых в советский и постсоветский кинематограф.
Я бы сказал, им первым удалось приватизировать кино. Privatus по-латыни значит
«частный», «неофициальный», «непубличный». Алейниковы едва ли не первыми
отнеслись к кино не как к профессии, конъюнктуре, миссии или служению, а как
к личному делу, к образу жизни, которая, в свою очередь, состоит не только из от¬
кровений и побед, а из процесса, из необязательной обыденности.
Вот почему, помимо Годара и Вендерса, физически проживающих свои филь¬
мы, братья с таким пиететом отнеслись к вычитанной в газете «страшной тайне
Чергида». «Чергидом» («через реки, горы и долины») назывался подростковый
351
Кино на ощупь
клуб, где затихарился извращенец-инструктор, снимавший на кинопленку прину¬
дительные оргии. История, конечно, противная. Но, если подумать, этот педофил,
при всей грязи помыслов, делал «чистое» кино, прямо и без затей продолжающее
образ его собственной ничтожной жизни.
Как медиум, кино взывает к очень личной, интимной картине мира. Опробуя
первый киноаппарат, Люмьеры (тоже, кстати, братья) снимали не что-то возвы¬
шенное, априорно художественное, а выход рабочих с фабрики, кормление младен¬
ца, прибытие поезда на местный вокзал. И любой из нас, окажись в руках камера,
в первую очередь стремится запечатлеть родных, близких, друзей, самого себя...
С тех пор как кино стало индустрией, искусством и идеологией, так позво¬
ляют себе снимать только любители. Алейниковы всегда поддерживали с ними
тесные контакты. Игорь постоянно с кем-то переписывался, встречался, пригла¬
шал на фестивали немыслимых людей, десятилетиями сидевших в народных ки¬
ностудиях и провинциальных домах культуры. Все они были бородаты, помнили
первые рок-н-роллы и охоту на стиляг и были малость запуганы. Узнав, однако,
что теперь они принадлежат движению, именуемому «параллельное кино», о ко¬
тором пишут у нас и на Западе, бородачи расслаблялись и показывали свои ра¬
боты — глубокомысленные примитивы, полные графоманского космизма и через
одного озвученные Вивальди, «Пинк Флойд» или пластинкой «Лютневая музыка
XVI-XVII веков».
Алейниковы того и добивались — ведь графоман тем и интересен, что прене¬
брегает стадией художественного выбора и в самых смелых своих дерзаниях все
равно обречен на обыденный опыт, замаскированный вычурной формой.
Я, конечно, рассуждаю как сноб. В Алейниковых же снобизма не было совер¬
шенно. Они сознательно культивировали дилетантизм как свободу от ангажемента,
«домашнее кино» как способ самоиронии. Или наоборот - такими и были. Во вся¬
ком случае, самые блестящие теоретики вставали в тупик, трактуя разницу между
эстетическим феноменом «параллельного кино» и обыкновенным любительством.
Сейчас мне кажется, что столько раз воспетый и столько же раз обруганный
«киноандеграунд» в замысле Алейниковых был больше всего похож не на жест¬
кую романтическую мифологию с жертвами, культовыми героями и идолами, а на
Швамбранию с ее тщательно нарисованными картами и призрачным народонасе¬
лением. На увлекательную выдумку двух братьев, вдвоем играющих против всех
взрослых. С той лишь разницей, что Материк Большого Зуба братья рисовали на
кинопленке, а на месте взрослых оказалось Большое Советское Кино. Не берусь
утверждать категорически, но, думаю, в том, что киноподполье обеих столиц, не¬
смотря на весь эпатаж и внешнюю бутафорию, в основном избежало обязательных
для подполья страшных эксцессов и трагедий, оказалось населено людьми незлы¬
ми и трудолюбивыми, есть миротворное влияние алейниковского стиля.
352
1995
В 1989 году на Втором фестивале «Сине Фантом» братья показали Постпо¬
литическое кино. В то время повсюду гремела скандальная слава некрореализма,
блестяще срежиссированная Женей Юфитом. Видя на экране беснующихся трупа-
ков, половина зала тут же с воплями выбегала вон. Оставшихся методично дово¬
дили небритые и нетрезвые поклонники режиссера, которых он всеми правдами
и неправдами протаскивал на каждый просмотр. К концу сеанса обычно остава¬
лись только свои, упоенно разыгрывающие нечто среднее между панк-концер-
том и начинающейся революцией. Ленинградские теоретики ходили, гордо за¬
драв носы - тогда считалось хорошим тоном наносить пощечины общественному
вкусу, и авангардистом можно было прослыть, подставив под выговор какую-ни¬
будь доверчивую киноадминистраторшу. На этом фоне алейниковское кино вы¬
глядело как-то не по-боевому: семейные фото, рукодельные коллажи, официаль¬
ные портреты под музыку на одной струне... На все упреки братья весело хихикали
и кивали. Дескать, точно, докатились! очень плохое кино сделали! самим против¬
но! А на самом деле они давно уже жили после революции, которую мы еще толь¬
ко начинали.
В дни фестиваля подпольная киногруппа «Че-паев» делала римейк одноимен¬
ного себе фильма. Снималась последняя сцена — арест убийцы легендарного ком¬
дива. Роль поручили Игорю. Он отнесся к предложению с обычной серьезностью,
проверил наличие паспорта в кармане и, нахлобучив шапку, пошел навстречу двум
тайным агентам, которых изображали поэт Леша Феоктистов и будущий режиссер
Максим Пежемский. Мне, как одному из членов киногруппы, доверили держать
камеру. Тщательно имитируя репортаж, я обежал троицу кругом и напоследок,
когда убивца уже крепко держали под белы руки, остановился на крупном плане
Игоря, требуя от него выражения раскаяния и ужаса. Секунду подумав, Игорь ра¬
достно осклабился, сорвал шапку и широким жестом хлопнул ее оземь... В тот же
момент пленка в камере кончилась, а значит, по всем законам киноподполья, за¬
вершилась и съемка. Фильм склеили, показали и потеряли. Осталась только полу¬
слепая видеокопия.
Недавно я ее пересматривал. Сразу после обрыва подклеен ракорд, и лицо
Игоря отсекается в темноту. Но еще какое-то мгновение, долю секунды за счет не¬
известного мне оптического закона на черном фоне остается негативный контур.
Или это только кажется.
«Сеанс». 1995. № 10. Статья написана через несколько месяцев после трагической гибели
Игоря Алейникова.
353
Кино на ощупь
Джеймс Дин. Фот. Деннис Сток. 1955
354
1995
Через сорок лет у бунтаря появилась причина
Сорок лет назад, в апреле 1955 года, на экраны Америки вышел знаменитый Rebel
Without a Cause — Бунтовщик без причины Николаса Рея, фильм, которому в ско¬
ром времени было суждено стать одним из главных символов молодежной субкуль¬
туры 50-х. По случаю юбилея в нью-йоркском кинотеатре Film Forum открылся
двухнедельный показ специально восстановленной копии картины. Одновремен¬
но Американский музей киноизображения проводит полную ретроспективу Ни¬
коласа Рея.
Историки и социологи часто называют 1955-й переломным годом американ¬
ской культуры. На эстраду, телевидение и в кино прорвались представители под¬
ростковой генерации. Элвис Пресли потеснил сладкоголосых Фрэнка Синатру
и Гая Митчелла. Вечно сорокалетние кинолюбовники, вроде Фарлея Гранже или
Роберта Вагнера, капитулировали перед молодыми и колючими Марлоном Бран¬
до и Монтгомери Клифтом. В конфликте поколений воюющие стороны формули¬
ровали свои стратегии: под звуки первых рок-н-роллов дети седлали мотоциклы,
а их родители судачили о немотивированной агрессии и презрении к перспекти¬
вам позитивного общественного роста.
Американцы хотели объяснений. Ответ на вопрос «легко ли быть молодым?»
искали на уровне семьи, школы, компании подростков. С этим же прицелом пи¬
сался и сценарий Стюарта Стерна Бунтовщик без причины, повествующий о зло¬
ключениях старшеклассника Джима Траска, мучительно разыскивающего свое ме¬
сто в жизни. Rebel Without a Cause можно перевести и как «Бунтовщик без идеала».
Фильм задумывался как нравоучительная история «опасных игр», приводящих
к нешуточному кровавому итогу: в борьбе за лидерство в школьной банде сопер¬
ник Джима срывался с обрыва, а его единственный друг - смешной коротышка по
имени Плато — попадал под полицейскую пулю. Инфантильные забавы заканчива¬
лись трагически - на примере Джима общество как бы предостерегало подрастаю¬
щее поколение против излишней самостоятельности.
Бунтовщика без причины поставил Николас Рей - в то время одна из самых
ярких фигур внутриголливудского Индепендента, жестокий лирик и волк-одиноч-
ка. На главные роли он позвал выпускников нью-йоркских театральных студий,
чей образ жизни мало чем отличался от времяпрепровождения трудных подрост¬
ков - Сола Минео, совсем еще юного Денниса Хоппера, будущую звезду Вестсайд-
ской истории Натали Вуд... Джима Траска сыграл Джеймс Дин — актер-неврасте¬
ник с капризным детским ртом и печальными старческими глазами, питавший
355
Кино на ощупь
болезненное пристрастие к ночным разговорам и сумасшедшим автогонкам. В ре¬
зультате история воспитания чувств превратилась в романтическую поэму из¬
гнанничества. Дин с его мимикой падшего ангела открыл целую галерею антигеро¬
ев, затевающих пятнашки со смертью на обочине одряхлевшего социального мифа.
Пересматривая Бунтовщика... сегодня, легко заметить, что антагонизм поколений
в нем решается как метафизическое противостояние. Одна из центральных сцен
фильма происходит в провинциальном планетарии, под мерцающим звездным ку¬
полом, осеняющим любовь и муку заблудших подростков. Социальные альтерна¬
тивы еще не оформились, бунтаря пожирает смутное томление, в отличие от бу¬
дущих своих двойников он не погибает, а остается жить, так и не расставшись со
своей тоской. Впрочем, судьба исправила открытый финал. Гигант — следующий
фильм Дина - вышел в прокат уже после того, как газеты всей Америки напечата¬
ли фотографии его сплющенной в лепешку гоночной машины. Он погиб в окрест¬
ностях Салинаса, калифорнийского города, где снимался у своего учителя Элиа
Казана в Восточнее рая. Остальные исполнители тоже ушли из жизни задолго до
срока. В ноябре 1981 года на борту своей роскошной яхты скоропостижно и таин¬
ственно скончалась сорокатрехлетняя Натали Вуд, сыгравшая подружку «бунта¬
ря», заводную и беззащитную Джуди. В 1976-м Сола Мимео, номинировавшегося
на «Оскар» второго плана за роль Плато, зарезали на пороге его голливудской вил¬
лы. В живых остался только Деннис Хоппер, в конце концов поборовший много¬
летнюю зависимость от алкоголя и галлюциногенов и перешедший на амплуа па¬
тентованных злодеев...
Через сорок лет миф уже не выглядит мифом. Он превращается в экспонат
культурного архива, в исторический документ. Роль эта незавидна, но зато избав¬
ленный от актуального комментария Бунтовщик... обретает сейчас свою новую
и, может быть, настоящую жизнь — жизнь романтической притчи о любви, тоске
и свободе.
«Ъ». 1995. 20 апреля. Статья написана к сорокалетию со дня премьеры фильма Бунтовщик
без причины.
356
1995
Канадский кинематограф: Апокалипсис завтра
В программе петербургского Фестиваля фестивалей, предварительные показы ко¬
торого начались на этой неделе, выделяются три канадских картины. Первую из
них - Я люблю человека в униформе — снял бывший клипмейкер Дэвид Веллинг¬
тон. Две другие — Проверяющий и Календарь — составили своеобразную мини-ре¬
троспективу баловня многих европейских фестивалей Атома Эгояна.
Родители Эгояна были первыми армянами, в начале 60-х поселившимися
в окрестностях канадской Виктории. Еще ребенком будущий режиссер решил на¬
всегда порвать с наследием предков - даже дома он отказывался говорить на род¬
ном языке. Позднее он показал на экране фарс самоидентификации перемещен¬
ного лица, чья психология — карта мира, а подкорка - технология визуального
производства. В 1987 году Вим Вендерс, получивший в придачу к призу Монреаль¬
ского кинофестиваля $ 5000, тут же отдал их Эгояну и напутствовал его поскорее
начать новый фильм. Подарок был сделан неспроста - Эгояна часто называют «ка¬
надским Вендерсом». Как и автор Неба над Берлином, он по-настоящему заворожен
пустотой традиционных культурных пространств, распадом привычных связей
и космополитическими превращениями. Как и для Вендерса, дом, язык, расста¬
вание и встреча превращаются для Эгояна в метафоры потерянного рая и непри¬
ютного странничества. Тут, впрочем, сходство кончается. Если для падшего ангела
Вендерса изгнание из Эдема было и остается предметом поэтической меланхолии,
эмигрантский сын Эгоян решает тему с изрядной долей сарказма и черного юмора.
Герой Календаря, потомок армянских переселенцев, отправляется на исто¬
рическую родину фотографировать старые церкви. Земля отцов его не волнует —
куда важнее выигрышный ракурс и сбалансированная композиция. Снимки для
рекламного календаря и впрямь получаются отличные, однако по ходу дела жена
фотографа влюбляется в местного проводника. Назад герой возвращается один.
И, вернувшись, вновь и вновь прокручивает путевые видеозаписи, силясь понять,
о чем говорили любовники на непонятном ему древнем языке. Фотографа играет
сам Эгоян, жену — его жена Арсине Ханджан, что придает всей истории оттенок са-
моироничной притчи об отрыве от корней. И о той плате, которую абориген взима¬
ет с пришлого визионера за право подглядывать.
Персонажи Проверяющего расплачиваются за те же грехи. Главный герой (Эли¬
ас Котес) служит в страховой фирме. В его обязанности входят расследование слу¬
чаев квартирных пожаров и, по совместительству, психологическая реабилитация
погорельцев. К работе инспектор относится творчески. Настолько, что клиенты
357
Кино на ощупь
обоего пола то и дело затаскивают его в постель. Тем временем его жена (Арсине
Ханджан) сутками просиживает в казенном кинозале, цензурируя порнофильмы
и тайком делая видеокопии для старшей сестры. Роковым участником треуголь¬
ника становится богатый извращенец-вуайер (Дэвид Хэмблин), одержимый иде¬
ей эротических катастроф. Под видом киносъемок он арендует дом инспектора,
устраивает грандиозное пип-шоу и поджигает здание. Наблюдая, как в лучах юпи¬
теров полыхает его недвижимость, герой наконец-то обретает настоящую свободу.
Свободу быть соглядатаем.
Финальным пожаром Жертвоприношения Тарковский поделил все человече¬
ство на верующих и неверующих. Циник и лирик Эгоян делит людей на тех, за кем
подсматривают, и на тех, кто подсматривает сам. И эта истина тоже требует жертв.
В жертву самопознанию приносит себя и Фланеган (Том Маккамус) из филь¬
ма Веллингтона. Актер без ангажемента, он просиживает штаны за банковской
конторкой, как вдруг судьба подбрасывает ему шанс - роль «крутого копа» в кри¬
минальном телесериале. Жизнь героя раздваивается: днем он штампует чужие
векселя, а по вечерам превращается в хозяина улицы, меткого стрелка и немно¬
гословного обольстителя. Конечно, роль перерастает сценарий и, конечно, на¬
стоящие блюстители порядка, к которым примазывается герой, оказываются куда
хуже киношных - грубыми, продажными, не брезгующими халявой у проститу¬
ток и наркодилеров. Заигравшийся лицедей кончает с собой, но не очень понятно,
что обличает его смерть — то ли отдельные недостатки в работе канадской поли¬
ции, то ли опасность ее романтизации. В год выхода фильма язвительный жур¬
нал The Independent заметил, что копы вполне могут сойти за «социальное мень¬
шинство» и вчинить режиссеру иск за политическую некорректность. Веллингтон
предусмотрел и такой вариант: в самом начале Фланеган становится свидетелем
банковского ограбления и персональной жертвой загримированной под киноди-
ву налетчицы, так что все дальнейшее можно воспринимать как попытку компен¬
сации ущемленного подсознания героя. Так это или нет, решайте сами, во всяком
случае в геополитическом смысле канадская программа свою задачу выполнила.
Апокалиптически настроенные футурологи предсказывают: если настанет
конец света, остатки человечества уцелеют на территории североамериканских
штатов и Канады. А страна, где даже некоренные граждане жгут дома и с психоана¬
литическими целями маскируются под стражей порядка, заслуживает того, чтобы
стать ковчегом последнего потопа.
«Ъ». 1995. 13 мая.
358
1995
Посадил дед репку
Двое встречаются в вагоне скорого поезда. Один вместе с молодой женой едет на юг,
к морю. Другой служит проводником и, несмотря на это, так и не научился засы¬
пать под стук колес. Зато первый, имея деньги, и, судя по всему, деньги немалые, не
может позволить себе ничего кроме жиденькой кашки. Первый поселяется в лачуге
второго, выгоняет собственную жену и подстраивает другому супружеский разрыв.
Первого зовут Николаем, второго Олегом. У Олега когда-то было отчество — Петро¬
вич, у Николая была фамилия, которую Олег и не вспомнит. Олег был судьей, Ни¬
колай - подсудимым. Олег присудил Николаю срок, и Николай этот срок отсидел.
«Посадил дед репку... А Репка вышел и посадил деда на перо...» - пересказан¬
ный по фене басенный сюжет содержит модель целого жанрового подвида, заме¬
шенного на повторной встрече экзекутора и выжившей жертвы.
Коллизия закручивается в зависимости от фигуры центра. Если посмотреть
глазами «деда», получится роман Джона Макдональда «Палачи», дважды перене¬
сенный на экран под именем Мыс страха. Если же встать на точку зрения «реп¬
ки», варианты возможны самые разнообразные: от крупномасштабного Однажды
в Америке до пятиминутного эпизода в старой гангстерской картине Враг обще¬
ства. Ровно пять минут требуется персонажу Джеймса Кегни, чтобы нажать курок
у виска человека, некогда отправившего его за решетку.
Хотя конфликт и разворачивается по-разному, как таковой он возможен толь¬
ко на основе некоей общественной константы. Один исполнил закон, другой от за¬
кона пострадал. Смысл их свидания постфактум проясняется лишь в непрерывно¬
сти подзаконного измерения. Закон один. Он был, есть и будет, а в законе каждый
получает мотивы личных рефлексий и право на индивидуальную драму, то есть
персональная свобода и персональный выбор заключаются в праве одного нару¬
шить закон, а другого - трактовать его так, а не иначе.
В фильме Александра Миндадзе и Вадима Абдрашитова Пьеса для пассажира
закона больше нет. Время словно перевернуто. Бывший судья - формалист, педант
и буквоед — выкинут на обочину. Недавний преступник, в прошлом студент-за¬
очник, аккордеонист и умница, вознесен на верхушку официально заблатневшего
мира. От кого теперь защищаться и кому мстить?
Личные отношения в продолжающемся времени есть повод для драмы. Слом
времен означает трагедию. Если бы хоть полусловом, хоть намеком экс-судья при¬
знался в индивидуальном произволе, было бы яснее и проще. Закон, известно,
как дышло. Куда повернешь, туда и поехали. Не сдержался, передернул статью,
359
Кино на ощупь
послушался мимолетной неприязни — понятно. Получи перо в бок и помни — за все
в мире надо платить. Но очкастый юрист потому и разносит чай по вагонам, что
никогда не поддавался эмоциям, судил не сам, а именем Уголовного кодекса. Тем
и сделался неугоден. Мстить ему - значит мстить прошлому, которого больше нет.
Время обанкротилось, кончилось, публично покаялось и исчезло. «Сейчас
я никакой не жулик, я двигаю прогресс!» — в истерике вопит Николай. «За то же
самое сейчас памятники ставят. Из золота. Жулики жуликам», — солидно согла¬
шается Олег... Студенту-аккордеонисту от этого не легче. Золотой памятник он
если и получит, то скорее всего в виде надгробия — сидел тяжело, расплатился за
грехи юности отбитыми почками. Тем временем умерла дочь. Первую и, судя по
всему, любимую жену не простил, выгнал сам. Вторую, беременную и не очень
любимую, - тоже. Припадки-отключки. Выжженная душа. Каинова печать отвер¬
женности и отчаяния...
А виновник всех бед тут же. Поправляет очки в полной уверенности в неуяз¬
вимой правоте. И водочка на халяву ему «мягкая» и путана «сладкая». И стол, на¬
крытый для трапезы-судилища, кстати - давно горяченького супчика не хлебал...
Тех, кто следит за работой Миндадзе и Абдрашитова, их новый фильм, появив¬
шийся в год двадцатилетия совместной деятельности, с самого начала должен был
насторожить. Кризис времени отразился в бывшем советском кино куда глубже
и прихотливее, чем кажется на первый взгляд. Главное тут не финансовая бедность
и не отсутствие творческих идей. Гораздо актуальнее, если можно так выразить¬
ся, пластический дефицит. Совершенно непонятно, кого и что снимать в кино -
искусстве, целиком построенном на некой социальной фотогении, на устойчивых
кодах и эмблемах обыденности, делающих игровой фильм, может быть, еще бо¬
лее объемным документом культурного архива, чем фильм неигровой. Длящее¬
ся безвременье не знает не только своей драматургии, но и самой внешности. Кто
или что может попадать на экран? «Макдоналдсы» или разрушенные монументы?
Красные пиджаки или пятнистый камуфляж? «Новые» или «старые» русские, бан¬
диты, «лица кавказской национальности» или «жители ближнего и дальнего зару¬
бежья»? Сама лексика указывает на преходящий, искусственный статус граждан¬
ских амплуа и несформулированность общей коллизии. Как, скажите на милость,
сочинить примитивнейший триллер, если, закрутив сегодня сюжет вокруг круп¬
ной суммы денег, завтра зрителя только насмешишь, потому что он как раз за эти
деньги купил билет.
Из этого тупика кто-то оглядывается назад, так появляется ретро от Про¬
рвы до Русского рэгтайма. Кто-то нагружает современными аллюзиями класси¬
ку, кто-то тренируется в авторской каллиграфии. Кто-то воздвигает миф на пустом
месте. Например, Лимиту — романтический симулякр, компенсирующий отсут¬
ствие предмета навалом престижных аналогий.
360
1995
Для Миндадзе и Абдрашитова выпадение из времени обещало быть особен¬
но губительным. Их парный эффект сложился из ритуалов и стандартов советской
жизни 70-х - начала 80-х годов. Заурядное судебное дело, дорожно-транспортное
происшествие, военные сборы — мимолетные эксцессы вдруг переворачивали ста¬
бильный порядок вещей, вскрывали изнанку реальности, ее тоску и экзистенци¬
альный дискомфорт. При этом топография сюрреалистических ловушек ничуть
не исключала, а даже повторяла контуры обжитых общественных пространств.
Настолько, что прежние фильмы режиссера и сценариста вполне непринужденно
вписывались в жанрово-тематический диапазон официального советского кине¬
матографа. Кто, в самом деле, станет оспаривать, что Остановился поезд — произ¬
водственная картина, а Плюмбум поднимает проблему «легко ли быть молодым?»
Если бы речь в Пьесе для пассажира шла только о примирении авторского дискур¬
са и киноматериала, задачу следовало бы считать выполненной. Больше того, отлучен-
ность персонажей от всяких объективных координат было бы соблазнительно прочесть
и как прямую формулу актуального конфликта, и как обратную метафору кинопроцес¬
са. Время самоустранилось, предоставив героям блуждать в поисках коллизии.
Фильм тоже занят самоидентификацией. Сохраняя бытовые фактуры, он все
равно оставляет ощущение пустоты, незаселенности. Есть приморский городок,
палисадники, заборы... Цветы, которые на продажу разводит супруга отставно¬
го законника. Он сам, пылящий на велосипеде по станционному проселку... Есть
крупно скадрированная еда - от огурчиков-помидорчиков и резиновых сосисок
до кичево декорированной ресторанной стерлядки... И скрытые авторские рифмы
тоже не отрываются от житейского слоя. Николай, например, когда-то гонял по
стране левые грузовые составы, а Олег теперь мается в составах пассажирских. Это
символично, но правдоподобно; так могло быть.
Но логика и плоть происходящего все равно упираются в края какой-то зри¬
тельной впадины. Герои путешествуют в пустых вагонах, сидят в пустых рестора¬
нах, легко входят и выходят из больничных палат, пересекают безлюдные улицы,
ездят по свободным автострадам. Агенты, берущие на пляже подельника — Батю,
материализуются из ничего и тут же исчезают. А моторная лодочка на морской гла¬
ди появляется ровно в тот момент, когда автомобиль с отрубившимся Николаем
вот-вот под этой гладью исчезнет.
На вступительных титрах Пьесы для пассажира герои представлены со старо¬
модной театральной вежливостью: поименно и с указанием возраста. История (в сце¬
нарном варианте она называлась еще откровеннее - «Большая постановка жизни»),
едва доказав свою аутентичность, тут же признается в условной сконструирован¬
ности. Персонажи говорят разбытовленным языком, лица второго плана являют¬
ся и исчезают с легкостью пешек в чужой игре, а дефицитная формула неприду¬
манной социальной драмы мерцает в области каких-то иных, неявных отношений.
361
Кино на ощупь
Проще всего это было бы определить притчей. Но притча склонна расширять
непосредственный материал до иносказания, а авторы Пьесы..., наоборот, — сжи¬
мают его до своей постоянной темы ненависти, зависимости мужчин, повязанных
общей виной и не им принадлежащей тайной. Где тайна и в чем вина — не так важ¬
но. Важно, что действие переключается в воспаленный, болезненный, биоэнерге¬
тический регистр, в котором участники меняются возрастами, масками, коммуни¬
кативными паролями и судьбами.
Студент-уголовник, сыгранный Игорем Ливановым, выглядит старше и муд¬
рее судьи Сергея Маковецкого. Арбитр рядом со своей бывшей жертвой просто па¬
цан. С одной стороны, оно понятно: семь лет в зоне никого не молодят. Олег же
Петрович принадлежит к тому типу «гомо политикус», который старится не с воз¬
растом, а с продвижением по службе. Поскольку его турнули с первых же ступенек
номенклатурной лестницы, он так и остался мальчиком-мутантом, впрок трени¬
рующим сановное «собственно говоря». С другой стороны, встреча этих разно¬
положенных людей, очевидно, уводит от обманчивой возможности компромисса
или хотя бы внятного итога. Они влекут (или их влекут) нездешние силы, потому,
чем более изощренные козни строит обидчику постсоветский Монте-Кристо, тем
выше взлетает тот, словно отнимая последние капли жизни у бывшего клиента.
Жизнь переходит от одного к другому. В финале один приглашает сам себя на
суицидный банкет, а второй склоняется над морем и, роняя в прибой слезу, шеп¬
чет: «Это был ты...»
Пьесу для пассажира очень легко ругать. За то, в частности, что, отыскав кон¬
фликтное уравнение времени, авторы тут же перевели его в собственную систе¬
му отсчета, в координаты тревожной метафизики, которая так будоражила в про¬
шлом, но которая нынешнюю эпоху как будто даже обедняет. Впрочем, как бы ни
нуждалась в законах и заповедях любая эпоха, кто знает, по какому расписанию
двинется и куда придет поезд, в котором однажды встретились два пассажира.
«Искусство кино». 1995. № 7.
362
1995
Вслед за Феллини москвичи увидят «Всего Пазолини»
Одну из самых знаменитых своих статей Пазолини назвал «Смерть как смысл жиз¬
ни». Он утверждал, что смерть упорядочивает жизнь — подобно тому, как монтаж
вносит смысл в череду кинокадров. Его собственная смерть в декабре 1975 года ни¬
чего не упорядочила. Уже мертвого его оттащили к обочине пригородного шоссе
и для верности пару раз переехали автомобильными колесами. Пазолини не скры¬
вал своих левых симпатий — появилась версия политического убийства. Он был го¬
мосексуалистом — заговорили о преступлении по страсти. Но ни одна из этих вер¬
сий не подтвердилась вполне.
Один из самых эксцентричных европейских интеллектуалов унес с собой
в могилу не только тайну собственной смерти. Как режиссер он дебютировал в на¬
чале 60-х, на волне всеитальянского «кризиса рациональности». Избавляясь от фа¬
шистского прошлого с его бутафорским эстетством, послевоенное кино вывело на
экраны обыденную жизнь и драматургию случая. К середине 50-х неореализм себя
исчерпал. Его отцы один за другим меняли вехи — Росселлини снял Стромболи —
земля божья и показал, как сословные предрассудки преобразуются в духовное не¬
равенство, Висконти разыграл Чувство в пышных декорациях оперы Верди, а Фел¬
лини в Ночах Кабирии обратился к католической концепции чуда.
Первый фильм Пазолини назывался Аккатоне, что значит «нищий» или «бро¬
дяга». Будучи марксистом, режиссер занялся исследованием социального дна. Бу¬
дучи наследником веризма, он обнаружил чудовищную взаимозависимость чело¬
века и среды, плодящей «отвратительных, грязных, злых» созданий с бессмертной
душой. Перед тем как погибнуть от рук собственных приятелей, герой Аккато¬
не видел волшебный сон. Божественный свет приближался к краю свежевырытой
могилы, и трущобный бандит молил о счастье постичь эту нездешнюю благодать.
Три года спустя Пазолини сделал насквозь политизированную экраниза¬
цию - Евангелие от Матфея. Под звуки «Вы жертвою пали» похожий на Че Ге-
вару Христос звал свою паству в светлое царство равенства и любви. В Овечьем
сыре, среднеметражном эпизоде из авторского киноальманаха РоГоПаГ, вечно го¬
лодный крестьянин, нанятый на роль разбойника в библейском фильме, обжирал¬
ся и по-настоящему умирал на кресте одесную Спасителя.
Чудо у Пазолини было не волшебством, а напоминанием об истине. Несмотря
на злободневные акценты, Евангелие от Матфея до сих пор остается лучшей биб¬
лейской экранизацией. И до и после в кино снимали библейские сюжеты — Пазолини
снял фильм о слове Христа, заставив его звучать как речь на подпольном митинге.
363
Кино на ощупь
Последний и самый скандальный фильм Пазолини Сало, или 120 дней Содома
тоже вышел из слова. В поисках визуального эквивалента прозы де Сада режиссер
с ошеломляющим буквализмом перенес ее действие в последние месяцы войны,
показав сексуальные забавы фашистов накануне гибели. Палачи и жертвы корчи¬
лись в сладострастных судорогах, на крупных планах истязаемым кололи глаза
и резали языки, обнаженные подростки, давясь, глотали испражнения... Не досмо¬
трев и половины, часть зрителей выбегала прочь с приступами рвоты. Ролан Барт
высказался кратко: «Фантасмагорию можно только написать - описать ее нельзя, -
и добавил, — следует указать, каким образом фашизм может произрасти, а не пока¬
зывать, чему он подобен».
Однако, формулируя претензии к бывшему коллеге-теоретику, Барт опре¬
делил и суть мучений художника. Пазолини занимался политикой, но ненави¬
дел насилие. Верил в спасение души, но останавливался перед завораживающей
красотой зла. Он переносил на экран притчи-памфлеты, античные трагедии и пси¬
хоаналитические автошаржи, давая будущим биографам повод заключить смяте¬
ние в аккуратные клеточки-периоды. Формально он всю жизнь пытался прими¬
рить идеологию с истиной, однако, показывая в 70-е годы радость телесной любви
и избыточность плоти, Пазолини осуществил высшую форму бунта - отказ от вся¬
кой идеологии. В эти годы он экранизировал Боккаччо, Чосера и арабские сказ¬
ки; зрители валом валили в кинотеатры, нахваливая бывшего бунтаря за экран¬
ную «клубничку».
На сегодняшний взгляд, искушенный аморализмом и внутрикультурным эпа¬
тажем, 25 лент Пазолини, от Евангелия... до де Сада, покажутся уравновешенными,
даже гармоничными. Стоит, однако, помнить, что даже если бы ни один модернист
в XX веке не взял в руки кинокамеру, только по фильмам Пазолини можно было бы
судить, как выглядит и куда стремится модернизм в киноискусстве.
«Ъ». 1995. 1 июля. Статья написана к ретроспективе фильмов Пьера Паоло Пазолини
в московском Музее кино.
364
1995
Пьер Паоло Пазолини. Фот. Дино Педриали. 1975
365
Кино на ощупь
На свете все еще бывает хорошо
Режиссеру Георгию Данелия исполнилось 65 лет. По первому образованию он архи¬
тектор, то есть художник, обученный симметрии. Может быть, поэтому его филь¬
мы всегда попадали ровно в середину времени и соединяли красоту авторской де¬
тали с точностью несущей конструкции. Кино, впрочем, искусство динамичное.
Движение присутствует в названиях самых знаменитых картин Данелии — Я ша¬
гаю по Москве и Осенний марафон. Между прогулкой вдоль послеоттепельной сто¬
лицы и мытарствами по осеннему Питеру лежит целая культурная эпоха, всякий
раз увиденная в тот момент, когда сказка еще не стала былью, но быль уже готовит¬
ся стать сказкой. При этом Данелия принадлежит к редкому типу сказочника, не
склонного к индивидуальной утопии. Его идеализм редко выпирал из границ вре¬
мени, а потому и жанр трагикомедии, стремительно набравший обороты в совет¬
ской жизни, нашел в его фильмах точное и отчетливое воплощение.
Данелия - один из лучших отечественных режиссеров-урбанистов. В Я ша¬
гаю по Москве вместе с оператором Вадимом Юсовым он передал даже запах горо¬
да - запах новеньких пластинок в ГУМе, мокрых листьев, памятников и мостовых.
Он первым показал метро как место действия городской сказки. По эскалатору
вверх поднимался метростроевец Коля и, потеряв любимую, распевал «бывает все
на свете хорошо». Вниз, к последнему поезду питерской подземки, скакал интел¬
лигентный Бузыкин и знал, что хорошо уже точно не будет. Станция метро как де¬
корация раннеперестроечного кича разыгралась в Насте. Будучи горожанином,
Данелия знает цену мимолетной встрече — едва ли не лучшие свои эпизоды и ма¬
ленькие роли у него сыграли Владимир Басов, Евгений Леонов, Инна Чурикова,
Галина Волчек, Ролан Быков. Как, в самом деле, забыть циничного полотера и де¬
вушку, рисующую лошадь в Я шагаю по Москве или бездарную, неопрятную, при¬
страстную к допингу Варвару из Осеннего марафона - монстров мегаполиса, по¬
павших в объектив режиссера на вираже собственной корявой судьбы.
Можно много рассуждать о патриархальной этике картин Данелии, хотя та¬
кие рассуждения всякий раз обнаружат наше незнание как патриархального, так
и национально-грузинского. В разгар «отъезжантской» лихорадки он получил Мо¬
сковский приз за Мамино — одиссею летучего джигита, всякий раз приземляюще¬
гося на родных камнях. Но тремя годами раньше, когда почвенный миф еще не
утратил либерального очарования, он сделал Афоню, картину куда более безыс¬
ходную, чем официально-чернушные Тридцать три или Слезы капали. И камня на
камне не оставил от притчи про тоскующего жлоба, обретшего покой на сельской
366
1995
Я шагаю по Москве. Реж. Георгий Данелия. 1964
367
Кино на ощупь
родине. В недавнем Паспорте француз играет грузина, съехавшего по израильской
визе, но кому легче от того, что политические границы сумасшедшего мира стали
проницаемы?
Сказочник, моралист и сатирик, Данелия в результате снял свои лучшие ра¬
боты, избежав преувеличений, аллегорий и насмешек. Даже неудобно напоминать,
что, несмотря на вычерпанность шестидесятнического мифа, каждый отечествен¬
ный кинозритель может смотреть Я шагаю по Москве в любое время и с любого ме¬
ста. А по володинским диалогам к Осеннему марафону в западных университетах
до сих пор изучают не столько загадку «гнилого интеллигента», сколько бытовую
русскую речь. Как и многие знаменитые грузины бывшего советского кино, режис¬
сер мыслил и мыслит не стереотипом культуры, а категорией цельного человека.
Причуды нестандартного поведения в социальном мире есть повод для смеха, но
память об утраченной целостности составляет предмет трагедии. Характерно, что
и первый и последний по времени фильмы Данелии назывались уменьшительны¬
ми детскими именами Сережа и Настя. Время общих надежд выражало себя через
открытие — поставленный в 1960 году в соавторстве с Игорем Таланкиным Сере¬
жа показывал абсолютно органичного маленького человека. Эпоха раздрая, поде¬
лившая страну на «ближних» и «дальних», «новых» и «старых», подарила дурнуш¬
ке Насте шикарную двойницу, но вряд ли сделала счастливее. Брат-близнец был
и в Паспорте — втором из двух послеперестроечных фильмов режиссера.
Данелия всегда знал, что человек сделан не из одного куска, поэтому был
и остается грустным сказочником. С гибелью социальной общности герой у него
окончательно распался на две половинки, и от этого не спрятаться ни в искреннюю
апологию летнего дождя и молодого современника, как в Я шагаю по Москве, ни
в безнадежно-грузинскую экранизацию провансальского романа, как в Не горюй!,
ни в волны большой американской реки, как в Совсем пропащем, ни в галактиче¬
ский волапюк, как в Кин-дза-дза. Настю уже прилично поругивать за выпадение
из времени. Но не значит ли это, что само время так и не определило собственный
центр, в котором, помимо прочего, пересекаются искусство и жизнь.
«Ъ». 1995. 31 августа. Статья опубликована под названием «На свете все еще будет хорошо».
368
1995
Иванов, не вспомнивший родства
Трудно поверить, что Сергей Сельянов был одним из пионеров советского парал¬
лельного кино. Наш Индепендент жил не так подростковым восторгом, как опытом
культуры. И не столько энергией собственного созидания, сколько красотой все¬
общего распада. День ангела, сделанный Сельяновым, Николаем Макаровым и Ми¬
хаилом Коновальчуком Бог знает когда, где и на какие деньги, обнаруживал совсем
обратное: радость открытия и наивного киноавторства.
В общих чертах судьбу автора можно представить так. Давным-давно, когда
животные разговаривали, а стулья росли вместе с людьми, в некотором деревен¬
ском царстве-государстве жил мальчик. Его окружали чудеса и таинственные зна¬
ки - ночные костры на воде, бездонные бочки, скрипучие лестницы и зрячие расте¬
ния. Потом мальчик вырос, а поскольку он был честный и способный, то и вырос
там, где родился — в советской стране, и советским человеком. Прежде он обходил¬
ся без слов, мир и так доверял ему свои загадки. Со временем мир приобрел имена.
Мальчик узнал, например, что развеселые лешаки, бродившие с гитарами по ули¬
цам его детства, это шестидесятники, что тварь лихая, всепролазная, улюлюкаю¬
щая и болотная называется властью, а умение видеть сны наяву - кинематографом.
Он начал снимать фильмы. И, будучи, повторим, честным и способным, пока¬
зывал только то, что знал и видел сам. Космос, втекающий в печную трубу, и край
земли, обрывающийся прямо за околицей. Подлунное село, где все люди и наро¬
ды живут сообща, и чердачное окошко, сквозь которое видать иные миры и плане¬
ты... Мальчик, правда, не знал, что вырос в «застой», который побаивался взрослых
и поэтому очень любил детей. Настолько, что запирал все окна и двери наружу,
оставляя одаренных мальчиков один на один с их ребячьим мирозданием. Те же,
кто по каким-то причинам забывал, что жизнь полна тайны и все на свете связа¬
но со всем, всегда мог найти необходимые сведения в книгах Булгакова и братьев
Стругацких, в плохо переведенных и еще хуже отксеренных инструкциях по йоге,
репродукциях Брейгеля и органных пластинках Баха.
Впоследствии собирательный образ «инфантильного гения» и его аудиторию,
подменившую детское волшебство обыденной мистикой, будут ругать за совковый
глобализм и перегретую «духовку». Наш мальчик здесь ни при чем. Он и слов-то
таких не знал. Герой Дня ангела вообще предпочитал молчать - он жил в стихии
до имен, до названий, был счастливым безъязыким чародеем и творил чудеса из
всего, к чему прикасался. В том числе и из фильма о самом себе - зрительная аз¬
бука складывалась вместе с образным открытием. При этом, как всякий ребенок,
369
Кино на ощупь
автор-герой верил: чтобы не потеряться, надо твердо запомнить, как тебя зовут.
И не в обиходном светском варианте «имя-фамилия», а в родовой последователь¬
ности — сначала фамилия, потом имя. Позднее, дописывая для Алексея Балабано¬
ва финал Замка, Сельянов не случайно покажет капитуляцию через потерю имен.
У Кафки землемер звался просто «К.» — в сценарии Замка лишение даже этой ли¬
теры означает гибельный компромисс, растворение в толпе недочеловеков, в хао¬
се и неправде.
За время, отделяющее День ангела от Духова дня, кумир подростков Констан¬
тин Кинчев успел выкрикнуть со сцены: «Время менять имена!». В Духовом дне
Сельянов, однако, снял другого рокера, Юрия Шевчука, певшего «Родина, еду я на
родину...». Столкнувшись с необходимостью именовать действительность, автор
выбрал те ее черты, в которых полнее всего сквозили черты коллективного про¬
шлого — почвенный миф, поиски общего родства или смачный шовинизм муж¬
ской компании. Грибочки, яйцо вкрутую, картошечка... И она, птица-мама, в гра¬
неных манерках. Да, небось, не казенка опилочная, а самодел тройной очистки на
заветных травках... А то и жидкость против потения из майонезной банки - с хо¬
рошим человеком все Божий подарок (я всерьез считаю, что одна только панора¬
ма по накрытому столу в последней части Духова дня представляет клиническую
опасность для завязанных и подшитых - с такой силой воспроизведена там красо¬
та алкогольного патриархата). Схоронив общего деда и помывшись в баньке, муж¬
ской клан Христофоровых - Христово воинство и родня — строился рядами и шел
воевать. Скажи с кем - и фильма нет. Но прелесть финала как раз в том и заклю¬
чалась, что мужики двинули на все чохом. На левых и правых, либералов и бюро¬
кратов, на тех, кто спаивает страну, и тех, кто отобрал у народа по три шестьде¬
сят две... Ты с какого года? А когда призывался? Ну, ничего, пошли... Тем, кто хоть
раз сидел в общественной парилке или поутру пил пиво у ларька, знакомо это чув¬
ство мужского локтя — грозная сила, замешенная на общих паролях и неистреби¬
мом пацанстве.
Время печали еще не пришло так и подмывает перекрестить во «Время взрос¬
ления уже миновало». Космос потерял глубину, очаровательное косноязычие кон¬
чилось, ему на смену пришли байка, анекдот, мужская травля. Собрались как-то
русский, немец, цыган, татарин и еврей свинью резать. А тут навстречу некто - не
то заплутавший Индиана Джонс, не то лукавый при исполнении. Одним словом,
землемер. Прямо как у Кафки. И искусил он мужиков люто, по-страшному. Так,
что татарин сделал еврею обрезание топором и свалил вместе с ним в Израиль. Не¬
мец подался к себе в немчуру, цыган - в Индию, русский певун — в Москву, в Боль¬
шой театр. А самому малому из всех бес выдал кусок глины и сделал художником.
Как всегда у Сельянова и его постоянного сценариста Михаила Коновальчу-
ка знание влечет потерю невинности. Пережив грехопадение, мальчик становится
370
1995
Сергей Сельянов. Фот. Павел Васильев. 1991
мужчиной, а мужчина — Автором. Первозданный рай, где все живут на одной ули¬
це и под одной фамилией, невозвратим. Автор помнит о нем, а герой ищет, попутно
обретая тайные знаки общинной колыбели. В объявленный бесом день солнечно¬
го затмения, когда все живое вступит в эру Водолея, разбросанный по миру ин¬
тернационал Ивановых собирается вновь. Вавилонская башня не задалась, каждый
заговорил на своем языке и каждый пережил персональную неудачу. Татарин от¬
воевал за еврея против арабов, еврей надел галстук и прибарахлился «грюндигом-
панасоником», цыган показывает на базарах йоговские штучки, а русский вместо
оперных арий распевает какие-то сексуально-разгильдяйские куплеты. Про немца
и говорить нечего. И подросшему художнику Иванову талант дался не впрок. Из
волшебной глины он вылепил Дон Кихота, а сам рисует деньги, наглядно вопло¬
щая тем самым метафору корыстного творчества. В урочный час нового творения
Иванов-художник пробуждается, дабы вернуть красоту, низведенную лукавым до
публичной наложницы-стюардессы. Под прицелом глиняного пистолета самолет
371
Кино на ощупь
приземляется в Париже, но и тут торжествует планетарный обман, неуловимо за¬
рифмованный с женским коварством. Париж расползается, как аляповатая танта-
мореска, и прицельный залп отбрасывает Иванова прочь, к центру мироздания...
Хотя в топографии фильма и подразумевается пуп земли, сам он отчетли¬
во делится на две части. В первой, ретроспективной, еще живет прежний Автор -
обаятельный дикарь и метафизик. Во второй он тоже есть, но уже солидный и не
очень обаятельный. Вторая часть ощутимо хуже. Хотя бы потому, что в банно-за¬
стольно-дембельском культе, заменяющем мужчине минувшее детство, нет места
ни Художнику с большой буквы, ни, тем более, романтическому мифу Женщи¬
ны. Коснувшись его, Автор теряет интонацию — разговор художника и стюардес¬
сы звучит как прочитанный по складам Хемингуэй. И разобраться в собственных
чувствах мужчина-мальчик тоже не в силах. Мальчик, помнящий о прежних таин¬
стве и восторге, снимает Марину Левтову как натурщицу Боттичелли. А классо¬
во ориентированный мужчина уверен: баба и есть баба — дрянь, предательница...
Мальчику еще рано знать мужские секреты, мужчине уже поздно верить на слово.
В результате ни тот ни другой так и не поняли, заманила ли Иванова прекрасная
бортпроводница или сама попалась с ним в ловушку.
К сожалению, оба не поняли и того, что детская вселенная и маскулинный па¬
рафольклор вовсе не одно и то же. И того, что между фольклором и художествен¬
ным мировидением есть известная дистанция. Как, например, у Петра Мамонова,
который еще на эстраде с блеском спел, сыграл и многократно откомментировал
типаж советского человека, попившего политуры и впавшего в психоделический
полумрак. Оттого так хорошо и красиво просвечивает сквозь его топографа Ме¬
фодия настоящий русский черт, явленный на пороге белой горячки. Расшатанные
зубы, зеленая шляпа, глаз навыкате... «Шуба-дуба блюз! Все равно напьюсь!»... Или
Такси-блюз — кому что ближе. А может, и не черт он вовсе, а ангел катастрофы, кто
же поймет с похмелья! Пришлый человек, темный, соблазнительный. И наоборот,
за Приемыховым — Ивановым виден совсем другой образ: холодное лето 1953-го,
стрельба с колена, армейская разведка... Абсолютный жанровый конструкт, при¬
глашенный автором облагородить поиски мужского первородства.
На сей раз родство не состоялось. Но нельзя ругать мальчика за то, что он вы¬
рос. А взрослого за то, что он был когда-то ребенком. Это значит, что хотя время
взросления автора уже прошло, пора печали по нему еще не наступила.
«Искусство кино». 1995. № 9.
372
1995
Бэтмен улетел. И не обещал вернуться
Уже несколько месяцев в кинотеатрах мира и на наших пиратских видеоэкранах
демонстрируется Бэтмен навсегда — третий по счету кинокомикс о похождениях
«человека-летучей мыши». Опыт показывает, что потомство кассовых рекордсме¬
нов почти всегда бывает слабее родителей. Бэтмен-3 не стал исключением, однако
за явным провалом этой по-декадентски пышной картины есть и нечто большее —
попытка по-новому осмыслить сказочный поп-сюжет и оживить нарисованного
героя сверхдозой переживаний.
Первый Бэтмен, наспех снятый режиссером Лесли Мартинсоном в 1966 году
за небольшие деньги и с малоизвестными исполнителями, прошел почти незамет¬
но. Настоящий успех случился в 1989 году, когда знакомую каждому американцу
серию рисованных комиксов экранизировал бывший дизайнер и мультипликатор
Тим Бартон, построивший в павильонах Голливуда фантастический город Готхэм
и заставивший летучего воина сразиться с мерзким злодеем по кличке Джокер.
В сделанном через три года Возвращении Бэтмена герой вступил в схватку с хит¬
роумным Пингвином и Женщиной-кошкой. С тех пор он нисколько не изменил¬
ся - в Бэтмене навсегда те же литые резиновые доспехи, ушастый шлем и плащ-
парашют по первому зову преображают преуспевающего бизнесмена Брюса Вейна
в защитника слабых и поборника справедливости. Именно таким когда-то при¬
думал и нарисовал его художник Боб Кейн. В сущности, это странно, поскольку
в кунсткамере текущего столетия - от Брэма Стокера до Г. Ф. Лавкрафта и от Ган¬
са Эверса до Густава Майринка - летучая мышь олицетворяет ведовство, нечисть
и злые чары. Достаточно вспомнить, как в рукокрылую бяку то и дело превращал¬
ся титулованный упырь Дракула.
С другой стороны, экзотическая внешность вполне отвечает характеру героя,
который, в отличие, например, от своего коллеги Супермена, вел и ведет куда более
романтический образ жизни. Заброшенный из галактики Супермен в миру оставал¬
ся скромным клерком и вставал на тропу войны только с мировым злом. Бэтмен,
потерявший в детстве родителей и воспитанный старым слугой, обитает в уеди¬
ненном особняке, откуда и совершает свои карательные экспедиции по родному
Готхэму. Но, хотя Супермен действует в планетарном масштабе, а Бэтмен, по суще¬
ству, выполняет работу муниципальной полиции, их роднит одно — рыцарство без
страха и упрека, абсолютное понимание добра и зла и редкая способность оказать¬
ся в нужное время в нужном месте. И «Сверх-человек», и «Человек-мышь» каж¬
дый по-своему воплощают полное, кристальное и монолитное благо. Может быть,
373
Кино на ощупь
поэтому и похвалы первым двум Бэтменам раздались главным образом в адрес
отрицательных персонажей. Дэнни де Вито и впрямь был хорош в образе с детства
ушибленного Пингвина, а Мишель Пфайфер, годами блуждавшая между бытовы¬
ми ролями и собственными вамп-амбициями, от души перевоплотилась в роковую
Женщину-кошку. Что же касается Джека Николсона в роли смехача-Джокера, то он
одним из первых по-настоящему серьезных актеров возложил шлейф своих преж¬
них ролей на алтарь масс-культуры (жертва, впрочем, простительная — за каждую
минуту экранного времени в Бэтмене бывший всеамериканский хулиган получил
$ 1250000 и на старости лет впервые выбился в коммерческую десятку).
Третье появление героя обставлено с учетом прежнего опыта. В самом нача¬
ле, сыграв вничью очередную схватку с негодяями, увернувшись от пуль, избежав
кислотного отравления и проделав в ночном небе несколько фигур высшего пи¬
лотажа, Бэтмен спускается на землю и попадает прямо в руки сексапильной док¬
торше-психоаналитику. Вглядевшись в прорези полумаски, ученая дама заявляет:
подсознание «человека-мыши» оккупировано застарелой травмой, и все его подви¬
ги вызваны прогрессирующим раздвоением личности. Неравнодушный, как вся¬
кий американец, к своему здоровью, герой задумывается и за неимением лучше¬
го приходит к выводу, что косвенно повинен в гибели родителей. Ему невдомек,
что докторша просто по уши в него влюбилась и избрала нападение как такти¬
ку любовной игры. Бэтмен мучается, теряет форму и даже пару раз упускает воз¬
можность нанести упреждающий удар противникам. Враги, впрочем, тоже пере¬
живают кризис идентичности. Один из них, по прозвищу «Двуликий», когда-то
был прокурором и скатился в уголовщину после того, как кто-то из клиентов об¬
лил его серной кислотой. Другой, по кличке Шутник, в прошлом гениальный изо¬
бретатель, двинулся рассудком на почве зависти к Вейну-Бэтмену.
Конечно, в финале Бэтмен отбрасывает комплексы, посрамляет врагов и вновь
возвращается в эстетику комикса, где черное есть черное, а белое есть белое безо
всяких умствований. Под его прорезиненным кулаком трещат и выношенная Шут¬
ником идея компьютерной империи, и безответственный феминизм возлюблен¬
ной. Но сам фильм к этому моменту уже распадается окончательно, потому что по
законам игры Добро, Правда и Справедливость ни на секунду не могут усомнить¬
ся в собственной целостности.
Постановщик первых двух Бэтменов Тим Бартон на сей раз ограничился ро¬
лью продюсера. Фильм сделал Джоэль Шумахер, известный, с одной стороны, за¬
гробным наукообразием Коматозников, а с другой - странной и в целом небеста¬
ланной картиной Falling Down (у нас переводится как Падение и С меня хватит),
гротескным триллером о законопослушном маньяке. Клаустрофобический «сюр»
Шумахера явно чурается внешних мотивировок, которые с такой очаровательной
непосредственностью предлагал некогда сам Бартон. Построенный им город при
374
1995
Бэтмен. Реж. Тим Бартон. 1989
всей своей выдуманности напоминал Нью-Йорк, а герои, приземлившись с вер¬
хушки небоскреба, искренне изумлялись, что остались живы. У Шумахера Готхэм
похож на экспрессионистский Метрополис, и сцены сражений сделаны так, буд¬
то программу спецэффектов сообща разрабатывали доктора Мабузе и Калигари.
Третьего Бэтмена не случайно сыграл не Майкл Китон с его внешностью грустно¬
го «яппи», а Вэл Килмер, последнее время специализирующийся на образах рок-
звезд (в стоуновских The Doors он был Джимом Моррисоном, а в картине Тони
Скотта Настоящая любовь предстал как призрак Элвиса Пресли) с их легендар¬
ной взаимностью ангельского и демонического. Томми Ли Джонс в роли Двулико¬
го явно доигрывает свою оскаровскую роль из Беглеца, а Джим Керри-Шутник, не
скрываясь, цитирует самого себя в Маске. Докторша в исполнении Николь Кидман
похожа на распоясавшуюся «Барби» и очевидно уступает своим, по меньшей мере,
азартным предшественницам.
Результат, впрочем, заставляет задуматься. Пока «серьезное» американское
кино стремительно глупеет, то воспевая дебила Форреста Гампа, то хихикая над
людоедскими скетчами «клана Тарантино», кино «несерьезное» наделяет плоских,
как газетный лист, персонажей всамделишными страстями. Может быть, Тим Бар¬
тон, только что снявший биографию Эда Вуда, «самого плохого режиссера всех
времен и народов», научился у своего героя валить в кучу все, что попалось на гла¬
за и оказалось под рукой. Может быть, и нет. Во всяком случае, нервный срыв че¬
ловеку-мыши навязан насильно. Испытав такое, старый добрый Бэтмен, в финале
улетающий к новым подвигам, едва ли захочет вернуться обратно.
«Ъ». 1995. 8 сентября.
375
Кино на ощупь
Двуликая женщина — нетленное воплощение Смерти
Гарбо являла нам некий платоновский эйдос человека вообще, именно поэтому
ее лицо почти десексуализовано и однако же лишено всякой сомнительной
двусмысленности... Ее прозвище Божественная должно было, конечно, выразить
не столько высшую степень красоты, сколько сущность ее телесной персоны,
ниспосланной из того надзвездного мира, где вещи пребывают в своем истинном,
окончательном облике, не подверженном изменению и уничтожению. Она и сама
знала это. Сколько актрис позволило толпе наблюдать томительный процесс
созревания и увядания женской красоты — Гарбо этого не допустила. Сущность
не могла подвергнуться деградации; лицо Гарбо могло иметь лишь одну реальность:
реальность совершенства, совершенства пластического и, в еще большей мере,
интеллектуального. С годами Сущность затемнилась: ее скрыли от нас темные
очки, глухие шлемы, затворничество. Затемнилась — но не изменилась.
Ролан Барт. «Мифологии»
Грете Гарбо исполнилось бы девяносто. Покинув кинематограф в 1941 году, Гар¬
бо прожила ровно полвека, постепенно приучив всех к мысли, что она бессмерт¬
на. Прозвище «Божественная» было не просто данью голливудскому культу звезд.
Оно как будто подразумевало неподвластность актрисы смерти. Рудольфа Вален¬
тино тоже называли Богом, но уточняли — Бог любви. Прозвище Гарбо было лише¬
но всякой конкретности. Ее непроницаемое лицо называли «маской», и единствен¬
ное, что могло воплощать лицо Гарбо, изваянное, по словам Ролана Барта, «из снега
одиночества», это именно Смерть.
Задумывая Орфея, Жан Кокто мечтал, чтобы Гарбо, тогда уже затворница,
сыграла роль Смерти. Потом, по странному капризу, он увидел в этом образе ее
главную соперницу — Марлен Дитрих. Оба замысла не осуществились — пресле¬
дующей Поэта Смертью стала испанка Мария Казарес. В кульминационной сцене
Кокто заставил ее опустить веки и нарисовал на них глаза. Если бы Смерть играла
Гарбо, Кокто-художнику оставалось бы только с благоговением отступить, да ему
бы и не пришло в голову как древнему греку окрашивать мрамор.
Шведский оператор, снимавший первую кинопробу никому не известной вы¬
пускницы Стокгольмской театральной школы феты-Луизы Густафсон, посоветовал
ей подстричь чрезмерно длинные ресницы, из-за которых ее глаза на экране превра¬
щались в какие-то черные ямы. Он не догадывался, что этим «ямам» под тяжелыми
376
1995
Грета Гарбо. Фот. Кларенс Синклер Булл. 1929
веками суждено пятнать снежную белизну самой знаменитой маски в истории кино.
Ранние фотографии Греты-Луизы Густафсон намекают, что эта маска не была тво¬
рением природы. Были лишь миловидный мягкий овал в облачке завитых волос
и приоткрытые улыбающиеся губки. И только раздражившие оператора черные
провалы глаз позволяют угадать в Грете Густафсон Божественную — Грету Гарбо.
Даже сухие академические исследователи, говоря о Гарбо, превращались в пыл¬
ких трубадуров — не случайно статьи о ней так часто напоминают поэмы в прозе.
Кинематограф как будто нашел не просто музу или богиню, но и абсолютную кино¬
гению, кино-гения... О загадку Гарбо сломаны миллионы критических перьев. За¬
гадка коварна и двояка. Не стоило большого труда угадать, что маска Гарбо и есть
кинематограф, что плотная белизна лица равна белизне экрана, а трагическая от¬
чужденность рождена невозможностью преодолеть одномерность кинополотна. Но
за этим неизменно следовал новый вопрос: а что, собственно, есть кино? И в скорб¬
ных чертах каменного Сфинкса виделась едва уловимая усмешка Моны Лизы.
377
Кино на ощупь
Вспоминая начало карьеры, Гарбо любила называть себя «юношей». Не толь¬
ко потому, что «девушка» звучало глупо и могло иметь отношение к Густафсон, но
не к Гарбо. У нее были широкие плечи, узкие бедра, размашистая походка и круп¬
ные руки. Быть может, она нигде не была так прекрасна, как в Королеве Кристи¬
не — в строгом мужском одеянии, сшитом ее любимым художником по костюмам
Адрианом. Исследователи, конечно же, разглядели в Гарбо черты андрогина, в оче¬
редной раз подтвердившие ее потустороннее происхождение.
Жорж Садуль написал, что названия ее фильмов звучали торжественно, как
молитва: Искусительница, Плоть и дьявол, Божественная женщина, Таинствен¬
ная женщина, Дикая орхидея, Лобзание... Каждый нюанс мимики Гарбо - будь то
поцелуй или манера опускать глаза при высоко вскинутой голове - был напол¬
нен тайным теургическим смыслом, поднимавшим ее над банальными сюжетами
и заурядными партнерами. В рецензии на Анну Каренину Грэм Грин утверждал,
что «нет в мире другой киноактрисы, которая сумела бы столь убедительно, силь¬
но, без всякой фальши выразить идею рока». Именно поэтому в голливудских ме¬
лодрамах Гарбо оставалась трагической актрисой. Сознание скорбной миссии как
будто стирало с ее лица улыбку, возвращая ему покой и обреченность.
Название последнего фильма Гарбо - Двуликая женщина — кажется симво¬
лическим. Она часто говорила о своем экранном облике в третьем лице, как буд¬
то ее человеческая сущность не имела к нему никакого отношения. Именно кине¬
матограф возвел Гарбо в сонм божественных, и она отплатила сполна, покинув его
ради чистоты легенды. Легенда была столь властной, что даже те немногие, кого
она допустила в свое одиночество после 1941 года, были поражены нетленностью
ее лица. Ингмар Бергман вспоминал, как шестидесятипятилетняя Гарбо, приехав
в Стокгольм, чтобы проконсультироваться с каким-то шведским врачом, попро¬
сила его показать павильоны киногородка, в которых когда-то снималась. Гарбо
сняла огромные солнечные очки, заменявшие непроницаемую вуаль - и Бергман
остолбенел: «В полумраке тесной комнатки ее красота была вечной. Как если бы
передо мной сидел ангел из какого-нибудь Евангелия. Я бы сказал, что красота ви¬
тала вокруг нее». Потом Гарбо перегнулась через стол, нижняя половина лица по¬
пала в круг света - и Бергман увидел бледный рот в окружении поперечных мор¬
щин, нарушивший гармонию. Богиня была сделана из материала, подвластного
времени. Она умерла 15 апреля 1990 года в возрасте восьмидесяти пяти лет.
«Ъ». 1995. 23 сентября. Статья написана в соавторстве с Кариной Добротворской
к девяностолетию со дня рождения Греты Гарбо.
378
1995
Черная неделя жанрового кино
Тем, кто на этой неделе не поленится регулярно включать телевизор, выпадет ред¬
кое удовольствие. Во всем мире ретроспективы «черного фильма» являются дели¬
катесом для киногурманов. К нам это дорогое блюдо попадет с доставкой на дом.
Рождение «черного жанра» на экране датируется началом 40-х годов, припи¬
сывается Америке и считается логическим продолжением «крутого» детектива
в литературе. Прежде все было просто и понятно. Преступник нарушал закон. По¬
лицейский его ловил. Закон торжествовал, и все получали по заслугам. Провинив¬
шийся — наказание, жертва — отмщение, а поймавший — чувство собственной и со¬
циальной полноценности.
После того, как в конце 20-х годов сочинительством такого рода занялись Рай¬
монд Чендлер и Дэшилл Хэммет, все пошло наперекосяк. На смену слуге закона
пришел частный сыщик - волк-одиночка, циник на людях и горький романтик
в душе. Преступник из индивидуалиста превратился в гангстера, за спиной кото¬
рого замаячили бастионы коррумпированной власти, а беззащитная жертва прино¬
ровилась то и дело оборачиваться опасным врагом - хитрым, алчным и двуликим.
И Чендлер, и Хэммет ничего не выдумали. Их сюжеты выросли из американ¬
ской действительности времен «великой депрессии» (исследователи до сих пор
считают, что вклад обоих в социальный реализм больше и значительнее реформы
жанра). Экран, однако, по обыкновению возвел реальность в ранг мифа.
В этом смысле больше других повезло москвичам. В среду ТВ-Центр покажет
им Мальтийского сокола (1941) Джона Хьюстона - экранизацию одноименного ро¬
мана Хэммета, открывшую новую эру черного романтизма на экране. В роли сы¬
щика Сэма Спейда снялся Хэмфри Богарт - актер с плохой дикцией и не слишком
геройской внешностью. Однако после Мальтийского сокола, в котором Богарт про¬
демонстрировал всю меру отчаяния и всю силу иронии нового персонажа, миф на¬
всегда обрел его лицо, жесты, походку и манеру курить, смахивая большим паль¬
цем табачные крошки с губ.
Еще раз Богарта мы увидим в понедельник на ОРТ. В Долгом сне (1946) Го¬
варда Хоукса он играет частного детектива Филипа Марлоу — постоянного героя
Чендлера. С коллегой Спейдом его роднит не только внешность. Расследуя оче¬
редное дело, оба влюбляются в своих клиенток, и обоих лживые леди откровенно
подставляют (попутно нелишне вспомнить, что этот типичный признак «черного»
жанра был и остается предметом ненависти и насмешек феминисток всего мира).
Но если в финале Мальтийского сокола Спейд, скрепя сердце, отдал обаятельную
379
Кино на ощупь
дрянь в руки полиции, Марлоу все-таки пробудил заказчицу от «долгого сна». Мо¬
жет быть, потому что ее сыграла собственная жена Богарта Лорен Бэколл.
Дальнейшее тоже напоминает сон. Долгий сон на ОРТ начнется сразу же после
того, как на НТВ закончится Вечный сон. Разночтение названий (в оригинале и там
и здесь «Big Sleep») свидетельствует о том, что оба телеканала действовали не сго¬
вариваясь. И римейк картины Хоукса, сделанный в 1978 году Майклом Уиннером
с Робертом Митчумом в роли Марлоу, попал в эфир НТВ непроизвольно. Равно как
и Прощай, моя любимая (1975, реж. Дик Ричардс, НТВ, вторник) с тем же Митчу¬
мом в той же роли. Остается добавить, что небольшой эпизод в Прощай, моя люби¬
мая сыграл мало кому известный тогда Сильвестр Сталлоне, а Митчума, который
всего на 18 лет младше Богарта, критики окрестили «усталым Марлоу». Возмож¬
но, Богарт (он умер в 1957 году) тридцать лет спустя стал бы таким же. Что, впро¬
чем, маловероятно, поскольку настоящие романтические герои умирают раньше,
чем успевают состариться.
«Ъ». 1995. 30 сентября. Статья опубликована под названием «Неделя культового кино».
380
1995
Хамфри Богарт
381
Кино на ощупь
Человек, который никогда не смеялся
О китоновской философии можно было бы написать трактат в тысячу
и более страниц, ибо Китон - такой же великий американский поэт, как
и Эдгар По, и столь же странный. В этом трактате можно было бы показать,
что Китон далек от мании разрушения Мака Сеннетта, упрямства Гарольда
Ллойда, снисходительной хвастливости Фатти, бредового нонсенса братьев
Маркс, лунатичной неловкости Гарри Лэнгдона... Китон — сама человечность,
но человечность недавняя и еще не сформировавшаяся окончательно, если
хотите, вошедшая в моду человечность.
Жорж Садуль. «Всеобщая история кино»
Я всегда старался не слишком репетировать, чтобы не было ощущения
механистичности, особенно в сценах движения. Замедленную съемку
использовал только для автомобилей, паровозов, но никогда при съемке
людей, чтобы не утерять атмосферу реальности происходящего. Я всегда
стремился быть максимальным реалистом, мне не удавалось снять комедию,
если ее интрига была связана с невероятным.
Бастер Китон. Из интервью журналу «Cahiers du cinema». 1962
4 октября Бастеру Китону исполнилось сто лет. Рождение великого кинокомика
почти совпадает с рождением кино, поэтому обе круглые даты расположены сим¬
волически близко. В этом году Китону была посвящена специальная секция на
юбилейной конференции Американского Общества Киноисследований. К двойно¬
му празднику приурочена и его двухмесячная ретроспектива, только что открыв¬
шаяся в лондонском National Film Theatre.
Настоящее имя Китона — Джозеф Фрэнсис. По одной из версий, кличку «Ба¬
стер», что означает «сногсшибательный», он получил из уст самого Гарри Гудини.
Великий маг, славившийся умением прыгать с небоскребов и без ущерба для здо¬
ровья проходить сквозь стены, увидел, как шестимесячный младенец Китон грох¬
нулся с верхушки бутафорской лестницы, остался жив и даже не заплакал. Трех
лет от роду Китон впервые вышел на сцену вместе с родителями - силовыми ак¬
робатами. В этой связи биографы исправно пересказывают еще одну легенду. Од¬
нажды отец, не рассчитав траекторию кульбита, подбросил сына слишком высоко.
382
1995
Китон сильно ушибся, но его сведенное болью лицо показалось публике бесстраст¬
ным и вызвало шквал аплодисментов. «Одни играют на том, что доверительно об¬
ращаются со зрителями, — заключил впоследствии Китон. - Публика смеется вме¬
сте с ними, а в моем случае зрители смеялись надо мной».
В историю кино Бастер Китон вошел как неулыбчивый клоун. Во Франции его
называли «Малек», анаграммой от слова calme - «спокойный». Впервые появив¬
шись на экране в 1917 году, три года спустя он уже подписал контракт, в котором
обязался никогда не улыбаться публично. Поводов для смеха у него, правда, было
немного - Китон прожил трудную и невеселую жизнь. С самого детства он скитал¬
ся с родителями по бродячим циркам, потом работал на подхвате в фильмах сво¬
его дядюшки Роско «Фэтти» Арбакля. В 1921 году, едва добившись известности,
неудачно женился на свояченице собственного продюсера. Жена оказалась стер¬
вой, упрятала его в сумасшедший дом и отсудила почти все деньги. Его обманы¬
вали компаньоны и терзали кредиторы, его ранние фильмы бесследно пропали,
распроданные за бесценок тупоумными продюсерами. С приходом звукового кино
Китона забыли. Целых двадцать лет он вяло боролся с алкоголизмом, подрабаты¬
вал в киноэпизодах и из декорации своего самого знаменитого фильма Генерал со¬
орудил у себя в комнате гигантскую машину для колки орехов... Остаток жизни он
прожил на доходы от Истории Бастера Китона — пустенькой киноинсцениров¬
ки собственной биографии. Он умер на пороге возвращения - через полгода после
того, как публика Венецианского фестиваля устроила ему самую долгую овацию
в истории кино, а Самюэль Беккет специально для него сочинил сценарий с лако¬
ничным названием Фильм.
В учебниках кино Китона принято сравнивать с его знаменитыми современ¬
никами и конкурентами - Чаплином и Ллойдом. На магическом Олимпе седьмого
искусства он стоит рука об руку с Гретой Гарбо, так же, как и он, редко улыбавшей¬
ся с экрана и так же осенявшей жанровые сюжеты маской нездешнего присутствия.
Лица богов невосстановимы по памяти. В обыденном понимании черты Китона
и Гарбо словно бы стерты, невыразительны и оживают только в мерцании волшеб¬
ного фонаря. В отличие от Ллойда и Чаплина, оставшихся в иконографии XX века
в том числе благодаря точно найденным аксессуарам грима и костюма, Китон так
и не остановился на каком-то одном облике. Он появлялся то с усами, то с локона¬
ми до плеч, то в экзотических одеяниях, то в цивильной тройке. Ллойд ни при ка¬
ких обстоятельствах не расставался с очками, Чаплин — с потешной тросточкой.
В Трех эпохах Китон менял гардероб каменного века на римскую тогу и на совре¬
менный пиджачок, в Генерале щеголял пышным галстуком-бантом времен Конфе¬
дерации, а в Навигаторе играл свою лучшую сцену и вовсе запаковавшись в водо¬
лазный скафандр. Неизменным оставалось только лицо - чуть приподнятые брови
и внимательные глаза сомнамбулы.
383
Кино на ощупь
Бастер Кинтон. 1928
384
1995
Бастер Кинтон. 1956
385
Кино на ощупь
Гарольд Ллойд прославился в образе растяпистого и наглого янки, весело пре¬
одолевающего ложные обстоятельства и предрассудки. Чаплин был печальным
бродяжкой, равно страдающим от людской глупости и собственных иллюзий. Ки¬
тон жил в мире вещей и стихий. Вернее - не жил вне стихий и вещей. Неотме¬
нимой составляющей характеров Ллойда и Чаплина была и остается та легкость,
с которой мы можем представить их судьбы до и после разыгранной в фильме ис¬
тории. Персонаж Китона не имел прошлого и будущего, он существовал только
в настоящем и только в кино - искусстве настоящего. Столь необходимые Ллой¬
ду и Чаплину любовные истории у него отходили на второй план. В его фильмах
было мало женщин, а дежурные сюжеты ранней комической - женитьба, погоня,
находка или спасение - не имели ни начала, ни выраженной цели, но целиком рас¬
творялись в рафинированной пантомиме человека и окружающих его предметов.
Ллойд часто использовал стулья и автомобили не по назначению, Чаплин не раз
заставлял публику грустить или смеяться, показывая бунт вещного мира, но толь¬
ко Китон до конца воплотил главное свойство кино оживлять неодушевленную ре¬
альность, отыскивая в ней то, что Антонен Арто назвал «отношениями материи
с породившим ее духом».
Один из лучших фильмов Китона Генерал не случайно называют первой и по¬
следней эпической кинокомедией. Эпос был не по силам ни социальному юмору
Ллойда, ни гениальной сентиментальности Чаплина. Только Китон мог придумать
и сыграть историю о машинисте, одинаково влюбленном в юную красавицу и соб¬
ственный паровоз и совершающем каскад головокружительных подвигов после
того, как враги угнали его паровоз вместе с невестой. Похожий треугольник чувств
есть и в Навигаторе, только вместо паровоза там фигурировал корабль, а вместо
гражданской войны — бушующее море. В Шерлоке-младшем Китон играл киноме¬
ханика, отчаявшегося найти ответное чувство в реальности, а потому запросто пу¬
тешествующего внутри киноленты. В короткометражке Полиция, стремясь завое¬
вать сердце неуступчивой леди, он обзаводился неуклюжим мебельным фургоном
и в конце концов попадал от него в полную зависимость.
Хотя маска Китона восходит к великому Лунному Пьеро XIX века Гаспару Ба¬
тисту Дебюро, его дар мог ожить только в кинематографе. Избирая в Генерале объ¬
ектом поклонения паровоз, Китон едва ли задумывался, что повторяет любовное
послание, уже написанное братьями Люмьер. Бастер Китон родился сто лет назад.
Всего за два месяца до Прибытия поезда.
«Ъ». 1995. 7 октября. Статья написана к столетию со дня рождения Бастера Китона
и опубликована под названием «Лунный Пьеро великого немого».
386
1995
Поезд «Желание»
В самой идее кино всегда было нечто религиозное. Истории «Десятой музы» по¬
хожи на Ветхий Завет - они неизменно описывают период «от творения». Рабо¬
ты кинотеоретиков напоминают труды отцов церкви, биографии «звезд» — жития
святых. Простодушные американцы наладили даже выпуск крохотных псалтырей-
киноцитатников. Откроешь такой — и вспоминай на здоровье, что сказал Хэмфри
Богарт в финале Касабланки. И какими словами Ретт Батлер объяснялся в люб¬
ви Скарлетт О’Хара (при этом интересно, что «Унесенные ветром» в литературном
оригинале Маргарет Митчелл в счет как бы не идут, поскольку принадлежат дру¬
гой конфессии).
Едва ли несолидные братья Люмьер, расценившие свое техническое изобрете¬
ние в русле позитивно-реалистических стремлений гуманного XIX столетия, дога¬
дывались, какого всесильного обманщика они подарили человечеству. Век машин,
открытий и наивной веры в прогресс не нуждался в мистике. В XIX веке Шлиман
раскопал мифическую Трою, Ренан объяснил историческое происхождение Иису¬
са, а Дарвин доказал родство человека и обезьяны. Кино - «движущаяся фотогра¬
фия» - призвано было запечатлеть мир без тайны, объективную реальность, исчер¬
панную собственной внешностью. Оно и не претендовало стать искусством — оно
всего лишь объявляло истинным то, что и без того видно.
По слухам, в XIX веке в Англии работала особая лаборатория, в строжайших
условиях повторявшая опыты средневековых алхимиков по добыче «философско¬
го камня» и превращению железа в золото. Эксперименты велись тщательно, но ни
к чему не привели, потому что экспериментаторы сознательно отказывались от за¬
клинаний и каббалистических отсылок. С кино произошло нечто похожее («Оно
возвышает материю и показывает нам ее в глубокой духовности, в ее отношени¬
ях с духом, который ее породил», - напишет впоследствии Антонен Арто); будучи
абсолютно нейтральным медиумом, оно особенно изощренно обнаружило невоз¬
можность жизни без коллективной каббалы, загадки и мистики.
С этой точки зрения, кино изобрели, конечно, не Люмьеры, его изобрел Жорж
Мельес. Он показывал путешествие на Луну, завоевание Северного полюса, вра¬
щение Земли и чихающее Солнце. После того, как на гаванском рейде взорвался
американский крейсер «Мэн», он пригласил почтенную публику на морское дно —
своими глазами полюбоваться на останки погибшего корабля, тщательно сымити¬
рованные в киноателье и снятые через стекло громадного аквариума. В этой не¬
винной на первый взгляд подстановке сосредоточена сама сущность «седьмого
387
Кино на ощупь
искусства», медленно, но верно стирающего грани между реальностью и выдум¬
кой. Злополучный «Мэн» погиб на самом деле, но его кинокопия была рукотвор¬
ной - обман, повторим, невелик, от перестановки слагаемых сумма и впрямь не
меняется. Стоит, однако, помнить, что слагаемые здесь - вымысел и жизнь.
После того, как Мельес, приглашенный английским королевским двором за¬
печатлеть на пленку коронацию Эдуарда VII, предпочел имитировать ее в соб¬
ственной студии и показал зрителям за неделю до коронации настоящей, все окон¬
чательно стало на свои места. Это, в свою очередь, может быть легендой, одним из
анекдотов, которыми так изобилует ранняя киноистория, но и легенды, и анекдо¬
ты слишком похожи на правду. Хотя бы потому, что кино, нашедшее благодарно¬
го зрителя в жителях стремительно расширяющейся городской слободы, впервые
поставило вопрос о неопосредованном подражании жизни экрану. По театраль¬
ному преданию, некий зритель однажды во время спектакля убил сценического
злодея и был похоронен с ним под камнем с надписью «Лучший зритель и луч¬
ший артист». Случай и впрямь заслуживает увековечивания - в театре такое слу¬
чалось нечасто. Прочтя «Преступление и наказание», вряд ли кто-нибудь соберет¬
ся пойти и убить богатую старушку — традиционные искусства с их апелляцией
к абстрактному суждению не предусматривают моментальной реакции и немед¬
ленного жизнетворчества. Социология начала века зафиксировала массовый рост
преступлений, совершенных по образу и подобию экранных. Поглядев Зигомара
или Жюдекса, криминалы шли «на дело» во всеоружии только что увиденного.
Оставим в стороне вопрос о том, почему экранное зло всегда привлекатель¬
нее добродетели. Родившись как «копия реальности», кино моментально преврати¬
лось в самостоятельную реальность, а потом и превзошло оригинал. Известно, что
еще Люмьеры часто предпринимали рекламный трюк: посылали оператора с пу¬
стой камерой на парижские бульвары. Увидев направленный в свою сторону ки¬
нообъектив, гуляющая публика спешила в кинотеатры в надежде увидеть себя на
экране. Этого не случалось, однако трюк срабатывал и в дальнейшем. Летописцы
вестернов донесли до нас историю бандита Генри Старра, по выходе из тюрьмы
узнавшего, что многие его бывшие подельники промышляют участием в киномас¬
совках. Ревнивый налетчик основал собственную фирму, принялся снимать филь¬
мы о своей жизни, но вскоре расплевался с партнерами, вернулся к старому ремес¬
лу и был убит во время банковского налета. Годы спустя Серджо Леоне встретился
с автором документальной повести, по мотивам которой собирался ставить Одна¬
жды в Америке. Во время встречи режиссер спросил: «Что побудило вас написать
эту автобиографическую книгу?». «Только одно, — ответил бывший гангстер. - Же¬
лание стереть сусальную позолоту, которой Голливуд замарал нашу суровую про¬
фессию». «После этого, — подытожил Леоне, — мне стало наконец-то ясно, почему
вся книга буквально соткана из штампов американского гангстерского кино».
388
1995
В промежутке между этими событиями лежит целая история. Самоубийства
поклонниц на могиле Рудольфа Валентино, фан-клубы Джеймса Дина и спичка
в зубах, которую до сих пор грызут постаревшие советские шестидесятники, по¬
смотревшие Пепел и алмаз. Трагедия американских текстильщиков, потерявших
сбыт мужского нательного белья после того, как Кларк Гейбл продемонстрировал
отсутствие майки под рубашкой, и их триумф после того, как Марлон Брандо по¬
явился в Трамвае «Желание» в разодранной майке. Удар по квалификации амери¬
канских парикмахеров, в течение пятнадцати лет звездной карьеры Дины Дурбин
причесывавших женщин от шестнадцати до шестидесяти в стиле «а ля Дурбин»,
и восстание неосторожно посмотревших Броненосец «Потемкин» матросов гол¬
ландского крейсера «Семь провинций». Ночные беседы «вождя народов» со своим
экранным двойником Геловани; беседы, в ходе которых «лучший друг советских
кинематографистов» поучал своего альтер эго, как должен вести себя на экране
товарищ Сталин, и авторитетное заключение американских социопсихологов, со¬
гласно которому во времена своего президентства Рональд Рейган доигрывал неко¬
гда не доставшиеся ему роли. Настырный маньяк, преследовавший Джоди Фостер
по следам Роберта Де Ниро в Таксисте, и безымянный французский инженер, сем¬
надцать раз посмотревший Рэмбо-2 и сгинувший в джунглях Индокитая по следам
полюбившегося героя. Красноармейский взвод, залегший под огнем врага в ожида¬
нии, когда наши танки перепрыгнут овраг или мост, как в Парне из нашего города,
и гонконгские тинэйджеры, несмотря на жару поголовно переодевшиеся в длин¬
ные черные плащи после того, как в таком плаще появился на экране их кумир
Чоу Юнг Фат...
На этом фоне категория культового фильма, которому, собственно говоря, по¬
священа эта статья, выглядит известного рода сектантством. Хотя бы потому, что
если попытаться вывести общее определение «культа», в него попадут фильмы,
так или иначе предлагающие «отдельно» стиль жизни, модель поведения и набор
установок.
Почти в каждой западной видеотеке есть специальная полка «cult movies» —
культового кино. На наш слух это ассоциируется с известным периодом советской
истории и взывает главным образом к негативному опыту поколений. А на За¬
паде - вводит завершающую координату в бытование фильма, перепрыгнувшего
с целлулоидного оригинала в пластмассовый гробик видеокассеты и доступного
таким образом индивидуальному потреблению.
Культ, впрочем, редко бывает достоянием одиночек. Он требует демиур¬
га, жречества и паствы. Прежде чем успокоиться в тесноте кассеты и компакта,
фильм жил в просторах коллективной зрительской души, в почти храмовой тем¬
ноте кинозала. Фильм учил жизни и в конце концов был более реален, чем сама
реальность. Культовый фильм предусматривает, выражаясь раннеперестроечным
389
Кино на ощупь
новоязом, «неформальное объединение по интересам», коллективное поклонение
и, как это почти всегда происходит в субкультурной среде, - альтернативу приня¬
тому стилю, поведению и установкам.
Именно поэтому понятие «кинокульт» растяжимо во времени. К нему
вполне можно отнести фильмы того же Мельеса, боготворимого французски¬
ми сюрреалистами, или комедии братьев Маркс, возведенных в культ европей¬
скими интеллектуалами 30-х. По-настоящему культовое кино сложилось все-
таки в 50-е годы, в смутные времена новейшей истории, когда субкультурная
групповщина обрела характер общественной фронды и выраженного противо¬
стояния истеблишменту. Культовый фильм как бы прорывается сквозь экран¬
ное полотно - не случайно эталонным «калт муви» до сих пор считается «Rocky
Horror Picture Show» — постхипповская фантазия англичанина Джима Шарме-
на, сделанная в 1975 году с явным учетом находок «открытого» театра и хэппе¬
нинга. Парочка стандартных обывателей попадает в таинственный дом, пол¬
ный обитателей трансильванских легенд, макабрических шоуменов и роковых
транссексуалов. Полуторачасовой опыт музыкально-абсурдистского общения
навязывается и зрителям. И по сей день Рокки Хоррор... остается главным со¬
бытием любого студенческого Хэллоуина - веселого карнавала нечисти. Зрите¬
ли хором скандируют реплики из фильма, раскрашенные черти отплясывают
с публикой, попутно обливая ее водой и обсыпая пудрой. Парики и аксессуары
к просмотру, а также видеокассеты с записью шоу можно купить в любой ма¬
скарадной лавке.
Эволюция Рокки Хоррор... от содержательного беспредела времен «цветочной
революции» к атрибуту массового гуляния объясняет многое. Культовый фильм
не останавливается во времени. Он живет в меняющемся культурном контексте
и, в свою очередь, меняется вместе с культурой, ее приоритетами и ценностя¬
ми. И наоборот - каждая культурная среда реанимирует прошлое, классическое
или маргинальное кино, отыскивая в нем руководство к сегодняшнему действию.
В первом случае на ум приходит легендарный Беспечный ездок, за копейки сня¬
тый приятелями-тусовщиками Деннисом Хоппером и Питером Фондой и в пред¬
дверии романтической утопии 1968 года «объехавший» весь мир. Психоделиче¬
ское road-movie воспитало целое поколение, однако через генерацию вернулось
уже в совершенно ином качестве. В тотально политкорректной современной си¬
туации Деннис Хоппер, навсегда обреченный галлюциногенным дионисиям сво¬
его экранного имиджа, прочно утвердился в образе всеамериканского злодея. По¬
сле того как Дэвид Линч пригласил его на роль беспросветного мерзавца в Синем
бархате, Хоппер нашел свою нишу: ублюдки, маньяки, насильники и убийцы в его
исполнении появляются чуть ли не в каждом втором американском фильме - от
Скорости до Водного мира.
390
1995
С другой стороны, прочное место в ряду «калт классики» заняли фильмы Тода
Броунинга - одного из самых странных режиссеров Голливуда 30-х годов. И непо¬
нятно, откуда что взялось. То ли броунинговский Дракула со знаменитым Белой
Лугоши предвосхитил культовую репутацию Уродов. То ли Уроды с участием це¬
лой труппы лилипутов, дебилов и человеческих обрубков осенили славу аристо¬
крата-убийцы. Зато очевидно, что немеркнущий культ Старательной головки Дэ¬
вида Линча перекликается с броунинговской апологией уродства.
Культ творится из мифа и возвращается в миф. Сейчас уже очевидно, что ни
знаменитый Дикарь с Марлоном Брандо в кожанке отвязного рокера, ни Бунтов¬
щик без причины с падшим ангелом Джеймсом Дином не были тем отчаянным
вызовом системе, который спровоцировали в реальности. Скорее наоборот - на
сегодняшний взгляд, они больше напоминают истории воспитания чувств подра¬
стающего поколения и больше зовут к социальному миру, чем к непримиримому
конфликту поколений. Сегодня едва ли удастся возвести в культ 2001: Космиче¬
скую одиссею Стэнли Кубрика лишь на том основании, что ее футурологические
интерьеры и танцевальные движения камеры ассоциировались с видениями пси¬
ходелического «прихода». И режиссер Илай Кросс из культового даже у нас Трюка¬
ча Ричарда Раша едва ли поразит кого-нибудь своим эстетизированным цинизмом.
Европа всегда творила культ из американского «экшн». И сегодня в фаворе людо¬
едский юмор Квентина Тарантино или фильмы певца ночного безумия Абеля Феррары.
Что же касается Америки - бесспорной колыбели культового кино, - ее авторитеты на
глазах глупеют. Повышается спрос на «би-традиции», из запасников извлекаются неве¬
домые шедевры анонимного кича. С легкой руки того же Тарантино в звуковой ряд все
чаще врывается дребезжащий звук второсортных поп-шлягеров, а в изображение — бру¬
тальная стилистика поточных гонконгских боевиков. Едва закончив Эда Вуда — кинобио¬
графию «самого плохого режиссера всех времен и народов», Тим Бартон тут же присту¬
пил к съемкам фильма в эстетике своего героя. Популярный телеканал Comedy Central
ежевечерне транслирует программу MST-3000, где специально подсаженные в кадр пер¬
сонажи тупо комментируют копеечные «фантазии» и псевдоисторические суперколос¬
сы 50-60-х. В моде по обе стороны океана гонконгское кино, рожденное на перекрестке
культур и обращающееся с чужими традициями так же легко, как его герои обходятся
со своим многозарядным арсеналом. И непонятно, чего здесь больше - умиления Запа¬
да перед Диким Востоком или обратной колонизации Востоком одряхлевшего Запада.
По культовым фильмам вполне можно изучать послевоенную историю.
И если так - в год своего столетия «Десятая муза» изрядно опростилась. Вместе
с тем, именно в понятии «кинокульта», а может быть, уже и только в нем, сохраня¬
ется слабеющая способность кино творить коллективную иллюзию.
«Искусство кино». 1995. № 11.
391
Кино на ощупь
Джим Джармуш
392
1995
Jim Jarmusch, cool...
Джим Джармуш родился в Экроне, штат Огайо. Тем, кто не бывал на американском
Среднем Западе, это ни о чем не скажет. Те, кто был, вспомнят эталонную глубинку,
где в иных городках церквей больше, чем телефонных будок, и где, по утвержде¬
нию столичных снобов, царит такая непроходимая скука, что слышно, как в полях
совокупляются кролики.
Джима Джармуша иногда называют «Фрэнком Капрой тусовки». В свое
время Капра прославился тем, что окутал «одноэтажную» Америку вуалью вол¬
шебной сказки. В прошлом джазмен и параллельщик, Джармуш снимает по все¬
му миру, но в Луизиане, Теннесси, Нью-Йорке, Риме, Париже и Хельсинки он
все равно снимает одно большое Огайо с его необъятной тоской и переходны¬
ми скоростями. Богема нижнего Вест-Сайда; та, что обувает грубые ботинки,
вычурно прикуривает от зажигалок Zippo, слушает Тома Вэйтса и Джона Лури,
а сами Вэйтс и Лури у Джармуша поразительно напоминают провинциалов
и их простые оттяжки: попить пивка, расписать «пульку»... Или, скажем, взять
да и махнуть на край света! К центру земли!! К тетушке в Кливленд!!! Кливленд,
конечно, расположен в Огайо. В 1984 году, когда на остатках подаренной Вимом
Вендерсом пленки Джармуш снимал там Stranger Than Paradise, в городе жили
540000 человек и работало метро. Туда и поехали два натурализованных вен¬
гра, один из которых что-то не договорил своей троюродной сестренке. Что не
договорил? Почему венгры? А почему Кливленд? Stranger Than Paradise зву¬
чит как «страннее рая», но «stranger» по-английски еще и «чужак», «иностра¬
нец». Начало отрезано. Что предпочтительней - «рай» или «чужой»? Какая раз¬
ница. Все дороги все равно ведут в Огайо. Потом у Джармуша появятся немцы,
финны, французы, итальянцы. Перемещенные лица и ночные таксисты. Бег¬
лые бомжи и убийцы, не умеющие управляться с оружием. Пара очарователь¬
ных япошек приедет в Мемфис, Теннесси, поклониться праху Элвиса, но вме¬
сто святых мощей найдет только пыльный, засиженный мухами местечковый
музейчик. Зато в ту же ночь призрак короля рок-н-ролла лично явится уко¬
рить брезгливую леди, пожалевшую сорок баксов на сувенир. Прихиппованная
водила Корки отмахнется от голливудской карьеры, твердо зная, что лучшее
в жизни - это работа автомеханика, а черный парень, поймав машину на ноч¬
ном Бродвее, будет вынужден сам сесть за руль. Потому что немецкий клоун,
не от хорошей жизни занявшийся извозом, путает стартер с тормозами, а Брук¬
лин с Бронксом.
393
Кино на ощупь
«Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел
загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян», — написал наш Ве¬
недикт Ерофеев. Для того, чтобы до конца проникнуться смыслом этой великой
фразы, надо быть либо бесстрашно пьющим русским писателем, либо «отвязан¬
ной» нью-йоркской богемой, которая не носит часов и никогда никуда не спешит.
И знать, что чудо сбывается не там и не тогда, где и когда его ждут, а настоящее
приключение это не то, что случилось, а то, что так и не произошло.
В Америке Джармуша связывают с проникновением андеграундного неореа¬
лизма в большой кинопроцесс. Подпольщики редко обременяют себя профес¬
сиональными навыками, предпочитая «прямое» кино и культ друзей-звезд. Позд¬
ний ребенок парижской Синематеки и бывший клубный саксофонист, Джармуш
так и не удосужился завершить кинообразование. По собственным словам, длин¬
нющие планы-эпизоды, в которых критики усматривали сходство с метафизи¬
кой Брессона, он снимал лишь потому, что никогда не умел толком монтировать.
И приятелей-музыкантов - от Джона Лури до Скримен Джей Хоукинса - звал по
привычке джаз-импровизатора.
И в жизни, и в кино у Джармуша действуют «крутые» мужики. «Крутизна», од¬
нако, в американском сленге имеет два взаимоисключающих эквивалента. Cool -
ледяной, хладнокровный, невозмутимый. И hard boiled - горячий, подвижный,
буквально - «сваренный вкрутую». Hard boiled, конечно, Тарантино, перенявший
ироничную агностику Джармуша и переписавший в диалогах его неповторимую
пластическую интонацию. Сам Джармуш cool. Настолько, что порой кажется, буд¬
то в жилах его героев течет не кровь, а заправка для столь любимых ими Zippo -
смесь бензина с эфиром. На ощупь это очень холодно, но достаточно искорки чуда,
и с матерыми — «все-под-контролем» - парнями затевается черт-те что и напере¬
косяк. Медленно и неправильно. И чем медленнее, тем неправильнее. Как круго¬
светное путешествие из Гринвич Вилледж в Огайо.
«Сеанс». 1995. № 11.
394
1995
Каждый охотник желает знать...
Эффект Квентина Тарантино проще всего описать лексикой его собственных пер¬
сонажей: «Ни с места! Лицом, такая мать, вниз! Это, мать-перемать, ограбление!!!...
Во Франции спросишь биг-мак, так хрен принесут. Надо, понимаешь, говорить «ле
биг-мак»... А сейчас мы послушаем хорошую музыку! Настоящую музыку веселых
70-х!»
Налет кончился. Зрители и критики по обе стороны океана лежат плашмя
и с замиранием сердца наблюдают, как одетый для убийства режиссер сгребает
кинокассу...
Тарантино словоохотлив, любит позировать фотографам и питает слабость
к трехаккордному рок-н-роллу. На оскаровском подиуме он появился в узеньком
черном галстуке — такие носят прифасонившиеся хулиганы. Его шуточки голли¬
вудская Академия встретила гробовой тишиной - каннского лауреата дома недо¬
любливают. Криминальное чтиво номинировалось по всем главным оскаровским
категориям, но в результате получило только «утешительную» сценарную статуэт¬
ку. Амбициозный Тарантино, кажется, обиделся. Его тронная речь скорее смахива¬
ла на угрозу: о’кей, парни. Ваша взяла. Но мы еще встретимся!
В полнометражном кино Тарантино сделал десять фильмов. Два как режис¬
сер. Остальные как сценарист. И один как сосценарист-продюсер. В двух из десяти
названий присутствует слово killing — убийство. Убивают у Тарантино разнообраз¬
но, изобретательно и быстро — пулей, десятком пуль, самурайским мечом, в маши¬
не, с гамбургером во рту или с книжкой на унитазе. В Европе за такое награждают
культовой репутацией, в Америке проводят по классу маргинальных субкультур,
что, в сущности, одно и то же. Но Тарантино не только культовая фигура и не толь¬
ко маргинал — самые главные кинонаграды маргиналам не достаются. Нечто похо¬
жее уже было с кутюрье «неоварварства» Дэвидом Линчем, возведшим свои полу¬
детские мании в эстетический абсолют. Впрочем, сравнительно с Тарантино Линч
выглядит как дедушка соц-арта рядом с подколотым уркой. На смену «Волшебни¬
ку Страны Оз» пришло криминальное чтиво, а обманчивая провинциальная идил¬
лия отступила под натиском городской слободы с ее фольклором, байками и раз¬
борками, где каждый может воспользоваться истинно американским правом убить
и быть убитым.
Уже названием своего кинодебюта Тарантино загадал загадку. Reservoir Dogs
можно толковать как «псы взаперти», «собаки злые» или «помоечные». А то и «со¬
баки с водокачки». Секрет оказался куда проще. В околопремьерном интервью
395
Кино на ощупь
режиссер поведал, что, перебрав множество профессий, он пристроился продав¬
цом видеомагазина в пригороде Лос-Анджелеса. И тут же принялся навязывать
клиентам свой любимый фильм До свидания, дети — Au Revoir, Les Enfants - Луи
Маля. У косноязычного Тарантино французское «о’ревуар» неизменно звучало
как «резервуар»... Правда это или нет, сказать трудно. Привлекают, как минимум,
две вещи. Во-первых, великолепное презрение Тарантино к какому-либо смыслу.
Во-вторых, то, что этот вертлявый детина с лицом олигофрена-переростка изряд¬
но поднаторел в рафинированной европейской кинотрадиции. Первое же его кино,
закрученное с такой бесноватой лихостью, будто режиссер в жизни не видал ниче¬
го, кроме бейсбола и мультиков, выдает внушительную насмотренность. Но эруди¬
ция Тарантино особого рода. По собственному признанию, он проглотил огромное
количество фильмов, однако всегда сознательно избегал читать кинопрессу. Года¬
ра, которого он считает своим главным учителем, Тарантино «открыл», ни сном, ни
духом не ведая, что Годар мэтр, классик и вообще режиссер для понимания труд¬
ный. Уж очень здорово выглядела анилиновая кровь «безумного Пьеро», и автомо¬
били Уик-энда переворачивались в кайф... (Это, впрочем, снова может быть врань¬
ем. Еще в 1987 году Тарантино снялся у Годара в Короле Лире).
Едва Reservoir Dogs вышли на экран, стало понятно, что размашистый пастиш
на пост-панк, гонконгские боевики и элитарные европейские приколы открыва¬
ет очередной тайм игры между Старым и Новым Светом. Кровь, льющаяся из ко¬
лотых и стреляных ран тарантиновских «псов», по обилию, яркости и нелепости
сравнима разве что с кровью, которую Годар любил пускать своим «маленьким сол¬
датам». Годар, однако, был синефилом, от большого ума заплутавшим между эк¬
раном и жизнью. Тарантино же «видиот», на кокаиновом приходе перепутавший
курок с кнопкой ускоренной перемотки. Каждым своим фильмом «новая волна»
писала собственную историю кино. Для Тарантино эта история уже написана в по¬
пулярных теле- и видеосправочниках, где все фильмы от Гриффита до Джона By
причесаны под четырехзвездочный рейтинг, а понятие «киноклассика» образует¬
ся от сочетания «классное кино». В той же мере равны и люди, время от времени
забывающие, кто охотник, а кто дичь... Так по зову нео-неоварвара Десятая муза
вновь явилась в мир — нюхнуть за компанию и показать охотнику, где сидит фа¬
зан. И напомнить, что фильм куда интереснее жизни. Хотя бы потому, что фильм,
в отличие от жизни, можно взять напрокат. И прокрутить с любого места в любом
направлении...
Чтобы мертвые оживали, и живые бацали твист под любимую музыку... Нон-
стоп! Быстрее! Стоять! Ходить! Лежать! Это - ограбление!!!
«Сеанс». 1995. № 11.
396
1995
Квентин Тарантино. 1992
397
Кино на ощупь
Энди Уорхол — изобретатель кинематографа
В конце прошлого года, когда нью-йоркский Музей Уитни отмечал тридцатиле¬
тие со дня выхода знаменитого уорхоловского Эмпайра..., куратор музея Кэлли Эн¬
джел произвела локальную киноведческую сенсацию. Она обнаружила, что на пя¬
том часу восьмичасового шедевра «абсолютного кино» в одном из окон мелькает
отражение самого Уорхола. К открытию Энджел отнеслась спокойно. По ее соб¬
ственным словам, никто прежде просто не досмотрел картину до этого места.
Живьем Эмпайр... вообще видели немногие. Однако знают о нем почти все.
Это не тот случай, когда кино не существует въяве, но остается в описаниях, как
было с первым вариантом Голема или навсегда затерянным короткометражным
дебютом Орсона Уэллса. Радикальное творение Уорхола можно посмотреть, хотя
делать это совсем не обязательно — содержание ленты, равной по времени про¬
должительности рабочего дня, полностью исчерпывается в названии. Статичная
камера непрерывно снимает макушку Эмпайр Стэйт Билдинг, одного из старей¬
ших нью-йоркских небоскребов, однажды уже прославленного на экране. В ста¬
ром Кинг Конге Шейсдака и Купера сюда забиралась гигантская обезьяна и, при¬
жав к груди белокурую красотку, отмахивалась от самолетов американских ВВС.
Уорхол, к тому времени уже модный поп-художник, знал, на что шел при
выборе объекта. Эмпайр известен не меньше, чем Кремль или Эйфелева башня.
Просмотр фильма о нем вполне можно заменить равным по длительности раз¬
глядыванием открытки или видовой фотографии. Уорхол не случайно попросил
ассистировавшего ему Йонаса Мекаса нацелить объектив 16-миллиметровой ка¬
меры на верхние этажи: из кадра сознательно изгонялось всякое движение и вся¬
кое действие. Предмет, тема и название сошлись в одной статичной картинке, об¬
рекающей зрителя на чистую медитацию. Впрочем, доведя концепт до логического
предела, режиссер избавил зрителя и от этого. Все, что можно было увидеть, содер¬
жалось в заголовке.
Столь стерильного эксперимента Уорхол больше не ставил. Окружающие Эм¬
пайр..., Сон, Стрижка и Еда именовали, но не исчерпывали процедуру. Спать,
стричь волосы и есть можно по-разному. Эмпайр Стэйт объективен, знаменит
и единствен. Добавить к нему нечего.
Едва кино научилось говорить, оно заговорило о времени в формах простран¬
ства. Смена изображения означает, что прошло время — после Гриффита и Эйзен¬
штейна такая фигура киноречи уже никого не смущала. У Уэллса, Феллини и Але¬
на Рене время потекло не только линейно, но вперед, назад, вкривь, вкось, внутрь
398
1995
и наружу. Уорхол сделал обратное. В его фильмах пространство сведено к фикции.
Ничего не происходит, кроме реального течения времени. Часы фильма превраща¬
ются в часы отнятой у зрителя жизни.
Уорхоловские Сон и Эмпайр... стали знаменитыми сразу после премьеры. Аме¬
риканский авангард, переживший мощный послевоенный подъем, к началу 60-х
изрядно выдохся. Потратившие массу сил на обретение независимости, режиссе¬
ры-экспериментаторы очутились в ситуации обыкновенного параллельного кино,
зубастого и щедрого на манифесты, но в целом междусобойного. Богемные кино¬
клубы либо повторяли зады европейской киномысли 20-х, либо занимались техно¬
логическим рукоделием. С появлением первых опытов Уорхола забрезжил выход
изнутри, за счет онтологических свойств киноизображения. Авангардисты при¬
шли в восторг и всерьез заговорили о рожденных в своем кругу шедеврах. Ради¬
кальный теоретик Грегори Бэтткок сравнил окутанный туманом Эмпайр с лицом
Греты Гарбо в Анне Карениной1. Уорхол, не умевший самостоятельно перезарядить
пленку, стал классиком киноавангарда.
Эстет Уорхол, конечно, не был авангардистом. То есть тем, кто атакует жизнь
искусством, а потому бесконечно изыскивает в искусстве еще не освоенные им
физиологические потенции. К началу 60-х их осталось не так уж много, поэто¬
му кино все чаще и чаще стало использовать смерть как категорию самоописания.
Одни, вслед за Базеном и французскими фильмологами, считали, что монтаж уби¬
вает живую реальность. Другие, как Пьер Паоло Пазолини, утверждали, что имен¬
но монтаж организует хаос событий и вносит в них последний смысл, подобно
тому, как смерть осмысляет жизнь. Внешне Уорхол нашел самый подходящий ключ
к воплощению киносмерти — механическое течение времени, неумолимый отсчет
реальных секунд. Впоследствии Пазолини написал, что статика Уорхола меняет су¬
щество старого постулата: «то, что бессмысленно, — существует» на «то, что суще¬
ствует, - бессмысленно»1 2. Он обронил эту фразу не без раздражения, однако сфор¬
мулировал в ней самую суть акций Уорхола, показавшего на экране физический
образ небытия и тут же подтвердившего визионерское очарование этого образа.
Величайший денди и величайший вуайер, Уорхол умудрился «подсмотреть» за
временем, подчинить смерть сладострастному капризу. Он обожал подглядывать
и подглядывал всегда: за спящими или жующими друзьями, за актером-трансве¬
ститом Марио Монтесом, за собственными «фабричными девчонками» или яко¬
бы «случайными» парочками из Челси. Когда в долю вошел оператор и монтажер
Пол Мориссей и уорхоловские творения обрели более структурированную (и бо¬
лее коммерческую!) форму, по существу, мало что изменилось.
1 Battcock G. Four Films by Andy Warhol. - The New American Cinema. A Critical Antology. N. Y., 1967, p. 236.
2 Пазолини П. П. Смерть как смысл жизни. - Искусство кино, 1991, № 9, с. 163.
399
Кино на ощупь
Эмпайр Стейт Билдинг. Реж. Энди Уорхол. 1964
400
1995
Энди Уорхол
401
Кино на ощупь
В одном из первых «настоящих» фильмов Мусор Джо Даллесандро сыграл
городского бродягу, наркота и импотента, целыми днями промышляющего оче¬
редную дозу. Какие-то буржуазки тащат его в кровать, какие-то безумцы пытают¬
ся излить ему душу, но герою требуется только одно. Уколоться и воплотить на¬
яву ленивую уорхоловскую метафору: мир делится на тех, кто подглядывает, и на
тех, за кем подглядывают. В финальном эпизоде инспектор социального страхова¬
ния с «пацификом» в петлице казенного пиджака тянет из подружки героя все бо¬
лее и более интимные подробности. Вэлфер — пособие по безработице — достается
в обмен на золотую туфельку (сам Уорхол начинал рисовальщиком обуви). Баш на
баш. Утеха фетишиста за право бездельничать и подглядывать.
К Дракуле, Франкенштейну и Элу Уорхол приставил свою фамилию. Так уже
было со знаменитыми клише Мэрилин Монро, Элвиса и доллара - автограф из¬
готовителя утверждал ценность «ready made». Нечто похожее делал в начале века
Марсель Дюшан с его писсуарами и велосипедными ободами. Октавио Пас напи¬
сал о нем: «Обесценивая произведение искусства как вещь, как предмет, он тем са¬
мым поднимает значение жеста, воли художника»3. Уорхол ничего не обесценивал
и ничего не поднимал. Он не жестикулировал, а любовался. Его имя — не подпись
автора, а сертификат коллекционера, ласково переносящего культурные экспонаты
с одного этажа на другой, так что нет разницы между помидорами Кэмпбелл и кро¬
вью, затопляющей Уорхол-Франкенштейна. Не меньше кровезаменителя исполь¬
зовала в 50-е годы английская фирма «Хаммер», но «би»-маэстро Теренс Фишер,
если и лил в кадре томатный суп, то никогда не показывал, из каких именно банок.
И уж тем более не тиражировал изображения этих банок в технике шелкографии.
В Уорхол-Дракуле интеллигентный трансильванский граф пил кровь дев¬
ственницы только раз в тысячу лет. В остальное время он предавался любимым
занятиям: чтению умных книг, смакованию искусства и путешествиям. Мускули¬
стый пролетарий, цитируя Мао, Маркузе и Троцкого, одну за другой лишал невин¬
ности невест вампира и в конце концов четвертовал его самого. Разрубал на куски,
как гидру мирового империализма. Дракула ужасно кричал, но умирал почти бес¬
кровно. В его жилах текла какая-то другая субстанция — темная и густая, похожая
на фотохимикат или разжиженную кинопленку. Ту самую, что узаконивает один
из самых главных грехов искусства - подглядывание за домами, людьми и соб¬
ственными маниями.
3 Пас О. Новая аналогия: Поэзия и технология. — Иностранная литература, 1991, № 1, с. 227.
«Сеанс». 1995. № 11.
402
1995
Кино на ощупь
Часть 1. Кино на ощупь
«Лупа кинематографа покажет на стене твою тень, с которой ты живешь,
не замечая ее, и покажет тебе приключения и судьбу папиросы в твоей
бесчувственной руке, и таинственную не наблюдаемую — жизнь всех вещей —
твоих спутников, живущих с тобой» (Бела Балаш. «Видимый человек»).
Все новые технологии при их кажущейся апелляции к высокому уровню развития
и самой цивилизации, и населяющих эту цивилизацию людей, на данном этапе
своего существования возвращают человека во вполне варварское самочувствие.
Не случайно лет пять назад в сфере аудиовизуальных искусств, особенно в сфере
кинематографа, заговорили о новой школе неоварварства. Пошло это с Каннского
фестиваля, на котором «Золотую пальмовую ветвь» получил Дэвид Линч. Недавно
по нашему телевидению прошел его сериал Твин Пикс. Что это такое? Это кино, ко¬
торое абсолютно реабилитирует прямое воздействие на зрителя, то есть агрессию.
Естественно, агрессия встречается на всем протяжении кинематографа. Еще Бела
Балаш разглядел в кинематографе «зрительную корреспонденцию непосредствен¬
но воплотившейся психики». И есть, например, замечательная книга Ноэля Берча,
которая рассматривает всякие замаскированные формы агрессии на экране... Но
теперь это все делается впрямую. Отчего это идет? Ответ очень прост. Смотрите:
есть телевизор. Телевизор смотрит много народа. Следовательно, через него мож¬
но передавать информацию, нужную тем, кто способен ее оплатить. Соответствен¬
но, телевизор заполняется чем? Телевизор заполняется рекламой. Теми самыми
commercials, теми самыми короткими быстрыми кусками, которые рекламируют
ту или иную продукцию. Причем популярность их невероятна. Есть данные аме¬
риканского журнала «US News and World Report», где был плебисцит среди аме¬
риканцев. Какие-то интеллектуалы опрашивали людей с точки зрения, не надо ли
запретить эти вставки? Причем, они ведь врываются в самые что ни на есть непод¬
ходящие места серьезного игрового фильма, который демонстрируется по теле¬
визору. Больше того, любой уважающий себя продюсер всегда, когда делает мон¬
таж фильма, озабочен тем, чтобы сделать специальную версию для телевидения,
которая должна укладываться в определенное время - 2 часа плюс commercials:
через каждые 15 минут 3-минутная вставка. Если ты сам не порезал свой фильм
так, чтобы в нужный момент туда можно было вставить рекламу, тебе могут отре¬
зать любую сцену. На это телевизионщики не смотрят. Я сам наблюдал: классиче¬
ский фильм Романа Поланского конца 60-х годов Ребенок Розмари шел по очень
403
Кино на ощупь
Дикие сердцем. Реж. Дэвид Линч. 1990
приличному американскому каналу и, тем не менее, непрерывно перемежался
commercials. Видимо, не было авторского монтажа для телевидения. И понятно,
почему не было: потому что Поланский уже 15 лет как объявлен в Америке персо¬
ной нон грата, и ему нет туда въезда. В результате из картины чисто механическим
образом были вырезаны важнейшие сцены, вошедшие во все антологии жанра,
в котором сделана эта картина. В частности, знаменитая сцена в телефонной будке,
классика саспенса, а ее просто не было, ее выкинули, потому что на это место при¬
шелся commercials. Так вот, когда эти интеллектуалы затеяли плебисцит по поводу
того, надо это или не надо, большинство - не подавляющее, но внятное большин¬
ство американских зрителей проголосовали за сохранение этих commercials. Пото¬
му что они оживляют зрелище и вполне формируют ту культуру взгляда на теле¬
визор, к которой они привыкли.
И вот тут любопытная вещь. Делез пишет о том, что для кочевья очень важна
тактильная коммуникация. Вспомните, что нам показывают по телевизору: «рай¬
ское наслаждение», «сладкая парочка»... - ведь все эти commercials построены на
осязательной эстетике. Предмет в них гораздо крупнее, красивее, привлекательнее
и фактурно состоятельнее, нежели он есть на самом деле. Это делается макросъем¬
кой, это делается отдельной обработкой пленки, вторичной, понимаете? И заметь¬
те, что само вещество отрывается в этих кадрах от своего реального бытования,
404
1995
потому что нормальному человеческому глазу не рассмотреть эту тягучую струю
сгущенного молока, которой наполняются сникерсы или что там еще. Налицо са¬
мостоятельное «бытие материи» (Балаш). Но когда это снимается макрообъекти¬
вом с резкой, форсированной цветовой гаммой, то мы оказываемся оторваны от
реальной зрительной природы этого изображения, мы воспринимаем его глазами,
но на ощупь.
Вот, слово произнесено: глазами, но на ощупь! Соответственно, такого рода
эстетика все время на глазах у зрителя, она зрителя воспитывает. И когда зритель
после этого смотрит традиционную кинокартину, снятую в 50-60-70-е годы, где
соблюдается некая дистанция по отношению к объекту, то зритель этого просто не
воспринимает. Зритель привык щупать глазами то, что ему показывают. И это пре¬
красно чувствуют американские режиссеры новейшего поколения. Среди них Дэ¬
вид Линч, человек необычайно талантливый и хорошо понимающий, что к чему.
Он начинает снимать кино в эстетике рекламного клипа. Скажем, его картина, ко¬
торая получила приз на Каннском фестивале, начинается с того, что экран еще на
титрах заливают потоки пламени. Кажется, что это бушует какой-то вулкан, горн
какой-то, доменная печь. Потом камера резко отъезжает, и выясняется, что это все¬
го лишь пламя, вспыхнувшее на головке спички. И эта головка спички занима¬
ет весь 70-миллиметровый экран, тот, что у нас называется широкоформатным.
Представляете, каков этот эффект?.. Вся Америка просто встала на уши, когда сим¬
вол их независимой режиссуры, Мартин Скорсезе, сделал свой Мыс страха, кото¬
рый целиком был построен на этой совершенно дикой, галопирующей эстетике
видеоклипа... И обратите внимание еще вот на что: в трех из пяти рекламных кли¬
пов действие, движение предмета осуществляется прямо по оси вашего зрения. То
есть из глубины экрана на вас что-то резко наезжает, очень быстро... Это прием, из¬
вестный еще с комиксов 30-х годов. То есть осуществляется прямая визуальная аг¬
рессия, которой вы ждете, и без которой вам скучно... Что происходит? Происхо¬
дит то, что зритель начинает глазами уже не столько смотреть и расшифровывать
визуальный код, сколько его ощупывать. Он привыкает к тому, что его бьют, его
щипают с экрана, ему дают лизнуть. Из этого можно вывести и более любопыт¬
ные, на мой взгляд, вещи. Эта мысль меня посетила, когда я, как нормальный обы¬
ватель, смотрел по телевизору эти ужасные события в октябре 1993-го в Москве.
И когда потом показывали фильм, смонтированный из кусков телехроники, меня
совершенно поразил сам способ съемки. Снималось изнутри действия. Ну напри¬
мер, один кадр родился, совершенно очевидно, так: влетает в какое-то помещение
человек с автоматом, следом за ним вбегает человек с видеокамерой... Вспомните
эти облетевшие весь мир кадры, которые мое воображение до сих пор потрясают, —
кадры чилийского путча, когда убивают оператора. Когда человек снимает каме¬
рой группу военных, которые копошатся около бронетранспортера, после чего мы
405
Кино на ощупь
Камень. Реж. Александр Сокуров. 1992
видим, как офицер оборачивается, замечает снимающего и машет ему рукой: де¬
скать, уходи. Человек продолжает снимать. Тогда офицер достает пистолет и стре¬
ляет, и мы видим выстрел, направленный в камеру. Камера падает, но каким-то
чудом не разбивается, пленка сохраняется, ее достают, проявляют и т. д. Тот, чи¬
лийский, фрагмент был снят на очень большом расстоянии. Человек снимал через
улицу, тайком. А здесь, в московских событиях, меня совершенно поразило: опера¬
тор идет в самую гущу. Потому что они, операторы, прекрасно понимают, чего хо¬
чет зритель. Зритель хочет сердцевины. Зритель привык к этому. Он уже не удовле¬
творится кадрами, снятыми общим планом. И это очень важно. Человек привыкает
быть в середине, то есть там, где можно уже не просто смотреть, но соприсутство¬
вать, а стало быть и щупать.
То же самое происходит со звуком. Возьмите, к примеру, Юрский парк Спил¬
берга. Он меня поразил тем, что Спилберг добивается абсолютной осязаемости.
Но не методами Линча, не визуальной атакой, а используя эффект долби-стерео.
Сейчас в его студии суперсовременная звуковая аппаратура. И когда вы сидите
в кинотеатре и видите на экране героя, который говорит: «О! Идет динозавр!» -
и в этот момент, благодаря колоссальному разносу колонок у вас за спиной начи¬
нают приближаться шаги динозавра, и вы отсчитываете: вот он прошел 20-й ряд,
10-й, я сижу в 5-м, вот он проходит надо мной... и ко всему прочему вы при этом
406
1995
слышите совершенно четко, как в правом углу кадра поет комар. Чистота сведе¬
ния звука такова, что создается абсолютно достоверная, осязаемая акустическая
среда. Осязаемый звук! Звук, который в кино существовал всегда на уровне языко¬
вого средства. Например, герой говорит героине: «Я ухожу от тебя!», хлопает две¬
рью и уходит. В немом кино, чтобы показать, что герой действительно ушел, нужно
было выходить следом за ним на улицу, показывать, как он садится в автомобиль,
и показывать, как автомобиль отъезжает. С приходом звука все гораздо проще: ге¬
роиню оставляют в комнате, но мы в фонограмме слышим, как за окном хлопает
дверца автомобиля, автомобиль заводится и уезжает. Это красивый звуковой эф¬
фект, который рассказывает историю. Звук как средство повествования. Как вы¬
разительное средство и т. д., и т. д. А у Спилберга он существует как безуслов¬
ность соприсутствия. То есть опять же как осязание фактуры зрелища, которое
вам показывают. У Делеза кочевник, человек на земле tabula rasa, у которого нет
устойчивых ориентиров, - он ощупывает, и мы сейчас тоже в нынешних зрелищах
движемся на ощупь. Мне это не нравится, потому что это снимает самое главное —
аналитическую природу экрана, абсолютно ликвидирует те достижения, которые
есть словарь кинематографа и работа со зрительными образами.
Но если взять такой пример, безусловно, коммерчески неангажированного
кино, как кино Сокурова, то мы сталкиваемся абсолютно с тем же самым. После
Спаси и сохрани он начинает свою так называемую вторую манеру, которая начи¬
нается картиной Круг второй, потом идет картина Камень, а за ней Тихие страни¬
цы. Сокуров — художник, совершенно завороженный смертью. Символика смерти
у него наиболее структурирована. И вот, когда он переходит через рубеж 90-х го¬
дов, он начинает работать в совершенно другой манере, и понятно почему. Понят¬
но, что художник, который берется за некоторый предмет, если он настоящий ху¬
дожник, вынужден проживать этот предмет. Основа настоящего творчества, а не
имитации - максимально полное проживание того, о чем ты говоришь. Как утвер¬
ждал Шестов, настоящий писатель просто брезгует говорить о тех вещах, кото¬
рых он сам не видел. Но коль скоро предметом твоего искусства является смерть,
ты всякий раз обязан проживать смерть. А проживая смерть всякий раз, ты в кон¬
це концов перестаешь говорить на языке искусства, потому что, когда ты доходишь
до определенного порога, наступает момент, когда уже не надо снимать кино. Если
ты понял что-то про это, то, чтобы оставаться честным перед самим собой, тебе
уже не надо показывать то, что ты понял, а надо замолчать и заняться каким-то
более подобающим духовным промыслом. Но Сокуров выбирает очень любопыт¬
ную стратегию. Он переводит все свои художественные рефлексии в плоскость
текстуры фильма. Я много разговаривал с операторами Сокурова и выяснил, что
они всерьез вкладывают в предполагаемый эффект картины вот эту тактильную
коммуникацию. Изображения как такового, нормативного, на экране практически
407
Кино на ощупь
нет. Они работают на грани фола в технологическом смысле. Они работают на ка¬
ких-то засвеченных пленках, на предельном световом режиме, пробуют какие-то
очень сложные, очень изощренные технологии, которые дают что-то туманное -
расплывчатое, странное, невнятное изображение, где все не так. Где все не так, и не
это хочется смотреть зрителю. Но он заставляет смотреть на это, втягивает в это се¬
рое пространство. Как сказал нынешний оператор Сокурова, Буров, на экране во¬
обще ничего не должно быть видно. А только тени, скрипы и шорохи. То есть ре¬
жиссер, показывая смерть, не описывает ее привычным языком кинематографа,
а дает смерти говорить на своем языке, отдавая ей в жертву фильм. Фильм как фи¬
зическое тело, физическую субстанцию. И поэтому, скажем, в Камне у него есть
совершенно поразительный эпизод, когда герой, а мы по каким-то намекам пони¬
маем, что это А. П. Чехов, садится на скамейку и сидит. И начинается бесконечно
длинный, чисто сокуровский кадр, потому что он сгущает до осязания механиче¬
ское время. Он показывает время как механическую субстанцию. Вот эти его бес¬
конечно длинные планы — мы понимаем, что это то механическое время, в котором
все смертны. Он показывает всех своих героев и все предметы, которые попадают
в поле зрения его камеры, в ходе механического смертоносного времени. Нет ниче¬
го, есть только движение к концу. И вот этот герой так сидит-сидит-сидит, и вдруг
мы видим, как его лицо начинает медленно тускнеть, уходить, заваливаться ку¬
да-то... вот... знаете, эффект фотографии, плохой фотографии, дагерротипа ста¬
рого, то есть остаются какие-то детали фигуры человеческой на скамейке, а лицо
просто заваливается куда-то в передержку. Оно заваливается в экран. И это со¬
вершенно потрясающе, потому что это бьет, минуя все известные, например, мне,
слои художественного восприятия. Потому что мы видим, грубо говоря, входное
отверстие смерти на самой пленке. Нам не просто сказали: этот человек умер; нам
не показали акт смерти, как непокой веку водится в кинематографе, нет, мы просто
видим, как человек сидит, а лицо просто исчезло. Мы видим черную дыру на месте
этого лица. И мы поняли, что в фильм, в безусловность этого фильма, в осязаемую
фактуру этого фильма, вошло некое безусловное осязаемое инобытие. Понимае¬
те, чего он добивается, да? Он пытается добиться инобытия как осязаемости. По¬
нимая, что его нельзя показать как зрелище, он, будучи кочевником на этой новой
территории инобытия — она никем не расчерчена, оттуда никто не возвращался -
он пытается понять ее на ощупь. Это пример в общем высокого отношения к эк¬
ранному высказыванию, это пример того, что называется авторским кинематогра¬
фом. И при этом в каком-то парадоксальном своем повороте культурологического
сюжета авторский кинематограф сходится с общим - с как бы низовой пластиной...
Из чего я делаю вывод, что, видимо, мы действительно сейчас находимся на поро¬
ге вступления на некую территорию, где нам предстоит некое кочевье. Хотя, ис¬
ходя из собственной мировоззренческой модели, я склонен воспринимать то, что
408
1995
я говорил, да и про Сокурова тоже, не как начало, а как конец. Когда человек слеп¬
нет, глохнет, лишается всех возможностей контактов с миром и воспринимает это
уже на ощупь. А может быть, нет. Может быть, констатируя конец, мы переходим
в новую ситуацию, которой я просто не знаю.
Часть 2. Сюжеты-мигранты
«Существует разница между двумя типами пространства. Пространство
оседлых народов расчерчено стенами, границами и дорогами. Кочевники
населяют гладкое пространство, метки которого сдвигаются вместе
с трассой.
Хотя маршрут кочевника может проходить по обычным дорогам, это
не та дорога, которую знают оседлые народы. Та дорога делит замкнутое
пространство, предоставляя каждому определенную часть этого
пространства и обеспечивая связь частей. Маршрут кочевника — полная
противоположность дороги: он делит людей (или животных) в открытом
пространстве — неочерченном и несвязном.
Кочевник не то же самое, что мигрант. Мигрант — это беглец, покидающий
местность, когда она исчерпала свои ресурсы. Кочевник никуда не бежит,
не хочет бежать: он срастается с этим гладким пространством...
Так с неописуемым звуком сдвигаются в пустыне песчаные плиты» (Жиль
Делез, Феликс Гваттари. «Трактат о номадологии»).
Самым любопытным рассуждением Делеза мне показалось, знаете что? Когда он
проводит разницу между мигрантом и кочевником. «Кочевник не то же самое, что
мигрант». Помните, да? — кочевник ходит по неразграфленному листу, оседлый
человек движется по маршруту, а мигрант движется между некими точками. То
есть с одной стороны существует очевидная разграфленность этого мира и оче¬
видная его предельность, с другой стороны существует человек, который мигри¬
рует в этих координатах. Скажем, миграция как таковая - это совершенно не отре-
флексированный нашей (советской) культурой европейский послевоенный опыт.
Когда был даже специальный термин - перемещенное лицо. И скажем, один из са¬
мых любопытных киноавангардистов, который поднимал американский авангард
европейским своим духом, Йонас Мекас, он всю жизнь называет себя перемещен¬
ным лицом. Человек, который оторвался от корней, человек, который вынужден
мигрировать по миру. Понимаете? И здесь же мерцают очень актуальные для этих
десятилетий темы. Потерянного Дома (на уровне мифологемы потерянного рая),
Возвращения... мотив вечного возвращения... ко всем этим вещам... И, скажем, все
творчество Вима Вендерса — оно именно об этом. О перемещенных лицах. О ски¬
тальцах. О мигрантах. О мигрантах внутри крайне обустроенной и вроде абсолютно
409
Кино на ощупь
Персона. Реж. Ингмар Бергман. 1966
комфортной для нормальной жизни системы... отсюда такая важная роль личного
экстремального опыта, отсюда такая важная роль жизненного эксцесса, прорыва...
В прошлый раз мы говорили о кочевниках. Которые выходят на абсолютно не
разработанную, не расчерченную территорию (в данном случае территорию куль¬
туры) и разрабатывают этот фрагмент. По логике того идеологического механизма,
что мы взяли на вооружение (а мы решили, что два способа существования куль¬
туры непрерывно наследуют друг другу), сейчас мы должны сделать следующий
шаг и поговорить о тех, кто уже движется по расчерченной картографической пло¬
скости культуры, мигрирует в ней. О мигрантах. При этом нам придется вернуться
вспять. Ведь мы рассмотрели как кочевье процессы, протекающие в кинематогра¬
фе в последние десять-пятнадцать лет — именно они сейчас наводят на мысль о не¬
ких новых территориях и если угодно даже некой terra incognita, по которой мож¬
но ходить только на ощупь. И на эти территории пока еще никто не мигрировал.
Так что, если мы хотим говорить о мигрантах, нам надо вернуться на фазу назад.
Это очень странный период истории кино, условия возникновения которого
складываются в конце 30-х — начале 40-х годов. И существует он, по моим под¬
счетам, где-то до начала 60-х. Я думал даже, что конец этого периода определить
проще, чем его начало. Это период, связанный с жизнью в кино перемещенных
лиц. Displaced persons.
410
1995
Кинематограф всегда занимался расчерчиванием своих территорий. Нет, по¬
нятно, что кино, родившееся как медиум, как абсолютно нейтральное техническое
изобретение, в самом начале ощупывало вокруг себя некое пространство, но этот
период достаточно описан, и мы его опустим. Вслед за этим периодом начался про¬
цесс самоосуществления кинематографа, и вот он-то и сводился к тому, что ки¬
нематограф расчерчивал некие территории вокруг себя. И то, что мы называем
сейчас всем корпусом языковых накоплений кинематографа, это по сути дела его
попытка глобальной планировки пространства. Причем, кинематограф вырабаты¬
вает не просто новый язык коммуникации, но язык, чреватый созданием некото¬
рого образа (почему мы и можем говорить о кино как об искусстве). Это случи¬
лось в середине 20-х годов; потом пришел звук, который окончательно статуировал
кино в его художественных качествах, и в начало 30-х годов кино вступает уже как
абсолютно состоятельный художественный медиум, который имеет в виду плани¬
ровку существующего вокруг пространства и манипулирует своими языковыми
конструктами в этой связи.
И наступает момент (видимо, неизбежный в развитии любого языка), когда
язык становится самодостаточным, и когда уже не язык вступает в некую содер¬
жательную коммуникацию с реальностью, а сама реальность подчиняется законам
того языка, на котором о ней говорят. Получается, что та самая языковая систе¬
ма кино - она в чем-то ограничивает художника, она ставит его в жесткие рамки
киноязыка. Например: киноаппарат. До начала 40-х годов он был очень тяжелым
и потому статичным. Соответственно, действительность снималась либо статич¬
ными фрагментами, либо плавным треввелингом, когда аппарат ставился на рель¬
сы. И вот после войны возникает любопытное совпадение...
Я уже упоминал о знаменитой статье французского режиссера-теоретика
Александра Астрюка, которая называется «Кинокамера вечное перо», где он пи¬
шет о том, что нельзя больше подчиняться сложившемуся словарю кино. Нельзя
больше действовать в системе этих знаковых сигналов, которые упираются в три
технических категории: монтаж, движение камеры и крупный план. Он говорит
о том, что кино должно стать не словарем, а алфавитом. А кинокамера это как веч¬
ное перо, которым можно написать, одними и теми же буквами, и Критику чисто¬
го разума, и Поваренную книгу. Это просто возможность свободного самовыраже¬
ния. И вот складывается момент.
Сороковые годы. Массовые миграции в европейских странах (люди бегут
от фашизма), многие интеллектуалы уезжают за океан и работают там, оплодо¬
творяя тем самым американскую культурную политику. С другой стороны, сра¬
зу после войны по праву победившего Америка начинает транслировать свой ки¬
нематограф в Европу. Происходит мощная интеграция культур, инспирированная
этим мировым катаклизмом, начинается новое мироощущение. И возникает целая
411
Кино на ощупь
категория людей, космополитов, которые в силу исторических обстоятельств ока¬
зались выброшены за территорию нормированного и вполне архитектурного евро¬
пейского бытия, которые начинают мигрировать внутри культуры. Внутри языка
кинематографа. И которые (примем это пока как гипотезу) относятся к кино совер¬
шенно иначе: как к способу субъективной фиксации реальности.
Происходит то, что в советском кинематографе и в постсоветском принадле¬
жит вполне маргинальным фигурам - братьям Алейниковым. Происходит то, что
я называю приватизацией кинематографа (не в политико-экономическом смысле,
разумеется). Кино, одновременно с языковыми своими возможностями очень хо¬
рошо осознавшее свои социокультурные функции, в том числе и возможность гло¬
бального, интернационального мифотворчества, вновь становится частным делом.
С чего, собственно, оно и начиналось.
Вспомним, что начали снимать люди, которым в руки попал киноаппарат,
братья Люмьер: прибытие поезда, выход рабочих с фабрики, кормление младен¬
ца. И любой из нас, попади нам в руки киноаппарат, начинает снимать не что-то
значительное, он начинает снимать себя, своих знакомых, близких, друзей, собак,
и т. д. То есть он пытается оставить свой взгляд и посмотреть на него со стороны.
В этом, собственно, и есть изначальная магия кинематографа.
Как всякий узаконенный иероглифический язык, язык кинематографа был
очень тоталитарен. Об этом уже написана куча литературы. Все деструктивные
концепции кинематографа так или иначе проводят оппозицию между частным
взглядом на жизнь - и общеобязательным взглядом на жизнь. И по историческому
прецеденту мы знаем, что кино достигло своего наивысшего расцвета в 30-е годы,
когда вся эта наработанная языковая потенция оказалась в основе мощной систе¬
мы мифотворчества.
Люди же, которые приходят в 40-е годы, начинают фиксировать реальность
как нечто незначительное и необязательное. Это происходит на всех уровнях. С од¬
ной стороны, в большом кино, которое генетически наследует традиции, в том чис¬
ле и на уровне социальных проявлений, возникает итальянский неореализм, кото¬
рый возвращает кино к его физической реальности, к его документальной природе.
С другой стороны — и это кардинально противоположное явление, хотя по сути
дела выходящее из тех же корней, — это американский андеграунд 40-х годов, кото¬
рый весь, целиком, сделан перемещенными лицами.
Известно, что в основе американского андеграунда лежит два фактора.
Во-первых, приезд Ганса Рихтера, знаменитого европейского авангардиста, кото¬
рый начал работать в 20-е годы, немца, который сбежал от Гитлера. В 40-е годы он
подвизался в Нью-Йорке и то ли с голодухи, то ли от нечего делать читал лекции
о киноавангарде в музее современного искусства. Эти лекции слушали будущие
киты американского андеграунда: Майя Дерен, Амос Фогель, Йонас Мекас... Первое
412
1995
поколение американских авангардистов целиком состояло из перемещенных лиц.
Майя Дерен (ее настоящая фамилия Элеонора Древновская), которая совсем кро¬
хотной переехала с родителями из Киева в Америку, Йонас Мекас, литовец, кото¬
рый вместе со своим братом Адольфусом скитался по послевоенной Европе, сидел
в лагерях для интернированных, потом перебрался в Америку и там увлекся кине¬
матографом, и т. д. То есть вот эти перемещенные лица, которых помотало по раз¬
рушающейся системе ценностей, которые видели ужас и руины этой системы куль¬
туры, которые не могут быть новыми кочевниками, потому что они из Европы,
и багаж культуры тянет их назад, — приезжают на новую, пустую землю обетован¬
ную, Америку, и начинают свой собственный опыт.
Второй факт: весь американский андеграунд родился благодаря изобретению
«Болекса». «Болекс» — это мобильная 16-миллиметровая кинокамера. Простая в об¬
ращении, легкая в переноске. Точно так же, как появление импрессионизма свя¬
зано с чьей-то догадкой паковать краски в тюбики с завинчивающейся крышеч¬
кой (вместо фарфоровых сосудиков): стало можно выходить на пленер и ловить
впечатление. То же произошло в кино в 40-е годы. Легкая портативная камера, с ко¬
торой люди вышли на улицу и начали фиксировать свои впечатления.
Итак, подведем промежуточный итог: кино, родившись под знаком персо¬
нального высказывания, вскоре сопрягается с традицией изобразительного искус¬
ства. Трансформация, которая происходит с медиумом кинематографа в 30-е годы,
в связи с его языковым самоосознанием, приводит к осуществлению его как аб¬
солютно имперсонального: начиная от «иероглифического» языка, кончая его со¬
цио-культурной функцией. (Это не правило, потому что есть французское кино
30-х годов, где все гораздо сложнее, есть там Гражданин Кейн Орсона Уэллса, но
как общее место этого этапа культуры по-моему это справедливо.) Кино существу¬
ет как надчеловеческое высказывание, и когда оно разрушается, когда начинается
миграция - человек возвращается в среду субъективного самоощущения. Он на¬
чинает фиксировать свой опыт перемещенного лица, мигранта как нечто абсолют¬
ное. Как нечто абсолютно сущее. Вот в этом, мне кажется, есть довольно любопыт¬
ный феномен послевоенного кинематографа, с которого начинается целый новый
этап в развитии кино.
Он завершается к середине 60-х годов, дойдя до своего высшего выражения,
которое во всех учебниках по истории кино называется авторским кино. Бергман,
Куросава, первые фильмы Андрея Тарковского, первые фильмы Феллини, первые
фильмы Антониони... В сферу внимания кино попадают вещи, доселе ему не снив¬
шиеся: попадают, грубо говоря, экзистенциальные проблемы.
Этот этап заканчивается в начале 60-х годов. Почему? Опять интересное со¬
впадение. В начале 60-х годов создаются последние картины, которые так или ина¬
че занимаются развитием киноязыка. А именно: 8 1/2 Феллини, одна из последних
413
Кино на ощупь
Париж, Техас. Реж. Вим Вендерс. 1984
картин, которая поделила кино на до и после. Фильм о том, как невозможно снять
фильм, фильм, который являет собой многократно отраженную, многоступенча¬
тую саморефлексию создателя фильма в фильме. Персона Бергмана, картина, где
прежняя категория описания реальности внутри фильма как некой условности, су¬
ществующей на некоторой дистанции, на уровне некоторой художественной кон¬
венции, — переходит в категорию самописания. Я вам рассказывал о том эпизо¬
де... в момент, когда Бергман показывает высшую фазу экзистенциального кризиса
своих героинь, он рвет пленку внутри фильма. То есть плавится сама физическая
основа фильма. Тем самым как бы говоря о конце, о том, что нужна какая-то иная
коммуникация. И — дальше пошли новые кочевники. Которые занялись тактильной
коммуникацией. Вот это конец. Для Бергмана как модерниста это финал. (И сейчас
мы введем новую категорию, вы догадываетесь какую...) И есть еще третий фильм.
Который в связи с тем что он сделан в системе параллельного американского кино,
не очень учитывается, хотя фильм на самом деле очень важен. Это картина Энди
Уорхола Эмпайр Стейт Билдинг (Небоскреб). Вы знаете эту картину, где в течение
шести часов камера статично фиксирует верхушку этого знаменитого нью-йорк¬
ского небоскреба. Мы привыкли, что в кино время существует в формах простран¬
ства. А здесь никаких манипуляций с пространством не происходит, остается физи¬
чески сгущенное время в кадре. Не знаю, много ли народу досмотрело этот фильм
414
1995
до конца... Но зритель физически ощущает отнятые у него шесть часов жизни. По¬
лучая взамен фильм, который вполне можно было бы заменить равным по времени
разглядыванием фотографии. (Больше того: можно даже не смотреть на фотогра¬
фию. Потому что если назвать ЭСБ, который известен не меньше чем Кремль или
Эйфелева башня, или Зимний дворец, то в сознании любого мало-мальски просве¬
щенного и географически ориентированного зрителя возникает этот образ.) То есть
Уорхол ставит под сомнение сам медиум кинематографа. Таким образом происхо¬
дит очень важная для будущего кино перестановка категорий. В данном случае ка¬
тегории смерти. Смерть в кино всегда была категорией описания чего-то дистанци¬
рованного. Уорхол же делает смерть категорией самоописания. Понимаете? Потому
что шесть часов, отнятые у зрителя во время просмотра, необратимы. Снимается
условность кинематографического времени, что, в свою очередь, восходит, опять-
таки, к психологии мигранта, который свое личное время, не дистанцированное
никакими художественными канонами, предлагает вам... Фильм-дневник - поня¬
тие, введенное Йонасом Мекасом... восходящий к кинокамере-вечному-перу. Это
делает Уорхол. С другой стороны, только что мы с вами говорили о том, что Берг¬
ман, который опредмечивает физическое присутствие фильма как материи, ставит
крест на этом этапе. Уорхол, делая, по сути, то же самое, наоборот, открывает новый
этап. Почему? Потому что — и мы вводим вторую категорию, очень важную (хотя
она, разумеется, абсолютно условна) - происходит смена модернистского проек¬
та постмодернистским. Потому что Бергман, последовательный модернист (не по
декларациям, а по принадлежности к определенному культурному этапу, который
держит в сознании вертикальную картину мира и т. д.), понимает предельность
эстетического высказывания. Он понимает, что «дальше — тишина». Дальше худо¬
жественные средства уже бессильны. И автор, если он дошел до этой ступени по¬
знания, должен перейти к проповеди, или к собственному спасению, то есть к ка¬
ким-то совершенно иным духовным категориям. Уорхол же, который мыслит мир
уже совершенно горизонтально, мистифицирует эту грань. Он утверждает, что все
абсолютно условно. Делая предельный образ смерти на экране, он в то же время (на
уровне того, что фильм можно заменить чем угодно: открыткой или даже просто
названием) показывает, что это все относительно. Вот путь мигранта внутри преж¬
них координат. Он начинает путешествовать в них по другому маршруту.
Существует такой проект европейской режиссуры, очень влиятельный до не¬
давнего времени, который возглавляет Вендерс. Вендерс начинает с того, чем кон¬
чается Бергман. Вот кажется, что Бергман рисует нам черный квадрат, и в его вер¬
тикальном измерении это действительно предел. Но что делает Вендерс?..
У Вендерса есть картина, которую хорошо знают наши зрители, она была
в прокате и по телевизору шла, Париж, Техас. Вот в этом фильме герой начина¬
ет (правда, за пределами сюжета) как герой Бергмана, как герой Антониони 50-х
415
Кино на ощупь
годов — начинает с концепции Великого Ухода. Так же, как героиня бергмановской
Персоны, которая, осознав что-то, просто уходит в зону молчания. Сугубо модер¬
нистская категория: молчание, отказ. Он уходит и молчит. Но Вендерс начинает
свой фильм с того момента, когда герой начинает свое возвращение (при том что
если для модерниста, человека существующего в координационной системе, важ¬
но, от чего — к чему, то Вендерс решает это как совершенно приватное возвраще¬
ние). У Бергмана в Персоне, помимо того что рвется пленка, есть знаменитый кадр,
когда он делает методом комбинированной съемки двойной портрет. Мы видим на
экране женское лицо (а весь фильм построен вокруг жизни двух героинь, одна из
которых актриса, которая во время спектакля что-то поняв, замолчала, а вторая это
медсестра, которая к ней приставлена во время ее санаторного лечения на уединен¬
ном острове, куда ее отправляют для поправки здоровья. И между этими женщи¬
нами разыгрывается некая экзистенциальная драма, потому что обе они по-своему
несчастны, обе они пытаются вернуть друг друга к чему-то, что-то объяснить, но
чем больше они объясняют, тем хуже им становится. Чем ближе люди приближа¬
ются друг к другу, тем больше ужас, кровоточащий в их душах. Так думает модер¬
нист Бергман. И вот рвется пленка, не в силах вынести этот груз ужаса и отчаяния,
и в финале Бергман дает такой кадр, жуткий на самом деле): женское лицо, склеен¬
ное из двух половинок. Левая половина одной героини, правая другой. Это ужас на
самом деле, глобальный онтологический ужас существования, что и есть в общем
подоплека всех киновысказываний этого гениального режиссера. Теперь вспомним
Париж, Техас. По сути дела Вендерс кульминационную сцену решает как абсолют¬
ную антитезу Бергмановской сцене. Вы помните: когда герой находит свою жену,
с которой он в свое время расстался вследствие некоего бытийного кризиса... он на¬
ходит ее в каком-то бардаке, в пип-кабинете, с односторонним зеркалом: он видит
ее, а она видит только свое отражение, не видя его, и они беседуют. Вы помните,
там тоже присутствует наложение лиц. Но с совершенно противоположным смыс¬
лом. Герой смотрит на нее, а видит себя. Смотрит на себя, а видит другого. То есть
встреча, которая немыслима для героинь Бергмана (чем ближе люди, тем страш¬
нее), здесь на холодной и бесстрастной поверхности зеркала происходит. Это дей¬
ствительно встреча людей, которые должны встретиться. Это момент объединения
целого, на всех уровнях вендерсовских тем существующий. Берлин, разделенный
на две части стеной, или ангел, спустившийся на землю и соединившийся с земной
женщиной. Некая целостность... Ну, в той мере, в которой постмодернизм есть по¬
пытка собрать воедино разбитую модернизмом картину мира... Так вот к чему под¬
водит нас Вендерс. Он подводит к тому, что встреча возможна, но встреча возможна
в неком третьем, нейтральном пространстве. Очевидно, что для Вендерса в дан¬
ном случае этой нейтральной поверхностью является поверхность самой культуры.
Контакта душ уже быть не может, но возможна встреча двух отражений.
416
1995
Я думаю, что это классическое для самоосознания культуры конца 60-х - на¬
чала 70-х вплоть до середины или даже конца 80-х годов явление, которое мож¬
но называть пост-авангардом, или транс-авангардом, постмодернизмом, универса¬
лизмом — как угодно — оно подготовлено психологией новых мигрантов. Которые
переосознали кино с точки зрения его коммуникации с миром, которые реформи¬
ровали языковую структуру экранного высказывания, и похоже, что в ситуациях,
когда действительно происходит что-то содержательное и истинное, - все оказы¬
вается связано со всем. И начиная от такой вроде бы мелочи как язык кино, ка¬
ких-то подвижек внутри него, вплоть до глобальных культурных проектов и со¬
путствующих исторических обстоятельств - все связано, все существует в неком
общем клубке, в клубке общего замысла и персонажей, действующих внутри этих
событий...
Полный текст под названием «Так, с неописуемым звуком...» опубликован в «Митином
журнале» (1994, № 51; 1995, № 52; лит. запись О. Абрамович). Первая часть
материала, печатавшаяся в «Киноведческих записках» (1995, № 25), воспроизводится
в отредактированном Сергеем Добротворским варианте, с эпиграфом из Бела Балаша.
Вторая часть — в варианте первоисточника, где эпиграфом для беседы послужила цитата
из работы Жиля Делеза и Феликса Гваттари «Трактат о номадологии».
417
Кино на ощупь
Тоска по вечной молодости
Слава Алена Делона совпала с рождением французской «новой волны». Однако раз¬
лившаяся без всяких правил волна аккуратно обогнула актера, предпочтя его со¬
вершенной красоте помятую физиономию Бельмондо или статистически-галль-
ский абрис Жана-Клода Бриали. Для соотечественников Делон оказался слишком
«правилен», зато его не случайно любили снимать итальянцы, с их неумирающей
тягой к оперной классике и архитектурным пропорциям.
Прощаясь с неореализмом, Висконти пригласил Делона в Рокко и его братья, по¬
том вписал в барочную пышность Леопарда. Антониони в Затмении противопоставил
большеротое неправильное лицо Моники Витти безупречному лику Делона в роли Пье¬
ро. Внешность Делона была слишком безукоризненной, чтобы быть живой. Оскар Уайльд
писал в «Портрете Дориана Грея»: «Красота, подлинная красота, исчезает там, где появля¬
ется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия,
он нарушает гармонию лица». Ничто на нарушало гармонию лица Делона. Он был чистой
формой, которую можно было наполнить чем угодно. Со временем из «красавчика» лег¬
ко сделали интеллектуального актера - его собственный интеллект в превращении не
участвовал. Красота казалась почти эталонной. В разговорный обиход вошло выраже¬
ние: «Красив, как Делон», что, конечно же, подразумевало рифму «Делон - Аполлон». По
существу он был человеком без лица, хотя именно благодаря лицу превратился в миф.
Известность Делону принесли роли людей, способных на убийство между делом,
без рефлексий и сомнений, как в клемановском На ярком солнце, где Делон сыграл та¬
лантливого плебея, легко шагающего через кровь. Позднее Висконти неслучайно хотел
снимать его в экранизации «Постороннего» Альбера Камю - в амплуа «постороннего»
Делон преуспел быстро и органично. «Солнце виновато, - так писал Камю, определяя
мотивы своего героя, — слишком яркое солнце». Вместо Делона в Постороннем сыграл
Марчелло Мастроянни, alter ego ведущих европейских киноавторов - и проиграл, ока¬
завшись слишком теплым, слишком живым и чувствующим. Не посторонним, а со¬
участником. Делон не мог быть ничьим alter ego, как будто, несмотря на обжигающее
солнце, его внутренняя температура оставалась ниже нуля. Нельзя было даже назвать
его киногеничным - камера столь же влюблялась в его черты, сколь и брезгливо от¬
странялась от них. Лицо Делона, лишенное метаморфоз жизни, утомляло глаз, проси¬
лось на рекламный постер, на журнальную обложку, в пантеон массовой мифологии.
Как и уайльдовскому герою, Делону была страшна старость. Долгие годы ка¬
залось, что время не ревнует Делона, не трогает совершенство его черт. Что он, по¬
добно Дориану, становится все прекрасней. Средний возраст и серединный период
418
1995
Ален Делон в фильме Самурай. Реж. Жан-Пьер Мельвиль. 1967
419
Кино на ощупь
творчества обозначились чередой коммерческих упражнений, где он часто выступал
как продюсер, сбросив наконец ярмо интеллектуального актера. Делон 70-х - «саму¬
рай» большого города. Шляпа, надвинутая на ломаные брови, светлый плащ, холод¬
ный блеск глаз и столь же холодный блеск пистолета. Делон 80-х - «неукротимый»,
«торопящийся человек», который возвращается «как бумеранг», чтобы добиться в фи¬
нале «смерти негодяя». Из фильма в фильм его персонаж - благородный и жестокий
одиночка, отстаивающий свой самурайский кодекс чести. Французские критики бы¬
стро заметили, что этот кодекс был связан с ценностями консервативными, то есть
принадлежащими идеальному прошлому. Быть может, в этом таилась тоска по вечной
молодости, а быть может — вера в неуязвимость скульптурной маски. Он неслучай¬
но вышел победителем из многолетней конкуренции с Бельмондо. Их первая и един¬
ственная встреча на экране в фильме Жака Дере Борсалино (1970) с самого начала была
мертворожденной затеей. В Борсалино и Компании (1974) Делон снялся уже один.
Одним из первых, кто акцентировал возраст звезды, был Фолькер Шлендорф. В Люб¬
ви Свана (1984) Делон сыграл барона де Шарлю в гриме, напоминающем грим Хельму¬
та Бергера из Людвига. Бергер стал для Висконти тем, кем мог бы стать Делон, не будь он
«посторонним». В свою очередь, Шлендорф заставил Делона отыграть одну из главных
тем Людвига - тему коррозии формы, увядания красоты. Впервые стало ясно, что пяти¬
десятилетний актер стоит на пороге старости. Что сам процесс его старения может быть
осмыслен как художественный сюжет. «Я теперь знаю — когда человек теряет красоту, он
теряет все». Отчаянный выкрик юного Дориана наверняка стал внятен стареющему Дело¬
ну. Роль Шарлю сознательно звучала в комическом ключе — комедия достигалась несооб¬
разностью возраста и желаний. На экране он все чаще играл моложавых отцов, а в жизни
его имя все чаще рифмовалось не с Аполлоном, а с одеколоном. По мере того как миф об¬
ретал парфюмерные очертания, лицо утрачивало форму — как сдувшийся шарик. За раз¬
мывающимся складом черт просвечивал склад души, судьба деляги, владельца самолетов
и скаковых конюшен, неуличенного криминала и соучастника великосветских разборок.
В 1990 году Годар снял Делона в картине с программным названием Новая вол¬
на. Когда-то «волна» отвернулась от актера, через тридцать лет постарели и она сама,
и невостребованный ею герой. В своем знаменитом дебюте На последнем дыхании
Годар открыл Бельмондо. Подводя итоги, он заново открыл для себя Делона, чье увя¬
дание вдруг оказалось более «синефильским», чем мужественная старость «Бобеля».
Леонардо да Винчи не зря призывал избегать тех занятий, плоды которых
умирают со смертью труженика. Пленка навсегда сохранила образ юного Делона -
ослепительного и надменного. Как писал Оскар Уайльд, «красота — один из видов
гения, ибо не требует понимания». То, что открылось за исчезнувшей красотой, мо¬
жет оказаться новым актерским сюжетом шестидесятилетнего Алена Делона.
«Ъ». 1995. 11 ноября. Статья написана в соавторстве с Кариной Добротворской.
420
1995
И немедленно выпил
Когда много лет назад я поступал в ленинградский Театральный институт, дале¬
кие от искусства знакомые одобрили мой выбор. «Театральный? На Моховой? Зна¬
ем... В начале улицы пивточка, в конце пивточка, рюмочная посредине. Два ларька
у цирка. На Пестеля в мороженице, правда, сухое, но тоже наливают...»
Не помню, читали ли мы тогда Венедикта Ерофеева, но его крылатую фразу,
произнесенную на перегоне Серп и Молот - Карачарово, «и немедленно выпил...»
твердили часто и на разные лады. Не догадываясь при этом, что у тех же ларьков
на Моховой толчется Сергей Довлатов — второй из наследников русской литератур¬
ной классики, сберегший традицию совести в сгустке похмельного стыда.
«Проиграть в наших условиях, может быть, достойнее, чем выиграть», — пи¬
сал Довлатов. И добавлял: «В любой ситуации необходима какая-то доля абсурда».
«О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы как я сейчас, тих и бояз¬
лив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места
под небом — как хорошо бы!» - так у Ерофеева.
С одной стороны, здесь выражает себя воспитанная социализмом черта — са¬
моразрушение как неучастие, «добровольное сумасшествие» как форма обществен¬
ного эскапизма. Почти по анекдоту: дикари привязали к дереву путешественника
и договариваются натянуть его кожу на барабан. А он вырвался, схватил нож — раз
себя поперек груди, раз по голове... «Вот вам барабан! Вот!». С другой стороны, со¬
ветская власть всего лишь обострила сугубо русское умение соединять несоеди¬
нимое - полную замкнутость с энтропией, самососредоточенность с беспределом.
И разжигание хаоса как способ избавления от клаустрофобии.
По слухам, Александр Рогожкин всерьез готовился экранизировать «Москву-
Петушки». Вместо этого он сделал Особенности национальной охоты, картину, как
к ней ни относись, важную, по-моему, даже этапную. Все, кто о ней уже написал,
так или иначе обыгрывают название. Оно и впрямь взывает к каламбуру. Полу¬
торачасовой анекдот о пяти мужиках, прихвативших с собой ружья, много водки
и финского историка-охотоведа, есть по существу попытка портрета националь¬
ной души, аккомпанирующей звоном стаканов меланхолическому абсурду. С тех
пор, как охота перестала быть средством пропитания и выживания, она превра¬
тилась в сугубо философское занятие, своеобразный мужской спорт, где нет табе¬
ли о рангах, а есть команда, сплоченная единым желанием поскорее и посильнее
шаркнуть по душе. Команду Рогожкин собрал с учетом главных амплуа русско-со¬
ветских мужчин. Есть «официальный русский» — генерал в камуфляже с окурком
421
Кино на ощупь
сигары в зубах. Есть «новый русский» со сносным «бэйсик инглиш», «старый рус¬
ский» — философствующий инженер-технарь, «казенный русский» — следователь
МВД, и русский «фольклорный» — егерь с повадками Ивана-дурака в солдатской
шинели и ушанке Деда Мазая. Каждый представляет свой тип с некоторым из¬
бытком, гротескным сдвигом, вроде кокетливой банданы на генеральской шее или
сада камней, посреди которого медитирует с похмела хранитель охотохозяйства.
Потешной детали (черные очки и кожанка а 1а Збигнев Цибульский не в счет) не
нашлось разве для и-тэ-эра, но он сам по себе фигура настолько знаковая, что в до¬
полнительных комментариях не нуждается.
Прежний замысел Рогожкина, однако, бесследно не исчез. В том, как мужи¬
ки, отложив арсенал, принимаются целеустремленно квасить, конечно, есть что-то
ерофеевское. Там пьют и тут пьют. Там герой который раз собирается к зазнобе
и который раз очухивается на вокзале в обществе сумасшедших ангелов. И тут
охотники, по существу, так и не делают ни одного выстрела (вернее, делают, но
лучше бы не стреляли). И ерофеевскому двойнику, в принципе, все равно, при ка¬
ком строе жить. И у Рогожкина мужики добровольно погружаются в деклассиро¬
ванную стихию природы, водки и душевной беседы.
Тем не менее, случись Рогожкину взяться за первоисточник, я думаю, его по¬
стигла бы неудача. Персонаж «Москвы-Петушков» индивидуально-трагичен. Он
одинок в схватке с бушующими мирами, а потому восхитительно анти-народен,
не-коллективен и брезглив (вспомним, Веничка никогда не пукает; и отслужив¬
ший вертухаем Довлатов, сам оказавшись в тюрьме, страдает от необходимости
публично оправляться). Ерофеев — автор. Его прямая экранизация была бы автор¬
ским кино, то есть в сложившемся отечественном и, особенно, ленфильмовском,
варианте - молитвой о спасении коллективной души и провозглашением соб¬
ственной клаустрофобии мерилом абсолютной гармонии.
Одно время казалось, что Рогожкин принадлежит именно к такому типу
ошалевшего от свободы российского кинохудожника, чье «Сверх-Я» исчезло
вместе с идеологической цензурой. Лучше всего это видно на примере Караула.
В восемьдесят девятом году газеты уже написали о деле Сакалаускаса, неустав¬
ные отношения были у всех на слуху, но как их показывать на экране, толком
еще никто не знал. Караул снимался трудно. На него огрызались военные чины,
его предавала анафеме «Красная звезда». Под занавес со студии и вовсе пропа¬
ли коробки с отснятым материалом... Оказавшись в подцензурном простран¬
стве, режиссер сделал отличное кино о людях, истребляющих друг друга в угоду
идиотским ритуалам. Но вот что характерно: едва действие выносилось за пре¬
делы «вагонзака», и опасность запятнать честь армейского мундира ослабева¬
ла, жесткая психодрама сменялась каким-то совсем другим фильмом. По снегу
брел Христос в рубище, за окошком встречного поезда миловались лесбиянки.
422
1995
Создавалось впечатление, что это не герой, а сам режиссер высовывается нару¬
жу и, пока не загнали обратно, спешит высказать свои представления о красоте
и духовности.
Настоящий разгуляй настал два года спустя. По моему глубокому убеждению,
Чекист до сих пор может служить эталоном перестроечного безобразия на экране.
Под видом исторической драмы толпы голых людей полтора часа умирали в под¬
валах губернской «чрезвычайки», причем режиссер не только не скрывал, но и на¬
вязывал зрителю откровенный эротизм происходящего. Подвал - слишком оче¬
видная психоаналитическая метафора, чтобы толковать ее подробно, но сам факт
того, что взбрыкнувшая подкорка избрала средой обитания расстрельный засте¬
нок, говорит о многом.
Ерофеев показал индивидуально-трагический срез национального абсурда.
Рогожкин — удачно нашел его массовые, мифологические черты. Ерофеев двигал¬
ся вверх, Рогожкин пошел вниз и в результате выиграл. Уже потому, что фильм,
подобный ...Национальной охоте, вполне мог бы появиться и при социализ¬
ме. Не фактически, конечно, а, так сказать, ментально. Проверить это очень лег¬
ко: в дословном пересказе картина абсолютно адекватно воспроизводит лексику
какого-нибудь цензурного протокола. Например: «наши соотечественники пока¬
заны нравственно разложившимися уродами, способными только на беспробуд¬
ное пьянство. Под стать им и гость из дружественной Финляндии, который очень
быстро оставляет попытки вразумить собутыльников и вместе с ними предается
обильным возлияниям...». Могло такое быть? Конечно. Разница только в том, что
при советской власти ...Национальная охота была бы картиной критической, а по
нынешним временам выглядит апологетически.
Едва ли дело здесь в конкретных реалиях общего бытия. Разве вчера народ
узнал, что милиционеры не брезгуют водочкой на халяву? Всегда знал. Но След¬
ствие ведут знатоки смотрел и смотрит с пониманием и теплотой.
Корова в бомболюке, конечно, экзотика. Но я сейчас пишу, а рядом лежит но¬
мер «Комсомольской правды», где сказано, что наши атомные подлодки приноро¬
вились возить картошку в районы арктической мерзлоты. И ничего. Какое-то кон¬
структорское бюро даже разрабатывает по этому поводу специальную прицепную
баржу.
«Не пей! - предупреждала империя. — По пьянке ты можешь обнять клас¬
сового врага». Интересно, что первые объятия с бывшим врагом совпали как раз
с кампанией всеобщей трезвости. В дальнейшем сбылась мечта пьянчужки-Ве-
нички: «ни в себе, ни в серьезности своего места под небом» не уверен более ни¬
кто. «Товарищи» отменены, «господа» не прижились... Остались «мужики» — типо¬
вое обращение пьющих охотников, рыболовов, соседей по парилке и хоккейных
болельщиков.
423
Кино на ощупь
Есть своего рода закономерность в том, что концепция комического, уперто¬
го в неотменимые свойства национальной души, исподволь формируется именно
на «Ленфильме». Именно «Ленфильм» пересидел неразбериху рыночных страстей,
суету раннего безцензурья, «чернуху», «духовку» и приватизацию. Именно «Лен¬
фильм» дал своим режиссерам на казенный счет переболеть авторством и апо¬
калиптическими канунами, тактично сохранив при этом субординацию между
«творцами» и «начальниками», без чего российский художник хиреет и чахнет.
Комедия — «песнь толпы». Наличием комедии определяется здоровье кино¬
культуры, и именно поэтому хорошей постсоветской комедии еще не было. При¬
кроватный юмор у нас не приживается, социальный гротеск отошел в прошлое.
Кровавая клоунада «под Тарантино» наполняет повседневную жизнь, но даже са¬
мые горячие поклонники Pulp Fiction понимают: на экране такое может разыгры¬
ваться только в стране, где полиция приезжает через полминуты после набора 911,
а, отправляясь на встречу с продюсером, можно быть стопроцентно уверенным,
что встреча состоится минута в минуту. И что за минуту до встречи его не грох¬
нут такие же «продюсеры». Рогожкин сделал клаустрофобическую комедию о хао¬
се, восходящую к абсурдистской галерее прежних советских авторитетов и вместе
с тем вполне претендующую на культовую репутацию сегодня. Со стороны может
показаться, что культ ей обеспечен главным образом среди «совков», «старых рус¬
ских». Не думаю. Потому что, кто такие «новые русские», как не одетые Армани
и Версаче недавние мэнээсы и аспиранты, бывшие стройотрядовцы, шабашники
и КВН-щики, воспитанные на бравом солдате Швейке и Остапе Бендере. Послед¬
него, кстати, любили вовсе не за дух частного предпринимательства, а за то, что,
повинуясь неукоснительному абсурду, великий комбинатор переквалифицировал-
ся-таки в управдомы.
Закончу еще одним личным воспоминанием. Совсем недавно я пересказывал
...Национальную охоту, сидя в кафе на Манхэттене. Под конец слушатели, среди
которых был наш обамериканившийся соотечественник, неравнодушный к Рос¬
сии американец и даже один странствующий немец, вежливо усомнились, будет ли
столь специфический русский юмор понятен зрителям других стран. Я полез было
возражать, но тут вдруг сообразил, что впервые за десять послеперестроечных лет
мне ровным счетом наплевать, поймут или не поймут наш фильм за границей, как
отнесутся к нему фестивалыцики, и что напишут по этому поводу газеты. Поняв,
я не стал спорить. И немедленно выпил.
«Искусство кино». 1995. № 12.
424
1995
Поезд братьев Люмьер еще стоит на запасном пути
Изобретение книгопечатания с течением времени сделало лицо людей
недоступным чтению. Они так много могли читать с листа бумаги, что
другие формы осведомления остались в пренебрежении. Так создались
из видимого, зримого человека - читаемый человек и из видимой,
зрительной культуры - абстрактная культура понятий. Теперь же имеется
машина, дающая культуре новый поворот к видимому и сообщающая
новый лик человеку. Она называется — кинематографом. Она дает
техническое умножение и распространение культурной продукции в более
могущественном масштабе: действие кино на человеческую культуру
активнее книги.
Бела Балаш. «Видимый человек». 1925
Новые средства не так уж новы: они все те же. Лучшее доказательство
тому: компьютеры. Можно было бы подумать, что компьютеры производят
изображения - нет, они производят текст. Люди учатся не видеть, во всяком
случае в нашем «западном полушарии». Кино же - это изображение. Текст -
это нечто иное: это момент, когда изображение символизируется текстом.
Посмотрите сегодня телевидение. Что вы видите? Крошечную квадратную
картинку, снятую с помощью аппаратуры, чья минимальная стоимость —
100000 франков. Это уже не изображение, это даже не картинка, это текст.
Этот текст напоминает вам, что в вас есть образы, что в вас есть желание
образов. Я бы сказал, что кино - это своего рода легенда, поддерживаемая
телевидением.
Жан-Люк Годар. Из выступления на семинаре «Современная эволюция
средств массовой информации и их воздействие на кино». 1985
Совсем недавно в печати промелькнуло сообщение о волне подростковых само¬
убийств, захлестнувших маленькую Гренландию. Поднятые по тревоге социологи
и психотерапевты пришли к неожиданному результату: эпидемия суицида впря¬
мую связана со стремительным распространением на острове телевидения и кино.
425
Кино на ощупь
Один из вынутых из петли тинейджеров объяснил это так: «Раньше я знал, что если
стану удачливым охотником или рыболовом, то мне обеспечена благосклонность
любой девушки. А теперь моя бывшая подружка говорит, что ей хотелось бы позна¬
комиться с Томом Крузом».
Реквием по иллюзиям
К своему сотому дню рождения кино вряд ли могло бы получить лучший подарок.
Это звучит кощунством только для тех, кто забывает: исторический путь Десятой
музы усеян жертвами, а ее призрачный храм полон тенями заблудших между ре¬
альностью и экраном. Всех поименно, конечно, не перечислить, но в эти юбилей¬
ные кинодни стоит вспомнить матросов голландского корабля «Семь провинций»,
неосторожно посмотревших Броненосец «Потемкин» и побросавших за борт сво¬
их собственных офицеров, и советских пацанов, каждый день ходивших на Ча¬
паева в надежде, что он все-таки выплывет из уральских вод. Фанаток Рудольфо
Валентино, одна за другой кончавших с собой на его могиле, и гонконгских пи¬
жонов, несмотря на жару поголовно переодевшихся в глухие черные плащи по¬
сле того, как увидели похожий на своем кумире Чоу Юнг Фате. Нельзя забыть ков¬
боя-медвежатника Генри Старра. В очередной раз выйдя из тюрьмы, он узнал, что
его бывшие подельники подрабатывают на съемках вестернов. Старр тут же сколо¬
тил кинофирму, несколько сезонов снимал ленты о собственных подвигах, а потом
вернулся к прежнему ремеслу и был застрелен во время налета. Совсем рядом с до¬
верчивым американским уркой на кладбище киноиллюзий покоится Сталин, лич¬
но руководивший съемками игровых фильмов о себе самом. Чуть дальше еще при
жизни откупил место Рональд Рейган - американские социопсихологи как дважды
два доказали, что в годы президентства он доигрывал роли, некогда не доставшие¬
ся ему на экране. Поблизости занял последнюю оборону стрелковый взвод, опи¬
санный в одном из фронтовых очерков Бориса Горбатова и ждущий, когда через
непролазные овраги к нему подойдет танковое подкрепление, — в том, что танки
могут прыгать и летать, бойцы убедились после пырьевских Трактористов. Тут
же - могильный камень безымянного французского инженера. Два десятка раз по¬
смотрев Рэмбо-2, он взял отпуск, купил снаряжение и отправился в джунгли Ин¬
докитая на поиски военнопленных. И, вероятно, нашел, потому что больше о нем
никто никогда не слышал.
Реабилитация виртуальной реальности
Один из самых знаменитых трактатов по киноэстетике написан Зигфридом Кра-
кауэром и называется «Природа фильма. Реабилитация физической реальности».
Едва кино появилось на свет, заговорили о неслыханных возможностях художе¬
ственного реализма, о жизни в формах самой жизни. Гуманный и прагматичный
426
1995
XIX век не подозревал, что выпускает на волю одного из главных мифотворцев
следующего столетия. «Живые картинки» охотно смотрела неграмотная слобода.
Оторванный от корней люмпен-класс жадно впитывал новую реальность, куда бо¬
лее реальную, чем реальность как таковая.
Уже после того, как в 1902 Жорж Мельес выпустил киноинсценировку коро¬
нации английского монарха Эдуарда VII за целую неделю до коронации настоя¬
щей, стало ясно: кино и не думает скрывать своих узурпаторских намерений по
отношению к жизни. Им неспроста тут же увлеклись авангардисты с их романти-
чески-инфантильным стремлением к тоталитарной утопии. Виртуальность экра¬
на давала возможность то создать всеобщую знаковую азбуку, то разрезать запе¬
чатленную жизнь на кадрики и переиначить в самых фантастических сочетаниях.
Больше всех преуспела в этом советская Россия, где авангард на несколько лет
стал общегосударственным делом. Наше монтажное кино 20-х открыло идеологи¬
ческую подоплеку «важнейшего из искусств» - не отрываясь от реальности, сде¬
лать ее средством агитации и пропаганды. Результат не заставил себя ждать. «Золо¬
той век» имперских кинокультур, будь то Россия или Америка, полностью выразил
свои мифологии через киноизображение. «Поющий народ» из фильмов Григория
Александрова или индивидуальная харизма голливудских секс-звезд творили миф
окружающего мира из его собственной внешности. Изобретение братьев Люмьер
было первым шагом человечества в виртуальную реальность. Дальнейшее оказа¬
лось делом техники. Разница между зрителями первого киносеанса, по преданию
шарахнувшимися от приближающегося с экрана поезда, и игроком в компьютер¬
ный Терминатор не так уж велика - и там и здесь условная глубина картинки
предлагает забраться внутрь и пережить упоительное приключение. Когда-то ге¬
ниальный Сергей Михайлович Эйзенштейн обосновал концепцию «монтажа ат¬
тракционов». Экономя экранное время и зрительские эмоции, он сталкивал в кад¬
ре эффекты направленного действия, побуждающие подкорку к дологическим
воспоминаниям. Сегодня на таком монтаже построен каждый второй видеоклип
MTV. Время изменилось, идеология умерла, а эйзенштейновский Броненосец «По¬
темкин», десятилетиями возглавлявший рейтинги лучших фильмов всех времен
и народов, «уплыл» на менее престижную позицию. Но достижения остались. Со¬
крушительная сила изображения и террор зримого знакового письма, освоенные
новейшими СМК, встречают нас на пороге следующего тысячелетия.
Жизнь и приключения мумии
Одним из первых проектов братьев Люмьер была культур-акция, предвосхитив¬
шая телевизионный «Клуб кинопутешествий». В кинороликах, накрученных опе¬
раторами во всех концах света, сегодня поражает полное отсутствие туристиче¬
ского символизма. Показывая Вену, Санкт-Петербург или Лондон, на теперешний
427
Кино на ощупь
Путешествие на Луну. Реж. Жорж Мельес. 1902
взгляд проще всего снять Бургтеатр, Медного всадника или Тауэр. Однако люмье¬
ровские эмиссары останавливались перед второстепенной вроде бы натурой - пе¬
шеходными улицами, бульварами, конными экипажами и народными гуляниями.
В пору младенчества кино еще не утеряло интереса к образу действительности, до¬
ступного в немыслимых прежде динамике, движении, действии.
Увлечение иссякло очень быстро. Едва столкнувшись с потребностью рассказы¬
вать истории, Десятая муза перешла на язык знаков. Иначе и быть не могло. В середи¬
не 30-х годов прозорливый немецкий культуролог Вальтер Беньямин предупредил:
в эпоху технической воспроизводимости искусство теряет ауру, индивидуальную
энергетику образа (позднее Андре Базен скажет о кинообразе как «мумификации»
реального мира). И хотя в своей стремительной популярности кино наследовало
буйным плебейским забавам вроде цирка, варьете или кулачного поединка, именно
оно приучило человечество к иероглифам зримого смысла, к магическим знаковым
пассам. Лучше всех об этом сказал Луис Бунюэль: «Мне кажется, что кино оказы¬
вает на зрителей гипнотическое действие. Посетители театра, корриды и стадионов
проявляют больше энергии и воодушевления. Легкий и неосознанный гипноз ки¬
нематографа объясняется атмосферой темного зала, а также чередованием планов,
светом и движением камеры, которые ослабляют критический разум зрителя и ока¬
зывают на него воздействие, сходное с наваждением и насилием».
428
1995
Прибытие поезда на станцию Сьота. Реж. Огюст и Луи Люмьер. 1895
На первых порах апологеты Седьмого искусства любили твердить о его хра¬
мовой природе. Кино сравнивали с платоновской «пещерой», где эманации верхов¬
ного смысла проецируются контурами подвижных теней. Тогда еще никто не знал,
что за алтарем храма спрятался шарлатан-гипнотизер, а на стенах пещеры отража¬
ются не формулы истины, а почти словесные инструкции по социальному поведе¬
нию. На теле- и видеоэкранах или на мониторе компьютера они прочитываются
еще отчетливее. Но там же и виднее, что первый сеанс коллективного гипноза че¬
ловечество пережило сто лет назад на парижском бульваре Капуцинов.
Кино следующего столетия будет черно-белым
С самых первых шагов кинематограф принялся отстаивать право на жизнь. Сна¬
чала он огрызался на старшие искусства. Литературу, живопись, театр. Вели¬
кий Гриффит изобрел параллельный монтаж, вспоминая о прихотливом устрой¬
стве романов Диккенса. Немецкие экспрессионисты всерьез считали кинопленку
средством оживления живописного полотна. Французы упорно и неудачно обла¬
гораживали «низкое зрелище» наследием классического театра. В конце 20-х, ко¬
гда кино стало звуковым, оно схватилось само с собой — навыки монтажного пе¬
риода пришли в противоречие с требованиями разговорной кинопьесы. В 30-е
годы опасность забрезжила со стороны радио - так называемые «семейные»
429
Кино на ощупь
фильмы Голливуд сотнями производил только для того, чтобы оттащить семью от
радиоприемника.
Телевидение, видео, спутники и компьютеры снова выгнали зрителей из ки¬
нозалов. Экран, еще недавно бывший окном в мир, сузился до размеров планше¬
та. Кнопка ускоренной перемотки и пульт дистанционного управления позволили
каждому превращать фильм в произвольный знаковый коллаж. Кино боролось из
последних сил, расширяя экран, разоряясь на стереозвук и цветопередачу, заим¬
ствуя клиповый ритм, электронные спецэффекты и сознательно заигрывая с под¬
ростками, которым всегда охота побыть вдвоем в темноте и вдали от родителей.
«Видео фиксирует пространство, а кино работает с формами времени», - вос¬
клицает последний авангардист Жан-Люк Годар. «Видео относится к кино как
смерть к жизни», — вторит ему Вим Вендерс. Это, конечно, не так. Смерть есть
смерть, и разница только в способе убийства - пулей образца 1895 года или новей¬
шим электронным оружием. Впрочем, оружие вековой давности уже представля¬
ет музейную ценность. Сегодня, когда былые функции кино переняли новейшие
электронные медиумы, ему самое время вспомнить о своих упущенных в гонке
эстетических возможностях. О возможностях черно-белого безмолвного искус¬
ства экранной пантомимы. А если так, то поезд братьев Люмьер, сто лет назад при¬
бывший на вокзал Ла-Сьота, еще ждет своего часа на запасных путях.
«Ъ». 1995. 27 декабря.
430
1996
Русская идея на мировом экране
Одним из заметных событий этого года стал всемирный проект British Film
Institute, посвященный 100-летнему юбилею кино. Каждая национальная кинема¬
тография представляет о себе телевизионный фильм, сделанный кем-то из при¬
знанных киноавторов. От имени своих кинодержав выступили Жан-Люк Годар,
Бернардо Бертолуччи, Нагиса Осима, Мартин Скорсезе, Стефен Фрирз, Кшиш¬
тоф Кесьлевский. Историю русского-советского кино зрители всего мира уви¬
дят в интерпретации петербургского режиссера Сергея Сельянова. В рождествен¬
скую ночь 6 января 1996 года его фильм Русская идея был показан по телеканалу
«Россия».
Свой взгляд на историю американского кино Мартин Скорсезе назвал
«А Personal Journey Through American Movies». Жанр «частного путешествия»
словно подчеркивает значимость индивидуальности — краеугольного камня демо¬
кратического мифа. Авторский путеводитель по отечественному экрану режиссер
Сергей Сельянов и автор сценария Олег Ковалов озаглавили Русская идея, проци¬
тировав тем самым известную работу философа Николая Бердяева и с самого нача¬
ла определив место кинематографа в системе надперсональных идей и ценностей.
Лучших толкователей «русской идеи», чем Сельянов и Ковалов, в послепере-
строечном кино, пожалуй, не найти. И не только потому, что каждый режиссер
«Ленфильма» втайне мечтает снять Сельянова в роли Достоевского, а Олег Кова¬
лов в фильме Бумажные глаза Пришвина уже сыграл странного человека-мутан¬
та сталинских 50-х, уничтоженного великой и жестокой эпохой. Сельянов снимал
«русское» кино еще в те времена, когда оно было формально «советским». Его День
ангела, Духов день и совсем недавняя картина Время печали еще не пришло были
проникнуты сказочной мистикой и наивным волшебством. Олег Ковалов, в неда¬
леком прошлом один из лучших отечественных киноисториков, изучал авангард
20-х, а сейчас сам снимает фильмы в духе радикального авторского эксперимента.
Союз мистика и авангардиста - лучшее доказательство тому, что мир идей
в нашем искусстве еще не окончательно разрушен. Из столетней истории отече¬
ственного кинематографа авторы выбрали период 20-30-х годов, когда романти¬
ческая утопия художественного авангарда потеснила на экране реальность и ста¬
ла новой коллективной религией. В Русской идее, смонтированной из фрагментов
советской киноклассики, по существу нет ни одного малоизвестного кадра. Сце¬
нарист и режиссер не претендуют на открытие нового - они всего лишь предла¬
гают внимательно всмотреться в то, что кажется выученным наизусть. Фильмы
433
Кино на ощупь
Иван Грозный. Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944-1945
Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Барнета, Роома предстают как зримые запо¬
веди новой веры, перенявшей многовековую метафизику русской души.
Взрываются купола церквей, летят наземь кресты, но в кадрах из эйзенштей¬
новского Бежина луга в оскверненный храм входят атеисты с лицами ветхоза¬
ветных святых. Большевик из фильма Бориса Барнета Окраина похож на Христа
в пустыне, а герой Арсенала Александра Довженко - на библейского пророка. Зна¬
менитая одесская лестница из Броненосца «Потемкина» напоминает цирк, в ко¬
тором умирали первохристиане, а финал Матери Всеволода Пудовкина - восхо¬
ждение на Голгофу. По версии Сельянова и Ковалова коммунистическая идеология
обещала русской душе то, к чему она всегда стремилась — жестокие мучения в на¬
стоящем и вечное блаженство в будущем. Фильм кончается кадрами из Сталке¬
ра Андрея Тарковского. Под взглядом юродивой девочки по столу передвигают¬
ся предметы. Посмотрев Русскую идею, сомнений в происхождении этой силы не
остается.
Русская идея не случайно прошла по телевидению в канун православного Ро¬
ждества. В советские времена Олег Ковалов был диссидентом, а Сергей Сельянов
снимал параллельное кино, но при любой власти душа русского интеллектуала
и художника стремится к метафизической утопии. Что лишний раз подтверждает
живучесть «русской идеи».
«Пульс». 1996. Февраль.
434
1996
Париж читает дневники Йонаса Мекаса
Дерево на улице — реально. Но, снимая дерево, я исключаю его из всей
окружающей реальности. Таких отдельно снятых деталей в моей коллекции
много, и все они для меня значимы, даже если я сам не знаю почему. Мой
фильм - это реальность, пропущенная через меня, и тому, кто сможет его
«прочесть», он расскажет гораздо больше обо мне, чем о городе, в котором
я снимал. Не важно, как я снимаю - ускоренно или замедленно, как выбираю
угол съемки. В фильме запечатлено определенное историческое время,
но в образах, которые скорее говорят о моей субъективной реальности.
Йонас Мекас. Из лекции «Дневниковый фильм». 1972
8 февраля в Американском Центре (American Centre) в Париже открылась ретроспек¬
тива фильмов Йонаса Мекаса. Одновременно в парижской галерее Аньес Б. (Galerie
du Jour Agnes В.) пройдет выставка его фотографий, инсталляций и рукописных ра¬
бот. В качестве экспонатов демонстрируются также дневники и путевые заметки ре¬
жиссера. В этом нет ничего удивительного - один из последних авангардистов ухо¬
дящего века всерьез считает кинематограф разновидностью дневникового письма.
После того, как на Международном киносеминаре 1972 года Мекас прочел свою
известную лекцию «Дневниковый фильм», текст этого устного эссе регулярно пере¬
печатывается всеми антологиями киноавангарда. Мекас говорил о том, что в после¬
военную эпоху мир заполнили displaced persons - перемещенные лица. Люди вне
крова и закона, обреченные искать последнее прибежище в культуре. Кинематограф
перемещенного лица - это бесконечная череда дорожных наблюдений, саморефлек-
сий и набросков, моментальных снимков и случайных встреч. «Я не вижу разни¬
цы между тем, как дневник пишется и снимается», — заявил Мекас, на протяжении
многих лет сам монтирующий свои картины по следам ежедневных впечатлений.
Случись Мекасу заняться кино в другое время и в другом месте, он, возможно,
навсегда остался бы чудаковатым визионером-любителем. Этого, однако, не про¬
изошло. Перемещенное лицо, беженец и эмигрант начал снимать в Америке начала
50-х. В эпоху, когда растущая как на дрожжах сверхдержава жадно импортирова¬
ла художественные идеи Старого Света. Громкие имена она ввезла еще раньше -
спасаясь от войны, мэтры европейского авангарда дружно двинулись за океан. Без
особого преувеличения можно утверждать, что весь американский киноандегра¬
унд вырос из цикла лекций, прочитанных в Нью-Йорке бедствующим на чужбине
немецким маэстро Гансом Рихтером.
435
Кино на ощупь
Йонас Мекас. 1971
436
1996
Уолден. Реж. Йонас Мекас. 1969
Азартные, но лишенные европейских культурных традиций, американские
«независимые» устремились в схватку с Голливудом и на борьбу за идейно-худо¬
жественный суверенитет. «Фабрику грез» они так и не одолели. Свободы добились
очень быстро. Больше сражаться было не с кем. Манифесты стремительно превра¬
щались в болтовню, а авангардисты в городских сумасшедших. Осталось одно — са¬
мовыражаться любой ценой, вплоть до мимолетностей субъективного зрения или
капризов физиологии (нечто похожее декларировало и первое поколение битни¬
ков, объявивших собственный организм центром вселенной).
В этой эпохе и в этой компании Йонас Мекас с его маниакальной страстью
авторского кинокалендаря оказался на месте. Будучи обозревателем богемного
«Village Voice», он вылил немало яда в адрес Голливуда, потом организовал соб¬
ственный журнал, где печатал академические штудии вперемежку с полуграмот¬
ными декларациями соратников по киноподполью. В его первом полнометражном
фильме Оружие деревьев пятеро героев размышляли о самоубийстве и бродили по
городским улицам в поисках смысла жизни. В финале слабонервная поэтесса на¬
кладывала на себя руки, а ее подружка-негритянка решалась рожать. Прямая как
Бродвей метафора «рождение - смерть» обрамлялась цитатой из Шелли: «Любовь
раскинет над миром крылья исцеления»...
Оружие деревьев Мекас назвал «письмом, написанным безумным сердцем
сумасшедшего мира». В эпистолярном жанре, тем не менее, подразумевается ад¬
ресат. Свою самую знаменитую картину Бриг, получившую Гран-при докумен¬
тального конкурса в Венеции, Мекас сделал как будто без адреса. Всего за одну
ночь он снял на пленку одноименный спектакль «Ливинг Театра». Действие про¬
исходит в матросской тюрьме, участники поочередно превращаются то в жертв,
437
Кино на ощупь
то в экзекуторов. Авторская кинорежиссура сведена почти к нулю, за исключе¬
нием одного обстоятельства: запечатленное Мекасом представление было послед¬
ним. Наутро после съемки радикальная труппа трогалась с места и разбредалась
кто куда.
Таким образом, коллекционер-соглядатай внес в свой кинодневник уникаль¬
ный автограф неповторившегося мгновения.
Йонас Мекас никогда не претендовал на официальную летопись. В его со¬
бранных из микрокусочков фильмах реабилитируется эстетика home movie - до¬
машнего кино или семейного альбома. Знаменитые и незнаменитые люди едят,
пьют, болтают и бездельничают. Роберто Росселлини кайфует на террасе рестора¬
на в Центральном парке. Энди Уорхол, Леннон и Йоко Оно обжираются дамплин-
гами — китайскими пельменями. Приехав через четверть века в родную Литву,
режиссер обошелся почти без пафоса. Под музыку Чюрлениса на экране разыгры¬
вается все тот же быт — жующие, спешащие, косящиеся в камеру персонажи, слу¬
чайные герои ностальгии и возвращения.
Ценность любого дневника возрастает со временем. Нечто похожее происхо¬
дит и с фильмами Мекаса. На расстоянии отдельные фрагменты авторской мозаи¬
ки укрупняются, бережно сохраненные листки отрывного календаря отзываются
документами истории. В фильм Он стоит в пустыне вошли съемки почти за 16
лет. Вперебивку с пояснительными титрами рабочие выходят с фабрики в Питс¬
бурге, пожарные борются с огнем на манхэттенской улице, сам Мекас покупает ро¬
ждественскую елку... Хранитель французской Синематеки Анри Ланглуа приезжа¬
ет навестить Ганса Рихтера. Съемка помечена августом 1970-го. Рихтер умрет через
шесть лет, Ланглуа переживет его всего на год... Впрочем, в какой-то момент, поль¬
зуясь правом субъективного отбора деталей, Мекас отвлекся от застолья живых
классиков и крупно запечатлел роскошную зеленую жабу, уютно примостившую¬
ся в кустах.
«Ъ». 1996. 8 февраля.
438
1996
Материал, из которого сделаны сны,
или У истоков черного романтизма
55 лет назад на американском экране состоялись две знаменательные премьеры.
В феврале 1941 года на студии RCO Орсон Уэллс завершил монтаж Гражданина
Кейна — фильма, тут же заставившего весь мир говорить о реформе авторского ки¬
ноязыка. В том же году Warner Bros. выпустили Мальтийского сокола Джона Хью¬
стона, ознаменовавшего поворот криминального кино к черной романтике. Уэллс
изготовил абсолютно штучный продукт. Хьюстон всего лишь обновил канон по¬
пулярного жанра. Однако спустя полвека, когда авторство обратилось в своего рода
жанр, а жанровое кино не раз обнаружило авторскую природу, их фильмы оказы¬
ваются куда ближе друг другу, чем прежде.
Автор и жанр
И Гражданин Кейн, и Мальтийский сокол были, по существу, режиссерскими де¬
бютами. Разница состояла лишь в том, что Уэллсу в ту пору едва исполнилось 25,
а Хьюстону уже основательно перевалило за 30. Их судьбы пересекались и в даль¬
нейшем. Хьюстон играл в незавершенной уэллсовской Оборотной стороне ве¬
тра и анонимно соавторствовал в сценарии Чужестранца — фильма, который
Уэллс не любил, считая крупной неудачей. Уэллс, в свою очередь, не раз снимал¬
ся у Хьюстона. В том числе в экранизации так и не поставленного им самим Моби
Дика.
Мегаломана и выдумщика Уэллса называли то «титаном Возрождения», то
«бездарным гением». Его фильмы, невзирая на сюжет, сотрясались от избытка ав¬
торской фантазии и до сих пор остаются непревзойденным примером экранно¬
го маньеризма, когда грандиозная форма существует независимо от ничтожно¬
го подчас содержания. Суховато-ироничный традиционалист Хьюстон, напротив,
неизменно прятал людские страсти под обложкой крепко сделанной кинопове¬
сти и питал устойчивую привязанность к хорошей драматургии. Хьюстон обла¬
дал тонким чутьем на актеров - у него по-новому раскрывались звездные ими¬
джи Хэмфри Богарта и Мэрилин Монро. Уэллс сам исполнял главные роли во всех
своих фильмах и, играя в чужих постановках, беззастенчиво вмешивался в ре¬
жиссуру. Хьюстон снял около четырех десятков картин. Официальная фильмогра¬
фия Уэллса в несколько раз короче списка его незавершенных и несостоявшихся
проектов.
На сходство дебютов столь несхожих в дальнейшем режиссеров впервые обра¬
тил внимание проницательный Андре Базен. По его словам, между Гражданином
439
Кино на ощупь
Гражданин Кейн. Реж. Орсон Уэллс. 1941
Кейном и Мальтийским соколом присутствовала некая «сокровенная гармония»,
вызванная зыбкой атмосферой последних предвоенных лет и торжеством «само¬
углубления и двойственности». Каждый по-своему, Уэллс и Хьюстон воплотили
романтический облик кризисной киноэпохи с ее цинизмом, надеждами, крахом
иллюзий и волей к власти.
Сюжет
Согласно легенде, после первого же просмотра Гражданина Кейна Уэллс предло¬
жил большие откупные соавтору сценария Герману Манкевичу. Если это и правда,
то легко объяснимая — в Кейне рассказана одна из самых оригинальных историй
мирового экрана. Обманчиво опираясь на традицию голливудского «байопика»,
фильм по кусочкам восстанавливал вымышленную биографию гениального само¬
дура, газетного короля Чарлза Фостера Кейна. Сюжет двигался вспять, титаниче¬
ская фигура героя складывалась из воспоминаний и свидетельств. Овладев всем,
Кейн лишался всего — друзей, женщин, веры и принципов. Сверхчеловек и идеа¬
лист одиноко умирал в своем несуразном замке, успев напоследок пробормотать
что-то о загадочном «розовом бутоне».
Хьюстон, наоборот, взялся за почти отработанный материал. Роман Дэшилла
Хэмметта «Мальтийский сокол» вышел в свет в 1930 году и уже успел выдержать
440
1996
Мальтийский сокол. Реж. Джон Хьюстон. 1941
две экранизации. В 1931-м фильм по нему снял Рой дель Рут, пять лет спустя —
Уильям Дитерле. Версия Дитерле называлась Сатана встретил леди. Hard boiled
детектив трактовался как криминальная мелодрама об отношениях сыщика и на¬
нявшей его клиентки.
В основе фильма Хьюстона тоже была история чувств, но чувств совсем дру¬
гого рода. Красотка Бриджит вовлекала частного детектива Сэма Спейда в заго¬
вор вокруг отлитой из драгоценного металла статуэтки «мальтийского сокола». Рас¬
путав вереницу интриг, сыщик заодно убеждался в вероломстве подруги-убийцы
и сдавал ее властям. Финал классического сюжета-расследования всегда подразу¬
мевает истину, а значит - победу. Сэм Спейд выигрывал, но, как и в Гражданине
Кейне, победитель не получал ничего, кроме очередных доказательств человече¬
ского несовершенства.
Герой
Фильм Уэллса начинался со знаменитой надписи на воротах замка Чарли Кейна.
«No trespasses» — «частные владения». В первых кадрах Мальтийского сокола ка¬
мера пробиралась в офис Сэма Спейда через окно, украшенное вывеской частного
детективного агентства. И там и здесь действие происходило на суверенной терри¬
тории героя-одиночки. Ступив на нее, Уэллс сокрушал массовую мечту о личном
441
Кино на ощупь
Джон Хьюстон. Фот. Рой Джонс. 1972
442
1996
Орсон Уэллс. Фот. Джон Спрингер. 1941
443
Кино на ощупь
успехе, но тут же поднимал это крушение до шекспировских высот. Едва ли не
впервые на американском экране социальный миф обретал мощь трагического ха¬
рактера. Хьюстон изымал из жанрового клише позитивную начинку — слуга закона
с повадками гангстера превращался в нового антигероя, одинокого охотника и сол¬
дата удачи.
Романтический герой обязан быть фаталистом. Судьбы финансового магната
и наемного сыщика рифмовались на уровне последнего смысла. Экранное житие
Кейна начиналось с конца, после смерти. В роли Сэма Спейда родился культ Хэм¬
фри Богарта, малоизвестного прежде актера с нервным лицом и неважной дикци¬
ей. Во время службы на военном флоте Богарт получил серьезную травму - с тех
пор его полупарализованные губы складывались в улыбку, напоминающую оскал
мертвеца. Через 16 лет Андре Базен напишет о том, что экранный имидж «Богги»
воплощал маску «отпущенного на побывку трупа», а сила, таившаяся в слабом теле,
питалась стойкой иронией человека, пережившего собственную смерть.
Формула
И Гражданина Кейна, и Мальтийского сокола до сих пор недолюбливают феми¬
нистки. В романтической кинотрагедии женщине выпала роль искусительницы
и опасной жертвы, чья слабость неизменно вводит героя-мужчину в ложный со¬
блазн. Бриджит О’Шонесси, сыгранная в Мальтийском соколе Мэри Астор, от¬
крыла галерею новых голливудских femme noire — циничных, лживых и обман¬
чиво-беззащитных. Прекрасные безжалостные дамы 30-х годов испепеляли своих
избранников и сами гибли в огне страсти. В изменившейся формуле из возлюб¬
ленной женщина стала ненадежной партнершей, оборотнем, всегда готовым изме¬
нить и предать. Доверившись женщине, Спейд вслепую рисковал жизнью. Самые
грандиозные планы Кейна срывались на почве его эксцентричных романов. Связь
с безголосой певичкой Сюзен (Дороти Комингор) стоила ему кресла губернатора
Нью-Йорка, а позже выставила на посмешище всей Америки в роли покровителя
несуществующего таланта. Как и следовало ожидать, в конце концов Сюзен удрала
от Кейна, оставив его умирать в одиночестве посреди пышной и бесполезной рос¬
коши. Сэм Спейд оказался проворней и первым нанес удар, отдав Бриджит в руки
полиции. Он отправлял ее на верную гибель, но как иначе мог поступить герой,
чьим куртуазным кодексом было отчаяние, а настоящей возлюбленной - смерть.
Иллюзии
Замок Кейна Уэллс назвал «Ксанду», процитировав тем самым поэтический фраг¬
мент англичанина Самюэля Тейлора Кольриджа «Кубла Хан». По признанию
Кольриджа, строки фантастической поэмы явились ему в состоянии опиумного
транса. Боготворимое романтиками иллюзорное измерение Уэллс опрокинул на
444
1996
мифологию Нового Света - «человек, сделавший сам себя» жил в окружении химер
и фантазмов. Несентиментальному Спейду иллюзии вышли боком - в какой-то мо¬
мент охотники за сокровищами подмешали опиум ему в стакан и вдобавок крепко
приложили по голове. Сыщик оклемался, но от романтических заблуждений не из¬
бавился. Они же увенчали и оба фильма. «Розовый бутон», над разгадкой которого
бились биографы Кейна, оказался картинкой на детских саночках, отправившихся
в печь вместе с невостребованным барахлом почившего титана. Фигурка погубив¬
шего несколько жизней мальтийского сокола на поверку обернулась фальшивкой,
выкованной «из того же материала, из которого сделаны сны» — этой почти шек¬
спировской фразой Сэма Спейда заканчивался фильм.
Мифы тоже растут из иллюзий. Сэм Спейд - Хэмфри Богарт умер, дожив
только до пятидесяти шести. Как гласил некролог «Cahiers du cinema» — от рака
пищевода и полумиллиона рюмок виски. И, встретив столько раз пережитую на
экране смерть, доказал, что жанровый миф все равно имеет автора. «Розовый бу¬
тон» - знаменитые салазки из реквизита Гражданина Кейна — совсем недавно ку¬
пил на голливудском аукционе Стивен Спилберг. Один из тех, кто доказал, что ме¬
жду автором и жанром нет никакой разницы.
«Ъ». 1996. 24 февраля.
445
Кино на ощупь
Бергман и Дрейер: Молчание и Слово
В статье «Поэтическое кино» Пьер Паоло Пазолини написал, что лингвистический
инструментарий экрана глубоко иррационален, поскольку лежащая в его основе
визуальная коммуникация не приведена в сколько-нибудь законченную систему.
Лексика фильма складывается из двух последовательных процедур: автор берет
из зрительного хаоса образы-знаки, систематизирует их в своем собственном ка¬
талоге и только потом высказывается всякий раз заново обретенным языком. Та¬
ким образом в кино постепенно образуется что-то вроде словаря, где стилистика
предшествует грамматике, или, говоря проще, кинообразы имеют под собой вы¬
раженную субъективную природу, поскольку тот или иной кинематографист на¬
делил определенным переносным значением этот, а не другой фрагмент зримо¬
го мира1.
С этим утверждением можно спорить, однако оно, безусловно, восходит к са¬
мой сути киноязыка, бытующего в триединстве мировидения, зрительного образа
и техники съемки. Последний фактор редко учитывается и еще реже описывается
применительно к «художественным» аспектам кинематографа, что совершенно не¬
правильно. Кино - техническое искусство, и все его великие жрецы от Мельеса до
Хичкока и от Кулешова до Антониони были увлеченными «технарями», то есть по¬
нимали, что кинематографическая машинерия напрямую связана с образом мира.
Чтобы попасть из одной комнаты в другую, достаточно одного-единственного мон¬
тажного стыка, но Ренуар в Правилах игры предпочел раздвинуть стену павильо¬
на, чтобы не останавливать непрерывное движение камеры - этот тревелинг спо¬
собен сказать о «горизонтальном гуманизме» режиссера куда больше, чем диалоги
иных его фильмов. Ниже придется не раз останавливаться на внешне технологиче¬
ских аспектах киноизображения - движении камеры, ракурсе, крупностях и т. д.,
на всем том, что привычно связывается с абстрактной киновыразительностью, но
и на том, что в работе больших киномастеров является частью мировоззрения.
Очевидно, что, включая черты авторского видения, образный кинословарь
имеет под собой и иные, имперсональные основы - социальные, культурные, ре¬
лигиозные. Зрение воспитывается - об этом много писал Рудольф Арнхейм, на
этом частично построил свою теорию кинематографического интертекста Ми¬
хаил Ямпольский. Не претендуя на столь же объемный охват проблемы, мне бы
1 Пазолини П. П. Поэтическое кино. - В сб.: Строение фильма: Некоторые проблемы анализа произведений
экрана. М., 1984.
448
1996
хотелось провести несколько параллелей, связанных с фигурой Бергмана, одно¬
го из последних модернистских киноавторов, для которого индивидуальный язык
есть немалая составляющая творчества.
В 1928 году Карл Теодор Дрейер выпустил Страсти Жанны д'Арк — по словам
Жоржа Садуля, «первый звуковой фильм эпохи немого кино». Первая часть доку¬
ментальной реконструкции процесса над Орлеанской девой строилась на панора¬
мах внутри здания суда, в третьей и заключительной камера Рудольфа Матэ раз¬
машисто двигалась по площади, на которой происходила казнь.
Особое место в истории кино занимает центральная часть картины - поеди¬
нок суперкрупных планов Жанны и ее судей. «Благодаря крупным планам, — го¬
ворил впоследствии режиссер, — зритель получал те же удары, что и Жанна, ко¬
гда ее мучили вопросами»2. Анализируя эту эстетику, Михаил Ямпольский точно
заметил, что рамка кадра, «обрезающая» лицо героини, в конце концов доставля¬
ет зрителю физическую боль, - ту же боль, которую испытывает истязаемая плоть
и которая превозмогается духовным усилием3. Границы экрана и внутриэкранная
реальность вступают в дополнительные надконвенциональные отношения, услов¬
ное пространство размыкается в область безусловных ощущений.
Дрейер снял фильм о победе духа над материей. При этом Страсти... до сих
пор остаются одним из самых значительных примеров европейского модернизма.
Хотя бы потому, что «средневековый человек» Дрейер, ориентированный в восхо¬
дящей иерархии ценностей, не признавал культурной «середины» (вслед за Хансом
Зедльмайром определим модернизм как «утрату середины»). «Болевой» эффект
крупных планов выдает в Дрейере и навыки класической доэкранной традиции,
той самой, которая заставляла первых кинозрителей воспринимать укрупненные
части человеческого тела как «расчлененку». С другой стороны, выход за преде¬
лы художественного текста означает типичную авангардную акцию, устремлен¬
ную в срединную зону между искусством и жизнью. Авангард, как радикальный
образ действия художника-модерниста, часто высвобождает витальные энергии,
стремясь к сверххудожественному влиянию - парадоксальным образом у религи¬
озного аскета Дрейера физическим бытием наделяется сам фильм.
Впрочем, особого парадокса здесь нет. Дрейер-протестант не случайно избрал
лица в качестве неопосредованных объектов физической реальности (впослед¬
ствии он признал, что решающую роль в этом выборе сыграл Броненосец «Потем¬
кин», открывший ему выразительность физиогномики без грима). Снятые на сверх¬
чувствительную по тем временам панхроматическую пленку, лица Страстей...
2 Цит. по: Садуль Ж. Всеобщая история кино, т. 4. М., 1982, с. 350.
3 Ямпольский М. Страсти Жанны д’Арк. - Искусство кино, 1987, № 10.
449
Кино на ощупь
Ингмар Бергман. Фот. Ирвинг Пенн. 1964
450
1996
Карл Теодор Дрейер. Фот. Ричард Аведон. 1958
451
Кино на ощупь
обнажили ландшафт души в соприкосновении с главным элементом поэтики
Дрейера — словом. Известно, что режиссер заставлял исполнителей наизусть за¬
учивать протоколы допросов Жанны и артикулировать в немом кадре именно те
слова, которые затем повторялись как титры и как судейская запись. Истинность
высказывания поверялась телесной болью, дух жил в слове, слово умерщвляло
плоть, но оно же через страдание спасало душу. Лицо как образ души, вообще, сле¬
дует признать одним из главных понятий в авторском словаре Дрейера. Напри¬
мер, в снятом следом за Страстями... Вампире (1932) капитуляция перед злом де¬
монстрировалась в одном-единственном крупном плане героини — мимическую
задачу здесь можно было бы определить как «этюд на оглупление взгляда». Че¬
рез взгляд Дрейер, неизменно испытывавший метафизические границы изобра¬
жения, показал и знаменитый эпизод сна Дэвида Грея; эпизод, впоследствии на¬
званный Роланом Бартом «пределом, у которого кончается кинематографическая
репрезентация»: герой заглядывал в гроб и видел там самого себя, лежащим с от¬
крытыми глазами.
В прологе Земляничной поляны Исаак Борг тоже заглядывал в гроб и тоже ви¬
дел себя. Значит ли это, что Бергман работал «за» пределом визуальной репрезен¬
тации и за гранью той строгой иерархии смыслов, которой придерживался Дрей¬
ер? И да, и нет. Если Дрейер стоял у истоков киномодернизма, то фильмы Бергмана
рубежа 60-х во многом показали вычерпанность модернистского лексикона. Дрей¬
ер утверждал метафизику бытия, Бергман рассматривал его экзистенциальную
проекцию. У Дрейера Высшая Сила выражалась в Слове, Бог Бергмана молчит. Ге¬
рои Дрейера истязали плоть и спасались Словом, герои Бергмана трагически без¬
молвны, и их молчание почти физиологично.
В какой-то мере преемственность этих мотивов отражает и кризисную эволю¬
цию модернизма, проделавшего путь от создания метаязыка к отказу от языка вооб¬
ще, от универсальной коммуникации — к осознанной некоммуникабельности. Тем
важнее найти закономерности в образном строе обоих режиссеров, очевидно при¬
надлежащих одной культурной традиции и использующих близкую кинолексику.
Бергмановская Персона появилась в 1966 году, почти через сорок лет после
Страстей Жанны д'Арк, и была воспринята современниками как реквием по раз¬
общенности человечества. Осознав жестокость мира, актриса Элизабет Фоглер
добровольно возлагает на себя обет молчания. Впрочем, этот вполне сакральный
акт, как всегда у Бергмана, подвержен сомнению. Персона не отвечает, кто будет
спасен - Элизабет, чье самоотречение граничит с гордыней, или медсестра Альма,
чье «человеческое, слишком человеческое» почти самоотверженно.
В Страстях Дрейер заставил немое кино заговорить. В звуковой Персоне
Бергман принудил героиню молчать. Слово, как таковое, больше не значит ниче¬
го, а Истина, бывшая прежде единой, раздваивается на «аниму» и «персону». Чем
452
1996
больше обоюдное знание двух женщин, тем сильнее их ненависть-любовь. В фина¬
ле Бергман показывает один из самых страшных портретов в истории кино - жи¬
вую маску, составленную из половинок лиц Альмы и Элизабет.
Лицо Жанны у Дрейера было зримым знаком целости души, стремящейся
к духу и преодолевающей притяжение материи. Лицо Бергмана — разрыв плоти
и двойственность Истины. Крупные планы героинь соприсутствуют в кадре, то
и дело накладываются и перекрывают друг друга, а потом и вовсе образуют некое
мучительное целое. На протяжении всего фильма Альма умоляет Элизабет загово¬
рить, Элизабет произносит только одно слово. И слово это - «ничто».
Дух оставляет душу, маска прирастает к лицу, безмолвие не помнит о Слове.
Целостный мир Дрейера у Бергмана двоится, распадается, враждует. В середине
действия Персоны лицо Альмы лопается пополам и горит. Создается впечатление,
что «фильм «сломался», не выдержав тяжести запечатленного в нем невыносимо¬
го страдания, а затем, ощутив в себе магическую способность к самовозрождению,
возобновился, продолжился», - так написала в своем знаменитом эссе о Персоне
Сюзен Зонтаг4. Но «ломается» не только лицо героини и не только фильм — с ними
вместе сгорает и тайнопись модернистского кинословаря, столь загадочно найден¬
ная Дрейером и столь безжалостно расшифрованная Бергманом. В Страстях...
сам факт экранного зрелища составлял дополнительный, надконвенциональный
код - фильм «истязал» собственное изображение ради прорыва на уровень иной,
безусловной целости, которую нельзя описать и в которую можно только верить.
Персона начинается как «рождение» фильма и заканчивается как его «умирание» —
нить волшебного фонаря зажигается и гаснет, кадр светлеет в начале и погружа¬
ется в темноту в конце. Обрыв пленки в середине, как вскрик или пароксизм боли,
напоминает о том, что фильм не просто обладает отдельным физическим бытием,
но тоже смертен, и что страдание и смерть отныне становятся не испытанием веры,
а категориями художественного самоописания. И если в Страстях внеположен-
ный фильму дух преодолевал физическую реальность экрана, то в Персоне «тол¬
ще фильма» остается только сострадать непреодолимой боли в отсутствие Истины.
Отступление 1. Вендерс: как в зеркале
В ряду блестящих наблюдений Зонтаг над фильмом Бергмана не оправдалось толь¬
ко одно. «В том, что наши современники усматривают избыточный интерес совре¬
менного искусства к себе самому, - написала Зонтаг, - можно и нужно, отбро¬
сив высокомерные позы, различить другое: высвобождение новой энергии мысли
и чувства»5. Пророчество не сбылось. Киноавторство 60-х вычерпало прежние свя¬
4 Зонтаг С. Толща фильма. - Искусство кино, 1991, № 8, с. 154.
5 Там же.
453
Кино на ощупь
зи между средством и смыслом. За два года до Персоны Энди Уорхол выпустил
Небоскреб, и если Бергман «убил» пространство фильма, то Уорхол не менее от¬
четливо продемонстрировал конец кинематографического времени. Он «поменял
существо старого постулата «то, что бессмысленно, — существует» на «то, что суще¬
ствует, — бессмысленно», - заметил по этому поводу Пазолини, подведя тем самым
черту под собственным определением киноязыка6.
В 1984-м Вим Вендерс снял Париж, Техас. Подобно бергмановским страсто¬
терпцам, его герой, пережив крах человеческих привязанностей, замолкал и уда¬
лялся в пустыню отчаяния. Но если Бергмана всегда занимал мотив «ухода», то
Вендерс посвятил фильм «возвращению». В финале, найдя бывшую жену в ка¬
ком-то местечковом борделе, Трэвис говорил с ней через проницаемое зеркало. На
темной поверхности накладывались отражения двух лиц. Непутевый отшельник
смотрел на себя и видел жену. Всматривался в нее и видел себя. Зеркало — слиш¬
ком прямая метафора кинематографа, чтобы трактовать ее подробнее. Дрейер пе¬
решагнул амальгаму и использовал ее острый край как орудие святой инквизиции.
Бергман разбил отражающее стекло и сложил из осколков кровоточащий портрет.
Вендерс остановился в стороне, созерцая культуру и ее дописанные словари как
повод для неизбежной, но, увы, призрачной встречи.
Бергман и Дрейер: движение
В 1948 году Дрейер сделал заказной короткометражный фильм Опоздавшие на
паром. По существу это была памятка для автомобилистов, предупреждающая
об опасности превышения скорости: муж и жена опаздывали на паром и, стре¬
мясь успеть к следующей пристани, пускались на мотоцикле в сухопутный объ¬
езд. Сумасшедшая гонка заканчивалась трагически. Автомобилем, с которым герои
равнялись на финишной прямой, управляла Смерть. Мотоцикл врезался в дере¬
во, водитель и его спутница гибли. В заключительных кадрах вместе с последни¬
ми склянками уходящего парома от берега отплывала лодочка, нагруженная дву¬
мя гробами.
Как того и требовал заказ, Дрейер сделал киноплакат на тему «тише едешь -
дальше будешь». Вполне светская мораль десятиминутного ролика сводится
к тому, что ни одна цель не заслуживает смертельного риска. При этом кажется,
что на пути героев практически не встретилось ни одного внятного знака, преду¬
преждающего о надвигающейся беде. С присущим ему аскетизмом режиссер в ос¬
новном пожертвовал и указующей символикой притчи, и саспенсом, при котором
зритель знает больше, чем персонаж. Зрители и герои Опоздавших на паром виде¬
ли одно и то же: торопливый разговор со служителем пристани, шоссе, фрагменты
6 Пазолини П. П. Смерть как смысл жизни. - Искусство кино, 1991, № 9, с. 163.
454
1996
Персона. Реж. Ингмар Бергман. 1966 // Страсти Жанны д'Арк. Реж. Карл Теодор Дрейер. 1927
455
Кино на ощупь
Опоздавшие на паром. Реж. Карл Теодор Дрейер. 1948 // Причастие. Реж. Ингмар Бергман. 1963
456
1996
придорожного пейзажа, роковую развилку и, наконец, стремительно надвигаю¬
щееся навстречу дерево. Стрелка на круглом спидометре и станционный колокол,
ударивший в тот момент, когда мотоцикл пересек железнодорожное полотно пе¬
ред самым носом поезда, могли бы стать символами истекающего времени, но и то
и другое читались как детали повествования. В последнем случае скорее обнару¬
живается неприсущая Дрейеру ирония - звон колокола напоминает об ипподроме
и скачках. Смерть, сидящая за рулем автомобиля, была всего лишь курносой креа¬
турой со странно остановившимся взглядом. «Зачем вы спешите?» - спрашивала
хозяйка бензоколонки. «Потому что мне надо», — отвечал герой.
Поучительную коллизию Дрейер выразил пластически. Фильм начинался
кадрами медленно отваливающего от берега парома; невыносимо медленно опу¬
скался трап, медленно и неуклюже маневрировали на нем автомобили. Движе¬
ние в городской черте напоминало процессию — вереница мотоциклов и машин
тянулась вдоль улицы и пересекала площадь. И только вырвавшись на загород¬
ное шоссе, герой давал волю скорости — по мере ее увеличения Дрейер чередо¬
вал в монтаже планы лиц, мелькание пейзажа, камера то следовала за героями, то
приближалась к ним вплотную. За кадром усиливался звук мотора. Надсадный ро¬
кот сопровождал движение до того момента, когда лязг и грохот возвещал о ката¬
строфе. Наступившая затем тишина почти оглушала. Статичные, композиционно
выверенные, залитые знаменитым дрейеровским белым светом кадры составля¬
ли эпилог. Профанный мир скорости соприкасался с сакральной средой, мирская
суета - с вечностью.
Читая Опоздавших на паром на этом уровне, кажется, что Дрейер адаптировал
авторский язык к актуальной лексике. Оперируя прежде образом «целости» (так
было в Страстях..., Вампире и Слове), в этот раз он описывает двоичную, оппо¬
зиционную модель мира. На самом деле это не так. Если помнить, что индивиду¬
альный стиль предшествует кинограмматике, Опоздавшие на паром превращаются
в одну из самых лаконичных формулировок дрейеровского credo.
Все зависит от того, как Дрейер снимает движение. При внимательном рас¬
смотрении обнаруживается, что на протяжении всего фильма его камера занима¬
ет три фиксированные позиции по отношению к динамичным объектам. В первой
из них аппарат установлен так, что поступательное движение видно в двумерной
проекции экрана - так организован городской проезд кавалькады, с этой точки
зрения зритель видит остановку у бензоколонки, железнодорожный переезд и раз¬
ворот мотоцикла на развилке. Эта точка зрения присутствует и в сцене обгона ка¬
тафалка - соревнование людей и смерти показано сбоку, так что видны упорные
попытки мотоциклиста опередить автомобиль. Второй ракурс условно назовем
«субъективным». Хотя прямого указания на источник взгляда Дрейер не дает, по¬
нятно, что мелькание деревьев и пожираемое колесами полотно дороги увидены
457
Кино на ощупь
глазами героев, упоенно накручивающих километры. И, наконец, третья и са¬
мая главная позиция аппарата организована по оси глубинной проекции экрана
и, в свою очередь, осуществлена с движения. За счет синхронизации скорости мо¬
тоцикла и операторской машины Дрейер добился эффекта неподвижности объ¬
екта - придорожный пейзаж бежит вспять, но крупность героев не меняется, они
как будто остаются на месте. Точно так же их снятые сбоку портретные планы ис¬
ключены из динамики предметного окружения. Мы видим профили на фоне неба
и только по напряженным позам героев делаем вывод, что они мчатся с сумасшед¬
шей скоростью.
Если расшифровать этот кинотекст авторским ключом, становится понятно,
что сакральная модель мира выстраивается здесь через оптическую дефиницию
движения. Столь важные для Дрейера категории предопределения и личного вы¬
бора переданы через динамику. Реальное движение, то есть зримое преодоление
пространства, возможно только в присутствии стража Смерти (проезд по городу)
или в ситуации, чреватой выбором (сцены у бензоколонки, железнодорожный пе¬
реезд и развилка). Движение обретает поступательность, и в сцене финального об¬
гона — состязаясь с водителем катафалка, мотоциклист приближается к смерти.
Хоровод деревьев и строений дан в субъективном ракурсе - иллюзия перемещения
сопровождает героев, в то время как они остаются на месте (о сознательности тако¬
го приема свидетельствует хотя бы то, что видно, как в одном месте Дрейер обреза¬
ет план, едва мотоциклист закладывает вираж и оказывается в непредусмотренной
боковой проекции). В кадрах эпилога траектория взгляда меняется. Горизонталь¬
ные композиции уступают место верхним и нижним ракурсам. В вертикальном,
истинном мире «беспечные ездоки» уплывают по водам вечности.
Истинный мир у Дрейера статичен и бесконфликтен. Благодаря взгляду каме¬
ры, зрители с самого начала получают все необходимые знамения - таким образом,
отказываясь от драматического саспенса, Дрейер противополагает ему саспенс, так
сказать, религиозный, который, в свою очередь, не формирует ни коллизии, ни на¬
пряжения, потому что его нити находятся в руках совсем иных сил. Мотоциклист
и его спутница выбирают гонку и погибают, но, пожалуй, мы не сможем оконча¬
тельно утверждать, где пролегает граница между их собственной волей и роковой
закономерностью.
Статичный мир Дрейера у Бергмана становится конфликтным. В Причастии
он рассказывает историю провинциального пастора, усомнившегося в Боге, живу¬
щего во грехе и в конце концов не способного предотвратить самоубийство одно¬
го из своих прихожан. Герои Дрейера опаздывают на паром, Томас Эрикссон опа¬
здывает к душе страждущего. В финале дрейеровского фильма мы издалека видим
одинокую фигуру над дуговыми перилами корабельного мостика, у Бергмана ге¬
рой с мучительным торжеством сознает собственную богооставленность.
458
1996
Говоря о Причастии, Бергман заметил, что фильм строится на двух мотивах.
Один из них - религиозный, другой — любовная драма. Оба мотива встречаются
в образе любовницы Томаса Марты. Именно она - средоточие страстей, терзающих
героя7. В первой же сцене Причастия мы видим Томаса, проповедующего в церкви,
и Мэрту, сидящую среди прихожан. Коллизия фильма еще не определена драма¬
тургически, но уже «сделана» камерой, обозначающей за счет движения и статики
силовые поля грядущего конфликта.
Сравнение Опоздавших на паром с первой сценой Причастия интересно не
только потому, что Бергман и Дрейер пользуются схожей фигурой авторской речи.
В известном смысле они еще и меняются местами. Слова в ролике Дрейера лише¬
ны сакрального звучания и несут сугубо функциональную нагрузку - из реплик
персонажей мы узнаем только расстояние до следующей пристани и то, что герои
торопятся. Напротив - вступительный эпизод у Бергмана очищен от бытовой лек¬
сики и озвучен текстом Священого Писания. Сцена начинается с крупного плана
Томаса, затем следует статично снятый интерьер церкви, а в следующем кадре ка¬
мера через наплывы показывает три ракурса церкви снаружи. Через наплыв она
возвращается внутрь и в дальнейшем, на протяжении всего эпизода, соблюдает
торжественную неспешность и литургическую симметрию.
Не станем подробно разбирать пластические характеристики действующих
лиц, заявленные Бергманом на крупных планах. Будущий самоубийца Юнас и его
беременная жена, горбун Альгот, булочница Ханна с дочкой и другие показаны
в неповторяющихся ракурсах, их поведение отличается индивидуальными осо¬
бенностями, каждый по-своему причащается Святых даров. Больше того — впер¬
вые зафиксировав камеру на лице Мэрты, Бергман по оси взгляда монтирует его
с просфорками, с телом, в метафизике которого в дальнейшем разовьется ли¬
ния героини. При всех экспрессивных характеристиках внутрикадрового про¬
странства нас интересует его динамическое состояние, впрямую явленное как экс¬
позиция будущей драмы.
Впервые камера двинулась вдоль плоскости экрана, когда беременная Ка¬
рин Перссон запнулась, поднимаясь с колен. Маленький инцидент не нарушает
торжественного хода службы. Как будто подтверждая это, Бергман показывает
отход Карин от алтаря в сложном монтажном сопоставлении с фигурой Альго-
та - возникшее было движение микшируется, приглушается за счет равнове¬
сия крупностей. Точно так же статичная камера дважды еле заметно сдвигает¬
ся, чтобы сохранить устойчивые пропорции кадра. Первый раз она следует за
встающим с колен Юнасом, второй - провожает Томаса, отступающего от паст¬
вы к алтарю.
7 Цит. по сб.: Ингмар Бергман. М., 1969, с. 279.
459
Кино на ощупь
В обоих случаях статика объектива, впрямую связанная с внутрихрамовым
пространством, оказалась бы догматической. Бергман и его оператор Свен Ню-
квист перемещают аппарат именно для того, чтобы сохранить эффект статуарно-
сти героев в кадре.
Когда камера действительно начинает двигаться, это выглядит как тревожное,
почти шоковое событие. Едва Томас возносит Благодарение, камера последова¬
тельно наезжает на его лицо и на лицо Мэрты. В размеренный ритм происходящего
вторгается диссонанс: между двумя людьми происходит нечто, не укладывающее¬
ся в отношения пастыря и прихожанки. Догадка подтверждается — с последними
словами молитвы аппарат наискось панорамирует к одинокой фигуре Мэрты.
Как и у Дрейера, движение у Бергмана связано с миром и соблазном, а стати¬
ка-с верой и храмом. Но у Дрейера само ложное движение есть в конце концов
неподвижность, а у еретически усомнившегося Бергмана, напротив, - динамика
страстей взрывает изнутри симметричный покой священного действа.
Отступление 2. Хичкок: vertigo
Говоря о пространственном образе Провидения, нельзя не упомянуть Альфре¬
да Хичкока. В беседе с Трюффо он признался, что однажды, сильно перебрав на
банкете в Альберт Холле, вышел проветриться и увидел, что все вокруг «уходит»8.
Эффект, при котором «точка зрения остается фиксированной, пока перспектива
меняется, как будто ее растягивают в длину»9, мэтр пытался опробовать в сцене об¬
морока героини Ребекки, однако по техническим причинам ничего не вышло. По
собственным словам Хичкока, он вынужден был ждать целых 15 лет, пока в Голово¬
кружении не получил возможность применить так называемый «zoom с отъездом»,
то есть прием, при котором трансфокатор приближает объект, а операторская те¬
лежка тем временем удаляется от него.
Страдающий боязнью высоты герой Головокружения заглядывал в проем вин¬
товой лестницы. Ему казалось, что пространство вопреки законам гравитации
«бросается» на него снизу, будто тесто из квашни. В известном смысле Хичкок лу¬
кавил. «Антигравитационный» подход он нашел гораздо раньше. В сделанном за че¬
тыре года до Головокружения Окне во двор фотограф, не удержавшись за подокон¬
ник, летел вниз, однако казалось, что падает не он, а земля встает на дыбы и атакует
человека. В Поймать вора взломщица барахталась на краю крыши, но суета собрав¬
шихся внизу зевак явно не соответствовала масштабу вертикальной дистанции.
При съемке столь пугающей его самого высоты Хичкок пользовался рирпро¬
екцией. Нагляднее всего этот эффект проявился в сцене убийства Арбогаста из
8 Hitchcock by Truffaut. N. Y, 1984, p. 246.
9 Ibid.
460
1996
Опоздавшие на паром. Реж. Карл Теодор Дрейер. 1948 // Лето с Моникой. Реж. Ингмар Бергман. 1953
461
Кино на ощупь
Земляничная поляна. Реж. Ингмар Бергман. 1957 // Вампир. Реж. Карл Теодор Дрейер. 1932
462
1996
Психо — Хичкок предварительно снял с тележки лестницу, по которой предстояло
скатиться сыщику, а потом наложил на полученное изображение лицо. В результа¬
те получилось, что жертва остается на месте, а ступени и пол исполняют за ее спи¬
ной танец смерти.
Едва ли стоит объяснять, что падение с высоты — тот род движения, которое
меньше всего предусматривает человеческое усилие. Падающее тело движется по
законам физики, но у ироничного моралиста Хичкока оно перемещается согласно
метафизическому закону. Пространство живет своей тайной жизнью, напоминая
о себе страхом высоты, клаустрофобией и головокружением - авторскими мания¬
ми, превращенными в пограничные столбы мироустройства.
Бергман и Дрейер: финал
В эпилоге Опоздавших на паром бил колокол, и две птицы парили над лодкой, уво¬
зящей гробы с телами погибших. В последнем кадре Дрейер использовал откры¬
тую метафору — двойную экспозицию воды. Под зримыми волнами стремилось те¬
чение Стикса, и Харон-лодочник увозил души умерших в подземное царство.
Дрейер явно прибег к самоцитированию. Колокол, подвешенный на Г-образ-
ной перекладине и возвещающий о последнем путешествии «опоздавших», повто¬
рял колокол, который видел и слышал в Вампире Дэвид Грей. И лодочник в низко
надвинутой рыбачьей шляпе как две капли воды походил на садящегося в лодку
странного незнакомца, увиденного Греем из окна гостиницы. Вода - символ вечно¬
сти и святости - сообщала окончательную видимость невидимому. Вода не знала
гнева и страстей - в том же Вампире злодей тонул в «сухой субстанции», в потоках
зерна, накрывающих его с головой.
Финальная сцена бергмановского Лета с Моникой почти дословно повторяет
последние кадры Опоздавших на паром. Я не решусь предполагать цитату или со¬
знательное заимствование - речь скорее о сходстве лексики авторского итога. Хар¬
ри, переживший романтическую робинзонаду, супружество и разрыв, возвраща¬
ется к постылой буржуазной рутине. С маленькой дочкой на руках он бредет по
городу и останавливается возле уличного зеркала. Всматриваясь в глубину тем¬
ной амальгамы, он видит воду и лодку, на которой путешествовал с Моникой. За
кадром раздается удар колокола. Через изображение лодки вновь проступает лицо
Харри...
В Опоздавших на паром смерть героев утверждала незыблемость Истины.
Как написал Йон Доннер, в Лете с Моникой не умирает никто, кроме любви10. Из
сакрального измерения у Дрейера выступали воды вечности, Бергман омывает
ими осиротевшего без чувств героя. Верховное знание жило в кадрах Дрейера без
10 Ингмар Бергман, с. 51.
463
Кино на ощупь
посредников, Бергман испытывает его на разрыв, боль и страдание, опосредует от¬
ражением, памятью, внутренним зрением, а в конце концов и самой физической
основой киноизображения. Крупно сняв лицо Жанны, Дрейер открыл метафизи¬
ческие возможности экрана. Не впав в искушение концептуального творчества,
Бергман поставил Персоной концептуальную точку в поисках этих возможностей.
Значит ли это, что в каждом из них что-то началось и что-то закончилось? Веро¬
ятно, нет. Как следует из старинной притчи, прочитанной Исааком маленькому
герою Фанни и Александра, «каждый человек носит в себе надежды, страх, тоску,
каждый человек в крике выплескивает свое отчаяние, одни молятся определенно¬
му богу, другие кричат в пустоту».
«Сеанс». 1996. № 13. Статья опубликована под названием «Бергман и Дрейер: у истоков
европейского модернизма».
464
1996
Анджей Вайда: от романтизма до наших дней
Сегодня Анджею Вайде исполнилось 70 лет. Круглая дата расставила все по местам.
Последний романтик окончательно утвердился в редеющей галерее последних ки¬
ноклассиков. И неизвестно, для кого этот юбилей важнее. Для поляков, свято чту¬
щих национальные святыни. Или для нас, проживших вместе с фильмами Вайды
несколько десятилетий собственной истории.
Если понимать классику как целостность авторского взгляда на мир, то клас¬
сиком Вайда стал «от противного». Герои его ранних картин пребывали в постоян¬
ном противоречии с собой и несли мучительное бремя антигероизма. Они делали
то, чем Польша занималась на протяжении почти двух столетий — решались на вы¬
бор, когда любой выбор был обречен, бесполезен и смертельно опасен. Несмотря
на это мальчики из Поколения шли на бессмысленные теракты, герои Канала под¬
нимали Варшавское восстание, а Мачек Хелмицкий из Пепла и алмаза палил в сво¬
их и чужих, повинуясь не логике истории, а собственному кодексу чести.
Многие годы критики пытались поймать режиссера на слове. Едва его персо¬
нажи выбирались из-под обвала прямых отсылок к Мицкевичу или Словацкому
и переставали застывать в позе барочного распятия, романтический период объяв¬
лялся завершенным, а Вайда смирившимся и помудревшим. Классификация неиз¬
менно лопалась. Вероятно, потому, что романтиками были не только и не столько
герои Вайды, сколько он сам - вечный оппозиционер любой власти, покою и по¬
рядку. Взыскуя необыденных истин, он оставался тем большим идеалистом, чем
более чернушные фильмы снимал. Время и место не имели значения. Категори¬
ческий императив одинаково сопровождал примкнувших к Наполеону шляхти¬
чей из Пепла, силком возведенного на постамент «человека из мрамора» или сред¬
нестатистического варшавского и-тэ-эра, нелепой смертью избавленного от жизни
«без наркоза».
На рубеже 60-х Вайда выворачивал наизнанку миф национального героизма,
но, как только в стране худо-бедно забрезжила стабилизация, принялся попрекать
современников отсутствием героев. В Дирижере он на уровне творчества столкнул
закомплексованного «совка» и свободного западного человека. Однако, сам буду¬
чи на Западе, наплевал на меру и вкус, одел булгаковского Иешуа в драные джин¬
сы и превратил в антибуржуазного тусовщика, замордованного спецслужбами. Он
бросил открытый вызов империи, получив каннское золото за Человека из же¬
леза - восторженный гимн польской «Солидарности». Но едва свободные проф¬
союзы занялись политической игрой, уехал во Францию и снял Дантона — фильм
465
Кино на ощупь
Канал. Реж. Анджей Вайда. 1956 Поколение. Реж. Анджей Вайда. 1955
466
1996
Пепел. Реж. Анджей Вайда. 1965 Пепел и алмаз. Реж. Анджей Вайда. 1958
467
Кино на ощупь
Всё на продажу. Реж. Анджей Вайда. 1969 Пейзаж после битвы. Реж. Анджей Вайда. 1970
468
1996
Перстень с орлом в короне. Реж. Анджей Вайда. 1993 Человек из железа. Реж. Анджей Вайда. 1980
469
Кино на ощупь
о революции, которая рано или поздно становится властью. Когда сражаться было
не с кем, он бился с самим собой. Так появилось Всё на продажу, беспощадное раз¬
облачение собственной легенды, замешенной на слабости, пафосе и крови.
Своим учителем Вайда часто называл Луиса Бунюэля. Как и у Бунюэля,
в его фильмах много жестокости и перевернутых символов веры. В Пепле и ал¬
мазе жертва в подожженном автоматной очередью пиджаке падала на пороге ча¬
совни, в Пепле опозоренная монахиня закалывалась распятием, в Пейзаже после
битвы торжественная литургия аккомпанировала полуживотной физиологии ла¬
герников. Жестокость на экране стареет очень быстро, и «пограничные ситуации»
давно вышли из моды, однако Вайда продолжает мучить себя и своих героев не¬
обходимостью выбора и невозможностью выбирать. В поисках столь любимой им
двойственности он повторил классический маршрут романтиков и отправился на
Восток, чтобы снять знаменитого японского актера в двойной роли Настасьи Фи¬
липповны и Мышкина. С возрастом он научился многому, кроме одного - спо¬
койной снисходительности, которую часто и ошибочно принимают за классику.
Оттого его последние фильмы так похожи на раздраженные римейки прежних ше¬
девров. Перстень с орлом в короне показывает, что произошло бы с персонажами
Поколения и Канала, случись им уйти от облавы или выбраться из канализации.
Жизнь оказывается труднее смерти. Антигерои умирали, но не капитулировали.
Герои выжили и сдались. Страстная неделя почти зеркально отражает Самсона.
С той разницей, что там женщины прятали от гестапо мужчину, а здесь мужчина
закрывает от пули женщину, а на выстиранном белье оседает пепел сожженного
гетто. В Пепле и алмазе кровь умирающего Мачека проступала сквозь простыню
и была тем алмазом, который, несмотря ни на что, сиял через золу сгоревших ил¬
люзий. Через три десятка лет алмаз превратился в пепел. Но лишь потому, что все
эти годы горел в невыносимо жарком пламени романтической надежды.
«Ъ». 1996. 6 марта.
470
1996
Анджей Вайда
471
Кино на ощупь
Двойная смерть Кшиштофа Кесьлевского
Умер Кшиштоф Кесьлевский. После его смерти модный вопрос «будет ли у кино второе
столетие?» стал куда менее риторическим. И не потому, что с уходом польского режис¬
сера перестанут сниматься фильмы. А потому, что кинематограф, и без того стреми¬
тельно теряющий волшебство, лишился одного из своих самых загадочных творцов -
математика, мага и моралиста. Соблазнительно считать, что склонный к зеркальным
сюжетам и сквозным рифмам Кесьлевский продумал и обставил собственную смерть.
Едва закончив Красный — завершающую часть трилогии, «окрашенной» в цвета фран¬
цузского флага, он заявил о том, что его миссия выполнена и он уходит из кино. Многие
сочли это саморекламой, однако он действительно ушел. И не только из кино, но и из
жизни, подтвердив тем самым, что кабалистическая симметрия его фильмов происхо¬
дила не из особенностей умозрения, а из «той силы, которая управляет ходом событий».
С силами судьбы Кшиштоф Кесьлевский явно знался. И всякий раз, снимая кино,
обнажал прихотливые сплетения неизбежности и случая, которые в конце концов
тоже рушились, обнаруживая истинную природу вещей. И тем более истинную, чем
более непостижимую. Может быть, поэтому в его фильмах, пересказавших христиан¬
ские заповеди постструктуралистским языком, спасались не те, кто прислушивался
к знамениям, а те, кто просто верил. Еще при жизни фильмы Кесьлевского подели¬
ли на «реалистические» и «метафизические». В застойной Польше он считался «соци¬
ально озабоченным», много снимал на заводах, в унылых конторах и безликих ново¬
стройках. К стилю его поздних работ точнее всего подходит затасканное определение
«магический реализм». Магия подсматривает за кулисы реальности и учится угады¬
вать будущее. Кесьлевский овладел этим опасным искусством только для того, чтобы
в его простых историях проступила нелинейность времени, где все связаны со все¬
ми и над всеми царит закон Провидения. Скорее всего, его не поняли. Каннское жюри
предпочло Красному тарантиновское Бульварное чтиво, в котором тот же прием раз¬
менян на скобки для кровавой клоунады. Кесьлевского упрекнули в исчерпанности
и желании стать демиургом. В ответ он заявил об уходе из кино. Но свою последнюю
власть употребил на то, чтобы в финале Красного собрать всех героев трилогии на
терпящем крушение пароме и спасти, с компьютерной точностью доказав старый по¬
стулат «верую, ибо это невероятно». Герои выжили, а демиург умер. Говорят, он слиш¬
ком много курил. Это похоже на второй финал, но не поверить в это уже нельзя.
«Ъ». 1996. 15 марта. Статья опубликована под названием «Кино и жизнь закончились
одновременно».
472
1996
Кшиштоф Кесьлевский. Фот. Стив Пайк. 1994
473
Кино на ощупь
Тело власти
Несколько лет назад я читал лекции в маленьком университете на американском
Среднем Западе. Курс назывался «Краткое введение в постсоветское киноискус¬
ство». Полагая, что американцы, народ прагматичный и падкий до информации,
я исписал целую тетрадку цифрами и диаграммами. Они не понадобились - произ¬
водственные показатели «Ленфильма» мало интересовали слушателей, потому что
они искренне считали Ленинград столицей Украины. Кончилось тем, что мы стали
просто смотреть кино и обсуждать возникшие по ходу дела проблемы.
К теме нового взгляда на историю я показал Миф о Леониде Дмитрия Доли¬
нина - на мой взгляд, одну из самых недооцененных картин перестроечного де¬
сятилетия, по-фассбиндеровски соединяющую мещанскую драму с исторической
трагедией. Об этом и собирался говорить после просмотра, однако разговор поче¬
му-то не задался. Симпатичные студенты, уже умеющие отличить чернуху от ду¬
ховки, а стеб от покаяния, уткнулись в свои стаканчики с кока-колой и смущенно
молчали. В конце концов одна серьезная и умная девочка сказала: «Я что-то не по¬
няла, профессор. Этот Nickolaeff был crazy, да? Когда он лишился работы, то напи¬
сал письмо своему боссу, но потом, находясь всего в двух шагах от Kiroff, письма
не отдал и повел себя как-то странно. При чем здесь сталинизм? Я думаю, у парня
просто серьезные психические проблемы».
Повторяю, это была хорошая и умная девочка. Она искренне не понимала, по¬
чему один парень написал жалобу другому парню и упустил случай передать ее по
назначению. И я не мог ей объяснить, что при виде парня, облеченного властью,
простой советский парень переживал примерно те же чувства, которые она сама
испытала бы, случись ей встретиться с марсианином или заговорившим памятни¬
ком. То есть с тем, кого можно представить, нафантазировать, при желании даже
описать словами. Но нельзя лицезреть наяву.
Позже, в экзаменационной работе, эта девочка написала, что постмодернизм
представляет серьезную опасность для русской культуры. «Русские впервые полу¬
чили шанс жить в новом демократическом обществе, - считала она, - а постмодер¬
низм ничего нового не производит и только отвлекает людей от упорной ежеднев¬
ной работы». Из этого я делаю вывод, что известные иллюзии были ей не чужды.
И определенные кумиры тоже, наверное, водились. Но, думаю, при встрече с Томом
Крузом или самим Клинтоном она нашла бы в себе силы попросить автограф. А то
и отщипнуть кусочек пиджака на сувенир, потому что обладание частицей тела
звезды есть, по существу, знак приобщения и индивидуальной состоятельности.
474
1996
Речь идет о двух типах социального идолопоклонства. О западной системе
поп-звезд и мистерии восточных кумиров. Образ первых построен на персональ¬
ной харизме, на энергетике личности. Вторые манипулируют таинством нездеш¬
него бытия. Первые, если можно так выразиться, повышенно телесны. Вторые как
бы лишены тела вообще и пребывают в бесплотном измерении иконы, изображе¬
ния и слова. Обе концепции появились не вдруг и вовсе не обязательно совпадают
с обнажением тоталитарной конструкции того или иного периода. Известно, на¬
пример, что после того как «битлы» во время своего первого американского турне
заночевали в каком-то мотеле, их подушки были по лоскутам проданы поклонни¬
кам. Но еще в 20-е годы подростки покупали у горничных дрезденского «Паласа»
бутылки с водой, в которой мылся знаменитый тенор Паттиера. И наоборот - со¬
всем недавно сочинские власти придумали за вполне подъемные деньги сдавать
желающим комнаты резиденции Сталина. Охотники нашлись главным образом
среди иностранцев — перспектива вздремнуть на ложе кровавого генсека наших
соотечественников не очень вдохновила.
Пять лет назад в дискуссии, опубликованной на страницах «Искусства кино»,
Акош Силади повернул проблему в сторону власти1. По его словам, Гитлер, мно¬
го и охотно позировавший перед документалистами, был явлением рыночного
масскульта, являясь на экране не как Бог, но как «звезда». Сталин, напротив, вжи¬
вую избегал камеры, зато был одним из первых диктаторов, при жизни ставшим
персонажем игрового кинематографа и подтвердившим таким образом концеп¬
цию восточной деспотии, у которой нет тела, но есть только сакральное изобра¬
жение (отсюда распространенный ГУЛАГовский сюжет о людях, посаженных за
неосторожное обращение с портретом вождя). В официальной советской иконо¬
графии 30-50-х у Сталина не было биологического возраста. Отец народов предста¬
вал по преимуществу в двух ипостасях, частью повторявших перипетии парадного
жития. В одной из них существовал черноглазый подпольщик-абрек, в другой —
хорошо сохранившийся навсегда пятидесятилетний мужик с густыми седеющи¬
ми усами. На портретах он казался высоким, хотя в жизни был мал ростом, крив
и сухорук.
Уже после Кракауэра в литературе не раз описан первый эпизод Триумфа воли
Лени Рифеншталь. Самолет, подобно орлу парящий над Нюрнбергом, ликующие
толпы внизу, торжественный проезд фюрера по улицам. Семантика кадров впол¬
не прозрачная — нацисты обожествляли высоту и стремились превратить жизнь
в симметричный орнамент. «Не без символического значения, — отмечал Кракау-
эр, - фигура Гитлера часто возникает на фоне облаков»1 2. С одной стороны, это
1 См.: Кино тоталитарной эпохи. - Искусство кино, 1990, № 3, с. 103-105.
2 Кракауэр 3. Пропаганда и нацистский военный фильм. - Киноведческие записки, 1991, № 10, с. 119.
475
Кино на ощупь
Триумф воли. Реж. Лени Рифеншталь. 1935
действительно так. Но с другой — камера приближалась к Гитлеру так близко, что
были видны пористая кожа, не слишком тщательно подбритый затылок, какие-то
неаппетитные волоски на шее. Пройдут годы, и операторы MTV будут похоже сни¬
мать постаревших Rolling Stones, обыгравших свои морщины и складки как со¬
ставные неувядающего имиджа.
Со Сталиным такого произойти не могло, всякая индивидуальная физиоло¬
гия изгонялась. За это, в частности, поплатился в Колыбельной Вертов, рискнув¬
ший распространить патерналистскую метафору на сферу сексуальной мощи отца
народов. Это было грубой ошибкой. Лучший друг советских детей обладал немере¬
ной плодоносной силой, но не мог обрюхатить конкретную женщину. Кроме того,
он не ел, не пил, не справлял естественные нужды. Сталин не спал — его привыч¬
ка работать ночами превратилась в образ кремлевского окна, горящего над стра¬
ной как всевидящее и всевидимое око. В фильмах Чиаурели он мог посадить с со¬
бой за стол народных избранников, но лишь затем, чтобы угостить, но не разделить
трапезу. В Падении Берлина сквозная оппозиция Сталин - Гитлер во многом опре¬
делялась тем, что фюрер часто и неопрятно жрал, в то время как Верховный Глав-
нокомандующий из людских слабостей позволял себе только трубочку (кстати,
обезьяна, то есть человекоподобное существо с неокультуренной физиологией,
надолго поселилась в зоопарке советской политической карикатуры — слюнявые
мартышки и краснозадые макаки олицетворяли и фашистскую сволочь, и зарвав¬
шихся в гонке вооружения буржуев).
Очевидно, что в мифологическом пантеоне советского сознания Сталин
претендовал на ту роль демиурга-основателя, которая объективно отождествля¬
лась с Лениным. Рискну предположить, что политическая рокировка в культуре
476
1996
Падение Берлина. Реж. Михаил Чиаурели. 1949
и, в частности, на экране, произошла не без участия негласного мифа о «добром
Ленине», чьи заветы исказились свирепым преемником. Поддержанная временем
установка на «человеческое» все расставила по местам. «Самый человечный че¬
ловек» то засыпал на полу, укрывшись чужим пальтишком, то показывал заезже¬
му солдатику, где водички набрать. В разговоре заглядывал в глаза, при встрече
жал руку и больше всего напоминал не то провинциального учителя, не то уезд¬
ного доктора — интеллигентного, участливого, даже суетливого в своем стремле¬
нии облагодетельствовать всех и каждого. Широко бытовал сюжет о «неузнанном»
Ленине — в своей телесной инкарнации вождь победившего пролетариата ничем
не отличался от простого смертного. Кроме того, в него стреляли. И попали. Пули
продырявили плоть, подтвердив тем самым уязвимость того, кому на смену при¬
шел вождь с именем, исключающим самую мысль о человеческом материале.
Власть - или, вернее, культура власти - в России всегда стремилась к ано¬
нимности и бестелесности. Горбачев, одним из первых попытавшийся построить
свой имидж на «звездной» основе, первым же за это и поплатился. Все помнят,
что на заре перестройки, когда портреты генсека еще были обязательным атрибу¬
том руководящих кабинетов и присутственных мест, его официальное изображе¬
ние существовало в двух вариантах. В одном лысину Горбачева украшало знамени¬
тое родимое пятно, а в другом - нет. Шизофрению худкомбината легко вообразить.
С одной стороны, гласность, новый курс и все такое. С другой стороны, власть,
даже либеральную, нельзя отягощать лишними физиологическими подробностя¬
ми. В условиях настоящего рынка проблема решилась куда проще. Не так давно
мне встретился немецкий журнал, в котором соответственно отретушированная
фотография Горби служила рекламой пятновыводителя.
477
Кино на ощупь
Постсоветское кино принялось усиленно анатомировать державу. Впрочем,
какающий Сталин в соловьевской Черной розе... или жрущая опричнина Пиров Вал¬
тасара — ничто по сравнению с Советской элегией Александра Сокурова - одной
из самых объемных художественных рефлексий на либеральные обещания Ельци¬
на. Тогдашний лидер популистской оппозиции предстал на экране как сгусток ма¬
терии, как тело, излучающее особо внятные сокуровской камере энергетические
эманации. И в немой дуэли с пребывающим в бесплотном телеизмерении Горбаче¬
вым побеждал зримый, тяжелый, телесный Ельцин.
«Звездный» ореол сопутствовал Ельцину и на массовом уровне. Адюльтер¬
ная подноготная покушения на опального политика или странности поведения но¬
воизбранного президента перед американцами скорее прибавили ему любви, чем
скомпрометировали. Надо признать, что сегодня последовательнее других «поп-
звездного» имиджа придерживается Жириновский. Едва ли его многочисленный
электорат, не слишком искушенный в механизме имиджмейкерства, сознает, что
голосует не за политическую программу ЛДПР, а за недюжинную энергетику ее
руководителя, то обливающего оппонентов апельсиновым соком, то затевающего
драки перед трибуной, а то и вовсе бегающего наперегонки с обезьянами (!) где-то
в тропиках (последний сюжет показал недавно Владимир Молчанов и, думаю, не¬
вольно завербовал тем самым несколько новых избирателей ЛДПР).
Перед декабрьскими выборами телевидение крутило клип, в котором Жири¬
новский лихо отплясывал на дискотеке, со значением поглядывая на платиновую
блондинку, похожую на итальянскую порно-парламентарку Чиччолину (была это
она или нет, сказать трудно — кадр утопал в полумраке). Умеренного центриста
Ивана Рыбкина тогда же в декабре зрители увидели глазами бывших односель¬
чан. Автобус трясся по проселочной дороге, а пожилые колхозники и колхозницы,
всматриваясь в объектив, прозревали за кадром «своего Ваню» - бывшего сердце¬
еда и танцора твиста, отбывшего в столицу вершить государственные дела. Соб¬
ственной персоной Рыбкин являлся только на мгновение. Он обнимал престаре¬
лую матушку (была ли это его мать на самом деле - сказать опять-таки трудно)
и сообщал, что погостит недолго. Державные заботы ждут.
Претенденты на власть, как видно, продолжают путешествовать между сверх¬
телом и великим анонимом. Разница только в том, что полвека назад их конечные
остановки означали противоборство культур, а теперь соединились в одной. Кто
знает, может быть, для того, чтобы понять, кто в ней есть кто, надо иногда загля¬
дывать в киноархив.
«Искусство кино». 1996. № 4.
478
1996
Роджер Корман — повелитель кинобюджета
Десять лет назад, едва сбросив идеологические оковы, наше кино бодро взяло курс
на Голливуд. Ничего не вышло. Оказалось, что по-настоящему «американским»,
то есть постановочным, дорогим и звездным, советский кинематограф был ско¬
рее при социализме, и что в эпоху рыночных отношений равняться следует не на
блеск оскаровской церемонии, а на навыки малобюджетного фильмопроизводства.
Эта мысль звучит актуально тем более, что сегодня исполняется ровно 70 лет «ко¬
ролю би-кино», легендарному режиссеру и продюсеру Роджеру Корману.
В формуле превращения деньги принято ставить на первое место, а кино -
на второе. Роджер Корман всегда поступал наоборот. Он превращал кино в день¬
ги, умудряясь извлекать миллионные барыши из фильмов, снятых за два-три дня
в чужих декорациях, на остатках пленки и на обрывках бюджета. Этой привычке
он не изменил и в старости. Возглавив несколько лет назад экспедицию в Россию,
он распорядился построить в павильоне «Мосфильма» средневековый замок и на¬
крутил там сразу две картины — мистико-эротические Похороны крыс и «хоррор»
Симфония призраков.
Минувшим летом Корман приехал в Санкт-Петербург на Фестиваль амери¬
канского кино. На пресс-конференции его попросили поделиться секретом, как
сделать дешевые ленты кассовыми. Корман одобрительно кивнул. «Прежде всего, -
сказал он, — надо иметь хороший сценарий. Во-вторых, следует заранее изучить
места будущих съемок, а при необходимости и побывать в них. И наконец, нелиш¬
не заручиться поддержкой опытного оператора». Через некоторое время мэтру за¬
дали вопрос о его московских впечатлениях и об особенностях работы с русскими
компаньонами. «Это был очень полезный опыт, — ответил Корман, - я лишний раз
убедился, что прежде всего надо иметь хороший сценарий, внимательно изучить
места будущих съемок и сотрудничать с грамотным оператором». Больше из него
не удалось вытянуть ни слова.
Корман почти не лукавил. В этом мы только что убедились, посмотрев на НТВ
знаменитый цикл его экранизаций Эдгара По. Особой тайны в этих ужастиках,
расчетливо слепленных из различных жанровых компонентов — от мелодрамы до
комедии, как будто нет. Но не стоит забывать, что культовые Маска красной смер¬
ти и Гробница Лигейи появились за несколько лет до того, как мистицизм стал вы¬
соколобым поветрием, а европейская киноэлита собрала авторский альманах Три
шага в бреду — официальное признание романтических кошмаров писателя. Ди¬
ких ангелов и Путешествие, предвосхитивших психоделический кураж 1968 года,
479
Кино на ощупь
Корман сделал прежде, чем его ученики Деннис Хоппер и Питер Фонда заняли
у Фонды-старшего $ 400000 на постановку Беспечного ездока, а гангстерскую Бой¬
ню в День Св. Валентина — раньше, чем другой его ученик Френсис Форд Коппола
снял Крестного отца.
Начало карьеры Кормана не случайно связано с кинокомпанией American
International Pictures. Ее оборотистые владельцы Сэмюэль Аркофф и Дж. X. Никол¬
сон одними из первых начали играть на массовых вкусах как на бирже, повышая или
понижая ставки киномоды, а в конце концов и диктуя ее. В разгар подросткового
бума конца 50-х Корман снимал для AMI душещипательные школьные драмы, потом
переключился на стремительно входящую в моду космическую тематику и «би-ужа¬
сы», связанные с популярным мотивом инопланетного вторжения. Пока крупные
студии разворачивали свой неповоротливый арсенал для шквального залпа, мо¬
бильные малобюджетники успевали сделать с десяток выстрелов, целясь главным
образом в тинейджерскую аудиторию. Чем дешевле обходилось кино, тем длиннее
и вычурнее оно называлось — так появились кормановские Человек с икс-лучевым
зрением или с трудом умещавшаяся на киноплакатах Сага о женщинах-викингах
и их путешествии по водам Великого Морского Змея. Чем меньше средств оказыва¬
лось под рукой, тем изобретательнее они использовались - поставленный Корманом
Рок всю ночь начинался как триллер о двух убийцах, терроризирующих посетителей
ночного бара, а заканчивался кинобенефисом вокального ансамбля «The Platters»,
ненароком случившегося тут же. Один из лучших фильмов режиссера, хоррор-бур-
леск Маленький магазинчик ужасов был сочинен и снят за два дня - именно столь¬
ко времени оставалось у группы, чтобы отснять назначенную на слом декорацию.
Эффект «би-продукции» точнее всего выразил о’генриевский Джефф Питерс,
утверждавший, что никто не может устоять перед искушением купить за один дол¬
лар набор из Библии, машинки для колки орехов и дутого перстня с колумбийским
бриллиантом. Адресуясь к этой психологии и умело повелевая кинобюджетом, Ро¬
джер Корман распоряжался и вдохновением. Его снятые за копейки бестселле¬
ры демонстрируют высший пилотаж авторского обращения с экранными «ready
made», полуфабрикатами киноязыка, жанра и традиции. Понятно, что гениальный
актер Винсент Прайс снимался у него только потому, что звезды суперкласса стои¬
ли слишком дорого, а абстрактные поп-артовские мультяшки то и дело перебивали
действие Колодца и маятника, чтобы восполнить нехватку монтажного материа¬
ла. Постановочный дефицит всегда был главным стимулом авторской фантазии -
не потому ли киноавторы следующего поколения от Копполы до Вендерса считали
за честь появление Кормана в эпизодах своих картин. Корман появлялся. Он все¬
гда знал, во что вкладывать деньги.
«Ъ». 1996. 5 апреля.
480
1996
Роджер Корман. 1970
481
Кино на ощупь
Ричард — пурпурное сердце
В конце минувшей недели Петербург посетили сразу два американских президен¬
та. По дороге на московскую встречу «большой семерки» в Северную Пальмиру
заглянул Билл Клинтон. Одновременно в рамках мини-фестиваля лицензионно¬
го видео «Домашнее кино» состоялась экранная премьера фильма Оливера Стоуна
Никсон. Явление покойного экс-президента было обставлено едва ли не более тща¬
тельно, чем визит президента здравствующего - в зал киноцентра «Ленинград» до¬
пускались в основном критики и киножурналисты. Такая предосторожность, впро¬
чем, не казалась излишней - устроители фестиваля лучше других знали, какими
неисповедимыми путями легальное кино превращается в пиратское видео.
Конец 40-х - начало 50-х годов Сталин провозгласил периодом небывало¬
го расцвета советской кинематографии. Предполагалось, что пришла пора по¬
кончить с массовым фильмопроизводством и сосредоточиться на создании «зо¬
лотой библиотеки», где на радость потомкам остались бы знаменитые деятели
истории и культуры — писатели, полководцы, ученые. На рубеже 90-х годов режис¬
сер-солдат Оливер Стоун по собственному почину взялся за ту же задачу. Его ге¬
рои, правда, явились из более близкого прошлого. Вьетнамский ветеран Рон Ковик
и политизированный ди-джей Алан Берг, рок-идол Джим Моррисон и президент-
мученик Джон Кеннеди каждый по своему олицетворили 60-е — эпоху напалмовых
войн и галлюциногенов, рок-концертов и левых митингов.
Сталинское «малокартинье» подразумевало кинобиографию как высшую фор¬
му официального эпоса. Идеология обеспечивала себя парадной галереей героев
и святых. Стоун пошел от противного. Опершись на плечи уже существующих ти¬
танов, он возвел недавнюю историю в эпический масштаб и приручил «веселые»
60-е к запросам консервативных 90-х. Разница культур не уберегла от формально¬
го сходства. Рожденный 4-го июля сильно смахивает на нашего Кавалера Золотой
Звезды, The Doors очень похожи на Мусоргского или Композитора Глинку, а глядя
J. F. К., трудно избавиться от мысли, что его авторы наизусть выучили Великого
гражданина — столь же пафосную и столь же идеологичную реконструкцию убий¬
ства Кирова.
Появившийся в декабре прошлого года Никсон убеждает, что Оливер Стоун до¬
брался до самой верхушки Большого Стиля, которую в отечественном варианте до¬
зволялось трогать только придворному летописцу вождя Михаилу Чиаурели. Раз¬
ница лишь в том, что Клятва или Падение Берлина пестрели скрытыми и явными
отсылками к трудам отца народов, а Никсон открывается цитатой из Евангелия от
482
1996
Никсон. Реж. Оливер Стоун. 1995
Матфея. И вопрос «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?» занимает не только режиссера, но и самого Ричарда Милхауса
Никсона, тридцать седьмого президента США от республиканцев, вошедшего в ис¬
торию благодаря выводу войск из Вьетнама, встречам с Мао Цзэдуном, договором
ОСВ-1 и погоревшего на пустяковом, по меркам большой политики, уотергейтском
подслушивании. «Сорваться на такой мелочи — это библейская ситуация», - заме¬
чает падшему владыке его друг и госсекретарь Генри Киссинджер, но так же дума¬
ет и Оливер Стоун, всерьез вознамерившийся придать своим размышлениям о де¬
мократии и власти дерзновенный размах эпопеи.
Никсона сыграл англичанин Энтони Хопкинс. Остановив на нем свой выбор,
Стоун пожертвовал внешним сходством, зато заручился исполнительской культу¬
рой, отшлифованной в ролях шекспировского репертуара. Чтобы было понятней,
режиссер время от времени напоминает, по счету каких высоких страстей судит
героя. Почти как Макбету, Никсону мерещатся потоки крови, почти как Гамлет, он
под занавес мечтает «умереть, уснуть...» и с лировской болью прозревает истину,
лишившись царства. Почти как венценосный тезка Ричард III, Ричард М. Никсон
изображает короля-лицедея, с лживой улыбкой шагающего по трупам ради неведо¬
мого блага. Но понятно, что влекут его не мистические силы истории, а комплексы
недолюбленного подростка, шестерившего на ухажеров будущей жены и не приня¬
того в бейсбольную команду.
Классика и современность всегда были надежным средством большой идео¬
логии. Идя навстречу запросам 90-х, Стоун примирил соцреализм и психоана¬
лиз, Шекспира и Максима Горького, лаковую эстетику парадного портрета и на¬
правленный монтаж Сергея Эйзенштейна. Цветное изображение сменяется
483
Кино на ощупь
черно-белым, ракурсная съемка то возвышает героя над фоном, то пригвождает
к земле. Камера то и дело кувыркается и переходит на 16-миллиметровый формат,
словно вспоминая, что 60-е были еще и последними годами американского кино¬
авангарда. В стремительном коллаже проносятся облака над Вашингтоном, само¬
сожжение буддийского монаха, вертолетные атаки и студенческие волнения - лет
двадцать назад точно так же строились советские телепередачи из цикла «Мир се¬
годня». «Двое в комнате — я и Линкольн», — мог бы сказать о себе Никсон. Но не как
у Маяковского, «фотографией на белой стене», а как у Стоуна - статуей в нише Бе¬
лого дома, куда заплутавший в интриге президент является за советом у старшего
поколения и где тут же дает открытый урок демократии поколению следующему.
В одном из эпизодов Стоун впечатал игровых персонажей в документальное
телеинтервью Джона Кеннеди. Совсем недавно так же поступил и Роберт Земекис,
заставивший Форреста Гампа поручкаться в кадре с большим вашингтонским на¬
чальством, но у Стоуна Никсон и есть Форрест Гамп, выучивший текст Шекспи¬
ра и пропевший его на мотив «Глори, глори аллилуйя». Национальным шлягером
песня не стала, в Европе ее даже не дослушали до конца. Словно в насмешку, на
Берлинском фестивале Никсона обошел английский Ричард III. «Я не злодей», -
и в жизни и в фильме с этих слов Ричард Никсон начал свою прощальную речь пе¬
ред американцами. «Шут, похвали себя! Шут, не хвались!» - как будто в ответ ему
воскликнул шекспировский тиран.
«Ъ». 1996. 25 апреля.
484
1996
Неглубокая пещера и ее обитатели
«Гротеск» происходит от итальянского слова «grotta», что означает неглубокую пе¬
щеру Поначалу так называли орнамент в виде переплетающихся людей, расте¬
ний и животных, впервые обнаруженный в древнеримских развалинах. Позднее
«гротеском» окрестили фантастические мотивы искусства, а еще позднее — все
причудливое, неправдоподобное, странное. И то, и другое, и третье сполна отра¬
зилось в английском фильме Гротеск, поставленном экс-документалистом Джо¬
ном Полом Дэвидсоном по одноименному роману Патрика Макграта. Этой модной
в прошлом сезоне картиной, триумфально прокатившейся по многим междуна¬
родным кинотурнирам, откроется в июне 4-й Санкт-Петербургский Фестиваль
фестивалей.
Действие фильма разворачивается в послевоенной английской глубин¬
ке. Под сводами старого сельского поместья аристократ и ученый сэр Хьюго
Коул (Алан Бейтс) собирает по кусочкам скелет птеродактиля, готовясь произ¬
вести научную сенсацию - опытным путем доказать, что современные птицы
произошли от динозавров. В ожидании открытия мается его жена американка
Хэрриет (Тереза Рассел), а взрослая дочь Клео (Лена Хэди), невзирая на протесты
самодура-папаши, вот-вот выскочит замуж за субтильного поэта. Кажется, что
во всей этой эксцентричной компании, где лягушек сажают за стол и потчуют
ланчем из опарышей, а глава семьи часами витийствует на палеонтологические
темы перед соседскими фермерами, только один человек сохраняет традици¬
онный британский политес. Сыгранный рок-звездой Стингом домоуправитель
Фледж затянут в черный фрак, предупредителен и невозмутим. Но именно от
него исходят флюиды демонического искушения, заставляющие сэра Хьюго пе¬
реживать по ночам любовные кошмары, леди Хэрриет предаваться им наяву,
а мальчишку-стихоплета Сиднея позабыть про невесту и открыть в себе гомо-
эротический порыв. К финалу поэт гибнет, ученого разбивает паралич, а в доме
воцаряется новый хозяин Фледж, небезосновательно подозреваемый безутеш¬
ной Клео в смерти жениха.
И роман Патрика Макграта, и фильм Дж. П. Дэвидсона содержат вечную
английскую тему необъявленной классовой битвы, когда сословные перего¬
родки превращаются в кривые зеркала, за вековыми иерархиями таится нена¬
висть, лакей вкрадчиво становится хозяином, а господин рабом. В английской
традиции этот сюжет проявлялся часто и разнообразно - от заносчивой челя¬
ди Диккенса до дерзнувшего «коллекционера» Джона Фаулза и от драматических
485
Кино на ощупь
Гротеск. Реж. Джон Пол Дэвидсон. 1995
скетчей Гарольда Пинтера до экранного Слуги Джозефа Лоузи. На той же поч¬
ве взошел и неповторимый «островной» юмор, смесь отчаяния и абсурда, един¬
ственное средство остранения вежливого безумия, именуемого полезными
предрассудками.
В полном соответствии с орнаментальной природой гротеска фильм Дэ¬
видсона сплетает прихотливый узор из человеческих типов и художественных
жанров. Над Гротеском витает и шаловливая тень Кена Рассела, и людоедская
ирония Питера Гринуэя. Бытописательство соседствует с сатирой, мистика с де¬
тективом, от смеха бросает в дрожь, триллер заставляет смеяться. Герои пре¬
даются тайному и явному блуду, страдают, комикуют и гибнут. Классический
«скелет в шкафу» превращается в костяк огромной птицы, висящей под потол¬
ком хозяйского кабинета, а потом и в обглоданный свиньями труп незадачливого
жениха. Домашний тиран становится неподвижным «человекоовощем», а обор¬
зевший плебей — бесом соблазна. Мамочка, примчавшаяся на поиски сгинувше¬
го поэта, поедает свинину, не догадываясь, что забитая утром хрюшка накануне
с не меньшим аппетитом жрала ее сыночка. На виселицу отправляется невин¬
ный, вероятный убийца торжествует победу... Но не тут-то было. В последнем
кадре мы видим, как разом осиротевшая и овдовевшая Клео в лучших шекспи¬
ровских заветах опорожняет склянку с ядом над стаканом отчима, а перед уга¬
сающим взором сэра Хьюго открывается ослепительная перспектива нового на¬
учного сафари.
Быть может, картина Дэвидсона так и осталась бы изящным дебютом до¬
кументалиста, перенесшего навыки работы в джунглях на историю семейно¬
го заговора, если бы Гротеск не демонстрировал еще и маршруты миграции
486
1996
старых киномотивов по карте новой кинополитики. Кто бы, например, мог по¬
думать, что в связи с повальной модой на вуайерскую любовь эрогенная зона
мирового кино переместится в бесполую Америку с ее пуританской культу¬
рой подглядывания. Тем не менее, Основной инстинкт, Стриптизерка и Экзо¬
тика сделаны в Новом Свете и успешно показывают эротику 90-х как коллек¬
тивное пип-шоу. Нечто похожее случилось и со страхами конца тысячелетия.
Невозмутимый английский юмор оказался как нельзя кстати в тотально ре¬
гламентированном мире с его устойчивыми социальными кодами и ролями.
Масс-медиа растиражировали образ эталонных британцев 90-х: залетевшего
на аморалке красавчика Хью Гранта, изобретательно ненавидящих друг дру¬
га Чарлза и Диану или сутулую топ-модель Стеллу Тенант — герцогиню Девон¬
ширскую, разгуливающую по подиуму с проколотой ноздрей. По всему миру
смотрят новое английское кино - от пролетарских анекдотов Майка Ли до сви¬
репой Мелкой могилы Дэнни Бойла. Похоже, что политкорректное человече¬
ство приблизилось к новому викторианству и взыскует теперь сообразного
Зазеркалья, где порочное и смешное одинаково легко растворяются в улыбке
Чеширского кота.
В середине прошлого века Виктор Гюго утверждал, что гротеск в искусстве
основан не на искажении реальности, а на ее контрастах. В конце века нынешне¬
го контраст утратил силу. Может быть, поэтому глумливые островитяне, веками
наблюдавшие неразличимость Джекила и Хайда и ради спорта воспитывавшие
у прислуги манеры членов королевской фамилии, лучше других понимают, как
легко переоборудовать неглубокую пещеру в мелкую могилу.
«Ъ». 1996. 27 апреля.
487
Кино на ощупь
Роберто Росселини. Фот. Джей Айрмен. 1949
488
1996
Отец неореализма любил жизнь больше, чем кино
В сущности, Росселлини хочет вновь обрести человека, которого благодаря
искусным вымыслам мы потеряли из виду, хочет найти его первоначально
с помощью чисто документального подхода, а затем ввести в самый
простой сюжет, рассказанный самым простым способом. Я понимаю, что
скажу сейчас нечто чрезвычайно опасное, но это правда: Росселлини вовсе
не любит кино, как, впрочем, искусство вообще. Он предпочитает жизнь,
предпочитает человека.
Франсуа Трюффо
8 мая исполняется 90 лет со дня рождения великого итальянского кинорежиссера
Роберто Росселлини. Долгие годы мы называли его «отцом неореализма», предпо¬
читая не думать о нем как о богоискателе, чудотворце и одном из самых знамени¬
тых Дон Жуанов послевоенной Европы.
Все, кто знал Роберто Росселлини, в один голос утверждали, что он обладал магиче¬
ской властью над кино. Случайные непрофессионалы играли у него как кинозвезды, ка¬
мера не ломалась, осветительные приборы не гасли, ему всегда благоприятствовала по¬
года, и «уходящая натура» двигалась не прочь, а только навстречу. Te, кто знал режиссера
еще лучше, говорили, что так происходит потому, что Десятая муза - это женщина, а Рос¬
селлини как никто другой владеет тайной женского сердца. История его фильмов неот¬
делима от истории его громких романов и неистовых влюбленностей. Он сам признавал¬
ся, что в кино попал только из-за подруги-старлетки, которую ревниво сопровождал на
съемки. Молодой Феллини рассказывал, что казнь партизан — одну из лучших сцен Пай¬
зы - Росселлини придумал, торопясь на амурное свидание. Подготовка к съемке затяну¬
лась, вокруг быстро темнело, и тогда он распорядился снять эпизод одним общим пла¬
ном, так что в сгущающихся сумерках был слышен только плеск падающих в воду тел.
Благодаря Риму — открытому городу тогдашняя подруга Росселлини Анна
Маньяни стала народной героиней итальянского кино. Через несколько лет Россел¬
лини оставил ее ради Ингрид Бергман, навсегда слетевшей из-за него с самой вер¬
хушки голливудского Олимпа. Когда Бергман приехала в Рим, площадь перед отелем
была до отказа забита аплодирующим народом. Двадцать лет спустя такая же толпа
сопровождала похороны Анны Маньяни. Из церкви гроб вынесли под рукоплеска¬
ния - Росселлини влюблялся только в великих актрис. Из-за Росселлини Бергман
отказалась от звездной карьеры, Росселлини — от им же изобретенного неореализма.
489
Кино на ощупь
Так называемый «бергмановский период» кончился, когда он закрутил скандальный
роман с индийской сценаристкой Сомали Даш Гупта, уехал в Индию и сделал там
большое документальное кино, открывшее новый этап его режиссерской биографии.
Официальная периодизация творчества Росселлини почти совпадает с его сер¬
дечными увлечениями и полностью определяется уникальным чувством творче¬
ской и человеческой свободы. Он первым начал снимать «жизнь в формах самой
жизни», приглашая на главные роли людей с улицы, на ходу меняя сюжет и дописы¬
вая диалоги. Рим — открытый город и Пайза рассказывали об эпическом равенстве
людей, объединенных антифашистским подпольем - замордованные гестапо проле¬
тарий, интеллигент и священник поровну делили жертвенную муку, и, казалось, сам
Бог пересматривал свои заповеди в интересах освободительного сопротивления.
Может быть, поэтому, когда в начале 50-х Росселлини подряд снял житие
Франциска Ассизского и Стромболи — землю божью, вчерашние единомышленни¬
ки обвинили его в предательстве. На смену классовой солидарности пришла ме¬
тафизика индивидуальной свободы — именно в ней обретал истину Св. Франциск
и именно ради нее у подножия вулкана Стромболи аристократка оставляла при¬
гревшего ее простолюдина. Показав это, Росселлини не изменил и не изменился -
просто его собственное вольнолюбие преодолело очередную границу.
Религией Росселлини всегда была свобода. Как итальянец и католик он не отделял
веру от чуда. В Риме — открытом городе самоубийство как акт освобождения осенялось
Божественным знаком — яркий свет лился сквозь крестообразную тюремную решет¬
ку, на которой удавился схваченный партизан. И наоборот - в своей последней картине
Мессия Росселлини показал евангельские чудеса как нечто обыденное и рациональное.
В Поездке в Италию постылые любовники открывали друг друга через свободу, обре¬
тенную под аляповатой статуей Святой Девы. За эти и подобные им сцены Росселлини
ненавидел радикальный атеист Бунюэль. За это же его боготворили режиссеры фран¬
цузской «новой волны», искавшие примирения магического авторства и объективной
кинореальности. «Без Росселлини не было бы ничего», — эти слова Бернардо Бертолуч¬
чи вложил в уста героя своей Стратегии паука. «Он никогда не задерживается, не объ¬
ясняет, а очень быстро одну за другой бросает мысли», - считал Трюффо, точно опре¬
деляя причину того, почему короткометражная фильмография Росселлини едва ли не
превосходит перечень его полнометражных работ. В начале 60-х он окончательно ушел
на телевидение, сочтя его более подходящим средством массового просвещения. Для
малого экрана он снимал биографии великих людей прошлого, причем философы-ра¬
ционалисты в его авторской галерее соседствовали с апостолами, а государственные
реформаторы — с Иисусом Христом. Роберто Росселлини умер 3 июня 1977 года, так
и не успев перенести на экран «Диалоги» Платона и «Смерть Сократа».
«Ъ». 1996. 8 мая.
490
1996
Любовь в восточном экспрессе
Вот уже несколько сезонов каждый уважающий себя кинотурнир не обходится без
нового фильма, произведенного в Юго-Восточной Азии - в Китае, Гонконге или на
Тайване. Санкт-Петербургский Фестиваль фестивалей не стал исключением. По¬
мимо громко прокатившейся по всему миру Шанхайской триады китайского мэ¬
тра Чжана Имоу в его программе ожидается и менее известный Чунгкин экспресс
гонконгского режиссера Вонг Кар-вая. На пиратском видео фильма еще не было.
Вероятно, потому, что его американской дистрибуцией занимается Квентин Таран¬
тино, сам сочинивший немало уголовных историй и умеющий оградить свою соб¬
ственность от воровских поползновений.
После того, как Чунгкин экспресс появился в Нью-Йорке, критики заявили,
что не посмотреть его все равно что проворонить поезд, уходящий в следующее
тысячелетие. В скромном, малобюджетном, снятом главным образом ручной каме¬
рой фильме обнаружили пластический драйв азиатского кино и тонкость европей¬
ского авторства, хулиганскую смелость молодого Годара и изощренную символику
Кшиштофа Кесьлевского.
Картина состоит из двух самостоятельных историй. Сюжетно они не связа¬
ны, но их участники так или иначе сталкиваются у стойки ночного кафе-экспресс,
расположенного в гонконгском районе Чунгкин. Смысл свиданий до поры остается
в тайне. «Мы разминулись всего в сантиметре друг от друга, - говорит закадровый
голос героя, - кто бы мог подумать, что через пятьдесят семь часов я полюблю эту
женщину». Беглая наркоторговка засыпает в комнате безответно страдающего по¬
лицейского. Оба охотятся за консервными банками со сроком годности 1 мая, толь¬
ко для него эта цифра означает день окончательного разрыва с бывшей невестой,
а для нее - дату выплаты по крупному счетчику. Наутро она убивает кредитора,
сбрасывает золотистый парик и навсегда растворяется в уличной толпе, надикто¬
вав на пейджер признание в любви несостоявшемуся возлюбленному.
Пока другой полицейский тоскует по неверной подруге, в его квартиру регу¬
лярно пробирается юная особа, целыми днями гоняющая старый шлягер «Mamas
and Papas» и мечтающая свалить в Калифорнию. В конце концов он назначает ей сви¬
дание, но она не приходит, прислав вместо себя нарисованный от руки авиабилет
в Америку. Она ждала его в баре «Калифорния», он тем временем напивался в другом
кабаке. Его покинутая любовь была стюардессой, через год она явится к нему в уни¬
форме международных авиалиний. В первой новелле дата разлуки совпадает с днем
рождения героя. Он родился 1 мая — его подругу звали Май, что по-английски звучит
491
Кино на ощупь
Вонг Кар-вай
492
1996
и пишется одинаково. Перед тем как окончательно исчезнуть из кадра, герой первой
новеллы успевает столкнуться с героиней второй. «Мы стояли рядом всего секун¬
ду, - звучит закадровый голос, — через шесть часов эта женщина полюбила другого».
Вонг Кар-вай принадлежит к поколению гонконгской new wave. Любая «новая
волна», независимо от того, в каких национальных или исторических берегах она
разливается, интересна тем, что как будто впервые открывает реальность, а пото¬
му обновляет понятие кинематографического реализма. «Новая волна» всегда не¬
сет и всплеск кинопоэзии, потому что высшая поэзия на экране получается при
встрече авторского взгляда с живой, несконструированной действительностью.
Так было во времена итальянского неореализма, советской «оттепели» и фран¬
цузской «nouvelle vague». Так произошло и в Гонконге, на перекрестке европей¬
ской и азиатской культур, смешанных воедино прихотливой игрой геополитиче¬
ского ума. Устроив у себя «маленький Голливуд», гонконгский кинематограф уже
подарил миру самый культовый феномен 90-х — ориентальный триллер, соеди¬
нивший кодекс бусидо со стилистикой «черного фильма», а неоновый свет асфаль¬
товых джунглей с отточенностью балетного спектакля. Достоверно известно, что
жизнь в Гонконге похожа на американское кино, поэтому его новая волна открыла
для себя реальность как новый поворот жанрового сюжета. Похожий путь когда-то
проделали питомцы «Cahiers du cinema», однако они прошли школу режиссуры,
теоретизируя над фильмами Хичкока и Хоукса. Их гонконгские преемники учи¬
лись ремеслу, такие фильмы снимая. И если в Европе все «волны» влились в оке¬
ан мейнстрима еще в 60-е, то гонконгская волна поднялась только в начале 90-х.
Дебютный фильм Вонг Кар-вая назывался так же, как и известная песня «Rolling
Stones» — «Пока льются слезы». Действие его второй картины Время быть диким про¬
исходило в 60-е — запутанная любовная история разворачивалась в лирическом лаби¬
ринте мегаполиса с его случайными встречами и необязательными расставаниями.
Перед самым Чунгкин экспресс он сделал Пепел времени — постановочный эпос кара¬
тэ. Если вдуматься, фильмография режиссера как будто в миниатюре повторяет три
десятилетия европейского кино, начавшегося с нововолновой романтики, прошед¬
шего искушение большой формой и остановившегося на констатации магической
неочевидности жизни. После Чунгкин экспресс Вонг Кар-вая не случайно сравнили
с Кесьлевским. Разница только в том, что гениальный поляк рассказывал свои прит¬
чи языком конца истории, а молодой азиат - подручными средствами нового тыся¬
челетия. История не кончилась, она просто пошла по другому кругу. И если трагедии
Большой истории имеют обыкновение повторяться в виде фарса, то история кино об¬
ладает счастливой способностью возрождаться в виде истории, рассказанной в кино.
«Ъ». 1996. 17 мая. Статья опубликована под названием «Поезд, уходящий в следующее
тысячелетие».
493
Кино на ощупь
Шпион, пришедший с холодной войны
1996-й в России вполне можно назвать «годом Джеймса Бонда». С киноафиш под¬
мигивает Золотой глаз — свежая англо-американская копродукция о новых при¬
ключениях агента 007. Ретроспективную «бондиану» запустило НТВ - приход
весны отечественные телезрители встретили под аккомпанемент бондовского
«вальтера» и томные вздохи покоренных им блондинок. То, с чем так долго боро¬
лась идеология, разом случилось в условиях рынка. Явление супершпиона похоже
на тотальный захват. Неудивительно, если в ближайшее время у нас воскреснут
популярные лет тридцать назад на Западе водка с пистолетом на пробке или дет¬
ские пижамки 003,5.
В идеологические времена Бонд мог бы без труда выполнить у нас самое не¬
выполнимое задание. Характерной особенностью его шпионской легенды было то,
что спецагента на службе Ее Величества никто и никогда не видел в лицо. О нем
много писали и не меньше читали. Образ героя рождался в воображении. Он оде¬
вался в безукоризненные смокинги, на раз охмурял длинноногих красоток и вер¬
шил кровавые процедуры, не замарав манжет. Он был стопроцентным джентль¬
меном и двухсотпроцентным мужчиной, обаятельным киллером, победителем,
который получает все.
В России с Бондом вообще происходили странные вещи. Полупародийные
Никогда не говори никогда постсоветский кинозритель увидел раньше, чем много¬
численные оригиналы, зато, по десять раз пересматривая юннебелевского Фанто-
маса, мы вряд ли догадывались, что видим того же Бонда с его летающими автомо¬
билями и башмаками-пистолетами. Едва расставшись с героем, первый и лучший
Бонд Шон Коннери снялся в калатозовской Красной палатке и удостоился пер¬
сональной статьи в «Актерах зарубежного кино». Однако, когда десять лет спустя
Вайда получил из его рук каннскую пальму за Человека из железа, бывшему шпио¬
ну припомнили грехи антисоветской юности. Видеобум, занесший нам третьего
Индиану Джонса, не слишком озаботился транспортировкой сопутствующих ми¬
фов — папаша Джонс, сыгранный тем же Коннери, мало у кого связался с глумли¬
вым тождеством Голдфингеру или Доктору Но.
Охраняя от бондовской экспансии, советская киноцензура берегла нас от ди¬
версии куда более вредной, чем идеологическая. От едва заметной, но оттого не ме¬
нее пронзительной иронии, неизменно сопровождавшей кинобондиану 60-х. Сле¬
довало хоть раз увидать Бонда живьем, чтобы понять - собственного шпионского
начальства он боится куда больше, чем вооруженных до зубов болгар и турок, в воде
494
1996
как-то особенно не тонет, а в огне слишком уж не горит. Но именно этого видеть
нам не следовало, ведь подобно тому, как окружавший агента 007 крикливый хай-
лайф исподволь готовил почву для постмодернистского избытка следующего де¬
сятилетия, так и нарочитость образа невольно взламывала створки железного за¬
навеса, чьим порождением и одновременно игровым медиумом был Джеймс Бонд.
Когда-то Трюффо написал, что вся серия 007 вышла из подражания хичко¬
ковскому К северу через северо-запад. Это совершенно точно, но сама идея подра¬
жания куда прихотливей, чем простое копирование. Хичкок называл кино «куском
торта» и неизменно снимал «приятные глазу» фильмы, от которых как будто ис¬
ходил аромат хорошего табака и дорогого одеколона, в которых царил ненавязчи¬
вый комфорт роскошных отелей, а невероятные события происходили с одетыми
в твидовые пиджаки мужчинами и причесанными волосок к волоску женщинами.
В том же ...Северо-западе герой Кэри Гранта попадал в переделку, на секунду отлу¬
чившись от ресторанного столика, но в самых безвыходных ситуациях сохранял
клубные манеры и чистый воротничок. Эффект Хичкока пропал в эпоху «веселых
60-х», когда женщины растрепали волосы, а мужчины сняли галстуки и приня¬
лись отращивать бакенбарды, когда агрессия не только вышла наружу, но и во¬
шла в моду. Именно тогда Бонд, с его позолоченными сигаретами, неразболтан¬
ным мартини и спортивными автомобилями, перенял «приятность» хичкоковских
джентльменов, но только иронично и вкупе с поп-артовским колоритом времени.
Может быть, поэтому пародии на Бонда, по сути, неотличимы от оригиналов - раз¬
ница только в уровне чрезмерности.
Несомненно, образ Бонда — «и. о. героя» - работал на снижение, а не на взвин¬
чивание грозящих демократии опасностей. Напасти при этом оставались вполне
серьезными.
При первом же своем появлении в Докторе Но спецагент схватился с безум¬
ным ученым. С одной стороны, их битва воскресила профессиональный статус
злодея из экспрессионистского архива. С другой — эффектно сыграла на массовом
страхе перед высоколобыми маниями (замечено, например, что тогда же, на рубе¬
же 60-х, сместился акцент и в классическом хоррор-сюжете о Франкенштейне. Ис¬
точником зла стала не монструозная креатура, а ее создатель). Из России с любо¬
вью принудила супершпиона обороняться самому - под сурдину кассового успеха
миф утверждал собственную ценность. В знак благодарности Бонд сберег золо¬
той запас США. Любопытно, впрочем, что талантливый злодей Голдфингер приду¬
мал не воровать золотишко, а заразить его ядерной радиацией — мотив, очевидно
резонирующий в коллективном бессознательном «холодной войны». И наоборот,
в 1977-м — по неостывшим следам «Союза-Аполлона» и Хельсинкского соглаше¬
ния - появился Шпион, который меня любил, в котором Бонд предотвращал тре¬
тью мировую рука об руку с советской морской пехотой.
495
Кино на ощупь
Если продолжать психоаналитические фантазии, то у последнего Бонда, со¬
крушающего танковыми гусеницами стену петербургского особняка, под коркой
явно наболело. Впервые он получил возможность сублимироваться на территории
империи, с которой прежде имел дело главным образом опосредованно - на грече¬
ских островах или тихоокеанских атоллах. При этом новый Бонд все так же верно
служит Англии и все так же подтрунивает над Америкой. Следуя веяниям време¬
ни, он, правда, стал куда меньше курить, но с возлюбленными по-прежнему галан¬
тен, так что его очередную операцию при желании можно толковать как увесели¬
тельную поездку в духе видеоприложений «Плейбоя». Но главное, он все так же
побеждает не столько реального врага, сколько коллективный ужас перед врагом,
на сей раз принявшим облик развалившейся сверхдержавы. Посмотрев Золотой
глаз, можно безошибочно представить весь набор «русских страхов», сотрясающих
цивилизацию. Гэбэшники, торгующие госсекретами, рвущиеся к власти генералы,
компьютерные гении, запросто взламывающие секретные шифры, и даже нацио¬
нальная политика Сталина, отозвавшаяся заговором в самом сердце британской
контрразведки.
Хотя новый Бонд Пирс Броснан не блещет ни самоиронией Коннери, ни ак¬
терским нервом Тимоти Далтона, ни хотя бы комиксовой статью Роджера Мура,
его заслуга перед человечеством не так уж и мала. Ведь, одолевая супостата, он за¬
одно реабилитирует и кураж настоящего мужского действия, запыленного и изга¬
женного политкорректностью 90-х. Когда вечная обаяшка Мани-Пенни в ответ на
похлопывание по попке поминает чуть ли не пресловутый «сексуал харресмент» -
это пострашнее происков СПЕКТРа. Не случайно нынешним шефом Бонда ста¬
новится леди с короткой феминистской стрижкой и маниакальной верой в пози¬
тивность общественного прогресса. Бонд для нее — инфантильный мужлан, так
и не вернувшийся с полей «холодной войны». Тут уж недалеко до прямого преда¬
тельства. И оно происходит. 006 — друг и напарник — плетет многолетнюю интри¬
гу и вообще по крови казак. А что такое «казак» для цивилизованной Европы, объ¬
яснять не надо.
Одним словом, в постисторическую эпоху бондовское «и. о.» вполне годит¬
ся как «крыша» для партизанской войны на собственной территории. Нечто похо¬
жее мы уже проходили. В том, что классический Бонд пришел к нам с телеэкранов,
есть своя закономерность. Закройте глаза и вслушайтесь в музыкальный аккорд,
сопровождающий его из фильма в фильм. «Парам-пара-а-ам»... Узнали? Это же ме¬
лодия из Ставки больше, чем жизнь, в которой бравый капитан Клосс исполнил те
же обязанности «исполняющего обязанности».
«Искусство кино». 1996. № 6.
496
1996
Звездная пыль не оставляет тени
Кто-то из рок-журналистов остроумно заметил, что всемирную известность «бит-
лы» получили благодаря экрану. Живьем ливерпульский квартет видели всего
лишь тысячи, зато миллионы смотрели их в кино и по телевизору. С Дэвидом Боуи
все произошло ровно наоборот. Он появился в кино уже будучи Зигги Стардастом,
Алладином, Алмазной Собакой и Молодым Янки - дизайн альбомов обязательно
включал очередной облик исполнителя, славящегося умением перевоплощаться
в экзотические и сказочные создания.
Боуи часто и охотно пересказывает почти водевильные обстоятельства своего
кинодебюта. Режиссер Николас Роэг попросил его прочесть сценарий фильма Че¬
ловек, который упал на землю. Боуи назначил встречу в своей нью-йоркской квар¬
тире и тут же обо всем забыл — в ту пору его доза достигала десяти грамм кокаина
в день. Явившись домой через сутки, он с изумлением обнаружил режиссера, уют¬
но устроившегося на кухне и готового к дальнейшему ожиданию.
Человек, который упал на землю появился в 1976 году. В экранизации фан¬
тастического романа Уолтера Тэвиса Боуи сыграл межпланетного пришельца, во¬
рующего земную воду для спасения жителей далекой галактики. Позднее он утвер¬
ждал, что по сути дела не играл ничего - хрупкий мутант с кроличьими глазами
был самим Дэвидом Боуи, с помощью музыки и наркотиков активно вживающим¬
ся в амплуа «чужого». «Нездешний» имидж так или иначе сопутствовал почти всем
его большим киноролям, будь то прусский аристократ, чопорно фланирующий по
Берлину 20-х годов в фильме Дэвида Хеммингса Как жиголо, вампир-любовник
с тысячелетним стажем, как в Голоде Тони Скотта, или белокурый бестия, разбив¬
ший самурайское сердце в фильме Нагисы Осимы Счастливого Рождества, ми¬
стер Лоуренс.
Нечто похожее он делал и в театре, играя поэта-анархиста Ваала из одноимен¬
ной пьесы Бертольда Брехта или появляясь на бродвейской сцене в жутком гриме
«человека-слона». Дело даже не в том, что в телеверсии Ваала, поставленной в Гер¬
мании Фолькером Шлендорфом, ту же роль исполнял Фассбиндер. И не в том, что
история легендарного урода Джона Меррика впоследствии стала первой студий¬
ной работой Дэвида Линча. За слоями возрастного и характерного макияжа не¬
изменно проступала главная тема актера-трансформатора — многоликость боже¬
ственного андрогина, его отчуждение от времени, места, внешности и пола.
Может быть, поэтому экранную карьеру Боуи нельзя назвать особенно удач¬
ной. Кинематограф по определению был и остается искусством физической
497
Кино на ощупь
Дэвид Боуи. Фот. Брайан Даффи. 1973
498
1996
реальности, с которой Боуи долго и успешно боролся, синтезируя собственную
плоть в некую художественную инстанцию. Характерно, что свои лучшие роли
он нашел на рубеже 80-х, когда надел одну из самых «человекообразных» масок —
плейбоя-бисексуала с пшеничной челкой и едва заметной строевой выправкой.
Фильмы с его участием тут же обрастали культом, но больших сборов не делали
и в фавориты кинокритиков не выбивались. Карнавальный грим Короля гоблинов,
которого Боуи сыграл в сказочном триллере Джима Хенсона Лабиринт, целый год
служил объектом высоколобых издевок. С партнерами ему на экране везло (Кат¬
рин Денев, Том Конти, Рюиши Сакамото и даже Марлен Дитрих), а с режиссерами
не очень. После работы в Человеке, упавшем на землю он заявил, что больше нико¬
гда не будет сниматься с животными и у Николаса Роэга. По поводу Осимы выска¬
зался более сдержанно: «У этого парня проблемы с западным менталитетом. Япон¬
ских актеров он натаскивал с ювелирной точностью, а когда дело доходило до нас
с Томом Конти, просил: «Джентльмены, сыграйте это в вашей обычной европей¬
ской манере».
От собственных режиссерских амбиций Боуи навсегда избавил Джон Леннон.
«Это же х** знает, какая чернуха!» — вскричал скорый на эпитеты экс-битл, прочтя
сценарную заявку, в которой Иисус Христос в сопровождении козлоногих гребцов
плыл на «Титанике» по волнам мертвого моря. Правда, несколько лет спустя Боуи
всерьез увлекся немецким киноэкспрессионизмом и вознамерился сочинить ори¬
гинальный саундтрек к Метрополису Фрица Ланга, но и здесь его обошел Джор¬
джо Мородер, первым выкупивший авторские права на переозвучание. Ему так
и не удалось сыграть в экранизации романа Ричарда Мэтьюссона «Игра на полях
господних» - из-под самого носа роль увел Том Вейц. С середины 80-х Боуи окон¬
чательно предпочел эпизоды и так называемые «камео» — короткие персональные
появления в фильмах приятелей. Среди эпизодических ролей, впрочем, оказался
не кто-нибудь, а Понтий Пилат из Последнего искушения Христа Мартина Скор¬
сезе, обаятельный киллер в фильме Джона Лендиса В ночи и, конечно же, знаме¬
нитый агент-параноик, на секунду мелькнувший в багровом коридоре Твин Пикс:
Огонь, иди за мной.
Вот уже много лет критики периодически заявляют, что карьера Боуи завер¬
шена, а сам он наконец-то скинул последнюю маску. Всякий раз Боуи опроверга¬
ет прогноз, словно ртуть перетекая в новую оболочку. Кинематограф так и не уло¬
вил закон, по которому живет это вечно изменяющееся тело. Но кто знает, может
быть, именно сейчас, когда виртуальная реальность окончательно потеснила фи¬
зическую, мы все-таки узреем истинный лик того, кто не отбрасывает тени даже
в ослепительном луче кинопроектора.
«Ъ». 1996. 20 июня.
499
Кино на ощупь
Каин & Абель
Каждый год нью-йоркская Школа Визуальных Искусств проводит конкурс на луч¬
шую студенческую работу По традиции на заключительной церемонии приз побе¬
дителю вручает кто-нибудь из мира «большого» кино. Заслуженный, знаменитый
или просто модный человек.
В прошлом году выбор пал на Абеля Феррару, независимого режиссера, сни¬
скавшего в Америке культовую репутацию, а в Европе стремительно набирающего
очки по разряду киноавторства.
На торжество Феррара явился в сопровождении стаи молодых людей, чьи блу¬
ждающие взгляды и развинченная походка выдавали практикующих наркоманов.
Услышав, что по регламенту предстоит не меньше двух часов маячить в президиу¬
ме, Феррара попросил разрешения отлучиться. И, не дождавшись ответа, исчез.
Руководство школы оторопело. Оторопь сменилась шоком, когда почетный гость
все-таки вернулся, вышел на сцену и, поводя распухшими от кокаина зрачками,
заговорил. С учетом лексики, по-русски его речь звучала бы примерно так: «Де¬
лать кино, братва, это вам не халява. Надо конкретно решить вопрос — делать или
не делать. И чтобы все строго, по понятиям. Чтобы все путем, и за базар отвечать
по-взрослому...»
Публика ошарашенно переглядывалась. Феррара вручил приз, свистнул свиту
и невозмутимо удалился. Его ждал режиссерский сценарий Телохранителя - ри¬
мейк знаменитого Юджимбо Акиры Куросавы.
В аннотациях и буклетах к имени Абеля Феррары часто прибавляют сло¬
во «идиосинкразия», что означает и индивидуальный стиль, и повышенную чув¬
ствительность к раздражению. Его сравнивают то с Фассбиндером, то с Мартином
Скорсезе. С первым - за повадки enfant terrible и отношение к кино как образу
жизни. Со вторым — за итало-американские корни и страсть к изображению наси¬
лия. Резон в этом есть, но как бы не до конца, наполовину. Именно на ту половину,
в которой Фассбиндер сжег себя, не разменяв и четвертого десятка, а Скорсезе, едва
дотянув до сорока, окончательно замер в позе живого классика.
В этом году Абелю Ферраре исполняется 45. Он родился в Бронксе и в его
жилах течет одна из самых гремучих этнических микстур - смесь ирландской
и итальянской крови. Крови радикальных католиков и идейных террористов. Като¬
лическая традиция с ее барочной пластикой и неявным регламентом насилия по¬
родила самые жестокие авторские кинословари, будь то испанец Бунюэль, поляк
Вайда или итальянец Дарио Ардженто. В фильмах Феррары насилие становится
500
1996
более, чем образом действия. Убийство и смерть - это одновременно образ жизни
и символ веры. Недаром режиссер часто рифмует гибель своих героев с церковной
атрибутикой, а экзальтация палачей и жертв для него напрямую связана с творче¬
ским экстазом.
Абель Феррара начал снимать фильмы с пятнадцати лет. Вместе со своим одно¬
кашником, поэтом, художником и рок-гитаристом Николасом Сент-Джоном, став¬
шим впоследствии его постоянным драматургом, он делал короткие узкопленоч¬
ные скетчи, наполненные смутными и многозначительными образами. Склонность
к абстрактному формотворчеству критики отмечали у Феррары и в дальнейшем.
Обозреватель «Film Comment», например, посвятил добрых полстраницы анализу
голубой и оранжевой подсветки, сопровождающей кадры Короля Нью-Йорка. По
мнению критика, переходя из одной цветовой ауры в другую, полицейские и ганг¬
стеры перемещаются из одного мира в другой. Из подзаконного пространства на
территорию беззакония и беспредела.
Полнометражный дебют Феррары тоже вырос из пятиминутной «коротыш¬
ки». Фильм появился в 1979 году, назывался Убийца-сверлильщик и, к удивлению
самих создателей, тут же на ура пошел сразу в нескольких кинотеатрах. В оригина¬
ле название «Driller Killer» звучало как припев забойного рок-н-ролла, в эпизодах
снимались приятели режиссера по богемным вечеринкам, а сам он под псевдони¬
мом Джимми Лейн сыграл главную роль исписавшегося художника, который в по¬
гоне за вдохновением вооружался электродрелью и дырявил всех подряд - от по¬
моечного бомжа до собственного мецената.
Первый же фильм Феррары парадоксально сочетал черты «хоррор-отвраще-
ния» с натурзарисовкой будней нью-йоркского художественного подполья. Нечто
похожее режиссер сделал и в своей последней картине. Пагубная привычка всерь¬
ез рассказывает вампирскую историю в жесткой черно-белой стилистике анде¬
граундного неореализма. Студентка-философиня Кэтлин днем штудирует Ницше
и Хайдеггера, а по ночам отправляется на уличную охоту - столь излюбленный
Феррарой мотив преемственности зла рифмуется с порочным кругом отравленной
крови. И хотя сам Феррара отрицает всякую преемственность с классикой жанра,
титулованные вурдалаки появлялись у него и прежде. В том же Короле Нью-Йор¬
ка босс китайской мафии коротал вечера за просмотром старого Носферату Фрид¬
риха Вильгельма Мурнау.
Сверлильщик открыл и еще одно важное свойство стиля — метафору насилия
как творчества, ломающего все границы и условности. В сделанных через 15 лет
Змеиных глазах действие происходит на съемочной площадке. Знаменитый режис¬
сер, явно задуманный как альтер-эго самого Феррары, снимает очередной фильм
со своим не вылезающим из-под кайфа актером-подельником и звездочкой-стар¬
леткой, цепко раскручивающей выпавший на ее долю шанс. На репетициях мэтр
501
Кино на ощупь
Абель Феррара. Фот. Дэвид Годлис. 1990
502
1996
много и красиво витийствует о миссии художника, наизусть цитирует Станислав¬
ского и Ли Страсберга, говорит о перевоплощении и вере в предполагаемые об¬
стоятельства. Но едва в сексуальной кульминации включается камера, он мига¬
ет дружку, и тот без церемоний по-настоящему насилует партнершу. Эпизод снят.
Не обращая внимания на скулящую жертву, победители, одному из которых кока¬
ин носят прямо на съемки, а другой в перерывах между творчеством до основания
развалил собственную семью, удаляются.
То, что в конце 70-х было почти кинохроникой, напугало либеральные 80-е
и политкорректные 90-е. Сегодня ферраровского Сверлильщика трудно отыскать
даже в элитных видеотеках Гринвич Вилледж — картина снабжена целой верени¬
цей запрещающих рейтингов и демонстрируется чуть ли не из-под полы. Как буд¬
то предчувствуя это, свой следующий фильм Мисс 45 Феррара загримировал под
феминистский психотриллер - дважды изнасилованная героиня направо и налево
гасила мужчин за одно неосторожное слово или косой взгляд. Смерть, кровь, рва¬
ные раны и расчлененка как будто искупались мотивами - внешне беззащитное
существо мстило за обиду. Но это, конечно, чушь. Абель Феррара никогда не был
на стороне слабых. Король Нью-Йорка, задуманный, по словам самого режиссера,
как мрачная пародия на эпоху Рейгана, показывал бандита-идеалиста, надумавше¬
го прекратить взаимоистребление враждующей «братвы». Ничего не получалось.
Многократно подставленный своими и чужими, миротворец умирал, вцепившись
в руль обложенного полицией автомобиля. Точно так же — на общем плане, посреди
городской толчеи — подыхал «плохой лейтенант», первый и последний раз в жиз¬
ни решившийся на доброе дело. И неведомые пришельцы из изготовленного Фер¬
рарой третьего по счету римейка Похитителей тел воровали людскую плоть без
всякой видимой цели.
В Городе страха завязавший после неосторожного убийства боксер снимал-
таки зарок, чтобы покарать идейного маньяка. Финал картины походил на торже¬
ственную литургию. В параллельном монтаже всхлипы бьющихся насмерть тя¬
желовесов чередовались с образами Спасителя и Святой Девы. Столь важный для
католика мотив выворачивался наизнанку — настоящим искушением было вовсе
не насилие, а отказ от него. При этом на мусорном баке, о край которого прозрев¬
ший герой смачно прикладывал физиономию противника, обнаруживалось граф¬
фити в форме буквы «М» - знак того, что Феррара помнил М Фрица Ланга, пост¬
экспрессионистский шедевр о власти ночного ужаса.
Экспрессионизм 20-х показывал ночь как время зла. Для Феррары ночь еще
и приют криминалов и гопников. Действие всех его фильмов на три четверти про¬
исходит в темноте. На неосвещенных пустырях, в вонючих притонах или уголов¬
ных хазах. Эти опасные места Феррара знает не понаслышке и с гордостью труд¬
ного подростка подчеркивает собственную к ним причастность. Когда кто-то из
503
Кино на ощупь
журналистов неосторожно спросил у него про Вуди Аллена, Феррара отрезал: «Это
парень не из нашего района. Он живет на западной стороне Централ Парка. У них
там своя кодла».
Как всякий хулиган, Абель Феррара сентиментален и не стесняется пафоса.
Только блатной романтик способен всерьез отнестись к святому безумию худож¬
ника. И оплачивать продырявленными телами живопись, на которой пылающие
быки уносят куда-то волооких красавиц — именно такой кичевой метафизикой
промышлял герой Сверлильщика. Только тоскующая о «высоком» шпана умеет без
иронии спеть сюжет «Ромео и Джульетты» на мотив бандитского романса. В Ки¬
таянке Феррара переписал Шекспира жаргоном подростковой тусовки, абсолют¬
но непохожим на символический язык схожей по замыслу Вестсайдской истории.
Монтекки и Капулетти превратились в конкурирующие кланы Чайнатауна и Ма¬
ленькой Италии, чернокожему Меркуцио мучительно долго выпускали кишки
мясницким тесаком, а Тибальта находили под утро повешенным на стреле строи¬
тельного крана. Только суеверный урка может от имени продажного мента выдать
«предъяву» самому Иисусу Христу. В Плохом лейтенанте Мессия являлся герою
Харви Кейтеля и не произносил ни слова, как будто подтверждая, что между опла¬
канным Ингмаром Бергманом молчанием Бога и урловым мистицизмом нет боль¬
ше никакой разницы.
Культ Абеля Феррары во многом опирается на эту неразличимость. С одной
стороны, он кичмейкер, напыщенный жлоб и трехсотпроцентный мачо. С дру¬
гой — нешуточный провокатор художественных ересей и один из последних ради¬
кальных киноавторов, стремящихся сквозь избыточную форму прорваться к ис¬
тине. На этом пути многие погибали. Феррара выжил. Согласно ветхозаветному
преданию, Каин убил своего брата Авеля. В наказание Бог сделал его изгнанником
и заклеймил печатью, не позволяющей встреченным убить Каина. Каинова печать
охраняет Абеля Феррару, одного из немногих, кто еще верит в то, что злые остают¬
ся живыми.
«ОМ». 1996. Июль.
504
1996
Рэмбо — 50. Вторая жизнь: часть первая
Мало кто помнит, что свою карьеру Сталлоне начинал как радикальный автор -
сценарист, сочинитель диалогов и историй. В его наследии раннего периода сей¬
час больше востребуются грошовые порноролики, в которых он изредка снимался,
чтобы заработать на жизнь. Все остальное время бывший трудный подросток, уни¬
верситетский спортсмен и инструктор горнолыжного спорта проводил за пись¬
менным столом в маленькой комнатке с окнами, выкрашенными черной краской.
Обстановка творчества сказывалась вполне. Голливудские мейджоры неизменно
отклоняли его заявки с формулировкой «чернуха».
Свой первый звездный час Сталлоне едва не загубил, согласившись уступить
сценарий Рокки только на условиях предоставления ему права постановки и ис¬
полнения главной роли. К счастью, руководство United Artists оказалось хитрее.
Фильм сделал Джон Г. Эвилдсен, а мало кому известный актер-драматург Сталлоне
впервые появился на экране в образе Рокки Бальбоа, тяжеловеса-неудачника, по¬
том и кровью выбивающего у жизни свой шанс. Судьба героя повторилась в судьбе
автора. Наутро после премьеры Сталлоне проснулся знаменитым, а вскоре и бук¬
вально удостоился памятника при жизни. Не так уж важно, кто именно возвыша¬
ется на постаменте в Филадельфии: Рокки или Сталлоне. Главное, и тот и другой
воплотили Большую Американскую Мечту, основанную на том, что даже в самых
безвыигрышных лотереях предпочтение отдается трудолюбивым и упорным.
Вторая звезда Сталлоне взошла одновременно с открытием еще одного памят¬
ника - мемориальной стелы, воздвигнутой на Арлингтонском кладбище в честь
павших во Вьетнаме. Страна официально возводила своих «солдат удачи» в ранг
национальных героев. Джон Рэмбо, в одиночку распотрошивший хозяйство про¬
винциального самодура-шерифа, проиграл далекую азиатскую кампанию, но вы¬
играл битву за собственное достоинство. Эффект превзошел все ожидания. По¬
сле выхода Рэмбо-1 американские психологи всерьез заявили, что фильмы такого
рода государство должно заранее закладывать в реабилитационные программы
для вернувшихся с войны.
Рокки и Рэмбо - две составляющие образа Сталлоне, отлично усвоившего ам¬
плуа Парня, который не первым начал драку. Этот краеугольный миф демократи¬
ческого персонализма актер всегда истово пытался наградить настоящими пере¬
живаниями. Иногда у него получалось, чаще — нет. Рокки, до обморока ставящий
удар на свиных тушах, и рыдающий от одиночества силач-Рэмбо остались в чис¬
ле его исполнительских побед, но уже при вторичном воплощении превратились
505
Кино на ощупь
в обыкновенных сентиментальных амбалов. Кроме того, идеология неформально¬
го консерватизма, породившая героев Сталлоне наряду с песней Брюса Спрингсти¬
на «Born in the USA» и ранними фильмами Оливера Стоуна, быстро отошла, и ее
титаны остались не у дел. Истинную цену славы показал осмеянный со всех сто¬
рон Рэмбо-3, в котором непобедимый десантник отправился воевать в Афганистан
как раз накануне вывода оттуда советских войск.
Сталлоне всегда был слишком амбициозен, чтобы играть одномерных Рыца¬
рей без страха и упрека. Это затянуло начало его карьеры и это же помешало ему
на пике удачи. Он упорно искал сдвиг, надлом, неправедную обиду — трагическую,
как в Тюряге, или почти фарсовую, как в Танго и Кэш. Не будучи одаренным ли¬
цедеем, он никогда не упускал случай показать в кадре актерский этюд, старатель¬
но тараща печальные миндалевидные глаза прямо в камеру, но так и не осилил
грань, отделяющую поп-культуру от большого искусства, что на старости лет уда¬
лось, например, Клинту Иствуду. Лучше всего это видно в Скалолазе, где Стал¬
лоне нагрузил своего героя всеми возможными трудностями - от страха высо¬
ты до комплекса раскаяния, и разыграл их с истовостью студента-первокурсника.
Его режиссерские опыты тоже не оправдались. Встав по другую сторону камеры,
Сталлоне неизменно вспоминал, что настоящее кино должно поднимать серьезные
проблемы, и терпел поражение.
Эпоха политкорректных 90-х предписала былым героям тотальное вочелове-
чивание. «Железный Арни» вдруг открыл в себе недюжинный комедийный талант,
а Жан-Клод Ван Дамм, по слухам, теперь проводит больше времени за чтением
Станиславского, чем в тренажерном зале. Сталлоне, еще двадцать лет назад меч¬
тавший о супермене с человеческим лицом, как будто оказался не у дел. Комиком
он так и не стал — наскоро перекроенный из старого французского фильма Оскар
Джона Лендиса и бурлеск Роджера Споттисвуда Стой, или моя мама будет стре¬
лять не поднялись выше любительского спектакля. Отношения со Станиславским
выяснил уже тогда, когда руководитель студенческого театра посоветовал ему за¬
няться спортом, а не искусством. Одно время он любил позировать перед фотогра¬
фами в очках и при случае хвастаться своей коллекцией серьезной живописи, но
потом бросил. Такое непопадание в вираж, по существу, даже обаятельно. Во вся¬
ком случае, оно подтверждает истину о том, что «крутые парни не танцуют». Даже
если музыку для них заказывает весь мир.
«Ъ». 1996. 6 июля.
506
1996
Сердце между мускулами и мозгом
В эти дни ровно 70 лет назад Фриц Ланг завершал съемки Метрополиса. Через не¬
сколько месяцев, осенью 1926 года, стало ясно, что постановочный супергигант
не только нанес серьезный финансовый урон студии UFA, но и стал фактическим
концом немецкого киноэкспрессионизма. Понадобилось еще почти полвека, что¬
бы фильм, задуманный авторами как социальная антиутопия, занял одно из веду¬
щих мест в галерее мирового кинематографического стиля.
Метрополис стал одним из самых дорогостоящих проектов UFA. Рекламный
проспект студии сообщал, что картина обошлась в 7000000 марок. Помимо глав¬
ных персонажей в съемках приняли участие 750 исполнителей ролей второго пла¬
на и 36 000 статистов. Одна только детская массовка насчитывала более 700 карапу¬
зов, по экрану расхаживали 1100 лошадей, 100 африканцев и 25 китайцев. Студия
не без гордости признавалась, что 200 000 марок ушло на костюмы и вдвое боль¬
ше - на декорации и электроэнергию.
Во всех перечисленных суммах есть, вероятно, немалая доля саморекламы.
Во всяком случае, историки кино эти цифры до сих пор оспаривают. Но как бы то
ни было, Метрополис сполна осуществил тайную страсть немецкого кино к эзо¬
терической гигантомании. Команда бутафоров во главе с Отто Хюнте изготовила
подземный город 2000 года, где под лучами искусственного солнца легионы рабов
обеспечивают жизнь райских садов Йошивары - обители избранных. Стремясь
окончательно сломить жителей подземелья, диктатор Фредрехсен (его играл Аль¬
фред Абель) задумывает дьявольский трюк. По его наводке безумный ученый (Ру¬
дольф Кляйн-Рогге) создает женщину-робота с ангельским лицом пролетарской
святой Марии (и в той и в другой роли выступила Бригитта Хельм). Подстрекае¬
мые оборотнем, рабочие устраивают бунт, тут же грозящий катастрофой — нару¬
жу выходят подземные воды, сметающие все на своем пути. В борьбе со стихией
обретается классовый мир. В финале прозревший магнат протягивает руку рабо¬
чему вожаку, наглядно иллюстрируя авторский тезис о том, что «посредником ме¬
жду мозгом и мускулами должно быть сердце».
Эта сентенция принадлежала жене Ланга, писательнице и сценаристке Tea фон
Гарбоу, чей роман лег в основу фильма. В не меньшей степени Метрополис опи¬
рался и на предыдущие достижения экспрессионистской эстетики, построенной
на пластических сдвигах и экстраординарных событиях. Правитель-манипулятор
и загипнотизированный народ, аморальный гений и его искусственное создание,
город-фантом и власть ночи уже были в Големе, Кабинете доктора Калигари или
507
Кино на ощупь
Фриц Ланг. 1956
508
1996
Метрополис. Реж. Фриц Ланг. 1926
Гомункулусе. Метрополис довел их до почти маньеристского абсолюта. Сам Фриц
Ланг тоже внес много личного в это причудливое создание. Обозревая обширную
фильмографию режиссера, легко заметить, что миллионные вклады UFA понадо¬
бились ему не только для того, чтобы, не скупясь, завершить свои знаменитые ор¬
наменты из людей и архитектурных фрагментов. В Метрополисе проявились эле¬
менты авторского языка, которым Ланг заговорил в дальнейшем: тема анонимной
провокации, братание социально чуждых людей перед угрозой общей беды и даже
образ femme fatale, сквозь кукольное личико которой выпирает мурло железного
андроида.
Современникам Метрополис не понравился. Во-первых, потому что середи¬
на 20-х принесла в Германию социальную стабильность, и притча о союзе труда
и капитала выглядела запоздалой пропагандистской агиткой. Во-вторых, потому
что экспрессионизм с его мистикой, надчеловеческими таинствами и героями-ма¬
рионетками уходил в прошлое. Попросту говоря, зрителю надоело созерцать мета¬
физическую картину мира. Ему хотелось увидеть тайны и страсти внутри себя -
не случайно в том же 1926 году недавний чернушник и демиург Георг-Вильгельм
Пабст снял Тайны одной души, в которых употребил весь арсенал кабалистиче¬
ского стиля для буквальной иллюстрации фрейдовской теории индивидуального
психоанализа.
Единственными, кто оценил фильм по достоинству, были будущие правите¬
ли Третьего рейха. В сенсационном интервью, данном в 1941 году американскому
журналу «World Telegram», Ланг признался, что Геббельс всерьез предлагал ему
возглавить нацистскую кинематографию, ссылаясь на то, что несколько лет назад
они с Гитлером получили массу удовольствия, посмотрев Метрополис в каком-то
509
Кино на ощупь
провинциальном городке (во всей истории неожиданно поражает, как будущий
фюрер и его главный идеолог, отмитинговав в пивной, сидят и лузгают семечки
в местной киношке). Ланг отказался и тут же эмигрировал в Америку. Tea фон
Гарбоу на аналогичное предложение согласилась. Но тут начинается уже другая
история.
Еще одна история началась много лет спустя. Киноэкспрессионизм сно¬
ва вошел в массовую моду в начале 70-х, когда поколение Фассбиндера, Херцога
и Вендерса напомнило о нем как о живой национальной традиции. Метрополис
все чаще ассоциировался с Берлином, городом-призраком, исполненным пафоса,
пошлости и трагизма. Как и классический киномолох, он был поделен непроходи¬
мой стеной - по одну сторону расцветал демократический эдем, а по другую пле¬
ла свои козни «Штази» и работала народная киностудия ДЕФА (кстати, бывшая
UFA). В конце 70-х в Западный Берлин зачастил Дэвид Боуи - диктатор стиля тон¬
ко почувствовал грядущую романтическую конъюнктуру на искусственное серд¬
це, бьющееся между мускулами и мозгом.
Когда-то историк кино Жорж Садуль предположил, что сходство перво¬
го и последнего эпизодов Метрополиса означает фигу, которую Ланг придержал
в кармане для своих оппортунистически настроенных работодателей. И до и после
наступления классовой гармонии рабочие двигались по экрану одинаково симме¬
тричными шеренгами - для бывшего сюрреалиста Садуля это предполагало фрон¬
ду, вызов, насмешку. Для постидеологической эпохи, напротив, определило равен¬
ство вся и всех в переплете культуры. Закономерно, что не гениальные прозрения
Фридриха Мурнау и не ранние шедевры того же Ланга, а большой, красивый и хо¬
лодный Метрополис, сложивший воедино архитектуру, массовое шествие и кино,
на целое десятилетие стал расхожим каноном экспрессионизма. По его рецепту
был изготовлен и один из самых концептуальных кинохитов 80-х - Стена Ала¬
на Паркера, где социальный эксцесс изображался как повод для психоделических
риффов Pink Floyd и монтажа аттракционов, взятых напрокат у музыкального те¬
левидения. Кадры Метрополиса стали расходиться на видеоклипы с такой же бы¬
стротой, что и удачная комедия на поговорки, а постер, воспроизводящий ори¬
гинальную афишу фильма, оказался где-то между плакатами Элвиса и Мэрилин
Монро. В 1984 году сборная рок-звезд под предводительством Джорджо Мороде-
ра записала саундтрэк - по существу оригинальный мюзикл - по мотивам Метро-
полиса. В переозвученной версии фильм стал на полчаса короче, и надо ли удив¬
ляться, что с некоторых пор в любой европейской или американской видеотеке вам
в первую очередь предложат именно эту копию.
«Ъ». 1996. 27 июля. Статья опубликована под названием «Посредник между мозгом
и мускулами».
510
1996
Шестьдесят лет под куполом Цирка
Шестьдесят лет назад, летом 1936 года, на экраны вышел Цирк Григория Алексан¬
дрова. Сразу же после премьеры фильм был объявлен решительным успехом ра¬
боче-крестьянского киноискусства на жанровом фронте. Это была сущая правда.
Эпоха сталинского социализма увековечила себя в абсолютно чуждом материале.
Ни до ни после советский экран не знал столь победоносной игры по запрещен¬
ным правилам, ни до ни после не умел так блестяще расцветить идеологию нового
строя классическими мифами западного кино.
Когда Цирк появился на экранах, официальная пресса как будто забыла, что
жанр в советском искусстве навеки предан анафеме. Критики наперебой спорили,
по какому адресу прописать картину - комедии или мелодрамы. Спустя десять лет
сам режиссер принял в полемике покаянное участие, заявив, что считает Цирк лег¬
кой работой и даже некоторым снижением требований к себе как к комедиографу.
Это была, конечно, уловка. Виртуозный стилист Александров должен был пони¬
мать, что по формальной сделанности, богатству культурных аналогий и стопро¬
центному попаданию в социальный заказ Цирк намного превосходит бурлескных
Веселых ребят, музыкально-танцевальную Волгу-Волгу и откровенно штукарский
Светлый путь.
В основу фильма легла написанная для мюзик-холла пьеса Ильфа и Петро¬
ва «Под куполом цирка». Поначалу авторы «Двенадцати стульев» принимали ак¬
тивное участие в работе над сценарием, но затем, осознав, какой невиданный раз¬
мах обретает их история, сняли свои фамилии с титров. Окончательный вариант
Александров доделывал вместе с Исааком Бабелем и Валентином Катаевым, уже на
предварительном этапе к ним подключился композитор Дунаевский, сочинявший
музыку как ритмический ключ будущих сцен.
В окончательном варианте сценарий стал называться «Цирком», так же, как
и фильм Чаплина 1928 года. С великим комиком Александров не раз встречал¬
ся в Голливуде и не упустил возможности послать ему с экрана привет. В Цирке
действует персонаж, как две капли воды похожий на Чарли и названный в титрах
«Чаплиным», унылый клоун-слуга, покорно следующий за хозяином и символизи¬
рующий униженное положение художника в мире голого чистогана.
Важно и другое. От Чаплина до Тода Броунинга и от Феллини до Вендер¬
са цирк представал моделью мира. Фильм Александрова появился в год принятия
сталинской конституции, утвердившей социализм как окончательно сформиро¬
ванную общественную систему. Идеология нуждалась в универсальной формуле,
511
Кино на ощупь
Цирк. Реж. Григорий Александров. 1936
и Александров эту формулу нашел. Соревнование двух аттракционов — американ¬
ского «Полета на Луну» и нашего «Полета в стратосферу» — превращалось в битву
двух систем. Идя навстречу злобе дня, режиссер откровенно подтасовал политиче¬
ский образ противника. Хотя злодей-Кнейшиц прибыл из демократического Нового
Света, он был немцем. Американский империализм и германский фашизм соединя¬
лись в одну темную силу, противостоящую светлому миру советских людей - таким
образом воплощалась инструктивная метафора эпохи о райском саде, расцветшем
посреди океана зла. Дальше в дело шли классические оппозиции, унаследованные
Александровым от своего наставника Эйзенштейна — ночь и день, луна и солнце,
женское и мужское, пассивное и активное. В буржуйском номере вся опасность до¬
ставалась женщине, в советском полет совершал мужчина, явно зарифмованный
с преодолевшим земное притяжение Икаром (у современников, впрочем, рожда¬
лась куда более прямая ассоциация с высотными рекордами «сталинских соколов».
При попытке установить один из них незадолго до выхода фильма трагически по¬
гиб экипаж ОСОАВИАХИМ-1. Циркач Мартынов тоже падал из-под самого купо¬
ла, но оставался жив. Миф в очередной раз торжествовал над действительностью).
У Ильфа и Петрова героиню Любови Орловой звали Алиной. Александров пе¬
реименовал ее в Марион Диксон, очевидно адресуя образ заграничной акробатки
к Марлен Дитрих, искусительнице Лоле-Лоле из Голубого ангела и главной «вамп»
Голливуда 30-х. В работе над Ангелом Александров принимал непосредственное
участие, рейтинг голливудских имиджей тоже знал не понаслышке. Орлова о за¬
мысле догадалась и, судя по всему, не одобрила. Позже, встретившись и сфотогра¬
фировавшись с Марлен, она разрезала отпечатанный снимок пополам — почти ри¬
туальный жест звезды, ревнующей к сопернице.
512
1996
Вместе с тем, замысел был почти гениален: попадая в советскую страну, за¬
падная примадонна принималась жить по присущим ей законам мелодрамы — ро¬
ковая тайна, ложное известие, негодяй-разлучник, невозможность объясниться
с любимым напрямую... Свет и тень, черное и белое сражались за душу героини,
принадлежащей как будто двум мирам сразу. На первой афише фильма Орлова-
Диксон не случайно была изображена одновременно и в черном сценическом па¬
рике, и натуральной блондинкой (от природы Орлова была шатенкой. «Под Мар¬
лен» ее перекрасил Александров).
Столь же упорная схватка происходила и в драматургии фильма. По мере того,
как заезжая мать-одиночка проникалась прелестями самого прогрессивного об¬
щественного строя, сентиментальные мотивы оборачивались фарсовыми. В тот
момент, когда белокурый бестия Мартынов вырывал Марион из цепких лап чер¬
нявого Кнейшица, «веселая» советская комедия нокаутировала тамошнюю «жгу¬
чую» мелодраму. Коллективная этика посрамляла и воспитывала одиночку, роко¬
вые и слезливые препятствия разрешались апофеозом массового танцевального
действа, поставленного Касьяном Голейзовским (многофигурная композиция на¬
поминала стиль голливудского хореографа Басби Беркли, но это только подтвер¬
ждало право победителя использовать трофеи по своему усмотрению). На пути
Кнейшица вставали крепкие парни в военной форме, а многонациональный амфи¬
театр пел колыбельную черному карапузу. Помимо призыва к пролетарскому ин¬
тернационализму, этот эпизод обладал еще и «прибавочной стоимостью» на вну¬
треннем рынке — в 1936 году правительство приняло закон, запрещающий аборты.
«Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, са¬
мым ценным и самым решающим капиталом являются люди», — сказал Сталин на
встрече с ударниками стахановского движения. «Я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит человек», — из-под купола цирка отозвались герои Григория
Александрова. Посыл был стопроцентно авторским — сыгравший Мартынова Сер¬
гей Столяров не умел петь, и знаменитую «Песню о Родине» вместо него за кадром
исполнил сам режиссер. Арена цирка становилась слишком тесна для праздника
чувств, действие выплескивалось на Красную площадь, к официальному центру
советского мироздания, под сень державного ока - всевидящего и всевидимого.
«Теперь понимаешь?» - спрашивала потешная Райка у марширующей рядом Ма¬
рион. «Теперь понимаю!» — восклицала та перед тем как окончательно растворить¬
ся в ослепительной гармонии золотого века.
«Ъ». 1996. 16 августа. Статья написана в соавторстве с Кариной Добротворской
и опубликована под названием «Шестьдесят лет назад под куполом Цирка».
513
Кино на ощупь
Кавказский призовой круг
На сочинском «Кинотавре» этого года фильм Сергея Бодрова Кавказский пленник
получил главный приз. Награждая картину, жюри Открытого российского фести¬
валя наградило не только тактично сделанную конъюнктуру (горская война, по¬
чти феодальная неразбериха своих и чужих, бездарное командование и вечные
русские мальчики, кровью закрывающие векселя большой политики) и не толь¬
ко прозрачную отсылку к литературной классике (идея вольного переноса повести
Л. Н. Толстого принадлежит, кстати, продюсеру фильма Борису Гиллеру).
На фоне отечественной кинопродукции минувшего года, в большей или мень¬
шей степени отразившей обстоятельства производственного и финансового кри¬
зиса, Кавказский пленник был просто хорошо сделанным фильмом — с продуман¬
ной режиссурой, красиво снятыми Павлом Лебешевым горными ландшафтами,
звездной игрой суперартиста Олега Меньшикова и обещающим дебютом непро¬
фессионала, сына режиссера Сергея Бодрова-младшего.
Собственно, здесь можно было бы ставить точку, добавив, что за сто с неболь¬
шим лет толстовская история претерпела закономерные изменения. Толстой напи¬
сал о том, как по-разному ведут себя служивые мужики, оказавшись в чеченской
неволе. Один соглашается со своей участью, демонстрируя смиренный фатализм
и христианское долготерпение. Другой беспокойно ищет выхода, свободы, побега.
В сюжете, придуманном Бодровым, Гиллером и Арифом Алиевым, о выборе
и речи нет. Жилин и Костылин образца 90-х годов одинаково обречены на иди¬
отскую войну, и разница между ними только в том, что один — необстрелянный
салага, а другой - прапор-сверхсрочник, солдат фортуны с блатным обаянием
и фатовскими усиками. Экзистенциальные рефлексии таким образом сменяются
социальными масками, а когда маски перед лицом смерти спадают, остается толь¬
ко людоедская логика бойни, где индивидуальный кураж, благородство или страх
не имеют никакого значения.
Лихой прапор с вскрытой сонной артерией навеки успокаивается в какой-то
канаве, горский старейшина находит в себе силы не выстрелить в спину русско¬
му мальчику, которого тщетно пытался обменять у «федералов» на собственного
сына, солдатская мать рыдает в штабной избе, но в финале ощетинившиеся ПТУР-
Сами вертолеты все равно летят бомбить затерянный в ущельях аул. Война, как во¬
дится, списывает все — и плохое и хорошее.
Добавить к этому действительно нечего. То, что война это плохо, а мужская
дружба, родительская любовь и терпимость к беспомощному врагу это хорошо,
514
1996
едва ли требует доказательств. Но дело в том, что, предлагая зрителю столь очевид¬
ные истины, Кавказский пленник заодно демонстрирует и редкую для нашего экра¬
на формулу просчитанного успеха.
Бывший спецкор «Крокодила» и бывший сценарист Сергей Бодров искал эту
формулу давно. Удача приходила через раз. После странно-пронзительных Непро¬
фессионалов и не менее пронзительного фильма СЭР - Свобода Это Рай Бодров
трижды промахнулся по жанровым мишеням. Очень красиво задуманный роман¬
тический триллер Катала (1989) исчез в мутном потоке зарубежной би-продукции,
социальная мелодрама Белый король, красная королева (1992) опоздала к зрительско¬
му заказу на «заграничную жизнь», а мотоциклетное роуд-муви Я хотела увидеть
ангелов (1992) появилось в тот момент, когда молодежная тема была, по существу,
уже вычерпана. Одновременно Бодров уехал в Америку, туда, где слово «формула»
имеет совершенно определенное и вовсе не обидное значение, а знание «формулы»
характеризует профессиональный минимум человека, занимающегося кино.
Посмотрев Кавказского пленника, в этом легко убедиться. И заодно понять,
что пресловутый Голливуд, над загадкой которого тщетно бьются отечественные
режиссеры, это вовсе не клиповый монтаж, многокамерная съемка и необремени¬
тельная для нравственности доза эротики. Голливуд — это прежде всего умение
показать, что такое хорошо и что такое плохо, под таким углом зрения, что лю¬
бой зритель должен либо согласиться, либо признать, что у него самого непорядок
с моралью и элементарными критериями человечности.
В Кавказском пленнике Бодров нашел именно такие слагаемые победы. Двое
попадают в плен, но не потому, что враг коварен и беспощаден, а потому, что оба на¬
значены в качестве выкупа за такого же пацана-горца. Оба бегут из плена и по дороге
убивают симпатичного глухонемого охранника, но не потому, что садисты, а пото¬
му, что иначе не уйти. Оба попадаются, и одному из них режут глотку, но опять-та¬
ки не по злому умыслу, а потому что он сам только что грохнул невинного пастуха.
Иначе и быть не может, когда воюют не войсковые соединения, а полевые ко¬
мандиры. И переговоры ведут не дипломаты, а отцы и матери. Тут уж не до ошибок
в драматургии. Не погрешив против гуманизма, мы не можем спросить режиссера -
почему командир «федералов» так легко отдает аксакалу тело убитого сына и долгим
печальным взглядом провожает грузовик вместо того, чтобы стукнуть несчастного
старика головой о стенку и потребовать своих заложников в обмен на теперь уже его
жизнь. Не можем спросить, почему, когда старик, передернув затвор, ведет к обры¬
ву русского мальчишку, мы точно знаем: он не выстрелит, не возьмет кровь за кровь,
потому что и за зрителя, и за героя это уже решили авторы. И решили правильно, по¬
тому что хорошее кино — это не искусство и не жизнь, а нечто среднее между ними.
«Мир Петербурга». 1996. № 4 (6).
515
Кино на ощупь
Вторая смерть Рудольфа Валентино
Ровно 70 лет назад умер Рудольф Валентино. За его гробом шла стотысячная тол¬
па, состоявшая главным образом из женщин. Полиция едва успевала оттаскивать
на обочину потерявших сознание фанаток. Провожая в последний путь героя сво¬
его коллективного романа, поклонницы едва ли подозревали, что открывают но¬
вую страницу поп-культуры XX века — эпоху поклонения мертвым кумирам.
Валентино умер от гнойного аппендицита в половине первого дня 23 августа
1926 года. На следующее утро его тело было выставлено для прощания в траурном
зале на углу Бродвея и 66-й улицы. Эту дату нью-йоркская полиция до сих пор
вспоминает как один из самых черных дней: зареванные дамы едва не разнесли
по кусочкам прилегающий квартал. Когда в дело вмешался конный патруль, кто-то
намазал мостовую мылом. Полицейские лошади поскальзывались и ломали ноги.
Истерика окончательно вышла из берегов, после того как разнеслась весть о пер¬
вых ритуальных самоубийствах — в Лондоне и Лос-Анджелесе несколько бары¬
шень выпрыгнули из окон, прижимая к груди фотографии покинувшего их бога.
Валентино всегда пользовался ошеломительным успехом у женской аудито¬
рии. Его собственную карьеру тоже сделали женщины — сценаристка Джун Мэт-
тиз и художница Наташа Рамбова. Первая настояла на том, чтобы красавчику-ста¬
тисту поручили главную роль в суперпродукции студии «Метро» Четыре всадника
апокалипсиса. Вторая довела до декоративного абсолюта его знойный имидж - па¬
рики, мушки, вычурные ориентальные украшения (в жизни Валентино тоже ис¬
пытывал слабость к флорентийским перстням и тяжеленным золотым браслетам).
О его отношениях с Мэттиз история умалчивает. На Рамбовой он женился и про¬
жил с ней целый год, до тех пор пока не объявил о своей официальной помолвке
с экранной примадонной Полой Негри.
В Четырех всадниках..., поставленных по роману Бласко Ибаньеса, Валенти¬
но сыграл Хулио Деснойера — аргентинца французского происхождения, внявшего
зову крови и отправившегося на фронт Первой мировой войны сражаться на сто¬
роне союзников. Успех фильма превзошел все ожидания. И не потому, что в оче¬
редной раз склонял надоевшую тему недавно закончившейся баталии, а потому,
что показал зрителям новый образ премьера-любовника. Прежние киногерои об¬
ладали англосаксонской или галльской внешностью. Валентино был эталоном жгу¬
чего латинского темперамента — с томным от врожденной близорукости взглядом,
низкими баками и смуглым лицом (для пущего эффекта гримеры подмазывали
его бронзовым гримом). Он появился вовремя - в алчущих наслаждений Америке
516
1996
Рудольф Валентино
и Европе «латинос», танго и гаучо ассоциировались с неизведанными запретны¬
ми удовольствиями. В своем следующем фильме Шейх Валентино удачно сыграл
на экзотике арабского Востока, в мелодраме Кровь и песок переоделся в испанский
костюм, а в Молодом радже станцевал в набедренной повязке, сотканной из жем¬
чужных ожерелий.
Судя по фильмам, актером он был никаким, однако обладал магнетической
харизмой врожденного жиголо, ловко исполнял осужденное блюстителями нрав¬
ственности танго и великодушно дарил каждой зрительнице почти физическое
ощущение неземной страсти. Как и много лет спустя Мэрилин Монро, Валенти¬
но был воплощенным Эросом. Настолько, что пол как таковой уже не имел никако¬
го значения — его придуманный Рамбовой поздний имидж почти женственен и на¬
водит на мысль скорее о божественном андрогине, чем о темпераментном «мачо».
Неудивительно, что именно Валентино первым из кинозвезд перенял эстафету
у оперных теноров — объектов массового помешательства начала века. Экранная
517
Кино на ощупь
пантомима оказалась вполне конкурентной со столь труднообъяснимой субстан¬
цией как «ангельский голос». Еще в начале 20-х подростки покупали у гостинич¬
ных портье воду из ванны, в которой мылся певец Тино Паттиера, а уже в 1924 году
они готовы были перебить друг друга из-за лоскутка галстука или пуговицы, со¬
дранной с пиджака Валентино.
Преждевременная кончина внесла в его образ недостающую координату. Пре¬
жде умирать молодыми позволялось только поэтам - актеры в касту избранных
не попадали. За год до Валентино в номере парижского отеля покончил с собой су¬
перпопулярный комик Макс Линдер. Об этом писали, об этом судачили, но ника¬
ких уличных беспорядков или ответных суицидов не последовало. Смерть Вален¬
тино воссоединила Эрос и Танатос - два лика коллективного бессознательного,
сплетенные в прихотливый узор массовых соблазнов и индивидуальных маний.
Эротика и смерть встали по обе стороны гроба «латинского жиголо», чтобы сооб¬
ща породить один из самых злокачественных психозов столетия - культ мертвой
звезды, простирающийся от Джеймса Дина до Виктора Цоя и от Джима Моррисо¬
на до Курта Кобейна.
Кроме этого от божественного Валентино остались вилла, выстроенная в псев-
доиспанском стиле, восемь автомобилей, пять верховых лошадей, триста галстуков,
две тысячи рубашек и бессчетное количество заляпанных наволочек - к тридцати
годам он начал лысеть и собственноручно замазывал плешь черной краской. Стены
и занавески в доме тоже были черными - явившийся поклонницам в ослепитель¬
ном луче кинопроектора, сам Валентино страдал светобоязнью. Искусственный
свет, впрочем, оказался долговечней природного. Понадобилось еще ровно три де¬
сятилетия, чтобы кумир умер вторично и на сей раз уже по-настоящему. 23 авгу¬
ста 1956 года газеты всего мира торжественно сообщили: впервые за тридцать лет
в день смерти Валентино на его могилу не пришла ни одна женщина.
«Ъ». 1996. 23 августа. Статья опубликована под названием «Настоящая смерть
Рудольфа Валентино».
518
1996
И задача при нем...
Лебединое озеро
В лице Леонида Гайдая советское кино, безусловно, вытянуло свой самый счастли¬
вый билет. К билету, однако, прилагалась задача. Совсем как у нерадивого изобре¬
тателя Дуба из Операции Ы..:. «Билет номер такой-то и задача при нем...»
Дубу, если помните, профессор врубил по ушам радиопомехой и выгнал.
С Гайдаем так не получается. Сложность решения в том и состоит, что условий за¬
дачи мы толком не знаем. Хотя бы потому, что знаменитые и любимые гайдаевские
фильмы смотрим с удовольствием и с любого места, но не видим. Вернее, видим,
но не такими, какие они есть, а такими, каких их просто не может не быть, какими
мы видали их десятки раз в одиночку, в компании, на экране и по телику, с кем-ни¬
будь в обнимку или просто потому, что нельзя же, елки-палки, не включить ящик,
если в нем крутят Кавказскую пленницу.
Иначе говоря, фокус Леонида Гайдая принадлежит к тому разряду объектов
нашего культурного зрения, которые начинаешь всерьез замечать только после
того, как они вдруг исчезнут. Представьте себе - вы никогда больше не увидите
Бриллиантовую руку — волосы дыбом встанут.
Честертон называл это эффектом почтальона (письмоносец столь императив¬
ная деталь ландшафта, что одетый под него убийца остается стопроцентным неви¬
димкой). В разгар президентских выборов наше телевидение почти гениально этот
эффект использовало — подсчет голосов на большинстве каналов перемежался но¬
веллами из Операции Ы... Ни один из других по-настоящему народных режиссе¬
ров здесь был бы неуместен. Ни Рязанов, ни Данелия. Ни Белое солнце пустыни, ни
Джентльмены удачи. Разве что Ну, погоди, но такое название звучит слишком уж
вызывающе по отношению к запрету на агитацию в день выборов. Гайдай и здесь
попал в самую точку — его кино оказалось тем самым коллективным антидепрес¬
сантом без побочного эффекта, который советская власть когда-то пыталась выпа¬
рить из «Лебединого озера».
Если бы это сравнение не существовало въяве, его стоило бы придумать. Клас¬
сический балет — «император искусств», знаковая абстракция. Он — либо после
всего, когда эстетическая плоть очищена до поставленного аттитюда. Либо - до
всего, когда нездешняя гармония еще не разбавлена мутным потоком осознав¬
шей себя души. Власть неспроста пыталась сделать балетную классику формой
директивного фольклора. Красиво, пышно, музыка играет, плюс «впереди плане¬
ты всей», но по сути совершенно стерильно, безвредно. Никак. Полая для неэкс-
пертов форма.
519
Кино на ощупь
В день выборов, перед угрозой массовой истерики, конечно, должно было иг¬
рать «Лебединое озеро». Но заиграла Операция Ы... В день думского марафона,
кстати, прошло Белое солнце пустыни, но там и напряг был поменьше, и результат
внешне более предсказуем. Потому и сгодилась неформальная сказка для взрос¬
лых со всеми ее парафразами и ироничными подтекстами.
Гайдай в этот ряд не вписывается. Будучи неотъемлемой частью советского
фольклора, он не снимал фольклорное кино. По-английски folklore можно бук¬
вально перевести как «народная ученость» — и Рязанов, и Данелия, и Марк Заха¬
ров, и даже мультипликатор Котеночкин стали работать, надеясь на то, что народ
уже кое-что о себе знает. В лучшие свои годы Гайдай на это никогда не надеялся
и выигрывал.
Версии
Это, впрочем, еще даже не условия задачи, а всего лишь предисловие к ним. Усло¬
вия же таковы, что, хотя покойный Леонид Иович Гайдай давным-давно заслужи¬
вает большой и подробной монографии, едва ли в ближайшее время кто-нибудь
решится подобную книгу написать. По той простой причине, что, будь книга сде¬
лана, она состояла бы из разбора двух гениальных коротышек, трех блестящих ки¬
нокомедий, двух отличных экранизаций и такого же числа полуудач, неудач и про¬
сто никаких фильмов.
По первой версии Гайдай слишком переоценил собственные силы, Трюкач
и эксцентрик от Бога, он принялся за неприсущие ему повествовательные формы,
начал экспериментировать с диалогом, характером, а потом и вовсе замахнулся на
традиции «высокого смеха». В 1976 году за «круглым столом» «Литературной газе¬
ты» обычно не склонный к теоретизированию режиссер высказался по поводу ли¬
тературной классики как о своем «надежном резерве». И добавил почти как неза¬
бвенный товарищ Саахов: «Бояться не надо! Зачем бояться?»
Это «зачем бояться» ему потом не раз припоминали. И, в общем, за дело. Гай-
даевские экранизации выстроились строго по убывающей. От искрометных Две¬
надцати стульев и Ивана Васильевича... к удручающим Инкогнито из Петербур¬
га и советско-финским За спичками. Угодив в книжный переплет, великий клоун
скис, сдал, сбил руку. Так, что даже оригинальные сценарии экранизировал потом
без особой фантазии. С началом перестройки он, правда, воспрял. Страна поголов¬
но хохотала над действительно очень смешной сценой, когда брошенный в Боль¬
шом театре клич «агенты КГБ на выход» вымел из зала всех, вплоть до солиста
и капельдинеров. Удержусь от слишком витиеватой параллели с определенной
выше балетной природой ранних гайдаевских шедевров. Факт остается фактом -
общественная либерализация совпала с творческим возрождением. Что было бы
дальше, мы так и не узнаем. Гайдай умер.
520
1996
Леонид Гайдай
521
Кино на ощупь
Версия вторая. Гайдая сгубило «самое читающее в мире общество». Он снимал
гениальные кинокомедии, а ему втюхивали высокие образцы литературы и драма¬
тургии. Гайдай искренне любил зрителей, поэтому к советам прислушивался. Кри¬
тика ему все охотно объясняла. Почему, например, Кавказская пленница — это не
выражение мысли через трюк, а просто балаган. Почему Бриллиантовая рука дол¬
жна была бы стать пародией на второсортные детективы, а согрешила с бытовой
комедией. Почему Гайдаю не даются сатира Ильфа и Петрова, социальный сарказм
Булгакова или мещанский говорок Зощенко. Словом, перечитывая сейчас старые
рецензии на гайдаевское кино, приходишь к выводу, что для современников иде¬
альным созданием режиссера остался одночастевый Пес Барбос..., по отношению
к которому уже Самогонщики выглядят кризисом жанра, потому что продолжают¬
ся целых 20 минут.
Версии зеркальные, но оттого не менее противоречивые. Если на то пошло,
Пес Барбос... тоже был экранизацией — в его основу лег стихотворный фельетон
украинца Степана Олейника. Иван Васильевич..., например, вроде бы был обречен
на провал, потому что совершенно бестактно перетащил коммунальную лексику
30-х в многоквартирно-новостроечные 70-е и, тем не менее, вошел в пятерку луч¬
ших созданий режиссера, а тщательное ретро Не может быть!- нет. Не вышло, не
сработало. Почему, наконец (и это самое главное), работы Гайдая «постлитератур¬
ного» периода как будто сделаны другим человеком — не более и не менее талант¬
ливым, а просто другим.
Смех сквозь слово
Слово действительно не являлось преимущественной стихией мастера. В его диа¬
логах встречаются лишние реплики (и это в фильмах, где буквально нет ни одно¬
го лишнего кадра). Что-то вроде пресловутого «волюнтаризма», которым Балбес
сгоряча ругнулся в доме уважаемого Джабраила, ушло вместе со временем. Даже
зрительные гэги, построенные на вербальных отсылках, обмельчали в первую
очередь. Скажем, краткое содержание Бриллиантовой руки, слепой строкой про¬
бегающее за пять минут до конца фильма, с одной стороны, конечно, отражает ис¬
тинное отношение автора к «мысли изреченной», а с другой — подставляет его под
чуждые законы. И наоборот. Там, где слово развенчано, превращено в гэг, вывер¬
нуто наизнанку, все в порядке. Обратите внимание - на культовые поговорки разо¬
шлась прежде всего гайдаевская тарабарщина — «хам-дураля», «цигель-цигель, ай
лю-лю!» или бессмертное «барбумбия-кергуду» (последнее воспроизвожу на слух,
потому что как это записать, непонятно).
В этом смысле надо признать, что Леонид Гайдай абсолютно самостоятельно
и независимо прошел путь, которым до него уже ходили пионеры «ранней коми¬
ческой». В телепередаче Карена Шахназарова, например, Аркадий Инин рассказал,
522
1996
что Гайдай несколько дней мучился погоней для Частного детектива. Сцену сня¬
ли, всем она нравилась, а его что-то не устраивало, что-то раздражало. Успокоил¬
ся он только тогда, когда разыскал крупный план черной кошки и врезал его в уже
готовый материал. Излишне говорить, что кошка как таковая к сюжету никак при¬
креплена не была, в гонке не участвовала и больше на экране не появлялась. С ней
пришел ритмический акцент, удар, синкопа. То, без чего кинопогоня - экстракт эк¬
ранной пантомимы — просто не существует.
Мак Сеннет
Схожим образом, по преданию, работал Мак Сеннет. Современники вспоми¬
нают, как он проклеил показавшуюся ему недостаточно энергичной сцену се¬
мейной разборки роликом, в котором кошка гонялась за выпорхнувшей из
клетки птичкой. Сцены снимались разными постановщиками, в разных ин¬
терьерах и для разных фильмов, но Мак Сеннету на это было в высшей степени
наплевать. Он делал комедию, которая должна была сразить наповал аудито¬
рию, состоявшую из проходимцев, перемещенных лиц и безродных космопо¬
литов, приехавших попытать счастья в обетованной земле. Ни о какой культу¬
ре и даже фольклоре («народной учености») речь не шла. Америка 10-х годов
была «дофольклорной» территорией и раннеиндустриальным Вавилоном. Мо¬
жет быть, поэтому (так гласит еще одно предание) МакСеннет очень гневался,
завидев кого-то из сотрудников «Кистоуна» с книгой. Говорят, он даже повесил
над входом в студию плакат, где коротко и ясно предупреждал: «В книгах нет
гэгов».
На рубеже веков Бергсон написал свой трактат о смехе. Индивидуально¬
му, трагическому и художественному противопоставлялось массовое, анонимное
и механистичное («смех не есть результат размышления, но это почти рефлектор¬
ный механизм - удар на удар...»). Стоит ли удивляться, что ранний «слэпстик» ока¬
зался почти универсальной категорией мироустройства, сослужившей немалую
службу по придаче гетерогенному обществу единой ценностной шкалы. От при¬
митивных социальных моторчиков (кто такие кистоуновские «копы», «купальщи¬
цы» и «дети», как не прикидочная шифровка будущих опор протестантского истеб¬
лишмента - репрессий, эроса и семьи), через выделение общественно идентичных
масок к кризису и концу.
Конечно, можно утверждать, что Линдера, Ллойда и Китона вывели в тираж
звук, полный метр и литературность повествования. Но еще правильнее предпо¬
ложить, что эти рафинированные клоуны просто ушли из времени. Остался толь¬
ко Чаплин, чей избыточный физиологизм с самого начала предполагал в варвар¬
ской монополии движения и ритма дуализм, а стало быть, развитую буржуазность
личности.
523
Кино на ощупь
Книга гэгов
Гайдай как будто не открыл ничего нового. От короткого — к длинному, от маски -
к характеру, от трюка - к истории. Пес Барбос и необычный кросс почти букваль¬
но повторяет метафорический слой максеннетовских эскапад - собачка оснащена
динамитными шашками, стало быть, исход беготни вполне смертоносен, но оттого
не менее смешон. Сюда же попадает и персонажный расклад знаменитой троицы,
и серийность, и даже тот полузабытый факт, что прямо с экрана Трус, Балбес и Бы¬
валый перекочевали в кадры фотокомиксов.
Кавказская пленница несет в себе все черты коротышки, ставшей полноме¬
тражным фильмом, Бриллиантовая рука попадает под определение абсолютного
шедевра, потому что уже на уровне сценария планирует диалог как набор вербаль¬
ных гэгов.
О дальнейшем читайте в истории кино и имейте в виду, что Гайдай еще легко
отделался. В схожей ситуации Линдер наложил на себя руки, Китон попал в дурдом
и даже уступающий им калибром Роско «Фэтти» Арбакль в пьяной истерике грох¬
нул несовершеннолетнюю старлетку.
Задача, однако, не в том, почему Гайдай кончил именно так, а почему он имен¬
но так начал? В 60-е годы попытки реанимации старой комедии вошли в моду по
всему миру. Беспрецедентная овация, которую публика Венецианского фестива¬
ля устроила вынырнувшему из небытия Китону, многочисленные антологии «зо¬
лотого века комедии», попытки деловитых американцев поставить возрожденный
жанр на конвейерную основу (до нас в свое время дошел Этот безумный, безум¬
ный, безумный, безумный мир Стенли Крамера, кого по темпераменту комедио¬
графом никак не назовешь). За считанными исключениями опыты закончились
ничем. Мировая культура 60-х, искренне пытающаяся примерить варварские оде¬
жды прошлого, отторгла «слэпстик» как инородное тело, лишь частично абсорби¬
ровав его в поп-комедиях а 1а Ричард Лестер.
Случилось это, вероятно, потому, что 60-е всего лишь имитировали культур¬
ную tabula rasa, будучи, по существу, исписанными вдоль и поперек наследием
предыдущих периодов. У Гайдая же получилось нечто, что не объясняется только
индивидуальным даром, но требует более широкой опоры, фона, бэкграунда.
Понятно, что глупо достраивать целый исторический фрагмент дедуктив¬
ным методом, но иначе не получается. Анализируя от противного — не от времени
к фильмам, а от фильмов ко времени, приходишь к выводу, что гайдаевская эксцен¬
триада взошла на нераспаханной грядке коллективной души, там, где еще не упа¬
ли семена иных знаний и соблазнов, где народная душа еще девственна, обнажена
и проницаема для той самой балетной абстракции представлений о себе и о мире.
Легче всего связать это с пресловутым шестидесятническим оптимизмом, од¬
нако он оставил по себе немало мифологических величин и, судя по всему, был
524
1996
мифологически же изрядно подготовлен. Гайдай работал не поверх времени, он
оставался внутри, но запускал при этом машинерию смеховой архаики «до време¬
ни» и до главных этапов общественного творения.
Гарольд Ллойд и другие приключения Шурика
Когда-то ходила байка о том, что Пса Барбоса... и Самогонщиков рассылали по нашим
консульствам и заграничным торгпредствам с инструкцией показывать фирмачам
перед заключением ответственных сделок. Говорят, что, поглядев гайдаевские коро¬
тышки, буржуи мягчели и легче шли на уступки. Это, наверное, анекдот, но анек¬
дот с немалым смыслом. Гайдай ухитрился создать редкий феномен по-настоящему
смешной кинокомедии в стране, где смех традиционно устремлялся по нисходящей.
«В особенности страшен смех как социальное орудие, - написал когда-то Лу¬
начарский, — если он получает движение не сверху вниз, а снизу вверх». Сказа¬
но совершенно верно, и между строками еще вернее замечено, что самому счаст¬
ливому в мире народу оружие лучше не доверять. Потому талантливый Григорий
Александров всегда подчеркивал, что делает не «смешное» кино, а «веселое» - так
спокойнее. Гайдай же делал кино, которое еще толком не очень ориентировалось
в субординации верха и низа, поскольку крайности иерархии, в свою очередь, еще
не утвердились.
Проверить это очень просто. Например, легендарные Вицин-Моргунов-Ни-
кулин при рождении еще не несут в себе внятных социальных амплуа. Жлобом,
пьющим интеллигентом и уркой они становятся только в Операции Ы, а в Псе Бар¬
босе и Самогонщиках являют всего лишь эксцентрический контраст человеческих
типов — толстого и тонкого, флегмы и неврастеника. Это сугубо максеннетовский
подход к исполнителям — кистоуновский персонал подбирался по принципу едва
ли не патологической гипертрофии внешних черт. Косоглазый Бен Тюрпин, то¬
щий, как жердь, Форд Стерлинг, олигофрен «Фэтти». Даже Чаплина позвали сни¬
маться, потому что МакСеннет поначалу увидел в нем потешного старика.
Из бурлящей массовки выделился индивидуальный герой. У Гайдая им стал
Шурик, которого мы со временем начали воспринимать как образцово-смехово-
го шестидесятника. Ковбоечка, «техасы», кеды, сопромат, приработки на стройке,
рюкзак, фольклорная экспедиция, платонические влюбленности - очкастый блон¬
дин как губка впитал внешность эпохи (семидесятнический Шурик-изобретатель
в Иване Васильевиче... — это уже функция, служебный персонаж). При этом самая
узнаваемая поколенческая черта Шурика - стихи Ярослава Смелякова - его же
самая диссонансная черта. Охотно верится, что угоревший от сессии студент не
проваливается в канализационный люк. Он же, произносящий культовые строки
о «хорошей девочке Лиде», доверия не вызывает, как не вызывает доверия занятый
мелодекламацией балетный солист.
525
Кино на ощупь
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. Реж. Леонид Гайдай. 1966 Бриллиантовая рука. Реж. Леонид Гайдай. 1968
526
1996
Иван Васильевич меняет профессию. Реж. Леонид Гайдай. 1973 Операция Ы и другие приключения Шурика. Реж. Леонид Гайдай. 1965
527
Кино на ощупь
В галерее далеких предков Шурик больше всех перекликается с Гарольдом
Ллойдом. Не только потому, что оба в очках. И первый из триумвирата американ¬
ских киноклоунов, и советский смеховой медиум сконструированы из вторич¬
ных общественных атрибутов. Обоим не надо разговаривать. Обоим надо только
быть. Там канотье, тут ковбойка. Там костюмчик, который мама-провинциалка
построила сыну на выпускной бал и в котором он отправился покорять столицу,
тут - джинсы из чертовой кожи, с обилием карманов и заклепок, стремительно
входящий в моду бытовой дизайн ранних 60-х. Там - вечный клерк, тут - вечный
студент.
Адресат комического противостояния у обоих похож. Ллойд и Шурик сра¬
жаются с обстоятельствами (позднее Китон откроет агрессивную природу ве¬
щей, а Чаплин схватится с самим собой). Ощутимая разница только в том, что
у Ллойда внешняя сила носит стихийный, анонимный характер, а для Шури¬
ка она персонифицируется то в отправленного на «сутки» дебошира, то в анти¬
общественные действия мелких городских жуликов или крупных восточных
управленцев. Тут, кстати, объясняется и природа отрицательных персонажей
Гайдая. И тут же видна обаятельная нестыковка первой новеллы Операции Ы... -
у беспределыцика-Феди вдруг обнаруживаются семья, детки, а самому ему со¬
рок один год, значит, воевал и под обстрелом отбойного молотка лежал вполне
осмысленно...
Понятно, что дальше Ллойда эволюция героя пойти не могла. Обще¬
ство сделало очередной виток против резьбы. Смех перестал циркулировать
по вертикали и устремился куда-то набок, к грустным или злым комедиям.
Только в самом лирическом создании Гайдая - эпизоде Наваждение из Опе¬
рации Ы... — Арлекин-Ллойд успел ненадолго уступить место Пьеро-Китону.
Совершенно по-китоновски задуманный сюжет движется предметом, вещью,
неодушевленной материей. Шурик обречен, едва завидев конспект в руках
Лиды. Вещь ведет его по истории, предмет провоцирует чувства. Люди обре¬
чены жить в каком-то ином мире, отличном от стихии намерений и обстоя¬
тельств. Солнечный герой-идиот на секунду поворачивается печальным лун¬
ным ликом. Кстати, Наваждение оказалось едва ли не единственной работой
мастера, получившей международную награду — приз короткометражного фе¬
стиваля в Кракове.
Больше такого не случается. Чаплином Шурик не стал и стать не мог, по¬
тому что Чаплин сделал из эксцентрической комедии буржуазную, а Леонид
Гайдай искренне снимал советское кино. И, начав делать его всерьез, в полном
объеме общественных знаков и величин, просчитался. Спортлото-82, Част¬
ный детектив и Опасно для жизни - это настоящие советские комедии. То есть
никакие.
528
1996
Режиссер, который слишком много знал
При таком варианте решения «литературный» период режиссера кажется уже не
навязанным извне и не ложно понятым изнутри. Может быть, Гайдай сознатель¬
но отсиживался в тени Булгакова, Гоголя или Зощенко, пережидая время и втиха¬
ря оттачивая стиль? Эта версия напрочь разбивает гипотезу о Гайдае - стихийном
гении — и ставит не менее трудный вопрос о Гайдае-стилисте. Тем более, что экра¬
низация как таковая появилась в его фильмографии не после, а до эксцентрическо¬
го периода. Деловые люди, сделанные по трем рассказам О’Генри, последователь¬
но показывают виртуозные упражнения режиссера в канонических американских
стилях - вестерне, криминальной драме и бурлеске.
Насколько у него это вышло, сужу по себе. Однажды я наобум включил телевизор
и минут пять пребывал в полной уверенности, что смотрю какой-то старый голливуд¬
ский боевик с ковбоями и индейцами, а не Дороги, которые мы выбираем. И куда деть
сцену застолья из Ивана Васильевича..., всенародно любимую за исполненную Куравле¬
вым песенку о счастье, но мало кем идентифицированную как гомерическую пародию
на пир опричников из Ивана Грозного. Или совершенно психоделическую отсылку в Не
может быть!, когда тема «вы слышите, грохочут сапоги» моментально выстраивает во¬
круг кокетливого нэпмана Олега Даля сообразный ореол «звездного мальчика». Или со¬
всем уж ни в какие ворота не лезущий гэг из Кавказской пленницы: в поисках Нины Шу¬
рик шарит по спальным мешкам и в одном из них видит самого себя — в 1967 году такой
сюр мог быть спровоцирован только прологом Земляничной поляны, прочно засевшей
в сознании отечественных кинематографистов как образец авторского кинописьма.
Все это наводит на предположение, что Гайдай, никогда не объяснявший соб¬
ственное творчество, относился к кино совершенно по-хичкоковски. То есть, если
вспомнить известную сентенцию Хичкока - не как к куску жизни, а как к куску
торта. Только такое, вполне циничное, отношение способно породить неизбывную
«приятность» кинофактуры, повышенный игровой тонус и техническую сделан¬
ность изображения, как безусловную и достоверную.
Франсуа Трюффо заметил, что в авторимейке Человека, который знал слиш¬
ком много Хичкок победил действительность вымыслом - тень дирижера неумоли¬
мо приближается к роковым нотам по разлинованному полю партитуры. В реаль¬
ных пропорциях такое снять невозможно, тогда режиссер изготовил гигантский
макет нотного листа, подсветил его сильными направленными лампами и получил
эффект более реальный, чем сама реальность.
В Операции Ы... на оживленной улице Шурик теряет из виду страницу конспекта.
Бросаясь то туда то сюда, он видит журнальный разворот, газету и, в том числе, том из
шеститомника Шекспира, раскрытый на гравированной Гончаровым заставке к «Гам-
лету». Понятно, что никто, тем паче на улице, таким образом не читает. Но как по-дру¬
гому показать, что это именно Шекспир и именно «Гамлет»? Только так и никак иначе.
529
Кино на ощупь
В Бриллиантовой руке Геша Козодоев, убедившись, что «клиент готов», вста¬
ет из-за ресторанного столика и отправляется «позвонить мамочке». Настаиваю,
что это прямая цитата из Севера через северо-запад: шпионские страсти начались
с того, что герой Кэри Гранта точно так же отправился «звонить мамочке» в тот мо¬
мент, когда посланцы нескольких разведок с нетерпением ждали, кто из посетите¬
лей ресторана откликнется на кодовое имя таинственного спецагента. Кстати, сле¬
дующий затем у Гайдая культовый микросюжет о «Володьке, который сбрил усы»
в целом повторяет схему хичкоковского триллера, классическую формулу «не тот
человек».
Хич возвел в стилевой абсолют ауру ложной безопасности, сквозь которую
мерцала черная дыра, обманка, перевертыш. Через разрезы торта проступали то
странная ухмылка Нормана Бейтса, то ведущие в никуда лестницы Головокруже-
ния. Гайдай отработал почти журнальный стиль эпохи 60-х — пластиковые покры¬
тия, легкие несущие конструкции, яркую синтетику костюмов, твист и текучие
контуры автомашин. Авторский сдвиг наступал глубже, в эксцентрической сцепке
внешне логичных вещей. Брюки не превращались в элегантные шорты, тост, запи¬
санный в трех экземплярах, оказывался подносом с винными бутылками. Нейло-
ново-бадлоновый Геша спасался от восточной путаны, а грозная управдомша вдруг
выламывалась в ориентальном танце и совершенно по-проститучьи мигала подма¬
леванным глазом.
Джентльмены предпочитают подглядывать
И Гайдай, и Хичкок снимали не просто красивых, но и очень стильных женщин.
Визионерская природа хичкоковской эротики неоднократно откомментирована.
«Каждому охота повстречать настоящую леди, — откровенничал мэтр, - которая
в спальне превращается в шлюху».
О гайдаевском эротизме мы знаем куда меньше, хотя он, в сущности, той же
природы. Комсомолки-спортсменки у него несут не меньше соблазна, чем пре¬
словутые хичкоковские «блонди». Бурлескная природа жанра позволяет разде¬
вать их без преднамеренного ущерба для нравственности. Танец (обратите вни¬
мание, гайдаевские «леди» как будто невзначай повторяют пластику восточных
одалисок) объясняет созерцание глазами героя, а не автора. Лиловые колготки,
в которых отплясывает кавказская пленница Наталья Варлей, халатик с перла¬
мутровыми пуговицами, спадающий с роскошной Светланы Светличной, пар¬
ный стриптиз, устроенный Шуриком и Натальей Селезневой над страницами
драгоценной тетрадки... Немыслимо, но Гайдай вовлек в эротическую игру саму
Нонну Мордюкову. Правда, опосредованно, через бред, галлюцинацию, сту¬
пор. «Наши люди в булочную на такси не ездят»... «Хорошо бы... Пива!» — «Толь¬
ко вино!»
530
1996
Одну из самых рискованных квази-эротических сцен Хичкок снял в 39 ступе¬
нях. Скованные наручником Роберт Донат и Мадлен Кэролл ночуют в придорож¬
ной гостинице. Кровать в комнате одна, коротенькая цепочка не дает даже отвер¬
нуться. Перекидываясь с партнершей ироничными репликами, Донат извлекает
пилку и принимается полировать ногти. Хичкок устанавливает камеру на такой
точке, что движения героя отчетливо намекают на акт мастурбации. В Наваждении
есть точно такая же сцена и точно такой же ракурс. Разница лишь в том, что между
героями посредничает все тот же конспект. Воистину, Гайдай работал для самого
читающего в мире общества.
Черная кошка, которая гуляла сама по себе
Видел Гайдай Хичкока или не видел? Сознательно цитировал или просто мыслил
в том же направлении? Стихийно воплощал смеховую культуру времени или про¬
сто избрал эксцентриаду как одну из форм стиля? Кто он, МакСеннет, отразивший
кусок эпохи и не востребованный следующим куском? Или Хичкок, аппетитно ре¬
завший эпоху на куски и отложивший нож в сторону, когда эпоха перестала быть
кремовой, податливой и вкусной?
МакСеннет, вероятно, очень удивился, поняв, что изменившаяся вокруг жизнь
требует чтения столь ненавистных ему книг. Хичкок досадовал, разобравшись, что
с жизнью больше нельзя играть в изощренные стилевые прятки и что за огрубев¬
шим фасадом реальности больше не видны его прихотливые авторские мании. Где
тут решение нашей задачи, совершенно непонятно, потому что 70-е годы в одина¬
ковой степени отменили и эксцентрику, и стиль. Все, что смог рассмотреть Гайдай
в новой социальной реальности, это мотоциклисты в огромных шлемах и обилие
поясняющих, запрещающих или направляющих надписей. Одну из них - «Опасно
для жизни!» — он вынес в заглавие своего фильма.
Хич сдался, когда длина женских юбок сначала немыслимо взлетела вверх,
а потом опустилась до катастрофического «макси». Гениальный вуайер мыслил на
уровне классической середины, фантазируя все остальное. Гайдай капитулировал,
когда общественное слово превратилось в инструктивную строку.
На этом их сходство точно кончается. Хотя Хичкок всю жизнь снимал коме¬
дии, гримируя их под ужастики, детективы и психодрамы, а Гайдай честно само¬
выражался в соответствующем жанре, пузатый британец постановил за прави¬
ло появляться в своих картинах сам. Гайдай с не меньшим упорством показывал
в каждом фильме черную кошку.
Из диалогов еще одного знаменитого и любимого фильма мы знаем, что очень
трудно искать черную кошку в темной комнате. Тем более, если ее там нет.
«Искусство кино». 1996. № 9.
531
Кино на ощупь
Stranger than paradise: страннее рая
Потерянный рай
Проще всего написать о «кино, которое мы потеряли» вместе с идеологией, стабиль¬
ностью и общественными гарантами. Такого действительно уже не будет — очереди
у кассы, лишние билетики, «талонные книжки» и тот неповторимый запах сохнущей
одежды, который витает над переполненным кинозалом, если снаружи идет дождь. Ни¬
когда мы больше не восхитимся смелостью режиссера Икс, показавшего на затемнен¬
ном третьем плане еле заметный кукиш. И никогда не посмеемся над тупостью цензора
Игрек, пропустившего на экран политическую диверсию в виде кусочка голой задницы.
Этого не будет по следующим причинам.
Во-первых, имперское самообслуживание кончилось. Натуральное кинохо¬
зяйство, производящее продукт только для внутреннего употребления, больше не
существует. Оно, правда, осталось в Америке, но там, похоже, селекционеры гра¬
мотнее наших. А жаль, в 30-е годы мы соревновались ноздря в ноздрю.
Положа руку на сердце, мы ведь любили родное кино не за его исключитель¬
ные достоинства, а потому что не знали другого. Наше же было устроено грубо¬
вато, но функционально, как скороходовские ботинки. Один Гений — Тарковский.
Один сказочник — Рязанов. Один подросший в своем кругу плейбой - Никита Ми¬
халков... Да и то по выходным и праздникам. В будни все носили черное со шнур¬
ками и не рыпались. Ну и что, что говнодавы? Зато не протекают.
Второе. Редкие пришельцы из-за бугра фигурировали главным образом как
«Клуб кинопутешествий» — всегда хотелось отрешиться от сюжета и поглазеть,
в каких чашечках подают кофе на Монпарнасе и как подшивают брючины на Брод¬
вее. Далее по тексту — о стенах темницы, инкубаторе и гетто. Информационный
взрыв оказался сильнее политического - хлебнув «Хайнекен», едва ли захочется
заново привыкать к «Жигулевскому». Это понятно, но хочу попутно поделиться
одним соображением. Знаете, почему в застойные годы французское кино все-та-
ки было популярнее американского? Голливуд честно снимает натуру в подчине¬
нии общему замыслу. А француз нет-нет да и затянет кадр-другой, чтобы объяс¬
ниться в любви Парижу. Посмотришь — будто сам побывал. Вот и любили.
Третье. Традиционное кино (то есть снятое на пленку и показанное в зале), ки¬
носпектакль с выходом, соборная акция есть явление идеологии. Большая идеоло¬
гия рождает большое кино — это почти закон, если вспоминать авангард 20-х, «зо¬
лотой век» у нас и в Америке, неореализм и «новые волны». В постидеологическом
западном мире этого больше не будет, зато варварский Восток, еще не потерявший
вкус к имперсональным ценностям, снимает и смотрит фильмы по-прежнему.
532
1996
Америка, кстати, тоже. В общем, если так рассуждать, то, конечно, будущее за Чер¬
ной Африкой. У нас, как водится, все происходит революционно и скачкообразно.
Идеология не тает, а ломается. Запад пережил эвтаназию кино как усыпление ком¬
натной собачки, а мы — как трагическую гибель любимого человека.
Обретенный рай
Очевидцы рассказывают, что когда в городах освобожденной от фашистов Европы на¬
чали обустраиваться советские гарнизоны, офицерские жены щеголяли в реквизиро¬
ванных пеньюарах как в вечерних платьях. Видеобум в России проходил примерно
так же. Во всем мире кассетное кино принесло потребителю приватизацию зрелища,
а у нас вокруг первых же «Электроник» сразу выросли видеосалоны. Публика тесни¬
лась в наскоро оборудованных «красных уголках» и на крохотных экранчиках смотрела
Однажды в Америке или Греческую смоковницу. С одной стороны, в этом присутствовал
элемент здоровой экзотики и даже престижа. Любому было приятно как бы невзна¬
чай обронить в кругу друзей и сослуживцев: «Вчера кино по видику глядел. Ну, ваще!».
И тут уж не имело значения, где стоял видик — напротив персонального дивана или под
графиком соцсоревнования. Главное, что приобщение к техническому чуду состоялось.
С другой стороны (сужу об этом ответственно, поскольку в свое время занимал¬
ся социологией вопроса), видеовзрыв в раннеперестроечной России носил характер не
технический, а репертуарный. Через «малый экран» к нам явились фильмы, о которых
еще недавно можно было прочесть только в книжках «Киноискусство в борьбе идей»
или «Мифы и реальность». Их оказалось не так много, эротика в них была совсем не
эротичной, а насилие вовсе не соблазнительным. Зато технология опять пошла на по¬
воду у идеологии. Как следствие, мы пожинаем сейчас первый урожай «видеобум ге-
нерейшен» - у постсоветского зрителя почти полностью атрофирована культура визу¬
ального потребления. Видеопираты легко втюхивают нам полуслепые копии фильмов,
которые на самом деле надо смотреть только с «долби» и на большой проекции. С другой
стороны, оборудование отечественных кинотеатров таково, что средняя видеокассета
на средней аппаратуре показывает лучше, чем кинопленка, глядя которую на послед¬
нем сеансе можно еще и получить по башке от пьяного соседа. Зачем рисковать, если
любой голливудский хит еще до премьеры есть на бутлегерской копии? Изуродованная
потребительская модель налицо. А ведь это еще только маленький кусочек, который мы
отщипнули от современного звукозрительного массива. Что произойдет, например, ко¬
гда до нас докатится виртуальный компьютерный секс? Вероятно, пойдут дети.
В последние годы заметно повысилась и роль эфирного телевидения. По суще¬
ству оно стало единственной альтернативой рухнувшему кинопрокату. Думаю, что
рассуждать здесь о какой-то особой специфике, структуре и перспективах не име¬
ет смысла. «Голубой экран» перенял функции одряхлевших коллег по праву сильно¬
го. Проще говоря, где-то надо смотреть кино, и его стали смотреть по телеку. Интерес
533
Кино на ощупь
поначалу тоже был и пока еще во многом остается репертуарным - на какое-то время
телевизор соединил черты бесплатного видеосалона и элитного киноклуба. Грех жало¬
ваться, своими преимуществами телевидение не слишком злоупотребляет и даже пы¬
тается выстраивать какие-то общезначимые модели. В год столетия кино, например,
мы посмотрели чуть ли не половину мировой киноклассики, и до сих пор лучшие те¬
леканалы (НТВ и московское ТВ-6) строят свою кинополитику достойно и осмыслен¬
но. В отсутствие конкуренции это возможно. Но кризис когда-нибудь наступит - те¬
левидение все-таки транслятор, а не производитель. Сейчас активно разрабатывается
протекционистская идея — по аналогии с Францией или Британией телевидение будет
вкладываться в национальное кинопроизводство. Это здорово и правильно, но мне
кажется, что кино зависит не только от денег или вовремя привлеченных талантов.
Рай немедленно!
Все сказанное сводится к довольно простой мысли. АВ (во всем мире эта аббревиа¬
тура означает «аудиовизуальное» и давно заменяет привычное разделение на вра¬
ждующие экранные медиумы) не столько технологично, сколько идеологично. Или
наоборот, если смириться с тем, что технология превратилась в идеологию. Кино не
будет, пока в стране не устоится общая идея, проникающая в обыденность и поро¬
ждающая ее, обыденности, устойчивые коды, пока у нас не сформируются быт, соци¬
альные амплуа и поведенческие модели. Кино ориентируется именно на такие вещи
и именно с ними работает. В их отсутствие, например, заглохли разговоры о россий¬
ской «мыльной опере». Телесериал подразумевает частную жизнь «день за днем», без
стрессов и потрясений. Именно поэтому власти рано или поздно должны поставить
групповой памятник героям Санта-Барбары. На первом же импортном «мыле» стра¬
на училась приватизации чувств - оказалось, что можно ежедневно подглядывать за
соседями и переживать, какую поганку Джина завернула Мейсону (обратите внима¬
ние, в этом жанре нет главных героев. Все главные и все второстепенные. Все в меру
хорошие и в меру плохие). Если же в первой серии вам покажут августовский путч,
в двадцатой штурм Белого дома, а в сороковой - лихорадку президентских выбо¬
ров, получится совершенно другой жанр. Кстати, эпический. Поэтому, не назвав ста¬
тью «кино, которое мы потеряли», я мог бы назвать ее «эпос, который мы упустили».
Что-то можно делать уже сейчас. Перевооружать кинотеатры, разоружать видео¬
пиратов, законодательно вооружать студии. Это долгосрочный проект, и он осуществим
только при сильной централизованной власти. В ближайшее время возможен всплеск
кассетного кино. Примеры уже есть - картина снимается за копейки, в 16-миллиме¬
тровом формате, без пленочной копии и тиражируется на видео. Результат - предска¬
зуемо чудовищный, но очень интересный. Потому что начинать с нуля всегда здорово.
«Искусство кино». 1996. № 10. Статья опубликована под названием «В сторону рая».
534
1996
Весь этот джаз
В массовом сознании каждый по-настоящему народный артист связан с каким-ни¬
будь музыкальным инструментом или стилем. Иннокентий Смоктуновский, без¬
условно, был чем-то клавишным (космос во взгляде, хрупкие пальцы, прищур,
клочковатая седина). Олег Даль - флейтой, испытывающей боль от каждого прикос¬
новения. Евгений Леонов ассоциировался с застольной частушкой, Андрей Миронов
с эстрадным шлягером, Анатолий Папанов с Бог знает откуда залетевшей мелодией
из «Ну, погоди». О Высоцком и говорить нечего — хрипота, надрыв, гитарная струна.
Так получается, что вспоминая ушедших титанов, мы как будто отпеваем це¬
лый оркестр. Когда они умирали один за другим, было ощущение разладившей¬
ся музыки. Кто-то уже замолчал, а кто-то еще играет — что может быть страннее?
О Евгении Евстигнееве такого не скажешь. Он не был ансамблевым исполнителем,
то есть, конечно, мог играть вместе с другими, но немножко по-своему, со сдви¬
гом, индивидуальным акцентом. У Евстигнеева был уникальный джазовый талант.
Джаз — это не дующий в унисон коллектив и не свора одиночек, а оттяжка равных,
где каждому дано и поддержать другого, и повыкрутасничать, и через эффектный
выпендреж выйти на основную тему.
В сущности, это странно, поскольку джаз пришел и остался у нас искусством
глубоко антинародным. Как и в случае с Фаиной Раневской, приучившей массы лю¬
бить свою вызывающую отдельность, рано облысевший, желчный, дерганый и некра¬
сивый Евстигнеев стал народным свингующим артистом в стране, где народ больше
всего любил и любит хоровое пение или слаженно грянувший марш. Он действитель¬
но был народным. Говорят, русские путешественники до сих пор озадачивают швей¬
царских гидов вопросом: из какого именно окна вывалился профессор Плейшнер.
После Семнадцати мгновений весны сын металлиста и фрезеровщицы Евстиг¬
неев переиграл еще много мужей науки, вплоть до профессора Преображенского
из булгаковского «Собачьего сердца». «Скользящая», с ленцой и куражом, совсем не
русская актерская техника нашла тут удобное объяснение - народ давно привык
к тому, что все умники немножко с приветом. С другой стороны, Михаил Швей¬
цер, набирая Золотого теленка по типажному принципу, не случайно взял его иг¬
рать Корейко, подпольного миллионера с «ветчинным рылом». Внешне Евстигнеев
оставался стопроцентным «совком», но при этом владел индивидуальной синко¬
пой, смещением ритмической опоры. Может быть, оттого ему так хорошо и смач¬
но удавались роли блатных с их сленгом, ходочкой и понтами. Советские интел¬
лектуалы увидели в джазе прежде всего символ раскрепощения. Народ попроще
535
Кино на ощупь
всегда тайно восхищался уголовниками, ушедшими от системы на вольные и опас¬
ные хлеба. «Я эту тайгу не сажал и пилять ее не буду» - за героями Евстигнеева то
и дело выглядывал какой-то скрытый урка со своим ритмом, драйвом, подходцем,
готовый «по фене ботать и нигде не работать».
Когда-то он покорил шестидесятников неортодоксальным прочтением моно¬
логов из горьковской «На дне». Сыгранный им в «Современнике» Сатин сидел на та¬
буретке и, с похмела обмотав голову полотенцем, сквозь зубы цедил хрестоматий¬
ные строчки. Стоит прокрутить хотя бы звукозапись этого знаменитого спектакля,
чтобы услышать: «человек-та-да, это-та-буда, звучит гордо-та-бу-ду-да...». Ритм
и драйв всегда сопутствовали его скрипучему тембру. «Не пора ли нам замахнуть¬
ся на самого Вильяма, так сказать, Шекспира» или «Когда я был маленьким, у меня
тоже была бабушка»... Ну и что? Как сказать, вот в чем вопрос.
Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен стал культовым фильмом
во многом благодаря Евстигнееву. Культовое кино всегда получается, когда за произ¬
несенным смыслом есть что-то иное — помимо или извне. Евстигнеев делал бюрокра¬
та Дынина как бы немножко в стороне от основного сюжета - в изящной манере ис¬
тинного лабуха, которому все равно куда, в филармонию или в кабак. Думаю, по той же
причине ему до конца не давались ни откровенное комикование (крутые парни не фиг¬
лярствуют), ни большие «умные» роли, требующие проживания и проработки. В по¬
лочном дебюте Петра Тодоровского Никогда он сыграл директора завода Алексина, су¬
харя, мизантропа и самодура — по-настоящему герой раскрывался только в финале,
когда, явившись на рабочую свадьбу, выстукивал по столу какую-то самбу или босано-
ву, не замечая, как собутыльники стыдливо отворачиваются и прячут глаза. Через чет¬
верть века он точно так же, вилочкой по тарелочке, повторит явно фирменный трюк
в эпизоде шахназаровского Мы из джаза. И, право, этот эпизод стоит всего шахназа-
ровского же Зимнего вечера в Гаграх—официального степ-реквиема по золотому веку.
С блеском исполняя короткие соло, в дуэтах он лучше всего раскрывался с по¬
нимающими партнерами — как вышло, например, с Юрием Никулиным в мелан¬
холичном рэгтайме Старики-разбойники. Очевидцы вспоминают, что знаменитую
сцену из Бега («А ты азарт, Парамоша, азарт!..») Алов и Наумов снимали в двадцать
с лишним дублей — Евстигнеев-Корзухин всерьез вознамерился обыграть Улья-
нова-Чарноту. Так бывает - импровизация оказывается слишком хороша, чтобы
стать результатом. Он и жил синкопами, женился, разводился, получал инфаркты.
Говорят, на его поминках стоял хохот. Что тут удивительного. Когда нью-орлеан¬
ские диксиленды, идя за гробом, разыгрывались в полную силу, они уже не могли
остановиться, отчего похороны превращались в буйное веселье.
«Ъ». 1996. 9 октября. Статья опубликована под названием «Соло для народного артиста
без оркестра».
536
1996
«Персональное» дело Ингмара Бергмана
Тридцать лет назад в начале ноября 1966 года на экраны вышла Персона Ингмара
Бергмана. Для самого режиссера это был выход из затянувшегося кризиса, для со¬
временников — буквальное преодоление Молчания (так называлась предыдущая
бергмановская картина). Понадобилось еще три десятилетия, чтобы история двух
женщин, удалившихся от мира на маленький остров в Северном море, заняла свое
место в ряду самых концептуальных фильмов мирового кино.
После того, как в Молчании Бергман показал шокирующе откровенную сексу¬
альную сцену, кто-то из разгневанных зрителей прислал ему по почте ворох исполь¬
зованной туалетной бумаги. По-своему зритель был прав — в начале 60-х Бергман
стремительно расширял границы допустимого на экране, с возрастающей истово¬
стью показывая то, что показывать просто нельзя. С одной стороны, в этом сквозила
гордость еретика и религиозного радикала, обреченного на мучительное выражение
невыразимого. С другой - эталонная позиция художника-модерниста, рвущегося
к истине сквозь, а то и вопреки установленным законам художественной формы.
Персона продолжила и увенчала не только индивидуальный путь самого ре¬
жиссера, но и целую эпоху кинематографической культуры. Сюжет фильма све¬
ден почти к минималистскому «черному квадрату». Актриса Элизабет Фоглер (ее
сыграла Лив Ульман) накладывает на себя добровольное табу немоты. Посколь¬
ку в социальном словаре этот акт страстотерпения называется нервным срывом,
актриса превращается в пациентку с санаторно-курортным режимом. Медсестра
Альма (Биби Андерсон) присматривает за ней, постепенно выходя за рамки про¬
фессиональных обязанностей опытной сиделки. Любовь, ненависть, боль и вражда
сплетаются в один клубок, размотать который невозможно, потому что чем тес¬
нее соприкасаются человеческие души, тем ужаснее и безысходнее оказывается их
близость. В финале Элизабет произносит только одно слово. И слово это — «ничто».
Одновременно Бергман показывает странный женский портрет, составленный из
половинок лиц героинь. «Самость» воссоединилась с «персоной», но это всего лишь
подтвердило экзистенциальный ужас бытия, из которого нет выхода.
Еще более радикально прозвучала знаменитая сцена Персоны, имитирующая
разрыв пленки. Посредине фильма экран как будто лопается, не в силах вынести бо¬
левой шок человеческого общения. Фильм больше не является чем-то посторонним
собственному сюжету и собственным героям, он словно сопереживает им изну¬
три, расплачиваясь за это физической мукой и смертью. В известном смысле Берг¬
ман выполнил здесь главную задачу модернизма, годами стремившегося выйти из
537
Кино на ощупь
Персона. Реж. Ингмар Бергман. 1966
538
1996
категории художественного описания в сферу самостоятельного бытия, минуя та¬
кие внешне обязательные вещи как язык, условность и эстетическая дистанция.
После этого наступают пустота и молчание. Искусство становится абсолют¬
ным и уничтожает само себя. В начале 60-х годов появились еще два фильма, дока¬
зывающие, что кинематограф вошел именно в такую стадию финальной самооцен¬
ки. Небоскреб Энди Уорхола, бесконечно долго показывавший статично снятую
верхушку нью-йоркского Эмпайр Стэйт Билдинг, сделал наглядной категорию ки¬
ношной смерти. Оказалось, что небытие на экране это не выстрелы, бутафорская
кровь и понарошку падающие люди, а линейное механическое время, бесконеч¬
но длящееся в кадре. Наоборот, Феллини в 8 1/2 окончательно стер границу между
настоящим и ненастоящим, фильмом как рассказанной историей и собственным
подсознанием как источником вдохновения. По существу, единственным героем
его глумливой притчи о творчестве остался сам фильм, в котором действует и ко¬
торый одновременно снимает выдохшийся режиссер Гвидо Ансельми. Акт привыч¬
ного искусства объявлялся на этом вычерпанным и закрытым.
Пройдет еще почти двадцать лет, и искусство найдет новый маршрут. И если
художника-модерниста всегда занимал мотив «ухода», то постмодернизм (букваль¬
но «то, что следует за модернизмом») избрал генеральной метафорой образ «воз¬
вращения». В финале вендерсовского Парижа, Техас герой, удалившийся было
в пустыню отчаяния, стремится обратно. Отыскав бывшую жену в каком-то ме¬
стечковом борделе, он разговаривает с ней сквозь проницаемое зеркало. На поверх¬
ности стекла накладываются отражения двух лиц, так что, всматриваясь в другого,
персонажи видят себя. В Персоне двойной портрет означал только кровоточащий
уход к безжалостной истине. В Париже, Техас все истины известны и отменены,
а культура созерцает собственные дописанные словари как повод для неизбежной,
но, увы, призрачной встречи.
По всем параметрам Персона была классическим «последним фильмом», по¬
сле которого художник замолкает навсегда, обрекая себя на астенический синдром
и скорбное бесчувствие. Однако бергмановское Молчание не случайно появилось
тремя годами раньше Персоны. Дойдя до границы выразимого, Бергман перестал
терзать людей истинами и принялся проверять истины страстями. Так появились
Шепоты и крики, Сцены из супружеской жизни, Осенняя соната, а затем и Фан¬
ни и Александр, где каббалистическая картина мира успокоилась в воспоминаниях
детства. В фильмографии режиссера последней значится именно эта работа, сде¬
ланная не модернистом, а классиком. То есть художником, чей образ мысли и дей¬
ствия чужд радикального предела, но опирается на вечный круг не требующих
подтверждения истин и не нуждающихся в ответе тайн.
«Ъ». 1996. 12 ноября.
539
Кино на ощупь
Ленинградское кино: эволюция авторской традиции
Одна из самых очевидных коллизий между текущей художественной крити¬
кой и наукой об искусстве — это спор о собственно методе. Погруженная в про¬
цесс и описывающая его изнутри, критика создает оперативные определения
и критерии, откликаясь, так сказать, на злобу дня. Очевидно, что такая методо¬
логия оказывается недостаточной, когда в дело вступает сетка научно-исследо¬
вательских координат с их более широким контекстуальным полем и высоким
уровнем аналитических рефлексий. То, что может быть описано критикой в ка¬
честве знаменательного, репрезентативного и принципиально важного, транс¬
формируется и переоценивается, будучи локализовано в сфере научного ана¬
лиза. И напротив - для науки подчас показательны аспекты художественного
процесса, по разным причинам уходящие на обочину критического внимания.
В науке как минимум желателен анализ. Любой критический пассаж предпола¬
гает вывод.
Критику позволено и даже необходимо оперировать критерием «плохо - хо¬
рошо». Для ученого «плохое» искусство зачастую интереснее «хорошего». Критика
отыскивает формулы закономерности здесь и сейчас. Наука проверяет ее состоя¬
тельность во времени.
Все эти рассуждения могли и должны были бы остаться общим местом, если
бы в интеллектуальной практике последних лет не происходили значительные
аберрации, связанные с взаимопроникновением и взаимной подменой художе¬
ственно-публицистического и исследовательского взглядов. Как следствие в оби¬
ход отечественного искусствознания попал целый ряд предметов, явлений и тер¬
минов, вызванных к жизни текущей критикой.
Появившийся в последние предперестроечные годы термин «ленинградская
школа кино» — один из них. Этот термин был предложен ленинградскими крити¬
ками, сгруппировавшимися вокруг киностудии «Ленфильм», и относился к поко¬
лению режиссеров, чьи главные фильмы появились на рубеже и в начале 80-х. Та¬
ким образом, под эмблемой «школы» очутились И. Авербах, В. Бортко, А. Герман,
С. Аранович, «вторая манера» Д. Асановой и др. Падкая до ярлыков обществен¬
ная мысль середины 80-х подхватила дефиницию, и вскоре термин «ленинград¬
ская школа» получил полноправное хождение как в журналистском, так и в кино¬
ведческом лексиконе.
Справедливости ради следует заметить, что за все время бытования опре¬
деления у него находились не только сторонники, но и яростные оппоненты.
540
1996
Вероятно, сегодня, по прошествии почти полутора десятилетий, следует объ¬
ективно взглянуть как на реальность существования самой «школы», так и на
аргументы полемики вокруг нее. Это не значит, что автор, неоднократно упо¬
минавший «школу» в собственных критических работах, теперь претендует на
роль арбитра в затянувшемся споре. Собственно, спора уже и нет. Он разрешил¬
ся сам собой по мере развития ленинградского кино и появления в нем новых
фигур. Ясно, что школы как таковой, подразумевающей тематическое един¬
ство, стилевое единомыслие и сквозной строй как формальных, так и содержа¬
тельных аналогий, в Ленинграде не существовало. Уместнее говорить о некой
социопсихологической общности и мировоззренческой позиции, о «боль¬
шом стиле», обретенном путем не столько художественной, сколько этической
доминанты.
В начале 80-х приметы зародившейся школы находили главным образом
в двух составляющих. Первая из них опиралась на традиционное для ленинград¬
ского кино внимание к человеку, к психологически объемному образу, к экран¬
ной «каммершпиле», где за перипетиями частной судьбы персонажей выстраива¬
лась целостная нравственная картина мира. Эта черта, унаследованная поколением
конца 70-х от «золотого века» студии 30-х годов, а через него - от русской лите¬
ратурной классики, и сформировала портрет авторской режиссуры «Ленфиль¬
ма». Авторство понималось не как формальное, языковое начало, но как возмож¬
ность внятного этического высказывания, как в высоком смысле — личная позиция
и следующие из нее мораль, вывод, итог.
Бытовая коллизия, резонирующая в области нравственной проблематики, -
вот первая часть формулы «ленинградской школы». Безусловными лидерами это¬
го направления были объявлены Д. Асанова и И. Авербах, чьи картины 70-х воз¬
главляли тенденцию «морального беспокойства» не только на ленфильмовском
экране, но и во всем советском кино. Показательно, впрочем, что ранняя смерть
настигла обоих режиссеров на пороге новых манер. Каждый из них как будто сум¬
мировал результат предыдущего творчества в образе идеального героя. Для Аса-
новой таким стал Паша Антонов из Пацанов, для Авербаха — Фарятьев в телевер¬
сии пьесы А. Соколовой. Последовавшие затем Голос и Милый, дорогой, любимый,
единственный... продиктованы совсем другими задачами. Авербах составил свое
художественное завещание в форме неожиданно символической рефлексии по по¬
воду природы и результатов творчества. Асанова отказалась от своего возвышен¬
но-романтического и изначально нравственного взгляда на молодого героя и сде¬
лала жесткую, тревожную картину, во многом предвосхитившую опыт «городской
чернухи».
Значит ли это, что исчерпанность стиля ощущалась уже самими его титана¬
ми? Вероятно, нет, ибо речь здесь не столько об индивидуальном режиссерском
541
Кино на ощупь
Фантазии Фарятьева. Реж. Илья Авербах. 1979
почерке, сколько о принципах, глубоко укорененных в сознании целого поколе¬
ния. О необходимости авторского присутствия в сложных этических ситуациях
и о том, что следует вести героя путем нравственного самопознания. Это при¬
сутствие — отсутствие автора во внутрикадровом пространстве бытовой драмы
отложилось целым рядом нормативных экранных построений: неспешной, по¬
вествовательной раскадровкой, подчеркнуто прозаическим дискурсом, высокой
культурой интерьерных съемок, обытовленной, но не сведенной к типажности
системой актерской игры. Вокруг такой режиссуры сформировались и узнавае¬
мые черты других кинематографических профессий — «каллиграфизм» ленин¬
градских операторов или индивидуальные стили художников-постановщиков
«Ленфильма».
Иная составляющая - внешне диаметрально противоположная первой -
связывалась с «неоэпической» тенденцией «прямого» кино. «Новый эпос» не слу¬
чайно дискутировался применительно к работам А. Германа и следующих за
ним С. Арановича и В. Аристова. Их картины, словно иллюстрирующие базенов-
скую теорию онтологической природы кино, наводнял, на первый взгляд, хао¬
тичный и бесформенный поток жизни, жесткая монохромная реальность, в ко¬
торой трудно было выделить индивидуальные черты и героя, и события. Обилие
вещной среды, преимущественное использование плана-эпизода, работа с натур¬
щиком-исполнителем, замусоренный акустический фон - все это готовило поч¬
ву для удаленной, снятой, дистанцированной интонации автора — эпического
рассказчика.
Думается, главная проблема координации составляющих школы непротиво¬
речива по существу. Ленфильмовская бытовая драма, проходившая в тематических
542
1996
Пацаны. Реж. Динара Асанова. 1983
планах студии главным образом по разряду фильмов о современности или филь¬
мов о молодом герое, венчалась неким этическим императивом, общеобязатель¬
ной авторской дефиницией. Эпическая лексика Германа и его последователей,
в свою очередь, охватывала сферу социально-нравственную. Проверка на дорогах
и Порох, Торпедоносцы и Двадцать дней без войны сделаны на материале Великой
Отечественной, которая со времен оттепели служила советскому кино надежным
плацдармом для постановки вопросов о коллективной нравственности. И «кам-
мершпиле», и «новый эпос» одинаково апеллировали к образу идеального героя,
увенчанному германовским ...Лапшиным.
Таким образом, истинная типологическая черта «школы» оформилась не толь¬
ко и не столько в художественной, сколько в мировоззренческой области. В той
сфере, которая отождествляет эстетическое и этическое начала и выводит инди¬
видуальную авторскую позицию на уровень коллективной нравственности, дела¬
ет ее общезначимой и общеобязательной. Лучшие работы, помещенные под эгиду
«школы», объективно суммировали опыт советского кинематографа 60-70-х, ки¬
нематографа, пристрастного к духовным поискам, к обостренным психологиче¬
ским коллизиям, недодерживающего статус «миссии художника» и воспитатель¬
ной роли искусства.
«Мы старались по возможности говорить правду, какой бы «трудной» она ни
была»1, - так суммировал разговоры о «ленинградской школе» Герман. Ситуация
изменилась, когда «правда» перестала быть «миссией» и когда реальность самой
жизни скорректировала реальность экрана.
1 Герман А. Так трудно выразить, как дышится легко... - Советский фильм, 1988, № 8, с. 14.
543
Кино на ощупь
Затихнувшие было разговоры о «ленинградской школе» возродились
с приходом на студию нового режиссерского «призыва» уже в «перестроеч¬
ное» время. «Молодое кино Ленинграда», в ряды которого попали В. Сорокин
и А. Рогожкин, Ю. Мамин и А. Бибарцев, С. Снежкин и В. Огородников, К. Ло-
пушанский и С. Овчаров, как будто унаследовало традиции «школы», адаптируя
ее каноны к изменившимся условиям. Налицо были все необходимые признаки
преемственности: отсутствие единого стилистического знаменателя, очевид¬
ность авторского видения, широкий тематический диапазон - от фольклор¬
ных «нескладух» Овчарова до рок-н-ролльной неомифологии огородников-
ского Взломщика, от черного гротеска Мамина до апокалиптических притч
Лопушанского.
«Ортодоксальный консерватизм и неистребимый дух вольнодумства»2 -
в этих двух крайностях критика декларировала режиссерский феномен «ленин-
градства», справедливо выводя его из предыдущих достижений «школы». Но
именно на этом этапе обнажились и самые уязвимые стороны воспринятой тра¬
диции: со вторым призывом ленинградского кино связан и его самый сильный
кризис.
В выпуске «Советского экрана» конца 80-х, целиком посвященном Ленингра¬
ду, где содержалась вышеприведенная декларация принципов «ленинградства»,
критик Т. Москвина заявила: «Стоит посмотреть продукцию «Ленфильма» за
1986-1988 годы, чтобы убедиться: выданная монополия на духовность и нрав¬
ственность не что иное, как очередное «петербургское мечтание», прозревающее
действительность ради желанного идеала»3. Годом позже, уже на страницах «Искус¬
ства кино», она обозначила претензии к «новой невской волне» одним-единствен-
ным словом — «глобализм»4. Пройдет еще несколько лет, разольется следующая,
вторая по счету, «волна», и А. Плахов не без язвительности заметит погружение
уже не ленинградского, а санкт-петербургского экрана «в сумерки «белого» дека¬
данса, нашедшего неожиданную подпитку в чернушном быте коммуналок и под¬
воротен»5, его пристальное и болезненное внимание к разнообразным формам
смерти, разложения, упадка...
Таким образом, круг замкнулся. От озабоченности высокими нравственны¬
ми идеями ленинградское кино эволюционировало в бездны макабрического ву¬
айеризма и постидеологического подполья. На уровне критических описаний этот
2 Павлов Ю. Не могу поступаться принципами! - Советский экран, 1989, № 12, с. 2.
3 Москвина Т. Город бедный. - Там же, с. 3.
4 См.: Москвина Т. «Глобальное кино» Петроградской стороны: Субъективные заметки о «Ленфильме-89». -
Искусство кино, 1990, № 7.
5 Плахов А. Уроки французского. - Искусство кино, 1992, № 3, с. 154.
544
1996
процесс освещен более чем достаточно - добавить нечего. Но, думается, предвари¬
тельный набросок портрета в координатах ближайшей истории был бы неполон,
если не видеть за судьбой «ленинградской школы» трансформацию определенного
типа художественного сознания.
В той степени, в какой «ленинградская школа» аккумулировала в себе до¬
стижения советского киноискусства предперестроечного десятилетия, она ис¬
пытала и самый напряженный кризис, связанный, в первую очередь, с раз¬
мыканием эзотерической, самодостаточной социокультурной модели. Ее
краеугольными камнями были, во-первых, вера в безусловную позитивность
коллективного, нравственного опыта и, во-вторых, причастность художника-
творца неким безусловным, совершенным истинам. Крушение такой картины
мира повлекло за собой переоценку и художественных приоритетов, и самих
задач искусства.
Ощутимее всего этот процесс отразился в жанровых экспериментах «Лен¬
фильма». Известно, что советское кино принципиально изгнало из своего арсе¬
нала традиционные жанры. Столь содержательная для западного экрана игра ме¬
жду мифологией и идеологией прекратилась у нас еще в 30-е, как только экран
сумел приспособить жизнь не к восприятию отдельной суверенной личности,
а к уже отрегулированным массовым запросам. Действительность оказалась на¬
столько мифологизированной, а идеология настолько мифологичной, что транс¬
лировались они прямо и непосредственно, минуя стадию жанровой обработки.
На этом фоне слились авторское и массовое начала: советские режиссеры ли¬
шились пространства для формального маневра, зато получили исключительное
право на ту самую нравственную истину в последней инстанции (здесь, впро¬
чем, кроется еще не до конца проясненный, но очень существенный вопрос о со¬
прикосновении тоталитарной, советской и собственно русской художественных
традиций).
Долгое время существовавшая в мировом кино болезненная оппозиция ме¬
жду авторским и массовым в отечественном кинематографе снялась — во всяком
случае на директивном уровне. Родилась теория «авторского фильма, понятного
всем» - характерно, что один из классических образцов такого кинематографа, Ча¬
паев братьев Васильевых, появился именно под ленфильмовской маркой. Харак¬
терно и то, что нравственные поиски «ленинградской школы» в конечном счете не
выходили за пределы идеальной картины мира и императивных критериев кол¬
лективного опыта. Оба эти аспекта имеют единую причину. Отсутствие низового,
мифологического киноконвейера с лихвой компенсировалось авторскими тиража¬
ми универсальных общественных ценностей.
Ситуация середины 80-х ознаменовалась резкой сменой самой моде¬
ли - инфантильно-коллективистский архетип начал вытесняться архетипом
545
Кино на ощупь
Торпедоносцы. Реж. Семен Аранович. 1983
индивидуалистическим. От кинематографа потребовалась оперативная переори¬
ентация в сторону западных жанровых конструкций. Как следствие - прежний,
ценностный взгляд на мир потерял силу. Этот процесс, болезненный для всей
отечественной кинокультуры, для «Ленфильма» оказался особенно тяжелым -
и именно в силу привычки к авторскому высказыванию.
Архетипический канон традиционного жанра нуждается всего лишь в бес¬
конечном самовоспроизводстве. Набор устойчивых инвариантов и сюжетных
схем адресует его непосредственно сфере «коллективного бессознательного».
Вербальный (доминирующий в советском и особенно ленинградском кино) слой
здесь как бы вторичен по отношению к структурным компонентам, к самой ар¬
хитектонике жанрового строения. Для ленинградского кино, использующего
эти структуры, особенно трудно разрешалась оппозиция формального канона
и слова.
Так, например, в экологическом триллере Д. Светозарова Псы (1989) кор¬
рекции подверглась схема вестерна. Группа охотников отправлялась на отстрел
собак-людоедов, бесчинствующих в покинутом жителями среднеазиатском го¬
роде. Первая половина фильма разыгрывалась по канонической партитуре: на¬
бор команды, где каждый из участников олицетворяет социальное и вместе
с тем мифологическое амплуа (спивающийся интеллигент, вышедший в тираж
спортсмен, экс-афганец, работяга — они же «идеалист», «одинокий волк», «ци¬
ник» и т. д.); долгое путешествие по пескам в разбитом автобусе (читай: прерия
и фургон, а еще глубже — потоп и ковчег); кровавые перестрелки и классиче¬
ский для вестерна мотив забытой или тщательно скрываемой вины, по мере ко¬
торой воздается каждому из участников экспедиции. Но как раз здесь заемная
546
1996
Мой друг Иван Лапшин. Реж. Алексей Герман. 1984
схема, не без изящества перенесенная Светозаровым на среднеазиатскую почву,
начинает пробуксовывать. Распространенный структурный компонент - тра¬
гическая вина — в «настоящем» вестерне индивидуальна и изживается на ин¬
дивидуально-событийном уровне. Ее носитель, как правило, обречен. Но по¬
гибает он геройски — либо участвуя на равных в решающей перестрелке, либо
заслоняя от последней пули более достойного товарища. В Псах вина (гулагов¬
ское или афганское прошлое, шовинизм, слепое следование номенклатурной
дисциплине) так или иначе коренится в коллективном бытии и требует допол¬
нительной моральной оценки. Моральный - здесь значит вербальный. Посему
и вся вторая половина фильма превращается в бесконечное выяснение отноше¬
ний, глубокомысленно осененных библейской цитатой о зверях, восставших на
людей.
Укажем и еще на одно, не менее характерное, обстоятельство. Почти все, пи¬
савшие о картине Светозарова, отметили одну сцену. «Закройте лицо», - гово¬
рит герой, склонившись над растерзанным собаками трупом. После чего камера,
как будто назло, показывает вытекшие глаза и клочья кровавого мяса. «Закройте
лицо» - от жанровой условности. Все дальнейшее - от авторских намерений, вме¬
стивших и безусловность ленфильмовской кинотрадиции, и ее принципиально ан-
тиигровую природу. И повышенную разговорность тоже. Шоковая экскурсия ка¬
меры по окровавленным останкам здесь есть синоним слова-описания, изгнанного
из жанрового словаря, но востребованного режиссером как единственный способ
авторского высказывания.
Еще более показательный гибрид авторства и жанра представляет следующая
картина Светозарова - детектив Арифметика убийства (1991). Эта криминальная
547
Кино на ощупь
история, вобравшая мотивы Достоевского («Я человек больной... Я злой чело¬
век. Непривлекательный я человек»), Ремизова («Человек человеку — подлец»)
и шекспировской «Мышеловки», густо замешана на сквозных образах А. Хичко¬
ка. Прямо из Окна во двор прикатила инвалидная коляска героя-соглядатая; Нор¬
ман Бейтс (Психо) предпочитал людям чучела, тогда как злодей из Арифмети¬
ки разыгрывает свою бесовскую партию с картонными фигурками-муляжами.
Навязчивой странностью Хичкока была невысказанная любовь-ненависть вдо¬
вых матерей к взрослым сыновьям. У Светозарова скрытая драма разыгрывает¬
ся между тетушкой и племянником. У мэтра ужасов птицы нападали на людей,
а люди испытывали необъяснимую и пугающую тягу к высоте. У ленфильмов-
ского режиссера крысы вот-вот бросятся на обитателей запущенной коммунал¬
ки, а герой, мучаясь клаустрофобией, всеми силами стремится прочь из замкну¬
того пространства.
Номинация хрестоматийных мотивов саспенса заменяет в Арифметике
убийства собственно жанровый фундамент. На этой зыбкой основе возводится
авторская вертикаль, снабженная знаками уже совершенно другого ряда (имена
героев, отсылающие к «Обломову» и «Преступлению и наказанию», фрагмент ко-
зинцевского Гамлета на телевизионном экране и т. д.). Хичкок открывал Пси¬
хо долгой, горизонтальной панорамой вдоль городских крыш. В начале Арифме¬
тики убийства камера скользит по фасаду дома сверху вниз, буквально с неба,
а в финале, когда голос уже мертвого героя сообщает за кадром: «Я не знаю, кто
Он, но я знаю, куда мне лететь», - взмывает над двором, над помойкой, над до¬
мом, над малостью земных претензий сверхчеловека, призванного к нездешне¬
му Ответу.
О нездешнем Ответе я упоминаю не случайно. Во второй половине 80-х вер¬
бально сформулированная отсылка к сакральным истинам выглядела едва ли
не типовой чертой жанрового кино Ленинграда. Оказавшись в междуцарствии
мифологий и не доверяя заповедной подоплеке жанра, в поисках универсаль¬
ного Слова, нравственного послания режиссеры обратились к самому надеж¬
ному источнику представлений о Добре и Зле. Надежному — да. Но очевидно
несоразмерному.
Так, в Палаче В. Сергеева (1990) молодая женщина, ставшая жертвой изнаси¬
лования, решает отомстить обидчикам и с этой целью сговаривается с темными
личностями. Видя ужасные результаты сговора, она начинает раскаиваться, одна¬
ко оплаченную вперед вендетту остановить нельзя, и героиня вынуждена ступить
на тропу войны против ею же нанятых союзников.
Жанровый стереотип здесь разоблачить нетрудно. Презрев «закон для всех»,
жертва сталкивается с альтернативным законом, безжалостным и неумоли¬
мым и оттого символизирующим ее, жертвы, неспокойную совесть. В западном
548
1996
оригинале такая коллизия хоть и воспевает личность, способную постоять за себя,
но и ненавязчиво намекает на охранительную силу «закона для всех». И человек,
выйдя из зоны этого закона, обрекает себя на известные нравственные пробле¬
мы. В Палаче нравственность осенена Словом, и ее обителью, естественно, ока¬
зывается церковь, куда героиня стремится всякий раз после очередного злодея¬
ния. Этические мотивы ее действий возносятся на столь недосягаемую высоту,
что привязать к ним упрямых гангстеров оказывается все труднее. В конце кон¬
цов, режиссер и сценарист (С. Белошников) попросту сваливают все на любовь,
вспыхнувшую в сердце главного душегуба и подтверждаемую им столь жестоким
способом.
В Псах диспропорция между архетипом жанра и авторским высказыванием
ликвидируется столь же лихо. Сформулировав взаимную вину, герои один за дру¬
гим погибают в междоусобной перестрелке, деля общую вину на общую кровь. Ме¬
ханизм же жанрового катарсиса крутится вхолостую, потому что персонажи этих
вестернов и триллеров отвечают либо за других, либо перед Высшим Судом, но ни¬
как не сами за себя.
Жанровые гибриды середины 80-х послужили своеобразным индикатором
кризисного состояния «Ленфильма». Навыки «школы» пришли в явное противоре¬
чие с перелицованной моделью кинематографа. Дискредитация прежнего коллек¬
тивного опыта повлекла за собой не только иную апелляцию к массовому созна¬
нию, но и потребность в ином качестве авторства. И тут выяснилось, что традиции
авторства как индивидуального взгляда, индивидуального языка «школа» не дала.
Их заместителями-симулякрами стали две ярко выраженные псевдоавторские
тенденции - «чернуха» и «апокалипсис».
Первая из них — констатация безысходности общей жизни, сладострастное ко¬
пошение в физиологическом слое. Зона, притон, вытрезвитель, казарма и комму¬
нальная кухня вместе с тем претендовали на печальную символику советской ре¬
альности, а значит — позволяли оставаться на плаву.
Второй, не менее расхожий мотив, - конец света, всеобщий исход. Экологи¬
ческий, нравственный, социальный, но опять-таки неизбежный для всех, дающий
право проповеди универсализмов и безликих истин. При этом «чернуха» эсхато-
логична, а конец света черен до беспросветности, потому что и то и другое каму¬
флирует растерянность и беспомощность пророков в своем обалдевшем от свобо¬
ды отечестве.
Общность этих тенденций, как и следующая за тем повышенная макабрич-
ность ленинградского кино, его болезненный интерес к разложению и упадку, каж¬
дый раз отмечали определенную стадию девальвации прежних ценностей. Законо¬
мерность состояла в том, что гибнущая идеология опиралась на культуру Слова,
стало быть, естественная потребность художественного высказывания по поводу
549
Кино на ощупь
Палач. Реж. Виктор Сергеев. 1990
текущих процессов совпадала с падением авторитета слова. Предмет и метод опи¬
сания деградировали синхронно.
Важно учитывать и то, что собственно языковая, структурная дистанция ле¬
нинградского кино во многом выстраивалась на вербальных интенциях. Изъя¬
тые из художественного обихода, они резко приблизили предметный материал
реальности к экранному облику. Особенно это видно на примере «чернушной»
стилистики, эксплуатирующей находки А. Германа, в частности, его ...Лапши¬
на. Сырой, необработанный поток жизни, ее поверхностная фактура определи¬
ли образ ленинградского «постнеореализма». При этом «чернуха», присвоив вне¬
шность германовских фильмов, проглядела очень жесткую и очень выверенную
сделанность его экранного дискурса, на сугубо индивидуальном уровне автор¬
ской манеры синтезирующего прежнюю культуру слова и культуру визуально¬
го языка6. На студии до сих пор рассказывают историю о том, что самые горя¬
чие поздравления после показа в Америке фильма Проверка на дорогах Герман
принимал от режиссеров так называемой «серии Б». Именно они, производите¬
ли малобюджетного кино, в котором нет ничего, кроме тиражируемой из фильма
в фильм нормативной знаковой системы, сумели по достоинству оценить круп¬
ный план шипящего на снегу раскаленного стрельбой пулемета, который от¬
швыривает в финальной сцене герой Заманского. Таким образом, не отступая от
авторской интонации, режиссер сумел определить знак, восходящий к архетипи¬
ческому слою кинотрадиции.
6 Не имея возможности остановиться на проблеме подробнее, сошлюсь на обстоятельный разбор
М. Ямпольского, предложенный в его работе «Дискурс и повествование» (см.: Киносценарии, 1989, № 3).
550
1996
Псы. Реж. Дмитрий Светозаров. 1989
Ленфильмовская «чернуха» — это Герман минус структура и минус эстетиче¬
ская дистанция. Реабилитация постидеологической реальности отмечена целым
рядом узнаваемых черт — чередованием цветного и черно-белого изображений,
долгими разговорными планами, мерцающей операторской техникой, взвинчен¬
ной исполнительской манерой. Эффект Германа строится на сплаве внятно рас¬
сказанной истории и объемного визуального языка. Как справедливо заметил
М. Трофименков, эпизодические образы Германа именно потому сплетаются в пу¬
гающий кинообраз, что «ни в коем случае не поддаются расшифровке, они вне
дидактики, вне морали...»7, т. е. оттеняют Слово, сообщают ему дополнительную
координату.
Эпигоны Германа поступают прямо противоположно. Репрезентативная
«физическая реальность» у них не оформлена, в то время как авторская инто¬
нация опирается на код внешнего, внекинематографического сообщения. Так
происходит в Коме Н. Адоменайте и Б. Горлова (1989), в Карауле А. Рогожки¬
на (1989), в Бумажных глазах Пришвина В. Огородникова (1989). Например,
в Коме опорные точки сюжета проявляются только благодаря выходу из чер¬
но-белой лагерной реальности, в апелляции к имени Марины Цветаевой и пес¬
ням Галича.
В Карауле альтернатива замкнутой и страшной жизни тюремного вагона про¬
ступает в наборе образов внешнего свойства. Их многозначительность прямо про¬
порциональна пошлости: по снежному полю вдоль насыпи бредет фигура, согнув¬
шаяся под тяжестью креста, а в окне встречного поезда разыгрывается лесбийская
7 Трофименков M. Кома - Сеанс, 1990, № 1, с. 39.
551
Кино на ощупь
сцена. Внешний, пугающий мир представлен режиссером через символы одино¬
кого Мессии и разгулявшегося секса, т. е. через литературно клишированную об¬
разность общественного сознания первых лет перестройки. Эти знаки, безусловно
запущенные поверх основной коллизии Караула, призваны углубить и универса¬
лизировать конфликт, придать ему притчевый, моральный оттенок. Но этого не
происходит, и именно в силу того, что авторский шифр побочен, случаен и, в ко¬
нечном счете, необязателен.
Означивание реальности в формах самой кинематографической реальности
обернулось для последователей Германа потерей формы и ослаблением образной
интонации. Предельное выражение эта тенденция получила в Чекисте А. Рогож¬
кина (1991) — с первого до последнего кадра на экране звучат выстрелы, льется
кровь, у стены падают расстрелянные... Вероятно, по замыслу режиссера, образ
жуткого конвейера смерти впечатляюще самодостаточен — структура и логика об¬
ретаются в отсутствие структуры и логики массового уничтожения. Однако шо¬
ковый эффект соприсутствия при казнях в подвалах ЧК, эффект, являющий¬
ся единственным структурным компонентом фильма, очень скоро оборачивается
противоположностью и мстит автору. А. Плахов не случайно сравнивал Чекиста
с профессиональной порнографией, а режиссера - с соглядатаем, «завороженным
зрелищем насилия и смерти»8. Мотив вуайерства распространим в широком смыс¬
ле и на всю послегермановскую стилистику — стилистику неконтролируемой, под¬
смотренной жизни.
С позиции подсматривающего в таком кино предстают и эротические сцены.
Очевидно, что табуированные на идеологическом экране интимные эпизоды объ¬
ективно попадали под запрет Словом. В перестроечном кино снятие визуального
табу проходило как бы в две стадии — любая сексуальная сцена на советском эк¬
ране 80-х содержит сначала отрицание прежней нормы, а лишь затем утвержде¬
ние нормы настоящей. Так, скажем, в этапной сцене из Маленькой Веры секс был
неотделим от диалога, физиология служила всего лишь очередным поводом для
слова.
В том, как снимают любовные эпизоды ленинградские режиссеры, видна
растерянность привыкшего говорить и внезапно вынужденного замолчать ав¬
тора. Безмолвное присутствие сказывается в том, что сам способ кадрирования
сексуального акта выдает взгляд третьего лица и подразумеваемую оценку про¬
исходящего перед камерой (изображалась киносъемка). В Карауле измученный
дедовщиной солдат видит объятия двух женщин через окно встречного поез¬
да. В Коме статичная сцена забавы пьяных гэбэшников снята так, что простран¬
ство кадра перечеркнуто занавеской — возникает ощущение театральной кулисы.
8 См.: Плахов А. Из жизни «неоварваров». - Искусство кино, 1992, № 9, с. 148.
552
1996
В заставке к Бумажным глазам Пришвина сплетенные тела перекрываются всту¬
пительными титрами, а впоследствии выясняется, что герои не занимались лю¬
бовью по-настоящему, но лишь разыгрывали сцену перед камерой. В Австрий¬
ском поле А. Черных (1991) (картина, хоть и сделана на «Беларусьфильме», но
генетически примыкает к ленинградскому кино) между персонажами и каме¬
рой помещен целый ряд предметов - тканей, прозрачных ширм, т. е. предме¬
тов, подчеркивающих дистанцию наблюдения, в позицию которого встают автор
и зритель.
Таким образом маркируется присутствие автора и воспоминание о слове-та¬
бу. На этом пути возникает дистанция скорее не эстетического, а психоаналити¬
ческого свойства. Исключения только подтверждают правило - страсть к подгля¬
дыванию одного из самых известных вуайеров мирового экрана, А. Хичкока, во
многом следовала из его собственного религиозного воспитания, — опять же вос¬
питания Словом.
К иным попыткам структурирования реальности в ленинградском кино сле¬
дует отнести звуковой ряд и чередование цветного и монохромного изображений.
Смена черно-белого и цветного изображений часто применяется для вычлене¬
ния глобальных категорий киноповествования. В Коме введение цвета указывает
на перенос времени действия. В Карауле — на выход из одного пространства в дру¬
гое. Финал картины Рогожкина символичен - когда сраженный пулей герой пада¬
ет, изображение тут же вновь теряет цвет, несчастный солдат-первогодок как будто
вновь попадает в замкнутую обстановку вагонзака. Очевидно, что в обоих случа¬
ях игра с цветом, хоть и носит внешность сугубо кинематографической фигуры
речи, по существу является речью внекинематографической, ибо демонстрирует
авторский код как бы над пространственно-временной протяженностью экран¬
ной реальности. В самой же реальности опорных точек для авторской интенции
не находится.
Аналогичным образом функционирует в фильмах этой тенденции звуковая
«вертикаль». То, что фонограмма фильма способна нести в себе «вертикальное»
сообщение, окрашенное в тона авторской речи, на «Ленфильме» стало ясно после
новаторских экспериментов со звуком А. Сокурова. Однако трансформация зву¬
ка «под Сокурова» в работах «новой невской волны» более всего похожа на эво¬
люцию внутрикадрового пространства «под Германа». В обоих случаях в расчет
принимается только внешняя, формальная сторона приема, вне связи с други¬
ми выразительными компонентами фильма. Если у Сокурова звуковой фон вхо¬
дит в сложный и изощренный контрапункт с визуальным рядом и, не отрываясь
от фотографической природы изображения, создает эффект авторского при¬
сутствия, то у последователей Сокурова авторская вертикаль главным образом
декларируется.
553
Кино на ощупь
Чекист. Реж. Александр Рогожкин. 1991
Вычленим здесь три компонента такой декларации: идеологическую фоно¬
грамму, замусоренный разговорный фон и лейтмотивное звучание. В первом слу¬
чае закадровое (реже - внутрикадровое) пространство наполняется узнаваемыми
мелодиями, дикторским текстом, обрывками теле- или радиопередач. Каждый из
этих звуковых блоков отягчен культурным шлейфом. «Марш» Дунаевского или го¬
лос Левитана компенсируют характеристику пространственной среды, сигналят
о времени вне визуальных примет последнего. Звуковой ряд подобного рода избав¬
ляет автора от собственно зрительного высказывания и предлагает на выбор це¬
лый набор клишированных ярлыков-звуков.
В высшей степени показательный пример второй тенденции виден в печаль¬
но известной сцене из картины И. Алимпиева Панцирь (1990). Камера панорами¬
рует интерьер отделения милиции и надолго - невыносимо надолго — застывает
у решетки, за которой переругиваются двое задержанных уголовников. На протя¬
жении нескольких минут с экрана раздается отборный мат. Ясно, что зрительный
образ (вся сцена снята статичным планом) здесь приносится в жертву звуковому,
а искомая «шоковая антиэстетика» слова обретается всего лишь в ненормативно-
сти лексики (стоит ли говорить, что вульгаризмы в «бэкграунде» Германа подчер¬
кивают общую достоверность внутрикадровой фактуры, а речевой строй фильмов
Сокурова, как правило, и вовсе очищен от обыденности).
Лейтмотив как знак авторского присутствия отчасти перекликается с первой
тенденцией. Повторяемые, как правило, стилизованные мелодии и аранжировки
так или иначе отсекают соучастие в ритмо-пластическом рисунке изображения.
Они сознательно функционируют как внешний авторский код-комментарий, пере¬
нося авторский взгляд вовне.
554
1996
Бумажные глаза Пришвина. Реж. Валерий Огородников. 1989
Общим следствием всех этих векторов является отказ от визуальной образной
системы. Традиция слова мимикрирует под озабоченность автора высокими духов¬
ными проблемами либо под жесткое «социальное кино». Парадоксально, но вер¬
бальная традиция отразилась и на предпринятых в ленинградском кино попытках
постмодернистского дискурса.
В начале 90-х на студии были сделаны две схожие по замыслу картины -
Переход товарища Чкалова через Северный полюс (1990) дебютанта М. Пежем-
ского и Сады Скорпиона (1991) киноведа и режиссера О. Ковалова. В обоих
содержится попытка создания портрета времени средствами его, времени, эк¬
ранного автопортрета. Пежемский снял римейк известной картины М. Калато¬
зова Валерий Чкалов, Ковалов смонтировал хронику советских лент 50-х с по¬
лузабытым фильмом А. Разумного Случай с ефрейтором Кочетковым. В обоих
случаях налицо претензия авторов на самоигральность материала, на работу
с мифологическими величинами советской истории, дистанцированными от
современного зрения авторской иронией. Наконец, в обеих картинах ирони¬
ческое отстранение осуществляется вне игрового киноматериала, а как бы над
ним, вне его.
У Пежемского отчетливо проступает оттенок пародии - ироническая гримаса
автора адресована не структуре первоисточника, а общему идеологическому пред¬
ставлению о советском «золотом веке». Результат - введенные в ткань картины
фрагменты калатозовского оригинала разрушают фактуру римейка. Замысел авто¬
ра, поднявшегося над материалом, оборачивается противоположностью. Плоские,
очищенные от всего наносного кадры Калатозова в системе многократных отраже¬
ний и кавычек играют азартнее и сильнее.
555
Кино на ощупь
Аналогичный сбой происходит и в Садах Скорпиона, где за каждой монтаж¬
ной фразой стоят современный идеологический взгляд автора, его социальная по¬
зиция. Заявив жанр фильма как «оптическую симфонию», Ковалов все равно стре¬
мится в область некоего социокультурного комментария. И терпит на этом пути
неудачу, ибо лучшим комментатором здесь могло бы быть само время, аннулиро¬
вавшее социальный заказ и превращающее кинопродукцию в искомую «оптиче¬
скую единицу».
Рассмотренные выше фильмы, конечно, не дают полного представления
о многосложности процессов, протекающих в ленинградском — санкт-петербург¬
ском кино. Впрочем, такой целью мы и не задавались. Задачей этой статьи была
попытка проследить общую для ленфильмовской «школы» традицию авторского
Слова, кризис и очевидный декаданс которого составляют сегодня самую узнавае¬
мую черту продукции «Ленфильма». Значит ли это, что умирание традиции рав¬
нозначно гибели всего ленинградского кино? Вероятно, нет, ибо, быть может, са¬
мые интересные работы, вышедшие под эмблемой «Ленфильма» в последние годы,
впрямую связаны со словом. Именно слово становится главным героем фильмов
Сергея Сельянова, именно оно по-новому играет в работах Сокурова. Но это уже
предмет другого - пристального и обстоятельного - исследования.
В сб. «Петербургское «Новое кино». СПб., РИИИ, 1996.
556
1997
Кино: история пространства
Начну с трех предуведомлений. Во-первых, все то, о чем мы с вами сегодня бу¬
дем говорить, является, конечно, методом вычисленным, не имеющим никаких
практических разработок. Не претендуя на абсолютную методологическую уни¬
версальность, я просто попробую представить вам эволюцию кинопроцесса по ба¬
зовым точкам, связанным с историей пространства в кинематографе. Это первое.
Второе. То, что касается раннего кинематографа, и то, что касается вещей, ко¬
торые вам придется принимать на веру, а не видеть на экране, конечно, также тре¬
бует отдельного предупреждения. Все вы знаете, что история кино написана до¬
вольно произвольно. Все зависит от того, какие фильмы видел данный историк.
Какие он видел, тем и приписывает определенные достоинства. Садуль видел одни
фильмы, Тёплиц видел другие, кто-то видел третьи и т. д. Я стараюсь ориентиро¬
ваться в этом массиве - а для меня он важен - на те вещи, которые я видел сам.
И третье. Все то, о чем я буду говорить, относится, конечно, к классическому
периоду кинематографа, к так называемому языковому периоду кинематографа,
который, в общем, закончился. Столетие — это предельный век не только для че¬
ловека, но, как выясняется, и для такого мощного аудиовизуального медиума, как
привычное пленочное кино. Похоже, что во всем мире оно умирает, и умирает не
столько по причинам неконкурентоспособности рядом с другими аудиовизуаль¬
ными средствами, сколько из-за того, что, по-видимому, исчерпал себя традицион¬
ный кинопоказ - с кинопроекцией, на пленке, в темном зале, и т. д. Это очень важ¬
ный момент, и я хочу, чтобы вы отрефлексировали это с самого начала. Кино — это
искусство идеологическое. Кино - это медиум больших идеологий. Ну а посколь¬
ку весь мир переживает сегодня постидеологическую эпоху, то о каком кино мо¬
жет идти речь?! Если вы следите, например, за конъюнктурой международных фе¬
стивалей, которые так или иначе пытаются делать политику на пленочном кино,
то, наверное, обратили внимание на то, что сейчас в моде картины из стран треть¬
его мира, из Ирана, из восточных стран, то есть из тех ареалов человеческой жиз¬
ни, где еще осталась некая имперсональная идеология. Там, где сохраняется над¬
персональная идеология, делается кино. Европа, которая идеологию похоронила
давным-давно, кино уже не делает. Вот Америка его делает, но, правда, по прин¬
ципу натурального хозяйства: только для себя. Американцам совершенно напле¬
вать, смотрят их фильмы за рубежом или нет, дают им «Золотые пальмовые ветви»
или не дают. Для них главное - касса в определенных кинотеатрах определенно¬
го города...
559
Кино на ощупь
Все, что я буду говорить, конечно же, относится именно к этому классическо¬
му кино. Отчасти это уже анахронизм, но, поскольку вы все-таки называетесь ки¬
новедами, наверное, эта метода тоже может пойти вам на пользу, хотя, повторяю,
она отчасти устарела — хотя бы потому, что носит отчетливый структуралистский
характер, который сейчас тоже вроде бы не работает, не является универсальной
отмычкой к тем процессам, которые мы наблюдаем вокруг. Более того: поскольку
то кино, о котором я буду говорить, активно занималось самомифологизацией -
помимо того, что оно было одним из самых главных мифотворцев XX столетия, -
и само оно, его собственные внутренние рефлексии о самом себе тоже отчасти по¬
строены по принципу мифологии. Не знаю, как сейчас у вас, а в мое студенческое
время (лет пятнадцать назад) было очень модно читать Леви-Стросса. Знаете, на
каждом этапе бывает какая-нибудь методологическая отмычка, такое слово, кото¬
рое вроде бы объясняет все, а на самом деле не объясняет ничего. «Миф» было та¬
ким словом, «хронотоп» (когда все увлекались Бахтиным), «постмодернизм»... На
мой взгляд, слово «миф» вполне инструментально, категориально, и я думаю, что
мы с вами можем это обсудить и согласиться.
Категория мифа позволяет нам использовать метод прогрессивных оппози¬
ций, постепенно выстраивая понятийные конструкты внутри некоего явления.
В кино, как ни странно, очень много таких оппозиций. Оппозиция глубинного кад¬
ра и плоского кадра, оппозиция монтажного кино и, говоря по Базену, плана-эпи¬
зода, то есть безмонтажного: сцены, снятой статично или плавно панорамирующей
камерой. Другие оппозиции: авторское кино — массовое кино, элитарное - ком¬
мерческое и т. д. Все это, по сути дела, выдает глубоко мифологическое самосо¬
знание кинематографа, как, впрочем, и идеологическое, ибо в кино, как и во всем
XX веке, мифология существует в формах идеологии и наоборот. Хоть это общее
место, но я должен был его произнести. Поэтому не пугайтесь, если какие-то от¬
дельные мои рассуждения будут носить несколько идеологический характер, хотя
идеология сейчас не в моде.
К сожалению, то первое, конкретное киноизображение, которое я вам хотел
предложить обсудить — в качестве эпиграфа и затравки к нашему разговору - я не
привез с собой на кассете, не достал эту картину, поэтому я вам нарисую, если
можно — там все достаточно банально. Не знаю, видели ли вы фильм модного сей¬
час режиссера из Литвы Шарунаса Бартаса, который называется Воспоминание
о прошедшем дне. Документальная картина, довольно ученическая в общем и це¬
лом, но вместе с тем в ней есть два кадра, которые, на мой взгляд, очень полезно
обсудить как своего рода концептуальные клетки. Действие происходит в Вильню¬
се. Все снято скрытой камерой или наподобие того - это уже технология. Это та¬
кая визуальная музыка: жизнь большого города. Тема, трактовавшаяся в кино неод¬
нократно. И вот один из эпизодов фильма. Маленькая кривая вильнюсская улочка,
560
1997
Воспоминание о прошедшем дне. Реж. Шарунас Бартас. 1990
мощенная булыжником, костел, из которого доносятся звуки органа. Начинается
служба, прихожане идут по этой улочке к костелу... Камера находится сбоку — я ее
вот так обозначу (рисует на доске). Таким образом, улочка под углом почти 45° пе¬
ресекает поле кадра. Вверху кадра мы видим костел. Прихожане, соответственно,
идут снизу вверх, а в середине этого кадра - коленопреклоненная фигура. Старик
на коленях медленно, чуть ли не ползком поднимается к этому костелу. Люди его
обходят, а он, склонив голову, в позе смиренного паломника приближается к две¬
рям храма Божьего... Да, я забыл вам сказать, что вот здесь — глухая стена; таким
образом, весь кадр как бы вынесен на авансцену действия и уплощен самой своей
фактурой, самой своей пространственной организацией. По сути дела, этот кадр
может служить почти эталонным для киноизображения, для которого очень значи¬
мы его семантические основы. Смотрите: верх — низ. Наверху — храм, внизу — че¬
ловек. Дорога, ведущая к храму, поднимается строго снизу вверх, и коленопрекло¬
ненный человек в канонической позе смирения по этой наклонной дороге, снизу
вверх поднимается к храму. Все это вызывает тем более прямую ассоциацию, что
кадр плоский, ничто больше не отвлекает нашего внимания, потому что вот здесь
глухая стена, и ничего другого здесь не происходит. Происходит лишь эта непо¬
средственная коммуникация между верхом и низом, и посредничающий между
ними человечек.
561
Кино на ощупь
И все было бы здорово, если бы в следующем кадре Шарунас Бартас не сме¬
нил точку съемки. Теперь режиссер помещает камеру вот здесь (рисует), за спиной
коленопреклоненного человека. И что мы видим? Мы видим улочку, уходящую
вверх, видим, что за храмом, в проеме между домами, идет какая-то жизнь, ездят
какие-то машины, видим других людей на улице, и старика видим гораздо крупнее.
Больше того, оказывается, что самым значимым элементом этого кадра являются
подошвы, сношенные подошвы его ботинок. Эти старые крепкие ботинки говорят
о человеке очень много: то, как они сношены, какими гвоздями они неоднократ¬
но подбиты. Сейчас это все не воспроизвести в словах, но есть время рассмотреть.
Таким образом, мы вдруг видим совершенно другое изображение - всего лишь за
счет перемены положения съемочного аппарата. После жестко семантизированно¬
го кадра с верхом, низом, Богом, человеком и дорогой, восходящей снизу вверх, мы
видим текущую по краям жизнь, видим некоего коленопреклоненного человека, и,
извините за излишний, быть может, пафос, мы видим всю его жизнь на подошвах
его ботинок, потому что подошвы ботинок человеческих действительно очень мно¬
го говорят о своих хозяевах. Мы сразу понимаем, что он не городской житель, что
пришел откуда-то из деревни, и т. д.
Я предупреждал, что мы будем пользоваться методом прогрессивных оппози¬
ций, так вот это, если угодно, два способа снимать кино.
Я думаю, что вы уже достаточно искушены в кинотеории, чтобы знать, какая
разница между эйзенштейновским и базеновским кино. И о том - это особенно
следует, скажем, из французских теорий 40-х годов, из раннего Базена, из теорий
конца французской фильмологии, - что монтажное кино есть некое насилие над
зрителем, навязывание зрителю того или иного авторского дискурса, в то время
как кино, снятое неподвижным планом, вмещает все мелкие детали бытия и под¬
чинено некоему магическому, так сказать, знаку свыше: что именно увидела кино¬
камера, то и есть истина киноизображения.
Но эта оппозиция, в свою очередь, влечет за собой довольно много других, не
менее содержательных вопросов.
Происходит, собственно говоря, поразительная вещь: кинематограф, едва
родившись и осознав себя как техническую игрушку, за несколько лет нараба¬
тывает те структуры высказывания, которые делают его эстетически полноцен¬
ным. Это довольно занятный момент. Причем он довольно сильно нивелирован
в советском киноведении, которое почему-то ориентировалось на европейскую
искусствоведческую концепцию начала века и объявляло кинематограф синте¬
тическим искусством, т. е. наследующим старшим искусствам — музыке, коль
скоро там есть ритм; театру, коль скоро там есть действие, разыгрываемое ак¬
терами; живописи, коль скоро полотно экрана напоминает живописный холст;
литературной драматургии, коль скоро там существуют сюжет, диалоги и т. д.
562
1997
По-моему, это полная чушь. И кино ни в коем случае не может являться синте¬
тическим искусством, что, в общем, и показали ранние опыты кинематографа,
связанные, скажем, с деятельностью «Фильм д’Ар» во Франции. Но вместе с тем
в кино - в тот момент, когда оно становилось носителем некоего индивидуаль¬
ного языка, — действовали исключительно аналитические вещи. Тут можно вспо¬
мнить Белу Балаша, который говорил о том, что кино стало искусством, когда
в нем выделились три самостоятельных элемента, а именно: крупный план, дви¬
жение и монтаж. То есть те сугубо специфические кинематографические кате¬
гории, которые очень тесно связаны с техническим происхождением кино и ко¬
торые вместе с тем вдруг на пересечении техники и некоего художественного
высказывания или, во всяком случае, художественной амбиции становятся фор¬
мирующим началом нового образного ряда, не похожего ни на один другой. Тогда
же, в первой четверти века, тонко мыслящий Вальтер Беньямин предупрежда¬
ет, что такое произведение искусства лишено ауры индивидуальной сделанно¬
сти, оно технически воспроизводимо и поэтому лишено энергии индивидуаль¬
ного авторского высказывания. Вместе с тем именно в этом сила кинематографа,
потому что раннее кино выполняло в общественном сознании ту функцию, ко¬
торую сейчас для нас с вами, во всяком случае, для массы советских и постсовет¬
ских людей, выполняет телевизионная мыльная опера. Разобщенное общество
она делает обществом, обладающим как бы одинаковыми ценностями. Оказы¬
вается, что после диктата советской власти стало возможно каждый вечер под¬
глядывать в замочную скважину за некими своими знакомыми — по телевизору
в определенное время. Вот пошли эти сериалы, и оказалось, что можно не слу¬
жить в некоем идеологическом обществе, а быть просто, так сказать, соглядата¬
ем ежевечерней жизни соседей. Должен сказать, что в плане внутренней прива¬
тизации нашей жизни телесериалы сыграли колоссальную роль, и, в общем, это
один из самых мощных стимулов, служащих индивидуализации мироощущения
постсоветского человека.
Раннее кино делало примерно то же самое. Во-первых, оно тоже серийно, что
любопытно. Оно наследовало традиции pulp fiction XIX века, уже тогда сложив¬
шейся бульварной литературы. Фильмы тоже выпускались с продолжением. Таким
образом, в разных точках разных городов (прибавьте к этому культуру мегаполи¬
са, которая складывается к этому времени) люди смотрели одно и то же, точно так
же, как в постсоветские времена от Новосибирска до Калининграда люди смотрят
одну и ту же Санта-Барбару и очень обижаются, когда ее перестают там показы¬
вать, потому что спутник зависает по другую сторону Земли. Вот этот момент тоже
нужно учитывать.
Вместе с тем есть еще один момент, который опять-таки подводит нас к гло¬
бальной оппозиции, заложенной в самой основе киноизображения.
563
Кино на ощупь
Я думаю, вы читали книгу Виктора Божовича «Традиции и взаимодействие
искусств», в которой довольно подробно, обстоятельно показано, как появление
кино было подготовлено искусствами и общим строем мыслей XIX столетия. От¬
сылая к ней, я хотел бы добавить еще одну категорию, которая очень важна и мо¬
жет служить, мне кажется, самым главным эпиграфом к истории кинематографа
в XX веке: категорию реализма.
Художественный реализм — это детище XIX столетия, это абсолютно буржуаз¬
ное искусство. XIX век — это век буржуазного гуманизма. XIX век как бы отменяет,
по сути дела, всю вертикальную картину бытия. Таким образом, тварный мир, по¬
стигаемый с помощью простейших человеческих чувств — зрения, обоняния, слуха
и т. д., - становится единственным реальным миром. И между художником и вос¬
принимающим зрителем устанавливается своего рода конвенция. Об этом замеча¬
тельно писал Роман Якобсон. Все в XIX веке построено на конвенции, потому что
буржуазное мироощущение подразумевает постоянный товарно-денежный обмен.
Жизнь как некий обмен, а обмен невозможен без конвенции. Я обязуюсь, что я тебя
не обдурю и не подсуну тебе гнилой товар. А ты обязуешься, что не расплатишься со
мной фальшивыми деньгами. Собственно, это всеобъемлющая формула XIX столе¬
тия, вплоть до отношений человека с Богом. XIX век как бы предписывает человеку
выполнять некий свод правил, который гарантирует ему, что Бог не будет слишком
вмешиваться в его жизнь, и по ту сторону бытия ему, человеку, обеспечено райское
блаженство, если он здесь, на земле, не будет убивать старушек и грабить детей.
То же самое происходит в искусстве. Я, передающий (художник), обязуюсь
вам, воспринимающим (зрителям), передать адекватный образ реальности. Вы,
воспринимающие, обязуетесь согласиться со мной, что я, художник, передаю вам
относительно достоверный облик реальности. На этом построено очень многое, на¬
чиная с традиций романа французского натурализма (кстати, не случайно кино ро¬
ждается во Франции - стране классической буржуазной культуры), от натураль¬
ной школы романа и кончая, в общем, столь не похожей на реальность вещью, как
импрессионистическая живопись. Потому что импрессионизм — это первое оттор¬
жение человеческого «я» в тварный, не человеку принадлежащий мир. Художник-
академист ищет композицию, ищет симметрию, художник-академист работает за¬
глаженным мазком, стараясь передать как можно более отторженный от него образ
не им созданного мира. Художник-импрессионист, напротив, работает крупным,
пастозным мазком, он поворачивается к натуре, и именно то мгновение, которое он
увидел, повернув голову, и есть достойный объект запечатления на полотне. А если
он повернул голову резко, и у него в глазах красные круги, то небо ему покажется
красным, а трава желтой. Он и пишет траву желтой, а небо красным. Больше того,
он предлагает зрителю - что опять-таки очень буржуазно! - отдельную шутку, от¬
дельное дополнительное удовольствие: он предлагает ему ходить рядом с картиной.
564
1997
Оперный проезд в Париже. Туман. Худ. Камиль Писсаро. 1898
Это довольно любопытная вещь. Никогда, ни в одном из прежних искусств
зритель не ходил, зритель был статичен. Ощущение зрителя в любом традиционном
искусстве - это статичное ощущение. Так вот художник-импрессионист уже позво¬
ляет своему зрителю ходить: ходить по оси света. Импрессионистов вы все живьем
видели-знаете: подошел на метр — увидел груду цветных пятен, отошел на полто¬
ра - какой-то фигуративный контур появился, отошел еще на два шага — Бог мой, да
это же пейзаж! Соответственно, все это в конце концов вырождается в пуантилизм.
А вот теперь посмотрите: обнаруживается одна очень любопытная вещь. Вы видели,
конечно, живопись Камиля Писсарро, который писал французские бульвары, кото¬
рый писал жизнь Парижа, и у которого очень любопытная точка зрения. Писсарро
любил залезать на крышу, писать бульвар сверху. Классический Париж, утренний
туман, мерцающая мостовая, мокрые фиакры, прохожие под зонтиками, и т. д. Ярко
выраженная точка зрения сверху, которая в сложившемся к тому времени навы¬
ке изобразительного искусства маркировала точку зрения некоего высшего начала.
565
Кино на ощупь
Падение Икара. Худ. Питер Брейгель Старший. 1558
Вы можете возразить, сказав, что, например, Питер Брейгель тоже писал свои
картины сверху, но Брейгель потому и прозван «мужицким», что представлял божень¬
ку с большой белой бородой, который сидит на облаке и смотрит. И вот он, Питер
Брейгель, как бы пытается передать его точку зрения. Когда Брейгель пишет «Падение
Икара», он изображает огромный мир с пахарями, тучными стадами и колосящими¬
ся хлебами, а где-то там, далеко в волне маленькая-маленькая ножка Икара торчит из
воды. Тот гордился, летел к солнцу, и на тебе... Если для Брейгеля образ зрения сверху -
это образ высшего существа, то для Камиля Писсарро, живущего в конце XIX века, -
это точка зрения буржуа, залезшего на крышу. Буржуа залез на крышу и чувствует
себя на вершине мира. Почему мифология высоты опять-таки содержательна в конце
XIX столетия и в XX веке? Человеку приятно в какой-то момент почувствовать себя
выше, чем все остальные, и приятно существовать так, что он вроде бы остается на ме¬
сте, а пейзаж движется вокруг него. Это то комфортное ощущение, которое дает нам,
скажем, поездка в автомобиле. Когда мы едем в автомобиле, мы на самом деле испы¬
тываем все те чувства, которые испытывает зритель раннего кинематографа. Пред¬
ставьте себе: сумерки, вы садитесь в машину, едете, крутом вечерняя Москва, огни,
романтика... А еще работает радио, идет передача «Ностальжи». Естественно, у вас му¬
рашки по коже бегут — вы чувствуете себя в центре мироздания. Это то самое чувство,
которое согревает сердце буржуа. А кино — это буржуазное искусство. Оно рождено как
566
1997
Бабушкина лупа. Реж. Альберт Смит. 1900
буржуазное искусство, и именно поэтому три его сугубо технические характеристи¬
ки становятся его образными характеристиками. И в общем, оно становится искус¬
ством, потому что искусство есть не что иное, как осмысление мира образными сред¬
ствами. Это, пожалуй, единственное определение искусства, которое можно давать без
поправок. Образ! Дается образ реальности. И вот эти три сугубо технологические ка¬
тегории — движение камеры, монтаж и крупный план — становятся содержательными.
Очень интересно следить за тем, как поначалу человечество боится нарушить
тот навык созерцательных искусств, который уже существует к этому времени. Все
вы наверняка читали Садуля и помните, что первый, по Садулю, крупный план
изобретают представители Брайтонской школы в Англии. В частности, Джордж-
Альберт Смит, снявший фильмы Бабушкина лупа и Что видно в телескоп? В пер¬
вом случае сидят внучек и бабушка, ковыряют в носу и что-то рассматривают че¬
рез увеличительное стекло. Во втором случае повеса шляется по пляжу, покупает
подзорную трубу и вместо того, чтобы созерцать морские горизонты, высматрива¬
ет вокруг хорошеньких дамочек. Одну из них высмотрел: она зашнуровывает вы¬
сокие ботинки (верх эротизма для того времени). После чего спутник этой дамы
замечает вуайера и бьет ему морду. Вот такая эротическая комедия. В обеих этих
лентах есть крупный план. Но, обратите внимание, в обоих случаях он опосредо¬
ван увеличивающей оптикой. Вводить крупный план впрямую пока еще боятся.
567
Кино на ощупь
Панорама Большого канала с лодки. Реж. Александр Промио. 1896
То же самое происходит и с категорией движения. Меня совершенно порази¬
ла, например, одна из первых люмьеровских лент, снятая уже не ими самими, а их
операторами. Съемка называется Вокзал. Камера установлена в купе поезда, тот
медленно трогается... Вы, вероятно, знаете, что согласно анекдоту, пересказанно¬
му Садулем, первый тревелинг в истории кино случился в Венеции, когда люмье¬
ровский оператор установил кинокамеру и снимал какое-то здание, но тут дунул
ветер (а в Венеции, как известно, улиц нет, есть только каналы), и гондола, на ко¬
торой была установлена камера, поплыла, — так получилась первая панорама. Мо¬
жет быть, это действительно было так, а может и нет. Во всяком случае, это похоже
на правду, потому что операторы Люмьеров очень боятся двигать камеру, они ду¬
мают, что кино — это только то, что происходит перед статичным аппаратом. Они
еще находятся в плену той самой консервативно-традиционной точки зрения, со¬
гласно которой зритель должен быть статичен по отношению к происходящему...
Так вот, камера установлена в купе, поезд трогается, и начинается медленное дви¬
жение, за окошком проплывают привокзальные строения, какие-то там станцион¬
ные домишки... Дай сейчас любому из нас камеру в руки и попроси снять эту сцену,
какую первую и единственную задачу каждый решал бы? Ну, разумеется, чтобы
в кадр не попадала рамка окна. Это очевидно. Люмьеровские же операторы, наобо¬
рот, устанавливают камеру таким образом, чтобы половину кадра занимала рамка
568
1997
окна. Чтобы зритель, не дай Бог, не подумал, что это камера движется сама собой,
чтобы зритель помнил о том, что она установлена в поезде — рамка окна постоян¬
но нам об этом напоминает.
Известно, что первой функцией кинематографа была функция этакого клу¬
ба путешественников. Операторы Люмьеров разъезжали по всему миру и снимали
самые далекие и экзотические уголки земли, как бы давая зрителям возможность
там побывать. Но опять-таки... Дай нам сейчас в руки 8-миллиметровую видео¬
камеру и отправь снимать Париж, что мы там снимем? Понятно, что Эйфелеву
башню, Собор Парижской Богоматери. Так в любом городе. Поезжайте в Питер -
и снимете Адмиралтейство, иначе не поверят, что вы были в этом городе. Опера¬
торы Люмьеров снимали совершенно другое. Вот, скажем, сюжет, снятый в Вене.
Что бы там сняли мы? Ну, скажем, Бургтеатр... А что нам показывают операто¬
ры Люмьеров? Плац, стена, дамы ходят под белыми зонтиками, пролетка проеха¬
ла, какой-то франт в ней покрасовался, крутя ус... Конец. Или вот Нью-Йорк: ули¬
ца (где-то в районе 40-х улиц, в районе Бродвея), надземка грохочет, люди идут...
И все. Или вот Петербург. Кстати, замечательно снят Петербург. Камера установле¬
на где-то в саду, возле Невского, на повороте к Гостиному Двору. Пролетка проеха¬
ла, мужик прошел в поддевке и т. д. Это поразительно! С одной стороны, операторы
Люмьеров совершенно не видят мир как мир, означенный какими-то известны¬
ми достопримечательностями вроде Эйфелевой башни, с другой — даже если бы
они сняли Эйфелеву башню, их фильм пользовался бы меньшим успехом у зри¬
телей, потому что Эйфелева башня - объект статичный. И какой-нибудь там Мед¬
ный Всадник тоже статичен, а братья Люмьер и их операторы (и вообще все раннее
кино!) были увлечены идеей движения. Предкамерного движения. Если вы посмо¬
трите ранние киносъемки, любые, то обратите внимание на то, что оператор ставит
камеру так, чтобы в кадр попадало как можно больше движения... Почему, скажем,
в Нью-Йорке выбирается такая точка съемки, откуда видны два яруса движения?
Камера всегда и всюду устанавливается так, чтобы в кадре было как можно больше
траекторий различного движения. Потому что идея кинематографа - буквально —
это все-таки идея движущегося изображения. Любое туристское место статично,
любое живое место динамично. Поэтому выбирается живое место только для того,
чтобы воплотить категорию движения.
Пройдет несколько десятилетий, и в начале 60-х годов Энди Уорхол снимет
свою картину Эмпайр Стейт Билдинг. Картина очень любопытна, хотя смотреть
ее не обязательно, потому что все ее шесть часов исчерпываются тем, что показы¬
вается верхушка этого нью-йоркского небоскреба. Но как точку съемки выбирает
Энди Уорхол? Он показывает Эмпайр Стейт Билдинг так, что нижней части здания
как бы нет — ее не видно. Виден только верх, который абсолютно статичен. То есть
из кадра изгоняется любой намек на движение, столь любезное и близкое сердцу
569
Кино на ощупь
Эмпайр Стейт Билдинг. Реж. Энди Уорхол. 1964
люмьеровских операторов. Потому что для Уорхола важна статичная картинка, ему
важно приблизить время просмотра фильма, большое время, все эти шесть часов,
к равному по времени созерцанию туристской открытки. И именно поэтому Уор¬
хол впервые показывает как бы воплощенную, не опосредованную по касатель¬
ной, не отрефлексированную иными художественными средствами, не описанную
абсолютно онтологическую категорию киносмерти. Потому что смерть - это ре¬
альное время экрана. Реальное время экрана — это как бы реальное время смер¬
ти, о чем впервые задумался Жан Кокто и о чем все время тяжело и долго думает
Александр Николаевич Сокуров. Понимаете?.. Время — механическое, тяжелое вре¬
мя экрана — это время физического небытия. «Кино снимает смерть за работой», -
говорил Жан Кокто. И, по-моему, Сокуров это знает.
Вот, собственно, произнесены два важных понятия: время и пространство.
Все мы с вами знаем, что в кино время существует в формах пространства. Это ба¬
зовый закон киноэстетики. Второй вопрос: как существует само пространство? По¬
началу, как я пытался вам сейчас проиллюстрировать, оно существует исключи¬
тельно на уровне некой внутренней буржуазной революции изображения. Человек
пытается создать себе некое комфортное зрелище, которое так или иначе отвеча¬
ет его собственным представлениям о мире. Я думаю, что зрители ранних кино¬
театров вполне разделяли ханжеское желание присутствовать на собственных
570
1997
похоронах. Потому что видеть мир, как бы отторженный от тебя, — это удивитель¬
но упоительное зрелище. Мы сейчас к этому привыкли, но, представляете, како¬
во это было в конце XIX века! Существует даже такая анекдотическая легенда: ко¬
гда Люмьеры увидели, что зрителей на их сеансах стало как-то меньше, они просто
выгоняли оператора с незаряженной камерой на бульвар, тот стоял среди флани¬
рующей публики и просто впустую крутил ручку. Люди считали, что они попали
в объектив, и вечером валом валили посмотреть себя на киноэкране. Себя они там
не видели, но назавтра трюк срабатывал снова, потому что желание увидеть само¬
го себя издалека очень важно и отвечает, как ни странно, каким-то базовым чело¬
веческим свойствам.
Как здесь все-таки выпутываться? Получается, что поначалу пространствен¬
ные характеристики кинокадра так или иначе отвечали навыку созерцания изо¬
бразительных искусств. Юрий Цивьян, автор книги о раннем кинематографе,
опровергает самый, пожалуй, укоренившийся миф кинематографа, согласно ко¬
торому зрители первого киносеанса в ужасе вскакивали и бежали, когда видели
люмьеровское Прибытие поезда, потому что им казалось, что локомотив прорвет
полотно экрана, въедет в зал и всех передавит. Цивьян доказывает, что такого быть
не могло. По одной простой причине: зрители раннего кинематографа не чита¬
ют третье измерение экрана, они не читают глубинную проекцию. Для нас с вами
люмьеровский поезд является нормой. Кстати, Цивьян приводит остроумный при¬
мер с мультипликационными фильмами, особенно с современными американски¬
ми, которые все целиком построены на спекуляции этой как бы глубиной. Они же
все построены на глубинном кадре. Ведь когда мы видим рисованного человечка,
который к нам приближается и по мере приближения увеличивается, мы забыва¬
ем, что он нарисованный и что тут всего лишь идеально подложены рисунки. Нам
кажется, что действительно существует глубинное рисованное изображение. Со¬
ответственно, когда к перрону приходит люмьеровский поезд, зрители не воспри¬
нимают его пришедшим из оттуда сюда и идущим отсюда туда, они воспринима¬
ют его всего лишь движущимся в двухмерной плоскости. Не знаю, правда это или
нет, теория эта довольно остроумна, но насколько она доказана, сказать довольно
сложно. В результате все-таки существует еще одна оппозиция, очень содержатель¬
ная, как мне кажется, для первой трети истории кино. Это оппозиция глубинного
и плоского кинокадра.
Луис Бунюэль в своей книжке «Мой последний вздох» вспоминает, что его са¬
мое шоковое киновпечатление было в момент просмотра фильма Жоржа Мель-
еса Невероятно увеличивающаяся голова. Заметьте, это Бунюэль, который снял
самый страшный, по общепринятому мнению, кадр в истории кинематографа —
я имею в виду первый кадр Андалузского пса. Оказывается, травму он получил, ко¬
гда смотрел фильм Мельеса. Тот самый фильм, в котором третье измерение экрана
571
Кино на ощупь
Невероятно увеличивающаяся голова. Реж. Жорж Мельес. 1901
действительно используется как трюковое: посредством наезда камеры или покад¬
ровой съемки голова увеличивается, и зритель не читает увеличение предмета как
выход его из глубины на передний план, он воспринимает это как немотивирован¬
ное увеличение изображения. Но уже в 30-е годы Рудольф Арнхейм пишет свое
исследование о кино, где приводит в качестве примера кадр из фильма Вальте¬
ра Рутмана Берлин, симфония большого города - кадр с трамваями, которые дви¬
жутся в точно такой же проекции — как бы в подчеркнуто уплощенной. Арнхейм
пишет, что в этом есть двоякий иллюзионистский эффект: потому что мы можем
прочесть это движение и как движение, прилегающее к экранной плоскости, и как
движение, осуществляемое внутри этого куба изображения.
Сложившийся за много веков человеческой истории навык изобразитель¬
ных искусств таков: плоская перспектива взывает к имперсональному зрению,
глубинная перспектива — к зрению персональному. Это очень просто: есть ико¬
на и есть произведение Леонардо да Винчи. Не случайно, когда Базен обосновыва¬
ет свою концепцию плана-эпизода, он пишет о живописи Высокого Возрождения,
где разрешающая способность человеческого взгляда становится как бы един¬
ственным мерилом перспективы. То есть, верх, низ, правое, левое, мужское, жен¬
ское и все прочее является как бы топологией изображения (понятно, что изо¬
бражение иерархическое - это божественное изображение). А в том трехмерном
572
1997
Берлин, симфония большого города. Реж. Вальтер Рутман. 1927
перспективном изображении, человеческом изображении, содержательными ста¬
новятся совершенно другие вещи. Леонардо да Винчи изобретает эффект сфума-
то, эффект свето-воздушной перспективы, таким образом, живопись становится
светской и не несет больше религиозную функцию, а если и несет, то уже на уров¬
не секуляризации, т. е. внесения этого в какой-то светский обиход.
То же самое происходит с кинематографом. При этом любопытно, что посто¬
янно происходят смены или путаницы между персональным и имперсональным
зрением внутри вот этого пространственного куба... Я хочу обратить ваше вни¬
мание вот на что. Очевидно, что каждое из этих пространственных решений кад¬
ра закреплено за совершенно определенными мировоззренческими и идеологи¬
ческими координатами. Безусловно, что плоское изображение, во всяком случае,
уплощенное изображение, есть тот способ изображения, который манипулирует
сознанием, стремящимся к имперсональному знаменателю. Назовем это условно
тоталитарной культурой. Все тоталитарное кино как бы уплощено в изображении.
Все оно как бы иконографично. А чем свободнее кино, тем оно глубиннее.
Неслучайно теория авторского кино связана с углублением изображения
и новой степенью свободы, которая дается зрителю. Зритель видит все, что пред¬
лагает ему так называемый «объектив 50», который абсолютно приближен к разре¬
шающей способности человеческого глаза. Недаром Жан Ренуар (чей рейтинг, что
573
Кино на ощупь
Правила игры. Реж. Жан Ренуар. 1939
характерно, стремительно повышается в международных опросах, где называют
лучшие фильмы всех времен и народов; раньше считалось, что лучшие фильмы -
Гражданин Кейн и Броненосец «Потемкин»; сейчас они перешли в конец списка,
а на первые места выходят ренуаровские фильмы — Правила игры и Великая иллю¬
зия) как-то обронит две примечательные фразы, которые, по-моему, целиком вы¬
ражают его совершенно замечательное творчество. Он говорил: «Я никто, я просто
француз, живущий среди поколения французов, которые много веков пили крас¬
ное вино и ели сыр «Бри». И второе: «Я всегда ставлю свою камеру на высоту чело¬
веческого роста, на высоту человеческого взгляда». Это Жан Ренуар, который для
того, чтобы не делать лишнего монтажного стыка (я имею в виду кадр в Правилах
игры), снес стену в павильоне — чтобы камера, когда она катится, не делала лиш¬
него монтажного скачка, чтобы зритель чувствовал себя присутствующим внутри
этой реальности. С другой стороны, существовал Сергей Михайлович Эйзенштейн,
который все свои ранние теоретические работы посвящает одной проблеме: как
сделать кадр наиболее удобным для монтажа. «Удобомонтажным» - подходящее
слово. Рассуждая о монтаже по доминантам — цветовым, ритмическим и прочим,
Эйзенштейн приходит к концепции плоского кадра. В самом деле: какой кадр про¬
ще смонтировать с другим кадром - плоский или глубинный? Конечно, плоский.
Потому что в плоском кадре есть некие ориентиры, доминанты. Получается некий
574
1997
процесс, получается некая дополнительная, ритмическая, то есть шаманская, ипо¬
стась. А глубинный кадр очень трудно смонтировать. Глубинный кадр в основном
поддержан внутренним монтажом. Куда камера поехала, туда и поехала.
Вот это, видимо, одна из самых странных оппозиций для кинематографа.
Я имею в виду именно тот кинематограф, который мы оговорили, — как бы языко¬
вой кинематограф. Кинематограф, еще не уступивший окончательно места аудио¬
визуальной культуре. Хотя тут много о чем можно было бы говорить. Что такое,
к примеру, современный видеоклип, как не эйзенштейновский монтаж аттракцио¬
нов?! Но это уже тема для отдельного разговора.
И вот смотрите, что происходит. Скажем, кинематографический феномен не¬
мецкого киноэкспрессионизма выводит нас на одно любопытное размышление по
этому поводу. Простейший вопрос: чем отличается художник-импрессионист (я
пока говорю не о кинематографистах, а о живописцах) от художника-экспрессио¬
ниста? Вопрос вроде бы праздный. Они настолько состыкованы во времени и на¬
столько близки в общей партитуре художественного процесса XX столетия, что
вроде бы разница не особенно велика. Вместе с тем это совершенно противопо¬
ложные явления. Художник-импрессионист очень доверяет себе, постоянно стре¬
мится выплеснуть свое знание о мире, стремится зафиксировать себя в окружаю¬
щей действительности. И вследствие этого приходит к пастозному мазку, приходит
к плоти живописи. Художник-экспрессионист — это мистически озабоченный ху¬
дожник, который стремится не столько выразить себя, сколько найти ту самую,
астральную, каббалистическую, абсолютно имперсональную структуру. Не слу¬
чайно экспрессионизм как течение рождается на стыке двух культур: российской
и германской. Василий Кандинский приезжает в Германию, образует первое экс¬
прессионистское художественное объединение «Синий всадник». Две культуры
скрещиваются в этом художественном течении: глубоко метафизически озабочен¬
ная Россия и глубоко мистическая нордическая Германия. Образуется экспрессио¬
низм, который подогревается Первой мировой войной, вышибившей, как пробку
из бутылки, все устойчивые нормативы, все социальные табу...
В изобразительном искусстве экспрессионизма довлеет линия. Рисунок. Те
силы, которые реально управляют миром, задумали мир как контур. Материаль¬
ным и красочным он стал потом. В то время как для художника-импрессиониста
рисунок вообще не существует, существует только красочная масса. Паста. Крас¬
ки, пуантилизм, точечные мазки, которые делают мир абсолютно произвольным
для человеческого взгляда. Художник-экспрессионист, даже работая в цвете, все¬
гда сохраняет категорию графики на живописном полотне. Вспомните, почти все
экспрессионистские работы сделаны с черными обводками. Вспомните, скажем,
совершенно поразительные картины Василия Кандинского экспрессионистского
периода, когда при всем красочном хаосе через всю картину проложены этакие
575
Кино на ощупь
Москва I. Худ. Василий Кандинский. 1916
черные жгуты — как удары, как какие-то шрамы, через которые сквозит какое-то
иное измерение. Не случайно любой художник-экспрессионист страшно озабочен
каббалой. Он озабочен каббалистическим учением как способом вступать в кон¬
такт с некими управляющими инобытными силами. Важно войти с ними в кон¬
такт, а там уже как получится: либо я ими управляю, либо они мной управляют, но,
во всяком случае, иная сторона бытия как бы открывается. Не случайно художник-
экспрессионист приходит в кино как первый и главный. Кабинет доктора Кали¬
гари — эта картина родилась на очевидном перекрестке живописи и кинематогра¬
фического производства, потому что она целиком нарисована. (Вы, кстати, знаете,
576
1997
что Кабинет доктора Калигари вначале предложили поставить Фрицу Лангу, но
он отказался? Представляете, насколько по-другому пошла бы история кино, если
бы Кабинет доктора Калигари снял Фриц Ланг?) Любопытно, что Лотта Эйснер
в своей книжке «Демонический экран» пишет, что примерно в то же время, ко¬
гда Роберт Вине снимал Кабинет доктора Калигари, Абель Ганс во Франции сни¬
мал одну из первых французских авангардистских картин Безумие доктора Тюба.
И там и здесь действие показано глазами сумасшедшего. Кракауэра вы наверняка
читали и помните выразительный пассаж по поводу журналиста, который хотел
оправдать в глазах общественного мнения эту картину следующим образом: «Ну,
позвольте! — говорил он. — Ведь все, что мы видим, мы видим глазами сумасшедше¬
го, - все эти вывихнутые улицы, эти трубы в форме параграфа и т. д.». Ничего по¬
добного, замечает Кракауэр: если бы мы видели все это глазами сумасшедшего, то
самого сумасшедшего мы видели бы нормальными глазами. Вот вам еще один па¬
радокс кинематографического восприятия, о котором впоследствии, кстати, напи¬
шет Ролан Барт в связи с дрейеровским Вампиром: когда в знаменитой сцене герой
заглядывает в гроб и видит там себя, лежащего с открытыми глазами. Кто на кого
смотрит? Мы, зрители, не можем смотреть глазами мертвеца. Здесь предел, у ко¬
торого кончается кинематографическая репрезентация. Кракауэр, соответственно,
имеет в виду то же самое: если мы видим вывихнутый мир глазами сумасшедшего,
то самого сумасшедшего мы воспринимаем нормально. Нет, мы видим все вот та¬
ким искаженным и перекореженным. В Безумии доктора Тюба тоже все дается гла¬
зами сумасшедшего. Но!.. Если Роберт Вине абсолютно подготавливает весь экран¬
ный мир и камеру ставит как абсолютный, нейтральный регистратор того, что уже
есть, то Абель Ганс, преследующий ту же задачу, идет на ярмарку, в комнату сме¬
ха, скупает там кривые зеркала и снимает все происходящее через кривые зеркала,
используя их как искажающую оптику, которой он в то время просто еще не знал.
Соответственно, вот вам два способа делать образ мира. Либо подготовить все
и снять статичной камерой, - это, если хотите, Тарковский. Либо сделать все вот
так, через искажающий фактор кинокамеры, - это Сокуров. Вот вам, так сказать,
разведение по базовой оппозиции двух антагонистов, двух художников, которых
до сих пор еще никто не может идентифицировать в их собственном качестве. Ибо
Тарковский как бы на стороне жизни, потому что он снимает все, что есть. А Со¬
куров - как бы на другой стороне, отсюда его странное, «сделанное» изображение;
в конце концов, Сокуров целиком уходит в изображение. Он уже начинает радо¬
ваться пленкам как химическим составам.
Вот не менее важная оппозиция, вполне мифологическая для кинематографа,
потому что она затрагивает опять-таки существенную проблему: проблему зре¬
ния персонального и имперсонального. Когда кинематографисты-экспрессиони¬
сты начинают снимать, они ведь, собственно, поле экрана используют как поле
577
Кино на ощупь
графического листа. Не случайно экспрессионисты впервые — и это каноническая
страница в истории кино — начинают работать с экспрессивными выразительными
возможностями светотени, используя их как черное и белое, как заливку тушью по
белому листу бумаги.
В связи со всем сказанным я хотел бы отослать вас к статье Михаила Ямполь¬
ского «О глубине кадра», опубликованной в сборнике «Что такое язык кино». Конеч¬
но, всегда в таких красивых, стройных теориях, как та, что он предложил, имеется
некий казус. Скажем, когда мы говорим о том, что плоское изображение есть при¬
знак тоталитарного сознания, а движущееся глубинное изображение есть признак,
наоборот, демократии и свободы, то можно возразить: помилуйте, а Великий гра¬
жданин Фридриха Эрмлера? Ведь он целиком снят на длинных проездах камеры.
Или, например, экспрессионистский фильм Фридриха Вильгельма Мурнау Носфе¬
рату, снятый как будто просто 8-миллиметровой камерой, с абсолютно статичным
фокусным расстоянием. Ямпольский как раз об этом и пишет. Он пишет, что это
один из самых странных фильмов, который, имея весь набор экспрессионистского
этикета, работает, тем не менее, с глубинным изображением. Я хочу сейчас показать
вам крохотный кусочек из Мурнау, который, по-моему, убедит вас в том, что я прав.
Первое утро героя в замке Носферату. (Показывает фрагмент фильма.) По¬
смотрите, что делает Мурнау. Он строит глубинный эпизод и вдруг, когда герой
доходит до самого конца этого пространственного куба, Мурнау превращает его
в контур, в тень, он делает из него то же самое, что сделал Конрад Фейдт из сво¬
ей сомнамбулы Чезаре в Кабинете доктора Калигари, когда он продемонстриро¬
вал идеал экспрессионистской актерской техники. Персонаж, который постоянно
стремится превратиться в какой-то иероглиф, который завален в глазах и на гу¬
бах черной краской, постоянно стремится найти какую-то фиксированную позу.
Не случайно самое радикальное ответвление немецкого экспрессионизма - это от¬
ветвление Роберта Вине, Рихтера, Викинга Эггелинга и того же молодого Руттма-
на. Потому что это попытка создания движущегося знакового письма - абсолютно
каббалистическое, так сказать, начинание, вместе с тем вытекающее из всей кон¬
цепции немецкого экспрессионизма.
Я показал вам этот кадр именно потому, что, мне кажется, Мурнау работает
с этими категориями гораздо более изощренно, нежели я пытаюсь вам втолковать.
Потому что Мурнау, понимая такую природу кинематографического изображения,
использует ее в художественных целях. Если вы заметили, и в предыдущих двух-
трех эпизодах его фильма есть игра пространством глубинным и пространством
уплощенным. Есть, например, совершенно непонятный кадр, когда по направле¬
нию взгляда героя мы вдруг видим совершенно пустой коридор. Никакой инфор¬
мации он не несет. Но, собственно говоря, класс режиссуры (Мурнау, безуслов¬
но, классный режиссер!) состоит в том, чтобы вместить максимум информации
578
1997
Кабинет доктора Калигари. Реж. Роберт Вине. 1919 // Безумие доктора Тюба. Реж. Абель Ганс. 1915
579
Кино на ощупь
Носферату - симфония ужаса. Реж. Фридрих Вильгельм Мурнау. 1922
580
1997
в минимальную единицу времени. Он использует секунду для того, чтобы пока¬
зать вроде бы незначащий кадр. Вместе с тем, динамика плоского пространства,
имперсонального пространства, в которое попал этот герой, и динамика, в общем,
вполне обжитого глубинного пространства составляет, если угодно, тот визуаль¬
ный саспенс, который существует в этой сцене. И вот, выйдя ранним солнечным
утром из ворот, герой в последний момент - как напоминание, как удар колокола -
превращается вот в такую странную тантамореску — в странную черную фигуру.
Мне кажется, это достаточно убедительный пример для демонстрации возможно¬
стей экспрессионистского кодекса.
В этом смысле любопытен, например, персонажный мир немецких киностра¬
хов. Известно, что в XX веке существуют три архетипа ужасного. Причем каждый
из них имеет литературного прототипа. Первый - Дракула: это страх перед импер-
сональным злом, которое необоримо обычными человеческими способами. Вто¬
рой — Франкенштейн: создание, вышедшее из-под контроля создателя. И наконец -
Джекил и Хайд: это страх человека перед собственной непознанной и в какой-то
момент отчуждающейся природой. Каждый из этих страхов имеет свое выражение
и в романтической поэтике, и в иных формах человеческой культуры. И обратите
внимание, что на каждом этапе киноистории все эти три персонажа объединяют¬
ся. Они объединяются в немецком экспрессионизме, они объединяются в Амери¬
ке времен Великой Депрессии в начале 30-х годов, когда один за другим выхо¬
дят на экраны Франкенштейн Джеймса Уэйла, Дракула Тода Браунинга и Доктор
Джекил и мистер Хайд Рубена Мамуляна. Они объединяются в 50-е годы в про¬
дукции английского кино, и, что любопытно, они объединяются в 90-е годы, ко¬
гда подряд выходят Дракула Френсиса Форда Копполы, Франкенштейн Кеннета
Бранаха и очередная версия Джекила и Хайда - Мэри Рейли Фрирза, в которой ба¬
зовая история остается та же самая. Любопытно другое: когда немецкий экспрес¬
сионизм работает с этими тремя архетипами, то вместо Франкенштейна он берет
Голема. Роль Франкенштейна - создания, вышедшего из-под контроля создателя,
в немецком экспрессионизме выполняет Голем. Абсолютно каббалистическая фи¬
гура, в том смысле, что она религиозно вполне определенна. Глиняный человек,
лишенный дара слова. В каббалистической практике слово имеет решающее зна¬
чение. Голем — это глиняная креатура, в которую вставляют свиток с волшебны¬
ми письменами; после этого она оживает и выходит из-под контроля. При том, что
Франкенштейн — это создание рук человеческих. Вспомните подзаголовок романа:
«Франкенштейн, или современный Прометей». Гордыня человека, дерзнувшего по¬
соревноваться с Богом. Типичное буржуазное мироощущение. Для немцев это бур¬
жуазное мироощущение, конечно, неприемлемо. Они глубоко тоталитарны, глубо¬
ко милитаристичны и поэтому — мистичны. И они поэтому вместо Франкенштейна
берут Голема — каббалистическую фигуру.
581
Кино на ощупь
Вспомните ленту Стеллана Рийе Пражский студент. Сюжетная основа в ней
вроде бы та же самая, хотя она опирается скорее на традиции немецкой романти¬
ческой литературы, на Шамиссо и его «Петера Шлемиля». Но!.. Здесь не человек
раздваивается, благодаря собственному опыту, как это канонизируется в Амери¬
ке 30-х годов, а лукавый посылает ему двойника. Любопытно, что когда амери¬
канцы занялись обработкой того же самого мифа, они изобрели еще и четвертый
тип ужасного: Кинг-Конга - взбунтовавшуюся природу. Для немцев это было бы
странно. Ну какая природа?! А для американцев, дикого, варварского народа, при¬
рода представляет собой источник некой опасности.
Мне кажется, что это очень важно. Потому что экспрессионистская поэтика
показывает способность изображения, сугубо пространственной характеристики
изображения, нести, с одной стороны, некий вполне массовый message, а с дру¬
гой —, эстетически вполне полноценный.
То же самое происходит, в общем, в советской России в 20-е годы, когда воз¬
никает монтажное кино. Вот простейший пример. Показывать я вам его не буду
Смешно показывать вам Броненосца «Потемкина» — вы его, наверное, наизусть
знаете. Есть такая знаменитая загадка Броненосца «Потемкина»: драма на тендере.
Помните, как она строится? Там есть один доминатный кадр. Помните? Нос броне¬
носца, вот здесь (рисует) стоят матросы, а вот сюда по приказу командира корабля
расстрельная команда выводит зачинщиков бунта, которых накрывают брезентом.
И это один из самых главных казусов эйзенштейновского Броненосца..., поскольку
на русском флоте никогда не расстреливали таким образом, под брезентом.
Почему Эйзенштейн, тем не менее, строит эту сцену именно так? Потом он
напишет, что Гриффиту, мол, неведомы тропы, неведомы переносные значения
кинообразов. Эйзенштейн понимает силу гриффитовского монтажа, но, когда
в Нетерпимости мы постоянно видим женщину, которая качает ногой колыбель,
то, в отличие от Михаила Ямпольского, который увидел в этом целый пласт интер¬
текстуальных значений, зритель, по мнению Эйзенштейна, не видел там ничего,
и он сам тоже ничего не видел. Для него это осталось просто женщиной, которая
ногой качает люльку. Эйзенштейн задумывается о том, как сделать абсолютно по¬
добный, аутентичный экранный образ собственно образом, как передать ему пе¬
реносное значение. В чем, собственно, и заключается величайшая заслуга Сергея
Михайловича Эйзенштейна перед кинокультурой в частности и мировой культу¬
рой вообще. В том, что он был одним из первых и главных создателей переносных
значений образов. Какими методами он этого добивался, называл он это «интел¬
лектуальным монтажом», «вертикальным монтажом», «монтажом аттракционов»
или «монтажом по доминантам» - это уже другое дело. Он все время пытался про¬
растить непосредственный визуальный, и очень эффектный, в этом смысле, ки¬
нообраз вверх и вниз, в сферу, так сказать, интеллектуального пафоса и в сферу
582
1997
Стачка. Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925 // Броненосец «Потемкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925
583
Кино на ощупь
абсолютно подсознательных, бесконтрольных человеческих реакций. Поэтому
для Эйзенштейна, скажем, понятия «мужское» и «женское» — это одни из базовых
понятий кино. Не потому, что он как-то особенно занимается именно этим, а по¬
тому, что он понимает, что пафос можно вызвать методом схождения прогрес¬
сивных оппозиций. И все насилие в фильмах Эйзенштейна, очень классово окра¬
шенное, всегда носит характер столкновения мужского и женского. И, скажем, вот
этот кадр — абсолютный пример того, как, по Эйзенштейну, воплощается концеп¬
ция мужского и женского как подоплека классовой битвы. Обратите внимание, что
«наши» у Эйзенштейна — всегда страдательное начало. Классово правые - у него
всегда начало страдательное. У него все время избивают человеческие толпы.
Даже в Александре Невском, в двух самых пафосных сценах: когда тевтонские ры¬
цари идут на бедных псковичей и колют копьями, и когда наша дружина налета¬
ет на образованное тевтонским войском каре в форме «свиньи» и откатывается на¬
зад, оставляя, словно хлебные крошечки, покойников на белом снегу вокруг белой
«свиньи»... Обратите внимание на то, что у Эйзенштейна в насилии всегда посре-
дует ребенок. В Стачке, когда казаки уже готовы броситься на рабочих, наступа¬
ет страшная пауза оцепенения: с одной стороны — стачечники, которые уже заве¬
дены, с другой стороны — казаки, которые не знают, что делать. И вдруг ребенок
роняет мячик под ноги казацкой лошади, бежит за ним, мать бросается за ребен¬
ком, ее хлещут нагайкой. Избиение начинается. В Броненосце «Потемкине» - зна¬
менитая коляска на одесской лестнице между цепочкой солдат с ружьями и рас¬
стреливаемой толпой.
Вернемся к драме на тендере. Собственно, здесь перед нами классическая
композиция, использующая иерархические свойства плоского изображения. Нос
корабля скадрирован так, а не по-другому, я думаю, очень сознательно. Потому
что возникает арочная композиция, композиция, которая внятно отсылает к са¬
кральному сюжету. Справа экзекуторская команда. Помните, как Эйзенштейн по¬
казывает экзекуторскую команду? Очень быстренько и тенями: длинные-длинные
тени винтовок по корабельной палубе. Абсолютно фаллическая символика. Для
Эйзенштейна, который внимательно изучал труды по первобытному мышлению,
мужское — это структурированное, наступающее, агрессивное. И эта странная,
бесформенная, копошащаяся под брезентом масса. Понятно, почему он накрыл их
брезентом: потому что ему нужно было создать абсолютно бесформенный стра¬
дательный образ. Точно так же толпа по одесской лестнице скатывается какой-то
очень неопрятной массой. Точно так же в Александре Невском, когда русская дру¬
жина нападает на каре, она тоже рассыпается какими-то бесформенными фраг¬
ментами. Вот какова эйзенштейновская трактовка плоского пространства. Оно
абсолютно определенно. И когда мы читаем титр: «Дрогнули винтовки», мы пони¬
маем, что Эйзенштейн шифрует в этой сцене. С одной стороны, образ выходит на
584
1997
Броненосец «Потемкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925
определенную сакральную высоту (в смысле пафоса классовой ненависти), с дру¬
гой - опускается на пралогический уровень ощущений столкновения мужского
и женского — когда мы присутствуем чуть ли не при акте изнасилования. Вот так
Эйзенштейн шифрует эту драму на тендере.
Надо сказать, что многое из того, что происходило в советском авангарде 20-х
годов, было взято, конечно, в качестве имперского орнамента. И очевидно, что
многие построения советских фильмов 30-х годов, золотого века сталинского им¬
перского стиля, сделаны с учетом эстетики 20-х. То же наблюдалось, между про¬
чим, и в Германии. Кракауэр совершенно справедливо указал на то, что вся мрач¬
ная символика нацистских парадов вышла из симметрии Нибелунгов Фрица Ланга.
Это, кстати, тоже очень показательно. Ланг снимает как будто абсолютно авангар¬
дистское кино, где интеллектуал заигрывает с эпосом крови и почвы, показывая
глобальную симметрию жизни. Потом он это делает и в Метрополисе. И вдруг ока¬
зывается, что Метрополис — это любимый фильм Гитлера. А потом оказывается,
что нацистские парады действительно во многом повторяют ту стандартную на¬
резку массовки, которую видим у Ланга. Понятно, почему. Власть обожает сто¬
ять над людьми и смотреть, как нарезанный ровными квадратами народ перед ней
марширует. У Ланга это имеет исходно-эпическое значение, а после это уже входит
в идеологический обиход Третьего Рейха.
585
Кино на ощупь
Гражданин Кейн. Реж. Орсон Уэллс. 1941
586
1997
Я думаю, что именно в 30-е годы складываются три пространственные ва¬
риации киноизображения. Первую я уже упомянул: это французская. Франция
в это время мало того, что переживает всплеск гуманизма, она еще переживает
и всплеск социального демократизма. И во французском кино в это время про¬
сматриваются соответствующие этому характеристики изображения. Я думаю,
что главная фигура в этом смысле - именно Ренуар, потому что его глубинное
изображение может считаться каноническим для 30-х годов, для демократическо¬
го мироощущения. Вторая пространственная вариация — это, конечно, советская.
Впрочем, и немецкая. В начале перестройки было очень модным устраивать парал¬
лельные ретроспективы советского и немецкого кино 30-х годов с целью выявить
их идеологическое родство. Эти ретроспективы ничего не дали, потому что выяс¬
нилась полная непохожесть. Потому что наше кино гораздо круче, чем немецкое.
Немцев, как заметил Олег Ковалов (и я с ним в этом согласен), искусила слишком
большая культура. Воспитанные немецким экспрессионизмом, они были слишком
искушены в художественном отношении и не могли делать тот абсолютно варвар¬
ский кинематограф, который делали в 30-е годы мы.
Но есть еще и третья модель, хотя, вполне возможно, что я ее выдумал. Про¬
верим. Я вам сейчас покажу небольшой фрагмент Гражданина Кейна, а потом мы
прервемся и пойдем пить кофе. И если вы со мной согласитесь, вы вернетесь после
того, как выпьете кофе, а если нет, то, соответственно, не вернетесь, вот вам и есте¬
ственный отбор аудитории.
Есть версия, скрепленная авторитетом Андре Базена, согласно которой од¬
ним из первых кинорежиссеров, которые использовали разрешающие способно¬
сти глубинного кинокадра, глубинного мизанкадрирования (чтобы избежать слова
«мизансценирование»), был Орсон Уэллс, продемонстрировавший это, в частности,
в Гражданине Кейне. Съемки с такой точки, что захватывались потолки; так, что
видны несколько планов вглубь, и т. д. Все это, с легкой руки Базена, закрепилось
за Гражданином Кейном как одна из главных характеристик этого фильма и отча¬
сти даже определяет его место в истории кинематографа. Вот одна из самых зна¬
менитых сцен Гражданина Кейна, неоднократно описанная в литературе, - сцена
с мячиком. Классический пример глубинного мизансценирования, основанного на
движении камеры по оси, прилегающей к зрению. Для Базена это как бы абсолют¬
ный признак свободы изображения, когда зритель одновременно держит в поле
зрения все планы предлагаемой реальности. (Показывает фрагмент фильма.)
Всех, кто описывает эту сцену, совершенно сбивает один кадр — вот он. Это
как бы выход из последовательного движения камеры. (Повторяет эпизод еще
и еще раз, останавливая изображение в некоторых местах.) По нашим представ¬
лениям, это вполне классический пример глубинной раскадровки, глубинного
мизанкадрирования. Действительно, сбивает с толку вот эта крошечная врезка
587
Кино на ощупь
с вывеской. Ну зачем, в самом деле, показывать, куда именно попадает мальчик?
Не проще ли, спрашивается, поместить вывеску в сам кадр, чтобы она там на¬
личествовала. Вместе с тем, когда мальчик бросает снежок, мы видим адрес по¬
падания. Больше того, вся сцена начинается с панорамирования по надписи. Это
заставляет меня думать о том, что Уэллс предлагает здесь третью форму органи¬
зации кинопространства. Я бы условно назвал ее комиксом. По сравнению с ико¬
нографической пространственной организацией идеологически имперсональ-
ного кинематографа (немецкое и советское кино) и по сравнению с абсолютно
произвольным глубинным движением кинематографа демократической идеоло¬
гии (французское), Уэллс предлагает третий вариант — это комикс, который весь
построен как система неких шифров, только кадрирование происходит не парал¬
лельно, как это обычно бывает в комиксах, а в глубину. Если хотите совсем уж ми¬
стического объяснения всему этому, то, вполне возможно, что здесь сходятся ев¬
ропейское образование Уэллса и его американская культурная основа. Потому что
те надписи, которые возникают, - абсолютно комиксовые по логике. Те планы, из
которых строится этот короткий эпизод, - это абсолютно комиксовые картинки.
Что в общем рождает как бы третью кинематографическую культуру. Базен опи¬
сывает американское кино 30-х годов как абсолютно мягкое кинематографиче¬
ское повествование. Больше того, он считает, что применительно к американско¬
му кино 30-х годов уместно говорить уже не о монтаже, а о раскадровке. Базен
меняет термин «монтаж» на термин «раскадровка». И американское кино 30-х го¬
дов — это единственное кино, которому Базен и все его окружение, адепты «автор¬
ского кино», прощают склейку пленки. Потому что это делается действительно
настолько мягко и плавно — скажем, у Говарда Хоукса, у Уайлера, которого Базен
называет «янсенистом мизансцены», — что кажется, будто перед тобой непрерыв¬
ное изображение. А Уэллс предлагает, на самом деле, по-настоящему американ¬
ское изображение, которое становится актуальным только через много лет. По¬
тому что, собственно говоря, мы уже знаем: все, что привнесено в кинематограф
малым экраном - любым малым экраном, независимо от источника электронно¬
го импульса (это может быть видео, спутниковый канал, это может быть элемен¬
тарное эфирное телевидение — неважно), все равно маленький экран для вас - это
уже не окно в мир, это планшетка, рождающая концепцию уже не монтажа, а кол¬
лажа. В то время, как каждому известно ощущение, когда вы садитесь перед кино¬
экраном в первом ряду (а я надеюсь, что вы настоящие киноманы и садитесь все¬
гда в первом ряду, когда смотрите кино; и это нормально, потому что настоящий
киноман всегда садится в первом ряду, он как бы входит в экран; и даже если вы
сидите не в первом ряду, все равно вы всегда должны испытывать на себе это ощу¬
щение), границы экрана как бы раздвигаются, и вы входите внутрь, что, собствен¬
но, и было задумано великой ересью кинематографа как такового в начале века,
588
1997
когда появились эти три простейшие технические вещи: движение камеры, мон¬
таж и крупный план. И вы находитесь внутри изображения. Я, кстати, обратил
внимание на то (точнее, это не я обратил внимание, это статистика), что зрители
сейчас очень не любят садиться в первые ряды, сегодня предпочитают садиться
подальше. А в мое время первый ряд - это было «супер». Это было самое главное
для зрителя (кроме целующихся парочек, разумеется) — сидеть в первом ряду. Те¬
перь же стремятся сесть подальше, и никто не целуется — все смотрят на экран,
потому что привыкли к ощутимым границам кадра. Потому что привычнее сопо¬
ставлять внешние вещи. Вот это и есть, если угодно, уэллсовский монтаж в Гра-
жданине Кейне — монтаж по принципу комикса, а не по принципу чего-то такого,
что имеет некие текучие внутренние повествовательные связи. Это монтаж по не¬
ким внешним вещам.
Собственно говоря, основная концептуальная часть разговора исчерпана.
Дальше я мог бы вам показать несколько примеров в качестве того, как разные ре¬
жиссеры работают с пространственными характеристиками кадра.
Я хочу вам сейчас показать как иллюстрацию к тому, о чем говорил, корот¬
кометражный фильм Карла Теодора Дрейера Опоздавшие на паром и небольшой
фрагмент Причастия Бергмана. Материал этот выбран мною не случайно. Есть до¬
вольно любопытная и, наверное, опять-таки относящаяся к классически языково¬
му периоду кинематографа связь, которую я вам предлагаю в качестве (не основ¬
ной, конечно, а, может быть, вполне маргинальной) методологической отмычки.
Дело в том, что у всякого большого кинематографиста существует довольно четкая
взаимосвязь между общемировоззренческой, что ли, картиной мира и способа¬
ми его высказывания. У классиков непременно. Впрочем, что такое классик? Вай¬
да — классик, Куросава - классик... А Джим Джармуш - не классик? Да нет, тоже
классик — по одной простой причине, что и у него есть стройная картина мира.
У какого-нибудь другого режиссера нет картины мира, а вот у них есть. И соот¬
ветственно картине мира, как ее следствие - некий образный прием, на уровне
словаря. Не знаю, читали ли вы замечательную, совершенно сумасшедшую статью
Пазолини «Поэтическое кино». Она абсолютно не строгая, с точки зрения науки.
Больше того, в том же сборнике «Строение фильма», где она напечатана на русском
языке, имеется также статья какого-то унылого структуралиста, который просто
разбивает по пунктам все, что утверждает Пазолини. Пазолини пишет очень кра¬
сиво, он пишет о том, что в кино язык всякий раз создается снова. Это напомина¬
ет концепцию Антонена Арто или Мамардашвили. Потому что это они говорили,
что ни одна истина не существует в статике, она существует только в бесконеч¬
ном страдающем постижении. Соответственно, у каждого художника перед тем,
как он создает образ, сначала происходит накопление словаря. Известно, что стол,
описанный, скажем, Андреем Битовым, и стол, описанный Достоевским, — это два
589
Кино на ощупь
разных стола. Но в кино стол — это стол. Умберто Эко пишет: «В кино нельзя ска¬
зать «лошадь». В кино можно сказать: «белая лошадь, стоящая на зеленом лугу под
синим небом». Понимаете? В кино все очень конкретно. И как стол, снятый Ан¬
дреем Тарковским, отличить от стола, снятого Леонидом Менакером? Разница ко¬
лоссальная. Соответственно, для Пазолини каждый из этих столов - элемент ав¬
торского словаря. Слово «стол» всякий раз выдумывается режиссером заново. Нет
понятия «стол». Кино — антиплатоновское искусство, оно манипулирует зримым
бытием и только потом переходит к идее. Так связаны мировоззрение и словарь.
Словарь рождается в мировоззрении. Кто-то читает на тридцати языках и черпа¬
ет свой словарный запас из огромного объема томов, а кто-то знает лишь книжеч¬
ку «Жаргон современных хиппи». Понимаете? Но и те и другие снимают со сво¬
им словарем кино.
И третье, что очень важно иметь в виду и что особенно приятно рассматри¬
вать на примере Альфреда Хичкока: образный прием у настоящего режиссера
всегда подкреплен точно исполненной технической задачей. Потому что самый
выразительный образный прием, словарный прием, мерцающий в области миро¬
воззренческого начета режиссера, всегда начинается с техники.
Приведу еще один пример. Для меня, как для всякого ленинградца, очень бо¬
лезненна проблема «Тарковский - Сокуров». Ведь более непохожих режиссеров на
самом деле нет. Нет, конечно, сходство можно углядеть, если иметь в виду некое
духовное начало, которое на самом деле есть не что иное, как навык, сложивший¬
ся у российской разночинной интеллигенции еще в начале века. Навык этакого
партикулярного потребления искусства с идеями. Это времена Блока, «Снежной
маски», журфиксов, мелодекламации и т. д. Это, кстати, один из самых сильных
навыков отечественной интеллигенции, который до сих пор процветает. На этом
уровне — да, они сходятся. Оба очень сильно духовные. Но если рассматривать их
с точки зрения методологии, которую я вам предлагаю, обнаружится, что Тарков¬
ский и Сокуров - совершенно разные режиссеры. По одной простой причине - по
тому, как ставят камеру. Тарковский стремится монтировать как можно меньше.
В своих последних фильмах он вообще отказывается от монтажа. Я был совершен¬
но ошарашен в свое время сценой из Жертвоприношения, где мы видим дорогу,
и на ней показывается велосипедист: господин Александр едет к Марии. Мы видим
его вдалеке, он едет, едет, затем выезжает из кадра... Ну, по всем, так сказать, кано¬
нам нужно камеру развернуть и показать, как он поехал, но нет — камера остает¬
ся на месте и показывает опять дорогу, пока, наконец, мы не видим, как Александр
катит обратно. Тарковский старается не монтировать. Тарковский — режиссер, если
и не религиозно, так сказать, озабоченный, то, во всяком случае, ориентирован¬
ный на классическую картину мира, которая свидетельствует: мир не есть творе¬
ние рук человека. И, как замечательно написал Степун в одной из своих статей,
590
1997
которая называется «Театр и кино», это противопоказано прометеевской метафи¬
зике подлинно художественного фильма, потому что настоящее кино - промете¬
евское искусство. Оно дерзает нарушить тварный образ мира, о чем мы и говорили
предыдущие два часа. Правда, с разными задачами пытается оно это сделать. Так
вот, Тарковский не нарушает тварную картину мира, тогда как Сокуров нарушает
ее постоянно. В конце концов, Сокуров доходит до изображения, которое, в общем,
является отчасти его «Черным квадратом». Я имею в виду сцену из фильма Ка¬
мень. Если вы видели этот фильм, то должны помнить поразительную по физиоло¬
гическому эффекту сцену, когда персонаж, представляющий якобы Чехова, мате¬
риализовавшийся на минутку его дух, а, может быть, и сам Чехов, присаживается
на скамейку, идет снежок, светит фонарик, и постепенно лицо персонажа завали¬
вается вглубь изображения, — получается такой контур смерти. Лицо заваливает¬
ся, остается некий тварный странный мир. А лицо пропадает. Лицо - как бы вход¬
ное отверстие смерти в самом физическом материале фильма. Вот почему, толкуя
о пространстве, я все-таки говорю о конвенциональном начале киноизображения.
Вот Ингмар Бергман снимает Персону, в которой посредине сеанса рвется
пленка: героини настолько друг друга достают, что сама физическая основа филь¬
ма не выдерживает боли — рвется. Все. Это как бы «конец кино» для Бергмана.
После чего Бергман начинает снимать, извините, плохие фильмы. По-моему, не
лучшие свои фильмы. Когда он доходит до этого, он показывает, что физическая
материя фильма не способна выносить той боли, что надо выходить за пределы
конвенциональной природы киноизображения.
То же самое делает Энди Уорхол, который в течение шести часов показыва¬
ет нам Эмпайр Стейт Билдинг, показывает нам физическую смерть на экране. То
же самое делает Сокуров. И если Тарковский исключительно на стороне жизни, на
стороне классической, не ему принадлежащей картины мира, то Сокуров постоян¬
но ее мнет, ломает, постоянно проковыривает ее пальцем, смотрит, что там у нее
внутри... Более противоположных, повторяю, художников быть не может.
Естественно, что в качестве иллюстрации я выбрал произведения художников
первого типа. Давайте смотреть.
Картина Карла Теодора Дрейера Опоздавшие на паром сделана в 1948 году
по заказу норвежской госавтоинспекции. Это инструктивный ролик о том, что не
надо превышать скорость на дорогах. В общем, так называемая «заказуха». И вме¬
сте с тем одна из самых замечательных картин вообще в истории, во всяком слу¬
чае, в истории самого Дрейера (не знаю, как с историей мирового кино, может, там
есть и лучше). Суть происходящего в том, что герои опаздывают на паром и, пере¬
говорив с капитаном парома, узнают, что паром, который только что отошел от бе¬
рега, можно обогнать по суше и встретить на следующей станции. Такова завязка
фильма.
591
Кино на ощупь
(После просмотра.) Понятно, о чем фильм. Поспешишь - людей насмешишь.
И вот что интересно: усмешка этого странного водителя катафалка неизменно вы¬
зывает у аудитории смех. Сколько раз показываю эту картину, столько раз в этом
убеждаюсь.
Дрейер, глубоко религиозный художник, показывает нам ситуацию, в которой
человек целиком и полностью зависит от своего личного выбора, но фатум, кото¬
рый все время висит над ним, приводит его именно туда, а не в другое место. При
этом фильм сохраняет все функциональные черты. Действительно, посмотрев эту
картину, не захочется превышать скорость на дорогах.
Давайте теперь попробуем восстановить, что же мы видели.
Мы имеем тут четыре фиксированные точки зрения камеры по отношению
к объекту - к этому парню на мотоцикле. Которые, на мой взгляд, абсолютно от¬
вечают той самой триаде, которую я вам только что провозгласил: мировоззрен¬
ческая позиция художника, его образный мир и собственно технические средства
создания этого образного мира. Вот давайте вспомним, как кадрирует Дрейер мо¬
тоциклиста. С момента, когда они выезжают на шоссе, существуют четыре точки
зрения камеры на героя. Это вы вспомните, а я нарисую. Давайте вспомним, какие.
- Сбоку.
— Совершенно верно: сбоку. (Рисует.) Вот здесь дорога, вот мотоцикл. Еще?
— Фронтальная позиция, когда машина едет...
- Да. Либо фронтальная, либо сзади? Вот здесь вот дорога, а вот мотоцикл. Так,
дальше. Есть еще две.
- Спереди.
- А как спереди?
— А мы только фигуру мотоциклиста принимаем во внимание или и то, что сня¬
то камерой? Колесо, например...
- Правильно: есть план колеса (когда оно мчится по дороге), которое, кстати, со¬
вершенно плоское, и есть крупный план спидометра, о котором мы вообще гово¬
рить не будем. Это часы, они отсчитывают время действия. Символика тут доста¬
точно прозрачная, мы ее не учитываем.
Существует дорога, показываемая с точки зрения мотоциклиста вот так, и су¬
ществует дорога, опять-таки с точки зрения мотоциклиста, вот та, которая проно¬
сится мимо. Теперь посмотрите, какую поразительную вещь делает Дрейер. При¬
том простейшую. Создавая образ, он привлекает в союзники саму базовую природу
кинематографического движения. Идея Дрейера в том, что героям кажется, что
они движутся с невероятной скоростью к некой цели, тогда как на самом деле они
всего лишь приближаются к собственной смерти. Вот в чем пафос этой картины,
о чем она говорит. И Дрейер самой фактурой, самим движением и изображением
эту мысль все время проводит, как некий, если угодно, визуальный саспенс.
594
1997
Итак, всякий раз, когда мы видим реально движущееся пространство, мы ви¬
дим его глазами героев (за исключением трех случаев, о которых я скажу). Героям
кажется, что они движутся, мы видим летящее пространство их глазами, а на са¬
мом деле они стоят на месте. И достигается это элементарно — путем синхрониза¬
ции скорости автомобиля, на котором установлена камера, и скорости движения
мотоцикла. Если вы заметили, там есть один очень трогательный момент, когда мо¬
тоцикл, снятый фронтально, как бы виляет в сторону, и Дрейер в этот момент рез¬
ко обрезает кадр, потому что ему не надо, чтобы мотоциклист был виден реально
преодолевающим некое физическое пространство. Соответственно, вот этот кадр,
снятый либо спереди, либо сзади и в общем доминирующий в показе путешествия
героев, как раз и есть тот самый иллюзорный образ движения, когда им кажет¬
ся, что они движутся, тогда как они стоят на месте. Реальное их движение дается
в этом коротком фильме всего три раза. Первый раз, когда вся вереница мотоци¬
клистов выезжает с парома и, ведомая смертью, проезжает по улицам города. Мы
видим реальные фрагменты пространства, которые преодолевают все транспорт¬
ные средства. Второй раз мы видим героев сбоку, когда они подъезжают к бензо¬
колонке — когда есть шанс остановиться и подумать. И в третий раз мы видим их
сбоку на развилке дорог, когда уже мысль окончательно, предельно сформулиро¬
вана: машина поворачивает в одну сторону, герои едут вроде по другой дороге, по¬
том разворачиваются и поворачивают вслед за катафалком. Таким образом, Дрей¬
ер нам совершенно внятно показывает, что это реальное движение осуществляется
именно в эти моменты, все остальное - это полная иллюзия, которая заканчива¬
ется, сами видели чем. И как следствие - финальные кадры с двойной экспозици¬
ей воды, которые, в общем, повторяют образное строение фильма: за одним дви¬
жением всегда есть другое. Это, кстати, сквозной образ Дрейера: колокол и человек
на лодочке, в таком рыбацком капюшоне, который очень похож на капюшон смер¬
ти (прямо как у Фрица Ланга), он находит его еще в Вампире. Колокол и человек
на лодочке. Т. е. это не просто вода, на которой хоронят. Под одним изображени¬
ем воды существует некое второе течение воды - двойная экспозиция тут не слу¬
чайна. Короче говоря, при помощи нашей методики мы прочитали, что хотел ска¬
зать нам автор.
Теперь посмотрим другой фрагмент. Из Бергмана. Хотя Бергман относит¬
ся к той же церкви, что и Дрейер, вместе с тем, конечно, он еретик по сравне¬
нию с Дрейером, ортодоксально ориентированным художником. Бергман, конеч¬
но, одержим сомнениями, ересями. Я не случайно выбрал начало бергмановского
Причастия, в нем собраны, по сути, все мотивы бергмановских ересей. К тому
же очень важно, что действие тут происходит в церкви. Давайте посмотрим, как
Бергман создает некую драматургию без единого слова. Звучит лишь канониче¬
ский псалом. Играет орган. И ни одного слова. Посмотрим, как Бергман, подобно
595
Кино на ощупь
Дрейеру, создает некую визуальную драматургию за счет простейшей категории -
движения камеры. Вы все, конечно, уже смотрели Причастие, поэтому интригу
помните...
- Во ВГИКе его нет...
- Ну, ладно. Нам его показывали...
- Во ВГИКе нет Причастия. Безнадежно звучит... Раз вы картину видели, не име¬
ет смысла объяснять, какое отношение имеет эта пластическая экспозиция к даль¬
нейшему развитию конфликта. Перед нами усомнившийся священник, который
озабочен мирскими делами и который постигает веру через страдание.
Сцена решена, в общем, просто. Даже примитивно. Все, что связано с боже¬
ственным, с отправлением непосредственно функции священнослужителя, снято
в статике, а все, что связано с мирскими соблазнами и искушениями, так или ина¬
че чревато движением камеры. Статичное, очень уравновешенное, очень симме¬
тричное по композиции изображение внутри храма. Атрибуты церковного куль¬
та. И т. д., и т. д. Как только начинается что-то, связанное с мирскими соблазнами,
камера начинает двигаться. Причем обратите внимание: когда беременная Карин
не может подняться с колен, и камера сползает наискосок, тут же с другой сто¬
роны появляется героиня Ингрид Тулин и как бы уравновешивает нарушенную
было композицию кадра. То есть, статичная и очень уравновешенная композиция
здесь преобладает. Больше того. Я не случайно первую засечку (стоп-кадром) сде¬
лал на вроде бы незначимом моменте, когда, оделив телом Христовым всех прихо¬
жан, священник отходит назад. Посмотрите, насколько Бергман недогматично от¬
носится к приему. Конечно, камеру проще всего было бы оставить на месте, тупо
соблюдая принцип статики, коль скоро речь идет о прямых обязанностях служите¬
ля церкви. Но если бы камера осталась на месте, тогда герой вышел бы из кадра, он
создал бы лишнюю суету и излишнюю асимметрию кадра. Поэтому камера как бы
подпихивает героя до его канонического места внутри этой уравновешенной ком¬
позиции. Но когда пошел наезд - на лицо священника, на лицо его любовницы (как
выяснится в следующем эпизоде), когда торжественная, статичная композиция бу¬
дет сбита движущейся наискосок камерой, показав, что там одинокая фигура, на
которой мы закончили смотреть этот фрагмент, тогда-то мы и понимаем, что нам
здесь дана, по сути, вся экспозиция фильма.
При этом я не хочу, чтобы вы подумали, что я схоласт и все отсчитываю по ли¬
неечке. Конечно, если бы Бергман сделал только это, он был бы очень талантливым
режиссером, однако Бергман не просто талантливый режиссер, он гений, потому
что он еще показывает лица. И то, как он их показывает, то, как он находит индиви¬
дуальную лепку всякого человеческого лица, уже нельзя описать в категориях ка¬
кой-либо аналитической методики. Это уже та сфера образного переживания, ко¬
торую можно только чувствовать, но не анализировать.
596
1997
Карл Теодор Дрейер, безусловно, являет собой абсолютный образец метаотно¬
шения к кинематографу. Когда кино с его условностями, с его конвенциями, с его,
так сказать, привычными нормами восприятия является всего лишь медиумом для
показа чего-то иного, что художник видит собственными глазами. Думаю, что прав
Ямпольский, сказавший, что Дрейер первый, кто использует в качестве художе¬
ственного элемента рамку кадра. Если вы вспомните Страсти Жанны д'Арк, ко¬
гда Дрейер кадрирует лицо Жанны д’Арк так, что оно будто обрезано рамкой. Там
какие-то очень неприятные, очень неудобные ракурсы лица. Мы, зрители, просто
физически начинаем чувствовать боль, которую эта плоть испытывает в момент
допроса. Притом, что Дрейер, как вы знаете, трижды воплощал на экране слово как
таковое в Страстях Жанны д'Арк. Он ведь сделал немыслимую по тем временам
вещь. Вы знаете, что картина построена на реальных протоколах допросов Жанны
д’Арк. Так вот, он заставлял актеров учить эти длиннейшие тексты наизусть. Обыч¬
но актеры в немом кино гнали «рыбу». А здесь они говорили именно те самые сло¬
ва, и Дрейер очень бережно снимал их артикуляцию. Затем мы видели эти слова,
повторенные титром, а потом мы видели их записанными судейским чиновником.
Таким образом, мы наблюдали девальвацию слова: сначала оно произносится этим
мучающимся, болезненным лицом, испытывающим реальное страдание оттого,
что рамка кадра просто редуцирует его, просто плоть режет; потом мы видели это
слово в титре как некий информационный носитель, а после видели откровенно
ложное слово, занесенное в протокол фарисеем. Вот на чем построен конфликт
Страстей Жанны д'Арк. Это, конечно же, сделано в рамках авангардистской ху¬
дожественной идеологии, потому что авангард всегда стремится все расширить —
во все стороны. И для авангарда, в конце концов, не так важен собственно художе¬
ственный результат, сколько сама провокация на сопредельной территории между
искусством и жизнью. В любом случае важна антиконвенция. Вот если я сейчас
матом начну ругаться - это и будет настоящий авангардистский поступок, пото¬
му что между нами существует конвенция: вы меня слушаете третий час, а я бол¬
таю, стараясь придерживаться парламентской лексики. Но если я вдруг начал бы
говорить матом, вы были бы выбиты из состояния привычного восприятия. Ниче¬
го художественного это не дало бы, уверяю вас. Но при этом авангардистский эти¬
кет был бы соблюден. Дрейер отчасти делает то же самое. После Страстей Жанны
дАрк он возвращается к этой игре со словом - сначала в Вампире, затем в Слове,
потом он снимает такую вот короткометражку-коротышку, вроде бы откровенную
«заказуху», совершенный идиотизм, вместе с тем совершенно зрелое, законченное
художественное произведение, содержащее в себе полную картину мира.
Чуть ли не в том же году (или вскоре, я сейчас не помню точно) во Фран¬
ции выходит статья Александра Астрюка «Кинокамера - вечное перо» (позже она
у нас была переведена и напечатана). Эта статья подводит черту под тем периодом
597
Кино на ощупь
истории кинематографа, о котором мы с вами здесь толкуем. Астрюк пишет о том,
что кино должно стать антииероглифическим. Причем, как всегда в таких случа¬
ях, имеются в виду не какие-то культурологические озарения, а совершенно кон¬
кретные технологические обстоятельства окружающей жизни. Стали доступны на
бытовом уровне легкие портативные 8-миллиметровые кинокамеры. Любой чело¬
век мог снимать сам. Поэтому Астрюк и пишет, что отныне кинематографист боль¬
ше не будет связан тяжелой павильонной техникой. Действительно, киноаппарат
30-50-х годов тяжел, он ездит по рельсам, его просто так не носят. Новую же кино¬
камеру можно использовать, как вечное перо. Как способ создания не иероглифов,
а букв. А буквами можно написать все что угодно. Можно написать поваренную
книгу, можно написать «Критику чистого разума», можно донос на соседа, - все
равно что. Главное, что это буквы, которые складываются в слова. Астрюк, грубо
говоря, предвосхищал видео. Чем страшен человек с видеокамерой? Тем, что он
похож на безумного пулеметчика. Он бегает и снимает все что попадется. Он воз¬
никает как бы вне кода. Таким образом, Астрюк выискивает очень важную вещь
в стилистике 50-60-х годов, которая, собственно, заканчивает классическую исто¬
рию кино.
По моему глубокому убеждению, история кино кончается в 1963 году, после
этого начинаются, так сказать, «актуальные проблемы аудиовизуальных коммуни¬
каций». А история традиционного кино кончается в 1963 году, когда выходят 8 1/2
Феллини, как бы закрывая в принципе всю линию воплощения на экране того, что
казалось невоплотимым: я имею в виду внутренний монолог, который начинает¬
ся в теоретических разработках и сценарных проектах Эйзенштейна, развивается
в традиции французского нового романа и у Алена Рене. Феллини под всем этим
подводит черту. Он показывает мир абсолютно субъективных переживаний... То¬
гда же Уорхол снимает Эмпайр Стейт Билдинг, который показывает нам некон¬
венциональную категорию киносмерти. Смерть — это кино. Смерть в кино - обыч¬
но это конец сюжета и конец сыгранной истории. Мы знаем, что после того как
фильм отснят, герой встает и идет пить пиво. Но вот когда мы видим, как умира¬
ет сам фильм, когда сам фильм становится соучастником процесса, все кончается.
Само кино как форма кончается... И третье — это, конечно, Бергман, который про¬
сто рвет пленку во время сеанса. На этом действительно история кино если не кон¬
чается, то, во всяком случае, переходит в другой тип культуры.
Я начинал наш разговор с того, что изобретение движущейся фотографии, на¬
званное «кино», - это одно из самых главных искушений человечества. Когда мы
сейчас кричим, что кино от Бога, а видео — от дьявола, это все чушь собачья. Пото¬
му что любой шаг к оживлению не вами созданного мира - это, конечно, искуше¬
ние. И когда было создано кино, это был первый момент искушения, но после это¬
го кино все-таки мыслило еще какими-то кодами. Тяжелым аппаратом невозможно
598
1997
снимать все подряд. Классическое кино требовало какого-то иероглифического,
иконического письма. Когда камера стала легкой, и Годар с ней побежал по улице
вместе с Бельмондо, это была уже новая степень свободы. Действительно, На по¬
следнем дыхании — один из самых концептуальных фильмов XX века, потому что
он показывает, что можно все. В кино можно все. У Годара есть совершенно заме¬
чательная формула: «В кино можно все, главное - любовь». Если вы любите что-то
или кого-то, значит, можно снимать о чем угодно, все равно это никуда не спря¬
чешь. Но потом... Потом Бергман символически рвет пленку. И не только. Помни¬
те, в конце Персоны он делает совершенно жуткий коллаж, когда соединяются лица
двух людей, которые пришли в состояние экзистенциального отчаяния. Это уже не
просто предмет описания - это предмет самоописания фильма. Проходит еще пят¬
надцать-двадцать лет, и Вендерс снимает Париж, Техас, где, по сути, та же самая
экзистенциальная коллизия, и мы видим героев, которые тоже соприкасаются ли¬
цами, но на поверхности зеркала. Их лица очень добродушны. Мы понимаем, что
это начало мира и приятия, это начало вечного возвращения. Недаром метафора
постмодернизма - вечное возвращение. Но мы понимаем, что между этими людь¬
ми лежит третья плоскость, в данном случае — культура.
«Киноведческие записки». 1997. № 32. Конспект лекции Сергея Добротворского, прочитанной
им для студентов киноведческого факультета ВГИКа. Этим текстом открылась новая
рубрика журнала «Киноведческие записки» «Close Up. Историко-теоретический семинар».
В подготовке материала принимала участие студентка киноведческого факультета ВГИКа
И. Прохорова.
599
Кино на ощупь
Влюбленная рыбка
Роман Александра Беляева «Человек-амфибия» появился в 1928 году. Одноимен¬
ный фильм - тридцать четыре года спустя. Книга была написана в год официаль¬
ного рождения звукового кино. Фильм снимался в ту пору, когда съемочная техни¬
ка уже освоила морские глубины. Беляев сочинил печальную утопию, в которой
мотивы открытия новых жизненных пространств рифмовались с животрепещу¬
щей темой синтетического человека. Падкие до наживы обыватели тянули сильные
щупальца к открытию доктора Сальватора, лютовали спецслужбы, прогрессивный
журналист Ольсен бился о стену молчания как рыба об лед, а полурыба-получело¬
век, волшебный мутант Ихтиандр воплощал границы дерзания, которые оказались
куда шире границ общественной терпимости. Морской дьявол загибался в мире
желтого дьявола, пытливый разум пасовал перед капиталом, а наука - перед люд¬
ской низостью.
В конце 20-х особой романтикой наделялось позитивное знание социального
будущего. Начало 60-х было эпохой романтического настоящего. Толковали о «фи¬
зиках» и «лириках», о том, стоит ли, отправляясь на Марс, брать с собой веточку
сирени и цитировать наизусть строчку-другую Аполлинера. В моду входило все
хрупкое, контрастное, причудливое, как Пикассо на мещанских полях, транзистор
в тайге или объяснение в любви под сводами имперского метрополитена.
Беляевский сюжет должен был соблазнить 60-е уже тем, что разворачивает¬
ся в морских глубинах. Кораллы, ракушки, диковинные рыбы и водоросли, напол¬
няющие обитель безмолвия и покоя, вообще давно присмотрены в качестве кине¬
матографической натуры. Еще в 50-е годы продвинутая Европа, отложив Сартра
или Камю, ходила смотреть фильмы Жака-Ива Кусто, бывшего морского офицера,
навсегда завороженного подводными киноэкспедициями. В 1956 году, в самый ка¬
нун «новой волны», Кусто сорвал «Золотую пальмовую ветвь» - его объектив-бати¬
скаф явно подыгрывал экзистенциально ориентированному кинопроцессу.
У нас глубоководный культ перекликался с суровой поэзией одиночества. За
три года до Человека-амфибии на «Ленфильме» сняли Последний дюйм, в котором
двухсотпроцентно хемингуэевский Николай Крюков насмерть бился под водой
с акулами-людоедами. Еще через несколько лет воображение советских зрителей
навсегда поразит сцена подводных похорон из франко-итальянских Искателей
приключений, когда под переливчатый вокализ тело Джин Шимкус медленно опу¬
стится на дно. Так вплоть до конца 80-х, до Голубой бездны Люка Бессона, нырнув¬
шего отдохнуть на полпути из парижской подземки к американскому экшну.
600
1997
Человек-амфибия. Реж. Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев. 1962
Не менее экзотичной средой, чем облака или толща вод, для советского кино
была заграница. Конструируя ее, советское кино всегда садилось в лужу. Париж,
снятый во Львове, или Таллинн, загримированный под Берлин, неизменно выда¬
вали рукоделие и кустарщину. Человек-амфибия оказался в числе немногих филь¬
мов, где заграница получилась без поддавков и стильно. Южный портовый город,
темно-синее небо, яркое солнце и пыль, уличные жаровни и маленькие лавочки,
почти пахнущие с экрана ванилью, имбирем и табаком, не были потугами на ко¬
пию асфальтовых джунглей или тщетной попыткой подглядеть в щелочку желез¬
ного занавеса. Марсель, Алжир, Лиссабон? Может быть, Маракайбо или Джордж¬
таун? Или Касабланка? А вернее всего Зурбаган — столица мечты, призрачный
город, придуманный и нанесенный на карту 60-х Александром Грином.
В экранном варианте «Человека-амфибии» Грин как будто и впрямь пере¬
писал Беляева. И не только потому, что сыгравшая Гуттиэре Анастасия Вертин¬
ская за год до этого снялась в роли Ассоль из Алых парусов (еще через два года
она станет Офелией в козинцевском Гамлете и окончательно утвердит себя как
муза 60-х). Беляев сочинял социальные утопии, Грин придумывал утопии чув¬
ствительные. То есть позволял чувствам стать тем, чем они могли бы быть, окон¬
чательно порвав с реальностью. В начале 60-х два мифа срослись воедино. Ро¬
мантическая история прекрасного чужака, отшельника и изгоя стала не менее
романтической историей любви, оглушительной мелодрамой с фантастическим
допуском. Задолго до мыльных опер в ней были причудливая тропическая среда,
море, солнце, ловцы жемчуга, ночные кабаки, классная баллада Андрея Петрова
о том, что «лучше лежать на дне» и знаменитые буги-вуги «Эй, моряк, ты слиш¬
ком долго плавал!»
601
Кино на ощупь
Притча о нетерпимости стала больше похожей на жанровый фильм. Про¬
фессор Сальватор (правильнее было бы сделать ударение на последнем слоге, но
скульптурный Николай Симонов так навеки и остался «Сальватором») стал благо¬
родным отцом, нудновато-положительный Ольсен - другом-наперсником, а жад¬
ный Дон Педро - роскошным южным злодеем. Неправдоподобно красивый Вла¬
димир Коренев до сих пор заставляет вспоминать Рудольфе Валентино - в своем
земном воплощении человек-рыба принес на наш экран образ волоокого латин¬
ского любовника. Его чешуйчатый наряд, предвосхитивший причуды поп-артов-
ских кутюрье, взывал и к океану, и к космосу — не случайно в костюме Ихтиандра
играл одно из своих последних шоу Сергей Курехин. Свободный цивильный ко¬
стюм и небрежно повязанная бандана точно указывали на происхождение обра¬
за. Ущербное чадо доктора Сальватора, сребротелый Ихтиандр в миру оказывал¬
ся «золотым мальчиком», свободным от постылых условностей. Он не знал цены
деньгам, но деньги у него были. Облагодетельствованный рыбак вопил «сумасшед¬
ший миллионер!», и это была сущая правда, потому что только безалаберные бога¬
чи могут купаться в уличных фонтанах и расплачиваться мокрыми комьями денег.
Диктатору стиля Дэвиду Боуи понадобилось более десяти лет, чтобы осознать
близость инопланетянина и плейбоя. Ихтиандр был и тем и другим с той же легко¬
стью, с какой менял наряды (в архиве «Ленфильма» до сих пор лежат зрительские
письма с просьбами «прислать ихтиандровскую выкройку» — правда, какого из ко¬
стюмов, не уточняется). К тому же Владимир Коренев оказался едва ли не первым
советским актером, которого начали снимать как откровенно конфетного жанро¬
вого красавца. Все герои Человека-амфибии были вообще удивительно, фантасти¬
чески красивы - эталонно-шестидесятнические глаза Вертинской, седая грива Ни¬
колая Симонова, резкие скулы и эспаньолка Козакова дали фильму нечто большее,
чем жизнь. Они дали ему стиль.
Что касается скафандра и шлема-плавника, то здесь эксклюзив можно оспа¬
ривать. Во второй половине 50-х американец Джек Арнольд запустил классиче¬
скую киносерию Чудище черной лагуны, где плавучий монстр поразительно на¬
поминал нашего Ихтиандра. Разница лишь в том, что тамошний жабродышащий
запутался в инстинктах и душегубстве, а наш поднял со дна жемчужное ожерелье
романтики и свободы. Можно ли сказать, что по эту сторону железного занавеса
жилось веселее? Неизвестно. Однако, только в год выхода Человека-амфибию по¬
смотрели шестьдесят пять с половиной миллионов зрителей.
«Premiere». 1997. № 2.
602
1997
Сказки калифорнийского леса
Как был завоеван запад
Название Hollywood образовано от английских слов «holly» - остролист и «wood» -
лес. Своим именем кусочек земли в окрестностях Лос-Анджелеса обязан некой
Дейде Вилкокс из Канзас Сити. В 1886 году она вместе с мужем застолбила участок
и построила на нем ранчо. Через пять лет супруги стали сдавать землю в аренду
и к 1903 году вокруг фермы вырос целый поселок, вскоре присоединенный к Лос-
Анджелесу на правах пригорода.
Первым киношником, ступившим на неизвестную территорию, был пол¬
ковник Уильям Н. Зелиг, откупивший часть земли для филиала своей чи¬
кагской кинокомпании. Парадокс в том, что первый голливудский магнат,
имевший официальную лицензию на съемочную аппаратуру и прокатное ко¬
пирование фильмов, действовал в рамках относительной законности. О его
последователях этого не скажешь — в 1907 году Америку сотрясала так назы¬
ваемая «патентная война», сравнимая по масштабам разве что с недавним раз¬
гулом отечественного видеопиратства. Законные держатели акций «великого
немого» базировались в Нью-Йорке, но вся страна была опутана сетью левых
студий, прокатных контор и «никельодеонов» — пятицентовых кинотеатров,
беззастенчиво работавших на нелицензированной технике и с ворованными
фильмами.
Истинными основателями Голливуда стали жулики, авантюристы и бутле¬
геры. После того, как крупнейшие кинофирмы объединились в Патентный трест
и объявили монополию на съемку и печать фильмов, «независимые» гурьбой дви¬
нули поближе к морю. Причин тому существовало несколько. Во-первых, вдали
от Нью-Йорка было меньше шансов столкнуться с агентами Треста. Во-вторых,
в досягаемой близости лежала мексиканская граница. В-третьих, благословенный
калифорнийский климат, горы, мягкие субтропики и 350 солнечных дней в году
обещали бесплатный свет и роскошную натуру для вестернов и комедий под от¬
крытым небом.
В 1909 году на голливудской Миссион-роуд выросли павильоны первой
стационарной кинофабрики, а в 1912 году бывший портняжка и будущий со¬
владелец «XX век Фокс» венгерский эмигрант Уильям Фокс совершил беспре¬
цедентную акцию, подав встречный иск на судебные претензии Треста. Это
значило, что независимые, производившие к тому времени столько же филь¬
мов, что и нью-йоркская метрополия, окончательно победили в конкурентной
схватке.
603
Кино на ощупь
Трест, который не лопнул
История первых шагов Голливуда похожа на кинобоевик. Как и всякий неокульту-
ренный бизнес, киноиндустрия жила по варварским законам, когда украсть про¬
ще, чем купить, а грохнуть конкурента надежнее, чем совершенствовать собствен¬
ную продукцию.
Мемуары пионеров Голливуда пестрят воспоминаниями об осаде студий
и о вооруженной экспроприации нелегальных кинолент; о том, как съемочные
группы работали, составив в пирамиду заряженные «винчестеры», а режиссе¬
ры носили у пояса кольт 45-го калибра. Голливуд, однако, стал Голливудом не
только потому, что его основатели хорошо стреляли. 1907 год многие летописцы
кино называют началом «кризиса сюжетов». Видовые съемки, хроника и корот¬
кие скетчи-анекдоты, преобладавшие на экране со времен первого сеанса брать¬
ев Люмьер и демонстрирующие техническую одаренность «Десятой музы», пе¬
рестали удивлять. Зрители потребовали у экрана историй из разряда тех, что
они знали по бульварным романам, комиксам и представлениям балаганных теа¬
тров. Характерно, что именно в 1907 году в Америке впервые появилось поня¬
тие «кинорежиссер», то есть некто, организующий перед камерой связный спек¬
такль. Прежде в этом не было необходимости - фильм оставался творением
главным образом оператора, умеющего навести аппарат и без рывков крутить
ручку.
1907 год примечателен еще и пиком иммиграции — только из Европы в Аме¬
рику приехало 1 285 000 человек. Это значило, что перемещенные лица со все¬
го света, снявшиеся со своих мест, чтобы попытать счастья в земле обетован¬
ной, должны были найти в кинозале зрелище по вкусу. Впрочем, что-что, а вкусы
странствующих низов будущие акулы Голливуда знали не понаслышке. Основате¬
ли крупнейших кинокомпаний все как один прошли большую жизненную шко¬
лу. Возглавивший «Paramaunt» Адольф Цукор приехал из Венгрии и начинал свою
карьеру подмастерьем у меховщика. Создатель «Metro Goldwin Mayer», уроженец
Минска Луис Б. Майер, промышлял перепродажей металлолома, а руководитель
«Universal», немецкий эмигрант Карл Леммле, торговал одеждой. Наконец, дети
польского сапожника братья Уорнер, впоследствии известные как «Warner Bros.»,
постигали азы шоу-бизнеса, рекламируя велосипеды.
«Снимай, как написано!»
К началу 20-х годов полукустарный и полуподпольный Голливуд стремительно на¬
брал обороты. Трения между Трестом и «независимыми» канули в прошлое — ре¬
шением Верховного суда монопольные полномочия были просто аннулированы.
Ослабленная Первой мировой войной Европа стремительно теряла рыночные по¬
зиции, а кино из развлечения становилось прибыльной индустрией.
604
1997
Финансовый подъем начала 20-х подготовил краеугольную акцию голливуд¬
ской киноимперии — объединение производства, проката и эксплуатации кино¬
театров. Студии набрали постоянный штат служащих - сценаристов, режиссеров
и исполнителей. Фильмы производились по конвейеру: разработчики обтачивали
сценарную идею, режиссер получал готовую болванку с инструкцией «Снимать,
как написано», а конечный продукт часто поступал в руки «фильм-доктора», ко¬
торый при помощи ножниц и клея доводил изделие до ума. Немалую роль в реа¬
лизации играла реклама - волшебную силу «раскрутки» Голливуд осознал очень
быстро. Когда в 1927 году великий Эрик фон Штрогейм снимал для «Метро» Сва¬
дебный марш, продюсер Ирвин Тальберг распорядился установить на одной из
нью-йоркских площадей световое табло, каждый вечер показывающее, сколько
именно денег режиссер перерасходовал в течение съемочного дня. Трюк удался.
Зрители с нетерпением ожидали дорогостоящей премьеры, что, впрочем, не поме¬
шало Тальбергу отстранить постановщика на стадии монтажа и поручить доделы¬
вать фильм другому режиссеру.
Впоследствие Штрогейм назовет Голливуд «фабрикой по производству соси¬
сок», а француз Рене Клер скажет, что настоящее рождение американской киноин¬
дустрии случилось в тот момент, когда первый продюсер выгнал первого режис¬
сера со съемочной площадки. О самодурстве Великого Обольстителя знали все, но
противостоять его чарам не мог никто. Ни европейские режиссеры, как ночные
бабочки перелетавшие через океан на убийственно-ослепительный свет калифор¬
нийских софитов. Ни владельцы кинотеатров, опутанные системой black booking,
при которой в нагрузку к первоэкранному боевику приходилось брать целый па¬
кет убыточных фильмов. Ни актеры, навсегда закабаленные имиджами экранных
поп-героев.
Изобретенная Голливудом «система звезд» потому и называлась «системой»,
что регламентировала каждый шаг исполнителей не только на экране, но и в жиз¬
ни. Едва заключив свой первый студийный контракт, неулыбчивый комик Бастер
Китон заодно подписал обязательство никогда не смеяться публично. Другой ки¬
ноклоун Роско Арбокль навсегда распрощался с карьерой после того, как во время
пьяной оргии на его вилле в Беверли Хиллз погибла юная старлетка. Хотя причаст¬
ность Арбокля к убийству доказана не была, сниматься его больше не приглаша¬
ли - руководство студии справедливо рассудило, что сама идея смерти не уклады¬
вается в амплуа добродушного толстячка «Фэтти».
Кризис, которого не было
В 1907 году кинопрокатный стандарт составлял одну часть. Фильм длился около
десяти минут и обходился в производстве не больше, чем в $ 1000. Уже в 1915 году
Рождение нации Дэвида Уорка Гриффита стоило $ 100000, а через два года бюджет
605
Кино на ощупь
Уильям Фокс // Дэвид О. Селзник. 1938 Адольф Цукор. 1958 // Луис Б. Майер. 1935
606
1997
Сэм, Гарри, Джек и Альберт Уорнеры. 1926 Карл Леммле // Ирвин Тальберг. 1929
607
Кино на ощупь
его же Нетерпимости превысил $ 2000000. Нетерпимость провалилась в прокате
и навсегда разорила автора, однако тень больших денег уже нависла над калифор¬
нийскими холмами. Хотя к концу 20-х все американское кинопроизводство окон¬
чательно переехало в Лос-Анджелес, управлялось оно нью-йоркской Уолл-стрит,
вкладывавшей деньги в прибыльное дело.
Заэкранные деньги вышли на первый план вместе с появлением звука. Сна¬
чала на новую технологию откликнулись «Warner Bros.», затем кинокомпания
Уильяма Фокса и «Paramaunt». Залезая в долги и сдаваясь в кабалу финанси¬
стам, студии спешно перевооружали свои кинотеатры под звук. По подсчетам
историков, эта акция обошлась Голливуду в полмиллиарда долларов и повлек¬
ла долговременные последствия - именно тогда, в конце 20-х, через заемы и пе¬
рекупку технических патентов киноиндустрия окончательно попала под влия¬
ние крупного капитала, влияние, куда более жесткое, нежели былые претензии
Треста.
Вместе с тем, звуковая эра обнаружила и весь объем интеллектуальных диви¬
дендов. Разразившийся в 1929 году экономический кризис и последовавшая за ним
Великая депрессия как будто обошли кинобизнес стороной. И разорившиеся мак¬
леры, и безработные шахтеры с одинаковой охотой несли последний доллар в кас¬
сы, чтобы приобщиться к новому спецэффекту — «говорящему кино». В 1927 году
в кинотеатрах побывало 57 миллионов американцев, а в 1930-м почти втрое боль¬
ше — 155 миллионов.
Интерес продержался целых три года. За это время крупные студии скоррек¬
тировали свою жанровую политику с учетом новых возможностей. На круг были
запущены музыкальные ревю, леденящие душу horror и гангстерские фильмы,
в которых живая речь персонажей чередовалась с непередаваемыми на титрах
скрипом автомобильных тормозов и грохотом выстрелов.
Блеск и нищета золотого века
Еще в марте 1932 года за первые четыре дня проката знаменитый Кинг-Конг вы¬
жал из нью-йоркской публики $ 90000. Формально кино было на подъеме - 30-е
годы не случайно называют «золотым веком» Голливуда. Восемь ведущих студий
выбрасывали на рынок в среднем по 500 картин в год. По существу, однако, фаб¬
рика грез стояла на пороге упадка. Доходы студий стремительно падали, а дол¬
говые проценты, напротив, росли. Кроме того, в 1933 году вошел в силу так на¬
зываемый «кодекс Хейса» — свод цензурных правил, охраняющий общественную
нравственность от слишком откровенного показа насилия и интимных сцен. По
вечерам американские обыватели все чаще оставались дома, предпочитая экрану
радиоприемник (в начале 30-х радио вошло в моду и составило Голливуду нешу¬
точную конкуренцию).
608
1997
В 30-е годы Голливуд впервые осознал силу саморекламы. Журналы и газеты,
светская хроника и постановочные фотографии целенаправленно создавали образ
Олимпа, где каста избранных купается в золоте и потягивает шампанское, не вылезая
из бассейна. На самом деле все было не так. В 30-е годы подавляющее большинство ки¬
ношников, включая крупных продюсеров, оказались в положении наемных служащих.
В 1937 году в кинопромышленности было занято 30405 человек, из которых 16398 по¬
лучали ежемесячное жалованье, а 14007 работали по фиксированному договору.
Киноиндустрия стала индустрией в буквальном смысле. Самые знаменитые ак¬
ции Голливуда 30-х напоминают скорее рационализацию производства, нежели твор¬
ческие открытия. Так, например, появилась идея «семейных фильмов», в которых
стандартная семья - папа, мама и ребенок - могли бы найти зрелище по вкусу. Так был
налажен поточный импорт европейских звезд — актеров, режиссеров, сценаристов,
многие из которых так и не вышли на съемочную площадку. Так родилась система
«двойных программ». За цену одного кинобилета зрители могли посмотреть сразу два
фильма - «категории А» (крупнобюджетный, постановочный, с участием звезд) и «ка¬
тегории Б» (с копеечной сметой, неизвестными актерами, снятый за несколько дней
в случайных декорациях). Любопытно, впрочем, что «би-кино», производителей ко¬
торого в Голливуде презрительно называли «бедняцким кварталом», с некоторых пор
привлекает эстетов куда больше, чем официальные суперколоссы. Значит ли это, что
искусство в Голливуде ушло в подполье? Нет, скорее это означало, что оно было везде.
«Хорошее кино могло бы появиться,
если бы не было киноиндустрии...»
Эти слова принадлежат Дэвиду О. Селзнику - крупнейшему продюсеру призыва 30-х
годов. Создатель Унесенных ветром, конечно, лукавил. Перефразируя его, скажем, что
Голливуд стал Голливудом именно потому, что на протяжении всей своей 90-летней
истории умел примирять поточное производство с производством хорошего кино.
Вот уже полвека регулярно появляются слухи об очередном кризисе Голливуда.
Столь же регулярно эти слухи не сбываются. В 1948 году киноимперия получила со¬
крушительный удар, правительственным указом лишившись права контролировать
прокат. Позднее подверглась идеологической атаке со стороны комиссии по рассле¬
дованию антиамерианской деятельности - многие талантливые кинематографисты
лишились работы по подозрению в «красных симпатиях». В 50-е годы с Голливудом
взялись успешно конкурировать новые «независимые», в начале 60-х его обогнало
телевидение, затем потрепала видеореволюция и перекупили японцы. Несмотря на
это, Голливуд жив. Может быть, потому, что его фильмы больше всего напомина¬
ют сны. А сны, пусть и произведенные за большие деньги, все равно нельзя купить.
«Ъ». 1997. 22 февраля.
609
Кино на ощупь
Леди исчезают
Обозревая галерею женских портретов столетия, легко убедиться, что копий в ней боль¬
ше, чем оригиналов. XX век много и разнообразно эксплуатировал классические жен¬
ские амплуа. Femme fatale и Лилит, Брунгильды и Джульетты, кошечки и волчицы, вам-
пирессы и куколки явились из мифов и преданий культуры, а то и литературы прошлого.
Один из немногих женских образов, сотворенных веком по собственным мер¬
кам, едва ли поместится в музейную раму. Эпоха плебейских вкусов, скорости и не¬
уемного потребления вылепила героиню себе под стать. Дрянь, оторва, черная кость.
Независимая, как погода, и непредсказуемая, как атомный реактор. Беспределыци-
ца, взрывающая все вокруг, и циничная авантюристка, возводящая сексапил в фор¬
мулу «товар-деньги». Девчонка с причала, знающая что почем, и откровенная ведь¬
ма, колдующая на золоте и разбитых сердцах. Стихийная феминистка и одаренная
имиджмейкерша, умеющая быть (или не быть) в нужное время в нужном месте,
и романтическая шалава, в конце концов прокалывающаяся на какой-нибудь ерунде.
Эти черты вместе или порознь, явно или тайно определили славу и судьбу мно¬
гих знаменитых женщин столетия. Частью они были выдуманы, сконструированы, ча¬
стью - являлись неотменимой составной темперамента хозяек. В чем-то были поро¬
ждением реальности, еще больше — продолжались в искусстве. Но лишь до той степени,
до которой за последние сто лет искусство и жизнь часто и охотно менялись местами.
Айседора Дункан: «Им подобно только прикосновение...»
Начало века востребовало «природную» женщину. Усталая европейская культу¬
ра искала обновления в естественной линии, гармоническом равновесии, в образе
цветка, бабочки, текучей воды или растительного орнамента.
Поднявшаяся на исходе XIX века волна ар нуво вынесла на поверхность Айсе¬
дору Дункан — легендарную балерину-босоножку, сломавшую канон классической
хореографии и вставшую у истоков танца модерн. Ее называли «культурной ре¬
волюцией», «божественной» и «неистовой». Традиционным балетным пуантам она
противопоставила опору на полную ступню, а отточенным аттитюдам — свобод¬
ную стихию импровизации.
Никто толком не знает, когда Дора Анджела Дункан стала именовать себя Айсе¬
дорой. Еще меньше понятно, кем именно она была — гениальной танцовщицей-ме¬
диумом, впадающей в пластический транс под звуки Вагнера и Шопена, или расчет¬
ливой дилетанткой, сумевшей превратить свою харизматическую ауру в штучный
художественный товар. Ее номера перемежались антропософскими рассуждениями
610
1997
Айседора Дункан. Фот. Чарльз Л. Ритцманн. 1912
и цитатами из Ницше и Шопенгауэра, она танцевала по мотивам картин и литера¬
турных произведений. Увлекшись античностью, она отправилась на греческие ост¬
рова, чтобы воздвигнуть там «Храм будущего», в котором язык тела вновь обретет
себя после веков цивилизованного забвения. На склоне лет примчалась в Советскую
Россию, чтобы танцевать «Интернационал» на сцене Большого театра, привечать че¬
кистов и богему и принимать от комиссаров конфискованные особняки и винные
подвалы. Она основала под Берлином знаменитую Школу танца, призванную вос¬
питать свободных и гармоничных гражданок нового столетия. Иные из ее питомиц
живы и по сей день. Как и следовало ожидать, ничего выдающегося из них не вышло.
В жизни божественная хулиганка была столь же неистова, что и на сцене. Гром¬
кие романы связали ее со швейным магнатом Парисом Зингером и режиссером-фи¬
лософом Эдвардом Гордоном Крэгом. В брак она вступила всего однажды, чтобы ле¬
гально вывезти за границу свою последнюю любовь — златокудрого Сергея Есенина.
Ему было 27, ей 45. Целый сезон они пожинали лавры самой пьющей европейской
611
Кино на ощупь
пары, а потом расстались. Через два года Есенина нашли повешенным в номере пи¬
терского «Англетера». Дункан пережила его ненадолго. 14 сентября 1927 года она
села в гоночный автомобиль. Ее новый поклонник нажал на газ. «Я иду к славе!» -
крикнула Айседора, перебрасывая через плечо длинный газовый шарф. В ту же се¬
кунду шарф обмотался вокруг колеса. Айседора Дункан умерла мгновенно.
Пирл Уайт: «Любая неудача станет для меня последней»
Настоящую жизнь новая героиня обрела только на экране. Низкое зрелище для
полуграмотной слободы, перенявшее традиции комикса, цирка и бульварного ро¬
мана с продолжением, оказалось поразительно чутким к духу времени. Волшеб¬
ный фонарь осветил самые потаенные уголки коллективной души. Оттуда пришли
первая кино-вамп Тэда Бара и вертихвостка Клара Боу, роковая обольстительница
Барбара Ля Марр и безответно страдающая Аста Нильсен.
До 1914 года женщинам в кино предписывалась роль либо жертв, либо иску¬
сительниц. Прокатившаяся по Европе Первая мировая война спутала все карты.
Женщины начали действовать. Во Франции появилась Мюзидора - затянутая в чер¬
ное трико ведьма-авантюристка из приключенческой серии Вампиры и Жюдекс.
В Америке Кэтлин Уильямс переживала невероятные приключения в джунглях и на
море. Самая громкая слава выпала на долю оборотистой и бесстрашной блондин¬
ки Пирл Уайт. В своих знаменитых сериалах Опасные приключения Полины и Тайны
Нью-Йорка она бегала по крышам, перепрыгивала с одного автомобиля на другой,
ныряла с небоскребов и погружалась на морское дно. Трюки выполнялись без дубле¬
ров - бывшая циркачка Уайт сама управляла воздушным шаром, спускалась по ка¬
нату с сорокаметровой высоты и плавала в кишащем крысами затопленном подвале.
Героиням Уайт надо воздать должное. Они редко заводились первыми, но уж
коли опасность подступала вплотную, обидчик получал достойный отпор. В фина¬
ле Пирл, как правило, богатела. Ей доставались сокровища индийских раджей, на
нее сваливались миллионные состояния или нежданные наследства. Боевитая доб¬
родетель щедро вознаграждалась, однако Уайт не злоупотребляла роскошью, раз
и навсегда введя в моду спортивного покроя костюм и чуть сдвинутый набок бар¬
хатный берет. В 1916 году ее переодели в мундир и отправили на военную служ¬
бу (фильм так и назывался Пирл в армии), но это был уже кризис жанра.
В начале 20-х Уайт пробовала себя в комедиях и мелодрамах, однако успеха не до¬
билась. Тогда она вспомнила о своем мюзикхолльном прошлом и подписала контракт
с «Казино де Пари». Дальнейшее напоминало сюжет одного из ее фильмов, но толь¬
ко без счастливого финала — во время представления в зале вспыхнул пожар, и Уайт
с сильными ожогами попала в больницу. Она умерла в 1938 году, не дожив до пятиде¬
сяти. По одной из версий причиной смерти стала полученная на съемках застарелая
травма. Пирл Уайт всегда говорила, что любая неудача может стать для нее роковой.
612
1997
Пирл Уайт
Зельда Фицджеральд: «Я хочу ни за что не отвечать»
«Это был век чудес, это был век искусства, это был век крайностей и век сатиры», -
так определил «эпоху джаза» 20-х годов Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Его самого
эпоха избрала не только летописцем, но и одним из главных участников. Биографы
писателя склонны считать, что немалую роль в этом сыграла Зельда Сэйр, дочь су¬
дьи из Алабамы, с которой Фицджеральд познакомился во время службы в армии. Их
первая помолвка расстроилась — Зельда заявила, что не будет жить с нищим сотруд¬
ником рекламного бюро. В ответ Скотт издал свой первый роман, тут же ставший
национальным бестселлером. Зельда сменила гнев на милость. Они поженились.
«Единственное, чего я хочу, — написала Зельда будущему мужу, — это всегда быть
очень молодой, и ни за что не отвечать, и просто жить и быть счастливой». Теми же сло¬
вами могла бы сказать о себе и «эпоха джаза» — бурная реакция Нового Света на сухой
закон, пуританскую добродетель и соблазны послевоенного просперити. Скотт и Зель¬
да считали потерянным день, когда их имена не появлялись в колонке скандальной
613
Кино на ощупь
Зельда Фицжеральд. 1918
хроники. Он мог сделать стойку на руках в вестибюле чопорного отеля, а она - истери¬
чески захохотать посреди притихшего театрального зала. Он чуть не попал в тюрьму,
набросившись на полицейского, которого она завела своими подколками. Случалось,
поймав такси после попойки, она садилась на капот, а он забирался на крышу. Одна¬
жды оба едва не погибли, заснув в машине прямо на железнодорожных путях.
То, что эпоха проживает как блестящий миг, чаще всего отнимает целую человече¬
скую жизнь. С годами Скотт все больше пил, а Зельда безнадежно теряла стиль, вызы¬
вающе наряжаясь в платья десятилетней давности. Он с удивлением узнал, что она ему
изменяет, однако, когда в ресторане пьяный Скотт рухнул на колени перед столиком та¬
кой же пьяной Айседоры Дункан, Зельда бросилась вниз с высокой лестницы и сильно
расшиблась. Вскоре после этого она порезала и сожгла все свои туалеты. Еще через не¬
которое время начала лихорадочно раздеваться прямо в такси. Поначалу врачи диагно¬
стировали нервное расстройство, но приступы повторялись снова и снова. Когда Фиц¬
джеральд в очередной раз приехал за ней в психиатрическую клинику, Зельда пыталась
614
1997
на его глазах прыгнуть под поезд. В январе 1934 года она окончательно перебралась
в больницу - писать дилетантские картины и бороться с вялотекущей шизофренией.
В 1940 году Френсис Скотт Фицджеральд умер. До последних дней они с Зель-
дой обменивались длинными и грустными письмами. После смерти мужа Зельда
завела клетку с голубями и полюбила читать Библию. 11 марта 1948 года в здании
больницы «Хайленд», где она проходила очередной курс лечения, вспыхнул пожар.
Огонь отрезал семерых пациентов, в том числе и Зельду Сэйр-Фицджеральд, на по¬
следнем этаже. Зельду похоронили рядом со Скоттом на кладбище в Роквилле.
Мэй Уэст: «Важны не мужчины в моей жизни, а жизнь в моих мужчинах»
В последжазовых и послекризисных американских 30-х на полную катушку зара¬
ботала индустрия массовых грез. Вымысел окончательно победил реальность — «зо¬
лотой век» Голливуда сотворил почти виртуальную экранную действительность, где
каждый мог пережить приключение по вкусу. Главный секс-символ времени по¬
явился сначала в фантазиях и лишь потом наяву. Конкурируя с диснеевскими Мик¬
ки Маусом и Доналдом Даком, старейший американский мультипликатор Макс
Флейшер придумал и нарисовал Бетти Буп — аппетитную кубышку, при малейшей
возможности выставляющую напоказ свои внушительные прелести. Бетти прожила
недолго. На нее ополчились женские организации, а певица Элен Кейн, послужив¬
шая Флейшеру моделью, опознала себя на экране и вчинила студии крупный судеб¬
ный иск. Бетти исчезла, но на смену рисованной секс-бомбе тут же пришла живая.
Дочка боксера-тяжеловеса, Мэй Уэст дебютировала на эстраде пяти лет от роду.
В 13 лет она выступала в бурлесках под кличкой «бэби-вамп», а еще через год перебра¬
лась на Бродвей, чтобы научить всю Америку модному танцу «шимми». В 1926 году
она написала и поставила свою первую пьесу под эпатирующим названием «Секс». Со¬
держание было под стать заголовку — на первом же спектакле полиция арестовала всю
труппу, и Уэст провела десять дней в тюрьме за оскорбление общественной нравствен¬
ности. Год спустя она срежиссировала свой следующий театральный опус «Снадобье»,
посвященный гомосексуалистам, а в 1928 году блеснула на Бродвее в роли «Брилли¬
антовой Лил» — жизнерадостной потаскушки из нью-йоркского района Бауэри.
Успех «Бриллиантовой Лил» (спектакль не сходил со сцены 97 недель!) привлек
к Уэст внимание Голливуда. «Парамаунт» заключил с ней контракт и в 1933 году экра¬
низировал пьесу под названием «Она причинила ему зло». Уже в 1935 году Мэй Уэст
стала самой высокооплачиваемой женщиной Америки. Она сама писала для себя сце¬
нарии, неизменно придерживаясь образа отвязанной «королевы секса», веселой, не¬
сентиментальной, а если надо — безжалостной. Ее фразочки, вроде «лучше быть паску¬
дой, чем занудой» или «важны не мужчины в жизни, а жизнь в мужчинах», обогатили
национальный фольклор. Моряки и летчики окрестили в ее честь надувной спаса¬
тельный жилет, а слепок ее торса послужил моделью для флакона духов Shocking.
615
Кино на ощупь
Мэй Уэст
Когда ее время миновало, Уэст вернулась на сцену. В конце 40-х она прокати¬
ла «Бриллиантовую Лил» по Европе, а в 1954 году отпраздновала свое 62-летие ри¬
скованным стрип-шоу в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Когда ей исполни¬
лось 78, она публично заявила о новой экранизации «Бриллиантовой Лил». Проект
не состоялся. В 1978 году первая леди американского шоу-бизнеса умерла.
Бриджит О’Шонесси: «Вещество, из которого сделаны сны»
Эту женщину придумал Дэшилл Хэммет. В его романе «Мальтийский сокол» Бри¬
джит являлась в контору частного детектива Сэма Спейда. Ее просьба казалась на¬
столько пустяковой, что крутой сыщик отправлял на дело своего напарника. В тот
же вечер компаньона убивали. Сэм лично брался за расследование и в конце кон¬
цов понимал, что благонравная и вечно испуганная Бриджит хладнокровно под¬
ставила его в крупную игру, где в качестве ставки фигурировала отлитая из чисто¬
го золота статуэтка мальтийского сокола.
616
1997
Мэри Астор в фильме Мальтийский сокол. Реж. Джон Хьюстон. 1941
Роман Хэммета трижды снимали в кино. В поставленном Роем дель Рутом
фильме 1931 года Бебе Даниэлс и красавчик Рикардо Кортес всего лишь добро¬
совестно изобразили криминальную мелодраму Версия Уильяма Дитерле (1936)
красноречиво называлась Сатана встретил леди — Бэт Дэвис и Уоррен Уильям иг¬
рали таинственную историю чувств, в которой к тому же была еще одна участница.
Третьего по счету и самого знаменитого Мальтийского сокола сделал в 1941
году Джон Хьюстон. В Европе разгоралась Мировая война, в Америке начиналась
эра черного романтизма. Хэмфри Богарт (Спейд) и Мэри Астор (Бриджит) создали
канонический дуэт эпохи. Мужчину-волка и женщину-оборотня, хищную, расчет¬
ливую и холодную. Впервые на экране представительница слабого пола станови¬
лась не объектом страсти, а ненадежным партнером, фальшивкой, опасным врагом.
В финале Спейд безжалостно сдавал бывшую клиентку полиции и, взвесив
в руке заветную статуэтку (она тоже оказывалась липой), иронично замечал: «вот
вещество, из которого сделаны наши сны».
617
Кино на ощупь
Бриджит Бардо: «И бог создал женщину»
В послевоенные годы Европа взяла реванш у Америки. Секс-звезды Нового Света,
будь то Рита Хэйуорт или Мэрилин Монро, выглядели ожившими грезами сексу¬
ально озабоченного подростка. Доведя инфантильную эротику американцев до аб¬
солюта, они были почти карикатурны в своей пышной чрезмерности. Пока Амери¬
ка с детским упорством боролась за ослабление цензурных табу, Европа занялась
своим любимым делом - реформой морали.
Открыточным прелестям пин-ап герлс Старый Свет противопоставил тотальную
философию удовольствия. С экрана новую веру понесла Бриджит Бардо, буржуазка
из французского городка Нейи, сначала попавшая на обложку «Еllе», а затем просла¬
вившаяся ролью Жюльетты из фильма Роже Вадима И Бог создал женщину. Ее пер¬
вый муж и первый режиссер Вадим вспоминал, что, еще не став звездой, Бардо притя¬
гивала мужчин, как мощный электромагнит опилки. Во время Каннского фестиваля
1953 года из-за нее едва не перевернулся американский авианосец, пришвартованный
у набережной Круазетт - две тысячи моряков столпились у борта, чтобы поглазеть,
как никому не известная жена ассистента режиссера Марка Аллегре выходит из воды.
Первый же продюсер посоветовал ей обратиться к дантисту. Бардо не послу¬
шалась и оказалась права. Ее неровные зубы и вечно растрепанные волосы вошли
в историю как шарм новой кинодивы, естественной и абсолютно органичной в по¬
гоне за наслаждениями. На вопрос репортера о любимом времени дня Бардо от¬
ветила «ночь». Из всех великих предпочитала Исаака Ньютона, открывшего закон
притяжения двух тел. Еще до конца съемок И Бог создал женщину она оставила Ва¬
дима ради своего партнера Жана-Луи Трентиньяна, затем влюбилась в актера Жака
Шарье. Поговаривали, что, снимаясь в своей самой значительной роли — в психо¬
драме Анри-Жоржа Клузо Истина, она закрутила роман с красавцем Сэми Фреем.
Когда пресса начала слишком активно комментировать ее частную жизнь, Бриджит
поступила под стать своим импульсивным героиням — приняла сверхдозу снотворного
и для верности перерезала вены. Ее спасли и даже уговорили повторить случившееся на
экране. Фильм Луи Маля так и назывался — Частная жизнь. В финале героиня-кинозвез¬
да, ослепленная вспышкой шустрого фотографа, оступалась и падала с крыши. Это была
красивая метафора, но сама Бардо сумела удержаться на краю. В 1973 году она исчезла
из кино, целиком посвятив себя защите животных. Узнав об этом, Роже Вадим ничуть
не удивился. «Она просто перешла от плюшевых зверюшек к живым», — подытожил он.
Джейн Биркин: «Я тебя люблю. Я тоже нет»
Конец 60-х во всем мире ознаменовался тремя революциями — психоделической,
рок-музыкальной и сексуальной. Стилем эпохи стал беспредел, саморазрушение,
оттяжка. На эстраде и на экране возобладал мужской имидж, женщинам, будь то
сомнамбулическая Нико, неуемная фрондерша Джейн Фонда или сгоревшая от
618
1997
Бриджит Бордо. Фот. Сэм Левин. 1959
героина хриплоголосая соул-вуман Дженис Джоплин, пришлось отстаивать себя
в непростой конкуренции, возбуждая общественное мнение то политическими ма¬
нифестами, то эпатажными выходками.
Самый нашумевший киноэпизод 60-х снял Микеланджело Антониони. В его
Blow Up две юные фанатки врывались в студию модного фотографа и, завернувшись
в громадные листы станиоля, затевали рискованную сексуальную игру. Одну из фу¬
рий сыграла Джейн Биркин — длинноногая англичанка, уже успевшая побывать за¬
мужем за композитором Джоном Барри и больше времени проводившая в Париже,
чем в Лондоне. В Париже она и познакомилась с культовым рок-шансонье Сержем
Гейнзбуром. Она была матерью-одиночкой и любимицей богемы. Он — ни на секунду
не просыхавшим скандалистом, сжигавшим 500-франковые купюры перед телека¬
мерой и распевавшим «Марсельезу» в ритме рэггей. Она с шиком носила репутацию
испорченного ребенка. Он не выпускал изо рта черный Gitanes и принципиально не
учился вождению, утверждая, что автомобиль может пригодиться только в качестве
619
Кино на ощупь
Джейн Биркин. Фот. Бенджамин Ожер. 1971
пепельницы. Тем не менее, встретив ее, он нанял огромный черный лимузин и прямо
со съемок увез шляться по ночным клубам и подозрительным питейным заведениям.
Их поездка растянулась на 13 лет. Говорят, что именно Биркин придумала клас¬
сический имидж Гейнзбура — недельная щетина, дорогой пиджак поверх расстегну¬
той до пупа джинсовой рубахи и - зимой и летом - светлые итальянские туфли на
босу ногу. Гейнзбур в ответ подарил ей песню, прежде предназначавшуюся Бриджит
Бардо, - Je T’Aime Moi Non Plus, что означает «Я тебя люблю. Я тоже нет». В жизни
они делали нечто похожее: прилюдно закатывали друг другу сцены и тут же бурно ми¬
рились. Однажды в кафе Джейн надела на голову Сержа большой кремовый торт, а на
пути домой, демонстрируя раскаянье, бросилась в Сену. Гейнзбур, матерясь, прыгнул
следом. Их начало затягивать под мост. Случившийся рядом прохожий спас обоих.
В начале 80-х Джейн Б., как с подачи Гейнзбура ее называли французы, не
выдержала. Режиссер Жак Дуайон, у которого она тогда снималась, предложил
ей наконец-то повзрослеть. После стихийно-инфантильного Сержа это казалось
620
1997
Ханна Шигулла в фильме Замужество Марии Браун. Реж. Райнер Вернер Фассбиндер. 1978
откровением. Биркин ушла к Дуайону. Через десять лет Гейнзбур умер. Он был по¬
чти ровесником отца Джейн.
Мария Браун: «Мое время только начинается»
Эта киногероиня повзрослела рано. Она обвенчалась в последние дни войны под гул
канонады и надолго потеряла мужа из виду. Периодически он появлялся и снова ис¬
чезал, но она все равно выживала, выгодно пристраивая свое тело валькирии и моз¬
ги биржевого маклера. В эпоху аденауэровского «экономического чуда» она сколотила
приличный капиталец и наконец-то дождалась супруга. К несчастью, в момент долго¬
жданного свидания она забыла закрутить газовую горелку и взлетела на воздух вместе
с домом, мужем и всеми своими надеждами. Замужество Марии Браун снял в 1978 году
Р. В. Фассбиндер. Сам он умер через пять лет от кокаина и работоголизма, но успел по¬
казать на экране совсем новую женщину — вульгарную и любящую, по-немецки праг¬
матичную и по-немецки же сентиментальную, цепкую, как сорная трава, и наивную,
621
Кино на ощупь
как рождественская открытка. Одновременно Мария Браун была и символом Герма¬
нии — истоптанной союзниками, изнасилованной и оживленной американцами, голод¬
ной, помпезной и продажной. После этого женщин в кино уже нельзя было снимать
по-прежнему. Мария Браун обнаружила, что за женскими характерами и амплуа сто¬
летия кроется большее - мифы истории, имиджи общества, подсознание культуры.
Мадонна: «Забираешь, что можешь, а потом двигаешь дальше»
Это прекрасно осознали примадонны поздних 80-х и 90-х - бизнесменши, поли-
тикессы и порно звезды. Черная кость активизировалась и окрепла. После свобод¬
ной любви и раздолбайства 60-х в моду снова вошли неравные браки, материнство
и твердый доход. Эмблема нового стиля - Илона Сталлер, по прозвищу Чиччоли-
на, королева итальянского порно, ставшая депутаткой национального парламента.
После того как ее муж художник Джефф Кунс выставил на Венецианской биеннале
серию «Сделано на небесах», Чиччолину окрестили «Джокондой современного ис¬
кусства». Годами симулируя то любовную страсть, то политику, она олицетворила
главный механизм конца века — универсальный соблазн. Впрочем, последний об¬
лик искусительницы сделан с расчетом на мелодраму — вот уже четвертый год она
судится с Кунсом из-за родительских прав на сына Людвига и однажды, как в пло¬
хом кино, под покровом темноты выкрала крошку из дома бывшего мужа.
Еще не став матерью, Мадонна - мускулистый поп-андрогин эпохи СПИДа
и информационных войн — предложила крупные отступные предполагаемому
отцу. Беременность звезды здорово поправила дела ее бывших любовников — боль¬
шинство из них тут же раскрутилось на интимные мемуары, разнообразно трак¬
туя сексуальность экс-подружки. В известном смысле Мадонне еще повезло. Те ее
партнеры, которых она втаскивала в свой лимузин, объезжая по ночам урловые
кварталы Манхэттена, просто не умели писать. Воздержался от дополнительных
разборок и актер Шон Пенн. Тот самый, что в бытность законным супругом Ма¬
донны бил ее лицом о стенку и получал в ответ табуреткой по голове.
Еще недавно материнство Мадонны казалось столь же невероятным, как рас-
топление полярных льдов. Провинциалка из Мичигана публично сменила несколь¬
ко имиджей. На смену драным шортам и ремням Boy Toy пришли черные круже¬
ва расстриженной путаны, любовные игры с распятием превратились в виртуальные
мастурбации под Майкла Джексона, мушка а 1а Мэрилин уступила место строгим
костюмам диктаторши Эвы Перон. Последнюю Мадонна, когда-то ночевавшая на
чердаках и заброшенных сквоттах, теперь играет в суперпродукции Алана Паркера.
Раньше она знакомилась с мужчинами, гася об их спины окурки. Теперь — написала
нежное гарантийное письмо Мелани Гриффит, заподозрившей ее в шашнях со своим
женихом Антонио Бандерасом. «Забираешь, что можешь, а потом двигаешь дальше», -
этому принципу Мадонна ничуть не изменила. Просто с умом можно взять больше.
622
1997
Мадонна. Фот. Дебора Фейнголд. 1983
Так поступила и Анн Николь Смит, в неполные 26 выскочившая замуж за
90-летнего миллиардера Говарда Маршалла. К брачному алтарю жених прибыл
в инвалидной коляске, а невеста с авиабилетом на Гавайи, где ее ждал очередной
поклонник. После смерти молодожена (как и следовало ожидать, она последовала
скоро) его прямые наследники взялись оспорить завещание, составленное в пользу
Анн. Тяжба тянется до сих пор, причем ни та ни другая стороны больше не прини¬
мают в расчет, что на похоронах Маршалла роскошная вдова рыдала по-настоящему.
В героинях столетия вообще трудно отличить настоящие слезы от поддель¬
ных, деловитость от наивности, а правду от вымысла. И если на закате века они
опять научились плакать, не значит ли это, что новое тысячелетие придумает для
них что-нибудь совсем уж новое и неожиданное.
«ОМ». 1997. Март. Статья опубликована под названием «Трэш-дивы».
623
Кино на ощупь
Плохие парни как пример для подражания
Фильм Артура Пенна Бонни и Клайд вышел на экраны в 1967 году, когда американ¬
ское кино переживало приход новых «независимых». Экономическая свобода и со¬
циальная смелость, европейские влияния и отказ от традиционных голливудских
жанров определили и пересмотр прежних мифов. Именно тогда, по выражению
авторитетного киноисторика Джеральда Маста, «плохие парни стали на экране хо¬
рошими, а хорошие, наоборот, плохими». В кино приживался новый антигерой -
аутсайдер, нарушитель, отщепенец. Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, парочка реаль¬
ных бандитов 20-х годов, погибших в перестрелке с полицией, подошли в этот ряд
как нельзя лучше. Характерно, что их история экранизировалась и в прошлом (на¬
пример, в 1958 году Уильям Уитни снял Историю Бонни Паркер), однако таких
грабителей — нежных, наивных, по-детски жестоких и по-юношески романтич¬
ных — американское кино еще не знало, как не знало и столь прихотливого смеше¬
ния трагедии и комедии, мелодрамы и гангстерской баллады. Фильм Пенна был
осторожно оценен Киноакадемией («Оскаров» получили только оператор Барнет
Гаффи и Эстелла Парсонс за исполнение женской роли второго плана), но тут же
объявлен знаменем «нового американского кино». В нем увидели перекличку с по¬
колением «детей-цветов», с «беспечными ездоками» и «бунтарями без причины».
Важно и то, что, воспроизводя ностальгическую атмосферу Великой Депрессии,
Бонни и Клайд невольно стали одним из первых образцов культового «ретро». Во
Франции радикальный шансонье Серж Гейнзбур вместе с Бриджит Бардо записал
песню Бонни и Клайд, стилизовав видеоклип под кадры из фильма. Модные девуш¬
ки по обе стороны океана стали носить береты набекрень а 1а Бонни и изнурять
себя голодовками (известно, что, готовясь к роли, Фей Данауэй несколько недель
носила тяжелые свинцовые браслеты, чтобы похудели запястья). Поэтому со вре¬
менем картина стала восприниматься не только с точки зрения ревизии гангстер¬
ской формулы и не только как поворотный этап в американской киноистории, но
и как стилевая величина, вызвавшая серию подражаний (например, Бонни и Клайд
по-итальянски, реж. Стено, 1982).
«Ъ». 1997. 29 марта.
624
1997
Бонни и Клайд. Реж. Артур Пенн. 1967
625
Кино на ощупь
Берегись автомобиля
В этом месяце по всей стране прокатилась волна Автокатастрофы - скандально¬
го киноопуса Дэвида Кроненберга. Демонстрация фильма в российском прокате
тем более знаменательна, что его нью-йоркская премьера состоялась только в ми¬
нувший уик-энд.
Боевое крещение Автокатастрофа получила в мае прошлого года на Канн¬
ском фестивале. Зал то охал, то нервно хихикал. Журналисты в темноте лихора¬
дочно марали блокноты, подсчитывая количество мертвецов и половых актов на
единицу экранного времени. И того и другого в фильме и впрямь хватает. В пер¬
вом же кадре жена главного героя занимается любовью с авиаинструктором в са¬
молетном ангаре. В последнем — проделывает то же самое с мужем, выкатившись
в полуобморочном состоянии из разбитого автомобиля. В результате ошарашен¬
ное каннское жюри не нашло подходящей формулировки в числе запланирован¬
ных фестивальных наград и учредило режиссеру спецприз «за художественную
смелость».
Фильмы Кроненберга шокировали и прежде. Бывший «независимый» из Ка¬
нады, снимавший узкопленочные ленты еще в колледже и осуществивший свой
первый коммерческий проект в Европе, попал в число самых перспективных хор-
рор-мейкеров второй половины 70-х благодаря неуемным экспериментам с чело¬
веческой плотью. Понятие «мутации» только входило в словарь культуры конца
тысячелетия, а в его Дрожи (1974) неведомые вирусы уже внедрялись в тела и вы¬
зывали у своих жертв сексуальную лихорадку. В Бешеной (1977) порно звезда Мэ¬
рилин Чамберс играла битую мотоциклистку, в результате пластической операции
почуявшую вкус к человеческой крови. В Видеодроме (1982) люди постепенно пре¬
вращались в видеомагнитофоны, а в Мухе (1986) - римейке старой картины Курта
Ньюмана — гримеры честно заработали свой «Оскар», сделав из красавчика Джеф¬
фа Голдблума мохнатое чудище.
И зрители, и критики подчас морщились от идиосинкразических шедевров
режиссера, однако неизменно признавали за ним определенное место в постмо¬
дернистском ландшафте, где эстетика отвращения не только не противоречит ав¬
торскому намерению, но зачастую и определяет его. Кроненберг выложил свой
главный козырь, экранизировав в 1991 году «Голый завтрак» - бит-классику Уиль¬
яма Берроуза, в которой пишущие машинки ползали, как тараканы, уже не по за¬
конам жанра, а по воле писателя-психоделиста, пробормотавшего сквозь много¬
летний наркотический бред метафору творчества. Следом появилась киноверсия
626
1997
Автокатастрофа. Реж. Дэвид Кроненберг. 1996
пьесы Дэвида Хуана «М. Баттерфляй». Взявшись за историю любви между фран¬
цузским дипломатом и азиатским шпионом, Кроненберг вообще отказался от при¬
вычного хоррор-арсенала, зато показал страсть как высшую форму мутации, при
которой тело и даже пол уже не имеют никакого значения.
Было бы странно, если бы режиссер обошел вниманием роман англичани¬
на Джеймса Грэхема Балларда «Автокатастрофа». Книга вышла в 1973 году. По
словам автора, она родилась из опыта современного автовождения, на каждом
шагу провоцирующего соблазн секса, репрессий и власти. Водительские наблю¬
дения Балларда вылились в мрачную фантасмагорию о тех, кто, однажды побы¬
вав в ДТП, уже не в силах избавиться от искушения высокотехнологичной гибе¬
лью, освобождающей последние энергии и вводящей жертву в упоительный круг
«stars-cars-scars» (выражение принадлежит писателю и по-русски переводится
«звезды-машины-шрамы»).
Книга Балларда стала культовой сразу же после публикации. Ее называли пер¬
вой апологией постиндустриальной смерти, на нее ссылался Бодрийяр и уважа¬
ли панки. Кроненберг воспроизвел литературный текст шокирующе буквально.
Весь фильм герои азартно носятся на машинах и в машинах же совокупляются,
словно обретя в мятых кузовах и погнутых бамперах гигантские биостимулято¬
ры. Особый кураж достигается, если в качестве партнера выступает кто-нибудь
с выраженным физическим увечьем, а еще больший — если удается инсценировать
смертельную аварию с участием знаменитого человека. Например, Джеймса Дина,
разбившегося на своем «порше» по дороге на автогонки. Или Джейн Мейнсфилд,
не совладавшую с управлением на пути в телестудию. На худой конец годится пре¬
зидент Кеннеди, которого пуля настигла тоже в машине.
627
Кино на ощупь
Мутанты у Кроненберга всегда были обречены и всегда гиперсексуальны.
В Мухе обратившийся ученый вдруг ощущал в себе сверхчеловеческую потенцию.
В М. Баттерфляй герои, осознавшие природу чувств, набрасывались друг на дру¬
га прямо в тюремном фургоне. В Автокатастрофе гонка неотделима от оргазма,
а биология водителя — от технологии колес и цилиндров. Секс и смерть изныва¬
ют, обнявшись на забрызганном кровью сиденье. Весь этот «пирсинг внутренне¬
го сгорания» иллюстрирует довольно банальную истину о том, что сама культура
мутирует в какую-то исковерканную железку, отдавшись соблазну и симуляции,
мертвым идолам и бессильной похоти. И если в прежней киномифологии мотив
дороги, шоссе и автострады связывался с роуд-муви, обязывающим пускай к бес¬
цельному, но поступательному движению, то в мифологии нынешней (тут можно
вспомнить и недавнее Затерянное шоссе Дэвида Линча) всякое путешествие есть
лишь повод к сюрреалистическому эксцессу.
Кроненберг с достижениями коллег явно знаком. Отавного героя (его тоже зо¬
вут Джей Баллард) у него не случайно сыграл Джеймс Спайдер, некогда засветив¬
шийся в концептуальных для «новой эротики» Сексе, лжи и видео Стивена Содер¬
берга. В роли его искусителя-партнера снялся канадский грек Элиас Котеас, уже
побывавший в схожем амплуа в Экзотике Атома Эгояна. Подругу героя играет
Холли Хантер, а богемная звезда Розанна Аркетт носит протезы и кожаный инва¬
лидный ошейник с прицелом на садомазохистскую униформу. И все-таки Кронен¬
берг опоздал. История кончилась раньше, чем ожидалось. И то, что еще недавно
могло бы быть авторской селекцией постисторического жанра, сегодня выглядит
перепевами уже сложившегося жанра конца света.
Баллард, впрочем, остался экранизацией очень доволен. В интервью фран¬
цузской «Liberation» он заявил, что после Кроненберга Тарантино может снимать
только мультики, а Жан-Люк Годар должен покаяться за бесцельно угробленный
в Уик-энде автомобильный реквизит. Модный писатель пожалел лишь о том, что из
сценария выпала его любимая сцена, в которой герои предаются свальному греху
и подробно фантазируют гибель в автокатастрофе Элизабет Тейлор. На такое Кро¬
ненберг не решился. И не потому, что постеснялся снять еще один порно эпизод.
А потому, что голливудская гранд-дама все-таки жива. Стоит ли это приза за на¬
стоящую «художественную смелость»?
«Ъ». 1997. 2 апреля.
628
1997
Мой старший брат
Открывается юбилейный, 50-й по счету Международный кинофестиваль в Кан¬
нах. Очевидно, что полувековая дата предъявляет особые обязательства к подбо¬
ру всех без исключения программ самого престижного европейского кинотурнира.
Тем приятнее сознавать, что в секции «Особый взгляд» на сей раз будет показана
картина питерского режиссера Алексея Балабанова Брат.
В начале 90-х годов, когда призовая российская волна впервые омыла на¬
бережную Круазетт, самые прозорливые критики заметили, что прилив «нового
русского кино» явно носит искусственный характер. Фильмы, триумфально про¬
шедшие под флагом Perestroika & Glasnost, были такими, какими должны были
быть. Или такими, какими их хотели увидеть — социально озабоченными, нервны¬
ми и взахлеб правдолюбивыми. Интернациональная мода на Такси-блюз или За-
мри-умри-воскресни появилась и отошла вместе с культом Горбачева, телемостами
и командирскими часами-будильниками.
Это кино азартно прощалось с прошлым, не задумываясь о будущем. Когда
будущее стало настоящим, кино впало в аутизм, не в силах справиться с усколь¬
зающим мгновением. Замеченные или отмеченные в последнее время на каннском
подиуме михалковские Утомленные солнцем и Кавказский пленник Сергея Бод¬
рова при всем своем несходстве скорее наложили на реальность некие историко-
культурные формулы, нежели заглянули в реальность изнутри.
При этом очевидно, что прошлогодний резонанс вокруг фильма Бодрова
в этом году отзовется на картине Балабанова. Хотя сам режиссер упорно отрицает
всякий предварительный умысел, Сергей Бодров-младший в роли дембельнувше-
гося из Чечни штабного писаря очевидно отсылает к Кавказскому пленнику, кото¬
рый вернулся-таки домой, в российскую глубинку, и отправлен матерью набирать¬
ся ума в Питер. К старшему брату.
Брата сыграл Виктор Сухоруков. В роли Петербурга снялся Петербург. И то
и другое для фильма немаловажно, потому что шесть лет назад в полнометражном
дебюте Алексея Балабанова Счастливые дни Виктор Сухоруков тоже являлся на
невские берега. Но тогда это был замордованный провинциал, тащивший в мятом
портфельчике опыт абсурдистского театра 50-х. С годами герой заматерел, обрил
голову, назвался «Татарином» и стал наемным убийцей. Город не изменился. Хотя
из черно-белого он превратился в цветной, а в его переживших евроремонт комму¬
налках живут новые хозяева, небо над ним по-прежнему низко, трамваи дребезжат
на стрелках, а люди все так же нелепы, неприютны и загадочны.
629
Кино на ощупь
Брат. Реж. Алексей Балабанов. 1997
630
1997
Алексей Балабанов
631
Кино на ощупь
Описание Брата почти равно его анализу. Все дело в том, что один из са¬
мых радикальных питерских киноавторов Алексей Балабанов всегда упорно из¬
бегал современности, предпочитая не наблюдать мир, а конструировать его. Опыт
предыдущих работ говорит сам за себя. Счастливые дни были сделаны по мотивам
Беккетта. Последовавший затем Замок — по одноименному роману Франца Кафки.
Выношенный парадокс нового фильма состоит в том, что сугубо авторский стиль
оказался самым подходящим для описания мира, где прежние устои уже сломаны,
а новые еще просто не существуют.
В итоге юный Растиньяк, вооруженный CD-плеером с музыкой «Наутилуса»
и пистолетом с самопальным глушителем, входит к старшему в долю. Старший же
бесстыдно подставляет его в классический криминальный треугольник, где кил¬
лер, едва выполнив заказ, сам становится жертвой. Если бы младший знал, в какие
волчьи разборки он влип, его собственная смерть была бы неминуема. Убийцу спа¬
сает простодушие. Брат не может предать брата, а потому главным событием его
городской одиссеи становится не десяток трупов, а мимолетная встреча с «самим»
Вячеславом Бутусовым (я искренне считаю, что следующая за тем сцена, в которой
палач и жертва сидят над горой агонизирующих тел и рассуждают о новом диске
«Наутилуса», принадлежит к лучшим в советском кино 90-х годов). В финале ге¬
рой с обрезом за пазухой и с пачкой баксов в кармане голосует попутный грузовик.
Возлюбленная трамвайщица вернулась к алкоголику-мужу. Подружка-кислотница
пошла на очередную дискотеку. «Город вытягивает силу», - заметил на прощание
философ-бомж. Но в том-то и штука, что едет герой не поближе к земле, а в Мо¬
скву, где, как он успел узнать, и город покрупнее, и возможностей побольше...
В известном смысле автор делит судьбу пополам с героем. Оба переступи¬
ли определенную границу. В том смысле, в каком великий Андре Базен говорил об
«этике взгляда». Суть очень проста: не следует выискивать нравственные мотивы
внутри или вне окружающих. Надо обладать этикой собственного видения, и она
сама все расставит по местам. Алексей Балабанов увидел в нынешней жизни нечто
не виденное прежде потому, что не встал ни на одну из точек зрения, так или иначе
приличных теме. Традиционно-осуждающую (убивать плохо!). Покорно оправда¬
тельную (убиваю, а что делать?). И даже модно-куражистую (убивать, так грамот¬
но). Герой уехал в столицу с тем, с чем и приехал - любя брата и фанатея от пес¬
ни «Крылья». И что с того, что брат оказался Иудой, а Слава Бутусов так никогда
и не узнает, что в квартире, этажом выше которой он выпивал, в тот момент реза¬
ли людей..? Такая нынче жизнь. Такой ее увидел Алексей Балабанов. Потом зрите¬
ли. А совсем скоро — Каннский фестиваль.
«Ъ». 1997. 7 мая. Статья опубликована под названием «Россию представит Брат».
632
1997
Апокалипсис по Копполе
Едва миновали победные майские торжества, как на телеэкране вновь разворачи¬
вается батальное полотно. В субботу ОРТ покажет Апокалипсис сегодня — вьетнам¬
ский суперколосс Френсиса Форда Копполы и одну из самых известных в мировом
кинематографе картин о войне.
Превосходные степени можно умножать и дальше. Над вольной экрани¬
зацией повести Джозефа Конрада Сердце тьмы Коппола трудился целых три
года - с 1976-го по 1979-й. Съемки велись на Филиппинах, где в массовых сце¬
нах единовременно участвовали чуть ли не все вооруженные силы страны, а тро¬
пический ураган разом уничтожал декорацию стоимостью более $ 1000000. По
ходу работы режиссер едва не разорился, залез в многолетние долги и переру¬
гался со всем съемочным коллективом. Картина получила главный приз в Кан¬
нах и всего лишь скромного операторского «Оскара», однако ее мрачные прогно¬
зы сбылись неожиданно быстро. Совпало даже место действия. Камбоджа, куда,
согласно фильму, удалился полковник-самурай Курц, в 1979 году стала ареной
бесчинства «красных кхмеров», буквально заливших кровью маленькую юго-во¬
сточную страну.
После того, как появился документальный фильм о съемках Апокалипсиса...,
добавить к истории создания ленты нечего. Беспристрастный объектив запечат¬
лел, как психовал сам Коппола, как не вылезал из-под кайфа Деннис Хоппер, как
дублер подменял на общих планах растолстевшего Марлона Брандо, и как, войдя
в образ лейтенанта Уилларда, Мартин Шин по-настоящему резал руки о разбитое
зеркало. Цель оправдала средства. Привычная субординация искусства и жизни
предписывает «большому видеться на расстоянье». Вечный вундеркинд и мифо-
творец Коппола поступил ровно наоборот — одним из первых обратившись к теме
Вьетнама, он тут же соорудил громадную трагическую фреску о Добре и Зле, на¬
полненную отсылками к Библии, Данте, Ницше, кодексу «бусидо» и легенде о Свя¬
том Граале.
С этой точки зрения Апокалипсис... прочно занял свое место и в биогра¬
фии режиссера, и в истории кино. Однако сегодня, после Афганистана и во вре¬
мя Чечни, куда интереснее, как Коппола увидел вьетнамскую кампанию частью
психоделической культуры рубежа 70-х. Песня Моррисона «The End», сопро¬
вождающая истерику армейского разведчика, и вертолетная атака под Вагнера,
виндсерфинг на напалмовом пляже и путешествие по тропической реке под ак¬
корды «Rolling Stones». Само название «Apocalypse Now», по существу, есть не что
633
Кино на ощупь
Марлон Брандо и Френсис Форд Коппола на съемках фильма Апокалипсис сегодня. Реж. Френсис Форд Коппола. 1979
иное, как перевернутое «Paradise Now!». «Рай немедленно!» - так гласили граф¬
фити, которыми хиппующая молодежь украшала стены мятежных универси¬
тетов и рок-дискотек конца 60-х. Коппола почти буквально проиллюстрировал
известный афоризм о том, что «война есть продолжение политики другими сред¬
ствами». Разница лишь в том, что именно считать целью политики - рай или ко¬
нец света.
«Ъ». 1997. 17 мая. Статья опубликована под названием «Апокалипсис на ОРТ».
634
1997
Кинематограф и его двойник
Marsch links — zwei, drei...
Кажется, именно Одиночное плавание Михаила Туманишвили впервые обнародо¬
вало радикальный вариант расправы с гипотетическим врагом при обоюдном ис¬
полнении служебных обязанностей. Конечно, иностранцев в нашем кино убивали
и раньше. Были Похищение «Савойи», полузабытые Сокровища пылающих скал или
суперкассовые Пираты XX века. Однако в каждом из этих фильмов смертельный
антагонизм имел конкретную подоплеку - клад, гангстерская разборка или вуль¬
гарный грабеж. Во-вторых, враг там был во всех отношениях преступным элемен¬
том. Его биография пирата, угонщика или недобитого наци не сейчас начиналась
и по всей вероятности не скоро кончилась бы. В-третьих, летальный исход частич¬
но искупался формулой авантюрного зрелища. В конце концов, если по законам
жанра положено стрелять, надо в кого-то и попасть. Да и положительный герой
действовал в структуре индивидуального приключения, но не в области политиче¬
ских интересов великой державы.
Шоковый эффект Одиночного плавания состоял в нарушении известного стерео¬
типа. Пуская в ход оружие, наши десантники намекали на существование некой док¬
трины, санкционирующей смерть. Прежде такого не было. Противника можно было
связать, обмануть, распропагандировать, но до смерти убивать возбранялось. Правя¬
щая идеология поделила мир по классовому принципу. В этой сугубо вертикальной
картине человеческая жизнь подчинялась общей задаче, а частный индивидуальный
инстинкт агрессии или - наоборот - самосохранения как будто и не существовал.
Здесь очевиден отголосок предвоенного лозунга о том, что советские и гер¬
манские рабочие не будут стрелять друг в друга, но договорятся на почве общих
исторических интересов. Девиз раскинулся настолько широко, что накрыл даже
столь неангажированную картину, как Окраина Барнета. Купчик выталкивает под
пули сапожника. И наоборот - лишившись собственного сына, русский отец усы¬
новляет пленного немчуру по принципу классового, ремесленного родства.
Теперь проведите мысленную прямую на много лет вперед и вспомните фи¬
нал Кавказского пленника Сергея Бодрова - картины, чья верность или неверность
правде чеченской войны официально не подтверждена, но и не опровергнута. Ак¬
сакал передергивает затвор и ведет в расход русского мальчишку. Но мы, зрители,
уже точно знаем - старик не выстрелит, не возьмет кровь за кровь, потому что за
него так решили авторы. И непонятно, чего здесь больше — внутреннего драматур¬
гического просчета или инерции нашего собственного, внешнего восприятия, вос¬
питанного на том, что чужую жизнь нельзя отобрать без разрешения свыше.
635
Кино на ощупь
В прежние времена доктрина не баловала излишними подробностями. Опу¬
скались ружейные стволы, замирали в полете штыки и сабли — в последний момент
идеология окликала свою паству, грозила пальцем и напоминала, что противника
можно истреблять в ходе стратегической операции, но нельзя в поединке (навер¬
ное, каждый советский человек испытал потрясение, прочтя главу из «Василия
Теркина», где с неожиданной жестокостью написана именно дуэль. Два мужика,
размазывая кровь и сопли, бьются по колено в снегу. Наш побеждает некрасиво
и неспортивно - шмякнув фрица незаряженной гранатой).
Сделайте нам красиво
Насилие в нашем сознании и на нашем экране всегда воспринималось серьез¬
но. Когда на заре перестройки из подвалов поднялись питерские некрореалисты,
их упрекали не столько за показ массовых побоищ и суицидов, сколько за от¬
кровенный, подчеркнутый идиотизм авторского дискурса. Характерно, что в то
же время по экранам победоносно шествовали климовские Иди и смотри, где
макабрическая эстетика облагораживалась цветом, ракурсом и красиво-тревож-
ной музыкой. Там было красиво — значит можно. Тут некрасиво — значит нель¬
зя. Зрителей некрокинематографа всерьез раздражало, что им показывают «пло¬
хо сделанное» кино — на просроченной пленке, неряшливое, с едва различимой
картинкой. Как будто, стань картинка лучше, самозарезывание оказалось бы бо¬
лее уместным. В этом смысле заслуга Юфита сотоварищи в том и заключается,
что они компенсировали народу отсутствие «слэпстика», идиотской комедии по¬
ложений, где все падают, кувыркаются и разбивают носы. Ранняя комическая
потому и называется ранней, что присуща детству культуры, ее младенческо¬
му возрасту, когда очень жестокое и очень смешное еще неразличимы, слиты.
У нас, как водится, идеологическая свобода настала без учета уже сложивших¬
ся культурных табу - некрокино всерьез раздражало не только «гомо советикус»,
но и вполне продвинутую аудиторию. Дети, впрочем, смотрели его с неизмен¬
ным весельем.
Надо учесть, что в оригинале идеология предполагала два равновероятных
подхода к проблеме. Там, где забижали «наших», все было всерьез. Когда достава¬
лось «ихним» (врагам, классово чуждым и социально далеким) - допускалась то¬
лика эксцентрики и комизма.
Это есть уже в Стачке Эйзенштейна. Оскорбленный рабочий накладывает на
себя руки с пафосом, трагично. Его смерть отзывалась в деталях (отброшенная та¬
буретка, упавший с ноги башмак) и в реакции, лицах окружающих (судя по ар¬
хивам, Эйзенштейн задумывал сцену еще круче. В черновых набросках сценария
есть вариант перерезания тела пополам электрическим проводом и падение в ки¬
пящий металл, отчего жертва превращалась в некое подобие железного андроида
636
1997
из Метрополией). При этом эпизод расправы над контролерами венчался откро¬
венно комичным аттракционом лягушка каталась в форменной фуражке, буд
то в лодочке.
Слышите, не стреляйте!
Мораль очевидна. Художественные средства употребляются на то, чтобы поднять,
усилить скорбь по «нашему» и наоборот на снижение жалости к «ихнему» Позд¬
нее в Броненосце... убийства офицеров будут даны на общем плане и в почти акро¬
батических ракурсах, в то время как смерть Вакуленчука разбита и растянута на
несколько планов: простреленный затылок, кровь на руке, падение, статика.
Проще всего считать, что Эйзенштейн, для которого жестокость была одним
из важнейших средств зрительной атаки, выпустил джинна из бутылки и обос¬
новал идеологию насилия. Надо было увидеть Броненосец... с оригинальной фо¬
нограммой Курта Майзеля, чтобы понять, насколько это не так. Хрестоматийную
сцену одесской лестницы композитор озвучил победной, торжественной музы
кой. Звуковая подсказка все расставила по местам. Стало ясно, что у Эйзенштей
на, в сущности, нет деления на «хороших» и «плохих», «наших» и «не наших», что
и царские сатрапы, и горожане это статисты в диалектическом верчении мира,
где избиение одних другими есть всего лишь один из законов, так же неизбежных,
как и рождение, смерть или встреча мужского и женского.
Ясно, почему вопреки исторической достоверности и попросту доводам здра¬
вого смысла Эйзенштейн закрыл брезентом обреченных на смерть матросов «По¬
темкина» На русском флоте так никогда не расстреливали, но в пластической
антитезе кадра копошащаяся бесформенная масса ассоциировалась с женским,
а ровный ряд винтовок экзекуторской команды со структурно-мужским (теперь
вспомните, что в момент классового прозрения винтовки палачей опускаются).
Нечто похожее есть и в сцене одесской лестницы, и в эпизоде штурма «свиньи» из
Александра Невского ряды русских дружинников волнами набегают на сплочен
ное каре тевтонов и, оставив на снегу чернеющие тела, откатываются обратно.
Смерть золотого века
Развернувшись в полную силу империя презрела достижения героического пе¬
риода. Эксцентричное насилие исчезло даже по отношению к врагам в фильмах
30-х годов они ровными рядами ложились под метким огнем наших пулеметчиков,
не обременяя зрение излишними физиологическими подробностями.
Впрочем, как совершенно верно написал Ноэль Берч в своей книжке «Theory
of Film Practice» «цензура (внешняя и внутренняя), заботясь о комфорте зрения,
следит за содержанием, но не за формой кинообраза». В этом смысле насилие на
советском экране шифровалось весьма прихотливо.
637
Кино на ощупь
Вспомним только один пример. В пырьевском Партийном билете харизмати¬
ческий красавец-кулак Абрикосов охмуряет пергидрольную партийку в исполне¬
нии Ады Войцик. Понятно, что потомственная пролетарка и фанатеющая больше¬
вичка теряет бдительность не просто так. Тема телесной власти врага над слабым
женским телом не впрямую, но выраженно проходит через всю картину. И партий¬
ную книжицу разомлевшая Анна выпускает из рук в том числе и потому, что встре¬
чается с мужем-оборотнем не только на собраниях. Однако когда в миг разоблаче¬
ния Павел решается в очередной раз испытать на жене силу своего маскулинного
гипноза, он получает вертухайский окрик и револьвер в лицо. Предфинальная сце¬
на Партийного билета вполне годится в качестве эпиграфа к концепции насилия
сталинской эры. Роскошный мужик, вертясь ужом, ползает в ногах у женщины,
чья бледная немочь укреплена самой передовой в мире идеологией. Реванш за фи
зическую пассивность рифмуется с сублимацией жертвы. Эйзенштейн показывал
конфликт мужского и женского как правило диалектики. Золотой век советского
кино разрешил женщинам целиться в мужчин из огнестрельного оружия и доно¬
сить на них в соответствующие органы. Насилие перестало быть индивидуальным
эксцессом или хотя бы издержкой борьбы за ощутимый результат. Дух окончатель¬
но возобладал над телом.
Если дорог тебе твой дом
«Действительность стала много страшнее любого, даже лишенного вкуса вообра¬
жения. Книги и фильмы о нашей правде, о нашем народе должны трещать от ужа¬
са, страданий, гнева и неслыханной силы человеческого духа» эту дневниковую
запись Довженко сделал в 1942 году.
Военный соцзаказ во многом пересмотрел нормативы «большого стиля» сло¬
жившегося в 30-е годы. Война, хоть и объявленная Великой и Отечественной, при
несла настоящую смерть и потребовала реальную, а не идеальную цену. Собствен
но, губительный для сталинской эстетики «поворот к человеку» впервые случился
именно тогда, а не в эпоху хрущевской оттепели. Во время войны ожили табуиро¬
ванные прежде жанры. Мелодрама Жди меня и авантюрно-приключенческий Се¬
кретарь райкома взывали уже к индивидуальному сознанию. В Двух бойцах со¬
ветский шансонье Марк Бернес напевал не официальную «Священную войну»,
а душераздирающую «Темную ночь» и полублатные «Шаланды, полные кефали...»
Искусство военных лет отличало повышенное внимание к насилию. Это было
поразительно жестокое искусство. «Если немца убил твой брат, значит брат, а не
ты солдат!» восклицал Константин Симонов еще до того, как вся страна заучива¬
ла наизусть его «желтые дожди» Цивилизованный мир содрогнулся, увидя, как бо¬
сиком по снегу ведут на казнь Олену Костюк в Радуге Марка Донского. Централь¬
ные газеты публиковали крупный план вынутой из петли Зои Космодемьянской.
638
1997
Людоедский Пир в Жирмунке почти инструктивно показывал, как вести себя на
оккупированной территории. Взывая к личности, время опиралось уже не на идео¬
логию, а на индивидуальную ненависть, на личный счет.
Иди и не смотри
Со временем индивидуальное насилие или индивидуальный подход в показе на¬
силия превратились едва ли не в признак скрытого диссидентства. Корчи ранено¬
го Миронова в германовском ...Лапшине и следующий затем выстрел по поднявше¬
му руки бандюгану воспринимались как вызов один герой физически страдал от
удара ножом, а второй, наплевав на инструкции, идеологию, мораль и уголовный
кодекс, за него мстил.
Однако не выстрелил белорусский пацан из климовских Иди и смотри од
ного из последних военных фильмов, показывающих, помимо прочего, куда и как
повернулась бы тема, не будь она оттеснена социальными катаклизмами середи
ны 80-х. Безусловно, авторская картина, добрая половина которой снята субъек¬
тивной камерой, благословившись библейской цитатой, вталкивает героев в кру
ги смертельного ада. Горят дома, корчатся изуродованные люди, падает прошитая
трассирующей очередью буренка, последняя икота сотрясает тела умирающих... На
каком-то последнем, конвульсивном витке идеология сумела переползти болевой
порог, который прежде ограждал территорию фрондерского авторства. И все за¬
тем, чтобы в финале поседевший от ужаса малец отказал себе в святом праве паль¬
нуть по бесноватому фюреру, прикинувшемуся младенцем Шикльгрубером.
По прозвищу «зверь»
Ясно, что насилие на постперестроечном экране носило выраженный рефлексив¬
ный характер. Об этом даже скучно писать. Вероятно, нигде в мировом кино так
смачно, глупо и бестолково не мучили людей, как в постсоветских фильмах. За об¬
разец, конечно, принимался Голливуд, но там насилие всегда носило характер выве¬
ренного силового аттракциона, а не кровавой каши, где бандиты особенно куражи
сты, а герои особенно брутальны. Нечто похожее случилось и в жизни. Человеческая
жизнь обесценилась в любой газете сегодня можно прочесть, как за полторы сот¬
ни и дармовую выпивку пенсионерка наняла бомжа убить мужа. С одной стороны,
это чудовищно. С другой совершенно нормально. То, что никогда не принадлежа¬
ло никому, не имеет настоящей цены. Здесь, впрочем, следует вспомнить, что вой
на как таковая ушла из нашего кино в своем назывном, неопосредованном качестве.
Будучи неотъемлемой частью мифологии убитого строя, она перестала быть полем
общественной сублимации. В послеперестроечном кинематографе едва ли насчи¬
тается десяток фильмов, где стреляют по приказу скопом переживают смерть това¬
рища и идут «сквозь горящий Смоленск» на «горящий Рейхстаг».
639
Кино на ощупь
Самая прямая отсылка к этому состоянию коллективной души есть разве что
в очень жестокой картине Андрея Малюкова Я русский солдат, снятой в 1995 году
по повести Бориса Васильева «В списках не значился». Коррекция временем, впро¬
чем, видна при простой постановке фильма в ряд других экранизаций прозы совет¬
ских классиков. И Восхождение Ларисы Шепитько, и А зори здесь тихие Станислава
Ростоцкого вспоминали о коллективном происхождении народной драмы. Христо-
подобный Сотников или апостол-старшина со своей девичьей паствой бились с за¬
хватчиками от имени всех за всеобщее счастье. Лейтенант Плужников, упорно вы¬
живающий среди руин Брестской крепости, скорее похож на Тарзана, сменившего
шкуры на обгоревшее хэбэ и кремневый тесак на добытый в бою «шмайссер» Его
война тем более бесполезна, что большая битва ушла далеко вперед, собрала но¬
вые жертвы, новые поражения и победы. Подранок-летеха побеждает не силой об¬
щей веры, а мощью личного беспредела. Сколь далеко ни увела бы нас ассоциация,
но так и тянет сравнить развалины сталинского форпоста с ошметками американ¬
ского городка, оставшимися на пути несправедливо обиженного десантника Рэмбо.
Между землей и небом война
Речь, вероятно, должна идти о смене мифологического контура, о перемене мест
слагаемых внутри по-прежнему значимой суммы. Это так и не так. Еще в первые
годы перестройки Борис Гребенщиков спел о том, что «по последним данным раз¬
ведки мы воюем сами с собой» «Война дело молодых — лекарство против мор¬
щин» откликнулся Виктор Цой. Оба утверждения по-своему справедливы. Юрий
Шевчук надрывно оповещал со сцены «предчувствие гражданской войны» однако
когда эта война разразилась в полную силу сам отправился с концертами в Чечню.
Данные разведки оказались верны, но несколько преждевременны. Речь не
о тех многочисленных «русских Рэмбо», которые, отгуляв законный дембель, схва¬
тывались и еще будут схватываться с рэкетом, мафией и прочими «пузырями зем¬
ли» В одной из лучших антимилитаристских картин столетия Великой иллю¬
зии Жан Ренуар объяснил, что на батальном полотне участники разделены не
вертикально, но по горизонтали. Наши войны снова выставили восходящие гра¬
ницы. Герой Афганского излома, например, вдоволь испив вражеской кровушки,
вдруг ни с того ни с сего ощущал тяжесть «слезинки младенца» и добровольно по¬
ворачивался спиной к неминуемой пуле. И наоборот, русский пацанчик из Кавказ¬
ского пленника не получал эту пулю от горского аксакала. Напомню, что в финале
Великой иллюзии похожий выстрел не звучит, потому что беглецы формально уже
по ту сторону границы с нейтральной Швейцарией. Социальный рубеж оказыва¬
ется надежным аналогом людской этики зачем убивать, когда жертва находится
под юрисдикцией другого государства и другого закона? Наши пули, как и прежде,
летят от сердца к сердцу. И — от земли к небесам.
640
1997
Спасшиеся от свинца все равно штурмуют готические бастионы, между кото¬
рыми если нет пролитой крови, есть кровное родство, уклад, традиция, нечто им
персональное и непреодолимое. В Мусульманине Владимира Хотиненко бывший
военнопленный сталкивается с тупой вендеттой внутри собственной семьи ему
и в самом деле было бы лучше сдохнуть, чем обратиться в иную веру В Брате
Алексея Балабанова голос непролитой братской крови звучит громче выстрелов
наемных убийц, предательства и вероломства. Поразительно, но ставший килле¬
ром писаришка может по праву претендовать на первооткрытие нового героиз¬
ма в нашем кино. Преодолев горизонтальные условности, вооружившись обрезом
и пачкой добытых чужой смертью баксов, он стоит по ту сторону любой этики
социальной, гражданской, даже профессиональной. Он пощадил брата-предателя.
Стало быть, остановился у той черты, которая поднимается над земными закона¬
ми и уходит куда-то выше.
Куда выше? В праздничные весенние дни, когда вся страна трясет стариной
между 1 мая и Днем Победы, ОРТ запустило премьерный показ Трагедии века
нового суперколосса Юрия Озерова, трактующего минувшую войну в масштабах
карты Генерального штаба. Значит ли это, что нас обманывают и вместо настояще¬
го отражения опять подсовывают липового двойника? Видимо, нет. Потому что,
глядя в зеркало, человеку обмануться легко. Но в амальгаме войны, смерти и наси
лия кинематограф все еще видит правду.
«Сеанс». 1997. № 15.
641
Кино на ощупь
Не стреляйте в новобрачных
В минувшие месяцы телевидение показало немало образцов классического «чер¬
ного фильма». Теперь настала очередь его авторской аранжировки. На этой неде¬
ле ОРТ дважды извлечет из киноархива жанровые упражнения Франсуа Трюффо.
В понедельник смотрите Стреляйте в пианиста, а в субботу Новобрачная была
в черном.
Франсуа Трюффо был одним их тех, кому принадлежит честь реабилитации
популярного киножанра и его творцов. Еще будучи кинокритиком, он отыскивал
индивидуальные черты в фильмах Альфреда Хичкока и Говарда Хоукса, Сэмюэля
Фуллера и Дугласа Серка всех тех, за кем закрепилась репутация крепких профи,
но кого никогда и никто не воспринимал в качестве кинохудожников.
В результате многочасовых бесед с Хичкоком Трюффо опубликовал знамени¬
тую книгу Сейчас уже понятно, что, составляя этот, по существу, учебник режис¬
суры, он заодно учился сам. И позднее, став режиссером, называл Хичкока своим
главным наставником. В том числе и в той области, где хитроумный сюжет, интри¬
га и саспенс тесно сплетаются с личным высказыванием автора.
Стреляйте в пианиста 960 второй фильм Трюффо. В криминальной ис¬
тории известного музыканта (Шарль Азнавур), после самоубийства любовницы
скрывшегося под личиной кабацкого тапера, явно прослеживается генеральный
хичкоковский мотив «не тот человек».
Но если для ироничного мистика Хичкока тема «без вины виноватого» была
частью непостижимой игры Провидения, Трюффо предпочел более внятные мо¬
ральные критерии. Герой несет тяжесть собственных поступков, судьба настигает
его и в финале делает невольной причиной еще одной смерти хотя Трюффо и на¬
звал Стреляйте в пианиста «уважительной стилизацией под второсортное амери¬
канское кино» по его же словам, фильм вышел слишком многосложным для наив¬
ной эстетики «би продукции»
Новобрачная была в черном 1968) появилась восемь лет спустя и стала еще од¬
ним подношением Хичкоку.
И не только потому что в основу сюжета лег роман Уильяма Айриша, чей рас¬
сказ «Окно во двор» с блеском экранизировал сам маэстро. Психотриллер о невесте-
мстительнице, безжалостно и изобретательно истребляющей убийц своего жени¬
ха, воскресил фирменный типаж Хичкока образ роковой женщины, властвующей
над слабыми мужчинами. Хичкок, правда, настаивал, что современная вамп обяза¬
тельно должна быть ледяной блондинкой, но Трюффо с ним упорно не соглашался.
642
1997
Франсуа Трюффо и Альфред Хичкок. Фот. Филипп Халсман. 1962
Потому пригласив на роль Жюли Колер Жанну Моро, он снабдил ее корот¬
кой прической и повышенным инфернальным обаянием. Да еще несколько раз по¬
казал полуобнаженной. Это оказалось ошибкой такой ангел смерти зрителю бы
стро прискучил.
Трюффо учел недостаток. Уже в следующем фильме Сирена с «Миссисипи» он
снял эталонную «блонди» Катрин Денев. Ту самую, с которой, если верить легенде,
на склоне лет мечтал поработать и Хичкок.
«Ъ». 1997 1 августа. Статья опубликована под названием «ОРТ извлечет из архива
Франсуа Трюффо».
643
Кино на ощупь
Тарантино в Европе: войти просто, выйти невозможно
Летняя киноафиша пополнилась двумя новыми названиями. Из конкурсной про¬
граммы XX Московского фестиваля в фонды ОРТ перекочевали немецкие Досту¬
чаться до небес, а на видеоприлавках появилась лицензионная английская Братва.
Несмотря на жанровые различия и поправки на региональный колорит, оба филь¬
ма свидетельствуют о том, что «тарантиномания» уже собравшая обильный уро¬
жай в Америке, успешно приживается и в Европе.
Очевидцы утверждают, что визит самого Тарантино в Лондон больше всего на¬
поминал ранние концерты «битлов» — перекрытые улицы, конная полиция, пере¬
вернутые автомобили и виновник торжества, пробирающийся на сцену через слу¬
жебный вход. Справедливости ради заметим, что создателя Криминального чтива
в Старом Свете признали и наградили раньше, чем в Новом. Дома его поначалу пы¬
тались посадить на короткий поводок культового автора, а когда стало ясно, что он
вот-вот сорвется, поощрили сценарным «Оскаром» который в руках обладателя
каннской «Золотой ветви» выглядел скорее утешительным призом.
Тем не менее, определенная логика в этом присутствовала. На первом и са¬
мом понятном уровне Тарантино подкупал ловким сюжетом и навороченным диа¬
логом, чем в американском кино никого особенно не удивишь. То, что его Беше¬
ные псы и особенно ... Чтиво преобразовали так называемую «формулу», то есть
пропорции и соподчиненность мифологических величин внутри жанрового ка¬
нона, было виднее из Европы с ее повышенным чутьем на всякие художествен¬
ные реформы. Наконец, третья, и самая трудноуловимая, черта «эффекта Таранти¬
но» в полном объеме проявилась лишь когда за дело взялись его многочисленные
эпигоны.
Условно говоря, эта черта заключается в новой амплитуде эксцентрики. То
есть, смещения от привычного центра. На уровне морали конфликт плохого
с худшим. На уровне повествования нелинейное движение времени, когда собы¬
тия и герои движутся, будто повинуясь правилам ускоренной видеоперемотки. На
уровне характера свирепая клоунада, в которой раскавычивается фраза «ганг¬
стер тоже человек» и бандюганы на поверку оказываются обаятельными невра¬
стениками. И наконец, на уровне авторского взгляда многослойная ирония, сво¬
дящаяся в конце концов к тому, что прав не тот, кто прав, а тот, кто выжил.
Последнее лучше всего видно в английской Братве именно так наши ви
деопрокатчики перевели оригинальное название «Hard Men» «Крутые мужи¬
ки» было бы точнее, но на уровне новейшего российского словаря, отразившего
644
1997
Достучаться до небес. Реж. Томас Ян. 1997
криминалитет как неотъемлемую часть повседневности, жаргонная «братва», ко¬
нечно, лучше. И если мы давно и по необходимости иронично принимаем реаль¬
ность как бесконечную бандитскую разборку то режиссер фильма, франко-англий
ский дебютант Дж. К. Амалу в лучших традициях Тарантино показал уголовный
андеграунд как комедию бытовых положений, где перебрасываются не кремовыми
тортами, а пулями и вместо разбитых носов фигурируют простреленные головы.
«Войти просто, выйти невозможно», - предупреждает надпись на обложке ви¬
деокассеты. Блатная максима, однако, проиллюстрирована в фильме вполне ци¬
вильно. Киллер узнает о рождении сына и решает выйти из дела. Пахан приказыва¬
ет двум его компаньонам убить отступника и в качестве доказательства принести
отрезанную руку. Всю ночь бывшие подельники справляют мальчишник, напи¬
ваются и идут по девочкам, оставляя после себя пару-тройку случайных трупов.
Наутро они выясняют отношения. В результате друзья-палачи гибнут, а будущий
отец, зажимая кровоточащую культю, успевает грохнуть шефа и смыться с весьма
кстати подвернувшимся общаком.
В традиционной комедии зрители смеялись, когда герой поскальзывался на
банановой кожуре и растягивался на тротуаре. Если при этом он сбивал с ног ка¬
кого-нибудь прохожего, зал хохотал еще пуще. После Тарантино зрители смеют¬
ся, когда герой, споткнувшись, выстреливает по окружающим обойму Лучше две.
В Братве так и происходит, однако от слишком похожей копии картину спасает
выраженное, хотя и несколько школярское, чувство черного юмора.
Именно этого чувства не хватило режиссеру немецкого фильма Достучать¬
ся до небес Томасу Яну Завязка у него лихая — в больничной палате встречают¬
ся два пациента. Один с прогрессирующей опухолью мозга, другой с костным
645
Кино на ощупь
раком. Выяснив, что тихоня-Руди никогда в жизни не видел моря, Мартин (за эту
роль соавтор сценария и сопродюсер Тиль Швайгер получил приз XX Московско¬
го фестиваля) решает напоследок устроить приятелю прогулку. По иронии судьбы
угнанный ими автомобиль принадлежит курьерам мафии. За приятелями начина¬
ется охота, но все кончается благополучно, за исключением того, что, добравшись
до моря, Мартин умирает...
По существу, драматургический ход в обоих фильмах похож. Забавные и опас¬
ные приключения случаются с героями, обреченными смерти. Разница только
в том, что английский «пацан» приговорен бандитским судом, а немецкие бегле¬
цы — медицинским диагнозом (над тарантиновским Винсентом Вегой мы тоже по¬
тешались уже после того, как он схлопотал пулю, зачитавшись в уборной). Понят¬
но, что смеховые акценты в столкновении «мертвого сейчас» и «мертвого потом»
сильно расширяются. Если герой все равно погибнет, какая разница - сколько на¬
роду он прихватит с собой. Но в том-то и дело, что смерть в Европе и смерть в Аме¬
рике - суть разные смерти. И униформа тарантиновских «псов» — солнцезащитные
очки, узкие галстуки и черные костюмы в любую погоду - скорее условный код,
нежели экзистенциальная индульгенция.
Дело, конечно, не в формальном сходстве (за футляром от контрабаса гоня¬
лись не только у Роберта Родригеса, но и у Чехова). Но призрак Тарантино тоже
бродит по Европе не вдруг. В Англии его приход подготовлен традицией нацио¬
нального абсурда. В Германии, как уже справедливо заметила на страницах «Ъ»
Виктория Белопольская, новая эксцентрика избавляет от наследия «мистического
реализма» кинематографа 70-80-х. Расцветший черным цветком «новый русский
юмор» тоже во многом «подтарантинен» — рассказывая анекдоты про «бантиков»,
мы подспудно знаем, что «бантиков» периодически убивают. И все-таки фокус Та¬
рантино куда изощреннее, чем простая ревизия жанра, пересмотр формулы или
изобретение новых героев. Культура в нем перегнала реальность, а потом верну¬
лась обратно. Войти в нее просто. А выйти, как выясняется, почти невозможно.
«Ъ». 1997. 7 августа. Статья опубликована под названием «Квентин Тарантино: войти просто,
выйти невозможно».
646
1997
Человек, который знал слишком много
В будущую среду Альфреду Хичкоку исполнилось бы 98 лет. О некруглой дате по¬
койного классика вспомнило только ТВ-6, включившее в свой репертуар 39 ступе¬
ней (1935) - один из последних английских фильмов режиссера и одно из первых
его упражнений в шпионском жанре.
Судьба Хичкока на нашем телеэкране сложилась не слишком удачно. За по¬
следние несколько лет почти каждый уважающий себя канал показал хотя бы одну
его ленту, однако в такое время, когда у телевизоров сидят либо пенсионеры, либо
совсем уж всеядные киноманы.
В будущий четверг 39 ступеней тоже пойдут с утра пораньше. И это в очеред¬
ной раз доказывает, что Альфред Хичкок, оказавший огромное влияние на кине¬
матограф 50-60-х годов и в то время нами не виденный, к сегодняшнему зрителю
все-таки опоздал. И не потому, что устарел персонально, а потому что киноязык,
которым он излагал свои притчи, изящно замаскированные под популярные жан¬
ры, навсегда отошел в область культурных преданий.
Авторские смыслы Хичкок доверял не тому, что показывал и рассказы¬
вал, а тому, как это делал. Его многочисленные фокусы и обманки не видны
поверхностному взгляду, который может до самого конца скользить по вне¬
шней жанровой истории. Хичкок всегда снимал сюжетно и всегда в границах
оговоренного жанра, однако исследователи до сих пор находят в его сюжетах
вопиющие несообразности, а в жанровых формулах — ироничные поправки
и допущения.
39 ступеней демонстрируют это вполне наглядно. Детективный роман Джо¬
на Бачана привлек режиссера прежде всего мотивом тайного шпионского за¬
говора. Однако уже с самых первых эпизодов классическая схема подверглась
переделке. Молодой канадец (Роберт Донат) пускается на поиски диверсан¬
тов лишь потому, что сам попадает под подозрение в шпионских занятиях. Из¬
любленный хичкоковский перевертыш «не тот человек» превращает детектив
в шутку Провидения. Герой действует не по воле обстоятельств, а по прихот¬
ливой логике судьбы, где комедия и триллер не разделены эстетическим барь¬
ером, а путешествуют рука об руку. Совсем как незадачливый контрразведчик,
прикованный к эксцентричной блондинке (Мадлен Кэррол), случайно встречен¬
ной по дороге.
Судьба испытывает героя. Но она же его и спасает. Роковая пуля застрева¬
ет в Библии, спрятанной в кармане пальто — это можно принимать как трюк, но
647
Кино на ощупь
39 ступеней. Реж. Альфред Хичкок. 1935
можно и всерьез. Равно как и сюжетную развязку — тайной информацией шпио¬
ны обмениваются через уникальную память мюзик-холльного артиста мисте¬
ра Мемори (задолго до Джонни-мнемоника Хичкок придумал этот ход как ключ
к основному действию). Мемори становится жертвой собственного профессио¬
нализма. В ответ на прямо поставленный вопрос он публично выкладывает все,
что знает о заговоре. Свой предыдущий фильм Хичкок назвал Человек, который
знал слишком много. С течением времени этот титул стал относиться и к нему
самому.
«Ъ». 1997. 13 августа. Статья опубликована под названием «День рождения Хичкока отметит
только ТВ-6».
648
1997
Альфред Хичкок
649
Кино на ощупь
Старые и новые приключения Неуловимых...
В конце следующей недели ТВ-6 покажет трилогию о «неуловимых». Формаль¬
ный повод для этого есть - тридцать лет назад, в начале весенне-летнего киносе¬
зона 1967 года, первые ...Мстители вышли на советский экран. Повода, впрочем,
могло бы и не быть — культовое кино можно смотреть в любое время и с любого
места.
Говоря о Неуловимых... как о «кино нашего детства», можно безбоязненно де¬
лать ударение на «нашего». За 30 лет сменилось не одно поколение, однако, начи¬
ная с 1967 года, каждый молодой мужчина в возрасте от 7 до 13 лет, чьи глаза жа¬
ждали зрелища, а душа — подвига, ходил смотреть на приключения брата и сестры
Щусь и примкнувших к ним Яшки-цыгана и Валерки-гимназиста. История выуче¬
на наизусть, текст разошелся на поговорки, а прокату нон-стоп не помешали даже
забугорные отъезды Бориса Сичкина и Савелия Крамарова. Потому что, как, в са¬
мом деле, можно вычеркнуть Бубу Касторского или фразу о том, как «вдоль дороги
мертвые с косами стоять... И тишина...»
Как и многие неформальные советские кинохиты, истерн Эдмонда Кеосаяна
контрабандой протаскивал полузапретные стандарты поп-культуры. Маскиров¬
ка «низкого» жанра историко-героической темой в счет не идет — такое и было,
и будет еще не раз. Гораздо интереснее, что Неуловимые... умудрились соединить
сразу две абсолютно голливудские технологии. «Сиквел» или фильм с сюжетным
продолжением. И «римейк» или повторная экранизация уже бывшего некогда
фильма.
Если «сиквелы» на нашем экране время от времени встречались (например,
шпионские страсти графа-резидента Тульева или разведчика Крамера-Крылова),
то «римейков» на нем просто не было (единственное исключение — рязановский
Жестокий романс, поставленный больше по фильму Протазанова, чем по пьесе
Островского, - выйдет гораздо позже). По внешности Кеосаян и сценарист Сер¬
гей Ермолинский всего лишь повторно экранизировали повесть Павла Бляхина
«Красные дьяволята», но по существу они ориентировались не столько на полу¬
забытую книгу, сколько на фантастический успех одноименного фильма Ивана
Перестиани.
Почему идеология 60-х допустила переписку именно этого культурного тек¬
ста? Красные дьяволята вышли на экран в 1923 году и, будучи откровенным полу¬
фабрикатом ковбойского кино, оказались официально одобрены за идейную зре¬
лость. Спустя несколько лет две серии урезали до одной, а во время войны немую
650
1997
Неуловимые мстители. Реж. Эдмонд Кеосаян. 1966
651
Кино на ощупь
ленту озвучили. У оригинальной киноверсии тоже были продолжения - в тече¬
ние 1926 года Перестиани накрутил с теми же героями целых четыре боевика, но
прежнего успеха не добился.
В обновленном названии революционный цвет сменился на характеристи¬
ку интриги, а атеистические «дьяволята» стали классическими «мстителями».
Из отряда бедняцких детей выбыл черный парень (в 1923 году его сыграл цир¬
кач Кадор Бен-Салим), зато прибыли цыган и интеллигент. Эксцентриада усту¬
пила место жанровой формуле - Красные дьяволята снимались во времена зре¬
лого Чаплина, а Неуловимые мстители — по следам Великолепной семерки. Над
теми и другими возобладал закон «сиквела» — каждая очередная серия оказыва¬
лась слабее предыдущих. ...Дьяволята кончились Преступлением княжны Шир-
ванской, а Неуловимые... — беспределом на Эйфелевой башне. Что лишний раз до¬
казывает - у популярного жанра свои причуды. Под какую бы идеологию он ни
маскировался.
«Ъ». 1997. 21 августа. Статья опубликована под названием «В телесеть попали Неуловимые».
652
1997
Эрик Ромер — последний моралист
В Москве началась ретроспектива Эрика Ромера. Семидесятишестилетний режис¬
сер никогда не стремился к публичности, наградам и регалиям. Редактор любого
киножурнала знает, как трудно отыскать его фотографию - Ромер не любит пози¬
ровать ни буквально, ни фигурально.
Вместе с тем, со временем режиссеру достались титулы, иных претендентов
на которые просто больше не находится. Например, «родоначальник французской
новой волны». После смерти Трюффо, после того, как Шаброль окончательно сдал¬
ся коммерческому кино, а Годар не менее радикально ушел в саморефлексии, по¬
жалуй, только Ромер и Жак Риветт продолжают традицию, некогда заставившую
молодых критиков «Cahiers du cinema» самим встать за съемочную камеру. Общий
учитель «волны» Андре Базен называл это «политикой авторства» — особым взгля¬
дом на реальность, где мораль и искусство сопровождают друг друга, как зеркаль¬
ные отражения.
В отличие от коллег по «волне» Ромер никогда не увлекался формальным по¬
иском. Его первые коротышки, сделанные без малого сорок лет назад, почти не
отличаются от последних работ. Менялись метраж, съемочная техника, качество
пленки или состав исполнителей, но главное осталось прежним. Эрик Ромер сни¬
мает бытописательские притчи, избегая выводов и иронично оформляя акценты
цветовыми или пластическими решениями.
По фильмам Ромера вполне можно изучать материальную культуру француз¬
ского среднего класса за четыре десятка лет - привычки, жаргон, манеру одежды,
стиль интерьеров и отношений. «Он описывает моду, вместо того, чтобы быть мод¬
ным», - точно заметил один из критиков. Это, правда, потому что взгляд режис¬
сера, уходящий в религиозные традиции и в наследие французских просветите¬
лей, выбирает жизнь заурядных людей как материал и мещанскую драму как жанр.
В своем режиссерском дебюте Под знаком Льва (1959) он показал злоключе¬
ния американца в Париже. Богемный янки отбивается от друзей, бомжует, слоня¬
ется по городу, не зная, что его ожидает крупное наследство - так с самого начала
Ромер провел авторскую грань между случайностью и провидением. В эпизоде из
авторского альманаха Париж глазами... (1965) буржуа кажется, что в уличной пе¬
репалке он убил человека. Жертва жива, но жизнь мнимого убийцы разом обрета¬
ет дополнительное измерение.
Первые полдюжины фильмов, объединенные в цикл Шесть нравоучительных
повестей, Ромер сделал по мотивам литературного наследия Ж. Ф. Мармонтеля,
653
Кино на ощупь
перенеся действие из XVIII века в современность. Затем последовала серия Коме¬
дий и пословиц — сборник экранных басен, так или иначе трактующих мотив со¬
блазна. «Кто слишком много говорит, у того слова расходятся с делом», - макси¬
ма Кретьена де Труа открывала Полину на пляже (1983), историю летних каникул
скучающей парижанки и ее 15-летней кузины. «У кого две жены — теряют душу.
У кого два дома - разум», — эта шампаньская пословица вынесена в эпиграф Ночей
полнолуния (1984), повествующих о том, как экзальтированная Луиза лишилась
сразу двух бойфрендов. «Кто не воспарял духом, тот не построит замок в Испа¬
нии», — поучало Удачное замужество (1981), мягко опровергающее волевой под¬
ход к жизни.
Заповеди у Ромера всегда обыденны. Искушения преследуют персонажей
в элементарных житейских ситуациях: куда поехать в отпуск, с кем отправиться
на вечеринку или затеять необязывающий курортный флирт. История, как пра¬
вило, кончается с возвращением домой, на работу или учебу. Выводов тоже нет. Да
они и не нужны, коль скоро речь идет о вечных истинах, увиденных последним мо¬
ралистом в каждой минуте текущей и изменяющейся реальности.
В сб. «Кино на ощупь». СПб., Сеанс, 2005. Статья написана к ретроспективе фильмов
Эрика Ромера в московском Музее кино.
654
1997
Эрик Ромер. Фот. Даниэль Будине. 1980
655
Кино на ощупь
К западу от черного жанра
В субботу смотрите на РТР Ред Рок Вест американского режиссера Джона Дала.
Снятая в 1993 году, эта картина заставила говорить о новом витке «черного жанра»,
одной из самых мифологизированных структур в истории мирового кино.
Официальное рождение «черного кино» произошло в 40-е годы, когда по¬
явились первые экранизации «крутых детективов» Дэшилла Хэммета и Раймонда
Чендлера, когда Джон Хьюстон снял Мальтийского сокола и Асфальтовые джун¬
гли, Говард Хоукс — Большой сон, а Орсон Уэллс - Леди из Шанхая. «Почернение»
классической криминальной схемы заключалось прежде всего в новом герое - кем
бы он ни был, преступником или сыщиком, преследуемым или преследователем,
он все равно оказывался по ту сторону закона, где действовал только кодекс оди¬
ночки, а победитель, как правило, не получал ничего. Очевидно, что такая поправка
к жанру означала новый виток радикального романтизма. Позднее, когда «черный
фильм» переместился из Америки в Европу, его правила пригодились не только для
стилизации уголовных и авантюрных историй, но прижились и в авторском слова¬
ре. Такие безусловные и такие разные шедевры, как, например, Пепел и алмаз Вайды
или На последнем дыхании Годара, сделаны с явной оглядкой на «черную» классику.
Ред Рок Вест (в буквальном переводе он иногда называется К западу от Крас¬
ной скалы) появился тремя годами позже Диких сердцем Дэвида Линча и год спустя
после выхода тарантиновских Бешеных псов. Соседство оказалось не случайным. Ис¬
тория о том, как бывшего «коммандо» принимают за наемного киллера, впитала чер¬
ты и клаустрофобии Линча, и цинизма Тарантино. Герой зажат в тупик - его пресле¬
дует заказчик, против него интригует жертва, а случайный спаситель оказывается
тем самым убийцей, чью роль он против воли вынужден играть - столь прихотли¬
вый сюжет, безусловно, принадлежит «пост-тарантиновской» киноэпохе, сделавшей
повторную ставку на красоту истории и диалога. Ситуация безнадежно закручивает¬
ся изнутри, что на фоне воспетой Линчем странной и страшной американской про¬
винции выглядит особенно впечатляюще, а Николас Кейдж (псевдо-киллер), Лара
Флинн Бойл (жертва) и Деннис Хоппер (киллер настоящий) заодно доигрывают то,
что уже играли у Линча в Диких сердцем, Твин Пикс и Синем бархате.
В финале победитель, как водится, не получает ничего. В похожей ситуации Хэм¬
фри Богарт из Мальтийского сокола говорил о «материи, из которой сотканы сны».
Сны, как видно, имеют тенденцию к повторению. А романтические сны — тем более.
«Ъ». 1997. 22 августа.
656
1997
Жесткое время.
Производственно-творческий проект
В сложившейся сегодня культурной ситуации прежние формы кинематографиче¬
ского производства утратили актуальность. Традиционное пленочное кино, пред¬
назначенное к показу в кинотеатрах, переживает финансовый и технологический
кризис, место кинопроката замещено видеорынком. Серьезные проблемы возник¬
ли и в собственно творческой сфере — развал привычных структур обернулся де¬
фицитом идей и утратой чувства экранной реальности.
Выходом из этой ситуации представляется качественно новый подход
к фильмопроизводству.
В первую очередь речь идет о новых аудиовизуальных носителях. Картина, снятая
на 16-миллиметровую пленку, тиражируется на видеокассетах, что, с одной стороны,
значительно удешевляет производственный процесс, а с другой - открывает фильму
реальный путь к зрителям, которые давно уже предпочитают домашний экран тради¬
ционному прокату. Технология позволит при необходимости и печать качественной
35-миллиметровой кинокопии, отвечающей всем стандартам. Следовательно, во-пер¬
вых, оптимизируется производственный цикл. Во-вторых, производство становится
более оперативным, что безусловно скажется и на возможности непосредственного
контакта с аудиторией. Наконец, в-третьих, фильмы включаются в систему актуаль¬
ного проката. Организованное таким образом производство обещает и значительные
творческие перспективы. Оно способно оперативно откликаться на социокультурные
запросы и не бояться коммерческого риска. Технические параметры напрямую свя¬
заны с возможностью экспериментировать с новыми героями и сюжетами, которые
уже существуют в реальности, но еще не стали объектами художественного описания.
В таких условиях главные требования предъявляются к сценарному материа¬
лу. На первом же этапе студия ставит задачей сформировать объемный драматур¬
гический пакет, куда войдут темы и сюжеты, еще не освоенные экраном. Молодеж¬
ная и клубная среда, современные городские истории, лирико-приключенческие
сюжеты, жанровые фильмы, опирающиеся на сегодняшний быт, стиль поведе¬
ния и сленг, составят примерный сценарный диапазон. Мы хотим показать опре¬
деленный срез действительности, который уже не поддается привычной эстетике,
но еще не выработал собственные художественные критерии. Проще говоря, мы
предполагаем взглянуть на жизнь не в формах нормативного жанра, персонажных
амплуа, мифов и словаря, а исходя из классического признака любой «новой вол¬
ны», которая возникает при встрече свободного от стереотипов авторского взгляда
с непосредственной реальностью.
657
Кино на ощупь
Важная проблема заключается и в адресности картин. Очевидно, что сего¬
дня уже нет единого зрительского массива, сплоченного общей идеологией и си¬
стемой эстетических критериев. В этом смысле представляется перспективным
сделать первую ставку на продвинутые группы зрителей, в основном молодежи,
задающей стилевой тон и обладающей авторитетом в своей среде. Ориентируясь
на эту прослойку, студия предполагает запустить первый пакет фильмов (четыре-
шесть неортодоксальных городских историй, написанных молодыми сценариста¬
ми и снятых молодыми режиссерами) и по возможности отследить резонанс мето¬
дами оперативной социологии. Результаты помогут скорректировать содержание
дальнейших пакетов и, при условии налаженной производственной базы, вывести
их в тиражное производство.
«Сеанс». 1997. № 16. Производственно-творческий проект для студии «Жесткое время»
был написан Сергеем Добротворским в декабре 1996 года.
658
Приложение
Анджей Вайда и проблема личности
в польском кино конца 60-х — 70-х годов.
Дипломная работа
В 1968 г. на страницах журнала «Синема» Анджей Вайда признался: «Я поставил
12 фильмов, меня классифицировали определенным образом, закаталогизирова-
ли, мне придали определенное «лицо», выдали своего рода «паспорт», в котором от¬
метили мой «почерк», моих персонажей, мои слабости»1. Это признание безуслов¬
но свидетельствует о критической оценке сделанного раньше, о подходе режиссера
к новым рубежам.
Время показало, что конец 60-х действительно стал переломным моментом
в творчестве А. Вайды. Конец 60-х связан для него с серьезной переоценкой, с раз¬
облачением мифа, в том числе и «мифа о себе», — того самого «паспорта» и «лица»,
которые критика и зрители вручили режиссеру и которые он порой безропотно,
порой бунтуя пронес через десятилетие.
Разговор о Вайде, в том числе и в советской критике, возник почти сразу же
с появлением его первых работ. При всей разности оценок и суждений создает¬
ся достаточно законченный портрет режиссера, размышляющего о судьбах воен¬
ного поколения, о судьбах своей страны на переломных этапах истории; фикси¬
руются особенности его почерка и стиля, его мировоззрения и эстетики. Едва ли
не самый веский аргумент внес в этот разговор сам Вайда, создавший в 1969 году
фильм Всё на продажу — исповедь одновременно страстную и ироничную, в кото¬
рой рассказал о проблемах, занимавших его, и о людях, шедших бок о бок с ним
в искусстве, в которой продемонстрировал и трезво оценил свои прошлые удачи
и неудачи.
Этот прежний период творчества режиссера, уже ставший достоянием кино-
классики, хорошо изучен, обстоятельно описан в критической литературе. На рус¬
ском языке вышла монография М. Черненко, широко освещающая работы Вайды
до 1965 года 2.
Однако новый этап, начавшийся на рубеже 70-х годов, не получил еще в нашей
литературе сколько-нибудь систематического изложения. В свете вышеуказанной
постановки проблемы настоящая работа не претендует на исчерпывающий ана¬
лиз, но исследует лишь один аспект творчества режиссера - проблему личности,
возникающую в фильмах конца 60-х — начала 70-х годов.
1 Цит. по: Хренов Н. Творческий процесс в киноискусстве. - В сб.: Творческий процесс и художественное
восприятие. Л„ Наука, 1978, с. 107.
2 Черненко М. Анджей Вайда. М., Искусство, 1965.
661
Кино на ощупь
Глава I
Начало 70-х для Вайды ознаменовано существенным пересмотром его художе¬
ственной манеры, разрывом с им же созданной традицией. Для того, чтобы пред¬
ставить, в чем заключается новизна подхода к концепции личности, следует хотя
бы в общих чертах наметить пути формирования образа героя, ставшего неотъем¬
лемой константой творчества Вайды конца 50-х - начала 60-х годов.
Здесь вспоминается следующее: среди большого числа определений, занесен¬
ных в паспорт режиссера, особенно выделяется «один из основателей «польской
школы» кино». Поэтому закономерно искать корни родословной вайдовского героя
в контексте процессов, общих для польского кино тех лет.
Однако при таком подходе возникают трудности. В критике стало уже своего
рода штампом, привычным понятием утверждение о невозможности выработать
единый взгляд на «польскую школу». Под сомнение ставятся не только общность
конкретных художественных принципов «школы», но и сам факт ее существования.
Не вдаваясь в нюансы спора, приведем лишь аргументы, непосредственно за¬
трагивающие исследуемую тему.
Европейская критика, провозгласившая рождение феномена польской кине¬
матографии, в числе его сущностных признаков называла «интеллектуальность
и дискуссионность идейного смысла, бурную увлеченность эстетическим освое¬
нием материала, напряженную конфликтность сюжета, в центре которого кризис¬
ный момент судьбы человека»3.
В 1963 году (то есть к моменту, когда большинство картин, причисленных
в актив «школы», уже увидели свет) И. Рубанова, признавая за польской кинемато¬
графией определенное стилевое своеобразие на основе единства жизненного мате¬
риала, все же считала разговоры о «школе» преждевременными4. В то же время ее
польский коллега Б. Михалек указывает на то, что «при всем богатстве авторских
индивидуальностей» польские фильмы были все же «явлением монолитным»,
и датирует кризис уже 1960-1962 годами5.
Р. Соболев вообще отрицает существование направления, связанного с кон¬
кретными именами. По его мнению, проблематика и стилистика работ «школы»
была заложена уже в первых послевоенных работах Якубовской, Форда, Рыбков-
ского. Поэтому Р. Соболев предлагает заменить термин «школа» на более гибкий -
«национальная кинематография»6.
3 См.: Рубанова И. О новых поисках польского киноискусства. - В сб.: Вопросы киноискусства. Вып. 5.
М., АН СССР, 1963, с. 264.
4 Там же, с. 265.
5 Михалек Б. Заметки о польском кино. — Яницкий С. Польские кинематографисты о себе. М., Искусство, 1964, с. 158.
6 Соболев Р. Ежи Кавалерович. М., Искусство, 1965, с. 84-86.
662
Приложение
Еще сложнее дело обстоит с вычленением круга вопросов и тем, специфиче¬
ски разрешаемых «польской «школой». В целом эти вопросы принято связывать
с «военной драмой поляка», исследованной в работах Вайды, Кавалеровича, Мун¬
ка, Хаса, Ленартовича, Петельских и др. Польский киновед Ст. Кушевский, при¬
знавая существование «школы» как явления, называет ее главной темой «судьбу
человеческой личности на фоне исторических процессов»7. С этим трудно не со¬
гласиться, но, тем не менее, Б. Михалек, формулирующий почти все фундамен¬
тальные положения «школы» под заголовком «драма поляка», находит «интеллек¬
туальную и познавательную бедность фильмов этого направления и то, что эти
произведения (...) не сумели объяснить общественные, политические и психологи¬
ческие причины польской драмы»8.
Отметим также и то, что некоторые польские критики (например, Я. Котт) пы¬
тались свести новые тенденции польского кино того времени к освобождению от
негативного влияния «украшательских мотивов советского киноискусства», рез¬
кому разрыву с «канонами» социалистического реализма. В этом смысле наибо¬
лее типичными образцами «школы»назывались «черные» фильмы на современ¬
ную тему вроде печально известного Восьмого дня недели А. Форда9.
Линию современности в «польской школе», начиная с 1960-1963 годов, отме¬
чает Я. Маркулан10 11.
Таким образом, действительно не представляется возможным вывести закон¬
ченное определение «школы». Термин, до сих пор бытующий в киноведческой лите¬
ратуре, означает скорее объективный этап становления польского киноискусства,
нежели действительно отражает всю сложность протекавших в нем процессов. В то
же время наиболее убедительно общность интересов «школы» продемонстрировала
дальнейшая эволюция польского кино, а именно тот момент, когда следующее по¬
коление кинематографистов провозгласило разрыв с традициями «школы»11. Едва
7 Кушевский С. Современное польское кино. Варшава, Интерпресс, 1978, с. 37.
8 Михалек Б. Заметки о польском кино, с. 116.
9 См.: Юренев Р. Киноискусство социализма и мировой кинопроцесс. - Искусство кино, 1981, № 3, с. 133.
10 Маркулан Я. Кино Польши. М. - Л., Искусство, 1967, с. 181.
11 Здесь следует внести уточнение. Под «первым поколением» польских режиссеров обычно понимают
тех, кто пришел в кино еще до войны, а затем возрождал послевоенное искусство (В. Якубовская,
А. Форд, Я. Рыбковский, Л. Бучковский). Второе поколение, с которым и связывается понятие «школы»,
представлено именами Вайды, Мунка, Хаса, Кавалеровича, Петельских, Конвицкого, Ленартовича
и др. «Третий призыв» датируется концом 60-х годов, то есть временем дебютов в игровом кино
Кш. Занусси, Р. Залусского, А. Жулавского, М. Пивовского. Сейчас работают уже четвертое и пятое
поколения (Кш. Войцеховский, Кш. Кесьлевский, Ф. Фальк, А. Краузе, Г. Круликевич). Но важно учитывать,
что проблему поколений в польском кино нельзя свести к одной хронологической последовательности.
663
Кино на ощупь
ли это был отказ от устоявшихся схем и штампов действительного направления
в искусстве: полемика происходила в первую очередь в тематической сфере. Отвер¬
гая «школу», молодые отвергали ее темы, следовательно, и само понятие «школы»
сводимо к единству исследуемых тем и явлений. Этого мало для школы, но доста¬
точно для генерации. Трудно не согласиться с Б. Михалеком, предрекавшим кризис
школы в связи с тем, что «драма поляка», прежде волновавшая всех, теперь потеря¬
ла силу12. «Судьба поляка, даже в ее общечеловеческом измерении, перестала вол¬
новать мир, перестала волновать нас самих, ибо оказалось, что современная дей¬
ствительность сдала эту проблему в архив истории», - писал Б. Дроздовский13.
Принимая термин «школа» с оговорками, мы все же не можем не учитывать ее
принадлежности строго очерченному кругу психологических и социально-исто¬
рических процессов, по-разному преломившихся в работах мастеров того времени.
Эта общность общественных интересов, принимаемая подчас за творческую
солидарность, проступает и в множественном образе героя польской кинематогра¬
фии конца 50-х - начала 60-х годов.
Потому, говоря о формировании концепции личности в фильмах Вай¬
ды, необходимо рассмотреть эту концепцию в ее, в широком смысле, -
онтологическом (социально-политическом, историческом, общественно-де¬
терминированном) аспекте.
Вайду, как и его современников, занимают вопросы, обусловленные опытом
поколения, прошедшего Вторую мировую войну. «Бытийная» сфера существования
личности в этом контексте характеризуется ситуациями, требующими предельно¬
го напряжения всех душевных сил, мобилизации всех внутренних возможностей
человека. Присутствие объективно заданной необходимости, некоего внеличного
обязательства перед лицом происходящего моделируют многие сущностные черты
героя первых картин Вайды — в том числе и его этический кодекс. Императивные
категории духовного движения личности охватывают такие сугубо актуальные для
военной генерации понятия, как самопожертвование, выбор, долг, героизм, преда¬
тельство. Причем острота постановки вопроса диктуется недвусмысленностью его
Приходится признать как общность первого и второго поколений, так и единство молодых, независимо
от времени их выступления. Это объясняется многими причинами, в том числе, на наш взгляд, -
влиянием творчества Кш. Занусси, серьезно и надолго определившего облик молодого польского
кино. Разрыв с традициями, о котором идет речь, осуществило «третье поколение». Этот разрыв и стал
наиболее принципиальным. (См.: Соболев Р. Пути польского кино. - В сб.: Киноискусство наших друзей.
М., Знание, 1979, с. 78-81; Кушевский С. Современное польское кино, с. 84-106; Закржевская Л. От имени
ровесников. - Советский экран, 1973, № 3, с. 16).
12 Михалек Б. Заметки о польском кино, с. 160.
13 Дроздовский Б. Стабилизация или застой? - Искусство кино, 1965, № 3, с. 89.
664
Приложение
разрешения: плата за ошибки одна — смерть. Война с ее безжалостностью к слабым
и заблудшим, с ее жестоким исходом и трагической определенностью выступает
по отношению к личности как внешняя сила, как объективная мера человеческих
ценностей. Она создает острейшие психологические коллизии, провоцирует неот¬
ложную потребность выбора и самоопределения.
Конечно, при таком подходе к проблеме подстерегают опасности отвлечения,
психологической абстракции. Но все же нельзя согласиться с одним из самых воин¬
ственных оппонентов Вайды, критиком 3. Калужинским, который писал, что поль¬
ский кинематограф «не столько ищет ответа на вопрос, чем была и что означала
война, сколько видит в ней повод для эффектных неврастенических сетований»14.
Для Вайды проблема «Человек и Война», за исключением, пожалуй, Канала, нико¬
гда не обращалась автономной конструкцией, вырванной из социально-историче¬
ского контекста. Мы выделяем онтологические предпосылки рождения личности
как эстетического феномена кинематографа Вайды прежде всего потому, что ге¬
рой Вайды с самых первых его работ неотделим от всего комплекса факторов, по¬
зволяющих трактовать его в качестве феномена исторического и социального.
Человек и Война, соприкасаясь в эстетическом отношении в образе двух про¬
тивоборствующих сил, одновременно окружены историческими реалиями. Бо¬
лее того: сама проблема личности, поставленная Вайдой в его ранней трилогии
и в Лётне, требует признания ее проблемой социально-исторической. Здесь не¬
обходимо учитывать сложную диалектику исторического и психологического, ин¬
дивидуального и множественного, вечного и актуального в образах Вайды. Указы¬
вая выше на приверженность режиссера темам, возникшим как результат опыта
военного поколения, мы подразумеваем и специфику этого опыта, специфику
«польского варианта» восприятия войны. Не будет большой ошибкой утверждение
о дуалистическом характере этого восприятия. С одной стороны — героизм,
самоотверженность людей, сражающихся за свободу Родины. С другой - траги¬
ческая судьба польского Сопротивления, противоречия его исторического исхода.
Горькие воспоминания о недавних событиях приводили многих польских режис¬
серов к размышлениям о фатальной обреченности «драмы поляка», к «онтологи¬
ческому пессимизму», к невеселым выводам о тщете и бренности всякого челове¬
ческого усилия. Именно так трактовались образы Эроики Мунка, Базы мертвых
и Старшины Каленя Э. и Ч. Петельских, Креста за отвагу Хаса. Личность здесь
либо деградировала духовно (Ostinato lugubre — вторая новелла Эроики), либо по¬
гибала физически без видимого смысла (Калень), а иногда и с видимым вредом для
общего дела (Чапран и Анклевич из Апреля В. Лесевича), либо выдвигала такие мо¬
тивировки героизма, подвига, долга, что последние теряли не только возвышенный
14 Kalizynski Z. Salon dla miliona. Warszawa, Czytelnik, 1966, s. 126.
665
Кино на ощупь
ореол, но и всякое уважительное к себе отношение (солдат Соха из Креста за от¬
вагу или Дзидзюсь Гуркевич из Эроики).
Влияние этой концепции не обошло и Вайду. Но в то же время он предпринял
едва ли не самую значительную в польском кино попытку преодоления двойствен¬
ности и поиска единого взгляда. Вайда с самого начала пытается определить ту
«реальность истории», которая, по справедливому выражению И. Рубановой, есть
«взаимосвязанность судеб личности и народа»15.
То, что для мрачноватого ирониста Мунка или склонного к парадоксам Хаса
дает основания судить об универсальной иллюзорности действий их героев, для
Вайды прочно скреплено узами исторической закономерности. Личность не изо¬
лируется от истории, но всей полнотой своего бытия сопрягается с ней. Личность
в своем единственном качестве становится таковой, лишь осознав себя частью
общего коллективного, единого для многих. Мотив самоопределения личности
в ряду всеобщего доминирует у Вайды в качестве залога обретения устойчивых
ценностей, позитивного нравственного заряда.
Тема войны решается Вайдой в категориях трагического. Драматическо¬
му плюрализму противопоставляется трагическая солидарность истории и чело¬
века, личности и народа.
Еще Гегель отмечал, что возможность появления трагической коллизии по¬
является лишь тогда, когда складывается «нравственная жизнь народа», а человек
осознает и проявляет себя как составная часть этой нравственной жизни. Трагедия
рождается лишь из собственной деятельности индивида, однако эта деятельность
и вытекающие из нее столкновения должны иметь характер необходимости16.
«Трагическое, — пишет Ю. Борев, - берет наиболее общую и центральную
проблему (...) — проблему взаимоотношения личности и общества - в кульмина¬
ционном пункте, в той высшей точке, где общество расстается с личностью и где
личность наиболее полно растворяется в обществе, отдавая ему себя целиком как
неповторимая индивидуальность»17.
Трагическая связь индивида и общества дает Вайде возможность видеть
в судьбе личности судьбу народа. Более чем через десять лет со времени появле¬
ния Пепла и алмаза, Поколения, Канала Вайда так определит смысл своих героев:
«Они воевали, рисковали собой, делали все, что могли, чего требовал от них долг,
Родина, патриотизм, не имея никаких шансов, никаких возможностей победить;
зная, что они проиграют свою войну, но народ, Польша ее выиграют»18.
15 Вопросы киноискусства. Вып. 7, с. 272.
16 Гегель Г.-B. Энциклопедия философских наук, т. 3. М., Мысль, 1977, с. 233-240.
17 Борев Ю. Основные эстетические категории. М., Высшая школа, 1960, с. 168.
18 Вайда А. Им я обязан всем... — Советский экран, 1975, № 9, с. 16.
666
Приложение
История становится для Вайды практически основным критерием деятель¬
ности человека. Момент коллективного важен в образе личности как средство ти¬
пизации ее черт, приближение к социальной и исторической правде. Не случайно
важнейшая тема фильмов Вайды конца 50-х - начала 60-х - тема поколения, с ее
общественной детерминированностью и социальной типажностью.
Таким образом, онтологические предпосылки формулы личности связывают¬
ся в эстетике Вайды с историческими и социальными моментами бытия. Но наряду
с объективными условиями необходимо наметить и иной аспект, который мы вы¬
деляем здесь в гносеологический, субъективно-познавательный план дея¬
тельности героя. На наш взгляд, он упирается в проблему интерпретации в твор¬
честве Вайды польской романтической традиции.
А. Яцкевич, исследуя причины внезапного взлета польской кинематографии
в середине 50-х, в числе главных причин называл соединение кино с «большой ли¬
тературой»19. Б. Михалек по этому поводу писал: «Литература «покорила» польское
кино (...) особым «литературным» типом мышления, своеобразием приемов компо¬
зиции, гражданской смелостью...»20
«Литературный тип мышления», в том числе и в смысле широкого освоения
наследия национальной литературы, присущ и Вайде. Однако романтическая тра¬
диция, преломляясь в творчестве режиссера в своем специфически-польском ва¬
рианте, понимается Вайдой совершенно особо.
Согласно нормативам романтической эстетики, личность составляет равно¬
правную сферу в отношениях с миром. Тезис Фихте о том, что мир - «творения
«Я», а если речь идет об отношении «Я» и «не Я», то выше «Я», — имеет для романти¬
ков принципиальный гносеологический смысл21. Шеллинг, приветствуя раскован¬
ный человеческий дух, указывает на его право противопоставлять всему сущему
свою действительную свободу и спрашивать «не о том, что есть, а о том, что воз¬
можно»22. Соответственно, как пишет В. Ванслов, «непременным условием и свой¬
ством типа романтического героя является способность ставить и ценить внутрен¬
ний мир выше внешнего, сосредотачиваться на духовных ценностях и жить ими,
когда реальность не дает удовлетворения»23.
Вместе с тем романтизм «рассматривает внутреннюю жизнь человека имма¬
нентно, фактически вне и независимо от ее чувственно-практического выражения
19 См.: Jackiewicz A. Powrot Kordiana. — Kwartalnik filmowy, 1961, № 4, s. 28-30; Jackiewicz A. Historia literatury
w moim kinie. Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, 1974, s. 215-221.
20 Михалек Б. Литература и кино. Литераторы и кинематографисты. - Искусство кино, 1966, № 8, с. 59.
21 См.: Лекции по истории эстетики, кн. 2. Л., ЛГУ, 1974, с. 97-100.
22 Литературная теория западноевропейских романтиков. М., МГУ, 1980, с. 135.
23 Ванслов В. Эстетика романтизма. М., Искусство, 1966, с. 141.
667
Кино на ощупь
и конкретно-исторически обусловленных действий и поступков героя, а также
влияния внешней среды»24.
Польский романтизм, безоговорочно принимая положение о субъективной
значимости индивида, все же вносит некие коррективы в нормативную эстетику
В первую очередь, что особенно важно для понимания преемственности традиции
Вайдой, герои Словацкого, Жеромского, Мицкевича не изымаются из чувственно¬
конкретной среды, но рисуются творческими созидающими личностями, стоящи¬
ми в гордой оппозиции к жизни. Исторический тип польского романтизма с его
пафосом борьбы и национального возрождения определил тот факт, что «всех его
героев объединяет исключительность судьбы или душевного склада, особая роль
в судьбах народа в борьбе за его свободу»25.
Принимая эту сторону национального романтического характера, Вайда ак¬
тивно полемизирует с другой — той, которая предписывает личности субъектив¬
ную агрессию по отношению к миру. Романтический синтез «герой-личность»
и вечная романтическая антитеза «личность против всех» трактуются режиссе¬
ром практически обратно традиции. Романтики утверждали победу субъективно¬
го над объективным. Вайда показывает обратное — торжество внешнего закона над
лирической стихией индивидуальности. Здесь смыкаются онтологическая и гно¬
сеологическая сферы вайдовского героя — объективная трагическая коллизия
и субъективно-лирическое начало личности, трагическая ситуация, требующая
предельной нравственной определенности, и драматическая сложность характе¬
ра. «Компрометация романтического героизма в пользу антиромантизма и рацио¬
нализма»26 в эстетике Вайды тождественна компрометации драматического харак¬
тера в пользу трагического.
Романтическая транскрипция личности у Вайды есть средство драматиза¬
ции эпических отношений. Изначально внедряясь в область лирического нача¬
ла, Вайда резко сталкивает его с необходимостью осваивать объективные законы.
Отсюда и еще одно непременное условие человеческого бытия «по Вайде». Если
романтическая личность априорно утверждает свою ценность, то в системе Вай¬
ды эта ценность рассматривается лишь в постоянном сличении с действенной,
коммуникативной сферой. Решающее место в этическом своде личности занима¬
ет проблема выбора, объективно заданного жизнью. Только эта категория по¬
зволяет герою раскрыть полноту своего нравственного потенциала, только соот¬
несение себя с миром на уровне трагической коллизии дает право на ощущение
ценности.
24 Иезуитов А. Социалистический реализм в теоретическом освещении. Л., Наука, 1975, с. 113.
25 Стахеев Б. «Веневский» Ю. Словацкого. - Словацкий Ю. Беневский. М., Художественная литература, 1973, с. 18-19.
26 Powrot Kordiana. - Kwartalnik filmowy, 1961, № 4, s. 32.
668
Приложение
Таким образом, можно говорить о решающем значении в поэтике Вайды «ро¬
мантической» личности, разрушающей вокруг себя романтические обстоятель¬
ства, и о романтической личности, поставленной в трагическую ситуацию.
Думается, фильм Вайды, который со всей очевидностью продемонстрировал
бы его отношение к проблеме романтического героя, так и остался неосуществлен¬
ным. Режиссер признавал, что его заветной мечтой была постановка картины, по¬
священной «тем людям, которых руководство Сопротивления старалось спасти для
будущего, — молодым поэтам, мыслителям, художникам, будущему нации, ее несо-
стоявшемуся золотому фонду. Людям, которые не могли и не хотели себя сберечь,
ибо будничный боевой подвиг был для них важнее собственной жизни»27. Излюб¬
ленный тип романтиков, творческая личность, чье субъективное начало доведено
до максимального предела, как видно, приносится в жертву общему делу, долгу пе¬
ред историей, перед народом.
Уже в момент своего дебюта режиссер ясно постулировал принцип героя,
хотя многое в Поколении нащупывается интуитивно, как следствие собственно¬
го опыта, а не зрелой творческой позиции. Рядом с романтическим образом Яся
Кроне, открывающего галерею позднейших вайдовских персонажей, соседствует
характер Стаха — прямого, бескомпромиссного, уверенного. Тадеуш Ломницкий,
исполнявший роль Стаха, отмечал главной чертой своего героя «ту смесь наде¬
жды и иронии, с которой обычно спрашивает молодежь, слишком часто поучаемая
взрослыми»28. И все же Стах - зрелая личность, уяснившая правоту своего дела,
нашедшая свое место в общей борьбе.
Другое дело Ясь — «типичный романтический герой. Он нервен и легко уяз¬
вим, растерян и впечатлителен, его метания, неумение быть рационалистом (хотя
ему этого и хочется), подверженность первым импульсам ставят его в положение
жертвенно-романтическое, окружают ореолом мученичества»29.
Весь путь Кроне — поиск связи с общей судьбой, движение от индивидуальной
романтической коллизии — к коллизии всеобщей. Я. Маркулан справедливо ука¬
зывала на то, что «генеалогия ошибок Яся в его жизненной позиции, в его инди¬
видуализме»30. Лишь осознав свою действительную, а не мыслимую причастность
к проблемам народа, Ясь получает право на трагедию. М. Черненко вводит здесь ка¬
тегорию «трагической вины»31 — отказывая в убежище Абраму и понимая, что тот не¬
минуемо погибнет, Ясь открывает трагическую истину: его собственные поступки
27 Вайда А. Им я обязан всем, с. 16.
28 Цит. по: Собанский О. Верное себе поколение. - Польша, 1974, № 4, с. 36.
29 Маркулан Я. Первый фильм Анджея Вайды. - Искусство кино, 1965, № 1, с. 94.
30 Там же, с. 96.
31 Черненко М. Анджей Вайда, с. 33.
669
Кино на ощупь
имеют не только субъективную, для него сущую значимость, но и всеобщий резо¬
нанс. Характерно, что Вайда отказался от записанной в сценарии сцены: наутро Ясь
видит труп Абрама. В фильме дальнейшая судьба еврейского юноши неизвестна.
Исключается мгновенная, импульсивная реакция Яся на чужую смерть и страда¬
ния, что было бы вполне в духе романтического героя. Свою трагическую вину Кро¬
не постигает не через рефлексию, а через сознание. Отныне он трагический герой.
Его смерть во имя спасения товарищей выглядит искуплением. Окруженный
врагами, Ясь бросается в пролет лестницы, подняв правую руку, словно знак со¬
единения со Стахом, Доротой и другими борцами.
Было бы заманчиво сличить предсмертный жест Яся с финальным жестом героя
следующей картины Вайды - поручика Задры из Канала, тем более что в системе ре¬
жиссера, использующего самоцитаты как полноправный художественным прием, по¬
добный смысловой «мостик» был бы оправдан. Но все оказывается куда сложнее. Ка¬
нал, который по своей структуре более всего подходит под определение трагедии, по
существу меньше всего таковой является. С самого начала Вайда обнажает прием, как
бы призывая зрителя к аналитическому подходу. Судьба отряда Задры известна за¬
ранее — все герои погибнут. Режиссер сам определяет жанр предстоящего действия -
трагедия. И по всем канонам трагического из круга зрительского внимания изначаль¬
но изымаются возможности отвлечения от «высокого», рационального восприятия.
Эксперимент с трагедией в Канале не удался. Причины неудачи, на наш
взгляд, верно и подробно изложены в монографии М. Черненко, поэтому не будем
останавливаться на них еще раз и приведем лишь конечные выводы, интересные
в свете концепции личности.
М. Черненко справедливо указывает на противоречие, заложенное в самой
сюжетной модели фильма, — отсутствие общей для всех героев точки «пересечения
трагического»32. В определенном смысле это противоречие дублируется и в под¬
ходе к личности. В Канале Вайда не сумел избежать дуализма в обрисовке геро¬
ев, двойственности, успешно преодоленной в Поколении, а затем в Пепле и алмазе.
Широко известно высказывание режиссера по поводу Канала: «Содержание филь¬
ма не историческая фреска, а переживания конкретной группы людей»33. Отсут¬
ствие масштабов исторического, верховной силы и обусловило в Канале ведущий
элемент экзистенциалистской драмы, рефлексии, противопоказанной самому су¬
ществу трагического. Показывая обреченность романтического жеста или
страшные последствия предательства, Вайда на сей раз не ищет позитивного исто¬
рического идеала, включающего судьбу человека в закономерность истории. Одни
персонажи Канала сгибаются под давлением нечеловеческих условий, другие
32 Черненко М. Анджей Вайда, с. 46.
33 Цит. по: Janicki S. Film polski od A do Z. Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977, s. 47.
670
Приложение
выдерживают испытание, но и те и другие изолированы от трагической коллизии.
Слишком локальная психологическая ситуация позволяет трактовать героев с точ¬
ки зрения чистой экзистенции, движения абстрактного бытия.
Социальные типы поколения и отягченные рефлексией герои Канала явились
как бы составными образа, связанного с самым значительным успехом Вайды —
образом Мачека Хелмицкого из Пепла и алмаза.
И. Рубанова предлагает следующую типологию героя польского военного
фильма: «герой-делегат», вобравший лучшие черты группы, среды, класса и со¬
хранивший при этом свою индивидуальность; герой, представляющий групповые
черты, но индивидуальности лишенный; герой, концентрирующий идеальное. И,
наконец, - Мачек Хелмицкий, выделенный в особый тип34. Персонажи Поколения
и Канала входят в первую группу — «героев-делегатов», Мачек олицетворяет новую
диалектику исторического, социального и лирического, индивидуального. И. Ру¬
банова справедливо видит новизну сплава и в том, что «мироощущение героя вы¬
явлено не текстом диалогов, не перипетиями фабулы, а образом героя в его связях
с основным фоном действия»35.
Заметим, что соотношение трагического и драматического заявлено в обра¬
зе Мачека также на ином уровне. Гepoю Цибульского «привиты» все черты роман¬
тического типа, так или иначе проявившиеся в прошлых работах, — эмоциональ¬
ность, аффектация, противоречивое ощущение долга, внутренняя нестабильность.
В то же время трагическая атмосфера предстает в Пепле и алмазе наиболее выра¬
зительно и очевидно. Здесь нет рационального отстранения первых кадров Кана¬
ла. Основная коллизия Пепла и алмаза, трагическая вина Мачека выстраиваются
путем пластического и смыслового контрапункта.
Первый эпизод фильма, в котором Мачек и Коссецкий убивают двух комму¬
нистов, сменяется сценой прохода Мачека по городу, среди таких же, как и убитые,
людей новой Польши. Охваченный общим ликованием, Мачек смотрит на кадры
падения Берлина, сливается с праздничной толпой, вместе со всеми радуется дол¬
гожданной победе. И в то же время Мачек — поляк, стреляющий в поляков...
Трагическая вина Мачека очевидна. Он совершил ложный выбор, примкнул
к АК-овцам и теперь вынужден убивать соотечественников. Сочувствуя внутрен¬
ним метаниям героя, Вайда ни на секунду не сомневается в его виновности, не со¬
мневается настолько, что выносит за рамки действия сам факт выбора, концен¬
трируя внимание только на его трагических последствиях. В фильме, например,
отброшена сюжетная линия романа Андреевского, позволяющая судить о станов¬
лении Мачека и чем-то повторяющая мотивы Поколения.
34 Рубанова И. Битвы за мир - суровы. - Искусство кино, 1980, № 6, с. 146-157.
35 Там же, с. 156.
671
Кино на ощупь
Вместе с тем, как постоянно подчеркивал режиссер, вина героя объективна.
«В противном случае, — замечал Вайда, - мне пришлось бы сказать, что Мачек -
преступник, а фильма о преступнике я бы не мог сделать. Но я могу сделать фильм
о несчастном, страдающем, растерявшемся человеке, сбившемся с правильного
пути»36.
Герой Пепла и алмаза выбрал тупиковую дорогу и теперь, в последний день
войны, пожинает горькие плоды выбора. В условиях новой действительности все
его положительные черты — верность долгу, безоглядная храбрость, готовность
к жертве — оборачиваются своей противоположностью. «Высшая правда», кото¬
рой Мачек доверил свои лучшие побуждения, выявила полную несостоятельность.
«Поэтому, - как писал Б. Михалек, - мы симпатизируем ему (Мачеку - С. Д.), но
отнюдь не солидаризируемся с его поступками»37. Поэтому Мачек обречен вместе
с отжившей исторической реальностью.
Природа героизма Мачека - типично романтическая. «Романтический геро¬
изм, — писал Н. Берковский, — естественная внутренняя потребность; быть геро¬
ем — это значит дать простор и выход лучшим собственным силам...»38. Но высокий
пафос героизма Хелмицкого скомпрометирован жестоко и антиэстетично апри¬
орной неправотой его дела. Внутреннее «я» героя, поглощенное гибнущей общ¬
ностью, уже не в силах повернуть вспять, вновь сделать выбор. Мачек убивает
и гибнет сам, буквально «выброшенный на свалку», как недвусмысленно читается
финальная метафора картины.
Таким образом, Мачек Хелмицкий концентрирует основные качества, с ко¬
торыми связывается постановка проблемы личности на первом этапе творчества
Вайды. Понятие «герой» в этой эстетике сливается с понятием «личность», ибо
только на такой высоте черт отдельного персонажа возможен анализ кардиналь¬
ных проблем времени.
При всей сложности и многогранности внутреннего мира индивида, приве¬
денного в данном случае к знаменателю романтической типологии, герой постав¬
лен в условия трагической коллизии, объективного выбора, то есть — в ситуацию,
требующую осознания себя частью общего. Это и составляет основу конфликтно¬
сти первых фильмов Вайды.
Проблема личности в творчестве Вайды рубежа 60-х не представляется ис¬
черпанной без анализа фильма Самсон. Этот анализ важен еще и потому, что воз¬
никающая в Самсоне концепция личности открывает перспективы будущего ге¬
роя Вайды.
36 Яницкий С. Указ, соч., с. 244.
37 Михалек Б. Литература и кино, с. 58.
38 Берковский Н. Романтический театр. - В сб.: Театр и драматургия. Вып. 6. Л., ИШМиК, 1976, с. 274.
672
Приложение
Самсон создавался в период стабилизации социальных процессов в Поль¬
ше, когда тема войны уже потеряла свой онтологический смысл. И глубоко
закономерно, что именно в этот момент режиссер вновь обращается к прошло¬
му, но уже с иных позиций. Своей идейной направленностью Самсон в большей
степени адресован современности, нежели войне. Вновь и вновь рисуя картины
смерти, страданий, унижения, Вайда словно напоминает - в любых обстоятель¬
ствах человек обязан оставаться личностью. Безусловное качество, роднившее ге¬
роев его прежних лент, — пограничность существования, постоянная готовность
к опасности и смерти — мобилизовала лучшие человеческие качества; отсутствие
объективного экстремума в мирную эпоху такую возможность исключает. И Вай¬
да, воскрешая на экране образ минувшего, предъявляет личности новое требова¬
ние — активное действие. Ни для Мачека, ни для Стаха и Яся, ни для героев Кана¬
ла вопрос активности не стоял. Сама жизнь вовлекала их в свой круговорот, требуя
немедленного действия. Якуб Гольд — герой Самсона, чья судьба осложнена ком¬
плексом национальной неполноценности, стоит перед альтернативой, принять ли
участие в общей борьбе или тихо отсидеться за стенами подвала. Его движение по
жизни моторно, лишено видимой цели. И Вайда, в конце концов, развенчивает эту
пассивно-созерцательную позицию. Якуб находит поддержку в лице коммунистов
и гибнет трагическим героем, определившем свое место в коллективном движе¬
нии. Здесь не случайна и финальная реминисценция с Ясем Кроне.
Акцент в личности Якуба-Самсона перенесен в сферу драматического кон¬
фликта. Герой борется с самим собой, и, хотя общая для всех военных фильмов
раннего Вайды тема единства личности и коллектива доведена здесь до конца, об¬
раз Якуба устремлен в будущее, к герою Пейзажа после битвы с его драматической
стихией. С другой стороны, что тоже важно для сопоставления Якуба и Тадеуша из
Пейзажа..., оба они военным материалом своих экранных биографий скрывают су¬
губо современную проблематику. Это объяснимо уже для 1961 года, когда снимал¬
ся Самсон. Отношения Вайды с современностью складываются отнюдь не идилли¬
чески. Предприняв годом раньше Самсона попытку разгадать «тайну молодых»,
режиссер в Невинных чародеях исподволь приходит к неутешительному для себя
выводу: понятие «личности» постепенно девальвируется среди молодых. Жидень¬
кий налет демонизма и интеллектуальности скрывает усредненность, человече¬
ский стереотип. Правда, в 1960-м Вайда все еще видит за этим истинные проявле¬
ния доброты и любви. Псевдоромантическая поза Базиля из Невинных чародеев на
сей раз изобличена во имя самого же героя, во имя его настоящих чувств.
И все же спустя год Вайда столкнул своего «военного» героя с современно¬
стью. В новелле из международного фильма Любовь двадцатилетних подводит¬
ся своеобразный итог тому, что на современном уровне читалось уже в Самсо¬
не, — человек должен быть личностью. И генеалогию личности режиссер вновь
673
Кино на ощупь
прослеживает от военного поколения, группы, «которая несомненно что-то сбе¬
регла, и багаж которой носит на себе не только печать поспешности и горечи»39.
Герой маленькой новеллы, пожалуй, впервые у Вайды не лишен некоторой
нарочитости, прямолинейности манифеста. Сам факт перенесения этого «поста¬
ревшего Мачека», одного из тех, кто выбрался из каналов и сумел отыскать среди
пепла иллюзии алмазную крупицу истины, в «эпоху джаза» выдает откровенный
вызов. Герой Цибульского — бывший участник сопротивления, а ныне — непримет¬
ный очкарик с портфелем — единственный, кто среди огромной толпы способен на
подвиг, на романтический всплеск. И хотя «безгеройная» эпоха джаза обуславлива¬
ет откровенно издевательский характер подвига — герой бросается в вольер с мед¬
ведями, чем не пародия на шиллеровскую «Перчатку»? — и «хотя ныне герой вла¬
чит весьма обычное существование мелкого служащего (...), он все же личность,
в каждом моменте его жизни кроется потенциальная возможность действия»40.
Веселая игра возвращает его к трагедии, ибо он один из тех, кто «научился сра¬
жаться, но не успел научиться играть»41.
Здесь в оценке образа героя — принципиальное расхождение. М. Черненко по¬
лагает, что тип личности, сложившийся в прежних фильмах Вайды как отражение
трагических диссонансов эпохи, проходит «терапию временем» и обретает, нако¬
нец, устойчивость в современности42.
По мнению критика, дальнейшие отношения режиссера с современностью
должны выразиться в «углубленном, лишенным трагических диссонансов и со¬
мнений исследовании»43.
Я. Маркулан выдвинула менее оптимистичную гипотезу: конфликт Любви
двадцатилетних не примиряет героя с действительностью, а напротив — сталки¬
вает. «Рационализму молодых он (Вайда - С. Д.) противопоставляет эмоциональ¬
ную незащищенность своего героя, а их благополучию, утехам «малой стабилиза¬
ции» житейскую неустроенность бывшего партизана»44.
Дальнейшая эволюция режиссера доказала, думается, правильность второй
гипотезы. В следующей работе на современную тему - Охоте на мух — безлико¬
сти современного человека вновь противопоставляется этический кодекс героя-
личности, но уже не в качестве персонифицированного типа, а, увы, недосягае¬
мого критерия. Думается также, что и единственная крупная киноработа Вайды,
39 Ворошильский В. Введение к «Пеплу». - Искусство кино, 1966, № 3, с. 88.
40 Там же.
41 Пруссакова И. История Збышека Цибульского, рассказанная не им самим. - Аврора, 1971, № 7, с. 48.
42 Черненко М. Анджей Вайда, с. 138.
43 Там же, с. 139.
44 Маркулан Я. Кино Польши, с. 181.
674
Приложение
появившаяся в семилетие между Любовью двадцатилетних и Охотой на мух, ле¬
жит в русле сходных задач. Экранизировав в 1965 году классическое произведение
польской литературы «Пепел» С. Жеромского, режиссер выдвинул весьма знаме¬
нательную концепцию личности.
«В Пепле, — писал М. Черненко, — Вайда чувствует себя куда свободнее, чем
в прежних своих картинах. Порой даже слишком свободно»45. Это относится ко
всем компонентам картины, в том числе и ее героям. Никогда еще Вайда столь ак¬
тивно не утверждал лирическое, субъективное в личности, никогда еще так откры¬
то не проповедовал романтический облик героев. Даже страшная историческая
перспектива, погубившая национальную свободу, здесь словно отступает, словно
побеждается бурной одержимостью, напором, воистину языческим ощущением
молодости и жизни.
Пафос Пепла точно выразил В. Жукровский: «Вайда будто приблизил к нам
проблемы эпохи: чувствуйте, мыслите, не ждите, покуда судьба дарует нового во¬
ждя, спасайте Отчизну, берегите Свободу!»46 47
Думается, слова В. Жукровского объясняют многое. Уход в глубины националь¬
ной истории дал режиссеру возможность создать образ личности, полностью со¬
ответствующей духу и букве романтической поэтики. И именно этот образ с его
накалом страстей, с его обостренной индивидуальностью стал для Вайды носталь¬
гическим возвратом к той внутренней значимости, которая была и триумфом, и тра¬
гедией его прежних героев. Недаром критика увидела перекличку Рафала Ольбром-
ского и Кшиштофа Цедро с персонажами Поколения, Пепла и алмаза, Лётны41.
И тем не менее Пепел знаменует последний возврат к романтическому герою.
«Современная комедия» Охота на мух представила совершенно иной, новый для
Вайды тип личности — вернее «антиличности». Влодек из Охоты на мух — прямой
потомок Костека из Поколения и Древновского из Пепла и алмаза. Но если рань¬
ше эти ничтожества оставались на периферии проблематики, самим фактом своего
существования лишь подчеркивая самоотверженность бытующего рядом героизма,
то в Охоте на мух «антиличность» выдвигается на первый план. Покуда проблема
решается средствами сатирической комедии, язвительная тема феминизации зву¬
чит скорее обидно, нежели драматично. Но сквозь злоключения неудавшегося пере¬
водчика видно и серьезное опасение режиссера за измельчание души современного
человека и, одновременно, - самоирония. Пока герои Вайды искали ответа на тра¬
гические вопросы, в мире уютно поселились люди, не способные на мало-мальски
значительный поступок; «макбеты», чьи руки обагрены кровью всего лишь... курицы.
45 Черненко М. Пепел надежд на дорогах истории. - Советский экран, 1967, № 11, с. 12.
46 Цит. по: Janicki S. Op. cit., s. 84.
47 Ворошильский В. Указ, соч., с. 88.
675
Кино на ощупь
«Влодек не Макбет, не герой, вообще не личность, — писал А. Липков, - он
не может стать переводчиком не только потому, что он посредственность. Главное
в том, что ему легче, лучше, удобнее быть посредственностью»48.
Пройдет больше десяти лет, прежде чем Вайда в Дирижере сведет беспо¬
щадный счет с посредственностью, с душевной ленью и пассивностью. Тогда же,
в 1969-м, назревал серьезный кризис в его творчестве. Прежний тип личности ухо¬
дил в прошлое навсегда, и сам режиссер сознавал это, подводя фильмом Всё на
продажу итоговую черту сделанному за прошлые годы, показывая все сильные
и слабые стороны героя, связанного с именем Цибульского, с военным поколени¬
ем. Сама жизнь, социально-политическая обстановка Польши, ее психологический
климат требовал нового героя. И Вайда создал его в Пейзаже после битвы.
Глава II
Рецензируя Охоту на мух, А. Липков писал: «Вайда как будто силится стать иным,
не тем, каким его знают по экрану. Он действительно стал иным. И по точной ла¬
коничности, меткости языка, по мастерству владения средствами кино он не усту¬
пит прежнему Вайде. А в остальном все здесь кажется мельче таланта режиссера -
герои, чувства, мысли, сама тема, скорее достойная пера карикатуриста, чем кисти
трагика»49.
К трагедии «новый» Вайда обратился годом позже — в Пейзаже после бит¬
вы. Все в этой работе указывает на сильные стороны «Вайды-трагика» — и широта
постановки проблемы, и историчность, и накал страстей. Болезненные проблемы
времени и личности вновь сплетены в неразделимый узел. Но, тем не менее, про¬
блематику Пейзажа... нельзя рассматривать в отрыве от картин конца 60-х, той же
Охоты на мух, которая «пером карикатуриста» очертила круг вопросов, разрабо¬
танных в Пейзаже... кистью «трагика».
Нетрудно заметить в Пейзаже после битвы элементы авторской копии с Пеп¬
ла и алмаза. Дело здесь, конечно, не в желании повторить успех, выпавший на
долю режиссера двенадцать лет назад, - проекция на фильм 1958 года возникает
в 1970-м как средство контрапунктического сопоставления образного строя
и характеров. Момент контрапункта полноправно входит и в концепцию личности,
динамически сближая образ Тадеуша из Пейзажа... и того героя, который нашел
свое программное воплощение в характере Мачека Хелмицкого и его двойников.
На первый взгляд может показаться странным, что Вайда, уже расставшись во
Всё на продажу с военной памятью, уже уплатив долг единомышленника погиб¬
шему Цибульскому, вновь воскрешает «тип Мачека». Странно тем более, что Вайда
48 Липков А. Охота на мух. - В сб.: На экранах мира. Вып. 3. М., Искусство, 1972, с. 125.
49 На экранах мира. Вып. 3, с. 125.
676
Приложение
конца 60-х далек от идеализации своего героя. Например, судьба одного из самых
негативных персонажей польского военного кино, Виктора Равича из Как быть
любимой Войцеха Хаса, сплетается с жизнью Цибульского. Эпизод с немцем, яко¬
бы убитым Равичем, становится во Всё на продажу фактом биографии самого ак¬
тера. Тем самым Вайда подчеркивает неоднозначность образа, в котором уживают¬
ся Мачек и анти-Мачек, пересматривает образ своего классического протагониста,
его устоявшееся восприятие.
И все же глубоко закономерно второе рождение Хелмицкого, на сей раз как
отправной точки экранной судьбы поэта Тадеуша, созданного Даниэлем Ольбрых-
ским. Этот, пожалуй, последний в творчестве Вайды «рецидив» Цибульского слов¬
но указывает на важность поставленных вопросов, словно ориентирует на значи¬
мость образов.
Новизна проблематики Пейзажа после битвы сказывается уже в литератур¬
ном материале. Никогда еще Вайде не приходилось иметь дело со столь сжатой,
точной, констатационной формой, лишенной психологических взрывов, метаний,
душевных эксцессов. Боль и страсть скрыты Боровским за внешне бесстрастным
и спокойным рассказом, что безусловно роднит его с киноманерой Анджея Мунка,
одного из самых «антивайдовских» режиссеров раннего этапа «польской школы»50.
Сам факт обращения Вайды к литературе, которая еще несколько лет назад
была бы для него ходом «на сопротивление», говорит сам за себя. Для нового Вай¬
ды этот выбор не случаен. Сам он подчеркивал, что главный вопрос, которым зада¬
вался Боровский, размышляя о войне, - «можно ли требовать от человека, чтобы
он оставался человеком, можно ли измерять его поведение законами «нормально¬
го» гуманизма (...) И тем важнее для героя Боровского (...) остаться человеком, со¬
хранить в себе человеческое»51.
Тот же вопрос поставлен в фильме. Впервые у Вайды ударение в деятель¬
ной сфере перенесено из области «межличного» в область «личного», от по¬
ступка - к решению на поступок. Впервые личность оценивается не тем, как
она поступает, а поступает ли вообще как-то, впервые альтернатива заключает¬
ся не в том, что выбрать, а нужно ли выбирать.
Проза Боровского дала такого рода конфликтности нужный накал. Герой Пей¬
зажа..., поэт Тадеуш, прошел круги лагерного ада, его сознание, впитавшее воен¬
ный кошмар, раздавлено и уничтожено. И тем страшнее деградация героя, что
она происходит с личностью. А. Яцкевич видит здесь очередное преломле¬
ние романтического образа: «С одной стороны герой Боровского рожден веч¬
ной фигурой романтического поэта, изгнанника, интерпретатора истории (...),
50 См.: Рубанова И. Польское кино 1945-1965. М., Искусство, 1966, с. 166-172.
51 Вайда А. Перед будущими работами. - Советский экран, 1971, № 24, с. 14.
677
Кино на ощупь
а с другой - пропущен через безжалостный механизм уничтожения, исковеркав¬
ший и осквернивший душу»52. Тадеуш — личность, переставшая сознавать и не же¬
лающая сознавать себя таковой.
Вайда таким образом предлагает совершенно неожиданный для его стилистики
тип героя. Здесь вновь рождается сопоставление, заложенное в образе, - сопоставле¬
ние с Мачеком Хелмицким. И. Рубанова оценила разницу между Пеплом и алмазом
и Пейзажем... как разницу «истории заблуждения» и «пути прозрения»53. Заметим,
«заблуждение» - в большей степени категория трагической поэтики. Соответствен¬
но и трагическое в образе Мачека переакцентировано на драматическое в образе Та¬
деуша. Мачек, будучи героем-делегатом, представителем коллектива, объединенно¬
го пусть ложными, но субъективно принятыми идеалами, по крайней мере, знал,
в кого стрелять и за что умирать. Хотя Вайда за день до гибели героя и подарил ему
сомнение в правильности выбора, повернуть вспять жернова истории Мачек уже не
в силах. И, сознавая, что только смерть может искупить трагическую вину Мачека,
Вайда одновременно допускает другую возможность: объективно герой наказан, но
субъективно — спасен, ибо избавлен смертью от дальнейшего выбора.
«В предыдущих моих фильмах, — говорил режиссер, — герои часто оказыва¬
лись в безвыходном положении. Героическая смерть была для них единственным
выходом. На этот раз меняется ситуация, меняется и судьба героев»54.
М. Черненко верно замечает, что герою Пейзажа... приходится «делать выбор
как бы после смерти», в обстоятельствах, не имеющих внешнего выхода55. По сути
дела та этическая, внутренняя вина, которую ощутил бы Мачек, останься он жить,
в полной мере придана Тадеушу. Герой Цибульского не успел воочию убедиться
в иллюзорности собственных идеалов; он остался верен им и в дальнейшем - ска¬
жем, в «реабилитационном варианте» Любви двадцатилетних, Мачек погиб чуть
раньше, чем судьба отобрала у него последний шанс остаться героем трагедии, а не
заурядным преступником. Тадеуш получил возможность осознать себя таким ге¬
роем значительно позже, чем когда он действительно мог это сделать.
Поэтому и конфликт Пейзажа... - конфликт человека с самим собой за пра¬
во быть человеком, за право на трагедию личности, а не физиологических страда¬
нии полуживотного.
«Вайда 1970 года — художник более суровый, немного саркастический, и, хотя
в нем жива былая порывистость, она выступает уже в сочетании с новой для ху¬
дожника позицией исследователя, подвергающего клиническому анализу всю
52 Jackiewicz A. Historia literatury w moim kinie, s. 260.
53 Рубанова И. Час трагедии. - Советский экран, 1971, № 24, с. 14.
54 Вайда-71. - В сб.: Экран 1971-1972. М., Искусство, 1973, с. 155.
55 Черненко М. Человек из пепла. - Советский экран, 1978, № 5, с. 5.
678
Приложение
опустошенность, в какую могут ввергнуть человеческую душу страх, страдание
и унижение»56.
Процесс дегуманизации вынесен в фильме за скобки действия. Он проявляет¬
ся лишь как результат — в сознании героя. Фильм начинается с момента, когда не¬
посредственный источник обесчеловечиванья уже устранен. Остаются лишь пло¬
ды трудов канцелярии уничтожения — страдающие люди. Их первыми жертвами,
объектом накопившейся злобы, становятся недавние мучители. Тезис о «палаче для
палача» воплощен режиссером точно и безжалостно. Только-только американский
офицер произнес пылкую и официозную речь о необходимости гуманизма, а быв¬
шие заключенные спешат затоптать в грязь пойманного капо... «Казнили» и набро¬
сились на консервы, на хлеб, на гражданскую одежду...
Вайда сдвигает причинность, фиксируя внимание на результатах.
Закончилась великая битва, оставив пепелище на земле и в душах. М. Чернен¬
ко, на наш взгляд, верно видит здесь развитие символа, перешедшего к Вайде из
арсенала польских романтиков57. Пепел иллюзии, надежд, мечтаний - тот резуль¬
тат, к которому приходили герои Словацкого и Жеромского, а вслед за ними — Ма-
чек и экранный Рафал Ольбромский. Но уничтожение надежд никогда не обора¬
чивалось для романтического героя крахом его собственной личности; он всегда
находил силы если не для дальнейшей борьбы, то во всяком случае для достойно¬
го исхода.
В Пейзаже... вечный романтический символ парадоксально обретает иное на¬
полнение. Это уже не тот пепел, который родится на костре высокой страсти, в огне
истины, но прах тысяч и тысяч узников, погибших в печах лагеря смерти. Не тот
пепел, что пал в урны истории или на ступени познания, а тот, что был аккуратно
учтен чиновниками Третьего рейха и удобрил идиллические поля бюргеров.
Подобно тому, как Вайда последовательно пересматривает свою романтиче¬
скую поэтику, романтическое уходит и из образа героя. Р. Соболев писал, что Пей¬
заж... «отличается от шедевра школы (Пепла и алмаза — С. Д.) большей мудростью
и зрелостью размышлений, более четким историзмом взглядов на события первых
послевоенных лет и на проблему выбора, вставшую в те годы едва ли не перед каж¬
дым поляком»58.
Действительно, Вайда здесь словно открывает доселе заповедные зоны бытия,
зоны, где от человека уже трудно ожидать человеческого, словно избавляется от
прежней романтической концепции истории, где на равных действуют История
и Личность.
56 Клячинский 3. «Пейзаж после битвы» А. Вайды. - Польша, 1971, № 1, с. 35.
57 Черненко М. Человек из пепла, с. 5.
58 Соболев Р. Пути польского кино, с. 69.
679
Кино на ощупь
Как следствие этого из образа Тадеуша уходит едва ли не самая важная черта
романтического протагониста — заведомо позитивное авторское отношение. Всем
своим прежним героям Вайда нескрываемо симпатизировал, порой сурово, как
Мачеку или Якубу, порой иронично, как «чародеям». Богатство и цельность вну¬
треннего мира личности, даже ее противоречия и сомнения оправдывали и возвы¬
шали ее в глазах режиссера.
Тадеуш - первый, не считая сатирически обрисованного Влодека из Охоты
на мух, кто такой поддержки лишен, по отношению к кому Вайда не высказыва¬
ется явно и определенно. Лучше всего это отношение определил К. Т. Тёплиц, ко¬
торый писал: «В Пепле и алмазе режиссер, осуждая героя, иногда сдавался, чтобы
сказать «я» - «я» в смысле поколения, «я» в смысле эмоций, «я» в смысле сомнений.
О герое Пейзажа... говорится только — «он»; он, которого понимаем, он, которо¬
го, может быть, любим, но только он»59. За спиной у Тадеуша — смерть и страда¬
ния, в настоящем — пустота, духовный вакуум, деградация. Личность растоптана,
и уровень самоосознания, составлявший раньше основу героя, поставлен в Пейза¬
же... критерием достижения.
Тадеуш - не романтический герой, и подспудная его перекличка с таковым
только усиливает разницу. Едва ли прав Я. Газда, писавший, что в Пейзаже... Вайда
«вернулся к испытанной романтической традиции». Я. Газда мотивирует это тем,
что личность утверждает свое субъективное право реакцией на происходящее «ис¬
ключительно через призму лагерных переживаний»60. Но в том-то и дело, что ла¬
герные переживания мешают герою вернуться к себе, подменяют его собствен¬
ную суть.
По-новому подключен образ Тадеуша к одной из самых важных для Вайды
линий — социально-исторической. Связь судьбы человеческой и судьбы народной
прослеживается в данном случае через новый тип героя.
Когда-то в связи с Пеплом и алмазом раздавались упреки по адресу Щуки -
антагониста Мачека, человека новой Польши. Действительно поверхностное тол¬
кование этого персонажа вызвано, думается, концепцией личности главного героя.
В 1958 году Вайду слишком занимала судьба самого Мачека, чтобы детально разра¬
батывать характер его противника, чтобы пристально вглядываться в лица «по ту
сторону баррикад». В 1970-м режиссер вновь обращается к биографии тех, кто ока¬
зался непримиримыми врагами в условиях послевоенной Польши. И новый тип
героя, героя, которому предстоит решить, куда идти и с кем идти, дает фон для
глубокого анализа расстановки сил.
59 Toeplitz К. Т. Proba sensu, czyli notatnik leniwego kinomana. Warszawa, Wydawnictwa Artistyczne
i Filmowe, 1974, s. 277.
60 Газда Я. Польское кино 1971. - Советский экран, 1971, № 12, с. 16.
680
Приложение
Такой подход заявлен уже в названии фильма: Пейзаж после битвы. Думается,
русский эквивалент слова «krajobraz» не передает его исчерпывающего значения.
В польском языке различаются «pejzaz» — живописный жанр, и «krajobraz» - бук¬
вально «вид края». Первая часть сложносочетания «kraj» употребляется и в значе¬
нии «страна», «родина».
Итак, «Krajobraz ро bitwie» - образ родины после битвы. Кто возродит со¬
жженную, поруганную польскую землю? Кто вернет утраченную человечность ее
жертвам? Может быть, хорунжий (М. Стоор)? Он первым бросается на лагерную
проволоку, мастерит из лоскутьев двуцветный польский флажок, добывает себе
мундир и конфедератку, истово и фальшиво распевает церковные гимны. Реши¬
тельность его не вызывает сомнений, но Вайда трезво оценивает истоки внешней
цельности хорунжего. Понятия долга, патриотизма запечатлены в нем автомати¬
чески, бездумно, бессмысленно. С хорунжим связана в фильме всегда актуальная
для Вайды тема догматического служения идее, официального ура-патриотизма,
солдафонской убежденности. Для Вайды ценен лишь ценностно-индивидуальный
подход к таким вопросам, а не казенное обезличивание. Все его герои, чья инди¬
видуальность заменена лозунгом, чье собственное решение предопределено в ши¬
роком смысле уставом, не выдерживают проверки на крепость нравственных цен¬
ностей. Предает писарь Куля и трусливо мечется служака Мондрый из Канала,
позорно ретируются АК-овские боссы из Пепла и алмаза, бесславно гибнут герои
Лётны. В системе Вайды никакой устав и кодекс, кроме его собственных, не могут
указать человеку правильного пути.
В Пейзаже..., однако, режиссер открывает новую диалектику жизни. На хо¬
рунжего, чьи жизненные принципы привнесены извне, который не обладает ин¬
дивидуальностью, испытание лагерем оказывает куда меньшее действие, чем на
личность Тадеуша. Хорунжий остается «храбрым солдатом и добрым католиком»,
готовым пролить кровь за старую Польшу и святой крест, за иллюзии, накрепко
вбитые в его недалекое сознание и с тупым упорством пронесенные через засте¬
нок. Тадеуш же — действительно личность — сломлен и унижен.
Фигурой хорунжего для Тадеуша как бы отвергается упрощенный вариант
ситуации Мачека. С новой, более жесткой позиции Вайда пересматривает кол¬
лизию своего раннего протагониста. Мачек был личностью, совершившей вы¬
бор сознательно и принявшей груз ответственности и долга. Теперь же, в свете
нового понимания героя, Вайда снимает романтический налет со слепого следо¬
вания такому долгу. Хорунжий - не личность, а всего лишь винтик в развалив¬
шейся машине старого государства, воплощенный миф уходящей Польши. Про¬
блема выбора перед ним не стоит и стоять не может. Он не задумается, стрелять
ли в коммунистов, а всего лишь выполнит очередной приказ. Потому и будуще¬
го у него нет.
681
Кино на ощупь
Вайда не идеализирует героев. Его прежний тип — «герой-личность» - превра¬
щается под давлением обстоятельств в свою противоположность; «неличность» -
догматик и солдафон сохраняет «верность» идеалам, видимость личности. И тем
важнее, что рядом с хорунжим выведен другой образ, сохранивший человече¬
ское, - коммунист Кароль. Пожалуй, со времен Поколения режиссеру не удавалось
создать столь ясную, простую и убедительную фигуру борца за новую Польшу.
Убежденность Кароля помогает ему выстоять, не исчезнуть, не потеряться в лагер¬
ном аду.
Но его вера иного рода, нежели патетические инсинуации хорунжего, его
вера — личное осознание причастности к общему делу сопротивления фашизму
и восстановления страны, личное, а не «уставное» участие в судьбе народа. Обра¬
зом Кароля Вайда возвращается к тем, кто без громких фраз и пафоса жертвенно¬
сти делал тяжелую и нужную работу, кто сознательно выбрал свой путь и потому
вынес кошмар лагеря.
В Кароле сосредоточены лучшие черты героя-делегата. В нем неразрывны
личностное, человеческое и партийное, общее. Единственный из всех он соверша¬
ет самый естественный человеческий жест — предотвращает самосуд, укрывает от
беснующейся толпы немку. Его «партийность» — истинный гуманизм, лишенный
лоска и показухи. Романтическая внешность Каролю не нужна - он уходит из лаге¬
ря в одной куртке и башмаках, отдав брюки растерзанной немке; уходит на родину
не красоваться и позировать, а делать свое дело.
Кароля играет Тадеуш Янчар. Нетрудно увидеть здесь перекличку с прежни¬
ми экранными созданиями актера - Ясем и Корабом. Это - признание Вайдой сво¬
их ранних героев. Романтический юноша из Поколения и Канала обретает в Пейза¬
же... цельность борца, юношеский пыл сменяется мудростью и стойкостью.
Но не относительно стабильные образы хорунжего и Кароля становятся глав¬
ными объектами картины. Ведущий герой Пейзажа... — Тадеуш, хотя само понятие
«главный герой» в фильме пересмотрено. В прежних работах Вайды при всем мно¬
гообразии подхода к характерологии, прослеживалась тенденция монополизации
главного героя, широкого представительства на личностной основе. Понятие лич¬
ного определялось концентратом всеобщего.
Тадеушу еще предстоит возродиться к освоению общего. Пока же он не кон¬
центрирует, но отражает внешние события, не солидаризируется с миром, но не¬
гативно сличает с собственным исковерканным сознанием. На смену трагической
монополии, единству, представительству приходят драматическое противоречие,
множественность, рефлексия.
Движение Тадеуша к себе, к личному происходит одновременно с движени¬
ем к участию во всеобщем. Категорический императив Вайды остается в силе:
личность может существовать только в контакте с коллективным, национальным,
682
Приложение
историческим. Личность может самореализоваться только в действии - финаль¬
ный уход Тадеуша из лагеря есть первый симптом его возрожденного «я».
Но прежде, чем Тадеуш шагнет за шлагбаум, совершит свой первый созна¬
тельный поступок, он должен будет пережить мучительный процесс очищения,
духовного катарсиса.
Роль Тадеуша исполняет Даниэль Ольбрыхский, с именем которого, как рань¬
ше с именем Цибульского, у Вайды связывается представление о целостном типе
личности. Но если Цибульский при полном отсутствии «героических» данных
олицетворял романтического героя, то идеальная внешность, спортивная выправ¬
ка и прочие приметы безукоризненной актерской фактуры Ольбрыхского исполь¬
зуются режиссером в совершенно ином качестве. Заявив актера в Пепле носителем
всего набора романтических данных и отчасти развивая эту тему во Всё на прода¬
жу, Вайда резко переосмысливает актерскую природу Ольбрыхского.
И в Пейзаже..., и позднее в Березняке актер играет людей, чьи судьба и душев¬
ное состояние болезненно противоречат его собственному темпераменту и вне¬
шности «первого любовника». Здесь прочитывается важный для Вайды смысл: Та¬
деуш, каким играет его Ольбрыхский, — внешне олицетворение витальной силы,
мужества, воплощение национального мужского идеала, быть может, не встречаю¬
щегося на каждом шагу, но подспудно ожидаемого и любимого. Именно так заре¬
комендовал себя актер в прошлом...
Внутренне же Тадеуш переживает страшный разлад, смятение, страх. Вайда
и Ольбрыхский не смягчают красок: Тадеуш живет по инерции лагерных воспо¬
минаний, проблемой «человек и литр баланды»61. Перенеся постоянную близость
смерти, свыкнувшись с ежечасным унижением, тонкая организация интеллектуа¬
ла и поэта потерпела крах. Теперь, после освобождения, Тадеуш предпочитает пря¬
тать свое существо за грубыми, примитивными понятиями. Он боится заглянуть
в глаза новой жизни и заставляет себя довольствоваться лагерной привычкой «не
быть личностью».
Война окончена, ворота лагеря открыты, но для Тадеуша это — дорога никуда.
Он создал тотальную модель мира, где царят насилие и смерть, где нет места люб¬
ви, родине, красоте. Драматический разлад героя, душевная инерция чувствуются
во всем, начиная от пластического рисунка образа - внешность сильного, атлети¬
чески сложенного юноши и повадка закомплексованного преждевременного ста¬
рика, кончая психологическим противоречием, - Тадеуш инстинктивно тянется
к книгам и одновременно проповедует бездуховность.
Когда Тадеуш рассказывает о лагере, как, например, чистенькой экскурсант¬
ке, он злорадно смакует каждую деталь, каждую душераздирающую подробность,
61 Рубанова И. Час трагедии, с. 16.
683
Кино на ощупь
словно приглашая к соучастию в своей мизантропии. Разве можно искать в чело¬
веке человечье, если еще не остыли печи, пропустившие сквозь свое чрево тыся¬
чи трупов?
Разве можно остаться личностью рядом с крематорием-апокалипсисом
XX столетия?
Истинные моменты торжества Тадеуша случаются в те минуты, когда он нахо¬
дит в окружающем малейшие подтверждения своей теории «глобального насилия».
Так происходит в сцене, на наш взгляд, наиболее полно характеризующей героя:
Тадеуш отправляется варить еду. Вообще-то с питанием особых трудностей нет, но
он и палец о палец не ударит, чтобы быть сытым. Ведь если мир действительно на¬
стал, все и так должно быть гармонично и справедливо.
И только видя, как Тадеуш истерично выкрикивает в лицо невозмутимому
надзирателю слова о призрачной свободе, только видя, как вызывающе он подни¬
мает руки, отправляясь в карцер («Так заставляли делать немцы, а вы ничуть не
лучше немцев!»), мы понимаем: он сам не очень-то верит в изначальную злобу лю¬
дей. Ему выгодно верить в зло, чтобы самому оставаться дерзким и колючим,
что, согласно лагерной практике, — верный способ выжить. И мы понимаем: лагер¬
ные идеалы для героя — суррогат мировоззрения, защитная реакция от новой не¬
понятной жизни. Ведь если весь мир — концлагерь, значит, можно ни о чем не ду¬
мать, ничего не выбирать.
Война лишила Тадеуша способности мыслить, анализировать, решать. Только од¬
ного она не сумела выжечь полностью — присущего человеку чувства, того специфиче¬
ского сенсуализма, который для всех героев Вайды включает буквально врожденную
перцепцию любви, Родины, Истины. Возрождение героя начинается в чувственной
стихии, как эмоциональная тяга к понятиям, кажущимся забытыми навсегда.
Я. Газда справедливо писал, что в образе Тадеуша «опять крик отчаяния ране¬
ного сердца, болезненная впечатлительность. Психической смерти у Вайды нет»62.
Характерно, что именно эта сторона вайдовского героя в сличении его с литера¬
турным первоисточником вызвала наиболее острую полемику. К. Эберхардт, ре¬
цензируя фильм, писал: «Герой Ольбрыхского имеет в сущности немного общего
с героем Боровского, он не «выполот», не уничтожен до конца. Наоборот, от самого
начала в нем спят огромные запасы чистоты и впечатлительности, того глубоко че¬
ловеческого, что есть подлинный алмаз посреди пожарища. Конечно, можно дока¬
зывать, что вечная ненависть героя Боровского, презрение мира, отрицание идеа¬
лов есть своего рода утверждение идеалов противоположных. У Поэта, однако, нет
ненависти. Есть только горечь и боль»63.
62 Gazda J. Klopoty z Wajdа. - Ekran, 1970, № 37, s. 17.
63 Eberhardt K. Nazajutrz po kataklizmie. - Ekran, 1970, № 36, s. 9.
684
Приложение
3. Калужинский назвал разницей литературного и экранного Поэтов разницу
«графического и живописного образа». По мнению критика, насилие, совершенное
Вайдой над первоисточником, заключается в подстановке традиционного вайдов-
ского персонажа в ситуацию Боровского64. Не разделяя полностью выводы 3. Калу-
жинского, нельзя не согласиться с его верным наблюдением существа героя. Пре¬
парируя традиционный тип героя безысходной ситуацией Боровского, режиссер
все же не до конца преодолевает центробежную силу романтического персонажа,
оставляя за личностью право на эмоциональное возрождение.
Характеризуя замысел фильма, Вайда говорил: «Это фильм о «делах поляков»,
об их слабости и силе, о том, что их роднит и разобщает; это фильм о человече¬
ских немощи и страхе, о страхе перед окончательным выбором и об усилиях пре¬
одоления этих чувств. Это, наконец, фильм о человеческом существовании, уни¬
чтоженном, разбитом, и о попытках восстановления его, придачи новых прочных
ценностей. Прежде всего, это фильм о любви. Потому что любовь становится тем
фактором, который позволяет героям отыскать утраченную человечность»65.
Подчеркивая необходимость любовной линии, помогающей Тадеушу вый¬
ти из духовной спячки, Вайда называл тему отношений Тадеуша и Нины «как бы
поэтическим и лирическим обрамлением всего того, что происходит на экране»66.
По словам Д. Ольбрыхского, режиссер ставил перед собой задачу создать историю
«Тристана и Изольды образца 1945 года»67.
Но само понятие любви, расстановка сил романтического любовного дуэта из¬
менены Вайдой в направлении нового позитивизма. Прежние герои, будь то Стах
и Дорота, Кораб и Стокротка, Мачек и Кристина, отчасти даже Пелагия и Базиль,
завоевывали право на высокое чувство вопреки всему. Наверное, только в теме
любви прежний Вайда оставался последовательным романтиком - все лучшее
и светлое в личности выражалось в чувстве и властно противостояло миру. Разоб¬
лачая позу, жест, аффектацию, компрометируя романтизм героя в пользу рациона¬
лизма истории, режиссер одновременно заявлял и непреходящую ценность любви.
Отношения между Тадеушем и Ниной складываются иначе. Переакцентиров¬
ка активности с мужского начала на женское, чем-то повторяющая дуэт Влодека
и Ирены из Охоты на мух. указывает на драматическое движение внутри обра¬
зов. Любовь в Пейзаже после битвы теряет прежнюю цельность и ясность. Чув¬
ство изломано войной. Сцена близости героев решена Вайдой беспощадно правди¬
во - сплетаясь золотом волос и голубизной глаз с листвой и небом, распростертый
64 Wokol «Krajobrazu ро bitwie». - Ekran, 1970, № 36, s. 15.
65 Вайда А. Фильм о делах поляков. - Иностранная литература, 1970, № 7, с. 279.
66 Там же, с. 280.
67 Ольбрыхский Д. Быть самим собой. - Советский экран, 1975, № 8, с. 6.
685
Кино на ощупь
своим идеальным мужским телом над девушкой, Тадеуш оказывается бессилен.
«Будничный» эпизод лагерной жизни - расстрел партии женщин — нанес ему не
только психологический, но и биологический урон, с тех пор он не может воспри¬
нимать женщину в качестве женщины.
Трудно согласиться с Я. Маршалеком, упрекавшим Вайду за эту тему «пост¬
антониониевской импотенции», нарушающей «интенсивность повествования»68. Но¬
вая концепция личности требует привлечения и этой, интимной стороны человека.
В равной степени осквернены для Тадеуша понятия Красоты, Искусства,
Бога... Пышные волосы проходящей мимо девушки неожиданно ассоциируются
с прошлым. Такие волосы были у пытавшей Тадеуша гестаповки. Музыка вызыва¬
ет отвращение — под музыку расстреливали. Бог тоже оказывается пристрастен -
в церкви Тадеуш видит поминальные фотографии погибших гитлеровцев.
Только любовь — духовное и физическое очищение от лагерной скверны - спо¬
собны вернуть герою утраченную человечность. Но здесь герой снова сталкивает¬
ся с противоречием. А. Яцкевич писал, что Нина, как и Лаура в Кордиане Словац¬
кого, «желает Тадеуша для себя, обещая ему прекрасную иллюзию отдохновения.
Но Тадеуш не может уйти с ней, ибо дорога Нины никуда не ведет»69.
Нормативное романтическое разделение на мужской образ-пространство
и женский-время смешивается в рамках дуэта. За Ниной — «временем» — новая пу¬
стота, новое бегство от себя, ибо у Нины нет родины, Польши, столь необходимой
Тадеушу. Все богатство девушки — маленький медальон с заповедями на древнем,
забытом языке, ей никогда не понять возлюбленного с его почти подсознательной
тягой к родному, польскому, единственному.
Эта связь не властна над Ниной. Тадеуш, пережив новое разочарование, воз¬
вращается в лагерь. Возвращается без нее. Молоденький американец спросонья па¬
лит в белый свет и убивает Нину. Тадеуш вновь остается один, но в его душе уже
всходят ростки человечности. Последний удар судьбы уже не в силах его сломить,
напротив, — придает силы для решительного шага. Смерть и любовь, сплетаясь
в сознании, открывают жизнь. М. Хопфингер в статье, посвященной теме любви
в польском кино, писала, что у Вайды «только в Пейзаже... смерть девушки помога¬
ет ее партнеру очнуться от эмоциональной летаргии, перейти на сторону жизни»70.
Смерть, бывшая раньше вершиной трагического диссонанса, жизненным фи¬
налом, обходит героя Пейзажа... стороной, «обрекает на жизнь». Смерть и любовь
выступают в новом философском единстве, абсолютизированном позднее в Берез¬
няке до фундаментальных категорий Эроса и Танатоса.
68 Wokol «Krajobrazu ро bitwie», s. 16.
69 Jackiewicz A. Historia literatury w moim kinie, s. 261.
70 Hopfinger M. Eros spеtany. - Kino, 1972, № 8, s. 19.
686
Приложение
Со смертью Нины наступает последняя стадия сомнений Тадеуша. Эта ста¬
дия наиболее трагична. Смерть, привычная и неизбежная, внезапно вторглась в его
пробуждающееся существо. Умом Тадеуш понимает: все случилось так, как и по¬
лагается по им же созданным законам жестокой и бесцельной жизни. Но с другой
стороны в его сердце прорастают новые семена, и он, пока еще неосознанно, вос¬
стает против тупой инерции ума и памяти.
В последних эпизодах фильма Вайда дает две самые емкие метафоры. Пер¬
вая — проход Тадеуша по лагерю. Только что он пытался в последний раз дока¬
зать всем и себе — случившееся между ним и погибшей - мимолетная интриж¬
ка («Мужчина должен жрать и обладать женщиной!»). Но вот среди всеобщего
панического бегства, на фоне грандиозной по пошлости «живой картины» «Битва
под Грюнвальдом», Тадеуш бросается в драку, размахивая руками, бессвязно кри¬
ча, без разбору ударяя направо и налево. Рядом с фантастической агонией старой
Польши (вспомним заключительный полонез Пепла и алмаза и шествия из Сам¬
сона) герой совершает свой первый поступок, пусть бесцельный, бессмыслен¬
ный, но необходимый теперь живому, сильному человеку. А потом, с рассеченной
бровью, в разбитых очках, Тадеуш исступленно воет, забившись под неуютную ка¬
фельную лежанку, на которой распростерто тело его недавней подруги. Этот зве¬
риный вой — мучительное очищение, рождение человека.
Здесь же реализуется вторая метафора. На вопрошающий крик ксендза «где
же Бог?». Вайда показывает Тадеуша, стоящего в позе распятого Христа в дверном
проеме. Вот новое божество — новый человек.
В финале Тадеуш уходит из лагеря на родину. Совершает то, чего так боялся.
Вайда не пытается объяснять его дальнейшую судьбу. Ясно одно — герой сделал вы¬
бор, обрел себя.
После выхода фильма на экраны Польши разгорелась бурная дискуссия по по¬
воду главного героя. А. Яцкевич, вписывая Пейзаж... в контекст всего творчества
Вайды, утверждал, что «при всех неоспоримых достоинствах Пейзаж после бит¬
вы нельзя назвать выдающимся успехом Вайды. Человек страдает еще до того как
кончился фильм. Пепел и алмаз, Лётна, Пепел прежде показывали переживания.
Рефлексия приходила потом»71. Другую важную группу аргументов подытожил
А. Охальский: «Боровский был моралистом. Вайда быть моралистом отказывается.
Его интересует только сложность души. Поэтому и фашизм, имевший у Боровско¬
го четкий социальный смысл, Вайда видит только как насилие»72.
По сути дела те же претензии мог предъявить Вайде 1970-го Вайда
1956-го. Герой 70-х вызван к жизни иными проблемами, хотя, на наш взгляд,
71 Jackiewicz A. Historia literatury w moim kinie, s. 262.
72 Wokol «Krajobrazu po bitwie», s. 16.
687
Кино на ощупь
концепция личности, развернутая в Пейзаже..., намечена уже Самсоном. Уже
тогда, в 1963 году, режиссер впервые рассмотрел личность, изолированную
от мира стеной страха, сомнений, ненависти, именно тогда показал войну не
«как действие», а как «сущность»73, через психологию человека, чьи собствен¬
ные черты стерты безотказным механизмом убийства, человека, страшаще¬
гося решительного выбора и замкнувшегося в микрокосмосе отчаяния и пас¬
сивности. Можно проследить даже автономные структуры конфликтности,
общие для обоих фильмов, — например, линию отношений Якуба с Люциной
и Казей и линию Тадеуш — Нина или сходство «среды обитания» героев-гетто
и концлагеря.
Впрочем, такое сопоставление вряд ли прояснит суть, ибо Якуб Гольд нахо¬
дится под влиянием прежней поэтики режиссера, особенно той ее линии, которая
предписывает герою действенное поведение. Судьба Якуба прослежена Вайдой до
логической точки, до трагического конца, до того момента, когда герой соверша¬
ет свой главный и единственный поступок и гибнет, причастный к трагической
коллизии.
Гораздо важнее представляется солидарность Якуба и Тадеуша в направлении
идейного заряда фильмов. Самсон — первый фильм Вайды о войне, где режиссер не
ставил задачей «помочь другим выйти из кошмара войны, закончить войну в себе
самих», в чем и состоял, по словам Вайды, смысл «трагического колорита и коллек¬
тивного катарсиса «польской школы»74.
Самсон создавался с обратной целью. Война обратилась в нем материалом для
разрешения современных проблем, темы «личность в любых обстоятельствах, не¬
зависимо от экстремальности или неэкстремальности бытия».
Позднее Вайда сформулирует свое художественное кредо так: «Каждая идея,
замысел любого произведения зреет у художника, ожидая своего часа. И когда этот
замысел совпадет с потребностями общества - время творить. В этом и заключает¬
ся общественное призвание художника: способность сопрягать личные творческие
побуждения с содержанием «социального заказа»75.
Эти слова полностью относимы к концепции личности Пейзажа... Так же, как
и в Самсоне, герой обязан своим рождением «социальному заказу», необходимости
внедрения в современность. В Охоте на мух Вайда вывел тип «антиличности» — ни¬
чтожества и демагога, как универсальный тип современного человека. Герой Пей¬
зажа... поверяет это состояние «неличности» через военную тему и ситуацию, дра¬
матизмом своего существования и конечным триумфом доказывая необходимость
73 Черненко М. Анджей Вайда, с. 123.
74 Вайда А. Им я обязан всем, с. 16.
75 Вайда А. История и современность. - Искусство кино, 1975, № 12, с. 130.
688
Приложение
быть личностью. Комплексы и слабости Тадеуша и его духовный катарсис адресо¬
ваны человеку 70-х.
Французская критика писала: «Вайду интересует не только исторический кли¬
мат минувшей эпохи. (...) За столкновениями «освобожденных» и «освободителей»,
за борьбой противоречий в душе героя проясняются конфликты нашего времени»76.
«Может быть, покажется парадоксальным, — писал К. Эберхардт, - но высшая
ценность Пейзажа... заключена не в повороте к реалиям тех лет, а в том, что Вайда
в лучших образах фильма властно поднялся над этими реалиями»77.
Интересно, что параллельно созданию Пейзажа... Вайда вынашивал сценарии
фильма о колонии хиппи - одного из наиболее радикальных проявлений обще¬
ственного «невмешательства» и «созерцания»78 79.
Постановка не была осуществлена, хотя годом позже режиссер придал черты
хиппи булгаковскому Иешуа в фильме Пилат и другие79. И, тем не менее, вряд ли
что-нибудь можно добавить к сказанному о поколении 70-х Пейзажем после бит¬
вы. Разве не пересекаются и подчеркнуто осовремененный костюм Тадеуша, и его
теория «созерцания глобального насилия в мире» с экстравагантным обликом мо¬
лодежи 70-х и их неприятием «всеобщего зла»? Недаром же, повторяя сознатель¬
ный анахронизм внешности Мачека, носившего кожанку и джинсы кумира 50-х
Джеймса Дина, Вайда награждает Тадеуша круглыми очками молодежного проро¬
ка 70-х Джона Леннона.
Таким образом, можно утверждать, что концепция личности, развернутая
в Пейзаже после битвы, имеет ярко выраженную социальную причинность, коре¬
нящуюся во всей эволюции героя Вайды.
Те же тенденции прослеживаются и в следующей его работе, внешне еще бо¬
лее далекой от проблем современности, — экранизации повести Я. Ивашкевича
Березняк.
Глава III
Говоря о Березняке, Вайда неоднократно подчеркивал его экспериментальный
и «необязательный» характер: «Березняк для меня картина особая, она не связа¬
на ни с чем из того, что я делал раньше. Наверное, не связана и с тем, что буду де¬
лать потом. Честно говоря, это просто маленькое упражнение, которое было мне
необходимо»80.
76 Francuski krytyk о «Krajobrazie ро bitwiе». Ekran, 1970, № 24, s. 6.
77 Eberhardt К. Nazajutrz po kataklizmie, s. 9.
78 См.: Вайда А. Нет кинематографии, есть фильмы. - В сб.: Экран 1973-1974. М., Искусство, 1975, с. 150.
79 См.: Черненко М. Евангелие от Анджея. - Наука и религия, 1976, № 1, с. 76.
80 Вайда А. Перед будущими работами, с. 14.
689
Кино на ощупь
«Никакой особой цели я заранее не ставил. Мысли пришли в процессе рабо¬
ты»81, — говорил режиссер во время съемок.
Действительно, многое в этом фильме указывает на эксперимент: и камер¬
ность, и намеренная сжатость формы, и неторопливое развитие действия, и кажу¬
щаяся «неброскость» конфликта. Даже то, что Березняк был снят для телевидения,
а этот род искусства, по словам самого Вайды, — «ухудшенное кино»82.
«В Березняке, — писал М. Черненко, — на первый во всяком случае взгляд, на¬
чисто отсутствует то, что составляло силу и нерв прежних вайдовских лент: же¬
сточайшая, нерасторгаемая сопричастность человека болезненным проблемам ис¬
тории, ее невралгическим точкам и нерассекаемым узлам... В Березняке режиссер
изолирует героев не только от какой бы то ни было реальной действительности, но
изолирует «вообще», насколько позволяет сама материя кинематографа»83.
Тем не менее, нельзя отрицать, что Березняком как бы открывается «вторая
манера» Вайды, манера, лишенная «барочности», прежней экспрессии и напора,
сдержанная и внешне малоэффектная, — именно такая, к какой режиссер вернется
во второй половине 70-х в Без наркоза, Барышнях из Вилько, Дирижере84.
«Я думаю, — скажет Вайда всего годом позже выхода Березняка на экраны, -
что кино как искусство должно стать убежищем фильмов маленьких, скромных,
неэффектных, но значительных и хватающих зрителя за горло. Это может быть
все, что угодно — фильм современный или исторический, военный или сатириче¬
ский, важно, чтобы он вырастал из реальных духовных потребностей общества»85.
Эти слова объясняют многое. Видя свою задачу в «приобщении зрителя к твор¬
честву, к открытию»86, в следовании духовным запросам общества, режиссер обла¬
чает свои вечные этические и нравственные постулаты в ту оболочку конфликт¬
ности, типологии героя, изобразительных средств, которые наиболее адекватно
соответствуют восприятию современного зрителя.
В то же время Вайда подчеркивает: «В спокойную эпоху на экране должна
литься кровь»87. Это нужно понимать широко — цену «кинематографической» кро¬
ви Вайда прекрасно знает уже тогда, когда во Всём на продажу заставляет асси¬
стентов жирно декорировать снег красной краской, «кинозаменителем» крови по¬
гибшего товарища и единомышленника.
81 Eberhardt К. Brzezina. - Ekran 1970, № 22, s. 14.
82 Шенгелевич М. Три лика Анджея Вайды. - Советская культура, 1972, 12 дек., с. 3.
83 Черненко М. Привычный и непривычный Вайда. - Искусство кино, 1971, № 8, с. 161.
84 По поводу эволюции вайдовского стиля см.: Helman A. A propos stylu. - Kino, 1972, № 12.
85 Вайда А. Перед будущими работами, с. 15.
86 См.: Шенгелевич М. Указ. соч., с. 3.
87 Цит. по: Janicki S. Op. cit., s. 164.
690
Приложение
Речь идет о самой задаче кинематографа «спокойной эпохи», какой является
эпоха 70-х, — не сублимировать комплексы современного человека, не потворство¬
вать неизбежным следствиям его житейской устроенности и душевной стабильно¬
сти, а доставлять ему в широком смысле внутреннее беспокойство, ставить перед
потребностью переживания, сострадания, неодномерности; «тревожить» зрителя
во избежание его превращения во Влодека из Охоты на мух.
Отсюда и новая трактовка личности у Вайды, появляющаяся, как мы пыта¬
лись показать, уже в Пейзаже после битвы. Такая же концепция личности разраба¬
тывается и на основе повести Ивашкевича, что дает нам право говорить о право¬
мерности включения Березняка в ряд проблематики всего творчества режиссера.
В 1970 году фильм задумывался «пробой пера». Поверив на «оселке» военной
темы новый тип личности, героя, сражающегося с самим собой, а не с внешним
миром, Вайда еще не пришел к материалу, способному накрепко связать нового ге¬
роя с традиционными для режиссера коллизиями, с конкретностью среды и исто¬
рической определенностью. Впоследствии таким материалом станет «Земля обето¬
ванная» Ст. Реймонта. Березняк появился в тот момент, когда Вайда, провозгласив
окончательный и бесповоротный разрыв со старым, еще не подступил к новому.
Фильм стал своего рода промежуточным, свободным от традиции, тем гениаль¬
ным этюдом, без которого нельзя понять до конца масштабные полотна мастера.
Такая и именно такая работа была необходима режиссеру, чтобы впрямую выра¬
зить свое человеческое и художническое кредо. «Маленькое упражнение» превратилось
в декларацию принципов Вайды. До сих пор ему не приходилось брать проблему в ее
свободном, универсальном аспекте, Березняк же исследует общезначимые модели че¬
ловеческого существования, создает, в том числе, и универсальную формулу личности.
Прежде всего, с точки зрения концепции героя мы и можем говорить о том, что, свора¬
чивая с магистрали творчества, Вайда фиксирует свое отношение к человеку вообще.
Березняк стал лабораторией героя, где взвешиваются и изучаются чистые ка¬
тегории бытия — жизнь, смерть, любовь.
Понятно, почему Вайда столь осторожно отзывался об этой работе. Общефи¬
лософские проблемы, проблемы «человека вообще» никогда не были его преиму¬
щественной стихией, они органично входили в строго организованные социаль¬
ные и исторические структуры. Герой Вайды социален по любому счету — и по
внешней характеристике, и по внутренней сути, и по существу конфликтности
с миром, и по тем выводам, которые извлекаются из перипетий его судьбы.
В Березняке все это уходит, по крайней мере, во внешнем проявлении. Боле¬
слав и Станислав, герои фильма, исключены из всех возможных связей, кроме са¬
мой фундаментальной - человек и смерть, человек и жизнь. Уже герой Пейзажа по¬
сле битвы частично обрывал нити, тянущиеся от личности к социуму, к общности,
оказывался в драматическом одиночестве, не скрашенном внешней поддержкой.
691
Кино на ощупь
М. Черненко справедливо писал, что в Пейзаже... и Березняке герои «впервые
выигрывают в единоборстве с судьбой, с самими собой, со смертью, с самоуничто¬
жением. И победа эта тем полнее, что на этот раз ничто не может прийти им на вы¬
ручку, что только в борьбе со своими слабостями, фальшивыми представлениями
и комплексами они в состоянии обрести себя»88. В Березняке так же, как и в Пей¬
заже после битвы, проблема человеческого выбора, столь важного для Вайды, ли¬
шается трагической заданности, внеличной безусловности. Активность или неак-
тивность героев сказывается в их внутренней позиции, в отношении к самим себе.
В предыдущих работах режиссера жизненная активность личности определялась
конкретным, часто единичным выбором тех или иных возможностей, предлагае¬
мых жизнью. Иначе говоря, трагическая альтернатива ставилась со всей возмож¬
ной жесткостью и беспощадностью, Березняк эту объективную обязательность
выбора устраняет.
На раннем этапе своего творчества, называя поэтику Аристотеля необходи¬
мой современному искусству, Вайда мотивировал это так: «Безвыходное положе¬
ние наиболее интересно в драматургическом отношении. Если у героя есть выход,
он может поступить или хорошо, или плохо. Если хорошо - дело ясное, если пло¬
хо — значит, он глуп и нечего о нем делать фильм»89.
Прежний герой Вайды отдавал предпочтение какой-либо линии поведения.
Герои Березняка не столько выбирают линию поведения, сколько решаются на сам
факт выбора, сознавая его как результат собственного внутреннего веления, а от¬
нюдь не отсутствия выхода.
Центральный вопрос Березняка, так же, как и главная проблема Пейзажа по¬
сле битвы, - не «что выбрать», а «нужно ли выбирать».
Основная антитеза картины - жизнь и смерть, воплощенные в самых пре¬
дельных своих проявлениях, Эроса-любви и Танатоса-мрака, небытия, забве¬
ния, — заложена в образах Станислава и Болеслава, как составные их собствен¬
ного существа. Жизнь и смерть сражаются внутри человека, овладевая им еще до
того решительного момента, когда духовная смерть станет физическим небытием,
а внутренняя жизнь обретет реальность в пространстве и времени. И тем страшнее
гибель, если она настигает живого, тем прекраснее жизнь, если она продолжается
вопреки смерти. Тем возвышеннее любовь, если находит место в сердце уходящего,
тем противоестественнее ненависть, если сопутствует живущему.
На примере Якуба из Самсона и Тадеуша из Пейзажа после битвы мы пытались
показать, каким образом изменяется понятие исхода соответственно для каждого из
двух типов героев, как постепенно новый герой субъективирует доселе объективную
88 Черненко M. Привычный и непривычный Вайда, с. 163.
89 Яницкий С. Указ. соч., с. 241.
692
Приложение
категорию жизненного финала. Для новой концепции личности чрезвычайно пока¬
зателен тот факт, что Тадеуш — первый из героев военных фильмов Вайды, кто оста¬
ется жив. Всем прежним героям смерть выносила объективный приговор, оправда¬
тельный, как Ясю Кроне или Якубу, или обвинительный, как Мачеку Хелмицкому.
Прежний герой вынужден был согласовывать свои действия с внеличной ре¬
альностью, поэтому, повторяем, Вайде так важно было показать конец Якуба — след¬
ствие его последнего поступка в ряду других поступков. Уже для Тадеуша смерть
не следствие поступка, а душевное состояние, не физический момент, а внутрен¬
няя протяженность. Соответственно, и финал экранной биографии Тадеуша — не
само действие, а решение действовать, не жизнь в ее практике, совокупности ре¬
альных человеческих акций, а психологический пролог к жизни.
Эта важная сторона концепции личности доведена до завершения образами
Болеслава и Станислава. Развитие их характеров не цепь поступков, ведущих од¬
ного к прозрению, а другого к неизбежному концу, а эволюция внутренних побу¬
ждений, утверждающих полноценное бытие вопреки смерти и побеждающих ду¬
ховное небытие ради жизни.
Все действительное в их характерах, вся основа конфликтности Березняка
зреют внутри, в психологии Болеслава и Станислава. Всякое внешнее вмешатель¬
ство, диктат побочных обстоятельств последовательно исключаются.
Если Тадеуш из Пейзажа... в своих душевных метаниях, в жесточайшем про¬
тиворечии с собой, с ложным «Я» все еще сохранял остатки контакта с события¬
ми внешними, если ему за пределами экранной судьбы в конце концов нужно бу¬
дет самоопределиться среди множества людей, то и Станислав, и Болеслав делают
свой выбор только для себя самих, только ради собственной нравственной жизни.
И никакая случайность, никакой повод извне не могут повлиять на их решение.
Разъясняя впоследствии свое обращение к литературному материалу Я. Иваш¬
кевича, Вайда говорил: «Возрождение Ивашкевича на экране это попросту выра¬
жение тоски людей по давнему, замедленному ритму жизни, лишенному спешки,
отсутствию лотерейных решений, свободе выбора»90. Проза писателя отличается
пристальным вниманием к внутренней жизни человека, к духовной мобильности,
не зависящей от житейской суеты, философской завершенностью проблем. Вме¬
сте с тем, как отмечал Вайда, «герой Ивашкевича не марионетка в руках судьбы»91,
он действует в согласии со своими принципами, со своими внутренними веления¬
ми, осваивая все сущее во имя познания собственного «Я».
Романтическая повесть Ивашкевича, увидевшая свет еще в начале 30-х го¬
дов, стала для Вайды отправным пунктом для углубленного показа человеческих
90 Цит. по: Henczel К. Miedzy Slowami - Film, 1980, № 13, s. 7.
91 Цит. no: Sobolewski Т. Gra. - Film, 1978, № 45, s. 20.
693
Кино на ощупь
страстей перед лицом самого кардинального выбора - выбора между жизнью
и смертью.
Сюжет повести, почти без изменений перенесенный на экран, прост, лишен
яркой событийности и духовных деклараций. «Тяжесть их (героев - С. Д.) внутрен¬
ней трагедии и силу страстей мы видим как бы извне. Это проявляется в их пове¬
дении, поступках, иногда в небольших, казалось бы, конфликтах, во всем том, из
чего складываются будни нескольких человек, живущих словно в тени смерти», -
писал 3. Клячинский92.
В центре фильма история двух братьев, Болеслава и Станислава. Предыстория
каждого из них дается самыми общими и скупыми штрихами, но уже при первом
знакомстве ощущается странное несоответствие реальности и стремлений, вне¬
шнего и внутреннего.
Болеслав (его вновь играет фаворит Вайды Даниэль Ольбрыхский) удалил¬
ся от мира под сень березовой рощи. Остается только догадываться по незначи¬
тельным деталям, по мимолетным обрывкам разговоров с братом, какие надежды
оставлены в прежней жизни, какие ценности приобретены в уединении. Боле¬
слав появляется в картине в тяжелый для себя момент — он переживает недавнюю
смерть жены. Личная драма сломила его, сделала замкнутым и ожесточенным.
Средства создания образа ориентированы здесь на находки Пейзажа после
битвы. Яркий темперамент актера, его сила и брутальность загнаны в характере
Болеслава в глубины психологии, под «оболочку» угрюмого и сломленного чело¬
века. Страсти кипят внутри Болеслава, не находя выхода, не обретая спасительных
всплесков и разрядок.
Иначе и не может быть, ибо образом Болеслава режиссер раскрывает особый
род эгоцентризма, стягивающего все жизненные токи к единому, монопольному
владению. Не приходится сомневаться в любви Болеслава к жене, но требуется
объективно оценить истоки его драмы. Отгородив себя от жизни, герой Ольбрых-
ского тем самым мнимо освобождается от множества иных человеческих связей.
Вероятно, все его чувства отдавались жене, любимой, ревностно и требовательно.
Со смертью жены он лишается последней и единственной опоры своей псевдоро¬
мантической робинзонады.
Но и одиночество героя, по мысли Вайды, — всего лишь следствие драмы, на¬
чавшейся гораздо раньше. Развенчание мнимой автономии личности происходит
по всем пластам человеческого существования. Нравственная пассивность Боле¬
слава рождает пассивность биологическую, помимо духовного бессилия; герой
страдает и физической немощью, отсутствием самых естественных мужских спо¬
собностей. Не судьба, а сам герой ставит себя в безвыходную ситуацию. Болеслав
92 Клячинский 3. Под сенью берез. - Польша, 1971, № 3, с. 47.
694
Приложение
понимает, что жена изменяла ему, и ревнует даже ее память, кроме того, он не без
оснований сомневается в отцовстве собственной дочери — последнего близкого су¬
щества, кто остался рядом с ним в опустевшем лесничестве.
Ольбрыхский играет человека с яростной и загнанной мужской природой,
с ожесточенной, опустошенной душой. Отсюда и его любовь-ненависть к дочери,
отсюда его странное соперничество с деревенским увальнем за местную красавицу
Малину. Образ смерти, всепоглощающий и мрачный, окутывает его жилище, отде¬
ленное от всего мира непреодолимой стеной недоверия и отчаяния. Еще в процес¬
се работы над фильмом Вайда говорил, что хочет запечатлеть в лесничестве образ
Танатоса - универсального символа небытия и забвения93. В этом окружении, в ат¬
мосфере отчужденности и пустоты живет Болеслав. Тем неожиданнее становится
для него приезд брата.
Станислав (Ольгерд Лукашевич) смертельно болен. Последняя стадия тубер¬
кулеза вынудила его долгое время лечиться в санаториях. Теперь он приезжает
к брату, чтобы провести у него остаток дней, отпущенных болезнью. Станисла¬
ва ждет смерть, и он это понимает, но последние дни он хочет прожить так, что¬
бы встретить смерть как уход из настоящей жизни, а не избавление от полужизни.
Он нарушает траурную тишину лесничества, с ним приходят шум, музыка, движе¬
ние... Станислав выбрасывает за окно пузырьки с лекарствами, способными пода¬
рить ему малую толику существования. Станислав хочет жить, а не существовать.
Чуда не происходит. Жажда жизни не может победить неумолимо наступаю¬
щую смерть. В финале фильма Станислав умирает, но умирает, вкусив последний
раз все вечные радости жизни, всю полноту бытия.
Чудо посещает Болеслава. Смерть брата очистила его от недоверия и отчу¬
жденности, возродила к новой жизни. Как и в Пейзаже..., любовь и смерть, Эрос
и Танатос сращены в философское единство. Постигнув до конца смерть, Болеслав
принимает и любовь как иную ипостась сложной и многообразной жизни.
Таким образом, центральная коллизия Березняка — противостояние двух по¬
зиций, организованных по принципу активного и пассивного приятия существо¬
вания. Вайда и здесь не изменяет себе, определенно высказываясь в пользу активно
действующей личности. Жажда жизни побеждает если не саму смерть, то — и это го¬
раздо важнее — страх смерти, ощущение ее близости, ожидание неминуемого конца.
Все прежние темы Вайды, составлявшие комплекс личного, находят здесь
свое законченное воплощение. Наиболее остро разница жизненных позиций обо¬
их братьев выражается в постромантической теме любви. Малина, третий из пер¬
сонажей Березняка, — персонаж наиболее однозначный и одновременно как бы ак¬
кумулирующий существо каждого из полюсов противостояния. К ней обращено
93 Eberhardt К. Brzezina, s. 14.
695
Кино на ощупь
неудовлетворенное сексуальное честолюбие Болеслава, в ее объятиях находит по¬
следнее утешение Станислав. Малина намеренно лишена духовности романтиче¬
ской героини, в ней торжествует плотское, стихийное жизненное, она притягива¬
ет самые естественные побуждения героев, но в философском контексте картины
именно эта способность к естественным порывам суть высшее выражение твердо¬
сти духа, способности к жизни.
Эта твердость есть у Станислава. Вайда «даже попробовал крайнее средство, -
писала И. Рубанова, - он словно бы решил свести на нет, разумеется, в пределах
возможного, плоть, тело Станислава-Лукашевича. Болезнь грызет его тело, а дух,
разум тверд и человечен, потому и побеждает»94. Кажется, Станиславу уже ничего
не приходится ждать от судьбы и от себя самого, кажется, ему уже не из чего выби¬
рать. Смерть надвигается неизбежно, но герой находит силы утвердить собствен¬
ную индивидуальность, собственную волю вопреки всему.
К. Эберхардт справедливо называл ключевой сценой образа тот момент, когда
«герой, уже осознающий свое безнадежное состояние, выходит на прогулку и вдруг,
стоя на мостике через ручей, пораженный красотой весеннего пейзажа, вглядыва¬
ясь в свое отражение в воде, самозабвенно отплясывает радостный танец»95.
Истоки силы Станислава в его специфически-личностном, в его человеческом
достоинстве. Слишком узким представляется определение значения образа Стани¬
слава как «гимна эпикурейскому героизму», выдвинутое Р. Пшибыльским96. Ста¬
ниславу чужда атараксия, избранничество эмоций, он принимает жизнь стихийно,
упиваясь каждым ее проявлением, спеша ухватить каждый ее образ — будь то кра¬
сота природы, любви, радость движения и чувства. Вместе с тем в его приятии нет
истерики, конвульсивности «предела», неразборчивой алчности и эгоизма. Стани¬
слав не только побеждает смерть в себе, но возрождает брата к жизни, чувству,
любви. Прежде всего, к последнему, ибо, как писал французский критик Жан-Люк
Дуи, «двигая свое неизменное искусство связью противоречий (война-мир, пре-
красное-безобразное), Вайда еще раз провозглашает прекраснейшее из всех по-
сланничеств: песнь побеждающей любви»97.
Смерть Станислава воспринимается искуплением вины Болеслава.
Вайда не останавливается перед решительным акцентом: мертвое тело Стани¬
слава, лежащее на столе при мерцающем свете лампад, напоминает фигуру Христа
с картин старых мастеров, писавших положение во гроб. Сходную метафору мы от¬
мечали уже в Пейзаже.... Может быть, не случайно героем следующей за Березняком
94 Рубанова И. Ольгерд Лукашевич вчера и сегодня. - Советский экран, 1973, № 11, с. 15.
95 Эберхард К. Ольгерд Лукашевич. - Советский экран, 1971, № 10, с. 17.
96 Цит. по.: Jackiewicz A. Historia literatury w moim kinie, s. 266.
97 Cm.: Sobanski O. Kolejki przed paryskim kinami wyswietlajacymi «Brzezinе». - Film, 1978, № 17, s. 2.
696
Приложение
картины Вайды стал Христос, но не библейский, а булгаковский Иешуа Га-Ноцри —
пророк ответственности каждого живущего за высокое звание человека.
И еще одна, традиционная для режиссера, тема проявляется в образе Стани¬
слава, внешне «выключенном» из всех возможных связей. «С позиций Станислава
оправдывается еще одна важная мысль, - писал рецензент «Экрана». — Речь идет
о противоречии «европейского» Станислава «родному» (термин «польскому» был
бы слишком однозначен), о той позе, в которой смешивается трагическое и фарсо¬
вое (теннисная ракетка на фоне кур и навоза), о той позе, которая преодолевается
во имя органичности существования»98.
На наш взгляд, критик необоснованно отказался соединить понятия «родно¬
го» и «польского». В характере Станислава, в его силе и непреклонности чувству¬
ется воистину неисчерпаемая для Вайды проблема национальной закрепленности
личности, привязанности к родным корням. Та неподдающаяся никакому насилию
чувственная тяга к Польше, которая, наряду с вечностью любви, осталась в подсо¬
знании Тадеуша, помогла ему подняться из лагерного кошмара, в трудную мину¬
ту поддерживает и Станислава. Долгое время проведший в швейцарских санато¬
риях, забывший, быть может, внешность Родины, но чувствующий ее притяжение,
возвращающийся к ней в свой последний час, юноша быстро сбрасывает «европей¬
скую» личину и сливается с языческой прелестью польской природы. Только она
может дать герою ощущение полноты жизни, только единение с Отчизной помога¬
ет личности выстоять в единоборстве с судьбой, с самим собой.
«Частная семейная история становится для него (Вайды — С. Д.) поводом для
размышления о неразрывной, неизбежной, абсолютной связи человека и его стра¬
ны. Конкретная завязка повествования — врачи отказались от безнадежно больно¬
го - вырастает в величавый мотив возвращения к себе, к собственным истокам», -
писала И. Рубанова99.
Картины Родины, польской природы, запечатленной в самой узнаваемой ее
примете — березовой роще, — играют огромную роль в общем настрое фильма. Вай¬
да не внес ничего нового в текст Я. Ивашкевича, но лишь довел до зримого, осязае¬
мого символа березняк - окружение героев.
«Березняк Вайды - именно то произведение, в котором природа стала
принципиальной основой художественной интриги, ее равноправным элемен¬
том. Пробуждая в героях некие неопределенные состояния и настрой, она про¬
должает оставаться стойким, немым, непоколебимым свидетелем танца смерти
в лесничестве»100.
98 Pieczynski М. W krеgu spraw ostatecznych. - Ekran, 1970, № 47, s. 9.
99 Рубанова И. Березы Польши. - В сб.: Экран 1971-1972, с. 153.
100 Henczel К. Miedzy Slowami. - Film, 1980, № 13, s. 7.
697
Кино на ощупь
Пластический образ фильма, виртуозно выполненный оператором 3. Са-
мосюком, повторяет мотивы живописных полотен одного из самых сложных
и своеобразных польских художников Я. Мальчевского. Ориентация на традиции
национальной живописи вообще свойственна стилистике Вайды. Причем изобра¬
зительная сторона фильма никогда не выступает имманентно его остальным ча¬
стям, но всегда согласуется с конкретностью общей художественной задачи. Так
в Лётне, показывая трагическую гибель «польского мифа», крушение кодекса ка¬
стового, шляхетского сознания, режиссер вводил трагическим контрапунктом эле¬
менты живописи польских баталистов А. Гроттегера и Ю. Коссака, так эти же эле¬
менты перешли в Пепел. Так во Всём на продажу воспоминания о войне через опыт
современности нашли безошибочное воплощение в полусюрреалистических кош¬
марах безвременно погибшего Анджея Врублевского. Такими, наконец, средства¬
ми будет выстроена сложнейшая изобразительная партитура Земли обетованной.
Но в Березняке изобразительный ряд в его преемственности с творчеством
Я. Мальчевского приобретает особое значение. Внешность Березняка поливалент¬
на. Картина рощи, белоснежные стволы деревьев находятся в динамическом отно¬
шении с героями. Самую главную задачу этого отношения Вайда выразил так: «Бе¬
резняк уже в заглавии своем содержит главный элемент, который влияет на целое.
Березы всегда несут с собой таинственное, красоту и радость. Сюжетом рассказа
стала смерть, и встреча ее с красотой леса естественно вызывает драматический
эффект»101. Но одновременно природа выступает в качестве абсолютного, всеобъ¬
емлющего начала, близкого языческому пантеизму, самореализующегося вечно во
времени и пространстве. Березняк — созерцающая и созидающая гармония. Есте¬
ственность и завершенность окружающей среды становятся для каждого из геро¬
ев определяющей. Против этой гармонии совершает преступление Болеслав, за¬
мкнувшись в себе, с этой гармонией сливается в последнем усилии Станислав.
В сцене смерти Станислава режиссер перешагивает привычные границы своей си¬
стемы метафоричности и символики. И то, и другое у Вайды всегда конкретно, не
поднято над реальностью. Сцена смерти Станислава снята подчеркнуто символич¬
но - юноша летит среди берез, будто отдавая им остатки уходящей жизни, будто
растворяясь среди березового кружева. И эта «нереальность» приема не нарушает
всего строя картины, ибо постепенно подготовлена развитием образа героя.
И еще одна важная сторона творчества Мальчевского появляется в изобрази¬
тельном ряду фильма. Исследователь польской живописи Т. Добровольский пишет:
«Главным мотивом творческой деятельности Мальчевского была свойственная мо¬
дернизму (и его связям с философией А. Шопенгауэра) метафизика жизни и смер¬
ти, причем смерть понималась либо как роковое предзнаменование, воплощенное
101 Цит. по: Markowski A. Slecny zestatku. - Kino, 1979, № 15, s. 2.
698
Приложение
в исполинских призраках «Танатосов», либо как осуществление и удовлетворение»102.
Во многих своих произведениях, таких как «Ангел смерти» или «Отравленный коло¬
дец», художник впрямую обращался к идеям Шопенгауэра, к его «мировой воле». Эти
мотивы зафиксированы Вайдой в картине лесничества, в окружении Болеслава. Со¬
гласно Шопенгауэру мировая воля слепо управляет миром, побуждая человека к по¬
ступкам, направленным на уничтожение других. Чтобы освободиться от ее власти,
необходимо подавить в себе порывы к деятельности, перейти на позиции созерцателя.
Позицию такого пассивного созерцания до поры и занимает Болеслав. Поэто¬
му и развенчание его бездеятельности для Вайды равносильно преодолению сле¬
пого хода судьбы, роковой предзнаменованности.
Станислав же равно восстает и на роковую неизбежность смерти, и на смире¬
ние перед ней. Вайда подводит личность к сознательному выбору, к борьбе с кажу¬
щейся обреченностью. Личность защищает свое субъективное право оставаться
личностью в любых обстоятельствах. Оба героя Березняка в конце концов стано¬
вятся в оппозицию к уготованной им жизнью доле, отказываются повиноваться ее
внеличному течению.
Едва ли прав К. Т. Тёплиц, писавший, что «все люди в Березняке достойны
быть людьми, так как ценят только то, что знают, что им положено ценить, делают
только то, что следует делать, так как берут обычное в его обычном виде, не загля¬
дывая за пределы допустимого»103.
Критик видит величие Станислава только в познании объективных законов
жизни, в приятии смерти как закономерного финала жизни.
Думается, такая трактовка личности героя Березняка не соответствует истине.
Хотя Вайда и назвал этот фильм «прощанием с романтической школой кино»104, на
деле Березняк знаменует новую встречу режиссера с романтическим героем. Прав
французский критик Анри Шапье, писавший, что «ни один другой фильм Вайды
не знал такого горячечного романтического напряжения, как именно этот, лежа¬
щий за тысячи миль от всех политических аллюзий»105.
Другое дело, что новый взлет романтического героя, героя, ставящего свой
внутренний мир выше неизбежностей судьбы, происходит на новом, более зрелом
уровне. Личность познает все закономерности внешнего мира, внедряется во все
слои существования и, зная, наверное, подробности финала, тем не менее не сми¬
ряется с ним, а находит возможность еще и еще раз бросить вызов року. И тем боль¬
ше героизма и силы в этом вызове, что определяется он не минутным всплеском,
102 Добровольский Т. История польской живописи. Вроцлав - Варшава - Краков - Гданьск, Ossolineum, 1975, с. 136.
103 Toeplitz К. Т. Op. cit., s. 280.
104 Цит. по: Janicki S. Op. cit., s. 105.
105 См.: Sobanski O. Op. cit., s. 2.
699
Кино на ощупь
не эмотивной атакой «в лоб», не «разовым» решением, а законченной позицией че¬
ловека, принципами нравственной жизни личности.
Такой тип героя Вайда предлагает современности. Романтический оттенок ге¬
роя лишь подчеркивает его личностную значимость, основу «любви и непримири¬
мости», с которыми режиссер относится к своим персонажам. Конечно, герои Бе¬
резняка и Пейзажа... при всей своей разнице вызваны к жизни одной задачей. Их
внутреннее беспокойство, их обязательная потребность нравственной и этической
ясности, болезненная субъективность их выбора рождены нуждами «спокойной»
эпохи. Герои картин Вайды 70-х годов - беспокойные герои спокойного времени,
заставляющие зрителя задуматься над ответственностью человека перед самим со¬
бой, над проблемой жизненной активности, над обязательной способностью ду¬
мать, чувствовать и решать. Полагаем, что упреки, предъявленные режиссеру по¬
сле Пейзажа после битвы, лишены реальных оснований. Вайда 70-х не боится быть
моралистом, хотя и не показывает практической реализации побуждений своих
героев. Вайда расставляет достаточно недвусмысленные акценты во внутренней
сфере личности, что не менее и даже более важно для их моральной оценки.
Нравственная сторона вайдовских героев 70-х важна еще и потому, что не лишена
полемического заряда по отношению к концепции личности, складывающейся в поль¬
ском кино той поры. Оговоримся сразу — герой «третьего поколения» польской кинема¬
тографии, с которым Вайда еще будет яростно спорить в конце десятилетия, в 1970-м
еще только начинает свой путь по экранам106. Поэтому антитеза вайдовского героя и,
условно говоря, героя «молодого кино» выстраивается в скрытой до поры полемике
с Кш. Занусси, чье творчество уже тогда намечало основные темы, присущие молодым.
Занусси по природе своего дарования рационалист. Отсюда и его суховатая
отстраненность, и полный отказ от нравственных рецептов и выводов. Герой пер¬
вых картин Занусси, будь то фильмы коротко- или полнометражные, познает мир
в его рациональной совокупности, в точных категориях. «Стремление к познанию
мира, — говорил Занусси, — которое легло в основу научного познания, - важней¬
шее требование современности»107.
И герой первых фильмов режиссера, по выражению Л. Закржевской, - «Фауст
в потертых джинсах, хочет познать мир в целом, в его загадке жизни и смерти, вот
почему с какой-то возрожденческой жаждой вникает в физику и медицину, мате¬
матику и биологию»108.
106 См.: Хшановский 3., Клячиньский 3. Молодое кино Польши. - Советский экран, 1974, № 5, с. 14;
Ольшевский Я. Возможности дебюта. - Там же, с. 15; Охальский А. Реестр надежд. - Советский экран, 1974,
№ 14, с. 11; Черненко М. Отвага обыденных истин. - Советский экран, 1976, № 21, с. 16-17.
107 Цит. по: Хшановский 3., Клячиньский 3. Указ, соч., с. 14.
108 Закржевская Л. Указ, соч., с. 15.
700
Приложение
Но факт всеобъемлющего знания жизни порой не оставляет герою Занусси
места для постановки этических проблем. Герой слишком хорошо знает жизнь,
чтобы не перекинуть мостик «по ту сторону добра и зла», чтобы брать на себя
труд нравственной оценки. Уже в Структуре кристалла — первом своем пол¬
нометражном фильме - Занусси, сталкивая две позиции по отношению к жиз¬
ни, активную и пассивную, «не высказывается определенно в пользу ни одной
из них»109. Вполне закономерное желание неоднозначности нравственного кри¬
терия оборачивается для режиссера почти полной утратой такового, крайним
релятивизмом.
Допускаем, что подспудная полемика Вайды и Занусси начала 70-х носит во
многом интуитивный характер. Быть может, Вайду пока не устраивает не суще¬
ство, а внешность героя Занусси — интеллектуала, рационалиста, наблюдателя.
Но в середине 70-х, выводя в Квартальном балансе нового для себя ге¬
роя - человека обычного, среднего, погруженного в текучесть быта, буднич¬
ных проблем, Занусси развивает прежние взгляды. Интеллектуалы Струк¬
туры кристалла, Иллюминации, отчасти - Семейной жизни — препарировали
свое окружение по законам разума, познавая все, они приходили к выводу о не¬
возможности понять всего. Отсюда относительность их морали, их этический
агностицизм.
Героиня Квартального баланса лишена способности рационального освоения
мира, величественного фаустовского смирения перед неподвластными разуму ис¬
тинами. Она ищет просто счастья, просто тепла и понимания. Занусси показывает
тщетность попыток вырваться из круга буден, бессилие личности...
Все это будет позже. Позже появятся Приговоренный А. Тшос-Раставецкого,
фильм, чем-то повторяющий ситуацию Березняка, но влекущий выводы об «от¬
носительности нравственных оценок человеческих поступков, о трудности, о не¬
возможности постоянной отваги»110. Позже развернется творчество одного из са¬
мых последовательных приверженцев Занусси — Романа Залуского, от холодного
наблюдения распада человеческих связей в Анатомии любви до Бешеного, живо¬
писующего почти мистическую власть зла в современном мире. Позже появятся
самостоятельные работы соавтора Занусси Эдварда Жебровского и В разгар лета
Ф. Фалька - апофеоз некоммуникабельности и равнодушия.
Тогда же, в начале 1970 года, концепция, разработанная затем художниками
«третьего поколения», только-только закладывается. И тем ценнее для нас вайдов-
ские герои, несущие современности «любовь и непримиримость», веру в непрехо¬
дящую ценность личности.
109 Кушевский С. Современное польское кино, с. 78.
110 Черненко М. Отвага обыденных истин, с. 16.
701
Кино на ощупь
Заключение
1970 год — один из самых значительных творческих пиков Анджея Вайды. Всего
два фильма, рассмотренные на страницах настоящей работы, позволяют судить,
каких ярких художественных результатов достиг режиссер, видящий свое призва¬
ние в служении обществу, в неустанном следовании идеалу человека.
В этот период Вайда обращается к внутреннему миру личности. На смену тра¬
гическим коллизиям прошлых работ, трагической диалектике человека и истории
приходят глубокие размышления об ответственности личности перед собой, перед
своим нравственным «Я».
Герой фильмов 1970 года несет в себе высочайший заряд духовности, досто¬
инство и силу личности. Тяжелые испытания, посланные жизнью, не могут уни¬
чтожить его нравственной сущности. Герой 70-х выражает и беспокойство Вайды
за современного человека, и веру режиссера в конечное торжество гуманизма. (...)
Герои Пейзажа после битвы и Березняка остаются воплощением самой силь¬
ной стороны творчества Анджея Вайды - его неискоренимой любви к человеку.
Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. 1981. Научный
руководитель —доктор искусствоведения Борис Смирнов. В настоящем издании текст
публикуется с сокращениями.
Комментарий Елены Яковлевны Добротворской:
«Мне кажется, наш сын уже на первом курсе знал, что будет писать диплом по Вайде.
Сереже страстно нравился Пепел и алмаз; он был влюблен в этот фильм. Перед дипломом
специально выучил польский, чтобы читать критику в оригинале. Бесконечно пропадал
в библиотеках. Но очень долго ничего не писал. Все только рисовал, да рисовал, отмахиваясь
от моих вопросов. Потом сел и напечатал все очень быстро, едва ли не за неделю. И вот —
срок сдачи. Мы с мужем сидим, торопимся, нумеруем ему страницы на копиях. Вдруг
звонок. Моя подруга кричит: „Вы читали „Правду" сегодняшнюю"? Оказалась, что в „Правде"
опубликована передовица про Вайду, — совершенно разгромная статья, в связи с выходом
фильма Человек из железа. И Вайда в одночасье становится персоной нон-грата в нашей
стране. Сереже советуют срочно менять тему. А он отказывается наотрез. Начинаются
какие-то совещания на кафедре, волнения, треволнения, звонки. Я страшно переживала.
А Сережа был совершенно спокоен. Сказал, что будет защищаться только по Вайде, или
не будет вовсе. И все на этом. Слава Богу, театральный институт оказался достаточно
либеральным заведением. Защититься в итоге ему все-таки разрешили, даже не испугались
поставить „отлично". Помню отзыв научного руководителя: „Это готовая кандидатская"».
702
Приложение
Снежные люди.
Синопсис игрового фильма
1.
Действие начинается в Петербурге, в конференц-зале крупного исследовательского
института. Эмансипированная аспирантка Анна является на сенсационный доклад
о снежном человеке, который должен прочесть молодой, но уже скандально извест¬
ный профессор Олег Николаевич Горлов. Пока маститые ученые излагают с кафе¬
дры свои взгляды на проблему, с Анной флиртует совершенно неакадемического
вида супермен, который, к ее немалому изумлению, и оказывается докладчиком.
Взойдя на кафедру и каждым своим словом вызывая ропот аудитории, Гор¬
лов излагает гипотезу, согласно которой снежный человек — это реликтовый гоми-
ноид или неандерталец, живший около ста тысяч лет назад и претерпевший в ходе
эволюции незначительные изменения. Вопрос лишь в том, что называть эволюци¬
ей. По мнению Горлова, основная ветвь Homo sapiens развивалась в контакте с ма¬
териальным миром, вырабатывала речевые структуры и практические коммуни¬
кации, в то время как реликтовый человек остался в той стадии, когда его контакт
с окружающей действительностью по-прежнему организован на биоэнергетиче¬
ском уровне. Горлов считает, что для поисков снежных людей совершенно необяза¬
тельно отправляться в Гималаи или на Памир. Они живут везде, оставаясь невиди¬
мыми благодаря мощному биополю и лишь выбирая те районы, где меньше всего
шансов встретить встречное излучение, будь то сильные личные качества или раз¬
витый интеллект. Один из таких районов находится совсем близко, в Псковской
области. В настоящий момент там работает экспедиция. С результатами ее наблю¬
дений Горлов в скором времени ознакомит уважаемое собрание.
В аудитории разыгрывается настоящий скандал. Горлова обвиняют в шарла¬
танстве и подтасовке фактов. Победоносно улыбаясь и не отвечая на колкие репли¬
ки, он удаляется.
2.
На улице перед институтом Анна видит Горлова, садящегося в ярко-красный от¬
крытый джип. Уже начавшийся между ними флирт подогревается тем, что она за¬
дает Горлову несколько вполне компетентных вопросов. Он предлагает поговорить
за обедом. Она соглашается.
В ресторане Горлов, проявляя недюжинную светскость, продолжает тем не менее
увлеченно рассказывать о своем открытии. Он несколько лет работал в составе комис¬
сии ЮНЕСКО и в ходе заказных исследований обнаружил искомую территорию. Это
настоящий райский уголок — в семидесяти километрах от железной дороги, на берегу
703
Кино на ощупь
озера прямо посреди лесного массива укрылись опустевшие деревни, где живут все¬
го несколько старушек и куда можно добраться только на автомобиле. Горлов выбил
у своих зарубежных партнеров крупный грант, закупил сверхновую аппаратуру сле¬
жения и набрал экспедицию. Команда сложилась отличная, несколько человек при¬
ехали с женами и детьми, что неудивительно — такой летний отдых не купишь ни за
какие деньги. Завтра он должен вернуться и, если Анна захочет, готов взять ее с собой.
Циничная Анна замечает, что если Горлов хочет просто переспать с ней, то не
стоит расточать пустые посулы. На это профессор неожиданно серьезно отвечает,
что в его донжуанском арсенале есть много других средств и его предложение зна¬
чит только то, что значит.
3.
Вечер продолжается в очаровательной светской болтовне и крепнущей взаимной
симпатии. Анна и Горлов уже не подначивают друг друга, легко переходят на «ты»,
красиво выпивают и дорого закусывают. Все завершается, как и следовало ожи¬
дать, в квартире Анны.
4.
Проснувшись с рассветом, свежий и бодрый Горлов повторяет свое приглашение.
Все очень просто. Он начальник партии, отвечает за результат и свободен прини¬
мать любые решения. Если Анна за двадцать минут соберет все необходимое, они
на автомобиле Горлова вместе отправятся в путь. Анна не возражает.
5.
По дороге, уверенно управляя джипом, Горлов продолжает увлеченно рассказывать
о своем проекте, в успехе которого не сомневается. Его раздражает только нескоорди-
нированность действий экспедиции с головным институтом («Дорогущую аппарату¬
ру я из буржуев своими руками выбил, а у них, видите ли, нечем заплатить обычному
шоферюге... На всю экспедицию одна машина, да и та моя!»). Попутно он рассказыва¬
ет всякие смешные истории и байки. Поездка проходит весело. Анна почти влюблена.
6.
К середине дня Анна и Горлов добираются до места. От поселка, затерянного в не¬
скольких десятках километров от автотрассы, к лагерю ведет проселочная дорога.
Горлов останавливает машину на площади и, испросив извинения, отлучается ре¬
шить какое-то дело с местным начальством. Он скрывается в покосившемся здании
администрации. Анна с любопытством оглядывается вокруг. Поселок кажется не¬
обитаемым. Кругом жарко и пусто, только на ступеньках закрытого магазина лени¬
во переговариваются двое местных парней. Едва Горлов скрывается, они подходят
704
Приложение
к Анне и, не стесняясь в выражениях, принимаются обсуждать ее и в самом деле вы¬
зывающий для этих мест наряд. Анна бойко огрызается и упускает момент, когда
перебранка становится вдруг угрожающей. Вовремя подоспевший Горлов пытается
образумить парней и после того, как один из них лезет на него с кулаками, изящным
приемом выворачивает ему руку. Парни матерятся, но отходят. Машина уезжает.
7.
По лесной дороге джип въезжает в лагерь. Горлов не обманул. Это действитель¬
но райское место — на живописной поляне, недалеко от озера, к тому же оборудо¬
ванное самодельным теннисным кортом. Горлов знакомит Анну с членами экспе¬
диции - пожилым профессором-зоологом Плотицыным, генетиками Ивановым
и Лосевым, доцентом Шором, компьютерщиком Володей. К ним присоединяют¬
ся жены Иванова и Володи — Люда и Катя — и их дети, две девочки, Лиза и Маша.
За исключением старика и детей, в экспедиции собрались люди молодые, веселые
и объясняющиеся по преимуществу цитатами из культовых советских кинофиль¬
мов. Анну Горлов представляет как нового сотрудника и перспективного молодого
ученого, показывает ей лагерь, хвастается оборудованием.
8.
С наступлением темноты все собираются у костра. Царит почти туристская об¬
становка — варят уху, поют песни под гитару. Профессор Плотицын со старомод¬
ной учтивостью беседует с Анной, болтливая Люда вызывает ее на откровенные
разговоры («Что у вас с Олегом? Только честно! Ты имей в виду, он жутко талант¬
ливый. Просто жутко!»). Через некоторое время к компании присоединяются еще
двое, дежурившие на отдаленной наблюдательной точке. Горлов шепотом сообща¬
ет Анне, что это два самых неприятных члена коллектива. Паша Звягин когда-то
учился с ним на одном курсе и всегда ему жутко завидовал. Парень он не без спо¬
собностей, но не вписался в поворот, выпивал. Олег взял его в экспедицию прове¬
триться, так он на него же теперь волком смотрит. О биологе Рыклине он говорит
коротко и зло: «А этот как раз вписался. Даже очень. Когда-то на два института в ГБ
стучал, а теперь нате - приставлен ко мне наблюдателем от буржуйского фонда».
Костер гаснет. Все разбредаются по палаткам. Анна и Горлов, взявшись за
руки, романтически прогуливаются по берегу озера, потом идут в палатку Горло¬
ва, где и происходит все, что надо.
9.
Наутро Анна у всех на глазах выходит из командирской палатки. Женщины хихи¬
кают, компьютерщик Володя фыркает, Плотицын делает вид, что ничего не заме¬
тил. Звягин говорит гадость о госпоже командирше, Горлов резко его одергивает.
705
Кино на ощупь
Ясно, что Анне пока еще рано оставаться одной в лагере, поэтому он сажает ее
в джип и, посоветовав всем заниматься своими делами, уезжает в поселок.
10.
Шутливо коря себя за вчерашнюю ошибку, Горлов на сей раз берет Анну с собой
в здание администрации. За столом в грязной комнате сидит пожилой председа¬
тель. Все в том же полушутливом тоне Горлов сетует ему на невоспитанность мест¬
ной молодежи. Председатель разводит руками («А что ты хочешь, мил человек? Им
после десятилетки год до армии - куда себя девать-то? Пытаемся пристраивать,
кого комбайнером, кого на МТС, а что толку? После армии все равно сюда никто не
возвращается»). Горлов излагает суть дела — предлагает председателю наладить на¬
туральный обмен продуктами. Тот опять разводит руками: откуда продукты? раз
в десять дней автолавка привозит хлеб и керосин, вот и все.
11.
На обратном пути Горлов красиво рассуждает о вечном русском раздолбайстве, ци¬
тирует Бердяева, делится опытом многочисленных зарубежных поездок («С умом
подойти, из этого угла можно сделать вторую Швейцарию»). Светит солнце, на небе
ни облачка, кругом лежат живописные поля. Когда машина въезжает в рощу и ми¬
нует лесное озеро, Анна предлагает Горлову искупаться. Горлов соглашается. По¬
путно они занимаются любовью, потом Анна плавает в чем мать родила, а Горлов
любуется ею с берега. Едва Анна выходит из воды, из кустов выламываются трое
местных парней. Они старше и агрессивнее вчерашних. И намерения у них куда
более определенные. Начинается драка, в ходе которой Горлов кладет всех троих, но
и им самим приходится удирать довольно поспешно. Одевается Анна уже в машине.
12.
В лагере царит радостное возбуждение. Приборы намекнули на долгожданный ре¬
зультат, и Горлов, тут же позабыв о приключении, углубляется в какие-то расчеты
вместе с компьютерщиком Володей. Анна бесцельно шатается по лагерю и от нече¬
го делать пристает с разговорами к Звягину. Тот отвечает сначала уклончиво, а по¬
том, не сдержавшись, кратко излагает ей свои взгляды на людей, которые бомбят
западные фонды, чтобы за чужой счет сладко жрать и снимать лялек. Анна не оби¬
жается и ангельским тоном указывает на примитивно-грубую ошибку в вычисле¬
ниях, которыми Звягин в этот момент занят. Звягин белеет и матерится.
13.
К вечернему костру выносят шампанское, все пьют за удачу. Горлов произносит
тост, однако закончить его не успевает. У костра появляются сильно избитые Иванов
706
Приложение
и Шор, с утра дежурившие на дальней точке. На обратном пути, всего за несколько ки¬
лометров от лагеря, на них напала местная шпана, здорово отметелила и еще обещала
разобраться с остальными. Веселье скомкано. Горлов собирает экстренный совет, од¬
нако ни словом не упоминает о собственных стычках с местными. Решено наутро от¬
править в город женщин и детей, остальным вооружиться (у экспедиции есть кара¬
бин, ракетница и два охотничьих ружья), снять ценную аппаратуру с дальней точки
и на всякий случай связаться из поселка с милицией. На ночь выставляют дозорного.
14.
Наутро Горлов заявляет Анне, что она должна уехать. Они пикируются в обычной
ироничной манере, однако оба не в силах скрыть напряжение. Горлов обрывает
разговор резко: уедешь и все. Анна усмехается.
Четверо взрослых и две девочки едва умещаются в джипе. Жены напутствуют
Володю и Иванова. Джип трогается.
15.
Дорогой Горлов ерничает, шутит и всячески пытается разрядить обстановку, выда¬
вая все происходящее в смешном свете. По приезде в поселок ему это почти удается.
16.
На площади перед поселковой администрацией пусто. Наказав всем не отходить
от машины, Горлов идет к председателю и, описав ситуацию, просит позвонить
куда следует. Председатель отвечает, что, во-первых, в поселке не работает теле¬
фон, а, во-вторых, власть на ближайшие сто километров представляет один-един-
ственный инспектор, которому в будущем году на пенсию и который от греха по¬
дальше держит табельное оружие в райцентровском сейфе, чтобы его самого не
грохнули. Горлов просит помочь с транспортом, на что председатель отвечает до¬
вольно резким отказом. Горлов обещает найти управу, на что председатель совету¬
ет катиться откуда пришел вместе с блядями и телескопами.
Неизвестно, чем бы кончилась перепалка, если бы Горлов не увидел в окно, как на
площади остановился трактор и человек пять местных кучкуются возле него, погляды¬
вая на джип. Обещав председателю еще вернуться, Горлов бежит к машине, сообщает
женщинам, что обо всем договорился, и трогает с места. Трактор разворачивается и, ка¬
жется, пытается его преследовать. Горлов прибавляет скорость и легко уходит в отрыв.
17.
На полустанок, где раз в сутки останавливается экспресс дальнего следования, они по¬
спевают вовремя. О билетах нет и речи — когда подходит поезд, Горлов договаривается
с проводниками. Анна замечает, что расплачивается он собственными долларами, не
707
Кино на ощупь
торгуясь по поводу явно завышенной суммы. Она еще раз предлагает остаться с ним,
на что Горлов вновь отвечает категорическим отказом. Он шутит, куражится, разыгры¬
вает со всеми по очереди слезные прощания, целует руки маленьким девочкам и про¬
сит не поднимать в городе паники. Они, дескать, сами разберутся. Анне он говорит, что
скоро приедет, и обещает найти ее в Питере. Поезд трогается. В тот же момент Горлов
слышит, как срабатывает сигнализация в его машине. Он оборачивается и видит, что
трактор подцепил джип на трос и увозит прочь от станции. Горлов бросается следом,
но не успевает — трактор с джипом на буксире уезжает. Горлов ищет телефон, но нахо¬
дит лишь торчащие из стены проводки. Здесь его и застает Анна. Она все видела, успе¬
ла выскочить из поезда и заявляет Горлову, что теперь ее присутствие рядом с ним
вполне оправдано — она, как-никак, разрядница по спортивному ориентированию.
18.
Анна и Горлов голосуют у обочины проселка. Останавливается потрепанный грузовик
с разбитным молодым шофером. Анна категорически отказывается садиться с ним
в кабину. Они с Горловым забираются в кузов. По дороге, трясясь на ухабах, Горлов
опять рассуждает о российском идиотизме, обещает разобраться с председателем. Анна
поддакивает, и вскоре Горлов вновь обретает свою обычную иронично-суперменскую
манеру. Они уже целуются, когда грузовик тормозит возле машинно-тракторной стан¬
ции и водитель выходит «отлить и с братаном побазлать». Горлов тоже спрыгивает из
кузова и, зайдя за угол, видит свой джип, снятый с колес и поставленный на кирпичи.
Он возвращается к грузовику, и, едва они с Анной успевают спрятаться за какими-то
ржавыми агрегатами, из барака вываливается толпа местных с цепями и монтировка¬
ми. Они окружают грузовик, матерятся и начинают обыскивать двор. Горлову с Анной
чудом удается уйти. При этом они слышат, как местные сговариваются объединенны¬
ми силами трех поселков наведаться в гости «к геологам» и дать им нешуточной п****.
19.
Темнеет. Анна и Горлов лесом пробираются к стоянке. Их путь лежит через поле,
и, едва они вступают на открытую местность, из темноты с ревом появляется трак¬
тор. Слепя фарами, он начинает гоняться за ними. Удирать по пашне очень трудно.
Анна чуть не попадает под гусеницу. Горлов хватает булыжник и швыряет в лобо¬
вое стекло. Трактор крутится на месте, окровавленный тракторист не подает при¬
знаков жизни. Горлов и Анна в панике убегают в лес.
20.
Наступила ночь. Обессилевшие от усталости Анна и Горлов подходят к лагерю со сто¬
роны леса, причем Анна действительно очень неплохо ориентируется на местности.
У самой стоянки на них вдруг обрушивается свет прожекторов, невыносимо воет
708
Приложение
ультразвуковая сирена, срабатывают электрические разряды - экспедиция включи¬
ла аварийную систему защиты от снежного человека. Горлову и Анне стоит огромного
труда докричаться до своих. Войдя в лагерь, они предупреждают об опасности. Неожи¬
данно начинается скандал. Звягин обвиняет Горлова и требует сложить полномочия
руководителя. Лосев произносит взволнованную речь о том, что грешно защищать¬
ся от собственного народа. Перепалка грозит перейти в серьезную распрю, как вдруг
из кустов летят камни, вдребезги разлетаются дорогостоящие приборы. Экспедиция
в панике мечется по лужайке, становясь легкой добычей для окруживших ее местных.
В темноте все лупят друг друга, не разбирая, где свой, где чужой. Больше всех достает¬
ся компьютерщику Володе - он получает огромную резаную рану в живот. Видя это,
Горлов хватает карабин, стреляет по нападающим и кого-то ранит. Местные отступают.
21.
Утром в лагере проходит военный совет. За ночь Володя потерял много крови и впал
в беспамятство. Плотицын осматривает его и заявляет, что необходимо срочно ис¬
кать врача. Горлов (он больше не расстается с карабином) предлагает вооружить дво¬
их охотничьим ружьем и отправить в поселок за пятнадцать километров. Вызывается
Иванов. Ему в пару Горлов поспешно назначает Звягина, уже не скрывающего непри¬
язни к нему и Анне. Звягин пытается бунтовать, но на него прикрикивают. Оба уходят.
22.
В лагере остались Горлов, Анна, Плотицын, Лосев, Шор, Рыклин и раненый Володя.
Они вооружены карабином, охотничьим ружьем и ракетницей. Плотицын вспоми¬
нает войну, Лосев окончательно впал в мистицизм и твердит о русской идее.
Чтобы скоротать время, Горлов осматривает место вчерашнего побоища. Под ку¬
стом он обнаруживает немецкую каску, а чуть поодаль — оторванный погон обер-еф-
рейтора. Разгадку находит Шор — поблизости лежат торфяные болота, где во время
войны шли большие бои. В свое время сюда наведывались трофейщики даже из Пи¬
тера, поэтому нечего удивляться, что местная гопота промышляет покойницким
барахлом. За рассуждениями на эту тему проходит совсем немного времени, когда
на поляне появляется потрепанный Иванов. Незнакомые местные парни схватили
их совсем неподалеку. Обоих избили, Звягина увезли куда-то на грузовике, а его от¬
пустили передать, что если «деловой (они, вероятно, имели в виду вас, Олег Нико¬
лаевич) с телкой не придут сами, мы вашего фраерочка тракторами порвем!» Боль¬
ше всего Иванова поразило, что нападавшие были в немецкой форме времен войны.
У Лосева истерика. Он обвиняет Горлова, требует его немедленно пойти и сдать¬
ся «вместе с этой особой». Неожиданную твердость обнаруживает Рыклин, советую¬
щий Лосеву не терять человеческого облика. Горлов решает — он отправится разби¬
раться с местными и по возможности выручать Звягина. Судя по карте, в десятке
709
Кино на ощупь
километров близко к лесу проходит железнодорожное полотно. Остальным следу¬
ет пробираться к нему и пробовать остановить любой поезд («Делайте завал, раз¬
бирайте пути, сами ложитесь, черт возьми, на рельсы... Иначе нам отсюда не уйти!»)
Анна умоляет Горлова взять ее с собой, однако он непреклонен. Ее навыки
ориентирования на местности нужны для спасения остальных.
23.
Горлов идет прямо к МТС. Подобравшись совсем близко, он убеждается, что, кроме
двух скучающих гопников, поблизости никого нет. Горлов валит обоих и освобожда¬
ет Звягина — тот сильно избит, зол и набрасывается на своего спасителя. Горлов пре¬
рывает распрю, объяснив ситуацию. Вдвоем со Звягиным они берут в оборот мест¬
ных и узнают, что вся шарага отправилась прочесывать лес в поисках «городских»...
24.
Экспедиция уже близка к цели, как вдруг с раненным Володей делается приступ.
Подручные средства не помогают — Володя умирает. Никто не успевает толком
осознать произошедшее, потому что тут же со стороны железной дороги появля¬
ется цепь местных. Все они пьяны вусмерть и так или иначе снаряжены в немец¬
кое обмундирование. Путь к отступлению отрезан — ближайший проселок пере¬
крывают грузовики. Плотицын в ярости кричит нападающим, что на их совести
человеческая жизнь и таких, как они, он убивал на фронте. Вероятно, именно это¬
го говорить не следовало, потому что в ответ раздается крик «Гаси их, робя! Живых
не оставлять!» и начинается чудовищная бойня, в ходе которой члены экспедиции
рассыпаются по лесу и один за другим погибают.
25.
Спустя несколько часов к месту побоища поспевают Горлов и Звягин. Их ждет
ужасная картина - по лесу на небольшом радиусе разбросаны трупы всех членов
экспедиции. Среди убитых нет Анны — они находят ее неподалеку в оцепенении.
Ей удалось спрятаться, но рассудок у нее явно помутнел.
26.
Темнеет. Звягин, Горлов и Анна пробираются к поселковому милиционеру. Тот не
пускает их в дом, забаррикадировав вход и умоляя не подставлять. Его опасения не
напрасны — не успевают все трое сойти с крыльца, рядом с домом появляется шай¬
ка местных. Начинается схватка, в ходе которой Горлов безжалостно убивает не¬
сколько человек. Анна, Горлов и Звягин бегут в лес, чудом оторвавшись от пресле¬
дования. Издалека они видят, как гопники врываются в дом, вытаскивают на улицу
пожилого мента и зверски убивают.
710
Приложение
27.
Все трое блуждают по лесу. Попутно Горлов и Звягин выясняют отношения. Горлов
в который раз клянет себя за то, что подставил под смерть столько народу. Звягин
не утешает его, скорее, наоборот; опасность и близость смерти не примирили его
с давним соперником («Tы всегда по головам ходил, ницшеанец сраный... Бабу жал¬
ко, а то б я тебя своими руками...»). Однако, когда они видят на дороге грузовик, воз¬
ле которого сгрудилась ватага пьяных местных, Звягин с воплем выскакивает из
укрытия и, отвлекая внимание, бежит по проселку. Маневр не удается - без лиш¬
них слов гопники догоняют Звягина и давят его грузовиком.
28.
Горлов и Анна вдвоем. Ночь. Они пробираются к зданию местной администра¬
ции. Горлов берет сонного председателя за грудки и слышит в ответ злобную от¬
поведь («Мы тебя с твоей подстилкой на нашу землю не звали»). За окном тем
временем гужуются местные. Горлов обещает председателю в случае чего поло¬
жить его на месте, однако тот, улучив момент, разбивает окно и, высунувшись на¬
ружу, вопит: «Выручайте, сынки!» «Сынки» идут на штурм. Горлов всаживает заряд
председателю в спину, а затем прицельными выстрелами кладет трех или четы¬
рех нападающих. Воспользовавшись замешательством, он тащит Анну к грузови¬
ку, подсаживает в кабину... В тот же момент ему в спину впивается брошенный
с небольшого расстояния топор. Лезвие, вероятно, задевает позвоночник, потому
что ноги Горлова беспомощно волочатся за тронувшимся с места грузовиком. Пе¬
ред тем как набрать скорость, внезапно обретшая голос Анна произносит только
три слова: «Снежный... человек... есть?» «Нет!» — кричит Горлов и срывается под
ноги набежавшей толпы.
29.
Раннее утро. У края распаханного поля стоят милицейский УАЗ и трактор. Трак¬
торист в тельняшке-безрукавке что-то горячо объясняет двум милиционерам. Те
недоверчиво качают головами, вручают ему отрывной корешок повестки и уезжа¬
ют. Тракторист вертит в руках бумажку, плюет, швыряет ее на землю и забирает¬
ся в кабину. Трактор споро бежит по пахоте и останавливается возле сгорбленной
старушки в черном платке. Тракторист машет рукой, спрыгивает на землю и тут же
получает удар ножом в живот. Остальное Анна (у нее в волосах заметна седина) до¬
делывает камнем и уходит в сторону леса. Над полем встает солнце.
Публикуется впервые. Синопсис написан Сергеем Добротворским в 1996 году.
711
Осень 1997
Михаил Брашинский:
Я бы так хотел написать о нем. О нас, о том, как все было. Как мы не дружили вначале.
Как долго кружили друг против друга на лестничных площадках Исаакиевской. Как
мне было тяжко однажды, а он был единственным, кто оказался рядом. Как искали тару
у Приморской — пиво было только в розлив, а всухую о главном кто ж разговаривает.
О том, как снимались в «параллельном видео» у Вадика Драпкина и, по указанию
режиссера, носились с палками друг за другом по какому-то тоннелю под Московским
шоссе. Я, кажется, играл Пушкина, а он, значит, Дантеса. О поездке в Калининград —
вправлять че-паевские идеи в массы. Как поставили весь Калининград «на уши» (его
выражение) и гоняли в дискотеке Юфу под «Бони М». Как там было ветрено и счастливо.
О том, как с приятелем тащили его к зубному напротив «Искусства кино» — с тех пор
он Москву особенно недолюбливал. Как встретились впервые после трехлетней разлуки,
и от схлестнувшихся наших комплексов искры летели по всему необъятному нью-йоркскому
аэропорту. Как в самом центре Бродвея на нас напал какой-то подонок, и как по-че-паевски
мы от него отбились. О том, как мы, наверное, ни разу в жизни не обратились друг к другу
по имени.
Я бы так хотел написать о каждом фильме, посмотренном вместе (чуть ли не больше было
тех, с которых вместе линяли), и о каждом фильме, который после его пересказа, казалось,
будто посмотрели вдвоем (по профессии и призванию наблюдатель, он с ранних лет
до конца вел дневник — не прожитого, а виденного). О том, как его нет, и я почему-то не могу
заставить себя пойти в кино.
Я бы так хотел написать о том, как с его уходом мой мир онемел. Как рождалась
наша Речь — из сопротивления безъязыкому времени — код, игра, потаенная азбука
прибауток и шуточек, которые звучали так глупо, означали так много и позволяли важное
не называть — маска, выразительная ровно настолько, насколько за ней читалось лицо.
О словах, которые порой хотелось сказать, но, по уставу Речи, говорить не полагалось.
О том, как поэтому многое между нами так и осталось невысказанным. О том, как
безъязыкое время ушло, а Речь сохранилась — уже не игра, а ключ во все строже
оберегаемое от чужих внутреннее пространство. Теперь Речь умерла. Не с кем стало
поговорить.
Я бы так хотел написать о том, как все изменилось после него. О том, каким последним
кажется это новое одиночество. Я бы так хотел, но никогда не смогу написать об этом.
Потому что об этом просто немыслимо написать.
713
О Сергее Добротворском
Сергей Добротворский
714
Осень 1997
Любовь Аркус:
Нас и так было мало, а теперь — и всего ничего.
Со временем беда делается тише и огромнее. Сережи нет. Заменить его в этой жизни некем
и нечем, а другой — у нас не будет.
В прошлом году, в одной компании русских эмигрантов в Париже, я стала невольным
участником вальяжной беседы о никчемности нынешних российских интеллигентов.
Рассуждали о том, что они не готовы к цивилизованному рынку интеллектуального труда,
покорно тянут лямку в никому не нужных институтах. Мой рассказ о Сереже смутил
их ненадолго. Успокоились на мысли, которая показалась им чрезвычайно проницательной:
вероятно, он не оставляет прежних занятий для сохранения официального статуса —
из осторожности и страха перед возвращением коммунистов. У, гады. Куражу не было объяснять
им про то, что красиво жить Сереже не мог запретить никто, прежде всего — он сам себе
никогда бы этого не позволил. Гордец и умница, всегда и во всем первый, он умел относиться
к резонам здравого смысла со здоровой долей отвращения, находил еще какой здравый смысл
в нелепости бессмысленных затрат и растрат. Не считался, не рассчитывал. Вот и не рассчитал.
К немыслимой по объему библиографии следовало бы добавить, что среди публикаций нет
почти ни одного самоповтора, и без «почти» — ни одного текста, написанного без мучений.
Ни-ког-да не халтурил, спуску себе не давал. Слова складывал мучительно, а тексты
получались легкими и воздушными. Предмет обдумывал неторопливо и окаянно, с ему
только присущим сочетанием страсти и хладнокровия — посреди огромной страны,
сотрясаемой безумием войн и кризисов.
Он доказал невозможное — что слово «вечность» можно складывать из льдинок, сохранив
горячее сердце. А льдинки мешать при этом с любым другим подручным материалом.
Его взвинченность, его любовь к героям, влюбленным в обреченность или отдавших
ей предпочтение перед нормой жизни. Он был заворожен временами, пускавшими пулю
в спину своих героев, и был очарован героями, которые не прятались, не уворачивались
от этих пуль... Однако правда также и в том, что он, домосед и консерватор во всем —
от верности старым привязанностям до скрупулезного ежедневного исполнения
обязанностей и долгов — изо всех сил стремился к норме. Его ли вина была в том, что
время, сужденное ему, норму отрицало, именно ее-то делало самым недоступным изо всех
благ и спрашивало за нее такую цену, которую он не мог, ну никак не мог заплатить...
Сказать, что он не справился с жизнью в этом времени — было бы неправдой. Сказать,
что не захотел справляться из принципа — тоже не так. Шел — сколько мог. Платил
несущественными для себя монетами — здоровьем, физическими силами. Неразменные
золотые никогда не тронул.
Подпольщик, петербургский профессор, богема, безупречный стилист, газетный писака,
настоящий мужчина, красивый мальчик, гений концепта, певчая птичка, ломовая лошадь,
лучший в мире собутыльник, верный боевой товарищ, ученый коллега, дружок закадычный,
больной ребенок. Перечисление можно длить бесконечно, но оно не помощник.
715
О Сергее Добротворском
Михаил Трофименков:
Мы никогда не переходили на «ты» — правило игры, как бы отношения учителя и ученика.
Да он и был моим учителем по профессии и по жизни, в хорошем и не очень. Кажется, ему
было необходимо всегда ощущать перед собой недостижимую цель — не социальную,
а для души. Такая совершенно бескорыстная демиургия — оформлять и менять мир
по собственному капризу или для друзей. Когда мир вокруг безжалостно оформился,
стало можно и не жить. Кажется, ему были очень важны еще и воспоминания — в том
числе чужие, о первых концертах Битлов, хотя бы, или как Дэвид Боуи выходил где-то
там на сцену в каком-то особенном прикиде. Вспоминать о том, как «мы с Трофимом
оттянулись в Париже», было гораздо важнее самой, в общем-то, ничем не примечательной
оттяжки. Воспоминания нужны были для того, чтобы делиться с друзьями (желательно, чтоб
воспоминания были общими). Когда людей с общими воспоминаниями как-то разбросало
по миру и по жизни — стало можно и не жить.
Когда уходит человек, которого знал тринадцать лет, город покрывается невидимой сеткой
координат. Оказывается, что почти каждый угол связан с какой-то общей чушью. Крыша дома
на Наличной, и угол на Восстания, где нас всех чуть не замели менты в день смерти маршала
Устинова, и Кирочная, где он подзуживал нас, своих актеров, отбить от комендантского
патруля солдатика в «самоходке».
Тогда мы все ходили по городу вместе, чуть ли не круглыми сутками, и ему было необходимо
именно такое, общее движение. Движение и с большой, и с маленькой буквы. Такая
потребность в людях и есть, наверное, предельный индивидуализм. Впрочем, люди никогда
никого не могут «уберечь» — ненавижу это слово. Теперь все движутся сами по себе,
назначая встречи в каких-то людных местах, и смотрят при этом на часы — так жить просто
неинтересно. А ему очень хотелось, чтобы было интересно. Ему не хотелось бы, чтоб о нем
говорили «критик» или «сценарист», или «поэт». Когда я в юности спрашивал его о ком-то,
обратившем на себя мое внимание, он делал загадочное лицо и говорил: «Это такой человек».
Загадок не осталось — и стало можно не жить.
Татьяна Москвина:
— Танюшк, пока!
— Пока, миленький!
Изо дня в день, из года в год — будь то лестница-курилка Института истории искусств,
буфетик дома Кино, коридоры «Ленфильма», квартиры друзей — и казалось, конца тому
не будет, и что толку говорить мне — это старая история, когда она происходит с тобой, она
всегда — новая. Что имеем — не храним, потерявши — плачем, и должны плакать, а иначе что
мы будем за люди?
Когда он умер, газета «Коммерсантъ-дейли» попросила меня написать некролог. Писать
некрологи по умершим друзьям — дохлое развлечение, я вам скажу. Я сидела, оцепенело
уставившись в лист бумаги, пока не услышала его голос: «Ой, ты только не пиши, что
716
Осень 1997
я был известный кинокритик. Лучше напиши, что у меня глаза были красивые!». Говорят,
из невидимого лентонного поля земли мы можем заново сотворить дорогого нам человека —
кто его знает. Вроде бы мы сейчас заново лепим Сережу, хотя бы лентонного — нам его
не хватает потому что.
Мой Сережа — молодой и веселый. Мы — аспиранты Театрального института,
составляем мифический Совет молодых ученых, ездим на дурацкие конференции
с глубокомысленными докладами, а в перерывах бегаем по номерам бедных волжских
гостиниц (мальчики живут отдельно, девочки отдельно, так сообразите сами); мы пишем
свои первые статьи, их публикуют, господи! Мы оттягиваемся на первых рок-фестивалях
и для души сами нечто орем, подыгрывая себе на кастрюлях; мы открываем портвейн
с помощью ключей от дома, в коем бываем редко, а паштет «Волна» — совсем
недурная закуска для мыслящего пролетариата! Все еще впереди. Идея, что мы сами
станем «авторитетами», нас бы очень рассмешила. Для нас нет авторитетов. А разбитое
сердце заливают вином. Это очень просто.
«Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод
с летами вытерпеть умел». Не смог вытерпеть, наверное. Нынешние двадцатилетние
частенько пишут с видом столетних старцев (все знаем, все понимаем), а ему на самом деле
было двадцать, каким бы рассудительным он ни казался, какой ученостью ни обрастал.
Писал он, кстати сказать, все лучше и лучше, все разнообразнее — мог быть совсем озорным,
а мог глядеть прямо в академики. Там бы ему и быть — уже все шло к тому, уже сидел в жюри
и на коллегиях, уже подступала солидность, как тошнота к горлу, уже толпились ученики,
уже маячило телевидение... Еще шаг, еще рывок — и пошла-поехала прочная, степенная,
обеспеченная жизнь в «региональной элите».
Черта с два. «Не угодно ль этот финик вам принять». Опять-таки старая история о дорогах,
которые мы (якобы) выбираем. Да будет мир твоей страдальческой и беспокойной душе.
Пока, миленький.
Дмитрий Савельев:
Странно мне сейчас подыскивать и приноравливать друг к другу слова, приличествующие
черному случаю, в котором почти не было случайности. Странно потому еще, что сам Сережа
был человеком слова: в житейски-мужском и литературно-эстетическом смысле. Слов
на ветер не бросал.
От огромного маленького Сережи Добротворского нешуточно било током, это правда.
Не думаю, что он устанавливал дистанцию для слишком прытких. Ему не надо было набивать
себе цену, потому что он ее знал, и другие были осведомлены. Он был чужд картонного
пафоса по отношению к собственной персоне: достаточно было незаемного пафоса
фамилии, которая была дана ему от рождения — да и то критические шалости он норовил
подписать то Ольгой Лепестковой, то Сергеем Карениным. Он не защищался электрическими
разрядами в жизненном пространстве вокруг себя, а сам сгорал от этих чудовищных
717
О Сергее Добротворском
ампер. Полтора года назад маленькая компания, и я в том числе, делала телесюжет про
козинцевского Гамлета. При окончательном монтаже фрагментик с монологом Сережи
выпал. Он почему-то заметно нервничал в кадре, прятал глаза от камеры, сам прятался
за чужие слова. Я не понимал, почему. Просто он уже обдумал для себя тот самый вопрос
и выбрал тот самый ответ.
Ирина Тарханова:
Впервые с уходом Сережи я ощутила, что компания, сообщество — это единый организм,
одно существо, в котором кто-то душа, кто-то мозги, кто-то глаза, кто-то уши, а кто-то — нерв.
Больше говорить не о чем, да и не хочется — тем более, что из-за отсутствия теперь этого
нерва говорить трудно и почти невозможно.
Нина Рабинянц:
Среди студентов театроведческого курса, где я была куратором и вела семинар
по театральной критике, Сережа Добротворский был самым юным и любимым. С виду —
мальчишечка-школьник. Невысокий, голубоглазый, светленький. С ясным, порой
озорным взглядом. Но уже тогда — духовная зрелость, немалая эрудиция. Небанальность
четких суждений. Независимость без намека на фрондерскую позу или вызывающее
самоутверждение, без претензии на исключительность.
У меня с ним не было проблем. Но немыслимого труда стоило убедить начальство, что
Сережа Добротворский будет писать диплом об Анджее Вайде (имя тогда, в начале 70-х,
почти не произносимое!).
В противном случае он бы отказался от защиты диплома.
А потом — блестящие критические статьи, и замечательные спецкурсы по кино у нас
и за рубежом, и обожание, которым дарили его студенты. И гордость за него. И счастье
увидеть Сереженьку на экране, в фильме, им же сочиненном, или в телевизионных
передачах. И уже чувство пиетета к нему, когда речь шла о кино. Всегда радовалась, если
наши мнения совпадали. И готова была учиться у своего любимого ученика — не высшая ли
это награда для педагога? А он, уже видный кинодеятель, остался верным себе.
Ненаигранная доброжелательность, ни тени амбиции или притязаний на успех.
И вот ушел ясноглазый мальчик. Ушел первым среди учеников моего любимого курса. Как
уходят у нас — до срока — лучшие. На панихиде, где было столько слез, горя, искренних
выстраданных слов, кто-то сказал: «Как горько, как страшно хоронить детей...». Воистину!
Леонид Попов:
«Всякий интеллигентный человек, — говорил Сергей Николаевич с важной миной
во время застольных посиделок, — хоть раз в жизни поступал в театральный
институт». — «А некоторые даже поступили», — неизменно вставлял я, и на моем челе
проступала гордость причастности к тому же сообществу, к коему принадлежал
718
Осень 1997
и Мэтр. «А некоторые даже окончили», — завершал Добротворский тираду, гордо
подняв палец, и я утихал: учился я пока еще всего лишь на втором курсе. Оба мы при
этом, приосанившись, взирали на третьего участника застолий — М. С. Трофименкова,
друга детства и — с некоторых пор — партнера по сцене в студии у Добротворского.
Трофим, студент Университета, понуро кивал головой: да, мол, не всем-де дано... Это
была одна из многочисленных реприз, разыгрываемых в нашей дружеской компании
подобно итальянским лацци: по строго соблюдаемой канве сценария, с допускаемыми
импровизациями. Бесконечной чередой перемешивающихся и переплавляющихся воедино
репетиций, попоек, подпольных концертов, философических бесед и юношеского трепа
был наполнен год. Он и был моим настоящим университетом, параллельная же учеба
на театроведческом факультете — приложением к нему. Сергей Николаевич в тот год более,
нежели кто другой, был учителем в жизни и в профессии, которую я и стал понимать как
жизнь именно в эти месяцы. Он был прирожденным педагогом (я позже наблюдал, как
бегали за ним восторженные студенты ЛГИТМиКа, которым Добротворский читал историю
кино). Долгое время мы, с не столь уж существенной разницей в возрасте, не могли перейти
на «ты»; я называл его по имени-отчеству, реже — просто по отчеству, он меня — чаще
всего по фамилии, со слегка наигрываемой фамильярностью. Добротворский вообще
был чрезвычайно артистичен, отсюда и его педагогический дар, отсюда его абсолютно
естественное существование в нестыкуемых людских кругах — и «сайгонской» тусовке,
и на академическом заседании кафедры.
Театр Добротворского просуществовал как раз еще два года, исчерпав свой жизненный
запас практически одновременно с моим возвращением из армии. Добротворский,
сам недавно испытавший гнусность существования в погонах, писал мне в армию
развернутые письма. Письма были мне поддержкой, были продолжением нашего
театра, репетиций, тусовок, пьянок, трепа и философствований о жизни и искусстве.
Продолжением уроков.
Андрей Плахов:
Когда уходит близкий незаурядный человек, не знаешь, какая потеря страшнее — чисто
человеческая или та, что несут вместе с нами культура, общество, профессия. Одно
невозможно отделить от другого: ведь если представить Сережу с его прекрасными
душевными качествами, но без его мощного интеллекта, таланта, честолюбия — это был бы
не Сережа.
Он был суперпрофессионалом, каких уже не будет в следующих поколениях. Непонятно
как, но он успел изучить и прочувствовать всю историю кино, а не только отдельные
ее фрагменты. Суперпрофессионализм не делал его перо механическим и бесстрастным.
Он увлекался порой гениальными, а порой пустяковыми фильмами, дорисовывая их в своем
воображении как самый наивный и доверчивый зритель. И это было прекрасно, ибо
высоколобый критик тоже имеет право быть ребенком.
719
О Сергее Добротворском
Он больше всего боялся «коснуться потолка». Некоторые думают, что газетная
поденщина мешала его амбициозным замыслам. Да, разумеется, но замыслы эти —
не в сфере «высокой науки» (в которой ему ничего не стоило преуспеть), а как раз наоборот —
в презренных «низких жанрах», которые он ценил и в кино, и в кинокритике. Он с упоением
читал новорожденный российский pulp в карманных переплетах, писал сценарии
малобюджетных триллеров и гордился тем, что печатается в журнале «ОМ».
Все знают, что он никому не завидовал и ни о ком не говорил плохо, словно не замечая
человеческого дерьма. Насколько мне известно, он — величайшая редкость для хорошего
критика — никогда ни с кем не конфликтовал. Во всяком случае, до последнего момента,
когда это становилось уже неизбежным, когда было затронуто чувство долга и чести.
Но и в этой экстремальной ситуации вел себя в высшей степени благородно.
У него были свои суеверия и предрассудки в отношении городов. Наша последняя долгая
встреча происходила в Праге, в доме у Петра Вайля, и там я видел его, приехавшего с Инной,
ближе всего к тому состоянию, что называется счастьем. Такой город, как Прага, был нужен
ему — славянский, европейский, теплый, где можно бродить вдоль реки, заходить в пивнушки
и вести дискуссии с местными скинхедами.
Зара Абдуллаева:
Сережа хотел написать статью в следующий номер «Сеанса» под названием «Конец
прекрасной эпохи». Не знаю, закавычил бы он эти слова или же взял их как эмблему расхожего
мирочувствия, которое каждый переживает на свой лад. Без сочувствия чужому настрою —
определиться бы со своим. А на это требуются время и сосредоточенность, которую текущее
время обычно растрачивает. Зато провокации времени, связанные, в частности, с «концом» (или
началом), «прекрасным» и «эпохой», смущают наши умы и взывают к немедленному (хотя
неокончательному) ответу, а не к долгому (хотя и несозерцательному) думанью.
«Конец прекрасной эпохи» начинается стихотворением «Второе Рождество на берегу...».
В нем есть такие строчки: «Грядущее настало, и оно переносимо...». Переносимо. И это
только начало. Сережа говорил: «Не пиши сейчас про Бродского. Надо было либо раньше,
либо потом, потом...». Ну конечно, ежилась я: Бродского «хором не спеть»... Про Сережу
писать не надо. Потому что слова вылетают как-то сверхъестественно легко. Все, что
о нем пишется, — правда. А значит — несправедливо. Представить в реальности, что уже
не случится с ним выпить, прогуливаться, спорить или радоваться, что в Петербурге остались
его адреса, «по которым найду мертвецов голоса», нельзя. Непереносимо. Все прочее —
литература. Но в литературе мы устроились ловчее, чем в жизни. Когда-то опоязовцы,
преодолевая удушье, помимо науки, обживали литературу. Прочитав «Кюхлю», Эйхенбаум
написал: «Это прекрасный выход из жалкого нашего профессорства». Я называла Сережу
приват-доцентом, иронизируя над его не знающим устали просветительским жаром
и трогательной склонностью обучать малолеток. А он разъяснял, что это его приватная
утопия в эпоху рухнувших утопий и выход из смертельной схватки литературы с жизнью.
720
Осень 1997
И там и тут у него были непрерывные лирические мотивы. Он воссоединял диссонирующие
усилия (серьезность, патетику, бесстрастность, грусть, одиночество, отзывчивость...)
в целостный образ своего авторского комментария и собственного — в цеховом сообществе —
почти культового имиджа.
В 70-е, когда вышла книжка «Конец прекрасной эпохи», были опубликованы «Заметки
о неканонических жанрах» Майи Иосифовны Туровской — «Герои «безгеройного времени».
О «других» героях, позиции и стратегиях, которые рифмуются сегодня, кроме прочего,
с тем, что и в наши безгеройные дни никуда не исчезли «антигерои» (предшественники
протагонистов его книги). В те же годы один проницательный автор высказал не исчерпанную
временем мысль: «Можно прозревать причины различных явлений, но никого не ставить
об этом в известность». Конфликтность нынешней (в широком смысле) ситуации состоит
в том — а Сережа ощущал это во всей полноте и с мучительной трезвостью — что
прирожденные, отнюдь не лишние и уж совсем не потерянные «антигерои», «тоскующие
по биографии», и герои, востребованные временем, газетной полосой и телеэкраном,
могут (или должны) вести совместное хозяйство. Проигрыш и выигрыш, метания
и чудовищная работоспособность, товарообмен и потусторонние порывы для Сережи,
который только-только входил в свою персонажность, стали драматургической —
жизненной — коллизией, которая в конце концов размыла берега между персонажем (героем)
и автором сочинений.
Он часто цитировал Вен. Ерофеева: «Все на свете должно происходить медленно
и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян».
Это — в идеале. В литературе, припахивающей литературщиной. Но в действительности
свою растерянность он группировал в надежду на скорое растяжение правильности.
Одна из лучших его работ написана об Особенностях национальной охоты. Не о фильме,
а о концепции самоидентификаций, где он дважды процитировал Ерофеева: «Ни в себе,
ни в серьезности своего места под небом не уверен более никто». Оставив за кадром
сокровенное лично для себя из того же автора: «А вот еще одна моя заслуга: я приучил
их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности». Но не вырезал из очередной
рецензии самоописание, подложенное в описание этой, как ему казалось, «этапной
картины». Ее этапность — своего рода повод для суждений о врожденной естественности
непрозрачного: «Советская власть всего лишь обострила сугубо русское умение
соединять несоединимое: полную замкнутость — с энтропией, самососредоточенность —
с беспределом. И разжигание хаоса как способ избавления от клаустрофобии». Но Сережина
клаустрофобия не была «мерилом абсолютной гармонии». А постсоветская эпоха еще
больше соединила несоединимое (хотя кажется, что разделение труда произошло и точка
индивидуальной опоры нащупана). Сережа понимал, что это не совсем так, и поэтому,
видимо, не пытался усугублять несоединимое — то, что отчуждается в литературе и кино.
И страшно редко переносится в жизни. «Но даже мысль о — как его! — бессмертьи есть мысль
об одиночестве...»
721
О Сергее Добротворском
Евгений Юфит:
Во второй половине 80-х просмотры «параллельного кино», как правило, заканчивались
скандалами, драками, абсурдными разоблачениями в прессе и на телевидении. С позиции
нормального молодого советского кинокритика, желающего сделать карьеру, писать
о параллельщиках было все равно что заразить себя чумой и бесстрастно фиксировать
стадии физической деградации своего организма.
Сергей Добротворский взломал стереотипы официоза, без оглядки ринулся в киноведческий
анализ и даже стал одним из основателей киногруппы «Че-паев».
Он был нашим любимым арт-критиком, нашим сподвижником. Он был, пожалуй,
единственным, кто мог адекватно представлять некрореалистический кинематограф.
Когда мы работали в Америке над проектом «Некрореализм: шок-терапия новой культуры»,
я жил с Сергеем в одном доме. Как-то вышли на улицу покурить. Я приставал к нему
с расспросами по поводу монтажа выставки. Он замолчал, потом сказал: «Брось ты все это,
жизнь такая короткая, пойдем лучше пить пиво».
Константин Мурзенко:
Когда он объяснял людям что-то — он больше задавал вопросы, чем произносил собственные
тезисы.
Рассказывать одну и ту же историю, не установив в ней всякий раз новую систему связей —
ему было скучно.
Он очень ценил выдержанность стиля. Особенно в дворовых песнях и интерьерах дешевых
кафе.
Подголовник автомобильного кресла он легко, впроброс, мог назвать подзатыльником, сам
этого просто не заметив.
Свою собаку, бледного, несмотря на густую черноту, неврастеника ньюфаундленда —
однажды ночью с целью поднятия в нем боевого духа произвел в звание старшего
матроса-моториста.
Для серьезного интеллектуала он был невероятно живым. Для живого человека — он был
очень умным.
Ему удавалось успешно сопротивляться бесконечной заструктурированности века, при этом
не распуская в себе ни варвара, ни потребителя даже в бытовых мелочах.
Именно это и обеспечивало ему некое обаяние канатоходца в повседневной жизни.
Именно это составляет живость интонации любого его текста, который всегда кажется
написанным человеком более свободным, нежели его читатель. И изящное безумие стиля
в целом — метаморфозы простых слов, понятий, оценок вдруг выскакивают в таких местах,
где их не замечаешь, потому что не ищешь.
Это была сугубо частная коллизия чувствительного и развитого человека, желавшего быть
свободным по праву.
Похоже — слишком типичная для этого времени.
722
Осень 1997
Невероятная дисциплинированность и окультуренность мысли — давала все более
безотрадные результаты в осмыслении безумного мира и начинала тяготить.
Строгий анализ не приносил освобождения от тоски сплошной обусловленности.
И он очень ценил спонтанные ходы и навязчиво ловил спонтанные ситуации.
Но неизбежно лишь формулировал через них общие правила нарушения правил.
Он был интерпретатором инноваций.
И автором роскошных бесхитростных фокусов, даривших неожиданное освобождение —
даривших ощущение времени через неожиданное прочтение мифов, неожиданное понимание
аутсайдеров, неожиданное пренебрежение отжившими условностями.
Потом он очень устал.
Было два варианта — умереть молодым. Либо нет.
Он умер относительно молодым.
Был вариант — не быть наивным.
Но не быть наивным — бездарно.
Олег Ковалов:
На исходе жаркого лета от нас ушел Сергей Добротворский.
И сразу в сознании зазвучала строчка, так любимая поэтом, погибшим у Черной речки: «Там,
где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно».
Я познакомился с ним в такой же прекрасный сырой, облачный и краткий день то ли ранней
весны, то ли поздней осени конца 80-х. Ростки «андеграунда» пробивались наружу, и вот
в Доме культуры ЛОМО молодые авангардисты показывали свою кинопрограмму. Даже я,
поклонник раннего Бунюэля, был шокирован увиденным и уже на улице все пыхтел, как
чайник, — пока рядом не раздалось укоризненное: «А я ведь слышал в „Спартаке” ваши
лекции о Фассбиндере...». С небес сеялась морось, из-под края вязаной шапочки смотрели
упрямые светлые глаза, а в тоне прорвалась такая детская уязвленность, что оставалось
лишь заткнуться со своим менторством. Сразу стало ясно, кто из нас прав, — и не потому, что
нервный нахохлившийся парень тут же изумил меня, с ходу выдав тираду, в которой только
что мелькавшее на экране узкопленочное безобразие подверглось изящнейшему анализу,
оснащенному академичными терминами и ступенчатой периодизацией, — а потому, что зябко
жмущийся на сыром ветру эрудит был явно из того легкого благословенного племени, люди
которого как-то особенно заметно прорежают собой в романтичные времена уличные толпы.
Быстрый взгляд глаза в глаза в вагоне метро или после киносеанса — и разговор
завязывался с полуслова, словно был прерван лишь вчера. На просьбы, от житейских
до самых экстравагантных, — они резонировали чутко, бескорыстно и безотказно.
В ладонь совалась спасительная десятка и, просто роняя: «Что вы, у нас же должно
быть братство нищих», — даритель растворялся в толпе Невского, и помню, с каким
куражом курехинские ребята вдохновенно барабанили по клавишам расстроенного рояля
кинотеатра «Спартак», «озвучивая» фильм Кабинет доктора Калигари.
723
О Сергее Добротворском
Сергей выделялся и среди тех талантливых своих сверстников. Он как-то чудодейственно
наращивал обороты во всем, за что брался. Если первые публикации его о питерских
киноподпольщиках слегка изумляли несоответствием академичного тона бесшабашному
объекту исследования, то вскоре я уже попросту наслаждался красотой критической мысли,
вытекающей из въедливо-точного прочтения кинокадров. Помню, с чего это началось:
в статье о Дэвиде Линче остановило трепетное описание того, как под хмурыми, несущимися
по небу облаками в викторианском замке страдает одинокое чудище, несчастный
человек-слон. Анализ этой парадоксальной монтажной кинофразы был столь тонок
и чувственен, что с тех пор я спешил читать все, подписанное Сережей.
Кто ярче Сергея вылепил словесный портрет Б. Г, совсем в духе салонного рока сплавив
неоклассицизм с нынешним кичем: «Интеллигентный сатир с лица, телом он величав,
как остановившаяся волна, как отъевшийся титан, как поумневший Шварценеггер»?
Кто образнее сказал о Тарантино: «Видиот», на кокаиновом приходе перепутавший
курок с кнопкой ускоренной перемотки»? Кто короче отозвался о фильме Мелодия
для декабря: «Путеводитель по Петербургу для богатых москвичей»? Несправедливо,
но остроумно. А о национальном напитке — кто выдохнул фразу любовнее, чем эта: «И она,
птица-мама в граненых манерках»? Последнее определение я цитировал и в дни торжеств,
и — вполне серьезно приводя как пример стилевого совершенства.
И еще... Для Сережи в искусстве, казалось, не было «священных коров»: даже о любимом
своем Чапаеве он напечатал статью, то ли всерьез, то ли ради задиристого эпатажа
вдумчиво исследующую... эротический подтекст легендарного фильма. Зная независимую
безоглядность его суждений, как-то я удивился явной осторожности одной из рецензий
Сергея. Он ответил примерно так: «Я, не побывавший в Афгане, не имею права даже
невольно оскорблять чувства тех, кто воевал», — и помню, как поразила меня нравственная
щепетильность того, чье имя поначалу связывалось с популяризацией, казалось, самых
циничных направлений «киноподполья».
Как большевики «диалектику учили не по Гегелю», так и мы в гнусных 70-х живопись
XX века «учили» не по подлинникам Пауля Клее, а порой и по «отражениям отражения»...
При взгляде на ранние работы Сережи-художника я аж вздрогнул, расслышав родные
позывные «Газа-Невской культуры». Мы явно вместе терлись в длиннющих очередях
на задворках пролетарских районов, чтобы в залах славных Домов народного просвещения
ошарашенно толкаться в плотных толпах, продираясь к произведениям «всамделишного»
современного «авангарда».
Но вот... Как-то я встретил Сережу в тяжелую минуту его жизни. Он обернулся, почти
не узнавая меня — щетина на ввалившихся щеках, затравленный взгляд. В руках
белели листки ватмана с рисунками, принесенными в редакцию. Они источали
художественный покой, философский стоицизм и надмирную иронию. Вольно льющаяся
упругая линия рождала округлые фигурки губастых монстриков — то щерящихся друг
на друга, то пучащих пустые зенки на ласковых красавиц, то сосредоточенно занятых
724
Осень 1997
разнообразно-нелепой «трудовой деятельностью». Рисунки сделали бы честь самому Солу
Стейнбергу. Отчего я, остолбенело уставясь на ватман, не сказал тогда об этом Сереже?..
Ушедший обычно обрастает непрошеными «друзьями». Сразу скажу — мы не были особенно
близки и виделись нечасто. Тем страннее, что меж нами легли завалы недоговоренного,
несделанного. Чуть брезжил запуск игрового фильма — я бежал к Сергею с просьбой
написать мне сценарий. (Кстати, мои фильмы он поругивал в статьях, что никак не сказалось
на наших отношениях. Эти отзывы я носил, как медали: быть изруганным Добротворским —
честь! Впрочем, Сергей-сценарист вдруг чудовищно польстил мне, в фильме Никотин
заставив как бы самого Годара с пиететом отозваться о Садах скорпиона.)
И вот — на фоне голой кухонной стены с укрепленным на гвоздике короткоствольным
пластмассовым пистолетиком («Люблю оружие», — скромно признался хозяин) вместе
с клубами сизого сигаретного дыма медленно начинали виться такие же бесследно
тающие вдруг в воздухе нити затейливых современных сказок. Вот в детском
доме, вселенном в реквизированную «цэковскую» дачу (протрите глаза: да, такое
действительно бывало в «перестройку»), стали пропадать детки, а в длинных его
коридорах перепуганные «нянечки» ночами видели плотоядно прогуливающуюся вдоль
спаленок косматую фигуру вампира-номенклатурщика, угрожающе позвякивающего
орденами... Вот синефил, работающий в киноархиве, выслеживает некий мелькающий
в разнообразных кадрах старой хроники фантом — пока не гибнет от него, мистически
материализовавшегося, а фильмохранилище пожирает пожар, как библиотеку в романе
Умберто Эко. На просьбу о «немецкой» истории под полуподвальными сводами
клуба «Манхэттен» начинал вырисовываться силуэт помаргивающей глазищами маленькой
девочки-замарашки, «Королевы крыс», свита которой состоит из уличных безногих
инвалидов на каталках, словно сошедших с холстов Отто Дикса... А на скатерть ресторана
дома Актера клались листки заявки на сценарий о тонкорукой современной Лолите...
Но все то откладывалось, то не складывалось. Было ясно, что только Сережа
может воплотить на экране эти фантазии. Я настырно звал его в режиссуру, он вяло
отнекивался (а один раз совсем по-детски спросил: «А если на съемках меня не будут
слушаться?»). Все же что-то сдвигалось: в студийном дворе он увлеченно рассказал
о фильме, который уж точно «поставит сам» — вольную экранизацию «Песочного человека»
Гофмана, где подтянутый аскет, коммунист из Германии, должен приехать в СССР 20-х годов
для создания гомункулуса. От одной сцены, рассказанной Сергеем, шел мороз по коже:
просвещая малышню насчет «создания нового человека», герой лепил фигурки из хлебного
мякиша и, сгребя в горсть, начинал поедать их. Ожившие человечки сучат торчащими из его
рта ножками, а малыши — отчаянно вопят от ужаса... Я призываю всех, кто слышал рассказы
об этом замысле Сергея, связаться со мной, чтобы хотя бы условно свести воедино идеи
и эпизоды несозданного сценария — подобный фильм я посвятил бы его памяти...
В последнее время он делал явный крен в сторону брутальной кинодраматургии. Мне
не нравилось это, казалось чем-то сродни играм с пластмассовым пистолетиком. Слушая
725
О Сергее Добротворском
его истории, я все более уверялся, что Сергей рожден для искусства нежно-сумеречного,
романтичного. Пробегите глазами одну лишь фильмографию французской «новой волны» —
как много среди названий ее программных лент поэтических характеристик того, кто так
их любил: На последнем дыхании, Маленький солдат, Безумный Пьеро, Нежная кожа... Почти
стихи в прозе — его эссе о Че и Мачеке, обреченных романтиках, заигравшихся с оружием...
У каждого из нас — свой Сережа. Простите, но ничто в нем не связано для меня с Мишелем
Пуакаром, воспетым Сергеем и на бумаге, и в фильме Никотин. Для меня он — родной брат
гофмановского студиозуса, открывающего за каждым уличным поворотом мир чудес, или
гоголевского поэта, что в несчастливый час погнался на Невском проспекте за синим плащом
незнакомки.
Помните, когда в далекой благословенной стране угас добрый гений кинематографа — нас
пронзило почти физиологичное ощущение, что в мире стало меньше света? И так же —
с уходом Сережи вдруг стало меньше прекрасного, сырого, прогорклого питерского воздуха.
Меньше — книжной мудрости и светлого безумия, красивых жестов и воспаленных порывов,
уютных бесед с горчинкой и житейских надежд.
«Фантомная боль» — это когда остро ноет, напоминая о себе, ампутированный орган.
Несентиментальный романтик Сергей, в часы застолий обожавший горланить сплошь
песенные шлягеры из советских фильмов, поморщился бы, возможно, от этой строчки, но что
делать, если действительно — «И куда б я ни шел, уж какая ни забота — по делам или так,
погулять, — все мне кажется, что вот...»
...Когда в вагоне метро над потертым воротом кожаной куртки я вижу жесткие взъерошенные
волосы нервно жестикулирующего парня — все мне кажется, что сейчас он обернется, и вот...
...Когда у Фонтанки я уже инстинктивно поворачиваюсь в сторону длинного уличного
прострела — то почти жду того момента, когда с радостью увижу, как издалека, по Гороховой,
сквозь мокрые хлопья летящего снега, спешит ко мне знакомая птичья фигурка.
Мы усядемся за грубый деревянный стол «Манхэттена», и я узнаю, наконец, чем закончится
история про маленькую девочку, «Королеву крыс».
«Пора, мы уходим — еще молодые.
Со списком еще не приснившихся снов,
С последним, чуть зримым сияньем России
На фосфорных рифмах последних стихов.
А мы ведь, поди, вдохновение знали.
Нам жить бы, казалось, и книгам расти,
Но музы безродные нас доконали,
И ныне пора нам из мира уйти.
И не потому, что боимся обидеть
Своею свободою добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
Всего, что сокрыто от прочих очей...»
726
Весна 2016
Станислав Зельвенский, критик, Afisha.ru:
Добротворскому повезло со временем — или, чего уж, времени повезло с Добротворским.
Ему выпало писать в 90-е, в период, когда кинематографическое невежество в стране было
тотальным, а жажда его преодолеть — неутоленной. Прежде следовало довольствоваться
советским искусствоведением — за редкими исключениями идеологически ангажированным
и элементарно не владеющим контекстом. И, если повезет, Садулем и Тёплицем — все же
изрядно устаревшими — купленными по случаю в букинисте. Вакуум, темнота, ничья
земля. Читателю можно — и нужно — было объяснять, кто такой Дэвид Линч или Вим
Вендерс... не говоря уже о Сэме Пекинпа. Можно было вскрывать целые культурные пласты
и собственноручно раскладывать найденное по полкам. По сути, можно было набело писать
собственную историю кино — великая удача для критика и великая ответственность.
И Добротворский, возможно, сам того не желая, создал ни много ни мало киноведческий
канон. Его хаотические заметки, написанные не для opus magnum, а к дедлайну в не всегда
почтенные газеты и часто по ничтожным информационным поводам, складываются
в цельную и последовательную летопись. После Добротворского писать о Годаре, Джармуше
или Сокурове, не оглядываясь на его тексты, на его замечания и интерпретации — попросту
невозможно.
Добротворский одним из первых заговорил о кино по-русски: не мертвым академическим
языком (которым, безусловно, владел), а живым, ярким, человеческим. Адекватным
речи самого кинематографа. Порой — отстраненно лекторским, иногда — почти
разговорным (стоит ли одинаково писать о Сокурове и Тарантино?), но неизменно
стилистически безупречным. Тексты Добротворского можно перечитывать бесконечно —
редчайшая характеристика для газетно-журнальной критики и очевидное свидетельство
того, что это уже не только критика, но и литература. Литература малой, предельно
концентрированной, но оттого не менее требовательной формы. Ведь любой регулярно
пишущий человек знает, что рассказать о чем-то на одной странице бывает куда сложнее,
чем на десяти.
Добротворский обладал стопроцентным зрением снайпера, равно эффективным на близкой
и далекой дистанциях. Ему удавалось мыслить одновременно и в пределах элементарной
частицы (кадра), и в пространстве вселенной (всего корпуса кинотекстов). Замечать
монтажную склейку — и тут же проводить какую-нибудь ошеломляющую культурологическую
параллель. Удивительным образом, доскональное понимание анатомии фильма не мешало —
что часто бывает с суперпрофессионалами — любить его целиком как биологическое
тело, «ощупывать» в самом эротическом смысле этого слова. У Добротворского, при всей
727
О Сергее Добротворском
Сергей Добротворский
728
Весна 2016
его дотошности, получилось не замылить взгляд, не превратиться в энтомолога, сохранить
непосредственность восприятия — возможно, даже более важное достоинство для критика,
чем насмотренность или солидная теоретическая база.
Что с базой было все в порядке, нечего и говорить — это очевидно в каждом абзаце
написанного им, а недоверчивые могут обратиться к теоретическим текстам (в первую
очередь, к лекции «Кино: история пространства»). У Добротворского был собственный,
не заимствованный, но сложившийся взгляд на историю кинематографа. Верны ли его
выкладки, справедливы ли его методология, его подход, его система ценностей — можно
спорить, если хватит запалу. Несомненно то, что эта система абсолютно внятна и внутренне
логична. И всякий раз, когда у Добротворского хватает места (в буквальном смысле:
пространства для букв, которое в периодике, увы, ограничено), он разворачивает цепочку
мыслей полностью. Продолжить эту цепочку не представляется возможным: кажется, что
он перебрал все мыслимые звенья, додумал до конца.
Для Добротворского характерен метод, позднее ставший в отечественной публицистике
почти общим местом и приписываемый постмодернизму в вульгарно обывательском
значении (сам он в одной из ранних статей с обычной меткостью припечатывает
постмодернизм как «мировоззрение, объяснившее все, но не объясняющее ничего»),
но в гораздо большей степени свидетельствующий об энциклопедической образованности
автора: стремление уйти от иерархии, воспринимать пространство киномифа как единый
текст. Так рождаются хулиганские концепции (см., например, разбор фаллической
символики в ленте Чапаев), диковинные компиляции и хлесткие парадоксальные сравнения.
Едва ли в уподоблении фильма The Doors — Композитору Глинке, Эльдара Рязанова —
Фрэнку Капре, а Леонида Гайдая — автору Психо стоит видеть искру гениального прозрения.
В конце концов, если бы во времена Кавказской пленницы существовала вменяемая критика,
кто-то наверняка додумался бы до такого раньше (а что же Джентльмены удачи Серого — там
вообще сплошной Хичкок?). Но нет же, не существовала, не додумался — зато теперь можно
испытать почти физическое удовольствие, наблюдая, как Добротворский волюнтаристски
двигает фигуры по доске, составляя свои самоценные этюды.
И несмотря на всю рациональность, порой граничащую с механистичностью, критик ни на минуту
не перестает быть зрителем. Тексты Добротворского именно потому бесконечно обаятельны,
что их автор никогда не приносит эмоции в жертву трезвости рассудка, оставаясь, конечно,
романтиком. Человеком со сложившимся мировоззрением, ясным, чувственным и пристрастным
взглядом на жизнь. Это особенно заметно, когда Добротворский пишет про «новую волну»;
в трогательно последовательной апологии петербургского некрореализма (тоже, как ни странно,
движения скорее романтического); просто на уровне метафорики (наугад: «Иннокентий
Смоктуновский, безусловно, был чем-то клавишным (космос во взгляде, хрупкие пальцы, прищур,
клочковатая седина). Олег Даль — флейтой, испытывающей боль от каждого прикосновения...»).
Говоря об ушедших, трудно избежать пафоса. Очевидно, что тексты Добротворского
в некотором смысле оправдывают саму профессию кинокритика — отчасти
729
О Сергее Добротворском
скомпрометированную дилетантизмом, отчасти вымирающую благодаря объективному
развитию информационных технологий. Они доказывают, что критик может быть не просто
медиатором между фильмом и зрителем, и уж тем более не разновидностью пиар агента —
а самостоятельным и самодостаточным мыслителем, одним из субъектов многоголосого
кинопроцесса, величиной, чье значение не ограничивается пространством газетной
полосы. Человеком, чье нередко ошибочно понимаемое профессиональное призвание —
не критиковать, а критически мыслить.
Лилия Шитенбург, критик:
Кино на ощупь. Единая цепь: знать кино — понимать — помнить — пользоваться — работать —
создавать. (Где-то здесь затерялось «любить» — это само собой, между строк. Говорить,
а тем более писать об этом — значит рисковать получить в ответ язвительнейшую цитату
из Мальтийского сокола: «„Кто вложил эту блестящую мысль в твою голову?" — „О, Богги!“».)
Критика как продолжение истории и наоборот. Это не просто «контекст». Это столетний
путь искусства кино как единая гигантская целлулоидная пленка. Которую Добротворский
прокручивает в любом порядке, вырезает и смакует любимые кадры, монтирует
их с другими — параллельно, последовательно, ассоциативно. Крупный план Хэмфри Богарта
с неизменной папиросой в углу кривого рта, Мишель Пуакар, стряхивающий пепел с губ под
портретом Богги, белый свет Карла Дрейера, отрезанное ухо, найденное Маклахленом,
неизвестно кем разбитые и развешенные чашки хичкоковских Птиц...
«Немецкий военный мундир, — щурился Сергей Николаевич, снайперски прицеливаясь
в наиболее уязвимую часть преимущественно девчоночьей аудитории, — делает мужчину
мужчиной, а женщину... (саспенс) особенно женщиной». (Это о Ночном портье.)
Мы были чертовски благодарны ему — за стиль в том числе. В текстах этот стиль сохранился.
Четкая, кристально ясная суховатая структура фраз, отточенность формулировок, чисто
мужская несентиментальность и романтический эффект внезапно коротких, как одиночный
выстрел, предложений вовсе не исключают, более того — прямо провоцируют автора
на откровенно иронические забавы на уровне неожиданно контрастной лексики,
«постмодернистски» обыгранной насмешливой цитаты и т. п. Строго научный заголовок
«Фильм Чапаев: опыт структурирования тотального реализма» соседствует с не менее
научным «Дебил как медиум». Добротворский в обоих случаях серьезен и в обоих случаях —
играет.
«Источник невозможного» — книга, которую не увидит ее автор. Книга, которая есть у нас.
Алмаз, блеснувший из-под пепла. Полет мальтийского сокола.
Василий Степанов, критик, редактор журнала «Сеанс»:
Да, было бы эффектно (и мне самому, что скрывать, лестно) здесь сейчас назвать
Сергея Николаевича Добротворского своим учителем, тем, кто ввел меня в искушение
кинематографом. Но это не так, я не могу считаться его учеником. В середине 90-х я — плохо
730
Весна 2016
успевающий гимназист, нерегулярный читатель — едва ли что-то слышал о кинокритиках.
В том числе и о живом Добротворском. Не сразу я познакомился с ним и после его гибели.
Так сложились обстоятельства.
Для меня Добротворский возник внезапно — как слон в темной комнате — уже в начале
нового тысячелетия, выплыл словно айсберг к «Титанику» внушительным черно-белым
томом, который надолго нарушил мое плановое хозяйство: поездки в видеопрокат стали
регулярно угрожать скудному студенческому бюджету и сну. Я не успевал смотреть
взятые фильмы, на ночь подключал новый магнитофон к старому, чтобы скопировать
полдюжины затертых вэхаэсок, взятых согласно очередной порции прочитанного. Стихийный
и необразованный любитель движущихся картинок, я никогда не брался за учебники
по истории кино, но тут получил нечто большее, чем просто учебник, говорящий о кино как
о череде стилей и авторов. Эта книга пренебрегала временем и линейностью, каким-то
необъяснимым образом вбирая в себя все, что я называл словом «кино»; она расширяла
и объясняла пространство фильмов, словно пружиня в каждом своем предложении
и слове. Пластика языка, естественная органика точно выбранного слова наделяли каждое
высказывание Добротворского магией неопровержимости. Еще сильней завораживал охват:
от Абеля Феррары до некрореалистов, от Сокурова до Тарантино. Без вкусовщины, без
яростного упоения личными guilty pleasures, без поджатой губы или наигранного омерзения.
Только вовлеченность и точность, искренность и доступность. Разве можно писать
по-другому? Разве нужно? Добротворский, действительно, не был моим учителем, не мог
им быть. Но стал чем-то большим — недостижимой указующей точкой где-то там, где быть
нельзя.
Василий Корецкий, критик, редактор Colta.ru:
Мои личные, непростые отношения с текстами Сергея Добротворского строились
по стандартной схеме: смутный восторг, нигилистическое отрицание и — спустя
годы — удивленное принятие. Для того чтобы сознание отдельного читателя сделало
эти два маленьких шажка, всей русскоязычной кинокритике понадобилось родиться,
расцвести барочной многословностью и «новой искренностью», пройти через восторг
открытия мира, апатию листинговой журналистики, кризис отсутствия внятной
теоретической базы, смерть и одновременное возрождение в облике «критики здравого
смысла» и сектантской синефилии. Удивительно, но все это можно найти в тех текстах
Добротворского. И дерзкий поэтический волюнтаризм, позволявший автору лихо рифмовать
кровь с плавленым ацетатом. И здравое, в меру скептическое отношение к «большой
теории». И предчувствие смерти кинематографа — и рефлексию по поводу этих вечных
эсхатологических страхов. В заметке для «Киноведческих записок», давшей имя первому
изданию корпуса статей С. Д., можно с изумлением обнаружить и корни сегодняшней
одержимости «тактильным кино» — это же он, Добротворский, с характерным визионерским
юмором придал специфическому термину Беньямина новое, почти буквальное прочтение
731
О Сергее Добротворском
и остроумно завершил логическую цепочку «тактильности» Александром Николаевичем
Сокуровым, в чьих мутных, истерзанных фильтрами и призмами фильмах тогда и правда
ничего невозможно было разглядеть — только, подобно слепцу, потрогать дымку и тьму.
Он вскользь вбросил в киновокабуляр «визуальный код» — имея в виду особую иероглифику
жестов и монтажных сочетаний, создающую отдельный от саундтрека язык экранного
нарратива. Он реабилитировал Гайдая (уравняв его с Хичкоком!) и обратил в свою веру
творческий коллектив журнала «Афиша». Он, до всякого Эльзессера и медиа-археологии, —
и тоже вскользь — обращал внимание студентов на субъективность, относительность
и мифологическую, предельно необъективную изустность самой официальной истории
кино. И — что меня всегда ужасало и восхищало — свои тексты и лекции (во время которых
он даже не показывал — а рисовал мизанцены на доске!) Добротворский написал в эпоху
без интернета, без торрентов, смотря, как я понимаю, фильмы на редких фестивалях,
ретроспективах, во время заграничных поездок, а большей частью — на ужасном VHS.
То есть буквально на ощупь.
Алексей Гусев, критик, киновед:
По его статьям можно учиться многому. Умению сопрягать тексты, дабы оттенять
различия в контекстах, и наоборот. Спокойствию тона, в котором ни педантичной
холодности, ни деланной задушевности, лишь мерное продвижение мысли, уверенно, без
единого взвизга, вписывающееся в самые крутые виражи, уготованные материалом или
концепцией. Неизменно невидной — за плавностью повествования — композиции целого.
Благородному презрению к «живописной» избыточности эпитетов — глаголами или, пуще
того, существительными он крепил сухую оснастку формулировки там, где прилагательные
ее бы только разжижили. Блесткам штучных слов, группирующих вокруг себя неброскую
фразу (от таких оборотов, как «выкусывание цитат из фильма», и у опытного критика голова
кругом пойдет). Наконец, стремительно устаревавшему в его время и вопиюще немодному
ныне искусству видеть форму и смысл не порознь, но в процессе их взаимного порождения:
говорить о раскадровке там, где иные наслаждались атмосферой, и прозревать архетипы
там, где иные отдавались ритму.
И все же главное в кинокритике Сергее Добротворском — то, на чем стоит расти и чем важно
заражаться всем идущим вослед, — его пытливость; взгляда ли, мысли ли, — не различить.
Он знал толк в очаровании стройных концепций — и потому никогда не позволял себе
очаровываться концепциями собственными, зная: если все сошлось, если вывод удобен
и масштабен, — значит, что-то упущено. Деталь, кадр, склейка, какой-нибудь выбивающийся,
выпирающий казус. За его маниакальной въедливостью стояла не смертоносная
тоска по полноте перечня, столь свойственная его современникам-постмодернистам,
но искренняя влюбленность в полноту фильмического бытия, несводимого к схеме.
Погружаясь в фильм, он был разом и осторожен, и отважен, словно чуткий любовник
на первом свидании; да ведь это и было свидание. Стенограммы его лекции, особенно
732
Весна 2016
не правленные, полны оговорок: «насколько мне известно», «из того, что я знаю», — сколь бы
ни были основательны и блестящи его доводы и выводы, будь то об истории кино или
об актуальном кинопроцессе, он всегда оставлял неведомому возможность переиграть
его и нимало о том не жалел — напротив, лелеял и ценил превыше всего. Ибо в этой
возможности для него была та волшебная непредсказуемость искусства, без которой оно —
лишь угрюмая метафизика. Даже в его излюбленной фразе «не больше, но и не меньше»
сквозит та же вкрадчивость речи влюбленного: снайперски выражая мысль словом, он,
кажется, не верил в саму критическую (и тем более историческую) мысль как стрельбу
на поражение — только как в бесконечно сходящуюся цепочку пределов, меж которых
мерцает точная истина.
В переводе с профессионального на человеческий язык все сказанное умещается
в слово «интеллигентность». Спокойствие, обеспеченное бесперебойной работой мысли.
Деликатность, диктуемая не страхом или бесхребетностью, но любовью. Точность, напрочь
лишенная жестокости. Наконец, то особенное, пытливое жизнелюбие, что помогает молодым
становиться взрослыми, взрослым же — оставаться молодыми. То, которое побуждало
Сергея Добротворского в кинозале садиться на первый ряд: чтобы ничто не отделяло его
от экранного окна в мир.
Антон Долин, критик:
Список критических статей, написанных по случаю (или информационному поводу), —
жанр заведомо уязвимый: ушедший контекст не восстановить, неизбежных неточностей
не оправдать. Однако случай Сергея Добротворского особый. Если бы он не ушел из жизни
так несправедливо рано, то, несомненно, написал бы книгу, и не одну. В его разножанровых
текстах ощущается единство даже не эстетики, идеологии или концепции, но взгляда —
внимательно-ироничного, увлеченного и пристрастного, не только обозревающего
кинематограф с безопасного расстояния, но способного его сформировать. Название
посмертного сборника «Кино на ощупь», впрочем, намекает не на зрение, а на тактильное
восприятие. Пусть так: тогда Добротворский — не заблудившийся в темноте странник,
но скульптор, создающий свое творение наугад.
Роль кинокритика в 90-е годы была особой. Он действительно двигался на ощупь.
С одной стороны, ни на что не мог повлиять — не было никакой индустрии, только клубы
по интересам («Ника», «Кинотавр») и бесконечные кооперативы. С другой стороны,
на пепелище советской киноимперии создавал из ничего новые иерархии, руководствуясь
исключительно своими образованием, вкусом и точкой зрения. Но как раз иерархичность
в статьях Добротворского отходит на второй план. Каждым текстом он как бы удивляется
разнообразию, разновекторности мира, где отныне возможны любые трансформации:
высокое становится низким, ничтожное — величественным, а Ленин и вовсе обращается
в гриб (опыт осмысления послесоветской контркультуры и авангарда неотъемлем
от собственно киноведческих статей).
733
О Сергее Добротворском
Добротворский прослеживает генезис питерского некрореализма из советского авангарда
и мейнстрима. Внимательно, будто через лупу, с нежностью, но без умиления рассматривает
первые опыты режиссерских звезд 90-х — здесь и антитоталитарное кино, и афганские
сюжеты, и молодые Дыховичный, Балабанов, Рогожкин, Бодров, только что вышедший
из сумрака полузапрета Сокуров. Но рядом — подробные разборы наследия немецких
экспрессионистов или гибели Чапаева в шедевре братьев Васильевых. Местечковость?
Ни за что. Тут же, под одной крышей (обложкой), современники — Линч, Джармуш, Тарантино,
Майк Ли, Вендерс — и священные чудовища: Куросава и Феллини, Бергман и Фассбиндер.
Никаких, однако, высоколобости и элитизма: ясность мысли и слова, абсолютная внятность,
которая для газетной критики тех лет была большой редкостью. А большая статья
о Леониде Гайдае — и вовсе прототип не написанного — никем, увы — исследования о самом
недооцененном, хотя и самом любимом классике советской комедии.
Кажущаяся эклектика вкуса — велико искушение именно поэтому обозвать его хорошим,
что бы это ни значило, — на деле есть строительство Вавилонской башни, нанизывание
образов и слов на живую нить, которая и есть кино: никогда не единое, противоречащее
самому себе, поверхностное и глубокое, шумное и молчаливое. Собранное, а значит,
созданное критиком в одной, не написанной им самим, а составленной друзьями книге.
Андрей Карташов, критик, редактор журнала «Сеанс»:
90-е, в особенности ранние, я в силу возраста помню смутно — только отдельными
флэшбеками из детства, которые подкреплены сохранившимися на физических носителях
свидетельствами. Кое-что из того, чем были 90-е, и вовсе стало мне известно только когда
они закончились: дома долгое время не было телевизора, например, и имена актуальных
на тот момент политиков я в детстве не заучил. Тем интереснее сейчас впервые узнавать
что-то об этом десятилетии, которое с дистанции нынешнего выглядит завораживающе — как
любое время, в которое история меняла свой ход. Его герои, которые всё делали впервые
на этой части суши, выглядят сейчас Прометеями.
Удивительно не только то, что тексты Сергея Добротворского не устаревают, как обычно
это случается за двадцать лет с тем, что печатают в периодике, но и то, что они сейчас
кажутся невозможными. Слом канонов, который случился в Перестройку и после, вынес
на гребень волны тех, кто мыслил парадоксально; в другие времена успех приходит к тем,
кто развивает уже намеченную генеральную линию общественного мнения (что, конечно,
тоже важная работа, но образ ее не столь романтичен). Простой пример — знаменитый текст
о Гайдае и Хичкоке: сейчас серьезный анализ работ советского комедиографа вряд ли кто-то
взялся бы писать (за редкими, наверное, исключениями), потому что изучать такое кино,
прочно ассоциируемое с праздничными эфирами федерального телевидения, не принято.
Логики в этом мало, тем более, что киноведческому тексту о Джерри Льюисе, двоюродном
американском брате Гайдая, или Фрэнке Капре (довольно близкий аналог Рязанова)
не удивился бы никто.
734
Весна 2016
Историческая ситуация в стране тогда совпала с международной культурной ситуацией
наступившего постмодернизма. Сам термин только вошел в русский язык, и в словаре
Добротворского он — один из самых частотных: при последовательном чтении его текстов
все время натыкаешься на одни и те же ключевые слова и имена, которые для автора были
узловыми точками, постоянными предметами рефлексии. Сейчас бы их назвали тэгами —
постмодернистское понятие: эта модель культуры победила, и модернизм изжит если
не полностью, то во всяком случае окончательно. Даже нынешний отечественный ренессанс
вертикальных ценностей (семья, армия, религия) не назовешь шагом назад — не зря его так
часто сравнивают с романами постмодерниста Сорокина. Будучи критиком постмодернизма,
Добротворский рано его осмыслил: к примеру, он несколько раз возвращается к эпизоду
из истории кино, когда Жорж Мельес поставил фильм о коронации Эдуарда VII еще до того,
как эта коронация состоялась. Для него этот сюжет — предвосхищение той ситуации,
в которой реальность формируется медиа, а не наоборот, и в XXI веке это стало уже
очевидно всем. В самой его практике тоже много черт новой эпохи, как принцип nobrow,
который привел его к созданию парадоксального пантеона: многобожие сменило монотеизм.
Или же искренность в сочетании с иронией: когда Добротворский пишет о Чапаеве — еще
один из этих тэгов, — то иногда бывает сложно понять, чего в этом больше, подлинной
любви к герою советской мифологии или игры. Или, наконец, его сочетание в собственной
деятельности нескольких амплуа — киноведа с академическими публикациями, газетного
критика и практика параллельного кино.
Сейчас иногда можно слышать, что постмодернизм исчез, но это не так, просто мы перестали
его замечать: сама формула «постмодернизм умер» логически невозможна, поскольку
является безусловно постмодернистской. Удивительно, но оказалось, что и постмодернизм
может стать развитым, с ударением на последний слог родом из советского языка, прийти
в подобие системы и оказаться не менее скучным, чем все предыдущие парадигмы.
Так теперь и живем. Мы карлики на плечах гигантов, и, кажется, мы всё п*******.
Алексей Артамонов, критик, редактор журнала «Сеанс»:
Сергей Добротворский — не просто эпоха. Он человек, ставший синонимом кинокритики —
в высоком, а не пренебрежительном смысле этого слова. В своих текстах о кино,
разных — развернутых аналитических эссе и коротких, но всегда ярких газетных заметках,
напечатанных к очередной сдаче, — ему удавалось рассказывать просто о материях тонких
и сложноустроенных, что, согласитесь, редкий талант. С легкостью факира он поднимал
целые пласты и препарировал жанры, выявляя историческую логику и задавая контексты
восприятия публике, совсем недавно отпущенной в свободное кинематографическое
плавание. При этом сам он всегда оставался фигурой, равновеликой предметам описания,
а его статьи — самостоятельными произведениями. Так что эта книга ценна не столько как
документ новейшей российской истории и ее кинокритической традиции, хотя и это тоже,
но, в первую очередь, как пример письма о кино в его наилучшем, а значит не устаревающем
735
О Сергее Добротворском
изводе. Даже удивительно, насколько современными по форме и содержанию кажутся его
статьи, написанные два десятилетия назад.
Он был нарушителем конвенций, что сам выделял как основополагающий принцип
любого авангарда, и, не желая того, создал канон, совпавший с запросами времени —
соответствовать которому, правда, мало кому удается. Академическое киноведение,
переведенное на язык литературы, у Добротворского чуть ли не впервые заговорило
по-человечески, а в публицистику ему удавалось привнести содержательность и стройность
мысли, которым мог бы позавидовать автор иного научного издания. Но даже в самых
серьезных его работах чувствуются неиссякаемое чувство юмора и внутренняя свобода.
Поэтому, наверное, с его текстов не нужно стряхивать пыль — они живее всех живых.
Секрет Добротворского и его неугасающей притягательности однозначно лежит в поле
языка, на ощупь отыскивающего кинематографическую специфику своего предмета
и находящего адекватную форму для ее передачи. Двигатель его концептуальных
построений и парадоксальных сближений — не пресловутая постмодернистская ирония,
а пульсирующий ум, находящий афористичные формулировки и остроумные сравнения.
В своих статьях он часто стремился обнаружить органическую связь между способами
высказывания автора и его мировоззрением. Картина мира Добротворского, вопреки
кажущейся всеядности, говорит не о кризисе смыслов и распаде иерархий — ее лучше всего
описывает фраза Годара, неоднократно им процитированная: «В кино можно все, главное —
любовь». Несмотря на интеллектуальное пижонство и профессиональное хулиганство,
здесь всё всегда на своем месте, и все подчинено общему смыслу — понятому, прожитому
и последовательно сформулированному.
Он много думал и писал о мифологическом самосознании кинематографа и культуры
вообще, о «материале, из которого сделаны сны». В итоге, благодаря своей неравнодушной
природе, он стал мифом сам. Вслед за Пазолини он утверждал, что смерть упорядочивает
жизнь. Ранняя смерть придала его короткой карьере дополнительное значение: он стал
предметом редкого журналистского и кинокритического культа. С одной стороны, культ,
конечно, заслоняет собой личность. С другой — он питает веру, без которой теряет всякий
смысл профессия критика. Как писал Андре Базен, культовая фигура, воодушевлявшая
самого Добротворского, «смерть — это всего лишь победа времени». Но культура и мифы ему
неподвластны, смерть — это их материал.
736
Живопись и графика
Сергей Добротворский рисовал с раннего детства. Учиться где-либо отказался, заявив
родителям, что, если его отдадут в художественную школу, к бумаге и краскам больше
не притронется. Свои работы — графику, живопись, коллажи, театральные эскизы —
пренебрежительно называл «картинками». Многие из них были утрачены, сохранилось
около четырехсот. Первая персональная выставка состоялась после смерти Добротворского
в петербургском Доме кино в 1998 году, впоследствии были еще две (2000 год —
Санкт-Петербургский Дом кино, 2009 — Музей нонконформистского искусства). В настоящий
момент 22 художественные работы из наследия Добротворского хранятся в Государственном
Русском музее в отделе рисунка; более 280 — в архиве Музея нонконформистского искусства
на Пушкинской, 10; остальные — в частных коллекциях.
О Сергее Добротворском
Ольга Тобрелутс
Психологические эскизы
Жизнь коротка, искусство долговечно.
Гиппократ
Афористические рисунки Сергея Добротворского позволяют заглянуть в стадийность
его размышлений о времени. Они словно заметки на полях дневника путешественника,
словно зарубки на дереве жизни, позволяющие вернуться и продолжить беседу. В его
графических изображениях — парадоксы сознания, при рассматривании которых невольно
вспоминаешь высказывание Дон-Аминадо: «Невозможно хлопнуть дверью, если тебя
выкинули в окно».
В них отражено все: абсурдизм времени, когда вся страна, шагая ногу в ногу, устремившись
в будущее, семимильными темпами возвращалась в прошлое, психоделика революции,
случившейся в конце прошлого века, цифровая весна для музыки и изображений, — все
это красной линией в зарисовках, графике и живописи. Он словно спешит, торопится
фиксировать то новое, что открылось человечеству. При этом очевидно, что им сделан
выбор не в пользу сохранения стиля и усовершенствования техники, а в пользу свободы
размышления. Рассматривая его графические работы, сразу замечаешь их стилистическую
разноплановость. Они мастерски выполнены, но художник не заканчивает их, словно
не придает большого значения своему таланту, будто стесняясь его, пытается спрятаться
за повествование, которое для него важнее техники, материала, выбора изобразительного
языка. В графике он стилистический полиглот. Работая над рисунками — а именно в них
Сергей раскрепощается, дает свободу своим комплексам, переживаниям, сомнениям, —
он старается изобразить всю суть человека. Его изощренно-гибкий рисунок — это его
слабость, его сон, видение. Его другая сторона жизни. Это то, от чего он не мог избавиться,
что не выставлял напоказ, но к чему испытывал сильнейшую привязанность. Каждый раз,
беря в руки перо, он словно проваливается сквозь белую пелену чистого листа, попадая
в мир грез и фантазий. Черные линии, заполняя, перечеркивая, расчленяя белое поле,
топят фигуративное изображение в абстракции космического мрака, выносят его на новый
738
Живопись и графика
Из коллекции Русского музея
метауровень, где наглядно проявляются изменения в общечеловеческой природе. И тут
уж не до размышлений о форме и золотом сечении, только успевай стенографировать.
Рисунок как стенография ускользающей мысли, как знаковый конспект будущей статьи.
В своих рисунках, как это ни парадоксально звучит, он анализировал свои впечатления
от кинематографа, который поглотил его целиком.
Полюбив кино, Сергей провозгласил в своем художественном творчестве освобождение
от Художника. Абсолютную свободу выбора изобразительного языка, построенного
на осязательной эстетике. Где абстракция и фигуратив объединяются в едином
повествовании, демонстрируя зрителю самую зрелищную середину, без прологов и эпилогов.
739
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
В одной из своих статей он пишет: «Настоящий художник, который берется за некоторый
предмет, если он настоящий художник, он вынужден проживать этот предмет. Основа
настоящего творчества, а не имитация — максимально полное проживание того, о чем
ты говоришь».
Понимая такое натуралистичное отношение автора к изображению, начинаешь по-другому
воспринимать его рисунки, в которых смерть, ужас, боль, адреналин, гнев — уже
не фантазии художника, а отпечатки реальных переживаний. Будучи человеком глубоко
чувствующим и художественно одаренным, он нашел свой визуальный наркотик — кино.
Когда перечитываешь его рецензии, рождается ощущение нового видения того, что ты уже
740
Живопись и графика
давно и хорошо знал. Хочется пересмотреть фильм, чтобы увидеть его глазами. С чувством
упоения, взахлеб он наслаждается фильмом, додумывает его до самого последнего кадра
и описывает свои впечатления. Не это ли и есть главная задача художника — увидеть,
почувствовать и поделиться с другими? Формат передачи впечатлений может быть самым
разнообразным: от текста и эскиза до музыкального экспромта или перформанса.
Сергей Добротворский владел словом. Он мог передавать свои визуальные открытия
с помощью букв. Но это не умаляет ценности его графических и живописных работ.
Текст и картины дополняют друг друга. Чтобы наглядно продемонстрировать
многозначительность его изображений, их пророческую сущность, стоит остановиться
на одном рисунке.
Изображение человека, бегущего вперед и одновременно возвращающегося назад,
отталкивающегося одной рукой от этой засасывающей пустоты, хватающегося другой
за нечто абстрактное, как за спасительную соломинку. Мужчина весь напряжен, находится
в движении, при этом совершенно очевидно, что он не может сдвинуться с места. Словно
персонаж из детской сказки Хью Лофтинга Тяни-Толкай. Это изображение многозначно
и может изображать несколько навыков, приобретенных современным человеком. В первую
очередь это образ зрителя. Испытывая бурные переживания, зритель остается в своем
кресле и вынесен за рамки происходящего. Этот Великий Обманщик — кинематограф —
обездвиживает и погружает в мир грез и фантазий. Также этот рисунок может быть
изображением Вывернутого Человека. Этот термин родился совсем недавно благодаря
коллапсирующей экономике. Сергей словно предугадывает рождение Человека
Вывернутого: человека, зависящего от рекламы, от общественного мнения, создающего свой
медиа -образ и за счет этого приобретающего ценность. Современный мир, поклоняющийся
религии денег, утверждает: всё на земле имеет ценность, кроме самого человека.
Человек — недолговечный товар. Его ценность зависит от принадлежности к чему-то
или владения чем-то ценным. Например, футболист имеет цену, пока играет в дорогом
клубе. Миллионер — пока владеет состоянием. Поэтому и родился термин «вывернутые
люди», когда ничего из себя не представляющий человек становится важным и значимым
в обществе. Этот рисунок, как и многие другие его рисунки, — провидческий. Изображенные
на них образы современны, и поэтому его работы актуальны. А ведь по большому счету
причислить картины живого мастера к шедеврам, объективно оценить их значимость
почти невозможно. Пока художник жив, его работы неотделимы от ауры его личности,
но после смерти автора произведения начинают свою самостоятельную жизнь среди
людей, и тут происходит великое таинство: они либо трансформируются, меняясь вместе
с человечеством, оставаясь на века актуальными и современными, либо затухают, теряют
энергию, оставаясь лишь иллюстрацией своего времени. Сергей Добротворский не смог
дописать роман своей жизни, его путь прервался внезапно. Но он успел законспектировать,
зашифровать свои впечатления в графических и живописных зарисовках для будущих
поколений, чтобы помнили.
741
О Сергее Добротворском
Ирина Тарханова
Наши пули, как и прежде, летят...
В последнее время мне приходится довольно часто просить редакторов сокращать
бесконечные статусы, те, что тянутся шлейфом после имен авторов. Писатель, журналист,
архитектор, поэт, режиссер, актер, композитор, сценарист, художник... Еще бог знает кто.
Однажды попалось в конце такого списка: солдат.
Подумалось, что Сергей Добротворский был как раз солдатом. Искусства. И его: «Наши пули,
как и прежде, летят от сердца к сердцу. И — от земли к небесам» — могли быть написаны
только им.
Люблю простую фотографию в большеватой солдатской форме. Она так вяжется со всем его
обликом, с мальчишеской фигурой, с вольно запрокинутой головой, трагическим жестом,
пронзительным серым глазом, дерзким словцом или убийственным междометием.
Солдат — это когда только гимнастерка. И под ней живое. Кожа? У иных — нет. Без.
Генералы и прапорщики — они по-другому. Этот был дерзок и честен. Прежде всего,
перед самим собой. Настоящее первооткрывает, оно обнажено, беспощадно и космично.
Он об этом писал — оно ест и сводит с ума, не сокрыто пышными драпировками и не усыпано
розами. «Погребение в цветах»* всегда мастеровито, но ложно.
Добротворский сражался за эту свою солдатскую правду. Какую-то единственно правдивую
правду. Он был несгибаемый идеалист. И добивался ядра. За него сражался. Иглы в ядре.
Алхимическую субстанцию Сергея Добротворского можно разводить как минимум 1/10, и все
тоже будет хорошо. Настолько плотны и многомерны его миры, кодировки, настолько точны
расщепления киноформул.
Все то же можно сказать и о живописи Добротворского, в которой он не был
профессионалом. Но наивное искусство во всей его искренности и мощи никто
* Имеется в виду картина Павла Сведомского «Погребение
в цветах» (1886). В свое время тема погребения в цветах, как и пиры
гибнущих в лепестках роз, а также многочисленные утопленницы
в бархатистых темных омутах, были в большой моде в салонной
живописи поздних академистов и в журнальной графике. К ним
можно добавить роскошные полотна смертей в пышных драпировках
на студийных полях сражений и разнообразные, утопающие в вечно
обновляющейся искренности, статуарные битвы чувственных красавцев
и красавиц с небожителями. Мода на ложнотрагическое периодически
возвращается. Ныне эта тема вновь популярна в практике многих
деятелей искусств, кино, литературы и гламурной индустрии.
742
Живопись и графика
Из архива Елены и Николая Добротворских
не отменял. Напротив. Битвы с оборотнями всегда впереди. И здесь страстная образность
Добротворского и его осязаемое видение формы, смыслов проявились с силой не меньшей,
чем в его текстах. Жаль, что эту живопись нельзя теперь увидеть. Музейные запасники —
самые недосягаемые из захоронок. Но даже в интернетной короткометражке** можно
разглядеть, как Джоттова мистерийная коробка в римейке Добротворского пришла
в движение.
** Demo. Памяти Сергея Добротворского. — Реж. Викентий Дав,
Телекомпания «6-й канал», СПб., 1999.
743
О Сергее Добротворском
Люди и ангел. Из коллекции Музея нонконформистского искусства
Ее не трудно распознать. Только тречентовые цвета набирают силы и трагизма. Золотистый
преображается в ядовитый стронций, а нежная киноварь в трагический кадмий. Легкие
небеса уплотняются и сдвигаются напряженным кобальтом, и головы не светятся нимбами,
не покрыты смиренными волосами. Лысые и злобные летающие болваны в голубом, розовом,
желтом и сером, эти проточеловеки, они раскачиваются в плотном воздухе в ожидании бури
и абсолютной ночи. Они только что увидели непонятное. Они злы и тревожны. Они предвидят,
но никогда не предстоят. Тут же с ними — их тяжелые, коротконогие ангелы. Каменные
драпировки вскоре раздавят тела. И нет места крыльям. И тесно до жути. Границы холста
беспощадны, как прокрустово ложе. Роится клаустрофобический кошмар и скоро опрокинется
744
Живопись и графика
цветастым месивом или черной дырой. Меж тем все замерло. Бесконечность ожидания
в фокусе. Всеведущем фокусе на ощупь. Предчувствие конца. Но никогда не конец. Каков он?
Кто этот таинственный, который всех так волнует? Он голый, сероглиняный, беззащитный.
Он может стоять на земле. Он не летает, и его центр тяжести устремлен вниз. Он пришел.
Когда? Вот только что. Каин еще не убивал, ковчег не достиг суши, Леди Макбет не осознала
содеянное в безумии, а Бирнамский лес не двинулся. Да и сам Джотто еще не родился.
Графика Добротворского другая. На редкость мастеровитая. Там, где моделирует
мысль не художника, но режиссера. Это полигон. Площадка для экспериментов. Здесь
постановочная страсть. Рисунки делателя кадра, театральной кулисы, сценической
площадки. Они всегда узнаваемы.
Борьба с линией, пространством, горизонтом, масштабом. У Добротворского эта борьба —
с композицией в край и мягким скульптурным штрихом. Карандашные люди, мягковолосые,
часто с пустыми глазницами или вовсе без лиц, — безмолвны. И любые — покорны.
Изваянные только что и готовые к лепке, они смиренно ждут своей участи, своих глаз, своего
мастера. Добротворский не дожил до себя-кинорежиссера. Он непременно бы им стал.
Настоящим. Ведь театральным он был и остался. А его фильмы можно легко спроектировать
и додумать, «подсмотреть» по наброскам, бумагам и полотнам. Теперь никто не сможет нам
запретить это тайное визионерство. Здесь вспоминаются великие — Пазолини, Эйзенштейн,
Феллини, — проявленные в материальном изобразительном исподволь, без напряжения.
Естественно.
Неталантливо быть не могло. Режиссер — он над всем. Если уж так. Он возделает свой рай
и свой ад с открытыми глазами, познавший добро и зло. И у него спросят: «Где ты?»
Кто не знал гадателей и прорицателей, тот не жил. Кто имел такие опыты — знает, что
линий судьбы много. И они выпадают в роковом раскладе всегда и вместе. Тут как
в сказке: «Налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — смерть найдешь, прямо
пойдешь — жив будешь, да себя позабудешь...». Куда кто пойдет — тайна. А если все-таки
сделать попытку, заглянуть в таинственную щель, коль уж тут постоянно об этом. И кто-то
напишет роман, кто-то сыграет пьесу, а кто-то снимет кино. И только не сам Добротворский.
В этой сказке он мог выбрать лишь один путь. Тот, который ведет в бездну. И не из демонизма
или излишней глумливости. Отнюдь. Просто из окаянства.
Согласно древнему тексту, один дерзкий мальчишка был изгнан из нежного сада и теплого
сна — режиссером свыше. Не из того же окаянства самого режиссера? Мальчишке пришлось
потом жить в миру 930 лет. С тех пор ему завидуют потомки. И снова хотят в проточеловеки —
как те, которые толпятся и летают там, на картине у Добротворского.
И вот уже скоро: живи, пока не устанешь и не устанет от тебя мир, пока не устанет твое
человеческое сердце. А если надоест эта чертова лента Мебиуса, можно схватиться
за ножницы. Есть уверенность.
Но ведь и это не главное, потому что врата рая никто не отменял. Они на месте и работают
без выходных. Круглосуточно.
745
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
746
Живопись и графика
Из архива Елены и Николая Добротворских
747
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
748
Живопись и графика
Из коллекции Музея нонконформистского искусства // Четыре лица № 2. Из архива журнала «Сеанс»
749
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
750
Живопись и графика
Верчение вола. Из коллекции Русского музея
751
О Сергее Добротворском
Двое в интерьере. Из коллекции Русского музея
752
Живопись и графика
Двое без лиц. Из коллекции Музея нонконформистского искусства
753
О Сергее Добротворском
Чапаев сражается с оборотнем. Из коллекции Русского музея
754
Живопись и графика
Чапаев ловит летучего врага. Из коллекции Русского музея // Чапаев на прогулке. Из коллекции Русского музея
755
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
756
Живопись и графика
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
757
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
758
Живопись и графика
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
759
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
760
Живопись и графика
Из коллекции Русского музея
761
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
762
Живопись и графика
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
763
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
764
Живопись и графика
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
765
О Сергее Добротворском
766
Алкей и Сапфо. Из коллекции Музея нонконформистского искусства
Живопись и графика
Алкей и Сапфо. Из коллекции Музея нонконформистского искусства
767
О Сергее Добротворском
Олег Ковалев. Из архива Любови Аркус
768
Живопись и графика
Бутурлинский кинотеатр. Из коллекции Музея нонконформистского искусства
769
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
770
Живопись и графика
Из архива Маргариты Капреловой
771
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
772
Живопись и графика
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
773
О Сергее Добротворском
Эскиз к спектаклям театра «На подоконнике». Из коллекции Музея нонконформистского искусства
774
Живопись и графика
Эскизы к спектаклям театра «На подоконнике». Из коллекции Музея нонконформистского искусства
775
О Сергее Добротворском
Эскизы к спектаклям театра «На подоконнике». Из коллекции Музея нонконформистского искусства и архива журнала «Сеанс»
776
Живопись и графика
Эскизы к спектаклям театра «На подоконнике». Из коллекции Музея нонконформистского искусства
777
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
778
Живопись и графика
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
779
О Сергее Добротворском
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
780
Живопись и графика
Из коллекции Музея нонконформистского искусства
781
О Сергее Добротворском
Из архива журнала «Сеанс»
782
Живопись и графика
Из архива журнала «Сеанс»
783
Библиография
Сергей Добротворский
Сборники
1. Рок-поэзия: текст и контекст. — Молодежь и культура. Л., ЛГИТМиК, 1990.
2. Миф кино и будущее культуры. - Горизонты культуры. Вып. 1. СПб., РИИИ, 1992, с. 92.
3. Фильм «Чапаев»: опыт структурирования тотального реализма. — Современный экран. СПб., РИИИ, 1992, с. 139.
4. Ужас и страх в конце тысячелетия. Очерк экранной эволюции. - Бездна. СПб., АРС, 1992.
5. Город и Дом; Смерть после работы; «Он не следует законам, он их создает...» (Интервью с С. Юриздицким);
«Я снимаю паузу...» (Интервью с А. Буровым). — Сокуров. СПб., Сеанс-Пресс, 1994, с. 281, 305, 319, 323.
6. Аудиовизуальный прогресс и пространственное восприятие. - Методологические проблемы современного
искусствознания. Вып. 6. СПб., РИИИ, 1995, с. 85.
7. Ленинградское кино: эволюция авторской традиции. - Петербургское «Новое кино». СПб., РИИИ, 1996.
Журналы
1. Алиса Фрейндлих. — Советский фильм, 1985, № 2, с. 9.
2. Аплодисменты, аплодисменты. — Советский фильм, 1985, № 3, с. 8.
3. Рейс-222. - Советский фильм, 1986, № 2, с. 24.
4. Ольга Агеева. — Советский экран, 1986, № 4, с. 14.
5. Прорыв. - Советский фильм, 1986, № 7, с. 6.
6. В начале пути. - Советский фильм, 1986, № 10, с. 11.
7. Отец и сыновья. - Советский фильм, 1987, № 4, с. 10.
8. Золотая пластинка. - Советский фильм, 1987, № 6, с. 34.
9. Любите ли вы Баха? - Советский фильм, 1987, № 6, с. 25.
10. Проверка на дорогах истории. - Советский фильм, 1987, № 6, с. 5.
11. Несентиментальное путешествие с молодым героем. — Родник, 1987, № 6, с. 47.
12. Садовник. — Советский фильм, 1987, № 8, с. 12.
13. Закрытие сезона. - Советский фильм, 1987, № 9, с. 28.
14. Вспомним, товарищ. - Советский фильм, 1987, № 11, с. 6.
15. «Под звуки шестиструнной лиры». Заметки о рок-поэзии. - Родник, 1988, № 6, с. 42.
16. Без мундира. — Советский фильм, 1988, № 7, с. 23.
17. «Так трудно выразить, как дышится легко...» (Интервью с А. Германом). - Советский фильм, 1988, № 8, с. 7.
18. Тотальный кинематограф. Манифест. - [Под псевд. О. Лепесткова.] Сине Фантом, 1988, № 10.
19. Тотальный кинематограф - киномеханика. - Митин журнал, 1988, № 24.
20. Киноглаз из «подполья». - Кино [Рига], 1989, № 3.
21. О кинотворчестве Олега Котельникова. - Декоративное искусство, 1989, № 3, с. 22.
22. Тотальный кинематограф. - Искусство кино, 1989, № 6, с. 136.
23. Зеркало для Зазеркалья. — [Совм. с М. Брашинским.] Советский фильм, 1989, № 9, с. 21.
24. Торжество Эвклида. - Советский экран, 1989, № 12, с. 26.
25. Весна. Вепри суицида. - [Совм. с А. Феоктистовым.] Декоративное искусство, 1989, № 10, с. 26.
26. Настольные игры. - Декоративное искусство, 1989, № 10, с. 27.
27. Революция № 9. - Декоративное искусство, 1989, № 10, с. 28.
28. Третий путь. - Декоративное искусство, 1989, № 10, с. 23.
29. Караул. - Советский фильм, 1989, № 12, с. 25.
30. Беседы о параллельном кино (интервью). - Митин журнал, 1989, № 28.
31. Рыцари поднебесья. - Советский фильм, 1990, № 7, с. 27.
32. Портвейн-вестерн. - Советский фильм, 1990, № 11, с. 30.
33. Записки не из подполья. - Искусство Ленинграда, 1990, № 6.
34. Капитан Курехин и... - [Совм. с К. Закс.] Московский наблюдатель, 1990, № 1, с. 46.
785
Указатели
35. «В отличие от кино-, видеофестиваль...» (Интервью). - Митин журнал, 1990, № 33.
36. Чапаев: результаты оказались чудовищными (интервью). — Митин журнал, 1990, № 36.
37. Авангардисты в небесах. - Сеанс, 1991, № 2, с. 14.
38. Человек-невидимка в театре жизни. - [Совм. с К. Закс.] Столица, 1991, № 24-25, с. 121.
39. Наследники по кривой. - Искусство кино, 1991, № 7, с. 25.
40. Весна на улице Морг. - Искусство кино, 1991, № 9, с. 46.
41. О том, как товарищ Чкалов за счастьем ходил. - Сеанс, 1991, № 3, с. 10.
42. Дмитрий Светозаров. - Сеанс, 1991, № 4, с. 25.
43. Raiders of the lost avant-garde. - Сеанс, 1991, № 4, с. 45.
44. Кадры решают всё. - Сеанс, 1992, № 5, с. 49.
45. Суд Линча. - [Совм. с К. Добротворской.] Сеанс, 1992, № 5, с. 44.
46. Афганский синдром. — Сеанс, 1992, № 6, с. 4.
47. Из Австрии с любовью. - Сеанс, 1992, № 6, с. 28.
48. Фильм «Чапаев»: опыт структурирования тотального реализма. — Искусство кино, 1992, № 11, с. 22.
49. В поисках утраченного «другого». - Искусство кино, 1992, № 12, с. 39.
50. Crazy-movie. - Искусство кино, 1992, № 12, с. 27.
51. Глаза шестидесятых. - [Совм. с К. Добротворской.] Сеанс, 1992, № 7, с. 77.
52. Ленин. - Сеанс, 1992, № 7, с. 5.
53. Папа, умер некрореализм. - Сеанс, 1992, № 7, с. 108.
54. Цвет воздуха. - Сеанс, 1992, № 7, с. 74.
55. Цибульский. - Сеанс, 1992, № 7, с. 30.
56. Че Гевара. - Сеанс, 1992, № 7, с. 56.
57. Миф, ложь и истина. - Искусство кино, 1993, № 3, с. 35.
58. Все мы капитаны, каждый знаменит. - Сеанс, 1993, № 7, с. 121.
59. Бригадир Потапов. - Сеанс, 1993, № 8, с. 34.
60. Мой друг Иван Лапшин. - Сеанс, 1993, № 8, с. 40.
61. Чапаев. - Сеанс, 1993, № 8, с. 17.
62. Восприятие стандарта. — Искусство кино, 1994, № 2, с. 75.
63. Festival of festivals как зеркало кинопроцесса. - Сеанс, 1994, № 9, с. 98.
64. Заграница, которую мы потеряли. - Сеанс, 1994, № 9, с. 136.
65. Кто подставил Ивана Саньшина. — Сеанс, 1994, № 9, с. 8.
66. Узник замка К. - Сеанс, 1994, № 9, с. 82.
67. Киноавангард - нарушитель конвенции. - Киноведческие записки, 1994, № 24, с. 37.
68. Так, с неописуемым звуком... - Митин журнал, 1994, № 51; 1995, № 52.
69. Кино на ощупь. - Киноведческие записки, 1995, № 25, с. 170.
70. О любви. - Петербургский театральный журнал, 1995, № 6, с. 121.
71. Диалоги. - [Совм. с Л. Лурье.] Сеанс, 1995, № 10, с. 141.
72. Здесь кто-то был. - Сеанс, 1995, № 10, с. 81.
73. Источник невозможного. - Сеанс, 1995, № 10, с. 106.
74. Что такое гешаке? - [Совм. с М. Брашинским.] Сеанс, 1995, № 10, с. 98.
75. Посадил дед репку. - Искусство кино, 1995, № 7, с. 26.
76. Jim Jarmusch, cool... - Сеанс, 1995, № 11, с. 87.
77. Каждый охотник желает знать. — Сеанс, 1995, № 11, с. 93.
78. Положение вещей. - Сеанс, 1995, № 11, с. 122.
79. Энди Уорхол - изобретатель кинематографа. - Сеанс, 1995, № 11, с. 51.
80. Иванов, не вспомнивший родства. - Искусство кино, 1995, № 9, с. 41.
81. Поезд «Желание». - Искусство кино, 1995, № 11, с. 114.
82. Властелин ужаса. - Эстет, 1995, № 1.
83. В мире нет закона, кроме демонов и соблазна. — Экран, 1995, № 9, с. 23.
84. И немедленно выпил... - Искусство кино, 1995, № 12, с. 77.
85. Алиса в Беспределе. - Сеанс, 1996, № 12, с. 47.
86. Концерт для критика. - Сеанс, 1996, № 12, с. 50.
87. Тайна двух «океанов». — Сеанс, 1996, № 12, с. 73.
88. Бергман и Дрейер: у истоков европейского модернизма. - Сеанс, 1996, № 13, с. 108.
89. Медный всадник «Ленфильма». - [Совм. с Н. Сиривлей.] Искусство кино, 1996, № 3, с. 21.
786
Библиография
90. Тело власти. - Искусство кино, 1996, № 4, с. 113.
91. Русский рефлекс. — [Под псевд. С. Каренин.] Пульс, май 1996.
92. Каин & Абель. - ОМ, 1996, июль.
93. Шпион, пришедший с холодной войны. — Искусство кино, 1996, № 6, с. 80.
94. Кавказский призовой круг. - Мир Петербурга, 1996, № 4 (6), с. 48.
95. И задача при нем... - Искусство кино, 1996, № 9, с. 5.
96. В сторону рая. - Искусство кино, 1996, № 10.
97. Тфеш-дивы. - ОМ, 1997, март.
98. Неупокоенные. - [Совм. с. М. Брашинским.] Сеанс, 1997, № 14, с. 44.
99. Тема. - [Совм. с. Л. Аркус, О. Коваловым, Л. Лурье и А. Шемякиным.] Сеанс, 1997, № 14, с. 96.
100. Кинематограф и его двойник. - Сеанс, 1997, № 15, с. 44.
101. Кино: история пространства. - Киноведческие записки, 1997, № 32, с. 34.
102. Жесткое время. Производственно-творческий проект. - Сеанс, 1997, № 16.
На иностранных языках
1. В началото на пътя. - ЛИК, № 45, 1986. [Болгария.]
2. Experimental Cinema in the USSR. - Red Fish in America Arts Company. N. Y., 1990. [США.]
3. The Most Avant-Garde of All Parallel Ones. - New Orleans Review. Spring 1990, Vol. 17, No. 1. [США.]
4. Parallel Cinema in the USSR: Life after Death. - New Leningrad Eccentrics. British Film Institute Film
Catalogue, 1991. [Великобритания.]
5. Sinfonia ottica con refrain visivo. — Cinecritica, Anno XIV. Speciale Venezia, 1991. [Италия.]
6. Kadrial Lemia Viska. - Kinas [Vilnus], № 9, 1992. [Литва.]
7. A Tired Death - Russian Necrorealism: Shock Therapy for a New Culture. Bowling Green, 1993, Film / Painting
Catalogue. [США.]
8. Debil als Medium. - DU, № 2, Febr., 1993. [Швейцария.]
9. The Most Avant-Garde of All Parallel Ones. - The Russian Critics Of The Cinema of Glasnost. Cambridge
University Press, 1994. [Великобритания.]
10. Ein muder Ibd. — Selbstidentifikation (Positionen St. Petersburger Kunst von 1970 bis heute). Ars Baltica,
Kiel, 1994. [Германия.]
11. Cinema Myths and the Future of Culture. - Re-Entering the Sign: Articulating New Russian Culture. Ann
Arbor, 1995, p. 311-323. [США.]
12. The City and the House. - Cinema of Alexander Sokurov. I. B. Tauris, 2011, p. 226-233. [Великобритания / США.]
Газеты
1. Свое, современное, интересное всем... Заметки о молодом кино Ленинграда. - Лен. Правда, 13 августа 1987.
2. Виктория - не значит победа. - Кадр, 30 сентября 1987.
3. Зимний марафон. — Невское время, 8 января 1991.
4. Длинный фильм об убийствах. — Невское время, 5 февраля 1991.
5. Англия глазами... эксцентриков. - Невское время, 30 марта 1991.
6. Юбилейное. - Невское время, 20 апреля 1991.
7. Яппи в стране чудес. — [Совм. с К. Добротворской.] Литературная газета, 15 мая 1991.
8. Любовь и смерть Райнера Фассбиндера. — Вечерний Петербург, 19 ноября 1992.
9. Два пальца вверх, или Что смотрит Америка? - Общая газета, 20 августа 1993.
10. Одиссея Вима Вендерса. - Вечерний Петербург, 28 января 1994.
11. Дэвид Линч - веселый и ужасный. - Коммерсантъ-Daily, 12 февраля 1994.
12. Жизнь - на сладкое. - Коммерсантъ, 19 февраля 1994.
13. Кто сказал, что Дед Мороз мертв? - Коммерсантъ, 23 февраля 1994.
14. «Тихие страницы» наконец прошелестели над Россией. - Коммерсантъ, 26 февраля 1994.
15. Узник замка К., или Кафка, который не стал былью. - Коммерсантъ, 12 марта 1994.
16. Некруглая дата последнего классика мирового кино. - Коммерсантъ, 30 марта 1994.
17. Всё на продажу, или «Покаяние» по-польски. — Коммерсантъ, 7 мая 1994.
18. Этот ясный объект насмешки. — Коммерсантъ, 12 мая 1994.
19. Раз, два, три... Пусть всегда будет солнце. - Коммерсантъ, 14 мая 1994.
20. Людвиг, или Упражнение в смерти. — Коммерсантъ, 21 мая 1994.
21. Трагедия вечно повторяющейся благодати. — Коммерсантъ, 28 мая 1994.
787
Указатели
22. Русские ушли. Пришли страсти-мордасти. — Коммерсантъ, 4 июня 1994.
23. Письма русского человека. - Коммерсантъ, 11 июня 1994.
24. Американское кино. В высшей степени politically correct. - Коммерсантъ, 17 июня 1994.
25. Одни видят звук. Другие слушают темноту. - Коммерсантъ, 21 июня 1994.
26. Документальное кино получило своих кентавров. — Коммерсантъ, 28 июня 1994.
27. Голый среди волков и овец. - Коммерсантъ, 14 июля 1994.
28. Горизонтальный мир Жана Ренуара. - Коммерсантъ, 30 июля 1994.
29. И корабль приплыл: сказочник перебивает пророка. - Коммерсантъ, 10 августа 1994.
30. Энди Уорхол — изобретатель новой грамматики. - Коммерсантъ, 13 августа 1,994.
31. Ангелы и демоны в немецком небе. - Коммерсантъ, 16 августа 1994.
32. Лору Палмер создатель саги о Голубкове любит больше, чем просто Марию. — Коммерсантъ, 27 августа 1994.
33. Прасковья Лукьянова все еще защищает Родину. - Коммерсантъ, 3 сентября 1994.
34. Франсуа Трюффо - человек, который любил фильмы. - Коммерсантъ, 10 сентября 1994.
35. Кино, которое мы потеряли. — Коммерсантъ, 14 сентября 1994.
36. Рижский «Арсенал» как зеркало кинопроцесса. - Коммерсантъ, 28 сентября 1994.
37. Интеллектуальный реванш бульварного чтива. - Коммерсантъ, 8 октября 1994.
38. Тайна «Дождей в океане» так и осталась нераскрытой. — Коммерсантъ, 13 октября 1994.
39. Режиссер, вдохновенно учивший зрителей самому плохому. — Коммерсантъ, 22 октября 1994.
40. Ноябрьские игры доброй сокуровской воли. - Коммерсантъ, 5 ноября 1994.
41. Секрет штучной вышивки по канве обыденных представлений. - Коммерсантъ, 12 ноября 1994.
42. Анри Ланглуа — человек, который поднял «новую волну». - Коммерсантъ, 15 ноября 1994.
43. Понтий Пилат и другие официальные лица. — Коммерсантъ, 26 ноября 1994.
44. Жизнеутверждающая история про серого волка. - Коммерсантъ, 30 ноября 1994.
45. Доктор Джекил и мистер Хайд помирились. - Коммерсантъ, 15 декабря 1994.
46. Годар сложил повесть о первой любви. - Коммерсантъ, 17 декабря 1994.
47. Гомункулус ищет отца. - Коммерсантъ, 19 января 1995.
48. Патриархи киноискусства родились под знаком Водолея. — Коммерсантъ, 22 января 1995.
49. Перстень без алмаза. — Коммерсантъ, 25 января 1995.
50. Инструкции по выживанию ковбоев в городе. - Коммерсантъ, 18 февраля 1995.
51. Чудовища всех времен объединились в музее культуры. - Коммерсантъ, 18 февраля 1995.
52. Героический пессимизм Луиса Бунюэля. - Коммерсантъ, 25 февраля 1995.
53. Мелодия в стиле ретро, не ставшая шлягером. - Коммерсантъ, 15 марта 1995.
54. Козинцев всегда был классиком, но слишком радикальным. - Коммерсантъ, 18 марта 1995.
55. «Аталанта» бросила якорь на российском канале. - Коммерсантъ, 25 марта 1995.
56. Богатая невеста с идейным приданым. - Коммерсантъ, 1 апреля 1995.
57. «Индокитай» - гвоздь недели, но «Манхэттен» не хуже. — Коммерсантъ, 8 апреля 1995.
58. Евангелие от Тарковского, Пазолини и Чаплина. - Коммерсантъ, 15 апреля 1995.
59. Через сорок лет у бунтаря появилась причина. - Коммерсантъ, 20 апреля 1995.
60. Могилы среди пустого кинопейзажа. - Коммерсантъ, 22 апреля 1995.
61. В шесть часов вечера после Второй мировой войны. — Коммерсантъ, 29 апреля 1995.
62. Кровь и любовь на музыку Адана. - Коммерсантъ, 3 мая 1995.
63. Штирлиц против Шиндлера. - Коммерсантъ, 6 мая 1995.
64. Канадский кинематограф: Апокалипсис завтра. - Коммерсантъ, 13 мая 1995.
65. Кино состоит не только из шедевров. - Коммерсантъ, 13 мая 1995.
66. На этой неделе каждой твари по паре. - Коммерсантъ, 20 мая 1995.
67. Кто еще умеет прыгать через лужи? - Коммерсантъ, 23 мая 1995.
68. Хотите в Сочи - включайте телевизор. - Коммерсантъ, 27 мая 1995.
69. Смерть автора. - Коммерсантъ, 3 июня 1995.
70. Эротика и насилие в Сочи вышли за рамки программы. — Коммерсантъ, 9 июня 1995.
71. Одиночество бегунов на короткие дистанции. — Коммерсантъ, 22 июня 1995.
72. Прогулки по музею кино. - Коммерсантъ, 24 июня 1995.
73. Послание к человеку в год столетия кино. - Смена, 28 июня 1995.
74. Каждый за себя и все против всех. — Коммерсантъ, 28 июня 1995.
75. Вслед за Феллини москвичи увидят «Всего Пазолини». - Коммерсантъ, 1 июля 1995.
76. Не горюй, или Некоторые любят погорячее. - Коммерсантъ, 1 июля 1995.
788
Библиография
77. Нескромное обаяние кинопровинциалов. - Смена, 6 июля 1995.
78. Потерянный уик-энд и другие приключения жанра. - Коммерсантъ, 8 июля 1995.
79. Гуд бай, Америка, хэлло, Европа. — Коммерсантъ, 15 июля 1995.
80. Деревянная комната с видом на труп. - Коммерсантъ, 20 июля 1995.
81. 200 миллионов долларов под водой. — Коммерсантъ, 19 августа 1995.
82. Хорошее кино для детей и взрослых. — Коммерсантъ, 26 августа 1995.
83. На свете все еще будет хорошо. - Коммерсантъ, 31 августа 1995.
84. Повторенье - мать ученья. - Коммерсантъ, 2 сентября 1995.
85. Три фестиваля в поисках скверных авторов. - Коммерсантъ, 2 сентября 1995.
86. Бэтмен улетел и не обещал вернуться. - Коммерсантъ, 8 сентября 1995.
87. Женщины за гранью нервного срыва. - Коммерсантъ, 9 сентября 1995.
88. Костюмы для убийц и зеркала для героя. — Коммерсантъ, 16 сентября 1995.
89. Двуликая женщина - нетленное воплощение Смерти. - Коммерсантъ, 23 сентября 1995.
90. Жажда страсти в зоне смерти. - Коммерсантъ, 23 сентября 1995.
91. Неделя культового кино. — Коммерсантъ, 30 сентября 1995.
92. Каннский лауреат против кавалера «Оскара». — Коммерсантъ, 7 октября 1995.
93. Лунный Пьеро Великого Немого. - Коммерсантъ, 7 октября 1995.
94. По законам гостеприимства. — Коммерсантъ, 14 октября 1995.
95. Неделя живых мертвецов. — Коммерсантъ, 21 октября 1995.
96. Украинская «Молодость» на исходе века кино. - Коммерсантъ, 2 ноября 1995.
97. Великий утешитель ставит зрителя перед трудным выбором. — Коммерсантъ, 4 ноября 1995.
98. Кто знает, или Теорема со многими неизвестными. — Коммерсантъ, 11 ноября 1995.
99. Тоска по вечной молодости. - Коммерсантъ, 11 ноября 1995.
100. Любовные подношения господину Синема. — Коммерсантъ, 25 ноября 1995.
101. Тринадцать новых фильмов с реки По. — Коммерсантъ, 25 ноября 1995.
102. Выстрелы в Далласе, Нью-Йорке, Ленинграде и Екатеринбурге. - Коммерсантъ, 2 декабря 1995.
103. Звезды на праздничном небе. - Коммерсантъ, 9 декабря 1995.
104. «Морская болезнь» на пути в Бразилию. — Коммерсантъ, 15 декабря 1995.
105. Запад не Запад, Восток не Восток. — Коммерсантъ, 16 декабря 1995.
106. Невероятные приключения русских в России. - Коммерсантъ, 16 декабря 1995.
107. Сто и одна американская ночь. - Коммерсантъ, 23 декабря 1995.
108. Поезд братьев Люмьер еще стоит на запасном пути. - Коммерсантъ, 27 декабря 1995.
109. Новый год на голубом экране. - Пульс, ноябрь 1995.
110. Танцы на грани зимы. - Пульс, январь 1996.
111. Мужчины и женщины много лет спустя. — Коммерсантъ, 17 января 1996.
112. Новый год: haute couture и second hand. — Коммерсантъ, 20 января 1996.
113. Неделя диетического кино. - Коммерсантъ, 27 января 1996.
114. Певцы американской мечты или киноклассика нового века. - Коммерсантъ, 27 января 1996.
115. Неделя жанрового кино пройдет под знаком противостояния. — Коммерсантъ, 3 февраля 1996.
116. Париж читает дневники Йонаса Мекаса. — Коммерсантъ, 8 февраля 1996.
117. Неделя страстей человеческих. - Коммерсантъ, 10 февраля 1996.
118. Поезд длиною в сто лет. - Пульс, февраль 1996.
119. Русская идея на мировом экране. — Пульс, февраль 1996.
120. «Это больше, чем идеология...» (Интервью с С. Сельяновым). - Пульс, февраль 1996.
121. Музы замолчали до следующей недели. - Коммерсантъ, 17 февраля 1996.
122. Материал, из которого сделаны сны, или У истоков черного романтизма. - Коммерсантъ, 24 февраля, 1996.
123. Из Африки с любовью. - Коммерсантъ, 24 февраля 1996.
124. Мужчины, женщины и немножко нервно. - Коммерсантъ, 2 марта 1996.
125. Анджей Вайда от романтизма до наших дней. — Коммерсантъ, 6 марта 1996.
126. Шпион вернулся с холода. - Пульс, март 1996.
127. Кино и жизнь закончились одновременно. - Коммерсантъ, 15 марта 1996.
128. О пользе ножниц в жизни кино. - Коммерсантъ, 16 марта 1996.
129. Зверь по прозвищу «Оскар» появится в среду. - Коммерсантъ, 23 марта 1996.
130. Первого апреля не верьте никому, кроме телевидения. - Коммерсантъ, 30 марта 1996.
131. Роджер Корман - повелитель кинобюджета. - Коммерсантъ, 5 апреля 1996.
789
Указатели
132. Иисус Христос - телезвезда. — Коммерсантъ, 6 апреля 1996.
133. «Родная кровь» течет по телеэкрану. — Коммерсантъ, 13 апреля 1996.
134. Осторожно: «Двери» открываются. - Коммерсантъ, 20 апреля 1996.
135. Ричард - пурпурное сердце. - Коммерсантъ, 25 апреля 1996.
136. Неглубокая пещера и ее обитатели. — Коммерсантъ, 27 апреля 1996.
137. Прощай, Эммануэль! Здравствуй, грех! - Коммерсантъ, 27 апреля 1996.
138. Тень автора. - Пульс, апрель 1996.
139. Отец неореализма любил жизнь больше, чем кино. - Коммерсантъ, 8 мая 1996.
140. Русский рефлекс. — Пульс, май 1996.
141. Поезд, уходящий в следующее тысячелетие. - Коммерсантъ, 17 мая 1996.
142. В борьбе кино и телевидения выигрывает зритель. — Коммерсантъ, 18 мая 1996.
143. Нечаянные радости в саду «Аквариум». — Коммерсантъ, 23 мая 1996.
144. Криминальные страсти на грани весны. - Коммерсантъ, 25 мая 1996.
145. Гвардия не умирает и не сдается. - Коммерсантъ, 1 июня 1996.
146. Общество снова в ответе за тех, кого развращает. — Коммерсантъ, 7 июня 1996.
147. Весь мир смотрит на англичан, англичане едут по миру. — Коммерсантъ, 11 июня 1996.
148. Почувствуйте себя в роли жюри. - Коммерсантъ-Daily, июнь 1996.
149. Звездная пыль не оставляет тени. — Коммерсантъ, 20 июня 1996.
150. Катастрофа не состоялась. — Коммерсантъ, 21 июня 1996.
151. Неделя большого саспенса. - Коммерсантъ, 22 июня 1996.
152. Судьба телевидения тоже зависит от вашего выбора. - Коммерсантъ, 29 июня 1996.
153. Африканское лето на Заречной улице. - Коммерсантъ, 6 июля 1996.
154. Рэмбо — 50. Вторая жизнь: часть первая. — Коммерсантъ, 6 июля 1996.
155. Мадемуазель Стриптиз против леди Франкенштейн. - Коммерсантъ, 13 июля 1996.
156. Все, что вам нужно, это - психоз. - Коммерсантъ, 20 июля 1996.
157. Посредник между мускулами и мозгом. - Коммерсантъ, 27 июля 1996.
158. Телевидение, смеясь, прощается с недавним прошлым. - Коммерсантъ, 27 июля 1996.
159. Шестьдесят лет назад под куполом «Цирка». - Коммерсантъ, 16 августа 1996.
160. Телеобзор. - Коммерсантъ, 17 августа 1996.
161. Настоящая смерть Рудольфа Валентино. — Коммерсантъ, 23 августа 1996.
162. Телеобзор 2. - Коммерсантъ, 24 августа 1996.
163. Нормальные герои, как известно, всегда идут в обход. - Коммерсантъ, 30 августа 1996.
164. Телеобзор 3. — Коммерсантъ, 7 сентября 1996.
165. За два дня Анапа трижды испытала киношок. - Коммерсантъ, 10 сентября 1996.
166. Искусство наносить шрамы. - Коммерсантъ, 13 сентября 1996.
167. В Анапе наградили не фильм, а его автора. — Коммерсантъ, 17 сентября 1996.
168. От эпатажа до концепции и обратно. — Коммерсантъ, 25 сентября 1996.
169. Телеобзор 4. - Коммерсантъ, 28 сентября 1996.
170. Метрополитен под пристальным наблюдением. - Коммерсантъ, 5 октября 1996.
171. Телеобзор 5. — Коммерсантъ, 5 октября 1996.
172. Соло для народного артиста без оркестра. - Коммерсантъ, 9 октября 1996.
173. Телеобзор 6. - Коммерсантъ, 12 октября 1996.
174. Телеобзор 7. — Коммерсантъ, 19 октября 1996.
175. Украинская молодость: when I'm 26. - Коммерсантъ, 1 ноября 1996.
176. Телеобзор 8. - Коммерсантъ, 2 ноября 1996.
177. «Персональное» дело Ингмара Бергмана. — Коммерсантъ, 12 ноября 1996.
178. Тtлеобзор 9. - Коммерсантъ, 16 ноября 1996.
179. В Петербург приехал Волшебный поезд. - Коммерсантъ, 23 ноября 1996.
180. Телеобзор 10. - Коммерсантъ, 23 ноября 1996.
181. Телеобзор 11. — Коммерсантъ, 30 ноября 1996.
182. Первый Франкенштейн на первом канале. - Коммерсантъ, 30 ноября 1996.
183. TVV 1. - Коммерсантъ, 4 февраля 1997.
184. TVV 2. - Коммерсантъ, 8 февраля 1997.
185. TVV 3. - Коммерсантъ, 15 февраля 1997.
186. Сказка странствий со странным концом. - Коммерсантъ, 8 февраля 1997.
790
Библиография
187. Сказки Калифорнийского леса. - Коммерсантъ, 22 февраля 1997.
188. TVV 4. - Коммерсантъ, 22 февраля 1997.
189. TVV 5. - Коммерсантъ, 1 марта 1997.
190. Купание Красного Гвоздя. - Коммерсантъ, 11 марта 1997.
191. TVV 6. - Коммерсантъ, 15 марта 1997.
192. Похороны хулигана. - Коммерсантъ, 22 марта 1997.
193. TVV 7. - Коммерсантъ, 22 марта 1997.
194. TVV 8. - Коммерсантъ, 29 марта 1997.
195. Плохие парни как пример для подражания. - Коммерсантъ, 29 марта 1997.
196. В фильме о Гагарине не будет ни одного спецэффекта. - [Под псевд. С. Злободелов.] Коммерсантъ, 1 апреля 1997.
197. Берегись автомобиля! — Коммерсантъ, 2 апреля 1997.
198. TVV 9. - Коммерсантъ, 5 апреля 1997.
199. Уик-энд с кланом Тарантино. - Коммерсантъ, 4 апреля 1997.
200. Коржаков остался за кадром. - Коммерсантъ, 10 апреля 1997.
201. Это город Ленинград. — Коммерсантъ, 11 апреля 1997.
202. TVV 10. - Коммерсантъ, 12 апреля 1997.
203. TVV 11. - Коммерсантъ, 19 апреля 1997.
204. TVV 12. - Коммерсантъ, 26 апреля 1997.
205. Дочь Дракулы снова полюбила простого парня. — Коммерсантъ, 26 апреля 1997.
206. Россию представит «Брат». - Коммерсантъ, 7 мая 1997.
207. Умер Марио Феррери. - Коммерсантъ, 13 мая 1997.
208. TVV 13. - Коммерсантъ, 17 мая 1997.
209. «Апокалипсис» на ОРТ. - Коммерсантъ, 17 мая 1997.
210. TVV 14. - Коммерсантъ, 24 мая 1997.
211. Фредди Крюгер. — Коммерсантъ, 24 мая 1997.
212. TVV 15. - Коммерсантъ, 31 мая 1997.
213. Сильные страсти Изабель Аджани... - Коммерсантъ, 31 мая 1997.
214. Герой нашего времени — человек с ружьем. - Коммерсантъ, 18 июня 1997.
215. TVV 16. - Коммерсантъ, 21 июня 1997.
216. Человек с ружьем по-прежнему остается главным героем нашего нового кино. — Коммерсантъ, 25 июня 1997.
217. TVV 17. - Коммерсантъ, 28 июня 1997.
218. TVV 18. - Коммерсантъ, 5 июля 1997.
219. Бэтмен снова прилетел. - Коммерсантъ, 25 июля 1997.
220. ОРТ извлекло из архива Франсуа Трюффо. - Коммерсантъ, 1 августа 1997.
221. TVV 20. - Коммерсантъ, 2 августа 1997.
222. Квентин Тарантино: войти просто, выйти невозможно. — Коммерсантъ, 7 августа 1997.
223. TVV 21. - Коммерсантъ, 9 августа 1997.
224. Человек, который знал слишком много. - Коммерсантъ, 13 августа 1997.
225. TVV 22. - Коммерсантъ, 16 августа 1997.
226. К западу от черного жанра. - Коммерсантъ, 21 августа 1997.
Самиздат
1. 26 августа (литературно-художественный журнал). 1977.
2. Апокалипсис. — Я. Поэма. 1979.
3. Бессменно белый. Сборник стихов. 1979.
4. Вселенское хулиганство. Поэма. 1979.
5. Неоэклектика 1-2. Сборник стихов. [Совм. с А. Феоктистовым.] 1979.
6. Разголось. Сборник стихов. [Совм. с А. Феоктистовым.] 1979.
7. Самоцентр. Сборник стихов. 1980.
8. Симптом № 11. [Совм. с А. Феоктистовым и О. Самсоновой-Роговицкой.] 1979.
9. Сфинксоград. Гимн. 1979.
10. Теория неоэклектики. Теоретический сборник. [Совм. с А. Феоктистовым.] 1979.
11. Еще о Сфинксограде. Проза. 1980.
12. Концерт для трамвая с оркестром. Сборник стихов. 1980.
13. Actus primitivus. Сборник стихов. 1980.
791
Указатели
14. Безмерный предмет, или Происшествия с гражданином Кусиковым. Повесть. 1981.
15. Избранные стихи. [Совм. с А. Феоктистовым.] 1981.
16. Дневные мысли снеготополя. Сборник стихов. 1982.
17. Театр неоэклетики. Эртебиз, или Уроки революции. [Совм. с А. Феоктистовым.] 1982.
О Сергее Добротворском
Книги
1. Трофименков М. Добротворский Сергей. - Новейшая история отечественного кино (1986-2000) в 7 т., т. 1.
СПб., Сеанс, 2001, с. 366, 367.
2. Добротворский С. Н. - Новый энциклопедический словарь. М., Большая Российская энциклопедия,
2004, с. 347.
3. Добротворская К. Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже. М., ACT, Редакция Елены
Шубиной, 2014.
Журналы
1. Аркус Л., Плахов А., Москвина Т, Трофименков М., Ковалев О. и др. Памяти Сергея Добротворского. -
Сеанс, 1997, № 16.
2. Трошин А. Сергей Добротворский (1959-1997). - Читальный зал, 1997, № 5, с. 64.
3. Брашинский М. 27 августа 1997 г. умер критик Сергей Добротворский. - Искусство кино, 1997, № 12, с. 44.
4. Брашинский М., Кузьмина И. Память о С. Добротворском. - Петербургский театральный журнал, 1998,
№ 15, с. 121.
5. Вяльцев А. Путешествие в одну сторону. - Звезда, 2001, № 6, с. 74, 80, 87-88.
6. Пасуев А. Камень руками холод ранит... — Книжный Петербург, 2002, № 1, с. 11.
7. Елисеев Н. Книжная полка Никиты Елисеева: С. Добротворский. Кино на ощупь. - Новый мир, 2002,
№5, с. 199.
8. Самутина Н. Кино на ощупь. — Неприкосновенный запас, 2002, № 6 (20).
Газеты
1. Thibaudat J.-P. Les nouvelles frontieres du cinema. Debordes par la television et la video, les critiques n’ont plus
d’influence. - Liberation, 19 mai, 1997.
2. Линия кино. - Панорама, № 38, 1997.
3. Абдуллаева 3. Умер Сергей Добротворский. - Коммерсантъ, 30 августа 1997.
4. Павлова И. ...Которого любили все. - Невское время, 30 августа 1997.
5. Шервуд. О. Счастье было. - Вечерний Петербург, 1 сентября 1997.
6. Москвина Т. Сегодня девять дней со дня смерти нашего коллеги и друга. - Коммерсантъ, 4 сентября 1997.
7. Ковалов О. Художественный покой и надмирная ирония. - Коммерсантъ, 22 января 1998.
8. Божович М. О вечере памяти С. Добротворского. - Российская Газета [СПб.], 24 января 1998.
9. Шервуд. О. Оказалось, что... - Вечерний Петербург, 27 января 1998.
10. Попов Л. Выставка в доме кино. - Русский телеграф, 28 января 1998.
11. Ткач Т. Как художника его никто не знал. - Смена, 29 января 1998.
12. Долинина К. «Сеанс» без Сергея Добротворского. - Коммерсантъ [СПб.], 30 января 1998.
13. Дунаевский А. Без вопросов. - Вечерний Петербург, 28 января 1999.
14. Памяти Сергея Добротворского. — Культура, 12 февраля 1998.
15. Андреева А. Смягчая жесткое время. - Санкт-Петербургские ведомости, 3 февраля 1998.
16. Трофименков М. Графический талант. - Коммерсантъ, 4 ноября 2000.
17. Кутейникова Е. Если хочешь перейти через площадь. — Вечерний Петербург, 16 ноября 2000.
18. Трофименков М. В кино он боялся только змей. — Коммерсантъ, 3 июля 2001.
19. Шитенбург Л. Алмаз под пеплом. - Смена, 4 июля 2001.
20. Кудряшов А., Гусак В. Кино на предельной дистанции. - На дне, № 15, август 2001, с. 8.
21. Плахов А. Вышла книга Сергея Добротворского. - Коммерсантъ, 27 августа 2001.
22. Кузнецов С. Человек, который знал. - Ведомости, 28 августа 2001.
23. Москвина Т. Киноман из первого ряда. - Час пик, № 35, сентябрь 2001.
792
Другие работы
Театральные работы
Театр географического факультета ЛГУ (1980-1982)
1. В. Володькин. И, в-четвертых, мой родственник... 1980.
2. В. Володькин. Экипаж, или Однажды десять лет спустя. 1981.
3. У. Сароян. Эй, кто-нибудь! 1981.
Театр на подоконнике (1984-1987)
1. В. Маяковский. Сказка о Пете - толстом ребенке и о Симе, который тонкий. Декабрь 1984.
2. К. Воннегут. С днем рождения, Ванда Джун! Июнь 1985.
3. Л. Жуховицкий. Последняя женщина сеньора Хуана. Декабрь 1985.
4. В. Володькин, С. Добротворский, М. Пежемский. Новогодняя сказка. Декабрь 1985.
5. Действие № 3. На основе текстов В. Маяковского, Б. Брехта и др. Май 1986.
Фильмография
Киногруппа «Че-паев»
1. Симметричное кино. 1987.
2. Подробности оледенения. [Совм. с А. Кузнецовым.] 1987.
3. Пьянству бой. [Совм. с М. Пежемским.] 1987.
4. Битва за флот. [Совм. с А. Феоктистовым.] 1988.
5. Движение. [Совм. с А. Феоктистовым.] 1988.
6. Подарок одинокому москвичу. 1988.
7. Ку-ку-ку-кай-кай. [Неокончен.] 1988.
8. Говорят члены общества «Че-паев». [Совм. с М. Пежемским и А. Феоктистовым.] 1988.
Сценарии
1. Никотин. [Совм. с М. Пежемским.] Реж. Е. Иванов. 1993.
2. Снежные люди. Синопсис игрового фильма. 1996.
3. Упырь. [По сюжету К. Мурзенко.] Реж. С. Винокуров. 1997.
4. Марцефаль. [По сюжету К. Мурзенко.] Реж. С. Кальварский. 1997.
5. Дух. [Совм. с А. Ганшиной, И. Охлобыстиным и Е. Ивановым.] Реж. Е. Иванов. 1998.
Роли в кино
1. Без мундира. Реж. Д. Светозаров. 1988.
2. Птицам крылья не в тягость. Реж. Б. Горошко. 1989.
3. Панцирь. Реж. И. Алимпиев. 1990.
4. Никотин. Реж. Е. Иванов. 1993.
5. Танго. [Короткометражный.] 1997.
Живописные и графические работы
Государственный Русский музей, отдел рисунка - 22 работы.
Музей Нонконформистского искусства - более 280 работ.
793
Указатель имен
Абдрашитов В. 359,360,361
Абдулов А. 347
Абель А. 507
Авербах И. 540, 541
Адоменайте Н. 551
Адриан 378
Азнавур Ш. 642
Айриш У. 642
Алейников Г. 27,80,81,83,172,
175, 176, 344, 350-353,412
Алейников И. 27,80,81,83,
172, 175, 176, 344,
350-353,412
Алейников П. 225,341
Александров Г. 229, 239, 269,
341,342, 427,511,512,
513, 525
Алиев А. 514
Аллегре М. 618
Аллен В. 504
Алов А. 536
Альбера Ф. 268
Амалу Дж. К. 645
Андерсон Б. 537
Андерсон Я. 19
Аникеенко А. 72
Антониони М. 137,413,415,418,
448,619
Аполлинер Г. 600
Аранович С. 540, 542
Арбокль Р. («Фэтти») 383, 524,
525, 605
Ардженто Д. 120, 500
Аристов В. 542
Аристотель 692
Аркетт Р. 628
Аркофф С. 480
Армани Дж. 424
Армс Р. 196
Арнольд Дж. 602
Арнхейм Р. 184, 188, 189, 190,
192, 448,572
Аррабаль 72
Арто А. 72, 267, 386, 387, 589
Асанова Д. 540,541
Ассизский Франциск
(св. Франциск) 490
Астор М. 444,617
Астрахан Д. 235
Астрюк А. 185,411,597-598
Бабель И. 511
Бабочкин Б. 156, 163, 164
Бава М. 120
Бадаламенти А. 112
Базен А. 191, 192, 193, 195,218,
282, 399, 428, 439, 444, 560,
562, 572, 587, 588, 632, 653
Балабанов А. 240-241, 370,
629-632, 641
Балаш Б. 403, 405, 563
Баллард Дж.-Г. 627, 628
Бандерас А. 622
Бара Т. 612
Баранов А. 60
Бардо Б. 618, 620, 624
Баркер Л. 198
Барнет Б. 434, 635
Барри Дж. 619
Барро Ж.-Л. 326
Барт Р. 38,86,87,88,96, 156,
175,364, 376, 452, 577
Бартас Ш. 560, 562
Бартон Т. 313,373-374,391
Басов В. 366
Бах И.-С. 64, 369
Бах Р. 25
Бахтин М. 560
Бачан Дж. 647
Башляр Г. 146
Безруков И. 71,74
Бейтс А. 485
Бейшеналиев Б. 241
Беккет С. 240, 383, 632
Белл Д. 86
Белоккио М. 217
Белопольская В. 646
Белохвостикова Н. 229
Белошников С. 549
Бельмондо Ж.-П. 96,141,305,
310, 320, 348,418, 420, 599
Беляев А. 600-601
Бен-Салим К. 652
Беньямин В. 428, 563
Берг А. 482
Бергер X. 420
Бергман Ингмар 113, 137, 179,
284, 378,413,414,415-416,
448-464, 504, 537-539, 589,
591,595-596, 598, 599
Бергман Ингрид 108, 489
Бергсон А. 17,523
Бердяев Н. 433
Беркли Б. 513
Берковский Н. 672
Бернес М. 226, 638
Берри Э. 73
Берроуз У. 626
Бертолуччи Б. 212, 243, 433, 490
Берч Н. 262, 332, 403, 637
Бессон Л. 10,600
Бехтерев В. 317
Бибарцев А. 544
Биксио Ч. 340
Биркин Д. 618-621
Битов А. 589
Бласко Ибаньес В. 516
Блие Бернар 211,212
Блие Бертран 211-212, 217
Блок А. 590
Блох Р. 313
Бляхин П. 650
Богарт X. 96, 135,305,347,
379-380, 387, 439, 444, 445,
617, 656
Бодин У. 326
Бодлер Ш. 25
Бодри Ж.-Л. 88
Бодрийяр Ж. 183,184,194,
257, 627
Бодров С. 60, 514-515, 629, 635
Бодров С.-мл. 514, 629
Божович В. 88, 564
Бойл Д. 487
Бойл Л. Ф. 656
Боккаччо Дж. 364
Болотин С. 161
Борев Ю. 666
Боровский Т. 677, 684, 685, 687
Бортко В. 540
Борхес X. Л. 79, 274, 328
Босх Й. 64,241
Боттичелли С. 372
Боу К. 612
794
Указатель имен
Боуи Д. 497-499,510,602
Бранах К. 327,581
Брандо М. 141, 355, 389, 391, 633
Брежнев Л. 80, 344
Брейгель П. 241
Брейкхейдж Ст. (Брэкидж) 174,
185-186, 297, 369, 566
Брессон Р. 9, 154, 279, 394
Бретон А. 328
Брехт Б. 304, 497
Бриали Ж.-К. 418
Бриннер Ю. 346
Броснан П. 496
Броунинг Р. 317
Броунинг Т. 116, 325, 327, 391,
511,581
Брукс М. 106, 130,326
Букэ К. 210
Булгаков М. 64, 283, 369, 465,
522, 529, 535, 689, 697
Бунюэль Л. 66, 72, 105, 113,
209-210, 261,267, 272, 277,
328-332, 339, 428, 470, 490,
500, 571
Буров А. 408
Бутусов Вяч. 632
Бучковский Л. 663
Бэколл Л. 380
Бэнкер Э. 252
Бэрроу К. 624
Бэтткок Г. 399
Вагнер Дж. 325
Вагнер Рихард 328,610,633
Вагнер Роберт 355
Вадим Р. 618
Вайда А. 96, 141,205-208,
277-278, 320-321, 465-470,
494, 500, 589, 656, 661-702
Валентино Р. 389, 426,
516-518, 602
Ван Гог В. 204
Ван Дамм Ж.-К. 506
Вандербек С. 185
Ванслов В. 667
Варлей Н. 530
Васильев Б. 640
Васильев-Буглай Л. 161
Васильевы С. и Г.
(бр. Васильевы)
155-164, 169, 344, 545
Вегенер П. 324
Вейман Р. 95
Величко Н. 151
Веллингтон Д. 357-358
Вендерс В. 35, 179-182, 251, 277,
283, 302, 351,357, 393,409,
415-416, 430, 453-454, 480,
510,511,539, 599
Верди Дж. 363
Версаче Дж. 424
Вертинская А. 151,601,602
Вертинская М. 151
Вертов Д. 101, 268, 333, 339, 476
Вива 322
Вивальди А. 352
Виго Ж. 337-340
Видерхорн К. 123, 130
Визбор Ю. 144,347
Вилкокс Д. 603
Вине Р. 115,324,577,578
Винсент Дж. 109
Висконти Л. 218, 342, 363,418,420
Витгенштейн Л. фон 213-214
Витти М. 148,418
Вицин Г. 525
Войт Д. 322
Войцик А. 638
Володина М. 151
Вонг Кар-вай 491-493
Врублевский А. 698
By Дж. 396
Вуд Н. 355, 356
Вурлих К. 252
Высоцкий В. 144, 535
Вэйтс Т. 393, 499
Гагарин Ю. 344
Газда Я. 680, 684
Гайдай Л. 519-531
Гайдн Ф.-Й. 50
Галеен Г. 324
Галич А. 64,551
Гальперин В. 122,325
Ганс А. 60, 93, 577
Гарбо Г. (Густафсон) 148,
376-378, 383, 399
Гарбоу Т. фон 507, 510
Гаспаров С. 58
Гаффи Б. 624
Геббельс Й. 246, 509
Гегель Г. В. Ф. 54, 317, 666
Гейбл К. 389
Гейнзбур С. 619, 620-621, 624
Геловани М. 239, 389
Гераклит 24
Герасимов М. 346
Герберт Ф. 106, 107
Герман А. 58,61,82,540,542,543,
550-551,552, 553,554, 639
Герштейн Э. 161
Гессе Г. 21
Гесслинг К. 220
Гете И.-В. 142,180
Гидал П. 93
Гиллер Б. 514
Гиллермин Дж. 117,122
Гитлер А. 412, 475-476, 509, 585
Гиш Д. 316
Гиш Л. 316,317
Говорухин С. 58
Гоголь Н. 529
Годар Ж.-Л. 9, 10, 87, 93, 94, 96,
97, 102, 109, 135, 153,211,
243, 251-252, 254, 264, 274,
276, 281,305-310, 320, 347,
351,396, 420, 425,430, 433,
491,599, 628, 653, 656
Гойя Ф. 332
Голдблум Дж. 626
Голдвин С. 313
Голейзовский К. 513
Гончаров А. 529
Горбатов Б. 426
Горбачев М. 182, 290,477,478, 629
Горлов Б. 551
Горький М. 201,483
Гофман Э. фон 69
Гофман Э. Т. А. 114
Гранже Ф. 355
Грант К. 495, 530
Грант X. 487
Гребенщиков Б. (БГ) 11, 13, 14,
15,20-24, 49, 79, 640
Грин А. 601
Грин Г. 378
Гринуэй П. 213,215,302,486
Гриффит Д. У. 91, 92, 218, 269,
302, 305,316-317, 396, 398,
429, 582, 605
Гриффит М. 622
Гроттегер А. 698
Гудини Г. 382
Гуревич А. 74
Гуссерль Э. 89
Густафсон см. Гарбо Г.
Гуэрра Т. 223, 285
Гюго В. 487
Дал Дж. 656
Дали С. 241, 267, 272, 328, 332
Даллесандро Д. 322, 402
Далтон Т. 496
Даль О. 535
Данауэй Ф. 624
795
Указатели
Данелия Г. 57, 230, 232, 233,
366-368,519, 520
Данилов О. 235
Даниэле Б. 617
Данте А. 73,633
Данте Д. 117,132
Дарвин Ч. 387
Дассен Д. 235
Дастэ Ж. 339
Двоскин С. 264, 272
Де Вито Д. 374
Де Ниро Р. 389
Де Пальма Б. 122
Де Сика В. 146
Де Соссюр Ф. 86, 95
Дебижев С. 345
Дебюро Г. Б. 386
Деваэр П. 211,212
Декарт Р. 42, 44
Делез Ж. 404, 407, 409
Деллюк Л. 60, 93, 264, 265-266,
268, 339
Делон А. 418-420
Денби Д. 250
Денев К. 244, 499, 643
Депардье Ж. 211,212
Дере Ж. 420
Дерен М. 264, 272, 285, 412, 413
Дерн Л. 108,112
Джармен Д. 213-214, 215
Джармуш Д. 153, 182, 343,
393-394, 589
Джеггер М. 72
Джексон М. 622
Джиффорд Б. 109
Джонс Т. Л. 375
Джоплин Д. 619
Джордан Н. 215
Дзеффирелли Ф. 277
Ди Лаурентис Д. 106,107,117,198
Диккенс Ч. 317, 429, 485
Дин Дж. 96, 135, 141,355-356,
389, 391,518, 627, 689
Дисней У. 303
Дитерле У. 441, 617
Дитрих М. 376, 499, 512
Добровольский Т. 698-699
Довженко А. 226, 434, 638
Довлатов С. 421, 422
Долинин Д. 474
Долинов М. 161
Дональдсон Р. 249
Донат Р. 531,647
Доннер Р. 126
Доннер Й. 463
Донской М. 226, 638
Достоевский Ф. 112, 201, 202,
283, 342, 433, 548, 589
Дрейер К. Т. 43, 175, 276, 279,
448-464, 589, 591-597
Дроздовский Б. 664
Дуайон Ж. 620,621
Дуй Ж.-Л. 696
Дунаевский И. 98,341,511,554
Дункан А. 610-612,614
Дурбин Д. 389
Дэвидсон Дж. П. 485-486
Дэвис Б. 617
Дюлак Ж. 261,266,267
Дюма А.-ст. 235
Дюшан М. 259-260, 402
Евстигнеев Е. 535-536
Егоров И. 32-33
Ельцин Б. 153,287,290,478
Ермолинский С. 650
Ерофеев Вен. 394, 421,422, 423
Есенин С. 144, 611 -612
Жанна д’Арк 449-452, 597
Жебровский Э. 701
Жегалов А. 241
Жеромский Ст. 668, 675, 679
Жириновский В. 478
Жукровский В. 675
Жулавский А. 663
Закржевская Л. 664, 700
Залуский Р. 663, 701
Заманский В. 550
Занусси Кш. 277,663,664,700-701
Захаров М. 520
Зедльмайр X. 85, 449
Зелиг У.-Н. 603
Земекис Р. 484
Зингер П. 611
Зонтаг С. 453
Зоркая Н. 161
Зощенко М. 522, 529
Иванов Е. 346, 349
Ивашкевич Я. 689, 691, 693, 697
Ильинский И. 350
Ильф И. 347,511,512,522
Инин А. 522
Иоселиани О. 147, 212
Иствуд К. 506
Кавалерович Е. 663
Каверин В. 346
Казан Э. 356
Казанова Дж. 223
Казарес М. 376
Калатозов М. 344, 347, 555
Калужинский 3. 665, 685
Камю А. 320,418,600
Кандинский В. 575
Канудо Р. 174,265
Капра Ф. 322, 393
Караваджо Дж. 213
Каракс Л. 251
Кардинале К. 148
Карлофф Б. 116
Карташов В. 241
Кастл У. 313-315
Кастро Ф. 39
Катаев В. 511
Кауфман Б. 339
Кафка Ф. 128, 240-241, 370, 632
Кегни Дж. 359
Кейдж Дж. 51, 112
Кейдж Н. 109-112,656
Кейн Э. 615
Кейн Б. 373
Кейтель К. 252, 504
Кеннеди Дж. 482, 484, 627
Кеосаян Э. 650
Керри Дж. 303, 375
Кесьлевский К. 433, 472, 491,
493, 663
Кидман Н. 375
Килибаев Б. 60
Килмер В. 375
КингС. 126,130
Кинчев К. 17, 18,25,370
Киров С. 482
Киссинджер Г. 483
Китон Б. 74, 265, 382-386, 523,
524, 528, 605
Китон М. 375
Кларк Б. 123
Клейн М. 88
Клер Р. 605
Климентов Ф. 161
Клинтон Б. 474, 482
Клифт М. 355
Клоуз Р. 126
Клузо А.-Ж. 313,314,618
Кляйн-Рогге Р. 507
Клячинский 3. 679, 694, 700
Кобейн К. 518
Ковалов О. 98, 101 -102, 345, 348,
433-434, 555, 556, 587
Ковик Р. 482
Козаков М. 602
796
Указатель имен
Козинцев Г. 333-336
Козлов Л. 187, 188, 195
Кокто Ж. 112, 113, 176, 274, 281,
302, 376, 570
Кольридж С. Т. 444
Комингор Д. 444
Конвицкий Т. 663
Кондратьев Е. («Дебил») 29, 30,
31,32, 70, 83, 172-176
Коннери Ш. 494, 496
Коновальчук М. 61,369,370
Конрад Дж. 633
Конт О. 89
Конти Т. 499
Кончаловский А. 201,
237-239, 293
Коппола Ф. Ф. 109, 327, 480, 581,
633-634
Коргуев М. 161
Коренев В. 602
Корман Р. 117, 129,479-480
Кортасар X. 142
Кортес Р. 617
Космодемьянская 3. 226, 638
Коссак Ю. 698
Котеас Э. 357, 628
Котельников О. 66, 69, 174
Котеночкин В. 520
Котов В. 79
Котовский Г. 38
Котт Я. 663
Коэн-Cea Ж. 88
Кракауэр 3. 42, 90, 113, 426, 475,
577, 585
Крамаров С. 650
Крамер С. 524
Краузе А. 663
Крейвен В. 117, 131, 132
Кретьен де Тфуа 654
Кречмар Я. 278
Кроненберг Д. 127-128, 626-628
Кроуфорд Д. 313
Круз Т. 426, 474
Круликевич Г. 663
Крылов С. 234, 347
Крэг Э. Г. 611
Крюков Н. 600
Крюкова М. 161
Крючков Н. 341
Кубрик С. 126,391
Кулеша А. 205
Кулешов Л. 268, 333, 448
Кульчара Ф. 162
Кундера М. 73
Кунс Дж. 622
Купер М. К. 116,325,398
Куравлев Л. 529
Курехин С. 11,47-51,78,241,
345, 602
Курихара К. 230
Куросава А. 109,201 -204, 276,
277, 346, 347,413, 500, 589
Кустинская Н. 151
Кусто Ж.-И. 600
Кустов В. 67
Кутяков И. 162
Кушевский С. 663,664,701
Кэролл М. 531
Лавкрафт Г. 373
Лаврова Т. 151
Ладынина М. 225, 239, 341
Лакан Ж. 88
Лакруа Ж. 339
Ламорис А. 145
Ланг Ф. 53, 302, 324, 499, 503,
507-510, 577, 585,595
Ланглуа А. 274-276, 438
Ландсбергис В. 286
Лао-цзы 24
Лебешев П. 514
Леви-Брюль Л. 317
Леви-Стросс К. 31,86,560
Левитан Ю. 554
Левтова М. 372
Леже Ф. 93, 266, 273
Леммле К. 604
Ленартович Ст. 663
Лени П. 115
Ленин (Ульянов) В. 52, 53, 138,
162, 346, 476-477
Леннон Дж. 11, 25, 142, 438,
499, 689
Лео Ж.-П. 243, 320
Леонардо да Винчи 44, 65, 73,
75, 420, 572-573
Леоне С. 201,252,388
Леонов Е. 366, 535
Лесевич В. 665
Лестер Р. 215,524
Лефевр Л. 339
Ли Б. 23
Ли М. 215-217,487
Ливанов И. 362
Линдберг Я. 205
Линдер М. 156, 518, 523, 524
Линкольн А. 317,484
Линч Д. 103-112, 122, 132-133,
153, 238, 390, 391,395,403,
405, 406, 497, 628, 656
Липков А. 676
Литл Ричард 36
Ллойд Г. 303, 350, 382, 383, 386,
523, 525-528
Ломницкий Т. 669
Лопушанский К. 544
Лорен С. 151
Лотвал Л.-О. 279
Лоузи Дж. 486
Лоуч К. 215
Лукас Дж. 112
Лукашевич О. 695, 696
Луков Л. 226
Луначарский А. 525
Лури Дж. 393, 394
Льюис Дж. Л. 112
Льюис X. Г. 117
Лэнгдон Г. 382
Лэндис Дж. 112,130
Люмьеры бр. 52, 172, 277, 352,
386, 387-388,412, 425,427,
430, 568-571,604
Ля Марр Б. 612
Мадонна 252,622
Майер Л. Б. 604
Майзель К. 637
Майклсон А. 26, 61, 268
Майринк Г. 115,373
Макаревич А. 19
Макаров Н. 61,369
Макбейн Э. 201
Макбрайд Дж. 96
Макграт П. 485
Макдональд Дж. 359
Маккамус Т. 358
Маклахлен К. 107, 108
Макларен Н. 94
Маклюэн М. 90,183
Маковецкий С. 362
Малтин Л. 132
Маль Л. 251,396,618
Мальтет Ж. 193
Мальцевы. 162
Мальчевский Я. 698
Малюков А. 640
Мамардашвили М. 589
Мамин Ю. 236, 544
Мамонов П. 25, 372
Мамулян Р. 116,325,581
Мандельштам О. 161
Манкевич Г. 440
Маньяни А. 489
Мао Цзэдун 39, 278, 326, 402, 483
Марецкая В. 225
797
Указатели
Маркс бр. 382, 390
Маркс К. 84,317,326
Маркузе Г. 17, 34, 85, 86, 257,
278, 402
Маркулан Я. 663, 669, 674
Мармонтель Ж. Ф. 653
Марсо М. 304,313
Мартинсон Л. 373
Марченко В. 162
Маршалек Я. 686
Маршалл Г. 623
Маслов В. 153
Маст Дж. 624
Мастроянни М. 200, 212, 418
Матэ Р. 449
Маяковский В. 484
Медведкин А. 302
Мейерхольд Вс. 100, 316
Мейнсфилд Дж. 627
Мекас А. 83, 272
Мекас Й. 83, 272, 398, 409,
412-413,415, 435-438
Мелетинский Е. 90,91,93
Мельес Ж. 52,78,83,87, 193,
265,314, 346, 387-388, 390,
427, 448, 571
Менакер Л. 590
Меньшиков О. 514
Меркьюри Ф. 303
Меррик Дж. 106,133,497
Мертвый (Курмаярцев) А. 29,
66, 67-68, 69,71, 174
Месхиев Д. 345, 347
Метц К. 88, 95, 96
Мидзогути К. 202
Микаэлян С. 231
Миндадзе А. 359-361
Минео С. 355
Миронов А. 535, 639
Митенев К. 69,71
Митри Ж. 88, 195
Митта А. 58
Митчелл Г. 355
Митчелл М. 387
Митчум Р. 380
Мифу не Т. 204, 346
Михалек Б. 662, 663, 664, 667, 672
Михалков Н. 58, 629
Мицкевич А. 465, 668
Молина А. 210
Молчанов В. 478
Монро М. 148,402,439,510,
517,618
Монтан И. 99, 101
Монтес М. 399
Моравиа А. 200
Моргунов Е. 525
Мордюкова Н. 530
Мориссей П. 399
Моро Ж. 151,643
Мородер Дж. 499, 510
Морозов В. 67
Моррис У. 215
Моррисон Дж. 375, 482, 518, 633
Москвина Т. 227, 544
Мотыль В. 58
Моцарт В. А. 26, 51, 305
Мунк А. 663, 665, 666, 667
Мур Р. 496
Мурнау Ф.-В. 115,133,134, 276,
324, 501,510, 578
Мэдсен М. 252
Мэттиз Дж. 516
Мэтьюссон Р. 499
Мюзидора см. Рок Ж.
Науменко М. 24
Наумов В. 229, 536
Негри П. 516
Нико 618
Николс М. 304, 323
Николсон Дж. 374
Николсон Дж. X. 480
Никсон Р. 483-484
Никулин Ю. 525, 536
Нильсен А. 612
Ним Р. 122
Ницше Ф. 68,205,217,501,
611,633
Новиков А. 161
Новиков Т. 32, 46
Нугманов Р. 201,346,347,349
Ньюмен К. 127
Ньютон И. 618
Нюквист С. 460
О’Баннон Д. 130
О’Генри 322,529
Овчаров С. 544
Огородников В. 544, 551
Одзу Я. 182,202
Озеров Ю. 343, 641
Окуджава Б. 13,98
Олейник С. 522
Ольбрыхский Д. 677, 683-685,
694, 695
Оно Й. 438
Ориоль Ж.-Ж. 194
Орлов А. 326
Орлова Л. 225,239,512-513
Ортега-и-Гассет X. 257, 258, 260
Осима Н. 433, 497, 499
Островский А. Н. 650
Охальский А. 687, 700
Пабст Г.-В. 509
Павликовский А. 321
Пазолини П. П. 142, 267, 277,
328, 363-364, 399, 448, 454,
589-590
Пайк Н. Дж. 185
Панов А. («Свин») 25
Панофски Э. 189
Панфилов Г. 230
Папанов А. 535
Парацельс 327
Паркер А. 510,622
Паркер Б. 624
Парло Д. 339
Парсонс Э. 624
Пархоменко А. 38
Пас О. 259, 268, 402
Пасек С. 205
Паттиера Т. 475, 518
Пежемский М. 76, 78, 82, 83, 98,
344, 345, 346, 348, 353, 555
Пекинпа С. 249-250
Пелешян А. 92
Пенн А. 624
Пенн Ш. 622
Перестиани И. 650, 652
Перон Э. 622
Петельские бр. 663, 665
Петров А. 601
Петров Е. 347,511,512,522
Петроний 200
Пивовский М. 663
Пикассо П. 600
Пикуль В. 58
Пикфорд М. 316
Пинтер Г. 486
Писсарро К. 565, 566
Пичул В. 234, 346, 347, 348
Платон 42,90,214,490
Платонов А. 13, 290, 291
Плахов А. 544, 552
По Э. 117, 129,382,479
Поланский Р. 126, 313, 403, 404
Помещиков Е. 341
Портер Э. С. 91
Поспелов П. 82
Прайс В. 314,480
Пресли Э. 17, 109, 198, 355, 375,
393,402,510
Пресняков-мл. В. 241
798
Указатель имен
Приемыхов В. 372
Протазанов Я. 650
Пудовкин Вс. 91,92,269,434
Пфайфер М. 374
Пшибыльский Р. 696
Пшоняк В. 278
Пырьев И. 94,341-342
Пьеха Э. 229
Разумный А. 98, 101, 345, 555
Раими С. 117,123
Рамбова Н. 516,517
Раневская Ф. 535
Рассел Б. 213
Рассел К. 213,215,486
Рассел Т. 485
Рассел Ч. 131,304
Раушенбах Б. 37
Раш Р. 391
Реджио Г. 31
Рей Н. 182,355
Рей С. 276
Рей Ф. 210
Рейган Р. 389, 426, 503
Реймонт С. 691
Рейсц К. 91
Рейтман А. 130
Ремизов А. 548
Ренан Ж. Э. 387
Рене А. 398, 598
Ренуар Ж. 218-220, 244, 274,
277, 326, 448, 573-574,
587, 640
Ренуар О. 218
Рескин Дж. 215
Риветт Ж. 653
Рид Дж. 123
Рид X. 93
Рие С. 324
Рипперт О. 115
Ритт М. 201
Рифеншталь Л. 278, 475
Рихтер Г. 100,268,273,435,
438, 578
Ричардс Д. 380
Робсон М. 122
Рогожкин А. 421 -424, 544, 551,
552, 553
Родригес Р. 646
Розанов В. 283
Рок Ж. 276,612
Ромер Э. 653-654
Ромеро Дж. А. 82,122-123,
126, 130
Роом А. 343, 434
Росс Ф. 117
Росселлини И. 108, 112
Росселлини Р. 220, 276, 363, 438,
489-490
Россиф Ф. 276
Ростоцкий С. 640
Роэг Н. 497, 499
Рубанова И. 662, 666, 671, 677,
678, 683, 696, 697
Рубенс П.-П. 292
Рубинштейн Л. 256
Рут Р. дель 441,617
Руттман В. 32, 93, 188, 189, 268,
572, 578
Рыбкин И. 478
Рыбковский Я. 662, 663
Рябинин П. 161
Рязанов Э. 58, 227, 233-234, 519,
520, 532
Сад Маркиз де 328, 364
Садуль Ж. 87, 91, 264, 378, 382,
449,510, 559, 567,568
Сакалаускас А. 422
Сакамото Р. 499
Самойлова Т. 151
Самосюк 3. 698
Сантана К. 21
Сартр Ж.-П. 21,305,600
Светличная С. 530
Светозаров Д. 60, 546-548
Себерг Д. 310
Селезнева Н. 530
Селзник Д. 609
Сельянов С. 61, 369-370,
433-434, 556
Семенов Ю. 58
Сеннет М. 265, 382, 523
Сент-Джон Н. 501
Сергеев В. 60, 548
Сериков С. («Серп») 67
Серк Д. 642
Сидельников В. 158
Силади А. 475
Сименон Ж. 340
Симон М. 339
Симонов К. 163,226,638
Симонов Н. 602
Синатра Ф. 355
Синьоре С. 101
Ситни П. А. 273
Сичкин Б. 650
Скорсезе М. 204, 277, 304, 405,
433, 499, 500
Скотт Т. 375, 497
Словацкий Ю. 465, 668, 679, 686
Смайт Дж. 122
Смеляков Я. 525
Смирнова Л. 225
Смит Дж. А. 91,567
Смит А. Н. 623
Смоктуновский И. 326, 336,
342, 535
Снежкин С. 544
Соболев Р. 662, 664, 679
Содерберг С. 240, 628
Сокуров А. 58,60,279-284,
285-302,407-409, 478,
553,554, 556, 570, 577,
590-591
Солженицын А. 64
Соловьев С. 70, 73
Солт У. 323
Сомали Даш Гупта 490
Сорокин Вяч. 544
Софокл 257
Спайдер Дж. 628
Спилберг С. 112,127,
406-407, 445
Споттисвуд Р. 506
Спрингстин Б. 506
Сталин И. 52, 53, 162, 163, 239,
389, 426, 475-476, 478, 482,
496,513
Сталлер И. 478,622
Сталлоне С. 380, 505-506
Станиславский К. 12,503,506
Старр Г. 388, 426
Старрет Дж. 126
Стенвик Б. 313
Стено 624
Степун Ф. 281, 590
Стерджес Дж. 201, 347
Стерлинг Ф. 525
Стерн Ст. 355
Стивенсон Р.-Л. 116, 324
Стокер Б. 116, 133, 324, 327, 373
Столяров С. 513
Стоор М. 681
Стоун О. 251,482-484,506
Страсберг Л. 503
Стругацкие бр. 369
Суворов А. 156
Сурков А. 161
Сухоруков В. 629
Сэйр 3. см. Фицджеральд 3.
Таланкин И. 368
Тальберг И. 605
Таннер А. 182
799
Указатели
Тарантино К. 251 -254, 313, 375,
391,394, 395-396, 424, 491,
628, 644-646, 656
Тарковский А. 30, 60, 61, 113,
182, 241,277, 279, 281,
285, 286, 292, 297, 358,
413,434, 532, 577,
590-591
Тейлор Э. 628
Тенант С. 487
Тёплиц Е. 559
Тёплиц К. Т. 680, 699
Тиг Л. 126
Тимофеевский А. 144,225,292
Товстоногов Г. 342
Тодоровский П. 536
Толкин Дж. Р. Р. 20, 23
Толстой А. К. 82
Толстой Л. 213,283,514
Торнаторе Дж. 198
Трауберг Л. 333-336
Трентиньян Ж.-Л. 618
Трофименков М. 349,551
Трюффо Ф. 10, 182, 194, 211,
218, 243-244, 274, 305, 337,
460, 489, 490, 495, 529,
642-643, 653
Тулин И. 596
Туманишвили М. 635
Турнье Ж. 325
Туровская М. 94
Туроев Т. 161
Тшос-Раставецкий А. 701
Тьюлис Д. 215
Тэвис У. 497
Тюрпин Б. 525
Уайз Р. 325
Уайлер У 191,588
Уайльд О. 114, 418, 420
Уайт П. 612
Уильям У. 617
Уильямс К. 612
Уиннер М. 380
Уитмен У. 317
Уитни У. 624
Ульман Л. 537
Ульянов М. 536
Уорнер бр. 604
Уорхол Э. 93, 273, 322, 326,
398-402,414-415,438, 454,
539, 569-570, 591,598
Уотерс Р. 47
Урсуляк С. 235
Уэйл Дж. 116, 132,325,581
Уэллс О. 191,218, 240, 305, 313,
398,413, 439-444,
587-589, 656
Уэлч Р. 151
Уэст М. 615-616
Фальк Ф. 663, 701
Фассбиндер Р. В. 97, 135-137,
277, 497, 500,510, 621
Фаулз Дж. 485
Фейдт К. 578
Феллини Ф. 109, 117, 198-200,
221-224, 304, 305, 363,413,
489,511,539, 598
Феоктистов А. 40, 353
Феррара А. 391,500-504
Филонина А. 161
Фихте И.-Г. 19,667
Фицджеральд 3. 613-615
Фицджеральд Ф. С. 613-615
Фишер Т. 117, 120,326,402
Фишингер О. 94, 268
Флейшер М. 615
Фогель А. 264, 272, 412
Фокс У. 603, 608
Фонда Г. 322, 480
Фонда Дж. 618
Фонда П. 322, 390, 480
Форд А. 662, 663
Форд Дж. 201
Фостер Дж. 389
Франжю Ж. 274
Франк С. 19
Фрей С. 618
Фрейд 3. 121, 166
Френсис Ф. 106
Фридкин У. 126
Фрирз С. 215,433,581
Фриче Г. фон 325
Фрост М. 112
Фрэнсис Дж. см. Китон Б.
Фуллер С. 642
Фульчи Л. 120
Фурманов Д. 155-156, 161, 162,
163, 164
Халс Т. 237, 239
Ханджан А. 357, 358
Хантер X. 628
Хара В. 228
Харлин Р. 131
Хармс Д. 103,241
Харт Дж. 106
Хас В. 663, 665, 666, 677
Хейзинга Й. 258-259
Хейли Б. 17
Хельм Б. 507
Хемингуэй Э. 144, 372
Хеммингс Д. 497
Хендрикс Дж. 36
Хенсон Дж. 499
Херцог В. 133-134, 276, 326,
327,510
Хиндемит П. 36
Хичкок А. 60, 120, 122, 127, 132,
134, 154, 244, 249,315,448,
460-463, 493, 495,
529-531,548, 553, 590, 642,
643, 647-648
Хлебников В. 12
Хоберман Дж. 260
Хопкинс С. 131
Хопкинс Э. 483
Хоппер Д. 108,322,355,356,
390, 480, 633, 656
Хопфингер М. 686
Хотиненко В. 641
Хоукинс Скримин Джей 344, 394
Хоукс Г. 60, 379-380, 493, 588,
642, 656
Хоффман Д. 249-250, 323
Хуан Д. 627
Хупер Т. 117
Хуциев М. 57,347
Хьюстон Дж. 379, 439-444,
617,656
Хэди Л. 485
Хэйуорт Р. 618
Хэмблин Д. 358
Хэммет Д. 252, 379, 440, 616,
617,656
Хюнте О. 507
Цветаева М. 551
Цибульский 3. 141, 320-321,422,
671,674, 676, 677, 678, 683
Цивьян Ю. 189,571
Циркуль (Красев) Ю. 67, 72
Цой В. 13, 19,25,29,518,640
Цукор А. 604
Чамберс М. 626
Чапаев В. 10, 38-40, 43, 61, 95,
155-164, 239, 336, 344, 346
Чаплин Ч. С. 34,220,276,304, 383,
386,511,523, 525, 528,652
Чарльз(принц) 487
Че Гевара Э. 39, 142, 277, 344
Челентано А. 198
Чендлер Р. 252, 379, 656
800
Указатель имен
Черненко М. 661,669,670,674,
675, 678, 679, 688, 689, 690,
692, 692, 700, 701
Черных А. 553
Честертон Г.-К. 519
Чехов А. 283, 284, 408, 591, 646
Чжан Имоу 491
Чиаурели М. 46, 101, 346,476,482
Чиччолина см. Сталлер И.
Чкалов В. 76, 79, 344, 346
Чосер Дж. 364
Чоу Юнг Фат 389, 426
Чурикова И. 366
Чюрленис М. 286, 438
Шаброль К. 243, 305, 653
Шамиссо А. фон 114,582
Шапье А. 699
Шармен Дж. 390
Шарп Д. 123
Шарье Ж. 618
Шахназаров К. 522
Швайгер Т. 646
Швейцер А. 213
Швейцер М. 234, 347, 535
Шевчук Ю. 370, 640
Шейсдак Э. Б. 116,325,398
Шекспир У. 201, 336, 484,
504, 529
Шелли М. 324, 327
Шелли П. Б. 437
Шеллинг Ф. В. Й. 667
Шенберг А. 36
Шепитько Л. 640
Шестов Л. 407
Шимкус Дж. 600
Шин М. 633
Шлезингер Дж. 313, 322-323
Шлендорф Ф. 420, 497
Шлиман Г. 387
Шмыров В. 144
Шоланский К. 205, 208
Шолдер Дж. 131
Шолохов С. 349
Шопен Ф. 610
Шопенгауэр А. 611, 698, 699
Шоу Б. 285, 293
Шпенглер О. 257
Штайнхоф Г. 95
Штрогейм Э. 605
Шуберт Ф. 201,202
Шукшин В. 347
Шумахер Дж. 374-375
Щорс Н. 163,239
Эберхардт К. 684, 689, 696
Эверс Г. 373
Эвилдсен Дж. Г. 505
Эггелинг В. 32, 578
Эгоян А. 357-358, 628
Эдуард VII 87, 388, 427
Эйзенштейн С. 22, 30, 78, 91, 92,
100, 101, 105, 192-195,218,
239, 264, 268, 269, 305,
316-317, 327, 333, 341,346,
398, 427, 434, 483, 512, 574,
582-585, 598, 636, 637, 638
Эйснер Л. 276, 577
Экберг А. 198,200
Эко У. 88, 90, 590
Элиаде М. 90
Энгер К. 72, 262-263
Энджел К. 398
Эпштейн Ж. 32, 60, 93, 265,
266, 340
Эренбург И. 144
Эрли С. С. 270
Эрмлер Ф. 225, 226, 578
Эсхил 12,257
Эшби Х. 313
Юнг К. Г. 171,328
Юриздицкий С. 241
Юрский С. 232, 233, 234
Юсов В. 366
Юткевич С. 276
Юфит Е. («Юфа») 29, 30, 65, 67,
69-72, 77, 80, 82, 152-154,
172-174, 353, 636
Юхананов Б. 33, 82
Якобсон Р. 84,89,261,564
Якубовская В. 662, 663
Ямпольский М. 88, 95, 190, 193,
194, 196, 283, 299, 448, 449,
550, 578, 582, 597
Ян Т. 645
Янгблад Дж. 184-185,273
Янда К. 205
Янковский О. 232
Янчар Т. 682
Ярузельский В. 228
Яцкевич А. 667, 677, 686, 687
801
Указатель фильмов
2000 маньяков (TWo Thousand Maniacs’, 1964) 117
2001: Космическая одиссея (2001: A Space
Odyssey, 1968) 391
39 ступеней (The 39 Steps, 1935) 531, 647-648
400 ударов (Les Quatre cents coups, 1959) 243, 305
45 Г по Фаренгейту (Fahrenheit 45 Г, 1966) 244
8 1/2 (Otto e mezzo, 1963) 221, 305, 413, 539
J. F. K. (1992) 482
Macabre (1958) 314
Mr. Sardonicus (1961) 314
The Doors (1990) 375,482
А зори здесь тихие (1972) 640
Австрийское поле (1991) 553
Автокатастрофа (Crash, 1996) 626-628
Ад в поднебесье (The Towering Inferno, 1974) 122
Аккаттоне (Accattone, 1961) 363
Александр Невский (1938) 584,637
Алиса в городах (Alice in den Stadten, 1973) 180
Алые паруса (1961) 601
Амаркорд (Amarcord, 1973) 223
Американская ночь (La Nuit americaine, 1973) 243-244
Американский оборотень в Лондоне (An American
Werewolf in London, 1981) 130
Анатомия любви (Anatomia mitosci, 1972) 701
Андалузский пес (Un chien andalou, 1928) 66, 145,
261, 267, 272, 328, 332, 339, 344, 571
Анна Каренина (Anna Karenina, 1935) 378, 399
Антракт (Entr’acte, 1924) 267
Антуан и Колетт (Antoine et Colette, 1962) 243
Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now, 1979) 633
Апрель (1961) 147
Апрель (Kwiecien, 1961) 665
Арифметика убийства (1991) 547-548
Арсенал (1929) 434
Асса(1984) 174
Асса(1987) 64,70
Асфальтовые джунгли (Asphalt Jungle, 1950) 656
Аталанта (L’Atalante, 1934) 337, 340
Афганский излом (1991) 640
Афоня (1975) 366
Аэропорт-75 (Airport 75, 1974) 122
Бабушка (Grandmother, 1970) 105
Бабушкин внук (Grandma’s Boy, 1922) 303
Бабушкина лупа (Grandma’s Reading Glass, 1900) 91,567
База мертвых (Baza ludzi umarlych, 1958) 665
Барышни из Вилько (Раппу z Wilka, 1979) 690
Бег (1970) 536
Беглец (The Fugitive, 1993) 375
Бежин луг (1935-1937) 434
Без наркоза (Bez znieczulenia, 1978) 321, 690
Безумие доктора Тюба (La Folie du docteur
Tube, 1915) 93,577
Белое солнце пустыни (1970) 58, 349, 519-520
Белые ночи (Le notti bianche, 1957) 342
Белый зомби (White Zombie, 1932) 122, 325
Белый король, красная королева (1992) 515
Берег (1984) 229
Березняк (Brzezina, 1970) 277, 683, 689-699, 701, 702
Берлин, симфония большого города (Berlin,
Symphonic einer Grossstadt, 1927) 93, 188, 572
Беспечный ездок (Easy Rider, 1969) 322, 390, 480
Бешеная (Rabid, 1977) 626
Бешеные псы (др. назв. Псы взаперти, Reservoir
Dogs, 1992) 251-254, 395-396, 644, 656
Бешеный (др. назв. Взбесившийся, Wsciekty, 1979) 701
Ближний круг (The Inner Circle, 1992) 237-239
Богатая невеста (1938) 341
Божественная женщина (Divine Woman, 1928) 378
Бойня в День Св. Валентина (The St. Valentine’s Day
Massacre, 1967) 480
Большой сон (др. назв. Долгий сон, Глубокий сон,
The Big Sleep, 1946) 656
Бонни и Клайд (Bonnie and Clyde, 1967) 624
Бонни и Клайд по-итальянски (Bonnie е Clyde
all’italiana, 1982) 624
Борсалино (Borsalino, 1970) 420
Борсалино и Компания (Borsalino et Со, 1974) 420
Брат (1997) 629-632,641
Братва (Hard Men, 1997) 644
Братья Карамазовы (1969) 342
Бриг (The Brig, 1964) 437
Бриллиантовая рука (1968) 519, 522, 524, 530
Броненосец «Потемкин» (1925) 99, 218, 246, 305, 316,
349, 389, 426, 427, 434, 449, 574, 582, 584, 637
Бумажные глаза Пришвина (1989) 433, 551,553
Бунтовщик без причины (др. назв. Бунтарь без причины,
Rebel Without a Cause, 1955) 217, 355-356, 391
Бэтмен (Batman, 1966) 373
Бэтмен (Batman, 1989) 373-374
Бэтмен навсегда (Batman Forever, 1995) 373-374
В ночи (Into the Night, 1985) 499
В разгар лета (W srodku lata, 1975) 701
802
Указатель фильмов
В шесть часов вечера после войны (1944) 246
Ваал (Baal, 1969) 497
Валерий Чкалов (1941) 76, 555
Вальсирующие (Les Valseuses, 1974) 211
Вампир (др. назв. Вампир, или Странное приключение
Дэвида фея; Сон Аллана фея; Vampyr, ou I’etrange
aventure d’Allan Gray; Der Traum des Allan
Grey, 1932) 175,284,452,457,463, 577, 595, 597
Вампиры (Les Vampires, 1915) 612
Великая иллюзия (La Grande illusion, 1937) 218, 220,
574, 640
Великий гражданин (1939) 245, 482, 578
Великолепная семерка (The Magnificent
Seven, 1960) 201, 346, 347, 652
Вепри суицида (1988) 30, 71, 75, 80, 152
Веселые ребята (1934) 511
Весна (1947) 75
Весна (1987) 70-71,74-75
Весна на Заречной улице (1956) 75, 98, 145
Вестсайдская история (West Side Story, 1961) 304,
355, 504
Вечерний костюм (др. назв. Вечерний туалет, Tenue
de soiree, 1986) 211
Вечный сон (др. назв. Большой сон, The Big
Sleep, 1978) 380
Взломщик (1987) 544
Видеодром (Videodrome, 1983) 626
Виридиана (Viridiana, 1961) 209, 332
Витгенштейн (Wittgenstein, 1993) 213-214
Вкус хлеба (1979) 60
Власть мертвеца (др. назв. Зловещие мертвецы,
The Evil Dead, 1982) 117, 123
Водный мир (Waterworld, 1995) 300
Возвращение Бэтмена (др. назв. Бэтмен возвращается,
Batman Returns, 1992) 373-374
Возвращение живых мертвецов (The Return
of the Living Dead, 1985) 130
Возвращение живых мертвецов (The Return
of the Living Dead, 1988) 130
Волга-Волга (1938) 511
Волк (Wolf, 1994) 304, 324, 327
Волшебник Страны Оз (The Wizard of Oz, 1939) 304
Ворон (The Raven, 1963) 117
Воспоминание о прошедшем дне (др. назв. Памяти
минувшего дня, Praejusios dienos
atminimui, 1990) 560
Восточнее рая (др. назв. К востоку от рая, East
of Eden, 1955) 356
Восхождение (1977) 640
Восьмой день недели (Osmy dzien tygodnia, 1958) 663
Враг общества (The Public Enemy, 1931) 359
Время быть диким (A fei jingjyuhn, 1991) 493
Время печали еще не пришло (1995) 370, 433
Всё на продажу (Wszystko па sprzedaz, 1969) 141,
205-208, 321, 470, 661, 676-677, 690, 698
Выпускник (The Graduate, 1967) 323
Высокие надежды (High Hopes, 1988) 215
Высота (1957) 145
Газонокосилыцик (The Lawnmower Man, 1992) 303
Гамлет (1964) 336,548,601
Гамма 693 (Gamma 693; др. назв. Night
of the Zombies, 1981) 123
Генерал (The General, 1927) 383, 386
Гибель Японии (1973) 134
Гигант (Giant, 1956) 356
Голдфингер (Goldfinger, 1964) 494
Голем (Der Golem, 1914) 114, 324, 398
Голем, как он пришел в мир (Der Golem,
wie er in die Welt kam, 1920) 113-116, 324, 507
Головокружение (Vertigo, 1958) 460,530
Голод (Hunger, 1983) 497
Голос (1982) 541
Голос Луны (La voce della luna, 1990) 223
Голубая бездна (The Big Blue, 1988) 600
Голубой ангел (Der blaue Engel, 1930) 512
Гомункулус (Homunkulus, l.Teil, 1916) 115
Гомункулус (Homunkulus, 1916) 509
Гонки с дьяволом (Race with the Devil, 1974) 126
Город Зеро (1988) 77
Город страха (Fear City, 1984) 503
Господин оформитель (1988) 49
Гость из Африки (1988) 71
Гражданин Кейн (Citizen Капе, 1941) 205, 218, 305,
313, 413, 439-441, 444-445, 574, 587, 589
Гремлины (Gremlins, 1984) 117, 132,
Гремлины-2 (Gremlins 2: The New Batch, 1990) 132
Греческая смоковница (Griechische
Feigen, 1976) 533
Гробница Лигейи (The Tomb of Ligeia, 1964) 479
Гротеск (The Grotesque, 1995) 485-486
Дантон (Danton, 1982) 465
Два бойца (1943) 226, 638
Два капитана-2 (1992) 345
Двадцать дней без войны (1976) 543
Двенадцать стульев (1971) 520
Двуликая женщина (IWo-faced Woman, 1941) 378
Девушка из банка (др. назв. Преступник и барышня,
Zbrodniarz i panna, 1963) 141
Девять дней одного года (1961) 145
Дело было в Пенькове (1957) 146
Деловые люди (1962) 529
День ангела (1980/ 1988) 369-372,433
День мертвецов (Day of the Dead, 1985) 123
Дерсу Узалa (1975) 204
Дети не должны играть с мертвыми
игрушками (Children Shouldn’t Play with Dead
Things, 1972) 123
Джентльмены удачи (1971) 519
803
Указатели
Джесси Джеймс встречается с дочерью
Франкенштейна (Jesse James Meets
Frankenstein’s Daughter, 1965) 326
Джинджер и Фред (Ginger е Fred, 1985) 223
Джонни-мнемоник (Johnny Mnemonic, 1995) 648
Дик Трейси (Dick Tracy, 1990) 303
Дикарь (The Wild One, 1953) 391
Дикая банда (The Wild Bunch, 1969) 249
Дикие орхидеи (Wild Orchids, 1929) 378
Дикие ангелы (The Wild Angels, 1966) 479
Дикие сердцем (Wild at Heart, 1990) 109-112, 656
Дикий Восток (1993) 201,346,349
Дирижер (Dyrygent, 1979) 465, 676, 690
Дитя Макона (The Baby of Macon, 1993) 215
Дневная красавица (Belle de Jour, 1966) 210
Дни затмения (1988) 64, 292, 296-299
До конца света (Bis ans Ende der Welt, 1991) 179
До свидания, дети (Au Revoir, les enfants, 1986) 251, 396
Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен (1964) 536
Доктор Джекил и Мистер Хайд (Dr. Jekyll
and Mr. Hyde, 1932) 116, 325, 581
Доктор Мабузе, игрок (Dr. Mabuse, der Spieler, 1922) 324
Доктор Ho (Doctor No, 1962) 494, 495
Дом Дракулы (House of Dracula, 1944) 326
Дон Кихот(1957) 336
Дорога (La Strada, 1954) 200, 223
Достучаться до небес (Knocking’ On Heaven’s
Door, 1997) 645
Дочь воды (La Fille de 1’eau, 1924) 220
Дочь Дракулы (Dracula’s Daughter, 1936) 326
Дракула (Dracula, 1931) 116, 325, 326, 391, 581
Дракула (Dracula, 1992) 326, 581
Дракула Энди Уорхола (Andy Warhol’s
Dracula, 1974) 326,402
Дрожь (Tremor, 1974) 626
Духов день (1990) 370, 433
Дуэль (The Duel, 1971) 127
Дьяволица (др. назв. Дьявольские души,
Les Diaboliques, 1954) 313
Дюна (Dune, 1984) 107
Дядя Ваня (1970) 237, 293
Евангелие от Матфея (Il Vangelo secondo
Matteo, 1964) 142,291,363
Европейская история (1984) 230
Еда (Eat, 1963) 398
Жди меня (1943) 226,638
Жертвоприношение (Offret, 1986) 279, 281, 286,
358, 590
Жестокий романс (1984) 343, 650
Жизнь американского пожарного (Life of an American
Fireman, 1903) 91
Жизнь сладка (Life is Sweet, 1990) 215
Жюдекс (Judex, 1916) 388, 612
Жюль и Джим (Jules et Jim, 1962) 244
За пригоршню долларов (Per un pugno
di dollari, 1964) 201
За спичками (1980) 520
Забытые (Los Olvidados, 1950) 332
Завещание доктора Корделье (Le testament
du Dr. Cordelier, 1958) 326
Завороженный (Spellbound, 1945) 121-122
Закат мертвецов (др. назв. Рассвет мертвецов, Dawn
of the Dead, 1979) 123
Замок (1994) 240-241, 370, 632
Замок паутины, или Трон в крови (1957) 201
Замри — умри — воскресни! (1989) 629
Замужество Марии Браун (Die Ehe der Maria
Braun, 1978) 97, 137,621-622
Затерянное шоссе (др. назв. Шоссе в никуда, Lost
Highway, 1997) 628
Затмение (L’eclisse, 1961) 418
Звездные войны (Star Wars, 1977) 10, 60, 106
Здесь кто-то был (1989) 81, 176
Зеленая комната (La Chambre verte, 1978) 244
Землетрясение (Earthquake, 1974) 122
Земля без хлеба (др. назв. Лас Урдес. Земля без хлеба,
Terre sans pain. Las Hurdes, 1932) 332
Земля обетованная (Ziemia obiecana, 1974) 321, 698
Земляничная поляна (Smultronstallet, 1957) 452, 529
Зеркало (1975) 30,58
Зимний вечер в Гаграх (1985) 536
Злые остаются живыми (др. назв. Чем хуже человек,
тем лучше он спит, Warui yatsu hodo yoku
nemuru, 1960) 201,202
Змеиные глаза (др. назв. Опасная игра / Глаза змеи,
Dangerous Game / Snake Eyes, 1993) 501
Золотая карета (La Carrozza d’oro, 1951) 218
Золотой век (Un Siecle d’or, 1930) 332
Золотой глаз (Golden Eye, 1995) 494, 496
Золотой теленок (1968) 234, 346, 535
И Бог создал женщину... (Et Dieu... сгёа
la femme, 1956) 618
И корабль плывет... (др. назв. И корабль идет,
Е la nave va..., 1983) 221-224
И стал свет... (Et La lumiere fut, 1989) 212
Иван Васильевич меняет профессию (1973) 520, 522,
525, 529
Иван Грозный (1944-1945 / 1958) 316, 317, 529
Иваново детство (1962) 145
Игла (1988) 310
Игры плача (др. назв. Возмутительная игра,
The Crying Game, 1992) 208, 215
Иди и смотри (1985) 74, 226, 246, 636, 639
Идиот (1951) 201
Из России с любовью (From Russia with Love, 1963) 495
804
Указатель фильмов
Иллюминация (Iluminacja, 1973) 701
Имя: Кармен (Prenom: Carmen, 1982) 264
Индиана Джонс (Indiana Jones and the Last
Crusade, 1989) 494
Индустриальная симфония № 1 (Industrial
Symphony No. 1, 1990) 112
Инкогнито из Петербурга (1977) 520
Интервью (Intervista, 1986) 223
Искатели приключений (Les Aventuries, 1967) 600
Искусительница (The Temptress, 1926) 378
Истина (La Verite, 1960) 618
История Бастера Китона (The Buster Keaton
Story, 1957) 383
История Бонни Паркер (The Bonnie Parker
Story, 1958) 624
Истребители привидений (др. назв. Охотники
за привидениями, Ghost Busters, 1984) 130
Итальянец в Варшаве (др. назв. Джузеппе в Варшаве,
Giuseppe w Warszawie, 1964) 141
Июльский дождь (1966) 144
К северу через северо-запад (North
by Northwest, 1959) 495, 530
Кабинет доктора Калигари (Das Cabinet
des Dr. Caligari, 1919) 113,115, 302, 324, 507,
576-578
Кавалер Золотой Звезды (1950) 482
Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика (1966) 519, 522, 524, 529
Кавказский пленник (1996) 514-515, 629, 635, 640
Казанова Феллини (Il Casanova di Fellini, 1976) 221
Как быть любимой (Jak bye kochana, 1962) 677
Как жиголо (Schoner Gigolo, armer Gigolo, 1978) 497
Календарь (Calendar, 1993) 357
Камень (1992) 282-284, 302, 407, 408
Канал (Kanab 1956) 320, 321,465, 470, 665, 666,
670-671,681,682
Караул (1989) 422,551-553
Карманные деньги (L’Argent de poche, 1976) 244
Касабланка (Casablanca, 1943) 387
Катала (1989) 60,515
Кафка (Kafka, 1991) 240
Квартальный баланс (Bilans kwartalny, 1975) 701
Кинг Конг (King Kong, 1933) 116, 117, 129, 134,
398, 608
Кинг Конг (King Kong, 1976) 134
Кинг Конг жив (King Kong, 1977) 134
Кин-дза-дза (1986) 368
Кинотеатр «Парадизо» (Nuovo cinema
Paradiso, 1988) 198
Китаянка (China Girl, 1987) 504
Клеопатра (Cleopatra, 1963) 151
Клещ (1990) 60
Клятва (1946) 46, 482
Колодец и маятник (The Pit and the Pendulum, 1961) 480
Колыбельная (1937) 476
Кома (1989) 551
Коматозники (др. назв. Клинически умершие,
Flatliners, 1990) 374
Коммунист (1957) 245
Композитор Глинка (1952) 482
Королева Кристина (Queen Christina, 1934) 378
Король Лир (1970) 333, 336
Король Лир (King Lear, 1987) 396
Король Нью-Йорка (King of New York, 1990) 501, 503
Кошмар на Улице Вязов (A Nightmare on Elm
Street, 1984) 131,229
Кошмар на улице Вязов-3 (A Nightmare on Elm
Street 3: Dream Warriors, 1987) 304
Красавчик Серж (Le Beau Serge, 1958) 305
Красная борода (Akahige, 1965) 201, 202
Красная палатка (1969) 494
Красные дьяволята (1923) 343, 650-652
Красный гаолян (Hong gaoliang, 1988) 31
Красный шар (Le Ballon rouge, 1956) 145
Крест за отвагу (Krzyz Walecznych, 1958) 665, 666
Крестный отец (The Godfather, 1972) 107, 480
Криминальное чтиво (др. назв. Бульварное чтиво, Pulp
Fiction, 1994) 251, 252, 395, 424, 472, 644
Кровь и песок (Blood and Sand, 1922) 517
Круг второй (1990) 283, 284, 292, 297-302, 407
Кубанские казаки (1949) 341 -342
Кулачное право свободы (Faustrecht
der Freiheit, 1975) 137
Лабиринт (Labyrinth, 1986) 499
Леди из Шанхая (The Lady from Shanghai, 1948) 656
Ленинград. Ноябрь (1990) 182
Ленины мужчины (1988) 176
Леопард (Il Gattopardo, 1962) 418
Лесоруб (1985) 69,70
Лётна (Lotna, 1959) 320, 665, 675, 681, 687, 698
Лето с Моникой (Sommaren med Monica, 1953) 463
Летят журавли (1957) 347
Лили Марлен (Lili Marleen, 1978) 135
Лимита (1994) 360
Лихорадка субботним вечером (др. назв. Лихорадка
в субботу вечером, Saturday Night
Fever, 1977) 304
Лобзание (др. назв. Поцелуй, Kiss, 1929) 378
Ложное движение (Falsche Bewegung, 1974) 180
Лола (Lola, 1981) 97
Любовники Марии (Maria’s Lovers, 1983) 237, 293
Любовь двадцатилетних (др. назв. Любовь в 20 лет,
L’Amour a vingt ans, 1962) 320, 673, 674,
675, 678
Любовь Свана (Un Amour de Swann, 1984) 420
Любовь холоднее смерти (Liebe ist kalter
alsderTod, 1969) 135
Людвиг (Ludwig, 1972) 420
805
Указатели
Люцифер восставший (др. назв. Люцифер восходит,
Lucifer Rising, 1968) 262
М (др. назв. Убийца; Город ищет убийцу; М; Eine Stadt
sucht einen Morder, 1931) 503
M. Баттерфляй (M. Butterfly, 1993) 628
M. E. (1986) 350
Маленькая Вера (1988) 552
Маленький магазинчик ужасов (The Little Shop
of Horrors, 1960) 480
Мальтийский сокол (The Maltese Falcon, 1941) 379,
439-445,617, 656
Мария (1978-1988) 282
Марсельеза (La Marseillaise, 1938) 220
Маска (The Mask, 1994) 303-304, 375
Маска красной смерти (The Masque
of the Red Death, 1964) 117, 479
Мать (1926) 434
Мелкая могила (др. название Неглубокая могила,
Shallow Grave, 1994) 487
Мессия (Il Messia, 1978) 490
Метрополис (Metropolis, 1926) 53, 302, 499, 507-510,
585,637
Механический балет (Ballet Mecanique, 1925) 93, 266
Мечты идиота (1993) 234, 346, 348
Миллион лет до нашей эры (One Million
Years В. С., 1966) 151
Милый, дорогой, любимый, единственный... (1985) 541
Мимино (1977) 230, 232, 233, 366
Мисс 45-й калибр / Ангел мщения (Angel
of Vengeance / Ms. 45, 1987) 503
Миф о Леониде (1991) 474
Моби Дик (Moby Dick, 1956) 439
Мой друг Иван Лапшин (1984) 74, 543, 550, 639
Молодой раджа (The Young Rajah, 1922) 517
Молодой Франкенштейн (Young
Frankenstein, 1974) 130,326
Молчание (lystnaden, 1963) 537, 539
Москва слезам не верит (1979) 245-246
Московская элегия (1986) 285, 292
Мочебуйцы-труполовы (1987) 71,75, 152
Мошенничество (Il Bidone, 1955) 200
Мужество (1988) 71
Мурашка (The Tingler, 1959) 314, 315
Мусор (Trash, 1969) 402
Мусоргский (1950) 482
Мусульманин (1995) 641
Муха (The Fly, 1986) 127-128, 626, 628
Мы из джаза (1983) 536
Мыс страха (Cape Fear, 1992) 359, 405
Мэри Рейли (Магу Reilly, 1996) 581
На дне (1957) 201
На последнем дыхании (A Bout de souffle, 1959) 96,
217, 274, 310, 320, 346, 420, 599, 656
На последнем дыхании (Breathless, 1983) 96
На ярком солнце (Plein soleil, 1960) 418
Наваждение (1965) 528, 531
Навигатор (The Navigator, 1924) 383, 386
Над темной водой (1993) 346, 348
Надругательство (The Outrage, 1964) 201
Назарин (Nazarin, 1958) 209, 332
Нанайнана (1986) 70,174
Настасья Филипповна (1958) 342
Настоящая любовь (True Romance, 1993) 375
Наступающие тигру на хвост (др. назв. Мужчины,
идущие по следу тигра, Тога по о wo fumu
otokotachi, 1945) 201
Настя (1993) 366,368
Не горюй! (1969) 368
Не может быть! (1975) 522, 529
Небеса обетованные (1991) 233
Небо над Берлином (Der Himmel uber Berlin, 1987) 180,
182, 357
Невероятно увеличивающаяся голова (L’Homme
a la tete еп caoutchouc, 1901) 571
Невеста Франкенштейна (The Bride
of Frankenstein, 1935) 326
Невинные чародеи (Niewinni czarodzieje, 1960) 673
Нежная кожа (La Peau douce, 1964) 244
Нейтральные воды (1968) 173
Необычайные приключения мистера Веста в стране
большевиков (1924) 230
Непрофессионалы (1985) 515
Нетерпимость (Intolerance, 1916) 92, 269, 316, 317,
582, 608
Неуловимые мстители (1966) 58, 78, 343, 650-652
Нибелунги (Die Nibelungen, 1924) 585
Никогда (1962) 536
Никогда не говори «никогда» (Never Say Never
Again, 1983) 494
Никотин (1993) 310, 346, 347, 348, 349
Никсон (Nixon, 1995) 482-484
Ник-фильм. Молния над водой (Lightning over
Water, 1980) 182
Новобрачная была в черном (La Mariee etait
en noir, 1967) 244, 642
Новая Москва (1938) 302
Новый Вавилон (1929) 336
Ноль за поведение (Zero de conduite, 1933) 337, 339
Ностальгия (1983) 232
Носферату - симфония ужаса (др. назв. Вампир
Носферату, Nosferatu, eine Symphonic des
Grauens, 1922) 113,115,116,276, 324,501,578
Носферату, призрак ночи (Nosferatu: Phantom
der Nacht, 1979) 133,326,327
Ночи Кабирии (Le Notti di Cabiria, 1957) 198, 200,
223, 363
Ночь живых мертвецов (Night of the Living
Dead, 1968) 122, 154
806
Указатель фильмов
Обнаженный (др. назв. Беззащитный,
Naked, 1993) 215-217
Оборотная сторона ветра (The Other Side
of the Wind, 1972) 439
Образование кино. Горизонтальный
примитивизм (1988) 174
Овечий сыр (Laviamoci il cervello, 1963) 363
Огонь в природе (1988) 176
Одержимый убийством (Homicidal, 1961) 314, 315
Одинокий голос человека (1978 / 1987) 281, 290, 291,
297, 299
Одиночное плавание (1985) 635
Однажды в Америке (Once upon a Time
in America, 1983) 359,533
Окно в Париж (1993) 236
Окно во двор (Rear Window, 1954) 460, 548
Окраина (1933) 434, 635
Омен (The Omen, 1976) 126
Он стоит в пустыне (Не Stands in a Desert, 1985) 438
Она защищает Родину (1943) 225-226, 246
Опасно для жизни (1985) 528
Опасные приключения Полины (The Perils
of Pauline, 1914) 612
Операция Ы и другие приключения
Шурика (1965) 519, 520, 525, 528, 529
Опоздавшие на паром (De naede faergen, 1948) 454-457,
459, 463,589, 591
Оружие деревьев (Guns of the Trees, 1961) 437
Орфей (Orphee, 1949) 376
Освобождение (1968-1971) 57, 233, 245, 343
Осенний марафон (1979) 366,368
Осенняя соната (Hostsonaten, 1978) 539
Оскар (Oscar, 1967) 506
Основной инстинкт (Basic Instinct, 1992) 487
Особенности национальной охоты (1995) 421,423-424
Остановился поезд (1982) 361
Остатки (Shanks, 1974) 313
Охота на мух (Polowanie па muchy, 1969) 674, 675,
676, 680, 685,688, 691
Пагубная привычка (The Addiction, 1995) 501
Падение (др. назв. С меня хватит, Falling
Down, 1993) 374
Падение Берлина (1949) 245, 343, 476, 482
Пайза (Paisa, 1946) 489,490
Палач (1990) 548-549
Папа, умер Дед Мороз (1991) 152-154
Парад ужасов (Creepshow, 1982) 130
Парень из нашего города (1942) 389
Париж глазами... (Paris vu par..., 1965) 653
Париж, Техас (Paris, Tеxas, 1984) 179, 180, 415, 416,
454, 539, 599
Парижанка (A Woman of Paris, 1923) 34
Партийный билет (1936) 638
Паспорт (1990) 232-233, 368
Пацаны (1983) 541
Пейзаж после битвы (Krajobraz ро bitwie, 1970) 277,
470, 673, 676-689, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
700, 702
Пепел (Popioly, 1965) 277, 465, 470, 675, 683, 698
Пепел времени (Ashes of Time, 1994) 493
Пепел и алмаз (Popiol i diament, 1958) 96, 141, 277,
320, 321, 389, 465, 470, 656, 666, 670, 671-672,
675, 676, 678, 679, 680, 681, 687
Переход товарища Чкалова через Северный
полюс (1990) 49, 76, 83, 98, 344, 555
Персона (Persona, 1966) 179, 284, 414, 416, 452-453,
454, 464, 537-539, 591,599
Перстень с орлом в короне (Pierscionek z ortem
w koronie, 1993) 320, 470
Пес Барбос и необычный кросс (1961) 522, 524, 525
Песни под дождем (др. назв. Поющие под дождем,
Singin’ in the Rain, 1952) 304
Печальные моменты (Bleak Moments, 1971) 215
Пилат и другие (Pilatus und andere, 1971) 277-278, 689
Пираты XX века (1979) 635
Пиры Валтасара (1989) 478
Пленники удачи (1993) 346,347
Плоть и дьявол (Flesh and the Devil, 1927) 378
Плохой лейтенант (Bad Lieutenant, 1992) 504
Плюмбум, или Опасная игра (1986) 361
По поводу Ниццы (A Propos de Nice, 1929) 339
Побег (The Getaway, 1972) 249, 250
Повакацци (Powaqqatsi, 1988) 31
Подземка (Subway, 1985) 310
Поездка в Италию (Viaggio in Italia, 1954) 490
Поймать вора (То Catch a Thief, 1955) 460
Покаяние (1984 / 1987) 205
Поколение (Pokolenie, 1955) 320, 321, 465, 470, 666,
669, 670, 671,675, 682
Политый поливальщик (L’arroseur arrose, 1895) 107
Полиция (Police, 1916) 386
Положение вещей (Der Stand der Dinge, 1982) 182
Полуденные ловушки (Meshes
of the Afternoon, 1943) 272
Полуночный ковбой (Midnight Cowboy, 1969) 322-323
Порох (1985) 543
После работы (After Hours, 1985) 304
Последнее искушение Христа (The Last Temptation
of Christ, 1988) 499
Последнее метро (Le Dernier metro, 1980) 244
Последнее танго в Париже (Ultimo tango
a Parigi, 1972) 243
Последний дом слева (Last House
on the Left, 1974) 117
Последний дюйм (1959) 600
Посторонний (Lo Straniero, 1967) 418
Постполитическое кино (1988) 27, 80
Похитители тел (Body Snatchers, 1993) 503
Похищение «Савойи» (1979) 635
807
Указатели
Похороны крыс Брэма Стокера (Bram Stoker’s Burial
of the Rats, 1994) 479
Правила игры (La Regie du jeu, 1939) 218, 220, 274,
448, 574
Пражский студент (Der Student von Prag, 1913) 114,
116, 324, 582
Пражский студент (Der Student von Prag, 1926) 114, 116
Предсказание (1993) 233
Прекрасная Нивернеза (La Belle
Nivernaise, 1923) 339-340
Преступление княжны Ширванской (1926) 652
Прибытие поезда на станцию Сьота (L’Arrivee
d’un train en gare de La Ciotat, 1895) 386, 571
Приговоренный (Skazany, 1975) 701
Приготовьте носовые платки (Preparez
vos mouchoirs, 1978) 211
Призрак свободы (Le Fantome de la liberte, 1974) 209,332
Призрак Франкенштейна (The Ghost
of Frankenstein, 1942) 326
Приключение «Посейдона» (The Poseidon
Adventure, 1972) 122
Прирожденные убийцы (Natural Born Killers, 1994) 251
Причастие (Nattvardsgasterna, 1963) 458-459, 589,
595, 596
Пришпиленный капрал (Le Caporal epingle, 1962) 220
Проверка на дорогах (др. назв. Операция «С Новым
годом», 1971 / 1985) 543, 550
Проверяющий (The Adjuster, 1991) 357
Прорва (1992) 360
Простая элегия (1990) 286,290
П ростой случай (1931) 269
Процесс (The Trial, 1962) 240
Прощай, моя любимая (др. назв. Прощай, моя
красавица, Farewell, Му Lovely, 1975) 380
Психо (Psycho, 1960) 121, 122, 313, 463, 548
Психомания (Psychomania, 1971) 123
Псы (1989) 546-547
Птицы (The Birds, 1963) 127
Путешествие (The Trip, 1967) 479
Пьеса для пассажира (1995) 359-362
Пьяный ангел (Yoidore tenshi, 1948) 201
Радуга (1943) 226,638
Рай и ад (Tengoku to Jigoku, 1963) 201
Раковина и священник (La Coquille
et le clergyman, 1928) 267
Ран (др. назв. Смута, Ran, 1985) 201, 204
Расемон (Rashomon, 1950) 201,205
Расчленение по-техасски при помощи механической
пилы (др. назв. Техасская резня бензопилой,
The Texas Chainsaw Massacre, 1974) 117
Ребекка (Rebecca, 1940) 460
Ребенок Розмари (Rosemary’s Baby, 1968) 126, 313,403
Ред Рок Вест (др. назв. К западу от Красной скалы,
Red Rock West, 1992) 656
Рейс-222 (1985) 231
Репетиция оркестра (Prova d’orchestra, 1979) 221
Рим - открытый город (Roma, citta aperta, 1945) 489,490
Ричард III (Richard III, 1955) 484
РоГоПаГ (RoGoPaG, 1963) 363
Рождение нации (The Birth of a Nation, 1915) 305,
316,317, 605
Рожденный 4-го июля (Born on the Fourth
of July, 1988) 482
Рок всю ночь (Rock All Night, 1957) 480
Рокки (Rocky, 1976) 505
Рокки Xoppop (Rocky Horror Picture Show, 1975) 390
Рокко и его братья (Rocco е i suoi fratelli, 1960) 418
Романс о влюбленных (1974) 235, 237
Рукопись, найденная в Сарагосе (Rqkopis znaleziony
w Saragossie, 1965) 141
Русская идея (1995) 433-434
Русский вопрос (1947) 230
Русский регтайм (1993) 235,360
Рыцари поднебесья (1989) 71, 72, 74, 77, 82, 152
Рэмбо-1 (др. назв. Первая кровь, First Blood, 1982) 505
Рэмбо-2 (др. назв. Рэмбо: Первая кровь. Часть II,
Rambo: First Blood Part II, 1986) 389, 426
Рэмбо-3 (Rambo III, 1988) 506
С течением времени (Im Lauf der Zeit, 1976) 180
С. В.Д.(1927) 336
Сага о женщинах-викингах и их путешествии
по водам Великого Морского Змея (The Saga
of the Viking Women and Their Voyage
to the Waters of the Great Sea Serpent, 1957) 480
Сады скорпиона (1991) 98-100, 345, 348, 555,556
Сало, или 120 дней Содома (Salo о le 120 giornate
di Sodoma, 1975) 364
Самогонщики (1961) 522, 525
Самсон (Samson, 1961) 470, 672-673, 688, 692
Санитары-оборотни (1984) 70,74, 152
Санта-Барбара (1984-1992) 534, 563
Сатана встретил леди (Satan Met a Lady, 1936) 441, 617
Сатирикон Феллини (Fellini Satyricon, 1969) 200,
221,223
Сбежавший поезд (др. назв. Убежавший поезд,
Поезд-беглец, Runaway Train, 1985) 201, 237
Свадебный марш (The Wedding March, 1928) 605
Светлый путь (1940) 511
Секретарь райкома (1942) 226, 638
Секс, ложь и видео (Sex, Lies and Videotape, 1989) 628
Семейная жизнь (Zycie rodzinne, 1970) 701
Семейный очаг (Domicile Conjugal, 1970) 243
Семнадцать мгновений весны (1973) 535
Семь самураев (Shichinin no samurai, 1954) 201, 346
Сервировка-рокировка (1988) 350
Сережа (1960) 368
Сибириада (1978) 237
Симеон-столпник (Simon del Desierto, 1965) 332
808
Указатель фильмов
Синий бархат (Blue Velvet, 1986) 107-108, 109, 112,
132, 133, 304, 390, 656
Сирена с «Миссисипи» (La Sirene
du Mississipi 1969) 244, 643
Сияние (The Shining, 1980) 126
Скалолаз (Cliffhanger, 1993) 506
Скорбное бесчувствие (1983 / 1987) 292-293, 299
Скорость (Speed, 1994) 390
Скорпион восставший (Scorpio Rising, 1964) 262
Скромное обаяние буржуазии (Le Charme discret
de la bourgeoisie, 1972) 209, 332
Сладкая жизнь (La Dolce vita, 1959) 198-200, 221,
223, 224
Слезы капали (1982) 366
Слишком красивая для тебя (TYop belle pour
toi, 1989) 211
Слово (Ordet, 1955) 457, 597
Сломанные побеги (Broken Blossoms, 1919) 317
Слуга (The Servant, 1963) 486
Случай с ефрейтором Кочетковым (1955) 98, 99,
101,345
Сны (Yume, 1990) 201,204
Советская элегия (1989) 287, 478
Совсем пропащий (1973) 368
Сокровища пылающих скал (1969) 635
Солдаты свободы (1977) 60
Соломенные псы (Straw Dogs, 1971) 249-250
Сон (Sleep, 1963) 398
Соседка (La Femme d’a cote, 1981) 244
Спаси и сохрани (1989) 282, 287, 298, 299, 407
Спортлото-82 (1982) 528
Сталкер (1979) 279, 434
Старики-разбойники (1971) 536
Старшина Калень (др. назв. Сержант Калень,
Ogniomistrz Kalen, 1961) 665
Стачка (1925) 584,636
Стирательная головка (др. назв. Голова-ластик,
Eraserhead, 1977) 105-106,133,391
Сто дней после детства (1975) 64
Стой, или моя мама будет стрелять (Stop!
Or my Mom will Shoot, 1992) 506
Странная история доктора Джекила и мистера
Хайда (1986) 326
Страннее рая (Stranger than Paradise, 1984) 393
Страсти Жанны д’Арк (La Passion de Jeanne
d’Arc, 1927) 449
Страстная неделя (Wielki lydzien, 1995) 470
Стратегия паука (Strategia del ragno, 1970) 490
Стреляйте в пианиста (Tirez sur
le pianiste, 1960) 244, 642
Стрижка (Haircut, 1963) 398
Стриптизерка (др. назв. Шоугелз, Showgirls, 1995) 487
Стромболи - земля Божья (Stromboli, terra
di Dio, 1950) 363,490
Структура кристалла (Struktura krysztalu, 1969) 701
Сцены из супружеской жизни (Scener
ur ett aktenskap, 1974) 539
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс (Merry
Christmas, Mr. Lawrence, 1983) 497
Счастливые дни (1991) 240, 629, 632
Сын Дракулы (Son of Dracula, 1943) 326
Сын Франкенштейна (Son of Frankenstein, 1939) 326
СЭР - Свобода это рай (1989) 515
Таинственная женщина (A Woman of Affairs, 1929) 378
Тайны Нью-Йорка (др. назв. Подвиги Элен,
The Exploits of Elain, 1915) 612
Тайны одной души (Geheimnisse einer Seele, 1926) 509
Такси-блюз (1990) 372, 629
Таксист (Taxi Driver, 1976) 389
Танго и Кэш (Thngo & Cash, 1989) 237, 506
Твин Пикс (др. назв. Двойные вершины, Twin
Peaks, 1990-1991) 112, 403, 656
Твин Пикс: Огонь, иди за мной (Twin Peaks: Fire Walk
with Me, 1992) 499
Творческий поиск Бориса Кошелохова (1988) 176
Тегеран-43 (1980) 229
Телохранитель (др. назв. Юджимбо,
Yojimbo, 1961) 201,500
Тема (1979, 1986) 230
Тень воина (Kagemusha, 1980) 201, 204
Терминатор (The Terminator, 1984) 427
Тетка Чарлея (Charleys Tante, 1956) 217
Тихие страницы (1993) 302, 407
Токио-Га (Tokyo-Ga, 1985) 182
Торпедоносцы (1983) 543
Тоска Вероники Фосс (Die Sehnsucht der Veronika
Voss, 1981) 97,135
Трагедия в стиле рок (1988) 49
Трагедия века (1993-1994) 641
Трактора (1987) 27
Трактористы (1939) 344, 426
Трактористы-2 (1992) 176
Трамвай «Желание» (A Streetcar Named
Desire, 1951) 389
Три цвета: Красный (Trois couleurs: Rouge, 1994) 472
Три шага в бреду (др. назв. Необыкновенные истории,
Tre passi nel delirio, 1968) 479
Три эпохи (Three Ages, 1923) 383
Тридцать три (1965) 366
Тристана (Tristana, 1970) 332
Триумф воли (Triumph des Willens, 1935) 278, 475
Труд и голод (др. назв. Работа и голод, 1985) 70, 174
Трюкач (The Stunt Man, 1980) 391
Тупые губы (1988) 71
Tы у меня одна (1993) 235
Тюряга (Lock Up, 1989) 506
Убийца-сверлильщик (др. назв. Убийца с электродрелью,
Driller Killer, 1979) 501,503, 504
809
Указатели
Удачное замужество (Le beau mariage, 1981) 654
Уик-энд (Week-End, 1967) 396, 628
Украденные поцелуи (Baisers voles, 1968) 243, 274
Укрывающее небо (др. назв. Под покровом небес,
The Sheltering Sky, 1990) 212
Унесенные ветром (Gone with
the Wind, 1939) 304,609
Ускользающая любовь (др. назв. Любовь-беглянка,
L’Amour en fuite, 1979) 243
Утомленные солнцем (1994) 629
Фанни и Александр (Fanny och Alexander, 1983) 464,539
Фантазии Фарятьева(1979) 541
Фантомас (Fantomas, 1964) 494
Фараон (Faraon, 1965) 151
Фотоувеличение (др. назв. Блоу-ап, Blow Up, 1967) 619
Франкенштейн (Frankenstein, 1931) 116, 132, 325,
326, 581
Франкенштейн (Frankenstein, 1994) 326, 581
Франкенштейн встречает человека-волка (Frankenstein
Meets the Wolf Man, 1943) 326
Франкенштейн Энди Уорхола (Andy Warhol’s
Frankenstein, 1974) 402
Холодные закуски (Buffet froid, 1979) 211
Цирк (1936) 229, 230, 511-513
Чапаев (1934) 38, 155-171
Частная жизнь (Vie privee, 1962) 618
Частный детектив (др. назв. Частный детектив,
или Операция «Кооперация», 1989) 523, 528
Чекист (1991) 423,552
Человек из... (Cztowiek z, 1993) 205-208
Человек из железа (Cztowiek z zelaza, 1980) 205, 208,
321,465,494
Человек из мрамора (Cztowiek z marmuru, 1977) 205
Человек как последнее убежище города (1987) 71
Человек с икс-лучевым зрением (др. назв.
Человек с рентгеновскими глазами,
The Man with the X-Ray Eyes, 1963) 480
Человек, который знал слишком много (The Man Who
Knew Too Much, 1956) 529, 648
Человек, который упал на землю (The Man Who Fell
to Earth, 1976) 497
Человек-амфибия (1962) 600-602
Человек-волк (The Wolf Man, 1941) 325
Человек-слон (The Elephant Man, 1980) 106, 108, 133
Челюсти (The Jaws, 1975) 75, 82, 127, 134
Черная роза — эмблема печали, красная роза -
эмблема любви (1989) 64, 478
Чернов / Chernov (1990) 232-233
Четыре всадника апокалипсиса (The Four Horsemen
of the Apocalypse, 1921) 516
Член правительства (1940) 245
Что видно в телескоп? (As Seen Through
a Telescope, 1900) 567
Чувство (Senso, 1954) 363
Чудище черной лагуны (Creature from the Black
Lagoon, 1954) 602
Чужестранец (The Stranger, 1946) 439
Чунгкин экспресс (др. назв. Чунгкингский экспресс,
Chongqing Senlin, 1994) 491-493
Шанхайская триада (1995) 491
Шейх (The Sheik, 1921) 517
Шепоты и крики (Viskningar och Rop, 1972) 539
Шереметьево-2 (1990) 231
Шерлок-младший (Sherlock Junior, 1924) 386
Шестое июля (1968) 138
Шинель (1926) 336
Шокер (др. назв. Бандит, Shocker, 1989) 132
Шоковые волны (Shock Waves, 1977) 123
Шпион, который меня любил (The Spy Who
Loved Me, 1977) 495
Штайнер - железный крест (Steiner - Cross
of Iron,1976) 249
Щорс (1939) 38,163
Эд Вуд (Ed Wood, 1994) 391
Экзорсист (The Exorcist, 1973) 126
Экзотика (Exotica, 1990) 487, 628
Эмпайр Стейт Билдинг (др. назв. Небоскреб, Empire State
Building, 1964) 398, 399,414,454,539,569,598
Эроика (Eroica, 1957) 665,666
Это сладкое слово - свобода! (1972) 228
Этот безумный, безумный, безумный, безумный
мир (It’s a Mad Mad Mad Mad World, 1963) 524
Этот смутный объект желания (Cet obscur objet
du desir, 1977) 209,332
Юность Максима (1935) 336
Юрский парк (др. назв. Парк Юрского периода,
Jurassic Park, 1993) 303, 406
Я - русский солдат (1995) 640
Я люблю человека в униформе (I Love the Man
in Uniform, 1993) 357
Я хотела увидеть ангелов (1992) 515
Я шагаю по Москве (1964) 310, 366, 368
Я, дебил, забыл... (1986) 175-176
Я, сумасшедший (I, Madman, 1989) 132
810
Предметный указатель
Абсурд, абсурдизм 122, 240, 421 -423
Абсолютное кино 398, 539
Авангард 27, 32, 37, 46, 56, 85, 93-94, 105, 145, 186,
246, 255-273, 399, 412-413 427, 433, 435, 449, 597
Автор 9, 26, 71, 176, 237, 243-244, 279-281, 369-372,
540-556, 632
Авторское и массовое 57, 58, 60-64, 93, 255, 265, 269,
374, 480, 545, 560, 653
Английское кино 215,485
Андеграунд (подполье) 15, 26, 47, 70, 72, 80-83,
172-174, 185-186, 255-257, 264, 270-271,272,
352-353,412-413
Артхаус (авторское кино) 60-61, 185, 196, 279, 360,
408, 413, 422, 424, 491, 505, 529, 540-556, 573,
588, 632, 639
Батальная кинотрадиция («военный» фильм) 57,
514-515, 633, 638-641, 671, 673, 691
Большой стиль 56, 57, 76, 98, 101, 135, 151, 225, 246,
255, 269, 336, 342, 482, 541, 585, 638
Бульварное чтиво (pulp fiction) 58, 112, 251-254, 263,
313, 563, 604,612
Бюджет в кино 117,313, 322, 479-480, 491, 507,
605-608, 633
Вещь (предмет) в кино 93, 112, 117, 293, 383-386,
404-405, 589
Видео, видеоарт 34, 82, 90, 97, 183-197, 430, 533, 575,
588, 598, 626, 644, 657
Время в кино 10, 99, 180-182, 281, 290-291, 398,
407-409, 414-415, 453, 569-570
Герой и антигерой 15-21, 38,68, 73, 96, 155-158, 208,
217, 241, 245-246, 341, 370, 373, 415-426, 441-444,
465-470, 482, 494, 505-506, 509, 516, 525-528,
541-543, 547-548, 605, 632, 667-675, 681-682
массовый герой 57,58,59,341,427
романтический герой 15, 141, 142,205,
320-321, 337, 380, 444, 667-670, 672, 675, 677,
683, 699
Голливуд 94, 263, 303, 326, 427, 437, 515, 603-609
Гонконгское кино 391, 396, 491 -493
Гротеск 69,485
ГЪг 74-75, 152,522-524,529
Движение кинокамеры (travelling) 43, 174, 398, 448,
454-463, 561-563, 568-574, 594-596
Домашнее кино (home movie) 438
Жанр 35,56-64,97, 108-109, 113-134,515,608
формула жанра 325, 642, 644-646
авторство и жанр 9, 35, 58, 304, 305, 310,
366-368, 439-445, 480, 519-531, 545-549, 637,
647-648
авантюрно-приключенческий 226
антиутопия 507
байопик (биографический фильм) 440, 482
боевик 35
бурлеск 506,511,529,530
вестерн (антивестерн) 94, 249-250, 347, 529,
546-547
водевиль 211-212
гангстерский фильм, гангстерская сага 135,
305, 388, 480, 608, 624
детектив 59, 313, 647
истерн 59,650
кинофантастика (weirdfiction) 113
комедия 35, 341 -342, 366-368, 424, 479,
511-513,519-531, 644-645, 675
криминальная драма 441, 529, 547, 617
мелодрама 35, 94, 116-117, 135, 226, 237, 244,
272,310, 343, 479,513, 601,612
мыльная опера (soap opera) 313, 601
притча 58,362
сказка 212,303
триллер 59, 60, 113, 130, 132, 244, 249, 314,
360, 480, 503,515,530, 642
спагетти-вестерн 120,201,252
спагетти-ужас 120
фильм ужасов (horror film) 82, 106, 113-134,
313, 324-327, 479-480, 495, 608, 626-627
фильм-катастрофа 122, 126
эпос 233, 237, 386, 482
шпионский фильм 60, 98-99, 494-496
road-movie 109-112, 179,233,322,390,515,628
Жестокость и насилие в кино 470, 500-501, 552,
635-641
Звук в кино 261,268-269, 406, 429, 553-554, 608
«Золотой век»
советского кино 56-57, 73, 76, 82-83, 225,
245-246, 336, 342, 513, 541, 584, 637-638
Голливуда 116, 246, 608, 615
Идеология 30, 38, 46, 52, 57-60, 77, 80, 87, 92-95,
98-101, 156, 162-164, 218, 229-231, 257, 258, 317,
336, 343, 352, 364, 427, 434, 482, 494, 510,
811
Указатели
532-534, 545, 549, 555-556, 559-560, 635, 636,
639, 650-652
Идеал эстетический 73, 148
Идиосинкразическое кино (шедевры
отвращения) 106,127,501,626
Импрессионизм 266, 564-565, 575
Ирония 61, 105, 122, 208, 217, 224, 261, 277, 344, 457,
555, 644-646, 675
История в кино (исторический фильм) 163, 237, 247,
317, 336, 423, 474, 665-672, 675, 676, 689-691
«Кайе дю синема» (Cahiers du cinema) 220,243,445,493
Кинокритика 540,544-545
Кич 29, 129, 135,391,504
Классика 184, 201, 211, 465, 470, 539, 589
Клоуны, клоунада 382, 523, 644
Коллективное бессознательное (коллективное
подсознание, коллективная душа) 73, 76, 113,
120-121, 134, 163, 225, 233-234, 245, 268, 324,
370, 389, 422, 495, 518, 524, 546, 612
Комическое 130,424,528
Композиция кадра 166-171, 293, 458-459, 560-561,
574-575,582-584, 596
«Конец истории» (конец века, рубеж тысячелетий) 47,
128-129, 179, 218, 274, 279, 345-346, 487, 493,
622, 626
Концептуализм («Постконцептуализм») 27, 69, 76,
80, 172
Крупный план 416, 449-452, 567-568
Культовое кино 56, 213, 387-391, 395, 424, 444, 493,
499, 500, 504, 536, 650
Культурный герой 76-78, 158, 162-171, 232
Культурные эпохи в истории кино
десятые 265, 603-604, 610, 612
двадцатые 113,115, 265-266, 336, 509, 613
тридцатые 57, 116, 162, 246, 325-326,
587-588,615
сороковые 117, 272, 379, 410-413, 482, 656
пятидесятые 98-99,101,355-356
шестидесятые 141, 145, 276, 320-321, 322,
417, 482, 524-525, 600-602, 618-619, 624
семидесятые 57-58, 186, 417, 531, 541, 633
восьмидесятые 58, 74, 80, 97, 128, 132, 255,
345,417, 503, 545,646
девяностые 59-64, 483, 622-623
Ленинградская школа 28-30, 33, 83, 175, 240,
540-556
Лубок 341
Любительское кино 9, 26-28, 352
Маска (амплуа, экранный имидж) 59, 76-77, 82, 225,
252, 303-304, 360, 376-378, 382-386, 390,
418-420, 421-422, 444, 494, 497-499, 505, 512,
516-518, 523, 525, 528, 546, 610-623
Массовое сознание (массовые запросы, массовый
вкус) 34, 49, 52, 57, 78, 113-114, 116, 245, 313,
441,444, 495, 516-518, 549, 610-623
Мейнстрим 320,493
Миф
в кино 56-64, 76-77, 82, 95, 96, 109,
113-134, 141, 155-171,205-208,211,225-226,
230-233, 245, 249, 252, 305, 320, 322-323, 345,
356, 368, 391, 444, 495, 504, 511-512, 560,
581-582, 601,622
кино (самомифологизация кино) 84-97, 137,
141, 172, 243-244, 305-310, 320-321, 355-356,
376-378, 382-386, 387-391, 418, 444-445,
516-518, 560, 571,616-618
Мифология кино и идеология 46, 53-54, 56-64, 75,
76-79, 94, 128-129, 155-171,225-226, 227-236,
237-239, 241, 257, 268, 474-478, 482, 495, 511,
545, 599-560, 632, 633-634, 635-636
Модернизм 47-49, 61, 85-87, 92-97, 364, 414-416,
448-452, 537-539, 698
«Молодежная культура» (молодежная
субкультура) 20, 64, 355, 689
Монтаж 91 -92, 192-196, 268-269, 317, 399, 427,
457-460, 562-563, 574-575, 582, 588-595
Мотив (сквозной, классический, устойчивый) 103
бесцельного путешествия 77, 628
вечного возвращения 233, 454, 539
внешнего вторжения (имперсонального
зла) 126, 128,324,480
внутреннего вторжения 122, 128
двойника, оборотничества 114, 133, 210, 217,
228, 232, 303, 324
дурной (испорченной)крови 134, 501
инициации (самопознания) 107, 234-235, 303,
370-371
другого 241
непознанност и (непознаваемост и) мира,
собственной природы 114
потерянного дома (рая) 180, 283, 357, 409, 532
трагической вины 669-672, 678, 696
создания, вышедшего из под контроля
создателя 324,495,581
Натурализм 74, 226, 636, 639
Независимое кино, «независимые» 72, 264, 355, 369,
437, 624
Неигровое кино 9, 35
Некрореализм (некростиль, некрореалисты) 43-45,
65-75, 76, 80-83, 152-154, 172, 174, 282, 353, 636
Неореализм 146, 220, 363, 412, 418, 489-490
Неоавангард 80-83
Неоварварство 109, 251 -254, 395-396, 403
Неоэкспрессионизм 105, 240, 326
«Новая волна» («new wave») 60, 320
советская 57, 80, 346
812
Предметный указатель
французская 60, 96-97, 135, 185, 218, 220, 243,
253, 255, 274-276, 305, 346, 396, 418, 420, 490
«рассерженная» (английская) 215-216
Нуар 135, 201, 244, 252, 272, 310, 379-380, 439-445,
642, 656
«Папино кино» («папочкино кино») 208, 305, 343
Перспектива (глубинный и плоский кадр) 188-189,
191-192, 560, 571-581, 587-588
Польская школа 205-208, 320-321, 465, 470,
662-664
Популярное искусство и массовая культура 47-51,
60, 85, 86, 93, 103, 112, 128-129, 324-327,
506, 650
Параллельное кино 61, 72, 76-77, 80-83, 172, 264,
352, 369, 399, 434
Пост-авангард 417
Постмодернизм (постмодерн) 26, 32, 34, 37, 47-49,
61-64, 72, 76, 85-87, 96, 102, 109, 128-129, 135,
239, 415-416, 474, 539, 560, 599
Пространство в кино 180, 190-197, 285-302, 398-399,
453, 458-464, 569-571
Ранняя комическая 29, 69, 76, 386, 636
Реализм 85,89,260-261,426,564
«Ретро» (стиль) 235, 303, 360, 624
Римейк 76-79, 83, 117, 201, 208, 220, 249, 276, 310,
326, 343-349, 353, 380, 470, 500, 503, 555,
626, 650
Рок-культура (рок-музыка) 11 -25, 47-51, 99, 109,
345, 355,497,510
Романтизм 29, 84, 114, 141, 208, 284, 320-321, 379,
439-445, 465, 470, 581, 582, 617, 656, 667-686,
694, 699
«Рэди мэйд» (ready made) 268, 402, 480
Саспенс 404, 454, 458, 548, 581, 594, 642
Серия (категория) «В» 109, 117, 126, 251-252, 313,
391,479-480, 609, 642
Сиквел 650-652
Слэпстик 78,636
Смерть
в кино 67-75, 141, 145, 152, 176, 213-214, 230,
264, 279-284, 285-302, 363, 376, 399, 407-408,
415, 430, 444, 457, 458, 501, 539, 544, 552, 570,
591, 598, 646, 672, 678, 692-700
кино 399, 453, 537
Социальный заказ 116, 162, 226, 245, 336, 342, 511,
638, 688
Спецэффекты 127, 314, 375
Стиль 30,97,457,531
Страх и ужас в кино 73-74, 105-106, 113-134,
324-327, 495, 581
Сюрреализм 209, 256, 264, 328-332, 390, 698
Сюжет 243, 264, 303, 409, 440, 604
Технологиии в кино 183-197, 260, 269, 403, 411,413,
429-430, 533, 534, 598, 657
Тоталитарный миф 64, 73, 76, 97, 155, 161, 171, 225,
246, 345, 475, 573,
Тоталитарное кино 45-46, 155, 192, 345, 573
Трагедия (трагическое) 54-55, 137, 141,208, 225, 278,
332, 333, 359, 368, 377-378, 422-423, 444, 452,
523, 636, 666-678, 682, 688, 692, 697, 702
Ужас (ужасное) см. Страх и ужас в кино
Узкопленочное кино 72, 80-83, 154, 255, 322,
343-344,413, 501,626
Фабула 671
Фольклор 68, 520, 523
Фотогения 93, 265-268, 339, 360
Хоррор см. Страх и ужас в кино
Чернуха 56,61,68,212, 240, 322, 474, 541, 549-551
Черный фильм см. Нуар
Экранизация 115-117, 126, 155-171,201 -204, 234,
240, 293, 324-327, 342, 343, 363, 422, 479, 514,
520-522, 529, 628, 633, 640, 642, 656, 675, 689
Экспрессионизм («немецкий
экспрессионизм») 113-114, 133,218, 268, 276,
324, 499, 503, 507-510, 575-578, 581-582, 587
Эксцентрика 333, 336, 520, 524, 531, 644
Эпос (эпическое) 84, 233, 347, 386, 482, 542-543,
585,668
Эстетика
комикса 107, 112, 373-374, 405, 588-589
клипа 405,575
Язык кино (словарь кино) 10, 60, 88, 92, 95, 191, 195,
214, 255-273, 316-317, 407-408, 411-412, 417,
445, 448, 452, 457-459, 463, 509, 559-599, 656
813
От составителей 5
Часть 1. Кино на ощупь
1988-1993. Наследники по кривой
Тотальный кинематограф. Манифест 9
«Под звуки шестиструнной лиры». Заметки
о рок-поэзии 11
Беседы о параллельном кино 26
Чапаев: результаты оказались чудовищными 38
Капитан Курехин и... 47
Зеркало для Зазеркалья 52
Наследники по кривой 56
Весна на улице Морг 65
О том, как товарищ Чкалов за счастьем ходил 76
Raiders of the lost avant-garde 80
Миф кино и будущее культуры 84
Кадры решают всё 98
Суд Линча 103
Ужас и страх в конце тысячелетия. Очерк экранной
эволюции 113
Любовь и смерть Райнера Вернера Фассбиндера 135
Ленин 138
Мачек 141
Че Гевара 142
Цвет воздуха 144
Глаза шестидесятых 148
Папа, умер некрореализм 152
Фильм Чапаев: опыт структурирования тотального
реализма 155
Дебил как медиум 172
1994. Восприятие стандарта
Одиссея Вима Вендерса 179
Восприятие стандарта 183
Жизнь — на сладкое 198
Некруглая дата последнего классика мирового кино 201
Всё на продажу, или Покаяние по-польски 205
Этот ясный объект насмешки 209
Раз, два, три... Пусть всегда будет солнце! 211
Людвиг, или Упражнение в смерти 213
Голый среди волков и овец 215
Горизонтальный мир Жана Ренуара 218
И корабль приплыл: сказочник перебивает пророка 221
Прасковья Лукьянова все еще защищает родину 225
Заграница, которую мы потеряли 227
Кто подставил Ивана Саньшина? 237
Узник замка К. 240
Франсуа Трюффо — человек, который любил фильмы 243
Кино, которое мы потеряли 245
Режиссер, вдохновенно учивший зрителей самому
плохому 249
Интеллектуальный реванш бульварного чтива 251
Киноавангард - нарушитель конвенции 255
Анри Ланглуа - человек, который поднял «новую
волну» 274
Понтий Пилат и другие официальные лица 277
Смерть после работы 279
Город и Дом 285
Доктор Джекил и мистер Хайд помирились 303
Годар сложил повесть о первой любви 305
1995. Кино на ощупь
Властелин страха 313
Патриархи киноискусства родились под знаком
Водолея 316
Перстень без алмаза 320
Инструкции по выживанию ковбоев в городе 322
Чудовища всех времен объединились в музее
культуры 324
Героический пессимизм Луиса Бунюэля 328
Козинцев всегда был классиком, но слишком
радикальным 333
Аталанта бросила якорь на российском канале 337
Богатая невеста с идейным приданым 341
Источник невозможного 343
Здесь кто-то был 350
Через сорок лет у бунтаря появилась причина 355
Канадский кинематограф: Апокалипсис завтра 357
Посадил дед репку 359
Вслед за Феллини москвичи увидят «Всего Пазолини» 363
На свете все еще бывает хорошо 366
Иванов, не вспомнивший родства 369
Бэтмен улетел. И не обещал вернуться 373
Двуликая женщина - нетленное воплощение Смерти 376
Черная неделя жанрового кино 379
Человек, который никогда не смеялся 382
Поезд «Желание» 387
Jim Jarmusch, cool... 393
Каждый охотник желает знать... 395
Энди Уорхол — изобретатель кинематографа 398
Кино на ощупь 403
Тоска по вечной молодости 418
И немедленно выпил 421
Поезд братьев Люмьер еще стоит на запасном пути 425
1996. Материал, из которого сделаны сны
Русская идея на мировом экране 433
Париж читает дневники Йонаса Мекаса 435
Материал, из которого сделаны сны, или У истоков черного
романтизма 439
Бергман и Дрейер: Молчание и Слово 448
Анджей Вайда: от романтизма до наших дней 465
Двойная смерть Кшиштофа Кесьлевского 472
Тело власти 474
Роджер Корман — повелитель кинобюджета 479
Ричард - пурпурное сердце 482
Неглубокая пещера и ее обитатели 485
Отец неореализма любил жизнь больше, чем кино 489
Любовь в восточном экспрессе 491
Шпион, пришедший с холодной войны 494
Звездная пыль не оставляет тени 497
Каин & Абель 500
Рэмбо - 50. Вторая жизнь: часть первая 505
Сердце между мускулами и мозгом 507
Шестьдесят лет под куполом Цирка 511
Кавказский призовой круг 514
Вторая смерть Рудольфа Валентино 516
И задача при нем... 519
Stranger than paradise: страннее рая 532
Весь этот джаз 535
«Персональное» дело Ингмара Бергмана 537
Ленинградское кино: эволюция авторской традиции 540
1997. Плохие парни как пример для подражания
Кино: история пространства 559
Влюбленная рыбка 600
Сказки калифорнийского леса 603
Леди исчезают 610
Плохие парни как пример для подражания 624
Берегись автомобиля 626
Мой старший брат 629
Апокалипсис по Копполе 633
Кинематограф и его двойник 635
Не стреляйте в новобрачных 642
Тарантино в Европе: войти просто, выйти невозможно 644
Человек, который знал слишком много 647
Старые и новые приключения Неуловимых... 650
Эрик Ромер - последний моралист 653
К западу от черного жанра 656
Жесткое время. Производственно-творческий проект 657
Приложение
Анджей Вайда и проблема личности в польском кино конца
60-х - 70-х годов. Дипломная работа 661
Снежные люди. Синопсис игрового фильма 703
Часть 2. О Сергее Добротворском
Осень 1997
Михаил Брашинский 713
Любовь Аркус 715
Михаил Трофименков 716
Татьяна Москвина 716
Дмитрий Савельев 717
Ирина Тарханова 718
Нина Рабинянц 718
Леонид Попов 718
Андрей Плахов 719
Зара Абдуллаева 720
Евгений Юфит 722
Константин Мурзенко 722
Олег Ковалов 723
Весна 2016
Станислав Зельвенский 727
Лилия Шитенбург 730
Василий Степанов 730
Василий Корецкий 731
Алексей Гусев 732
Антон Долин 733
Андрей Карташов 734
Алексей Артамонов 135
Живопись и графика
Ольга Тобрелутс. Психологические эскизы 738
Ирина Тарханова. Наши пули, как и прежде, летят... 742
Указатели
Библиография 785
Другие работы 793
Указатель имен 794
Указатель фильмов 802
Предметный указатель 811
Сергей Николаевич Добротворский
Источник невозможного
Составители
Любовь Аркус
Инна Васильева
Редактор
Андрей Карташов
Корректор
Елена Русанова
Дизайнер
Петр Лезников
Над изданием работали
Анастасия Антипова
Алексей Белозёров
Алла Быкова
Алексей Елисеев
Арина Журавлева
Дарья Зайцева
Анастасия Ксенофонтова
Анна Лис
Александра Сизова
Анастасия Сенченко
Василий Степанов
Анна Фриденберг
Мария Шаталова
Константин Шавловский
Ирина Штрих
Книжные мастерские
197101, Санкт-Петербург
Каменноостровский пр., д. 10
+7(812)237-08-42
wordorder.ru
Мастерская «Сеанс»
197101, Санкт-Петербург
Каменноостровский пр., д. 10
+7 (812)237-08-42
info@seance.ru
seance.ru
Отпечатано в типографии «Моби Дик»
194044, Санкт-Петербург
Менделеевская ул., д. 9
+7(812)633-25-25
info@mobyprint.ru
mobyprint.ru
Подписано в печать 25.05.2016
Формат издания 70 х 100 1/16
Гарнитуры Vremena Serif и Vremena Grotesk
Объем 66,625 усл. печ. л.
Бумага Maestro Print Syktyvkar 100 г/м2
Тйраж 3000 экз.
Печать офсетная
Заказ №
Рекомендовано для лиц старше 16 лет
В текстах Сергея Добротворского есть магнит,
который притягивает твои собственные мысли:
качество, драгоценное для критика. Впрочем,
он был не только и не просто критиком —
он был автором и создателем. Не имеет
никакого значения, насколько «правильны»
его теории об искусстве, потому что они, эти
теории, обворожительные и искрометные,
сами по себе и есть искусство.
— Алексей Герман
Сергей Добротворский
Критик, историк кино, режиссер, сценарист.
Родился 22 января 1959 года в Ленинграде.
В 1980 году окончил театроведческий
факультет ЛГИТМиКа (ныне РГИСИ;
мастерская Н. Рабинянц). Создатель и режиссер
театра «На подоконнике» (1984-1987).
С 1986 года — сотрудник РИИИ.
Кандидат искусствоведения (1987).
Создатель группы параллельного
кино «Че-паев» (1988). Преподавал
историю и теорию кино в ЛГИТМиКе
и ЛИКИ (ныне СПбИКиТ). С 1990 года -
автор и член редколлегии журнала «Сеанс».
С 1994 года — кинообозреватель
газеты «Коммерсантъ-Daily». Ведущий
программы «Линия кино» (1997, ОРТ).
С 1996 года — председатель Гильдии
киноведов и кинокритиков Санкт-Петербурга.
Автор более 600 статей, опубликованных
в российских и зарубежных изданиях.
Скоропостижно скончался 27 августа
1997 года в Санкт-Петербурге.
В 2007 году на кинофестивале «Начало»
журнал «Сеанс» учредил приз имени Сергея
Добротворского «За плодотворный поиск
источников невозможного».
Он был суперпрофессионалом. Он успел
изучить и прочувствовать всю историю кино,
как некую бесконечно расширяющуюся
вселенную смыслов.
— Андрей Плахов
Мировой кинематограф он знал наизусть —
с точностью до картины, все мало-мальски
значимое в нем — с точностью до эпизода,
а лучшую тысячу лент — с точностью до кадра.
Его умение выстраивать ассоциативные
цепочки, наводить логические мосты
и производить парадоксальные сближения
вызывает восхищение.
— Виктор Топоров
Радикальность суждения и деликатность
высказывания, мощь свободного, независимого
ума и прозорливая тонкость понимания
чужих художественных миров. Статьи Сергея
Добротворского, собранные в книгу, являют
собой своеобразную историю мирового кино,
со всеми его взлетами и падениями, иллюзиями
и разочарованиями, провалами и прорывами.
— Александр Сокуров