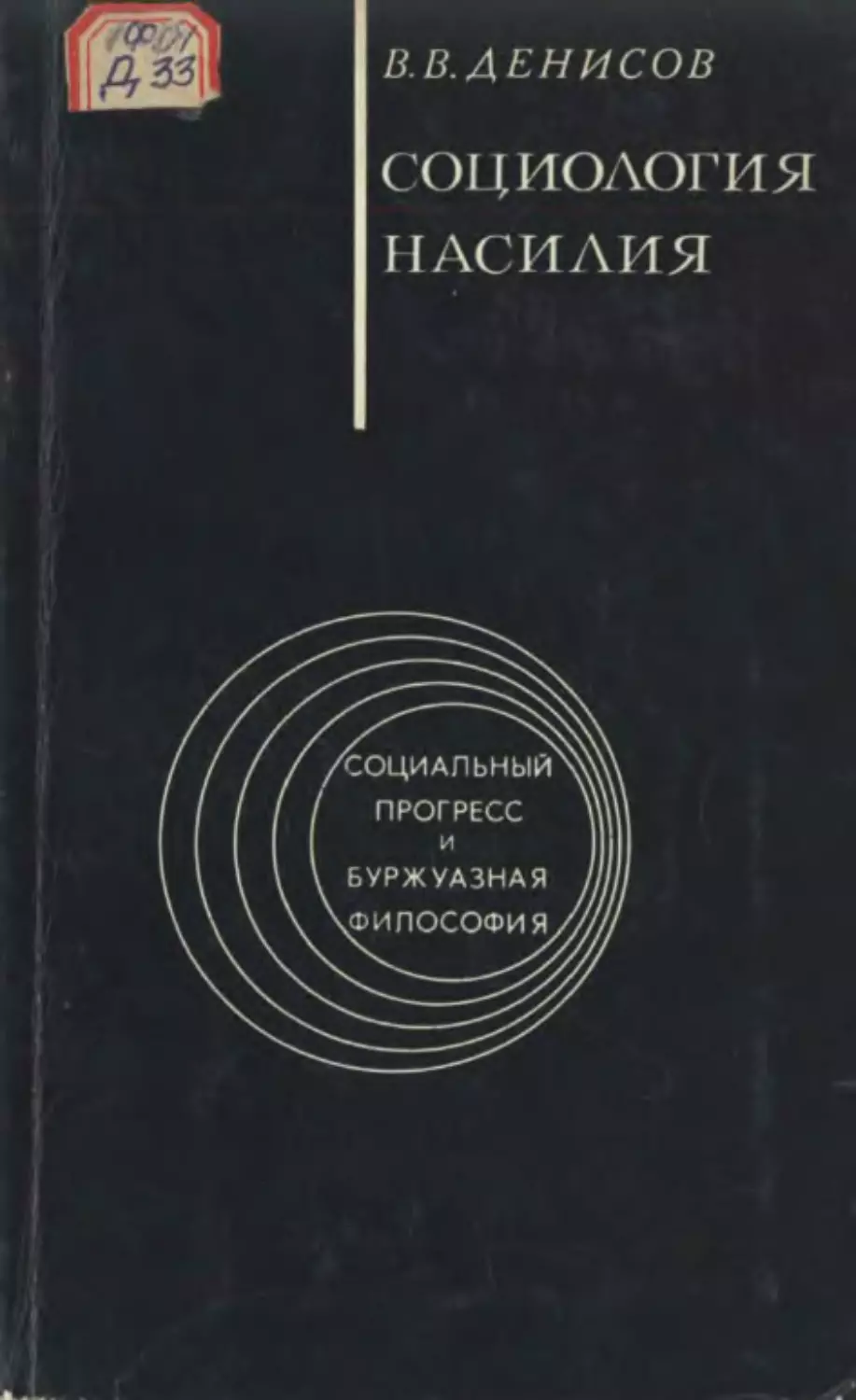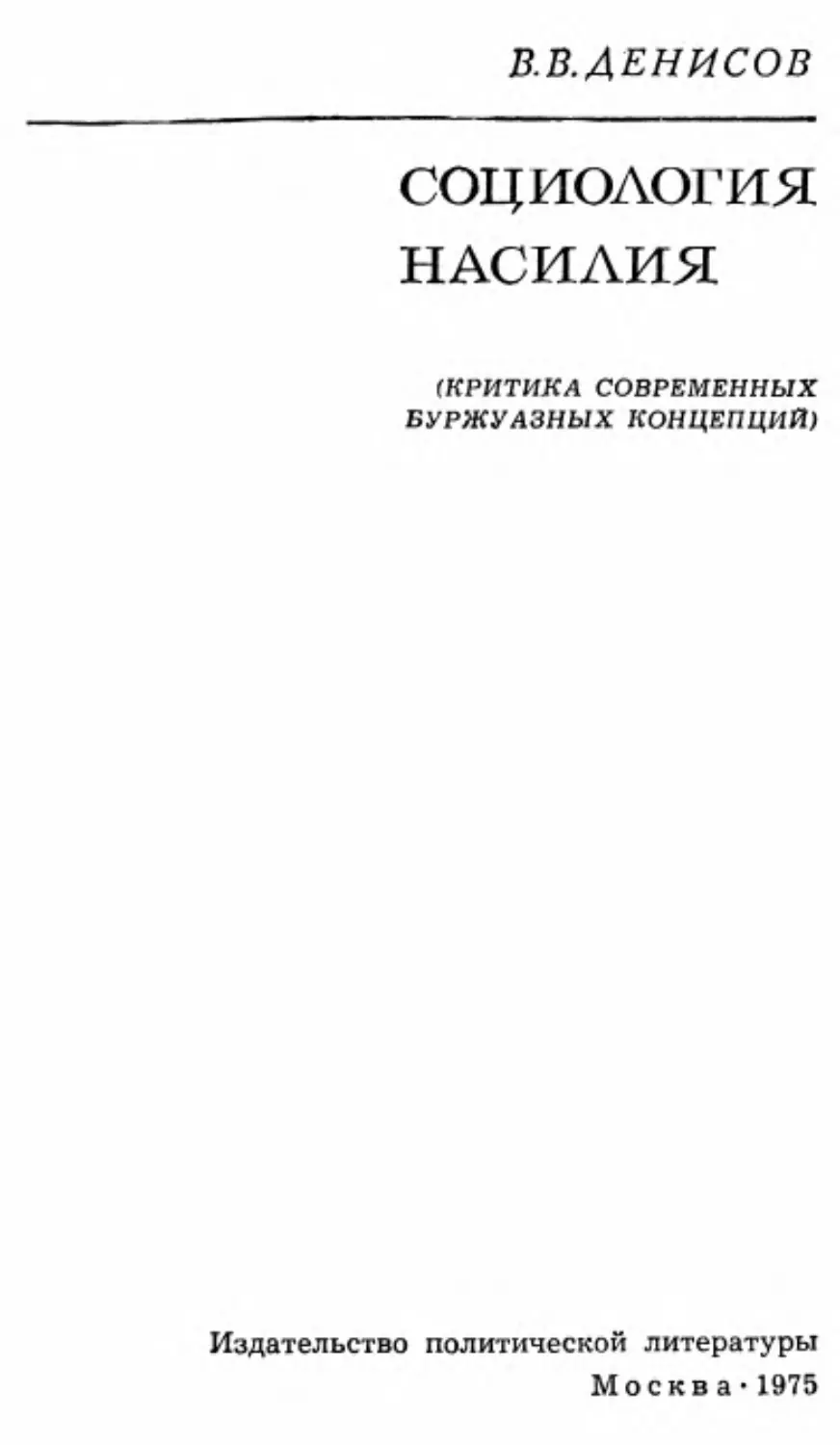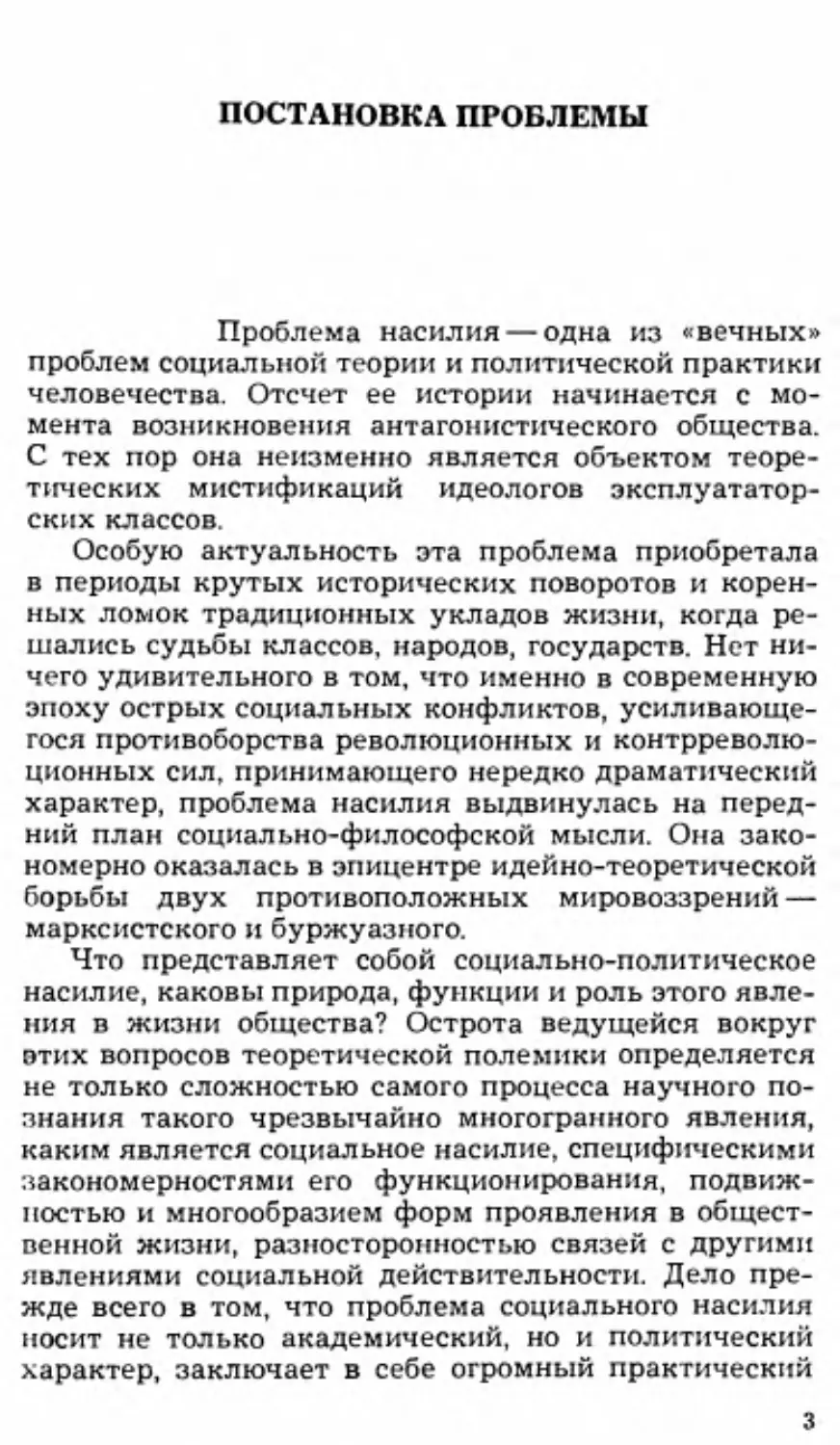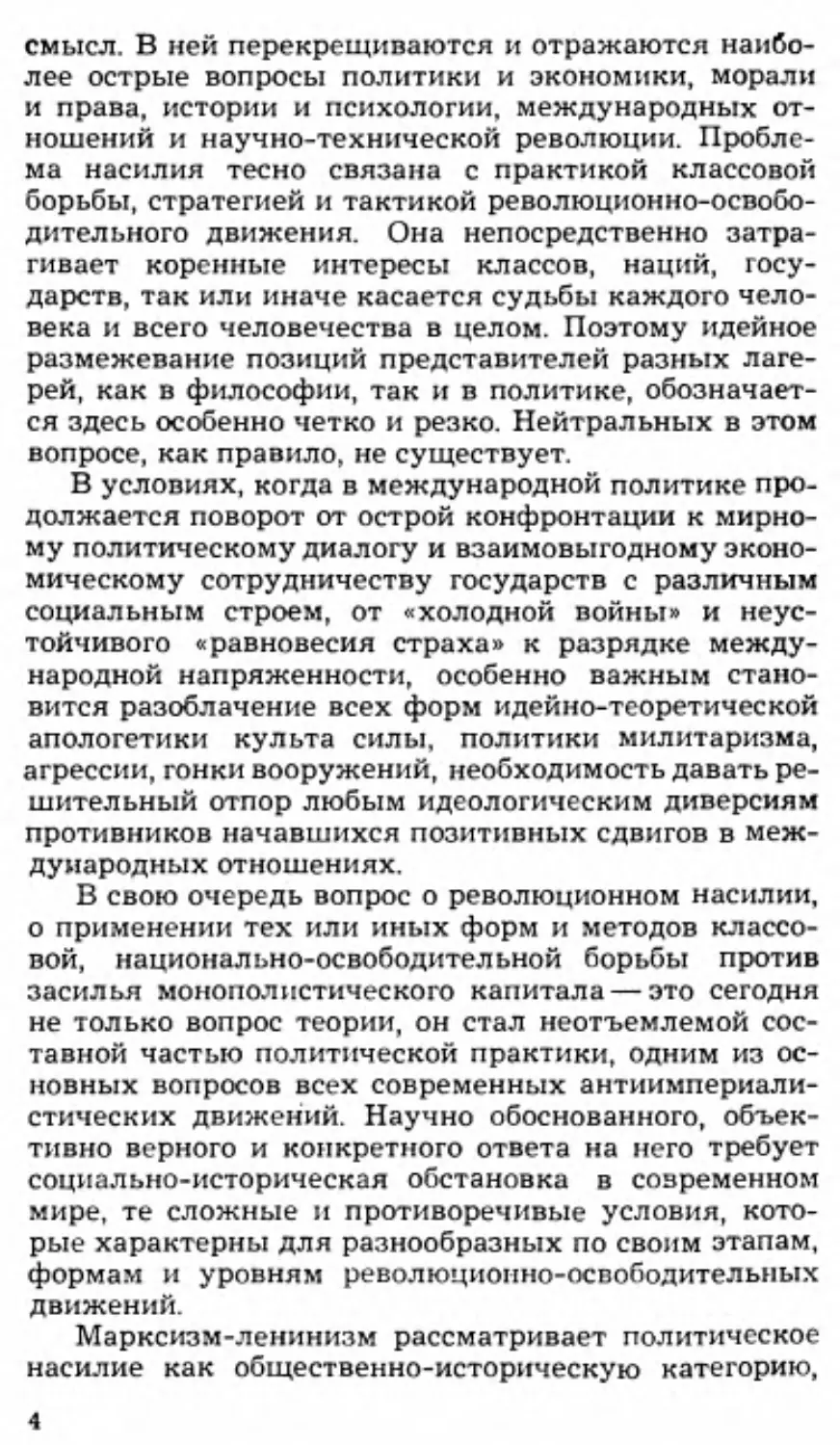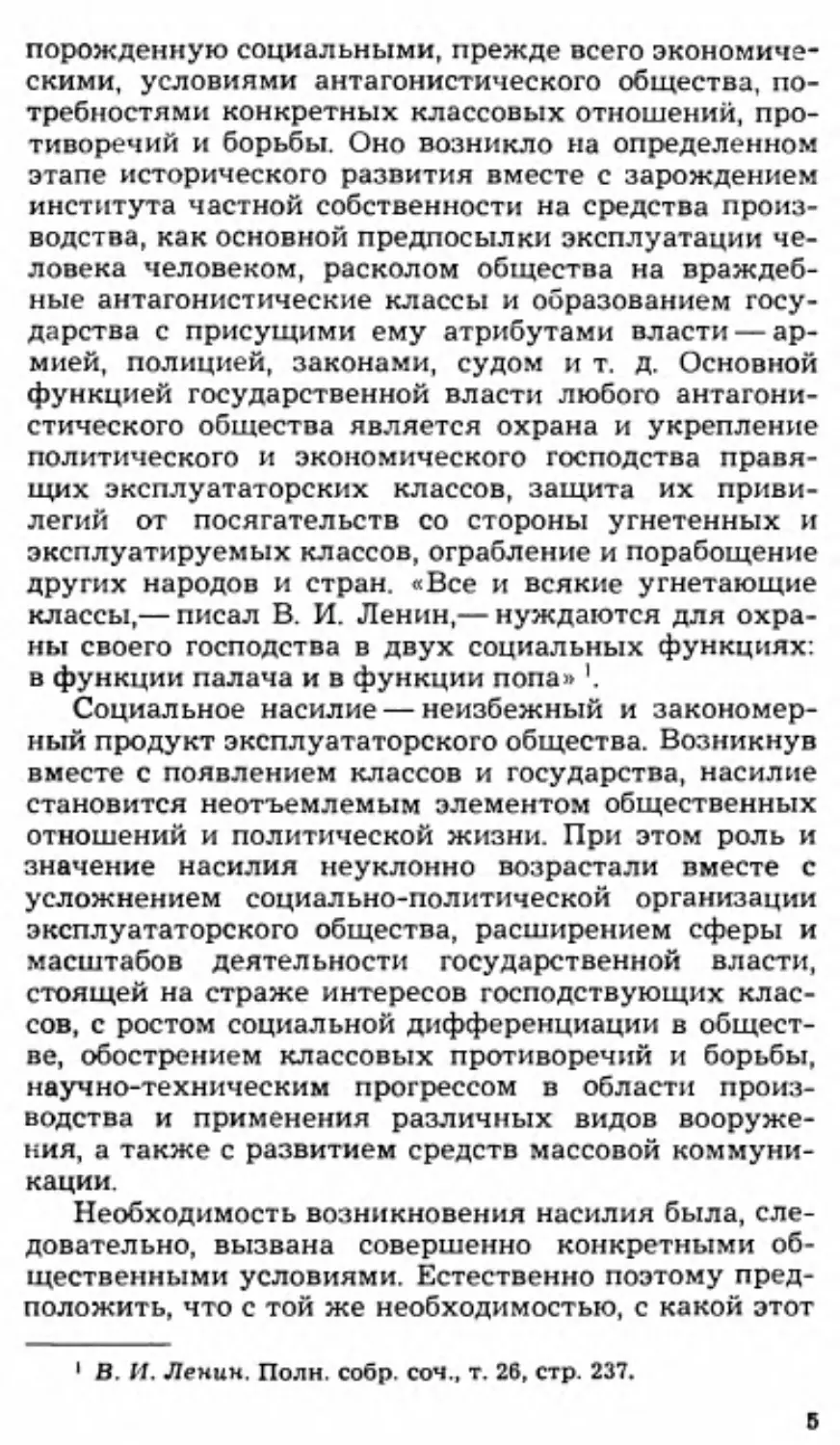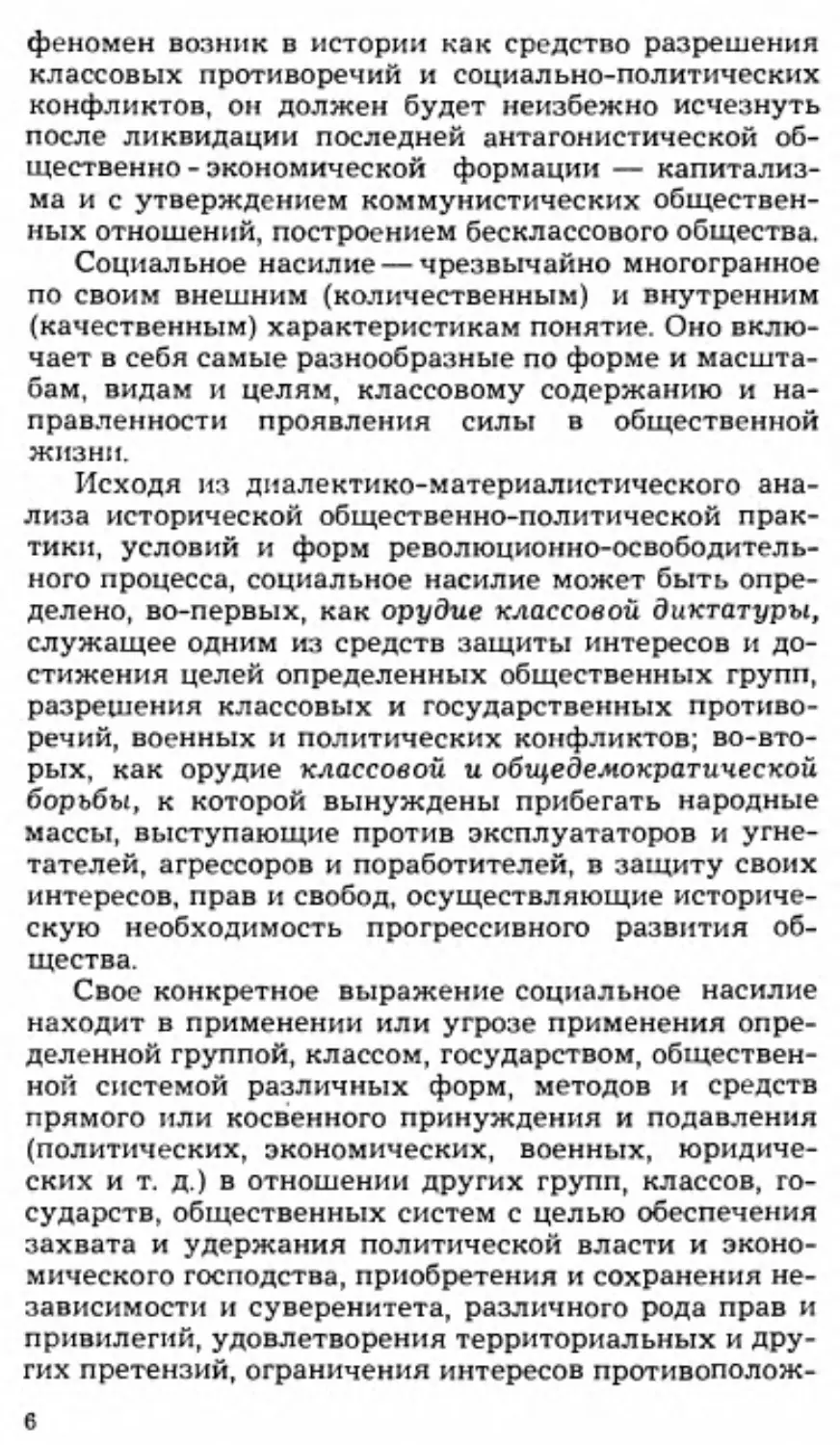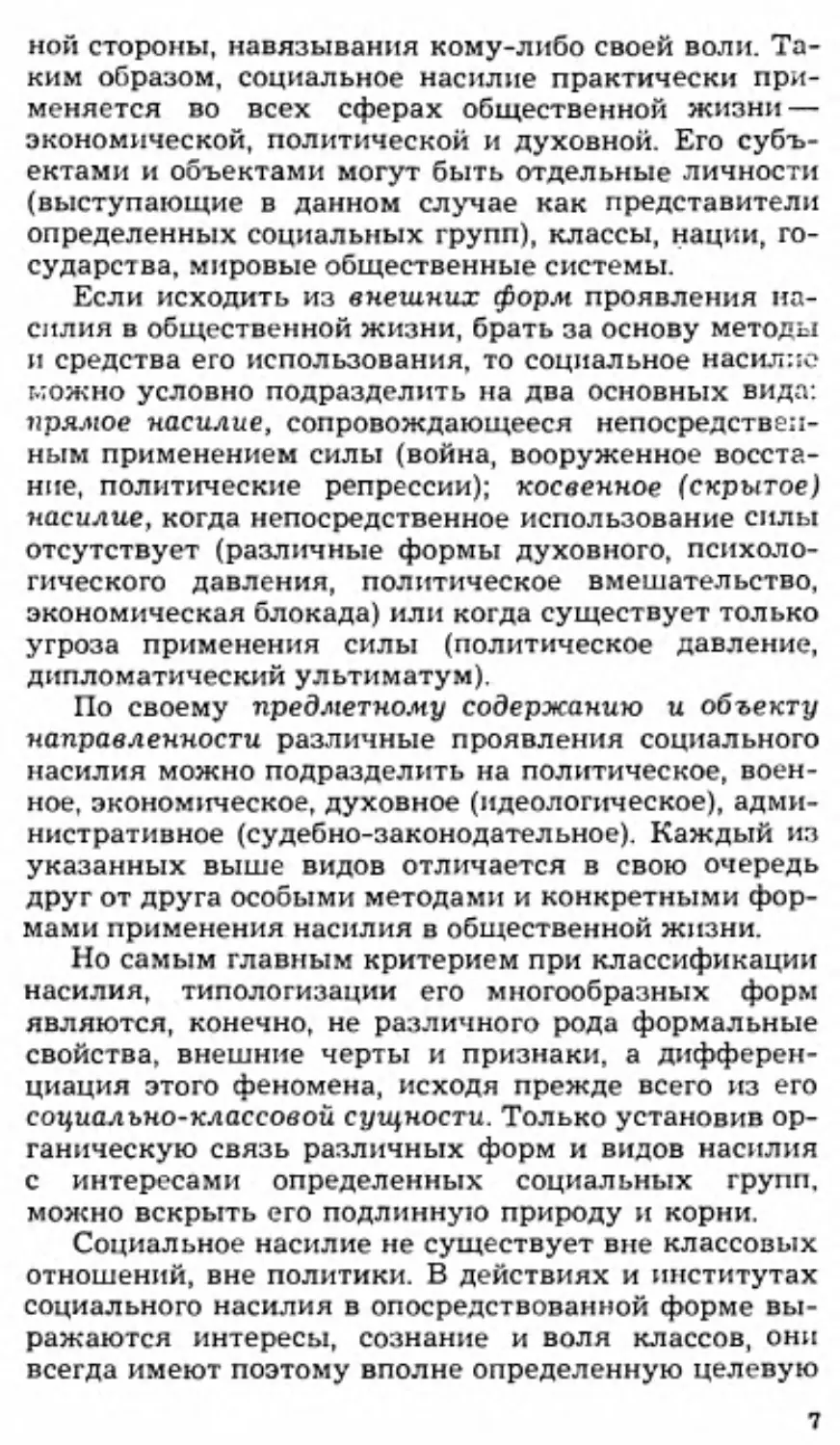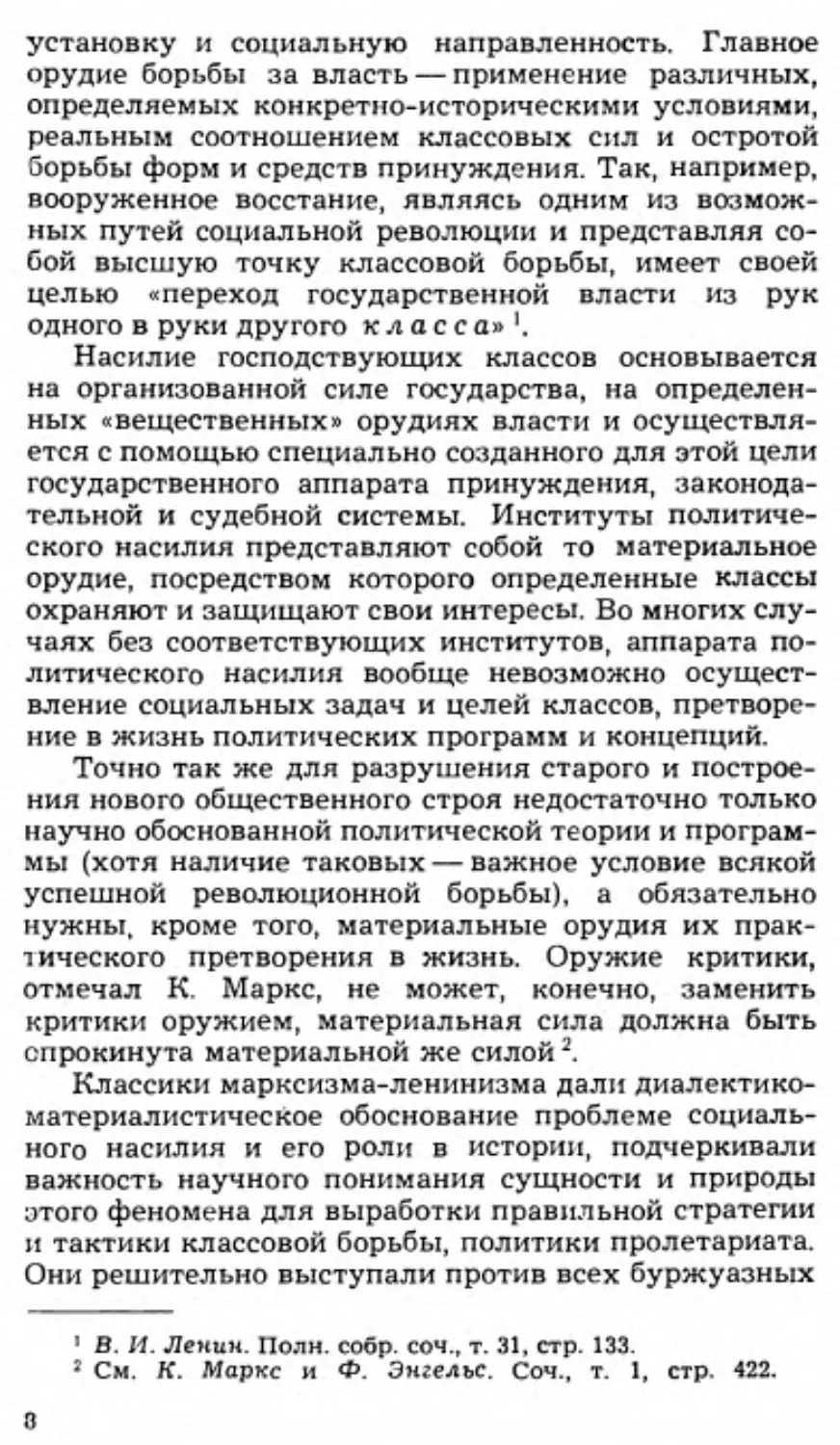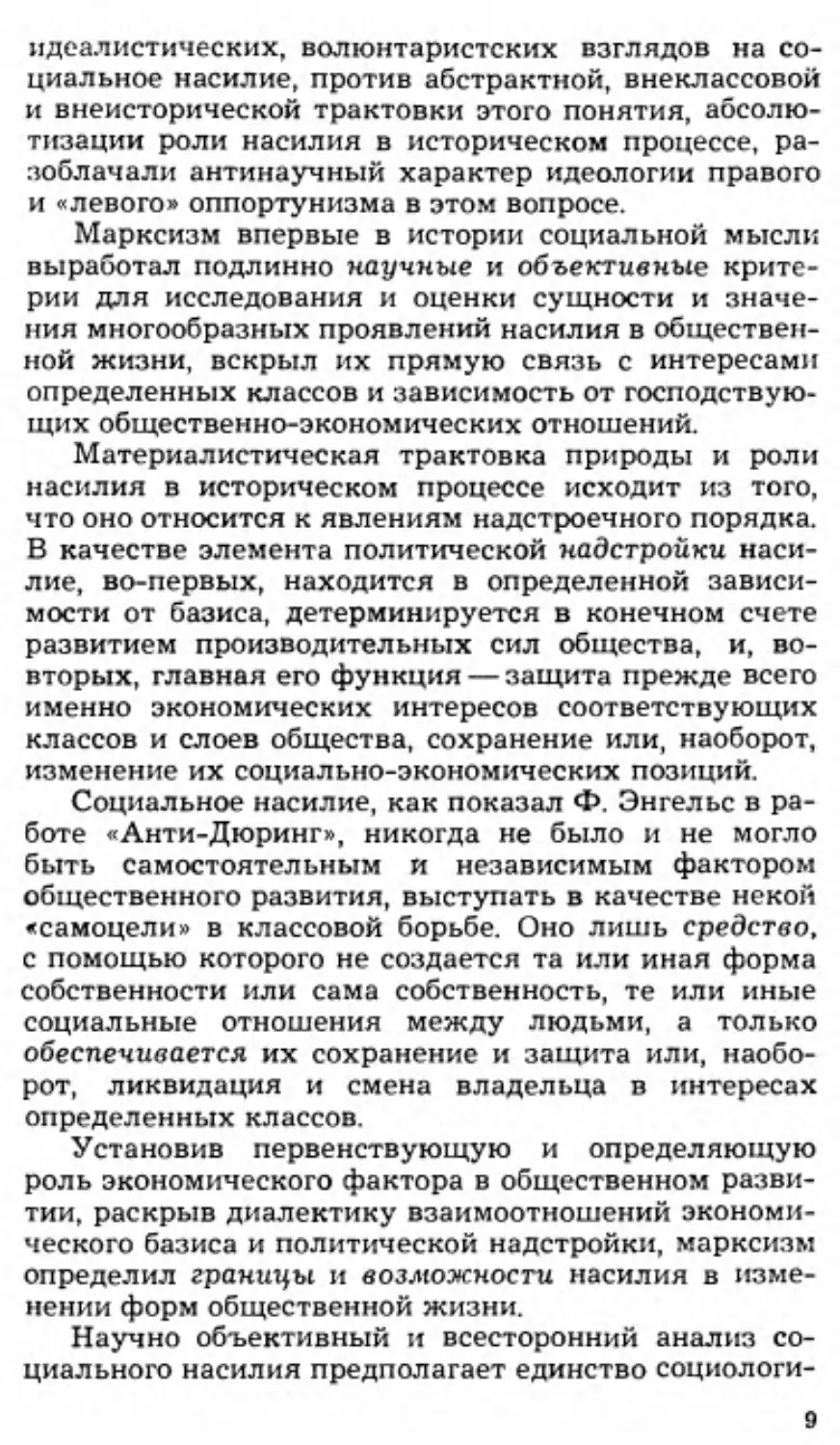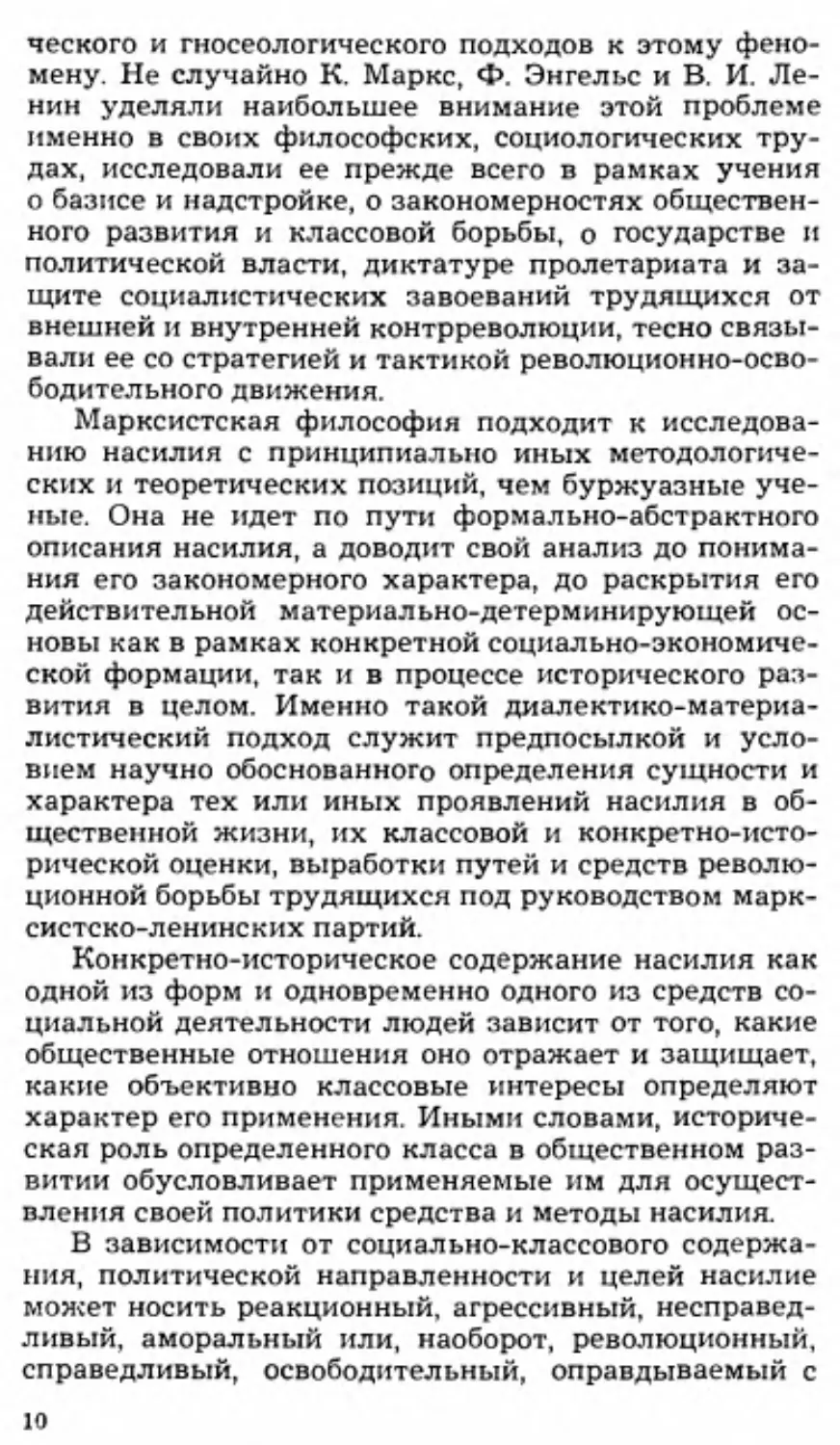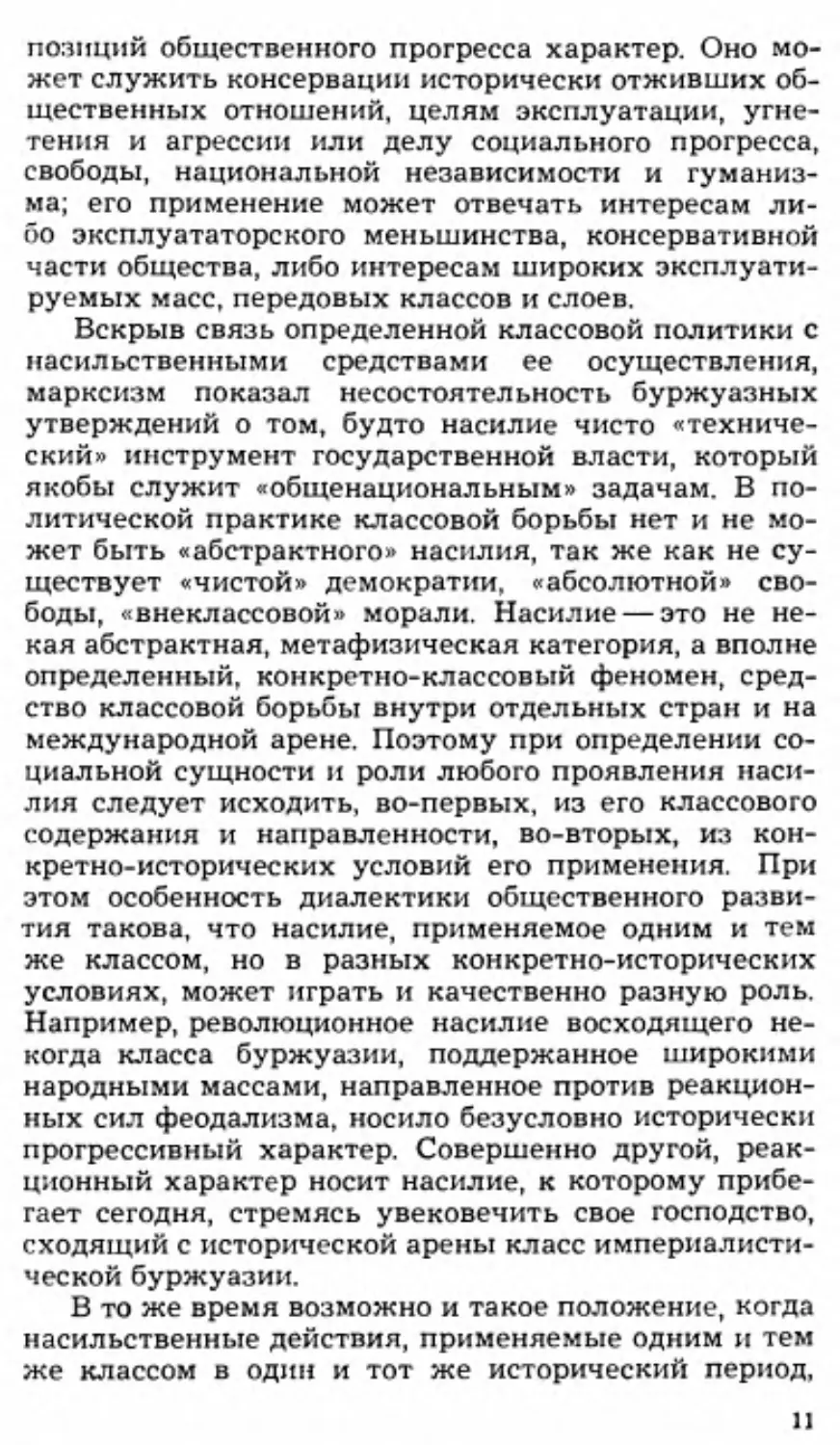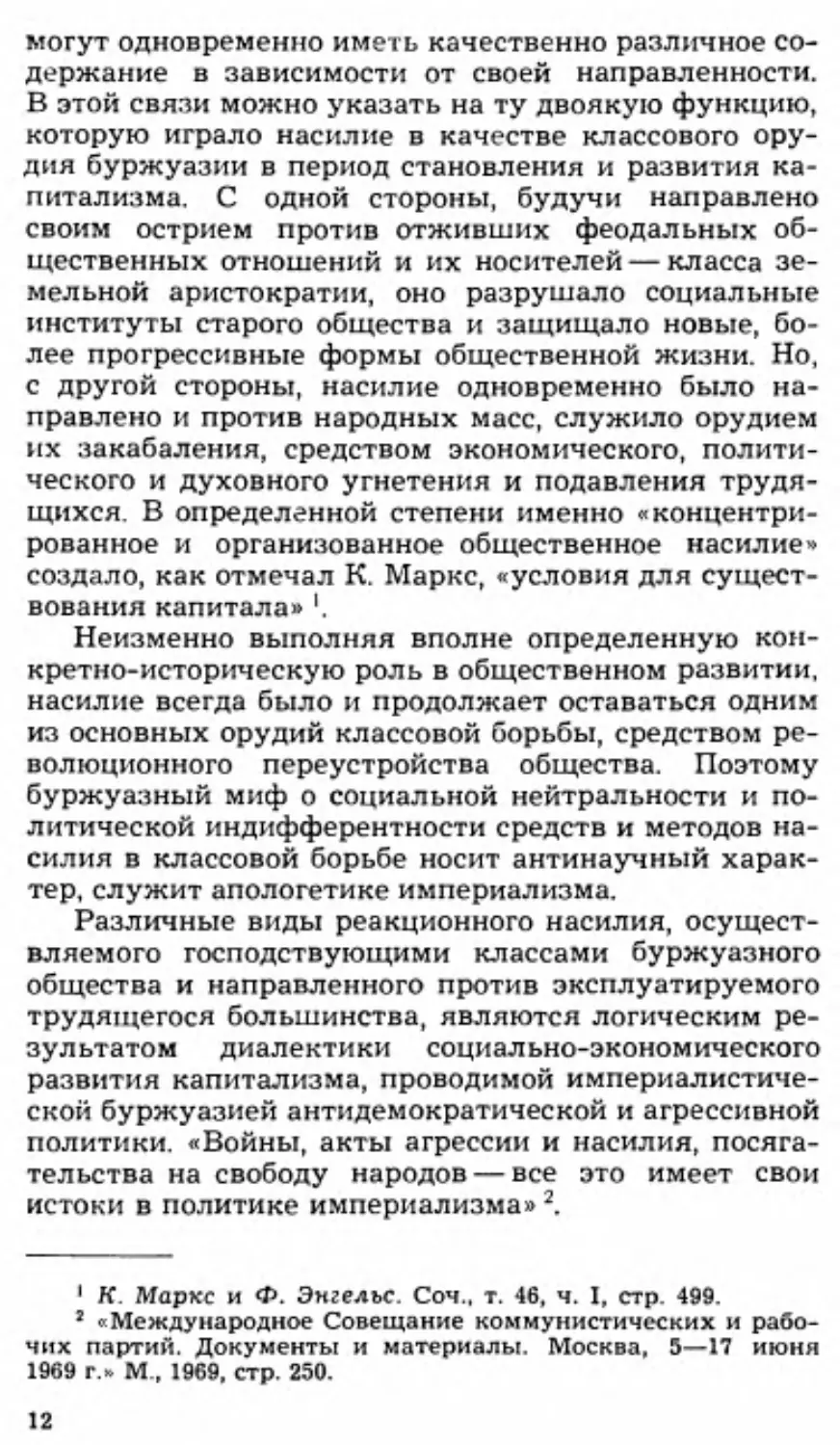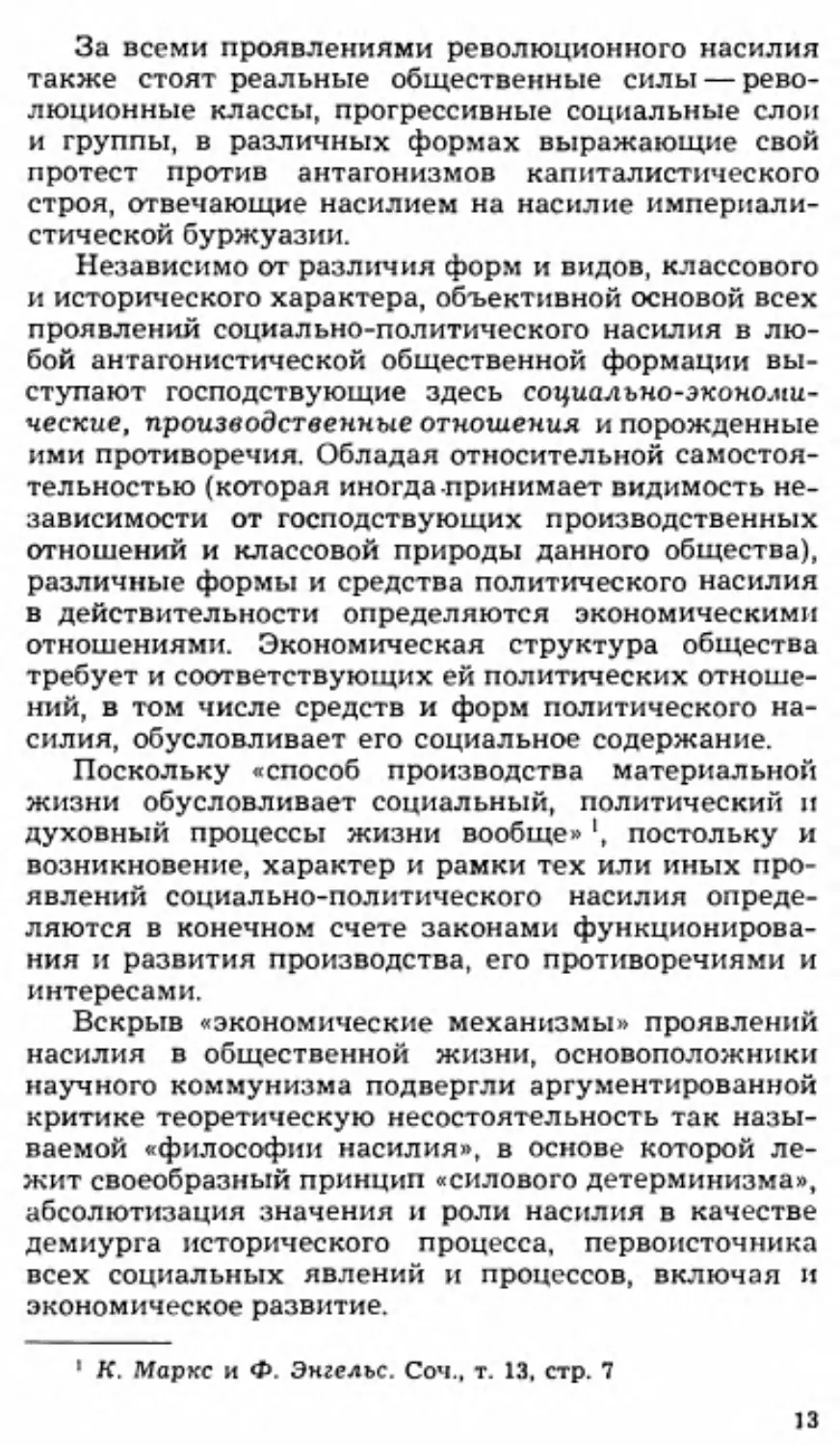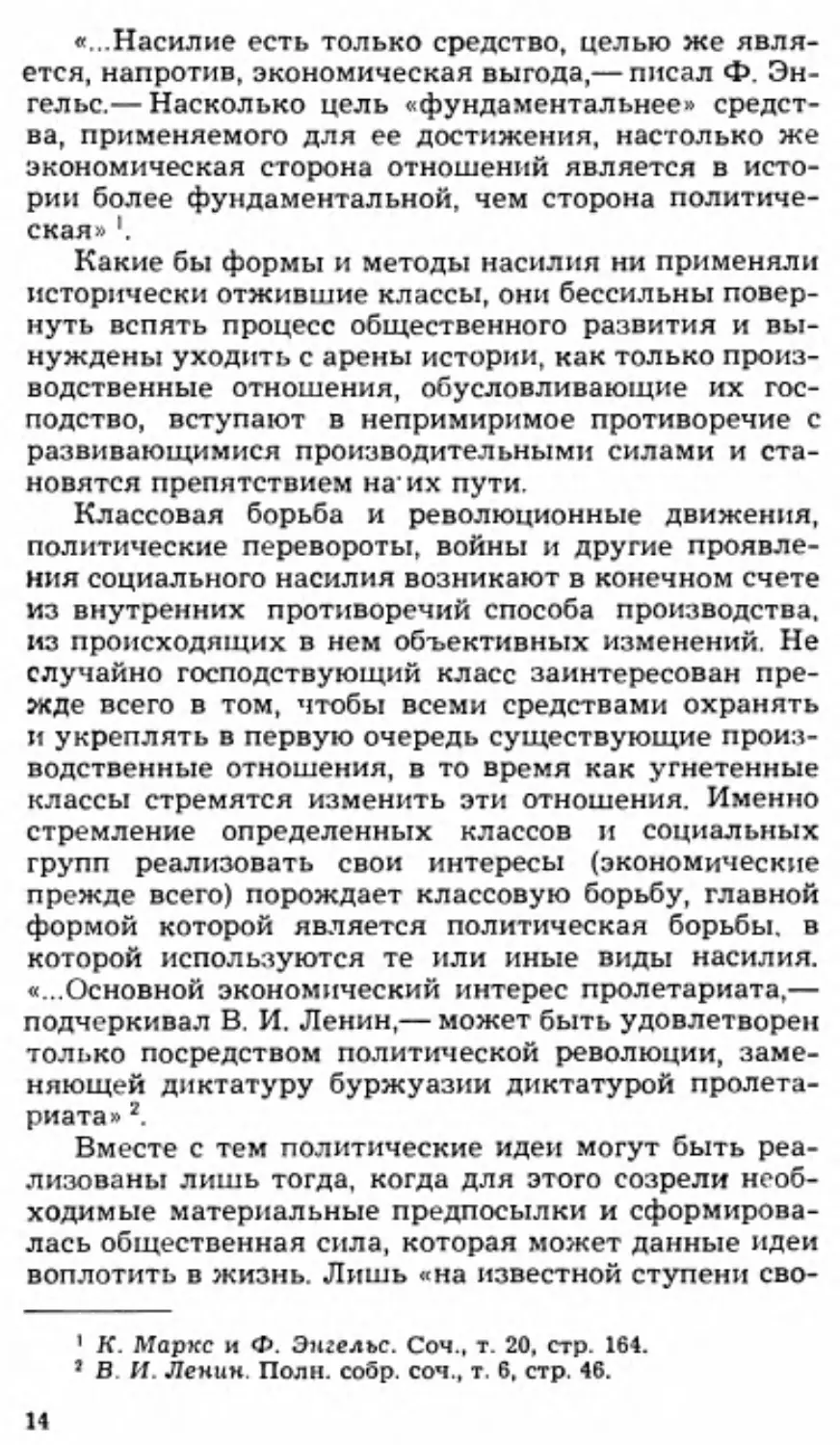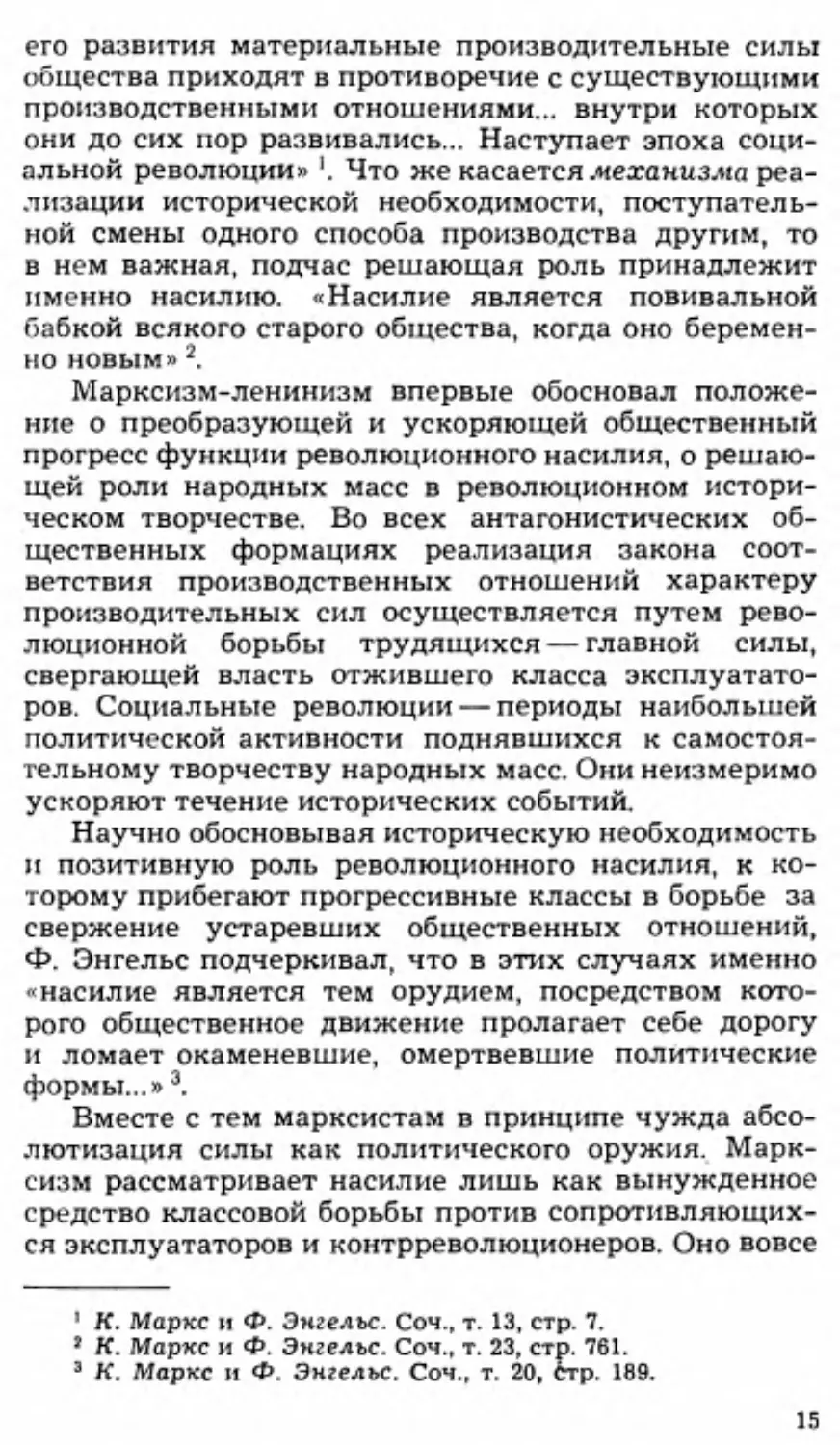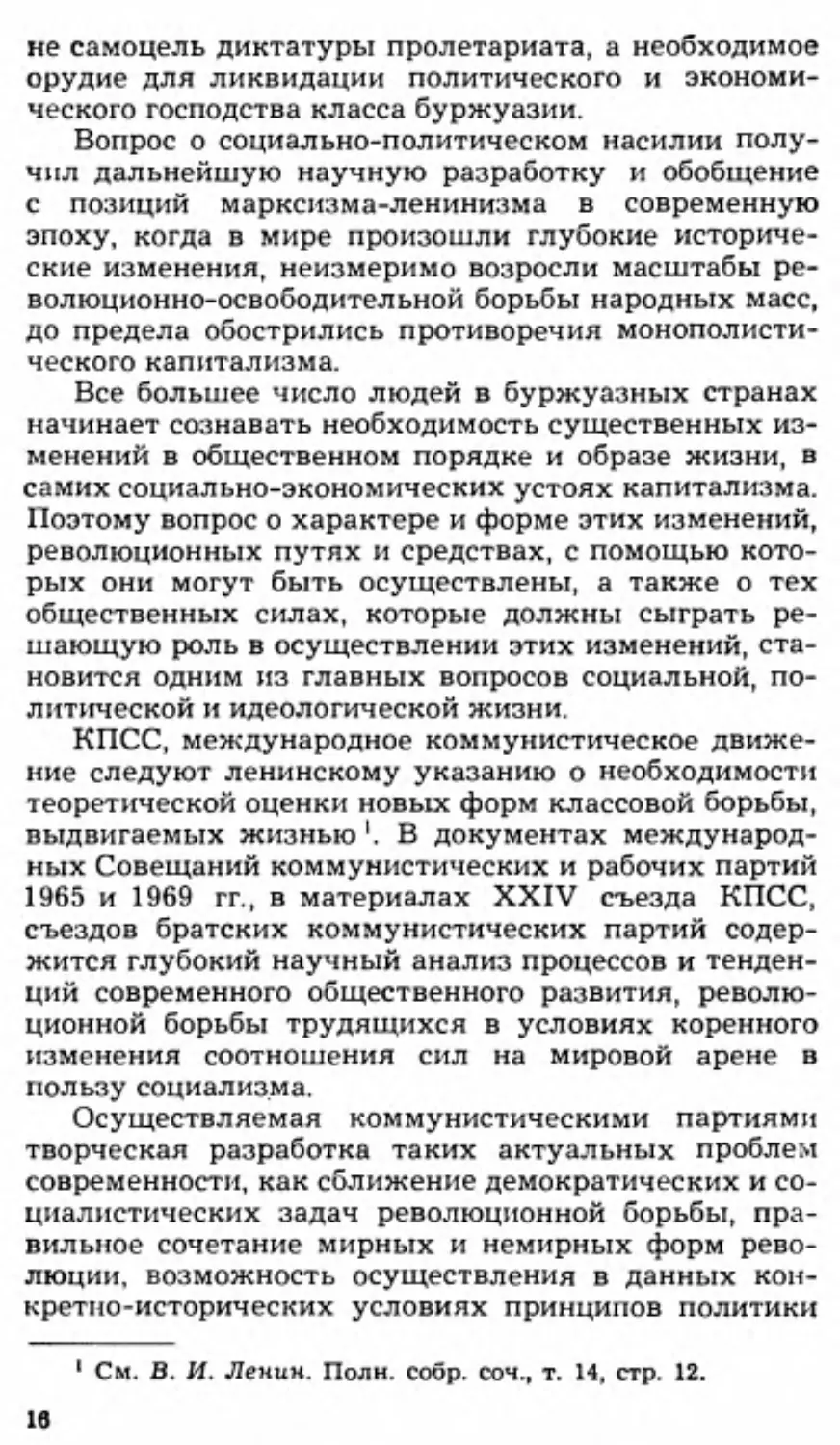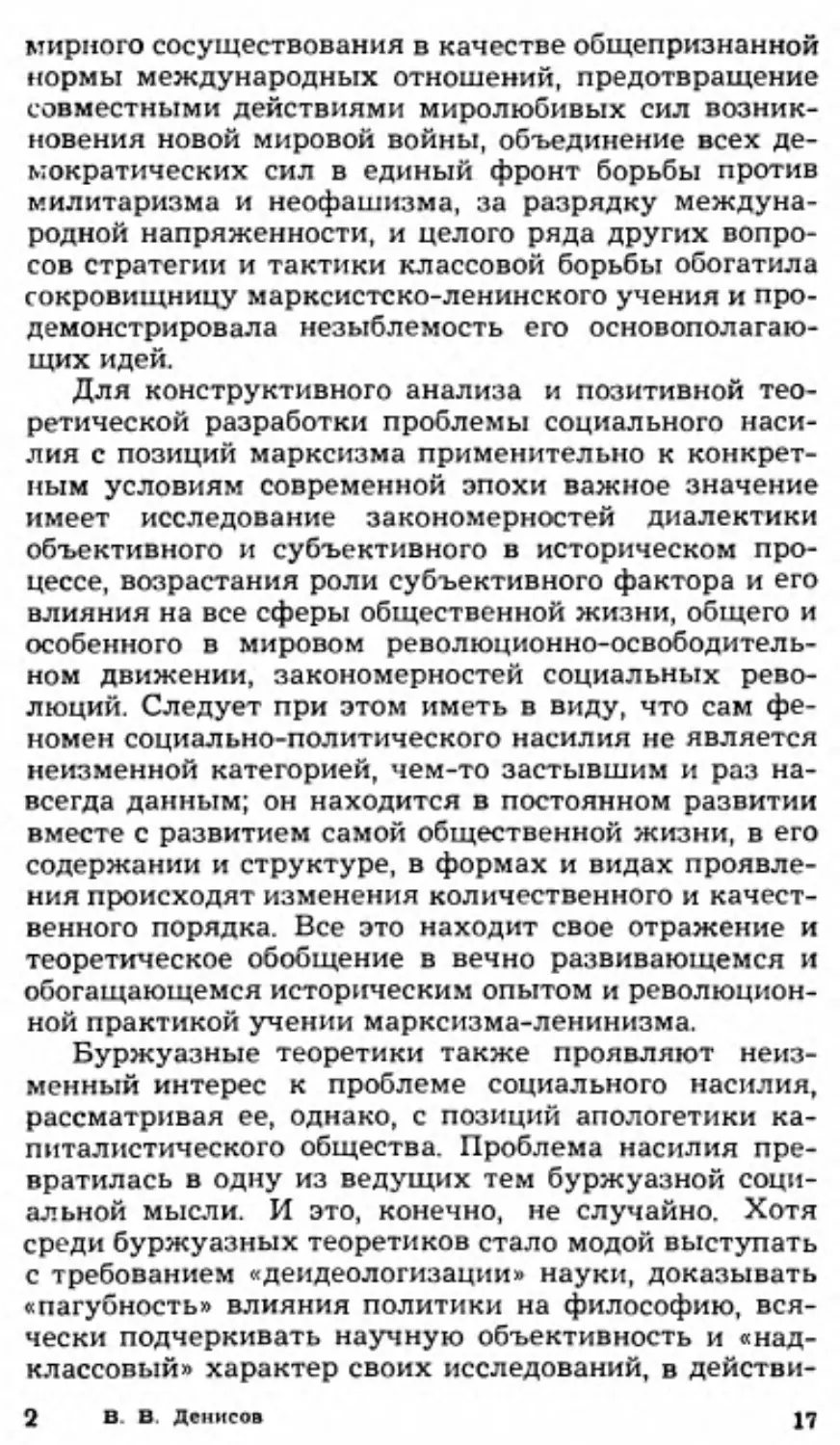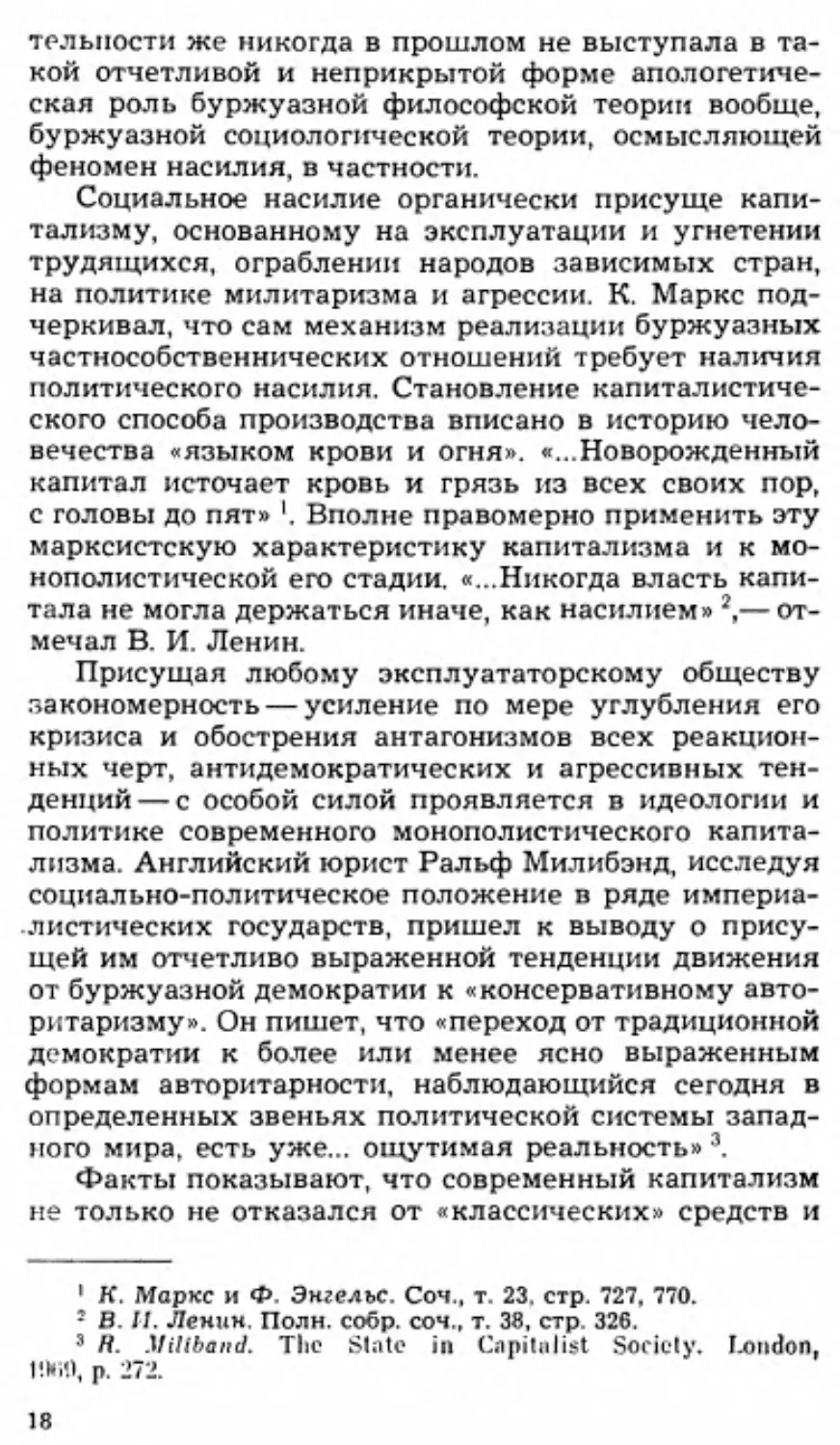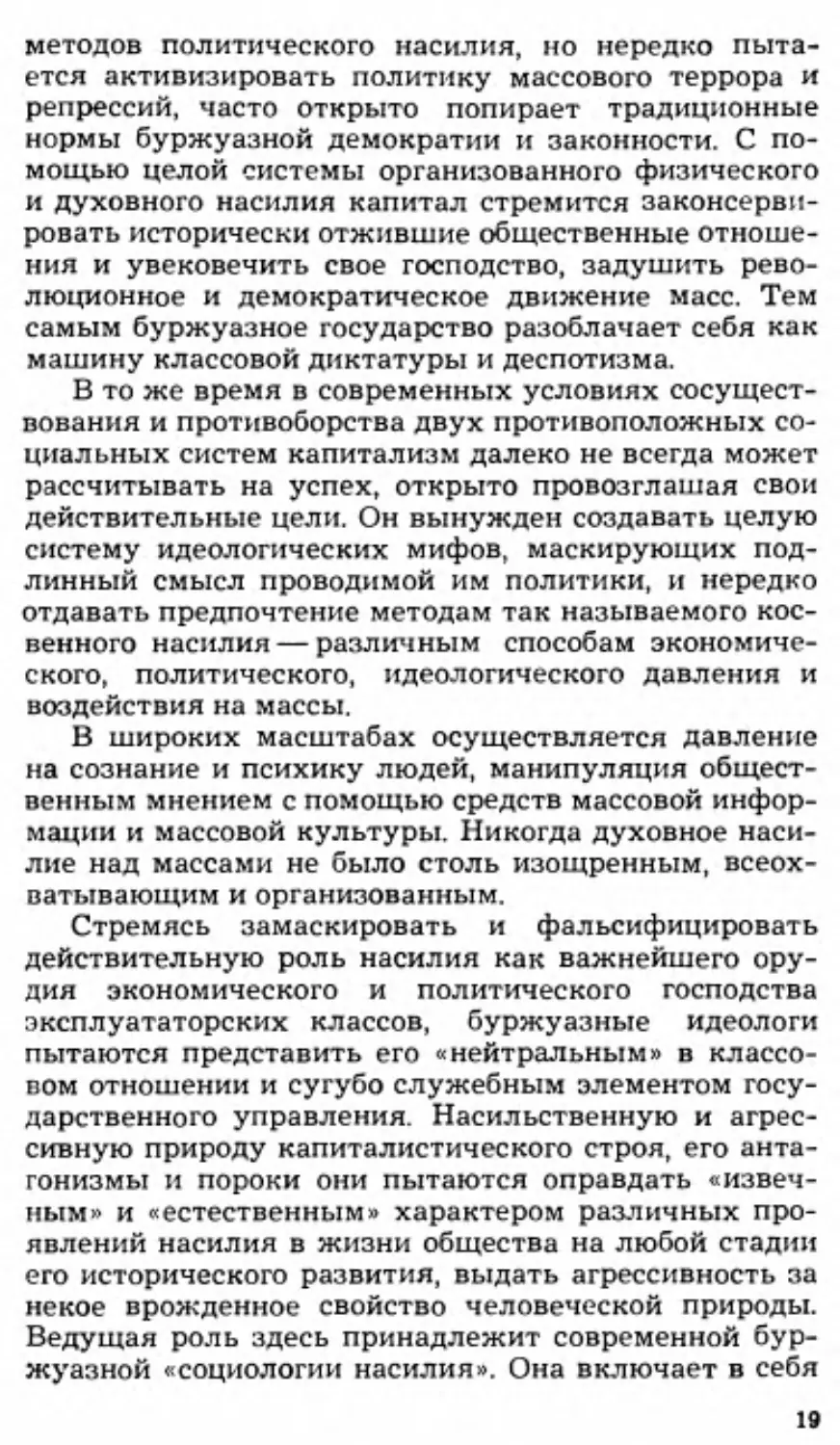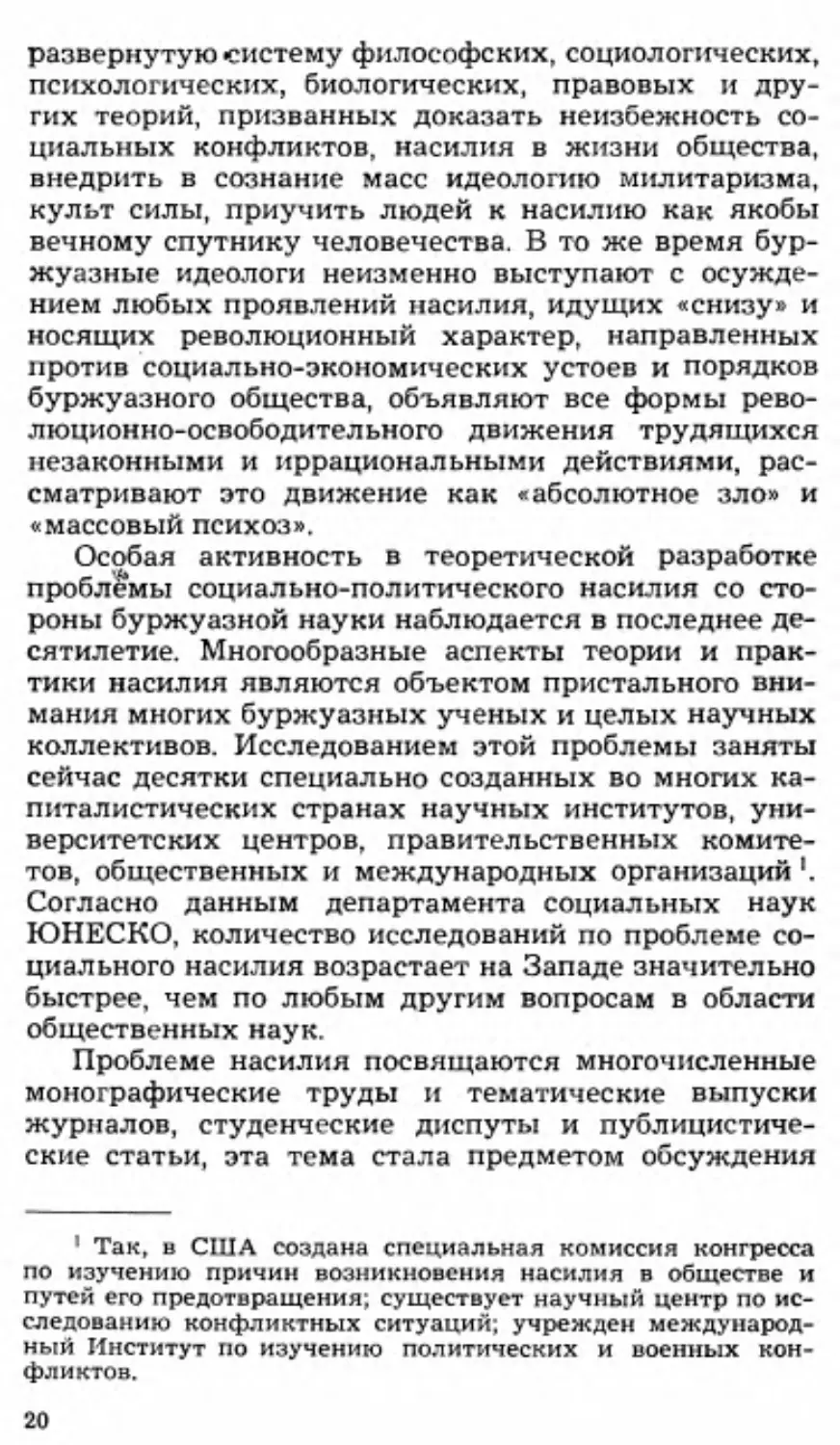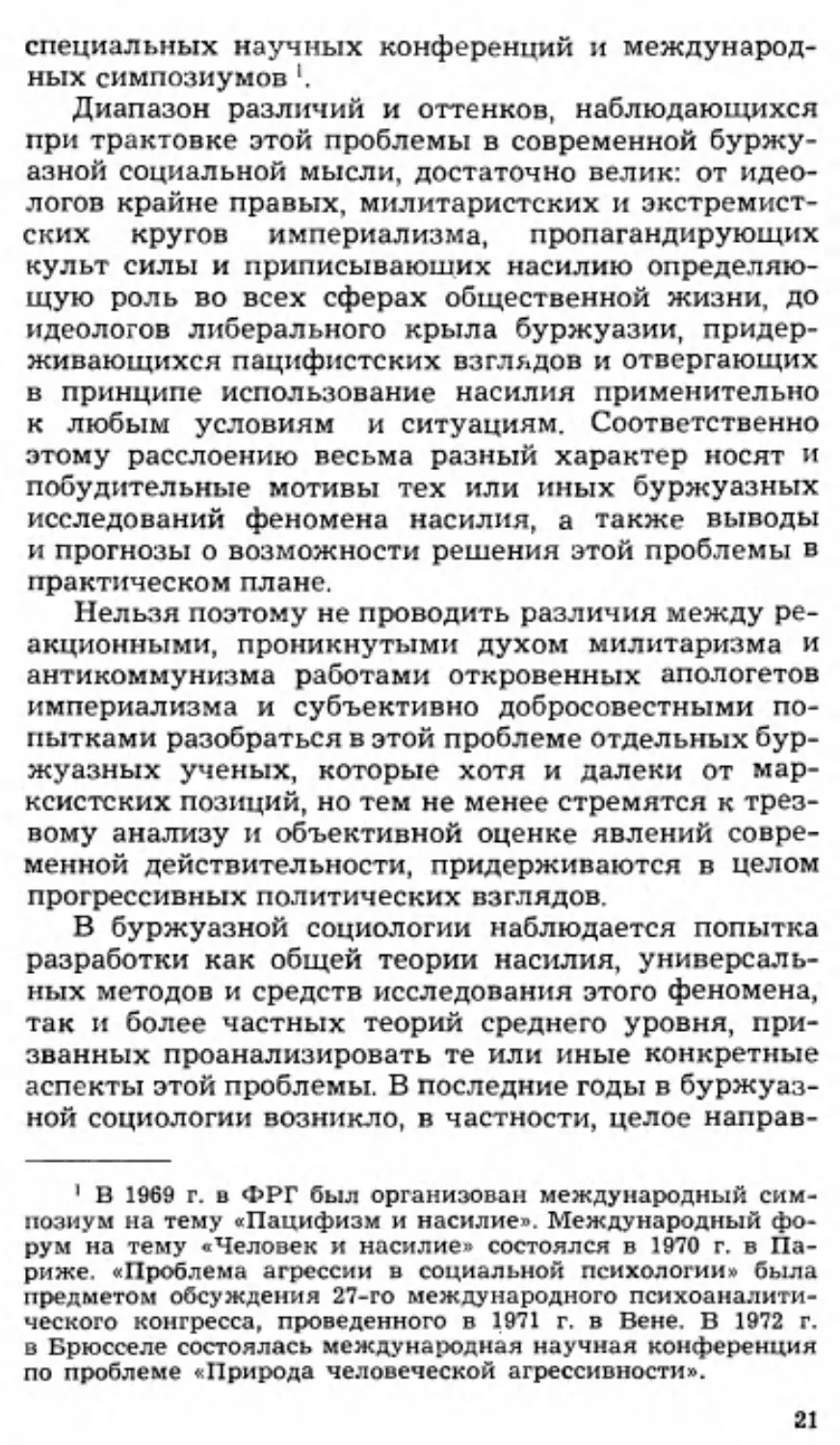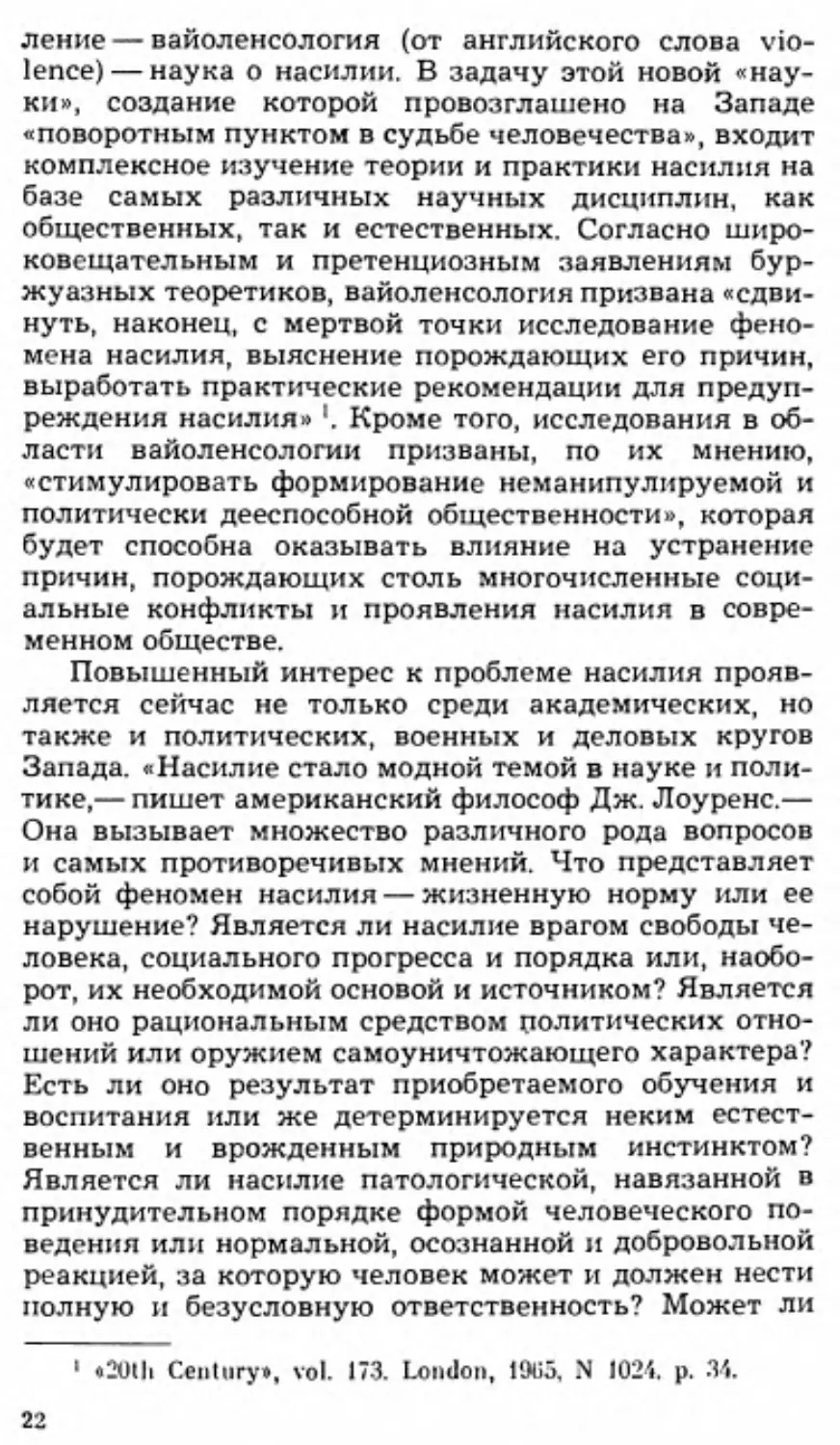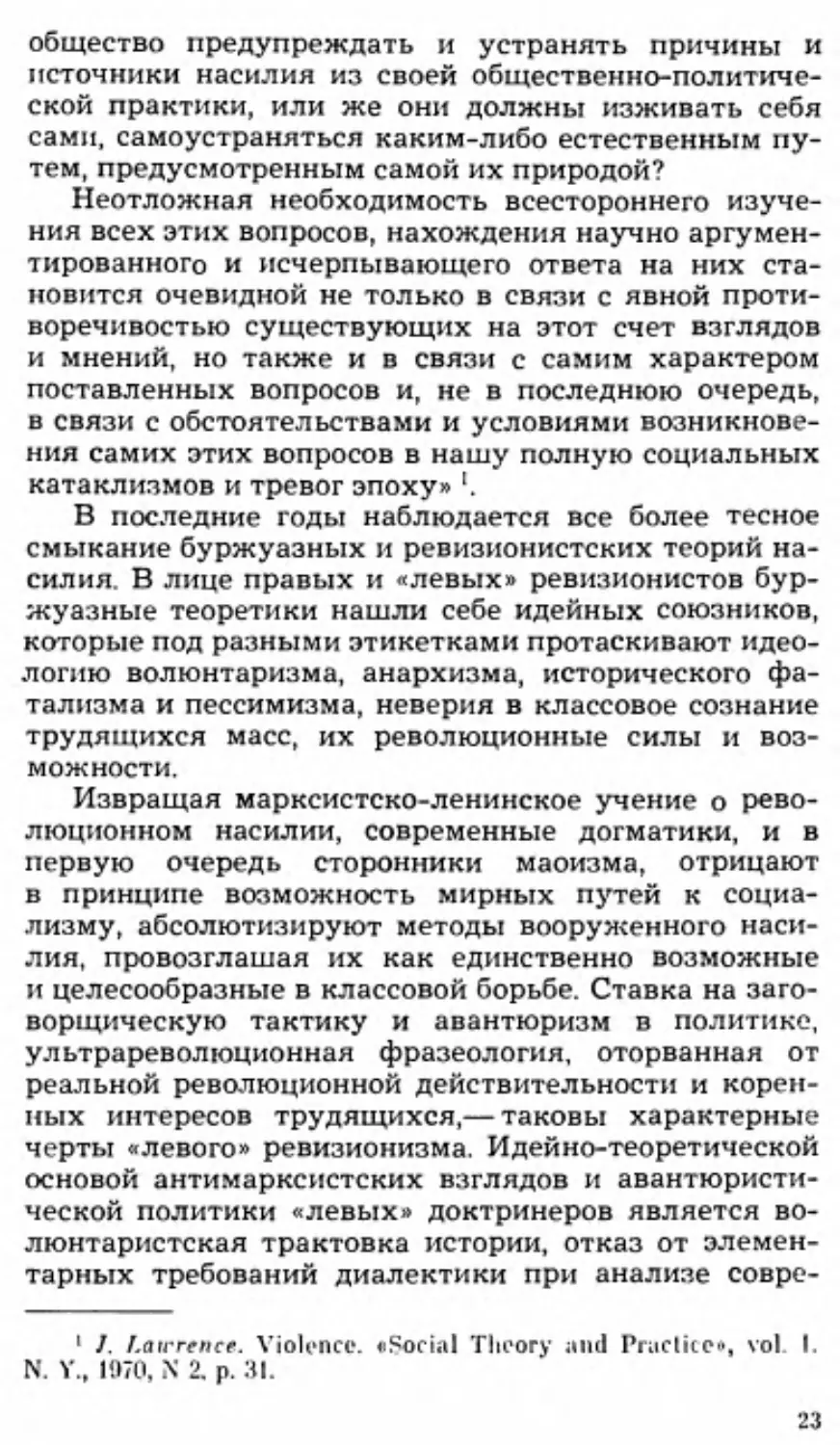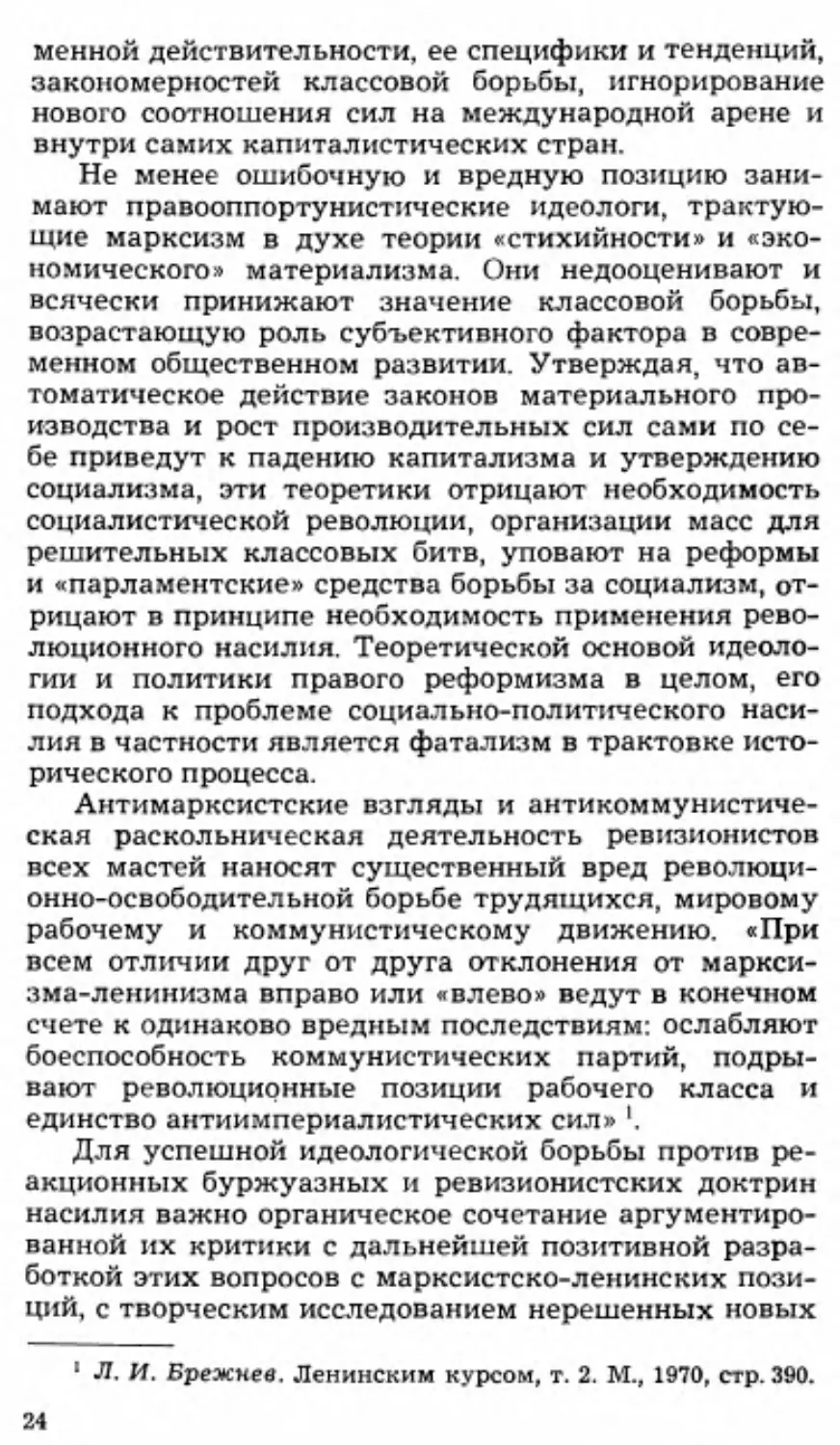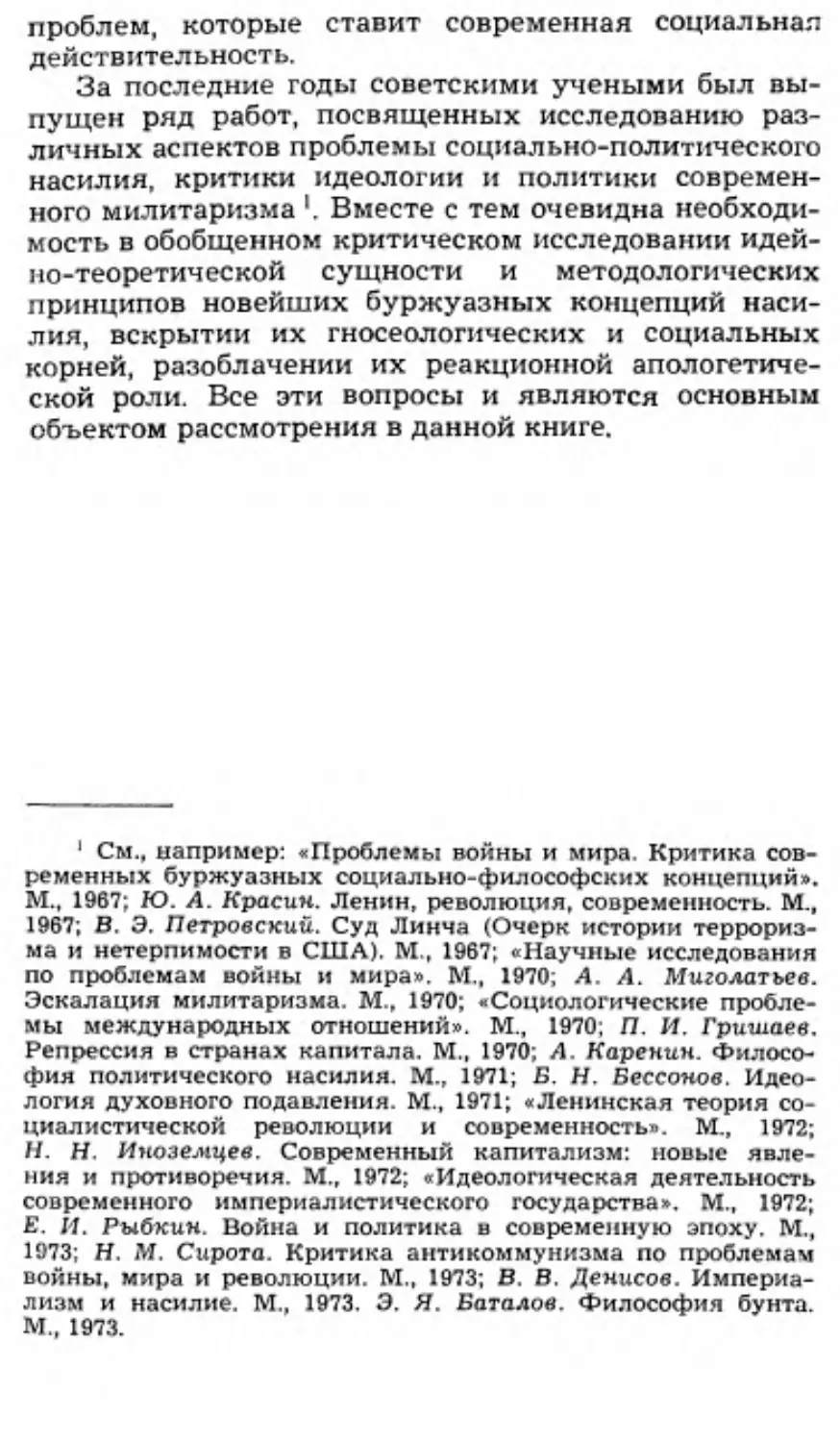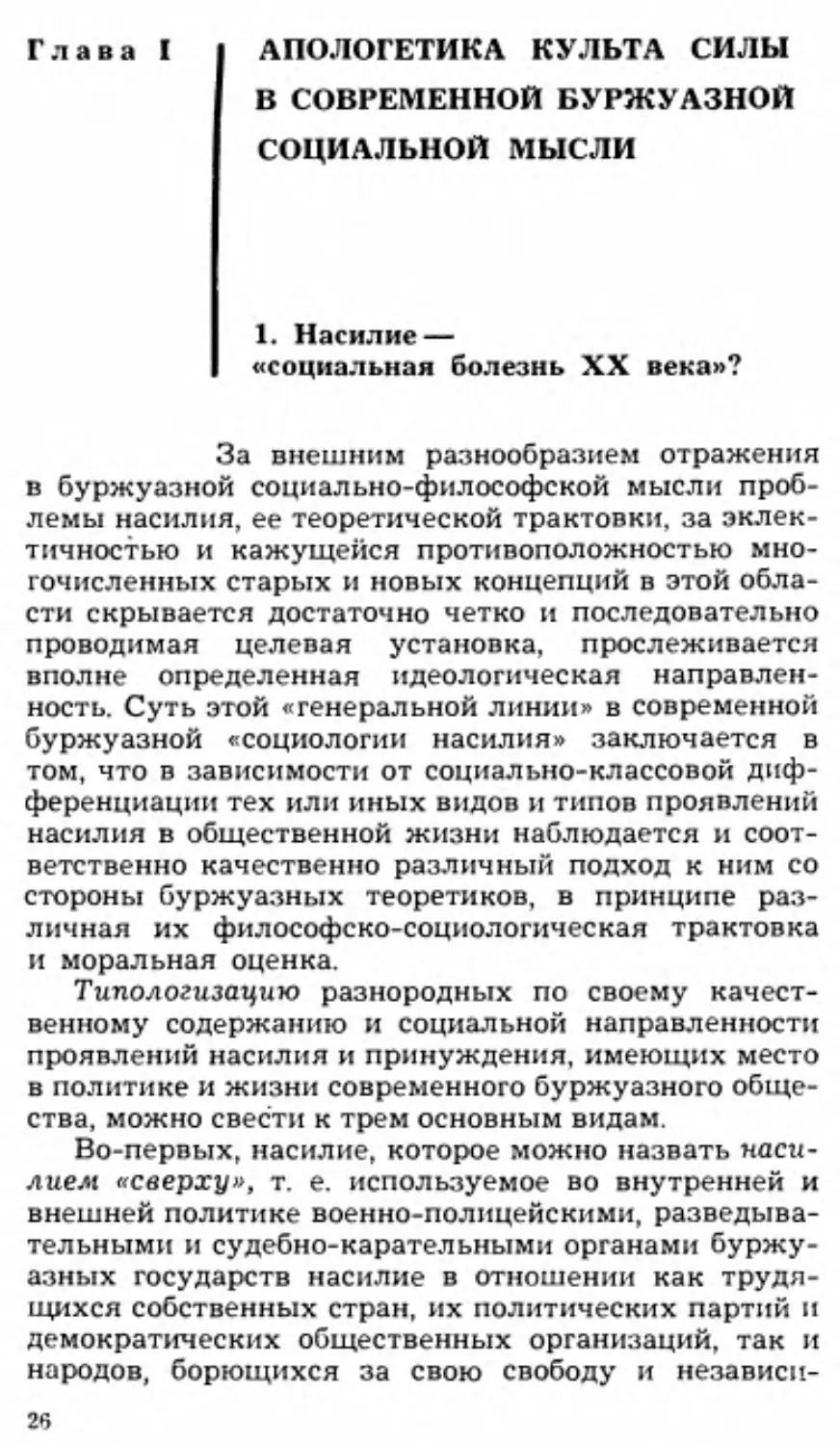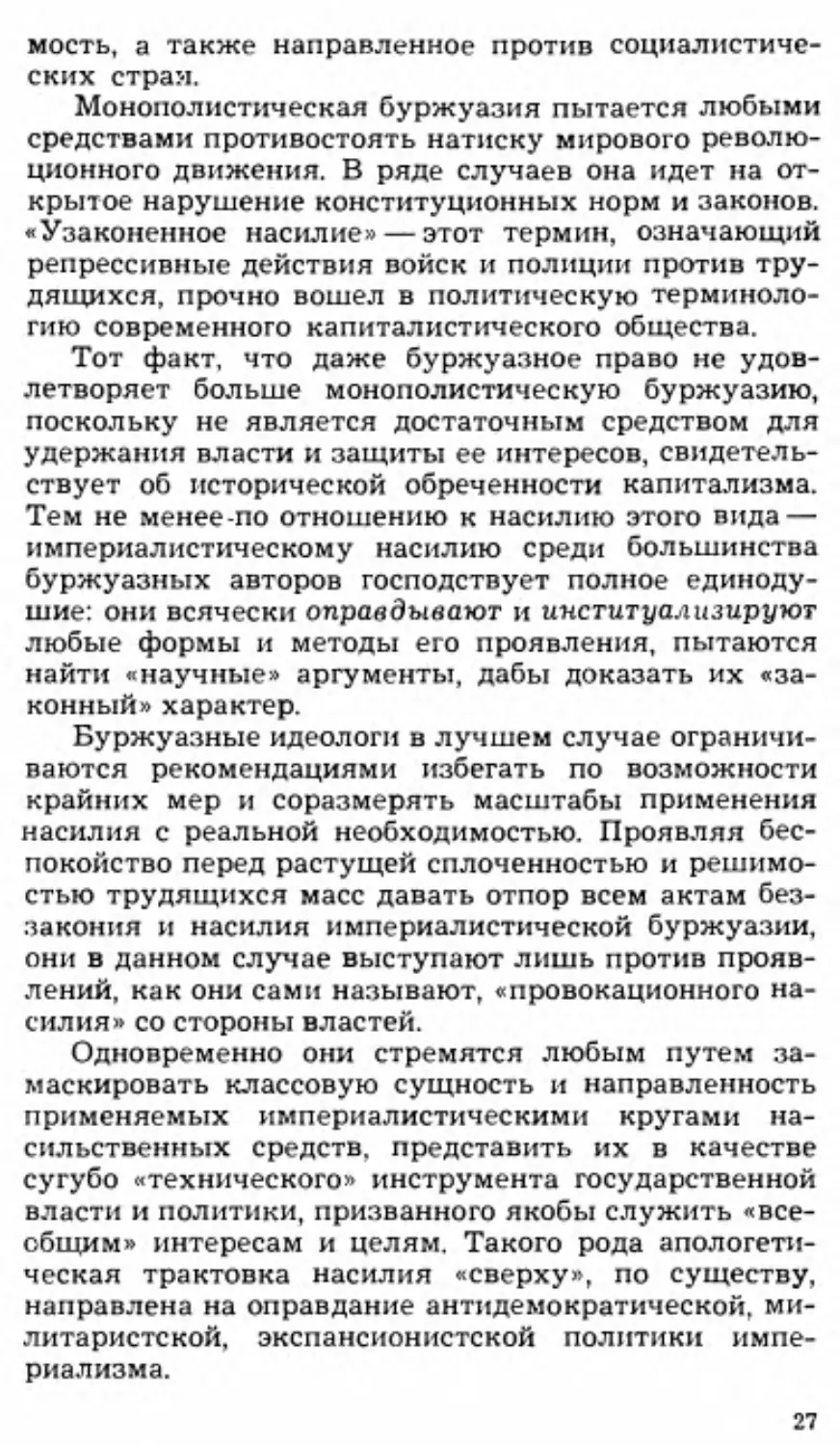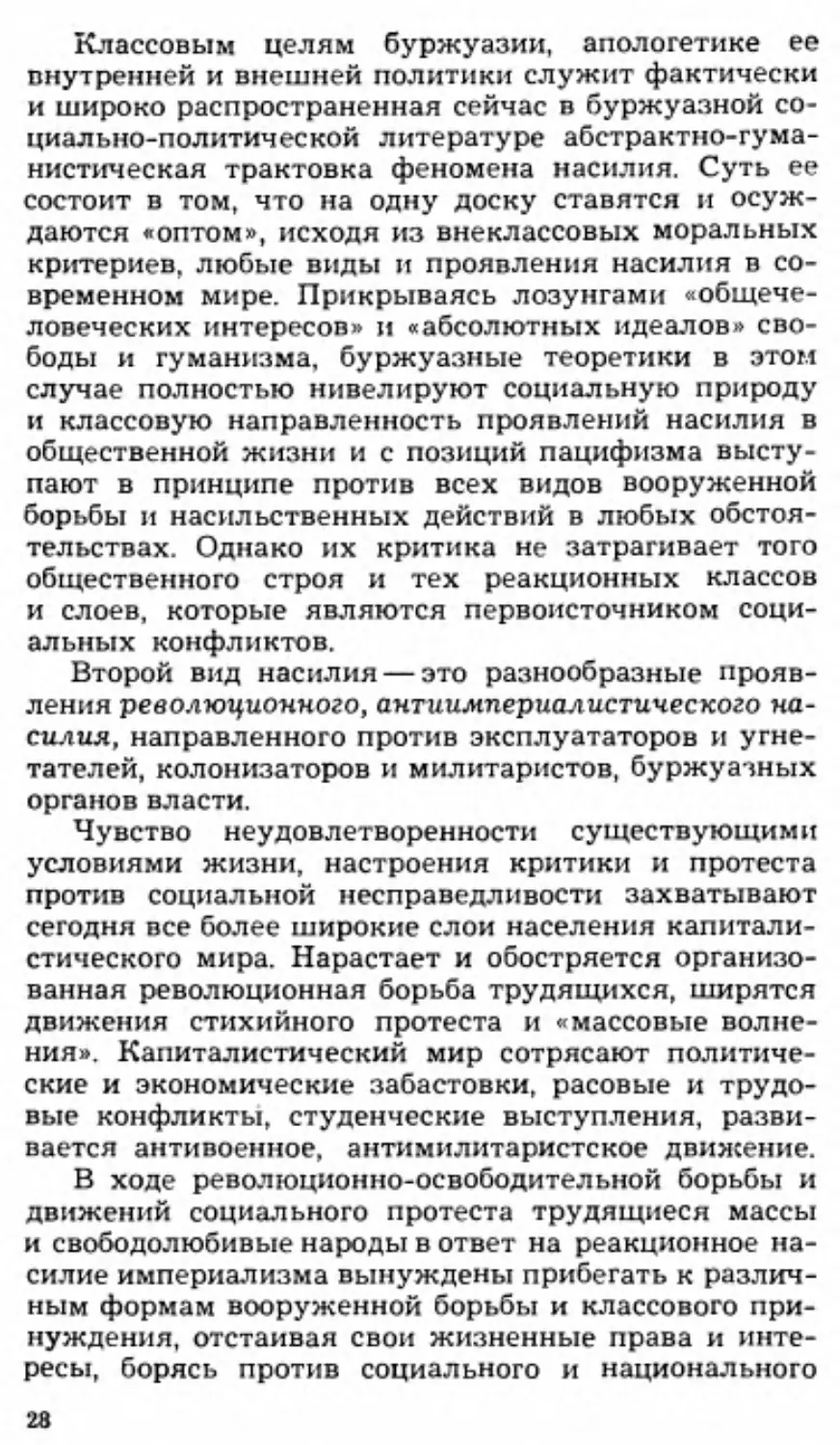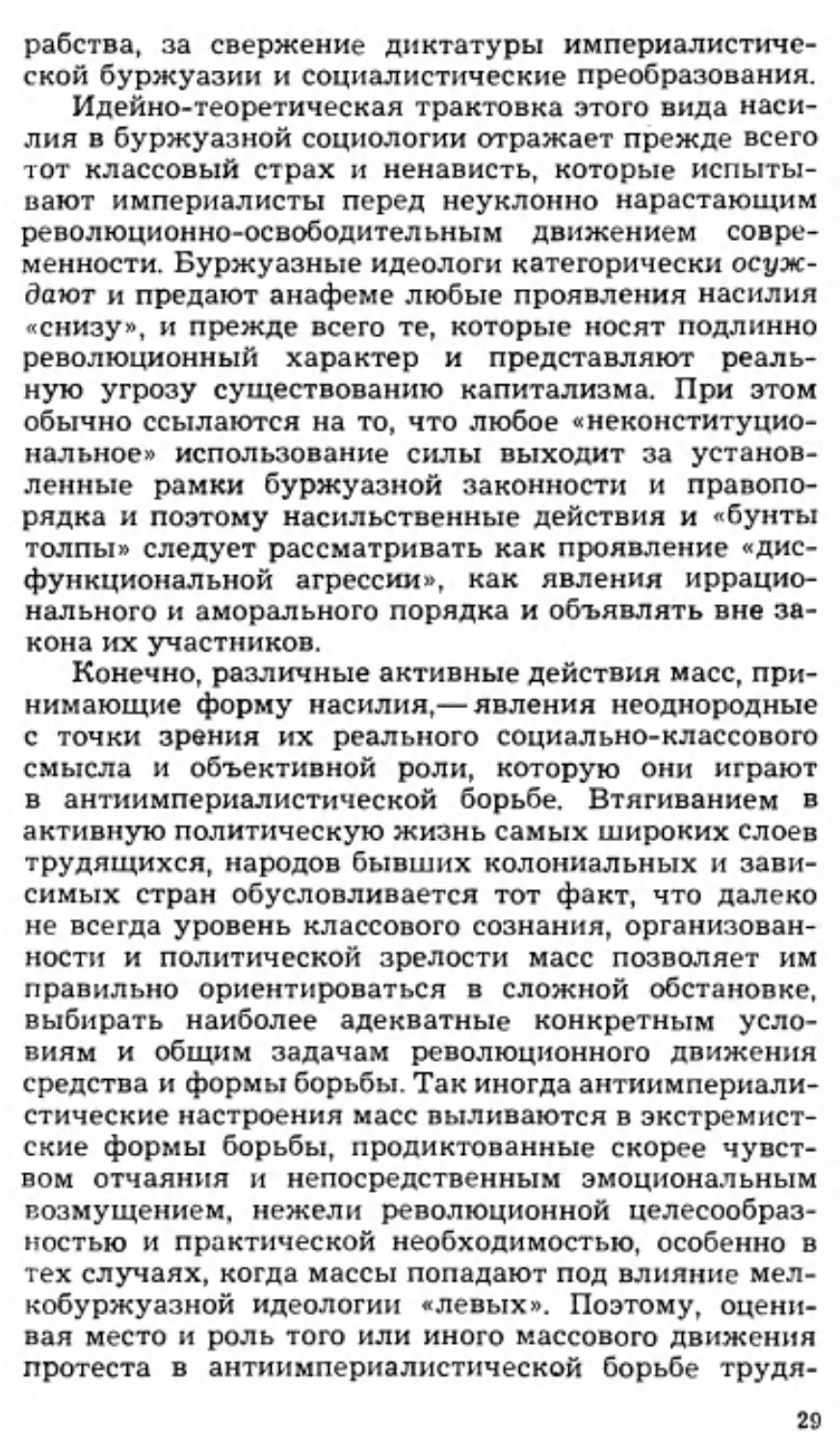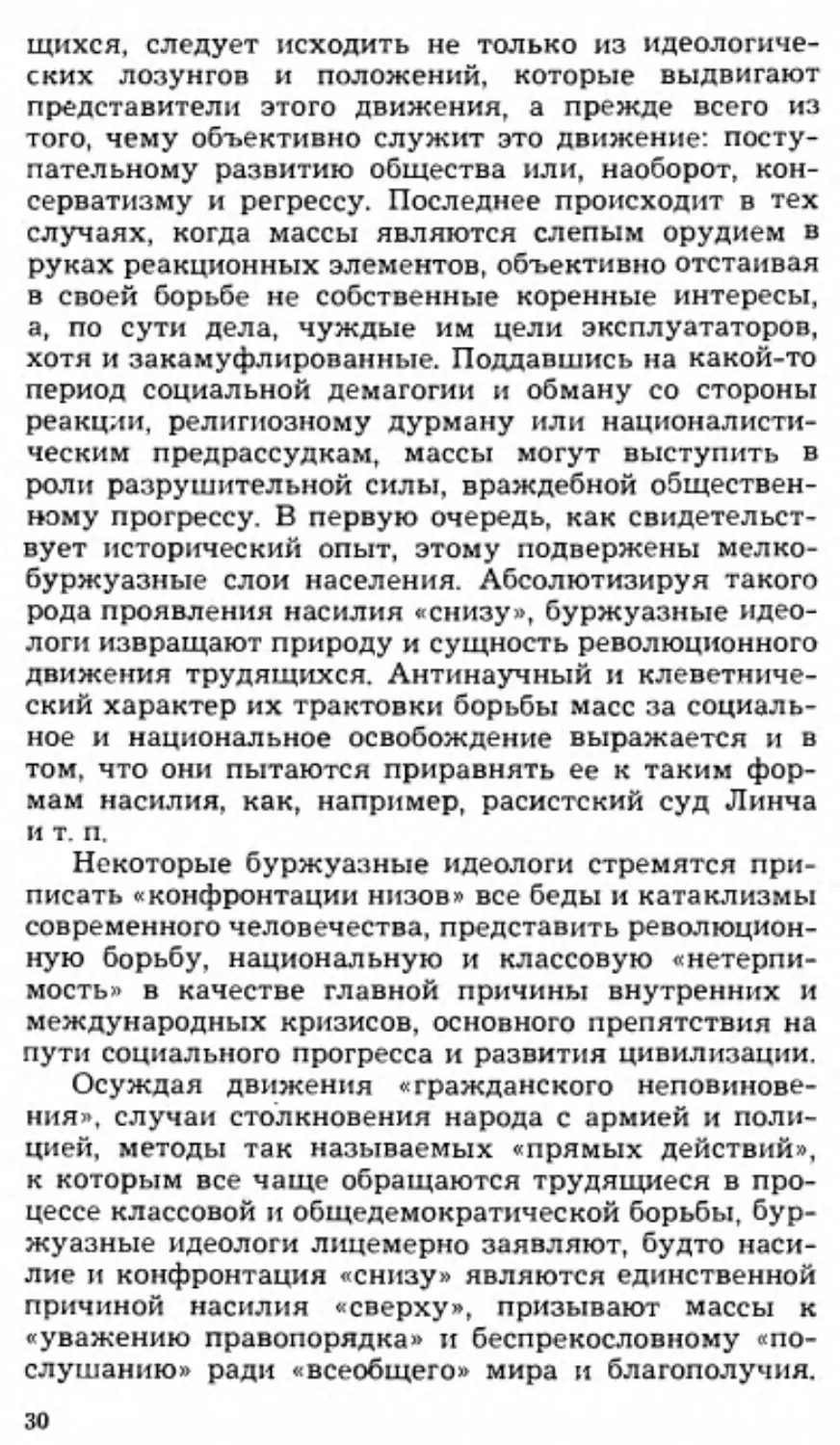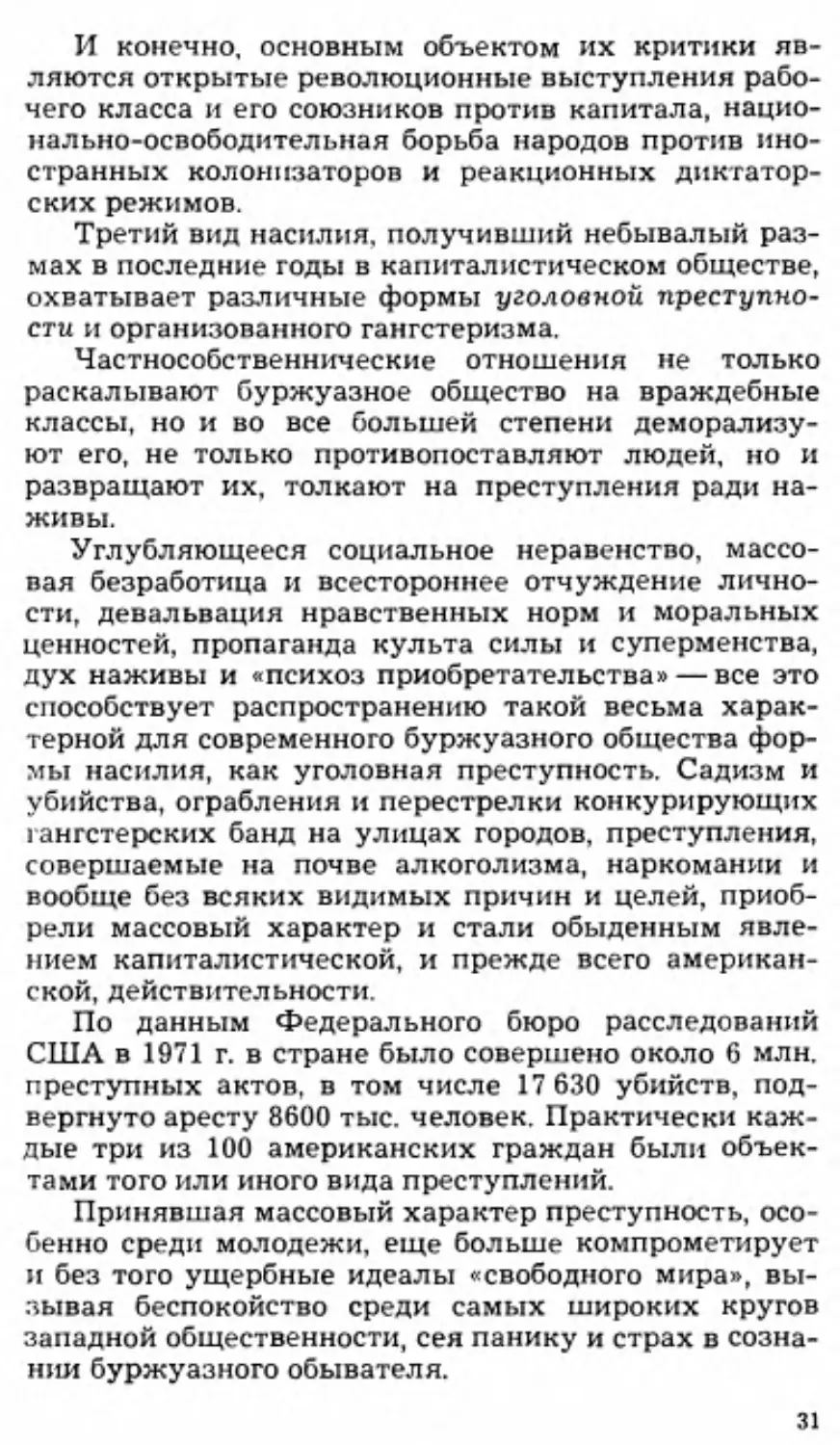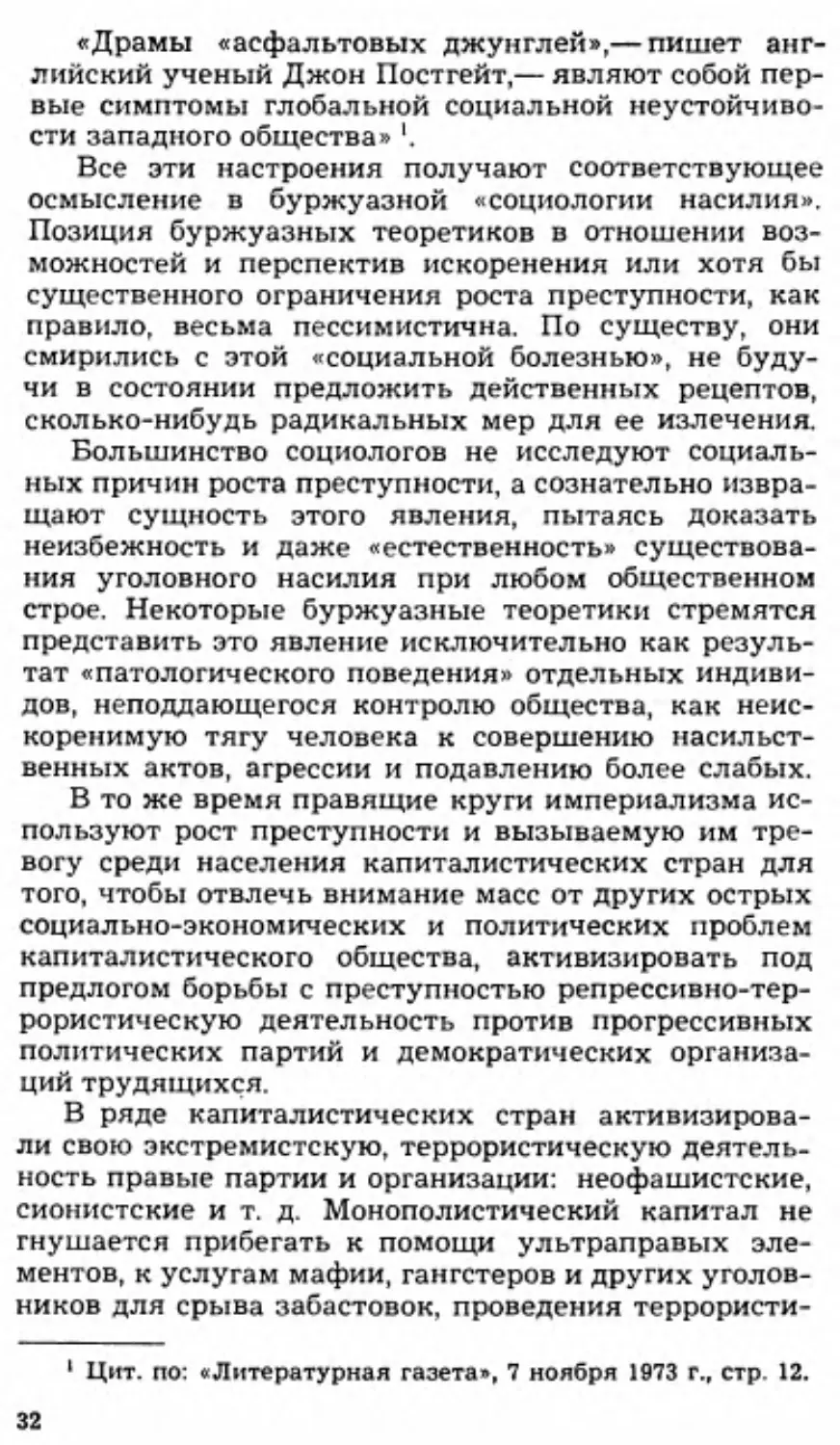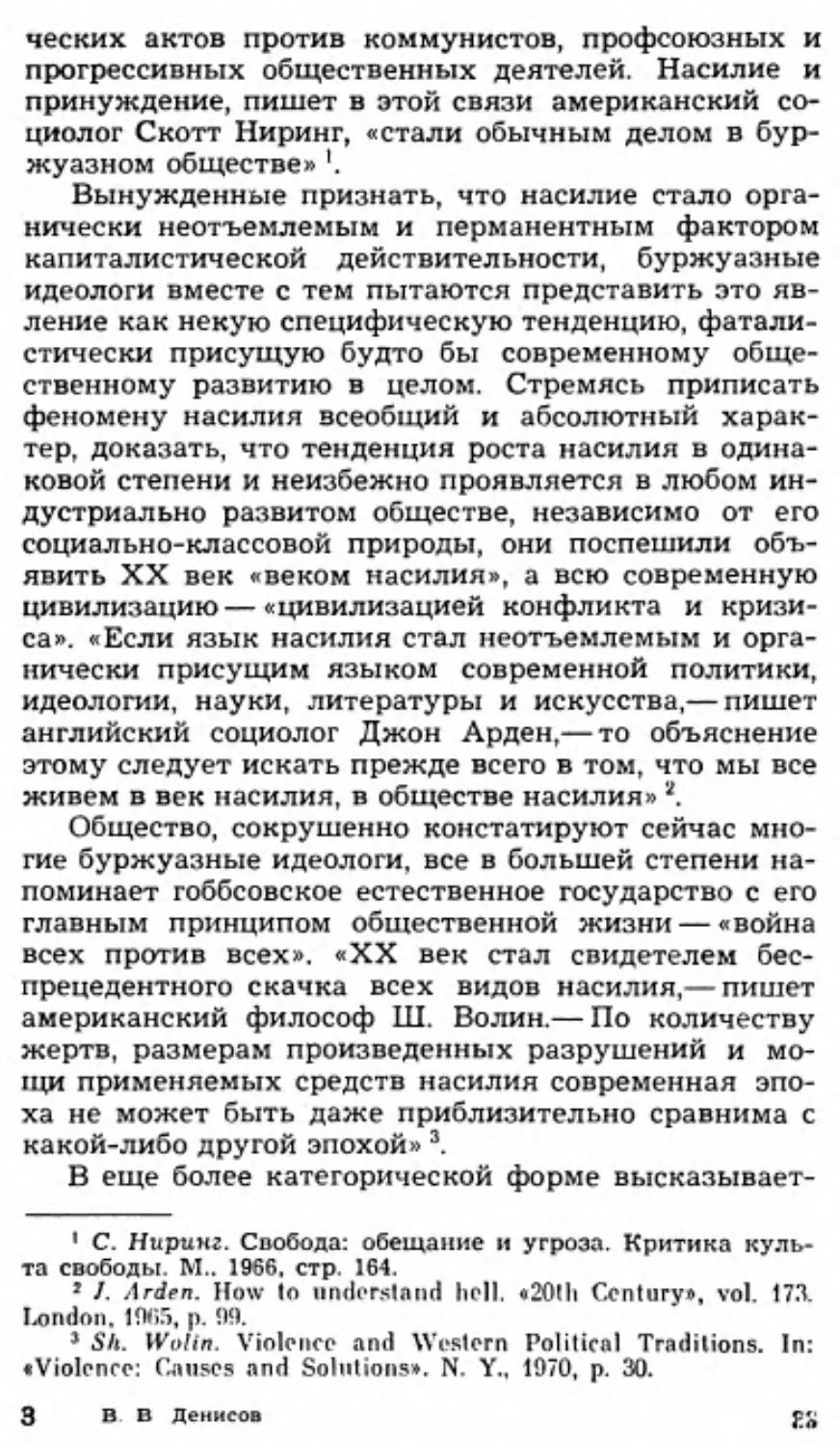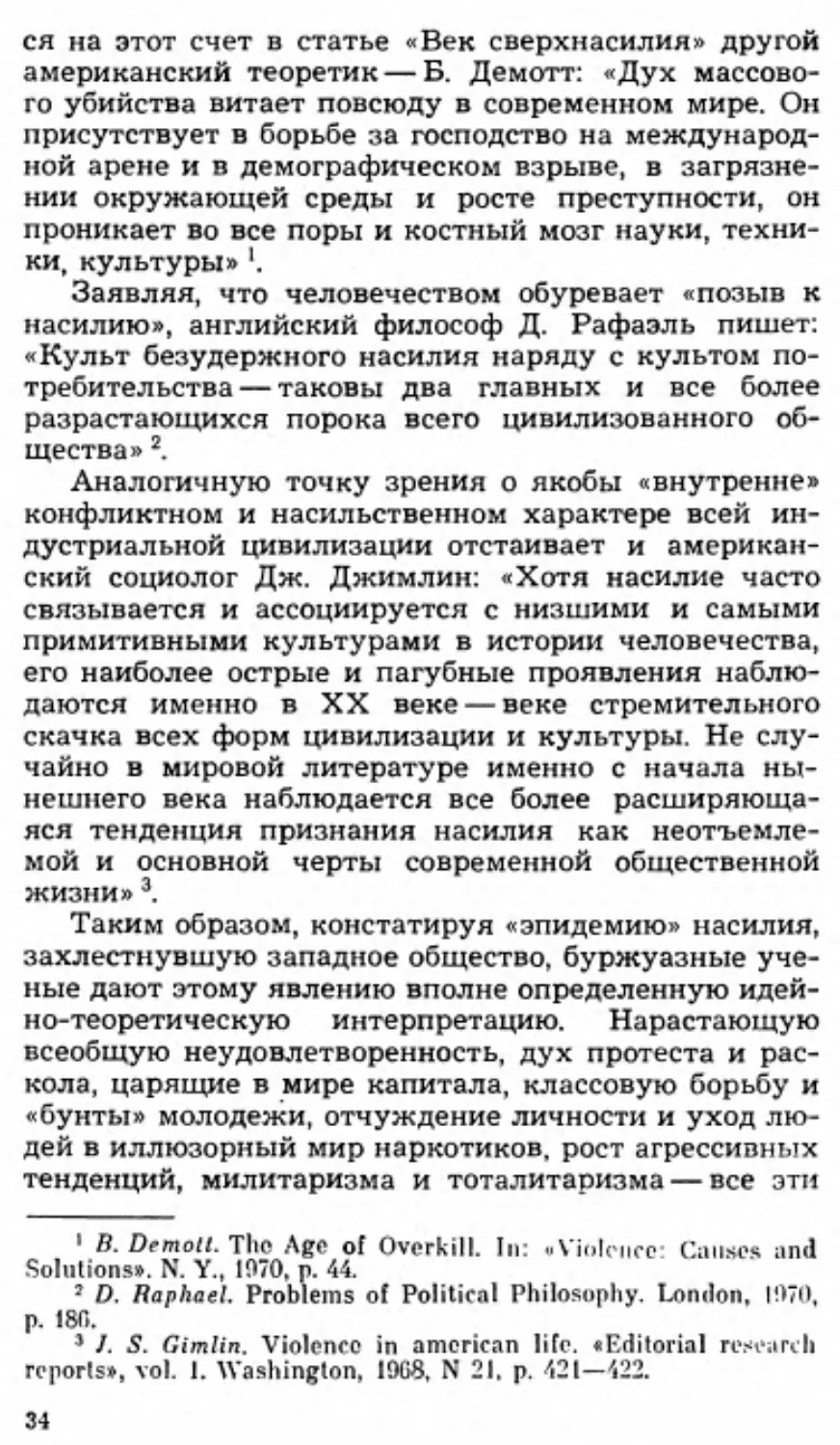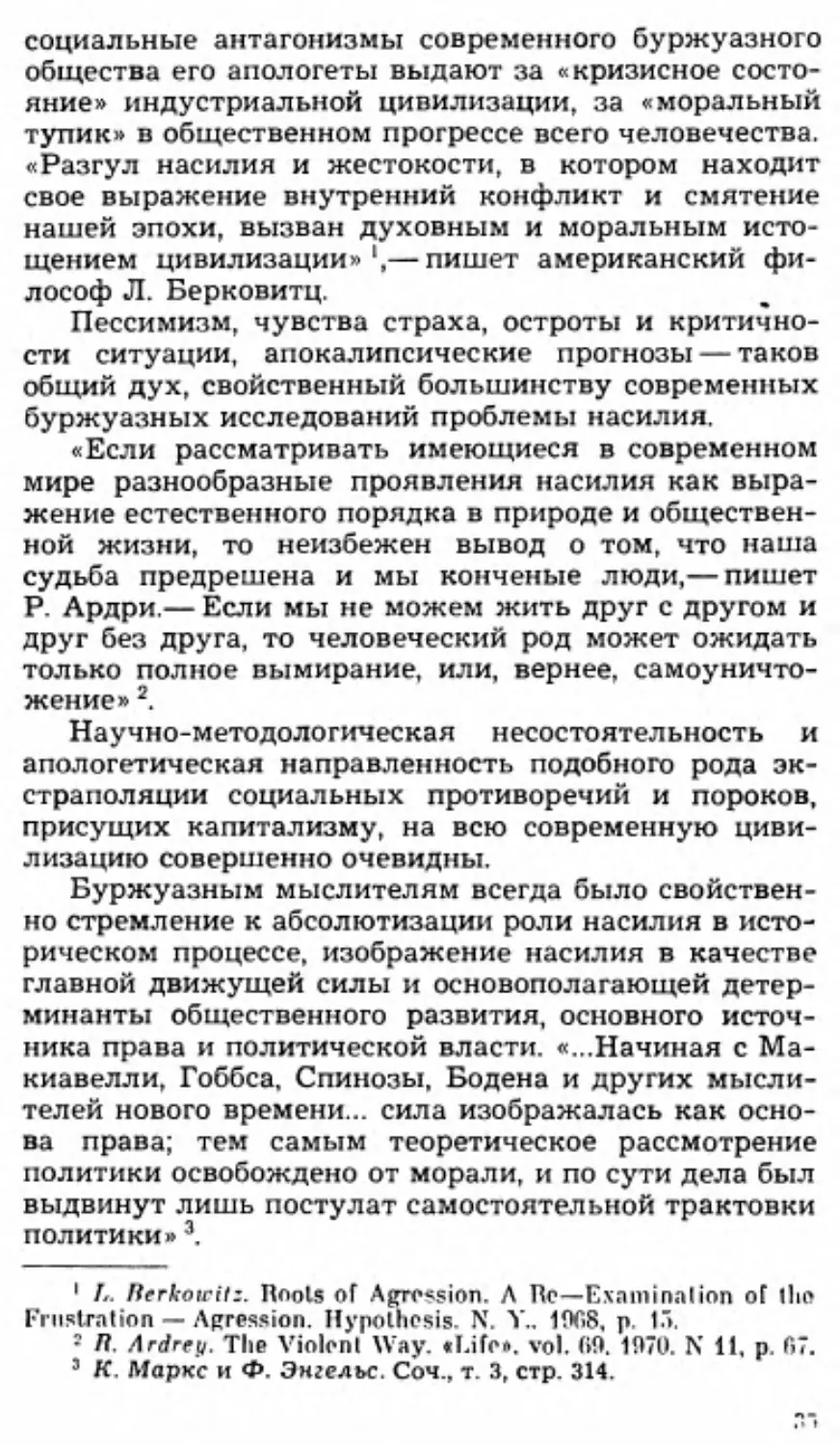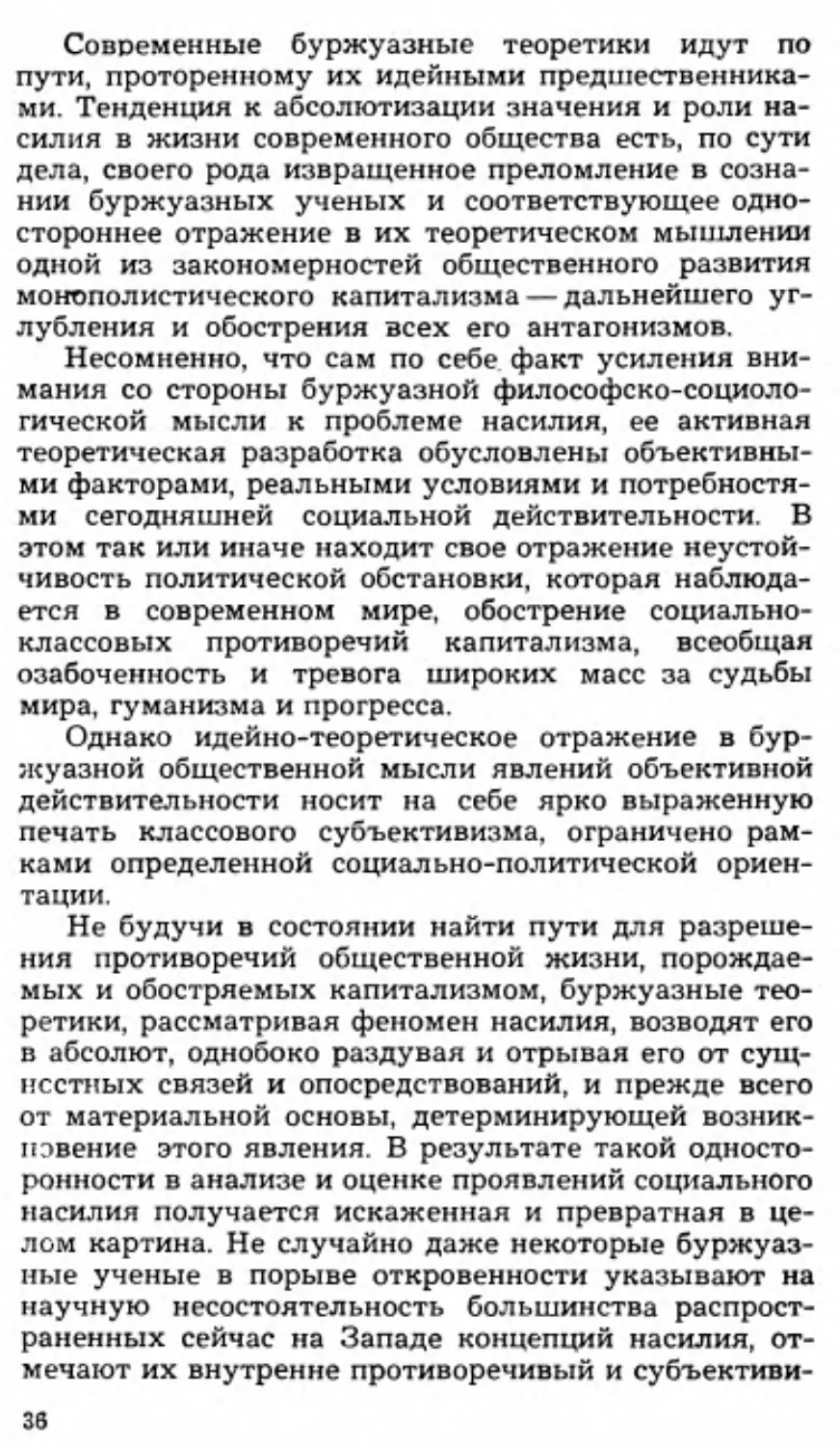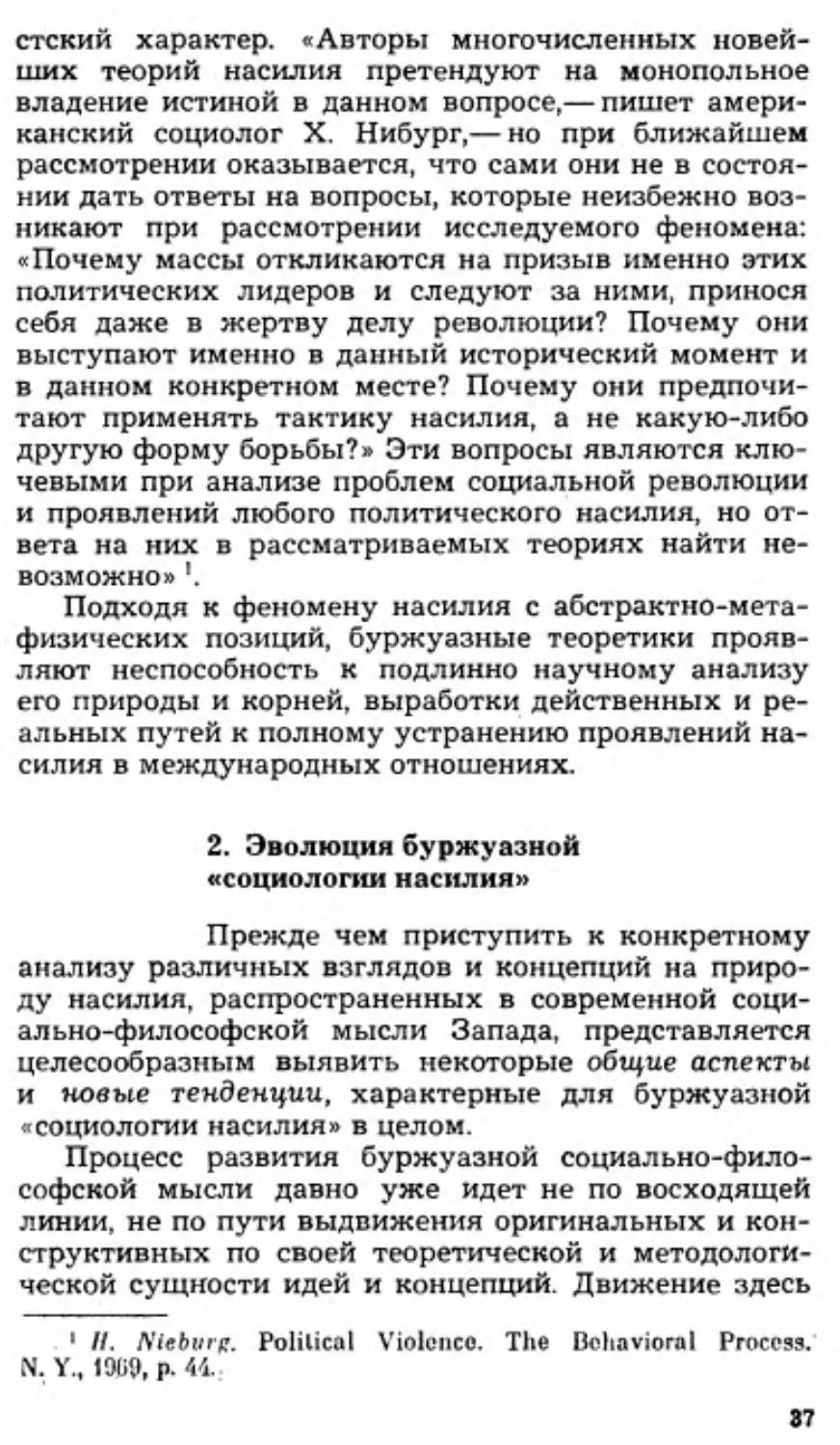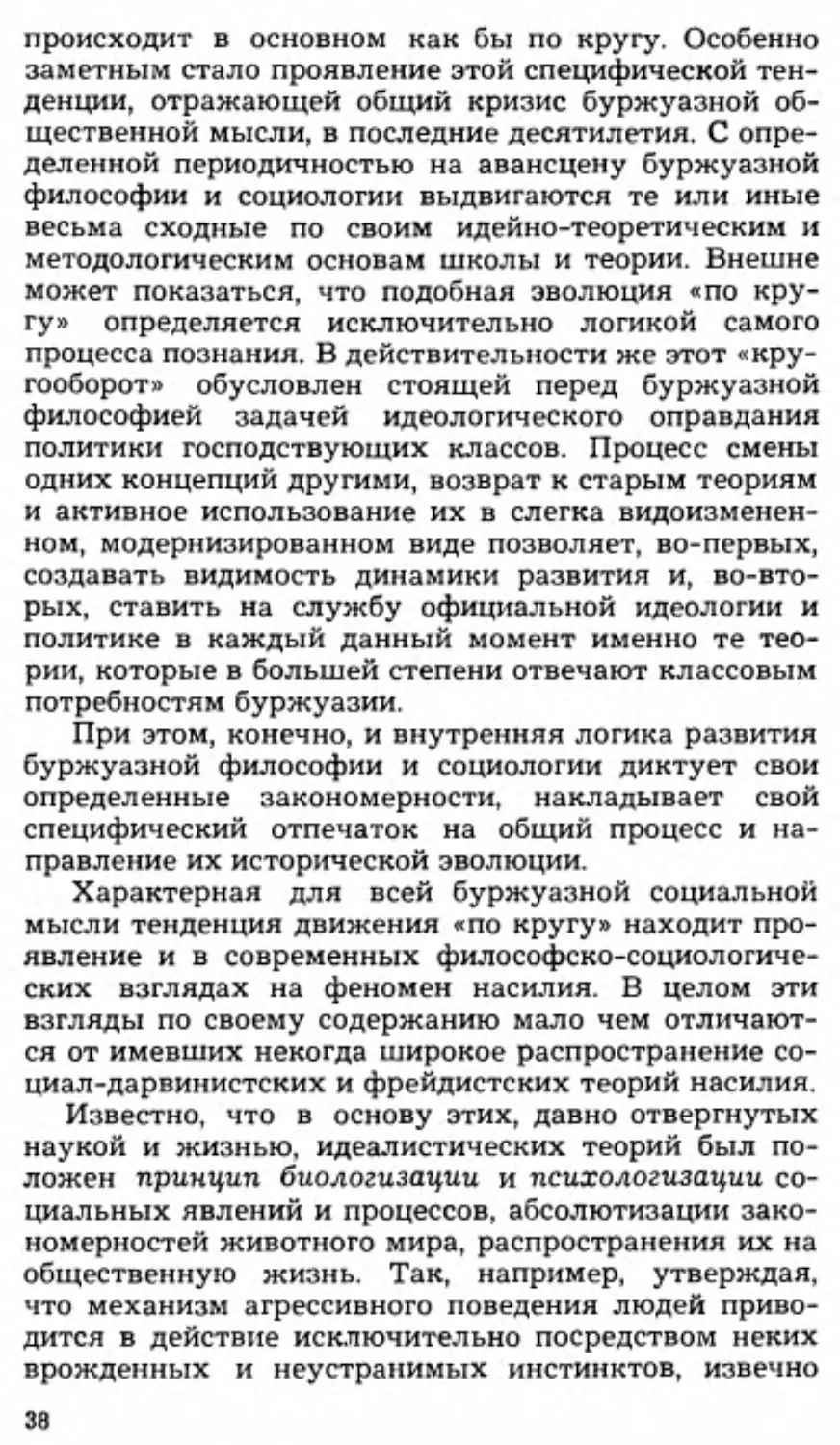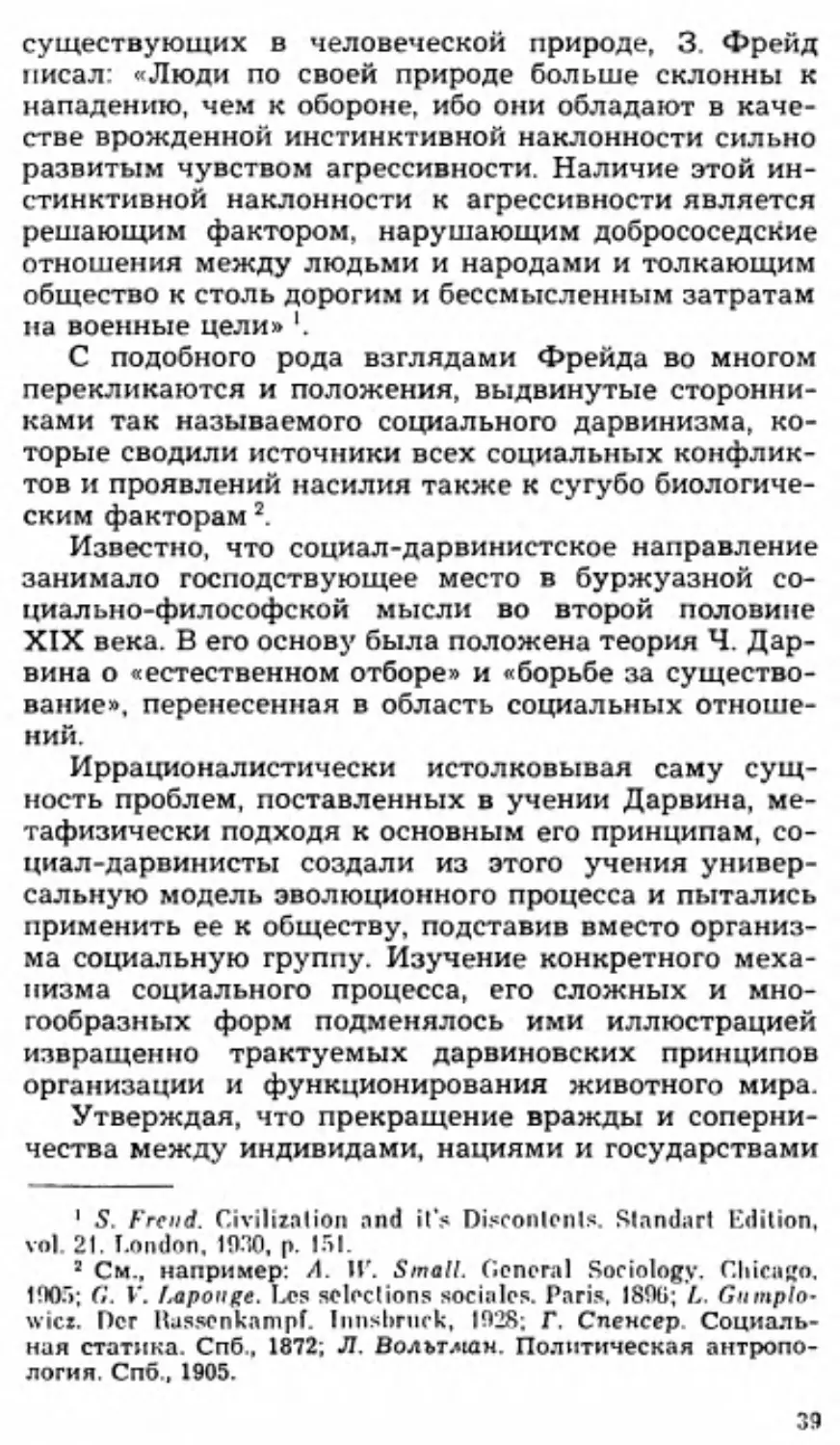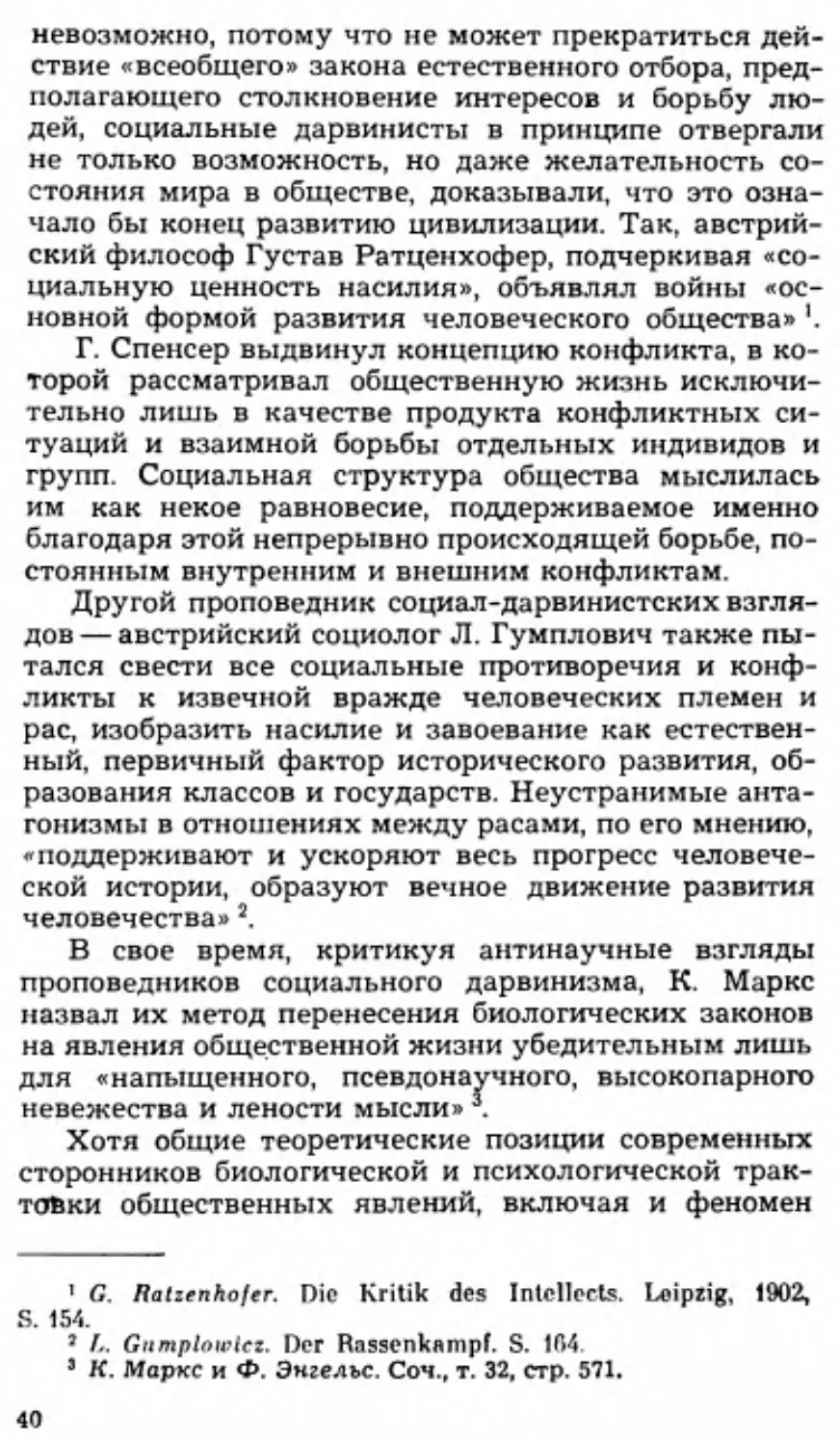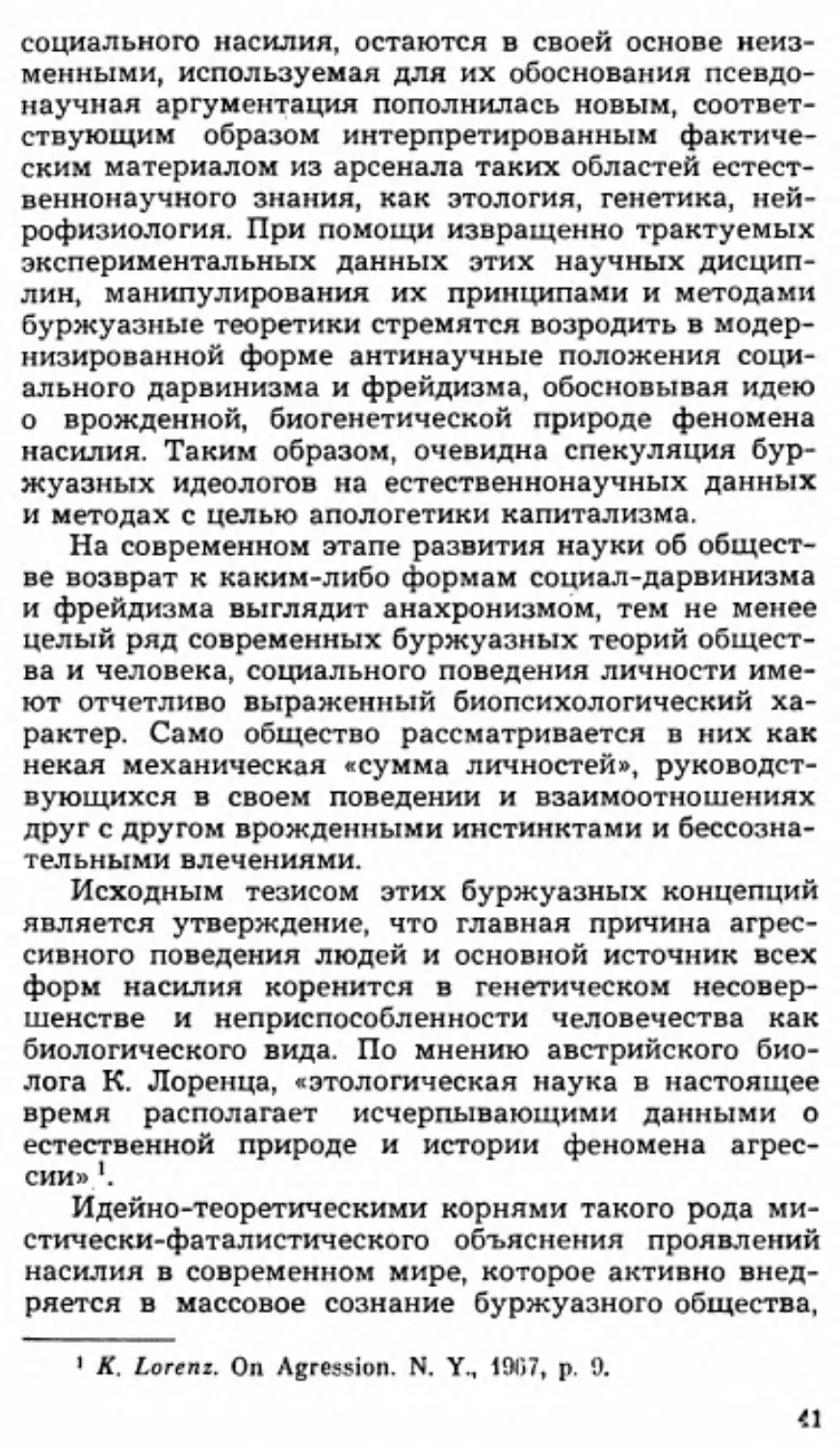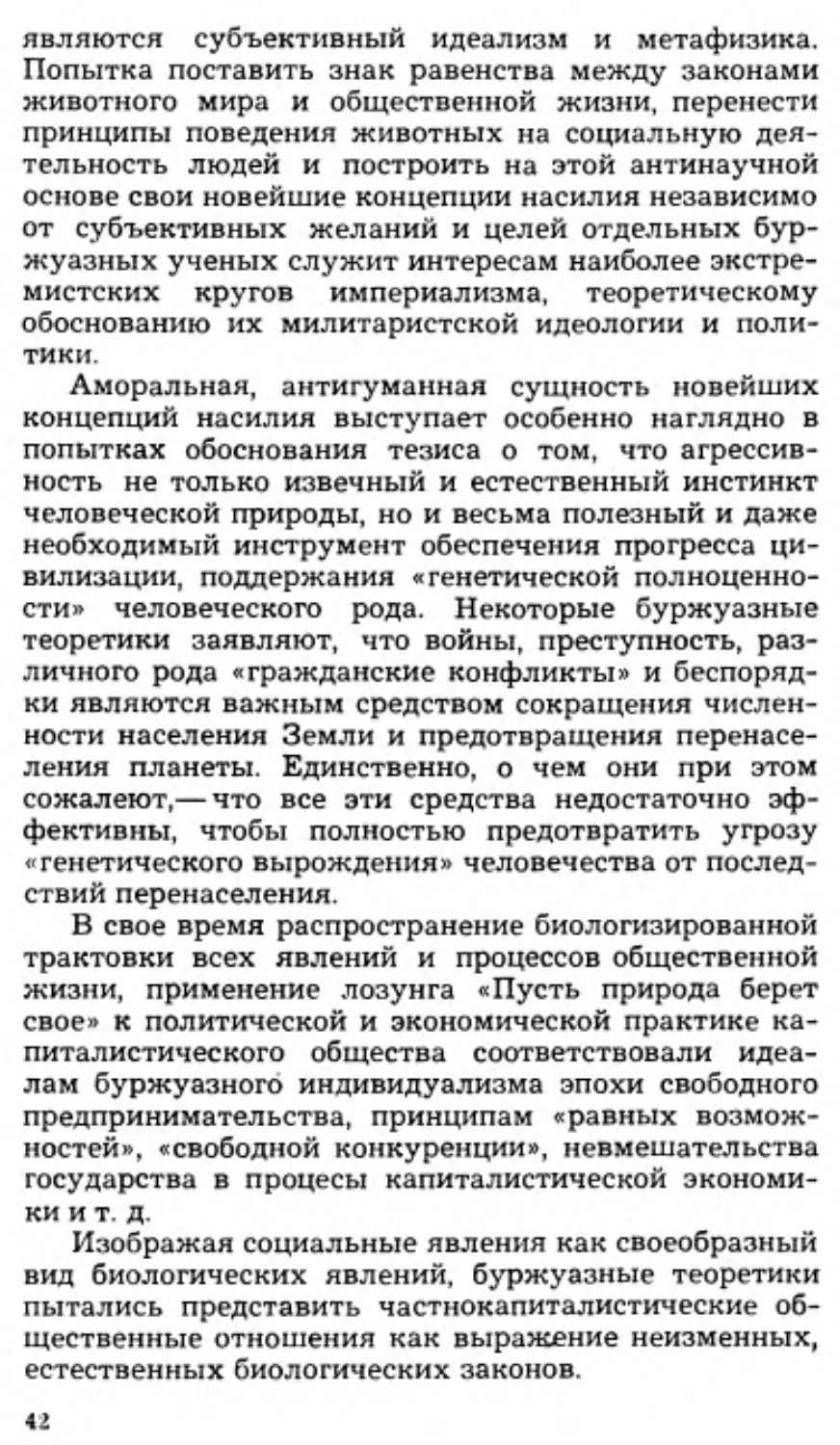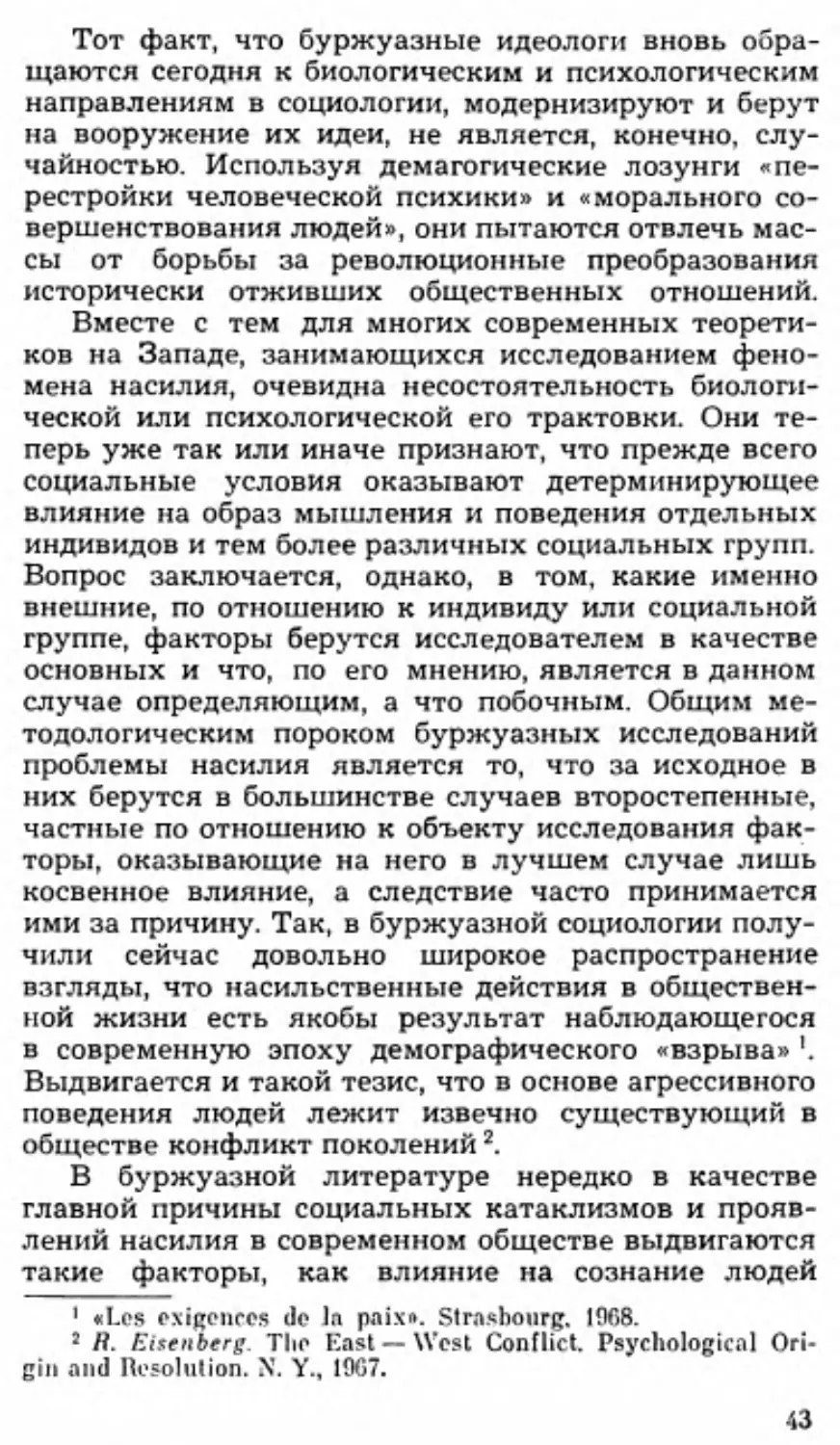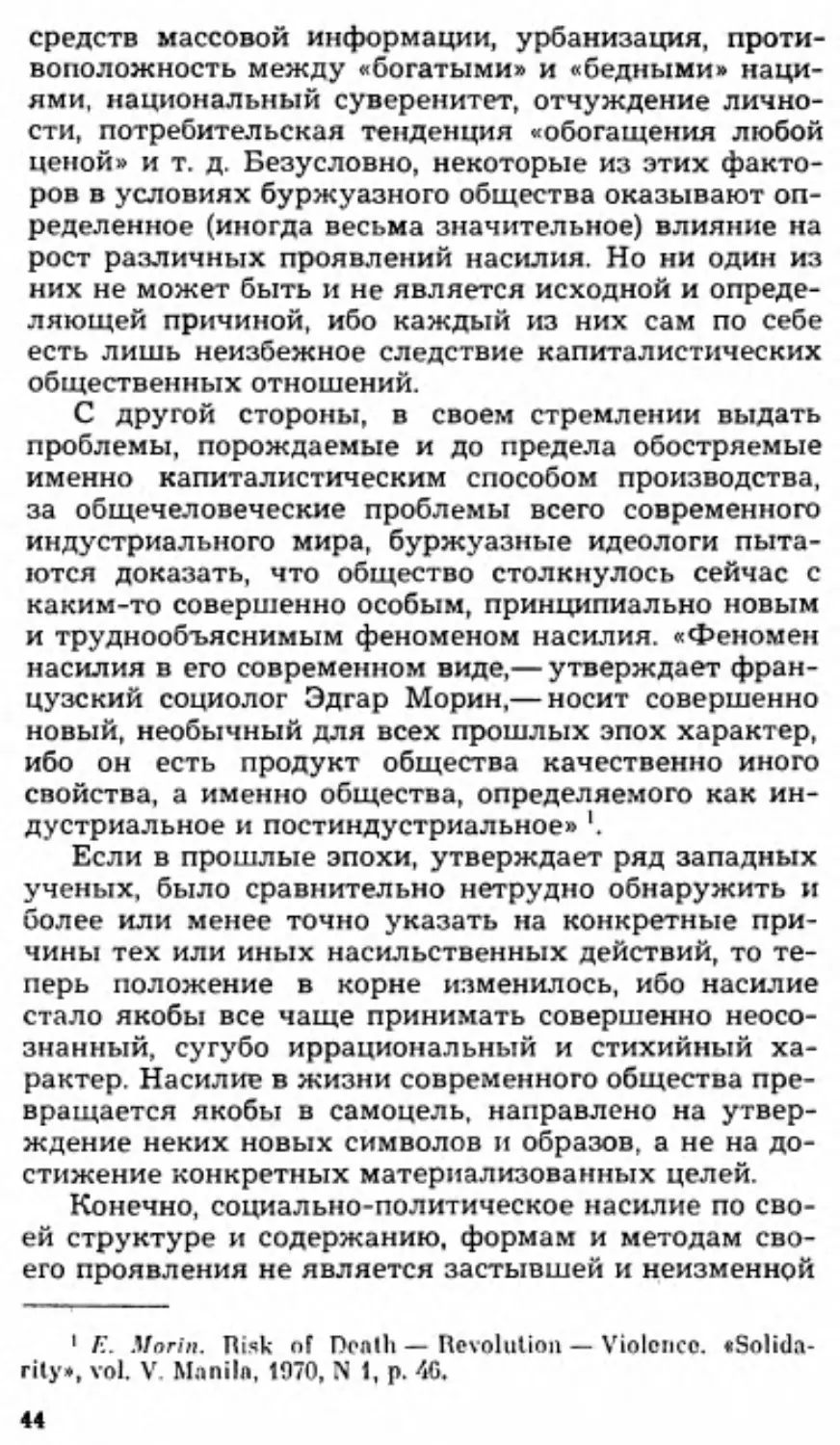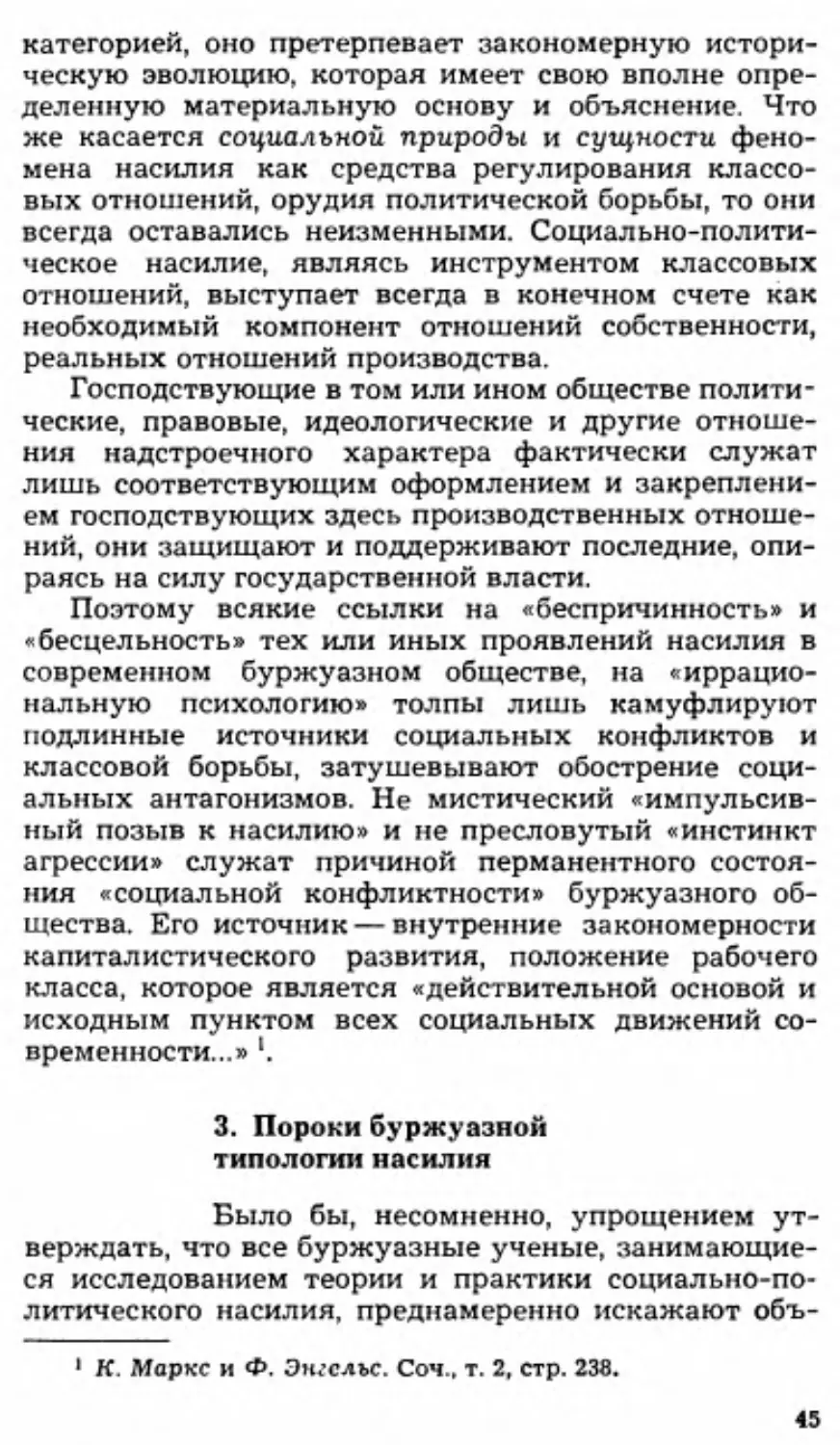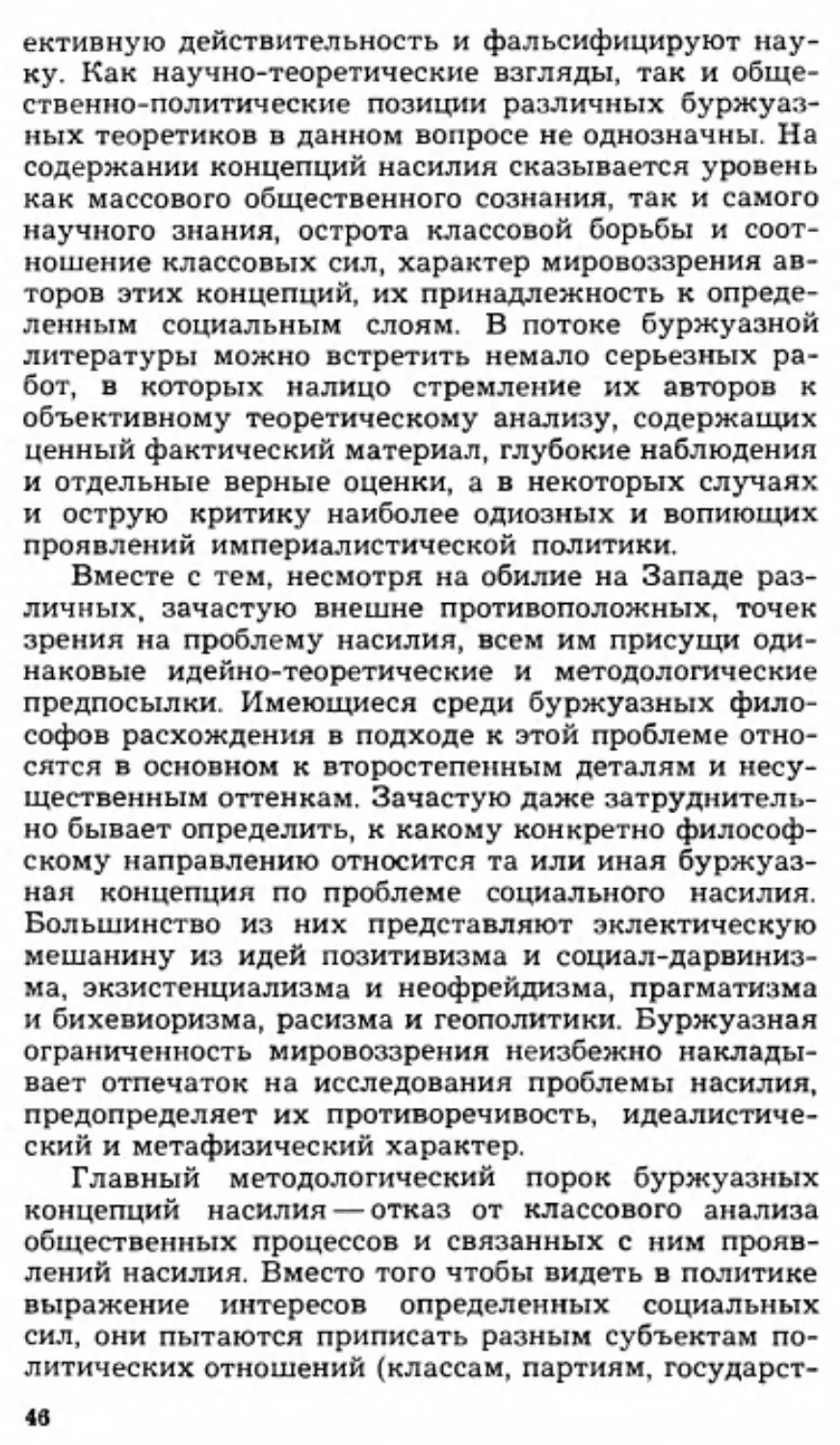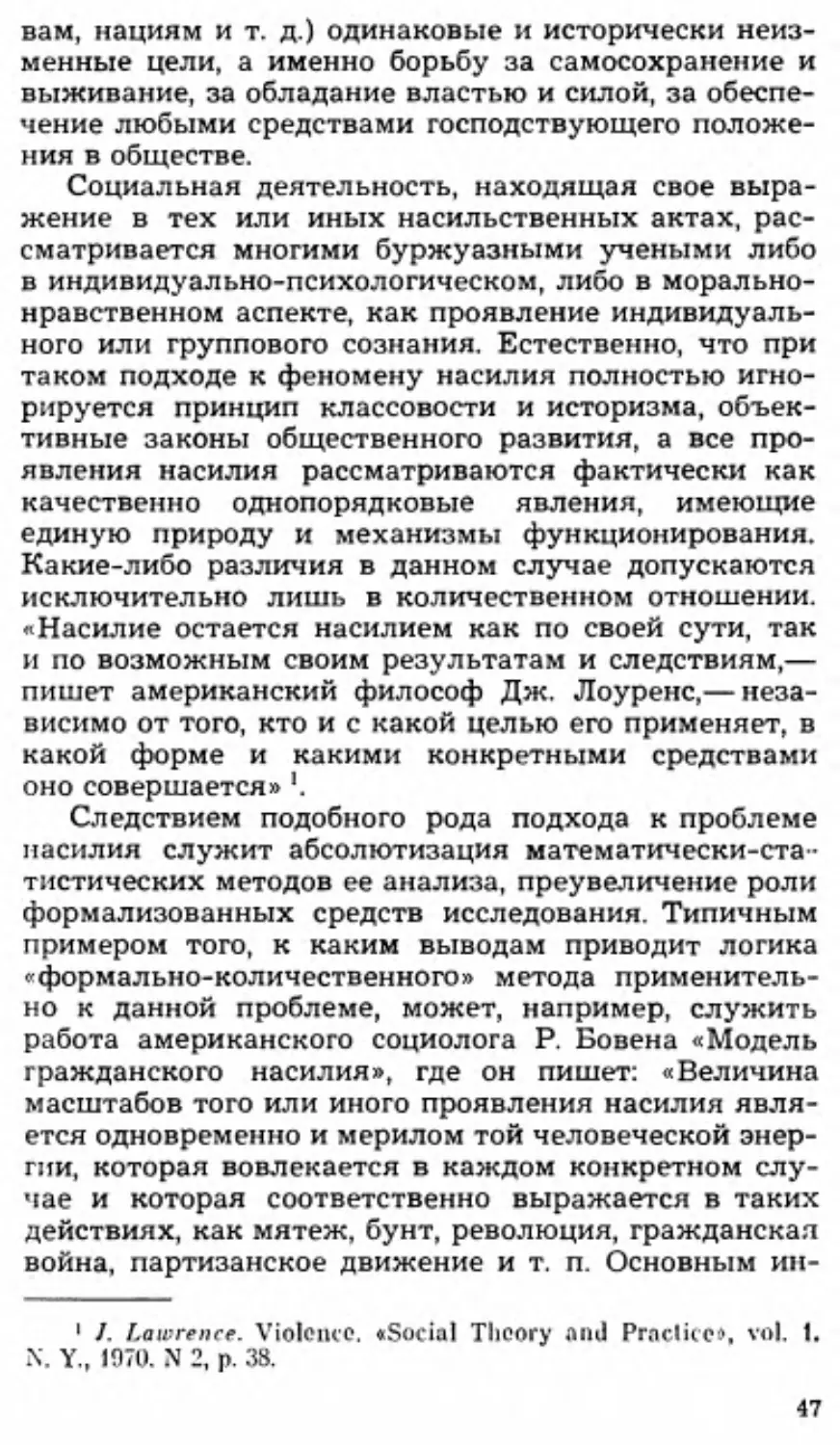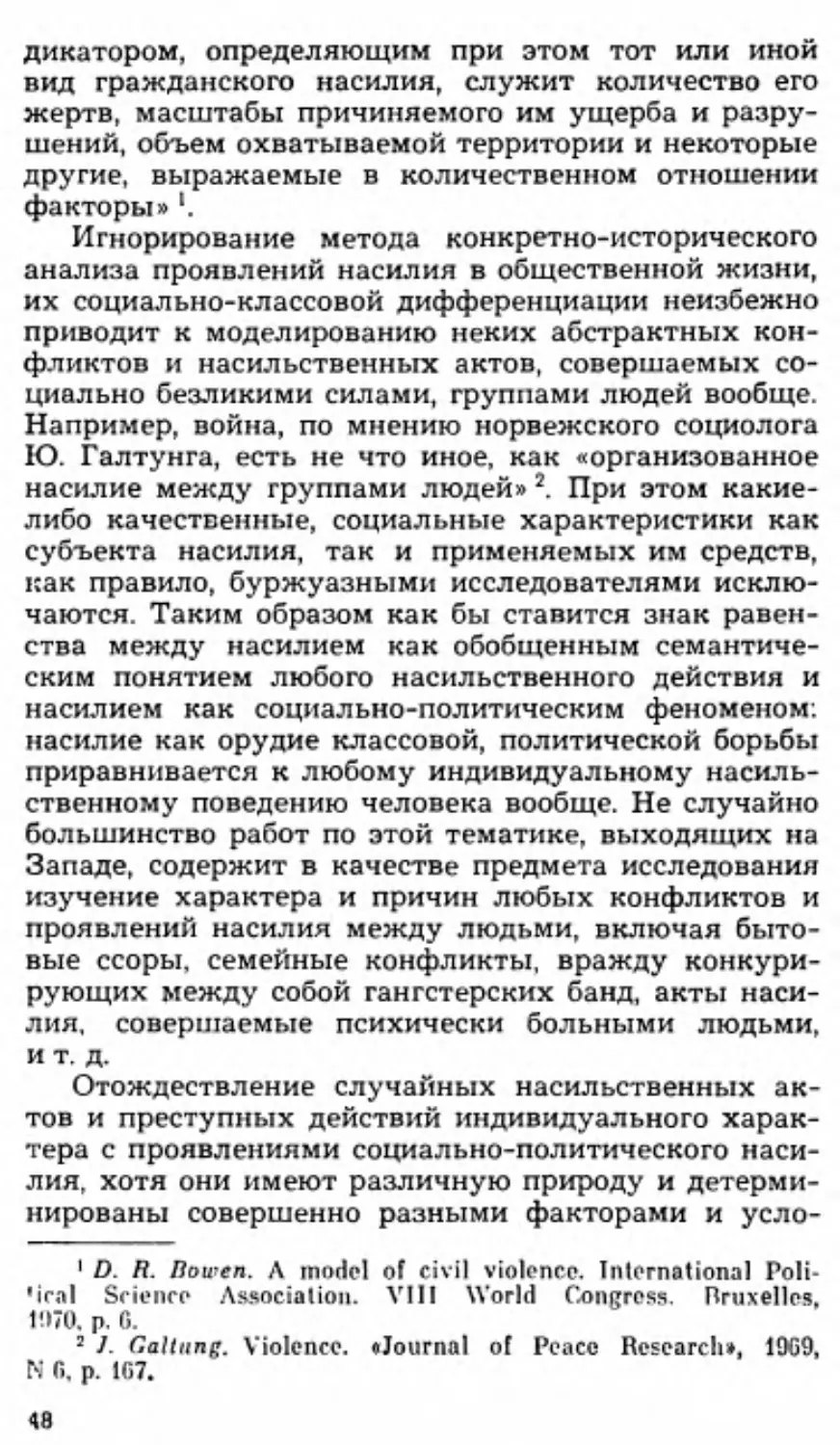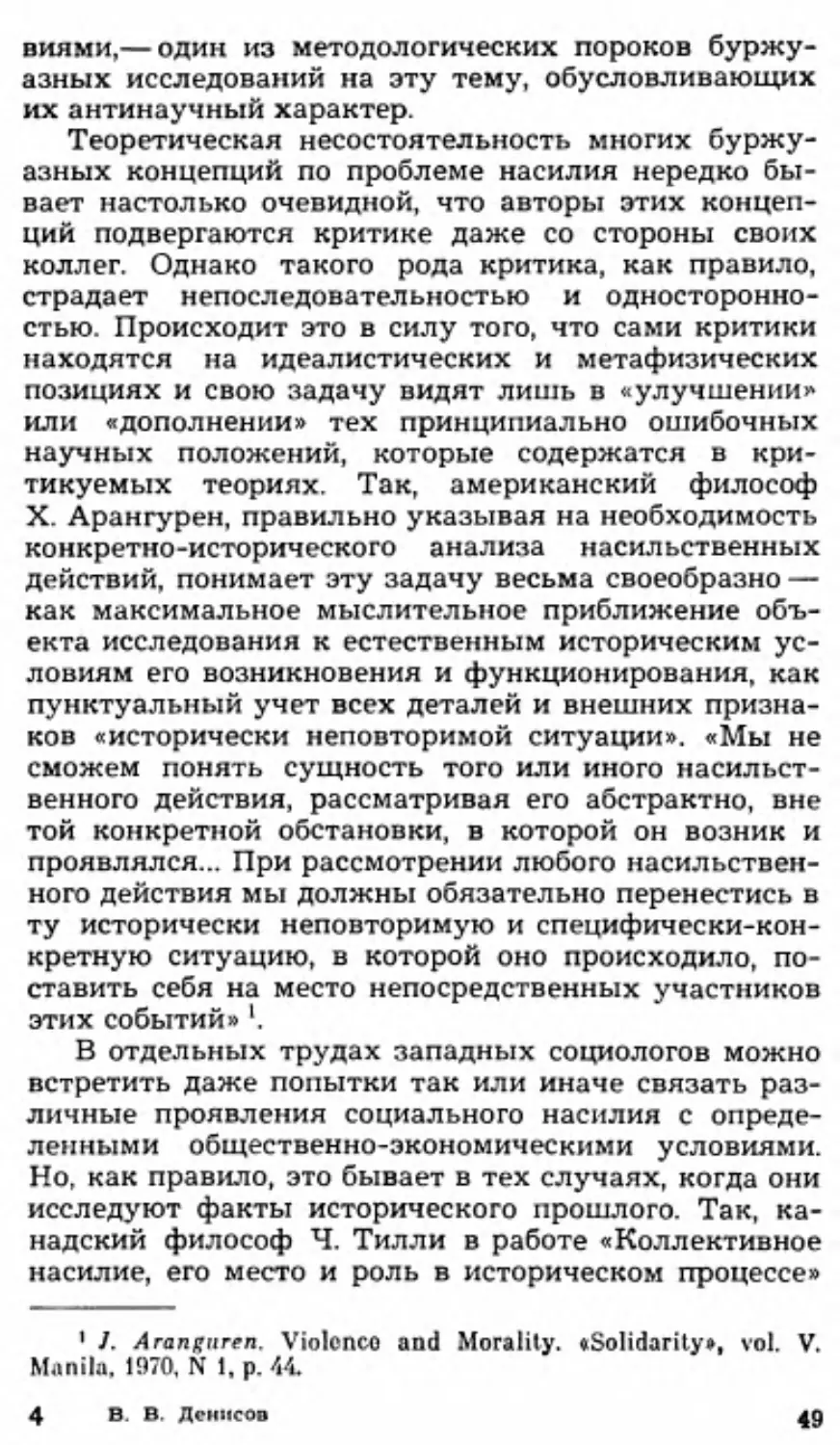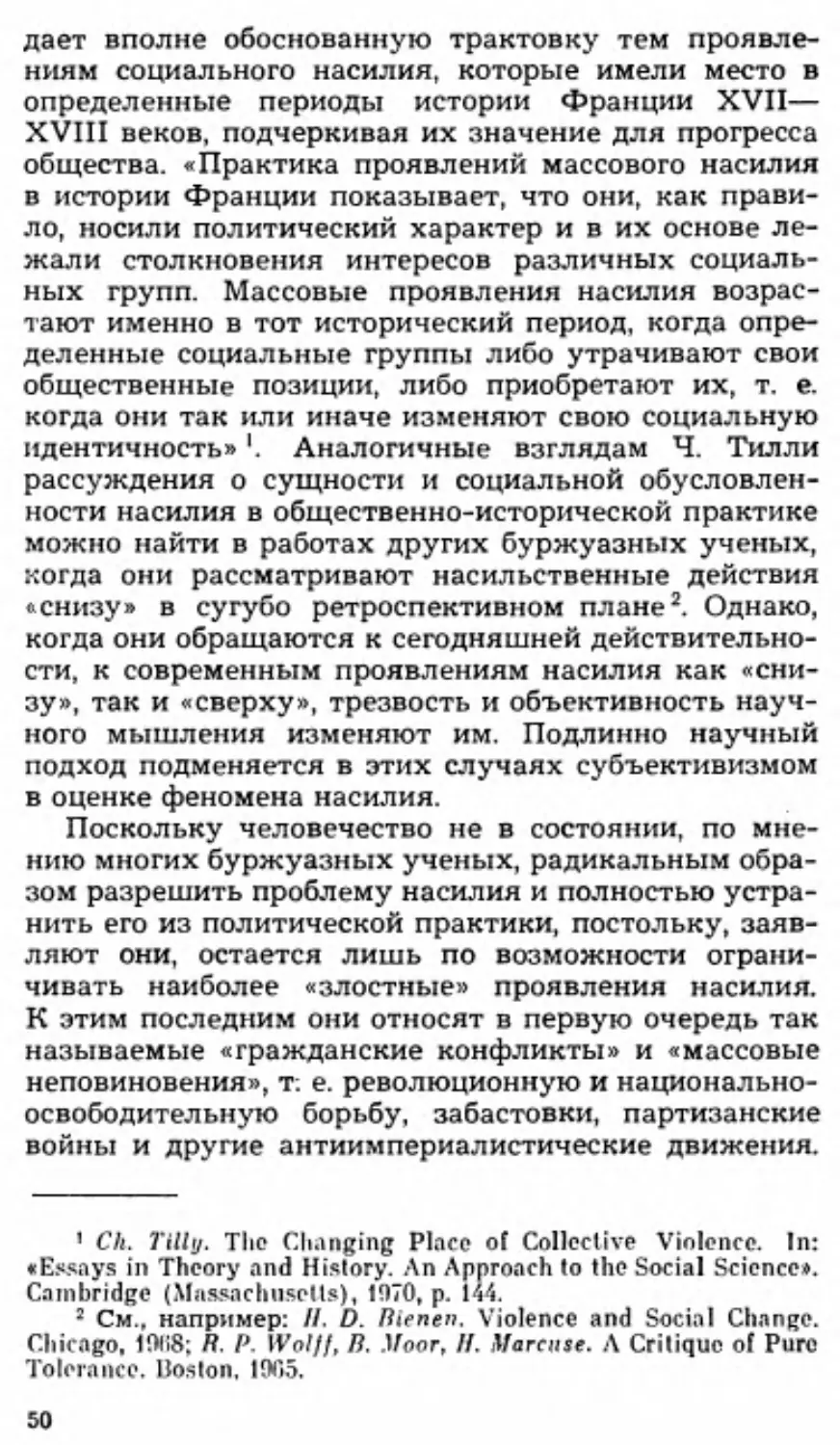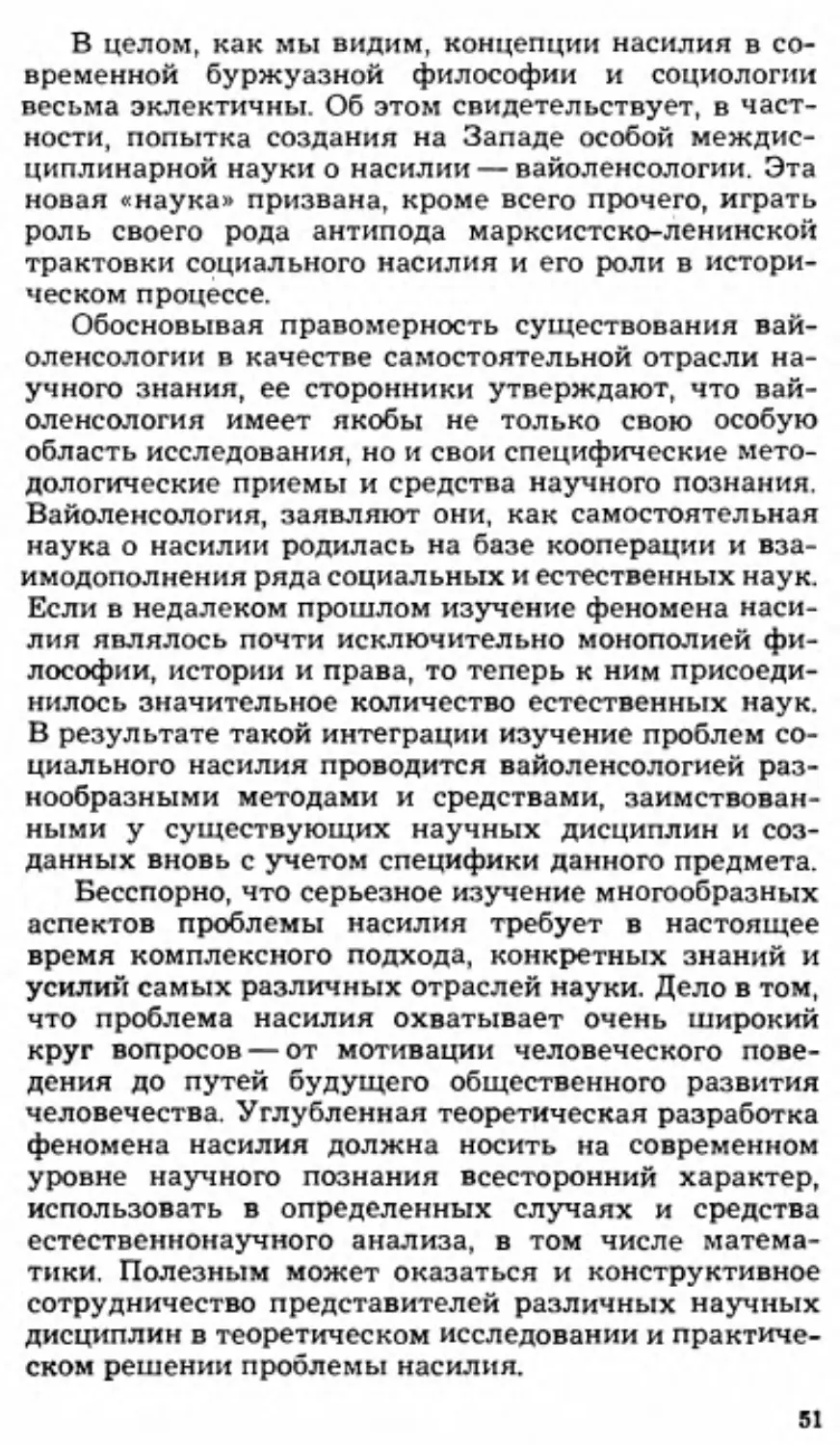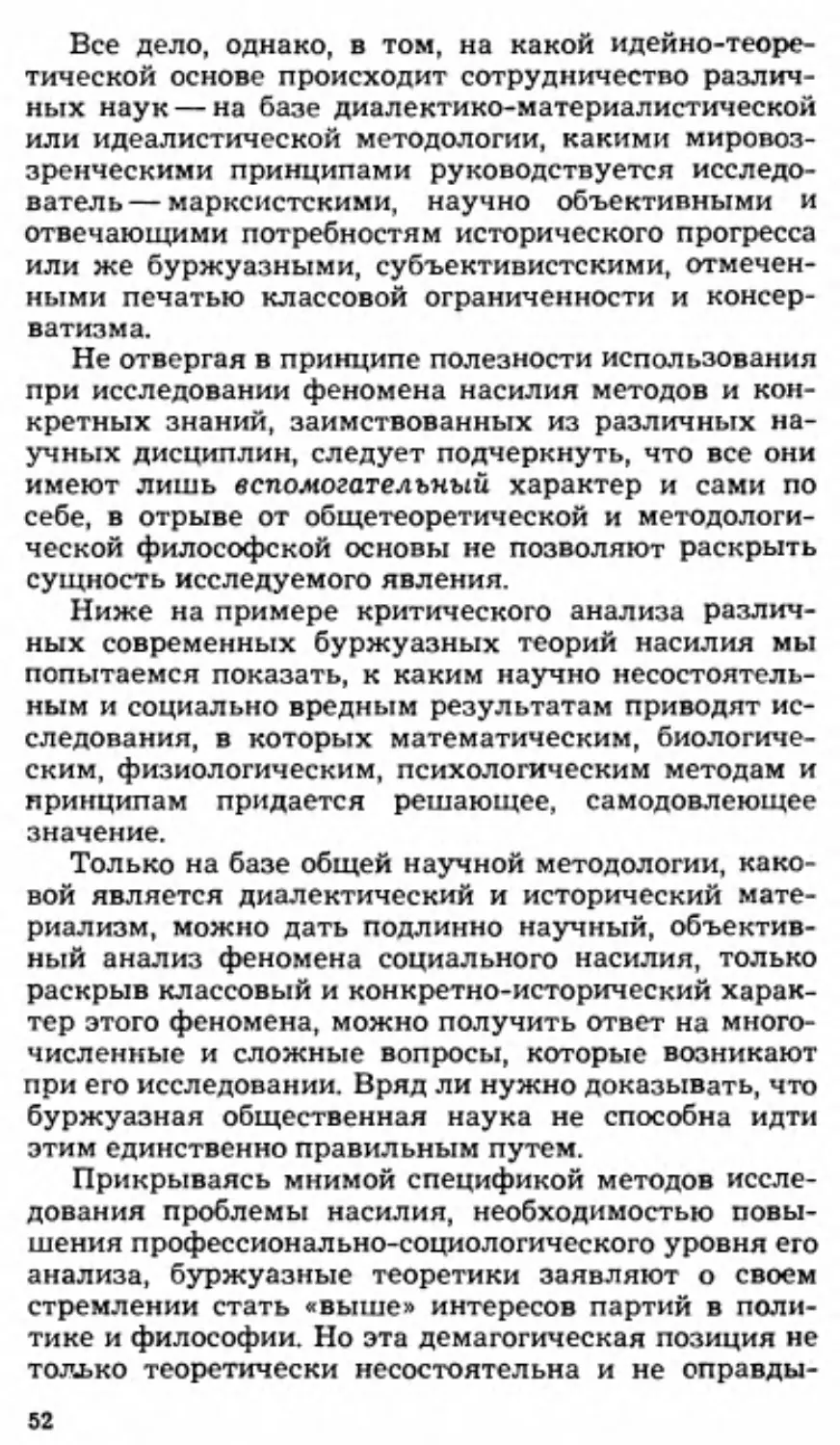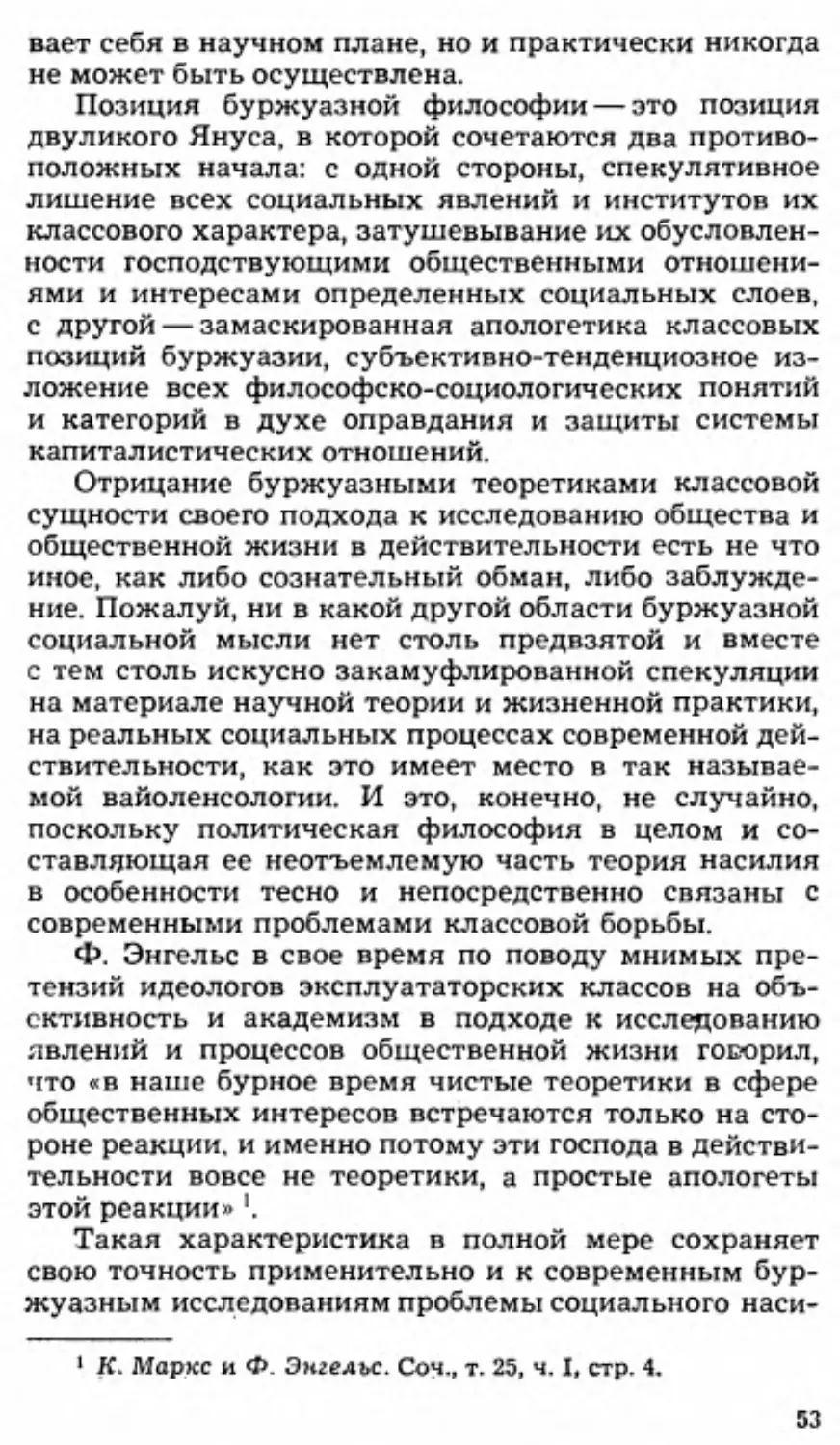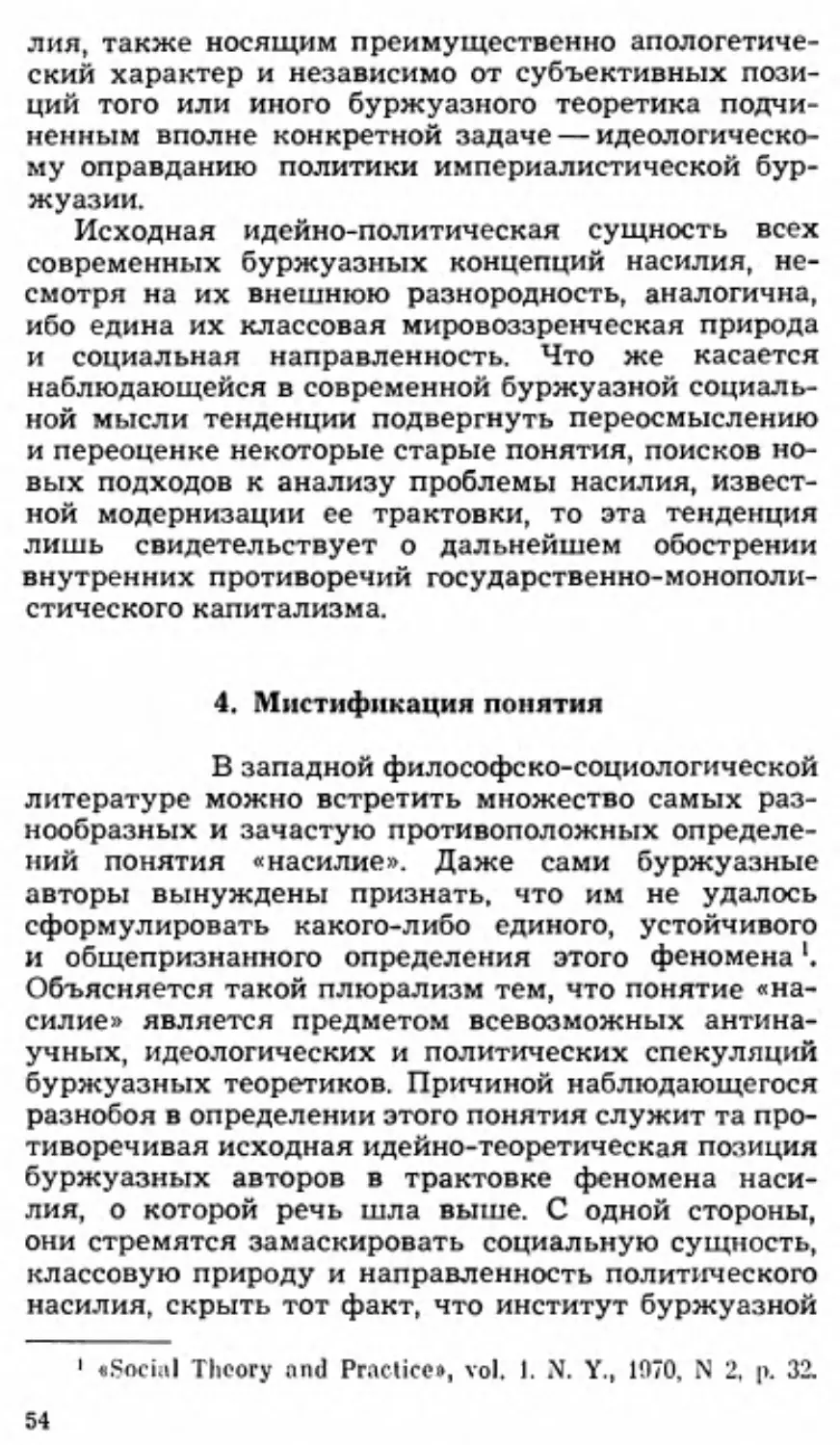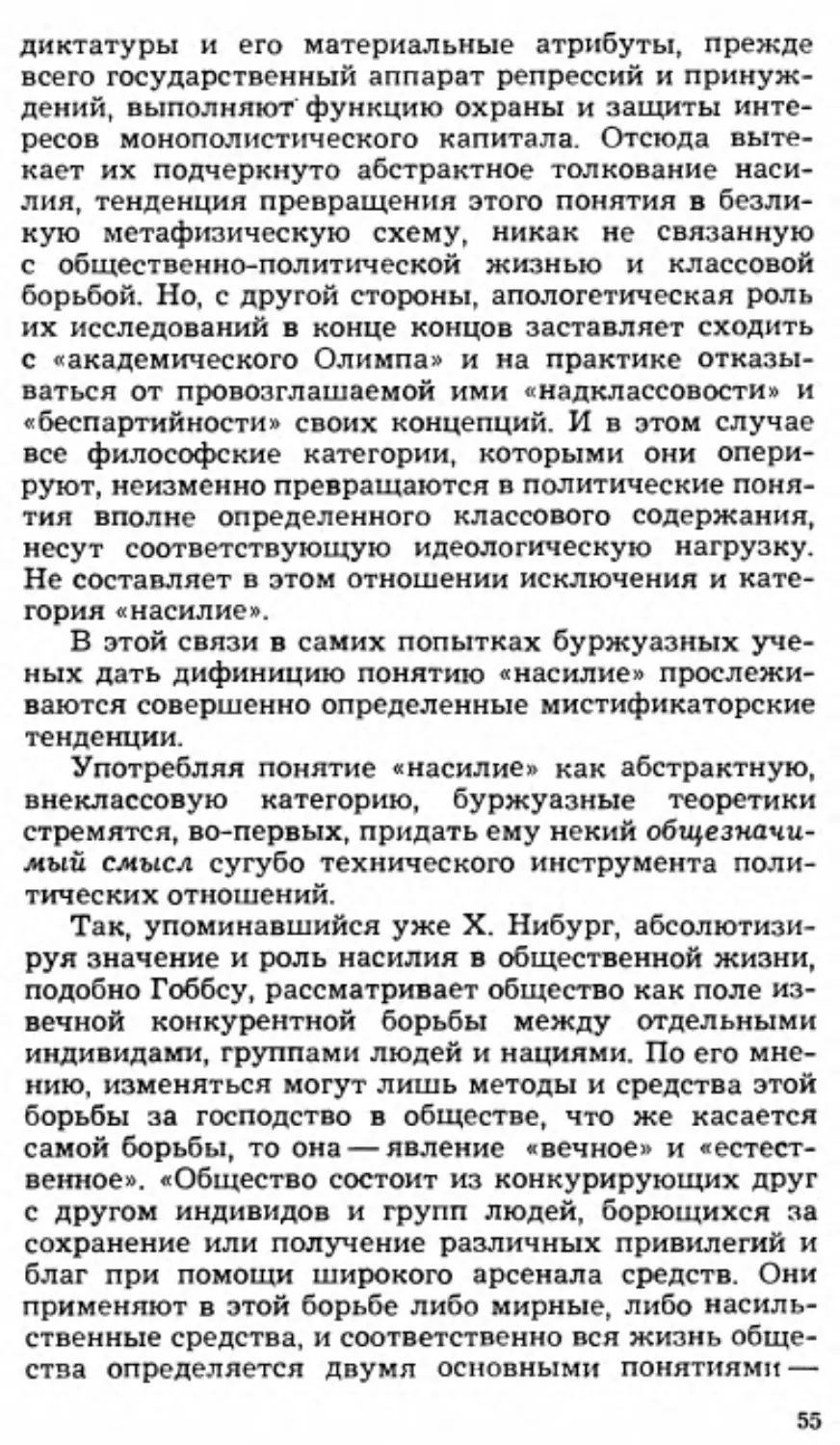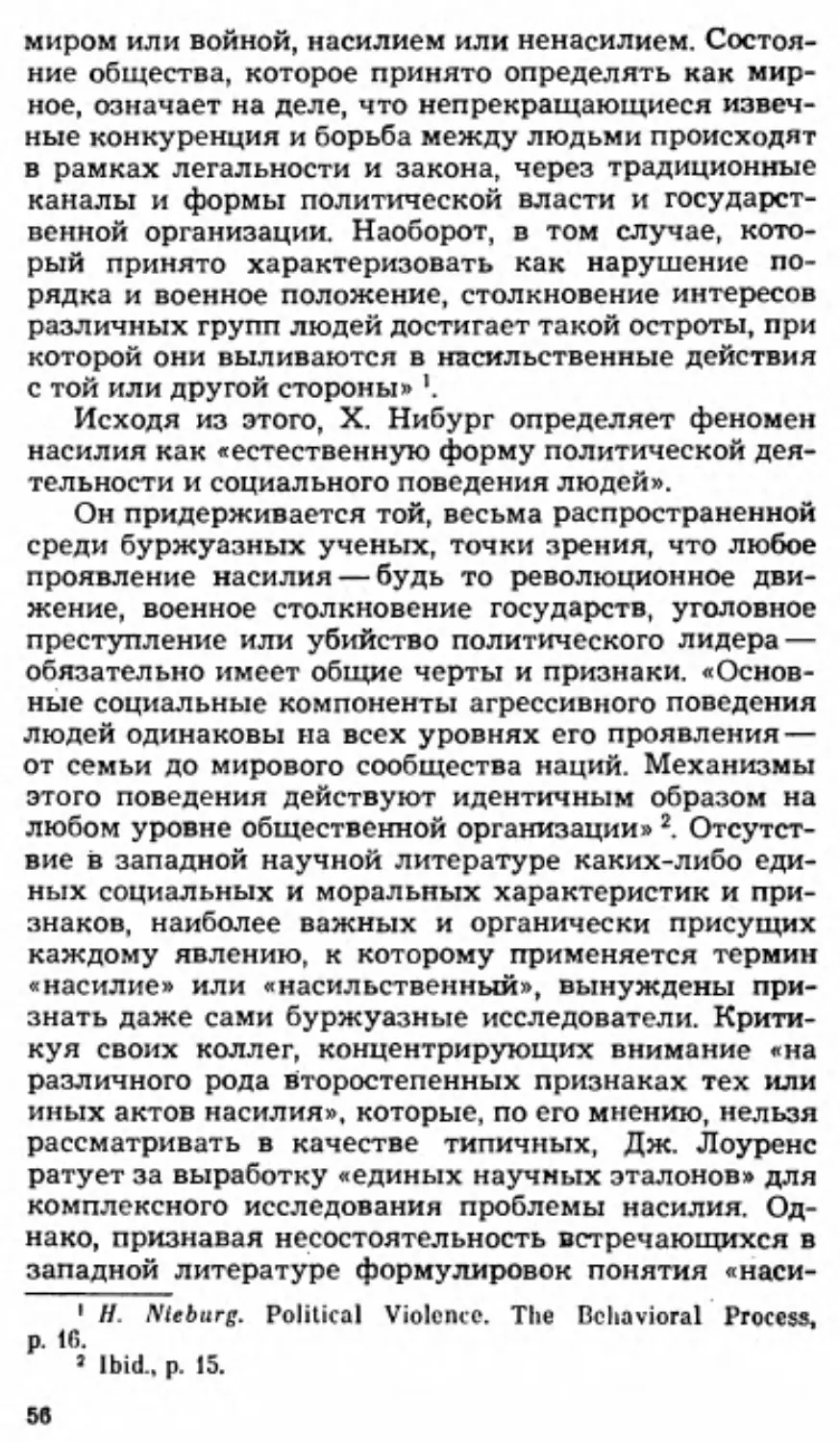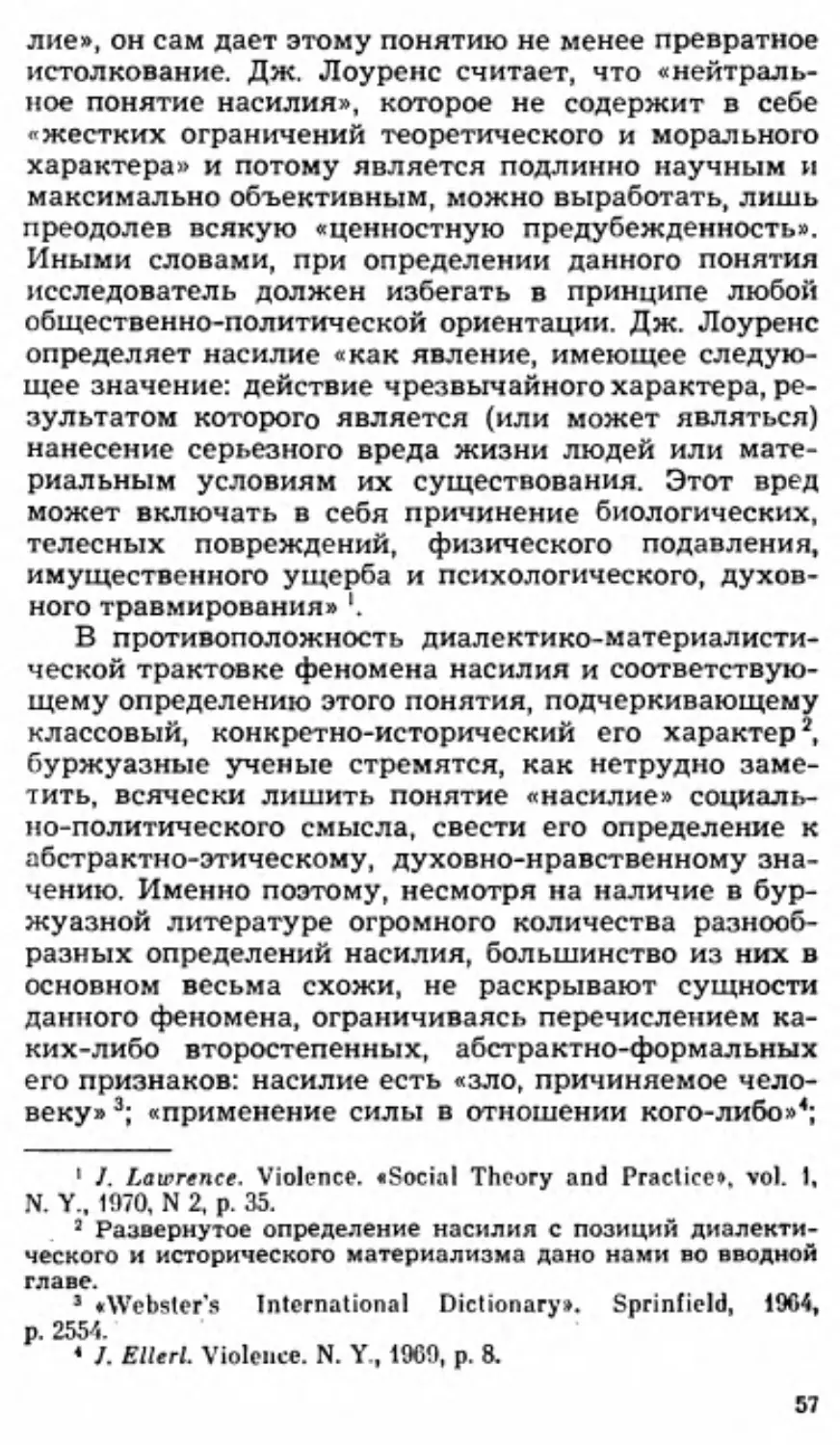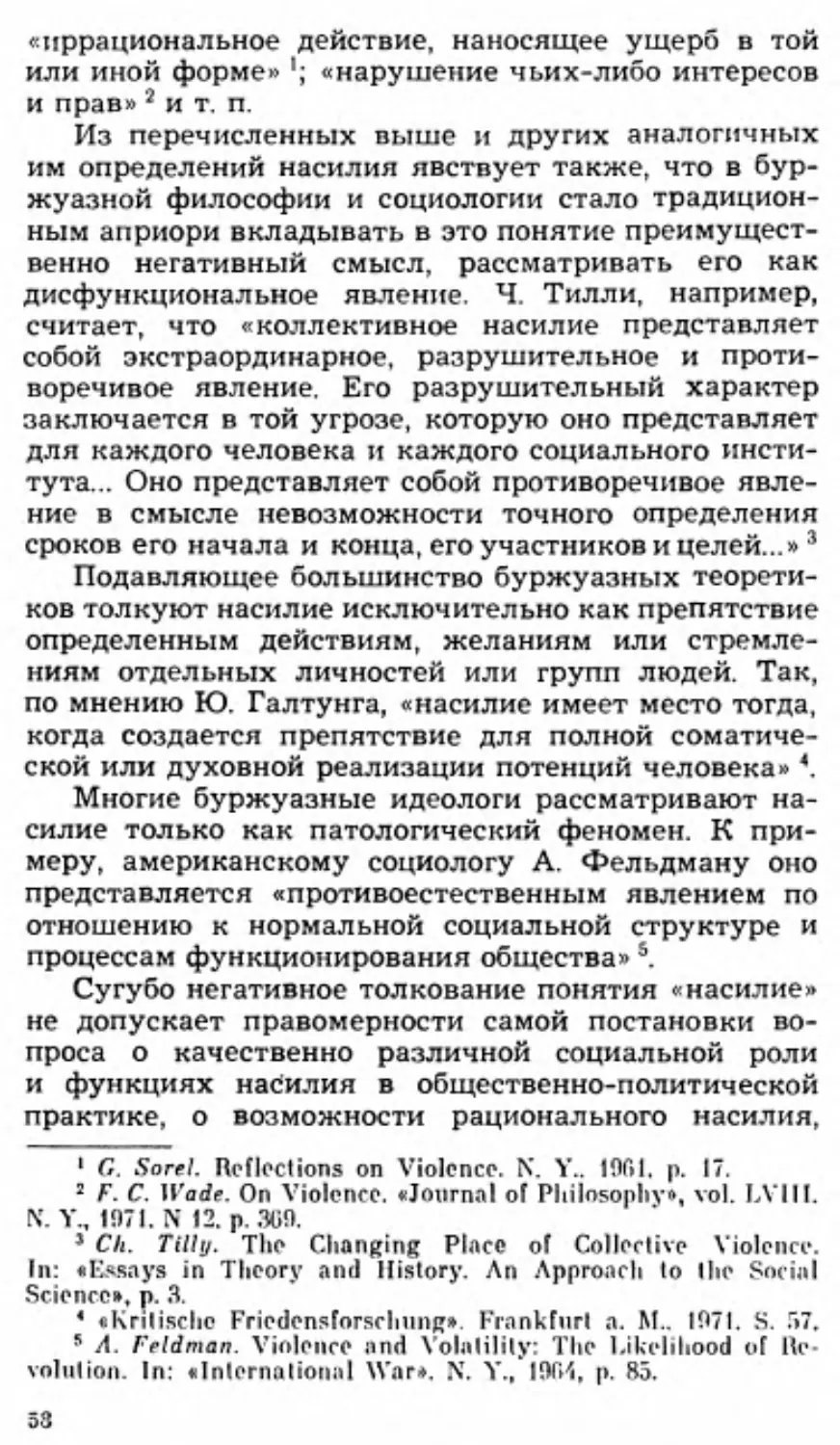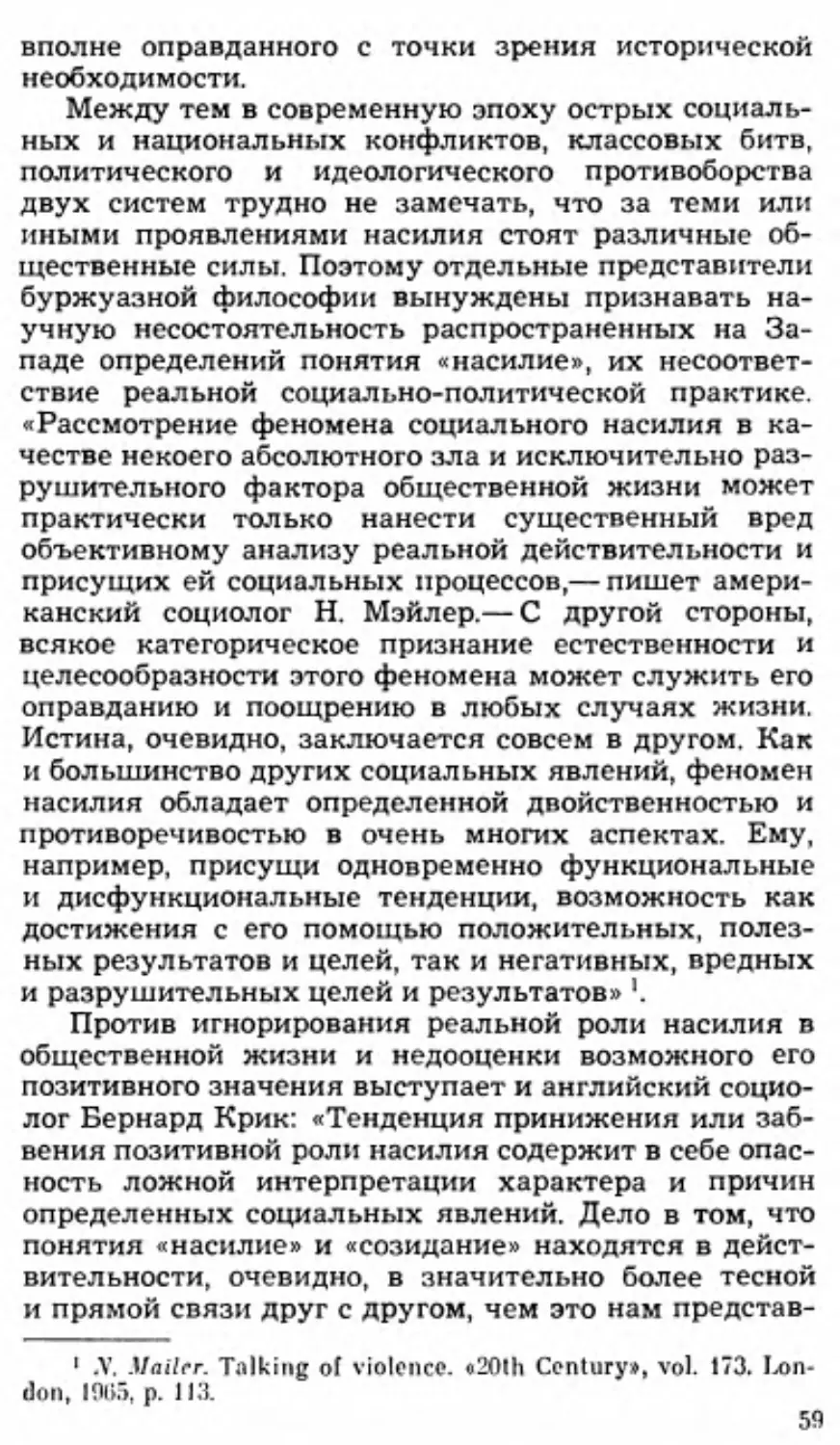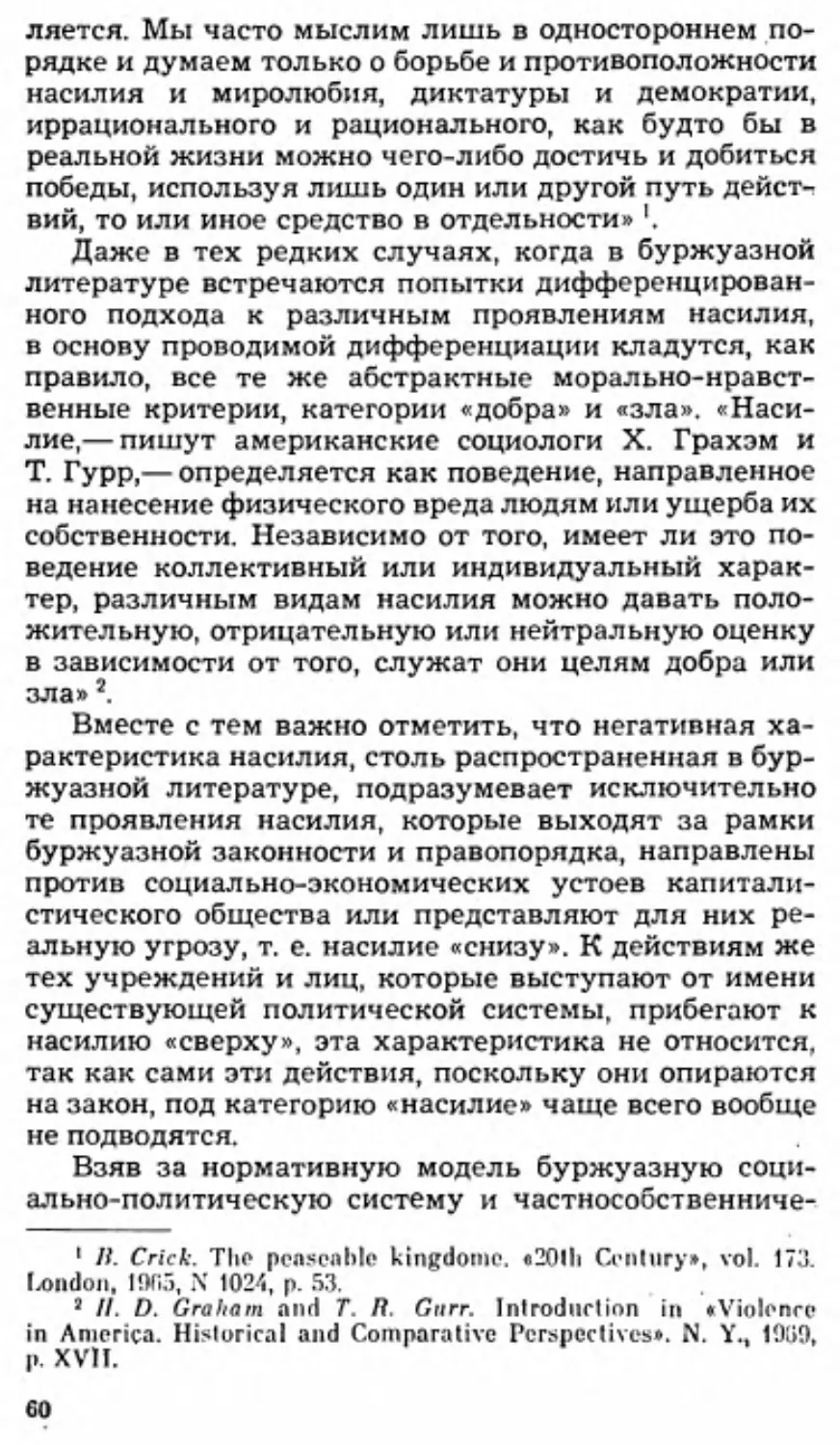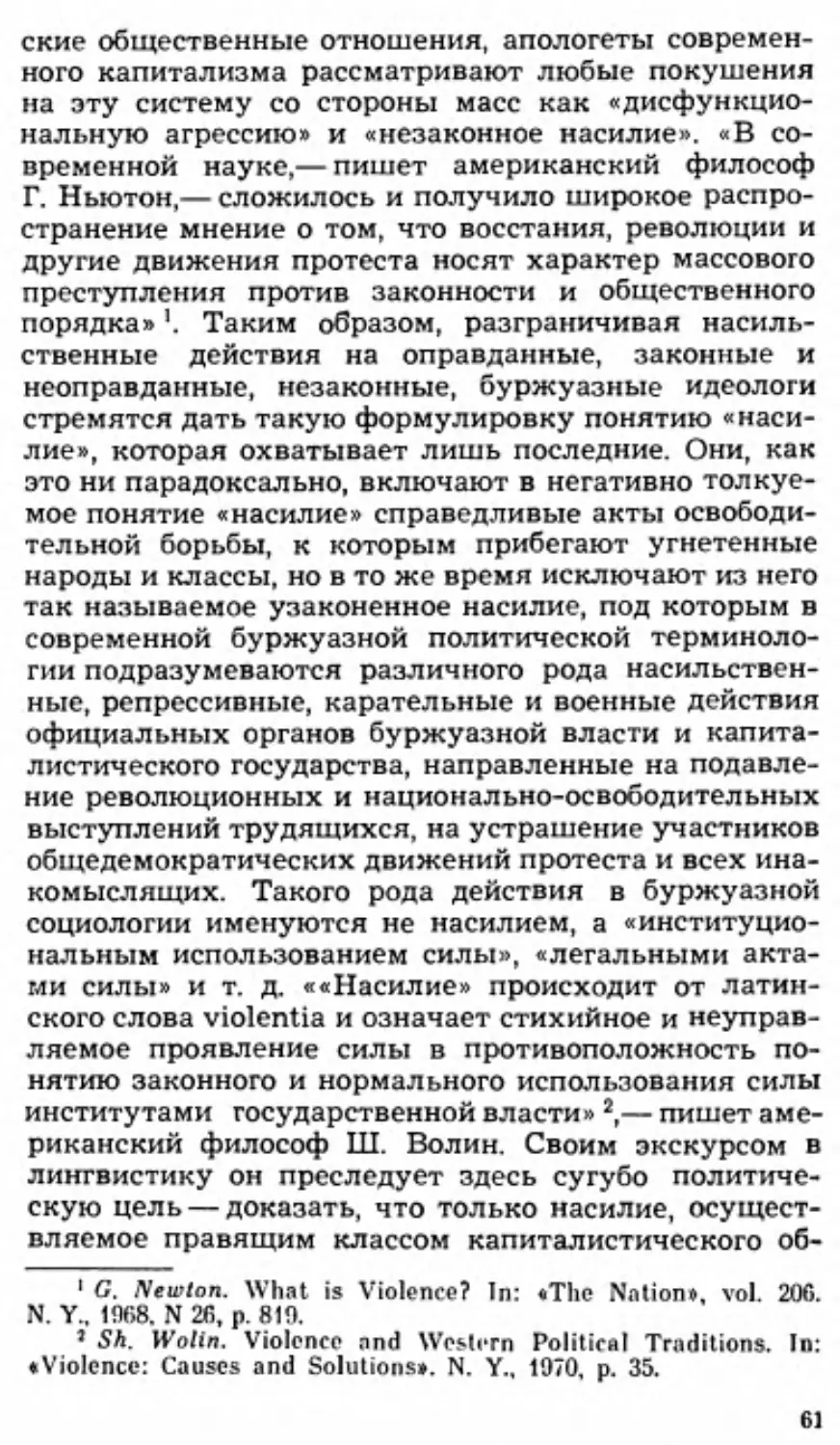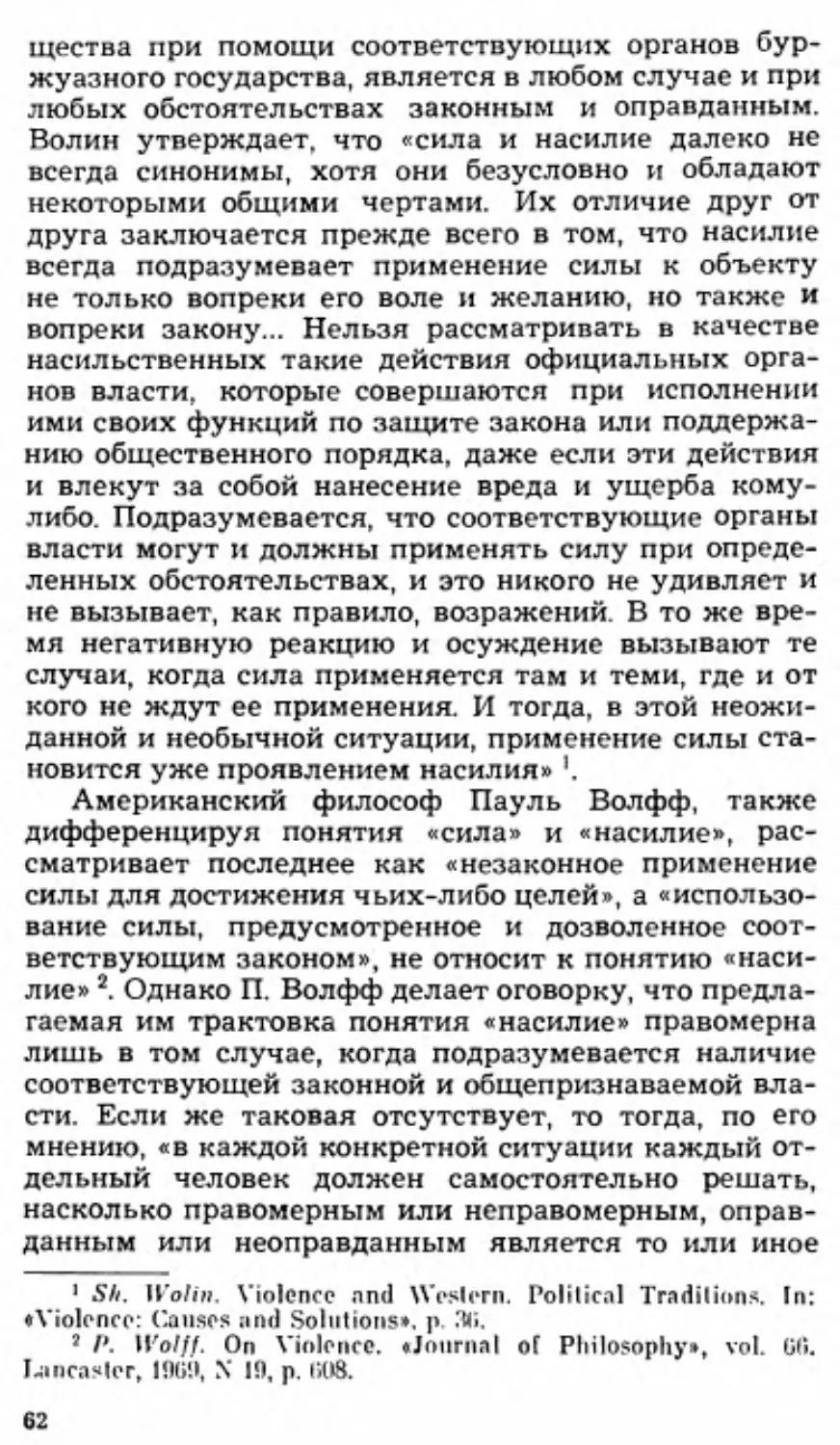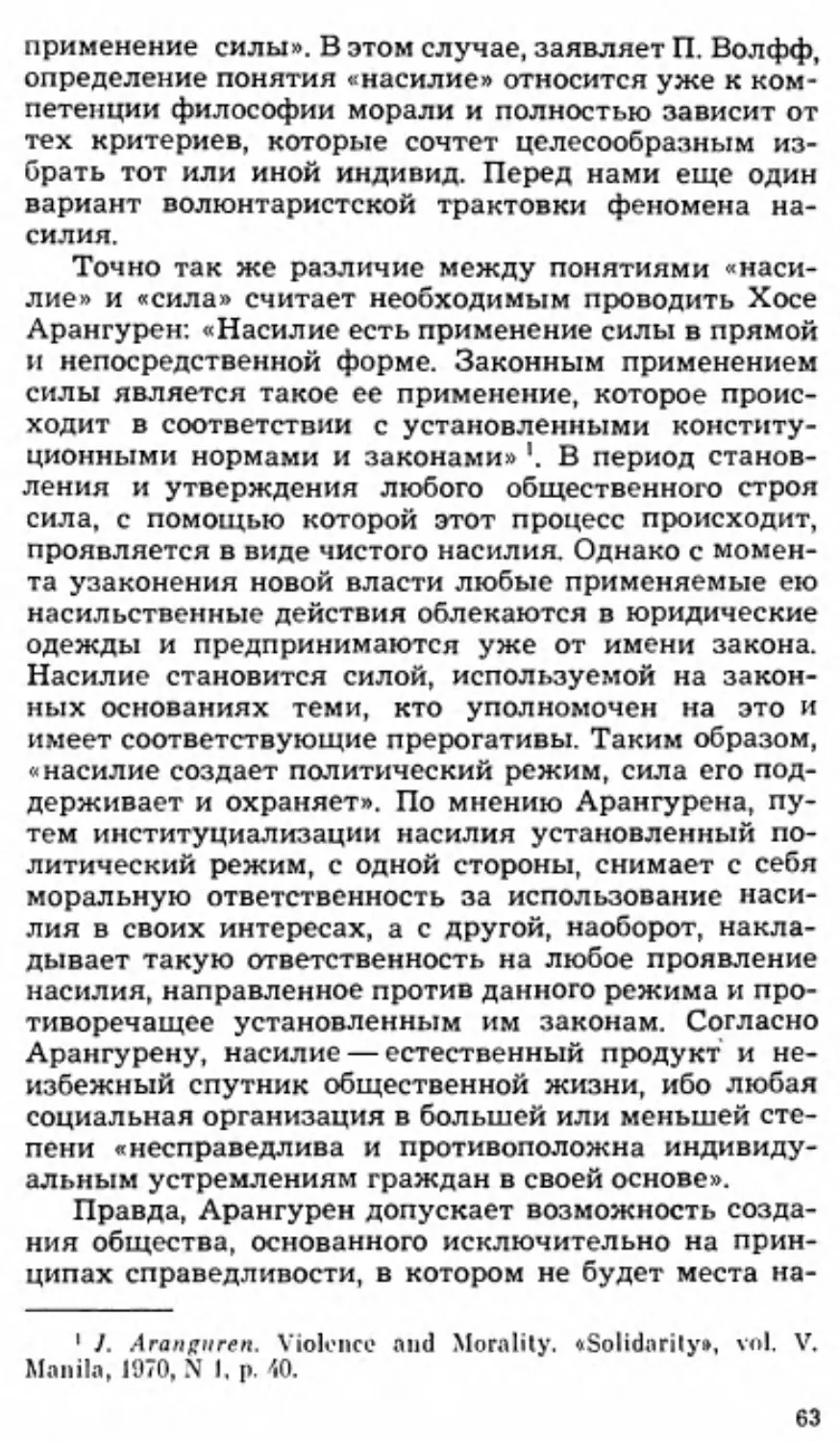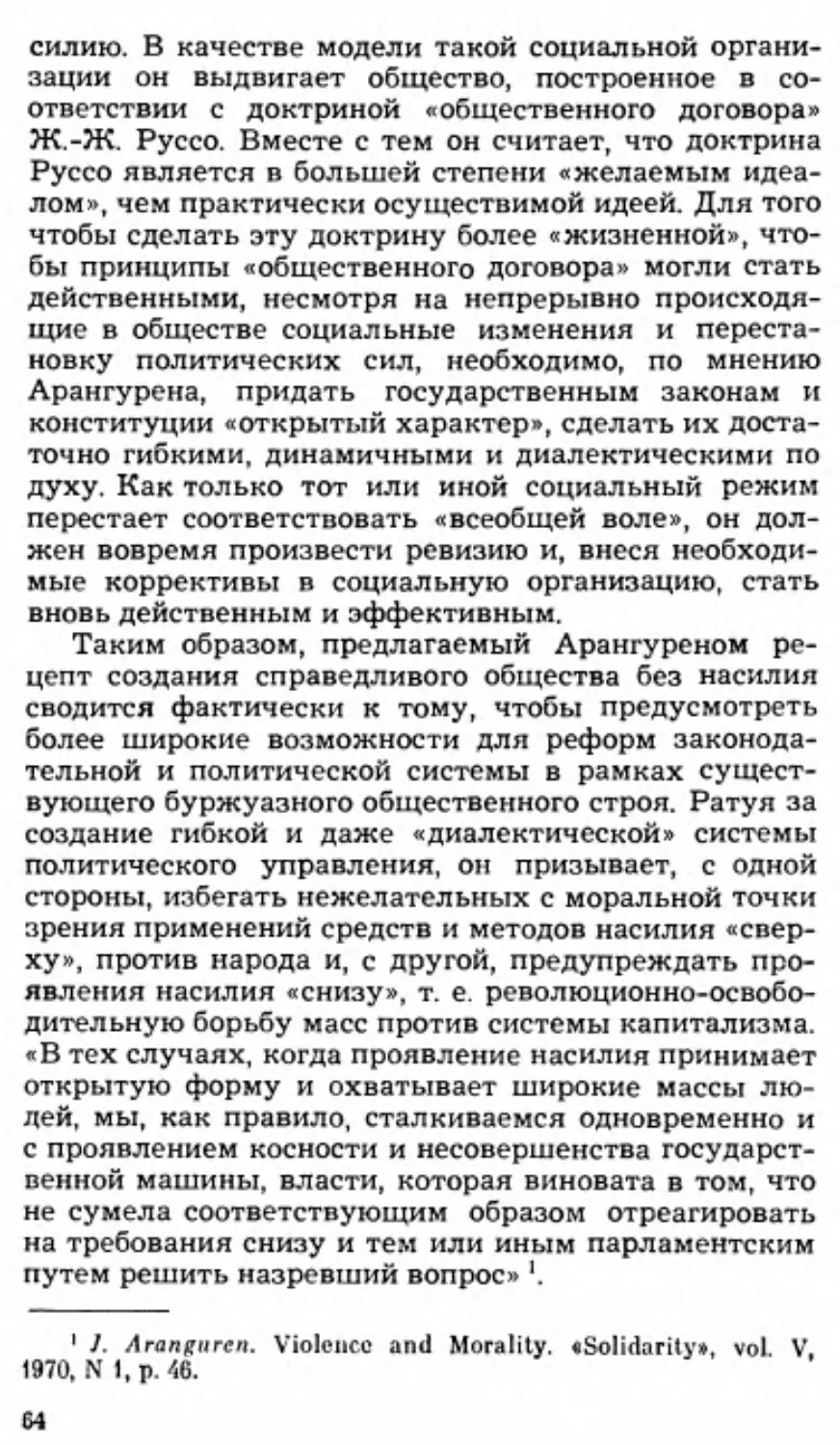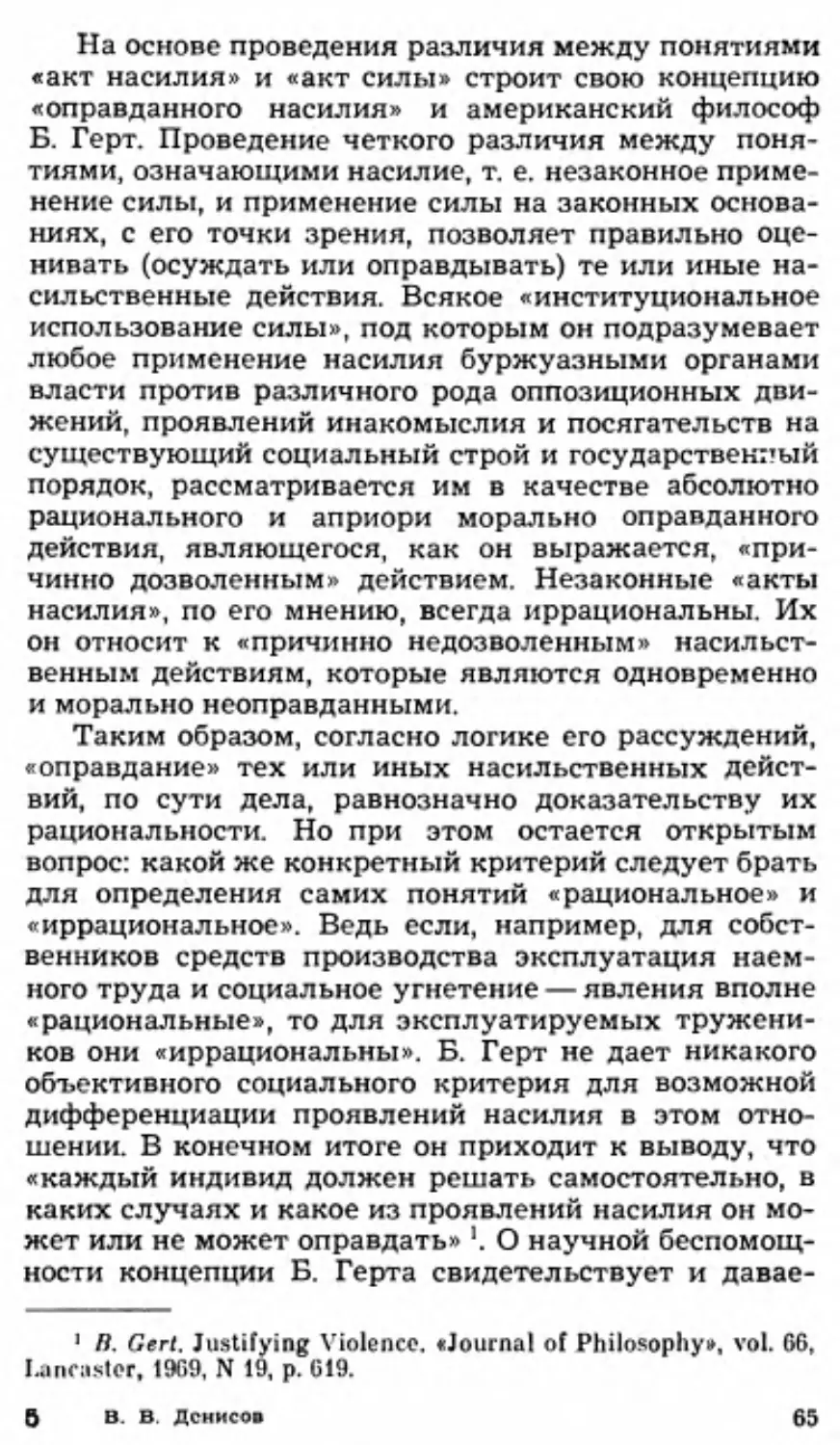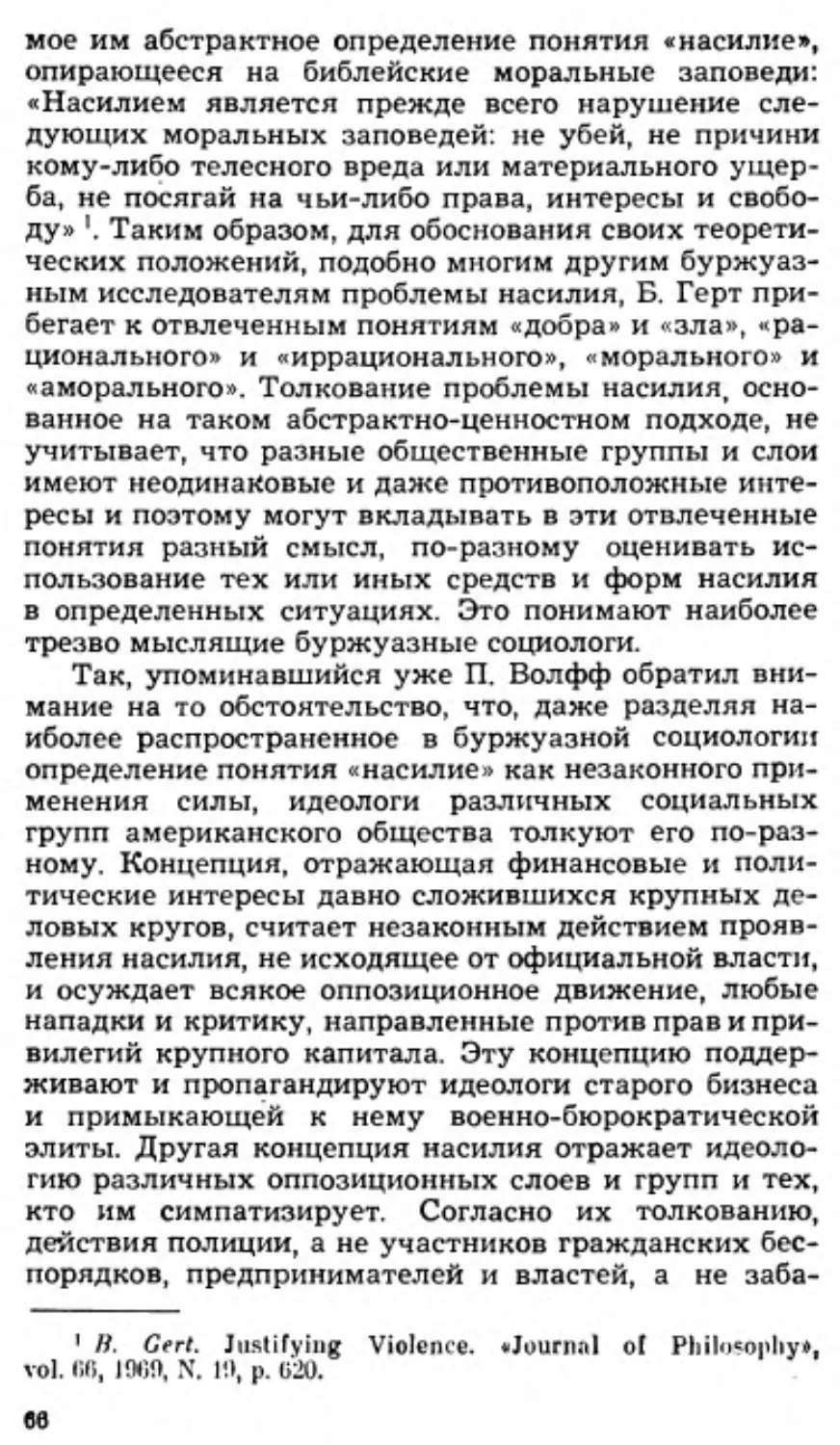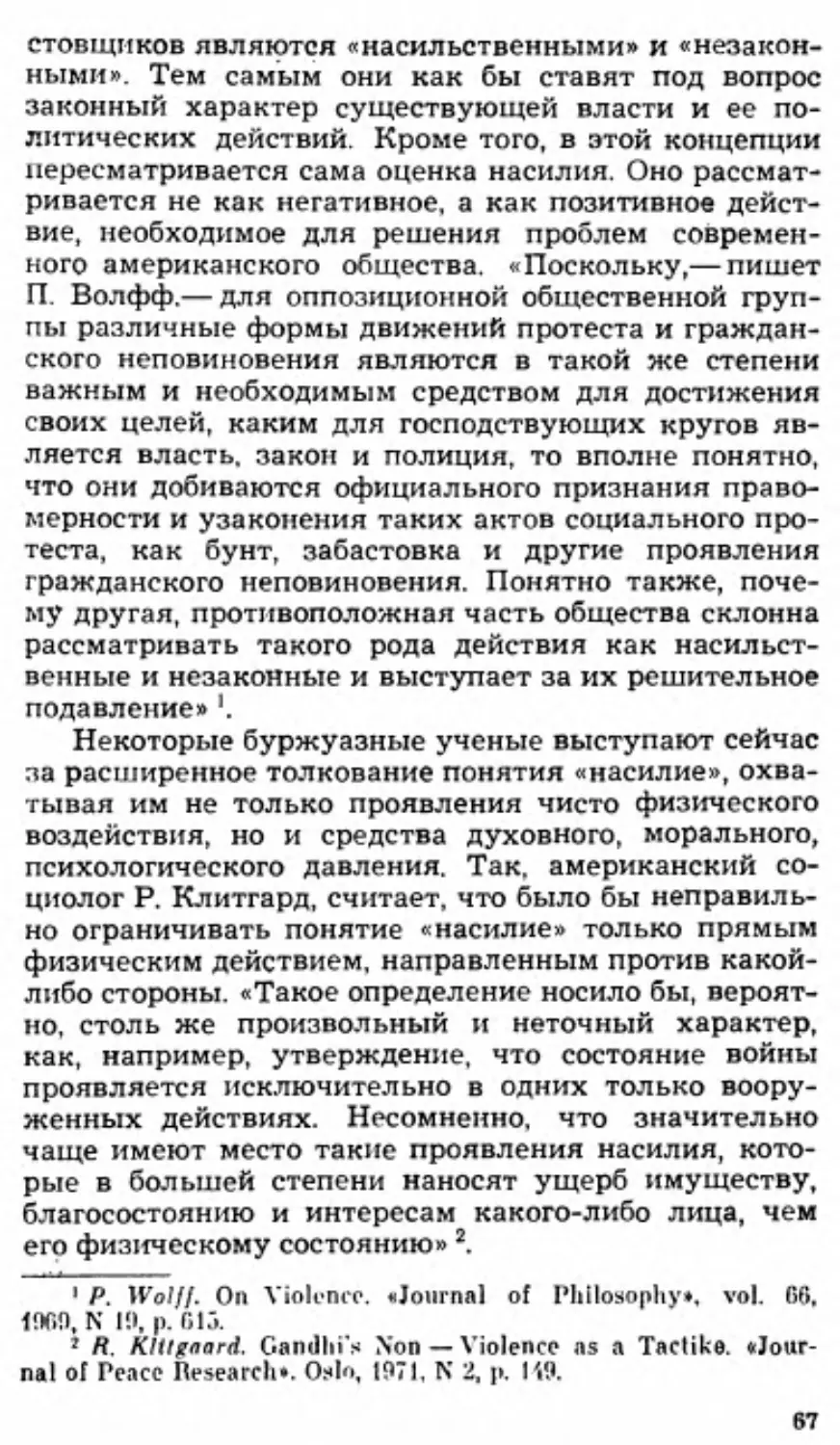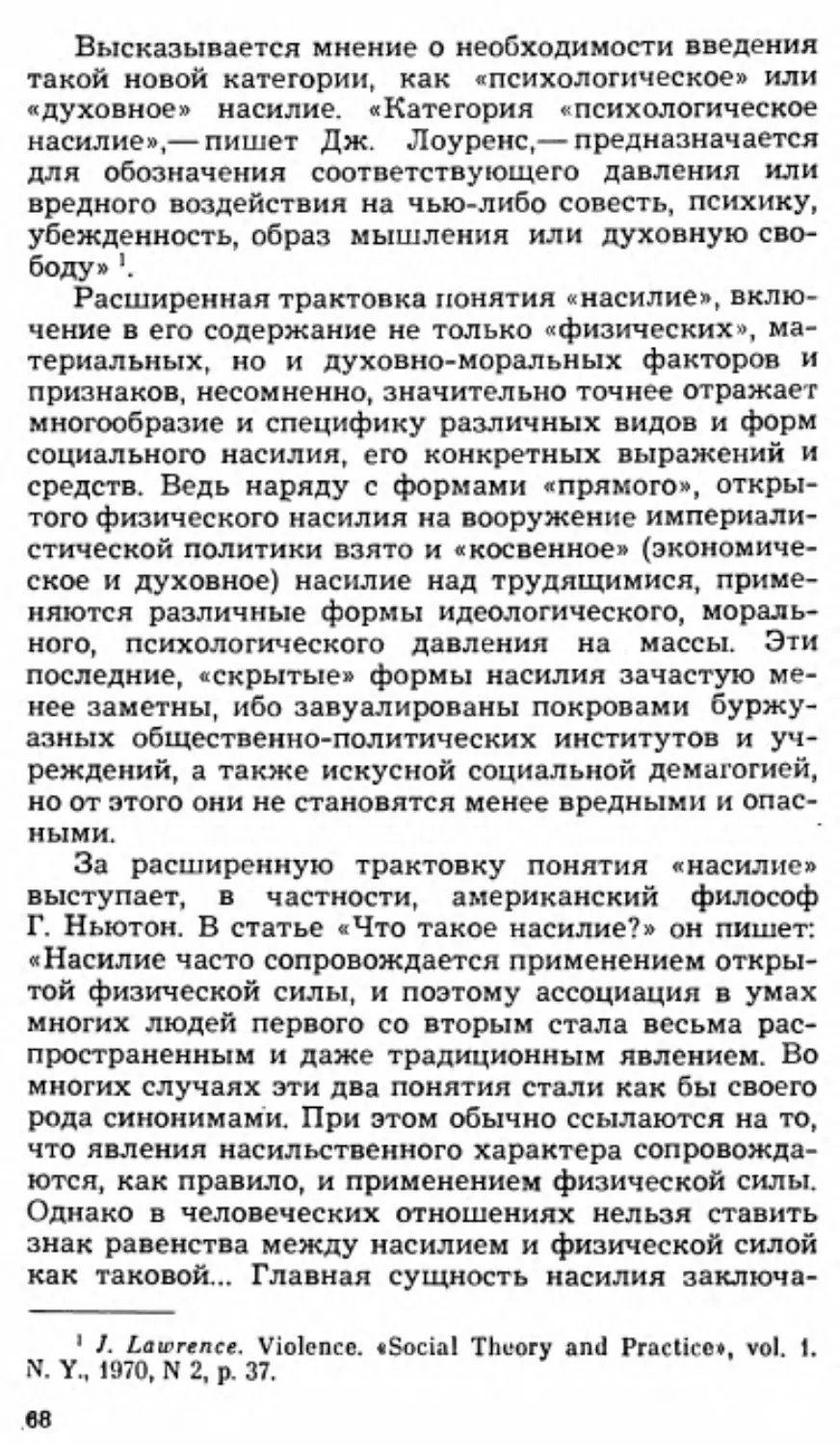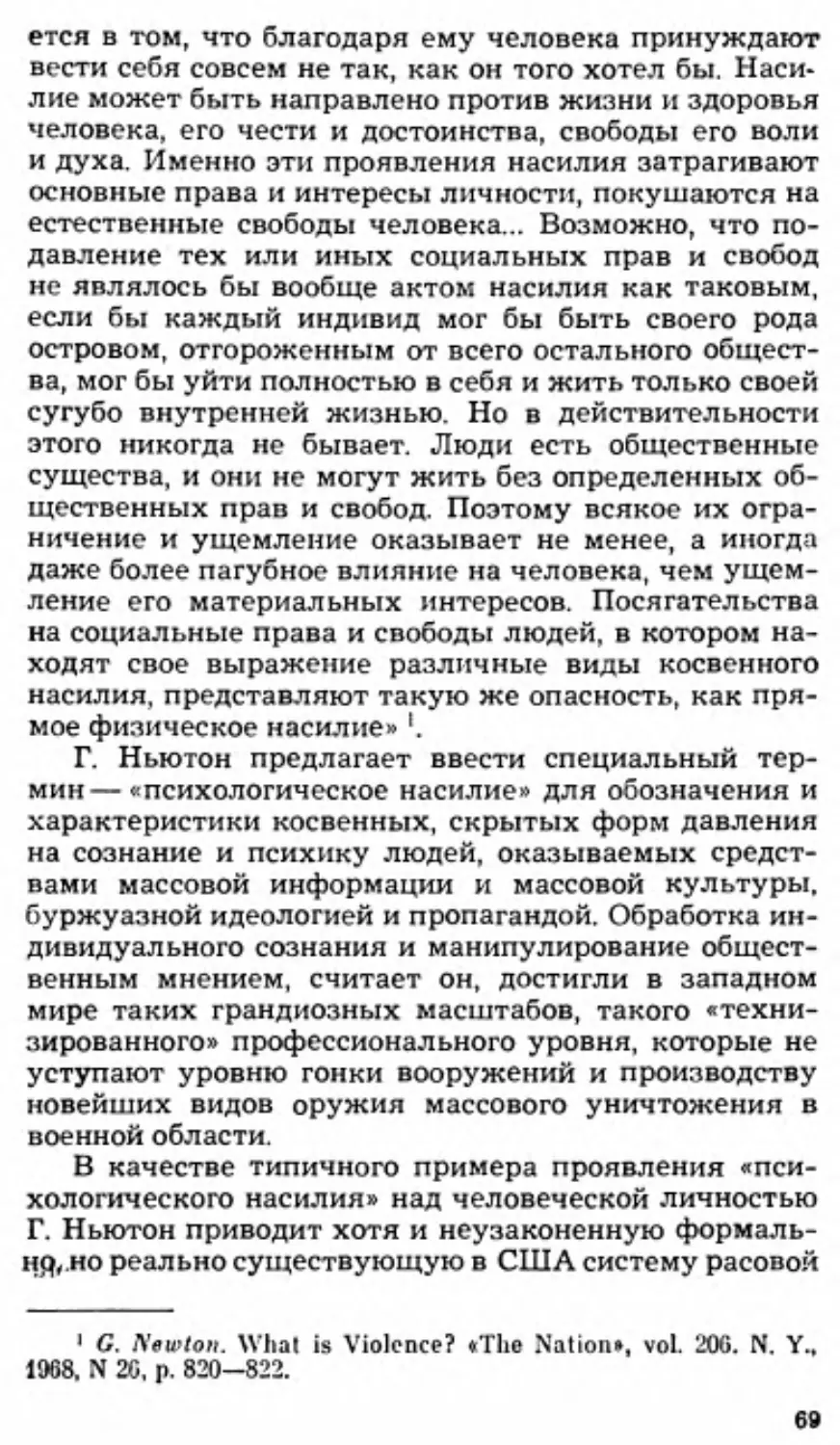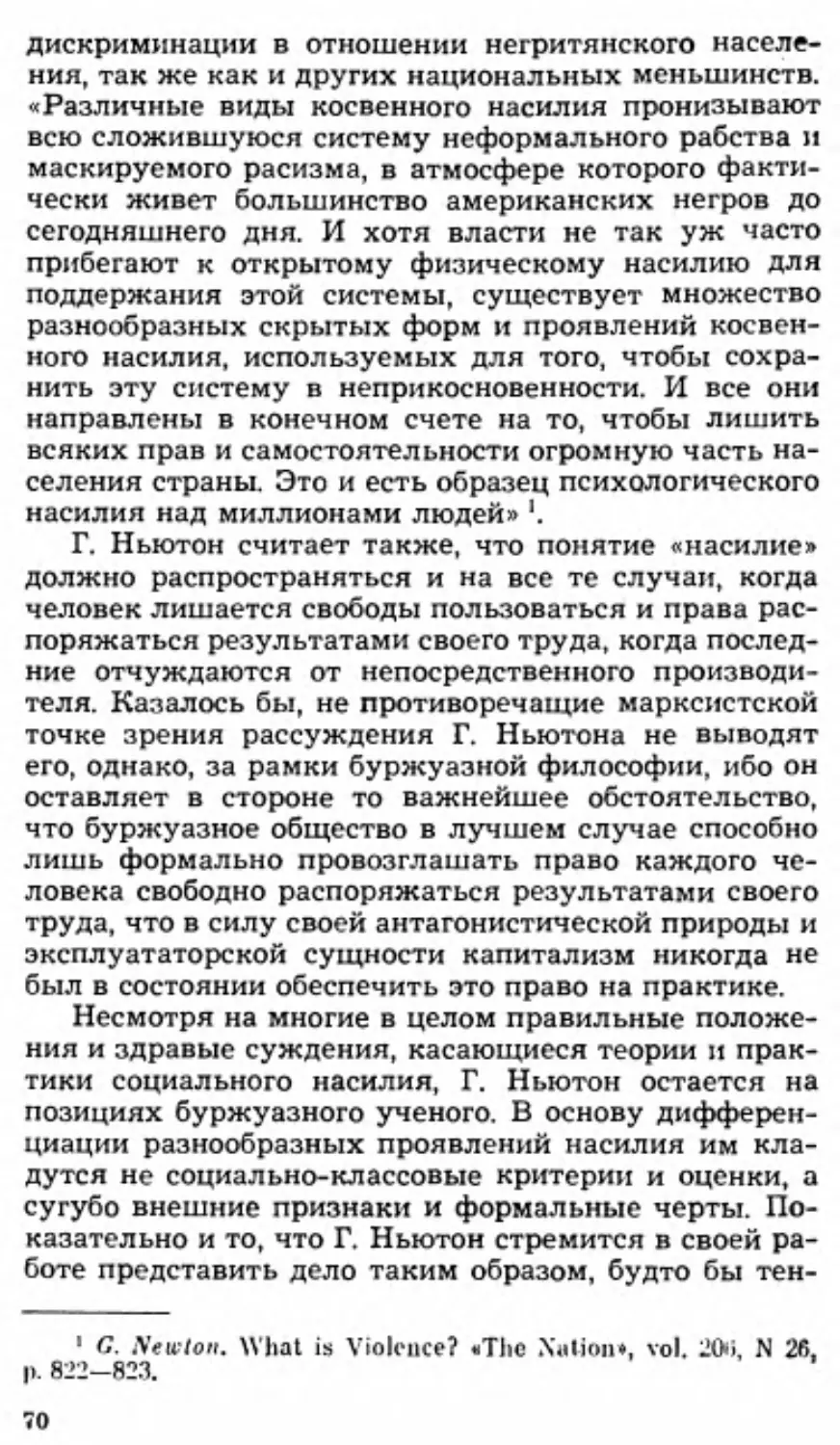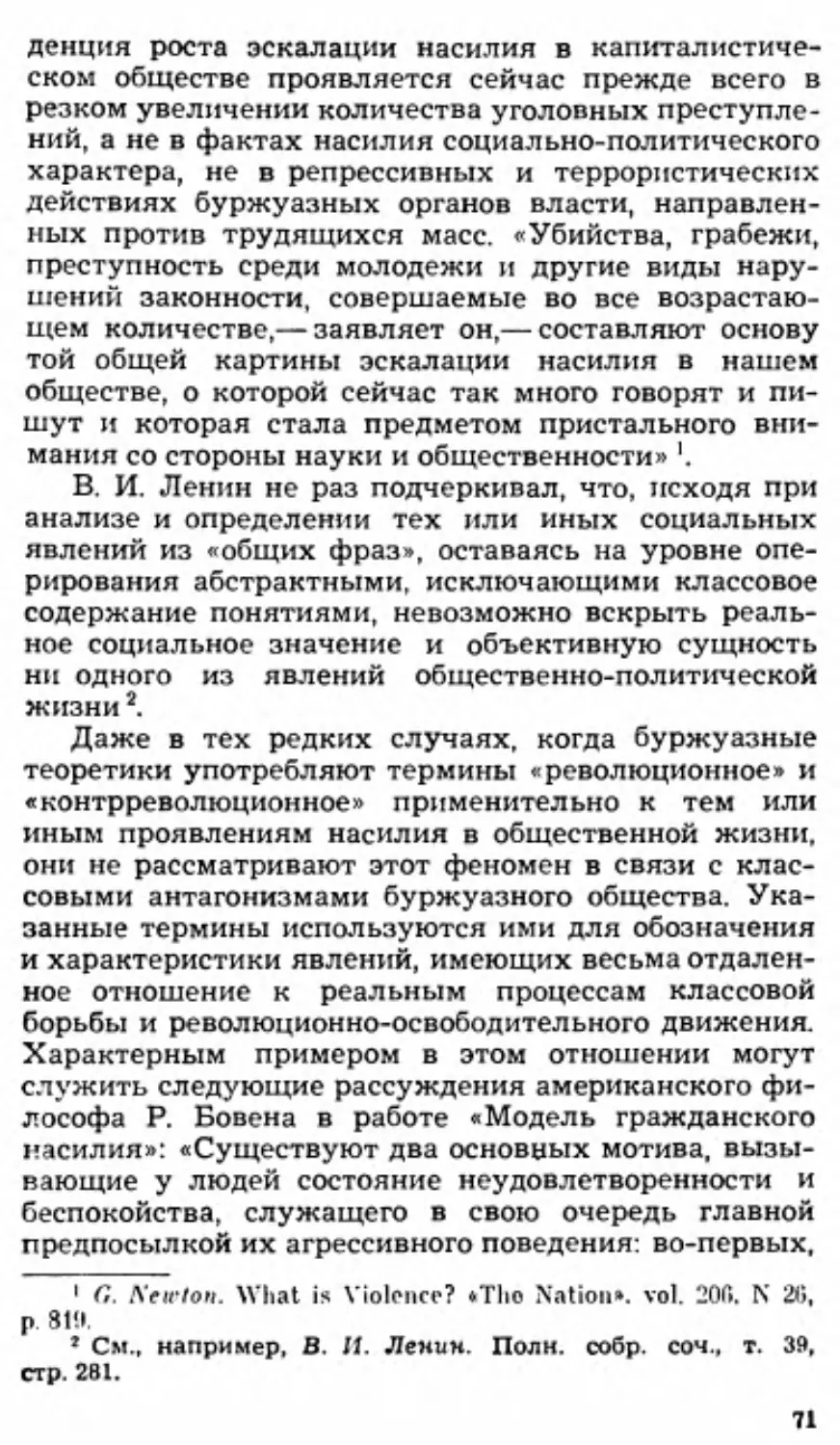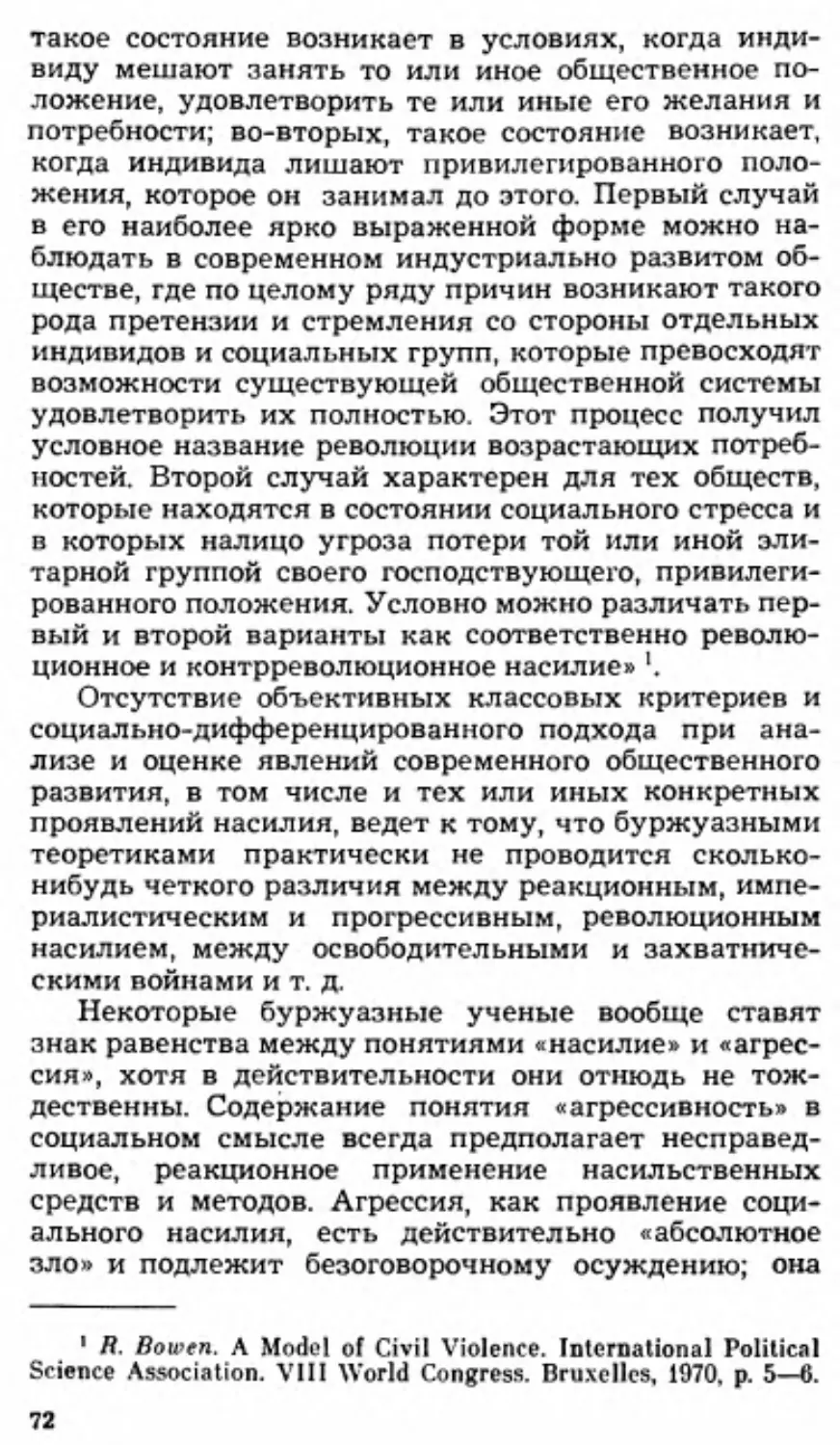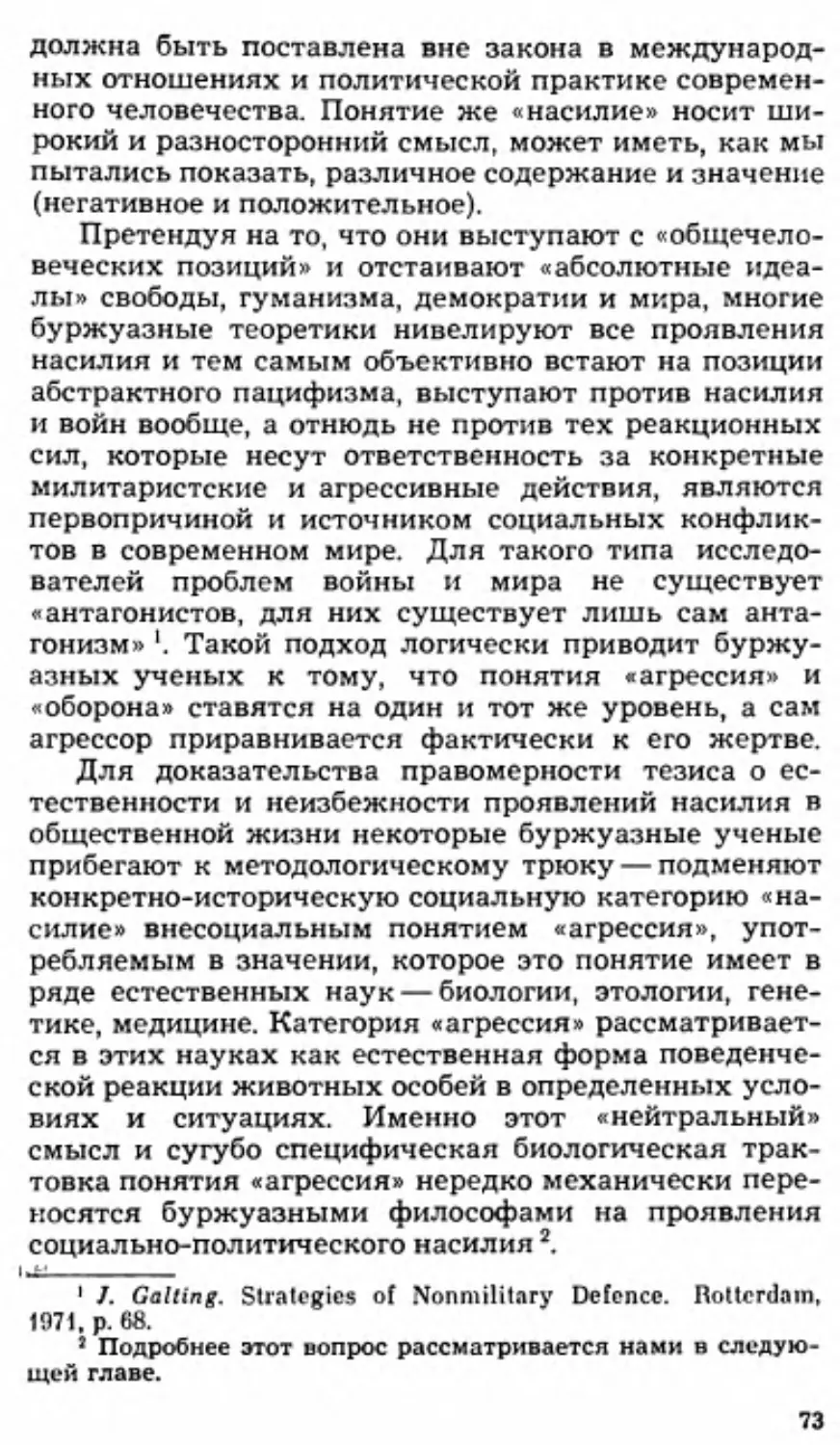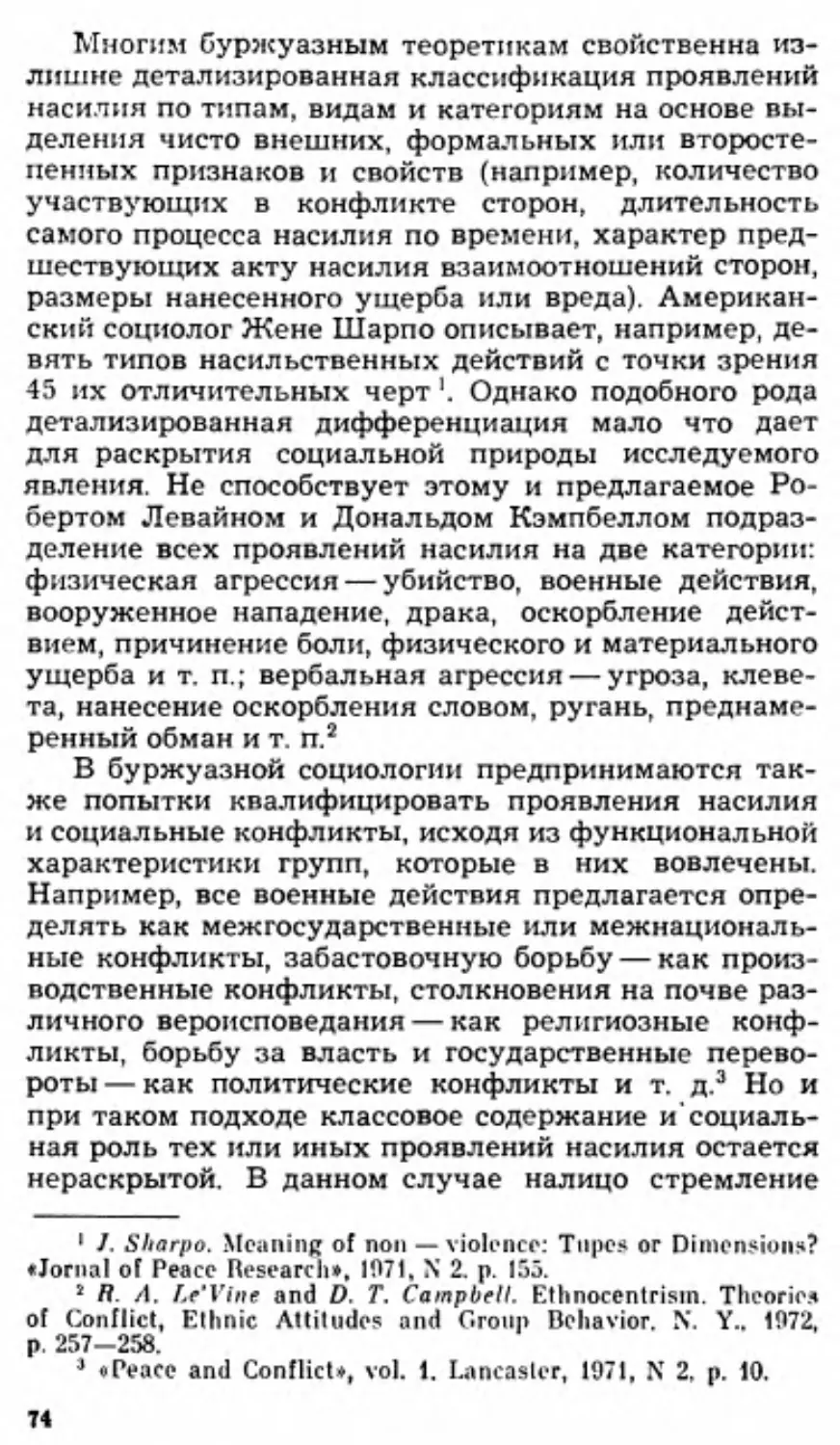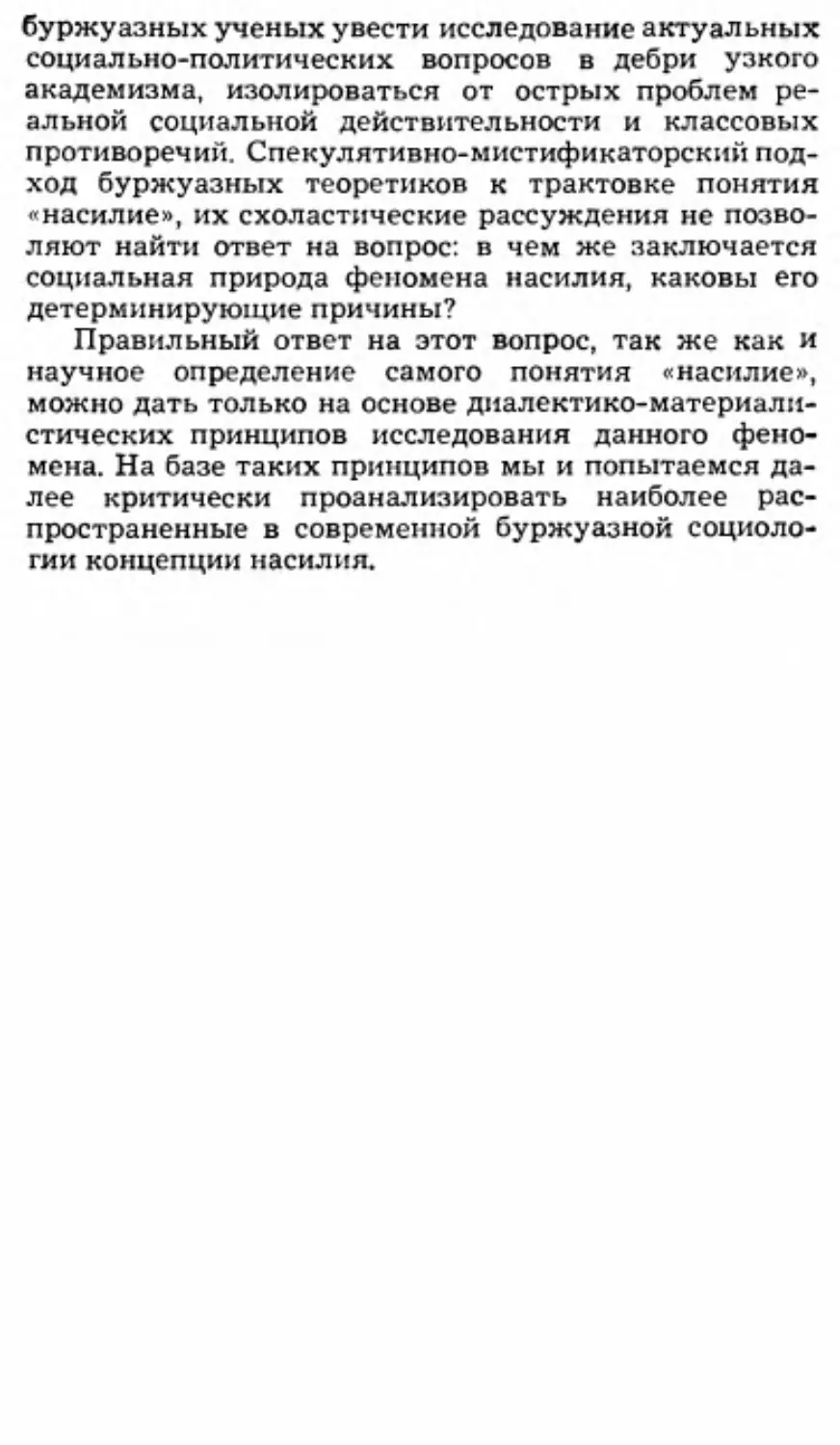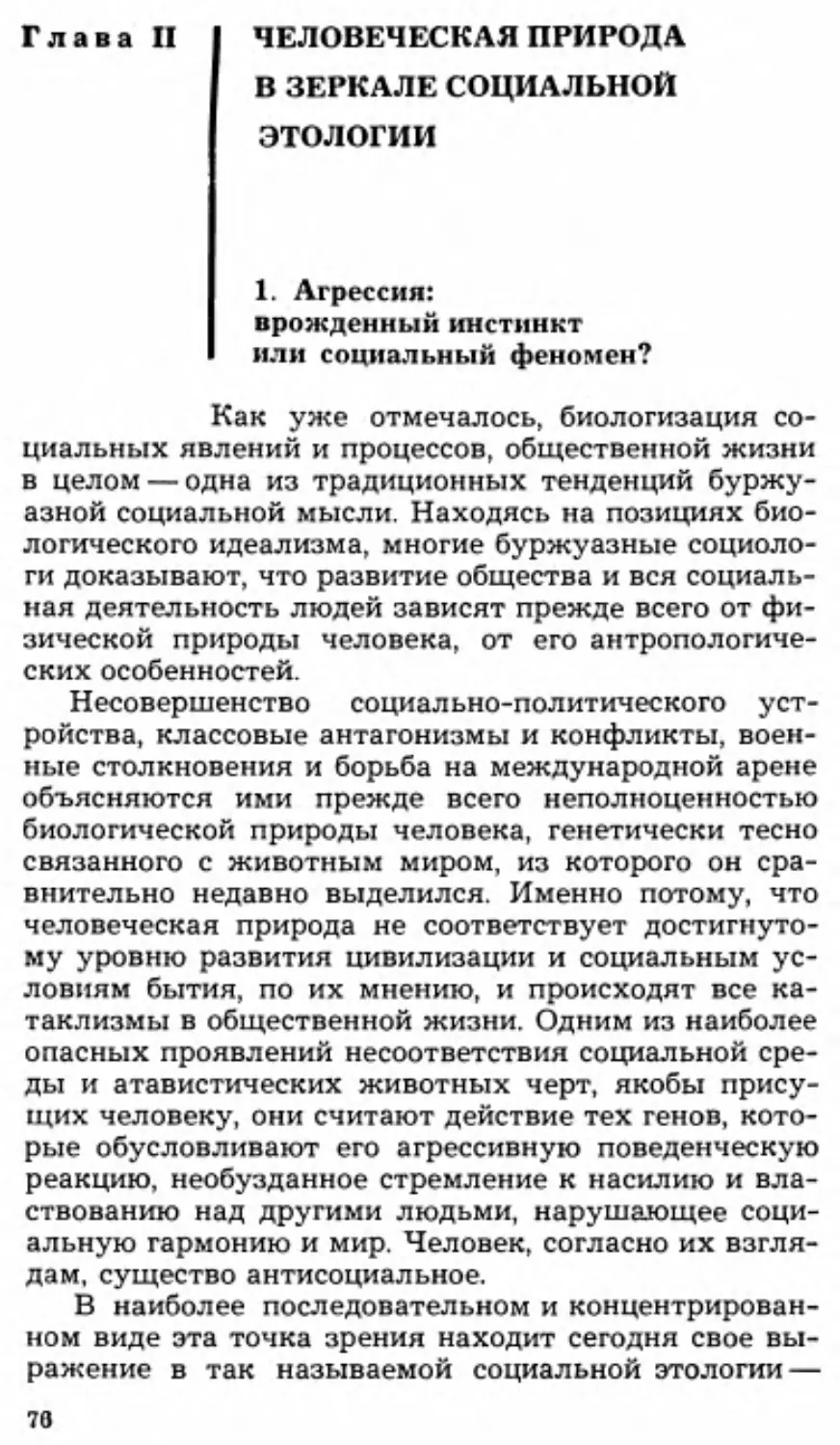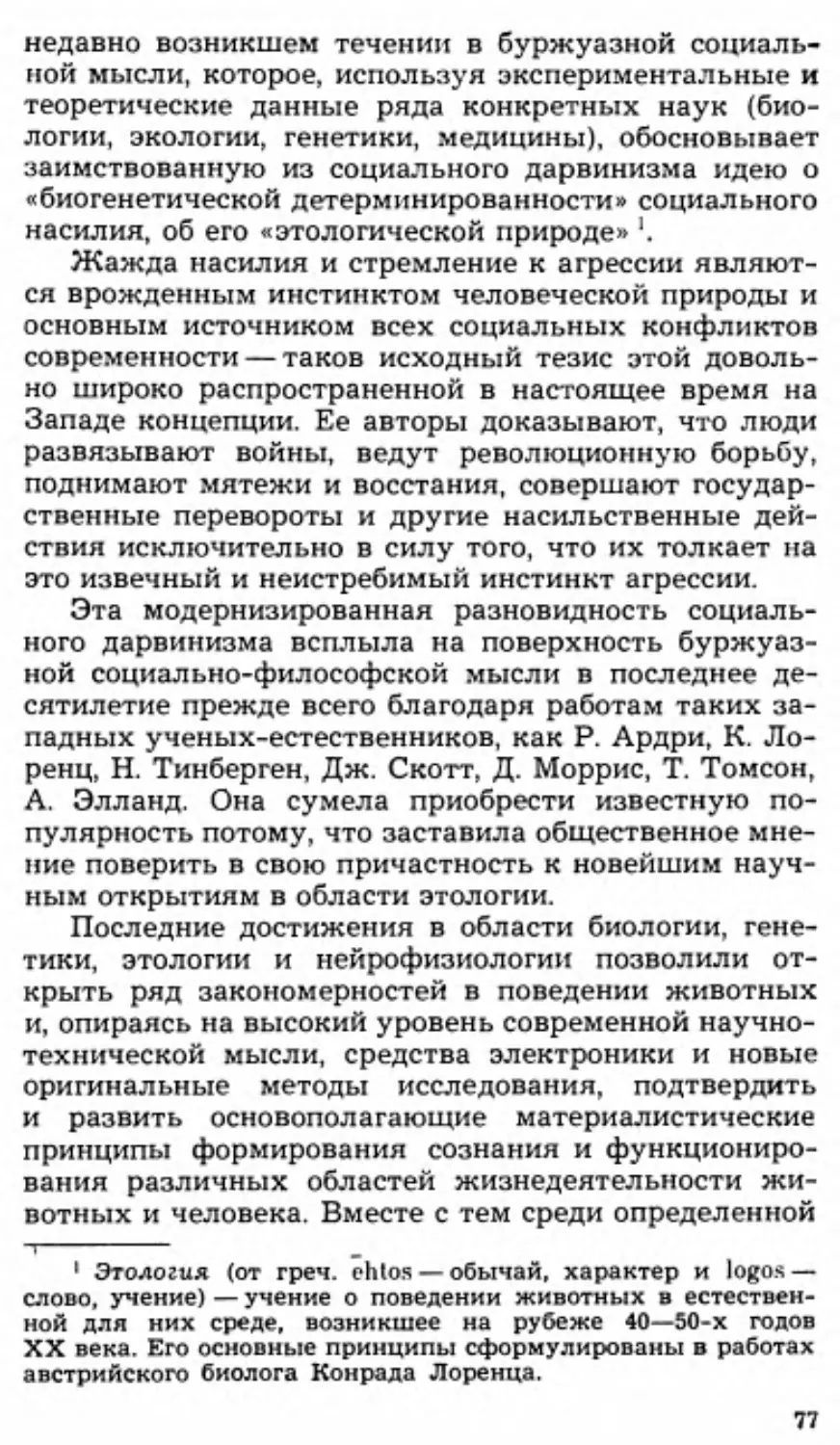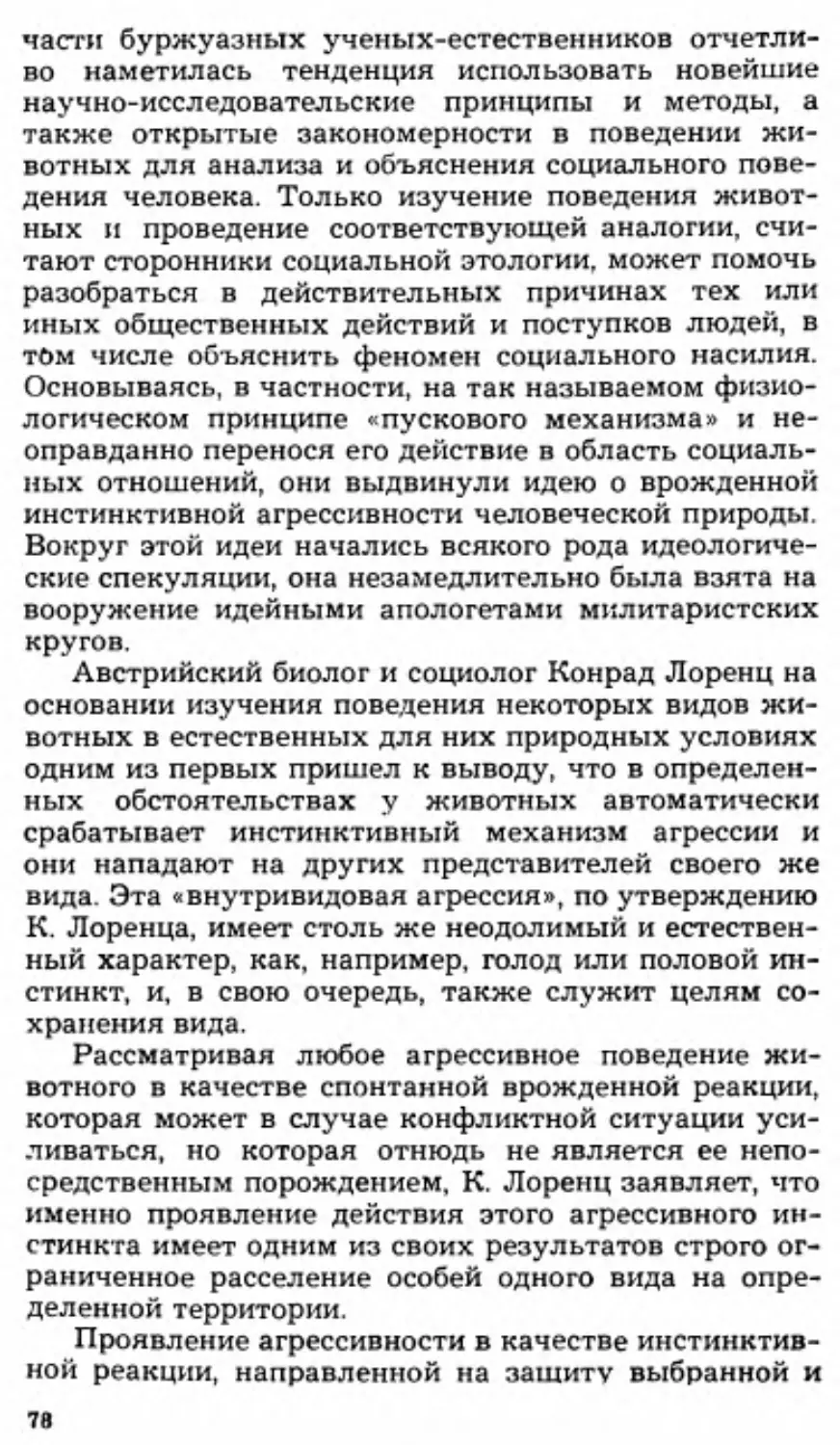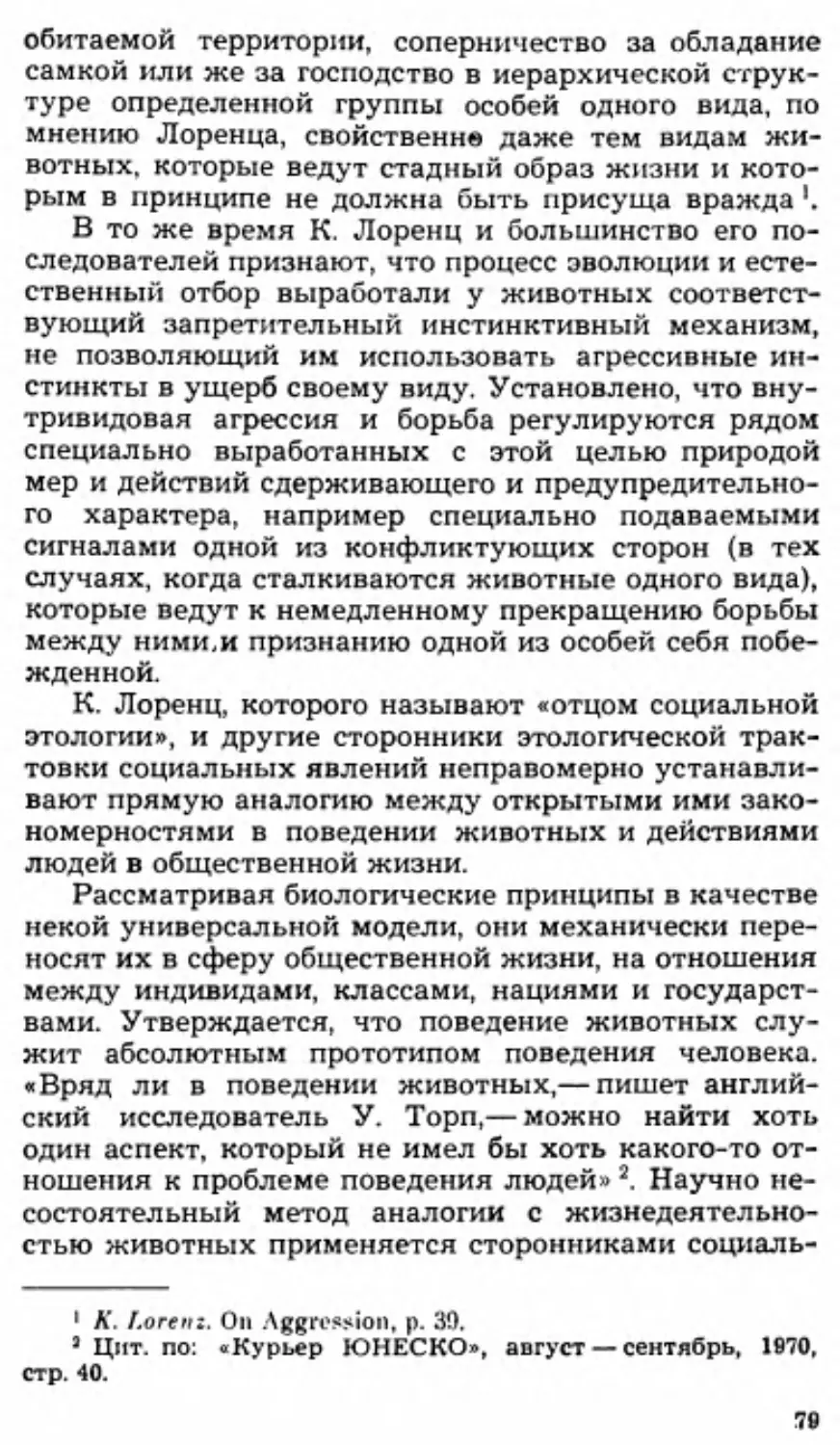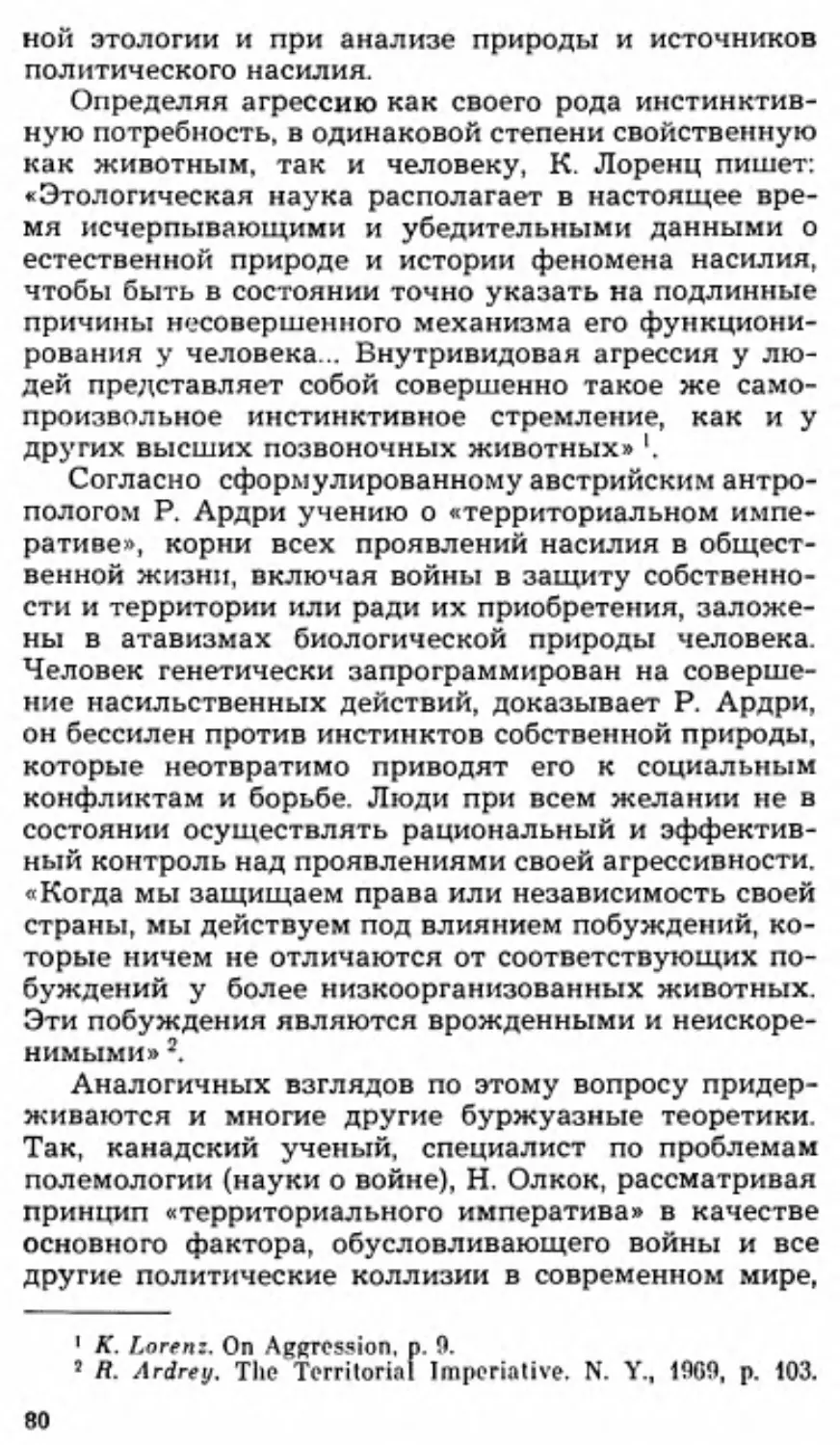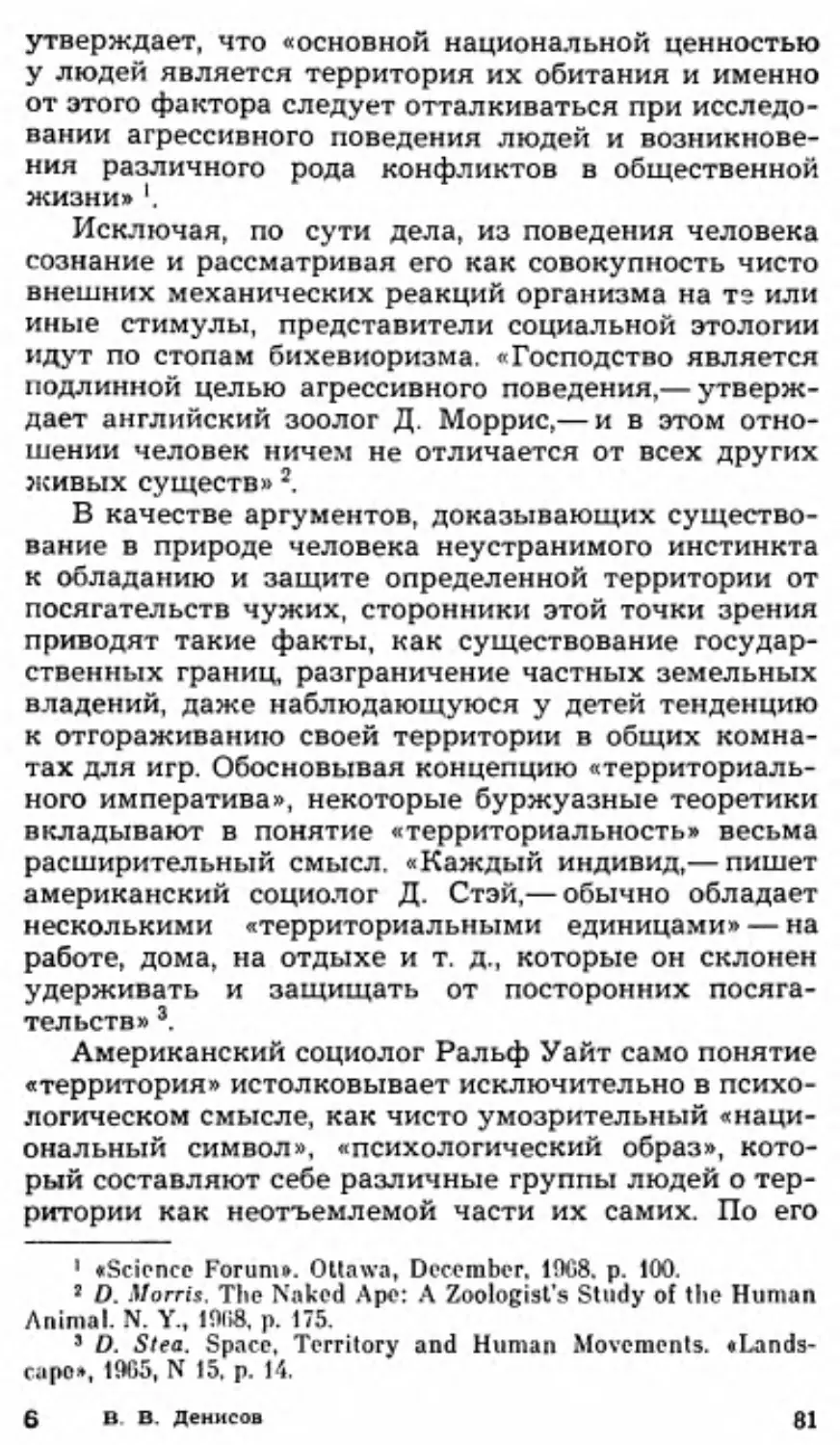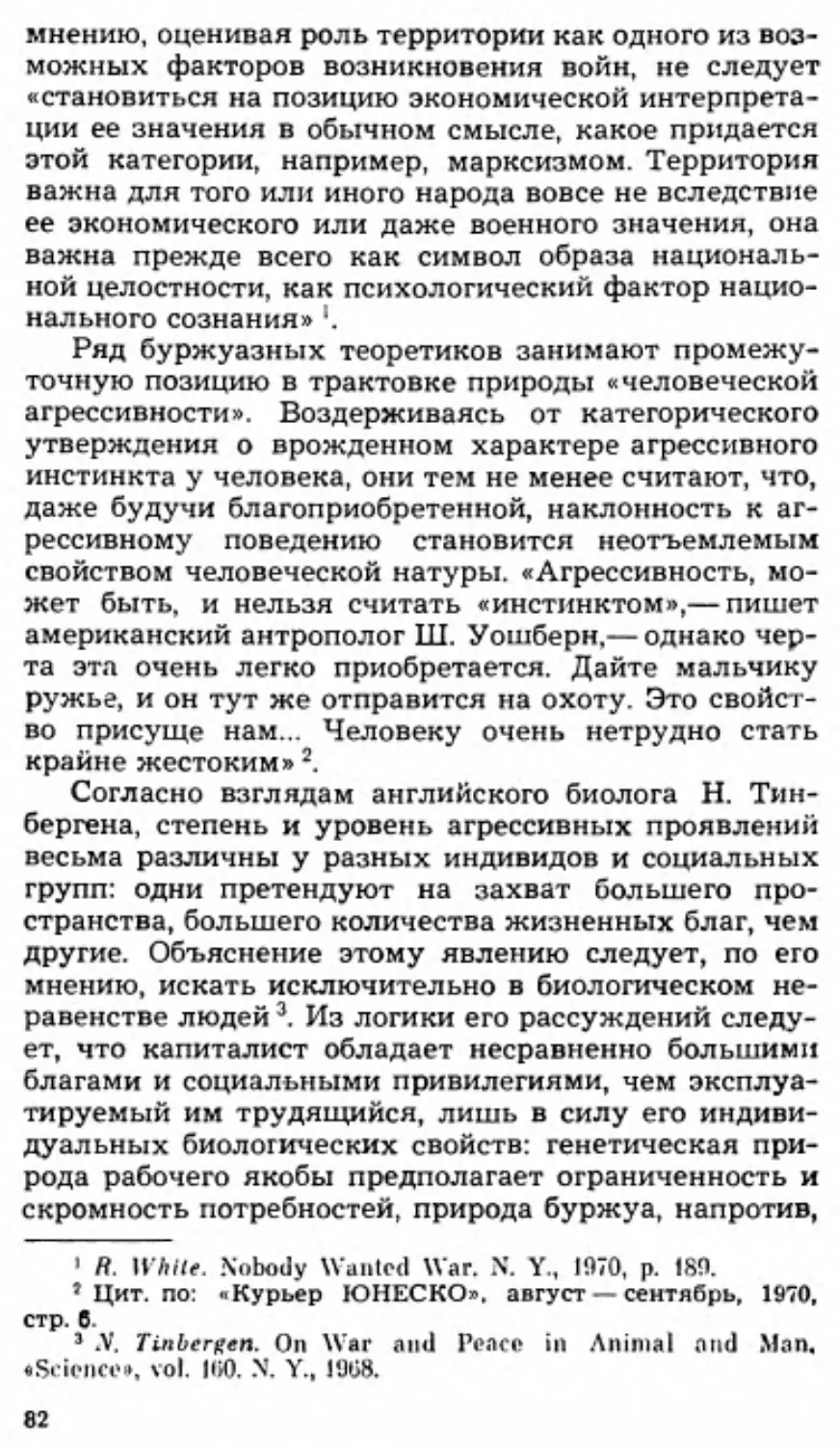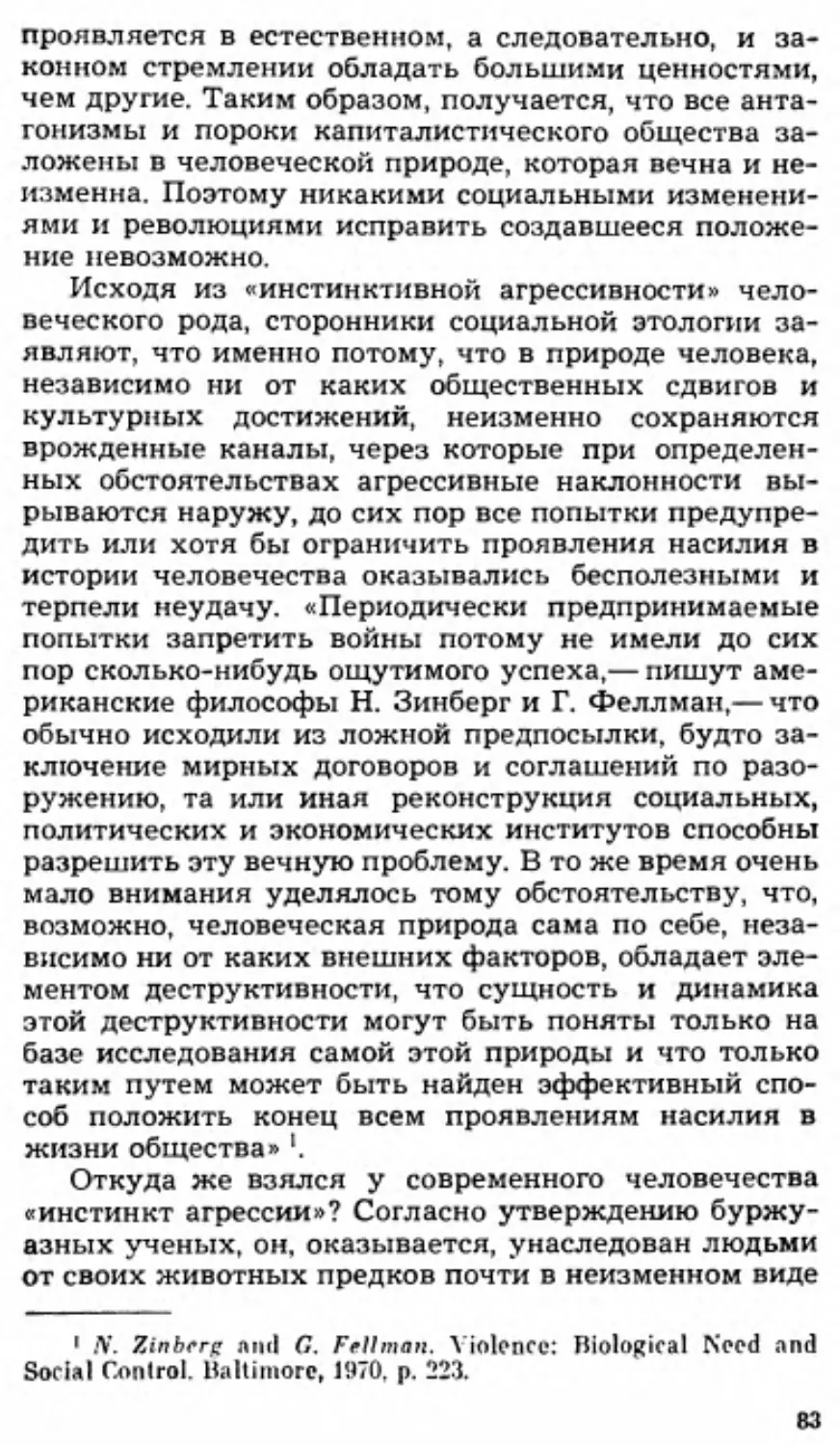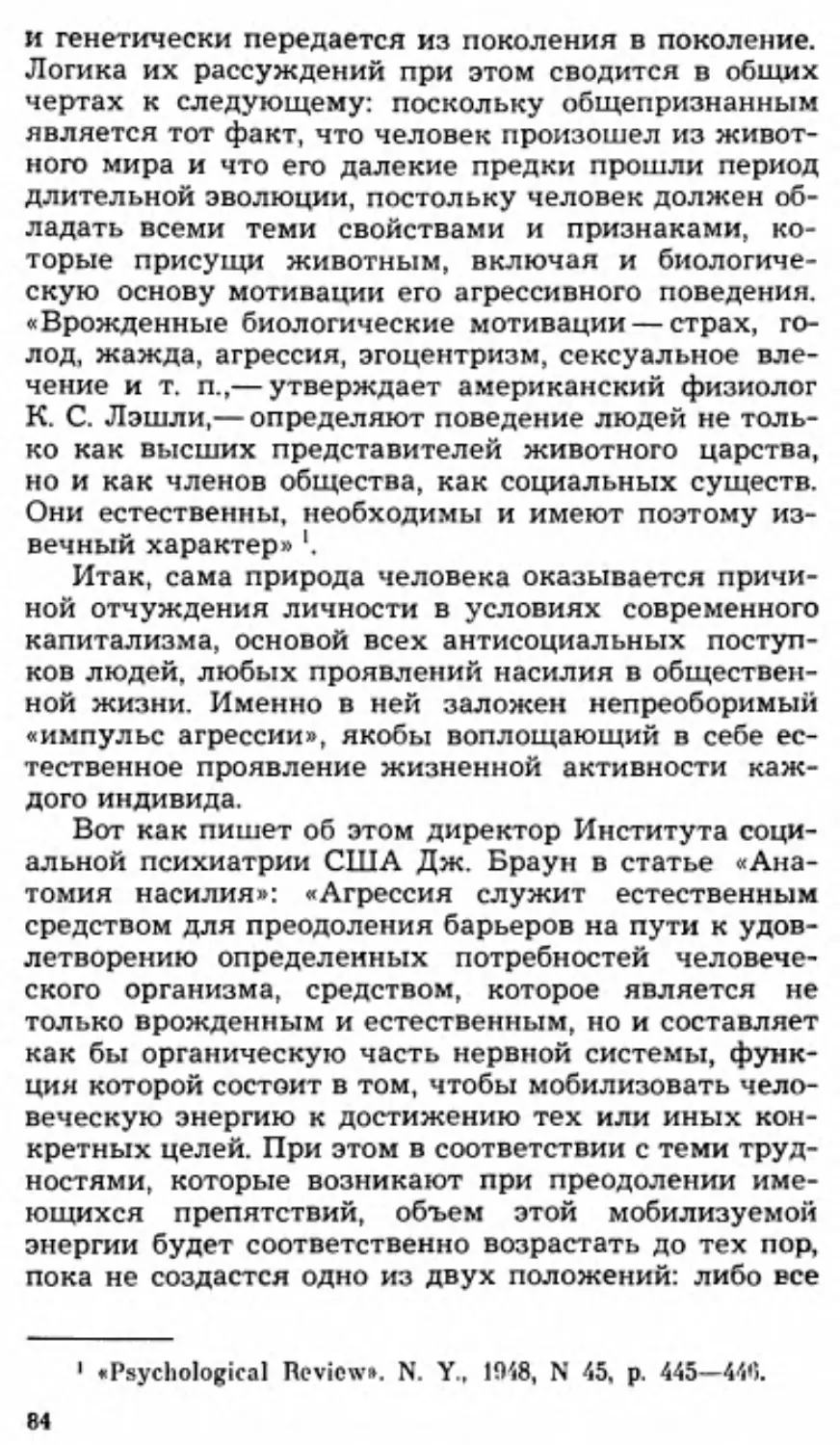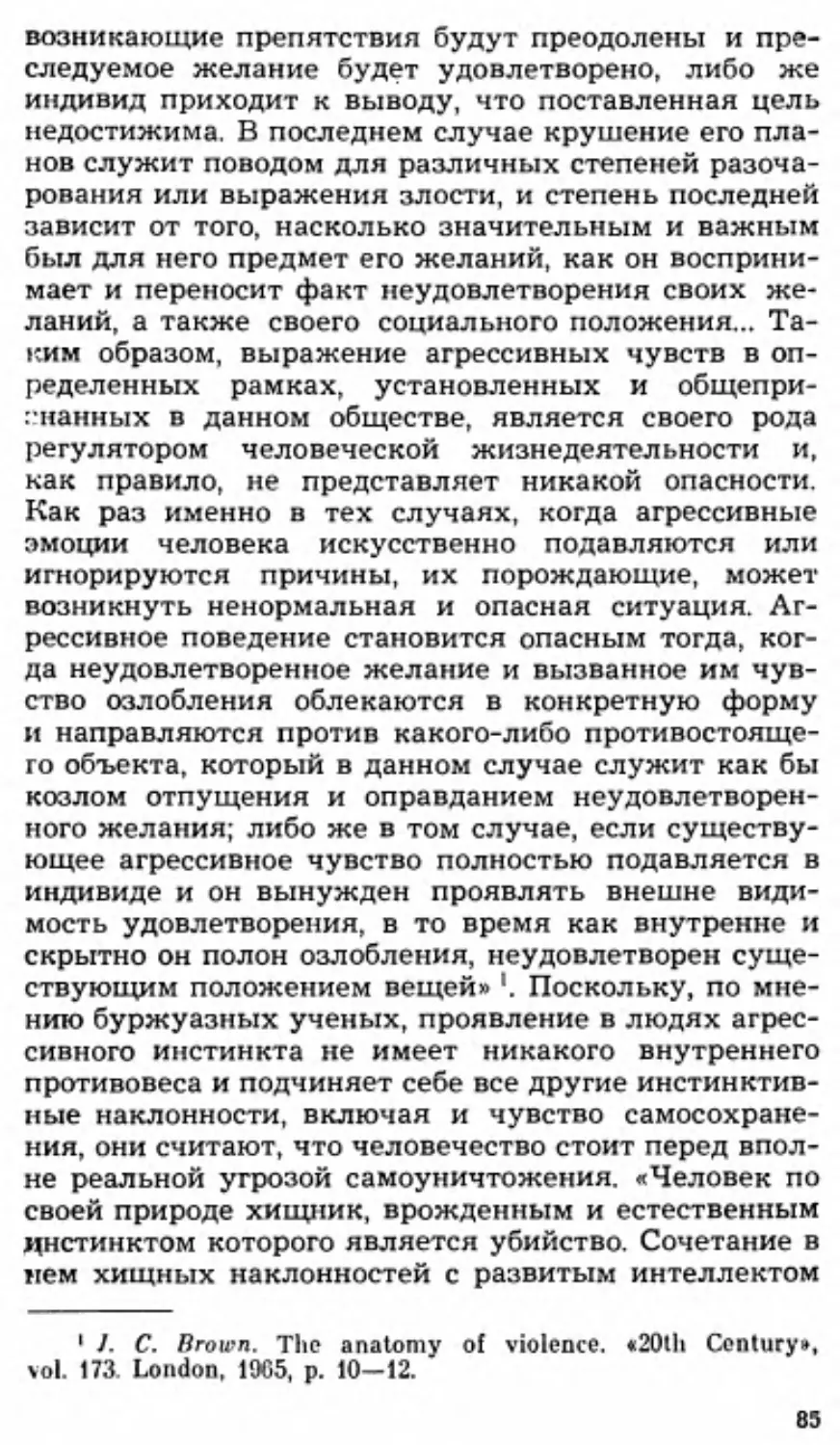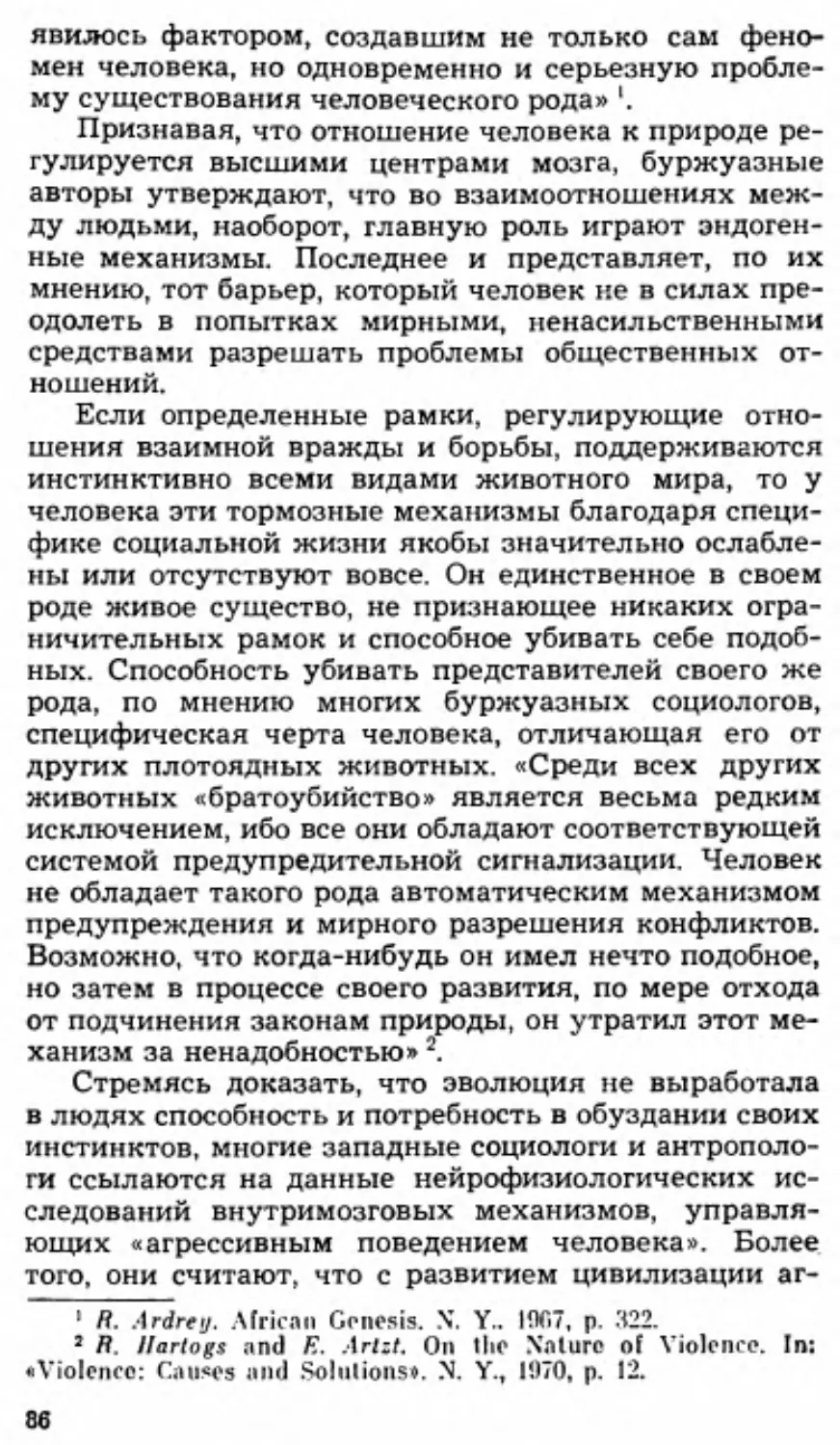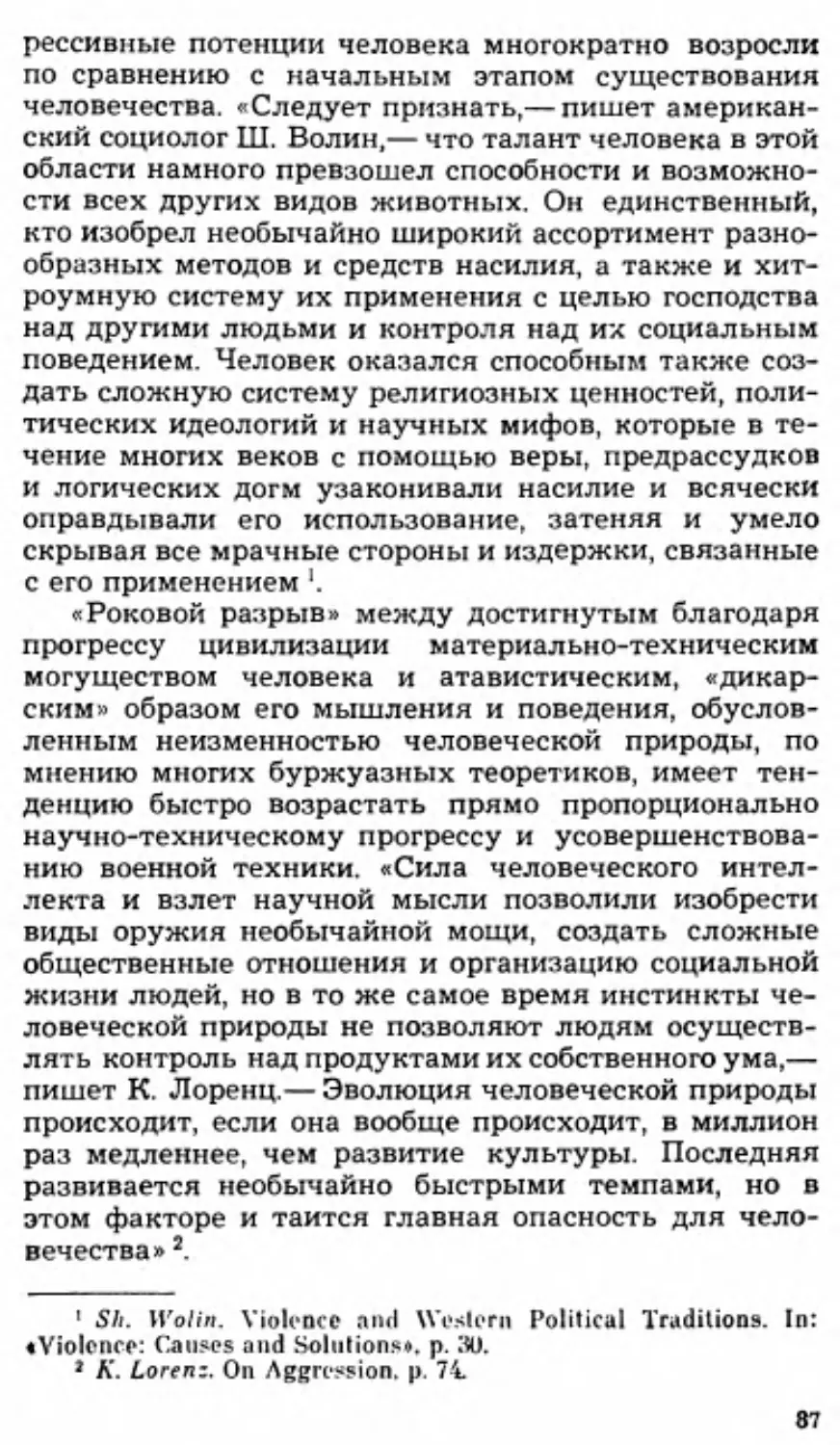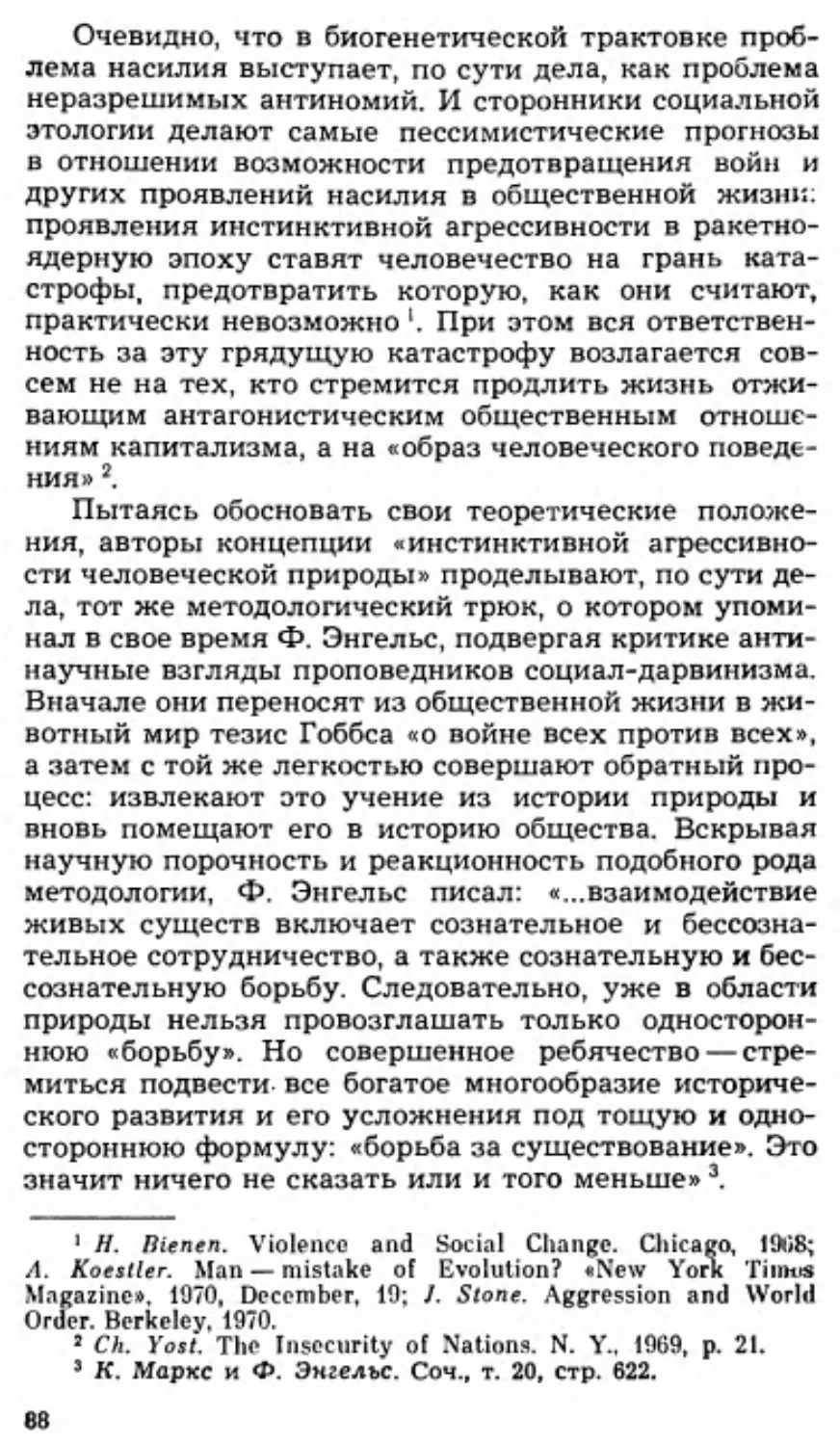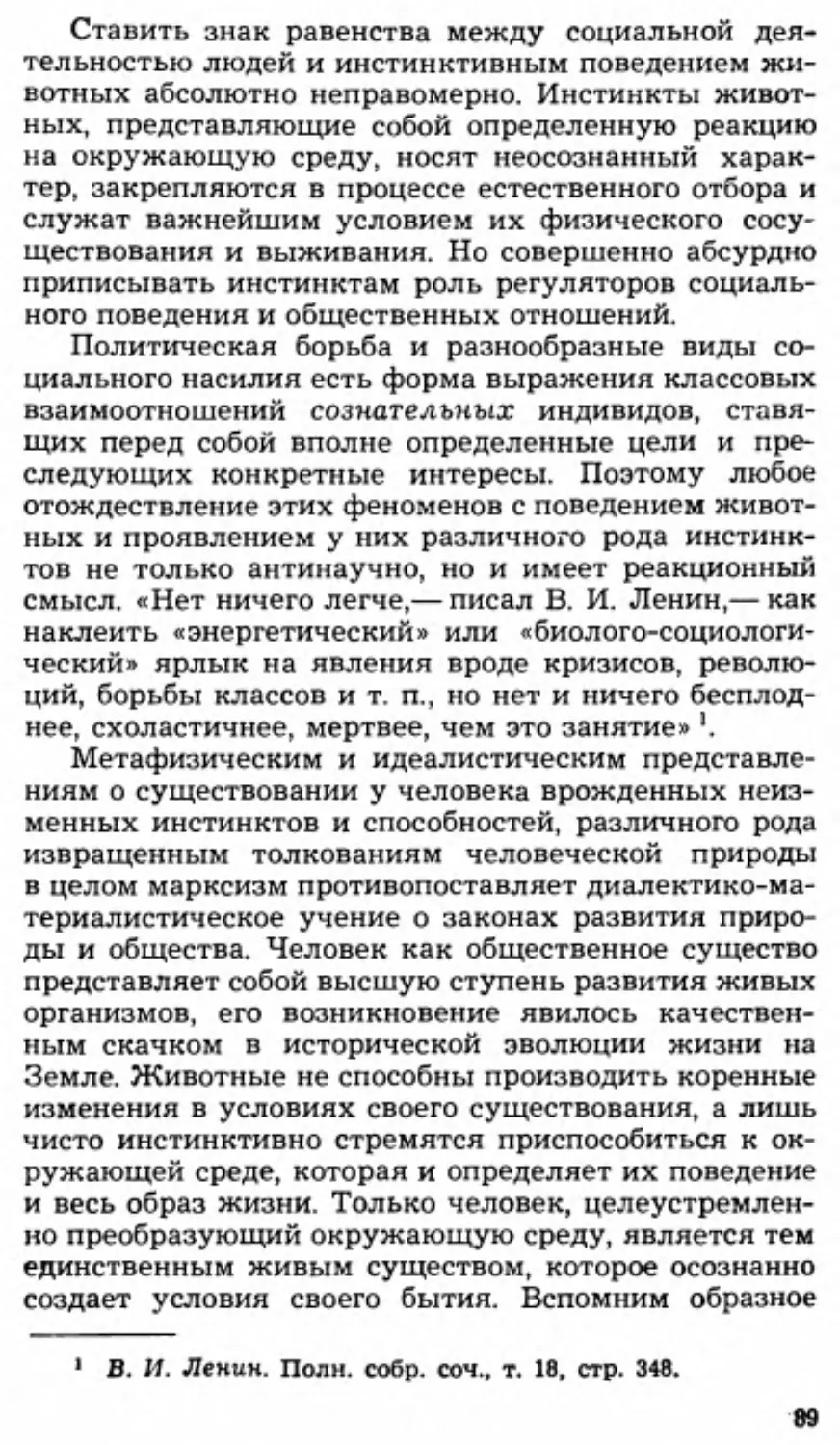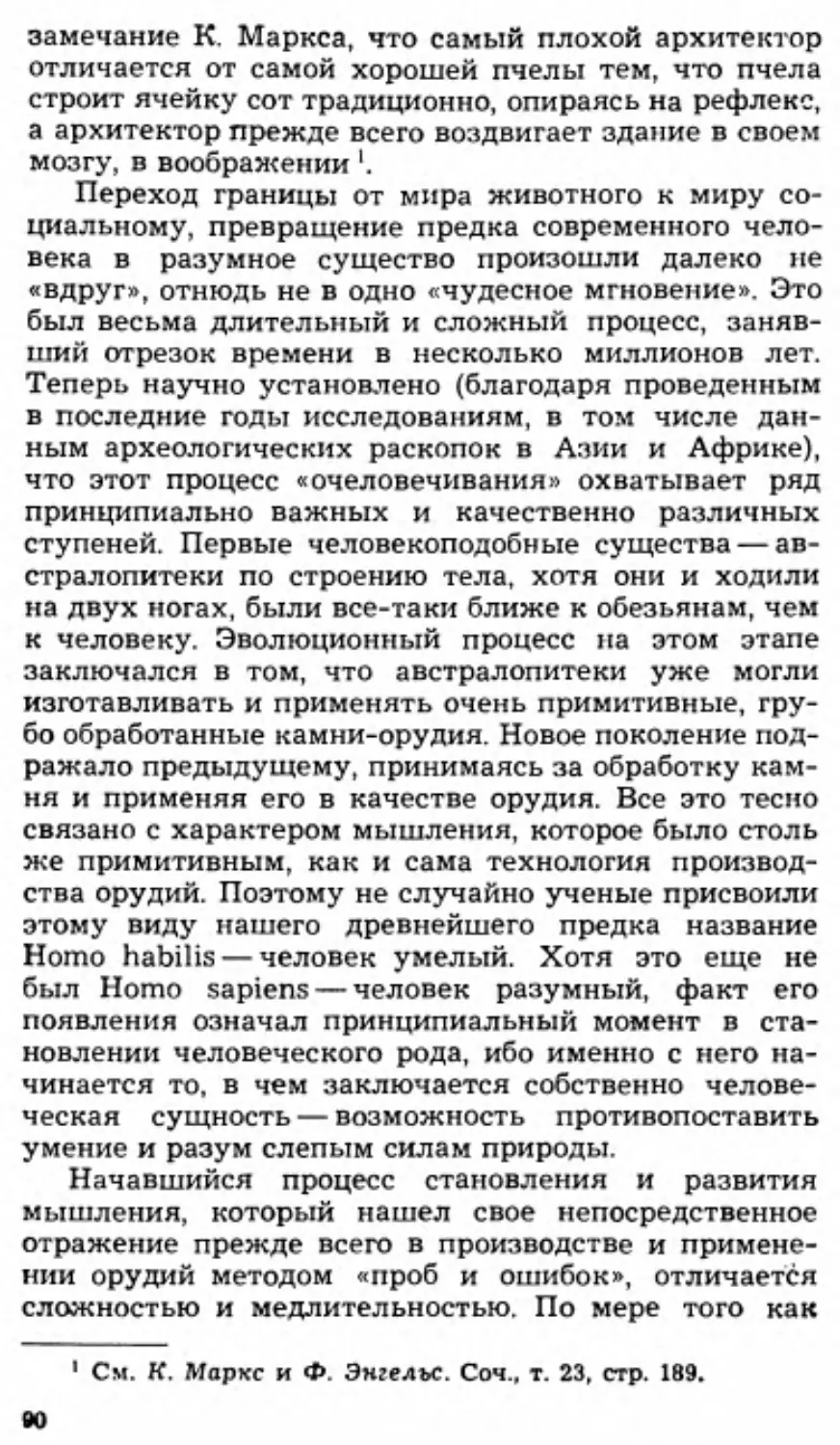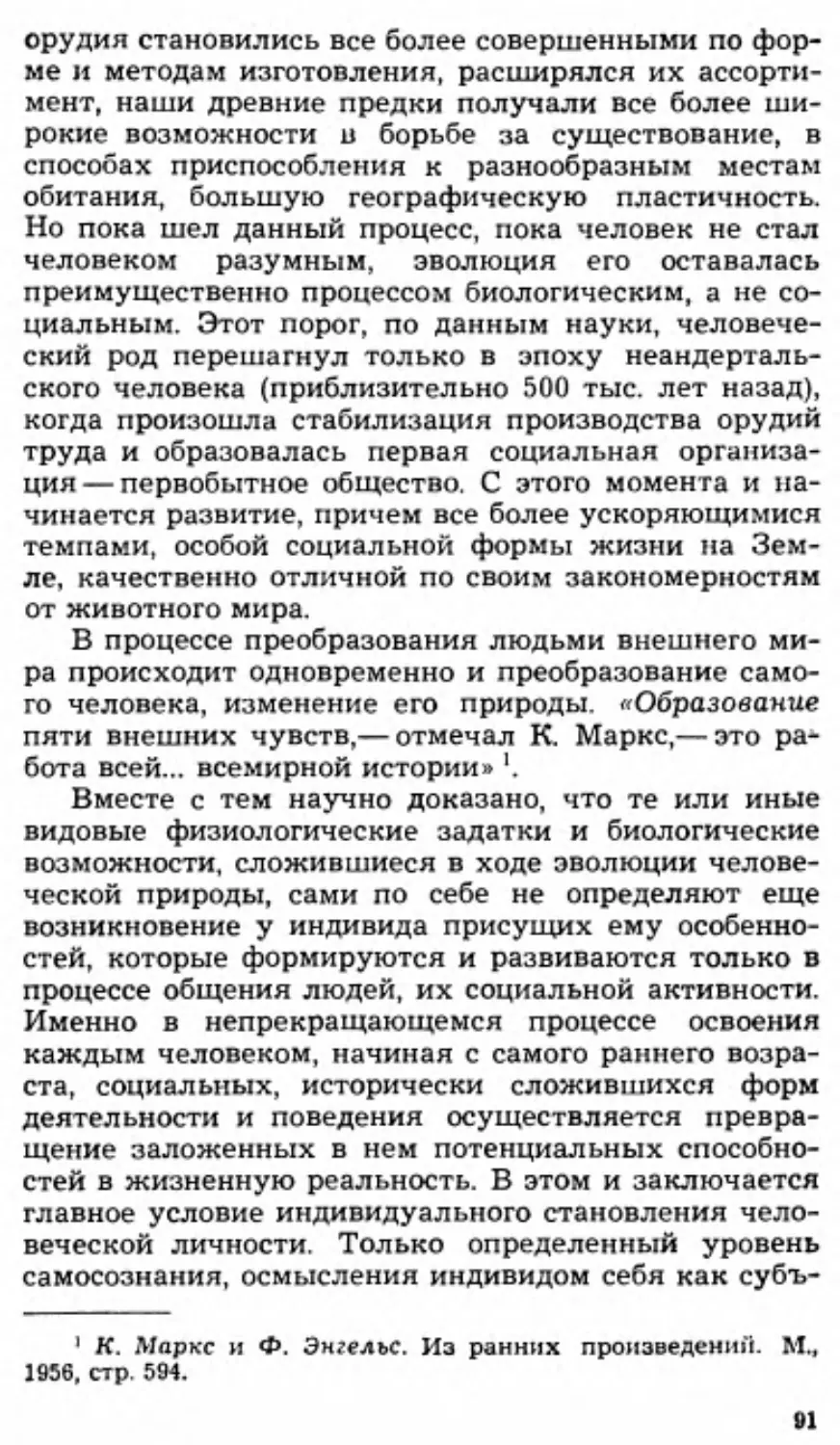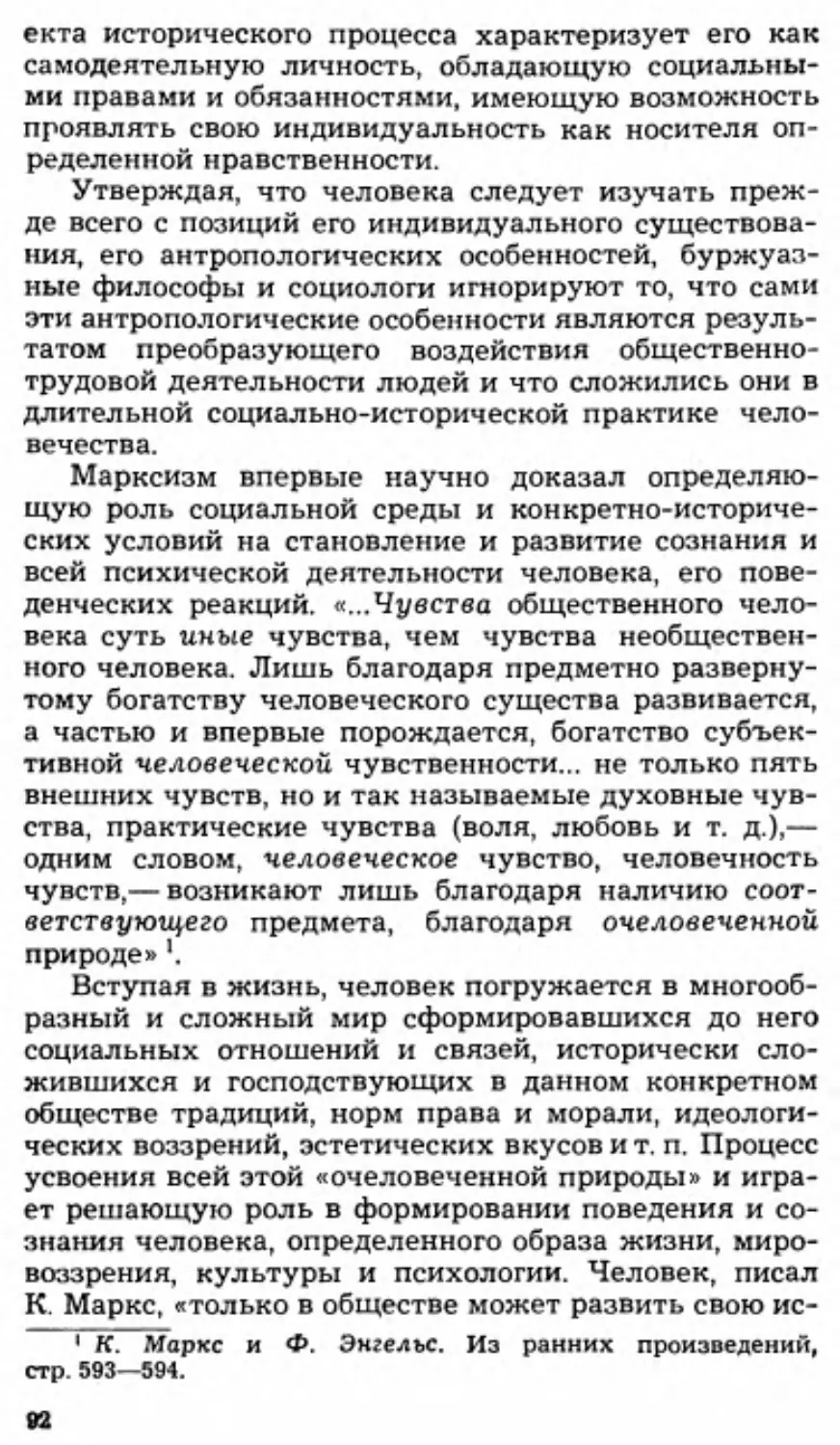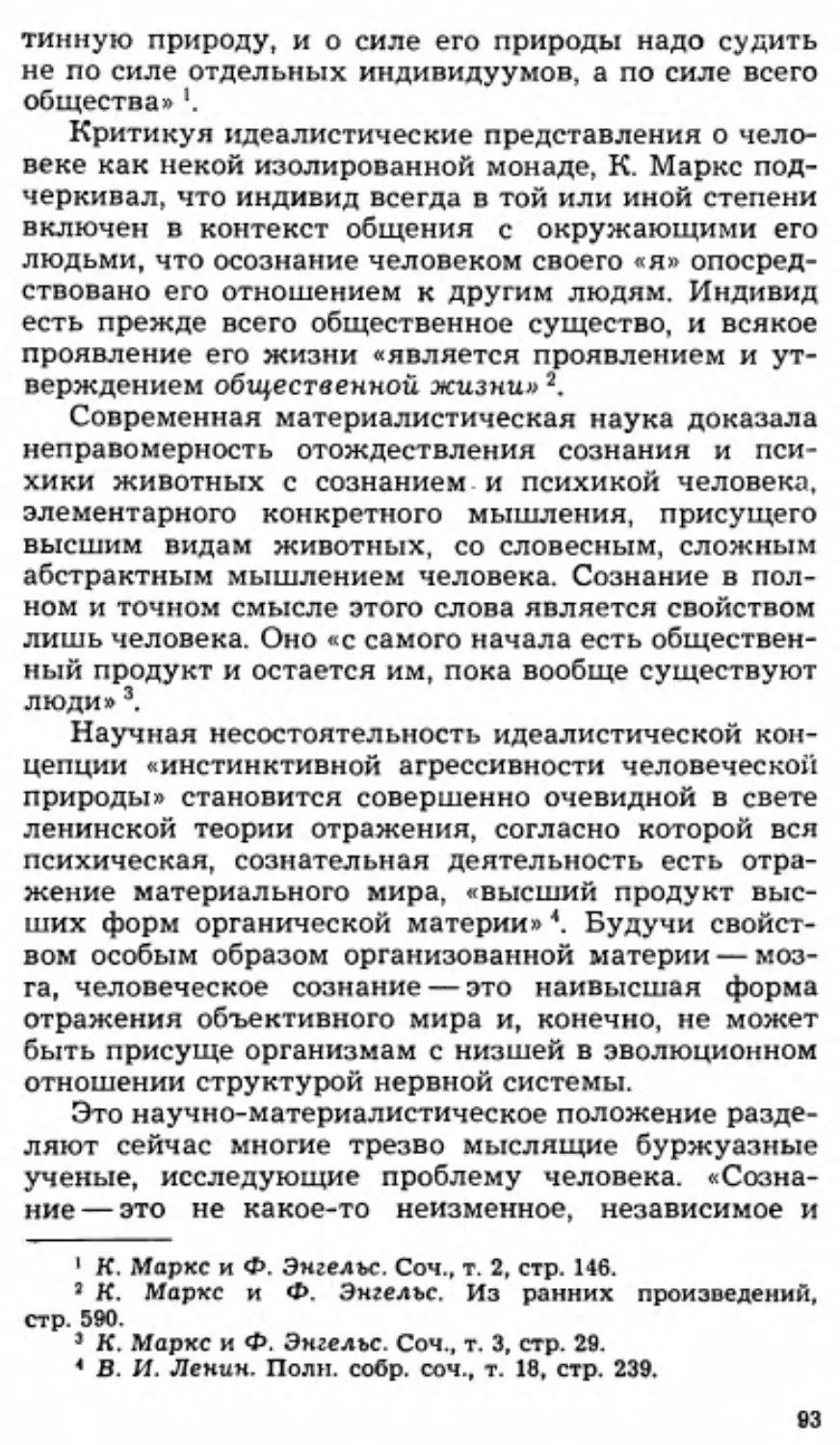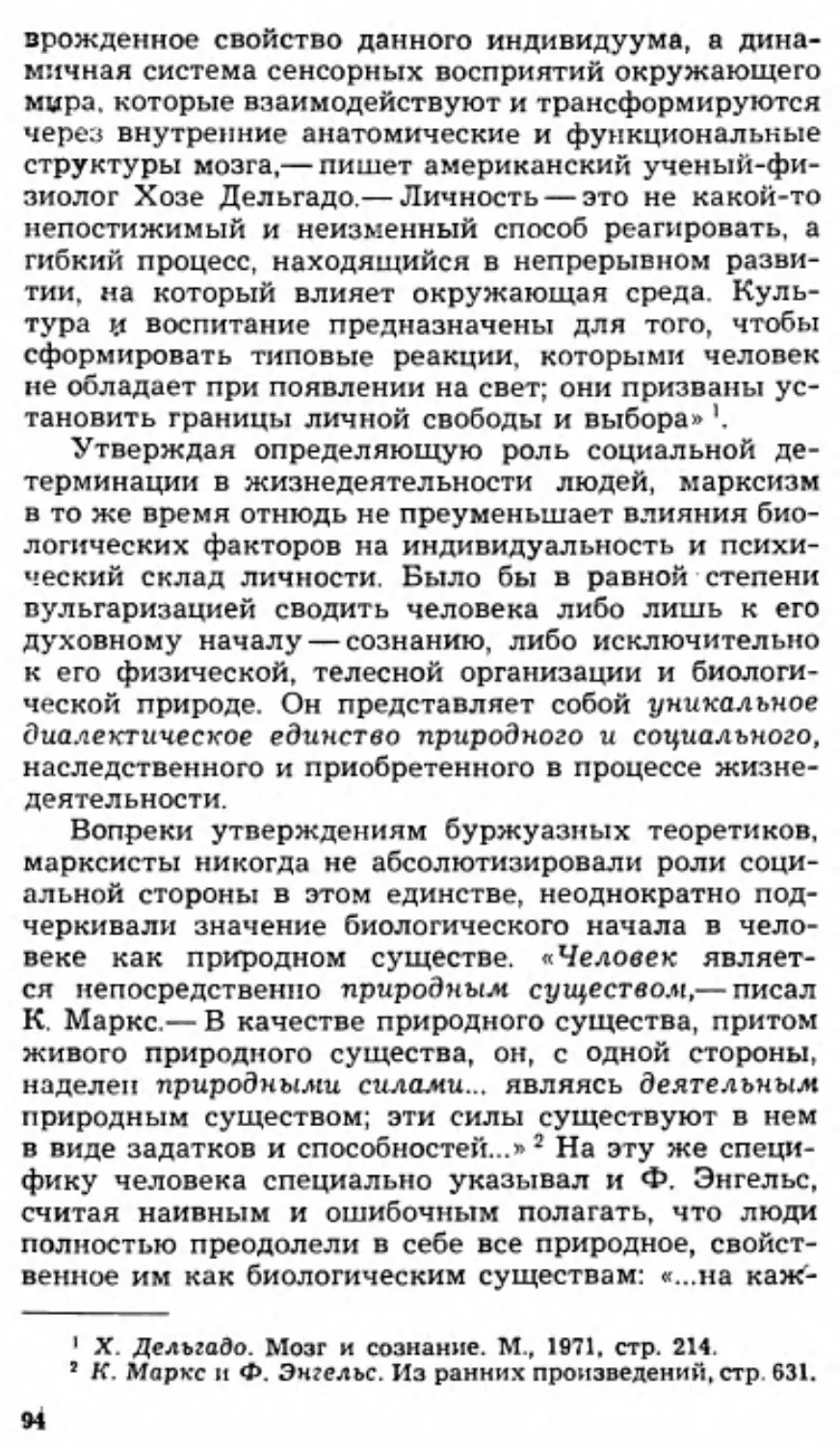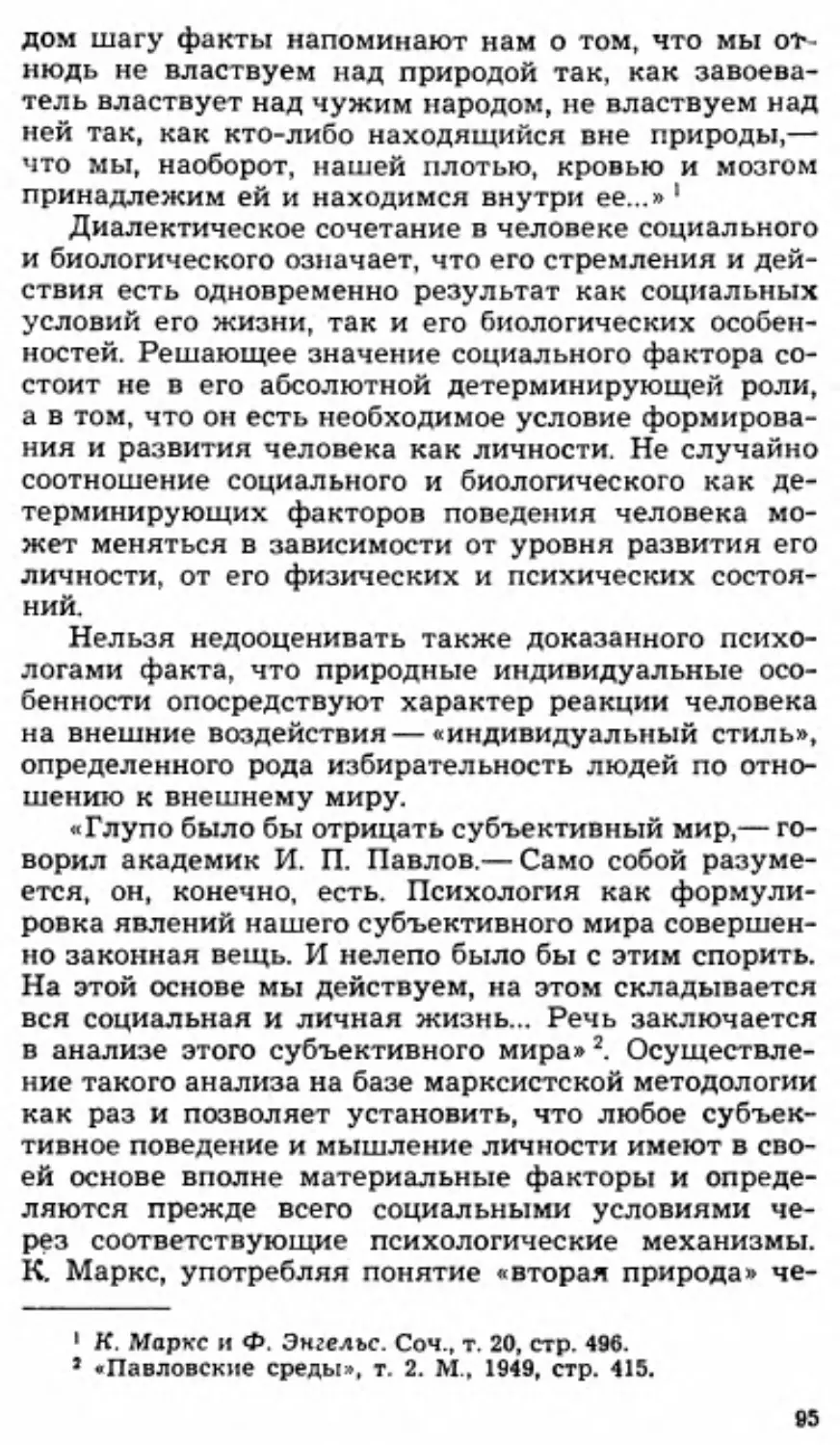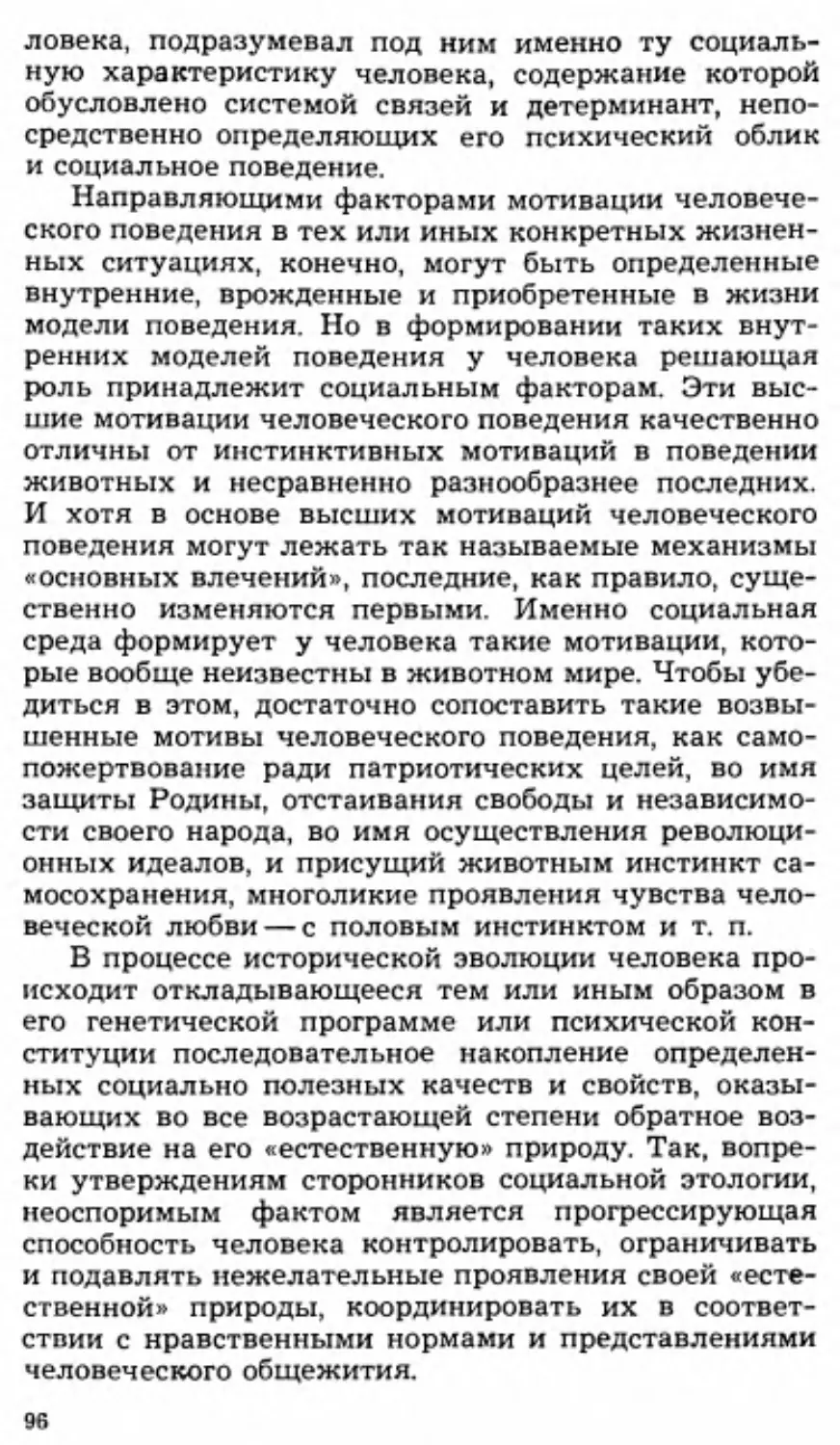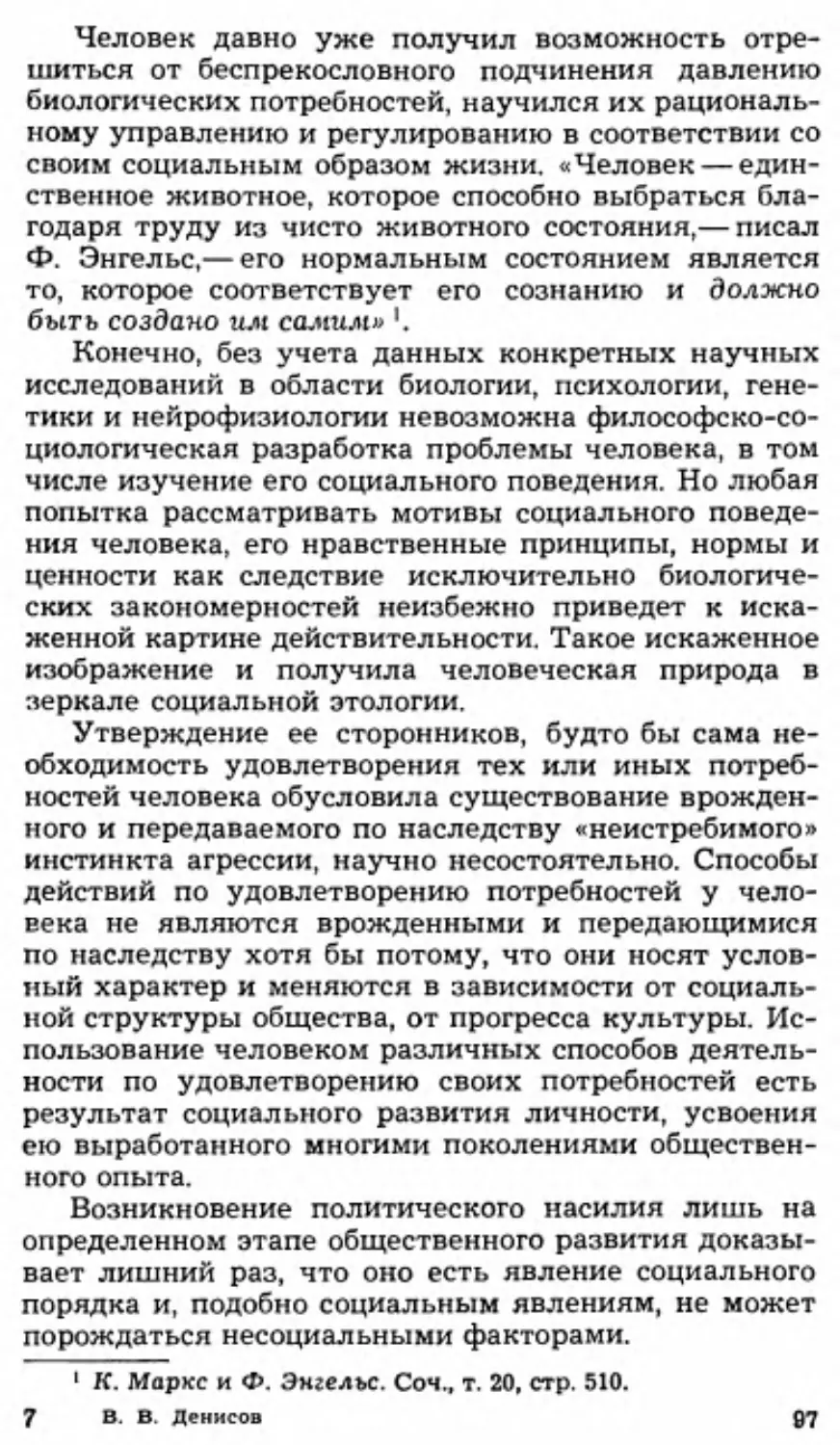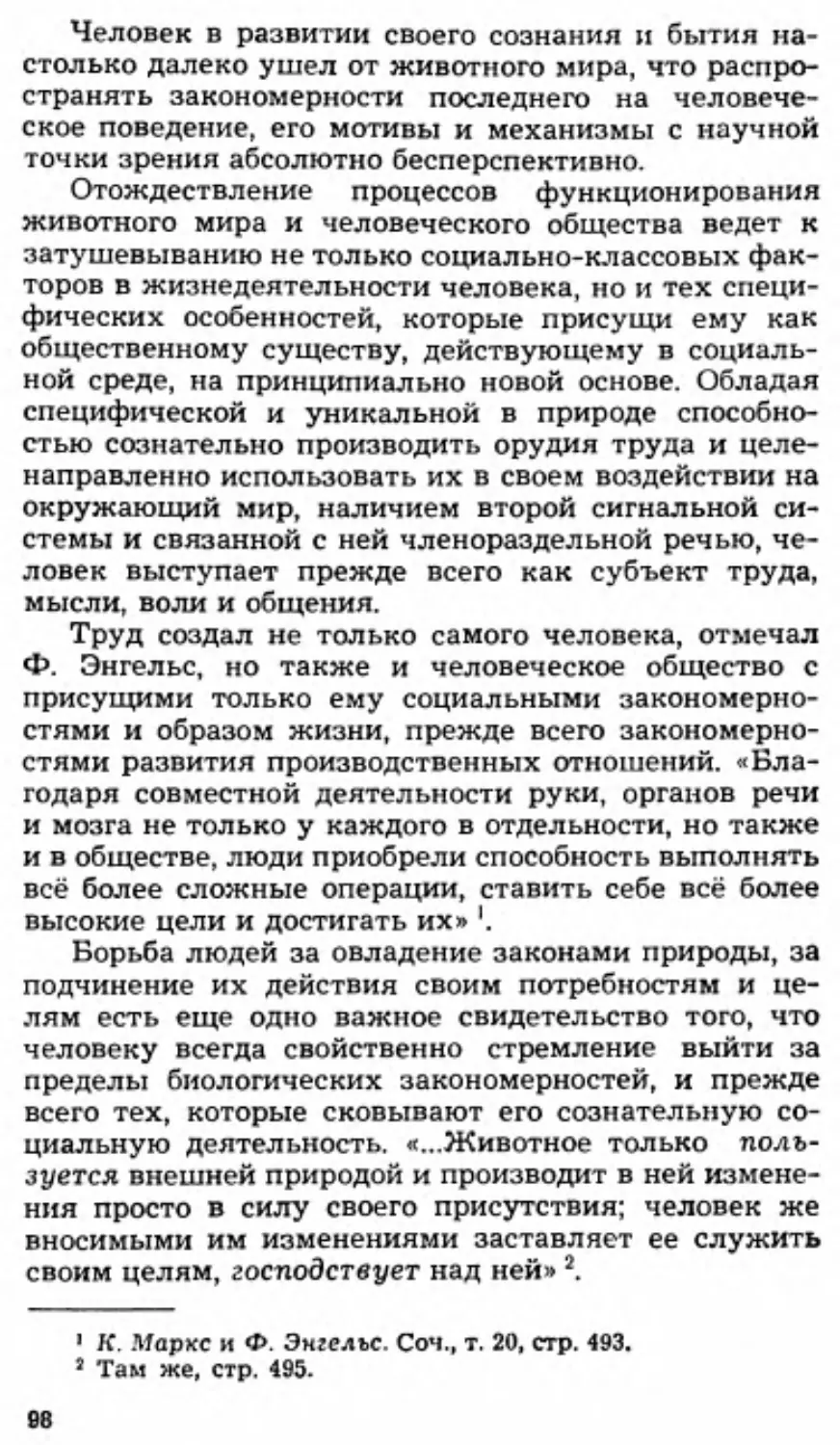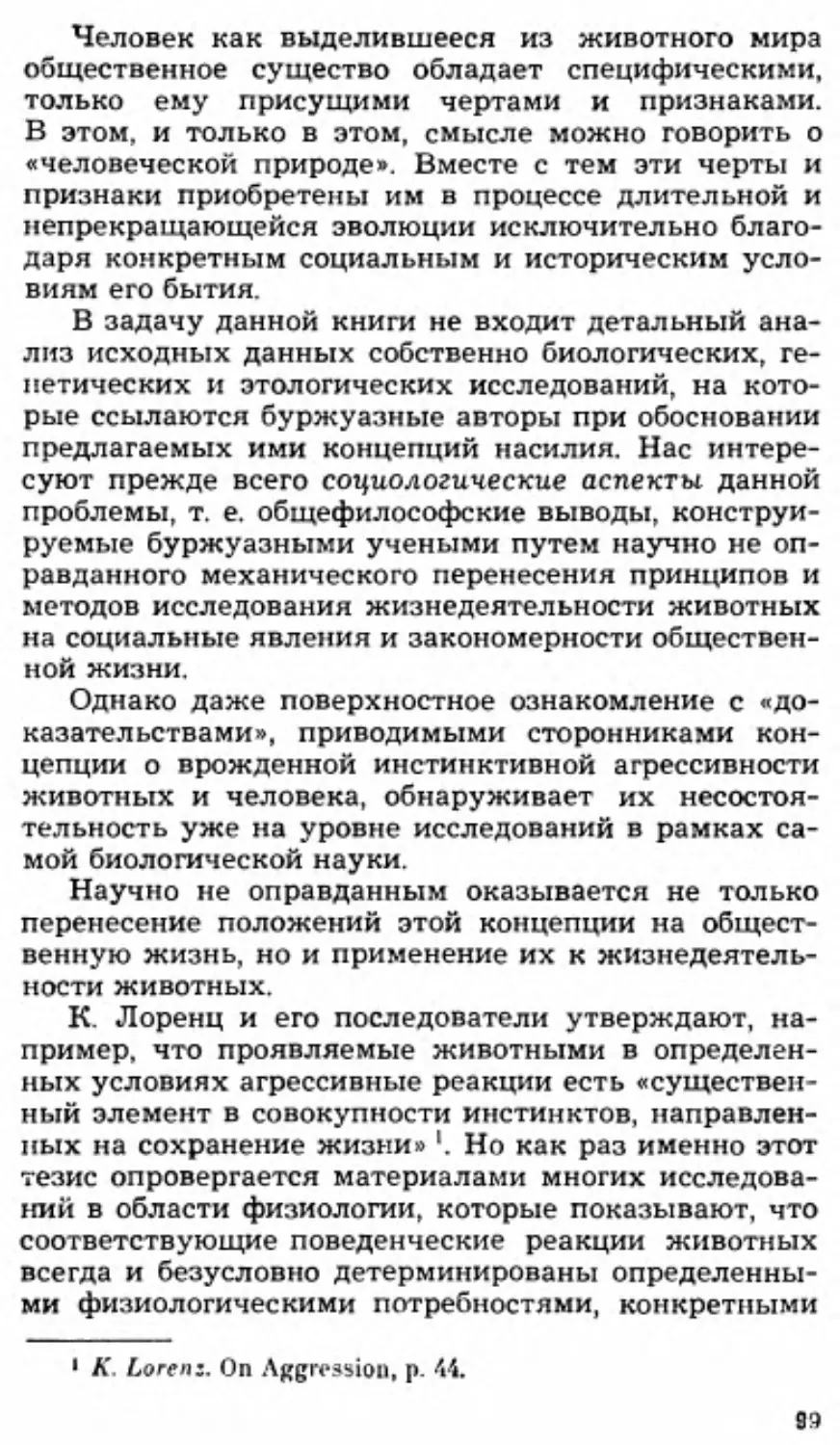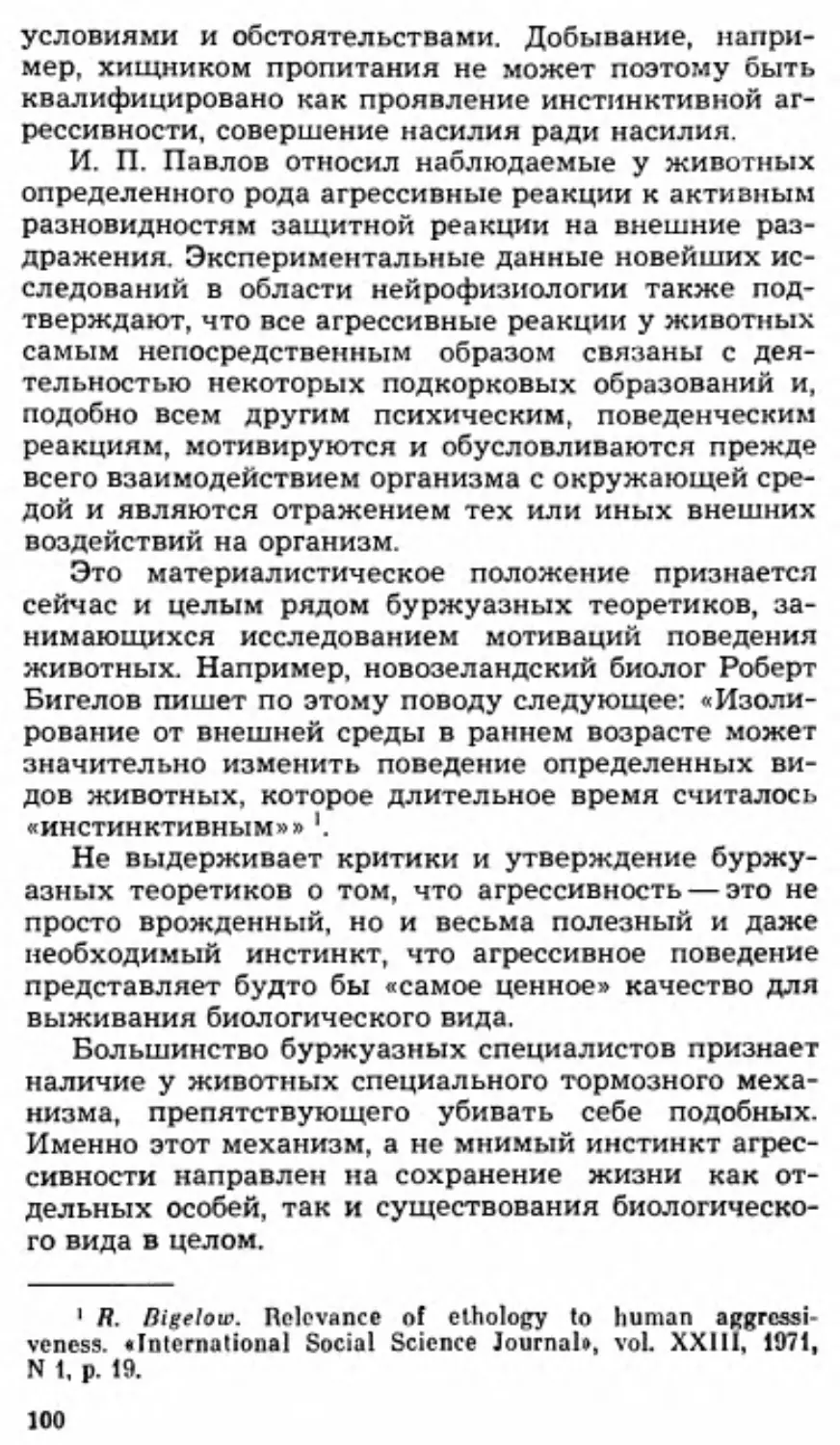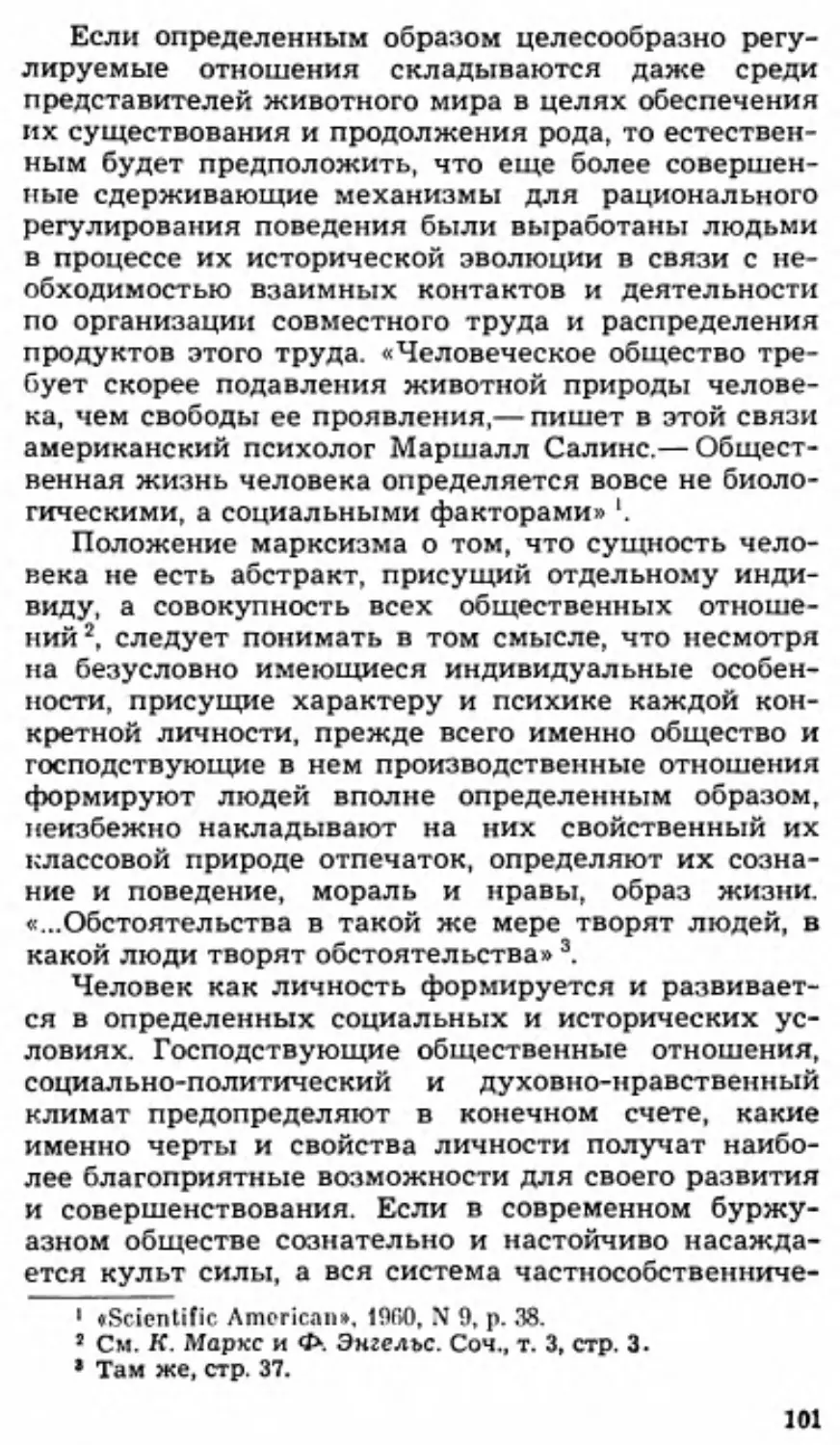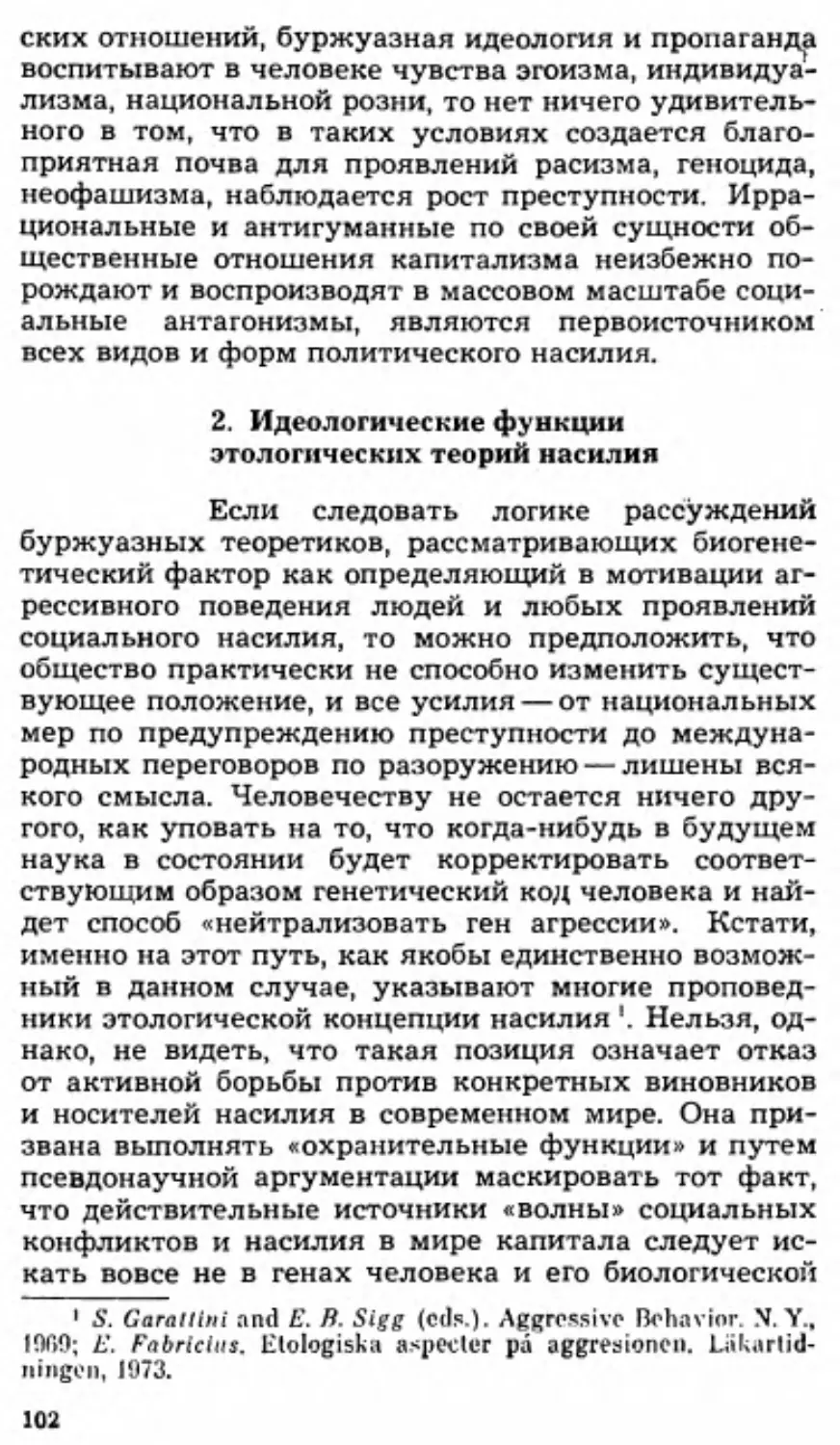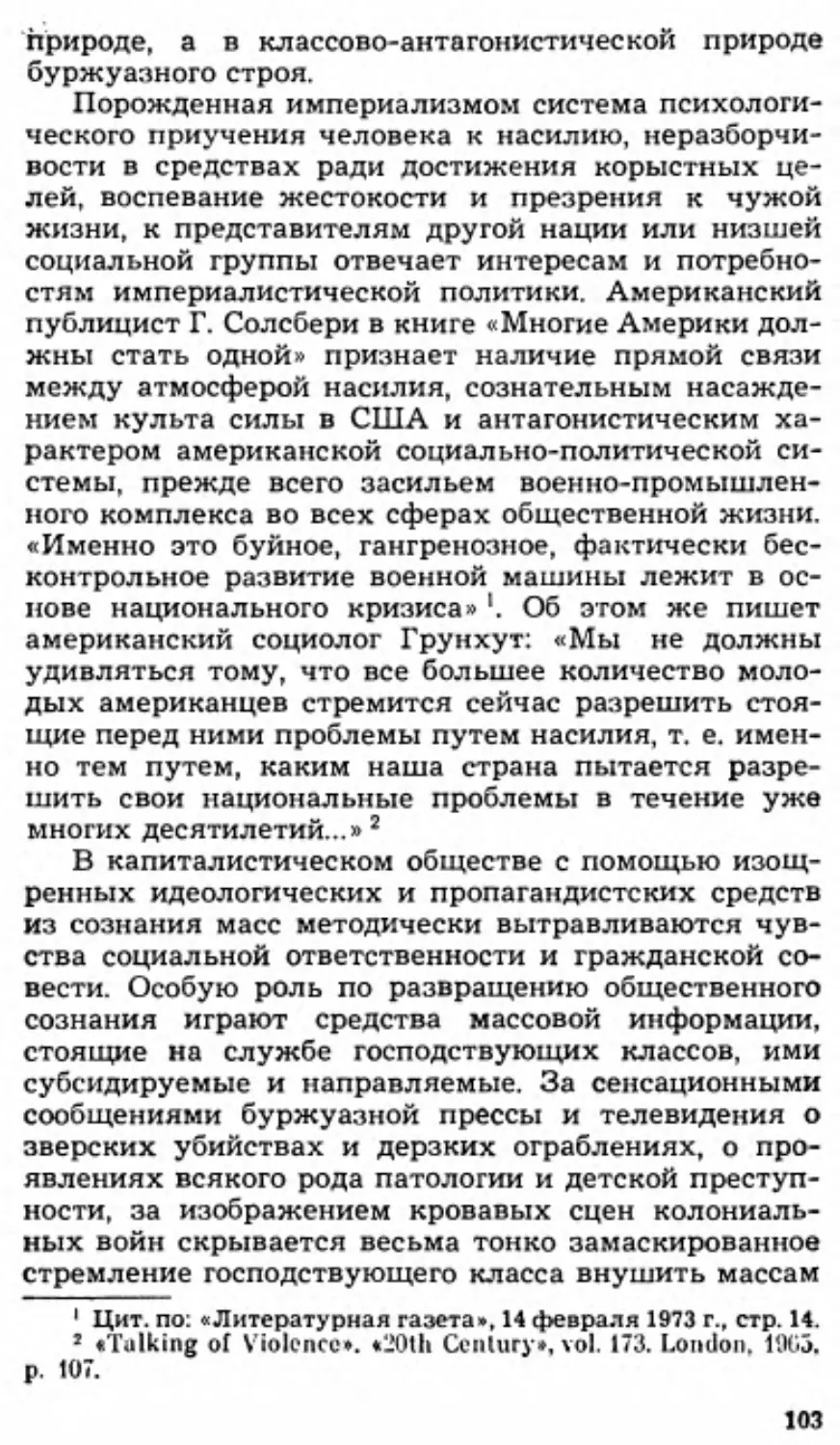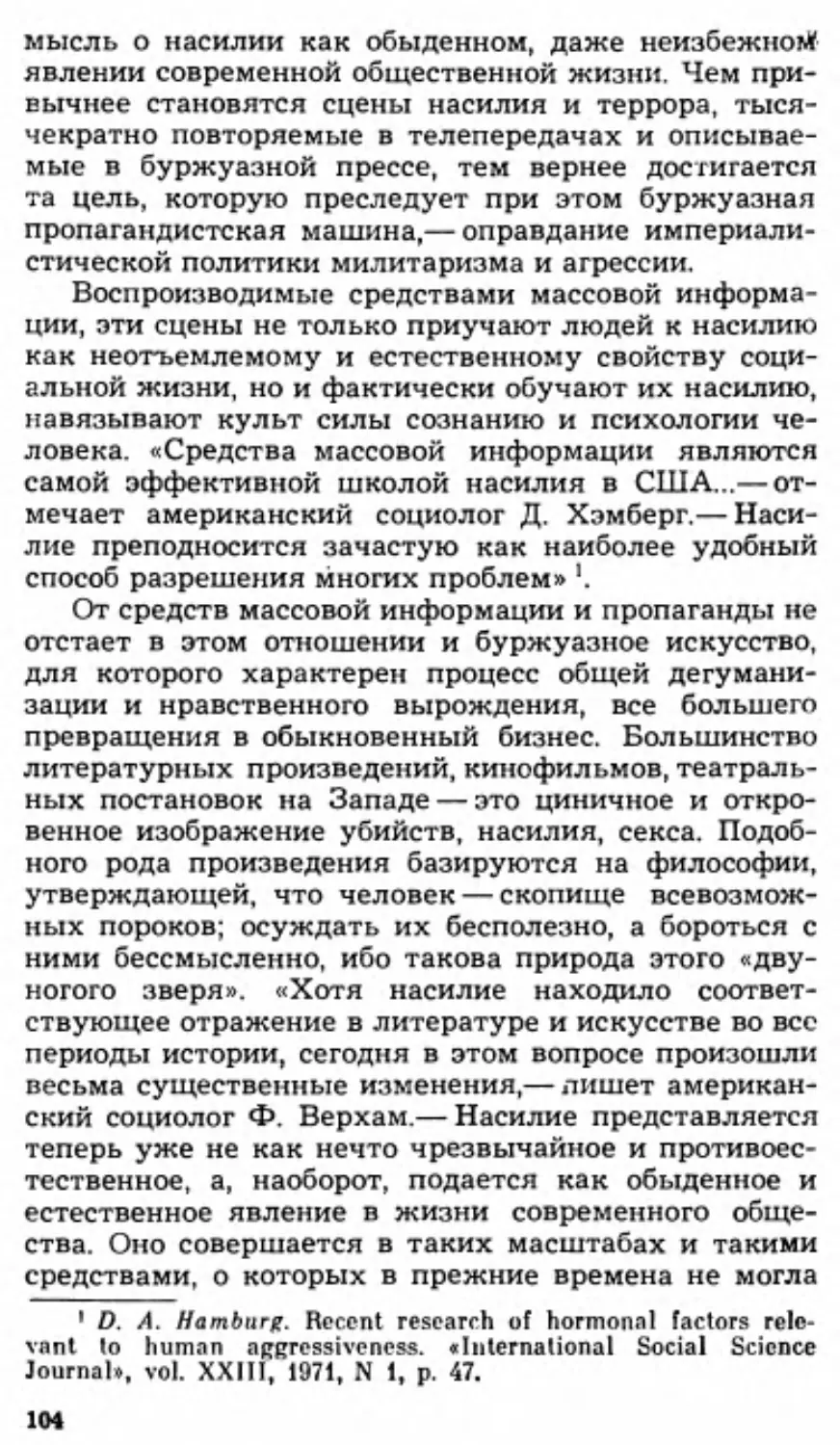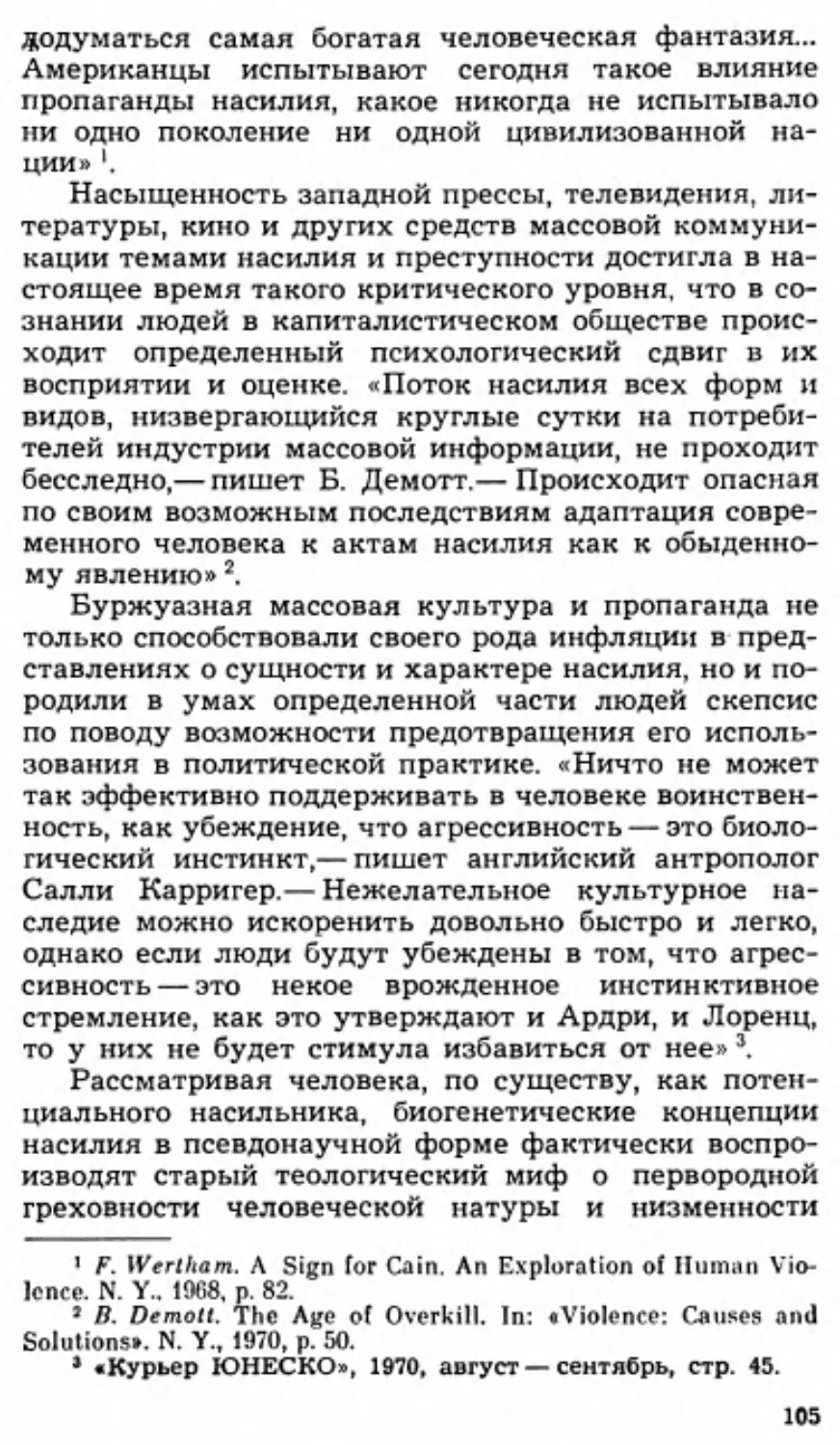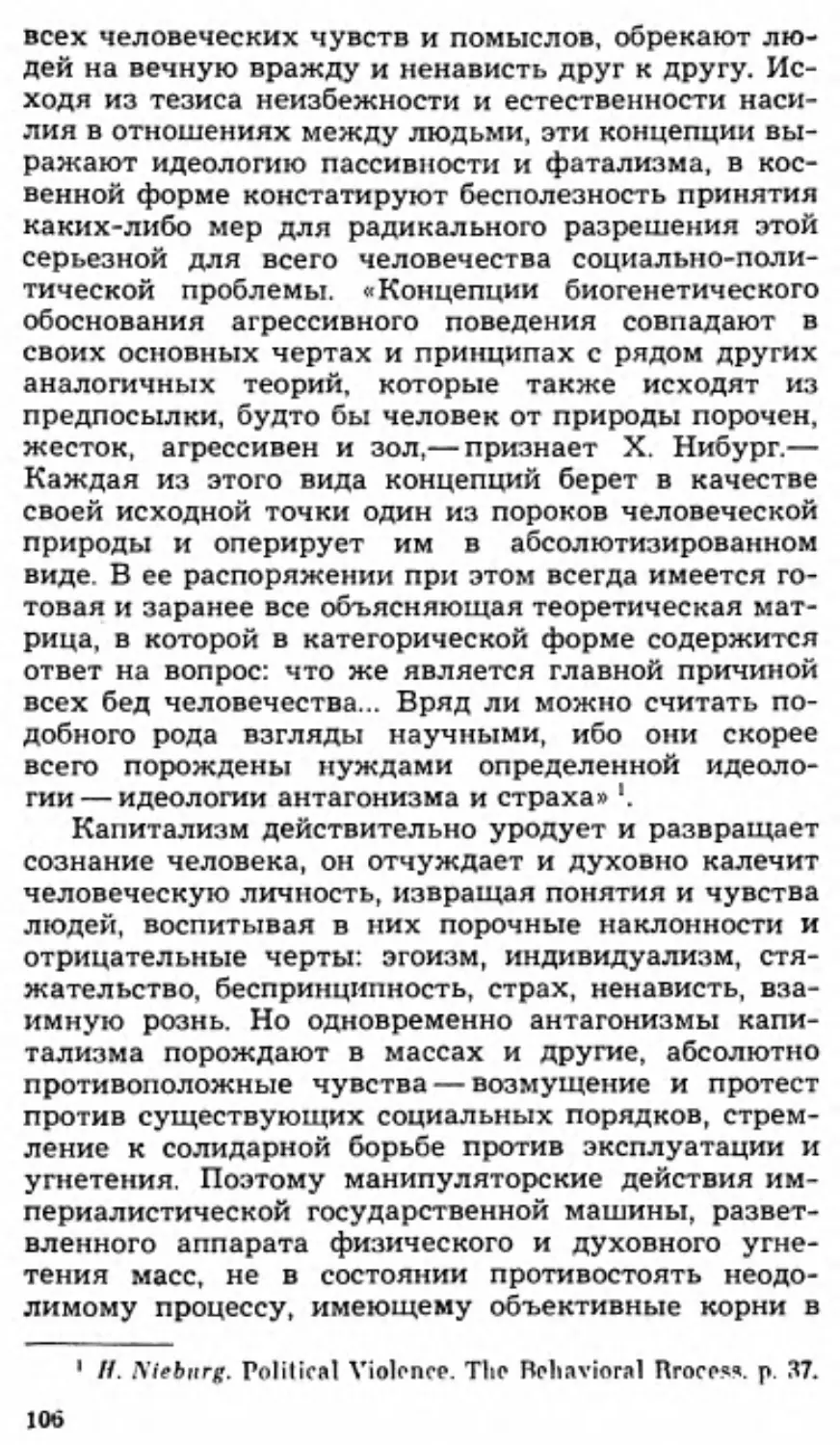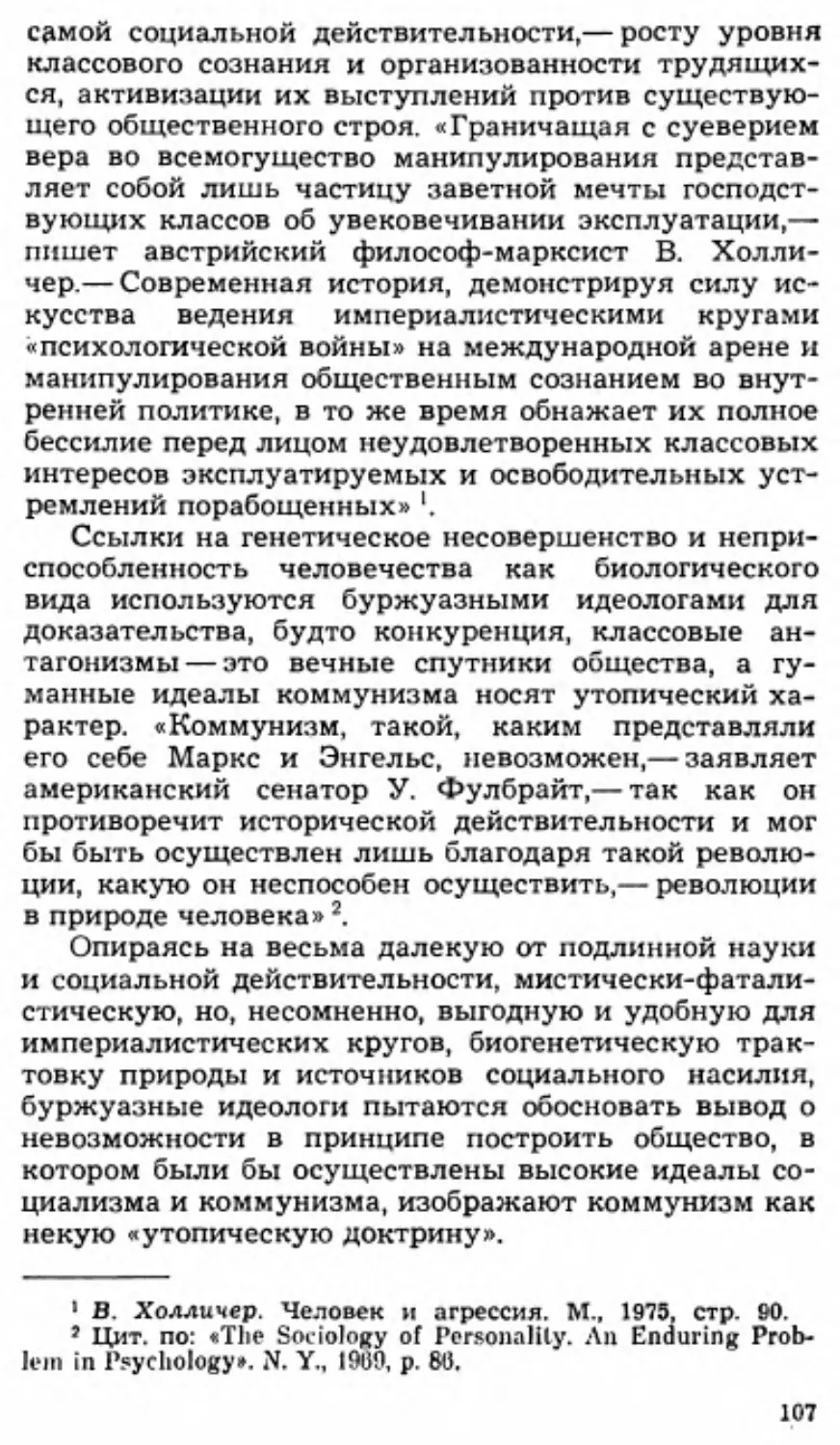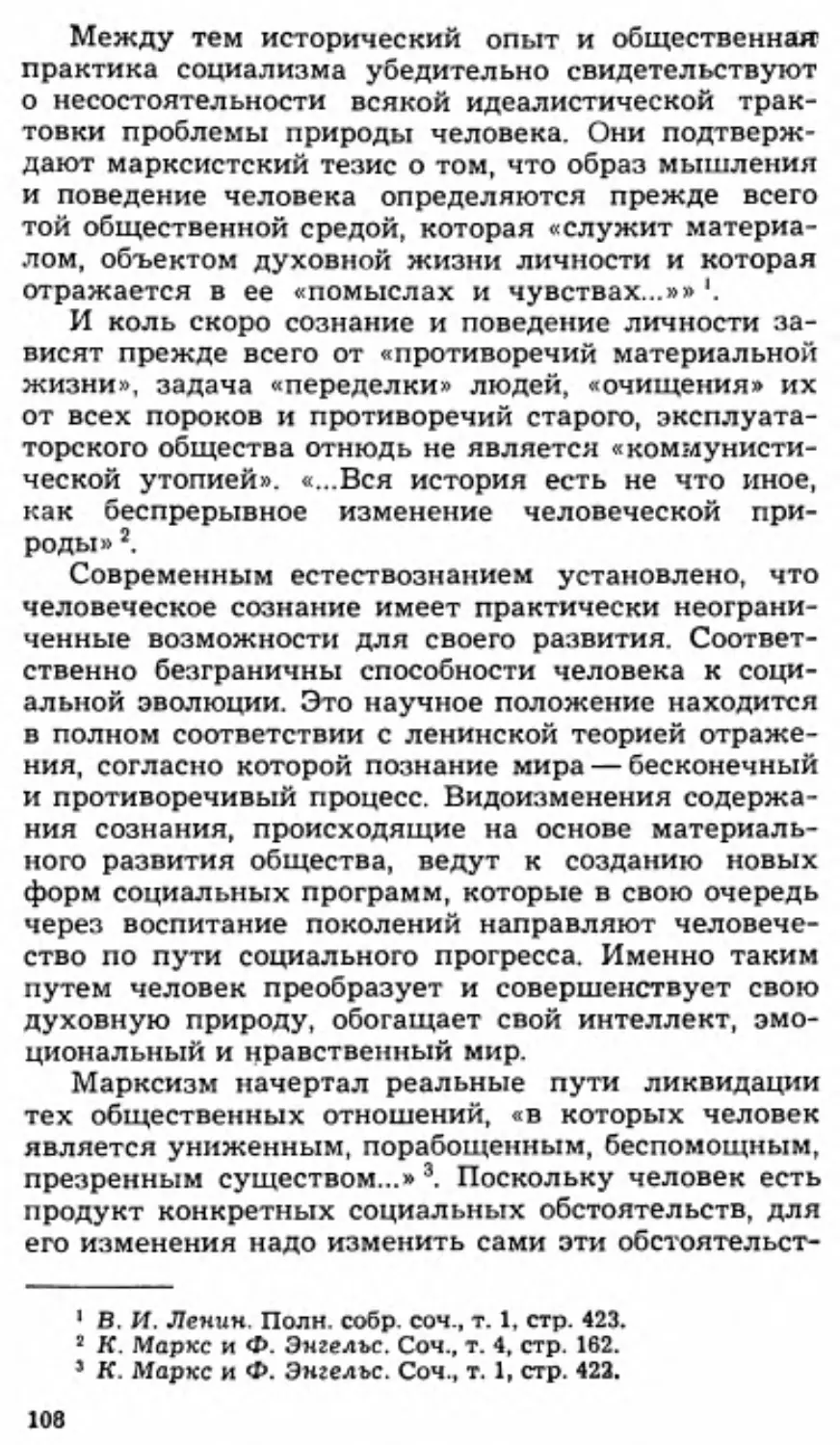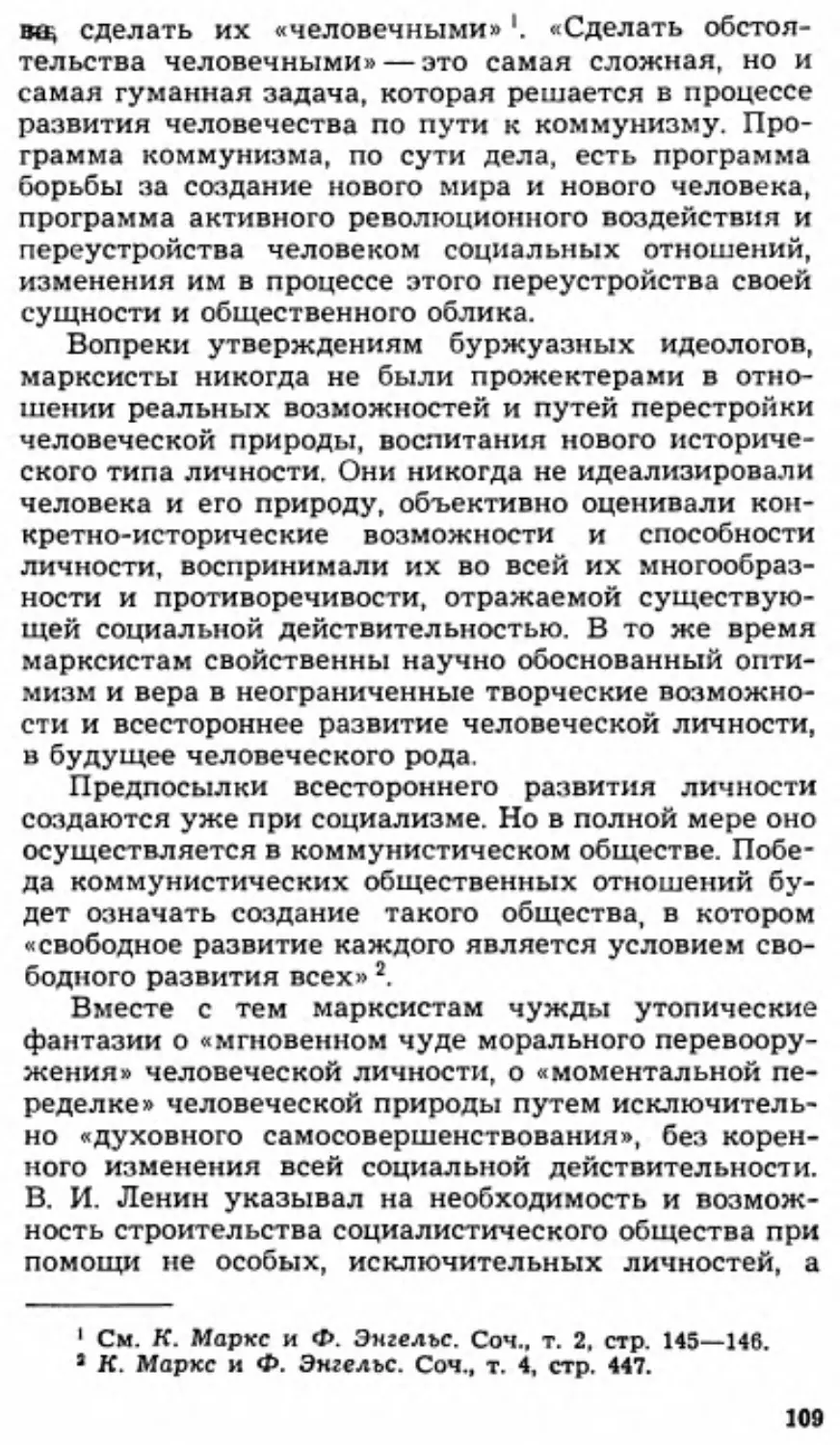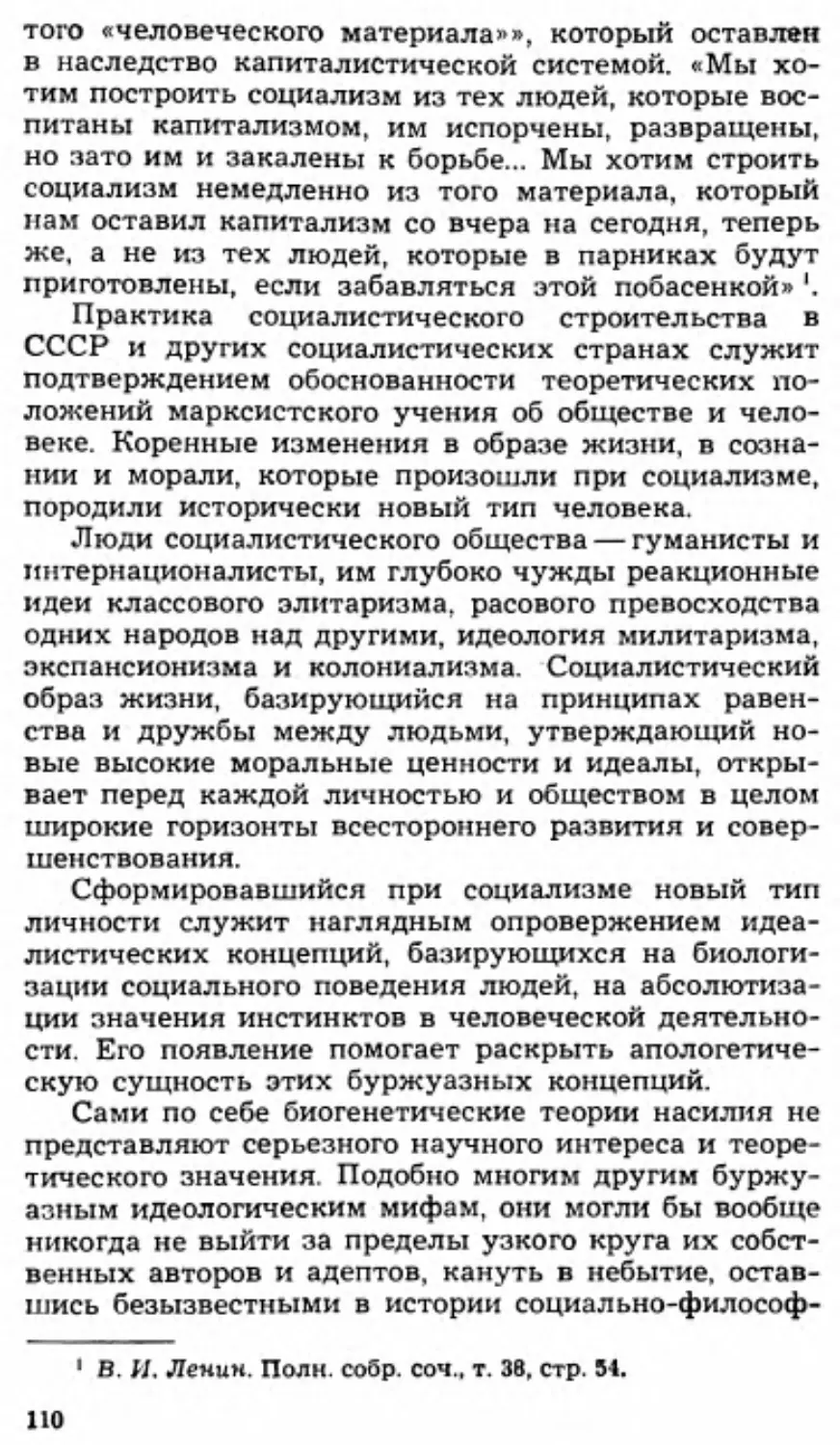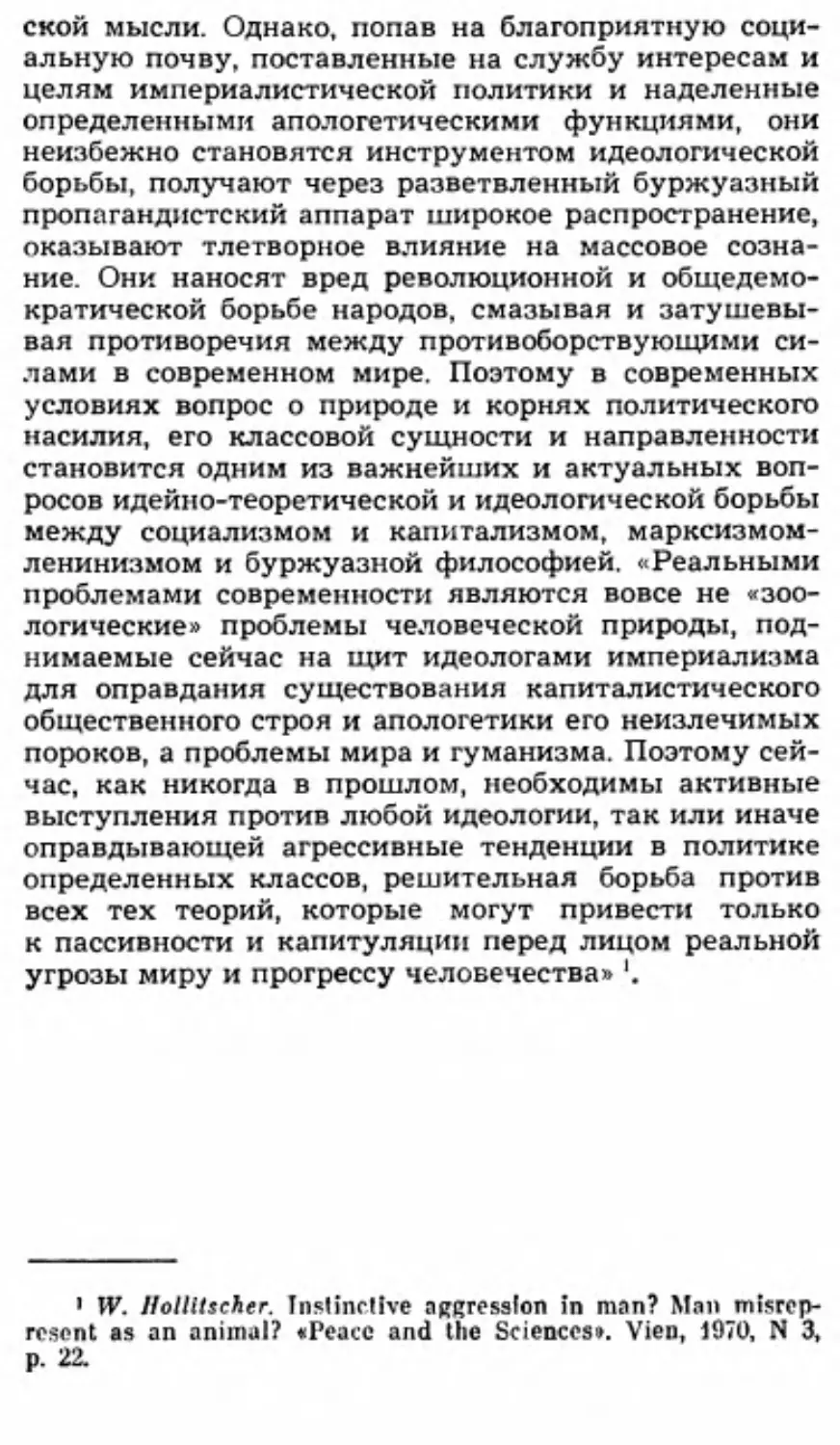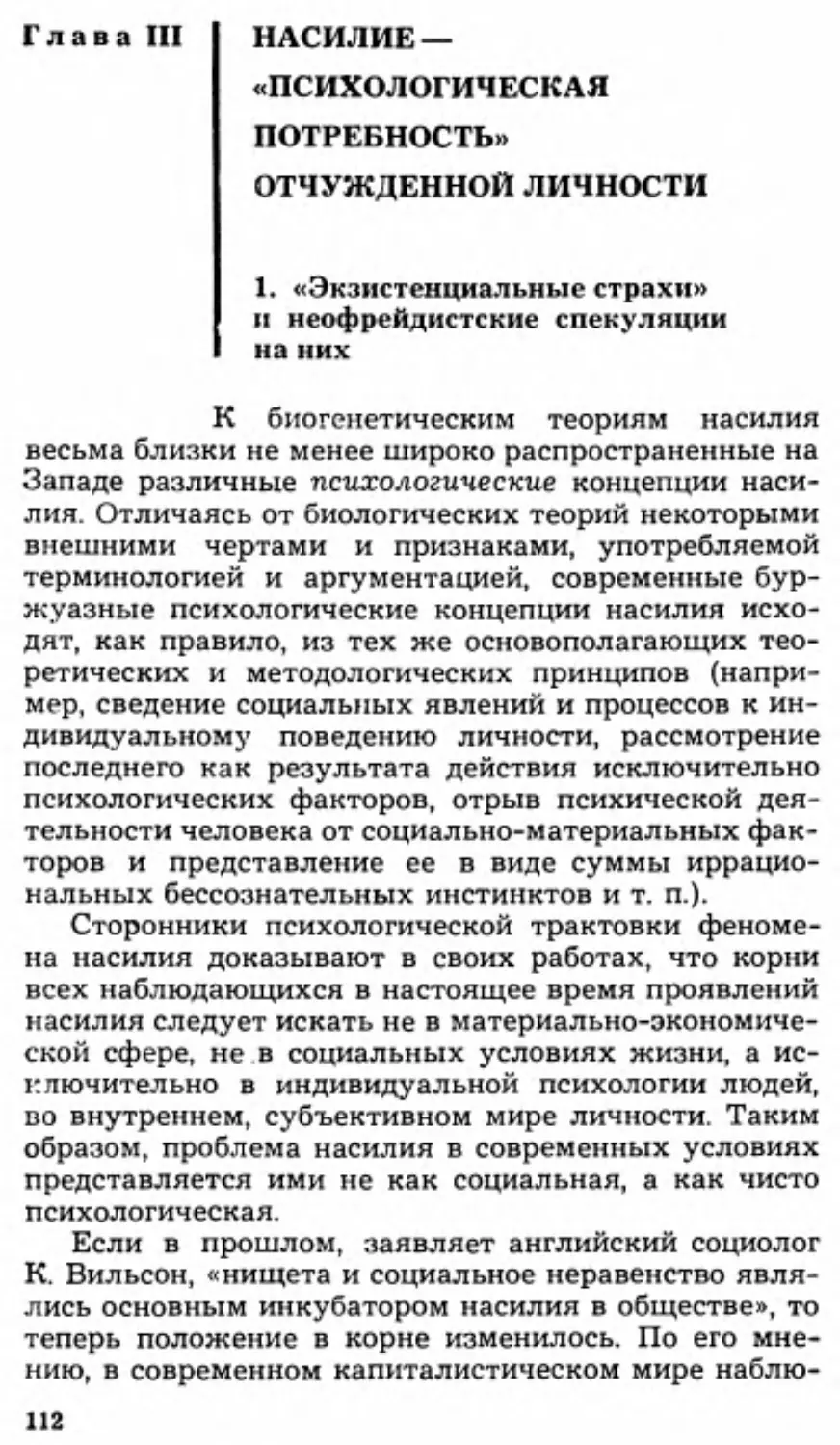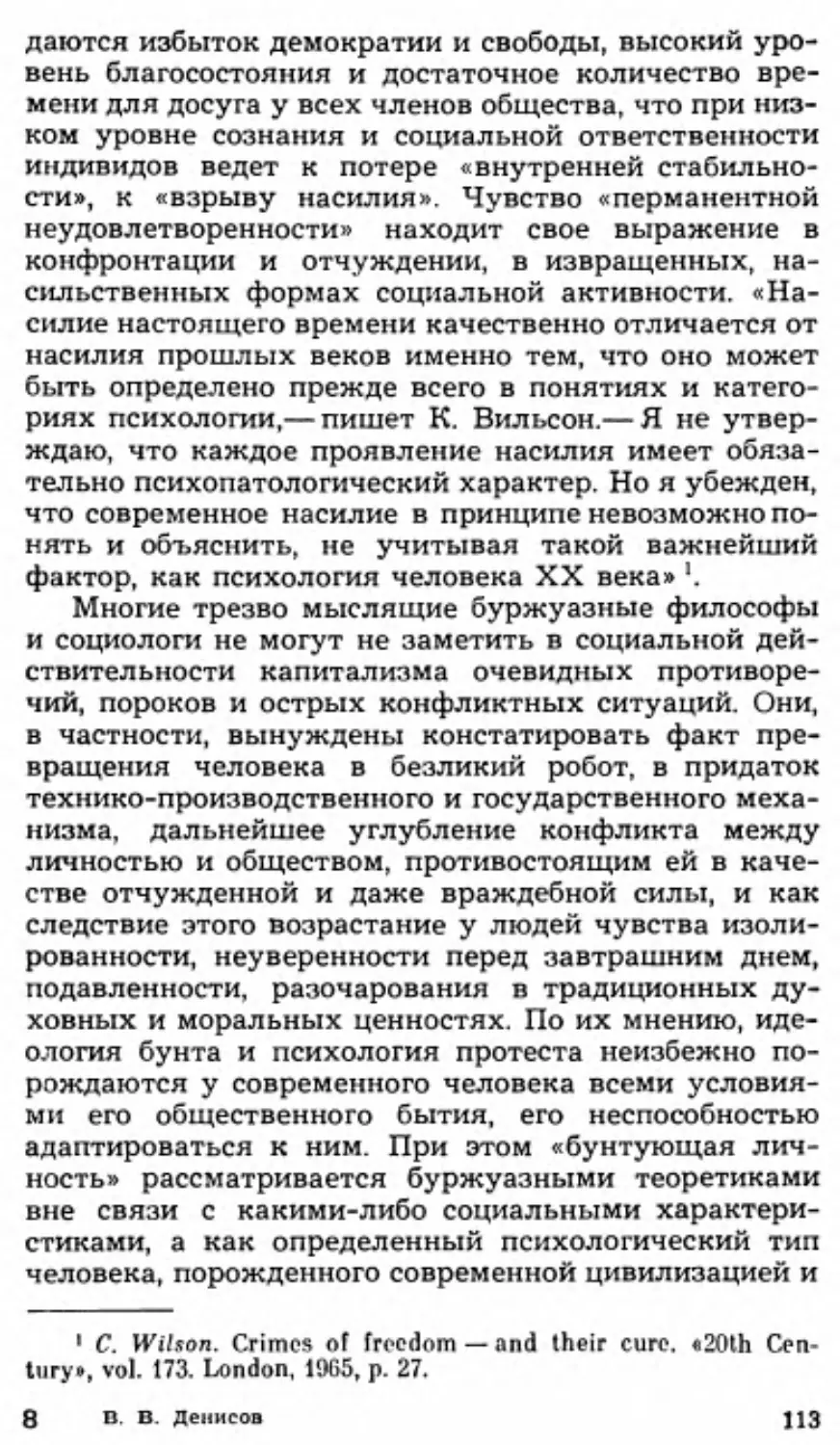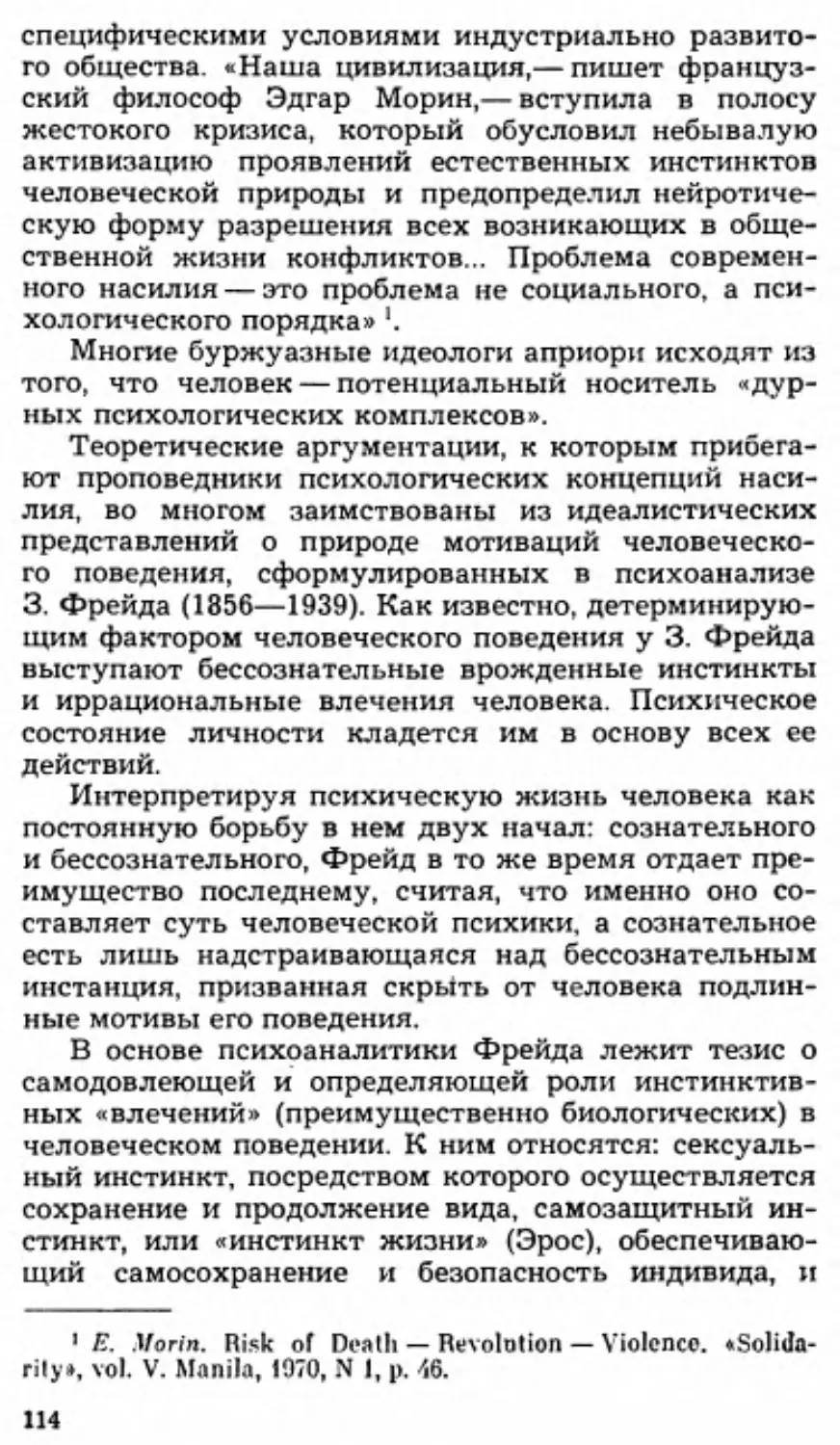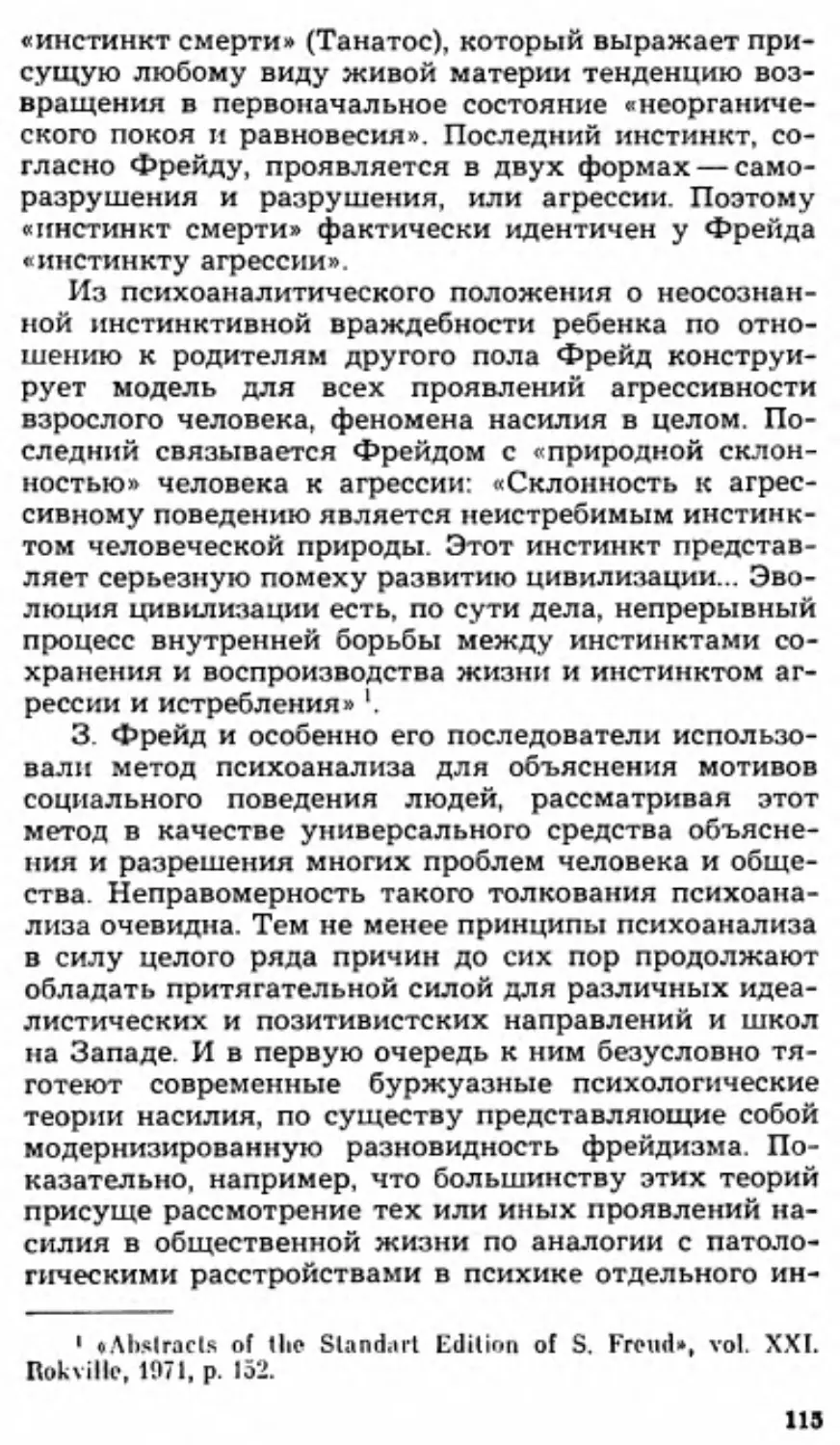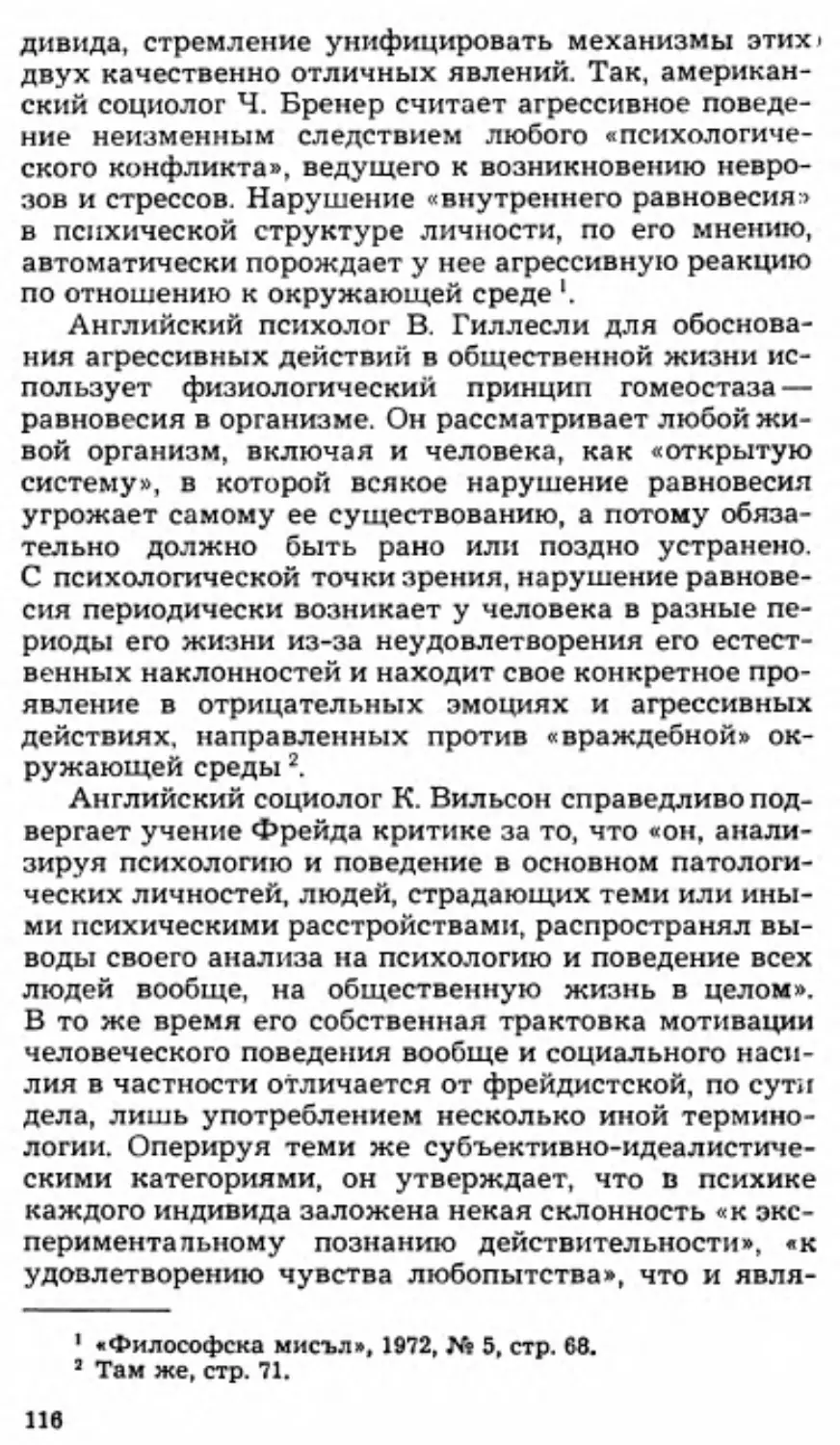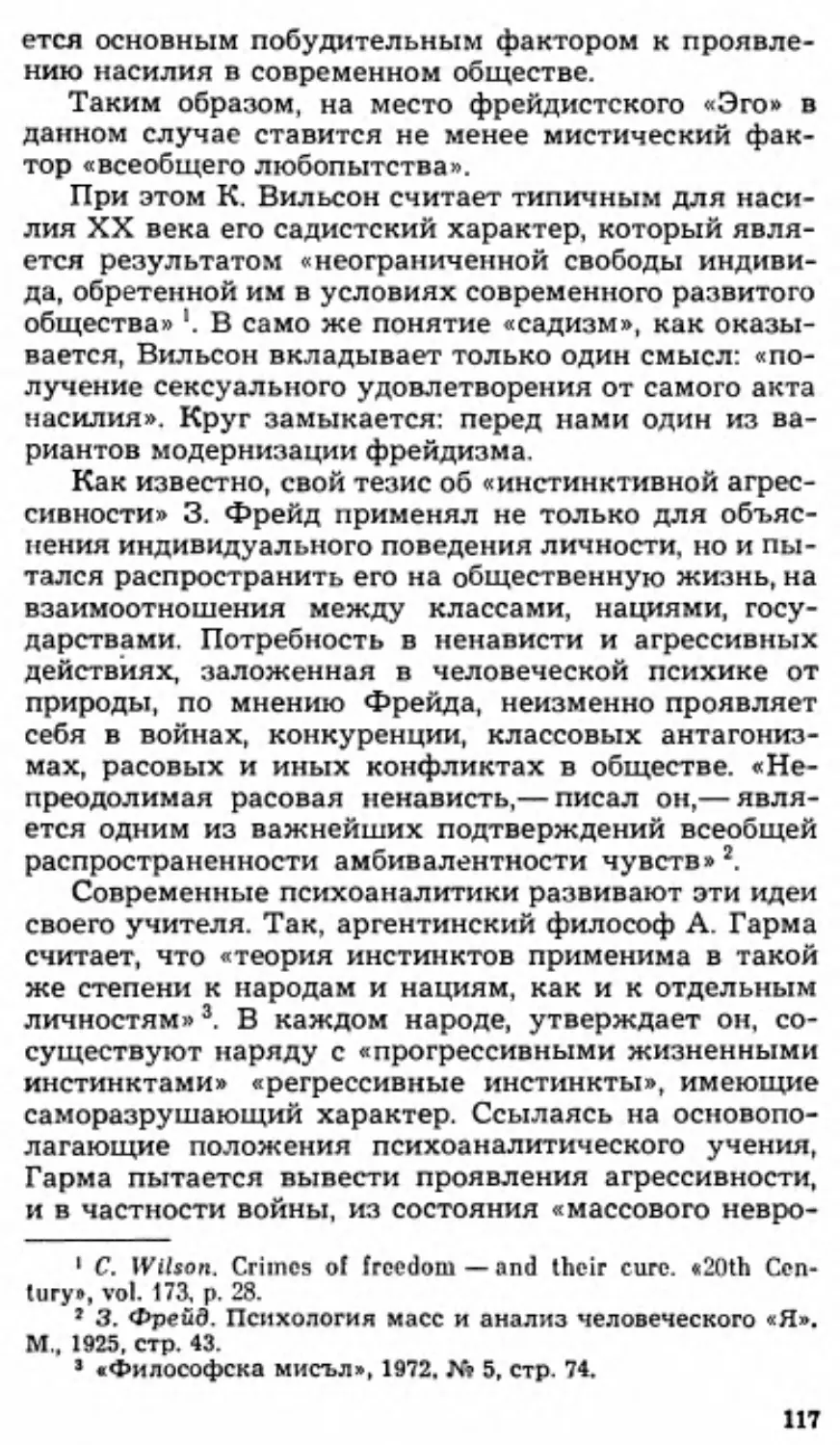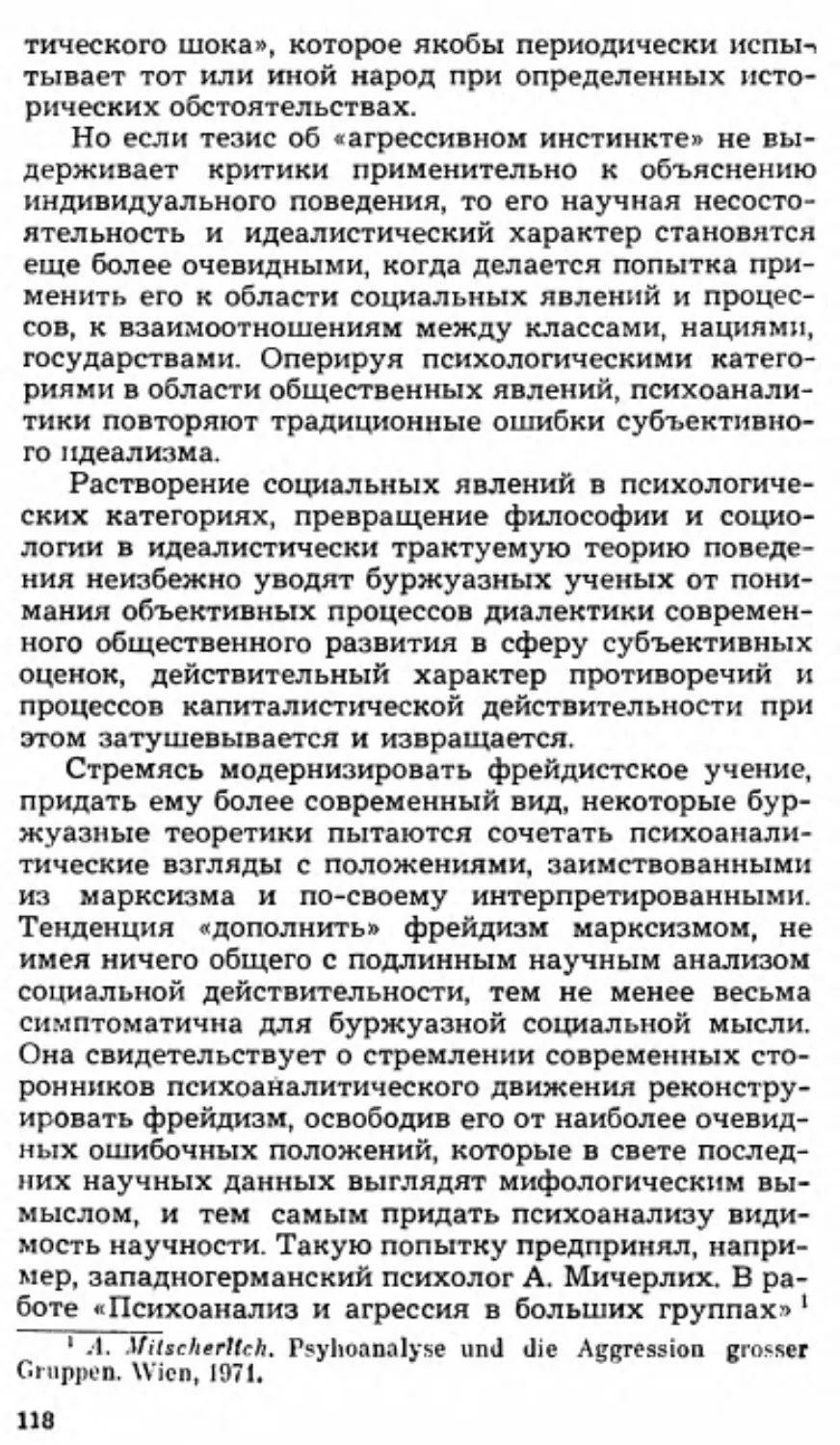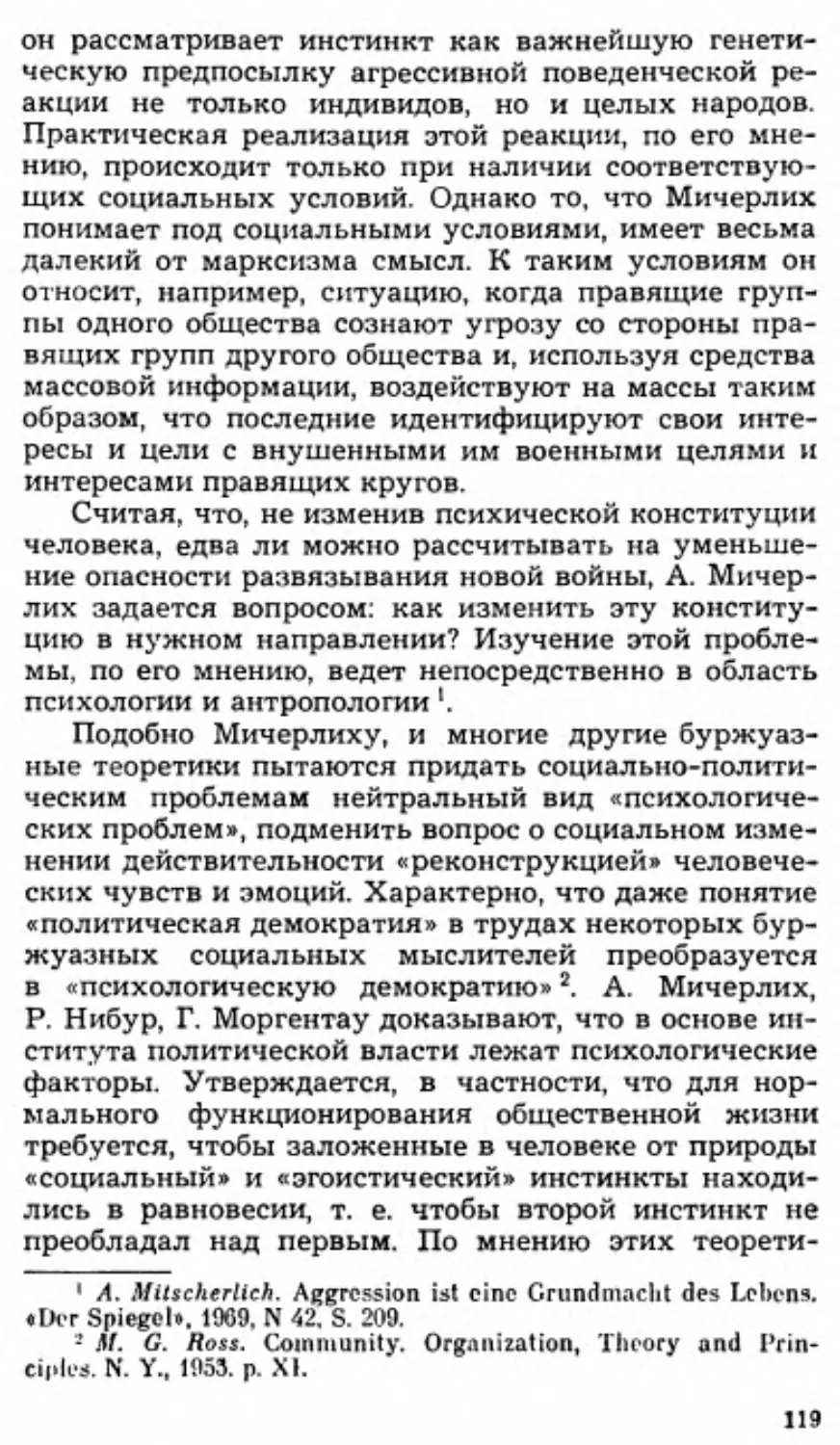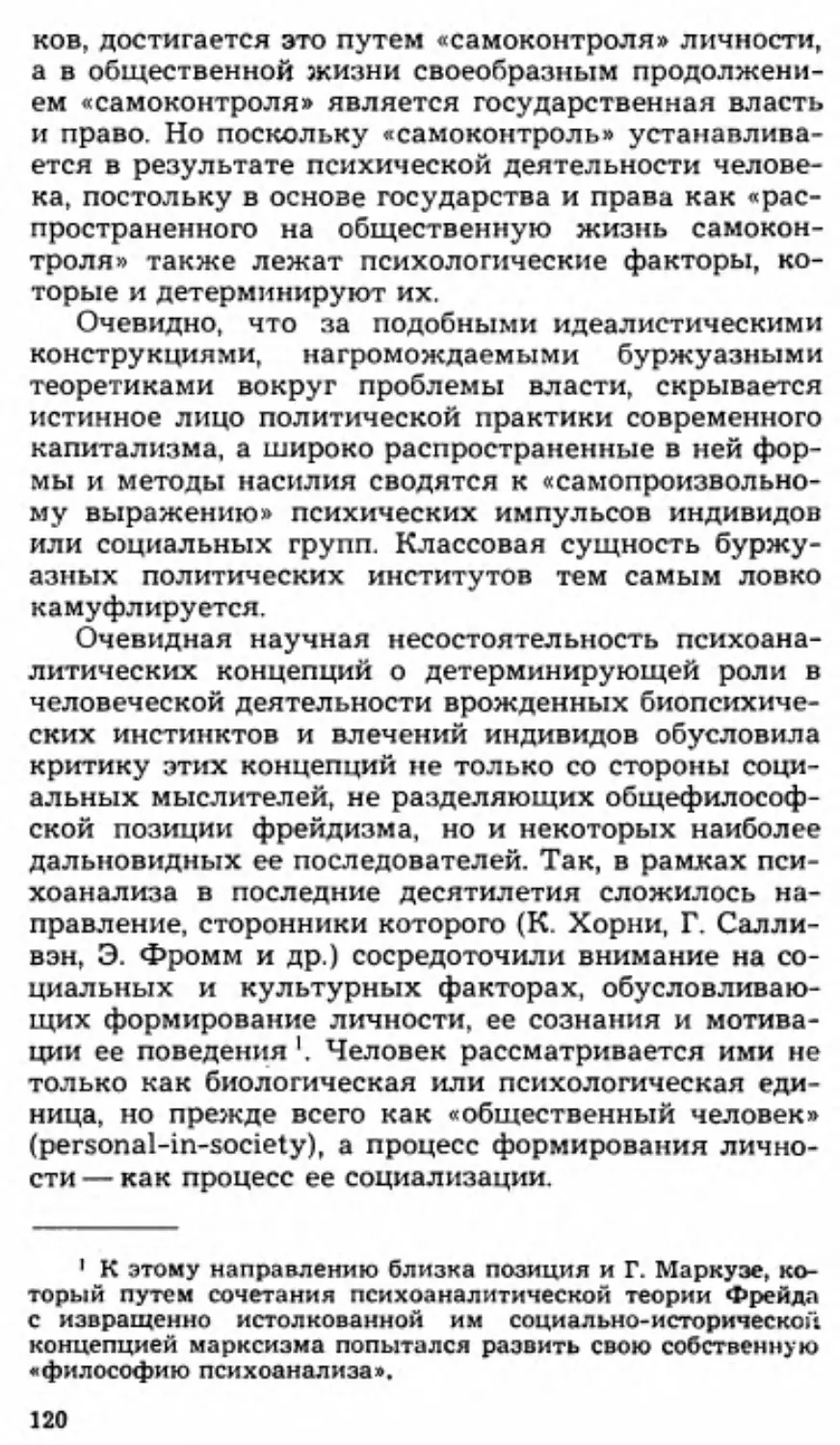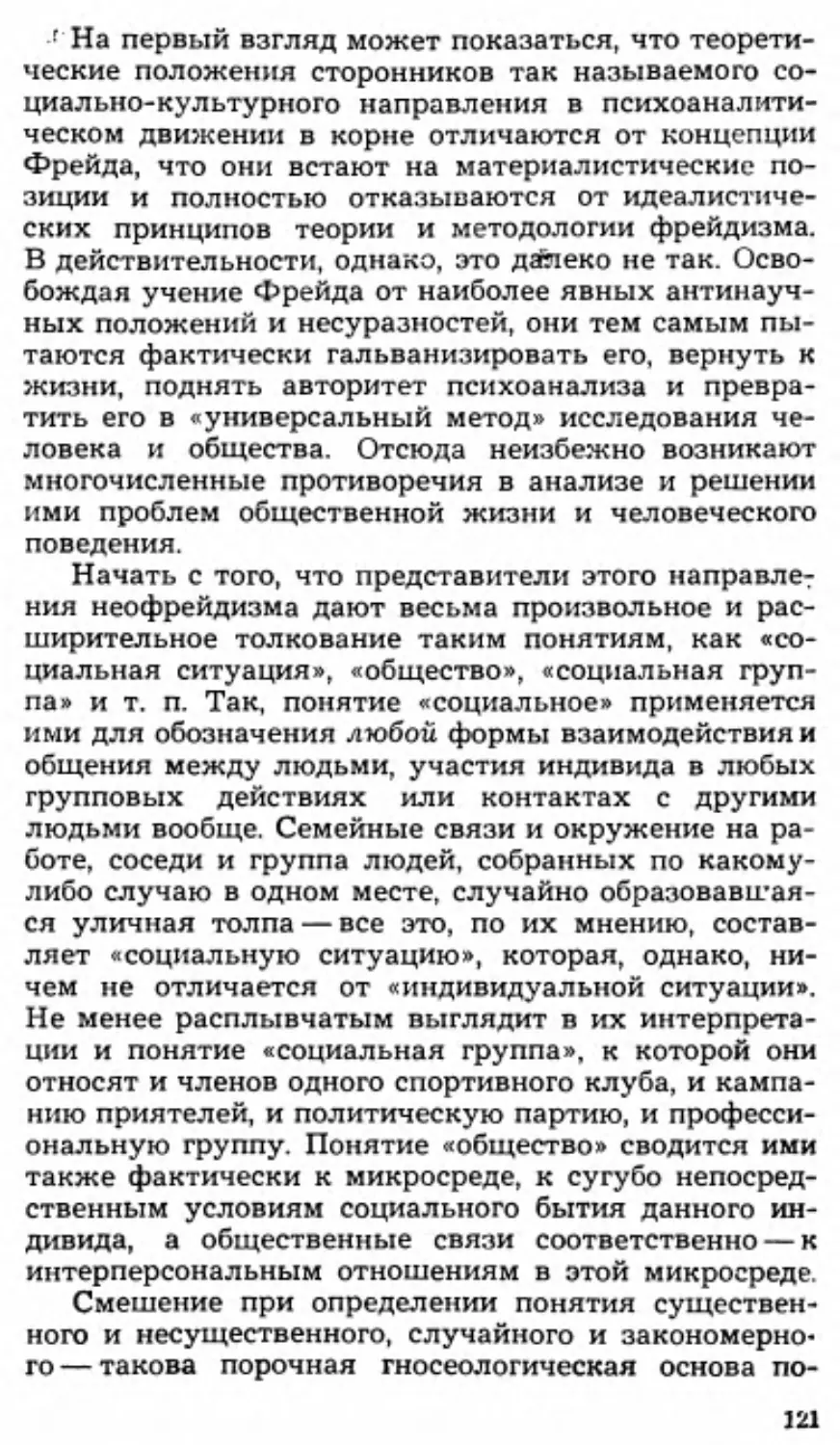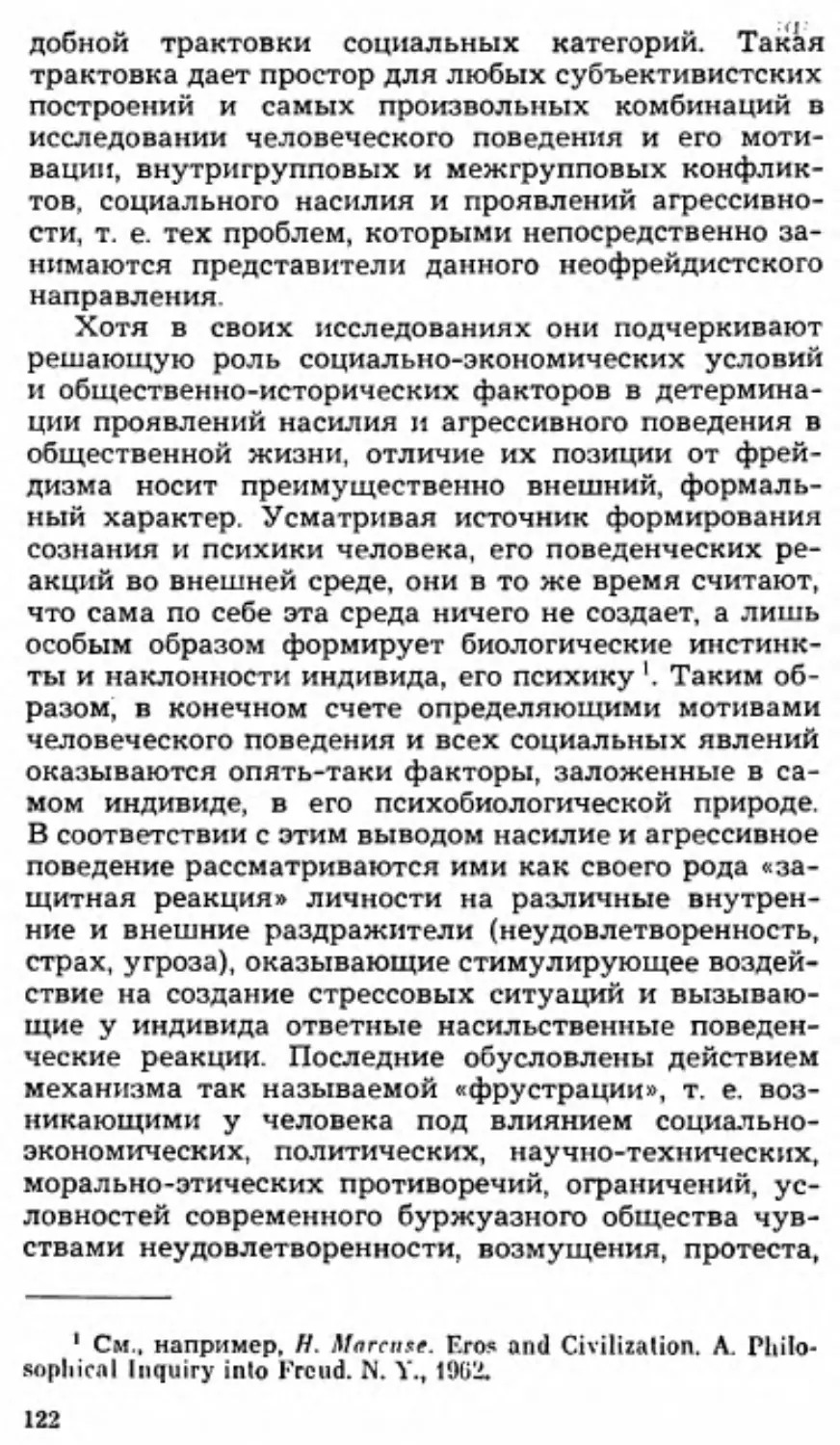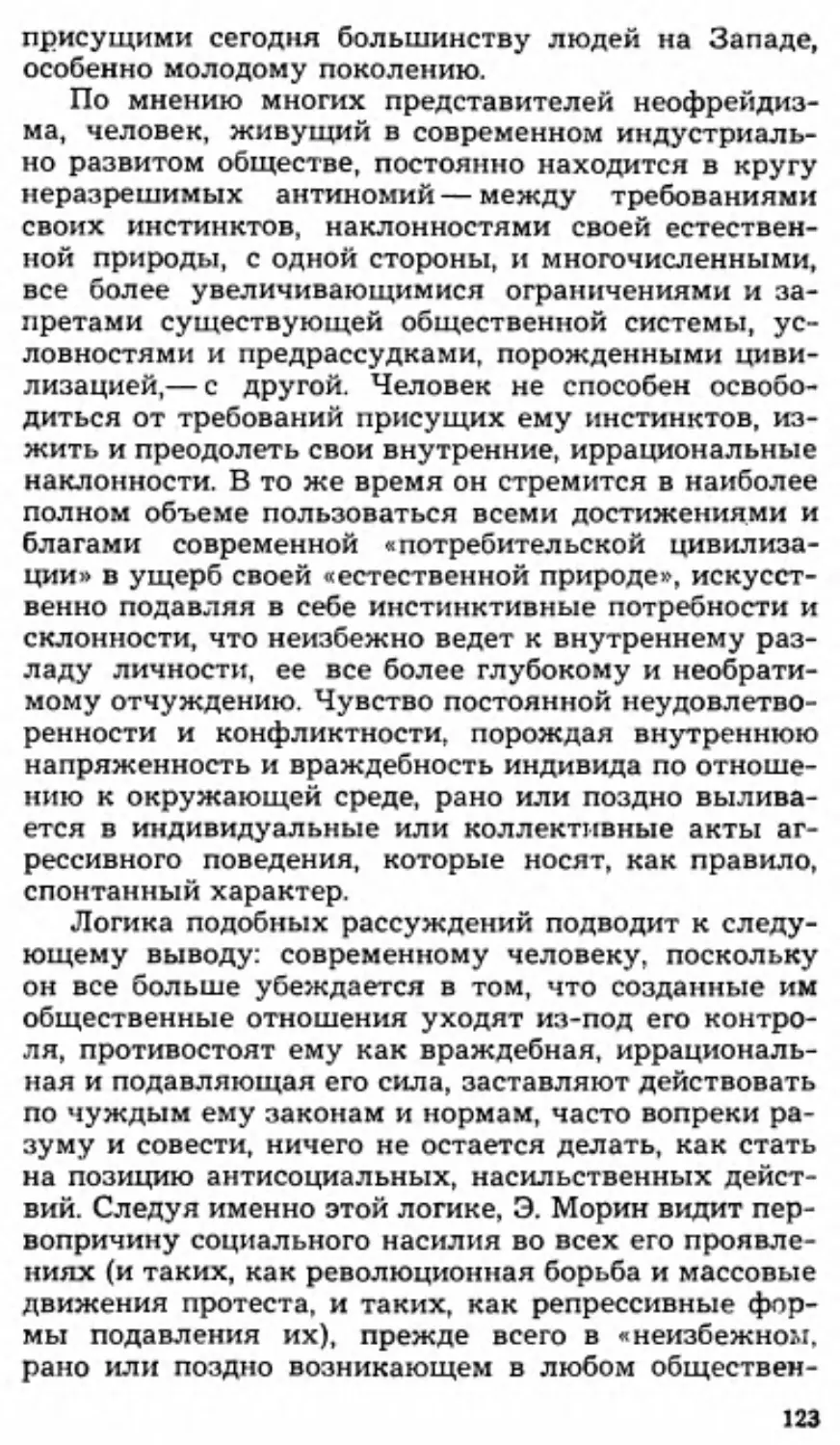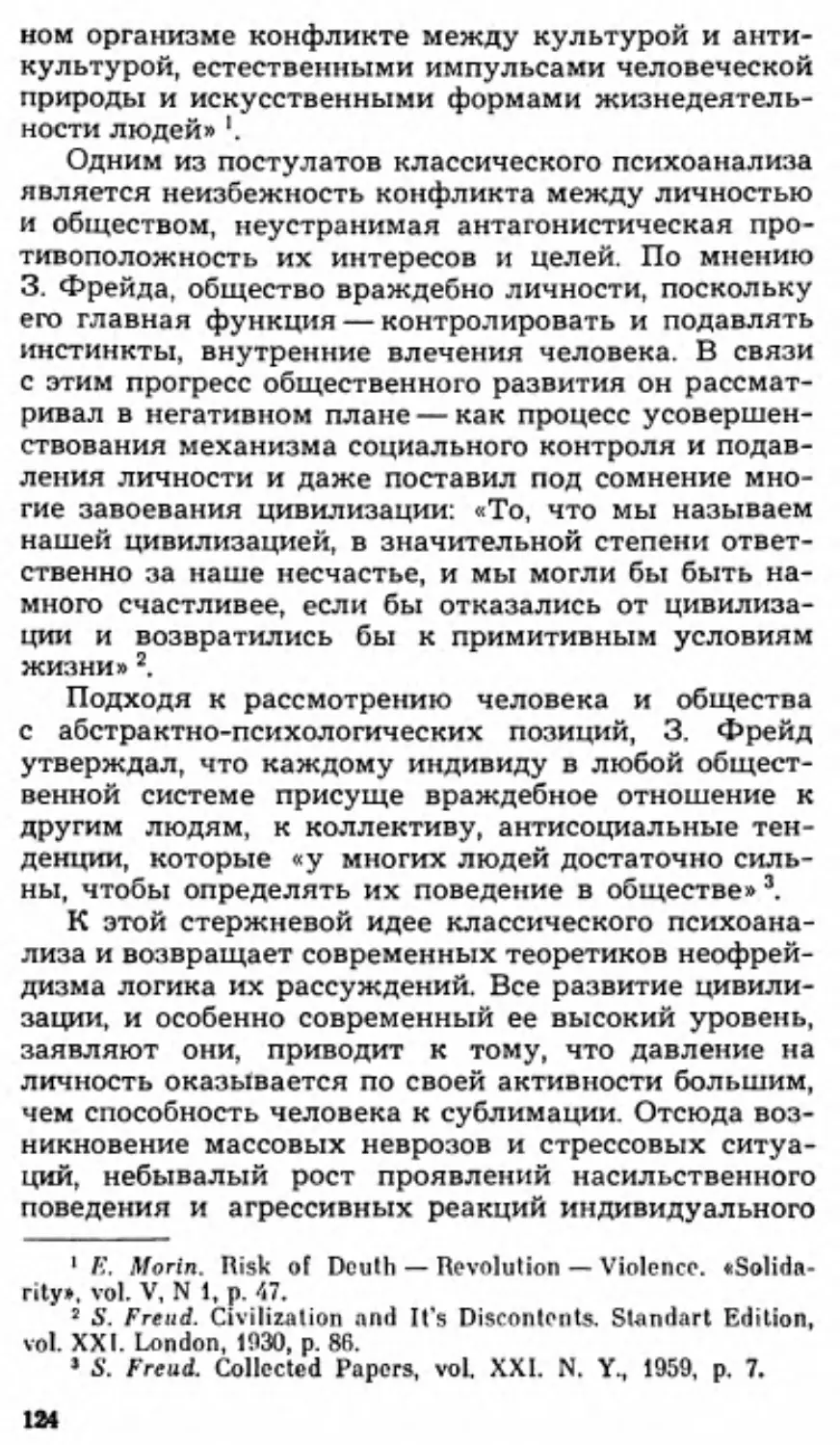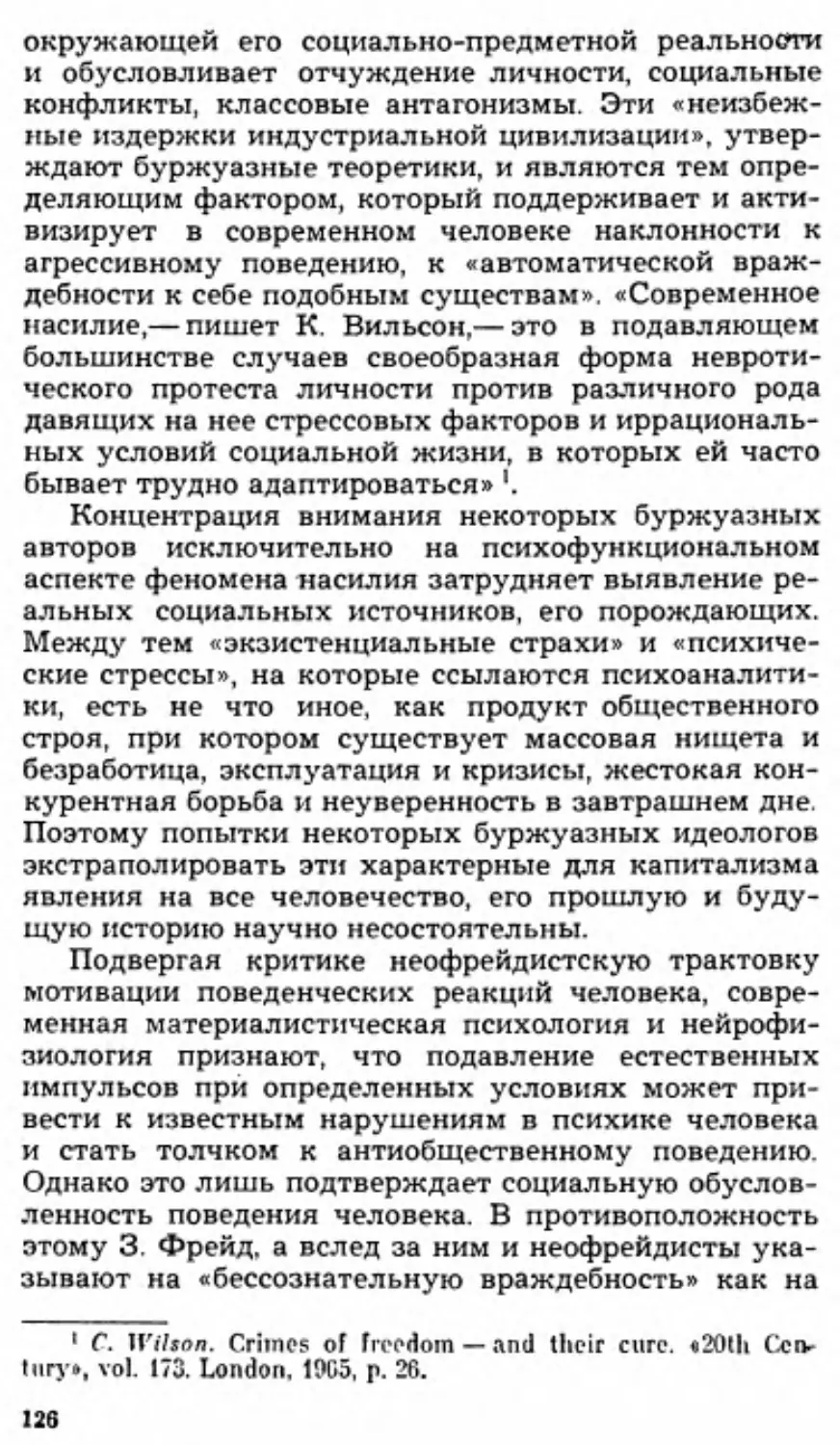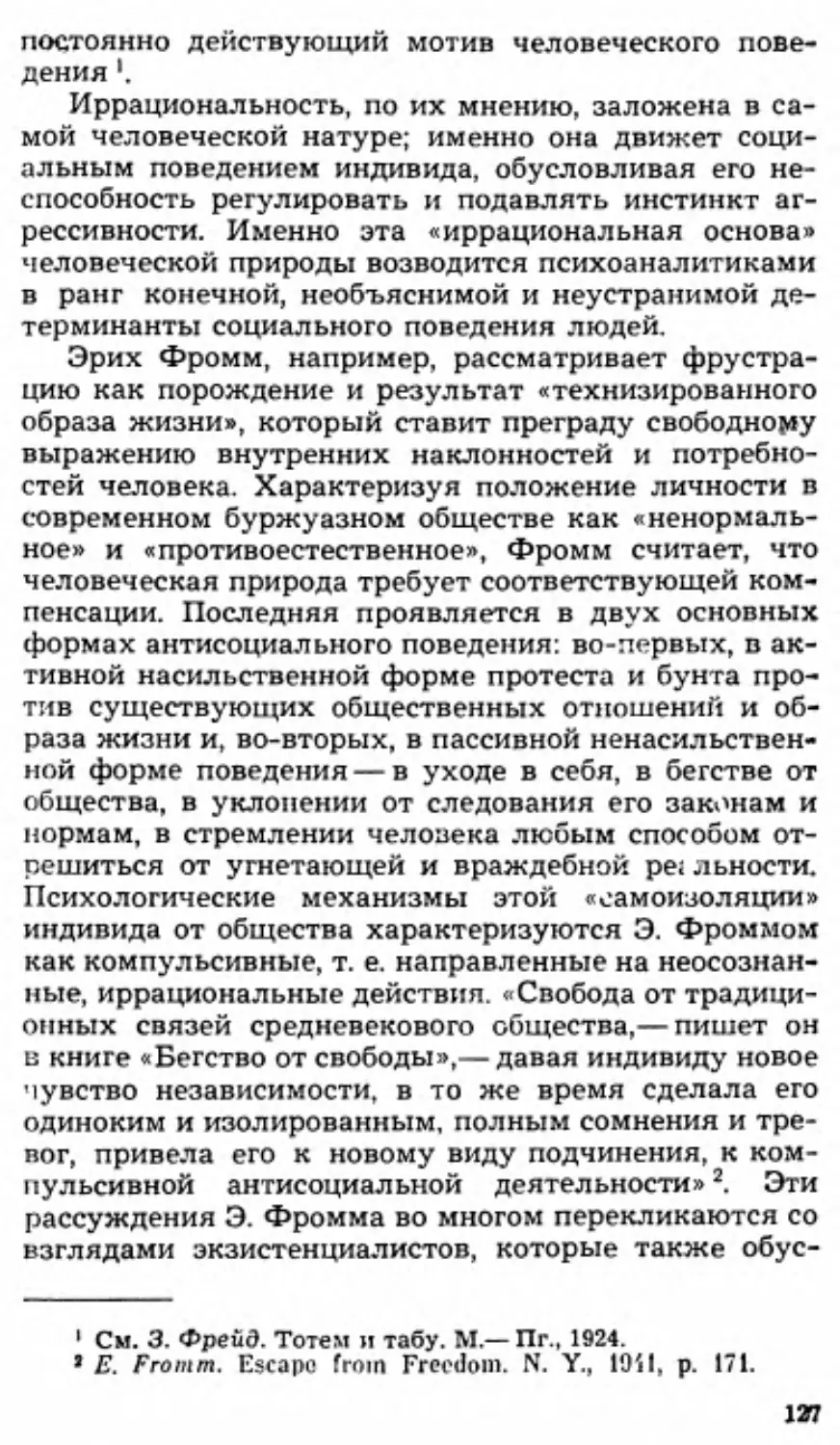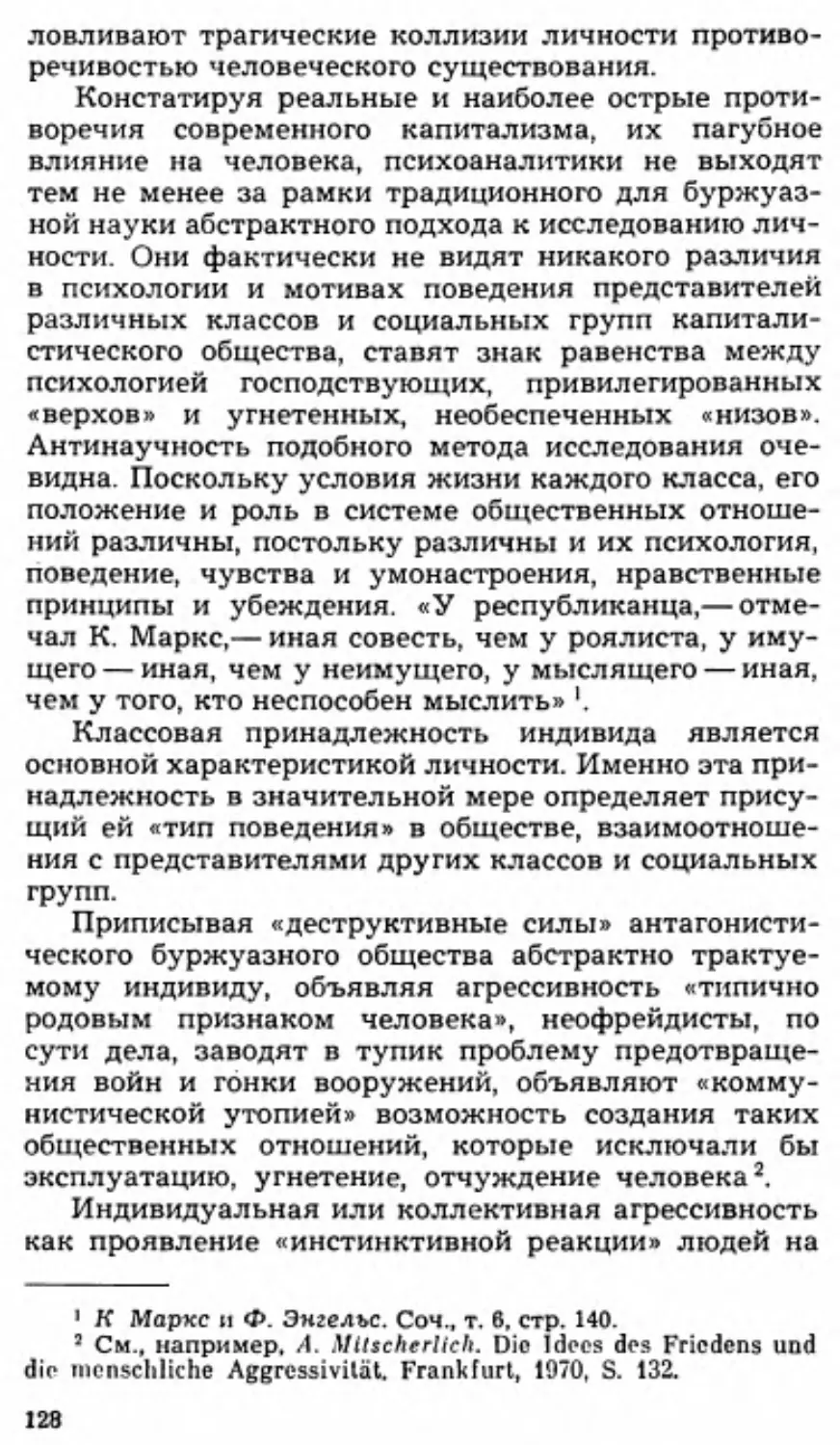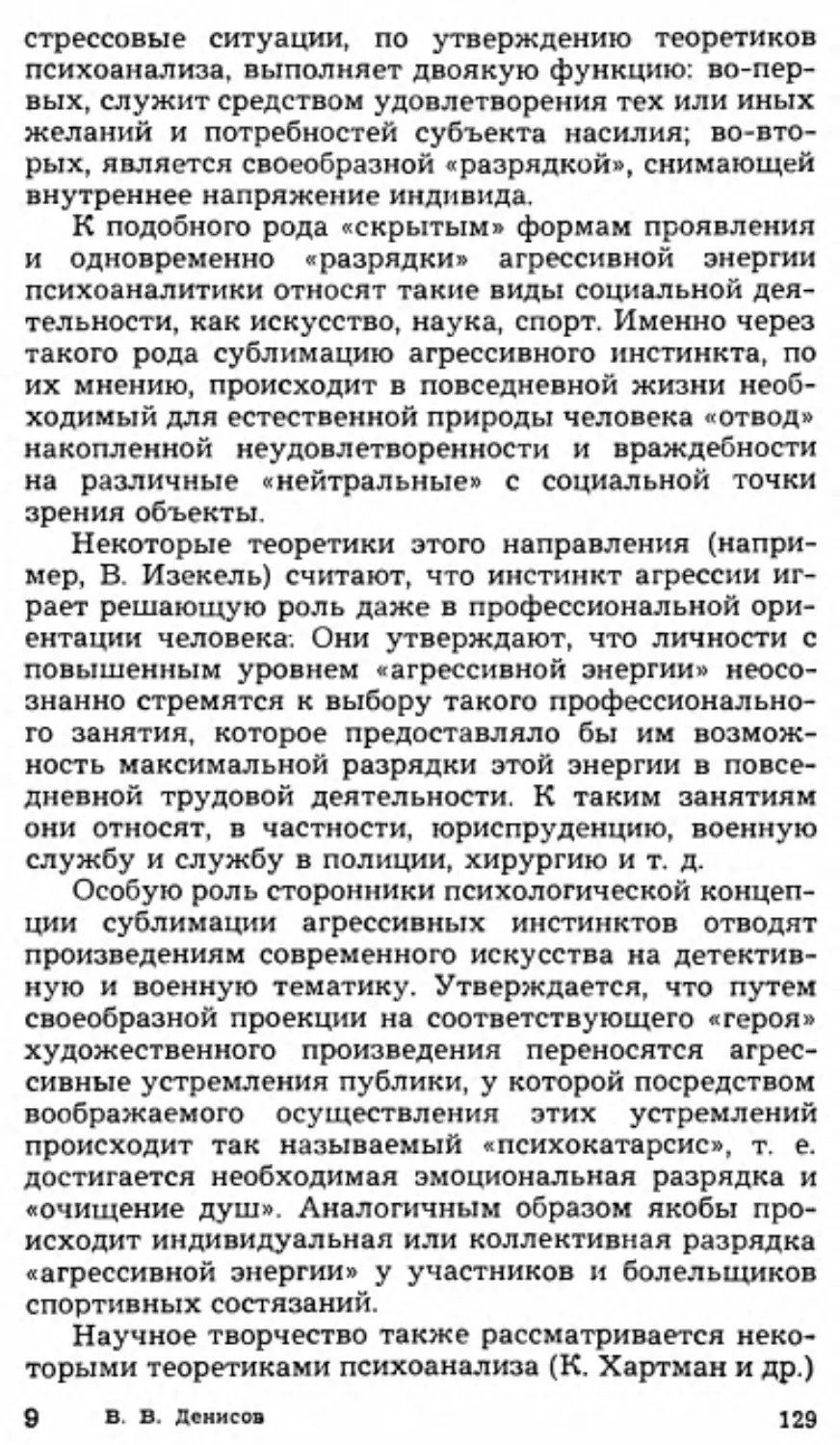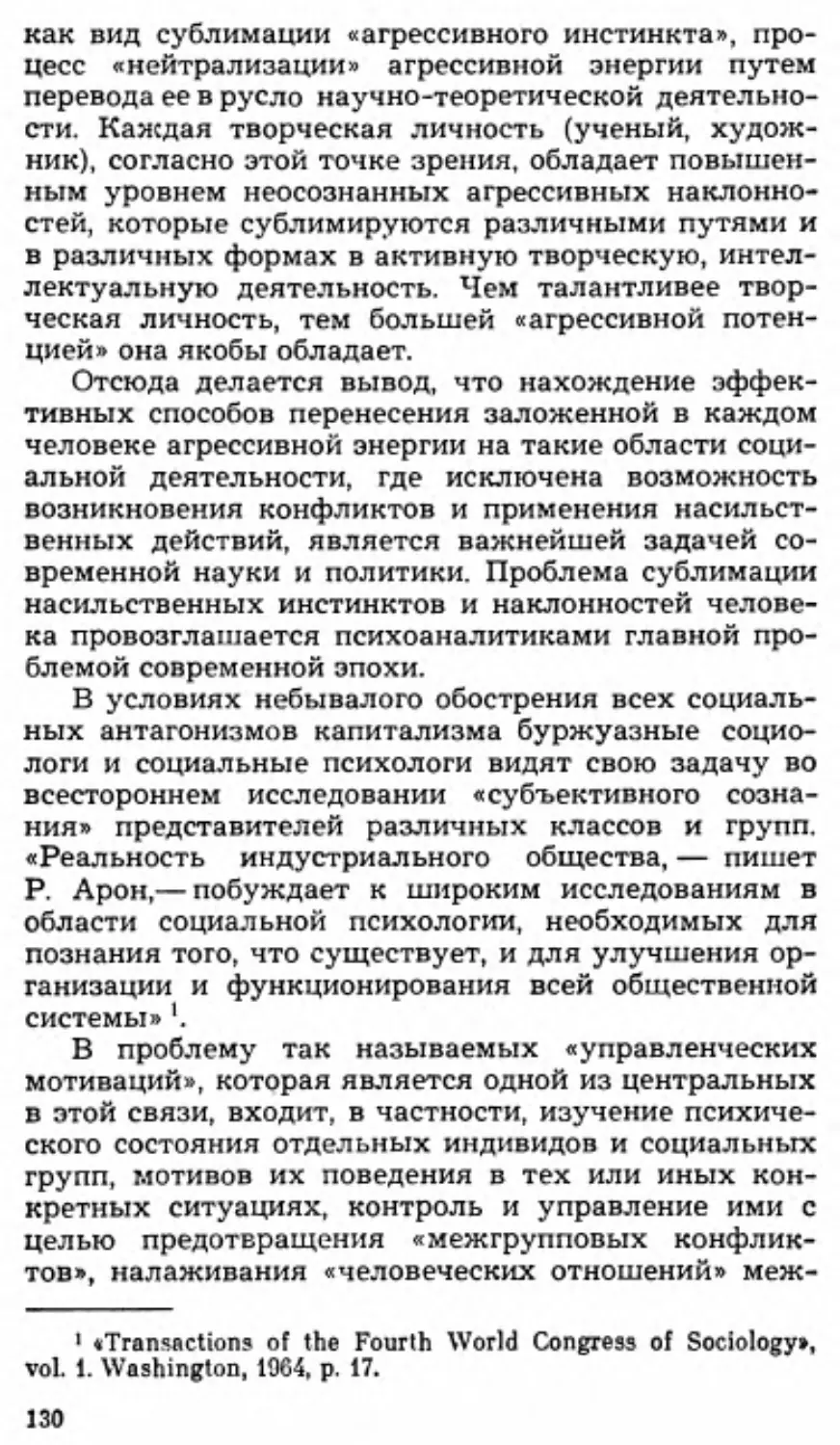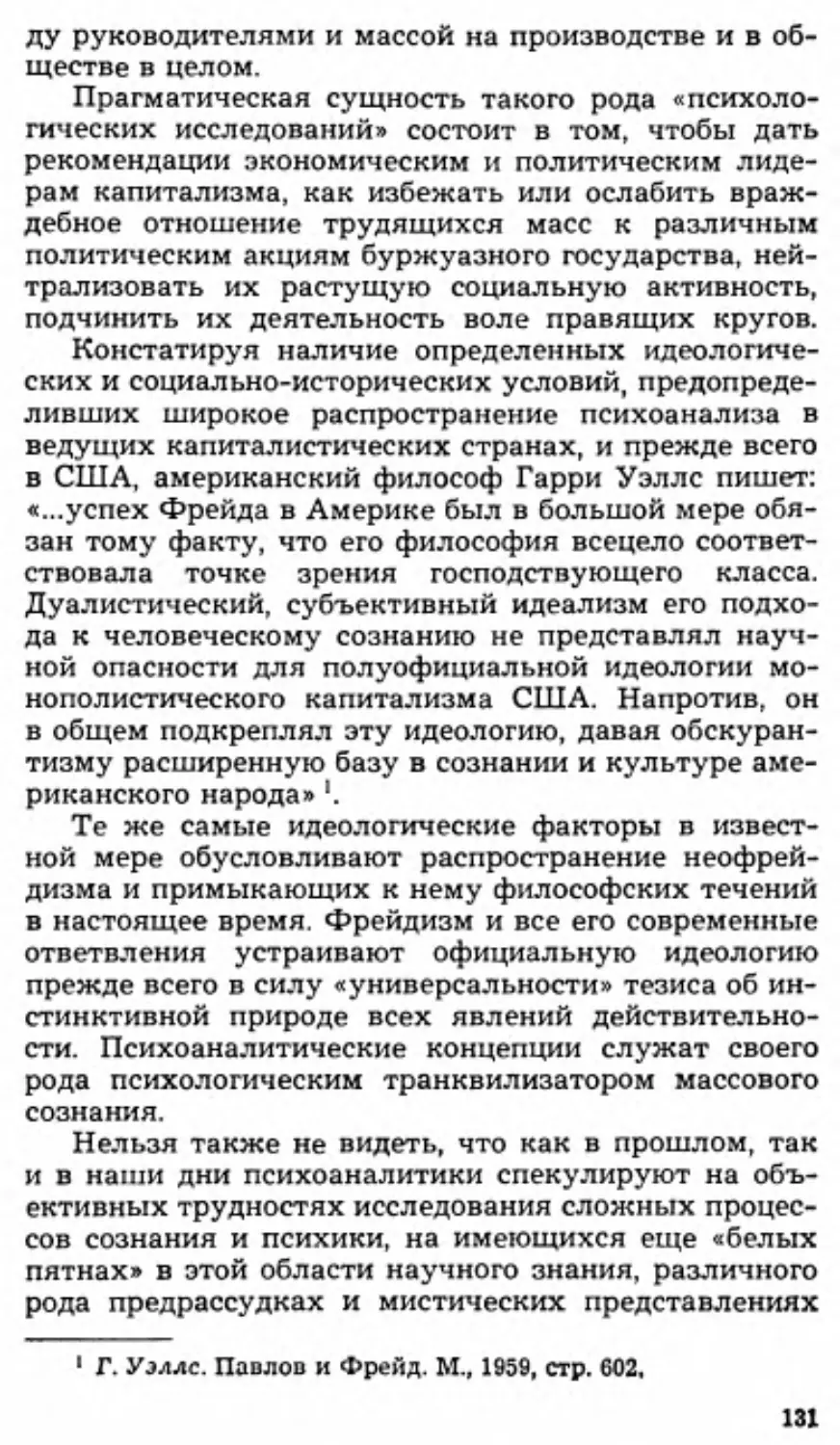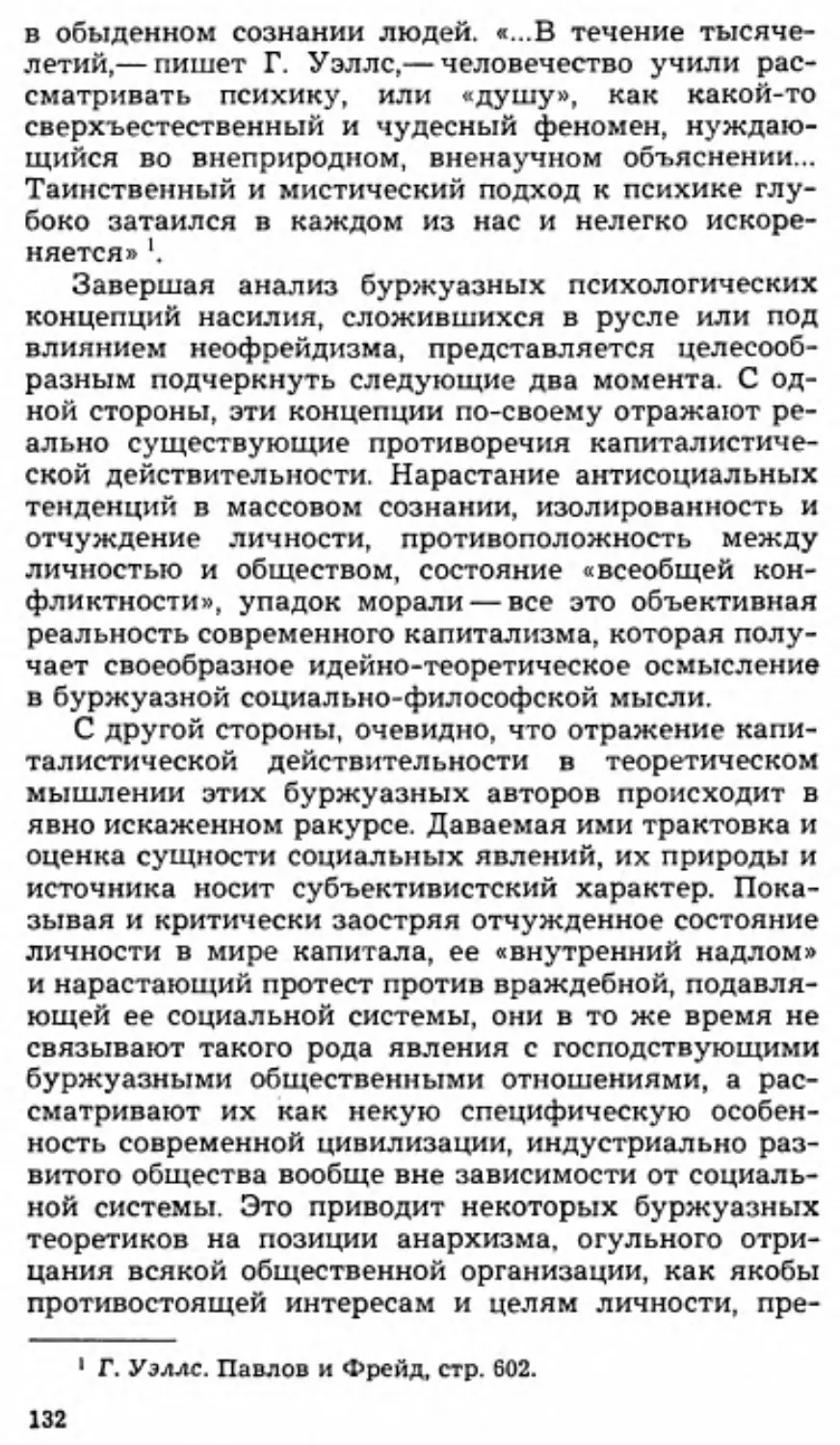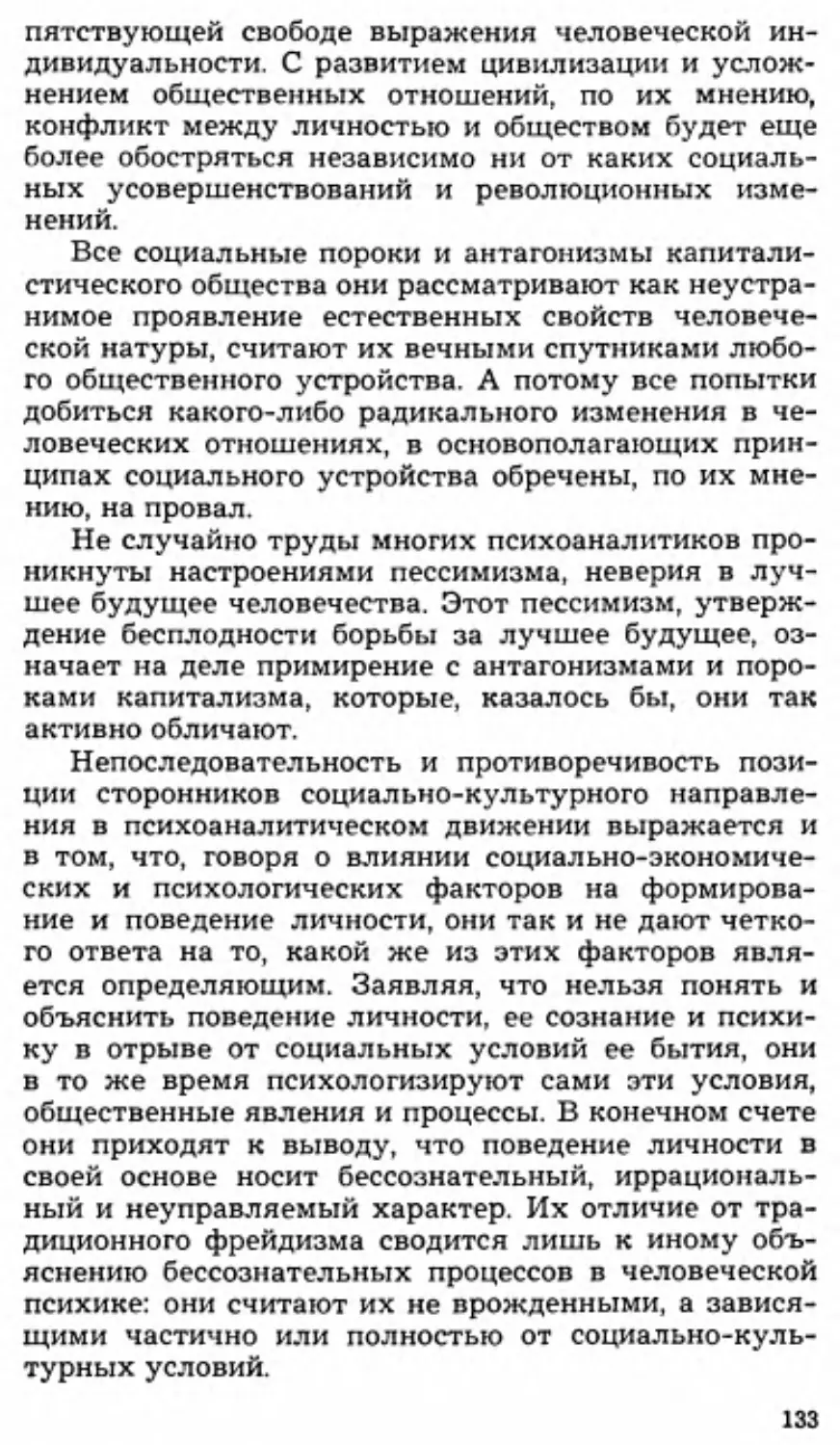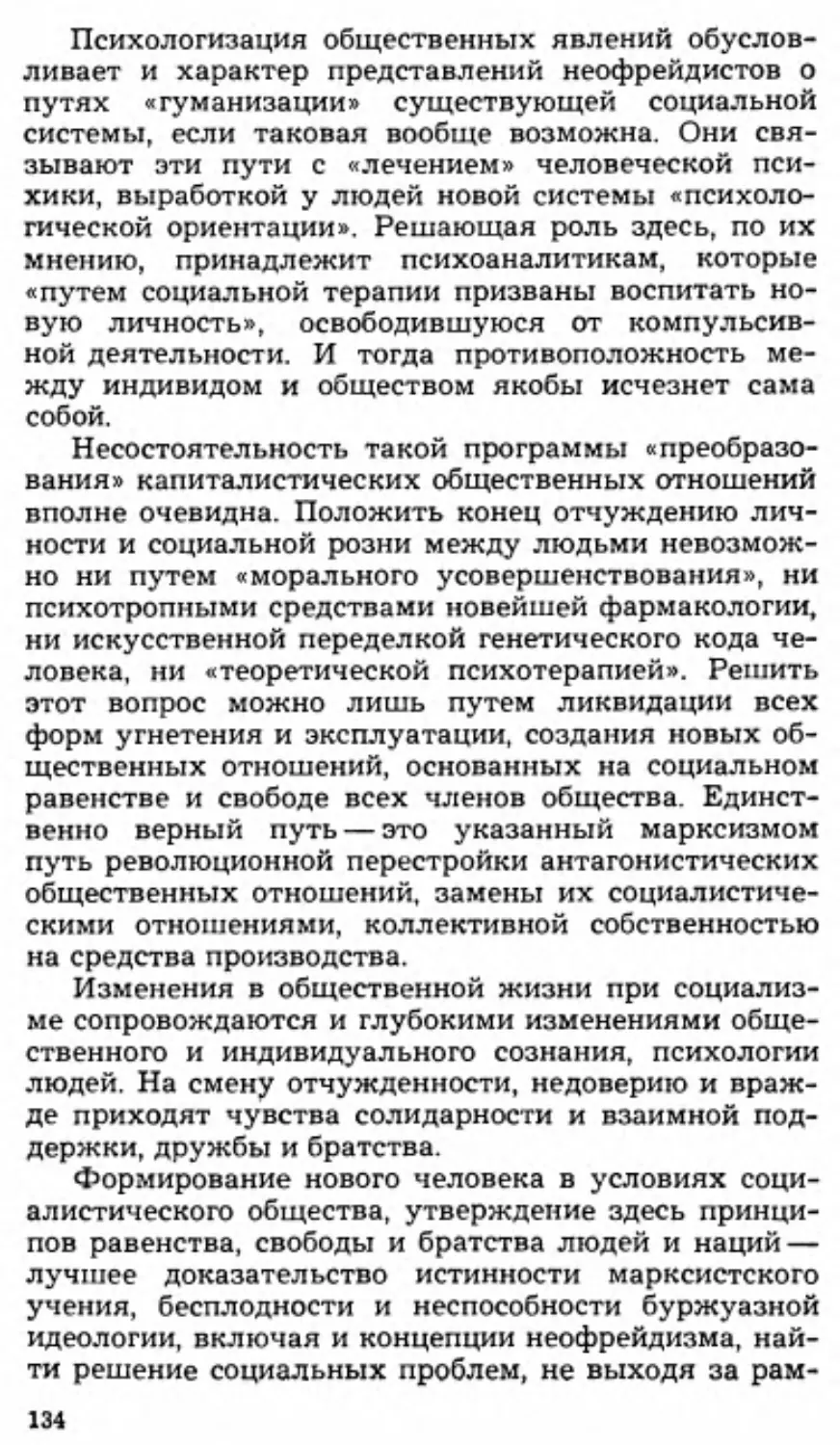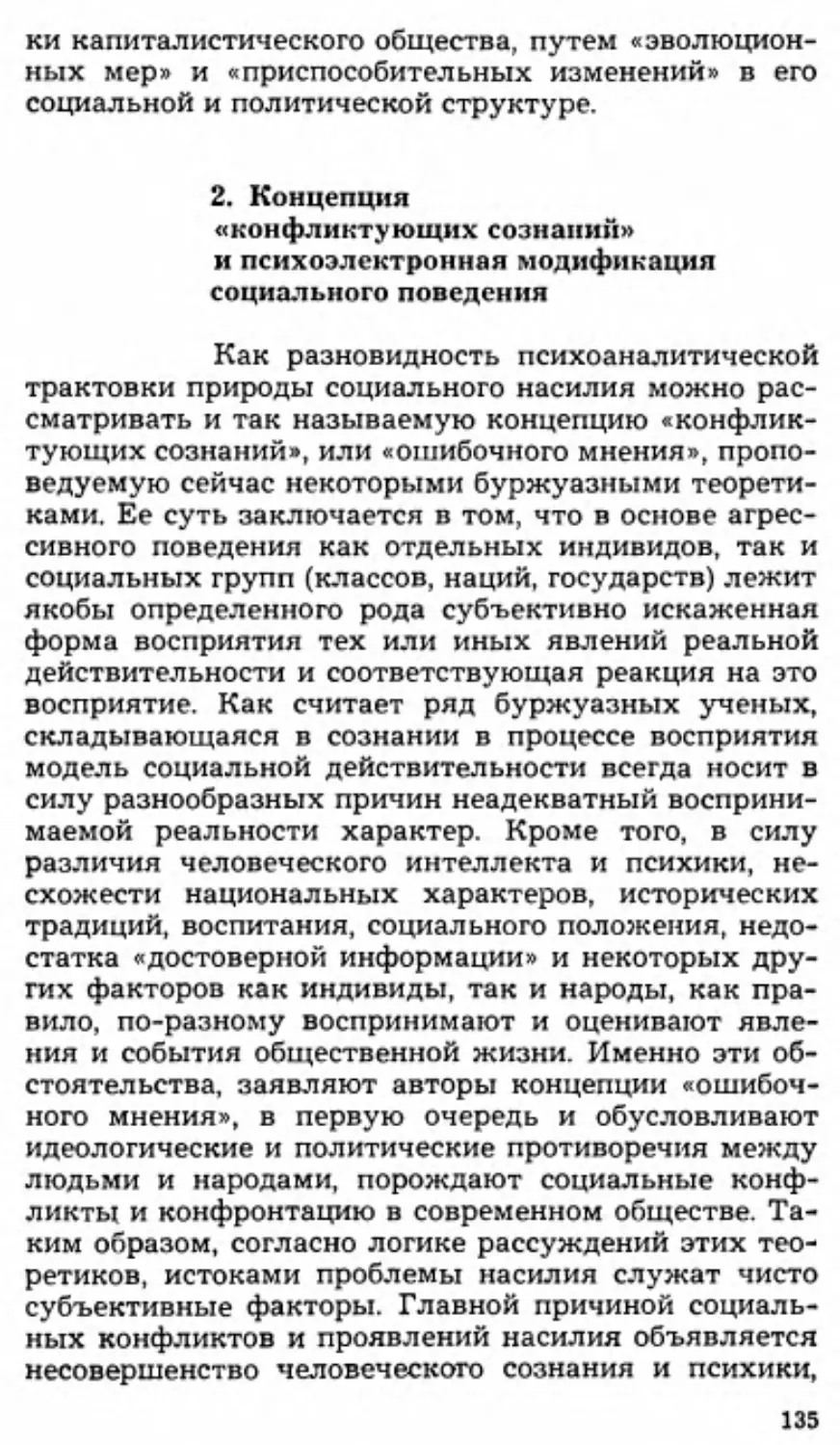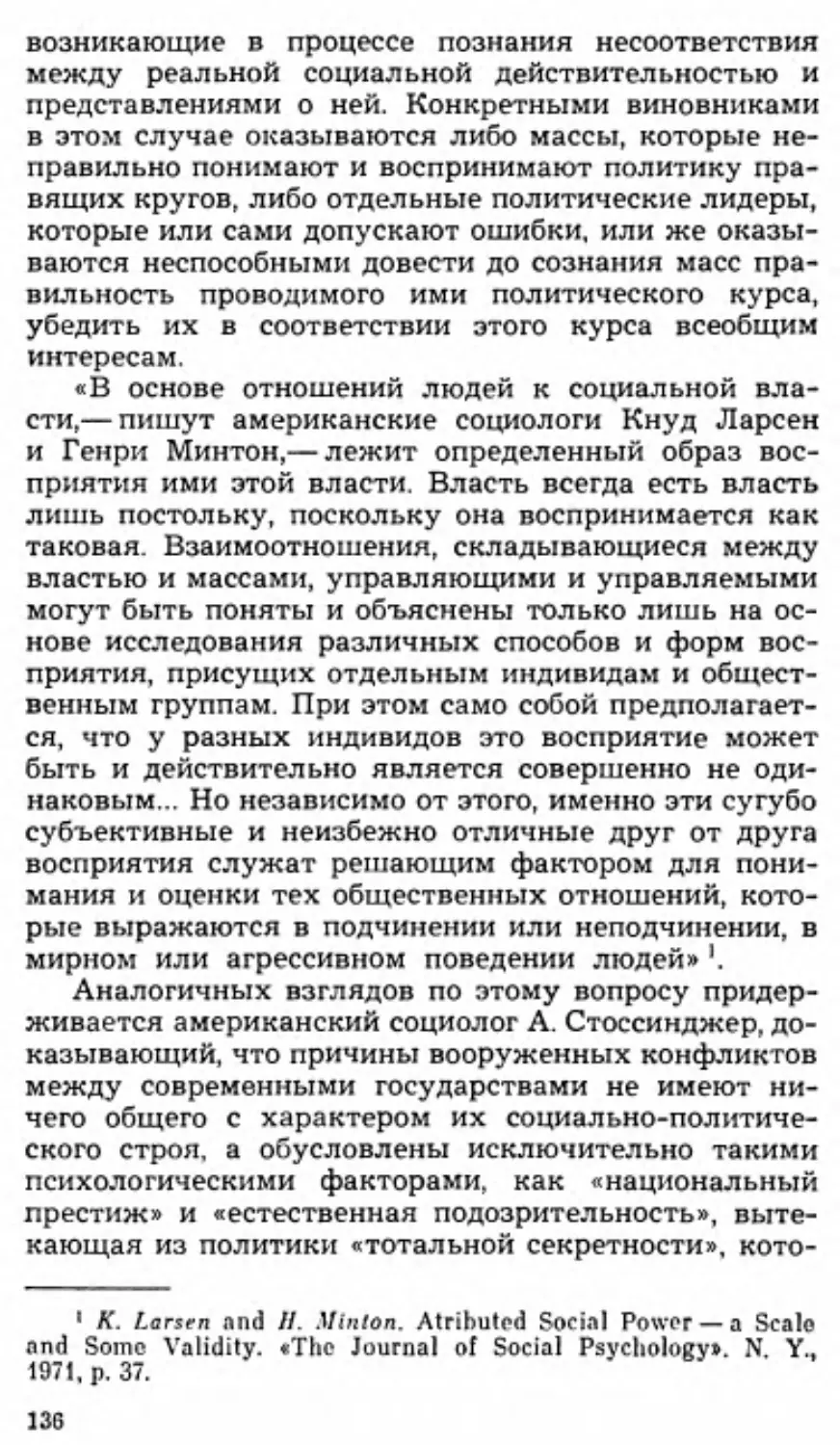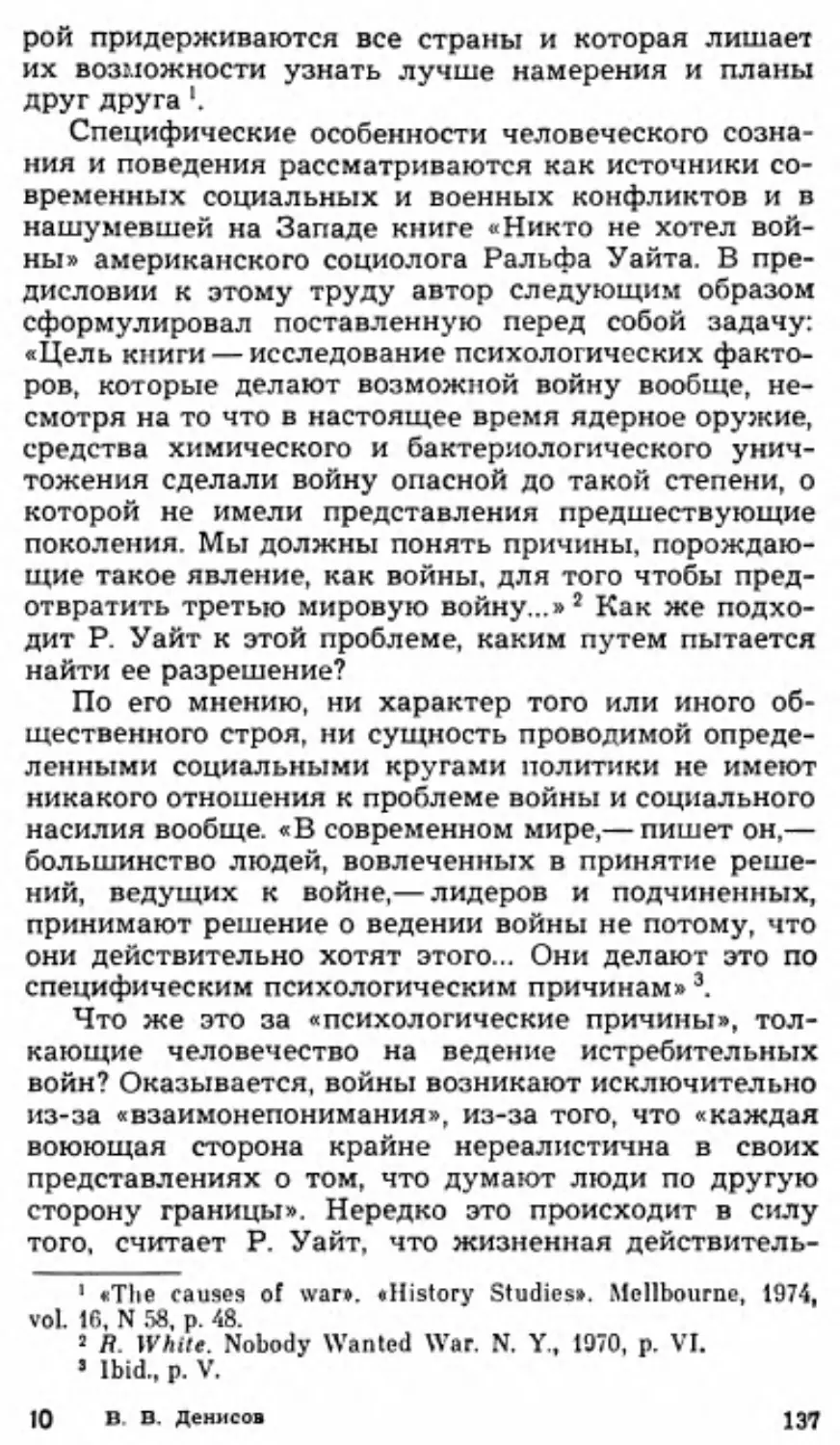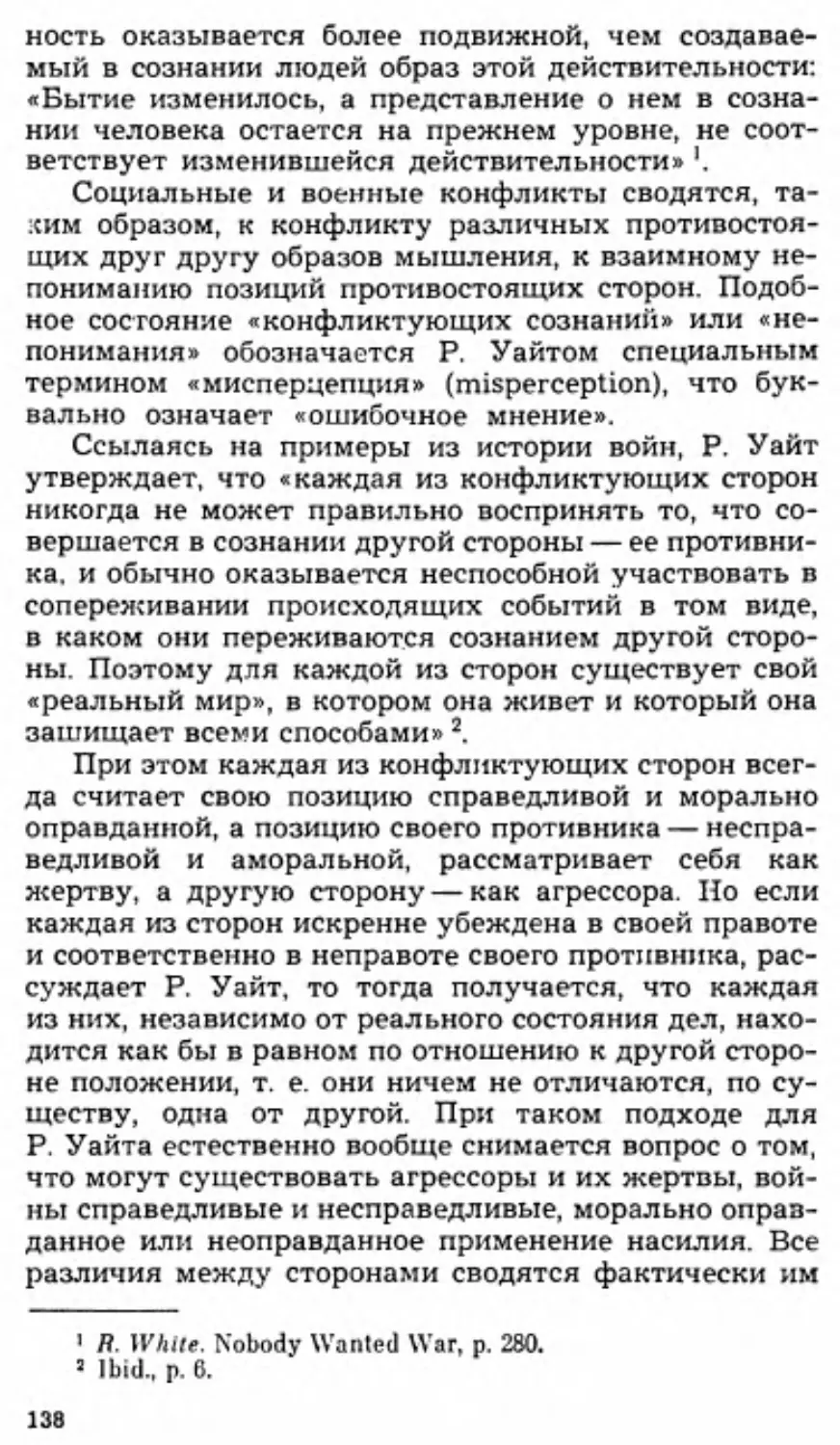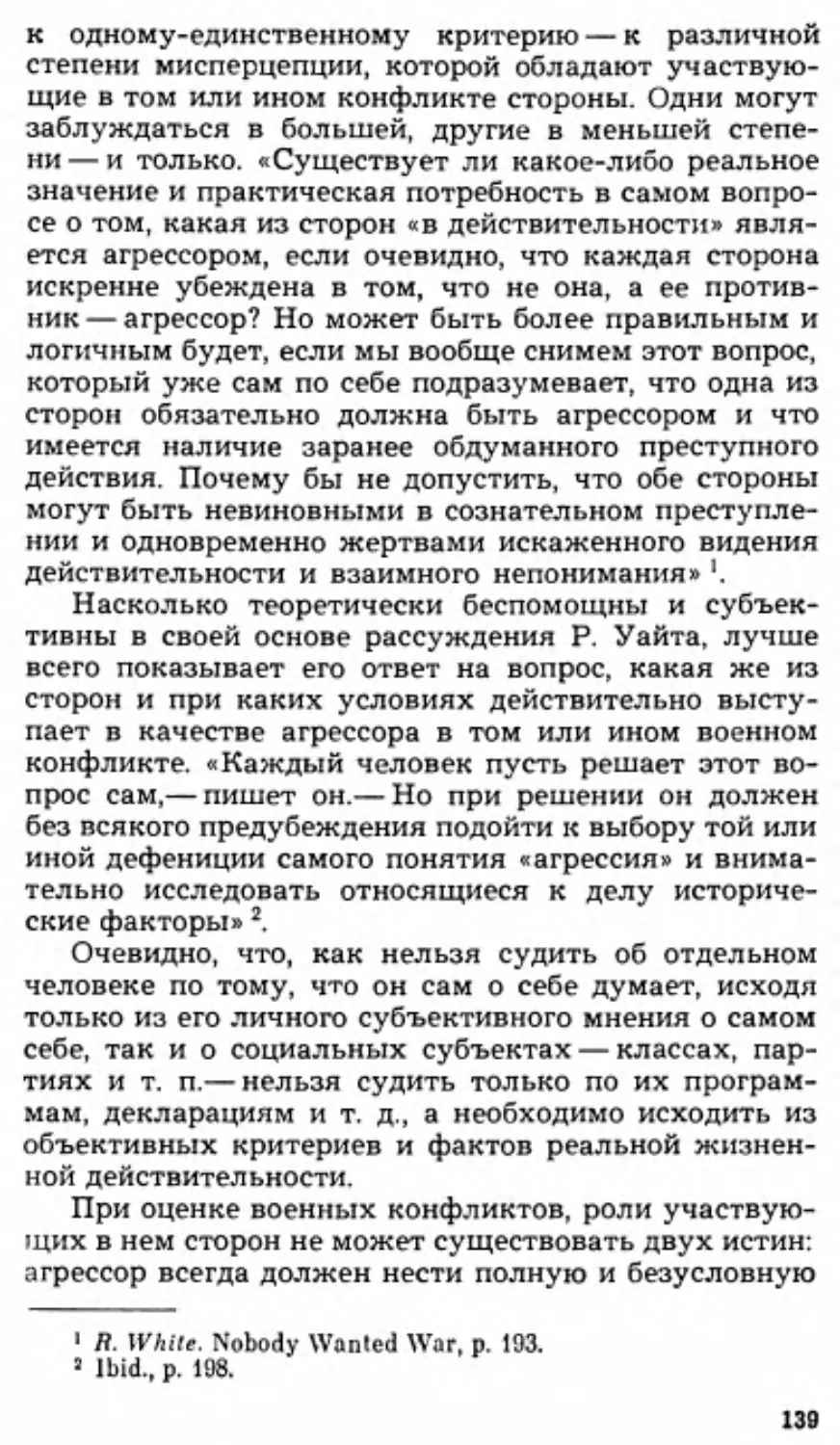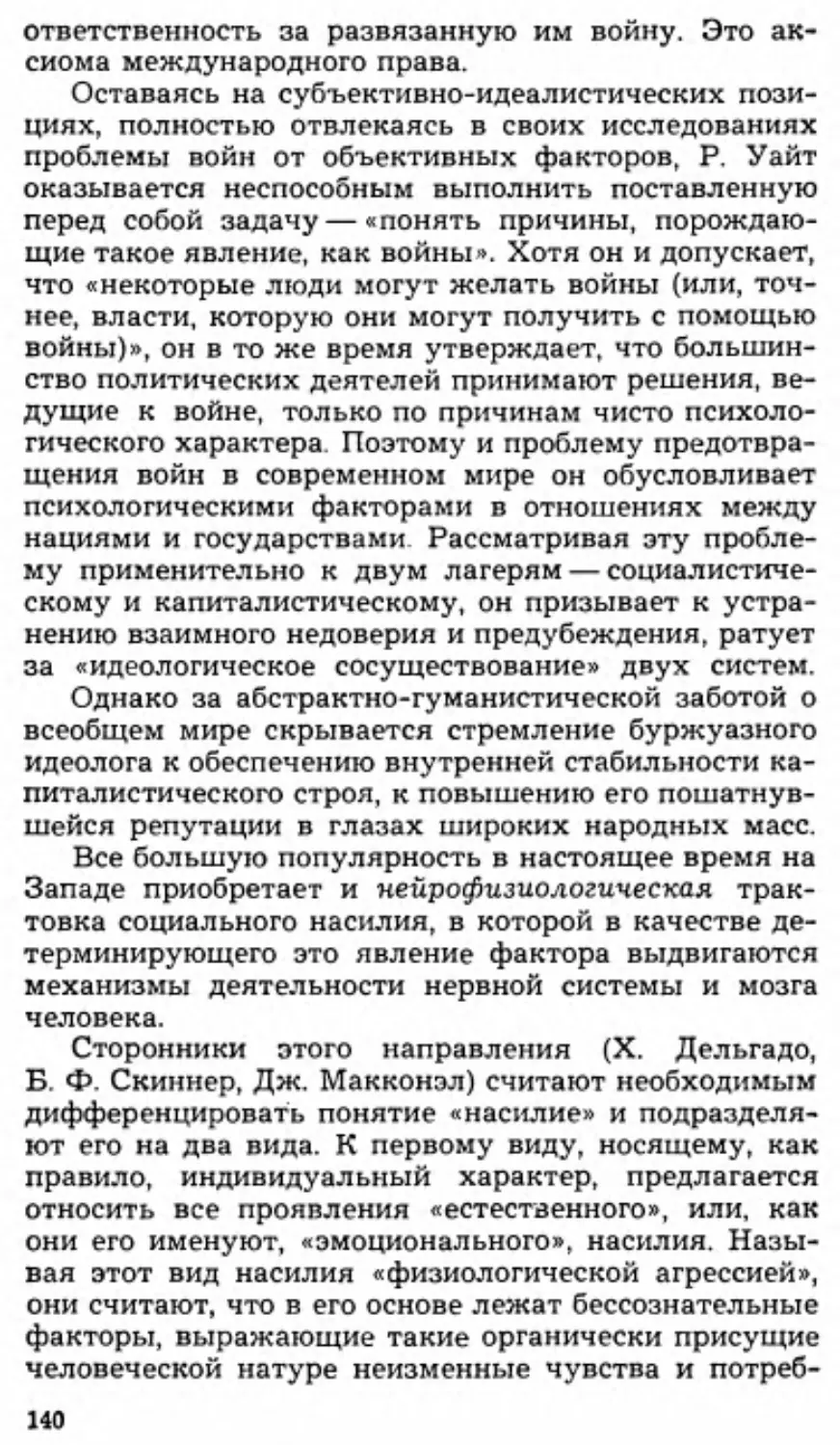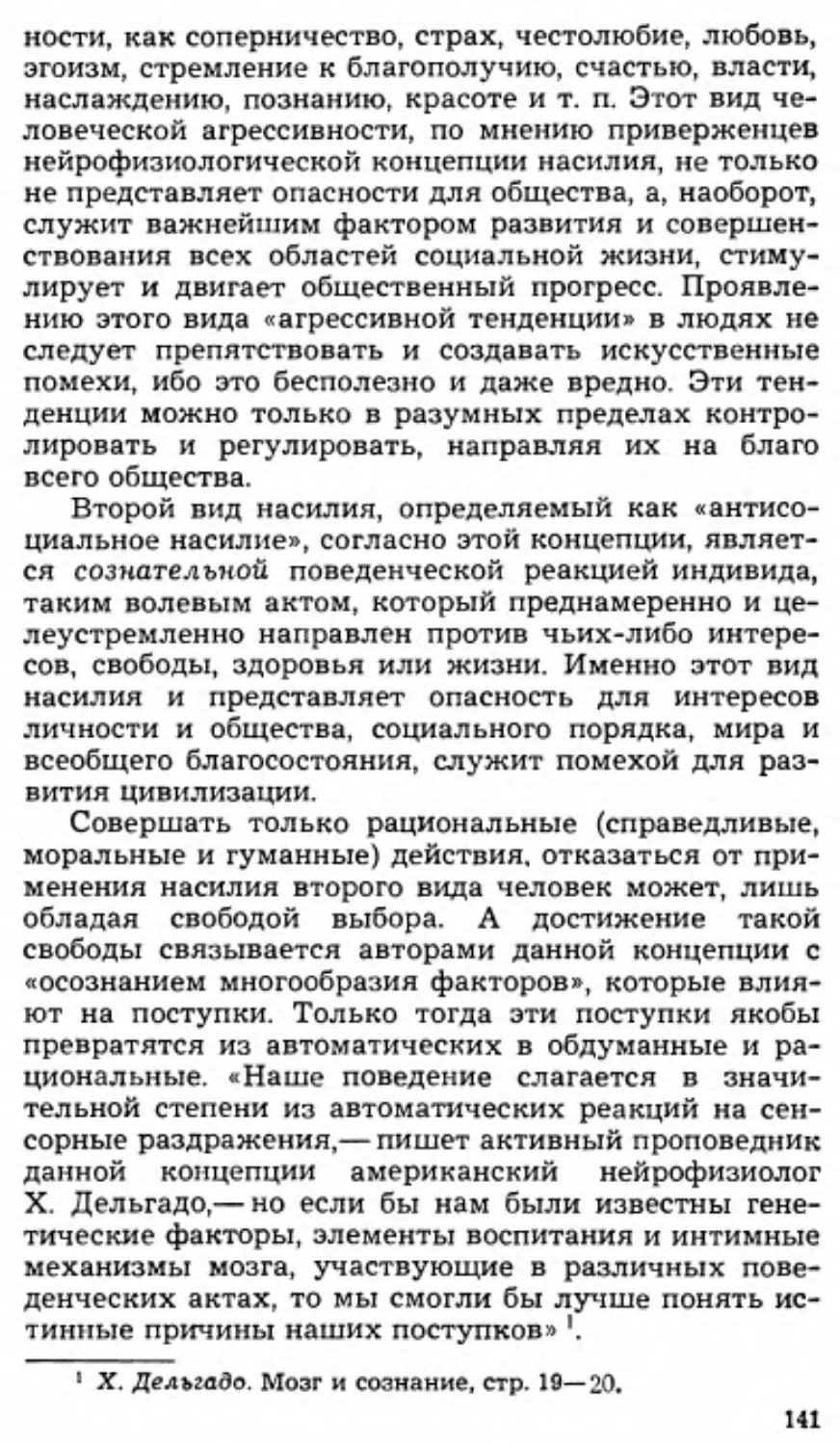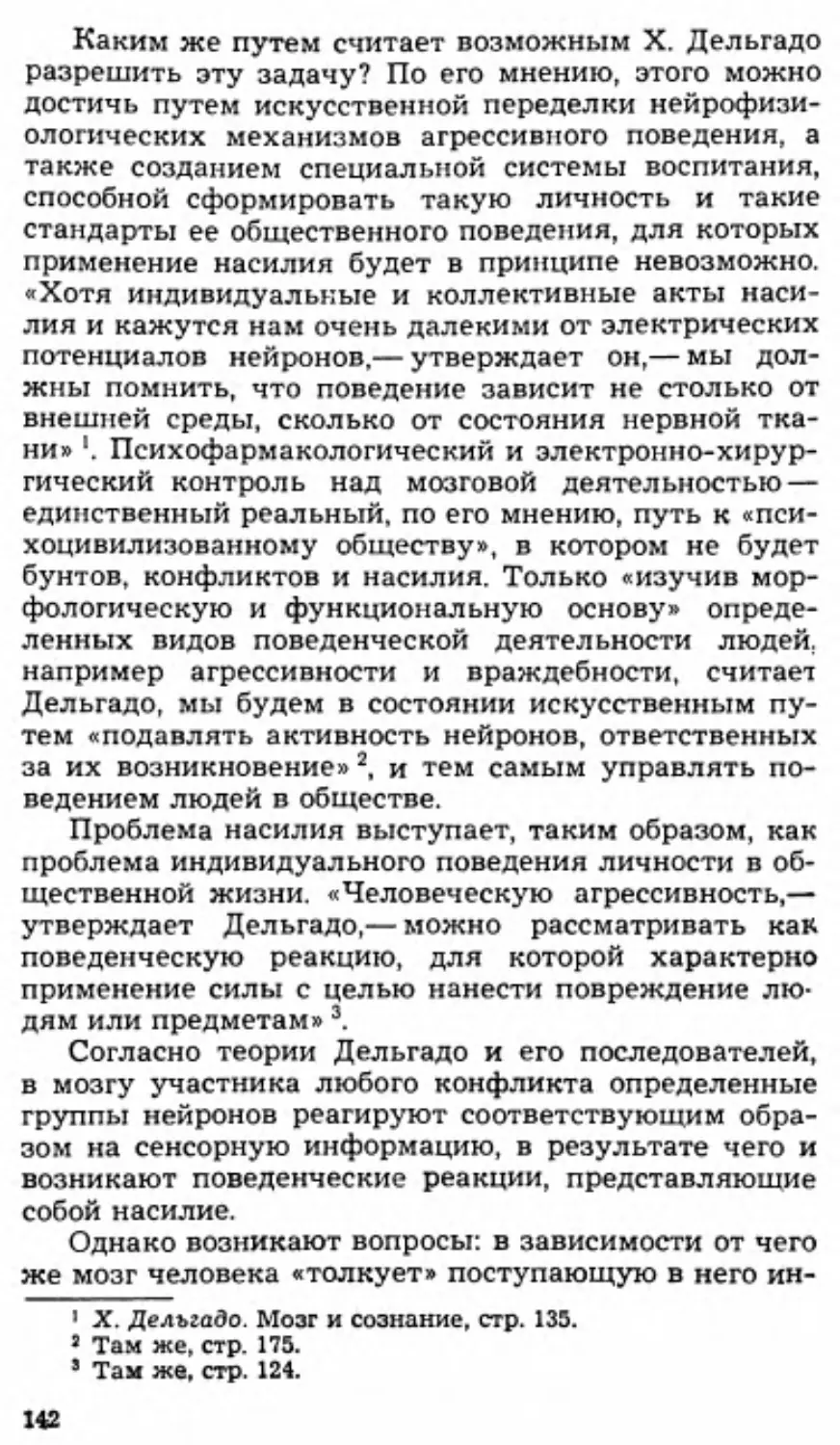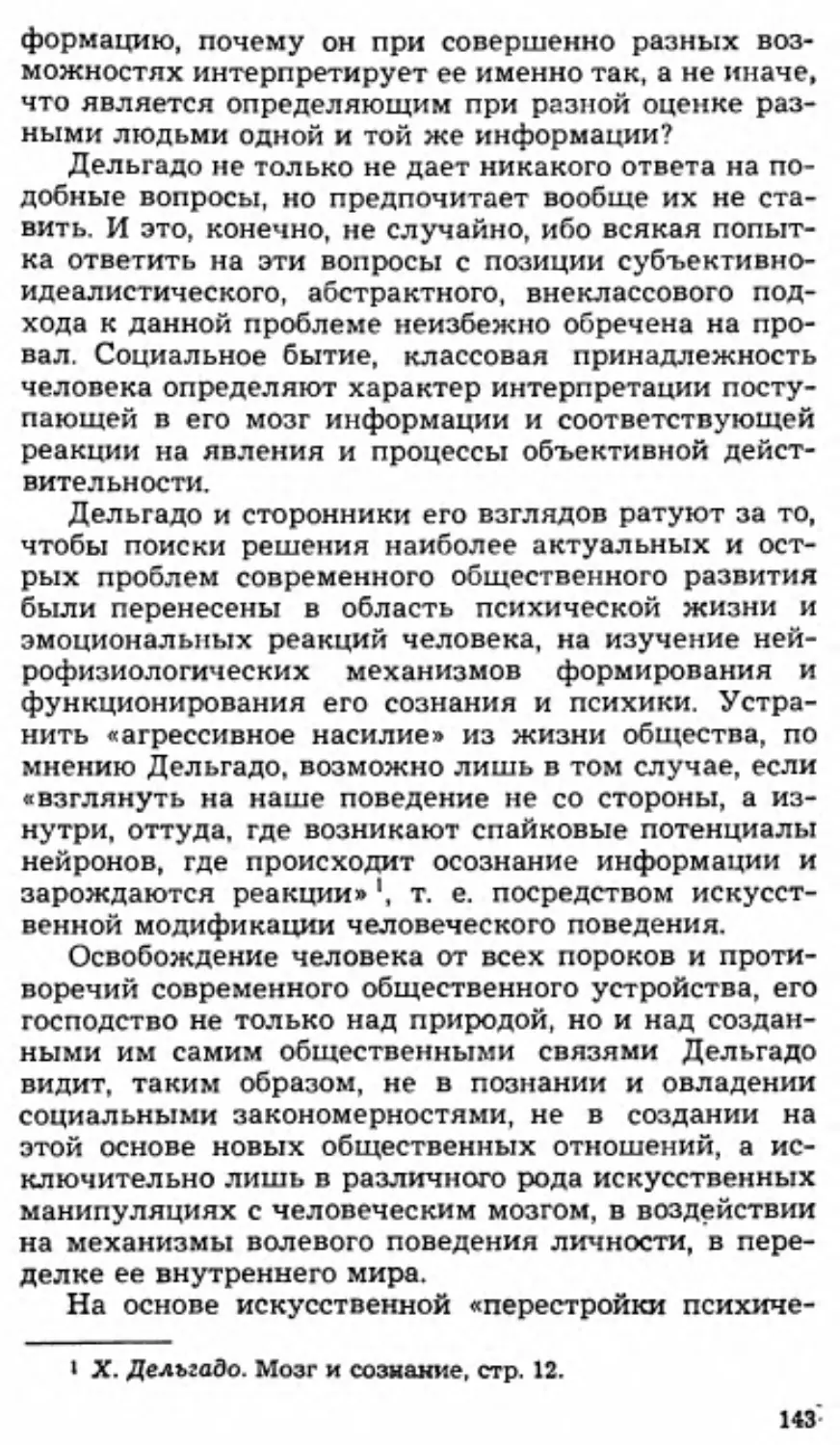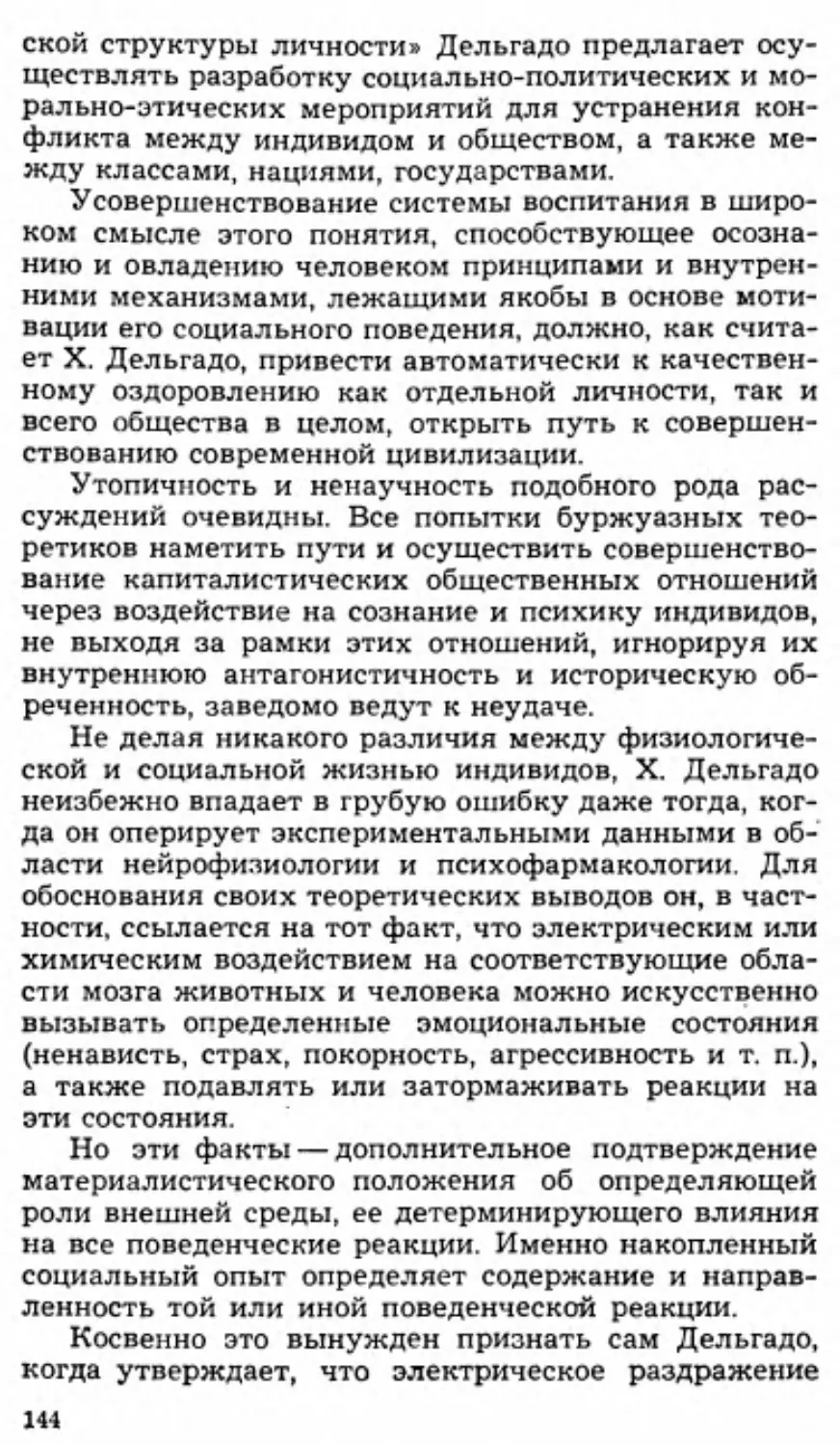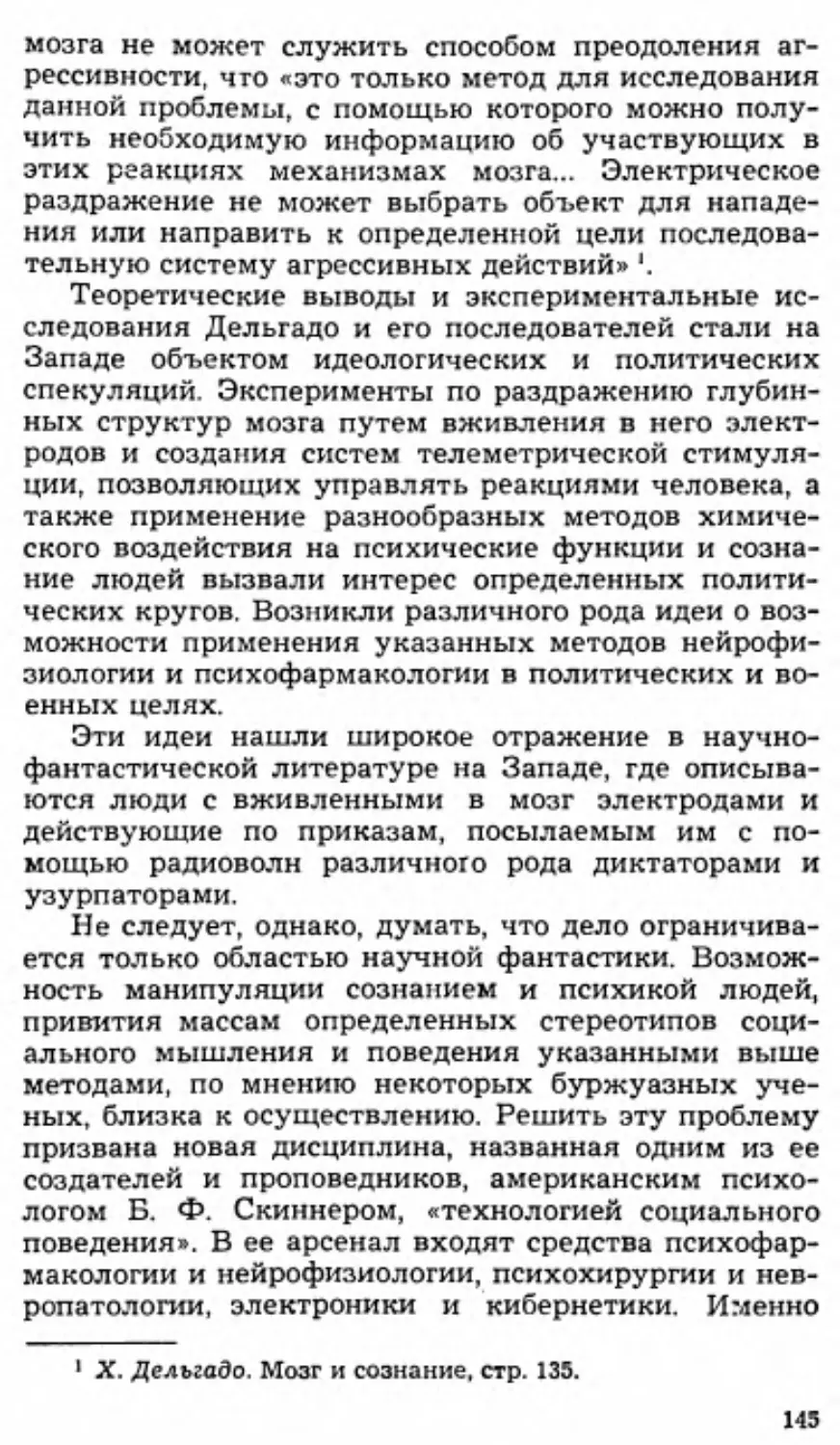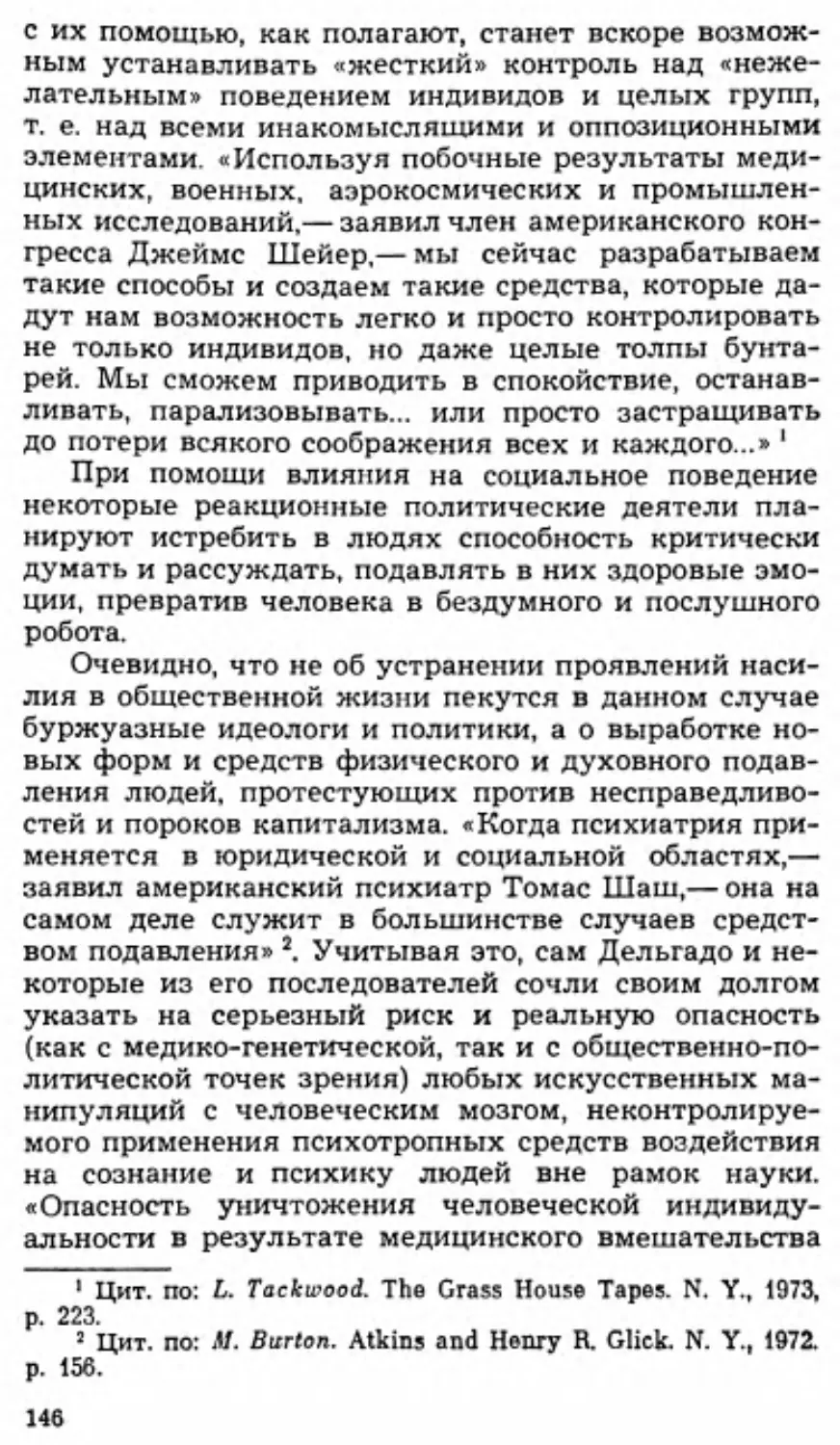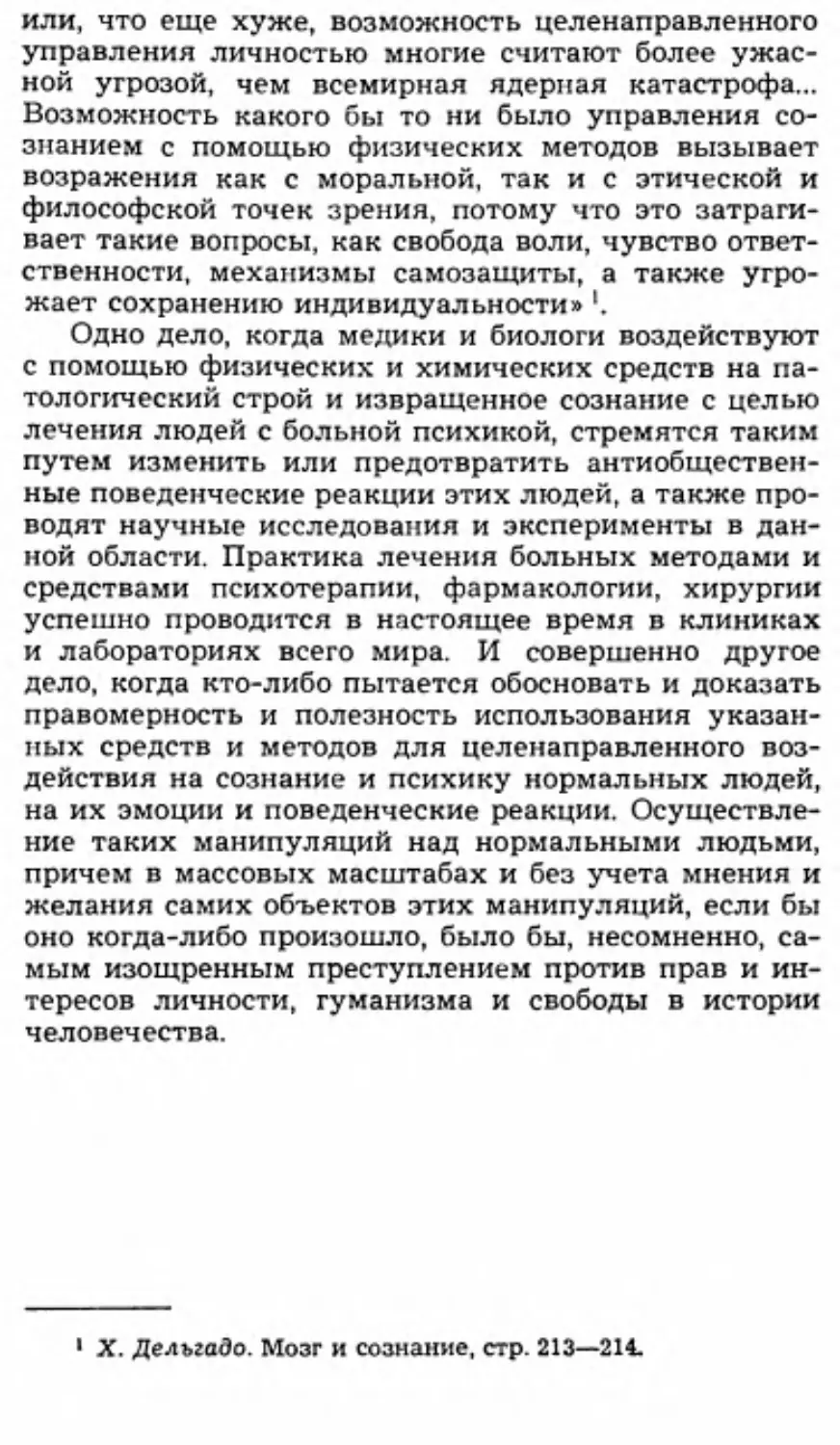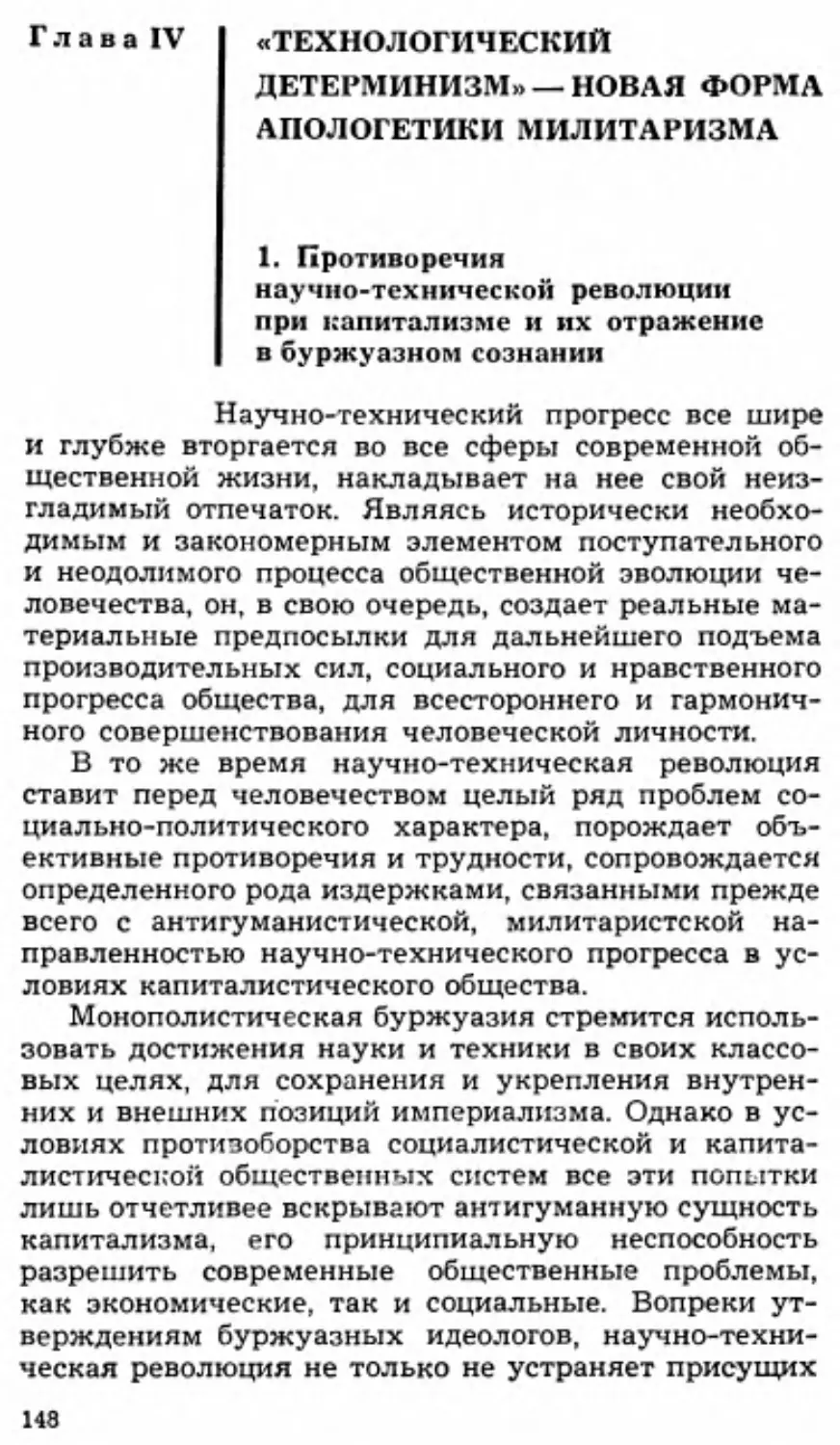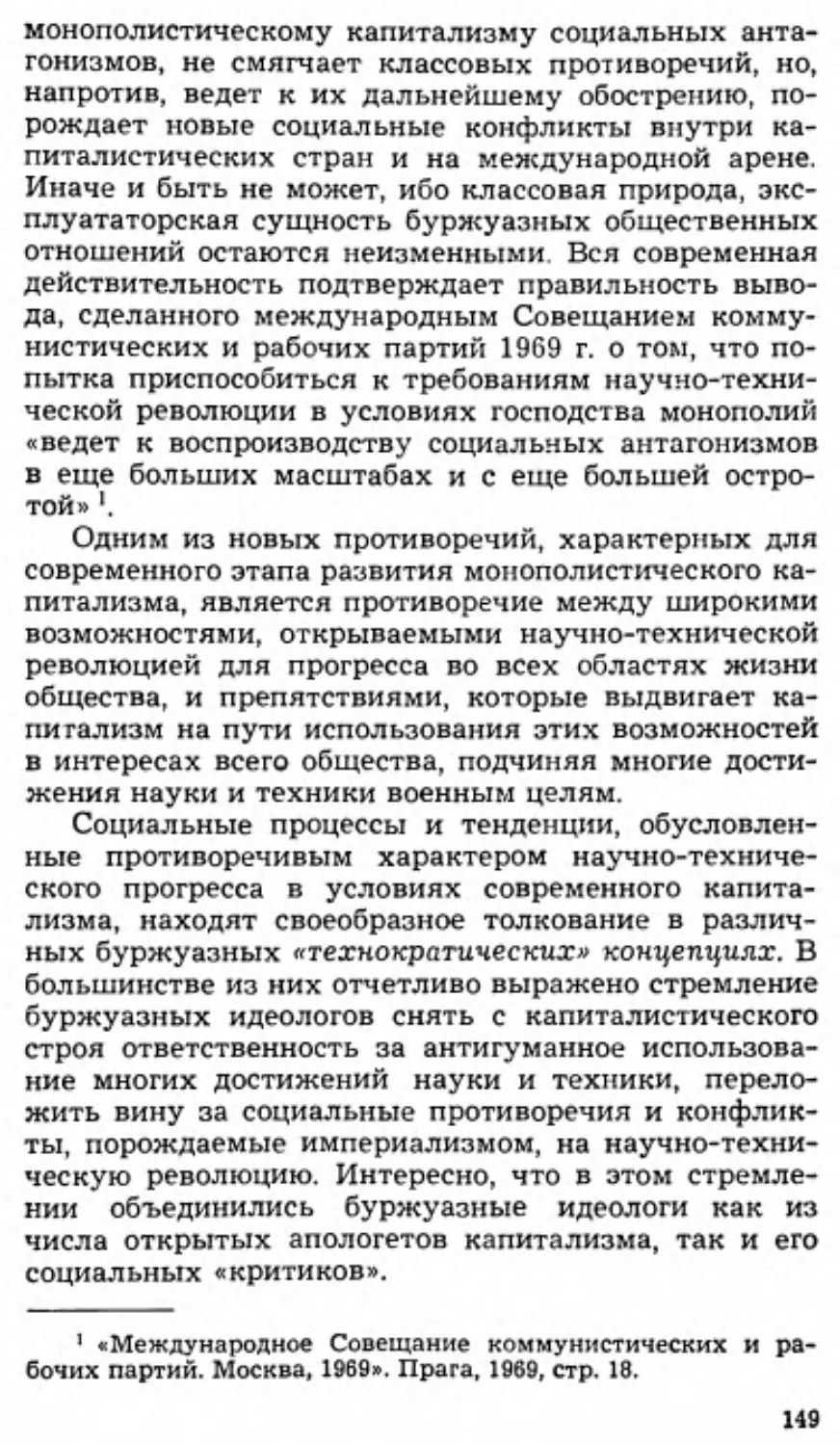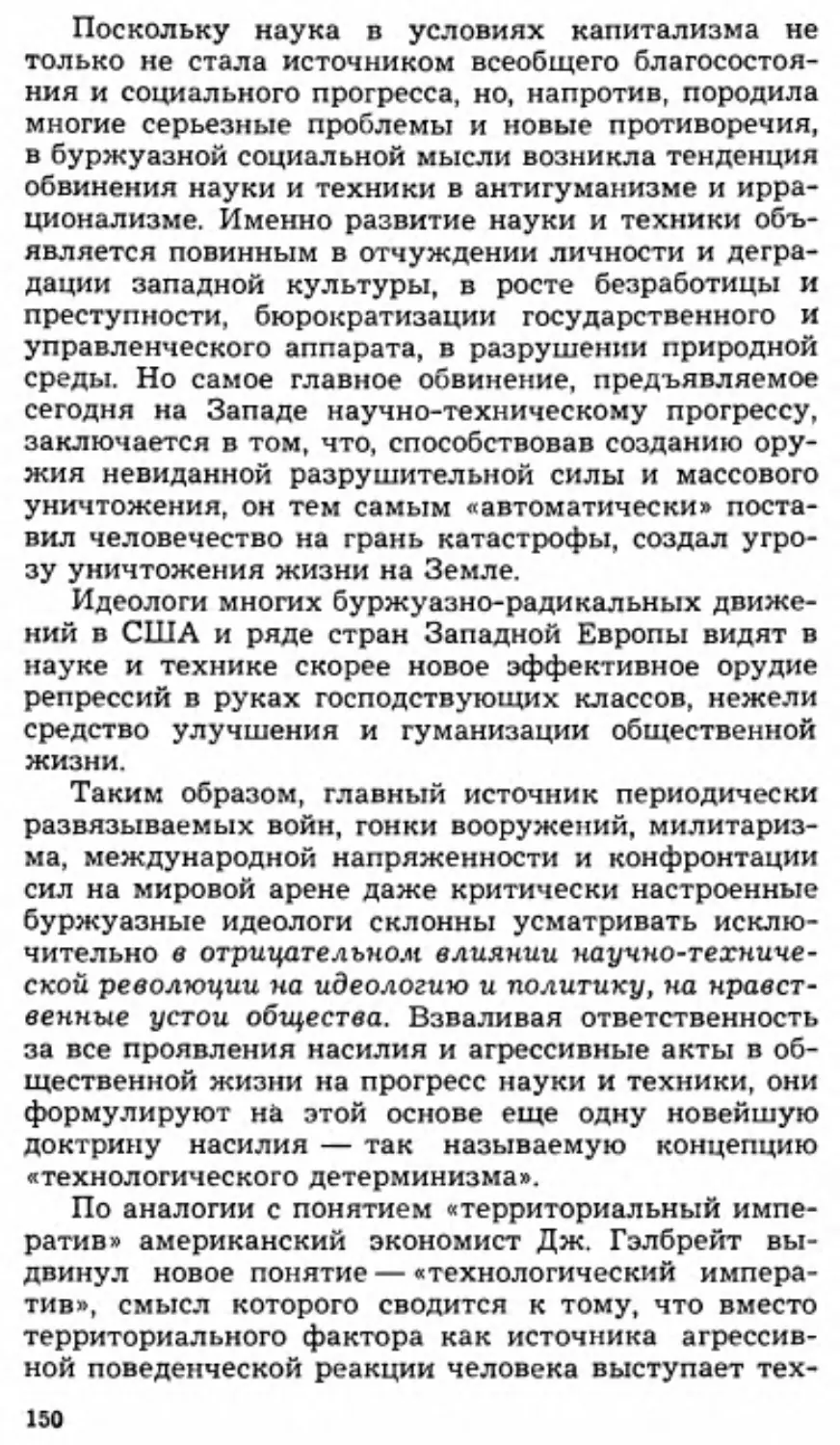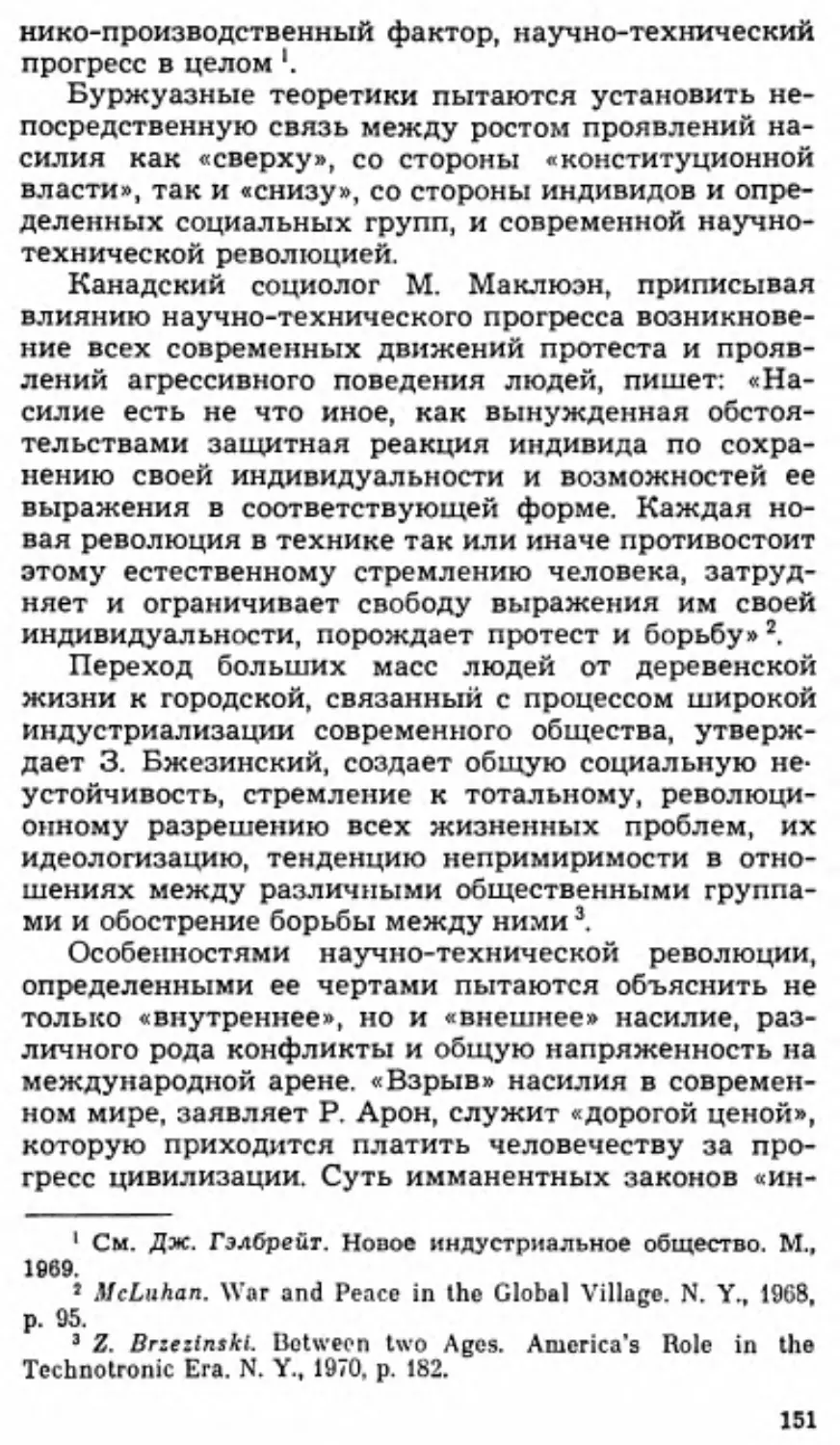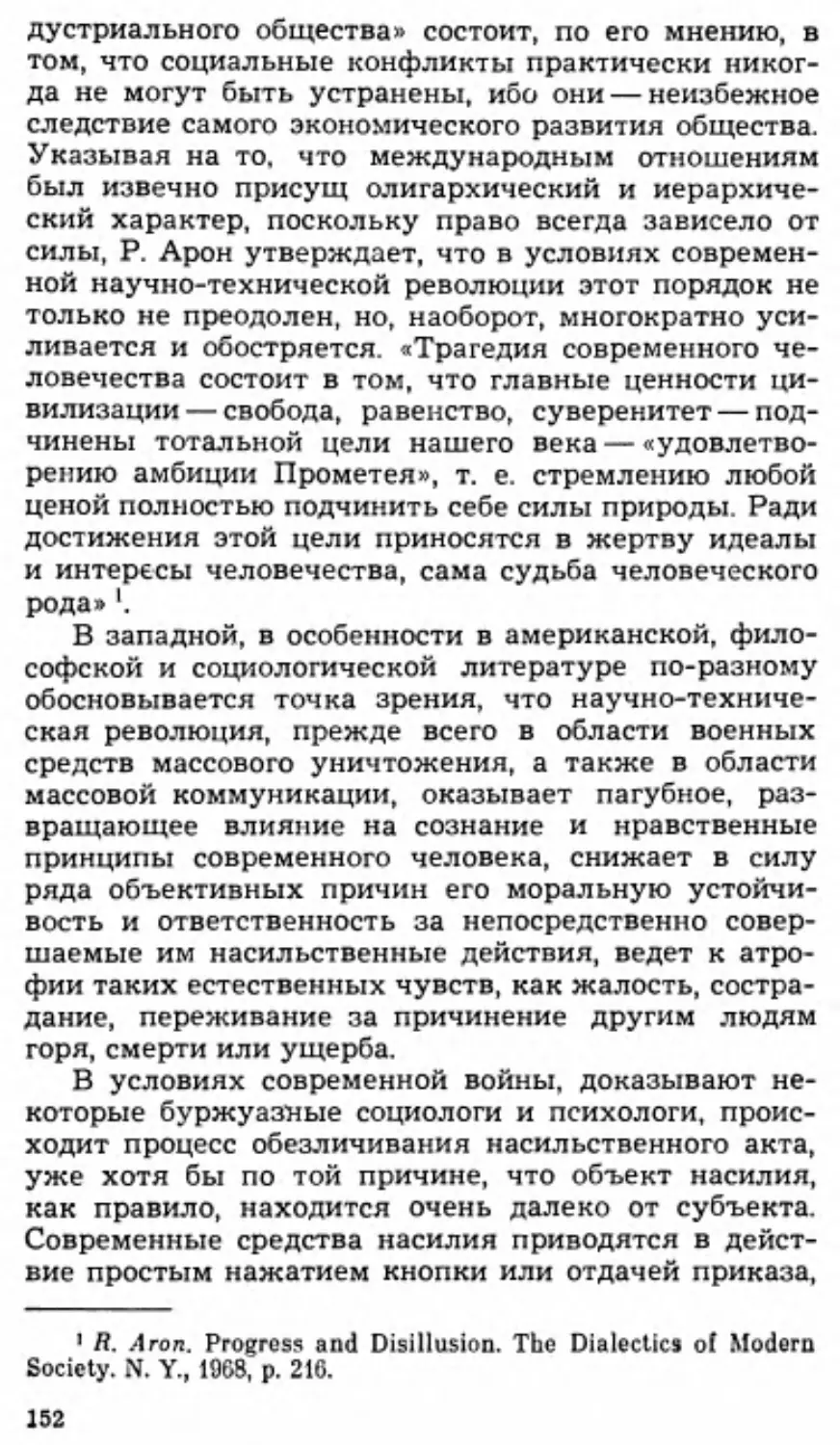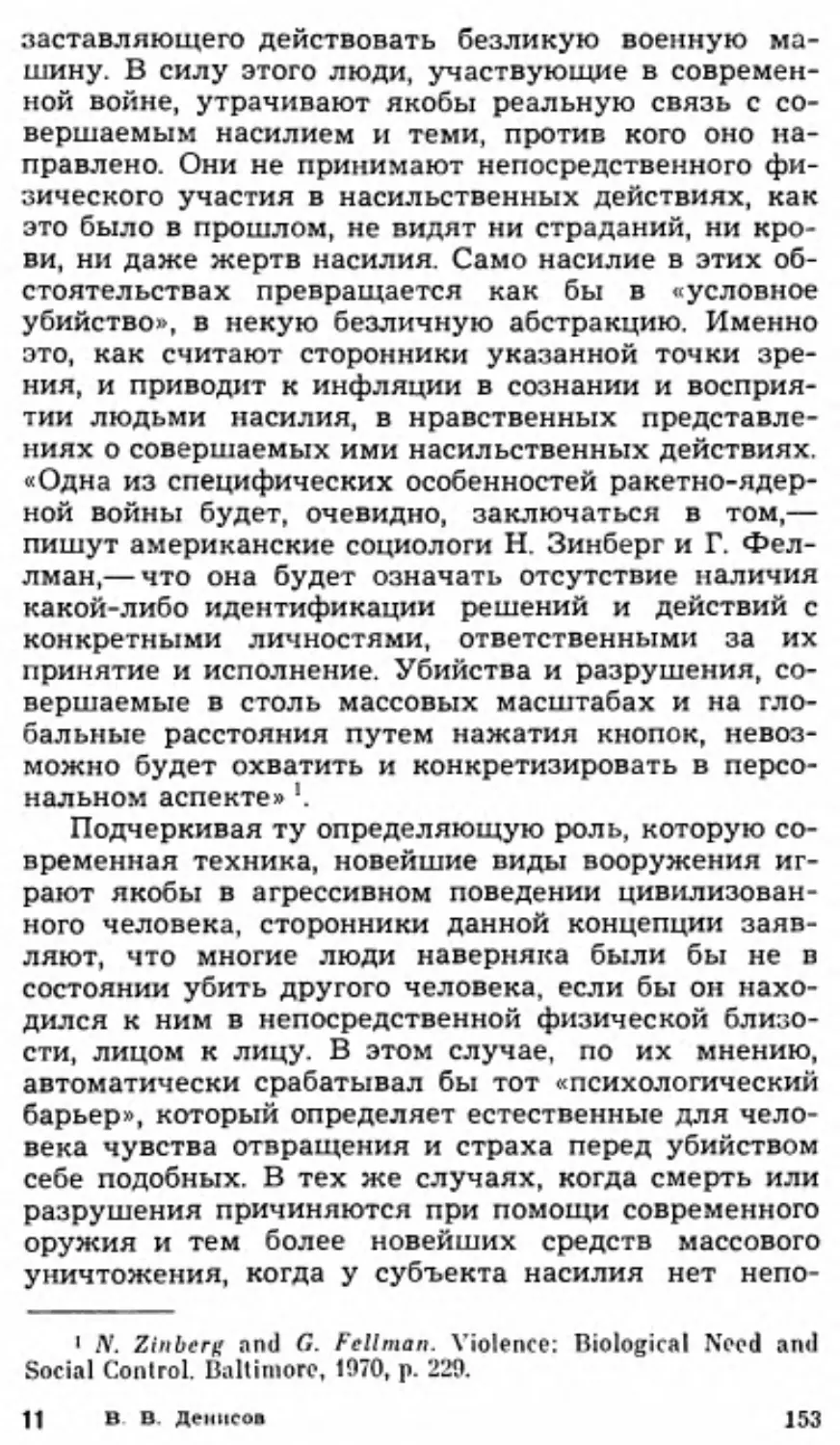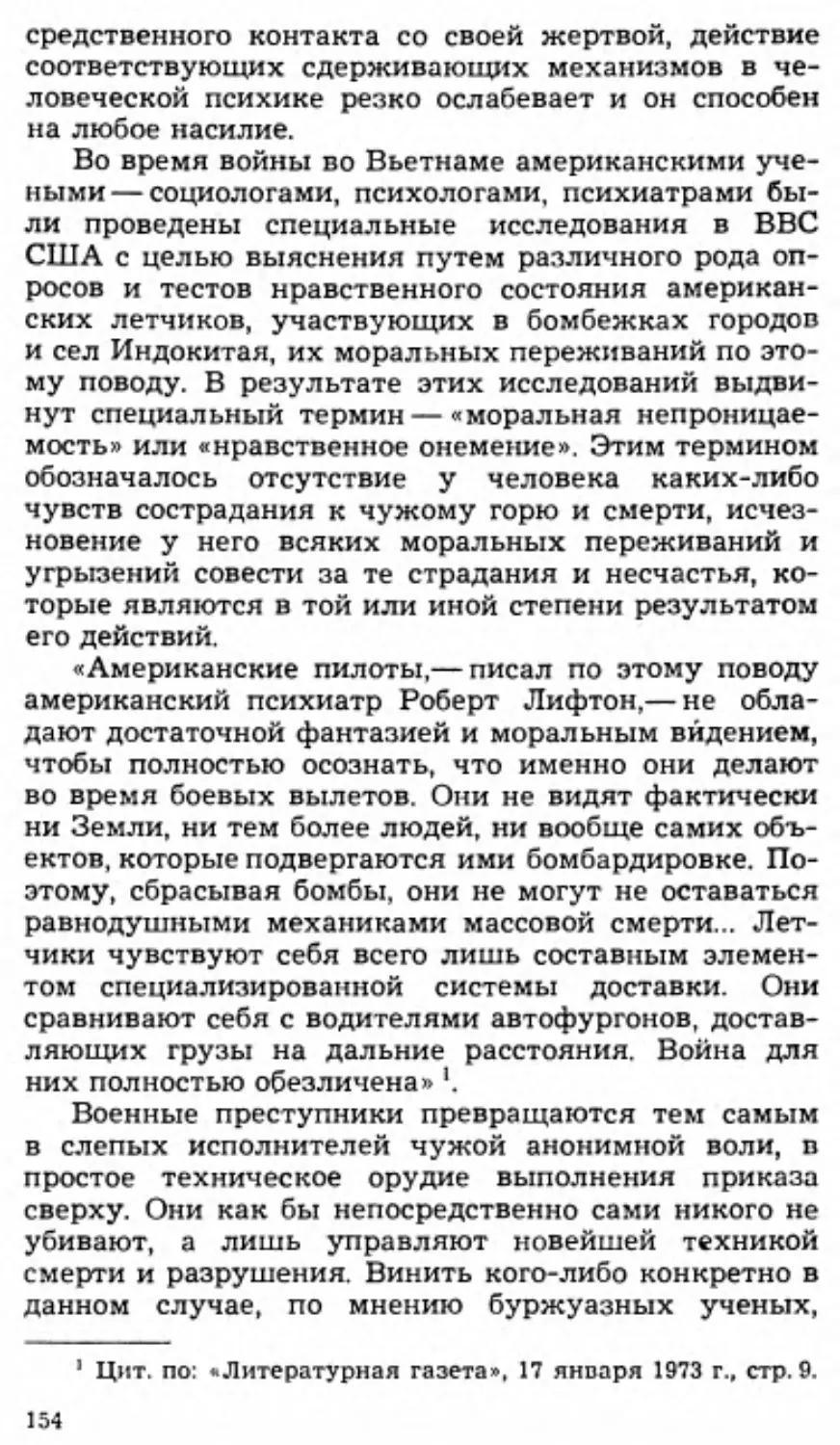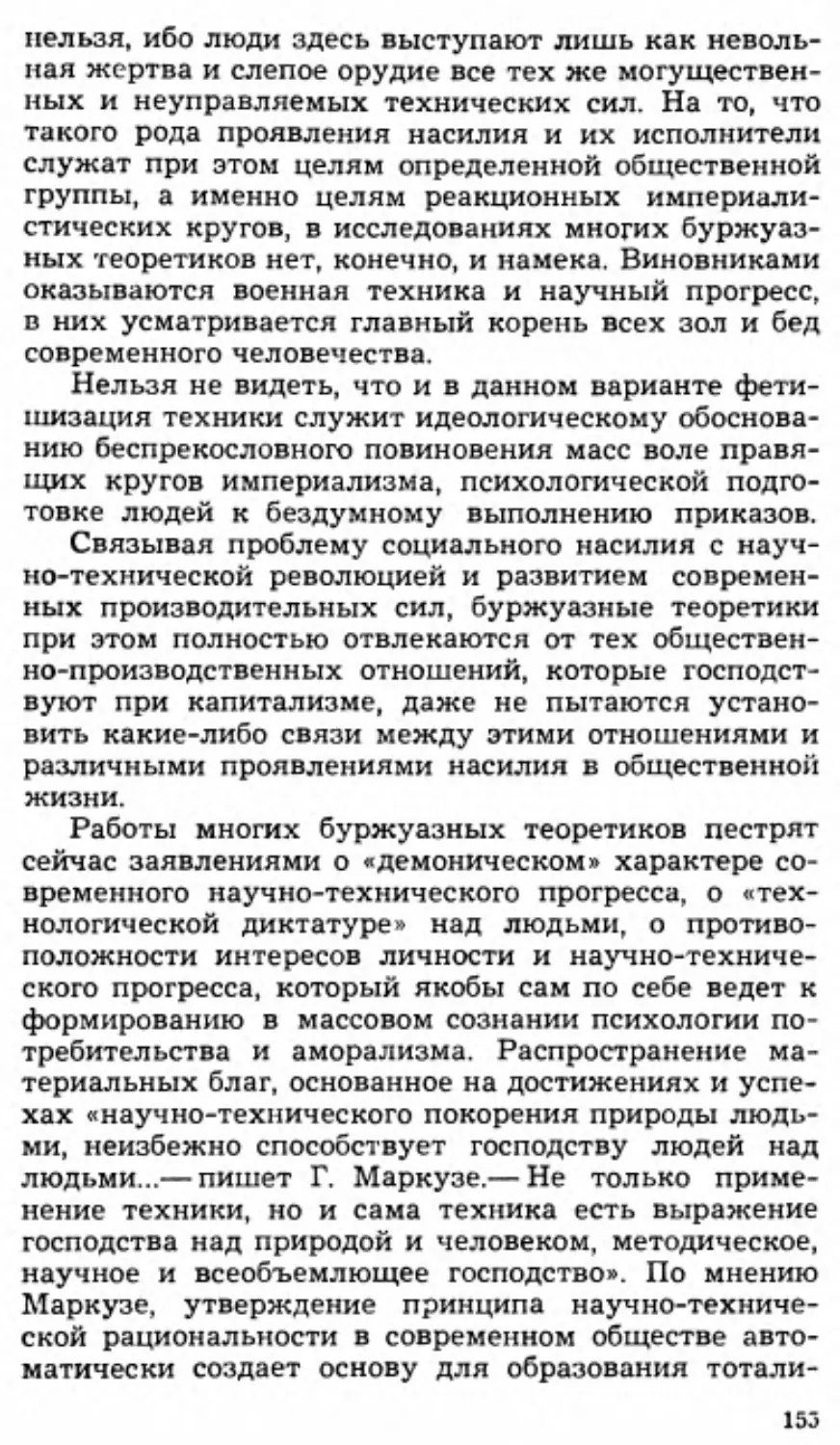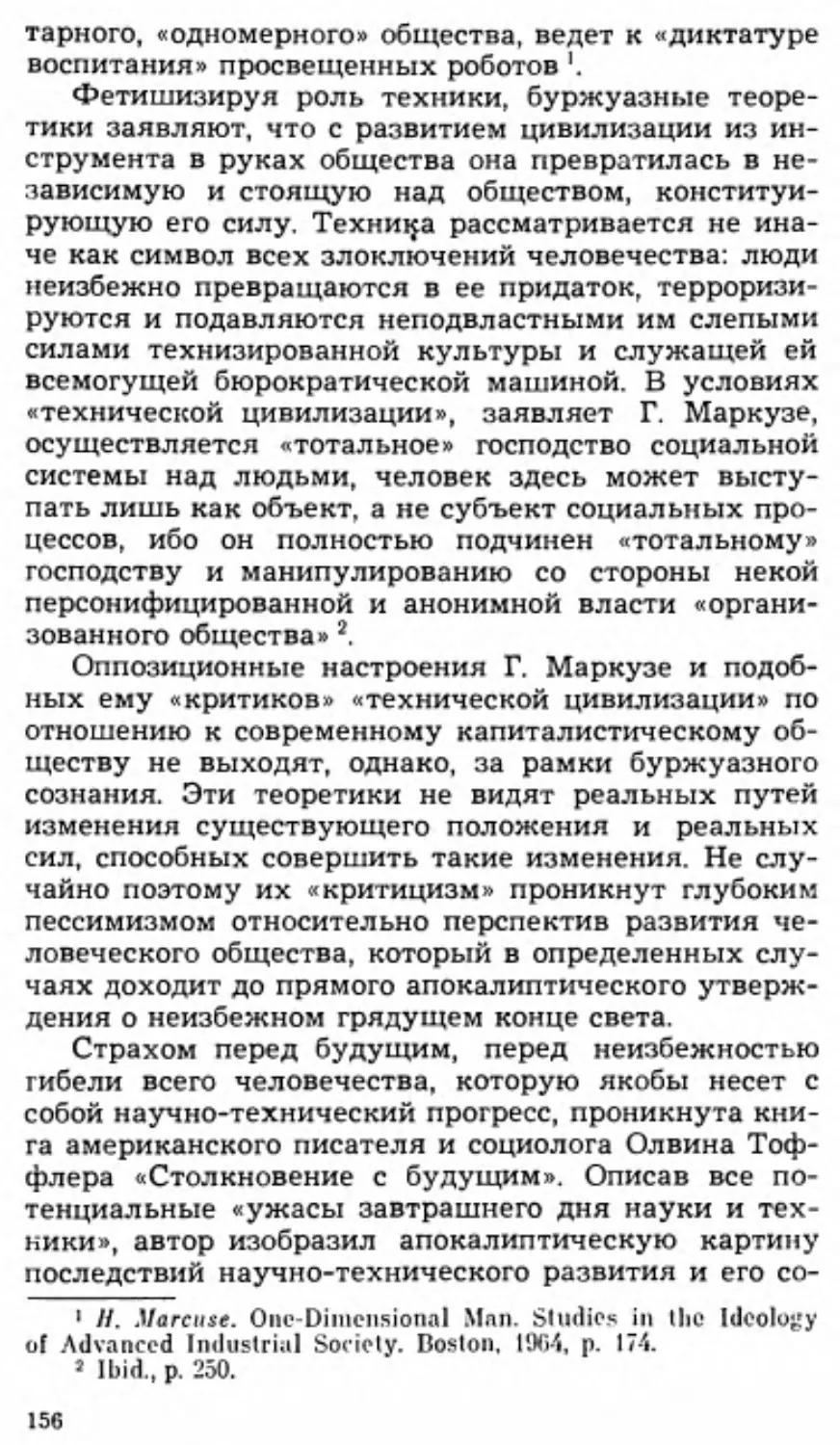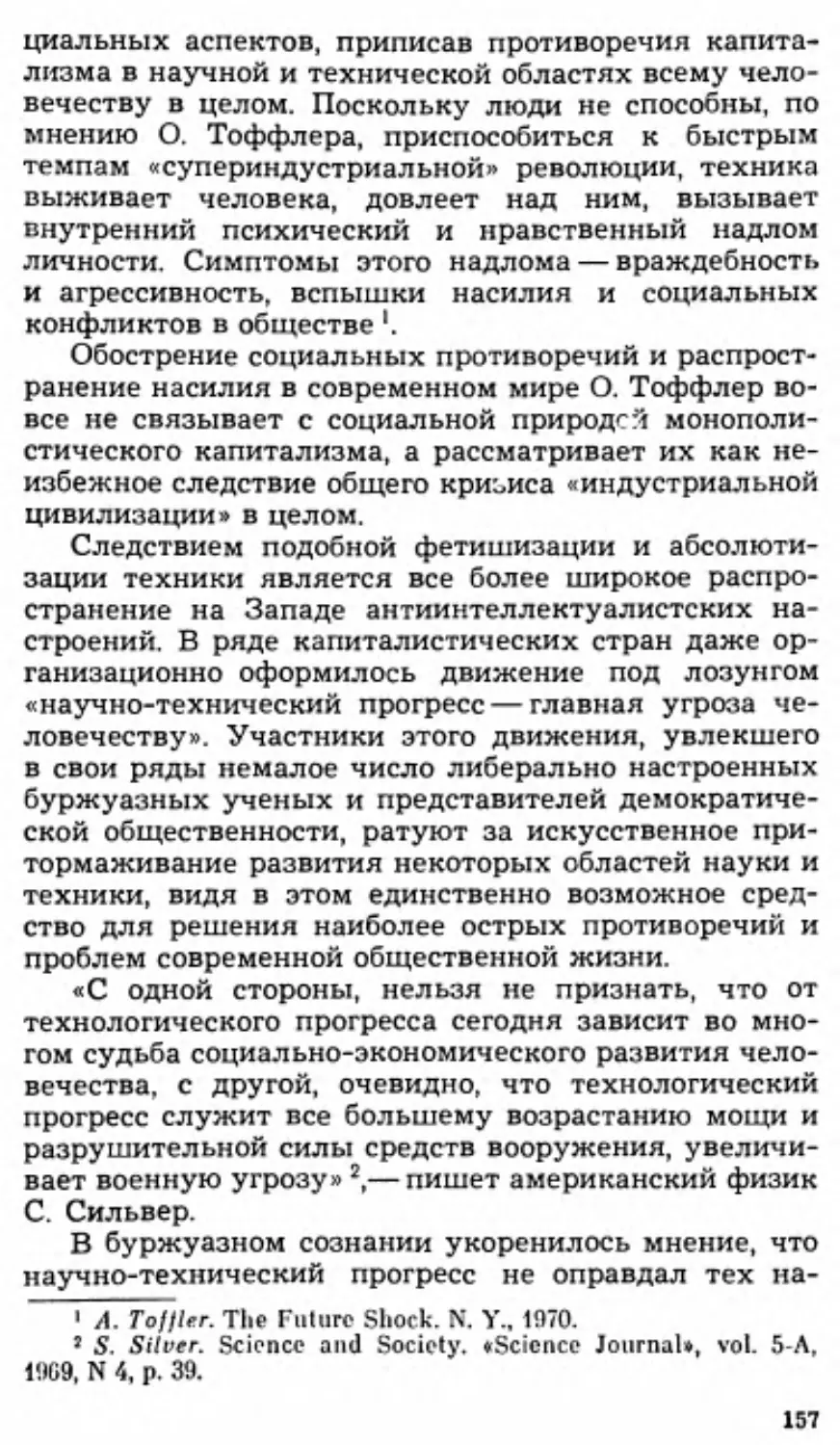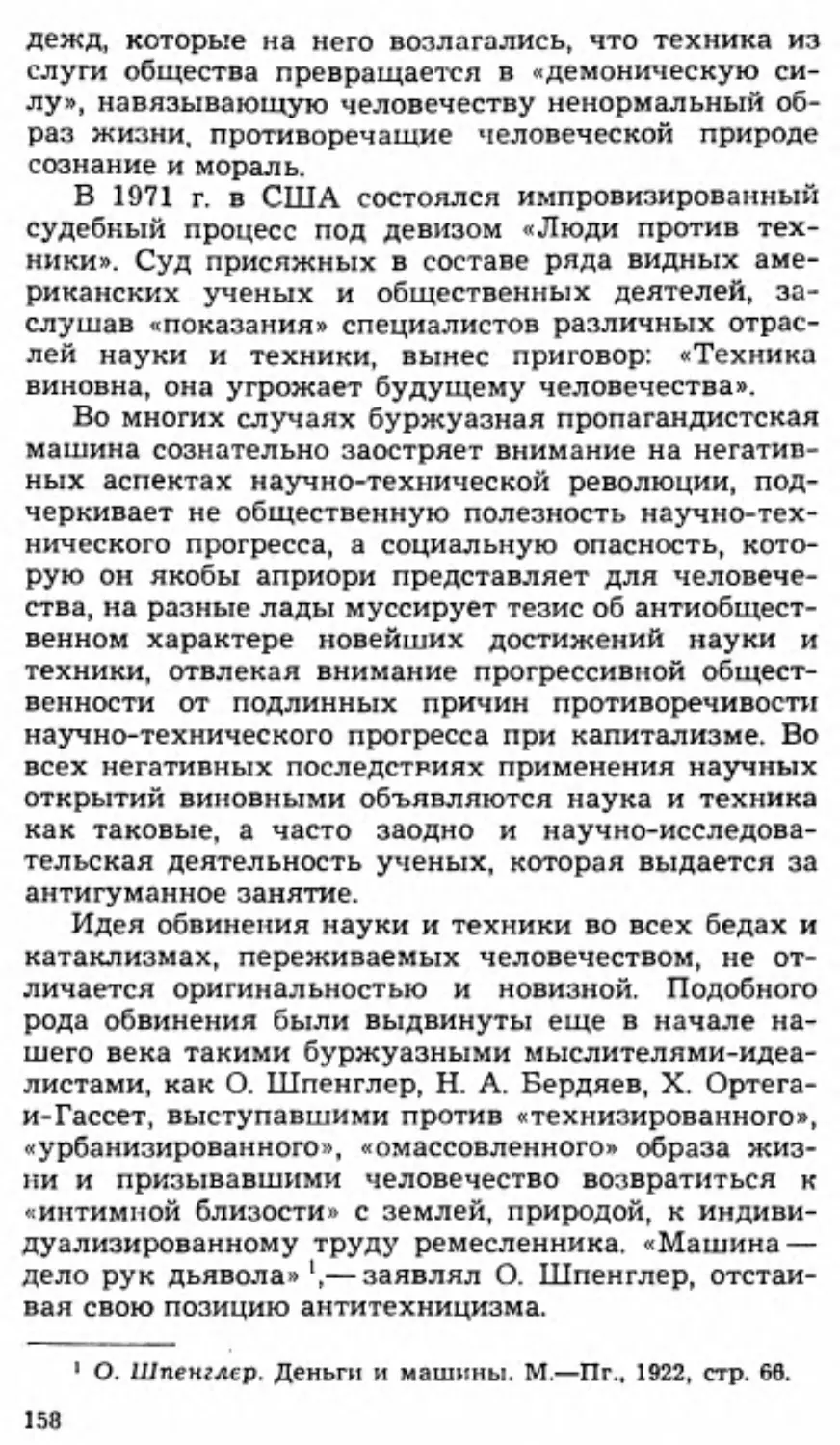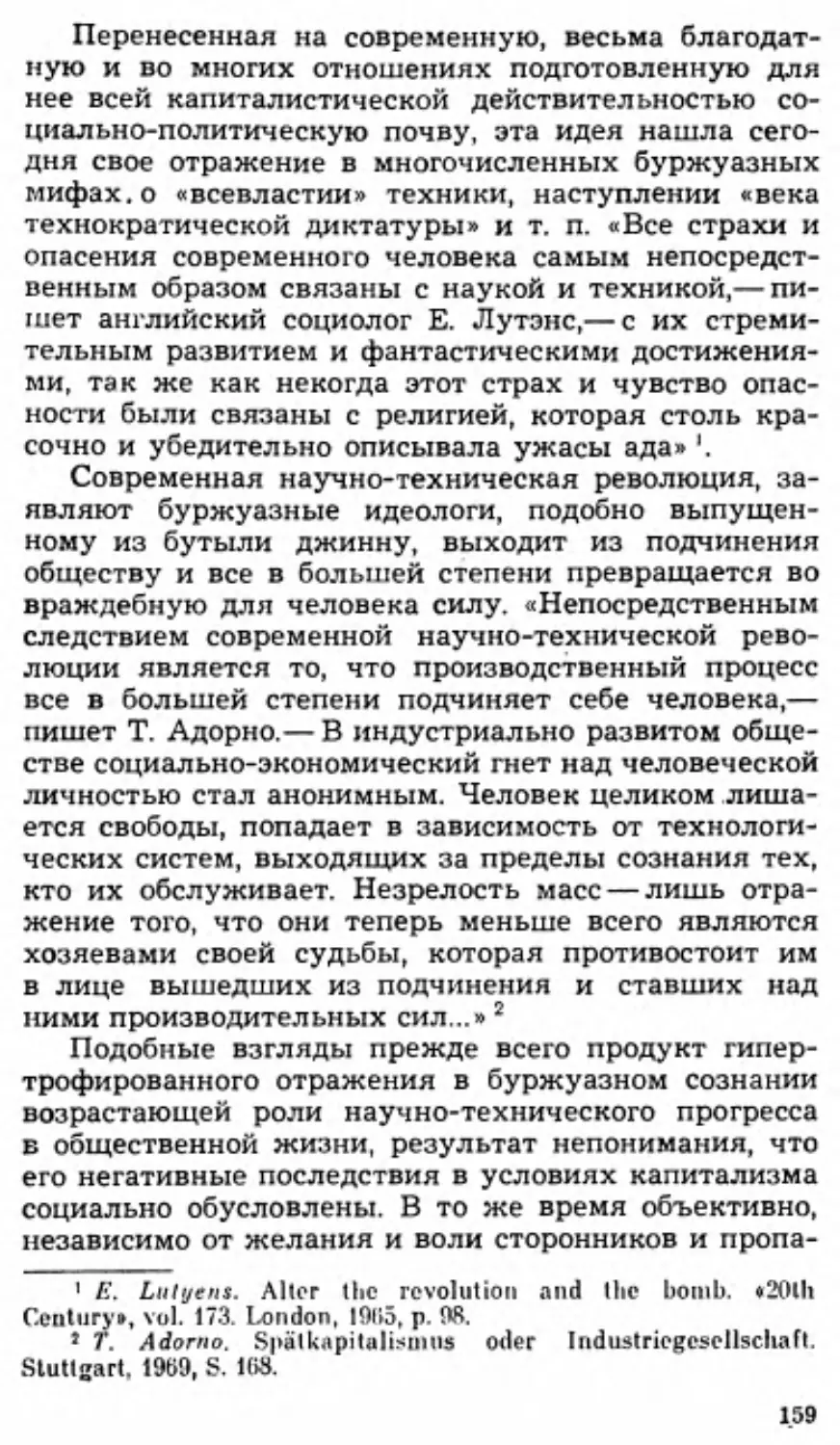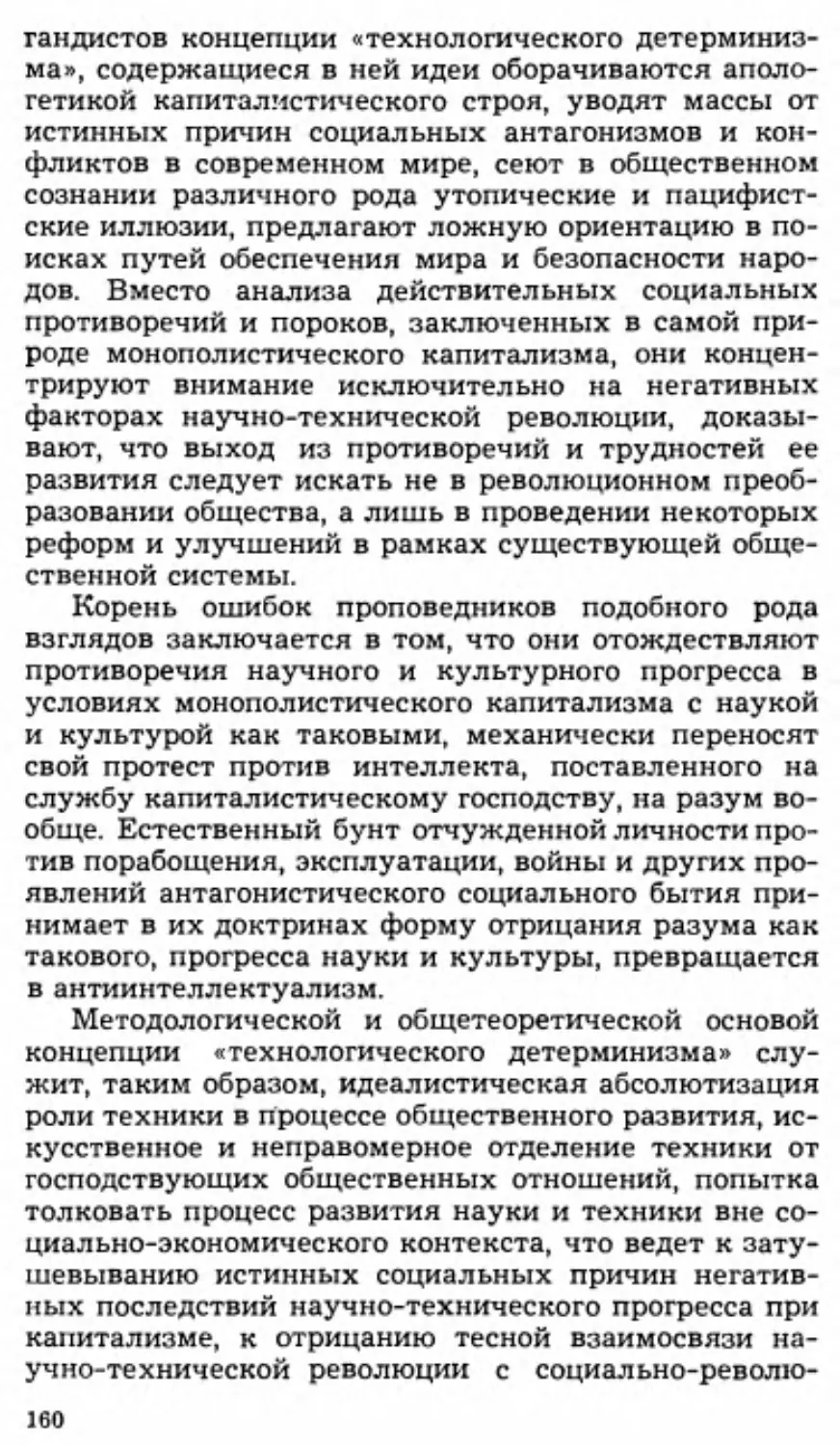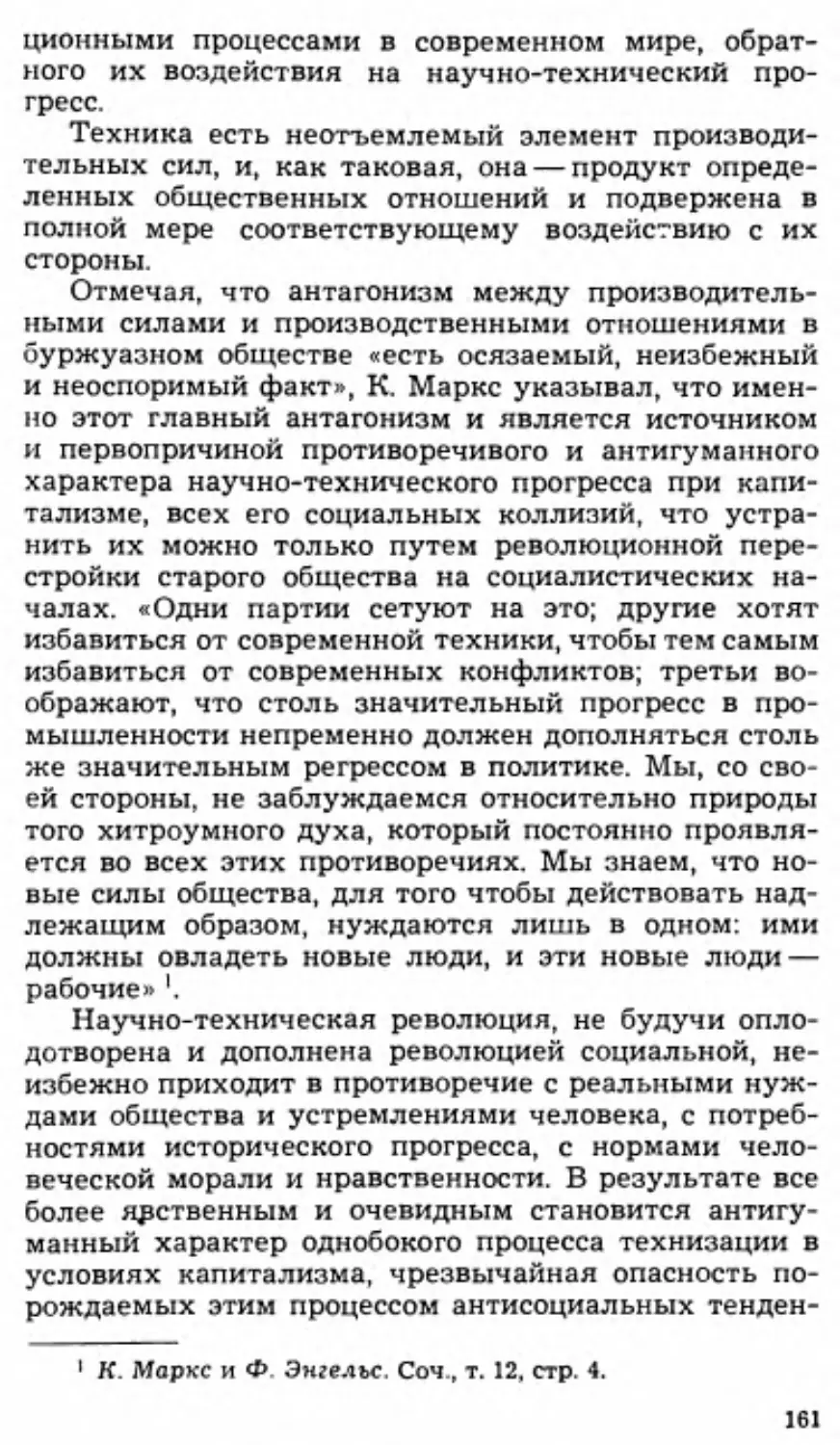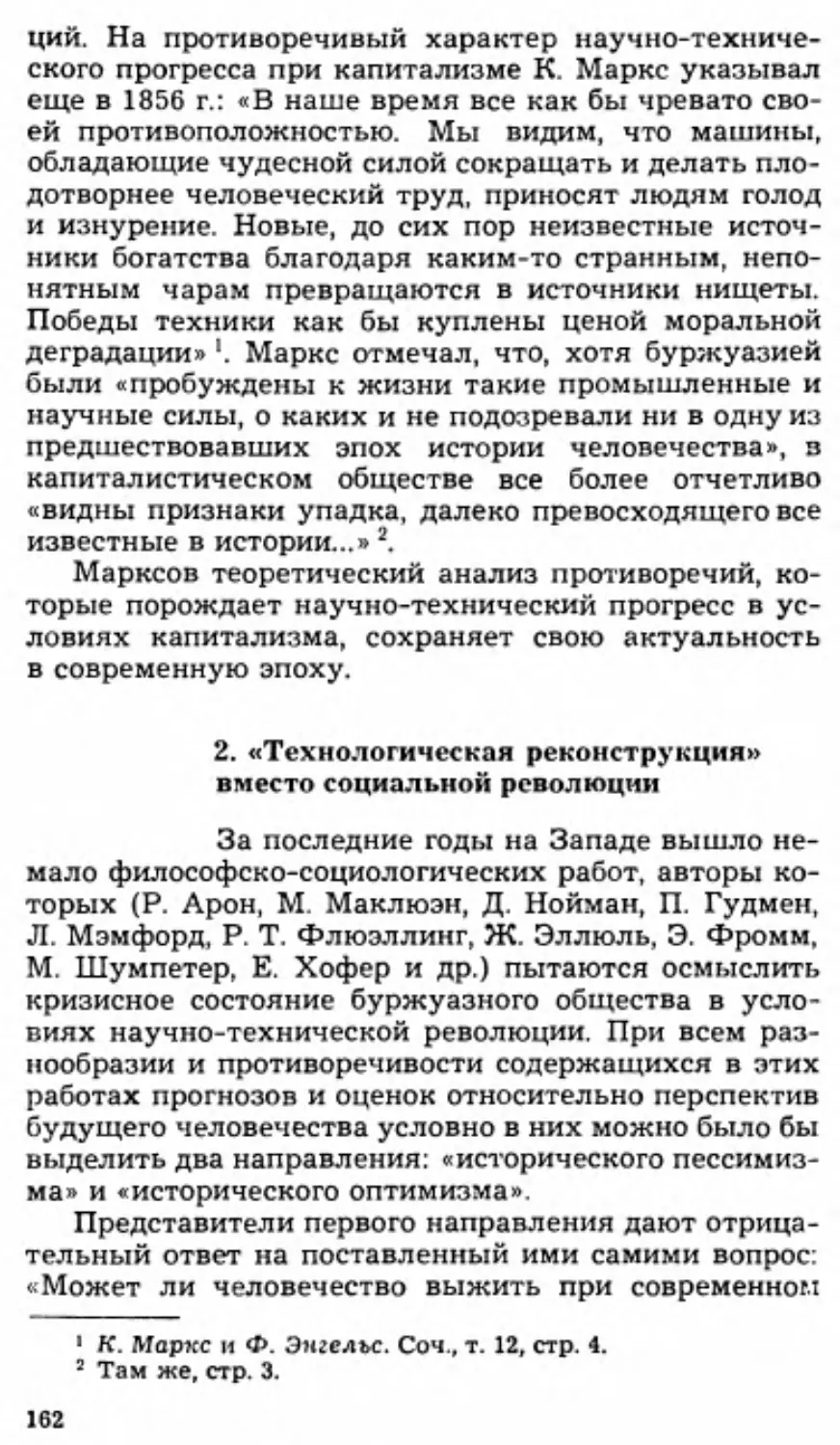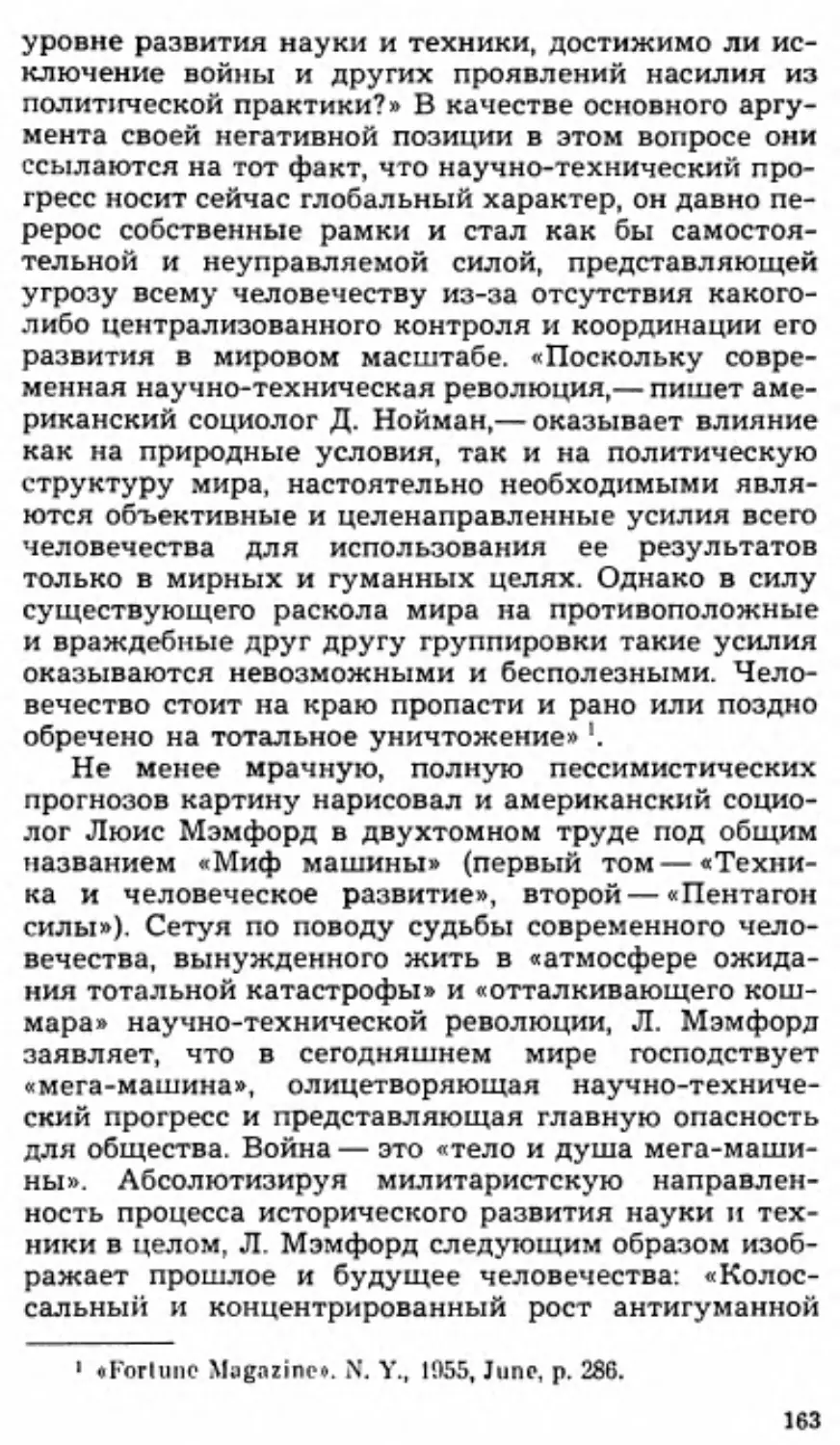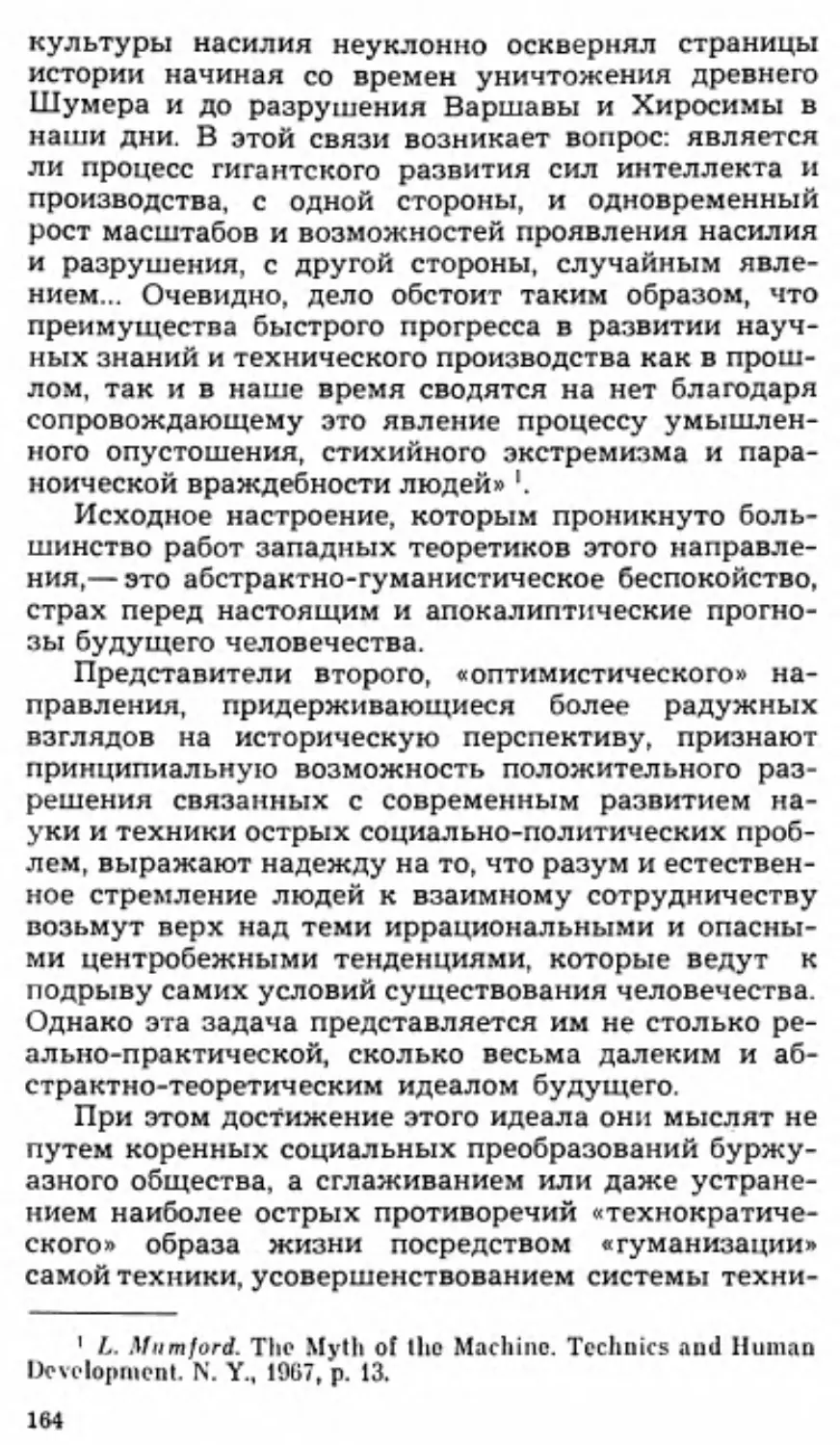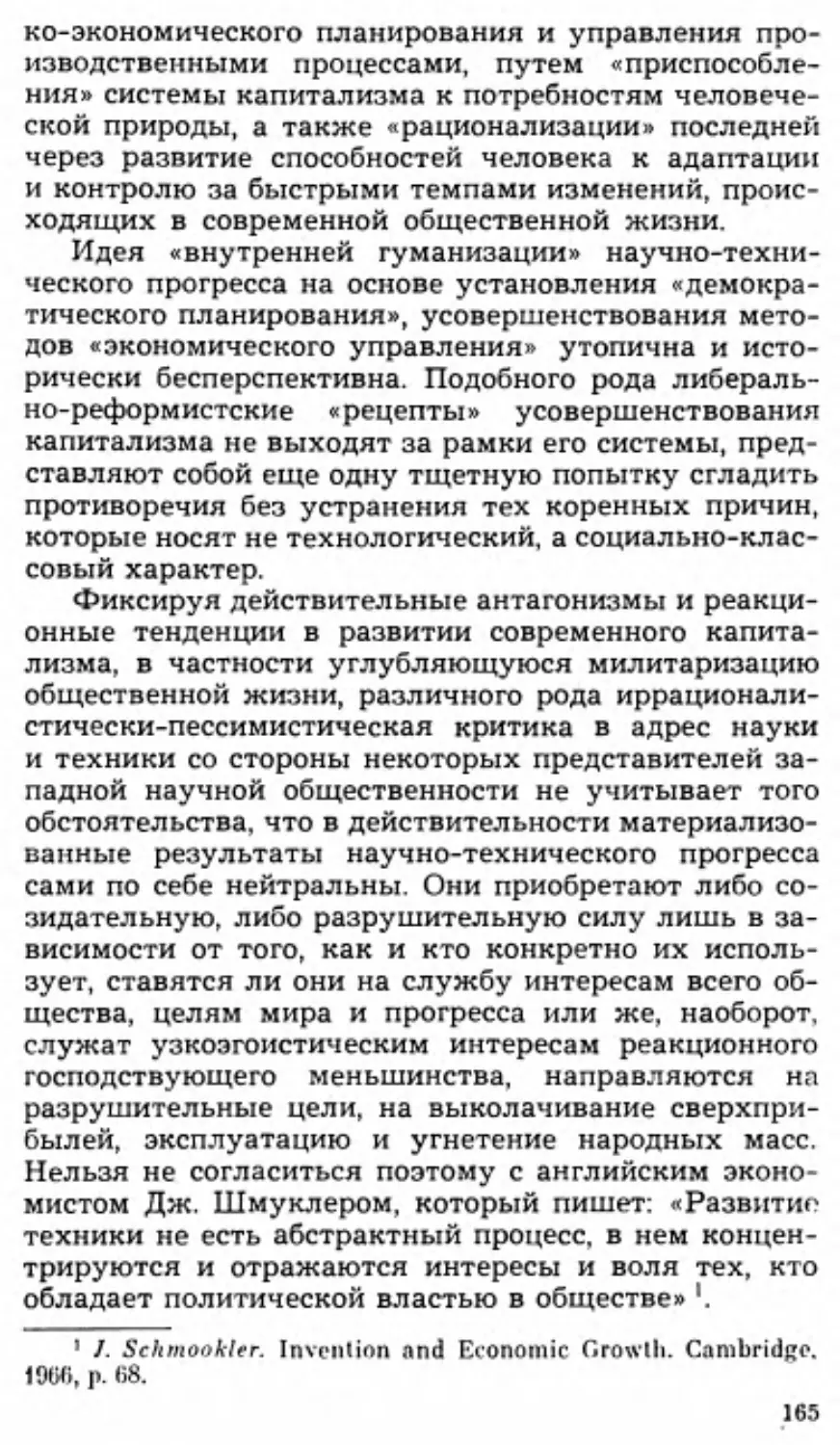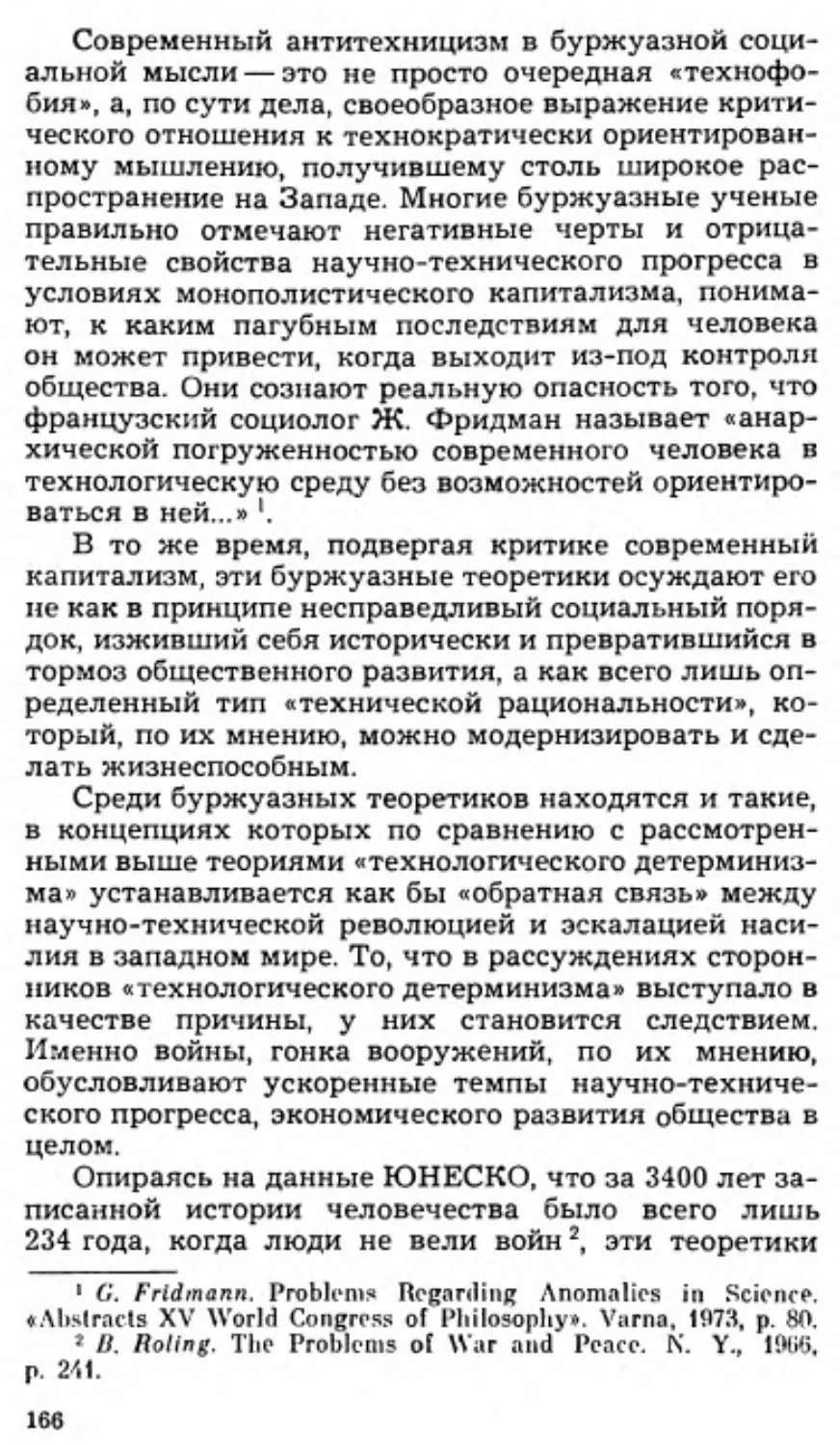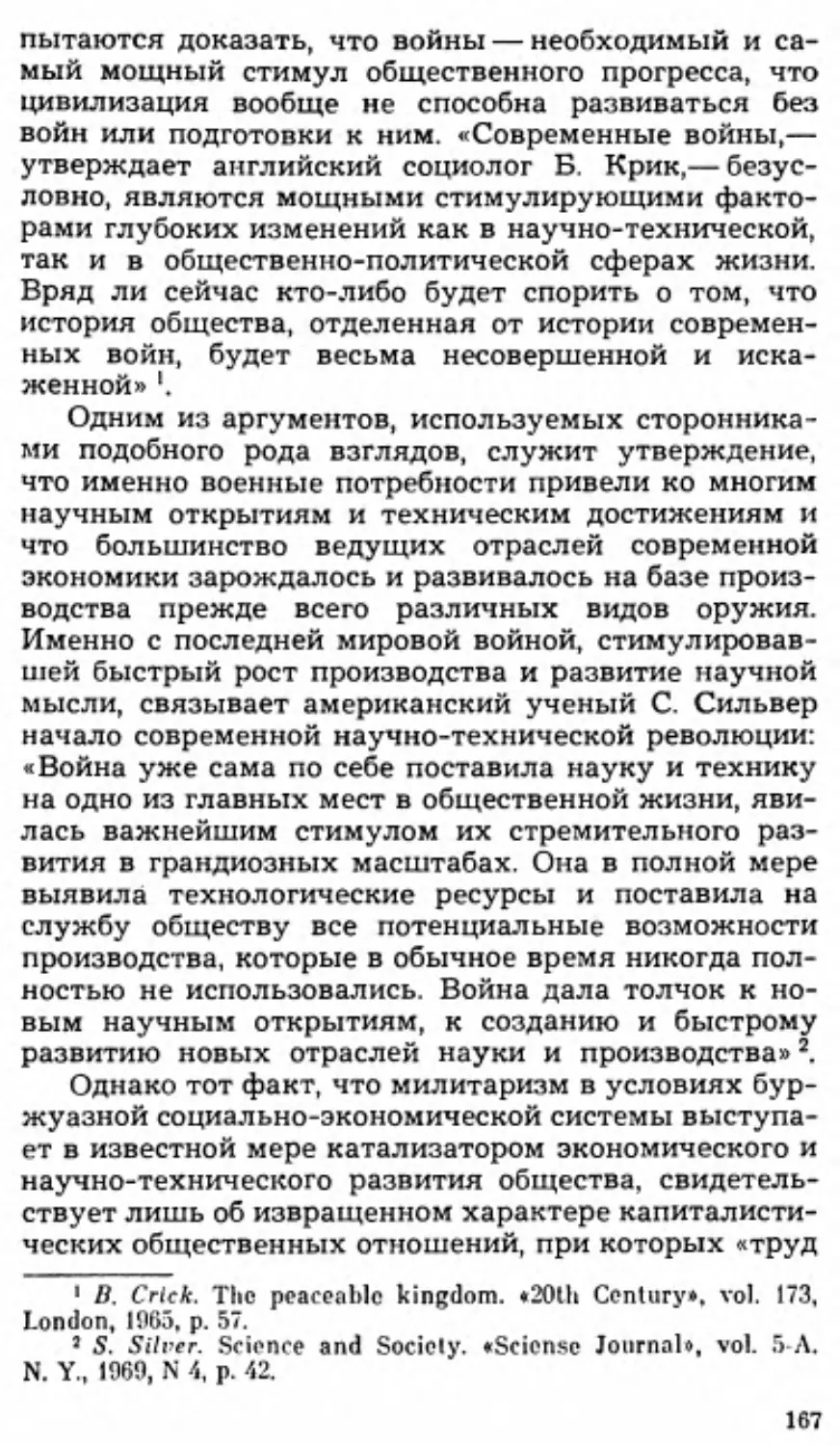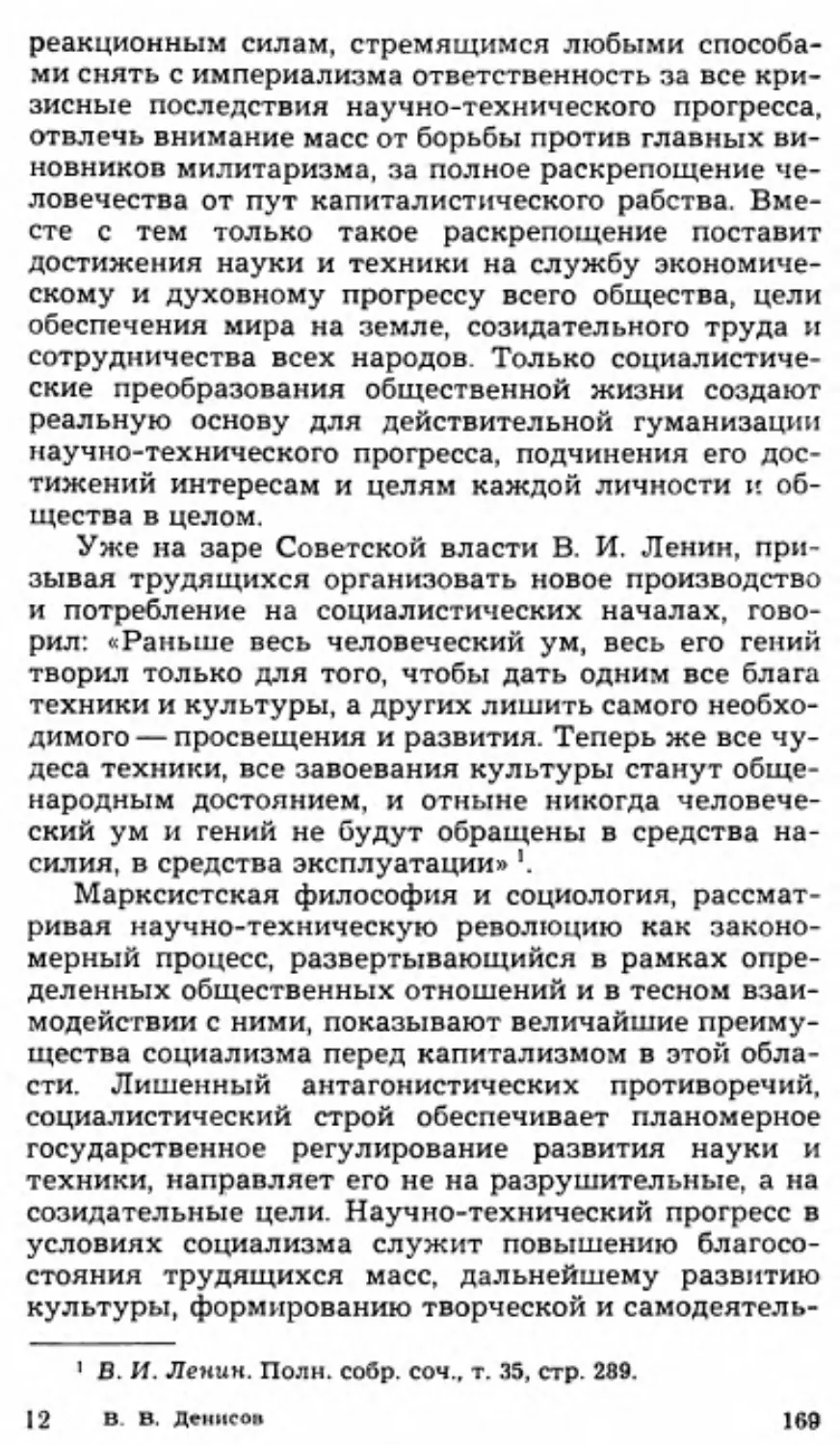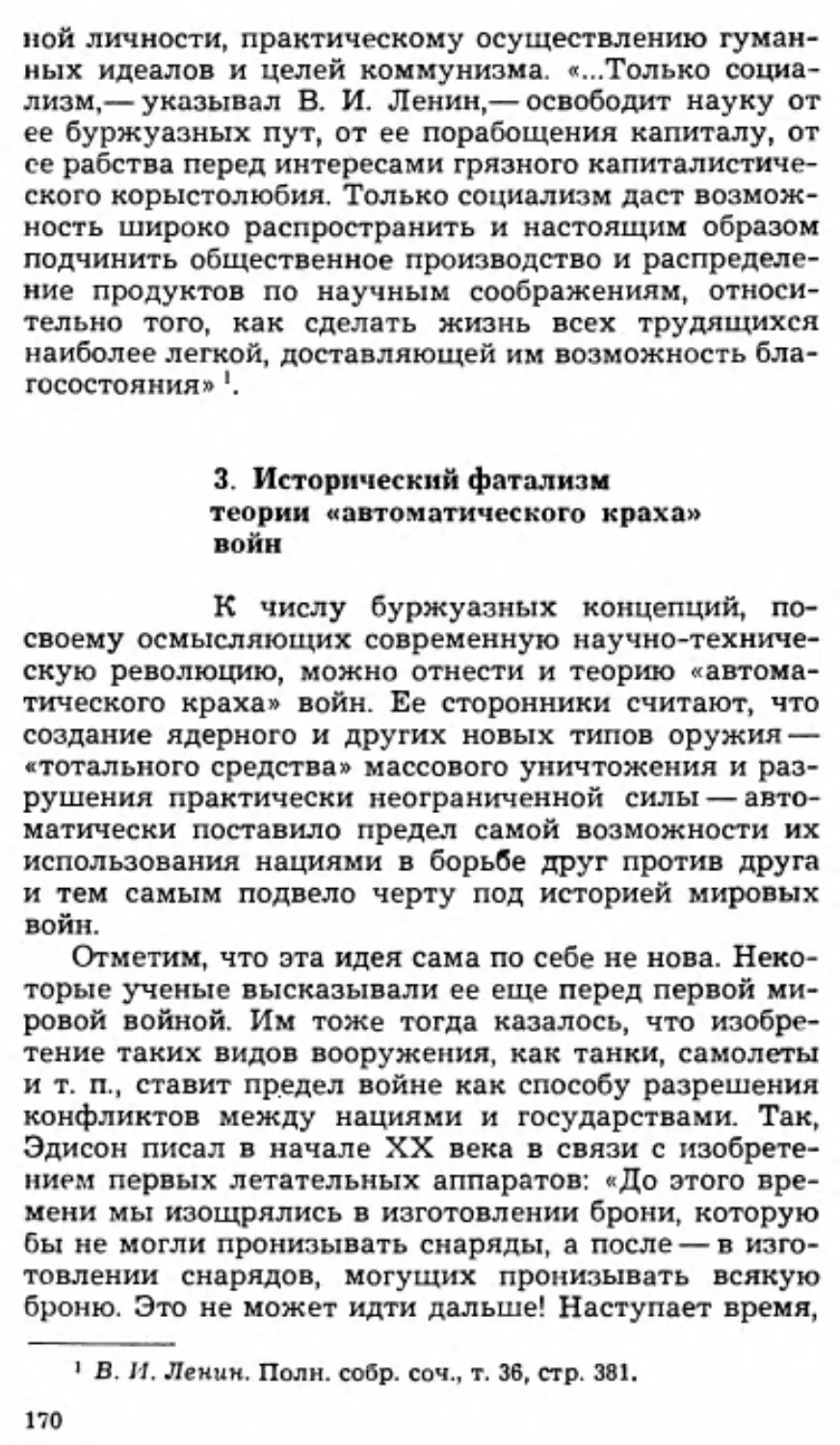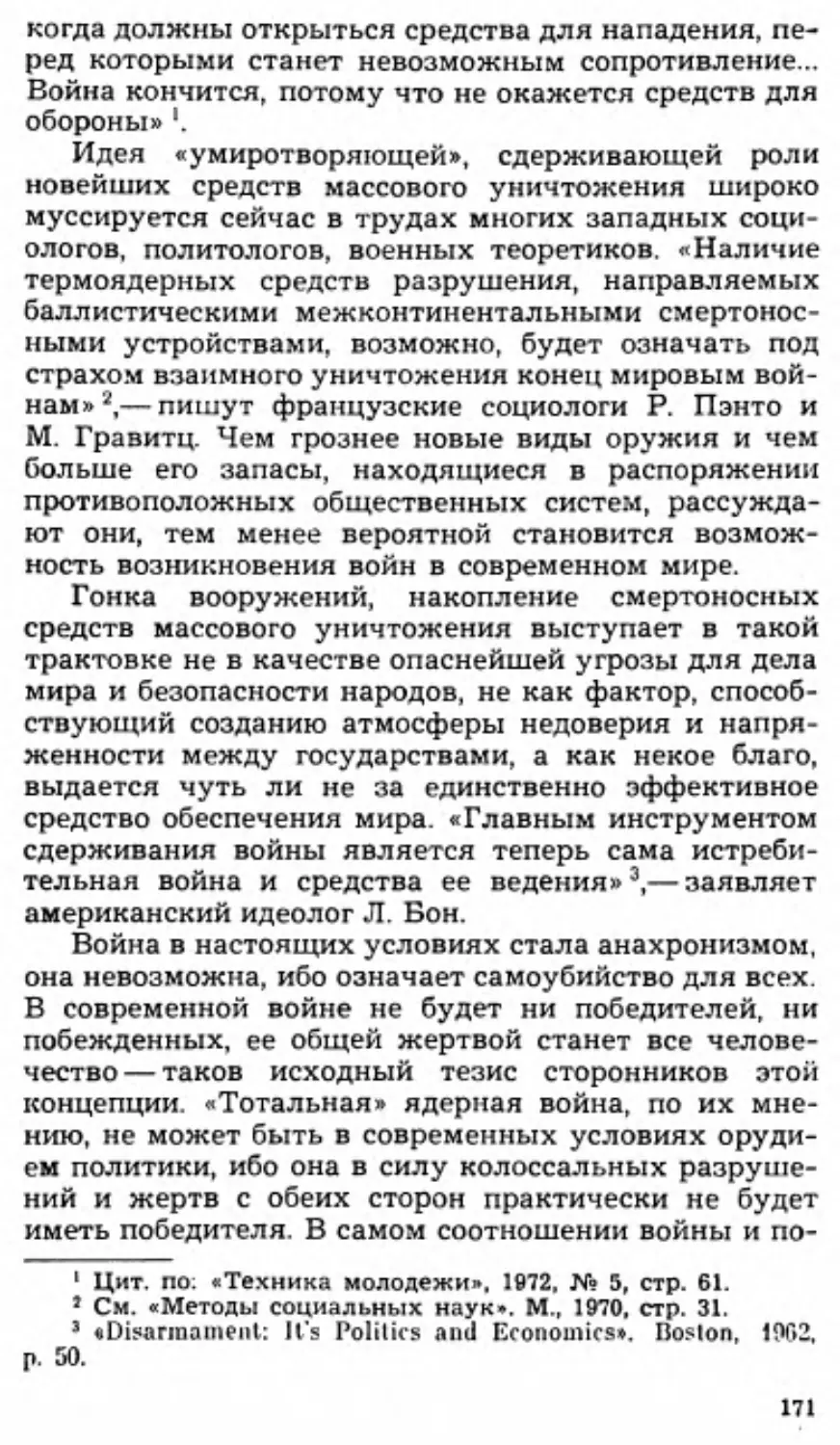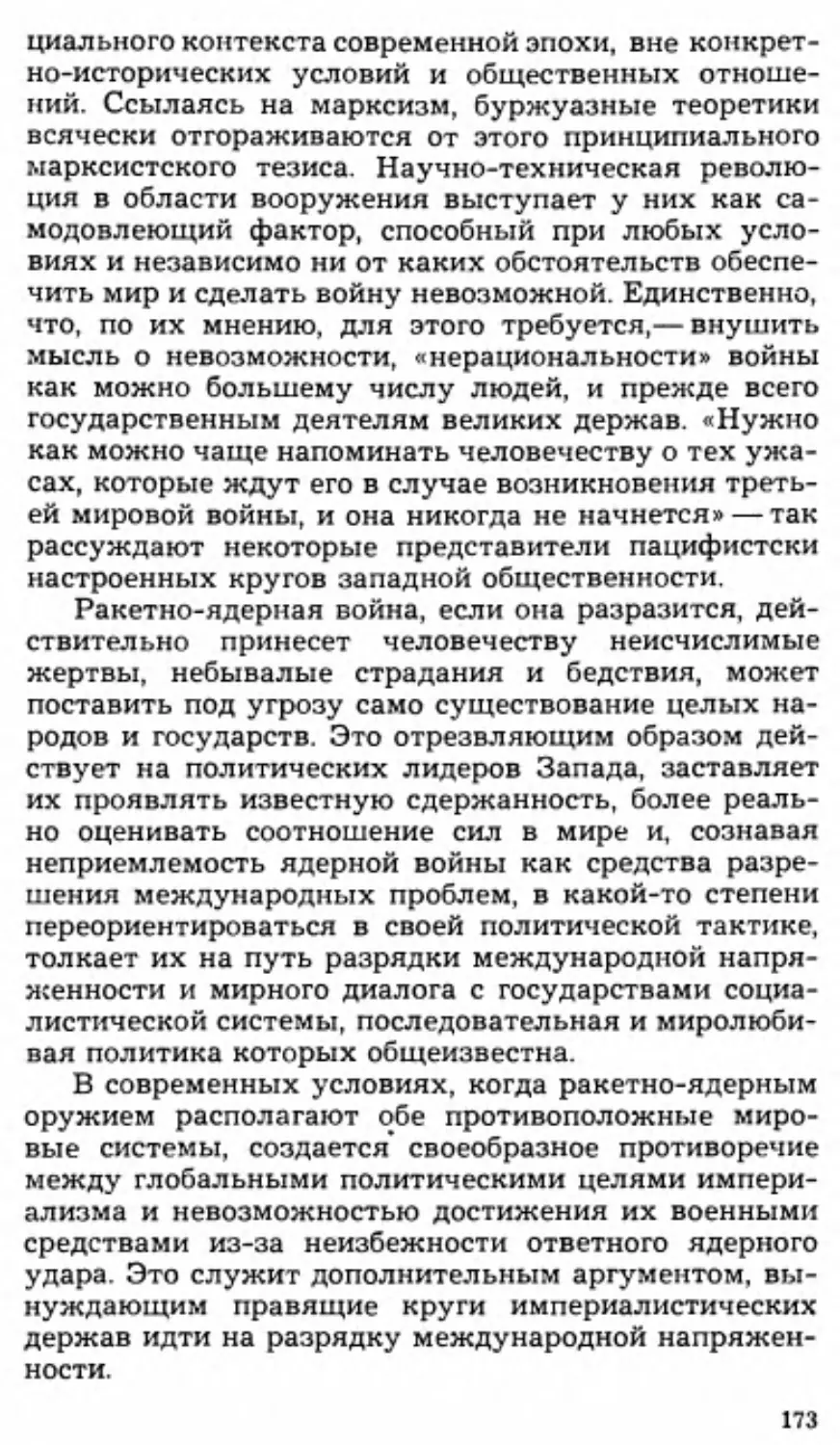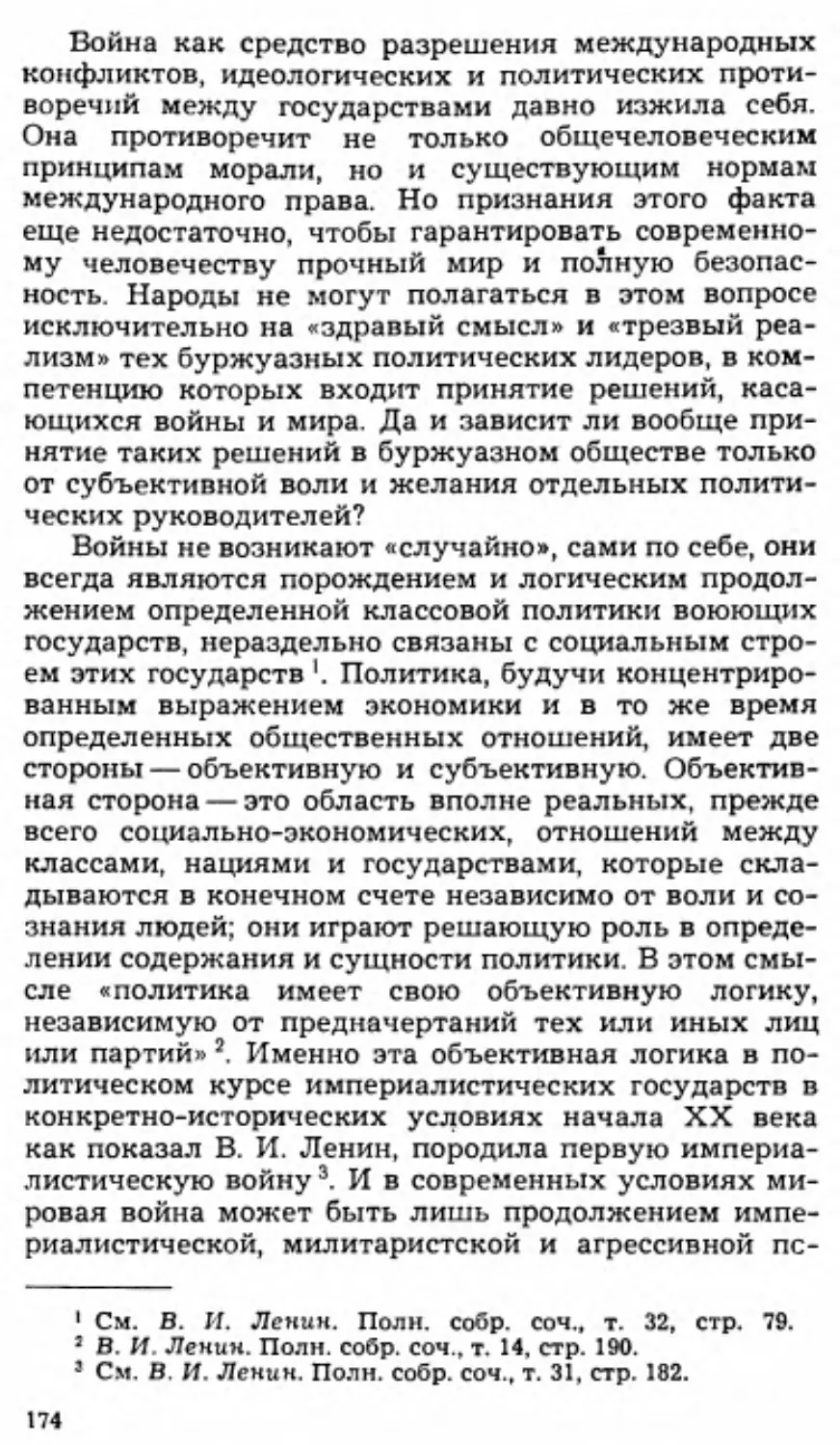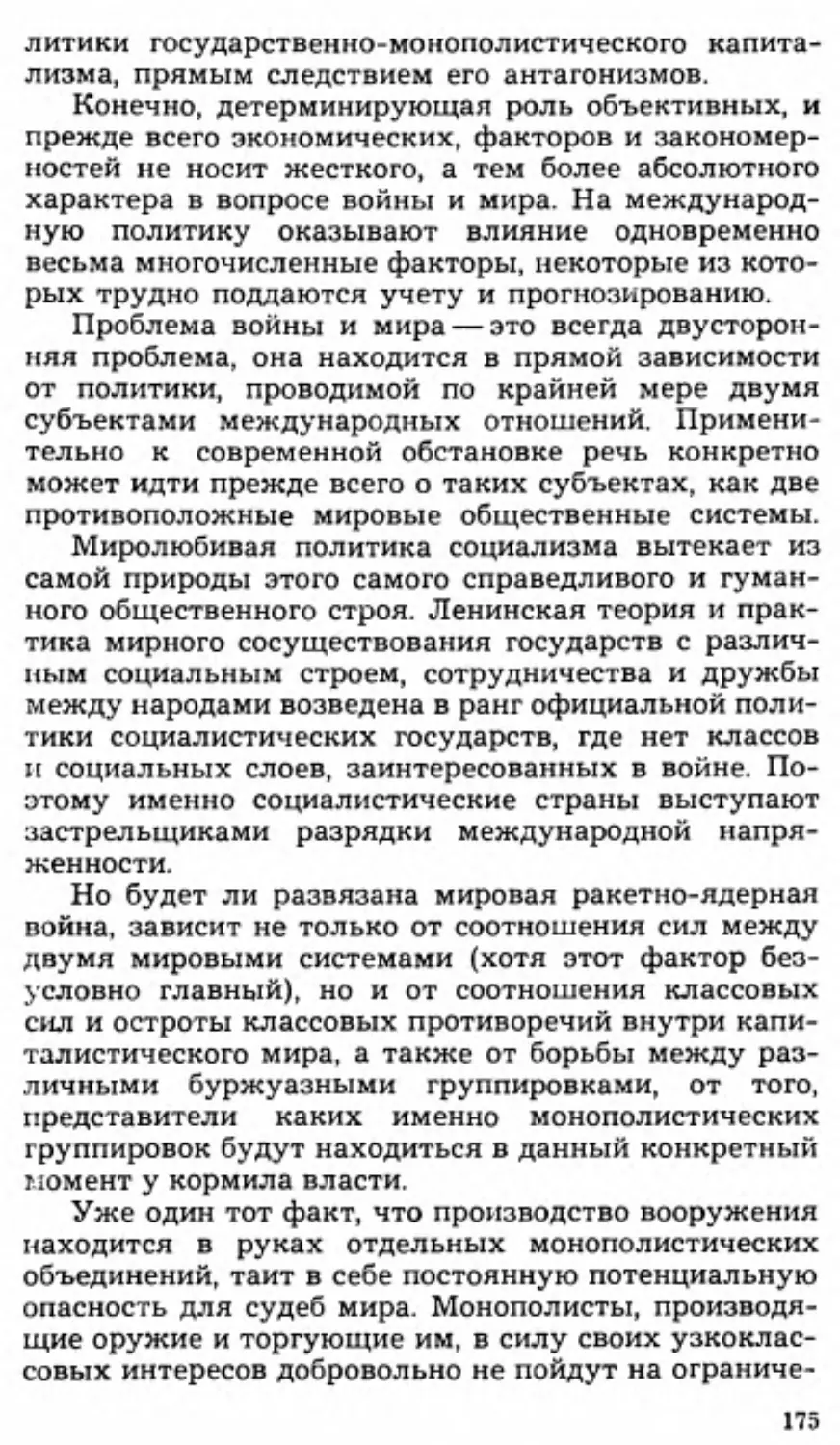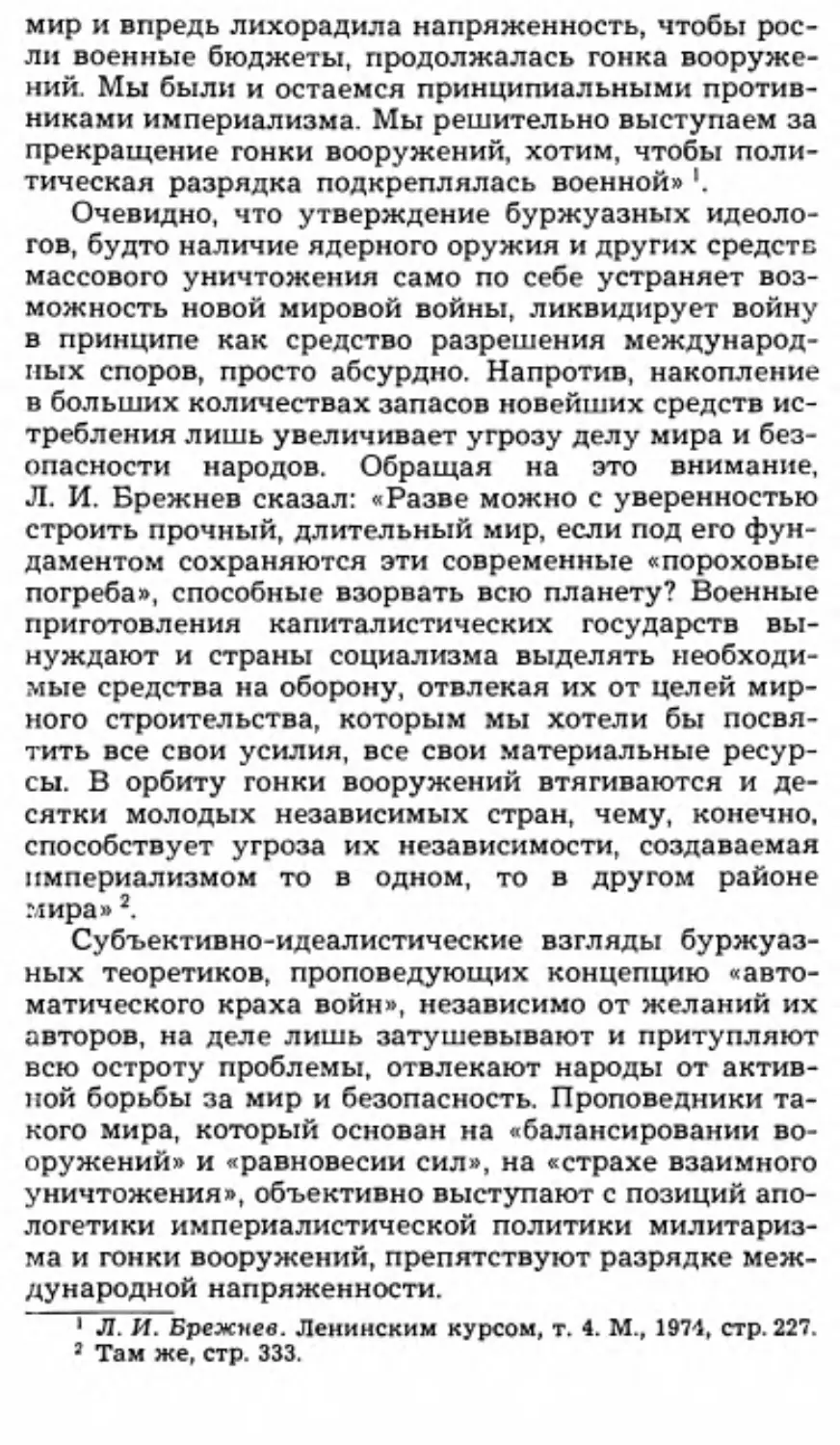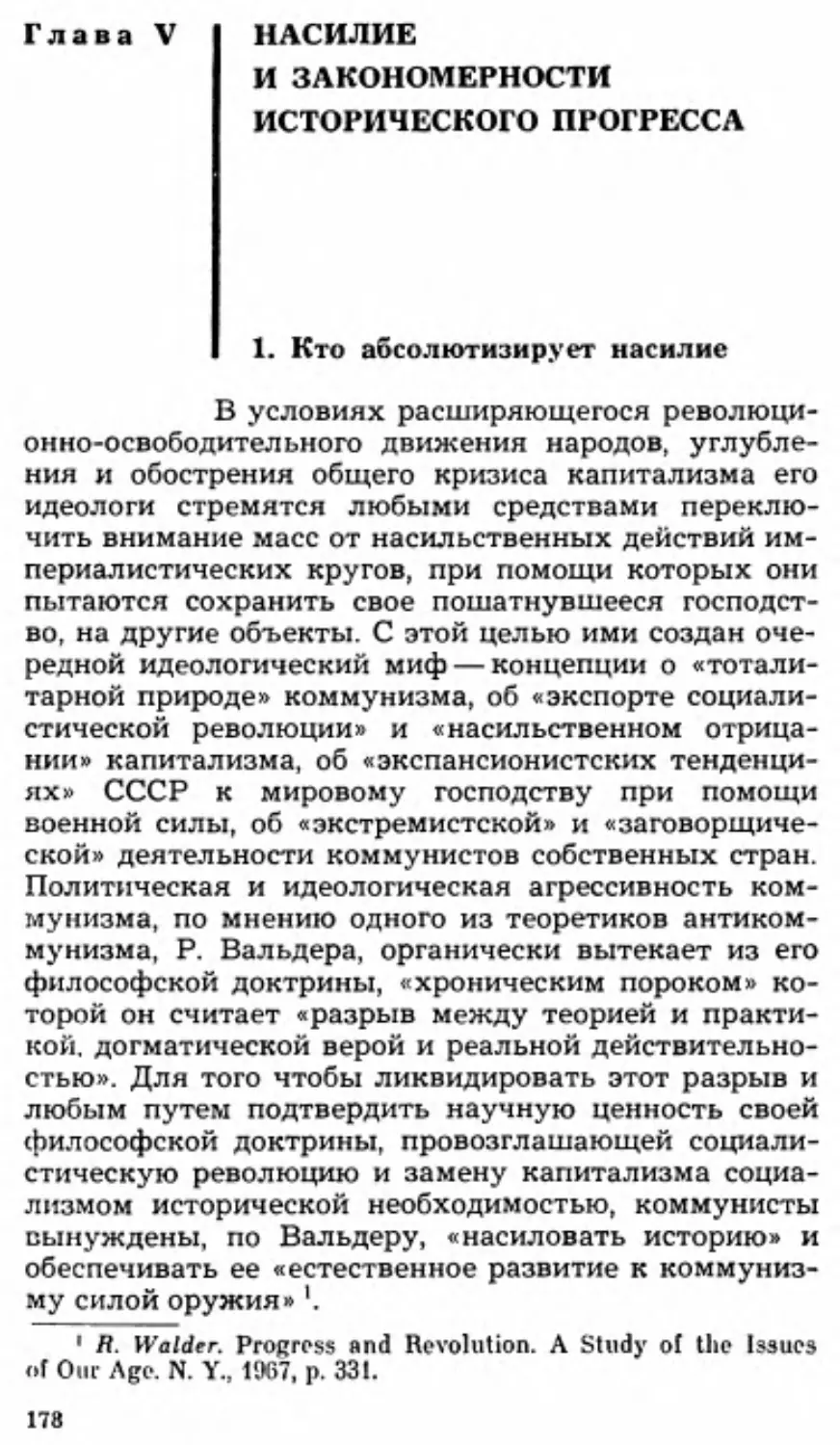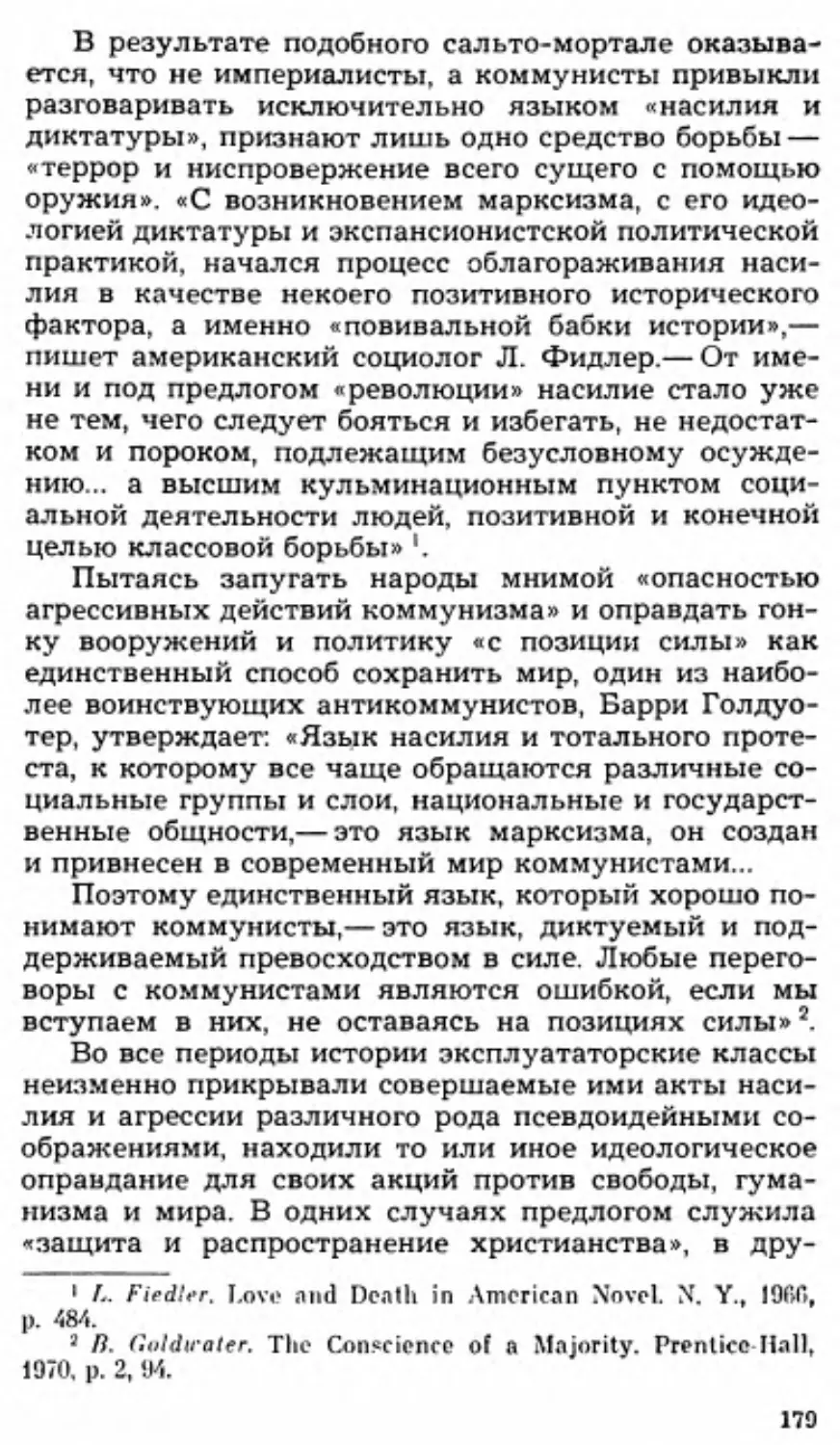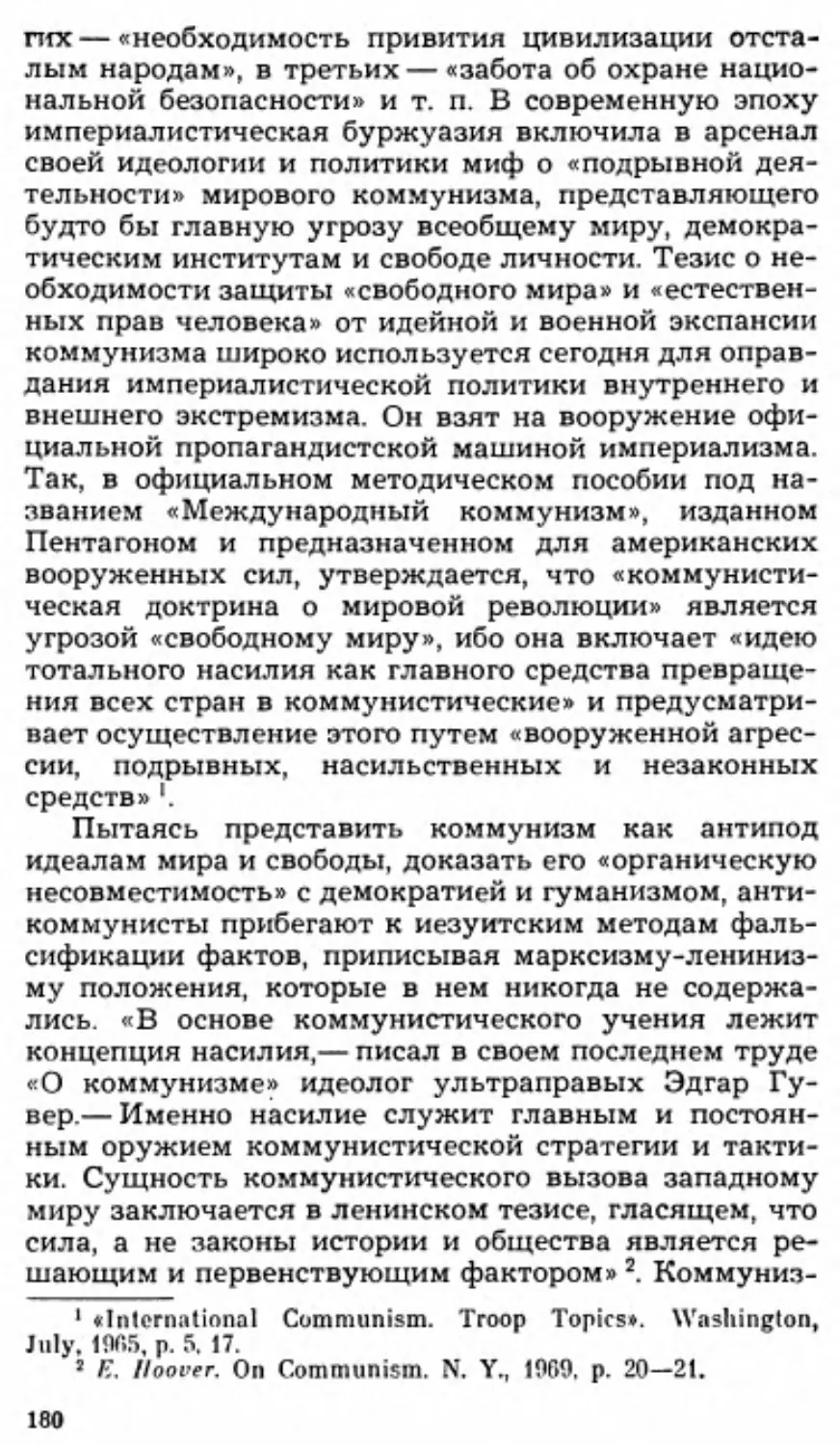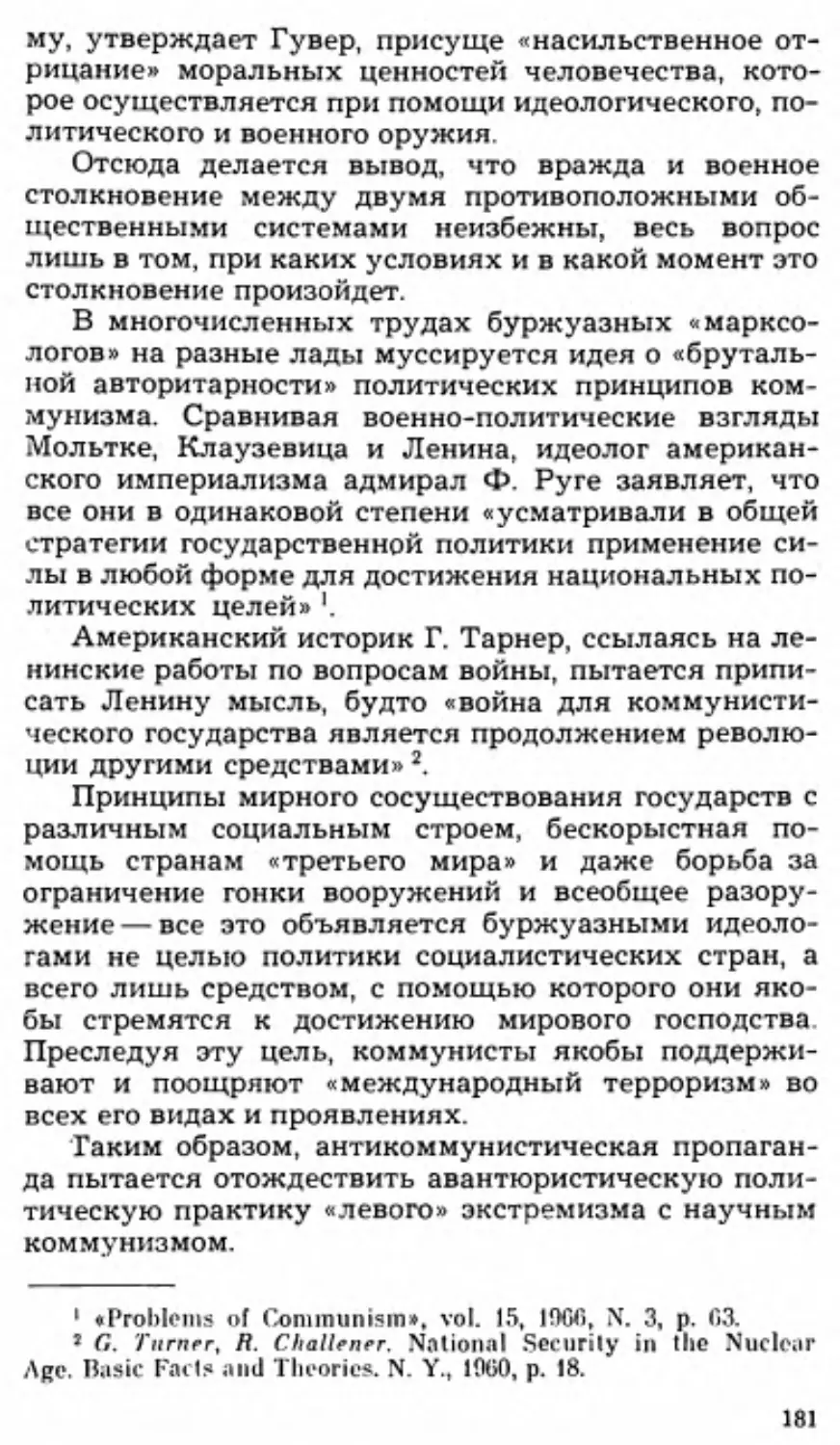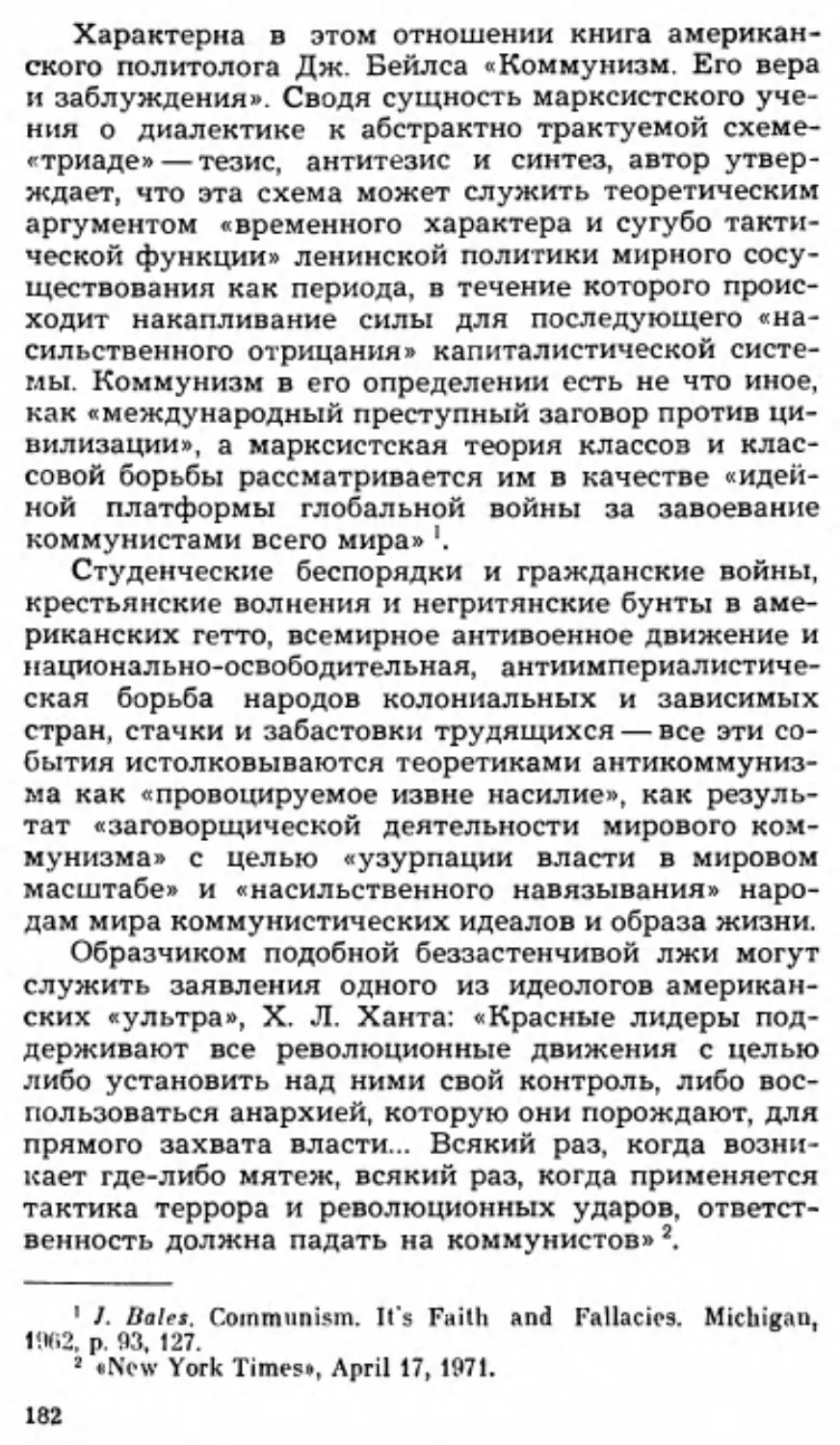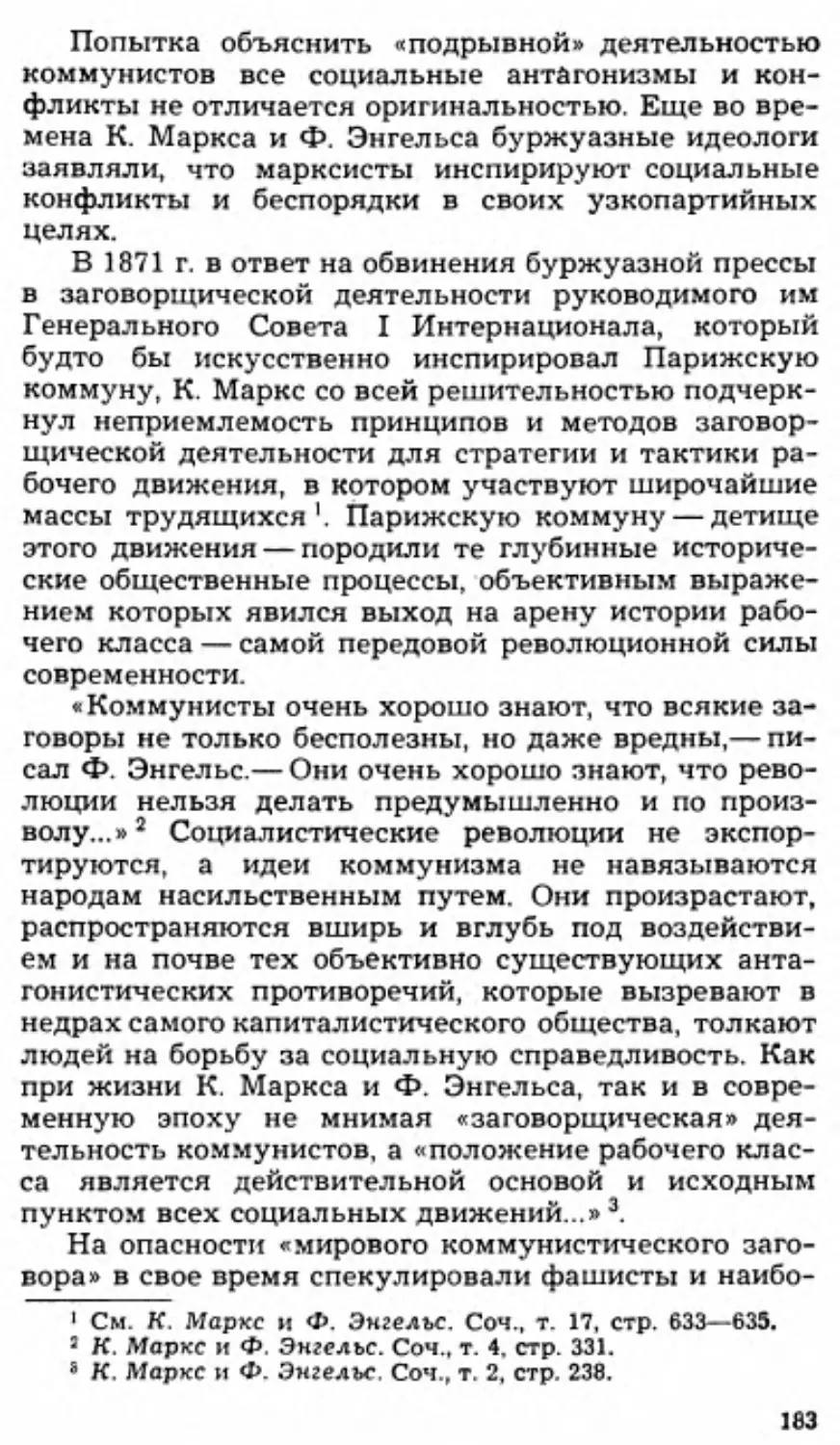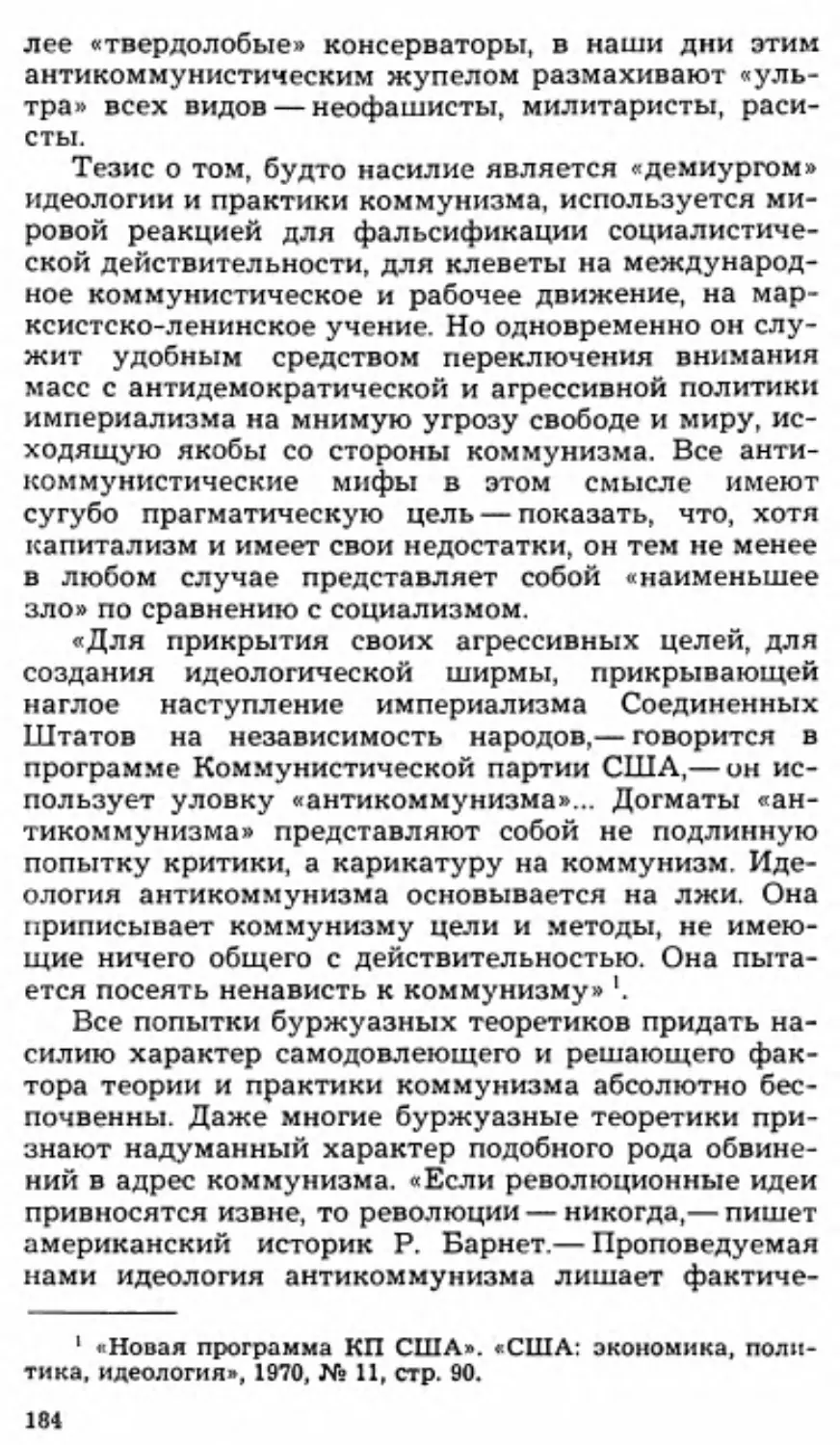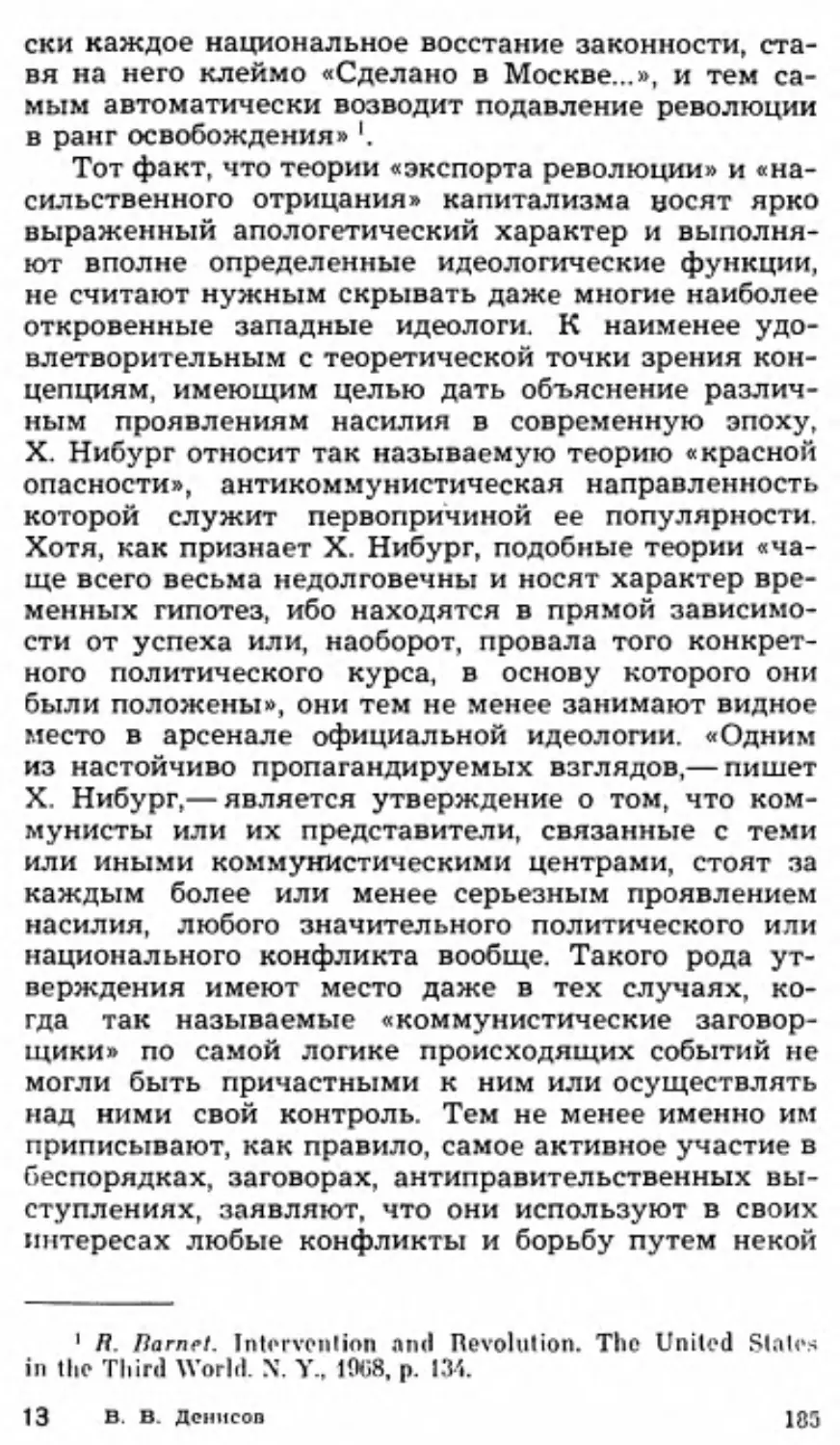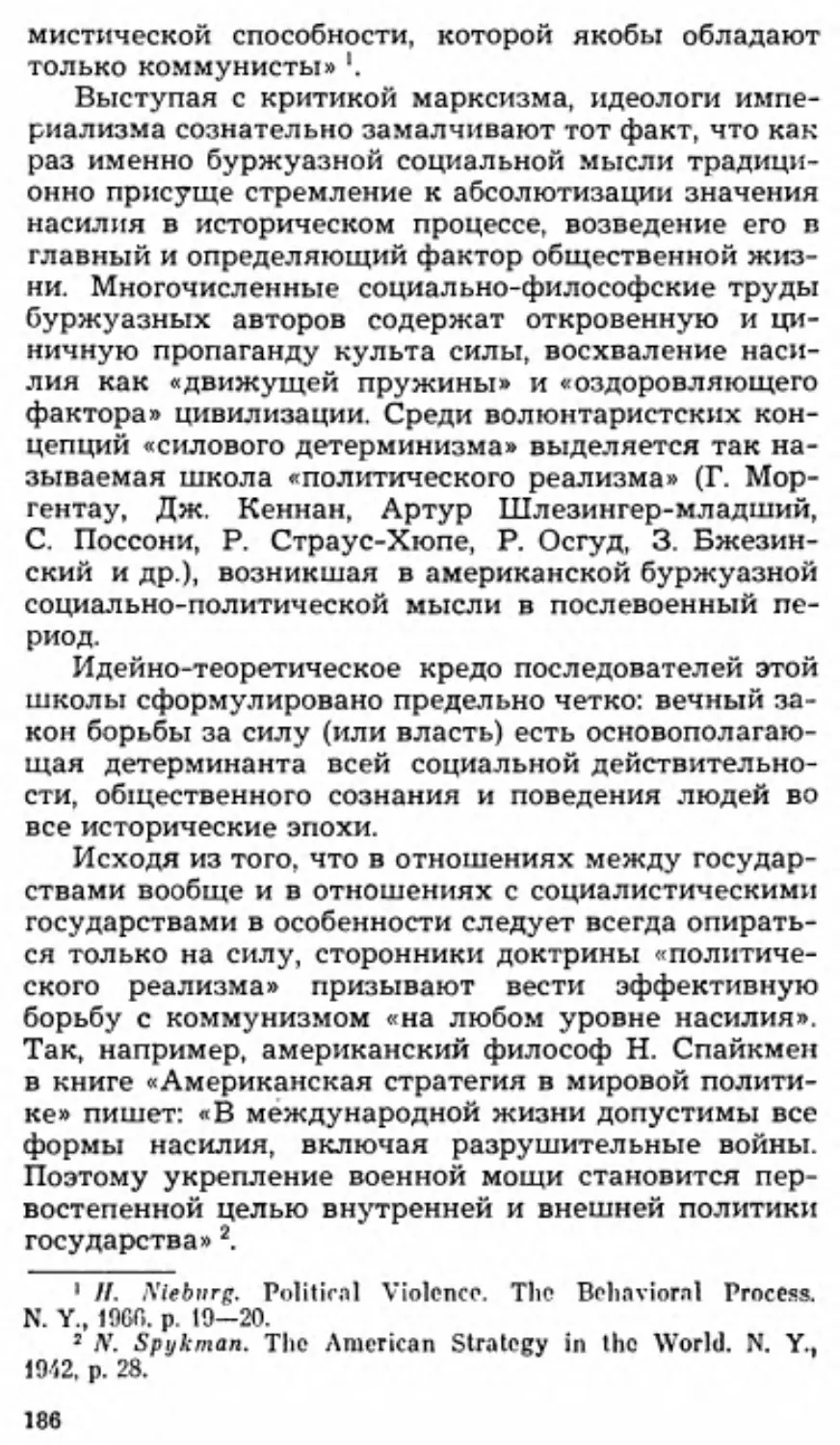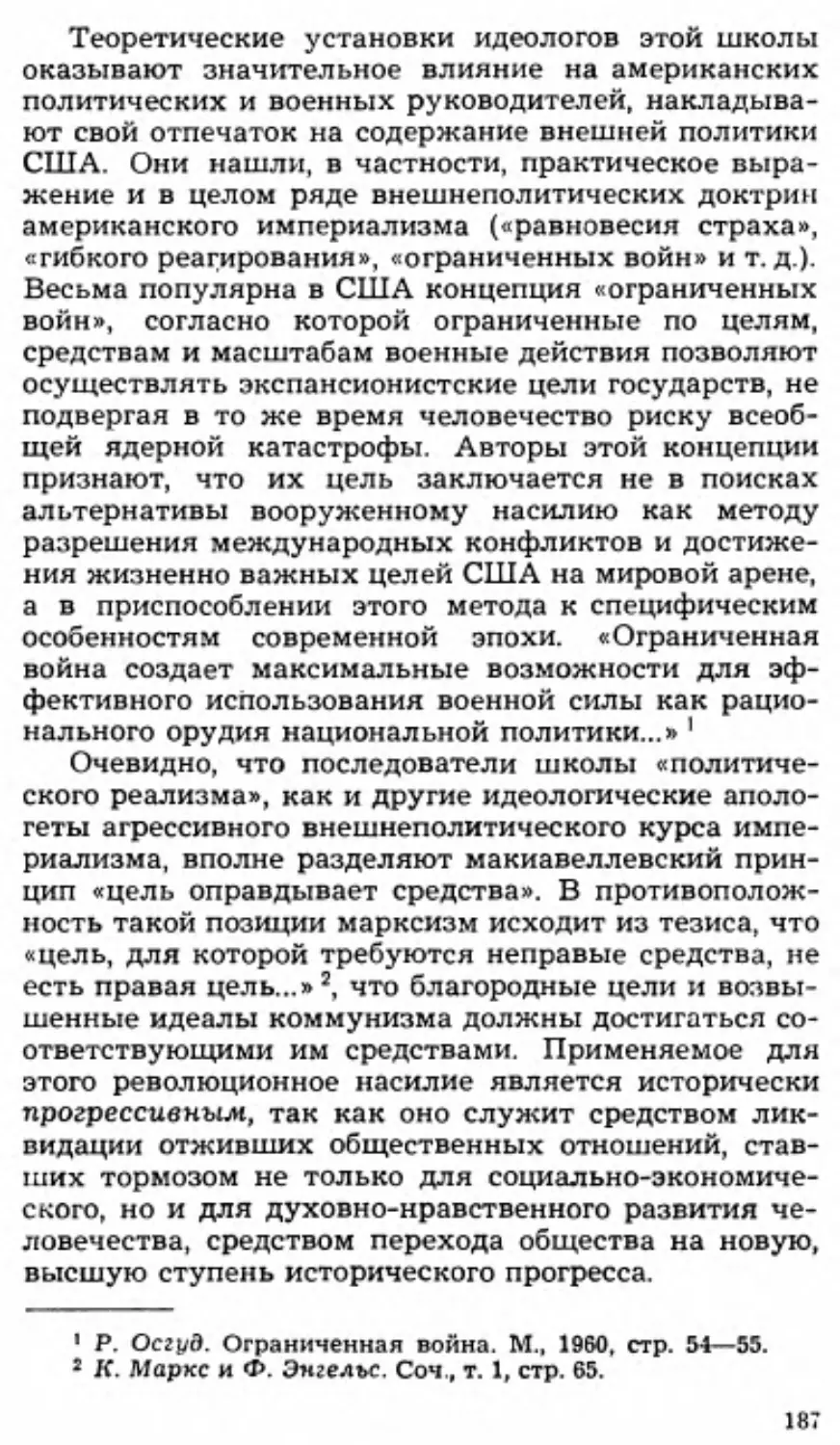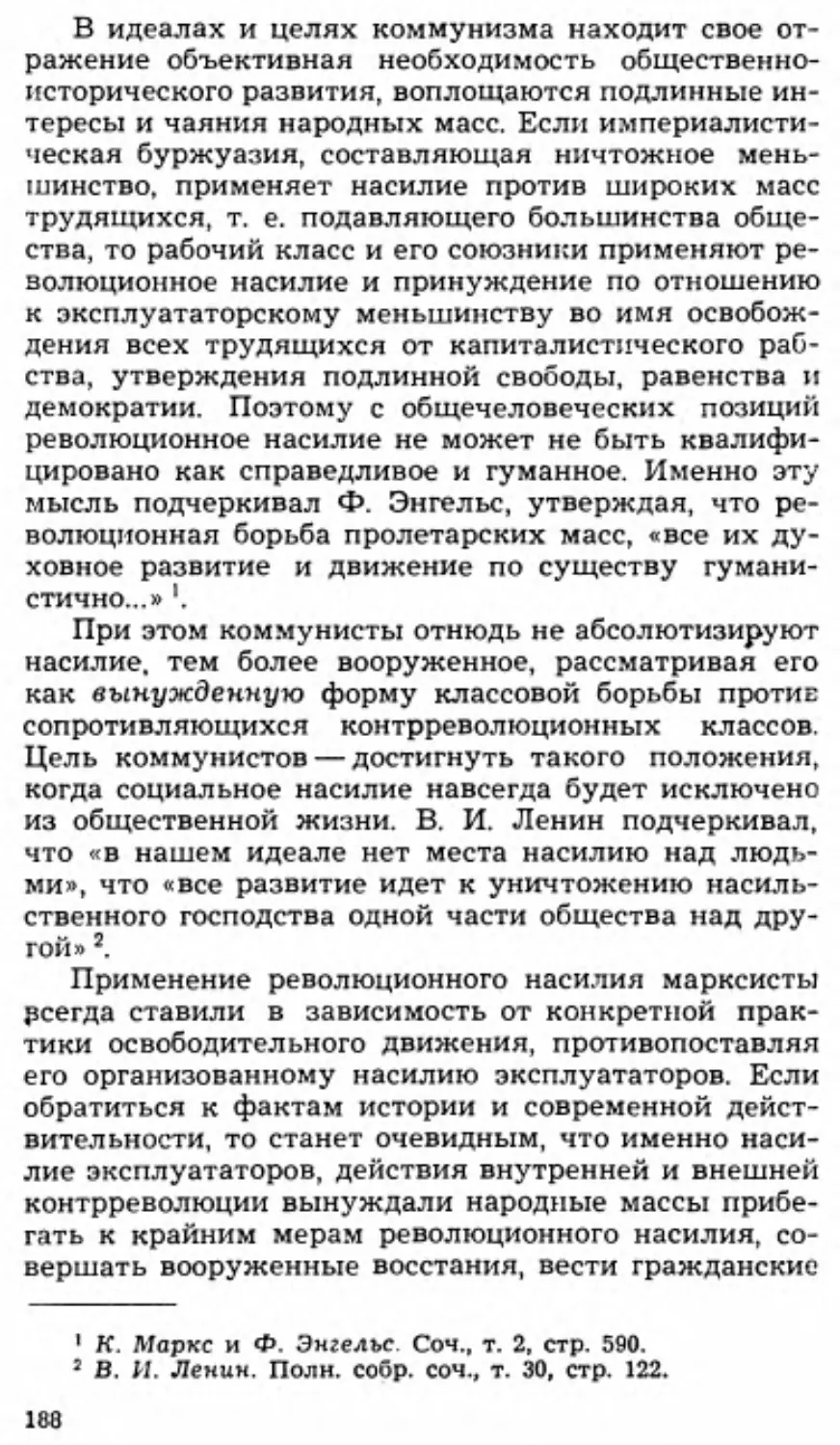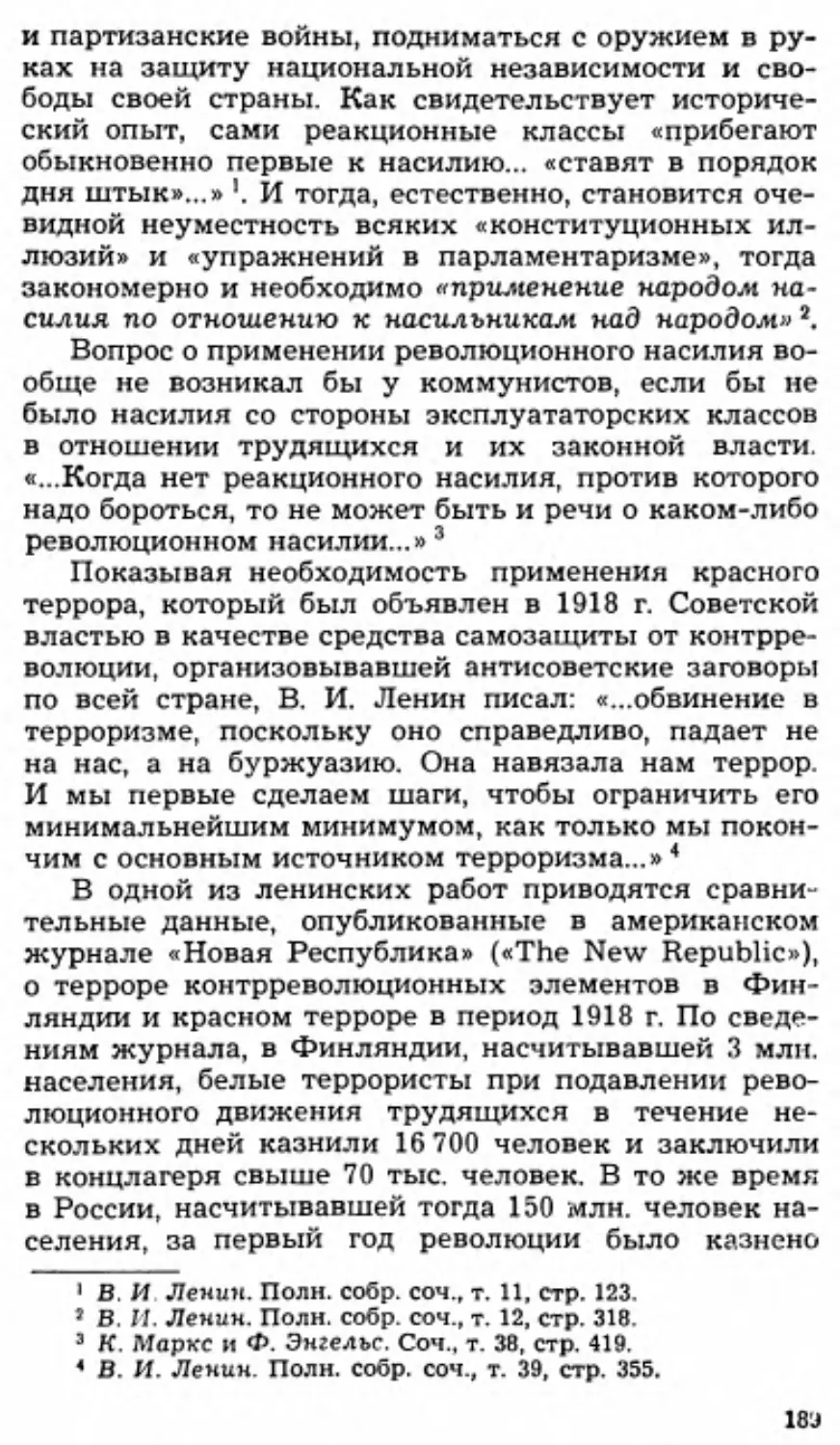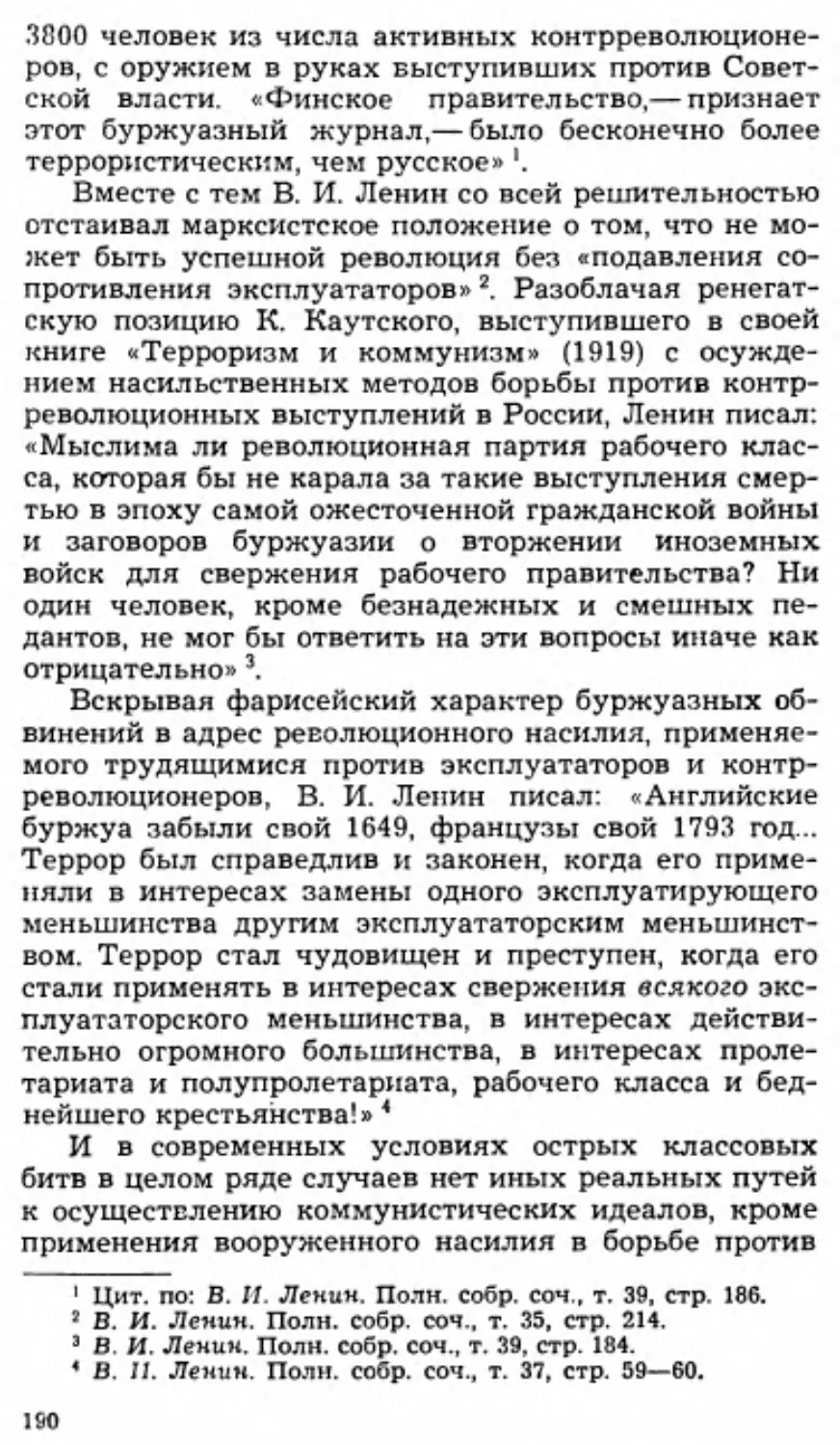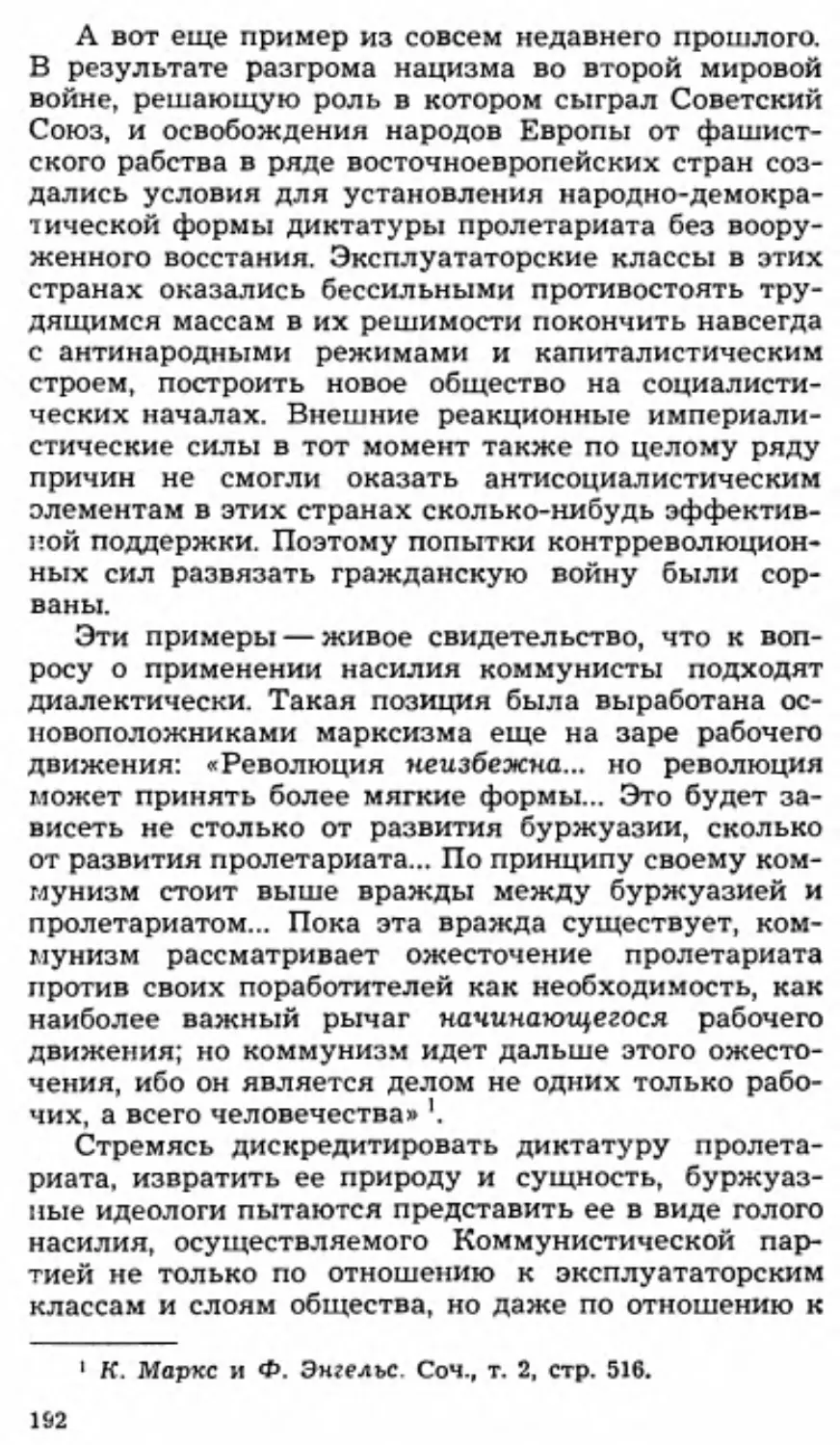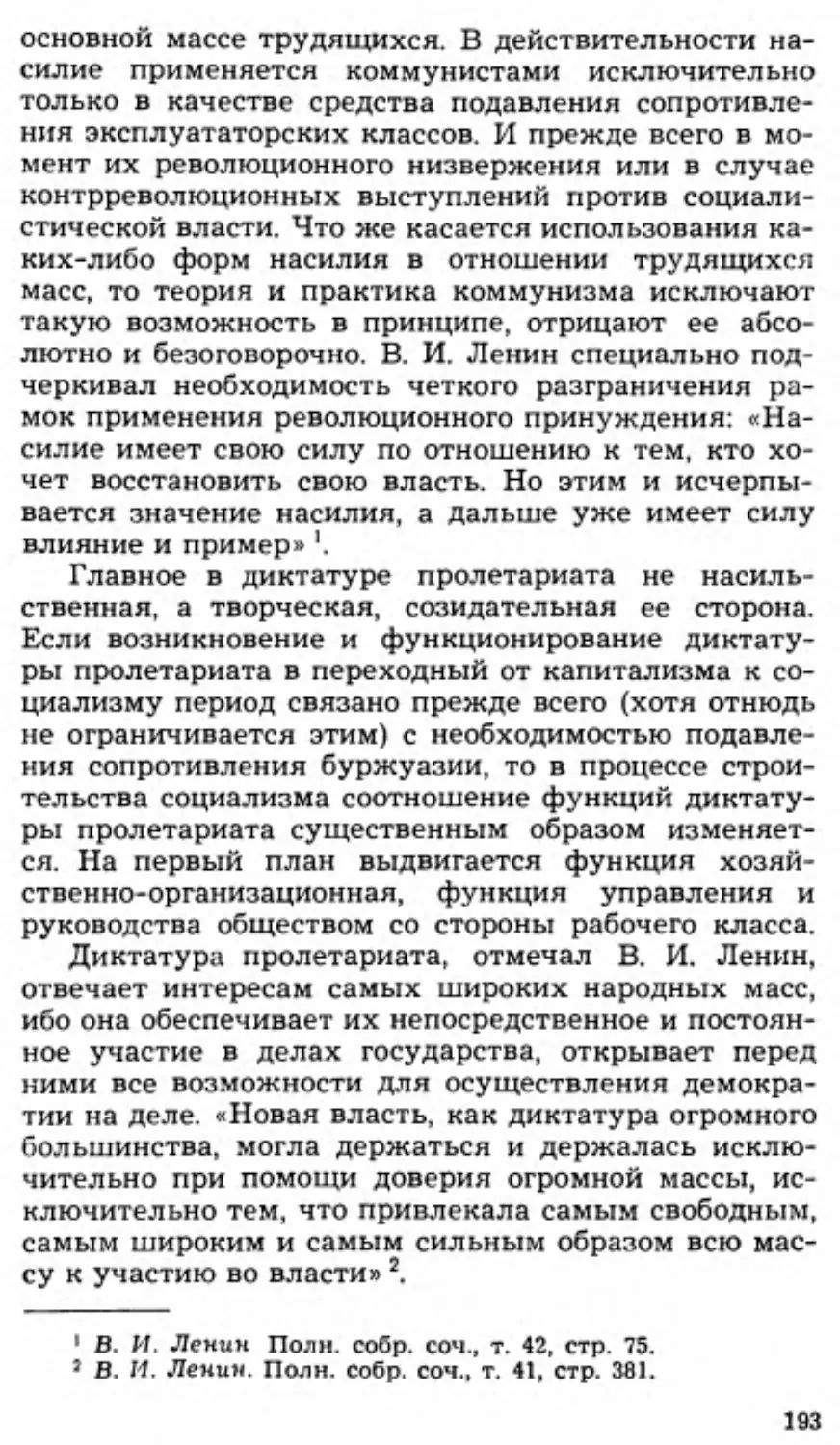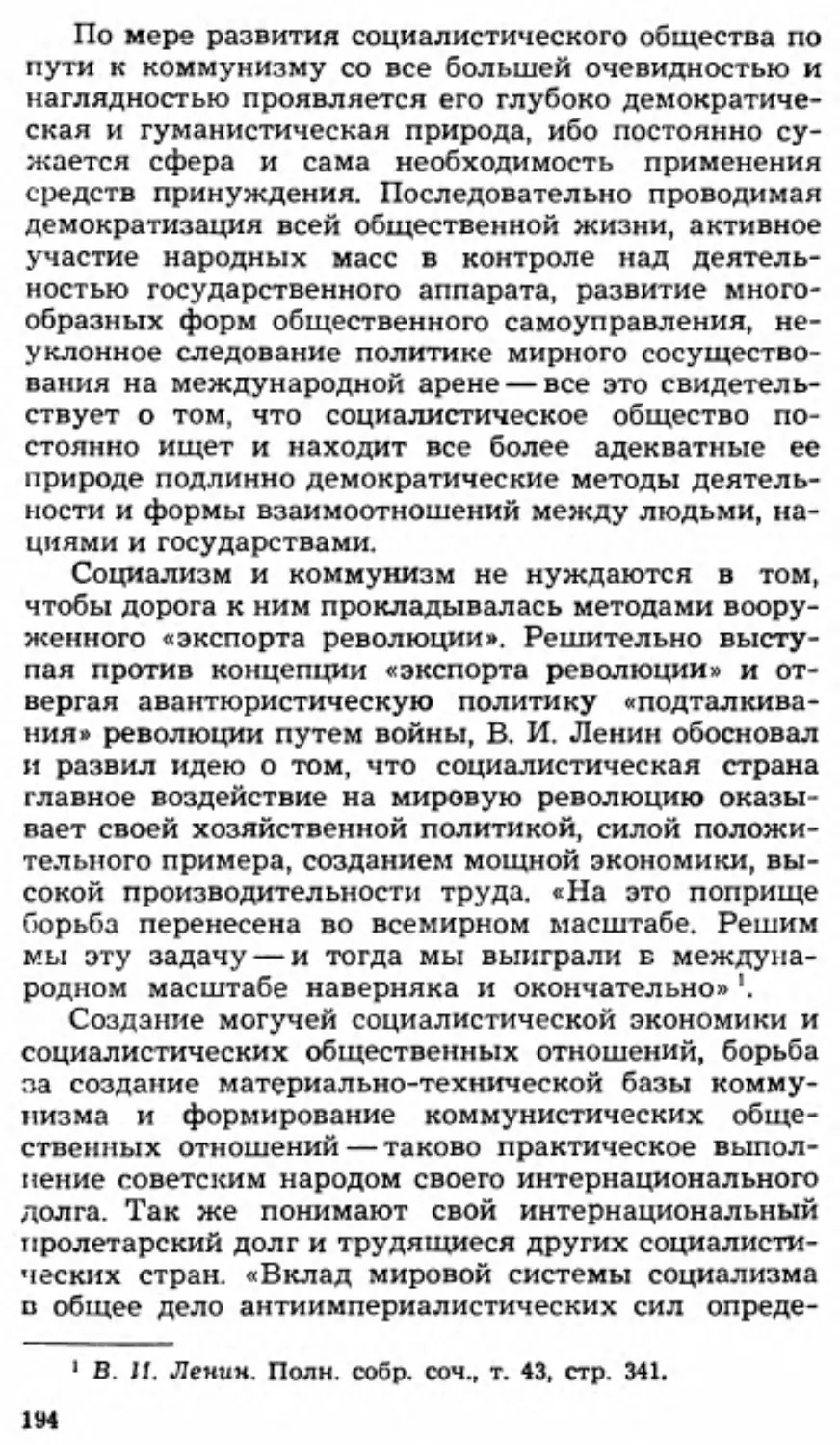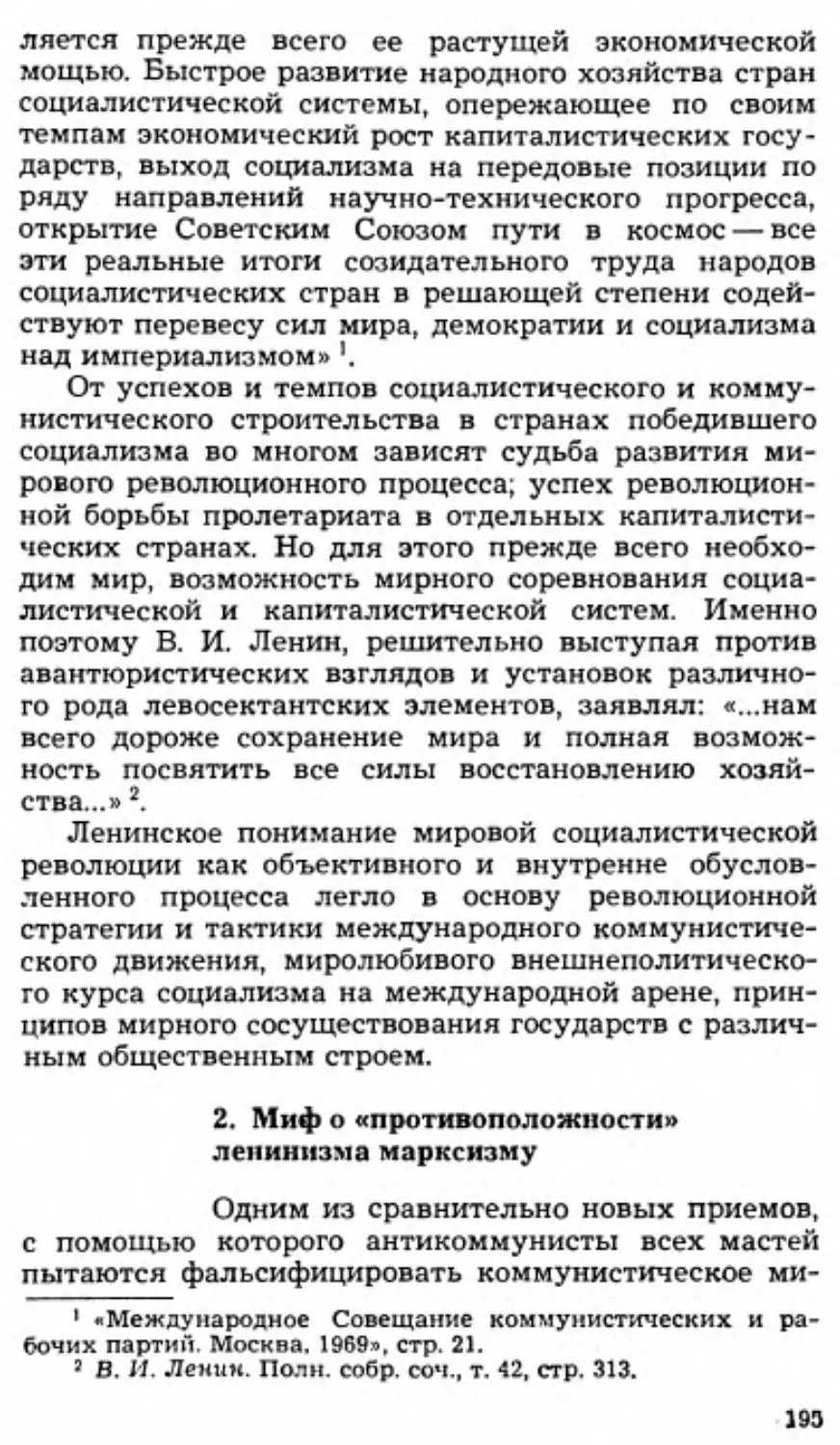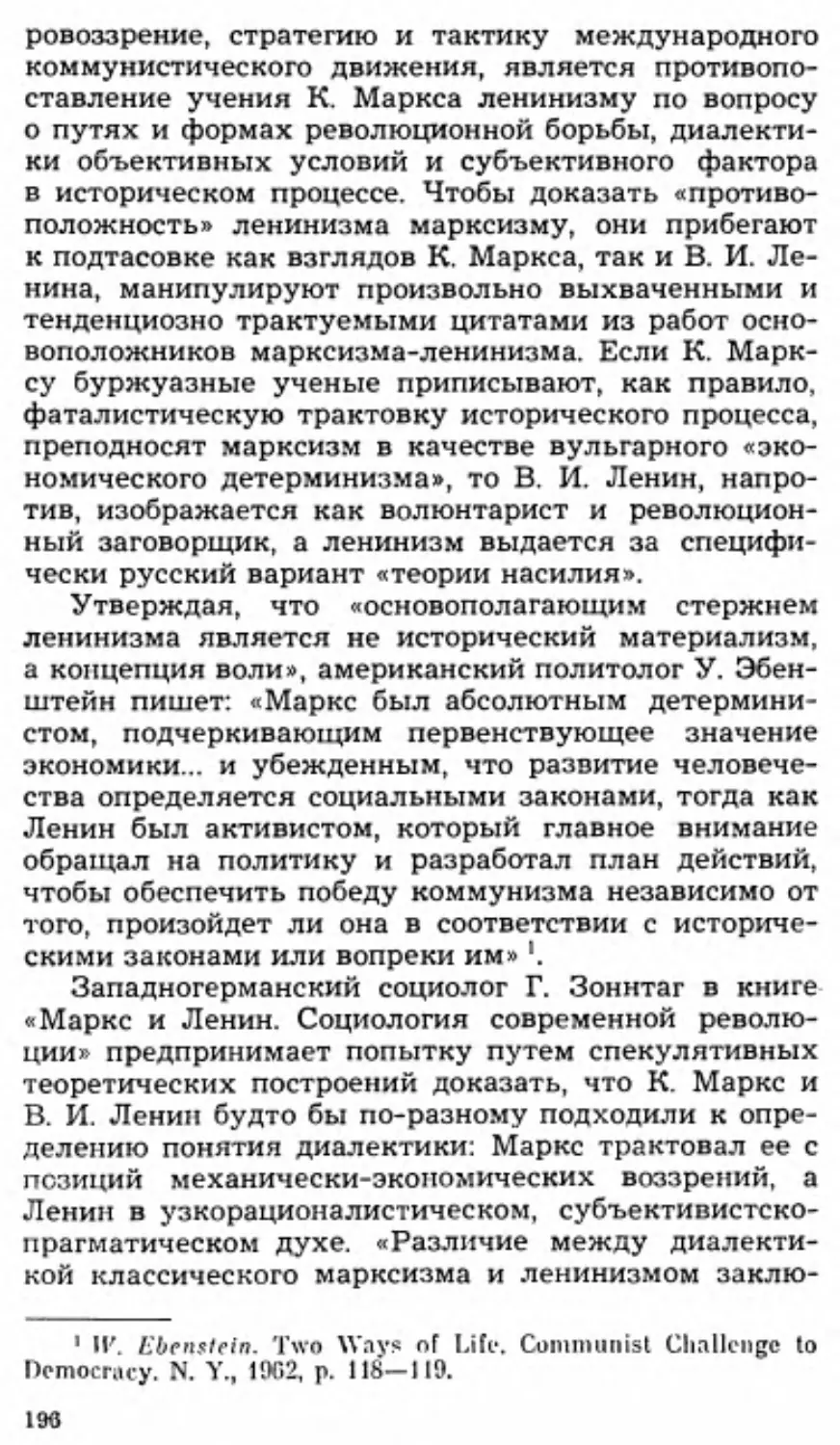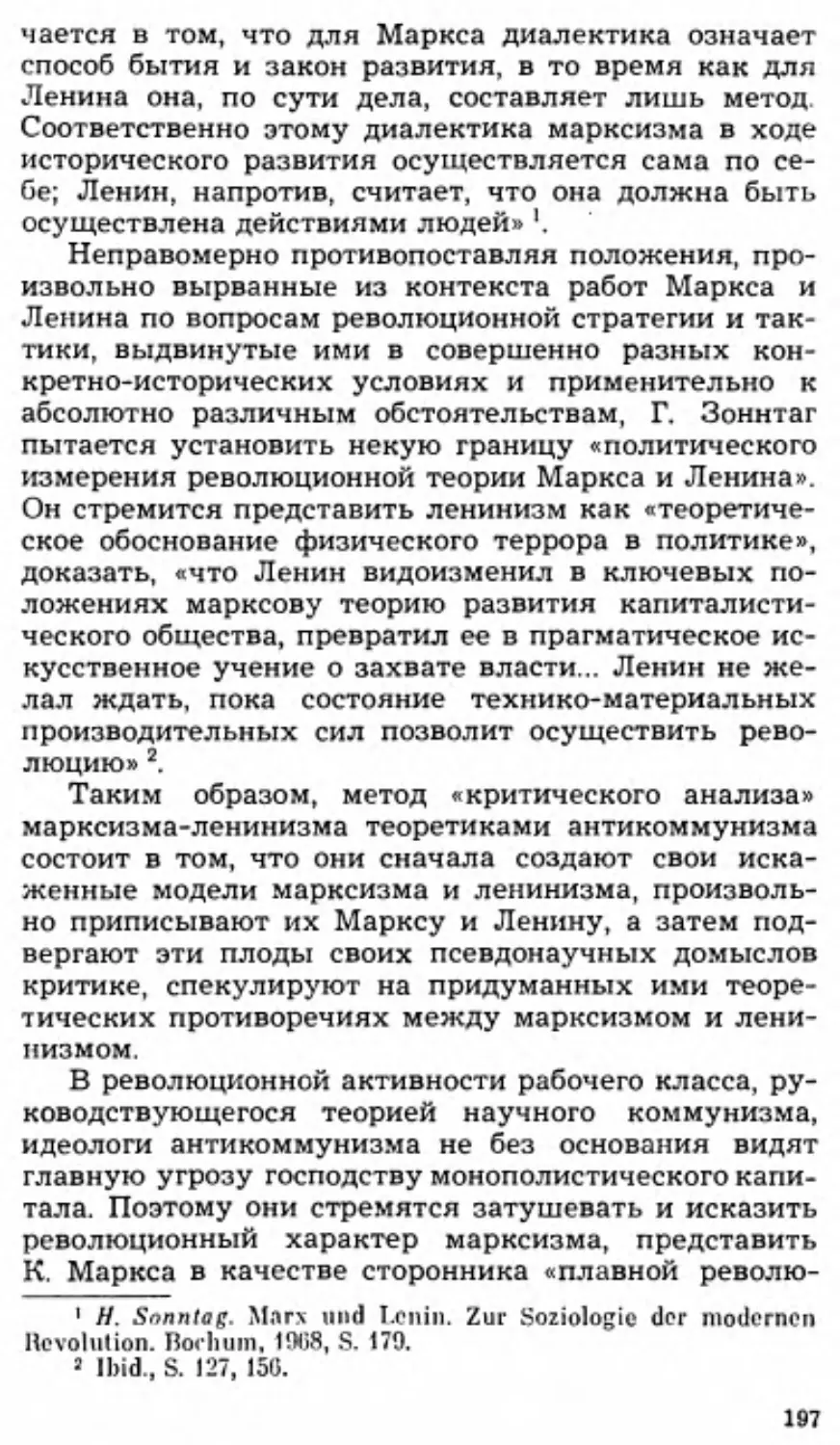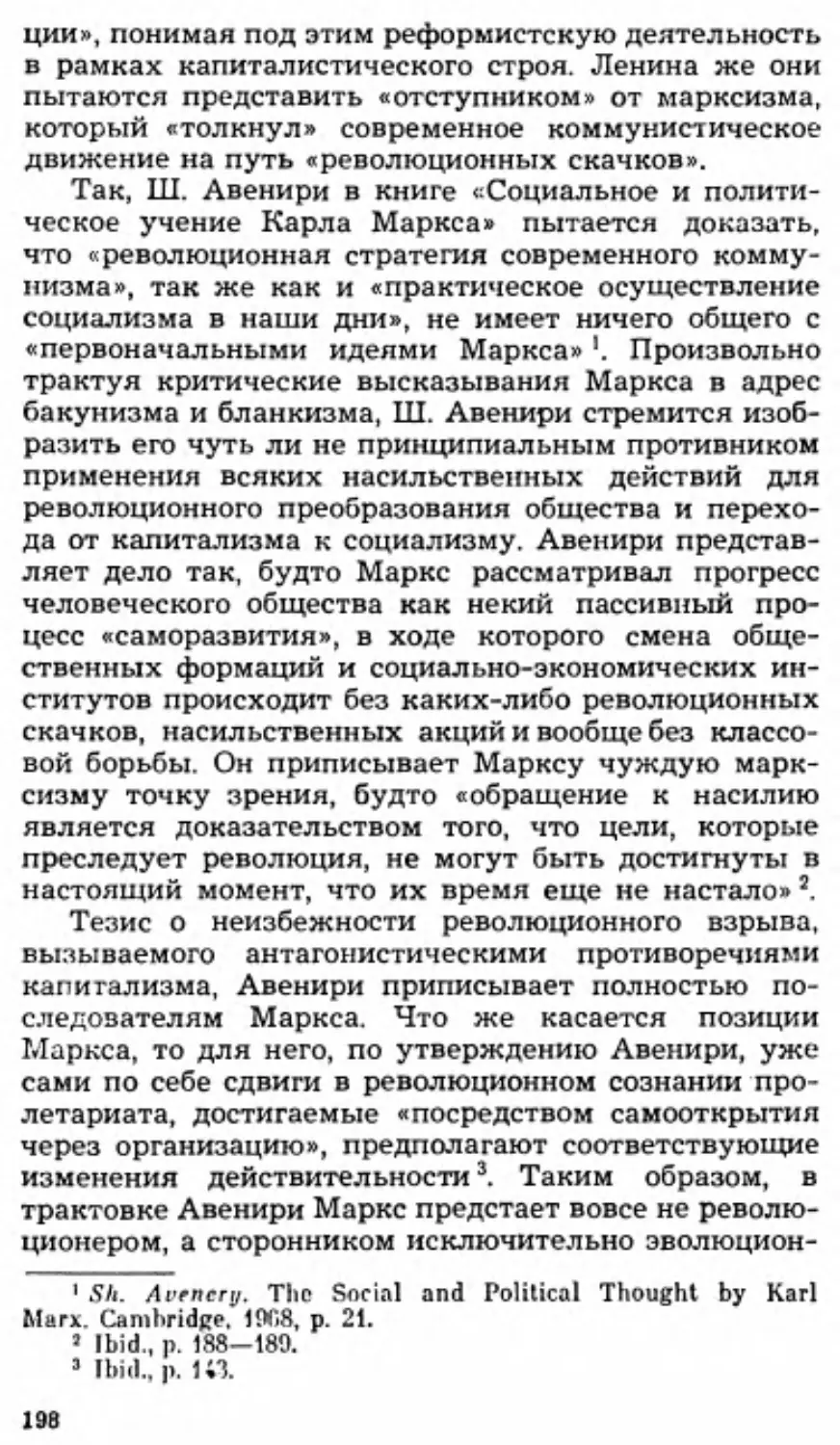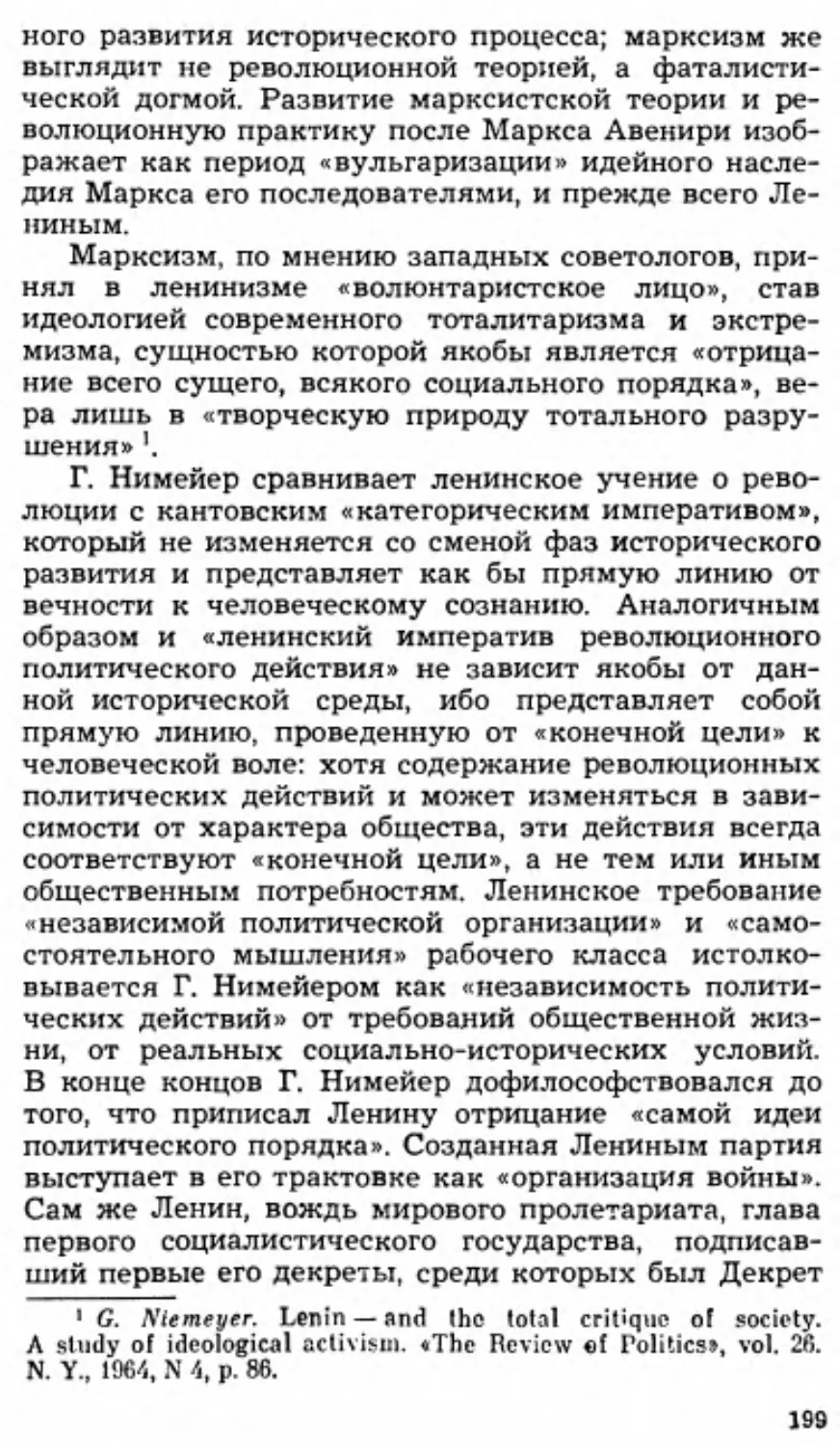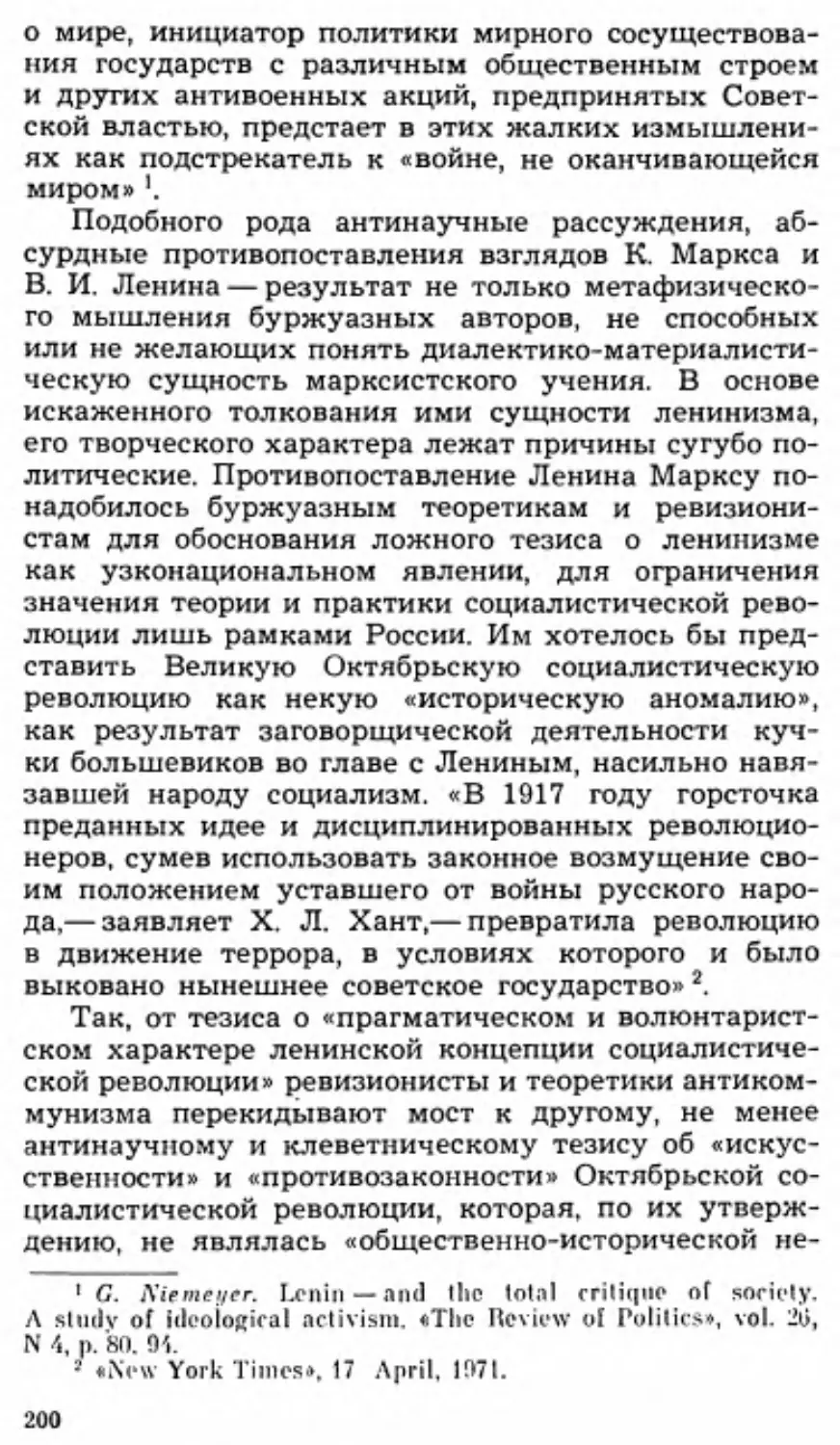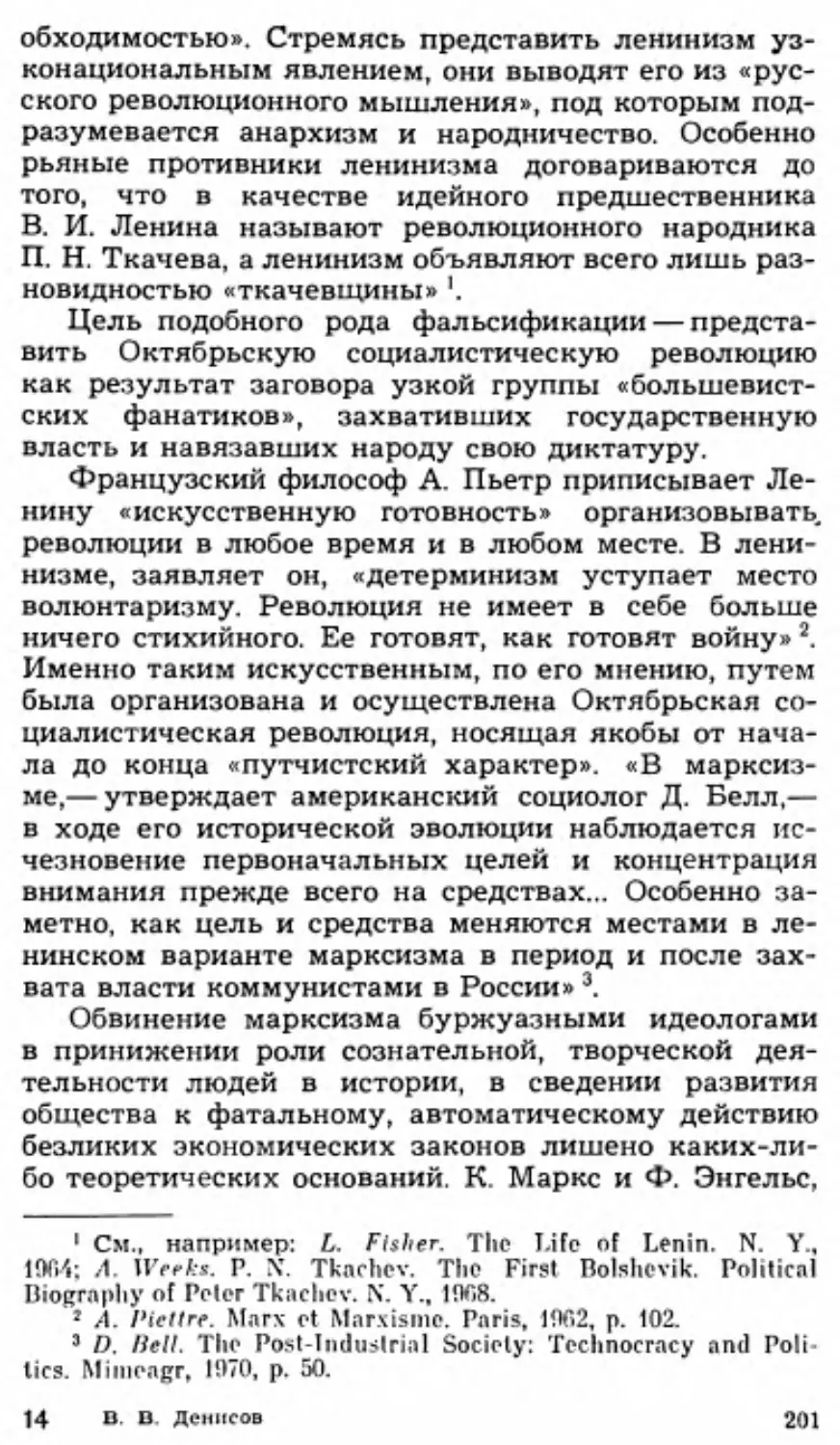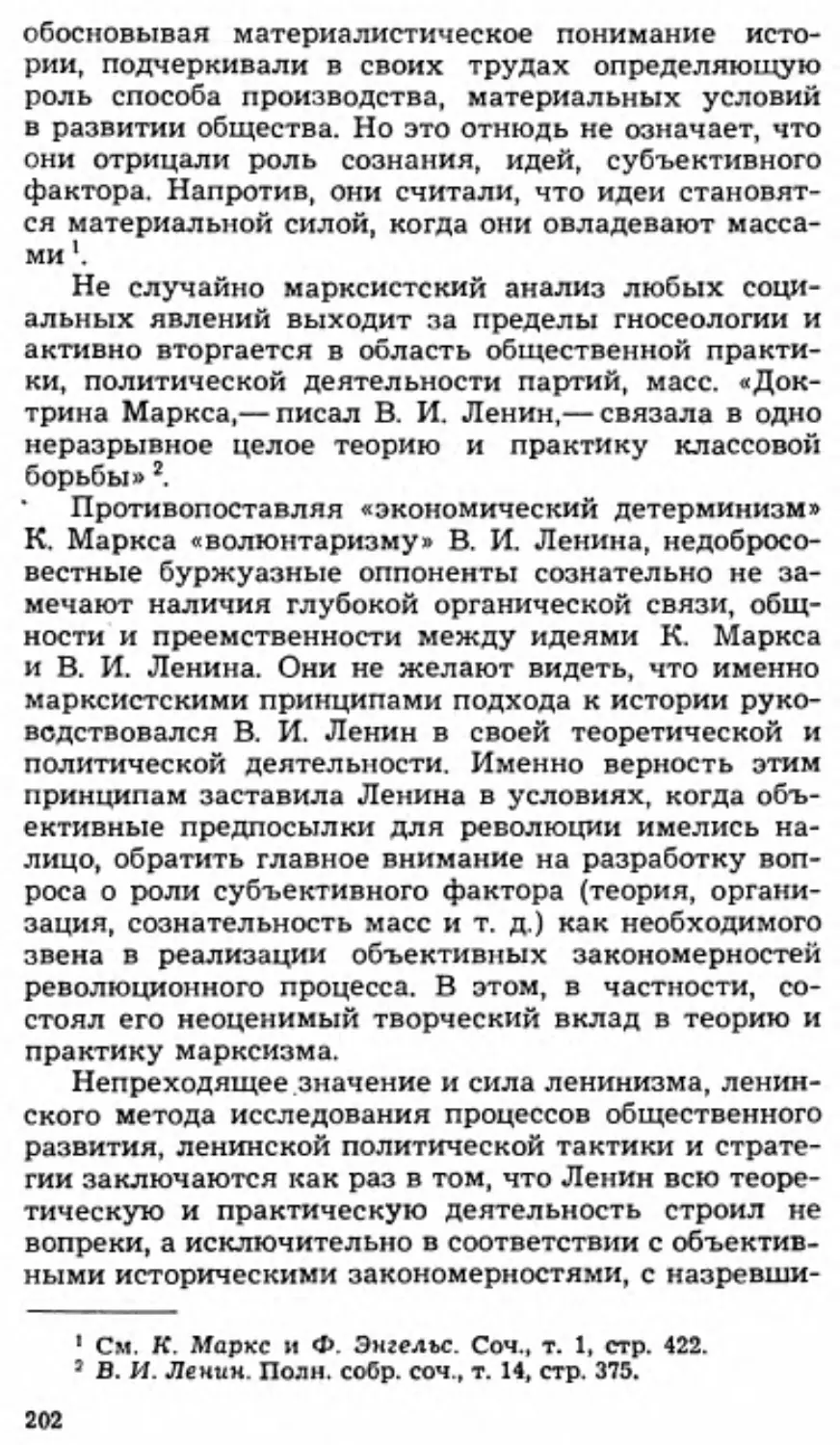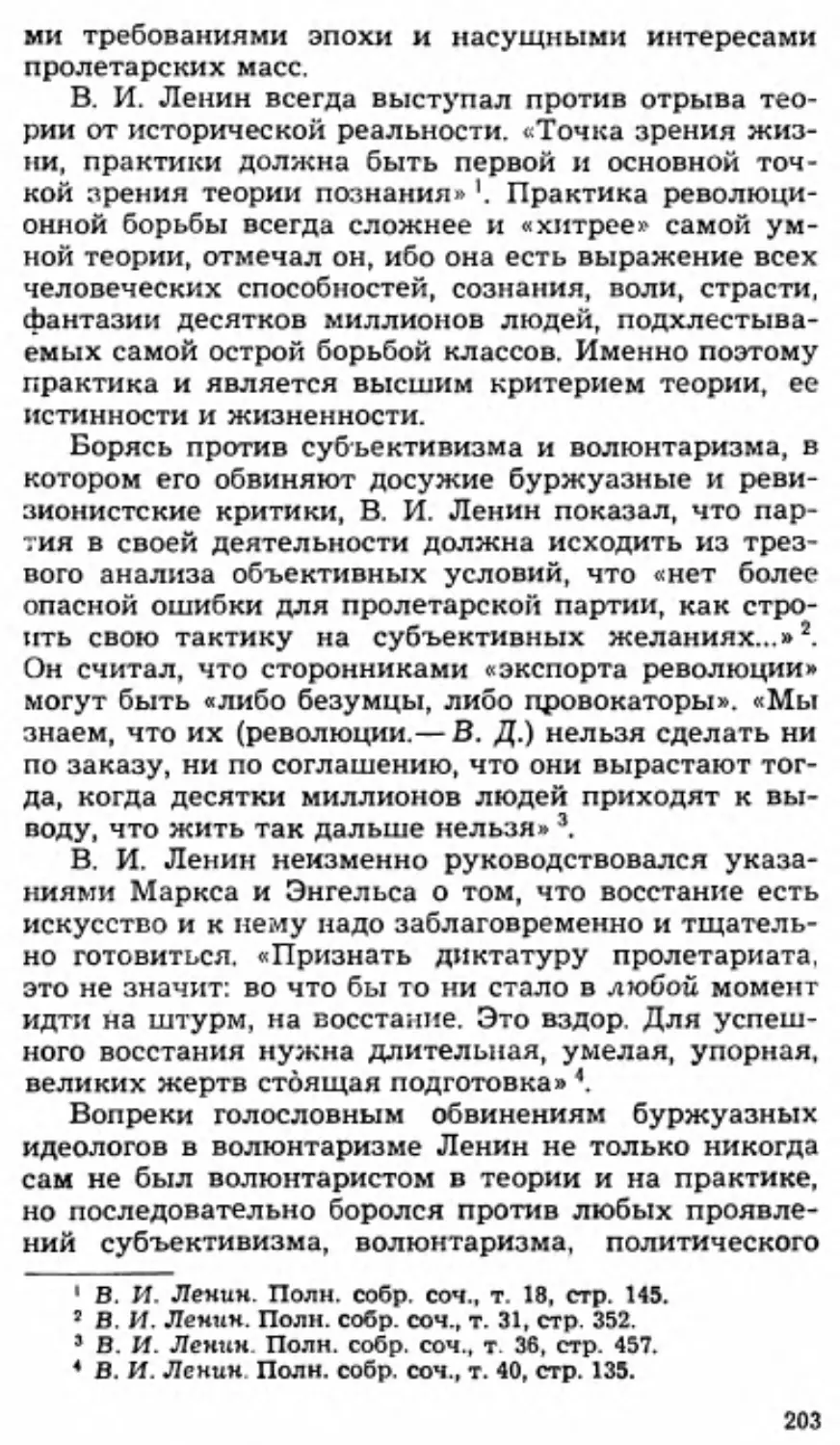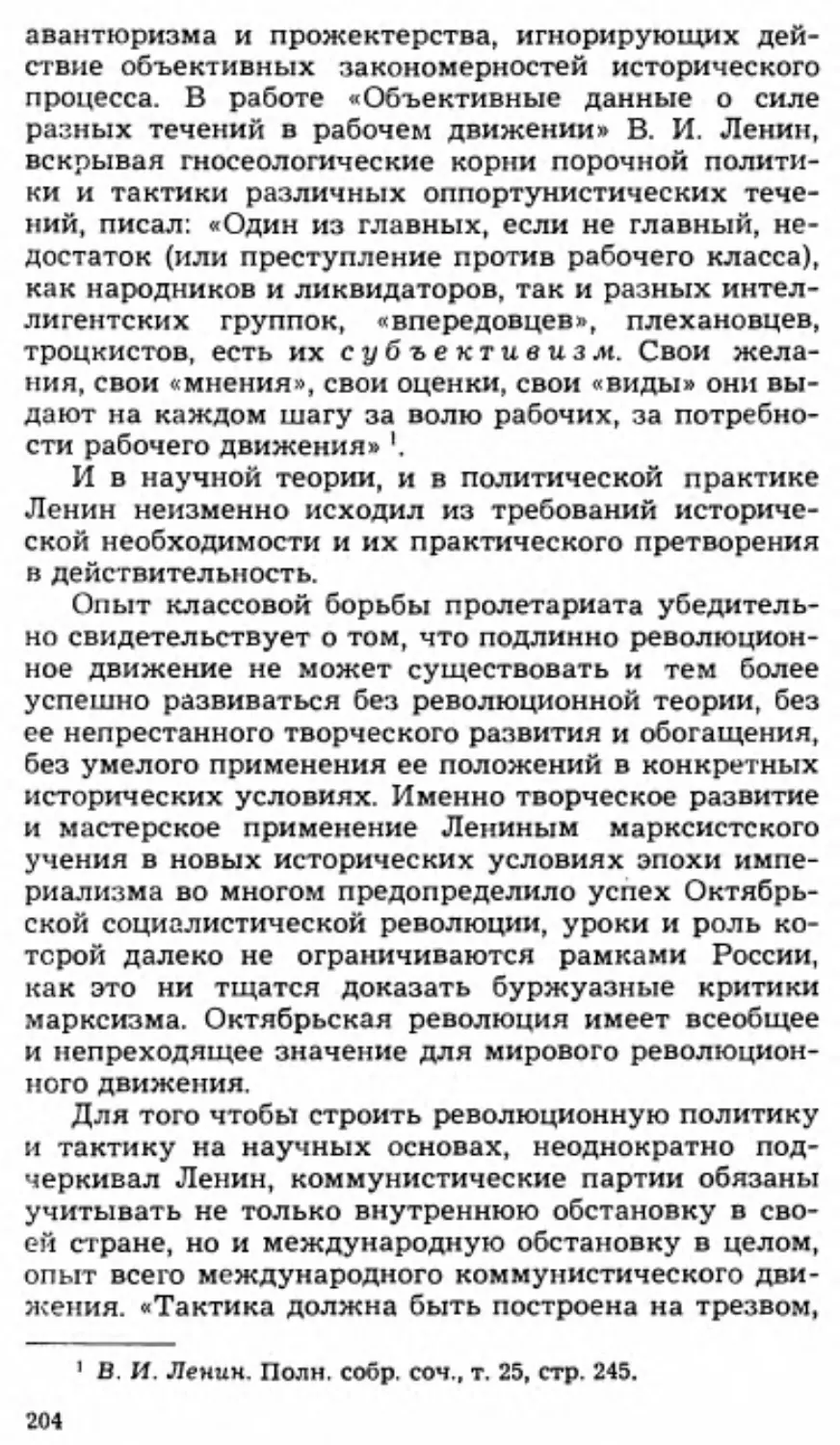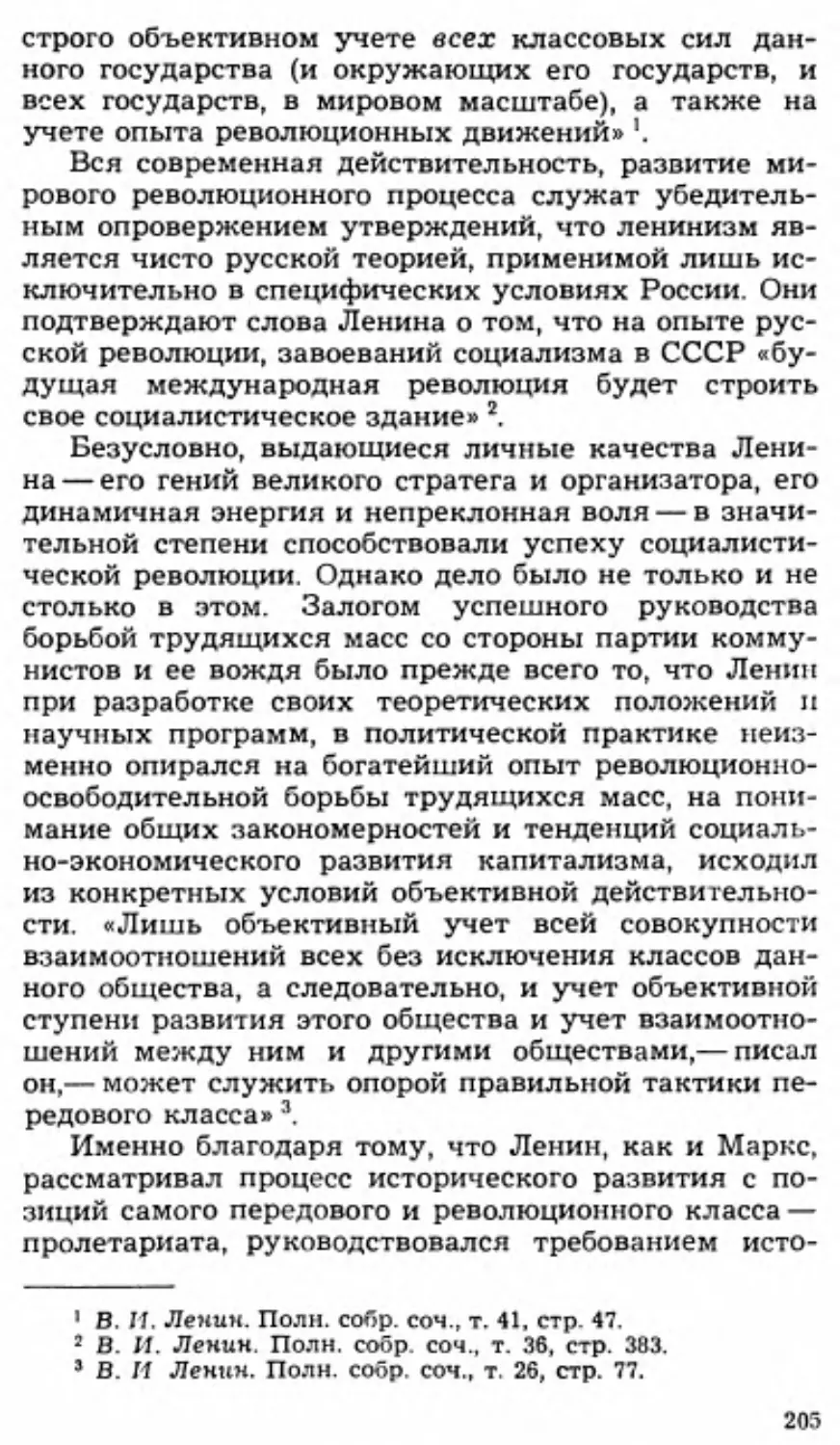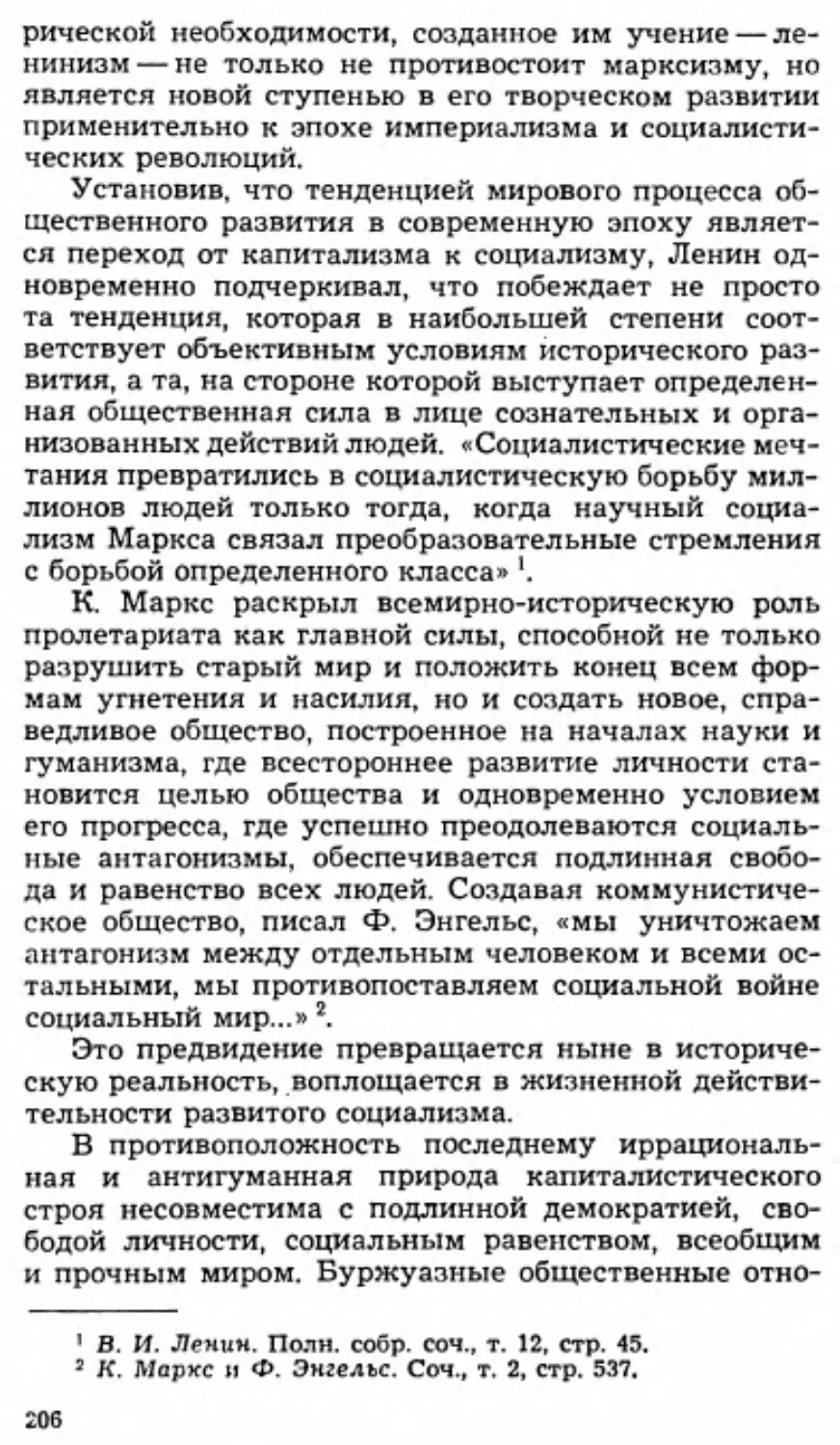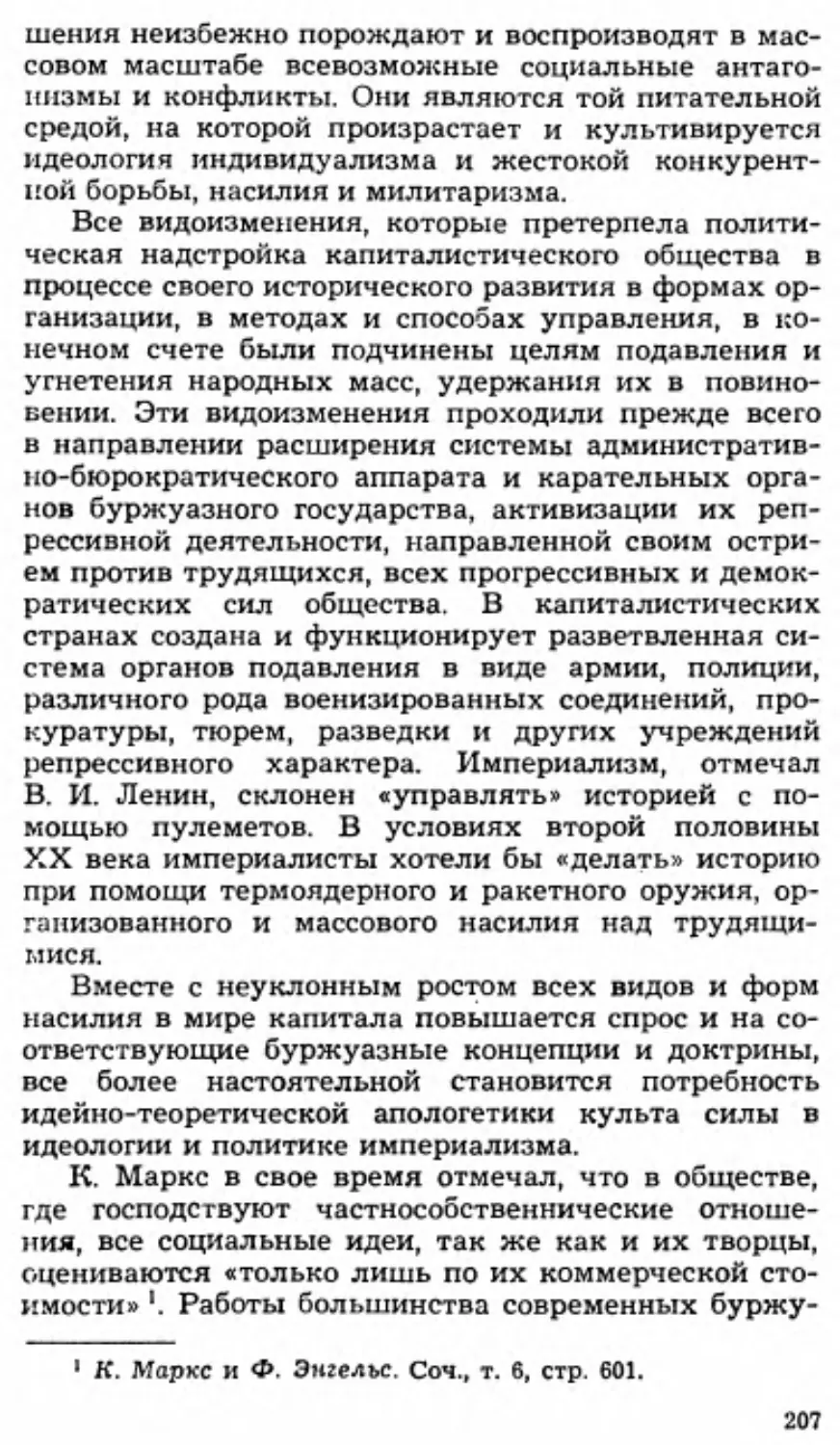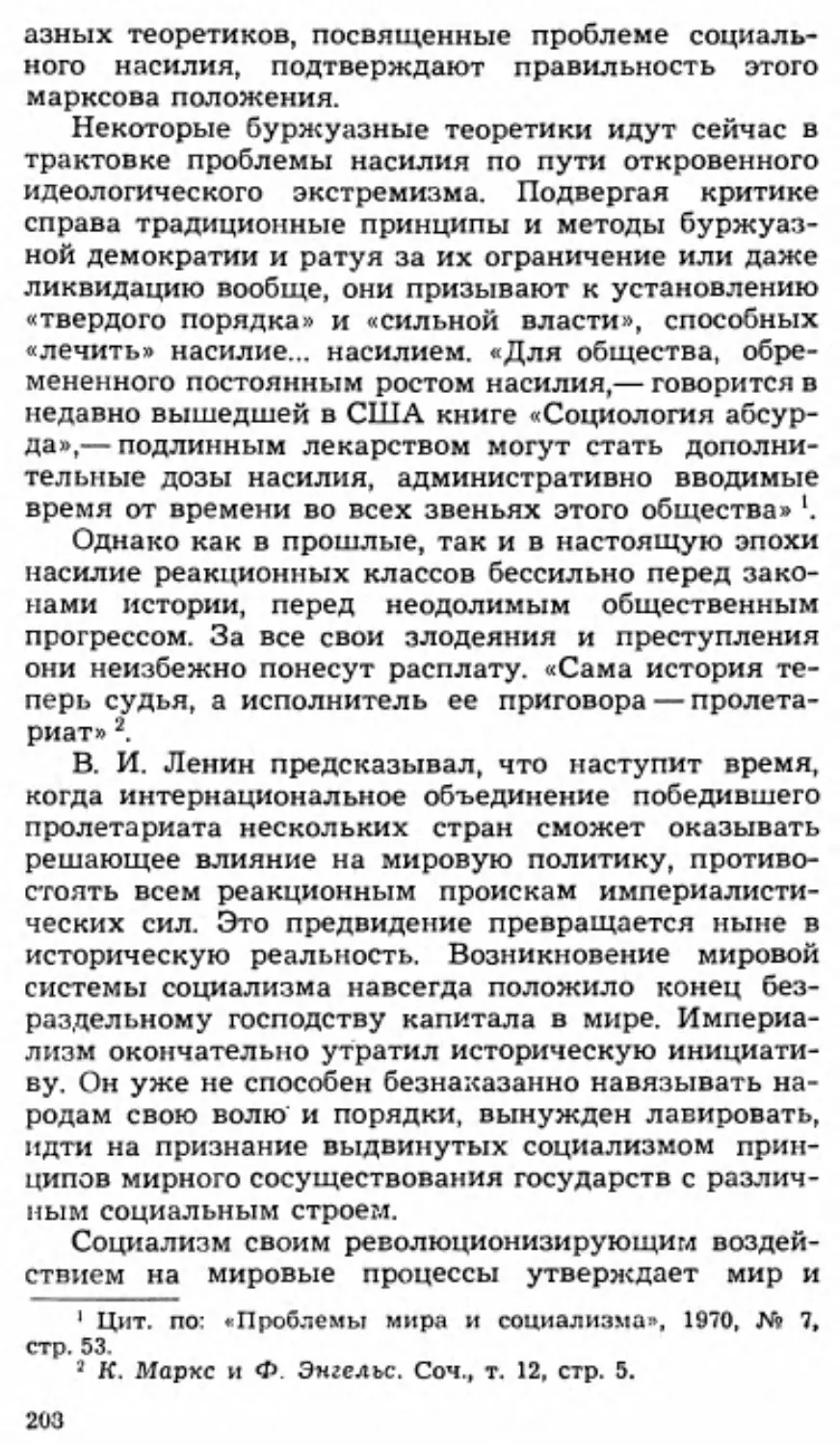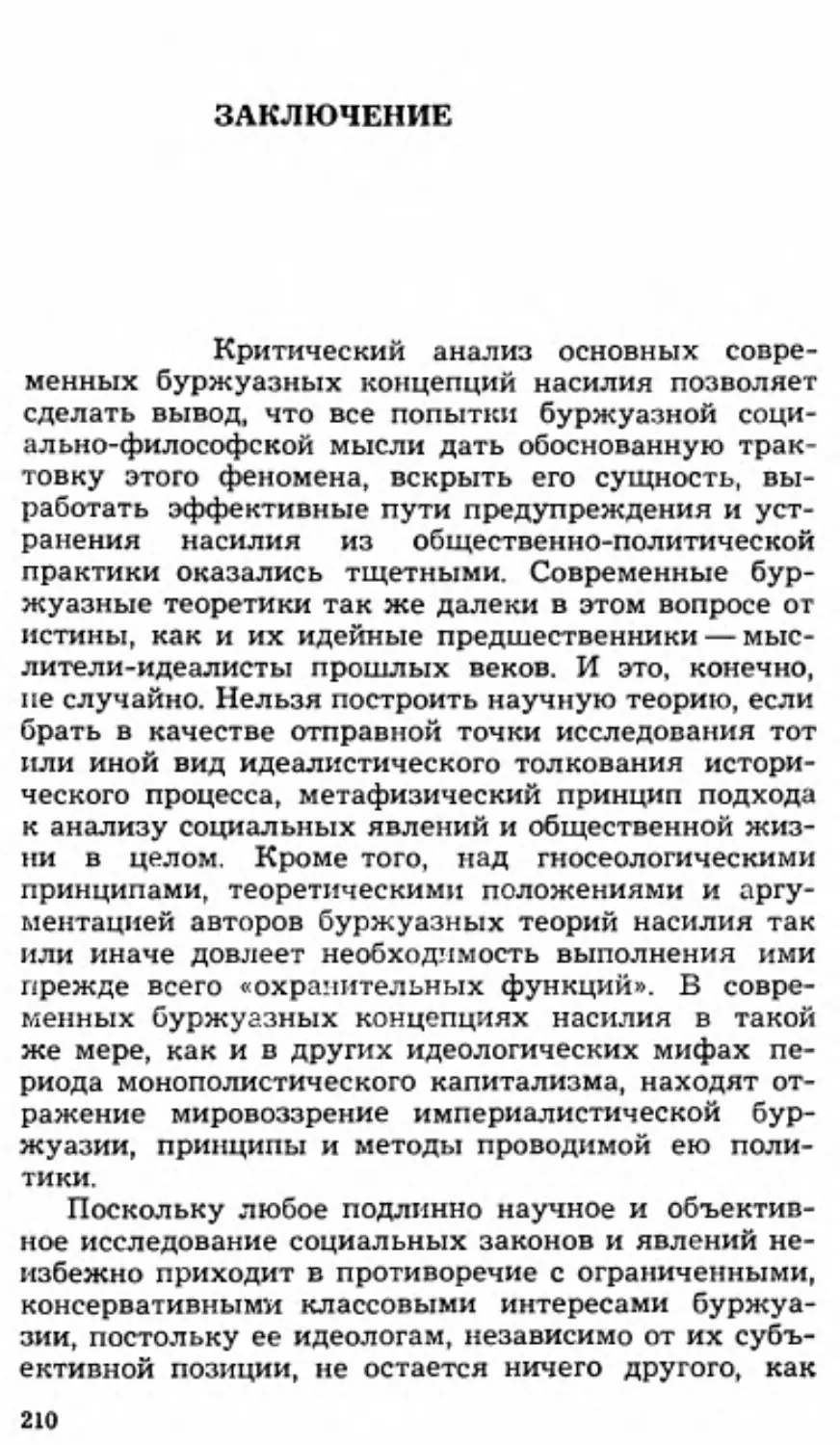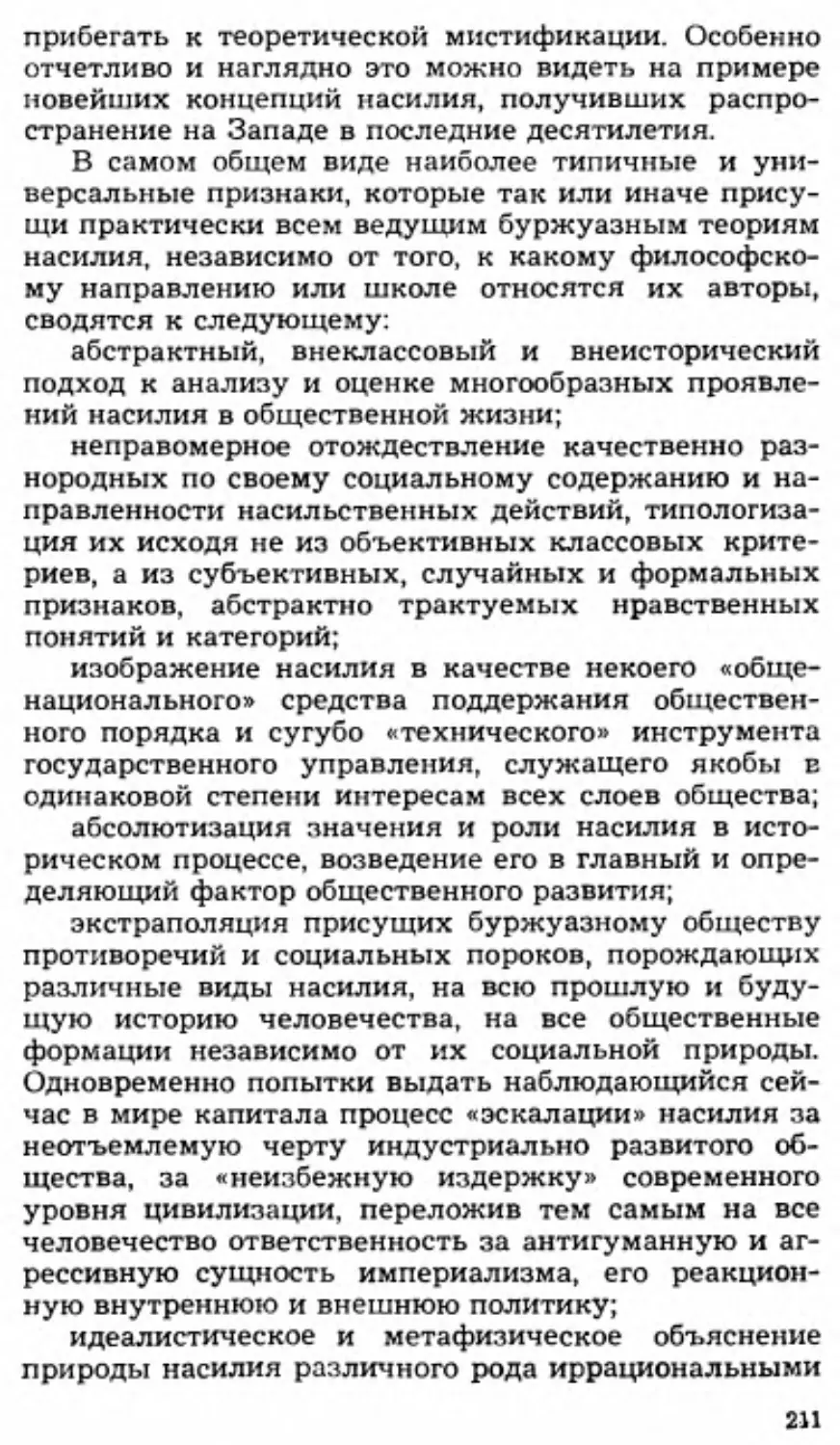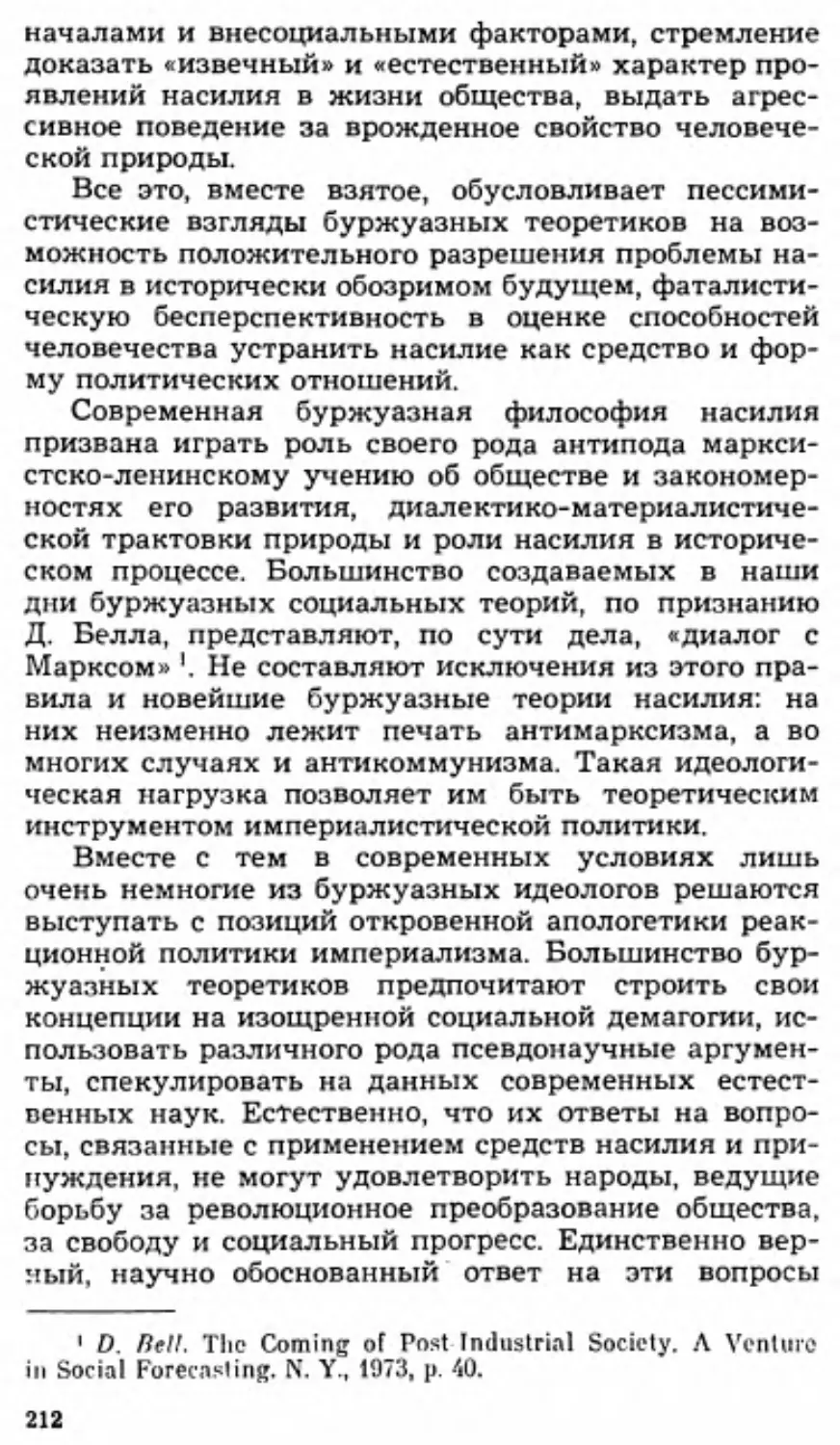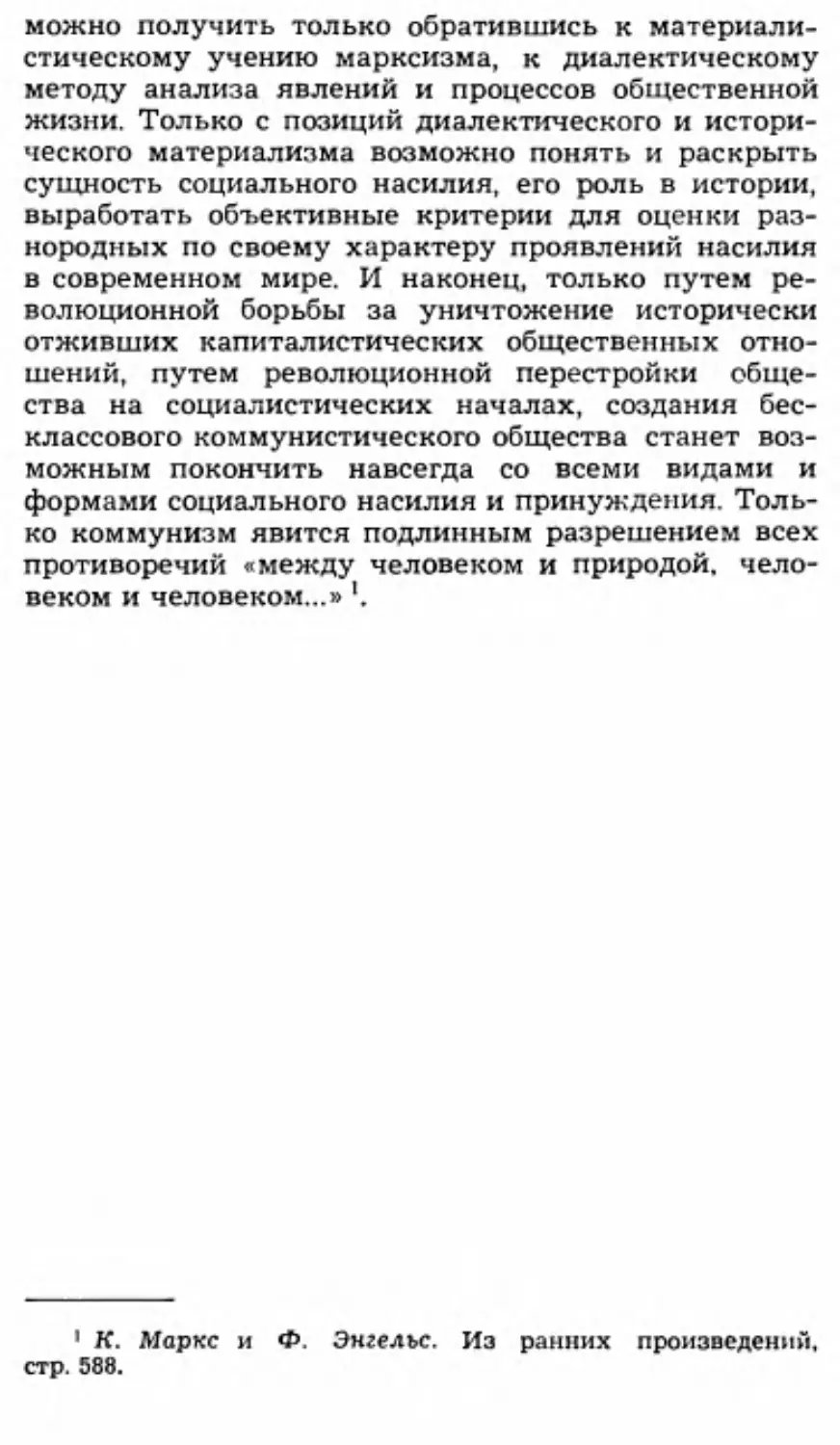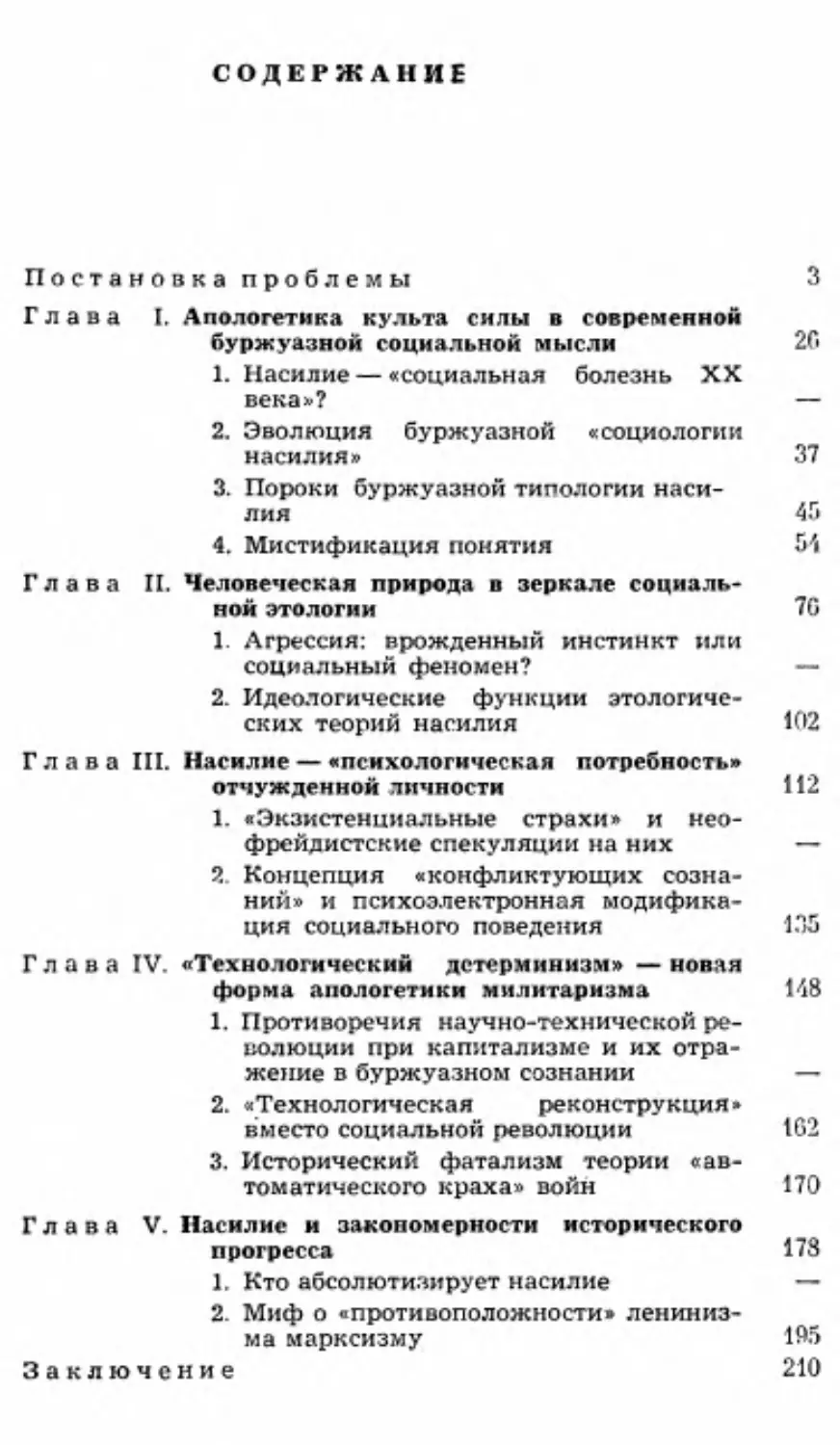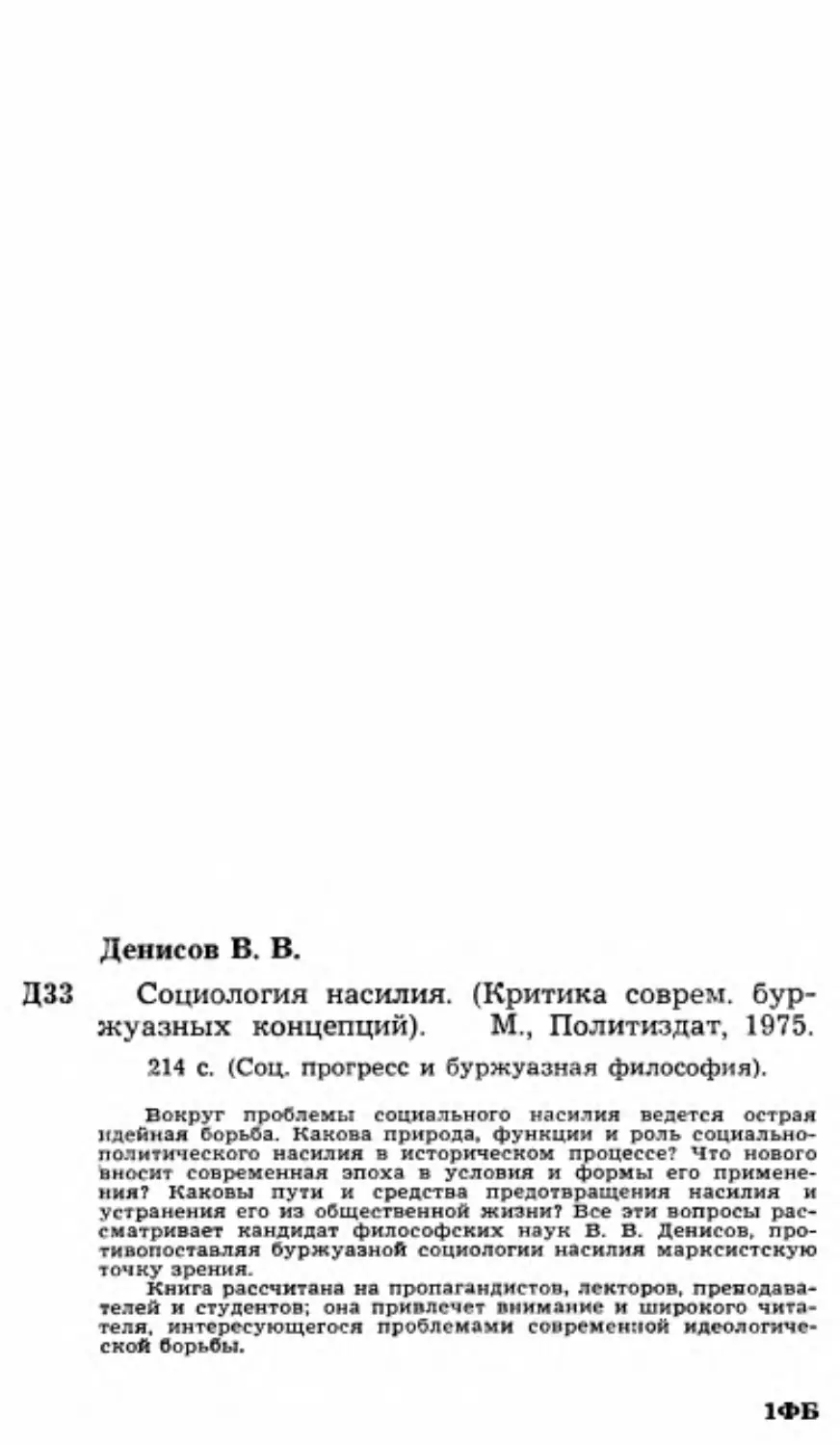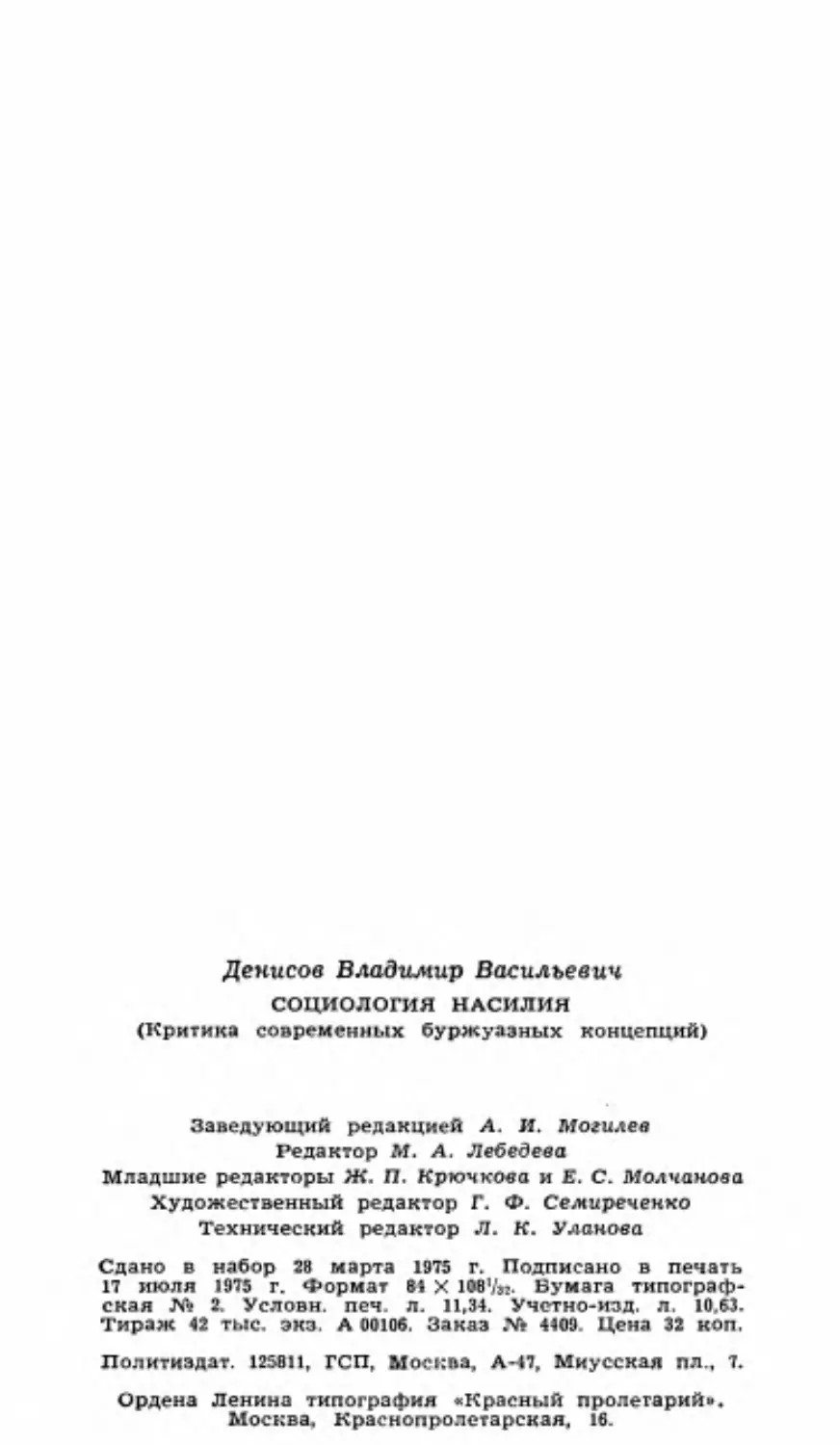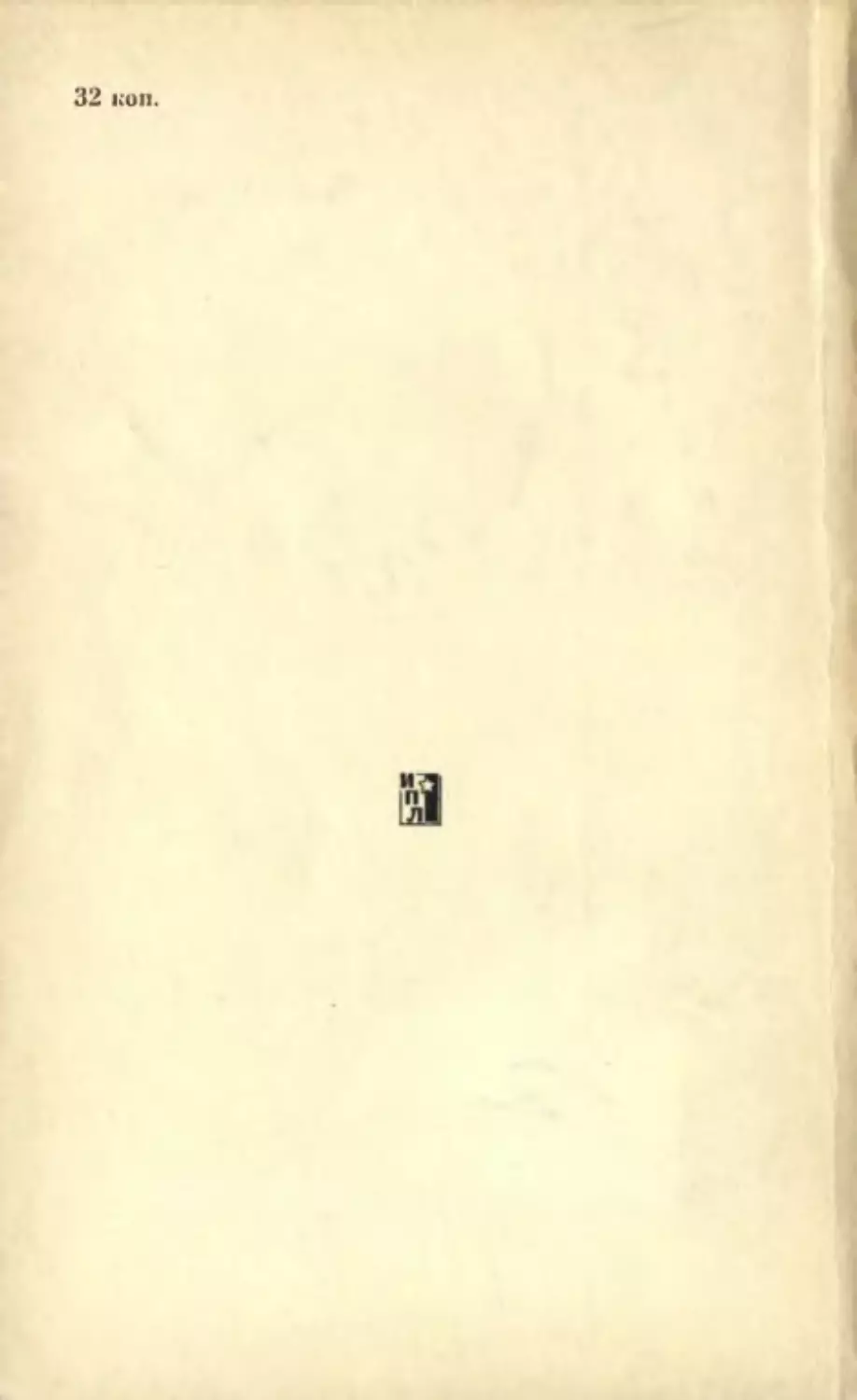Text
В.В . ДЕНИСОВ
СОЦИОЛОГИЯ
НАСИЛИЯ
(КРИТИКА СОВРЕМЕННЫХ
БУРЖУАЗНЫХ КОНЦЕПЦИЙ)
Издательство политической литературы
Москва* 1975
ТФТТ
дзз
10506—241
Д 079(02)—75 158—76
© ПОЛИТИЗДАТ, 1975 г.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Проблема насилия — одна из «вечных»
проблем социально!! теории и политической практики
человечества. Отсчет ее истории начинается с мо
мента возникновения антагонистического общества.
С тех пор она неизменно является объектом теоре
тических мистификаций идеологов эксплуататор
ских классов.
Особую актуальность эта проблема приобретала
в периоды крутых исторических поворотов и корен
ных ломок традиционных укладов жизни, когда ре
ш ались судьбы классов, народов, государств. Нет ни
чего удивительного в том, что именно в современную
эпоху острых социальных конфликтов, усиливающе
гося противоборства революционных и контрреволю
ционных сил, принимающего нередко драматический
характер, проблема насилия выдвинулась на перед
ний план социально-философской мысли. Она зако
номерно оказалась в эпицентре идейно-теоретической
борьбы двух противоположных мировоззрений —
марксистского и буржуазного.
Что представляет собой социально-политическое
насилие, каковы природа, функции и роль этого явле
ния в жизни общества? Острота ведущейся вокруг
этих вопросов теоретической полемики определяется
не только сложностью самого процесса научного по
знания такого чрезвычайно многогранного явления,
каким является социальное насилие, специфическими
закономерностями его функционирования, подвиж
ностью и многообразием форм проявления в общест
венной жизни, разносторонностью связей с другими
явлениями социальной действительности. Дело пре
жде всего в том, что проблема социального насилия
носит не только академический, но и политический
характер, заключает в себе огромный практический
3
смысл. В ней перекрещиваются и отражаются наибо
лее острые вопросы политики и экономики, морали
и права, истории и психологии, международных от
ношений и научно-технической революции. Пробле
ма насилия тесно связана с практикой классовой
борьбы, стратегией и тактикой революционно-освобо-
дительного движения. Она непосредственно затра
гивает коренные интересы классов, наций, госу
дарств, так или иначе касается судьбы каждого чело
века и всего человечества в целом. Поэтому идейное
размежевание позиций представителей разных лаге
рей, как в философии, так и в политике, обозначает
ся здесь особенно четко и резко. Нейтральных в этом
вопросе, как правило, не существует.
В условиях, когда в международной политике про
должается поворот от острой конфронтации к мирно
му политическому диалогу и взаимовыгодному эконо
мическому сотрудничеству государств с различным
социальным строем, от «холодной войны» и неус
тойчивого «равновесия страха» к разрядке между
народной напряженности, особенно важным стано
вится разоблачение всех форм идейно-теоретической
апологетики культа силы, политики милитаризма,
агрессии, гонки вооружений, необходимость давать ре
шительный отпор любым идеологическим диверсиям
противников начавшихся позитивных сдвигов в меж
дународных отношениях.
В свою очередь вопрос о революционном насилии,
о применении тех или иных форм и методов классо
вой, национально-освободительной борьбы против
засилья монополистического капитала — это сегодня
не только вопрос теории, он стал неотъемлемой сос
тавной частью политической практики, одним из ос
новных вопросов всех современных антиимпериали
стических движений. Научно обоснованного, объек
тивно верного и конкретного ответа на него требует
социально-историческая обстановка в современном
мире, те сложные и противоречивые условия, кото
рые характерны для разнообразных по своим этапам,
формам и уровням революционно-освободительных
движений.
Марксизм-ленинизм рассматривает политическое
насилие как общественно-историческую категорию,
4
порожденную социальными, прежде всего экономиче
скими, условиям и антагонистического общества, по
требностями конкретных классовых отношений, про
тиворечий и борьбы. Оно возникло на определенном
этапе исторического развития вместе с зарождением
института частной собственности на средства произ
водства, как основной предпосылки эксплуатации че
ловека человеком, расколом общества на враждеб
ные антагонистические классы и образованием госу
дарства с присущими ему атрибутами власти — ар
мией, полицией, законами , судом и т. д. Основной
функцией государственной власти любого антагони
стического общества является охрана и укрепление
политического и экономического господства пр ав я
щих эксплуататорских классов, защита их приви
легий от посягательств со стороны угнетенных и
эксплуатируемых классов, ограбление и порабощение
других народов и стран. «Все и всякие угнетающие
классы,— писал В. И. Ленин,— нуждаются для охра
ны своего господства в двух социальных функциях:
в функции палача и в функции попа» \
Социальное насилие — неизбежный и закономер
ный продукт эксплуататорского общества. Возникнув
вместе с появлением классов и государства, насилие
становится неотъемлемым элементом общественных
отношений и политической жизни. При этом роль и
значение насилия неуклонно возрастали вместе с
усложнением социально-политической организации
эксплуататорского общества, расширением сферы и
масштабов деятельности государственной власти,
стоящей на страж е интересов господствующих клас
сов, с ростом социальной дифференциации в общест
ве, обострением классовых противоречий и борьбы,
научно-техническим прогрессом в области произ
водства и применения различных видов вооруже
ния, а также с развитием средств массовой коммуни
кации.
Необходимость возникновения насилия была, сле
довательно, вызвана совершенно конкретными об
щественными условиями. Естественно поэтому пред
положить, что с той же необходимостью, с какой этот
1В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 26, стр. 237.
5
феномен возник в истории как средство разреш ения
классовых противоречий и социально-политических
конфликтов, он должен будет неизбежно исчезнуть
после ликвидации последней антагонистической об
щественно - экономической формации — капитализ
ма и с утверждением коммунистических обществен
ных отношений, построением бесклассового общества.
Социальное насилие — чрезвы чайно многогранное
по своим внешним (количественным) и внутренним
(качественным) характеристикам понятие. Оно вклю
чает в себя самые разнообразные по форме и масшта
бам, видам и целям, классовому содержанию и на
правленности проявления силы в общественной
жизни.
Исходя из диалектико-материалистического ана
лиза исторической общественно-политической прак
тики, условий и форм революционно-освободитель
ного процесса, социальное насилие может быть опре
делено, во -первых, как орудие классовой диктатуры,
служащее одним из средств защиты интересов и до
стижения целей определенных общественных групп,
разрешения классовых и государственных противо
речий, военных и политических конфликтов; во-вто -
рых, как орудие классовой и общедемократической
борьбы, к которой вынуждены прибегать народные
массы, выступающие против эксплуататоров и угне
тателей, агрессоров и поработителей, в защ иту своих
интересов, прав и свобод, осуществляющие историче
скую необходимость прогрессивного развития об
щества.
Свое конкретное выражение социальное насилие
находит в применении или угрозе применения опре
деленной группой, классом, государством, обществен
ной системой различных форм, методов и средств
прямого или косвенного принуждения и подавления
(политических, экономических , военных, юридиче
ских и т. д.) в отношении других групп, классов, го
сударств, общественных систем с целью обеспечения
захвата и удержания политической власти и эконо
мического господства, приобретения и сохранения не
зависимости и суверенитета, различного рода прав и
привилегий, удовлетворения территориальных и дру
гих претензий, ограничения интересов противополож
6
ной стороны, навязывания кому-либо своей воли. Та
ким образом, социальное насилие практически при
меняется во всех сферах общественной жизни —
экономической, политической и духовной. Его субъ
ектами и объектами могут быть отдельные личности
(выступающие в данном случае как представители
определенных социальных групп), классы, нации, го
сударства, мировые общественные системы.
Если исходить из внешних форм проявления на
силия в общественной жизни, брать за основу методы
и средства его использования, то социальное насилие
тутожно условно подразделить на два основных вида:
прямое насилие, сопровождающееся непосредствен
ным применением силы (война, вооруженное восста
ние, политические репрессии); косвенное (скрытое)
насилие, когда непосредственное использование силы
отсутствует (различные формы духовного, психоло
гического давления, политическое вмешательство ,
экономическая блокада) или когда существует только
угроза применения силы (политическое давление,
дипломатический ультиматум).
По своему предметному содержанию и объекту
направленности различные проявления социального
насилия можно подразделить на политическое, воен
ное, экономическое, духовное (идеологическое), адми
нистративное (судебно-законодательное). К аждый из
указанных выше видов отличается в свою очередь
друг от друга особыми методами и конкретными фор
мами применения насилия в общественной жизни.
Но самым главным критерием при классификации
насилия, типологизации его многообразных форм
являются, конечно, не различного рода формальные
свойства, внешние черты и признаки, а дифферен
циация этого феномена, исходя прежде всего из его
социально-классовой сущности. Только установив ор
ганическую связь различных форм и видов насилия
с интересами определенных социальных групп,
можно вскрыть его подлинную природу и корни.
Социальное насилие не существует вне классовых
отношений, вне политики. В действиях и институтах
социального насилия в опосредствованной форме вы
ражаются интересы, сознание и воля классов, они
всегда имеют поэтому вполне определенную целевую
7
установку и социальную направленность. Главное
орудие борьбы за власть — применение различных,
определяемых конкретно-историческими условиями,
реальным соотношением классовых сил и остротой
борьбы форм и средств принуждения. Так, например,
вооруженное восстание, являясь одним из возмож
ных путей социальной революции и представляя со
бой высшую точку классовой борьбы, имеет своей
целью «переход государственной власти из рук
одного в руки другого класса»
Насилие господствующих классов основывается
на организованной силе государства, на определен
ных «вещественных» орудиях власти и осуществля
ется с помощью специально созданного для этой цели
государственного аппарата принуждения, законода
тельной и судебной системы. Институты политиче
ского насилия представляют собой то материальное
орудие, посредством которого определенные классы
охраняют и защищают свои интересы. Во многих слу
чаях без соответствующих институтов, аппарата по
литического насилия вообще невозможно осущест
вление социальных задач и целей классов, претворе
ние в жизнь политических программ и концепций.
Точно так же для разрушения старого и построе
ния нового общественного строя недостаточно только
научно обоснованной политической теории и програм
мы (хотя наличие таковых — важное условие всякой
успешной революционной борьбы), а обязательно
нужны, кроме того, материальные орудия их прак
тического претворения в жизнь. Оружие критики,
отмечал К. Маркс, не может, конечно, заменить
критики оружием, материальная сила должна быть
опрокинута материальной же силой2.
Классики марксизма-ленинизма дали диалектико-
материалистическое обоснование проблеме социаль
ного насилия и его роли в истории, подчеркивали
важность научного понимания сущности и природы
этого феномена для выработки правильной стратегии
и тактики классовой борьбы, политики пролетариата.
Они решительно выступали против всех буржуазных
1В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 31, стр. 133.
2 См. К . Маркс и Ф. Энгельс. Соч.,
т. 1, стр. 422.
3
идеалистических, волюнтаристских взглядов на со
циальное насилие, против абстрактной, внеклассовой
и внеисторической трактовки этого понятия, абсолю
тизации роли насилия в историческом процессе, р а
зоблачали антинаучный характер идеологии правого
и «левого» оппортунизма в этом вопросе.
Марксизм впервые в истории социальной мысли
выработал подлинно научные и объективные крите
рии для исследования и оценки сущности и значе
ния многообразных проявлений насилия в обществен
ной жизни, вскрыл их прямую связь с интересами
определенных классов и зависимость от господствую
щих общественно-экономических отношений.
Материалистическая трактовка природы и роли
насилия в историческом процессе исходит из того,
что оно относится к явлениям надстроечного порядка.
В качестве элемента политической надстройки наси
лие, во-первых, находится в определенной зависи
мости от базиса, детерминируется в конечном счете
развитием производительных сил общества, и, во-
вторых, главная его функция — защита прежде всего
именно экономических интересов соответствующих
классов и слоев общества, сохранение или, наоборот,
изменение их социально-экономических позиций.
Социальное насилие, как показал Ф. Энгельс в ра
боте «Анти-Дюринг», никогда не было и не могло
быть самостоятельным и независимым фактором
общественного развития, выступать в качестве некой
«самоцели» в классовой борьбе. Оно лиш ь средство,
с помощью которого не создается та или иная форма
собственности или сама собственность, те или иные
социальные отношения между людьми, а только
обеспечивается их сохранение и защита или, наобо
рот, ликвидация и смена владельца в интересах
определенных классов.
Установив первенствующую и определяющую
роль экономического фактора в общественном разви
тии, раскрыв диалектику взаимоотношений экономи
ческого базиса и политической надстройки, марксизм
определил границы и возможности насилия в изме
нении форм общественной жизни.
Научно объективный и всесторонний анализ со
циального насилия предполагает единство социологи
9
ческого и гносеологического подходов к этому фено
мену. Не случайно К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ле
нин уделяли наибольшее внимание этой проблеме
именно в своих философских, социологических тру
дах, исследовали ее прежде всего в рамках учения
о базисе и надстройке, о закономерностях обществен
ного развития и классовой борьбы, о государстве и
политической власти, диктатуре пролетариата и за
щите социалистических завоеваний трудящихся от
внешней и внутренней контрреволюции, тесно связы
вали ее со стратегией и тактикой революционно-осво
бодительного движения.
Марксистская философия подходит к исследова
нию насилия с принципиально иных методологиче
ских и теоретических позиций, чем буржуазные уче
ные. Она не идет по пути формально-абстрактного
описания насилия, а доводит свой анализ до понима
ния его закономерного характера, до раскрытия его
действительной материально-детерминирующей ос
новы как в рамках конкретной социально-экономиче
ской формации, так и в процессе исторического р аз
вития в целом. Именно такой диалектико-материа
листический подход служит предпосылкой и усло
вием научно обоснованного определения сущности и
характера тех или иных проявлений насилия в об
щественной жизни, их классовой и конкретно-исто
рической оценки, выработки путей и средств револю
ционной борьбы трудящихся под руководством марк
систско-ленинских партий.
Конкретно-историческое содержание насилия как
одной из форм и одновременно одного из средств со
циальной деятельности людей зависит от того, какие
общественные отношения оно отражает и защищает,
какие объективно классовые интересы определяют
характер его применения. Иными словами, историче
ская роль определенного класса в общественном раз
витии обусловливает применяемые им для осущест
вления своей политики средства и методы насилия.
В зависимости от социально-классового содержа
ния, политической направленности и целей насилие
м ожет носить реакционный, агрессивный, несправед
ливый, аморальный или, наоборот, революционный,
справедливый, освободительный, оправдываемый с
ю
позиций общественного прогресса характер. Оно мо
жет служить консервации исторически отживших об
щественных отношений, целям эксплуатации, угне
тения и агрессии или делу социального прогресса,
свободы, национальной независимости и гуманиз
ма; его применение может отвечать интересам ли
бо эксплуататорского меньшинства, консервативной
части общества, либо интересам широких эксплуати
руемых масс, передовых классов и слоев.
Вскрыв связь определенной классовой политики с
насильственными средствами ее осуществления,
марксизм показал несостоятельность буржуазных
утверждений о том, будто насилие чисто «техниче
ский» инструм ент государственной власти, который
якобы служит «общенациональным» задачам. В по
литической практике классовой борьбы нет и не мо
жет быть «абстрактного» насилия, так же как не су
ществует «чистой» демократии, «абсолютной» сво
боды, «внеклассовой» морали. Насилие — это не не
кая абстрактная, метафизическая категория, а вполне
определенный, конкретно-классовый феномен, сред
ство классовой борьбы внутри отдельных стран и на
международной арене. Поэтому при определении со
циальной сущности и роли любого проявления наси
лия следует исходить, во -первых, из его классового
содержания и направленности, во-вторых, из кон
кретно-исторических условий его применения. При
этом особенность диалекти ки общественного р азв и
тия такова, что насилие, применяемое одним и тем
же классом, но в разных конкретно-исторических
условиях, может играть и качественно разную роль.
Например, революционное насилие восходящего не
когда класса буржуазии, поддержанное широкими
народными массами, направленное против реакцион
ны х сил феодализма, носило безусловно исторически
прогрессивный характер. Совершенно другой, реак
ционный характер носит насилие, к которому прибе
гает сегодня, стрем ясь увековечить свое господство,
сходящий с исторической арены класс империалисти
ческой буржуазии.
В то же время возможно и такое положение, когда
насильственные действия, применяемые одним и тем
же классом в один и тот же исторический период,
11
могут одновременно иметь качественно различное со
держание в зависимости от своей направленности.
В этой связи можно указать на ту двоякую функцию,
которую играло насилие в качестве классового ору
дия буржуазии в период становления и развития ка
питализма. С одной стороны, будучи направлено
своим острием против отживших феодальных об
щественных отношений и их носителей — класса зе
мельной аристократии, оно разрушало социальные
институты старого общества и защищало новые, бо
лее прогрессивные формы общественной жизни. Но,
с другой стороны, насилие одновременно было н а
правлено и против народных масс, служило орудием
их закабаления, средством экономического, полити
ческого и духовного угнетения и подавления трудя
щихся. В определенной степени именно «концентри
рованное и организованное общественное насилие»
создало, как отмечал К. Маркс, «условия для сущест
вования капитала» К
Неизменно выполняя вполне определенную кон
кретно-историческую роль в общественном развитии,
насилие всегда было и продолжает оставаться одним
из основных орудий классовой борьбы, средством ре
волюционного переустройства общества. Поэтому
буржуазный миф о социальной нейтральности и по
литической индифферентности средств и методов на
силия в классовой борьбе носит антинаучный харак
тер, служит апологетике империализма.
Различные виды реакционного насилия, осущест
вляемого господствующими классами буржуазного
общества и направленного против эксплуатируемого
трудящегося большинства, являются логическим ре
зультатом диалектики социально-экономического
развития капитализма, проводимой империалистиче
ской буржуазией антидемократической и агрессивной
политики. «Войны, акты агрессии и насилия, посяга
тельства на свободу народов — все это имеет свои
истоки в политике империализма» 2.
1К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 499.
2«Международное Совещание коммунистических и рабо
чих партий. Документы и материалы. Москва, 5—17 июня
1969 г.» М., 1969, стр. 250.
12
За всеми проявлениями революционного насилия
также стоят реальные общественные силы — рево
люционные классы, прогрессивные социальные слои
и группы, в различных формах выражающие свой
протест против антагонизмов капиталистического
строя, отвечающие насилием на насилие империали
стической буржуазии.
Независимо от разл ичия форм и видов, классового
и исторического х арактера, объективной основой всех
проявлений социально-политического насилия в лю
бой антагонистической общественной формации вы
ступают господствующие здесь социально-экономи
ческие, производственные отношения и порожденные
ими противоречия. О бладая относительной самостоя
тельностью (которая иногда-принимает видимость не
зависимости от господствующих производственных
отношений и классовой природы данного общества),
различные формы и средства политического насилия
в действительности определяются экономическими
отношениями. Экономическая структура общества
требует и соответствующих ей политических отноше
ний, в том числе средств и форм политического на
силия, обусловливает его социальное содержание.
Поскольку «способ производства материальной
жизни обусловливает социальный, политический и
духовный процессы жизни вообще» \ постольку и
возникновение, характер и рамки тех или иных про
явлений социально-политического насилия опреде
ляются в конечном счете законами функционирова
ния и развития производства, его противоречиями и
интересами.
Вскрыв «экономические механизмы» проявлений
насилия в общественной жизни, основоположники
научного коммунизма подвергли аргументированной
критике теоретическую несостоятельность так назы
ваемой «философии насилия», в основе которой ле
ж ит своеобразный принцип «силового детерминизма»,
абсолютизация значения и роли насилия в качестве
демиурга исторического процесса, первоисточника
всех социальных явлений и процессов, включая и
экономическое развитие.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 7
13
«...Насилие есть только средство, целью же явля
ется, напротив, экономическая выгода,— писал Ф. Эн
гельс. — Насколько цель «фундаментальнее» средст
ва, применяемого для ее достижения, настолько же
экономическая сторона отношений является в исто
рии более фундаментальной, чем сторона политиче
ская» *.
Какие бы формы и методы насилия ни применяли
исторически отжившие классы, они бессильны повер
нуть вспять процесс общественного развития и вы
нуждены уходить с арены истории, как только произ
водственные отношения, обусловливающие их гос
подство, вступаю т в непримиримое противоречие с
развивающимися производительными силами и ста
новятся препятствием на*их пути.
Классовая борьба и революционные движения,
политические перевороты, войны и другие проявле
ния социального насилия возникаю т в конечном счете
из внутренних противоречий способа производства,
из происходящих в нем объективных изменений. Не
случайно господствующий класс заинтересован пр е
жде всего в том, чтобы всеми средствами охранять
и укреплять в первую очередь существующие произ
водственные отношения, в то время как угнетенные
классы стрем ятся изменить эти отношения. Именно
стремление определенных классов и социальных
групп р еал изовать свои интересы (экономические
прежде всего) порождает классовую борьбу, главной
формой которой является политическая борьбы, в
которой используются те или иные виды насилия.
«...Основной экономический интерес пр олетариата,—
подчеркивал В. И. Ленин,— может быть удовлетворен
только посредством политической революции, зам е
няющей диктатуру буржуазии диктатурой пролета
риата» 2.
Вместе с тем политические идеи могут быть реа
лизованы лишь тогда, когда для этого созрели необ
ходимые материальные предпосылки и сформирова
лась общественная сила, которая может данные идеи
воплотить в жизнь. Лишь «на известной ступени сво
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 164.
2 В. И . Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 46.
14
его развития материальные производительные силы
общества приходят в противоречие с существующими
производственными отношениями... внутри которых
они до сих пор развивались... Н аступает эпоха соци
альной революции» *. Что же касается механизма реа
лизации исторической необходимости, поступатель
ной смены одного способа производства другим, то
в нем важная, подчас решающая роль принадлежит
именно насилию. «Насилие является повивальной
бабкой всякого старого общества, когда оно берем ен
но новым» 2.
Марксизм-ленинизм впервые обосновал положе
ние о преобразующей и ускоряющей общественный
прогресс функции революционного насилия, о решаю
щей роли народных масс в революционном истори
ческом творчестве. Во всех антагонистических об
щественных формациях реализация закона соот
ветствия производственных отношений характеру
производительных сил осуществляется путем рево
люционной борьбы трудящихся — главной силы,
свергающей власть отжившего класса эксплуатато
ров. Социальные революции — периоды наибольшей
политической активности поднявшихся к самостоя
тельному творчеству народных масс. Они неизмеримо
ускоряю т течение исторических событий.
Научно обосновывая историческую необходимость
и позитивную роль революционного насилия, к ко
торому прибегают прогрессивные классы в борьбе за
свержение устаревших общественных отношений,
Ф. Энгельс подчеркивал, что в этих случаях именно
«насилие является тем орудием, посредством кото
рого общественное движение пролагает себе дорогу
и ломает окаменевшие, омертвевшие политические
формы...» 3.
Вместе с тем марксистам в принципе чужда абсо
лютизация силы как политического оружия. Марк
сизм рассматривает насилие лишь как вынужденное
средство классовой борьбы против сопротивляющих
ся эксплуататоров и контрреволюционеров. Оно вовсе
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 7.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 761.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, Стр. 189.
15
не самоцель диктатуры пролетариата, а необходимое
орудие для ликвидации политического и экономи
ческого господства класса буржуазии.
Вопрос о социально-политическом насилии полу
чил дальнейшую научную разработку и обобщение
с позиций марксизма-ленинизма в современную
эпоху, когда в мире произош ли глубокие историче
ские изменения, неизмеримо возросли масштабы ре
волюционно-освободительной борьбы народных масс,
до предела обострились противоречия монополисти
ческого капитализма.
Все большее число людей в буржуазных странах
начинает сознавать необходимость существенных из
менений в общественном порядке и образе жизни, в
самих социально-экономических устоях капитализма.
Поэтому вопрос о характере и форме этих изменений,
революционных путях и средствах, с помощью кото
рых они могут быть осуществлены, а также о тех
общественных силах, которые должны сыграть ре
шающую роль в осуществлении этих изменений, ста
новится одним из главных вопросов социальной, по
литической и идеологической жизни.
КПСС, международное коммунистическое движе
ние следуют ленинскому указанию о необходимости
теоретической оценки новых форм классовой борьбы,
выдвигаемых жизнью ]. В документах международ
ных Совещаний коммунистических и рабочих партий
1965 и 1969 гг., в м атериалах XXIV съезда КПСС,
съездов братских коммунистических партий содер
жится глубокий научный анализ процессов и тенден
ций современного общественного развития, револю
ционной борьбы трудящихся в условиях коренного
изменения соотношения сил на мировой арене в
пол ьзу социализма.
Осуществляемая коммунистическими партиями
творческая разработка таких актуальных проблем
современности, как сближение демократических и со
циалистических задач революционной борьбы, п р а
вильное сочетание мирных и немирных форм рево
люции, возможность осуществления в данных кон-
кретно-исторических условиях принципов политики
1См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 14, стр. 12.
16
мирного сосуществования в качестве общепризнанной
нормы международных отношений, предотвращение
совместными действиями миролюбивых сил возник
новения новой мировой войны, объединение всех де
мократических сил в единый фронт борьбы против
милитаризма и неофашизма, за разрядку междуна
родной напряженности, и целого ряда других вопро
сов стратегии и тактики классовой борьбы обогатила
сокровищницу марксистско-ленинского учения и про
демонстрировала незыблемость его основополагаю
щих идей.
Для конструктивного анализа и позитивной тео
ретической разработки проблемы социального наси
лия с позиций марксизма применительно к конкрет
ным условиям современной эпохи важное значение
имеет исследование закономерностей диалектики
объективного и субъективного в историческом про
цессе, возрастания роли субъективного фактора и его
влияния на все сферы общественной жизни, общего и
особенного в мировом революционно-освободитель
ном движении, закономерностей социальных рево
люций. Следует при этом иметь в виду, что сам фе
номен социально-политического насилия не является
неизменной категорией, чем -то засты вш им и раз на
всегда данным; он находится в постоянном развитии
вместе с развитием самой общественной жизни, в его
содержании и структуре, в формах и видах проявле
ния происходят изменения количественного и качест
венного порядка. Все это находит свое отражение и
теоретическое обобщение в вечно развивающемся и
обогащающемся историческим опытом и революцион
ной практикой учении марксизма-ленинизма .
Буржуазные теоретики также проявляют неиз
менный интерес к проблеме социального насилия,
рассматривая ее, однако, с позиций апологетики ка
питалистического общества. Проблема насилия пре
вратилась в одну из ведущих тем буржуазной соци
альной мысли. И это, конечно, не случайно. Хотя
среди буржуазных теоретиков стало модой выступать
с требованием «деидеологизации» науки, доказывать
«пагубность» влияния политики на философию, вся
чески подчеркивать научную объективность и «над
классовый» х ар актер своих исследований, в действи-
2
В. В. Денисов
17
телыюсти же никогда в прошлом не выступала в та
кой отчетливой и неприкрытой форме апологетиче
ская роль буржуазной философской теории вообще,
буржуазной социологической теории, осмысляющей
феномен насилия, в частности.
Социальное насилие органически присуще капи
тализму, основанному на эксплуатации и угнетении
трудящ ихся, ограблении народов зависимых стран,
на политике милитаризма и агрессии. К. Маркс под
черкивал, что сам механизм реализации буржуазных
частнособственнических отношений требует наличия
политического насилия. Становление капиталистиче
ского способа производства вписано в историю чело
вечества «языком крови и огня». « . . .Новорожденный
капитал источает кровь и грязь из всех своих пор,
с головы до пят» КВполне правомерно применить эту
марксистскую характеристику капитализма и к мо
нополистической его стадии. « . . .Никогда власть капи
тала не могла держаться иначе, как насилием» 2,— от
мечал В. И. Ленин.
Присущая любому эксплуататорскому обществу
закономерность — усиление по мере углубления его
кризиса и обострения антагонизмов всех реакцион
ных черт, антидемократических и агрессивных тен
денций— с особой силой проявляется в идеологии и
политике современного монополистического капита
лизма. Английский юрист Ральф Милибэнд, исследуя
социально-политическое положение в ряде империа
листических государств, пришел к выводу о прису
щей им отчетливо выраженной тенденции движения
от буржуазной демократии к «консервативному авто
ритаризму». Он пишет, что «переход от традиционной
демократии к более или менее ясно выраженным
формам авторитарности, наблюдающийся сегодня в
определенных звеньях политической системы запад
ного мира, есть уже... ощутимая реальность» 3.
Факты показывают, что современный капитализм
ке только не отказался от «классических» средств и
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 727, 770.
2В. II. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 38, стр. 326.
3 /?. Miliband. The State in Capitalist Society. London,
1%<), p . 272.
18
методов политического насилия, но нередко п ы та
ется активизировать политику массового террора и
репрессий, часто открыто попирает традиционные
нормы буржуазной демократии и законности. С по
мощью целой системы организованного физического
и духовного насилия капитал стремится законсерви
ровать исторически отжившие общественные отноше
ния и увековечить свое господство, задушить рево
люционное и демократическое движение масс. Тем
самым буржуазное государство разоблачает себя как
машину классовой диктатуры и деспотизма.
В то же время в современных условиях сосущест
вования и противоборства двух противоположных со
циальных систем капитализм далеко не всегда может
рассчитывать на успех, открыто провозглашая свои
действительные цели. Он вынужден создавать целую
систему идеологических мифов, маскирующих под
л инный смысл проводимой им политики, и нередко
отдавать предпочтение методам так называемого кос
венного насилия — различным способам экономиче
ского, политического, идеологического давления и
воздействия на массы.
В широких масштабах осуществляется давление
на сознание и психику людей, манипуляция общест
венным мнением с помощью средств массовой инфор
мации и массовой культуры. Никогда духовное наси
лие над массами не было столь изощренным, всеох
ватывающим и организованным.
Стремясь замаскировать и фальсифицировать
действительную роль насилия как важнейшего ору
дия экономического и политического господства
эксплуататорских классов, буржуазные идеологи
пытаются представить его «нейтральным» в классо
вом отношении и сугубо служебным элементом госу
дарственного управления. Насильственную и агрес
сивную природу капиталистического строя, его ан та
гонизмы и пороки они пытаются оправдать «извеч
ным» и «естественным» характером различных про
явлений насилия в жизни общества на любой стадии
его исторического развития, вы дать агрессивность за
некое врожденное свойство человеческой природы.
Ведущая роль здесь принадлежит современной бур
жуазной «социологии насилия». Она включает в себя
19
развернутую «систему философских, социологических,
психологических, биологических, правовых и дру
гих теорий, призванных доказать неизбежность со
циальных конфликтов, насилия в жизни общества,
внедрить в сознание масс идеологию милитаризма,
культ силы, приучить людей к насилию как якобы
вечному спутнику человечества. В то же время бур
жуазные идеологи неизменно выступают с осужде
нием любых проявлений насилия, идущих «снизу» и
носящих революционный характер, направленных
против социально-экономических устоев и порядков
буржуазного общества, объявляют все формы рево
люционно-освободительного движения трудящихся
незаконными и иррациональными действиями, рас
сматриваю т это движ ение как «абсолютное зло» и
«массовый психоз».
Особая активность в теоретической разработке
проблемы социально-политического насилия со сто
роны буржуазной науки наблюдается в последнее де
сятилетие. М ногообразные аспекты теории и пр ак
тики насилия являются объектом пристального вни
мания многих буржуазных ученых и целых научных
коллективов. Исследованием этой проблемы заняты
сейчас десятки специально созданных во многих ка
питалистических странах научных институтов, уни
верситетских центров, правительственных комите
тов, общественных и международных организаций К
Согласно данным департамента социальных наук
ЮНЕСКО, количество исследований по проблеме со
циального насилия возрастает на Западе значительно
быстрее, чем по любым другим вопросам в области
общественных наук.
Проблеме насил ия посвящ аю тся многочисленные
монографические труды и тематические выпуски
журналов, студенческие диспуты и публицистиче
ские статьи, эта тема стала предметом обсуждения
1Так, в США создана специальная комиссия конгресса
по изучению причин возникновения насилия в обществе и
путей его предотвращения; существует научный центр по ис
следованию конфликтных ситуаций; учрежден международ
ный Институт по изучению политических и военных кон
фликтов.
20
специальных научных конференций и международ
ных симпозиумов 1.
Диапазон различий и оттенков, наблюдающихся
при трактовке этой проблемы в современной буржу
азной социальной мысли, достаточно велик: от идео
логов крайне правых, милитаристских и экстремист
ских кругов империализма,
пропагандирующих
культ силы и приписывающих насилию определяю
щую роль во всех сферах общественной жизни, до
идеологов либерального крыла буржуазии, придер
живающихся пацифистских взглядов и отвергающих
в принципе использование насилия применительно
к любым условиям и ситуациям. Соответственно
этому расслоению весьма разный характер носят и
побудительные мотивы тех или иных буржуазных
исследований феномена насилия, а такж е выводы
и прогнозы о возможности решения этой проблемы в
практическом плане.
Нельзя поэтому не проводить различия между ре
акционными, проникнутыми духом милитаризма и
антикоммунизма работами откровенных апологетов
империализма и субъективно добросовестными по
пытками разобраться в этой проблеме отдельных бур
жуазных ученых, которые хотя и далеки от мар
ксистских позиций, но тем не менее стремятся к трез
вому анализу и объективной оценке явлений совре
менной действительности, придерживаются в целом
прогрессивных политических взглядов.
В буржуазной социологии наблюдается попытка
разработки как общей теории насилия, универсаль
ных методов и средств исследования этого феномена,
так и более частных теорий среднего уровня, при
званных проанализировать те или иные конкретные
аспекты этой проблемы. В последние годы в буржуаз
ной социологии возникло, в частности, целое направ
1В 1969 г. в ФРГ был организован международный сим
позиум на тему «Пацифизм и насилие». Международный фо
рум на тему «Человек и насилие» состоялся в 1970 г. в Па
риже. «Проблема агрессии в социальной психологии» была
предметом обсуждения 27-го международного психоаналити
ческого конгресса, проведенного в 1971 г. в Вене. В 1972 г.
в Брюсселе состоялась международная научная конференция
по проблеме «Природа человеческой агрессивности».
21
л ение — вайоленсология (от английского слова vio
lence)— наука о насилии. В задачу этой новой «нау
ки», создание которой провозглашено на Западе
«поворотным пунктом в судьбе человечества», входит
комплексное изучение теории и практики насилия на
базе самых различных научных дисциплин, как
общественных, так и естественных . Согласно широ
ковещательным и претенциозным заявлениям бур
жуазных теоретиков, вайоленсология призвана «сдви
нуть, наконец, с мертвой точки исследование фено
мена насилия, выяснение порождающих его причин,
выработать практические рекомендации для предуп
реждения насилия» Кроме того, исследования в об
ласти вайоленсологии призваны, по их мнению,
«стимулировать формирование неманипулируемой и
политически дееспособной общественности», которая
будет способна оказывать влияние на устранение
причин, порождающих столь многочисленные соци
альные конфликты и проявления насилия в совре
менном обществе.
Повышенный интерес к проблеме насилия прояв
ляется сейчас не только среди академических, но
также и политических, военных и деловых кругов
Запада. «Насилие стало модной темой в науке и поли
тике,— пишет американский философ Дж. Лоуренс. —
Она вызывает множество различного рода вопросов
и самых противоречивых мнений. Что представляет
собой феномен насилия — жизненную норму или ее
нарушение? Является ли насилие врагом свободы че
ловека, социального прогресса и порядка или, наобо
рот, их необходимой основой и источником? Является
ли оно рациональным средством политических отно
шений или оружием самоуничтожающего характера?
Есть ли оно результат приобретаемого обучения и
воспитания или же детерминируется неким естест
венным и врожденным природным инстинктом?
Является ли насилие патологической, навязанной в
принудительном порядке формой человеческого по
ведения или нормальной, осознанной и добровольной
реакцией, за которую человек может и должен нести
полную и безусловную ответственность? Может ли
1 «20th Century», vol. 173. London, 1965, N 1024, p. 34.
22
общество предупреждать и устранять причины и
источники насилия из своей общественно-политиче
ской практики, или же они должны изживать себя
сами, самоустраняться каким-либо естественным пу
тем, предусмотренным самой их природой?
Неотложная необходимость всестороннего изуче
ния всех этих вопросов, нахождения научно аргумен
тированного и исчерпывающего ответа на них ста
новится очевидной не только в связи с явной проти
воречивостью существующих на этот счет взглядов
и мнений, но также и в связи с самим характером
поставленных вопросов и, не в последнюю очередь,
в связи с обстоятельствами и условиями возникнове
ния самих этих вопросов в нашу полную социальных
катаклизмов и тревог эпоху» 1.
В последние годы наблюдается все более тесное
смыкание буржуазных и ревизионистских теорий на
силия. В лице правых и «левых» ревизионистов бур
жуазные теоретики нашли себе идейных союзников,
которые под разными этикетками протаскивают идео
логию волюнтаризма, анархизма, исторического фа
тализма и пессимизма, неверия в классовое сознание
трудящихся масс, их революционные силы и воз
можности.
Извращая марксистско-ленинское учение о рево
люционном насилии, современные догматики, и в
первую очередь сторонники маоизма, отрицают
в принципе возможность мирных путей к социа
лизму, абсолютизируют методы вооруженного наси
лия, провозглашая их как единственно возможные
и целесообразные в классовой борьбе. Ставка на заго
ворщическую тактику и авантюризм в политике,
ультрареволюционная фразеология, оторванная от
реальной революционной действительности и корен
ных интересов трудящихся,— таковы
характерные
черты «левого» ревизионизма. Идейно-теоретической
основой антимарксистских взглядов и авантюристи
ческой политики «левых» доктринеров является во
люнтаристская трактовка истории, отказ от элемен
тарных требований диалектики при анализе совре
1 /. Lawrence. Violence. «Social Theory and Practice», vol. 1.
N.V., 1070,N2,p.31.
23
менной действительности, ее специфики и тенденций,
закономерностей классовой борьбы, игнорирование
нового соотношения сил на международной арене и
внутри самих капиталистических стран.
Не менее ошибочную и вредную позицию зани
мают правооппортунистические идеологи, трактую
щие марксизм в духе теории «стихийности» и «эко
номического» материализм а. Они недооценивают и
всячески принижаю т значение классовой борьбы,
возрастающую роль субъективного фактора в совре
менном общественном развитии. У тверждая, что ав
томатическое действие законов материального про
изводства и рост производительных сил сами по се
бе приведут к падению капитализма и утверждению
социализма, эти теоретики отрицают необходимость
социалистической революции, организации масс для
решительных классовых битв, уповают на реформы
и «парламентские» средства борьбы за социализм, от
рицают в принципе необходимость применения рево
люционного насилия. Теоретической основой идеоло
гии и политики правого реформизма в целом, его
подхода к проблеме социально-политического наси
лия в частности является фатализм в трактовке исто
рического процесса.
Антимарксистские взгляды и антикоммунистиче
ская раскольническая деятельность ревизионистов
всех мастей наносят существенный вред революци
онно-освободительной борьбе трудящ ихся, мировому
рабочему и коммунистическому движению. «При
всем отличии друг от друга отклонения от маркси-
зма-ленинизма вправо или «влево» ведут в конечном
счете к одинаково вредным последствиям: ослабляют
боеспособность коммунистических партий, подры
вают революционные позиции рабочего класса и
единство антиимпериалистических сил» К
Для успешной идеологической борьбы против р е
акционных буржуазных и ревизионистских доктрин
насилия важно органическое сочетание аргументиро
ванной их критики с дальнейшей позитивной разра
боткой этих вопросов с марксистско-ленинских пози
ций, с творческим исследованием нерешенных новых
1Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 2. М ., 1970, стр. 390.
24
проблем, которые ставит современная социальная
действительность.
За последние годы советскими учеными был вы
пущен ряд работ, посвященных исследованию раз
личных аспектов проблемы социально-политического
насилия, критики идеологии и политики современ
ного м ил итаризм а К Вместе с тем очевидна необходи
мость в обобщенном критическом исследовании идей-
но-теоретической сущности и методологических
принципов новейших буржуазных концепций наси
лия, вскрытии их гносеологических и социальных
корней, разоблачении их реакционной апологетиче
ской роли. Все эти вопросы и являются основным
объектом рассм отрения в данной книге.
1См., н апример: «Проблемы войны и мира. Критика сов
ременных буржуазных социально-философских концепций».
М., 1967; Ю. А. Красин. Ленин, революция, современность. М.,
1967; В. Э. Петровский. Суд Линча (Очерк истории террориз
ма и нетерпимости в США). М ., 1967; «Научные исследования
по проблемам войны и мира». М .,
1970; А. А . Миголатьев.
Эскалация милитаризма. М ., 1970; «Социологические пробле
мы международных отношений». М.,
1970; П. И. Гришаев.
Репрессия в странах капитала. М., 1970; А. Каренин. Филосо
фия политического насилия. М ., 1971; Б. Н. Бессонов. Идео
логия духовного подавления. М., 1971; «Ленинская теория со
циалистической революции и современность».
М.,
1972;
И. Н. Иноземцев. Современный капитализм: новые явле
ния и противоречия. М ., 1972; «Идеологическая деятельность
современного империалистического государства». М.,
1972;
Е. И. Рыбкин. Война и политика в современную эпоху. М .,
1973; Н. М . Сирота. Критика антикоммунизма по проблемам
войны, мира и революции. М ., 1973; В. В. Денисов. Империа
лизм и насилие. М ., 1973. Э. Я. Баталов. Философия бунта.
М., 1973.
Глава I
АПОЛОГЕТИКА КУЛЬТА СИЛЫ
В СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ
1. Насилие —
«социальная болезнь XX века»?
За внешним разнообразием отражения
в буржуазной социально-философской мысли проб
лемы насилия, ее теоретической трактовки, за эклек
тичностью и кажущейся противоположностью мно
гочисленных старых и новых концепций в этой обла
сти скрывается достаточно четко и последовательно
проводимая целевая установка, прослеживается
вполне определенная идеологическая направлен
ность. Суть этой «генеральной линии» в современной
буржуазной «социологии насилия» заключается в
том, что в зависимости от социально-классовой диф
ференциации тех или иных видов и типов проявлений
насилия в общественной жизни наблюдается и соот
ветственно качественно разл ичный подход к ним со
стороны буржуазных теоретиков, в принципе раз
личная их философско-социологическая трактовка
и моральная оценка.
Типологизацию разнородных по своему качест
венному содержанию и социальной направленности
проявлений насилия и принуждения, имеющих место
в политике и жизни современного буржуазного обще
ства, можно свести к трем основным видам.
Во-первых, насилие, которое можно назвать наси
лием «сверху», т. е. используемое во внутренней и
внешней политике военно-полицейскими, разведыва
тельными и судебно-карательными органами буржу
азных государств насилие в отношении как трудя
щихся собственных стран, их политических партий и
демократических общественных организаций, так и
народов, борющихся за свою свободу и независп-
26
мость, а также направленное против социалистиче
ских стран.
Монополистическая буржуазия пытается любыми
средствами противостоять натиску мирового револю
ционного движения. В ряде случаев она идет на от
крытое нарушение конституционных норм и законов.
«Узаконенное насилие» — этот термин, означающий
репрессивные действия войск и полиции против тру
дящихся, прочно вошел в политическую терминоло
гию современного капиталистического общества.
Тот факт, что даже буржуазное право не удов
летворяет больше монополистическую буржуазию,
поскольку не является достаточным средством для
удержания власти и защиты ее интересов, свидетель
ствует об исторической обреченности капитализма.
Тем не менее-по отношению к насилию этого вида —
империалистическому насилию среди больш инства
буржуазных авторов господствует полное единоду
шие: они всячески оправдывают и институализируют
любые формы и методы его проявления, пытаются
найти «научные» аргументы, дабы до казать их «за
конный» характер.
Буржуазные идеологи в лучшем случае ограничи
ваются рекомендациями избегать по возможности
крайних мер и соразмерять масштабы применения
насилия с реальной необходимостью. Проявляя бес
покойство перед растущей сплоченностью и реш имо
стью трудящихся масс давать отпор всем актам без
закония и насилия империалистической буржуазии,
они в данном случае выступают лишь против прояв
лений, как они сами называют, «провокационного на
силия» со стороны властей.
Одновременно они стремятся любым путем за
маскировать классовую сущность и направленность
применяемых империалистическими кругами на
сильственных средств, представить их в качестве
сугубо «технического» инструм ента государственной
власти и политики, призванного якобы служ и ть «все
общим» интересам и целям. Такого рода апологети
ческая трактовка насилия «сверху», по существу,
направлена на оправдание антидемократической, ми
литаристской, экспансионистской политики импе
риализма.
27
Классовым целям буржуазии, апологетике ее
внутренней и внешней политики служит фактически
и широко распространенная сейчас в буржуазной со
циально-политической литературе абстрактно-гума
нистическая трактовка феномена насилия. Суть ее
состоит в том, что на одну доску ставятся и осуж
даются «оптом», исходя из внеклассовых моральных
критериев, любые виды и проявления насилия в со
временном мире. Прикрываясь лозунгами «общече
ловеческих интересов» и «абсолютных идеалов» сво
боды и гуманизма, буржуазные теоретики в этом
случае полностью нивелируют социальную природу
и классовую направленность проявлений насилия в
общественной жизни и с позиций пацифизма высту
пают в принципе против всех видов вооруженной
борьбы и насильственных действий в любых обстоя
тельствах. Однако их критика не затрагивает того
общественного строя и тех реакционных классов
и слоев, которые явл яю тся первоисточником соци
альных конфликтов.
Второй вид насилия — это разнообразные прояв
ления революционного, антиимпериалистического на
силия, направленного против эксплуататоров и угне
тателей, колонизаторов и милитаристов, буржуазных
органов власти.
Чувство неудовлетворенности существующими
условиями жизни, настроения критики и протеста
против социальной несправедливости зах ваты ваю т
сегодня все более широкие слои населения капитали
стического мира. Н арастает и обостряется организо
ванная революционная борьба трудящихся, ширятся
движения стихийного протеста и «массовые волне
ния». Капиталистический мир сотрясают политиче
ские и экономические забастовки, расовые и трудо
вые конфликты, студенческие выступления, разви
вается антивоенное, антимилитаристское движение.
В ходе революционно-освободительной борьбы и
движений социального протеста трудящиеся массы
и свободолюбивые народы в ответ на реакционное на
силие империализма вынуждены прибегать к различ
ным формам вооруженной борьбы и классового при
нуждения, отстаивая свои жизненные права и инте
ресы, борясь против социального и национального
28
рабства, за свержение диктатуры империалистиче
ской буржу азии и социалистические преобразования.
Идейно-теоретическая трактовка этого вида наси
лия в буржуазной социологии отражает прежде всего
тот классовый страх и ненависть, которые испыты
вают империалисты перед неуклонно нарастающим
революционно-освободительным движением совре
менности. Буржуазные идеологи категорически осуж
дают и предают анафеме любые проявления насилия
«снизу», и прежде всего те, которые носят подлинно
революционный характер и представляют реаль
ную угрозу существованию капитализма. При этом
обычно ссылаю тся на то, что любое «неконституцио
нальное» использование силы выходит за установ
ленные рамки буржуазной законности и правопо
рядка и поэтому насильственные действия и «бунты
толпы» следует рассматривать как проявление «дис
функциональной агрессии», как явления иррацио
нального и аморального порядка и объявлять вне за
кона их участников.
Конечно, различные активные действия масс, при
нимающие форму насилия,— явления неоднородные
с точки зрения их реального социально-классового
смысла и объективной роли, которую они играют
в антиимпериалистической борьбе. Втягиванием в
активную политическую жизнь самых широких слоев
трудящихся, народов бывших колониальных и зави
симых стран обусловливается тот факт, что далеко
не всегда уровень классового сознания, организован
ности и политической зрелости масс позволяет им
правильно ориентироваться в сложной обстановке,
выбирать наиболее адекватные конкретным усло
виям и общим задачам революционного движения
средства и формы борьбы. Так иногда антиимпериали
стические настроения масс выливаются в экстремист
ские формы борьбы, продиктованные скорее чувст
вом отчаяния и непосредственным эмоциональным
возмущением, нежели революционной целесообраз
ностью и практической необходимостью, особенно в
тех случаях, когда массы попадают под влияние мел
кобуржуазной идеологии «левых». Поэтому, оцени
вая место и роль того или иного массового движения
протеста в антиимпериалистической борьбе трудя
29
щихся, следует исходить не только из идеологиче
ских лозунгов и положений, которые выдвигают
представители этого движения, а прежде всего из
того, чему объективно служит это движение: посту
пательному развитию общества или, наоборот, кон
серватизму и регрессу. Последнее происходит в тех
случаях, когда массы являются слепым орудием в
руках реакционных элементов, объективно отстаивая
в своей борьбе не собственные коренные интересы,
а, по сути дела, чуждые им цели эксплуататоров,
хотя и закамуфлированные. Поддавшись на какой-то
период социальной демагогии и обману со стороны
реакции, религиозному дурману или националисти
ческим предрассудкам, массы могут выступить в
роли разрушительной силы, враждебной обществен
ному прогрессу. В первую очередь, как свидетельст
вует исторический опыт, этому подвержены мелко
буржуазные слои населения. Абсолютизируя такого
рода проявления насилия «снизу», буржуазные идео
логи извращ аю т природу и сущность революционного
движения трудящихся. Антинаучный и клеветниче
ский характер их трактовки борьбы масс за социаль
ное и национальное освобождение выражается и в
том, что они пытаются приравнять ее к таким фор
мам насилия, как, например, расистский суд Линча
ит.п.
Некоторые буржуазные идеологи стремятся при
писать «конфронтации низов» все беды и катакл изм ы
современного человечества, представить революцион
ную борьбу, национальную и классовую «нетерпи
мость» в качестве главной причины внутренних и
международных кризисов, основного препятствия на
пути социального прогресса и развития цивилизации.
Осуждая движения «гражданского неповинове
ния», случаи столкновения народа с армией и поли
цией, методы так называемых «прямых действий»,
к которым все чаще обращаются трудящиеся в про
цессе классовой и общедемократической борьбы, бур
жуазные идеологи лицемерно заявляют, будто наси
лие и конфронтация «снизу» являются единственной
причиной насилия «сверху», призывают массы к
«уважению правопорядка» и беспрекословному «по
слушанию» ради «всеобщего» мира и благополучия.
30
И конечно, основным объектом их критики яв
ляются открытые революционные выступления рабо
чего класса и его союзников против капитала, нацио
нально-освободительная борьба народов против ино
странных колонизаторов и реакционных диктатор
ских режимов.
Третий вид насилия, получивший небывалый раз
мах в последние годы в капиталистическом обществе,
охватывает различные формы уголовной преступно-
сти и организованного гангстеризма.
Частнособственнические отнош ения не только
раскалывают буржуазное общество на враждебные
классы, но и во все большей степени деморализу
ют его, не только противопоставляют людей, но и
развращают их, толкают на преступления ради на
живы.
Углубляющееся социальное неравенство, массо
вая безработица и всестороннее отчуждение лично
сти, девальвация нравственных норм и моральных
ценностей, пропаганда культа силы и суперменства,
дух наживы и «психоз приобретательства» — все это
способствует распространению такой весьма х ар ак
терной для современного буржуазного общества фор
мы насилия, как уголовная преступность. Садизм и
убийства, ограбления и перестрелки конкурирующих
гангстерских банд на улицах городов, преступления,
совершаемые на почве алкоголизма, наркомании и
вообще без всяких видимых причин и целей, приоб
рели массовый характер и стали обыденным явле
нием капиталистической, и прежде всего американ
ской, действительности.
По данным Федерального бюро расследований
США в 1971 г. в стране было совершено около 6 млн.
преступных актов, в том числе 17 630 убийств, под
вергнуто аресту 8600 тыс. человек . Практически каж
дые три из 100 американских граждан были объек
тами того или иного вида преступлений.
Принявшая массовый характер преступность, осо
бенно среди молодежи, еще больше компрометирует
и без того ущербные идеалы «свободного мира», вы
зывая беспокойство среди самых широких кругов
западной общественности, сея панику и страх в созна
нии буржуазного обывателя.
31
«Драмы «асфальтовых джунглей»,— пишет
анг
лийский ученый Джон Постгейт,— явл яю т собой пер
вые симптомы глобальной социальной неустойчиво
сти западного общества» К
Все эти настроения получают соответствующее
осмысление в буржуазной «социологии насилия».
Позиция буржуазных теоретиков в отношении воз
можностей и перспектив искоренения или хотя бы
существенного ограничения роста преступности, как
правило, весьма пессимистична. По существу, они
смирились с этой «социальной болезнью», не буду
чи в состоянии предложить действенных рецептов,
сколько-нибудь радикальных мер для ее излечения.
Большинство социологов не исследуют социаль
ных причин роста преступности, а сознательно извра
щают сущность этого явления, пытаясь доказать
неизбежность и даж е «естественность» существова
ния уголовного насилия при любом общественном
строе. Некоторые буржуазные теоретики стремятся
представить это явление исключительно как резуль
тат «патологического поведения» отдельных индиви
дов, неподдающегося контролю общества, как неис
коренимую тягу человека к совершению насильст
венных актов, агрессии и подавлению более слабых.
В то же время правящие круги империализма ис
пользуют рост преступности и вызываемую им тре
вогу среди населения капиталистических стран для
того, чтобы отвлечь внимание масс от других острых
социально-экономических и политических проблем
капиталистического общества, активизировать под
предлогом борьбы с преступностью репрессивно-тер-
рористическую деятельность против прогрессивных
политических партий и демократических организа
ций трудящихся.
В ряде капиталистических стран активизирова
ли свою экстремистскую, террористическую деятель
ность правы е партии и организации: неофаш истские,
сионистские и т. д. М онополистический капитал не
гнушается прибегать к помощи ультраправых эле
ментов, к услугам мафии, гангстеров и других уголов
ников для срыва забастовок, проведения террористи
1Цит. по: «Литературная газета», 7 ноября 1973 г., стр. 12.
32
ческих актов против коммунистов, профсоюзных и
прогрессивных общественных деятелей. Насилие и
принуждение, пишет в этой связи американский со
циолог Скотт Ниринг, «стали обычным делом в бур
жуазном обществе» 1.
Вынужденные признать, что насилие стало орга
нически неотъемлемым и перманентным фактором
капиталистической действительности, буржуазные
идеологи вместе с тем пытаются представить это яв
ление как некую специфическую тенденцию, фатали
стически присущую будто бы современному обще
ственному развитию в целом. Стремясь приписать
феномену насилия всеобщий и абсолютный харак
тер, доказать, что тенденция роста насилия в одина
ковой степени и неизбежно проявляется в любом ин
дустриально развитом обществе, независимо от его
социально-классовой природы, они поспешили объ
явить XX век «веком насилия», а всю современную
цивилизацию — «цивилизацией конфликта и кризи
са». «Если язык насилия стал неотъемлемым и орга
нически присущим языком современной политики,
идеологии, науки, литературы и искусства,— пишет
английский социолог Джон Арден,— то объяснение
этому следует искать прежде всего в том, что мы все
живем в век насилия, в обществе насилия» 2.
Общество, сокруш енно констатируют сейчас мно
гие буржуазные идеологи, все в большей степени на
поминает гоббсовское естественное государство с его
главным принципом общественной жизни — «война
всех против всех». «XX век стал свидетелем бес
прецедентного скачка всех видов насилия,— пишет
американский философ Ш. Волин. — По количеству
жертв, размерам произведенных разрушений и мо
щи применяемых средств насилия современная эпо
ха не может быть даже приблизительно сравнима с
какой-либо другой эпохой» 3.
В еще более категорической форме высказывает
1С. Ниринг. Свобода: обещание и угроза. Критика куль
та свободы. М .. 1966, стр. 164.
2 /. Arden. How to understand boll. «20th Century», vol. 173.
London, 19(55, p. 99.
3 Sh. Wolin. Violence and Western Political Traditions. In:
«Violence: Causes and Solutions». N. Y., 1970, p. 30.
3
В. В Денисов
ся на этот счет в статье «Век сверхнасилия» другой
американский теоретик — Б. Демотт: «Дух массово
го убийства витает повсюду в современном мире. Он
присутствует в борьбе за господство на международ
ной арене и в демографическом взрыве, в загрязне
нии окружающей среды и росте преступности, он
проникает во все поры и костный мозг науки, техни
ки, культуры» 1.
Заявляя, что человечеством обуревает «позыв к
насилию», английский философ Д. Рафаэль пишет:
«Культ безудержного насилия наряду с культом по
требительства— таковы два главных и все более
разрастающихся порока всего цивилизованного об
щества» 2.
Аналогичную точку зрения о якобы «внутренне»
конфликтном и насильственном характере всей ин
дустриальной цивилизации отстаивает и американ
ский социолог Дж. Джимлин: «Хотя насилие часто
связывается и ассоциируется с низшими и самыми
примитивными культурами в истории человечества,
его наиболее острые и пагубные проявления наблю
даются именно в XX веке — веке стремительного
скачка всех форм цивилизации и культуры. Не слу
чайно в мировой литературе именно с начала ны
нешнего века наблюдается все более расширяюща
яся тенденция признания насилия как неотъемле
мой и основной черты современной общественной
жизни» 3.
Таким образом, констатируя «эпидемию» насилия,
захлестнувшую западное общество, буржуазные уче
ные дают этому явлению вполне определенную идей
но-теоретическую
интерпретацию .
Нарастающую
всеобщую неудовлетворенность, дух протеста и рас
кола, царящие в мире капитала, классовую борьбу и
«бунты» молодежи, отчуждение личности и уход лю
дей в иллюзорный мир наркотиков, рост агрессивных
тенденций, милитаризма и тоталитаризма — все эти
1 В. Demott. The Age of Overkill. In: «Violence: Causes and
Solutions». N. Y., 1070, p. 44.
2 D. Raphael. Problem s of Political Philosophy. London, 1970,
p. 180.
3 /. S. Gimlin. Violence in am erican life. «Editorial research
reports», vol. 1. W ashington, 1968, N 21, p. 421—422.
34
социальные антагонизмы современного буржуазного
общества его апологеты выдаю т за «кризисное состо
яние» индустриальной цивилизации, за «моральный
тупик» в общественном прогрессе всего человечества.
«Разгул насилия и жестокости, в котором находит
свое выражение внутренний конфликт и смятение
нашей эпохи, вызван духовным и моральным исто
щением цивилизации» \ — пишет американский фи
лософ JI. Берковитц.
Пессимизм, чувства страха, остроты и критично
сти ситуации, апокалипсические прогнозы — таков
общий дух, свойственный большинству современных
буржуазны х исследований проблемы насилия.
«Если рассматривать имеющиеся в современном
мире разнообразные проявления насилия как выра
жение естественного порядка в природе и обществен
ной жизни, то неизбежен вывод о том, что наша
судьба предрешена и мы конченые люди,— пиш ет
Р. Ардри.— Если мы не можем жить друг с другом и
друг без друга, то человеческий род может ожидать
только полное вымирание, или, вернее, самоуничто
жение» 2.
Научно-методологическая несостоятельность и
апологетическая направленность подобного рода эк
страполяции социальных противоречий и пороков,
присущих капитализму, на всю современную циви
лизацию совершенно очевидны.
Буржуазным мыслителям всегда было свойствен
но стремление к абсолютизации роли насилия в исто
рическом процессе, изображение насилия в качестве
главной движущей силы и основополагающей детер
минанты общественного развития, основного источ
ника права и политической власти. « .. .Начиная с Ма
киавелли, Гоббса, Спинозы, Бодена и других мысли
телей нового времени... сила изображалась как осно
ва права; тем самым теоретическое рассмотрение
политики освобождено от морали, и по сути дела был
выдвинут лишь постулат самостоятельной трактовки
политики» 3.
1 L. Rerkowitz. Roots of Agression. A Re—Examination of the
Frustration — Agression. Hypothesis. N. Y.. 1908, p. 15.
2 /?. Ardrey. The Violent Way. «Life», vol. 69, 1970. N 11, p. 07.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 314.
Современные буржуазные теоретики идут по
пути, проторенному их идейными предшественника
ми. Тенденция к абсолютизации значения и роли на
силия в жизни современного общества есть, по сути
дела, своего рода извращенное преломление в созна
нии буржуазных ученых и соответствующее одно
стороннее отражение в их теоретическом мышлении
одной из закономерностей общественного развития
монополистического капитализма — дальнейшего уг
лубления и обострения всех его антагонизмов.
Несомненно, что сам по себе факт усиления вни
мания со стороны буржуазной философско-социоло
гической мысли к проблеме насилия, ее активная
теоретическая разработка обусловлены объективны
ми факторами, реальными условиями и потребностя
ми сегодняшней социальной действительности. В
этом так или иначе находит свое отражение неустой
чивость политической обстановки, которая наблюда
ется в современном мире, обострение социально
классовых противоречий капитализма, всеобщая
озабоченность и тревога широких масс за судьбы
мира, гуманизма и прогресса.
Однако идейно-теоретическое отражение в бур
жуазной общественной мысли явлений объективной
действительности носит на себе ярко выраженную
печать классового субъективизма, ограничено рам
кам и определенной социально-политической ориен
тации.
Не будучи в состоянии найти пути для разреше
ния противоречий общественной жизни, порождае
мых и обостряемых капитализмом, буржуазные тео
ретики, рассматривая феномен насилия, возводят его
в абсолют, однобоко раздувая и отрывая его от сущ
ностных связей и опосредствований, и прежде всего
от материальной основы, детерминирующей возник-
пэвение этого явления. В результате такой односто
ронности в анализе и оценке проявлений социального
насилия получается искаженная и превратная в це
лом картина. Не случайно даже некоторые буржуаз
ные ученые в порыве откровенности указывают на
научную несостоятельность большинства распрост
раненных сейчас на Западе концепций насилия, от
мечают их внутренне противоречивый и субъективи
36
стский характер. «Авторы многочисленных новей
ших теорий насилия претендуют на монопольное
владение истиной в данном вопросе,— пишет амери
канский социолог X. Нибург,— но при ближайшем
рассмотрении оказывается, что сами они не в состоя
нии дать ответы на вопросы, которые неизбежно во з
никают при рассмотрении исследуемого феномена:
«Почему массы откликаются на призыв именно этих
политических лидеров и следуют за ними, принося
себя даже в жертву делу революции? Почему они
выступают именно в данный исторический момент и
в данном конкретном месте? Почему они предпочи
тают применять тактику насилия, а не какую-либо
другую форму борьбы?» Эти вопросы являются клю
чевыми при анализе проблем социальной революции
и проявлений любого политического насилия, но от
вета на них в рассматриваемых теориях найти не
возможно»
Подходя к феномену насилия с абстрактно-мета
физических позиций, буржуазные теоретики прояв
ляют неспособность к подлинно научному анализу
его природы и корней, выработки действенных и ре
альных путей к полному устранению проявлений на
силия в международных отношениях.
2. Эволюция буржуазной
«социологии насилия»
Прежде чем приступить к конкретному
анализу различных взглядов и концепций на приро
ду насилия, распространенных в современной соци-
ально-философской мысли Запада, представляется
целесообразным выявить некоторые общие аспекты
и новые тенденции, характерные для буржуазной
«социологии насилия» в целом.
Процесс развития буржуазной социально-фило-
софской мысли давно уже идет не по восходящей
линии, не по пути выдвижения оригинальных и кон
структивных по своей теоретической и методологи
ческой сущности идей и концепций. Движение здесь
.
1 //. Niebuvg. Political Violence. The Behavioral Process.
N. Y., 1969, p. 44..
37
происходит в основном как бы по кругу. Особенно
заметным стало проявление этой специфической тен
денции, отражающей общий кризис буржуазной об
щественной мысли, в последние десятилетия. С опре
деленной периодичностью на авансцену буржуазной
философии и социологии выдвигаются те или иные
весьма сходные по своим идейно-теоретическим и
методологическим основам ш колы и теории. Внешне
может показаться, что подобная эволюция «по кру
гу» определяется исключительно логикой самого
процесса познания. В действительности же этот «кру
гооборот» обусловлен стоящей перед буржуазной
философией задачей идеологического оправдания
политики господствующих классов. Процесс смены
одних концепций другими, возврат к старым теориям
и активное использование их в слегка видоизменен
ном, модернизированном виде позволяет, во-первых,
создавать видимость динамики развития и, во -вто
рых, ставить на службу официальной идеологии и
политике в каждый данный момент именно те тео
рии, которые в большей степени отвечают классовым
потребностям буржуазии.
При этом, конечно, и внутренняя логика развития
буржуазной философии и социологии диктует свои
определенные закономерности, накладывает свой
специфический отпечаток на общий процесс и на
правление их исторической эволюции.
Характерная для всей буржуазной социальной
мысли тенденция движения «по кругу» находит про
явление и в современных философско-социологиче
ских взглядах на феномен насилия. В целом эти
взгляды по своему содержанию мало чем отличают
ся от имевших некогда широкое распространение со-
циал-дарвинистских и фрейдистских теорий насилия.
Известно, что в основу этих, давно отвергнутых
наукой и жизнью, идеалистических теорий был по
ложен принцип биологизации и психологизации со
циальных явлений и процессов, абсолютизации зако
номерностей животного мира, распространения их на
общественную жизнь. Так, например, утверждая,
что механизм агрессивного поведения людей приво
дится в действие исключительно посредством неких
врожденных и неустранимых инстинктов, извечно
38
существующих в человеческой природе, 3. Фрейд
писал: «Люди по своей природе больше склонны к
нападению, чем к обороне, ибо они обладают в каче
стве врожденной инстинктивной наклонности сильно
развитым чувством агрессивности. Наличие этой ин
стинктивной наклонности к агрессивности яв л яе тся
решающим фактором, нарушающим добрососедские
отношения между людьми и народами и толкающим
общество к столь дорогим и бессмысленным затратам
на военные цели»
С подобного рода взглядами Фрейда во многом
перекликаются и положения, выдвинутые сторонни
ками так называемого социального дарвинизма, ко
торые сводили источники всех социальных конфлик
тов и проявлений насилия также к сугубо биологиче
ским факторам 2.
Известно, что социал-дарвинистское направление
занимало господствующее место в буржуазной со-
циально-философской мысли во второй половине
XIX века. В его основу была положена теория Ч. Дар
вина о «естественном отборе» и «борьбе за существо
вание», перенесенная в область социальных отноше
ний.
Иррационалистически истолковывая саму сущ
ность проблем, поставленных в учении Дарвина, ме
тафизически подходя к основным его принципам, со-
циал-дарвинисты создали из этого учения универ
сальную модель эволюционного процесса и пытались
применить ее к обществу, подставив вместо организ
ма социальную группу. Изучение конкретного меха
низма социального процесса, его сложных и мно
гообразных форм подменялось ими иллюстрацией
извращенно трактуемых дарвиновских принципов
организации и функционирования животного мира.
Утверждая, что прекращение вражды и соперни
чества между индивидами, нациями и государствами
1 S. Freud. Civilization and it’s Discontents. Standart Edition,
vol. 21. London, 1930, p. 151.
2 См., н апример: A. W. Small. General Sociology. Chicago,
1005; G. V. Laponge. Les selections sociales. Paris, 1896; L. Gumplo-
wicz. Dcr Hassenkampf. Innsbruck, 1928; Г. Спенсер. Социаль
ная статика. Спб., 1872; Л. Вольтман. Политическая антропо
логия. Спб., 1905.
39
невозможно, потому что не может прекратиться дей
ствие «всеобщего» закона естественного отбора, пред
полагающего столкновение интересов и борьбу лю
дей, социальные дарвинисты в принципе отвергали
не только возможность, но даже желательность со
стояния мира в обществе, доказывали, что это озна
чало бы конец развитию цивилизации. Так, австрий
ский философ Густав Ратценхофер, подчеркивая «со
циальную ценность насилия», объявлял войны «ос
новной формой разви тия человеческого общества» *.
Г. Спенсер выдвинул концепцию конфликта, в ко
торой рассматривал общественную жизнь исключи
тельно лишь в качестве продукта конфликтных си
туаций и взаимной борьбы отдельных индивидов и
групп. Социальная структура общества мыслилась
им как некое равновесие, поддерживаемое именно
благодаря этой непрерывно происходящей борьбе, по
стоянным внутренним и внешним конфликтам.
Другой проповедник социал-дарвинистских взгля
дов — австрийский социолог JI. Гумплович также пы
тался свести все социальные противоречия и конф
ликты к извечной вражде человеческих племен и
рас, изобразить насилие и завоевание как естествен
ный, первичный фактор исторического развития, об
разования классов и государств. Неустранимые анта
гонизмы в отношениях между расами, по его мнению,
«поддерживают и ускоряют весь прогресс человече
ской истории, образуют вечное движение развития
человечества» 2.
В свое время, критикуя антинаучные взгляды
проповедников социального дарвинизма, К. Маркс
назвал их метод перенесения биологических законов
на явления общественной жизни убедительным лишь
для «напыщенного, псевдонаучного, высокопарного
невежества и лености мысли» 3.
Хотя общие теоретические позиции современных
сторонников биологической и психологической тр ак
товки общественных явлений, включая и феномен
1 G. Ratzenhofer. Die K ritik des Intellects. Leipzig, 1902,
S. 154.
2 L. Gnmplowicz. Der Rassenkampf. S. 164.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, стр. 571.
40
социального насилия, остаются в своей основе неиз
менными, используемая для их обоснования псевдо
научная аргументация пополнилась новым, соответ
ствующим образом интерпретированным фактиче
ским материалом из арсенала таких областей естест
веннонаучного знания, как этология, генетика, ней
рофизиология. При помощи извращенно трактуемых
экспериментальных данных этих научных дисцип
лин, манипулирования их принципами и методами
буржуазные теоретики стремятся возродить в модер
низированной форме антинаучные положения соци
ального дарвинизма и фрейдизма, обосновывая идею
о врожденной, биогенетической природе феномена
насилия. Таким образом, очевидна спекуляция бур
жуазных идеологов на естественнонаучных данных
и методах с целью апологетики капитализма.
На современном этапе развития науки об общест
ве возврат к каким-либо формам социал-дарвинизма
и фрейдизма выглядит анахронизмом, тем не менее
целый ряд современных буржуазных теорий общест
ва и человека, социального поведения личности име
ют отчетливо выраженный биопсихологический ха
рактер. Само общество рассматривается в них как
некая механическая «сумма личностей», руководст
вующихся в своем поведении и взаимоотношениях
друг с другом врожденными инстинктами и бессозна
тельными влечениями.
Исходным тезисом этих буржуазных концепций
является утверждение, что главная причина агрес
сивного поведения людей и основной источник всех
форм насилия коренится в генетическом несовер
шенстве и неприспособленности человечества как
биологического вида. По мнению австрийского био
лога К. Лоренца, «этологическая наука в настоящее
время располагает исчерпывающими данными о
естественной природе и истории феномена агрес
сии» Л
Идейно-теоретическими корнями такого рода ми-
стически-фаталистического объяснения проявлений
насилия в современном мире, которое активно внед
ряется в массовое сознание буржуазного общества,
1 К. Lorenz. On Agression. N. Y., 1907, p. 9.
41
являются субъективный идеализм и метафизика.
Попытка поставить знак равенства между законами
животного мира и общественной жизни, перенести
принципы поведения животных на социальную дея
тельность людей и построить на этой антинаучной
основе свои новейшие концепции насилия независимо
от субъективных желаний и целей отдельных бур
жуазных ученых служит интересам наиболее экстре
мистских кругов империализма, теоретическому
обоснованию их милитаристской идеологии и поли
тики.
Аморальная, антигуманная сущность новейших
концепций насилия выступает особенно наглядно в
попытках обоснования тезиса о том, что агрессив
ность не только извечный и естественный инстинкт
человеческой природы, но и весьма полезный и даже
необходимый инструмент обеспечения прогресса ци
вилизации, поддержания «генетической полноценно
сти» человеческого рода. Некоторые буржуазные
теоретики заявляют, что войны, преступность, раз
личного рода «гражданские конфликты» и беспоряд
ки являются важным средством сокращения числен
ности населения Земли и предотвращения перенасе
ления планеты. Единственно, о чем они при этом
сожалеют,— что все эти средства недостаточно эф
фективны, чтобы полностью предотвратить угрозу
«генетического вырождения» человечества от послед
ствий перенаселения.
В свое время распространение биологизированной
трактовки всех явлений и процессов общественной
жизни, применение лозунга «Пусть природа берет
свое» к политической и экономической практике ка
питалистического общества соответствовали идеа
лам буржуазного индивидуализма эпохи свободного
предпринимательства, принципам «равных возмож
ностей», «свободной конкуренции», невмешательства
государства в процесы капиталистической экономи
киит.д.
Изображая социальные явления как своеобразный
вид биологических явлений, буржуазные теоретики
пытались представить частнокапиталистические об
щественные отношения как выражение неизменных,
естественных биологических законов.
42
Тот факт, что буржуазные идеологи вновь обра
щаются сегодня к биологическим и психологическим
направлениям в социологии, модернизируют и берут
на вооружение их идеи, не является, конечно, слу
чайностью. Используя демагогические лозунги «пе
рестройки человеческой психики» и «морального со
вершенствования людей», они пытаются отвлечь мас
сы от борьбы за революционные преобразования
исторически отживш их общественных отношений.
Вместе с тем для многих современных теорети
ков на Западе, занимающихся исследованием фено
мена насилия, очевидна несостоятельность биологи
ческой или психологической его трактовки. Они те
перь уже так или иначе признают, что прежде всего
социальные условия оказывают детерминирующее
влияние на образ мышления и поведения отдельных
индивидов и тем более различных социальных групп.
Вопрос заклю чается, однако, в том, какие именно
внешние, по отношению к индивиду или социальной
группе, факторы берутся исследователем в качестве
основных и что, по его мнению, является в данном
случае определяющим, а что побочным. Общим ме
тодологическим пороком буржу азны х исследований
проблемы насилия является то, что за исходное в
них берутся в большинстве случаев второстепенные,
частные по отношению к объекту исследования фак
торы, оказывающие на него в лучшем случае лишь
косвенное влияние, а следствие часто принимается
ими за причину. Так, в буржуазной социологии полу
чили сейчас довольно широкое распространение
взгляды, что насильственные действия в обществен
ной жизни есть якобы результат наблюдающегося
в современную эпоху демографического «взрыва»
Выдвигается и такой тезис, что в основе агрессивного
поведения людей лежит извечно существующий в
обществе конфликт поколений2.
В буржуазной литературе нередко в качестве
главной причины социальных катаклизмов и прояв
лений насилия в современном обществе выдвигаю тся
такие факторы, как влияние на сознание людей
1 «Les exigences do Ja paix». Strasbourg, 1968.
2 R. Eisenberg. The East — W est Conflict. Psychological Ori
gin and Resolution. N. Y., 19G7.
43
средств массовой информации, урбанизация, проти
воположность между «богатыми» и «бедными» наци
ями, национальный суверенитет, отчуждение лично
сти, потребительская тенденция «обогащения любой
ценой» и т. д. Безусловно, некоторые из этих факто
ров в условиях буржуазного общества оказывают оп
ределенное (иногда весьма значительное) влияние на
рост различных проявлений насилия. Но ни один из
них не может быть и не является исходной и опреде
ляющей причиной, ибо каждый из них сам по себе
есть лишь неизбежное следствие капиталистических
общ ественных отношений.
С другой стороны, в своем стремлении выдать
проблемы, порождаемые и до предела обостряемые
именно капиталистическим способом производства,
за общечеловеческие проблемы всего современного
индустриального мира, буржуазные идеологи пыта
ются доказать, что общество столкнулось сейчас с
каким-то совершенно особым, принципиально новым
и труднообъяснимым феноменом насилия. «Феномен
насилия в его современном виде,— утверждает фран
цузский социолог Эдгар Морин,— носит со вершенно
новый, необычный для всех прошлых эпох характер,
ибо он есть продукт общества качественно иного
свойства, а именно общества, определяемого как и н
дустриальное и постиндустриальное»
Если в прошлые эпохи, утверждает ряд западных
ученых, было сравнительно нетрудно обнаружить и
более или менее точно указать на конкретные при
чины тех или иных насильственных действий, то те
перь положение в корне изменилось, ибо насилие
стало якобы все чаще принимать совершенно неосо
знанный, сугубо иррациональный и стихийный ха
рактер. Насилие в жизни современного общества пре
вращается якобы в самоцель, направлено на утвер
ждение неких новых символов и образов, а не на до
стижение конкретных материализованных целей.
Конечно, социально-политическое насилие по сво
ей структуре и содержанию, формам и методам сво
его проявления не является застывшей и неизменнрй
1 Е. Morin. Risk of Death — Revolution — Violence. «Solida
rity», vol. V. Manila, 1970, N 1, p. 46.
44
категорией, оно претерпевает закономерную истори
ческую эволюцию, которая имеет свою вполне опре
деленную материальную основу и объяснение. Что
же касается социальной природы и сущности фено
мена насилия как средства регулирования классо
вых отношений, орудия политической борьбы, то они
всегда оставались неизменными. Социально-полити
ческое насилие, являясь инструментом классовых
отношений, выступает всегда в конечном счете как
необходимый компонент отношений собственности,
реальных отношений производства.
Господствующие в том или ином обществе полити
ческие, правовые, идеологические и другие отноше
ния надстроечного характера фактически служат
лишь соответствующим оформлением и закреплени
ем господствующих здесь производственных отноше
ний, они защищают и поддерживают последние, опи
раясь на силу государственной власти.
Поэтому всякие ссы лки на «беспричинность» и
«бесцельность» тех или иных проявлений насилия в
современном буржуазном обществе, на «иррацио
нальную психологию» толпы лишь камуфлируют
подлинные источники социальных конфликтов и
классовой борьбы, затуш евываю т обострение соци
альных антагонизмов. Не мистический «импульсив
ный позыв к насилию» и не пресловутый «инстинкт
агрессии» слу ж ат причиной перманентного состоя
ния «социальной конфликтности» буржуазного об
щества. Его источник — внутренние закономерности
капиталистического развития, положение рабочего
класса, которое яв ляется «действительной основой и
исходным пунктом всех социальных движений со
временности...» 1.
3. Пороки буржуазной
типологии насилия
Было бы, несомненно, упрощением ут
верждать, что все буржуазные ученые, занимающие
ся исследованием теории и практики социально-по
литического насилия, преднамеренно искажают объ
1К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 238.
45
ективную действительность и фальсифицируют нау
ку. Как научно-теоретические взгляды, так и обще
ственно-политические позиции различных буржуаз
ных теоретиков в данном вопросе не однозначны. На
содержании концепций насилия сказывается уровень
как массового общественного сознания, так и самого
научного знания, острота классовой борьбы и соот
ношение классовых сил, характер мировоззрения ав
торов этих концепций, их принадлежность к опреде
ленным социальным слоям. В потоке буржуазной
литературы можно встретить немало серьезных ра
бот, в которых налицо стремление их авторов к
объективному теоретическому анализу, содержащих
ценный фактический материал, глубокие наблюдения
и отдельные верные оценки, а в некоторых случаях
и острую критику наиболее одиозных и вопиющих
проявлений империалистической политики.
Вместе с тем, несмотря на обилие на Западе раз
личных, зачастую внешне противоположных, точек
зрения на проблему насилия, всем им присущи оди
наковые идейно-теоретические и методологические
предпосылки. Имеющиеся среди буржуазных фило
софов расхождения в подходе к этой проблеме отно
сятся в основном к второстепенным деталям и несу
щественным оттенкам. Зачастую даже затруднитель
но бывает определить, к какому конкретно философ
скому направлению относится та или иная буржуаз
ная концепция по проблеме социального насилия.
Большинство из них представляют эклектическую
мешанину из идей позитивизма и социал-дарвиниз-
ма, экзистенциализма и неофрейдизма, прагматизма
и бихевиоризма, расизма и геополитики. Буржуазная
ограниченность мировоззрения неизбежно наклады
вает отпечаток на исследования проблемы насилия,
предопределяет их противоречивость, идеалистиче
ский и метафизический характер.
Главный методологический порок буржуазных
концепций насилия — отказ от классового анализа
общественных процессов и связанных с ним прояв
лений насилия. Вместо того чтобы видеть в политике
выражение интересов определенных социальных
сил, они пытаются приписать разным субъектам по
литических отношений (классам, партиям, государст
46
вам, нациям и т. д.) одинаковые и исторически неиз
менные цели, а именно борьбу за самосохранение и
выживание, за обладание властью и силой, за обеспе
чение любыми средствами господствующего положе
ния в обществе.
Социальная деятельность, находящая свое выра
жение в тех или иных насильственных актах, рас
сматривается многими буржуазными учеными либо
в индивидуально-психологическом, либо в морально-
нравственном аспекте, как проявление индивидуаль
ного или группового сознания. Естественно, что при
таком подходе к феномену насилия полностью игно
рируется принцип классовости и историзма, объек
тивные законы общественного развития, а все про
явления насилия рассматриваются фактически как
качественно однопорядковые явления, имеющие
единую природу и механизмы функционирования.
Какие-либо различия в данном случае допускаются
исключительно лишь в количественном отношении.
«Насилие остается насилием как по своей сути, так
и по возможным своим результатам и следствиям,—
пишет американский философ Дж. Лоуренс,— неза
висимо от того, кто и с какой целью его применяет, в
какой форме и какими конкретными средствами
оно совершается» *.
Следствием подобного рода подхода к проблеме
насилия служит абсолютизация математически-ста -
тистических методов ее анализа, преувеличение роли
формализованных средств исследования. Типичным
примером того, к каким выводам приводит логика
«формально-количественного» метода применитель
но к данной проблеме, может, например, служить
работа американского социолога Р. Бовена «Модель
гражданского насилия», где он пишет: «Величина
масштабов того или иного проявления насилия явля
ется одновременно и мерилом той человеческой энер
гии, которая вовлекается в каждом конкретном слу
чае и которая соответственно выражается в таких
действиях, как мятеж, бунт, революция, гражданская
война, партизанское движение и т. п. Основным ин
1
/. Lawrence. Violence. «Social Theory and Practice», vol. 1.
N.Y., 1970,N2,p.38.
47
дикатором, определяющим при этом тот или иной
вид гражданского насилия, слу жит количество его
жертв, масштабы причиняемого им ущерба и разру
шений, объем охватываемой территории и некоторые
другие, выражаемые в количественном отношении
факторы» 1.
Игнорирование метода конкретно-исторического
анализа проявлений насилия в общественной жизни,
их социально-классовой дифференциации неизбежно
приводит к моделированию неких абстрактных кон
фликтов и насильственных актов, совершаемых со
циально безликими силами, группами людей вообще.
Например, война, по мнению норвежского социолога
Ю. Галтунга, есть не что иное, как «организованное
насилие между группами людей» 2. При этом какие-
либо качественные, социальные характеристики как
субъекта насилия, так и применяемых им средств,
как правило, буржуазными исследователями исклю
чаются. Таким образом как бы ставится знак равен
ства м ежду насилием как обобщенным семантиче
ским понятием любого насильственного действия и
насилием как социально-политическим феноменом:
насилие как орудие классовой, политической борьбы
приравнивается к любому индивидуальному насиль
ственному поведению человека вообще. Не случайно
большинство работ по этой тематике, выходящих на
Западе, содержит в качестве предмета исследования
изучение характера и причин любых конфликтов и
проявлений насилия между людьми, включая быто
вые ссоры, семейные конфликты, вражду конкури
рующих между собой гангстерских банд, акты наси
лия, совершаемые психически больными людьми,
ит.д.
Отождествление случайных насильственных ак
тов и преступных действий индивидуального харак
тера с проявлениями социально-политического наси
лия, хотя они имеют различную природу и детерми
нированы совершенно разными факторами и усло
1D. R. Bowen. A model of civil violence. International Poli
tical Science Association. VIII World Congress. Bruxelles,
1070, p. 6.
2 /. Galtung. Violence. «Journal of Peace Research», 1969,
N6,p.167.
48
виями,— один из методологических пороков буржу
азных исследований на эту тему, обусловливающих
их антинаучный характер.
Теоретическая несостоятельность многих буржу
азных концепций по проблеме насилия нередко бы
вает настолько очевидной, что авторы этих концеп
ций подвергаются критике даже со стороны своих
коллег. Однако такого рода критика, как правило,
страдает непоследовательностью и односторонно
стью. Происходит это в силу того, что сами критики
находятся на идеалистических и метафизических
позициях и свою задачу видят лишь в «улучшении»
или «дополнении» тех принципиально ошибочных
научных положений, которые содержатся в кри
тикуемых теориях. Так, американский философ
X. Арангурен, правильно указывая на необходимость
конкретно-исторического анализа насильственных
действий, понимает эту задачу весьма своеобразно —
как максимальное мыслительное приближение объ
екта исследования к естественным историческим ус
ловиям его возникновения и функционирования, как
пунктуальный учет всех деталей и внешних призна
ков «исторически неповторимой ситуации». «Мы не
сможем понять сущность того или иного насильст
венного действия, р ассм атривая его абстрактно, вне
той конкретной обстановки, в которой он возник и
проявлялся... При рассмотрении любого насильствен
ного действия мы должны обязательно перенестись в
ту исторически неповторимую и специфически-кон -
кретную ситуацию, в которой оно происходило, по
ставить себя на место непосредственных участников
этих событий» 1.
В отдельных трудах западных социологов можно
встретить даже попытки так или иначе связать раз
личные проявления социального насилия с опреде
ленным и общественно-экономическими условиями.
Но, как правило, это бывает в тех случаях, когда они
исследуют ф акты исторического прошлого. Так, к а
надский философ Ч. Тилли в работе «Коллективное
насилие, его место и роль в историческом процессе»
1
/. Aranguren. Violence and Morality. «Solidarity», vol. V.
Manila, 1970, N 1, p. 44.
4
В. В. Денисов
49
дает вполне обоснованную трактовку тем проявле
ниям социального насилия, которые имели место в
определенные периоды истории Франции XVII—
XVIII веков, подчеркивая их значение для прогресса
общества. «Практика проявлений массового насилия
в истории Франции показывает, что они, как прави
ло, носили политический характер и в их основе ле
жали столкновения интересов различных социаль
ных групп. Массовые проявления насилия возрас
тают именно в тот исторический период, когда опре
деленные социальные группы либо утрачивают свои
общественные позиции, либо приобретают их, т. е.
когда они так или иначе изменяют свою социальную
идентичность» *. Аналогичные взглядам Ч. Тилли
рассуждения о сущности и социальной обусловлен
ности насилия в общественно-исторической практике
можно найти в работах других буржуазных ученых,
когда они рассматривают насильственные действия
«снизу» в сугубо ретроспективном плане2. Однако,
когда они обращаются к сегодняшней действительно
сти, к современным проявлениям насилия как «сни
зу», так и «сверху», трезвость и объективность науч
ного мышления изменяют им. Подлинно научный
подход подменяется в этих случаях субъективизмом
в оценке феномена насилия.
Поскольку человечество не в состоянии, по мне
нию многих буржуазных ученых, радикальным обра
зом разрешить проблему насилия и полностью устра
нить его из политической практики, постольку, заяв
ляют они, остается лишь по возможности ограни
чивать наиболее «злостные» проявления насилия.
К этим последним они относят в первую очередь так
называемые «гражданские конфликты» и «массовые
неповиновения», т: е. революционную и национально-
освободительную борьбу, забастовки, партизанские
войны и другие антиимпериалистические движения.
1 Ch. 7'illy. The Changing Place of Collective Violence. In:
«Essays in Theory and History. An Approach to the Social Science».
Cambridge (Massachusetts), 1070, p. 144.
2 См., н а пример: II. D. Bienen. Violence and Social Change.
Chicago, 1068; R. P. Wolff, B. Moor, H. Marcuse. A Critique of Pure
Tolerance. Boston, 1065.
50
В целом, как мы видим, концепции насилия в со
временной буржуазной философии и социологии
весьма эклектичны. Об этом свидетельствует, в част
ности, попытка создания на Западе особой междис
циплинарной науки о насилии — вайоленсологии. Эта
новая «наука» призвана, кроме всего прочего, играть
роль своего рода антипода марксистско-ленинской
трактовки социального насилия и его роли в истори
ческом процессе.
Обосновывая правомерность существования вай
оленсологии в качестве самостоятельной отрасли на
учного знания, ее сторонники утверждаю т, что вай-
оленсология имеет якобы не только свою особую
область исследования, но и свои специфические мето
дологические приемы и средства научного познания.
Вайоленсология, заявляют они, как самостоятельная
наука о насилии родилась на базе кооперации и вза
имодополнения ряда социальных и естественных наук.
Если в недалеком прошлом изучение феномена наси
лия являлось почти исключительно монополией фи
лософии, истории и права, то теперь к ним присоеди
нилось значительное количество естественных наук.
В результате такой интеграции изучение проблем со
циального насилия проводится вайоленсологией раз
нообразными методами и средствами, заимствован
ными у существующих научных дисциплин и соз
данных вновь с учетом специфики данного предмета.
Бесспорно, что серьезное изучение многообразных
аспектов проблемы насилия требует в настоящее
время комплексного подхода, конкретных знаний и
усилий самых различных отраслей науки. Дело в том,
что проблема насилия охватывает очень широкий
круг вопросов — от мотивации человеческого пове
дения до путей будущего общественного развития
человечества. У глубленная теоретическая разработка
феномена насилия до лжна носить на современном
уровне научного познания всесторонний характер,
использовать в определенных случаях и средства
естественнонаучного анализа, в том числе матема
тики. Полезным может оказаться и конструктивное
сотрудничество представителей различных научных
дисциплин в теоретическом исследовании и практиче
ском решении проблемы насилия.
51
Все дело, однако, в том, на какой идейно-теоре
тической основе происходит сотрудничество различ
ных наук — на базе диалектико-материалистической
или идеалистической методологии, какими мировоз
зренческими принципами руководствуется исследо
ватель— марксистскими, научно объективными и
отвечающ ими потребностям исторического прогресса
или же буржуазными, субъективистскими, отмечен
ными печатью классовой ограниченности и консер
ватизма.
Не отвергая в принципе полезности использования
при исследовании феномена насилия методов и кон
кретных знаний, заимствованных из различных на
учных дисциплин, следует подчеркнуть, что все они
имеют лишь вспомогательный характер и сами по
себе, в отрыве от общетеоретической и методологи
ческой философской основы не позволяют раскрыть
сущность исследуемого явления.
Ниже на примере критического анализа различ
ных современных буржуазных теорий насилия мы
попытаемся показать, к каким научно несостоятель
ным и социально вредным результатам приводят ис
следования, в которы х математическим, биологиче
ским, физиологическим, психологическим методам и
принципам придается решающее, самодовлеющее
значение.
Только на базе общей научной методологии, како
вой является диалектический и исторический мате
риализм, можно дать подлинно научный, объектив
ный анализ феномена социального насилия, только
раскрыв классовый и конкретно-исторический харак
тер этого феномена, можно пол учить ответ на много
численные и сложные вопросы, которые возникают
при его исследовании. Вряд ли нужно доказывать, что
буржуазная общественная наука не способна идти
этим единственно правильным путем.
Прикрываясь мнимой спецификой методов иссле
дования проблемы насилия, необходимостью повы
шения профессионально-социологического уровня его
анализа, буржуазные теоретики заявляют о своем
стремлении стать «выше» интересов партий в поли
тике и философии. Но эта демагогическая позиция не
только теоретически несостоятельна и не оправды
52
вает себя в научном плане, но и практически никогда
не может быть осуществлена.
Позиция буржуазной философии — это позиция
двуликого Януса, в которой сочетаются два противо
положных начала: с одной стороны, спекулятивное
лишение всех социальных явлений и институтов их
классового характера, затушевывание их обусловлен
ности господствующими общественными отношени
ями и интересами определенных социальных слоев,
с другой — замаскированная апологетика классовых
позиций буржуазии, субъективно-тенденциозное из
ложение всех философско-социологических понятий
и категорий в духе оправдания и защиты системы
капитал истических отношений.
Отрицание буржуазными теоретиками классовой
сущности своего подхода к исследованию общества и
общественной жизни в действительности есть не что
иное, как либо сознательный обман, либо заблужде
ние. Пожалуй, ни в какой другой области буржуазной
социальной мысли нет столь предвзятой и вместе
с тем столь искусно закамуфлированной спекуляции
на материале научной теории и жизненной практики,
на реальных социальных процессах современной дей
ствительности, как это имеет место в так называе
мой вайоленсологии. И это, конечно, не случайно,
поскольку политическая философия в целом и со
ставляющая ее неотъемлемую часть теория насилия
в особенности тесно и непосредственно связаны с
современными проблемами классовой борьбы.
Ф. Энгельс в свое время по поводу мнимых пре
тензий идеологов эксплуататорских классов на объ
ективность и академизм в подходе к исследованию
явлений и процессов общественной жизни г о е о р и л ,
что «в наше бурное время чистые теоретики в сфере
общественных интересов встречаются только на сто
роне реакции, и именно потому эти господа в действи
тельности вовсе не теоретики, а простые апологеты
этой реакции» \
Такая характеристика в полной мере сохраняет
свою точность применительно и к современным бур
ж уазн ым исследованиям проблемы социального наси
1К>Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. I, стр.4.
53
лия, также носящим преимущественно апологетиче
ский характер и независимо от субъективных пози
ций того или иного буржуазного теоретика подчи
ненным вполне конкретной задаче — идеологическо
му оправданию политики империалистической бур
жуазии.
Исходная идейно-политическая сущность всех
современных буржуазных концепций насилия, не
смотря на их внешнюю разнородность, аналогична,
ибо едина их классовая мировоззренческая природа
и социальная направленность. Что же касается
наблюдающейся в современной буржуазной социаль
ной мысли тенденции подвергнуть переосмыслению
и переоценке некоторые старые понятия, поисков но
вых подходов к анализу проблемы насилия, извест
ной модернизации ее трактовки, то эта тенденция
лишь свидетельствует о дальнейшем обострении
внутренних противоречий государственно-монополи
стического капитализма.
4. Мистификация понятия
В западной философско-социологической
литературе можно встретить множество самых раз
нообразных и зачастую противоположных определе
ний понятия «насилие». Даже сами буржуазные
авторы вынуждены признать, что им не удалось
сформулировать какого-либо единого, устойчивого
и общепризнанного определения этого феномена1.
Объясняется такой плюрализм тем, что понятие «на
силие» является предметом всевозможных антина
учных, идеологических и политических спекуляций
буржуазны х теоретиков. Причиной наблюдающегося
разнобоя в определении этого понятия служит та про
тиворечивая исходная идейно-теоретическая позиция
буржуазных авторов в трактовке феномена наси
лия, о которой речь ш ла выше. С одной стороны,
они стремятся замаскировать социальную сущность,
классовую природу и направленность политического
насилия, скрыть тот факт, что институт буржуазной
1 «Social Theory and Practice», vol. 1. N. Y., 1070, N 2, p. 32.
54
диктатуры и его материальные атрибуты, прежде
всего государственный аппарат репрессий и принуж
дений, выполняют функцию охраны и защиты инте
ресов монополистического капитала. Отсюда вы те
кает их подчеркнуто абстрактное толкование наси
лия, тенденция превращения этого понятия в безли
кую метафизическую схему, никак не связанную
с общественно-политической ж изнью и классовой
борьбой. Но, с другой стороны, апологетическая роль
их исследований в конце концов заставляет сходить
с «академического Олимпа» и на практике отказы
ваться от провозглашаемой ими «надклассовости» и
«беспартийности» своих концепций. И в этом случае
все философские категории, которыми они опери
руют, неизменно превращаются в политические поня
тия вполне определенного классового содержания,
несут соответствующую идеологическую нагрузку.
Не составляет в этом отношении исключения и кате
гория «насилие».
В этой связи в самих попытках буржуазных уче
ных дать дифиницию понятию «насилие» прослежи
ваю тся совершенно определенные мистификаторские
тенденции.
Употребляя понятие «насилие» как абстрактную,
внеклассовую категорию, буржуазные теоретики
стремятся, во-первых, придать ему некий общезначи
мый смысл сугубо технического инструмента поли
тических отношений.
Так, упоминавшийся уже X. Нибург, абсолютизи
руя значение и роль насилия в общественной жизни,
подобно Гоббсу, рассматривает общество как поле из
вечной конкурентной борьбы между отдельными
индивидами, группами людей и нациями. По его мне
нию, изменяться могут лишь методы и средства этой
борьбы за господство в обществе, что же касается
самой борьбы, то она — явл ение «вечное» и «естест
венное». «Общество состоит из конкурирующих друг
с другом индивидов и групп людей, борющихся за
сохранение или получение различных привилегий и
благ при помощи широкого арсенала средств. Они
применяют в этой борьбе либо мирные, либо насиль
ственные средства, и соответственно вся ж изнь обще
ства определяется двумя основными понятиями —
55
миром или войной, насилием или ненасилием . Состоя
ние общества, которое принято определять как мир
ное, означает на деле, что непрекращающиеся извеч
ные конкуренция и борьба между людьми происходят
в рамках легальности и закона, через традиционные
каналы и формы политической власти и государст
венной организации. Наоборот, в том случае, кото
рый принято характеризовать как нарушение по
рядка и военное положение, столкновение интересов
различных групп людей достигает такой остроты, при
которой они выливаются в насильственные действия
с той или другой стороны»
Исходя из этого, X. Нибург определяет феномен
насилия как «естественную форму политической дея
тельности и социального поведения людей».
Он придерживается той, весьма распространенной
среди буржуазных ученых, точки зрения, что любое
проявление насилия — будь то революционное дви
жение, военное столкновение государств, уголовное
преступление или убийство политического лидера —
обязательно имеет общие чер ты и признаки. «Основ
ные социальные компоненты агрессивного поведения
людей одинаковы на всех уровнях его проявления —
от семьи до мирового сообщества наций. М еханизмы
этого поведения действуют идентичным образом на
любом уровне общественной организации» 2. Отсутст
вие в западной научной литературе каких-либо еди
ных социальных и моральных характеристик и при
знаков, наиболее важных и органически присущих
каждому явлению, к которому применяется термин
«насилие» или «насильственный», вынуждены при
знать даже сами буржуазные исследователи. Крити
куя своих коллег, концентрирующих внимание «на
различного рода второстепенных признаках тех или
иных актов насилия», которые, по его мнению, нельзя
рассматривать в качестве типичных, Дж. Лоуренс
ратует за выработку «единых научных эталонов» для
комплексного исследования проблемы насилия. Од
нако, признавая несостоятельность встречающихся в
западной литературе формулировок понятия «наси
1 Н. Nieburg. Political Violence. The Behavioral Process,
p. 16.
2 Ibid., p. 15.
56
лие», он сам дает этому понятию не менее превратное
истолкование. Дж. Лоуренс считает, что «нейтраль
ное понятие насилия», которое не содержит в себе
«жестких ограничений теоретического и морального
характера» и потому является подлинно научным и
максимально объективным, можно выработать, лишь
преодолев всякую «ценностную предубежденность».
Иными словами, при определении данного понятия
исследователь должен избегать в принципе любой
общественно-политической ориентации. Дж. Лоуренс
определяет насилие «как явление, имеющее следую
щее значение: действие чрезвычайного характера, ре
зультатом которого является (или может являться)
нанесение серьезного вреда жизни людей или мате
риальным условиям их существования. Этот вред
может включать в себя причинение биологических,
телесных повреждений, физического подавления,
имущественного ущерба и психологического, духов
ного травмирования» *.
В противоположность диалектико-материалисти-
ческой трактовке феномена насилия и соответствую
щему определению этого понятия, подчеркивающему
классовый, конкретно-исторический его характер2,
буржуазные ученые стремятся, как нетрудно заме
тить, всячески лиш ить понятие «насилие» социаль
но-политического смысла, свести его определение к
абстрактно-этическому, духовно-нравственному зна
чению. Именно поэтому, несмотря на наличие в бур
жуазной литературе огромного количества разнооб
разных определений насилия, большинство из них в
основном весьма схожи, не раскрывают сущности
данного феномена, ограничиваясь перечислением ка-
ких-либо второстепенных, абстрактно-формальных
его признаков: насилие есть «зло, причиняемое чело
веку» 3; «применение силы в отношении кого-либо»4;
1 /. Lawrence. Violence. «Social Theory and Practice», vol. 1t
N.Y., 1970,N2,p.35.
2 Развернутое определение насилия с позиций диалекти
ческого и исторического материализма дано нами во вводной
главе.
3 «Webster’s
International Dictionary».
Sprinfield, 1964,
p. 2554 .
4 /. Ellerl. Violence. N. Y., 1969, p. 8.
57
«иррациональное действие, наносящее ущерб в той
или иной форме» 1; «нарушение чьих-либо интересов
иправ»2ит.п.
Из перечисленных выше и других аналогичных
им определений насилия явствует также, что в бур
жуазной философии и социологии стало традицион
ным априори вкладывать в это понятие преимущест
венно негативный смысл, рассматривать его как
дисфункциональное явление. Ч. Тилли, например,
считает, что «коллективное насилие представляет
собой экстраординарное, разрушительное и проти
воречивое явление. Его разрушительный характер
заключается в той угрозе, которую оно представляет
для каждого человека и каждого социального инсти
тута... Оно представляет собой противоречивое явле
ние в смысле невозможности точного определения
сроков его начала и конца, его участников и целей...» 3
Подавляющее большинство буржуазных теорети
ков толкуют насилие исключительно как препятствие
определенным действиям, желаниям или стремле
ниям отдельных личностей или групп людей. Так,
по мнению Ю. Галтунга, «насилие имеет место тогда,
когда создается препятствие для полной соматиче
ской или духовной реализации потенций человека» 4.
Многие буржуазные идеологи рассматривают на
силие только как патологический феномен. К при
меру, американскому социологу А. Фельдману оно
представляется «противоестественным явлением по
отношению к нормальной социальной структуре и
процессам функционирования общества» 5.
Сугубо негативное толкование понятия «насилие»
не допускает правомерности самой постановки во
проса о качественно различной социальной роли
и функциях насилия в общественно-политической
практике, о возможности рационального насилия,
1 G. Sorel. Reflections on Violence. N. Y.. 1901, p. 17.
2 F. C. Wade. On Violence. «Journal of Philosophy», vol. LVIII.
N. YM1971, N 12, p. 309.
3 Ch. Tilly. The Changing Place of Collective Violence.
In: «Essays in Theory and History. An Approach to the Social
Science», p. 3.
4 «Kritische Friedensforschung». Frankfurt a. М.. 1971. S. 57.
5 A. Feldman. Violence and Volatility: The Likelihood of Re
volution. In: «International War». N. Y., 1904, p. 85.
53
вполне оправданного с точки зр ения исторической
необходимости.
Между тем в современную эпоху острых социаль
ных и национальных конфликтов, классовых битв,
политического и идеологического противоборства
двух систем трудно не замечать, что за теми или
иными проявлениями насилия стоят различные об
щественные силы. Поэтому отдельные представители
буржуазной философии вынуждены признавать на
учную несостоятельность распространенных на За
паде определений понятия «насилие», их несоответ
ствие реальной социально-политической практике.
«Рассмотрение феномена социального насилия в ка
честве некоего абсолютного зла и исключительно раз
рушительного фактора общественной жизни может
практически только нанести существенный вред
объективному анализу реальной действительности и
присущих ей социальных процессов,— пишет ам ери
канский социолог Н. М эйлер. — С другой стороны,
всякое категорическое признание естественности и
целесообразности этого феномена может служить его
оправданию и поощрению в любых случаях жизни.
Истина, очевидно, закл ю чается совсем в другом. Как
и большинство других социальных явлений, феномен
насилия обладает определенной двойственностью и
противоречивостью в очень многих аспектах. Ему,
например, присущи одновременно функциональные
и дисфункциональные тенденции, возможность как
достижения с его помощью положительных, полез
ных результатов и целей, так и негативных, вредных
и разрушительных целей и результатов» \
Против игнорирования реальной роли насилия в
общественной жизни и недооценки возможного его
позитивного значения выступает и английский социо
лог Бернард Крик: «Тенденция принижения или заб
вения позитивной роли насилия содержит в себе опас
ность ложной интерпретации характера и причин
определенных социальных явлений. Дело в том, что
понятия «насилие» и «созидание» нах одятся в дейст
вительности, очевидно, в значительно более тесной
и прямой связи друг с другом, чем это нам представ
1
N. Mailer. Talking of violence. «20th Century», vol. 173. Lon
don, 1965, p. 113.
59
ляется. Мы часто мыслим лишь в одностороннем по
рядке и думаем только о борьбе и противоположности
насилия и миролюбия, диктатуры и демократии,
иррационального и рационального, как будто бы в
реальной жизни можно чего-либо достичь и добиться
победы, используя лишь один или другой путь дейст-:
вий, то или иное средство в отдельности» 1.
Даже в тех редких случаях, когда в буржуазной
литературе встречаются попытки дифференцирован
ного подхода к различным проявлениям насилия,
в основу проводимой дифференциации кл адутся, как
правило, все те же абстрактные морально-нравст
венные критерии, категории «добра» и «зла». «Наси
лие,— пишут американские социологи X. Грахэм и
Т. Гурр,— определяется как поведение, направленное
на нанесение физического вреда людям или ущерба их
собственности. Независимо от того, имеет ли это по
ведение коллективный или индивидуальный харак
тер, различным видам насилия можно давать поло
жительную, отрицательную или нейтральную оценку
в зависимости от того, служат они целям добра или
зла» 2.
Вместе с тем важно отметить, что негативная ха
рактеристика насилия, столь распространенная в бур
жуазной литературе, подразумевает исключительно
те проявления насилия, которые выходят за рамки
буржуазной законности и правопорядка, направлены
против социально-экономических устоев капитали
стического общества или представляют для них ре
альную угрозу, т. е. насилие «снизу». К действиям же
тех учреждений и лиц, которые выступают от имени
существующей политической системы, прибегают к
насилию «сверху», эта характеристика не относится,
так как сами эти действия, поскольку они опираются
на закон, под категорию «насилие» чащ е всего вообще
не подводятся.
Взяв за нормативную модель буржуазную соци
ально-политическую систему и частнособственниче
1 В. Crick. The peaseable kingdom e. «20th Century», vol. 173.
London, 19П5, N 1024, p. 53.
2 II. D. Graham and T. R. Gnrr. Introduction in «Violence
in America. H istorical and Comparative Perspectives». N. Y., 19o9,
p. XVII.
60
ские общественные отношения, апологеты современ
ного капитализма рассматривают любые покушения
на эту систему со стороны масс как «дисфункцио
нальную агрессию» и «незаконное насилие». «В со
временной науке,— пишет
американский философ
Г. Ньютон,— сложилось и получило широкое распро
странение мнение о том, что восстания, революции и
другие движения протеста носят характер массового
пр еступления против законности и общественного
порядка» \ Таким образом, разграничивая насиль
ственные действия на оправданные, законные и
неоправданные, незаконные, буржуазные идеологи
стремятся дать такую формулировку понятию «наси
лие», которая охватывает лишь последние. Они, как
это ни парадоксально, включают в негативно толкуе
мое понятие «насилие» справедливые акты освободи
тельной борьбы, к которым прибегают угнетенные
народы и классы, но в то же время исключают из него
так называемое узаконенное насилие, под которым в
современной буржуазной политической терминоло
гии подразумеваются различного рода насильствен
ные, репрессивные, карательные и военные действия
официальных органов буржуазной власти и капита
листического государства, направленные на подавле
ние революционных и национально-освободительных
выступлений трудящихся, на устрашение участников
общедемократических движений протеста и всех ина
комыслящих. Такого рода действия в буржуазной
социологии именуются не насилием, а «институцио
нальным использованием силы», «легальными акта
ми силы» и т. д. ««Насилие» происходит от латин
ского слова violentia и означает стихийное и неуправ
ляемое проявление силы в противоположность по
нятию законного и нормального использования силы
институтами государственной власти» 2,— пишет аме
риканский философ Ш. Волин. Своим экскурсом в
лингвистику он преследует здесь сугубо политиче
скую цель — доказать, что только насилие, осущест
вляемое правящим классом капиталистического об
1 G. Newton. What is Violence? In: «The Nation», vol. 206.
N. Y., 1968, N 26, p. 819.
2 Sh. Wolin. Violence and Western Political Traditions. In:
«Violence: Causes and Solutions». N. Y., 1970, p. 35.
61
щества при помощи соответствующих органов бур
жуазного государства, является в любом случае и при
любых обстоятельствах законным и оправданным.
Волин утверждает, что «сила и насилие далеко не
всегда синонимы, хо тя они безусловно и обладают
некоторыми общими чертами. Их отличие друг от
друга заключается прежде всего в том, что насилие
всегда подразумевает применение силы к объекту
не только вопреки его воле и желанию, но также и
вопреки закону... Нельзя рассматривать в качестве
насильственных такие действия официальных орга
нов власти, которые совершаю тся при исполнении
ими своих функций по защите закона или поддержа
нию общественного порядка, даж е если эти действия
и влекут за собой нанесение вреда и ущерба кому-
либо. П одразумевается, что соответствующие органы
власти могут и должны применять силу при опреде
ленных обстоятельствах, и это никого не удивляет и
не вызывает, как правило, возражений. В то же вре
мя негативную реакцию и осуждение вызывают те
случаи, когда сила применяется там и теми, где и от
кого не ждут ее применения. И тогда, в этой неожи
данной и необычной ситуации, применение силы ста
новится уже проявлением насилия» 1.
Американский философ Пауль Волфф, также
дифференцируя понятия «сила» и «насилие», рас
сматривает последнее как «незаконное применение
силы для достижения чьих-либо целей», а «использо
вание силы, предусмотренное и дозволенное соот
ветствующим законом», не относит к понятию «наси
лие» 2. Однако П. Волфф делает оговорку, что предла
гаемая им трактовка понятия «насилие» правомерна
лишь в том случае, когда подразумевается наличие
соответствующей законной и общепризнаваемой вла
сти. Если же таковая отсутствует, то тогда, по его
мнению, «в каждой конкретной ситуации каждый от
дельный человек должен самостоятельно решать,
насколько правомерным или неправомерным, оправ
данным или неоправданным является то или иное
1 Sh. Wolin. Violence and Western. Political Traditions. In:
«Violence: Causes and Solutions», p. 30.
2 P. Wolff. On Violence. «Journal of Philosophy», vol. GO.
Lancaster, 19011, X 19, p. 008.
62
применение силы». В этом случае, заявляет П. Волфф,
определение понятия «насилие» относится уже к ком
петенции философии морали и полностью зависит от
тех критериев, которые сочтет целесообразным из
брать тот или иной индивид. Перед нами еще один
вариант волюнтаристской трактовки феномена на
силия.
Точно так же различие между понятиями «наси
лие» и «сила» считает необходимым проводить Хосе
Арангурен: «Насилие есть применение силы в прямой
и непосредственной форме. Закон ны м применением
силы является такое ее применение, которое проис
ходит в соответствии с установленными конститу
ционными нормами и законами» К В период станов
ления и утверждения любого общественного строя
сила, с помощью которой этот процесс происходит,
проявляется в виде чистого насилия. Однако с момен
та узаконения новой власти любые применяемые ею
насильственные действия облекаются в юридические
одежды и предпринимаются уже от имени закона.
Насилие становится силой, используемой на закон
ных основаниях теми, кто уполномочен на это и
имеет соответствующие прерогативы. Таким образом,
«насилие создает политический режим, сила его под
держивает и охраняет». По мнению Арангурена, пу
тем институциализации насилия установленный по
литический режим, с одной стороны, сним ает с себя
моральную ответственность за использование наси
лия в своих интересах, а с другой, наоборот, накла
дывает такую ответственность на любое проявление
насилия, направленное против данного режима и про
тиворечащее установленным им законам. Согласно
Арангурену, насилие — естественный продукт и не
избежный спутник общественной жизни, ибо любая
социальная организация в большей или меньшей сте
пени «несправедлива и противоположна индивиду
альным устремлениям граждан в своей основе».
Правда, Арангурен допускает возможность созда
ния общества, основанного исключительно на прин
ципах справедливости, в котором не будет места на
1 J. Arangurcti. Violence and Morality. «Solidarity», vol. V.
Manila, 1970, N 1, p. 40.
63
силию. В качестве модели такой социальной органи
зации он выдвигает общество, построенное в со
ответствии с доктриной «общественного договора»
Ж. - Ж . Руссо. Вместе с тем он считает, что доктрина
Руссо является в большей степени «желаемым идеа
лом», чем практически осуществимой идеей. Для того
чтобы сделать эту доктрину более «жизненной», что
бы принципы «общественного договора» могли стать
действенными, несмотря на непрерывно происходя
щие в обществе социальные изменения и переста
новку политических сил, необходимо, по мнению
Арангурена, придать государственным законам и
конституции «открытый характер», сделать их доста
точно гибкими, динамичными и диалектическими по
духу. Как только тот или иной социальный режим
перестает соответствовать «всеобщей воле», он дол
жен вовремя произвести ревизию и, внеся необходи
мые коррективы в социальную организацию, стать
вновь действенным и эффективным.
Таким образом, предлагаемый Арангуреном ре
цепт создания справедливого общества без насилия
сводится фактически к тому, чтобы предусмотреть
более широкие возможности для реформ законода
тельной и политической системы в рамках сущест
вующего буржуазного общественного строя. Ратуя за
создание гибкой и даже «диалектической» системы
политического управления, он призывает, с одной
стороны, избегать нежелательных с моральной точки
зрения применений средств и методов насилия «свер
ху», против народа и, с другой, предупреждать про
явления насилия «снизу», т. е. революционно-освобо
дительную борьбу масс против системы капитализма.
«В тех случаях, когда проявление насилия принимает
открытую форму и охватывает широкие массы лю
дей, мы, как правило, сталкиваемся одновременно и
с проявлением косности и несовершенства государст
венной машины, власти, которая виновата в том, что
не сумела соответствующим образом отреагировать
на требования снизу и тем или иным парламентским
путем решить назревший вопрос» К
1 /. Aranguren. Violence and Morality. «Solidarity», vol V,
1970, N 1, p. 46.
64
На основе проведения различия между понятиями
«акт насилия» и «акт силы» строит свою концепцию
«оправданного насилия» и американский философ
Б. Герт. Проведение четкого различия между поня
тиями, означающ ими насилие, т. е. незаконное пр им е
нение силы, и применение силы на законных основа
ниях, с его точки зрения, позволяет правильно оце
нивать (осуждать или оправдывать) те или иные на
сильственные действия. Всякое «институциональное
использование силы», под которым он подразумевает
любое применение насилия буржуазными органами
власти против различного рода оппозиционных дви
жений, проявлений инакомыслия и посягательств на
существующий социальный строй и государственный
порядок, рассм атривается им в качестве абсолютно
рационального и априори м орально оправданного
действия, являющегося, как он выражается, «при
чинно дозволенным» действием. Незаконные «акты
насилия», по его мнению, всегда иррациональны. Их
он относит к «причинно недозволенным» насильст
венным действиям, которые явл яю тся одновременно
и морально неоправданными.
Таким образом, согласно логике его рассуждений,
«оправдание» тех или иных насильственных дейст
вий, по сути дела, равнозначно доказательству их
рациональности. Но при этом остается открытым
вопрос: какой же конкретный критерий следует брать
для определения самих понятий «рациональное» и
«иррациональное». Ведь если, например, для собст
венников средств производства эксплуатация наем
ного труда и социальное угнетение — явления вполне
«рациональные», то для эксплуатируемых тружени
ков они «иррациональны». Б. Герт не дает никакого
объективного социального критерия дл я возможной
дифференциации проявлений насилия в этом отно
шении. В конечном итоге он приходит к выводу, что
«каждый индивид должен решать самостоятельно, в
каких случаях и какое из проявлений насилия он мо
жет или не может оправдать» К О научной беспомощ
ности концепции Б. Герта свидетельствует и давае
1 В. Gert. Justifying Violence. «Journal of Philosophy», vol. 66,
Lancaster, 1969, N 19, p. 619.
5
в. в. Денисов
65
мое им абстрактное определение понятия «насилие»,
опирающееся на библейские моральные заповеди:
«Насилием является прежде всего нарушение сле
дующих моральных заповедей: не убей, не причини
кому-либо телесного вреда или материального ущер
ба, не посягай на чьи-либо права, интересы и свобо
ду» 1. Таким образом, для обоснования своих теорети
ческих положений, подобно многим другим буржуаз
ным исследователям проблемы насилия, Б. Герт при
бегает к отвлеченным понятиям «добра» и «зла», «ра
ционального» и «иррационального», «морального» и
«аморального». Толкование проблемы насилия, осно
ванное на таком абстрактно-ценностном подходе, не
учитывает, что разные общественные группы и слои
имеют неодинаковые и даже противоположные инте
ресы и поэтому могут вкладывать в эти отвлеченные
понятия разный смысл, по-разному оценивать ис
пользование тех или иных средств и форм насилия
в определенных ситуациях. Это понимают наиболее
трезво мыслящие буржуазные социологи.
Так, упоминавшийся уже П. Волфф обратил вни
мание на то обстоятельство, что, даже разделяя на
иболее распространенное в буржуазной социологии
определение понятия «насилие» как незаконного при
менения силы, идеологи различных социальных
групп американского общества толкуют его по-раз
ному. Концепция, отражающая финансовые и поли
тические интересы давно сложившихся крупных де
ловых кругов, считает незаконным действием прояв
ления насилия, не исходящее от официальной власти,
и осуждает всякое оппозиционное движение, любые
нападки и критику, направленные против прав и при
вилегий крупного капитала. Эту концепцию поддер
живают и пропагандируют идеологи старого бизнеса
и примыкающей к нему военно-бюрократической
элиты. Другая концепция насилия отражает идеоло
гию различных оппозиционных слоев и групп и тех,
кто им симпатизирует. Согласно их толкованию,
действия полиции, а не участников гражданских бес
порядков, предпринимателей и властей, а не заба
1
В. Gert. Justifying Violence. «Journal of Philosophy»,
vol. 06, 1909, N. 19, p. 020.
60
стовщиков являются «насильственными» и «незакон
ными». Тем самым они как бы ставят под вопрос
законный характер существующей власти и ее по
литических действий. Кроме того, в этой концепции
пересматривается сама оценка насилия. Оно рассмат
ривается не как негативное, а как позитивное дейст
вие, необходимое для решения проблем современ
ного американского общества. «Поскольку,— пи ш ет
П. Волфф,— для оппозиционной общественной груп
пы различные формы движений протеста и граждан
ского неповиновения являются в такой же степени
важным и необходимым средством для достижения
своих целей, каким для господствующих кругов яв
ляется власть, закон и полиция, то вполне понятно,
что они добиваются официального признания право
мерности и узаконения таких актов социального про
теста, как бунт, забастовка и другие проявления
гражданского неповиновения. Понятно также, поче
му другая, противоположная часть общества склонна
рассматривать такого рода действия как насильст
венные и незаконные и выступает за их решительное
подавление» *.
Некоторые буржуазные ученые выступают сейчас
за расширенное толкование понятия «насилие», охва
тывая им не только проявления чисто физического
воздействия, но и средства духовного, морального,
психологического давления. Так, американский со
циолог Р. Клитгард, считает, что было бы неправиль
но ограничивать понятие «насилие» только прямым
физическим действием, направленным против какой-
либо стороны. «Такое определение носило бы, веро ят
но, столь же произвольный и неточный характер,
как, например, утверждение, что состояние войны
проявляется исключительно в одних только воору
женных действиях. Несомненно, что значительно
чаще имеют место такие проявления насилия, кото
рые в большей степени наносят ущерб имуществу,
благосостоянию и интересам какого-либо лица, чем
его физическому состоянию» 2.
1 P. Wolf/. On Violence. «Journal of Philosophy», vol. 06,
1909, N 19, p. 013.
2 R. Klitgaard. Gandhi's Non — Violence as a Tactike. «Jour
nal of Peace Research». Oslo, 1971, N 2, p. 149.
67
Высказывается мнение о необходимости введения
такой новой категории, как «психологическое» или
«духовное» насилие. «Категория «психологическое
насилие»,— пишет Дж. Лоуренс,— предназначается
для обозначения соответствующего давления или
вредного воздействия на чью-либо совесть, психику,
убежденность, образ мышления или духовную сво
боду» К
Расширенная трактовка понятия «насилие», вклю
чение в его содержание не только «физических», ма
териальных, но и духовно-моральных факторов и
признаков, несомненно, значительно точнее отражает
многообразие и специфику различных видов и форм
социального насилия, его конкретных выражений и
средств. Ведь наряду с формами «прямого», откры
того физического насилия на вооружение империали
стической политики взято и «косвенное» (экономиче
ское и духовное) насилие над трудящимися, приме
няются различные формы идеологического, мораль
ного, психологического давления на массы. Эти
последние, «скрытые» формы насилия зачастую ме
нее заметны, ибо завуалированы покровами буржу
азных общественно-политических институтов и уч
реждений, а такж е искусной социальной демагогией,
но от этого они не становятся менее вредными и опас
ными.
За расширенную трактовку понятия «насилие»
выступает, в частности, американский философ
Г. Ньютон. В статье «Что такое насилие?» он пишет:
«Насилие часто сопровождается применением откры
той физической силы, и поэтому ассоциация в умах
многих людей первого со вторым стала весьма рас
пространенным и даже традиционным явлением. Во
многих случаях эти два понятия стали как бы своего
рода синонимами. При этом обычно ссылаются на то,
что явления насильственного характера сопровожда
ются, как правило, и применением физической силы.
Однако в человеческих отношениях нельзя ставить
знак равенства между насилием и физической силой
как таковой... Главная сущность насилия заключа
1 /. Lawrence. Violence. «Social Theory and Practice», vol. 1.
N.Y., 1970,N2,p.37.
68
ется в том, что благодаря ему человека принуждают
вести себя совсем не так, как он того хотел бы. Наси
лие может быть направлено против жизни и здоровья
человека, его чести и достоинства, свободы его воли
и духа. Именно эти проявления насилия затрагивают
основные права и интересы личности, покушаются на
естественные свободы человека... Возможно, что по
давление тех или иных социальных прав и свобод
не являлось бы вообще актом насилия как таковым,
если бы каждый индивид мог бы быть своего рода
островом, отгороженным от всего остального общест
ва, мог бы уйти полностью в себя и жить только своей
сугубо внутренней жизнью. Но в действительности
этого никогда не бывает. Люди есть общественные
существа, и они не могут жить без определенных об
щественных прав и свобод. Поэтому всякое их огра
ничение и ущемление оказывает не менее, а иногда
даже более пагубное влияние на человека, чем ущем
ление его материальных интересов. Посягательства
на социальные права и свободы людей, в котором на
ходят свое выражение различные виды косвенного
насилия, представляют такую же опасность, как пря
мое физическое насилие» 1.
Г. Ньютон предлагает ввести специальный тер
м ин — «психологическое насилие» для обозначения и
характеристики косвенных, скрытых форм давления
на сознание и психику людей, оказываемых средст
вами массовой информации и массовой культуры,
буржуазной идеологией и пропагандой. Обработка ин
дивидуального сознания и манипулирование общест
венным мнением, считает он, достигли в западном
мире таких грандиозных масштабов, такого «техни
зированного» профессионального уровня, которые не
уступают уровню гонки вооружений и производству
новейших видов оружия массового уничтожения в
военной области.
В качестве типичного примера проявления «пси
хологического насилия» над человеческой личностью
Г. Ньютон приводит хотя и неузаконенную формаль
но,но реально существующую в США систему расовой
1 G. Newton. What is Violence? «The Nation», vol. 20G. N. Y.,
1968, N 20, p. 820 —822.
69
дискриминации в отношении негритянского населе
ния, так же как и других национальных меньшинств.
«Различные виды косвенного насилия пронизывают
всю сложившуюся систему неформального рабства и
маскируемого расизма, в атмосфере которого факти
чески живет большинство американских негров до
сегодняшнего дня. И хотя власти не так уж часто
прибегают к открытому физическому насилию для
поддержания этой системы, существует множество
разнообразных скрытых форм и проявлений косвен
ного насилия, используемых для того, чтобы сохра
нить эту систему в неприкосновенности. И все они
направлены в конечном счете на то, чтобы лишить
всяких прав и самостоятельности огромную часть на
селения страны. Это и есть образец психологического
насилия над миллионами людей» 1.
Г. Ньютон считает также, что понятие «насилие»
должно распространяться и на все те случаи, когда
человек лишается свободы пользоваться и права рас
поряжаться результатами своего труда, когда послед
ние отчуждаются от непосредственного производи
теля. Казалось бы, не противоречащие марксистской
точке зрения рассуждения Г. Ньютона не выводят
его, однако, за рамки буржуазной философии, ибо он
оставляет в стороне то важнейшее обстоятельство,
что буржуазное общество в лучшем случае способно
лишь формально провозглашать право каждого че
ловека свободно распоряжаться результатами своего
труда, что в силу своей антагонистической природы и
эксплуататорской сущности капитализм никогда не
был в состоянии обеспечить это право на практике.
Несмотря на многие в целом правильные положе
ния и здравые суждения, касающиеся теории и прак
тики социального насилия, Г. Ньютон остается на
позициях буржуазного ученого. В основу дифферен
циации разнообразных проявлений насилия им кла
дутся не социально-классовые критерии и оценки, а
сугубо внешние признаки и формальные черты. По
казательно и то, что Г. Ньютон стремится в своей ра
боте представить дело таким образом, будто бы тен
1
G. Newton. What is Violence? «The Nation», vol. 20*5, N 26.
p. 822 -823 .
70
денция роста эскалации насилия в капиталистиче
ском обществе проявляется сейчас прежде всего в
резком увеличении количества уголовных преступле
ний, а не в фактах насилия социально-политического
характера, не в репрессивных и террористических
действиях буржуазных органов власти, направлен
ных против трудящихся масс. «Убийства, грабежи,
преступность среди молодежи и другие виды нару
шений законности, совершаемые во все возрастаю
щем количестве,— заявляет он,— составляют основу
той общей картины эскалации насилия в нашем
обществе, о которой сейчас так много говорят и пи
шут и которая стала предметом пристального вни
мания со стороны науки и общественности» *.
В. И. Ленин не раз подчеркивал, что, исходя при
анализе и определении тех или иных социальных
явлений из «общих фраз», оставаясь на уровне опе
рирования абстрактными, исключающими классовое
содержание понятиями, невозможно вскрыть реаль
ное социальное значение и объективную сущность
ни одного из явлений общественно-политической
жизни 2.
Даже в тех редких случаях, когда буржуазные
теоретики употребляю т термины «революционное» и
«контрреволюционное» применительно к тем или
иным проявлениям насилия в общественной жизни,
они не рассматривают этот феномен в связи с клас
совыми антагонизмами буржуазного общества. Ука
занные термины используются ими для обозначения
и характеристики явлений, имеющих весьма отдален
ное отношение к реальным процессам классовой
борьбы и революционно-освободительного движения.
Характерным примером в этом отношении могут
служить следующие рассуждения американского фи
лософа Р. Бовена в работе «Модель гражданского
насилия»: «Существуют два основных мотива, вызы
вающие у людей состояние неудовлетворенности и
беспокойства, слу жащ его в свою очередь главной
предпосылкой их агрессивного поведения: во-первых,
1 G. Newton. What is Violence? «ТЬо Nation», vol. 200, N 20,
p. 319.
2 См., например, В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39,
стр. 281.
71
такое состояние возникает в условиях, когда инди
виду мешают занять то или иное общественное по
ложение, удовлетворить те или иные его желания и
потребности; во-вторых, такое состояние возникает,
когда индивида лишают привилегированного поло
жения, которое он занимал до этого. Первый случай
в его наиболее ярко выраженной форме можно на
блюдать в современном индустриально развитом об
ществе, где по целому ряду причин возникают такого
рода претензии и стремления со стороны отдельных
индивидов и социальных групп, которые превосходят
возможности существующ ей общественной системы
удовлетворить их полностью. Этот процесс получил
условное название революции возрастающих потреб
ностей. Второй случай характерен для тех обществ,
которые находятся в состоянии социального стресса и
в которых налицо угроза потери той или иной эли
тарной группой своего господствующего, привилеги
рованного положения. Условно можно различать пер
вый и второй варианты как соответственно револю
ционное и контрреволюционное насилие» 1.
Отсутствие объективных классовых критериев и
социально-дифференцированного подхода при ана
лизе и оценке явл ений современного общественного
развития, в том числе и тех или иных конкретных
проявлений насилия, ведет к тому, что буржуазными
теоретиками практически не проводится сколько-
нибудь четкого различия между реакционным, импе
риалистическим и прогрессивным, революционным
насилием, между освободительными и захватниче
скими войнами и т. д.
Некоторые буржуазные ученые вообще ставят
знак равенства между понятиями «насилие» и «агрес
сия», хотя в действительности они отнюдь не тож
дественны. Содержание понятия «агрессивность» в
социальном смысле всегда предполагает несправед
ливое, реакционное применение насильственных
средств и методов. Агрессия, как пр оявление соци
ального насилия, есть действительно «абсолютное
зло» и подлеж ит безоговорочному осуждению; она
1
R. Bowen. A Model of Civil Violence. International Political
Science Association. VIII World Congress. Bruxelles, 1970, p. 5—6.
72
должна быть поставлена вне закона в международ
ных отношениях и политической практике современ
ного человечества. Понятие ж е «насилие» носит ш и
рокий и разносторонний смысл, может иметь, как мы
пытались показать, различное содержание и значение
(негативное и положительное).
Претендуя на то, что они выступают с «общечело
веческих позиций» и отстаивают «абсолютные идеа
лы» свободы, гуманизма, демократии и мира, многие
буржуазные теоретики нивелируют все проявления
насилия и тем самым объективно встают на позиции
абстрактного пацифизма, выступают против насилия
и войн вообще, а отнюдь не против тех реакционных
сил, которые несут ответственность за конкретные
милитаристские и агрессивные действия, являются
первопричиной и источником социальных конфлик
тов в современном мире. Д ля такого типа исследо
вателей проблем войны и мира не существует
«антагонистов, для них существует лишь сам анта
гонизм» 1. Такой подход логически приводит буржу
азных ученых к тому, что понятия «агрессия» и
«оборона» ставятся на один и тот же уровень, а сам
агрессор приравнивается фактически к его жертве.
Для доказательства правомерности тезиса о ес
тественности и неизбежности проявлений насилия в
общественной жизни некоторые буржуазные ученые
прибегают к методологическому трюку — подменяют
конкретно-историческую социальную категорию «на
силие» внесоциальным понятием «агрессия», упот
ребляемым в значении, которое это понятие имеет в
ряде естественных наук — биологии, этологии, гене
тике, медицине. Категория «агрессия» рассм атривает
ся в этих науках как естественная форма поведенче
ской реакции животных особей в определенных усло
виях и ситуациях. Именно этот «нейтральный»
смысл и сугубо специфическая биологическая трак
товка понятия «агрессия» нередко механически пере
косятся буржуазными философами на проявления
социально-политического насилия 2.
Iwti________
1 /. Galting. Strategies of Nonmilitary Defence. Rotterdam,
1971, p. 68 .
2 Подробнее этот вопрос рассматривается нами в следую
щей главе.
73
Многим буржуазным теоретикам свойственна из
лишне детализированная классификация проявлений
насилия по типам, видам и категориям на основе вы
деления чисто внешних, формальных или второсте
пенны х признаков и свойств (например, количество
участвующих в конфликте сторон, длительность
самого процесса насилия по времени, характер пред
шествующих акту насилия взаимоотношений сторон,
размеры нанесенного ущерба или вреда). Американ
ский социолог Ж ене Ш арпо описывает, например, де
вять типов насильственных действий с точки зрения
45 их отличительных черт 1. Однако подобного рода
детализированная дифференциация мало что дает
для раскрытия социальной природы исследуемого
явления. Не способствует этому и предлагаемое Ро
бертом Левайном и Дональдом Кэмпбеллом подраз
деление всех проявлений насилия на две категории:
физическая агрессия — убийство, военные действия,
вооруженное нападение, драка, оскорбление дейст
вием, причинение боли, физического и материального
ущерба и т. п.; вербальная агрессия — угроза, клеве
та, нанесение оскорбления словом, ругань, преднаме
ренный обман и т. п .2
В буржуазной социологии предпринимаются так
же попытки квалифицировать проявления насилия
и социальные конфликты, исходя из функциональной
характеристики групп, которые в них вовлечены.
Например, все военные действия предлагается опре
делять как межгосударственные или межнациональ
ные конфликты, забастовочную борьбу — как произ
водственные конфликты, столкновения на почве раз
личного вероисповедания — как религиозные конф
ликты, борьбу за власть и государственные перево
роты— как политические конфликты и т. д.3 Но и
при таком подходе классовое содержание и ‘социаль
ная роль тех или иных проявлений насилия остается
нераскрытой. В данном случае налицо стремление
1 /. Sharpo. Meaning of non — violence: Tupes or Dimensions?
«Jornal of Peace Research», 1971, N 2, p. 155.
2 R. A. Le'Vine and D. T. Campbell. Ethnocentrism. Theories
of Conflict, Ethnic Attitudes and Group Behavior. N. Y., 1972,
p. 257 —258.
3 «Peace and Conflict», vol. 1. Lancaster, 1971, N 2, p. 10.
74
буржуазных ученых увести исследование актуальных
социально-политических вопросов в дебри узкого
академизма, изолироваться от острых проблем ре
альной социальной действительности и классовых
противоречий. Спекулятивно-мистификаторский под
ход буржуазных теоретиков к трактовке понятия
«насилие», их схоластические рассуждения не позво
ляют найти ответ на вопрос: в чем же заключается
социальная природа феномена насилия, каковы его
детерминирующие причины?
Правильный ответ на этот вопрос, так же как и
научное определение самого по нятия «насилие»,
можно дать только на основе диалектико-материали
стических принципов исследования данного фено
мена. На базе таких принципов мы и попытаемся да
лее критически проанализировать наиболее рас
пространенные в современной буржуазной социоло
гии концепции насилия.
Глава II
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА
В ЗЕРКАЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЭТОЛОГИИ
1. Агрессия:
врожденный инстинкт
или социальный феномен?
Как уж е отмечалось, биологизация со
циальных явлений и процессов, общественной жизни
в целом — одна из традиционных тенденций буржу
азной социальной мысли. Н аходясь на позициях био
логического идеализма, многие буржуазны е социоло
ги доказывают, что развитие общества и вся социаль
ная деятельность людей зависят прежде всего от фи
зической природы человека, от его антропологиче
ских особенностей.
Несовершенство социально-политического у ст
ройства, классовые антагонизмы и конфликты, воен
ные столкновения и борьба на международной арене
объясняются ими прежде всего неполноценностью
биологической природы человека, генетически тесно
связанного с животным миром, из которого он сра
внительно недавно выделился. Именно потому, что
человеческая природа не соответствует достигнуто
му уровню развития цивилизации и социальным ус
ловиям бытия, по их мнению, и происходят все ка
таклизмы в общественной жизни. Одним из наиболее
опасных проявлений несоответствия социальной сре
ды и атавистических животных черт, якобы прису
щих человеку, они считают действие тех генов, кото
рые обусловливают его агрессивную поведенческую
реакцию, необузданное стремление к насилию и вла
ствованию над другими людьми, нарушающее соци
альную гармонию и мир. Человек, согласно их взгля
дам, существо антисоциальное.
В наиболее последовательном и концентрирован
ном виде эта точка зрения находит сегодня свое вы
ражение в так называемой социальной этологии —
70
недавно возникшем течении в буржуазной социаль
ной мысли, которое, используя экспериментальные и
теоретические данные ряда конкретных наук (био
логии, экологии, генетики, медицины), обосновывает
заимствованную из социального дарвинизма идею о
«биогенетической детерминированности» социального
насилия, об его «этологической природе» 1.
Жажда насилия и стремление к агрессии являют
ся врожденным инстинктом человеческой природы и
основным источником всех социальных конфликтов
современности — таков исходный тезис этой доволь
но широко распространенной в настоящее время на
Западе концепции. Ее авторы доказывают, что люди
развязывают войны, ведут революционную борьбу,
поднимают мятежи и восстания, совершают государ
ственные перевороты и другие насильственные дей
ствия исключительно в силу того, что их толкает на
это извечный и неистребимый инстинкт агрессии.
Эта модернизированная разновидность социаль
ного дарвинизма всплыла на поверхность буржуаз
ной социально-философской мысли в последнее де
сятилетие прежде всего благодаря работам таких за
падных ученых-естественников, как Р. Ардри, К. Ло
ренц, Н. Тинберген, Дж. Скотт, Д. Моррис, Т. Томсон,
А. Элланд. Она сумела приобрести известную по
пулярность потому, что заставила общественное мне
ние поверить в свою причастность к новейшим науч
ным о ткрытиям в области этологии.
Последние достижения в области биологии, гене
тики, этологии и нейрофизиологии позволили от
крыть ряд закономерностей в поведении животных
и, опираясь на высокий уровень современной научно-
технической мысли, средства электроники и новые
оригинальные методы исследования, подтвердить
и развить основополагающие материалистические
принципы формирования сознания и функциониро
вания различных областей жизнедеятельности жи
вотных и человека. Вместе с тем среди определенной
-------------
1
Этология (от греч. ehtos — обычай, характер и logos —
слово, учение) — учение о поведении животных в естествен
ной для них среде, возникшее на рубеже 40—50 -х годов
XX века. Его основные принципы сформулированы в работах
австрийского биолога Конрада Лоренца.
77
части буржуазных ученых-естественников отчетли
во наметилась тенденция использовать новейшие
научно-исследовательские принципы и методы, а
также открытые закономерности в поведении жи
вотных для анализа и объяснения социального пове
дения человека. Только изучение поведения живот
ных и проведение соответствующей аналогии, счи
таю т сторонники социальной этологии, может помочь
разобраться в действительных причинах тех или
иных общественных действий и поступков людей, в
тйм числе объяснить феномен социального насилия.
Основываясь, в частности, на так называемом физио
логическом принципе «пускового механизма» и не
оправданно перенося его действие в область социаль
ных отношений, они выдвинули идею о врожденной
инстинктивной агрессивности человеческой природы.
Вокруг этой идеи начались всякого рода идеологиче
ские спекуляции, она незамедлительно была взята на
вооружение идейными апологетами милитаристских
кругов.
Австрийский биолог и социолог Конрад Лоренц на
основании изучения поведения некоторых видов жи
вотных в естественных для них природных условиях
одним из первых пришел к выводу, что в определен
ных обстоятельствах у животных автоматически
срабатывает инстинктивный механизм агрессии и
они нападают на других представителей своего же
вида. Эта «внутривидовая агрессия», по утверждению
К. Лоренца, имеет столь же неодолимый и естествен
ный характер, как, например, голод или половой ин
стинкт, и, в свою очередь, также служит целям со
хранения вида.
Рассматривая любое агрессивное поведение ж и
вотного в качестве спонтанной врожденной реакции,
которая может в случае конфликтной ситуации уси
ливаться, но которая отнюдь не является ее непо
средственным порождением, К. Лоренц заявляет, что
именно проявление действия этого агрессивного ин
стинкта имеет одним из своих результатов строго ог
раниченное расселение особей одного вида на опре
деленной территории.
Проявление агрессивности в качестве инстинктив
ной реакции, направленной на защиту выбранной и
78
обитаемой территории, соперничество за обладание
самкой или же за господство в иерархической струк
туре определенной группы особей одного вида, по
мнению Лоренца, свойственн© даже тем видам ж и
вотных, которые ведут стадный образ жизни и кото
рым в принципе не должна быть присуща вражда
В то же время К. Лоренц и большинство его по
следователей признают, что процесс эволюции и есте
ственный отбор выработали у животных соответст
вующий запретительный инстинктивный механизм,
не позволяющий им использовать агрессивные ин
стинкты в ущерб своему виду. Установлено, что вну
тривидовая агрессия и борьба регулируются рядом
специально выработанных с этой целью природой
мер и действий сдерживающего и предупредительно
го характера, например специально подаваемыми
сигналами одной из конфликтующих сторон (в тех
случаях, когда сталкиваются животные одного вида),
которые ведут к немедленному прекращению борьбы
между ними,и признанию одной из особей себя побе
жденной.
К. Лоренц, которого назы ваю т «отцом социальной
этологии», и другие сторонники этологической трак
товки социальных явлений неправомерно устанавли
вают прямую аналогию между открытыми ими зако
номерностями в поведении животных и действиями
людей в общественной жизни.
Рассматривая биологические принципы в качестве
некой универсальной модели, они механически пере
носят их в сферу общественной жизни, на отношения
между индивидами, классами, нациями и государст
вами. Утверждается, что поведение животных слу
жит абсолютным прототипом поведения человека.
«Вряд ли в поведении животных,— пишет англий
ский исследователь У. Торп,— можно
найти хоть
один аспект, который не имел бы хоть какого-то от
ношения к проблеме поведения людей» 2. Научно не
состоятельный метод аналогии с жизнедеятельно
стью животных применяется сторонниками социаль
1 К. Lorenz. On Aggression, p. 39.
2 Цит. по: «Курьер ЮНЕСКО», август — сентябрь, 1970,
стр. 40.
70
ной этологии и при анализе природы и источников
политического насилия.
Определяя агрессию как своего рода инстинктив
ную потребность, в одинаковой степени свойственную
как животным, так и человеку, К. Лоренц пишет:
«Этологическая наука располагает в настоящее вре
мя исчерпывающими и убедительными данными о
естественной природе и истории феномена насилия,
чтобы быть в состоянии точно указать на подлинные
причины несовершенного механизма его функциони
рования у человека... Внутривидовая агрессия у лю
дей представляет собой совершенно такое же само
произвольное инстинктивное стремление, как и у
других высших позвоночных животных» 1.
Согласно сформулированному австрийским антро
пологом Р. Ардри учению о «территориальном импе
ративе», корни всех проявлений насилия в общест
венной жизни, вклю чая войны в защ иту собственно
сти и территории или ради их приобретения, заложе
ны в атавизмах биологической природы человека.
Человек генетически запрограммирован на соверше
ние насильственных действий, доказывает Р. Ардри,
он бессилен против инстинктов собственной природы,
которые неотвратимо приводят его к социальным
конфликтам и борьбе. Люди при всем желании не в
состоянии осуществлять рациональный и эффектив
ный контроль над проявлениями своей агрессивности.
«Когда мы защищаем права или независимость своей
страны, мы действуем под влиянием побуждений, ко
торые ничем не отличаются от соответствующих по
буждений у более низкоорганизованных животных.
Эти побуждения являются врожденными и неискоре
нимыми» 2.
Аналогичных взглядов по этому вопросу придер
живаются и многие другие буржуазные теоретики.
Так, канадский ученый, специалист по проблемам
полемологии (науки о войне), Н. Олкок, рассматривая
принцип «территориального императива» в качестве
основного фактора, обусловливающего войны и все
другие политические коллизии в современном мире,
1 К. Lorenz. On Aggression, p. 9.
2 R. Ardrey. The Territorial Imperative. N. Y., 19G9, p. 103.
80
утверждает, что «основной национальной ценностью
у людей является территория их обитания и именно
от этого фактора следует отталкиваться при исследо
вании агрессивного поведения людей и возникнове
ния различного рода конфликтов в общественной
жизни» К
Исключая, по сути дела, из поведения человека
сознание и рассматривая его как совокупность чисто
внешних механических реакций организма на тз или
иные стимулы, представители социальной этологии
идут по стопам бихевиоризма. «Господство является
подлинной целью агрессивного поведения,— у тв ер ж
дает английский зоолог Д. Моррис,— и в этом отно
шении человек ничем не отличается от всех других
живых существ» 2.
В качестве аргументов, доказывающих существо
вание в природе человека неустранимого инстинкта
к обладанию и защ ите определенной территории от
посягательств чужих, сторонники этой точки зрения
приводят такие факты, как существование государ
ственных границ, разграничение частных земельных
владений, даже наблюдающуюся у детей тенденцию
к отгораживанию своей территории в общих комна
тах для игр. Обосновывая концепцию «территориаль
ного императива», некоторые буржуазные теоретики
вкладывают в понятие «территориальность» весьма
расширительный смысл. «Каждый индивид,— пишет
ам ериканский социолог Д. Стэй,— обычно обладает
несколькими «территориальными единицами» — на
работе, дома, на отдыхе и т. д., которые он склонен
удерживать и защищать от посторонних посяга
тельств» 3.
Американский социолог Ральф Уайт само понятие
«территория» истолковывает исключительно в психо
логическом смысле, как чисто умозрительный «наци
ональный символ», «психологический образ», кото
рый составляют себе различные группы людей о тер
ритории как неотъемлемой части их самих. По его
1 «Scionce Forum». Ottawa, December, 19G8, p. 100.
2 D. Morris. The Naked Ape: A Zoologist’s Study of the Human
Animal. N. Y., 1968, p. 175.
3 D. Stea. Space, Territory and Hum an Movem ents. «Lands
cape», 1965, N 15, p. 14.
6
В. В. Денисов
81
мнению, оценивая роль территории как одного из воз
можных факторов возникновения войн, не следует
«становиться на позицию экономической интерпрета
ции ее значения в обычном смысле, какое придается
этой категории, например, марксизмом. Территория
важна для того или иного народа вовсе не вследствие
ее экономического или даж е военного значения, она
важна прежде всего как символ образа националь
ной целостности, как психологический фактор нацио
нального сознания» 1.
Ряд буржуазных теоретиков занимают промежу
точную позицию в трактовке природы «человеческой
агрессивности». Воздерживаясь от категорического
утверждения о врожденном характере агрессивного
инстинкта у человека, они тем не менее считают, что,
даже будучи благоприобретенной, наклонность к аг
рессивному поведению становится неотъем лемы м
свойством человеческой натуры. «Агрессивность, мо
жет быть, и нельзя считать «инстинктом»,— пишет
американский антрополог Ш. Уошберн,— однако чер
та эта очень легко приобретается. Дайте мальчику
ружье, и он тут же отправится на охоту. Это свойст
во присуще нам... Человеку очень нетрудно стать
крайне жестоким» 2.
Согласно взглядам английского биолога Н. Тин
бергена, степень и уровень агрессивных проявлений
весьма различны у разных индивидов и социальных
групп: одни претендуют на захват большего про
странства, большего количества жизненных благ, чем
другие. Объяснение этому явлению следует, по его
мнению, искать исклю чительно в биологическом не
равенстве людей3. Из логики его рассуждений следу
ет, что капиталист обладает несравненно большими
благами и социальными привилегиями, чем эксплуа
тируемый им трудящийся, лишь в силу его индиви
дуальных биологических свойств: генетическая при
рода рабочего якобы предполагает ограниченность и
скромность потребностей, природа буржуа, напротив,
1 R. While. Nobody Wanted War. N. Y., 1070, p. 180.
2 Цит. по: «Курьер ЮНЕСКО», август — сентябрь, 1970,
стр. б.
3 М. Tinbergen. On War and Peace in Animal and iMan,
«Science», vol. 100. N. Y., 1908.
82
проявляется в естественном, а следовательно, и за
конном стремлении обладать большими ценностями,
чем другие. Таким образом, получается, что все анта
гонизмы и пороки капиталистического общества за
ложены в человеческой природе, которая вечна и не
изменна. Поэтому никакими социальными изменени
ями и революциями исправить создавшееся положе
ние невозможно.
Исходя из «инстинктивной агрессивности» чел о
веческого рода, сторонники социальной этологии за
являю т, что именно потому, что в природе человека,
независимо ни от каких общественных сдвигов и
культурных достижений, неизменно сохраняются
врожденные каналы, через которые при определен
ных обстоятельствах агрессивные наклонности вы
рываются наружу, до сих пор все попытки предупре
дить или хотя бы ограничить проявления насилия в
истории человечества оказывались бесполезными и
терпели неудачу. «Периодически предпринимаемые
попытки запретить войны потому не имели до сих
пор сколько-нибудь ощутимого успеха,— пишут аме
риканские философы Н. Зинберг и Г. Феллман,— что
обычно исходили из ложной предпосылки, будто за
ключение мирных договоров и соглашений по разо
ружению, та или иная реконструкция социальных,
политических и экономических институтов способны
разрешить эту вечную проблему. В то же время очень
мало внимания уделялось тому обстоятельству, что,
возможно, человеческая природа сама по себе, неза
висимо ни от каких внешних факторов, обладает эле
ментом деструктивности, что сущность и динамика
этой деструктивности могут быть поняты только на
базе исследования самой этой природы и что только
таким путем может быть найден эффективный спо
соб положить конец всем проявлениям насилия в
жизни общества» К
Откуда же взялся у современного человечества
«инстинкт агрессии»? Согласно утверждению буржу
азных ученых, он, оказывается, унаследован людьми
от своих животных предков почти в неизменном виде
1 N. Zinberg and G. Fell man. Violence: Biological Need and
Social Control. Baltimore, 1970, p. 223.
83
и генетически передается из поколения в поколение.
Логика их рассуждений при этом сводится в общих
чертах к следующему: поскольку общепризнанным
является тот факт, что человек произошел из живот
ного мира и что его далекие предки прошли период
длительной эволюции, постольку человек должен об
л адать всеми теми свойствами и признаками, ко
торые присущи животным, включая и биологиче
скую основу мотивации его агрессивного поведения.
«Врожденные биологические мотивации — страх, го
лод, жажда, агрессия, эгоцентризм, сексуальное вле
чение и т. п.,— утверждает американский физиолог
К. С. Лэшли,— определяют поведение людей не толь
ко как высших представителей животного царства,
но и как членов общества, как социальных существ.
Они естественны, необходимы и имеют поэтому из
вечный характер» 1.
Итак, сама природа человека оказывается причи
ной отчуждения личности в условиях современного
капитализма, основой всех антисоциальных поступ
ков людей, любых проявлений насилия в обществен
ной жизни. Именно в ней заложен непреоборимый
«импульс агрессии», якобы воплощающий в себе ес
тественное проявление жизненной активности каж
дого индивида.
Вот как пишет об этом директор Института соци
альной психиатрии США Дж. Браун в статье «Ана
томия насилия»: «Агрессия служ ит естественным
средством для преодоления барьеров на пути к удов
летворению определенных потребностей человече
ского организма, средством, которое яв л яется не
только врожденным и естественным, но и составляет
как бы органическую часть нервной системы, функ
ция которой состоит в том, чтобы мобилизовать чело
веческую энергию к достижению тех или иных кон
кретных целей. При этом в соответствии с теми труд
ностями, которые возникают при преодолении име
ющихся препятствий, объем этой мобилизуемой
энергии будет соответственно возрастать до тех пор,
пока не создастся одно из двух положений: либо все
1 «Psychological Review». N. Y., 1948, N 45, p. 445 —440.
84
возникающие препятствия будут преодолены и пре
следуемое желание будет удовлетворено, либо же
индивид приходит к выводу, что поставленная цель
недостижима. В последнем случае крушение его пла
нов служит поводом для различных степеней разоча
рования или выражения злости, и степень последней
зависит от того, насколько значительным и важным
был для него предмет его желаний, как он восприни
мает и переносит факт неудовлетворения своих же
ланий, а также своего социального положения... Та
ким образом, выражение агрессивных чувств в оп
ределенных рамках, установленных и общепри
знанных в данном обществе, является своего рода
регулятором человеческой жизнедеятельности и,
как правило, не представляет никакой опасности.
Как раз именно в тех случаях, когда агрессивные
эмоции человека искусственно подавляются или
игнорируются причины, их порождающие, может
возникнуть ненормальная и опасная ситуация. Аг
рессивное поведение становится опасным тогда, ког
да неудовлетворенное желание и вызванное им чув
ство озлобления облекаются в конкретную форму
и направляются против какого-либо противостояще
го объекта, который в данном случае служит как бы
козлом отпущения и оправданием неудовлетворен
ного желания; либо же в том случае, если существу
ющее агрессивное чувство полностью подавляется в
индивиде и он вынужден проявлять внешне види
мость удовлетворения, в то время как внутренне и
скрытно он полон озлобления, неудовлетворен суще
ствующим положением вещей» 1. Поскольку, по мне
нию буржуазных ученых, проявление в людях агрес
сивного инстинкта не имеет никакого внутреннего
противовеса и подчиняет себе все другие инстинктив
ные наклонности, включая и чувство самосохране
ния, они считают, что человечество стоит перед впол
не реальной угрозой самоуничтожения. «Человек по
своей природе хищник, врожденным и естественным
Инстинктом которого я вл яется убийство. Сочетание в
нем хищных наклонностей с развитым интеллектом
1
/. С. Brown. The anatomy of violence. «20th Century»,
vol. 173. London, 1965, p. 10—12.
85
явилось фактором, создавшим не только сам фено
мен человека, но одновременно и серьезную пробле
му существования человеческого рода» 1.
Признавая, что отношение человека к природе ре
гулируется высшими центрами мозга, буржуазные
авторы утверждают, что во взаимоотношениях меж
ду людьми, наоборот, главную роль играют эндоген
ные механизмы. Последнее и представляет, по их
мнению, тот барьер, который человек не в силах пре
одолеть в попытках мирными, ненасильственными
средствами р азр еш ать проблемы общественных от
ношений.
Если определенные рамки, регулирующие отно
шения взаимной вражды и борьбы, поддерживаются
инстинктивно всеми видами животного мира, то у
человека эти тормозные механизмы благодаря специ
фике социальной жизни якобы значительно ослабле
ны или отсутствуют вовсе. Он единственное в своем
роде живое существо, не признающее никаких огра
ничительных рамок и способное убивать себе подоб
ных. Способность убивать представителей своего же
рода, по мнению многих буржуазн ы х социологов,
специфическая черта человека, отличающая его от
других плотоядных животных. «Среди всех других
животных «братоубийство» является весьма редким
исключением, ибо все они обладают соответствующ ей
системой предупредительной сигнализации. Человек
не обладает такого рода автоматическим механизмом
предупреждения и мирного разрешения конфликтов.
Возможно, что когда-нибудь он имел нечто подобное,
но затем в процессе своего развития, по мере отхода
от подчинения законам природы, он утратил этот ме
ханизм за ненадобностью» 2.
Стремясь доказать, что эволюция не выработала
в лю дях способность и потребность в обуздании своих
инстинктов, многие западные социологи и антрополо
ги ссылаются на данные нейрофизиологических ис
следований внутримозговых механизмов, управля
ющих «агрессивным поведением человека». Более
того, они считают, что с развитием цивилизации аг
1 R. Ardrey. African G enesis. N. Y.. 1907, p. 322.
2 R. Harlogs and E. Artzt. On the Nature of Violence. In:
«Violence: Causes and Solutions». N. Y., 1970, p. 12.
86
рессивные потенции чел овека многократно возросли
по сравнению с начальным этапом существования
человечества. «Следует признать,— пишет ам ерикан
ский социологШ. Волин,— что талант человека в этой
области намного превзошел способности и возможно
сти всех других видов животных. Он единственный,
кто изобрел необычайно широкий ассортимент разно
образных методов и средств насилия, а также и хит
роумную систему их применения с целью господства
над другими людьми и контроля над их социальным
поведением. Человек оказался способным также соз
дать сложную систему религиозных ценностей, поли
тических идеологий и научных мифов, которые в те
чение многих веков с помощью веры, предрассудков
и логических догм узаконивали насилие и всячески
оправдывали его использование, затеняя и умело
скрывая все мрачные стороны и издержки, связанные
с его применением 1.
«Роковой разрыв» между достигнутым благодаря
прогрессу цивилизации материально-техническим
могуществом человека и атавистическим, «дикар
ским» образом его мышления и поведения, обуслов
ленным неизменностью человеческой природы, по
мнению многих буржуазных теоретиков, имеет тен
денцию быстро возрастать прямо пропорционально
научно-техническому прогрессу и усовершенствова
нию военной техники. «Сила человеческого интел
лекта и взлет научной мысли позволили изобрести
виды оружия необычайной мощи, создать сложные
общественные отношения и организацию социальной
жизни людей, но в то же самое время инстинкты че
ловеческой природы не позволяют людям осуществ
лять контроль над продуктами их собственного ума,—
пишет К. Лоренц. — Эволюция человеческой природы
происходит, если она вообще происходит, в миллион
раз медленнее, чем развитие культуры. Последняя
развивается необычайно быстрыми темпами, но в
этом факторе и таится главная опасность для чело
вечества» 2.
1 Sh. Wolin. Violence and Western Political Traditions. In:
«Violence: Causes and Solutions», p. 30.
2 K. Lorenz. On Aggression, p. 74.
87
Очевидно, что в биогенетической тракто вке проб
лема насилия выступает, по сути дела, как проблема
неразрешимых антиномий. И сторонники социальной
этологии делаю т самые пессимистические прогнозы
в отношении возможности предотвращения войн и
других проявлений насилия в общественной жизни:
проявления инстинктивной агрессивности в ракетно-
ядерную эпоху ставят человечество на грань ката
строфы, предотвратить которую, как они считают,
практически невозможно 1. При этом вся ответствен
ность за эту грядущую катастрофу возлагается сов
сем не на тех, кто стремится продлить жизнь отжи
вающим антагонистическим общественным отноше
ниям капитализма, а на «образ человеческого поведе
ния» 2.
Пытаясь обосновать свои теоретические положе
ния, авторы концепции «инстинктивной агрессивно
сти человеческой природы» проделывают, по сути де
ла, тот же методологический трюк, о котором упоми
нал в свое время Ф. Энгельс, подвергая критике анти
научные взгляды проповедников социал-дарвинизма.
Вначале они переносят из общественной жизни в жи
вотный мир тезис Гоббса «о войне всех против всех»,
а затем с той же легкостью совершают обратный про
цесс: извлекают это учение из истории природы и
вновь помещают его в историю общества. Вскрывая
научную порочность и реакционность подобного рода
методологии, Ф. Энгельс писал: «...взаимодействие
живых существ включает сознательное и бессозна
тельное сотрудничество, а также сознательную и бес
сознательную борьбу. Следовательно, уже в области
природы нельзя провозглашать только односторон
нюю «борьбу». Но совершенное ребячество — стре
миться подвести, все богатое многообразие историче
ского развития и его усложнения под тощую и одно
стороннюю формулу: «борьба за существование». Это
значит ничего не сказать или и того меньше» 3.
1 Н. Bienen. Violence and Social Change. Chicago, 1908;
A. Koestler. Man — m istake of Evolution? «New York Timus
Magazine», 1970, December, 19; J. Stone. Aggression and World
Order. Berkeley, 1970.
2 Ch. Yost. The Insecurity of Nations. N. Y., 1969, p. 21.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 622.
88
Ставить знак равенства между социальной дея
тельностью людей и инстинктивным поведением жи
вотных абсолютно неправомерно. И нстинкты живот
ных, представляющие собой определенную реакцию
на окружающую среду, носят неосознанный харак
тер, закрепляются в процессе естественного отбора и
служат важнейшим условием их физического сосу-
ществования и выживания. Но совершенно абсурдно
приписывать инстинктам роль регуляторов социаль
ного поведения и общественных отношений.
Политическая борьба и разнообразные виды со
циального насилия есть форма выражения классовых
взаимоотношений сознательных индивидов, ставя
щих перед собой вполне определенные цели и пре
следующих конкретные интересы. Поэтому любое
отождествление этих феноменов с поведением живот
ных и проявлением у них различного рода инстинк
тов не только антинаучно, но и имеет реакционный
смысл. «Нет ничего легче,— писал В. И. Ленин,— как
наклеить «энергетический» или «биолого-социологи-
ческий» ярлык на явления вроде кризисов, револю
ций, борьбы классов и т. п., но нет и ничего бесплод
нее, схоластичнее, мертвее, чем это занятие» \
Метафизическим и идеалистическим представле
ниям о существовании у человека врожденных неиз
менных инстинктов и способностей, различного рода
извращенным толкованиям человеческой природы
в целом марксизм противопоставляет диалектико-ма
териалистическое учение о законах развития приро
ды и общества. Человек как общественное существо
представляет собой высшую ступень развития живых
организмов, его возникновение явилось качествен
ным скачком в исторической эволюции жизни на
Земле. Животные не способны производить коренные
изменения в условиях своего существования, а лишь
чисто инстинктивно стремятся приспособиться к ок
ружающей среде, которая и определяет их поведение
и весь образ жизни. Только человек, целеустремлен
но преобразующий окружающую среду, является тем
единственным живым существом, которое осознанно
создает условия своего бытия. Вспомним образное
1 В. И . Ленин. Поли. собр. соч ., т. 18, стр. 348.
89
замечание К. Маркса, что самый плохой архитектор
отличается от самой хорошей пчелы тем, что пчела
строит ячей ку сот традиционно, опираясь на рефлекс,
а архитектор прежде всего воздвигает здание в своем
мозгу, в воображении 1.
Переход границы от мира животного к миру со
циальному, превращение предка современного чело
века в разумное существо произошли далеко не
«вдруг», отнюдь не в одно «чудесное мгновение». Это
был весьма длительный и сложный процесс, заняв
ший отрезок времени в несколько миллионов лет.
Теперь научно установлено (благодаря проведенным
в последние годы исследованиям, в том числе дан
ным археологических раскопок в Азии и Африке),
что этот процесс «очеловечивания» охватывает ряд
принципиально важных и качественно различных
ступеней. Первые человекоподобные существа — ав
стралопитеки по строению тела, хотя они и ходили
на двух ногах, были все-таки ближе к обезьянам, чем
к человеку. Эволюционный процесс на этом этапе
заключался в том, что австралопитеки уже могли
изготавливать и применять очень примитивные, гру
бо обработанные камни-орудия. Новое поколение под
ражало предыдущему, принимаясь за обработку кам
ня и применяя его в качестве орудия. Все это тесно
связано с характером мышления, которое было столь
же примитивным, как и сама технология производ
ства орудий. Поэтому не случайно ученые присвоили
этому виду нашего древнейшего предка название
Homo habilis — человек умелый. Хотя это еще не
был Homo sapiens — человек разумный, факт его
появления означал принципиальный момент в ста
новлении человеческого рода, ибо именно с него на
чинается то, в чем заключается собственно челове
ческая сущность — возможность противопоставить
умение и разум слепым силам природы.
Начавшийся процесс становления и развития
мыш ления, который наш ел свое непосредственное
отражение прежде всего в производстве и примене
нии орудий методом «проб и ошибок», отличается
сложностью и медлительностью. По мере того как
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 189 .
00
орудия становились все более совершенными по фор
ме и методам изготовления, расширялся их ассорти
мент, наши древние предки получали все более ши
рокие возможности в борьбе за существование, в
способах приспособления к разнообразным местам
обитания, большую географическую пластичность.
Но пока шел данный процесс, пока человек не стал
человеком разумным, эволюция его оставалась
преимущественно процессом биологическим, а не со
циальным. Этот порог, по данным науки, человече
ский род перешагнул только в эпоху неандерталь
ского человека (приблизительно 500 тыс. лет назад),
когда произошла стабилизация производства орудий
труда и образовалась первая социальная организа
ция— первобытное общество. С этого момента и на
чинается развитие, причем все более ускоряющимися
темпами, особой социальной формы жизни на Зем
ле, качественно отличной по своим закономерностям
от животного мира.
В процессе преобразования людьми внешнего ми
ра происходит одновременно и преобразование само
го человека, изменение его природы. «Образование
пяти внешних чувств,— отмечал К. Маркс,— это ра
бота всей... всемирной истории» 1.
Вместе с тем научно доказано, что те или иные
видовые физиологические задатки и биологические
возможности, сложившиеся в ходе эволюции челове
ческой природы, сами по себе не определяют еще
возникновение у индивида присущих ему особенно
стей, которые формируются и развиваются только в
процессе общения людей, их социальной активности.
Именно в непрекращающемся процессе освоения
каждым человеком, начиная с самого раннего возра
ста, социальных, исторически сложившихся форм
деятельности и поведения осуществляется превра
щение заложенных в нем потенциальных способно
стей в жизненную реальность. В этом и заключается
главное условие индивидуального становления чело
веческой личности. Только определенный уровень
самосознания, осмысления индивидом себя как субъ
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. И з ранних произведений. М.,
1956, стр. 594.
91
екта исторического процесса характеризует его как
самодеятельную личность, обладающую социальны
ми правами и обязанностями, имеющую возможность
проявлять свою индивидуальность как носителя оп
ределенной нравственности.
Утверждая, что человека следует изучать преж
де всего с позиций его индивидуального существова
ния, его антропологических особенностей, буржуаз
ные философы и социологи игнорируют то, что сами
эти антропологические особенности являются резуль
татом преобразующего воздействия общественно
трудовой деятельности людей и что сложились они в
длительной социально-исторической практике чело
вечества.
Марксизм впервые научно доказал определяю
щую роль социальной среды и конкретно-историче
ских условий на становление и развитие сознания и
всей психической деятельности человека, его пове
денческих реакций. « ...Чувства общественного чело
века суть иные чувства, чем чувства необществен
ного человека. Лишь благодаря предметно разверну
тому богатству человеческого существа развивается,
а частью и впервые порождается, богатство субъек
тивной человеческой чувственности... не только пять
внешних чувств, но и так называемые духовные чув
ства, практические чувства (воля, любовь и т. д.),—
одним словом, человеческое чувство, человечность
чувств,— возникают лиш ь благодаря наличию соот
ветствующего предмета, благодаря очеловеченной
природе» 1.
Вступая в жизнь, человек погружается в многооб
разный и сложный мир сформировавшихся до него
социальных отношений и связей, исторически сло
жившихся и господствующих в данном конкретном
обществе традиций, норм права и морали, идеологи
ческих воззрений, эстетических вкусов и т. п. Процесс
усвоения всей этой «очеловеченной природы» и игра
ет решающую роль в формировании поведения и со
знания человека, определенного образа жизни, миро
воззрения, ку л ь тур ы и психологии. Человек, писал
К. Маркс, «только в обществе может развить свою ис
1
К. Маркс и Ф. Энгельс. И з ранних произведений,
стр. 593—594.
02
тинную природу, и о силе его природы надо судить
не по силе отдельных индивидуумов, а по силе всего
общества» 1.
Критикуя идеалистические представления о чело
веке как некой изолированной монаде, К. Маркс под
черкивал, что индивид всегда в той или иной степени
включен в контекст общения с окружающими его
людьми, что осознание человеком своего «я» опосред
ствовано его отношением к другим людям. Индивид
есть прежде всего общественное существо, и всякое
проявление его жизни «является проявлением и ут
верждением общественной жизни» 2.
Современная материалистическая наука доказала
неправомерность отождествления сознания и пси
хики животных с сознанием-и психикой человека,
элементарного конкретного мышления, присущего
высшим видам животных, со словесным, сложным
абстрактным мышлением человека. Сознание в пол
ном и точном смысле этого слова является свойством
лишь человека. Оно «с самого начала есть обществен
ный продукт и остается им, пока вообще существуют
люди» 3.
Нау чная несостоятельность идеалистической кон
цепции «инстинктивной агрессивности человеческой
природы» становится совершенно очевидной в свете
ленинской теории отражения, согласно которой вся
психическая, сознательная деятельность есть отра
жение материального мира, «высший продукт выс
ших форм органической материи» 4. Будучи свойст
вом особым образом организованной материи — моз
га, человеческое сознание — это наивысшая форма
отражения объективного мира и, конечно, не может
быть присуще организмам с низшей в эволюционном
отношении структурой нервной системы.
Это научно-материалистическое положение разде
ляют сейчас многие трезво мыслящие буржуазные
ученые, исследующие проблему человека. «Созна
ние— это не какое -то неизменное, независимое и
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 146.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений,
стр. 590.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 29.
4 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 239.
93
врожденное свойство данного индивидуума, а дина
мичная система сенсорных восприятий окружающего
мира, которые взаимодействуют и трансформируются
через внутренние анатомические и функциональные
структуры мозга,— пиш ет американский ученый-фи
зиолог Хозе Дельгадо.— Личность — это не какой-то
непостижимый и неизменный способ реагировать, а
гибкий процесс, находящийся в непрерывном разви
тии, на который влияет окружающая среда. Куль
тура w воспитание предназначены для того, чтобы
сформировать типовые реакции, которыми человек
не обладает при появлении на свет; они призваны ус
тановить границы личной свободы и выбора»
Утверждая определяющую роль социальной де
терминации в жизнедеятельности людей, марксизм
в то же время отнюдь не преуменьшает влияния био
логических факторов на индивидуальность и психи
ческий склад личности. Было бы в равной степени
вульгаризацией сводить человека либо лишь к его
духовному началу — сознанию, либо исключительно
к его физической, телесной организации и биологи
ческой природе. Он представляет собой уникальное
диалектическое единство природного и социального,
наследственного и приобретенного в процессе ж и зн е
деятельности.
Вопреки утверждениям буржуазных теоретиков,
марксисты никогда не абсолютизировали роли соци
альной стороны в этом единстве, неоднократно под
черкивали значение биологического начала в чело
веке как природном существе. «Человек являет
ся непосредственно природным существом,— писал
К. М аркс. — В качестве природного существа, притом
живого природного существа, он, с одной стороны,
наделен природными силами... являясь деятельным
природным существом; эти силы существуют в нем
в виде задатков и способностей...» 2 На эту же специ
фику человека специально указывал и Ф. Энгельс,
считая наивным и ошибочным полагать, что люди
полностью преодолели в себе все природное, свойст
венное им как биологическим существам: «...на каж
1 X. Дельгадо. Мозг и сознание. М., 1971, стр. 214.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. И з ранних произведений, стр. 631.
94
дом шагу факты напоминают нам о том, что мы от
нюдь не властвуем над природой так, как завоева
тель властвует над чужим народом, не властвуем над
ней так, как кто-либо находящийся вне природы,—
что мы, наоборот, наш ей плотью, кровью и мозгом
принадлежим ей и находимся внутри ее...» 1
Диалектическое сочетание в человеке социального
и биологического означает, что его стр ем ления и дей
ствия есть одновременно результат как социальных
условий его жизни, так и его биологических особен
ностей. Решающее значение социального фактора со
стоит не в его абсолютной детерм инирующ ей роли,
а в том, что он есть необходимое условие формирова
ния и развития человека как личности. Не случайно
соотношение социального и биологического как де
терминирующих факторов поведения человека мо
жет меняться в зависимости от уровня развития его
личности, от его физических и психических состоя
ний.
Нельзя недооценивать также доказанного психо
логами факта, что природные индивидуальные осо
бенности опосредствуют характер реакции человека
на внешние воздействия— «индивидуальный стиль»,
определенного рода избирательность людей по отно
шению к внешнему миру.
«Глупо было бы отрицать субъективный мир,— го
ворил академик И. П. Павлов. — Само собой разуме
ется, он, конечно, есть. Психология как формули
ровка явлений нашего субъективного мира совершен
но законная вещь. И нелепо было бы с этим спорить.
На этой основе мы действуем, на этом складывается
вся социальная и личная жизнь... Речь заключается
в анализе этого субъективного мира» 2. Осуществле
ние такого анализа на базе марксистской методологии
как раз и позволяет установить, что любое субъек
тивное поведение и мышление личности имеют в сво
ей основе вполне материальные факторы и опреде
ляются прежде всего социальными условиями че
рез соответствующие психологические механизмы.
К. Маркс, употребляя понятие «вторая природа» че
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 496.
2 «Павловские среды», т. 2. М., 1949, стр. 415.
05
ловека, подразумевал под ним именно ту социаль
ную характеристику человека, содержание которой
обусловлено системой связей и детерминант, непо
средственно определяющих его психический облик
и социальное поведение.
Направляющими факторами мотивации человече
ского поведения в тех или иных конкретных жизнен
ных ситуациях, конечно, могут быть определенные
внутренние, врожденные и приобретенные в жизни
модели поведения. Но в формировании таких внут
ренних моделей поведения у человека решающая
роль принадлежит социальным факторам. Эти выс
шие мотивации человеческого поведения качественно
отличны от инстинктивных мотиваций в поведении
животных и несравненно разнообразнее последних.
И хотя в основе высших мотиваций человеческого
поведения могут лежать так называемые механизмы
«основных влечений», последние, как правило, суще
ственно изменяются первыми. Именно социальная
среда формирует у человека такие мотивации, кото
рые вообще неизвестны в животном мире. Чтобы убе
диться в этом, достаточно сопоставить такие во звы
шенные мотивы человеческого поведения, как само
пожертвование ради патриотических целей, во имя
защиты Родины, отстаивания свободы и независимо
сти своего народа, во имя осуществления революци
онных идеалов, и присущий животным инстинкт са
мосохранения, многоликие проявления чувства чело
веческой любви — с половым инстинктом и т. п.
В процессе исторической эволюции человека про
исходит откладывающееся тем или иным образом в
его генетической программе или психической кон
ституции последовательное накопление определен
ных социально полезных качеств и свойств, оказы
вающих во все возрастающей степени обратное воз
действие на его «естественную» природу. Так, вопре
ки утверждениям сторонников социальной этологии,
неоспоримым фактом является прогрессирующая
способность человека контролировать, ограничивать
и подавлять нежелательные проявления своей «есте
ственной» природы, координировать их в соответ
ствии с нравственными нормами и представлениями
человеческого общежития.
96
Человек давно уже получил возможность отре
ш иться от беспрекословного подчинения давлению
биологических потребностей, научился их рациональ
ному управлению и регулированию в соответствии со
своим социальным образом жизни. «Человек — един
ственное животное, которое способно выбраться бла
годаря труду из чисто животного состояния,— пи сал
Ф. Энгельс,— его нормальным состоянием является
то, которое соответствует его сознанию и должно
быть создано им самим» 1.
Конечно, без учета данных конкретных научных
исследований в области биологии, психологии, гене
тики и нейрофизиологии невозможна философско-со -
циологическая разработка проблемы человека, в том
числе изучение его социального поведения. Но любая
попытка рассматривать мотивы социального поведе
ния человека, его нравственные принципы, нормы и
ценности как следствие исключительно биологиче
ских закономерностей неизбежно приведет к иска
женной картине действительности. Такое искаженное
изображение и получила человеческая природа в
зер кале социальной этологии.
Утверждение ее сторонников, будто бы сама не
обходимость удовлетворения тех или иных потреб
ностей человека обусловила существование врожден
ного и передаваемого по наследству «неистребимого»
инстинкта агрессии, научно несостоятельно. Способы
действий по удовлетворению потребностей у чело
века не являются врожденными и передающимися
по наследству хотя бы потому, что они носят услов
ный характер и меняются в зависимости от социаль
ной структуры общества, от прогресса культуры. Ис
пользование человеком различных способов деятель
ности по удовлетворению своих потребностей есть
результат социального развития личности, усвоения
ею выработанного многими поколениям и обществен
ного опыта.
Возникновение политического насилия лишь на
определенном этапе общественного развития доказы
вает лишний раз, что оно есть явление социального
порядка и, подобно социальным явлениям, не может
порождаться несоциальными факторами.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 510.
7
В. В. Денисов
97
Человек в развитии своего сознания и бытия на
столько далеко ушел от животного мира, что распро
странять закономерности последнего на человече
ское поведение, его мотивы и механизмы с научной
точки зр ения абсолютно бесперспективно.
Отождествление процессов функционирования
животного мира и человеческого общества ведет к
затушевыванию не только социально-классовых фак
торов в жизнедеятельности человека, но и тех специ
фических особенностей, которые присущи ему как
общественному существу, действующему в социаль
ной среде, на принципиально новой основе. О бладая
специфической и уникальной в природе способно
стью сознательно производить орудия труда и целе
направленно использовать их в своем воздействии на
окружающий мир, наличием второй сигнальной си
стемы и связанной с ней членораздельной речью, че
ловек выступает прежде всего как субъект труда,
мысли, воли и общения.
Труд создал не только самого человека, отмечал
Ф. Энгельс, но также и человеческое общество с
присущими только ему социальными закономерно
стями и образом жизни, прежде всего закономерно
стями развития производственных отношений. «Бла
годаря совместной деятельности руки, органов речи
и мозга не только у каждого в отдельности, но также
и в обществе, люди приобрели способность выполнять
всё более сложные операции, ставить себе всё более
высокие цели и достигать их» !.
Борьба людей за овладение законами природы, за
подчинение их действия своим потребностям и це
лям есть еще одно важное свидетельство того, что
человеку всегда свойственно стремление выйти за
пределы биологических закономерностей, и прежде
всего тех, которые сковывают его сознательную со
циальную деятельность. « . ..Животное только поль
зуется внешней природой и производит в ней измене
ния просто в силу своего присутствия; человек же
вносимыми им изменениями заставляет ее служить
своим целям, господствует над ней» 2.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 493.
2 Там же, стр. 495.
Человек как выделившееся из животного мира
общественное существо обладает специфическими,
только ему присущими чертами и признаками.
В этом, и только в этом, смысле можно говорить о
«человеческой природе». Вместе с тем эти черты и
признаки приобретены им в процессе длительной и
непрекращающейся эволюции исключительно благо
даря конкретным социальным и историческим усло
виям его бытия.
В задачу данной книги не входит детальный ана
лиз исходных данных собственно биологических, ге
нетических и этологических исследований, на кото
рые ссылаются буржуазные авторы при обосновании
предлагаемых ими концепций насилия. Нас интере
суют прежде всего социологические аспекты данной
проблемы, т. е. общефилософские выводы, конструи
руемые буржуазными учеными путем научно не оп
равданного механического перенесения принципов и
методов исследования жизнедеятельности животных
на социальные явления и закономерности обществен
ной жизни.
Однако даже поверхностное ознакомление с «до
казательствами», приводимыми сторонниками кон
цепции о врожденной инстинктивной агрессивности
животных и человека, обнаруживает их несостоя
тельность уже на уровне исследований в рамках са
мой биологической науки.
Научно не оправданным оказывается не только
перенесение положений этой концепции на общест
венную жизнь, но и применение их к жизнедеятель
ности животных.
К. Лоренц и его последователи утверждают, на
пример, что проявляемые животными в определен
ных условиях агрессивные реакции есть «существен
ный элемент в совокупности инстинктов, направлен
ных на сохранение жизни» 1. Но как раз именно этот
тезис опровергается материалами многих исследова
ний в области физиологии, которые показывают, что
соответствующие поведенческие реакции животных
всегда и безусловно детерминированы определенны
ми физиологическими потребностями, конкретными
1 К. Lorenz. On Aggression, p. 44.
99
условиями и обстоятельствами. Добывание, напри
мер, хищником пропитания не может поэтому быть
квалифицировано как проявление инстинктивной аг
рессивности, совершение насилия ради насилия.
И. П. Павлов относил наблюдаемые у животных
определенного рода агрессивные реакции к активным
разновидностям защитной реакции на внешние раз
дражения. Экспериментальные данные новейших ис
следований в области нейрофизиологии такж е под
тверждают, что все агрессивные реакции у животных
самым непосредственным образом связаны с дея
тельностью некоторых подкорковых образований и,
подобно всем другим психическим, поведенческим
реакциям, мотивируются и обусловливаются прежде
всего взаимодействием организма с окружающей сре
дой и являются отражением тех или иных внешних
воздействий на организм.
Это материалистическое положение признается
сейчас и целым рядом буржуазных теоретиков, за
нимающ ихся исследованием мотиваций поведения
животных. Например, новозеландский биолог Роберт
Бигелов пишет по этому поводу следующее: «Изоли
рование от внешней среды в раннем возрасте может
значительно изменить поведение определенных ви
дов животных, которое длительное время считалось
«инстинктивным»»
Не выдерживает критики и утверждение буржу
азных теоретиков о том, что агрессивность — это не
просто врожденный, но и весьма полезный и даже
необходимый инстинкт, что агрессивное поведение
представляет будто бы «самое ценное» качество для
выживания биологического вида.
Большинство буржуазных специалистов признает
наличие у животных специального тормозного меха
низма, препятствующего убивать себе подобных.
Именно этот механизм, а не мнимый инстинкт агрес
сивности направлен на сохранение жизни как от
дельных особей, так и существования биологическо
го вида в целом.
1
R. Bigelow. Relevance of ethology to human aggressi
veness. «International Social Science Journal», vol. XXIII, 1971,
N1,p.19.
100
Если определенным образом целесообразно регу
лируемые отношения складываются даже среди
представителей животного мира в целях обеспечения
их существования и продолжения рода, то естествен
ным будет предположить, что еще более совершен
ные сдерживающие механизмы для рационального
регулирования поведения были выработаны людьми
в процессе их исторической эволюции в связи с не
обходимостью взаимных контактов и деятельности
по организации совместного труда и распределения
продуктов этого труда. «Человеческое общество тре
бует скорее подавления животной природы челове
ка, чем свободы ее проявления,— пишет в этой связи
американский психолог Маршалл Салинс.— О бщест
венная жизнь человека определяется вовсе не биоло
гическими, а социальными факторами» 1.
Положение марксизма о том, что сущность чело
века не есть абстракт, присущий отдельному инди
виду, а совокупность всех общественных отноше
ний2, следует понимать в том смысле, что несмотря
на безусловно имеющиеся индивидуальные особен
ности, присущие характеру и психике каждой кон
кретной личности, прежде всего именно общество и
господствующие в нем производственные отношения
формируют людей вполне определенным образом,
неизбежно накладывают на них свойственный их
классовой природе отпечаток, определяют их созна
ние и поведение, мораль и нравы, образ жизни.
«...Обстоятельства в такой же мере творят людей, в
какой люди творят обстоятельства» 3.
Человек как личность формируется и развивает
ся в определенных социальных и исторических ус
ловиях. Господствующие общественные отношения,
социально-политический и духовно-нравственный
климат предопределяют в конечном счете, какие
именно черты и свойства личности получат наибо
лее благоприятные возможности для своего развития
и совершенствования. Если в современном буржу
азном обществе сознательно и настойчиво насажда
ется культ силы, а вся система частнособственниче
1 «Scientific American», 1900, N 9, p. 38.
2 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 3 .
8 Там же, стр. 37.
101
ских отношений, буржуазная идеология и пропаганда
воспитывают в человеке чувства эгоизма, индивидуа
лизма, национальной розни, то нет ничего удивитель
ного в том, что в таких условиях создается благо
приятная почва для проявлений расизма, геноцида,
неофашизма, наблюдается рост преступности. Ирра
циональные и антигуманные по своей сущности об
щественные отношения капитализма неизбежно по
рождают и воспроизводят в массовом масштабе соци
альные антагонизмы, являются первоисточником
всех видов и форм политического насилия.
2. Идеологические функции
этологических теорий насилия
Если следовать логике рассуждений
буржуазных теоретиков, рассматривающих биогене
тический фактор как определяющий в мотивации аг
рессивного поведения людей и любых проявлений
социального насилия, то можно предположить, что
общество практически не способно изменить сущест
вующее положение, и все усилия — от национальных
мер по предупреждению преступности до междуна
родных переговоров по разоружению — лишены вся
кого смысла. Человечеству не остается ничего дру
гого, как уповать на то, что когда-нибудь в будущем
наука в состоянии будет корректировать соответ
ствующим образом генетический код человека и най
дет способ «нейтрализовать ген агрессии». Кстати,
именно на этот путь, как якобы единственно возмож
ный в данном случае, указывают многие проповед
ники этологической концепции насилия '. Нельзя, од
нако, не видеть, что такая позиция означает отказ
от активной борьбы против конкретных виновников
и носителей насилия в современном мире. Она при
звана выполнять «охранительные функции» и путем
псевдонаучной аргументации маскировать тот факт,
что действительные источники «волны» социальных
конфликтов и насилия в мире капитала следует ис
кать вовсе не в генах человека и его биологической
1
S. Garattini and Е. В. Sigg (eds.). Aggressive Behavior. N. Y.,
1009; E. Fabrieins. Elologiska aspeeter pa aggresionen. Liikartid-
ningen, 1973.
102
природе, а в классово-антагонистической природе
буржуазного строя.
Порожденная империализмом система психологи
ческого приучения человека к насилию, неразборчи
вости в средствах ради достижения корыстных це
лей, воспевание жестокости и презрения к чужой
жизни, к представителям другой нации или низшей
социальной группы отвечает интересам и потребно
стям империалистической политики. Американский
публицист Г. Солсбери в книге «Многие Америки дол
жны стать одной» признает наличие прямой связи
между атмосферой насилия, сознательным насажде
нием культа силы в США и антагонистическим ха
рактером американской социально-политической си
стемы, прежде всего засильем военно-промышлен
ного комплекса во всех сферах общественной жизни.
«Именно это буйное, гангренозное, фактически бес
контрольное развитие военной машины лежит в ос
нове национального кризиса» К Об этом же пишет
американский социолог Грунхут: «Мы не должны
удивляться тому, что все большее количество моло
дых американцев стремится сейчас разрешить стоя
щие перед ними проблемы путем насилия, т. е. имен
но тем путем, каким наша страна пытается разре
шить свои национальные проблемы в течение уже
многих десятилетий...» 2
В капиталистическом обществе с помощью изощ
ренных идеологических и пропагандистских средств
из сознания масс методически вытравливаются чув
ства социальной ответственности и гражданской со
вести. Особую роль по развращению общественного
сознания играют средства массовой информации,
стоящие на службе господствующих классов, ими
субсидируемые и направляемые. За сенсационными
сообщениями буржуазной прессы и телевидения о
зверских убийствах и дерзких ограблениях, о про
явлениях всякого рода патологии и детской преступ
ности, за изображением кровавых сцен колониаль
ных войн скрывается весьма тонко замаскированное
стремление господствующего класса внушить массам
1 Цит. по: «Литературная газета», 14 февраля 1973 г., стр. 14.
2 «Talking of Yriolcnce». «20th Century», vol. 173. London, 1905,
p. 107.
103
мысль о насилии как обыденном, даже неизбежно*#
явлении современной общественной жизни. Чем при
вычнее становятся сцены насилия и террора, тыся
чекратно повторяемые в телепередачах и описывае
мые в буржуазной прессе, тем вернее достигается
та цель, которую преследует при этом буржуазная
пропагандистская машина,— оправдание империали
стической политики милитаризма и агрессии.
Воспроизводимые средствами массовой информа
ции, эти сцены не только приучают людей к насилию
как неотъемлемому и естественному свойству соци
альной жизни, но и фактически обучают их насилию,
навязывают культ силы сознанию и психологии че
ловека. «Средства массовой информации являются
самой эффективной школой насилия в США...— о т
мечает американский социолог Д. Хэмберг. — Наси
лие преподносится зачастую как наиболее удобный
способ разрешения многих проблем» К
От средств массовой информации и пропаганды не
отстает в этом отношении и буржуазное искусство,
для которого характерен процесс общей дегумани
зации и нравственного вырождения, все большего
превращения в обыкновенный бизнес. Большинство
литературных произведений, кинофильмов, театраль
ных постановок на Западе — это циничное и откро
венное изображение убийств, насилия, секса. Подоб
ного рода произведения базируются на философии,
утверждающей, что человек — скопище всевозмож
ных пороков; осуждать их бесполезно, а бороться с
ними бессмысленно, ибо тако ва природа этого «дву
ногого зверя». «Хотя насилие находило соответ
ствующее отражение в литературе и искусстве во все
периоды истории, сегодня в этом вопросе произошли
весьма существенные изменения,— пишет американ
ский социолог Ф. Верхам. — Насилие представляется
теперь уже не как нечто чрезвычайное и противоес
тественное, а, наоборот, подается к ак обыденное и
естественное явление в жизни современного обще
ства. Оно совершается в таких масштабах и такими
средствами, о которых в прежние времена не могла
1
D. A. Hamburg. Recent research of hormonal factors rele
vant to human aggressiveness. «International Social Science
Journal», vol. XXIII, 1971, N 1, p. 47.
104
додуматься самая богатая человеческая фантазия...
Американцы испытывают сегодня такое влияние
пропаганды насилия, какое никогда не испытывало
ни одно поколение ни одной цивилизованной на
ции» К
Насыщенность западной прессы, телевидения, ли
тературы, кино и других средств массовой коммуни
кации темами насилия и преступности достигла в на
стоящее время такого критического уровня, что в со
знании людей в капиталистическом обществе проис
ходит определенный психологический сдвиг в их
восприятии и оценке. «Поток насилия всех форм и
видов, низвергающийся круглые сутки на потреби
телей индустрии массовой информации, не проходит
бесследно,— пишет Б. Демотт. — Происходит опасная
по своим возможным последствиям адаптация совре
менного человека к актам насилия как к обыденно
му явлению» 2.
Буржуазная массовая культура и пропаганда не
только способствовали своего рода инфляции в пред
ставлениях о сущности и характере насилия, но и по
родили в умах определенной части людей скепсис
по поводу возможности предотвращения его исполь
зования в политической практике. «Ничто не может
так эффективно поддерживать в человеке воинствен
ность, как убеждение, что агрессивность — это биоло
гический инстинкт,— пишет английский антрополог
Салли Карригер. — Нежелательное культурное на
следие можно искоренить довольно быстро и легко,
однако если люди будут убеждены в том, что агрес
сивность— это некое врожденное инстинктивное
стремление, как это утверждают и Ардри, и Лоренц,
то у них не будет стимула избавиться от нее» 3.
Рассматривая человека, по существу, как потен
циального насильника, биогенетические концепции
насилия в псевдонаучной форме фактически воспро
изводят старый теологический миф о первородной
греховности человеческой натуры и низменности
1 F. Wertham. A Sign for Cain. An Exploration of Human Vio
lence. N. Y., 1968, p. 82.
2 B. Demott. The Age of Overkill. In: «Violence: Causes and
Solutions». N. Y., 1970, p. 50.
3 «Курьер ЮНЕСКО», 1970, а вгу ст— сентябрь, стр. 45.
105
всех человеческих чувств и помыслов, обрекают лю
дей на вечную вражду и ненависть друг к другу. Ис
ходя из тезиса неизбежности и естественности наси
лия в отношениях между людьми, эти концепции вы
ражают идеологию пассивности и фатализма, в кос
венной форме констатируют бесполезность принятия
каких-либо мер для радикального разрешения этой
серьезной для всего человечества социально-поли
тической проблемы. «Концепции биогенетического
обоснования агрессивного поведения совпадают в
своих основных чертах и принципах с рядом других
аналогичных теорий, которые также исходят из
предпосылки, будто бы человек от природы порочен,
жесток, агрессивен и зол,— признает X. Нибург.—
Каждая из этого вида концепций берет в качестве
своей исходной точки один из пороков человеческой
природы и оперирует им в абсолютизированном
виде. В ее распоряжении при этом всегда имеется го
товая и заранее все объясняющая теоретическая мат
рица, в которой в категорической форме содержится
ответ на вопрос: что же является главной причиной
всех бед человечества... Вряд ли можно считать по
добного рода взгляды научными, ибо они скорее
всего порождены нуждами определенной идеоло
гии— идеологии антагонизма и страха» К
Капитализм действительно уродует и развращает
сознание человека, он отчуждает и духовно калечит
человеческую личность, извращая понятия и чувства
людей, воспитывая в них порочные наклонности и
отрицательные черты: эгоизм, индивидуализм, стя
жательство, беспринципность, страх, ненависть, вза
имную рознь. Но одновременно антагонизмы капи
тализма порождают в массах и другие, абсолютно
противоположные чувства — возмущение и протест
против существующих социальных порядков, стрем
ление к солидарной борьбе против эксплуатации и
угнетения. Поэтому манипуляторские действия им
периалистической государственной машины, развет
вленного аппарата физического и духовного угне
тения масс, не в состоянии противостоять неодо
лимому процессу, имеющему объективные корни в
1 Я. Niebnrg. Political Violence. The Behavioral Rrocess. p. 37.
106
с^мой социальной действительности,— росту уровня
классового сознания и организованности трудящ их
ся, активизации их выступлений против существую
щего общественного строя. «Граничащ ая с суеверием
вера во всемогущество манипулирования представ
ляет собой лишь частицу заветной мечты господст
вующих классов об увековечивании эксплуатации,—
пишет австрийский философ-марксист В. Холли-
чер.— Современная история, демонстрируя силу ис
кусства ведения империалистическими кругами
«психологической войны» на международной арене и
манипулирования общественным сознанием во внут
ренней политике, в то же время обнажает их полное
бессилие перед лицом неудовлетворенных классовых
интересов эксплуатируемых и освободительных уст
ремлений порабощенных» 1.
Ссылки на генетическое несовершенство и непри
способленность человечества как биологического
вида используются буржуазными идеологами для
доказательства, будто конкуренция, классовые ан
тагонизмы— это вечные спутники общества, а гу
манные идеалы коммунизма носят утопический ха
рактер. «Коммунизм, такой, каким представляли
его себе Маркс и Энгельс, невозможен,— заявляет
американский сенатор У. Фулбрайт,— так
как он
противоречит исторической действительности и мог
бы быть осуществлен лишь благодаря такой револю
ции, какую он неспособен осуществить,— революции
в природе человека» 2.
Опираясь на весьма далекую от подлинной науки
и социальной действительности, мистически-фатали-
стическую, но, несомненно, выгодную и удобную дл я
империалистических кругов, биогенетическую трак
товку природы и источников социального насилия,
буржуазные идеологи пытаются обосновать вывод о
невозможности в принципе построить общество, в
котором были бы осуществлены высокие идеалы со
циализма и коммунизма, изображают коммунизм как
некую «утопическую доктрину».
1 В. Холличер. Человек и агрессия. М., 1975, стр. 90.
2 Цит. по: «The Sociology of Personality. An Enduring Prob
lem in Psychology». N. Y., 1969, p. 86.
107
М ежду тем исторический опыт и общественная
практика социализма убедительно свидетельствуют
о несостоятельности всякой идеалистической трак
товки проблемы природы человека. Они подтверж
дают марксистский тезис о том, что образ мышления
и поведение человека определяются прежде всего
той общественной средой, которая «служит материа
лом, объектом духовной жизни личности и которая
отражается в ее «помыслах и чувствах...»» *.
И коль скоро сознание и поведение личности за
висят прежде всего от «противоречий материальной
жизни», задача «переделки» людей, «очищения» их
от всех пороков и противоречий старого, эксплуата
торского общества отнюдь не является «коммунисти
ческой утопией». «...Вся история есть не что иное,
как беспрерывное изменение человеческой при
роды» 2.
Современным естествознанием установлено, что
человеческое сознание имеет практически неограни
ченные возможности для своего развития. Соответ
ственно безграничны способности человека к соци
альной эволюции. Это научное положение находится
в полном соответствии с ленинской теорией отраже
ния, согласно которой познание мира — бесконечный
и противоречивый процесс. Видоизменения содержа
ния сознания, происходящие на основе материаль
ного развития общества, ведут к созданию новых
форм социальных программ, которые в свою очередь
через воспитание поколений направляют человече
ство по пути социального прогресса. Именно таким
путем человек преобразует и совершенствует свою
духовную природу, обогащает свой интеллект, эмо
циональный и нравственный мир.
Марксизм начертал реальные пути ликвидации
тех общественных отношений, «в которых человек
является униженным, порабощенным, беспомощным,
презренным существом...» 3. Поскольку человек есть
продукт конкретных социальных обстоятельств, для
его изменения надо изменить сами эти обстоятельст-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 1, стр. 423.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 162.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 422.
108
сделать их «человечными» К «Сделать обстоя
тельства человечными» — это самая сложная, но и
самая гуманная задача, которая решается в процессе
развития человечества по пути к коммунизму. Про
грамма коммунизма, по сути дела, есть программа
борьбы за создание нового мира и нового человека,
программа активного революционного воздействия и
переустройства человеком социальных отношений,
изменения им в процессе этого переустройства своей
сущности и общественного облика.
Вопреки утверждениям буржуазных идеологов,
марксисты никогда не были прожектерами в отно
шении реальных возможностей и путей перестройки
человеческой природы, воспитания нового историче
ского типа личности. Они никогда не идеализировали
человека и его природу, объективно оценивали кон-
кретно-исторические возможности и способности
личности, воспринимали их во всей их многообраз
ности и противоречивости, отражаемой существую
щей социальной действительностью. В то же время
марксистам свойственны научно обоснованный опти
мизм и вера в неограниченные творческие возможно
сти и всестороннее развитие человеческой личности,
в будущее человеческого рода.
Предпосылки всестороннего развития личности
создаются уже при социализме. Но в полной мере оно
осуществляется в коммунистическом обществе. Побе
да коммунистических общественных отношений бу
дет означать создание такого общества, в котором
«свободное развитие каждого является условием сво
бодного развития всех» 2.
Вместе с тем марксистам чужды утопические
фантазии о «мгновенном чуде морального перевоору
жения» человеческой личности, о «моментальной пе
ределке» человеческой природы путем исключитель
но «духовного самосовершенствования», без корен
ного изменения всей социальной действительности.
В. И. Ленин указывал на необходимость и возмож
ность строительства социалистического общества при
помощи не особых, исключительных личностей, а
1 См. К . Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 145—146.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 447.
109
того «человеческого материала»», который оставлен
в наследство капиталистической системой. «Мы хо
тим построить социализм из тех людей, которые вос
питаны капитализмом, им испорчены, развращены,
но зато им и закалены к борьбе... Мы хотим строить
социализм немедленно из того материала, который
нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь
же, а не из тех людей, которые в парниках будут
приготовлены, если забавляться этой побасенкой» \
Практика социалистического строительства в
СССР и других социалистических странах служит
подтверждением обоснованности теоретических по
ложений марксистского учения об обществе и чело
веке. Коренные изменения в образе жизни, в созна
нии и морали, которые произошли при социализме,
породили исторически новый тип человека.
Люди социалистического общества — гуманисты и
интернационалисты, им глубоко чужды реакционные
идеи классового элитаризма, расового превосходства
одних народов над другими, идеология милитаризма,
экспансионизма и колониализма. Социалистический
образ жизни, базирующийся на принципах равен
ства и дружбы между людьми, утверждающий но
вые высокие моральные ценности и идеалы, откры
вает перед каждой личностью и обществом в целом
широкие горизонты всестороннего развития и совер
шенствования.
Сформировавшийся при социализме новый тип
личности служит наглядным опровержением идеа
листических концепций, базирующихся на биологи-
зации социального поведения людей, на абсолютиза
ции значения инстинктов в человеческой деятельно
сти. Его появление помогает раскрыть апологетиче
скую сущность этих буржуазных концепций.
Сами по себе биогенетические теории насилия не
представляют серьезного научного интереса и теоре
тического значения. Подобно многим другим буржу
азным идеологическим мифам, они могли бы вообще
никогда не выйти за пределы узкого круга их собст
венных авторов и адептов, кануть в небытие, остав
шись безызвестными в истории социально-философ
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 38, стр. 54.
110
ской мысли. Однако, попав на благоприятную соци
альную почву, поставленные на службу интересам и
целям империалистической политики и наделенные
определенными апологетическими функциями, они
неизбежно становятся инструментом идеологической
борьбы, получают через разветвленный буржуазный
пропагандистский аппарат широкое распространение,
оказывают тлетворное влияние на массовое созна
ние. Они наносят вред революционной и общедемо
кратической борьбе народов, смазывая и затушевы
вая противоречия между противоборствующими си
лами в современном мире. Поэтому в современных
условиях вопрос о природе и корнях политического
насилия, его классовой сущности и направленности
становится одним из важнейших и актуальных воп
росов идейно-теоретической и идеологической борьбы
меж ду социализмом и капитализмом, марксизмом-
ленинизмом и буржуазной философией. «Реальными
проблемами современности являются вовсе не «зоо
логические» проблемы человеческой природы, под
нимаемые сейчас на щит идеологами империализма
для оправдания существования капиталистического
общественного строя и апологетики его неизлечимых
пороков, а проблемы мира и гуманизма. Поэтому сей
час, как никогда в прошлом, необходимы активные
выступления против любой идеологии, так или иначе
оправдывающей агрессивные тенденции в политике
определенных классов, решительная борьба против
всех тех теорий, которые могут привести только
к пассивности и капитуляции перед лицом реальной
угрозы миру и прогрессу человечества»
1 W. Hollitscher. Instinctive aggression in man? Man misrep
resent as an animal? «Peace and the Sciences». Vien, 1970, N 3,
p. 22.
Глава III
НАСИЛИЕ —
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ»
ОТЧУЖДЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
1. «Экзистенциальные страхи»
и неофрейдистские спекуляции
на них
К биогенетическим теориям насилия
весьма близки не менее широко распространенные на
Западе различные психологические концепции наси
лия. Отличаясь от биологических теорий некоторыми
внешними чертами и признаками, употребляемой
терминологией и аргументацией, современные бур
жуазные психологические концепции насилия исхо
дят, как правило, из тех же основополагающих тео
ретических и методологических принципов (напри
мер, сведение социальных явлений и процессов к ин
дивидуальному поведению личности, рассмотрение
последнего как результата действия исключительно
психологических факторов, отрыв психической дея
тельности человека от социально-материальных фак
торов и представление ее в виде суммы иррацио
нальных бессознательных инстинктов и т. п.).
Сторонники психологической трактовки феноме
на насилия доказывают в своих работах, что корни
всех наблюдающихся в настоящее время проявлений
насилия следует искать не в материально-экономиче -
ской сфере, не .в социальных условиях жизни, а ис
ключительно в индивидуальной психологии людей,
во внутреннем, субъективном мире личности. Таким
образом, проблема насилия в современных условиях
представляется ими не как социальная, а как чисто
психологическая.
Если в прошлом, заявляет английский социолог
К. Вильсон, «нищета и социальное неравенство явля
лись основным инкубатором насилия в обществе», то
теперь положение в корне изменилось. По его мне
нию, в современном капиталистическом мире наблю
112
даются избыток демократии и свободы, высокий уро
вень благосостояния и достаточное количество вре
мени для досуга у всех членов общества, что при низ
ком уровне сознания и социальной ответственности
индивидов ведет к потере «внутренней стабильно
сти», к «взрыву насилия». Чувство «перманентной
неудовлетворенности» находит свое выражение в
конфронтации и отчуждении, в извращенных, на
сильственных формах социальной активности. «На
силие настоящего времени качественно отличается от
насилия прошлых веков именно тем, что оно может
быть определено прежде всего в понятиях и катего
риях психологии,— пишет К. Вильсон.— Я не утвер
ждаю, что каждое проявление насилия имеет обяза
тельно психопатологический характер. Но я убежден,
что современное насилие в принципе невозможно по
нять и объяснить, не учитывая такой важнейший
фактор, как психология человека XX века» К
Многие трезво мыслящие буржуазные философы
и социологи не могут не заметить в социальной дей
ствительности капитализма очевидных противоре
чий, пороков и острых конфликтных ситуаций. Они,
в частности, вынуждены констатировать факт пре
вращения человека в безликий робот, в придаток
технико-производственного и государственного меха
низма, дальнейшее углубление конфликта между
личностью и обществом, противостоящим ей в каче
стве отчужденной и даже враждебной силы, и как
следствие этого возрастание у людей чувства изоли
рованности, неуверенности перед завтрашним днем,
подавленности, разочарования в традиционных ду
ховных и моральных ценностях. По их мнению, иде
ология бунта и психология протеста неизбежно по
рождаются у современного человека всеми условия
ми его общественного бытия, его неспособностью
адаптироваться к ним. При этом «бунтующая лич
ность» рассматривается буржуазными теоретиками
вне связи с какими-либо социальными характери
стиками, а как определенный психологический тип
человека, порожденного современной цивилизацией и
1 С. Wilson. Crimes of freedom — and their cure. «20th Cen
tury», vol. 173. London, 1965, p. 27.
8
В. В. Денисов
113
специфическими условиями индустриально развито
го общества. «Наша цивилизация,— пишет француз
ский философ Эдгар Морин,— вступила в полосу
жестокого кризиса, который обусловил небывалую
активизацию проявлений естественных инстинктов
человеческой природы и предопределил нейротиче-
скую форму разрешения всех возникающих в обще
ственной жизни конфликтов... Проблема современ
ного насилия — это проблема не социального, а пси
хологического порядка» К
Многие буржуазные идеологи априори исходят из
того, что человек — потенциальный носитель «дур
ных психологических комплексов».
Теоретические аргументации, к которым прибега
ют проповедники психологических концепций наси
лия, во многом заимствованы из идеалистических
представлений о природе мотиваций человеческо
го поведения, сформулированных в психоанализе
3. Фрейда (1356— 1939). Как известно, детерминирую
щим фактором человеческого поведения у 3. Фрейда
выступают бессознательные врожденные инстинкты
и иррациональные влечения человека. Психическое
состояние личности кладется им в основу всех ее
действий.
Интерпретируя психическую жизнь человека как
постоянную борьбу в нем двух начал: сознательного
и бессознательного, Фрейд в то же время отдает пре
имущество последнему, считая, что именно оно со
ставляет суть человеческой психики, а сознательное
есть лишь надстраивающаяся над бессознательным
инстанция, призванная скрыть от человека подлин
ные мотивы его поведения.
В основе психоаналитики Фрейда лежит тезис о
самодовлеющей и определяющей роли инстинктив
ных «влечений» (преимущественно биологических) в
человеческом поведении. К ним относятся: сексуаль
ный инстинкт, посредством которого осуществляется
сохранение и продолжение вида, самозащитный ин
стинкт, или «инстинкт жизни» (Эрос), обеспечиваю
щий самосохранение и безопасность индивида, и
1 Е. Morin. Risk of Death — Revolution — Violence. «Solida
rity», vol. V. Manila, 1970, N 1, p. 46.
114
«инстинкт смерти» (Танатос), который выражает при
сущую любому виду живой материи тенденцию воз
вращения в первоначальное состояние «неорганиче
ского покоя и равновесия». Последний инстинкт, со
гласно Фрейду, проявляется в двух формах — само
разрушения и разрушения, или агрессии. Поэтому
«инстинкт смерти» фактически идентичен у Фрейда
« инст ин кту агрессии».
Из психоаналитического положения о неосознан
ной инстинктивной враждебности ребенка по отно-
шершю к родителям другого пола Фрейд конструи
рует модель для всех проявлений агрессивности
взрослого человека, феномена насилия в целом. По
следний связывается Фрейдом с «природной склон
ностью» человека к агрессии: «Склонность к агрес
сивному поведению является неистребимым инстинк
том человеческой природы. Этот инстинкт представ
ляет серьезную помеху развитию цивилизации... Эво
люция цивилизации есть, по сути дела, непрерывный
процесс внутренней борьбы между инстинктами со
хранения и воспроизводства жизни и инстинктом аг
рессии и истребления» К
3. Фрейд и особенно его последователи использо
вали метод психоанализа для объяснения мотивов
социального поведения людей, рассматривая этот
метод в качестве универсального средства объясне
ния и разрешения многих проблем человека и обще
ства. Неправомерность такого толкования психоана
лиза очевидна. Тем не менее принципы психоанализа
в силу целого ряда причин до сих пор продолжают
обладать притягательной силой для различных идеа
листических и позитивистских направлений и школ
на Западе. И в первую очередь к ним безусловно тя
готеют современные буржуазные психологические
теории насилия, по существу представляющие собой
модернизированную разновидность фрейдизма. По
казательно, например, что большинству этих теорий
присуще рассмотрение тех или иных проявлений на
силия в общественной жизни по аналогии с патоло
гическими расстройствами в психике отдельного ин
1
«Abstracts of the Standart Edition of S. Froud», vol. XXI.
Rokville, 1971, p. 152.
119
дивида, стремление унифицировать механизмы этих;
двух качественно отличных явлений. Так, американ
ский социолог Ч. Бренер считает агрессивное поведе
ние неизменным следствием любого «психологиче
ского конфликта», ведущего к возникновению невро
зов и стрессов. Нарушение «внутреннего равновесия»
в психической структуре личности, по его мнению,
автоматически порождает у нее агрессивную реакцию
по отношению к окружающей среде 1.
Английский психолог В. Гиллесли для обоснова
ния агрессивных действий в общественной жизни ис
пользует физиологический принцип гомеостаза —
равновесия в организме. Он рассматривает любой жи
вой организм, включая и человека, как «открытую
систему», в которой всякое нарушение равновесия
угрожает самому ее существованию, а потому обяза
тельно должно быть рано или поздно устранено.
С психологической точки зрения, нарушение равнове
сия периодически возникает у человека в разные пе
риоды его жизни из-за неудовлетворения его естест
венных наклонностей и находит свое конкретное про
явление в отрицательных эмоциях и агрессивных
действиях, направленных против «враждебной» ок
ружающей среды2.
Английский социолог К. Вильсон справедливо под
вергает учение Фрейда критике за то, что «он, анали
зируя психологию и поведение в основном патологи
ческих личностей, людей, страдающих теми или ины
ми психическими расстройствами, распространял вы
воды своего анализа на психологию и поведение всех
людей вообще, на общественную жизнь в целом».
В то же время его собственная трактовка мотивации
человеческого поведения вообще и социального наси
лия в частности отличается от фрейдистской, по сути
дела, лишь употреблением несколько иной термино
логии. Оперируя теми же субъективно-идеалистиче-
скими категориями, он утверждает, что в психике
каждого индивида заложена некая склонность «к экс
периментальному познанию действительности», «к
удовлетворению чувства любопытства», что и явля
1 «Философска мисъл», 1972, No 5, стр. 68.
2 Там же, стр. 71.
116
ется основным побудительным фактором к проявле
нию насилия в современном обществе.
Таким образом, на место фрейдистского «Эго» в
данном случае ставится не менее мистический фак
тор «всеобщего любопытства».
При этом К. Вильсон считает типичным для наси
лия XX века его садистский характер, который явля
ется результатом «неограниченной свободы индиви
да, обретенной им в условиях современного развитого
общества» К В само же понятие «садизм», как оказы
вается, Вильсон вкладывает только один смысл: «по
лучение сексуального удовлетворения от самого акта
насилия». Круг замыкается: перед нами один из ва
риантов модернизации фрейдизма.
Как известно, свой тезис об «инстинктивной агрес
сивности» 3. Фрейд применял не только для объяс
нения индивидуального поведения личности, но и пы
тался распространить его на общественную жизнь, на
взаимоотношения между классами, нациями, госу
дарствами. Потребность в ненависти и агрессивных
действиях, заложенная в человеческой психике от
природы, по мнению Фрейда, неизменно проявляет
себя в войнах, конкуренции, классовых антагониз
мах, расовых и иных конфликтах в обществе. «Не
преодолимая расовая ненависть,— писал он,— явля
ется одним из важнейших подтверждений всеобщей
распространенности амбивалентности чувств» 2.
Современные психоаналитики развивают эти идеи
своего учителя. Так, аргентинский философ А. Гарма
считает, что «теория инстинктов применима в такой
же степени к народам и нациям, как и к отдельным
личностям»3. В каждом народе, утверждает он, со
существуют наряду с «прогрессивными жизненными
инстинктами» «регрессивные инстинкты», им ею щ ие
саморазрушающий характер. Ссылаясь на основопо
лагающие положения психоаналитического учения,
Гарма пытается вывести проявления агрессивности,
и в частности войны, из состояния «массового невро
1 С. Wilson. Crimes of freedom — and their cure. «20th Cen
tury», vol. 173, p. 28.
2 3. Фрейд. Психология масс и анализ человеческого «Я».
М., 1925, стр. 43.
3 «Философска мисъл», 1972, No 5, стр. 74.
117
тического шока», которое якобы периодически испып
тывает тот или иной народ при определенных исто
рических обстоятельствах.
Но если тезис об «агрессивном инстинкте» не вы
держивает критики применительно к объяснению
индивидуального поведения, то его научная несосто
ятельность и идеалистический характер становятся
еще более очевидными, когда делается попытка при
менить его к области социальных явлений и процес
сов, к взаимоотношениям между классами, нациями,
государствами. Оперируя психологическими катего
риями в области общественных явлений, психоанали
тики повторяют традиционные ошибки субъективно
го идеализма.
Растворение социальных явлений в психологиче
ских категориях, превращение философии и социо
логии в идеалистически трактуемую теорию поведе
ния неизбежно уводят буржуазных ученых от пони
мания объективных процессов диалектики современ
ного общественного развития в сферу субъективных
оценок, действительный характер противоречий и
процессов капиталистической действительности при
этом затушевывается и извращается.
Стремясь модернизировать фрейдистское учение,
придать ему более современный вид, некоторые бур
жуазные теоретики пытаются сочетать психоанали
тические взгляды с положениями, заимствованными
из марксизма и по-своему интерпретированными.
Тенденция «дополнить» фрейдизм марксизмом, не
имея ничего общего с подлинным научным анализом
социальной действительности, тем не менее весьма
симптоматична для буржуазной социальной мысли.
Она свидетельствует о стремлении современных сто
ронников психоаналитического движения реконстру
ировать фрейдизм, освободив его от наиболее очевид
ных ошибочных положений, которые в свете послед
них научных данных выглядят мифологическим вы
мыслом, и тем самым придать психоанализу види
мость научности. Такую попытку предпринял, напри
мер, западногерманский психолог А. Мичерлих. В ра
боте «Психоанализ и агрессия в больших группах» 1
1
Л. Mitscherltch. Psyhoanalyse und die Aggression grosser
Gruppen. Wien, 1971.
118
он рассматривает инстинкт как важнейшую генети
ческую предпосылку агрессивной поведенческой ре
акции не только индивидов, но и целых народов.
Практическая реализация этой реакции, по его мне
нию, происходит только при наличии соответствую
щих социальных условий. Однако то, что Мичерлих
понимает под социальными условиями, имеет весьма
далекий от марксизма смысл. К таким условиям он
относит, например, ситуацию, когда правящие груп
пы одного общества сознают угрозу со стороны пра
вящих групп другого общества и, используя средства
массовой информации, воздействуют на массы таким
образом, что последние идентифицируют свои инте
ресы и цели с внушенными им военными целями и
интересами правящих кругов.
Считая, что, не изменив психической конституции
человека, едва ли можно рассчитывать на уменьше
ние опасности развязывания новой войны, А. Мичер
лих задается вопросом: как изменить эту конститу
цию в нужном направлении? Изучение этой пробле
мы, по его мнению, ведет непосредственно в область
психологии и антропологии х.
Подобно Мичерлиху, и многие другие буржуаз
ные теоретики пытаются придать социально-полити
ческим проблемам нейтральный вид «психологиче
ских проблем», подменить вопрос о социальном изме
нении действительности «реконструкцией» человече
ских чувств и эмоций. Характерно, что даже понятие
«политическая демократия» в трудах некоторых бур
жуазны х социальных мыслителей преобразуется
в «психологическую демократию »2. А. Мичерлих,
Р. Нибур, Г. Моргентау доказывают, что в основе ин
ститута политической власти лежат психологические
факторы. Утверждается, в частности, что для нор
мального функционирования общественной жизни
требуется, чтобы заложенные в человеке от природы
«социальный» и «эгоистический» инстинкты находи
лись в равновесии, т. е. чтобы второй инстинкт не
преобладал над первым. По мнению этих теорети
1 Л. Mitsckerlich. Aggression ist cine Grundmacht des Lcbcns.
«Dor Spiegel», 1969, N 42, S. 209.
2 M. G. Ross. Community. Organization, Theory and Prin
ciples. N. Y., 1953. p. XI.
119
ков, достигается это путем «самоконтроля» личности,
а в общественной жизни своеобразным продолжени
ем «самоконтроля» является государственная власть
и право. Но поскольку «самоконтроль» устанавлива
ется в результате психической деятельности челове
ка, постольку в основе государства и права как «рас
пространенного на общественную жизнь самокон
троля» также лежат психологические факторы, ко
торые и детерминируют их.
Очевидно, что за подобными идеалистическими
конструкциями, нагромождаемыми буржуазными
теоретиками вокруг проблемы власти, скрывается
истинное лицо политической практики современного
капитализма, а широко распространенные в ней фор
мы и методы насилия сводятся к «самопроизвольно
му выражению» психических импульсов индивидов
или социальных групп. Классовая сущность буржу
азных политических институтов тем самым ловко
камуфлируется.
Очевидная научная несостоятельность психоана
литических концепций о детерминирующей роли в
человеческой деятельности врожденных биопсихиче-
ских инстинктов и влечений индивидов обусловила
критику этих концепций не только со стороны соци
альных мыслителей, не разделяющих общефилософ
ской позиции фрейдизма, но и некоторых наиболее
дальновидных ее последователей. Так, в рамках пси
хоанализа в последние десятилетия сложилось на
правление, сторонники которого (К. Хорни, Г. Салли-
вэн, Э. Фромм и др.) сосредоточили внимание на со
циальных и культурных факторах, обусловливаю
щих формирование личности, ее сознания и мотива
ции ее поведения К Человек рассматривается ими не
только как биологическая или психологическая еди
ница, но прежде всего как «общественный человек»
(personal-in-society), а процесс формирования лично
сти — как процесс ее социализации.
1К этому направлению близка позиция и Г. Маркузе, ко
торый путем сочетания психоаналитической теории Фрейда
с извращенно истолкованной им социально-исторической
концепцией марксизма попытался развить свою собственную
«философию психоанализа».
120
г На первый взгляд может показаться, что теорети
ческие положения сторонников так называемого со
циально-культурного направления в психоаналити
ческом движении в корне отличаются от концепции
Фрейда, что они встают на материалистические по
зиции и полностью отказываются от идеалистиче
ских принципов теории и методологии фрейдизма.
В действительности, однако, это дайпеко не так. Осво
бождая учение Фрейда от наиболее явных антинауч
ных положений и несуразностей, они тем самым пы
таются фактически гальванизировать его, вернуть к
жизни, поднять авторитет психоанализа и превра
тить его в «универсальный метод» исследования че
ловека и общества. Отсюда неизбежно возникают
многочисленные противоречия в анализе и решении
ими проблем общественной жизни и человеческого
поведения.
Начать с того, что представители этого направлет
ния неофрейдизма дают весьма произвольное и рас
ширительное толкование таким понятиям, как «со
циальная ситуация», «общество», «социальная груп
па» и т. п. Так, понятие «социальное» применяется
ими для обозначения любой формы взаимодействия и
общения между людьми, участия индивида в любых
групповых действиях или контактах с другими
людьми вообще. Семейные связи и окружение на ра
боте, соседи и группа людей, собранных по какому-
либо случаю в одном месте, случайно образовавшая
ся уличная толпа — все это, по их мнению, состав
ляет «социальную ситуацию», которая, однако, ни
чем не отличается от «индивидуальной ситуации».
Не менее расплывчатым выглядит в их интерпрета
ции и понятие «социальная группа», к которой они
относят и членов одного спортивного клуба, и кампа
нию приятелей, и политическую партию, и професси
ональную группу. Понятие «общество» сводится ими
также фактически к микросреде, к сугубо непосред
ственным условиям социального бытия данного ин
дивида, а общественные связи соответственно — к
интерперсональным отношениям в этой микросреде.
Смешение при определении понятия существен
ного и несущественного, случайного и закономерно
г о — такова порочная гносеологическая основа по
121
добной трактовки социальных категорий. Такая
трактовка дает простор для любых субъективистских
построений и самых произвольных комбинаций в
исследовании человеческого поведения и его моти
вации, внутригрупповых и межгрупповых конфлик
тов, социального насилия и проявлений агрессивно
сти, т. е. тех проблем, которыми непосредственно за
нимаются представители данного неофрейдистского
направления.
Хотя в своих исследованиях они подчеркивают
решающую роль социально-экономических условий
и общественно-исторических факторов в детермина
ции проявлений насилия и агрессивного поведения в
общественной жизни, отличие их позиции от фрей
дизма носит преимущественно внешний, формаль
ный характер. Усматривая источник формирования
сознания и психики человека, его поведенческих ре
акций во внешней среде, они в то ж е время считают,
что сама по себе эта среда ничего не создает, а лишь
особым образом формирует биологические инстинк
ты и наклонности индивида, его психику 1. Таким об
разом, в конечном счете определяющими мотивами
человеческого поведения и всех социальных явлений
оказываются опять-таки факторы, заложенные в са
мом индивиде, в его психобиологической природе.
В соответствии с этим выводом насилие и агрессивное
поведение рассматриваются ими как своего рода «за
щитная реакция» личности на различные внутрен
ние и внешние раздражители (неудовлетворенность,
страх, угроза), оказывающие стимулирующее воздей
ствие на создание стрессовых ситуаций и вызываю
щие у индивида ответные насильственные поведен
ческие реакции. Последние обусловлены действием
механизма так называемой «фрустрации», т. е. воз
никающими у человека под влиянием социально-
экономических, политических, научно-технических,
морально-этических противоречий, ограничений, у с
ловностей современного буржуазного общества чув
ствами неудовлетворенности, возмущения, протеста,
1
См., н апример, Я. Marcuse. Eros and Civilization. A. Philo
sophical Inquiry into Freud. N. Y., 19G2.
122
присущими сегодня большинству людей на Западе,
особенно молодому поколению.
По мнению многих представителей неофрейдиз
ма, человек, живущий в современном индустриаль
но развитом обществе, постоянно находится в кругу
неразрешимых антиномий — между требованиями
своих инстинктов, наклонностями своей естествен
ной природы, с одной стороны, и многочисленными,
все более увеличивающимися ограничениями и за
претами существующей общественной системы, ус
ловностями и предрассудками, порожденными циви
лизацией,— с другой. Человек не способен освобо
диться от требований присущих ему инстинктов, из
жить и преодолеть свои внутренние, иррациональные
наклонности. В то ж е время он стремится в наиболее
полном объеме пользоваться всеми достижениями и
благами современной «потребительской цивилиза
ции» в ущерб своей «естественной природе», искусст
венно подавляя в себе инстинктивные потребности и
склонности, что неизбежно ведет к внутреннему раз
ладу личности, ее все более глубокому и необрати
мому отчуждению. Чувство постоянной неудовлетво
ренности и конфликтности, порождая внутреннюю
напряженность и враждебность индивида по отноше
нию к окружающей среде, рано или поздно вылива
ется в индивидуальные или коллективные акты аг
рессивного поведения, которые носят, как правило,
спонтанный характер.
Логика подобных рассуждений подводит к следу
ющему выводу: современному человеку, поскольку
он все больше убеждается в том, что созданные им
общественные отношения уходят из-под его контро
ля, противостоят ему как враждебная, иррациональ
ная и подавляющая его сила, заставляют действовать
по чуждым ему законам и нормам, часто вопреки ра
зуму и совести, ничего не остается делать, как стать
на позицию антисоциальных, насильственных дейст
вий. Следуя именно этой логике, Э. Морин видит пер
вопричину социального насилия во всех его проявле
ниях (и таких, как революционная борьба и массовые
движения протеста, и таких, как репрессивные фор
мы подавления их), прежде всего в «неизбежном,
рано или поздно возникающем в любом обществен
123
ном организме конфликте между культурой и анти
культурой, естественными импульсами человеческой
природы и искусственными формами жизнедеятель
ности лю дей»
Одним из постулатов классического психоанализа
является неизбежность конфликта м ежду личностью
и обществом, неустранимая антагонистическая про
тивоположность их интересов и целей. По мнению
3. Фрейда, общество враждебно личности, поскольку
его главная функция — контролировать и подавлять
инстинкты, внутренние влечения человека. В связи
с этим прогресс общественного развития он рассмат
ривал в негативном плане — как процесс усовершен
ствования механизма социального контроля и подав
ления личности и даже поставил под сомнение мно
гие завоевания цивилизации: «То, что мы называем
нашей цивилизацией, в значительной степени ответ
ственно за наше несчастье, и мы могли бы быть на
много счастливее, если бы отказались от цивилиза
ции и возвратились бы к примитивным условиям
жизни» 2.
Подходя к рассмотрению человека и общества
с абстрактно-психологических позиций, 3. Фрейд
утверждал, что каждому индивиду в любой общест
венной системе присуще враждебное отношение к
другим людям, к коллективу, антисоциальные тен
денции, которые «у многих людей достаточно силь
ны, чтобы определять их поведение в обществе» 3.
К этой стержневой идее классического психоана
лиза и возвращает современных теоретиков неофрей
дизма логика их рассуждений. Все развитие цивили
зации, и особенно современный ее высокий уровень,
заявляют они, приводит к тому, что давление на
личность оказывается по своей активности большим,
чем способность человека к сублимации. Отсюда воз
никновение массовых неврозов и стрессовых ситуа
ций, небывалый рост проявлений насильственного
поведения и агрессивных реакций индивидуального
1 Е. Morin. Risk of Deuth — Revolution — Violence. «Solida
rity», vol. V, N 1, p. 47.
2 S. Freud. Civilization and It’s Discontents. Standart Edition,
vol. XXI. London, 1930, p. 86.
3 S. Freud. Collected Papers, vol. XXI. N. Y., 1959, p. 7.
124
И_71,коллективного характера.
«Экзистенциальный
страх», переживаемый якобы всем современным че
ловечеством и каждым индивидом в отдельности,—
такова, по их мнению, главная и определяющая чер
та эпохи индустриальной цивилизации.
Созданная современной цивилизацией и культу
рой система многочисленных «противоестественных»
для человеческой природы социальных, моральных,
этических запретов и ограничений, определяющих
отношения людей в обществе, пишет Карен Хорни в
книге «Неврозы и развитие человека», ведет к куль
тивации у индивида чувства недовольства, страха и
ненависти, которое в свою очередь порождает в нем
поведенческую реакцию, аналогичную той, которую
Фрейд охарактеризовал как «агрессивный порыв».
Корни всех социальных конфликтов и противоречий
в современном мире, по мнению Хорни, уходят в ко
нечном счете в психологическое состояние личности,
в ее внутреннюю эмоциональную потребность изба
виться от чувства «исходного страха». При этом, как
она утверждает, самое ценное и основное в челове
ческом «Я» не есть продукт среды, материальных
условий человеческого бытия, не воспитано в чело
веке общественными отношениями, а неразрывно
связано с его психологической сущностью К
Аналогичную точку зрения отстаивает и Г. Мар
кузе в своей концепции об авторитарном характере
современного индустриально развитого общества.
Это общество, по мнению Маркузе, препятствует сво
бодному удовлетворению основных инстинктивных
потребностей человека и тем самым стимулирует и
обостряет его агрессивную активность2.
Буржуазные теоретики много пишут сейчас о
том, что в условиях быстрых темпов научно-техни
ческого прогресса, усложнения всех общественных
отношений, усиливающегося давления на личность
бюрократической государственной машины происхо
дит утрата современным человеком непосредствен
ной связи с реальностью своего бытия. Враждебность
1 К. Homey. Neurosis and Human Growth. N. Y., 1950.
2 H. Marcuse. One-Dimensional Man. Studies in the Ideology
of Advanced Industrial Society. Boston, 1964.
125
окружающей его социально-предметной реальности
и обусловливает отчуждение личности, социальные
конфликты, классовые антагонизмы. Эти «неизбеж
ные издержки индустриальной цивилизации», утвер
ждают буржуазные теоретики, и являются тем опре
деляющим фактором, который поддерживает и акти
визирует в современном человеке наклонности к
агрессивному поведению, к «автоматической враж
дебности к себе подобным существам». «Современное
насилие,— пишет К. Вильсон,— это в подавляющем
большинстве случаев своеобразная форма невроти
ческого протеста личности против различного рода
давящих на нее стрессовых факторов и иррациональ
ных условий социальной жизни, в которых ей часто
бывает трудно адаптироваться» К
Концентрация внимания некоторых буржуазны х
авторов исключительно на психофункциональном
аспекте феномена насилия затрудняет выявление ре
альных социальных источников, его порождающих.
Между тем «экзистенциальные страхи» и «психиче
ские стрессы», на которые ссылаются психоаналити
ки, есть не что иное, как продукт общественного
строя, при котором существует массовая нищета и
безработица, эксплуатация и кризисы, жестокая кон
курентная борьба и неуверенность в завтрашнем дне.
Поэтому попытки некоторых буржуазных идеологов
экстраполировать эти характерные для капитализма
явления на все человечество, его прошлую и буду
щую историю научно несостоятельны.
Подвергая критике неофрейдистскую трактовку
мотивации поведенческих реакций человека, совре
менная материалистическая психология и нейрофи
зиология признают, что подавление естественных
импульсов при определенных условиях может при
вести к известным нарушениям в психике человека
и стать толчком к антиобщественному поведению.
Однако это лишь подтверждает социальную обуслов
ленность поведения человека. В противоположность
этому 3. Фрейд, а вслед за ним и неофрейдисты ука
зывают на «бессознательную враждебность» как на
1
С. Wilson. Crimes of freedom — and their cure. «20th Cen
tury», vol. 173. London, 19G5, p. 26.
126
постоянно действующий мотив человеческого пове
дения
Иррациональность, по их мнению, заложена в са
мой человеческой натуре; именно она движет соци
альным поведением индивида, обусловливая его не
способность регулировать и подавлять инстинкт аг
рессивности. Именно эта «иррациональная основа»
человеческой природы возводится психоаналитиками
в ранг конечной, необъяснимой и неустранимой де
терминанты социального поведения людей.
Эрих Фромм, например, рассматривает фрустра
цию как порождение и результат «технизированного
образа жизни», который ставит преграду свободному
выражению внутренних наклонностей и потребно
стей человека. Характеризуя положение личности в
современном буржуазном обществе как «ненормаль
ное» и «противоестественное», Фромм считает, что
человеческая природа требует соответствующей ком
пенсации. Последняя проявляется в двух основных
формах антисоциального поведения: во-первых, в ак
тивной насильственной форме протеста и бунта про
тив существующих общественных отношений и об
раза жизни и, во-вторых, в пассивной ненасильствен
ной форме поведения — в уходе в себя, в бегстве от
общества, в уклонении от следования его законам и
нормам, в стремлении человека любым способом от
решиться от угнетающей и враждебной ре; льности.
Психологические механизмы этой «самоизоляции»
индивида от общества характеризуются Э. Фроммом
как компульсивные, т. е. направленные на неосознан
ные, иррациональные действия. «Свобода от традици
онных связей средневекового общества,— пишет он
в книге «Бегство от свободы»,— давая индивиду новое
чувство независимости, в то же время сделала его
одиноким и изолированным, полным сомнения и тре
вог, привела его к новому виду подчинения, к ком-
пульсивной антисоциальной деятельности»2. Эти
рассуждения Э. Фромма во многом перекликаются со
взглядами экзистенциалистов, которые также обус
1 См. 3. Фрейд. Тотем и табу. М.— Пг., 1924.
2 Е. Fromm. Escape from Freedom. N. Y., 1941, p. 171.
127
ловливают трагические коллизии личности противо
речивостью человеческого существования.
Констатируя реальные и наиболее острые проти
воречия современного капитализма, их пагубное
влияние на человека, психоаналитики не выходят
тем не менее за рамки традиционного для буржуаз
ной науки абстрактного подхода к исследованию лич
ности. Они фактически не видят никакого различия
в психологии и мотивах поведения представителей
различных классов и социальных групп капитали
стического общества, ставят знак равенства между
психологией господствующих, привилегированных
«верхов» и угнетенных, необеспеченных «низов».
Антинаучность подобного метода исследования оче
видна. Поскольку условия жизни каждого класса, его
положение и роль в системе общественных отноше
ний различны, постольку различны и их психология,
поведение, чувства и умонастроения, нравственные
принципы и убеждения. «У республиканца,— отме
чал К. Маркс,— иная совесть, чем у роялиста, у иму
щего— иная, чем у неимущего, у мыслящего — иная,
чем у того, кто неспособен мыслить» *.
Классовая принадлежность индивида является
основной характеристикой личности. Именно эта при
надлежность в значительной мере определяет прису
щий ей «тип поведения» в обществе, взаимоотноше
ния с представителями других классов и социальных
групп.
Приписывая «деструктивные силы» антагонисти
ческого буржуазного общества абстрактно трактуе
мому индивиду, объявляя агрессивность «типично
родовым признаком человека», неофрейдисты, по
сути дела, заводят в тупик проблему предотвраще
ния войн и гонки вооружений, объявляют «комму
нистической утопией» возможность создания таких
общественных отношений, которые исключали бы
эксплуатацию, угнетение, отчуждение человека2.
Индивидуальная или коллективная агрессивность
как проявление «инстинктивной реакции» людей на
1 К Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, стр. 140.
2 См., н апример, A. Mitscherlich. Die Idees des Friedens und
die menschliche Aggressivitat. F rankfurt, 1970, S. 132.
128
стрессовые ситуации, по утверждению теоретиков
психоанализа, выполняет двоякую функцию: во-пер
вых, служит средством удовлетворения тех или иных
желаний и потребностей субъекта насилия; во-вто
рых, является своеобразной «разрядкой», снимающей
внутреннее напряжение индивида.
К подобного рода «скрытым» формам проявления
и одновременно «разрядки» агрессивной энергии
психоаналитики относят такие виды социальной дея
тельности, как искусство, наука, спорт. Именно через
такого рода сублимацию агрессивного инстинкта, по
их мнению, происходит в повседневной жизни необ
ходимый для естественной природы человека «отвод»
накопленной неудовлетворенности и враждебности
на различные «нейтральные» с социальной точки
зрения объекты.
Некоторые теоретики этого направления (напри
мер, В. Изекель) считают, что инстинкт агрессии иг
рает решающую роль даже в профессиональной ори
ентации человека; Они утверждают, что личности с
повышенным уровнем «агрессивной энергии» неосо
знанно стремятся к выбору такого профессионально
го занятия, которое предоставляло бы им возмож
ность максимальной разрядки этой энергии в повсе
дневной трудовой деятельности. К таким занятиям
они относят, в частности, юриспруденцию, военную
службу и службу в полиции, хирургию и т. д.
Особую роль сторонники психологической концеп
ции сублимации агрессивных инстинктов отводят
произведениям современного искусства на детектив
ную и военную тематику. Утверждается, что путем
своеобразной проекции на соответствующего «героя»
художественного произведения переносятся агрес
сивные устремления публики, у которой посредством
воображаемого осуществления этих устремлений
происходит так называемый «психокатарсис», т. е.
достигается необходимая эмоциональная разрядка и
«очищение душ». Аналогичным образом якобы про
исходит индивидуальная или коллективная разрядка
«агрессивной энергии» у участников и болельщиков
спортивных состязаний.
Научное творчество также рассматривается неко
торыми теоретиками психоанализа (К. Хартман и др.)
9
В. В. Денисов
129
как вид сублимации «агрессивного инстинкта», про
цесс «нейтрализации» агрессивной энергии путем
перевода ее в русло научно-теоретической деятельно
сти. Каждая творческая личность (ученый, х удож
ник), согласно этой точке зрения, обладает повышен
ным уровнем неосознанных агрессивных наклонно
стей, которые сублимируются различными путями и
в различных формах в активную творческую, интел
лектуальную деятельность. Чем талантливее твор
ческая личность, тем большей «агрессивной потен
цией» она якобы обладает.
Отсюда делается вывод, что нахождение эффек
тивных способов перенесения заложенной в каждом
человеке агрессивной энергии на такие области соци
альной деятельности, где исключена возможность
возникновения конфликтов и применения насильст
венных действий, является важнейшей задачей со
временной науки и политики. Проблема сублимации
насильственных инстинктов и наклонностей челове
ка провозглашается психоаналитиками главной про
блемой современной эпохи.
В условиях небывалого обострения всех социаль
ных антагонизмов капитализма буржуазные социо
логи и социальные психологи видят свою задачу во
всестороннем исследовании «субъективного созна
ния» представителей различных классов и групп.
«Реальность индустриального общества, — пишет
Р. Арон,— побуждает к широким исследованиям в
области социальной психологии, необходимых для
познания того, что существует, и для улучшения ор
ганизации и функционирования всей общественной
системы» К
В проблему так называемых «управленческих
мотиваций», которая является одной из центральных
в этой связи, входит, в частности, изучение психиче
ского состояния отдельных индивидов и социальных
групп, мотивов их поведения в тех или иных кон
кретных ситуациях, контроль и управление ими с
целью предотвращения «межгрупповых конфлик
тов», налаживания «человеческих отношений» м еж -
1 «Transactions of the Fourth World Congress of Sociology»,
vol. 1. Washington, 1964, p. 17.
130
ДУ руководителями и массой на производстве и в об
ществе в целом.
Прагматическая сущность такого рода «психоло
гических исследований» состоит в том, чтобы дать
рекомендации экономическим и политическим лиде
рам капитализма, как избежать или ослабить враж
дебное отношение трудящихся масс к различным
политическим акциям буржуазного государства, ней
трализовать их растущую социальную активность,
подчинить их деятельность воле правящих кругов.
Констатируя наличие определенных идеологиче
ских и социально-исторических условий, предопреде
ливших широкое распространение психоанализа в
ведущих капиталистических странах, и прежде всего
в США, американский философ Гарри Уэллс пишет:
«...успех Фрейда в Америке был в большой мере обя
зан тому факту, что его философия всецело соответ
ствовала точке зрения господствующего класса.
Дуалистический, субъективный идеализм его подхо
да к человеческому сознанию не представлял науч
ной опасности для полуофициальной идеологии мо
нополистического капитализма США. Напротив, он
в общем подкреплял эту идеологию, давая обскуран
тизму расширенную базу в сознании и культуре аме
риканского народа» *.
Те же самые идеологические факторы в извест
ной мере обусловливают распространение неофрей
дизма и примыкающих к нему философских течений
в настоящее время. Фрейдизм и все его современные
ответвления устраивают официальную идеологию
прежде всего в силу «универсальности» тезиса об ин
стинктивной природе всех явлений действительно
сти. Психоаналитические концепции служат своего
рода психологическим транквилизатором массового
сознания.
Нельзя также не видеть, что как в прошлом, так
и в наши дни психоаналитики спекулируют на объ
ективных трудностях исследования сложных процес
сов сознания и психики, на имеющихся еще «белых
пятнах» в этой области научного знания, различного
рода предрассудках и мистических представлениях
1 Г. Уэллс. Павлов и Фрейд. М., 1959, стр. 602,
131
в обыденном сознании людей. «...В течение тысяче
летий,— пишет Г. Уэллс,— человечество учили рас
сматривать психику, или «душу», как какой-то
сверхъестественный и чудесный феномен, нуждаю
щийся во внеприродном, вненаучном объяснении...
Таинственный и мистический подход к психике глу
боко затаился в каждом из нас и нелегко искоре
няется» 1.
Завершая анализ буржуазных психологических
концепций насилия, сложившихся в русле или под
влиянием неофрейдизма, представляется целесооб
разным подчеркнуть следующие два момента. С од
ной стороны, эти концепции по-своему отражают ре
ально существующие противоречия капиталистиче
ской действительности. Нарастание антисоциальных
тенденций в массовом сознании, изолированность и
отчуждение личности, противоположность между
личностью и обществом, состояние «всеобщей кон
фликтности», упадок морали — все это объективная
реальность современного капитализма, которая полу
чает своеобразное идейно-теоретическое осмысление
в буржуазной социально-философской мысли.
С другой стороны, очевидно, что отражение капи
талистической действительности в теоретическом
мышлении этих буржуазны х авторов происходит в
явно искаженном ракурсе. Даваемая ими трактовка и
оценка сущности социальных явлений, их природы и
источника носит субъективистский х арактер. Пока
зывая и критически заостряя отчужденное состояние
личности в мире капитала, ее «внутренний надлом»
и нарастающий протест против враждебной, подавля
ющей ее социальной системы, они в то же время не
связывают такого рода явления с господствующими
буржуазными общественными отношениями, а рас
сматривают их как некую специфическую особен
ность современной цивилизации, индустриально раз
витого общества вообще вне зависимости от социаль
ной системы. Это приводит некоторых буржуазных
теоретиков на позиции анархизма, огульного отри
цания всякой общественной организации, как якобы
противостоящей интересам и целям личности, пре
1Г. Уэллс. Павлов и Фрейд, стр. 602.
132
пятствующей свободе выражения человеческой ин
дивидуальности. С развитием цивилизации и у сло ж
нением общественных отношений, по их мнению,
конфликт между личностью и обществом будет еще
более обостряться независимо ни от каких социаль
ных усовершенствований и революционных изме
нений.
Все социальные пороки и антагонизмы капитали
стического общества они рассматривают как неустра
нимое проявление естественных свойств человече
ской натуры, считают их вечными спутниками любо
го общественного устройства. А потому все попытки
добиться какого-либо радикального изменения в че
ловеческих отношениях, в основополагающих прин
ципах социального устройства обречены, по их мне
нию, на провал.
Не случайно труды многих психоаналитиков про
никнуты настроениями пессимизма, неверия в луч
шее будущее человечества. Этот пессимизм, утверж
дение бесплодности борьбы за лучшее будущее, оз
начает на деле примирение с антагонизмами и поро
ками капитализма, которые, казалось бы, они так
активно обличают.
Непоследовательность и противоречивость пози
ции сторонников социально-культурного направле
ния в психоаналитическом движении выражается и
в том, что, говоря о влиянии социально-экономиче
ских и психологических факторов на формирова
ние и поведение личности, они так и не дают четко
го ответа на то, какой же из этих факторов явля
ется определяющим. Заявляя, что нельзя понять и
объяснить поведение личности, ее сознание и психи
ку в отрыве от социальных условий ее бытия, они
в то же время психологизируют сами эти условия,
общественные явления и процессы. В конечном счете
они приходят к выводу, что поведение личности в
своей основе носит бессознательный, иррациональ
ный и неуправляемый характер. Их отличие от тра
диционного фрейдизма сводится лишь к иному объ
яснению бессознательных процессов в человеческой
психике: они считают их не врожденными, а завися
щими частично или полностью от социально-куль
турных условий.
133
Психологизация общественных явлений обуслов
ливает и характер представлений неофрейдистов о
путях «гуманизации» существующей социальной
системы, если таковая вообще возможна. Они свя
зывают эти пути с «лечением» человеческой пси
хики, выработкой у людей новой системы «психоло
гической ориентации». Решающая роль здесь, по их
мнению, принадлежит психоаналитикам, которые
«путем социальной терапии призваны воспитать но
вую личность»,
освободившуюся от компульсив-
ной деятельности. И тогда противоположность ме
жду индивидом и обществом якобы исчезнет сама
собой.
Несостоятельность такой программы « преобразо
вания» капиталистических общественных отношений
вполне очевидна. Положить конец отчуждению лич
ности и социальной розни между людьми невозмож
но ни путем «морального усовершенствования», ни
психотропными средствами новейшей фармакологии,
ни искусственной переделкой генетического кода че
ловека, ни «теоретической психотерапией». Решить
этот вопрос можно лишь путем ликвидации всех
форм угнетения и эксплуатации, создания новых об
щественных отношений, основанных на социальном
равенстве и свободе всех членов общества. Единст
венно верный путь — это указанный марксизмом
путь революционной перестройки антагонистических
общественных отношений, замены их социалистиче
скими отношениями, коллективной собственностью
на средства производства.
Изменения в общественной жизни при социализ
ме сопровождаются и глубокими изменениями обще
ственного и индивидуального сознания, психологии
людей. На смену отчужденности, недоверию и враж
де приходят чувства солидарности и взаимной под
держки, дружбы и братства.
Формирование нового человека в условиях соци
алистического общества, утверждение здесь принци
пов равенства, свободы и братства людей и наций —
лучшее доказательство истинности марксистского
учения, бесплодности и неспособности буржуазной
идеологии, включая и концепции неофрейдизма, най
ти решение социальных проблем, не выходя за рам
134
ки капиталистического общества, путем «эволюцион
ных мер» и «приспособительных изменений» в его
социальной и политической структуре.
2. Концепция
«конфликтующих сознаний»
и психоэлектронная модификация
социального поведения
Как разновидность психоаналитической
трактовки природы социального насилия можно рас
сматривать и так называемую концепцию «конфлик
тующих сознаний», или «ошибочного мнения», пропо
ведуемую сейчас некоторыми буржуазными теорети
ками. Ее суть заключается в том, что в основе агрес
сивного поведения как отдельных индивидов, так и
социальных групп (классов, наций, государств) лежит
якобы определенного рода субъективно искаженная
форма восприятия тех или иных явлений реальной
действительности и соответствующая реакция на это
восприятие. Как считает ряд буржуазны х ученых,
складывающаяся в сознании в процессе восприятия
модель социальной действительности всегда носит в
силу разнообразных причин неадекватный восприни
маемой реальности характер. Кроме того, в силу
различия человеческого интеллекта и психики, н е
схожести национальных характеров, исторических
традиций, воспитания, социального положения, недо
статка «достоверной информации» и некоторых дру
гих факторов как индивиды, так и народы, как пра
вило, по-разному воспринимают и оценивают явле
ния и события общественной жизни. Именно эти об
стоятельства, заявляют авторы концепции «ошибоч
ного мнения», в первую очередь и обусловливают
идеологические и политические противоречия между
людьми и народами, порождают социальные конф
ликты и конфронтацию в современном обществе. Та
ким образом, согласно логике рассуждений этих тео
ретиков, истоками проблемы насилия служат чисто
с убъективные факторы. Главной причиной социа ль
ных конфликтов и проявлений насилия объявляется
несовершенство человеческого сознания и психики,
135
возникающие в процессе познания несоответствия
между реальной социальной действительностью и
представлениями о ней. Конкретными виновниками
в этом случае оказываются либо массы, которые не
правильно понимают и воспринимают политику пра
вящих кругов, либо отдельные политические лидеры,
которые или сами допускают ошибки, или же оказы
ваются неспособными довести до сознания масс пра
вильность проводимого ими политического курса,
убедить их в соответствии этого курса всеобщим
интересам.
«В основе отношений людей к социальной вла
сти,— пишут американские социологи Кнуд Ларсен
и Генри Минтон,— леж ит определенный образ вос
приятия ими этой власти. Власть всегда есть власть
лишь постольку, поскольку она воспринимается как
таковая. Взаимоотношения, складывающиеся между
властью и массами, управляющими и управляемыми
могут быть поняты и объяснены только лишь на ос
нове исследования различных способов и форм вос
приятия, присущих отдельным индивидам и общест
венным группам. При этом само собой предполагает
ся, что у разных индивидов это восприятие может
быть и действительно является совершенно не оди
наковым... Но независимо от этого, именно эти сугубо
субъективные и неизбежно отличные друг от друга
восприятия служат решающим фактором для пони
мания и оценки тех общественных отношений, кото
рые выражаются в подчинении или неподчинении, в
мирном или агрессивном поведении людей»
Аналогичных взглядов по этому вопросу придер
живается американский социолог А. Стоссинджер, до
казывающий, что причины вооруженных конфликтов
меж ду современными государствами не имеют ни
чего общего с характером их социально-политиче
ского строя, а о бусловлены исключительно такими
психологическими факторами, как «национальный
престиж» и «естественная подозрительность», выте
кающая из политики «тотальной секретности», кото
1
К. Larsen and //. Minton. Atributed Social Power — a Scale
and Some Validity. «The Journal of Social Psychology». N. Y.,
1971, p. 37.
136
рой придерживаются все страны и которая лишает:
их возможности узнать лучше намерения и планы
друг друга
Специфические особенности человеческого созна
ния и поведения рассматриваются как источники со
временных социальных и военных конфликтов и в
нашумевшей на Западе книге «Никто не хотел вой
ны» американского социолога Ральфа Уайта. В пре
дисловии к этому труду автор следующим образом
сформулировал поставленную перед собой задачу:
«Цель книги — исследование психологических факто
ров, которые делают возможной войну вообще, не
смотря на то что в настоящее время ядерное оружие,
средства химического и бактериологического унич
тожения сделали войну опасной до такой степени, о
которой не имели представления предшествующие
поколения. Мы должны понять причины, порождаю
щие такое явление, как войны, для того чтобы пред
отвратить третью мировую войну...»2 Как же подхо
дит Р. Уайт к этой проблеме, каким путем пытается
найти ее разрешение?
По его мнению, ни характер того или иного об
щественного строя, ни сущность проводимой опреде
ленными социальными кругами политики не имеют
никакого отношения к проблеме войны и социального
насилия вообще. «В современном мире,— пишет он,—
большинство людей, вовлеченных в принятие реше
ний, ведущих к войне,— лидеров и подчиненных,
принимают решение о ведении войны не потому, что
они действительно хотят этого... Они делают это по
специфическим психологическим причинам» 3.
Что же это за «психологические причины», тол
кающие человечество на ведение истребительных
войн? Оказывается, войны возникают исключительно
из-за «взаимонепонимания», из-за того, что «каждая
воюющая сторона крайне нереалистична в своих
представлениях о том, что думают люди по другую
сторону границы». Нередко это происходит в силу
того, считает Р. Уайт, что жизненная действитель
1 «The causes of war». «History Studies». Mellbourne, 1974,
vol. 16, N 58, p. 48.
2 R. White. Nobody Wanted War. N. Y., 1970, p. VI.
3 Ibid., p. V.
10
В. В. Денисов
137
ность оказывается более подвижной, чем создавае
мый в сознании людей образ этой действительности:
«Бытие изменилось, а представление о нем в созна
нии человека остается на прежнем уровне, не соот
ветствует изменившейся действительности» *.
Социальные и военные конфликты сводятся, та-
•шм образом, к конфликту различных противостоя
щих друг другу образов мышления, к взаимному не
пониманию позиций противостоящих сторон. Подоб
ное состояние «конфликтующих сознаний» или «не
понимания» обозначается Р. Уайтом специальным
термином «мисперцепция» (misperception), что бук
вально означает «ошибочное мнение».
Ссылаясь на примеры из истории войн, Р. Уайт
утверждает, что «каждая из конфликтующих сторон
никогда не может правильно воспринять то, что со
вершается в сознании другой стороны — ее противни
ка, и обычно оказывается неспособной участвовать в
сопереживании происходящих событий в том виде,
в каком они переживаются сознанием другой сторо
ны. Поэтому для каждой из сторон существует свой
«реальный мир», в котором она живет и который она
зашищает всеми способами» 2.
При этом каждая из конфликтующих сторон всег
да считает свою позицию справедливой и морально
оправданной, а позицию своего противника — неспра
ведливой и аморальной, рассматривает себя как
жертву, а другую сторону — как агрессора. Но если
каждая из сторон искренне убеждена в своей правоте
и соответственно в неправоте своего противника, рас
суждает Р. Уайт, то тогда получается, что каждая
из них, независимо от реального состояния дел, нахо
дится как бы в равном по отношению к другой сторо
не положении, т. е. они ничем не отличаются, по су
ществу, одна от другой. При таком подходе для
Р. Уайта естественно вообще снимается вопрос о том,
что могут существовать агрессоры и их жертвы, вой
ны справедливые и несправедливые, морально оправ
данное или неоправданное применение насилия. Все
различия между сторонами сводятся фактически им
1 R. White. Nobody Wanted War, p. 280.
2 Ibid., p. 6.
138
к одному-единственному критерию — к различной
степени мисперцепции, которой обладают участвую
щие в том или ином конфликте стороны. Одни могут
заблуждаться в большей, другие в меньшей степе
н и — и только. «Существует ли какое-либо реальное
значение и практическая потребность в самом вопро
се о том, какая из сторон «в действительности» явля
ется агрессором, если очевидно, что каждая сторона
искренне убеждена в том, что не она, а ее против
ник — агрессор? Но может быть более правильным и
логичным будет, если мы вообще снимем этот вопрос,
который уж е сам по себе подразумевает, что одна из
сторон обязательно должна быть агрессором и что
имеется наличие заранее обдуманного преступного
действия. Почему бы не допустить, что обе стороны
могут быть невиновными в сознательном преступле
нии и одновременно жертвами искаженного видения
действительности и взаимного непонимания» 1.
Насколько теоретически беспомощны и субъек
тивны в своей основе рассуждения Р. Уайта, лучше
всего показывает его ответ на вопрос, какая же из
сторон и при каких условиях действительно высту
пает в качестве агрессора в том или ином военном
конфликте. «Каждый человек пусть решает этот во
прос сам,— пишет он.— Но при решении он должен
без всякого предубеждения подойти к выбору той или
иной дефениции самого понятия «агрессия» и внима
тельно исследовать относящиеся к делу историче
ские факторы» 2.
Очевидно, что, как нельзя судить об отдельном
человеке по тому, что он сам о себе думает, исходя
только из его личного субъективного мнения о самом
себе, так и о социальных субъектах — классах, пар
тиях и т. п.— нельзя судить только по их програм
мам, декларациям и т. д., а необходимо исходить из
объективных критериев и фактов реальной жизнен
ной действительности.
При оценке военных конфликтов, роли участвую
щих в нем сторон не может существовать двух истин:
агрессор всегда должен нести полную и безусловную
1 R. White. Nobody Wanted War, p. 193.
2 Ibid. , p. 198.
139
ответственность за развязанную им войну. Это ак
сиома международного права.
Оставаясь на субъективно-идеалистических пози
циях, полностью отвлекаясь в своих исследованиях
проблемы войн от объективных факторов, Р. Уайт
оказывается неспособным выполнить поставленную
перед собой задачу— «понять причины, порождаю
щие такое явление, как войны». Хотя он и допускает,
что «некоторые люди могут желать войны (или, точ
нее, власти, которую они могут получить с помощью
войны)», он в то ж е время утверждает, что большин
ство политических деятелей принимают решения, ве
дущие к войне, только по причинам чисто психоло
гического характера. Поэтому и проблему предотвра
щения войн в современном мире он обусловливает
психологическими факторами в отношениях между
нациями и государствами. Рассматривая эту пробле
му применительно к двум лагерям — социалистиче
скому и капиталистическому, он призывает к устра
нению взаимного недоверия и предубеждения, ратует
за «идеологическое сосуществование» двух систем.
Однако за абстрактно-гуманистической заботой о
всеобщем мире скрывается стремление буржуазного
идеолога к обеспечению внутренней стабильности ка
питалистического строя, к повышению его пошатнув
шейся репутации в глазах широких народных масс.
Все большую популярность в настоящее время на
Западе приобретает и нейрофизиологическая трак
товка социального насилия, в которой в качестве де
терминирующего это явление фактора выдвигаются
механизмы деятельности нервной системы и мозга
человека.
Сторонники этого направления (X. Дельгадо,
Б. Ф. Скиннер, Дж. Макконэл) считают необходимым
дифференцировать понятие «насилие» и подразделя
ют его на два вида. К первому виду, носящему, как
правило, индивидуальный характер, предлагается
относить все проявления «естественного», или, как
они его именуют, «эмоционального», насилия. Назы
вая этот вид насилия «физиологической агрессией»,
они считают, что в его основе лежат бессознательные
факторы, выражающие такие органически присущие
человеческой натуре неизменные чувства и потреб
140
ности, как соперничество, страх, честолюбие, любовь,
эгоизм, стремление к благополучию, счастью, власти,
наслаждению, познанию, красоте и т. п. Этот вид че
ловеческой агрессивности, по мнению приверженцев
нейрофизиологической концепции насилия, не только
не представляет опасности для общества, а, наоборот,
служит важнейшим фактором развития и совершен
ствования всех областей социальной жизни, стиму
лирует и двигает общественный прогресс. Проявле
нию этого вида «агрессивной тенденции» в лю дях не
следует препятствовать и создавать искусственные
помехи, ибо это бесполезно и даже вредно. Эти тен
денции можно только в разумных пределах контро
лировать и регулировать, направляя их на благо
всего общества.
Второй вид насилия, определяемый как «антисо
циальное насилие», согласно этой концепции, являет
ся сознательной поведенческой реакцией индивида,
таким волевым актом, который преднамеренно и це
леустремленно направлен против чьих-либо интере
сов, свободы, здоровья или жизни. Именно этот вид
насилия и представляет опасность для интересов
личности и общества, социального порядка, мира и
всеобщего благосостояния, служит помехой для раз
вития цивилизации.
Совершать только рациональные (справедливые,
моральные и гуманные) действия, отказаться от при
менения насилия второго вида человек может, лишь
обладая свободой выбора. А достижение такой
свободы связывается авторами данной концепции с
«осознанием многообразия факторов», которые влия
ют на поступки. Только тогда эти поступки якобы
превратятся из автоматических в обдуманные и ра
циональные. «Наше поведение слагается в значи
тельной степени из автоматических реакций на сен
сорные раздражения,— пишет активный проповедник
данной концепции американский нейрофизиолог
X. Дельгадо,— но если бы нам были известны гене
тические факторы, элементы воспитания и интимные
механизмы мозга, участвующие в различных пове
денческих актах, то мы смогли бы лучше понять ис
тинные причины наших поступков» К
1 X. Дельгадо. Мозг и сознание, стр. 19—20.
141
Каким же путем считает возможным X. Дельгадо
разрешить эту задачу? По его мнению, этого можно
достичь путем искусственной переделки нейрофизи
ологических механизмов агрессивного поведения, а
также созданием специальной системы воспитания,
способной сформировать такую личность и такие
стандарты ее общественного поведения, для которых
применение насилия будет в принципе невозможно.
«Хотя индивидуальные и коллективные акты наси
лия и кажутся нам очень далекими от электрических
потенциалов нейронов,— утверждает он,— мы дол
жны помнить, что поведение зависит не столько от
внешней среды, сколько от состояния нервной тка
ни» К Психофармакологический и электронно-хирур
гический контроль над мозговой деятельностью —
единственный реальный, по его мнению, путь к «пси
хоцивилизованному обществу», в котором не будет
бунтов, конфликтов и насилия. Только «изучив мор
фологическую и функциональную основу» опреде
ленных видов поведенческой деятельности людей,
например агрессивности и враждебности, считает
Дельгадо, мы будем в состоянии искусственным пу
тем «подавлять активность нейронов, ответственных
за их возникновение» 2, и тем самым управлять по
ведением людей в обществе.
Проблема насилия выступает, таким образом, как
проблема индивидуального поведения личности в об
щественной жизни. «Человеческую агрессивность,—
утверждает Дельгадо,— можно рассматривать как
поведенческую реакцию, для которой характерно
применение силы с целью нанести повреждение лю
дям или предметам» 3.
Согласно теории Дельгадо и его последователей,
в мозгу участника любого конфликта определенные
группы нейронов реагируют соответствующим обра
зом на сенсорную информацию, в результате чего и
возникают поведенческие реакции, представляющие
собой насилие.
Однако возникают вопросы: в зависимости от чего
же мозг человека «толкует» поступающую в него ин
1 X. Дельгадо. Мозг и сознание, стр. 135.
2 Там же, стр. 175.
3 Там же, стр. 124.
142
формацию, почему он при совершенно разных воз
можностях интерпретирует ее именно так, а не иначе,
что является определяющим при разной оценке раз
ными людьми одной и той же информации?
Дельгадо не только не дает никакого ответа на по
добные вопросы, но предпочитает вообще их не ста
вить. И это, конечно, не случайно, ибо всякая попыт
ка ответить на эти вопросы с позиции субъективно
идеалистического, абстрактного, внеклассового под
хода к данной проблеме неизбежно обречена на про
вал. Социальное бытие, классовая принадлежность
человека определяют характер интерпретации посту
пающей в его мозг информации и соответствующей
реакции на явления и процессы объективной дейст
вительности.
Дельгадо и сторонники его взглядов ратуют за то,
чтобы поиски решения наиболее актуальных и ост
рых проблем современного общественного развития
были перенесены в область психической жизни и
эмоциональных реакций человека, на изучение ней
рофизиологических механизмов формирования и
функционирования его сознания и психики. Устра
нить «агрессивное насилие» из жизни общества, по
мнению Дельгадо, возможно лишь в том случае, если
«взглянуть на наше поведение не со стороны, а из
нутри, оттуда, где возникают спайковые потенциалы
нейронов, где происходит осознание информации и
зарождаются реакции» \ т. е. посредством искусст
венной модификации человеческого поведения.
Освобождение человека от всех пороков и проти
воречий современного общественного устройства, его
господство не только над природой, но и над создан
ными им самим общественными связями Дельгадо
видит, таким образом, не в познании и овладении
социальными закономерностями, не в создании на
этой основе новых общественных отношений, а ис
ключительно лишь в различного рода искусственных
манипуляциях с человеческим мозгом, в воздействии
на механизмы волевого поведения личности, в пере
делке ее внутреннего мира.
На основе искусственной «перестройки психиче-
i X. Дельгадо. Мозг и сознание, стр. 12.
143*
ской структуры личности» Дельгадо предлагает осу
ществлять разработку социально-политических и мо -
рально-этических мероприятий для устранения кон
фликта между индивидом и обществом, а также ме
ж ду классами, нациями, государствами.
Усовершенствование системы воспитания в широ
ком смысле этого понятия, способствующее осозна
нию и овладению человеком принципами и внутрен
ними механизмами, лежащими якобы в основе моти
вации его социального поведения, должно, как счита
ет X. Дельгадо, привести автоматически к качествен
ному оздоровлению как отдельной личности, так и
всего общества в целом, открыть путь к совершен
ствованию современной цивилизации.
Утопичность и ненаучность подобного рода рас-
суждений очевидны. Все попытки буржуазных тео
ретиков наметить пути и осуществить совершенство
вание капиталистических общественных отношений
через воздействие на сознание и психику индивидов,
не выходя за рамки этих отношений, игнорируя их
внутреннюю антагонистичность и историческую об
реченность, заведомо ведут к неудаче.
Не делая никакого различия между физиологиче
ской и социальной жизнью индивидов, X. Дельгадо
неизбежно впадает в грубую ошибку даже тогда, ког
да он оперирует экспериментальными данными в об
ласти нейрофизиологии и психофармакологии. Для
обоснования своих теоретических выводов он, в част
ности, ссылается на тот факт, что электрическим или
химическим воздействием на соответствующие обла
сти мозга животных и человека можно искусственно
вызывать определенные эмоциональные состояния
(ненависть, страх, покорность, агрессивность и т. п.),
а также подавлять или затормаживать реакции на
эти состояния.
Но эти факты — дополнительное подтверждение
материалистического положения об определяющей
роли внешней среды, ее детерминирующего влияния
на все поведенческие реакции. Именно накопленный
социальный опыт определяет содержание и направ
ленность той или иной поведенческой реакции.
Косвенно это вынужден признать сам Дельгадо,
когда утверждает, что электрическое раздражение
144
мозга не может служить способом преодоления аг
рессивности, что «это только метод для исследования
данной проблемы, с помощью которого можно полу
чить необходимую информацию об участвующих в
этих реакциях механизмах мозга... Электрическое
раздражение не может выбрать объект для нападе
ния или направить к определенной цели последова
тельную систему агрессивных действий» *.
Теоретические выводы и экспериментальные ис
следования Дельгадо и его последователей стали на
Западе объектом идеологических и политических
спекуляций. Эксперименты по раздражению глубин
ных структур мозга путем вживления в него элект
родов и создания систем телеметрической стимуля
ции, позволяющих управлять реакциями человека, а
также применение разнообразных методов химиче
ского воздействия на психические функции и созна
ние людей вызвали интерес определенных полити
ческих кругов. Возникли различного рода идеи о воз
можности применения указанных методов нейрофи
зиологии и психофармакологии в политических и во
енных целях.
Эти идеи нашли широкое отражение в научно-
фантастической литературе на Западе, где описыва
ются люди с вживленными в мозг электродами и
действующие по приказам, посылаемым им с по
мощью радиоволн различного рода диктаторами и
узурпаторами.
Не следует, однако, думать, что дело ограничива
ется только областью научной фантастики. Возмож
ность манипуляции сознанием и психикой людей,
привития массам определенных стереотипов соци
ального мышления и поведения указанными выше
методами, по мнению некоторых буржуазных уче
ных, близка к осуществлению. Решить эту проблему
призвана новая дисциплина, названная одним из ее
создателей и проповедников, американским психо
логом Б. Ф. Скиннером, «технологией социального
поведения». В ее арсенал входят средства психофар
макологии и нейрофизиологии, психохирургии и нев
ропатологии, электроники и кибернетики. Именно
1 X. Дельгадо. Мозг и сознание, стр. 135.
145
с их помощью, как полагают, станет вскоре возмож
ным устанавливать «жесткий» контроль над «неже
лательным» поведением индивидов и целых групп,
т. е. над всеми инакомыслящими и оппозиционными
элементами. «Используя побочные результаты меди
цинских, военных, аэрокосмических и промышлен
ных исследований,— заявил член американского кон
гресса Джеймс Шейер,— мы сейчас разрабатываем
такие способы и создаем такие средства, которые да
дут нам возможность легко и просто контролировать
не только индивидов, но даже целые толпы бунта
рей. Мы сможем приводить в спокойствие, останав
ливать, парализовывать... или просто застращивать
до потери всякого соображения всех и каждого...» 1
При помощи влияния на социальное поведение
некоторые реакционные политические деятели пла
нируют истребить в людях способность критически
думать и рассуждать, подавлять в них здоровые эмо
ции, превратив человека в бездумного и послушного
робота.
Очевидно, что не об устранении проявлений наси
лия в общественной жизни пекутся в данном случае
буржуазные идеологи и политики, а о выработке но
вых форм и средств физического и духовного подав
ления людей, протестующих против несправедливо
стей и пороков капитализма. «Когда психиатрия при
меняется в юридической и социальной областях,—
заявил американский психиатр Томас Шаш,— она на
самом деле служит в большинстве случаев средст
вом подавления» 2. Учитывая это, сам Дельгадо и не
которые из его последователей сочли своим долгом
указать на серьезный риск и реальную опасность
(как с медико-генетической, так и с общественно-по
литической точек зрения) любых искусственных ма
нипуляций с человеческим мозгом, неконтролируе
мого применения психотропных средств воздействия
на сознание и психику людей вне рамок науки.
«Опасность уничтожения человеческой индивиду
альности в результате медицинского вмешательства
1 Цит. по: L. Tackwood. The Grass House Tapes. N. Y., 1973,
p. 223.
2 Цит. по: M. Burton. Atkins and Henry R. Glick. N. Y., 1972.
p. 156.
146
или, что еще хуже, возможность целенаправленного
управления личностью многие считают более уж ас
ной угрозой, чем всемирная ядерная катастрофа...
Возможность какого бы то ни было управления со
знанием с помощью физических методов вызывает
возражения как с моральной, так и с этической и
философской точек зрения, потому что это затраги
вает такие вопросы, как свобода воли, чувство ответ
ственности, механизмы самозащиты, а также угро
жает сохранению индивидуальности» К
Одно дело, когда медики и биологи воздействуют
с помощью физических и химических средств на па
тологический строй и извращенное сознание с целью
лечения людей с больной психикой, стремятся таким
путем изменить или предотвратить антиобществен
ные поведенческие реакции этих людей, а также про
водят научные исследования и эксперименты в дан
ной области. Практика лечения больных методами и
средствами психотерапии, фармакологии, хирургии
успешно проводится в настоящее время в клиниках
и лабораториях всего мира. И совершенно другое
дело, когда кто-либо пытается обосновать и доказать
правомерность и полезность использования указан
ных средств и методов для целенаправленного воз
действия на сознание и психику нормальных людей,
на их эмоции и поведенческие реакции. Осуществле
ние таких манипуляций над нормальными людьми,
причем в массовых масштабах и без учета мнения и
желания самих объектов этих манипуляций, если бы
оно когда-либо произошло, было бы, несомненно, са
мым изощренным преступлением против прав и ин
тересов личности, гуманизма и свободы в истории
человечества.
1 X. Дельгадо. Мозг и сознание, стр. 213—214.
ГлаваIV
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ДЕТЕРМИНИЗМ» — НОВАЯ ФОРМА
АПОЛОГЕТИКИ МИЛИТАРИЗМА
1. Противоречия
научно-технической революции
при капитализме и их отражение
в буржуазном сознании
Научно-технический прогресс все шире
и глубже вторгается во все сферы современной об
щественной жизни, накладывает на нее свой неиз
гладимый отпечаток. Являясь исторически необхо
димым и закономерным элементом поступательного
и неодолимого процесса общественной эволюции че
ловечества, он, в свою очередь, создает реальные ма
териальные предпосылки для дальнейшего подъема
производительных сил, социального и нравственного
прогресса общества, для всестороннего и гармонич
ного совершенствования человеческой личности.
В то же время научно-техническая революция
ставит перед человечеством целый ряд проблем со
циально-политического характера, порождает объ
ективные противоречия и трудности, сопровождается
определенного рода издержками, связанными прежде
всего с антигуманистической, милитаристской на
правленностью научно-технического прогресса в ус
ловиях капиталистического общества.
Монополистическая буржуазия стремится исполь
зовать достижения науки и техники в своих классо
вых целях, для сохранения и укрепления внутрен
них и внешних позиций империализма. Однако в ус
ловиях противоборства социалистической и капита
листической общественных систем все эти попытки
лишь отчетливее вскрывают антигуманную сущность
капитализма, его принципиальную неспособность
разрешить современные общественные проблемы,
как экономические, так и социальные. Вопреки ут
верждениям буржуазных идеологов, научно-техни
ческая революция не только не устраняет присущих
148
монополистическому капитализму социальных анта
гонизмов, не смягчает классовых противоречий, но,
напротив, ведет к их дальнейшему обострению, по
рождает новые социальные конфликты внутри ка
питалистических стран и на международной арене.
Иначе и быть не может, ибо классовая природа, экс
плуататорская сущность буржуазных общественных
отношений остаются неизменными. Вся современная
действительность подтверждает правильность выво
да, сделанного международным Совещанием комму
нистических и рабочих партий 1969 г. о том, что по
пытка приспособиться к требованиям научно-техни
ческой революции в условиях господства монополий
«ведет к воспроизводству социальных антагонизмов
в еще больших масштабах и с еще большей остро
той» 1.
Одним из новых противоречий, характерных для
современного этапа развития монополистического ка
питализма, является противоречие между широкими
возможностями, открываемыми научно-технической
революцией для прогресса во всех областях жизни
общества, и препятствиями, которые выдвигает ка
питализм на пути использования этих возможностей
в интересах всего общества, подчиняя многие дости
жения науки и техники военным целям.
Социальные процессы и тенденции, обусловлен
ные противоречивым характером научно-техниче -
ского прогресса в условиях современного капита
лизма, находят своеобразное толкование в различ
ных буржуазных «технократических» концепциях. В
большинстве из них отчетливо выражено стремление
буржуазных идеологов снять с капиталистического
строя ответственность за антигуманное использова
ние многих достижений науки и техники, перело
жить вину за социальные противоречия и конфлик
ты, порождаемые империализмом, на научно-техни
ческую революцию. Интересно, что в этом стремле
нии объединились буржуазные идеологи как из
числа открытых апологетов капитализма, так и его
социальных «критиков».
1
«Международное Совещание коммунистических и ра
бочих партий. Москва, 1969». Прага, 1969, стр. 18.
149
Поскольку наука в условиях капитализма не
только не стала источником всеобщего благосостоя
ния и социального прогресса, но, напротив, породила
многие серьезные проблемы и новые противоречия,
в буржуазной социальной мысли возникла тенденция
обвинения науки и техники в антигуманизме и ирра
ционализме. Именно развитие науки и техники объ
является повинным в отчуждении личности и дегра
дации западной культуры, в росте безработицы и
преступности, бюрократизации государственного и
управленческого аппарата, в разрушении природной
среды. Но самое главное обвинение, предъявляемое
сегодня на Западе научно-техническому прогрессу,
заключается в том, что, способствовав созданию ору
жия невиданной разрушительной силы и массового
уничтожения, он тем самым «автоматически» поста
вил человечество на грань катастрофы, создал угро
зу уничтожения жизни на Земле.
Идеологи многих буржуазно-радикальных движе
ний в США и ряде стран Западной Европы видят в
науке и технике скорее новое эффективное орудие
репрессий в руках господствующих классов, нежели
средство улучшения и гуманизации общественной
жизни.
Таким образом, главный источник периодически
развязываемых войн, гонки вооружений, милитариз
ма, международной напряженности и конфронтации
сил на мировой арене даже критически настроенные
буржуазные идеологи склонны усматривать исклю
чительно в отрицательном влиянии научно-техниче -
ской революции на идеологию и политику, на нравст
венные устои общества. Взваливая ответственность
за все проявления насилия и агрессивные акты в об
щественной жизни на прогресс науки и техники, они
формулируют на этой основе еще одну новейшую
доктрину насилия — так называемую концепцию
«технологического детерминизма».
По аналогии с понятием «территориальный им пе
ратив» американский экономист Дж. Гэлбрейт вы
двинул новое понятие — «технологический импера
тив», смысл которого сводится к тому, что вместо
территориального фактора как источника агрессив
ной поведенческой реакции человека выступает тех-
150
нико-производственный фактор, научно-технический
прогресс в целом *.
Буржуазные теоретики пытаются установить не
посредственную связь между ростом проявлений на
силия как «сверху», со стороны «конституционной
власти», так и «снизу», со стороны индивидов и опре
деленных социальных групп, и современной научно-
технической революцией.
Канадский социолог М. Маклюэн, приписывая
влиянию научно-технического прогресса возникнове
ние всех современных движений протеста и прояв
лений агрессивного поведения людей, пишет: «На
силие есть не что иное, как вынужденная обстоя
тельствами защитная реакция индивида по сохра
нению своей индивидуальности и возможностей ее
выражения в соответствующей форме. Каждая но
вая революция в технике так или иначе противостоит
этому естественному стремлению человека, затруд
няет и ограничивает свободу выражения им своей
индивидуальности, порождает протест и борьбу» 2.
Переход больших масс людей от деревенской
жизни к городской, связанный с процессом широкой
индустриализации современного общества, утверж
дает 3. Бжезинский, создает общую социальную не
устойчивость, стремление к тотальному, революци
онному разрешению всех жизненных проблем, их
идеологизацию, тенденцию непримиримости в отно
шениях между различными общественными группа
ми и обострение борьбы между ними3.
Особенностями научно-технической революции,
определенными ее чертами пытаются объяснить не
только «внутреннее», но и «внешнее» насилие, раз
личного рода конфликты и общую напряженность на
международной арене. «Взрыв» насилия в современ
ном мире, заявляет Р. Арон, служит «дорогой ценой»,
которую приходится платить человечеству за про
гресс цивилизации. Суть имманентных законов «ин
1 См. Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М.,
1969.
2 McLuhan. W ar and Peace in the Global Village. N. Y., 1968,
p. 95.
3 Z. Brzezinski. Between two Ages. America’s Role in the
Technotronic Era. N. Y., 1970, p. 182.
151
дустриального общества» состоит, по его мнению, в
том, что социальные конфликты практически никог
да не могут быть устранены, ибо они — неизбежное
следствие самого экономического развития общества.
Указывая на то, что международным отношениям
был извечно присущ олигархический и иерархиче
ский характер, поскольку право всегда зависело от
силы, Р. Арон утверждает, что в условиях современ
ной научно-технической революции этот порядок не
только не преодолен, но, наоборот, многократно уси
ливается и обостряется. «Трагедия современного че
ловечества состоит в том, что главные ценности ци
вилизации — свобода, равенство, суверенитет — под
чинены тотальной цели нашего века — « удовлетво
рению амбиции Прометея», т. е. стремлению любой
ценой полностью подчинить себе силы природы. Ради
достижения этой цели приносятся в жертву идеалы
и интересы человечества, сама судьба человеческого
рода» {.
В западной, в особенности в американской, фило
софской и социологической литературе по-разному
обосновывается точка зрения, что научно-техниче
ская революция, прежде всего в области военных
средств массового уничтожения, а также в области
массовой коммуникации, оказывает пагубное, раз
вращающее влияние на сознание и нравственные
принципы современного человека, снижает в силу
ряда объективных причин его моральную устойчи
вость и ответственность за непосредственно совер
шаемые им насильственные действия, ведет к атро
фии таких естественных чувств, как жалость, состра
дание, переживание за причинение другим людям
горя, смерти или ущерба.
В условиях современной войны, доказывают не
которые буржуазные социологи и психологи, проис
ходит процесс обезличивания насильственного акта,
уже хотя бы по той причине, что объект насилия,
как правило, находится очень далеко от субъекта.
Современные средства насилия приводятся в дейст
вие простым нажатием кнопки или отдачей приказа,
1 R. Aron. Progress and Disillusion. The Dialectics of Modern
Society. N. Y., 1968, p. 216.
152
заставляющего действовать безликую военную ма
шину. В силу этого люди, участвующие в современ
ной войне, утрачивают якобы реальную связь с со
вершаемым насилием и теми, против кого оно на
правлено. Они не принимают непосредственного фи
зического участия в насильственных действиях, как
это было в прошлом, не видят ни страданий, ни кро
ви, ни даже жертв насилия. Само насилие в этих об
стоятельствах превращается как бы в «условное
убийство», в некую безличную абстракцию. Именно
это, как считают сторонники указанной точки зре
ния, и приводит к инфляции в сознании и восприя
тии людьми насилия, в нравственных представле
ниях о совершаемых ими насильственных действиях.
«Одна из специфических особенностей ракетно-ядер
ной войны будет, очевидно, заключаться в том,—
пишут американские социологи Н. Зинберг и Г. Ф ел-
лман,— что она будет означать отсутствие наличия
какой-либо идентификации решений и действий с
конкретными личностями, ответственными за их
принятие и исполнение. Убийства и разрушения, со
вершаемые в столь массовых масштабах и на гло
бальные расстояния путем нажатия кнопок, невоз
можно будет охватить и конкретизировать в персо
нальном аспекте» *.
Подчеркивая ту определяющую роль, которую со
временная техника, новейшие виды вооружения иг
рают якобы в агрессивном поведении цивилизован
ного человека, сторонники данной концепции заяв
ляют, что многие люди наверняка были бы не в
состоянии убить другого человека, если бы он нахо
дился к ним в непосредственной физической близо
сти, лицом к лицу. В этом случае, по их мнению,
автоматически срабатывал бы тот «психологический
барьер», который определяет естественные для чело
века чувства отвращения и страха перед убийством
себе подобных. В тех ж е случаях, когда смерть или
разрушения причиняются при помощи современного
оружия и тем более новейших средств массового
уничтожения, когда у субъекта насилия нет непо-
1 N. Zinberg and G. Fellman. Violence: Biological Need and
Social Control. Baltimore, 1970, p. 229.
11
В. В. Денисов
153
средственного контакта со своей жертвой, действие
соответствующих сдерживающих механизмов в че
ловеческой психике резко ослабевает и он способен
на любое насилие.
Во время войны во Вьетнаме американскими уче
ными— социологами, психологами, психиатрами бы
ли проведены специальные исследования в ВВС
США с целью выяснения путем различного рода оп
росов и тестов нравственного состояния американ
ских летчиков, участвующих в бомбежках городов
и сел Индокитая, их моральных переживаний по это
му поводу. В результате этих исследований выдви
нут специальный термин — «моральная непроницае
мость» или «нравственное онемение». Этим термином
обозначалось отсутствие у человека каких-либо
чувств сострадания к чужому горю и смерти, исчез
новение у него всяких моральных переживаний и
угрызений совести за те страдания и несчастья, ко
торые являются в той или иной степени результатом
его действий.
«Американские пилоты,— писал по этому поводу
американский психиатр Роберт Лифтон,— не обла
дают достаточной фантазией и моральным видением,
чтобы полностью осознать, что именно они делают
во время боевых вылетов. Они не видят фактически
ни Земли, ни тем более людей, ни вообще самих объ
ектов, которые подвергаются ими бомбардировке. По
этому, сбрасывая бомбы, они не могут не оставаться
равнодушными механиками массовой смерти... Лет
чики чувствуют себя всего лишь составным элемен
том специализированной системы доставки. Они
сравнивают себя с водителями автофургонов, достав
ляющих грузы на дальние расстояния. Война для
них полностью обезличена»
Военные преступники превращаются тем самым
в слепых исполнителей чужой анонимной воли, в
простое техническое орудие выполнения приказа
сверху. Они как бы непосредственно сами никого не
убивают, а лишь управляют новейшей техникой
смерти и разрушения. Винить кого-либо конкретно в
данном случае, по мнению буржуазных ученых,
1Цит. по: «Литературная газета», 17 января 1973 г., стр. 9.
154
нельзя, ибо люди здесь выступают лишь как неволь
ная жертва и слепое орудие все тех же могуществен
ных и неуправляемых технических сил. На то, что
такого рода проявления насилия и их исполнители
служат при этом целям определенной общественной
группы, а именно целям реакционных империали
стических кругов, в исследованиях многих буржуаз
ных теоретиков нет, конечно, и намека. Виновниками
оказываются военная техника и научный прогресс,
в них усматривается главный корень всех зол и бед
современного человечества.
Нельзя не видеть, что и в данном варианте фети
шизация техники служит идеологическому обоснова
нию беспрекословного повиновения масс воле правя
щих кругов империализма, психологической подго
товке людей к бездумному выполнению приказов.
Связывая проблему социального насилия с науч
но-технической революцией и развитием современ
ных производительных сил, буржуазные теоретики
при этом полностью отвлекаются от тех обществен
но-производственных отношений, которые господст
вуют при капитализме, даже не пытаются устано
вить какие-либо связи между этими отношениями и
различными проявлениями насилия в общественной
жизни.
Работы многих буржуазны х теоретиков пестрят
сейчас заявлениями о «демоническом» характере со
временного научно-технического прогресса, о «тех
нологической диктатуре» над людьми, о противо
положности интересов личности и научно-техниче -
ского прогресса, который якобы сам по себе ведет к
формированию в массовом сознании психологии по
требительства и аморализма. Распространение ма
териальных благ, основанное на достижениях и успе
хах «научно-технического покорения природы людь
ми, неизбежно способствует господству людей над
людьми...— пишет Г. Маркузе.— Не только приме
нение техники, но и сама техника есть выражение
господства над природой и человеком, методическое,
научное и всеобъемлющее господство». По мнению
Маркузе, утверждение принципа научно-техниче -
ской рациональности в современном обществе авто
матически создает основу для образования тотали
153
тарного, «одномерного» общества, ведет к «диктатуре
воспитания» просвещенных роботов *.
Фетишизируя роль техники, буржуазные теоре
тики заявляют, что с развитием цивилизации из ин
струмента в руках общества она превратилась в не
зависимую и стоящую над обществом, конституи
рующую его силу. Техника рассматривается не ина
че как символ всех злоключений человечества: люди
неизбежно превращаются в ее придаток, терроризи
руются и подавляются неподвластными им слепыми
силами технизированной культуры и служащей ей
всемогущей бюрократической машиной. В условиях
«технической цивилизации», заявляет Г. Маркузе,
осуществляется «тотальное» господство социальной
системы над людьми, человек здесь может высту
пать лишь как объект, а не субъект социальных про
цессов, ибо он полностью подчинен «тотальному»
господству и манипулированию со стороны некой
персонифицированной и анонимной власти «органи
зованного общества» 2.
Оппозиционные настроения Г. Маркузе и подоб
ных ему «критиков» «технической цивилизации» по
отношению к современному капиталистическому об
ществу не выходят, однако, за рамки буржуазного
сознания. Эти теоретики не видят реальных путей
изменения существующего положения и реальных
сил, способных совершить такие изменения. Не слу
чайно поэтому их «критицизм» проникнут глубоким
пессимизмом относительно перспектив развития че
ловеческого общества, который в определенных слу
чаях доходит до прямого апокалиптического утверж
дения о неизбежном грядущем конце света.
Страхом перед будущим, перед неизбежностью
гибели всего человечества, которую якобы несет с
собой научно-технический прогресс, проникнута кни
га американского писателя и социолога Олвина Тоф-
флера «Столкновение с будущим». Описав все по
тенциальные «ужасы завтрашнего дня науки и тех
ники», автор изобразил апокалиптическую картину
последствий научно-технического развития и его со
1 //. Marcuse. O ne-Dimensional Man. Studies in the Ideology
of Advanced Industrial Society. Boston, 1964, p. 174.
2 Ibid., p. 250.
156
циальных аспектов, приписав противоречия капита
лизма в научной и технической областях всему чело
вечеству в целом. Поскольку люди не способны, по
мнению О. Тоффлера, приспособиться к быстрым
темпам «супериндустриальной» революции, техника
выживает человека, довлеет над ним, вызывает
внутренний психический и нравственный надлом
личности. Симптомы этого надлома — враждебность
и агрессивность, вспышки насилия и социальных
конфликтов в обществе *.
Обострение социальных противоречий и распрост
ранение насилия в современном мире О. Тоффлер во
все не связывает с социальной природой монополи
стического капитализма, а рассматривает их как не
избежное следствие общего криьиса «индустриальной
цивилизации» в целом.
Следствием подобной фетишизации и абсолюти
зации техники является все более широкое распро
странение на Западе антиинтеллектуалистских на
строений. В ряде капиталистических стран даже ор
ганизационно оформилось движение под лозунгом
«научно-технический прогресс — главная угроза че
ловечеству». Участники этого движения, увлекшего
в свои ряды немалое число либерально настроенных
буржуазных ученых и представителей демократиче
ской общественности, ратуют за искусственное при
тормаживание развития некоторых областей науки и
техники, видя в этом единственно возможное сред
ство для решения наиболее острых противоречий и
проблем современной общественной жизни.
«С одной стороны, нельзя не признать, что от
технологического прогресса сегодня зависит во мно
гом судьба социально-экономического развития чело
вечества, с другой, очевидно, что технологический
прогресс служит все большему возрастанию мощи и
разрушительной силы средств вооружения, увеличи
вает военную угрозу» 2,— пишет американский физик
С. Сильвер.
В буржуазном сознании укоренилось мнение, что
научно-технический прогресс не оправдал тех на
1 A. Toffler. The Future Shock. N. У., 1970.
2 S. Silver. Science and Society. «Science Journal», vol. 5-A,
19G9, N 4, p. 39.
157
дежд, которые на него возлагались, что техника из
слуги общества превращается в «демоническую си
лу», навязывающую человечеству ненормальный об
раз жизни, противоречащие человеческой природе
сознание и мораль.
В 1971 г. в СТТТА состоялся импровизированный
судебный процесс под девизом «Люди против тех
ники». Суд присяжных в составе ряда видных аме
риканских ученых и общественных деятелей, за
слушав «показания» специалистов различных отрас
лей науки и техники, вынес приговор: «Техника
виновна, она угрожает будущему человечества».
Во многих случаях буржуазная пропагандистская
машина сознательно заостряет внимание на негатив
ных аспектах научно-технической революции, под
черкивает не общественную полезность научно-тех
нического прогресса, а социальную опасность, кото
рую он якобы априори представляет для человече
ства, на разные лады муссирует тезис об антиобщест
венном характере новейших достижений науки и
техники, отвлекая внимание прогрессивной общест
венности от подлинных причин противоречивости
научно-технического прогресса при капитализме. Во
всех негативных последствиях применения научных
открытий виновными объявляются наука и техника
как таковые, а часто заодно и научно-исследова
тельская деятельность ученых, которая выдается за
антигуманное занятие.
Идея обвинения науки и техники во всех бедах и
катаклизмах, переживаемых человечеством, не от
личается оригинальностью и новизной. Подобного
рода обвинения были выдвинуты еще в начале на
шего века такими буржуазными мыслителями-идеа-
листами, как О. Шпенглер, Н. А. Бердяев, X. Ортега-
и-Гассет, выступавшими против «технизированного»,
«урбанизированного», «омассовленного» образа жиз
ни и призывавшими человечество возвратиться к
«интимной близости» с землей, природой, к индиви
дуализированному труду ремесленника. «Машина —
дело рук дьявола» \ — заявлял О. Шпенглер, отстаи
вая свою позицию антитехницизма.
1 О. Шпенглер. Деньги и машины. М.—Пг., 1922, стр. 66.
158
Перенесенная на современную, весьма благодат
ную и во многих отношениях подготовленную для
нее всей капиталистической действительностью со
циально-политическую почву, эта идея нашла сего
дня свое отражение в многочисленных буржуазных
мифах, о «всевластии» техники, наступлении «века
технократической диктатуры» и т. п. «Все страхи и
опасения современного человека самым непосредст
венным образом связаны с наукой и техникой,— пи
шет английский социолог Е. Лутэнс,— с их стреми
тельным развитием и фантастическими достижения
ми, так же как некогда этот страх и чувство опас
ности были связаны с религией, которая столь кра
сочно и убедительно описывала ужасы ада» \
Современная научно-техническая революция, за
являют буржуазные идеологи, подобно выпущен
ному из бутыли джинну, выходит из подчинения
обществу и все в большей степени превращается во
враждебную для человека силу. «Непосредственным
следствием современной научно-технической рево
люции является то, что производственный процесс
все в большей степени подчиняет себе человека,—
пишет Т. Адорно. — В индустриально развитом обще
стве социально-экономический гнет над человеческой
личностью стал анонимным. Человек целиком лиша
ется свободы, попадает в зависимость от технологи
ческих систем, выходящих за пределы сознания тех,
кто их обслуживает. Незрелость масс — лишь отра
жение того, что они теперь меньше всего являются
хозяевами своей судьбы, которая противостоит им
в лице вышедших из подчинения и ставших над
ними производительных сил...» 2
Подобные взгляды прежде всего продукт гипер
трофированного отражения в буржуазном сознании
возрастающей роли научно-технического прогресса
в общественной жизни, результат непонимания, что
его негативные последствия в условиях капитализма
социально обусловлены. В то же время объективно,
независимо от желания и воли сторонников и пропа
1 Е. Lutyens. Alter the revolution and the bomb. «20th
Century», vol. 173. London, 1905, p. 98.
2 T. Adorno. Spatkapitalismus oder Industriegesellschaft.
Stuttgart, 1969, S. 168.
159
гандистов концепции «технологического детерминиз
ма», содержащиеся в ней идеи оборачиваются аполо
гетикой капиталистического строя, уводят массы от
истинных причин социальных антагонизмов и кон
фликтов в современном мире, сеют в общественном
сознании различного рода утопические и пацифист
ские иллюзии, предлагают ложную ориентацию в по
исках путей обеспечения мира и безопасности наро
дов. Вместо анализа действительных социальных
противоречий и пороков, заключенных в самой при
роде монополистического капитализма, они концен
трируют внимание исключительно на негативных
факторах научно-технической революции, доказы
вают, что выход из противоречий и трудностей ее
развития следует искать не в революционном преоб
разовании общества, а лишь в проведении некоторых
реформ и улучшений в рамках существующей обще
ственной системы.
Корень ошибок проповедников подобного рода
взглядов заключается в том, что они отождествляют
противоречия научного и культурного прогресса в
условиях монополистического капитализма с наукой
и культурой как таковыми, механически переносят
свой протест против интеллекта, поставленного на
службу капиталистическому господству, на разум во
обще. Естественный бунт отчужденной личности про
тив порабощения, эксплуатации, войны и других про
явлений антагонистического социального бытия при
нимает в их доктринах форму отрицания разума как
такового, прогресса науки и культуры, превращается
в антиинтеллектуализм.
Методологической и общетеоретической основой
концепции «технологического детерминизма» слу
жит, таким образом, идеалистическая абсолютизация
роли техники в процессе общественного развития, ис
кусственное и неправомерное отделение техники от
господствующих общественных отношений, попытка
толковать процесс развития науки и техники вне со
циально-экономического контекста, что ведет к зату
шевыванию истинных социальных причин негатив
ных последствий научно-технического прогресса при
капитализме, к отрицанию тесной взаимосвязи на
учно-технической революции с социально-револю
160
ционными процессами в современном мире, обрат
ного их воздействия на научно-технический про
гресс.
Техника есть неотъемлемый элемент производи
тельных сил, и, как таковая, она — продукт опреде
ленных общественных отношений и подвержена в
полной мере соответствующему воздействию с их
стороны.
Отмечая, что антагонизм между производитель
ными силами и производственными отношениями в
буржуазном обществе «есть осязаемый, неизбежный
и неоспоримый факт», К. Маркс указывал, что имен
но этот главный антагонизм и является источником
и первопричиной противоречивого и антигуманного
характера научно-технического прогресса при капи
тализме, всех его социальных коллизий, что устра
нить их можно только путем революционной пере
стройки старого общества на социалистических на
чалах. «Одни партии сетуют на это; другие хотят
избавиться от современной техники, чтобы тем самым
избавиться от современных конфликтов; третьи во
ображают, что столь значительный прогресс в про
мышленности непременно должен дополняться столь
же значительным регрессом в политике. Мы, со сво
ей стороны, не заблуждаемся относительно природы
того хитроумного духа, который постоянно проявля
ется во всех этих противоречиях. Мы знаем, что но
вые силы общества, для того чтобы действовать над
лежащим образом, нуждаются лишь в одном: ими
должны овладеть новые люди, и эти новые люди —
рабочие» !.
Научно-техническая революция, не будучи опло
дотворена и дополнена революцией социальной, не
избежно приходит в противоречие с реальными нуж
дами общества и устремлениями человека, с потреб
ностями исторического прогресса, с нормами чело
веческой морали и нравственности. В результате все
более явственным и очевидным становится антигу
манный характер однобокого процесса технизации в
условиях капитализма, чрезвычайная опасность по
рождаемых этим процессом антисоциальных тенден
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 4.
161
ций. На противоречивый характер научно-техниче
ского прогресса при капитализме К. Маркс указывал
еще в 1856 г.: «В наше время все как бы чревато сво
ей противоположностью. Мы видим, что машины ,
обладающие чудесной силой сокращать и делать пло
дотворнее человеческий труд, приносят людям голод
и изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источ
ники богатства благодаря каким-то странным, непо
нятным чарам превращаются в источники нищеты.
Победы техники как бы куплены ценой моральной
деградации» К Маркс отмечал, что, хотя буржуазией
были «пробуждены к жизни такие промышленные и
научные силы, о каких и не подозревали ни в одну из
предшествовавших эпох истории человечества», з
капиталистическом обществе все более отчетливо
«видны признаки упадка, далеко превосходящего все
известные в истории...» 2.
Марксов теоретический анализ противоречий, ко
торые порождает научно-технический прогресс в ус
ловиях капитализма, сохраняет свою актуальность
в современную эпоху.
2. «Технологическая реконструкция»
вместо социальной революции
За последние годы на Западе вышло не
мало философско-социологических работ, авторы ко
торы х (Р. Арон, М. М аклюэн, Д. Нойман, П. Гудмен,
JI. Мэмфорд, Р. Т. Флюэллинг, Ж. Эллюль, Э. Фромм,
М. Шумпетер, Е. Хофер и др.) пытаются осмыслить
кризисное состояние буржуазного общества в усло
виях научно-технической революции. При всем раз
нообразии и противоречивости содержащихся в этих
работах прогнозов и оценок относительно перспектив
будущего человечества условно в них можно было бы
выделить два направления: «исторического пессимиз
ма» и «исторического оптимизма».
Представители первого направления дают отрица
тельный ответ на поставленный ими самими вопрос:
«Может ли человечество выжить при современном
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 4.
2 Там же, стр. 3.
162
уровне развития науки и техники, достижимо ли ис
ключение войны и других проявлений насилия из
политической практики?» В качестве основного аргу
мента своей негативной позиции в этом вопросе они
ссылаются на тот факт, что научно-технический про
гресс носит сейчас глобальный характер, он давно пе
рерос собственные рамки и стал как бы самостоя
тельной и неуправляемой силой, представляющей
угрозу всему человечеству из-за отсутствия какого-
либо централизованного контроля и координации его
развития в мировом масштабе. «Поскольку совре
менная научно-техническая революция,— пиш ет ам е
риканский социолог Д. Нойман,— оказывает влияние
как на природные условия, так и на политическую
структуру мира, настоятельно необходимыми явля
ются объективные и целенаправленные усилия всего
человечества для использования ее результатов
только в мирных и гуманных целях. Однако в силу
существующего раскола мира на противоположные
и враждебные друг другу группировки такие усилия
оказываются невозможными и бесполезными. Чело
вечество стоит на краю пропасти и рано или поздно
обречено на тотальное уничтожение» 1.
Не менее мрачную, полную пессимистических
прогнозов картину нарисовал и американский социо
лог Люис Мэмфорд в двухтомном труде под общим
названием «Миф машины» (первый том— «Техни
ка и человеческое развитие», второй— «Пентагон
силы»). Сетуя по поводу судьбы современного чело
вечества, вынужденного жить в «атмосфере ожида
ния тотальной катастрофы» и «отталкивающего кош
мара» научно-технической революции, Л. Мэмфорд
заявляет, что в сегодняшнем мире господствует
«мега-машина», олицетворяющая научно-техниче
ский прогресс и представляющая главную опасность
для общества. Война— это «тело и душа мега-маши -
ны». Абсолютизируя милитаристскую направлен
ность процесса исторического развития науки и тех
ники в целом, Л. Мэмфорд следующим образом изоб
ражает прошлое и будущее человечества: «Колос
сальный и концентрированный рост антигуманной
1 «Fortune Magazine». N. Y., 1055, June, p. 286.
163
культуры насилия неуклонно осквернял страницы
истории начиная со времен уничтожения древнего
Шумера и до разрушения Варшавы и Хиросимы в
наши дни. В этой связи возникает вопрос: является
ли процесс гигантского развития сил интеллекта и
производства, с одной стороны, и одновременный
рост масштабов и возможностей проявления насилия
и разрушения, с другой стороны, случайным явле
нием... Очевидно, дело обстоит таким образом, что
преимущества быстрого прогресса в развитии науч
ных знаний и технического производства как в прош
лом, так и в наше время сводятся на нет благодаря
сопровождающему это явление процессу умышлен
ного опустошения, стихийного экстремизма и пара
ноической враждебности людей» *.
Исходное настроение, которым проникнуто боль
шинство работ западных теоретиков этого направле
ния, — это абстрактно-гуманистическое беспокойство,
страх перед настоящим и апокалиптические прогно
зы будущего человечества.
Представители второго, «оптимистического» н а
правления, придерживающиеся более радужных
взглядов на историческую перспективу, признают
принципиальную возможность положительного раз
решения связанных с современным развитием на
уки и техники острых социально-политических проб
лем, выражают надежду на то, что разум и естествен
ное стремление людей к взаимному сотрудничеству
возьмут верх над теми иррациональными и опасны
ми центробежными тенденциями, которые ведут к
подрыву самих условий существования человечества.
Однако эта задача представляется им не столько ре-
ально-практической, сколько весьма далеким и аб
страктно-теоретическим идеалом будущего.
При этом достижение этого идеала они мыслят не
путем коренных социальных преобразований буржу
азного общества, а сглаживанием или даже устране
нием наиболее острых противоречий «технократиче
ского» образа жизни посредством «гуманизации»
самой техники, усовершенствованием системы техни-
1 L. Mumford. The Myth of the Machine. Technics and Human
Developm ent. N. Y., 1967, p. 13.
164
ко-экономического планирования и управления про
изводственны ми процессами, путем «приспособле
ния» системы капитализма к потребностям человече
ской природы, а такж е «рационализации» последней
через развитие способностей человека к адаптации
и контролю за быстрыми темпами изменений, проис
ходящих в современной общественной жизни.
Идея «внутренней гуманизации» научно-техни
ческого прогресса на основе установления «демокра
тического планирования», усовершенствования мето
дов «экономического управления» утопична и исто
рически бесперспективна. Подобного рода л ибер ал ь
но-реформистские «рецепты» усовершенствования
капитализма не выходят за рамки его системы, пред
ставляют собой еще одну тщетную попытку сгладить
противоречия без устранения тех коренных причин,
которые носят не технологический, а социально-клас
совый характер.
Фиксируя действительные антагонизмы и реакци
онные тенденции в развитии современного капита
лизма, в частности углубляющуюся милитаризацию
общественной жизни, различного рода иррационали-
стически-пессимистическая критика в адрес науки
и техники со стороны некоторых представителей за
падной научной общественности не учитывает того
обстоятельства, что в действительности материализо
ванные результаты научно-технического прогресса
сами по себе нейтральны. Они приобретают либо со
зидательную, либо разрушительную силу лишь в за
висимости от того, как и кто конкретно их исполь
зует, ставятся ли они на службу интересам всего об
щества, целям мира и прогресса или же, наоборот,
сл уж ат узкоэгоистическим интересам реакционного
господствующего меньшинства, направляются на
разрушительные цели, на выколачивание сверхпри
былей, эксплуатацию и угнетение народных масс.
Нельзя не согласиться поэтому с английским эконо
мистом Дж. Шмуклером, который пишет: «Развитие
техники не есть абстрактный процесс, в нем концен
трируются и отражаются интересы и воля тех, кто
обладает политической властью в обществе» К
1
/. Schmookler. Invention and Economic Growth. Cambridge,
1966, p. 68.
165
Современный антитехницизм в буржуазной соци
альной мысли — это не просто очередная «технофо
бия», а, по сути дела, своеобразное выражение крити
ческого отношения к технократически ориентирован
ному мышлению, получившему столь широкое рас
пространение на Западе. Многие буржуазные ученые
правильно отмечают негативные черты и отрица
тел ьны е свойства научно-технического прогресса в
условиях монополистического капитализма, понима
ют, к каким пагубным последствиям для человека
он может привести, когда выходит из-под контроля
общества. Они сознают реальную опасность того, что
французский социолог Ж. Фридман называет «анар
хической погруженностью современного чело века в
технологическую среду без возможностей ориентиро
ваться в ней...» К
В то же время, подвергая критике современный
капитализм, эти буржуазные теоретики осуждают его
не как в принципе несправедливый социальный поря
док, изживший себя исторически и превратившийся в
тормоз общественного развития, а как всего лишь оп
ределенный тип «технической рациональности», ко
торый, по их мнению, можно модернизировать и сде
л ать жизнеспособным.
Среди буржуазных теоретиков находятся и такие,
в концепциях которых по сравнению с рассмотрен
ными выше теориями «технологического детерминиз
ма» устанавливается как бы «обратная связь» между
научно-технической революцией и эскалацией наси
лия в западном мире. То, что в рассуждениях сторон
ников «технологического детерминизма» выступало в
качестве причины, у них становится следствием.
Именно войны, гонка вооружений, по их мнению,
обусловливают ускоренные темпы научно-техниче
ского прогресса, экономического развития общества в
целом.
Опираясь на данные ЮНЕСКО, что за 3400 лет за
писанной истории человечества было всего лишь
234 года, когда люди не вели войн2, эти теоретики
1 G. Fridmann. Problems Regarding Anomalies in Science.
«Abstracts XV World Congress of Philosophy». Varna, 1973, p. 80.
2 B. Roling. The Problems of War and Peace. N. Y., 1906,
p. 241.
166
пытаются доказать, что войны — необходимый и са
мый мощный стимул общественного прогресса, что
цивилизация вообще не способна развиваться без
войн или подготовки к ним. «Современные войны,—
утверждает английский социолог Б. Крик,— безус
ловно, являются мощными стимулирующими факто
рами глубоких изменений как в научно-технической,
так и в общественно-политической сферах жизни.
Вряд ли сейчас кто-либо будет спорить о том, что
история общества, о тделенная от истории современ
ных войн, будет весьма несовершенной и иска
женной» *.
Одним из аргументов, используемых сторонника
ми подобного рода взглядов, служит утверждение,
что именно военные потребности привели ко многим
научным открытиям и техническим достижениям и
что большинство ведущих отраслей современной
экономики зарождалось и развивалось на базе произ
водства прежде всего различных видов оружия.
Именно с последней мировой войной, стимулировав
шей быстрый рост производства и развитие научной
мысли, связывает американский ученый С. Сильвер
начало современной научно-технической революции:
«Война уже сама по себе поставила науку и технику
на одно из главных мест в общественной жизни, яви
лась важнейшим стимулом их стремительного раз
вития в грандиозных масштабах. Она в полной мере
выявила технологические ресурсы и поставила на
службу обществу все потенциальные возможности
производства, которые в обычное время никогда пол
ностью не использовались. Война дала толчок к но
вым научным открытиям, к созданию и быстрому
развитию новых отраслей науки и производства»2.
Однако тот факт, что милитаризм в условиях бур
жуазной социально-экономической системы выступа
ет в известной мере катализатором экономического и
научно-технического развития общества, свидетель
ствует лишь об извращенном характере капиталисти
ческих общественных отношений, при которых «труд
1 В. Crick. The peaceable kingdom. «20th Century», vol. 173,
London, 1965, p. 57.
2 S. Silver. Science and Society. «Scicnse Journal», vol. 5-Л .
N.Y., 1969,N4,p.42.
167
многих миллионов людей, блестящие достижения че
ловеческого разума, таланта ученых, исследователей,
инженеров направляются не на пользу человечеству,
служат не делу прогресса и преобразования жизни на
земле, а используются в варварских, реакционных
целях, для нужд войны — этого величайшего бедст
вия для народов» *.
Важнейшим условием раскрытия сущности совре
менной научно-технической революции является по
нимание принципиальной разницы между ее разви
тием в условиях капитализма и социализма.
Стремясь абсолютизировать противоречивый х а
рактер научно-технической революции, обусловлен
ный социальными антагонизмами капитализма, как
универсальный и неизменный, буржуазные идеологи
пытаю тся создать некую абстрактную модель обще
ственных отношений в условиях НТР, независимо от
той социально-политической системы, в которой она
развивается. «Это — самая характерная черта буржу
азных философов,— отмечал В. И. Ленин,— прини
мать категории буржуазного режима за вечные и ес
тественные...» 2
Трактуя современный капитализм как «техниче
скую цивилизацию» и тем самым выхолащивая ре
альное социально-политическое содержание всех его
антагонизмов и пороков, буржуазные теоретики пы
таю тся тем самым приписать их всему современному
человечеству. Стремясь поставить знак равенства в
этом отношении между капиталистической и социа
листической системами, они утверждают, что в ин
дустриально развитом обществе наблюдается «повсе
местная тенденция к социальным и моральным де
формациям, к технократической диктатуре» 3.
Очевидно, что подобного рода взгл яды есть не что
иное, как форма превращенного сознания, абсолюти
зирующего отрицательные последствия научно-тех
нического прогресса при капитализме. Независимо от
субъективных намерений проповедующих эти взгля
ды буржуазных теоретиков, объективно они служат
1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 2, стр. 371.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 1, стр. 222.
3 М. Gorden. Comparative Political Systems. Managing Con
flict. N. Y., 1972, p. 180.
168
реакционным силам, стремящимся любыми способа
ми снять с империализма ответственность за все кри
зисные последствия научно-технического прогресса,
отвлечь внимание масс от борьбы против главных ви
новников милитаризма, за полное раскрепощение че
ловечества от пут капиталистического рабства. Вме
сте с тем только такое раскрепощение поставит
достижения науки и техники на службу экономиче
скому и духовному прогрессу всего общества, цели
обеспечения мира на земле, созидательного труда и
сотрудничества всех народов. Только социалистиче
ские преобразования общественной ж изни создают
реальную основу для действительной гуманизации
научно-технического прогресса, подчинения его дос
тижений интересам и целям каждой личности и об
щества в целом.
Уже на заре Советской власти В. И. Ленин, при
зывая трудящихся организовать новое производство
и потребление на социалистических началах, гово
рил: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений
творил только дл я того, чтобы дать одним все блага
техники и культуры, а других лишить самого необхо
димого — просвещения и развития. Теперь же все чу
деса техники, все завоевания культуры станут обще
народным достоянием, и отныне никогда человече
ский ум и гений не будут обращены в средства на
силия, в средства эксплуатации» К
Марксистская философия и социология, рассмат
ривая научно-техническую революцию как законо
мерный процесс, развертывающийся в рамках опре
деленных общественных отношений и в тесном взаи
модействии с ними, показывают величайшие преиму
щества социализма перед капитализмом в этой обла
сти. Лиш енный антагонистических противоречий,
социалистический строй обеспечивает планомерное
государственное регулирование развития науки и
техники, направляет его не на разрушительные, а на
созидательные цели. Научно-технический прогресс в
условиях социализма служит повышению благосо
стояния трудящихся масс, дальнейшему развитию
культуры, формированию творческой и самодеятель
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 35, стр. 289.
12
В. В. Денисов
169
ной личности, практическому осуществлению гуман
ных идеалов и целей коммунизма. « . ..Только социа
лизм,— указывал В. И. Ленин,— освободит науку от
ее буржуазных пут, от ее порабощения капиталу, от
ее рабства перед интересами грязного капиталистиче
ского корыстолюбия. Только социализм даст возмож
ность широко распространить и настоящим образом
подчинить общественное производство и распределе
ние продуктов по научным соображениям, относи
тельно того, как сделать жизнь всех трудящихся
наиболее легкой, доставляющей им возможность бла
госостояния» *.
3. Исторический фатализм
теории «автоматического краха»
войн
К числу буржуазных концепций, по-
своему осмысляющих современную научно-техниче
скую революцию, можно отнести и теорию «автома
тического краха» войн. Ее сторонники считают, что
создание ядерного и других новых типов оружия —
«тотального средства» массового уничтожения и раз
рушения практически неограниченной силы — авто
матически поставило предел самой возможности их
использования нациями в борьбе друг против друга
и тем самым подвело черту под историей мировых
войн.
Отметим, что эта идея сама по себе не нова. Неко
торые ученые высказывали ее еще перед первой ми
ровой войной. Им тоже тогда казалось, что изобре
тение таких видов вооружения, как танки, самолеты
и т. п., ставит предел войне как способу разрешения
конфликтов между нациями и государствами. Так,
Эдисон писал в начале XX века в связи с изобрете
нием первых летательных аппаратов: «До этого вре
мени мы изощрялись в изготовлении брони, которую
бы не могли пронизывать снаряды, а после — в изго
товлении снарядов, могущих пронизывать всякую
броню. Это не может идти дальше! Наступает время,
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 36, стр. 381.
170
когда должны открыться средства для нападения, пе
ред которыми станет невозможным сопротивление...
Война кончится, потому что не окажется средств для
обороны» !.
Идея «умиротворяющей», сдерживающей роли
новейш их средств массового уничтожения широко
муссируется сейчас в трудах многих западных соци
ологов, политологов, военных теоретиков. «Наличие
термоядерных средств разрушения, направляемых
баллистическими межконтинентальными смертонос
ными устройствами, возможно , будет означать под
страхом взаимного уничтожения конец мировым вой
нам»2,— пишут французские социологи Р. Пэнто и
М. Гравитц. Чем грознее новые виды оружия и чем
больше его запасы, находящиеся в распоряжении
противоположных общественных систем, рассужда
ют они, тем менее вероятной становится возмож
ность возникновения войн в современном мире.
Гонка вооружений, накопление смертоносных
средств массового уничтожения выступает в такой
трактовке не в качестве опаснейшей угрозы для дела
мира и безопасности народов, не как фактор, способ
ствующий созданию атмосферы недоверия и напря
женности м еж ду государствами, а как некое благо,
выдается чуть ли не за единственно эффективное
средство обеспечения мира. «Главным инструментом
сдерживания войны является теперь сама истреби
тельная война и средства ее ведения»3,— заявляет
американский идеолог JL Бон.
Война в настоящих условиях стала анахронизмом,
она невозможна, ибо означает самоубийство для всех.
В современной войне не будет ни победителей, ни
побежденных, ее общей жертвой станет все челове
чество — таков исходный тезис сторонников этой
концепции. «Тотальная» ядерная война, по их мне
нию, не может быть в современных условиях оруди
ем политики, ибо она в силу колоссальных разруше
ний и жертв с обеих сторон практически не будет
иметь победителя. В самом соотношении войны и по
1 Цит. по: «Техника молодежи», 1972, No 5, стр. 61.
2 См. «Методы социальных наук». М., 1970, стр. 31.
3 «Disarmament: It’s Politics and Economics». Boston, 19G2,
p. 50.
171
литики, политических целей и военных средств их
достижения произошли якобы коренные качествен
ные трансформации. «В ядерный век,— пишет запад
ногерманский социолог Ф. Штернберг,— война не я в
ляется больше продолжением политики иными сред
ствами» *. Стратегия «массированного воздействия»,
вторит ему американский военный теоретик Р. Гар-
тофф, «становится неприемлемой в качестве инстру
мента национальной политики» 2.
Согласно логике проповедников теории «автомати
ческого краха» войн, получается, что движение ми
ролюбивых сил против милитаризма и гонки воору
жения, объединяющее представителей различных
классов и социальных слоев, религий и мировоззре
ний, политических направлений и партий — беспо
лезное и ненужное дело. Зачем ломать копья, если
создание ракетно-ядерного оружия само по себе пол
ностью «парализовало» возможность развязывания
мировой войны и гарантия мира автоматически обес
печивается «ядерным равновесием» противостоящих
политических систем?
При этом для аргументации своих позиций бур
жуазные идеологи нередко ссылаются на марксизм-
ленинизм, подчеркивают их мнимое сходство с ком
мунистическими взглядами. В действительности по
добная точка зрения не имеет ничего общего с марк
систско-ленинскими положениями о возможности
предотвращения войн в современную эпоху, о тех
условиях, которые позволят исключить войны из
международной практики человечества.
Создание ракетно-ядерного оружия и других но
вейших средств вооруженной борьбы действительно
поставило перед человечеством ряд новых острых со
циально-политических и морально-этических проб
лем, оказало серьезное влияние на соотношение вой
ны и политики, заставило людей по-новому взгля
нуть на судьбы цивилизации и общественного
прогресса. Но все эти проблемы нельзя правильно
осмыслить, если рассматривать их обособленно от со
1 F. Sternberg. Die Militarische und Industriclle Revolution.
Frankfurt am Mein, 1057, S. 02.
2 Цит. по: E. И. Рыбкин. Война и политика в современ
ную эпоху. М., 1973, стр. 87.
172
циального контекста современной эпохи, вне ко нкр ет
но-исторических условий и общественных отноше
ний. Ссылаясь на марксизм, буржуазные теоретики
всячески отгораживаются от этого принципиального
марксистского тезиса. Научно-техническая револю
ция в области вооружения выступает у них как са
модовлеющий фактор, способный при любых усло
виях и независимо ни от каких обстоятельств обеспе
чить мир и сделать войну невозможной. Единственно,
что, по их мнению, для этого требуется,— внушить
мысль о невозможности, «нерациональности» войны
как можно большему числу людей, и прежде всего
государственным деятелям великих держав. «Нужно
как можно чаще напоминать человечеству о тех ужа
сах, которые ждут его в случае возникновения треть
ей мировой войны, и она никогда не начнется» — так
рассуждают некоторые представители пацифистски
настроенных кругов западной общественности.
Ракетно-ядерная война, если она разразится, дей
ствительно принесет человечеству неисчислимые
жертвы, небывалые страдания и бедствия, может
поставить под угрозу само существование целых на
родов и государств. Это отрезвляющ им образом дей
ствует на политических лидеров Запада, заставляет
их проявлять известную сдержанность, более реаль
но оценивать соотношение сил в мире и, сознавая
неприемлемость ядерной войны как средства разре
шения международных проблем, в какой-то степени
переориентироваться в своей политической тактике,
толкает их на путь разрядки международной напря
женности и мирного диалога с государствами социа
листической системы, последовательная и миролюби
вая политика которых общеизвестна.
В современных условиях, когда ракетно-ядерным
оружием располагают обе противоположные миро
вые системы, создается* своеобразное противоречие
между глобальными политическими целями импери
ализма и невозможностью достижения их военными
средствами из-за неизбежности ответного ядерного
удара. Это служит дополнительным аргументом, вы
нуждающим правящие круги империалистических
держав идти на разрядку международной напряжен
ности.
173
Война как средство разрешения международных
конфликтов, идеологических и политических проти
воречий между государствами давно изжила себя.
Она противоречит не только общечеловеческим
принципам морали, но и существующим нормам
международного права. Но признания этого факта
еще недостаточно, чтобы гарантировать современно
му человечеству прочный мир и полную безопас
ность. Народы не могут полагаться в этом вопросе
исключительно на «здравый смысл» и «трезвый реа
лизм» тех буржуазных политических лидеров, в ком
петенцию которых входит принятие решений, каса
ющихся войны и мира. Да и зависит ли вообще при
нятие таких решений в буржуазном обществе только
от субъективной воли и желания отдельных полити
ческих руководителей?
Войны не возникают «случайно», сами по себе, они
всегда являются порождением и логическим продол
жением определенной классовой политики воюющих
государств, нераздельно связаны с социальным стро
ем этих государств К Политика, будучи концентриро
ванным выражением экономики и в то же время
определенных общественных отношений, имеет две
стороны — объективную и субъективную. Объектив
ная сторона — это область вполне реальных, прежде
всего социально-экономических, отношений между
классами, нациями и государствами, которые скла
дываются в конечном счете независимо от воли и со
знания людей; они играют решающую роль в опреде
лении содержания и сущности политики. В этом смы
сле «политика имеет свою объективную логику,
независимую от предначертаний тех или иных лиц
или партий» 2. Именно эта объективная логика в по
литическом курсе империалистических государств в
конкретно-исторических условиях начала XX века
как показал В. И. Ленин, породила первую империа
листическую войну3. И в современных условиях ми
ровая война может быть лишь продолжением импе
риалистической, милитаристской и агрессивной пс-
1См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 79.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 14, стр. 190.
3 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 182.
174
литики государственно-монополистического капита
лизма, прям ым следствием его антагонизмов.
Конечно, детерминирующая роль объективных, и
прежде всего экономических, факторов и закономер
ностей не носит жесткого, а тем более абсолютного
характера в вопросе войны и мира. На международ
ную политику оказывают влияние одновременно
весьма многочисленные факторы, некоторые из кото
рых трудно поддаются учету и прогнозированию.
Проблема войны и мира — это всегда двусторон
няя проблема, она находится в прямой зависимости
от политики, проводимой по крайней мере двумя
субъектами международных отношений. Примени
тельно к современной обстановке речь конкретно
может идти прежде всего о таких субъектах, как две
противоположные мировые общественные системы.
Миролюбивая политика социализма вытекает из
самой природы этого самого справедливого и гум ан
ного общественного строя. Ленинская теория и прак
тика мирного сосуществования государств с различ
ным социальным строем, сотрудничества и дружбы
между народами возведена в ранг официальной поли
тики социалистических государств, где нет классов
и социальных слоев, заинтересованных в войне. По
этому именно социалистические страны выступают
застрельщиками разрядки международной напря
женности.
Но будет ли развязана мировая ракетно-ядерная
война, зависит не только от соотношения сил между
двумя мировыми системами (хотя этот фактор без
условно главный), но и от соотношения классовых
сил и остроты классовых противоречий внутри капи
талистического мира, а также от борьбы между раз
личными буржуазными группировками, от того,
представители каких именно монополистических
группировок будут находиться в данный конкретный
г.юмент у кормила власти.
Уже один тот факт, что производство вооружения
находится в руках отдельных монополистических
объединений, таит в себе постоянную потенциальную
опасность для судеб мира. Монополисты, производя
щие оружие и торгующие им, в силу своих узкоклас
совых интересов добровольно не пойдут на ограниче
175
ние, а тем более полное свертывание военного произ
водства, приносящего баснословные прибыли. Как
свидетельствует историческая практика, хозяева во
енного бизнеса постоянно препятствую т принятию
проектов и предложений, направленных на сокраще
ние и запрещение тех или иных видов оружия, ока
зывают сопротивление борьбе народных масс за все
общее и полное разоружение. «Торговцы смертью»
используют все законные и незаконные средства и
методы (от широкой пропаганды идей милитаризма
до прямого подкупа государственных и политических
деятелей) для оказания давления на общественное
мнение и органы государственной власти с целью
обеспечить проведение соответствующего внешнепо
литического курса, добиться увеличения военных
заказов, государственных ассигнований и субсидий
на производство вооружения.
Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что
в современном мире периодически происходят прово
цируемые и развязываемые империалистическими
кругами военные столкновения, ведутся так называе
мые «локальные» или «малые» войны, которые при
определенных условиях легко могут перерасти во
всеобщий конфликт, стать причиной и началом
«большой» войны, как это у ж е нередко наблюдалось
в прошлой истории. Пока существует мировая систе
ма империализма, существует и источник военной
опасности и угроза войны не может быть снята с по
вестки дня. Поэтому в вопросе войны и мира речь
может идти в настоящий момент не столько о «доб
рой воле» или «сознании ответственности» пр авящ их
кругов им периалистических стран, а скорее о тех
практических м ерах по обеспечению мира, к которым
их вынуждают склоняться объективные условия и
субъективные факторы в лице активного антивоен
ного движения народов. Тот факт, что климат в мире
ощутимо изменился, совсем не означает, отмечал
Л. И. Брежнев, что «исчезла противоположность
между двумя общественными системами — социализ
мом и капитализмом. Буржуазные государства оста
ются буржуазными, а социалистические — социали
стическими. Мы не можем забывать, что есть госу
дарства, где влиятельные круги добиваются, чтобы
176
мир и впредь лихорадила напряженность, чтобы рос
ли военные бюджеты, продолжалась гонка вооруже
ний. Мы были и остаемся принципиальными против
никами империализма. Мы решительно выступаем за
прекращение гонки вооружений, хотим, чтобы поли
тическая разрядка подкреплялась военной»
Очевидно, что утверждение буржуазных идеоло
гов, будто наличие ядерного оружия и других средств
массового уничтожения само по себе устраняет воз
можность новой мировой войны, ликвидирует войну
в принципе как средство разрешения международ
ных споров, просто абсурдно. Напротив, накопление
в больших количествах запасов новейших средств ис
требления лишь увеличивает угрозу делу мира и без
опасности народов. О бращая на это внимание,
JI. И. Брежнев сказал: «Разве можно с уверенностью
строить прочный, длительный мир, если под его фун
даментом сохраняю тся эти современные «пороховые
погреба», способные взорвать всю планету? Военные
приготовления капиталистических государств вы
нуждают и страны социализма выделять необходи
мые средства на оборону, отвлекая их от целей мир
ного строительства, которым мы хотели бы посвя
тить все свои усилия, все свои материальные ресур
сы. В орбиту гонки вооружений втягиваются и де
сятки молодых независимых стран, чему, конечно,
способствует угроза их независимости, создаваем ая
империализмом то в одном, то в другом районе
глира» 2.
Субъективно-идеалистические взгляды буржуаз
ных теоретиков, проповедующих концепцию «авто
матического краха войн», независимо от желаний их
авторов, на деле лишь затушевывают и притупляют
всю остроту проблемы, отвлекают народы от актив
ной борьбы за мир и безопасность. Проповедники та
кого мира, который основан на «балансировании во
оружений» и «равновесии сил», на «страхе взаимного
уничтожения», объективно выступают с позиций апо
логетики империалистической политики милитариз
ма и гонки вооружений, препятствуют разрядке меж
дународной напряженности.
1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 4. М., 1974, стр. 227.
2 Там же, стр. 333.
Глава V
НАСИЛИЕ
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
1. Кто абсолютизирует насилие
В условиях расширяющегося революци
онно-освободительного движения народов, углубле
ния и обострения общего кризиса капитализма его
идеологи стремятся любыми средствами переклю
чить внимание масс от насильственных действий им
периалистических кругов, при помощи которых они
пытаются сохранить свое пошатнувшееся господст
во, на другие объекты. С этой целью ими создан оче
редной идеологический миф — концепции о «тотали
тарной природе» коммунизма, об «экспорте социали
стической революции» и «насильственном отрица
нии» капитализма, об «экспансионистских тенденци
ях» СССР к мировому господству при помощи
военной силы, об «экстремистской» и «заговорщиче
ской» деятельности коммунистов собственных стран.
Политическая и идеологическая агрессивность ком
мунизма, по мнению одного из теоретиков антиком
мунизма, Р. Вальдера, органически вы текает из его
философской доктрины, «хроническим пороком» ко
торой он считает «разрыв между теорией и практи
кой, догматической верой и реальной действительно
стью». Для того чтобы ликвидировать этот разрыв и
любым путем подтвердить научную ценность своей
философской доктрины, провозглаш ающ ей социали
стическую революцию и замену капитализма социа
лизмом исторической необходимостью, коммунисты
вынуждены, по Вальдеру, «насиловать историю» и
обеспечивать ее «естественное развитие к коммуниз
му силой оружия» х.
1
R. Walder. Progress and Revolution. A Study of the Issues
of Our Age. N. Y., 1967, p. 331.
178
В результате подобного сальто-мортале оказыва
ется, что не империалисты, а коммунисты привыкли
разговаривать исключительно языком «насилия и
диктатуры», признают лишь одно средство борьбы —
«террор и ниспровержение всего сущего с помощью
оружия». «С возникновением марксизма, с его идео
логией диктатур ы и экспансионистской политической
практикой, начался процесс облагораживания наси
л ия в качестве некоего позитивного исторического
фактора, а именно «повивальной бабки истории»,—
пишет американский социолог JI. Фидлер. — От име
ни и под предлогом «революции» насилие стало уж е
не тем, чего следует бояться и избегать, не недостат
ком и пороком, подлежащим безусловному осужде
нию... а высшим кульминационным пунктом соци
альной деятельности людей, позитивной и конечной
целью классовой борьбы» 1.
Пытаясь запугать народы мнимой «опасностью
агрессивных действий коммунизма» и оправдать гон
ку вооружений и политику «с позиции силы» как
единственный способ сохранить мир, один из наибо
лее воинствующих антикоммунистов, Барри Голдуо-
тер, утверждает: «Язык насилия и тотального проте
ста, к которому все чаще обращаются различные со
циальные группы и слои, национальные и государст
венные общности,— это язы к марксизма, он создан
и привнесен в современный мир коммунистами...
Поэтому единственный язык, который хорошо по
нимают коммунисты,— это язык, диктуемый и под
держиваемый превосходством в силе. Любые перего
воры с коммунистами являются ошибкой, если мы
вступаем в них, не оставаясь на позициях силы»2.
Во все периоды истории эксплуататорские классы
неизменно прикрывали совершаемые ими акты наси
л ия и агрессии различного рода псевдоидейными со
ображениями, находили то или иное идеологическое
оправдание для своих акций против свободы, гума
низма и мира. В одних случаях предлогом служила
«защита и распространение христианства», в дру-
1 L. Fiedler. Love and Death in American Novel. N. Y., 1960,
p. 484.
2 B. Goldwater. The Conscience of a Majority. Prentice-Hall,
1970, p. 2, 94.
179
n ix — «необходимость привития цивилизации отста
лым народам», в третьих— «забота об охране нацио
нальной безопасности» и т. п. В современную эпоху
империалистическая буржуазия включила в арсенал
своей идеологии и политики миф о «подрывной дея
тельности» мирового коммунизма, представляющего
будто бы главную угрозу всеобщему миру, демокра
тическим институтам и свободе личности. Тезис о не
обходимости защ иты «свободного мира» и «естествен
ных прав человека» от идейной и военной экспансии
коммунизма широко используется сегодня для оправ
дания империалистической политики внутреннего и
внешнего экстремизма. Он взят на вооружение офи
циальной пропагандистской машиной империализма.
Так, в официальном методическом пособии под на
званием «Международный коммунизм», изданном
Пентагоном и предназначенном для американских
вооруженных сил, утверждается, что «коммунисти
ческая доктрина о мировой революции» является
угрозой «свободному миру», ибо она вклю чает «идею
тотального насилия как главного средства превраще
ния всех стран в коммунистические» и предусматри
вает осуществление этого путем «вооруженной агрес
сии, подрывных, насильственных и незаконных
средств» 1.
Пытаясь представить коммунизм как антипод
идеалам мира и свободы, доказать его «органическую
несовместимость» с демократией и гуманизмом, анти
коммунисты прибегают к иезуитским методам фаль
сификации фактов, приписывая марксизму-лениниз
му положения, которые в нем никогда не содержа
лись. «В основе коммунистического учения лежит
концепция насилия,— писал в своем последнем труде
«О коммунизме» идеолог ультраправых Эдгар Гу
вер. — Именно насилие служит главным и постоян
ным оружием коммунистической стратегии и такти
ки. Сущность коммунистического вызова западному
миру заключается в ленинском тезисе, гласящем, что
сила, а не законы истории и общества является ре
шающим и первенствующим фактором» 2. Коммуниз
1 «International Communism. Troop Topics». Washington,
July, 1905, p. 5, 17.
2 E. Hoover. On Communism. N. Y., 1969, p. 20 —21.
180
му, утверждает Гувер, присуще «насильственное от
рицание» моральных ценностей человечества, кото
рое осуществляется при помощи идеологического, по
литического и военного оружия.
Отсюда делается вывод, что вражда и военное
столкновение между двумя противоположными об
щественными системами неизбежны, весь вопрос
лишь в том, при каких условиях и в какой момент это
столкновение произойдет.
В многочисленных трудах буржуазных «марксо-
логов» на разные лады муссируется идея о «бруталь
ной авторитарности» политических принципов ком
мунизма. Сравнивая военно-политические взгляды
Мольтке, Клаузевица и Ленина, идеолог американ
ского империализма адмирал Ф. Руге заявляет, что
все они в одинаковой степени «усматривали в общей
стратегии государственной политики применение си
лы в любой форме для достижения национальных по
литических целей» 1.
Американский историк Г. Тарнер, ссылаясь на ле
нинские работы по вопросам войны, пытается припи
сать Ленину мысль, будто «война для коммунисти
ческого государства является продолжением револю
ции другими средствами» 2.
Принципы мирного сосуществования государств с
различным социальным строем, бескорыстная по
мощь странам «третьего мира» и даж е борьба за
ограничение гонки вооружений и всеобщее разору
жение— все это объявляется буржуазными идеоло
гами не целью политики социалистических стран, а
всего лишь средством, с помощью которого они яко
бы стрем ятся к достижению мирового господства.
Преследуя эту цель, коммунисты якобы поддержи
вают и поощряют «международный терроризм» во
всех его видах и проявлениях.
Таким образом, антикоммунистическая пропаган
да пытается отождествить авантюристическую поли
тическую практику «левого» экстремизма с научным
коммунизмом.
1 «Problems of Communism», vol. 15, I960, N. 3, p. 03.
2 G. Turner, R. Challener. National Security in the Nuclear
Age. Basic Facts and Theories. N. Y., 1960, p. 18.
181
Характерна в этом отношении книга американ
ского политолога Дж. Бейлса «Коммунизм. Его вера
и заблуждения». Сводя сущность марксистского уче
ния о диалектике к абстрактно трактуемой схеме-
«триаде» — тезис, антитезис и синтез, автор утвер
ждает, что эта схема может служить теоретическим
аргументом «временного характера и сугубо такти
ческой функции» ленинской политики мирного сосу
ществования как периода, в течение которого проис
ходит накапливание силы для последующего «на
сильственного отрицания» капиталистической систе
мы. Коммунизм в его определении есть не что иное,
как «международный преступный заговор против ци
вилизации», а марксистская теория классов и клас
совой борьбы рассматривается им в качестве «идей
ной платформы глобальной войны за завоевание
коммунистами всего мира» !.
Студенческие беспорядки и гражданские войны,
крестьянские волнения и негритянские бунты в аме
риканских гетто, всемирное антивоенное движение и
национально-освободительная, антиимпериалистиче
ская борьба народов колониальных и зависимых
стран, стачки и забастовки трудящ ихся — все эти со
бытия истолковываются теоретиками антикоммуниз
ма как «провоцируемое извне насилие», как резуль
тат «заговорщической деятельности мирового ком
мунизма» с целью «узурпации власти в мировом
масштабе» и «насильственного навязывания» наро
дам мира коммунистических идеалов и образа жизни.
Образчиком подобной беззастенчивой л ж и могут
служить заявления одного из идеологов американ
ских «ультра», X. JI. Ханта: «Красные лидер ы под
держивают все революционные движения с целью
либо установить над ними свой контроль, либо вос
пользоваться анархией, которую они порождают, для
прямого захвата власти... Всякий раз, когда возни
кает где-либо мятеж, всякий раз, когда применяется
тактика террора и революционных ударов, ответст
венность должна падать на коммунистов» 2.
1 /. Bales. Communism. It's Faith and Fallacies. Michigan,
1%2, p. 93, 127.
2 «New York Times», April 17, 1971.
182
Попытка объяснить «подрывной» деятельностью
коммунистов все социальные антагонизмы и кон
фликты не отличается оригинальностью. Еще во вре
мена К. Маркса и Ф. Энгельса буржуазные идеологи
заявляли, что марксисты инспирируют социальные
конфликты и беспорядки в своих узкопартийных
целях.
В 1871 г. в ответ на обвинения буржуазной прессы
в заговорщической деятельности руководимого им
Генерального Совета I Интернационала, который
будто бы искусственно инспирировал Парижскую
коммуну, К. Маркс со всей решительностью подчерк
нул неприемлемость принципов и методов заговор
щической деятельности для стратегии и тактики ра
бочего движения, в котором участвуют широчайшие
массы трудящихся1. Парижскую коммуну —детище
этого движения — породили те глубинные историче
ские общественные процессы, объективным выраже
нием которых явился выход на арену истории рабо
чего класса — самой передовой революционной силы
современности.
«Коммунисты очень хорошо знают, что всякие за
говоры не только бесполезны, но даже вредны,— пи
сал Ф. Энгельс. — Они очень хорошо знают, что рево
люции нельзя делать предумышленно и по произ
волу...»2 Социалистические революции не экспор
тируются, а идеи коммунизма не навязываются
народам насильственным путем. Они произрастают,
распространяются вширь и вглубь под воздействи
ем и на почве тех объективно существующих анта
гонистических противоречий, которые вызревают в
недрах самого капиталистического общества, толкаю т
людей на борьбу за социальную справедливость. Как
при жизни К. Маркса и Ф. Энгельса, так и в совре
менную эпоху не мнимая «заговорщическая» дея
тельность коммунистов, а «положение рабочего клас
са является действительной основой и исходным
пунктом всех социальных движений...» 3.
На опасности «мирового коммунистического заго
вора» в свое время спекулировали фашисты и наибо
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 17, стр. 633—635.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 331.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 238.
183
л ее «твердолобые» консерваторы, в наши дни этим
антикоммунистическим жупелом размахивают «уль
тра» всех видов — неофашисты, м илитаристы, раси
сты.
Тезис о том, будто насилие является «демиургом»
идеологии и практики коммунизма, используется ми
ровой реакцией для фальсификации социалистиче
ской действительности, для клеветы на международ
ное коммунистическое и рабочее движение, на мар
ксистско-ленинское учение. Но одновременно он слу
жит удобным средством переключения внимания
масс с антидем ократической и агрессивной политики
империализма на мнимую угрозу свободе и миру, ис
ходящую якобы со стороны коммунизма. Все анти
коммунистические мифы в этом смысле имеют
сугубо прагматическую цель — показать, что, хотя
капитализм и имеет свои недостатки, он тем не менее
в любом случае представляет собой «наименьшее
зло» по сравнению с социализмом.
«Для прикрытия своих агрессивных целей, для
создания идеологической ширмы, прикрывающей
наглое наступление империализма Соединенных
Штатов на независимость народов,— говорится в
программе Коммунистической партии США,— он ис
пользует уловку «антикоммунизма»... Догматы «ан
тикоммунизма» представляют собой не подлинную
попытку критики, а карикатуру на коммунизм. Иде
ология антикоммунизма основывается на лжи. Она
приписывает коммунизму цели и методы, не имею
щие ничего общего с действительностью . Она п ыта
ется посеять ненависть к коммунизму» К
Все попытки буржуазных теоретиков придать на
силию характер самодовлеющего и решающего фак
тора теории и практики коммунизма абсолютно бес
почвенны. Даже многие буржуазные теоретики при
знают надуманный характер подобного рода обвине
ний в адрес коммунизма. «Если революционные идеи
привносятся извне, то революции — никогда,— пишет
американский историк Р. Барнет. — Проповедуемая
нами идеология антикоммунизма лишает фактиче
1 «Новая программа КП США». «США: экономика, поли
тика, идеология», 1970, No И , стр. 90.
184
ски каждое национальное восстание законности, ста
вя на него клеймо «Сделано в Москве...», и тем са
мым автоматически возводит подавление революции
в ранг освобождения» К
Тот факт, что теории «экспорта революции» и «на
сильственного отрицания» капитализма цосят ярко
выраженный апологетический характер и выполня
ют вполне определенные идеологические функции,
не считают нужным скрывать даже многие наиболее
откровенные западные идеологи. К наименее удо
влетворительным с теоретической точки зрения кон
цепциям, имеющим целью дать объяснение различ
ным проявлениям насилия в современную эпоху,
X. Нибург относит так называемую теорию «красной
опасности», антикоммунистическая направленность
которой служит первопричиной ее популярности.
Хотя, как признает X. Нибург, подобные теории «ча
ще всего весьма недолговечны и носят характер вре
менных гипотез, ибо находятся в прямой зависимо
сти от успеха или, наоборот, провала того конкрет
ного политического курса, в основу которого они
были положены», они тем не менее занимают видное
место в арсенале официальной идеологии. «Одним
из настойчиво пропагандируемых взглядов,— пишет
X. Нибург,— является утверждение о том, что ком
мунисты или их представители, связанные с теми
или иными коммунистическими центрами, стоят за
каждым более или менее серьезным проявлением
насилия, любого значительного политического или
национального конфликта вообще. Такого рода ут
верждения имеют место даже в тех случаях, ко
гда так называемые «коммунистические заговор
щики» по самой логике происходящих событий не
могли быть причастными к ним или осуществлять
над ними свой контроль. Тем не менее именно им
приписывают, как правило, самое активное участие в
беспорядках, заговорах, антиправительственных вы
ступлениях, заявляют, что они используют в своих
интересах любые конфликты и борьбу путем некой
1
R. Barnet. Intervention and Revolution. The United States
in the Third World. N. Y., 1908, p. 134.
13
В. В. Денисов
185
мистической способности, которой якобы обладают
только коммунисты» *.
Выступая с критикой марксизма, идеологи импе
риализма сознательно замалчивают тот факт, что как
раз именно буржуазной социальной мысли традици
онно присуще стремление к абсолютизации значения
насилия в историческом процессе, возведение его в
главный и определяющий фактор общественной жиз
ни. Многочисленные социально-философские труды
буржуазных авторов содержат откровенную и ци
ничную пропаганду культа силы, восхваление наси
лия как «движущей пружины» и «оздоровляющего
фактора» цивилизации. Среди волю нтаристских кон
цепций «силового детерминизма» выделяется так на
зываемая школа «политического реализма» (Г. Мор-
гентау, Дж. Кеннан, Артур Шлезингер-младший,
С. Поссони, Р. Страус-Хюпе, Р. Осгуд, 3. Бжезин-
ский и др.), возникшая в американской буржуазной
социально-политической мысли в послевоенный пе
риод.
Идейно-теоретическое кредо последователей этой
школы сформулировано предельно четко: вечный за
кон борьбы за силу (или власть) есть основополагаю
щая детерминанта всей социальной действительно
сти, общественного сознания и поведения людей во
все исторические эпохи.
Исходя из того, что в отношениях между государ
ствами вообще и в отношениях с социалистическими
государствами в особенности следует всегда опирать
ся только на силу, сторонники доктрины «политиче
ского реализма» призывают вести эффективную
борьбу с коммунизмом «на любом уровне насилия».
Так, например, американский философ Н. Спайкмен
в книге «Американская стратегия в мировой полити
ке» пишет: «В международной жизни допустимы все
формы насилия, включая разрушительные войны.
Поэтому укрепление военной мощи становится пер
востепенной целью внутренней и внешней политики
государства» 2.
1 //. Nieburg. Political Violence. The Behavioral Process.
N. Y ., 1960, p. 19—20.
2 N. Spyкman. The American Strategy in the World. N. Y.,
1942, p. 28.
186
Теоретические установки идеологов этой школы
оказывают значительное влияние на американских
политических и военных руководителей, накладыва
ют свой отпечаток на содержание внешней политики
США. Они нашли, в частности, практическое выра
жение и в целом ряде внешнеполитических доктрин
американского империализма («равновесия страха»,
«гибкого реагирования», «ограниченных войн» и т.д .) .
Весьма популярна в США концепция «ограниченных
войн», согласно которой ограниченные по целям,
средствам и масштабам военные действия позволяют
осуществлять экспансионистские цели государств, не
подвергая в то же время человечество риску всеоб
щей ядерной катастрофы. Авторы этой концепции
признают, что их цель заключается не в поисках
альтернативы вооруженному насилию как методу
разрешения международных конфликтов и достиже
ния жизненно важных целей США на мировой арене,
а в приспособлении этого метода к специфическим
особенностям современной эпохи.
«Ограниченная
война создает максимальные возможности для эф
фективного использования военной силы как рацио
нального орудия национальной политики...» 1
Очевидно, что последователи школы «политиче
ского реализма», как и другие идеологические аполо
геты агрессивного внеш неполитического кур са импе
риализма, вполне разделяют макиавеллевский прин
цип «цель оправдывает средства». В противополож
ность такой позиции м арксизм исходит из тезиса, что
«цель, для которой требуются неправые средства, не
есть правая цель...» 2, что благородные цели и возвы
шенные идеалы коммунизма должны достигаться со
ответствующими им средствами. Применяемое для
этого революционное насилие является исторически
прогрессивным, так как оно служит средством лик
видации отживших общественных отношений, став
ших тормозом не только для социально-экономиче
ского, но и для духовно-нравственного развития че
ловечества, средством перехода общества на новую,
высшую ступень исторического прогресса.
1 Р. Осгуд. Ограниченная война. М., 1960, стр. 54—55.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 65.
187
В идеалах и целях коммунизма находит свое от
ражение объективная необходимость общественно
исторического развития, воплощаются подлинные ин
тересы и чаяния народных масс. Если империалисти
ческая буржуазия, составляющая ничтожное мень
шинство, применяет насилие против широких масс
трудящихся, т. е. подавляющего большинства обще
ства, то рабочий класс и его союзники применяют ре
волюционное насилие и принуждение по отношению
к эксплуататорскому меньшинству во имя освобож
дения всех трудящихся от капиталистического раб
ства, утверждения подлинной свободы, равенства и
демократии. Поэтому с общечеловеческих позиций
революционное насилие не может не быть квалифи
цировано как справедливое и гуманное. Именно эту
мысль подчеркивал Ф. Энгельс, утверждая, что ре
волюционная борьба пролетарских масс, «все их ду
ховное развитие и движение по существу гумани
стично...» К
При этом коммунисты отнюдь не абсолютизируют
насилие, тем более вооруженное, рассматривая его
как вынужденную форму классовой борьбы протиЕ
сопротивляющихся контрреволюционных классов.
Цель коммунистов — достигнуть такого положения,
когда социальное насилие навсегда будет исключено
из общественной жизни. В. И. Ленин подчеркивал,
что «в нашем идеале нет места насилию над людь
ми», что «все развитие идет к уничтожению насиль
ственного господства одной части общества над дру
гой» 2.
Применение революционного насилия марксисты
рсегда ставили в зависимость от конкретной прак
тики освободительного движения, противопоставляя
его организованному насилию эксплуататоров. Если
обратиться к фактам истории и современной дейст
вительности, то станет очевидным, что именно наси
лие эксплуататоров, действия внутренней и внешней
контрреволюции вынуждали народные массы прибе
гать к крайним мерам революционного насилия, со
вершать вооруженные восстания, вести гражданские
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 590.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 30, стр. 122.
188
и партизанские войны, подниматься с оружием в ру
ках на защиту национальной независимости и сво
боды своей страны. Как свидетельствует историче
ский опыт, сами реакционные классы «прибегают
обыкновенно первые к насилию... «ставят в порядок
дня штык»...» К И тогда, естественно, становится оче
видной неуместность всяких «конституционных ил
люзий» и «упражнений в парламентаризме», тогда
закономерно и необходимо «применение народом на
силия по отношению к насильникам над народом» 2.
Вопрос о применении революционного насилия во
обще не возникал бы у коммунистов, если бы не
было насилия со стороны эксплуататорских классов
в отношении трудящихся и их законной власти.
«...Когда нет реакционного насилия, против которого
надо бороться, то не может быть и речи о каком-либо
революционном насилии...» 3
Показывая необходимость применения красного
террора, который был объявлен в 1918 г. Советской
властью в качестве средства самозащиты от контрре
волюции, организовывавш ей антисоветские заговоры
по всей стране, В. И. Ленин писал: «...обвинение в
терроризме, поскольку оно справедливо, падает не
на нас, а на буржуазию. Она навязала нам террор.
И мы первые сделаем шаги, чтобы ограничить его
минимальнейшим минимумом, как только мы покон
чим с основным источником терроризма...» 4
В одной из ленинских работ приводятся сравни
тельные данные, опубликованные в американском
журнале «Новая Республика» («The New Republic»),
о терроре контрреволюционных элементов в Ф ин
ляндии и красном терроре в период 1918 г. По сведе
ниям журнала, в Финляндии, насчитывавшей 3 млн.
населения, белые террористы при подавлении рево
люционного движения трудящихся в течение не-
скольких дней казнили 16 700 человек и заключили
в концлагеря свыше 70 тыс. человек . В то же время
в России, насчитывавшей тогда 150 млн. человек на
селения, за первый год революции было казнено
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 11, стр. 123.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12, стр. 318.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 38, стр. 419.
4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 355.
Ш
3800 человек из числа активных контрреволюционе
ров, с оружием в руках выступивших против Совет
ской власти. «Финское правительство,— признает
этот буржуазный журнал,— было бесконечно более
террористическим, чем русское» *.
Вместе с тем В. И. Ленин со всей решительностью
отстаивал марксистское положение о том, что не мо
жет быть успешной революция без «подавления со
противления эксплуататоров»2. Разоблачая ренегат
скую позицию К. Каутского, выступившего в своей
книге «Терроризм и коммунизм» (1919) с осужде
нием насильственных методов борьбы против контр
революционных выступлений в России, Ленин писал:
«Мыслима ли революционная партия рабочего клас
са, которая бы не карала за такие выступления смер
тью в эпоху самой ожесточенной гражданской войны
и заговоров буржуазии о вторжении иноземных
войск для свержения рабочего правительства? Ни
один человек, кроме безнадежных и смешных пе
дантов, не мог бы ответить на эти вопросы иначе как
отрицательно» 3.
Вскрывая фарисейский характер буржуазных об
винений в адрес революционного насилия, прим еняе
мого трудящимися против эксплуататоров и контр
революционеров, В. И. Ленин писал: «Английские
буржуа забыли свой 1649, французы свой 1793 год...
Террор был справедлив и законен, когда его приме
няли в интересах замены одного эксплуатирующего
меньшинства другим эксплуататорским меньшинст
вом. Террор стал чудовищен и преступен, когда его
стали применять в интересах свержения всякого экс
плуататорского меньшинства, в интересах действи
тельно огромного большинства, в интересах проле
тариата и полупролетариата, рабочего класса и бед
нейшего крестьянства!» 4
И в современных условиях острых классовых
битв в целом ряде случаев нет иных реальных путей
к осуществлению коммунистических идеалов, кроме
применения вооруженного насилия в борьбе против
1 Цит. по: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 186.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 35, стр. 214.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 39, стр. 184.
4 В. 11. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 37, стр. 59—60.
ISO
эксплуататорских классов и их остатков. Именно
поэтому марксисты решительно выступают как
против идеалистической и утопической идеологии
непротивления злу насилием, так и против абстракт
ного пацифизма, недифференцированного подхода
к качественно различным проявлениям политическо
го насилия.
Революционный гуманизм рабочего класса прояв
ляется не в абстрактных и утопических мечтаниях о
свободе и мире, а в последовательной антиимпериали
стической революционной борьбе с применением всех
средств и форм борьбы, необходимых для победы со
циализма, в том числе мирных и немирных.
Утверждения буржуазных теоретиков о том, буд
то история пока еще не знает случаев мирного пере
хода от капитализма к социализму, что социалисти
ческий строй может быть установлен исключительно
только путем вооруженного насилия, массовых ре
прессий и кровопролитий, противоречат историче
ским фактам, которые убедительно опровергают та
кого рода бездоказательные и извращающие дейст
вительность заявления. Если говорить о прошлой ис
тории, то примером перехода власти в руки проле
тариата и установления диктатуры рабочего класса
без вооруженного восстания может служить револю
ция в Венгрии в 1919 г. В. И. Ленин, анализируя свое
образие пролетарской революции в Венгрии, говорил:
«Буржуазия сама сдала власть коммунистам Венг
рии. Буржуазия показала всему миру, что, когда на
ступает тяжелый кризис, когда нация в опасности,
буржуазия управлять не может» 1.
Вместе с тем взятие власти трудящимися без во
оруженного восстания нельзя отождествлять со спо
койным, бесконфликтным развитием. В. И. Ленин на
стойчиво предупреждал трудящихся и коммунистов
Венгерской советской республики о неизбежности
острой классовой борьбы, о реальной возможности
попыток антисоциалистического переворота со сто
роны внутренней и внешней контрреволюции. Как
известно, дальнейшие события в Венгрии подтвер
дили опасения Ленина на этот счет.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 38, стр. 233.
191
А вот еще пример из совсем недавнего прошлого.
В результате разгрома нацизма во второй мировой
войне, решающую роль в котором сыграл Советский
Союз, и освобождения народов Европы от фашист
ского рабства в ряде восточноевропейских стран соз
дались условия для установления народно-демокра-
тической формы диктатуры пролетариата без воору
женного восстания. Эксплуататорские классы в этих
странах оказались бессильными противостоять тру
дящимся массам в их решимости покончить навсегда
с антинародными режимами и капиталистическим
строем, построить новое общество на социалисти
ческих началах. Внешние реакционные империали
стические силы в тот момент также по целому ряду
причин не смогли оказать антисоциалистическим
элементам в этих странах сколько-нибудь эффектив
ной поддержки. Поэтому попытки контрреволюцион
ных сил развязать гражданскую войну были сор
ваны.
Эти примеры — живое свидетельство, что к воп
росу о применении насилия коммунисты подходят
диалектически. Такая позиция была выработана ос
новоположниками марксизма еще на заре рабочего
движения: «Революция неизбежна... но революция
может принять более мягкие формы... Это будет за
висеть не столько от развития буржуазии, сколько
от развития пролетариата... По принципу своему ком
мунизм стоит выше вражды между буржуазией и
пролетариатом... Пока эта вражда существует, ком
мунизм рассматривает ожесточение пролетариата
против своих поработителей как необходимость, как
наиболее важный рычаг начинающегося рабочего
движения; но коммунизм идет дальше этого ожесто
чения, ибо он является делом не одних только рабо
чих, а всего человечества» К
Стремясь дискредитировать диктатуру пролета
риата, извратить ее природу и сущность, буржуаз
ные идеологи пытаются представить ее в виде голого
насилия, осуществляемого Коммунистической пар
тией не только по отношению к эксплуататорским
классам и слоям общества, но даже по отношению к
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 516.
192
основной массе трудящихся. В действительности на
силие применяется коммунистами исключительно
только в качестве средства подавления сопротивле
ния эксплуататорских классов. И прежде всего в мо
мент их революционного низвержения или в случае
контрреволюционных выступлений против социали
стической власти. Что же касается использования ка-
ких-либо форм насилия в отношении трудящихся
масс, то теория и практика коммунизма исключают
такую возможность в принципе, отрицают ее абсо
лютно и безоговорочно. В. И. Ленин специально под
черкивал необходимость четкого разграничения ра
мок применения революционного принуждения: «На
силие имеет свою силу по отношению к тем, кто хо
чет восстановить свою власть. Но этим и исчерпы
вается значение насилия, а дальше уже имеет силу
влияние и пример» К
Главное в диктатуре пролетариата не насиль
ственная, а творческая, созидательная ее сторона.
Если возникновение и функционирование диктату
ры пролетариата в переходный от капитализма к со
циализму период связано прежде всего (хотя отнюдь
не ограничивается этим) с необходимостью подавле
ния сопротивления буржуазии, то в процессе строи
тельства социализма соотношение функций диктату
ры пролетариата существенным образом изменяет
ся. На первый план выдвигается функция хозяй
ственно-организационная, функция управления и
руководства обществом со стороны рабочего класса.
Диктатура пролетариата, отмечал В. И. Ленин,
отвечает интересам самых широких народных масс,
ибо она обеспечивает их непосредственное и постоян
ное участие в делах государства, открывает перед
ними все возможности для осуществления демокра
тии на деле. «Новая власть, как диктатура огромного
большинства, могла держаться и держалась исклю
чительно при помощи доверия огромной массы, ис
ключительно тем, что привлекала самым свободным,
самым широким и самым сильным образом всю мас
су к участию во власти» 2.
1 В. М. Ленин Поли. собр. соч ., т. 42, стр. 75.
2 В. И. Ленип. Поли. собр. соч ., т. 41, стр. 381.
193
По мере развития социалистического общества по
пути к коммунизму со все большей очевидностью и
наглядностью проявляется его глубоко демократиче
ская и гуманистическая природа, ибо постоянно су
жается сфера и сама необходимость применения
средств принуждения. Последовательно проводимая
демократизация всей общественной жизни, активное
участие народных масс в контроле над деятель
ностью государственного аппарата, развитие много
образных форм общественного самоуправления, не
уклонное следование политике мирного сосущество
вания на международной арене — все это свидетель
ствует о том, что социалистическое общество по
стоянно ищет и находит все более адекватные ее
природе подлинно демократические методы деятель
ности и формы взаимоотношений между людьми, на
циями и государствами.
Социализм и коммунизм не нуждаются в том,
чтобы дорога к ним прокладывалась методами воору
женного «экспорта революции». Решительно высту
пая против концепции «экспорта революции» и от
вергая авантюристическую политику «подталкива
ния» революции путем войны, В. И. Ленин обосновал
и развил идею о том, что социалистическая страна
главное воздействие на мировую революцию оказы
вает своей хозяйственной политикой, силой положи
тельного примера, созданием мощной экономики, вы
сокой производительности труда. «На это поприще
борьба перенесена во всемирном масштабе. Реш им
мы эту задачу — и тогда мы выиграли в междуна
родном масштабе наверняка и окончательно» 1.
Создание могучей социалистической экономики и
социалистических общественных отношений, борьба
за создание материально-технической базы комму
низма и формирование коммунистических обще
ственных отношений — таково практическое выпол
нение советским народом своего интернационального
долга. Так же понимают свой интернациональный
пролетарский долг и трудящиеся других социалисти
ческих стран. «Вклад мировой системы социализма
в общее дело антиимпериалистических сил опреде-
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч ., т. 43, стр. 341.
194
ляется прежде всего ее растущей экономической
мощью. Быстрое развитие народного хозяйства стран
социалистической системы, опережающ ее по своим
темпам экономический рост капиталистических госу
дарств, выход социализма на передовые позиции по
ряду направлений научно-технического прогресса,
откры тие Советским Союзом пути в космос — все
эти реальные итоги созидательного труда народов
социалистических стран в решающей степени содей
ствуют перевесу сил мира, демократии и социализма
над империализмом» \
От успехов и темпов социалистического и комму
нистического строительства в странах победившего
социализма во многом зависят судьба развития ми
рового революционного процесса; успех революцион
ной борьбы пролетариата в отдельных капиталисти
ческих странах. Но для этого прежде всего необхо
дим мир, возможность мирного соревнования социа
листической и капиталистической систем. Именно
поэтому В. И. Ленин, решительно выступая против
авантюристических взглядов и установок различно
го рода левосектантских элементов, заявлял: «...нам
всего дороже сохранение мира и полная возмож
ность посвятить все силы восстановлению хозяй
ства...» 2.
Ленинское понимание мировой социалистической
революции как объективного и внутренне обуслов
ленного процесса легло в основу революционной
стратегии и тактики международного коммунистиче
ского движения, миролюбивого внешнеполитическо
го курса социализма на международной арене, прин
ципов мирного сосуществования государств с различ
ным общественным строем.
2. Миф о «противоположности»
ленинизма марксизму
Одним из сравнительно новых приемов,
с помощью которого антикоммунисты всех мастей
пытаются фальсифицировать коммунистическое ми
1 «Международное Совещание коммунистических и ра
бочих партий. Москва, 1969», стр. 21.
2В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 313.
193
ровоззрение, стратегию и тактику международного
коммунистического движения, является противопо
ставление учения К. Маркса ленинизму по вопросу
о путях и формах революционной борьбы, диалекти
ки объективных условий и субъективного фактора
в историческом процессе. Чтобы доказать «противо
положность» ленинизма марксизму, они прибегают
к подтасовке как взглядов К. Маркса, так и В. И. Ле
нина, манипулируют произвольно выхваченными и
тенденциозно тракту ем ы м и цитатам и из работ осно
воположников марксизма-ленинизма . Если К. Марк
су буржуазные ученые приписывают, как правило,
фаталистическую тр акто вку исторического процесса,
преподносят марксизм в качестве вульгарного «эко
номического детерминизма», то В. И. Ленин, напро
тив, изображается как волюнтарист и революцион
ный заговорщик, а ленинизм выдается за специфи
чески русский вариант «теории насилия».
Утверждая, что «основополагающим стержнем
ленинизма является не исторический материализм,
а концепция воли», американский политолог У. Эбен-
штейн пишет: «Маркс был абсолютным детермини
стом, подчеркивающим первенствующее значение
экономики... и убежденным, что развитие человече
ства определяется социальными законами, тогда как
Ленин был активистом, который главное внимание
обращал на политику и разработал план действий,
чтобы обеспечить победу коммунизма независимо от
того, произойдет ли она в соответствии с историче
скими законами или вопреки им» !.
Западногерманский социолог Г. Зоннтаг в книге
«Маркс и Ленин. Социология современной револю
ции» предпринимает попытку путем спекулятивных
теоретических построений доказать, что К. Маркс и
В. И. Ленин будто бы по-разному подходили к опре
делению понятия диалектики: Маркс трактовал ее с
позиций механически-экономических воззрений, а
Ленин в узкорационалистическом, субъективистско-
прагматическом духе. «Различие между диалекти
кой классического марксизма и ленинизмом заклю
1
W. Ebenstein. Two Way? of Life. Communist Challenge to
Democracy. N. Y., 1962, p. 118—119.
196
чается в том, что для Маркса диалектика означает
способ бытия и закон развития, в то время как для
Ленина она, по сути дела, составляет лишь метод.
Соответственно этому диалектика марксизма в ходе
исторического развития осуществляется сама по се
бе; Ленин, напротив, считает, что она долж на быть
осуществлена действиями людей» 1.
Неправомерно противопоставляя положения, про
извольно вырванные из контекста работ Маркса и
Ленина по вопросам революционной стратегии и так
тики, выдвинутые ими в совершенно разных кон
кретно-исторических условиях и применительно к
абсолютно различным обстоятельствам, Г. Зоннтаг
пы тается установить некую границу «политического
изм ерения революционной теории М аркса и Ленина».
Он стремится представить ленинизм как «теоретиче
ское обоснование физического террора в политике»,
доказать, «что Ленин видоизменил в ключевых по
ложениях марксову теорию развития капиталисти
ческого общества, превратил ее в прагматическое ис
кусственное учение о захвате власти... Ленин не же
лал ждать, пока состояние технико -материальных
производительных сил позволит осуществить рево
люцию» 2.
Таким образом, метод «критического анализа»
марксизма-ленинизма теоретиками антикоммунизма
состоит в том, что они сначала создают свои иска
женные модели марксизма и ленинизма, произволь
но приписывают их Марксу и Ленину, а затем под
вергают эти плоды своих псевдонаучных домыслов
критике, спекулируют на придуманных ими теоре
тических противоречиях между марксизмом и лени
низмом.
В революционной активности рабочего класса, ру
ководствующегося теорией научного коммунизма,
идеологи антикоммунизма не без основания видят
главную у грозу господству монополистического капи
тала. Поэтому они стремятся затушевать и исказить
революционный характер марксизма, представить
К. Маркса в качестве сторонника «плавной револю
1 Н. Sonntag. Marx und Lenin. Zur Soziologie dor moderncn
Revolution. Bochum, 1908, S. 179.
2 Ibid., S. 127, 15G.
197
ции», понимая под этим реформистскую деятельность
в рамках капиталистического строя. Ленина же они
пытаются представить «отступником» от марксизма,
который «толкнул» современное коммунистическое
движение на путь «революционных скачков».
Так, Ш. Авенири в книге «Социальное и полити
ческое учение Карла Маркса» пытается доказать,
что «революционная стратегия современного комму
низма», так же как и «практическое осуществление
социализма в наши дни», не имеет ничего общего с
«первоначальными идеями Маркса» К Произвольно
трактуя критические высказывания Маркса в адрес
бакунизма и бланкизма, Ш. Авенири стремится изоб
разить его чуть ли не принципиальным противником
применения всяких насильственных действий для
революционного преобразования общества и перехо
да от капитализма к социализму. Авенири представ
ляет дело так, будто Маркс рассматривал прогресс
человеческого общества как некий пассивный про
цесс «саморазвития», в ходе которого смена обще
ственных формаций и социально-экономических ин
ститутов происходит без каких-либо революционных
скачков, насильственных акций и вообще без классо
вой борьбы. Он приписывает Марксу чуждую марк
сизму точку зрения, будто «обращение к насилию
является доказательством того, что цели, которые
преследует революция, не могут быть достигнуты в
настоящий момент, что их время еще не настало» 2.
Тезис о неизбежности революционного взрыва,
вызываемого антагонистическими противоречиями
капитализма, Авенири приписывает полностью по
следователям Маркса. Что же касается позиции
Маркса, то для него, по утверждению Авенири, уже
сами по себе сдвиги в революционном сознании про
летариата, достигаемые «посредством самооткрытия
через организацию», предполагают соответствующие
изменения действительности3. Таким образом, в
трактовке Авенири Маркс предстает вовсе не револю
ционером, а сторонником исключительно эволюцион
1Sh. Avencry. The Social and Political Thought by Karl
Marx. Cambridge, 1908, p. 21.
2 Ibid., p. 188 -189 .
3 Ibid., p. КЗ.
198
ного развития исторического процесса; марксизм же
выглядит не революционной теорией, а фаталисти
ческой догмой. Развитие марксистской теории и ре
волюционную практику после Маркса Авенири изоб
ражает как период «вульгаризации» идейного насле
дия Маркса его последователями, и прежде всего Ле
ниным.
Марксизм, по мнению западных советологов, при
нял в ленинизме «волюнтаристское лицо», став
идеологией современного тоталитаризма и экстре
мизма, сущностью которой якобы является «отрица
ние всего сущего, всякого социального порядка», ве
ра лишь в «творческую природу тотального разру
шения» К
Г. Нимейер сравнивает ленинское учение о рево
люции с кантовским «категорическим императивом»,
который не изменяется со сменой фаз исторического
развития и представляет как бы прямую линию от
вечности к человеческому сознанию. Аналогичным
образом и «ленинский им ператив революционного
политического действия» не зависит якобы от дан
ной исторической среды, ибо пр едставляет собой
прямую линию, проведенную от «конечной цели» к
человеческой воле: хотя содержание революционных
политических действий и может изменяться в зави
симости от характера общества, эти действия всегда
соответствуют «конечной цели», а не тем или иным
общественным потребностям. Ленинское требование
«независимой политической организации» и «само
стоятельного мышления» рабочего класса истолко
вывается Г. Нимейером как «независимость полити
ческих действий» от требований общественной ж и з
ни, от реальных социально-исторических условий.
В конце концов Г. Нимейер дофилософствовался до
того, что приписал Ленину отрицание «самой идеи
политического порядка». Созданная Лениным партия
выступает в его трактовке как «организация войны».
Сам же Ленин, вождь мирового пролетариата, глава
первого социалистического государства, подписав
ший первые его декреты, среди которых был Декрет
1
G. Niemeyer. Lenin — and the total critique of society.
A study of ideological activism. «The Review €f Politics», vol. 26.
N.Y., 1964,N4,p.86.
199
о мире, инициатор политики мирного сосуществова
ния государств с различным общественным строем
и других антивоенных акций, предпринятых Совет
ской властью, предстает в этих жалких измышлени
ях как подстрекатель к «войне, не оканчивающейся
миром» К
Подобного рода антинаучные рассуждения, аб
сурдные противопоставления взглядов К. Маркса и
В. И. Ленина — результат не только метафизическо
го мышления буржуазных авторов, не способных
или не желающих понять диалектико-материалисти
ческую сущность марксистского учения. В основе
искаженного толкования ими сущности ленинизма,
его творческого характера лежат причины сугубо по
литические. Противопоставление Ленина Марксу по
надобилось буржуазным теоретикам и ревизиони
стам для обоснования ложного тезиса о ленинизме
как узконациональном явлении, для ограничения
значения теории и практики социалистической рево
люции лишь рамками России. Им хотелось бы пред
ставить Великую О ктябрьскую социалистическую
революцию как некую «историческую аномалию»,
как результат заговорщической деятельности куч
ки большевиков во главе с Лениным, насильно навя
завш ей народу социализм. «В 1917 году горсточка
преданных идее и дисциплинированных революцио
неров, сумев использовать законное возмущение сво
им положением уставшего от войны русского наро
да,— заявляет X. Л. Хант,— превратила революцию
в движение террора, в условиях которого и было
выковано нынеш нее советское государство» 2.
Так, от тезиса о «прагматическом и волю нтарист
ском характере ленинской концепции социалистиче
ской революции» ревизионисты и теоретики антиком
мунизма перекидывают мост к другому, не менее
антинаучному и клеветническому тезису об «искус
ственности» и «противозаконности» О ктябрьской со
циалистической революции, которая, по их утвер ж
дению, не являлась «общественно-исторической не
1 G. Niemeyer. L enin — and the total critique of society.
A study of ideological activism . «The Review of Politics», vol. 20,
N4,p.80,94.
2 «New York Times», 17 April, 1971.
200
обходимостью». Стремясь представить ленинизм уз
конациональным явлением, они выводят его из «рус
ского революционного мыш ления», под которым под
разумевается анархизм и народничество. Особенно
рьяные противники ленинизма договариваются до
того, что в качестве идейного предшественника
В. И. Ленина назы вают революционного народника
П. Н. Ткачева, а ленинизм объявляют всего лишь раз
новидностью «ткачевщ ины» К
Цель подобного рода фальсификации — предста
вить Октябрьскую социалистическую революцию
как результат заговора узкой группы «большевист
ских фанатиков», захвативших государственную
власть и навязавших народу свою диктатуру.
Французский философ А. Пьетр приписывает Ле
нину «искусственную готовность» организовывать
революции в любое время и в любом месте. В лени
низме, заявляет он, «детерминизм уступает место
волюнтаризму. Революция не имеет в себе больше
ничего стихийного. Ее готовят, как готовят войну» 2.
Именно таким искусственным, по его мнению, путем
была организована и осуществлена Октябрьская со
циалистическая революция, носящая якобы от нача
ла до конца «путчистский характер». «В марксиз
ме,— утверждает американский социолог Д. Белл,—
в ходе его исторической эволюции наблюдается ис
чезновение первоначальных целей и концентрация
внимания прежде всего на средствах... Особенно за
метно, как цель и средства меняются местами в ле
нинском варианте марксизма в период и после зах
вата власти коммунистами в России» 3.
Обвинение марксизма буржуазными идеологами
в принижении роли сознательной, творческой дея
тельности людей в истории, в сведении развития
общества к фатальному, автоматическому действию
безликих экономических законов лишено каких-ли
бо теоретических оснований. К. М аркс и Ф. Энгельс,
1 См., например: L. Fisher. The Life of Lenin. N. Y.,
1964; A. Weeks. P. N. Tkachev. The First Bolshevik. Political
Biography of Peter Tkachev. N. Y., 1008.
2 A. Piettre. Marx et Marxisme. Paris, 1962, p. 102.
3 D. Bell. The Post-Industrial Society: Technocracy and Poli
tics. Mimeagr, 1970, p. 50.
14
в. в. Денисов
201
обосновывая материалистическое понимание исто
рии, подчеркивали в своих трудах определяющую
роль способа производства, материальных условий
в р азвитии общества. Но это отнюдь не означает, что
они отрицали роль сознания, идей, субъективного
фактора. Напротив, они считали, что идеи становят
ся материальной силой, когда они овладевают масса
ми 1.
Не случайно марксистский анализ любых соци
альных явлений выходит за пределы гносеологии и
активно вторгается в область общественной практи
ки, политической деятельности партий, масс. «Док
трина Маркса,— писал В. И. Ленин,— связала в одно
неразрывное целое теорию и практику классовой
борьбы» 2.
Противопоставляя «экономический детерминизм»
К. М аркса «волюнтаризму» В. И. Ленина, недобросо
вестные буржуазные оппоненты сознательно не за
мечают наличия глубокой органической связи, общ
ности и преемственности между идеями К. Маркса
и В. И. Ленина. Они не желают видеть, что именно
марксистскими принципами подхода к истории руко
водствовался В. И. Ленин в своей теоретической и
политической деятельности. Именно верность этим
принципам заставила Ленина в условиях, когда объ
ективные предпосылки для революции имелись на
лицо, обратить главное внимание на разработку воп
роса о роли субъективного фактора (теория, органи
зация, сознательность масс и т. д.) как необходимого
звена в реализации объективных закономерностей
революционного процесса. В этом, в частности, со
стоял его неоценимый творческий вклад в теорию и
практику марксизма.
Непреходящее значение и сила ленинизма, ленин
ского метода исследования процессов общественного
развития, ленинской политической тактики и страте
гии заключаются как раз в том, что Ленин всю теоре
тическую и практическую деятельность строил не
вопреки, а исключительно в соответствии с объектив
ными историческими закономерностями, с назревши
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 422.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 14, стр. 375.
202
ми требованиями эпохи и насущными интересами
пролетарских масс.
В. И. Ленин всегда выступал против отрыва тео
рии от исторической реальности. «Точка зрения ж из
ни, практики должна быть первой и основной точ
кой зрения теории познания» К Практика революци
онной борьбы всегда сложнее и «хитрее» самой ум
ной теории, отмечал он, ибо она есть выражение всех
человеческих способностей, сознания, воли, страсти,
фантазии десятков миллионов людей, подхлестыва
ем ых самой острой борьбой классов. Именно поэтому
практика и является высшим критерием теории, ее
истинности и жизненности.
Борясь против субъективизма и волюнтаризма, в
котором его обвиняют досужие буржуазные и реви
зионистские критики, В. И. Ленин показал, что пар
тия в своей деятельности должна исходить из трез
вого анализа объективных условий, что «нет более
опасной ошибки для пролетарской партии, как стро
ить свою тактику на субъективных желаниях...»2.
Он считал, что сторонниками «экспорта революции»
могут быть «либо безумцы, либо провокаторы». «Мы
знаем, что их (революции. — В. Д.) нельзя сделать ни
по заказу, ни по соглашению, что они вырастают тог
да, когда десятки миллионов людей приходят к вы
воду, что жить так дальше нельзя» 3.
В. И. Ленин неизменно руководствовался указа
ниями Маркса и Энгельса о том, что восстание есть
искусство и к нему надо заблаговременно и тщатель
но готовиться. «Признать диктатуру пролетариата,
это не значит: во что бы то ни стало в любой момент
идти на штурм, на восстание. Это вздор. Для успеш
ного восстания нужна длительная, умелая, упорная,
великих жертв стоящая подготовка» 4.
Вопреки голословным обвинениям буржуазных
идеологов в волюнтаризме Ленин не только никогда
сам не был волюнтаристом в теории и на практике,
но последовательно боролся против любых проявле
ний субъективизма, волюнтаризма, политического
‘ В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 18, стр. 145.
2 В. И . Ленин. Поли. собр. соч ., т. 31, стр. 352.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч ., т. 36, стр. 457.
4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, стр. 135.
203
авантюризма и прожектерства, игнорирующих дей
ствие о бъективных закономерностей исторического
процесса. В работе «Объективные данны е о силе
разных течений в рабочем движении» В. И. Ленин,
вскры вая гносеологические корни порочной полити
ки и тактики различных оппортунистических тече
ний, писал: «Один из главных, если не главный, не
достаток (или преступление против рабочего класса),
как народников и ликвидаторов, так и разных интел
лигентских группок, «впередовцев», плехановцев,
троцкистов, есть их субъективизм. Свои ж ел а
ния, свои «мнения», свои оценки, свои «виды» они вы
дают на каждом шагу за волю рабочих, за потребно
сти рабочего движения» 1.
И в научной теории, и в политической практике
Ленин неизменно исходил из требований историче
ской необходимости и их практического претворения
в действительность.
Опыт классовой борьбы пролетариата убедитель
но свидетельствует о том, что подлинно революцион
ное движение не может существовать и тем более
успешно развиваться без революционной теории, без
ее непрестанного творческого разви тия и обогащения,
без умелого применения ее положений в конкретных
исторических условиях. Именно творческое развитие
и мастерское применение Лениным марксистского
учения в новых исторических условиях эпохи импе
риализма во многом предопределило успех Октябрь
ской социалистической революции, уроки и роль ко
торой далеко не ограничиваются рамками России,
как это ни тщатся доказать буржуазные критики
марксизма. Октябрьская революция имеет всеобщее
и непреходящее значение для мирового революцион
ного движения.
Для того чтобы строить революционную политику
и тактику на научных основах, неоднократно под
чер кивал Ленин, коммунистические партии обязаны
учитывать не только внутреннюю обстановку в сво
ей стране, но и международную обстановку в целом,
опыт всего международного коммунистического дви
жения. «Тактика должна быть построена на трезвом,
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 245.
204
строго объективном учете всех классовых сил дан
ного государства (и окружающ их его государств, и
всех государств, в мировом масштабе), а такж е на
учете опыта революционных движений» К
Вся современная действительность, развитие ми
рового революционного процесса служат убедитель
ным опровержением утверждений, что ленинизм яв
ляется чисто русской теорией, применимой лишь ис
ключительно в специфических условиях России. Они
подтверждают слова Ленина о том, что на опыте рус
ской революции, завоеваний социализма в СССР «бу
дущая международная революция будет строить
свое социалистическое здание» 2.
Безусловно, выдающиеся личные качества Лени
н а — его гений великого стратега и организатора, его
динамичная энергия и непреклонная воля — в значи
тельной степени способствовали успеху социалисти
ческой революции. Однако дело было не только и не
столько в этом. Залогом успешного руководства
борьбой трудящихся масс со стороны партии комму
нистов и ее вождя было прежде всего то, что Ленин
при разработке своих теоретических положений и
научных программ, в политической практике неиз
менно опирался на богатейший опыт революционно
освободительной борьбы трудящ ихся масс, на пони
мание общих закономерностей и тенденций социаль
но-экономического разви тия капитализма, исходил
из конкретных условий объективной действительно
сти. «Лишь объективный учет всей совокупности
взаимоотношений всех без исключения классов дан
ного общества, а следовательно, и учет объективной
ступени развития этого общества и учет взаимоотно
шений между ним и другими обществами,— писал
он,— м ожет служить опорой правильной тактики пе
редового класса» 3.
Именно благодаря тому, что Ленин, как и Маркс,
рассматривал процесс исторического развития с по
зиций самого передового и революционного класса —
пролетариата, руководствовался требованием исто
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч ., т. 41, стр. 47.
2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч ., т. 36, стр. 383.
3 В. И Ленин. Полн. собр. соч ., т. 26, стр. 77.
205
рической необходимости, созданное им учение — л е
нинизм— не только не противостоит марксизму, но
является новой ступенью в его творческом развитии
применительно к эпохе империализма и социалисти
ческих революций.
Установив, что тенденцией мирового процесса об
щественного развития в современную эпоху являет
ся переход от капитализма к социализму, Ленин од
новременно подчеркивал, что побеждает не просто
та тенденция, которая в наибольшей степени соот
ветствует объективным условиям исторического раз
вития, а та, на стороне которой выступает определен
ная общественная сила в лице сознательных и орга
низованных действий людей. «Социалистические меч
тания превратились в социалистическую борьбу мил
лионов людей только тогда, когда научный социа
лизм Маркса связал преобразовательные стремления
с борьбой определенного класса» *.
К. Маркс раскрыл всемирно-историческую роль
пролетариата как главной силы, способной не только
разрушить старый мир и положить конец всем фор
мам угнетения и насилия, но и создать новое, спра
ведливое общество, построенное на началах науки и
гуманизма, где всестороннее развитие личности ста
новится целью общества и одновременно условием
его прогресса, где успешно преодолеваются социаль
ные антагонизмы, обеспечивается подлинная свобо
да и равенство всех людей. Создавая коммунистиче
ское общество, писал Ф. Энгельс, «мы уничтожаем
антагонизм между отдельным человеком и всеми ос
тальными, мы противопоставляем социальной войне
социальный мир...» 2.
Это предвидение превращается ныне в историче
скую реальность, воплощается в жизненной действи
тельности развитого социализма.
В противоположность последнему иррациональ
ная и антигуманная природа капиталистического
строя несовместима с подлинной демократией, сво
бодой личности, социальным равенством, всеобщим
и прочным миром. Буржуазные общественные отно
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12, стр. 45.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 537.
206
шения неизбежно порождают и воспроизводят в мас
совом масштабе всевозможные социальные антаго
низмы и конфликты. Они являются той питательной
средой, на которой произрастает и культивируется
идеология индивидуализма и жестокой конкурент
ной борьбы, насилия и милитаризма.
Все видоизменения, которые претерпела полити
ческая надстройка капиталистического общества в
процессе своего исторического развития в формах ор
ганизации, в методах и способах управления, в ко
нечном счете были подчинены целям подавления и
угнетения народных масс, удержания их в повино
вении. Эти видоизменения проходили прежде всего
в направлении расширения системы административ
но-бюрократического аппарата и карательных орга
нов буржуазного государства, активизации их реп
рессивной деятельности, направленной своим остри
ем против трудящихся, всех прогрессивных и демок
ратических сил общества. В капиталистических
странах создана и функционирует разветвленная си
стема органов подавления в виде армии, полиции,
различного рода военизированных соединений, про
куратуры, тюрем, разведки и других учреждений
репрессивного характера. Империализм, отмечал
В. И. Ленин, склонен «управлять» историей с по
мощью пулеметов. В условиях второй половины
XX века империалисты хотели бы «делать» историю
при помощи термоядерного и ракетного оружия, ор
ганизованного и массового насилия над трудящи
мися.
Вместе с неуклонным ростом всех видов и форм
насилия в мире капитала повышается спрос и на со
ответствующие буржуазные концепции и доктрины,
все более настоятельной становится потребность
идейно-теоретической апологетики культа силы в
идеологии и политике империализма.
К. Маркс в свое время отмечал, что в обществе,
где господствуют частнособственнические отноше
ния, все социальные идеи, так же как и их творцы,
оцениваются «только лишь по их коммерческой сто
имости» 1. Работы большинства современных буржу-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, стр. 601.
207
азных теоретиков, посвященные проблеме социаль
ного насилия, подтверждают правильность этого
марксова положения.
Некоторые буржуазные теоретики идут сейчас в
трактовке проблемы насилия по пути откровенного
идеологического экстремизма. Подвергая критике
справа традиционные принципы и методы буржуаз
ной демократии и ратуя за их ограничение или даже
ликвидацию вообще, они призывают к установлению
«твердого порядка» и «сильной власти», способных
«лечить» насилие... насилием . «Для общества, обре
мененного постоянным ростом насилия,— говорится в
недавно вы шедш ей в США книге «Социология абсур
да»,— подлинным лекарством могут стать дополни
тельные дозы насилия, административно вводимые
время от времени во всех звеньях этого общества» К
Однако как в прошлые, так и в настоящую эпохи
насилие реакционных классов бессильно перед зако
нами истории, перед неодолимым общественным
прогрессом. За все свои злодеяния и преступления
они неизбежно понесут расплату. «Сама история те
перь судья, а исполнитель ее приговора — пролета
риат» 2.
В. И. Ленин предсказывал, что наступит время,
когда интернациональное объединение победившего
пролетариата нескольких стран сможет оказывать
решающее влияние на мировую политику, противо
стоять всем реакционным проискам империалисти
ческих сил. Это предвидение превращается ныне в
историческую реальность. Возникновение мировой
системы социализма навсегда положило конец без
раздельному господству капитала в мире. Империа
лизм окончательно утратил историческую инициати
ву. Он уже не способен безнаказанно навязывать на
родам свою волю' и порядки, вынужден лавировать,
идти на признание выдвинутых социализмом прин
ципов мирного сосуществования государств с различ
ным социальным строем.
Социализм своим революционизирующим воздей
ствием на мировые процессы утверждает мир и
1 Цит. по: «Проблемы мира и социализма», 1970, No 7,
стр. 53.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 5.
203
дружбу между народами, идеалы свободы, демокра
тии и прогресса, реш ительно отстаивает интересы
рабочего класса, всех трудящихся.
Высшим вкладом в дело мира, свободы, демокра
тии и общественного прогресса является созидатель
ный творческий труд народов социалистического со
дружества, прокладывающих новые пути историче
ского развития в интересах всего человечества.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Критический анализ основных совре
менных буржуазных концепций насилия позволяет
сделать вывод, что все попытки буржуазной соци
ально-философской мысли дать обоснованную трак
товку этого феномена, вскрыть его сущность, вы
работать эффективные пути предупреждения и уст
ранения насилия из общественно-политической
практики оказались тщетными. Современные бур
жуазные теоретики так же далеки в этом вопросе от
истины, как и их идейные предшественники — мыс
лители-идеалисты прошлых веков. И это, конечно,
не случайно. Н ел ь зя построить научную теорию, если
брать в качестве отправной точки исследования тот
или иной вид идеалистического толкования истори
ческого процесса, м етафизический принцип подхода
к анализу социальных явлений и общественной жиз
ни в целом. Кроме того, над гносеологическими
принципами, теоретическими положениями и аргу
ментацией авторов буржуазных теорий насилия так
или иначе довлеет необходимость выполнения ими
прежде всего «охранительных функций». В совре
менных буржуазных концепциях насилия в такой
же мере, как и в других идеологических мифах пе
риода монополистического капитализма, находят от
ражение мировоззрение империалистической бур
жуазии, принципы и методы проводимой ею поли
тики.
Поскольку любое подлинно научное и объектив
ное исследование социальных законов и явлений не
избежно приходит в противоречие с ограниченными,
консервативными классовыми интересами буржуа
зии, постольку ее идеологам, независимо от их субъ
ективной позиции, не остается ничего другого, как
210
прибегать к теоретической мистификации. Особенно
отчетливо и наглядно это можно видеть на примере
новейших концепций насилия, получивших распро
странение на Западе в последние десятилетия.
В самом общем виде наиболее типичные и уни
версальные признаки, которые так или иначе прису
щи практически всем ведущим буржуазным теориям
насилия, независимо от того, к какому философско
му направлению или школе относятся их авторы,
сводятся к следующему:
абстрактный, внеклассовый и внеисторический
подход к анализу и оценке многообразных проявле
ний насилия в общественной жизни;
неправомерное отождествление качественно раз
нородных по своему социальному содержанию и на
правленности насильственных действий, типологиза-
ция их исходя не из объективных классовых крите
риев, а из субъективных, случайных и формальных
признаков, абстрактно трактуемых нравственных
понятий и категорий;
изображение насилия в качестве некоего «обще
национального» средства поддержания обществен
ного по рядка и сугубо «технического» инструм ента
государственного управления, служащего якобы в
одинаковой степени интересам всех слоев общества;
абсолютизация значения и роли насилия в исто
рическом процессе, возведение его в главный и опре
деляющий фактор общественного развития;
экстраполяция присущих буржуазному обществу
противоречий и социальных пороков, порождающих
различные виды насилия, на всю прошлую и буду
щую историю человечества, на все общественные
формации независимо от их социальной природы.
Одновременно попытки выдать наблюдающийся сей
час в мире капитала процесс «эскалации» насилия за
неотъемлемую черту индустриально развитого об
щества, за «неизбежную издержку» современного
уровня цивилизации, переложив тем самым на все
человечество ответственность за антигуманную и аг
рессивную сущность империализма, его реакцион
ную внутреннюю и внешнюю политику;
идеалистическое и метафизическое объяснение
природы насилия различного рода иррациональными
211
началами и внесоциальными факторами, стремление
доказать «извечный» и «естественный» характер про
явлений насилия в жизни общества, выдать агрес
сивное поведение за врожденное свойство человече
ской природы.
Все это, вместе взятое , обусловливает пессими
стические взгляды буржуазных теоретиков на воз
можность положительного разрешения проблемы на
силия в исторически обозримом будущем, фаталисти
ческую бесперспективность в оценке способностей
человечества устранить насилие как средство и фор
му политических отношений.
Современная буржуазная философия насилия
призвана играть роль своего рода антипода маркси
стско-ленинскому учению об обществе и закономер
ностях его развития, диалектико-материалистиче-
ской трактовки природы и роли насилия в историче
ском процессе. Большинство создаваемых в наши
дни буржуазных социальных теорий, по признанию
Д. Белла, представляют, по сути дела, «диалог с
Марксом» 1. Не составляют исключения из этого пра
вила и новейшие буржуазные теории насилия: на
них неизменно лежит печать антимарксизма, а во
многих случаях и антикоммунизма. Такая идеологи
ческая нагрузка позволяет им быть теоретическим
инструментом империалистической политики.
Вместе с тем в современных условиях лишь
очень немногие из буржуазных идеологов решаются
выступать с позиций откровенной апологетики реак
ционной политики империализма. Большинство бур
жуазных теоретиков предпочитают строить свои
концепции на изощренной социальной демагогии, ис
пользовать различного рода псевдонаучные аргумен
ты, спекулировать на данных современных естест
венных наук. Естественно, что их ответы на вопро
сы, связанные с применением средств насилия и при
нуждения, не могут удовлетворить народы, ведущие
борьбу за революционное преобразование общества,
за свободу и социальный прогресс. Единственно вер
ный, научно обоснованный ответ на эти вопросы
1 D. Bell. The Coming of Post Industrial Society. Л Venture
in Social Forecasting. N. Y., 1973, p. 40.
212
можно получить только обратившись к материали
стическому учению марксизма, к диалектическому
методу анализа явлений и процессов общественной
жизни. Только с позиций диалектического и истори
ческого материализма возможно понять и раскрыть
сущность социального насилия, его роль в истории,
выработать объективные критерии для оценки раз
нородных по своему характеру проявлений насилия
в современном мире. И наконец, только путем ре
волюционной борьбы за уничтожение исторически
отживших капиталистических общественных отно
шений, путем революционной перестройки обще
ства на социалистических началах, создания бес
классового коммунистического общества станет воз
можным покончить навсегда со всеми видами и
формами социального насилия и принуждения. Толь
ко коммунизм явится подлинным разрешением всех
противоречий «между человеком и природой, чело
веком и человеком...» К
1
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений,
стр. 588.
СОДЕРЖАНИЕ
Постановка проблемы
Глава I. Апологетика культа силы в современной
буржуазной социальной мысли
1. Насилие — «социальная болезнь XX
века»?
2. Эволюция буржуазной
«социологии
насилия»
3. Пороки буржуазной типологии наси
лия
4. Мистификация понятия
Глава II. Человеческая природа в зеркале социаль
ной этологии
1. Агрессия: врожденный инстинкт или
социальный феномен?
2. Идеологические функции этологиче-
ских теорий насилия
Глава III. Насилие — «психологическая потребность»
отчужденной личности
1. «Экзистенциальные страхи» и нео
фрейдистские спекуляции на них
2. Концепция «конфликтующих созна
ний» и психоэлектронная модифика
ция социального поведения
Глава IV. «Технологический детерминизм» — новая
форма апологетики милитаризма
1. Противоречия научно-технической ре
волюции при капитализме и их отра
жение в буржуазном сознании
2. «Технологическая
реконструкция»
вместо социальной революции
3. Исторический фатализм теории «ав
томатического краха» войн
Глава V. Насилие и закономерности исторического
прогресса
1. Кто абсолютизирует насилие
2. Миф о «противоположности» лениниз
ма марксизму
Заключение
3
20
37
45
54
7G
102
112
135
148
102
170
178
195
210
ДЗЗ Социология насилия. (Критика соврем, бур
жуазных концепций).
М., Политиздат, 1975.
214 с. (Соц. прогресс и буржуазная философия).
Вокруг проблемы социального насилия ведется острая
идейная борьба. Какова природа, функции и роль социально-
политического насилия в историческом процессе? Что нового
вносит современная эпоха в условия и формы его примене
ния? Каковы пути и средства предотвращения насилия и
устранения его из общественной жизни? Все эти вопросы рас
сматривает кандидат философских наук В. В. Денисов, про
тивопоставляя буржуазной социологии насилия марксистскую
точку зрения.
Книга рассчитана на пропагандистов, лекторов, преподава
телей и студентов; она привлечет внимание и широкого чита
теля, интересующегося проблемами современной идеологиче
ской борьбы.
Денисов В. В.
1ФБ
Денисов Владимир Васильевич
социология НАСИЛИЯ
(Критика современных буржуазных концепций)
Заведующий редакцией А. И. Могилев
Редактор М. А . Лебедева
Младшие редакторы Ж. П. Крючкова и Е. С. Молчанова
Художественный редактор Г. Ф. Семиреченко
Технический редактор Л. К. Уланова
Сдано в набор 28 марта 1975 г. Подписано в печать
17 июля 1975 г. Формат 84 X IO8 V32. Бумага типограф
ская No 2. Условн. печ. л. 11,34. Учетно-изд. л. 10,63.
Тираж 42 тыс. экз . А 00106. Заказ No 4409. Цена 32 коп.
Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.
32 коп.