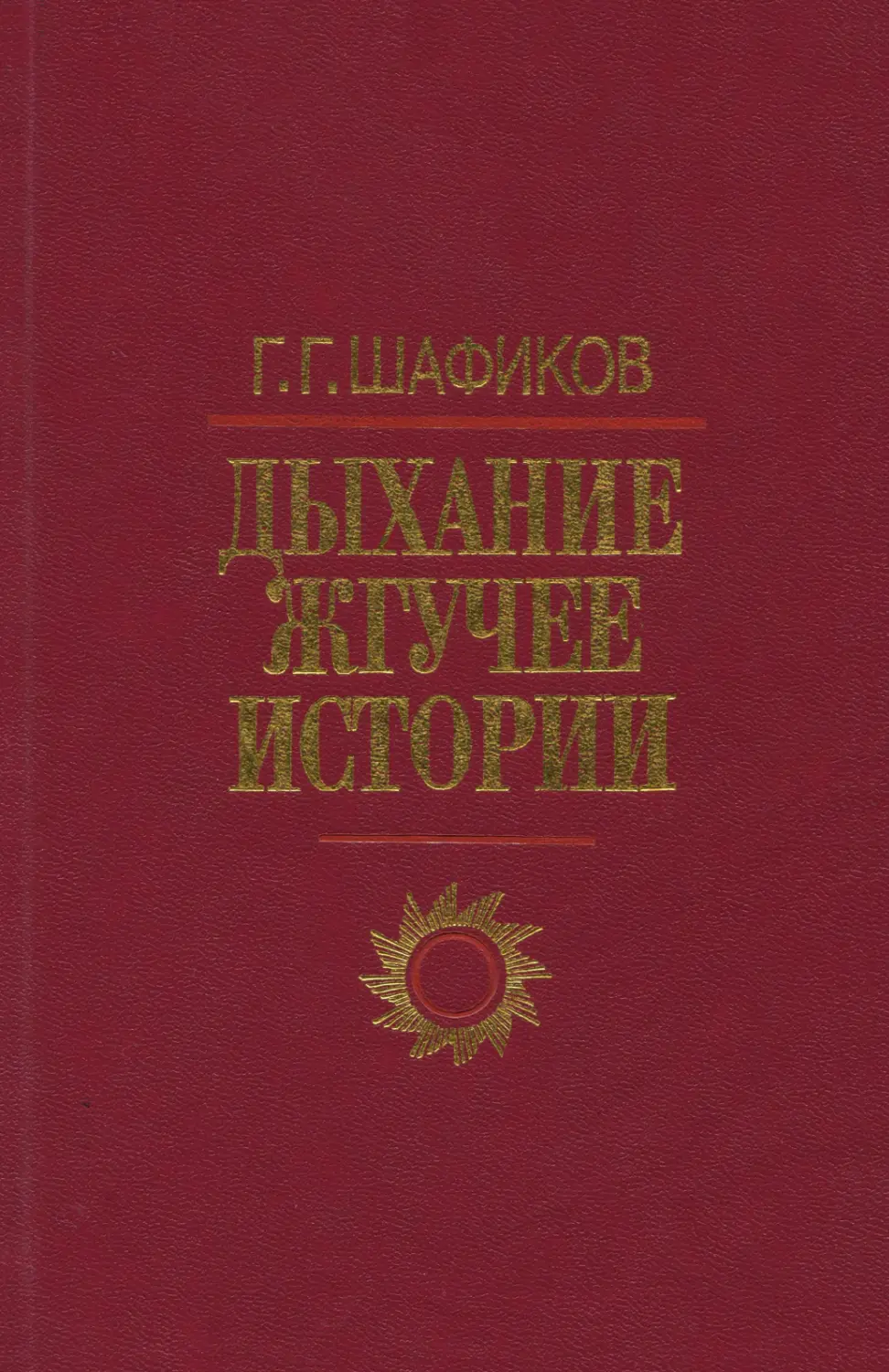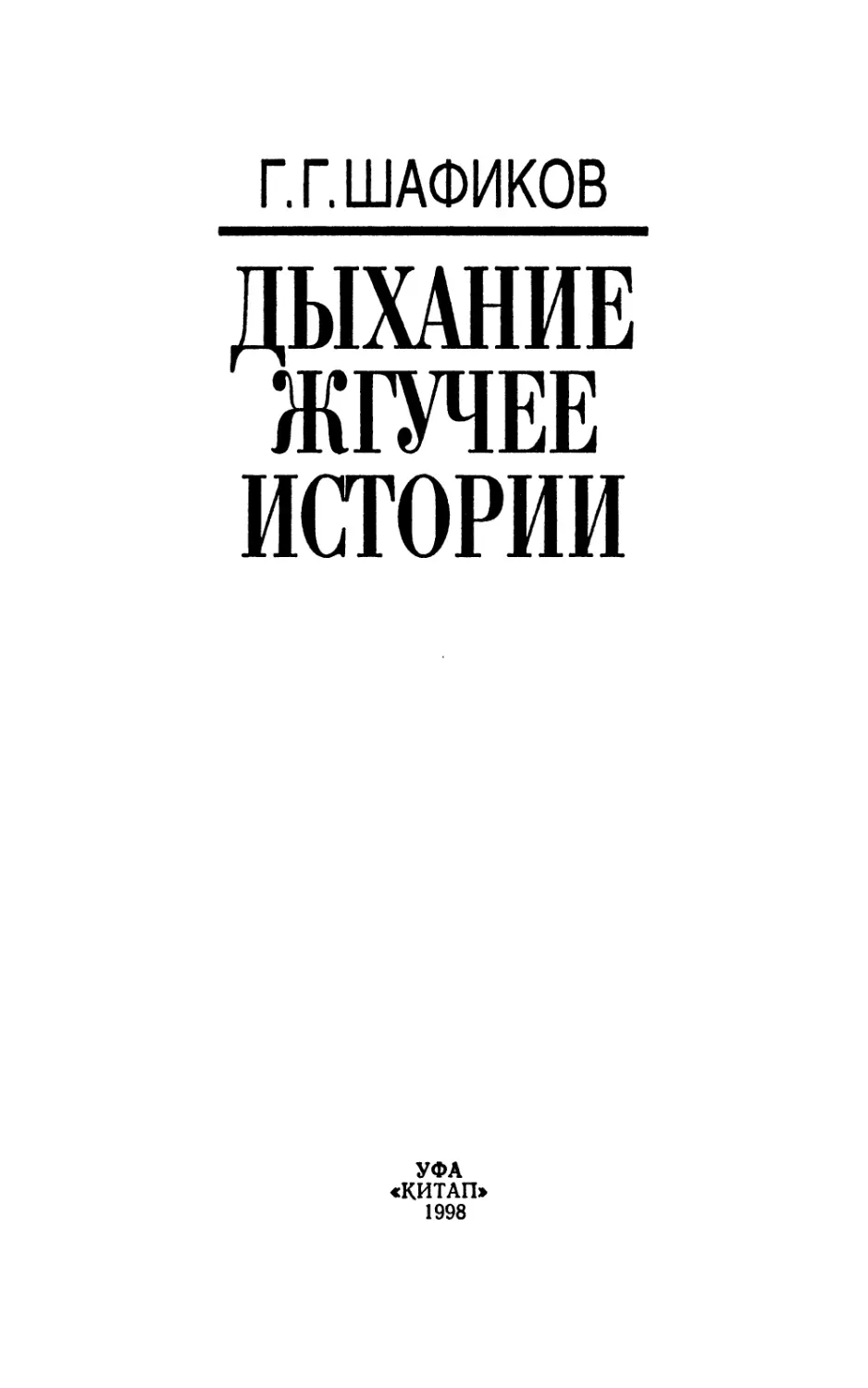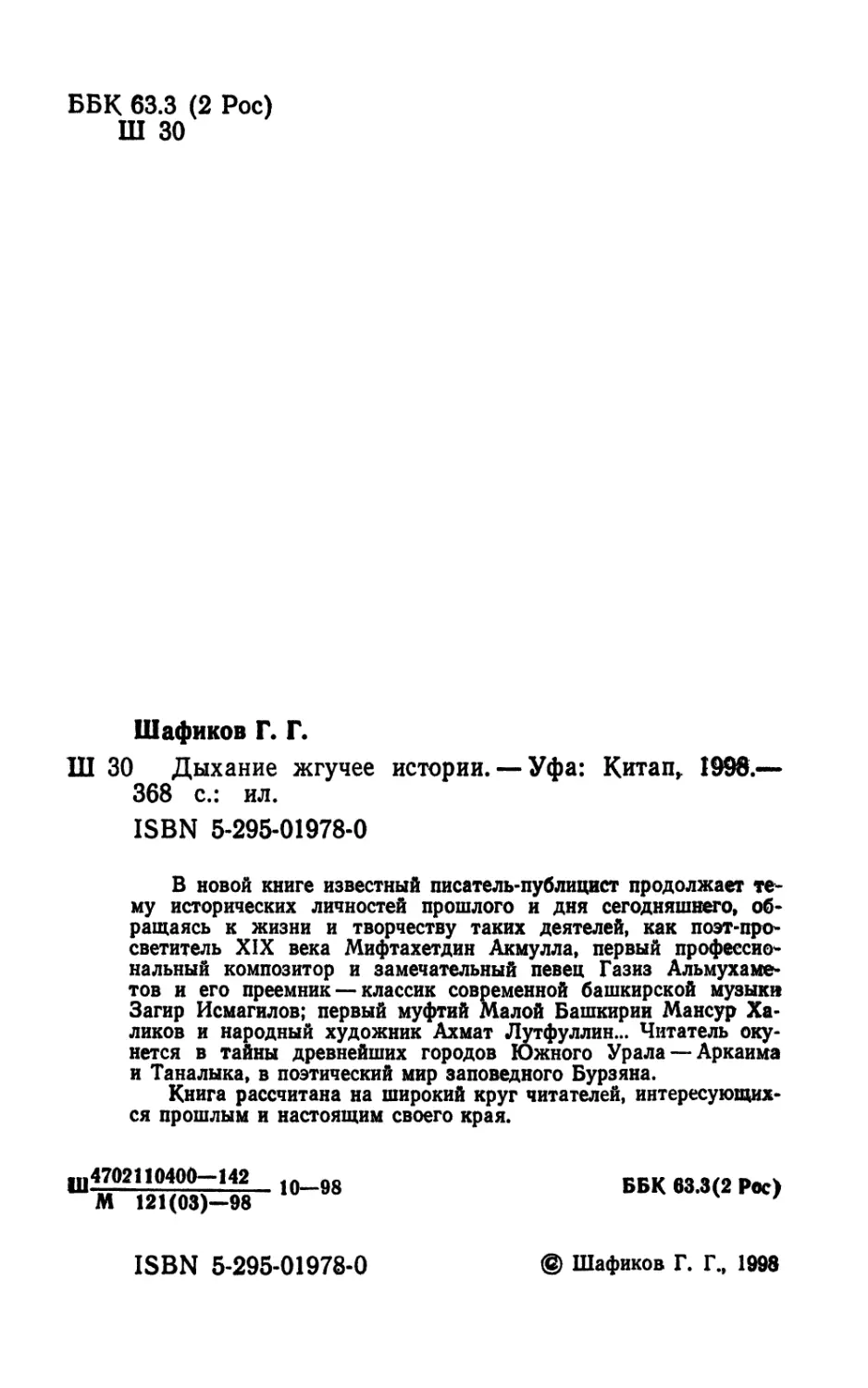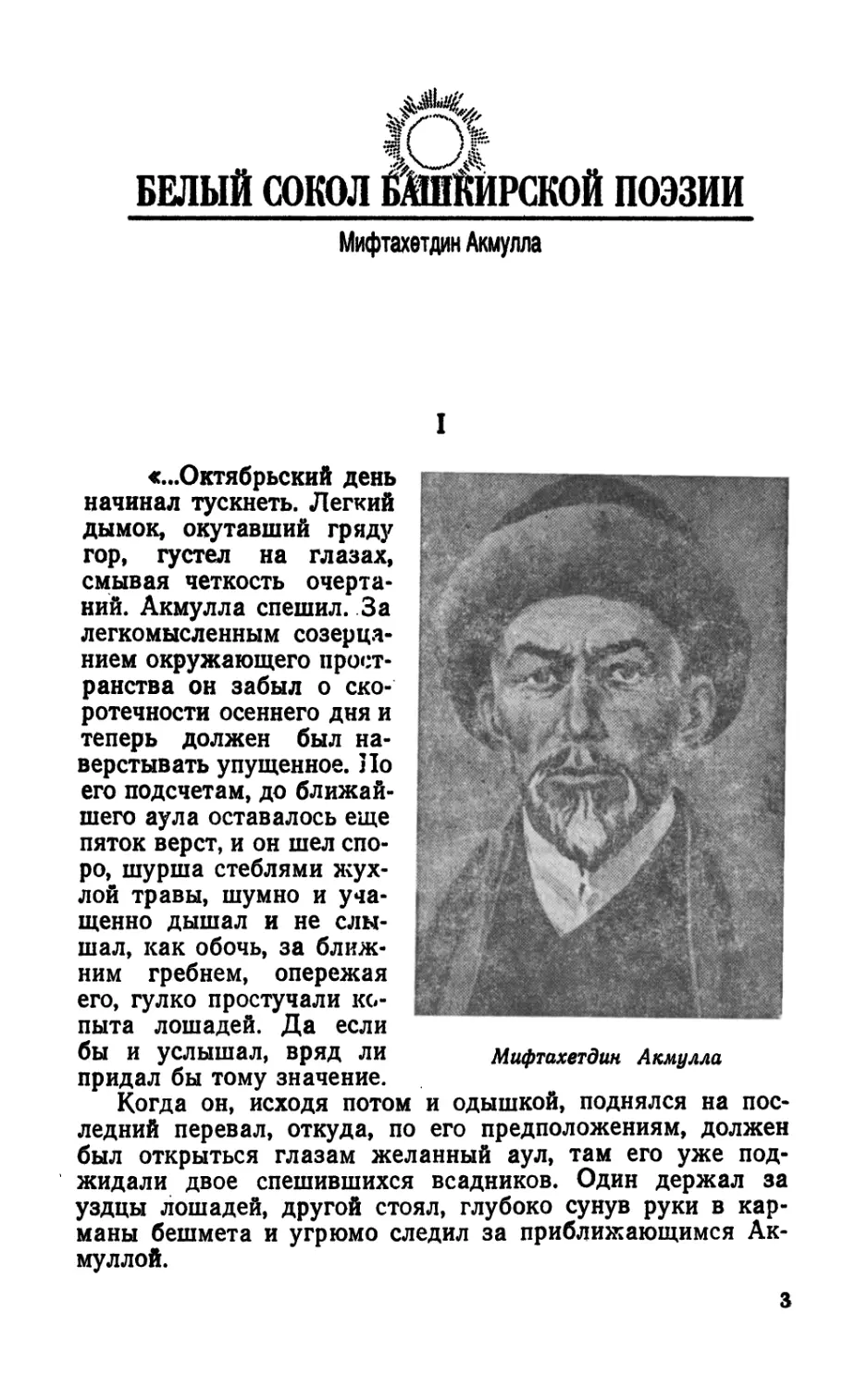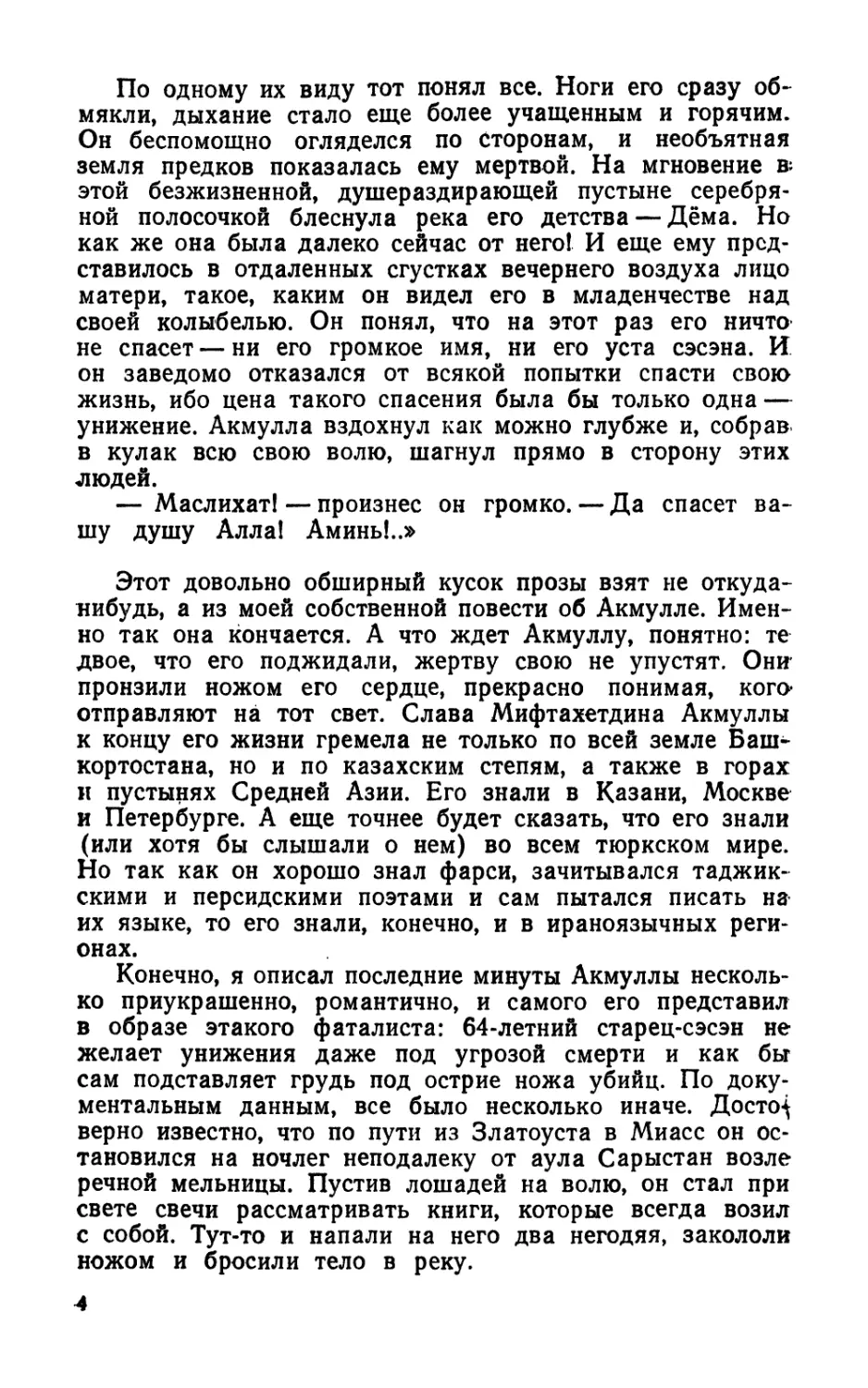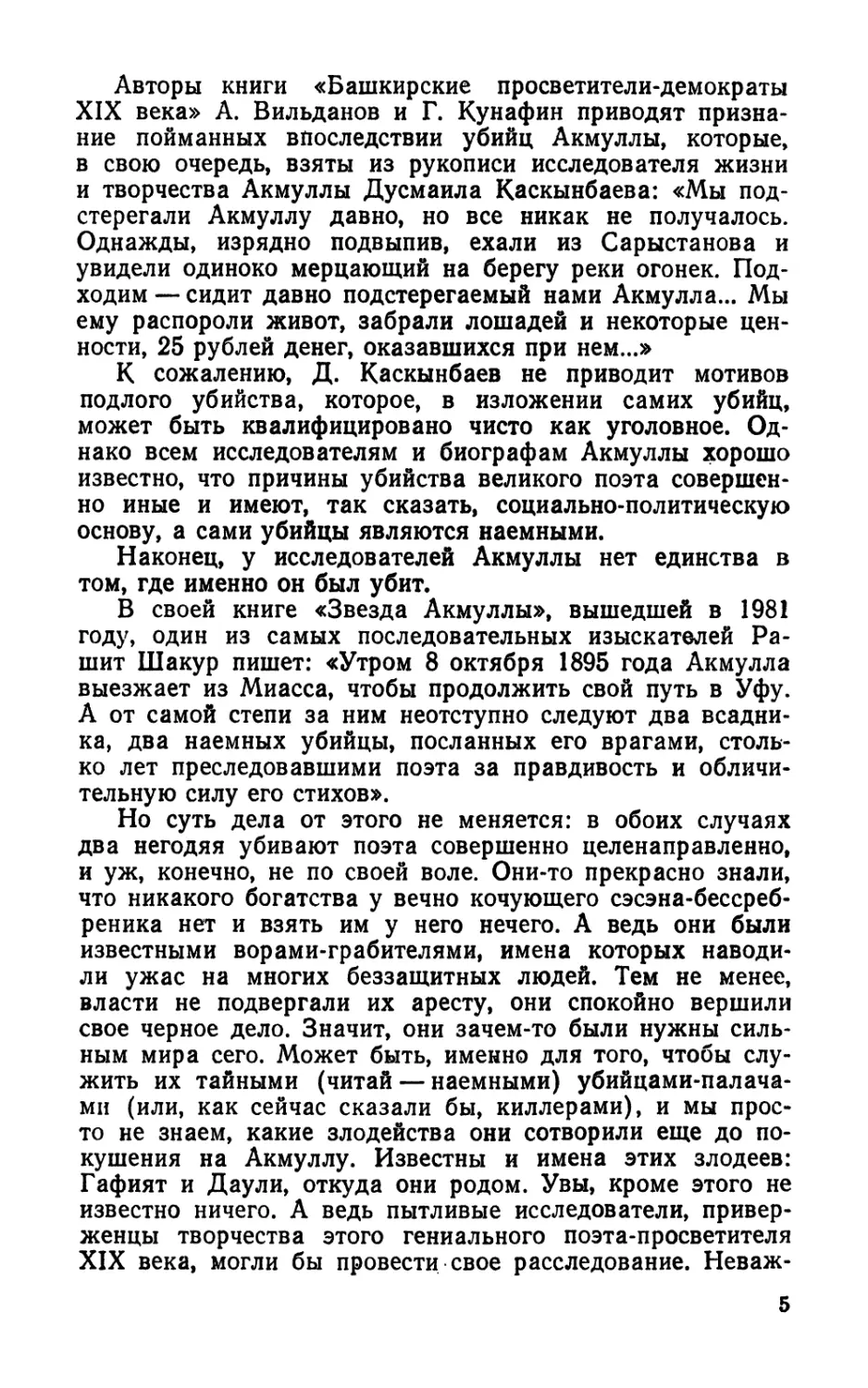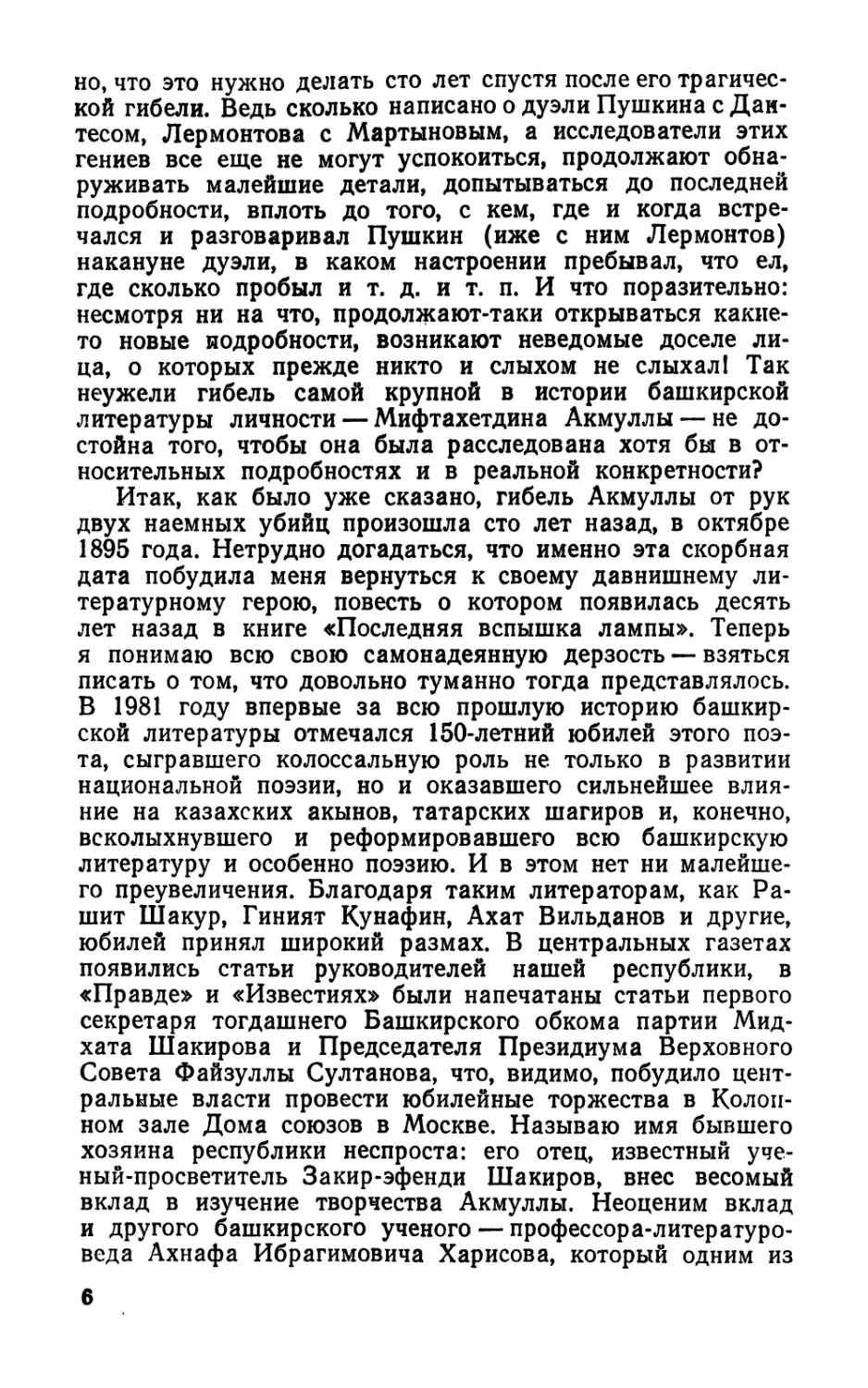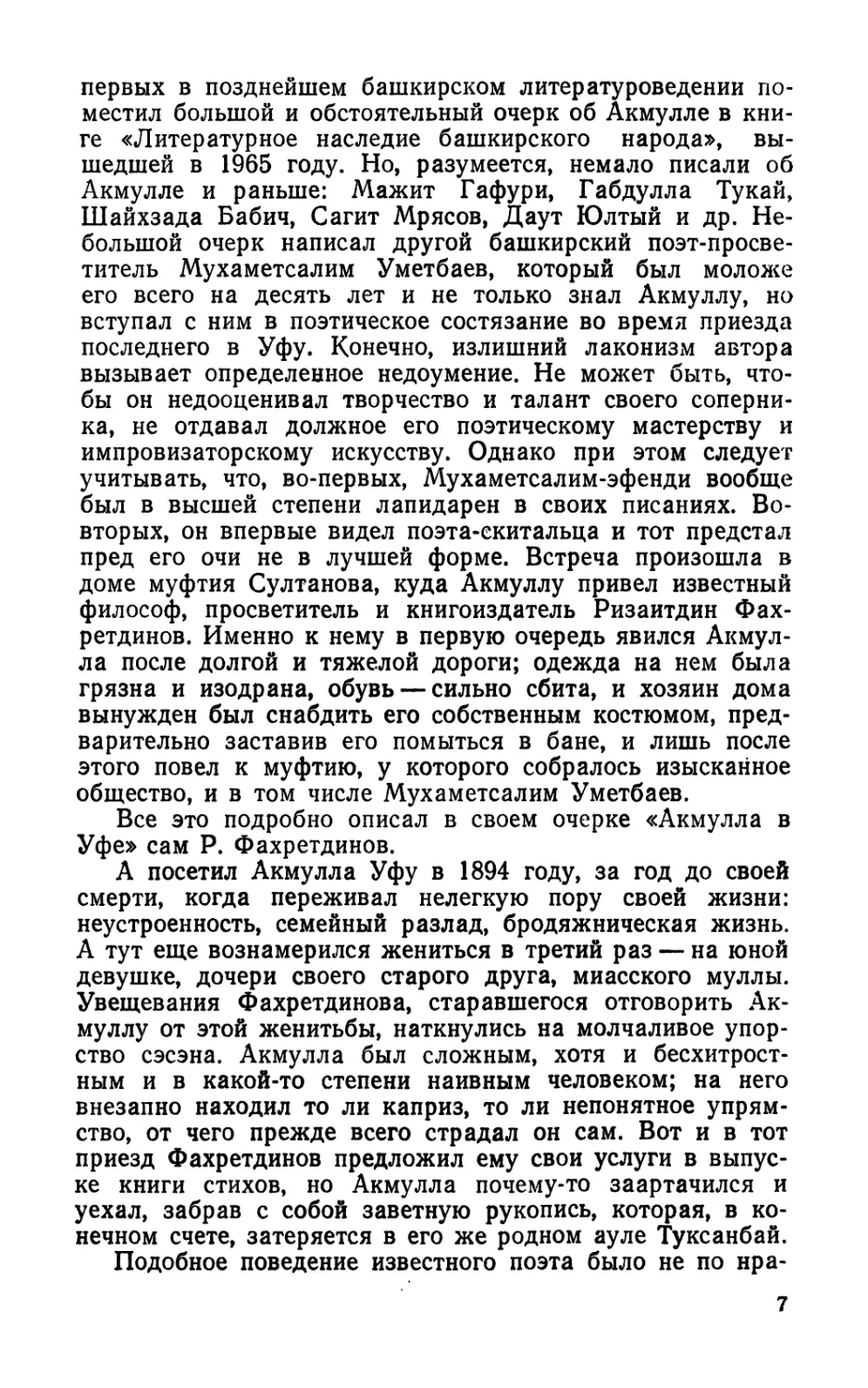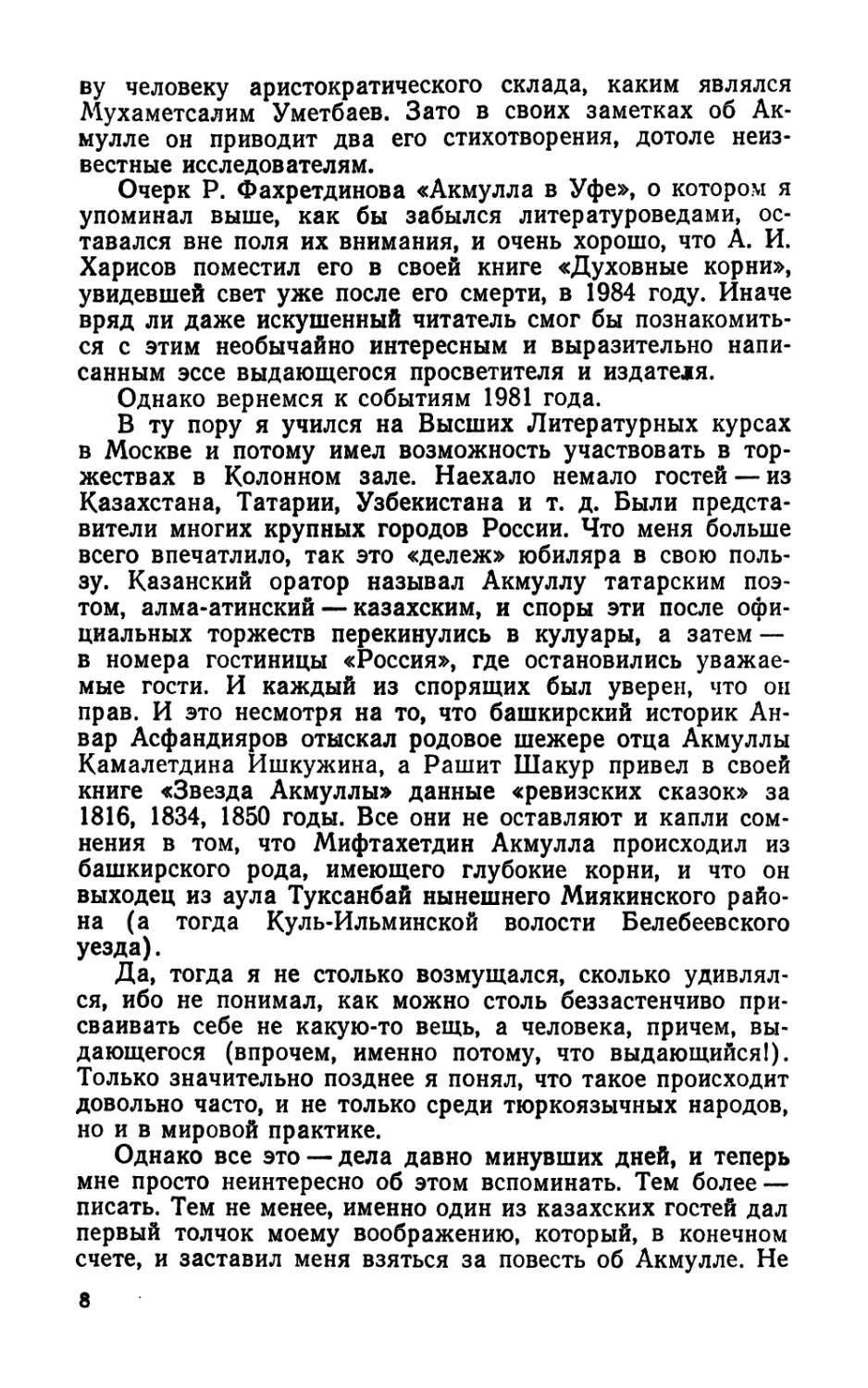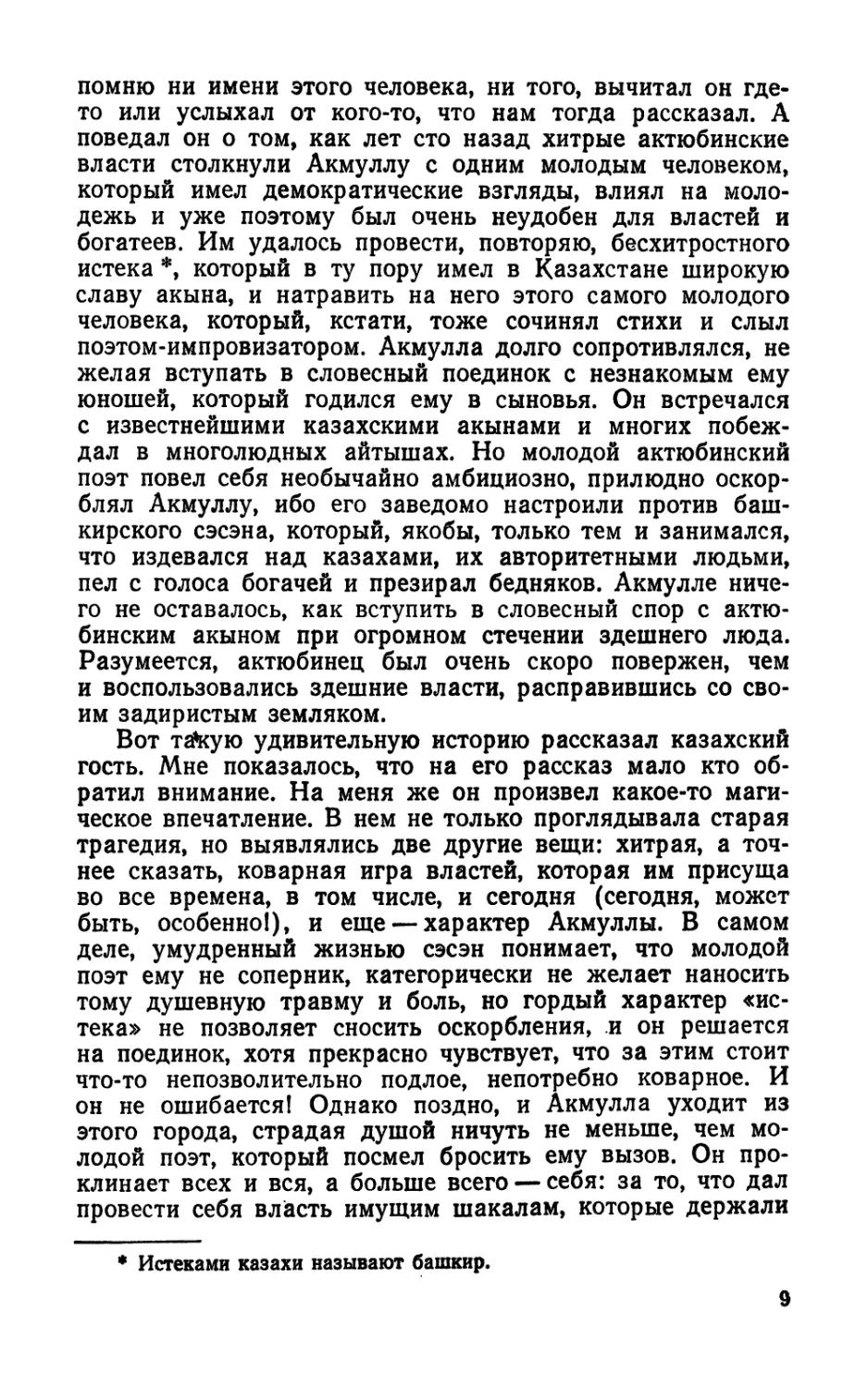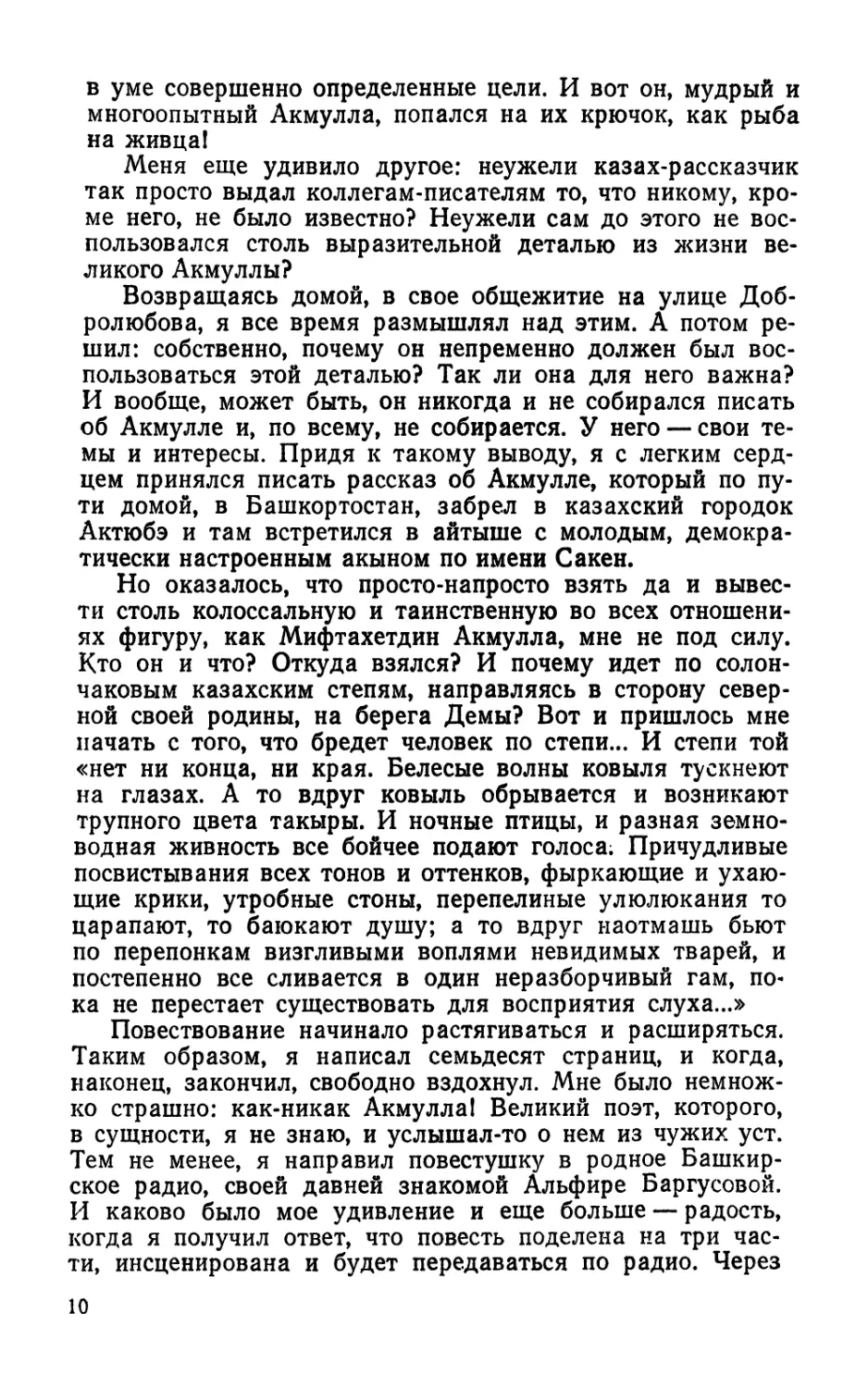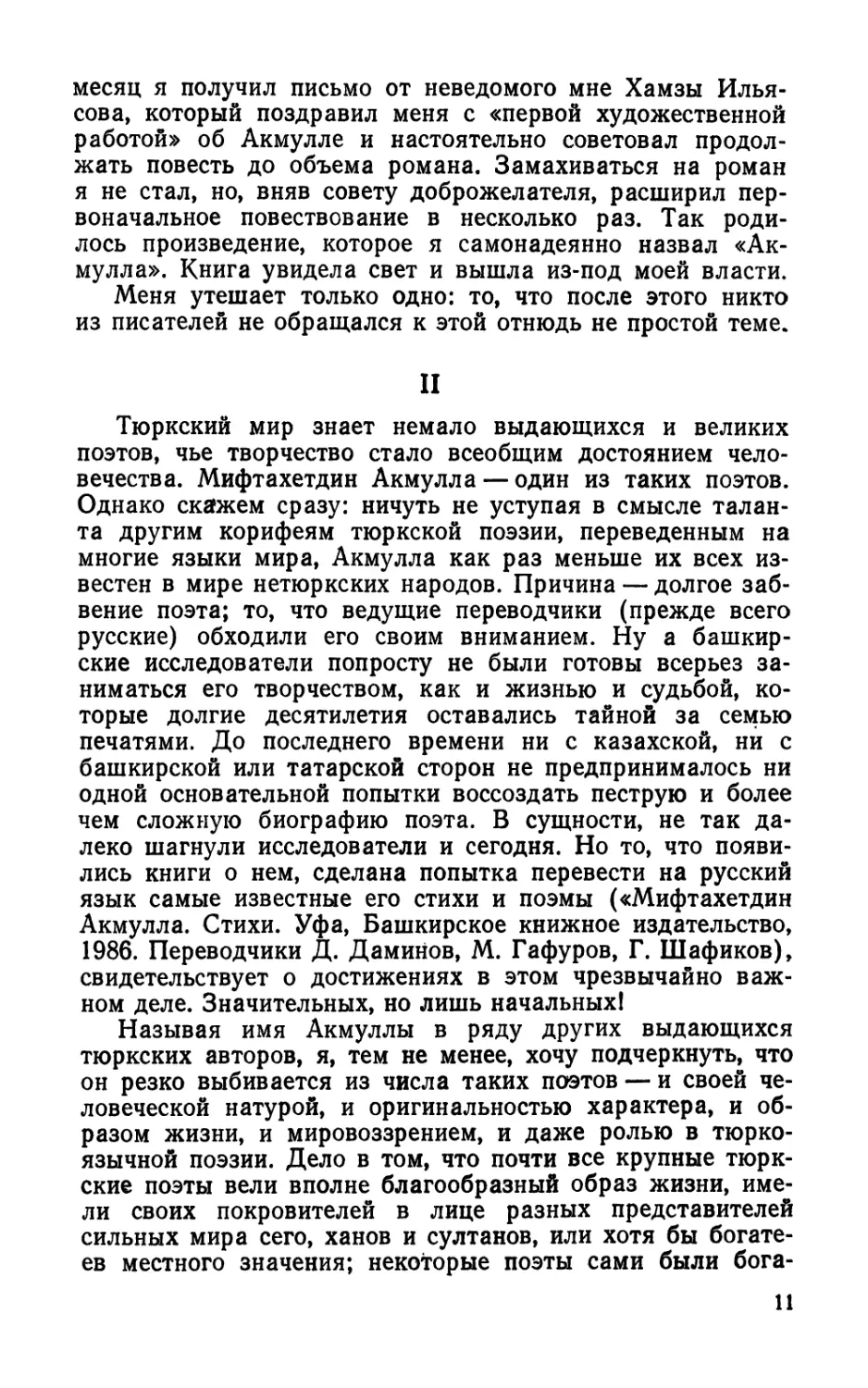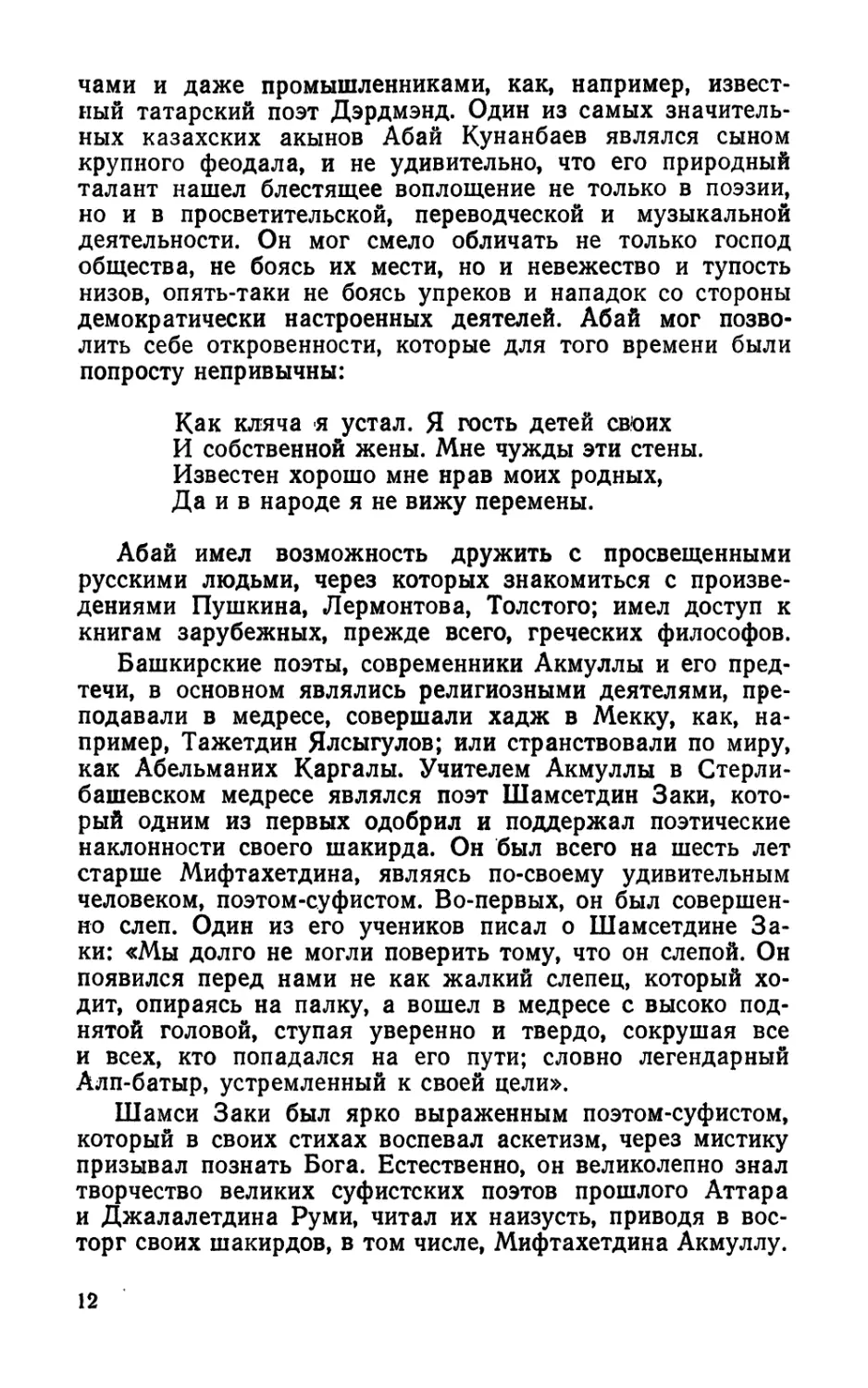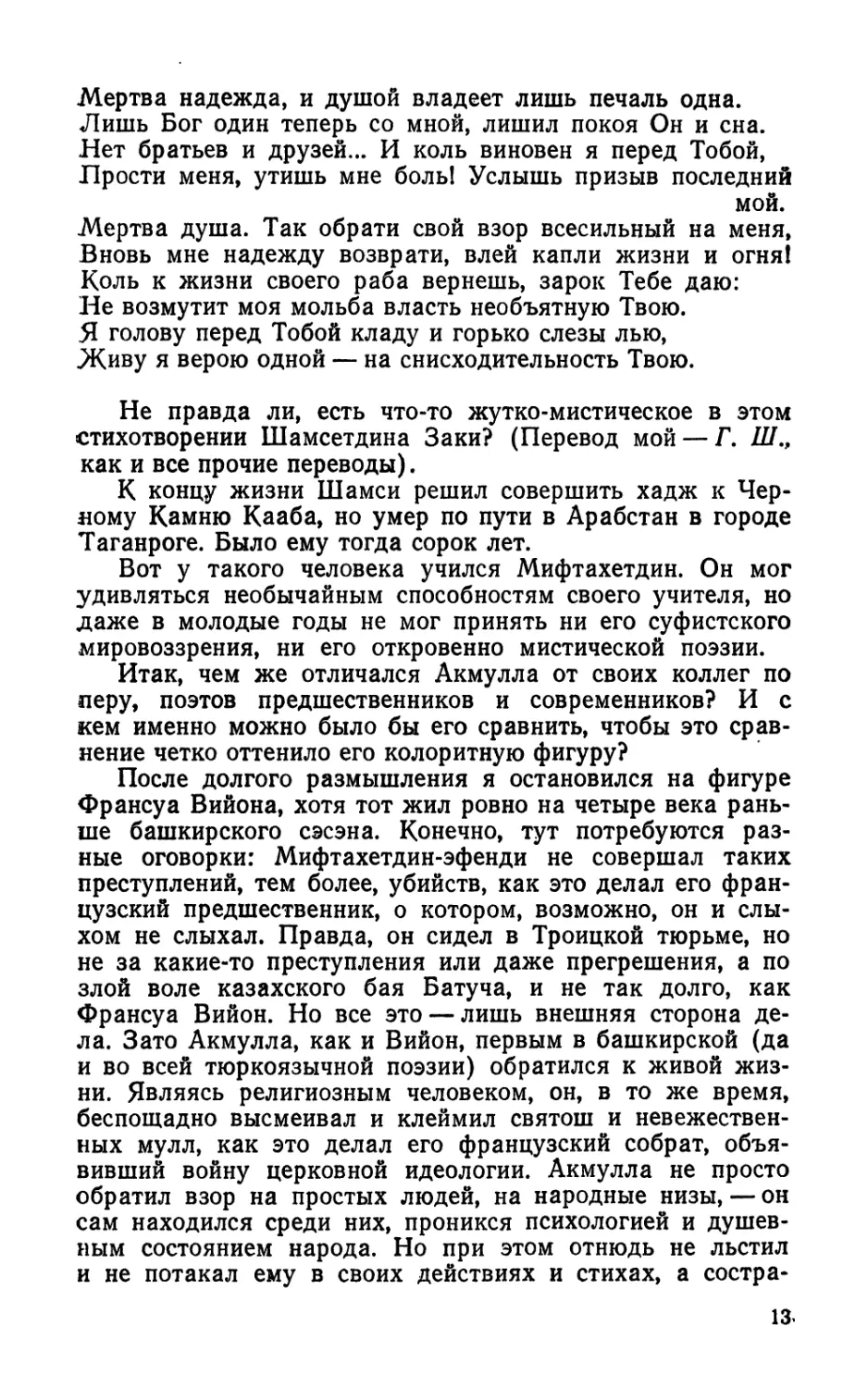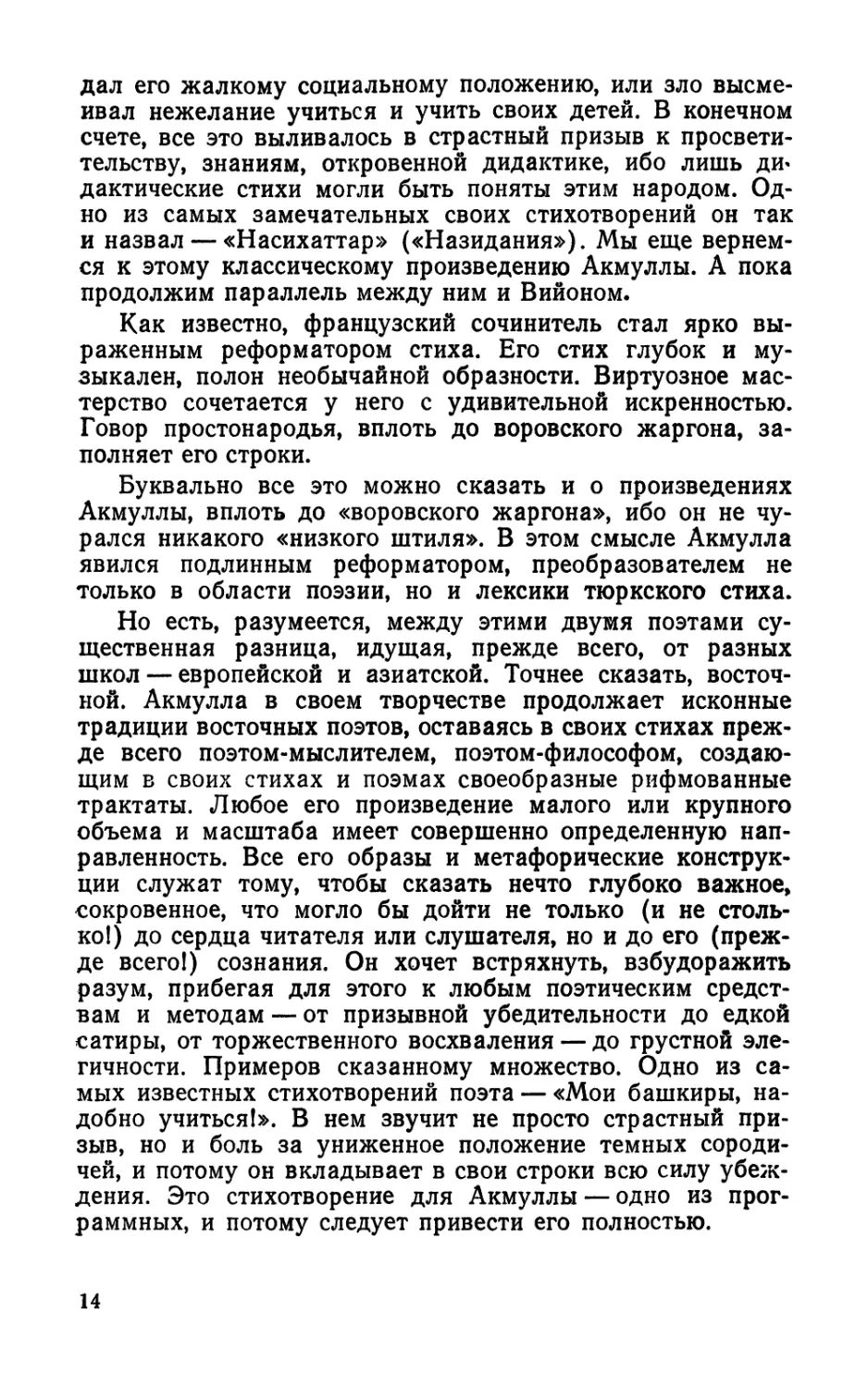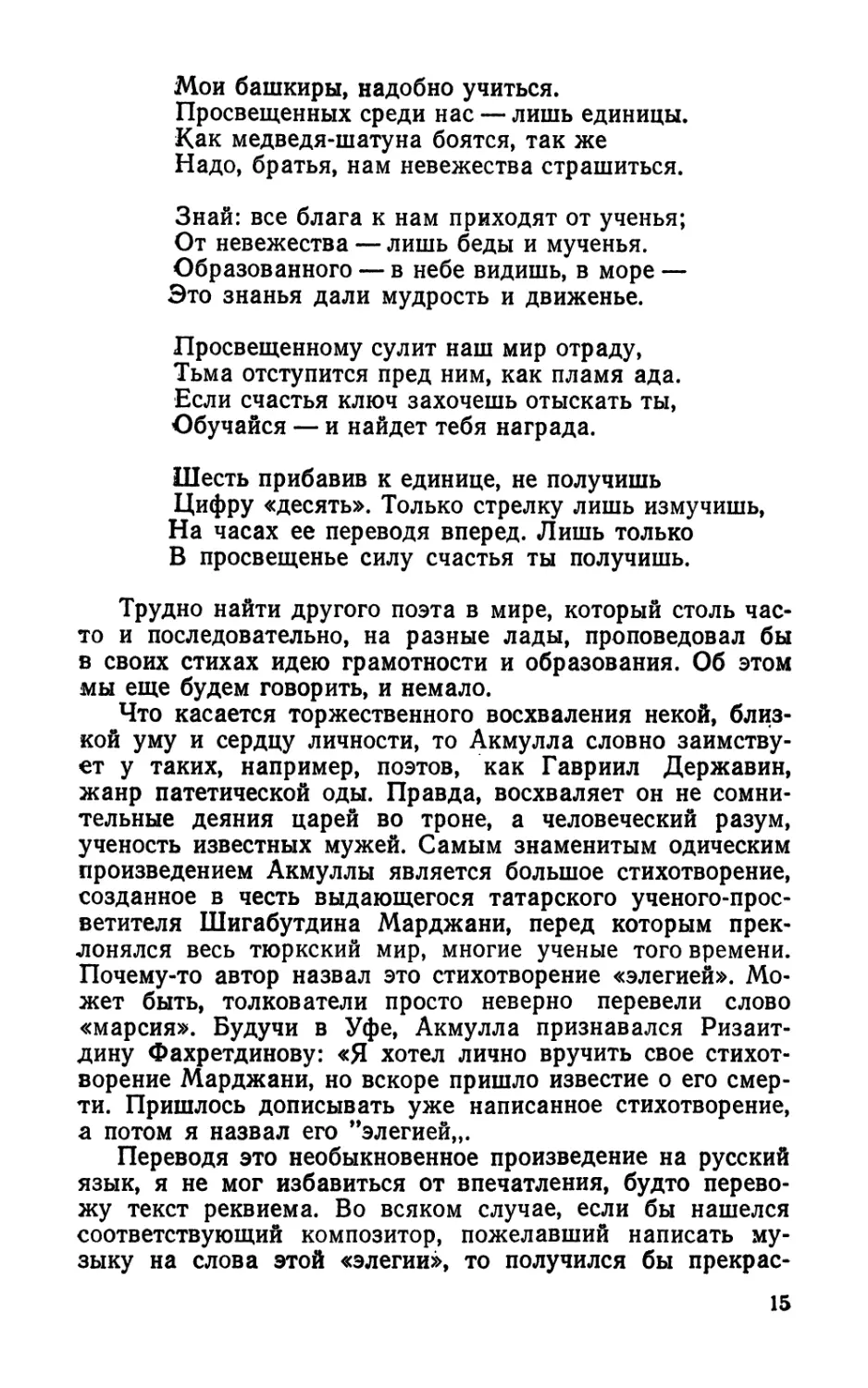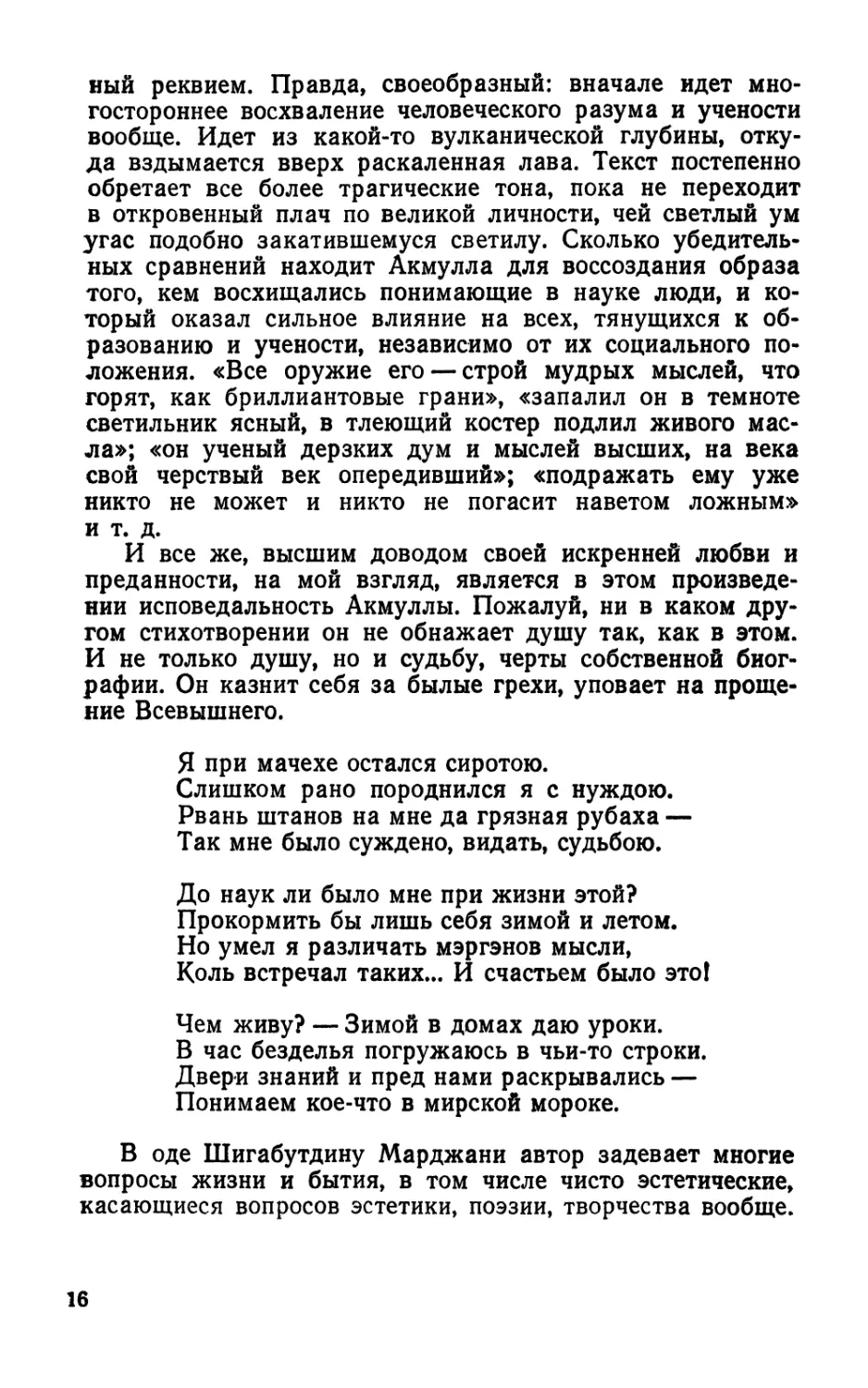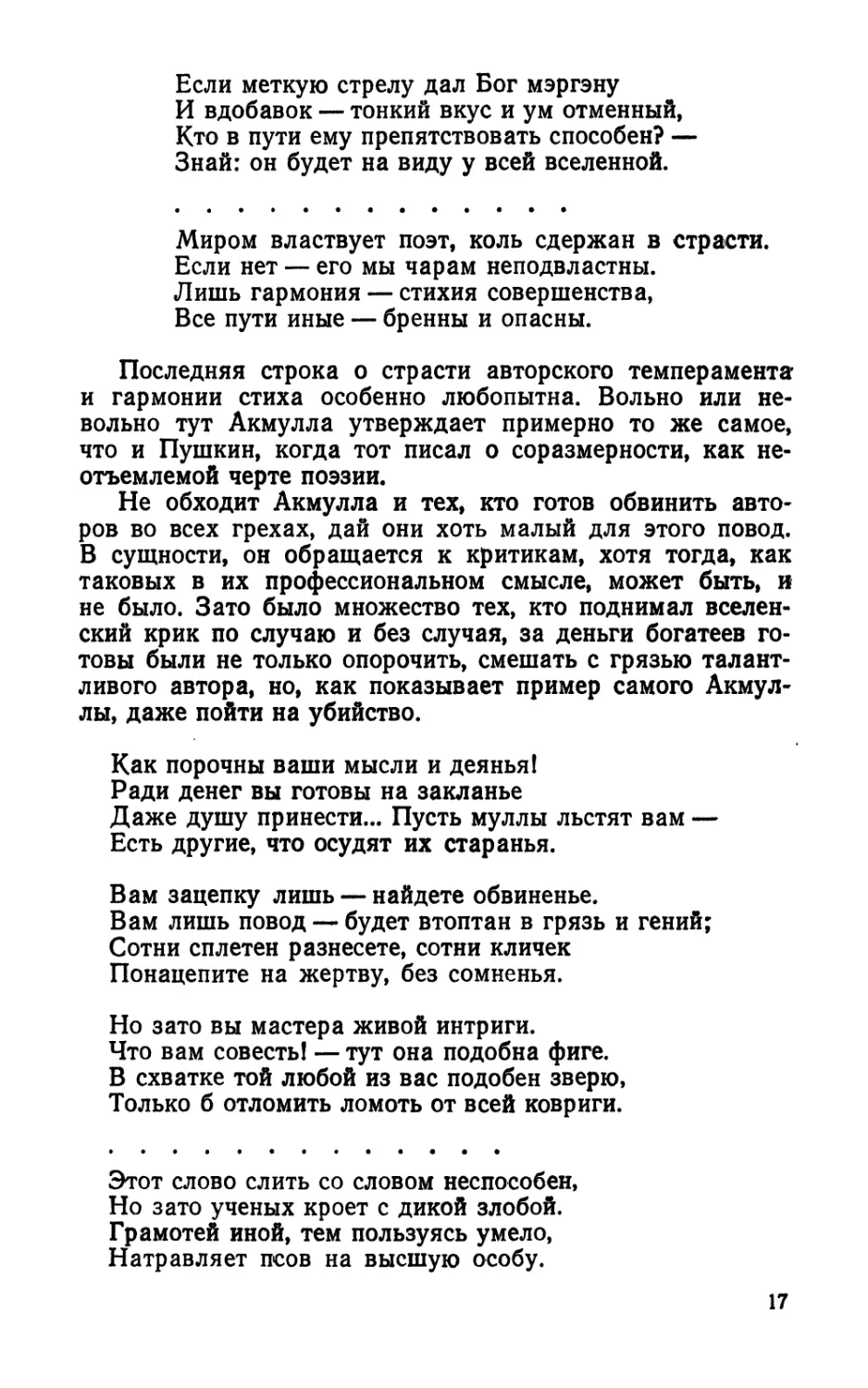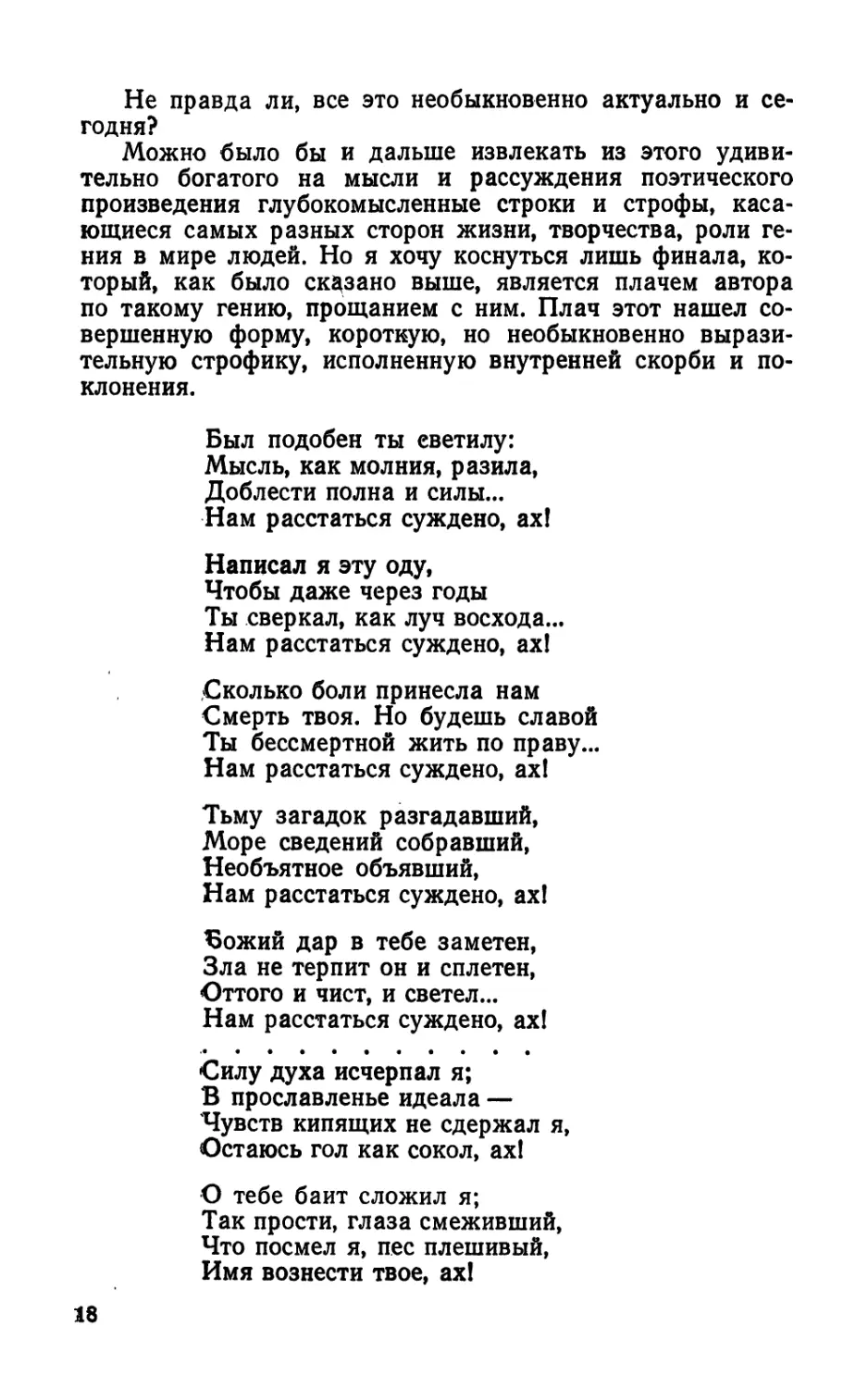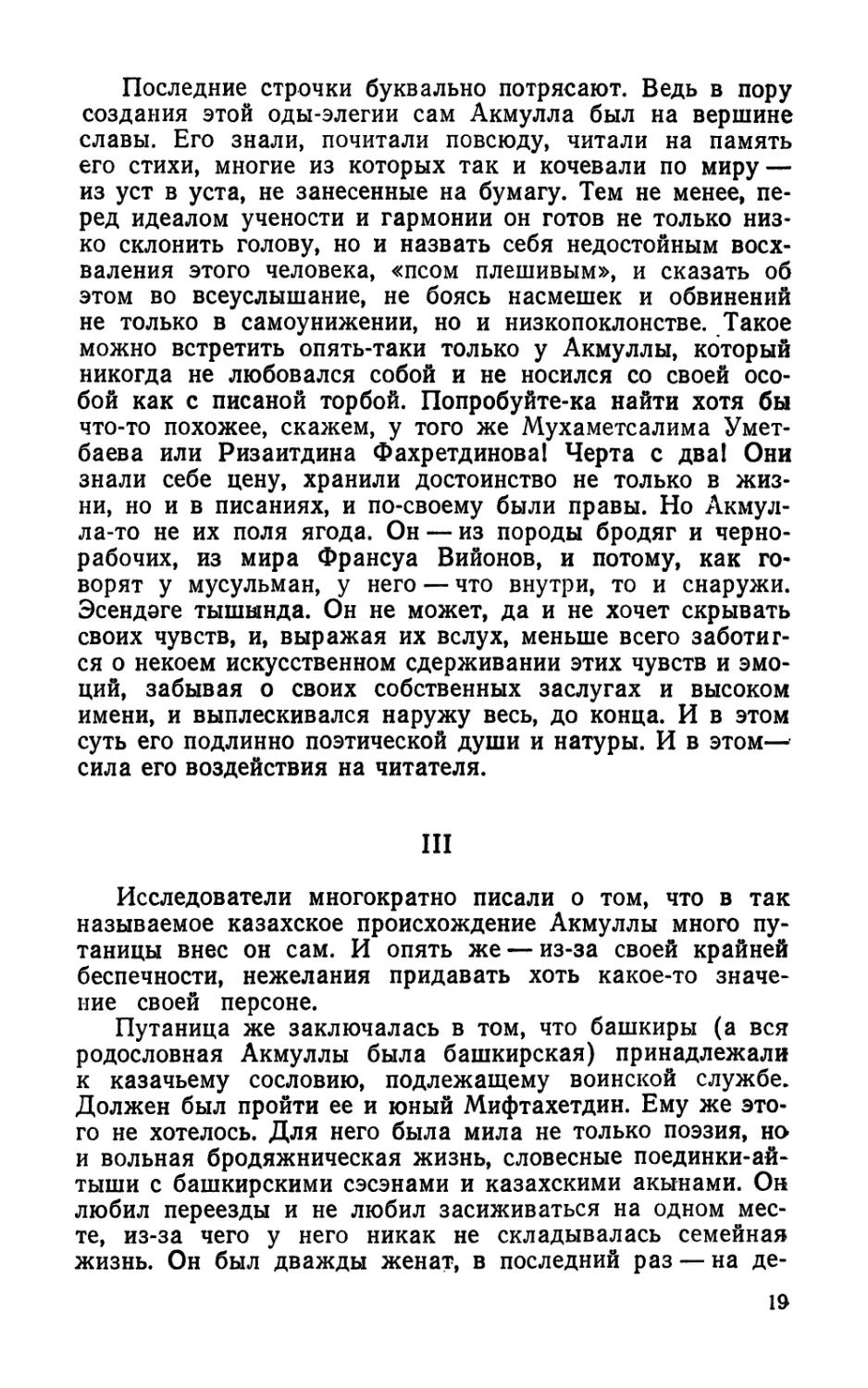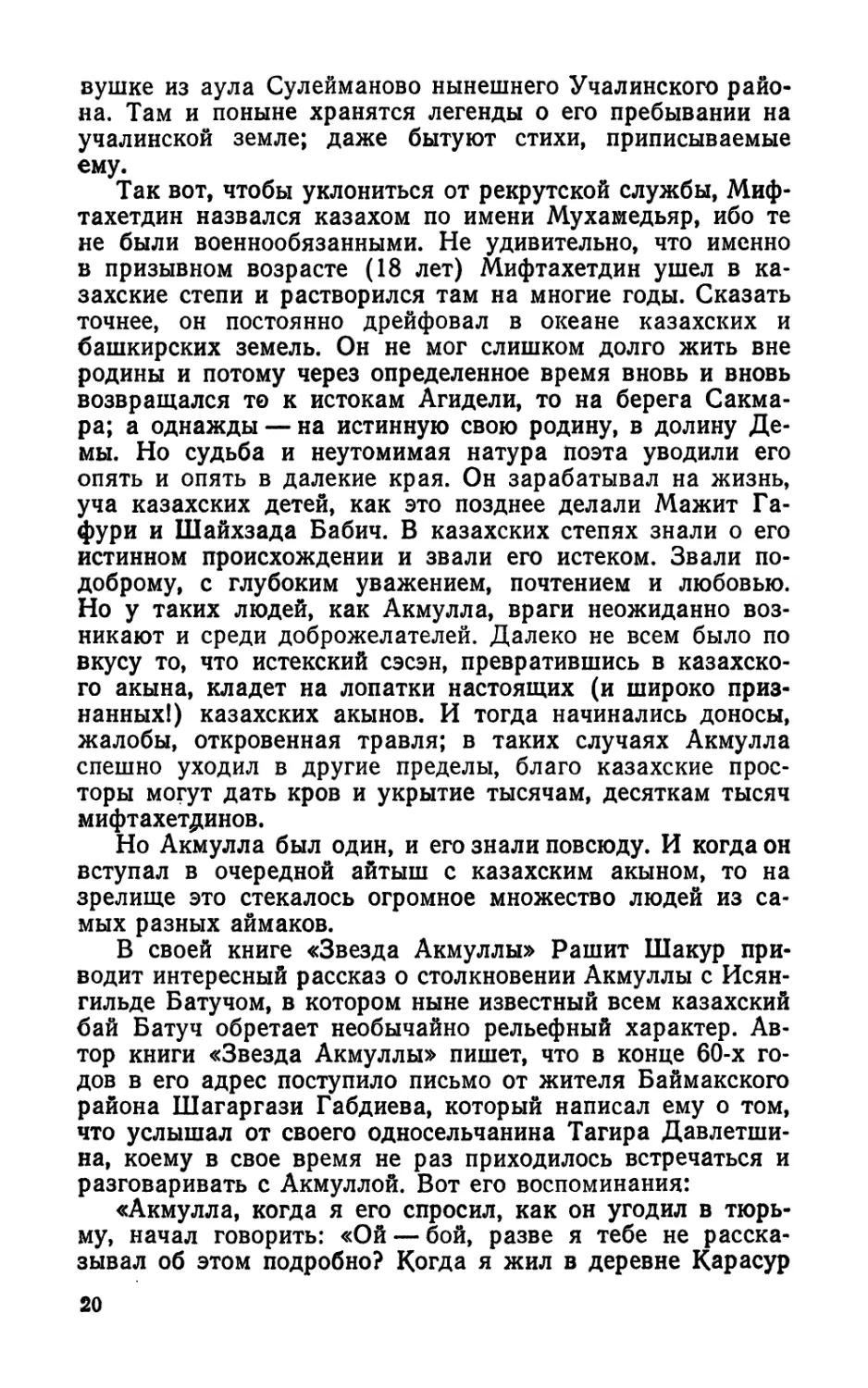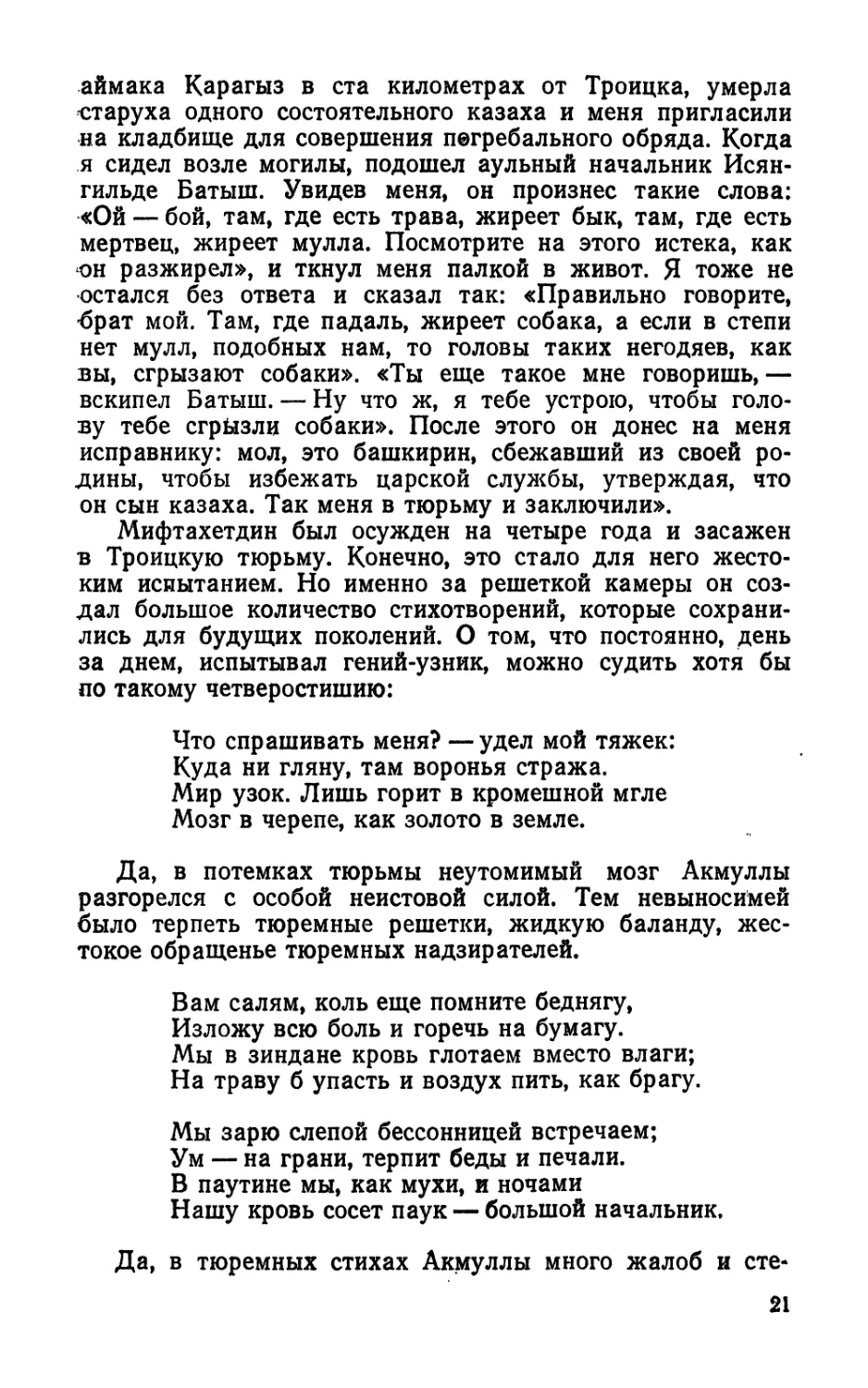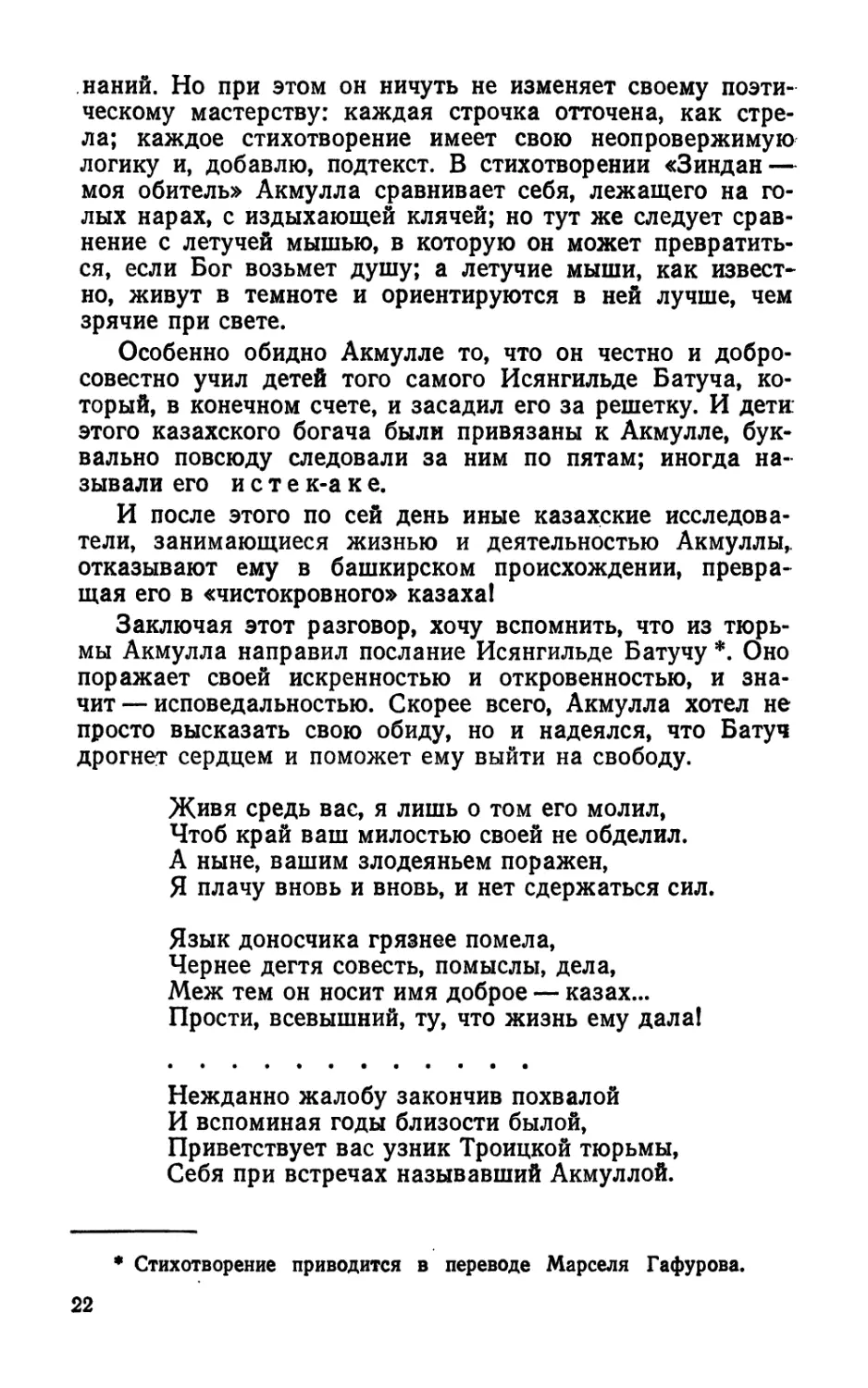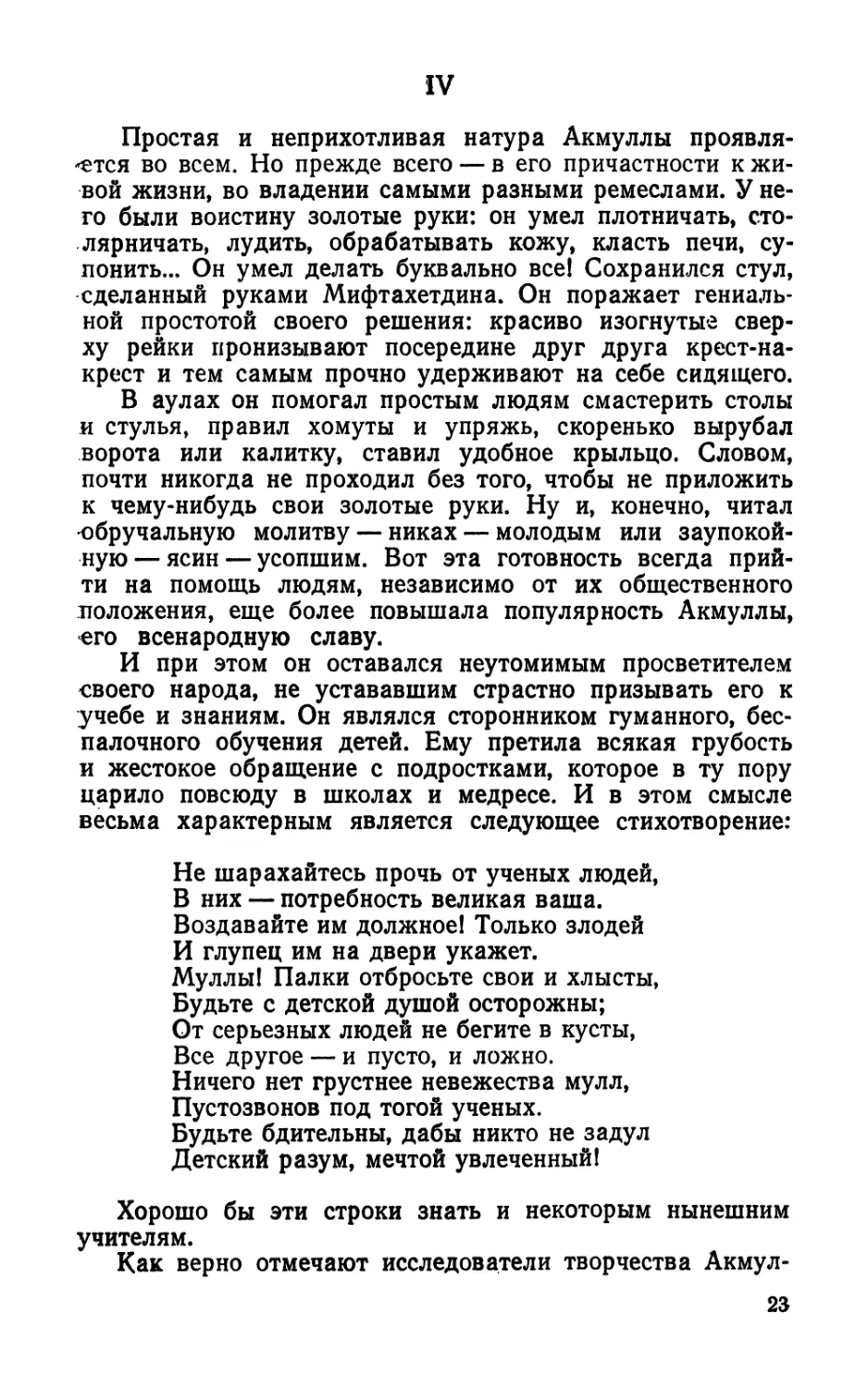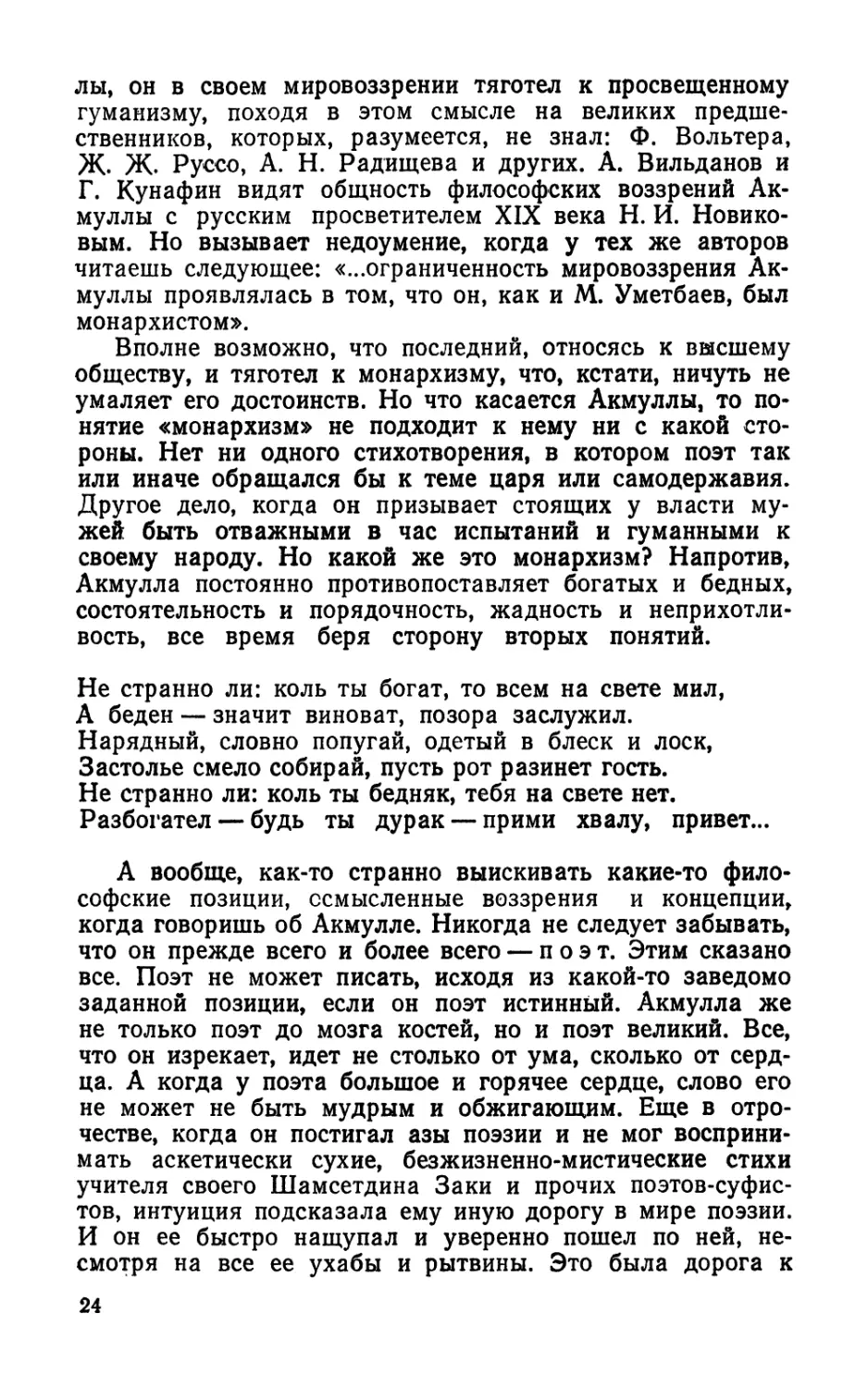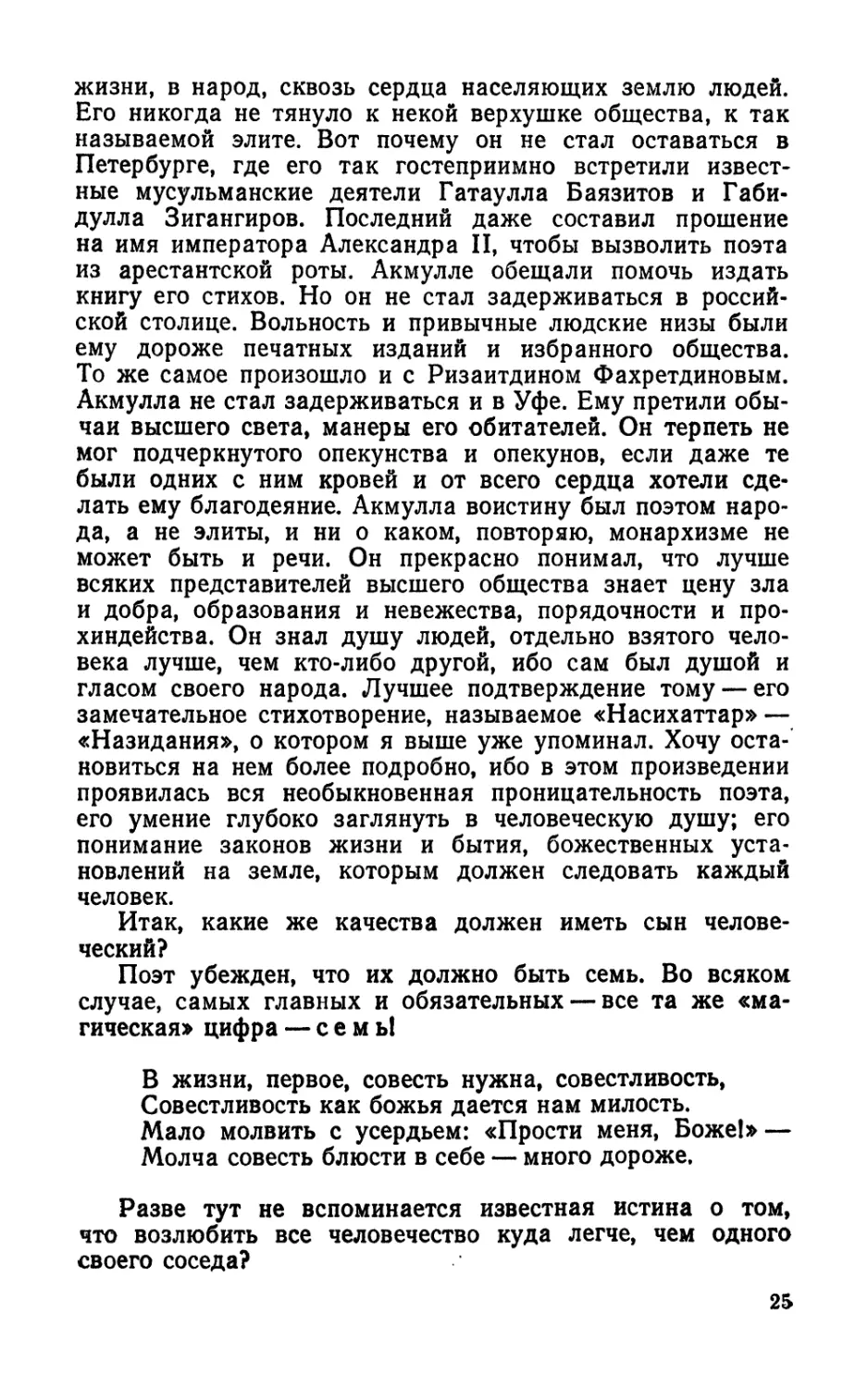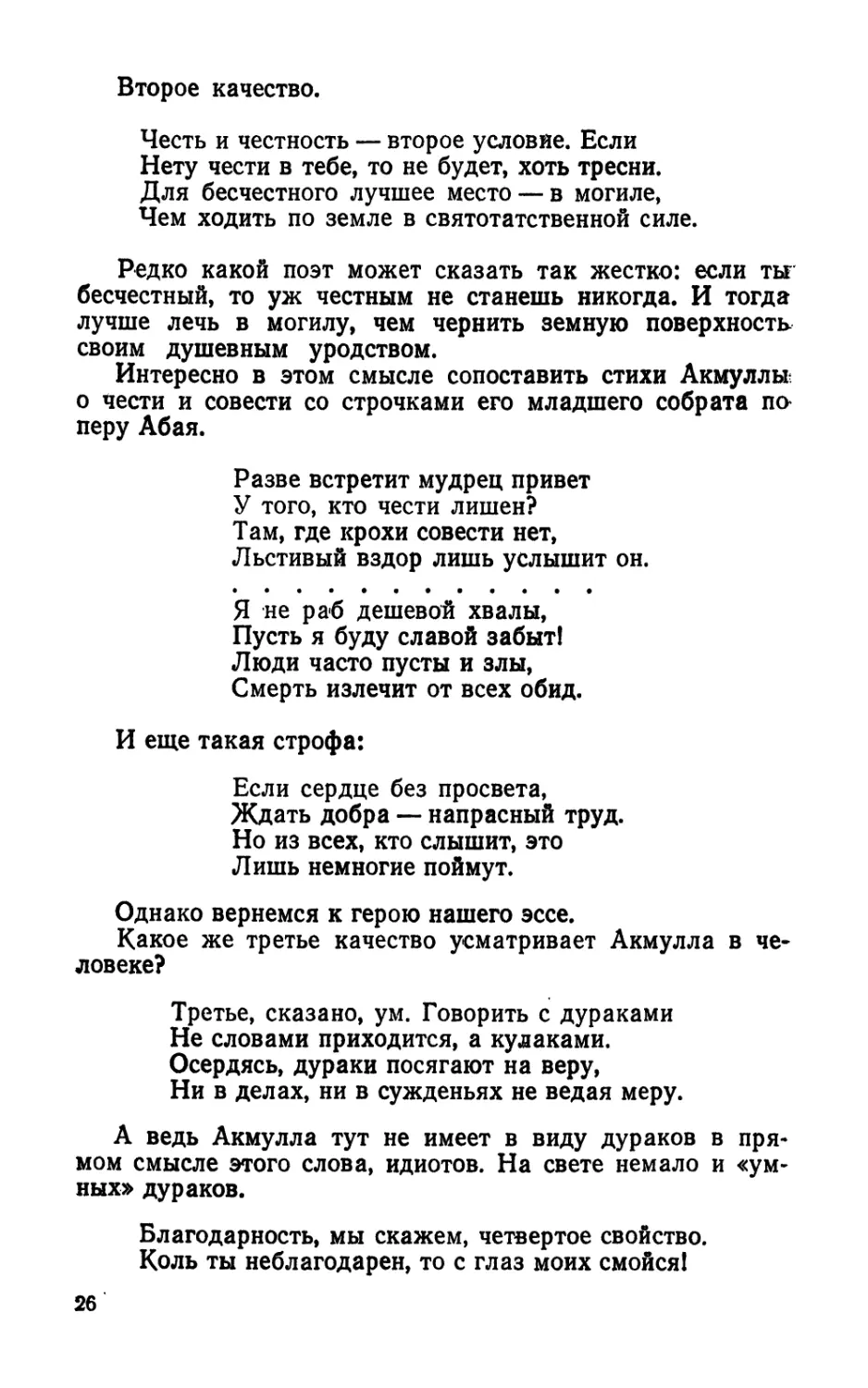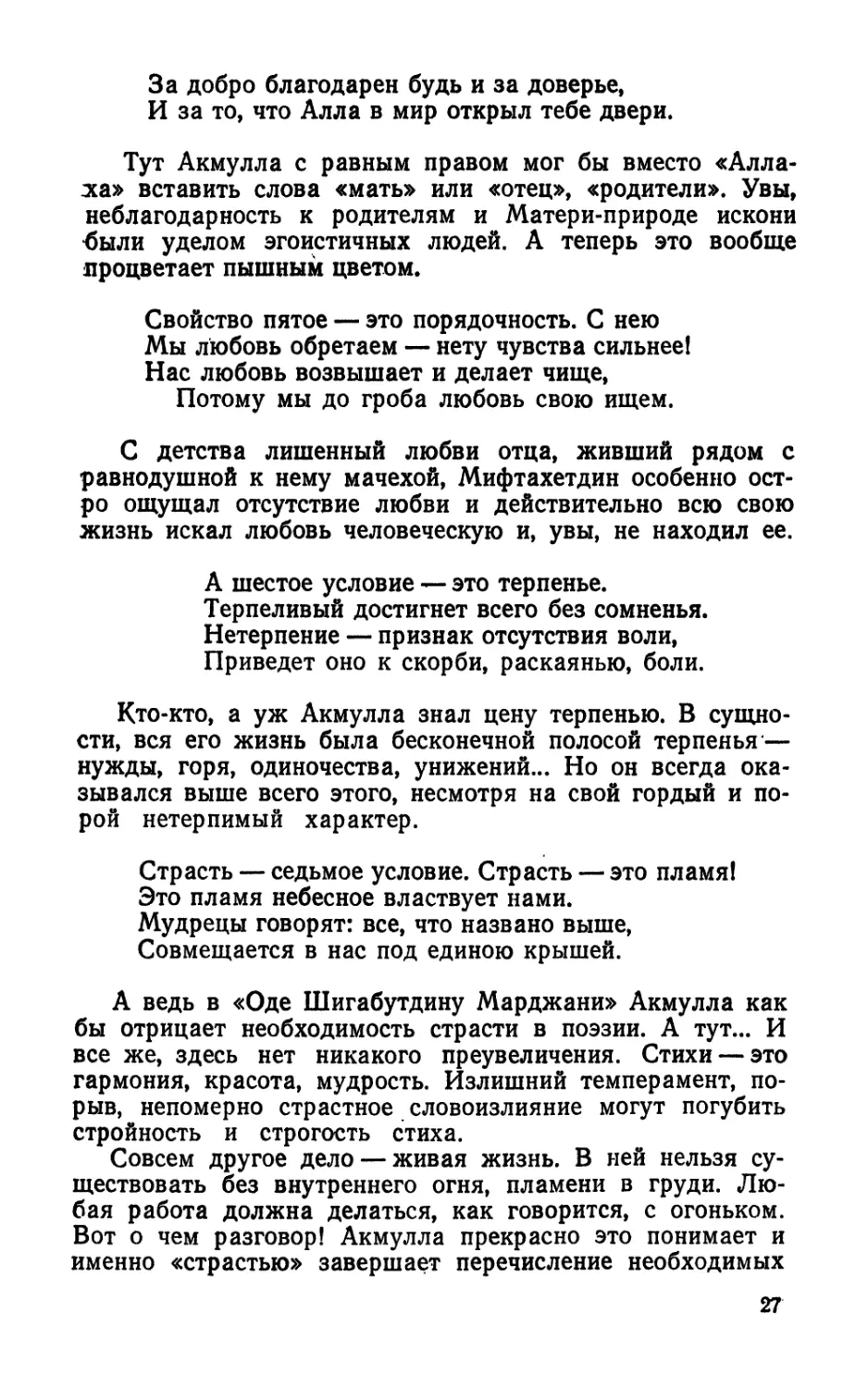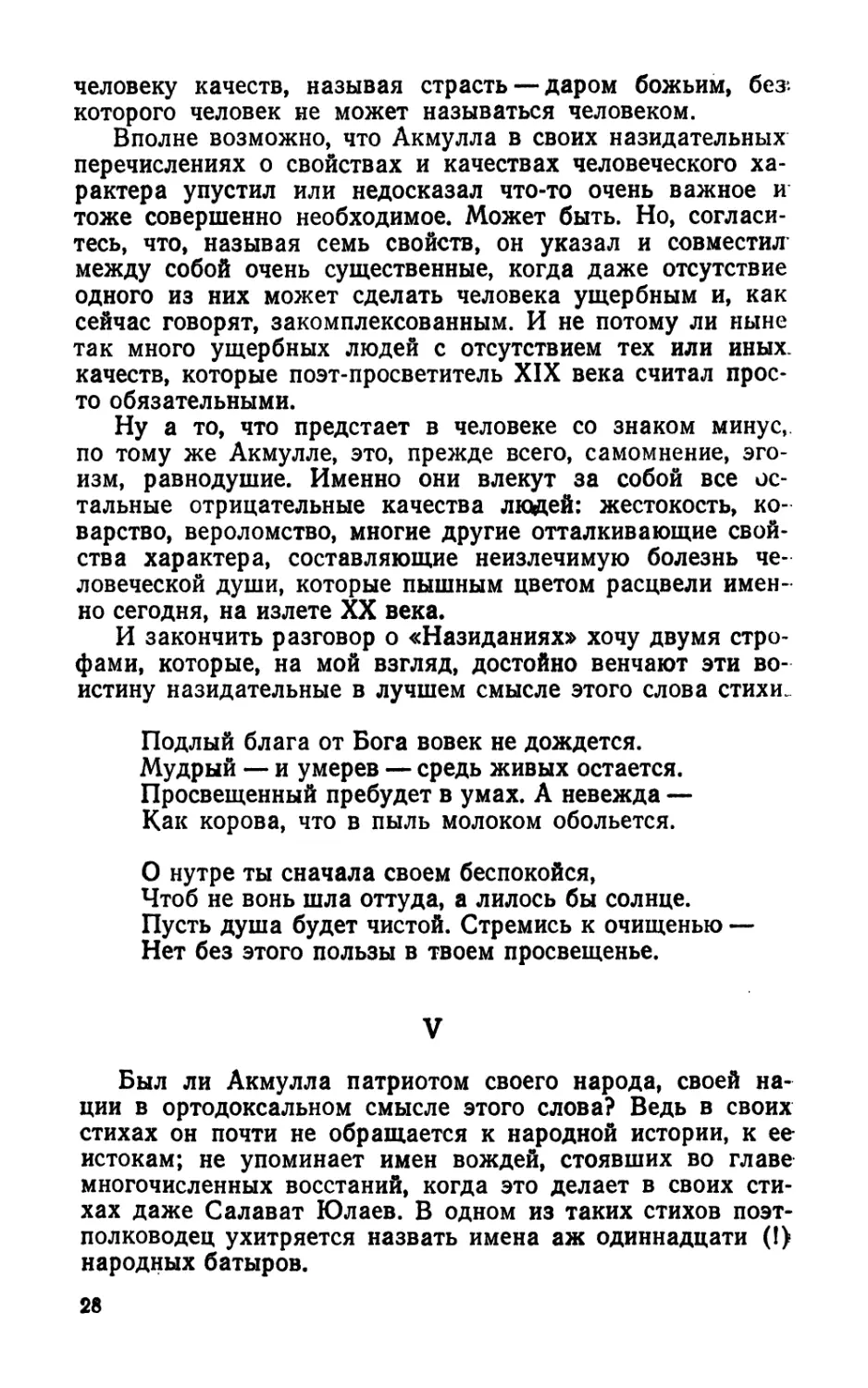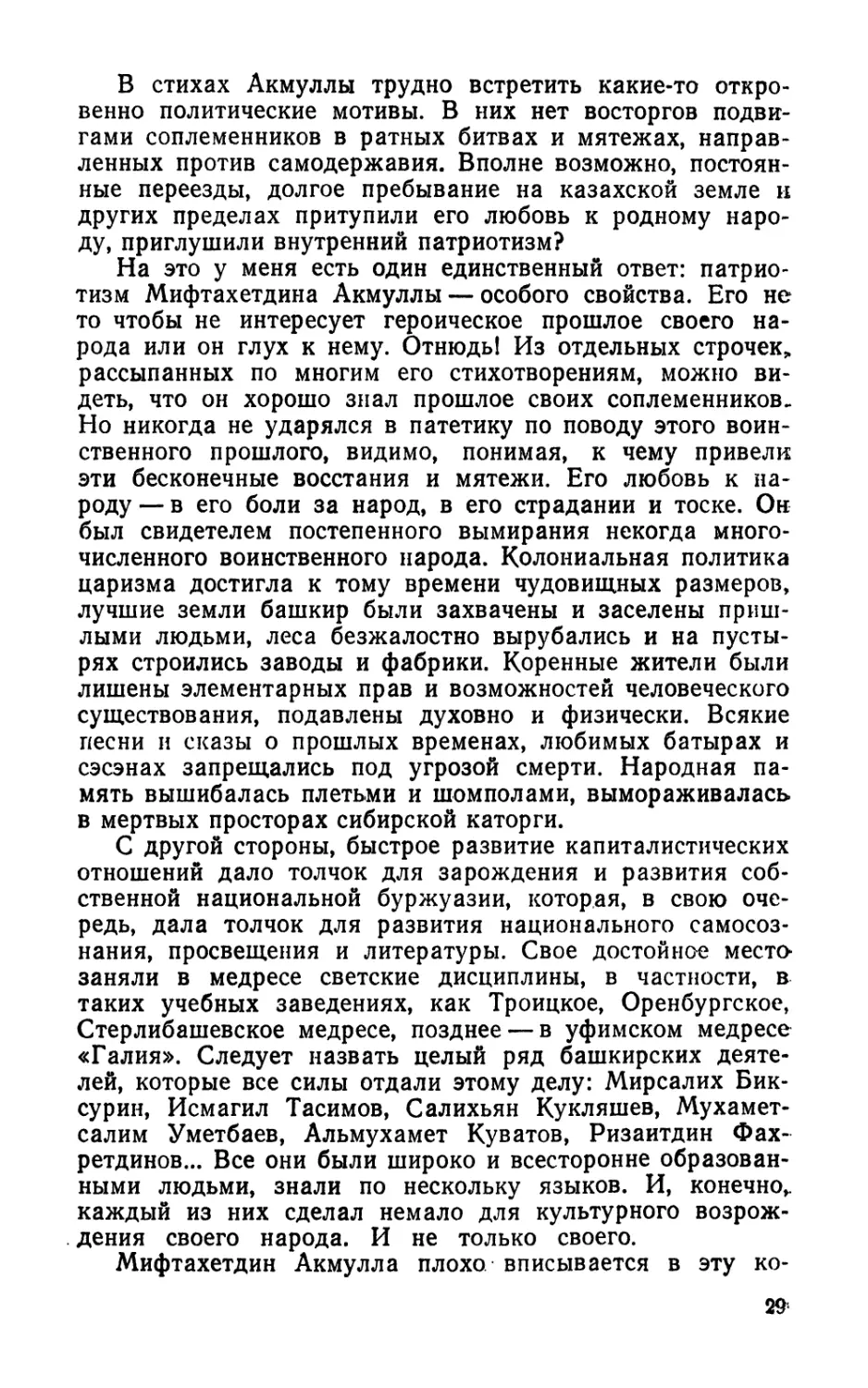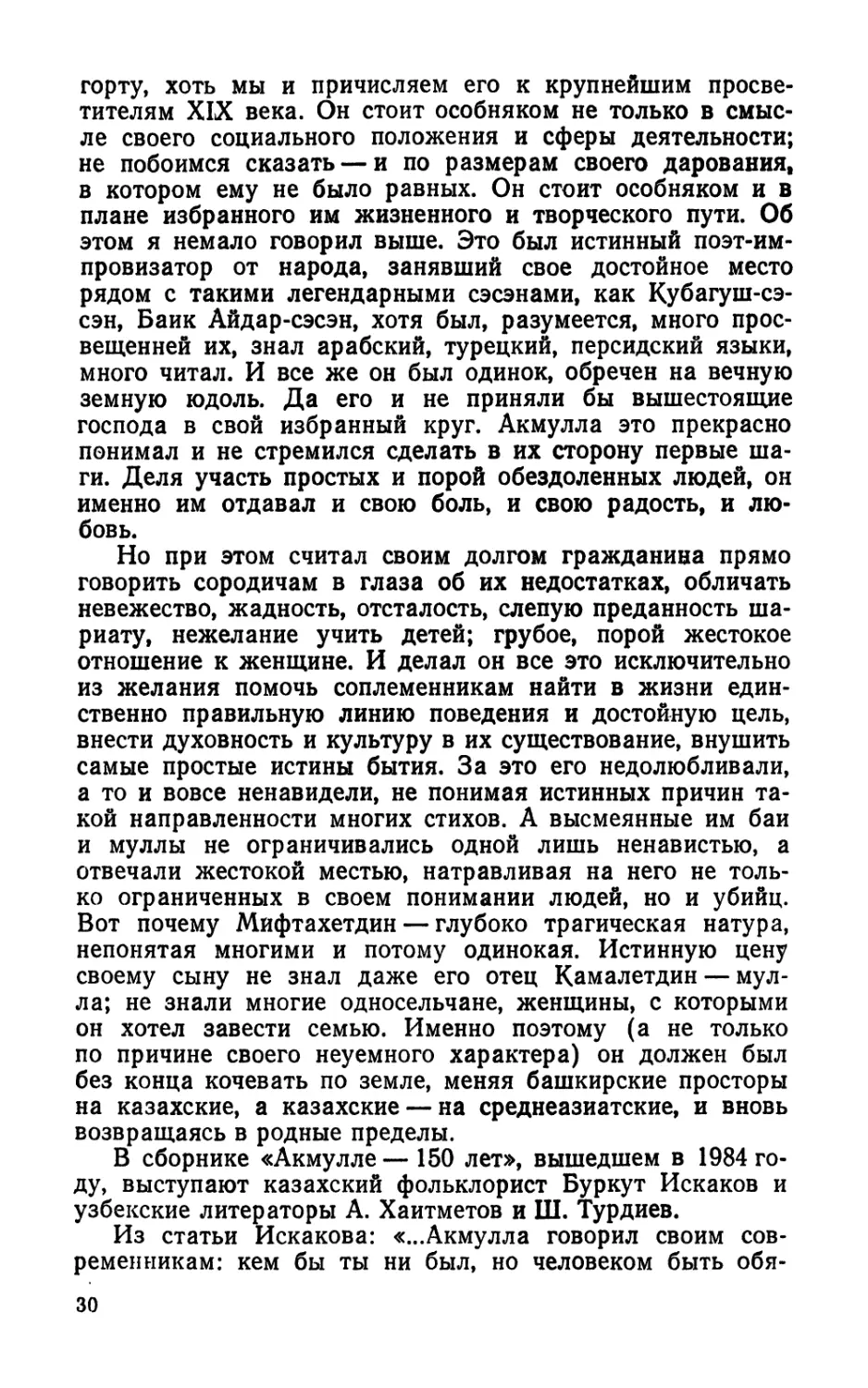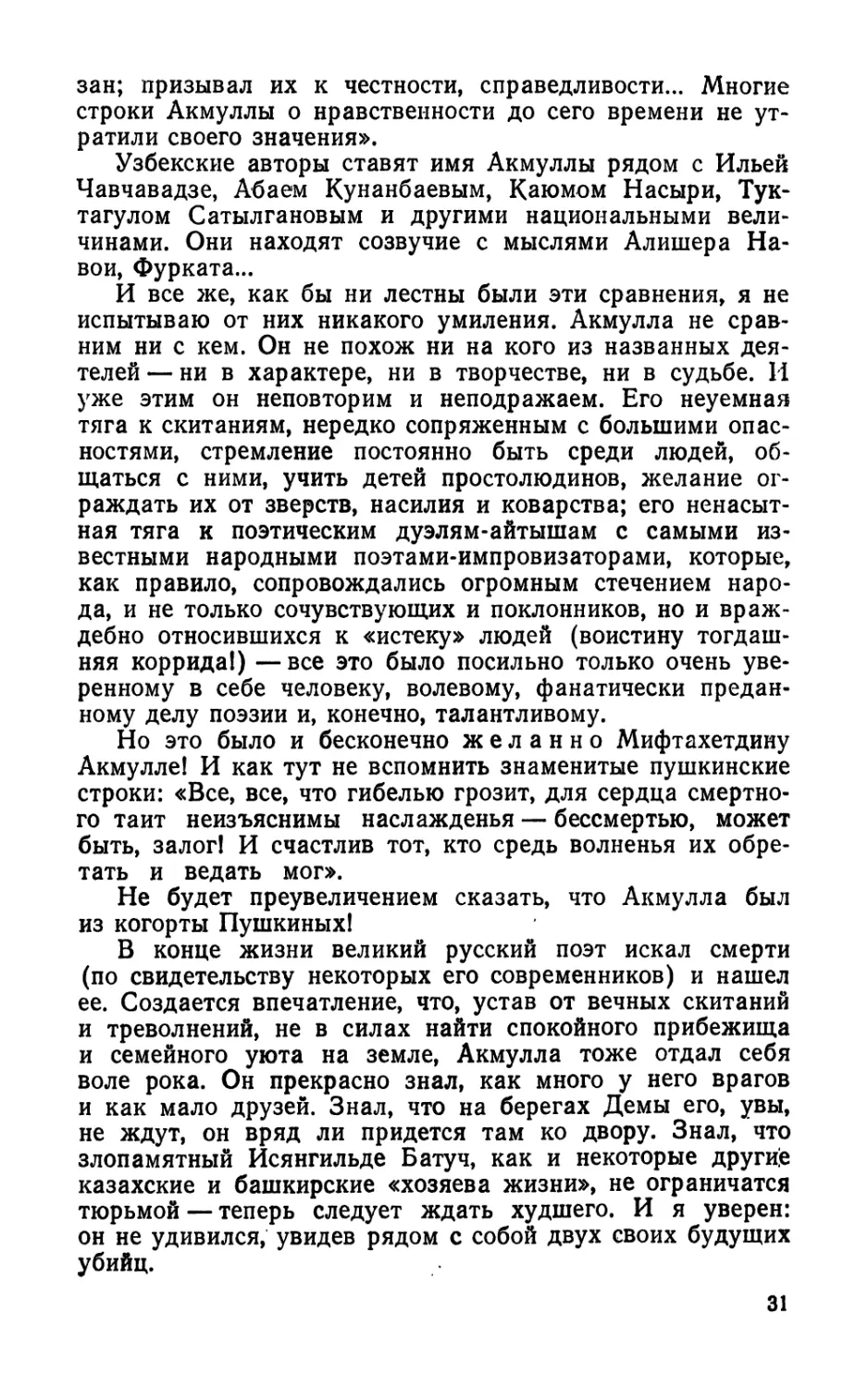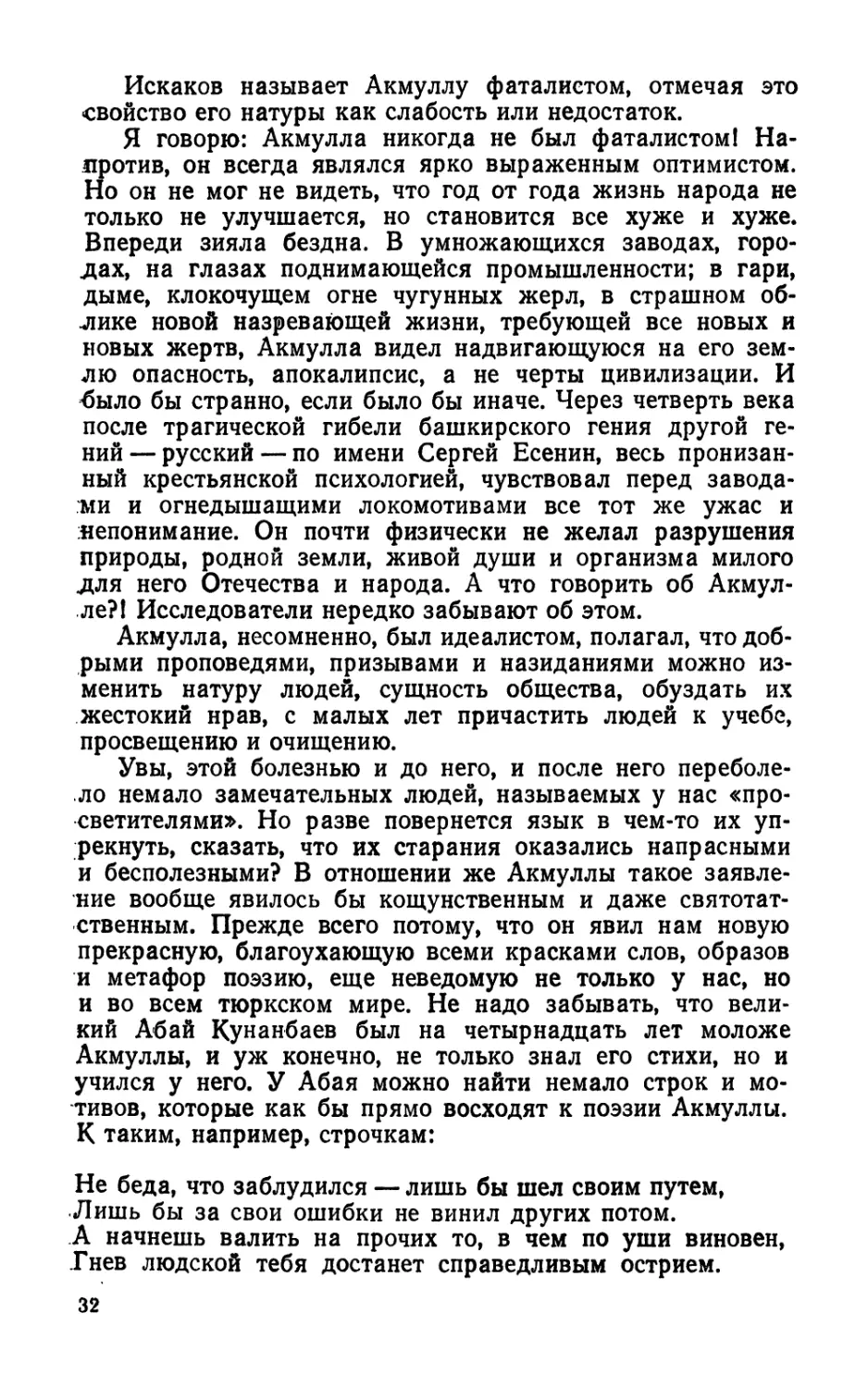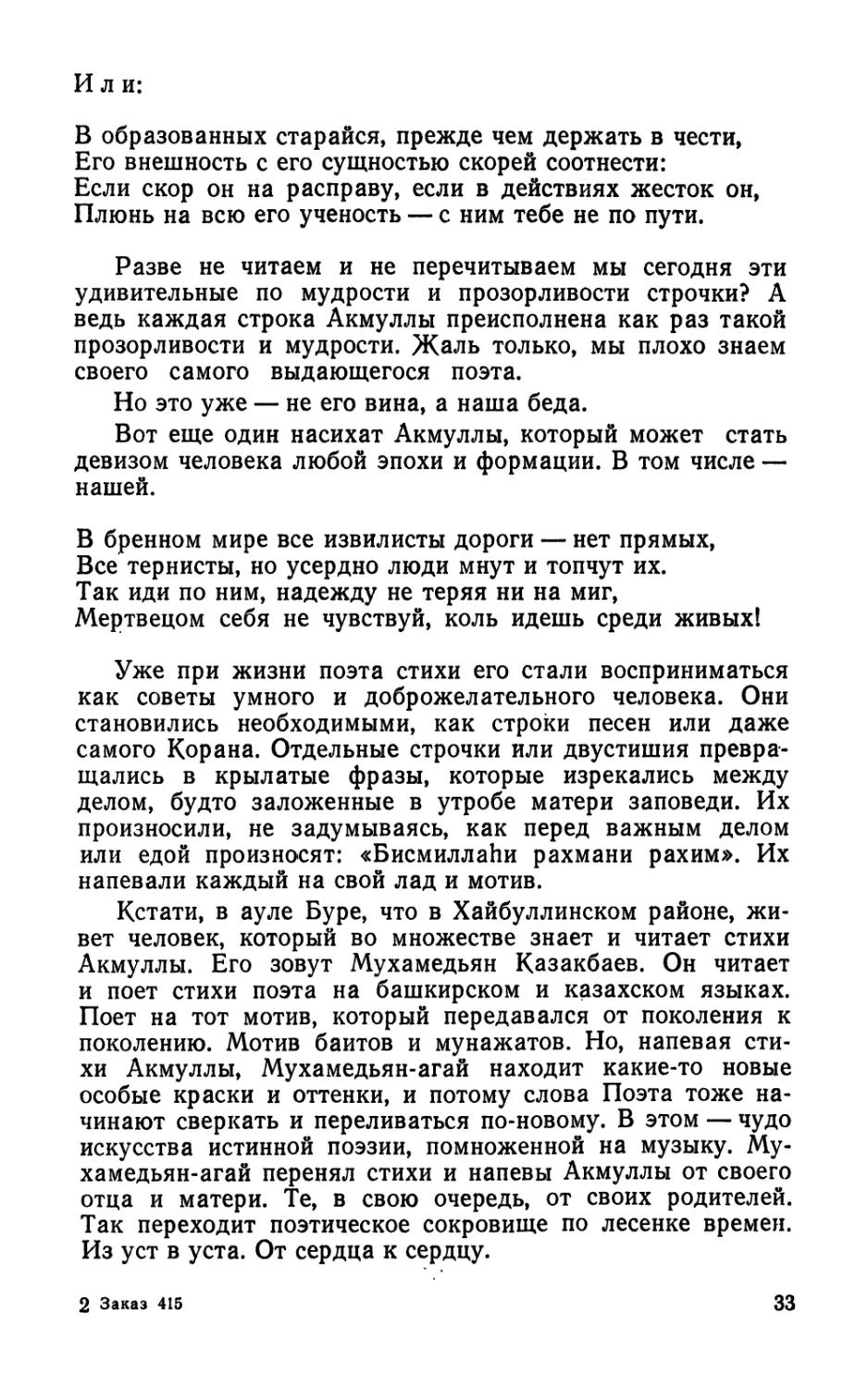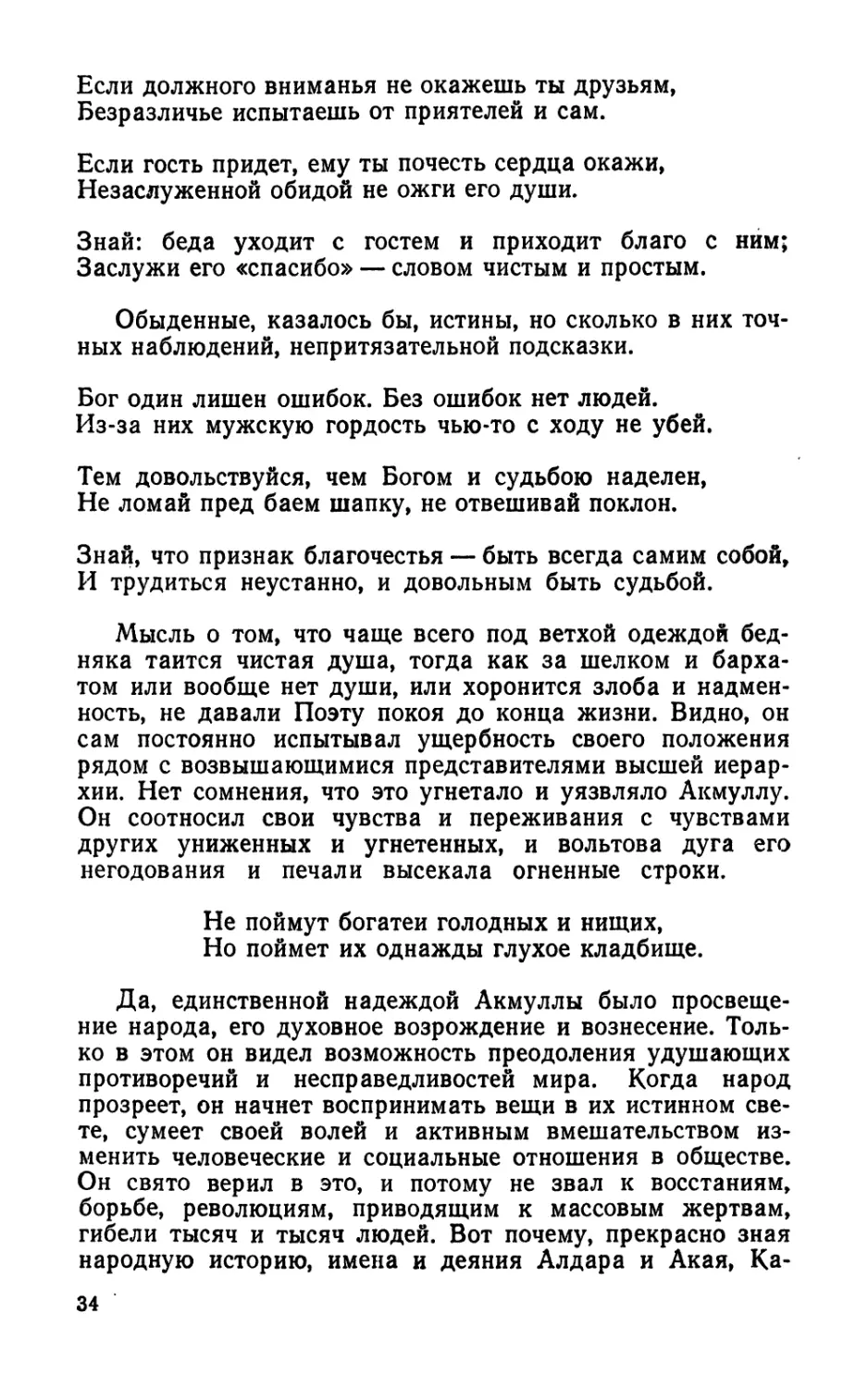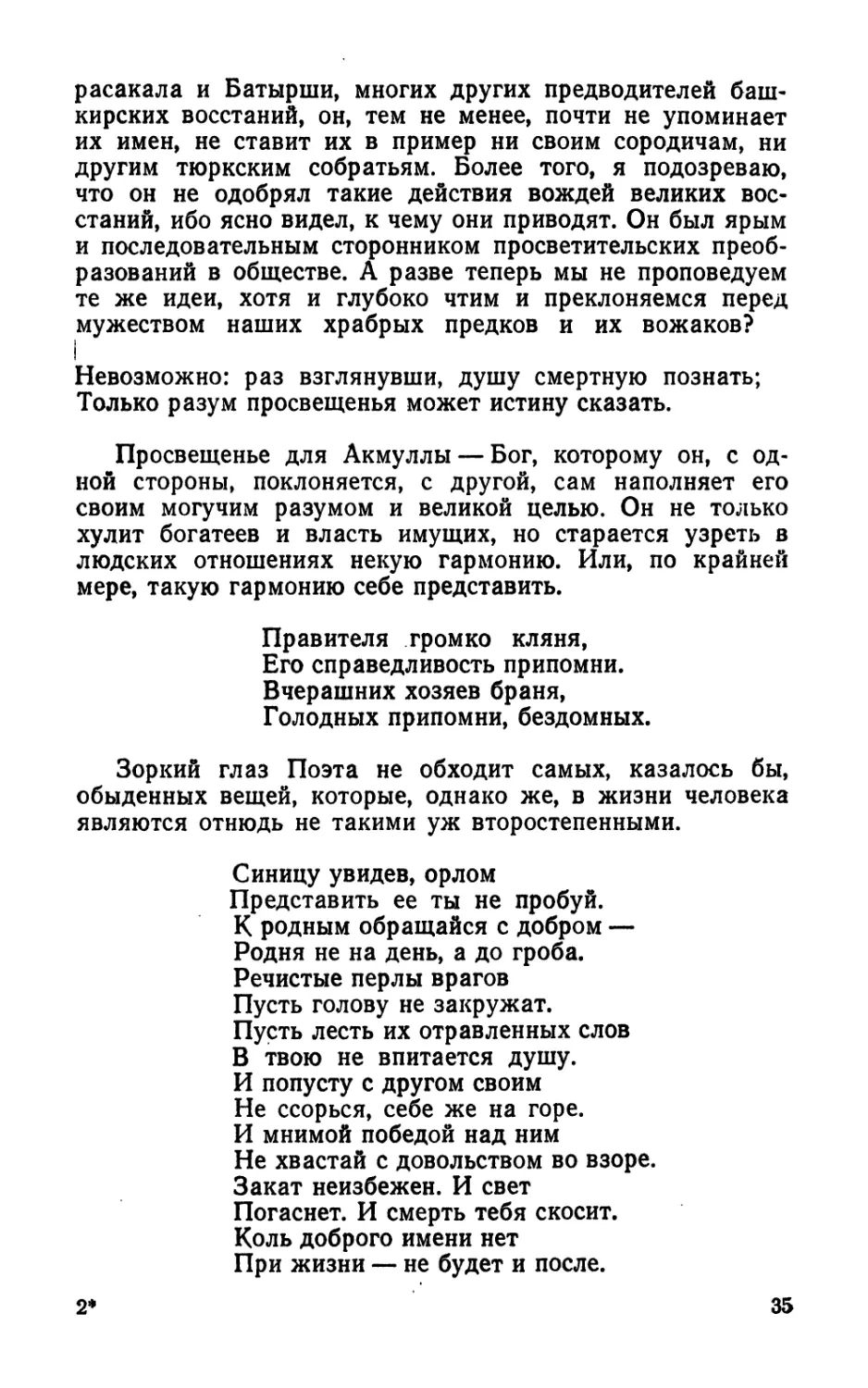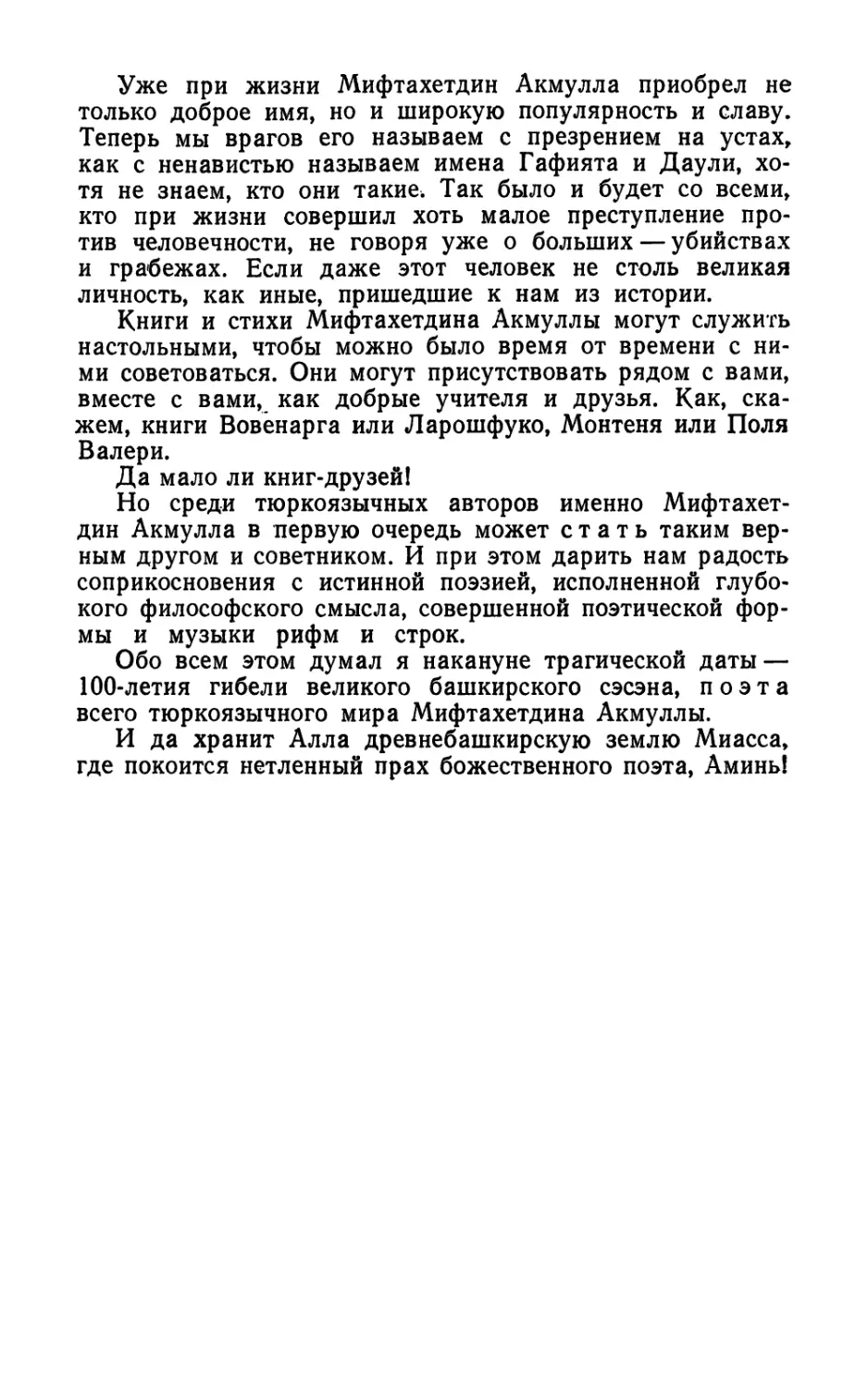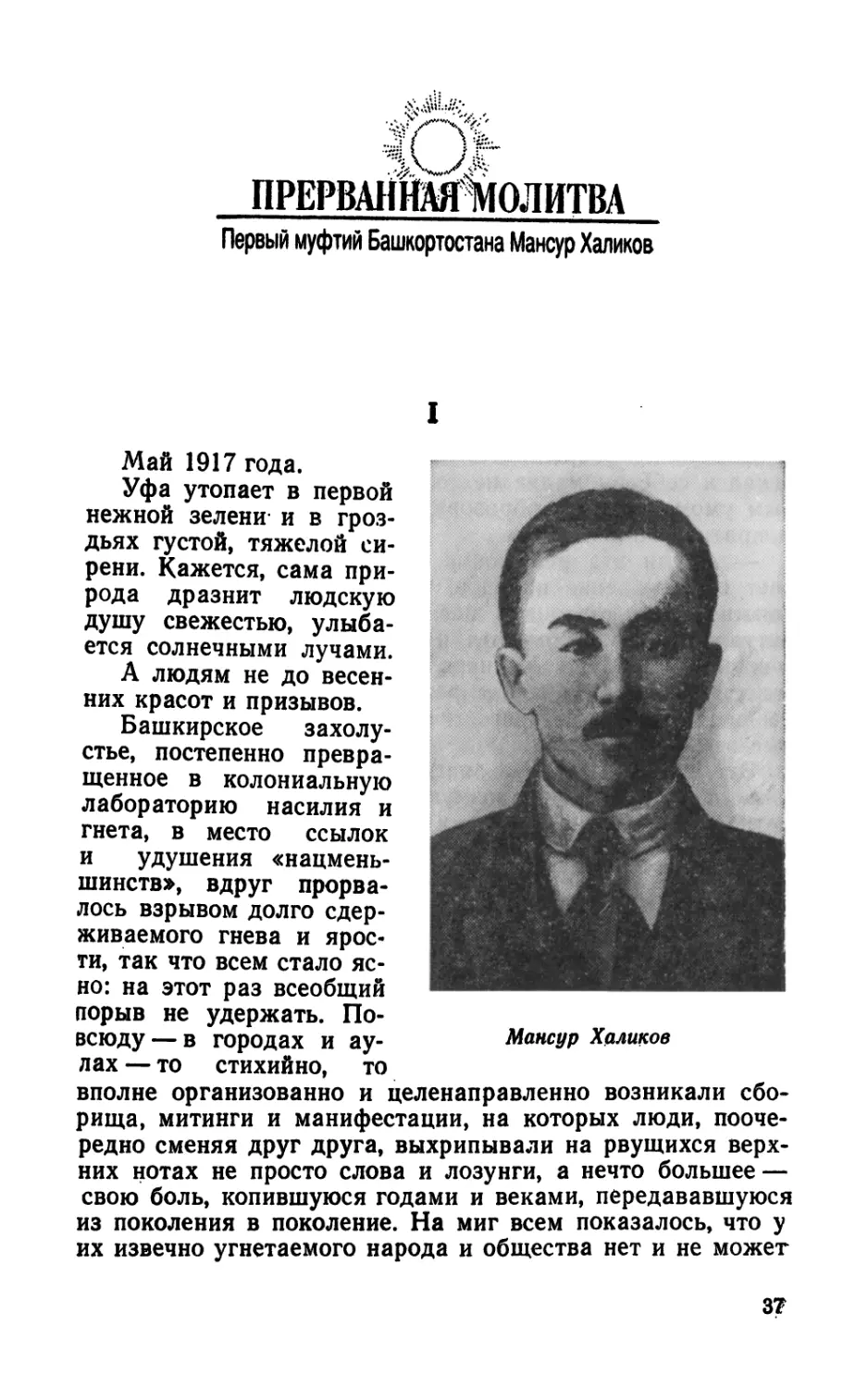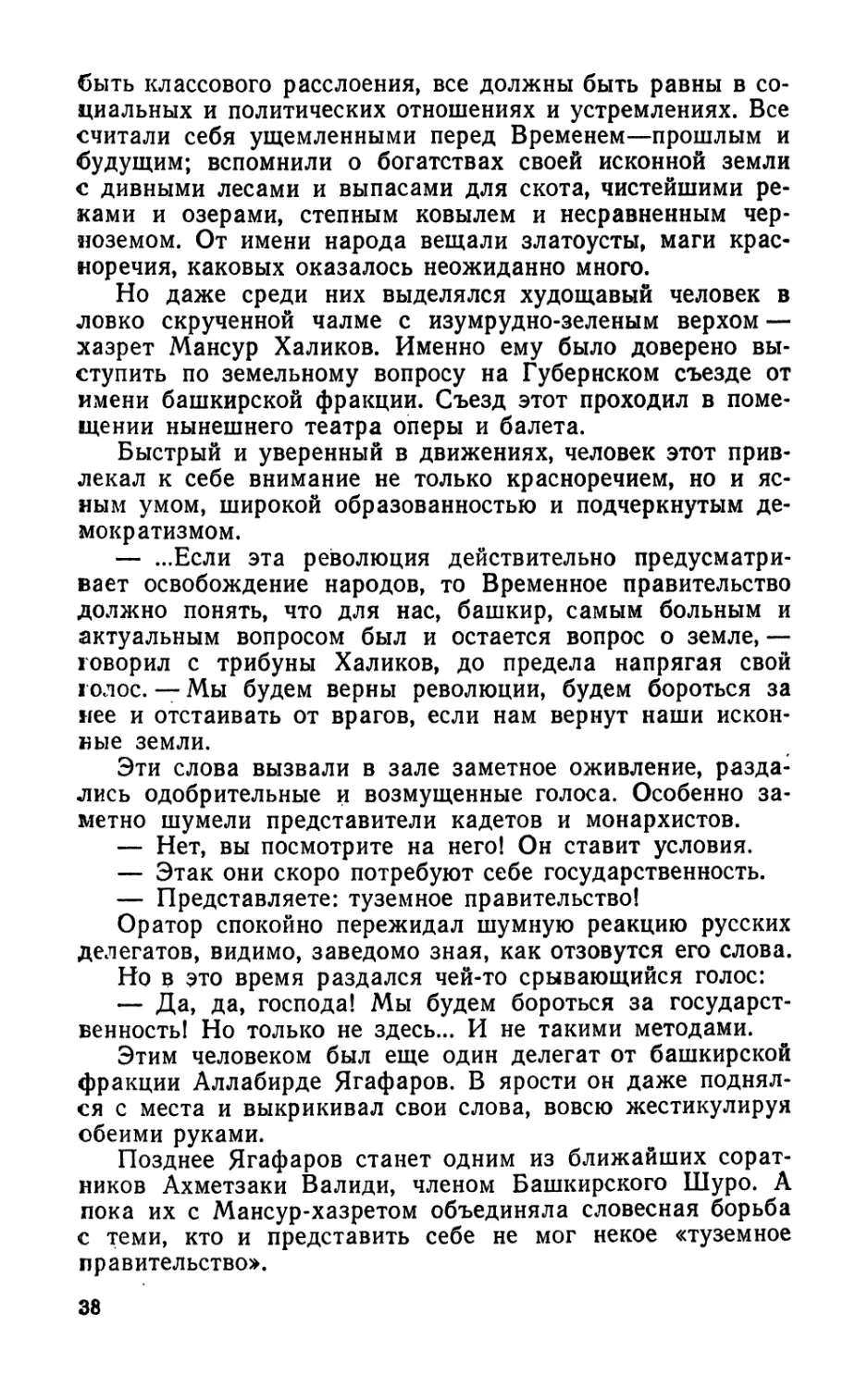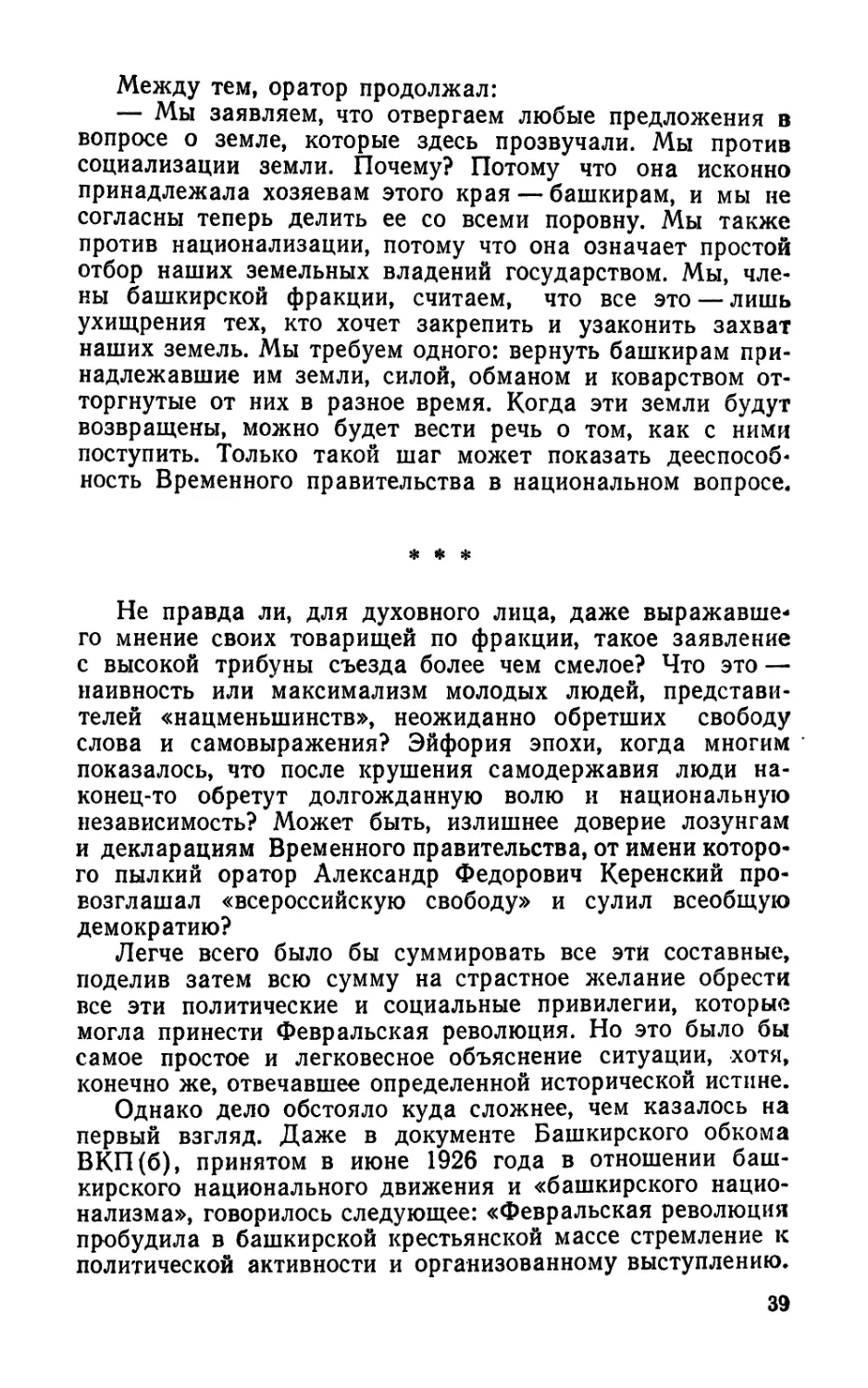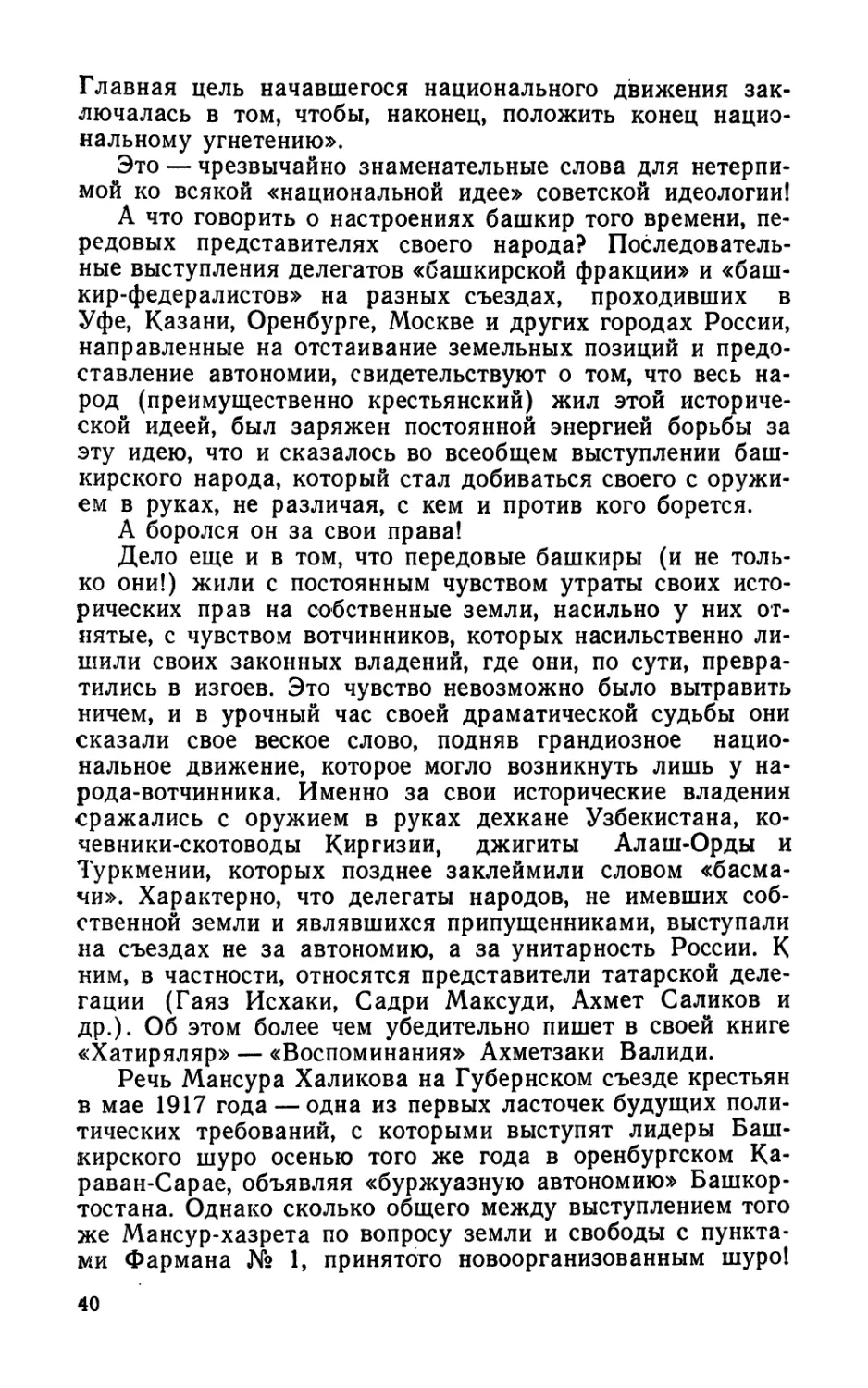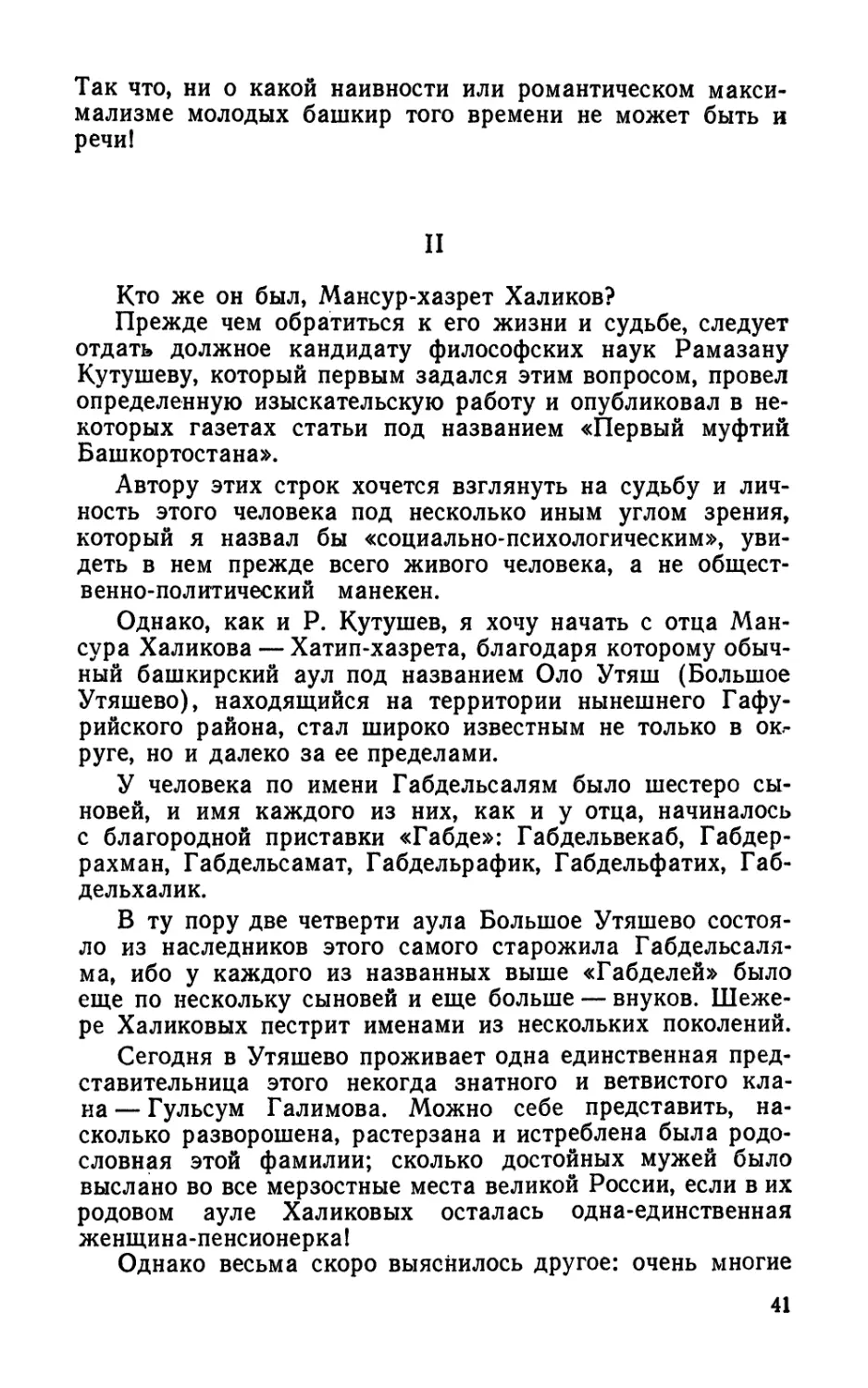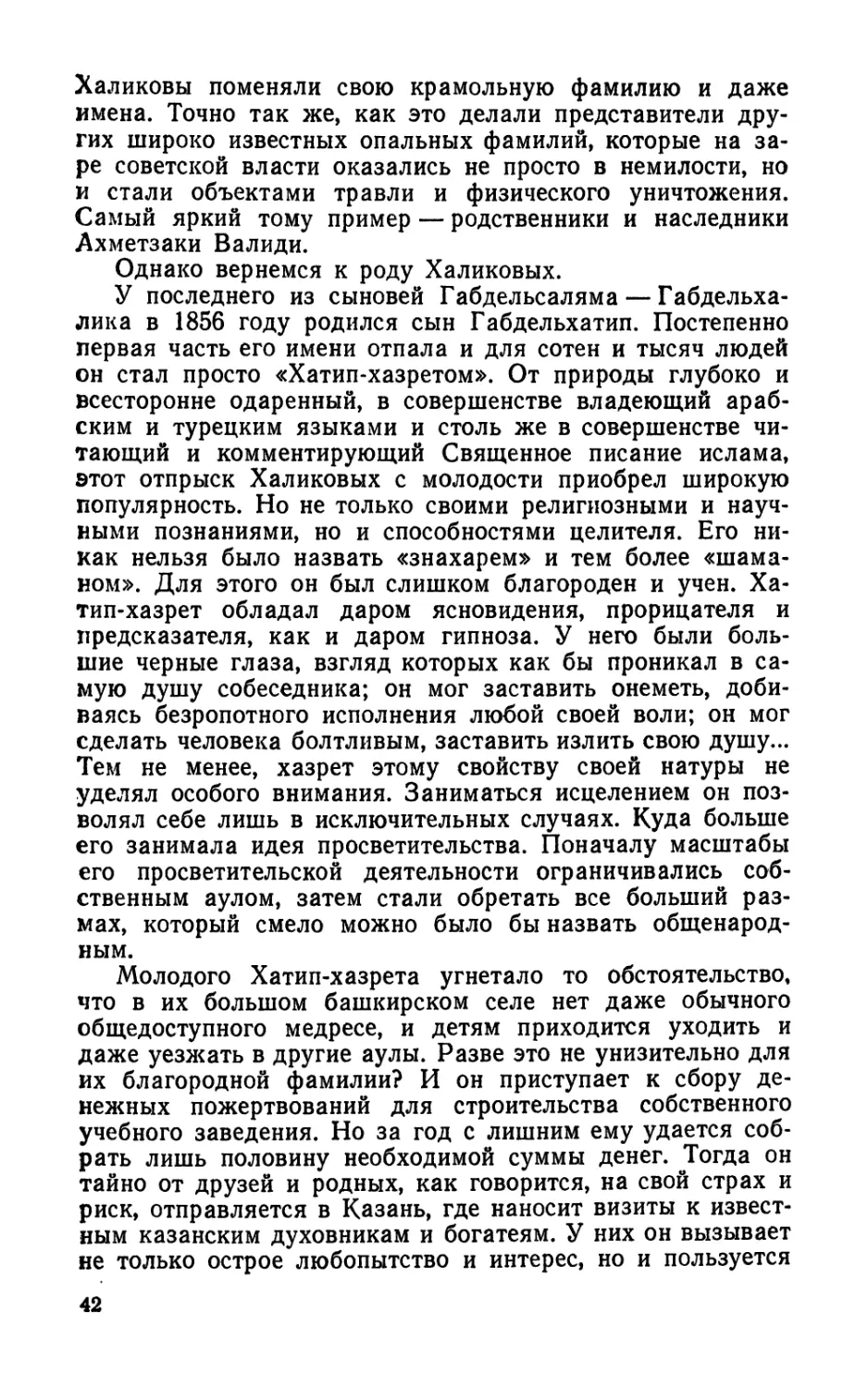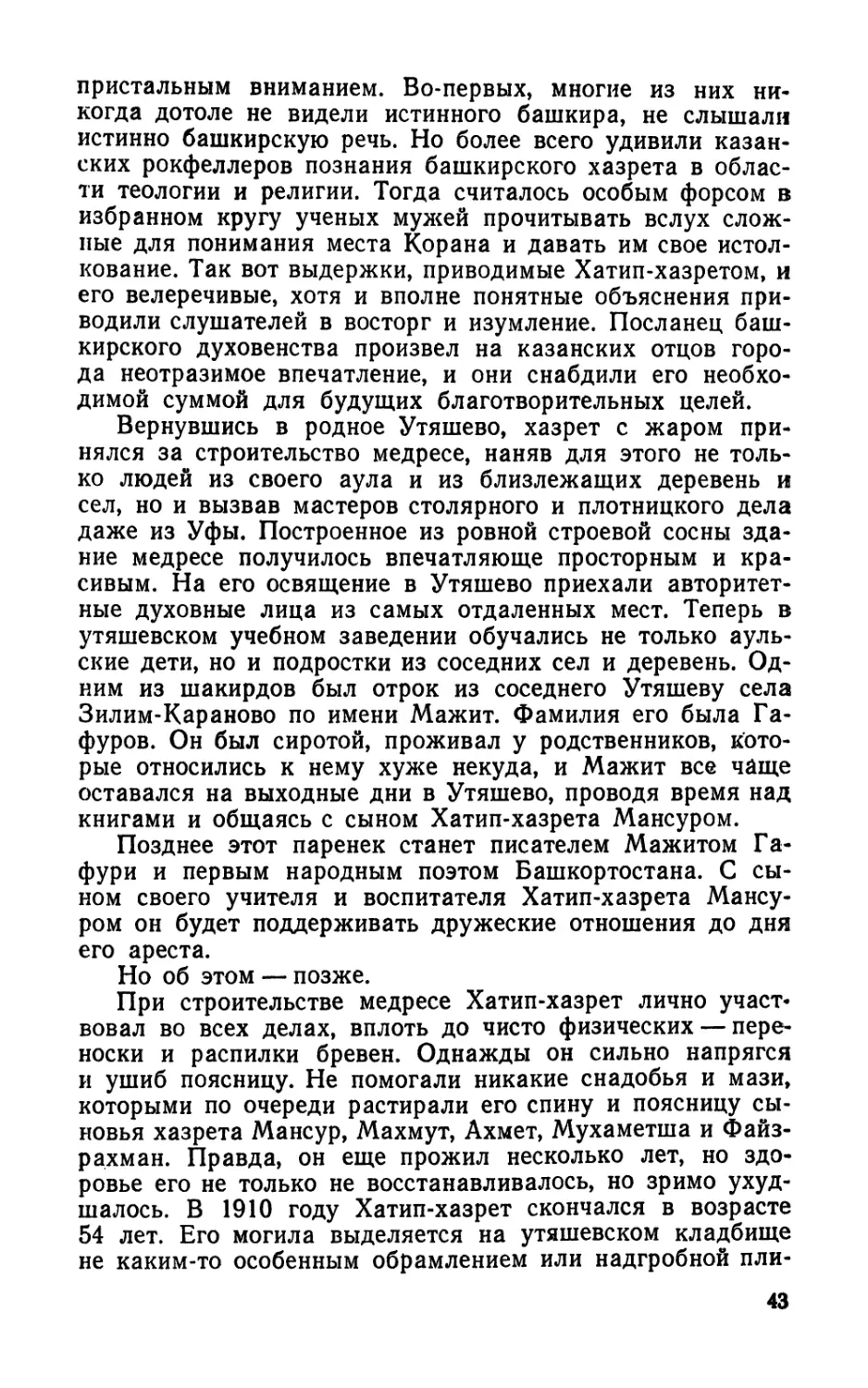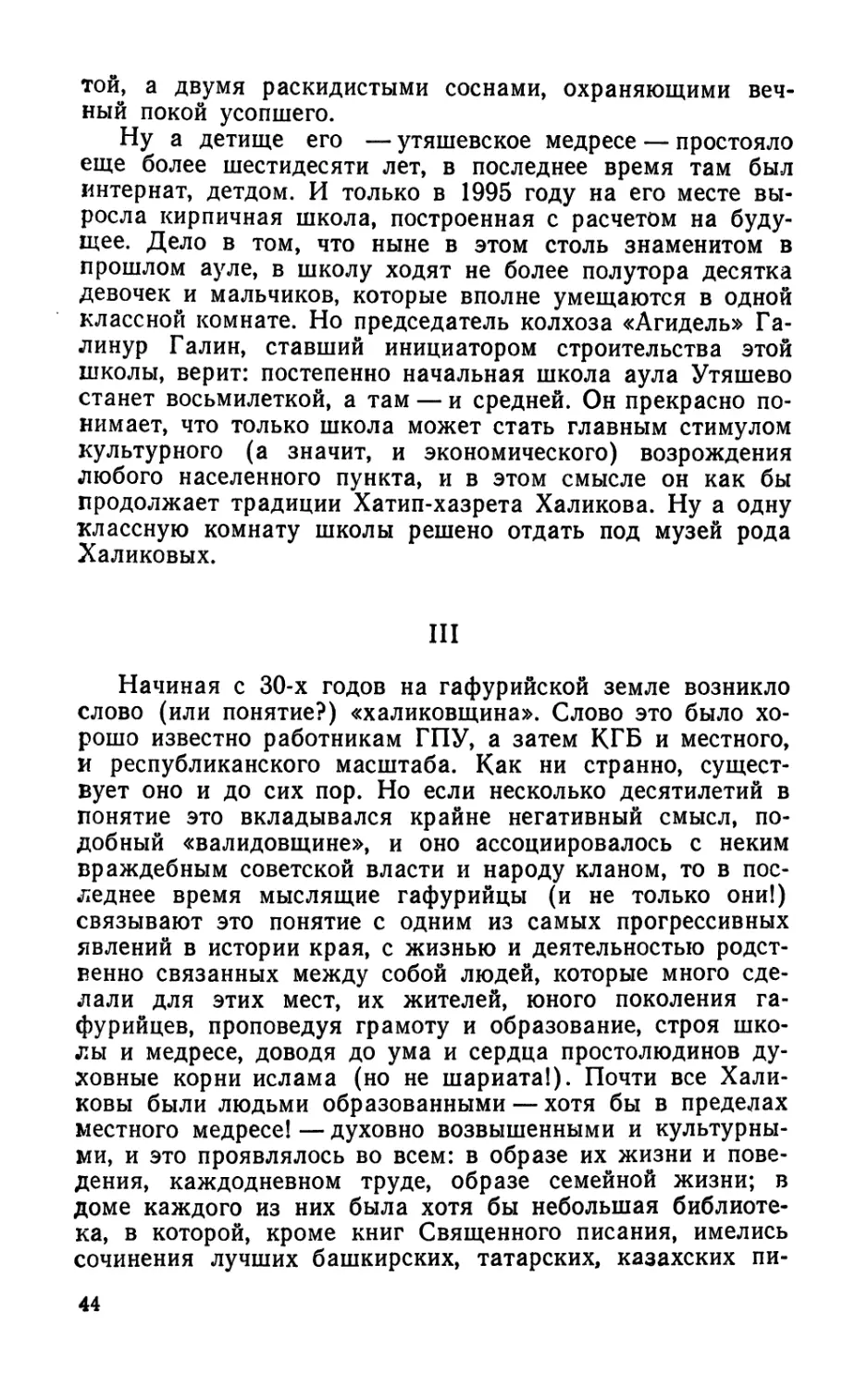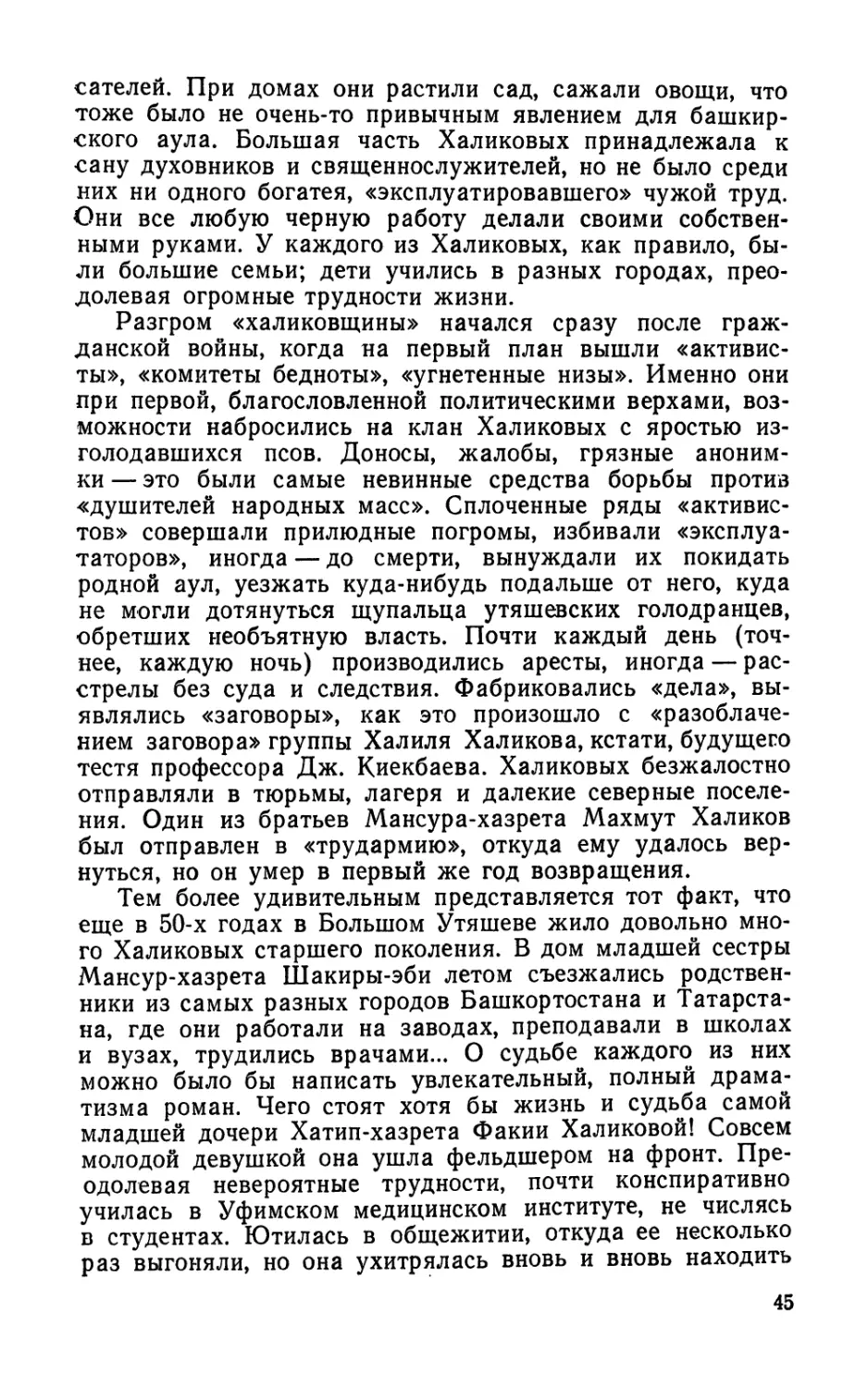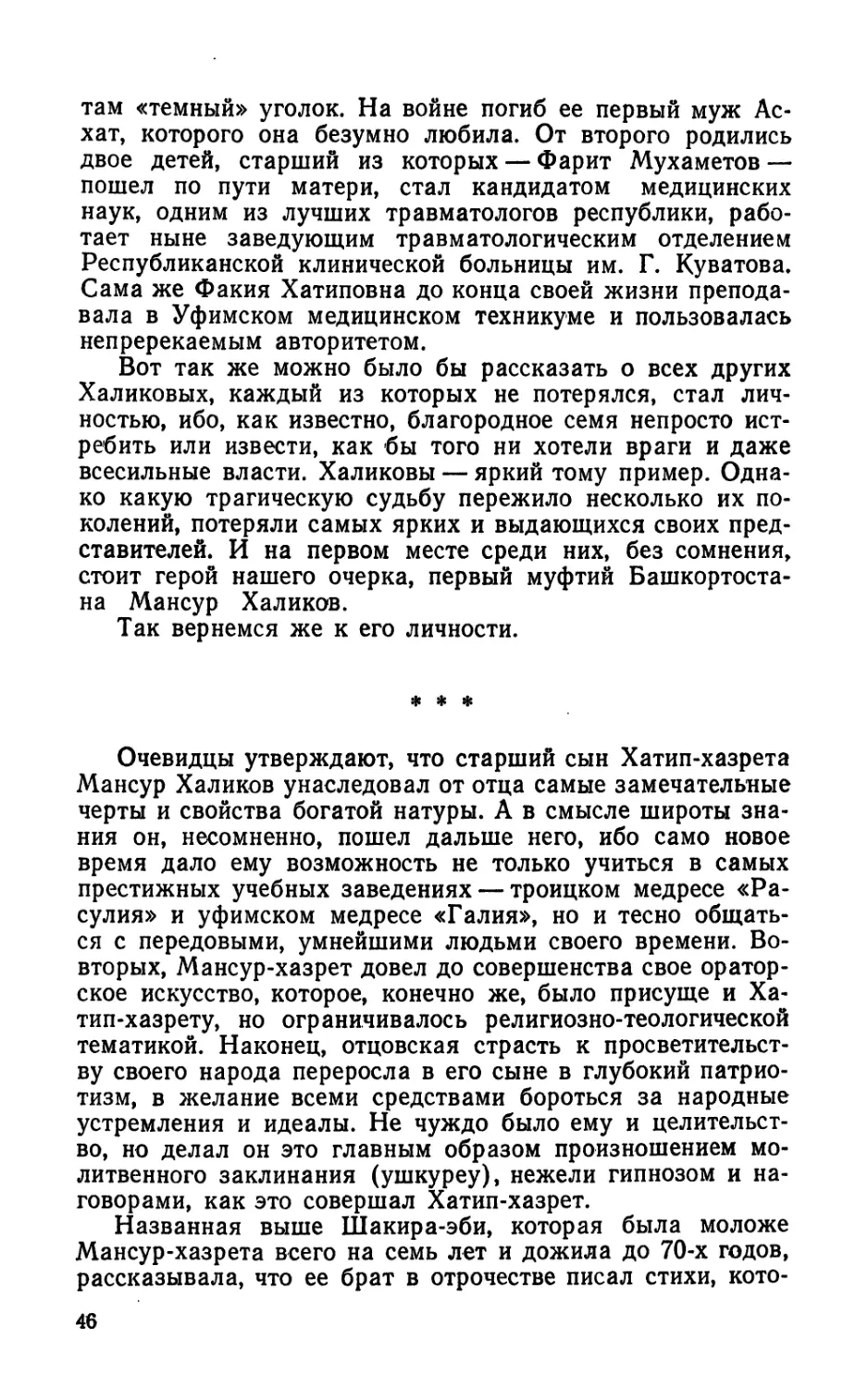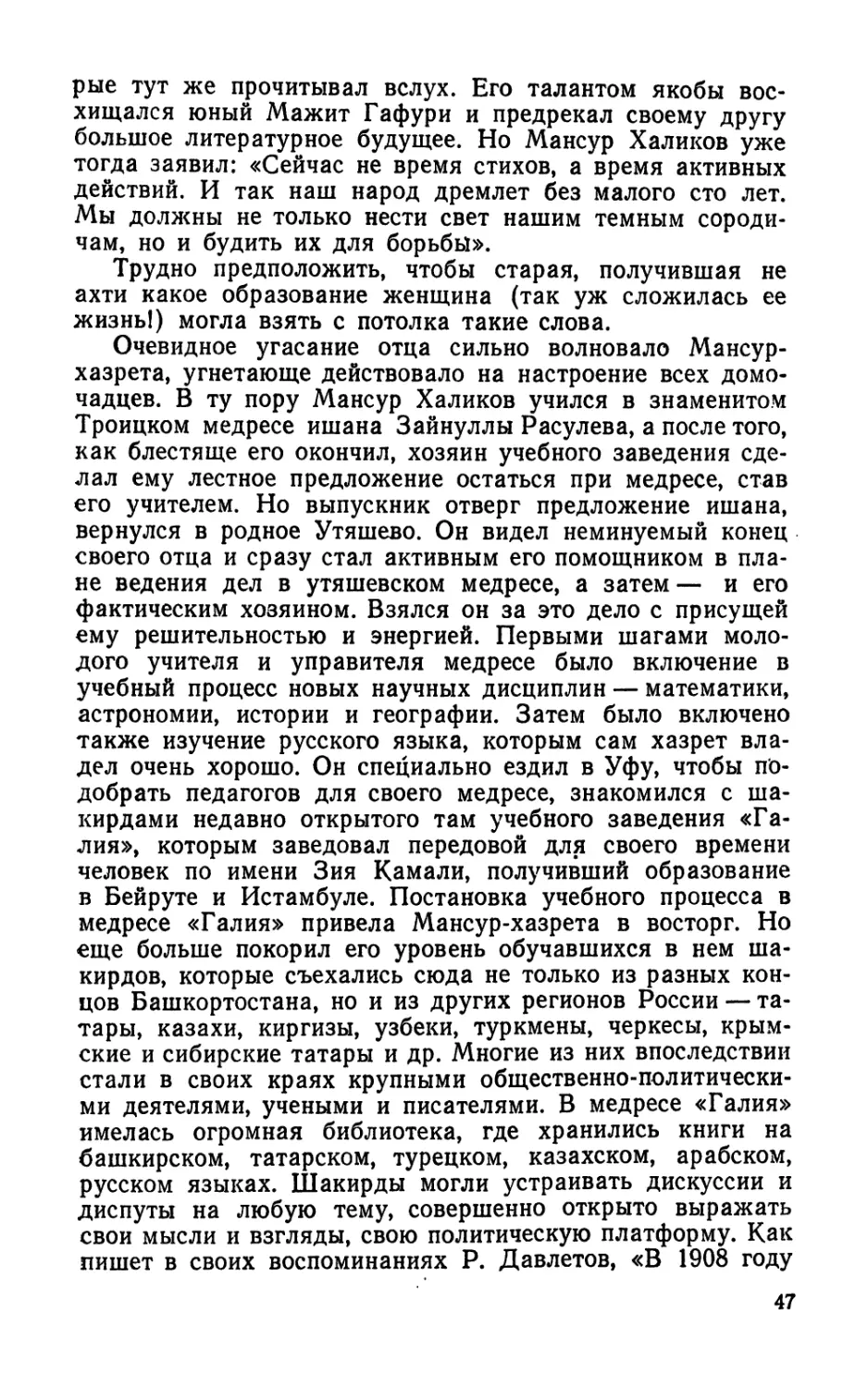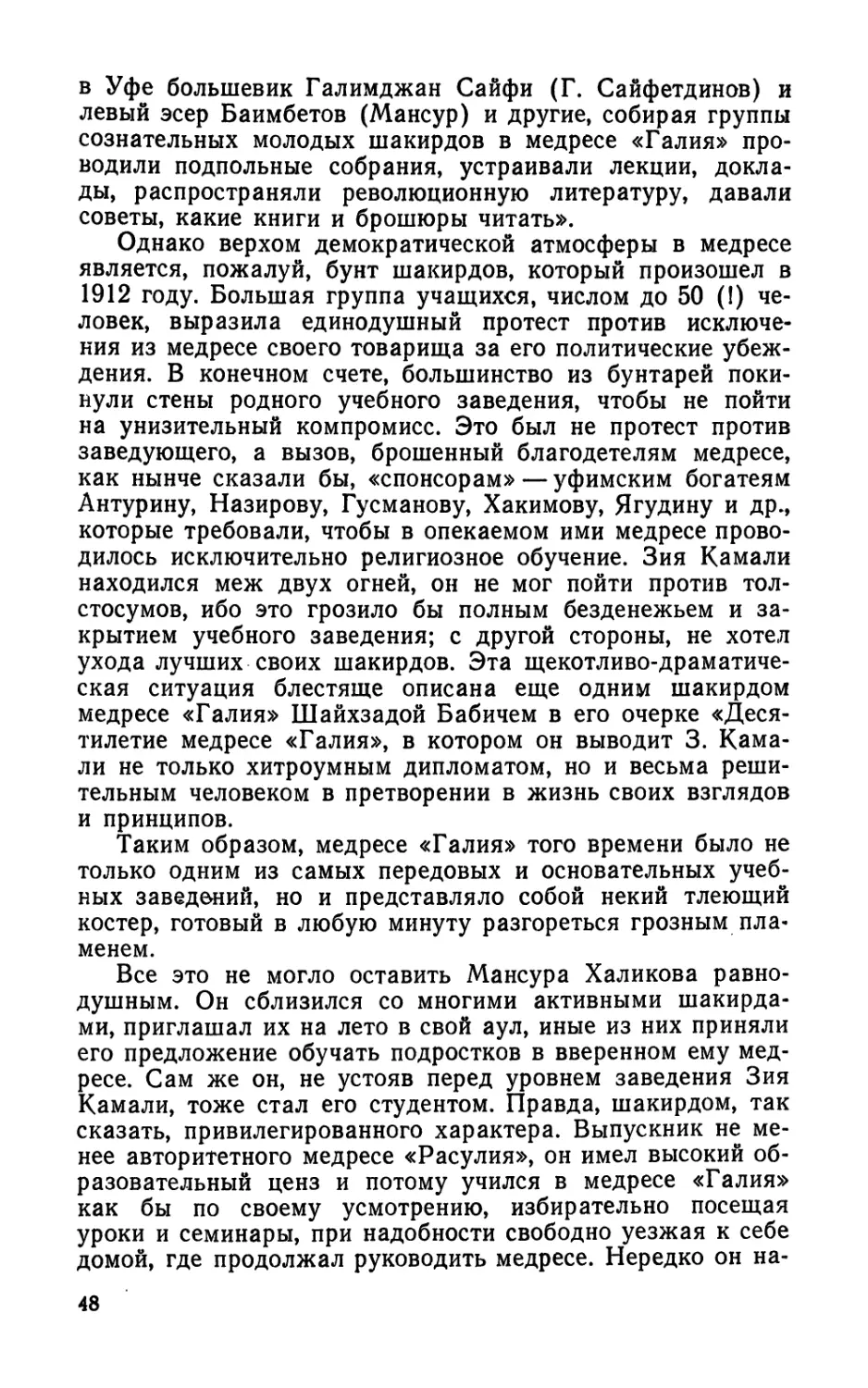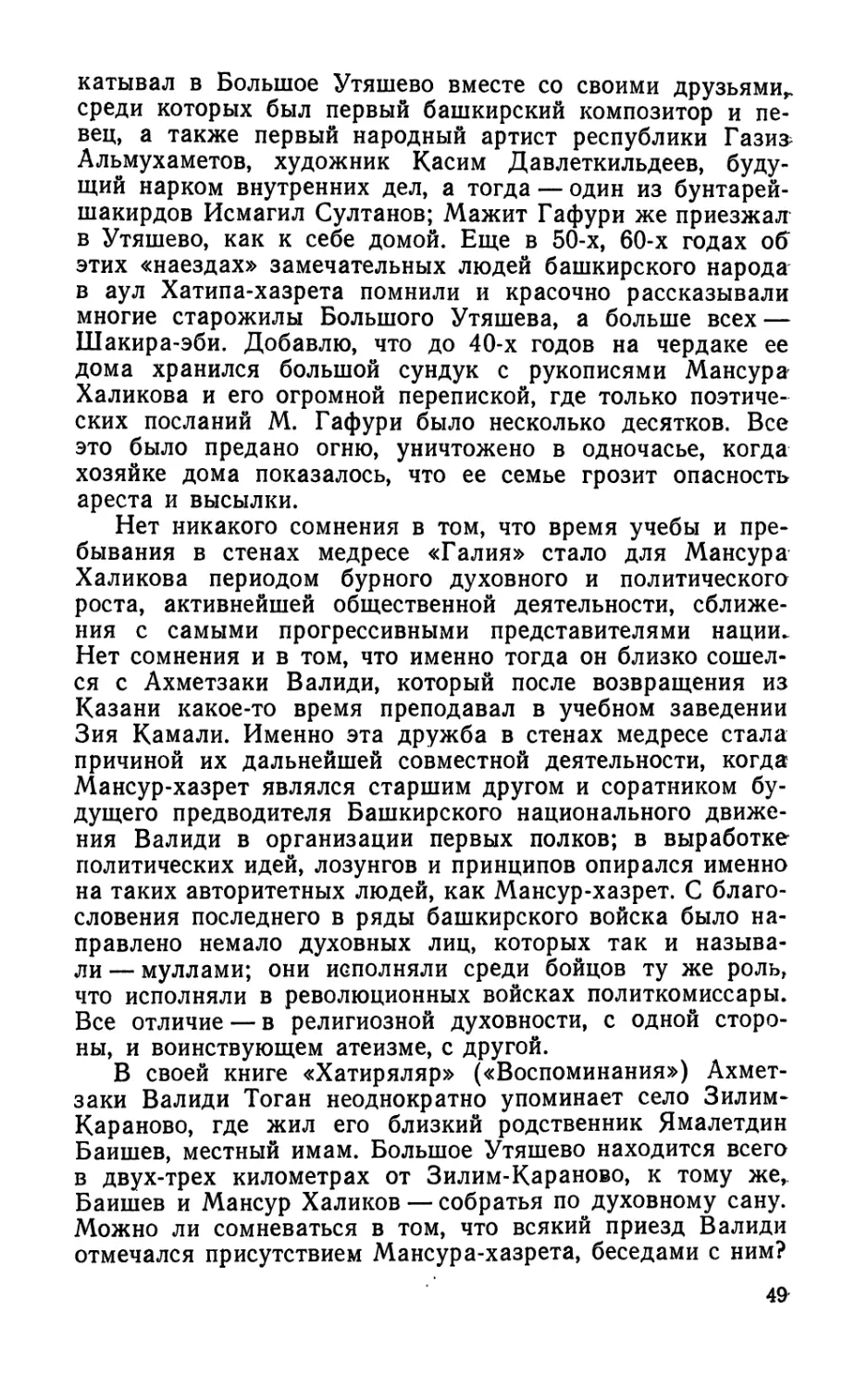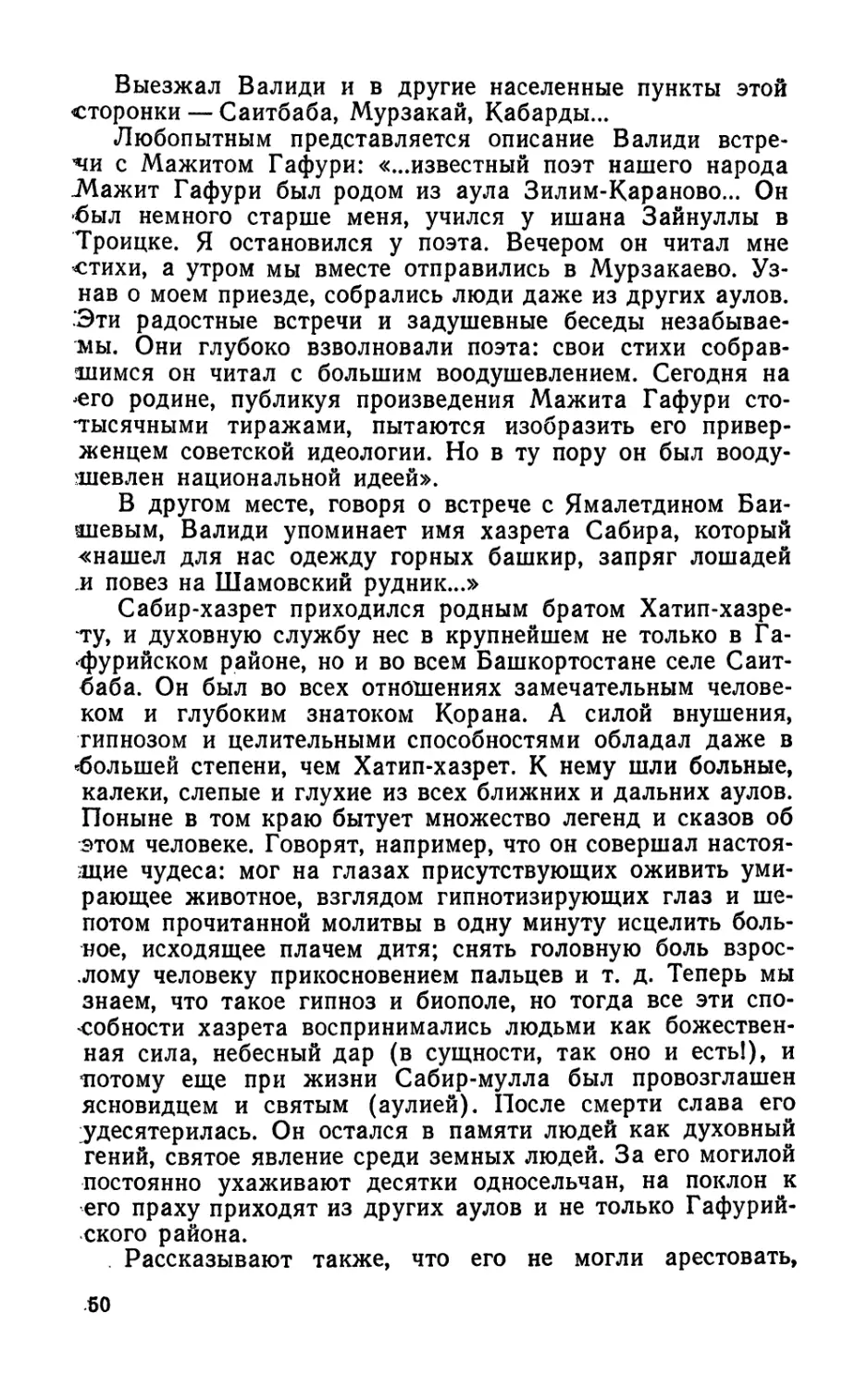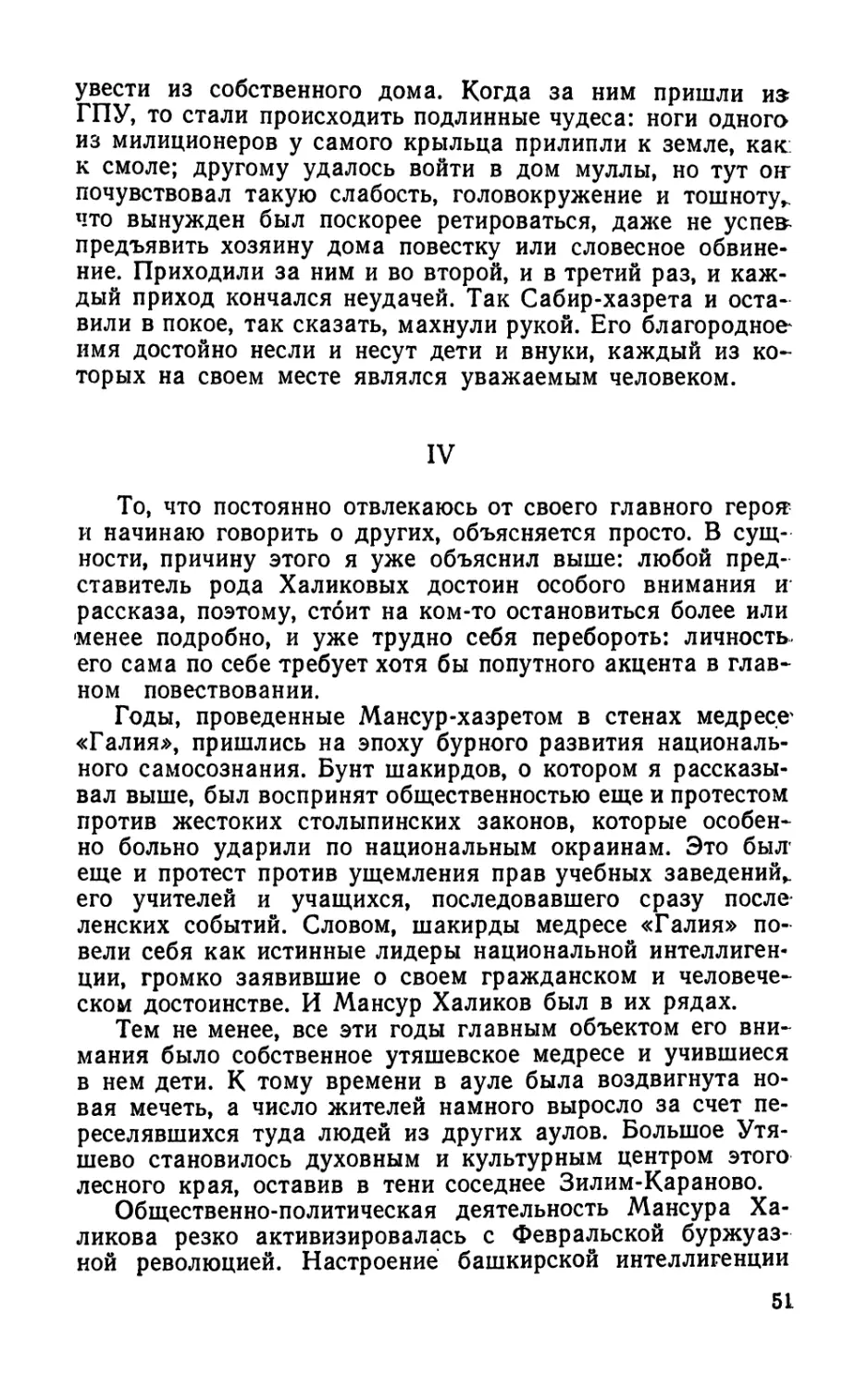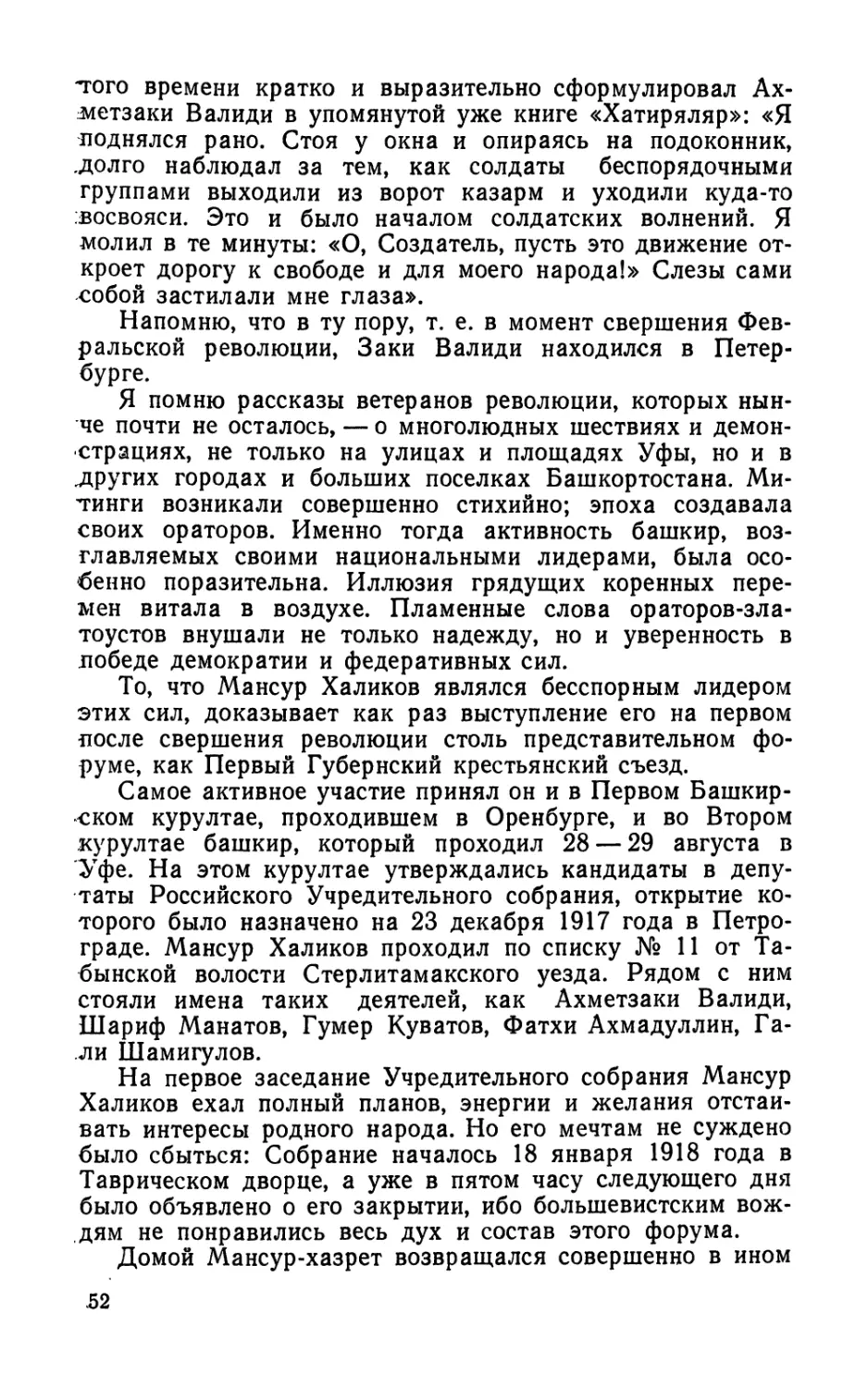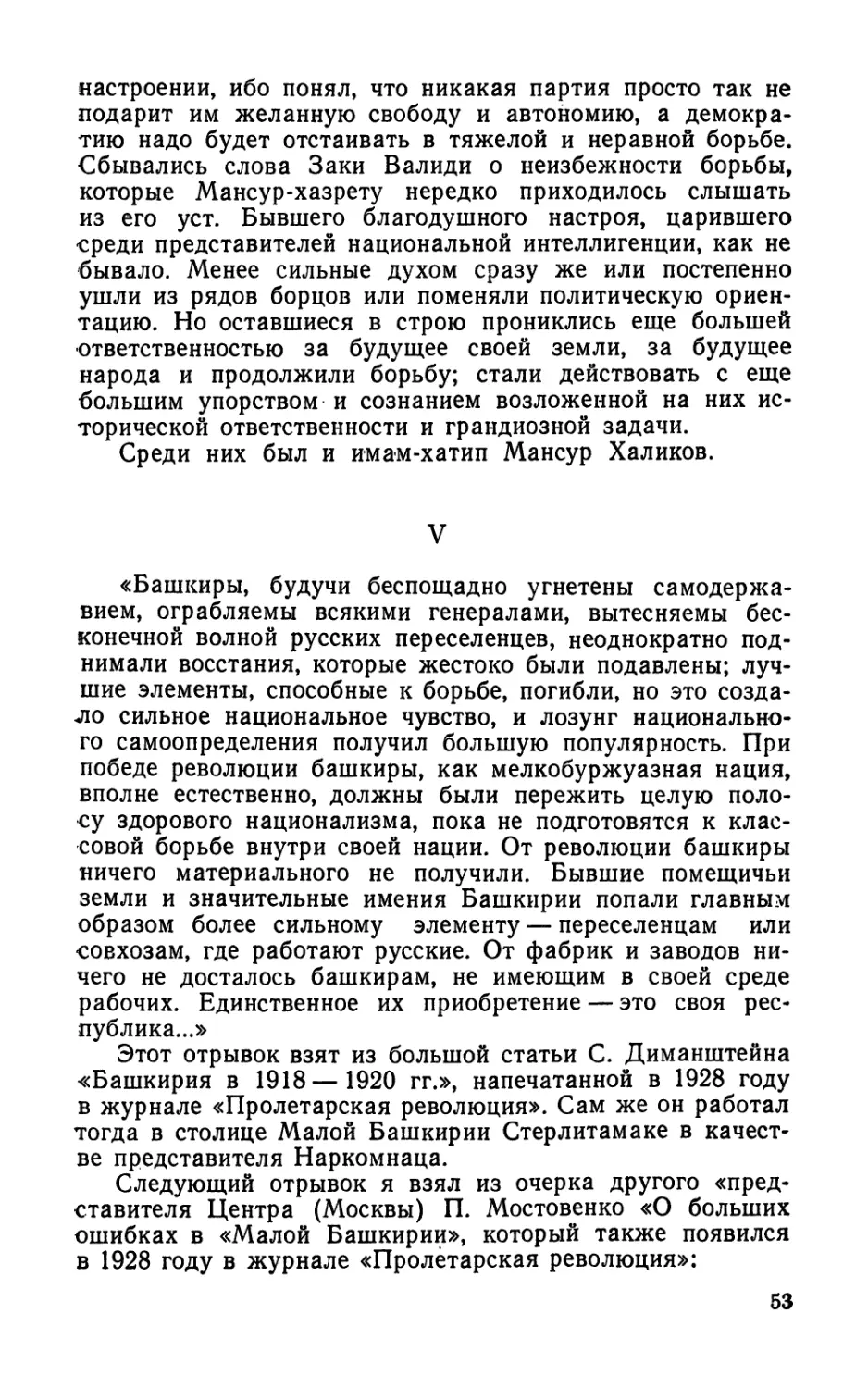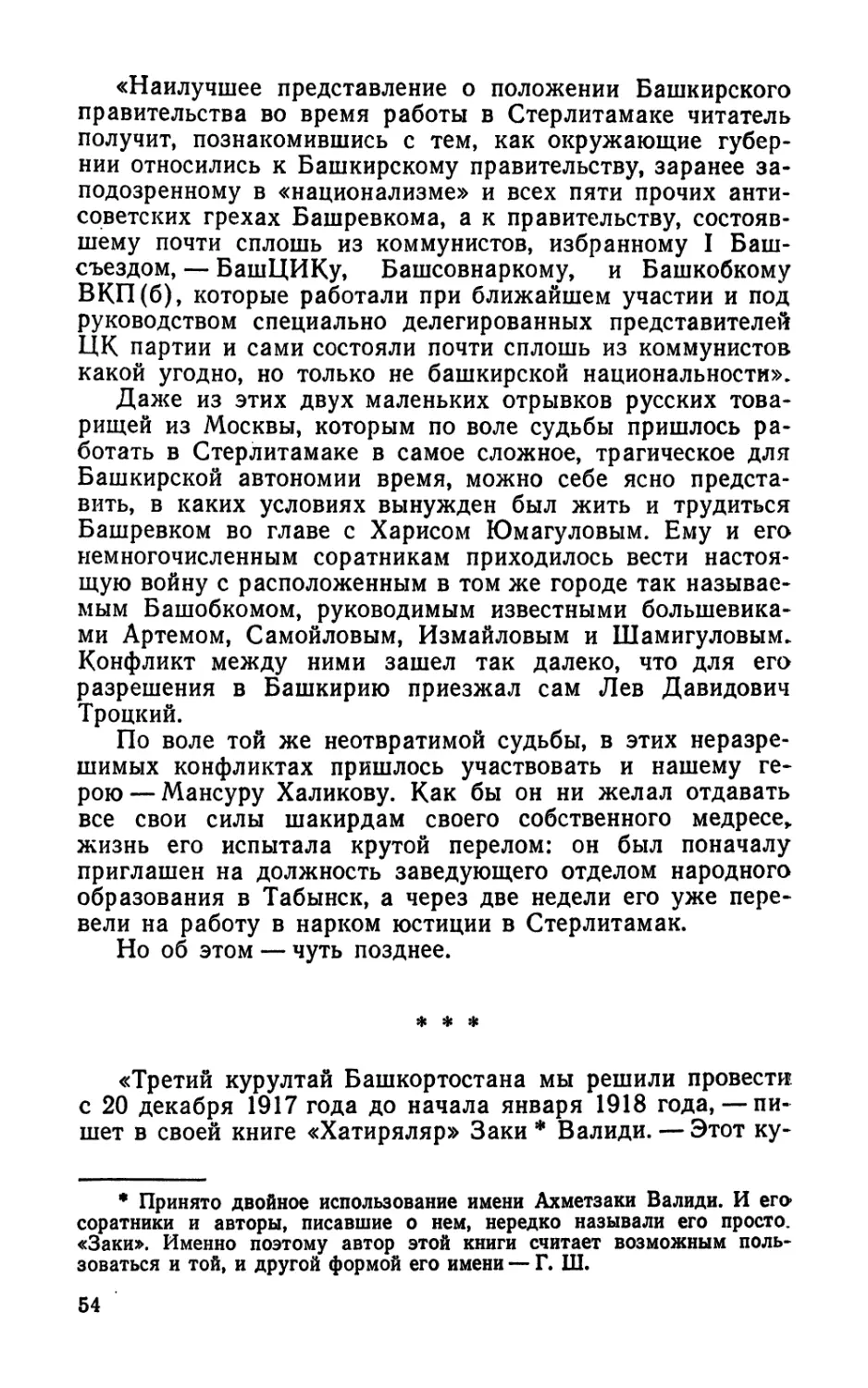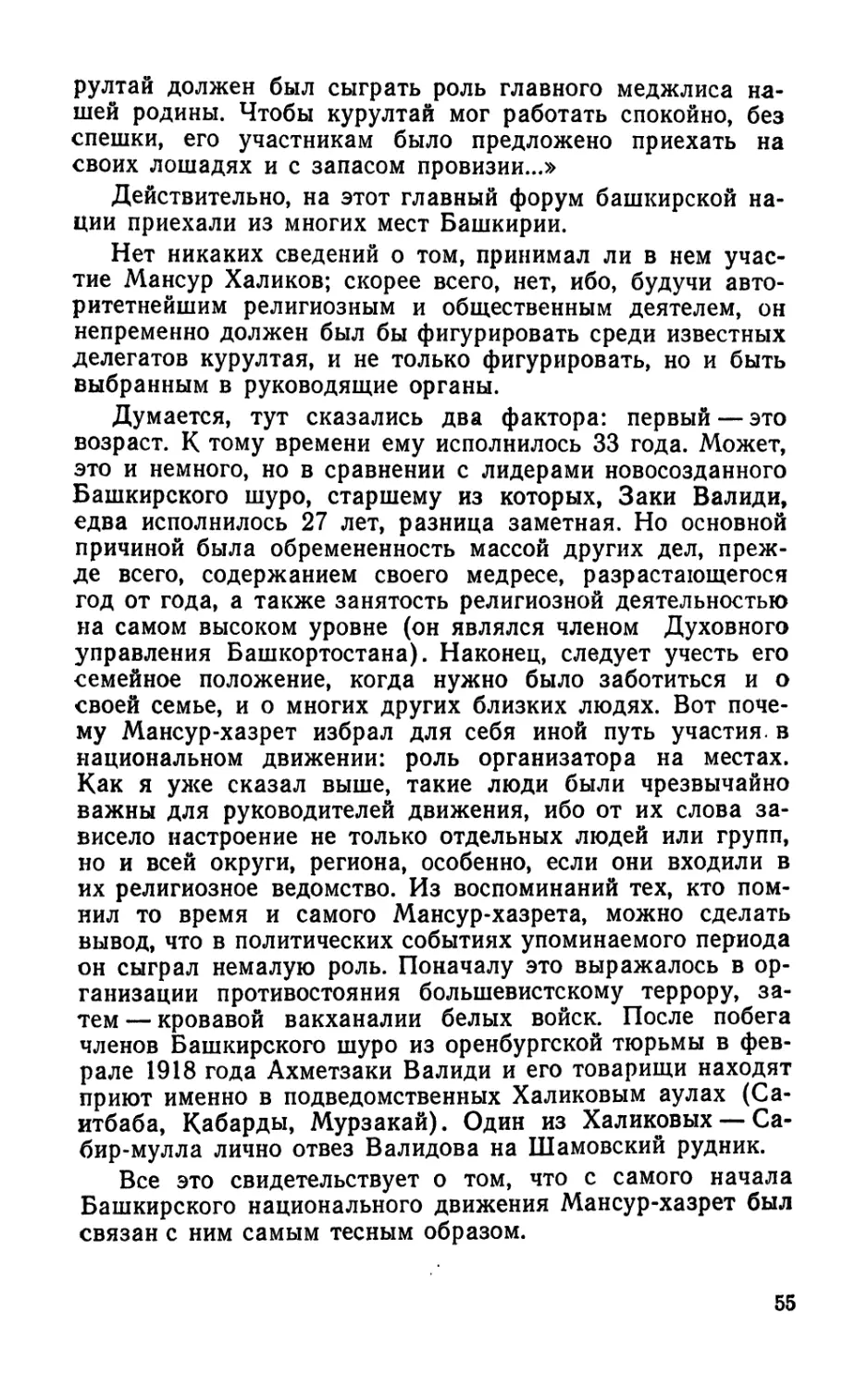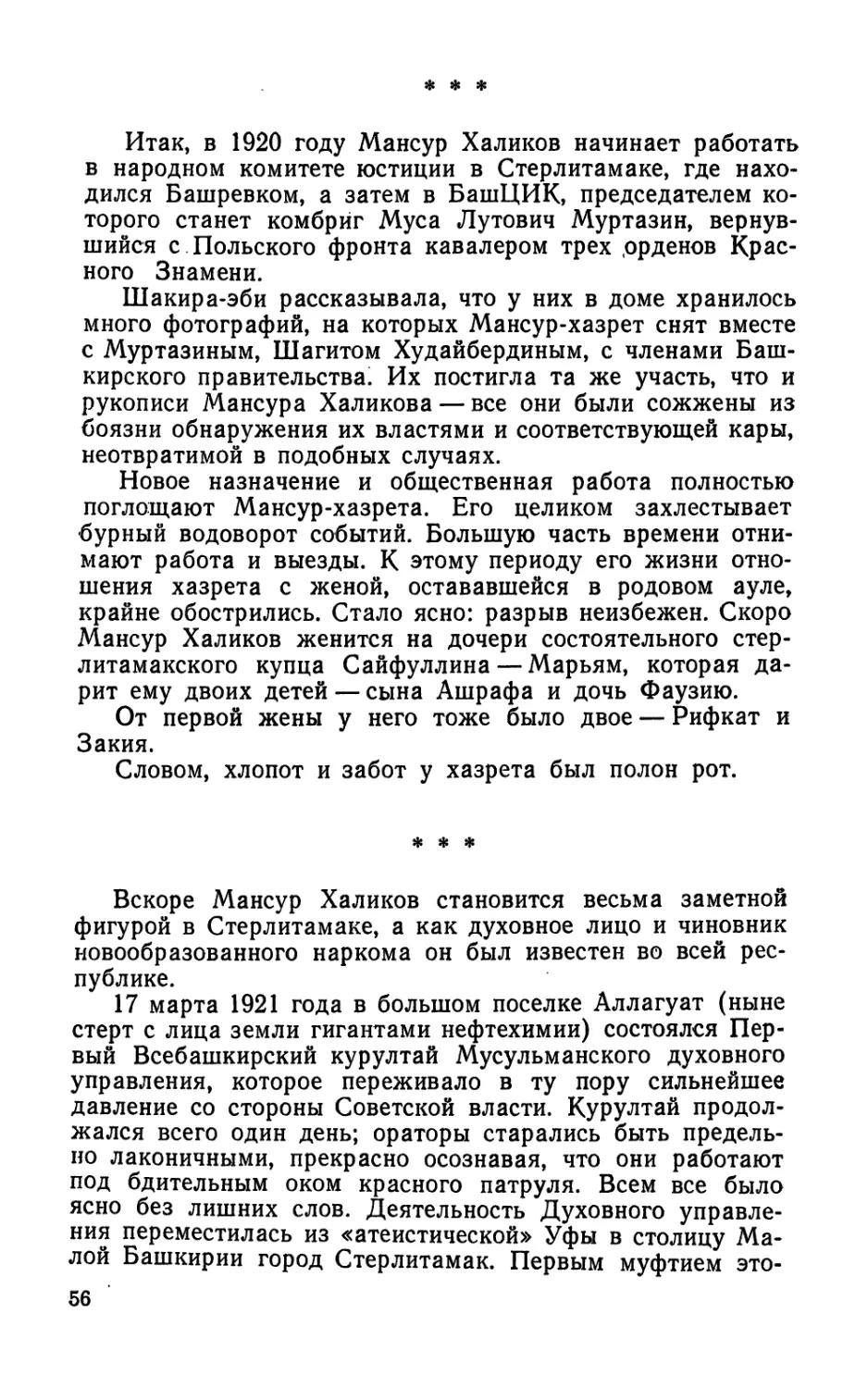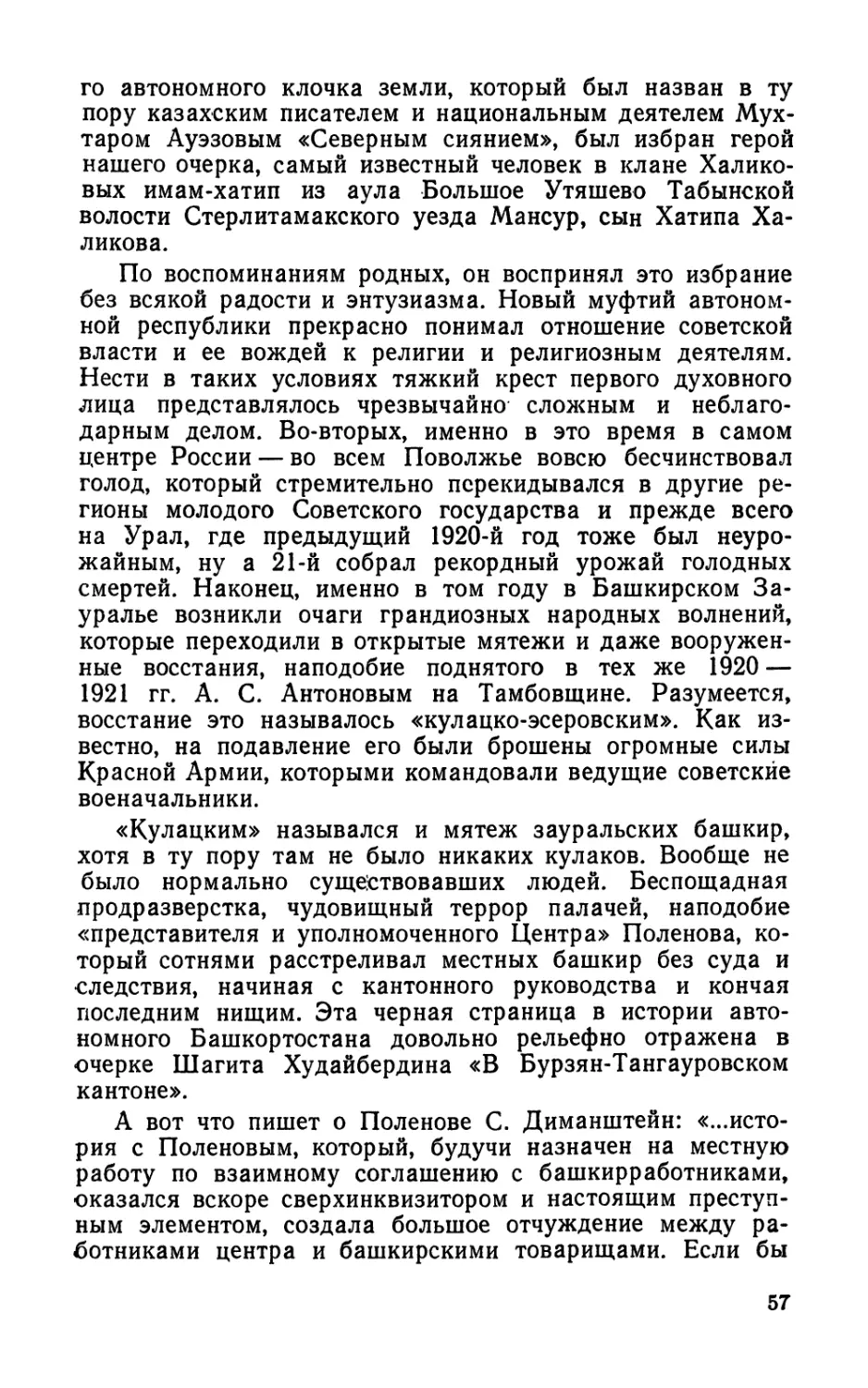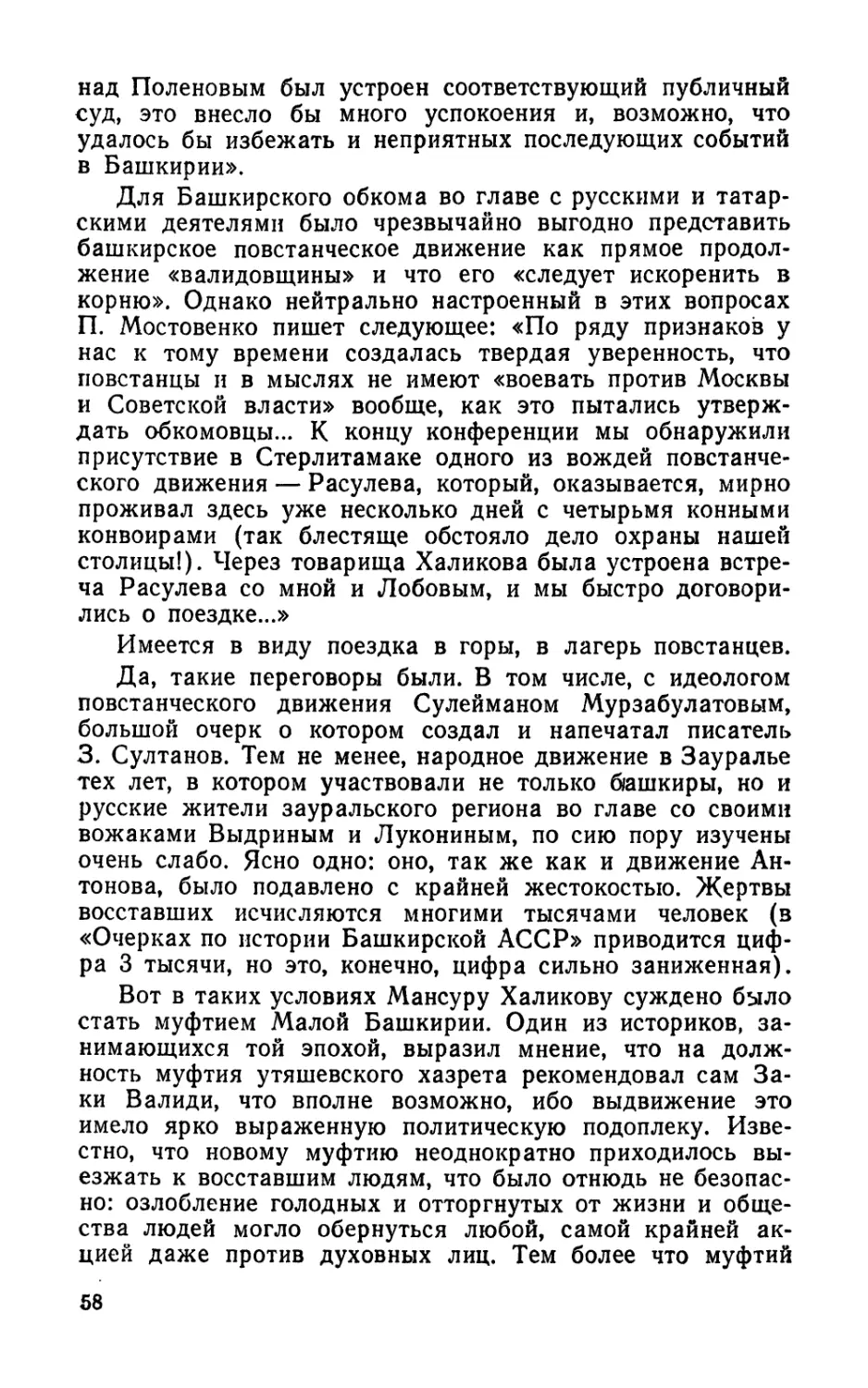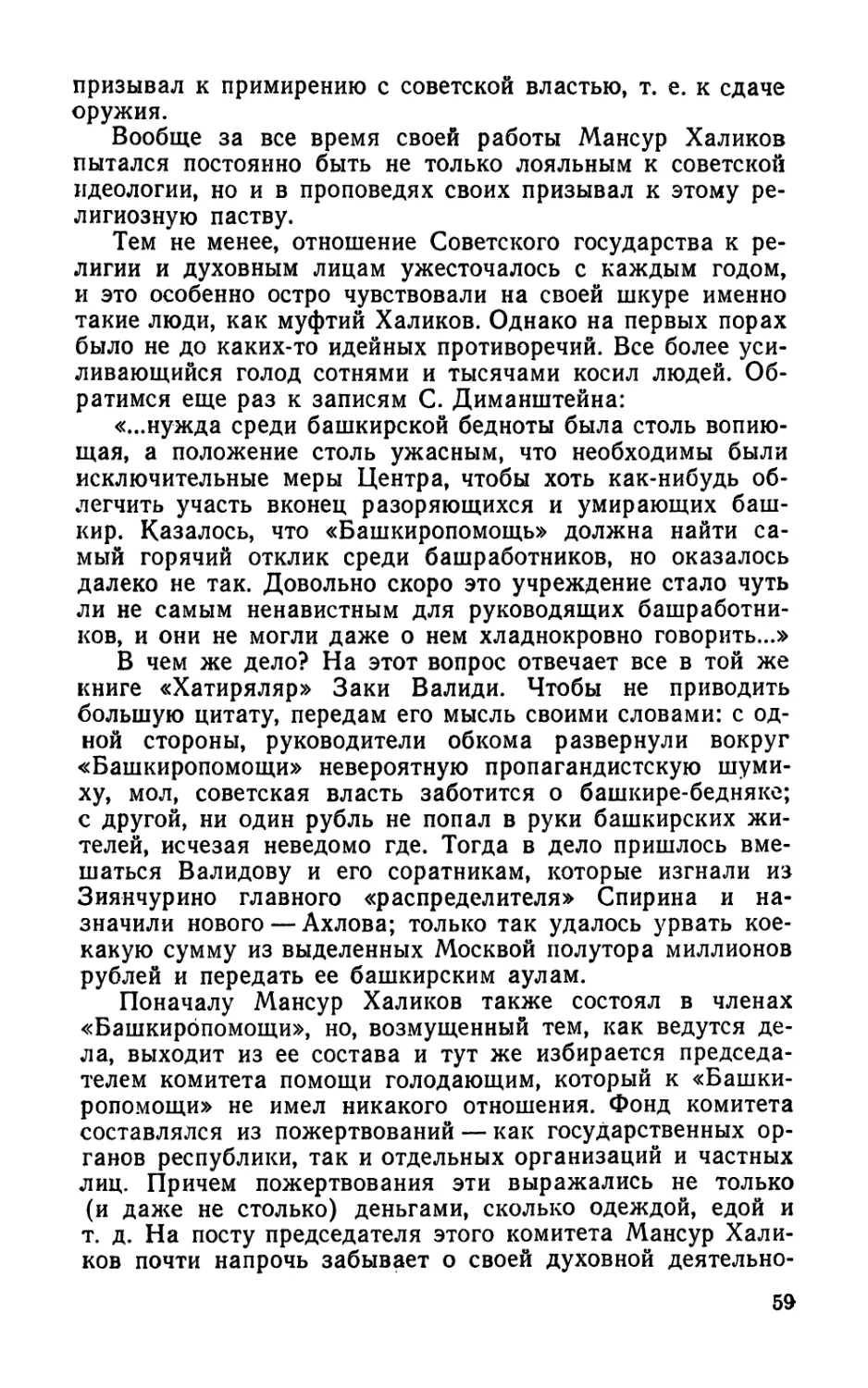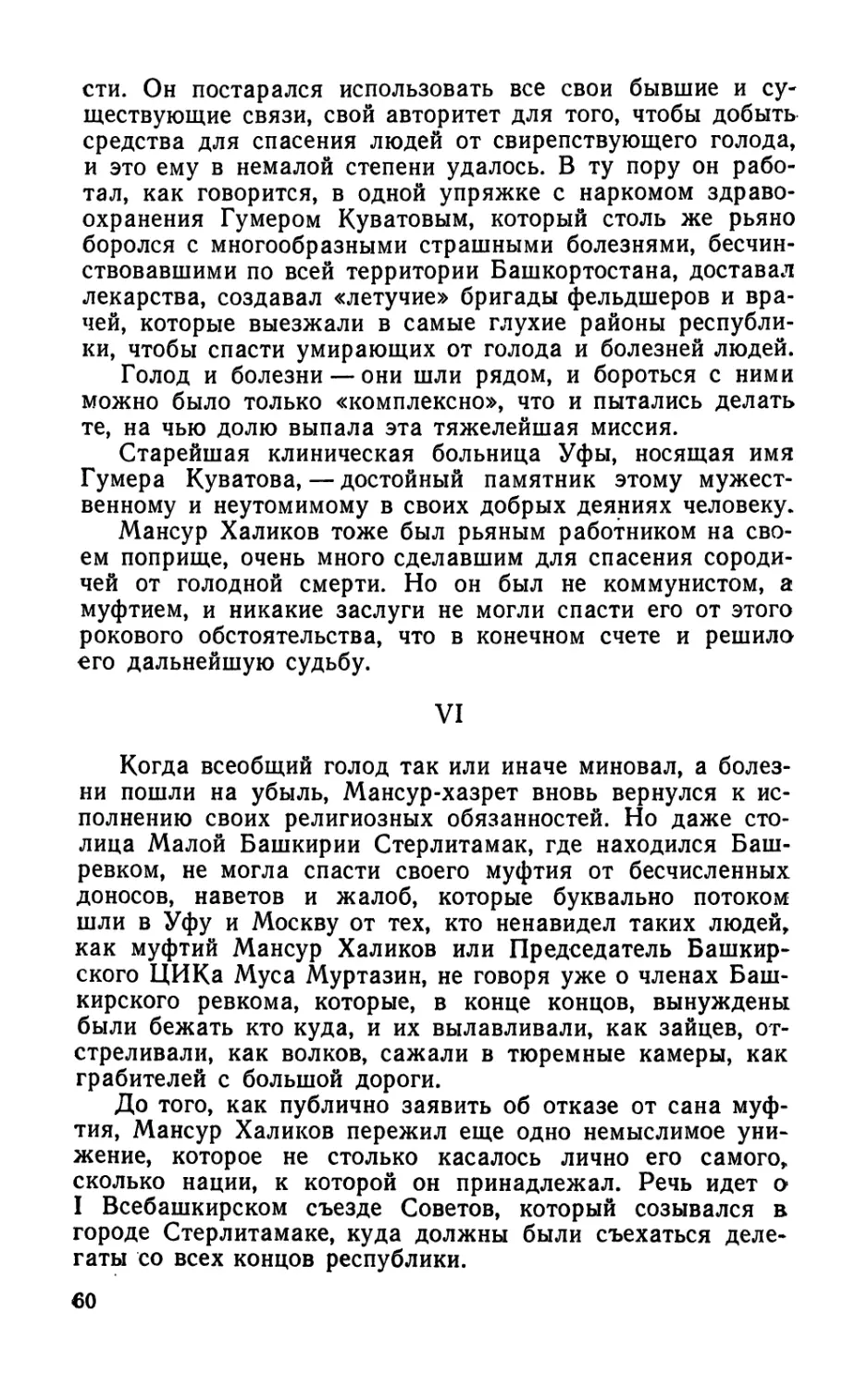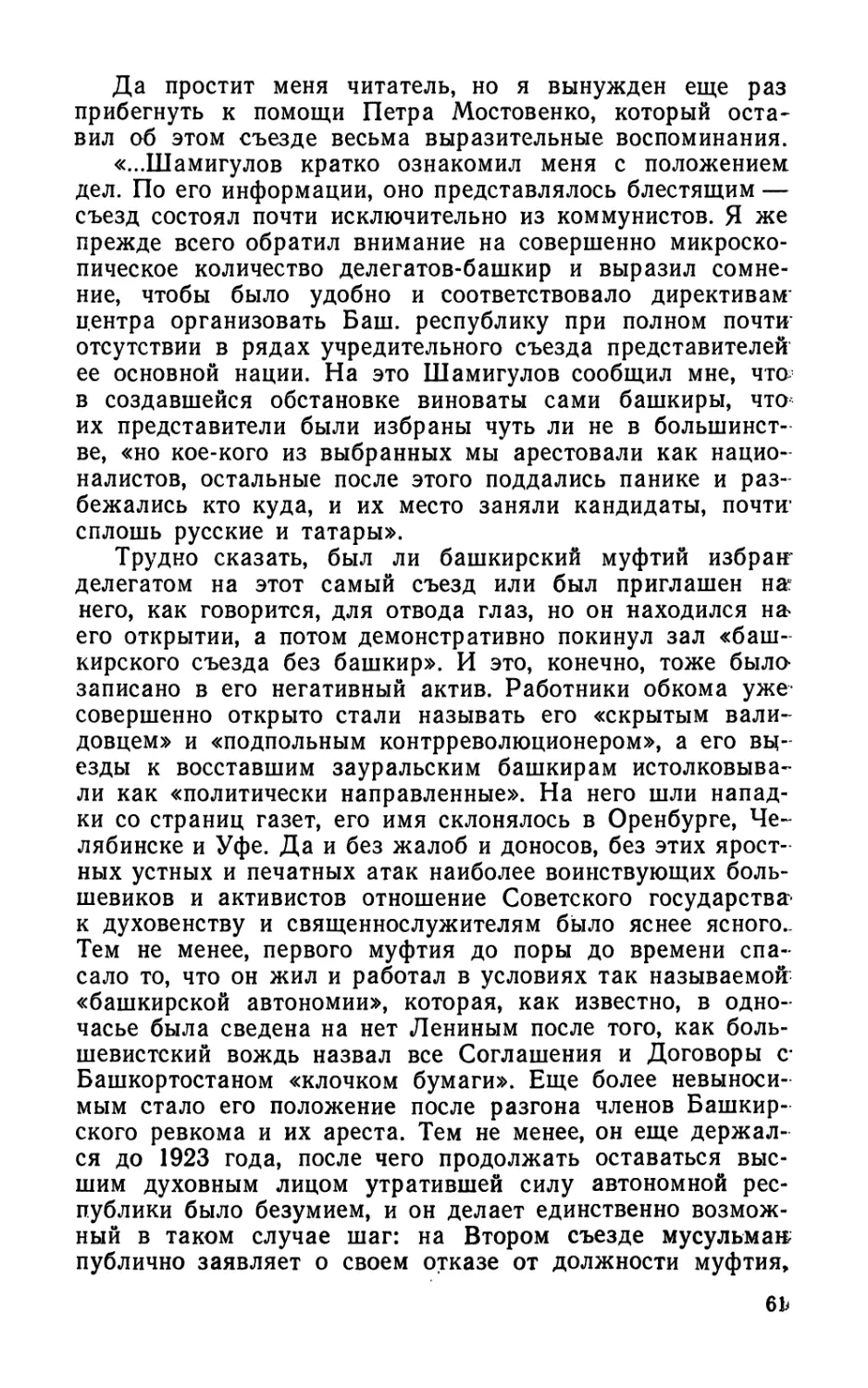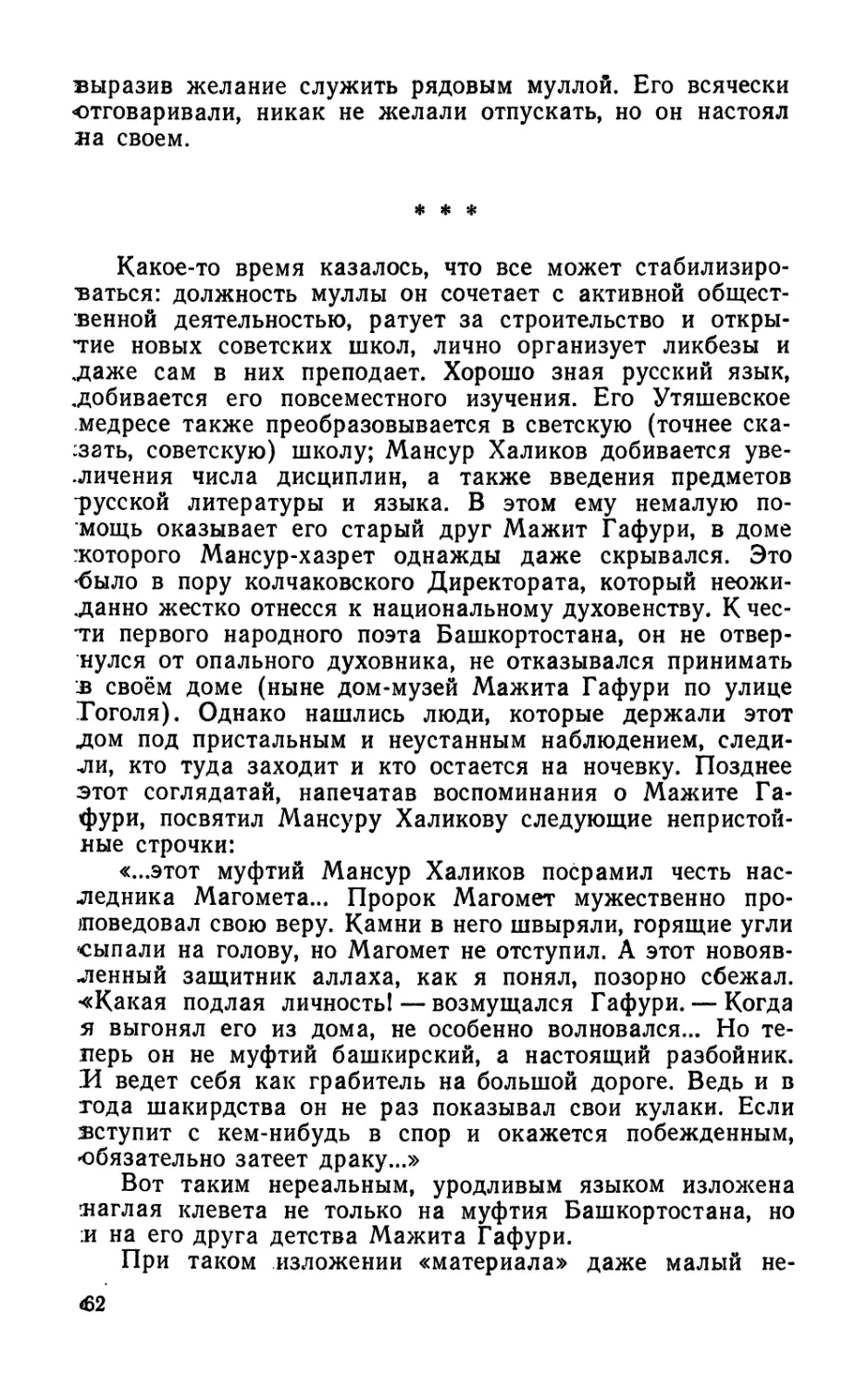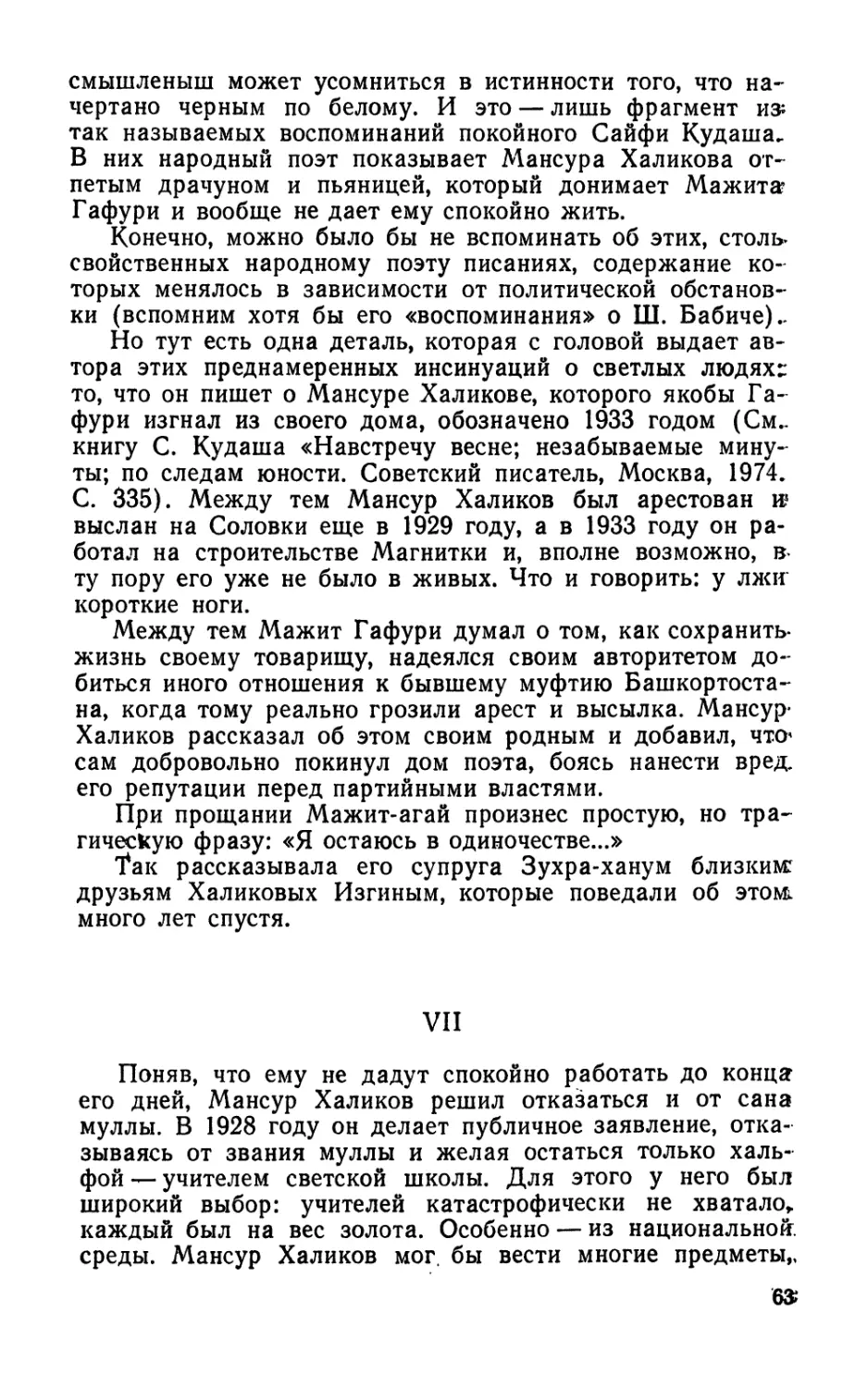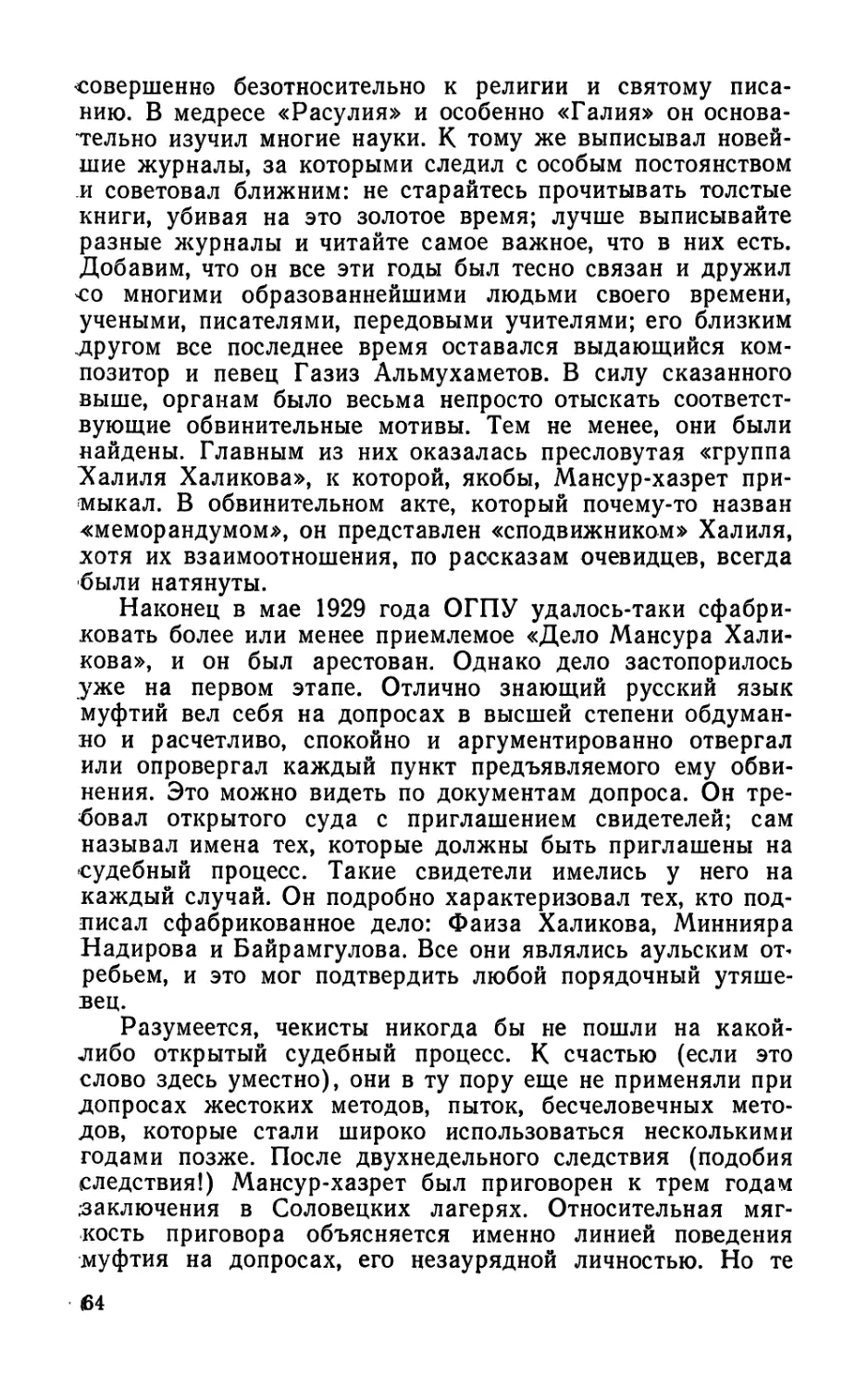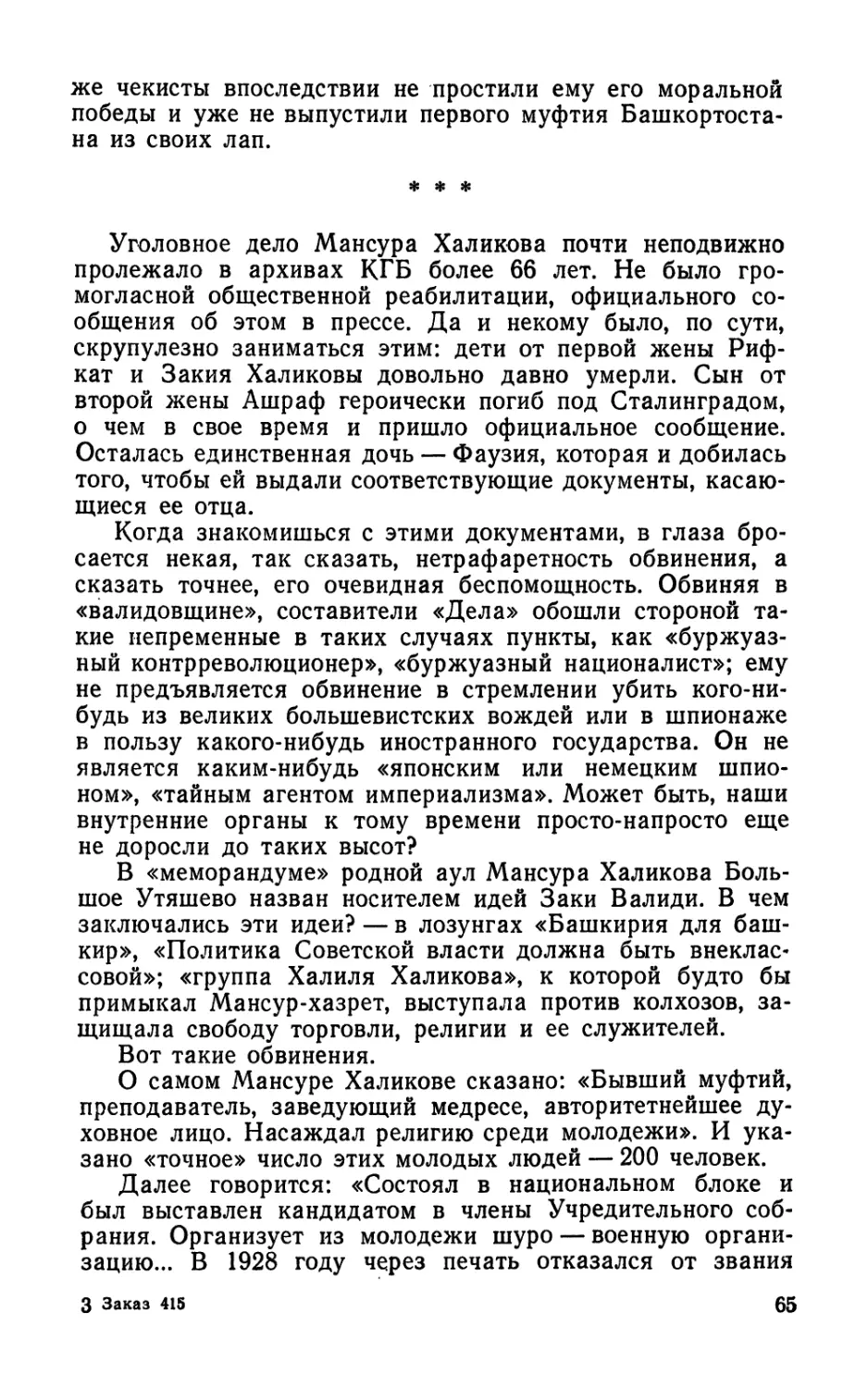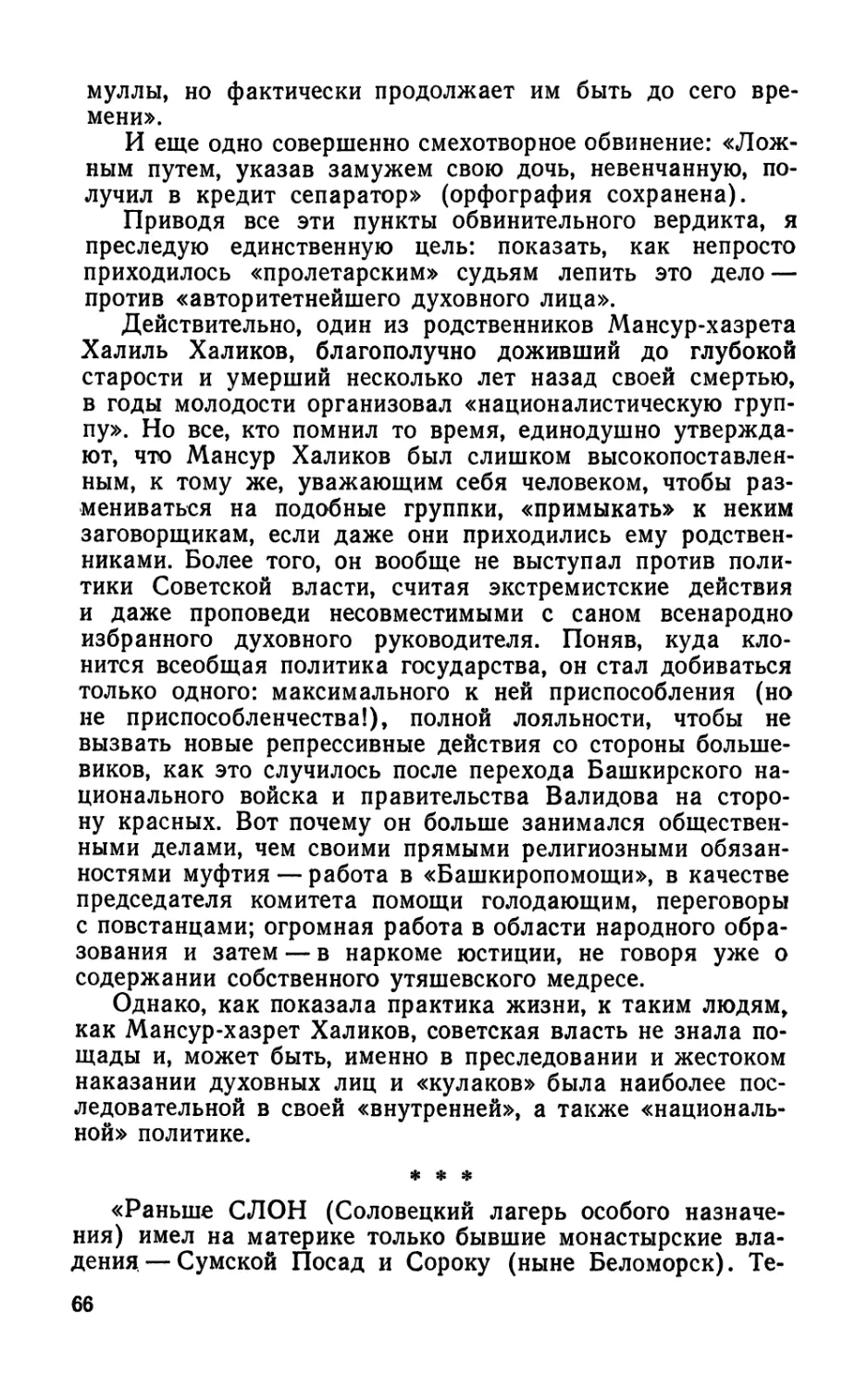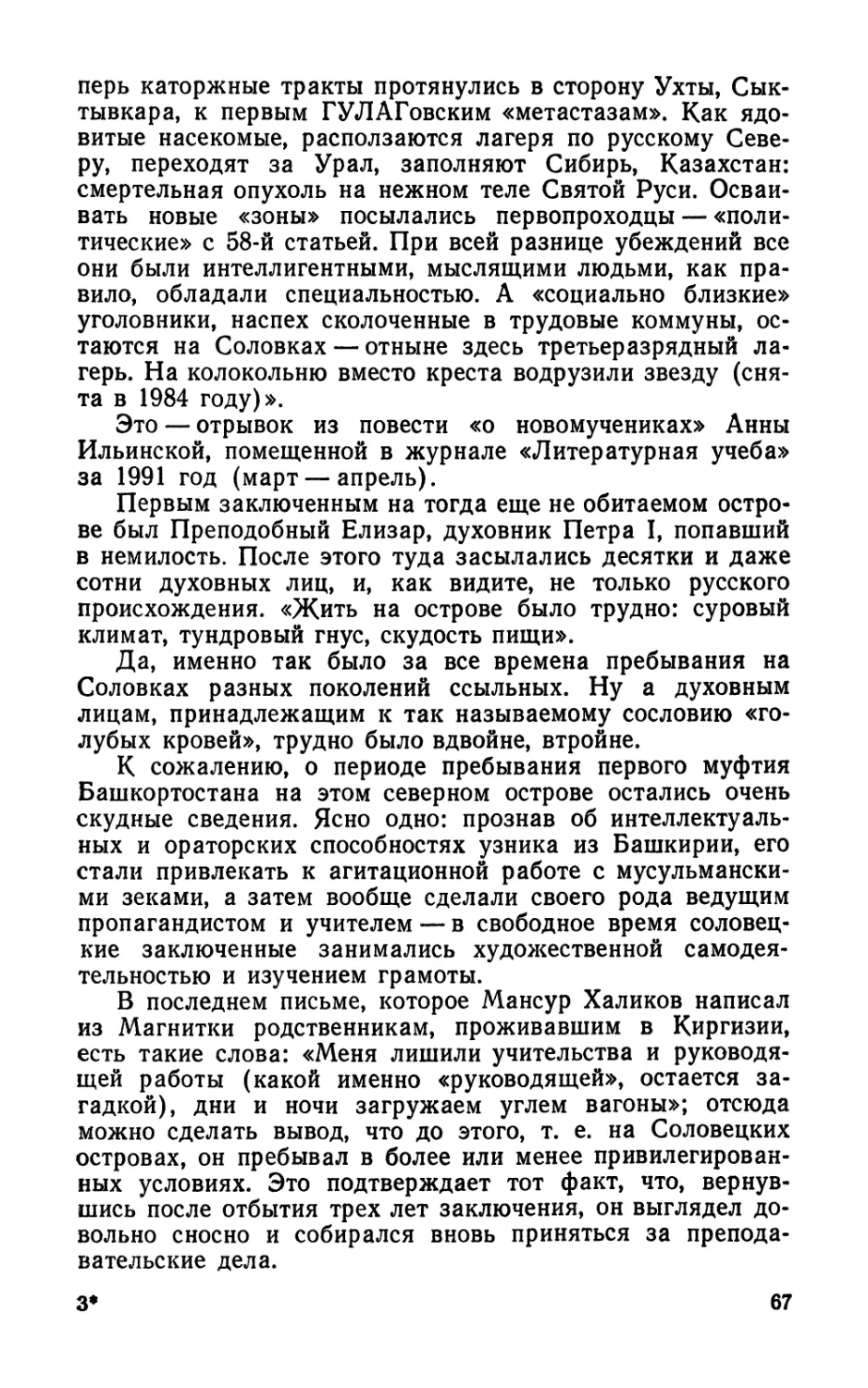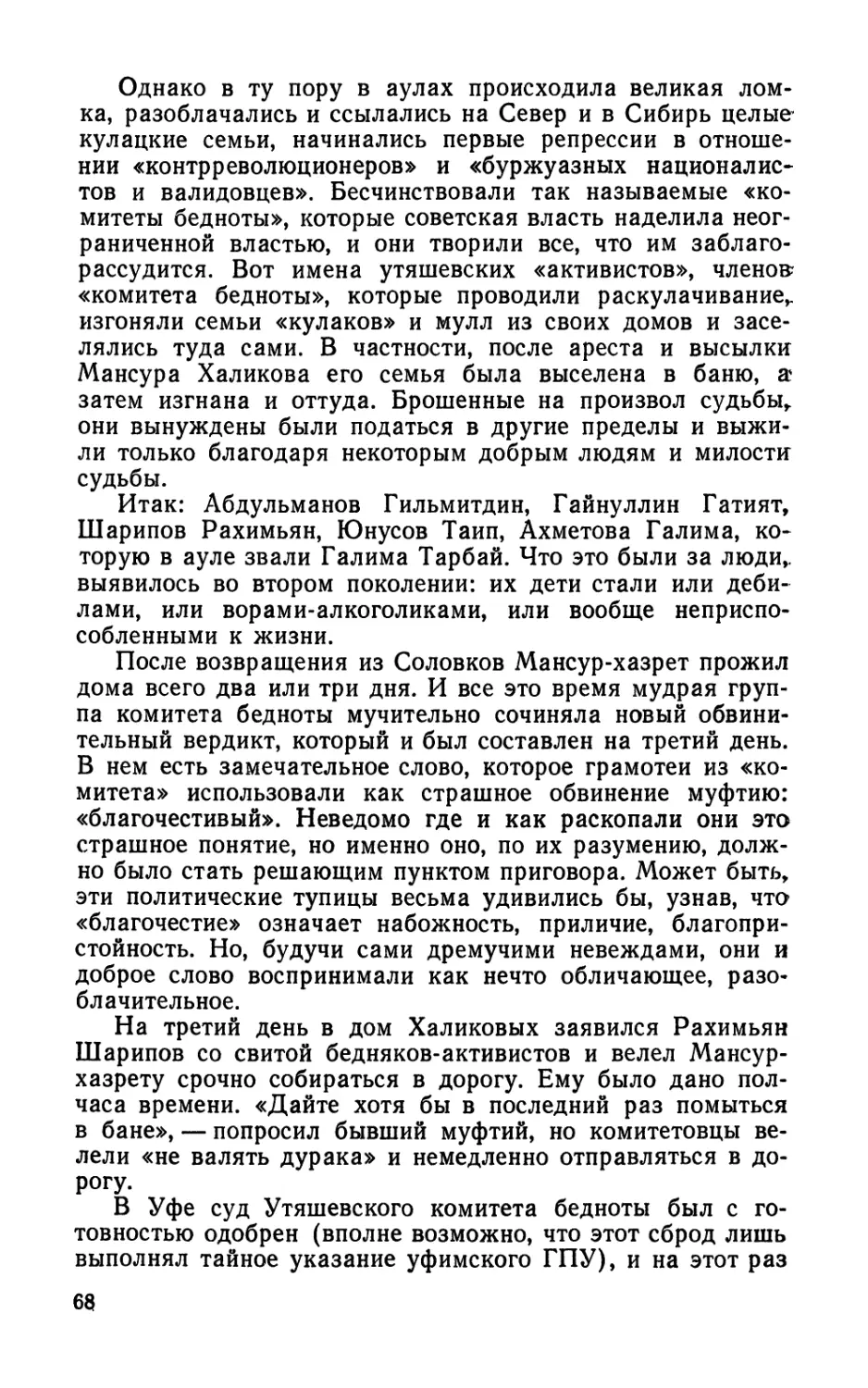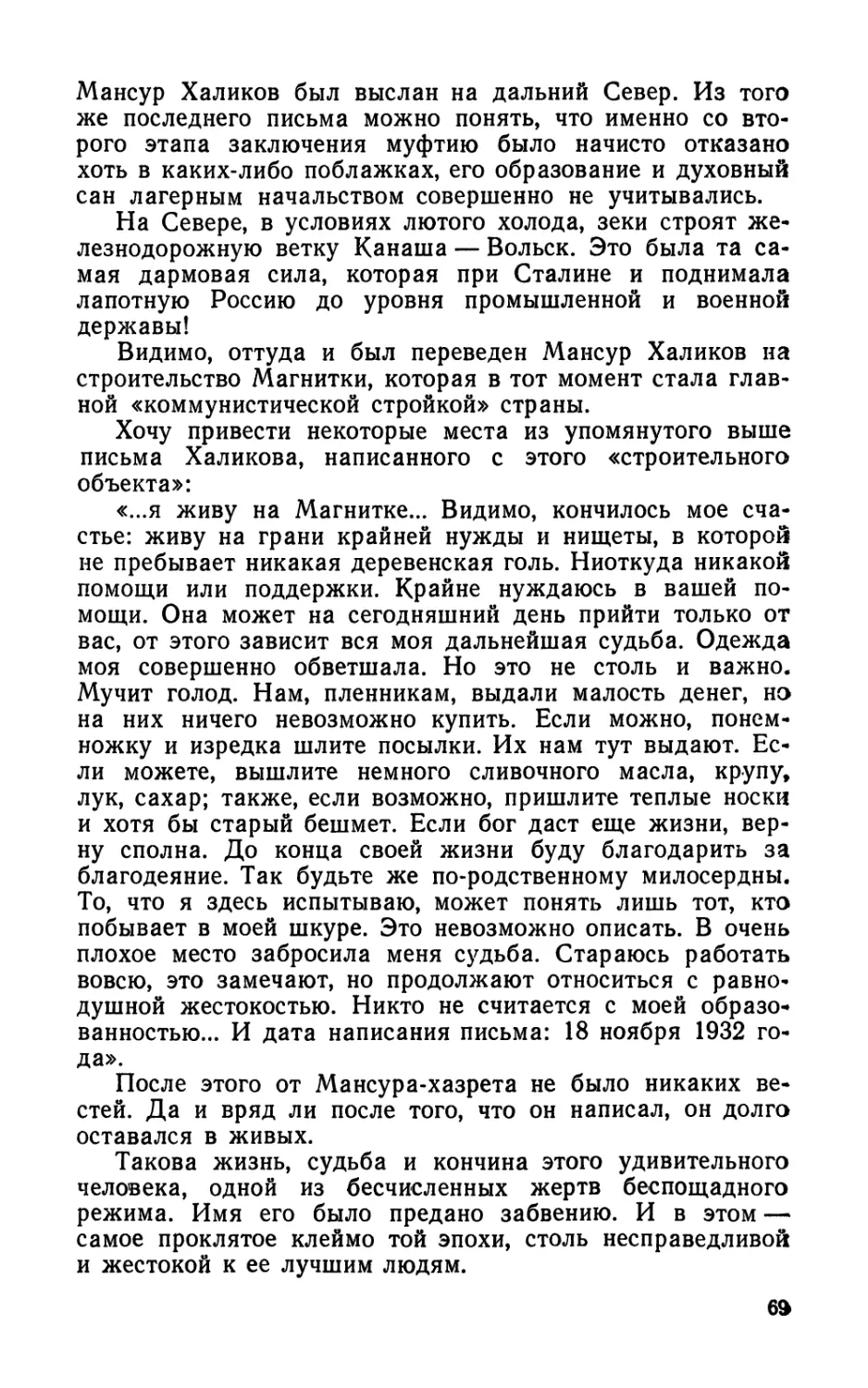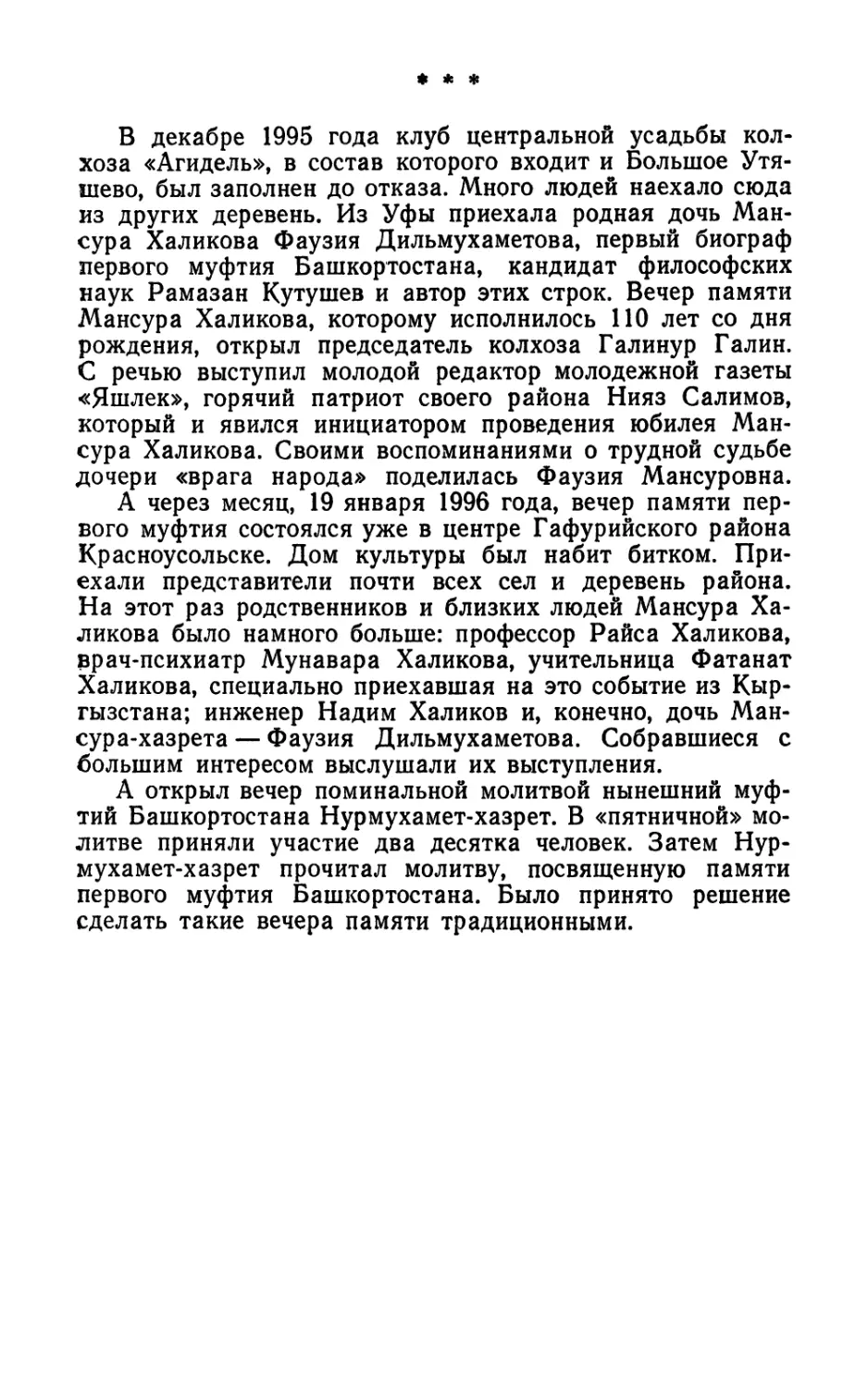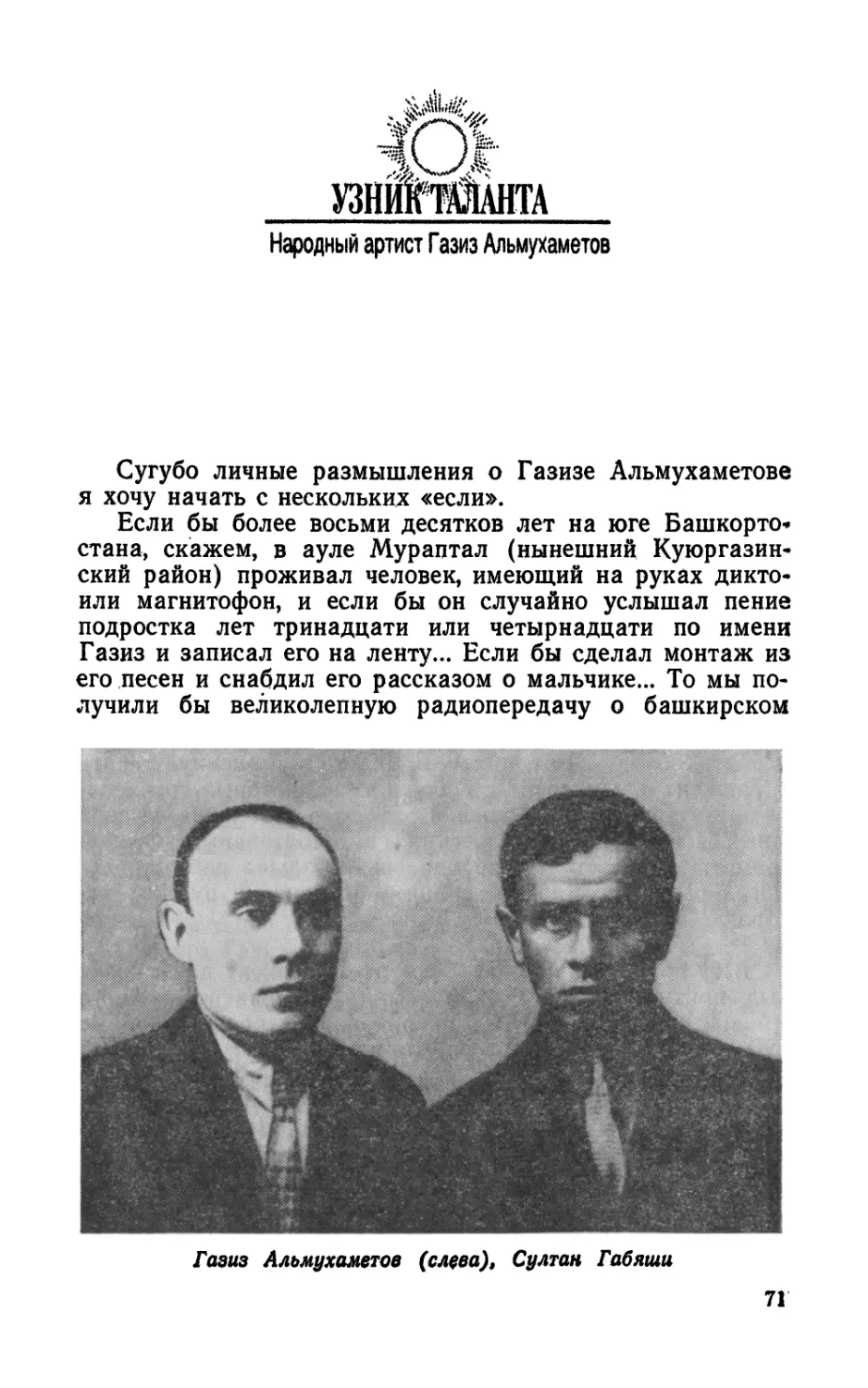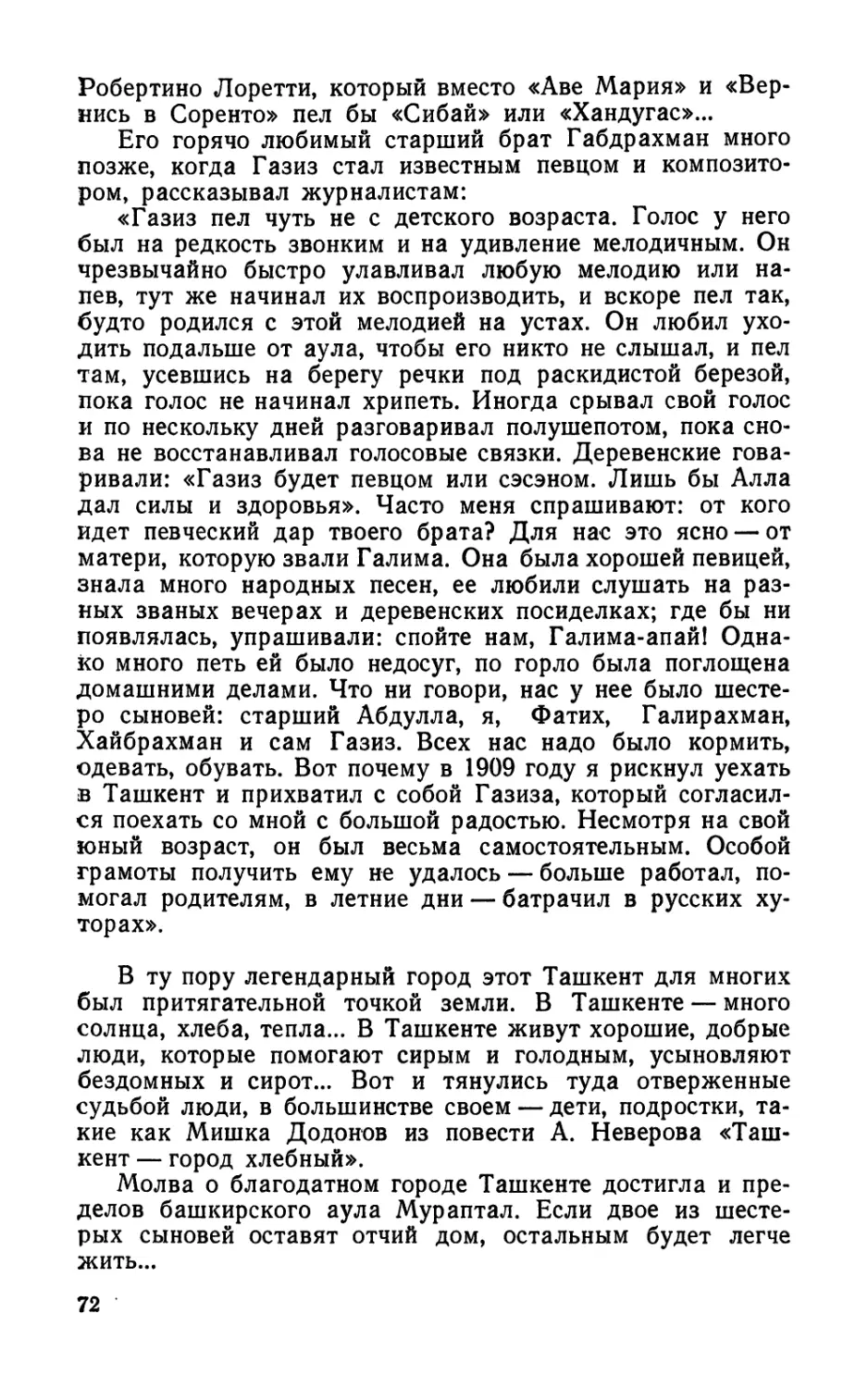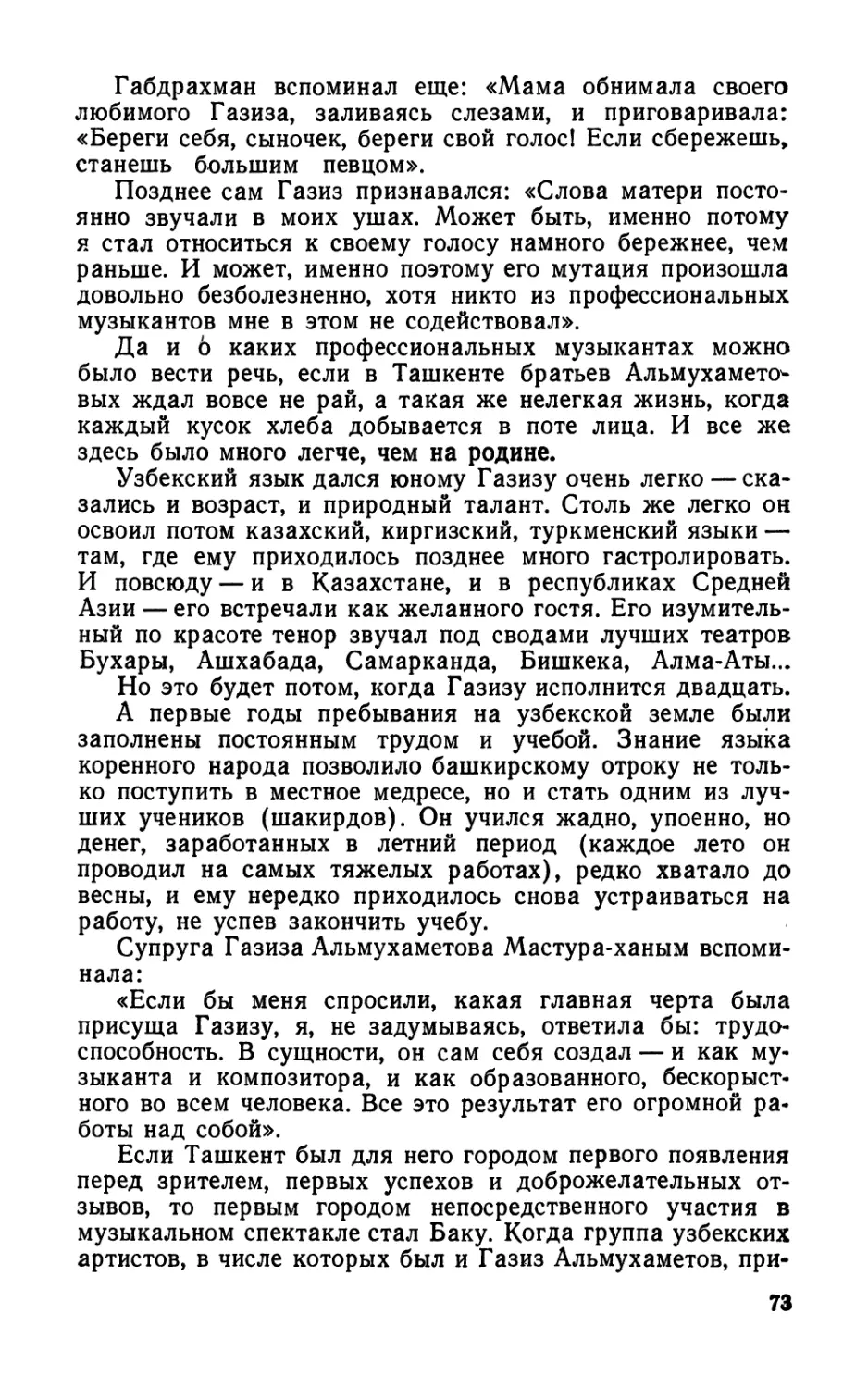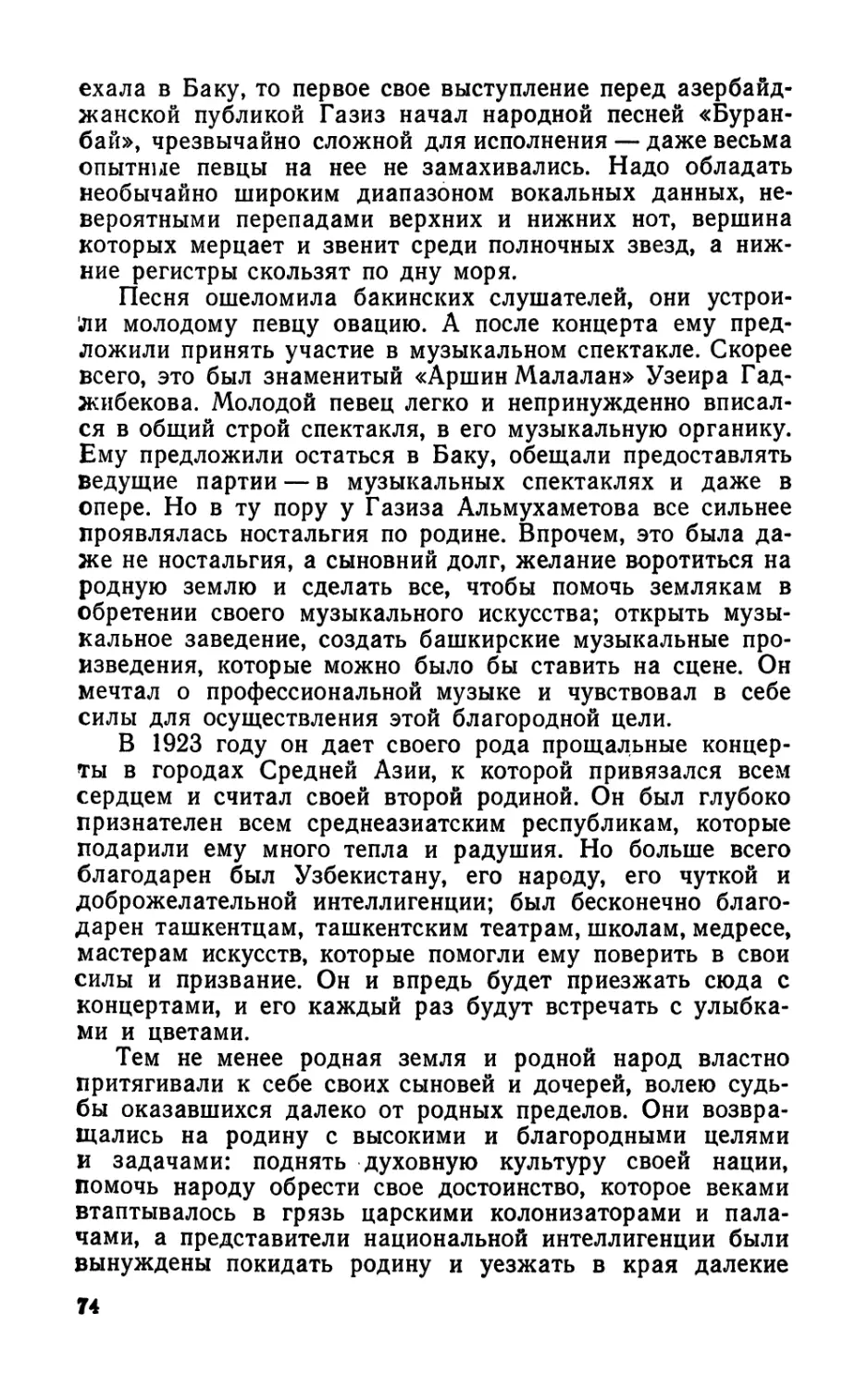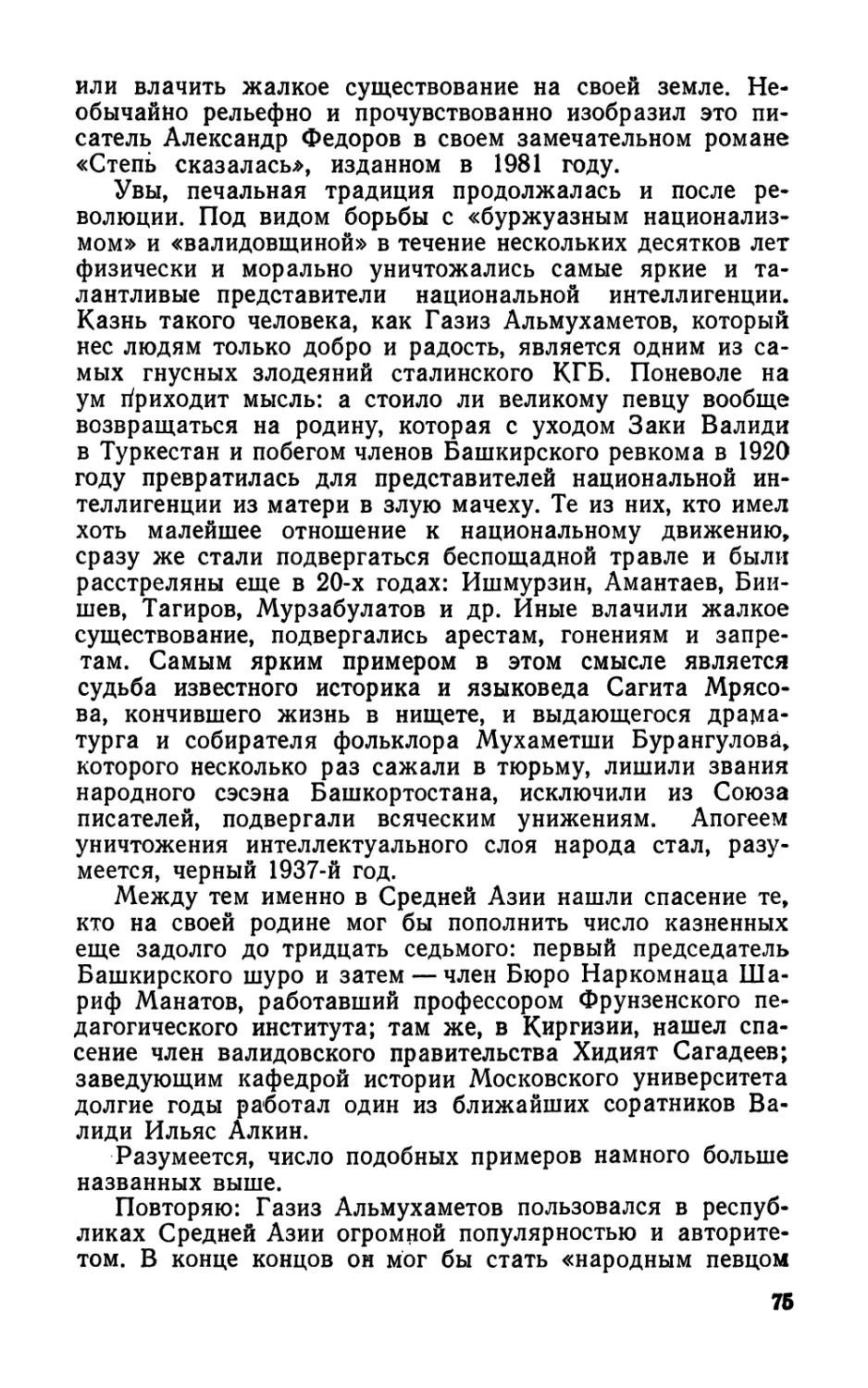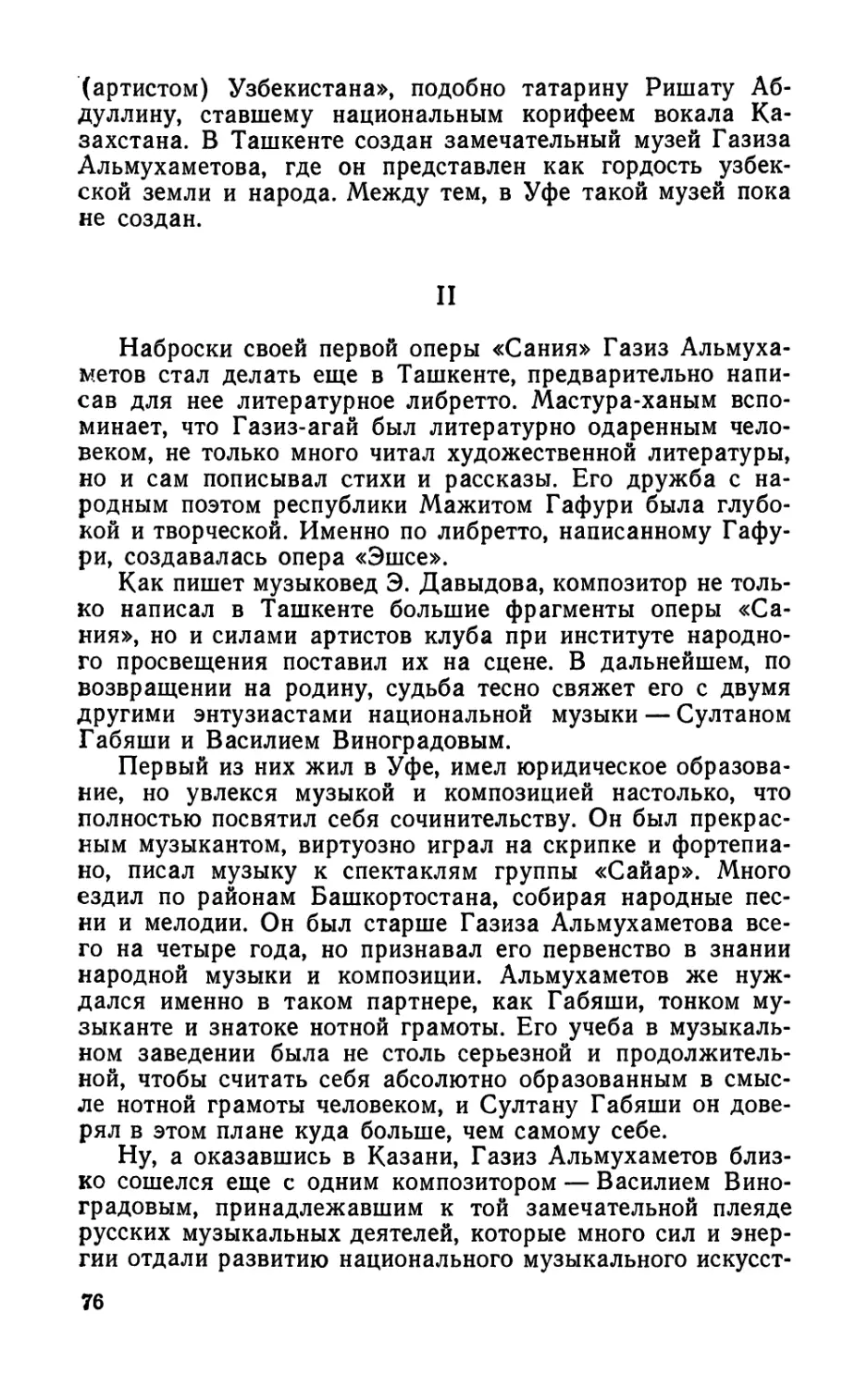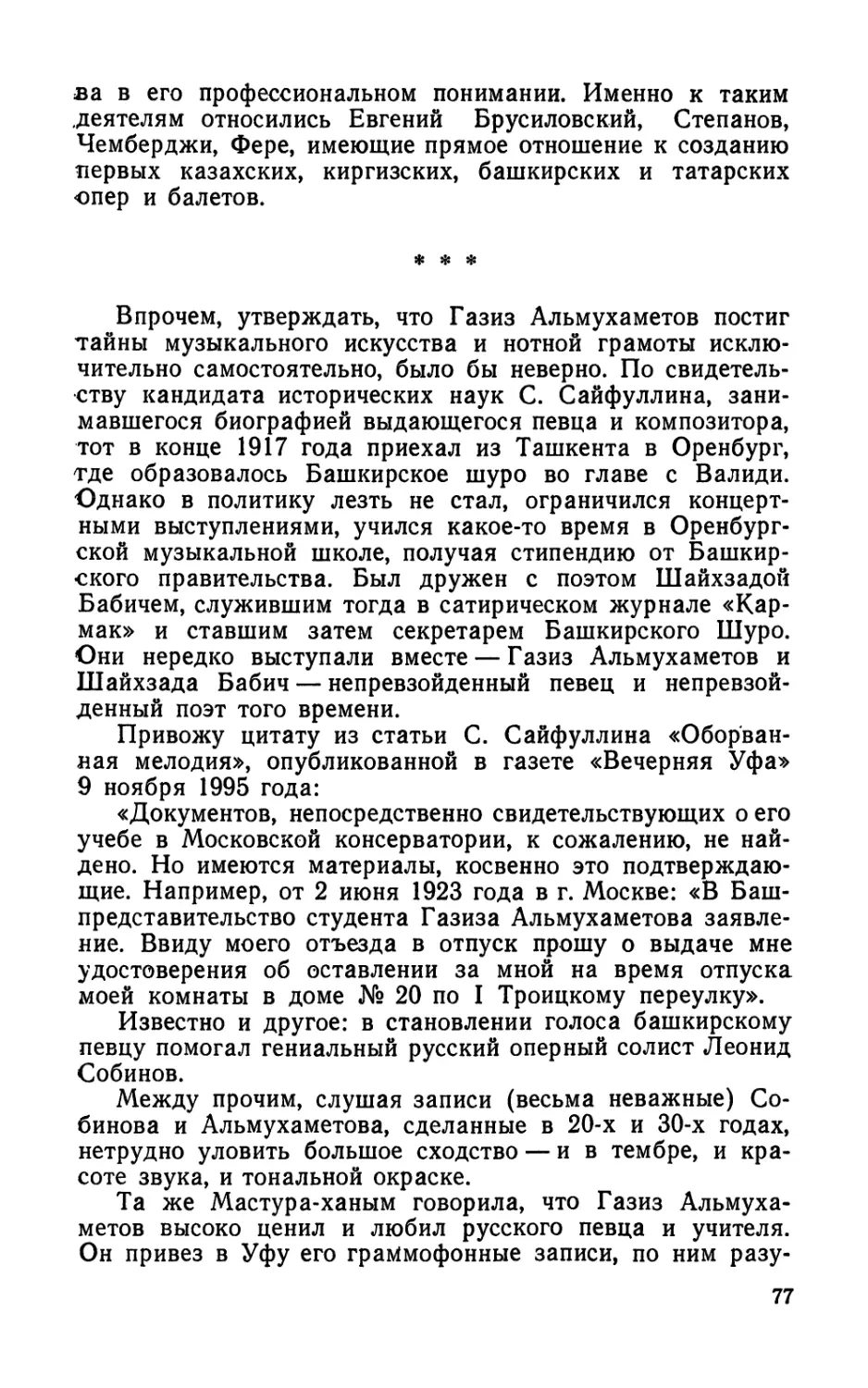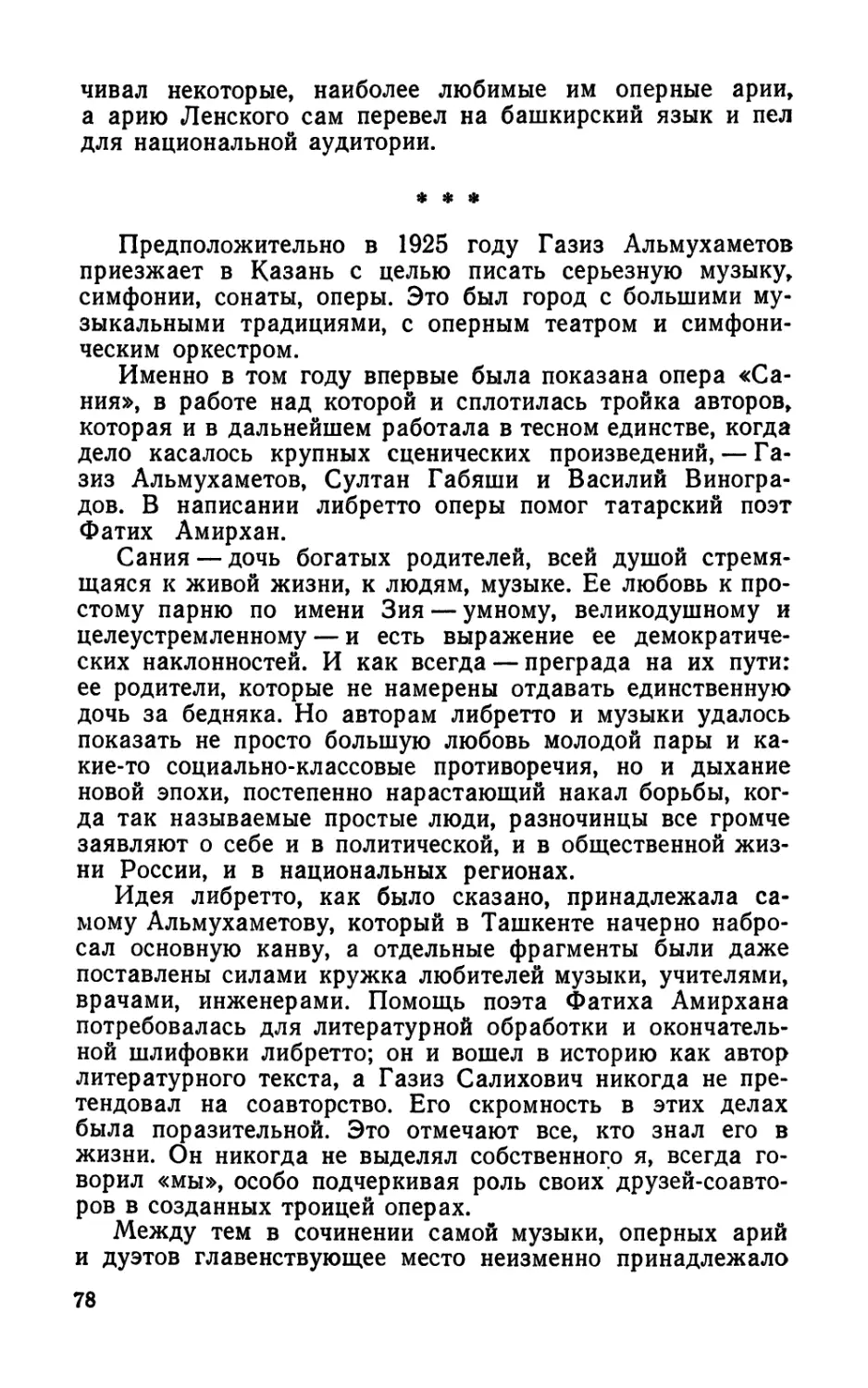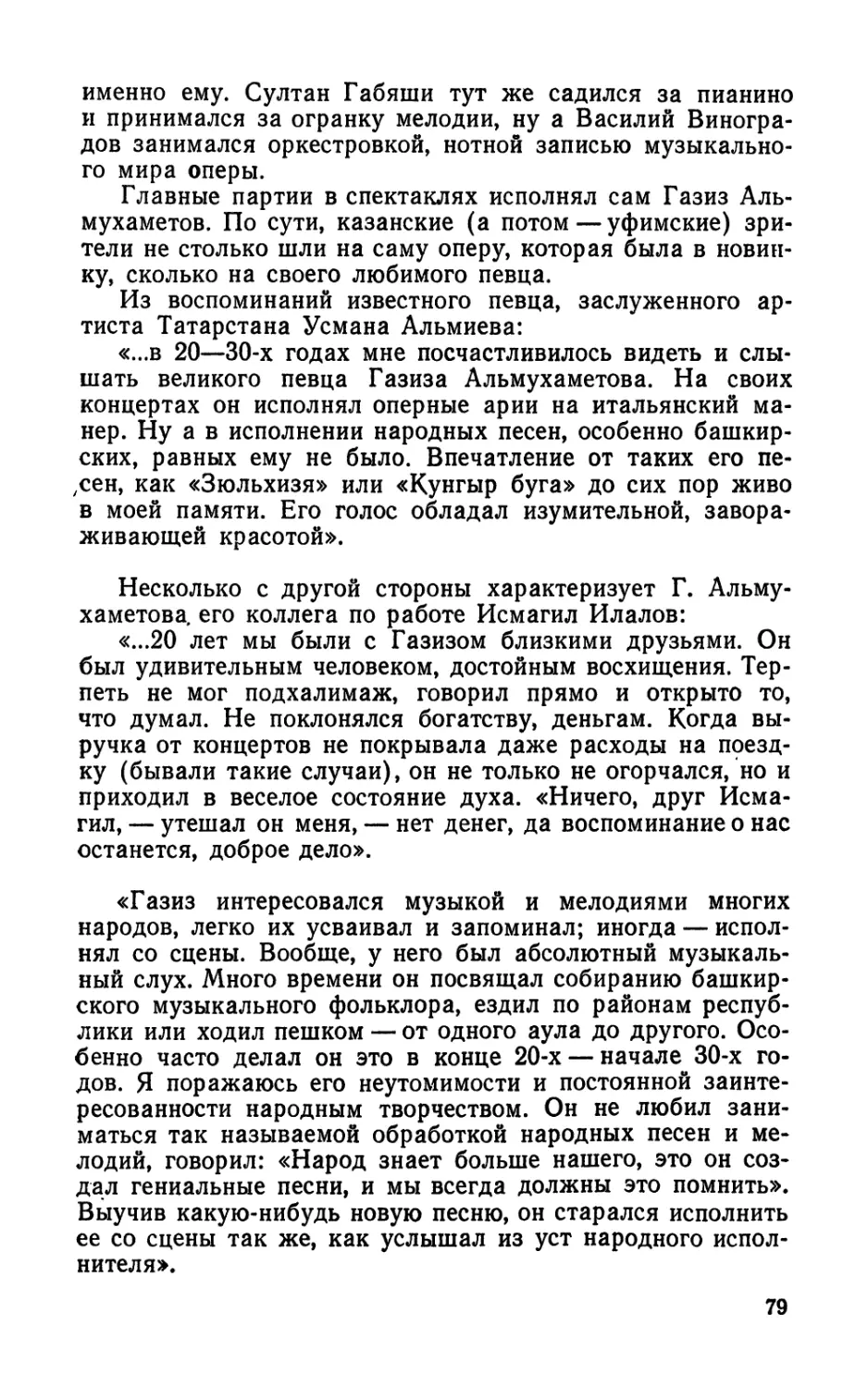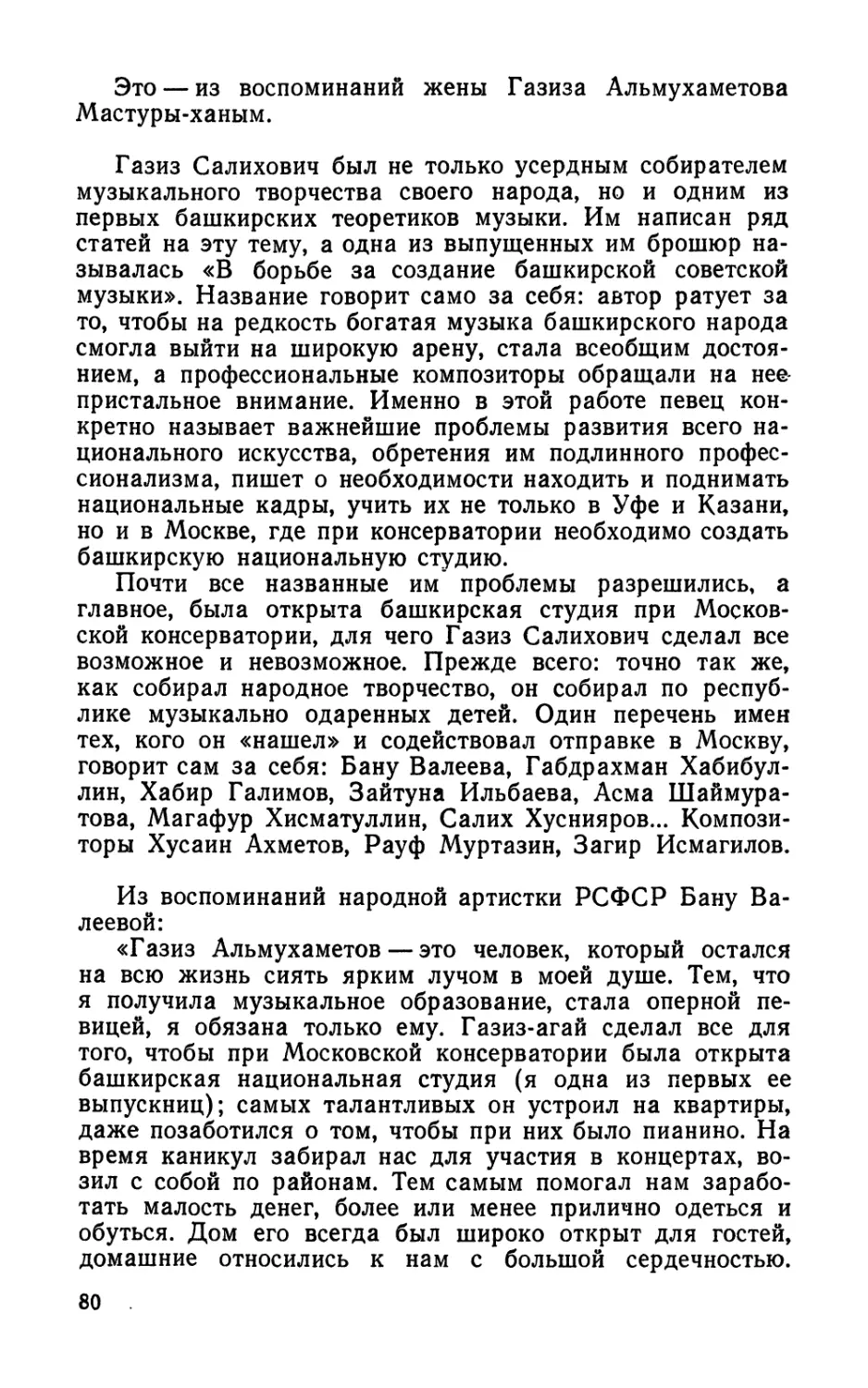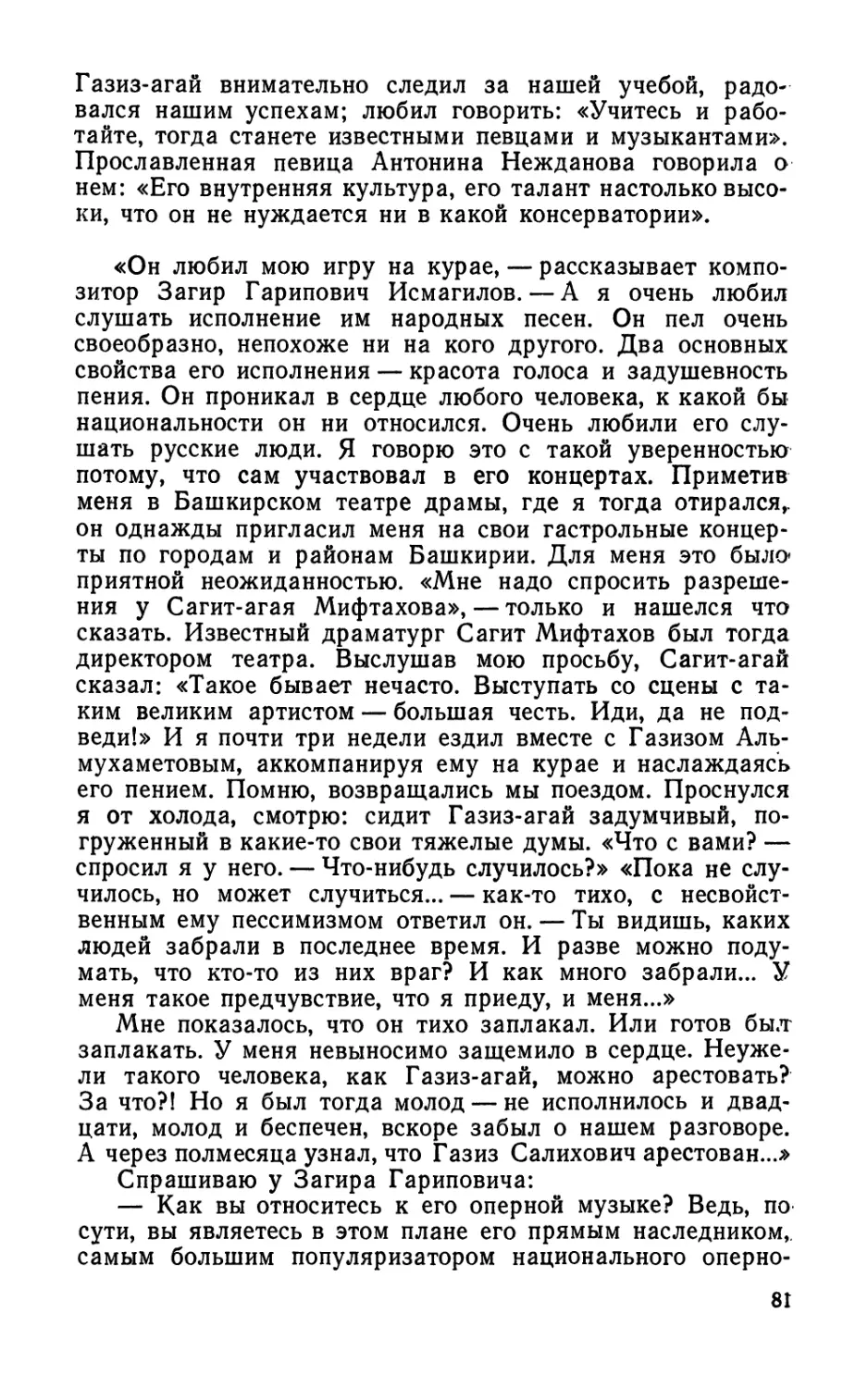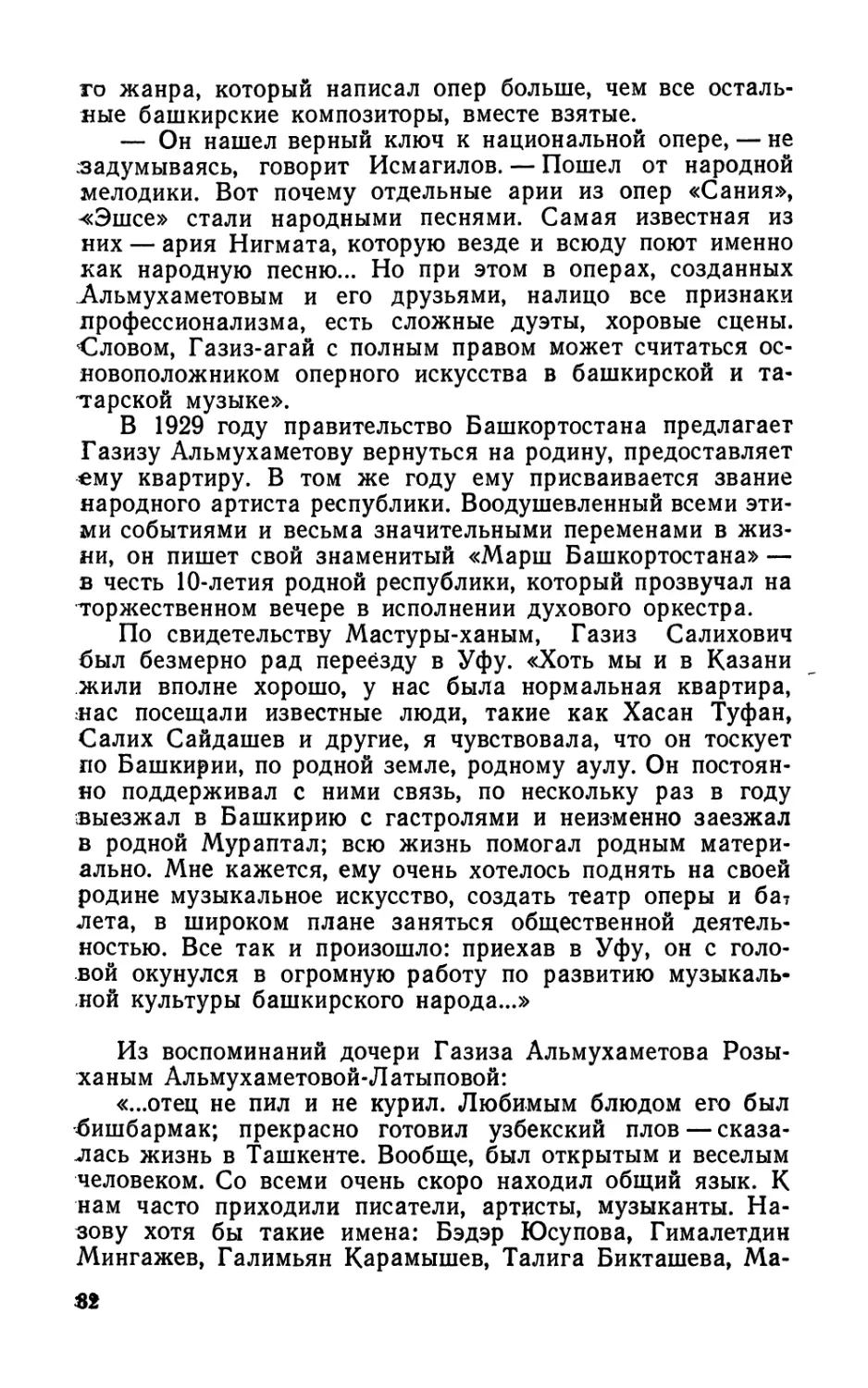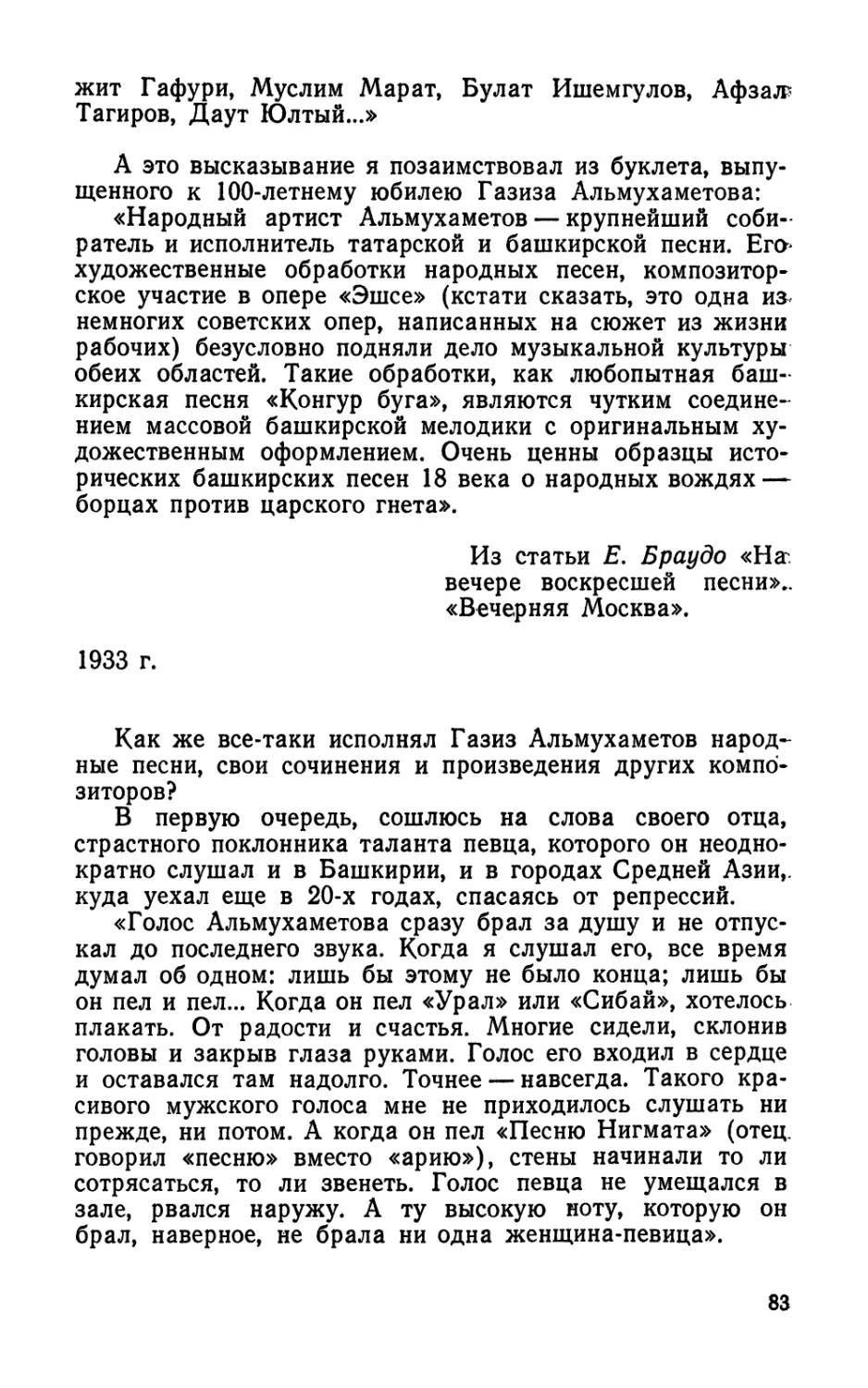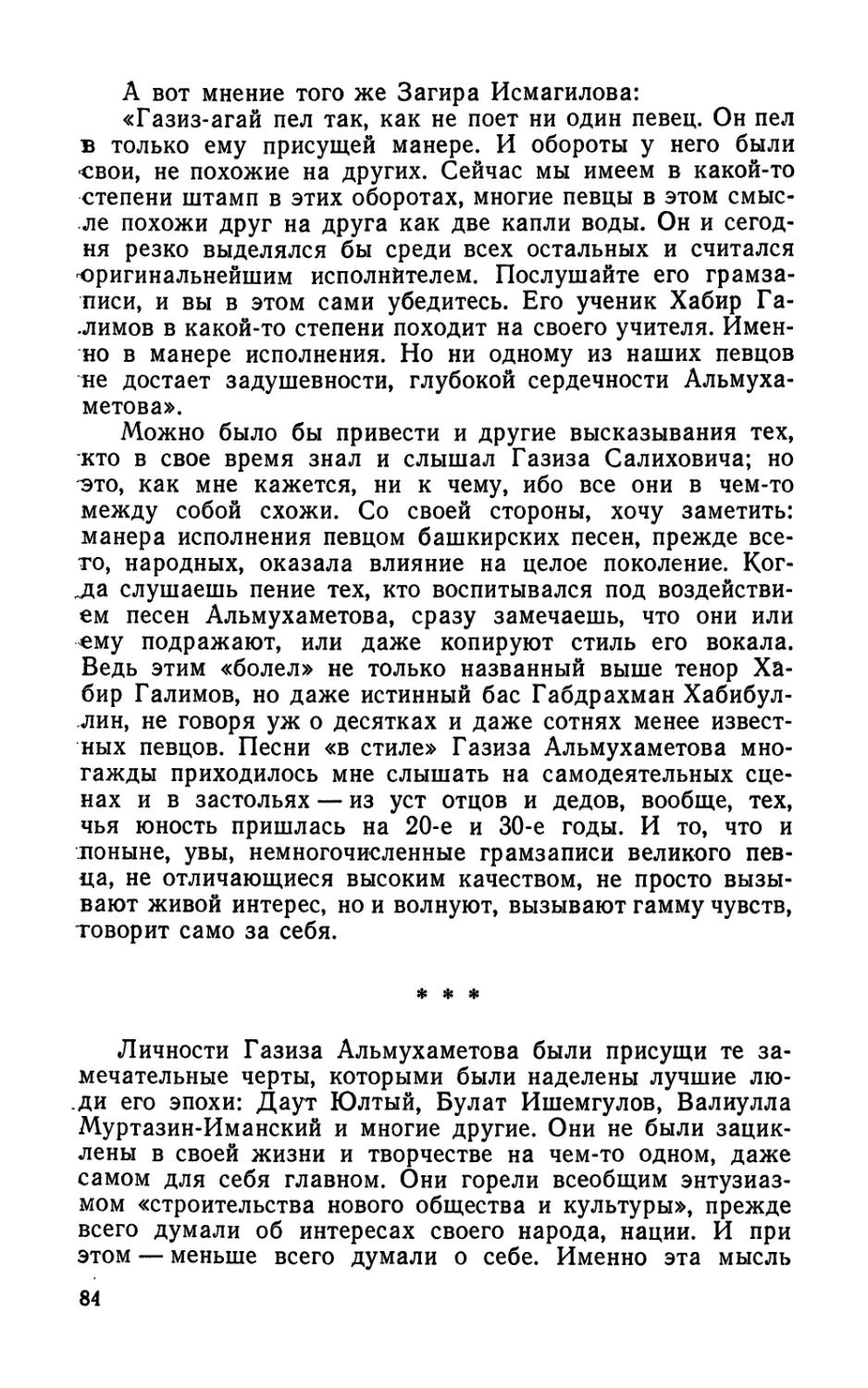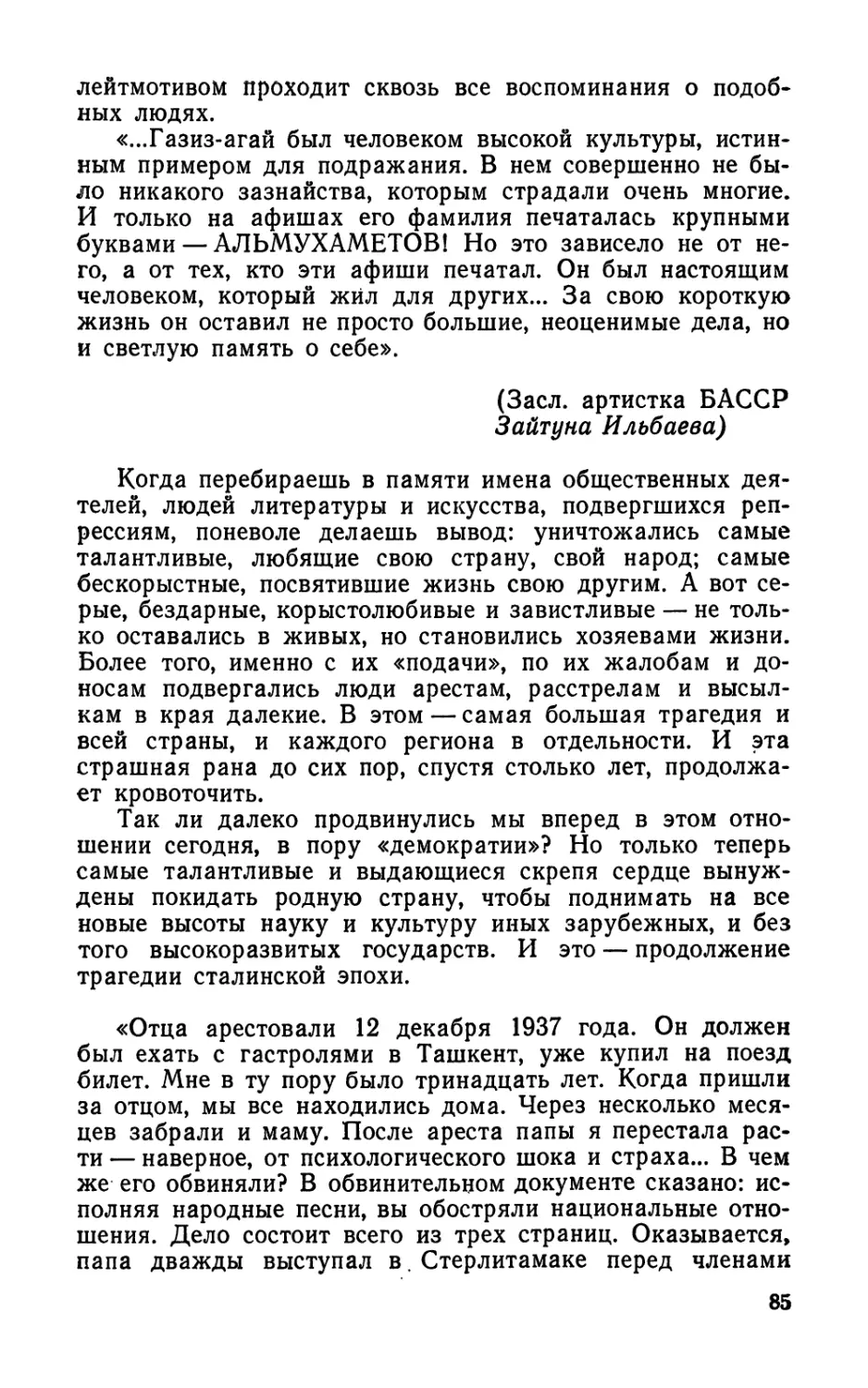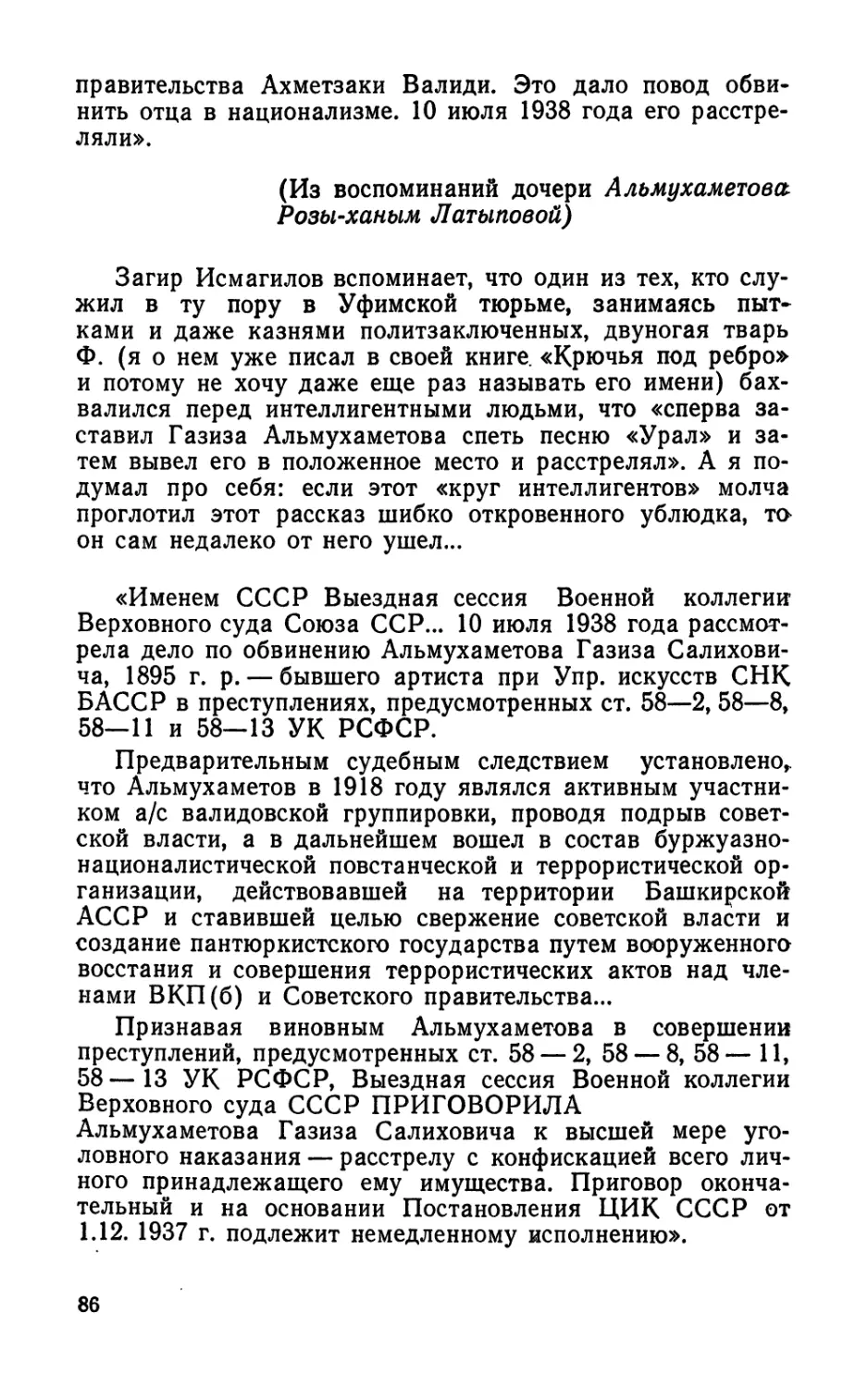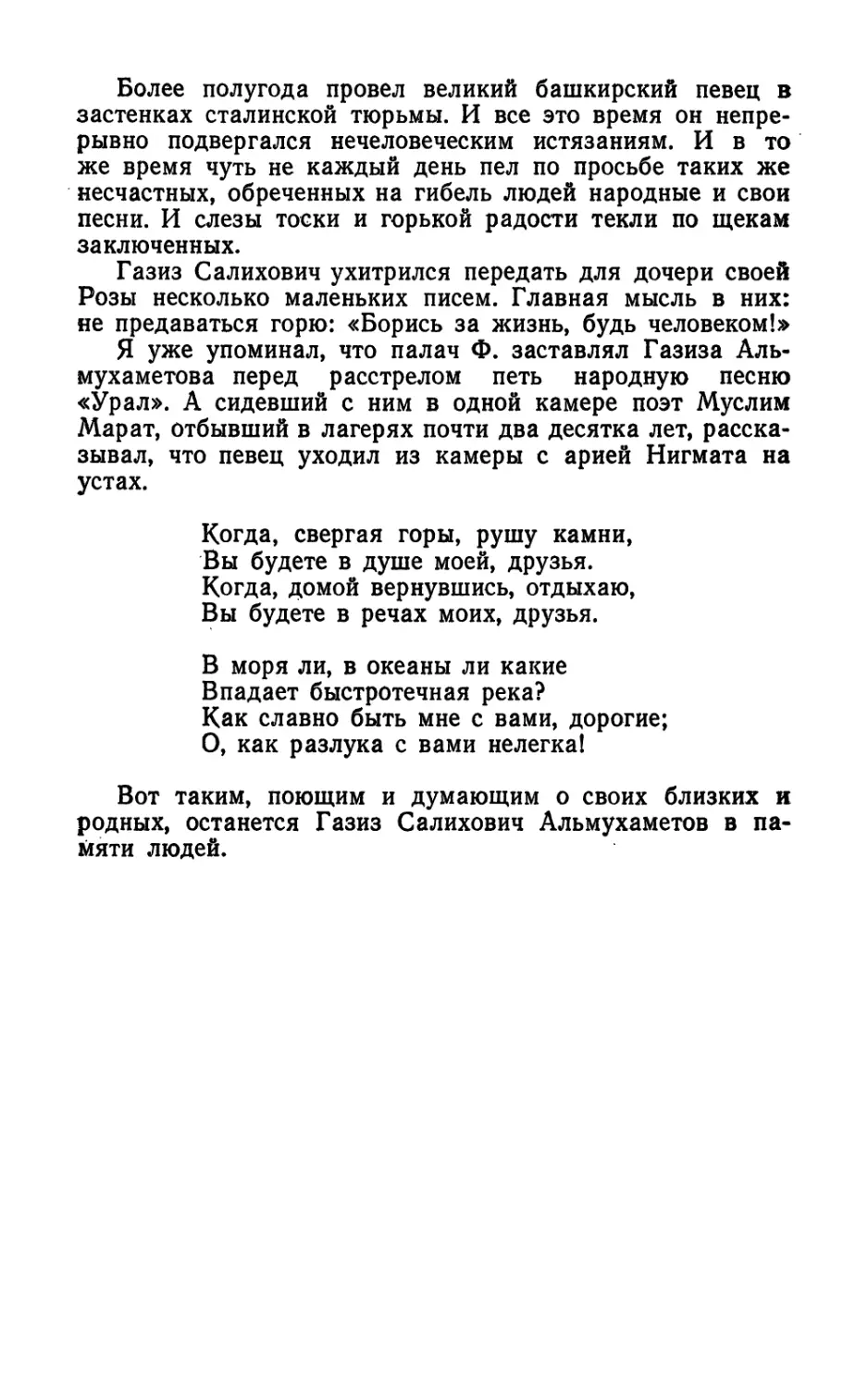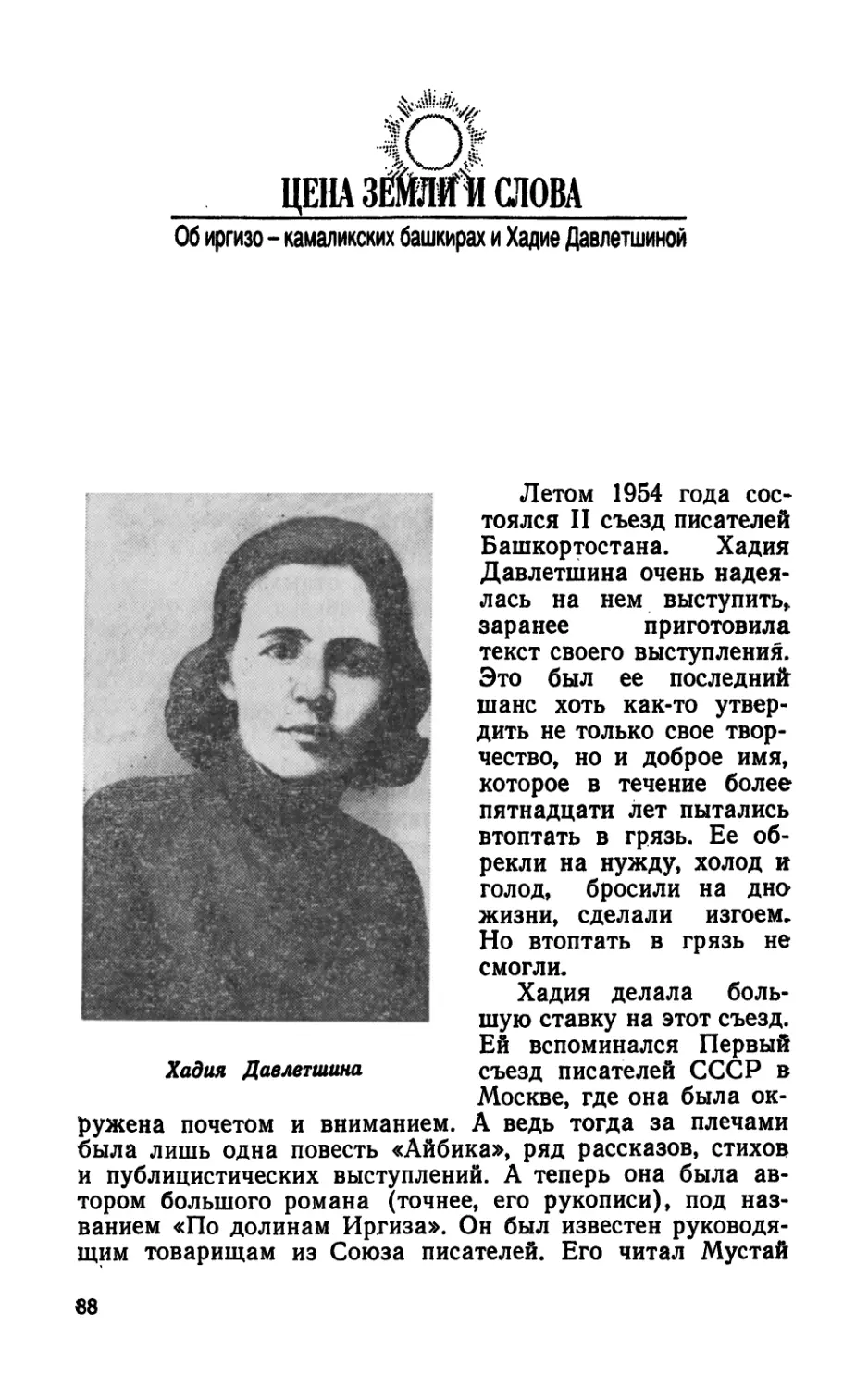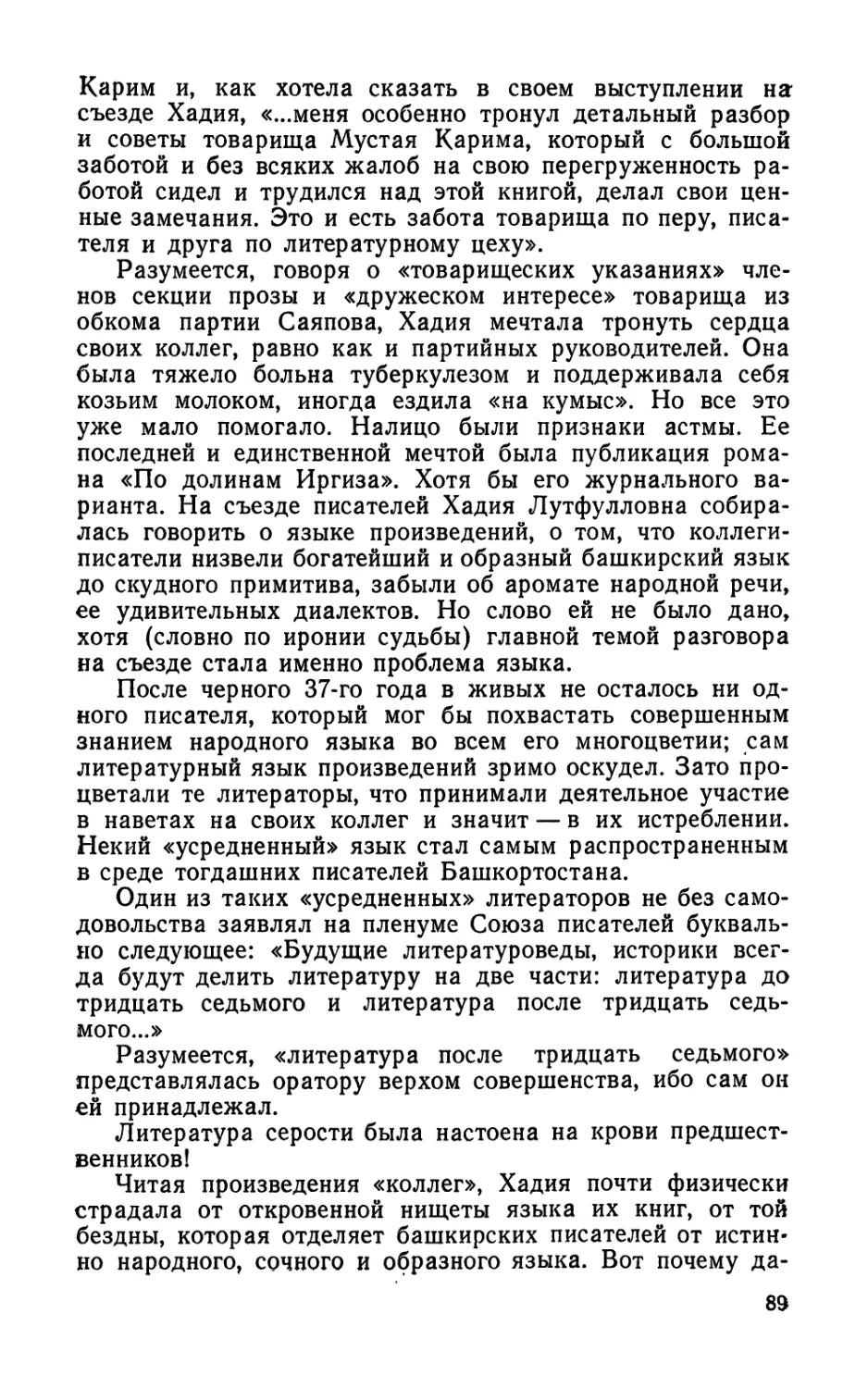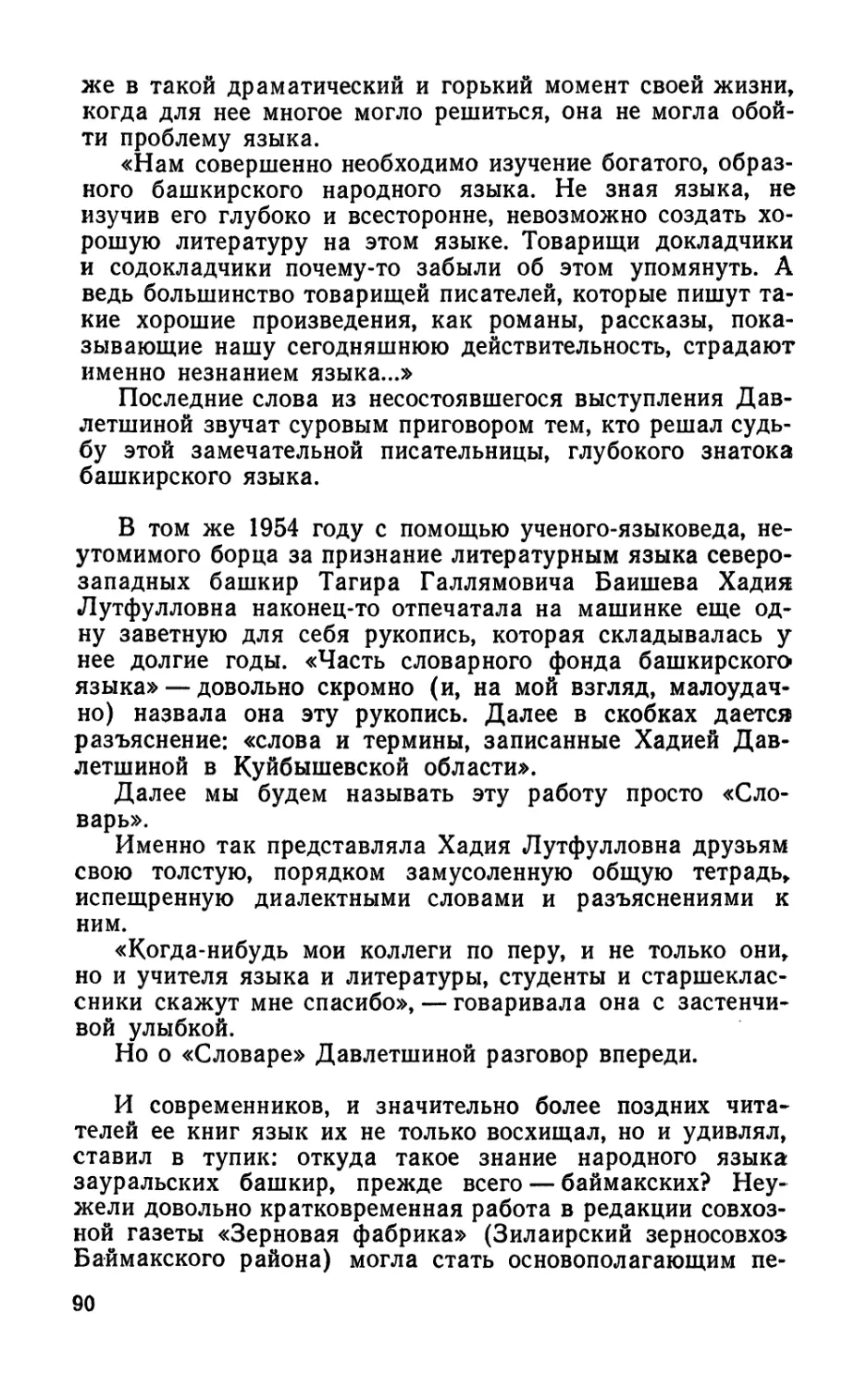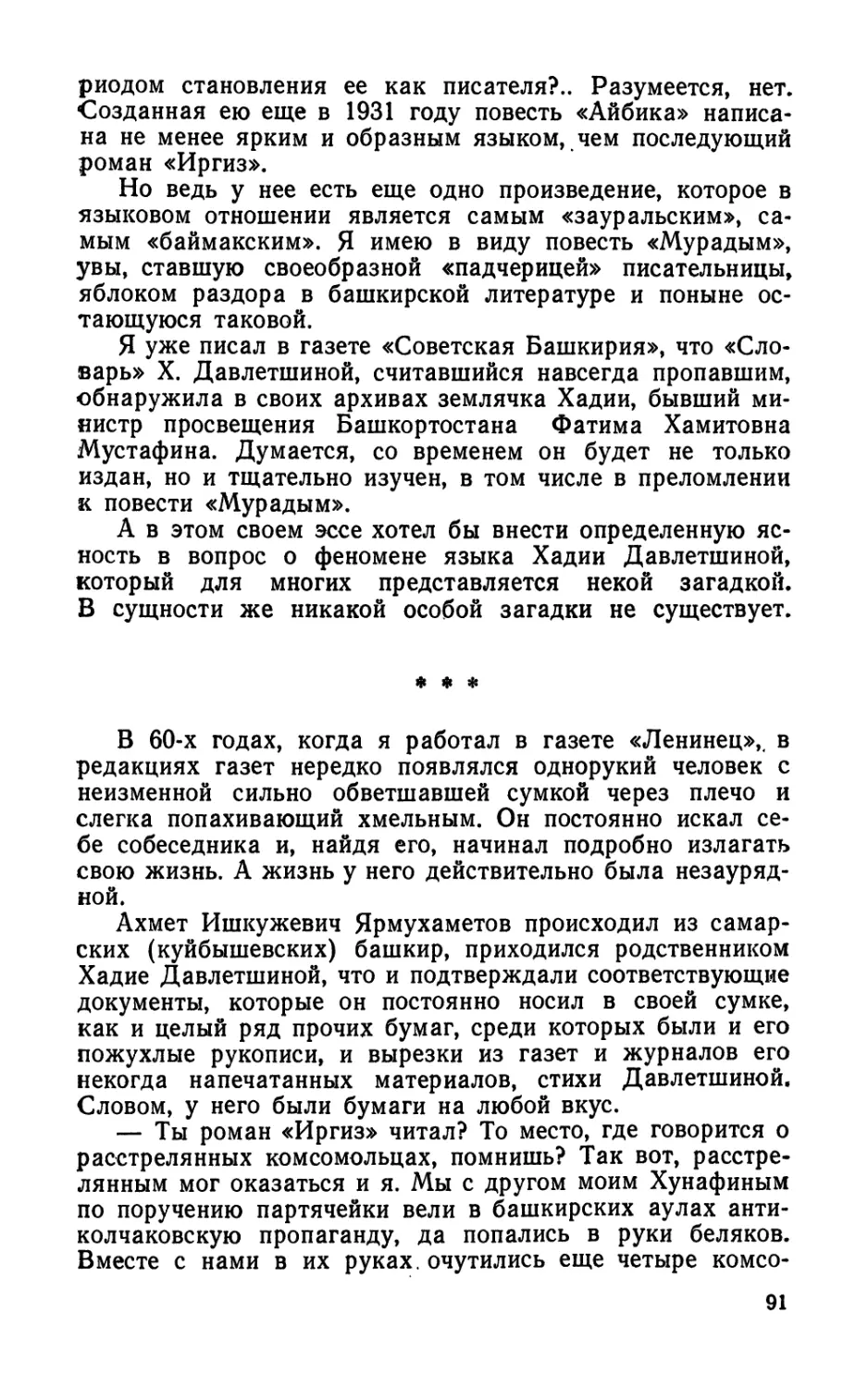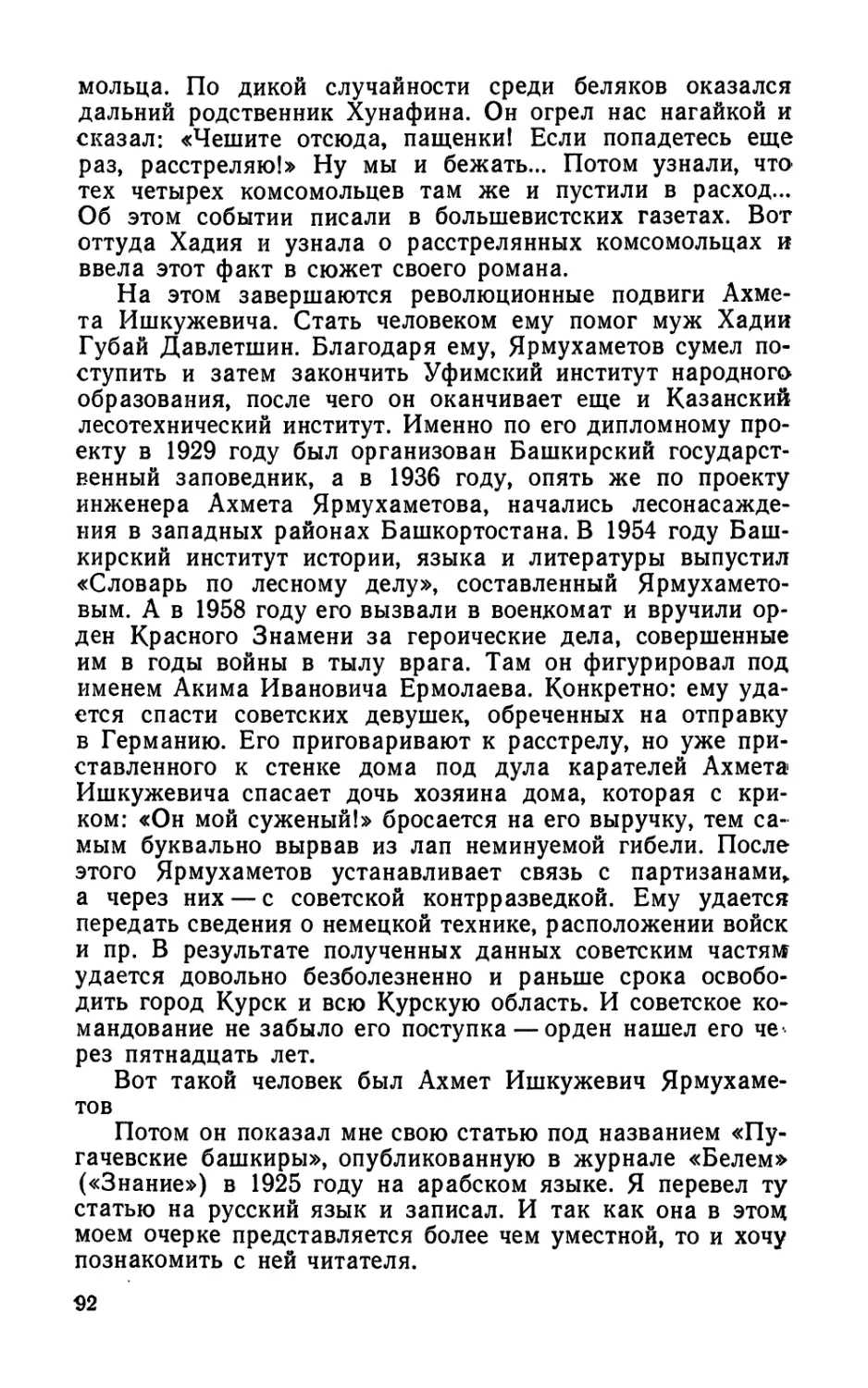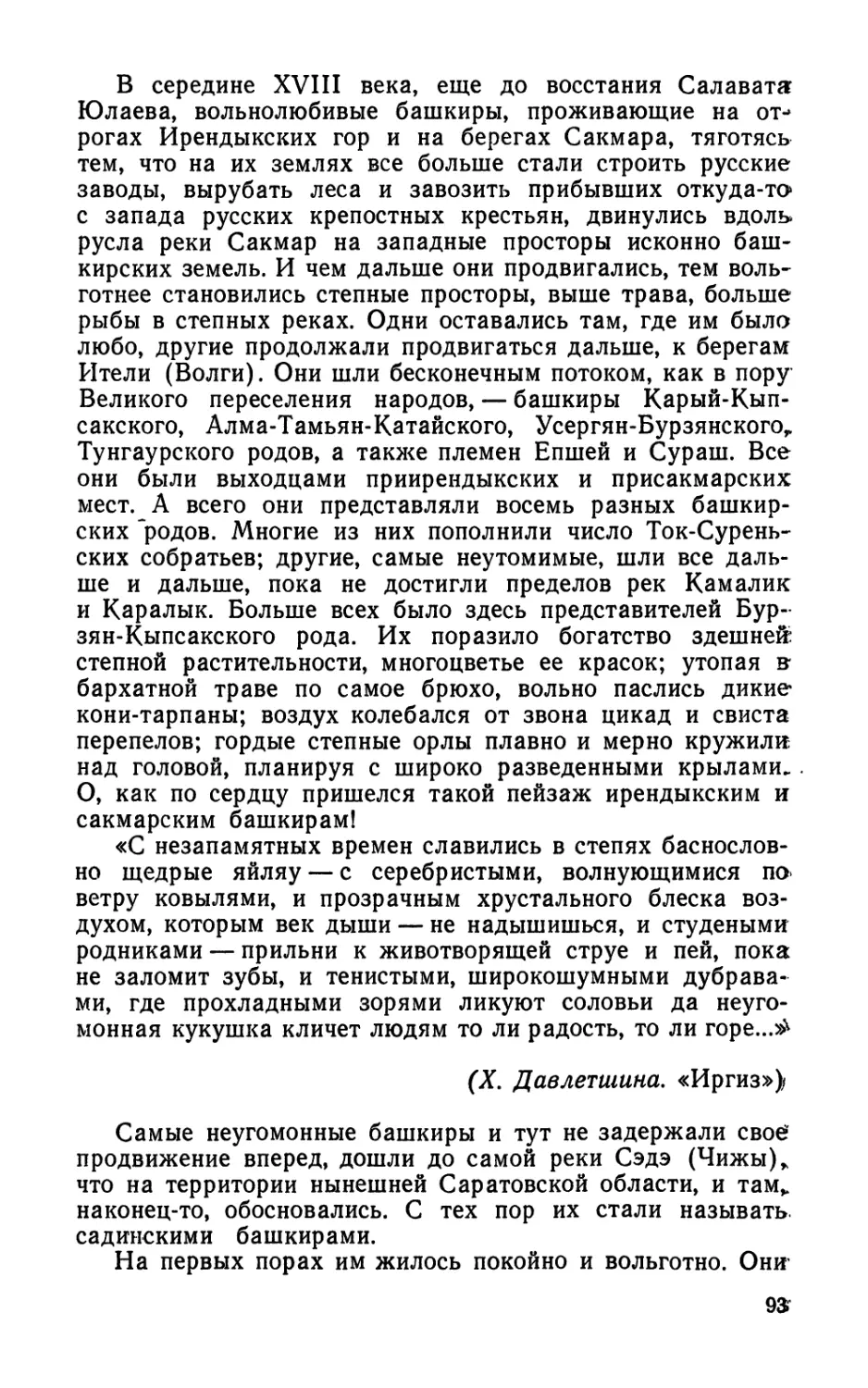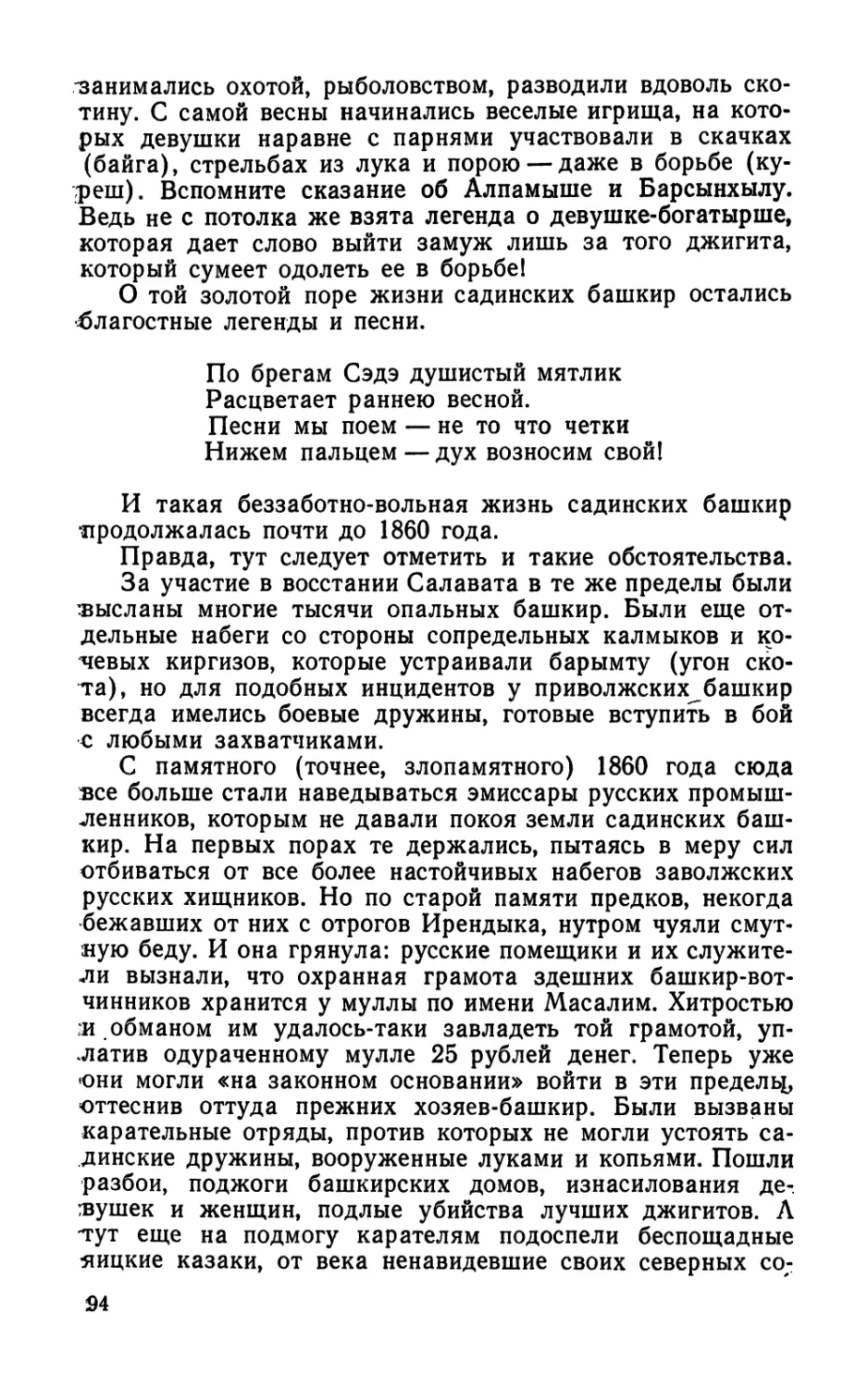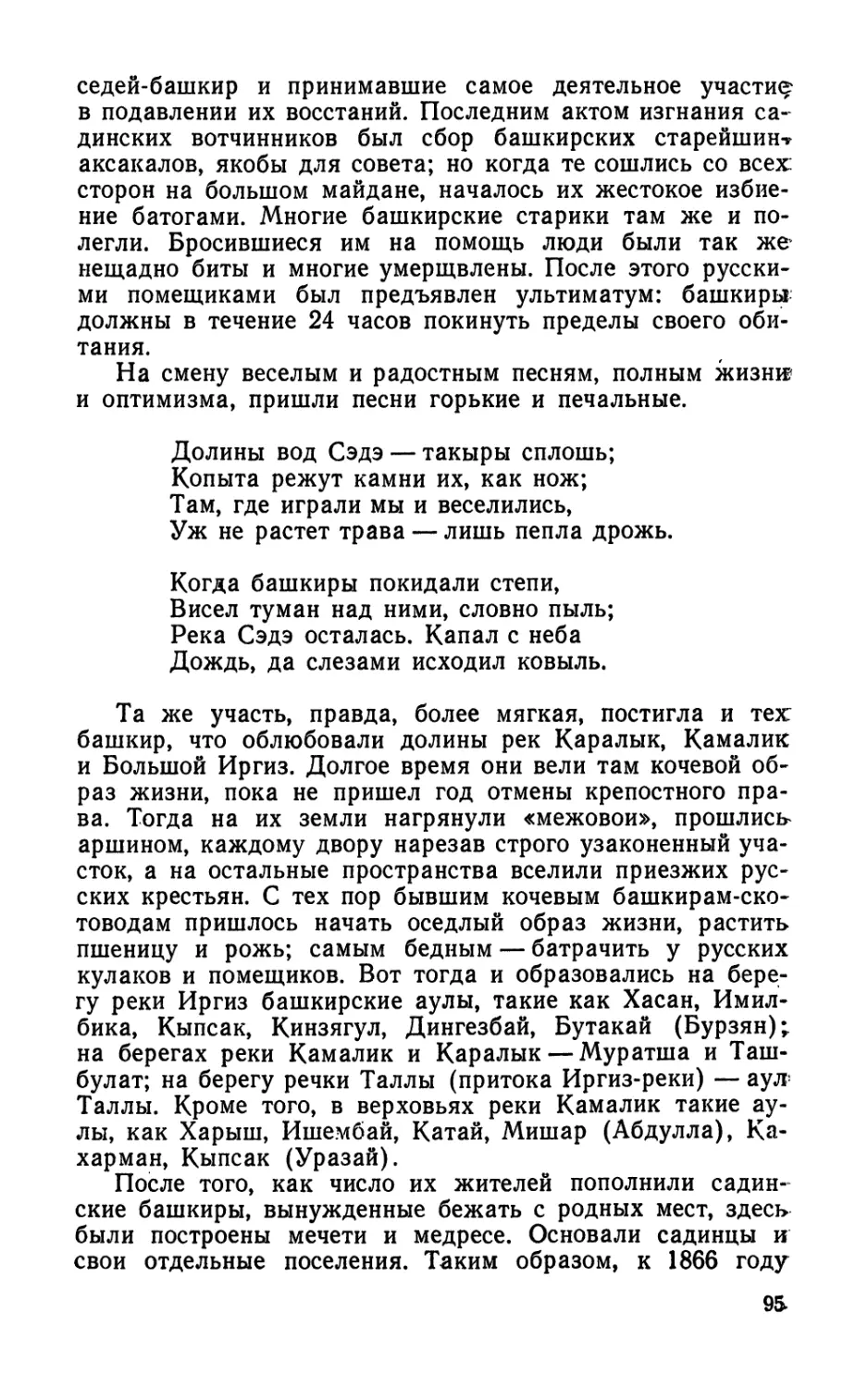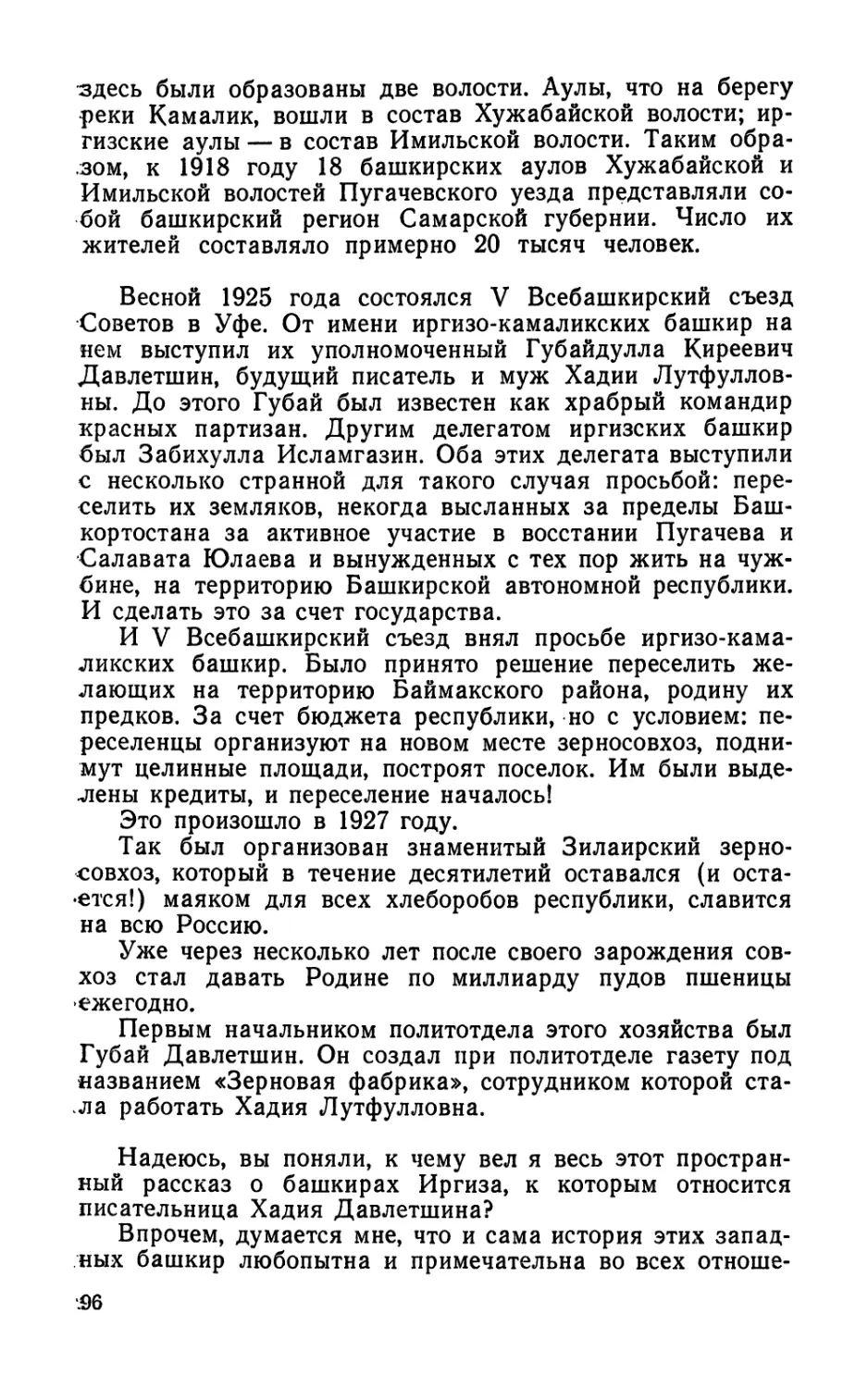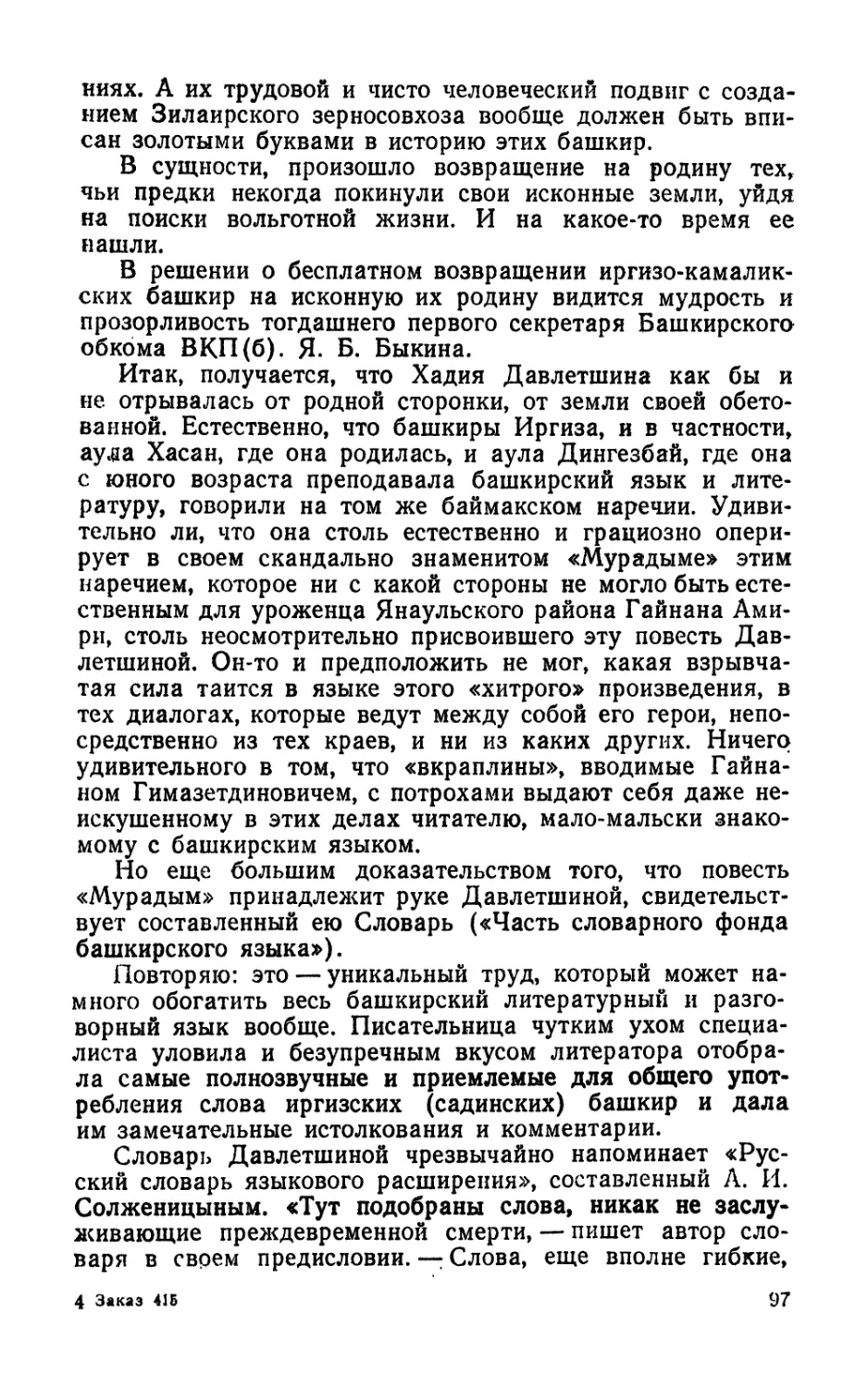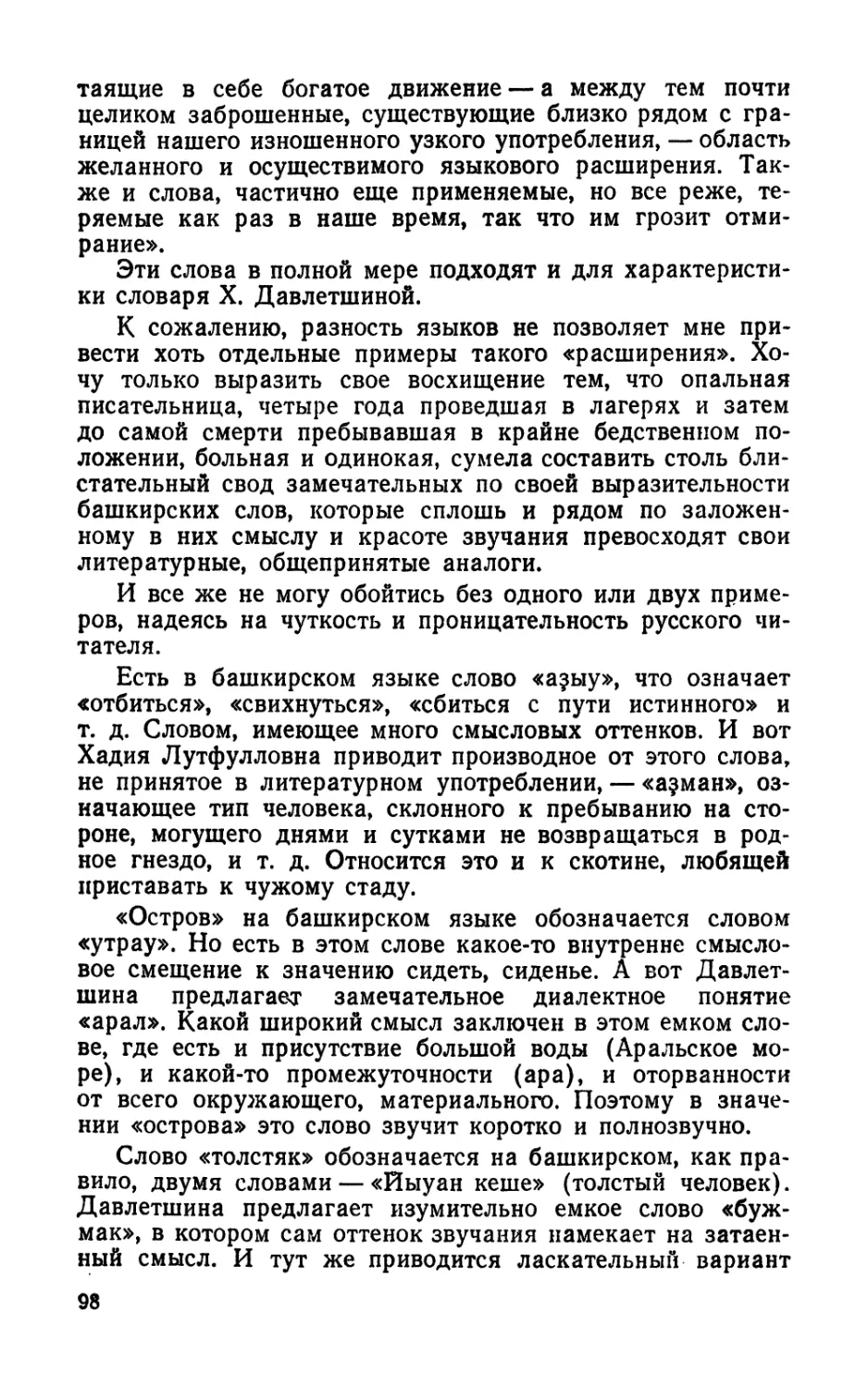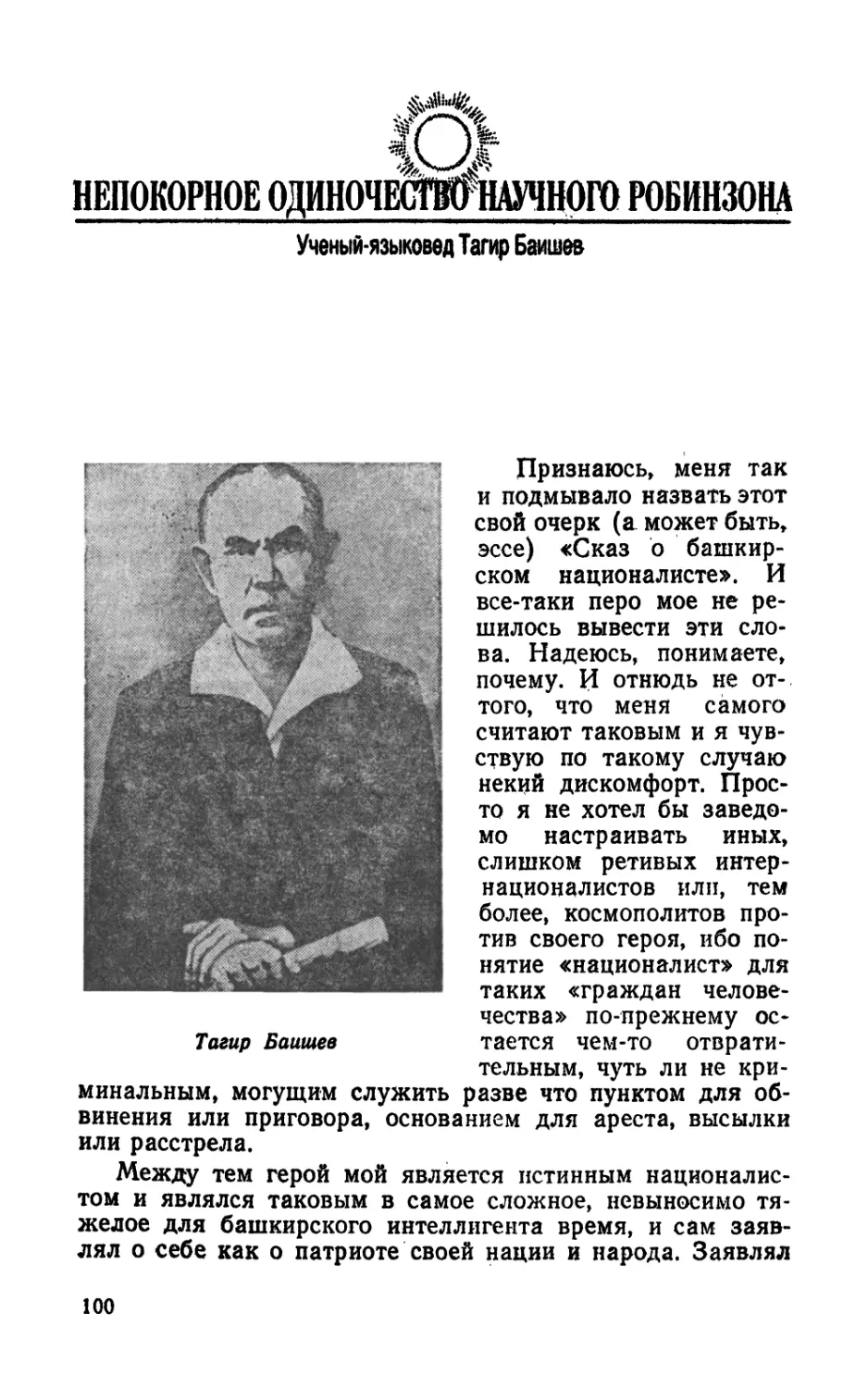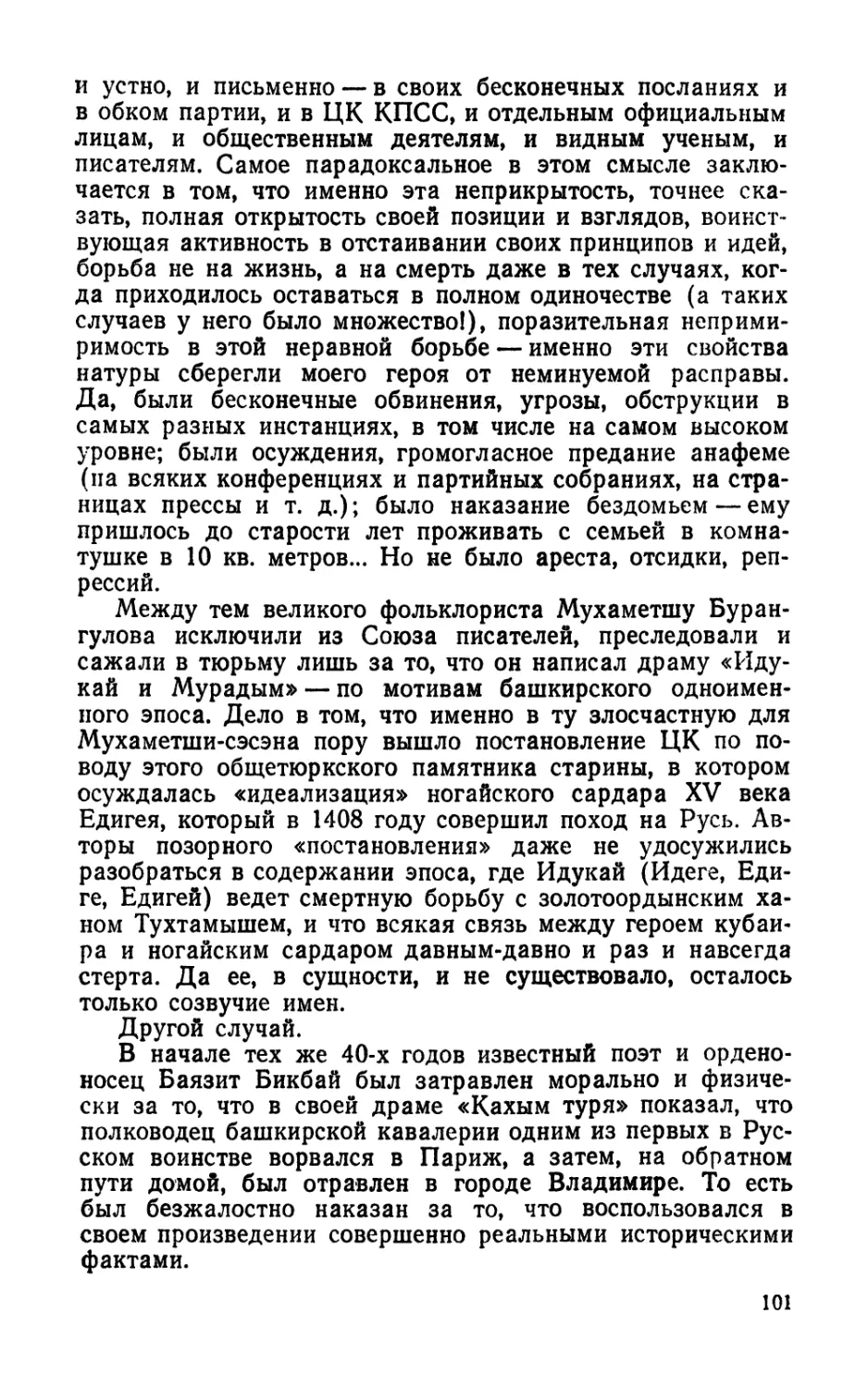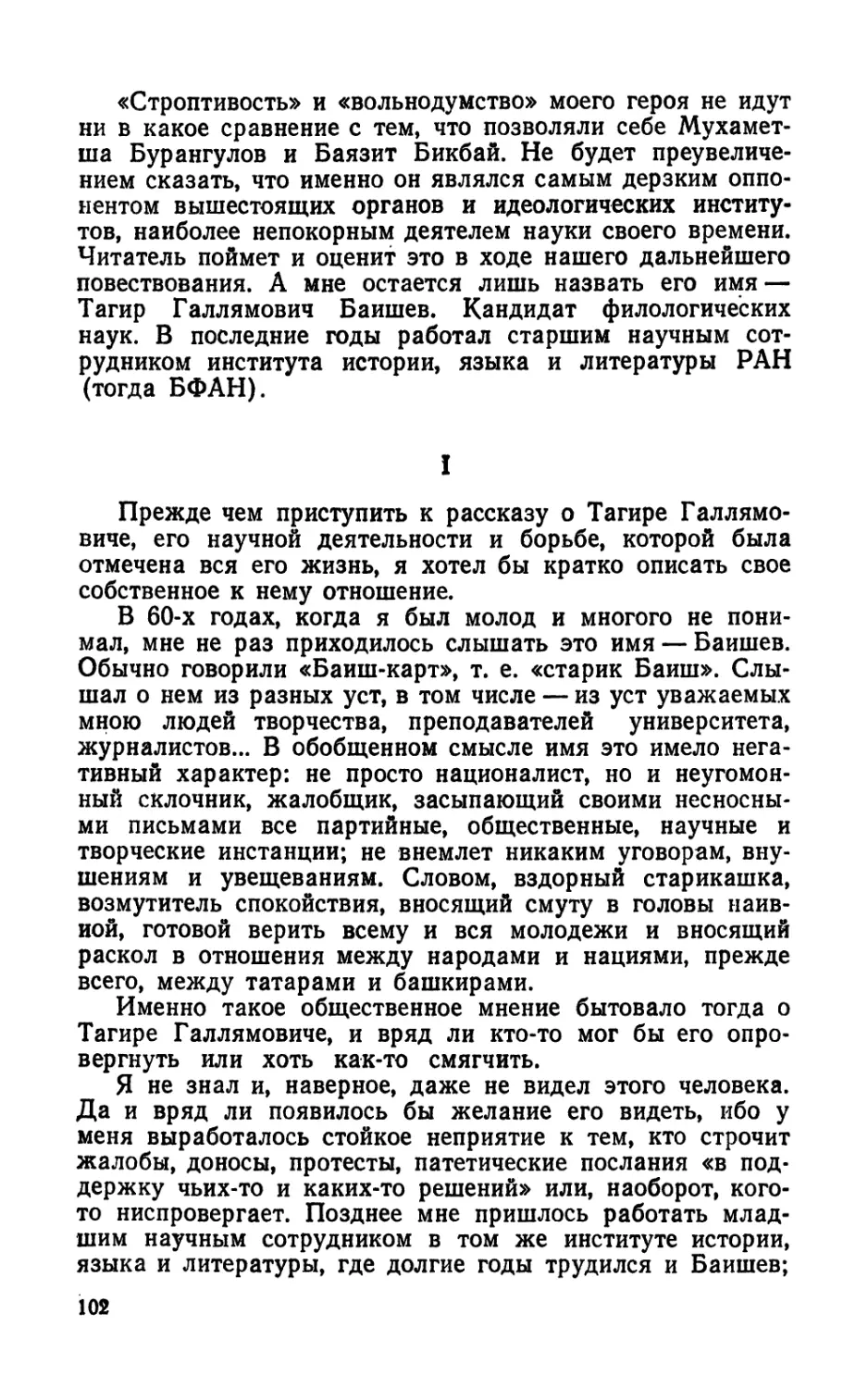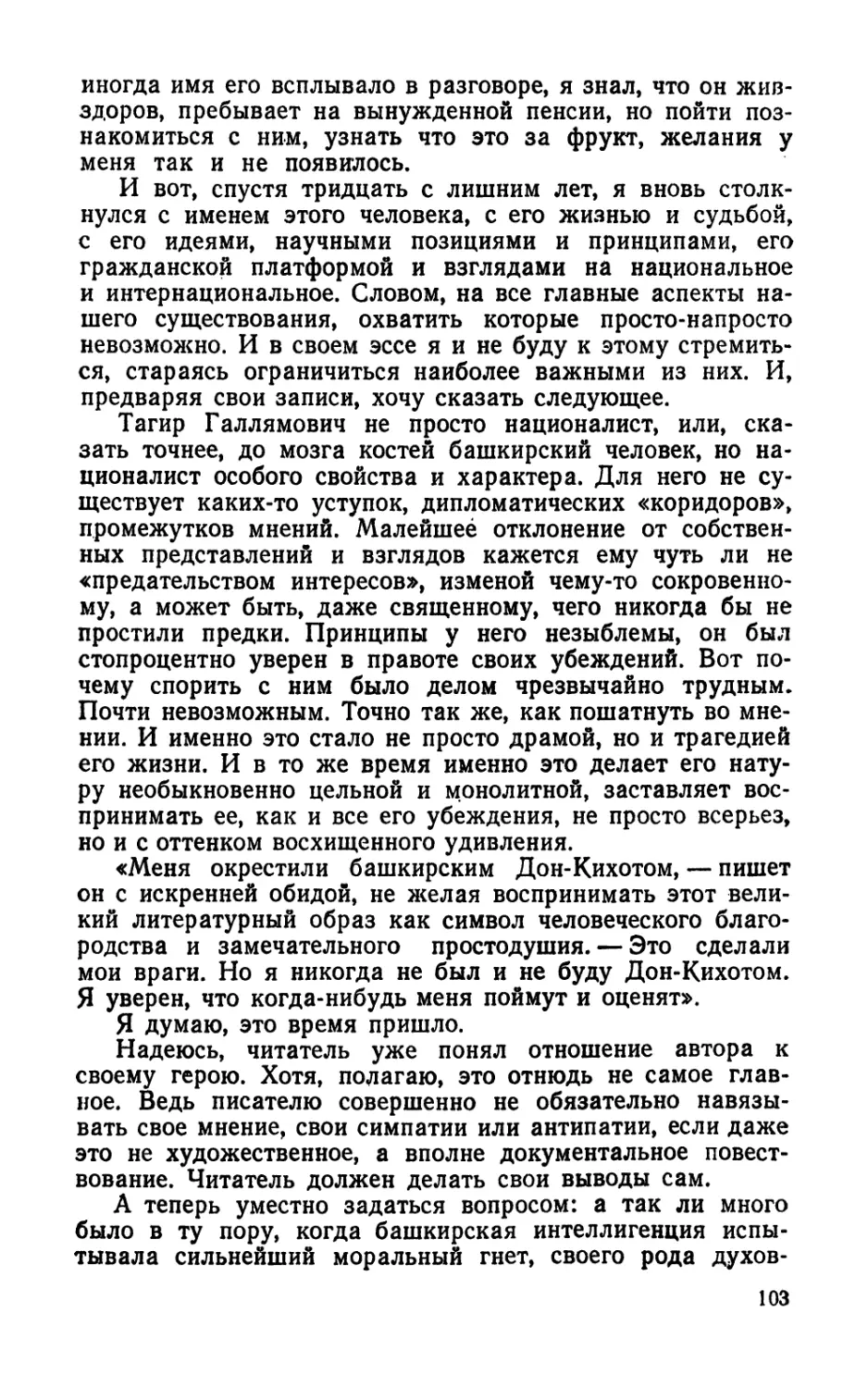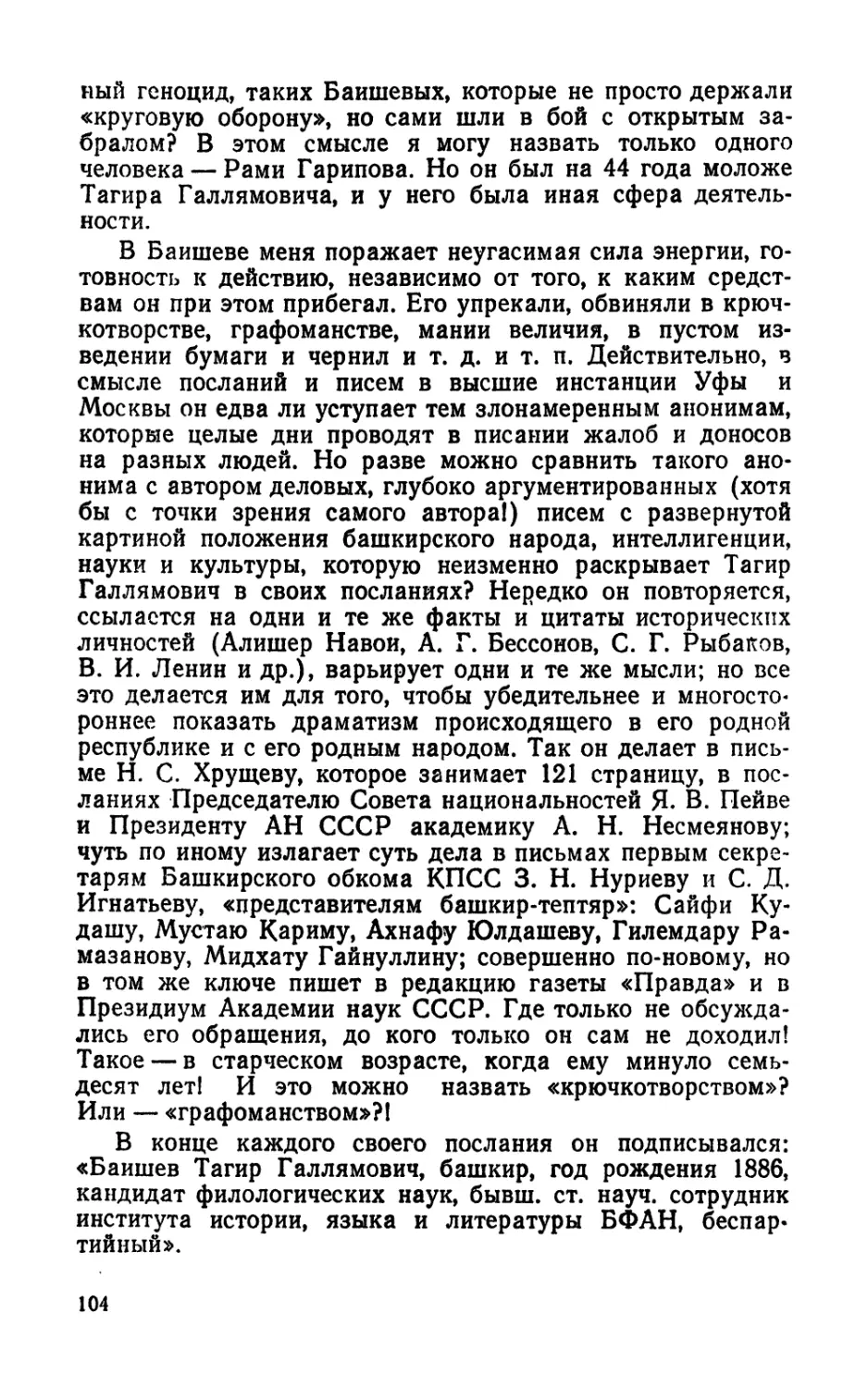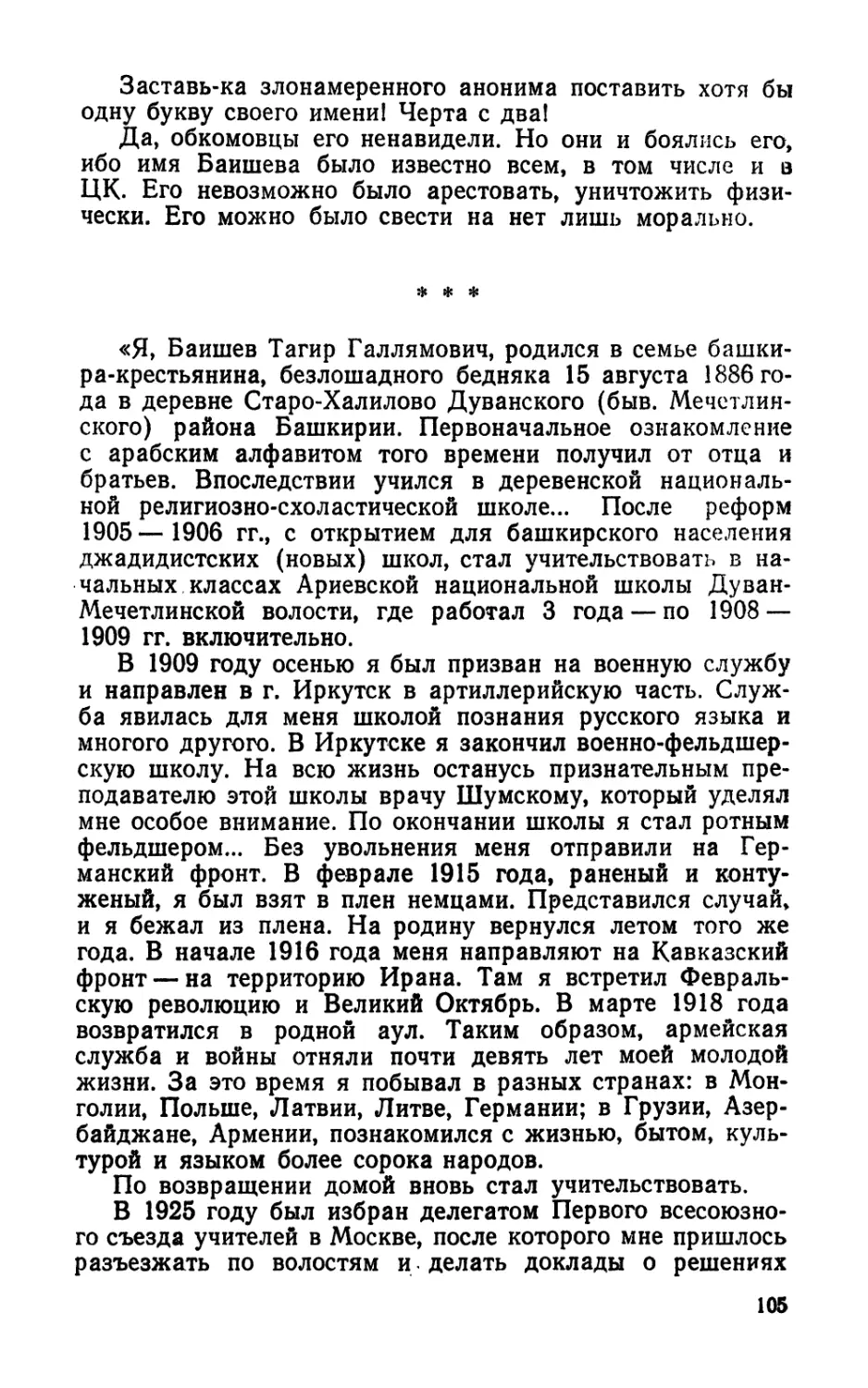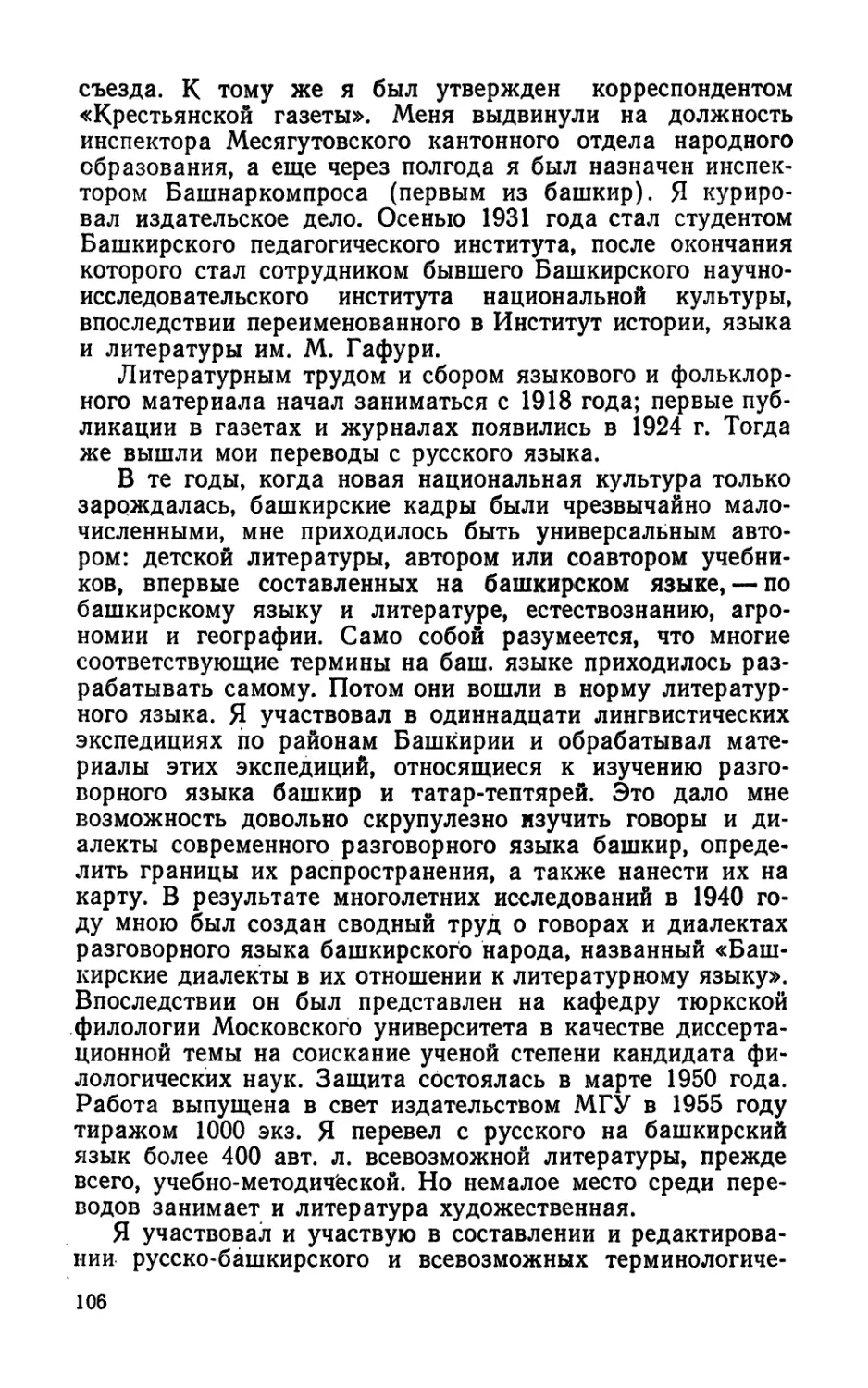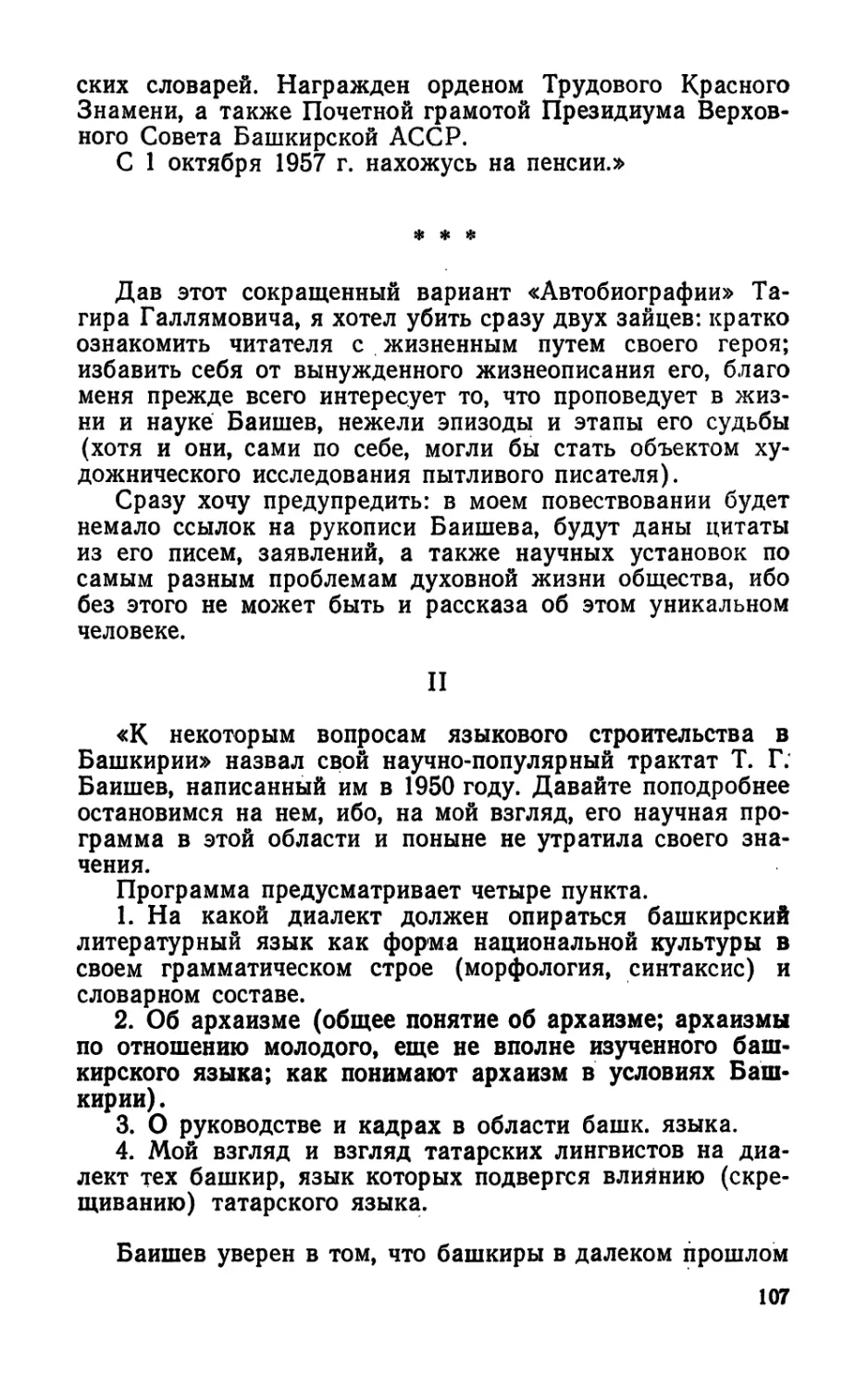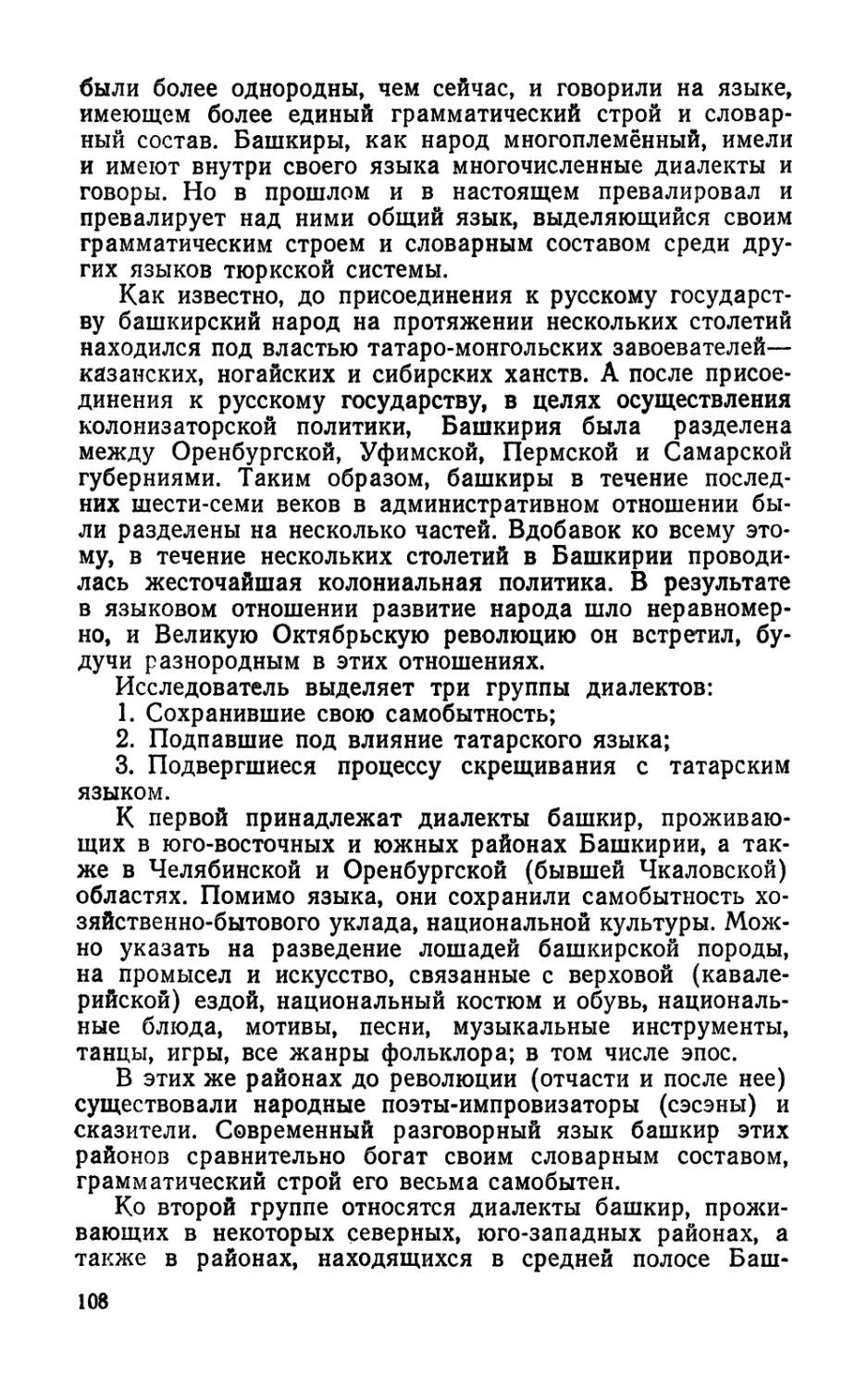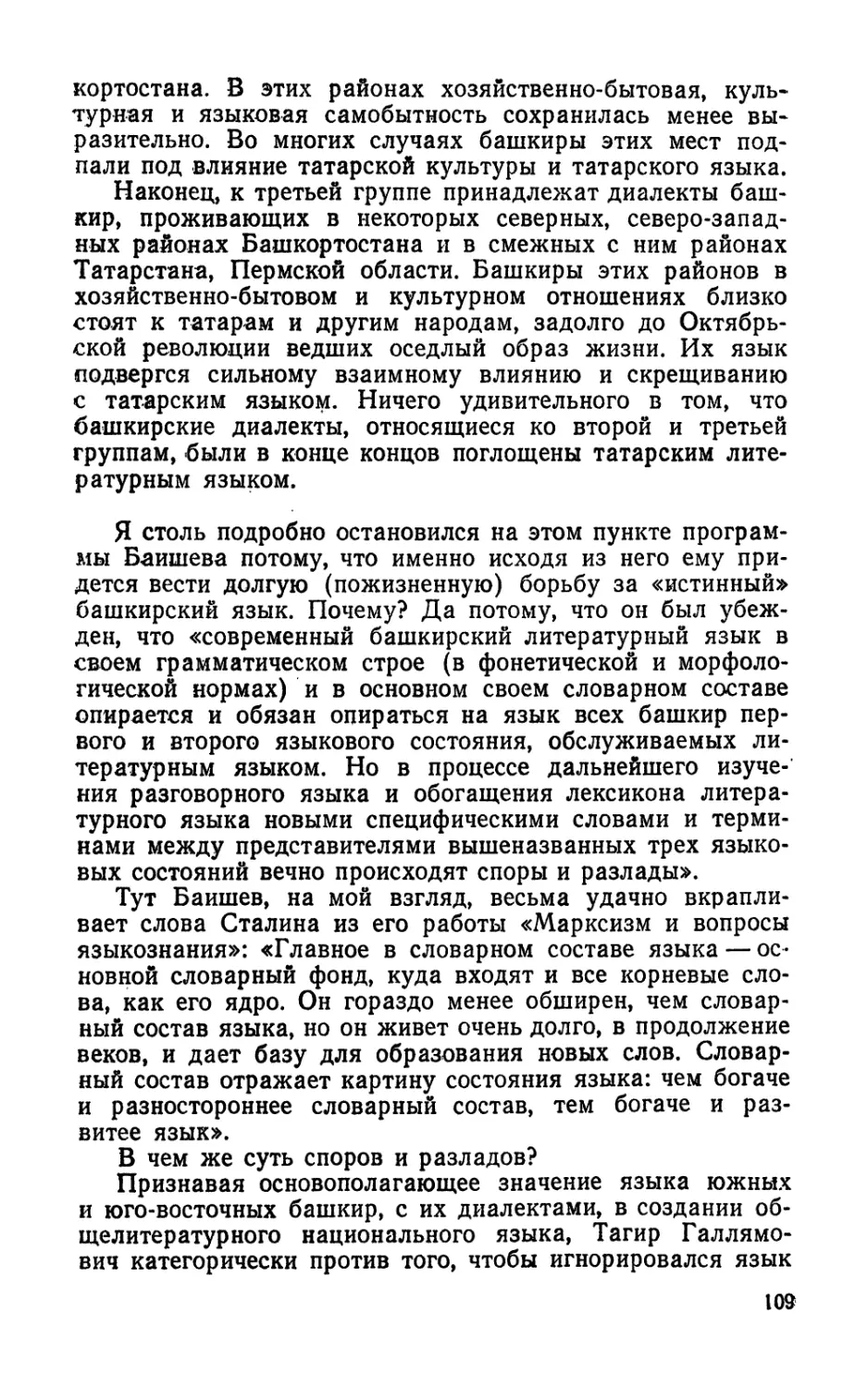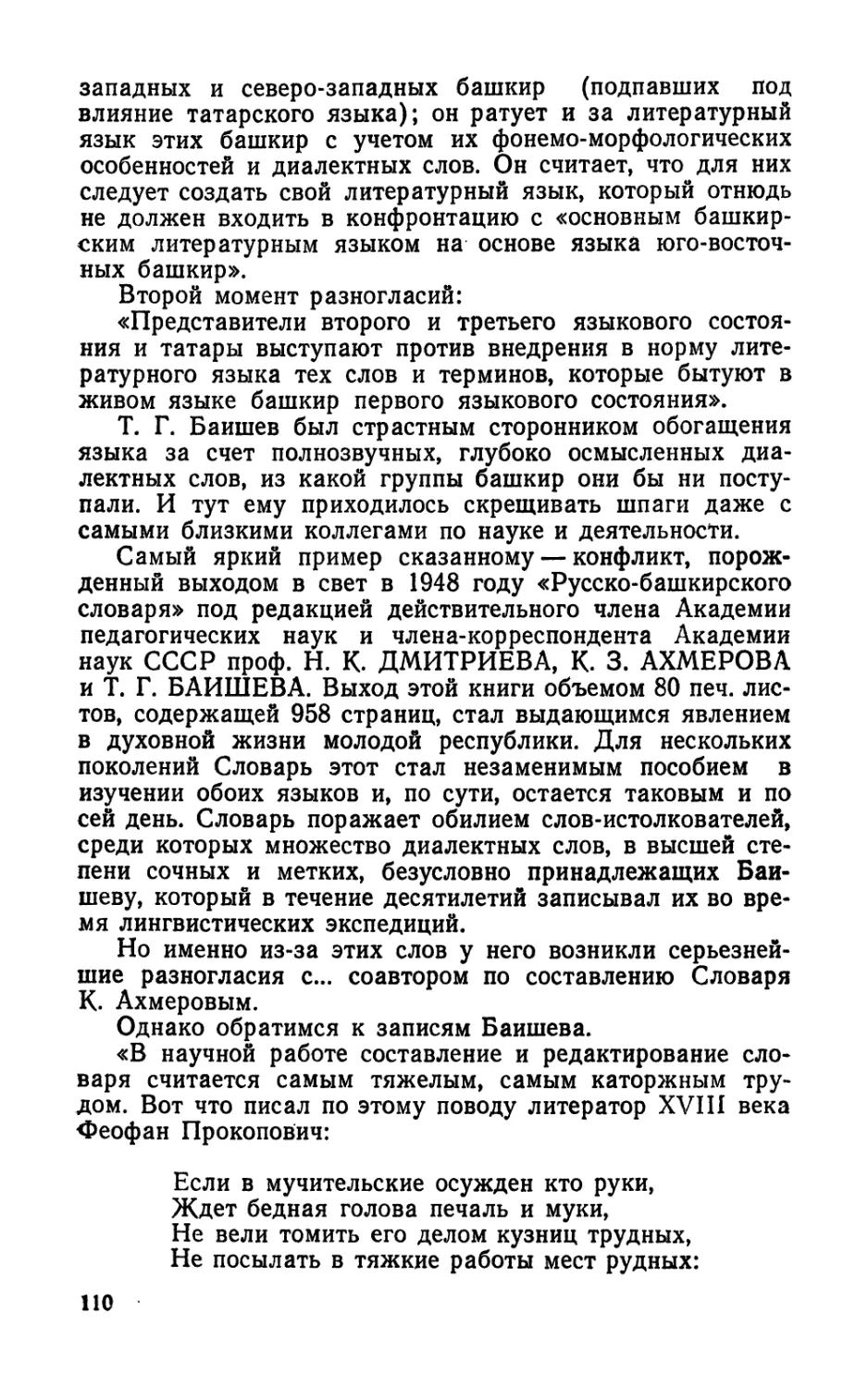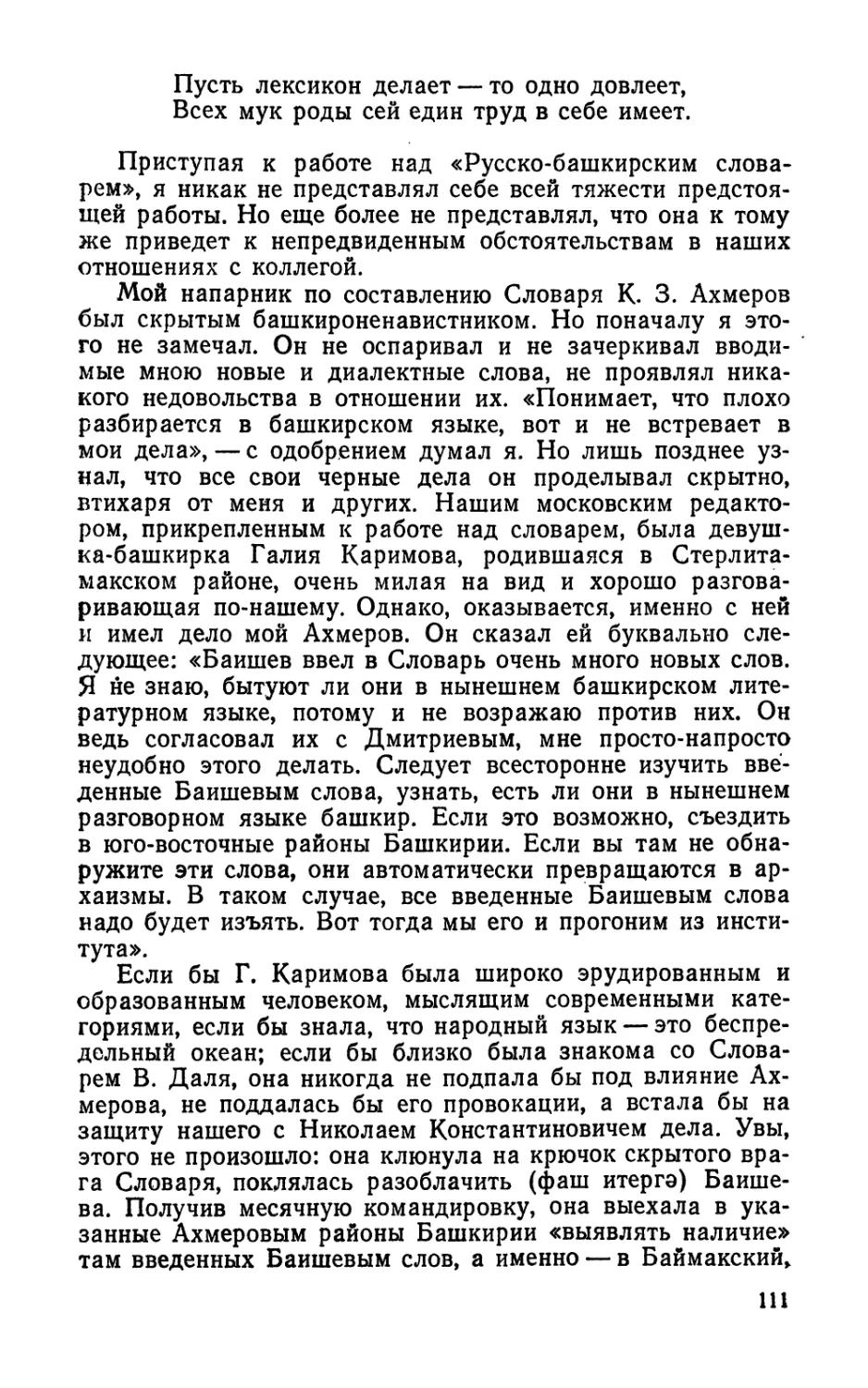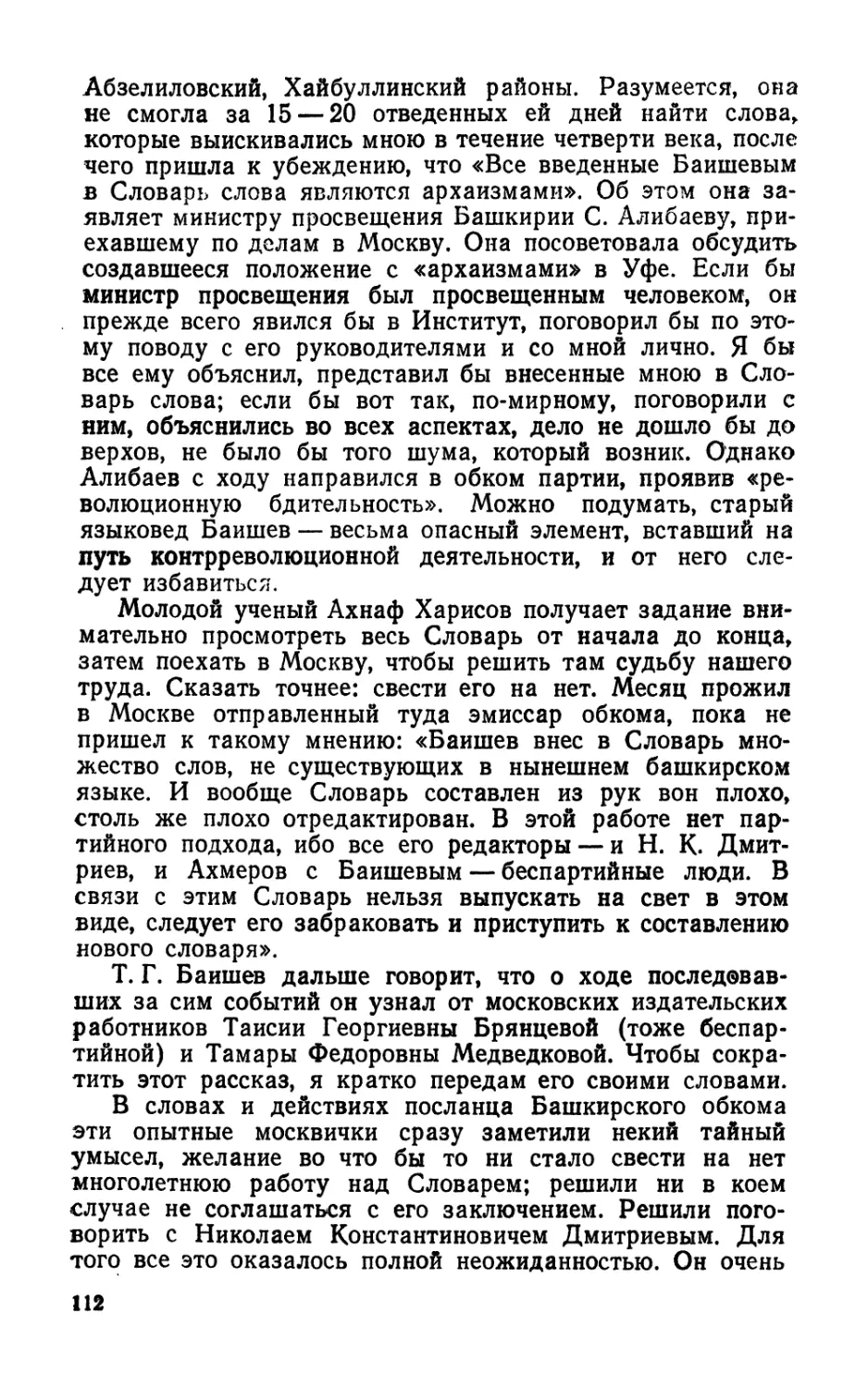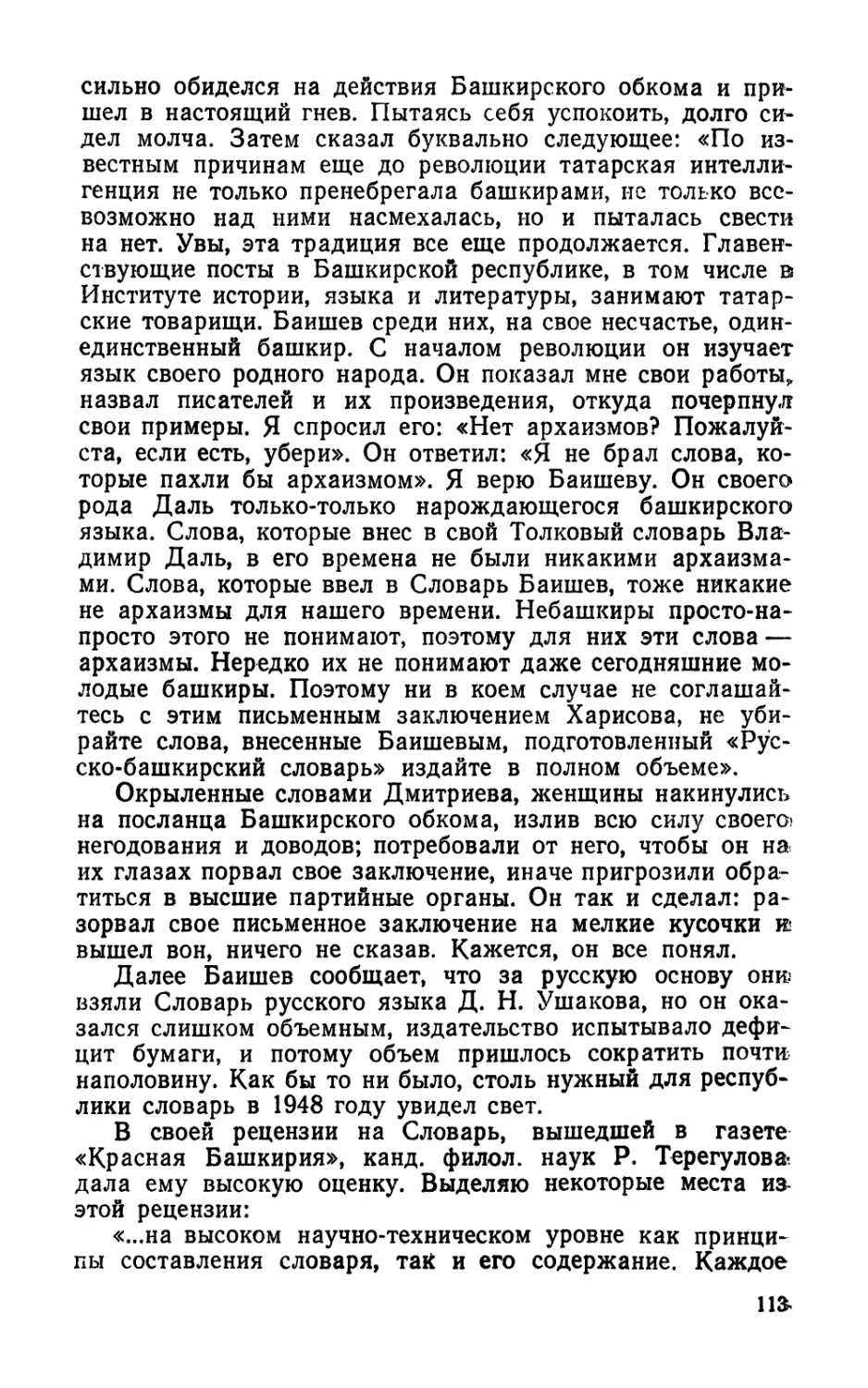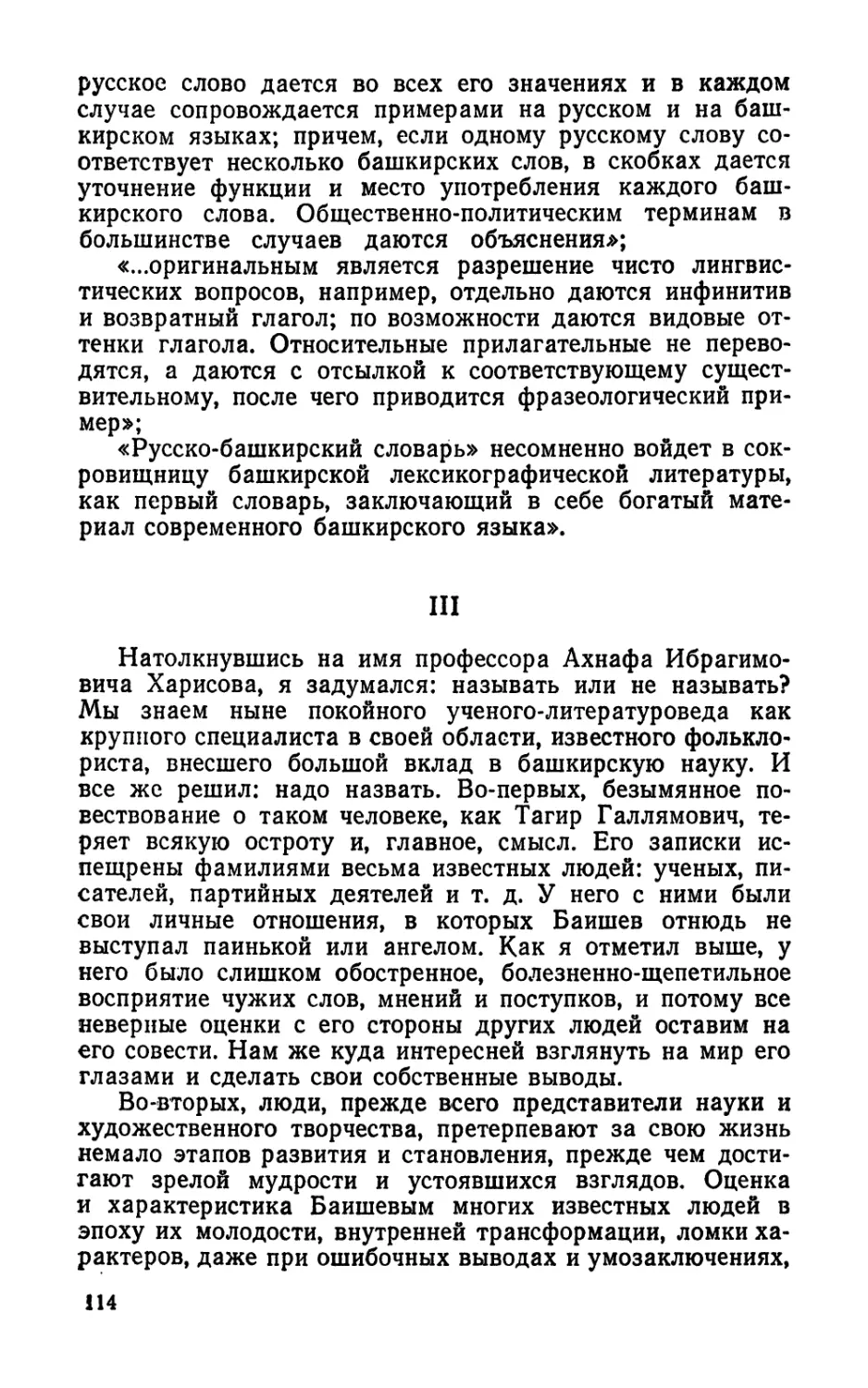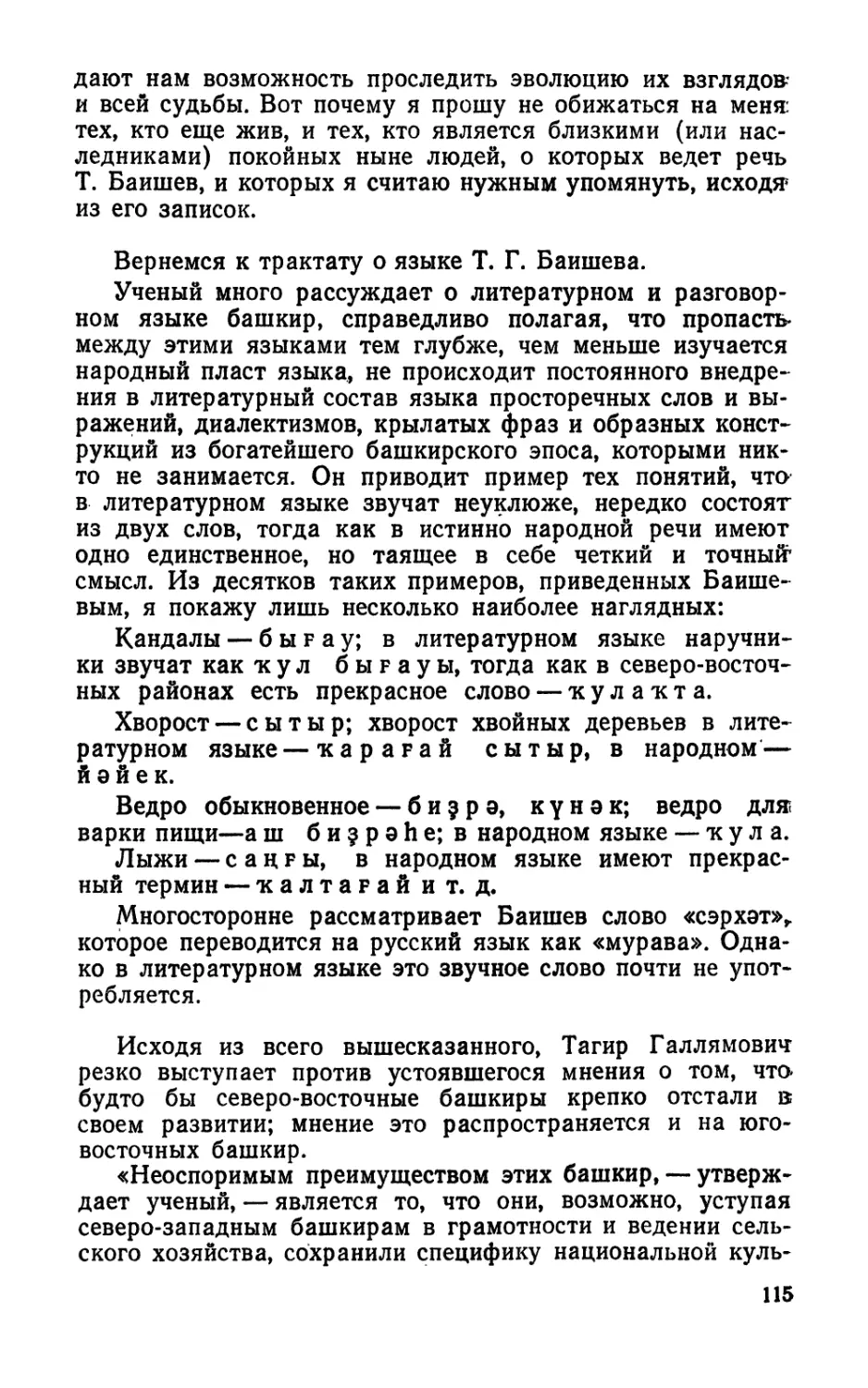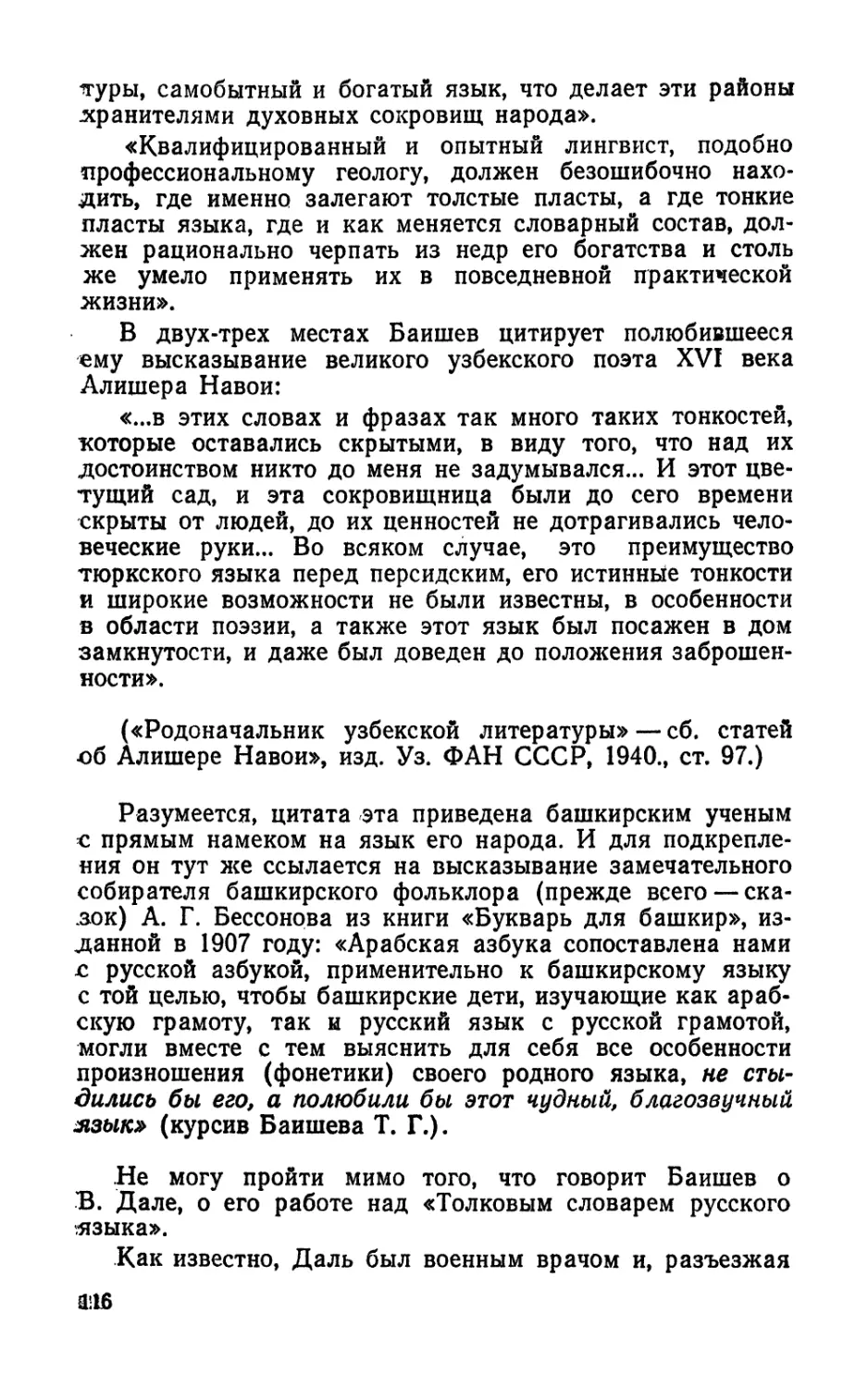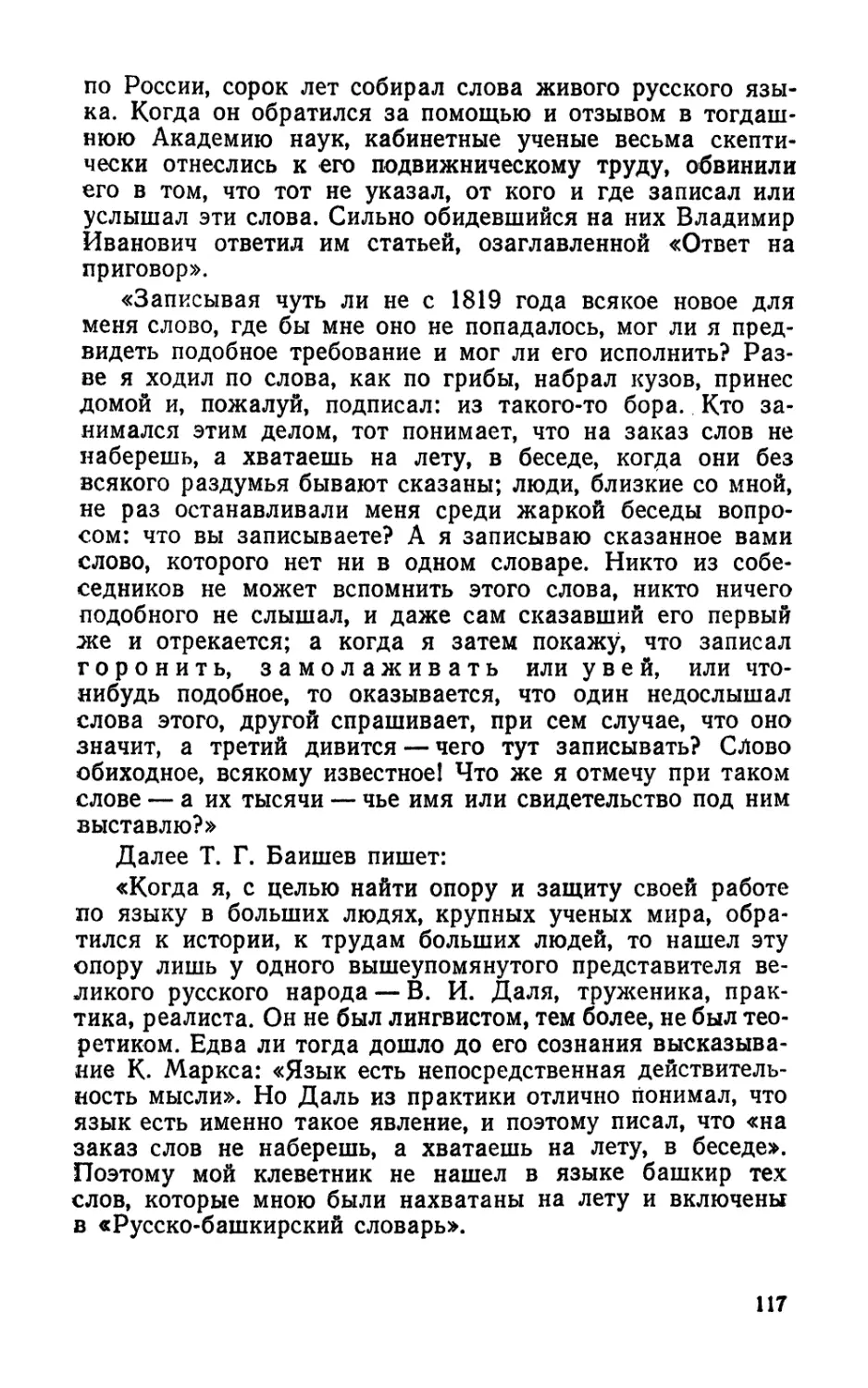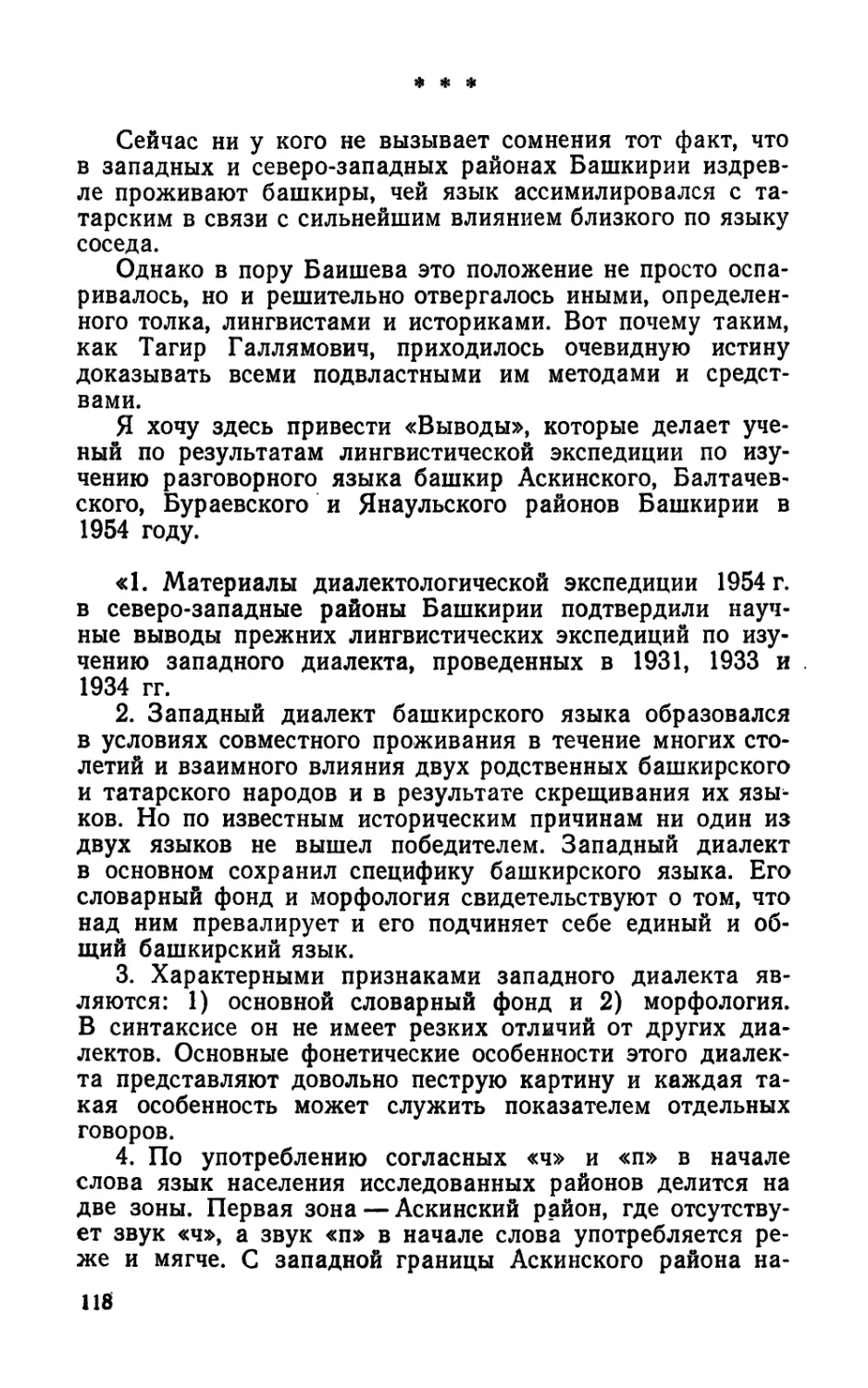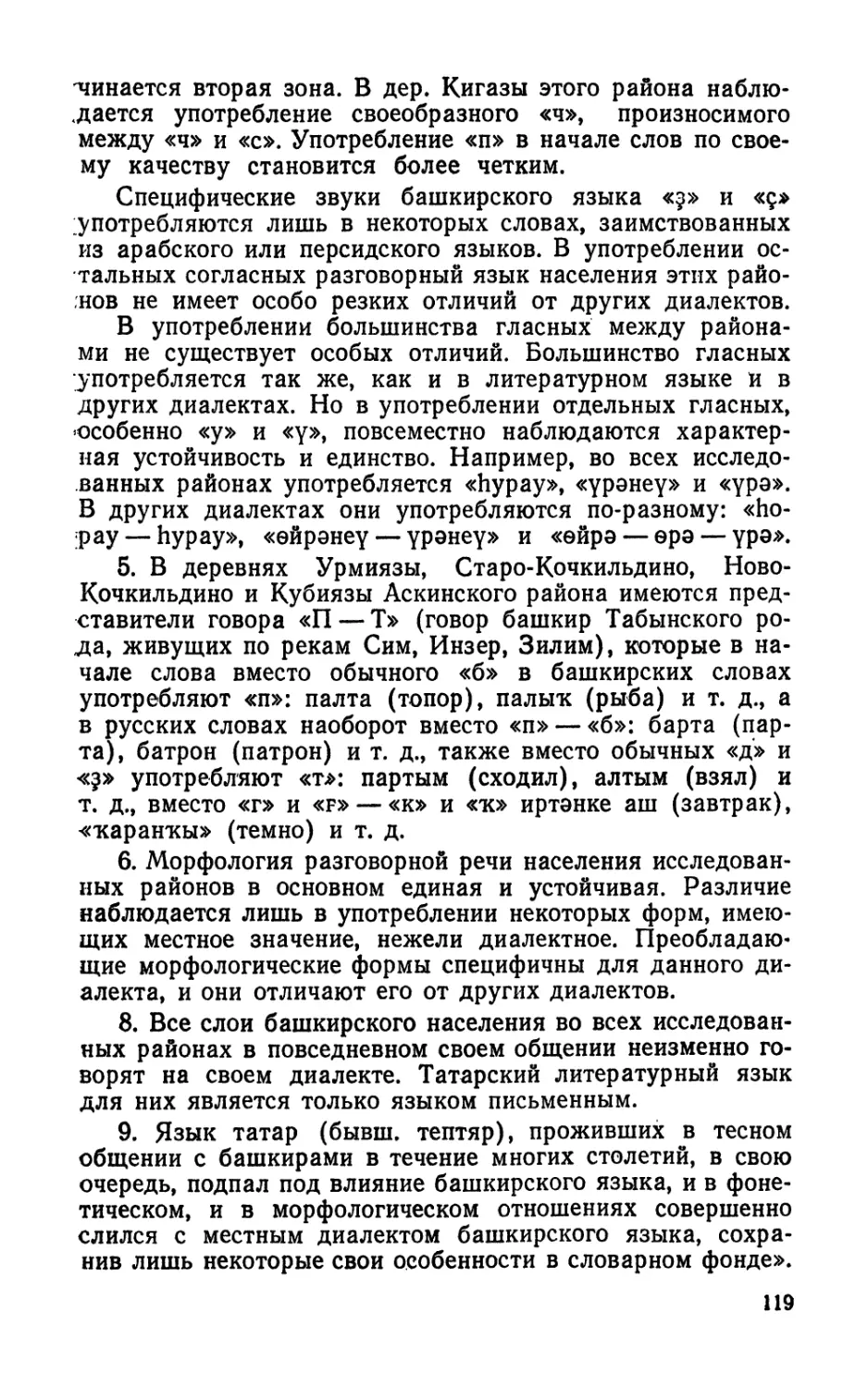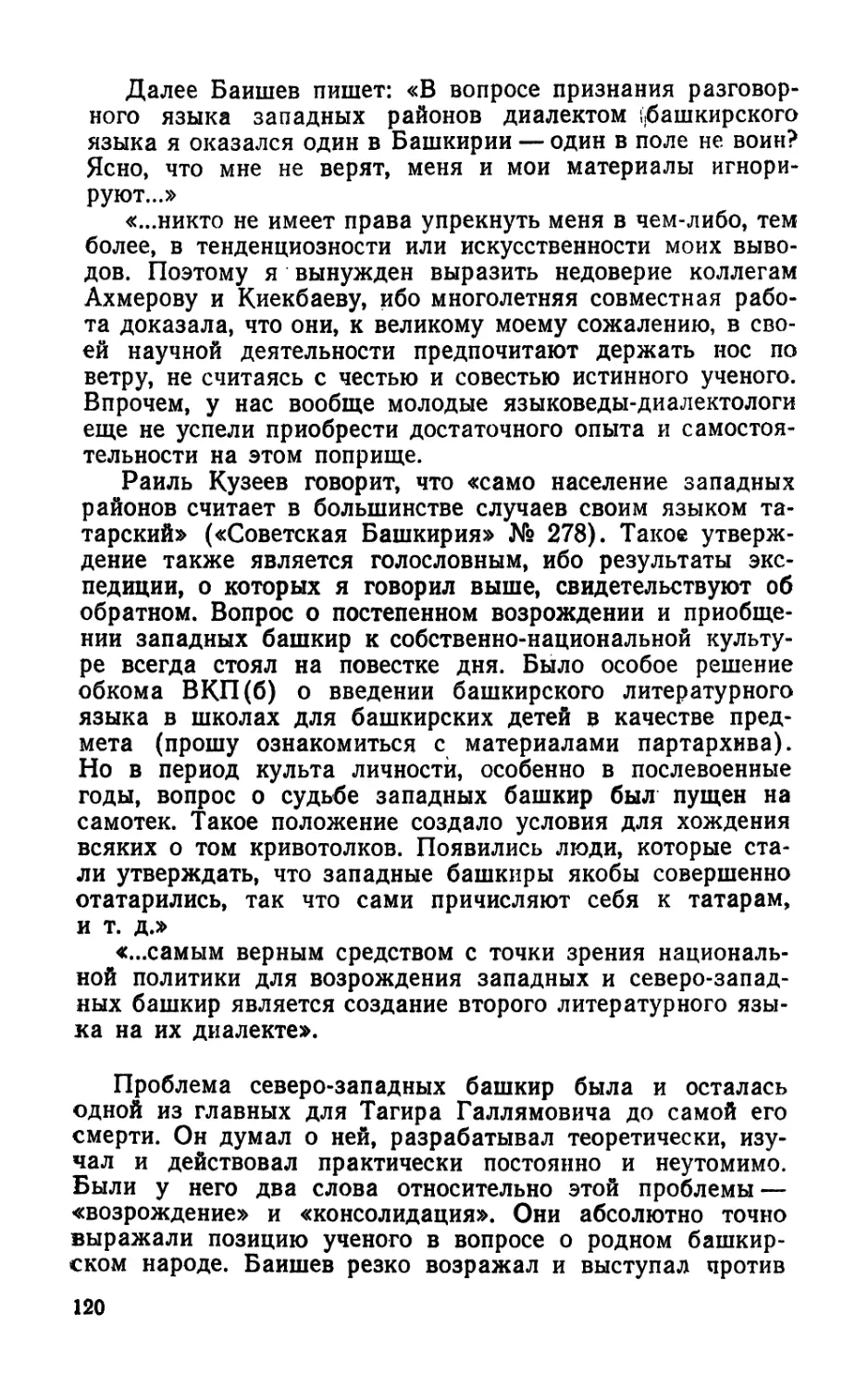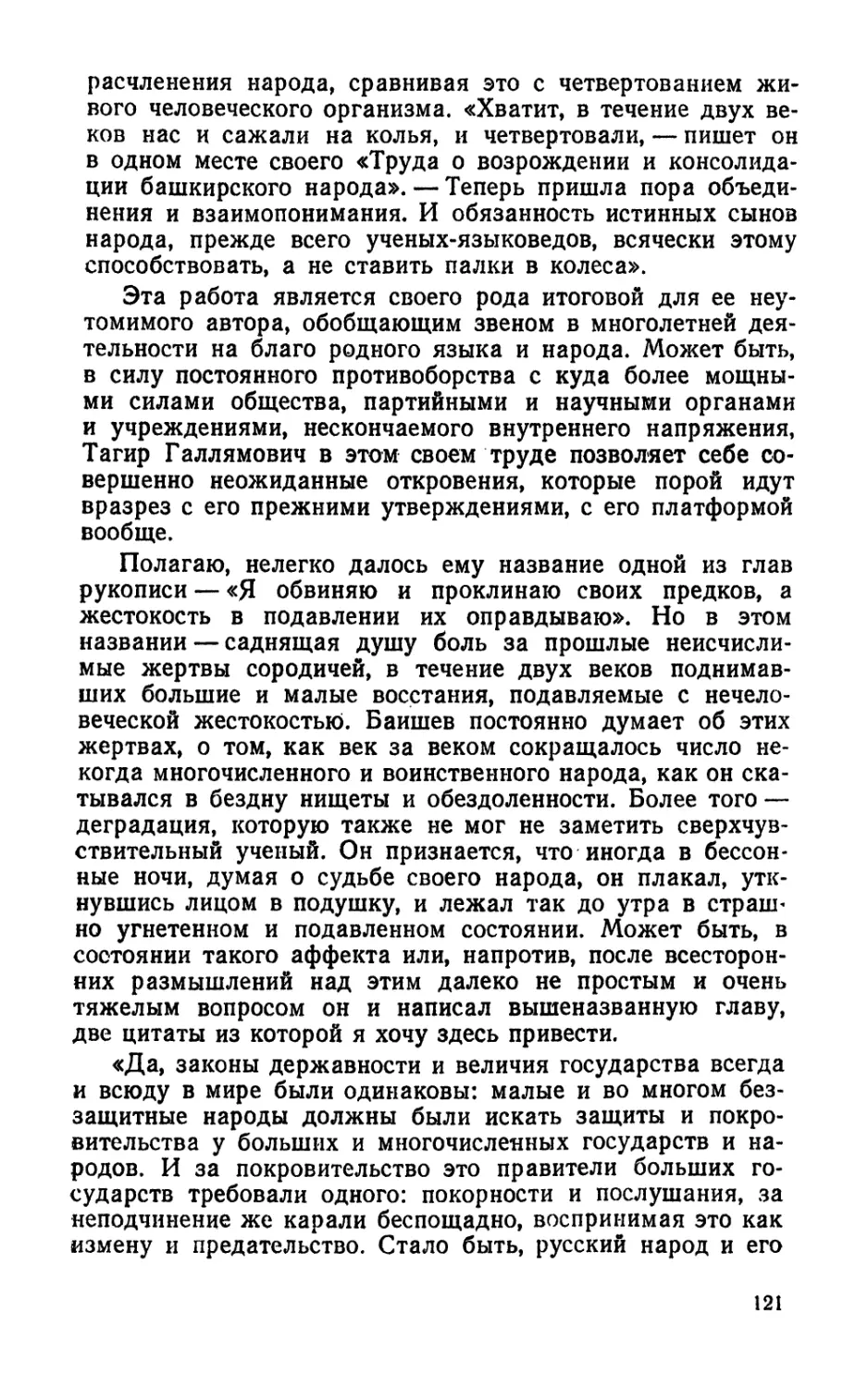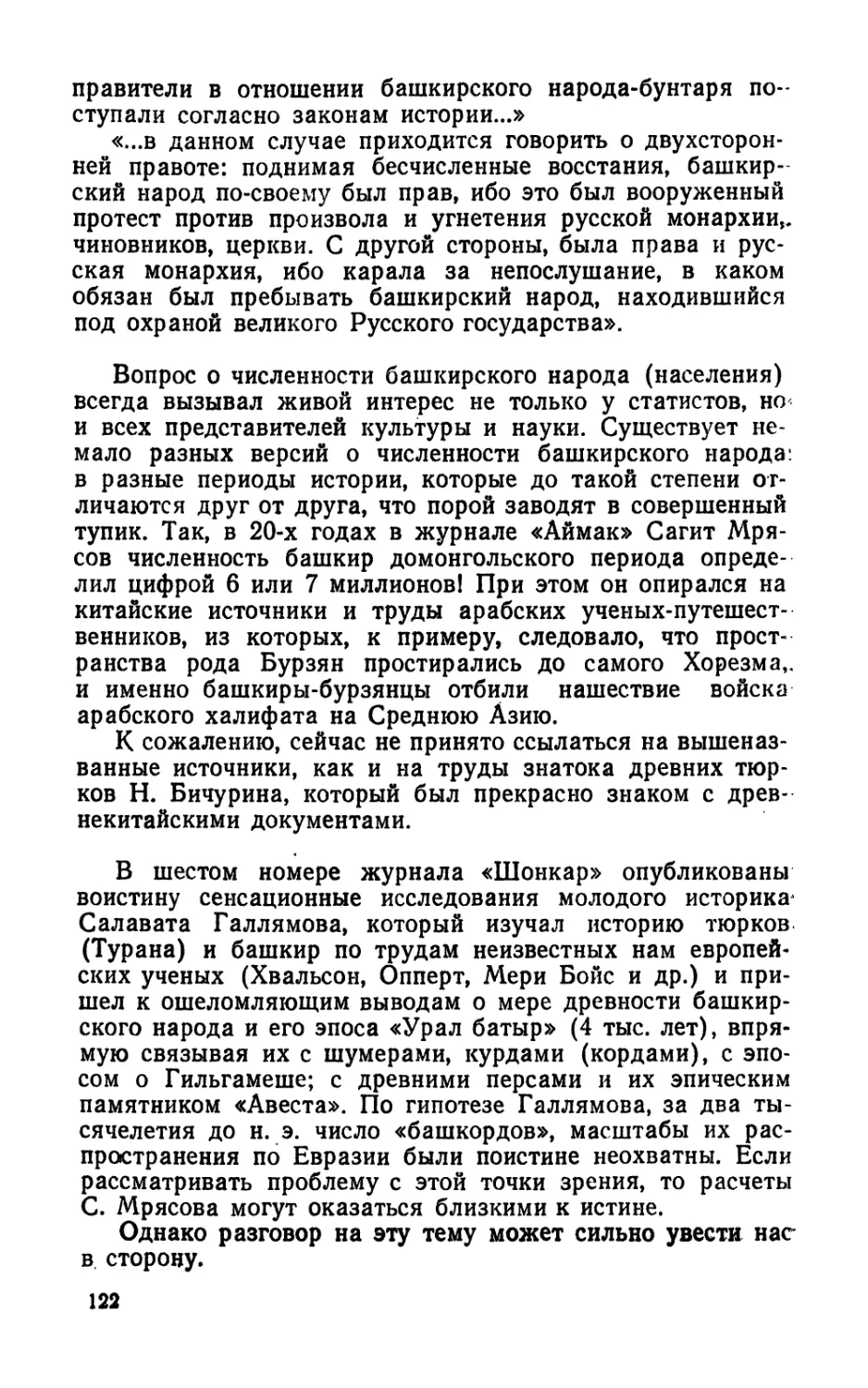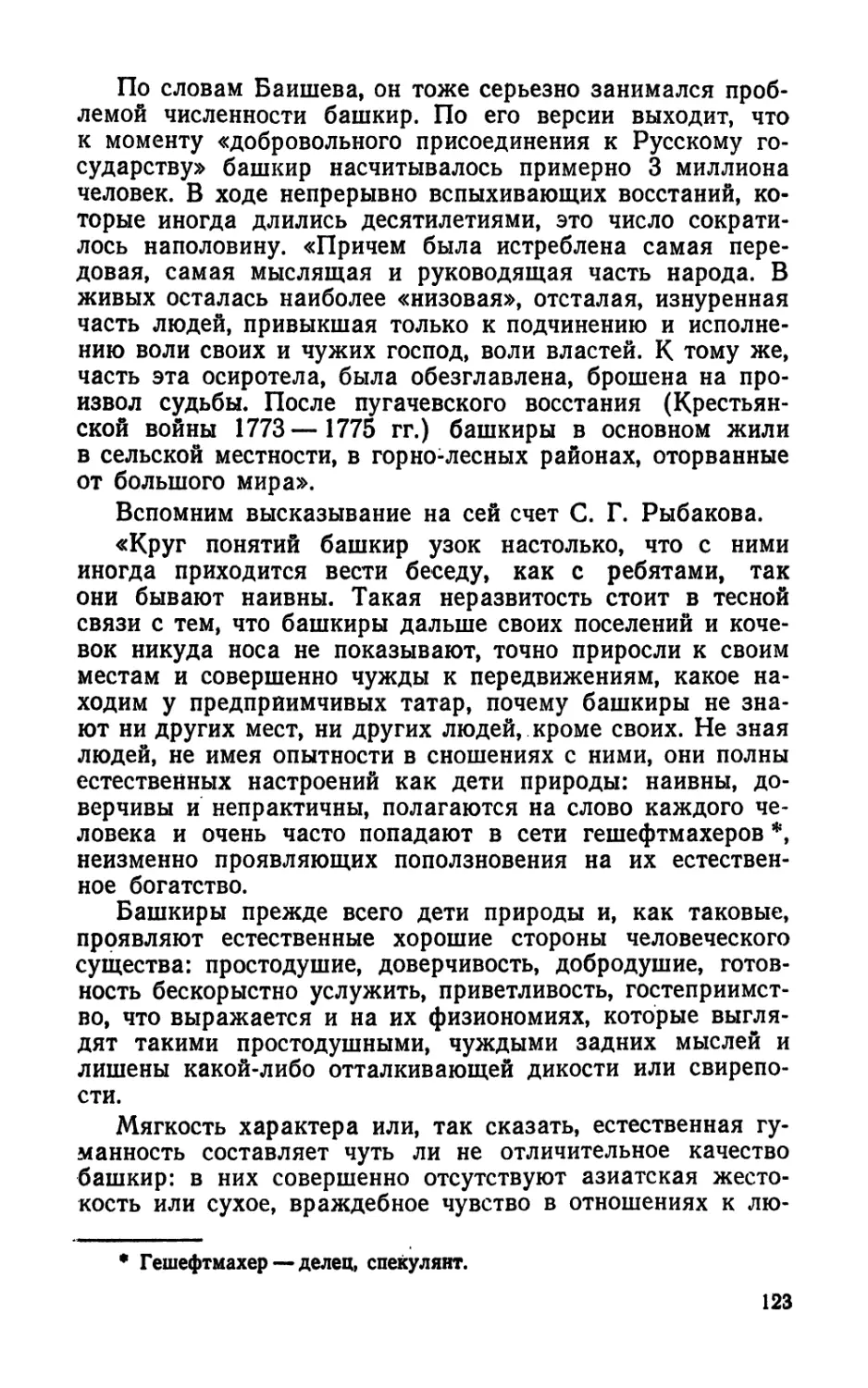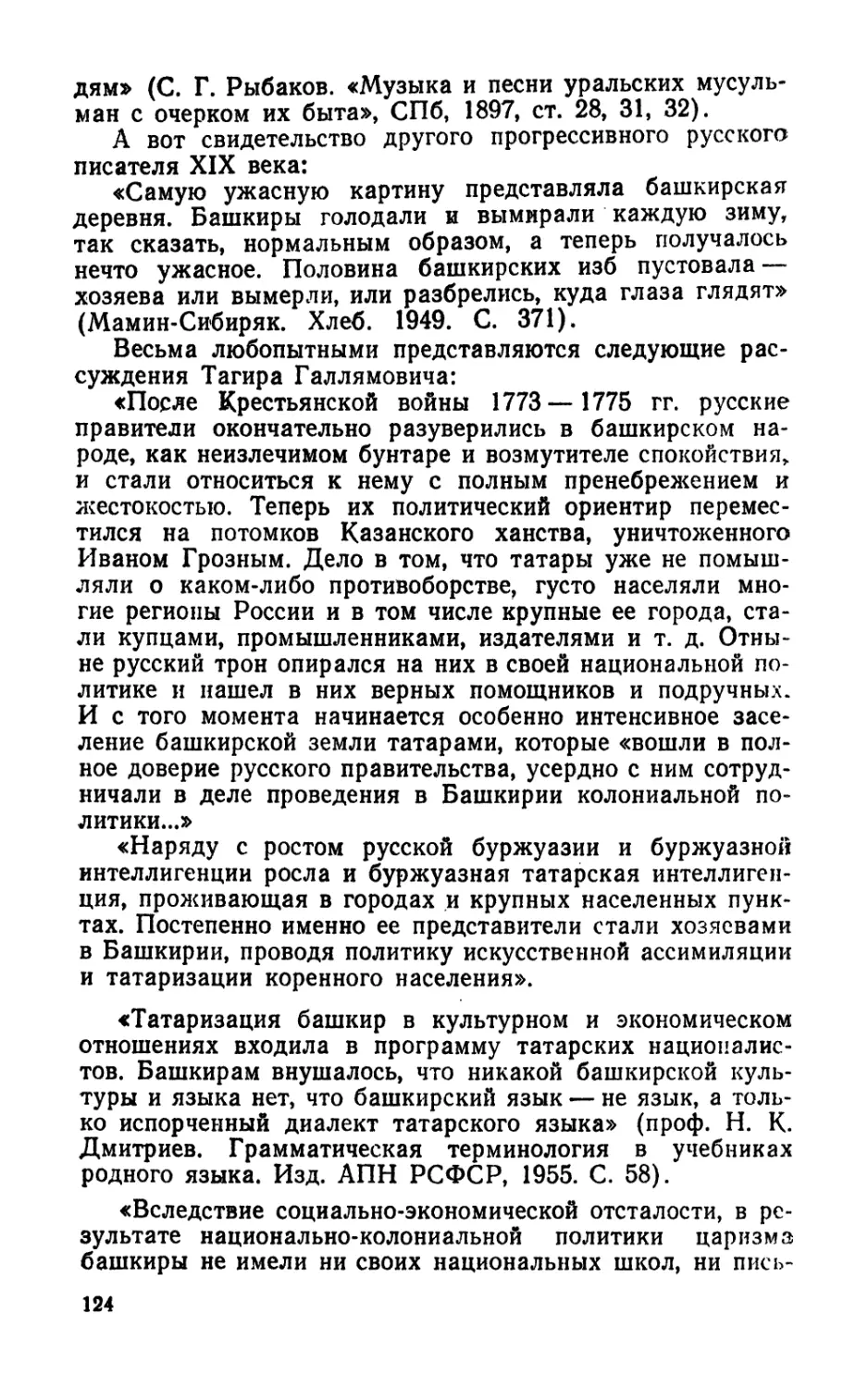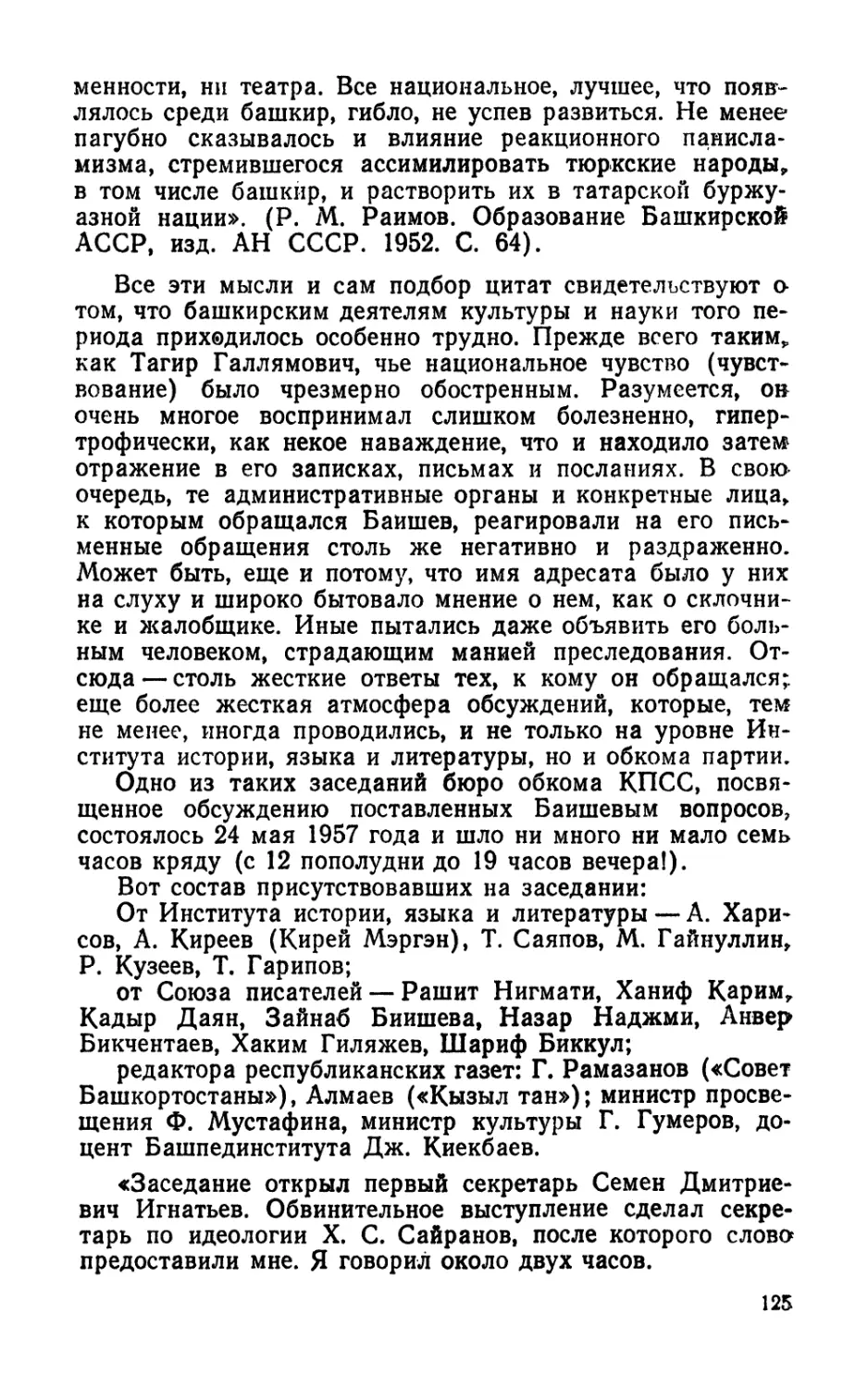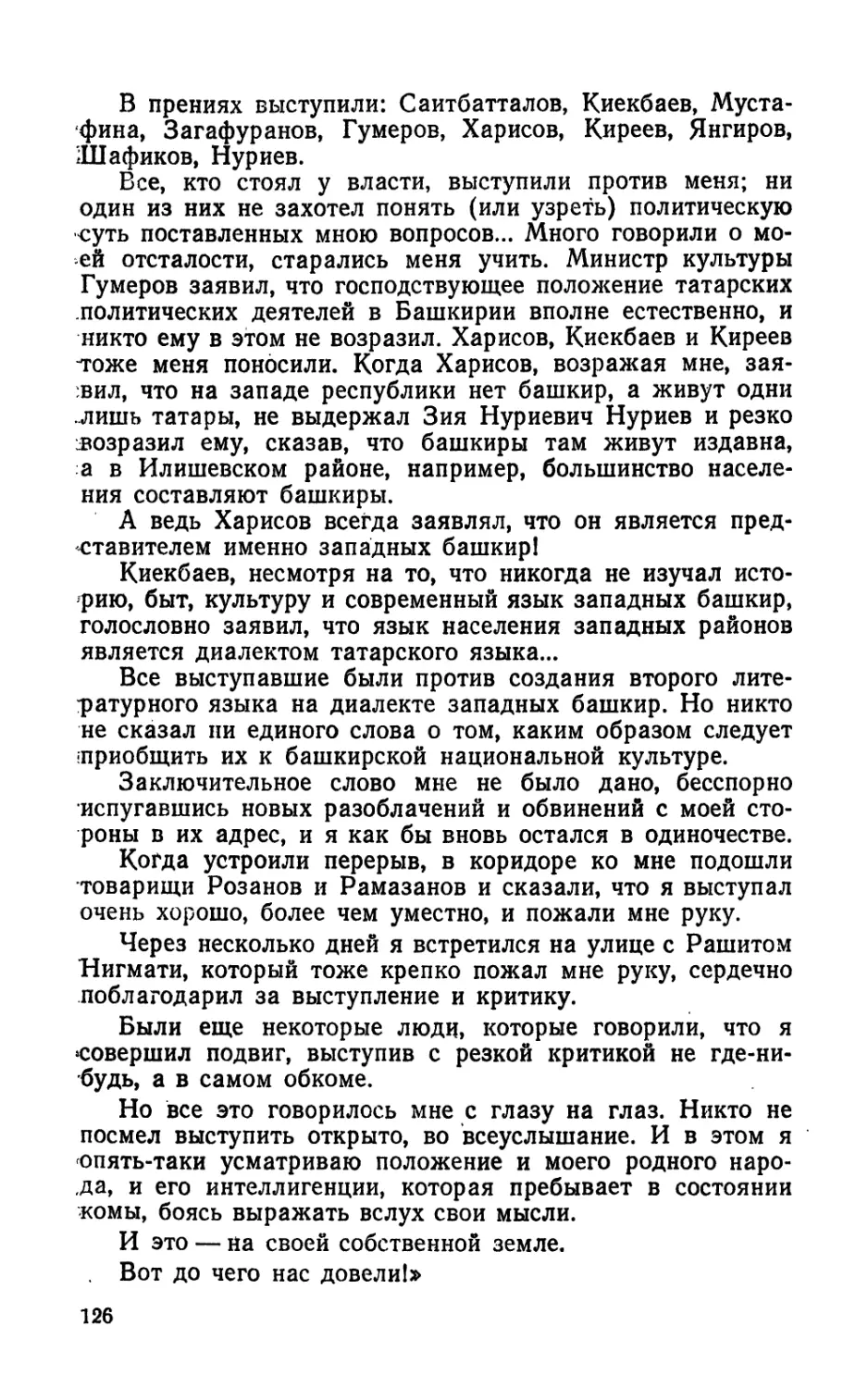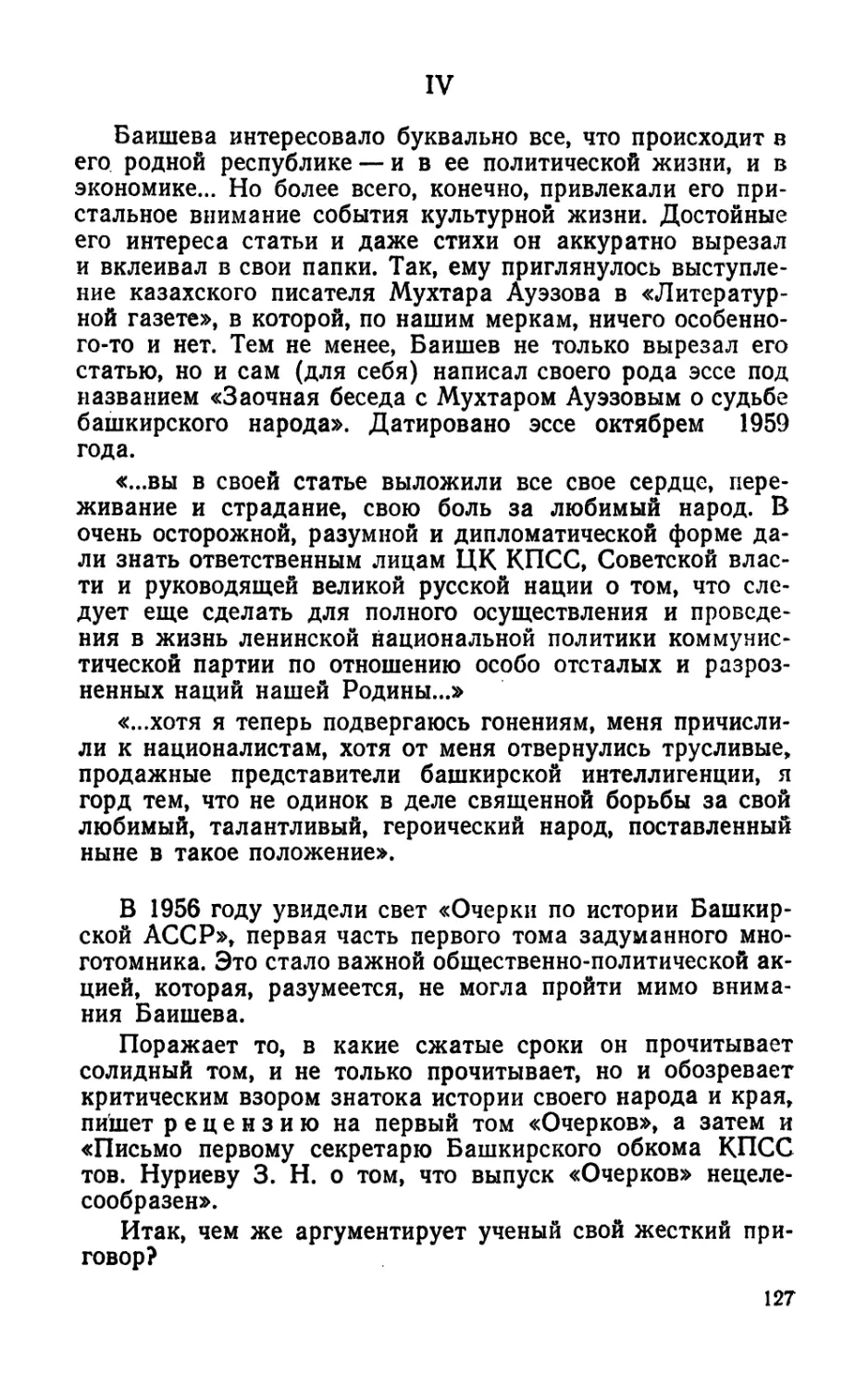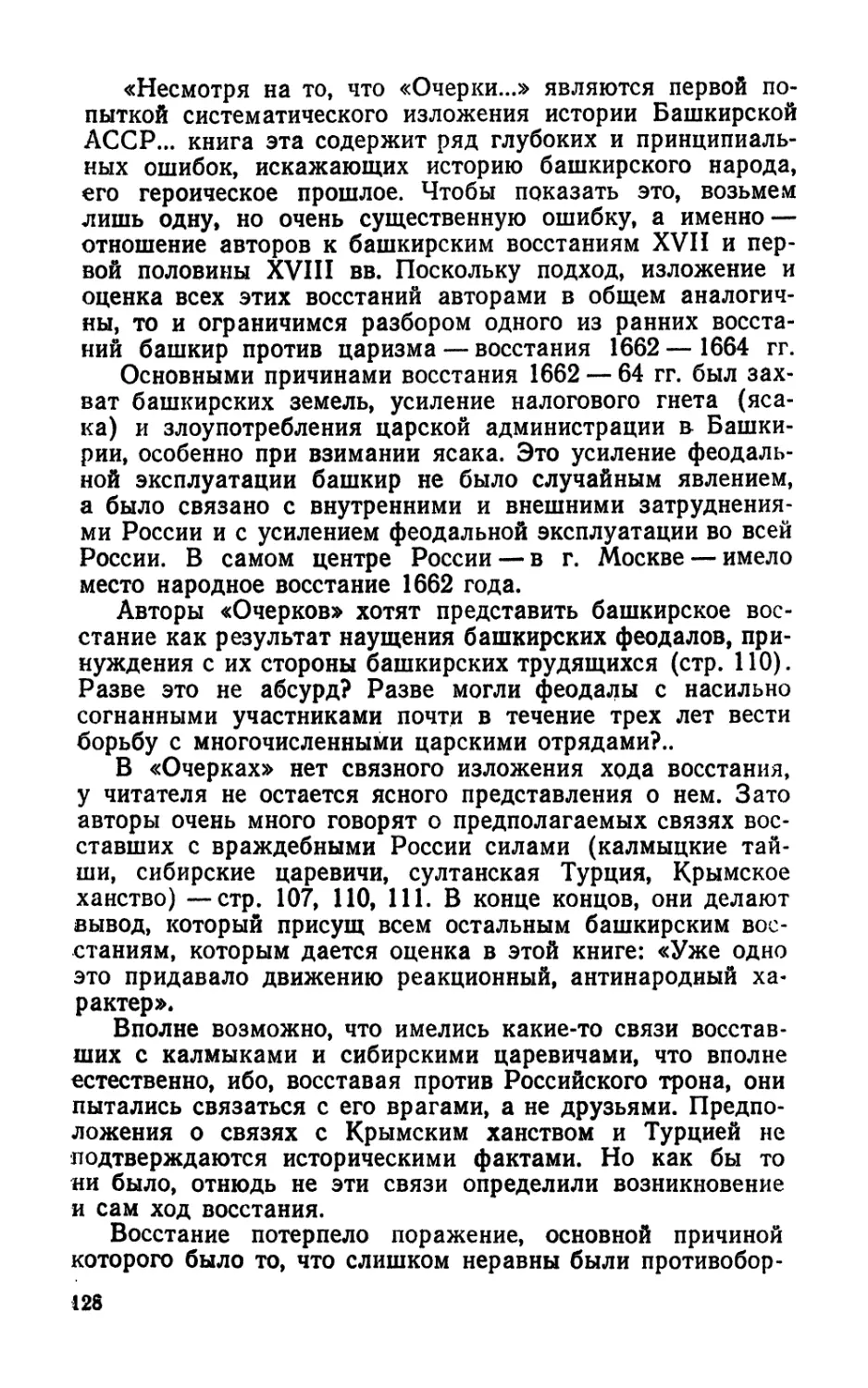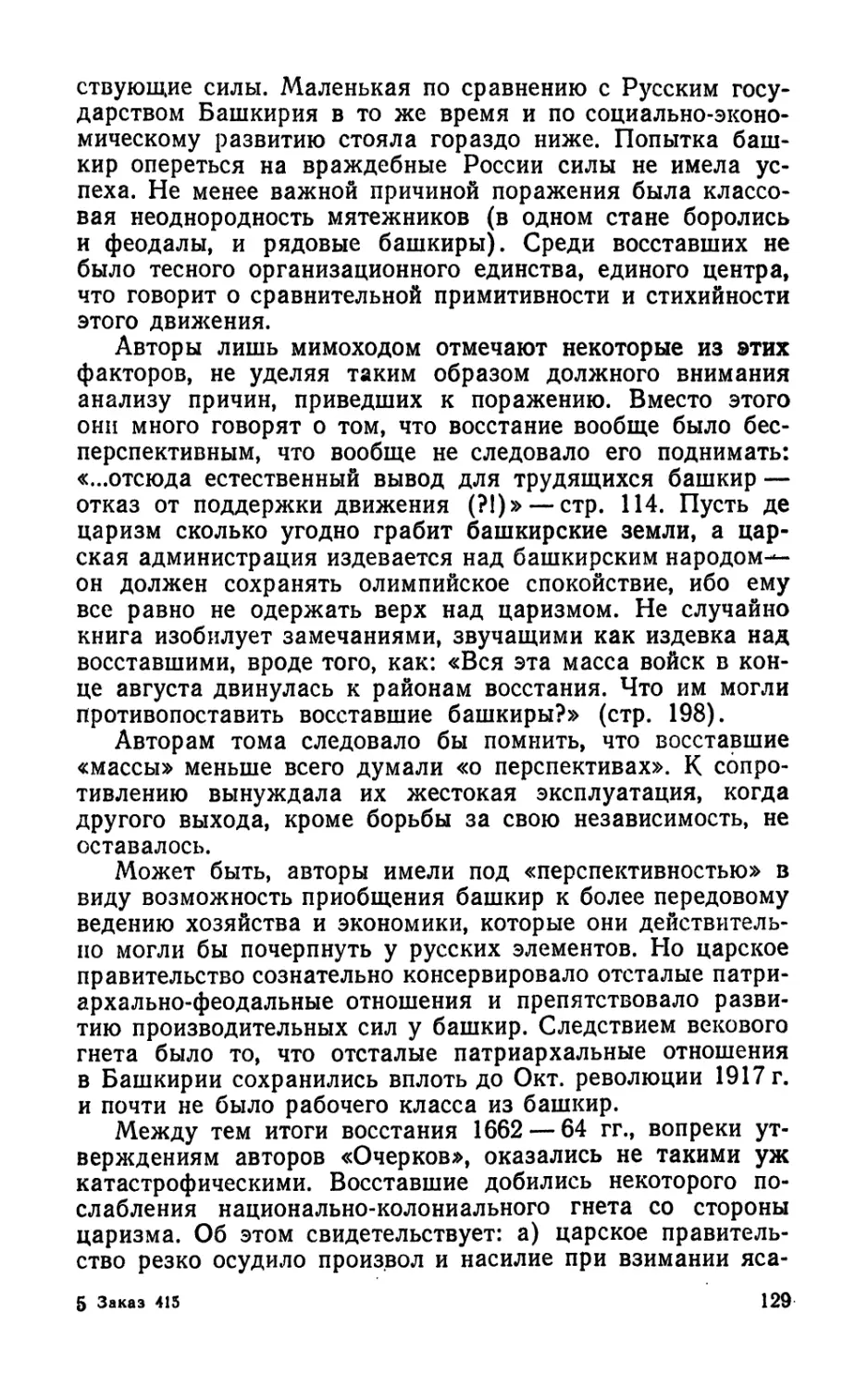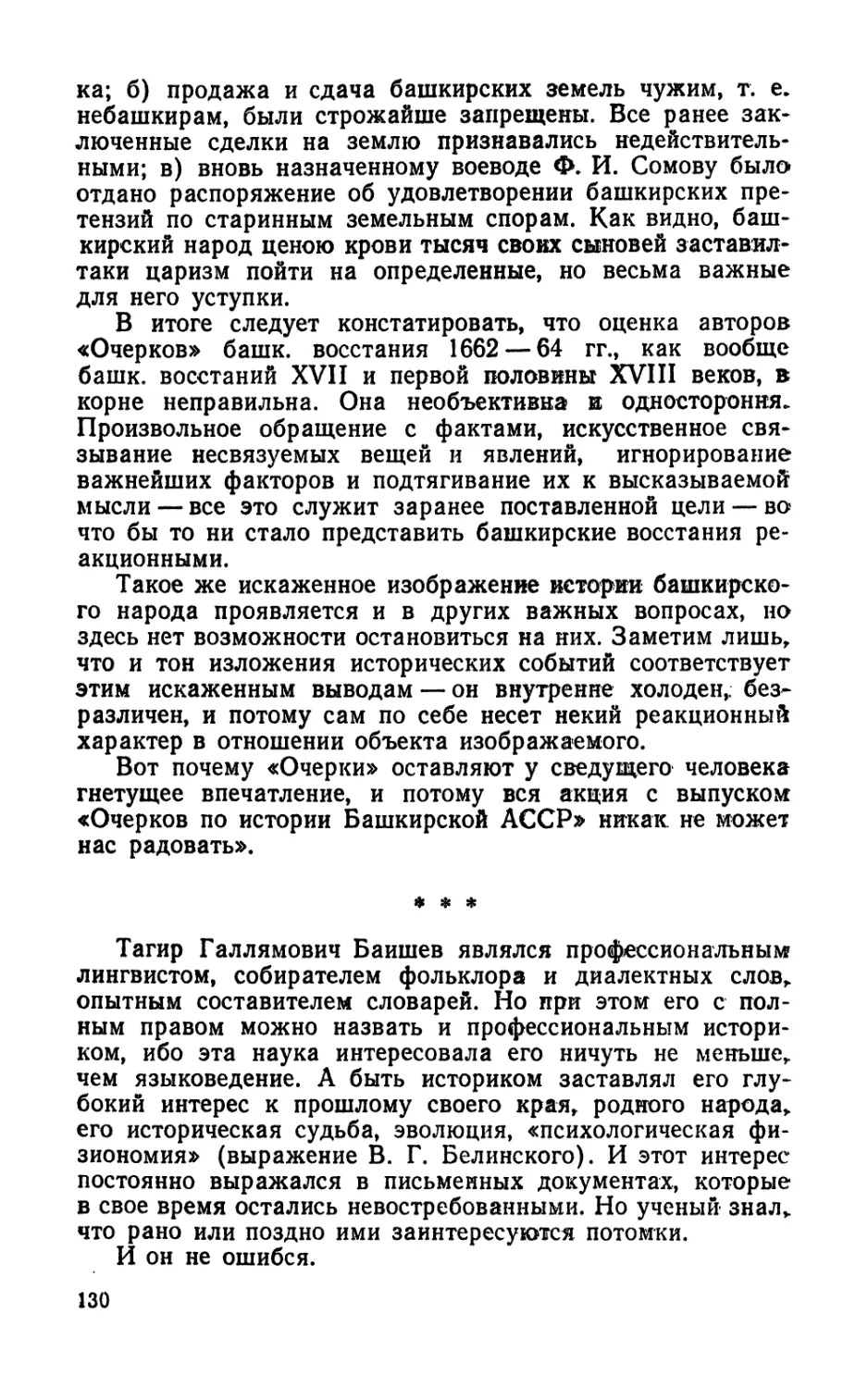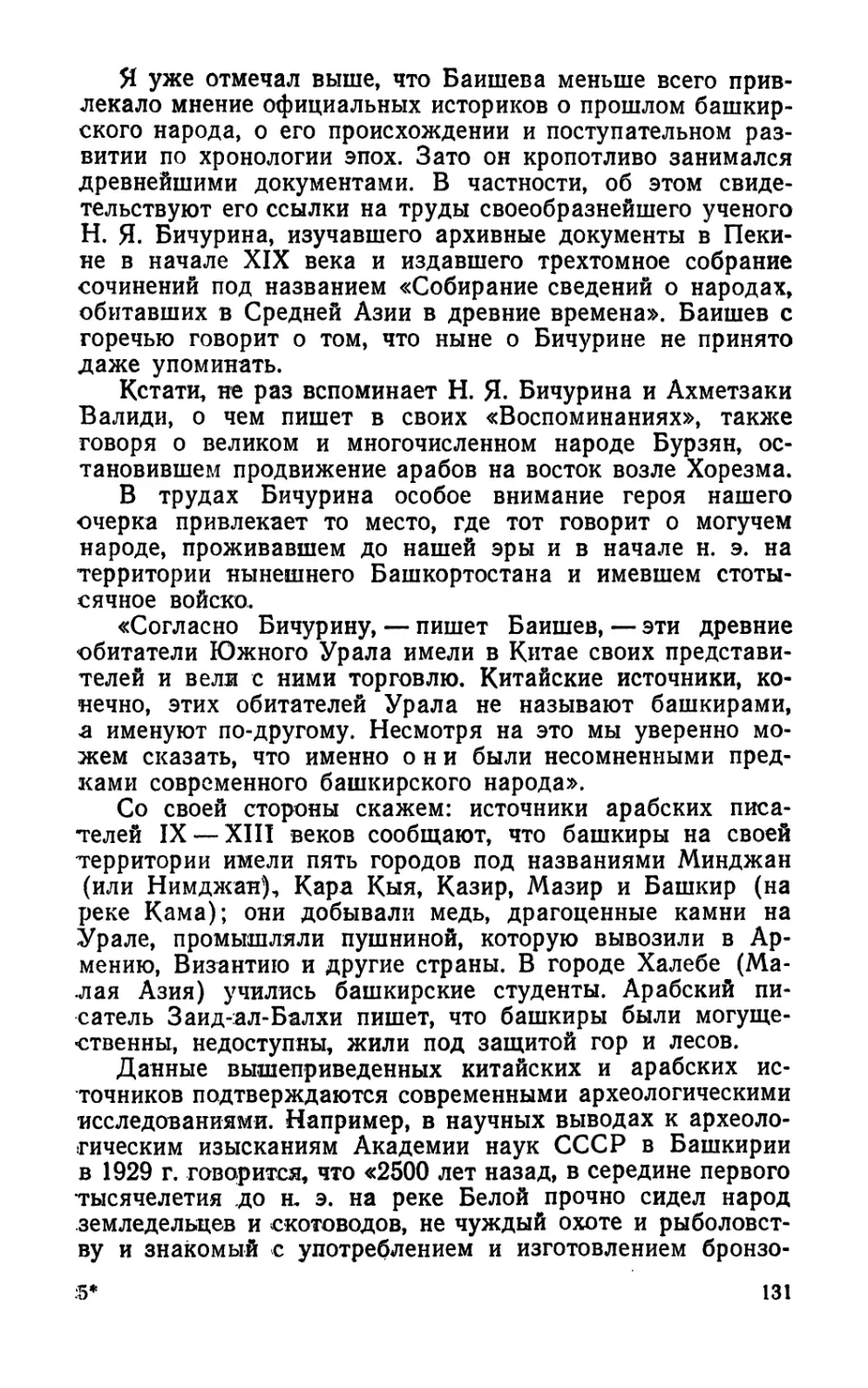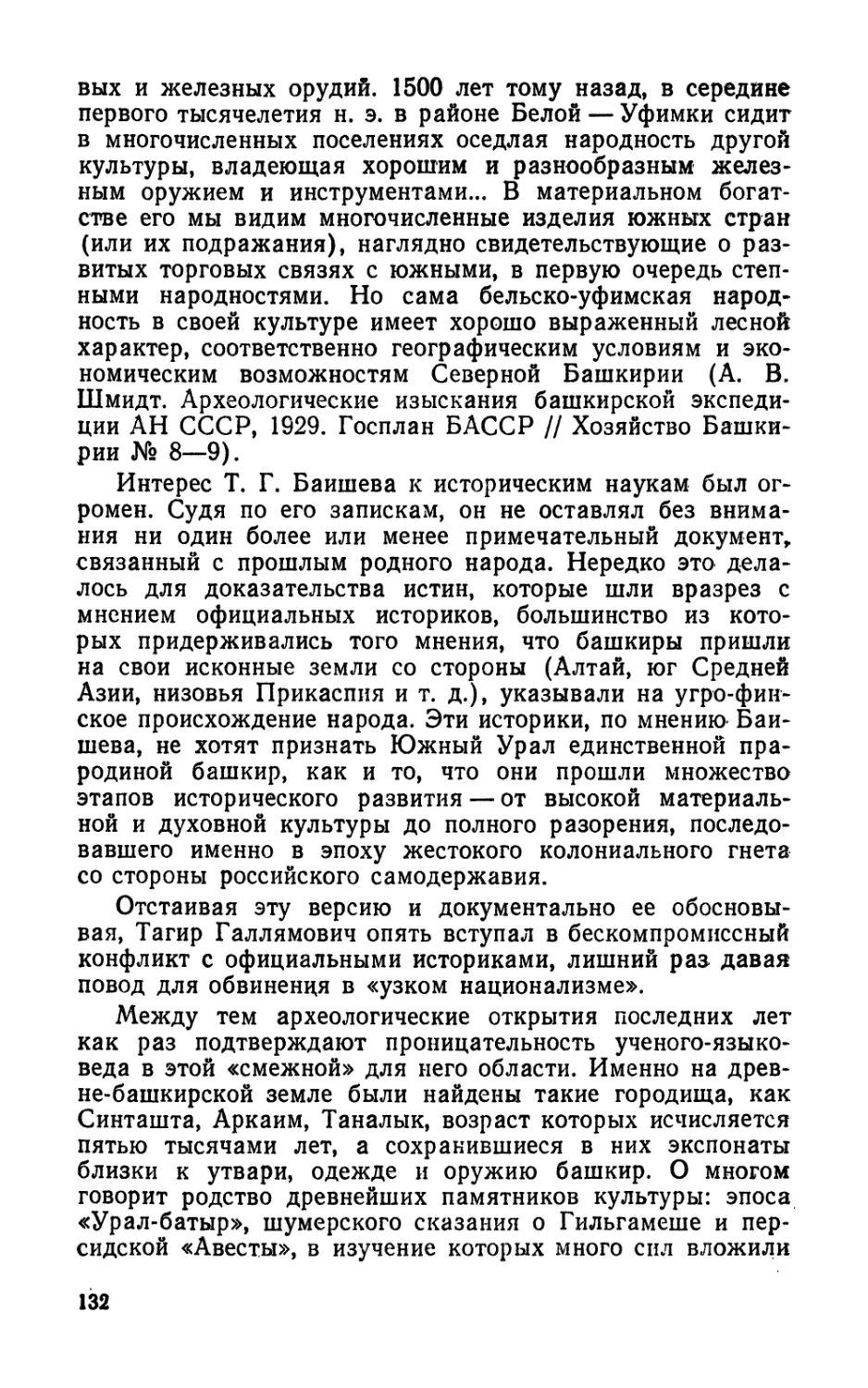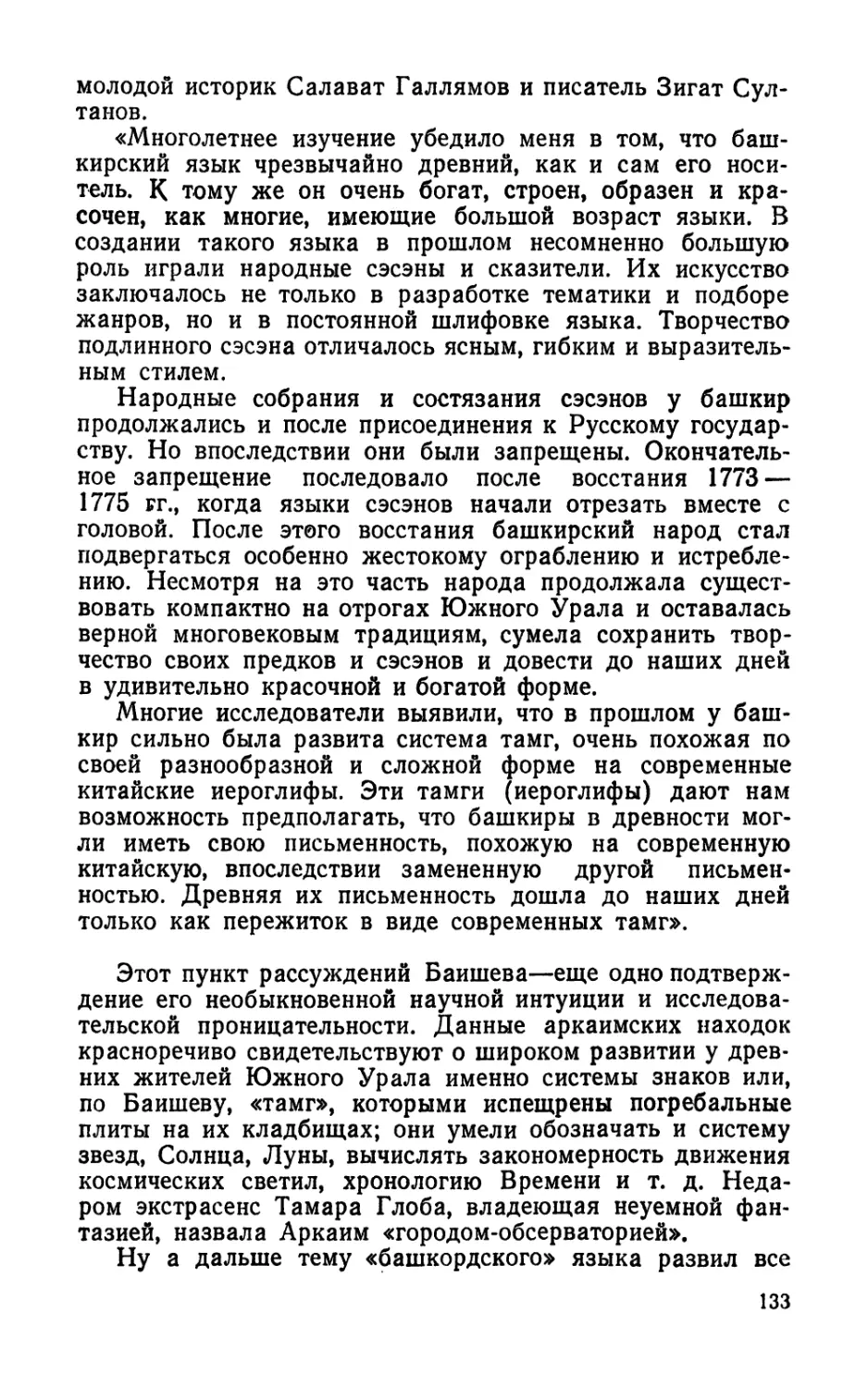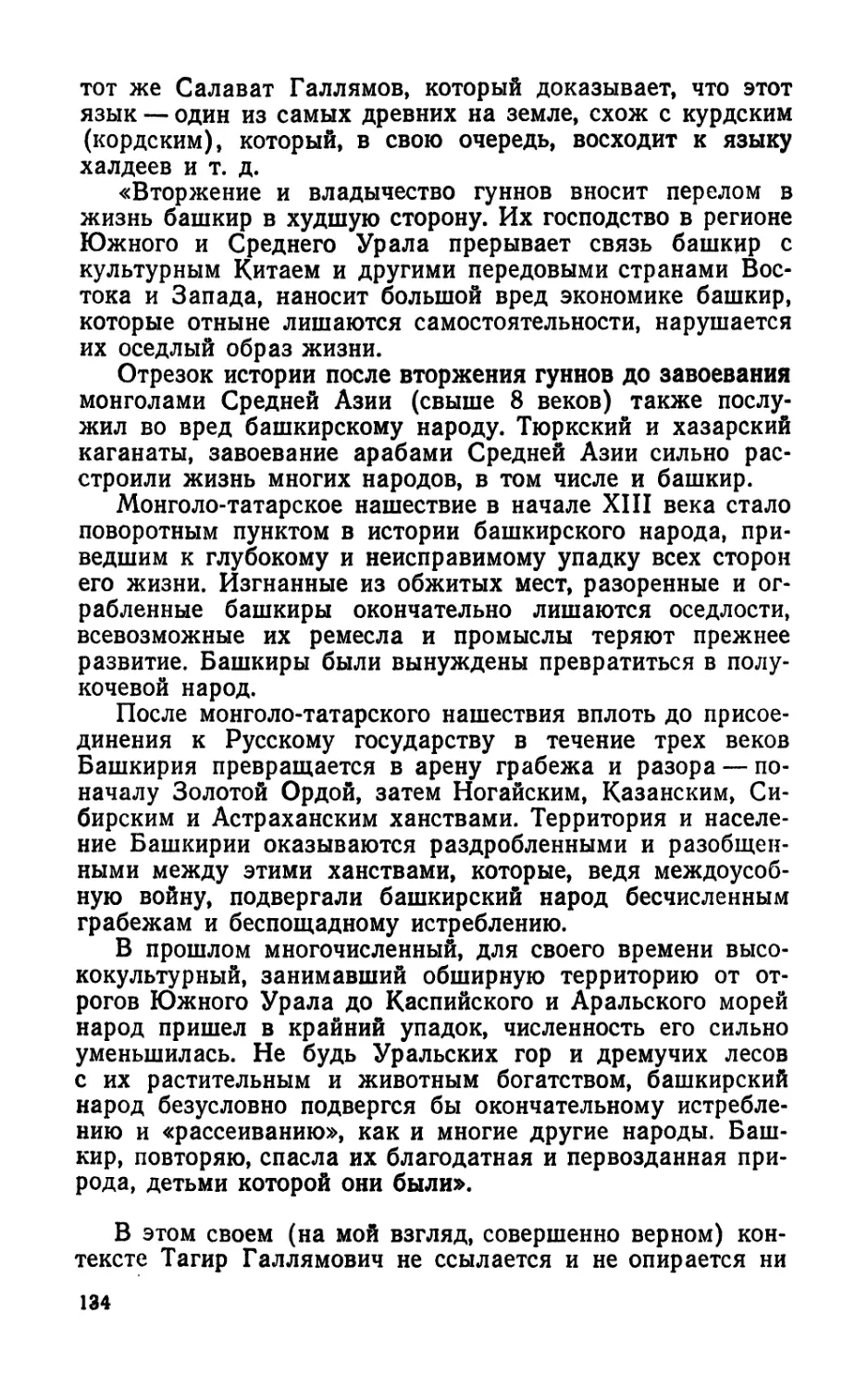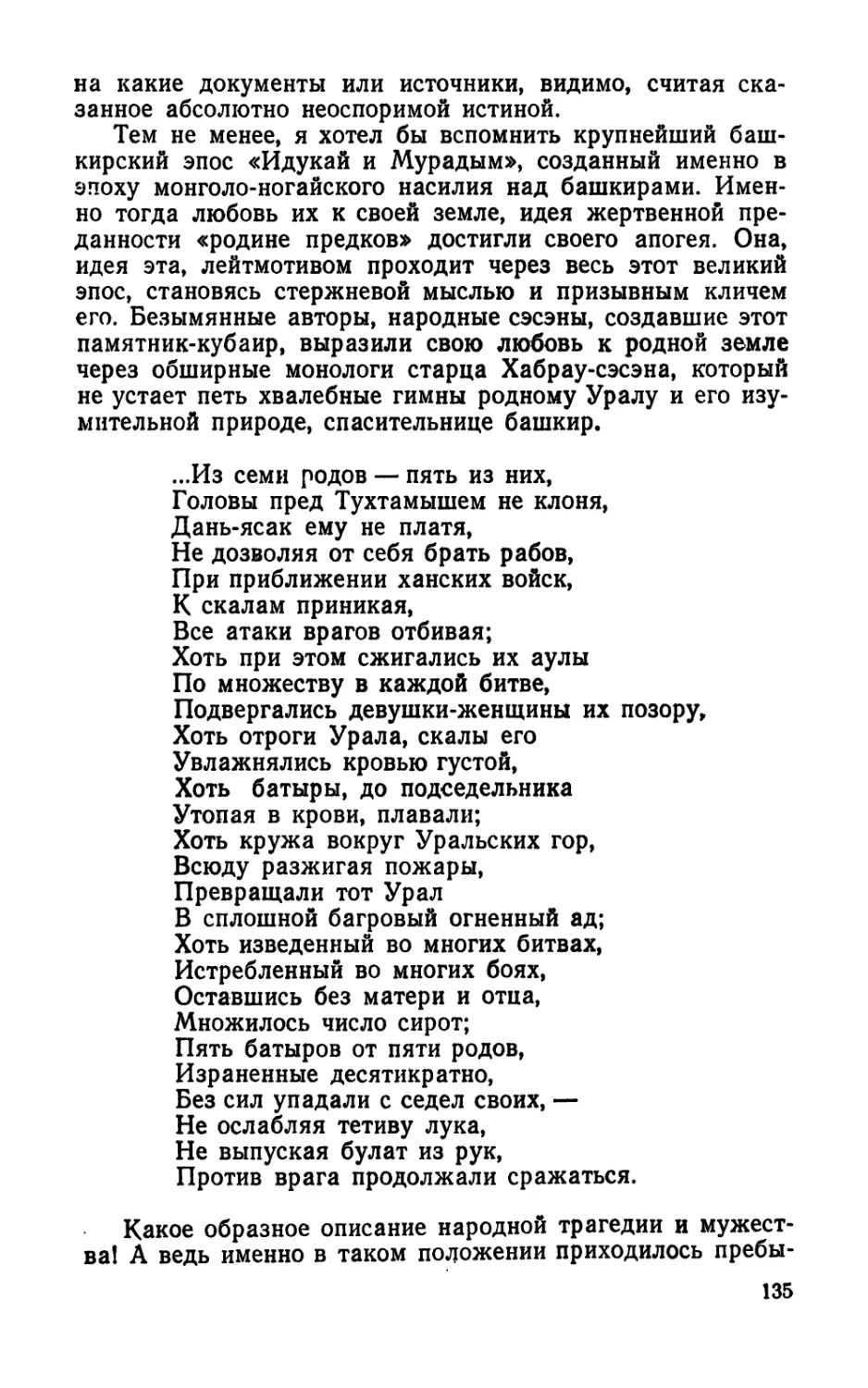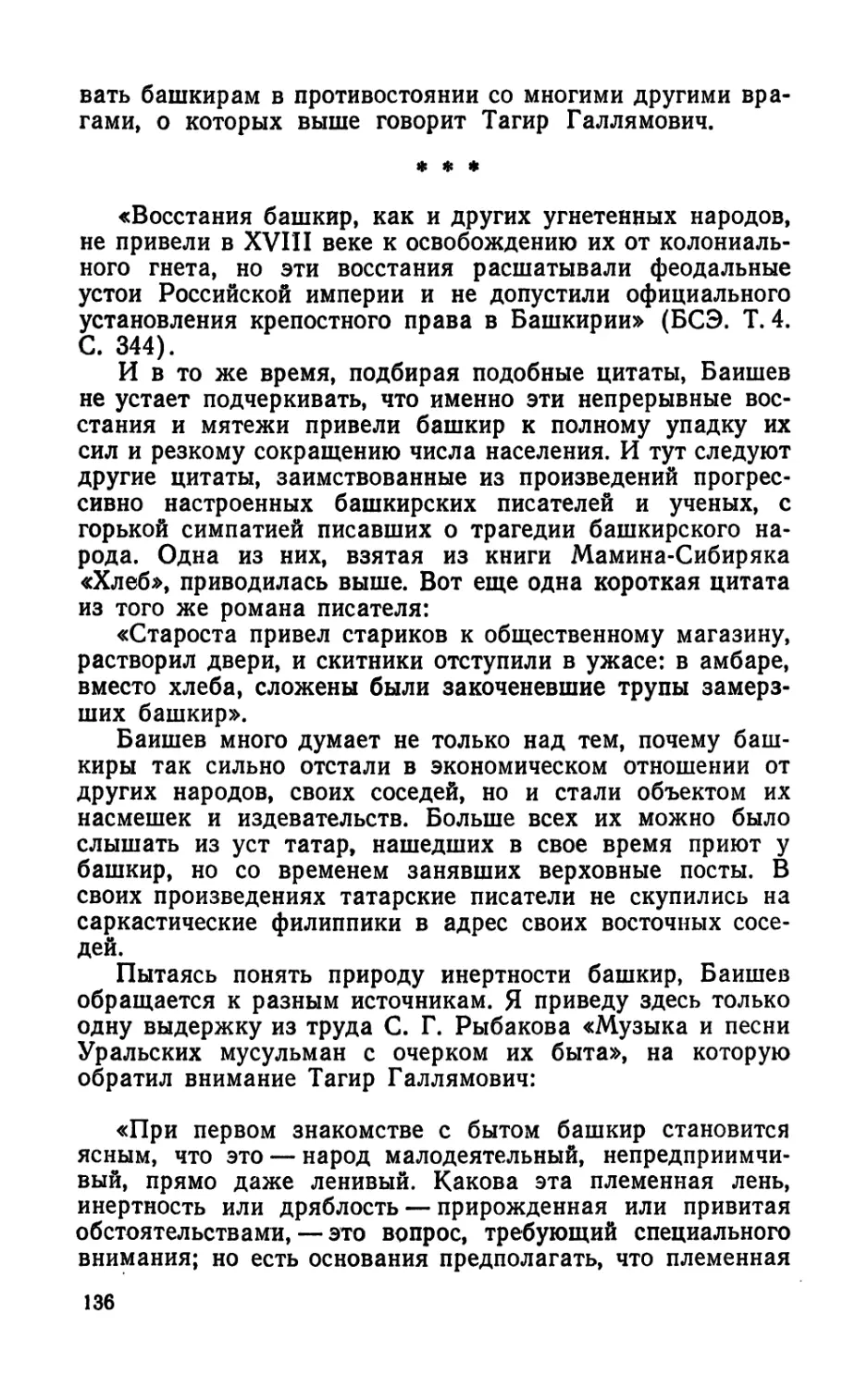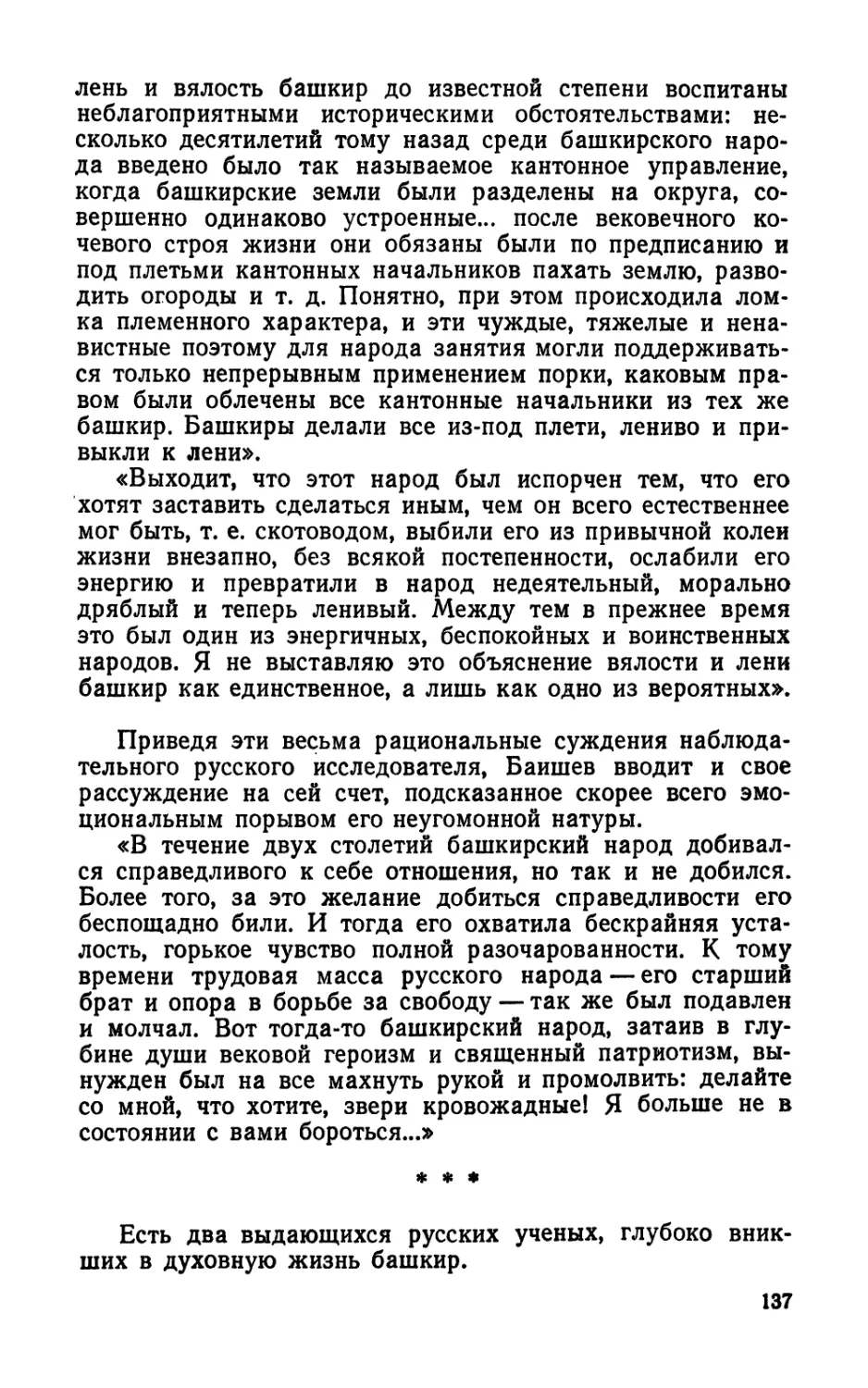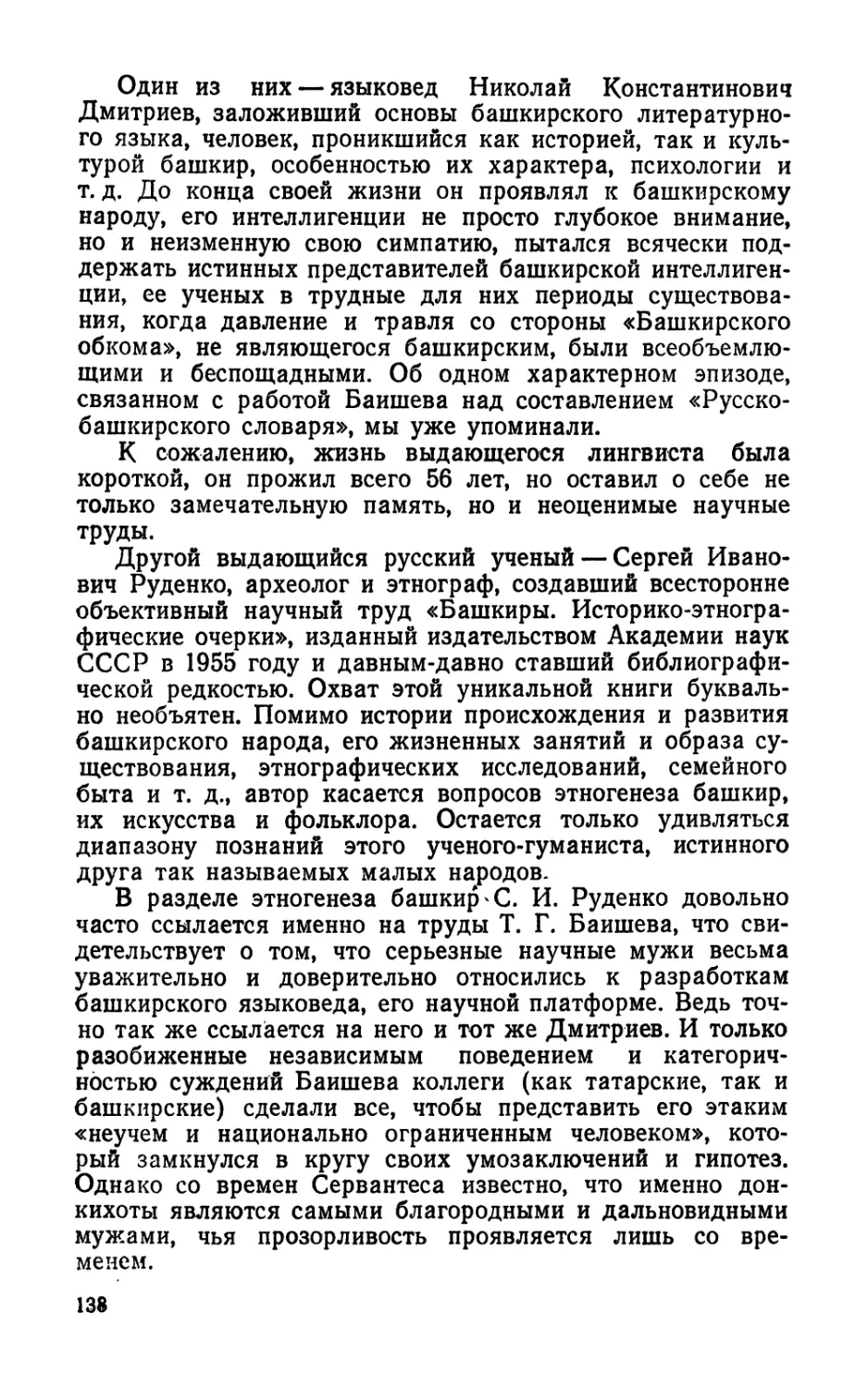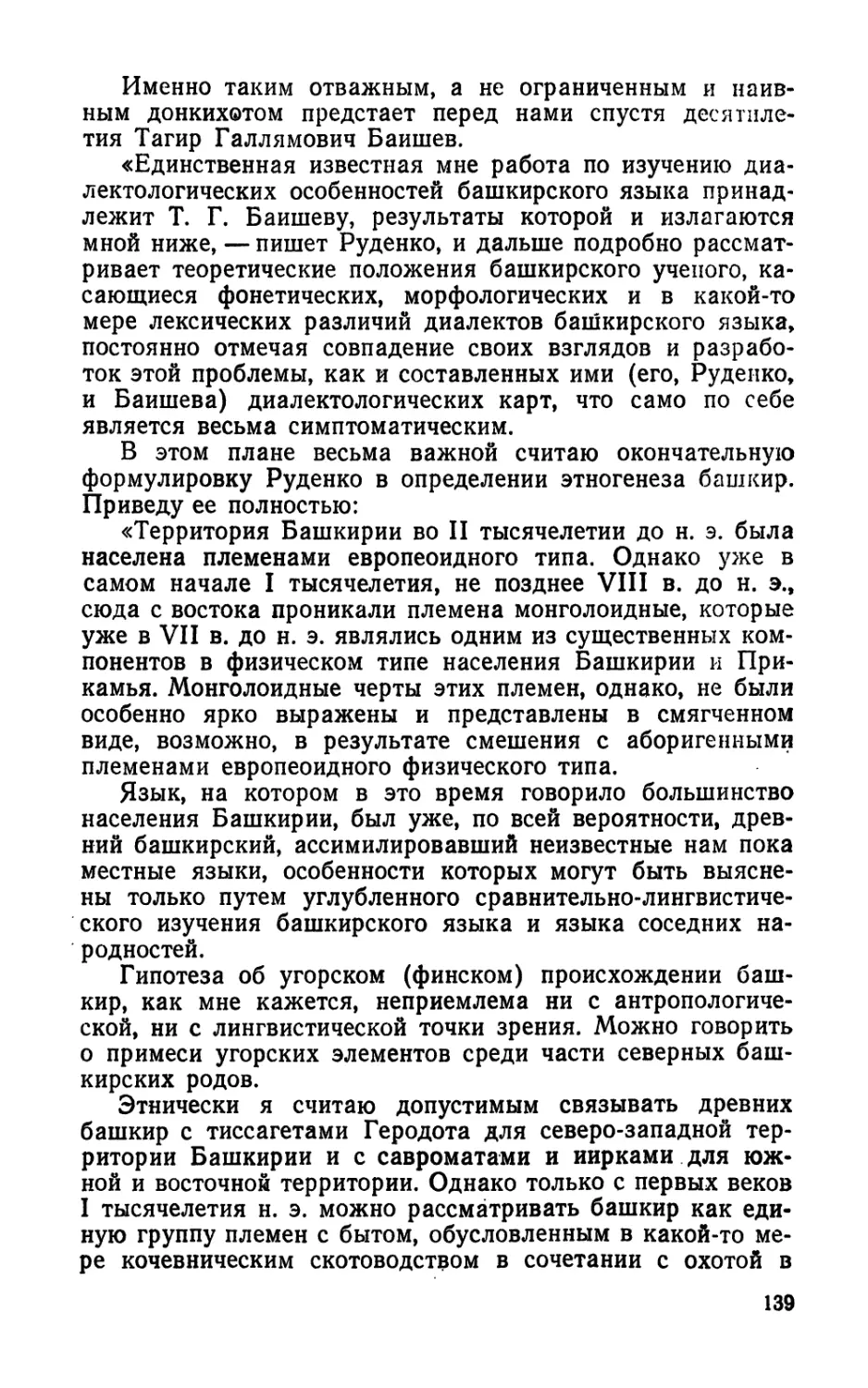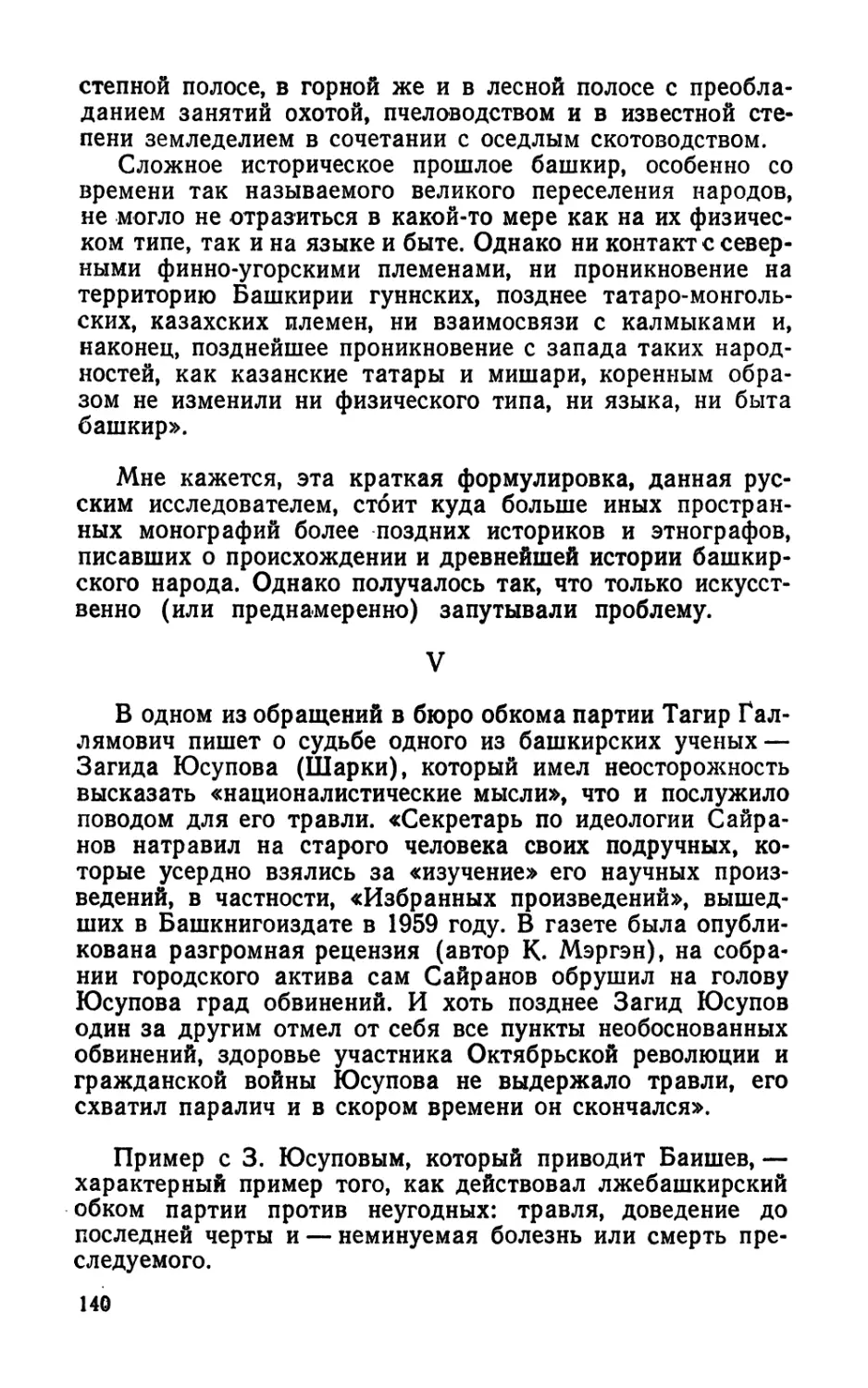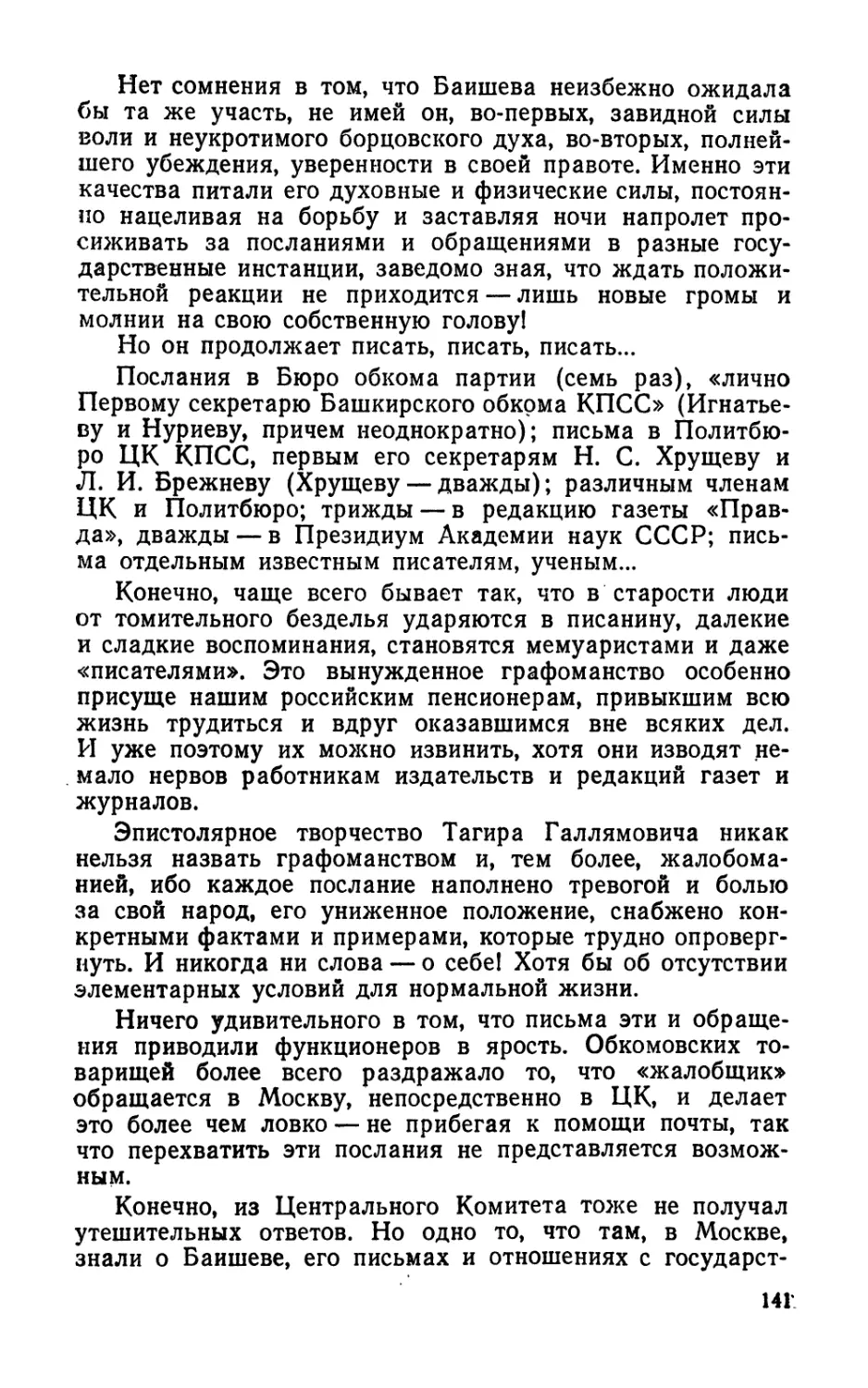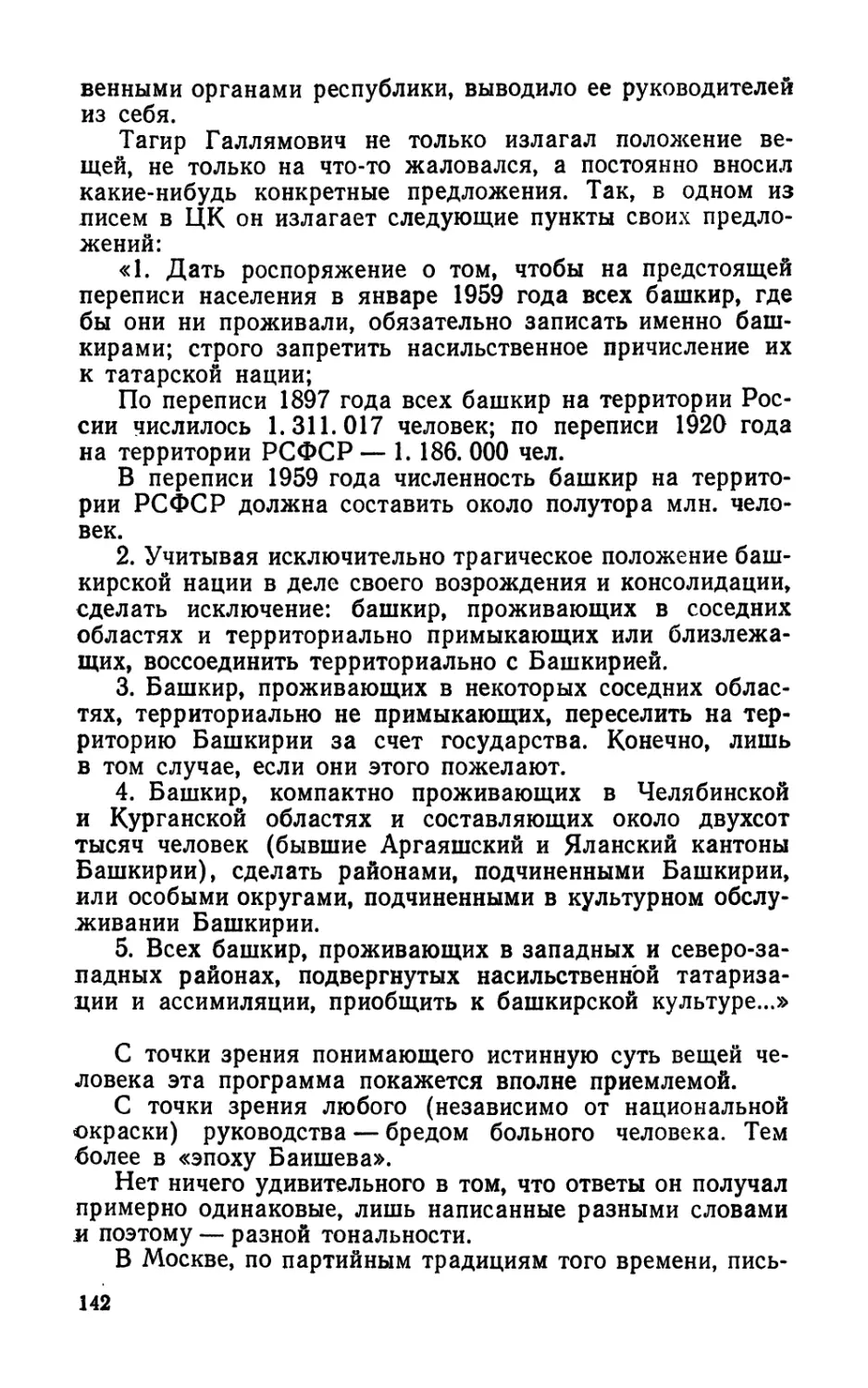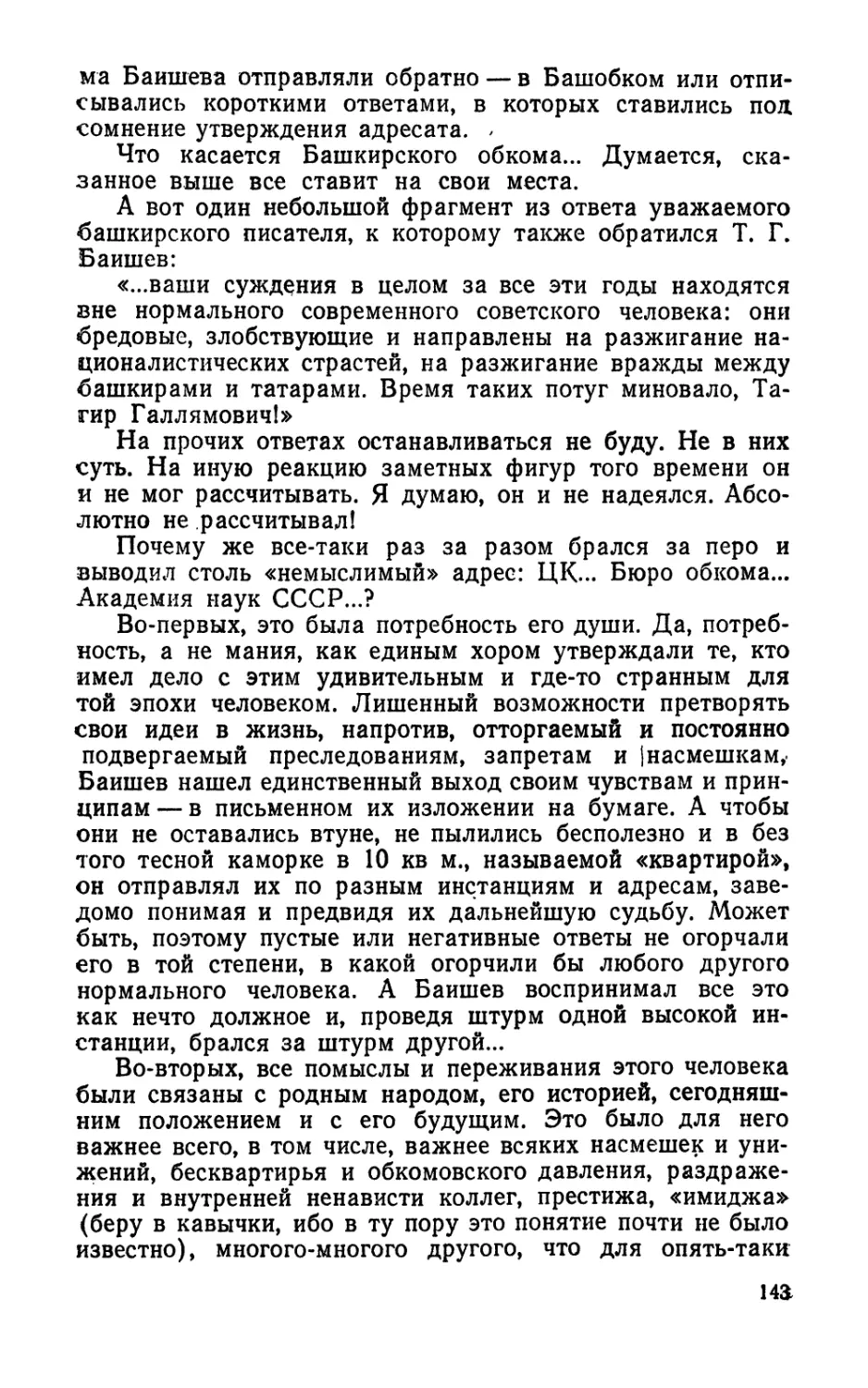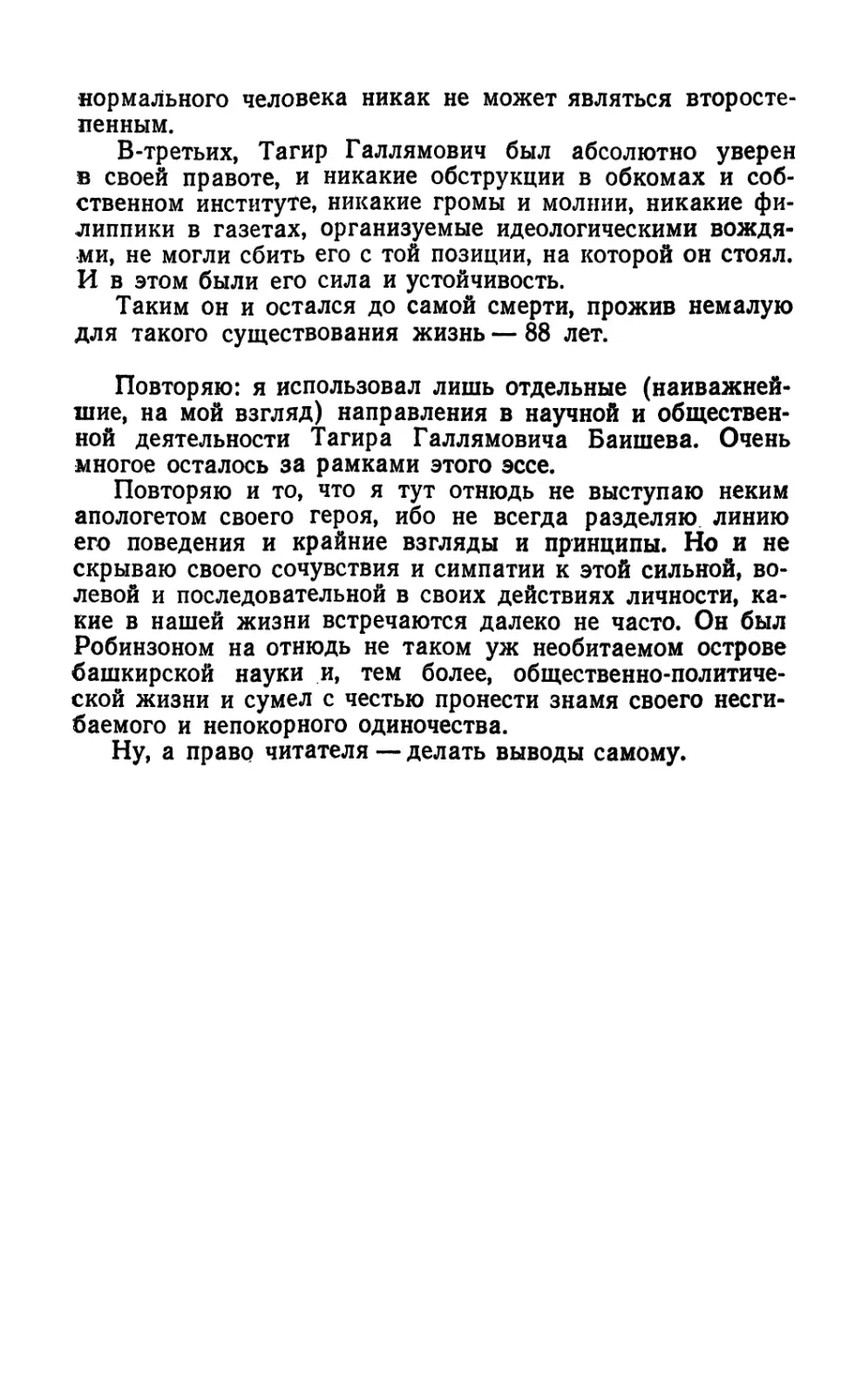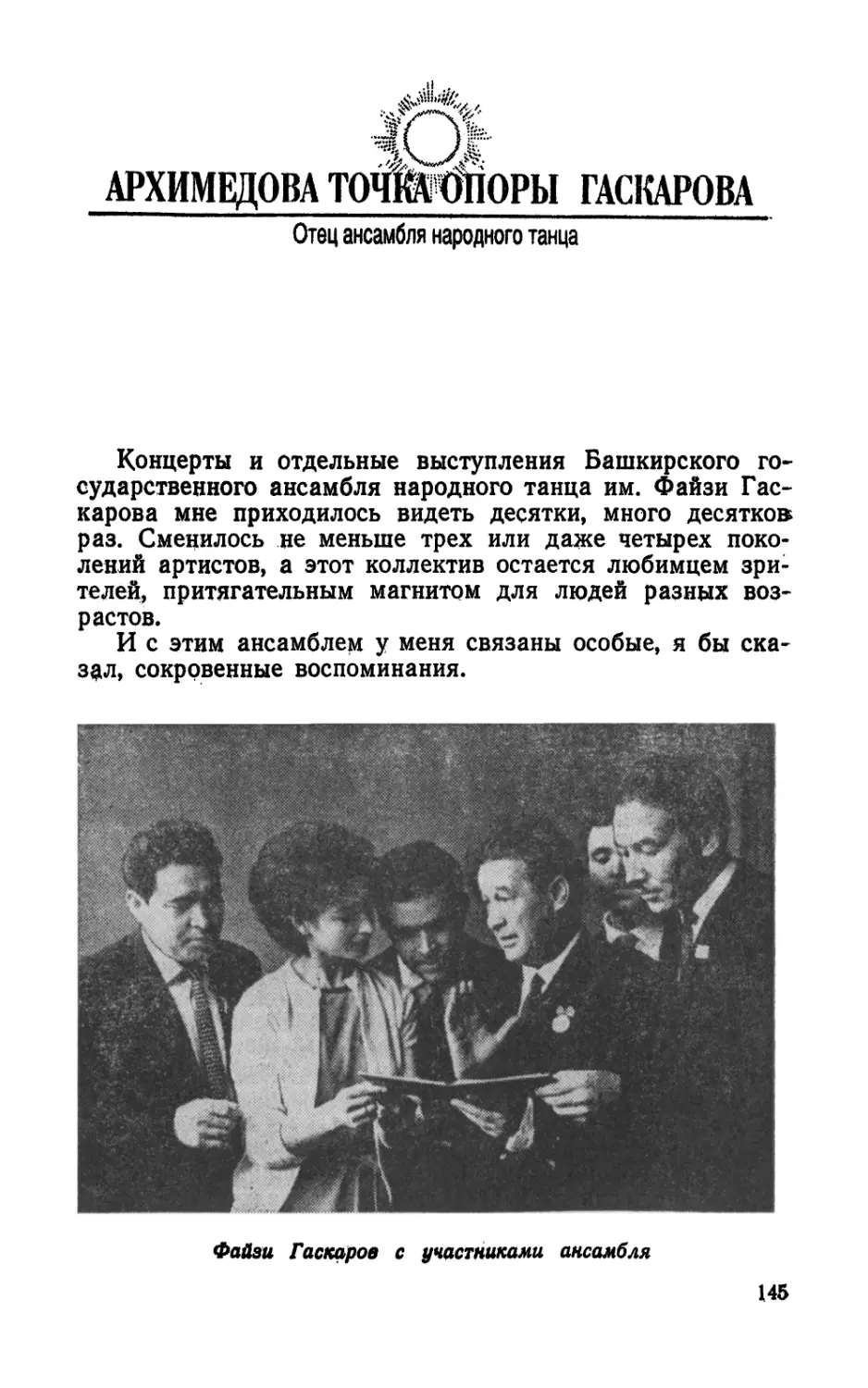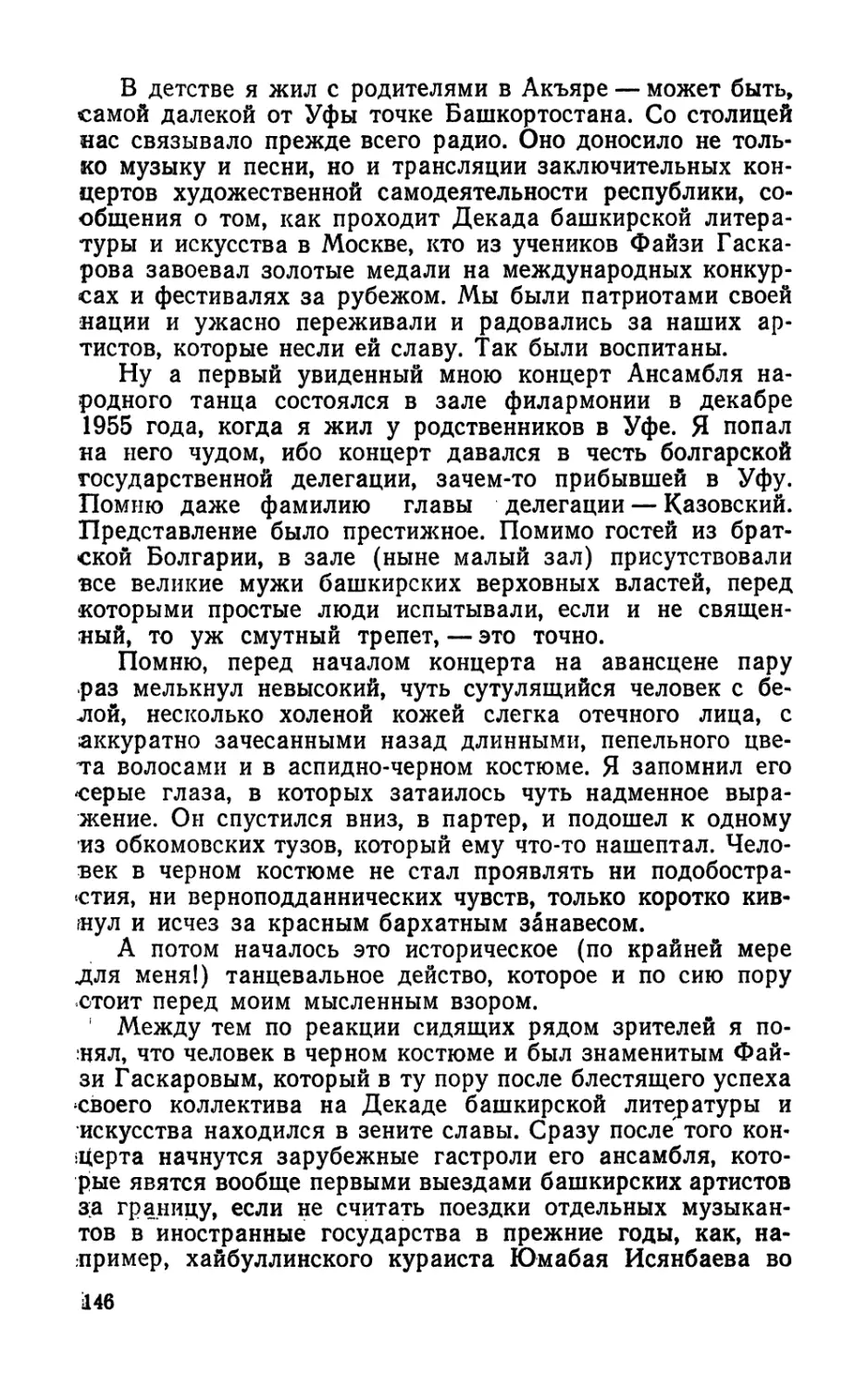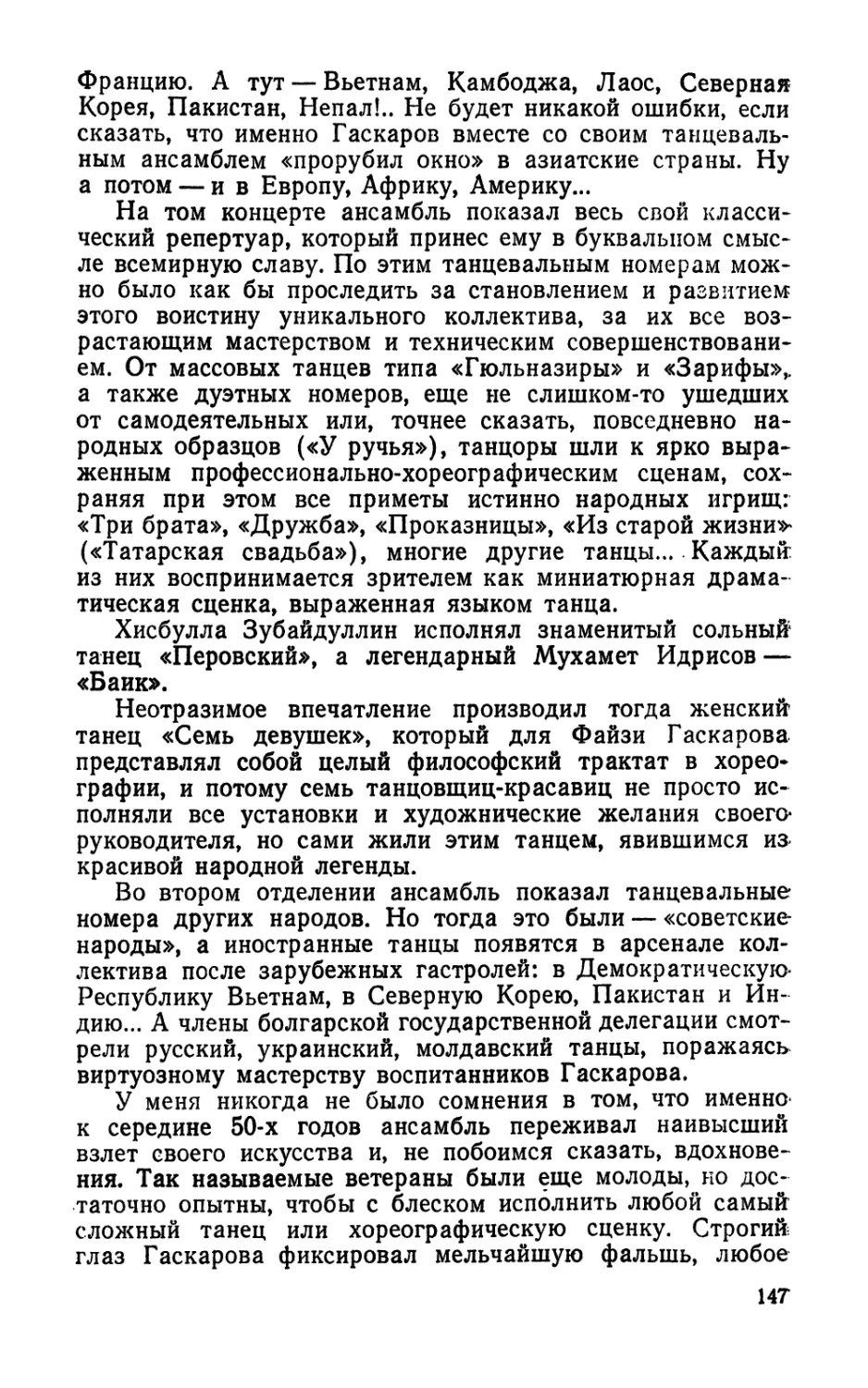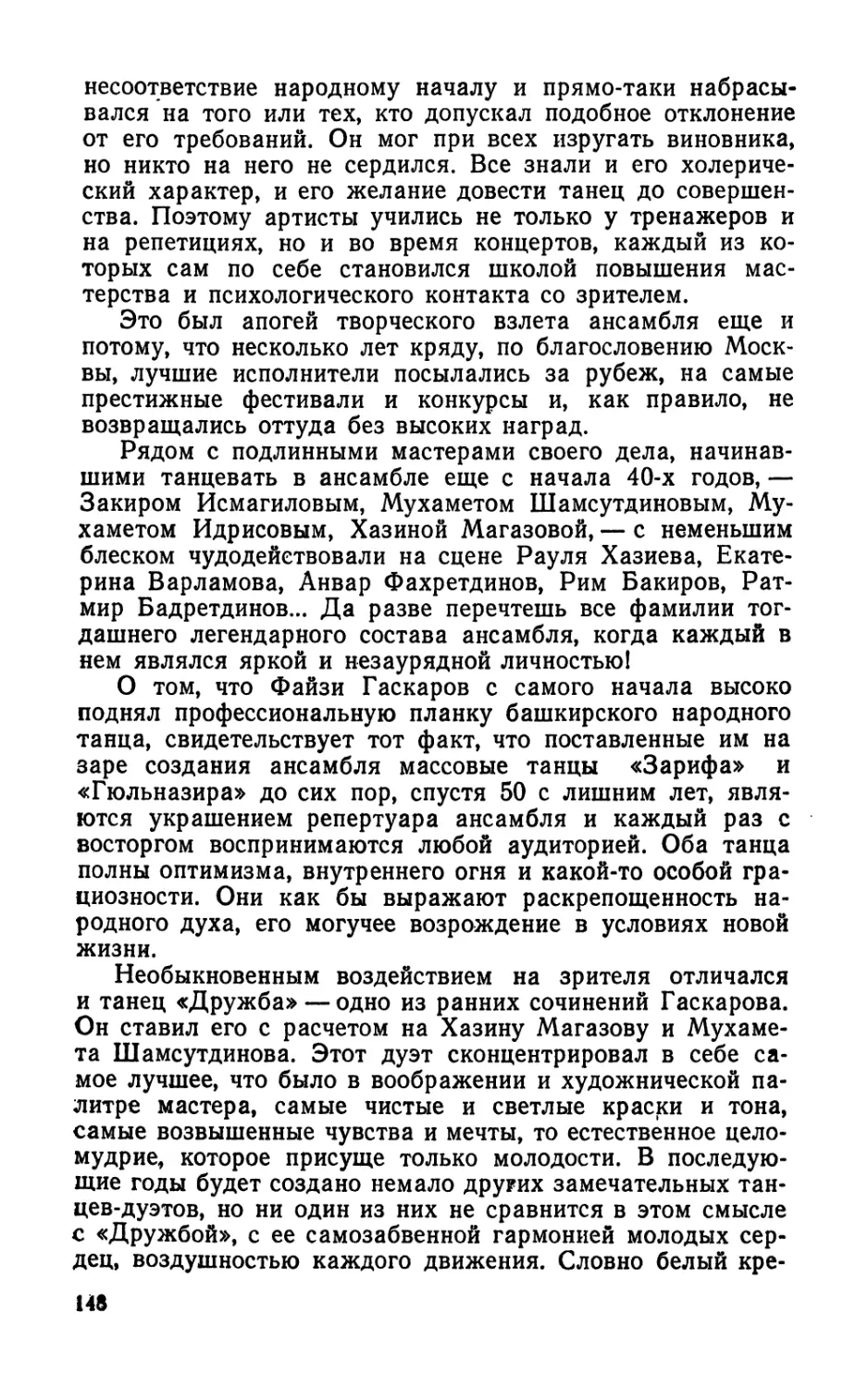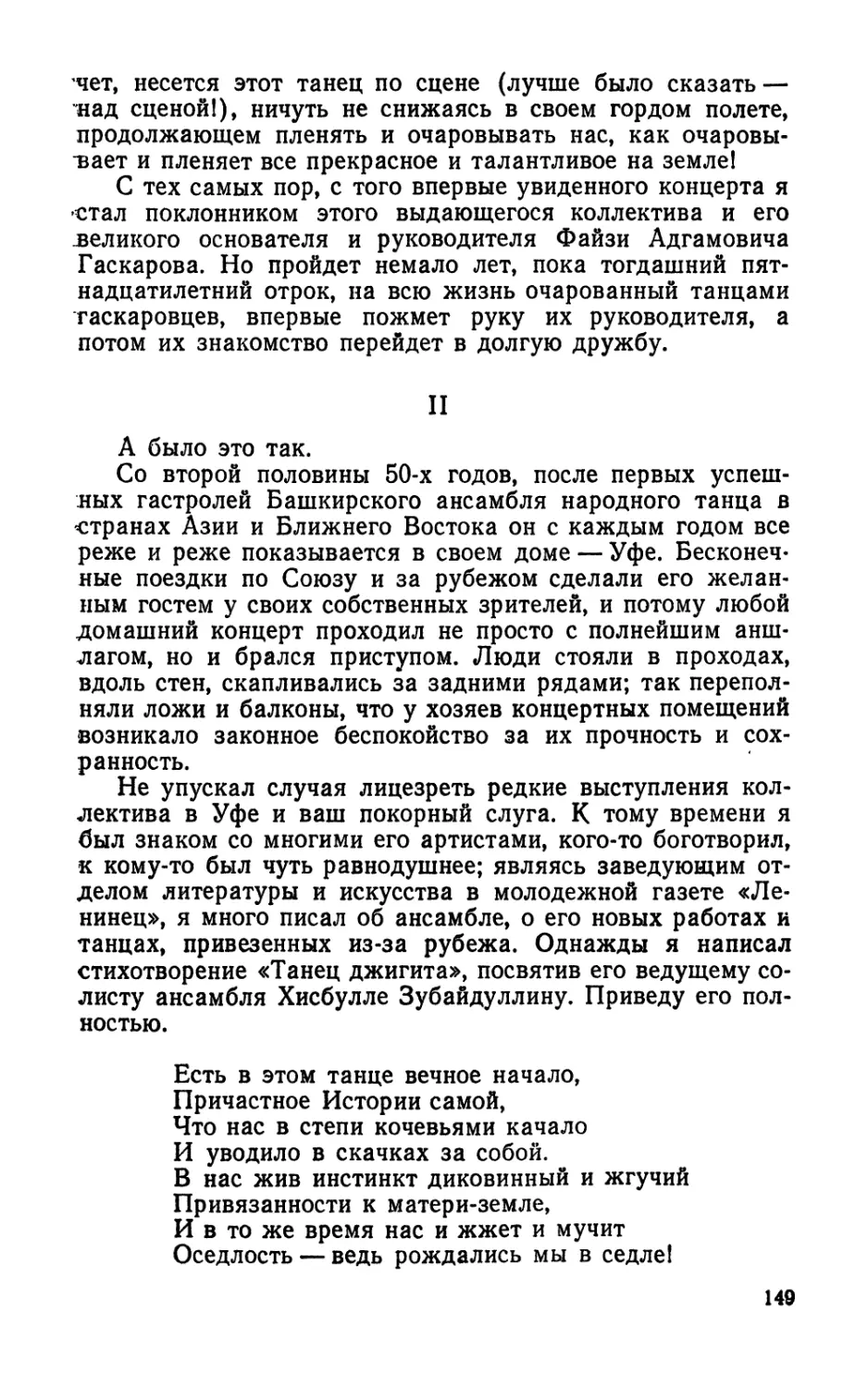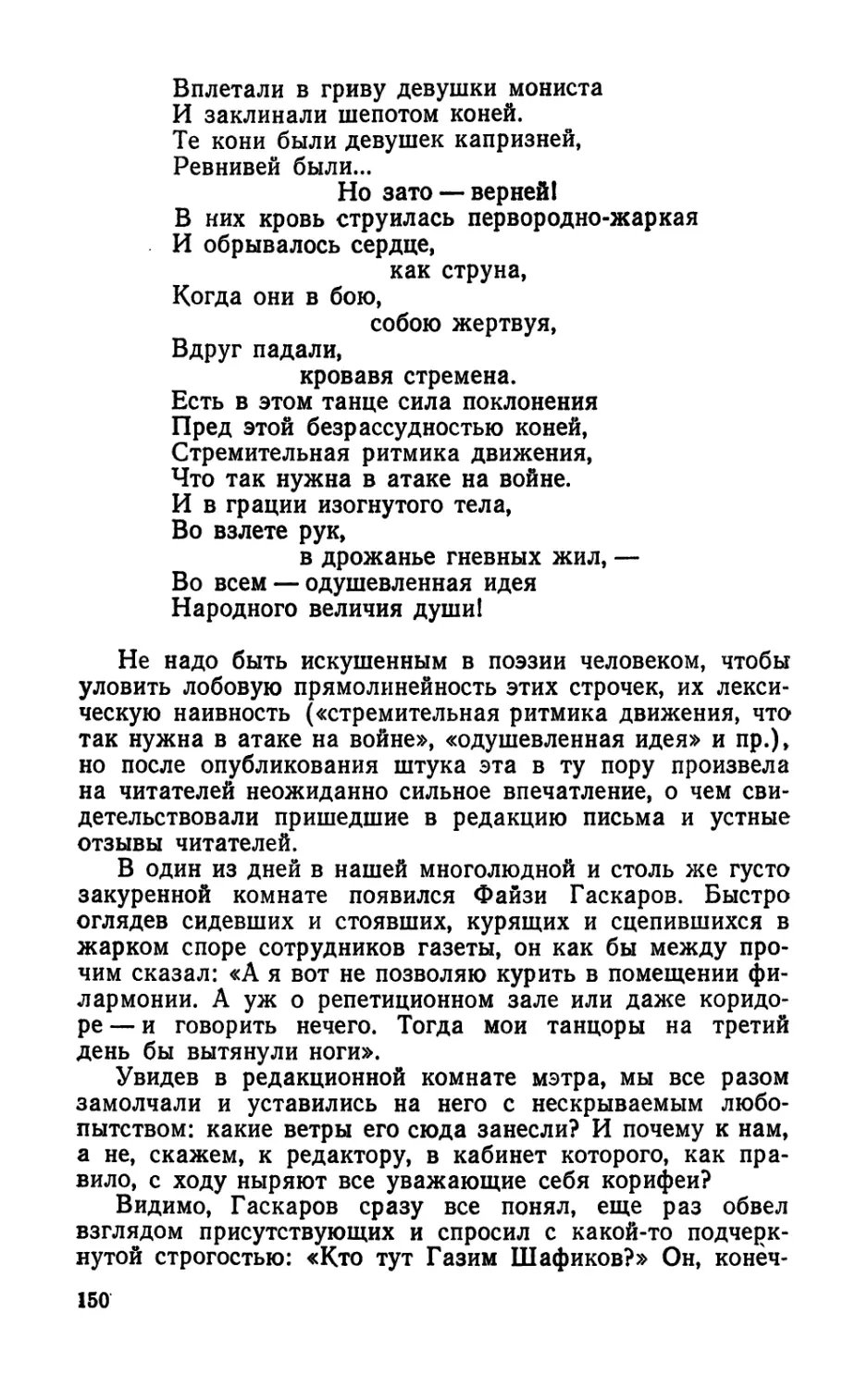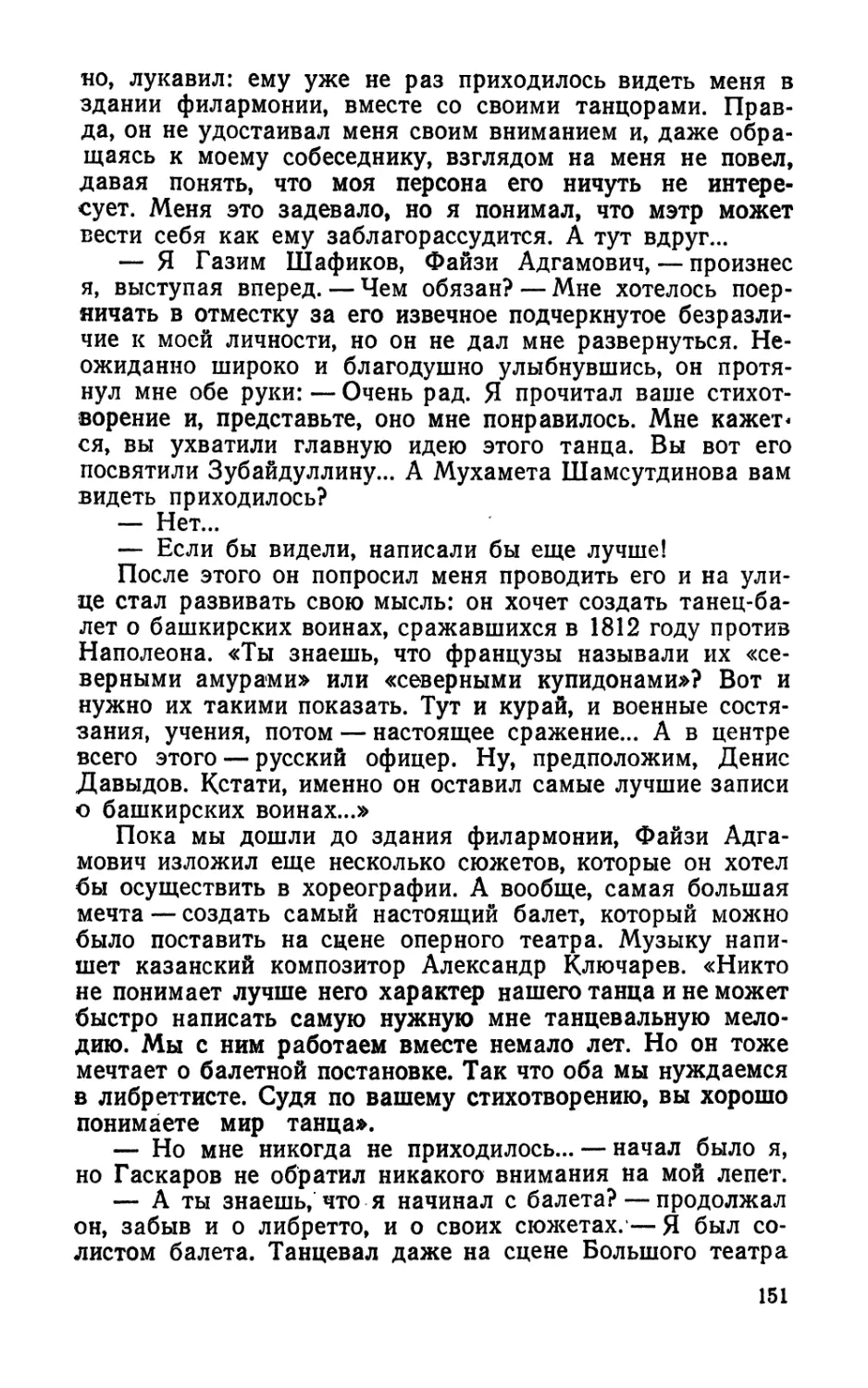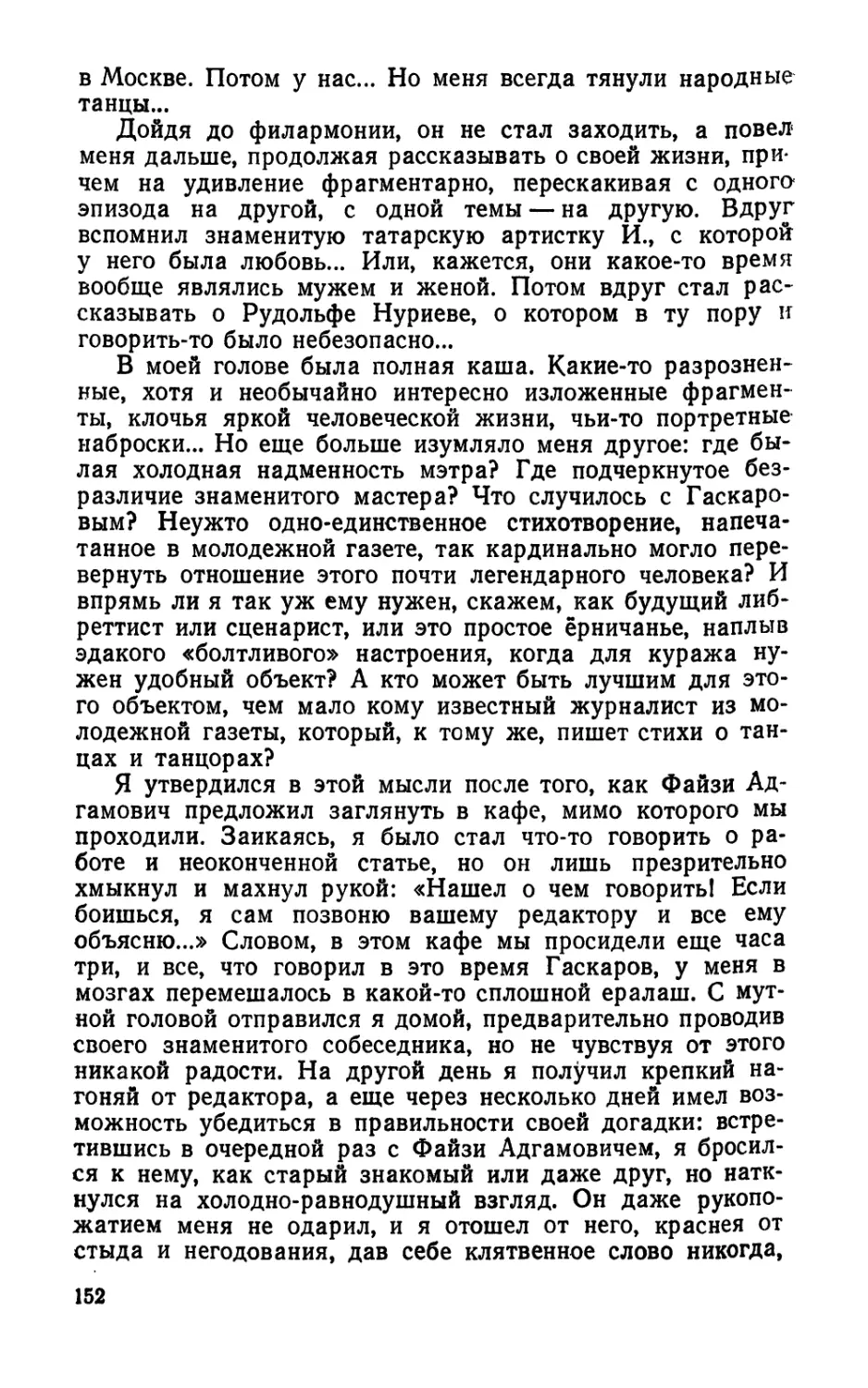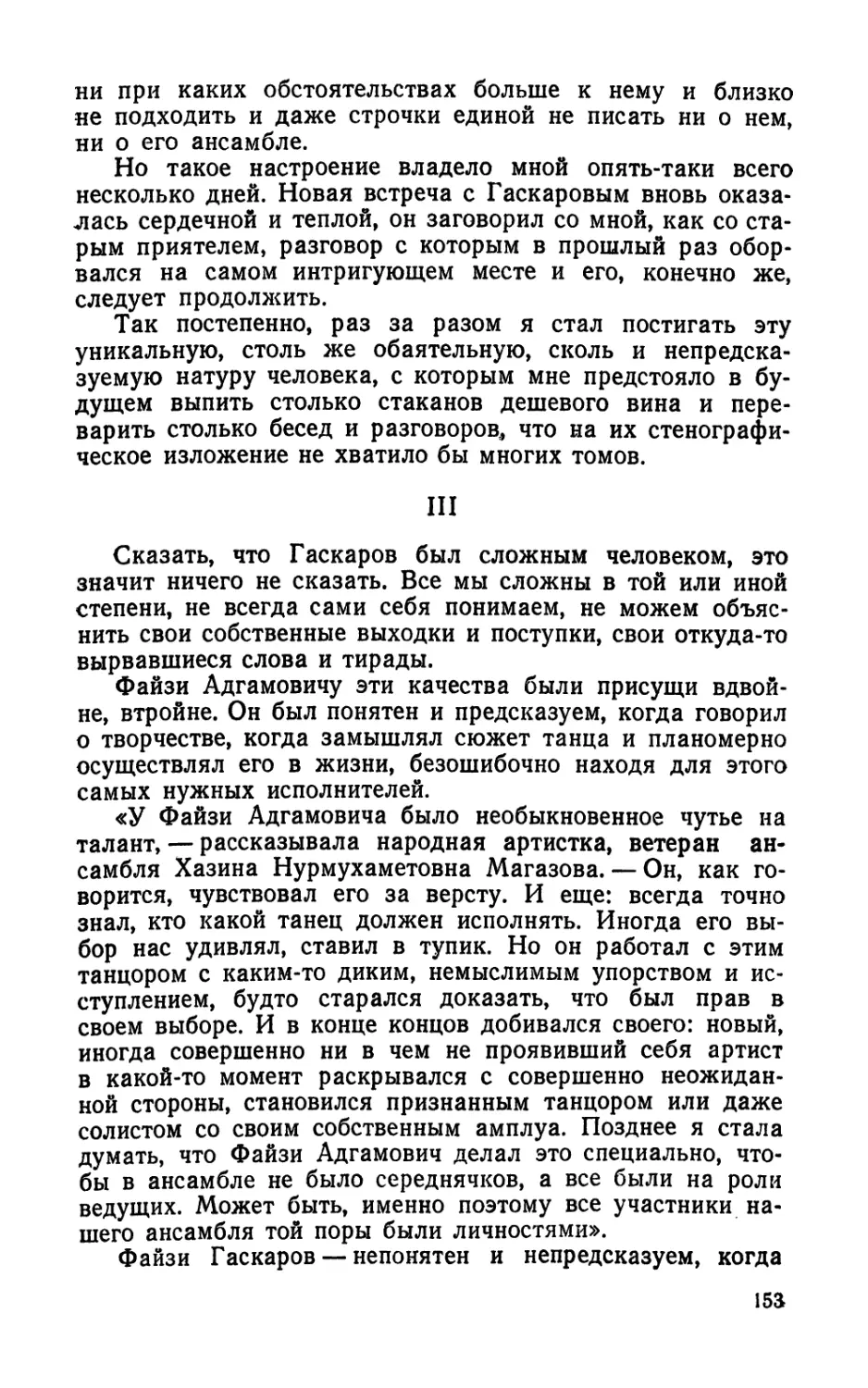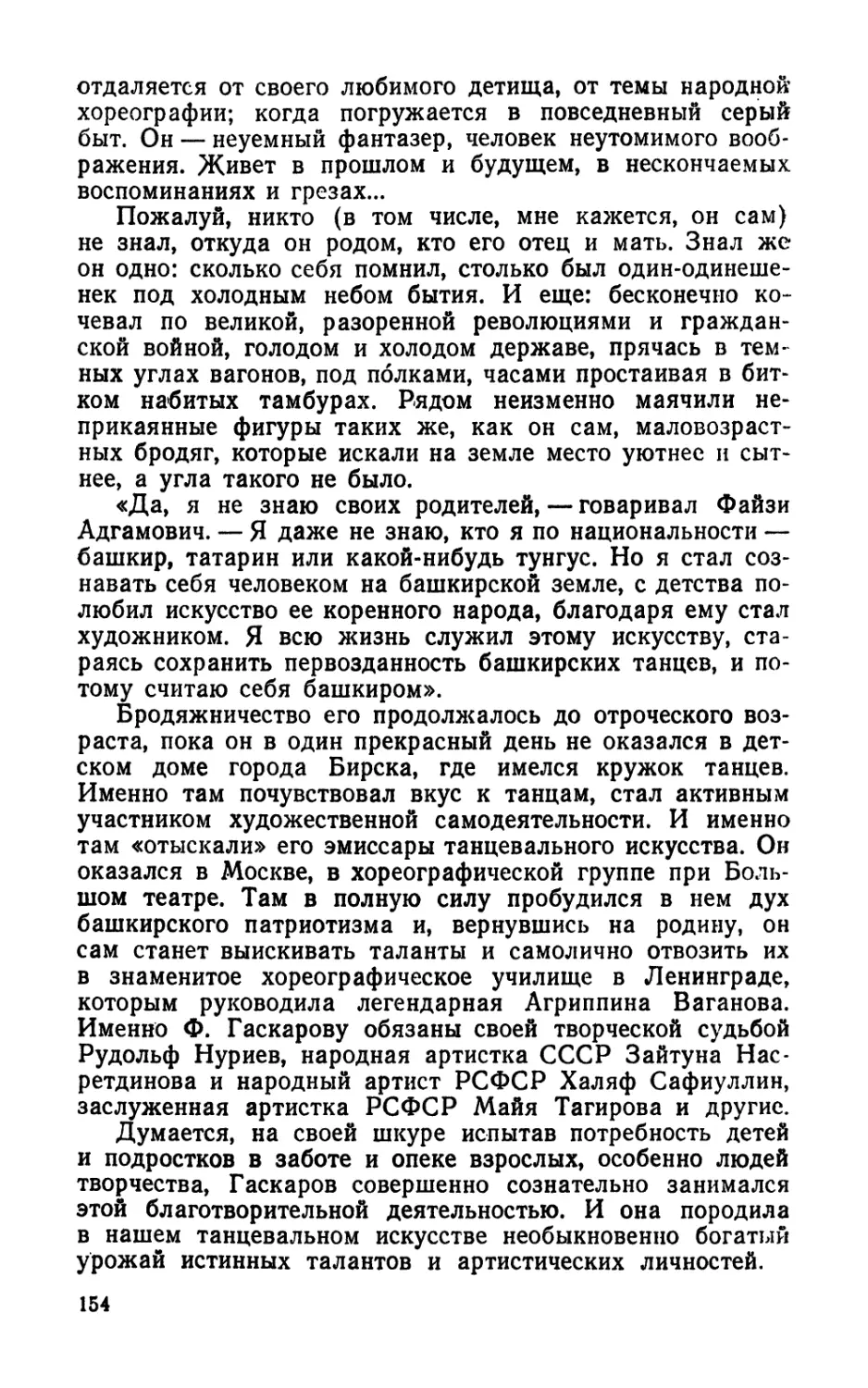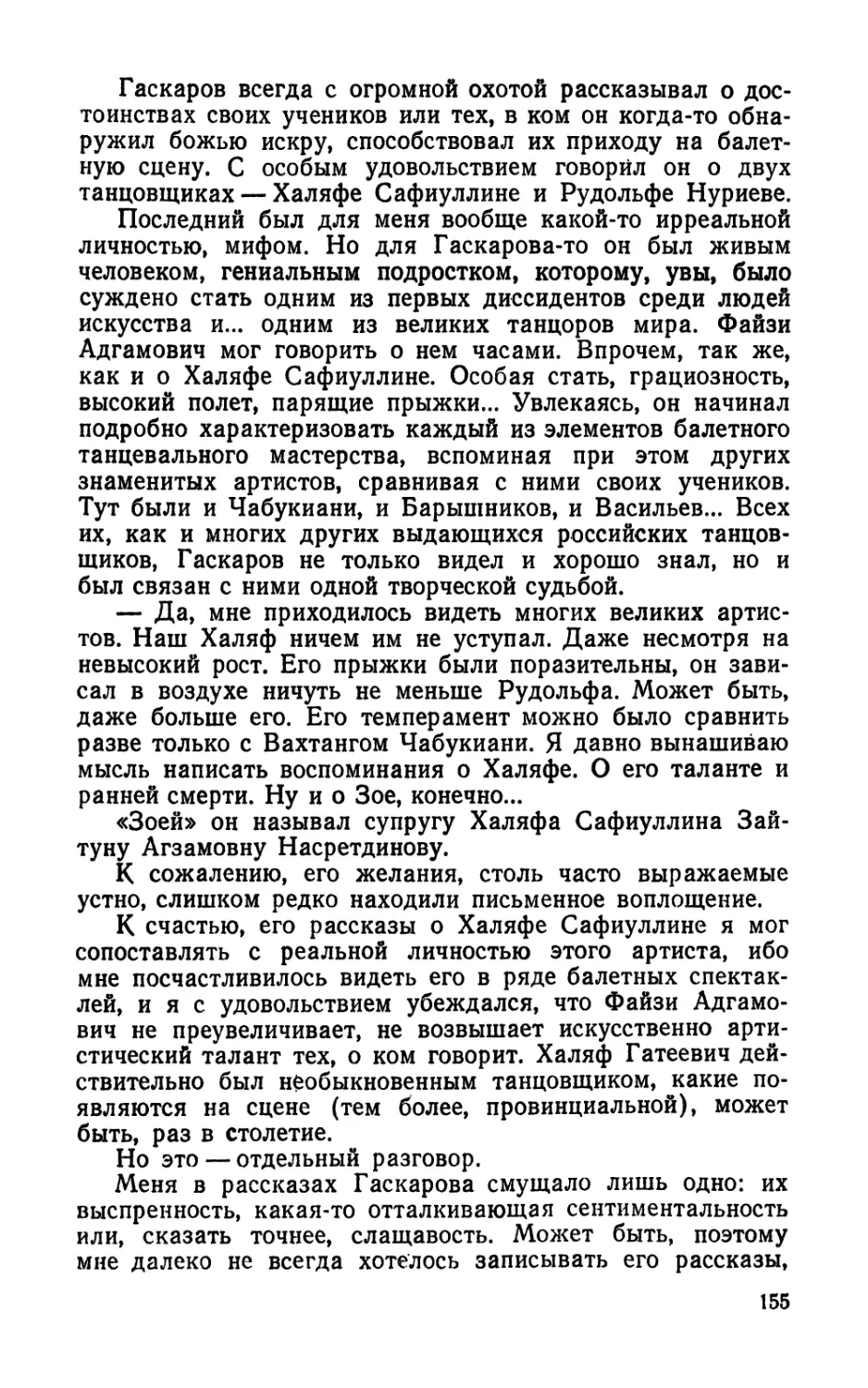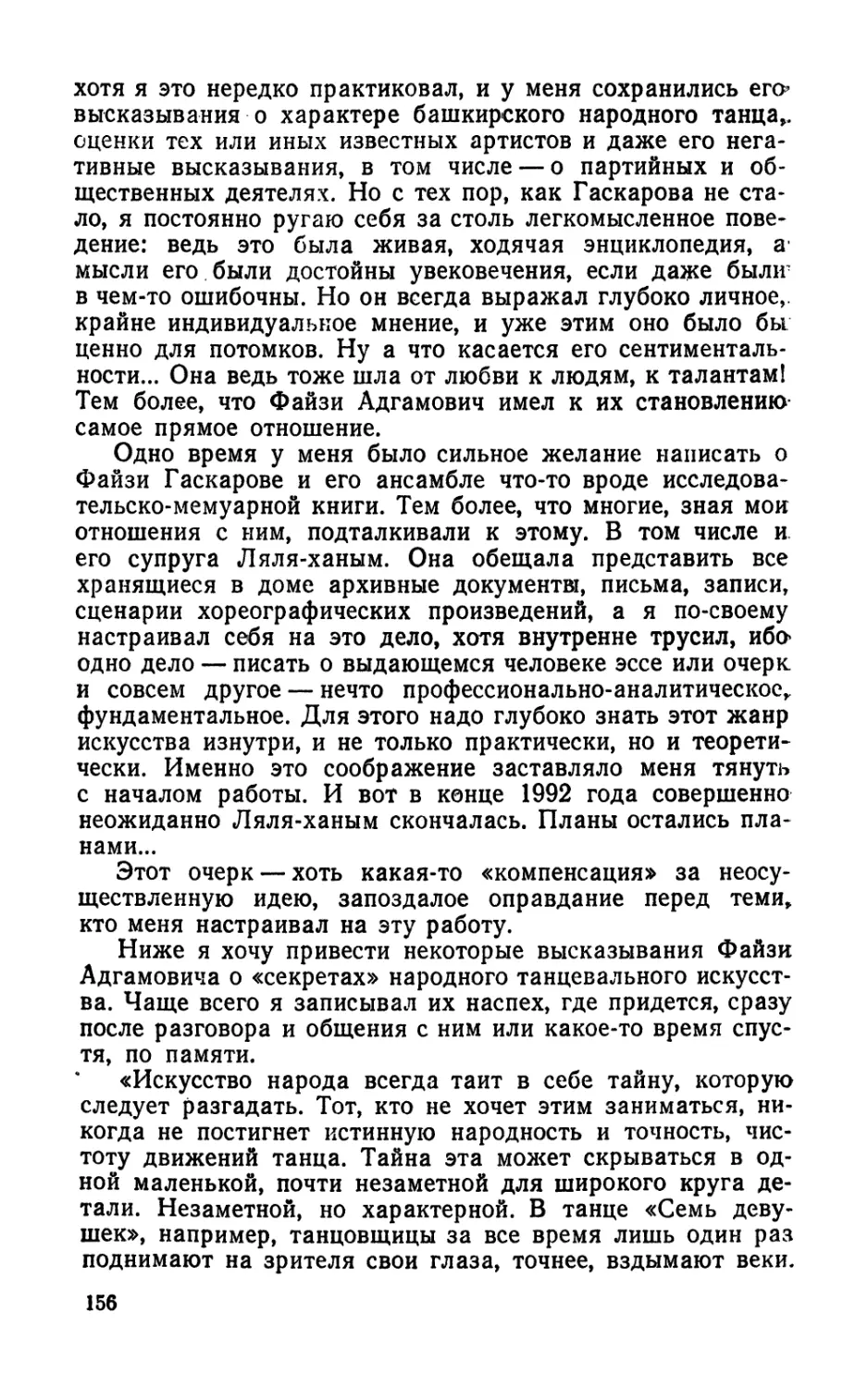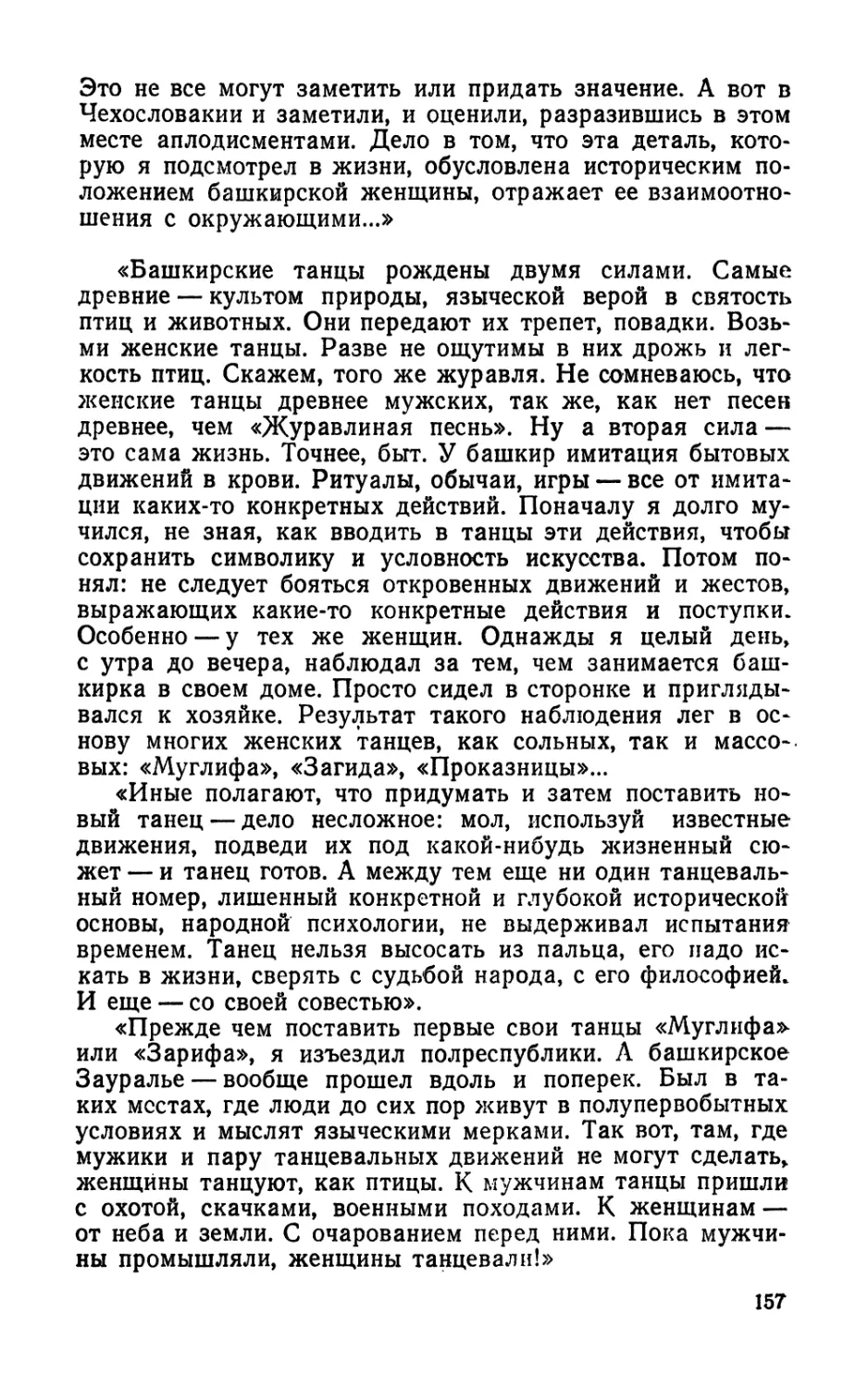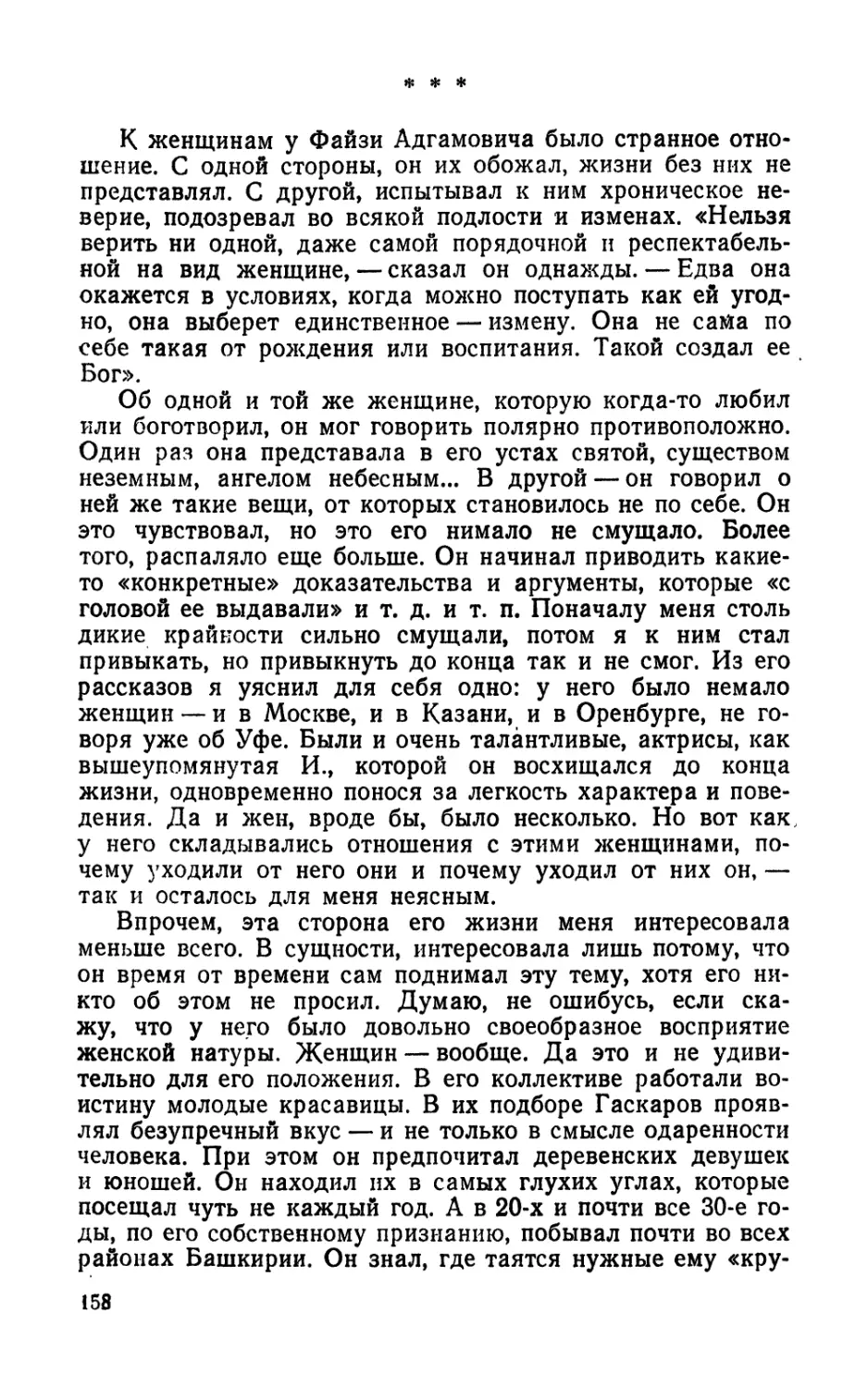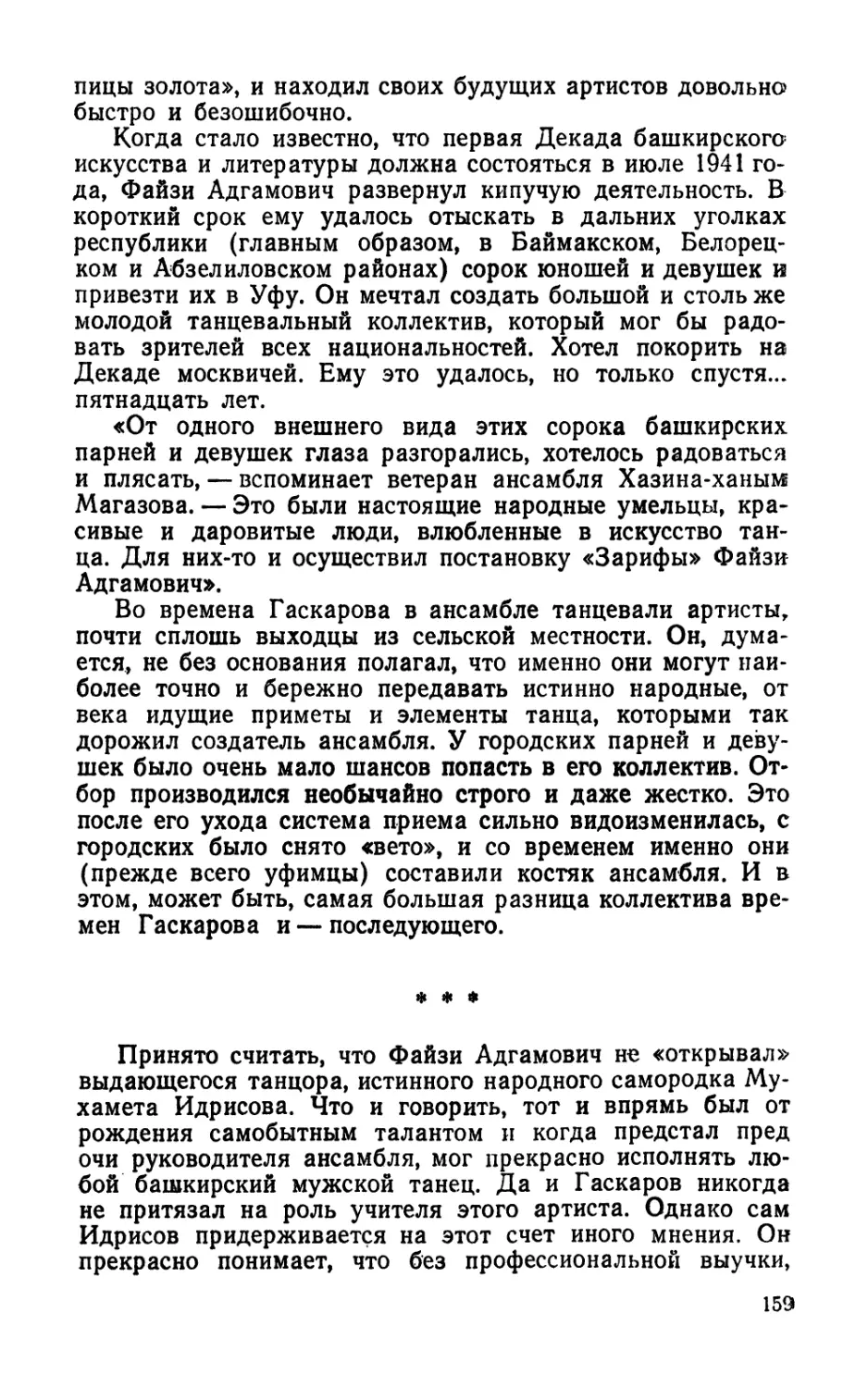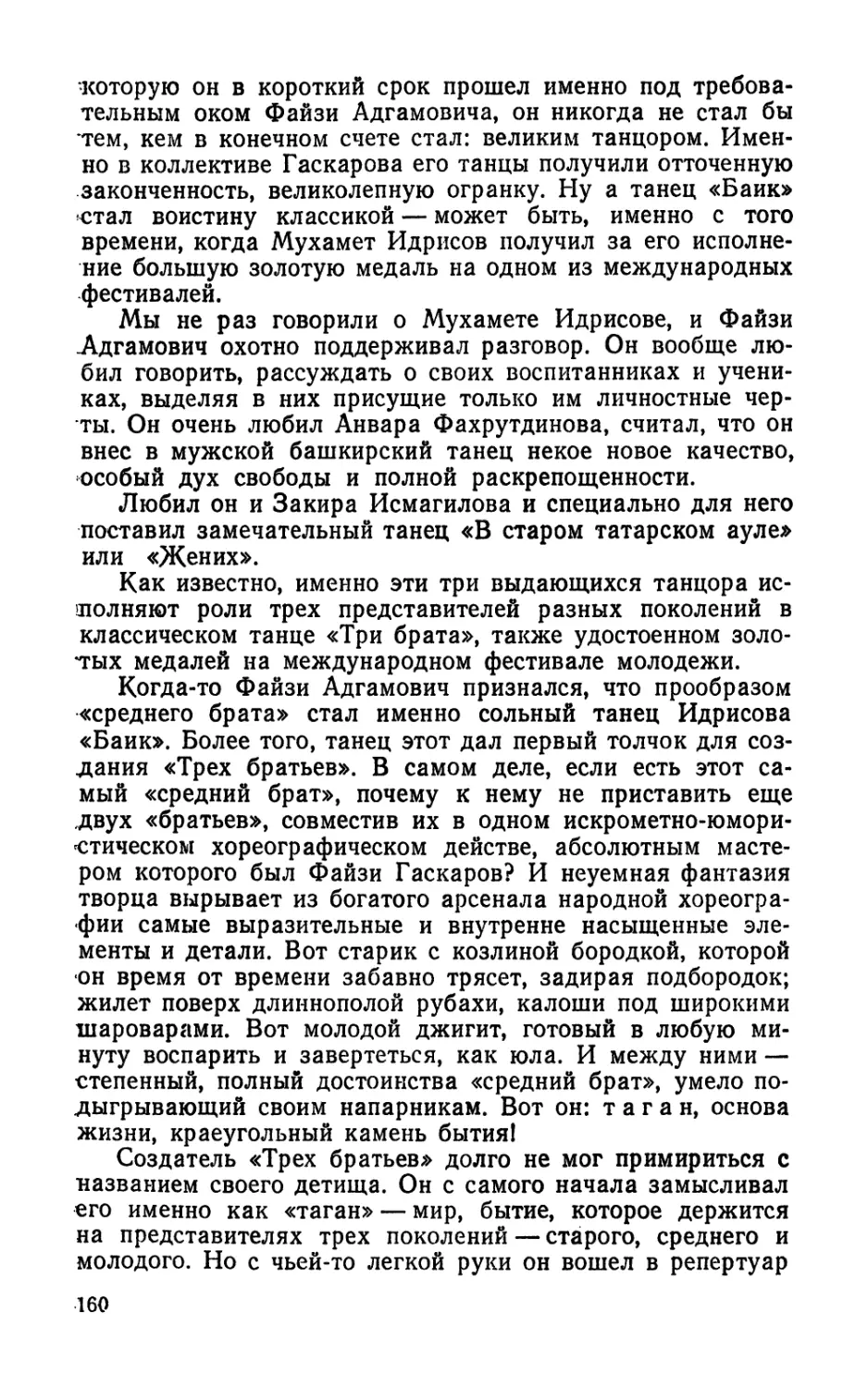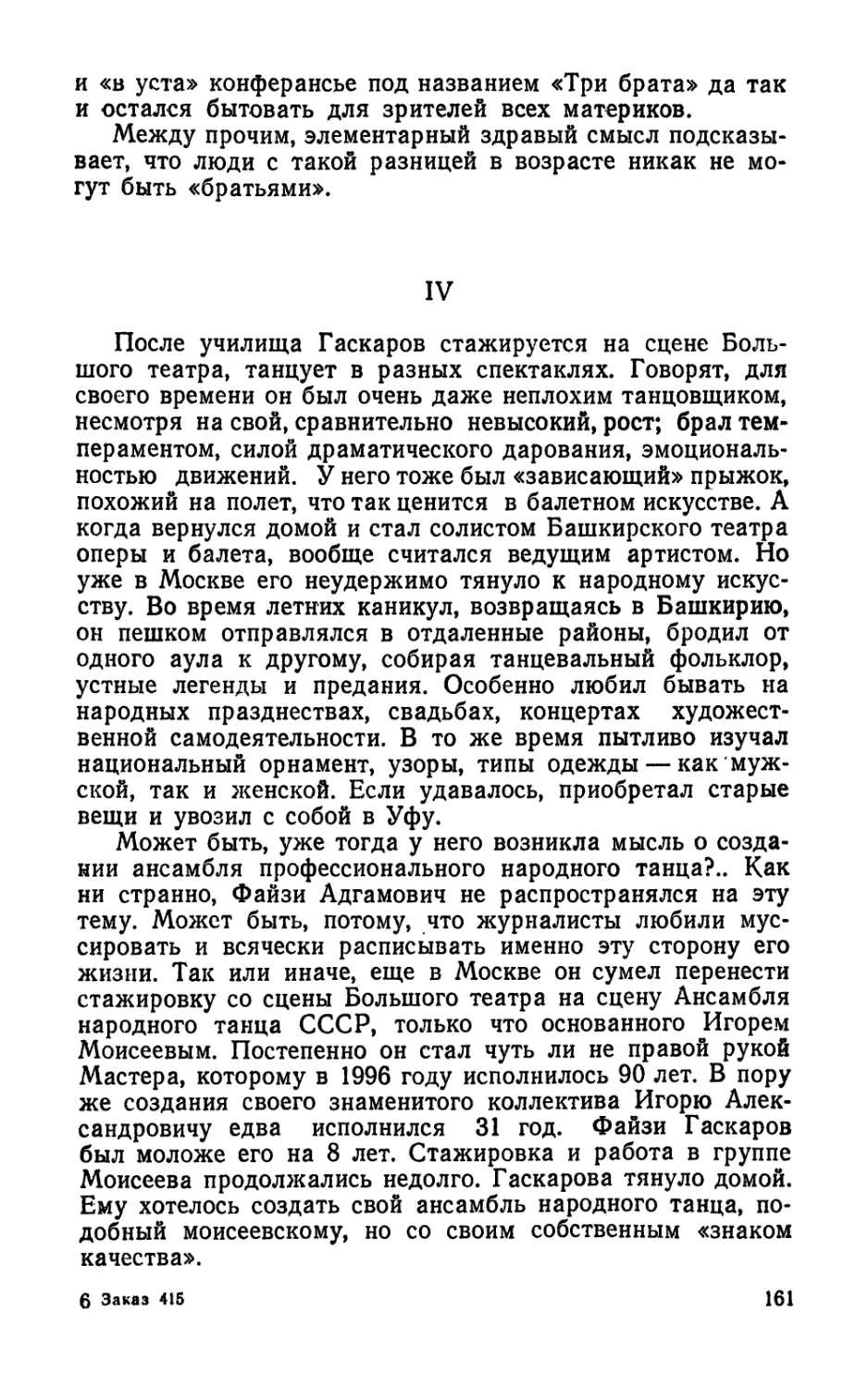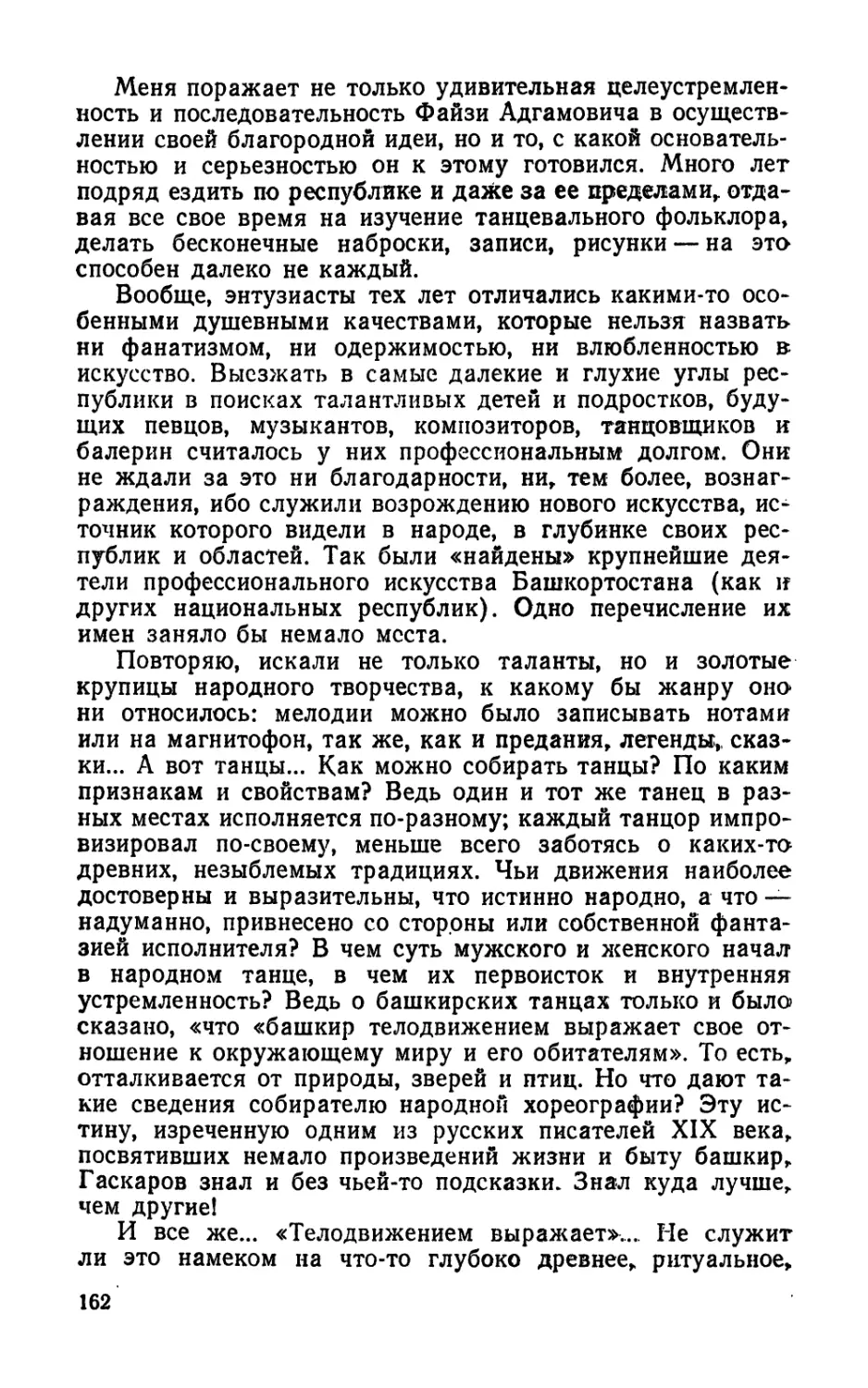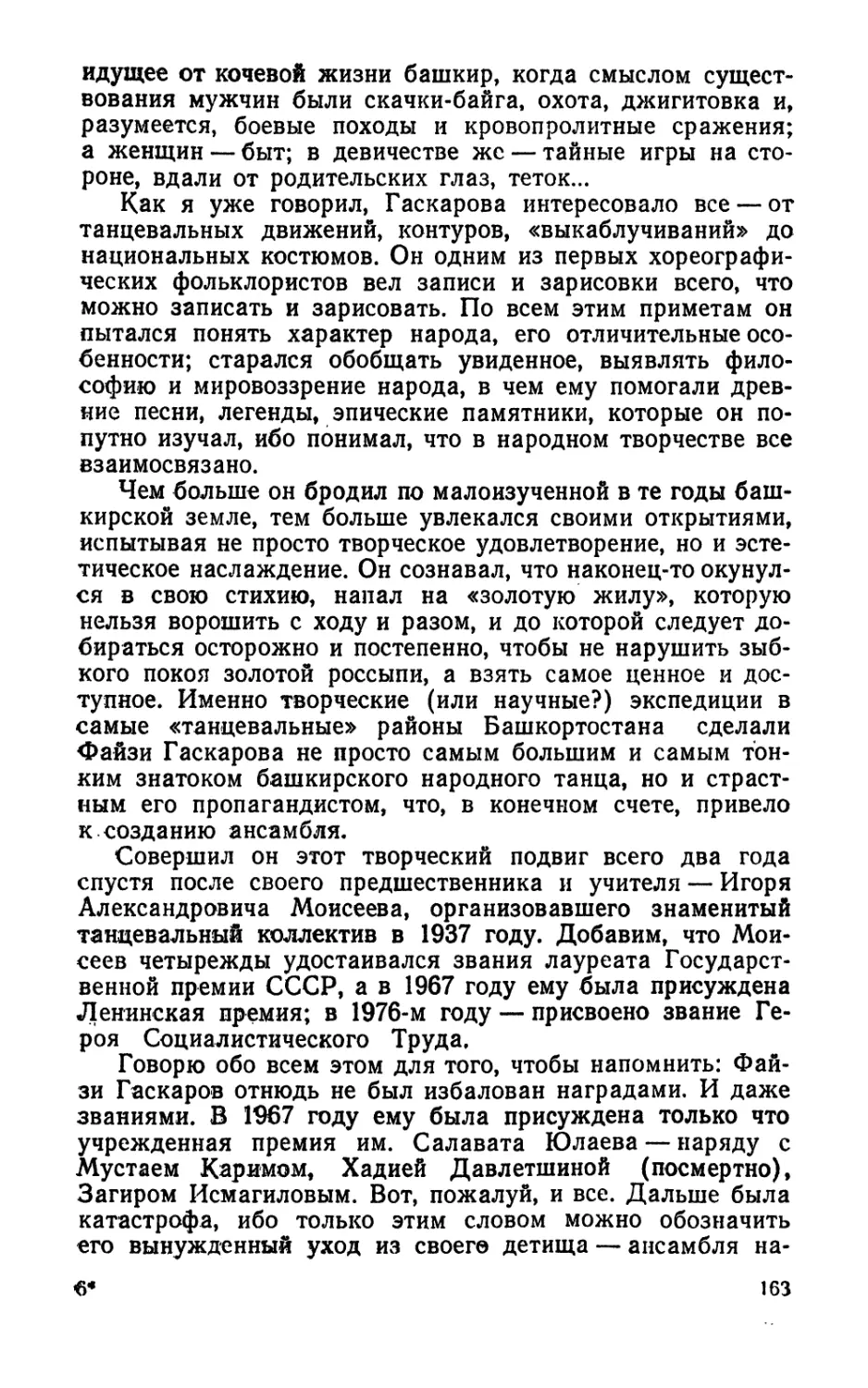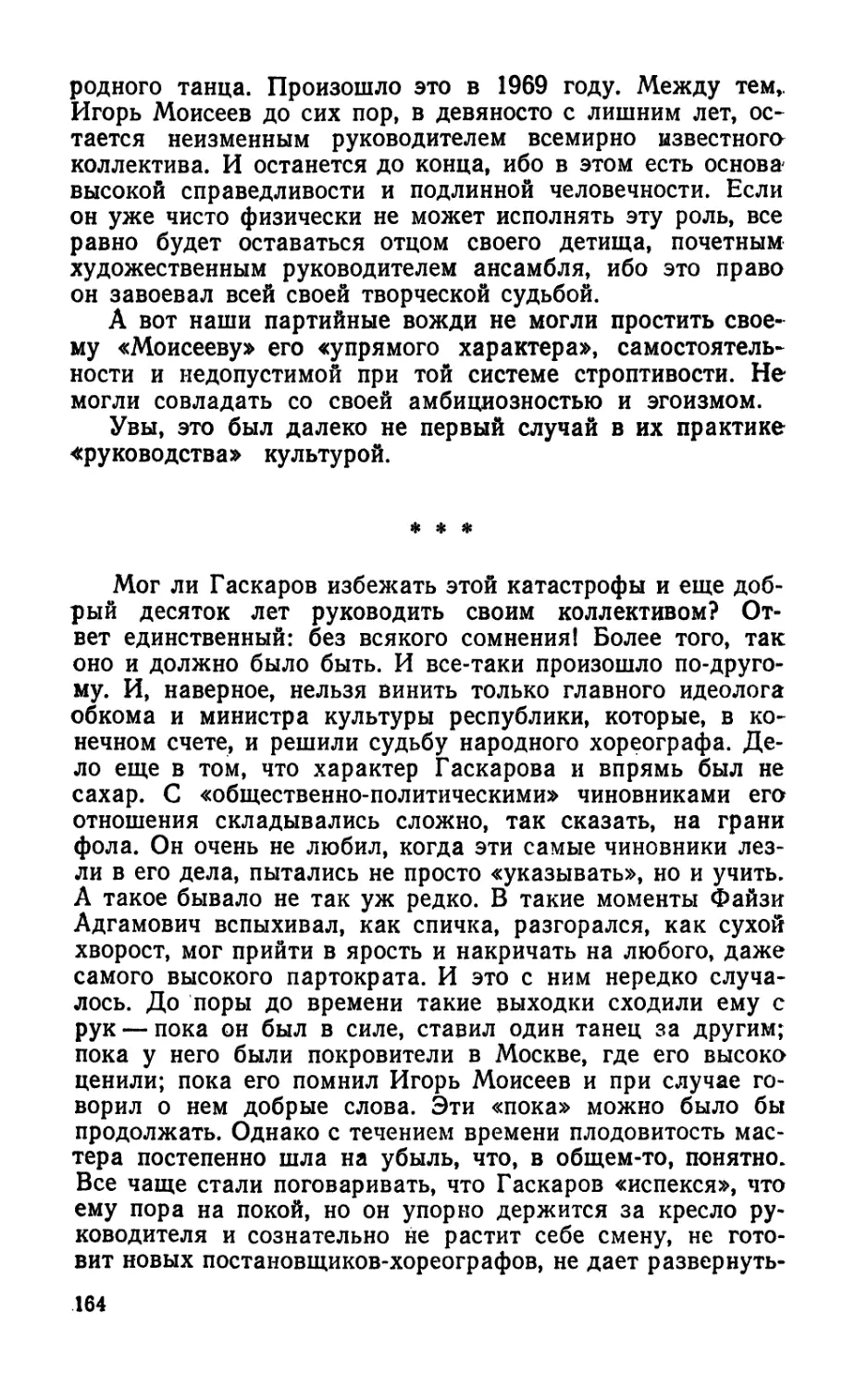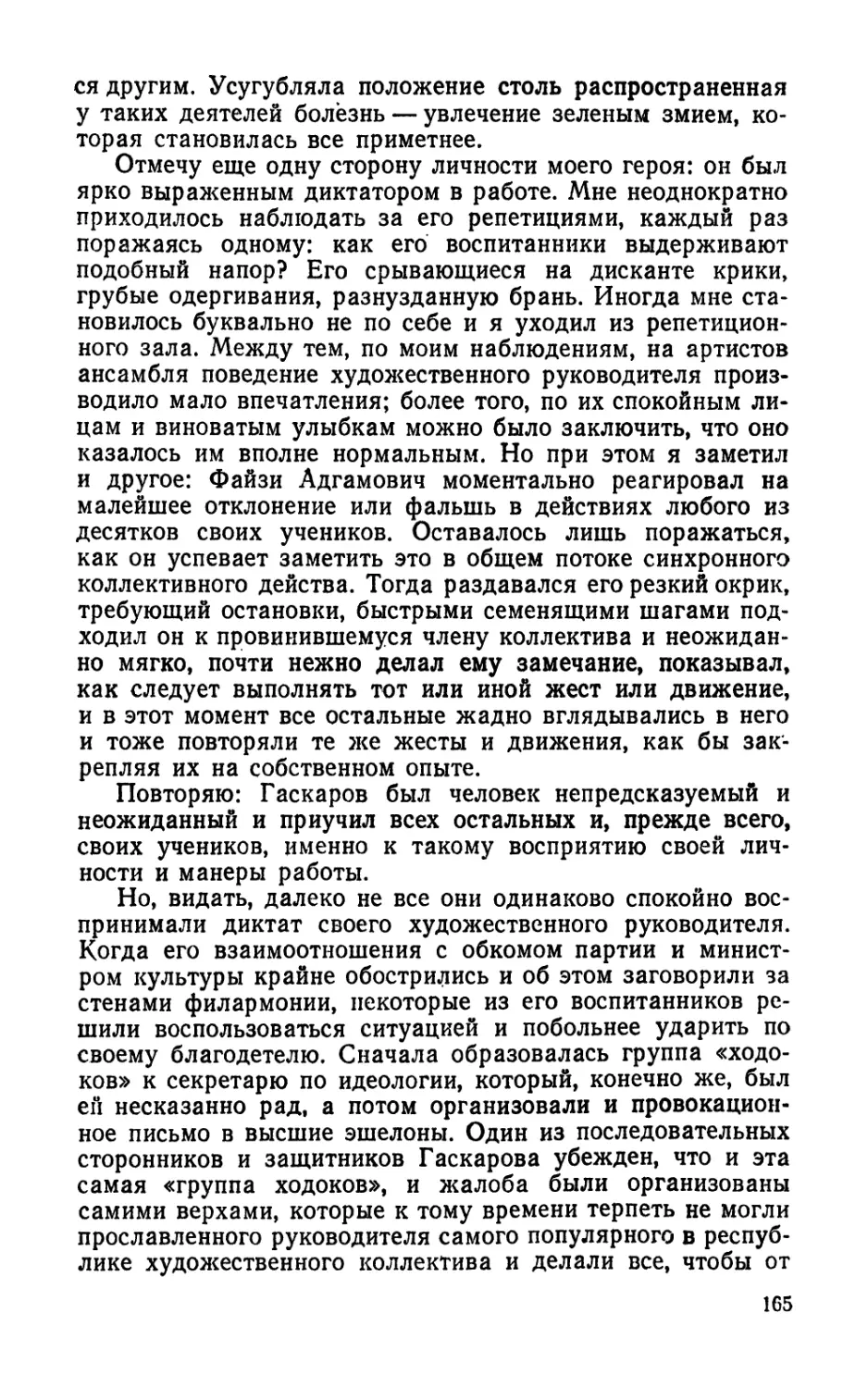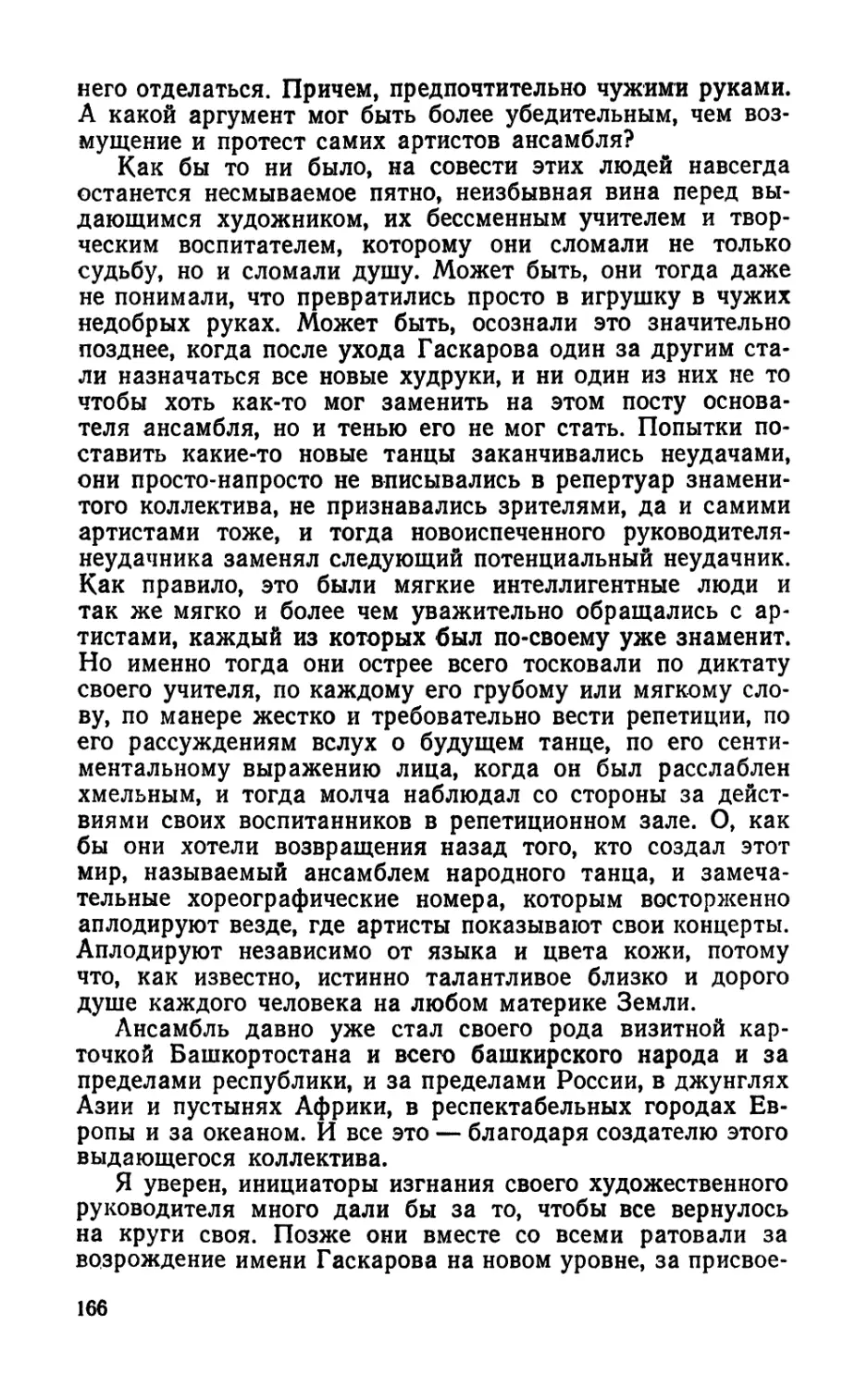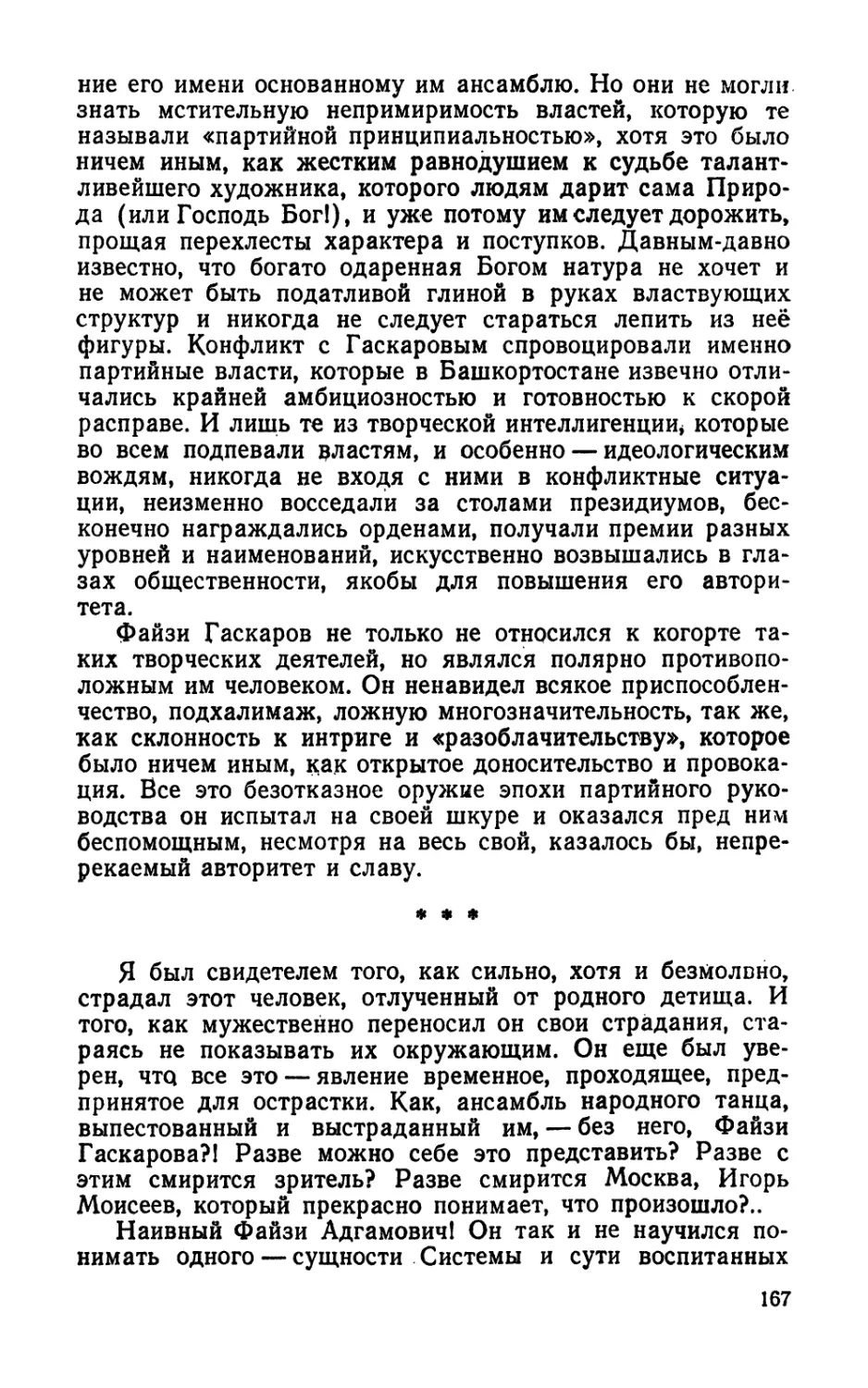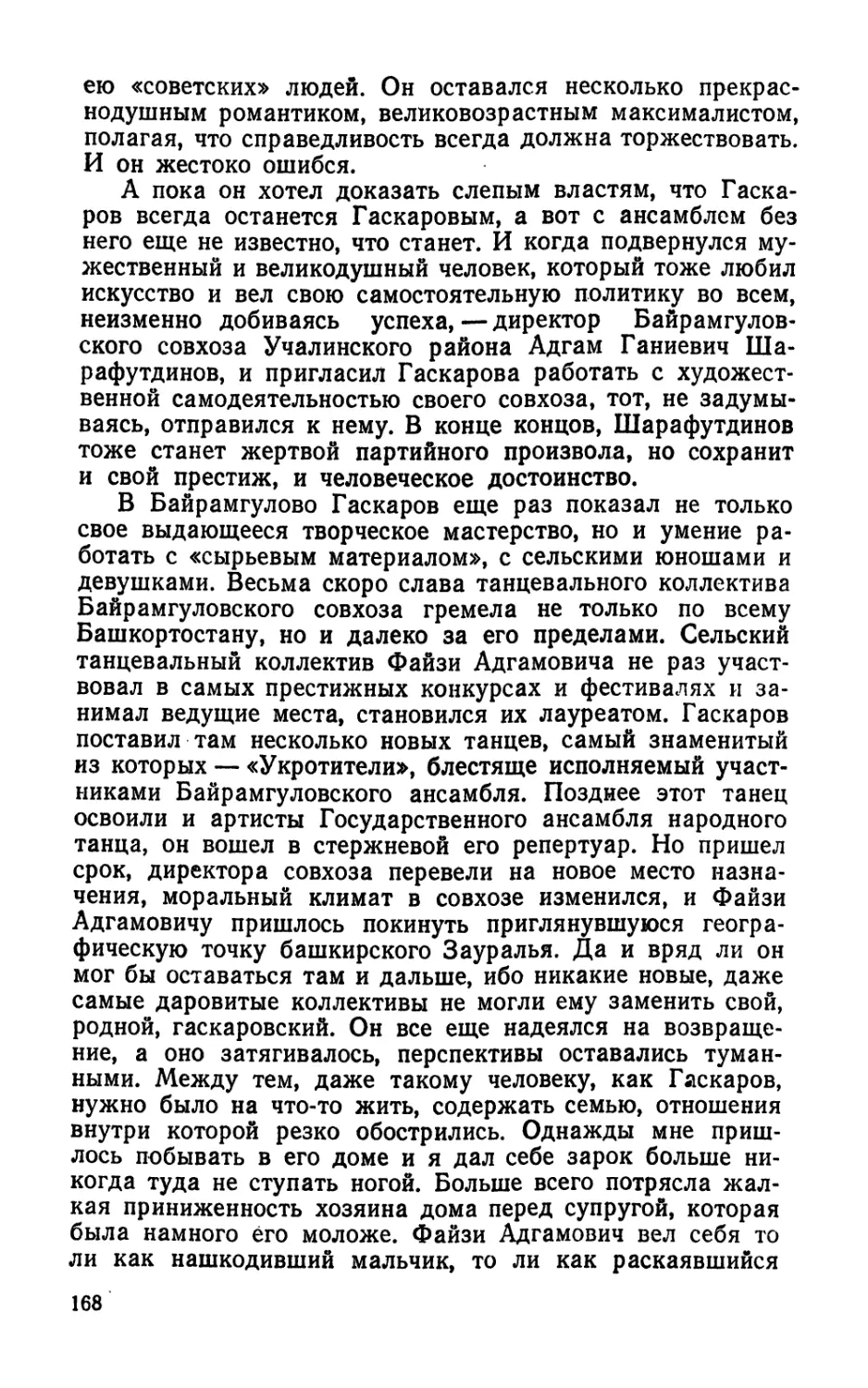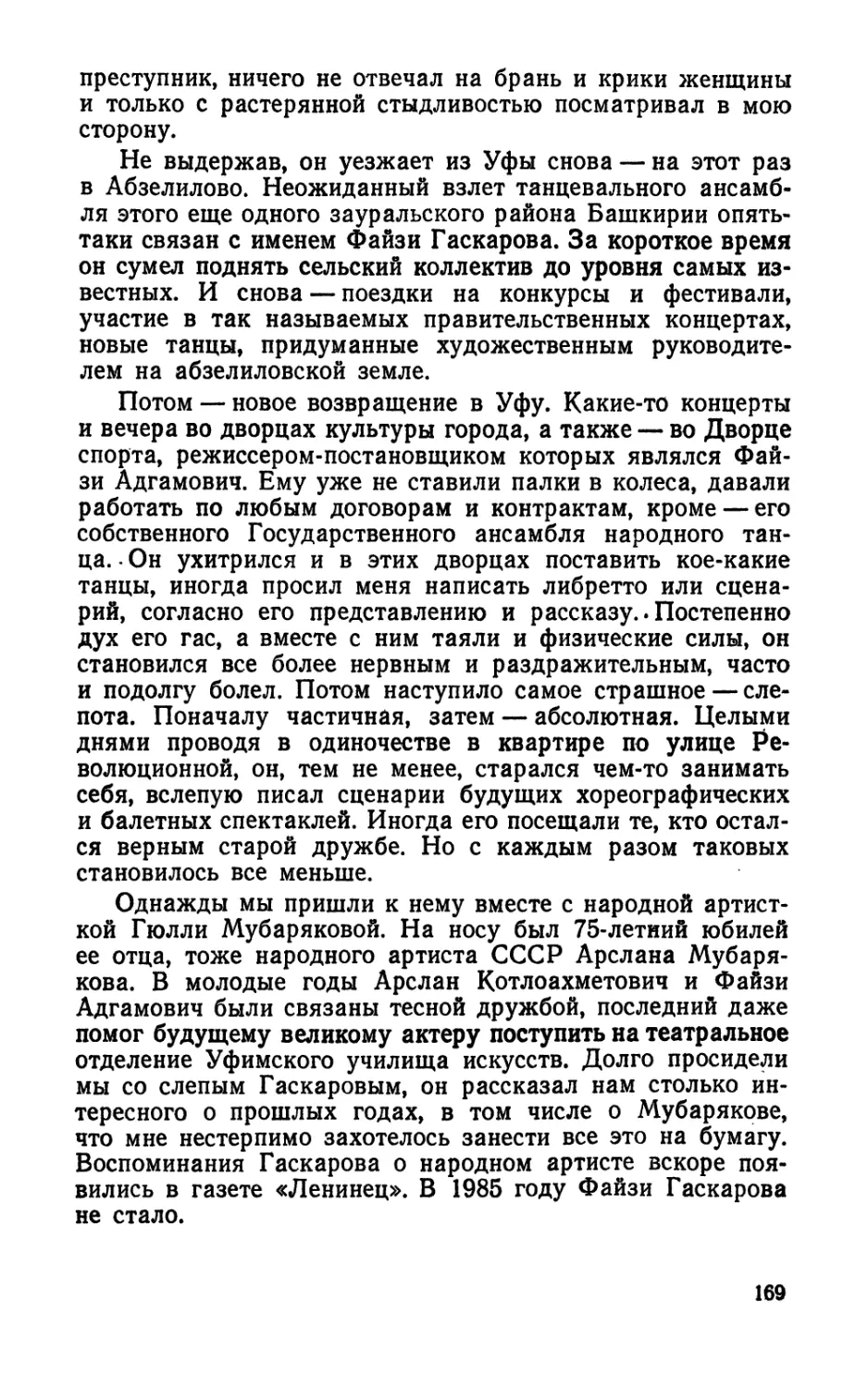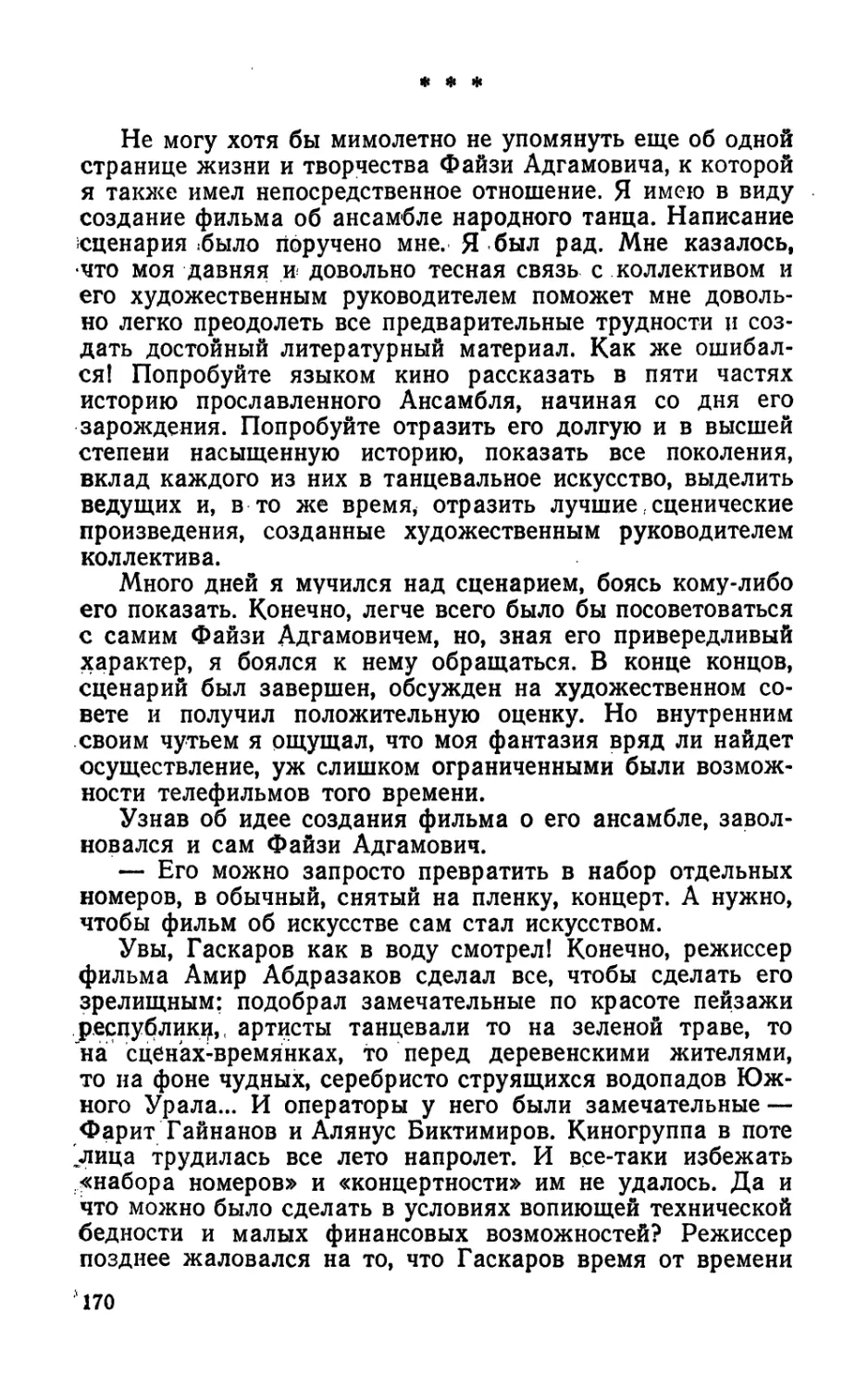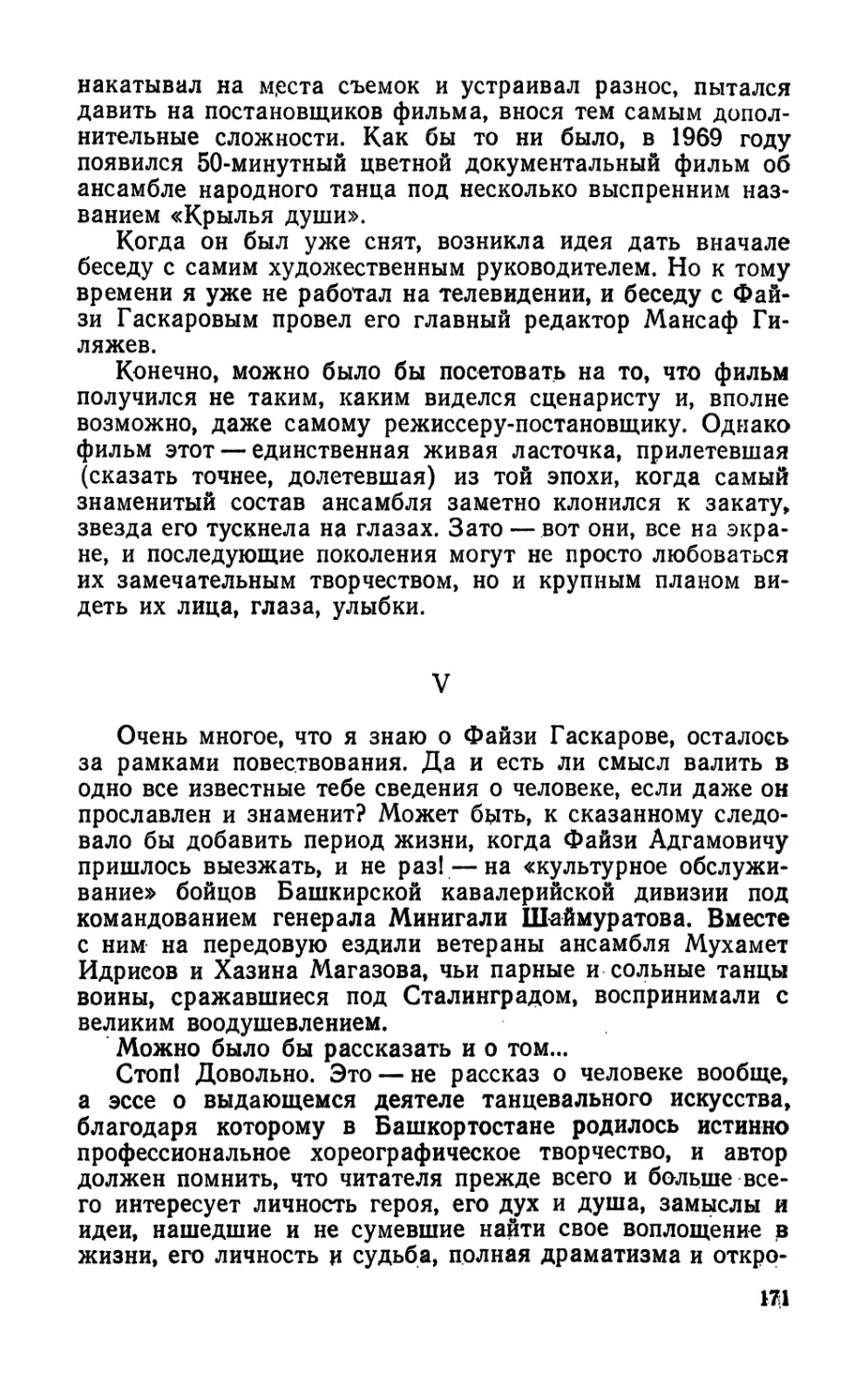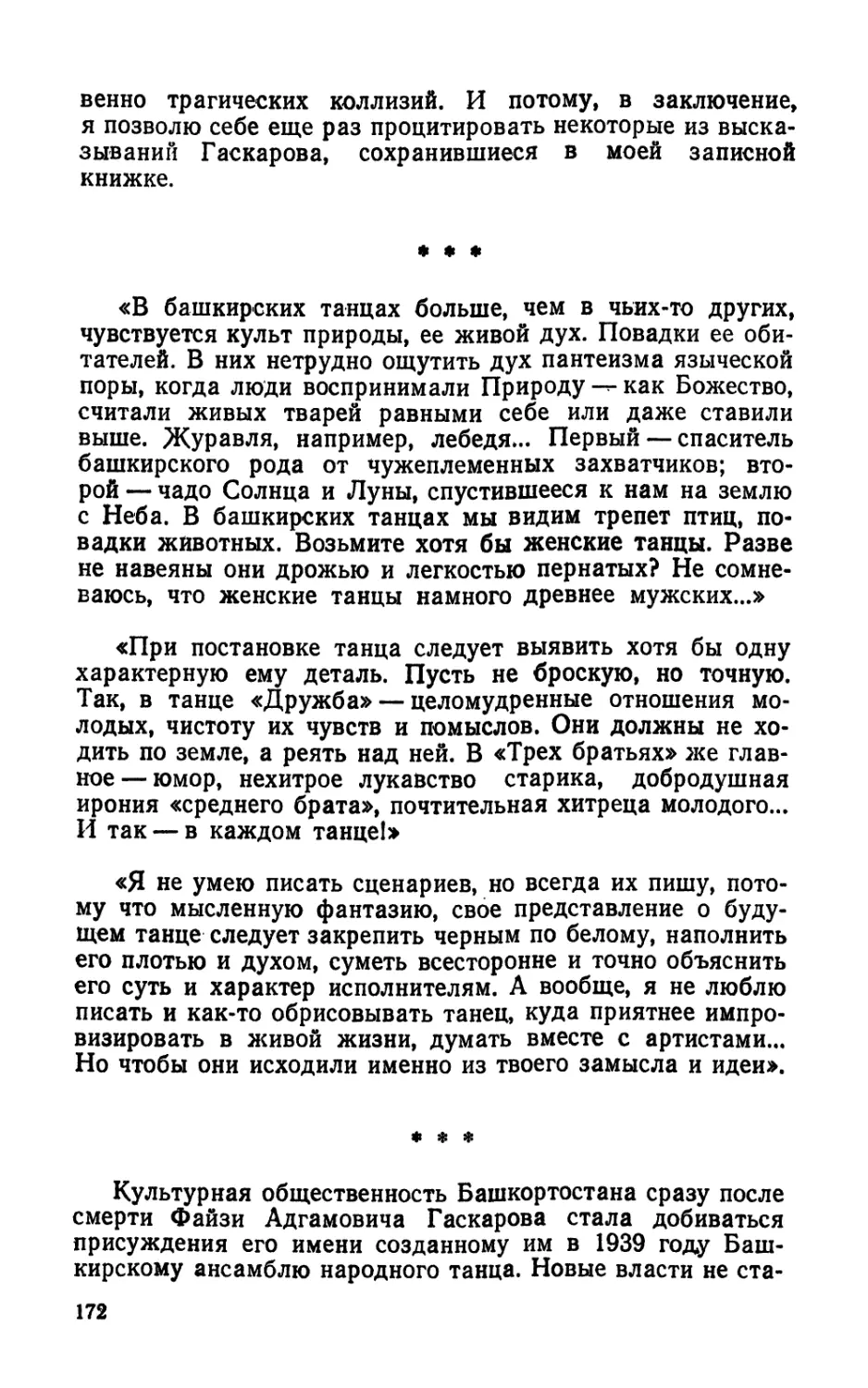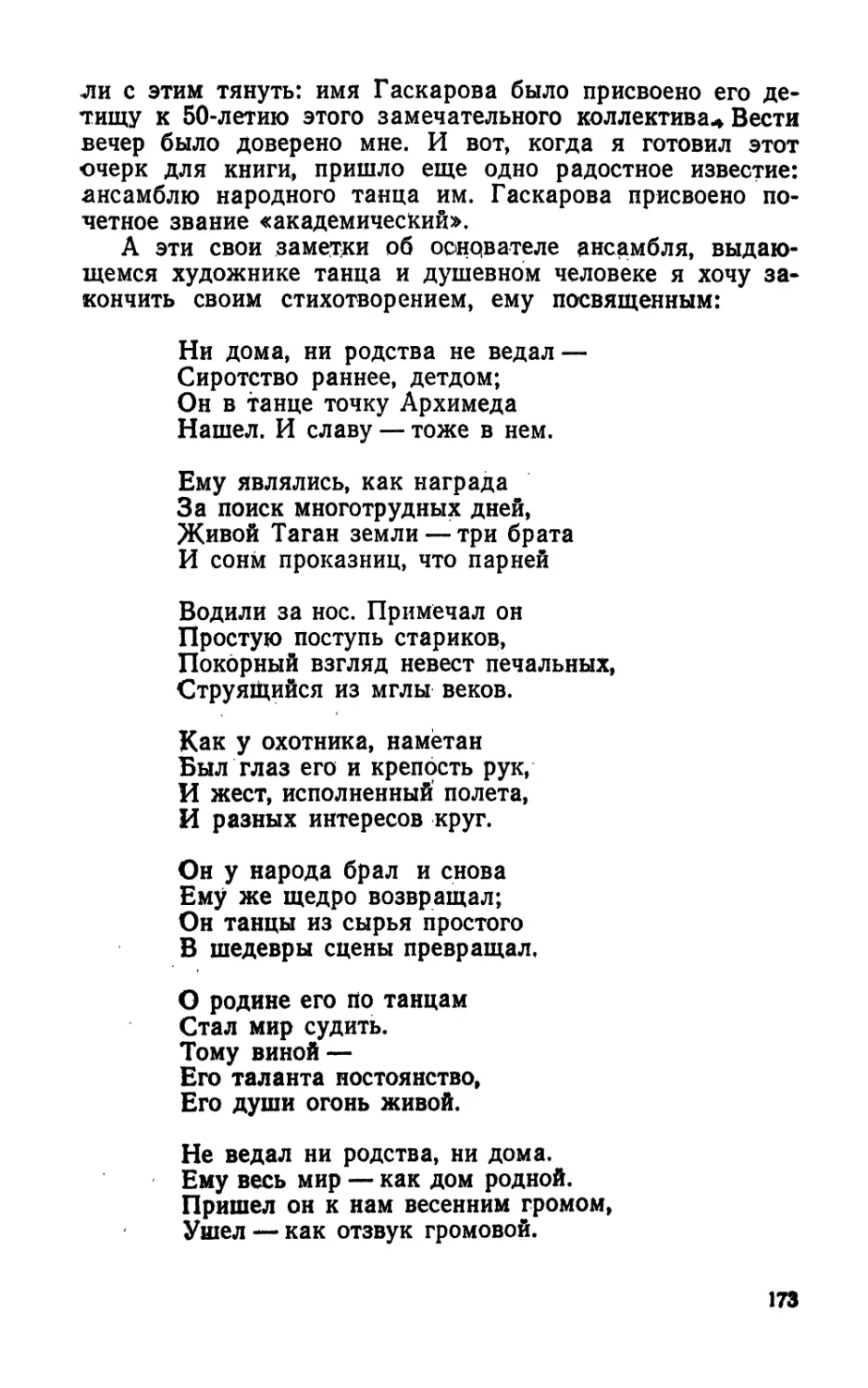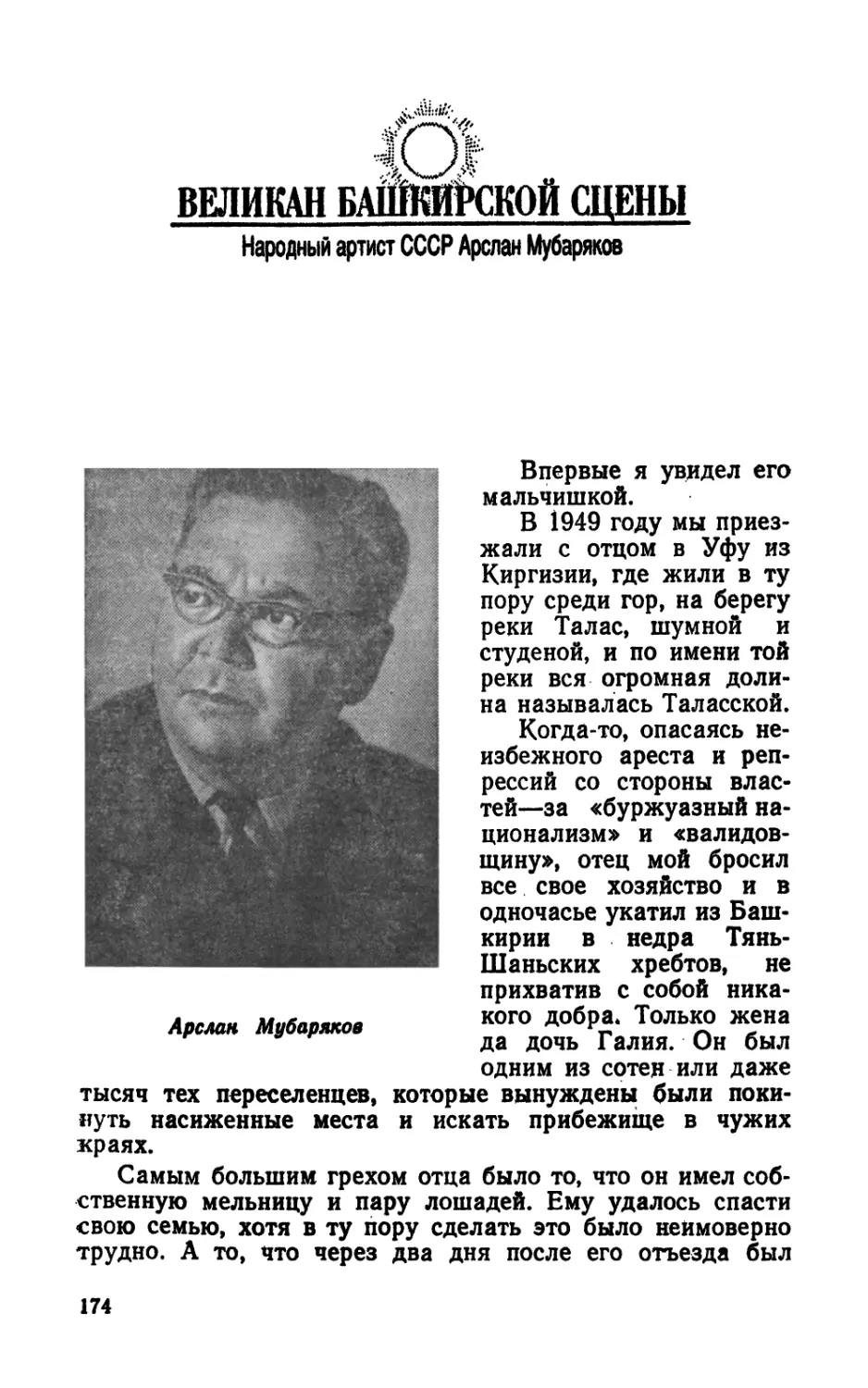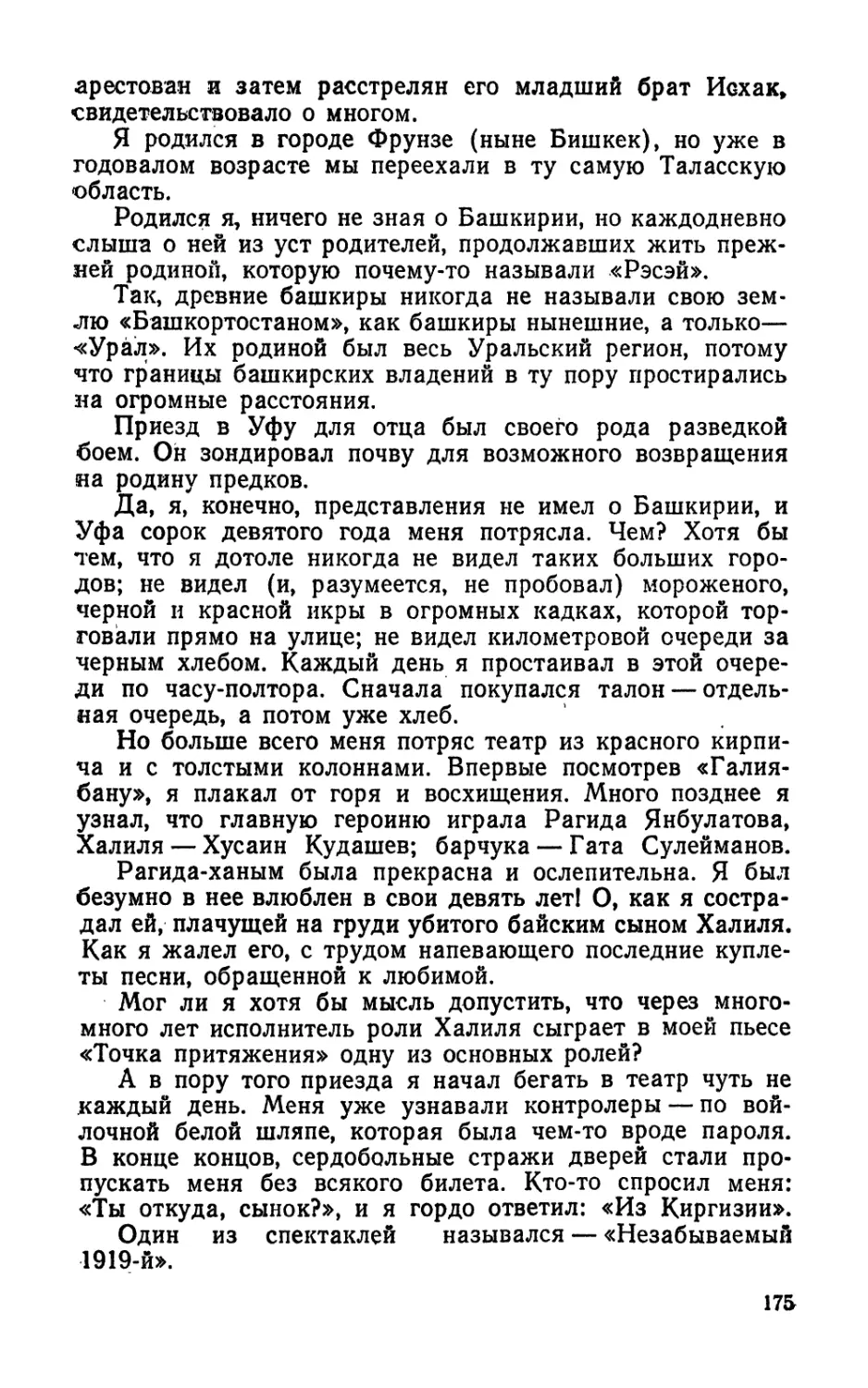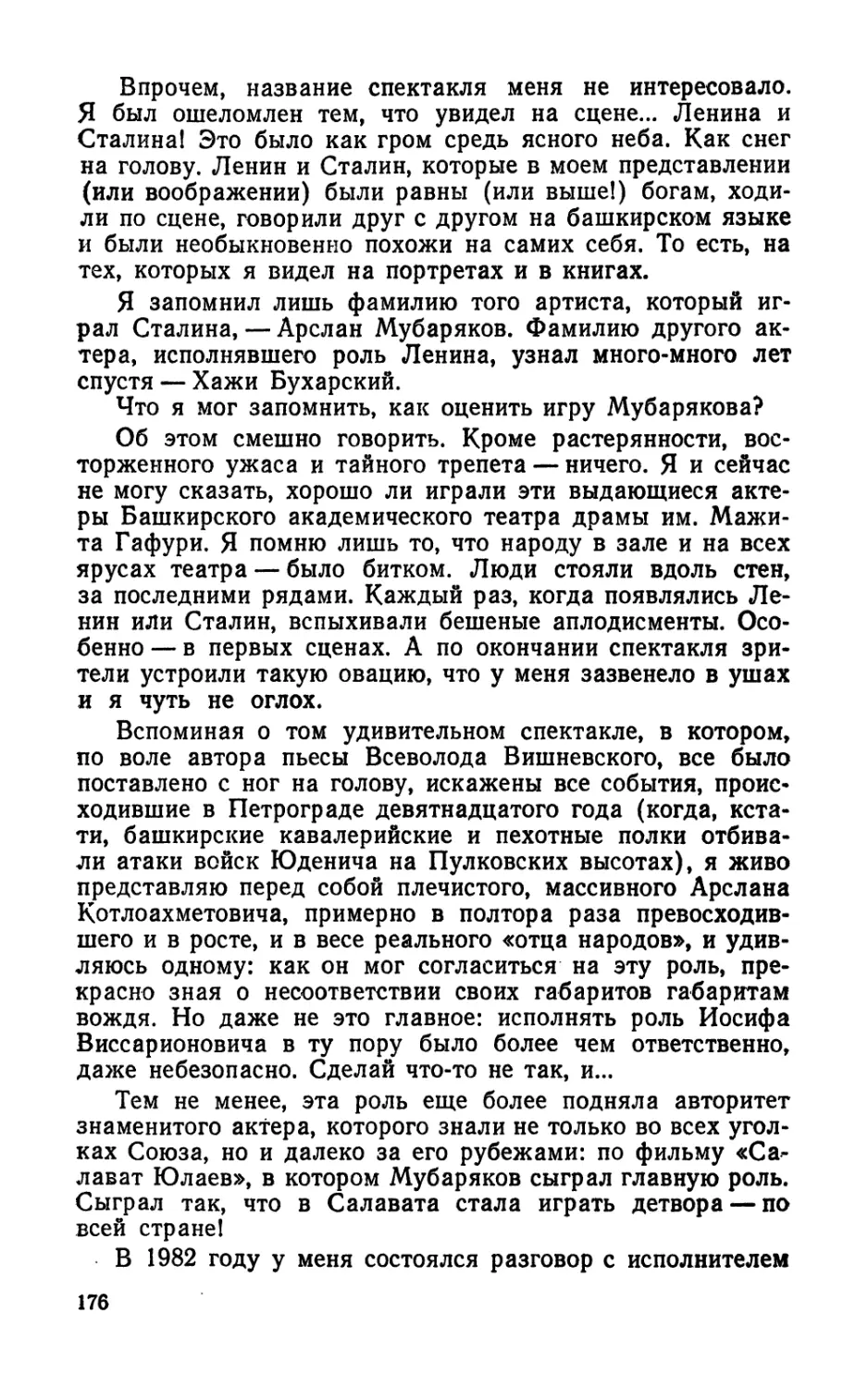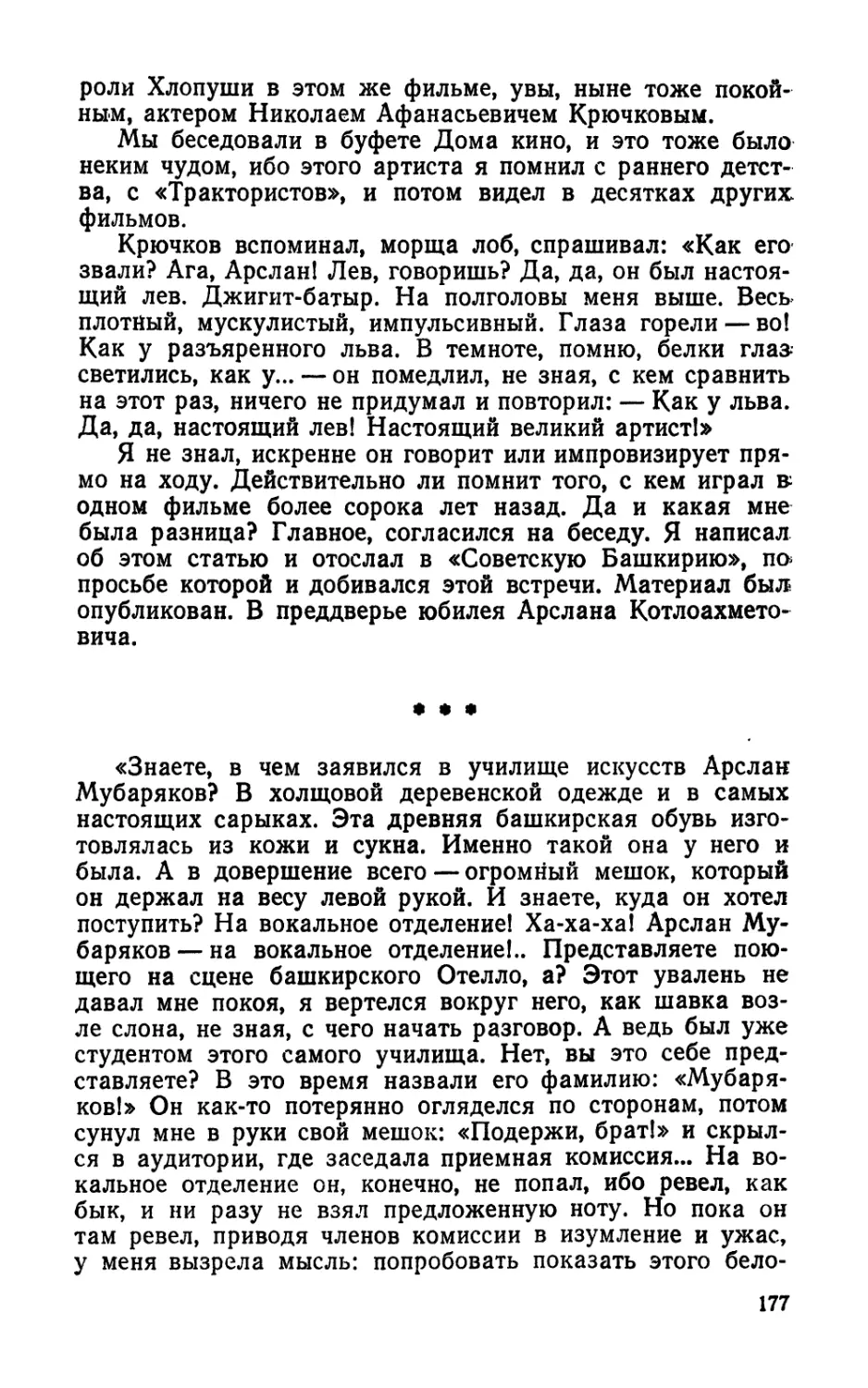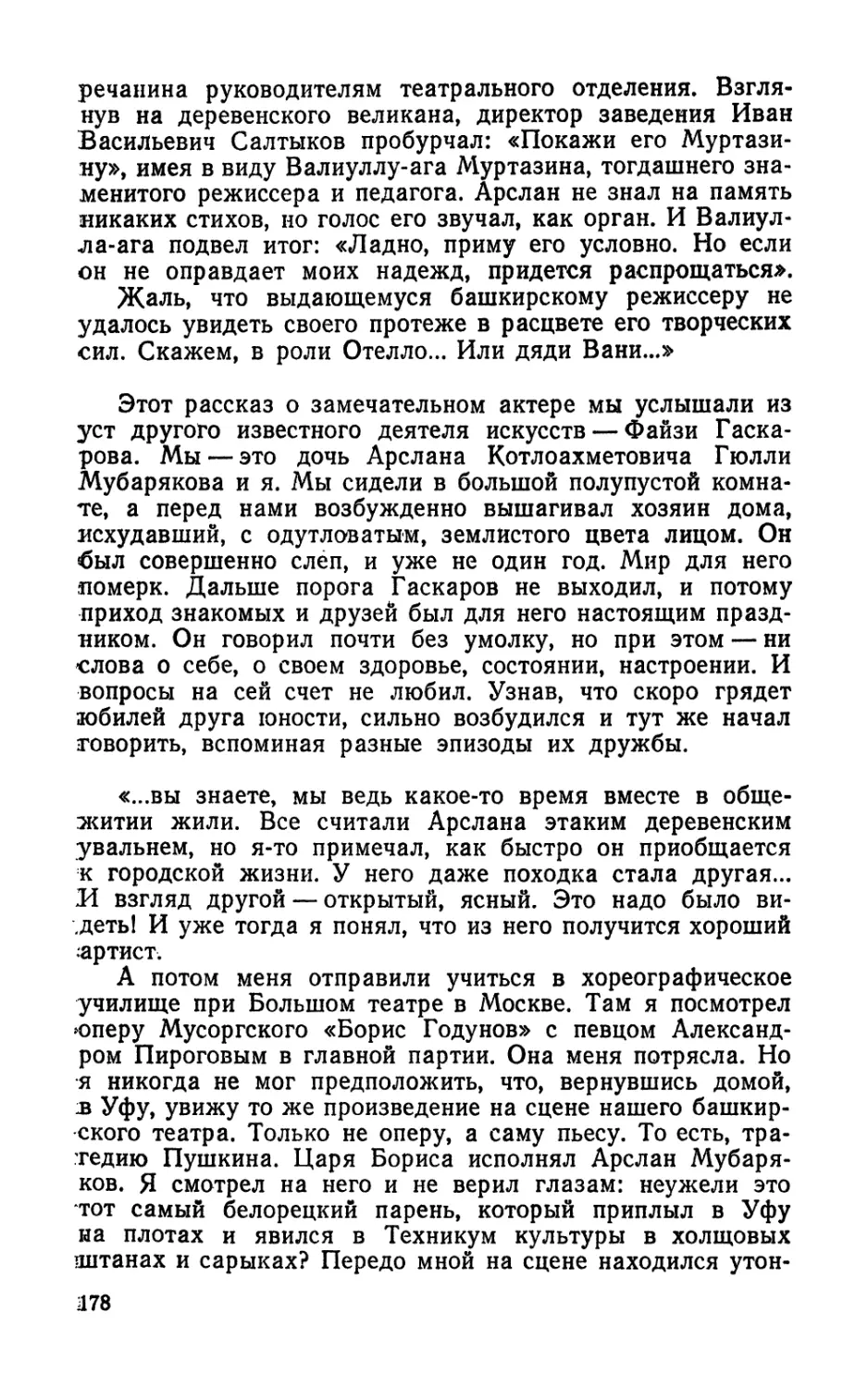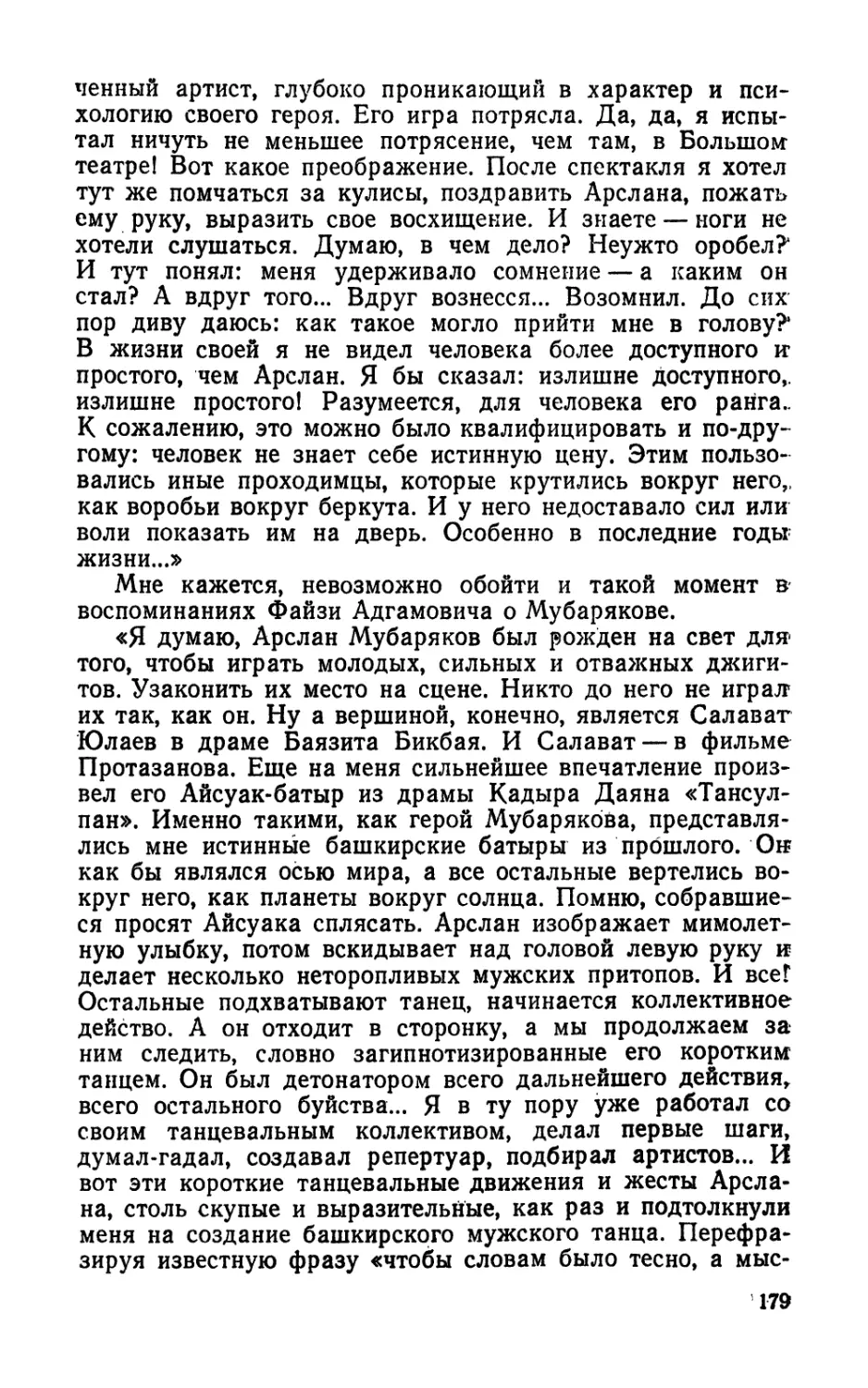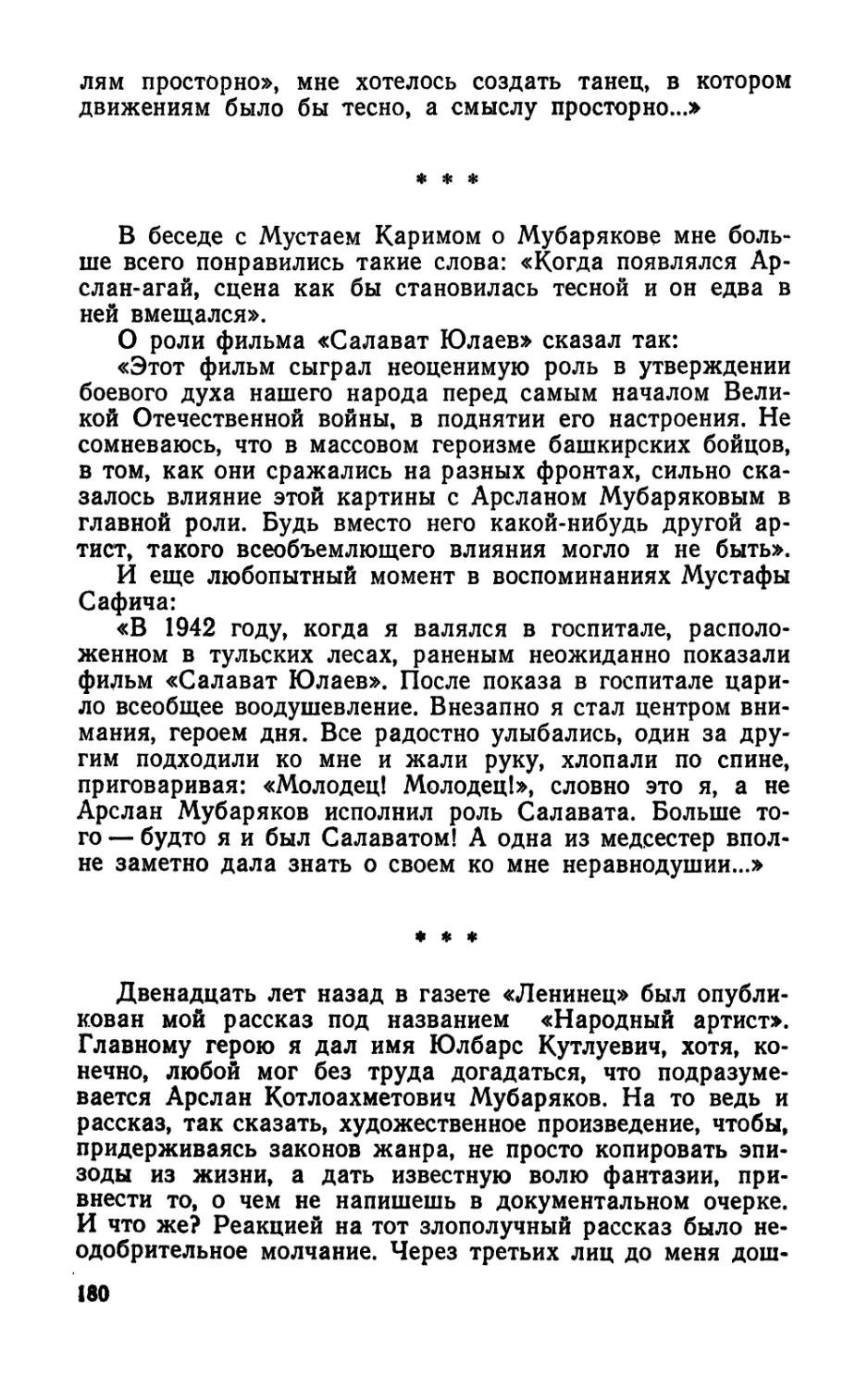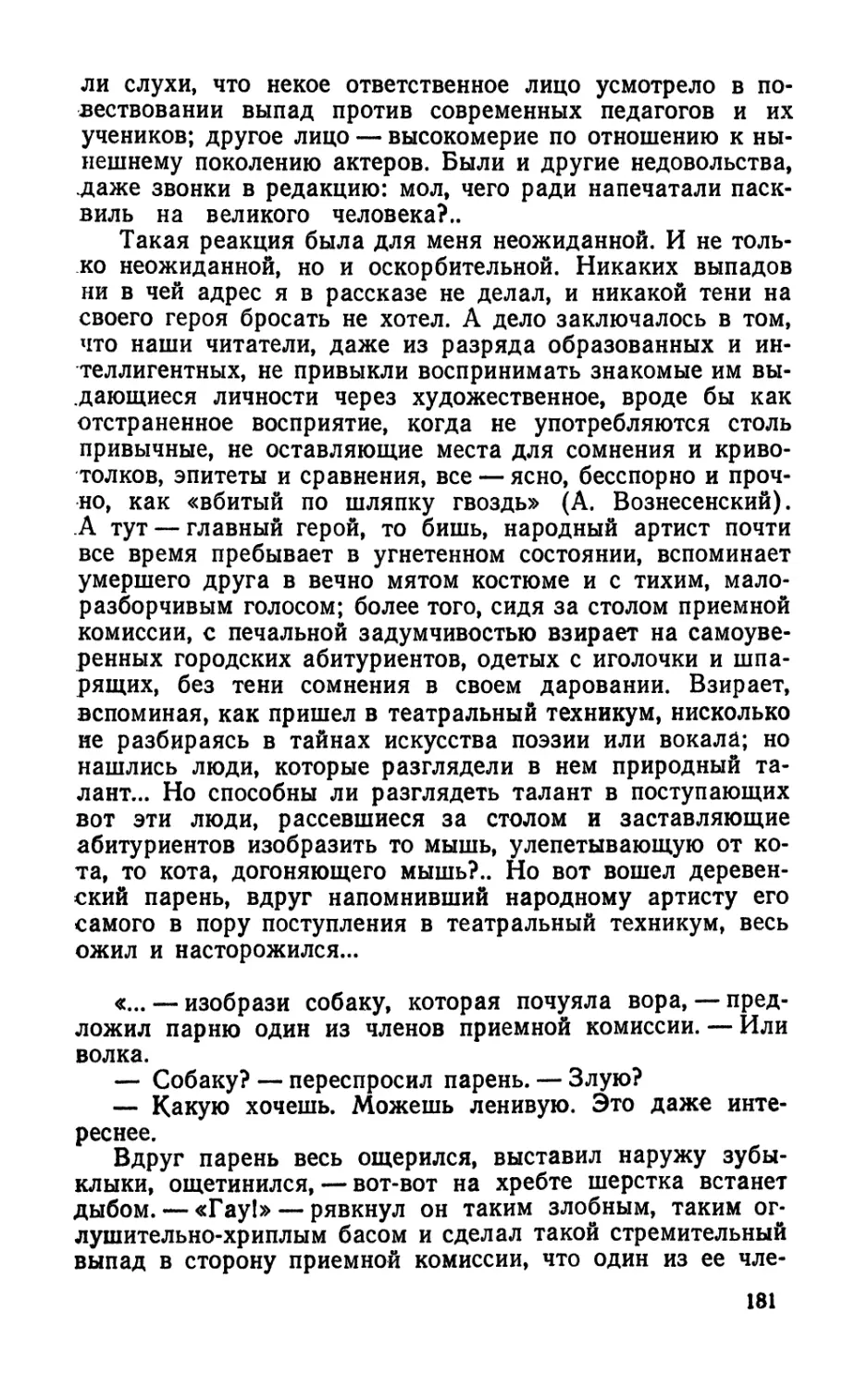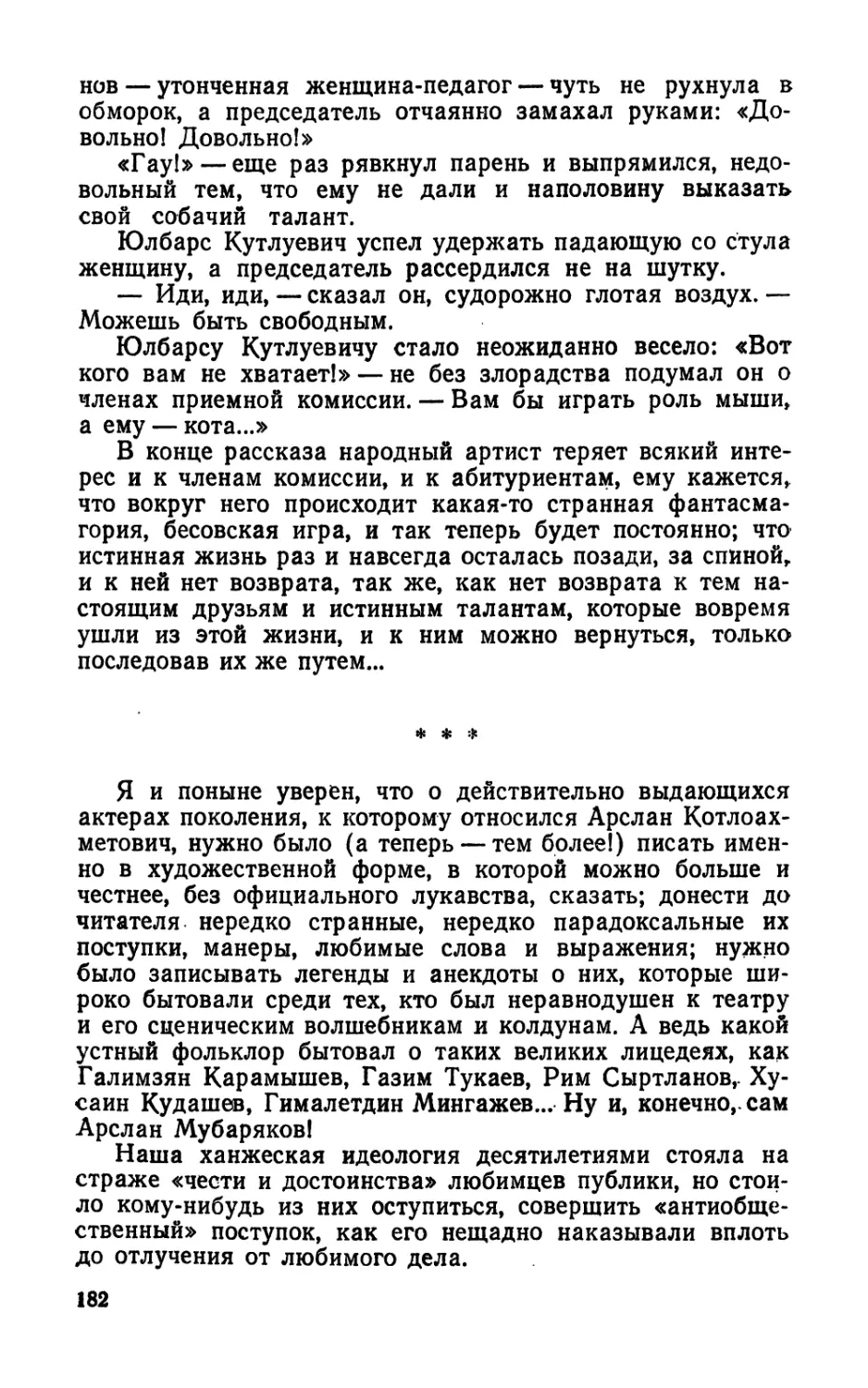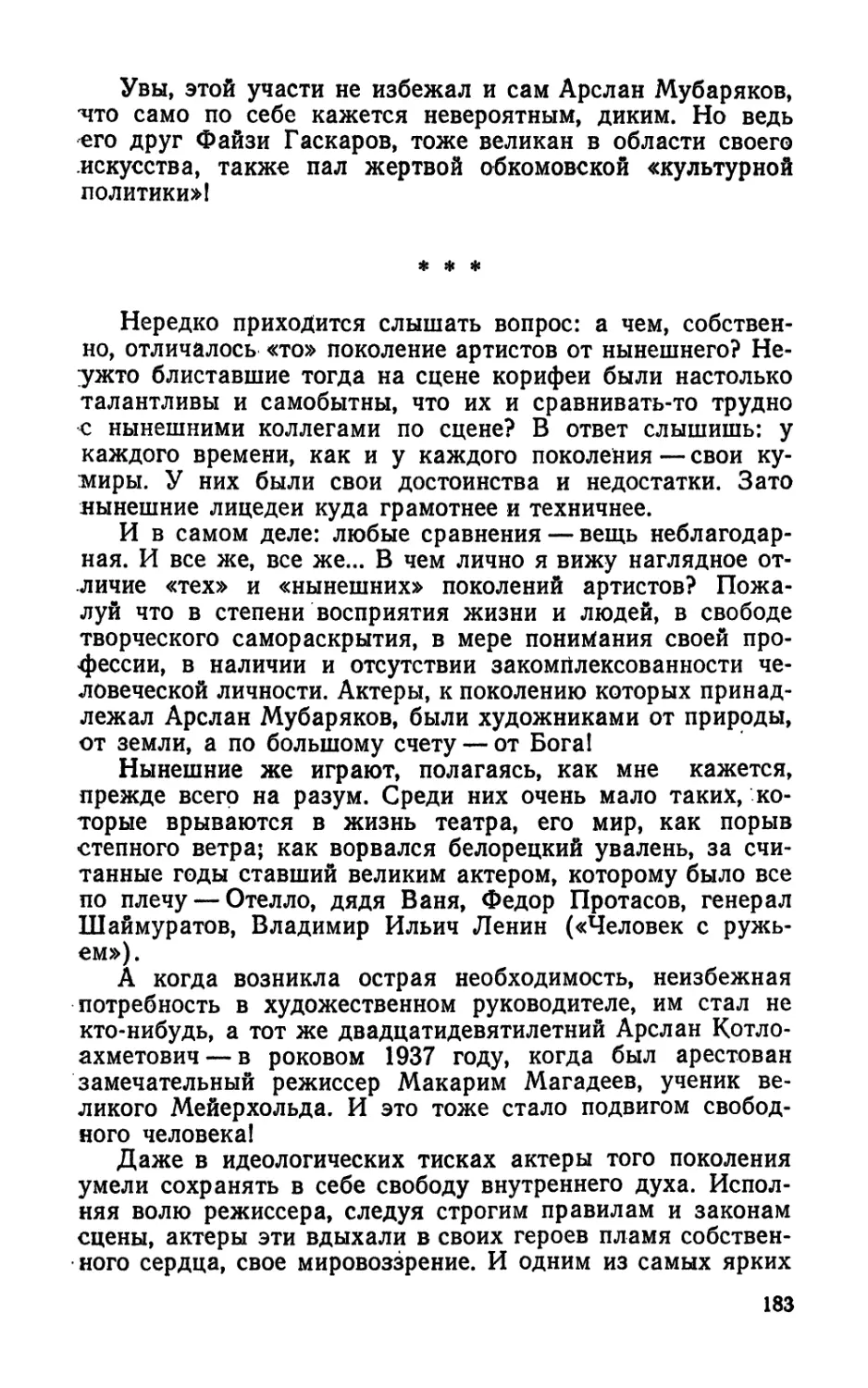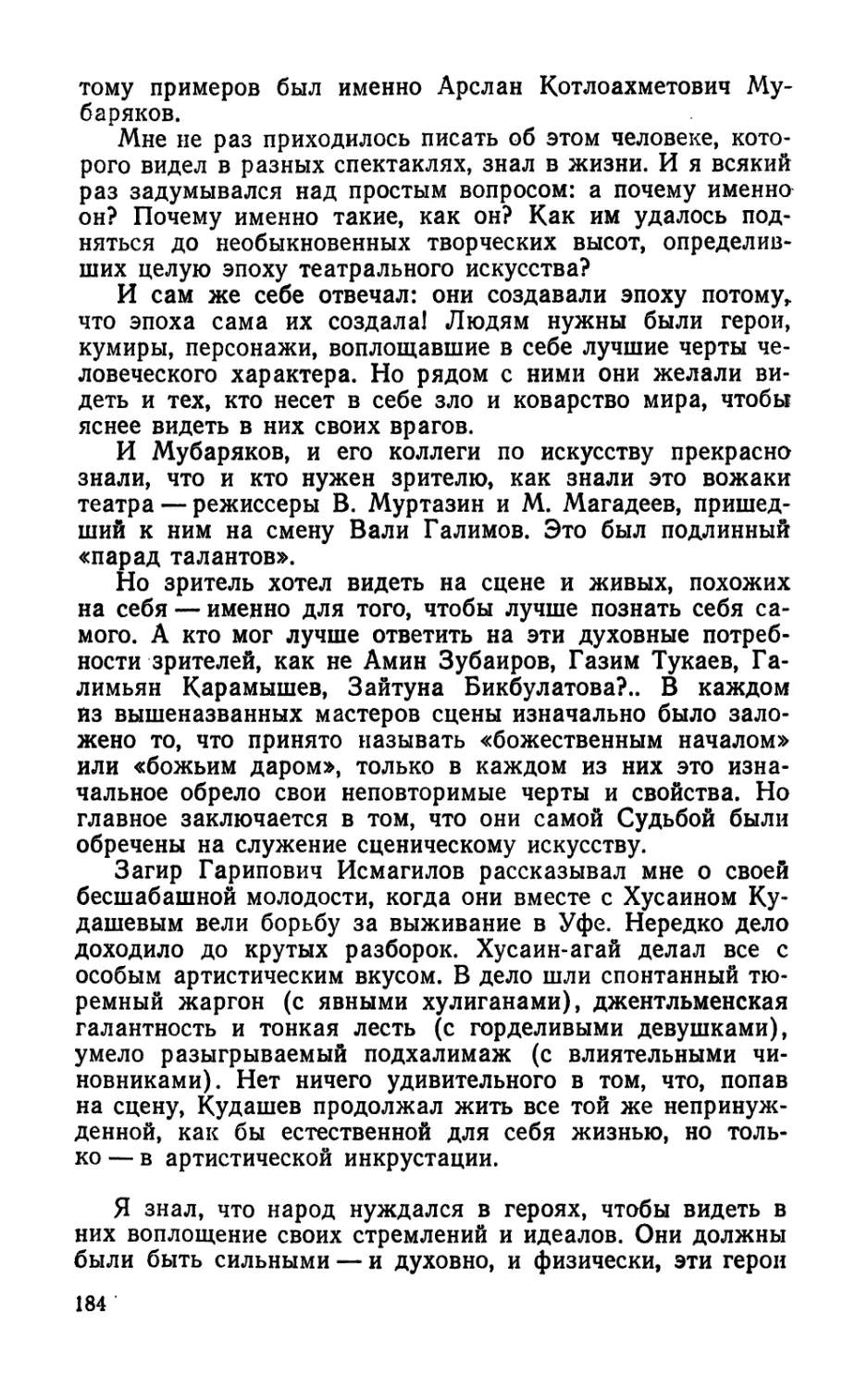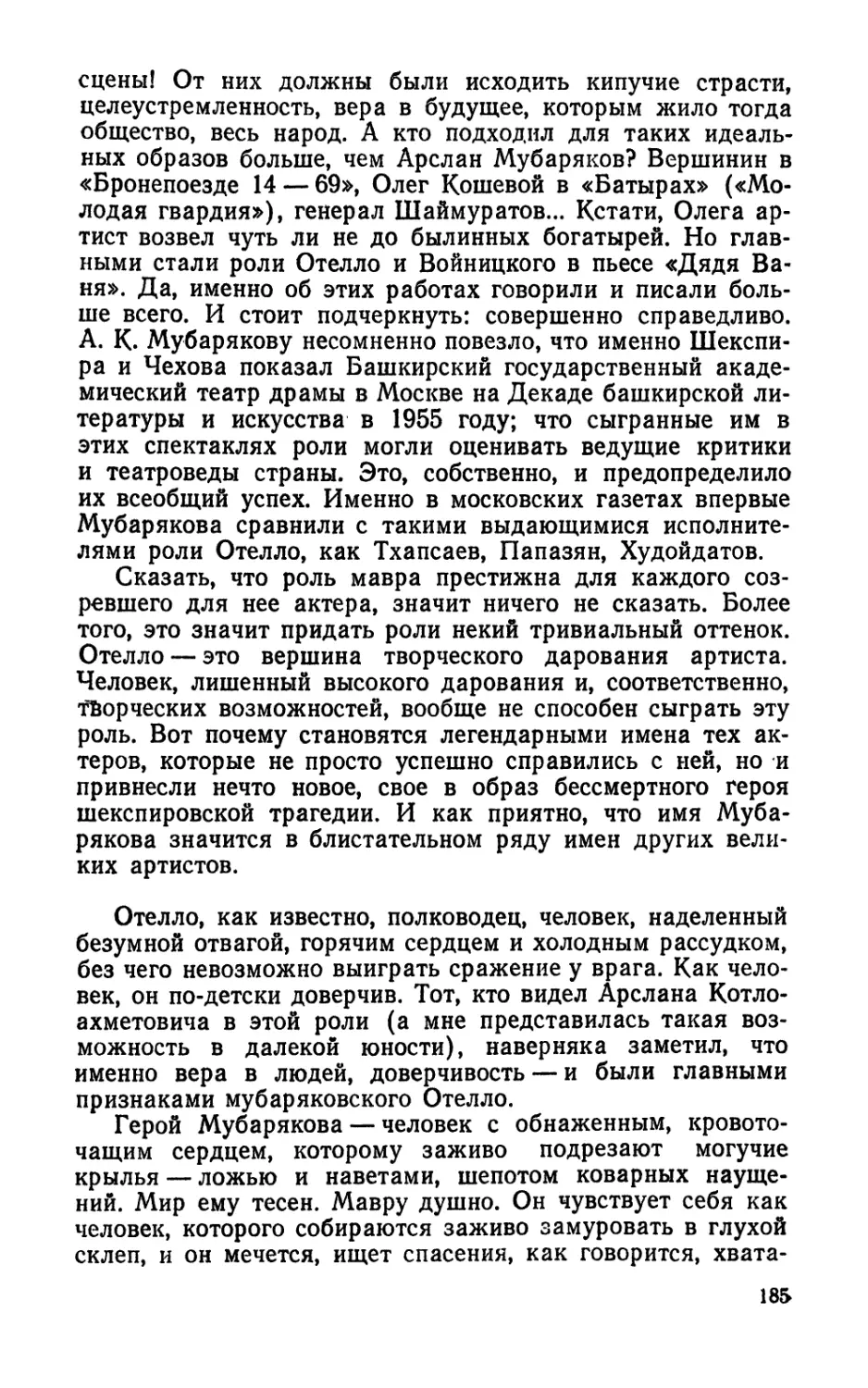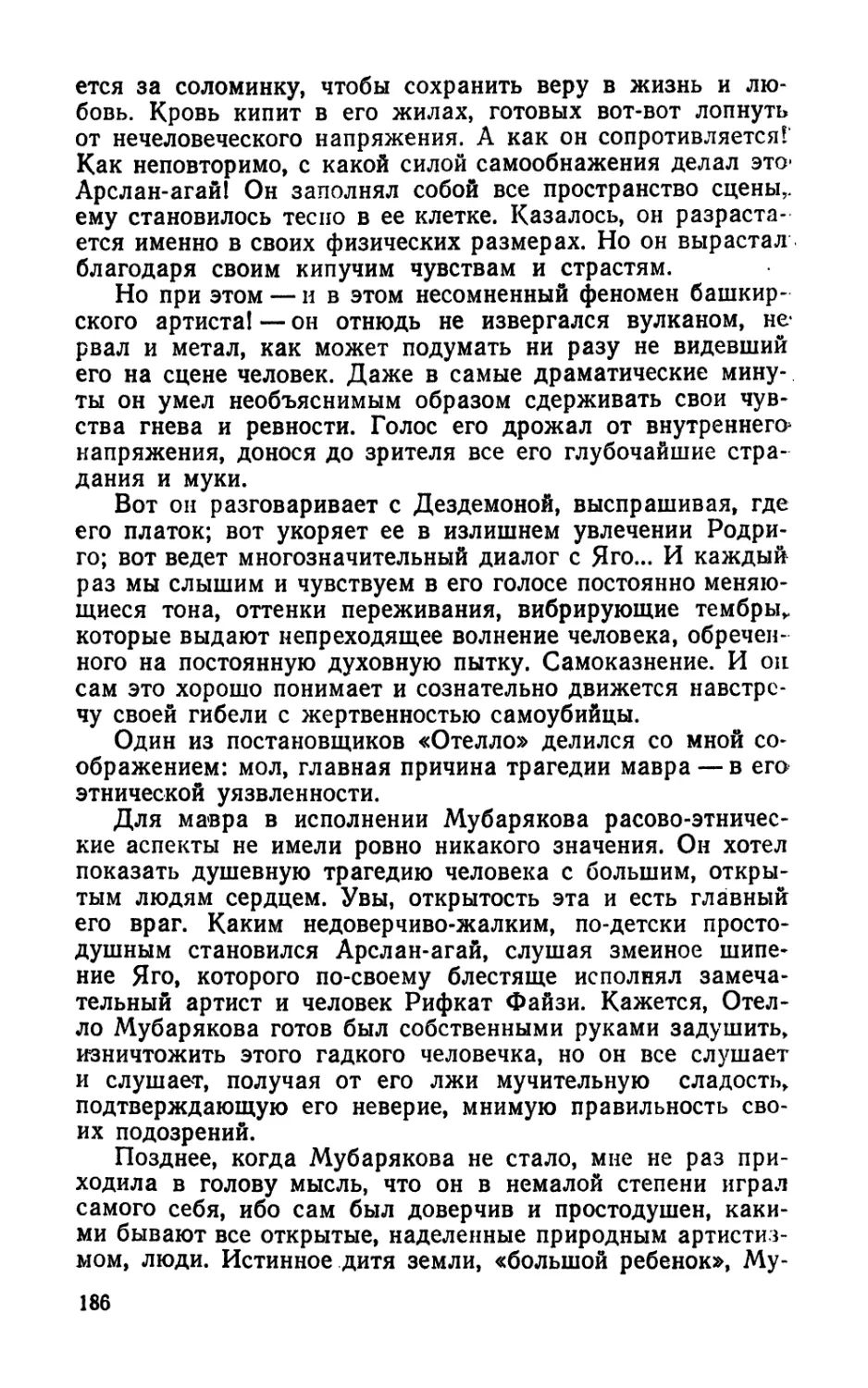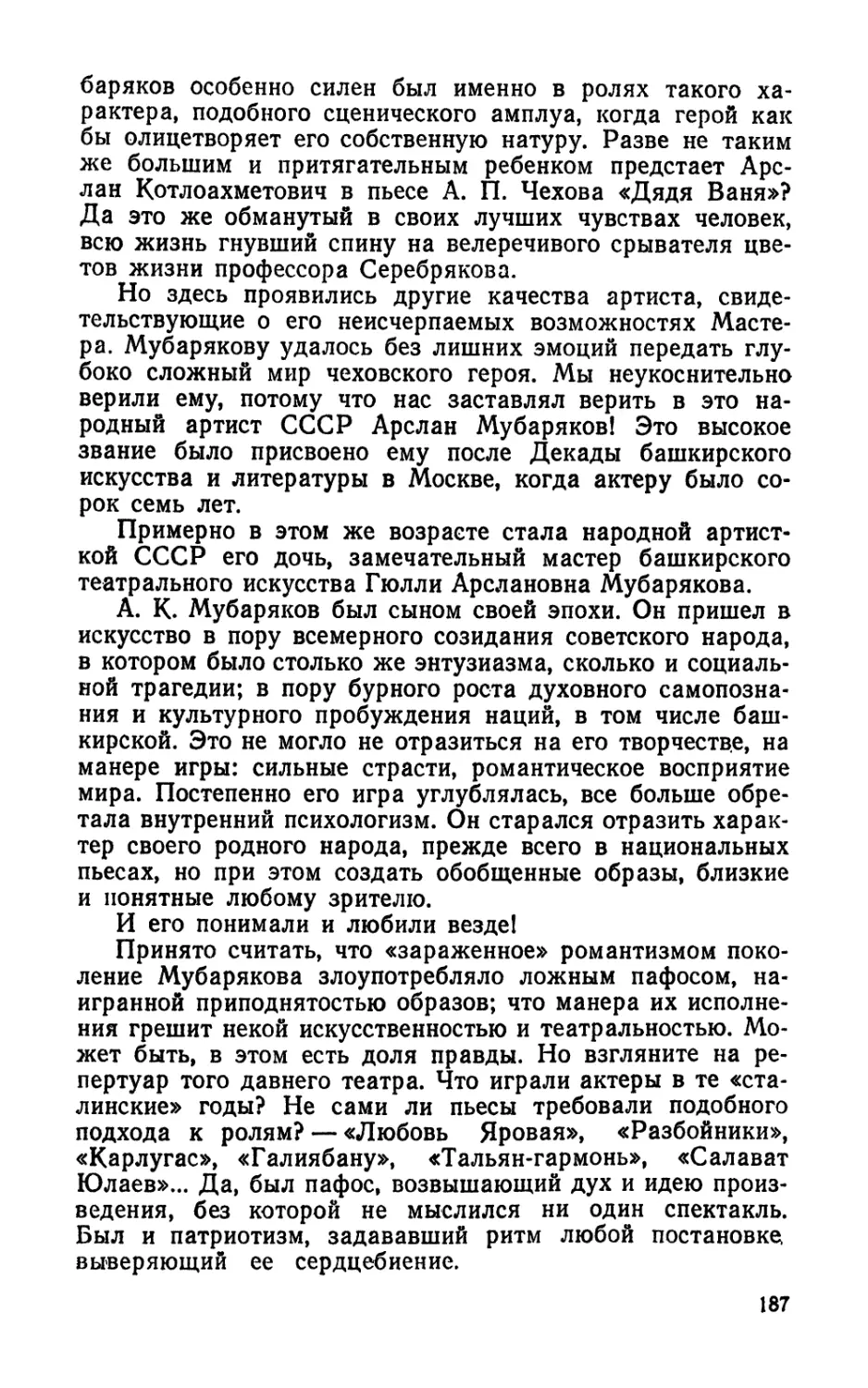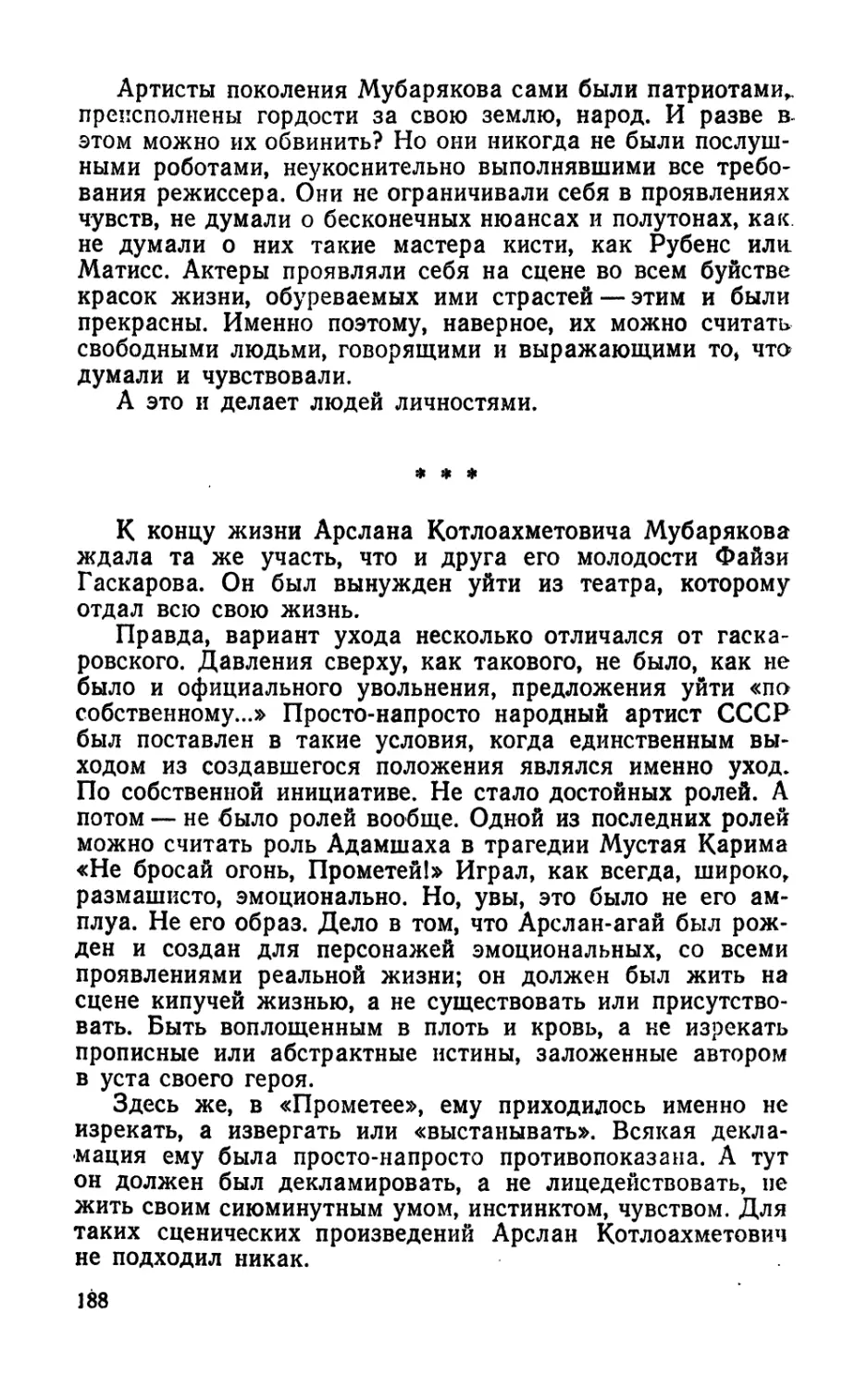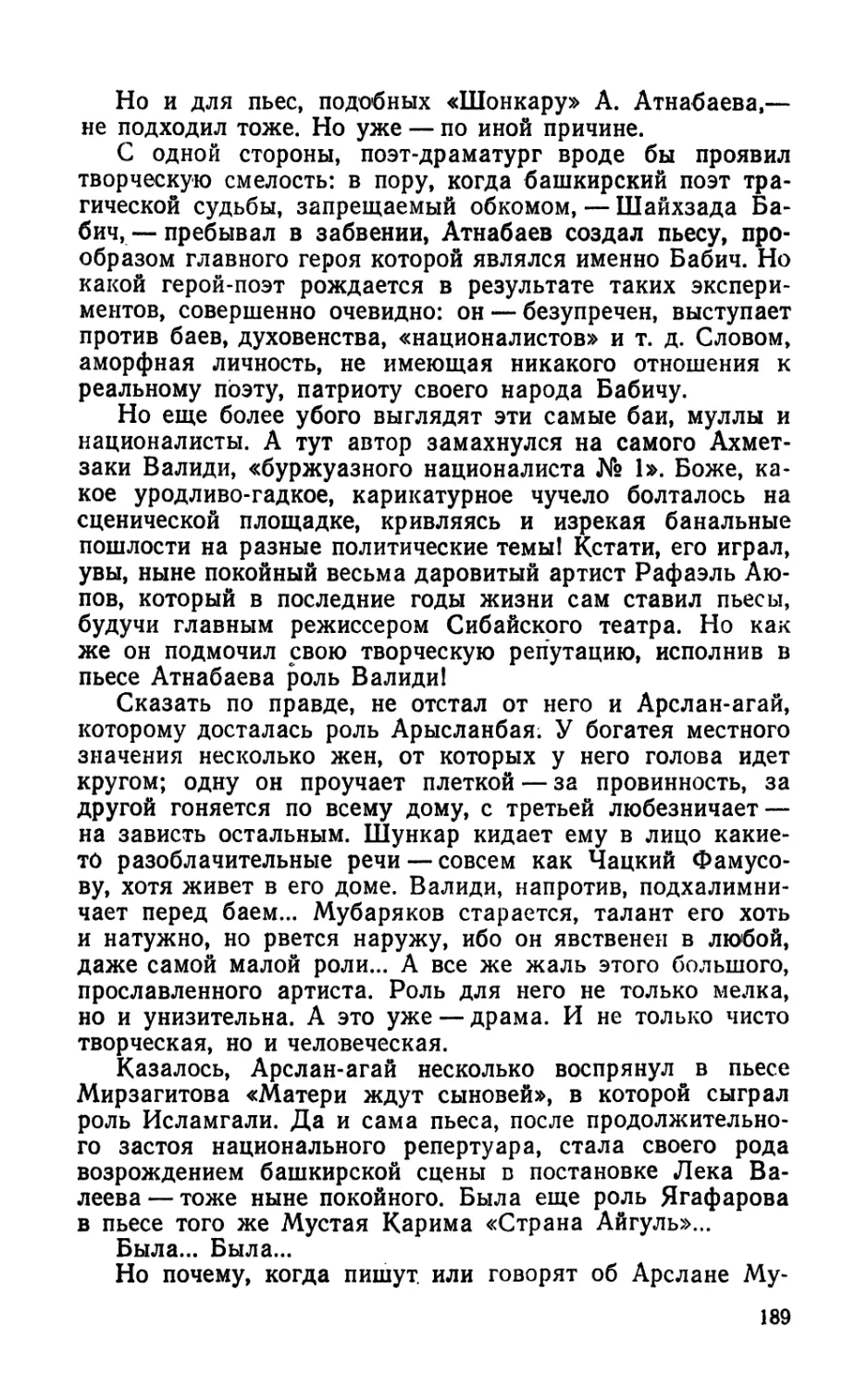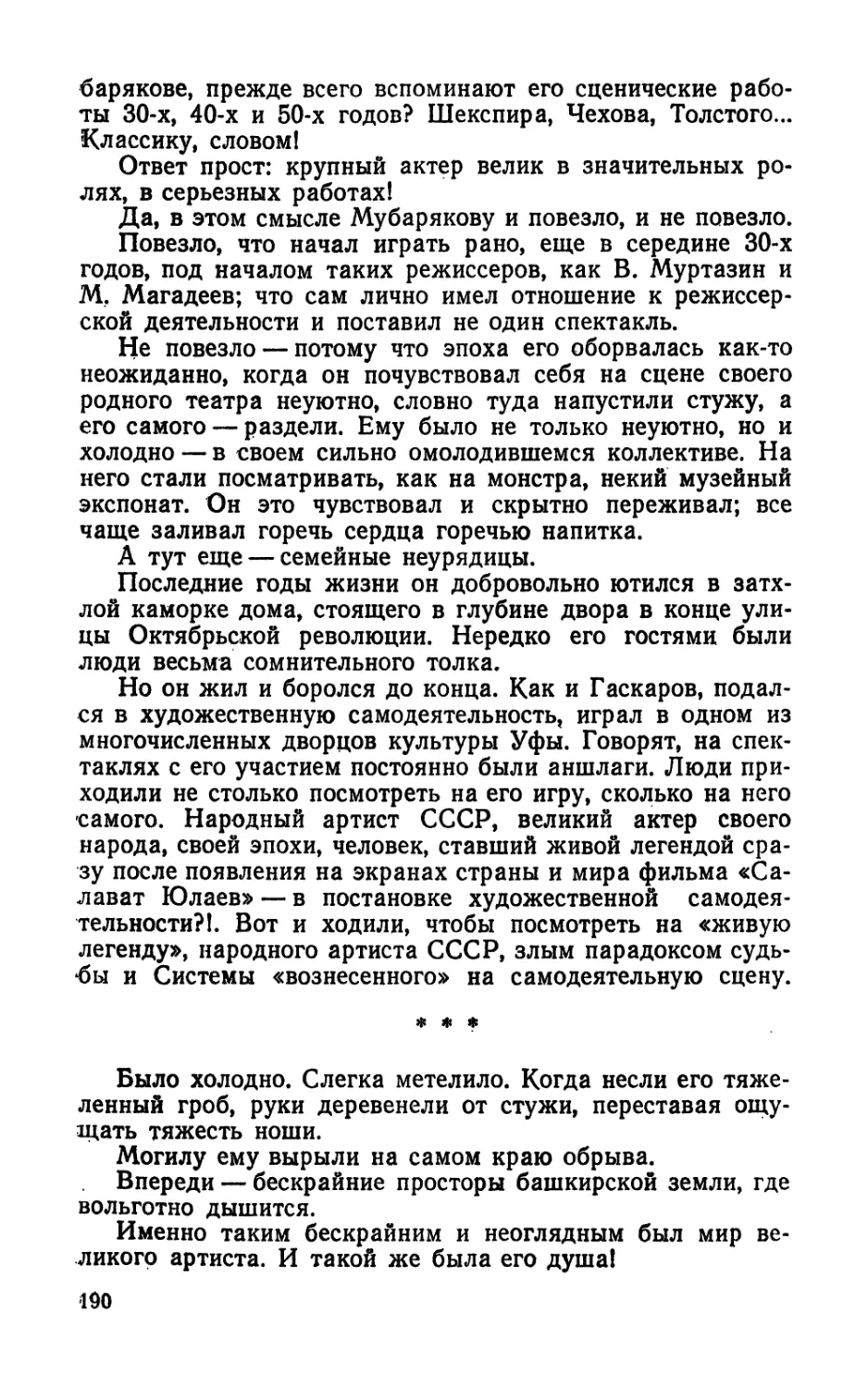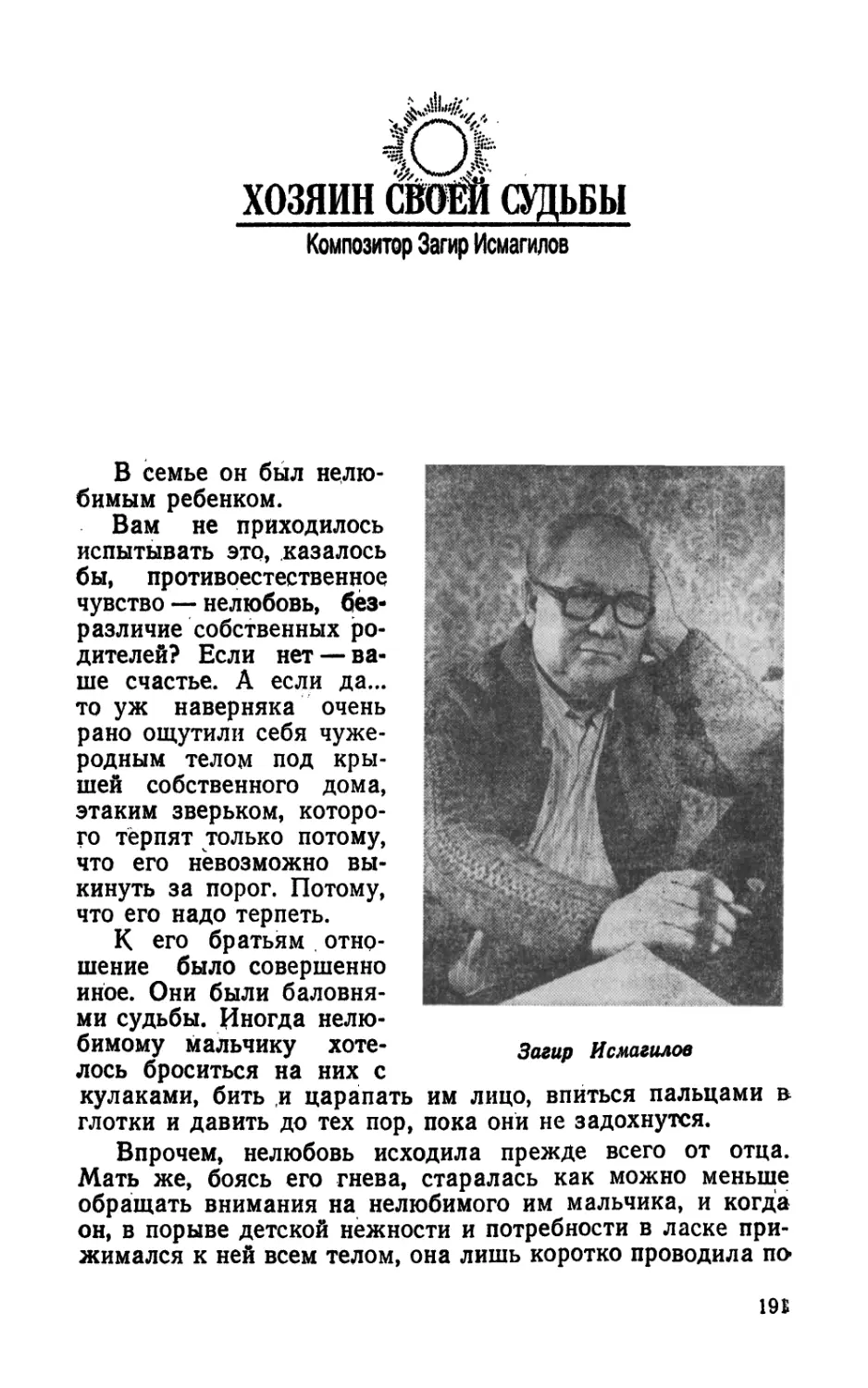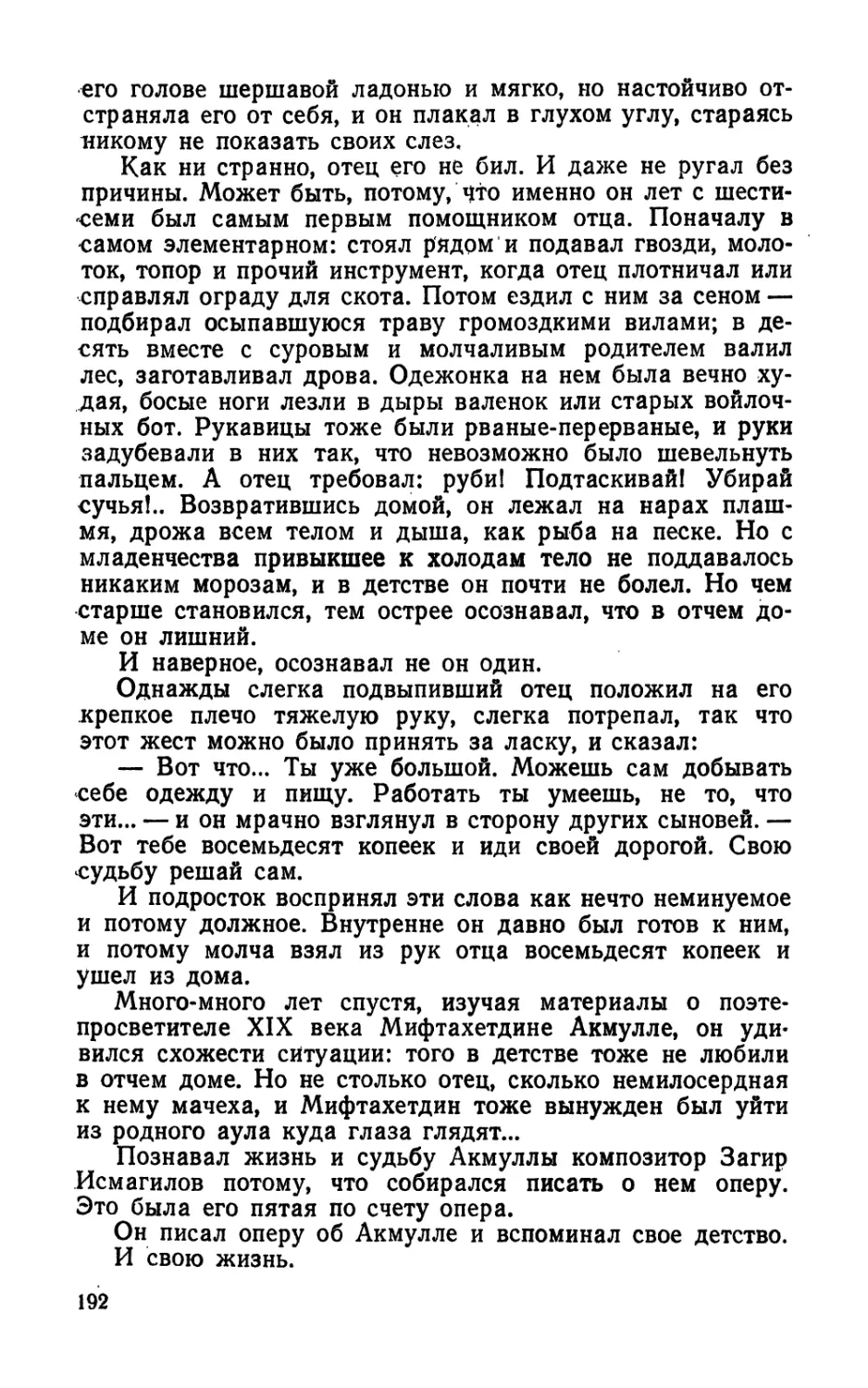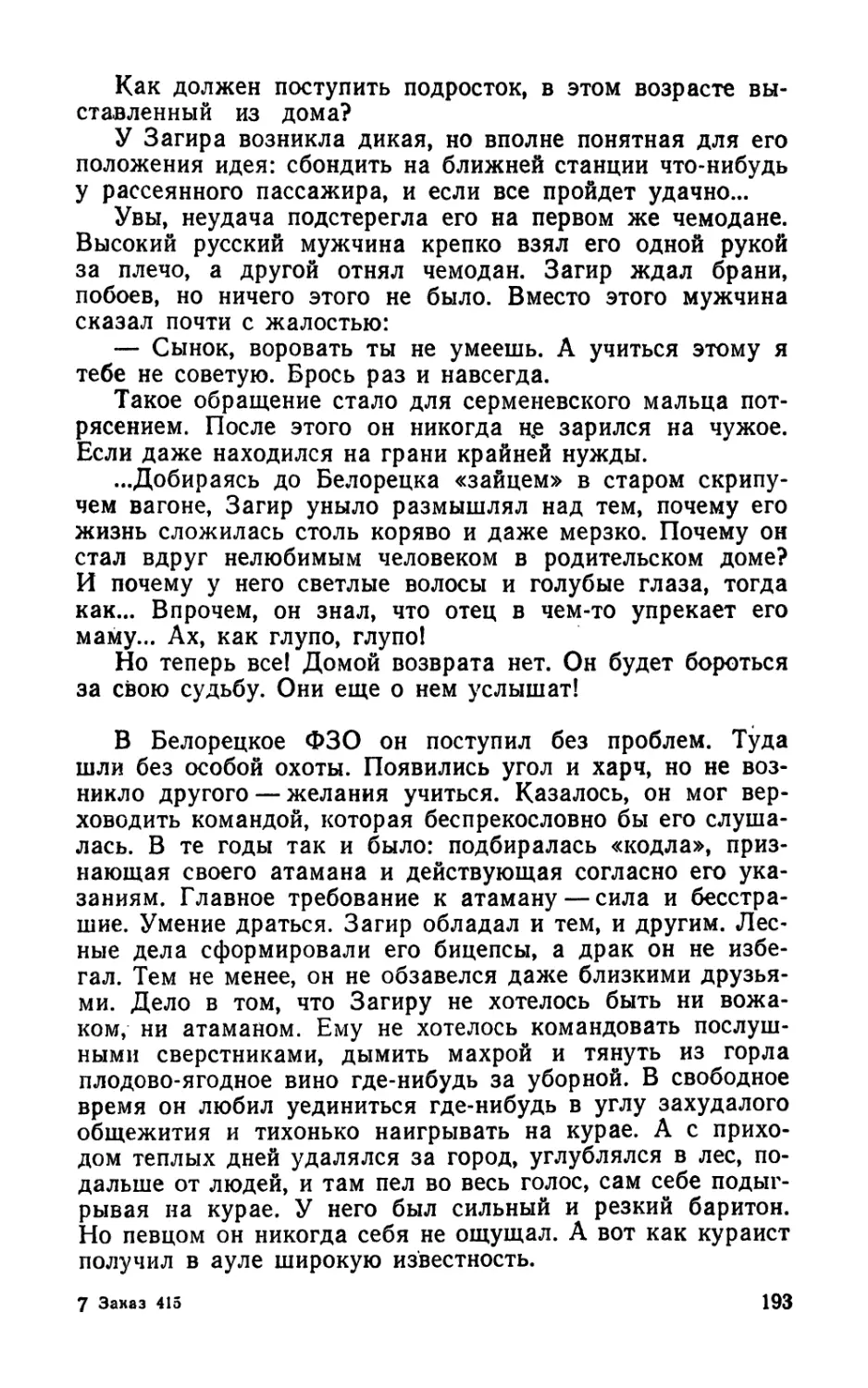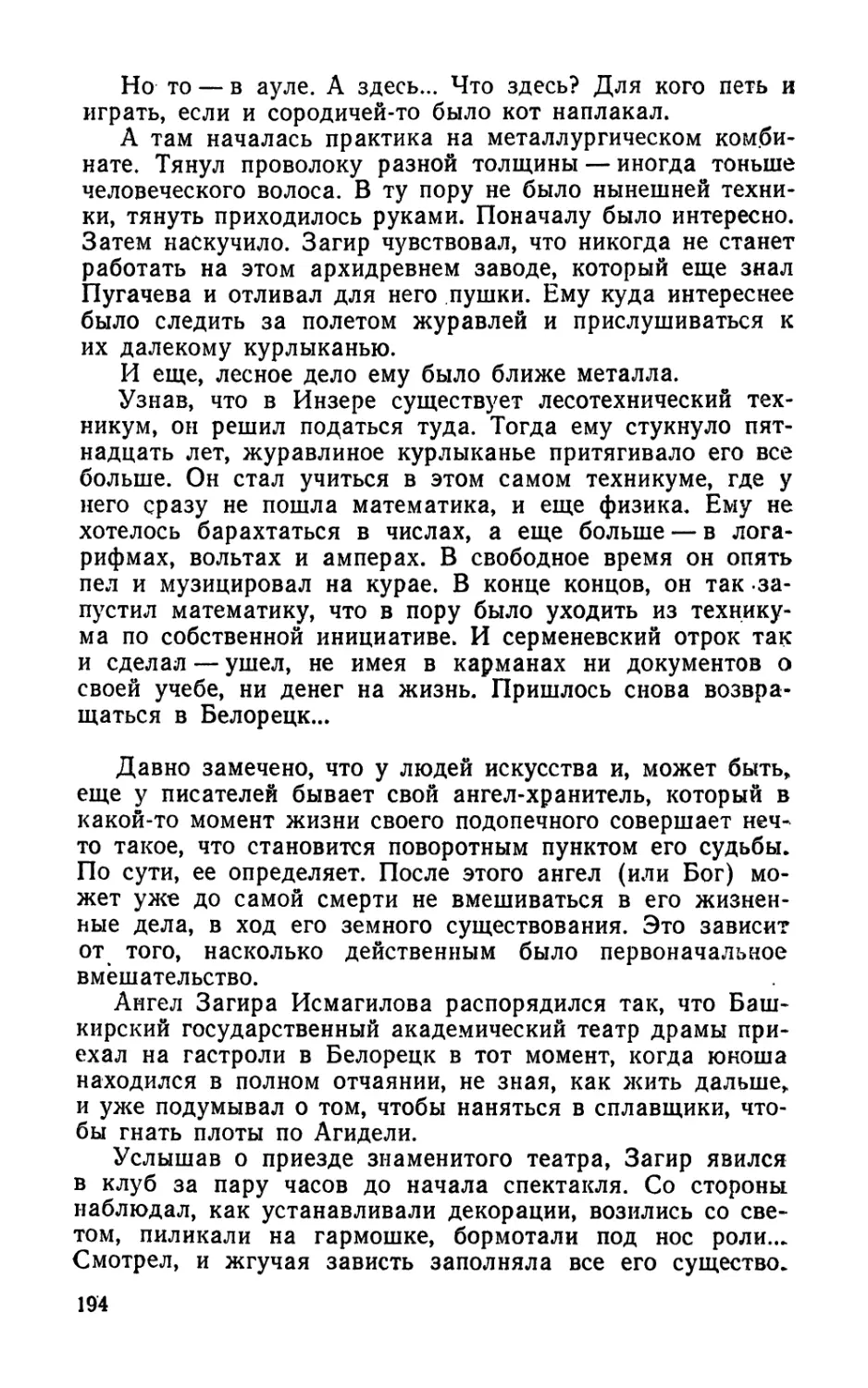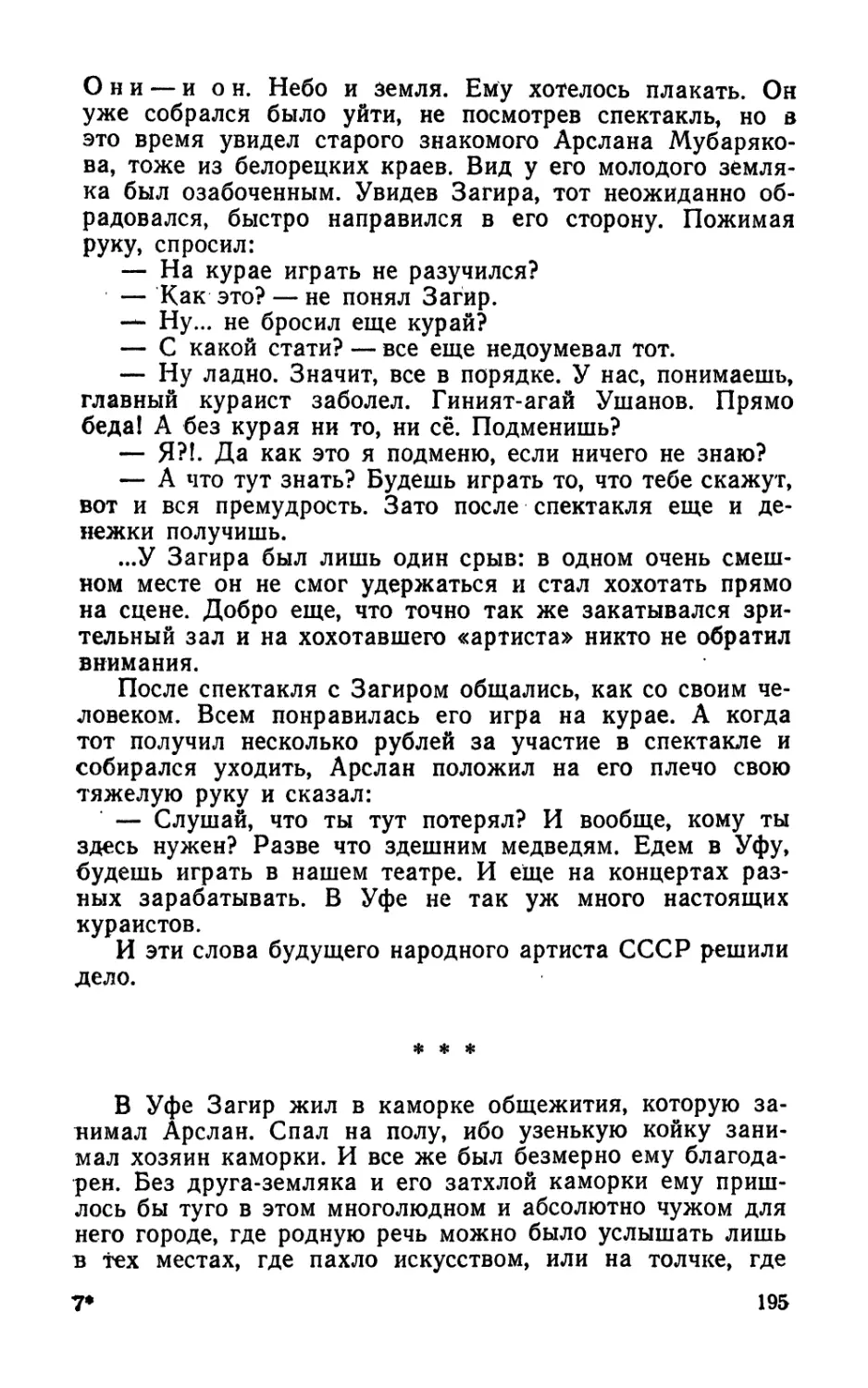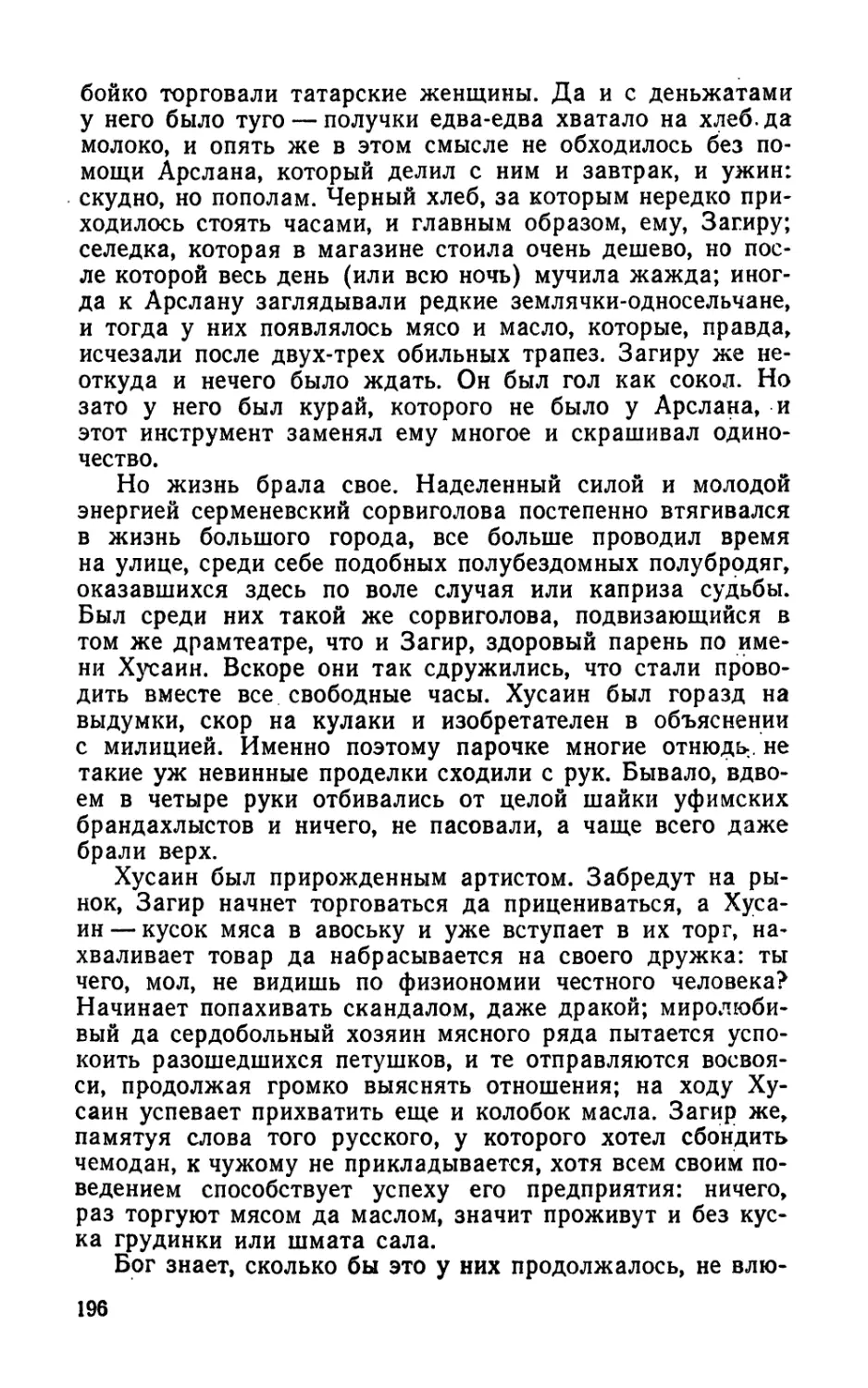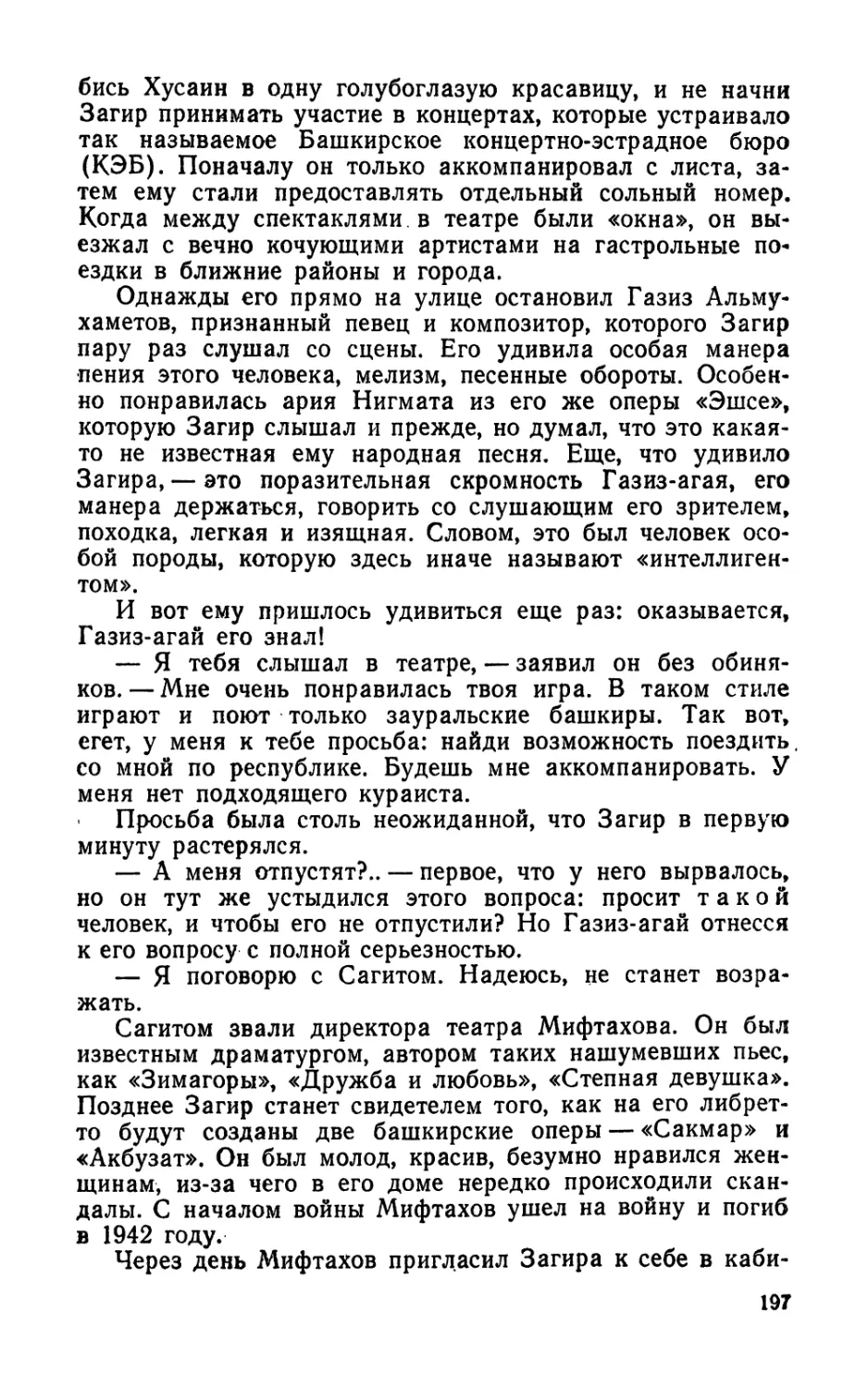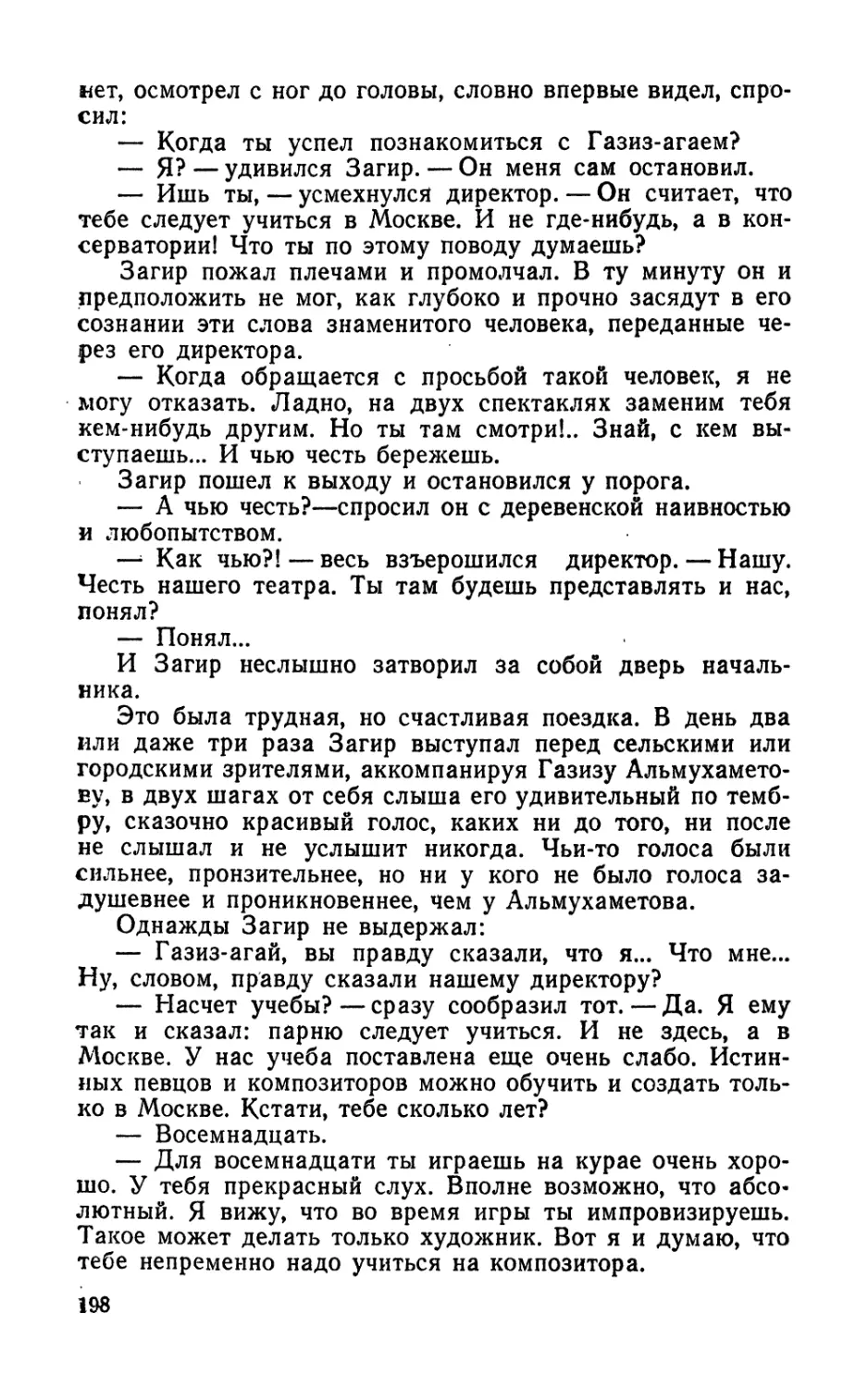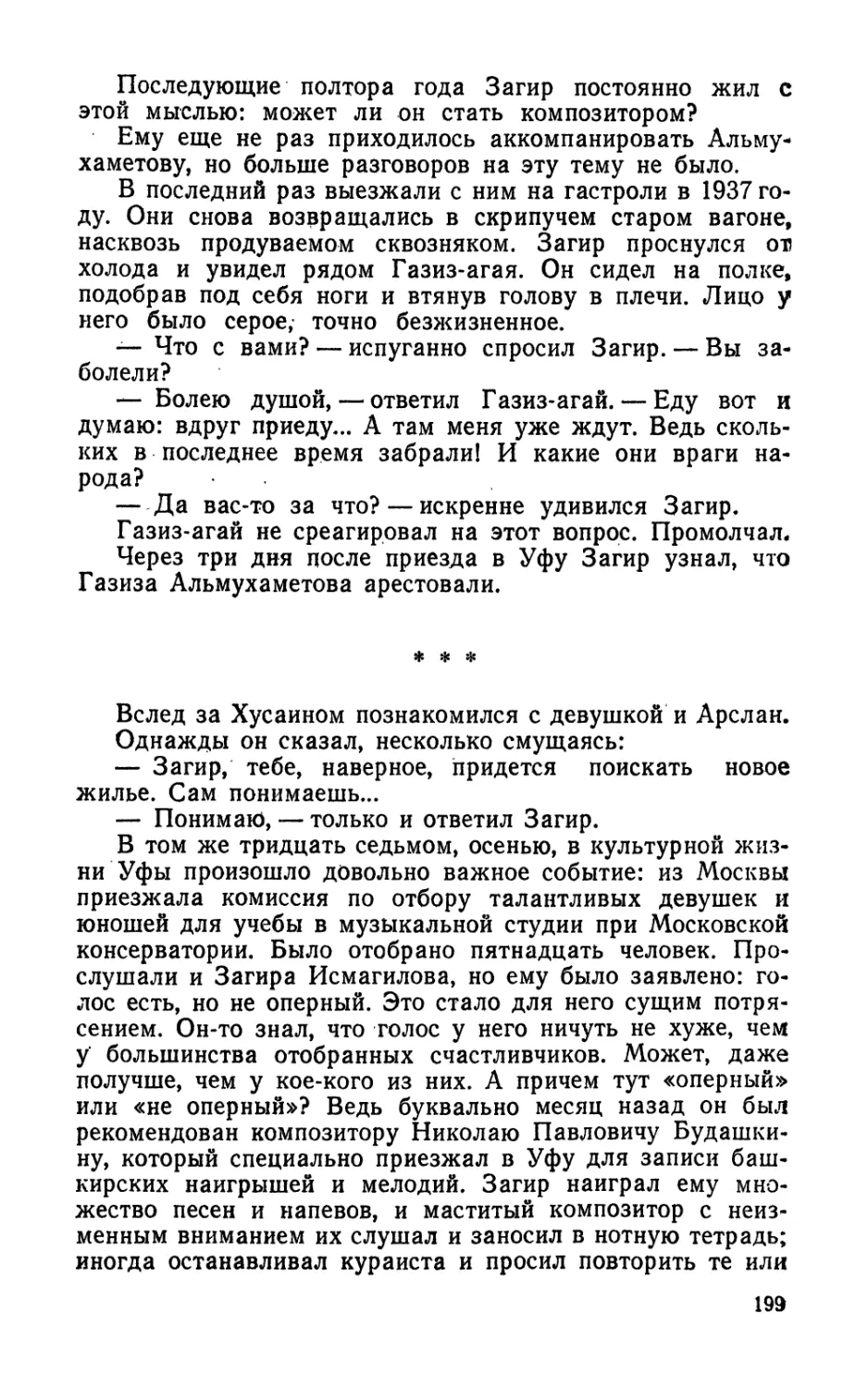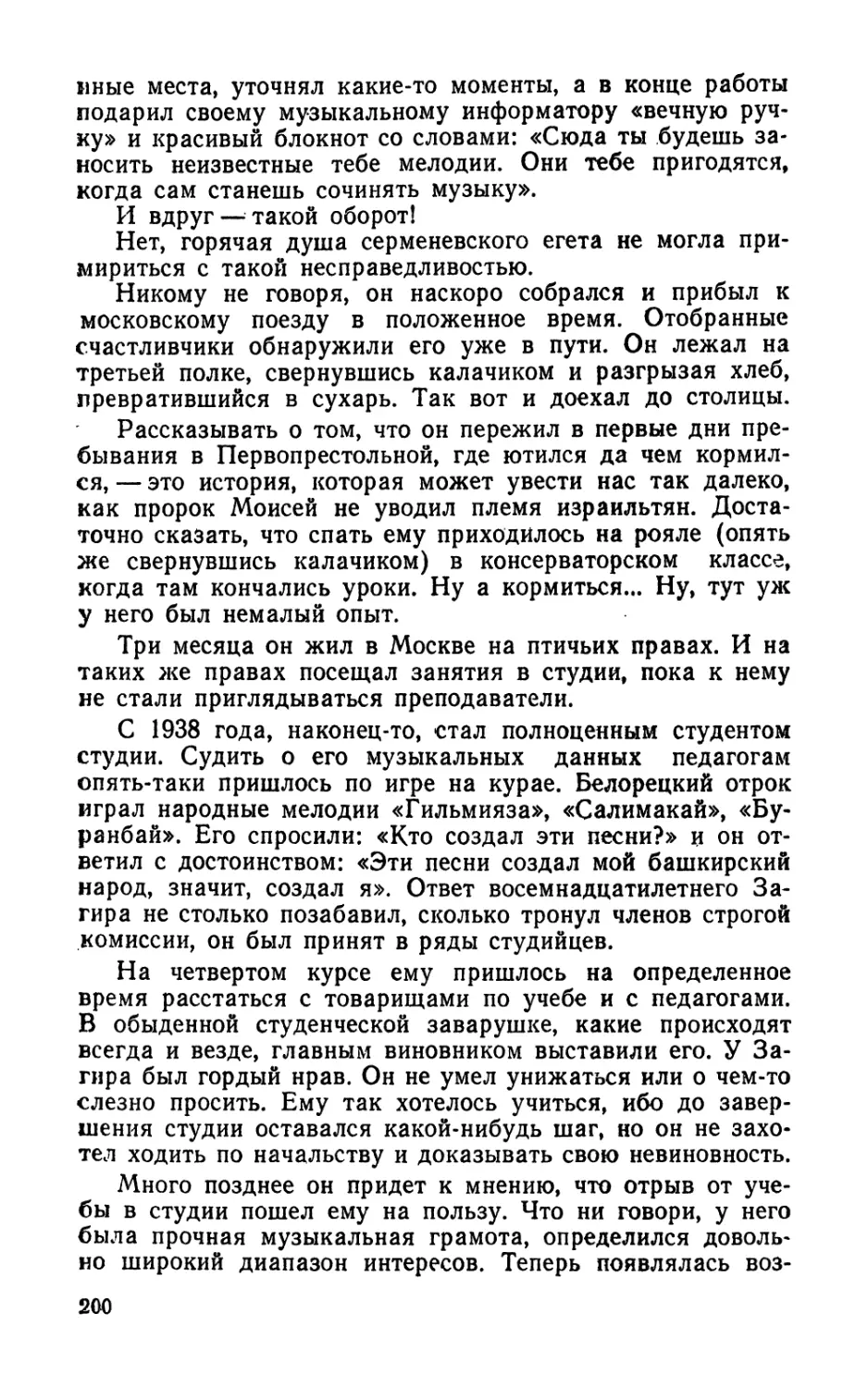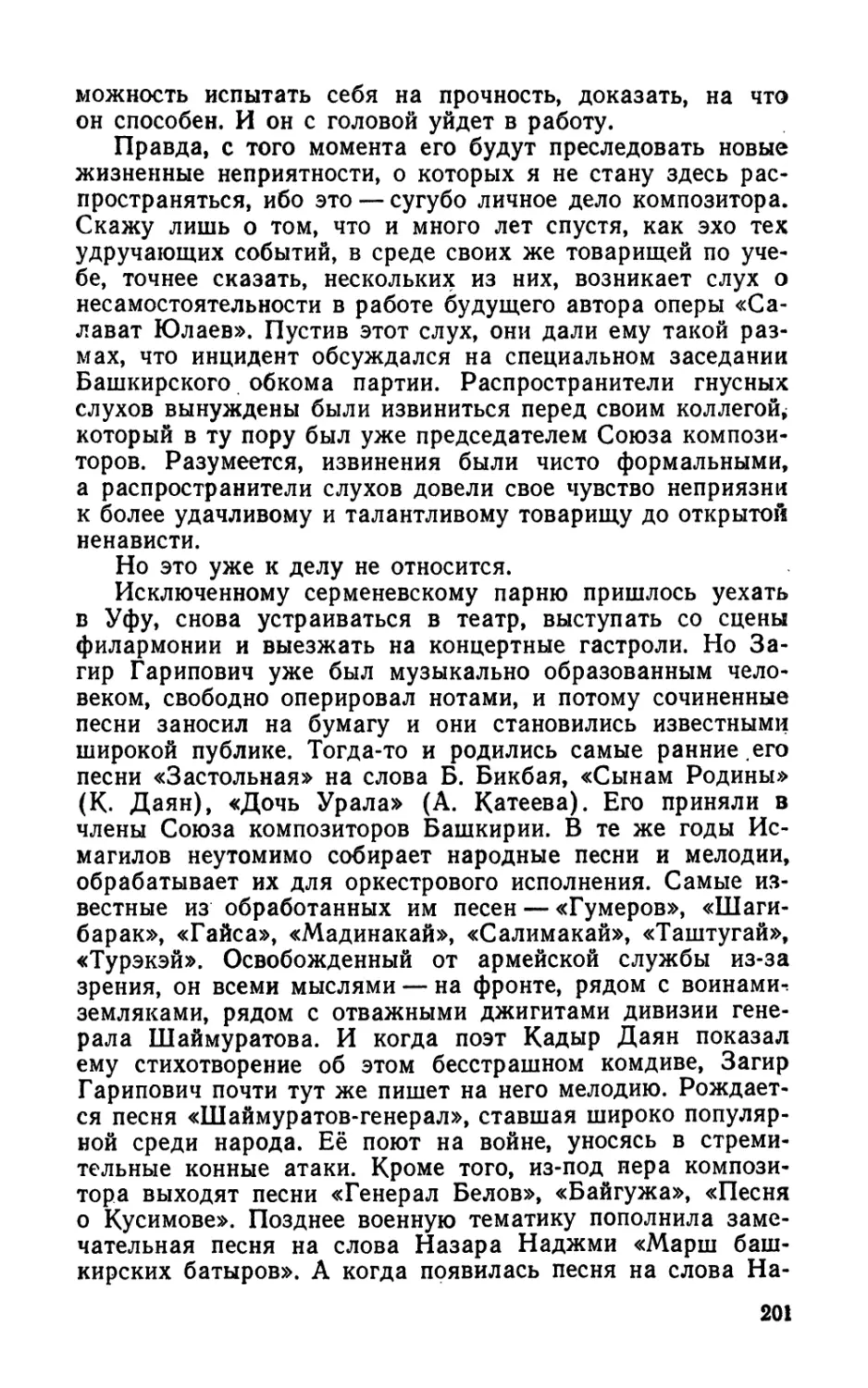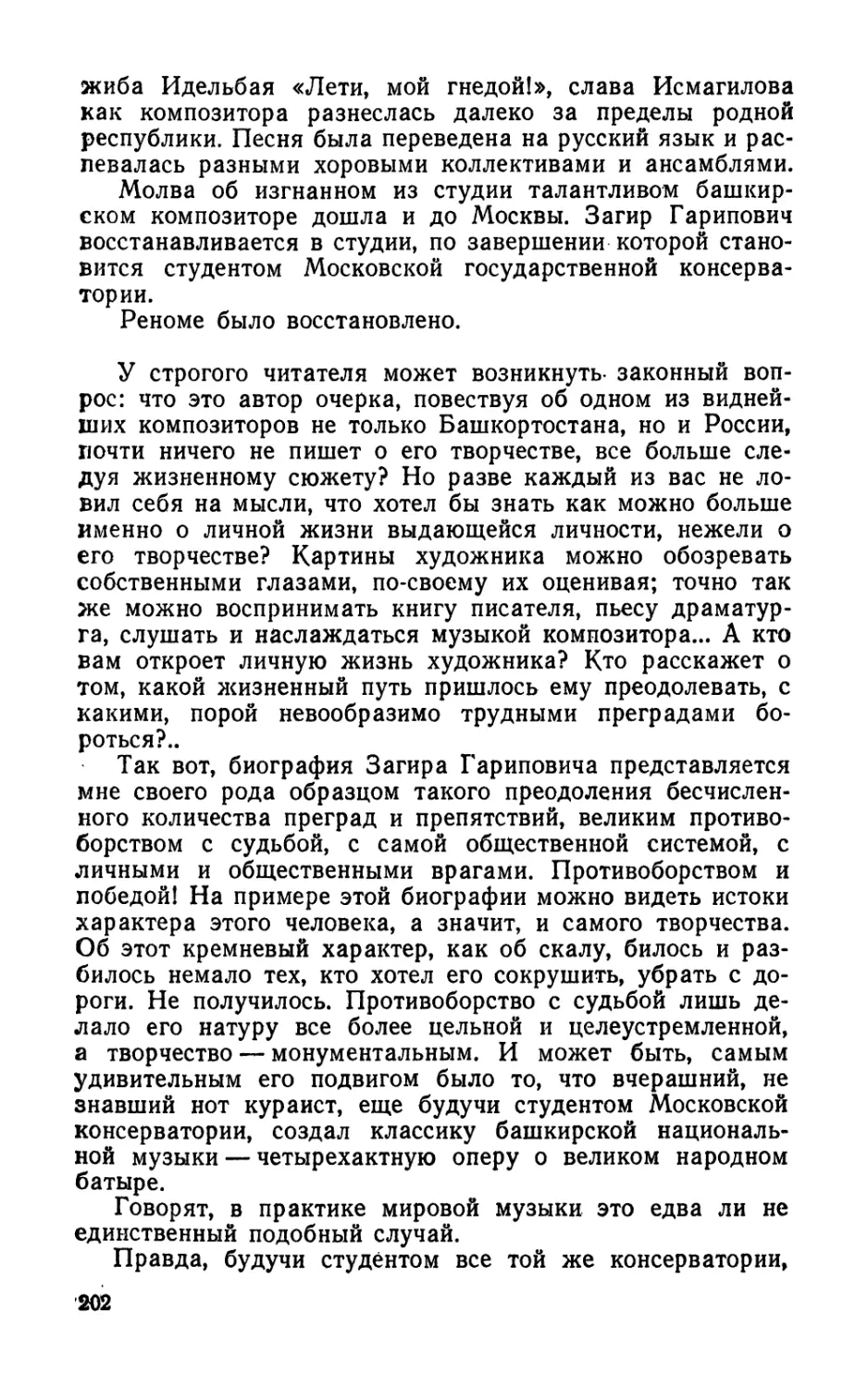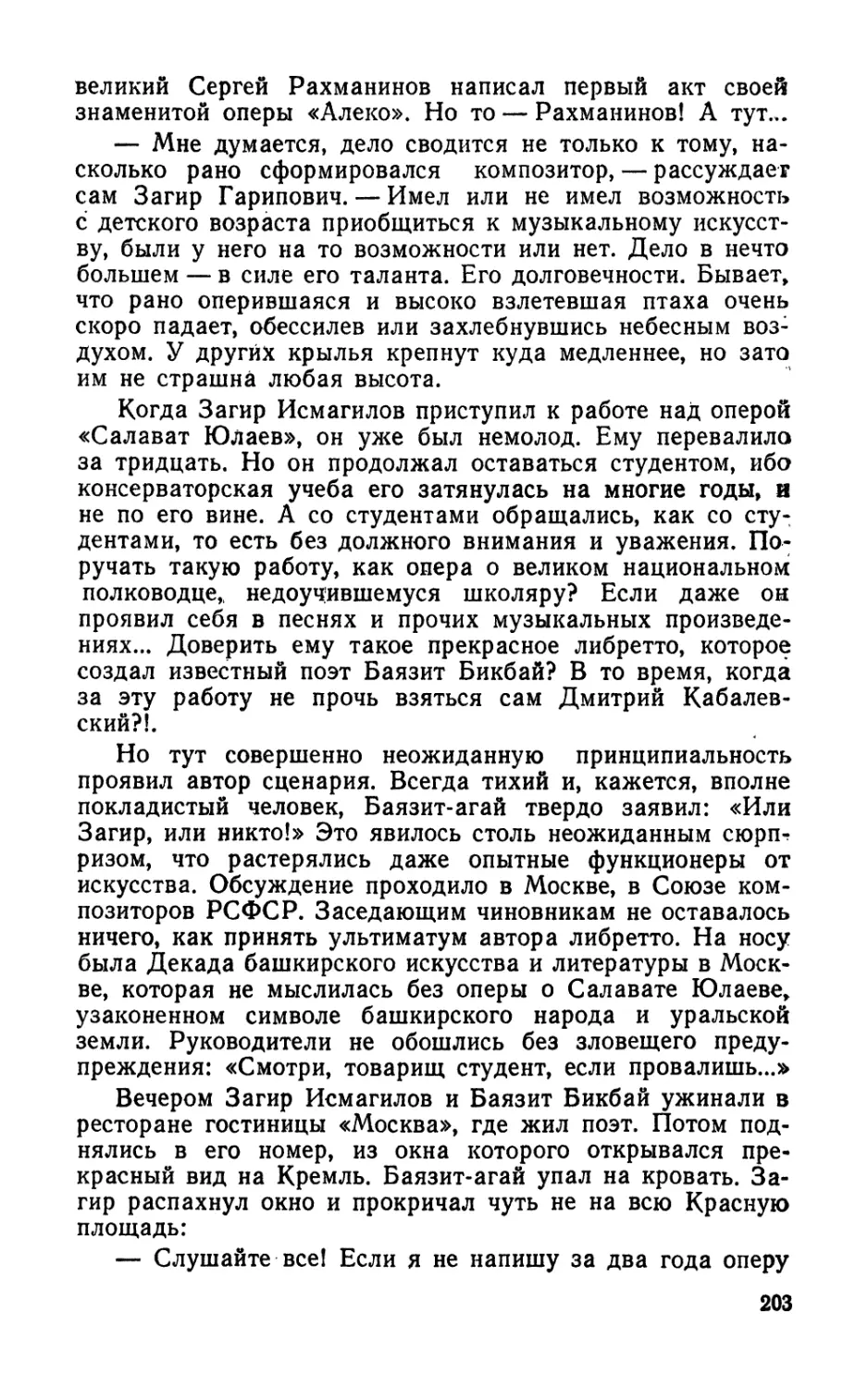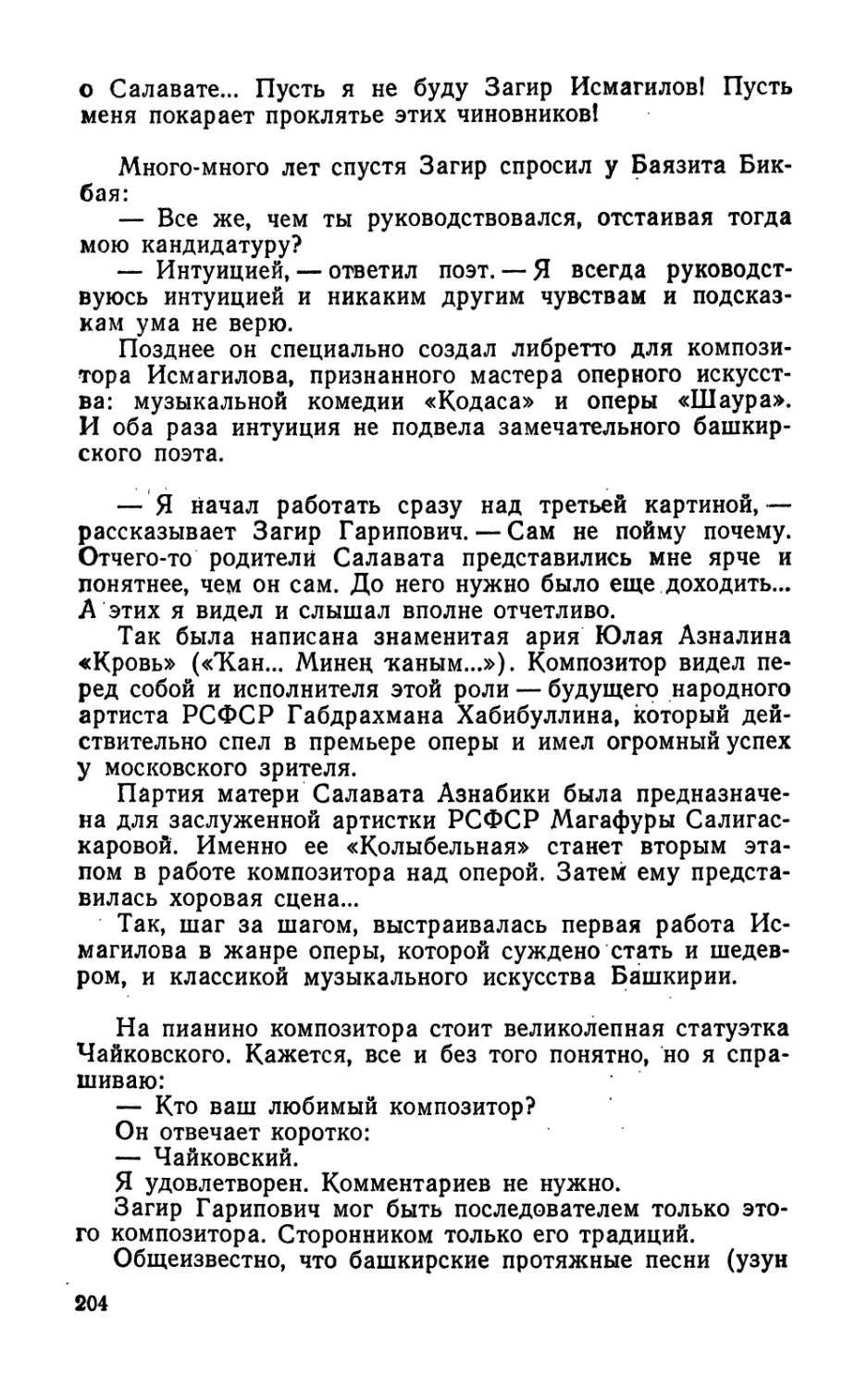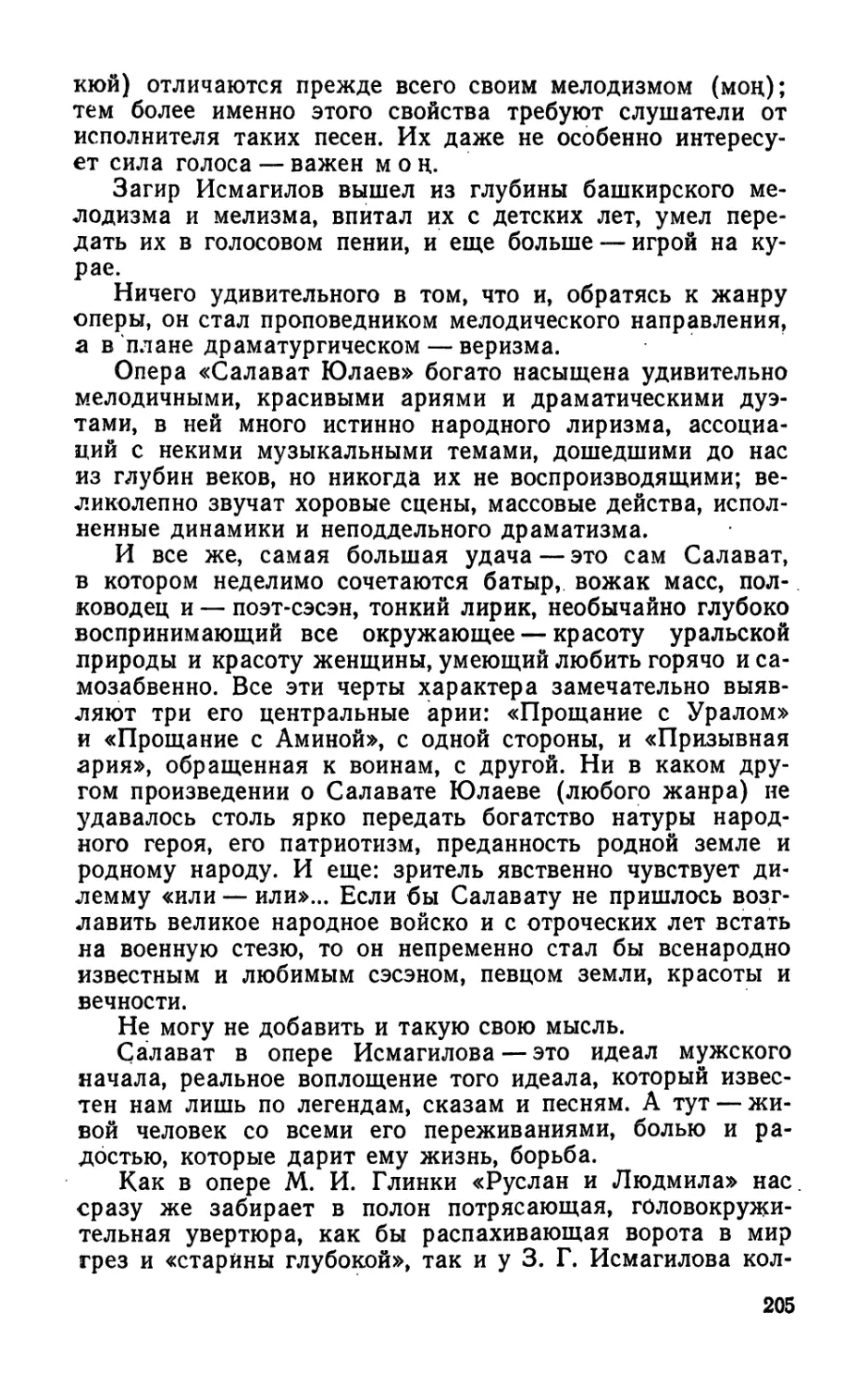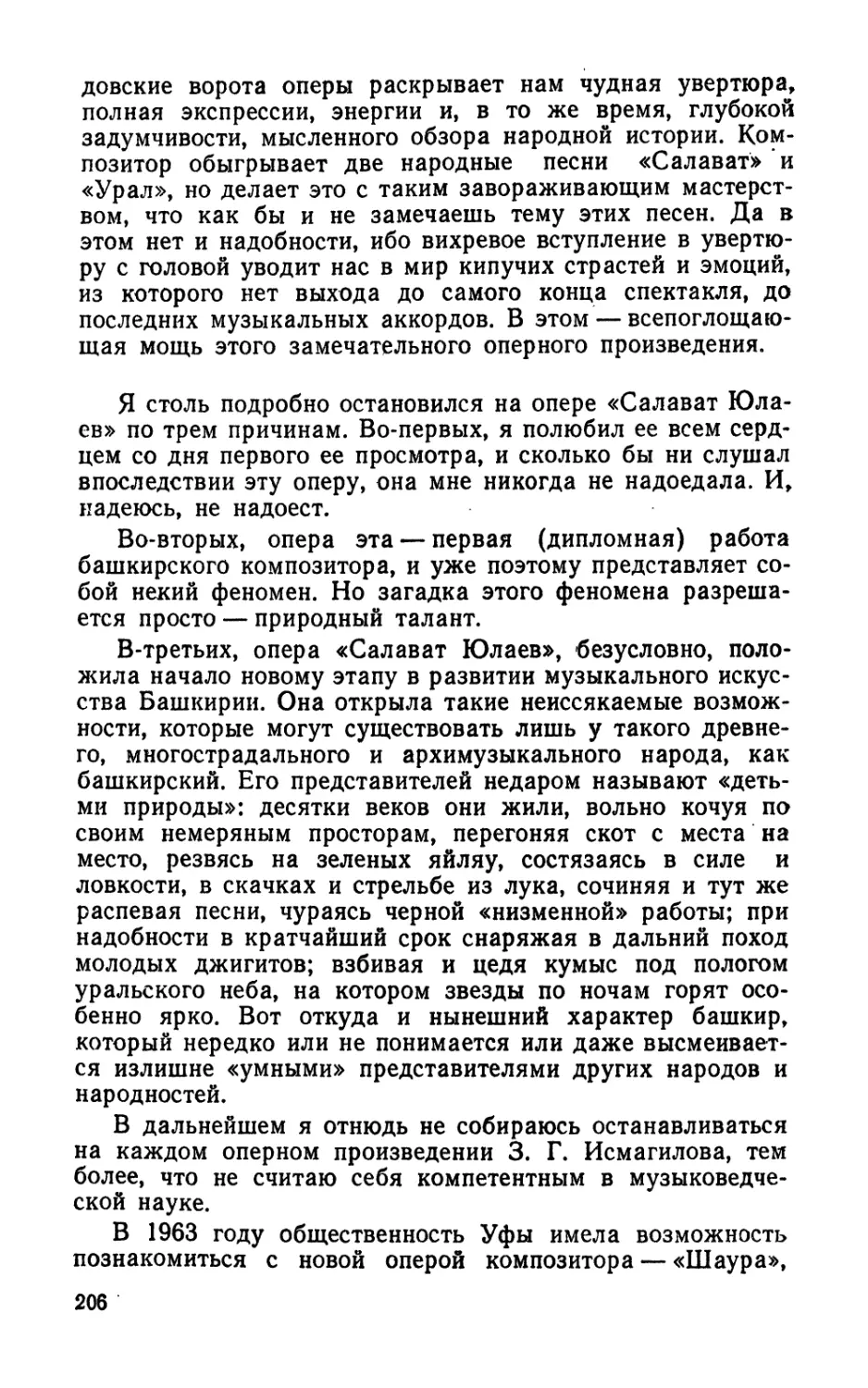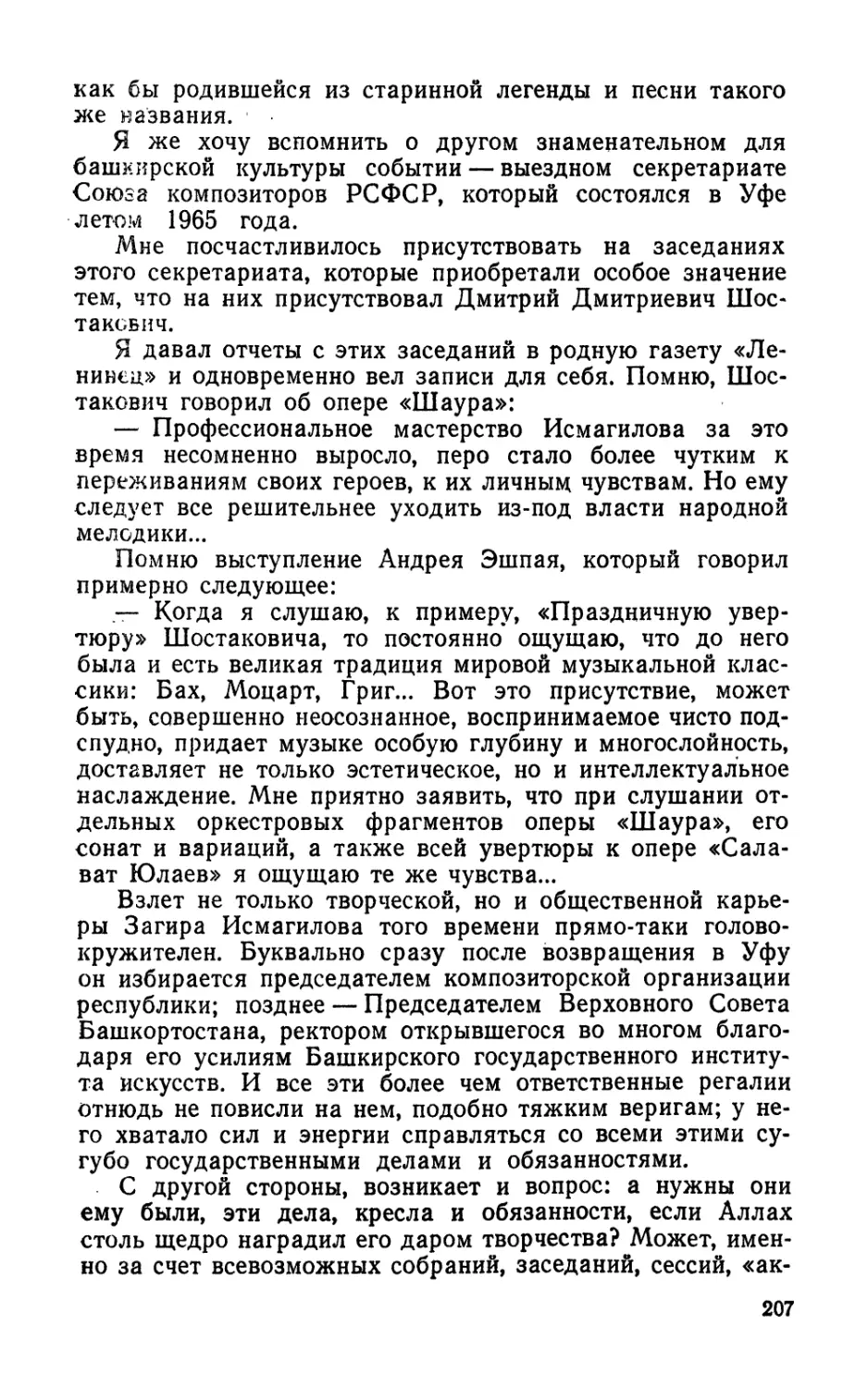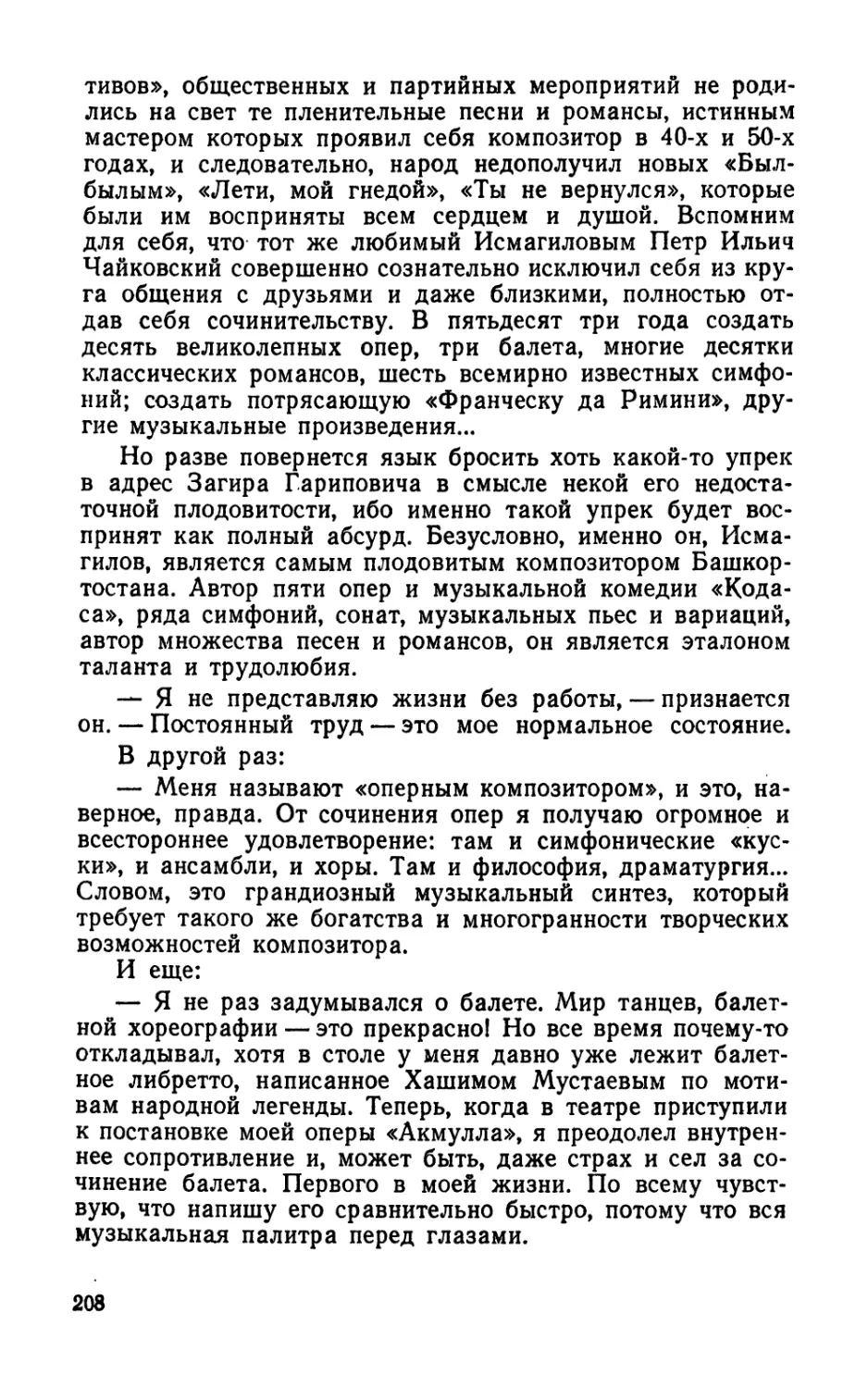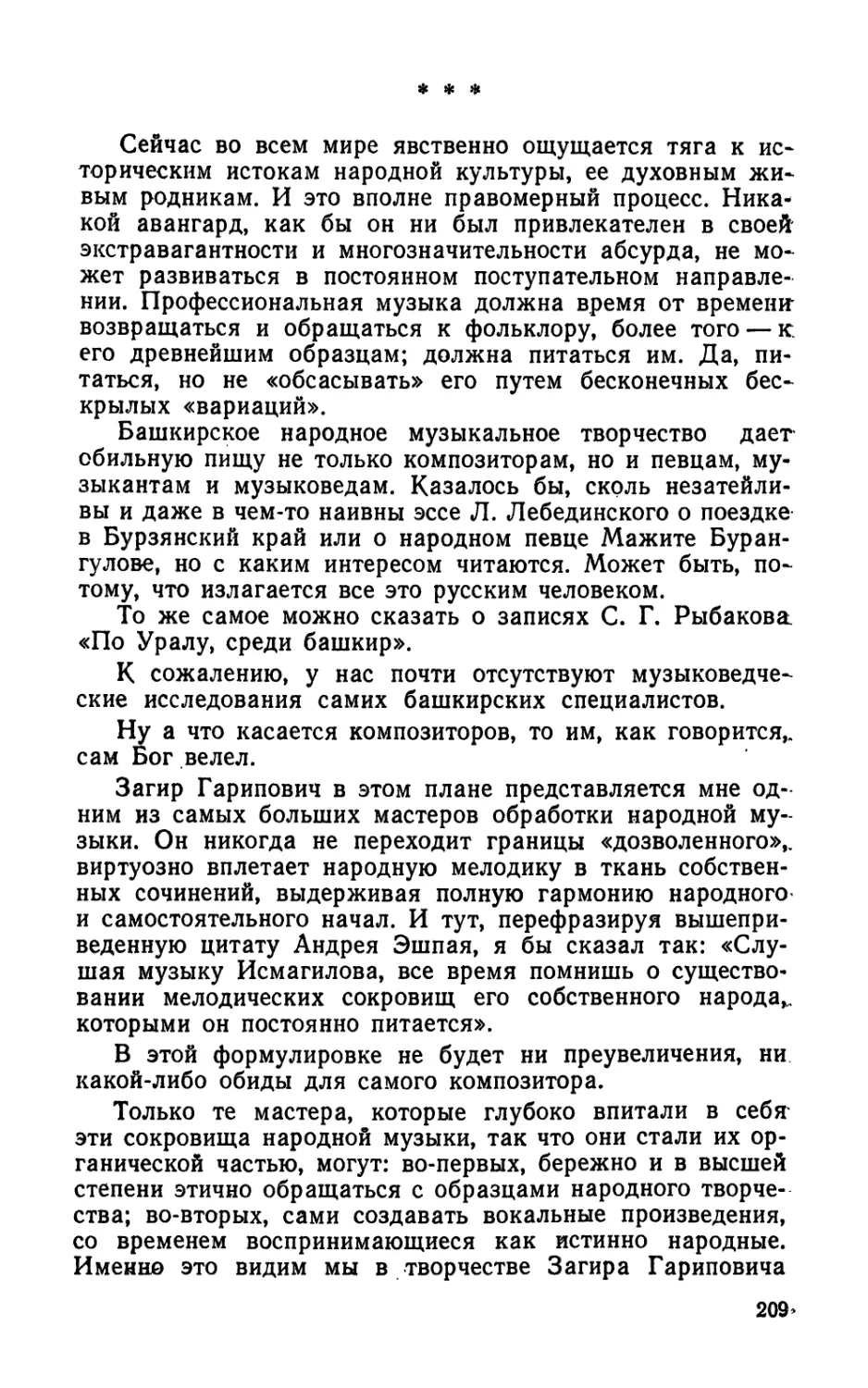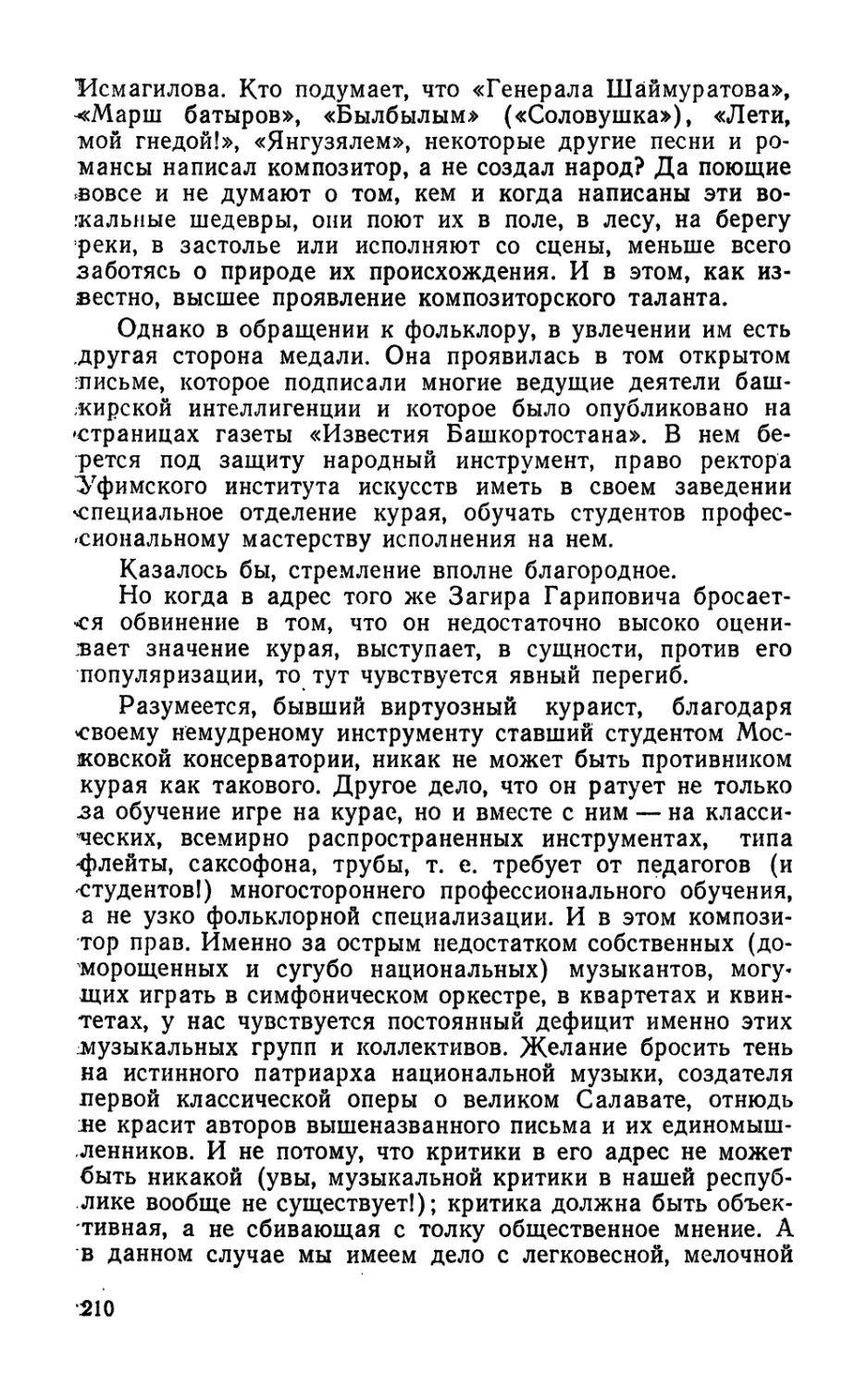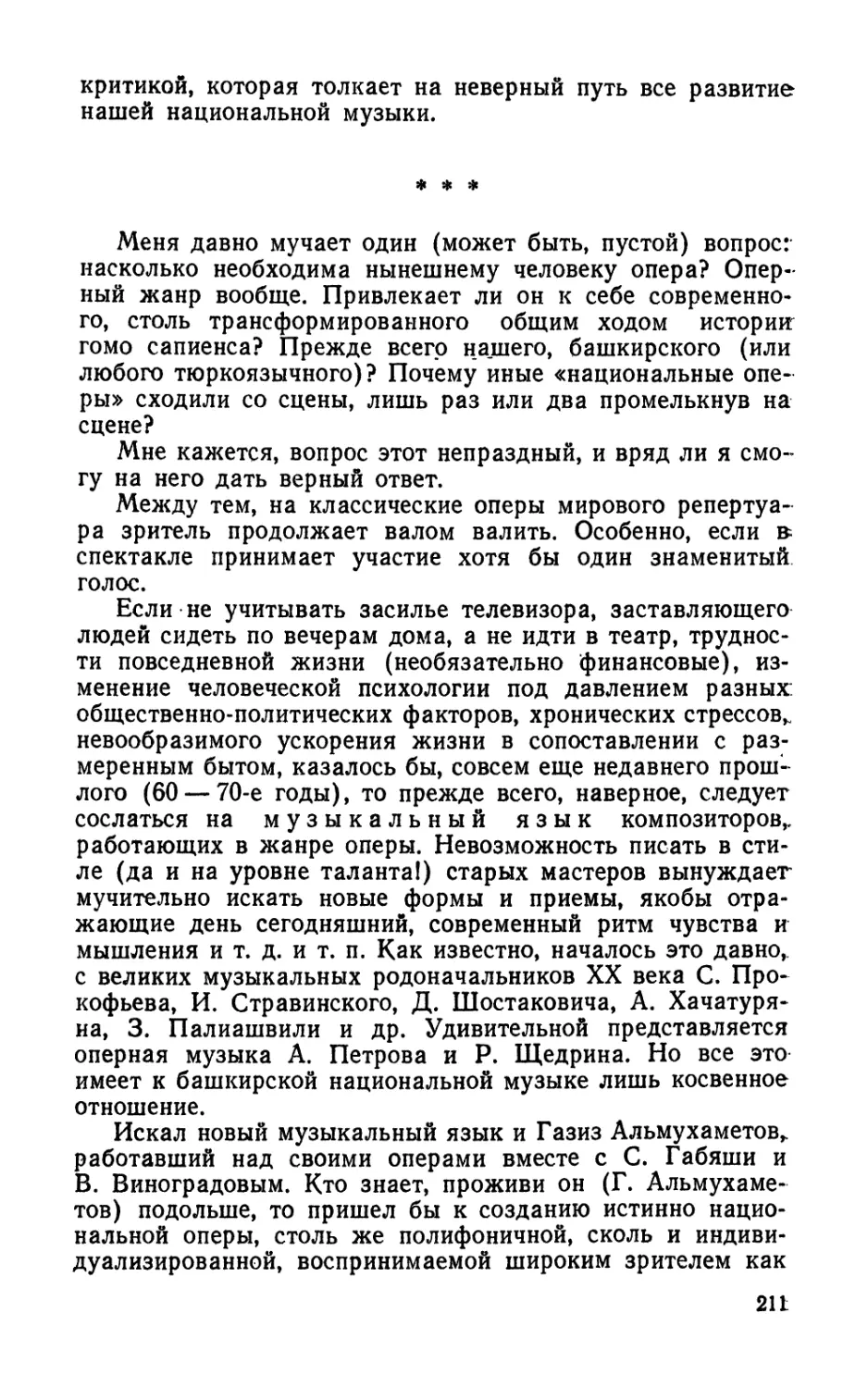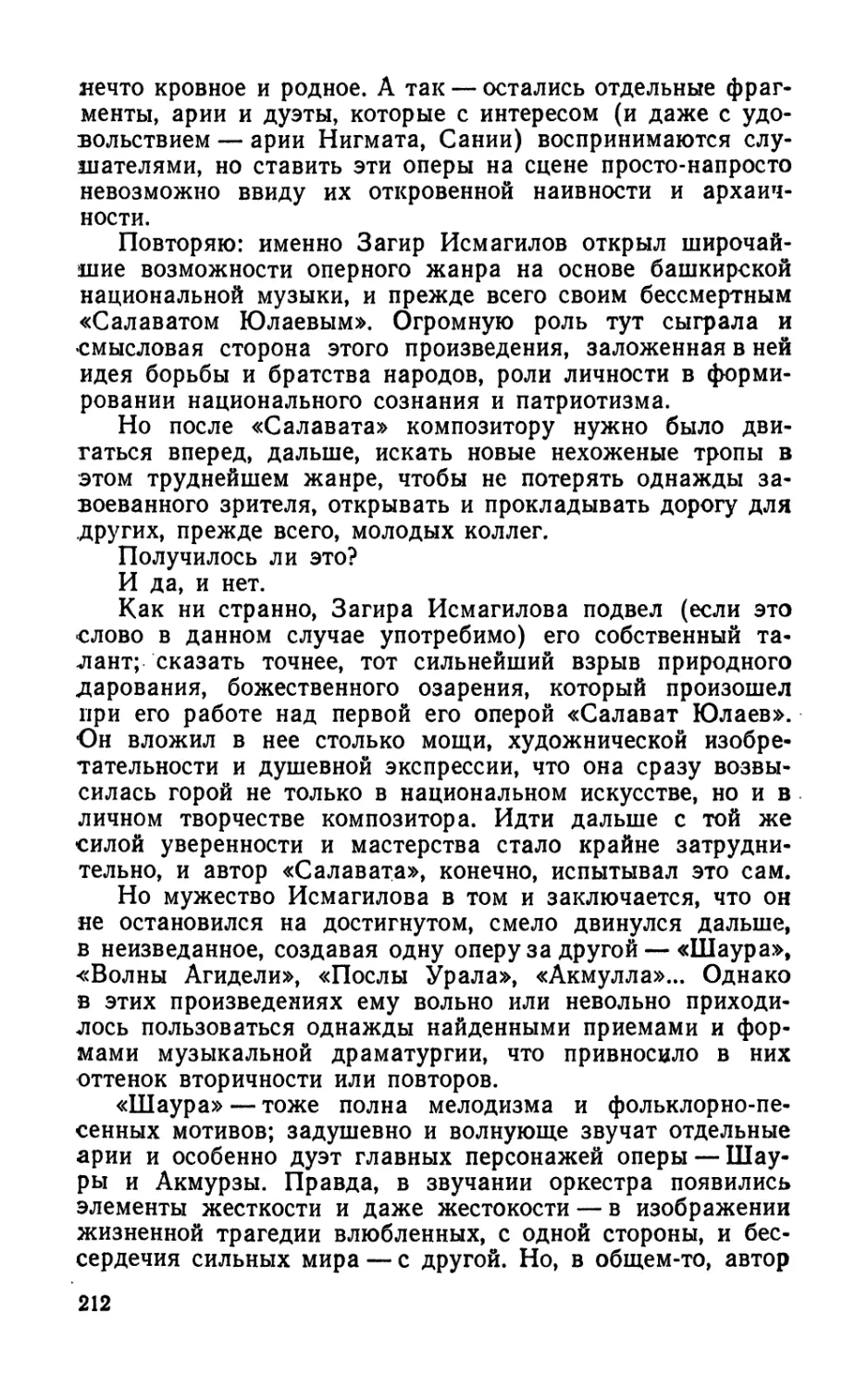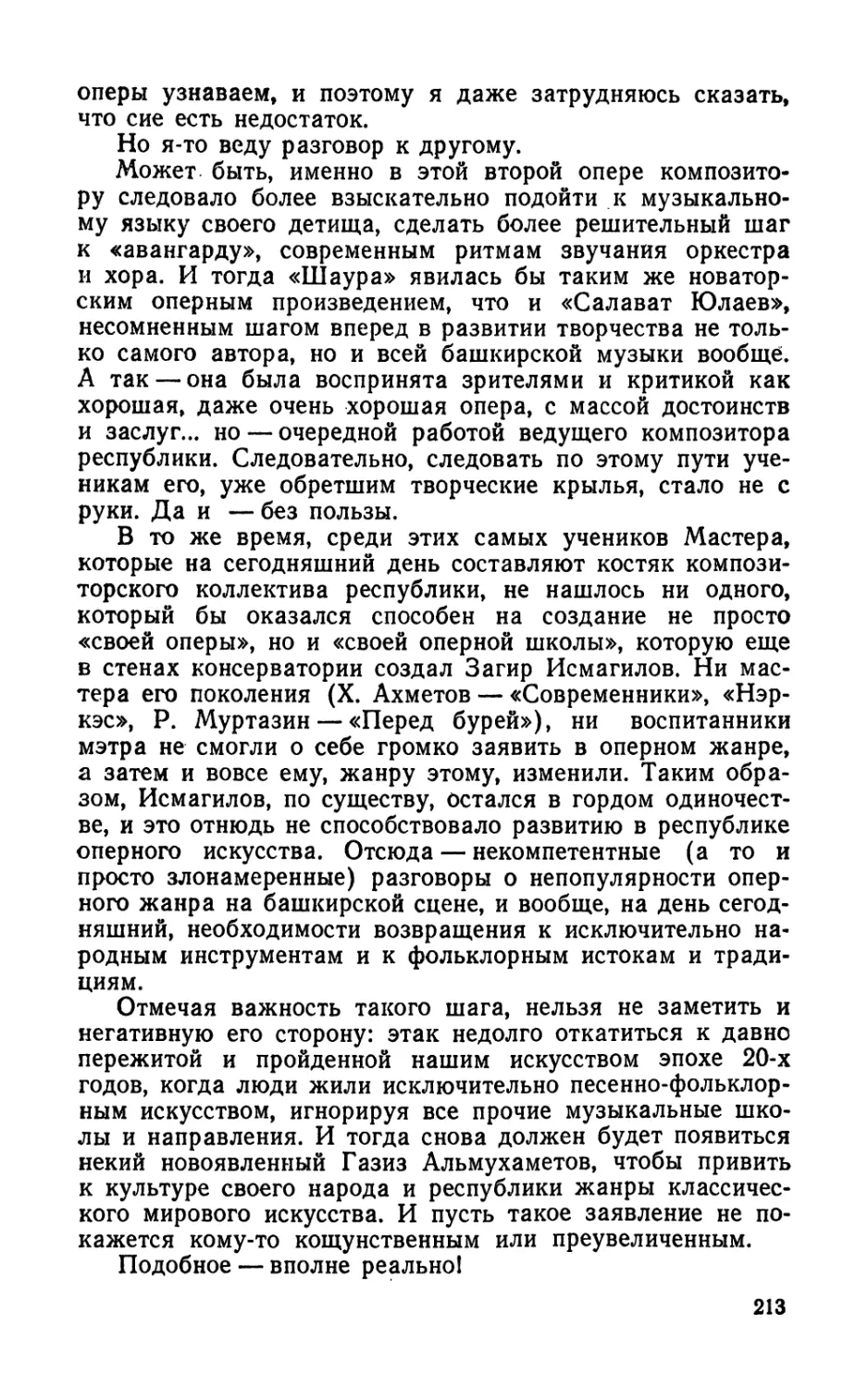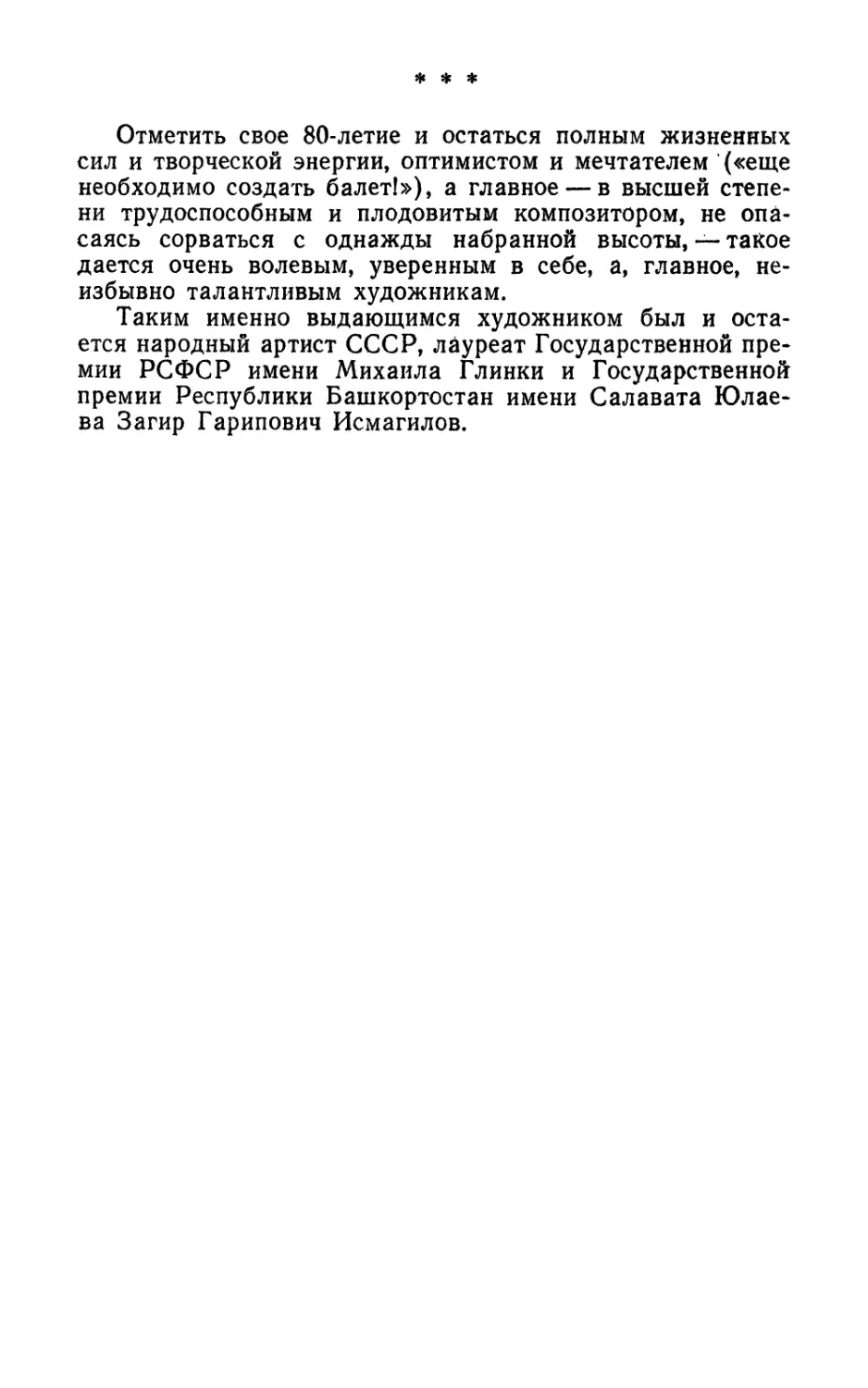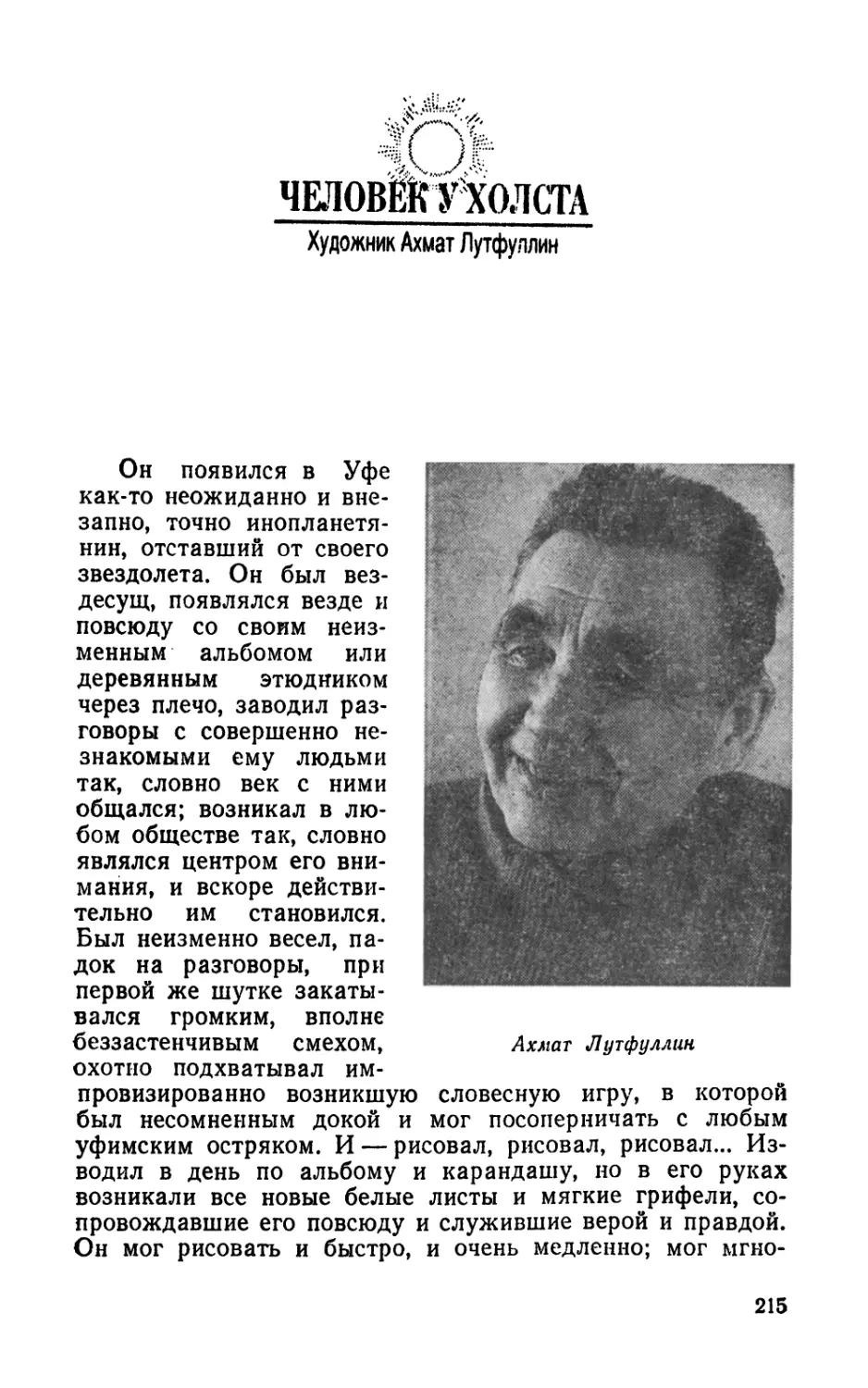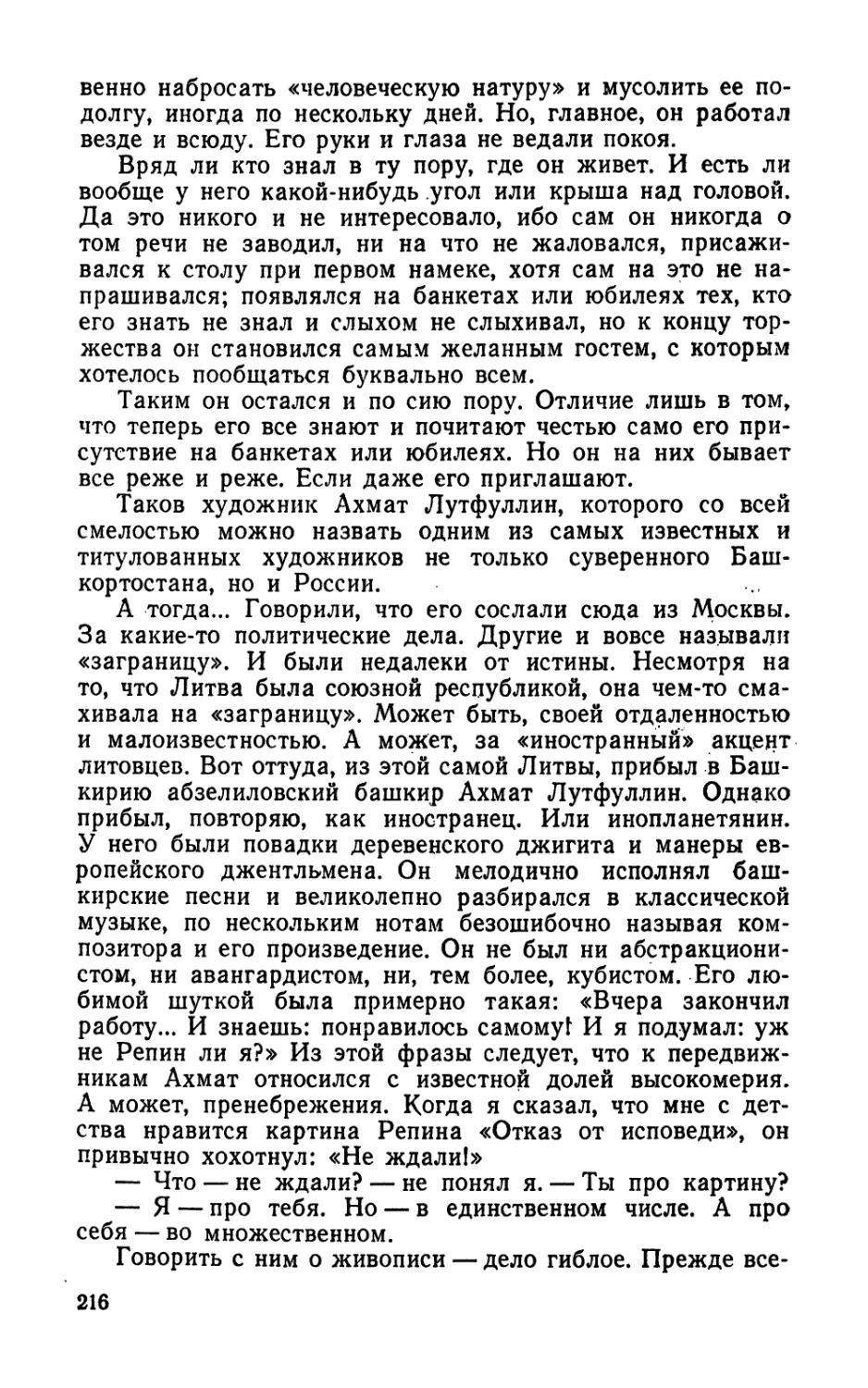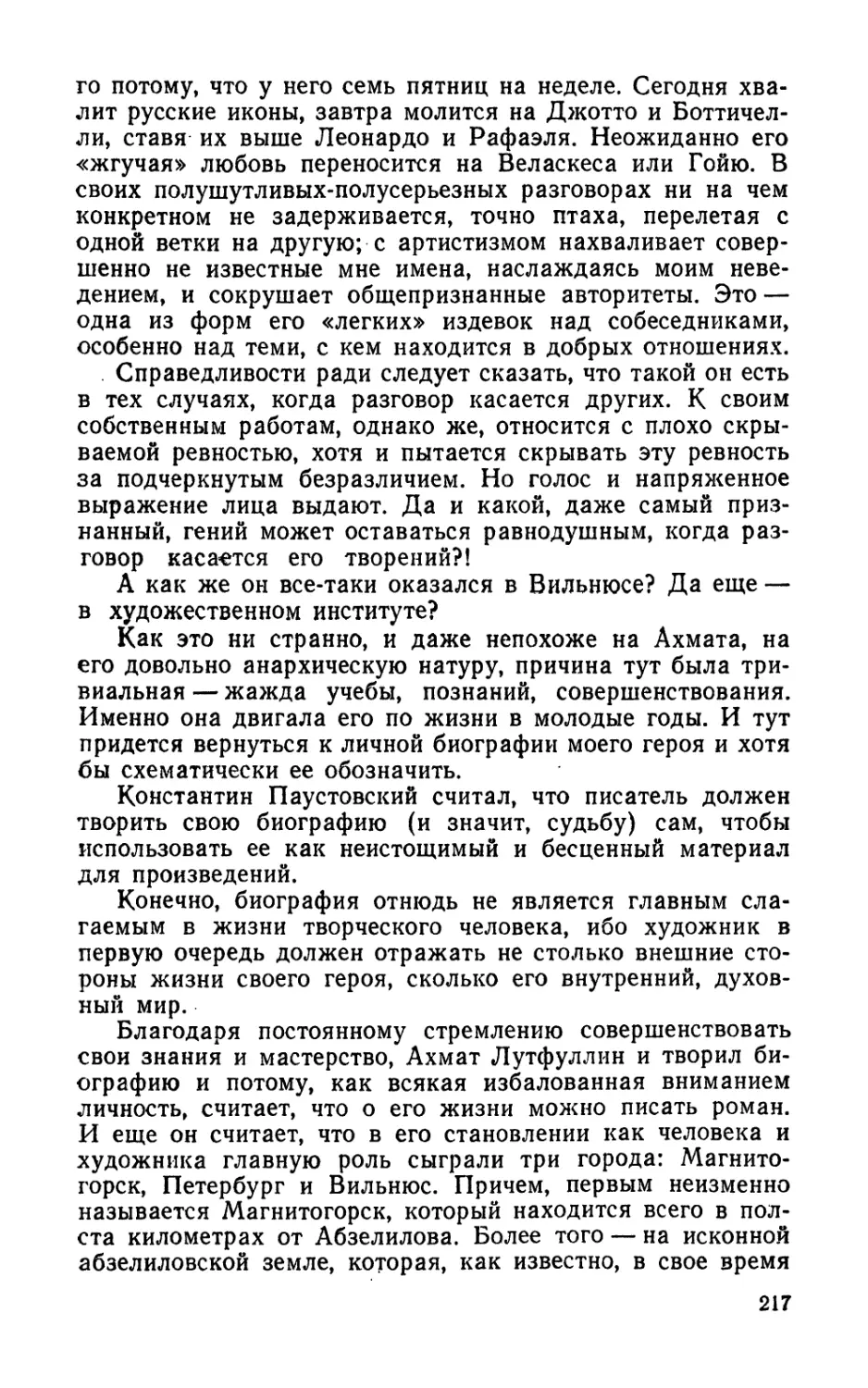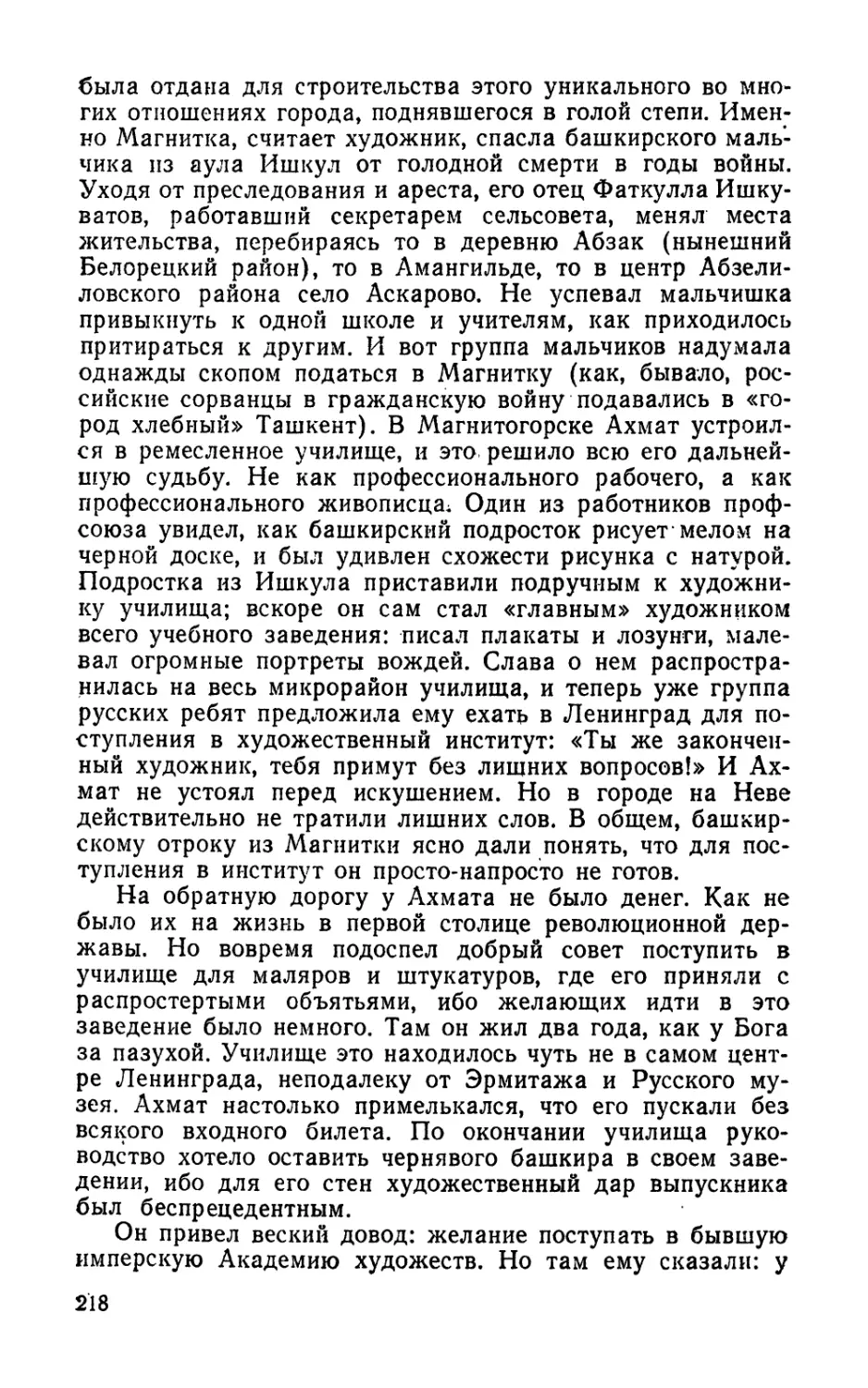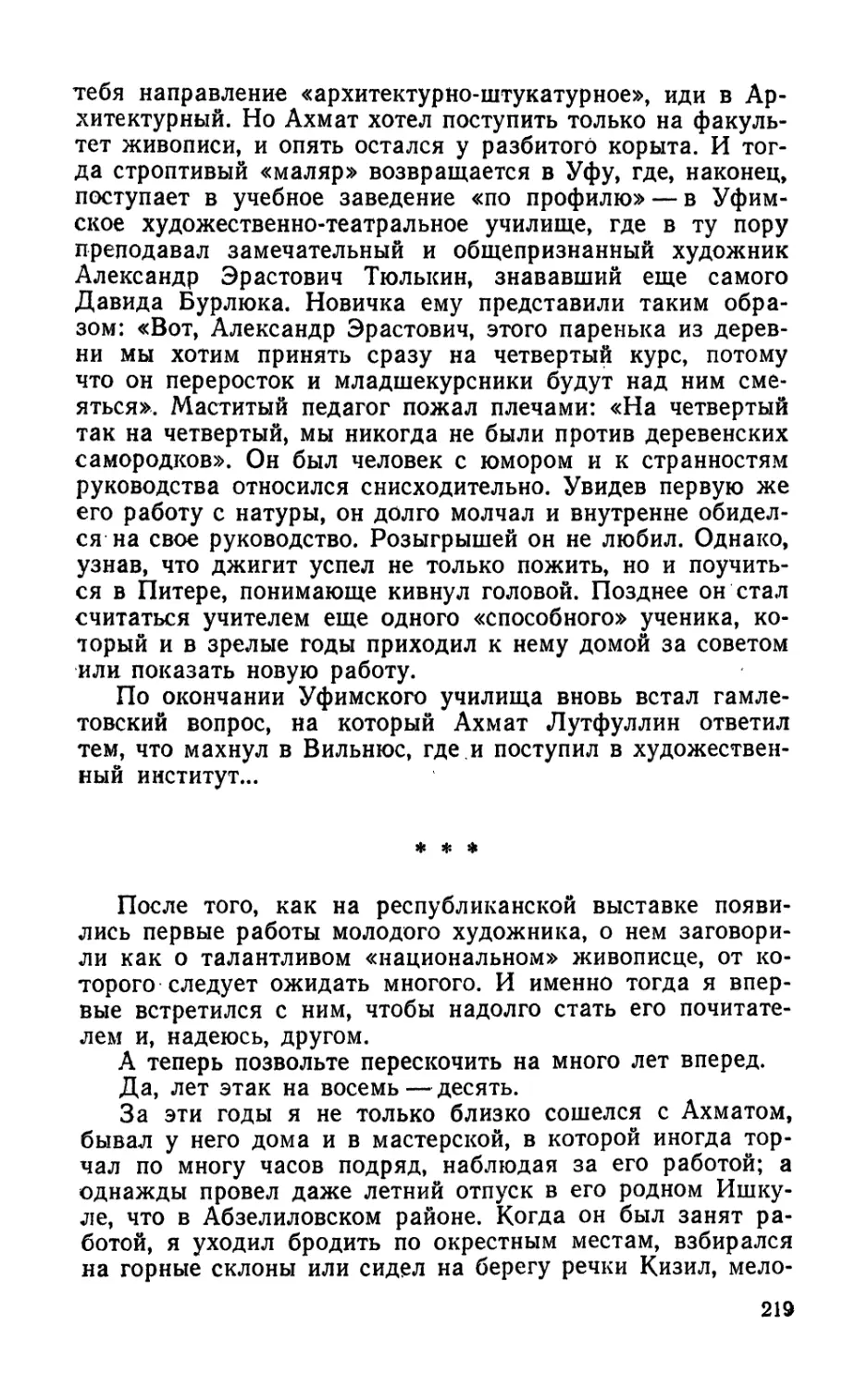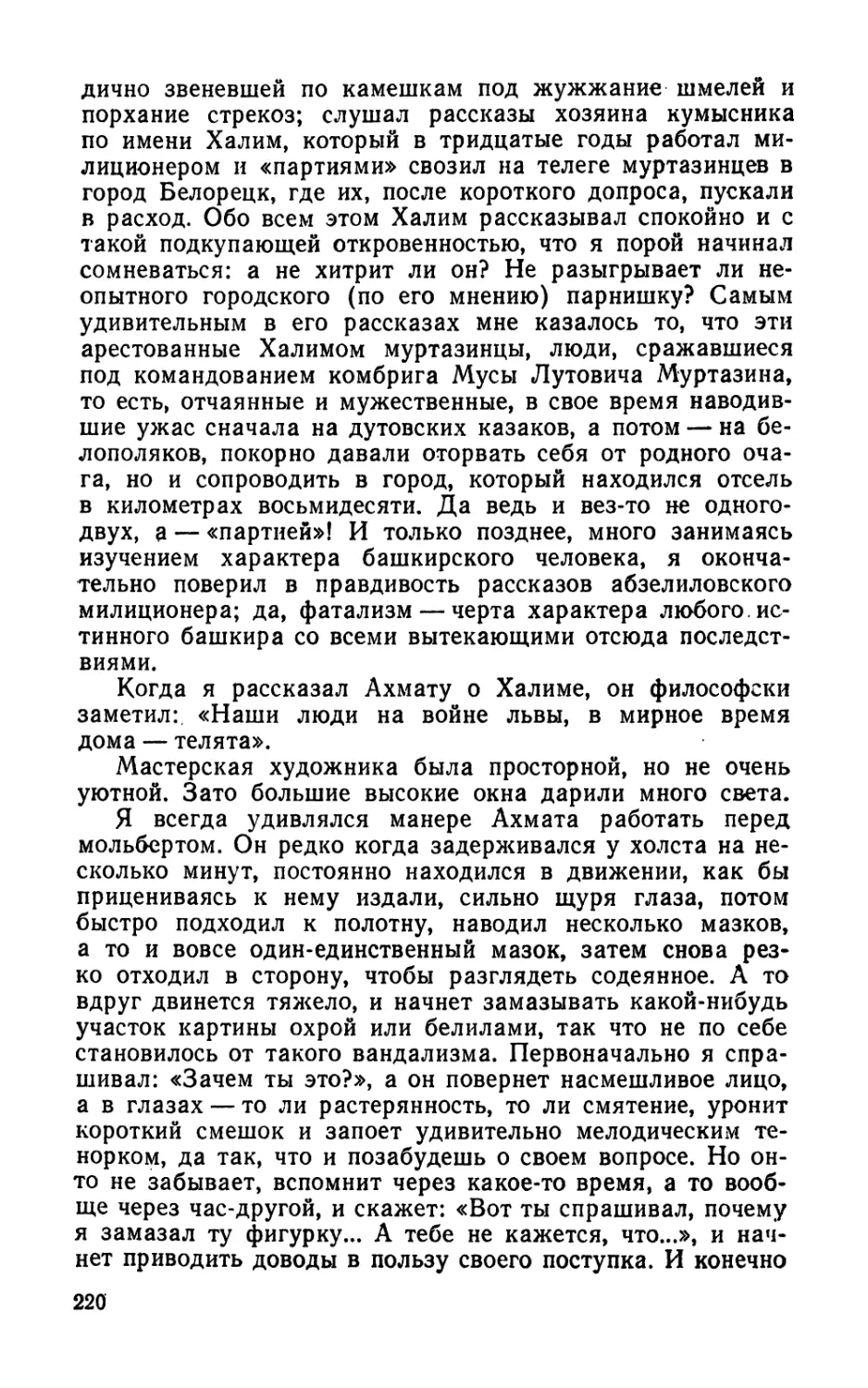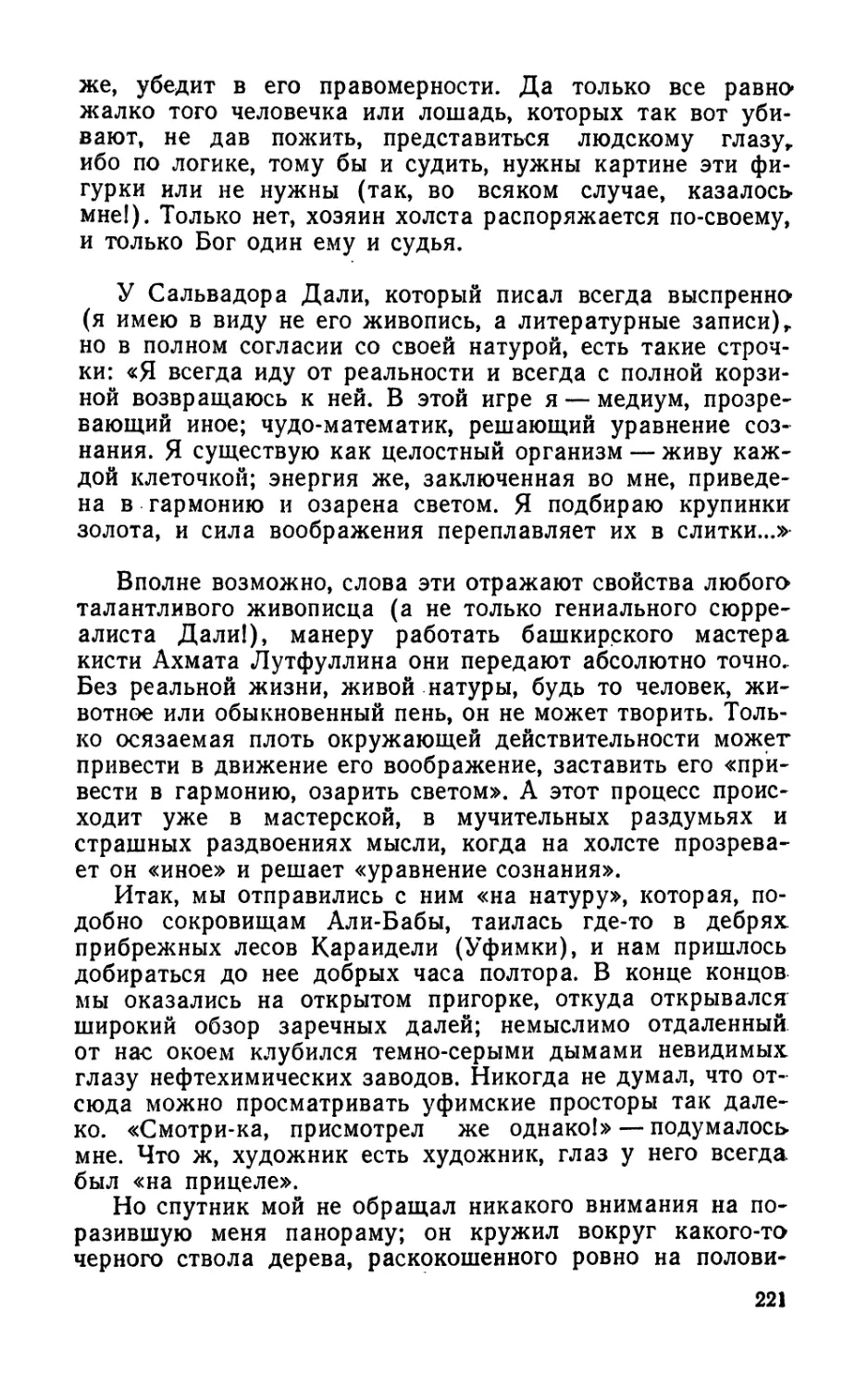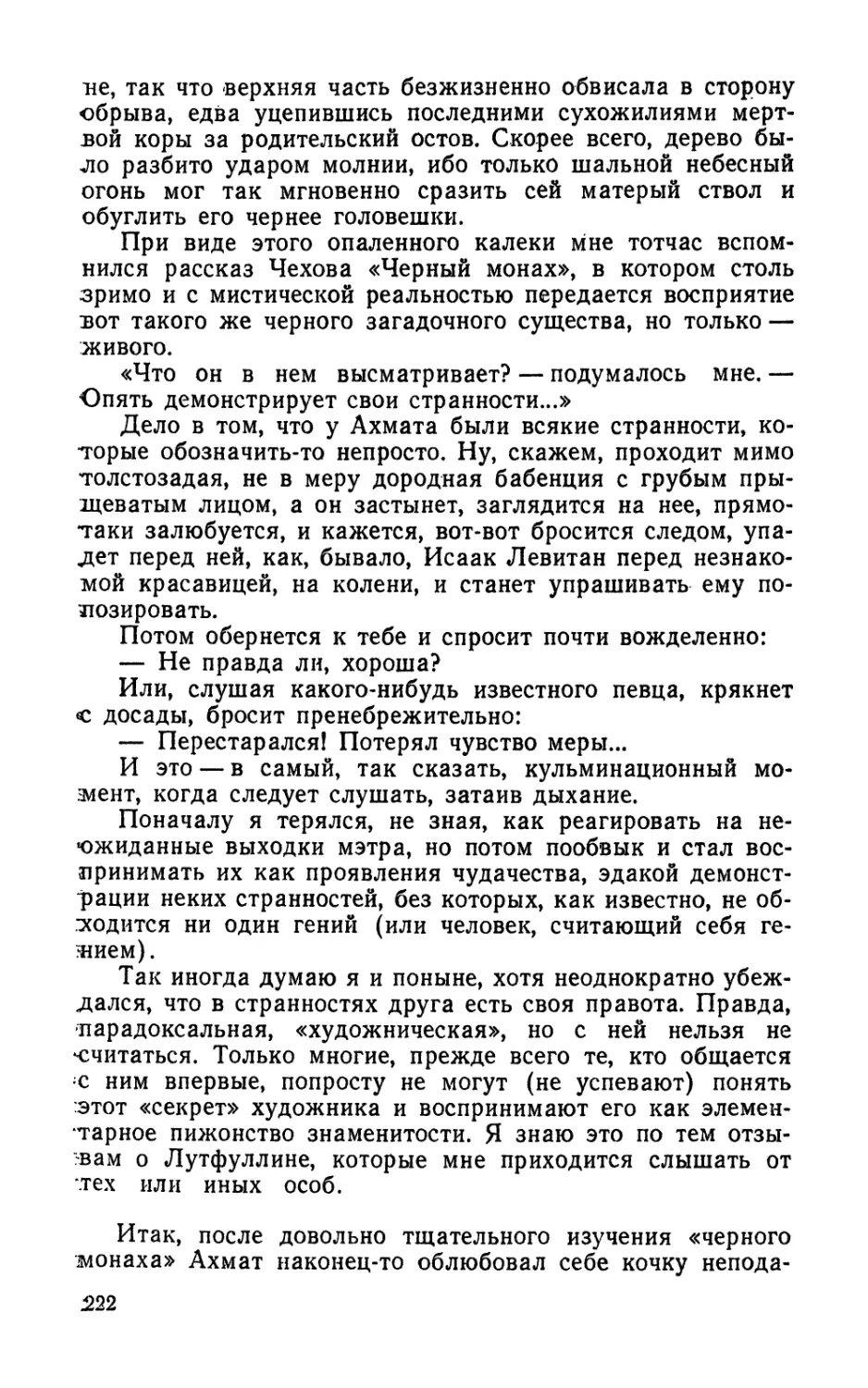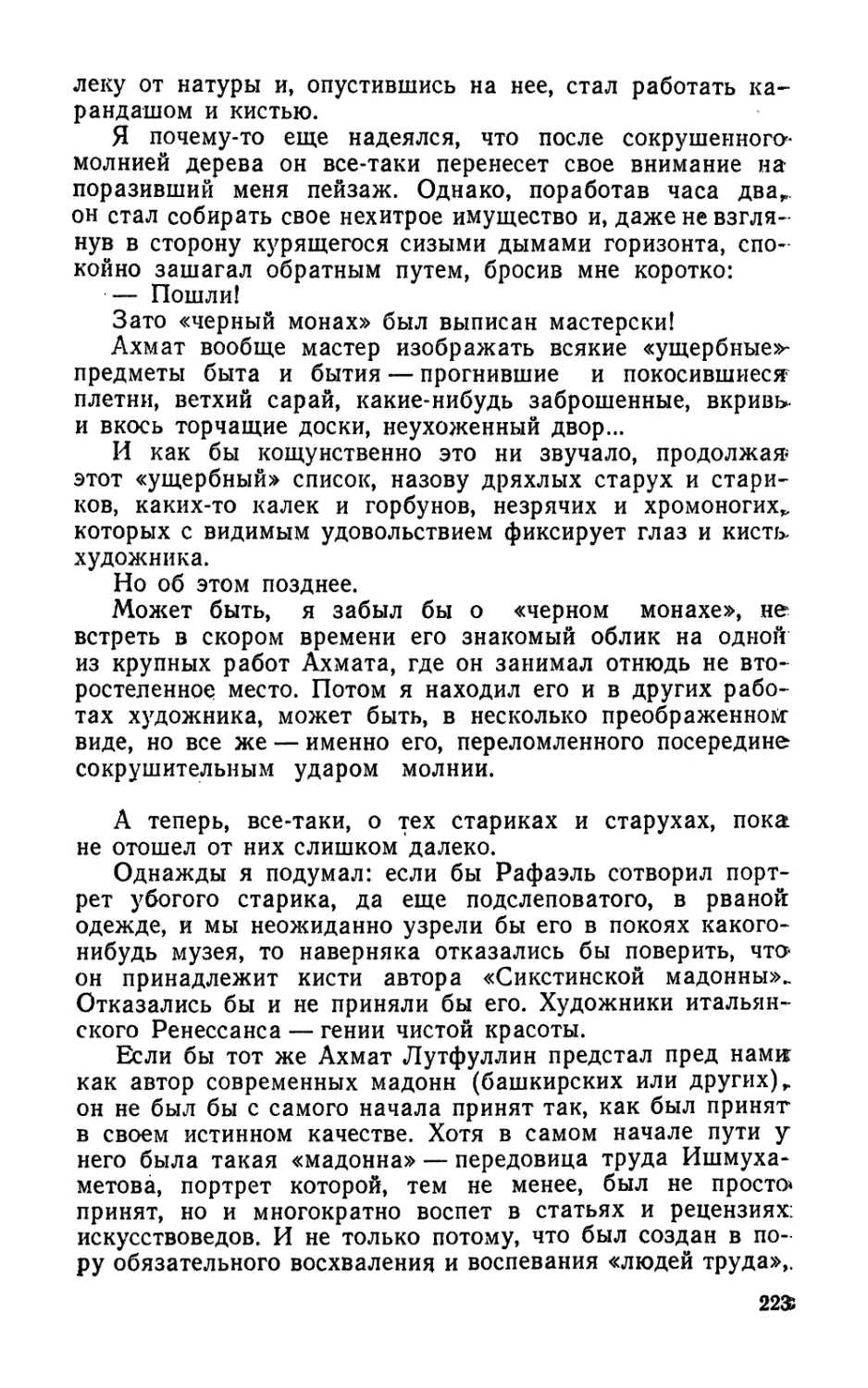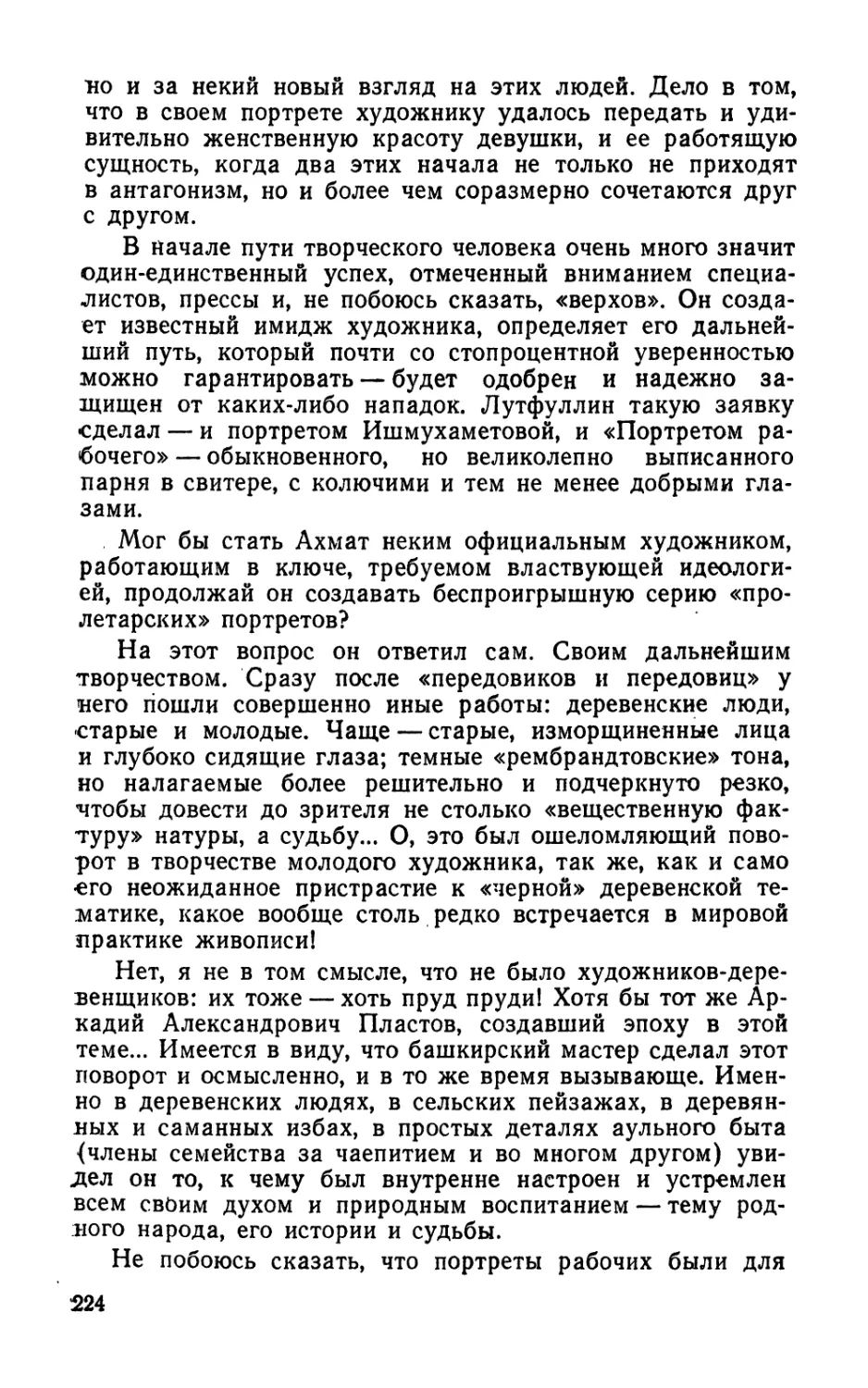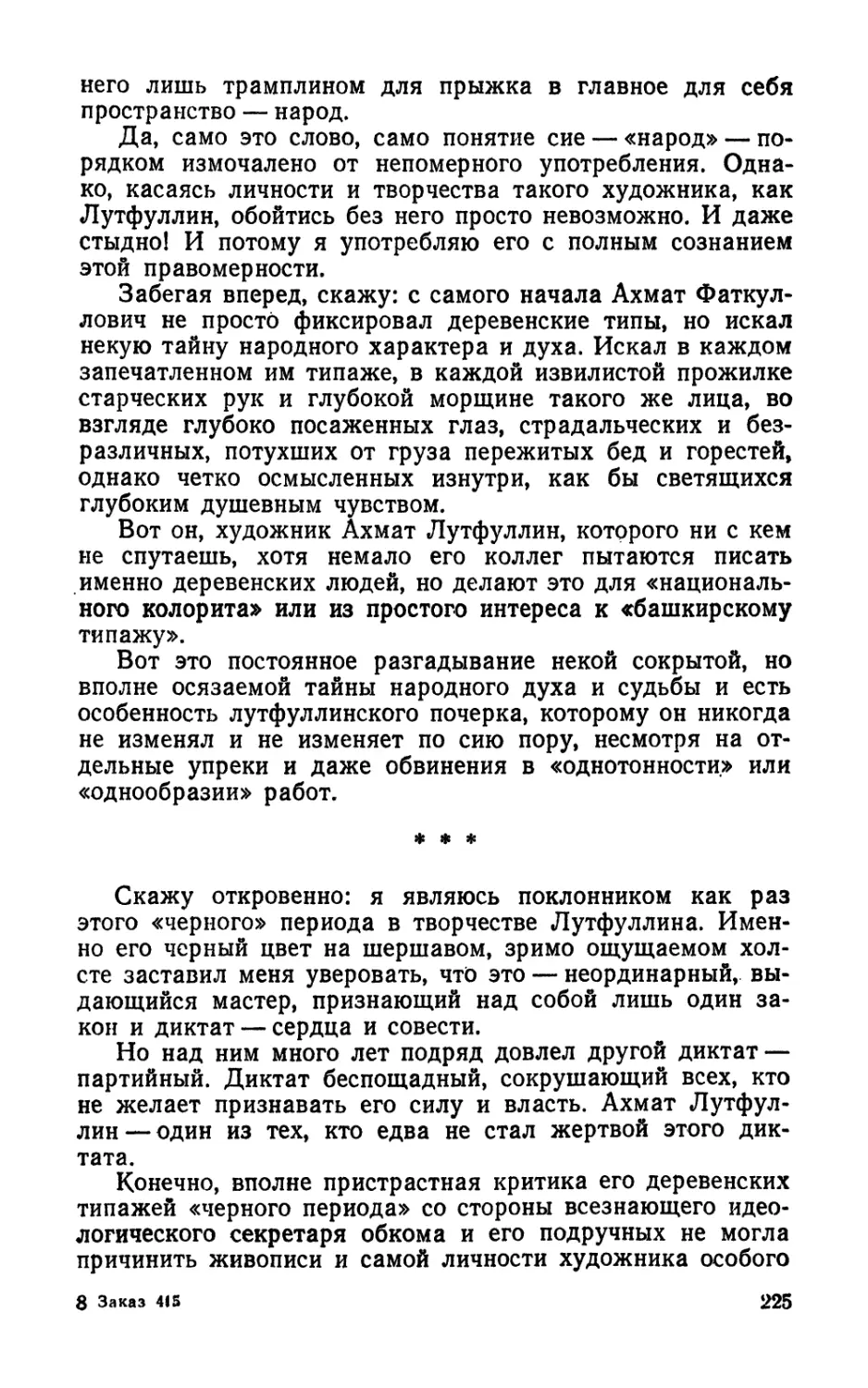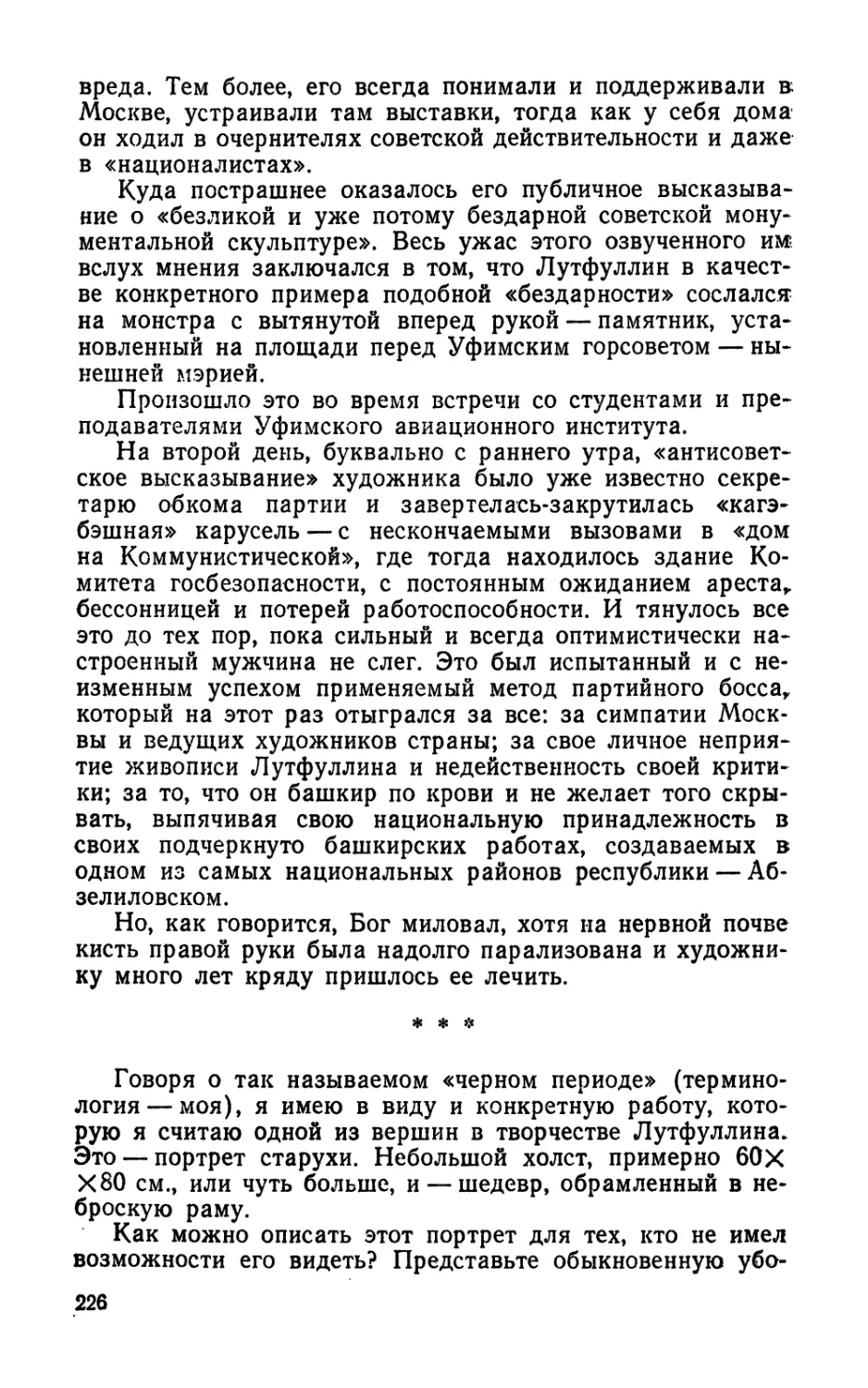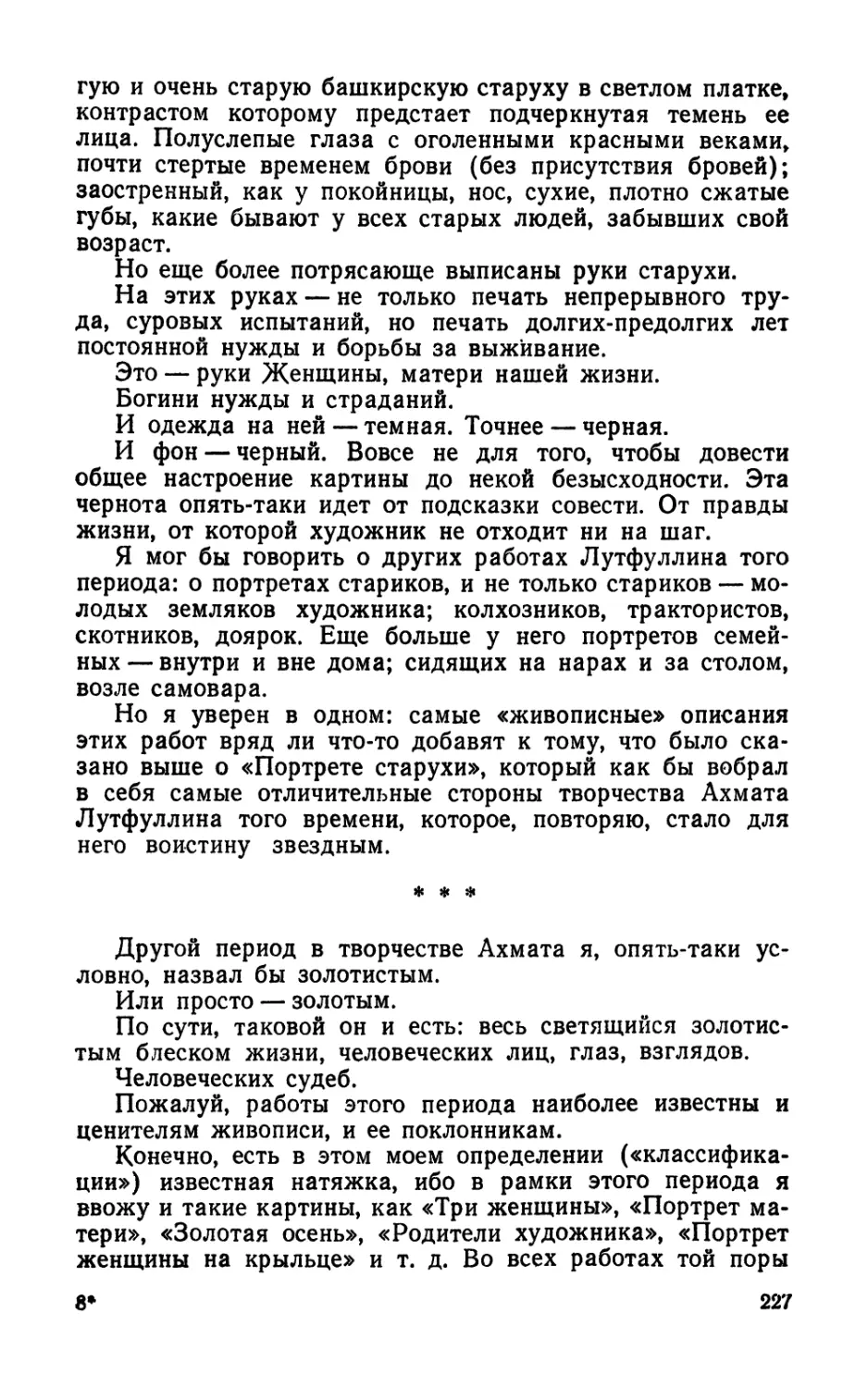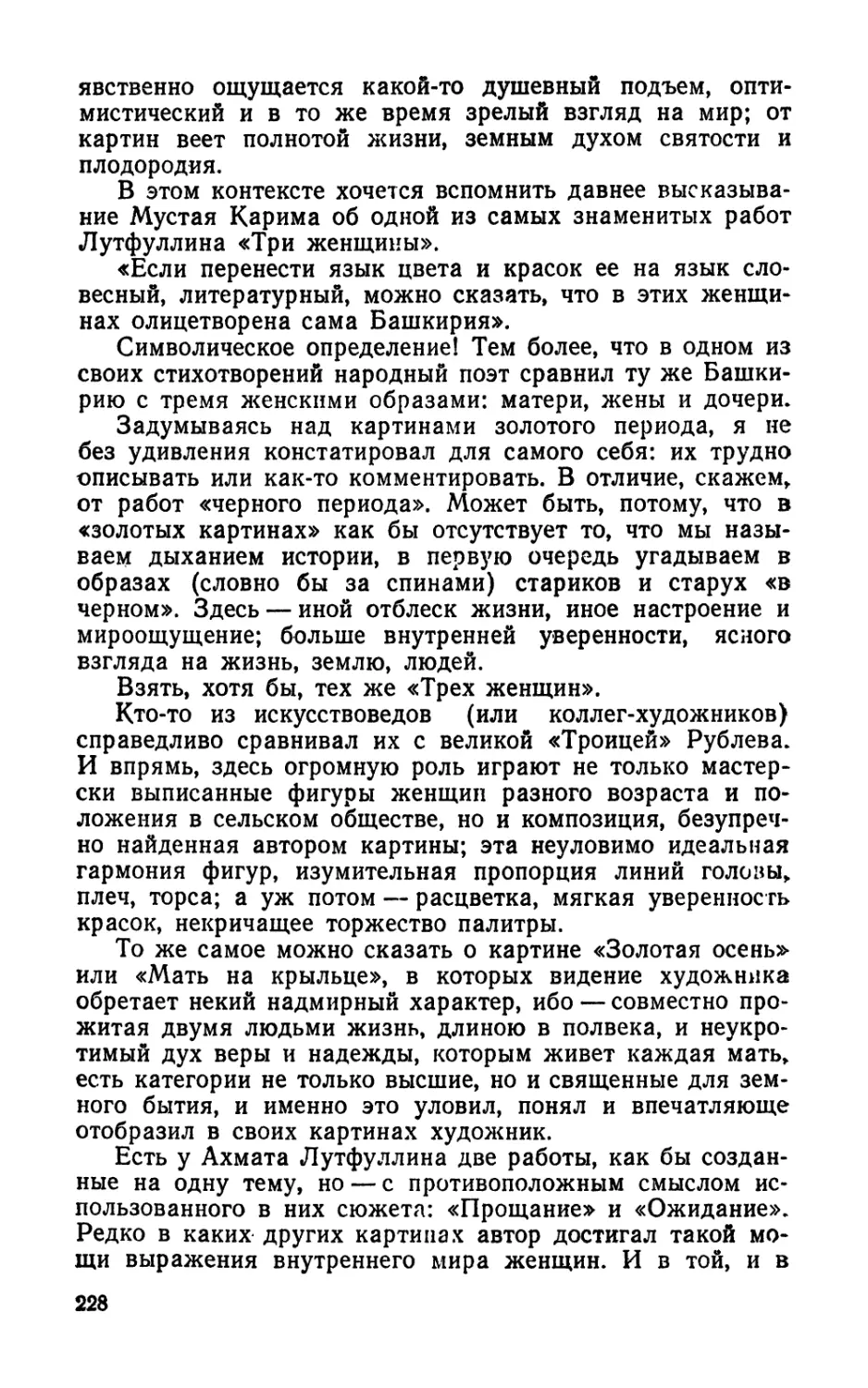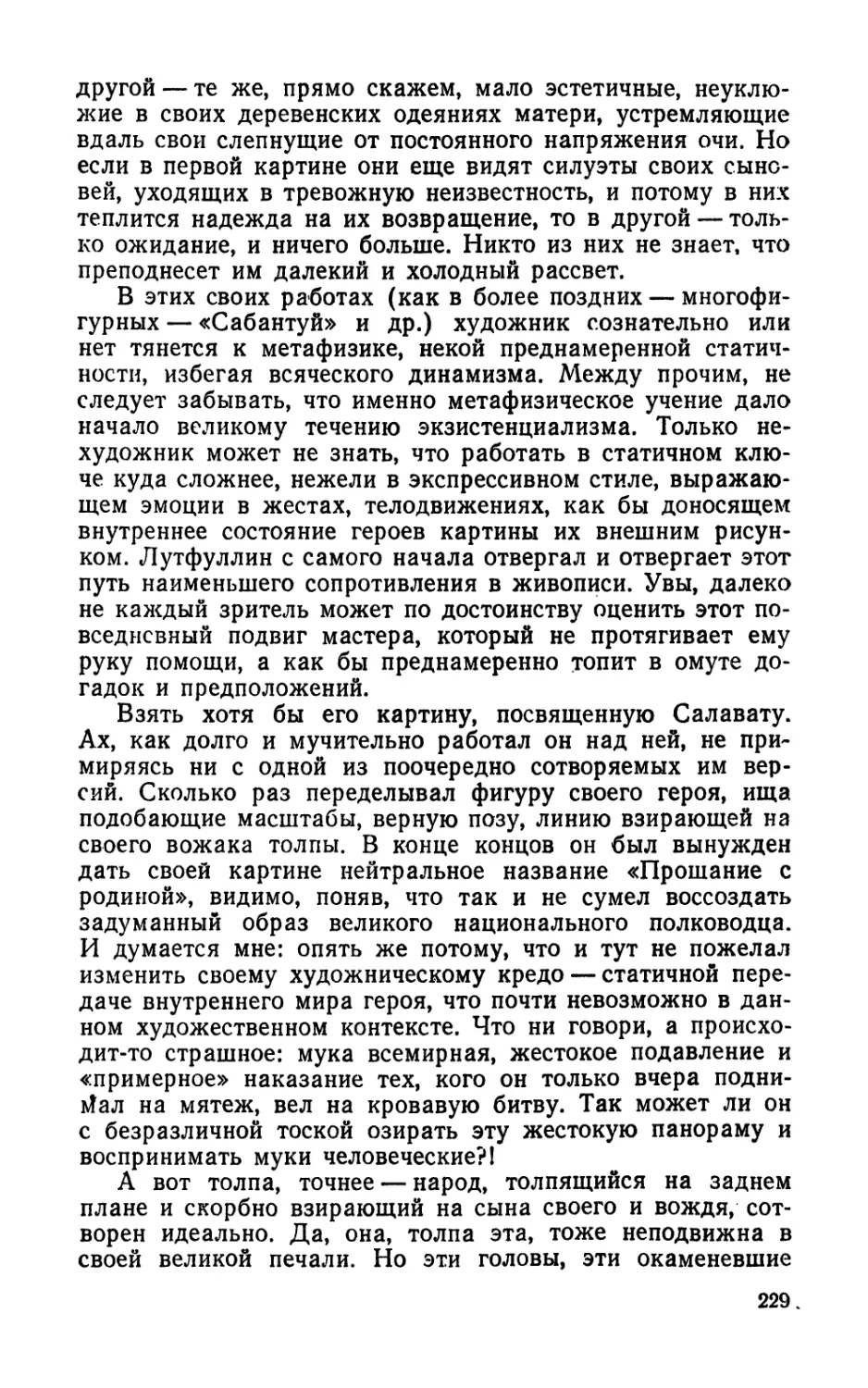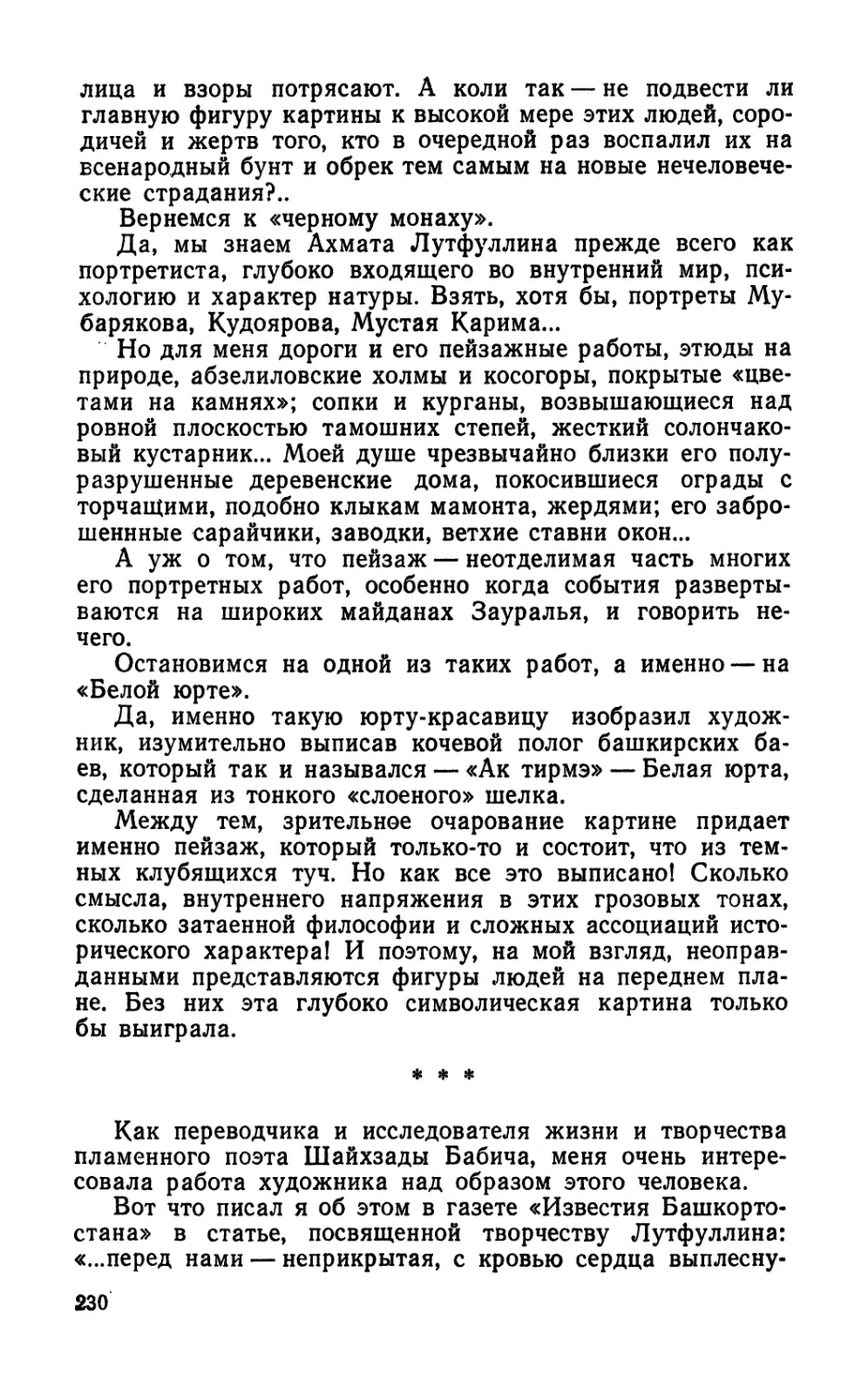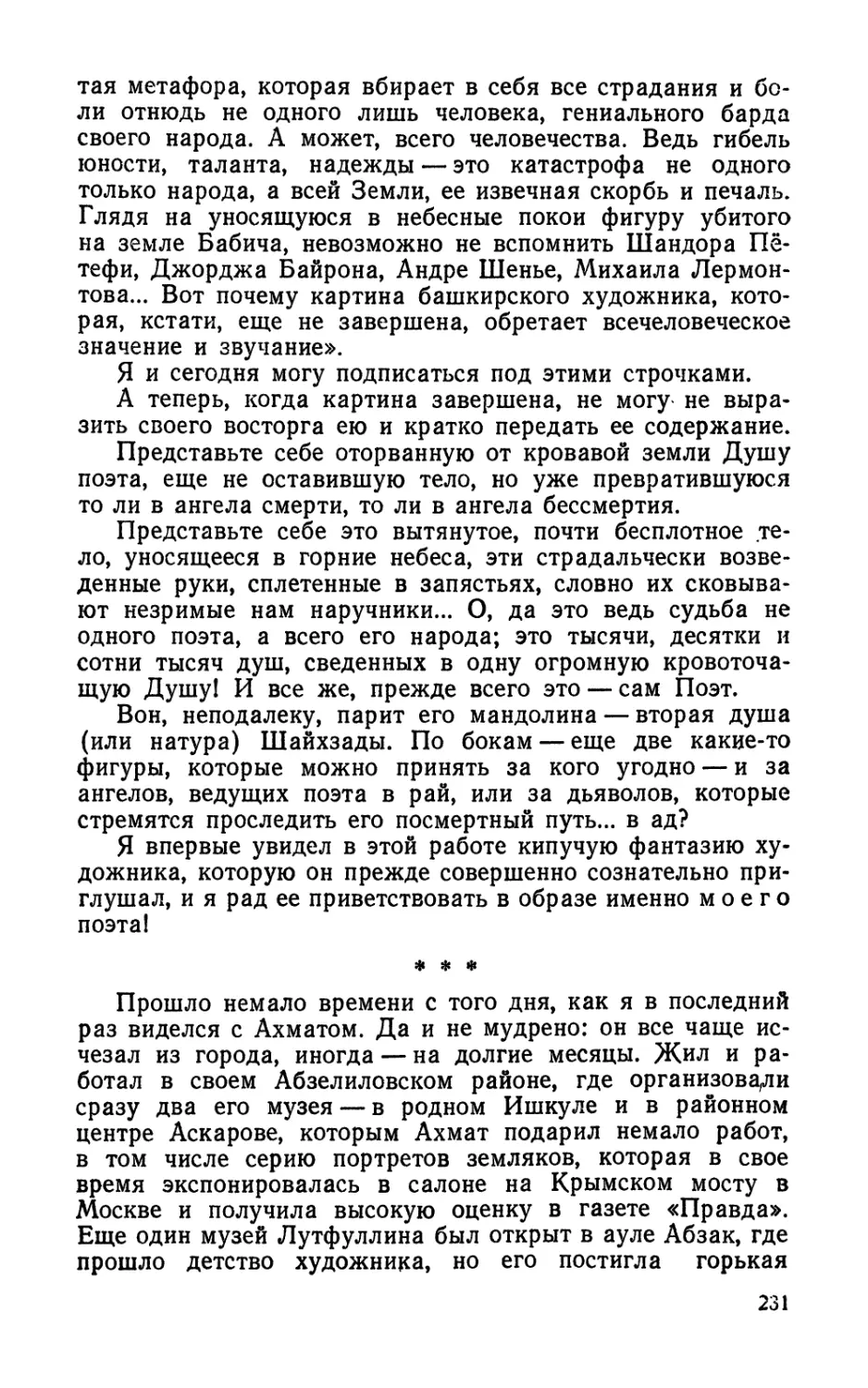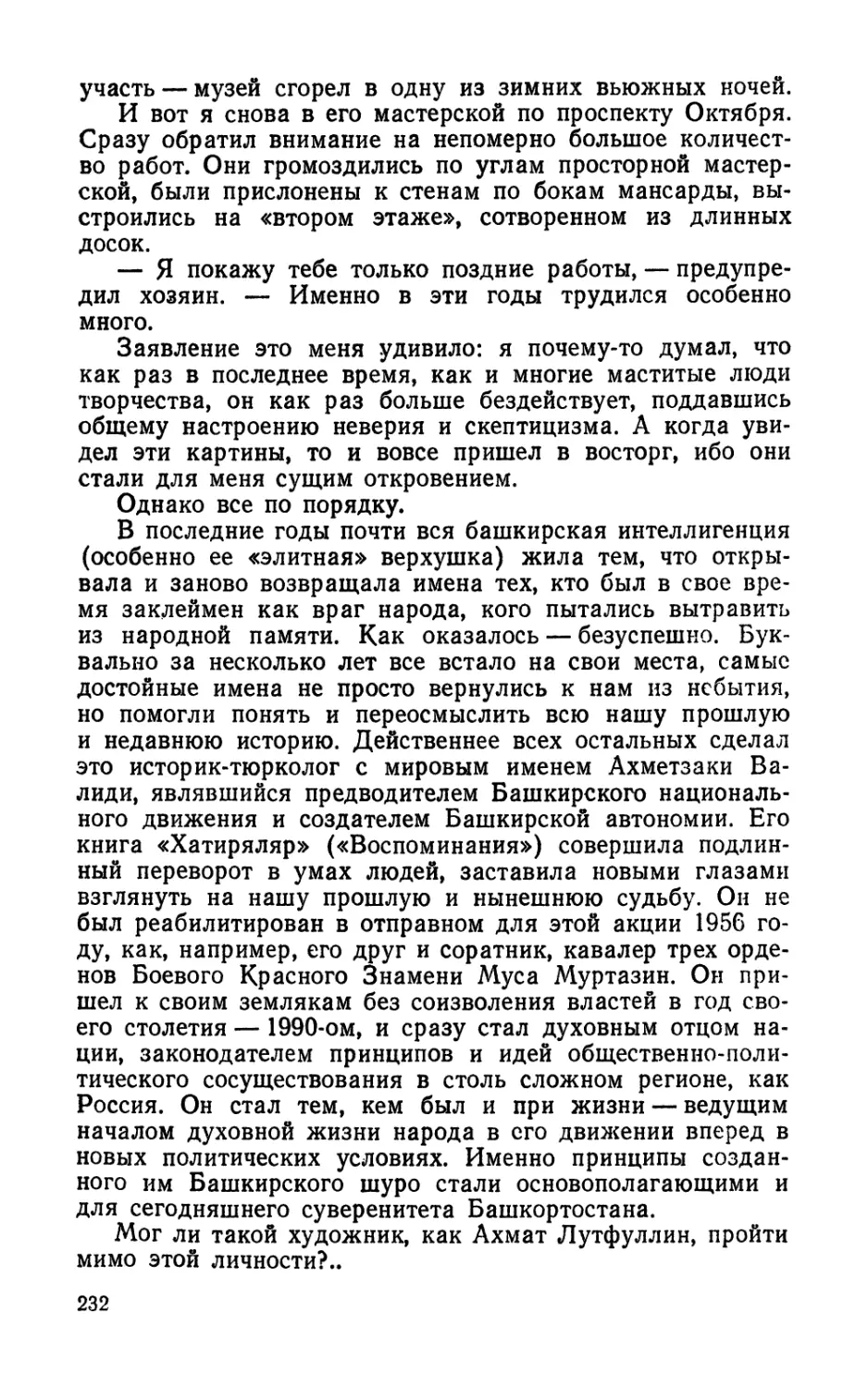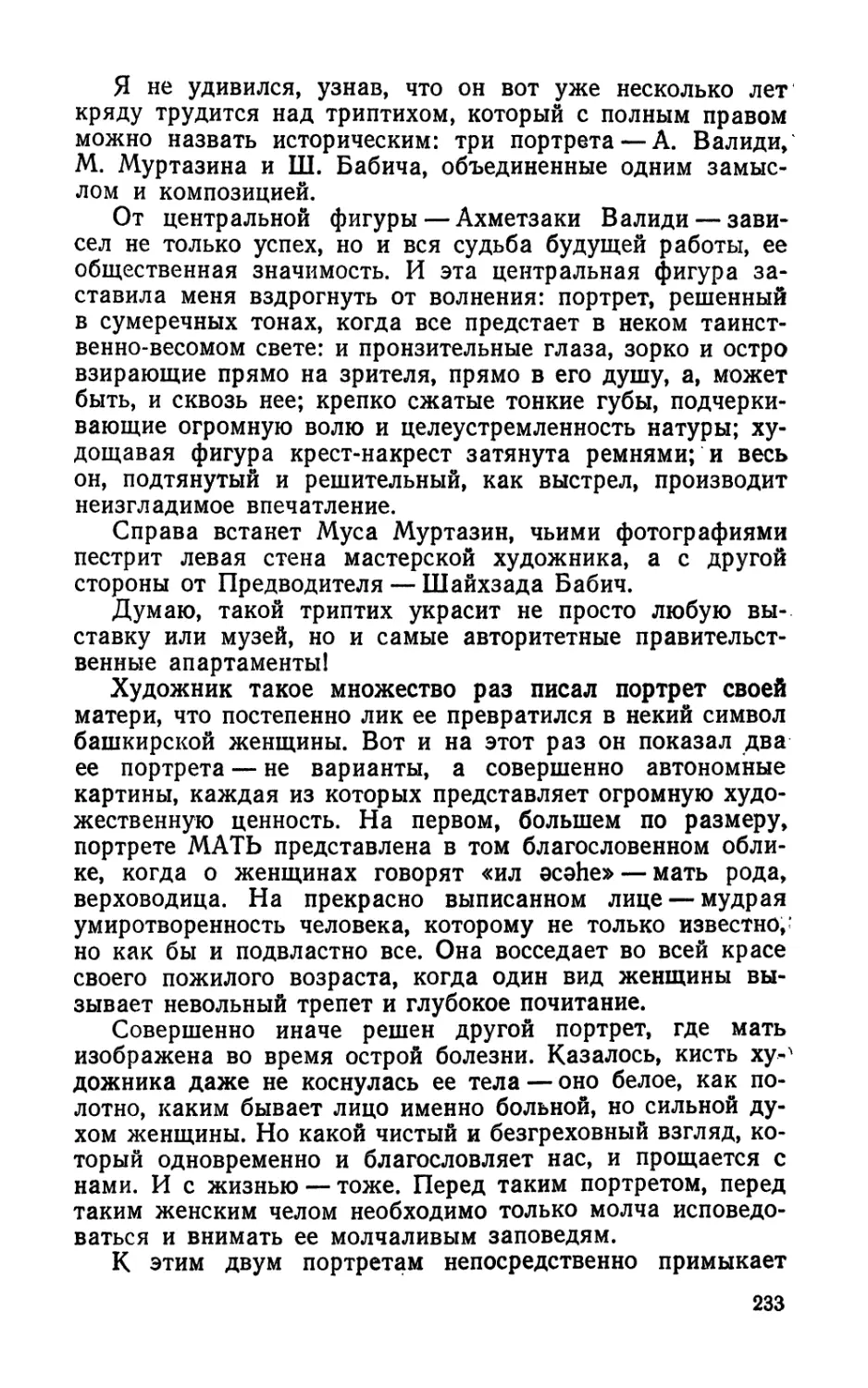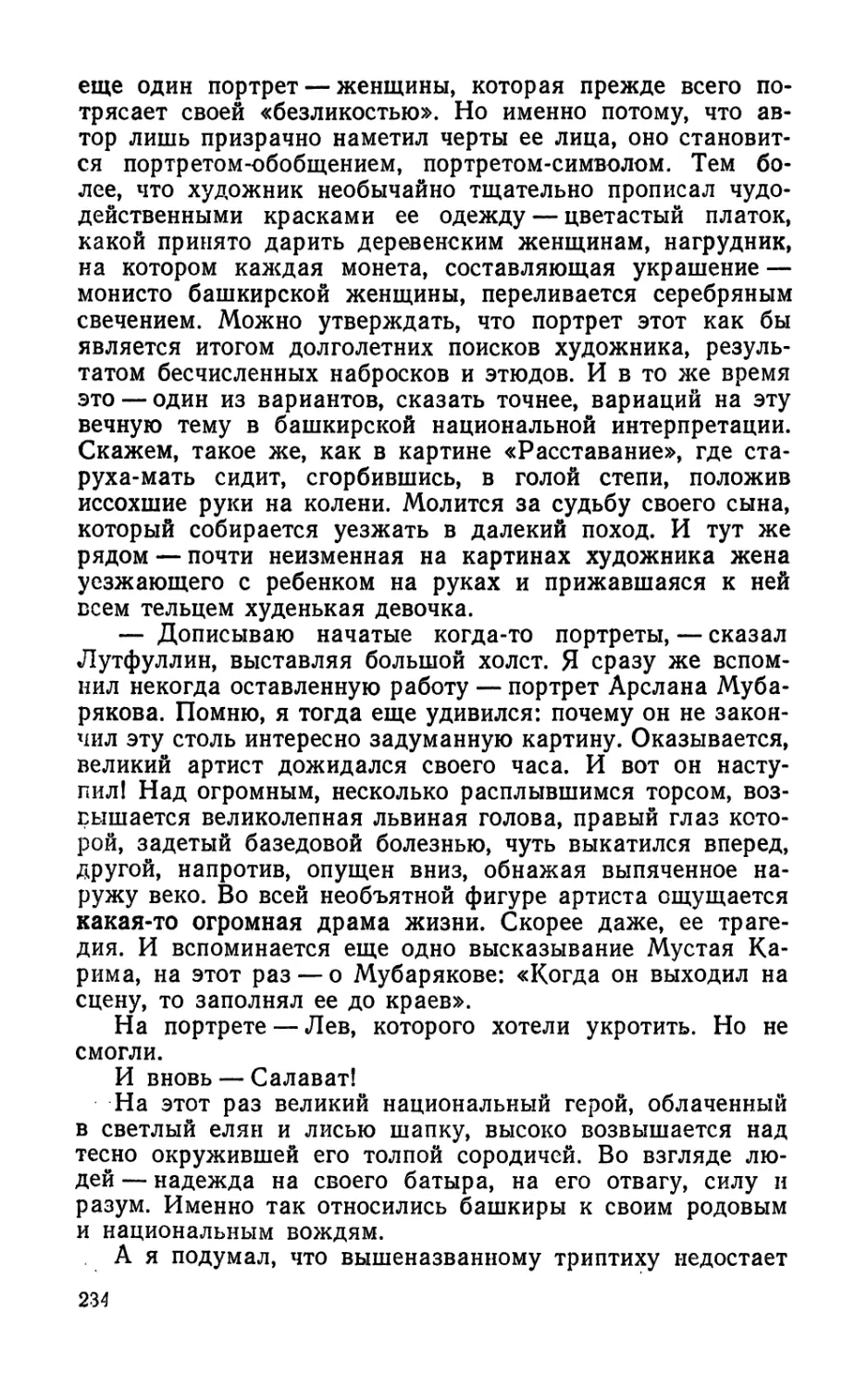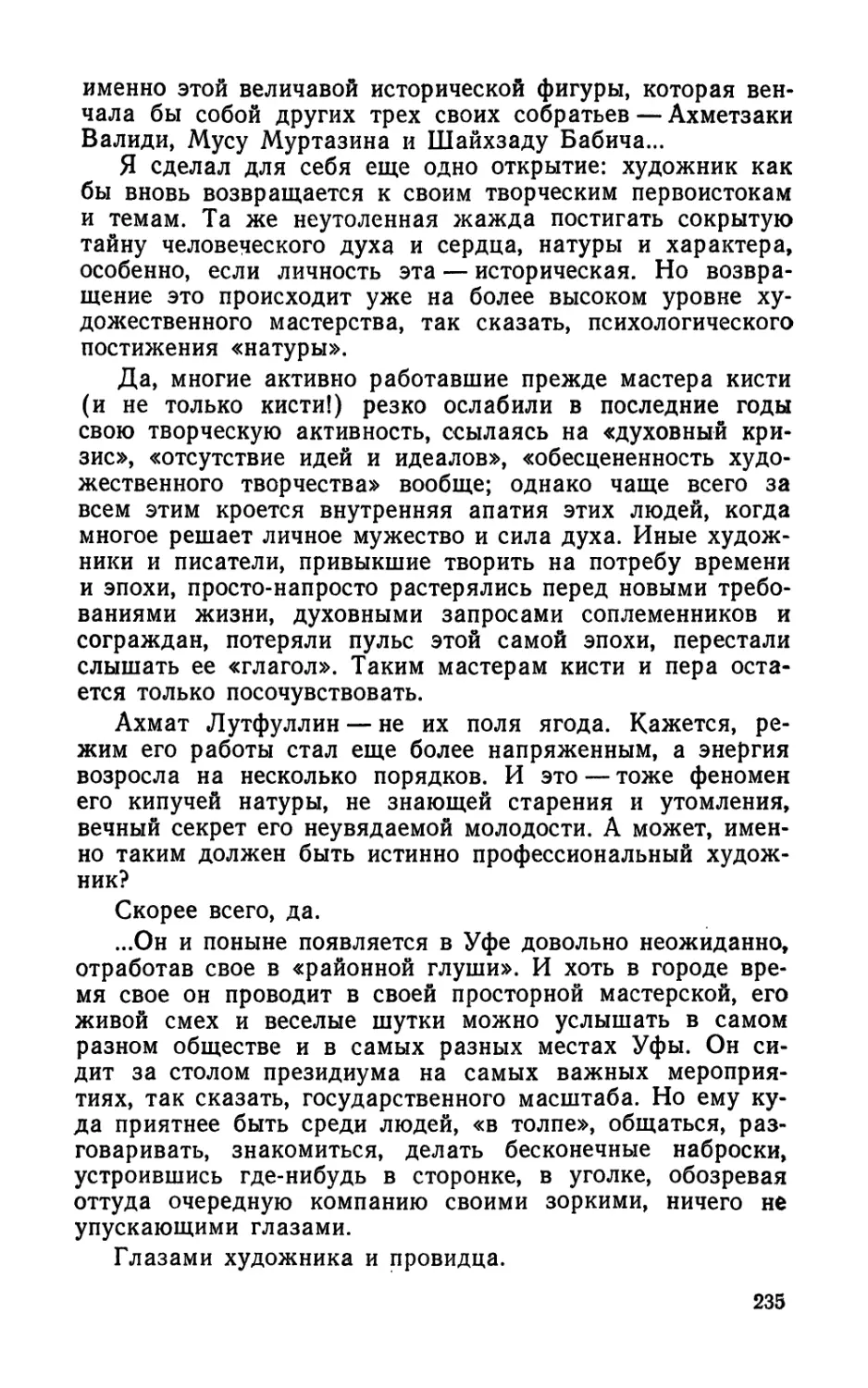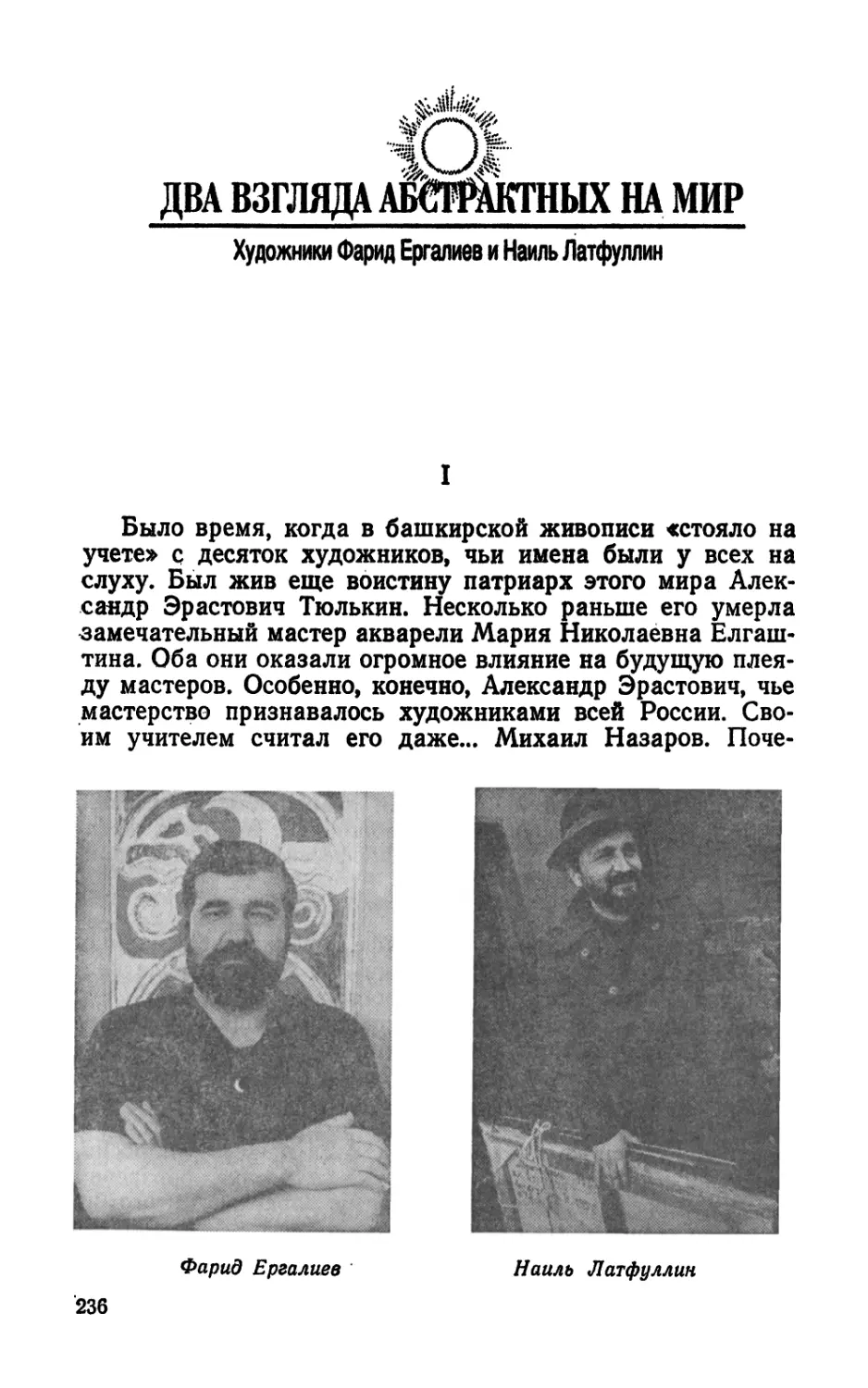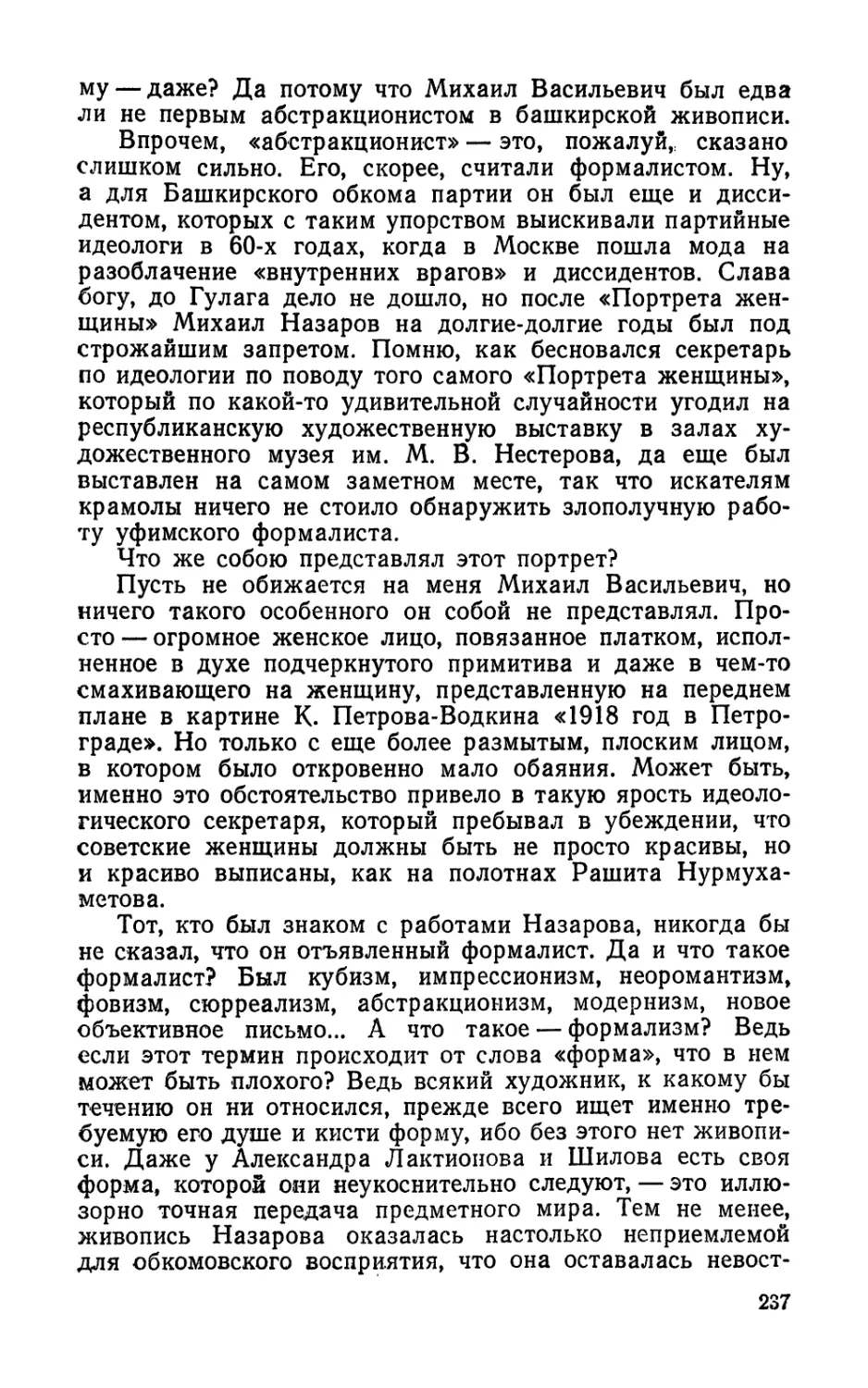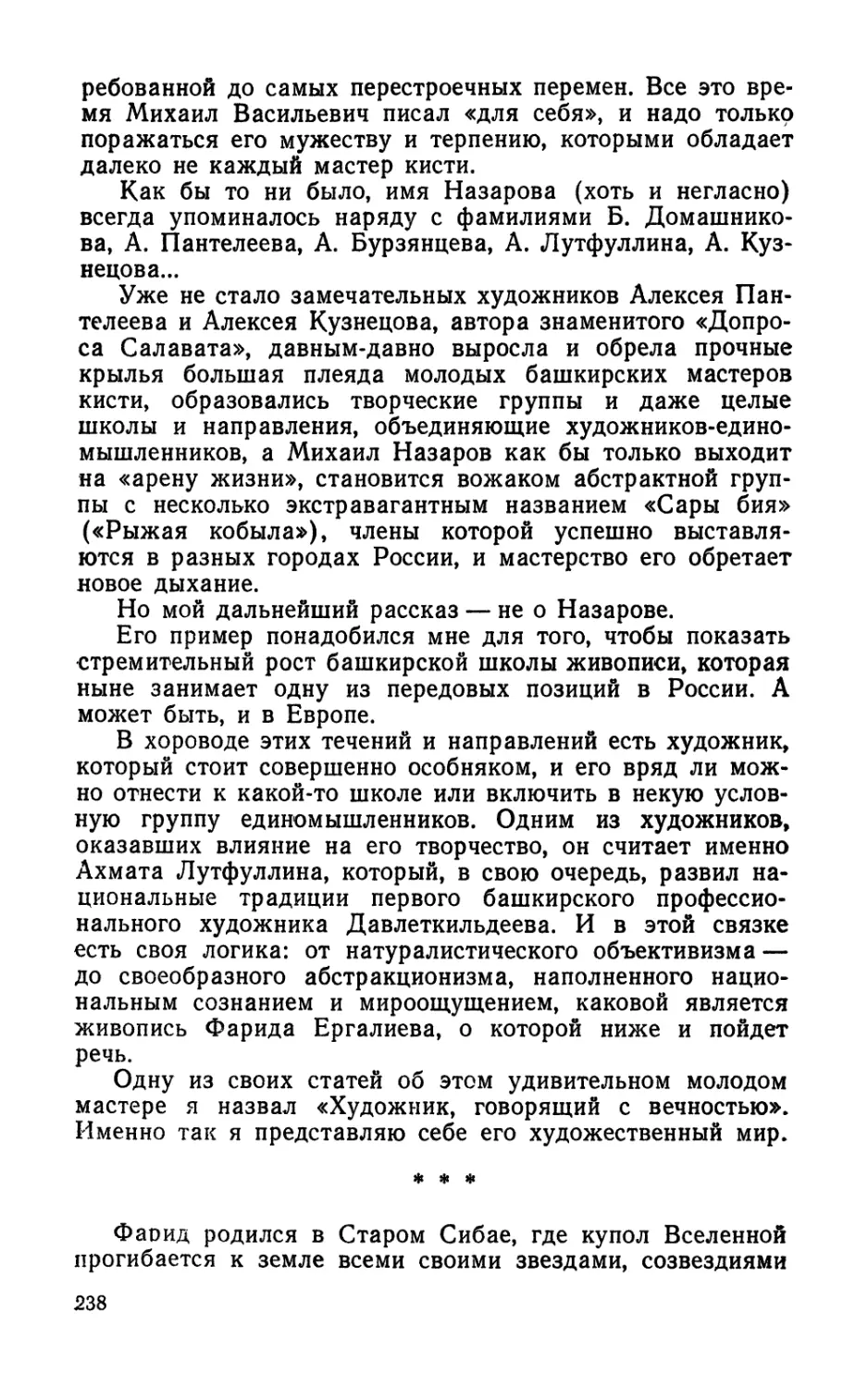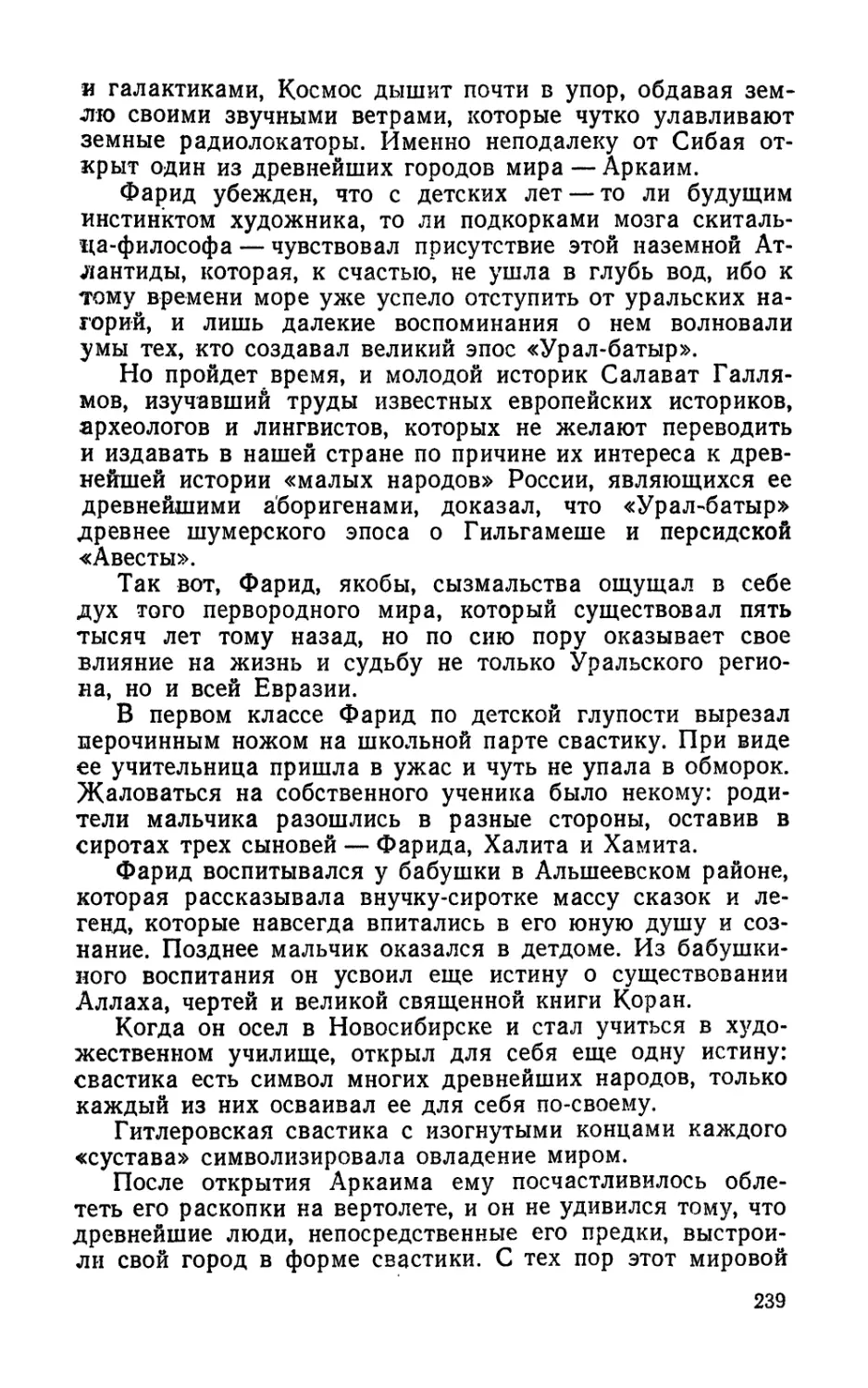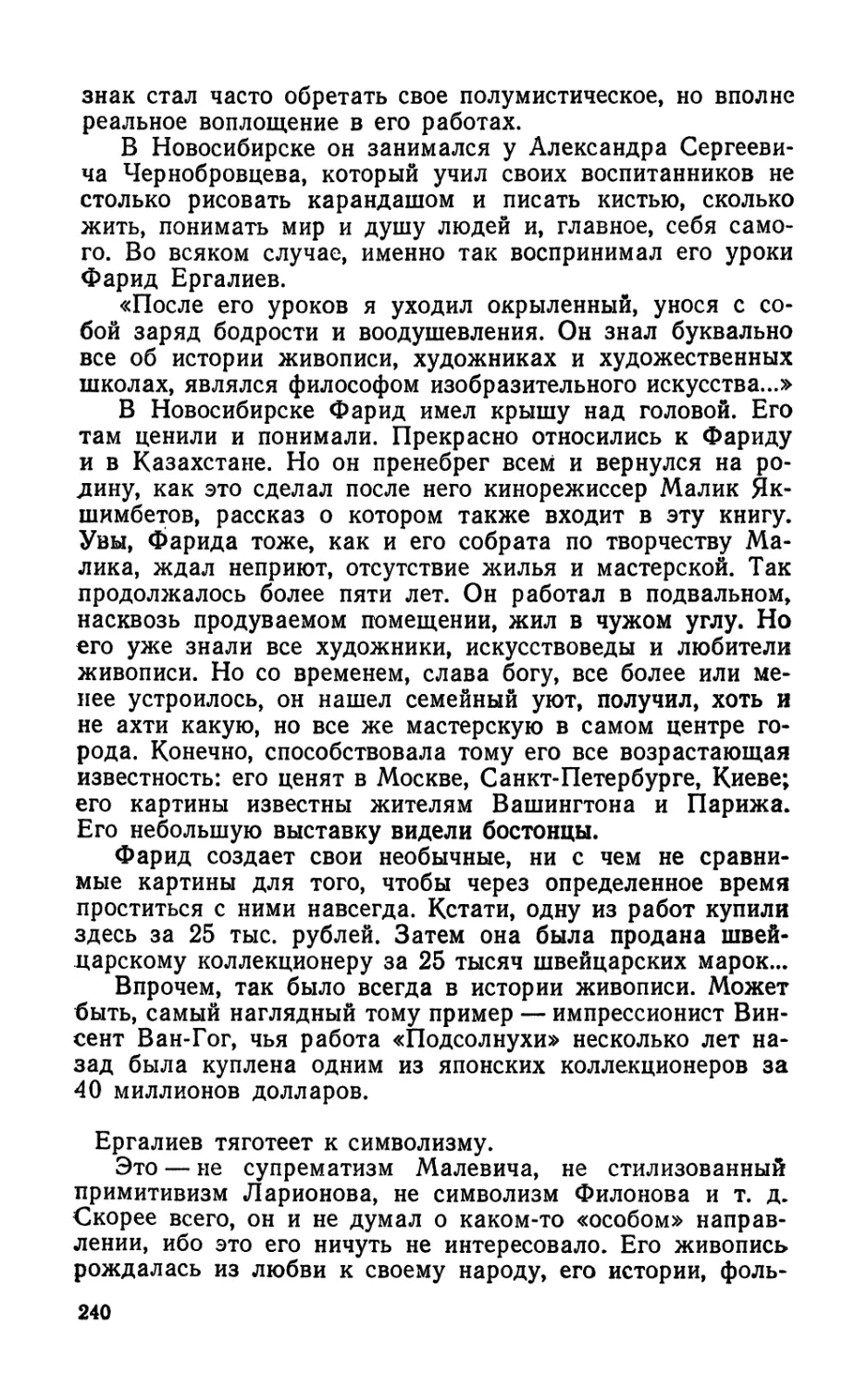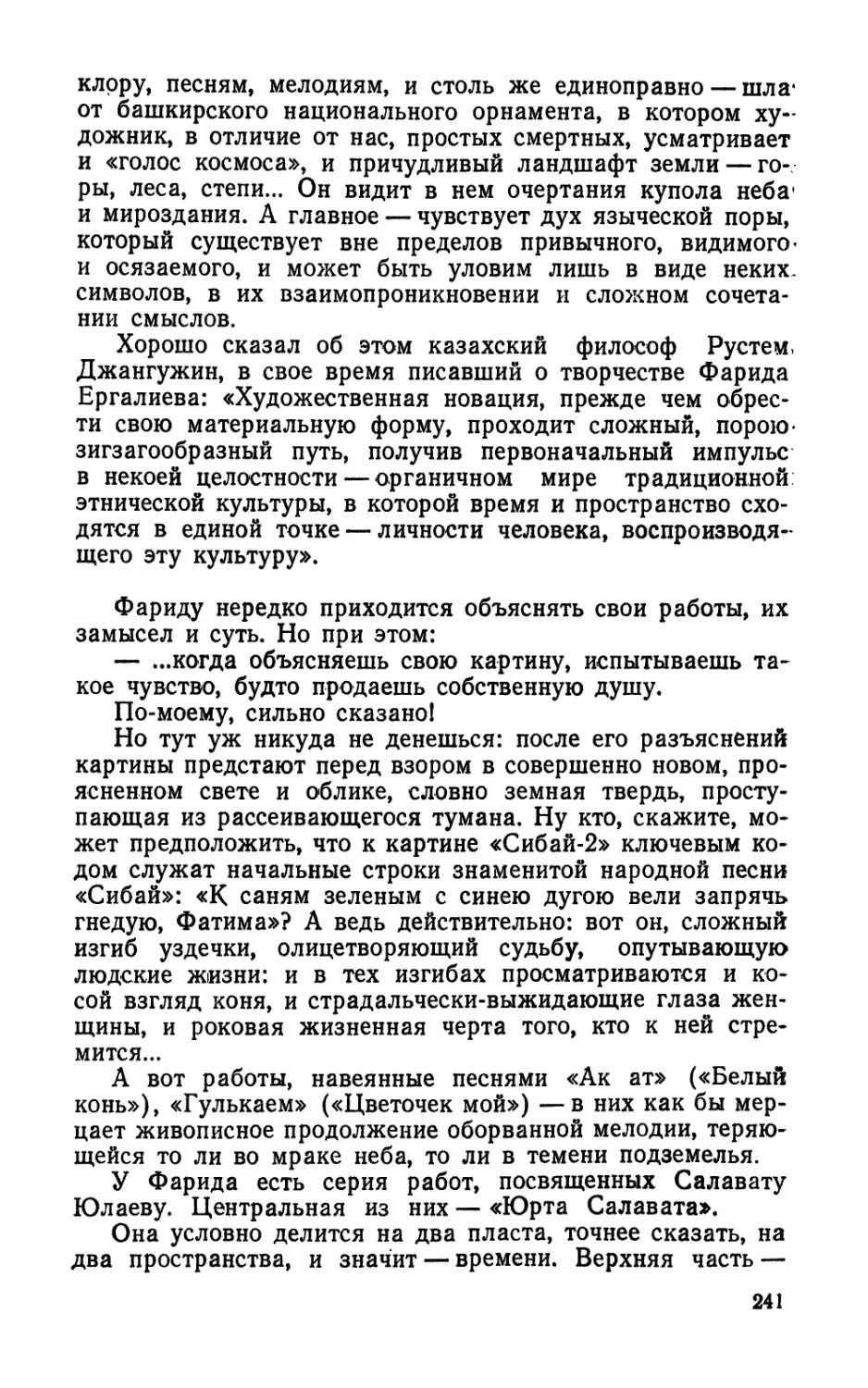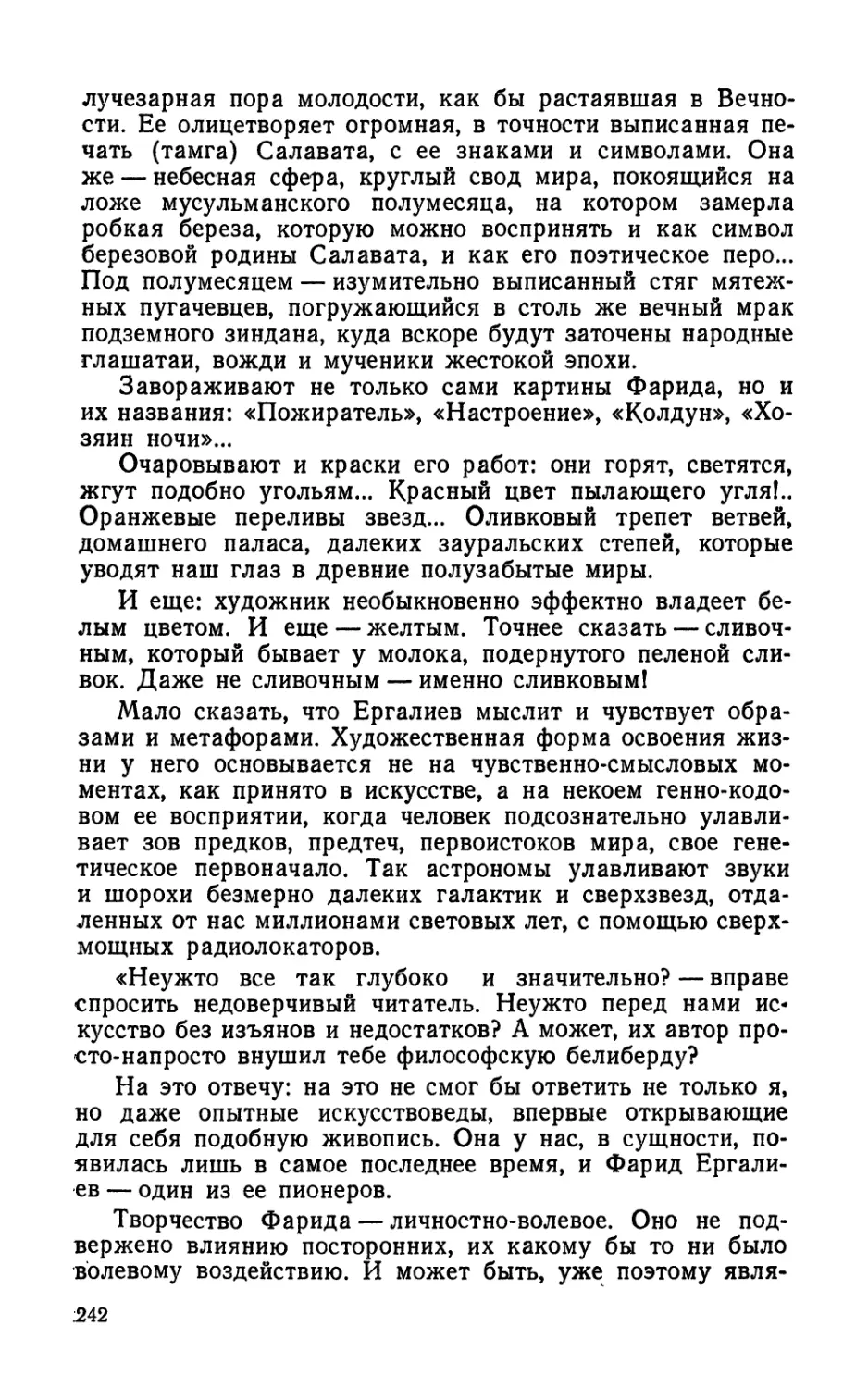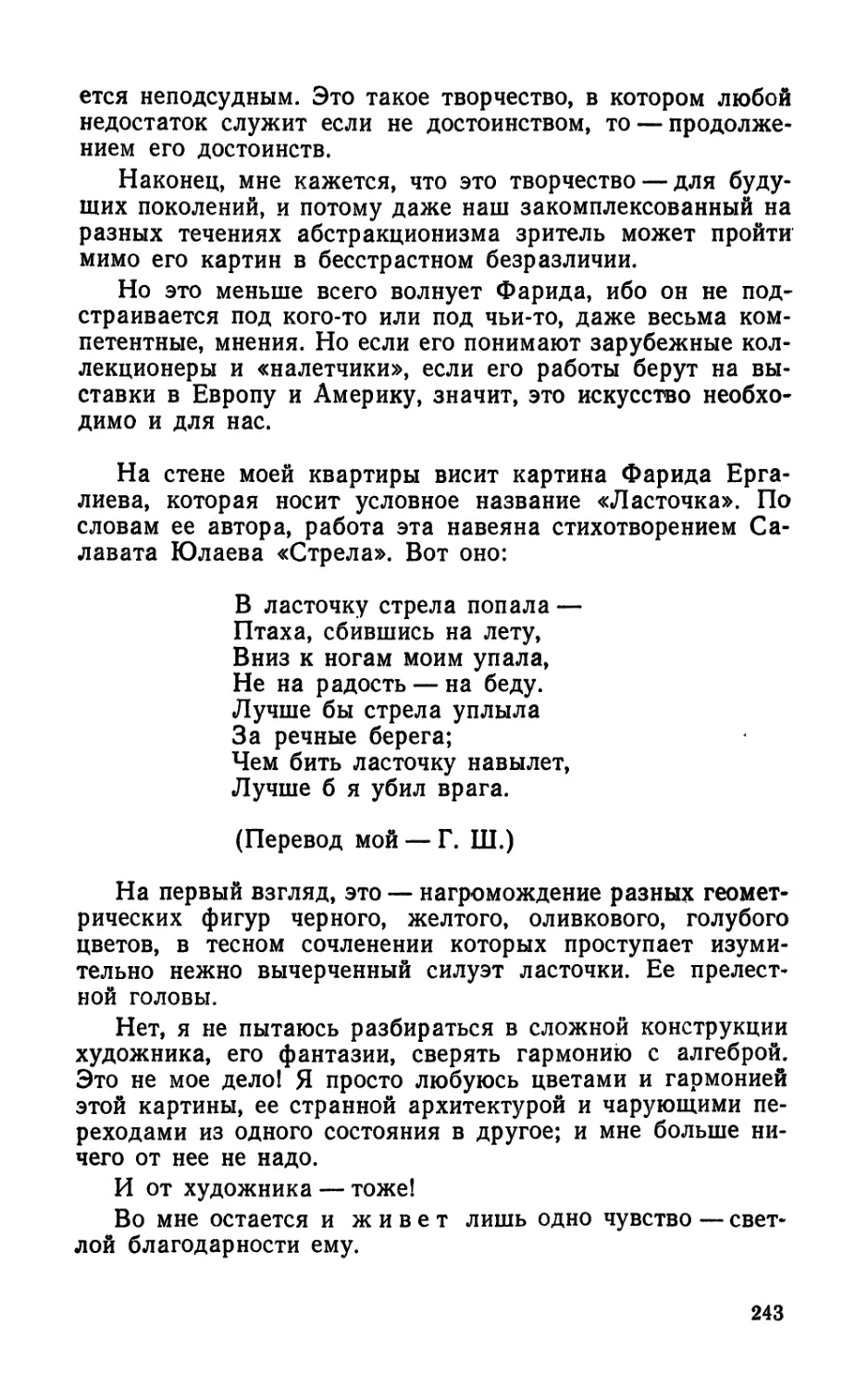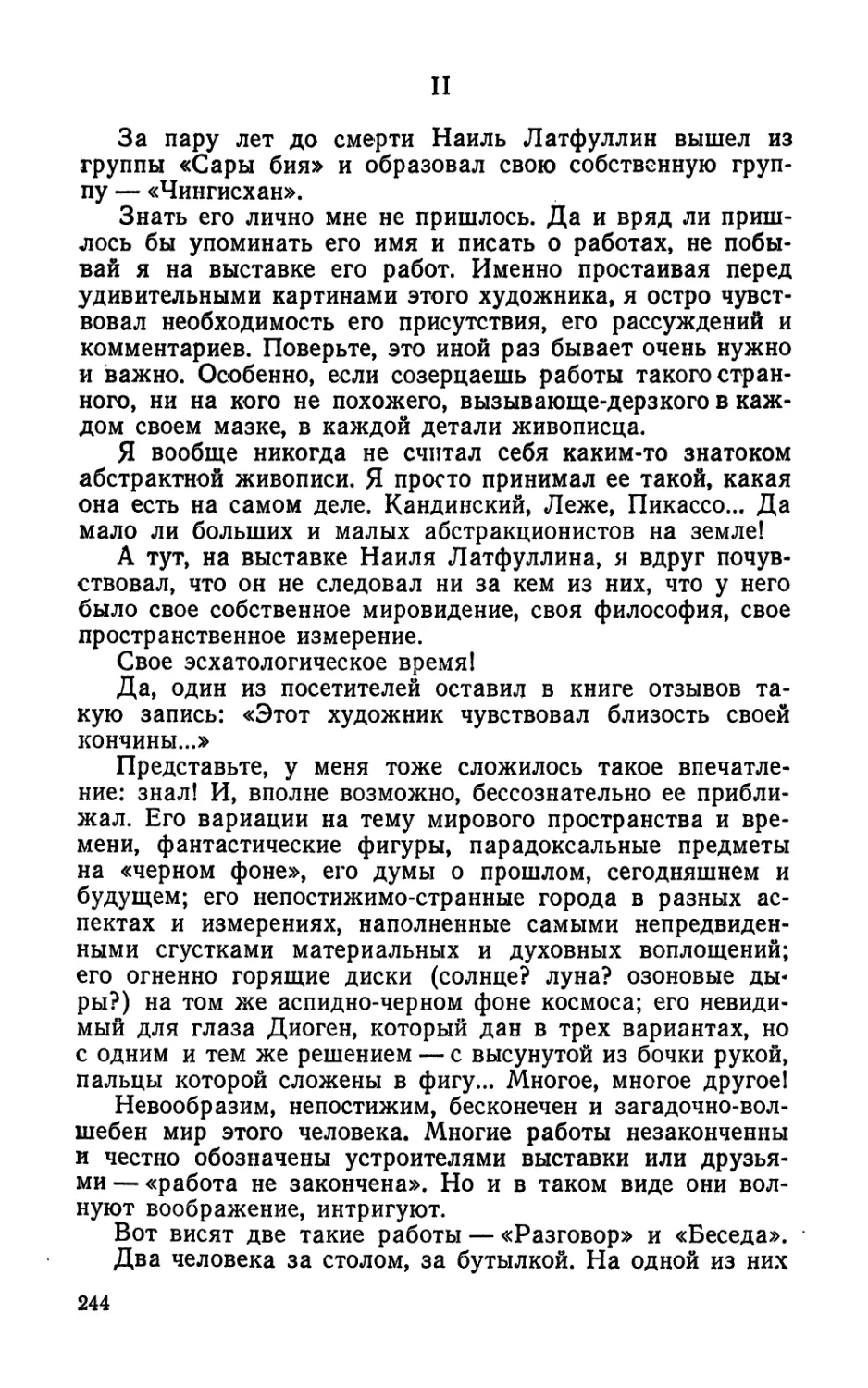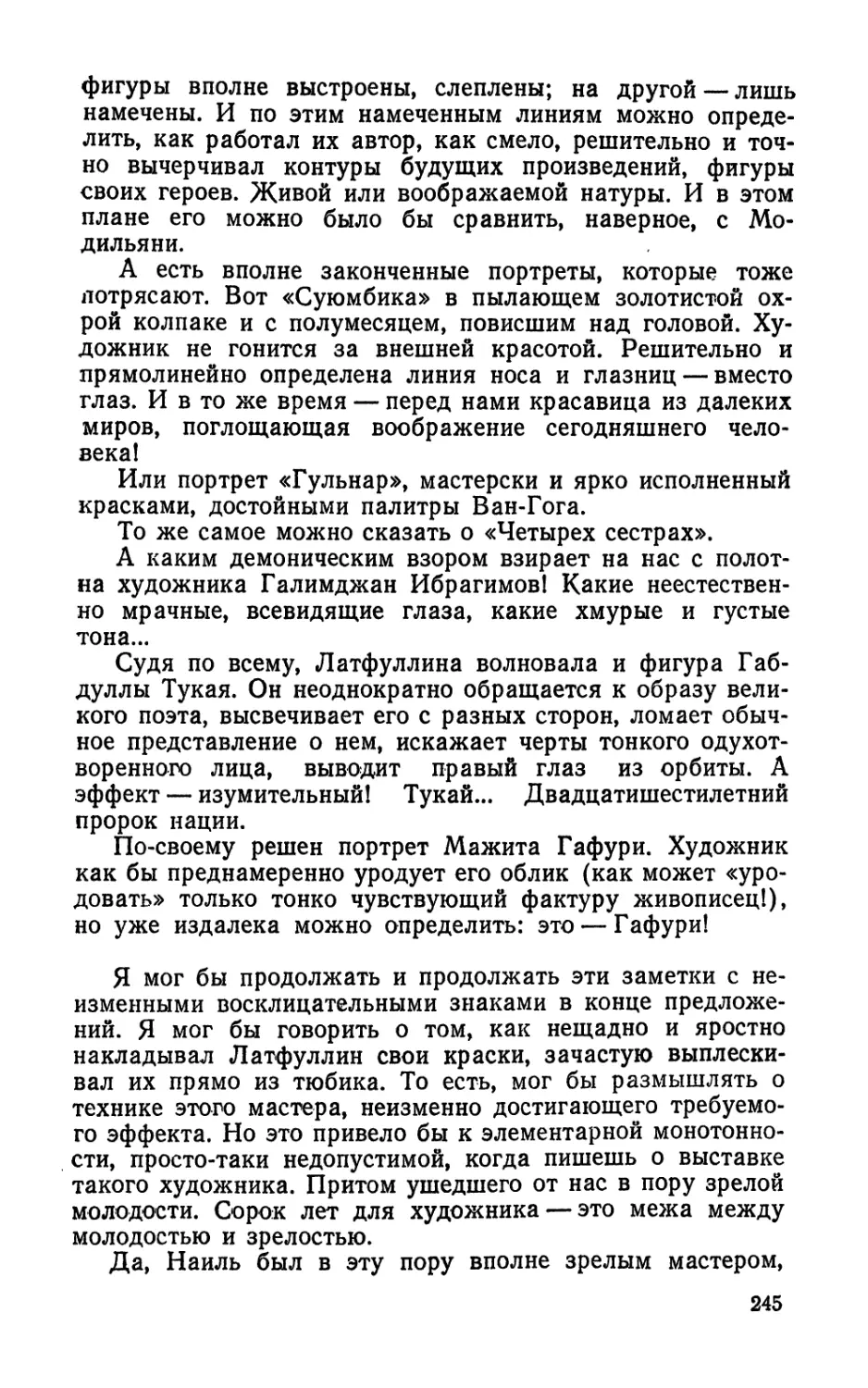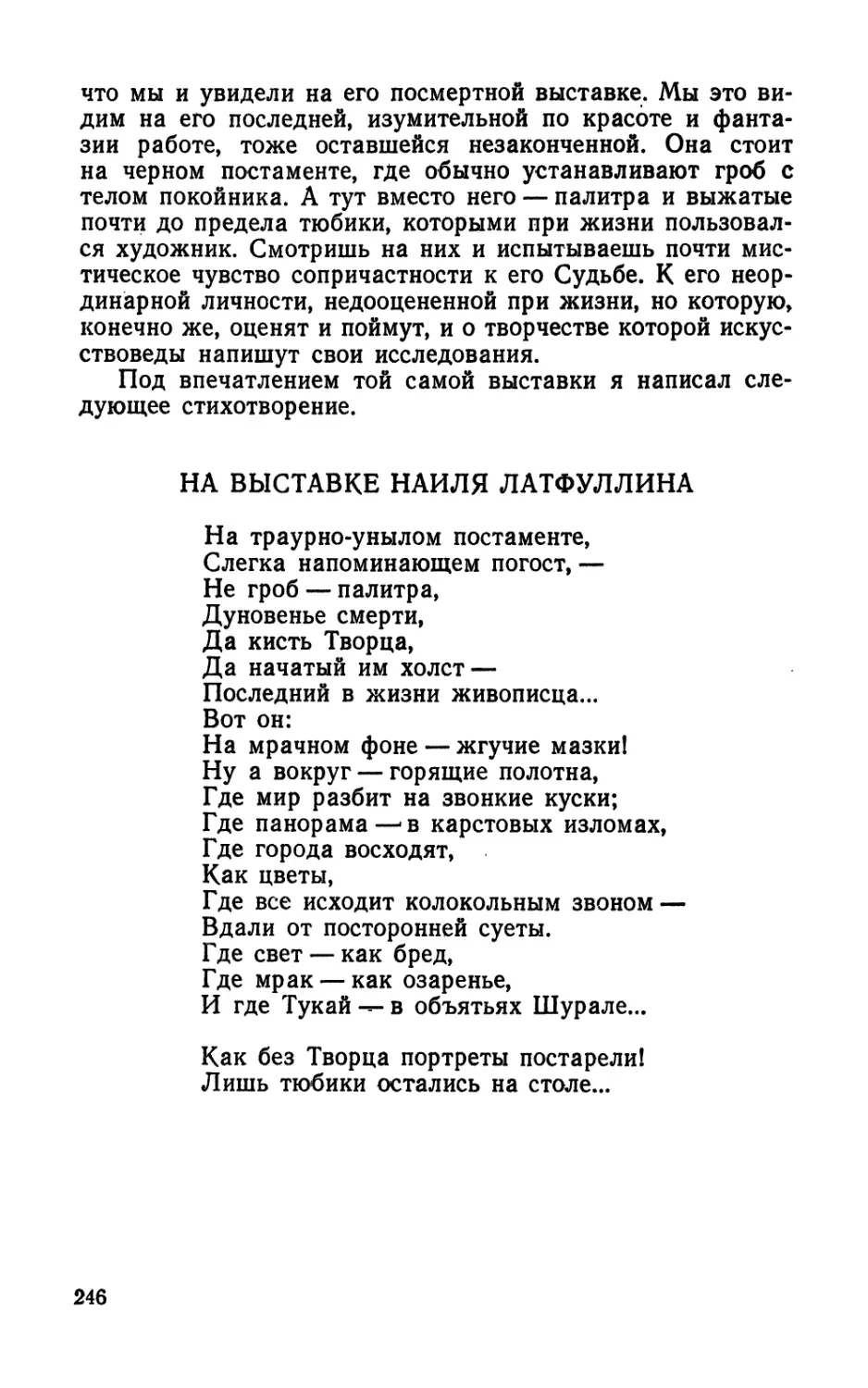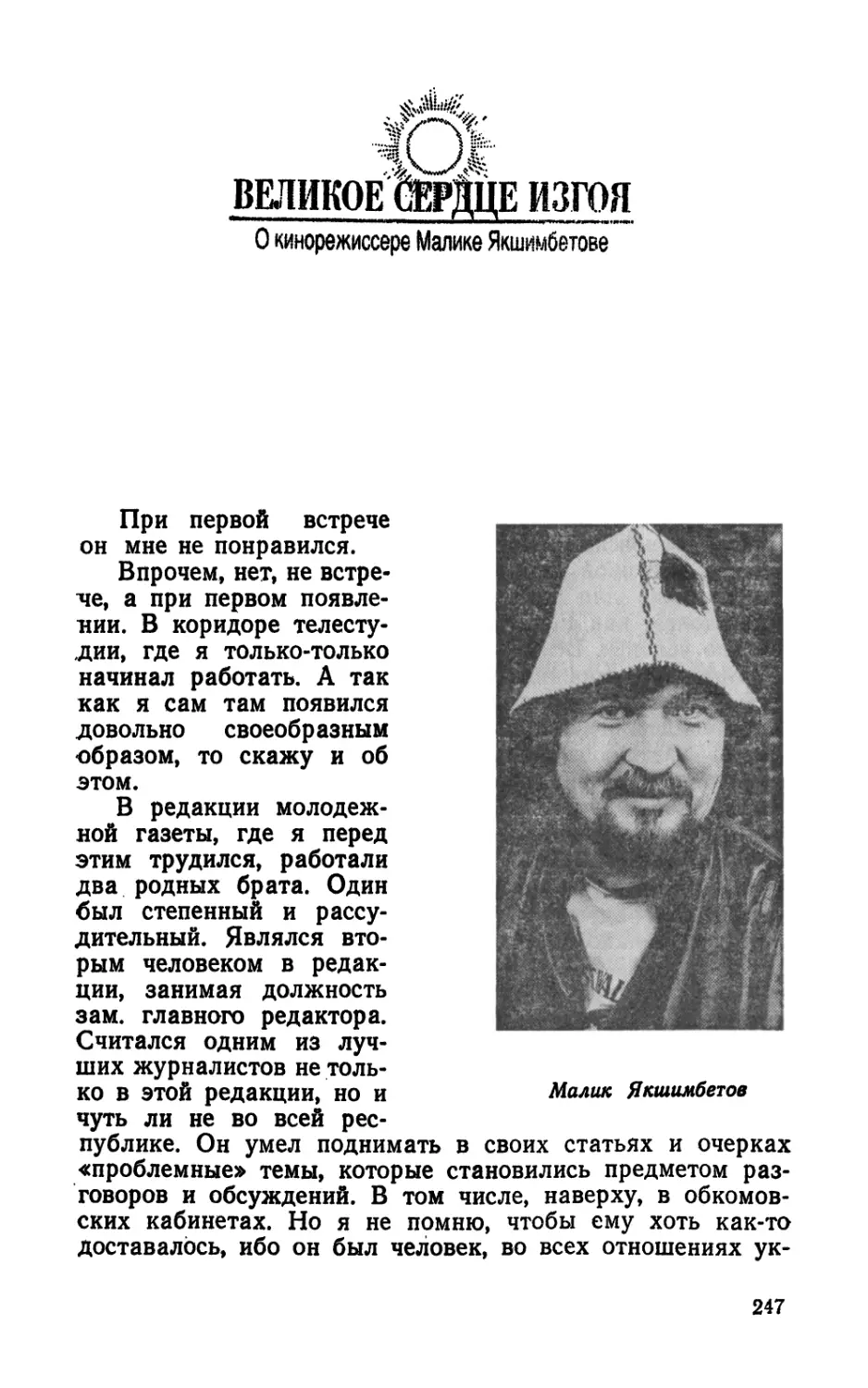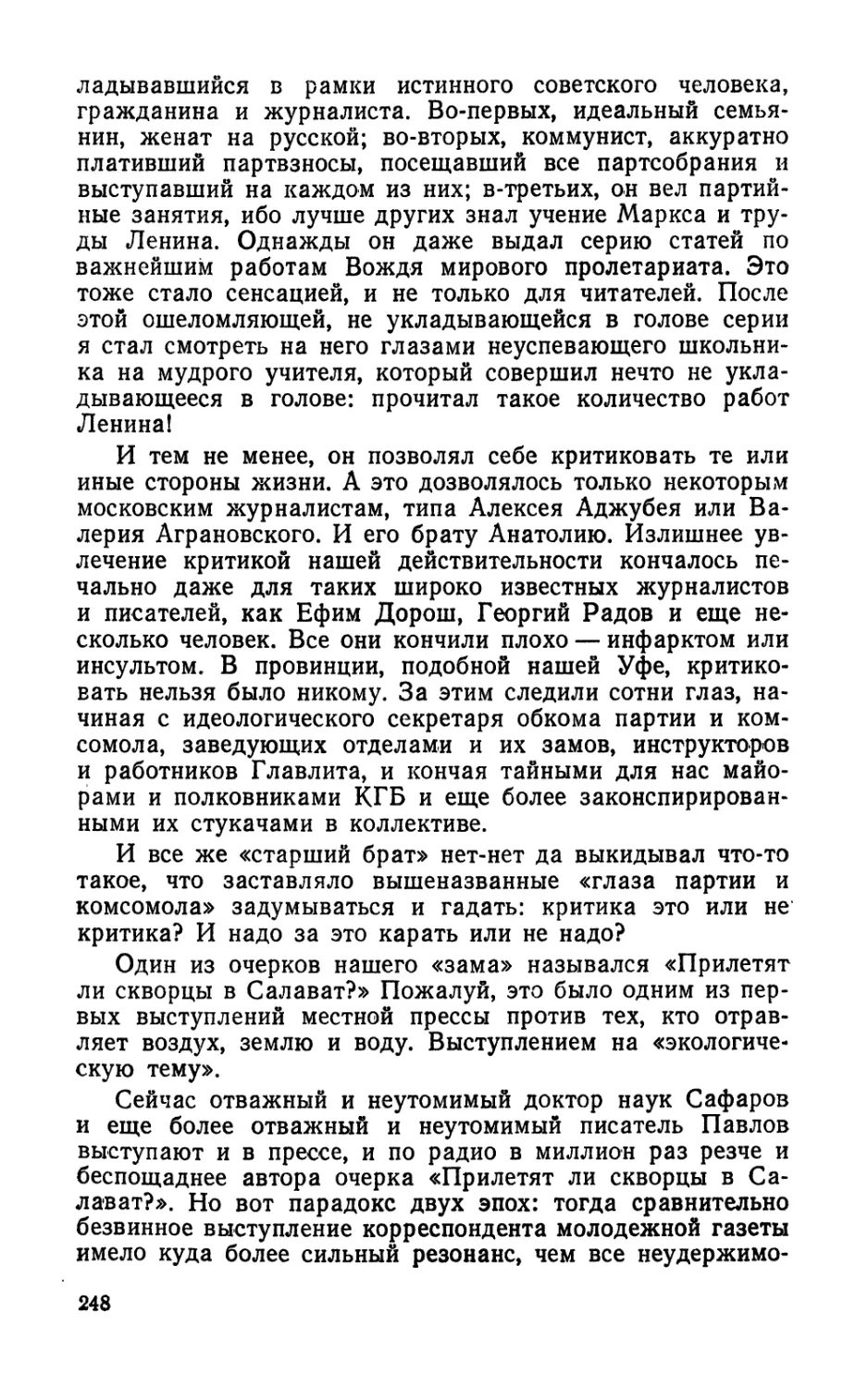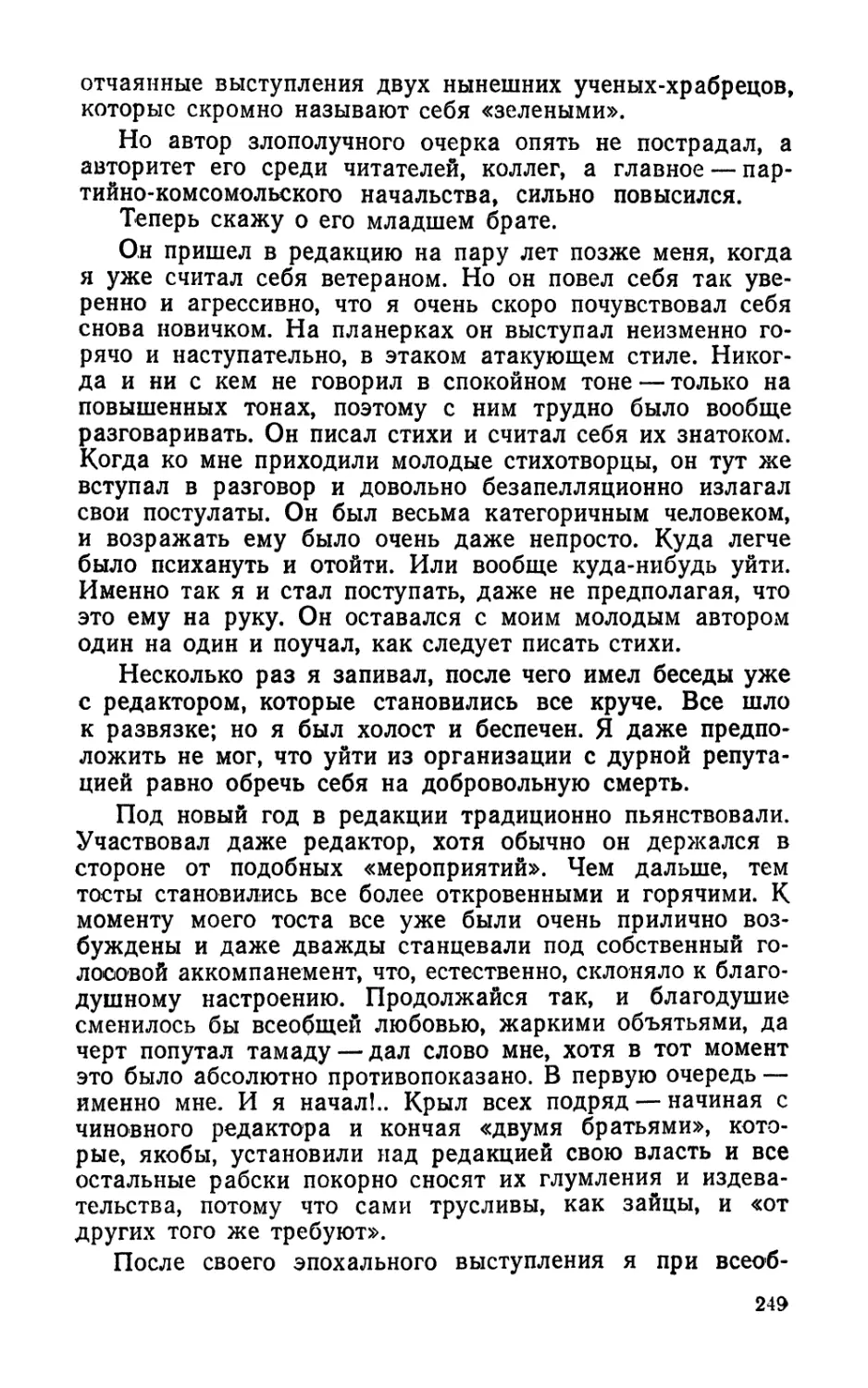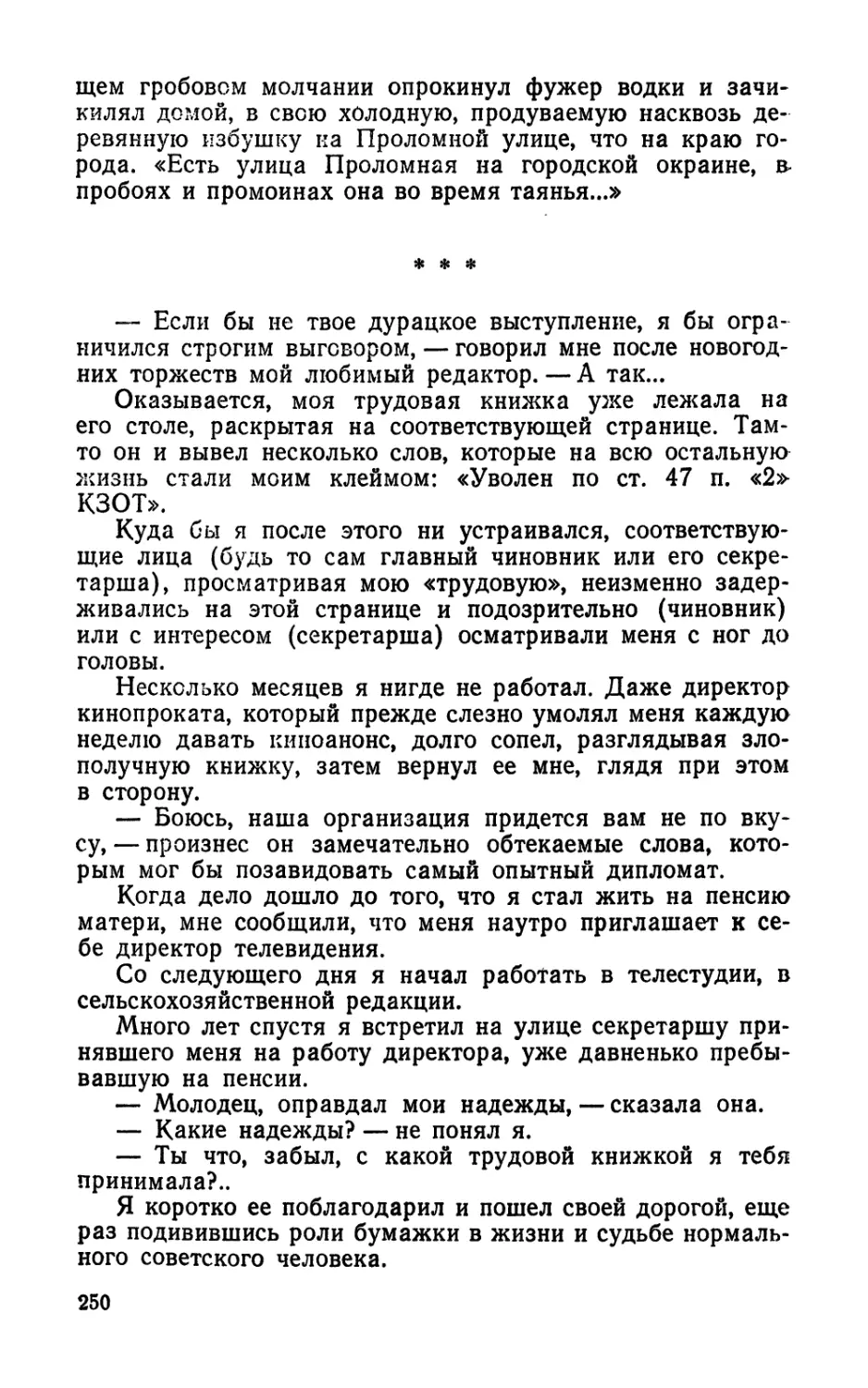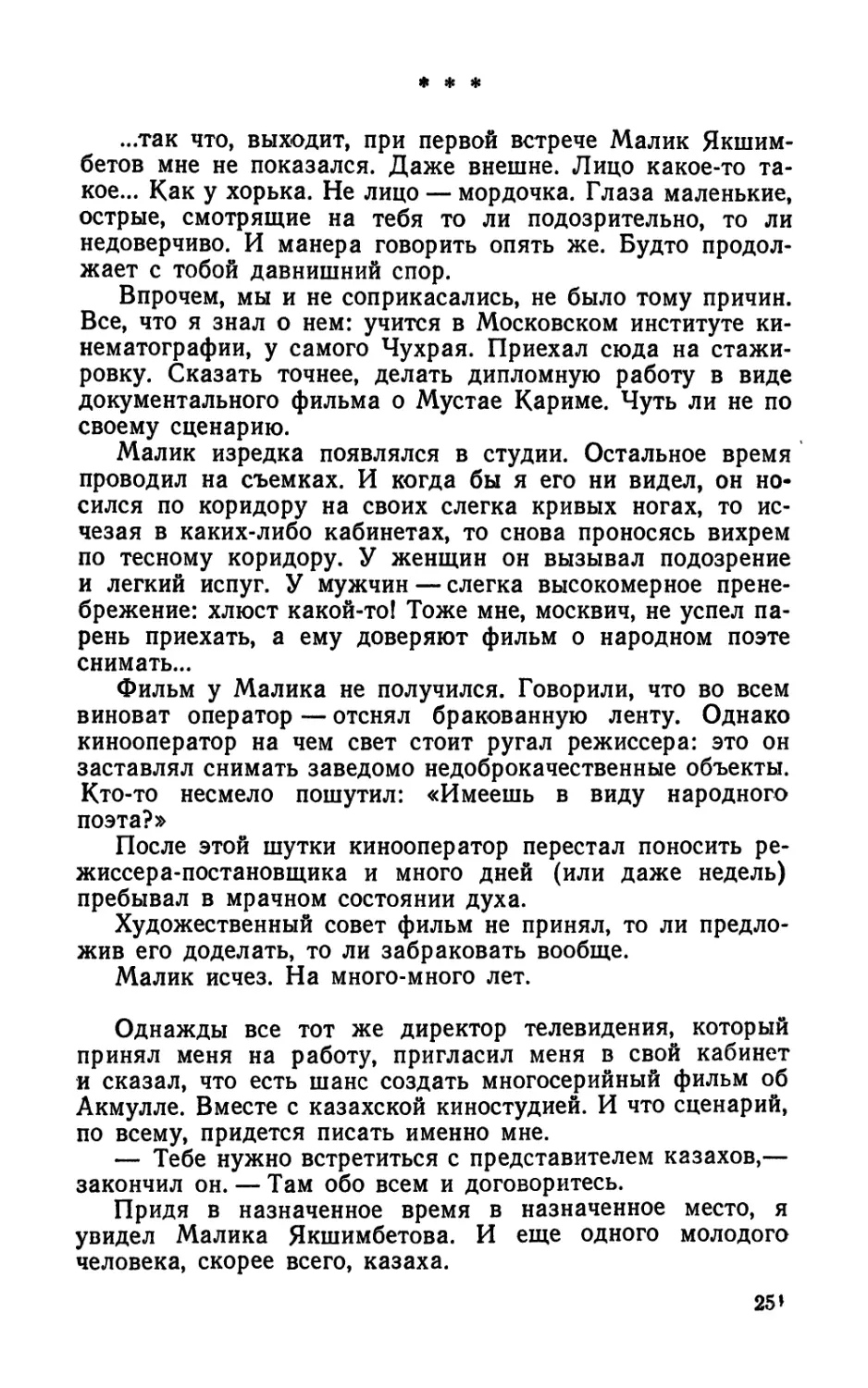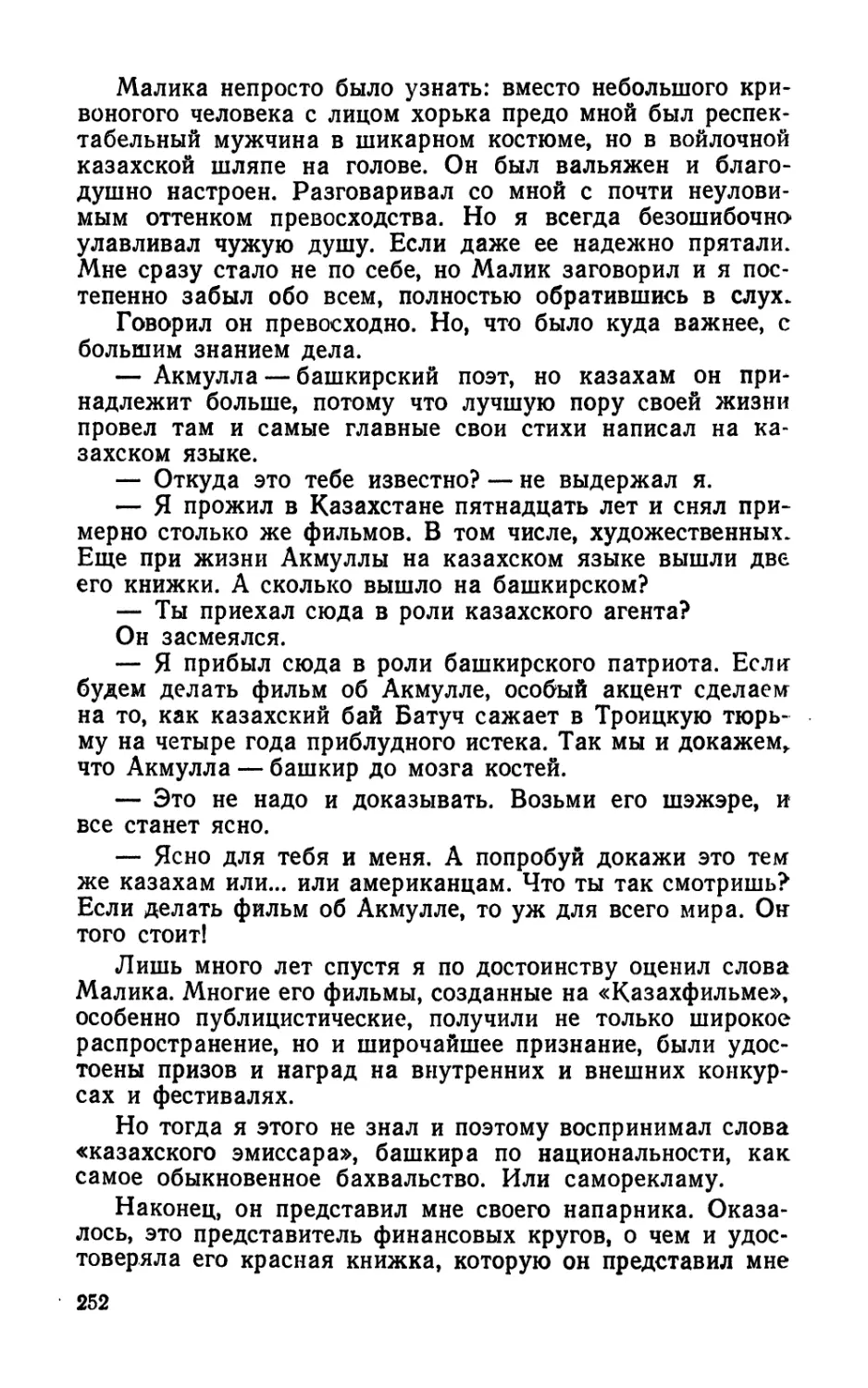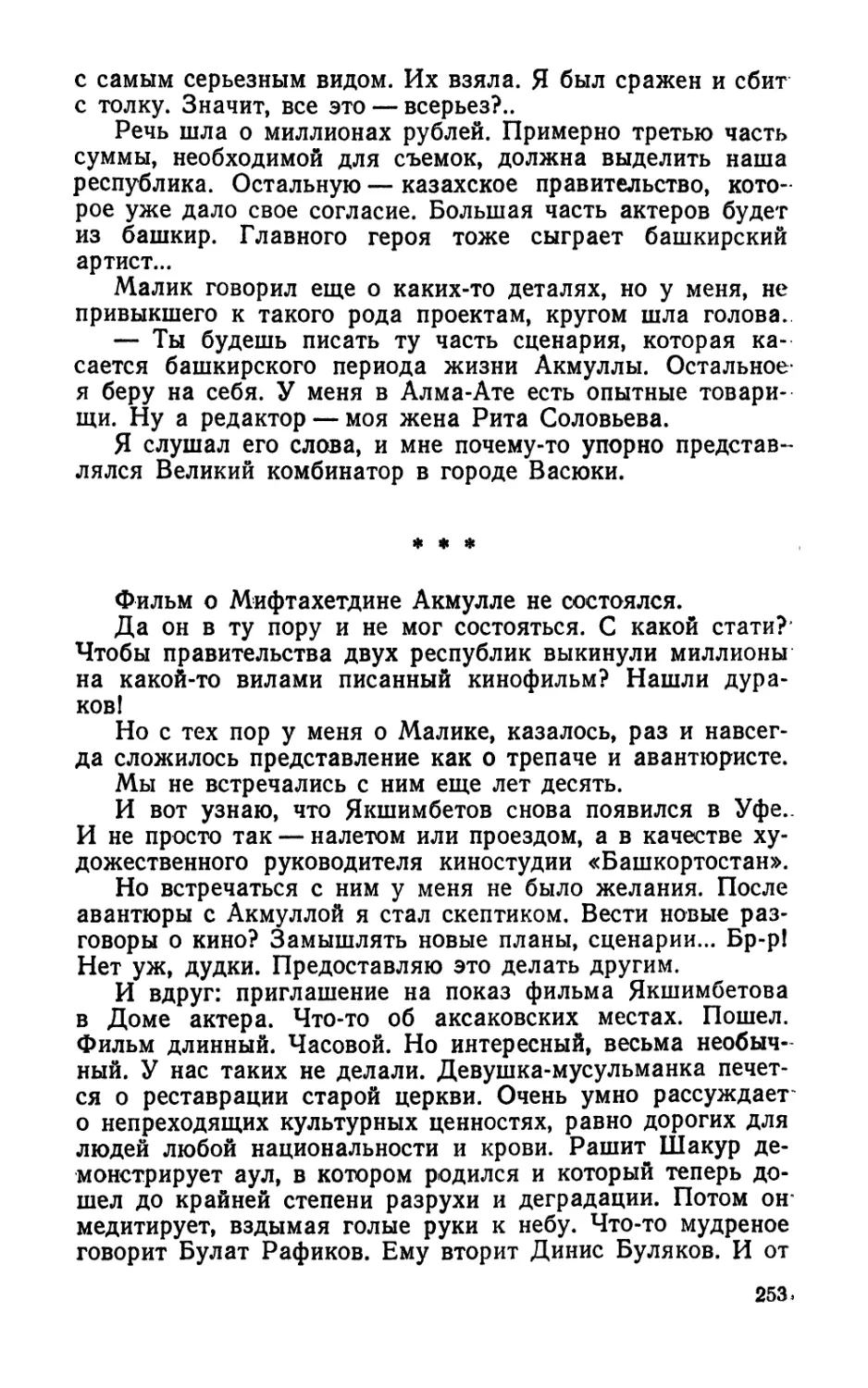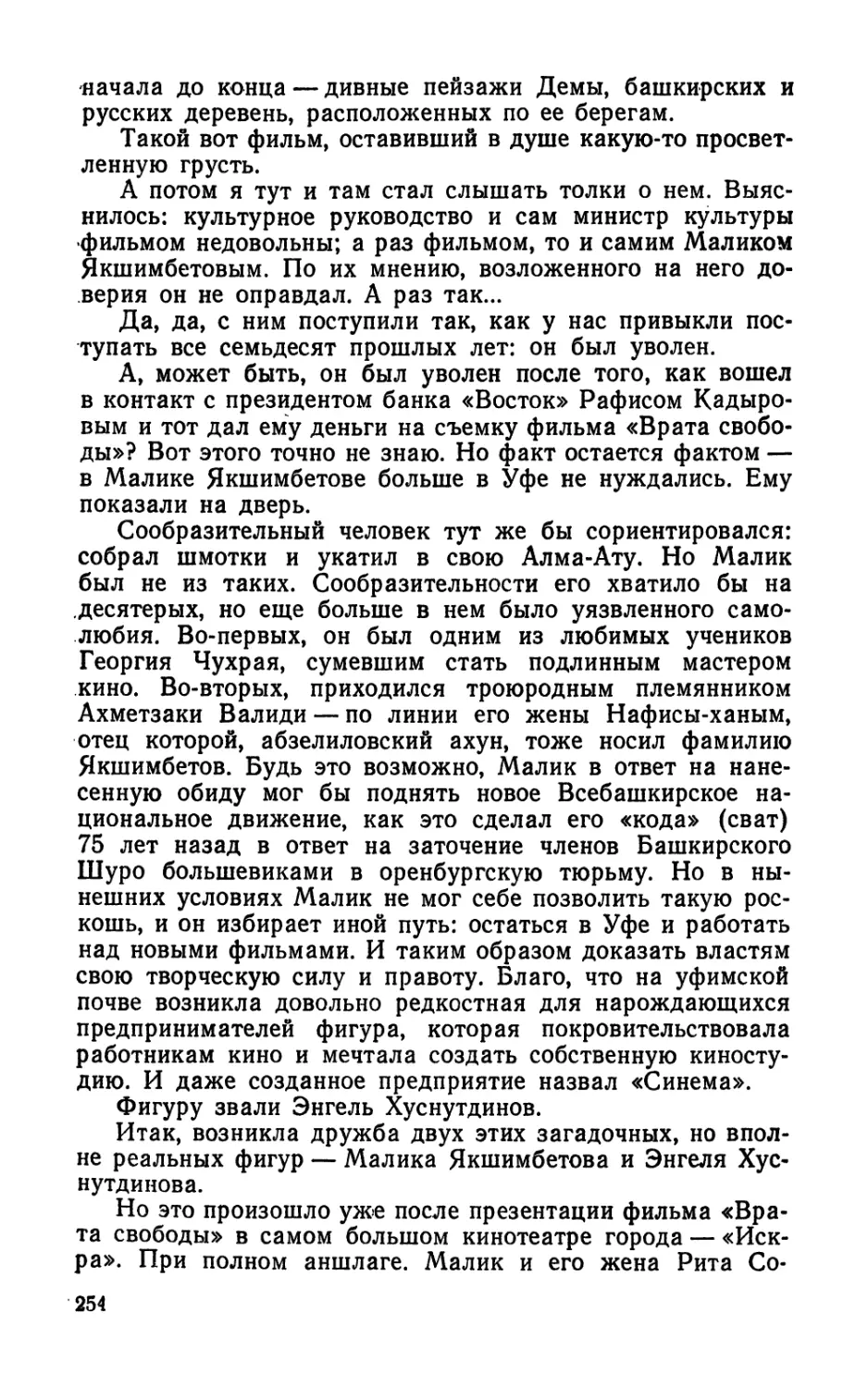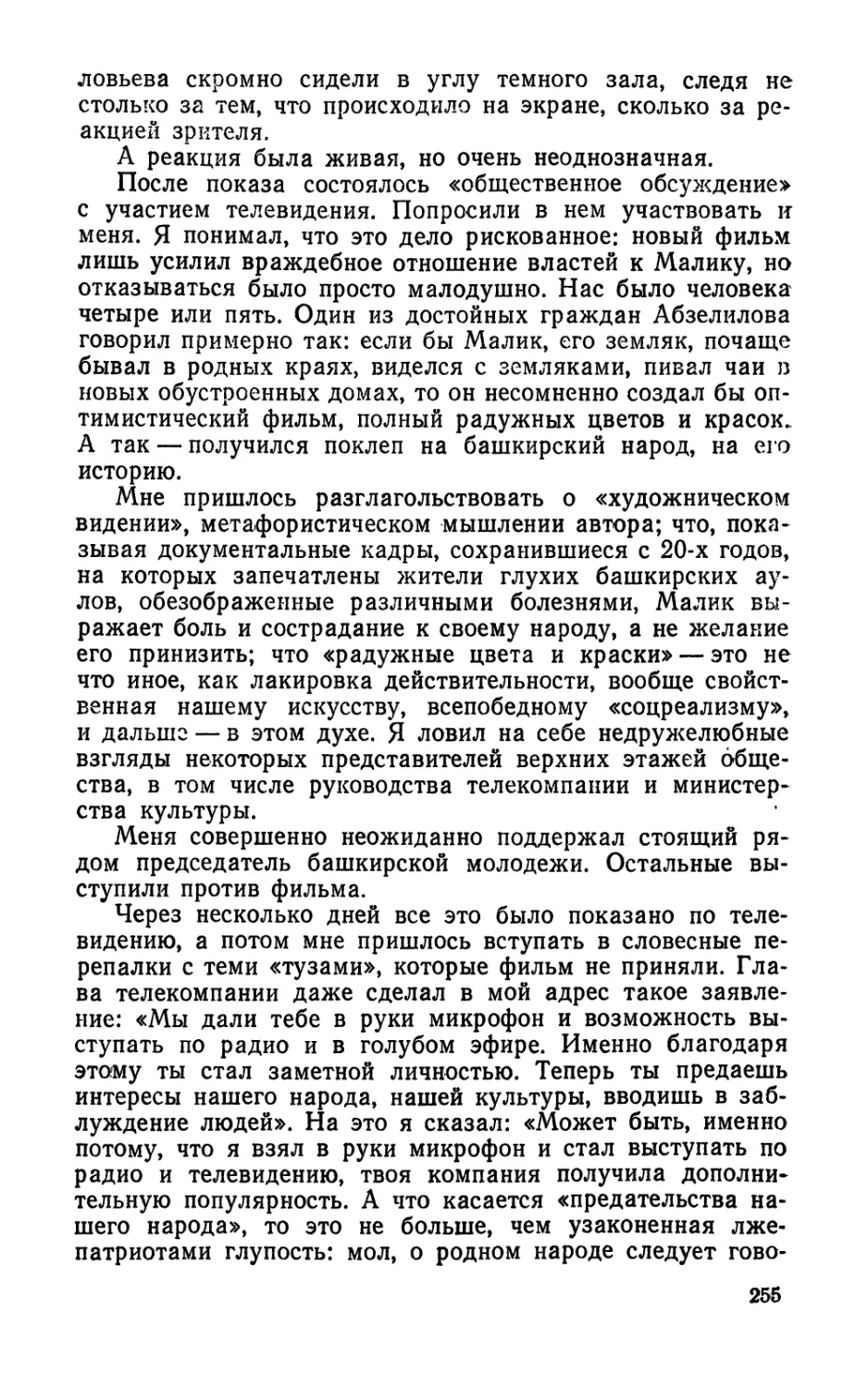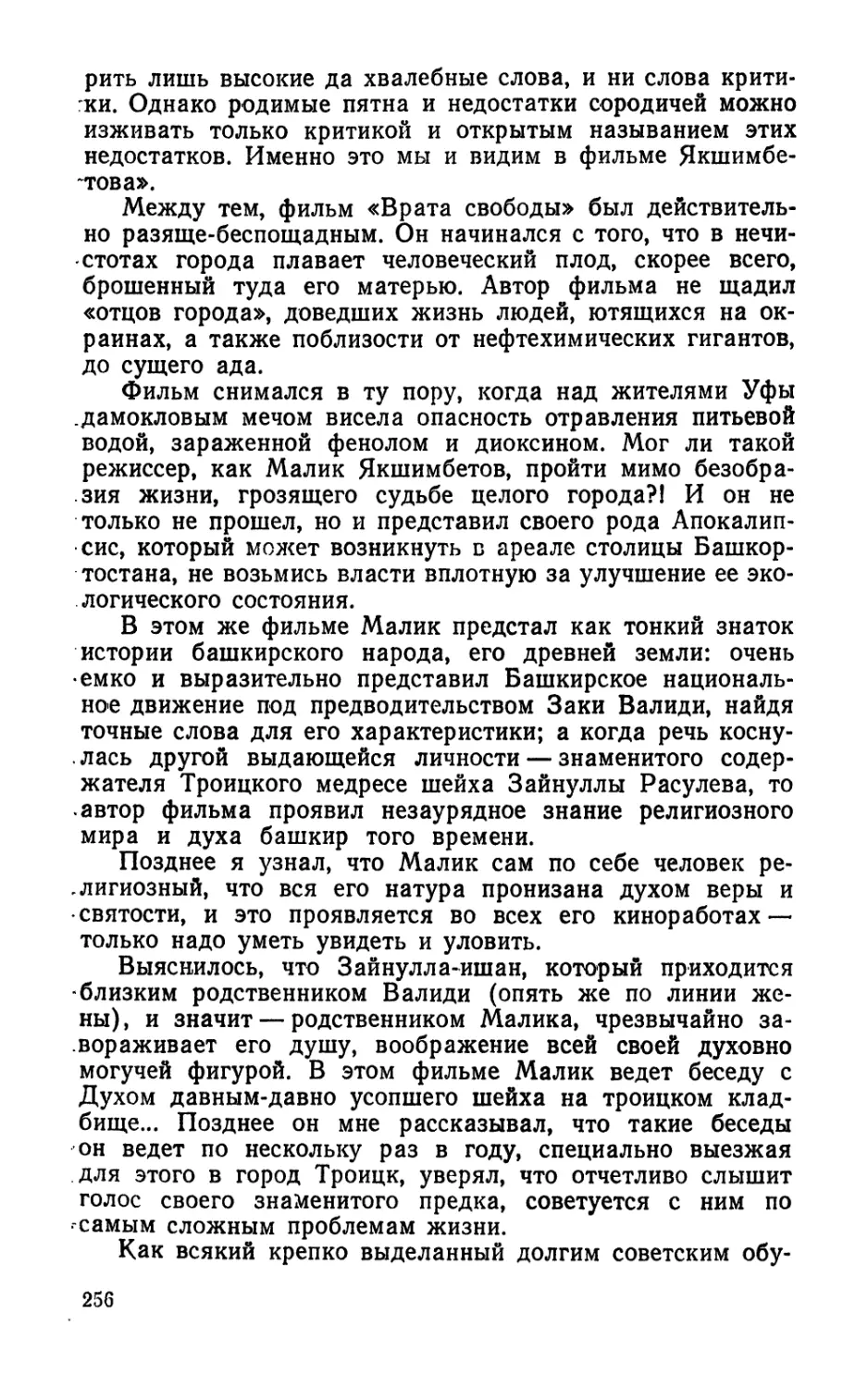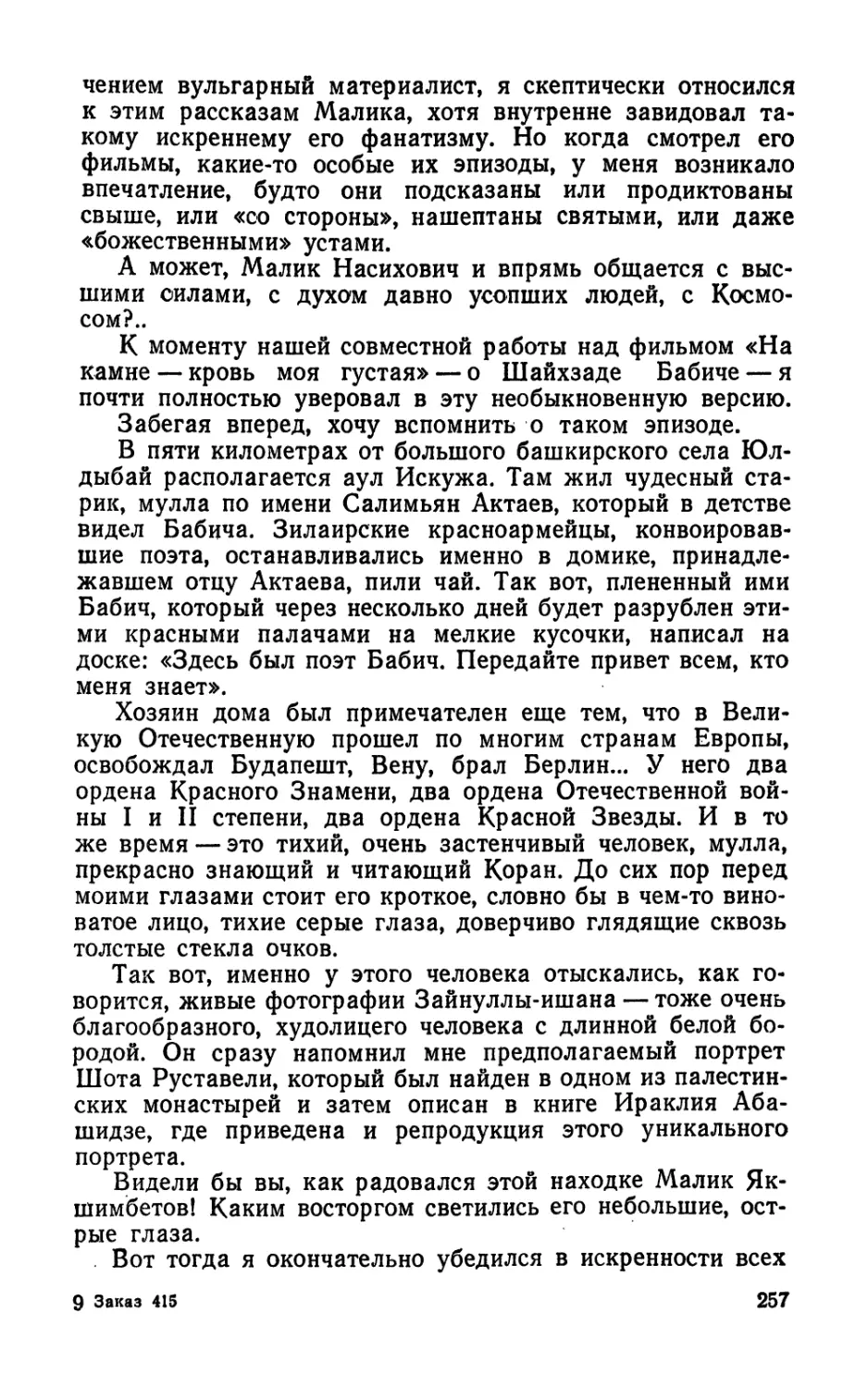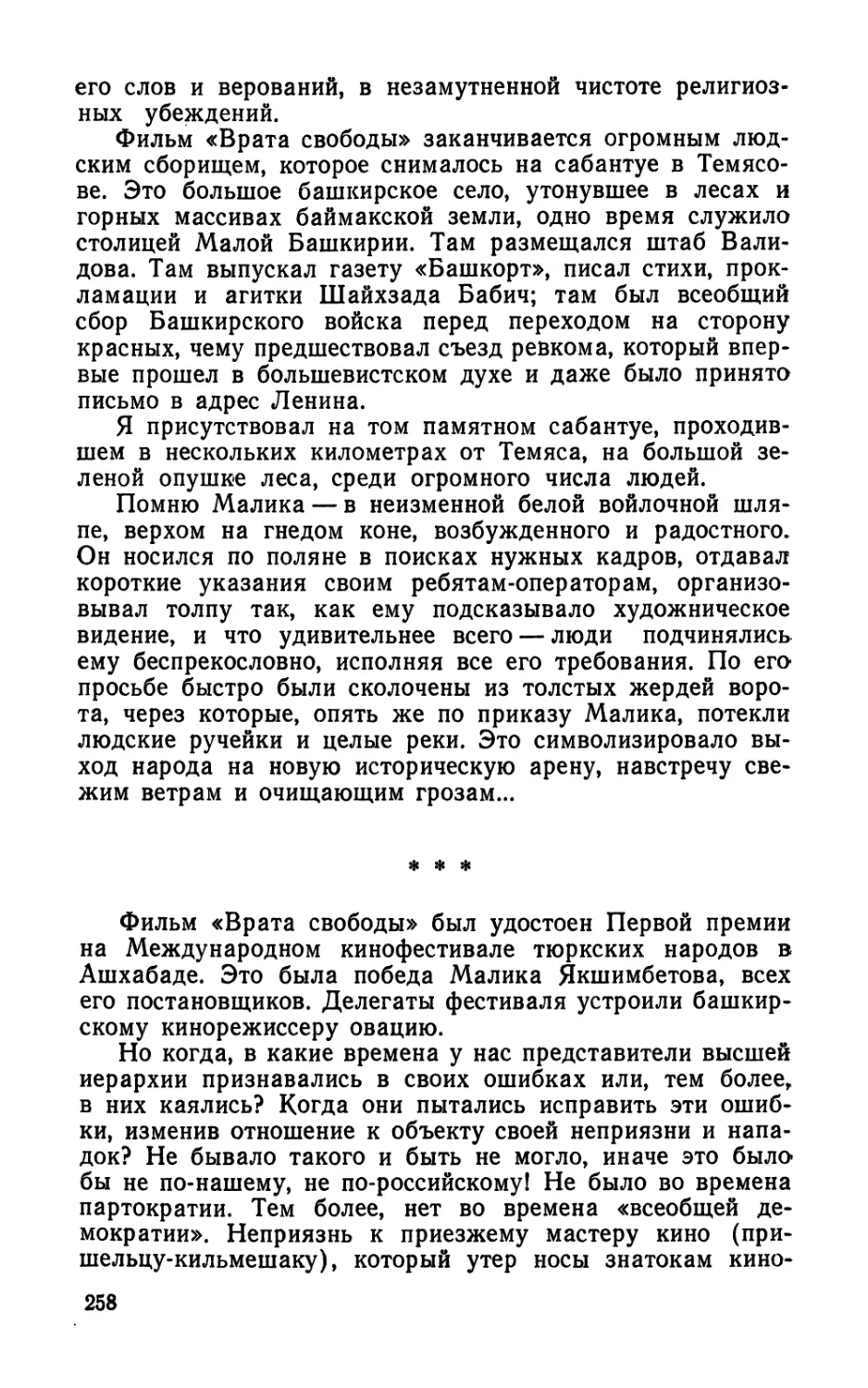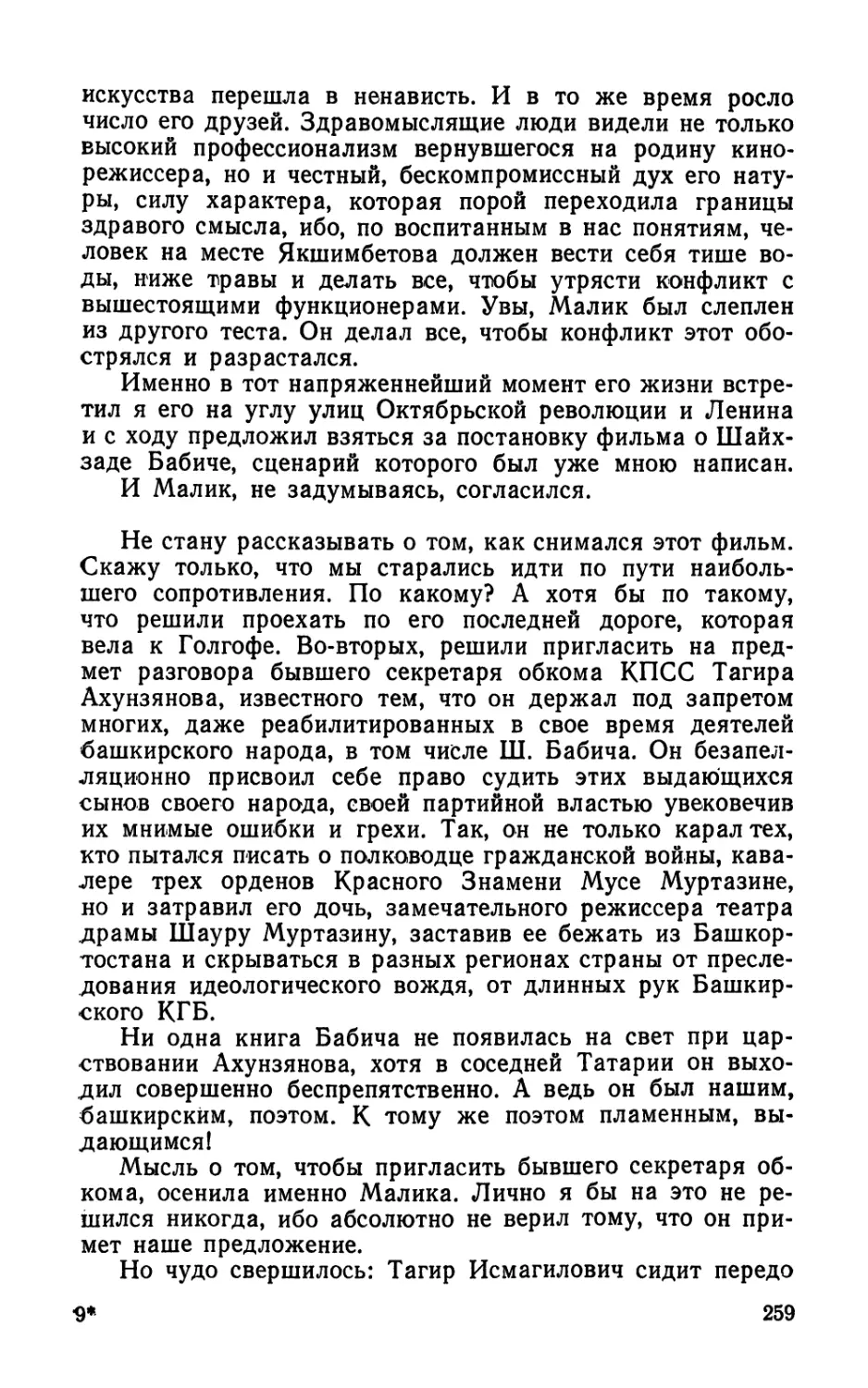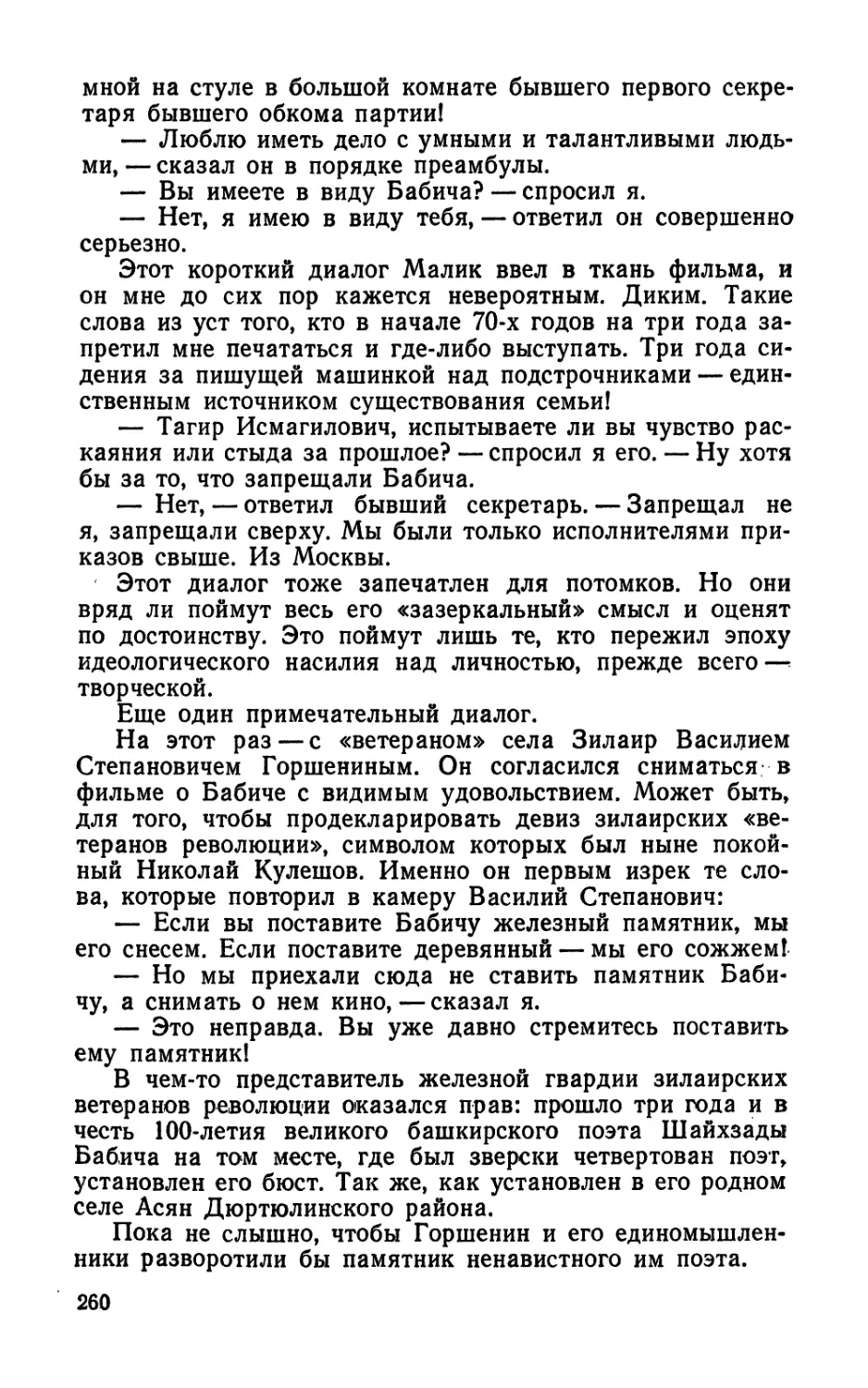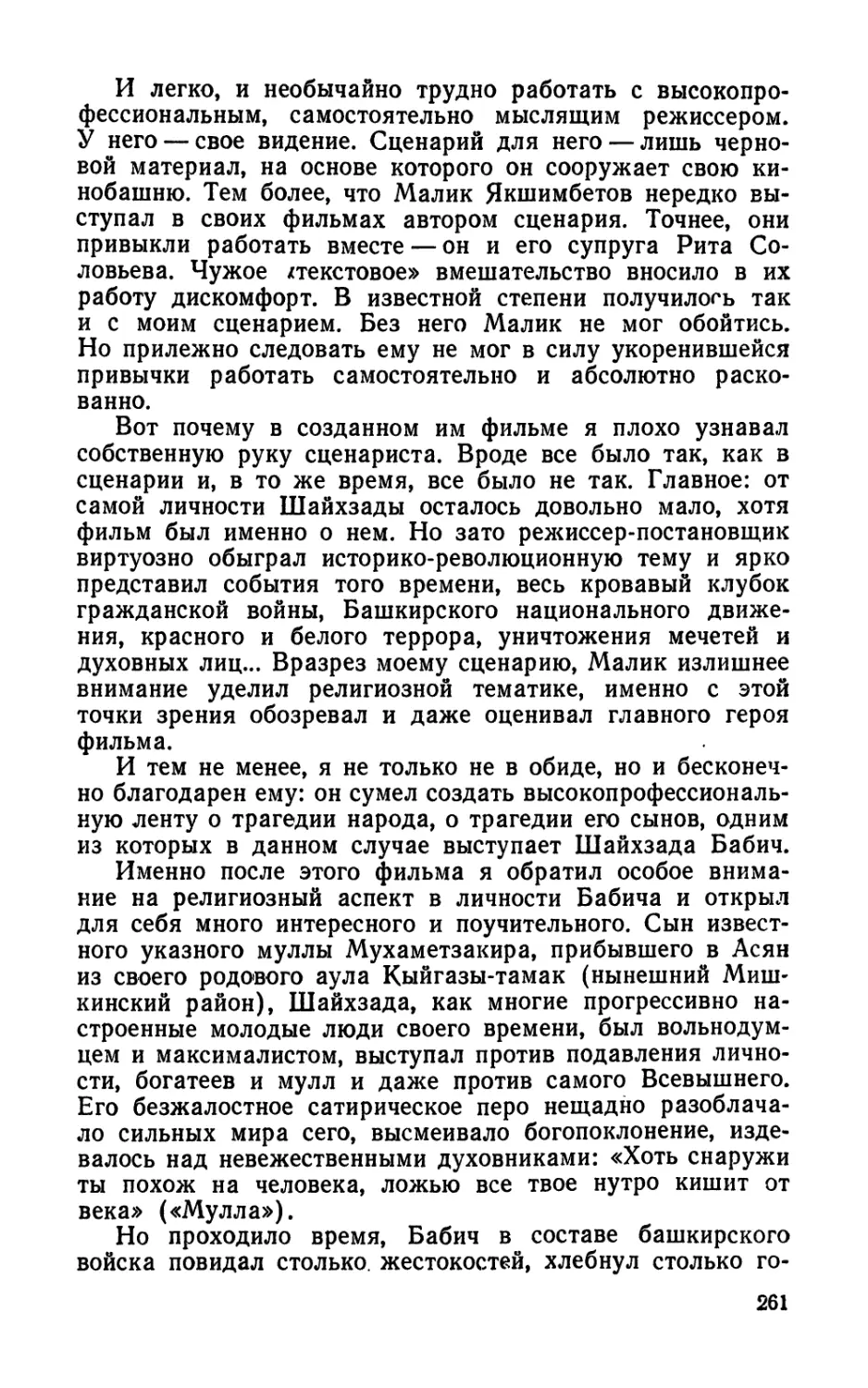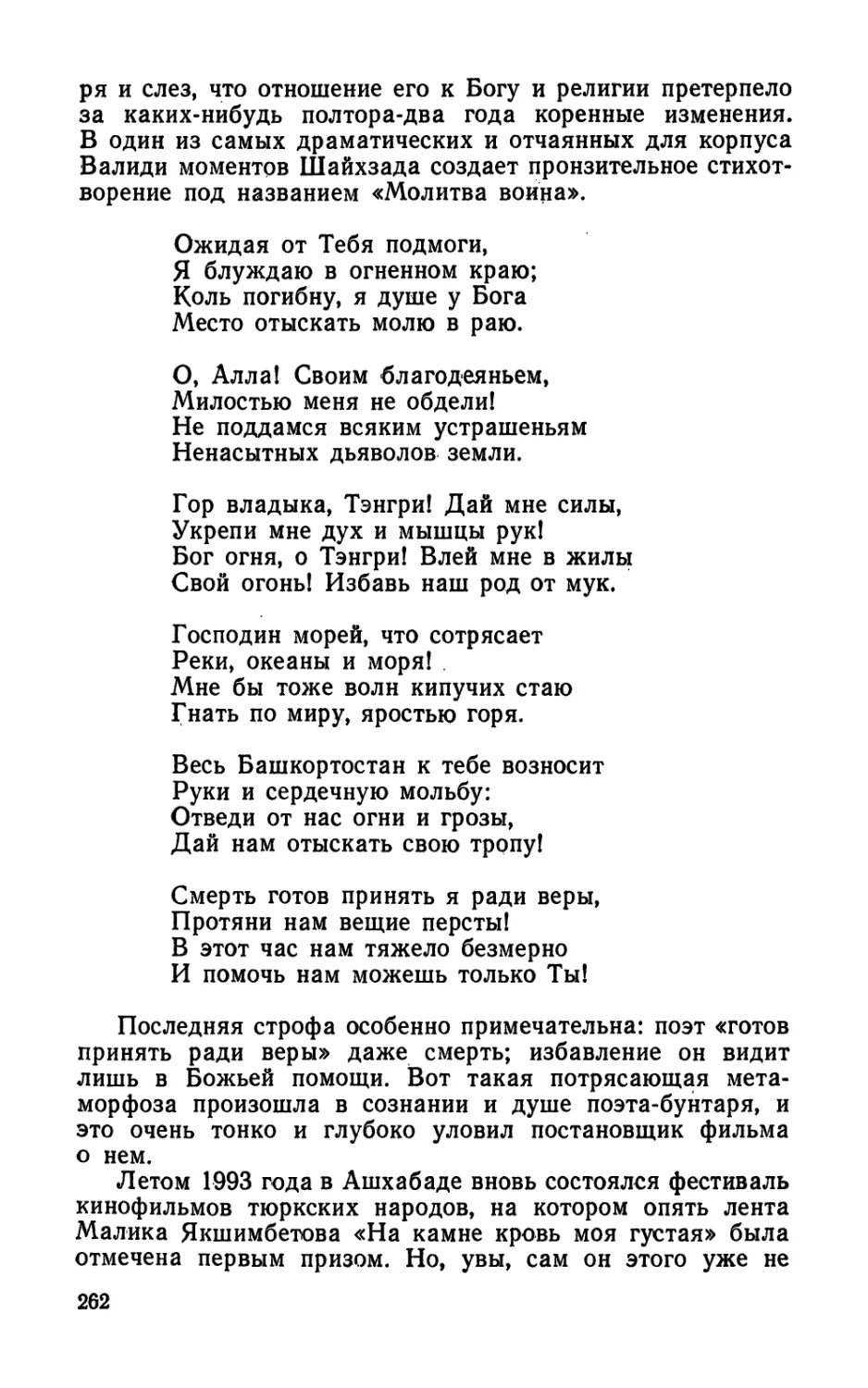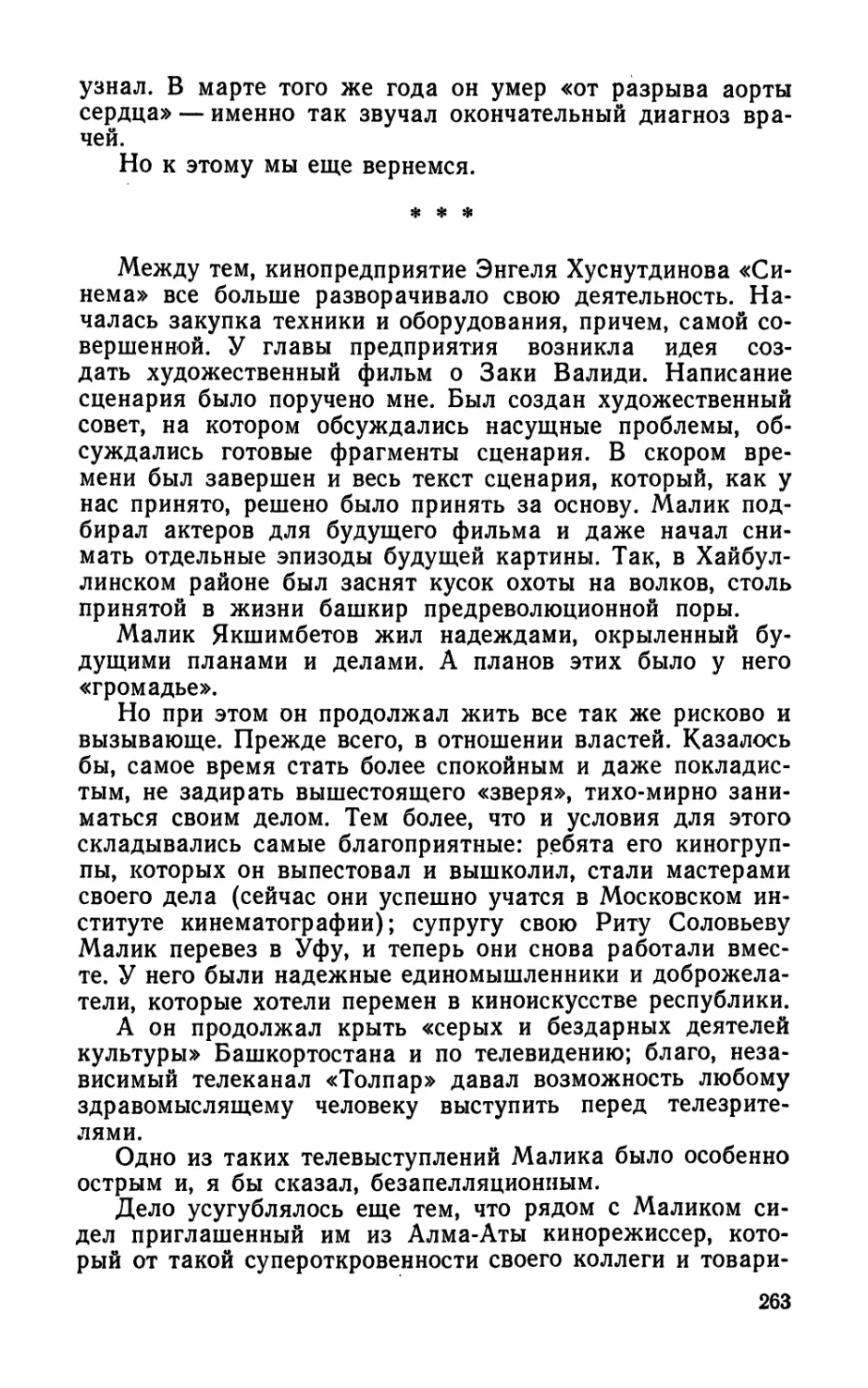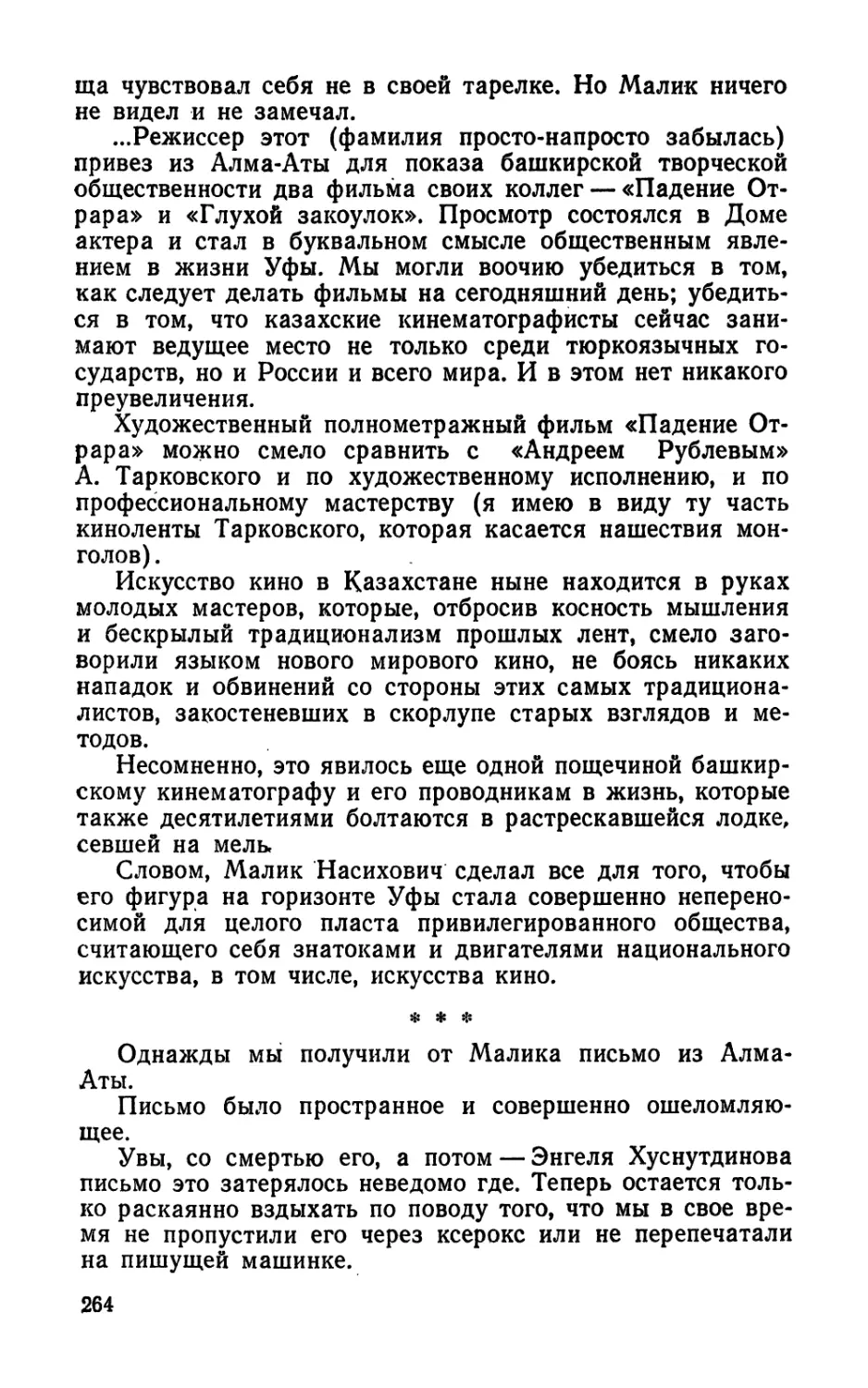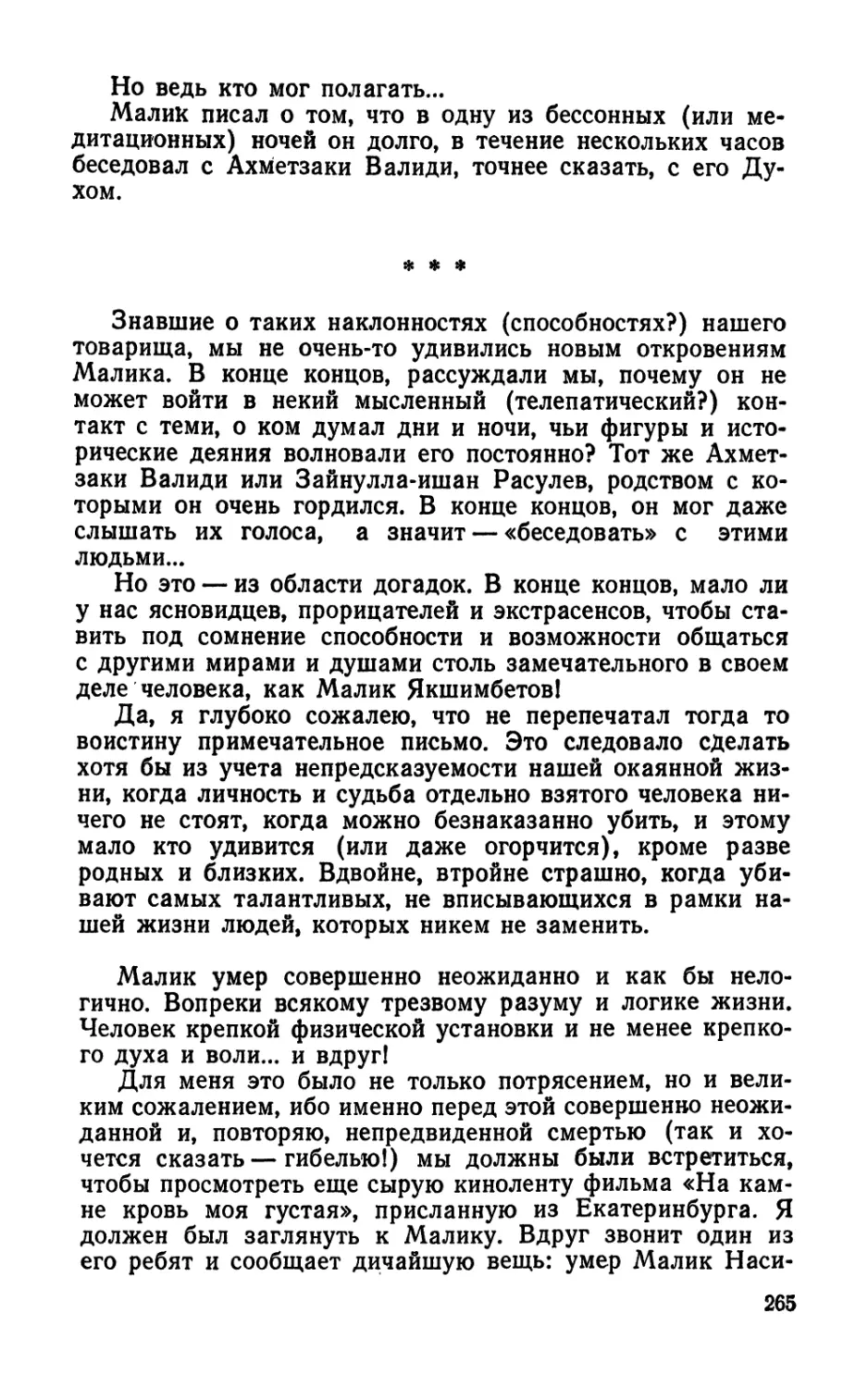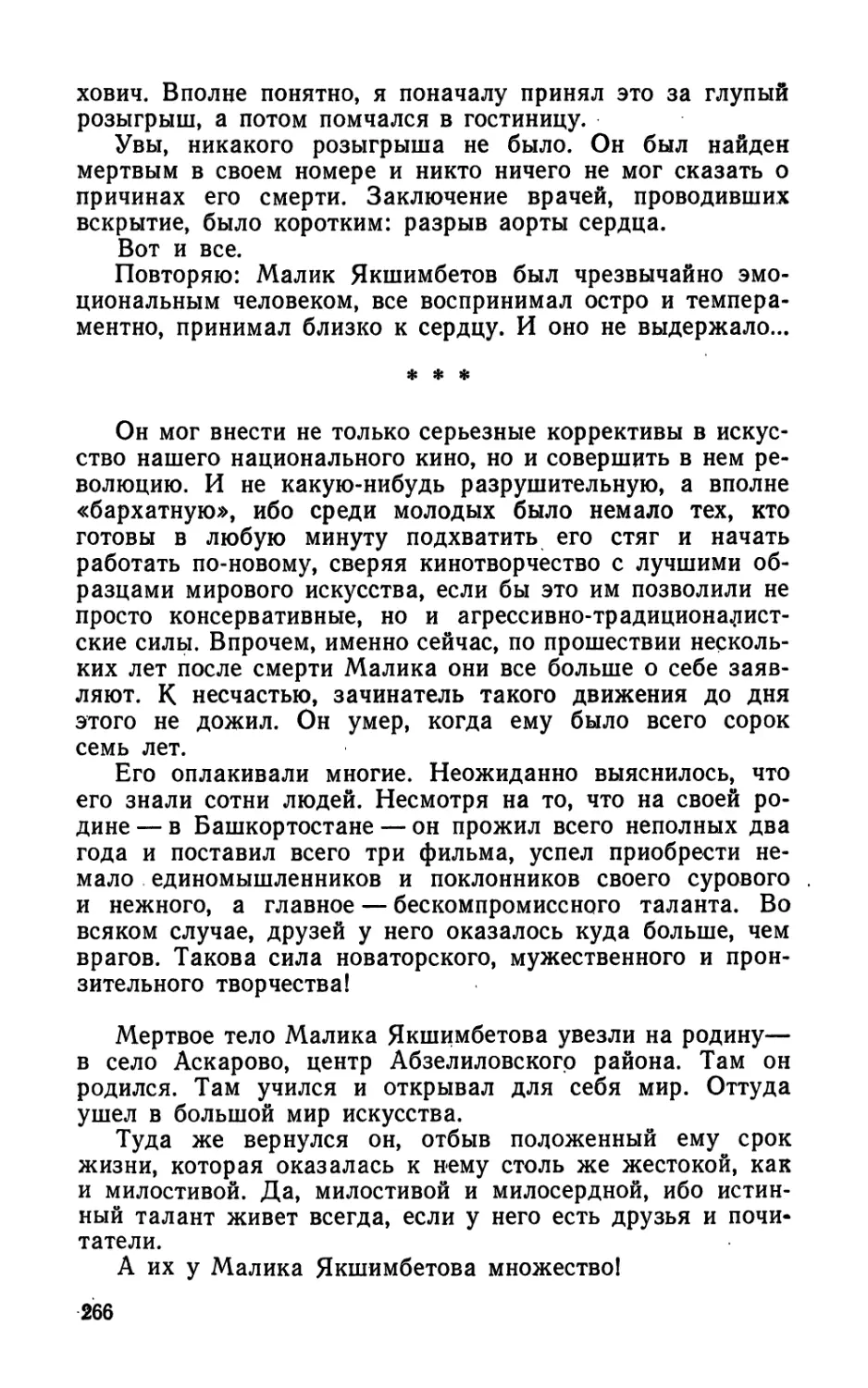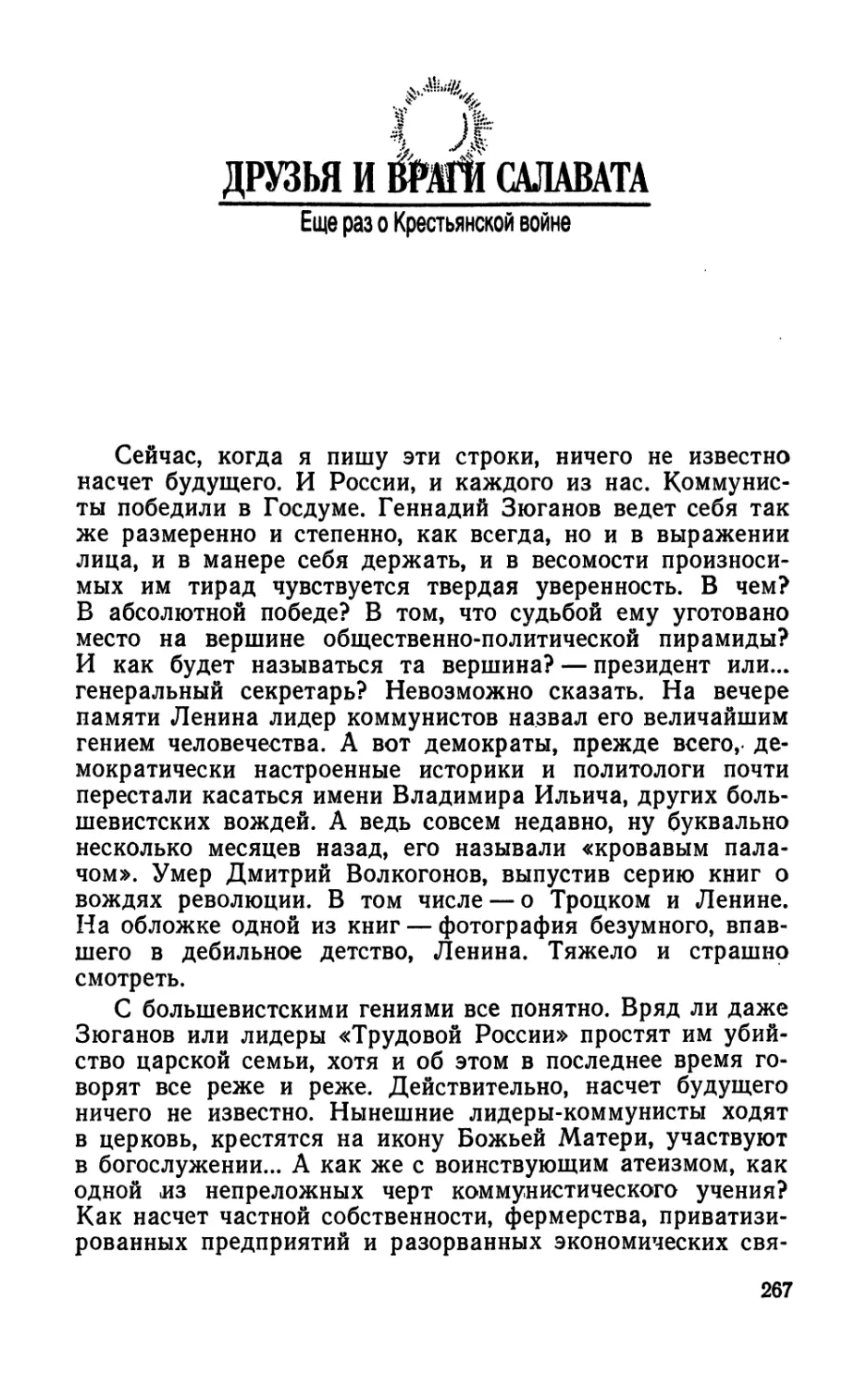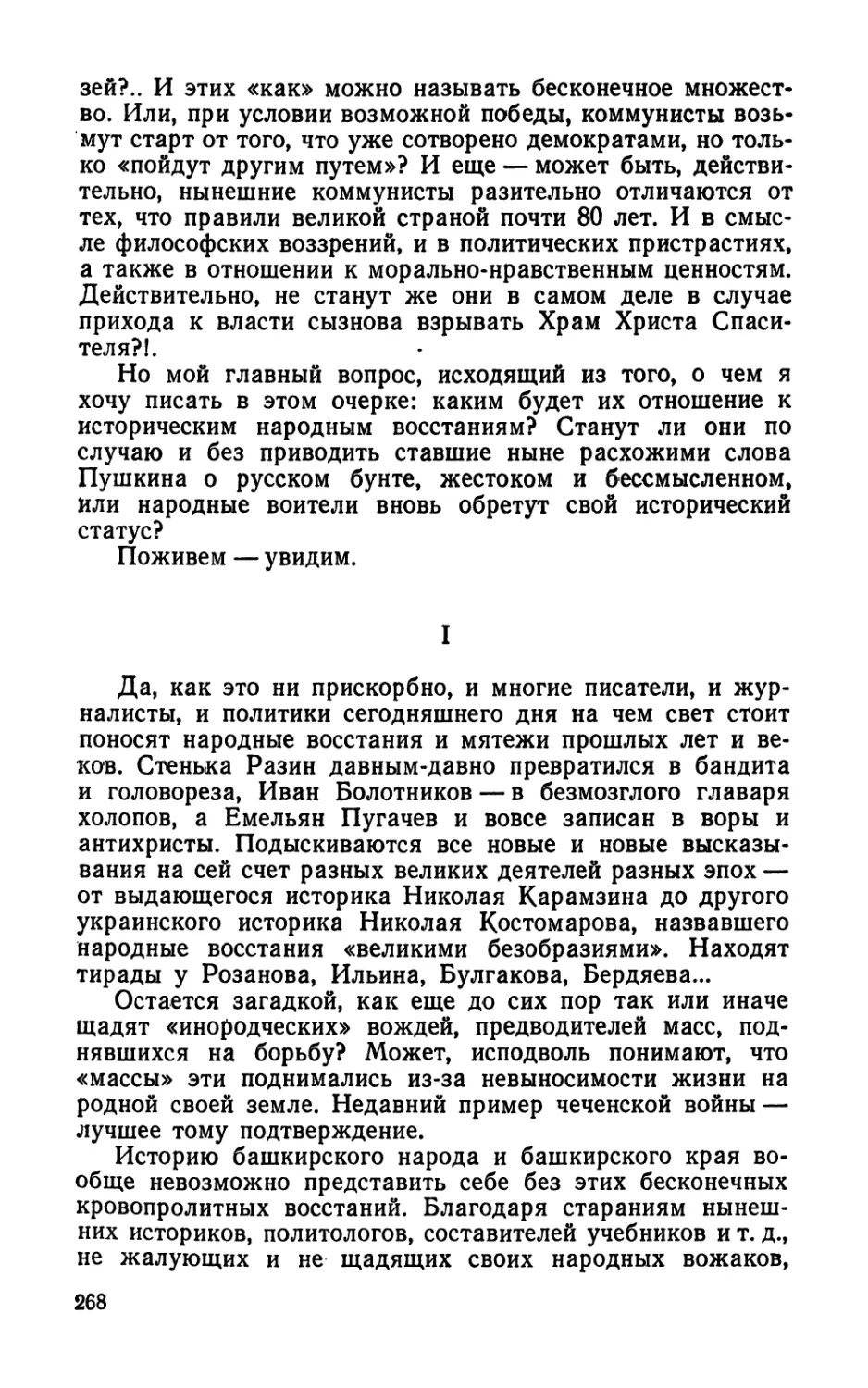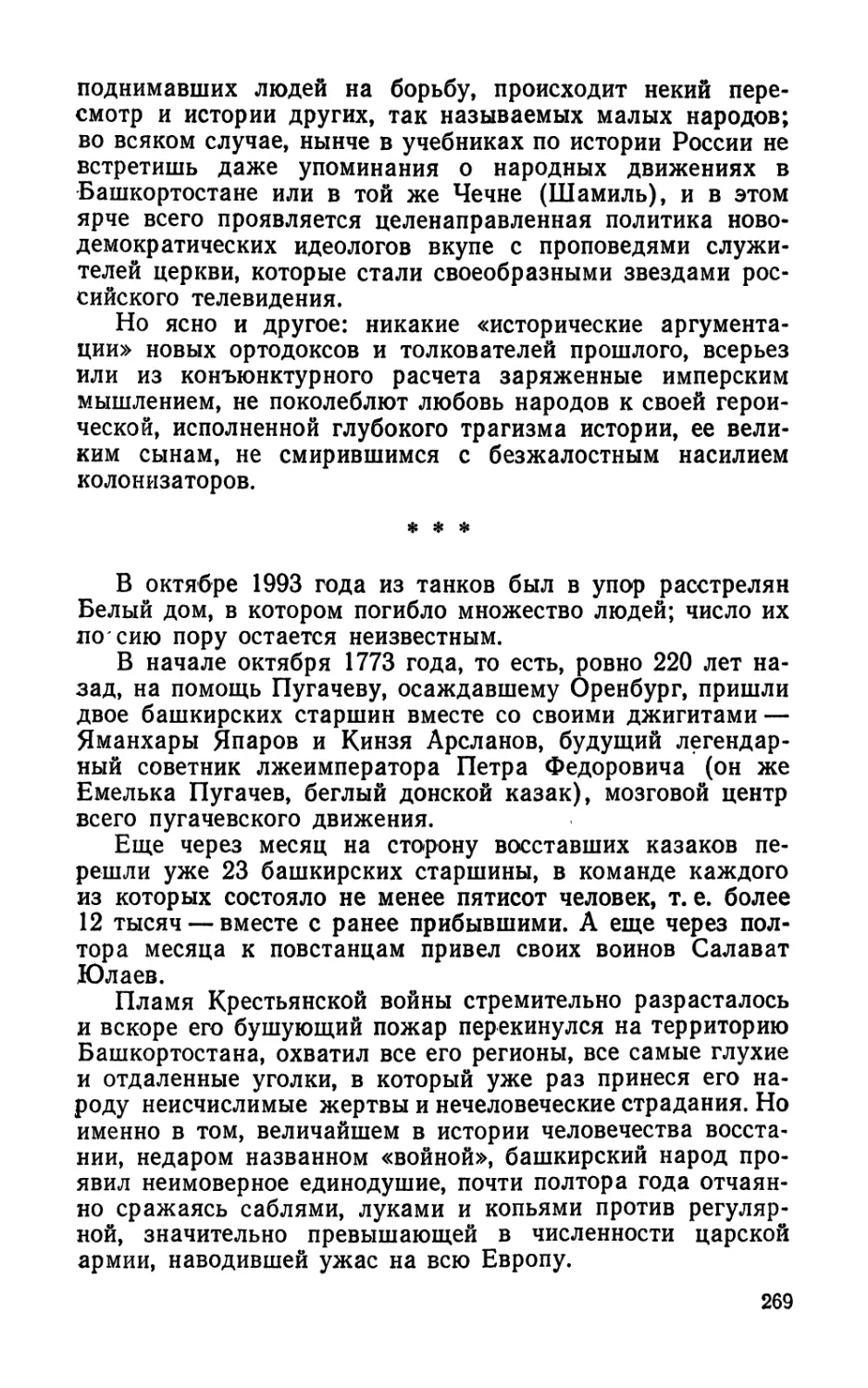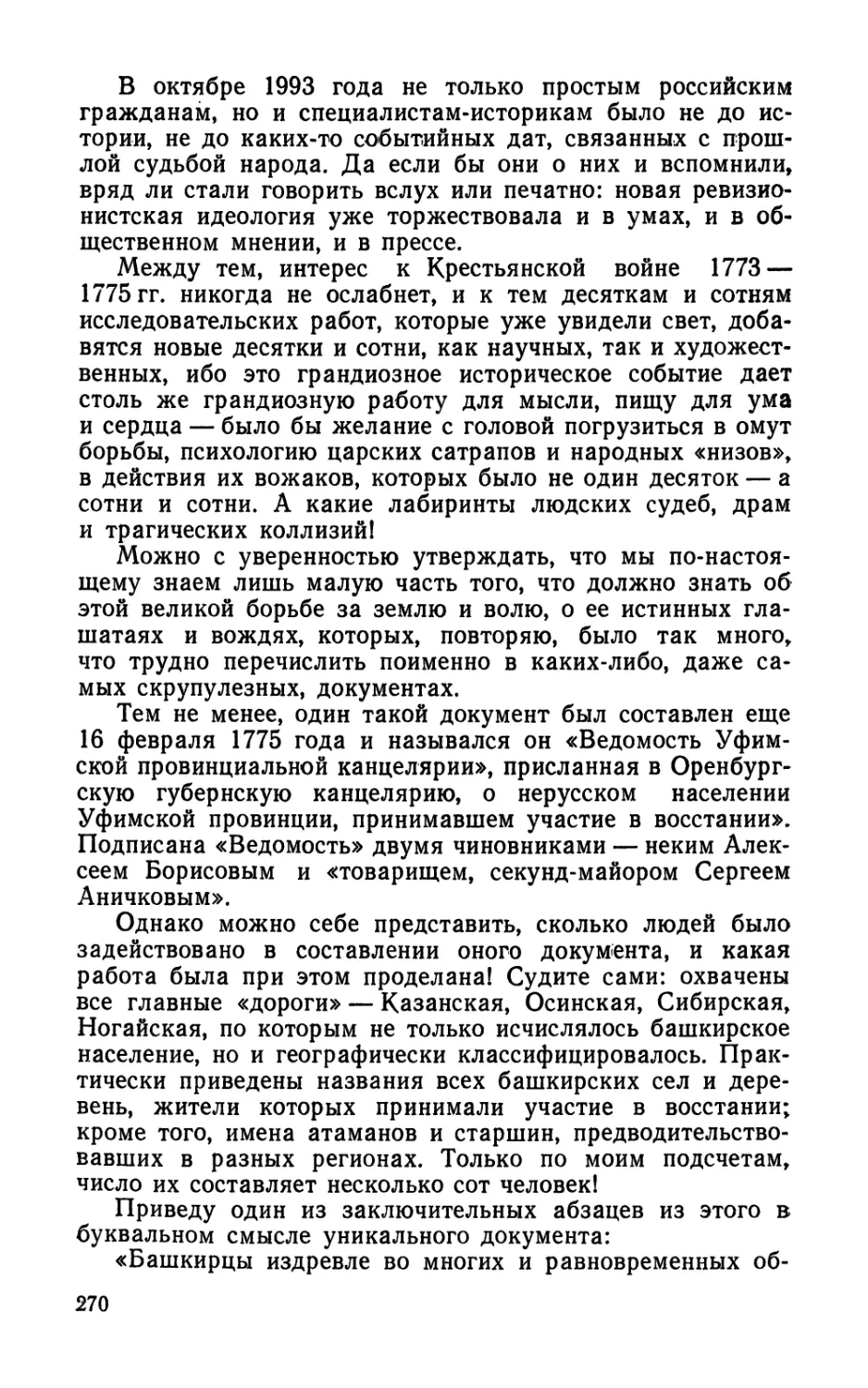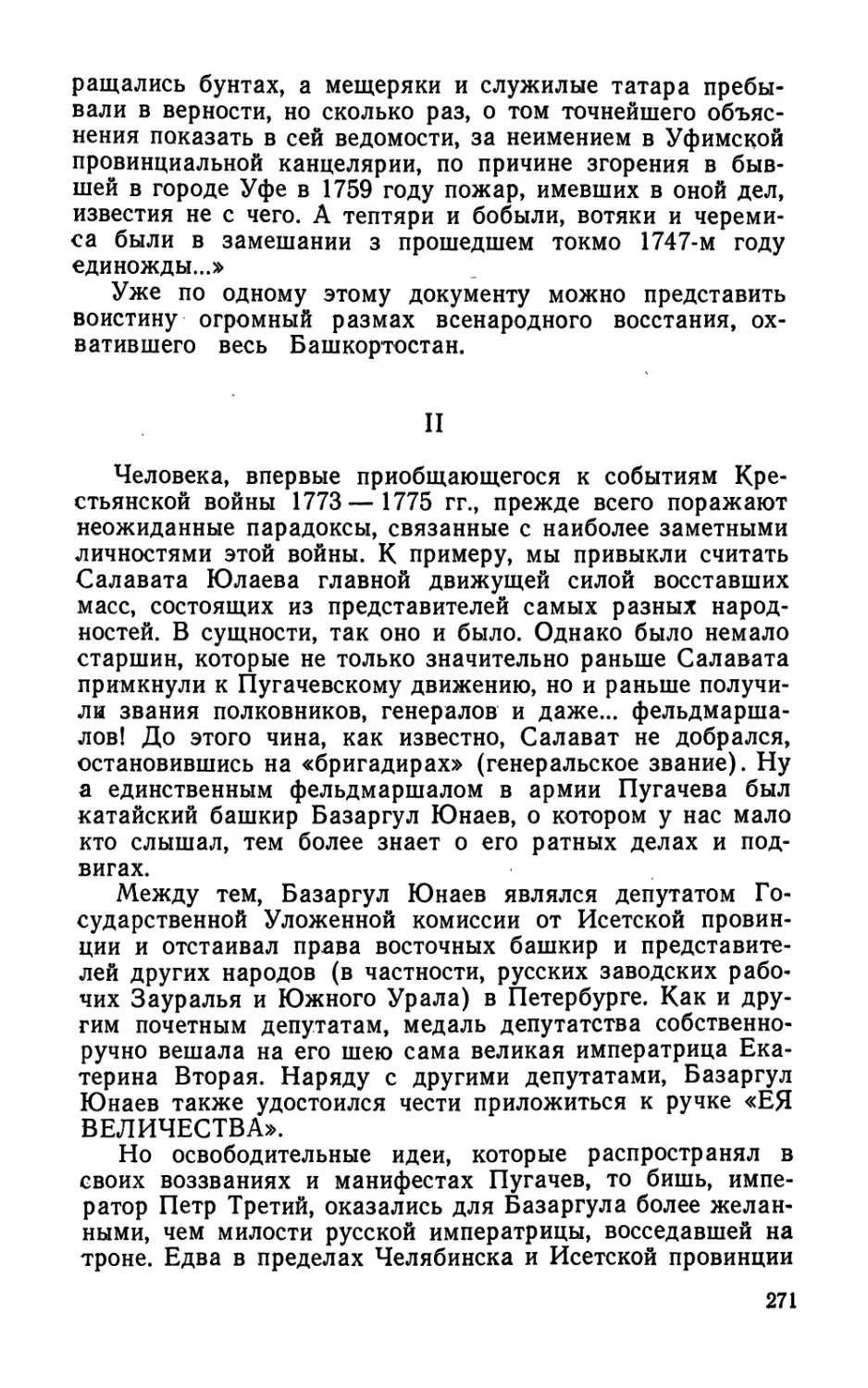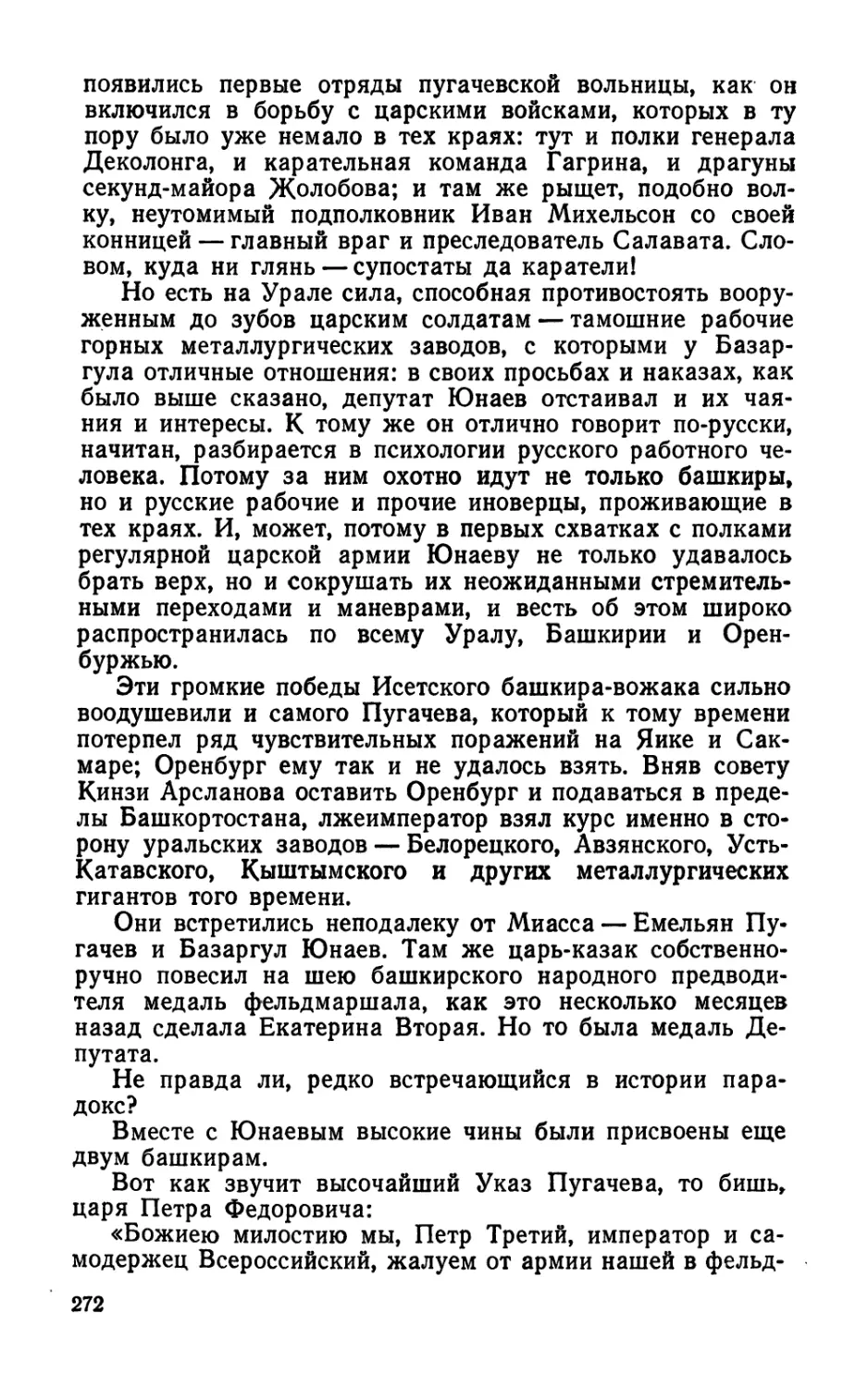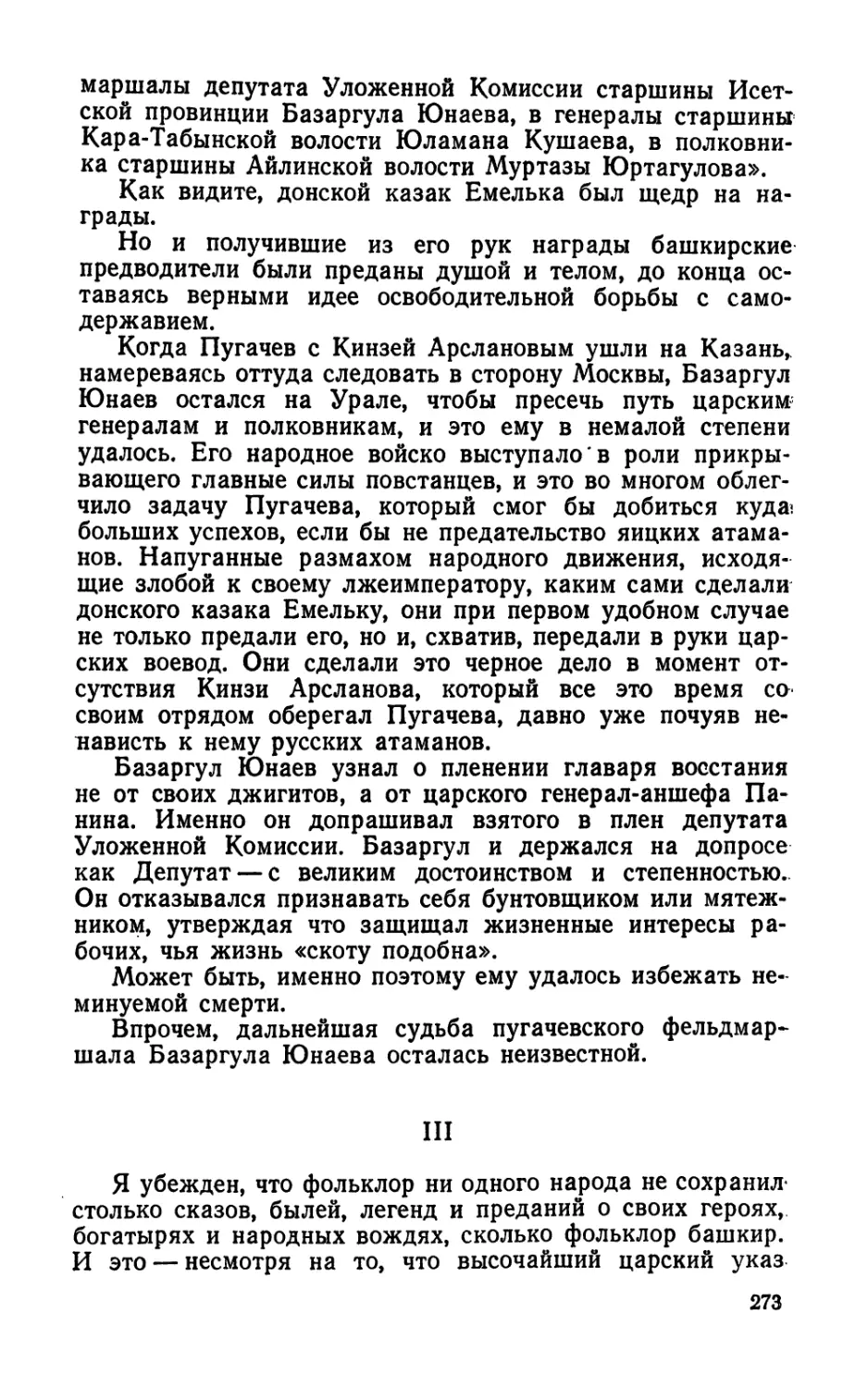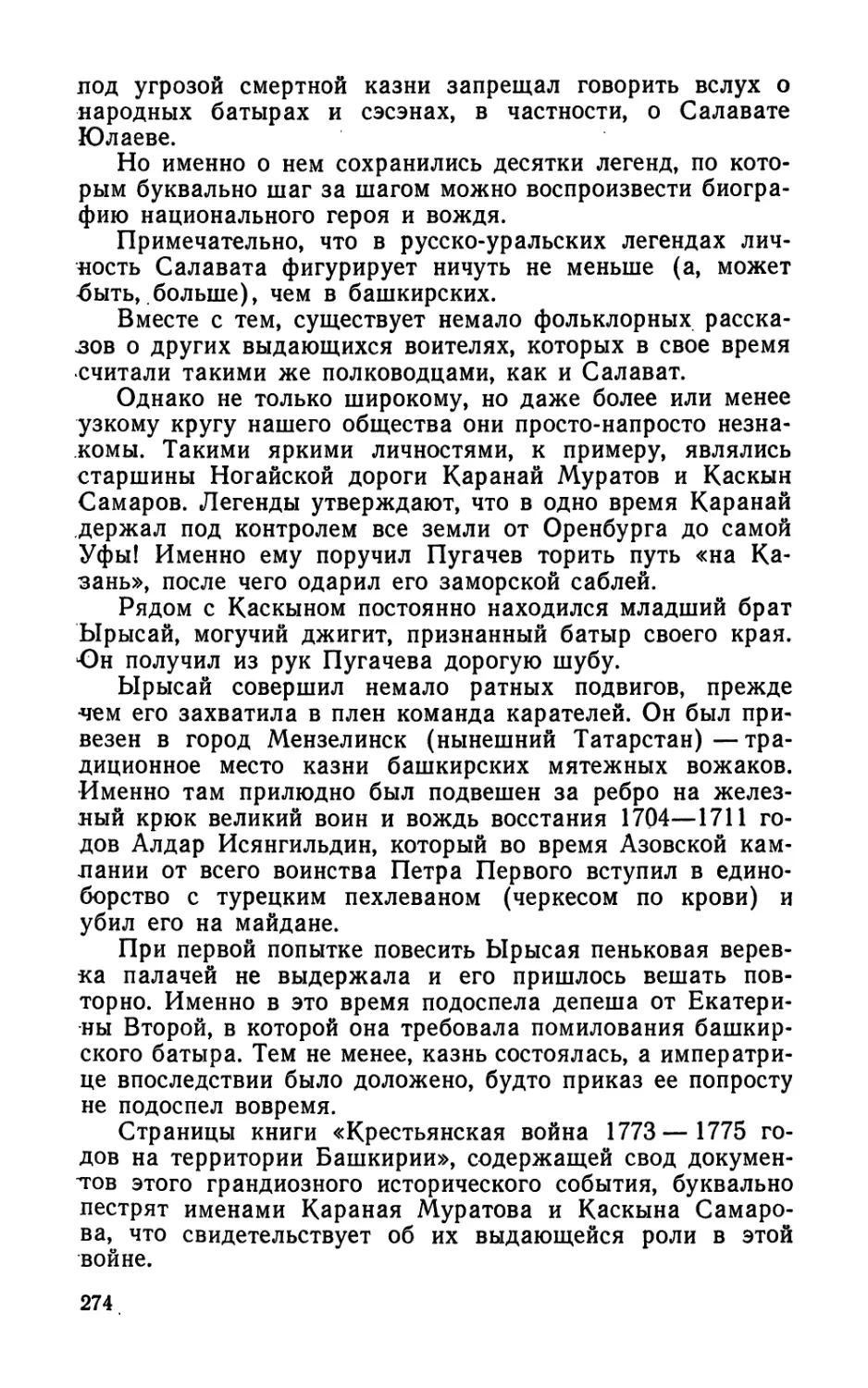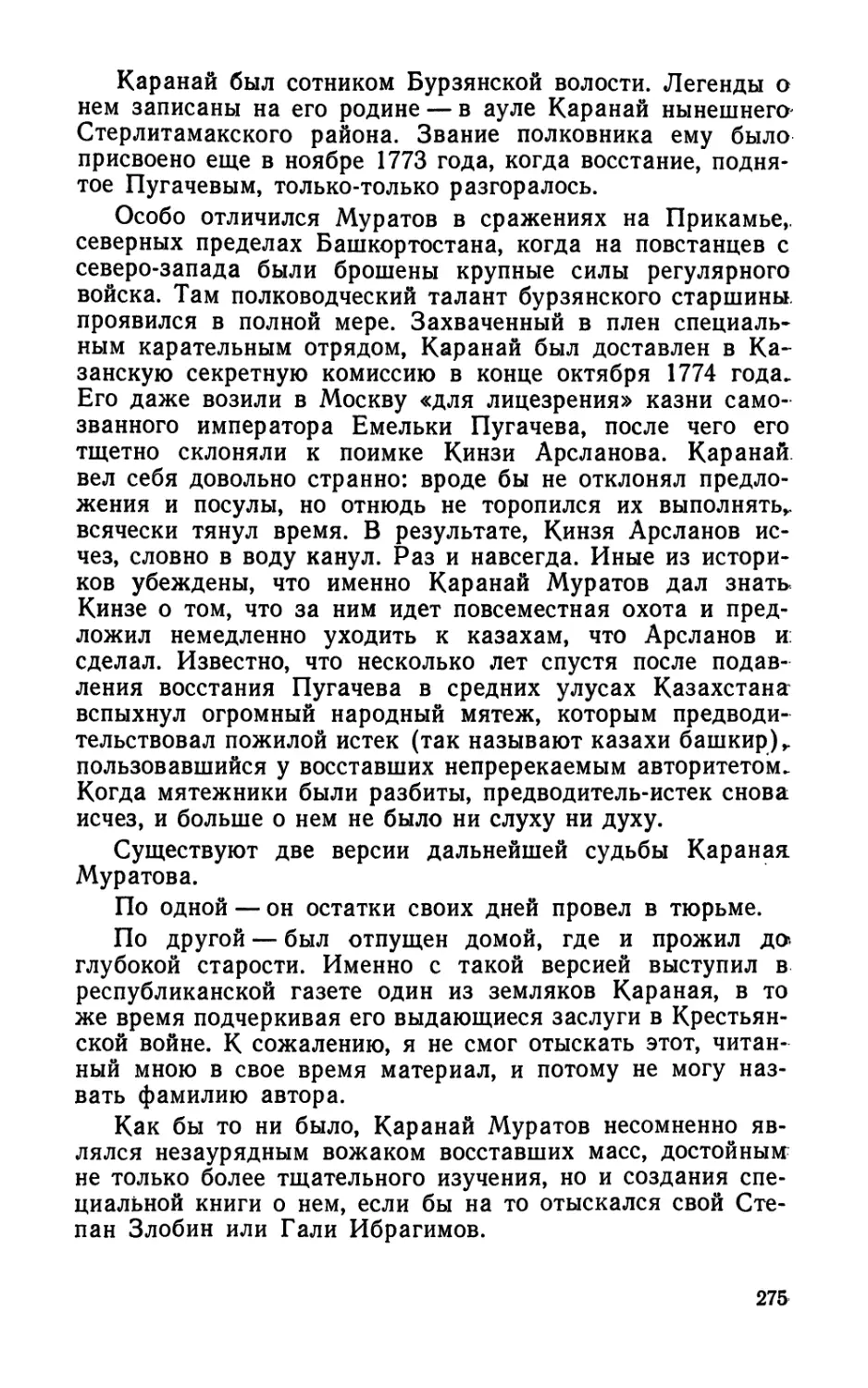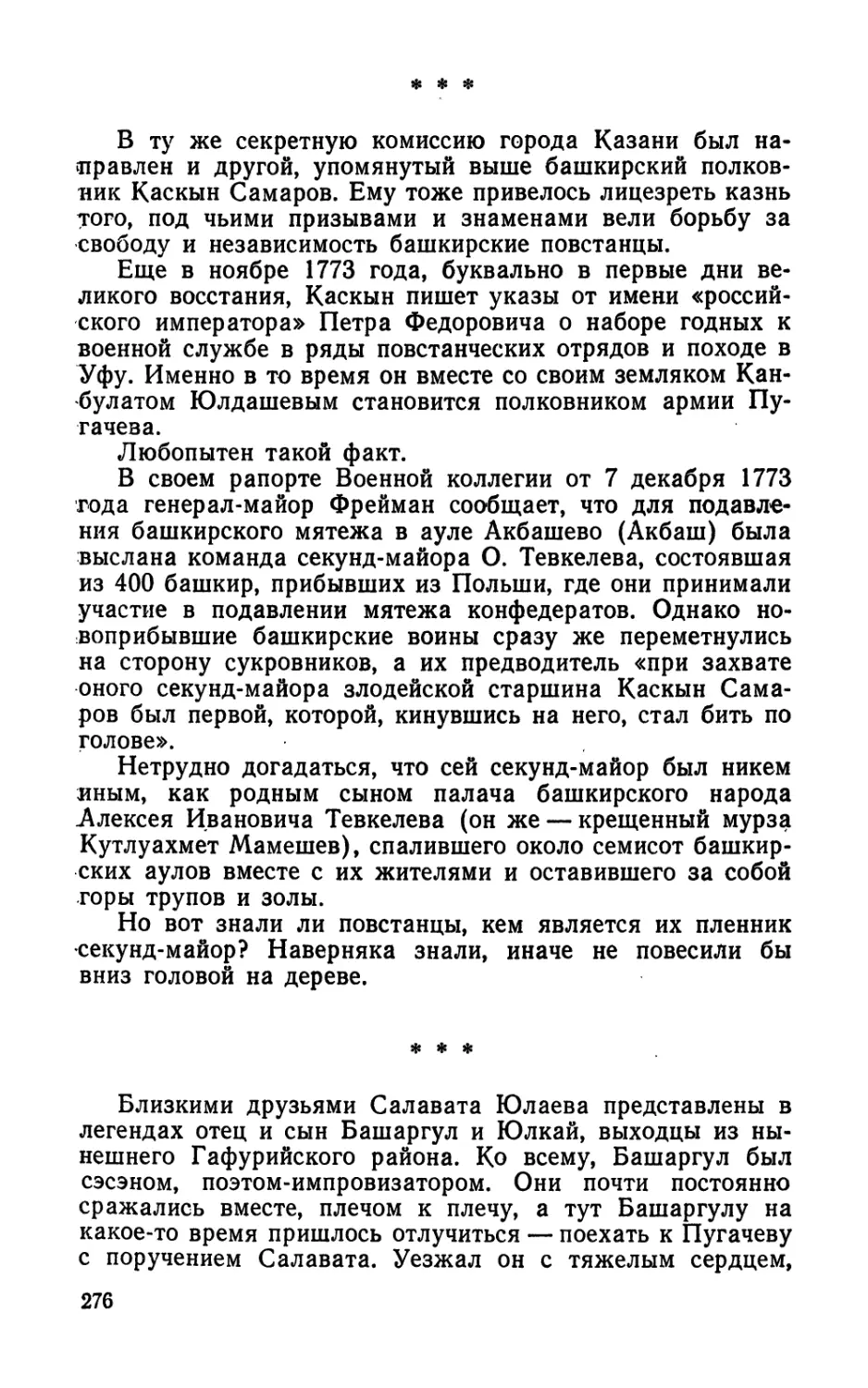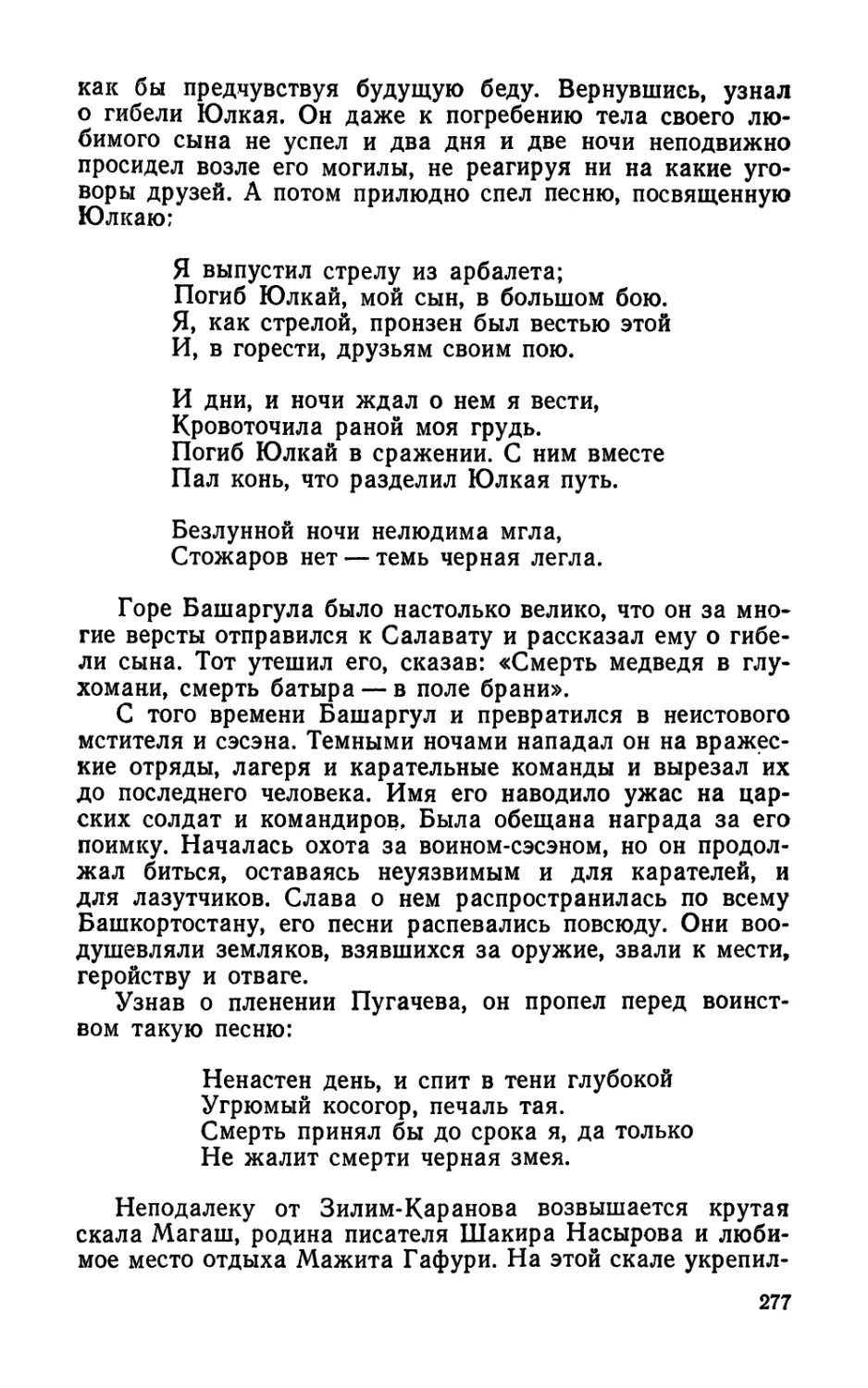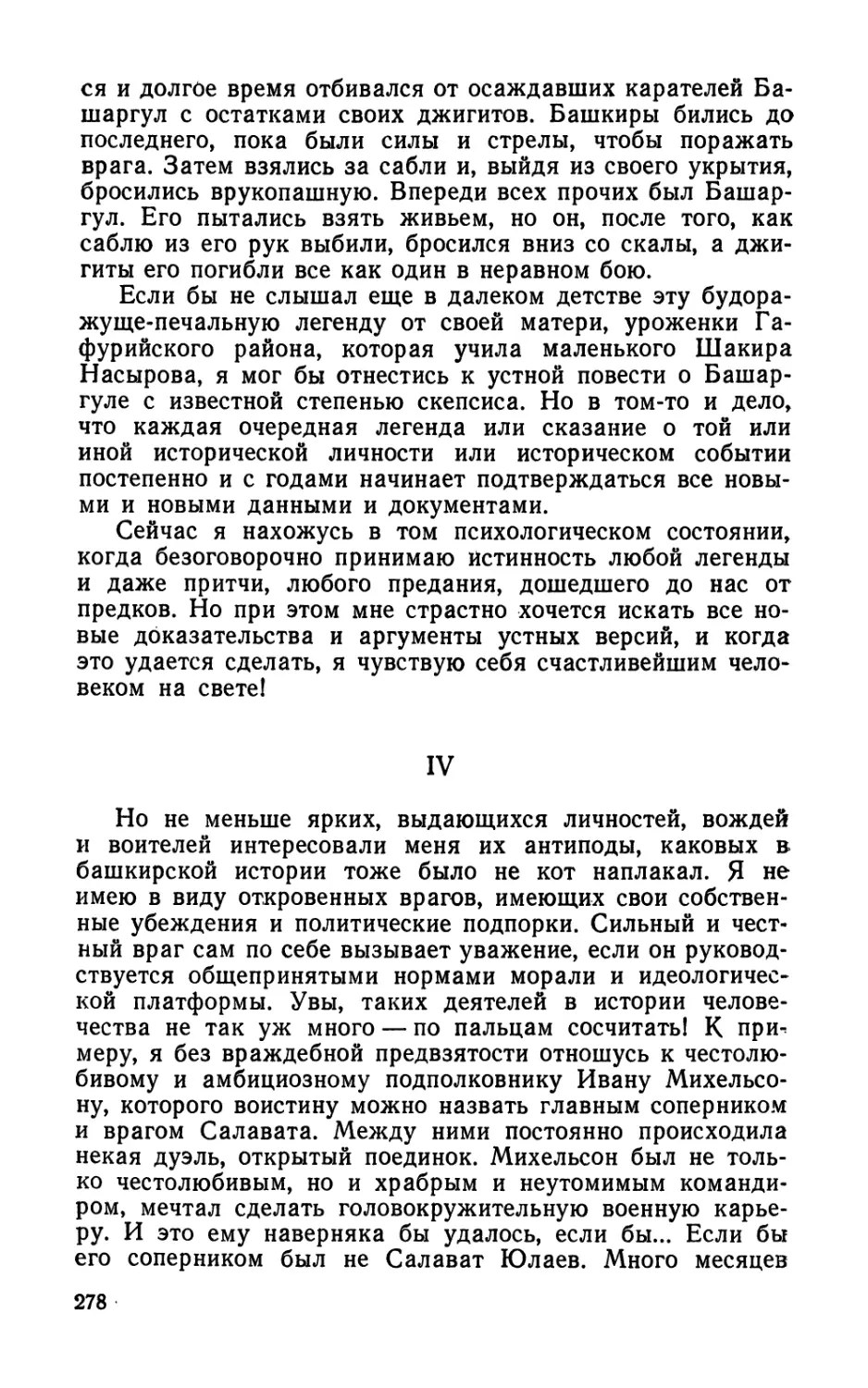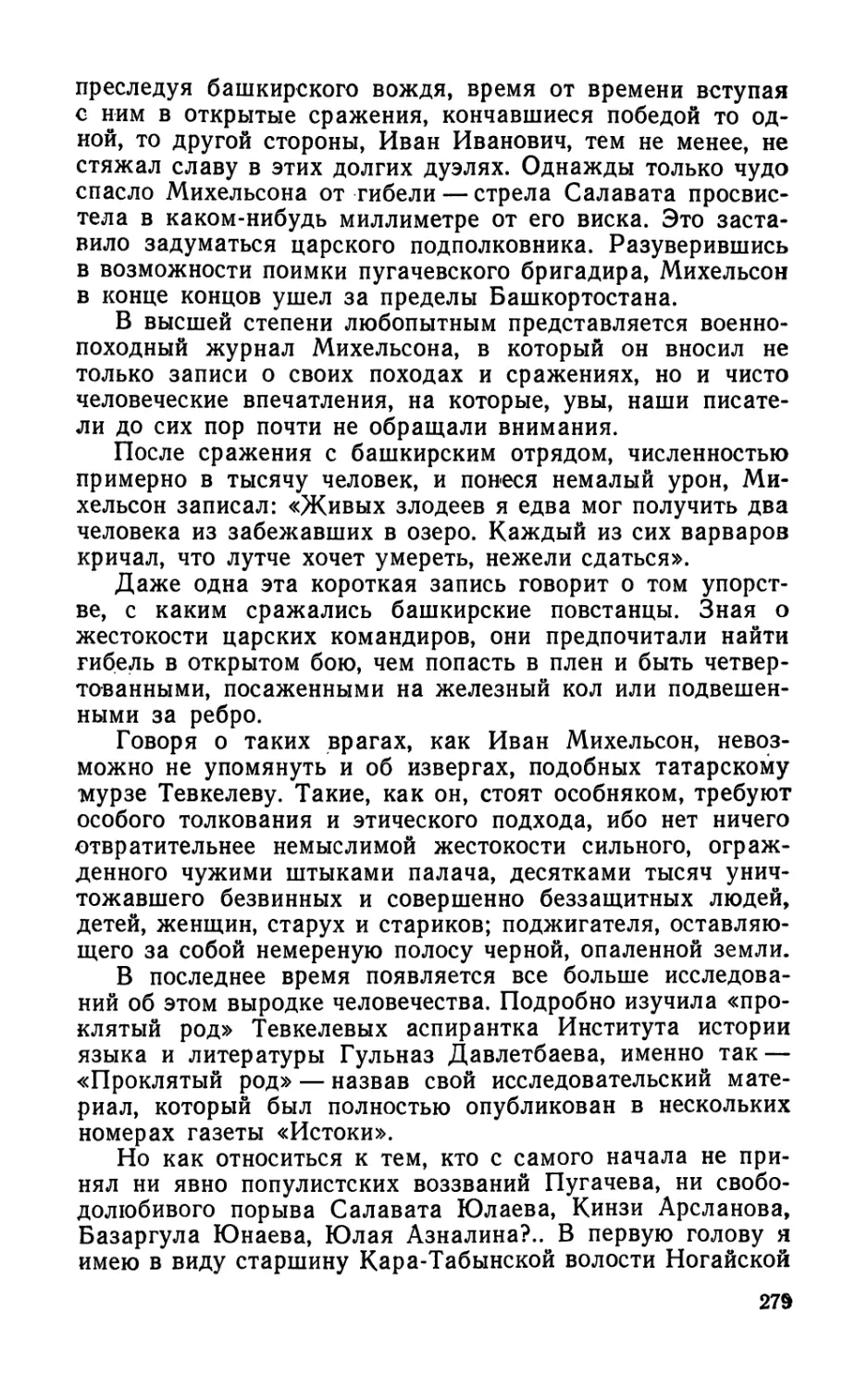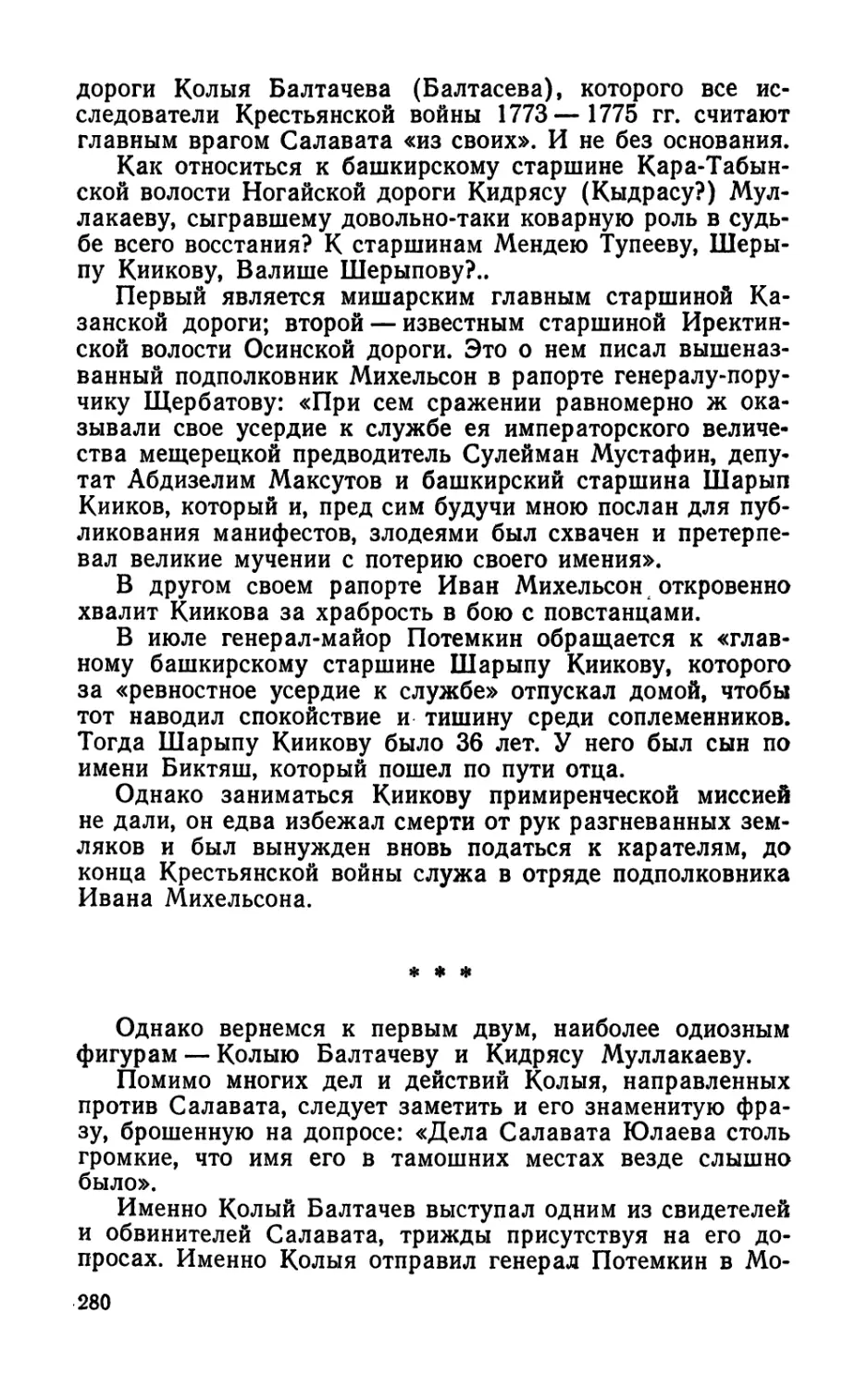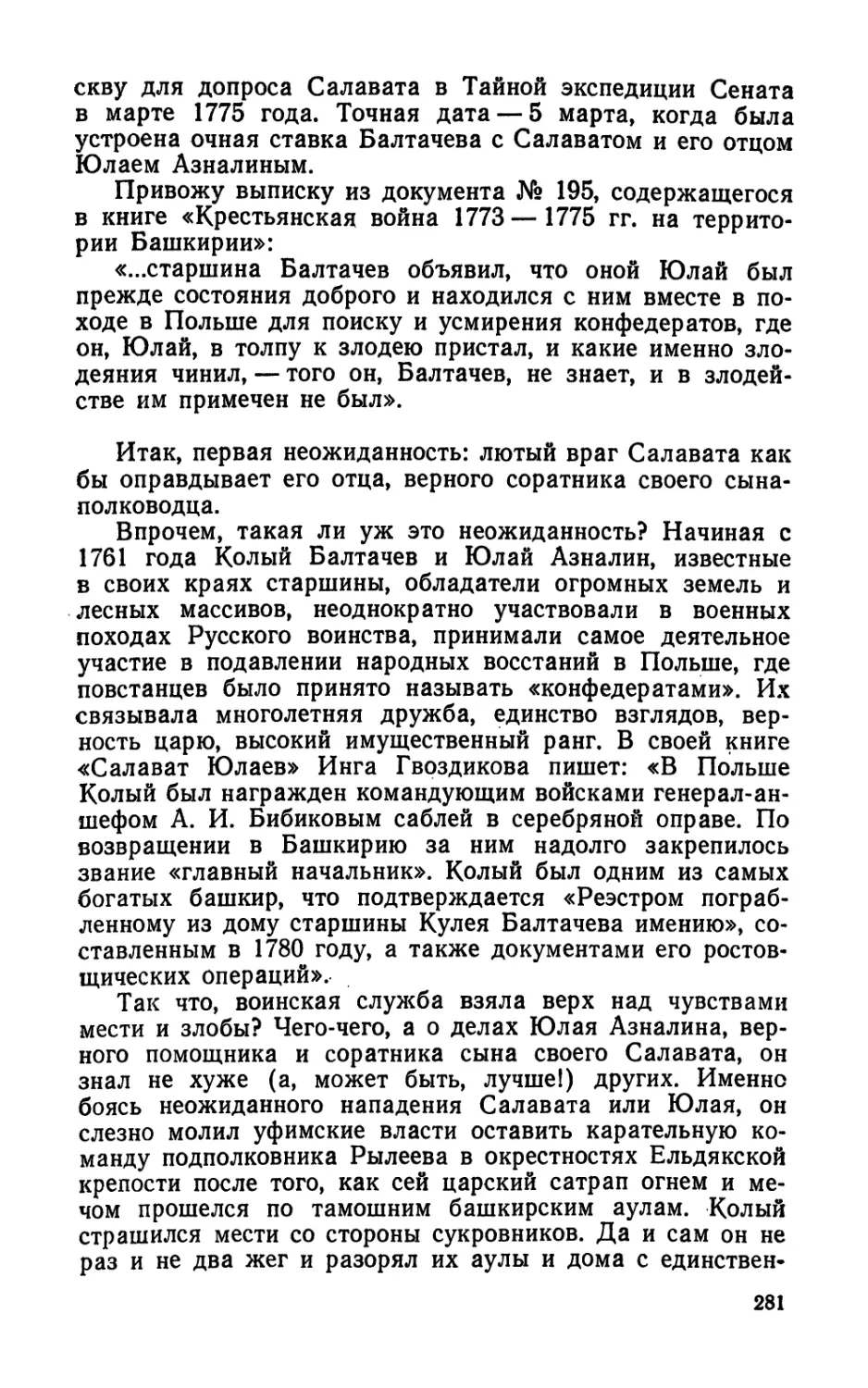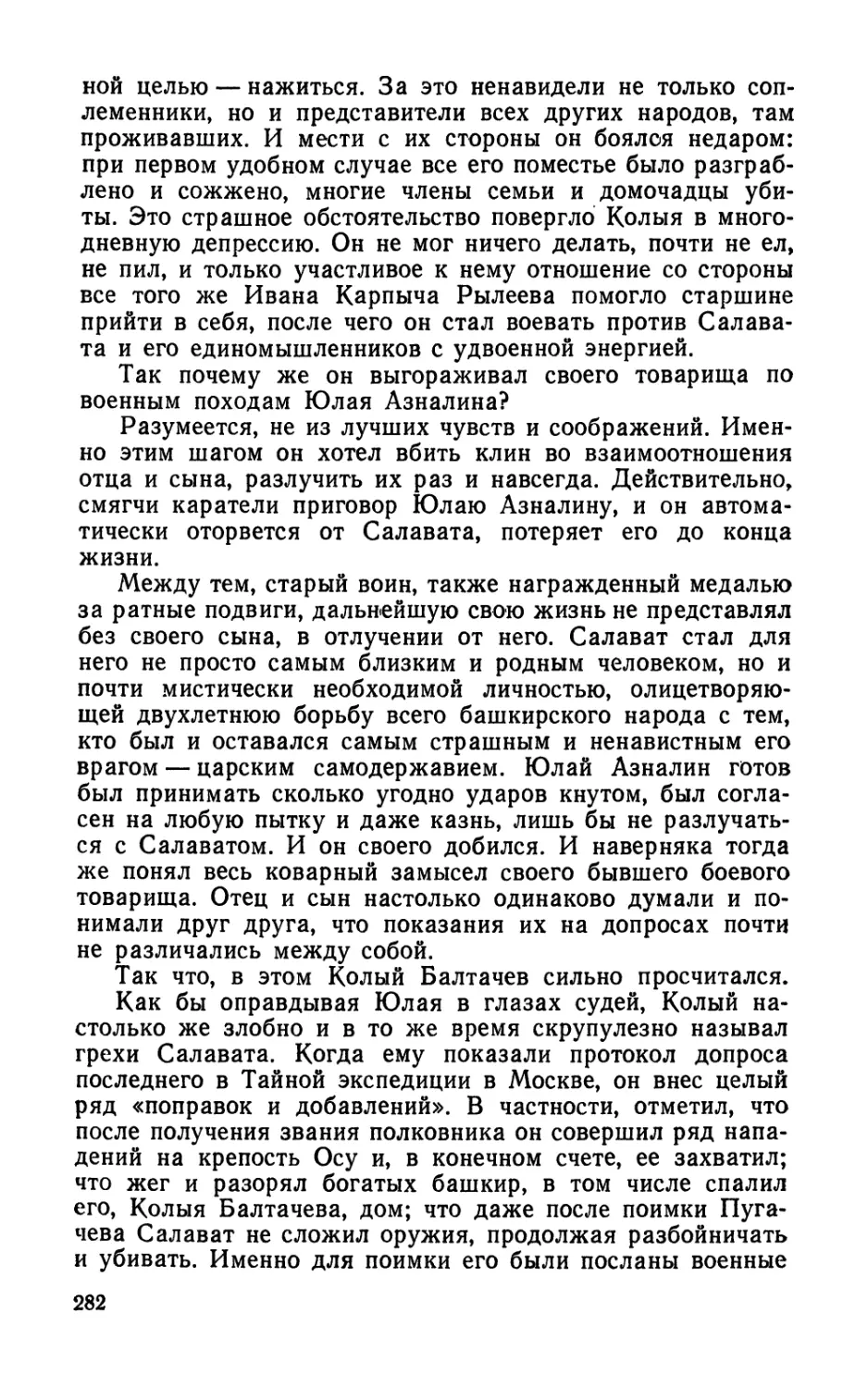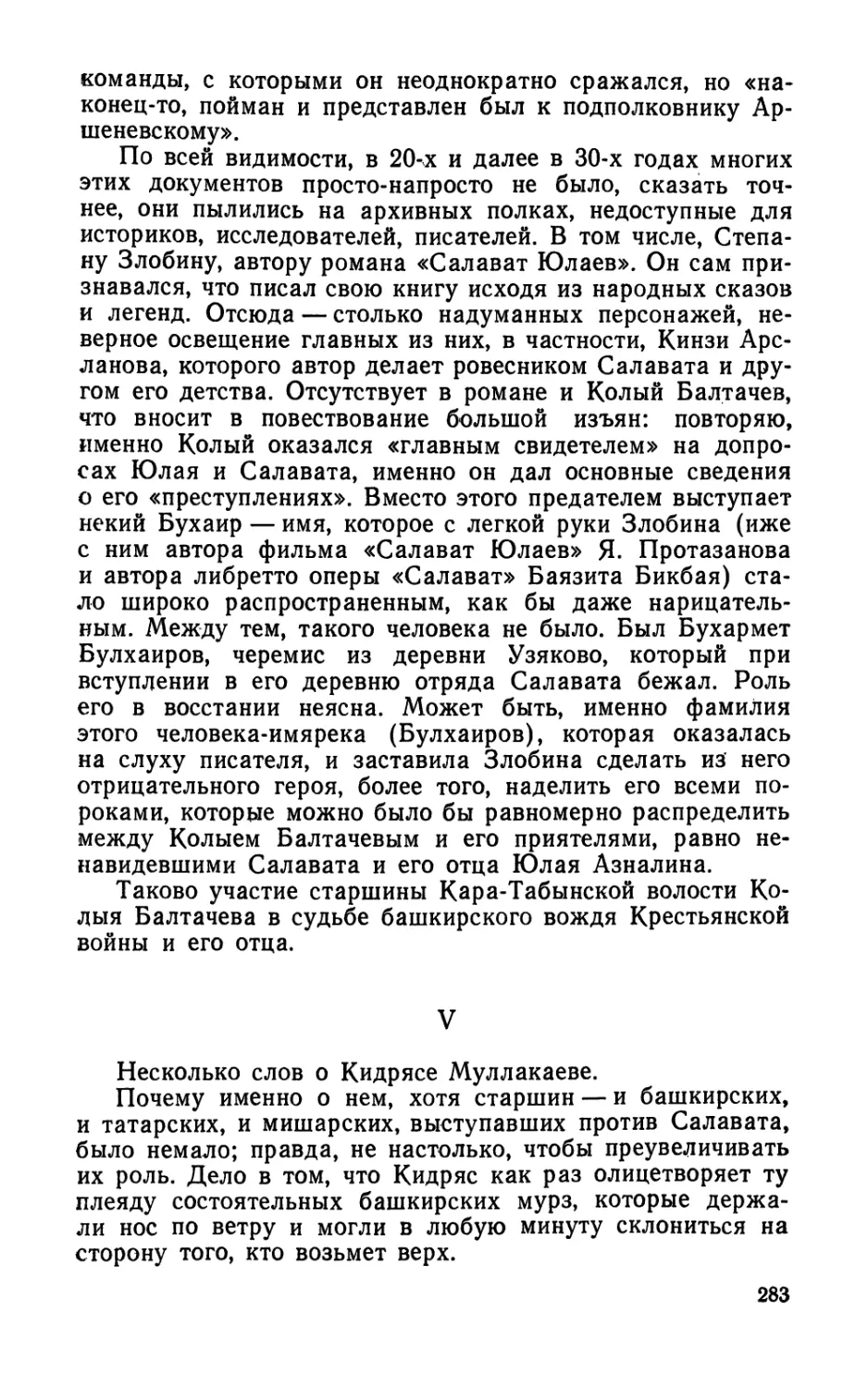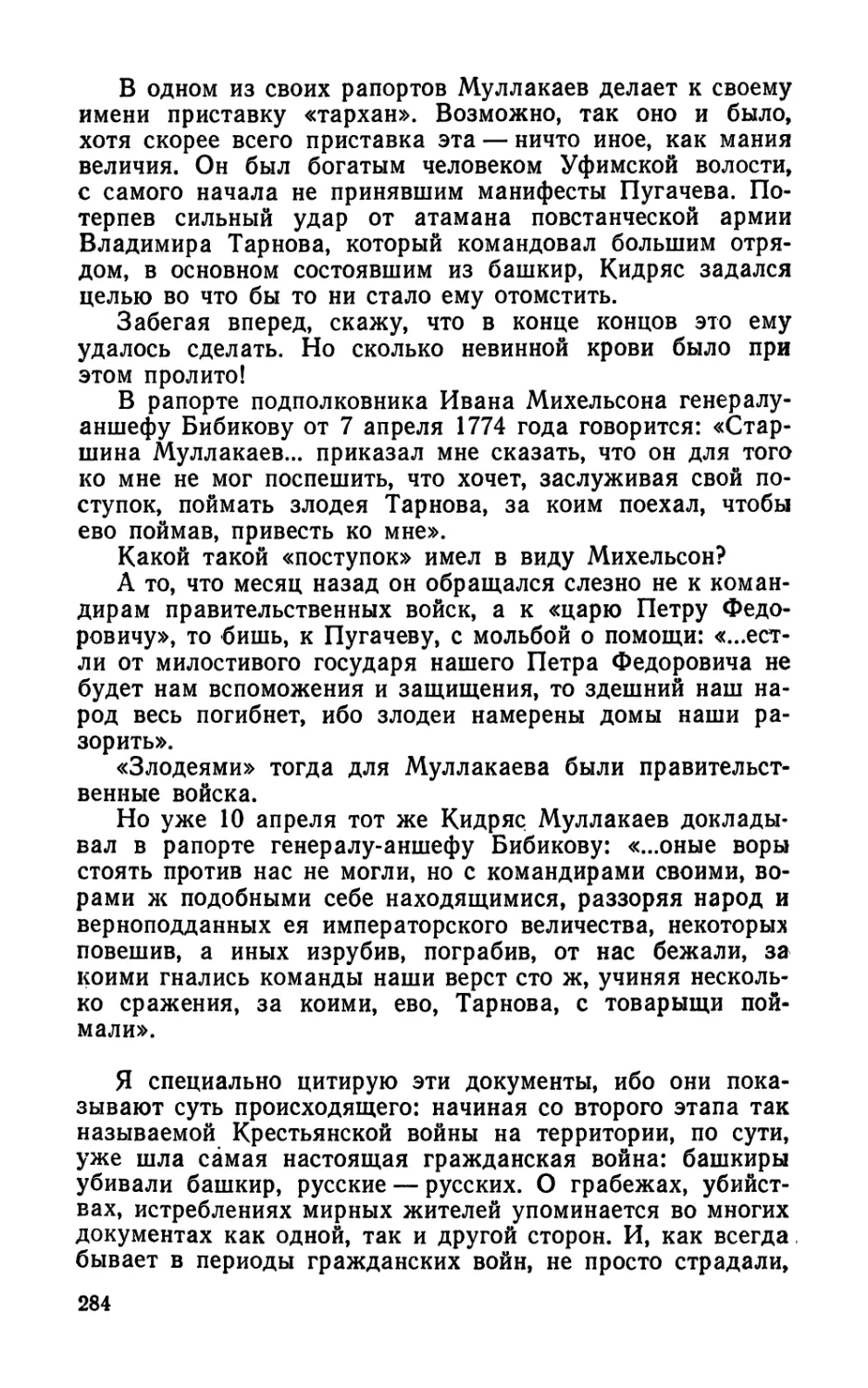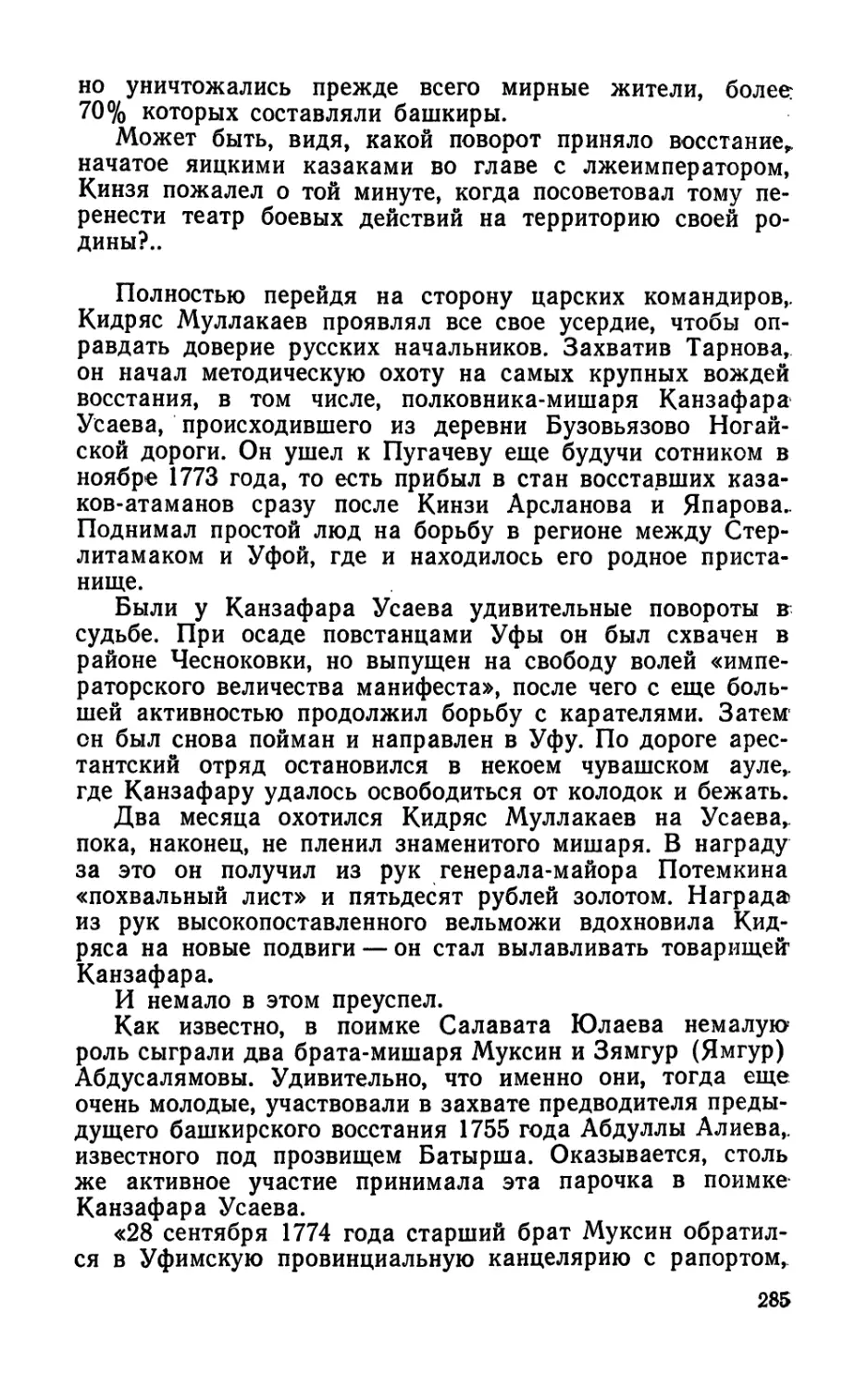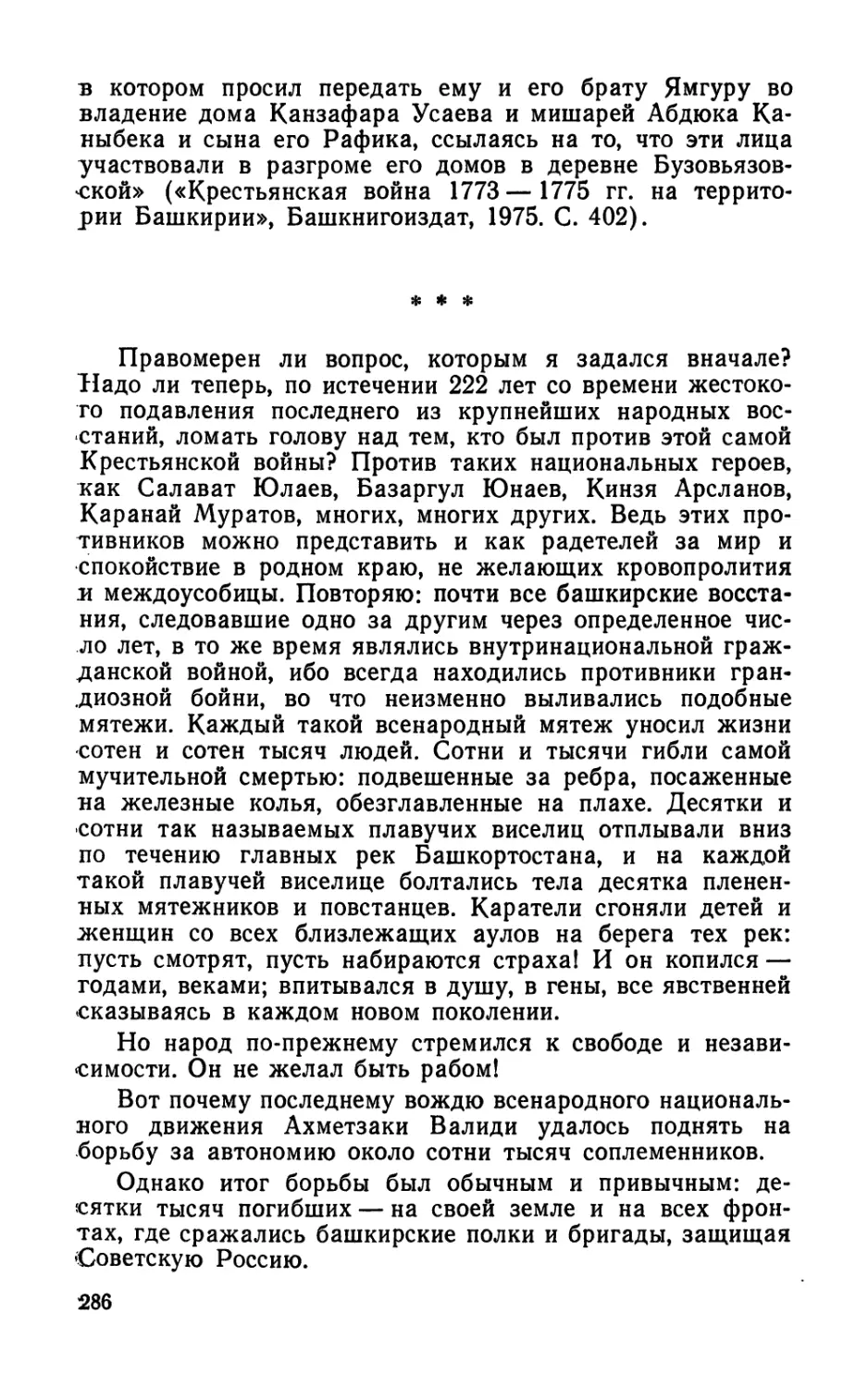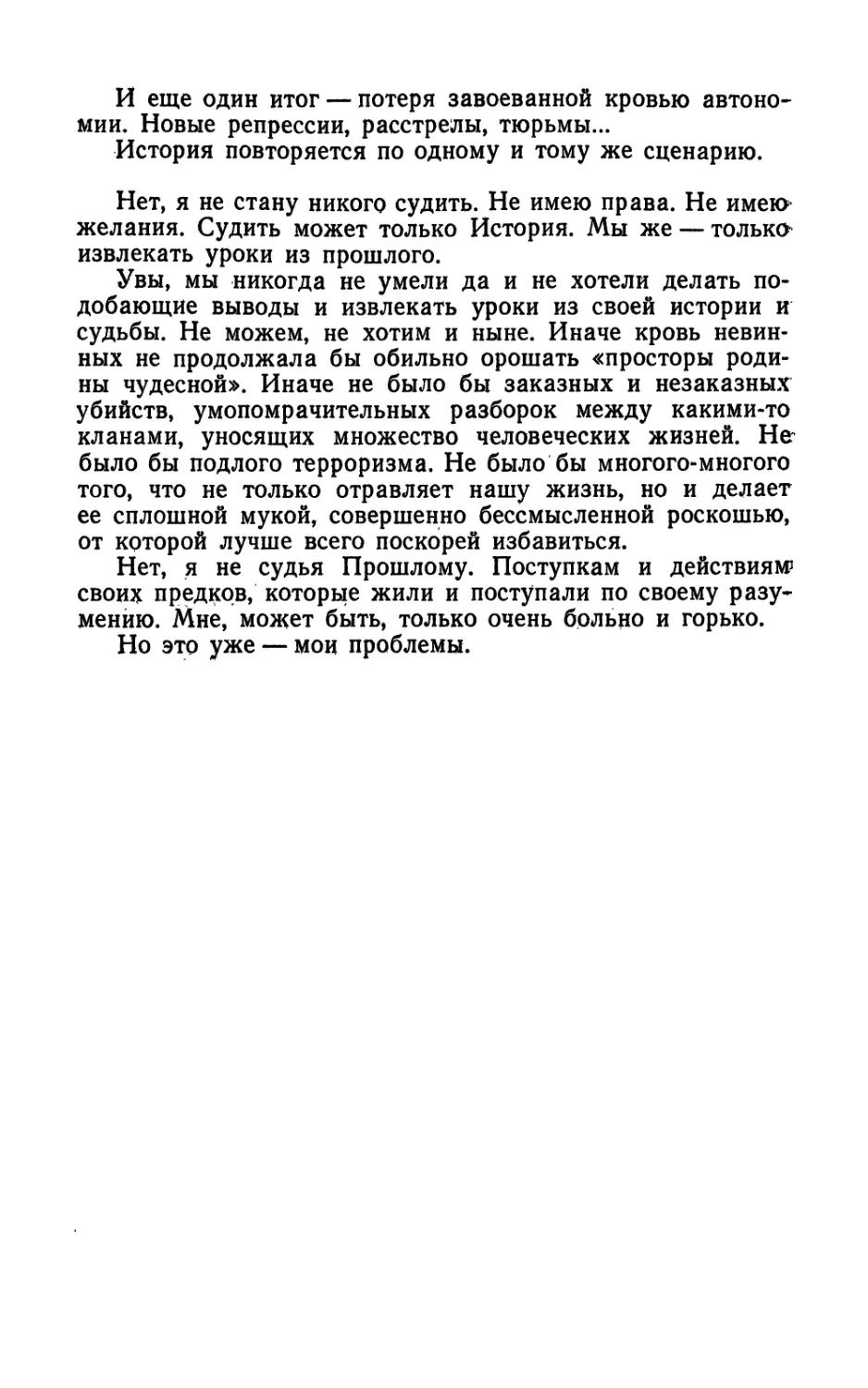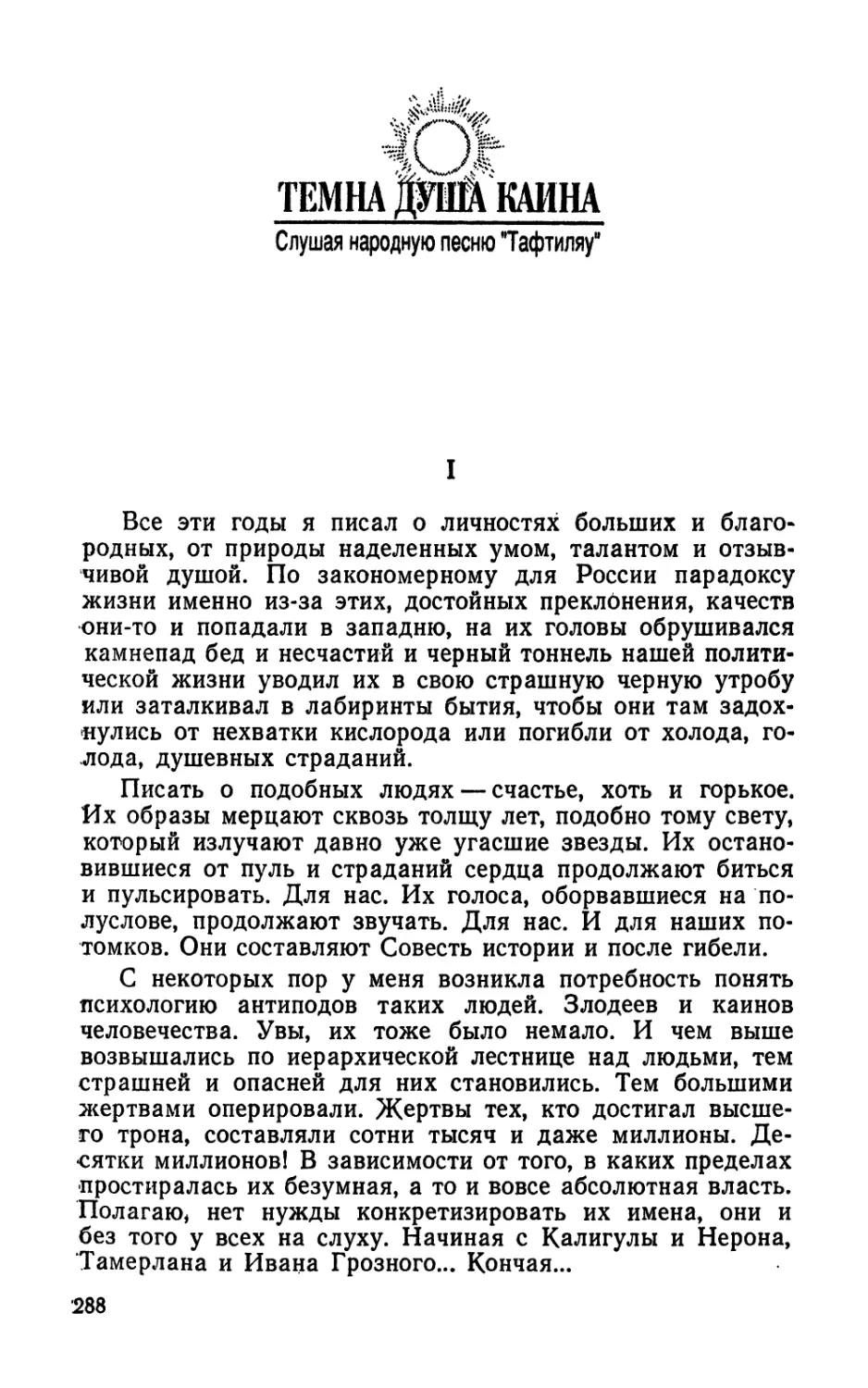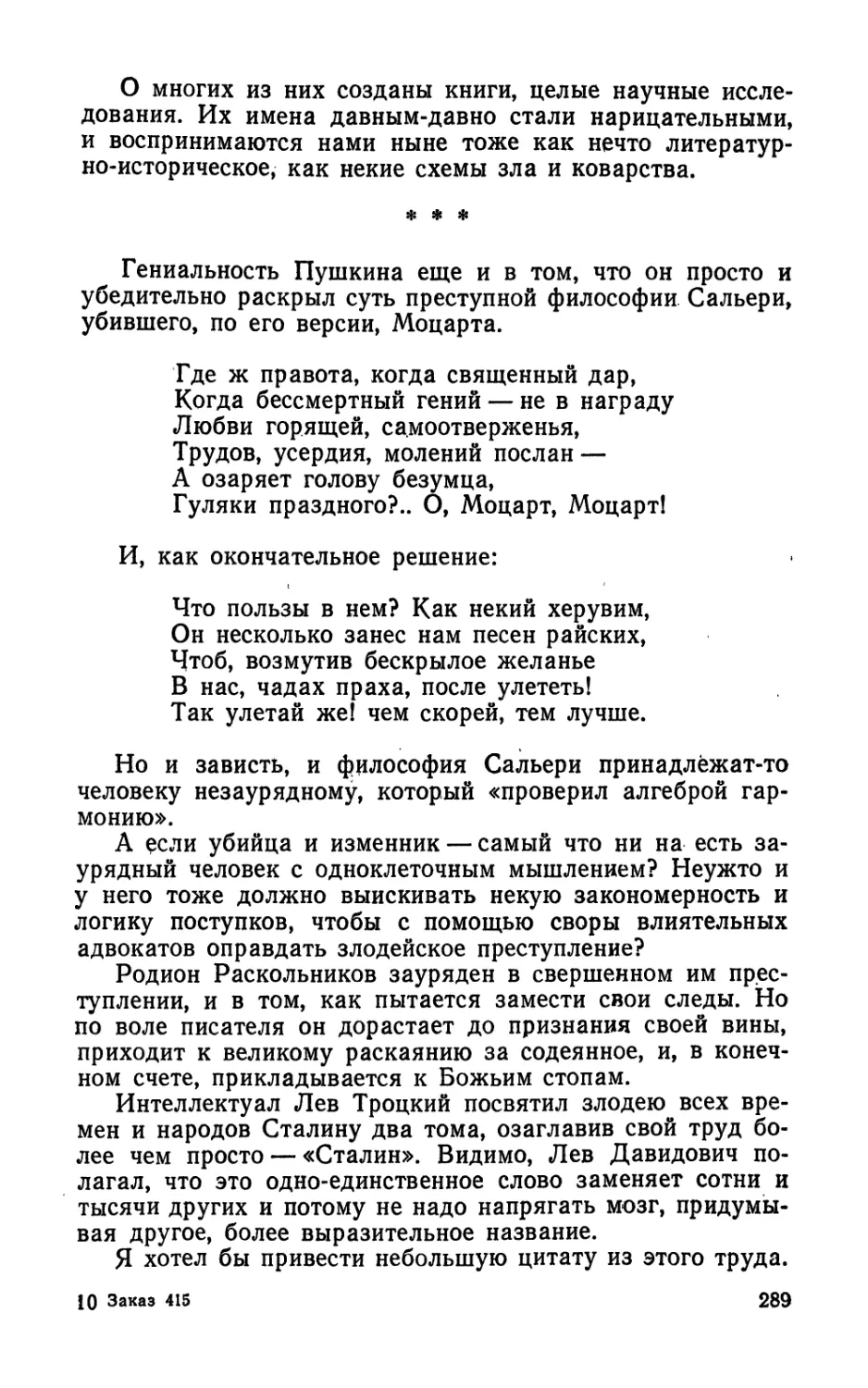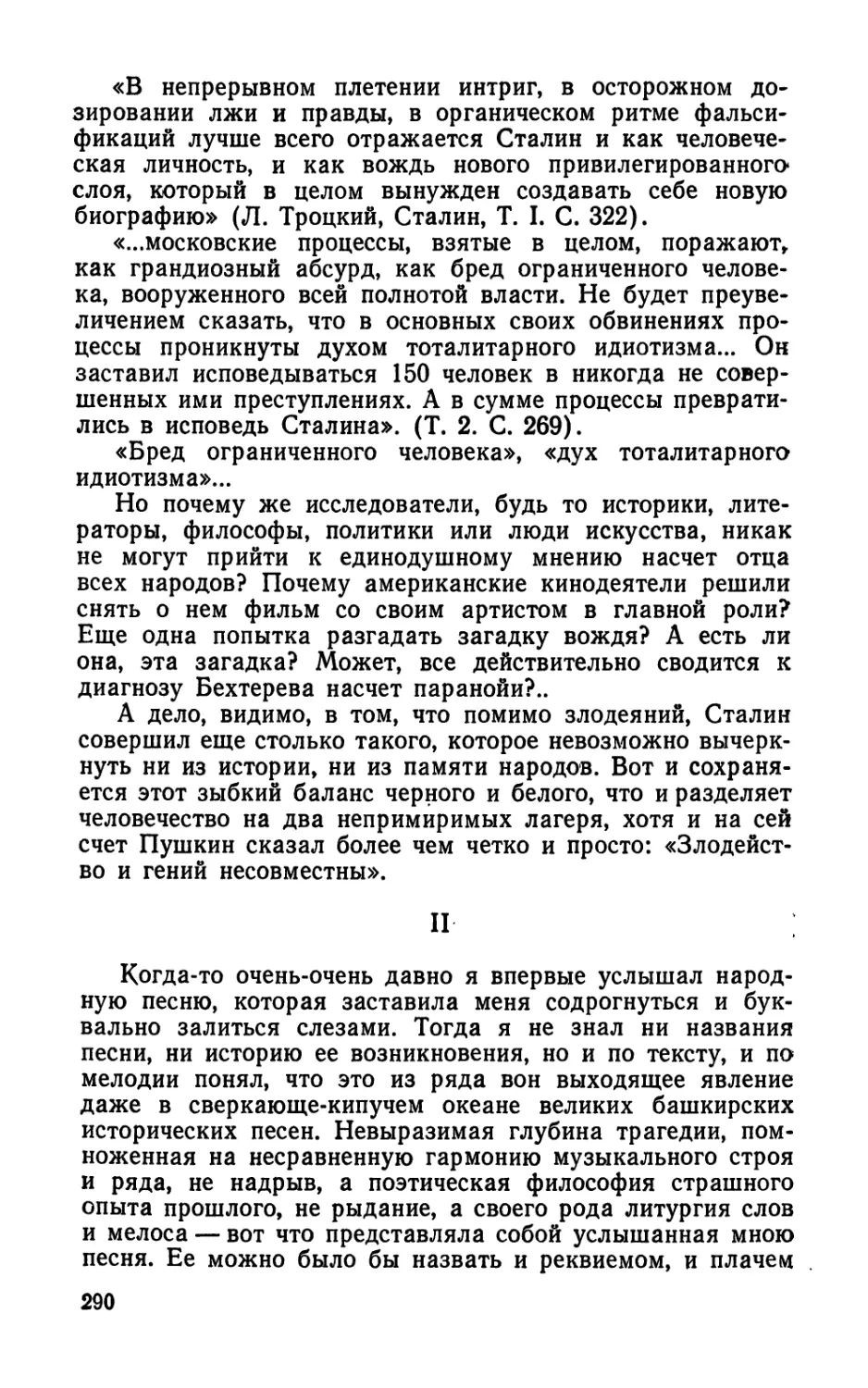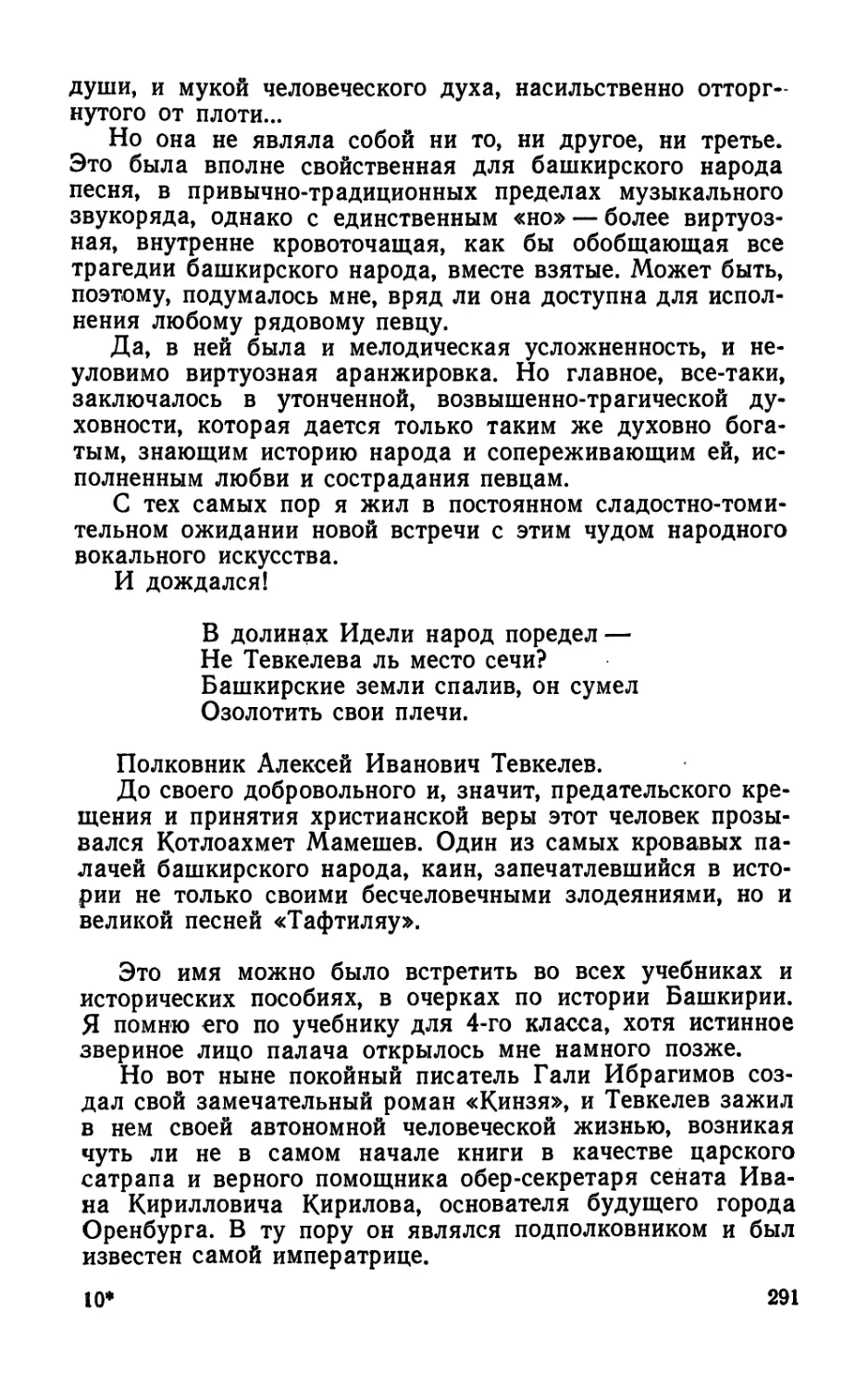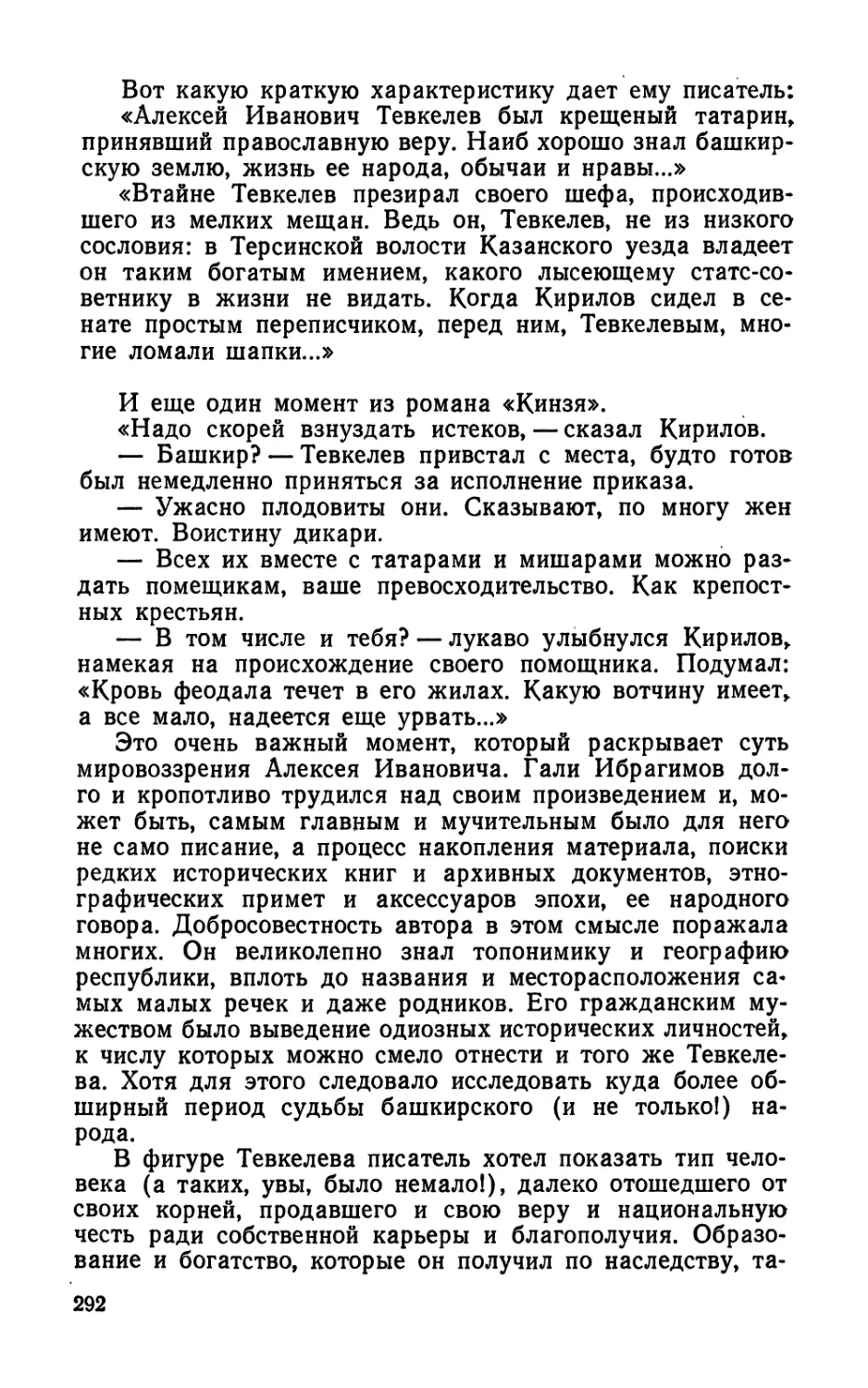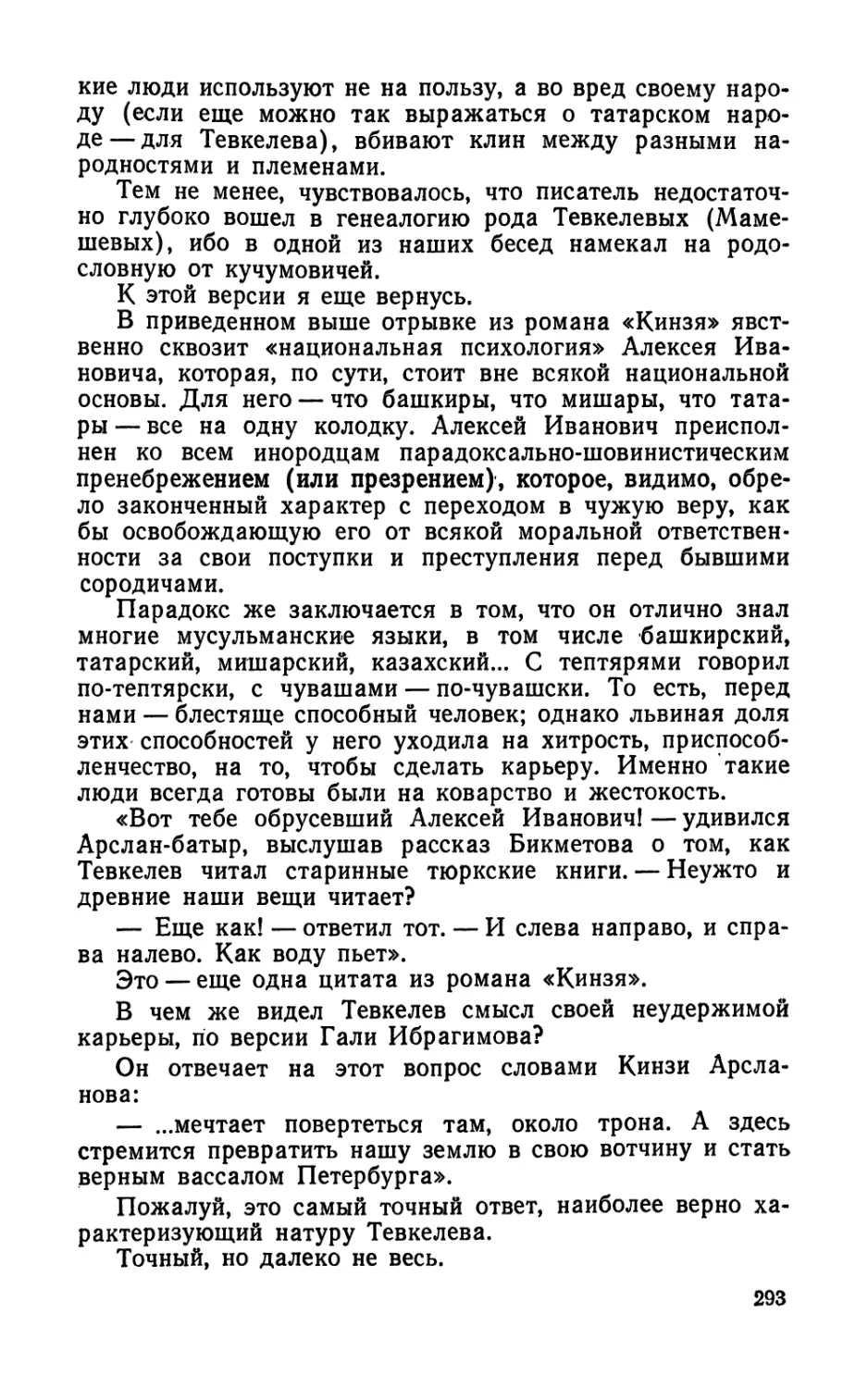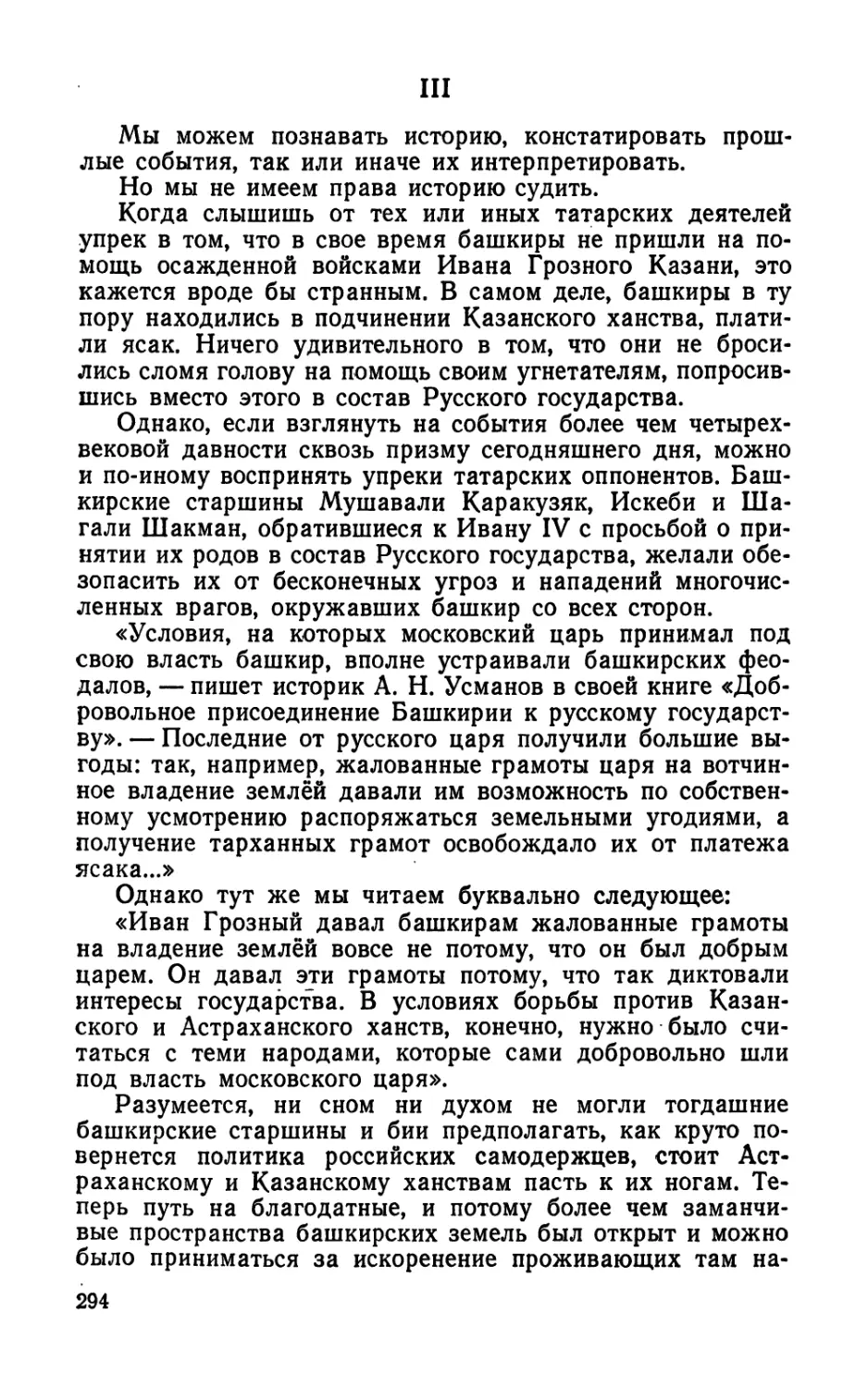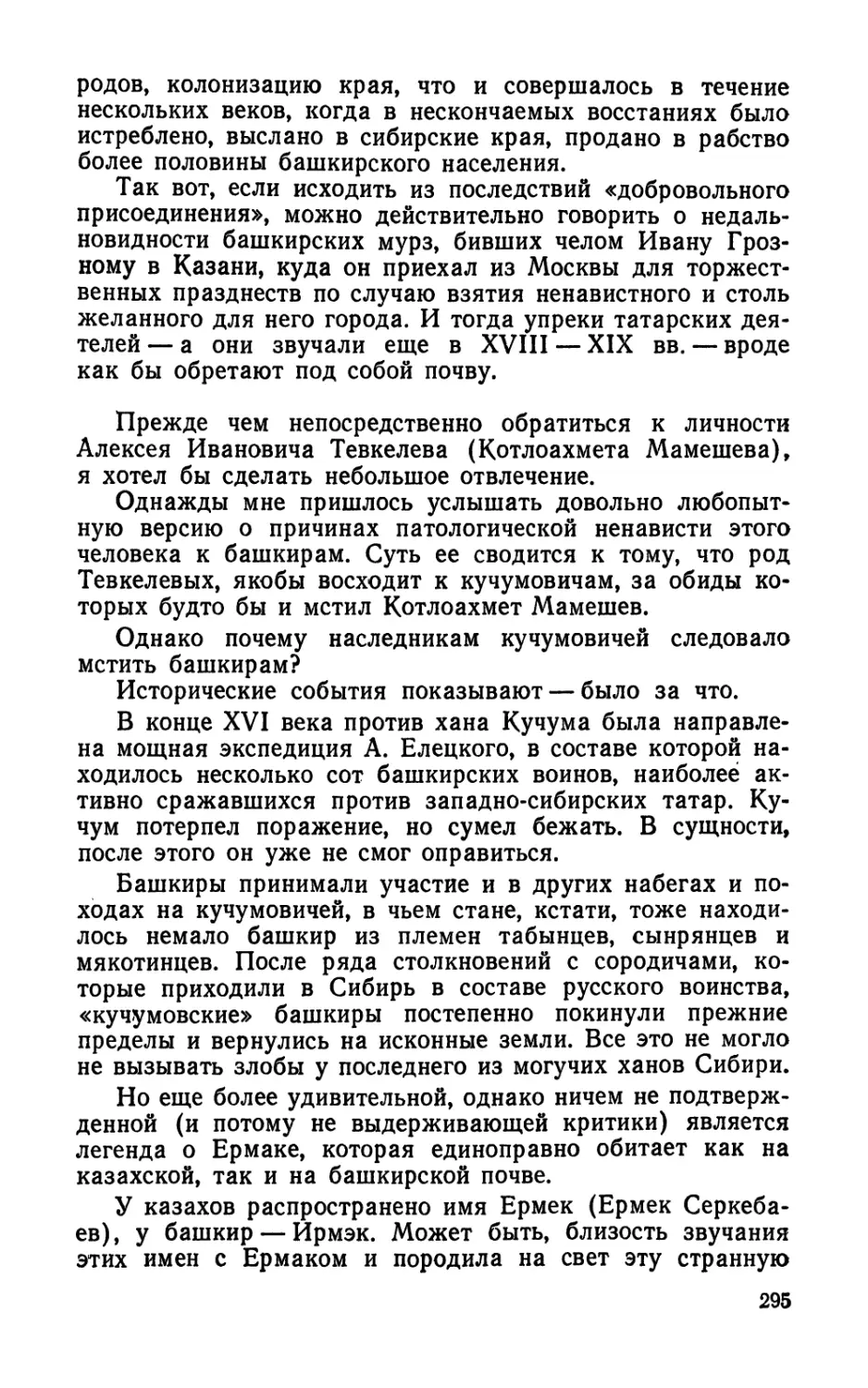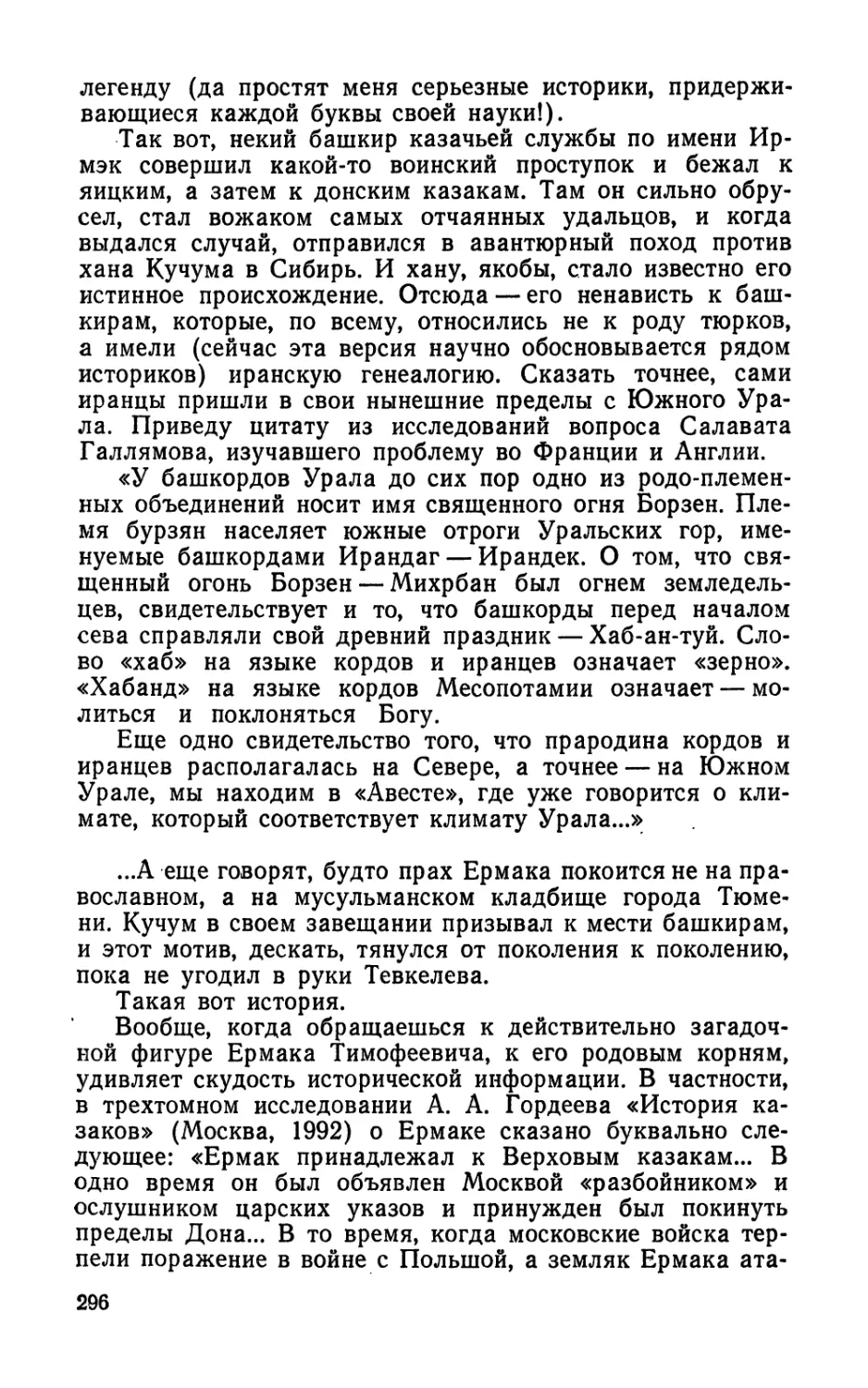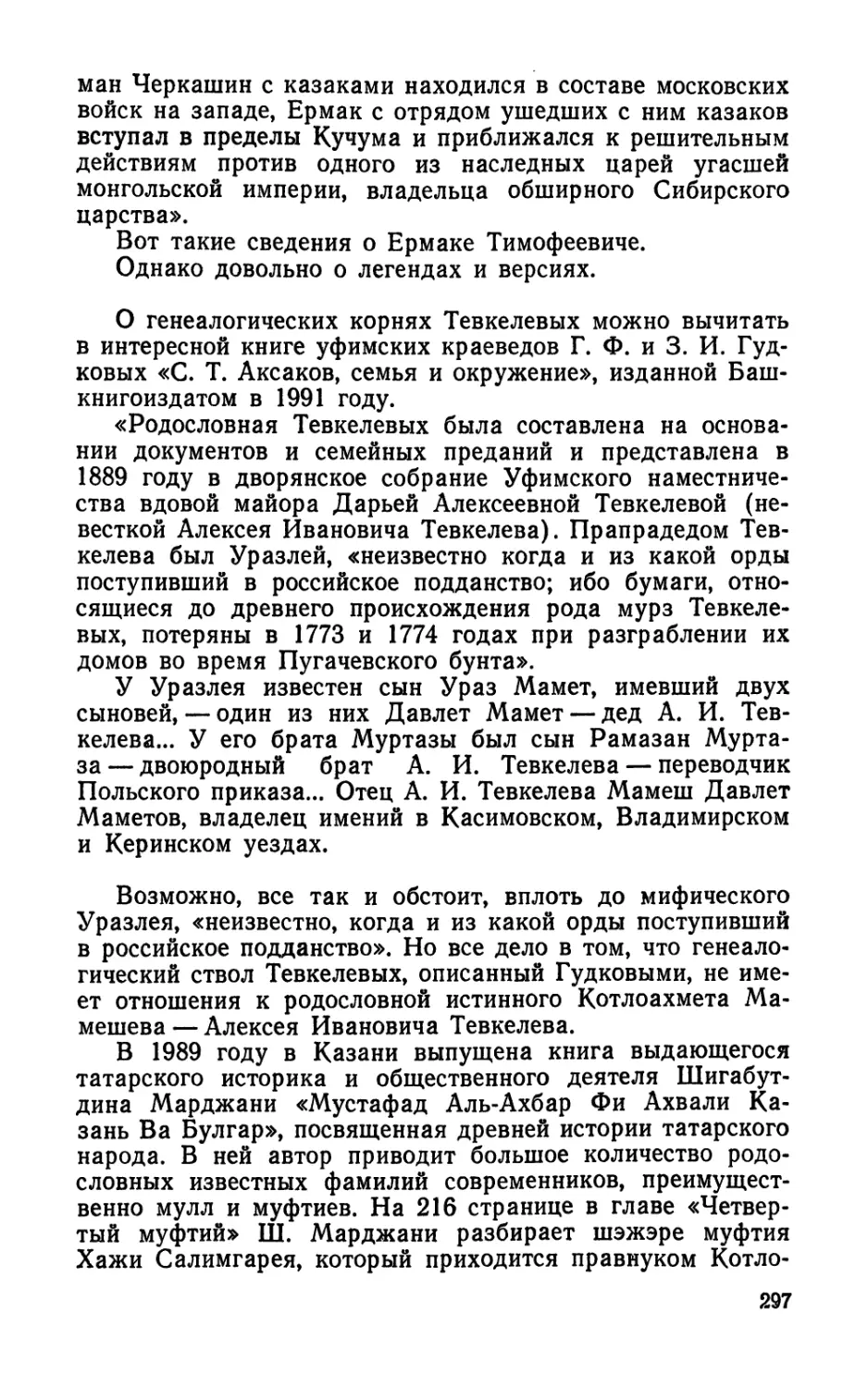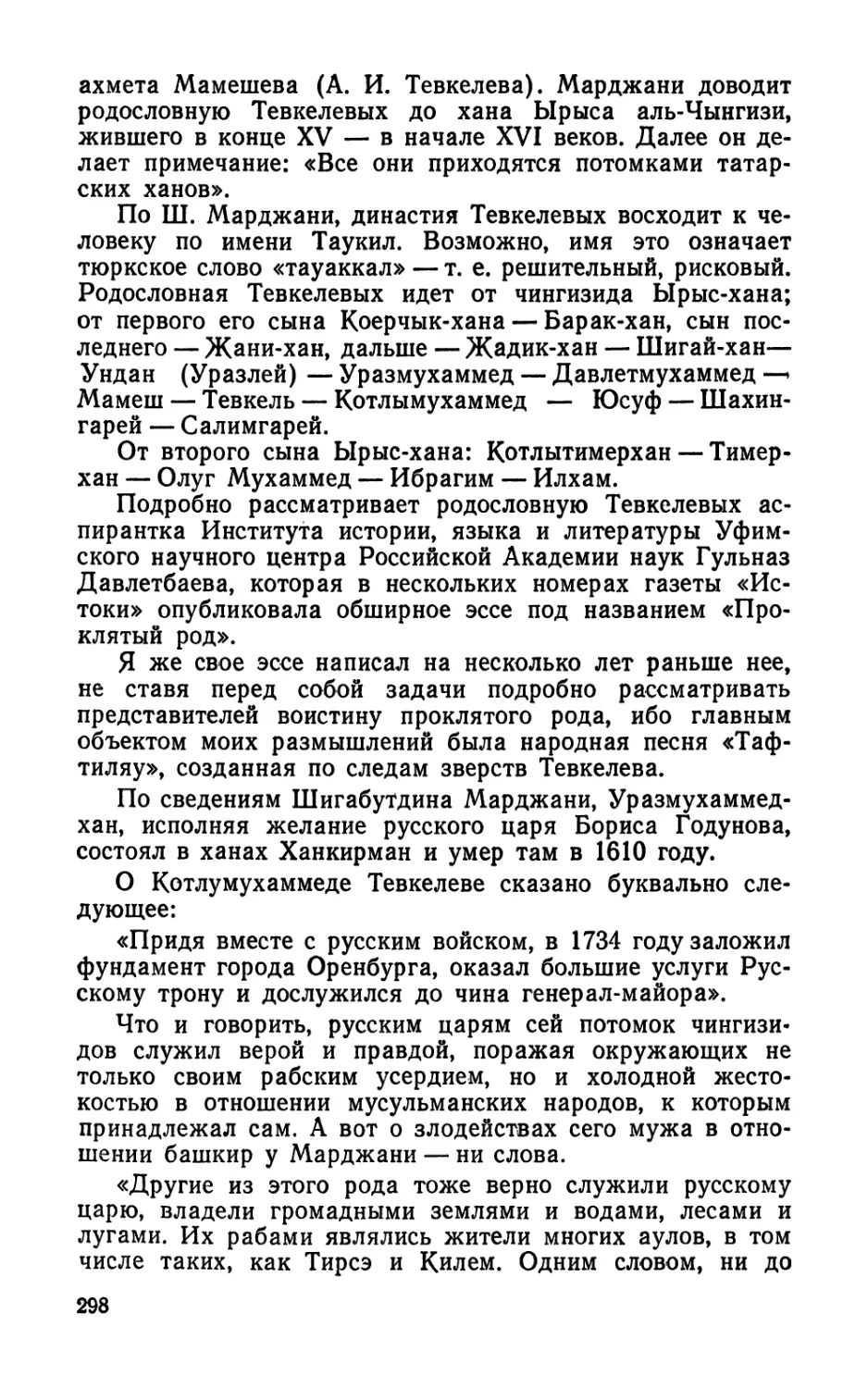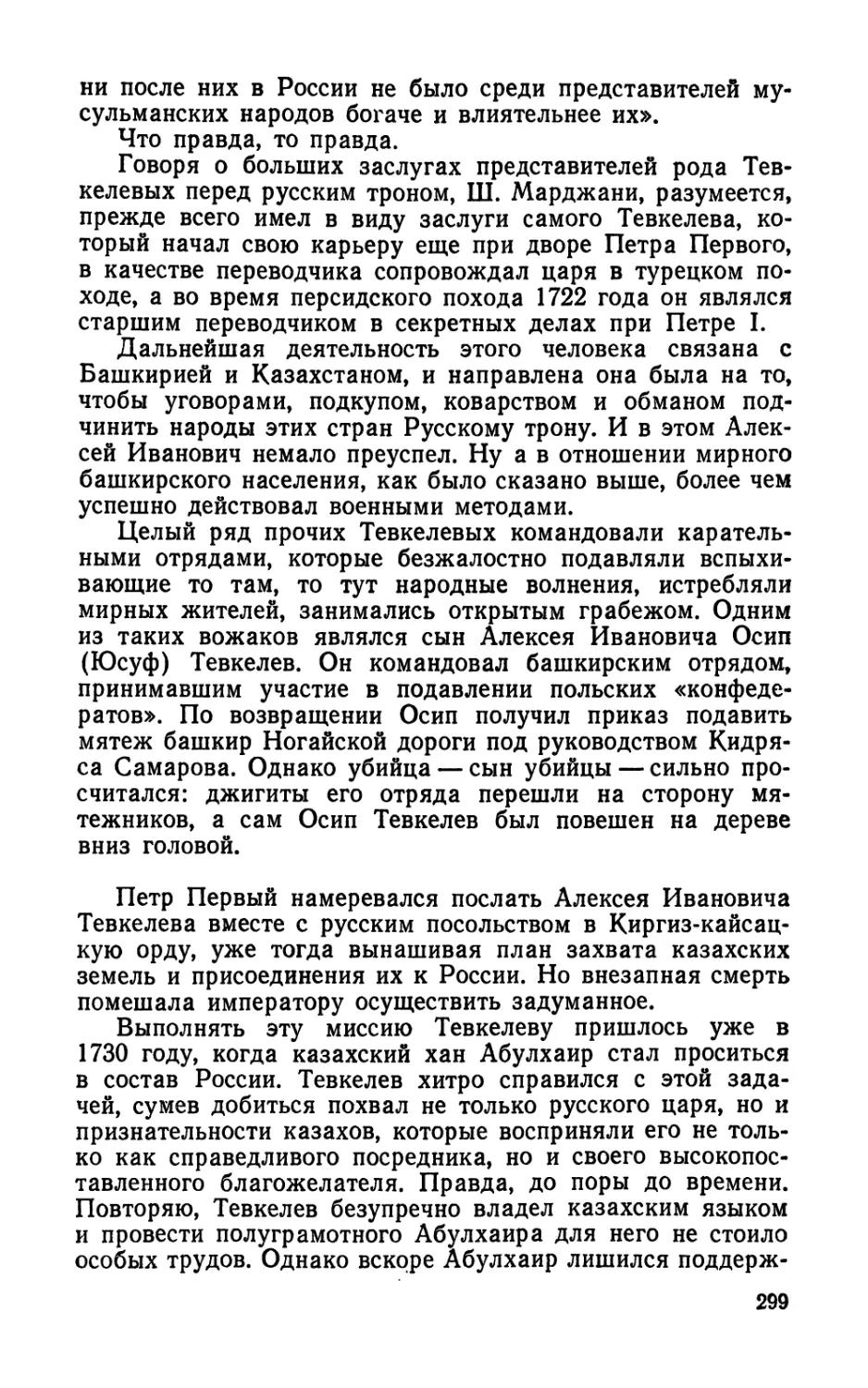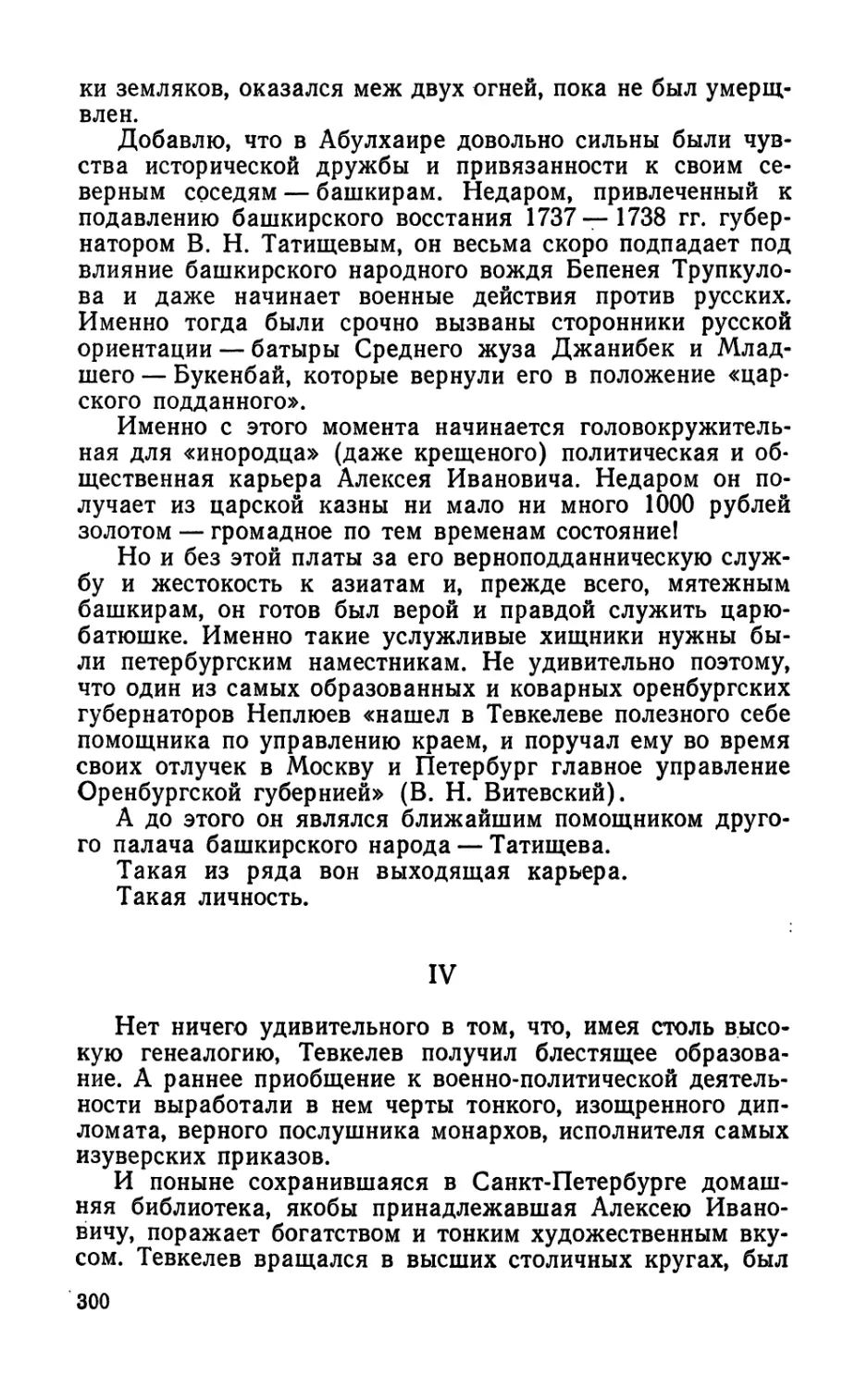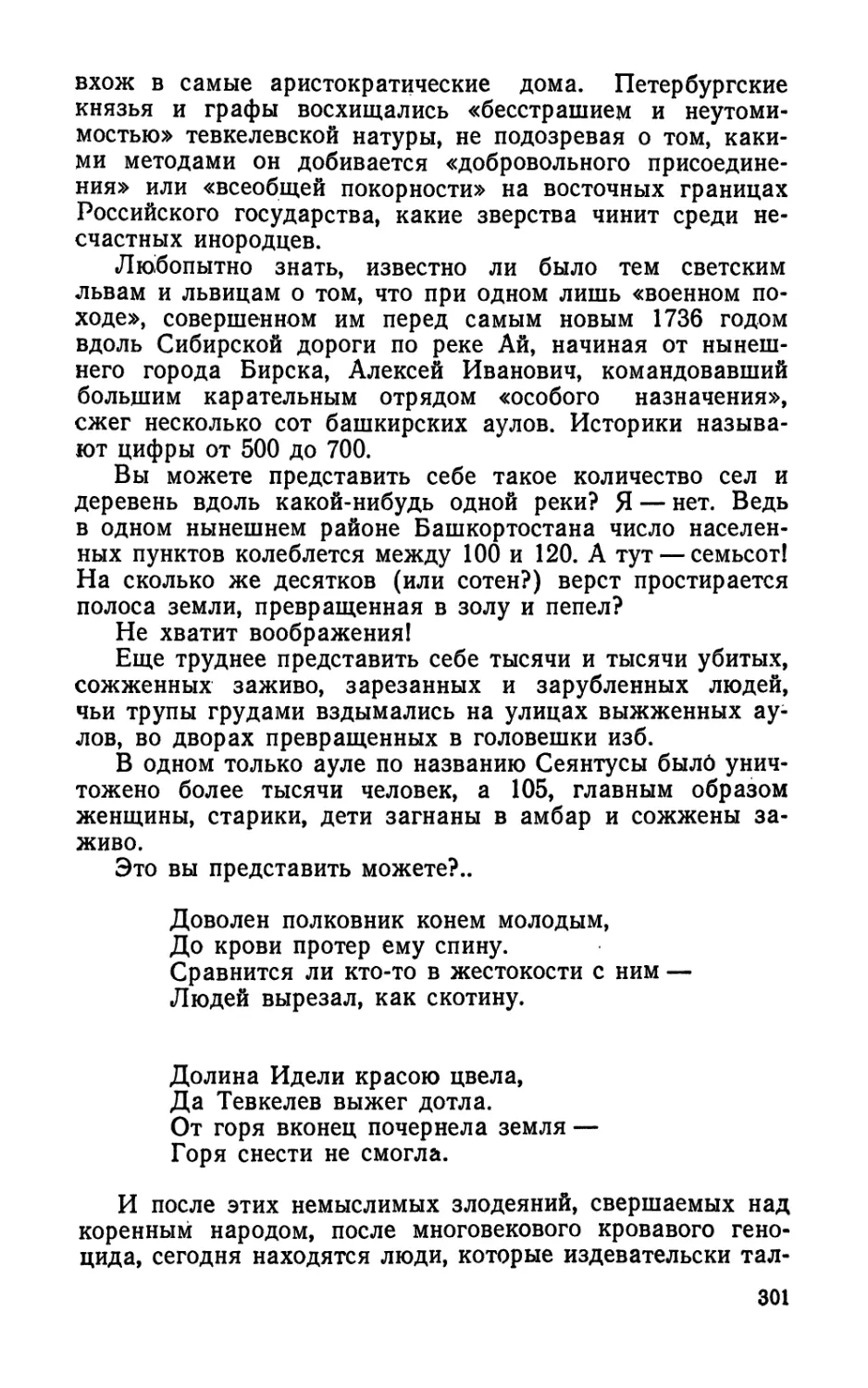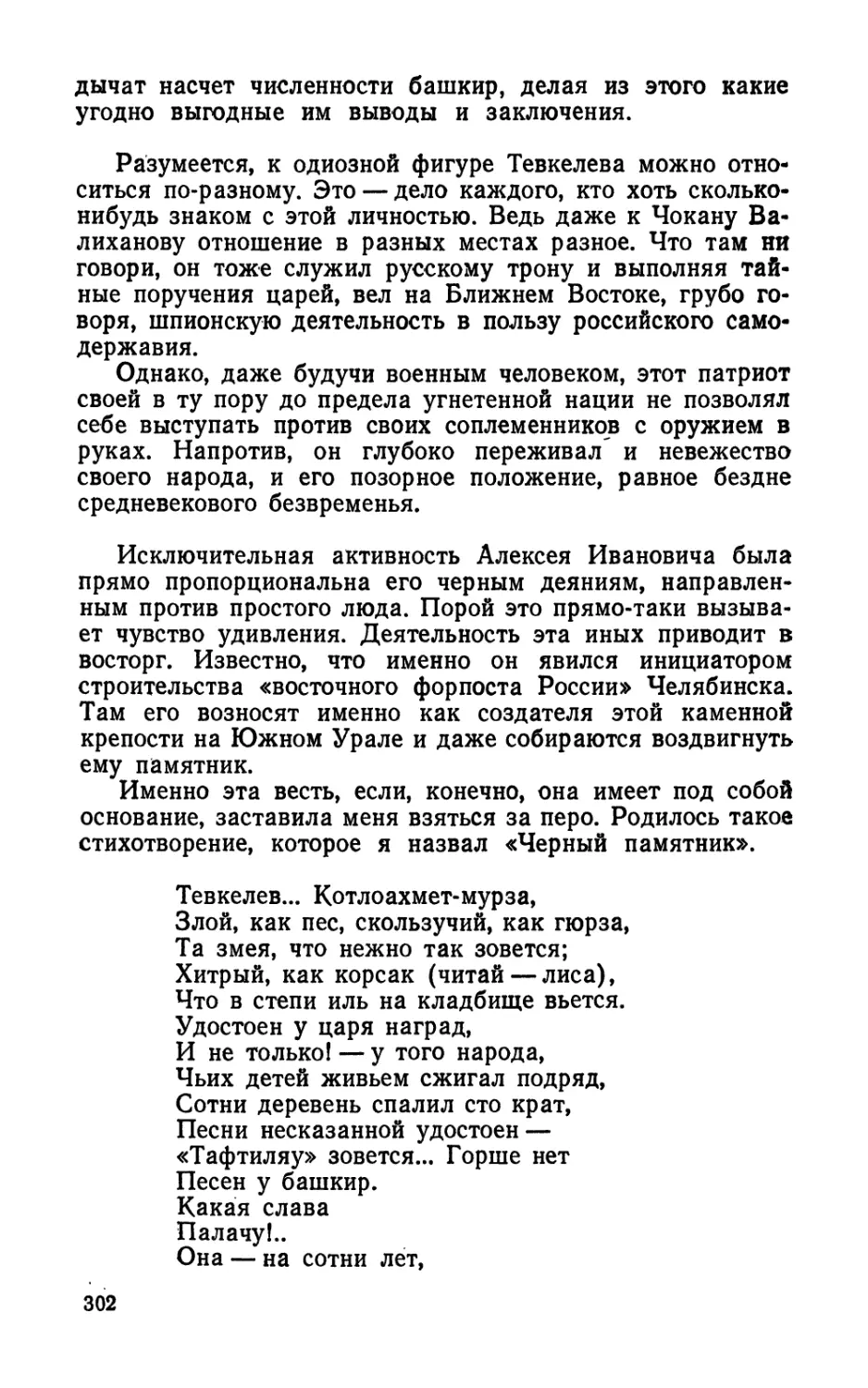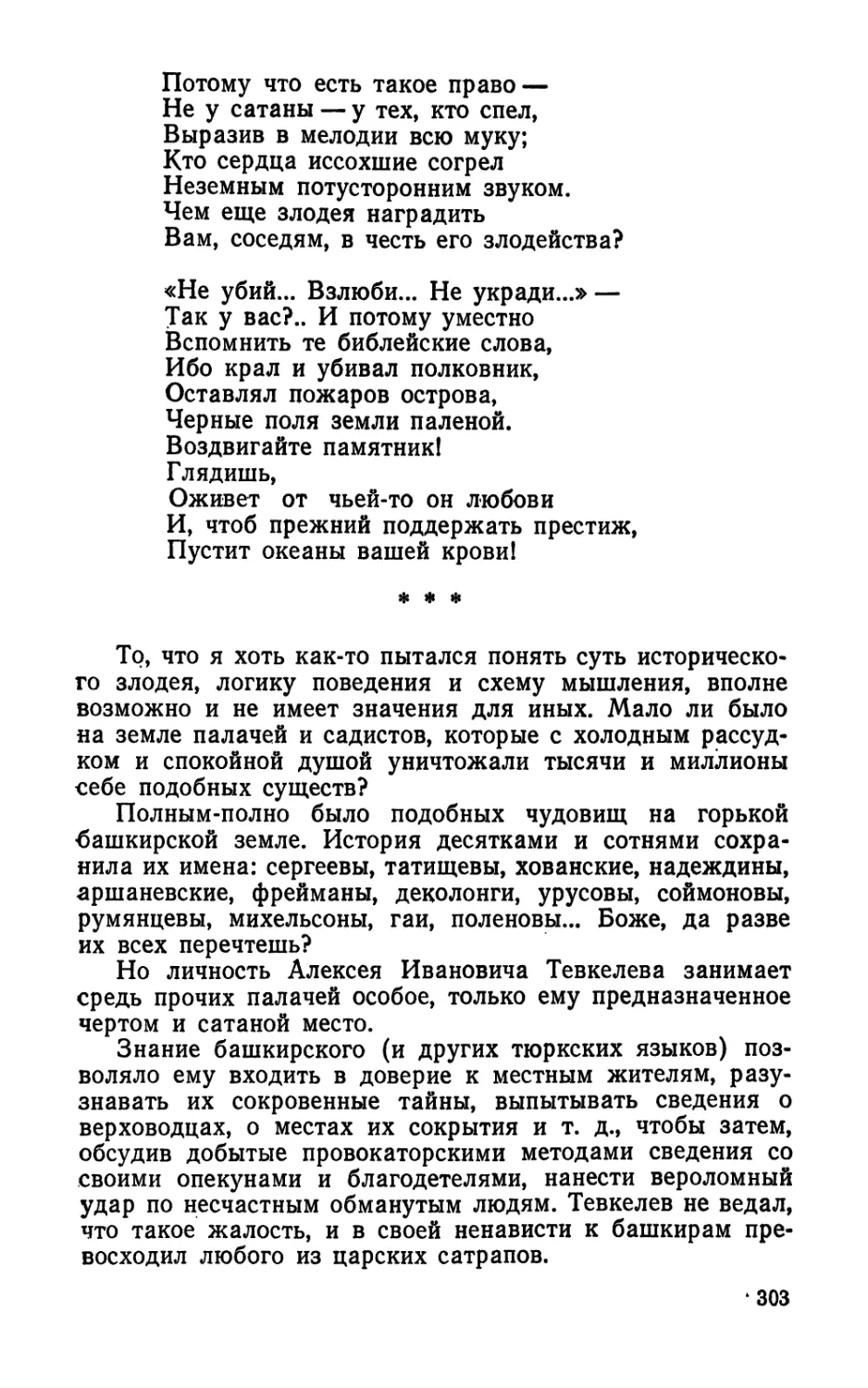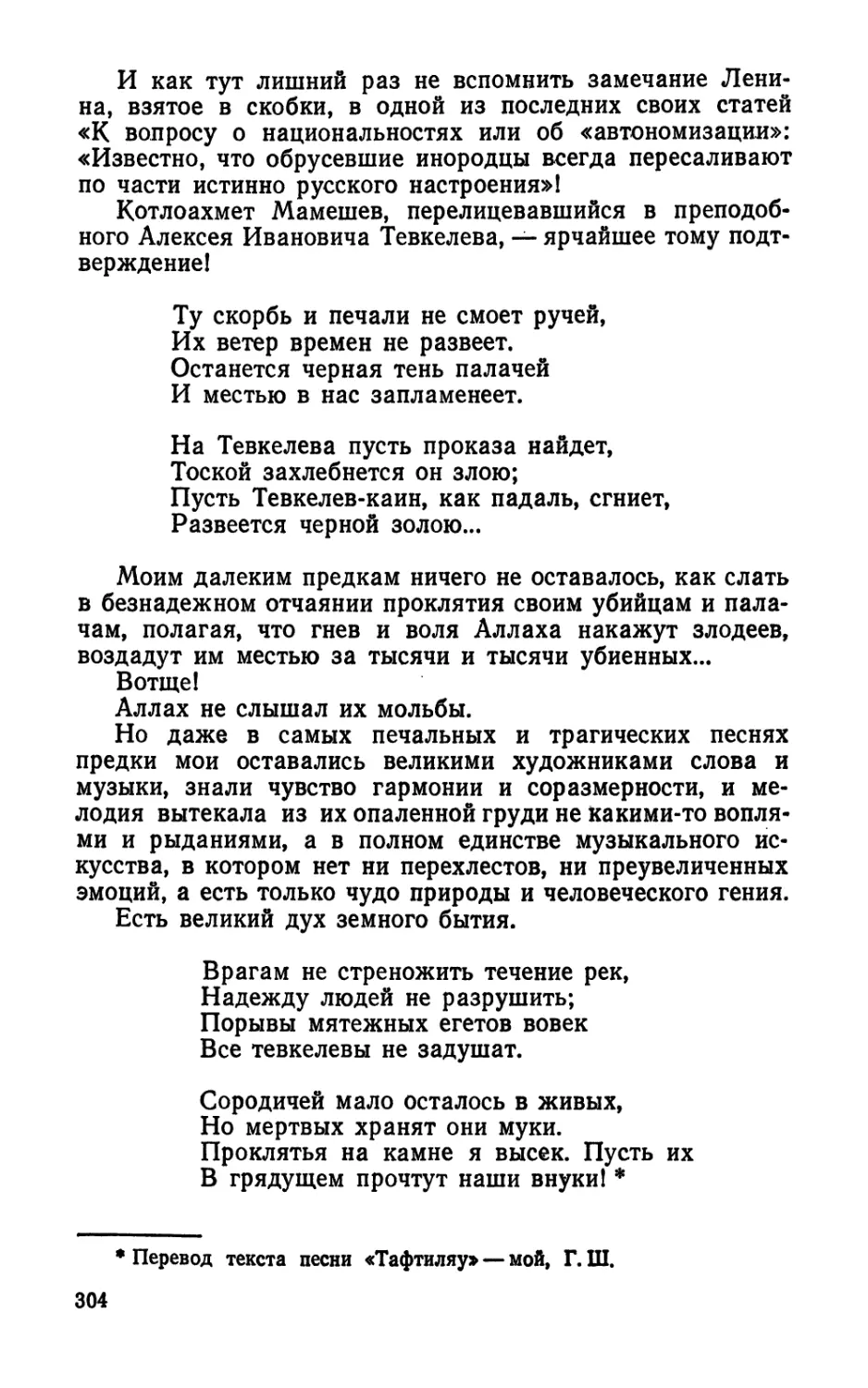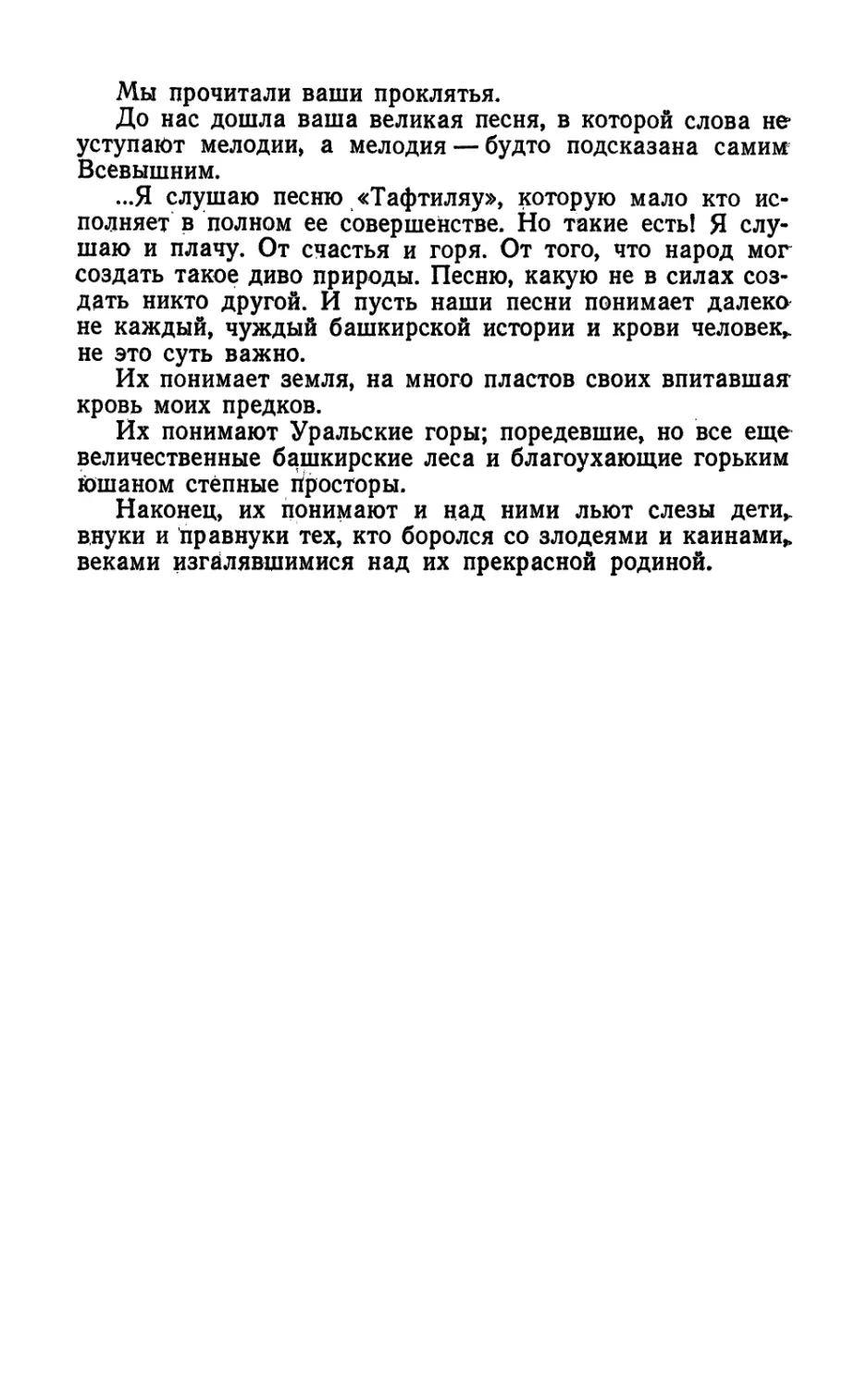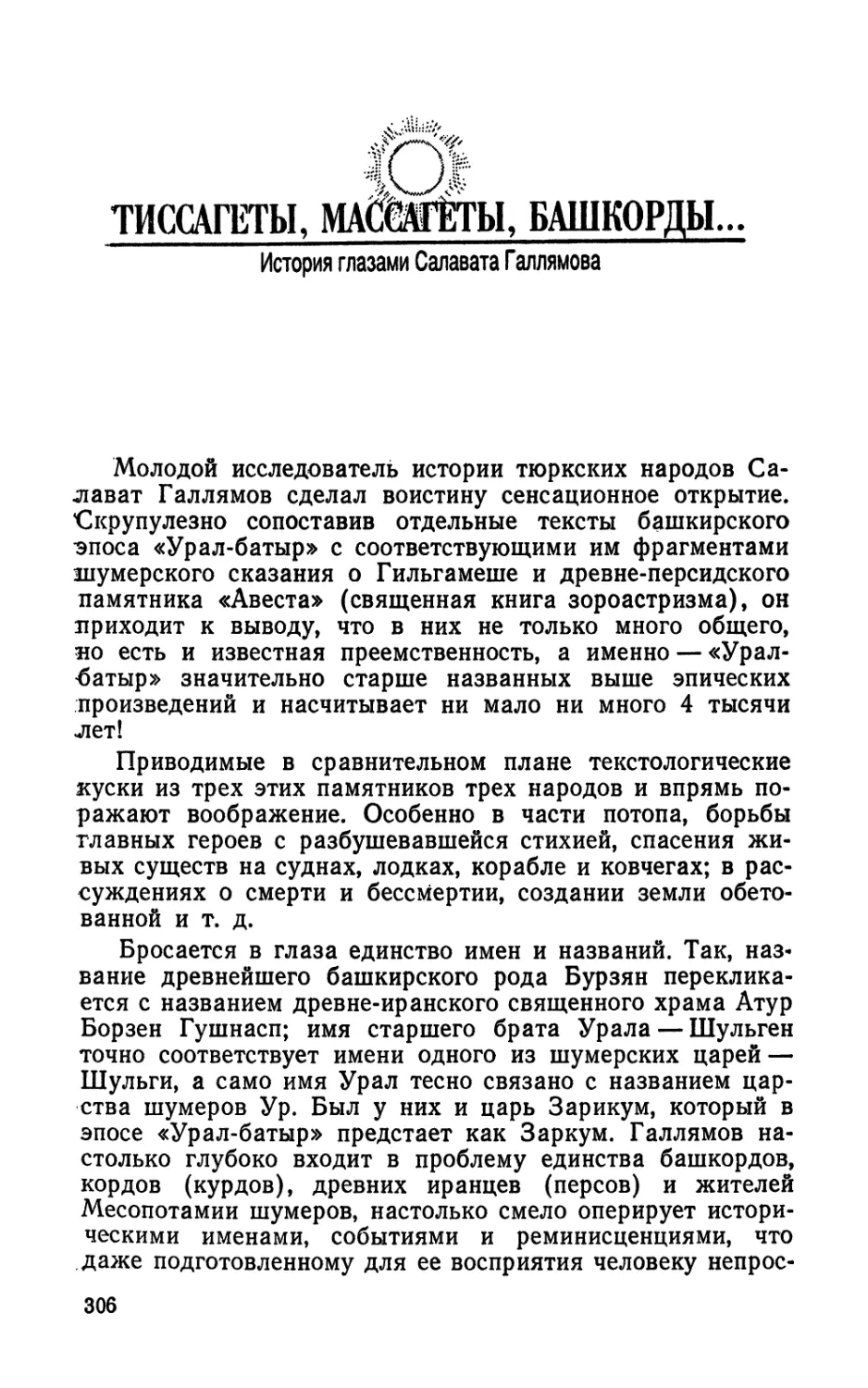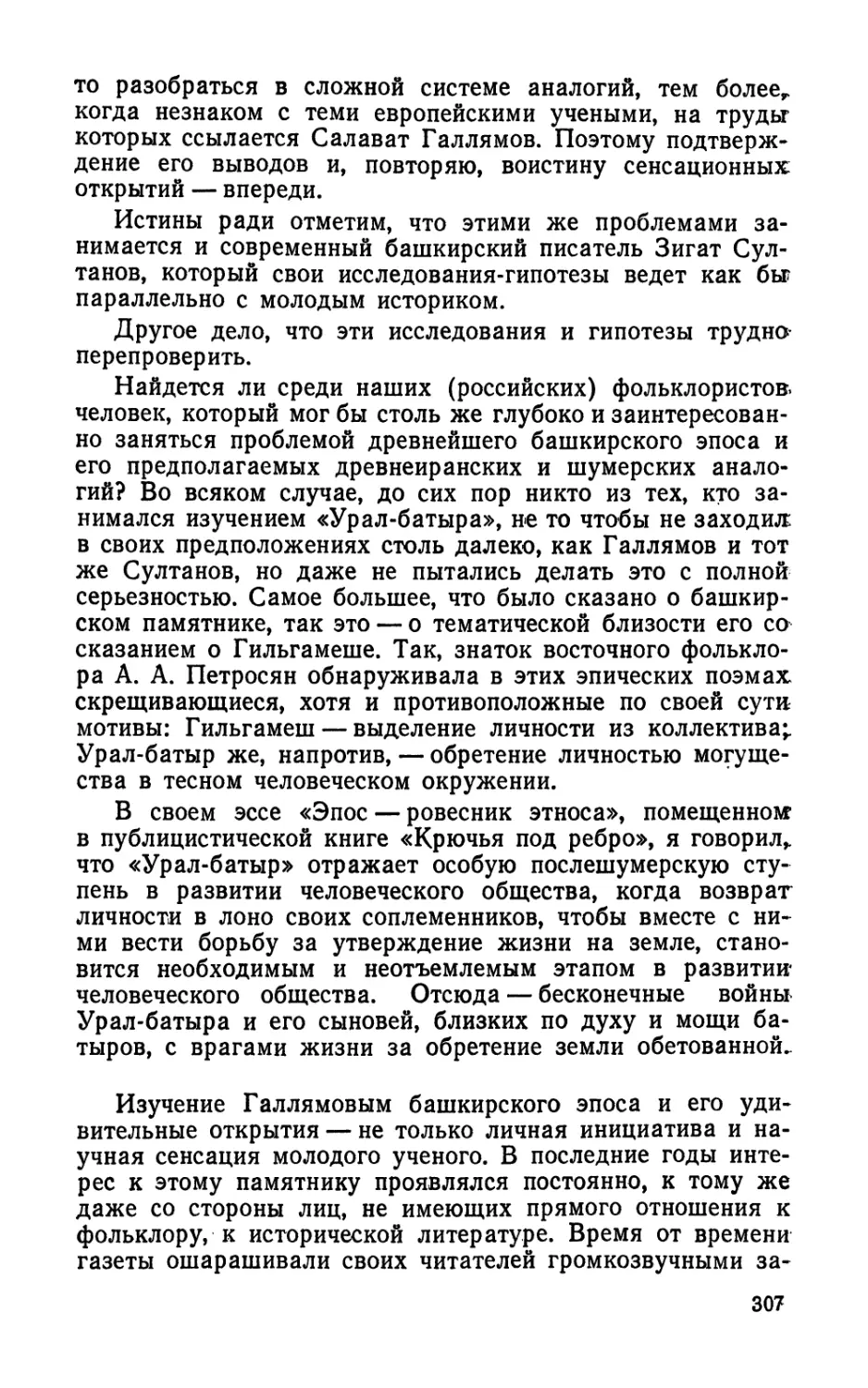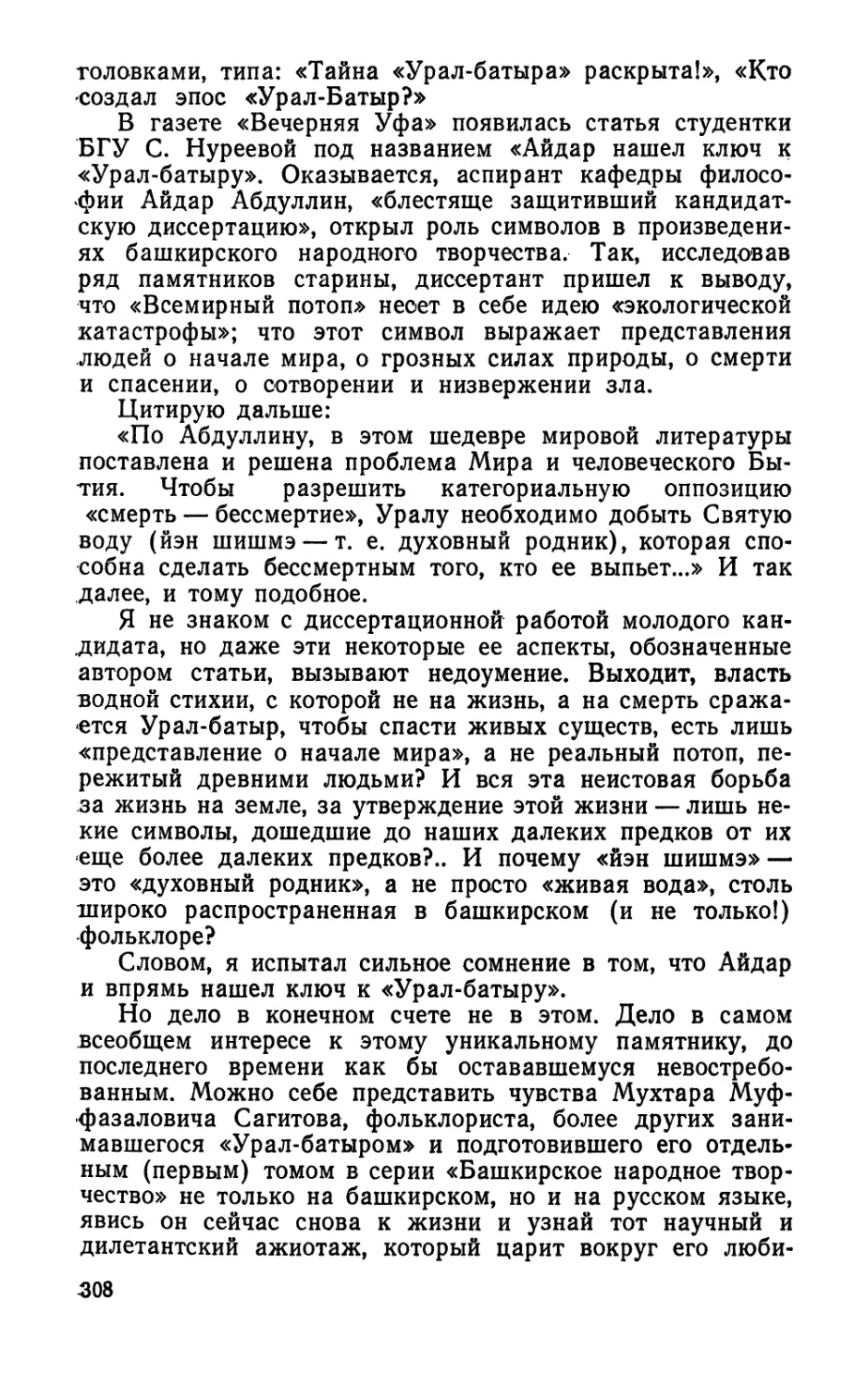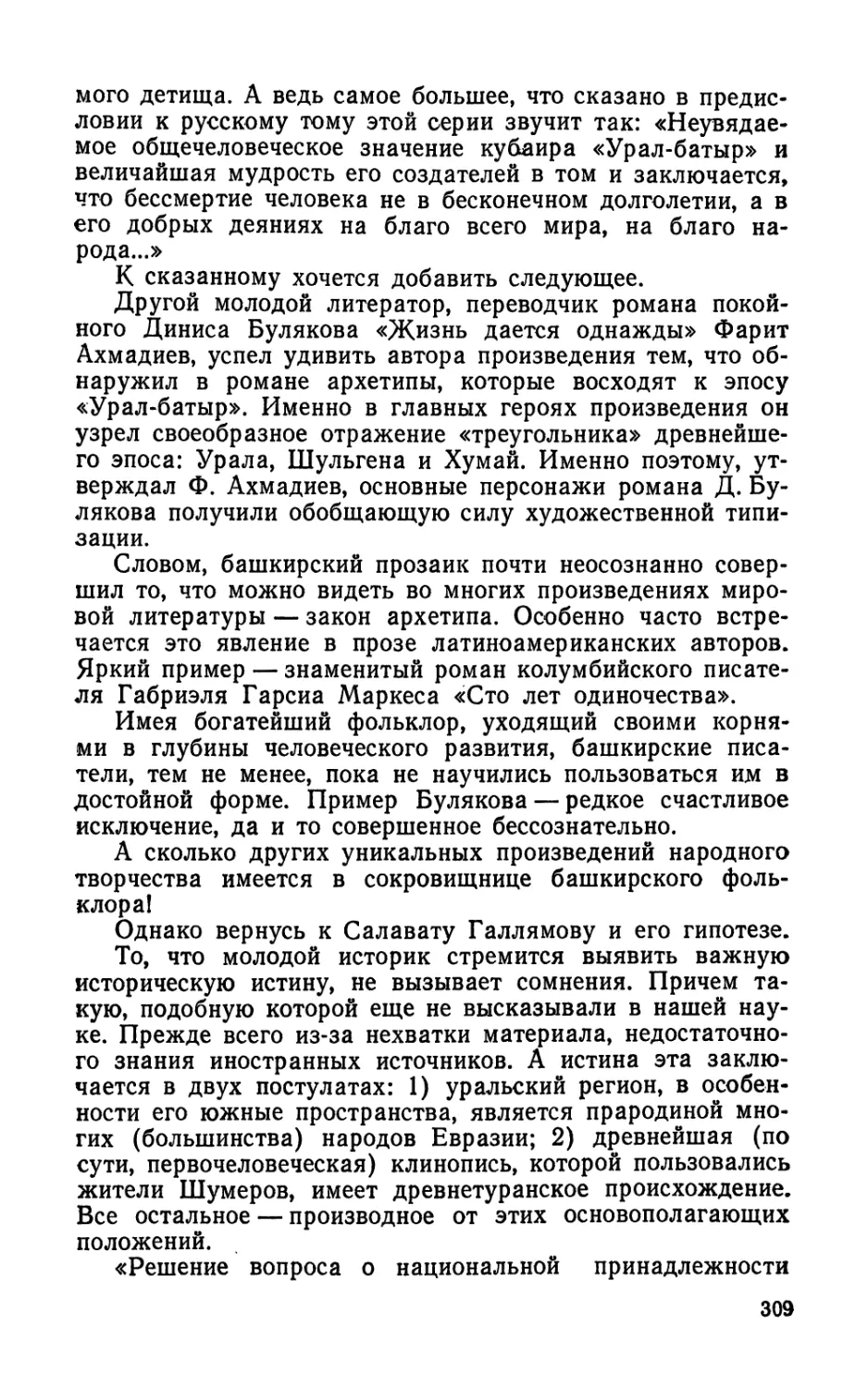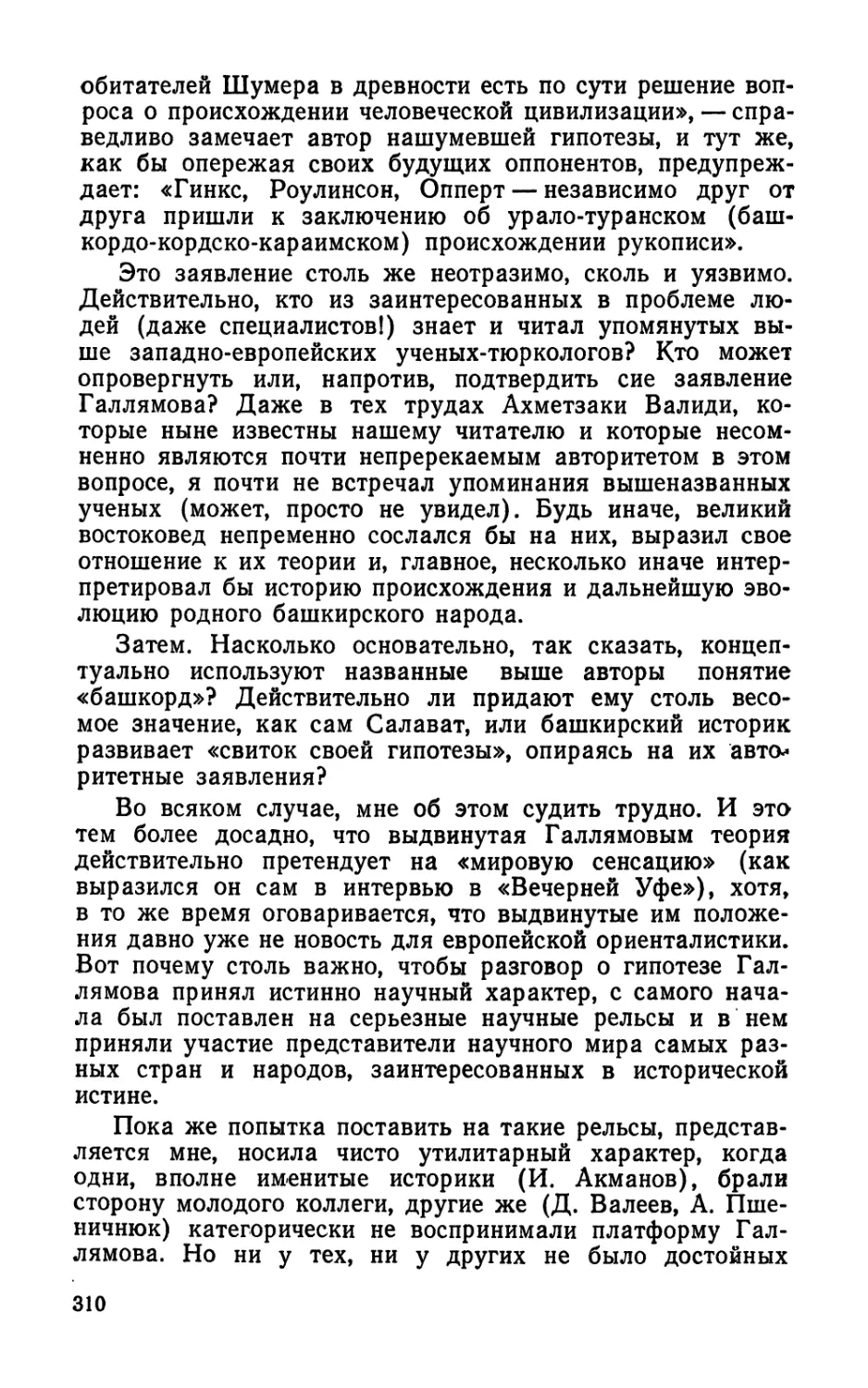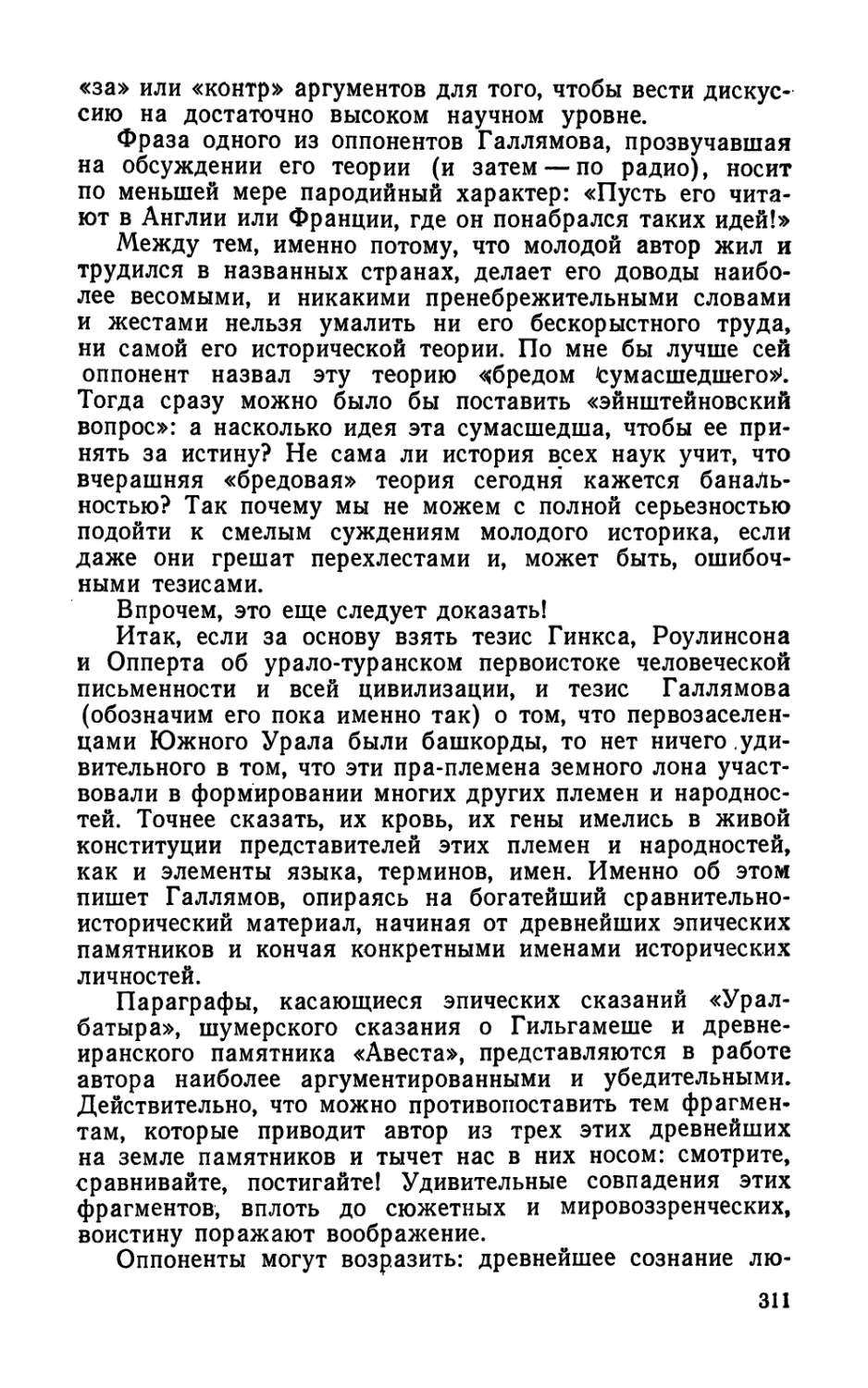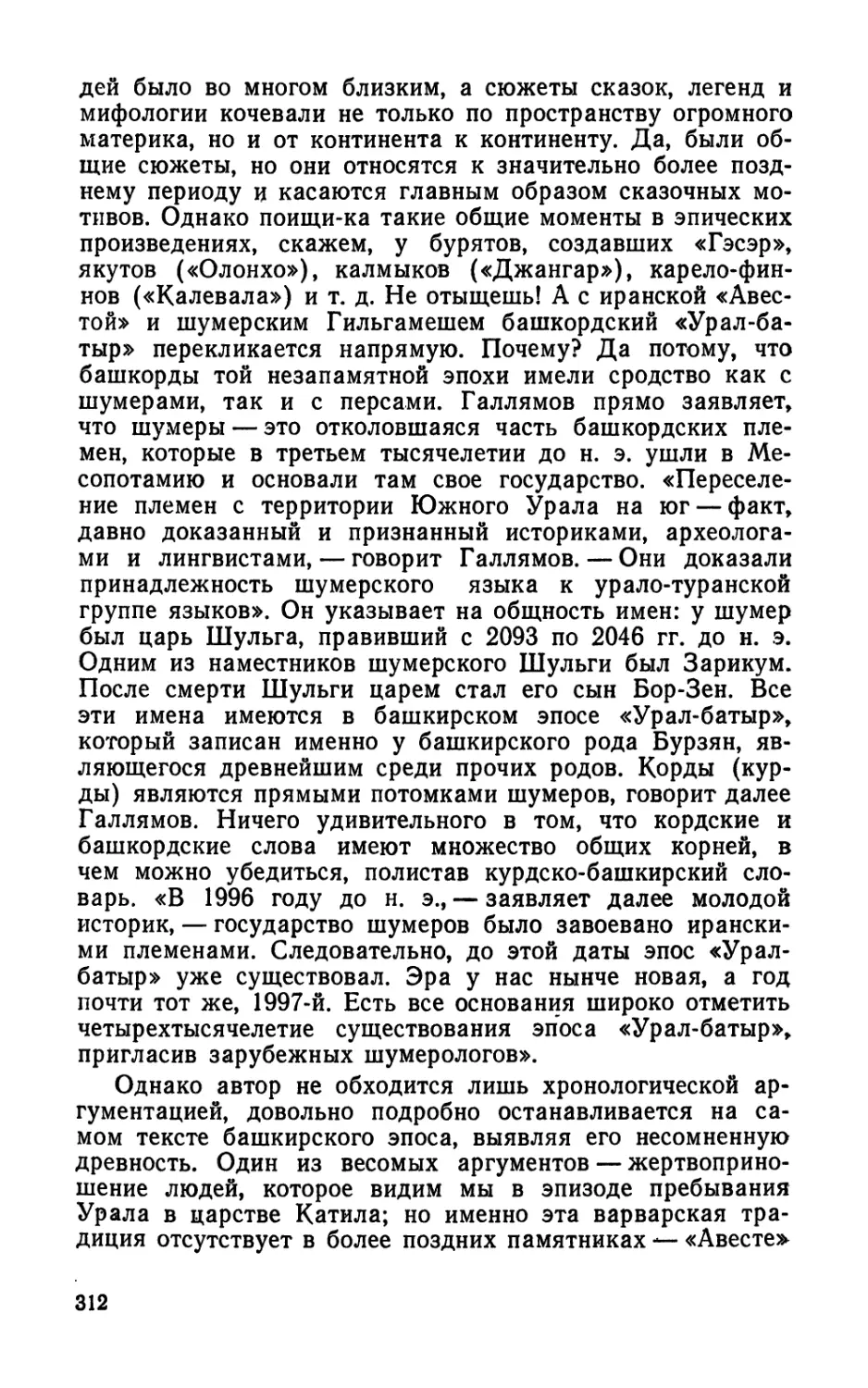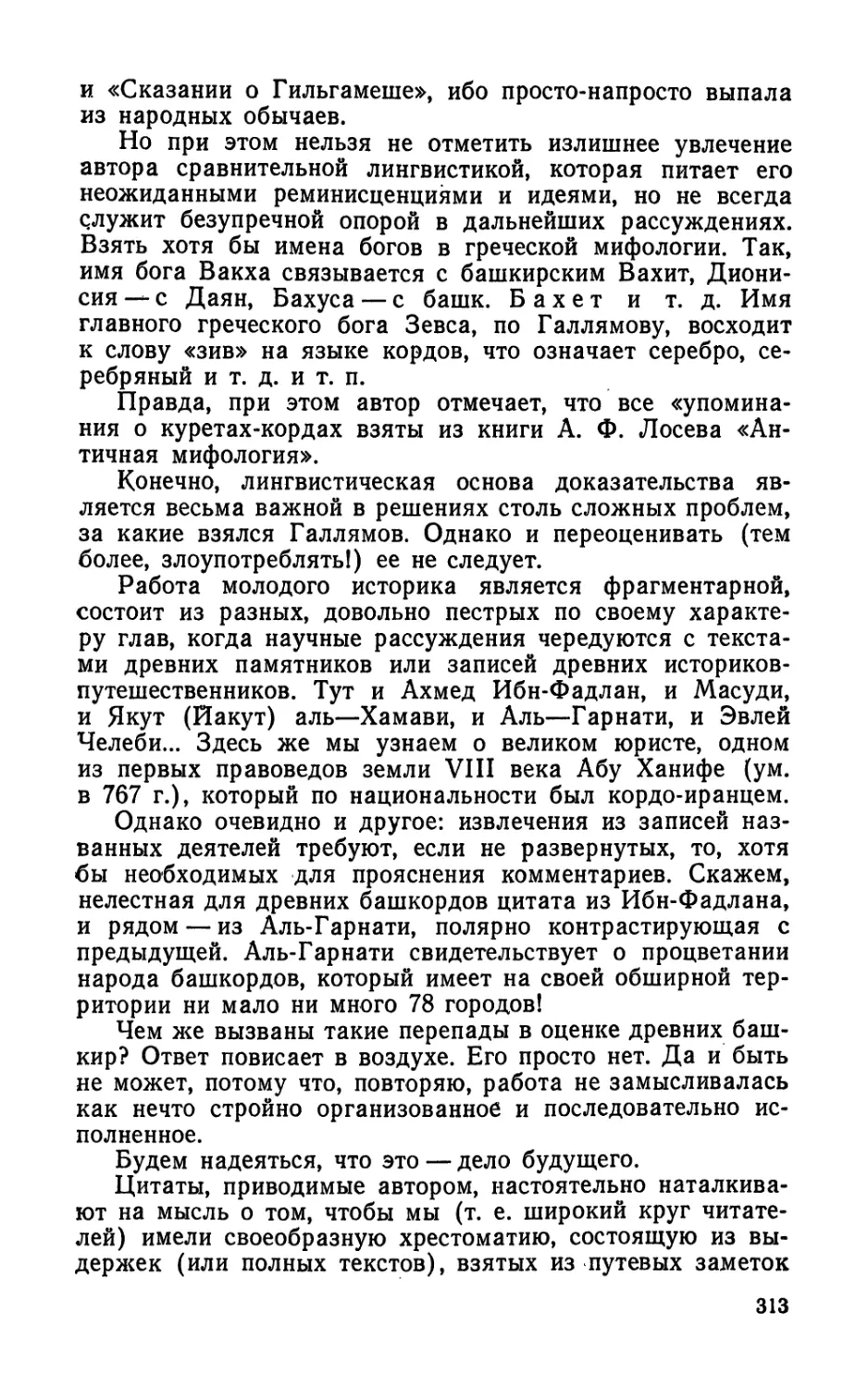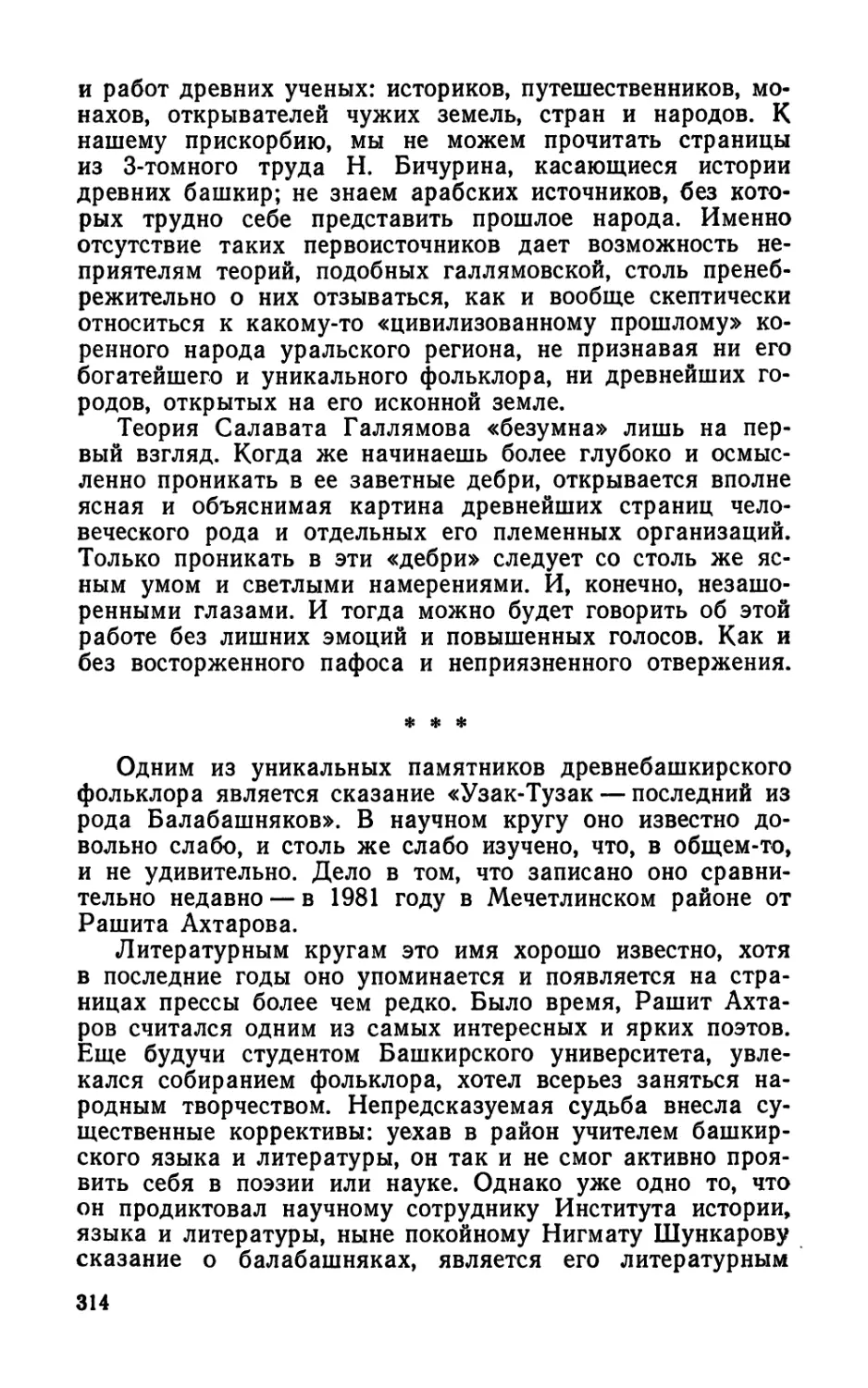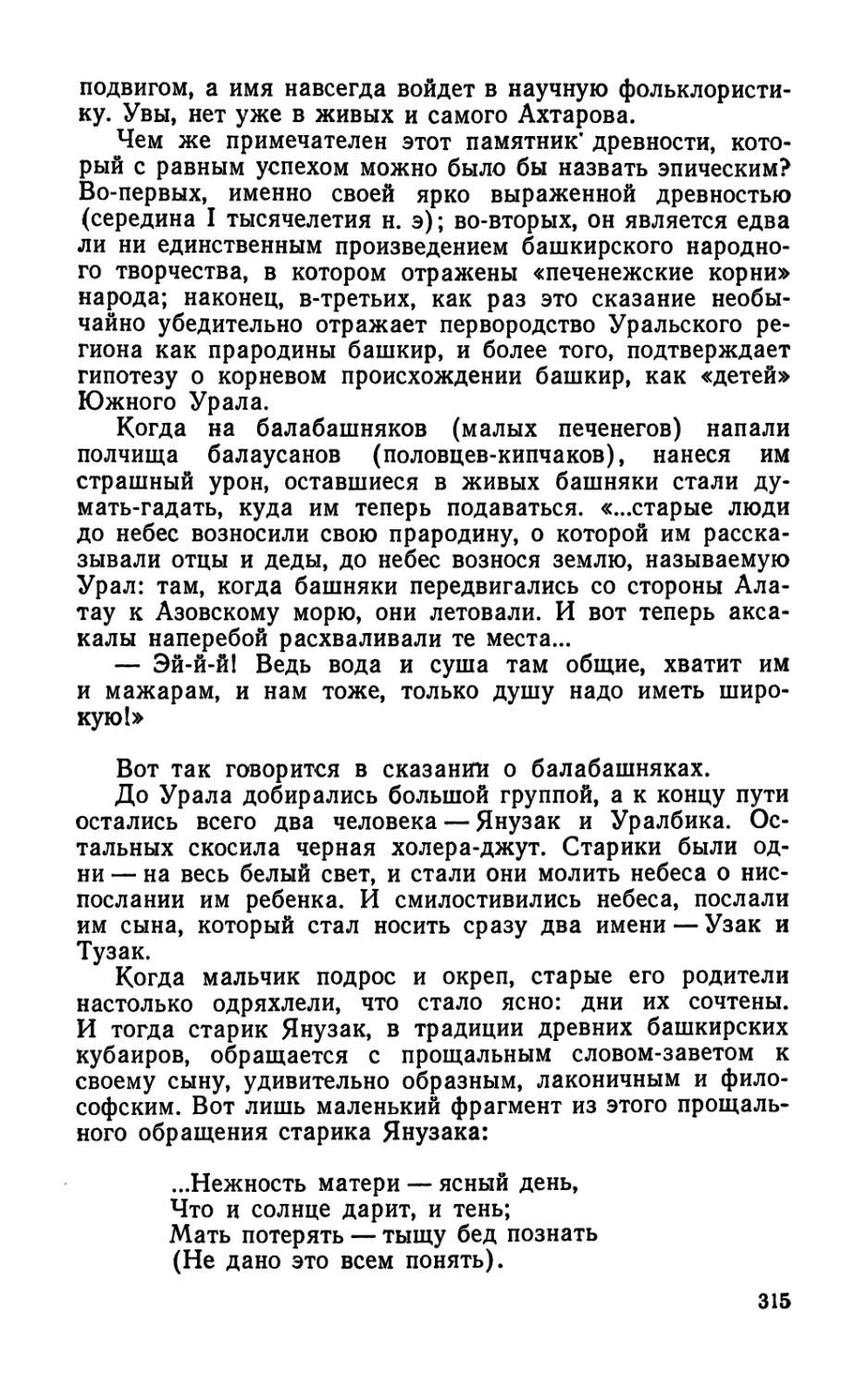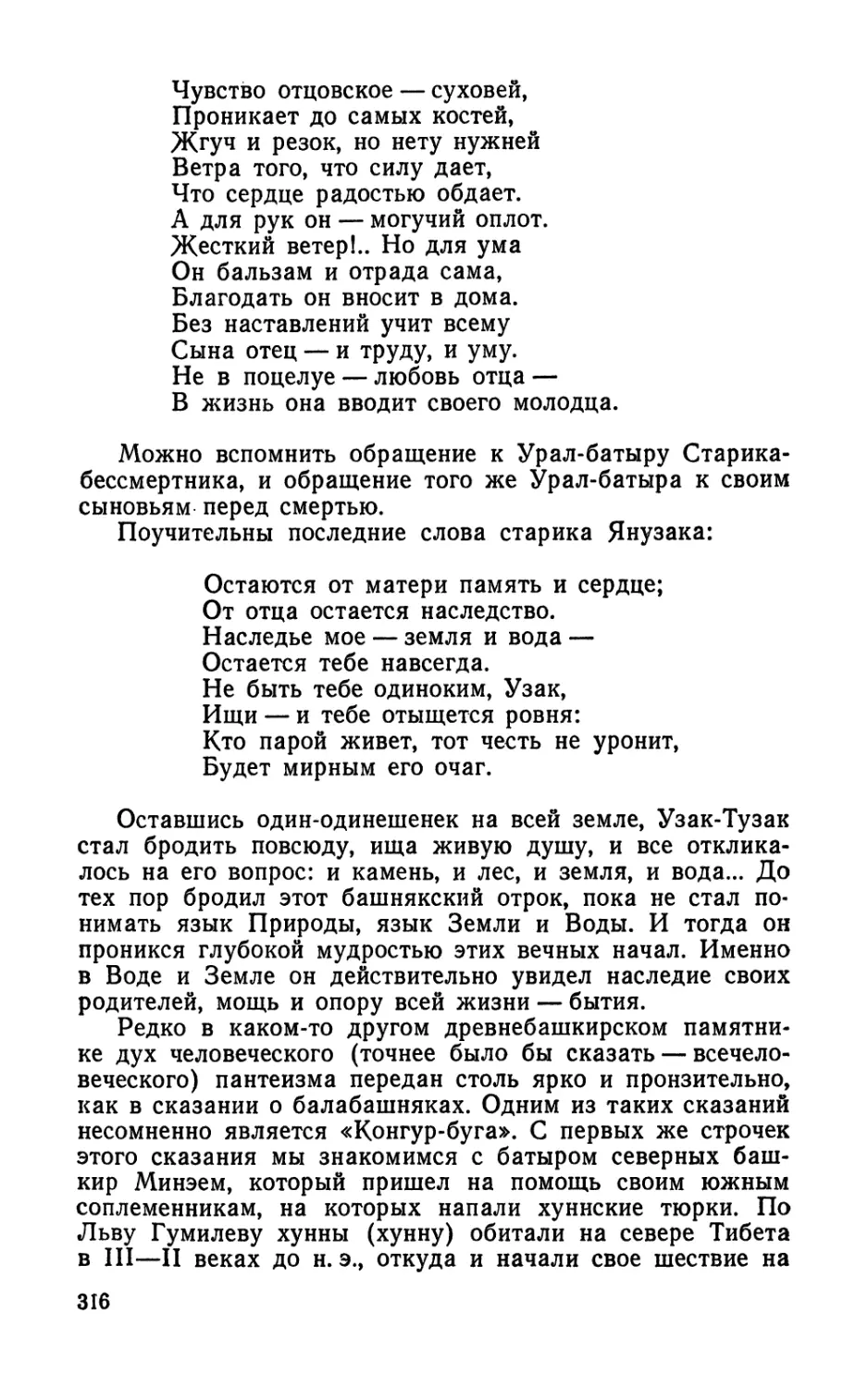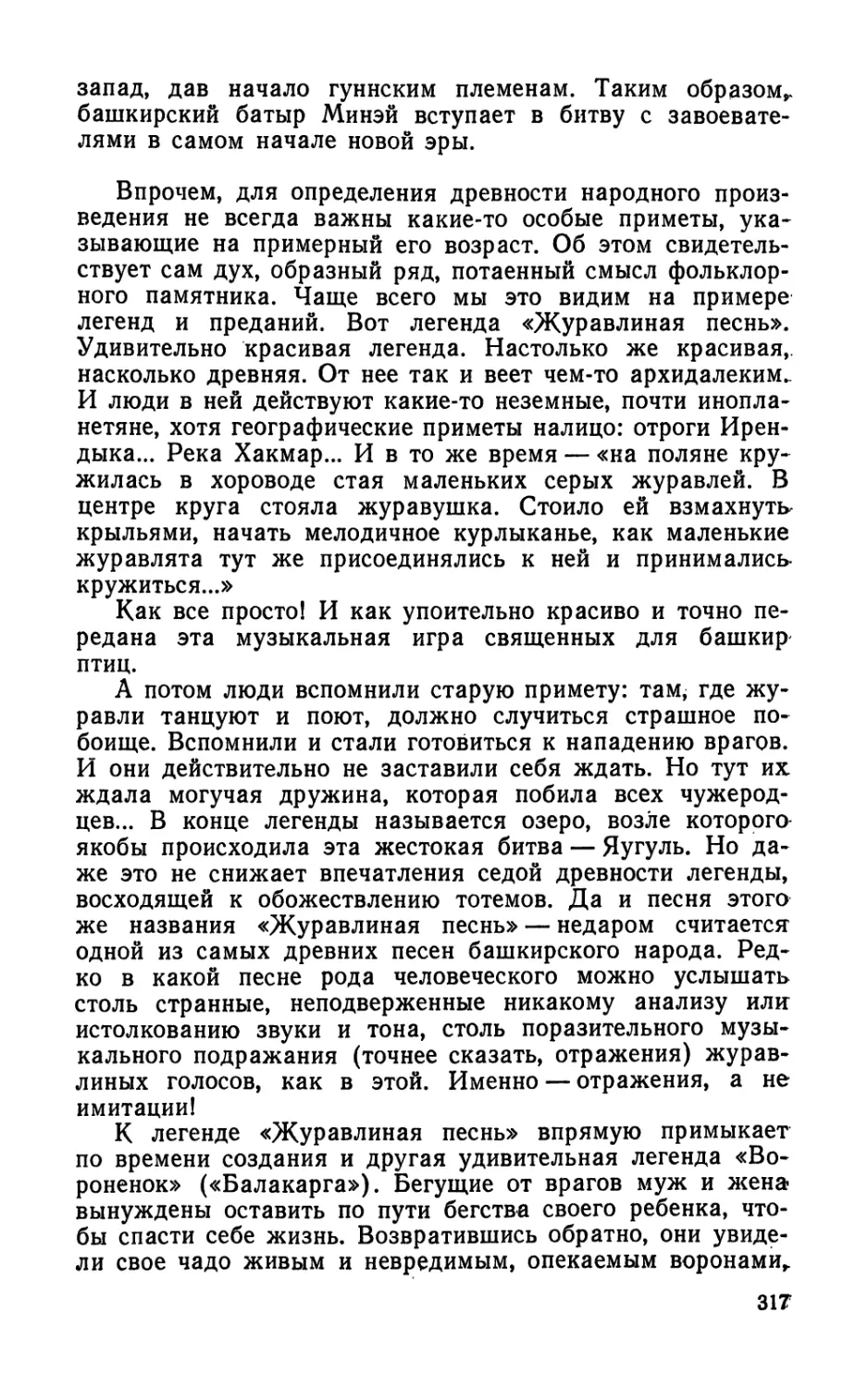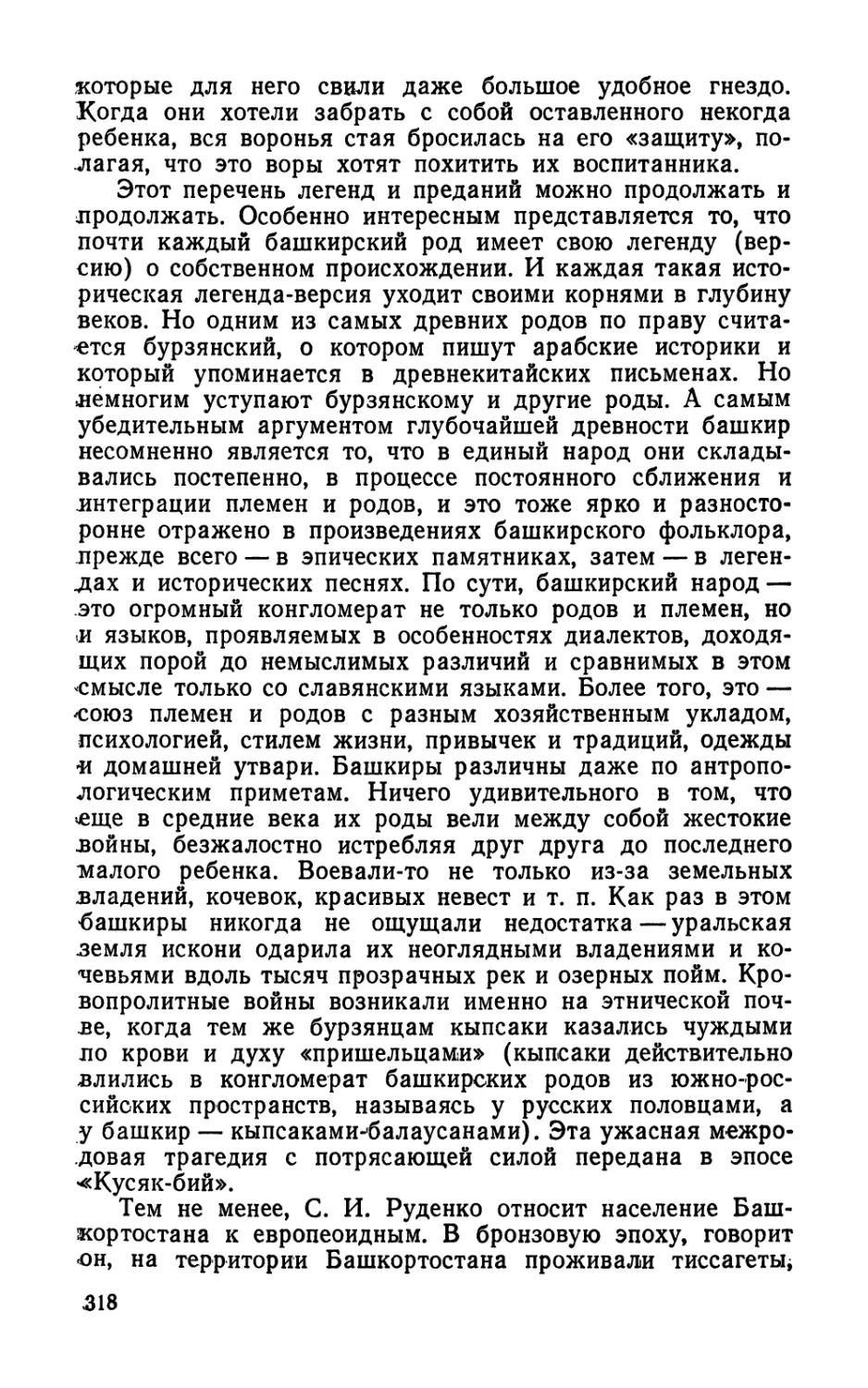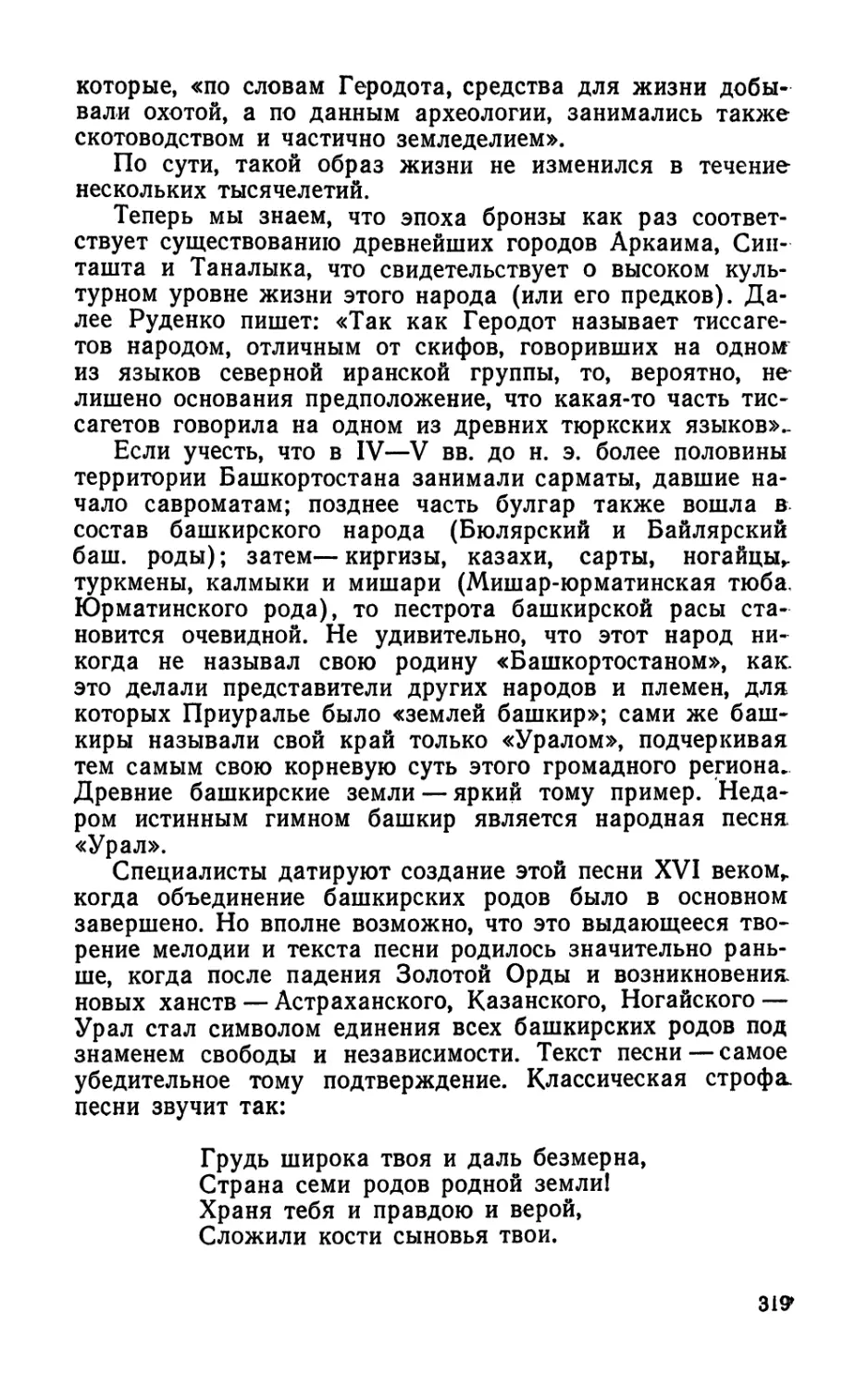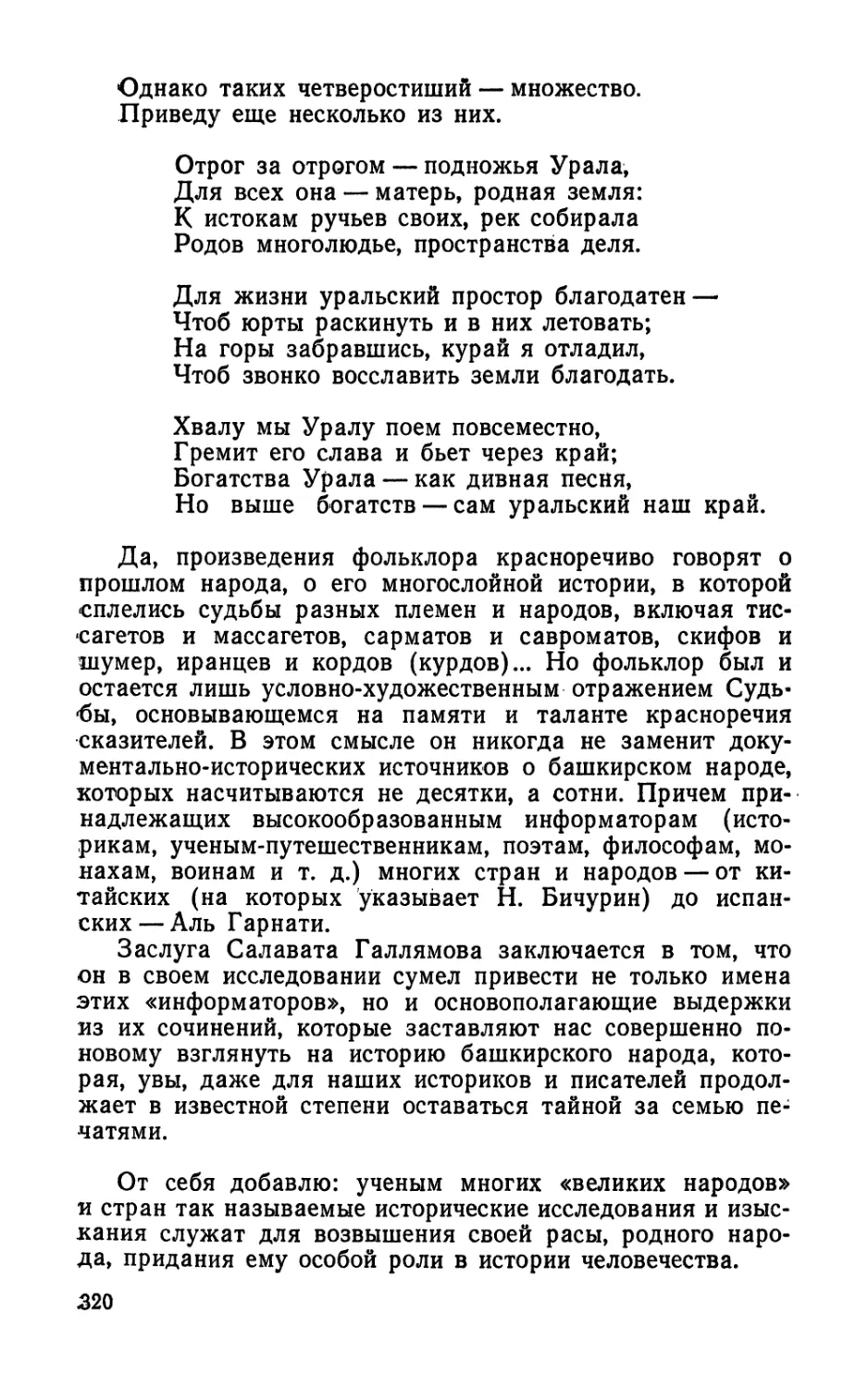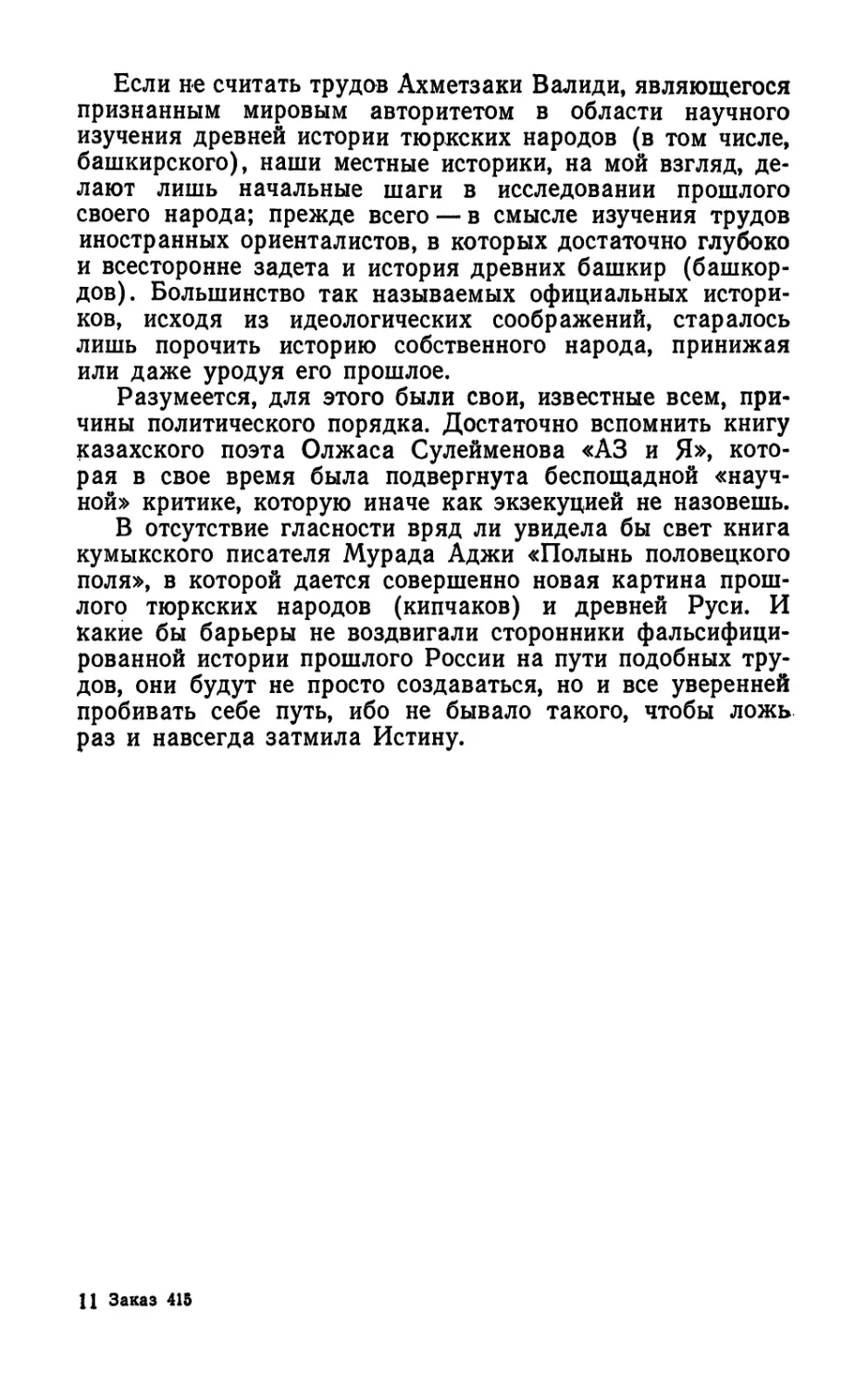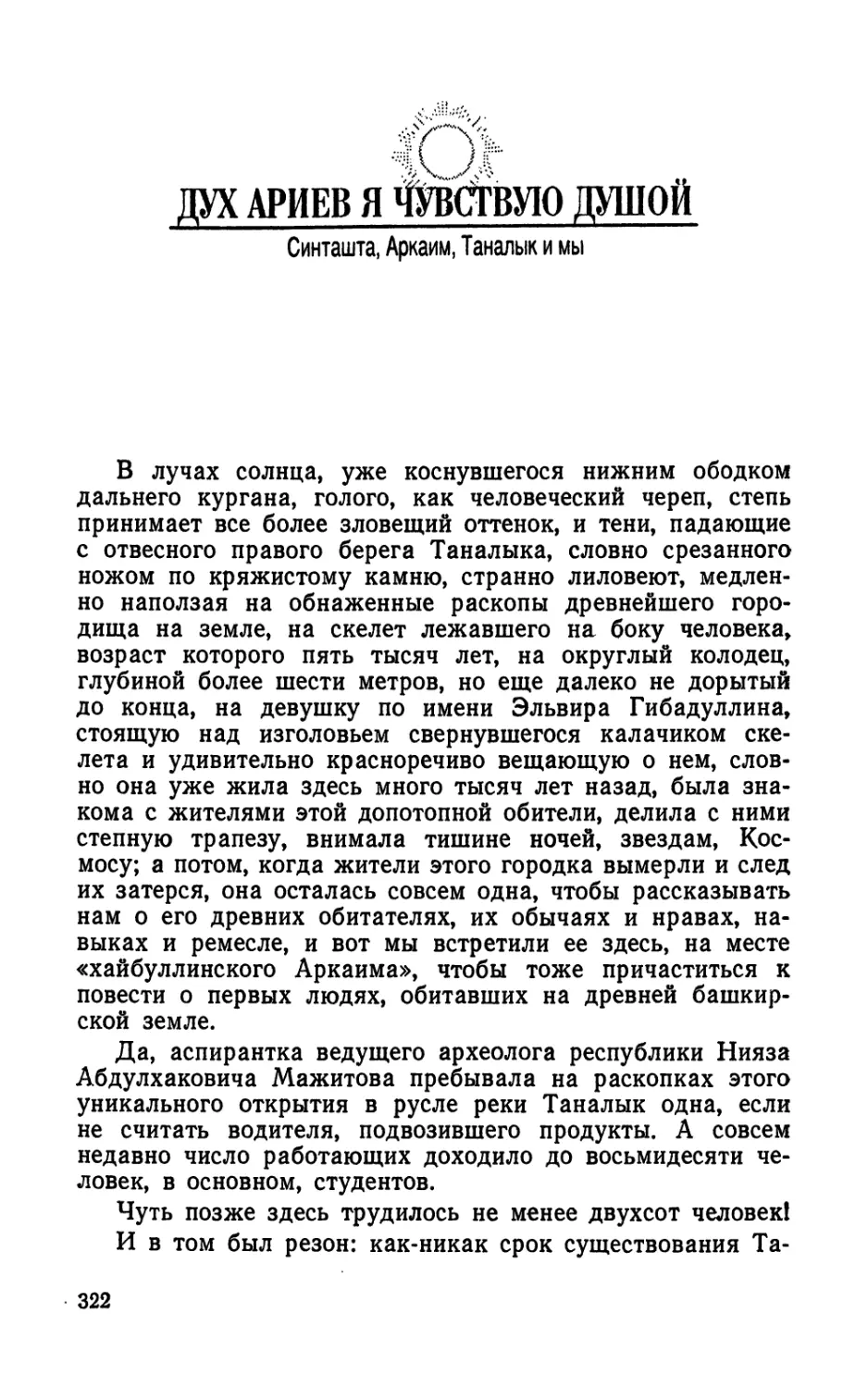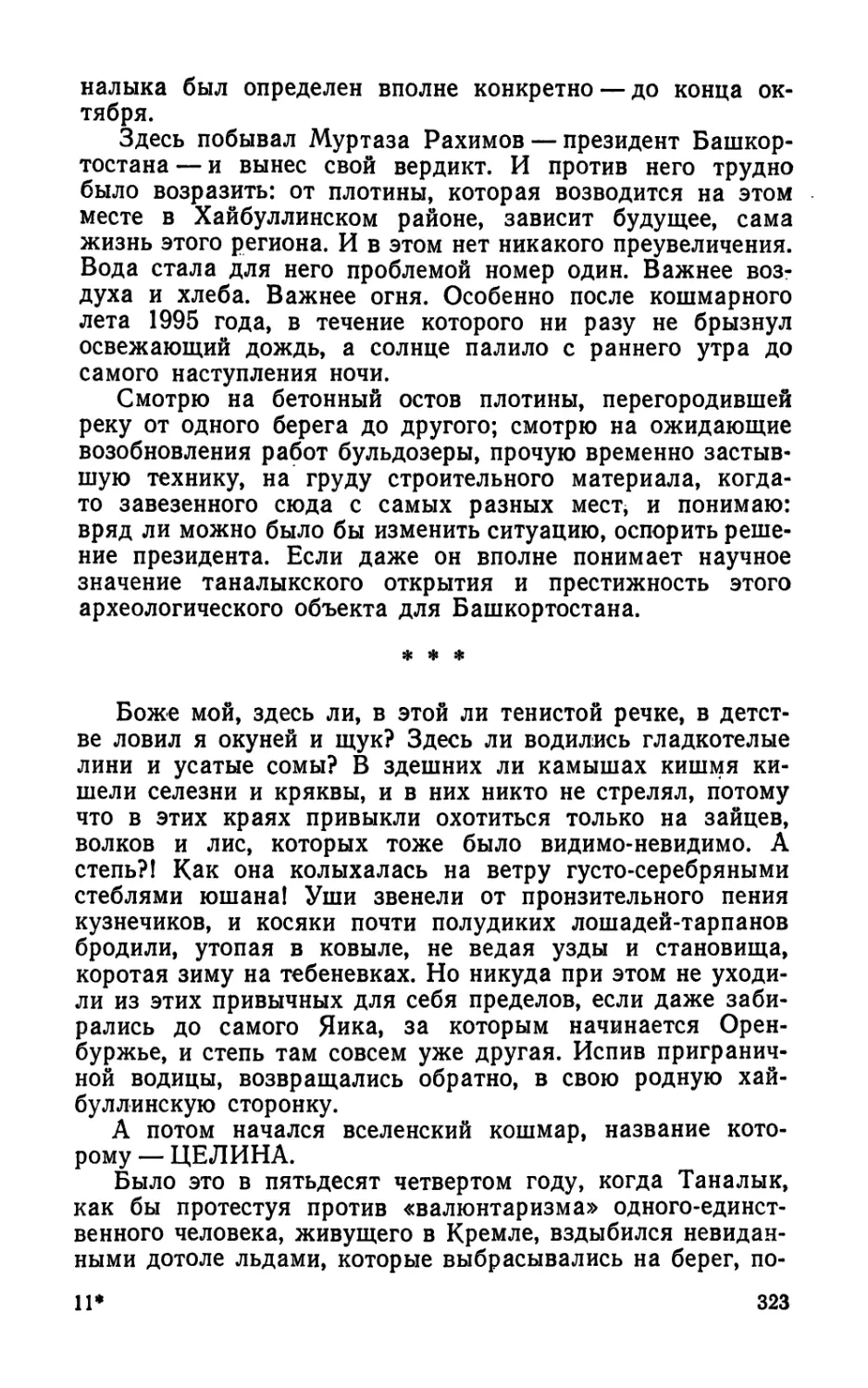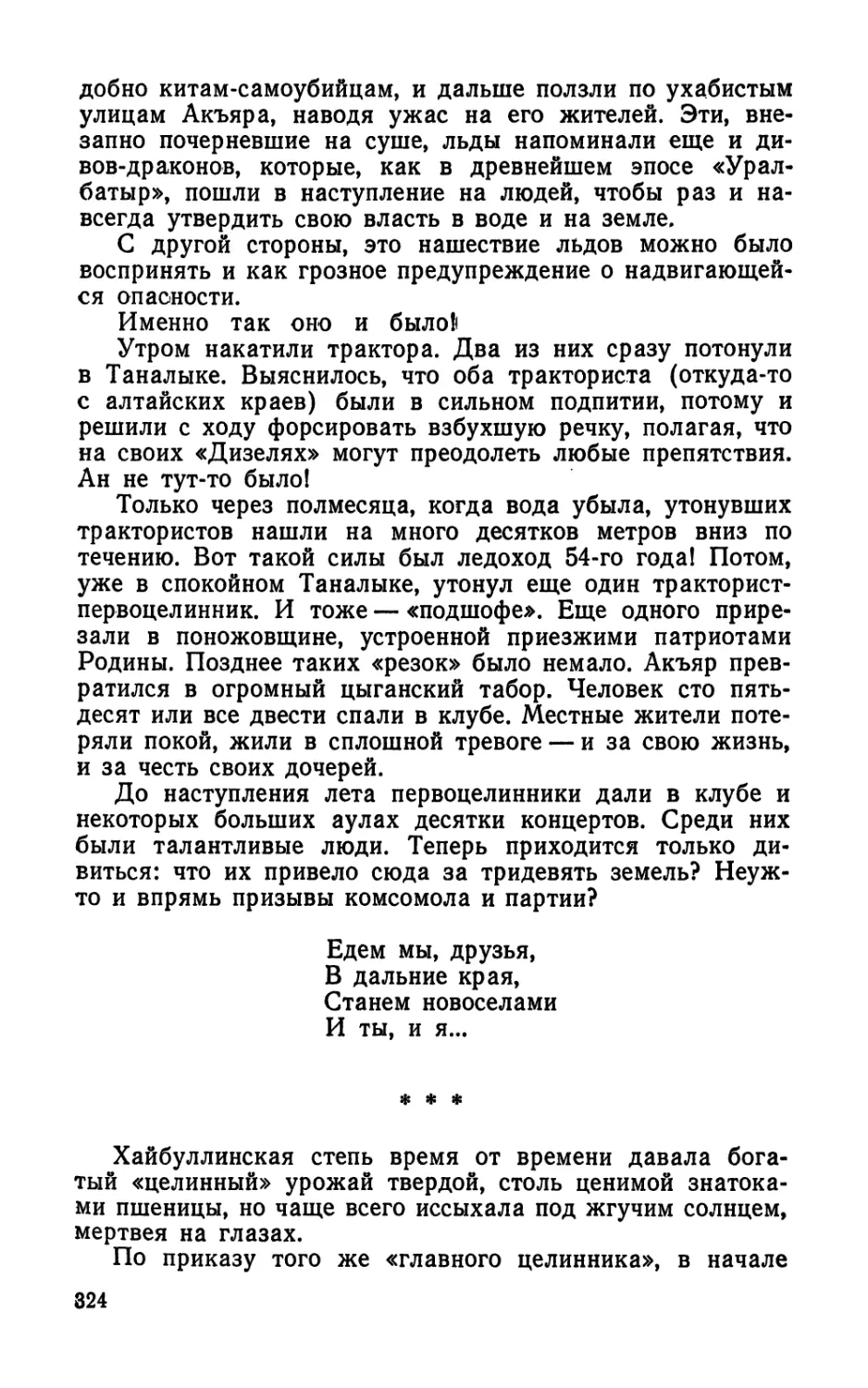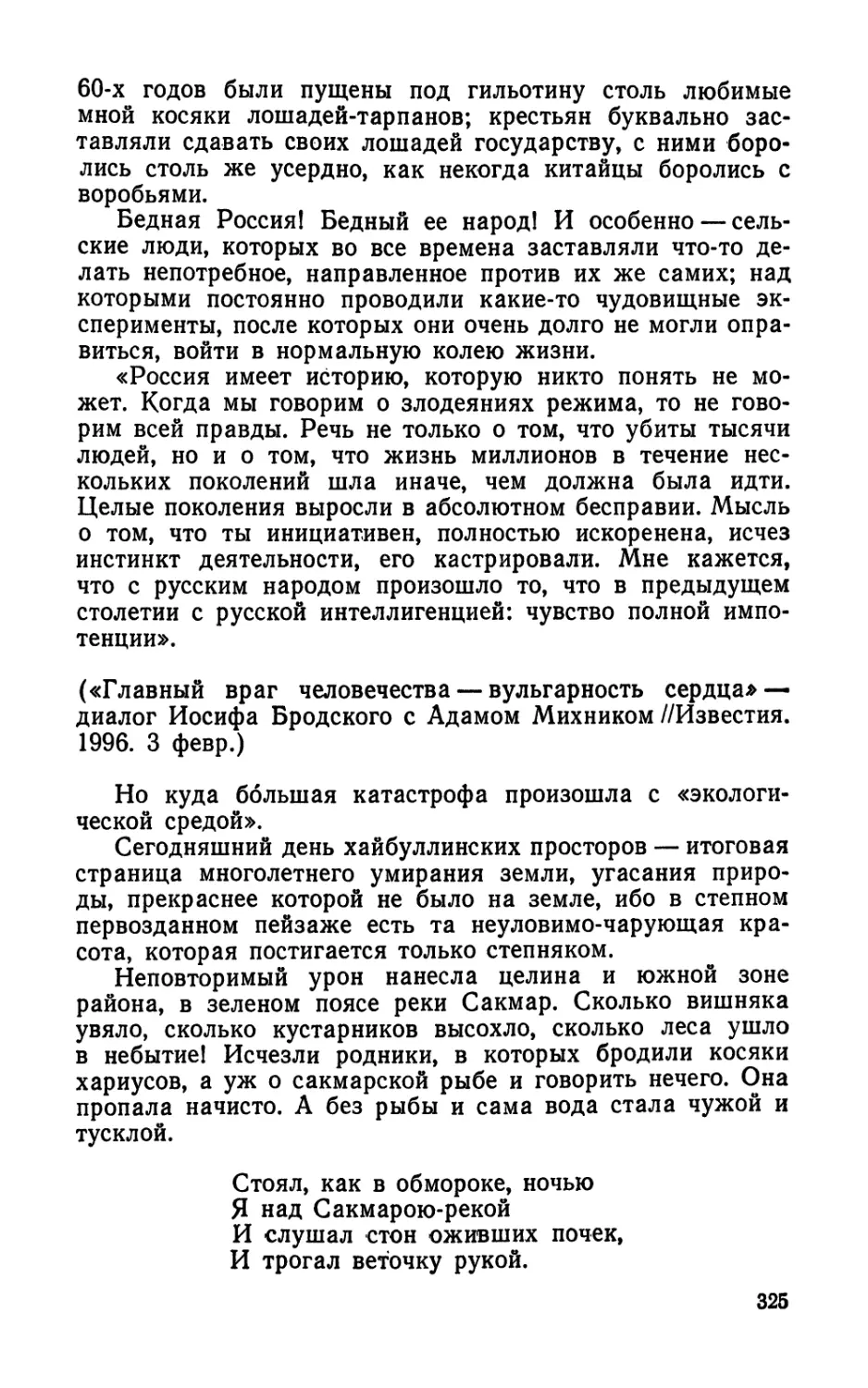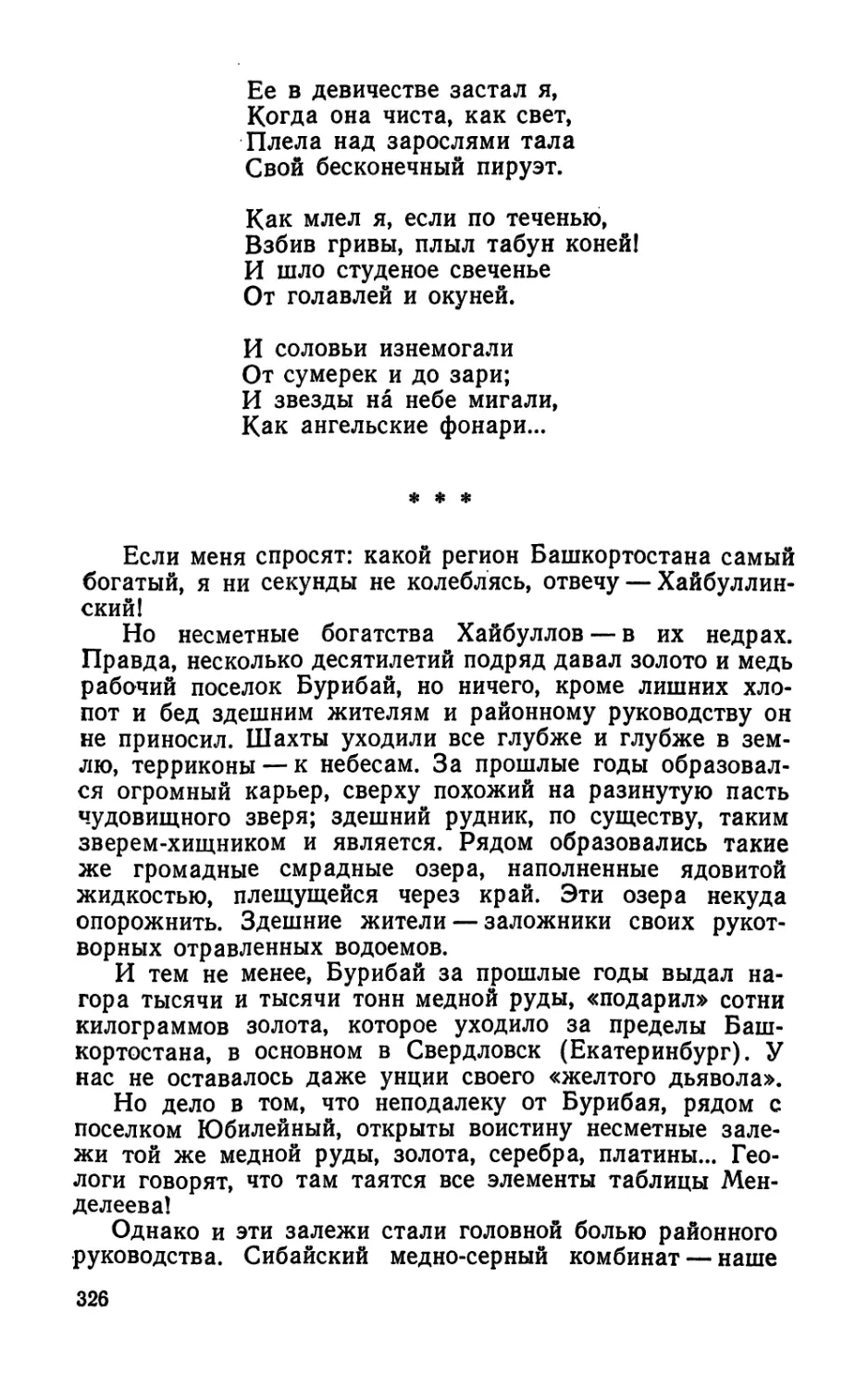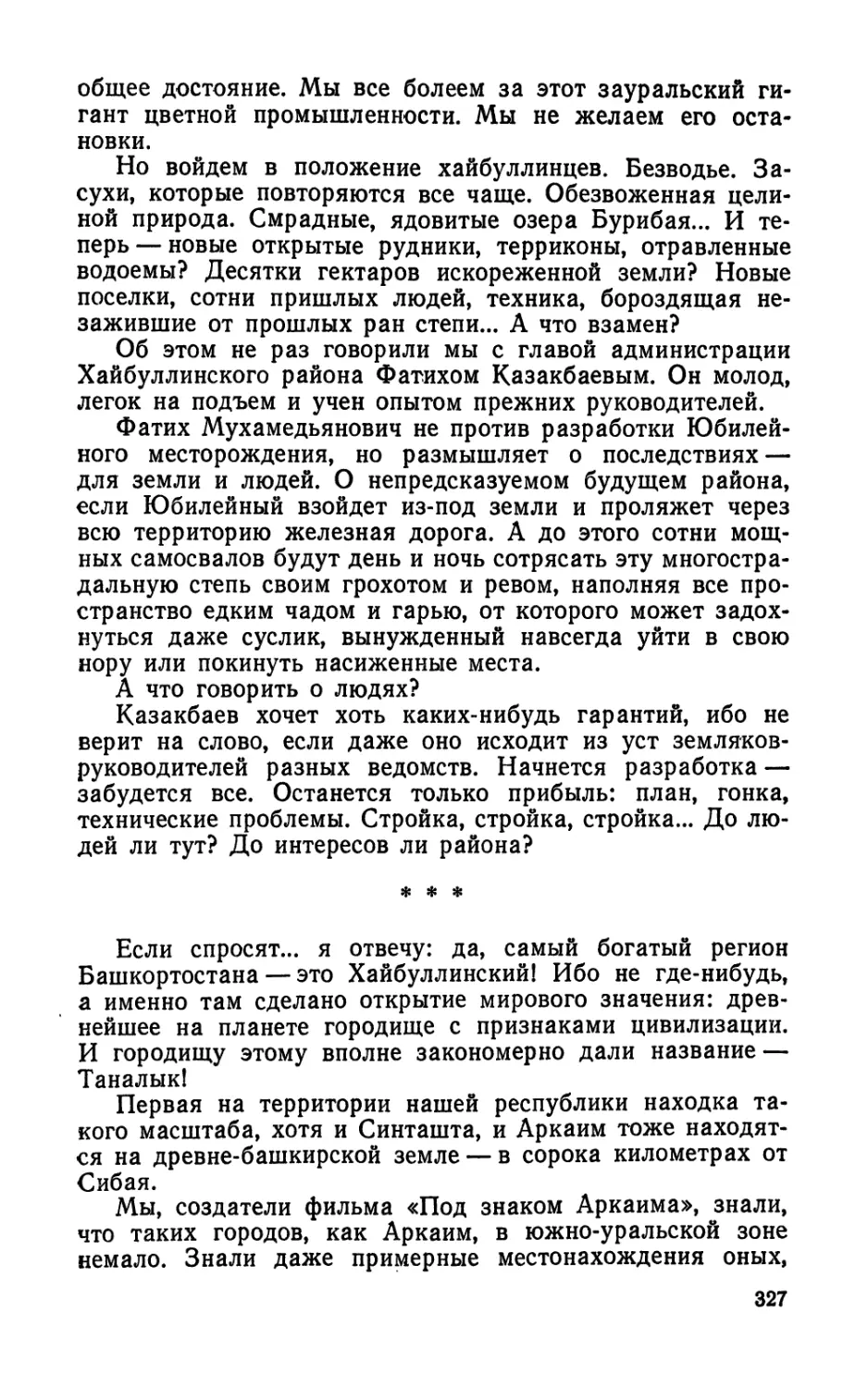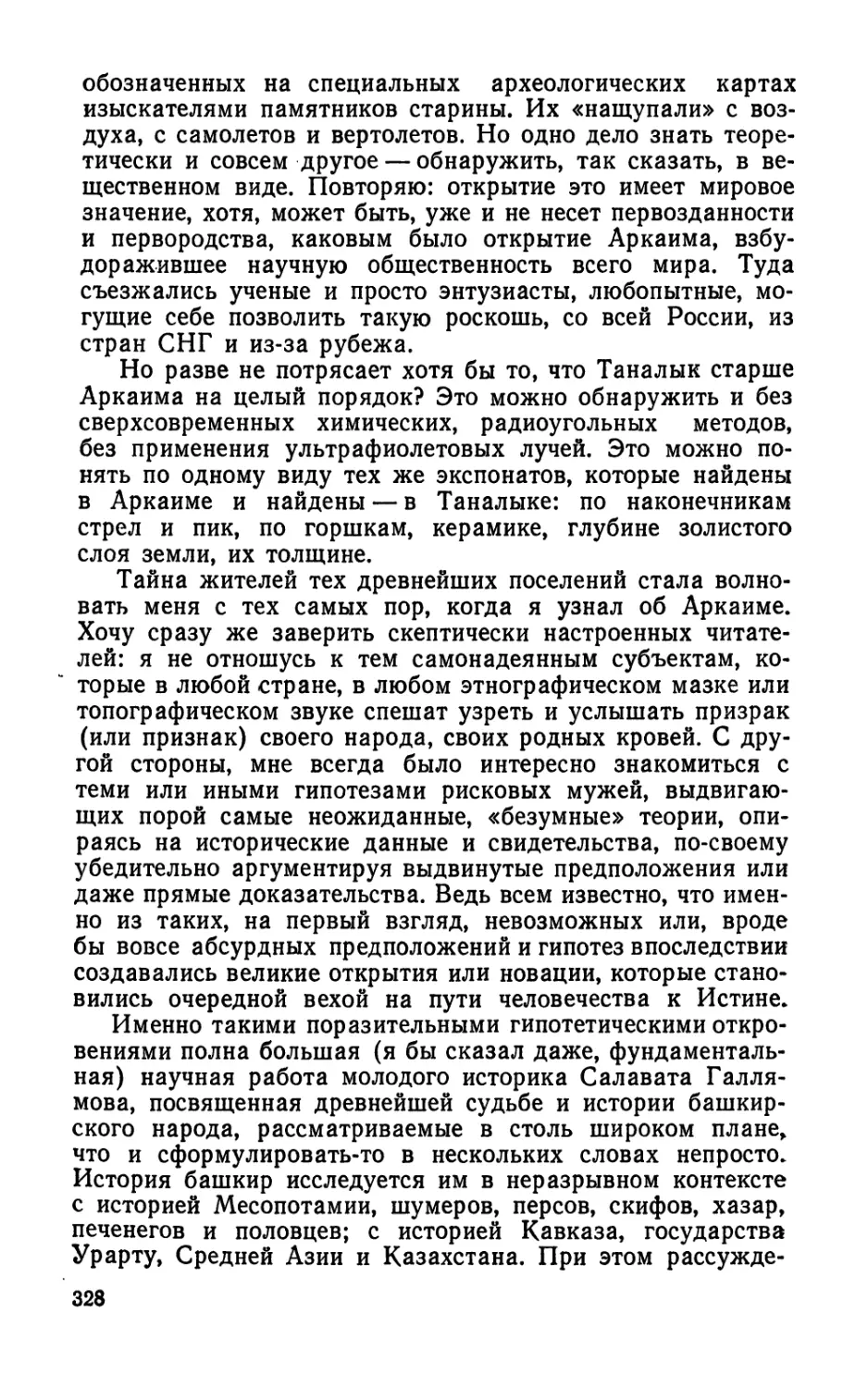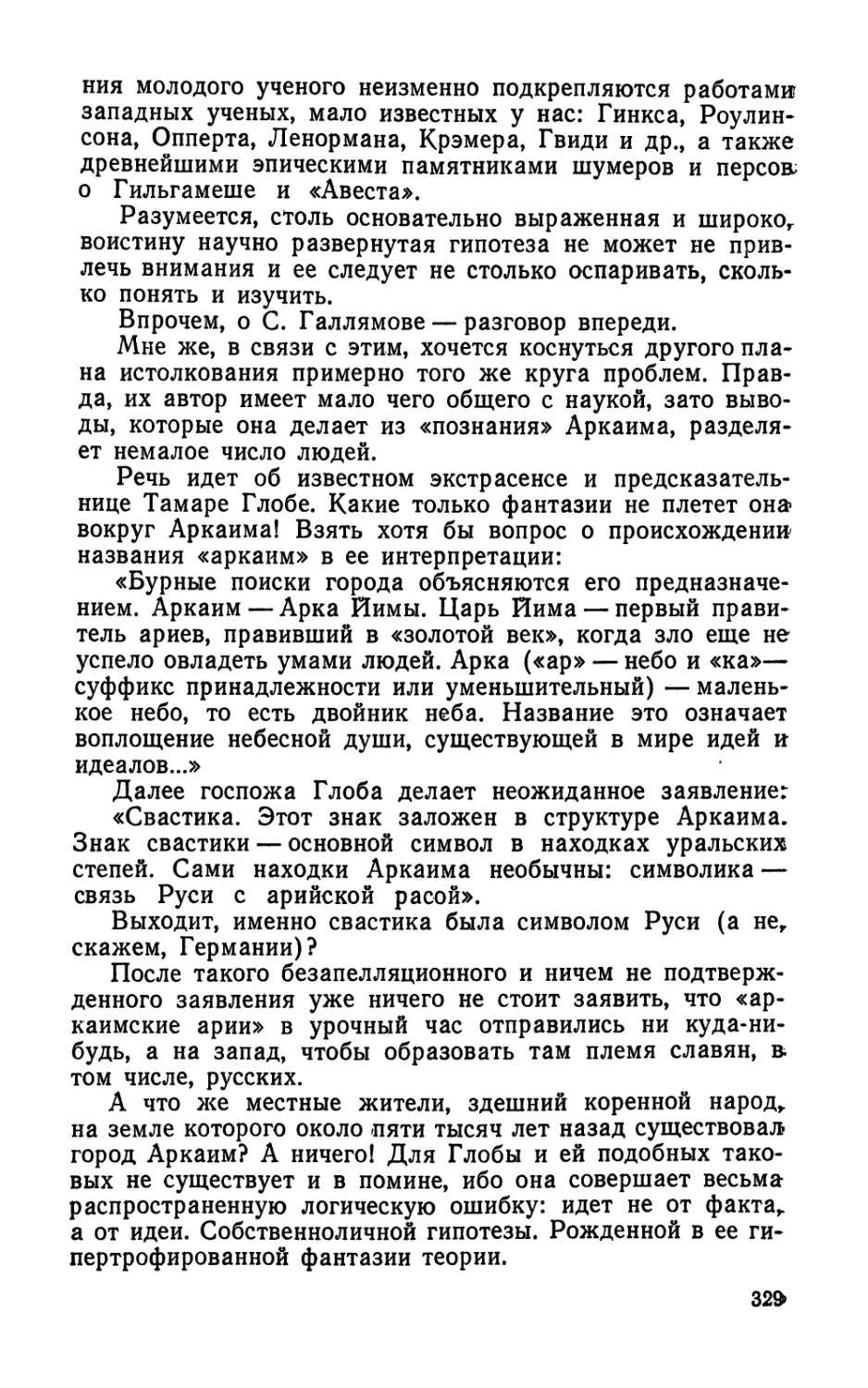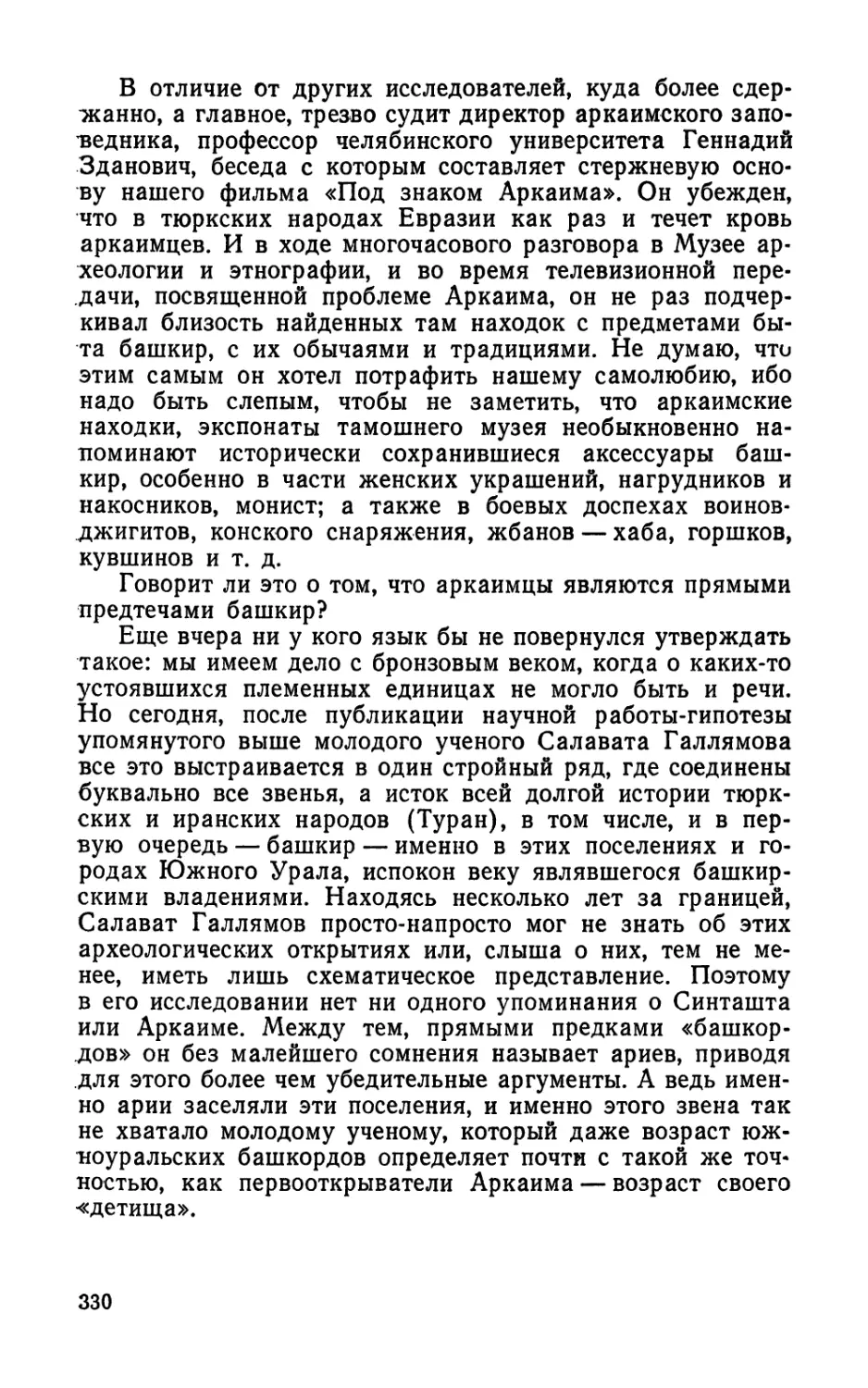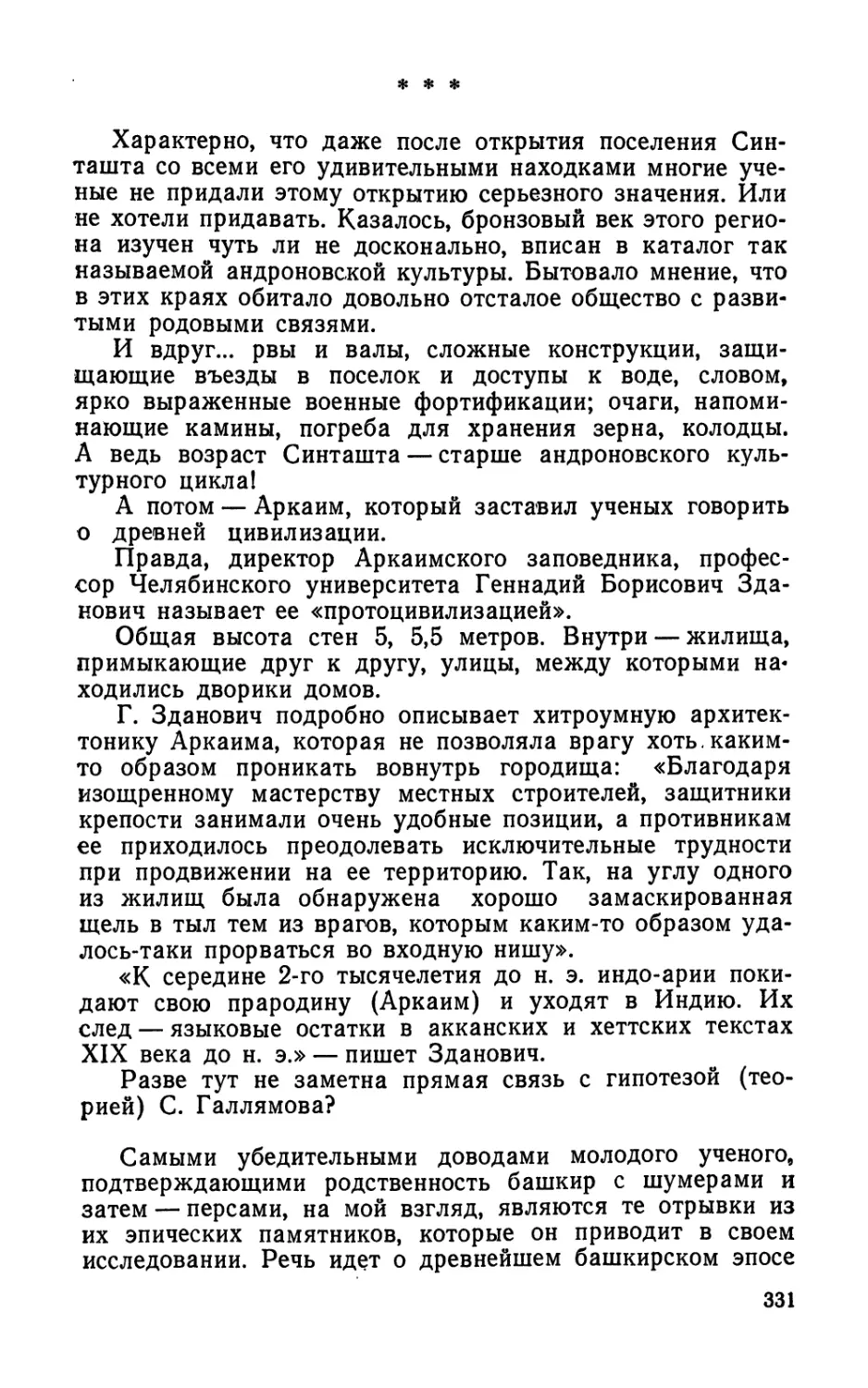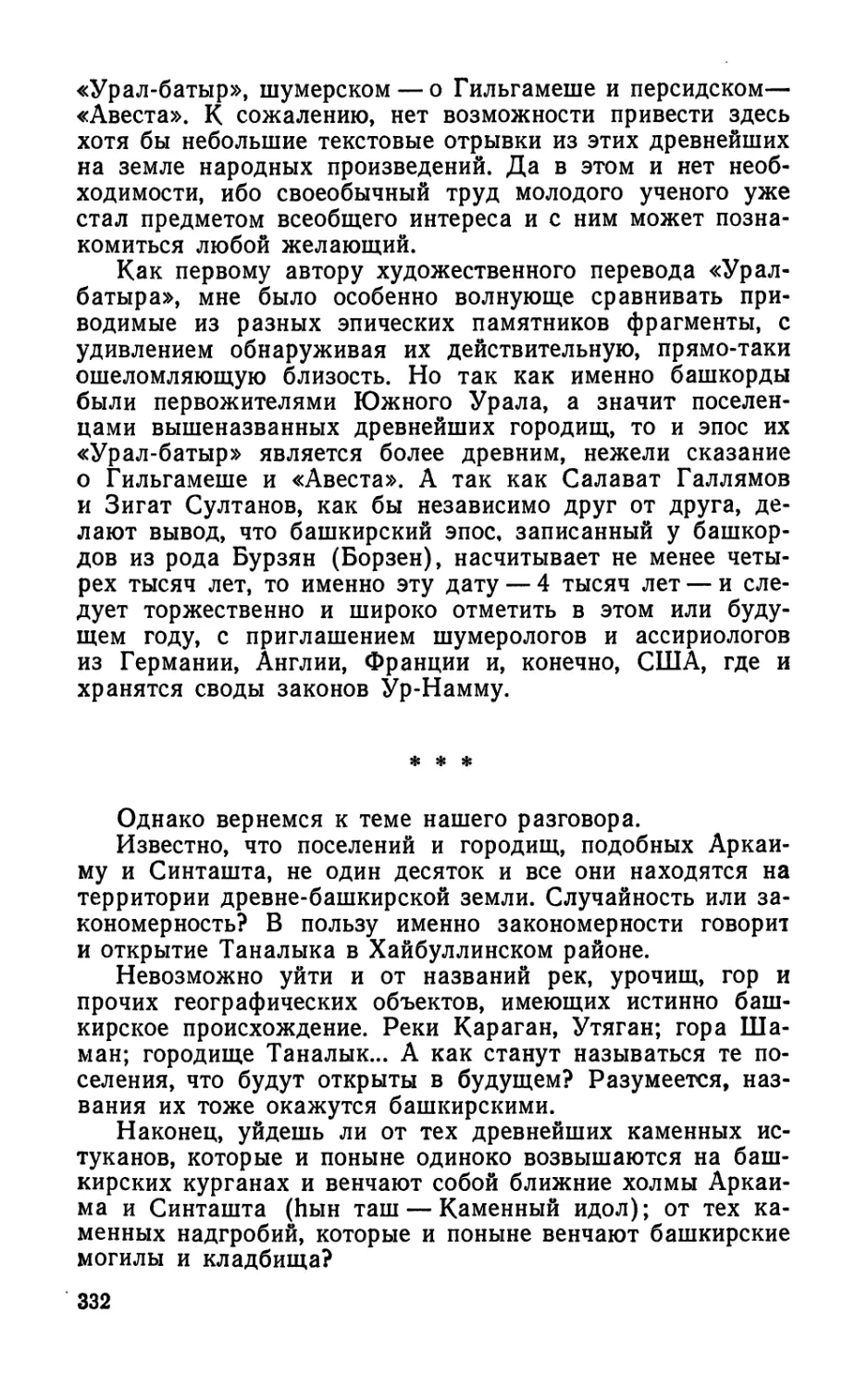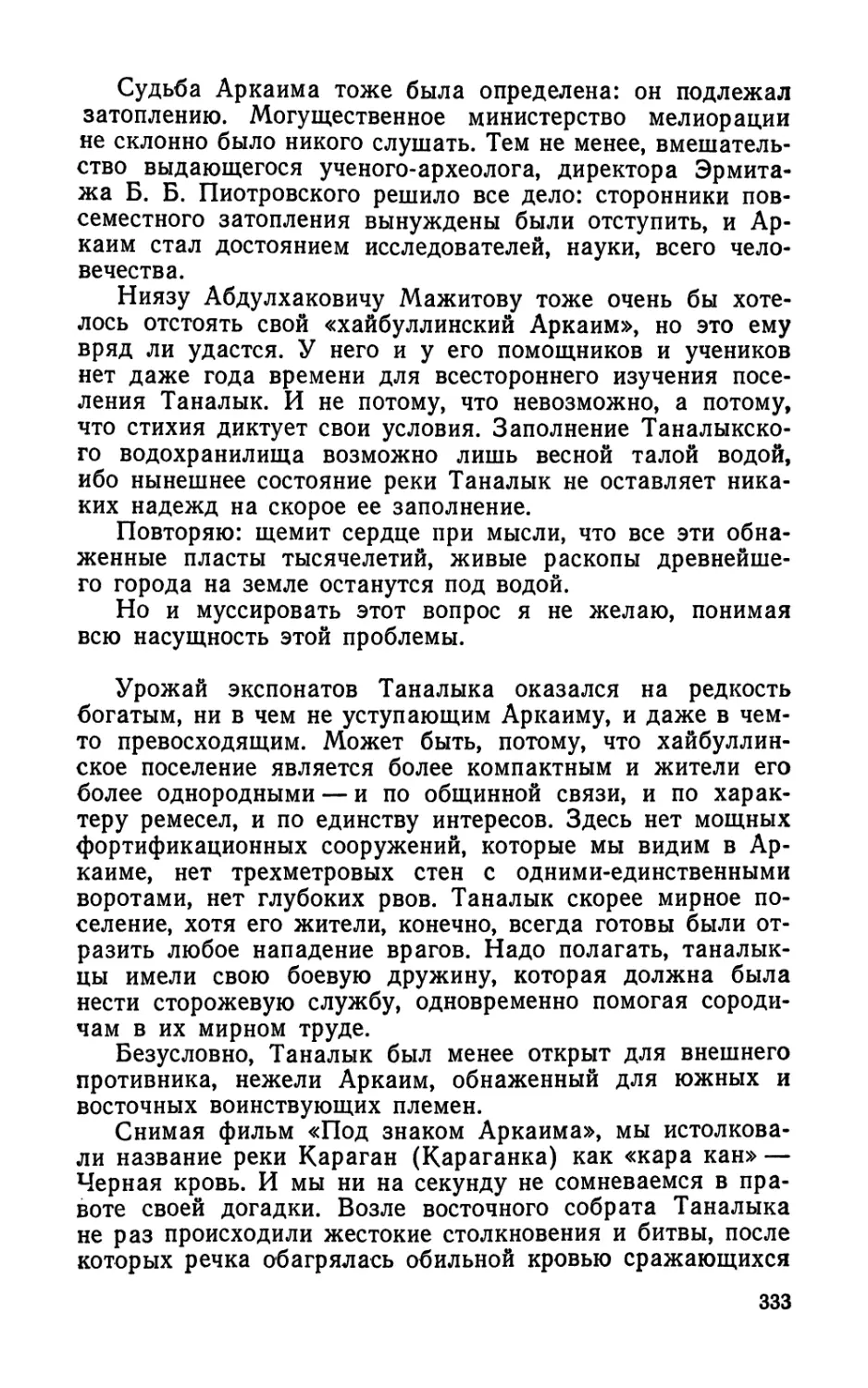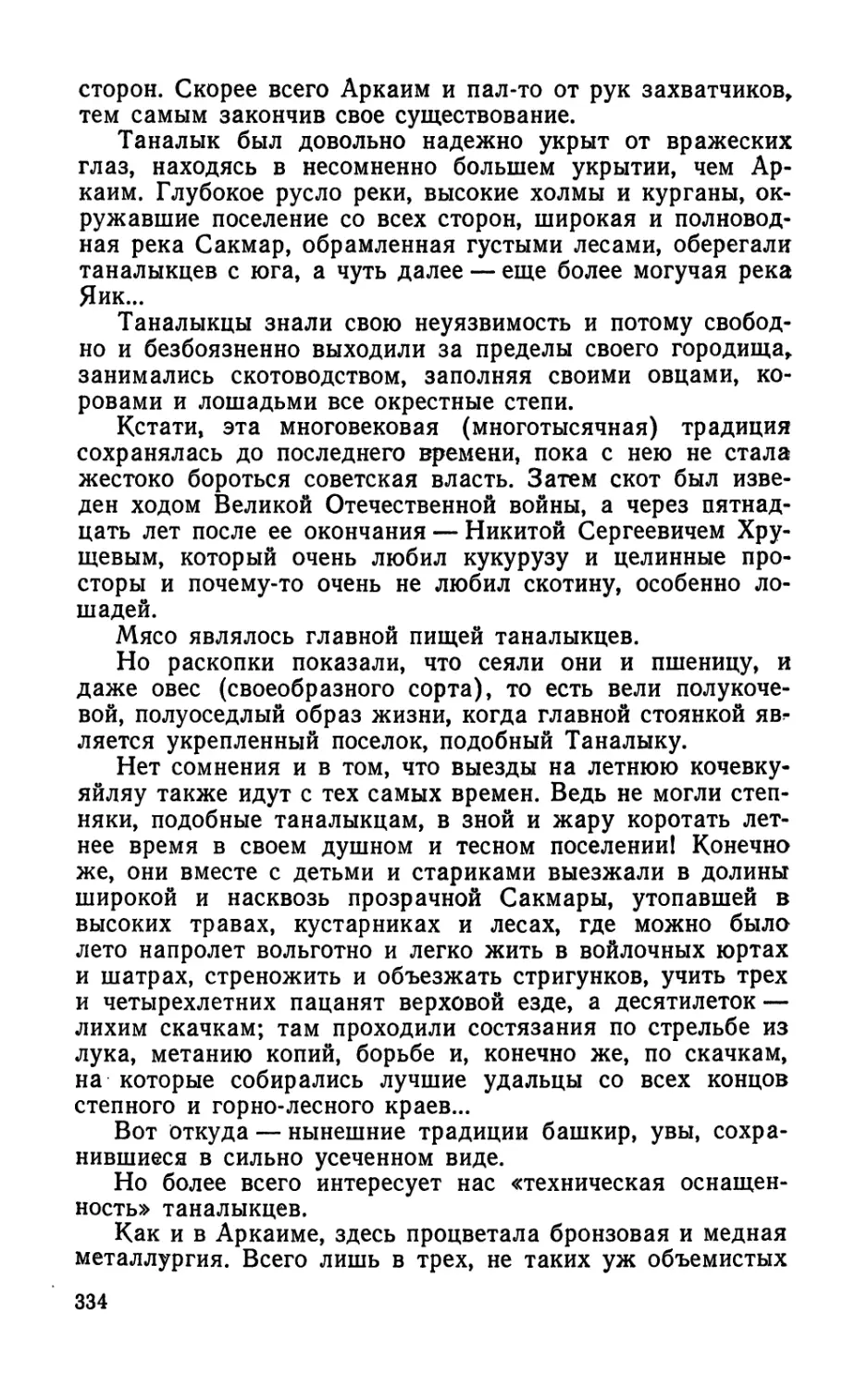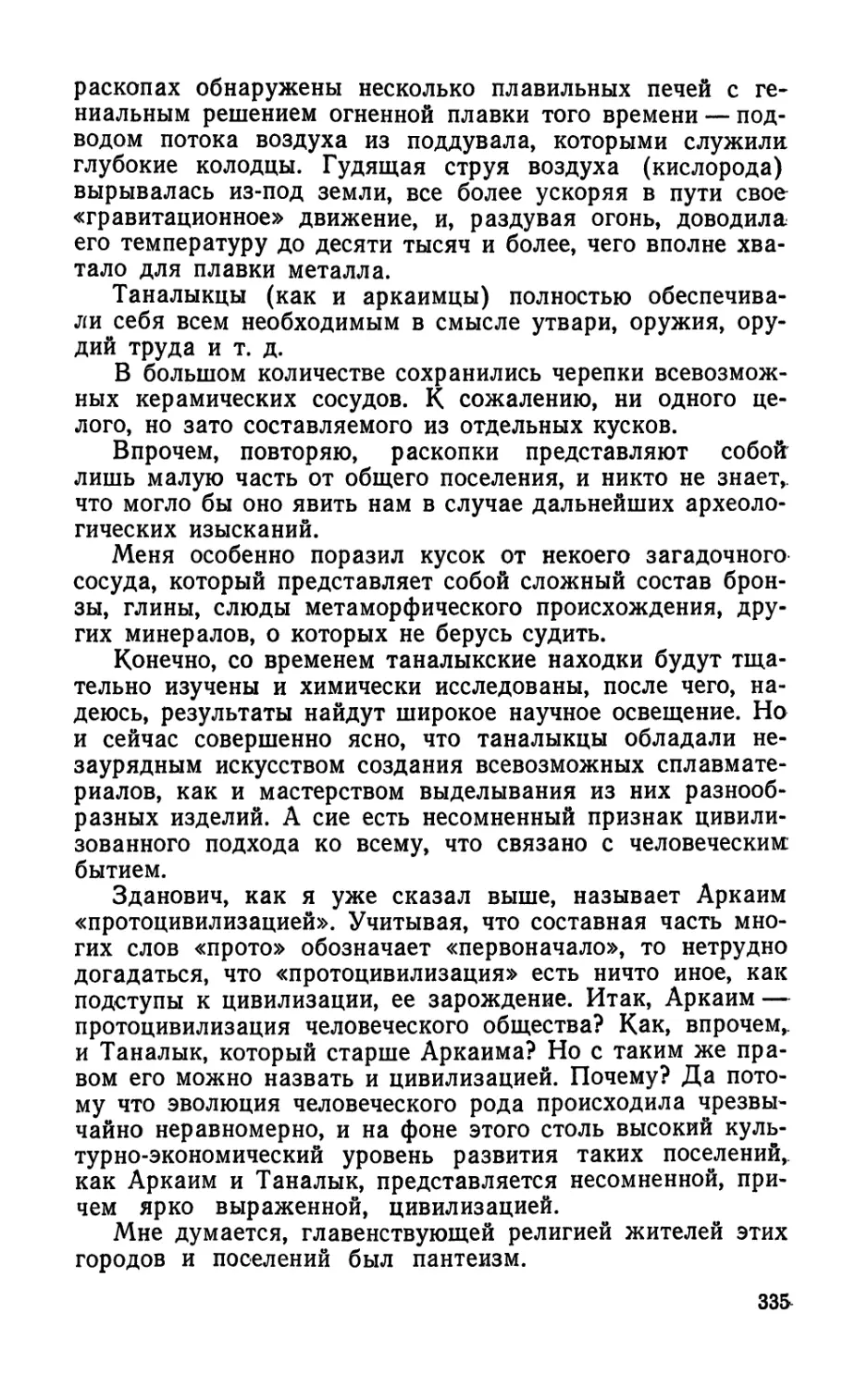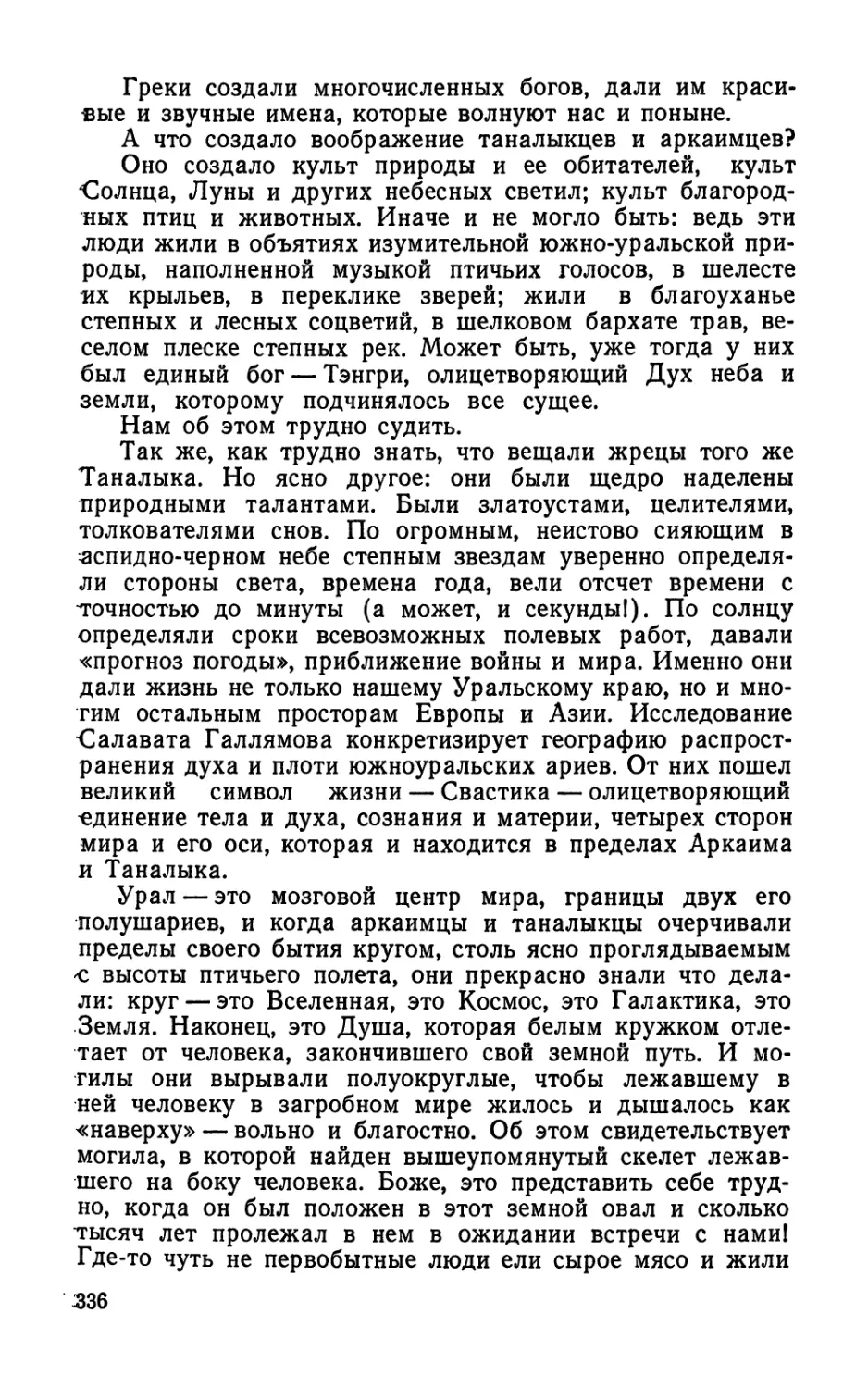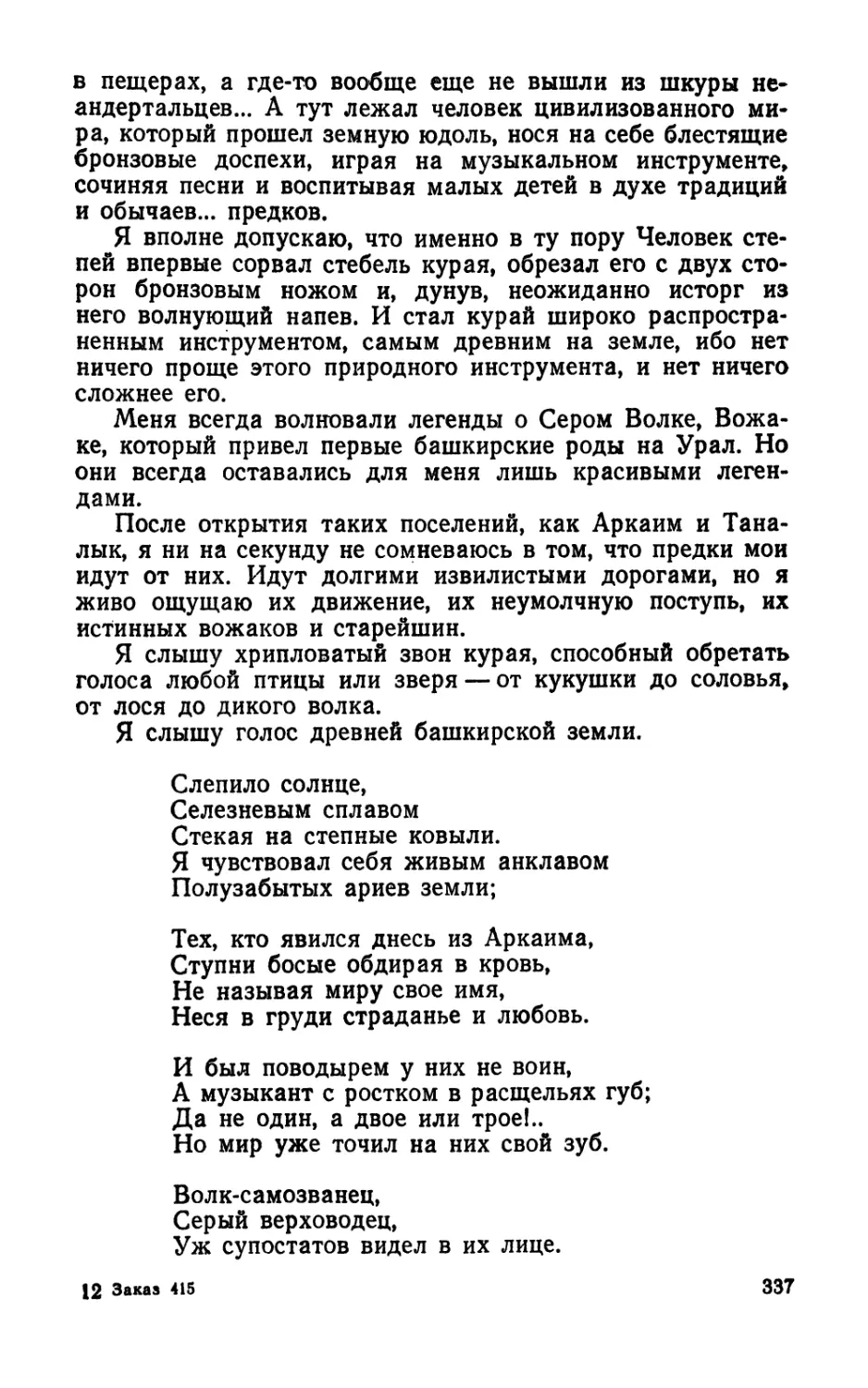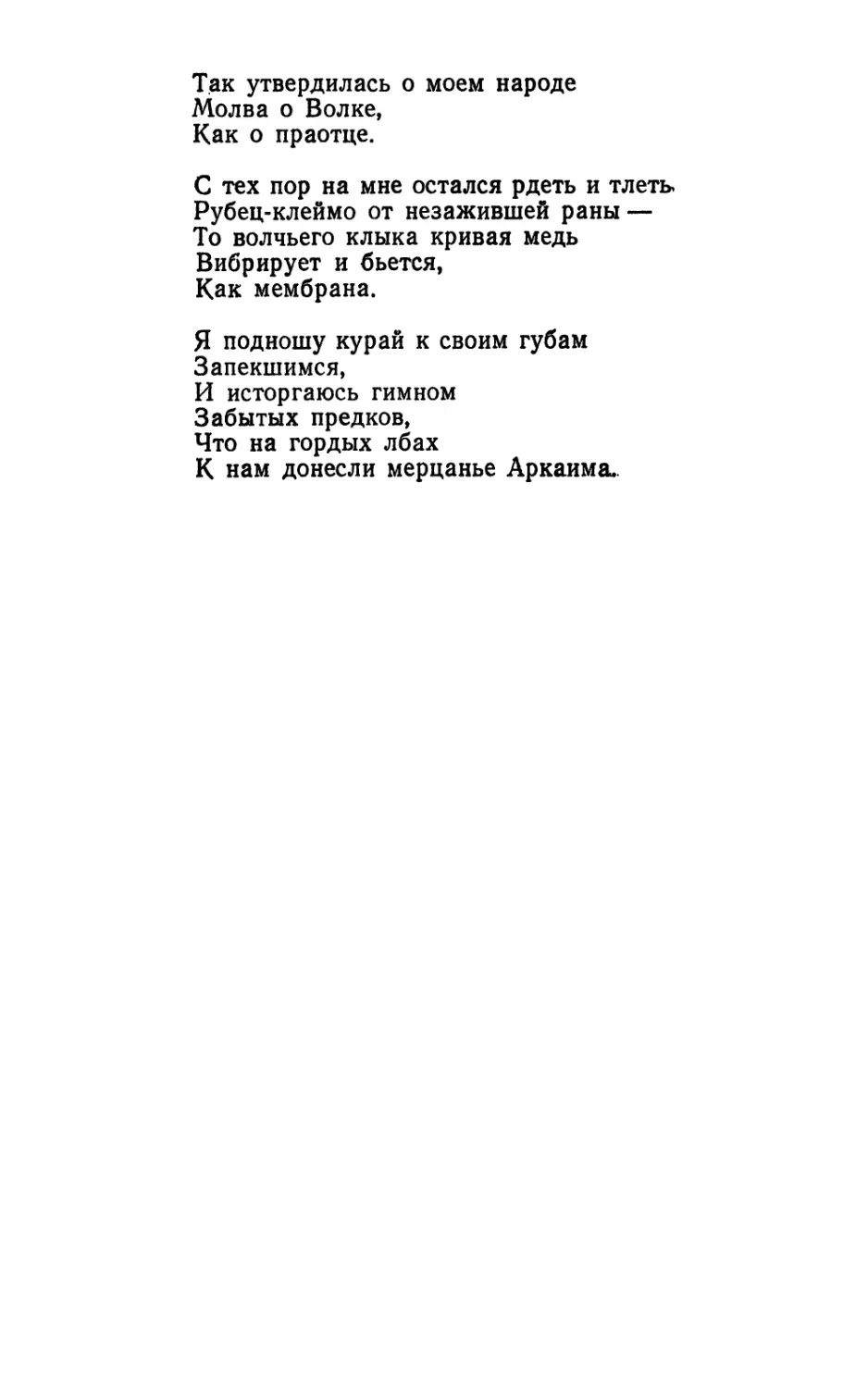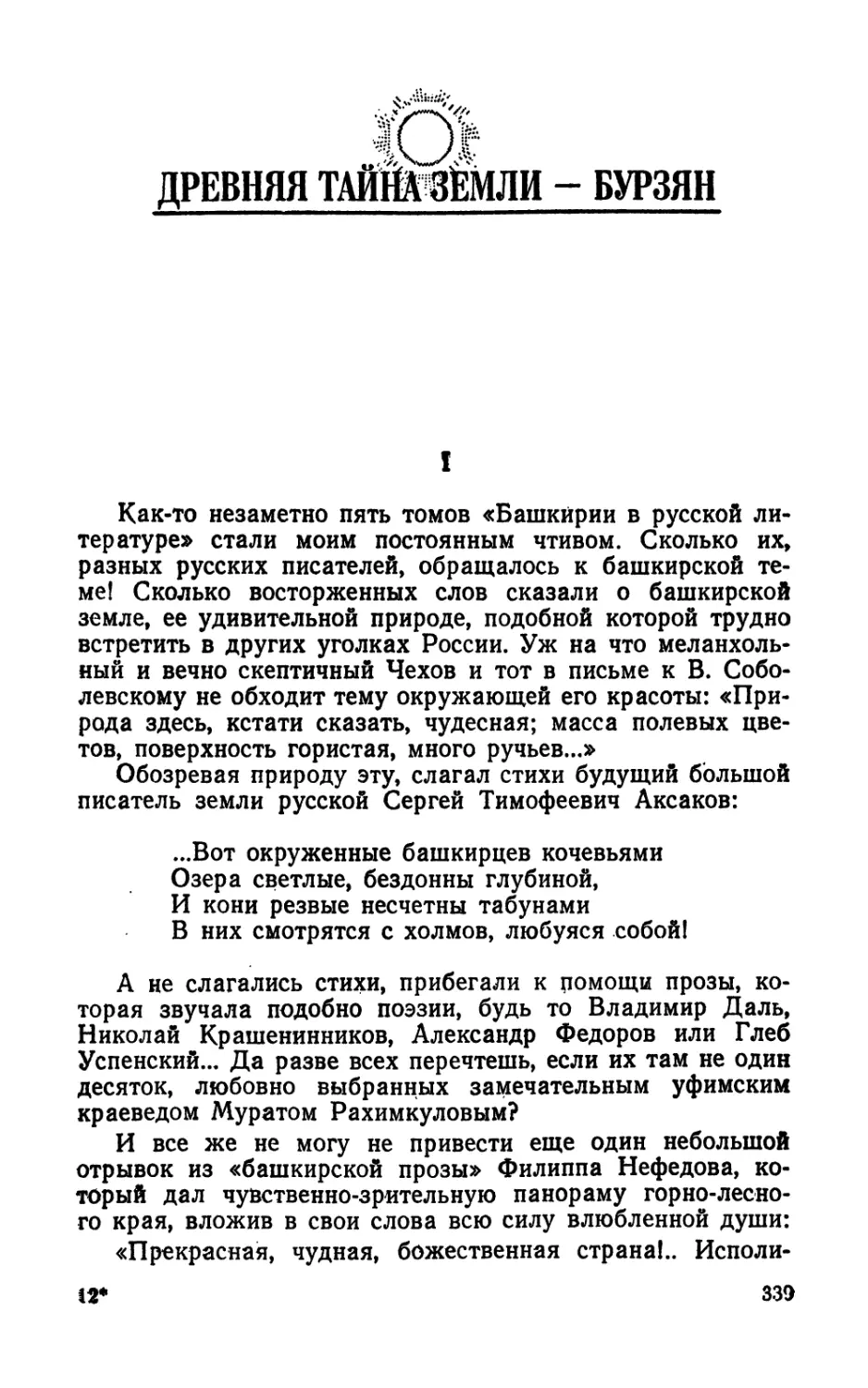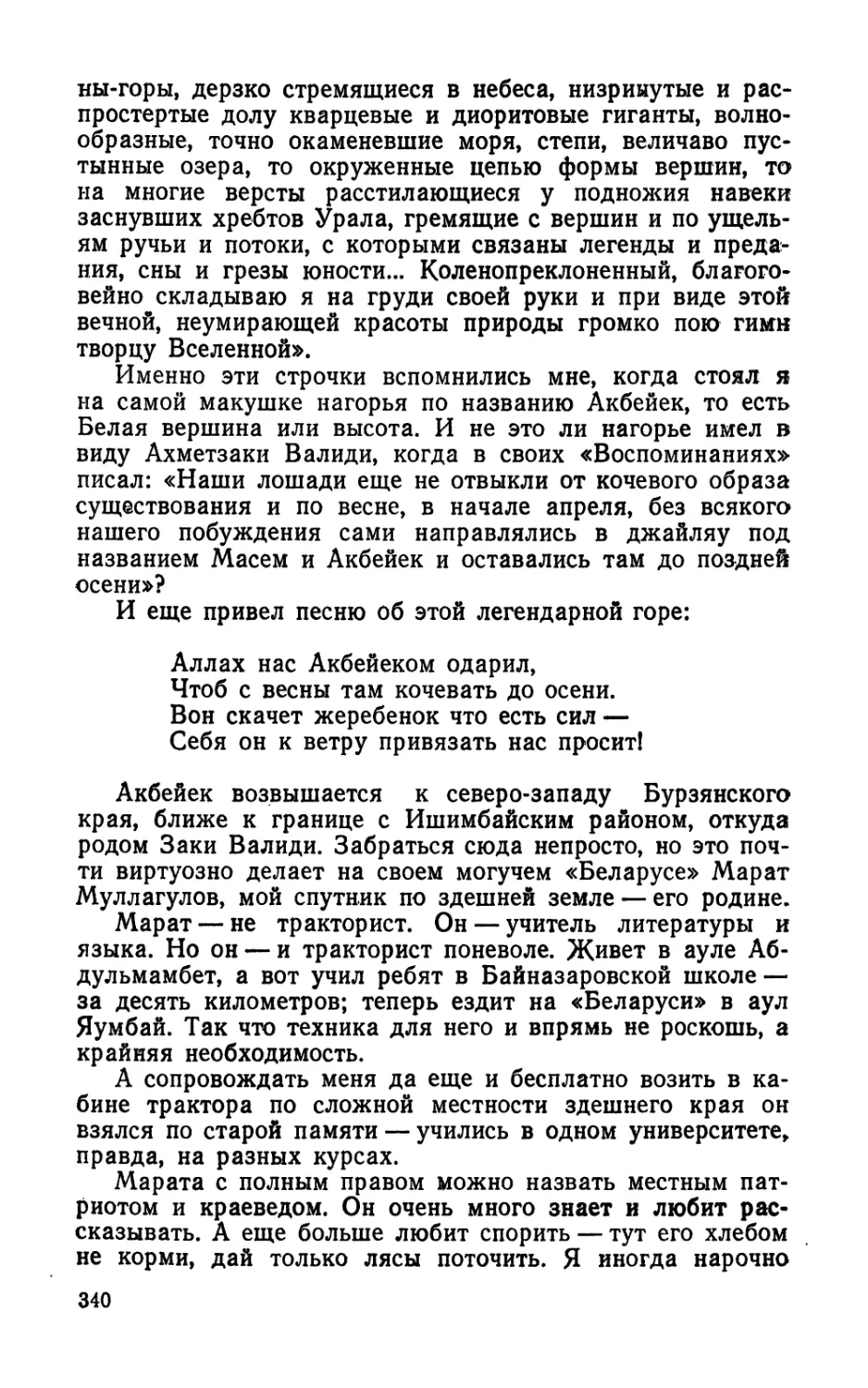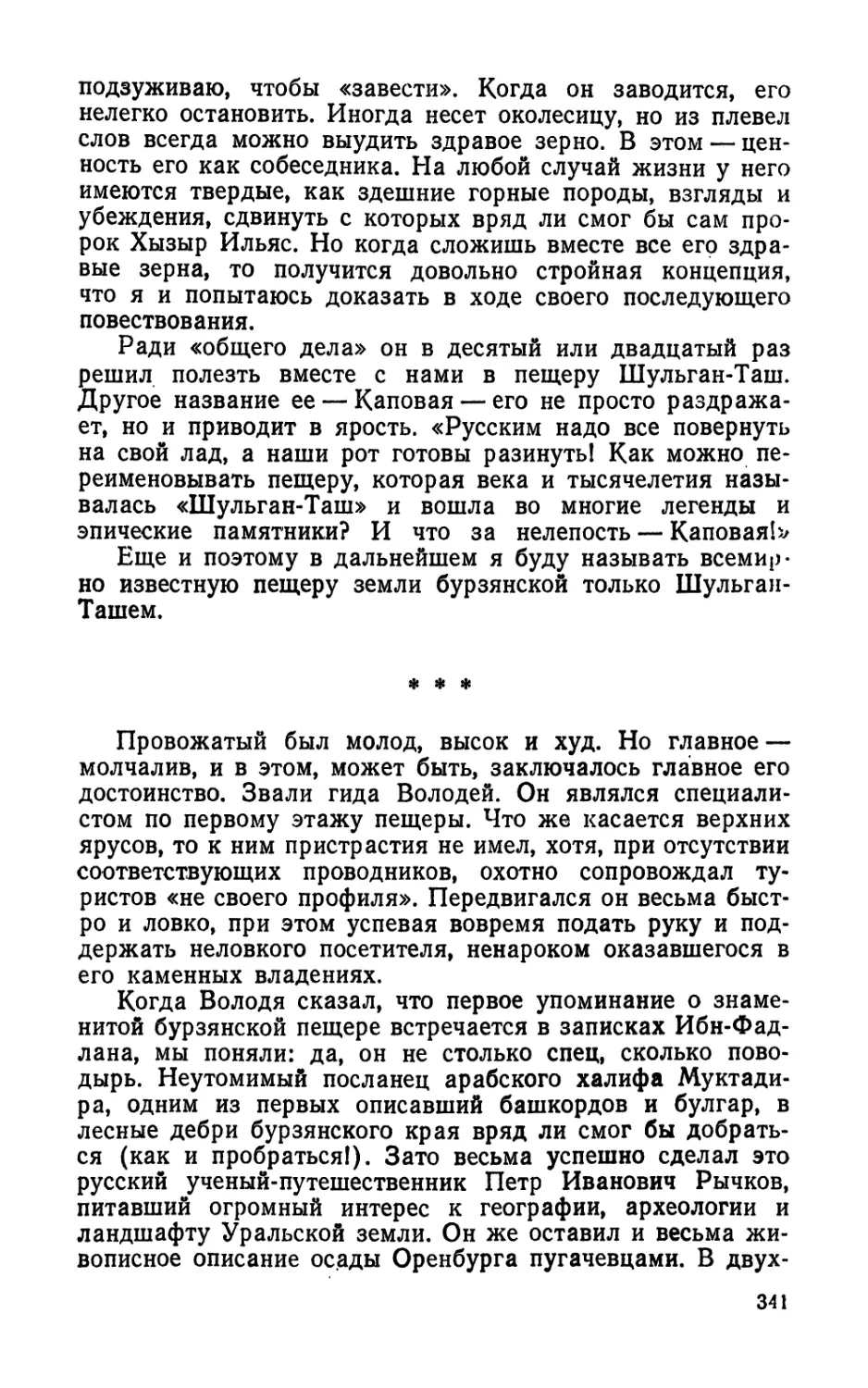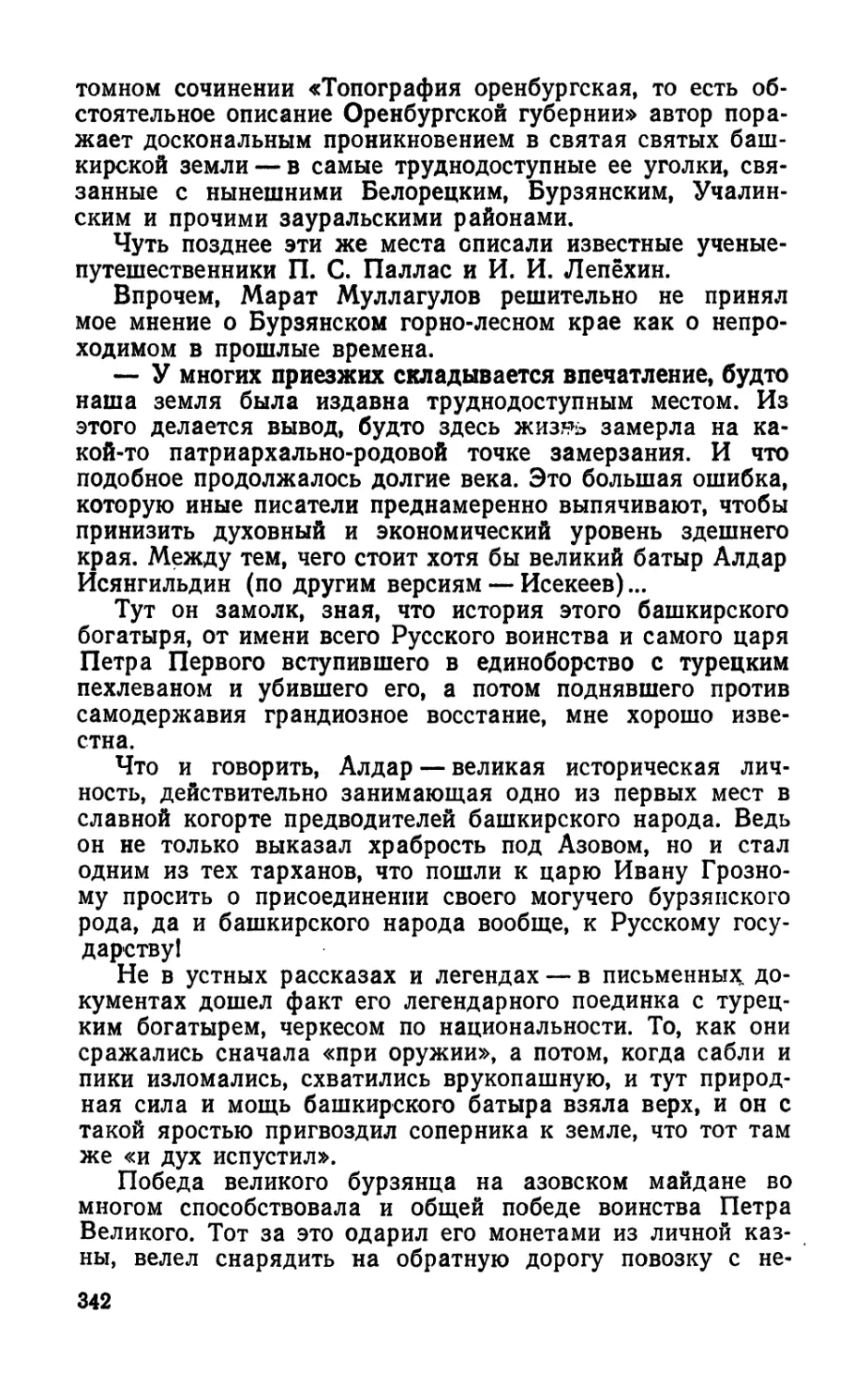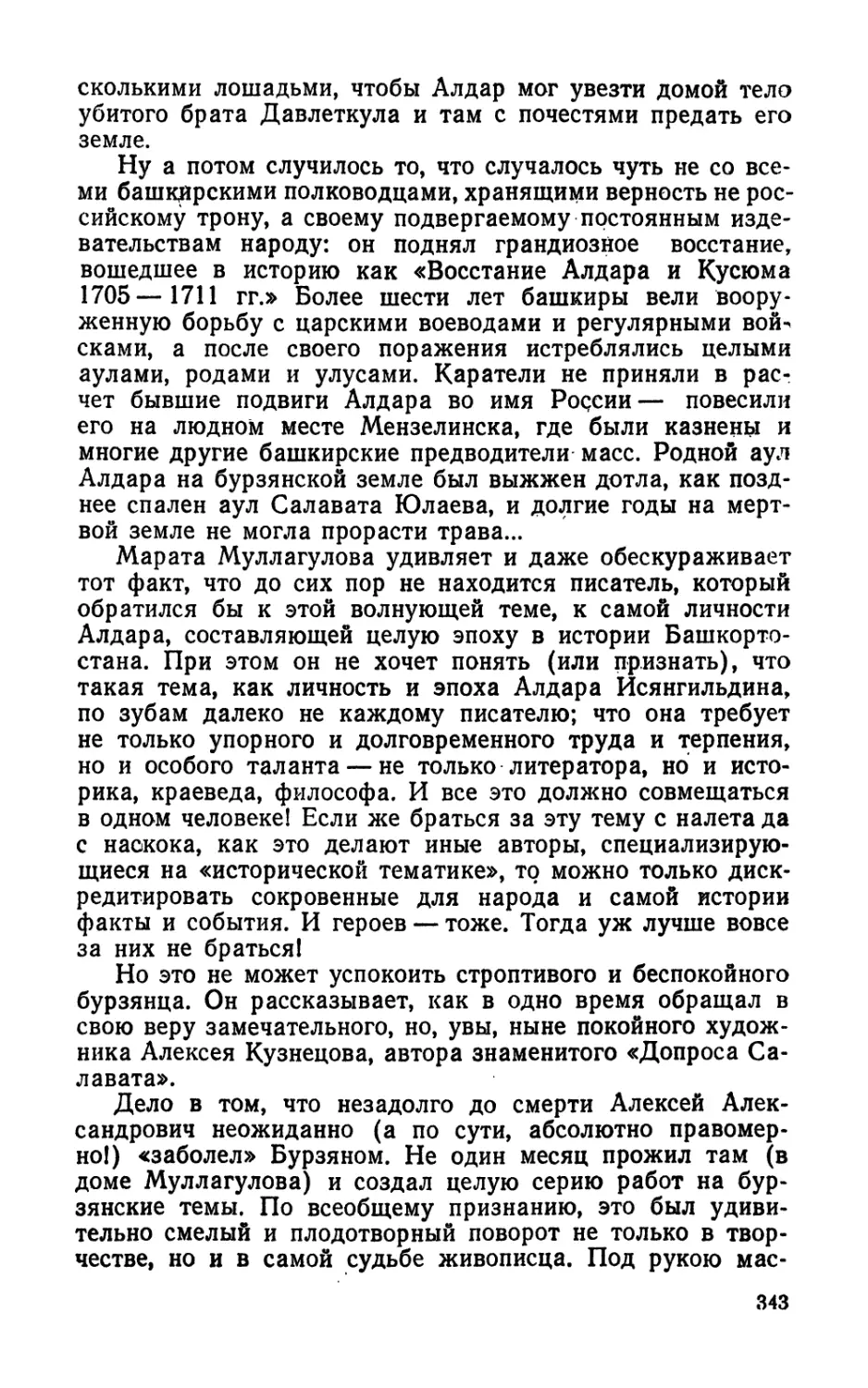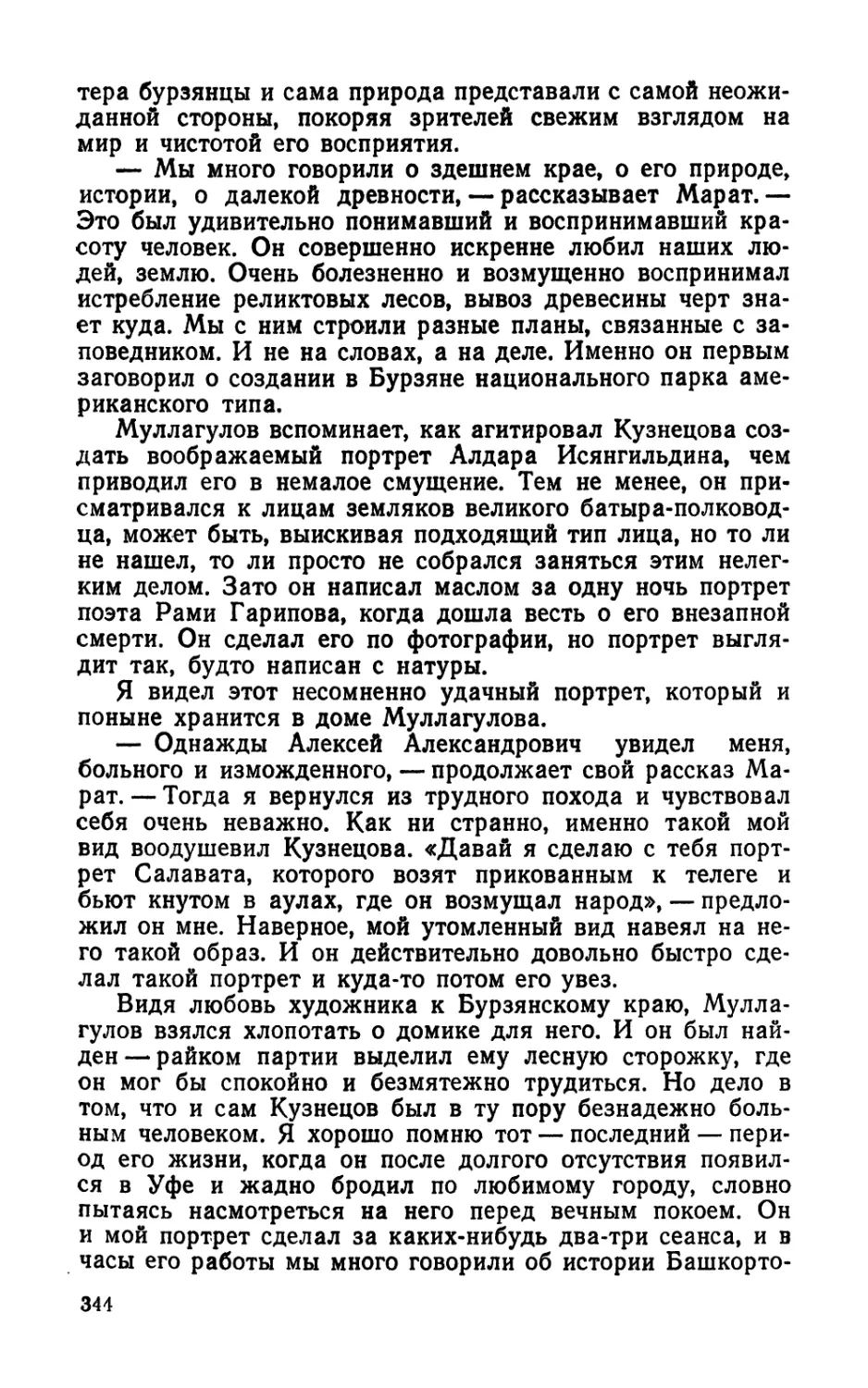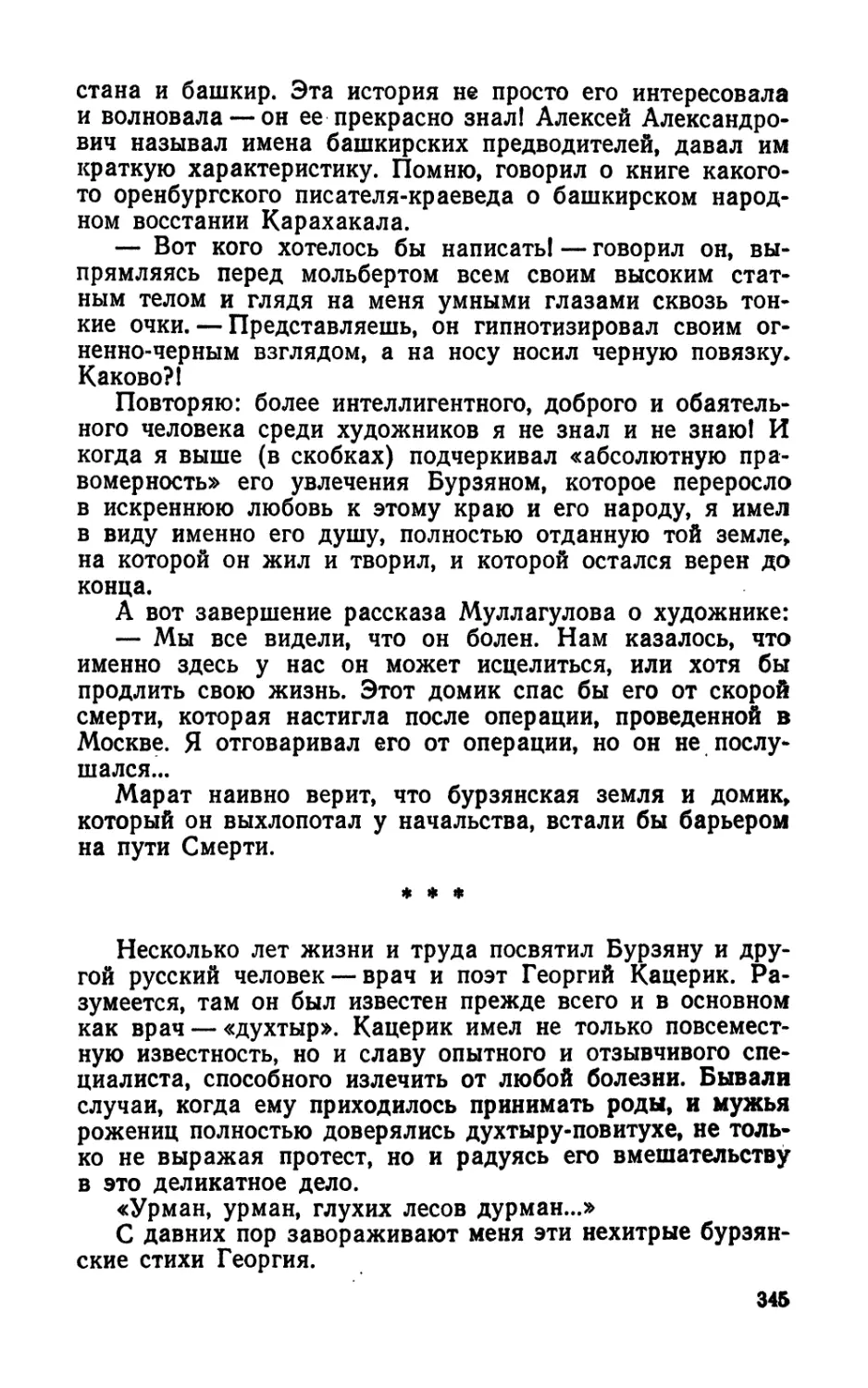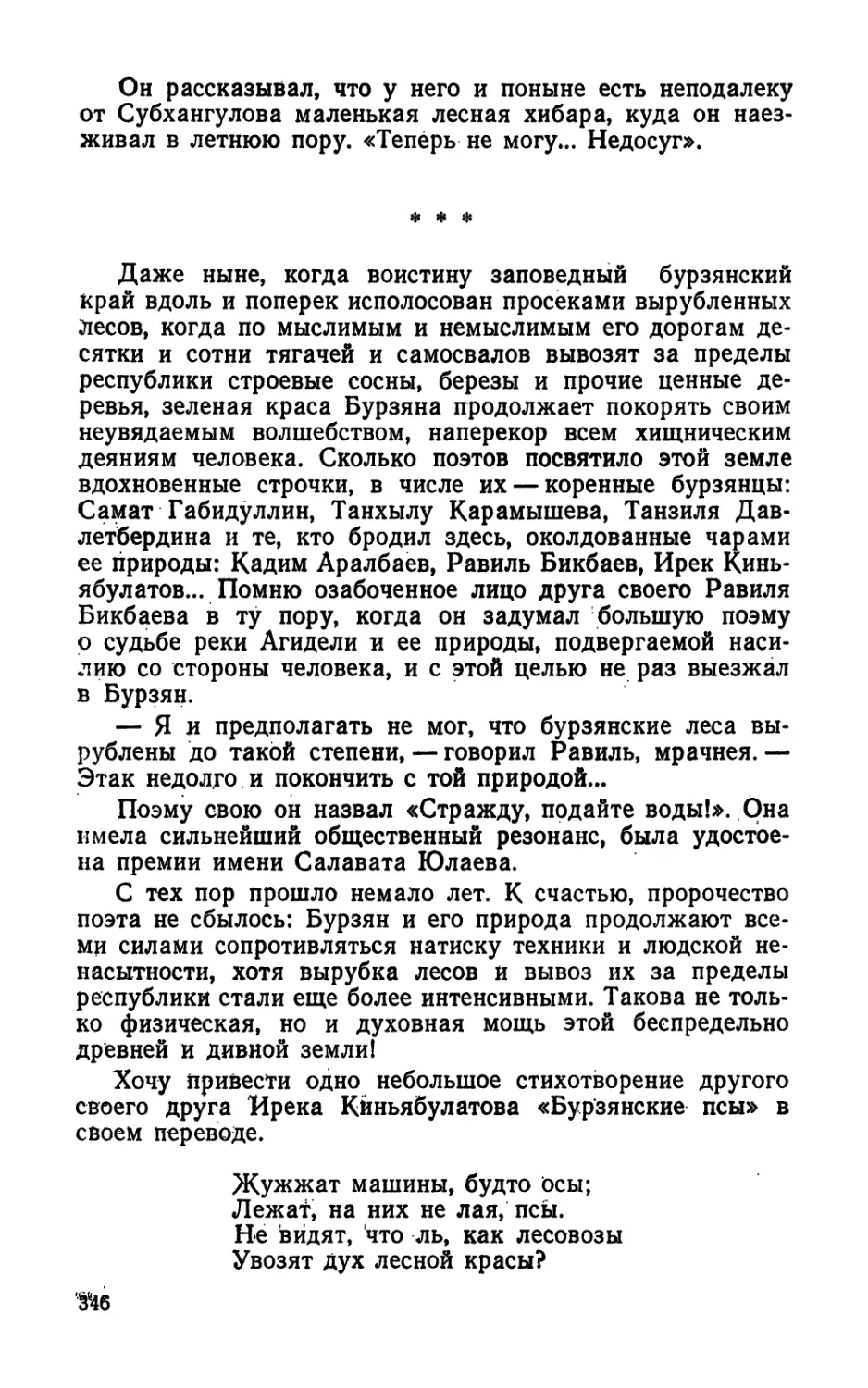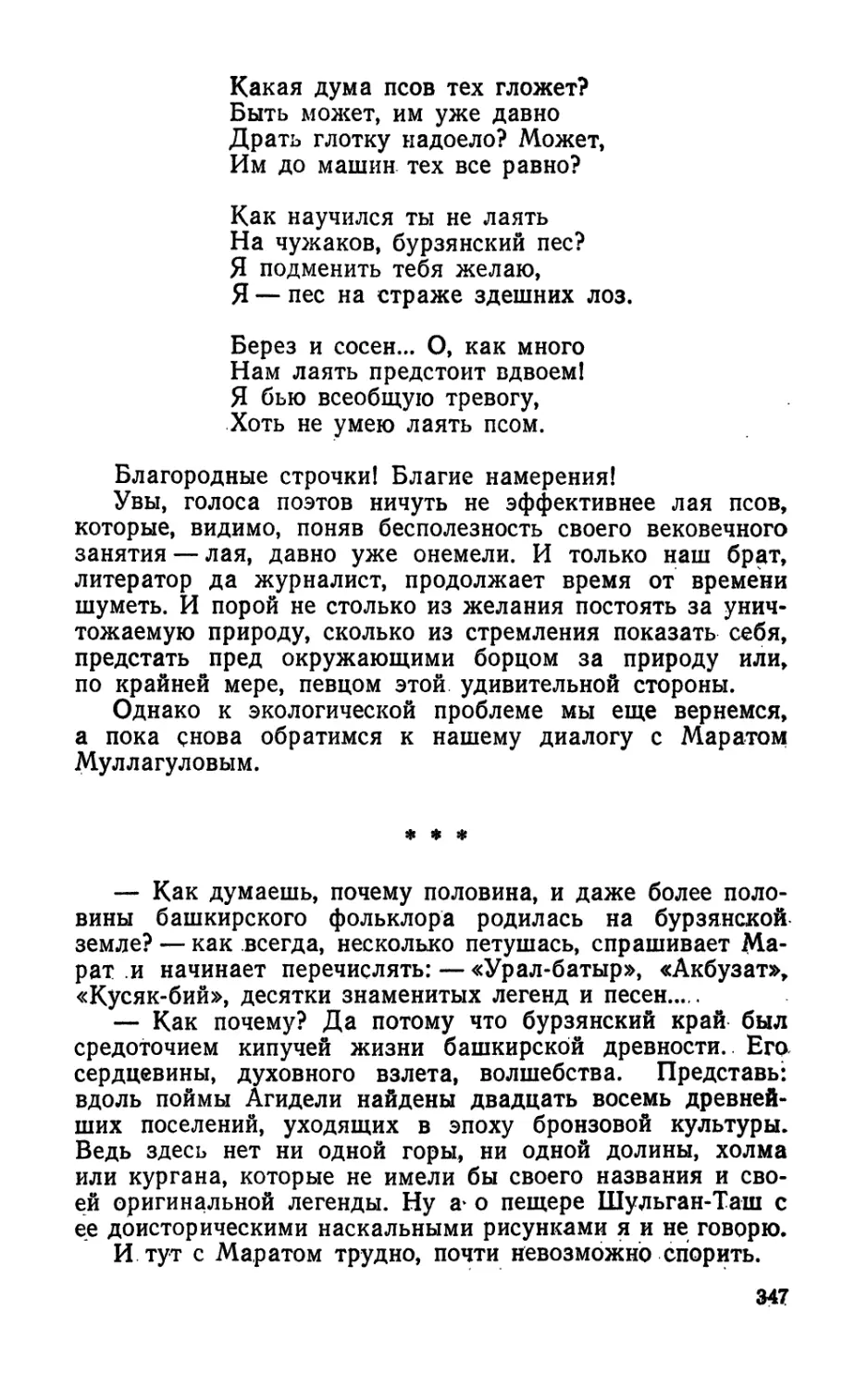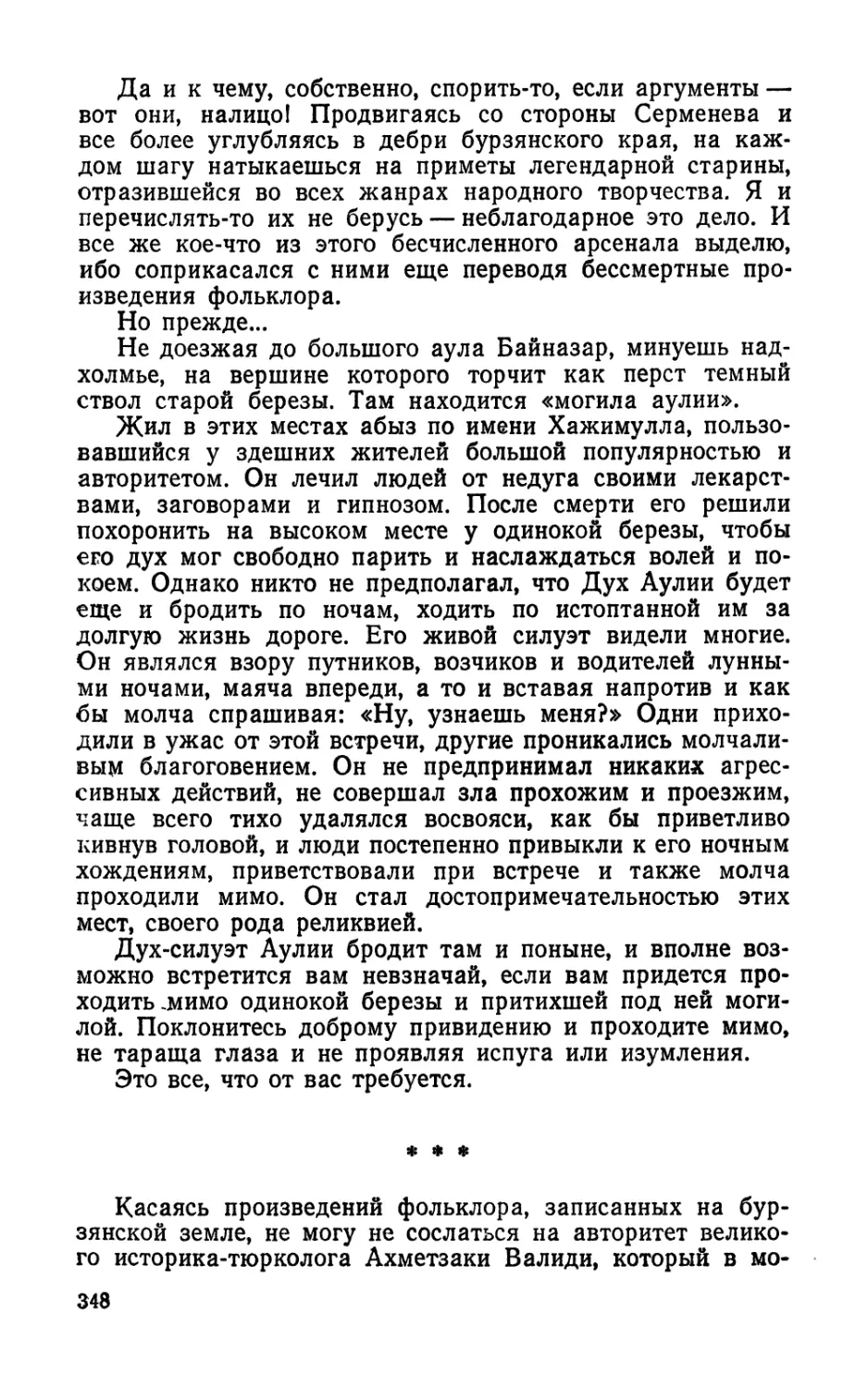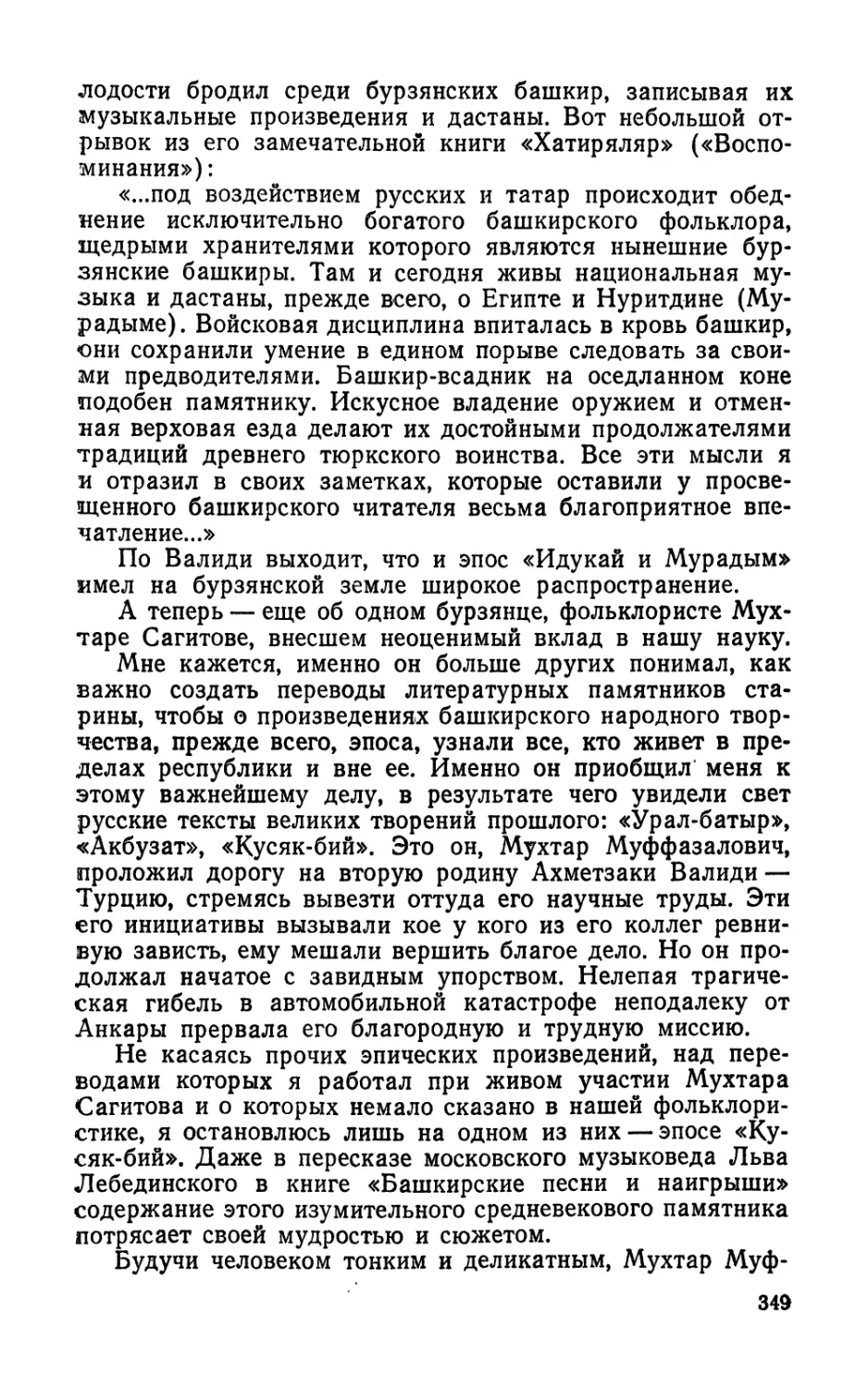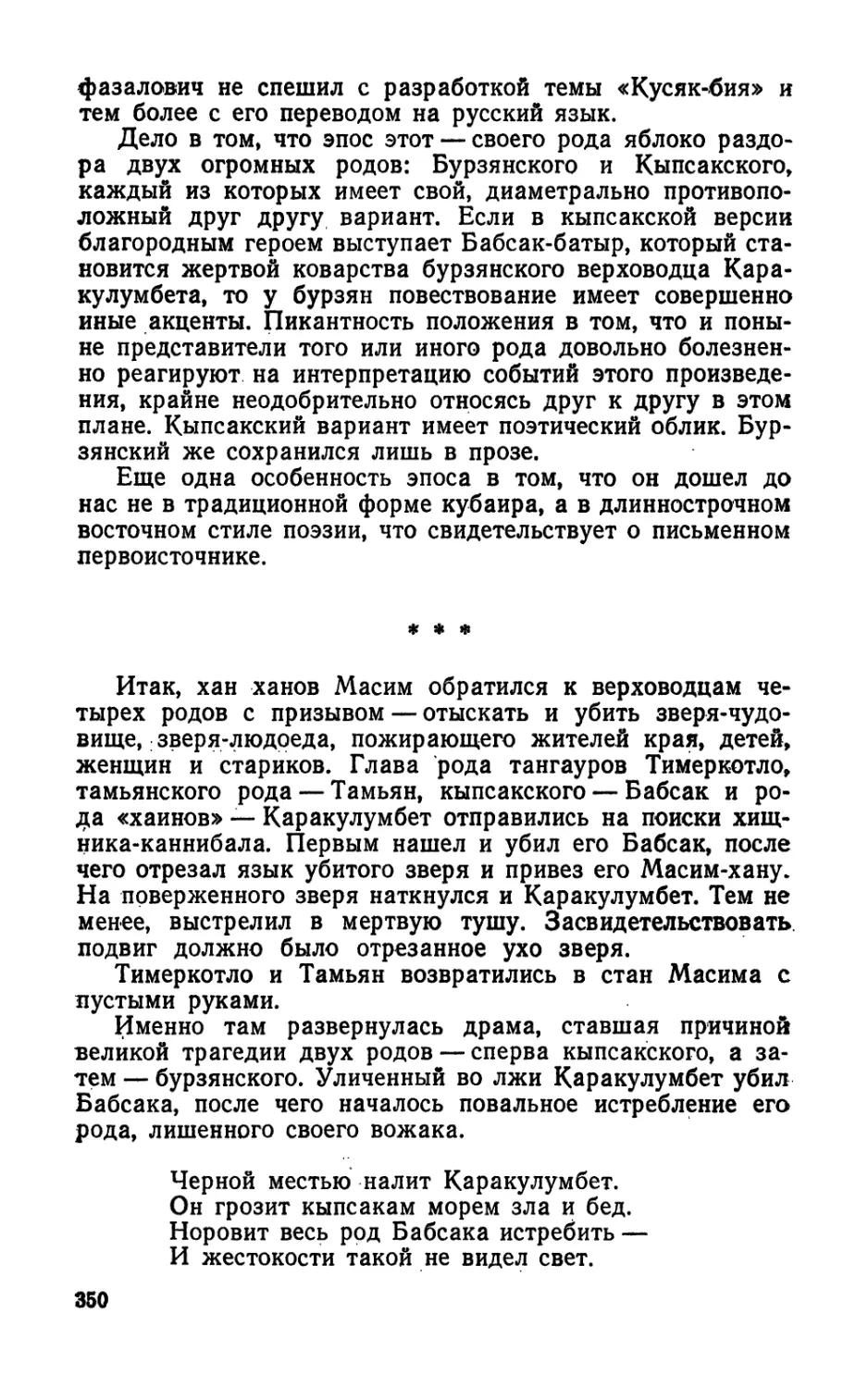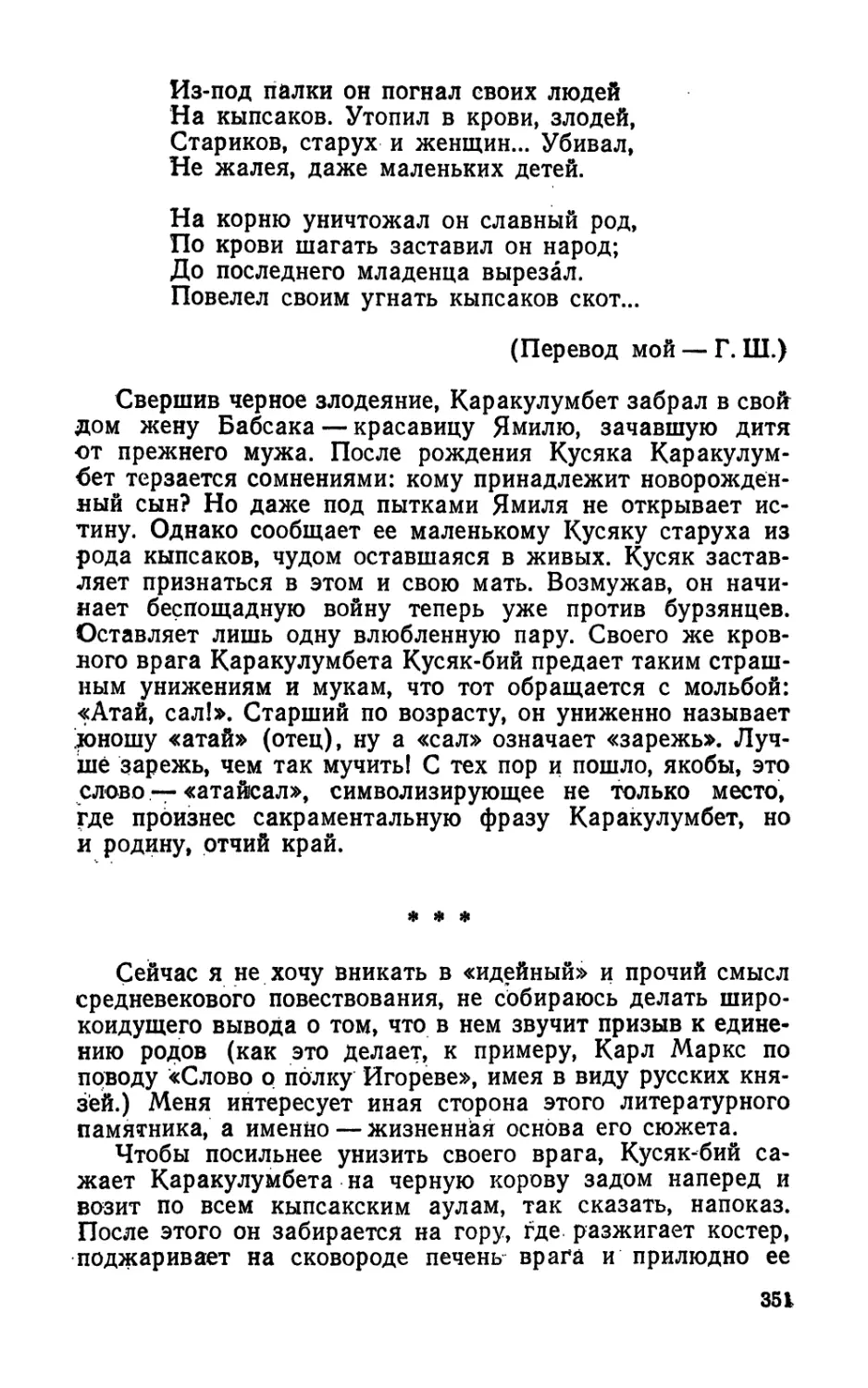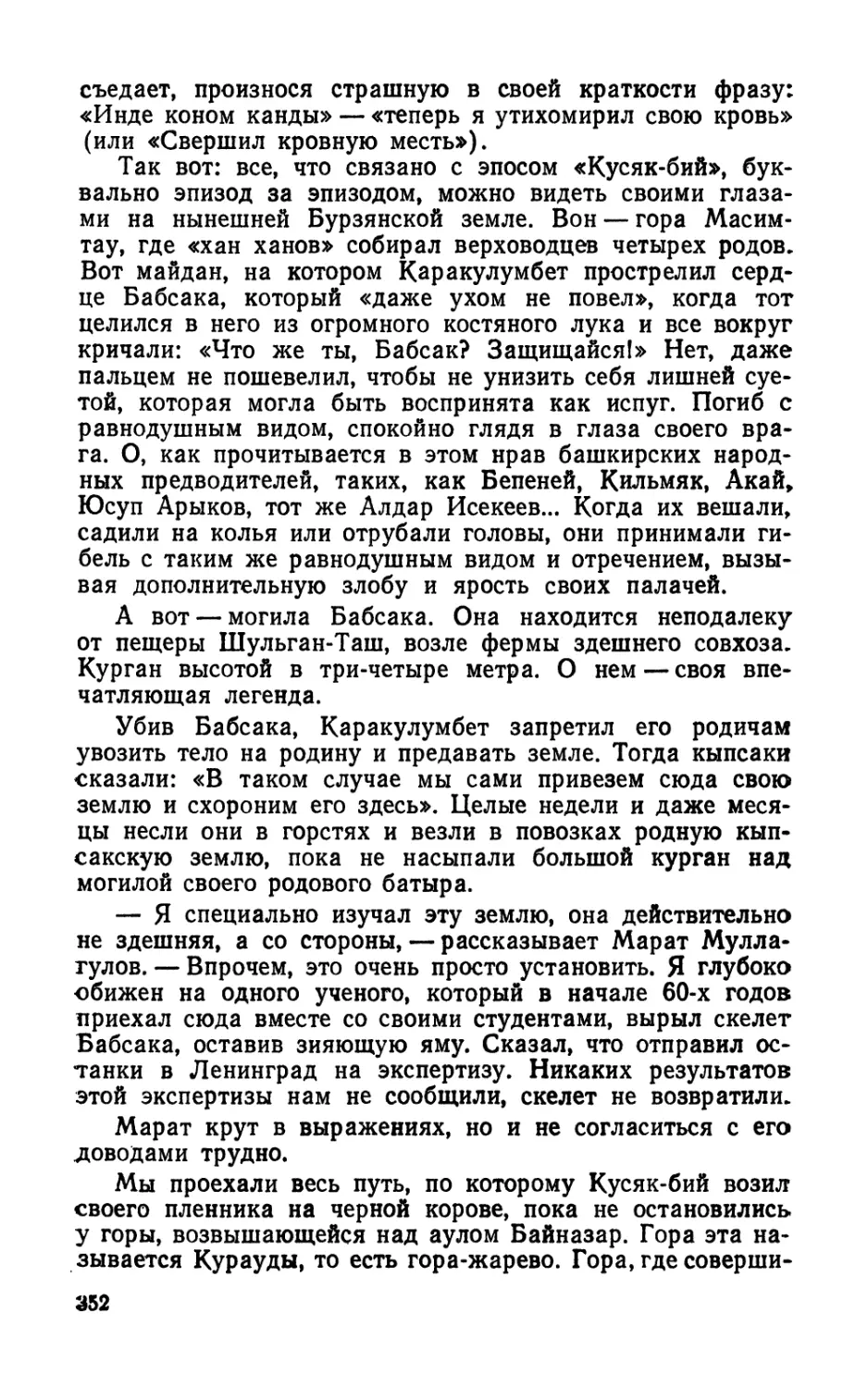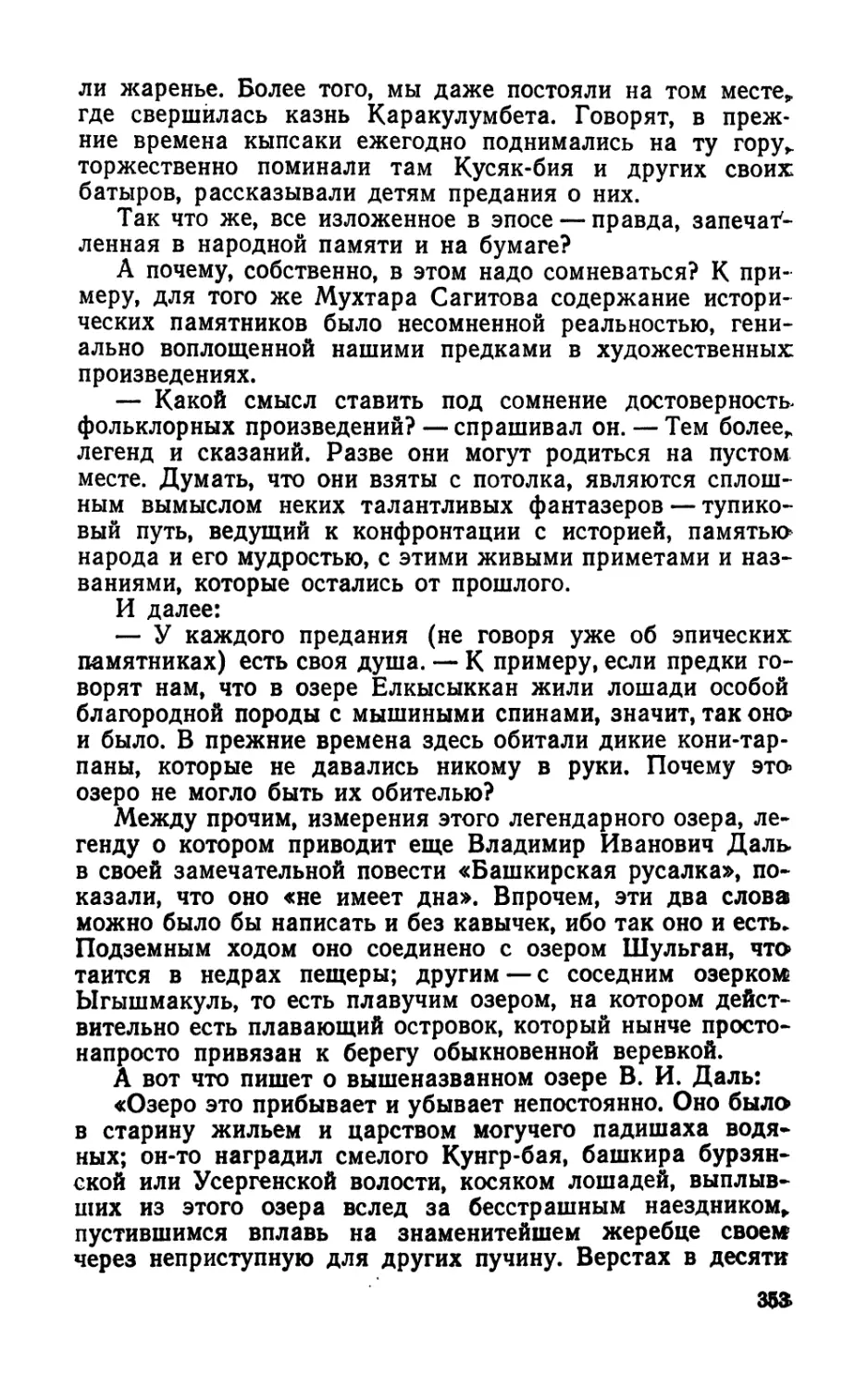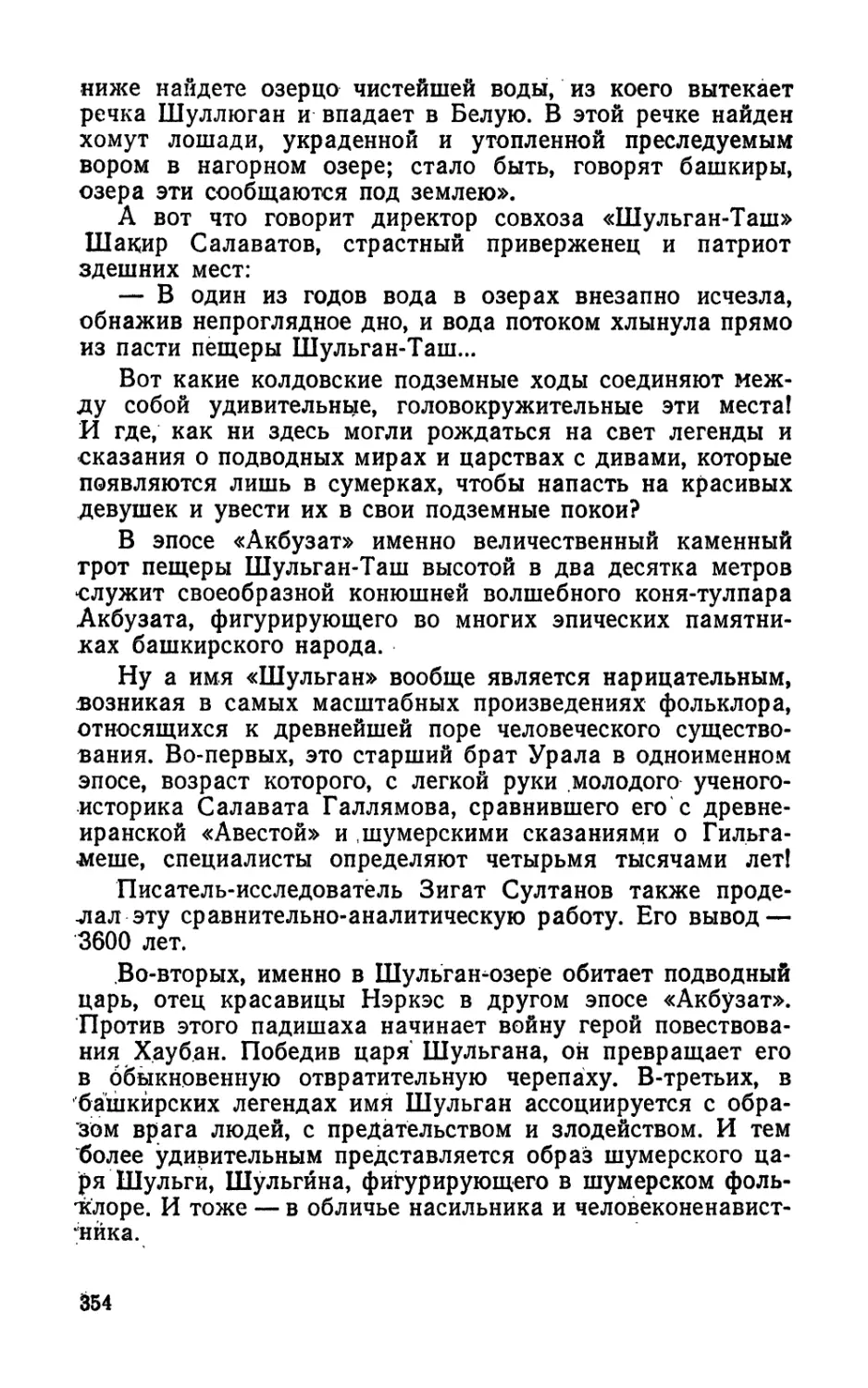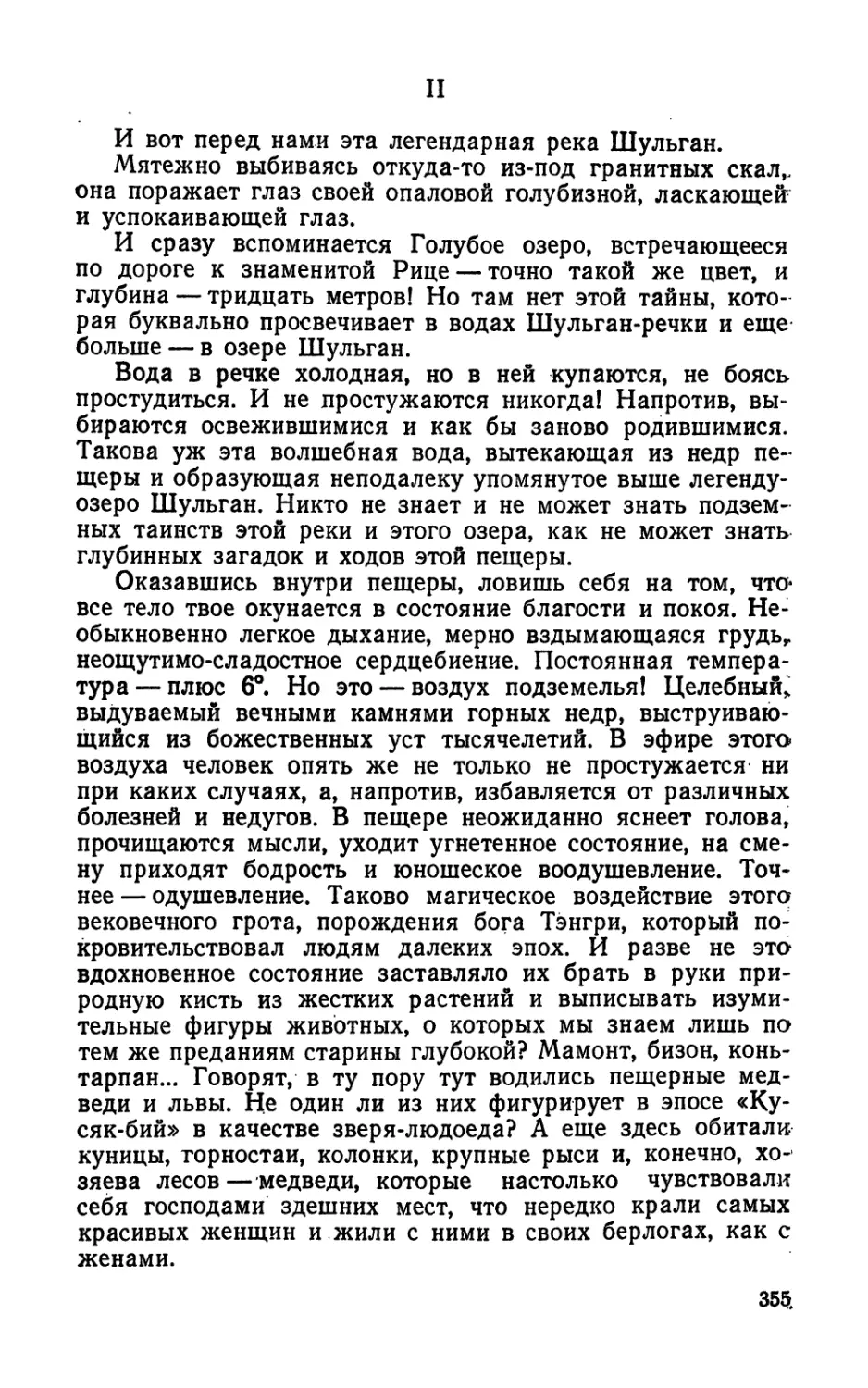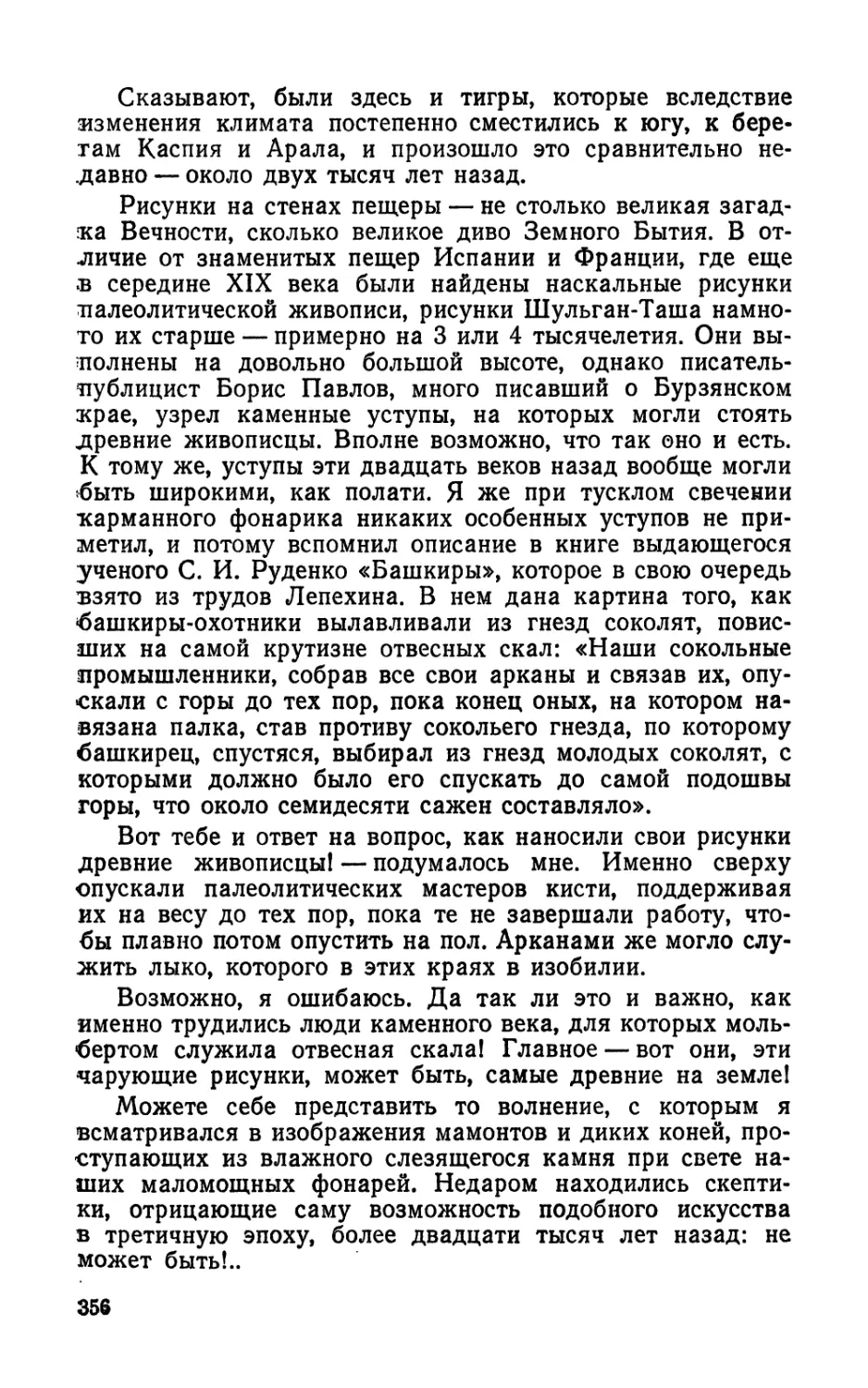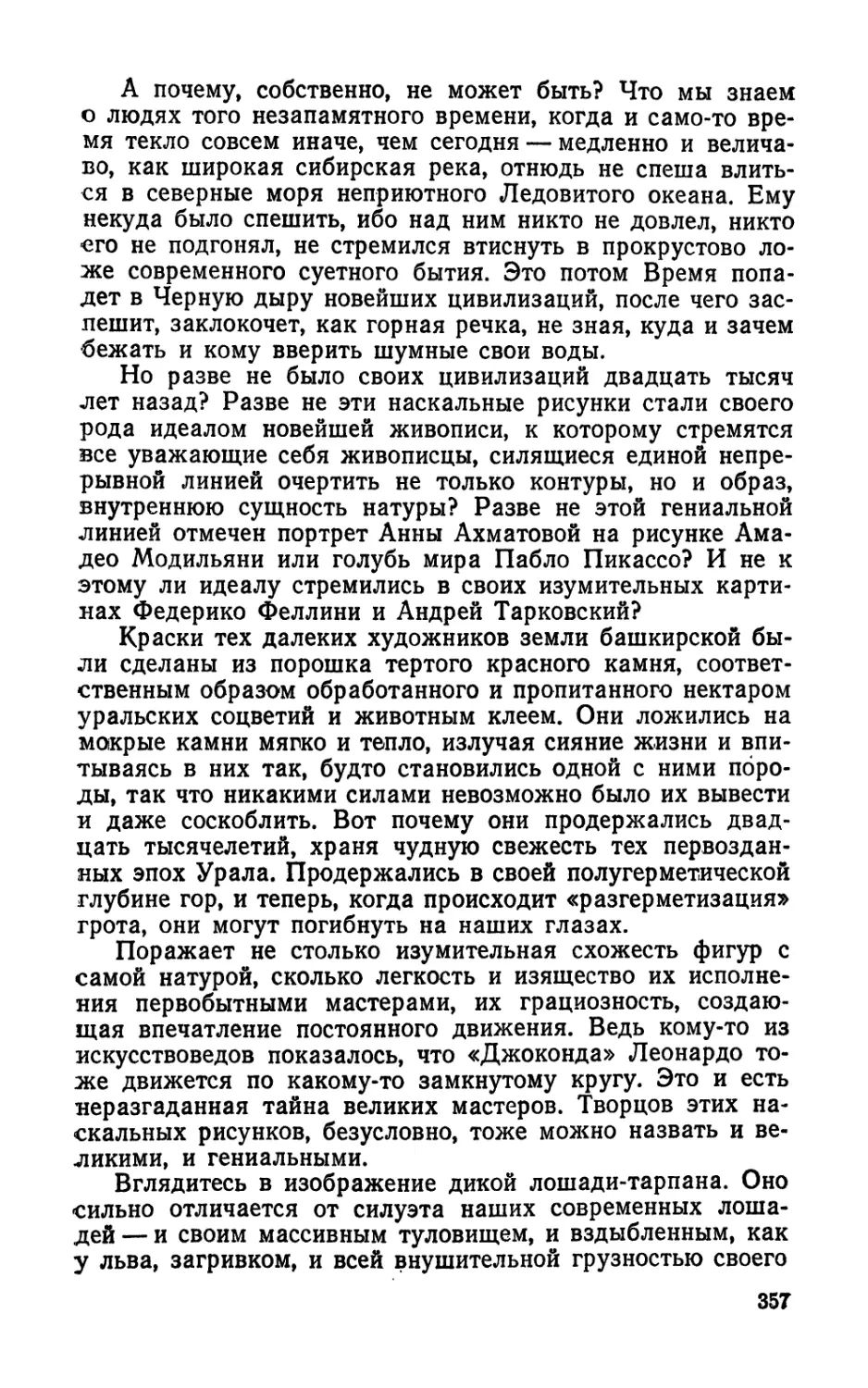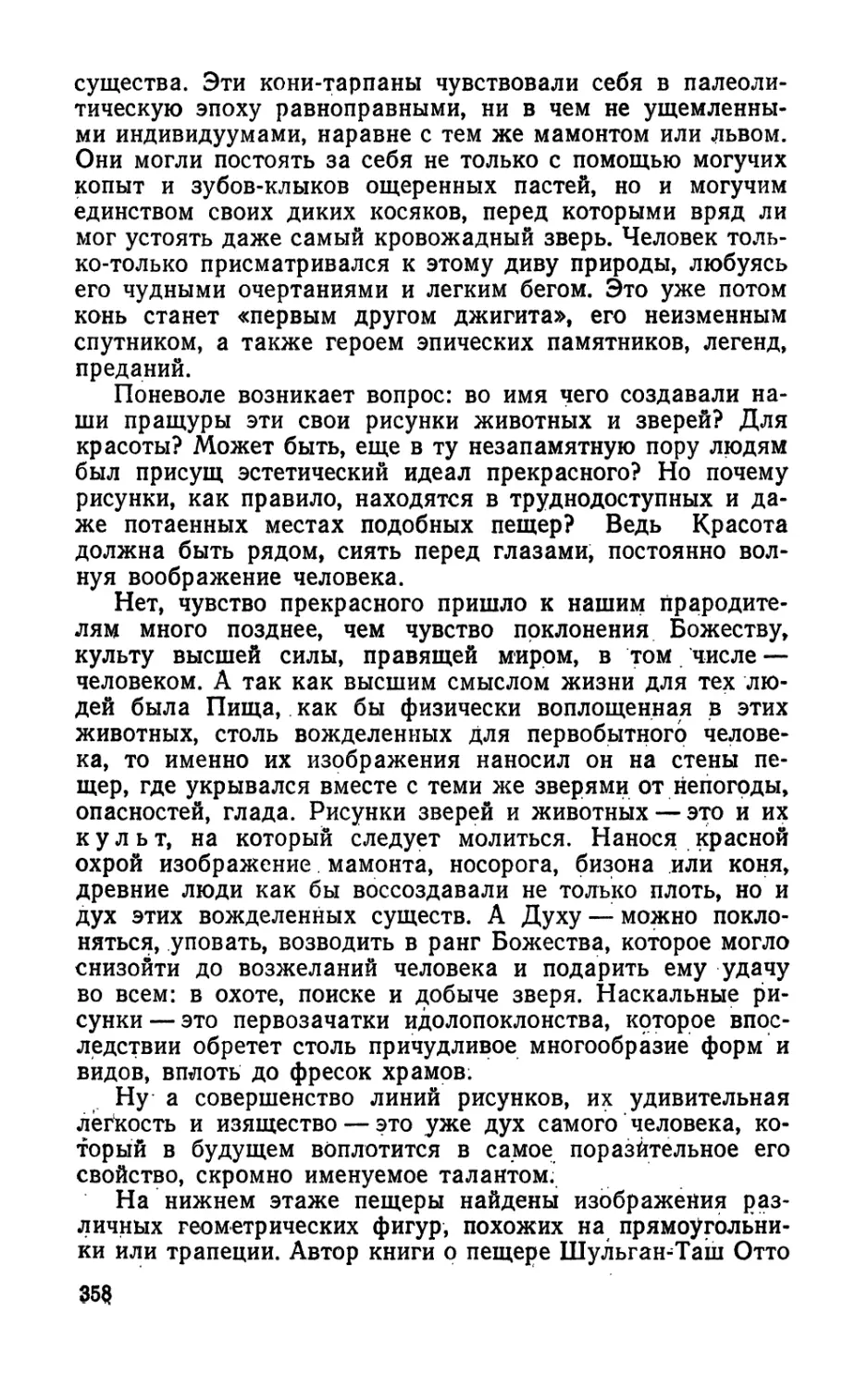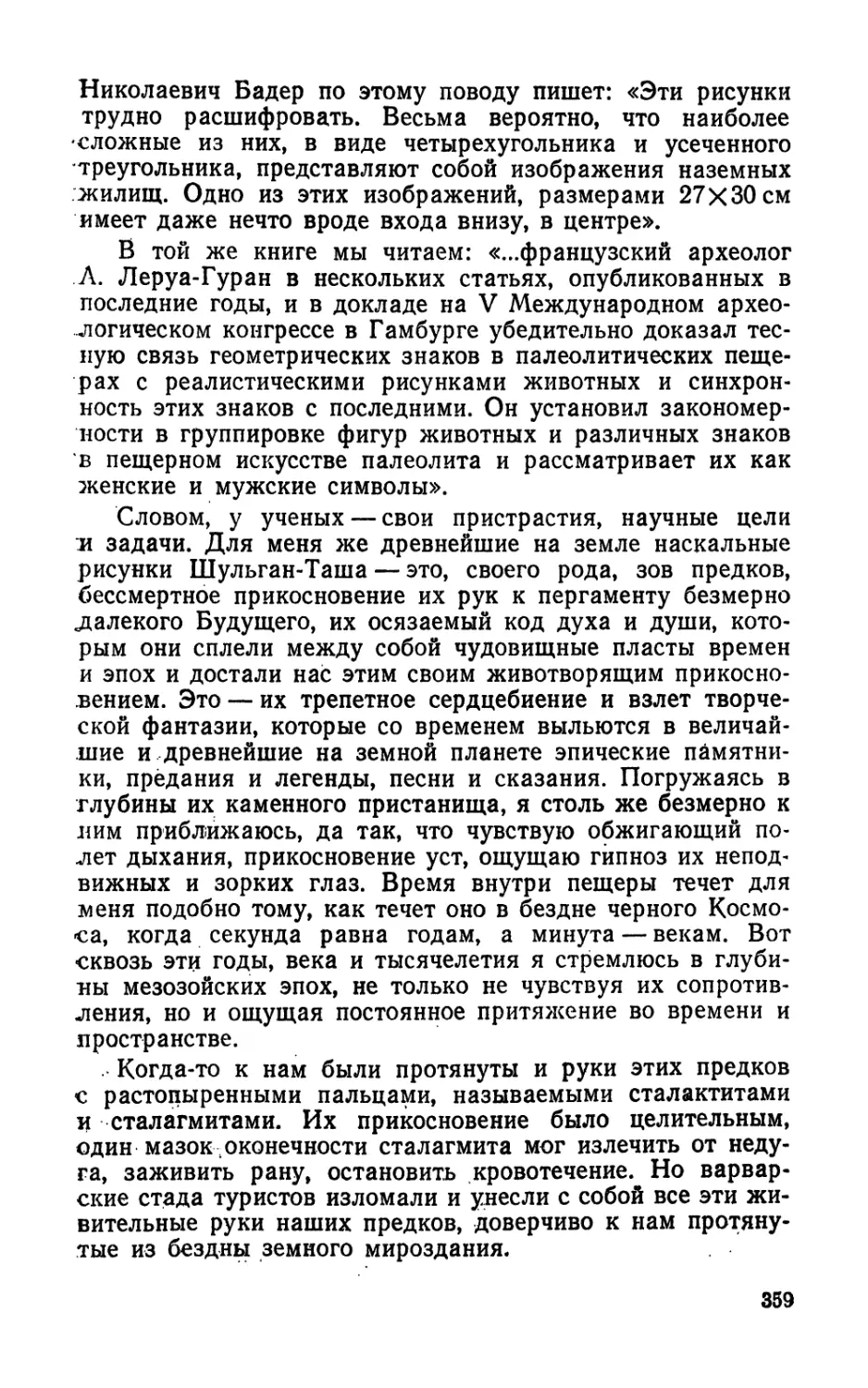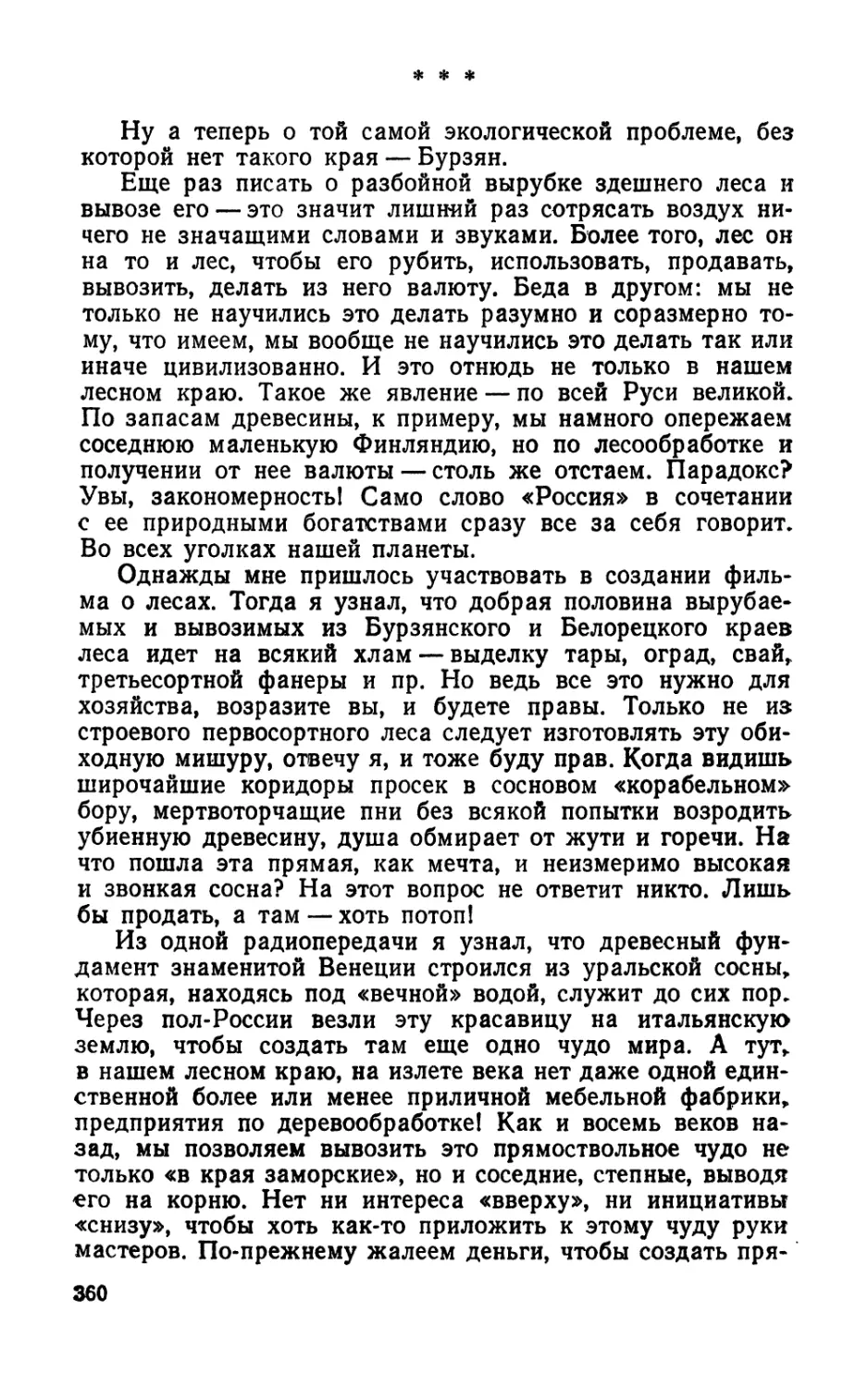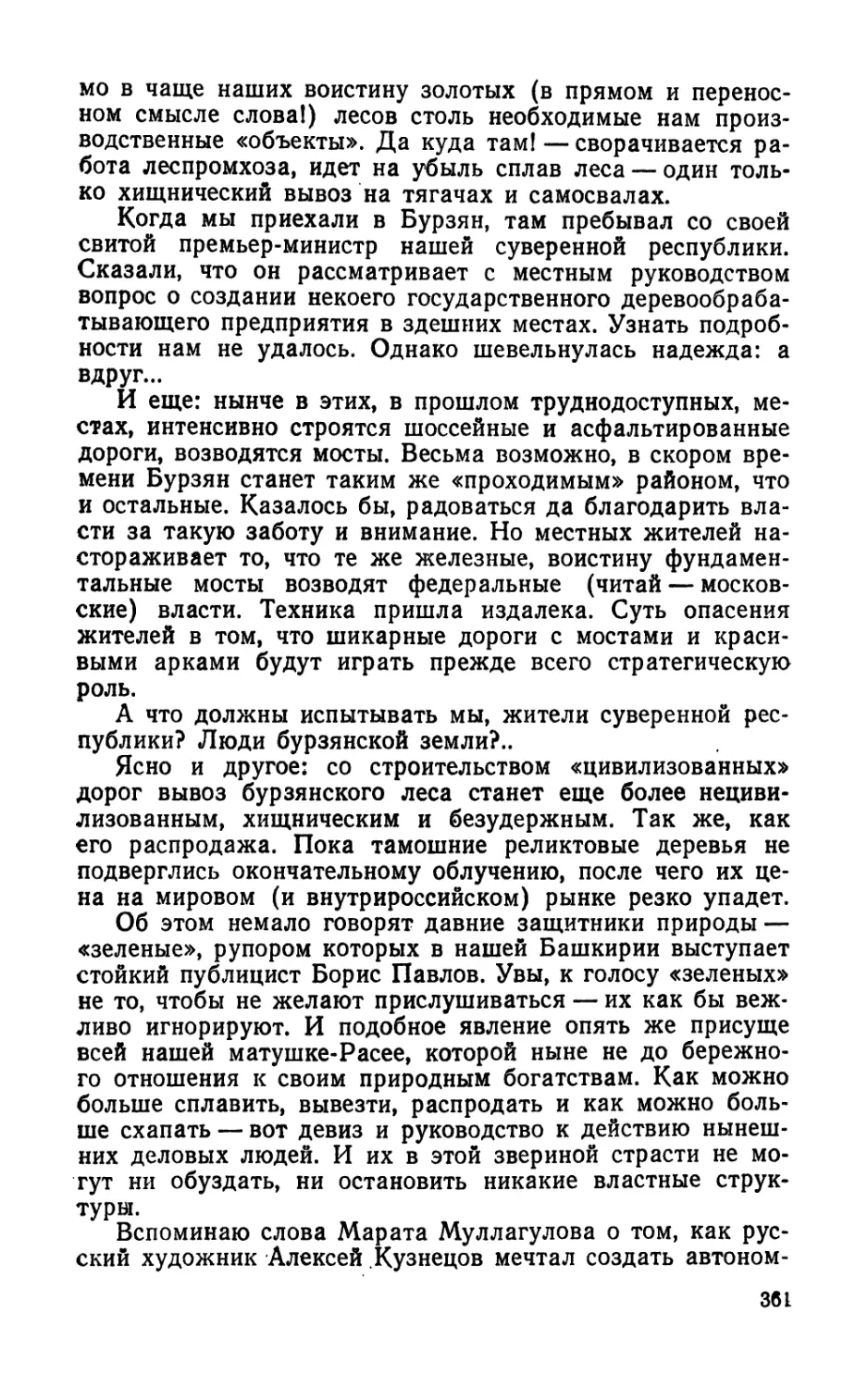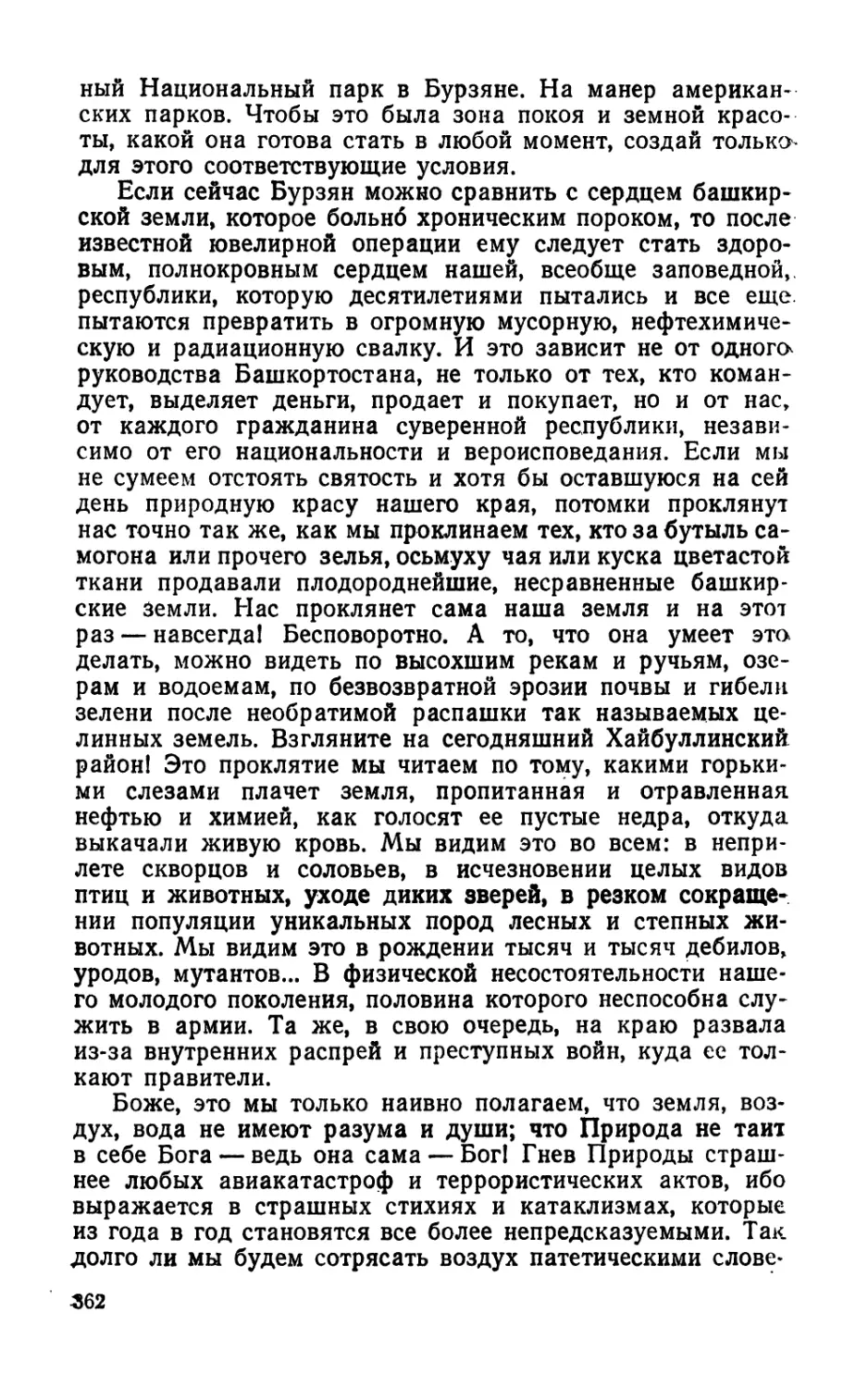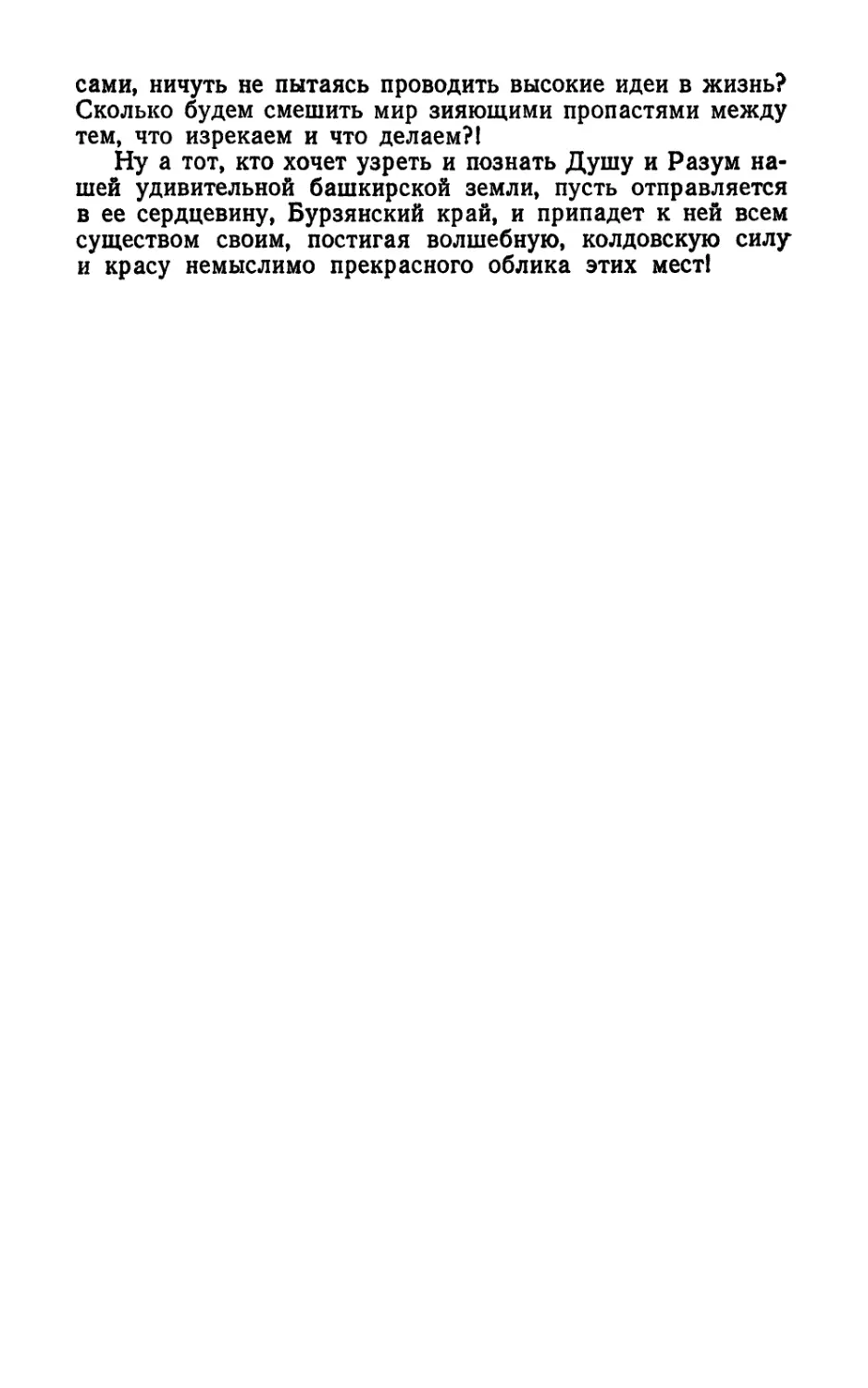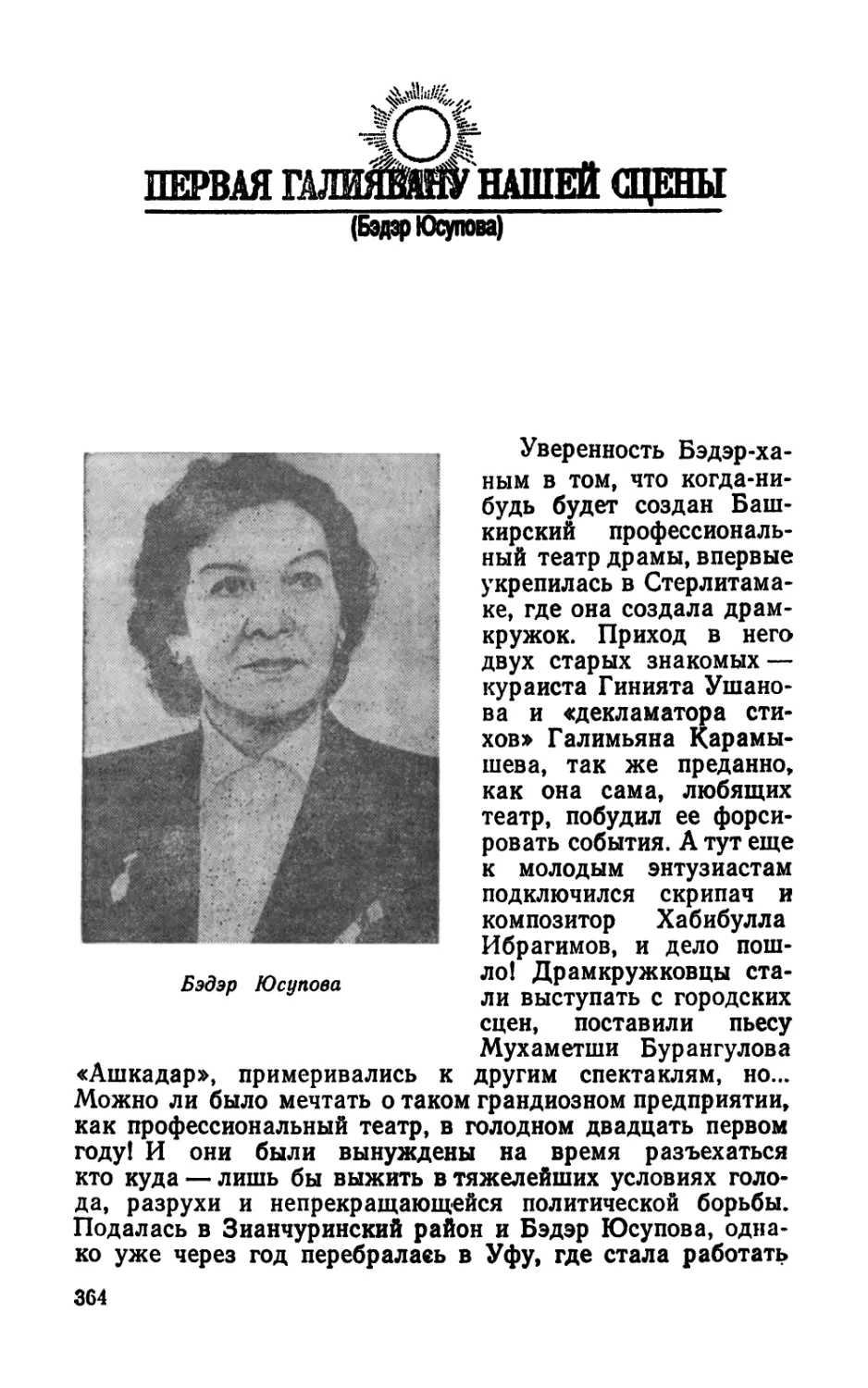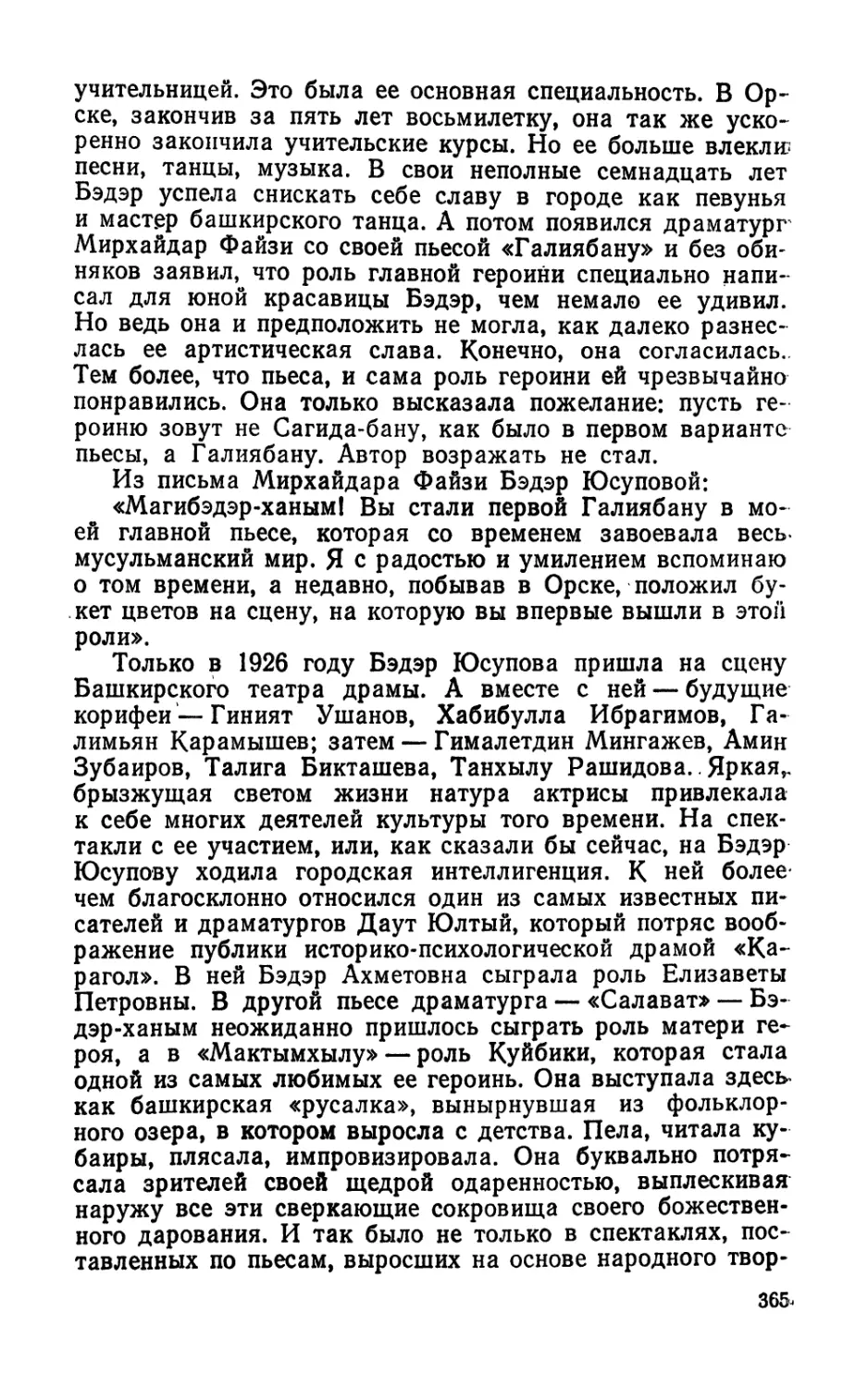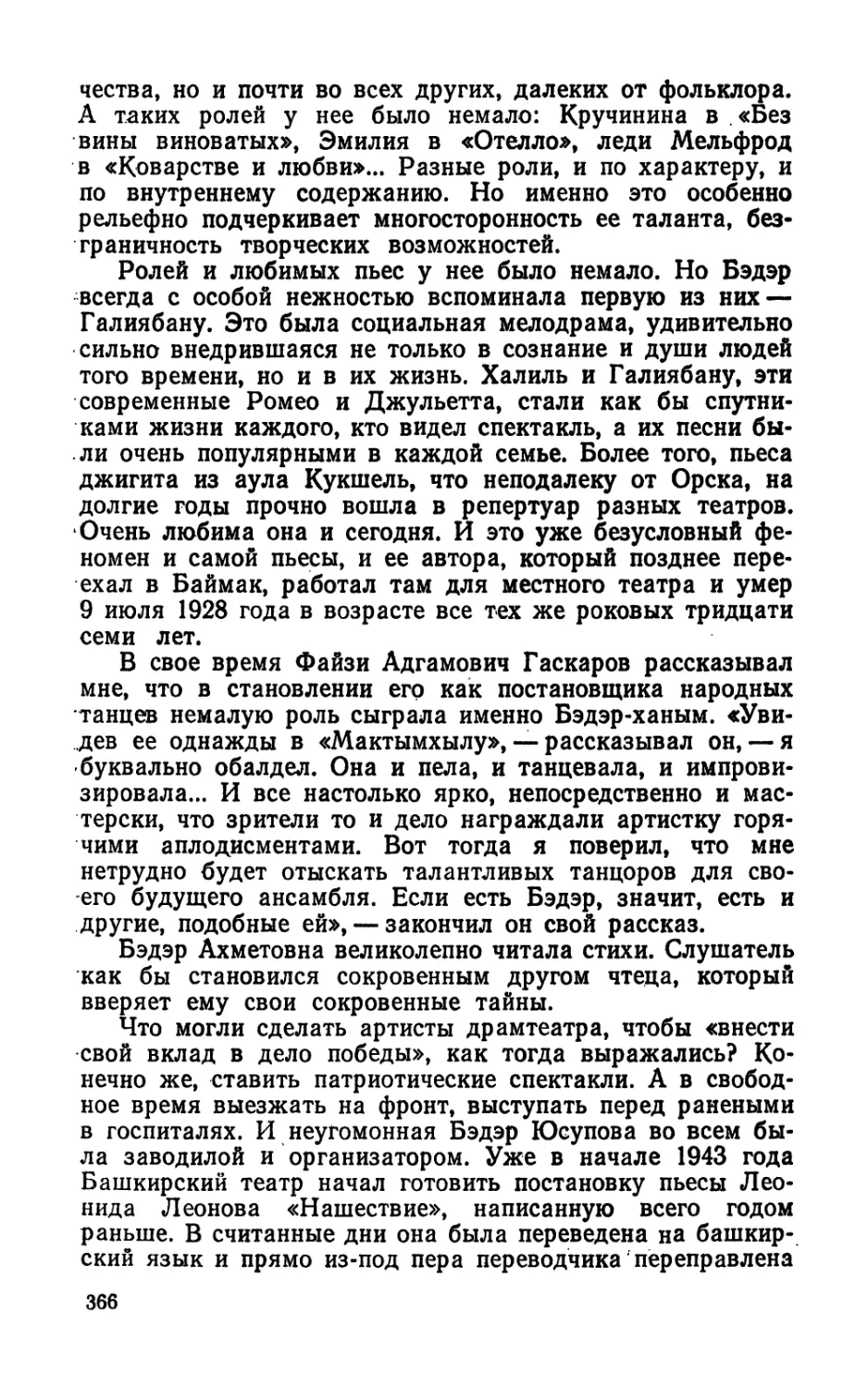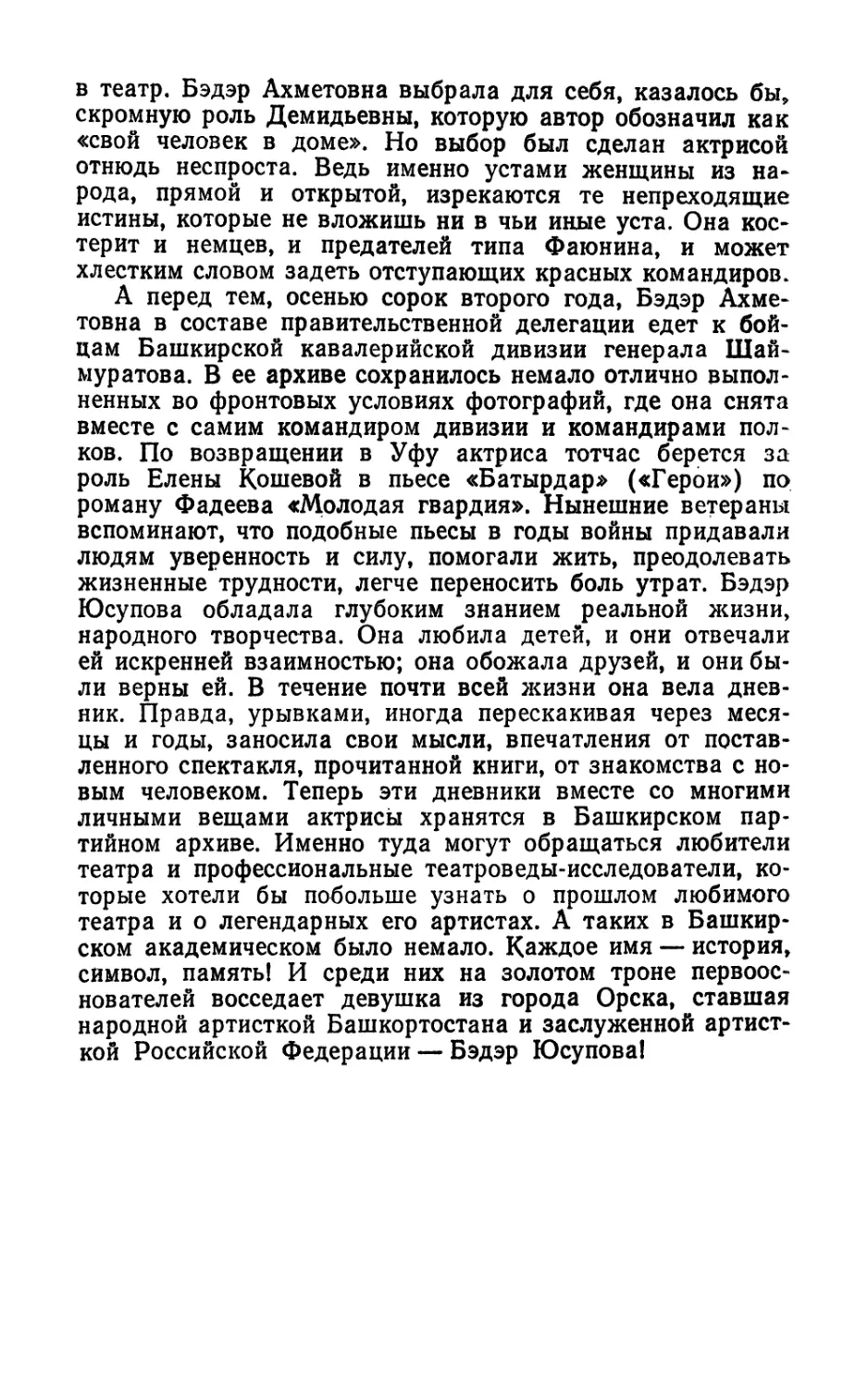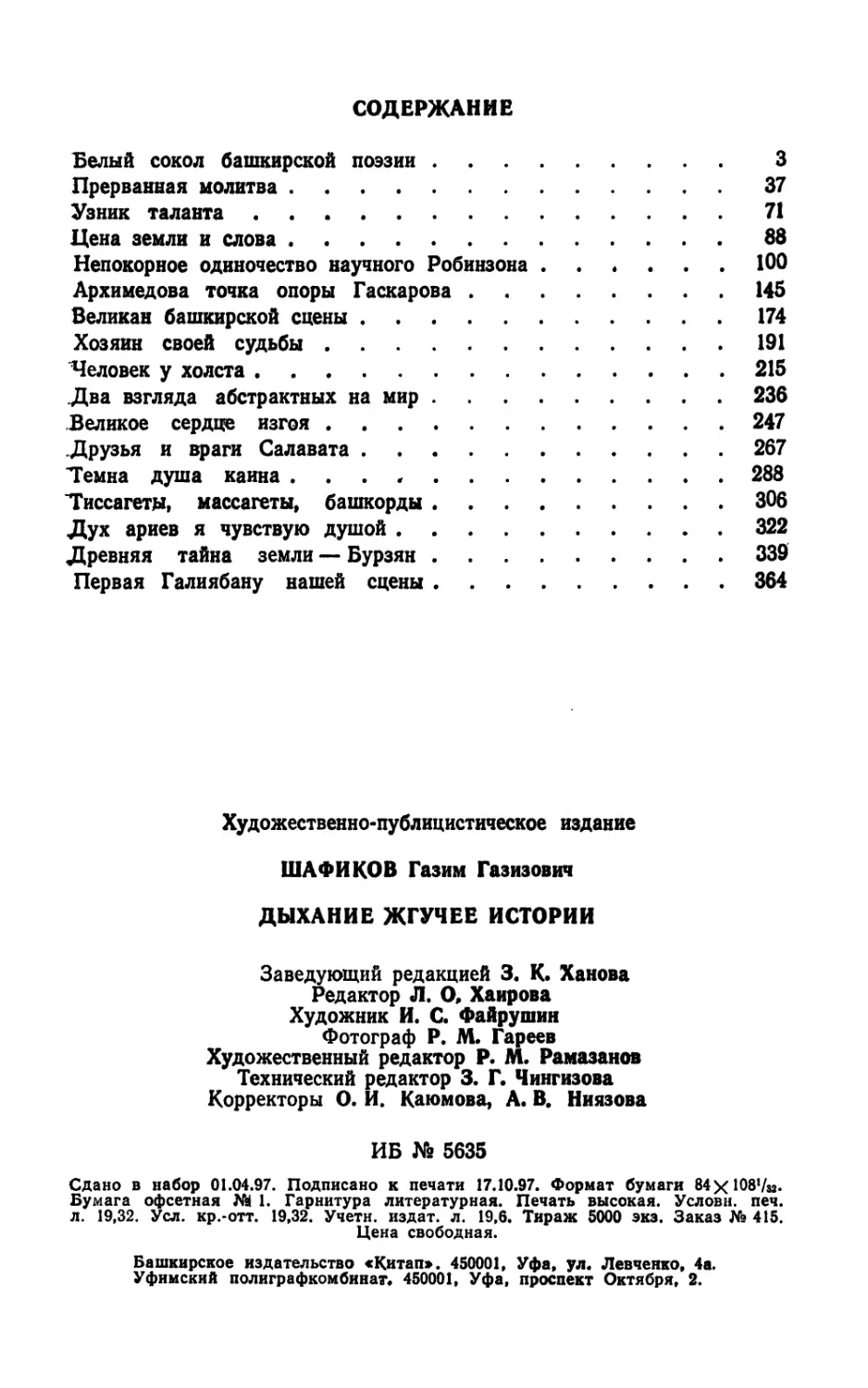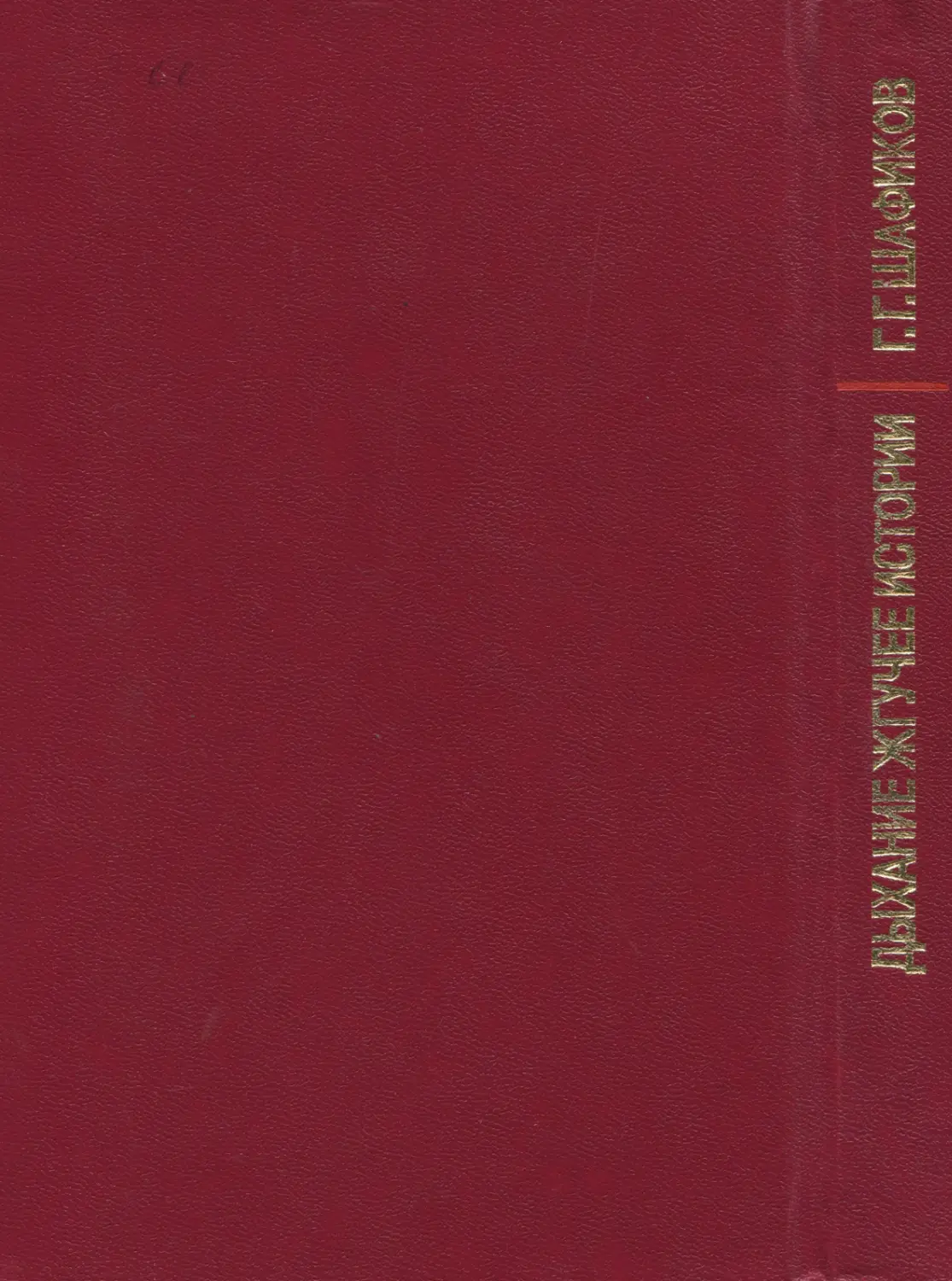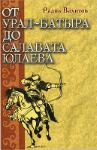Author: Шафиков Г.Г.
Tags: история краеведение жизнеописание история личностей прошлого выдающиеся деятели
ISBN: 5-295-01978-0
Year: 1998
Text
Г.Г.ШАФИКОВ
ДЫХАНИЕ
ЖГУЧЕЕ
ИСТОРИИ
УФА
«КИТАП»
1998
ББК 63.3 (2 Рос)
Ш 30
Шафиков Г. Г.
Ш 30 Дыхание жгучее истории. — Уфа: Китай,. 1998.—
368 с: ил.
ISBN 5-295-01978-0
В новой книге известный писатель-публицист продолжает те-
му исторических личностей прошлого и дня сегодняшнего, об-
ращаясь к жизни и творчеству таких деятелей, как поэт-про-
светитель XIX века Мифтахетдин Акмулла, первый профессио-
нальный композитор и замечательный певец Газиз Альмухаме-
тов и его преемник — классик современной башкирской музыки
Загир Исмагилов; первый муфтий Малой Башкирии Мансур Ха-
ликов и народный художник Ахмат Лутфуллин... Читатель оку-
нется в тайны древнейших городов Южного Урала — Аркаима
и Таналыка, в поэтический мир заповедного Бурзяна.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующих-
ся прошлым и настоящим своего края.
щ4702110400-142 10_98 ББК вз.3(2 Рвс)
ISBN 5-295-01978-0
@ Шафиков Г. Г., 1998
БЕЛЫЙ СОКОЛ БАШЮ!РСКОЙ ПОЭЗИИ
Мифтахетдин Акмулла
I
«...Октябрьский день
начинал тускнеть. Легкий
дымок, окутавший гряду
гор, густел на глазах,
смывая четкость очерта-
ний. Акмулла спешил. За
легкомысленным созерца-
нием окружающего прост-
ранства он забыл о ско-
ротечности осеннего дня и
теперь должен был на-
верстывать упущенное. По
его подсчетам, до ближай-
шего аула оставалось еще
пяток верст, и он шел спо-
ро, шурша стеблями жух-
лой травы, шумно и уча-
щенно дышал и не слы-
шал, как обочь, за ближ-
ним гребнем, опережая
его, гулко простучали ко-
пыта лошадей. Да если
бы и услышал, вряд ли
придал бы тому значение.
Когда он, исходя потом и одышкой, поднялся на пос-
ледний перевал, откуда, по его предположениям, должен
был открыться глазам желанный аул, там его уже под-
жидали двое спешившихся всадников. Один держал за
уздцы лошадей, другой стоял, глубоко сунув руки в кар-
маны бешмета и угрюмо следил за приближающимся Ак-
муллой.
Мифтахетдин Акмулла
3
По одному их виду тот понял все. Ноги его сразу об-
мякли, дыхание стало еще более учащенным и горячим.
Он беспомощно огляделся по Сторонам, и необъятная
земля предков показалась ему мертвой. На мгновение в;
этой безжизненной, душераздирающей пустыне серебря-
ной полосочкой блеснула река его детства — Дёма. Но
как же она была далеко сейчас от него! И еще ему пред-
ставилось в отдаленных сгустках вечернего воздуха лицо
матери, такое, каким он видел его в младенчестве над
своей колыбелью. Он понял, что на этот раз его ничто
не спасет — ни его громкое имя, ни его уста сэсэна. И
он заведомо отказался от всякой попытки спасти свою
жизнь, ибо цена такого спасения была бы только одна —
унижение. Акмулла вздохнул как можно глубже и, собрав
в кулак всю свою волю, шагнул прямо в сторону этих
людей.
— Маслихат!—произнес он громко. — Да спасет ва-
шу душу Алла! Аминь!..»
Этот довольно обширный кусок прозы взят не откуда-
нибудь, а из моей собственной повести об Акмулле. Имен-
но так она кончается. А что ждет Акмуллу, понятно: те
двое, что его поджидали, жертву свою не упустят. Они'
пронзили ножом его сердце, прекрасно понимая, кога
отправляют на тот свет. Слава Мифтахетдина Акмуллы
к концу его жизни гремела не только по всей земле Баш-
кортостана, но и по казахским степям, а также в горах
и пустынях Средней Азии. Его знали в Казани, Москве
и Петербурге. А еще точнее будет сказать, что его знали
(или хотя бы слышали о нем) во всем тюркском мире.
Но так как он хорошо знал фарси, зачитывался таджик-
скими и персидскими поэтами и сам пытался писать на
их языке, то его знали, конечно, и в ираноязычных реги-
онах.
Конечно, я описал последние минуты Акмуллы несколь-
ко приукрашенно, романтично, и самого его представил
в образе этакого фаталиста: 64-летний старец-сэсэн не
желает унижения даже под угрозой смерти и как бы
сам подставляет грудь под острие ножа убийц. По доку-
ментальным данным, все было несколько иначе. Досто^
верно известно, что по пути из Златоуста в Миасс он ос-
тановился на ночлег неподалеку от аула Сарыстан возле
речной мельницы. Пустив лошадей на волю, он стал при
свете свечи рассматривать книги, которые всегда возил
с собой. Тут-то и напали на него два негодяя, закололи
ножом и бросили тело в реку.
4
Авторы книги «Башкирские просветители-демократы
XIX века» А. Вильданов и Г. Кунафин приводят призна-
ние пойманных впоследствии убийц Акмуллы, которые,
в свою очередь, взяты из рукописи исследователя жизни
и творчества Акмуллы Дусмаила Каскынбаева: «Мы под-
стерегали Акмуллу давно, но все никак не получалось.
Однажды, изрядно подвыпив, ехали из Сарыстанова и
увидели одиноко мерцающий на берегу реки огонек. Под-
ходим— сидит давно подстерегаемый нами Акмулла... Мы
ему распороли живот, забрали лошадей и некоторые цен-
ности, 25 рублей денег, оказавшихся при нем...»
К сожалению, Д. Каскынбаев не приводит мотивов
подлого убийства, которое, в изложении самих убийц,
может быть квалифицировано чисто как уголовное. Од-
нако всем исследователям и биографам Акмуллы хорошо
известно, что причины убийства великого поэта совершен-
но иные и имеют, так сказать, социально-политическую
основу, а сами убийцы являются наемными.
Наконец, у исследователей Акмуллы нет единства в
том, где именно он был убит*
В своей книге «Звезда Акмуллы», вышедшей в 198!
году, один из самых последовательных изыскателей Ра-
шит Шакур пишет: «Утром 8 октября 1895 года Акмулла
выезжает из Миасса, чтобы продолжить свой путь в Уфу.
А от самой степи за ним неотступно следуют два всадни-
ка, два наемных убийцы, посланных его врагами, столь-
ко лет преследовавшими поэта за правдивость и обличи-
тельную силу его стихов».
Но суть дела от этого не меняется: в обоих случаях
два негодяя убивают поэта совершенно целенаправленно,
и уж, конечно, не по своей воле. Они-то прекрасно знали,
что никакого богатства у вечно кочующего сэсэна-бессреб-
реника нет и взять им у него нечего. А ведь они были
известными ворами-грабителями, имена которых наводи-
ли ужас на многих беззащитных людей. Тем не менее,
власти не подвергали их аресту, они спокойно вершили
свое черное дело. Значит, они зачем-то были нужны силь-
ным мира сего. Может быть, именно для того, чтобы слу-
жить их тайными (читай — наемными) убийцами-палача-
ми (или, как сейчас сказали бы, киллерами), и мы прос-
то не знаем, какие злодейства они сотворили еще до по-
кушения на Акмуллу. Известны и имена этих злодеев:
Гафият и Даули, откуда они родом. Увы, кроме этого не
известно ничего. А ведь пытливые исследователи, привер-
женцы творчества этого гениального поэта-просветителя
XIX века, могли бы провести свое расследование. Неваж-
5
но, что это нужно делать сто лет спустя после его трагичес-
кой гибели. Ведь сколько написано о дуэли Пушкина с Дан-
тесом, Лермонтова с Мартыновым, а исследователи этих
гениев все еще не могут успокоиться, продолжают обна-
руживать малейшие детали, допытываться до последней
подробности, вплоть до того, с кем, где и когда встре-
чался и разговаривал Пушкин (иже с ним Лермонтов)
накануне дуэли, в каком настроении пребывал, что ел,
где сколько пробыл и т. д. и т. п. И что поразительно:
несмотря ни на что, продолжают-таки открываться какие-
то новые подробности, возникают неведомые доселе ли-
ца, о которых прежде никто и слыхом не слыхал! Так
неужели гибель самой крупной в истории башкирской
литературы личности — Мифтахетдина Акмуллы —не до-
стойна того, чтобы она была расследована хотя бы в от-
носительных подробностях и в реальной конкретности?
Итак, как было уже сказано, гибель Акмуллы от рук
двух наемных убийц произошла сто лет назад, в октябре
1895 года. Нетрудно догадаться, что именно эта скорбная
дата побудила меня вернуться к своему давнишнему ли-
тературному герою, повесть о котором появилась десять
лет назад в книге «Последняя вспышка лампы». Теперь
я понимаю всю свою самонадеянную дерзость — взяться
писать о том, что довольно туманно тогда представлялось.
В 1981 году впервые за всю прошлую историю башкир-
ской литературы отмечался 150-летний юбилей этого поэ-
та, сыгравшего колоссальную роль не только в развитии
национальной поэзии, но и оказавшего сильнейшее влия-
ние на казахских акынов, татарских шагиров и, конечно,
всколыхнувшего и реформировавшего всю башкирскую
литературу и особенно поэзию. И в этом нет ни малейше-
го преувеличения. Благодаря таким литераторам, как Ра-
шит Шакур, Гиният Кунафин, Ахат Вильданов и другие,
юбилей принял широкий размах. В центральных газетах
появились статьи руководителей нашей республики, в
«Правде» и «Известиях» были напечатаны статьи первого
секретаря тогдашнего Башкирского обкома партии Мид-
хата Шакирова и Председателя Президиума Верховного
Совета Файзуллы Султанова, что, видимо, побудило цент-
ральные власти провести юбилейные торжества в Колон-
ном зале Дома союзов в Москве. Называю имя бывшего
хозяина республики неспроста: его отец, известный уче-
ный-просветитель Закир-эфенди Шакиров, внес весомый
вклад в изучение творчества Акмуллы. Неоценим вклад
и другого башкирского ученого — профессора-литературо-
веда Ахнафа Ибрагимовича Харисова, который одним из
6
первых в позднейшем башкирском литературоведении по-
местил большой и обстоятельный очерк об Акмулле в кни-
ге «Литературное наследие башкирского народа», вы-
шедшей в 1965 году. Но, разумеется, немало писали об
Акмулле и раньше: Мажит Гафури, Габдулла Тукай,
Шайхзада Бабич, Сагит Мрясов, Даут Юлтый и др. Не-
большой очерк написал другой башкирский поэт-просве-
титель Мухаметсалим Уметбаев, который был моложе
его всего на десять лет и не только знал Акмуллу, но
вступал с ним в поэтическое состязание во время приезда
последнего в Уфу. Конечно, излишний лаконизм автора
вызывает определенное недоумение. Не может быть, что-
бы он недооценивал творчество и талант своего соперни-
ка, не отдавал должное его поэтическому мастерству и
импровизаторскому искусству. Однако при этом следует
учитывать, что, во-первых, Мухаметсалим-эфенди вообще
был в высшей степени лапидарен в своих писаниях. Во-
вторых, он впервые видел поэта-скитальца и тот предстал
пред его очи не в лучшей форме. Встреча произошла в
доме муфтия Султанова, куда Акмуллу привел известный
философ, просветитель и книгоиздатель Ризаитдин Фах-
ретдинов. Именно к нему в первую очередь явился Акмул-
ла после долгой и тяжелой дороги; одежда на нем была
грязна и изодрана, обувь — сильно сбита, и хозяин дома
вынужден был снабдить его собственным костюмом, пред-
варительно заставив его помыться в бане, и лишь после
этого повел к муфтию, у которого собралось изысканное
общество, и в том числе Мухаметсалим Уметбаев.
Все это подробно описал в своем очерке «Акмулла в
Уфе» сам Р. Фахретдинов.
А посетил Акмулла Уфу в 1894 году, за год до своей
смерти, когда переживал нелегкую пору своей жизни:
неустроенность, семейный разлад, бродяжническая жизнь.
А тут еще вознамерился жениться в третий раз — на юной
девушке, дочери своего старого друга, миасского муллы.
Увещевания Фахретдинова, старавшегося отговорить Ак-
муллу от этой женитьбы, наткнулись на молчаливое упор-
ство сэсэна. Акмулла был сложным, хотя и бесхитрост-
ным и в какой-то степени наивным человеком; на него
внезапно находил то ли каприз, то ли непонятное упрям-
ство, от чего прежде всего страдал он сам. Вот и в тот
приезд Фахретдинов предложил ему свои услуги в выпус-
ке книги стихов, но Акмулла почему-то заартачился и
уехал, забрав с собой заветную рукопись, которая, в ко-
нечном счете, затеряется в его же родном ауле Туксанбай.
Подобное поведение известного поэта было не по нра-
7
ву человеку аристократического склада, каким являлся
Мухаметсалим Уметбаев. Зато в своих заметках об Ак-
мулле он приводит два его стихотворения, дотоле неиз-
вестные исследователям.
Очерк Р. Фахретдинова «Акмулла в Уфе», о котором я
упоминал выше, как бы забылся литературоведами, ос-
тавался вне поля их внимания, и очень хорошо, что А. И.
Харисов поместил его в своей книге «Духовные корни»,
увидевшей свет уже после его смерти, в 1984 году. Иначе
вряд ли даже искушенный читатель смог бы познакомить-
ся с этим необычайно интересным и выразительно напи-
санным эссе выдающегося просветителя и издателя.
Однако вернемся к событиям 1981 года.
В ту пору я учился на Высших Литературных курсах
в Москве и потому имел возможность участвовать в тор-
жествах в Колонном зале. Наехало немало гостей — из
Казахстана, Татарии, Узбекистана и т. д. Были предста-
вители многих крупных городов России. Что меня больше
всего впечатлило, так это «дележ» юбиляра в свою поль-
зу. Казанский оратор называл Акмуллу татарским поэ-
том, алма-атинский — казахским, и споры эти после офи-
циальных торжеств перекинулись в кулуары, а затем —
в номера гостиницы «Россия», где остановились уважае-
мые гости. И каждый из спорящих был уверен, что он
прав. И это несмотря на то, что башкирский историк Ан-
вар Асфандияров отыскал родовое шежере отца Акмуллы
Камалетдина Ишкужина, а Рашит Шакур привел в своей
книге «Звезда Акмуллы» данные «ревизских сказок» за
1816, 1834, 1850 годы. Все они не оставляют и капли сом-
нения в том, что Мифтахетдин Акмулла происходил из
башкирского рода, имеющего глубокие корни, и что он
выходец из аула Туксанбай нынешнего Миякинского райо-
на (а тогда Куль-Ильминской волости Белебеевского
уезда).
Да, тогда я не столько возмущался, сколько удивлял-
ся, ибо не понимал, как можно столь беззастенчиво при-
сваивать себе не какую-то вещь, а человека, причем, вы-
дающегося (впрочем, именно потому, что выдающийся!).
Только значительно позднее я понял, что такое происходит
довольно часто, и не только среди тюркоязычных народов,
но и в мировой практике.
Однако все это — дела давно минувших дней, и теперь
мне просто неинтересно об этом вспоминать. Тем более —
писать. Тем не менее, именно один из казахских гостей дал
первый толчок моему воображению, который, в конечном
счете, и заставил меня взяться за повесть об Акмулле. Не
8
помню ни имени этого человека, ни того, вычитал он где-
то или услыхал от кого-то, что нам тогда рассказал. А
поведал он о том, как лет сто назад хитрые актюбинские
власти столкнули Акмуллу с одним молодым человеком,
который имел демократические взгляды, влиял на моло-
дежь и уже поэтому был очень неудобен для властей и
богатеев. Им удалось провести, повторяю, бесхитростного
истека *, который в ту пору имел в Казахстане широкую
славу акына, и натравить на него этого самого молодого
человека, который, кстати, тоже сочинял стихи и слыл
поэтом-импровизатором. Акмулла долго сопротивлялся, не
желая вступать в словесный поединок с незнакомым ему
юношей, который годился ему в сыновья. Он встречался
с известнейшими казахскими акынами и многих побеж-
дал в многолюдных айтышах. Но молодой актюбинский
поэт повел себя необычайно амбициозно, прилюдно оскор-
блял Акмуллу, ибо его заведомо настроили против баш-
кирского сэсэна, который, якобы, только тем и занимался,
что издевался над казахами, их авторитетными людьми,
пел с голоса богачей и презирал бедняков. Акмулле ниче-
го не оставалось, как вступить в словесный спор с актю-
бинским акыном при огромном стечении здешнего люда.
Разумеется, актюбинец был очень скоро повержен, чем
и воспользовались здешние власти, расправившись со сво-
им задиристым земляком.
Вот т#кую удивительную историю рассказал казахский
гость. Мне показалось, что на его рассказ мало кто об-
ратил внимание. На меня же он произвел какое-то маги-
ческое впечатление. В нем не только проглядывала старая
трагедия, но выявлялись две другие вещи: хитрая, а точ-
нее сказать, коварная игра властей, которая им присуща
во все времена, в том числе, и сегодня (сегодня, может
быть, особенно!), и еще — характер Акмуллы. В самом
деле, умудренный жизнью сэсэн понимает, что молодой
поэт ему не соперник, категорически не желает наносить
тому душевную травму и боль, но гордый характер «ис-
тека» не позволяет сносить оскорбления, и он решается
на поединок, хотя прекрасно чувствует, что за этим стоит
что-то непозволительно подлое, непотребно коварное. И
он не ошибается! Однако поздно, и Акмулла уходит из
этого города, страдая душой ничуть не меньше, чем мо-
лодой поэт, который посмел бросить ему вызов. Он про-
клинает всех и вся, а больше всего — себя: за то, что дал
провести себя власть имущим шакалам, которые держали
* Истеками казахи называют башкир.
9
в уме совершенно определенные цели. И вот он, мудрый и
многоопытный Акмулла, попался на их крючок, как рыба
на живца!
Меня еще удивило другое: неужели казах-рассказчик
так просто выдал коллегам-писателям то, что никому, кро-
ме него, не было известно? Неужели сам до этого не вос-
пользовался столь выразительной деталью из жизни ве-
ликого Акмуллы?
Возвращаясь домой, в свое общежитие на улице Доб-
ролюбова, я все время размышлял над этим. А потом ре-
шил: собственно, почему он непременно должен был вос-
пользоваться этой деталью? Так ли она для него важна?
И вообще, может быть, он никогда и не собирался писать
об Акмулле и, по всему, не собирается. У него —свои те-
мы и интересы. Придя к такому выводу, я с легким серд-
цем принялся писать рассказ об Акмулле, который по пу-
ти домой, в Башкортостан, забрел в казахский городок
Актюбэ и там встретился в айтыше с молодым, демокра-
тически настроенным акыном по имени Сакен.
Но оказалось, что просто-напросто взять да и вывес-
ти столь колоссальную и таинственную во всех отношени-
ях фигуру, как Мифтахетдин Акмулла, мне не под силу.
Кто он и что? Откуда взялся? И почему идет по солон-
чаковым казахским степям, направляясь в сторону север-
ной своей родины, на берега Демы? Вот и пришлось мне
начать с того, что бредет человек по степи... И степи той
«нет ни конца, ни края. Белесые волны ковыля тускнеют
на глазах. А то вдруг ковыль обрывается и возникают
трупного цвета такыры. И ночные птицы, и разная земно-
водная живность все бойчее подают голоса. Причудливые
посвистывания всех тонов и оттенков, фыркающие и ухаю-
щие крики, утробные стоны, перепелиные улюлюкания то
царапают, то баюкают душу; а то вдруг наотмашь бьют
по перепонкам визгливыми воплями невидимых тварей, и
постепенно все сливается в один неразборчивый гам, по-
ка не перестает существовать для восприятия слуха...»
Повествование начинало растягиваться и расширяться.
Таким образом, я написал семьдесят страниц, и когда,
наконец, закончил, свободно вздохнул. Мне было немнож-
ко страшно: как-никак Акмулла! Великий поэт, которого,
в сущности, я не знаю, и услышал-то о нем из чужих уст.
Тем не менее, я направил повестушку в родное Башкир-
ское радио, своей давней знакомой Альфире Баргусовой.
И каково было мое удивление и еще больше — радость,
когда я получил ответ, что повесть поделена на три час-
ти, инсценирована и будет передаваться по радио. Через
10
месяц я получил письмо от неведомого мне Хамзы Илья-
сова, который поздравил меня с «первой художественной
работой» об Акмулле и настоятельно советовал продол-
жать повесть до объема романа. Замахиваться на роман
я не стал, но, вняв совету доброжелателя, расширил пер-
воначальное повествование в несколько раз. Так роди-
лось произведение, которое я самонадеянно назвал «Ак-
мулла». Книга увидела свет и вышла из-под моей власти.
Меня утешает только одно: то, что после этого никто
из писателей не обращался к этой отнюдь не простой теме»
II
Тюркский мир знает немало выдающихся и великих
поэтов, чье творчество стало всеобщим достоянием чело-
вечества. Мифтахетдин Акмулла — один из таких поэтов.
Однако скажем сразу: ничуть не уступая в смысле талан-
та другим корифеям тюркской поэзии, переведенным на
многие языки мира, Акмулла как раз меньше их всех из-
вестен в мире нетюркских народов. Причина — долгое заб-
вение поэта; то, что ведущие переводчики (прежде всего
русские) обходили его своим вниманием. Ну а башкир-
ские исследователи попросту не были готовы всерьез за-
ниматься его творчеством, как и жизнью и судьбой, ко-
торые долгие десятилетия оставались тайной за семью
печатями. До последнего времени ни с казахской, ни с
башкирской или татарской сторон не предпринималось ни
одной основательной попытки воссоздать пеструю и более
чем сложную биографию поэта. В сущности, не так да-
леко шагнули исследователи и сегодня. Но то, что появи-
лись книги о нем, сделана попытка перевести на русский
язык самые известные его стихи и поэмы («Мифтахетдин
Акмулла. Стихи. Уфа, Башкирское книжное издательство,
1986. Переводчики Д. Даминов, М. Гафуров, Г. Шафиков),
свидетельствует о достижениях в этом чрезвычайно важ-
ном деле. Значительных, но лишь начальных!
Называя имя Акмуллы в ряду других выдающихся
тюркских авторов, я, тем не менее, хочу подчеркнуть, что
он резко выбивается из числа таких поэтов — и своей че-
ловеческой натурой, и оригинальностью характера, и об-
разом жизни, и мировоззрением, и даже ролью в тюрко-
язычной поэзии. Дело в том, что почти все крупные тюрк-
ские поэты вели вполне благообразный образ жизни, име-
ли своих покровителей в лице разных представителей
сильных мира сего, ханов и султанов, или хотя бы богате-
ев местного значения; некоторые поэты сами были бога-
11
чами и даже промышленниками, как, например, извест-
ный татарский поэт Дэрдмэнд. Один из самых значитель-
ных казахских акынов Абай Кунанбаев являлся сыном
крупного феодала, и не удивительно, что его природный
талант нашел блестящее воплощение не только в поэзии,
но и в просветительской, переводческой и музыкальной
деятельности. Он мог смело обличать не только господ
общества, не боясь их мести, но и невежество и тупость
низов, опять-таки не боясь упреков и нападок со стороны
демократически настроенных деятелей. Абай мог позво-
лить себе откровенности, которые для того времени были
попросту непривычны:
Как кляча я устал. Я гость детей св'оих
И собственной жены. Мне чужды эти стены.
Известен хорошо мне нрав моих родных,
Да и в народе я не вижу перемены.
Абай имел возможность дружить с просвещенными
русскими людьми, через которых знакомиться с произве-
дениями Пушкина, Лермонтова, Толстого; имел доступ к
книгам зарубежных, прежде всего, греческих философов.
Башкирские поэты, современники Акмуллы и его пред-
течи, в основном являлись религиозными деятелями, пре-
подавали в медресе, совершали хадж в Мекку, как, на-
пример, Тажетдин Ялсыгулов; или странствовали по миру,
как Абельманих Каргалы. Учителем Акмуллы в Стерли-
башевском медресе являлся поэт Шамсетдин Заки, кото-
рый одним из первых одобрил и поддержал поэтические
наклонности своего шакирда. Он был всего на шесть лет
старше Мифтахетдина, являясь по-своему удивительным
человеком, поэтом-суфистом. Во-первых, он был совершен-
но слеп. Один из его учеников писал о Шамсетдине За-
ки: «Мы долго не могли поверить тому, что он слепой. Он
появился перед нами не как жалкий слепец, который хо-
дит, опираясь на палку, а вошел в медресе с высоко под-
нятой головой, ступая уверенно и твердо, сокрушая все
и всех, кто попадался на его пути; словно легендарный
Алп-батыр, устремленный к своей цели».
Шамси Заки был ярко выраженным поэтом-суфистом,
который в своих стихах воспевал аскетизм, через мистику
призывал познать Бога. Естественно, он великолепно знал
творчество великих суфистских поэтов прошлого Аттара
и Джалалетдина Руми, читал их наизусть, приводя в вос-
торг своих шакирдов, в том числе, Мифтахетдина Акмуллу.
12
Мертва надежда, и душой владеет лишь печаль одна.
Лишь Бог один теперь со мной, лишил покоя Он и сна.
Нет братьев и друзей... И коль виновен я перед Тобой,
Прости меня, утишь мне боль! Услышь призыв последний
мой.
Мертва душа. Так обрати свой взор всесильный на меня,
Вновь мне надежду возврати, влей капли жизни и огня!
Коль к жизни своего раба вернешь, зарок Тебе даю:
Не возмутит моя мольба власть необъятную Твою.
Я голову перед Тобой кладу и горько слезы лью,
Живу я верою одной — на снисходительность Твою.
Не правда ли, есть что-то жутко-мистическое в этом
стихотворении Шамсетдина Заки? (Перевод мой —Г. Ш.,
как и все прочие переводы).
К концу жизни Шамси решил совершить хадж к Чер-
ному Камню Кааба, но умер по пути в Арабстан в городе
Таганроге. Было ему тогда сорок лет.
Вот у такого человека учился Мифтахетдин. Он мог
удивляться необычайным способностям своего учителя, но
даже в молодые годы не мог принять ни его суфистского
мировоззрения, ни его откровенно мистической поэзии.
Итак, чем же отличался Акмулла от своих коллег по
перу, поэтов предшественников и современников? И с
кем именно можно было бы его сравнить, чтобы это срав-
нение четко оттенило его колоритную фигуру?
После долгого размышления я остановился на фигуре
Франсуа Вийона, хотя тот жил ровно на четыре века рань-
ше башкирского сэсэна. Конечно, тут потребуются раз-
ные оговорки: Мифтахетдин-эфенди не совершал таких
преступлений, тем более, убийств, как это делал его фран-
цузский предшественник, о котором, возможно, он и слы-
хом не слыхал. Правда, он сидел в Троицкой тюрьме, но
не за какие-то преступления или даже прегрешения, а по
злой воле казахского бая Батуча, и не так долго, как
Франсуа Вийон. Но все это —лишь внешняя сторона де-
ла. Зато Акмулла, как и Вийон, первым в башкирской (да
и во всей тюркоязычиой поэзии) обратился к живой жиз-
ни. Являясь религиозным человеком, он, в то же время,
беспощадно высмеивал и клеймил святош и невежествен-
ных мулл, как это делал его французский собрат, объя-
вивший войну церковной идеологии. Акмулла не просто
обратил взор на простых людей, на народные низы, — он
сам находился среди них, проникся психологией и душев-
ным состоянием народа. Но при этом отнюдь не льстил
и не потакал ему в своих действиях и стихах, а состра-
13*
дал его жалкому социальному положению, или зло высме-
ивал нежелание учиться и учить своих детей. В конечном
счете, все это выливалось в страстный призыв к просвети-
тельству, знаниям, откровенной дидактике, ибо лишь ди*
дактические стихи могли быть поняты этим народом. Од-
но из самых замечательных своих стихотворений он так
и назвал — «Насихаттар» («Назидания»). Мы еще вернем-
ся к этому классическому произведению Акмуллы. А пока
продолжим параллель между ним и Вийоном.
Как известно, французский сочинитель стал ярко вы-
раженным реформатором стиха. Его стих глубок и му-
зыкален, полон необычайной образности. Виртуозное мас-
терство сочетается у него с удивительной искренностью.
Говор простонародья, вплоть до воровского жаргона, за-
полняет его строки.
Буквально все это можно сказать и о произведениях
Акмуллы, вплоть до «воровского жаргона», ибо он не чу-
рался никакого «низкого штиля». В этом смысле Акмулла
явился подлинным реформатором, преобразователем не
только в области поэзии, но и лексики тюркского стиха.
Но есть, разумеется, между этими двумя поэтами су-
щественная разница, идущая, прежде всего, от разных
школ — европейской и азиатской. Точнее сказать, восточ-
ной. Акмулла в своем творчестве продолжает исконные
традиции восточных поэтов, оставаясь в своих стихах преж-
де всего поэтом-мыслителем, поэтом-философом, создаю-
щим в своих стихах и поэмах своеобразные рифмованные
трактаты. Любое его произведение малого или крупного
объема и масштаба имеет совершенно определенную нап-
равленность. Все его образы и метафорические конструк-
ции служат тому, чтобы сказать нечто глубоко важное,
сокровенное, что могло бы дойти не только (и не столь-
ко!) до сердца читателя или слушателя, но и до его (преж-
де всего!) сознания. Он хочет встряхнуть, взбудоражить
разум, прибегая для этого к любым поэтическим средст-
вам и методам — от призывной убедительности до едкой
сатиры, от торжественного восхваления — до грустной эле-
гичности. Примеров сказанному множество. Одно из са-
мых известных стихотворений поэта — «Мои башкиры, на-
добно учиться!». В нем звучит не просто страстный при-
зыв, но и боль за униженное положение темных сороди-
чей, и потому он вкладывает в свои строки всю силу убеж-
дения. Это стихотворение для Акмуллы — одно из прог-
раммных, и потому следует привести его полностью.
14
Мои башкиры, надобно учиться.
Просвещенных среди нас — лишь единицы.
Как медведя-шатуна боятся, так же
Надо, братья, нам невежества страшиться.
Знай: все блага к нам приходят от ученья;
От невежества — лишь беды и мученья.
Образованного — в небе видишь, в море —
Это знанья дали мудрость и движенье.
Просвещенному сулит наш мир отраду,
Тьма отступится пред ним, как пламя ада.
Если счастья ключ захочешь отыскать ты,
Обучайся — и найдет тебя награда.
Шесть прибавив к единице, не получишь
Цифру «десять». Только стрелку лишь измучишь,
На часах ее переводя вперед. Лишь только
В просвещенье силу счастья ты получишь.
Трудно найти другого поэта в мире, который столь час-
то и последовательно, на разные лады, проповедовал бы
в своих стихах идею грамотности и образования. Об этом
мы еще будем говорить, и немало.
Что касается торжественного восхваления некой, близ-
кой уму и сердцу личности, то Акмулла словно заимству-
ет у таких, например, поэтов, как Гавриил Державин,
жанр патетической оды. Правда, восхваляет он не сомни-
тельные деяния царей во троне, а человеческий разум,
ученость известных мужей. Самым знаменитым одическим
произведением Акмуллы является большое стихотворение,
созданное в честь выдающегося татарского ученого-прос-
ветителя Шигабутдина Марджани, перед которым прек-
лонялся весь тюркский мир, многие ученые того времени.
Почему-то автор назвал это стихотворение «элегией». Мо-
жет быть, толкователи просто неверно перевели слово
«марсия». Будучи в Уфе, Акмулла признавался Ризаит-
дину Фахретдинову: «Я хотел лично вручить свое стихот-
ворение Марджани, но вскоре пришло известие о его смер-
ти. Пришлось дописывать уже написанное стихотворение,
а потом я назвал его "элегией,,.
Переводя это необыкновенное произведение на русский
язык, я не мог избавиться от впечатления, будто перево-
жу текст реквиема. Во всяком случае, если бы нашелся
соответствующий композитор, пожелавший написать му-
зыку на слова этой «элегии», то получился бы прекрас-
15
ный реквием. Правда, своеобразный: вначале идет мно-
гостороннее восхваление человеческого разума и учености
вообще. Идет из какой-то вулканической глубины, отку-
да вздымается вверх раскаленная лава. Текст постепенно
обретает все более трагические тона, пока не переходит
в откровенный плач по великой личности, чей светлый ум
угас подобно закатившемуся светилу. Сколько убедитель-
ных сравнений находит Акмулла для воссоздания образа
того, кем восхищались понимающие в науке люди, и ко-
торый оказал сильное влияние на всех, тянущихся к об-
разованию и учености, независимо от их социального по-
ложения. «Все оружие его —строй мудрых мыслей, что
горят, как бриллиантовые грани», «запалил он в темноте
светильник ясный, в тлеющий костер подлил живого мас-
ла»; «он ученый дерзких дум и мыслей высших, на века
свой черствый век опередивший»; «подражать ему уже
никто не может и никто не погасит наветом ложным»
и т. д.
И все же, высшим доводом своей искренней любви и
преданности, на мой взгляд, является в этом произведе-
нии исповедальность Акмуллы. Пожалуй, ни в каком дру-
гом стихотворении он не обнажает душу так, как в этом.
И не только душу, но и судьбу, черты собственной биог-
рафии. Он казнит себя за былые грехи, уповает на проще-
ние Всевышнего.
Я при мачехе остался сиротою.
Слишком рано породнился я с нуждою.
Рвань штанов на мне да грязная рубаха —
Так мне было суждено, видать, судьбою.
До наук ли было мне при жизни этой?
Прокормить бы лишь себя зимой и летом.
Но умел я различать мэргэнов мысли,
Коль встречал таких... И счастьем было это!
Чем живу? — Зимой в домах даю уроки.
В час безделья погружаюсь в чьи-то строки.
Двери знаний и пред нами раскрывались —
Понимаем кое-что в мирской мороке.
В оде Шигабутдину Марджани автор задевает многие
вопросы жизни и бытия, в том числе чисто эстетические,
касающиеся вопросов эстетики, поэзии, творчества вообще.
16
Если меткую стрелу дал Бог мэргэну
И вдобавок — тонкий вкус и ум отменный,
Кто в пути ему препятствовать способен? —
Знай: он будет на виду у всей вселенной.
Миром властвует поэт, коль сдержан в страсти.
Если нет — его мы чарам неподвластны.
Лишь гармония — стихия совершенства,
Все пути иные — бренны и опасны.
Последняя строка о страсти авторского темперамента
и гармонии стиха особенно любопытна. Вольно или не-
вольно тут Акмулла утверждает примерно то же самое,
что и Пушкин, когда тот писал о соразмерности, как не-
отъемлемой черте поэзии.
Не обходит Акмулла и тех, кто готов обвинить авто-
ров во всех грехах, дай они хоть малый для этого повод.
В сущности, он обращается к критикам, хотя тогда, как
таковых в их профессиональном смысле, может быть, и
не было. Зато было множество тех, кто поднимал вселен-
ский крик по случаю и без случая, за деньги богатеев го-
товы были не только опорочить, смешать с грязью талант-
ливого автора, но, как показывает пример самого Акмул-
лы, даже пойти на убийство.
Как порочны ваши мысли и деянья!
Ради денег вы готовы на закланье
Даже душу принести... Пусть муллы льстят вам —
Есть другие, что осудят их старанья.
Вам зацепку лишь — найдете обвиненье.
Вам лишь повод — будет втоптан в грязь и гений;
Сотни сплетен разнесете, сотни кличек
Понацепите на жертву, без сомненья.
Но зато вы мастера живой интриги.
Что вам совесть! — тут она подобна фиге.
В схватке той любой из вас подобен зверю,
Только б отломить ломоть от всей ковриги.
Этот слово слить со словом неспособен,
Но зато ученых кроет с дикой злобой.
Грамотей иной, тем пользуясь умело,
Натравляет псов на высшую особу.
17
Не правда ли, все это необыкновенно актуально и се-
годня?
Можно было бы и дальше извлекать из этого удиви-
тельно богатого на мысли и рассуждения поэтического
произведения глубокомысленные строки и строфы, каса-
ющиеся самых разных сторон жизни, творчества, роли ге-
ния в мире людей. Но я хочу коснуться лишь финала, ко-
торый, как было сказано выше, является плачем автора
по такому гению, прощанием с ним. Плач этот нашел со-
вершенную форму, короткую, но необыкновенно вырази-
тельную строфику, исполненную внутренней скорби и по-
клонения.
Был подобен ты светилу:
Мысль, как молния, разила,
Доблести полна и силы...
Нам расстаться суждено, ах!
Написал я эту оду,
Чтобы даже через годы
Ты сверкал, как луч восхода...
Нам расстаться суждено, ах!
Сколько боли принесла нам
Смерть твоя. Но будешь славой
Ты бессмертной жить по праву...
Нам расстаться суждено, ах!
Тьму загадок разгадавший,
Море сведений собравший,
Необъятное объявший,
Нам расстаться суждено, ах!
Божий дар в тебе заметен,
Зла не терпит он и сплетен,
Оттого и чист, и светел...
Нам расстаться суждено, ах!
Силу духа исчерпал я;
В прославленье идеала —
Чувств кипящих не сдержал я,
Остаюсь гол как сокол, ах!
О тебе байт сложил я;
Так прости, глаза смеживший,
Что посмел я, пес плешивый,
Имя вознести твое, ах!
18
Последние строчки буквально потрясают. Ведь в пору
создания этой оды-элегии сам Акмулла был на вершине
славы. Его знали, почитали повсюду, читали на память
его стихи, многие из которых так и кочевали по миру —
из уст в уста, не занесенные на бумагу. Тем не менее, пе-
ред идеалом учености и гармонии он готов не только низ-
ко склонить голову, но и назвать себя недостойным восх-
валения этого человека, «псом плешивым», и сказать об
этом во всеуслышание, не боясь насмешек и обвинений
не только в самоунижении, но и низкопоклонстве. Такое
можно встретить опять-таки только у Акмуллы, который
никогда не любовался собой и не носился со своей осо-
бой как с писаной торбой. Попробуйте-ка найти хотя бы
что-то похожее, скажем, у того же Мухаметсалима Умет-
баева или Ризаитдина Фахретдинова! Черта с два! Они
знали себе цену, хранили достоинство не только в жиз-
ни, но и в писаниях, и по-своему были правы. Но Акмул-
ла-то не их поля ягода. Он — из породы бродяг и черно-
рабочих, из мира Франсуа Вийонов, и потому, как го-
ворят у мусульман, у него — что внутри, то и снаружи.
Эсендэге тышында. Он не может, да и не хочет скрывать
своих чувств, и, выражая их вслух, меньше всего заботит-
ся о некоем искусственном сдерживании этих чувств и эмо-
ций, забывая о своих собственных заслугах и высоком
имени, и выплескивался наружу весь, до конца. И в этом
суть его подлинно поэтической души и натуры. И в этом—
сила его воздействия на читателя.
III
Исследователи многократно писали о том, что в так
называемое казахское происхождение Акмуллы много пу-
таницы внес он сам. И опять же — из-за своей крайней
беспечности, нежелания придавать хоть какое-то значе-
ние своей персоне.
Путаница же заключалась в том, что башкиры (а вся
родословная Акмуллы была башкирская) принадлежали
к казачьему сословию, подлежащему воинской службе.
Должен был пройти ее и юный Мифтахетдин. Ему же это-
го не хотелось. Для него была мила не только поэзия, на
и вольная бродяжническая жизнь, словесные поединки-ай-
тыши с башкирскими сэсэнами и казахскими акынами. Он
любил переезды и не любил засиживаться на одном мес-
те, из-за чего у него никак не складывалась семейная
жизнь. Он был дважды женат, в последний раз — на де-
19
вушке из аула Сулейманово нынешнего Учалинского райо-
на. Там и поныне хранятся легенды о его пребывании на
учалинской земле; даже бытуют стихи, приписываемые
ему.
Так вот, чтобы уклониться от рекрутской службы, Миф-
тахетдин назвался казахом по имени Мухамедьяр, ибо те
не были военнообязанными. Не удивительно, что именно
в призывном возрасте (18 лет) Мифтахетдин ушел в ка-
захские степи и растворился там на многие годы. Сказать
точнее, он постоянно дрейфовал в океане казахских и
башкирских земель. Он не мог слишком долго жить вне
родины и потому через определенное время вновь и вновь
возвращался то к истокам Агидели, то на берега Сакма-
ра; а однажды — на истинную свою родину, в долину Де-
мы. Но судьба и неутомимая натура поэта уводили его
опять и опять в далекие края. Он зарабатывал на жизнь,
уча казахских детей, как это позднее делали Мажит Га-
фури и Шайхзада Бабич. В казахских степях знали о его
истинном происхождении и звали его истеком. Звали по-
доброму, с глубоким уважением, почтением и любовью.
Но у таких людей, как Акмулла, враги неожиданно воз-
никают и среди доброжелателей. Далеко не всем было по
вкусу то, что истекский сэсэн, превратившись в казахско-
го акына, кладет на лопатки настоящих (и широко приз-
нанных!) казахских акынов. И тогда начинались доносы,
жалобы, откровенная травля; в таких случаях Акмулла
спешно уходил в другие пределы, благо казахские прос-
торы могут дать кров и укрытие тысячам, десяткам тысяч
мифтахетдинов.
Но Акмулла был один, и его знали повсюду. И когда он
вступал в очередной айтыш с казахским акыном, то на
зрелище это стекалось огромное множество людей из са-
мых разных аймаков.
В своей книге «Звезда Акмуллы» Рашит Шакур при-
водит интересный рассказ о столкновении Акмуллы с Исян-
гильде Батучом, в котором ныне известный всем казахский
бай Батуч обретает необычайно рельефный характер. Ав-
тор книги «Звезда Акмуллы» пишет, что в конце 60-х го-
дов в его адрес поступило письмо от жителя Баймакского
района Шагаргази Габдиева, который написал ему о том,
что услышал от своего односельчанина Тагира Давлетши-
на, коему в свое время не раз приходилось встречаться и
разговаривать с Акмуллой. Вот его воспоминания:
«Акмулла, когда я его спросил, как он угодил в тюрь-
му, начал говорить: «Ой — бой, разве я тебе не расска-
зывал об этом подробно? Когда я жил в деревне Карасур
20
аймака Карагыз в ста километрах от Троицка, умерла
старуха одного состоятельного казаха и меня пригласили
на кладбище для совершения пегребального обряда. Когда
я сидел возле могилы, подошел аульный начальник Исян-
гильде Батыш. Увидев меня, он произнес такие слова:
«Ой — бой, там, где есть трава, жиреет бык, там, где есть
мертвец, жиреет мулла. Посмотрите на этого истека, как
он разжирел», и ткнул меня палкой в живот. Я тоже не
остался без ответа и сказал так: «Правильно говорите,
•брат мой. Там, где падаль, жиреет собака, а если в степи
нет мулл, подобных нам, то головы таких негодяев, как
вы, сгрызают собаки». «Ты еще такое мне говоришь,—
вскипел Батыш. — Ну что ж, я тебе устрою, чтобы голо-
ву тебе сгр&зли собаки». После этого он донес на меня
исправнику: мол, это башкирин, сбежавший из своей ро-
дины, чтобы избежать царской службы, утверждая, что
он сын казаха. Так меня в тюрьму и заключили».
Мифтахетдин был осужден на четыре года и засажен
в Троицкую тюрьму. Конечно, это стало для него жесто-
ким испытанием. Но именно за решеткой камеры он соз-
дал большое количество стихотворений, которые сохрани-
лись для будущих поколений. О том, что постоянно, день
за днем, испытывал гений-узник, можно судить хотя бы
по такому четверостишию:
Что спрашивать меня? —удел мой тяжек:
Куда ни гляну, там воронья стража.
Мир узок. Лишь горит в кромешной мгле
Мозг в черепе, как золото в земле.
Да, в потемках тюрьмы неутомимый мозг Акмуллы
разгорелся с особой неистовой силой. Тем невыносимей
было терпеть тюремные решетки, жидкую баланду, жес-
токое обращенье тюремных надзирателей.
Вам салям, коль еще помните беднягу,
Изложу всю боль и горечь на бумагу.
Мы в зиндане кровь глотаем вместо влаги;
На траву б упасть и воздух пить, как брагу.
Мы зарю слепой бессонницей встречаем;
Ум — на грани, терпит беды и печали.
В паутине мы, как мухи, и ночами
Нашу кровь сосет паук — большой начальник.
Да, в тюремных стихах Акмуллы много жалоб и сте-
21
наний. Но при этом он ничуть не изменяет своему поэти-
ческому мастерству: каждая строчка отточена, как стре-
ла; каждое стихотворение имеет свою неопровержимую
логику и, добавлю, подтекст. В стихотворении «Зиндан —
моя обитель» Акмулла сравнивает себя, лежащего на го-
лых нарах, с издыхающей клячей; но тут же следует срав-
нение с летучей мышью, в которую он может превратить-
ся, если Бог возьмет душу; а летучие мыши, как извест-
но, живут в темноте и ориентируются в ней лучше, чем
зрячие при свете.
Особенно обидно Акмулле то, что он честно и добро-
совестно учил детей того самого Исянгильде Батуча, ко-
торый, в конечном счете, и засадил его за решетку. И дети:
этого казахского богача были привязаны к Акмулле, бук-
вально повсюду следовали за ним по пятам; иногда на-
зывали его и с т е к-а к е.
И после этого по сей день иные казахские исследова-
тели, занимающиеся жизнью и деятельностью Акмуллы,.
отказывают ему в башкирском происхождении, превра-
щая его в «чистокровного» казаха!
Заключая этот разговор, хочу вспомнить, что из тюрь-
мы Акмулла направил послание Исянгильде Батучу *. Оно
поражает своей искренностью и откровенностью, и зна-
чит— исповедальностью. Скорее всего, Акмулла хотел не
просто высказать свою обиду, но и надеялся, что Батуч
дрогнет сердцем и поможет ему выйти на свободу.
Живя средь вас, я лишь о том его молил,
Чтоб край ваш милостью своей не обделил.
А ныне, вашим злодеяньем поражен,
Я плачу вновь и вновь, и нет сдержаться сил.
Язык доносчика грязнее помела,
Чернее дегтя совесть, помыслы, дела,
Меж тем он носит имя доброе — казах...
Прости, всевышний, ту, что жизнь ему дала!
Нежданно жалобу закончив похвалой
И вспоминая годы близости былой,
Приветствует вас узник Троицкой тюрьмы,
Себя при встречах называвший Акмуллой.
Стихотворение приводится в переводе Марселя Гафурова.
IV
Простая и неприхотливая натура Акмуллы проявля-
ется во всем. Но прежде всего — в его причастности к жи-
вой жизни, во владении самыми разными ремеслами. У не-
го были воистину золотые руки: он умел плотничать, сто-
лярничать, лудить, обрабатывать кожу, класть печи, су-
понить... Он умел делать буквально все! Сохранился стул,
сделанный руками Мифтахетдина. Он поражает гениаль-
ной простотой своего решения: красиво изогнутые свер-
ху рейки пронизывают посередине друг друга крест-на-
крест и тем самым прочно удерживают на себе сидящего.
В аулах он помогал простым людям смастерить столы
и стулья, правил хомуты и упряжь, скоренько вырубал
ворота или калитку, ставил удобное крыльцо. Словом,
почти никогда не проходил без того, чтобы не приложить
к чему-нибудь свои золотые руки. Ну и, конечно, читал
обручальную молитву — никах — молодым или заупокой-
ную— ясин — усопшим. Вот эта готовность всегда прий-
ти на помощь людям, независимо от их общественного
положения, еще более повышала популярность Акмуллы,
его всенародную славу.
И при этом он оставался неутомимым просветителем
своего народа, не устававшим страстно призывать его к
учебе и знаниям. Он являлся сторонником гуманного, бес-
палочного обучения детей. Ему претила всякая грубость
и жестокое обращение с подростками, которое в ту пору
царило повсюду в школах и медресе. И в этом смысле
весьма характерным является следующее стихотворение:
Не шарахайтесь прочь от ученых людей,
В них — потребность великая ваша.
Воздавайте им должное! Только злодей
И глупец им на двери укажет.
Муллы! Палки отбросьте свои и хлысты,
Будьте с детской душой осторожны;
От серьезных людей не бегите в кусты,
Все другое — и пусто, и ложно.
Ничего нет грустнее невежества мулл,
Пустозвонов под тогой ученых.
Будьте бдительны, дабы никто не задул
Детский разум, мечтой увлеченный!
Хорошо бы эти строки знать и некоторым нынешним
учителям.
Как верно отмечают исследователи творчества Акмул-
23
лы, он в своем мировоззрении тяготел к просвещенному
гуманизму, походя в этом смысле на великих предше-
ственников, которых, разумеется, не знал: Ф. Вольтера,
Ж. Ж. Руссо, А. Н. Радищева и других. А. Вильданов и
Г. Кунафин видят общность философских воззрений Ак-
муллы с русским просветителем XIX века Н. И. Новико-
вым. Но вызывает недоумение, когда у тех же авторов
читаешь следующее: «...ограниченность мировоззрения Ак-
муллы проявлялась в том, что он, как и М. Уметбаев, был
монархистом».
Вполне возможно, что последний, относясь к высшему
обществу, и тяготел к монархизму, что, кстати, ничуть не
умаляет его достоинств. Но что касается Акмуллы, то по-
нятие «монархизм» не подходит к нему ни с какой сто-
роны. Нет ни одного стихотворения, в котором поэт так
или иначе обращался бы к теме царя или самодержавия.
Другое дело, когда он призывает стоящих у власти му-
жей быть отважными в час испытаний и гуманными к
своему народу. Но какой же это монархизм? Напротив,
Акмулла постоянно противопоставляет богатых и бедных,
состоятельность и порядочность, жадность и неприхотли-
вость, все время беря сторону вторых понятий.
Не странно ли: коль ты богат, то всем на свете мил,
А беден — значит виноват, позора заслужил.
Нарядный, словно попугай, одетый в блеск и лоск,
Застолье смело собирай, пусть рот разинет гость.
Не странно ли: коль ты бедняк, тебя на свете нет.
Разбогател — будь ты дурак —прими хвалу, привет...
А вообще, как-то странно выискивать какие-то фило-
софские позиции, осмысленные воззрения и концепции,
когда говоришь об Акмулле. Никогда не следует забывать,
что он прежде всего и более всего — поэт. Этим сказано
все. Поэт не может писать, исходя из какой-то заведомо
заданной позиции, если он поэт истинный. Акмулла же
не только поэт до мозга костей, но и поэт великий. Все,
что он изрекает, идет не столько от ума, сколько от серд-
ца. А когда у поэта большое и горячее сердце, слово его
не может не быть мудрым и обжигающим. Еще в отро-
честве, когда он постигал азы поэзии и не мог восприни-
мать аскетически сухие, безжизненно-мистические стихи
учителя своего Шамсетдина Заки и прочих поэтов-суфис-
тов, интуиция подсказала ему иную дорогу в мире поэзии.
И он ее быстро нащупал и уверенно пошел по ней, не-
смотря на все ее ухабы и рытвины. Это была дорога к
24
жизни, в народ, сквозь сердца населяющих землю людей.
Его никогда не тянуло к некой верхушке общества, к так
называемой элите. Вот почему он не стал оставаться в
Петербурге, где его так гостеприимно встретили извест-
ные мусульманские деятели Гатаулла Баязитов и Габи-
дулла Зигангиров. Последний даже составил прошение
на имя императора Александра И, чтобы вызволить поэта
из арестантской роты. Акмулле обещали помочь издать
книгу его стихов. Но он не стал задерживаться в россий-
ской столице. Вольность и привычные людские низы были
ему дороже печатных изданий и избранного общества.
То же самое произошло и с Ризаитдином Фахретдиновым.
Акмулла не стал задерживаться и в Уфе. Ему претили обы-
чаи высшего света, манеры его обитателей. Он терпеть не
мог подчеркнутого опекунства и опекунов, если даже те
были одних с ним кровей и от всего сердца хотели сде-
лать ему благодеяние. Акмулла воистину был поэтом наро-
да, а не элиты, и ни о каком, повторяю, монархизме не
может быть и речи. Он прекрасно понимал, что лучше
всяких представителей высшего общества знает цену зла
и добра, образования и невежества, порядочности и про-
хиндейства. Он знал душу людей, отдельно взятого чело-
века лучше, чем кто-либо другой, ибо сам был душой и
гласом своего народа. Лучшее подтверждение тому — его
замечательное стихотворение, называемое «Насихаттар» —
«Назидания», о котором я выше уже упоминал. Хочу оста-
новиться на нем более подробно, ибо в этом произведении
проявилась вся необыкновенная проницательность поэта,
его умение глубоко заглянуть в человеческую душу; его
понимание законов жизни и бытия, божественных уста-
новлений на земле, которым должен следовать каждый
человек.
Итак, какие же качества должен иметь сын челове-
ческий?
Поэт убежден, что их должно быть семь. Во всяком
случае, самых главных и обязательных — все та же «ма-
гическая» цифра — с е м ь1
В жизни, первое, совесть нужна, совестливость,
Совестливость как божья дается нам милость.
Мало молвить с усердьем: «Прости меня, Боже!» —
Молча совесть блюсти в себе — много дороже.
Разве тут не вспоминается известная истина о том,
что возлюбить все человечество куда легче, чем одного
своего соседа?
2S
Второе качество.
Честь и честность — второе условие. Если
Нету чести в тебе, то не будет, хоть тресни.
Для бесчестного лучшее место — в могиле,
Чем ходить по земле в святотатственной силе.
Редко какой поэт может сказать так жестко: если ты
бесчестный, то уж честным не станешь никогда. И тогда
лучше лечь в могилу, чем чернить земную поверхность
своим душевным уродством.
Интересно в этом смысле сопоставить стихи Акмуллы
о чести и совести со строчками его младшего собрата па
перу Абая.
Разве встретит мудрец привет
У того, кто чести лишен?
Там, где крохи совести нет,
Льстивый вздор лишь услышит он.
Я не раб дешевой хвалы,
Пусть я буду славой забыт!
Люди часто пусты и злы,
Смерть излечит от всех обид.
И еще такая строфа:
Если сердце без просвета,
Ждать добра — напрасный труд.
Но из всех, кто слышит, это
Лишь немногие поймут.
Однако вернемся к герою нашего эссе.
Какое же третье качество усматривает Акмулла в че-
ловеке?
Третье, сказано, ум. Говорить с дураками
Не словами приходится, а кулаками.
Осердясь, дураки посягают на веру,
Ни в делах, ни в сужденьях не ведая меру.
А ведь Акмулла тут не имеет в виду дураков в пря-
мом смысле этого слова, идиотов. На свете немало и «ум-
ных» дураков.
Благодарность, мы скажем, четвертое свойство.
Коль ты неблагодарен, то с глаз моих смойся!
26
За добро благодарен будь и за доверье,
И за то, что Алла в мир открыл тебе двери.
Тут Акмулла с равным правом мог бы вместо «Алла-
ха» вставить слова «мать» или «отец», «родители». Увы,
неблагодарность к родителям и Матери-природе искони
были уделом эгоистичных людей. А теперь это вообще
процветает пышным цветом.
Свойство пятое — это порядочность. С нею
Мы любовь обретаем — нету чувства сильнее!
Нас любовь возвышает и делает чище,
Потому мы до гроба любовь свою ищем.
С детства лишенный любви отца, живший рядом с
равнодушной к нему мачехой, Мифтахетдин особенно ост-
ро ощущал отсутствие любви и действительно всю свою
жизнь искал любовь человеческую и, увы, не находил ее.
А шестое условие — это терпенье.
Терпеливый достигнет всего без сомненья.
Нетерпение — признак отсутствия воли,
Приведет оно к скорби, раскаянью, боли.
Кто-кто, а уж Акмулла знал цену терпенью. В сущно-
сти, вся его жизнь была бесконечной полосой терпенья —
нужды, горя, одиночества, унижений... Но он всегда ока-
зывался выше всего этого, несмотря на свой гордый и по-
рой нетерпимый характер.
Страсть — седьмое условие. Страсть — это пламя!
Это пламя небесное властвует нами.
Мудрецы говорят: все, что названо выше,
Совмещается в нас под единою крышей.
А ведь в «Оде Шигабутдину Марджани» Акмулла как
бы отрицает необходимость страсти в поэзии. А тут... И
все же, здесь нет никакого преувеличения. Стихи — это
гармония, красота, мудрость. Излишний темперамент, по-
рыв, непомерно страстное словоизлияние могут погубить
стройность и строгость стиха.
Совсем другое дело — живая жизнь. В ней нельзя су-
ществовать без внутреннего огня, пламени в груди. Лю-
бая работа должна делаться, как говорится, с огоньком.
Вот о чем разговор! Акмулла прекрасно это понимает и
именно «страстью» завершает перечисление необходимых
27
человеку качеств, называя страсть — даром божьим, без*
которого человек не может называться человеком.
Вполне возможно, что Акмулла в своих назидательных
перечислениях о свойствах и качествах человеческого ха-
рактера упустил или недосказал что-то очень важное и
тоже совершенно необходимое. Может быть. Но, согласи-
тесь, что, называя семь свойств, он указал и совместил
между собой очень существенные, когда даже отсутствие
одного из них может сделать человека ущербным и, как
сейчас говорят, закомплексованным. И не потому ли ныне
так много ущербных людей с отсутствием тех или иных.
качеств, которые поэт-просветитель XIX века считал прос-
то обязательными.
Ну а то, что предстает в человеке со знаком минус,
по тому же Акмулле, это, прежде всего, самомнение, эго-
изм, равнодушие. Именно они влекут за собой все ос-
тальные отрицательные качества людей: жестокость, ко-
варство, вероломство, многие другие отталкивающие свой-
ства характера, составляющие неизлечимую болезнь че-
ловеческой души, которые пышным цветом расцвели имен-
но сегодня, на излете XX века.
И закончить разговор о «Назиданиях» хочу двумя стро-
фами, которые, на мой взгляд, достойно венчают эти во-
истину назидательные в лучшем смысле этого слова стихи.
Подлый блага от Бога вовек не дождется.
Мудрый — и умерев — средь живых остается.
Просвещенный пребудет в умах. А невежда —
Как корова, что в пыль молоком обольется.
О нутре ты сначала своем беспокойся,
Чтоб не вонь шла оттуда, а лилось бы солнце.
Пусть душа будет чистой. Стремись к очищенью —
Нет без этого пользы в твоем просвещенье.
V
Был ли Акмулла патриотом своего народа, своей на-
ции в ортодоксальном смысле этого слова? Ведь в своих
стихах он почти не обращается к народной истории, к ее
истокам; не упоминает имен вождей, стоявших во главе
многочисленных восстаний, когда это делает в своих сти-
хах даже Салават Юлаев. В одном из таких стихов поэт-
полководец ухитряется назвать имена аж одиннадцати (!)
народных батыров.
28
В стихах Акмуллы трудно встретить какие-то откро-
венно политические мотивы. В них нет восторгов подви-
гами соплеменников в ратных битвах и мятежах, направ-
ленных против самодержавия. Вполне возможно, постоян-
ные переезды, долгое пребывание на казахской земле и
других пределах притупили его любовь к родному наро-
ду, приглушили внутренний патриотизм?
На это у меня есть один единственный ответ: патрио-
тизм Мифтахетдина Акмуллы — особого свойства. Его не
то чтобы не интересует героическое прошлое своего на-
рода или он глух к нему. Отнюдь! Из отдельных строчек»
рассыпанных по многим его стихотворениям, можно ви-
деть, что он хорошо знал прошлое своих соплеменников.
Но никогда не ударялся в патетику по поводу этого воин-
ственного прошлого, видимо, понимая, к чему привели
эти бесконечные восстания и мятежи. Его любовь к на-
роду — в его боли за народ, в его страдании и тоске. Он
был свидетелем постепенного вымирания некогда много-
численного воинственного народа. Колониальная политика
царизма достигла к тому времени чудовищных размеров,
лучшие земли башкир были захвачены и заселены приш-
лыми людьми, леса безжалостно вырубались и на пусты-
рях строились заводы и фабрики. Коренные жители были
лишены элементарных прав и возможностей человеческого
существования, подавлены духовно и физически. Всякие
песни и сказы о прошлых временах, любимых батырах и
сэсэнах запрещались под угрозой смерти. Народная па-
мять вышибалась плетьми и шомполами, вымораживалась
в мертвых просторах сибирской каторги.
С другой стороны, быстрое развитие капиталистических
отношений дало толчок для зарождения и развития соб-
ственной национальной буржуазии, которая, в свою оче-
редь, дала толчок для развития национального самосоз-
нания, просвещения и литературы. Свое достойное место*
заняли в медресе светские дисциплины, в частности, в
таких учебных заведениях, как Троицкое, Оренбургское,
Стерлибашевское медресе, позднее — в уфимском медресе
«Галия». Следует назвать целый ряд башкирских деяте-
лей, которые все силы отдали этому делу: Мирсалих Бик-
сурин, Исмагил Тасимов, Салихьян Кукляшев, Мухамет-
салим Уметбаев, Альмухамет Куватов, Ризаитдин Фах-
ретдинов... Все они были широко и всесторонне образован-
ными людьми, знали по нескольку языков. И, конечно,,
каждый из них сделал немало для культурного возрож-
дения своего народа. И не только своего.
Мифтахетдин Акмулла плохо вписывается в эту ко-
29
горту, хоть мы и причисляем его к крупнейшим просве-
тителям XIX века. Он стоит особняком не только в смыс-
ле своего социального положения и сферы деятельности;
не побоимся сказать — и по размерам своего дарования,
в котором ему не было равных. Он стоит особняком и в
плане избранного им жизненного и творческого пути. Об
этом я немало говорил выше. Это был истинный поэт-им-
провизатор от народа, занявший свое достойное место
рядом с такими легендарными сэсэнами, как Кубагуш-сэ-
сэн, Банк Айдар-сэсэн, хотя был, разумеется, много прос-
вещенней их, знал арабский, турецкий, персидский языки,
много читал. И все же он был одинок, обречен на вечную
земную юдоль. Да его и не приняли бы вышестоящие
господа в свой избранный круг. Акмулла это прекрасно
понимал и не стремился сделать в их сторону первые ша-
ги. Деля участь простых и порой обездоленных людей, он
именно им отдавал и свою боль, и свою радость, и лю-
бовь.
Но при этом считал своим долгом гражданина прямо
говорить сородичам в глаза об их недостатках, обличать
невежество, жадность, отсталость, слепую преданность ша-
риату, нежелание учить детей; грубое, порой жестокое
отношение к женщине. И делал он все это исключительно
из желания помочь соплеменникам найти в жизни един-
ственно правильную линию поведения и достойную цель,
внести духовность и культуру в их существование, внушить
самые простые истины бытия. За это его недолюбливали,
а то и вовсе ненавидели, не понимая истинных причин та-
кой направленности многих стихов. А высмеянные им баи
и муллы не ограничивались одной лишь ненавистью, а
отвечали жестокой местью, натравливая на него не толь-
ко ограниченных в своем понимании людей, но и убийц.
Вот почему Мифтахетдин — глубоко трагическая натура,
непонятая многими и потому одинокая. Истинную цену
своему сыну не знал даже его отец Камалетдин — мул-
ла; не знали многие односельчане, женщины, с которыми
он хотел завести семью. Именно поэтому (а не только
по причине своего неуемного характера) он должен был
без конца кочевать по земле, меняя башкирские просторы
на казахские, а казахские — на среднеазиатские, и вновь
возвращаясь в родные пределы.
В сборнике «Акмулле— 150 лет», вышедшем в 1984 го-
ду, выступают казахский фольклорист Буркут Искаков и
узбекские литераторы А. Хаитметов и Ш. Турдиев.
Из статьи Искакова: «...Акмулла говорил своим сов-
ременникам: кем бы ты ни был, но человеком быть обя-
30
зан; призывал их к честности, справедливости... Многие
строки Акмуллы о нравственности до сего времени не ут-
ратили своего значения».
Узбекские авторы ставят имя Акмуллы рядом с Ильей
Чавчавадзе, Абаем Кунанбаевым, Каюмом Насыри, Тук-
тагулом Сатылгановым и другими национальными вели-
чинами. Они находят созвучие с мыслями Алишера На-
вои, Фурката...
И все же, как бы ни лестны были эти сравнения, я не
испытываю от них никакого умиления. Акмулла не срав-
ним ни с кем. Он не похож ни на кого из названных дея-
телей — ни в характере, ни в творчестве, ни в судьбе. И
уже этим он неповторим и неподражаем. Его неуемная
тяга к скитаниям, нередко сопряженным с большими опас-
ностями, стремление постоянно быть среди людей, об-
щаться с ними, учить детей простолюдинов, желание ог-
раждать их от зверств, насилия и коварства; его ненасыт-
ная тяга к поэтическим дуэлям-айтышам с самыми из-
вестными народными поэтами-импровизаторами, которые,
как правило, сопровождались огромным стечением наро-
да, и не только сочувствующих и поклонников, но и враж-
дебно относившихся к «истеку» людей (воистину тогдаш-
няя коррида!) —все это было посильно только очень уве-
ренному в себе человеку, волевому, фанатически предан-
ному делу поэзии и, конечно, талантливому.
Но это было и бесконечно желанно Мифтахетдину
Акмулле! И как тут не вспомнить знаменитые пушкинские
строки: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертно-
го таит неизъяснимы наслажденья — бессмертью, может
быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья их обре-
тать и ведать мог».
Не будет преувеличением сказать, что Акмулла был
из когорты Пушкиных!
В конце жизни великий русский поэт искал смерти
(по свидетельству некоторых его современников) и нашел
ее. Создается впечатление, что, устав от вечных скитаний
и треволнений, не в силах найти спокойного прибежища
и семейного уюта на земле, Акмулла тоже отдал себя
воле рока. Он прекрасно знал, как много у него врагов
и как мало друзей. Знал, что на берегах Демы его, увы,
не ждут, он вряд ли придется там ко двору. Знал, что
злопамятный Исянгильде Батуч, как и некоторые другие
казахские и башкирские «хозяева жизни», не ограничатся
тюрьмой — теперь следует ждать худшего. И я уверен:
он не удивился, увидев рядом с собой двух своих будущих
убийц.
31
Искаков называет Акмуллу фаталистом, отмечая это
свойство его натуры как слабость или недостаток.
Я говорю: Акмулла никогда не был фаталистом! На-
против, он всегда являлся ярко выраженным оптимистом.
Но он не мог не видеть, что год от года жизнь народа не
только не улучшается, но становится все хуже и хуже.
Впереди зияла бездна. В умножающихся заводах, горо-
дах, на глазах поднимающейся промышленности; в гари,
дыме, клокочущем огне чугунных жерл, в страшном об-
лике новой назревающей жизни, требующей все новых и
новых жертв, Акмулла видел надвигающуюся на его зем-
лю опасность, апокалипсис, а не черты цивилизации. И
<5ыло бы странно, если было бы иначе. Через четверть века
после трагической гибели башкирского гения другой ге-
ний— русский — по имени Сергей Есенин, весь пронизан-
ный крестьянской психологией, чувствовал перед завода-
ми и огнедышащими локомотивами все тот же ужас и
непонимание. Он почти физически не желал разрушения
природы, родной земли, живой души и организма милого
для него Отечества и народа. А что говорить об Акмул-
ле?! Исследователи нередко забывают об этом.
Акмулла, несомненно, был идеалистом, полагал, что доб-
рыми проповедями, призывами и назиданиями можно из-
менить натуру людей, сущность общества, обуздать их
жестокий нрав, с малых лет причастить людей к учебе,
просвещению и очищению.
Увы, этой болезнью и до него, и после него переболе-
ло немало замечательных людей, называемых у нас «про-
светителями». Но разве повернется язык в чем-то их уп-
рекнуть, сказать, что их старания оказались напрасными
и бесполезными? В отношении же Акмуллы такое заявле-
ние вообще явилось бы кощунственным и даже святотат-
ственным. Прежде всего потому, что он явил нам новую
прекрасную, благоухающую всеми красками слов, образов
и метафор поэзию, еще неведомую не только у нас, но
и во всем тюркском мире. Не надо забывать, что вели-
кий Абай Кунанбаев был на четырнадцать лет моложе
Акмуллы, и уж конечно, не только знал его стихи, но и
учился у него. У Абая можно найти немало строк и мо-
тивов, которые как бы прямо восходят к поэзии Акмуллы.
К таким, например, строчкам:
Не беда, что заблудился — лишь бы шел своим путем,
Лишь бы за свои ошибки не винил других потом.
А начнешь валить на прочих то, в чем по уши виновен,
Гнев людской тебя достанет справедливым острием.
32
Или:
В образованных старайся, прежде чем держать в чести,
Его внешность с его сущностью скорей соотнести:
Если скор он на расправу, если в действиях жесток он,
Плюнь на всю его ученость — с ним тебе не по пути.
Разве не читаем и не перечитываем мы сегодня эти
удивительные по мудрости и прозорливости строчки? А
ведь каждая строка Акмуллы преисполнена как раз такой
прозорливости и мудрости. Жаль только, мы плохо знаем
своего самого выдающегося поэта.
Но это уже — не его вина, а наша беда.
Вот еще один насихат Акмуллы, который может стать
девизом человека любой эпохи и формации. В том числе —
нашей.
В бренном мире все извилисты дороги — нет прямых,
Все тернисты, но усердно люди мнут и топчут их.
Так иди по ним, надежду не теряя ни на миг,
Мертвецом себя не чувствуй, коль идешь среди живых!
Уже при жизни поэта стихи его стали восприниматься
как советы умного и доброжелательного человека. Они
становились необходимыми, как строки песен или даже
самого Корана. Отдельные строчки или двустишия превра-
щались в крылатые фразы, которые изрекались между
делом, будто заложенные в утробе матери заповеди. Их
произносили, не задумываясь, как перед важным делом
или едой произносят: «БисмиллаЬи рахмани рахим». Их
напевали каждый на свой лад и мотив.
Кстати, в ауле Буре, что в Хайбуллинском районе, жи-
вет человек, который во множестве знает и читает стихи
Акмуллы. Его зовут Мухамедьян Казакбаев. Он читает
и поет стихи поэта на башкирском и казахском языках.
Поет на тот мотив, который передавался от поколения к
поколению. Мотив байтов и мунажатов. Но, напевая сти-
хи Акмуллы, Мухамедьян-агай находит какие-то новые
особые краски и оттенки, и потому слова Поэта тоже на-
чинают сверкать и переливаться по-новому. В этом — чудо
искусства истинной поэзии, помноженной на музыку. Му-
хамедьян-агай перенял стихи и напевы Акмуллы от своего
отца и матери. Те, в свою очередь, от своих родителей.
Так переходит поэтическое сокровище по лесенке времен.
Из уст в уста. От сердца к сердцу.
2 Заказ 415
33
Если должного вниманья не окажешь ты друзьям,
Безразличье испытаешь от приятелей и сам.
Если гость придет, ему ты почесть сердца окажи,
Незаслуженной обидой не ожги его души.
Знай: беда уходит с гостем и приходит благо с ним;
Заслужи его «спасибо» — словом чистым и простым.
Обыденные, казалось бы, истины, но сколько в них точ-
ных наблюдений, непритязательной подсказки.
Бог один лишен ошибок. Без ошибок нет людей.
Из-за них мужскую гордость чью-то с ходу не убей.
Тем довольствуйся, чем Богом и судьбою наделен,
Не ломай пред баем шапку, не отвешивай поклон.
Знай, что признак благочестья — быть всегда самим собой,
И трудиться неустанно, и довольным быть судьбой.
Мысль о том, что чаще всего под ветхой одеждой бед-
няка таится чистая душа, тогда как за шелком и барха-
том или вообще нет души, или хоронится злоба и надмен-
ность, не давали Поэту покоя до конца жизни. Видно, он
сам постоянно испытывал ущербность своего положения
рядом с возвышающимися представителями высшей иерар-
хии. Нет сомнения, что это угнетало и уязвляло Акмуллу.
Он соотносил свои чувства и переживания с чувствами
других униженных и угнетенных, и вольтова дуга его
негодования и печали высекала огненные строки.
Не поймут богатеи голодных и нищих,
Но поймет их однажды глухое кладбище.
Да, единственной надеждой Акмуллы было просвеще-
ние народа, его духовное возрождение и вознесение. Толь-
ко в этом он видел возможность преодоления удушающих
противоречий и несправедливостей мира. Когда народ
прозреет, он начнет воспринимать вещи в их истинном све-
те, сумеет своей волей и активным вмешательством из-
менить человеческие и социальные отношения в обществе.
Он свято верил в это, и потому не звал к восстаниям,
борьбе, революциям, приводящим к массовым жертвам,
гибели тысяч и тысяч людей. Вот почему, прекрасно зная
народную историю, имена и деяния Алдара и Акая, Ка-
34
расакала и Батырши, многих других предводителей баш-
кирских восстаний, он, тем не менее, почти не упоминает
их имен, не ставит их в пример ни своим сородичам, ни
другим тюркским собратьям. Более того, я подозреваю,
что он не одобрял такие действия вождей великих вос-
станий, ибо ясно видел, к чему они приводят. Он был ярым
и последовательным сторонником просветительских преоб-
разований в обществе. А разве теперь мы не проповедуем
те же идеи, хотя и глубоко чтим и преклоняемся перед
мужеством наших храбрых предков и их вожаков?
I
Невозможно: раз взглянувши, душу смертную познать;
Только разум просвещенья может истину сказать.
Просвещенье для Акмуллы — Бог, которому он, с од-
ной стороны, поклоняется, с другой, сам наполняет его
своим могучим разумом и великой целью. Он не только
хулит богатеев и власть имущих, но старается узреть в
людских отношениях некую гармонию. Или, по крайней
мере, такую гармонию себе представить.
Правителя громко кляня,
Его справедливость припомни.
Вчерашних хозяев браня,
Голодных припомни, бездомных.
Зоркий глаз Поэта не обходит самых, казалось бы,
обыденных вещей, которые, однако же, в жизни человека
являются отнюдь не такими уж второстепенными.
Синицу увидев, орлом
Представить ее ты не пробуй.
К родным обращайся с добром —
Родня не на день, а до гроба.
Речистые перлы врагов
Пусть голову не закружат.
Пусть лесть их отравленных слов
В твою не впитается душу.
И попусту с другом своим
Не ссорься, себе же на горе.
И мнимой победой над ним
Не хвастай с довольством во взоре.
Закат неизбежен. И свет
Погаснет. И смерть тебя скосит.
Коль доброго имени нет
При жизни — не будет и после.
2*
35
Уже при жизни Мифтахетдин Акмулла приобрел не
только доброе имя, но и широкую популярность и славу.
Теперь мы врагов его называем с презрением на устах,
как с ненавистью называем имена Гафията и Даули, хо-
тя не знаем, кто они такие. Так было и будет со всеми,
кто при жизни совершил хоть малое преступление про-
тив человечности, не говоря уже о больших — убийствах
и грабежах. Если даже этот человек не столь великая
личность, как иные, пришедшие к нам из истории.
Книги и стихи Мифтахетдина Акмуллы могут служить
настольными, чтобы можно было время от времени с ни-
ми советоваться. Они могут присутствовать рядом с вами,
вместе с вами, как добрые учителя и друзья. Как, ска-
жем, книги Вовёнарга или Ларошфуко, Монтеня или Поля
Валери.
Да мало ли книг-друзей!
Но среди тюркоязычных авторов именно Мифтахет-
дин Акмулла в первую очередь может стать таким вер-
ным другом и советником. И при этом дарить нам радость
соприкосновения с истинной поэзией, исполненной глубо-
кого философского смысла, совершенной поэтической фор-
мы и музыки рифм и строк.
Обо всем этом думал я накануне трагической даты —
100-летия гибели великого башкирского сэсэна, поэта
всего тюркоязычного мира Мифтахетдина Акмуллы.
И да хранит Алла древнебашкирскую землю Миасса,
где покоится нетленный прах божественного поэта, Аминь!
Первый муфтий Башкортостана Мансур Халиков
Май 1917 года.
Уфа утопает в первой
нежной зелени и в гроз-
дьях густой, тяжелой си-
рени. Кажется, сама при-
рода дразнит людскую
душу свежестью, улыба-
ется солнечными лучами.
А людям не до весен-
них красот и призывов.
Башкирское захолу-
стье, постепенно превра-
щенное в колониальную
лабораторию насилия и
гнета, в место ссылок
и удушения «нацмень-
шинств», вдруг прорва-
лось взрывом долго сдер-
живаемого гнева и ярое*
ти, так что всем стало яс-
но: на этот раз всеобщий
порыв не удержать. По-
всюду—в городах и ау-
лах — то стихийно, то
вполне организованно и целенаправленно возникали сбо-
рища, митинги и манифестации, на которых люди, пооче-
редно сменяя друг друга, выхрипывали на рвущихся верх-
них нотах не просто слова и лозунги, а нечто большее —
свою боль, копившуюся годами и веками, передававшуюся
из поколения в поколение. На миг всем показалось, что у
их извечно угнетаемого народа и общества нет и не может
3?
Мансур Халиков
быть классового расслоения, все должны быть равны в со-
циальных и политических отношениях и устремлениях. Все
считали себя ущемленными перед Временем—прошлым и
будущим; вспомнили о богатствах своей исконной земли
с дивными лесами и выпасами для скота, чистейшими ре-
ками и озерами, степным ковылем и несравненным чер-
ноземом. От имени народа вещали златоусты, маги крас-
норечия, каковых оказалось неожиданно много.
Но даже среди них выделялся худощавый человек в
ловко скрученной чалме с изумрудно-зеленым верхом —
хазрет Мансур Халиков. Именно ему было доверено вы-
ступить по земельному вопросу на Губернском съезде от
имени башкирской фракции. Съезд этот проходил в поме-
щении нынешнего театра оперы и балета.
Быстрый и уверенный в движениях, человек этот прив-
лекал к себе внимание не только красноречием, но и яс-
ным умом, широкой образованностью и подчеркнутым де-
мократизмом.
— ...Если эта революция действительно предусматри-
вает освобождение народов, то Временное правительство
должно понять, что для нас, башкир, самым больным и
актуальным вопросом был и остается вопрос о земле, —
говорил с трибуны Халиков, до предела напрягая свой
голос. — Мы будем верны революции, будем бороться за
нее и отстаивать от врагов, если нам вернут наши искон-
ные земли.
Эти слова вызвали в зале заметное оживление, разда-
лись одобрительные и возмущенные голоса. Особенно за-
метно шумели представители кадетов и монархистов.
— Нет, вы посмотрите на него! Он ставит условия.
— Этак они скоро потребуют себе государственность.
— Представляете: туземное правительство!
Оратор спокойно пережидал шумную реакцию русских
делегатов, видимо, заведомо зная, как отзовутся его слова.
Но в это время раздался чей-то срывающийся голос:
— Да, да, господа! Мы будем бороться за государст-
венность! Но только не здесь... И не такими методами.
Этим человеком был еще один делегат от башкирской
фракции Аллабирде Ягафаров. В ярости он даже поднял-
ся с места и выкрикивал свои слова, вовсю жестикулируя
обеими руками.
Позднее Ягафаров станет одним из ближайших сорат-
ников Ахметзаки Валиди, членом Башкирского Шуро. А
пока их с Мансур-хазретом объединяла словесная борьба
с теми, кто и представить себе не мог некое «туземное
правительство».
38
Между тем, оратор продолжал:
— Мы заявляем, что отвергаем любые предложения в
вопросе о земле, которые здесь прозвучали. Мы против
социализации земли. Почему? Потому что она исконно
принадлежала хозяевам этого края — башкирам, и мы не
согласны теперь делить ее со всеми поровну. Мы также
против национализации, потому что она означает простой
отбор наших земельных владений государством. Мы, чле-
ны башкирской фракции, считаем, что все это — лишь
ухищрения тех, кто хочет закрепить и узаконить захват
наших земель. Мы требуем одного: вернуть башкирам при-
надлежавшие им земли, силой, обманом и коварством от-
торгнутые от них в разное время. Когда эти земли будут
возвращены, можно будет вести речь о том, как с ними
поступить. Только такой шаг может показать дееспособ-
ность Временного правительства в национальном вопросе.
Не правда ли, для духовного лица, даже выражавше-
го мнение своих товарищей по фракции, такое заявление
с высокой трибуны съезда более чем смелое? Что это —
наивность или максимализм молодых людей, представи-
телей «нацменьшинств», неожиданно обретших свободу
слова и самовыражения? Эйфория эпохи, когда многим
показалось, что после крушения самодержавия люди на-
конец-то обретут долгожданную волю и национальную
независимость? Может быть, излишнее доверие лозунгам
и декларациям Временного правительства, от имени которо-
го пылкий оратор Александр Федорович Керенский про-
возглашал «всероссийскую свободу» и сулил всеобщую
демократию?
Легче всего было бы суммировать все эти составные,
поделив затем всю сумму на страстное желание обрести
все эти политические и социальные привилегии, которые
могла принести Февральская революция. Но это было бы
самое простое и легковесное объяснение ситуации, хотя,
конечно же, отвечавшее определенной исторической истине.
Однако дело обстояло куда сложнее, чем казалось на
первый взгляд. Даже в документе Башкирского обкома
ВКП(б), принятом в июне 1926 года в отношении баш-
кирского национального движения и «башкирского нацио-
нализма», говорилось следующее: «Февральская революция
пробудила в башкирской крестьянской массе стремление к
политической активности и организованному выступлению.
39
Главная цель начавшегося национального движения зак-
лючалась в том, чтобы, наконец, положить конец нацио-
нальному угнетению».
Это — чрезвычайно знаменательные слова для нетерпи-
мой ко всякой «национальной идее» советской идеологии!
А что говорить о настроениях башкир того времени, пе-
редовых представителях своего народа? Последователь-
ные выступления делегатов «башкирской фракции» и «баш-
кир-федералистов» на разных съездах, проходивших в
Уфе, Казани, Оренбурге, Москве и других городах России,
направленные на отстаивание земельных позиций и предо-
ставление автономии, свидетельствуют о том, что весь на-
род (преимущественно крестьянский) жил этой историче-
ской идеей, был заряжен постоянной энергией борьбы за
эту идею, что и сказалось во всеобщем выступлении баш-
кирского народа, который стал добиваться своего с оружи-
ем в руках, не различая, с кем и против кого борется.
А боролся он за свои права!
Дело еще и в том, что передовые башкиры (и не толь-
ко они!) жили с постоянным чувством утраты своих исто-
рических прав на собственные земли, насильно у них от-
нятые, с чувством вотчинников, которых насильственно ли-
шили своих законных владений, где они, по сути, превра-
тились в изгоев. Это чувство невозможно было вытравить
ничем, и в урочный час своей драматической судьбы они
сказали свое веское слово, подняв грандиозное нацио-
нальное движение, которое могло возникнуть лишь у на-
рода-вотчинника. Именно за свои исторические владения
сражались с оружием в руках дехкане Узбекистана, ко-
чевники-скотоводы Киргизии, джигиты Алаш-Орды и
Туркмении, которых позднее заклеймили словом «басма-
чи». Характерно, что делегаты народов, не имевших соб-
ственной земли и являвшихся припущенниками, выступали
на съездах не за автономию, а за унитарность России. К
ним, в частности, относятся представители татарской деле-
гации (Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Ахмет Саликов и
др.). Об этом более чем убедительно пишет в своей книге
«Хатиряляр» — «Воспоминания» Ахметзаки Валиди.
Речь Мансура Халикова на Губернском съезде крестьян
в мае 1917 года —одна из первых ласточек будущих поли-
тических требований, с которыми выступят лидеры Баш-
кирского шуро осенью того же года в оренбургском Ка-
раван-Сарае, объявляя «буржуазную автономию» Башкор-
тостана. Однако сколько общего между выступлением того
же Мансур-хазрета по вопросу земли и свободы с пункта-
ми Фармана № 1, принятого новоорганизованным шуро!
40
Так что, ни о какой наивности или романтическом макси-
мализме молодых башкир того времени не может быть и
речи!
II
Кто же он был, Мансур-хазрет Халиков?
Прежде чем обратиться к его жизни и судьбе, следует
отдать должное кандидату философских наук Рамазану
Кутушеву, который первым задался этим вопросом, провел
определенную изыскательскую работу и опубликовал в не-
которых газетах статьи под названием «Первый муфтий
Башкортостана».
Автору этих строк хочется взглянуть на судьбу и лич-
ность этого человека под несколько иным углом зрения,
который я назвал бы «социально-психологическим», уви-
деть в нем прежде всего живого человека, а не общест-
венно-политический манекен.
Однако, как и Р. Кутушев, я хочу начать с отца Ман-
сура Халикова — Хатип-хазрета, благодаря которому обыч-
ный башкирский аул под названием Оло Утяш (Большое
Утяшево), находящийся на территории нынешнего Гафу-
рийского района, стал широко известным не только в ок-
руге, но и далеко за ее пределами.
У человека по имени Габдельсалям было шестеро сы-
новей, и имя каждого из них, как и у отца, начиналось
с благородной приставки «Габде»: Габдельвекаб, Габдер-
рахман, Габдельсамат, Габдельрафик, Габдельфатих, Габ-
дельхалик.
В ту пору две четверти аула Большое Утяшево состоя-
ло из наследников этого самого старожила Габдельсаля-
ма, ибо у каждого из названных выше «Габделей» было
еще по нескольку сыновей и еще больше — внуков. Шеже-
ре Халиковых пестрит именами из нескольких поколений.
Сегодня в Утяшево проживает одна единственная пред-
ставительница этого некогда знатного и ветвистого кла-
на — Гульсум Галимова. Можно себе представить, на-
сколько разворошена, растерзана и истреблена была родо-
словная этой фамилии; сколько достойных мужей было
выслано во все мерзостные места великой России, если в их
родовом ауле Халиковых осталась одна-единственная
женщина-пенсионерка!
Однако весьма скоро выяснилось другое: очень многие
41
Халиковы поменяли свою крамольную фамилию и даже
имена. Точно так же, как это делали представители дру-
гих широко известных опальных фамилий, которые на за-
ре советской власти оказались не просто в немилости, но
и стали объектами травли и физического уничтожения.
Самый яркий тому пример — родственники и наследники
Ахметзаки Валиди.
Однако вернемся к роду Халиковых.
У последнего из сыновей Габдельсаляма — Габдельха-
лика в 1856 году родился сын Габдельхатип. Постепенно
первая часть его имени отпала и для сотен и тысяч людей
он стал просто «Хатип-хазретом». От природы глубоко и
всесторонне одаренный, в совершенстве владеющий араб-
ским и турецким языками и столь же в совершенстве чи-
тающий и комментирующий Священное писание ислама,
этот отпрыск Халиковых с молодости приобрел широкую
популярность. Но не только своими религиозными и науч-
ными познаниями, но и способностями целителя. Его ни-
как нельзя было назвать «знахарем» и тем более «шама-
ном». Для этого он был слишком благороден и учен. Ха-
тип-хазрет обладал даром ясновидения, прорицателя и
предсказателя, как и даром гипноза. У него были боль-
шие черные глаза, взгляд которых как бы проникал в са-
мую душу собеседника; он мог заставить онеметь, доби-
ваясь безропотного исполнения любой своей воли; он мог
сделать человека болтливым, заставить излить свою душу...
Тем не менее, хазрет этому свойству своей натуры не
уделял особого внимания. Заниматься исцелением он поз-
волял себе лишь в исключительных случаях. Куда больше
его занимала идея просветительства. Поначалу масштабы
его просветительской деятельности ограничивались соб-
ственным аулом, затем стали обретать все больший раз-
мах, который смело можно было бы назвать общенарод-
ным.
Молодого Хатип-хазрета угнетало то обстоятельство,
что в их большом башкирском селе нет даже обычного
общедоступного медресе, и детям приходится уходить и
даже уезжать в другие аулы. Разве это не унизительно для
их благородной фамилии? И он приступает к сбору де-
нежных пожертвований для строительства собственного
учебного заведения. Но за год с лишним ему удается соб-
рать лишь половину необходимой суммы денег. Тогда он
тайно от друзей и родных, как говорится, на свой страх и
риск, отправляется в Казань, где наносит визиты к извест-
ным казанским духовникам и богатеям. У них он вызывает
не только острое любопытство и интерес, но и пользуется
42
пристальным вниманием. Во-первых, многие из них ни-
когда дотоле не видели истинного башкира, не слышали
истинно башкирскую речь. Но более всего удивили казан-
ских Рокфеллеров познания башкирского хазрета в облас-
ти теологии и религии. Тогда считалось особым форсом в
избранном кругу ученых мужей прочитывать вслух слож-
ные для понимания места Корана и давать им свое истол-
кование. Так вот выдержки, приводимые Хатип-хазретом, и
его велеречивые, хотя и вполне понятные объяснения при-
водили слушателей в восторг и изумление. Посланец баш-
кирского духовенства произвел на казанских отцов горо-
да неотразимое впечатление, и они снабдили его необхо-
димой суммой для будущих благотворительных целей.
Вернувшись в родное Утяшево, хазрет с жаром при-
нялся за строительство медресе, наняв для этого не толь-
ко людей из своего аула и из близлежащих деревень и
сел, но и вызвав мастеров столярного и плотницкого дела
даже из Уфы. Построенное из ровной строевой сосны зда-
ние медресе получилось впечатляюще просторным и кра-
сивым. На его освящение в Утяшево приехали авторитет-
ные духовные лица из самых отдаленных мест. Теперь в
утяшевском учебном заведении обучались не только ауль-
ские дети, но и подростки из соседних сел и деревень. Од-
ним из шакирдов был отрок из соседнего Утяшеву села
Зилим-Караново по имени Мажит. Фамилия его была Га-
фуров. Он был сиротой, проживал у родственников, кото-
рые относились к нему хуже некуда, и Мажит все чаще
оставался на выходные дни в Утяшево, проводя время над
книгами и общаясь с сыном Хатип-хазрета Мансуром.
Позднее этот паренек станет писателем Мажитом Га-
фури и первым народным поэтом Башкортостана. С сы-
ном своего учителя и воспитателя Хатип-хазрета Мансу-
ром он будет поддерживать дружеские отношения до дня
его ареста.
Но об этом — позже.
При строительстве медресе Хатип-хазрет лично участ*
вовал во всех делах, вплоть до чисто физических — пере-
носки и распилки бревен. Однажды он сильно напрягся
и ушиб поясницу. Не помогали никакие снадобья и мази,
которыми по очереди растирали его спину и поясницу сы-
новья хазрета Мансур, Махмут, Ахмет, Мухаметша и Файз-
рахман. Правда, он еще прожил несколько лет, но здо-
ровье его не только не восстанавливалось, но зримо ухуд-
шалось. В 1910 году Хатип-хазрет скончался в возрасте
54 лет. Его могила выделяется на утяшевском кладбище
не каким-то особенным обрамлением или надгробной пли-
43
той, а двумя раскидистыми соснами, охраняющими веч-
ный покой усопшего.
Ну а детище его — утяшевское медресе — простояло
еще более шестидесяти лет, в последнее время там был
интернат, детдом. И только в 1995 году на его месте вы-
росла кирпичная школа, построенная с расчетом на буду-
щее. Дело в том, что ныне в этом столь знаменитом в
прошлом ауле, в школу ходят не более полутора десятка
девочек и мальчиков, которые вполне умещаются в одной
классной комнате. Но председатель колхоза «Агидель» Га-
линур Галин, ставший инициатором строительства этой
школы, верит: постепенно начальная школа аула Утяшево
станет восьмилеткой, а там — и средней. Он прекрасно по-
нимает, что только школа может стать главным стимулом
культурного (а значит, и экономического) возрождения
любого населенного пункта, и в этом смысле он как бы
продолжает традиции Хатип-хазрета Халикова. Ну а одну
классную комнату школы решено отдать под музей рода
Халиковых.
III
Начиная с 30-х годов на гафурийской земле возникло
слово (или понятие?) «халиковщина». Слово это было хо-
рошо известно работникам ГПУ, а затем КГБ и местного,
и республиканского масштаба. Как ни странно, сущест-
вует оно и до сих пор. Но если несколько десятилетий в
понятие это вкладывался крайне негативный смысл, по-
добный «валидовщине», и оно ассоциировалось с неким
враждебным советской власти и народу кланом, то в пос-
леднее время мыслящие гафурийцы (и не только они!)
связывают это понятие с одним из самых прогрессивных
явлений в истории края, с жизнью и деятельностью родст-
венно связанных между собой людей, которые много сде-
лали для этих мест, их жителей, юного поколения га-
фурийцев, проповедуя грамоту и образование, строя шко-
лы и медресе, доводя до ума и сердца простолюдинов ду-
ховные корни ислама (но не шариата!). Почти все Хали-
ковы были людьми образованными — хотя бы в пределах
местного медресе! — духовно возвышенными и культурны-
ми, и это проявлялось во всем: в образе их жизни и пове-
дения, каждодневном труде, образе семейной жизни; в
доме каждого из них была хотя бы небольшая библиоте-
ка, в которой, кроме книг Священного писания, имелись
сочинения лучших башкирских, татарских, казахских пи-
44
сателей. При домах они растили сад, сажали овощи, что
тоже было не очень-то привычным явлением для башкир-
ского аула. Большая часть Халиковых принадлежала к
сану духовников и священнослужителей, но не было среди
них ни одного богатея, «эксплуатировавшего» чужой труд.
Они все любую черную работу делали своими собствен-
ными руками. У каждого из Халиковых, как правило, бы-
ли большие семьи; дети учились в разных городах, прео-
долевая огромные трудности жизни.
Разгром «халиковщины» начался сразу после граж-
данской войны, когда на первый план вышли «активис-
ты», «комитеты бедноты», «угнетенные низы». Именно они
при первой, благословленной политическими верхами, воз-
можности набросились на клан Халиковых с яростью из-
голодавшихся псов. Доносы, жалобы, грязные аноним-
ки — это были самые невинные средства борьбы против
«душителей народных масс». Сплоченные ряды «активис-
тов» совершали прилюдные погромы, избивали «эксплуа-
таторов», иногда — до смерти, вынуждали их покидать
родной аул, уезжать куда-нибудь подальше от него, куда
не могли дотянуться щупальца утяшевских голодранцев,
обретших необъятную власть. Почти каждый день (точ-
нее, каждую ночь) производились аресты, иногда — рас-
стрелы без суда и следствия. Фабриковались «дела», вы-
являлись «заговоры», как это произошло с «разоблаче-
нием заговора» группы Халиля Халикова, кстати, будущего
тестя профессора Дж. Киекбаева. Халиковых безжалостно
отправляли в тюрьмы, лагеря и далекие северные поселе-
ния. Один из братьев Мансура-хазрета Махмут Халиков
был отправлен в «трудармию», откуда ему удалось вер-
нуться, но он умер в первый же год возвращения.
Тем более удивительным представляется тот факт, что
еще в 50-х годах в Большом Утяшеве жило довольно мно-
го Халиковых старшего поколения. В дом младшей сестры
Мансур-хазрета Шакиры-эби летом съезжались родствен-
ники из самых разных городов Башкортостана и Татарста-
на, где они работали на заводах, преподавали в школах
и вузах, трудились врачами... О судьбе каждого из них
можно было бы написать увлекательный, полный драма-
тизма роман. Чего стоят хотя бы жизнь и судьба самой
младшей дочери Хатип-хазрета Факии Халиковой! Совсем
молодой девушкой она ушла фельдшером на фронт. Пре-
одолевая невероятные трудности, почти конспиративно
училась в Уфимском медицинском институте, не числясь
в студентах. Ютилась в общежитии, откуда ее несколько
раз выгоняли, но она ухитрялась вновь и вновь находить
45
там «темный» уголок. На войне погиб ее первый муж Ас-
хат, которого она безумно любила. От второго родились
двое детей, старший из которых — Фарит Мухаметов —
пошел по пути матери, стал кандидатом медицинских
наук, одним из лучших травматологов республики, рабо-
тает ныне заведующим травматологическим отделением
Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова.
Сама же Факия Хатиповна до конца своей жизни препода-
вала в Уфимском медицинском техникуме и пользовалась
непререкаемым авторитетом.
Вот так же можно было бы рассказать о всех других
Халиковых, каждый из которых не потерялся, стал лич-
ностью, ибо, как известно, благородное семя непросто ист-
ребить или извести, как бы того ни хотели враги и даже
всесильные власти. Халиковы — яркий тому пример. Одна-
ко какую трагическую судьбу пережило несколько их по-
колений, потеряли самых ярких и выдающихся своих пред-
ставителей. И на первом месте среди них, без сомнения,
стоит герой нашего очерка, первый муфтий Башкортоста-
на Мансур Халиков.
Так вернемся же к его личности.
Очевидцы утверждают, что старший сын Хатип-хазрета
Мансур Халиков унаследовал от отца самые замечательные
черты и свойства богатой натуры. А в смысле широты зна-
ния он, несомненно, пошел дальше него, ибо само новое
время дало ему возможность не только учиться в самых
престижных учебных заведениях — троицком медресе «Ра-
сулия» и уфимском медресе «Галия», но и тесно общать-
ся с передовыми, умнейшими людьми своего времени. Во-
вторых, Мансур-хазрет довел до совершенства свое оратор-
ское искусство, которое, конечно же, было присуще и Ха-
тип-хазрету, но ограничивалось религиозно-теологической
тематикой. Наконец, отцовская страсть к просветительст-
ву своего народа переросла в его сыне в глубокий патрио-
тизм, в желание всеми средствами бороться за народные
устремления и идеалы. Не чуждо было ему и целительст-
во, но делал он это главным образом произношением мо-
литвенного заклинания (ушкуреу), нежели гипнозом и на-
говорами, как это совершал Хатип-хазрет.
Названная выше Шакира-эби, которая была моложе
Мансур-хазрета всего на семь лет и дожила до 70-х годов,
рассказывала, что ее брат в отрочестве писал стихи, кото-
46
рые тут же прочитывал вслух. Его талантом якобы вос-
хищался юный Мажит Гафури и предрекал своему другу
большое литературное будущее. Но Мансур Халиков уже
тогда заявил: «Сейчас не время стихов, а время активных
действий. И так наш народ дремлет без малого сто лет.
Мы должны не только нести свет нашим темным сороди-
чам, но и будить их для борьбы».
Трудно предположить, чтобы старая, получившая не
ахти какое образование женщина (так уж сложилась ее
жизнь!) могла взять с потолка такие слова.
Очевидное угасание отца сильно волновало Мансур-
хазрета, угнетающе действовало на настроение всех домо-
чадцев. В ту пору Мансур Халиков учился в знаменитом
Троицком медресе ишана Зайнуллы Расулева, а после того,
как блестяще его окончил, хозяин учебного заведения сде-
лал ему лестное предложение остаться при медресе, став
его учителем. Но выпускник отверг предложение ишана,
вернулся в родное Утяшево. Он видел неминуемый конец
своего отца и сразу стал активным его помощником в пла-
не ведения дел в утяшевском медресе, а затем— и его
фактическим хозяином. Взялся он за это дело с присущей
ему решительностью и энергией. Первыми шагами моло-
дого учителя и управителя медресе было включение в
учебный процесс новых научных дисциплин — математики,
астрономии, истории и географии. Затем было включено
также изучение русского языка, которым сам хазрет вла-
дел очень хорошо. Он специально ездил в Уфу, чтобы по-
добрать педагогов для своего медресе, знакомился с ша-
кирдами недавно открытого там учебного заведения «Га-
лия», которым заведовал передовой для своего времени
человек по имени Зия Камали, получивший образование
в Бейруте и Истамбуле. Постановка учебного процесса в
медресе «Галия» привела Мансур-хазрета в восторг. Но
еще больше покорил его уровень обучавшихся в нем ша-
кирдов, которые съехались сюда не только из разных кон-
цов Башкортостана, но и из других регионов России — та-
тары, казахи, киргизы, узбеки, туркмены, черкесы, крым-
ские и сибирские татары и др. Многие из них впоследствии
стали в своих краях крупными общественно-политически-
ми деятелями, учеными и писателями. В медресе «Галия»
имелась огромная библиотека, где хранились книги на
башкирском, татарском, турецком, казахском, арабском,
русском языках. Шакирды могли устраивать дискуссии и
диспуты на любую тему, совершенно открыто выражать
свои мысли и взгляды, свою политическую платформу. Как
пишет в своих воспоминаниях Р. Давлетов, «В 1908 году
47
в Уфе большевик Галимджан Сайфи (Г. Сайфетдинов) и
левый эсер Баимбетов (Мансур) и другие, собирая группы
сознательных молодых шакирдов в медресе «Галия» про-
водили подпольные собрания, устраивали лекции, докла-
ды, распространяли революционную литературу, давали
советы, какие книги и брошюры читать».
Однако верхом демократической атмосферы в медресе
является, пожалуй, бунт шакирдов, который произошел в
1912 году. Большая группа учащихся, числом до 50 (!) че-
ловек, выразила единодушный протест против исключе-
ния из медресе своего товарища за его политические убеж-
дения. В конечном счете, большинство из бунтарей поки-
нули стены родного учебного заведения, чтобы не пойти
на унизительный компромисс. Это был не протест против
заведующего, а вызов, брошенный благодетелям медресе,
как нынче сказали бы, «спонсорам» — уфимским богатеям
Антурину, Назирову, Гусманову, Хакимову, Ягудину и др.,
которые требовали, чтобы в опекаемом ими медресе прово-
дилось исключительно религиозное обучение. Зия Камали
находился меж двух огней, он не мог пойти против тол-
стосумов, ибо это грозило бы полным безденежьем и за-
крытием учебного заведения; с другой стороны, не хотел
ухода лучших своих шакирдов. Эта щекотливо-драматиче-
ская ситуация блестяще описана еще одним шакирдом
медресе «Галия» Шайхзадой Бабичем в его очерке «Деся-
тилетие медресе «Галия», в котором он выводит 3. Кама-
ли не только хитроумным дипломатом, но и весьма реши-
тельным человеком в претворении в жизнь своих взглядов
и принципов.
Таким образом, медресе «Галия» того времени было не
только одним из самых передовых и основательных учеб-
ных заведений, но и представляло собой некий тлеющий
костер, готовый в любую минуту разгореться грозным пла-
менем.
Все это не могло оставить Мансура Халикова равно-
душным. Он сблизился со многими активными шакирда-
ми, приглашал их на лето в свой аул, иные из них приняли
его предложение обучать подростков в вверенном ему мед-
ресе. Сам же он, не устояв перед уровнем заведения Зия
Камали, тоже стал его студентом. Правда, шакирдом, так
сказать, привилегированного характера. Выпускник не ме-
нее авторитетного медресе «Расулия», он имел высокий об-
разовательный ценз и потому учился в медресе «Галия»
как бы по своему усмотрению, избирательно посещая
уроки и семинары, при надобности свободно уезжая к себе
домой, где продолжал руководить медресе. Нередко он на-
48
катывал в Большое Утяшево вместе со своими друзьями,,
среди которых был первый башкирский композитор и пе-
вец, а также первый народный артист республики Газиз^
Альмухаметов, художник Касим Давлеткильдеев, буду-
щий нарком внутренних дел, а тогда — один из бунтарей-
шакирдов Исмагил Султанов; Мажит Гафури же приезжал
в Утяшево, как к себе домой. Еще в 50-х, 60-х годах об
этих «наездах» замечательных людей башкирского народа
в аул Хатипа-хазрета помнили и красочно рассказывали
многие старожилы Большого Утяшева, а больше всех —
Шакира-эби. Добавлю, что до 40-х годов на чердаке ее
дома хранился большой сундук с рукописями Мансура
Халикова и его огромной перепиской, где только поэтиче-
ских посланий М. Гафури было несколько десятков. Все
это было предано огню, уничтожено в одночасье, когда
хозяйке дома показалось, что ее семье грозит опасность
ареста и высылки.
Нет никакого сомнения в том, что время учебы и пре-
бывания в стенах медресе «Галия» стало для Мансура
Халикова периодом бурного духовного и политического
роста, активнейшей общественной деятельности, сближе-
ния с самыми прогрессивными представителями нации.
Нет сомнения и в том, что именно тогда он близко сошел-
ся с Ахметзаки В ал иди, который после возвращения из
Казани какое-то время преподавал в учебном заведении
Зия Камали. Именно эта дружба в стенах медресе стала
причиной их дальнейшей совместной деятельности, когда
Мансур-хазрет являлся старшим другом и соратником бу-
дущего предводителя Башкирского национального движе-
ния Валиди в организации первых полков; в выработке
политических идей, лозунгов и принципов опирался именно
на таких авторитетных людей, как Мансур-хазрет. С благо-
словения последнего в ряды башкирского войска было на-
правлено немало духовных лиц, которых так и называ-
ли — муллами; они исполняли среди бойцов ту же роль,
что исполняли в революционных войсках политкомиссары.
Все отличие — в религиозной духовности, с одной сторо-
ны, и воинствующем атеизме, с другой.
В своей книге «Хатиряляр» («Воспоминания») Ахмет-
заки Валиди Тоган неоднократно упоминает село Зилим-
Караново, где жил его близкий родственник Ямалетдин
Баишев, местный имам. Большое Утяшево находится всего
в двух-трех километрах от Зилим-Караново, к тому же,
Баишев и Мансур Халиков — собратья по духовному сану.
Можно ли сомневаться в том, что всякий приезд Валиди
отмечался присутствием Мансура-хазрета, беседами с ним?
49
Выезжал Валиди и в другие населенные пункты этой
сторонки — Саитбаба, Мурзакай, Кабарды...
Любопытным представляется описание Валиди встре-
чи с Мажитом Гафури: «...известный поэт нашего народа
-Мажит Гафури был родом из аула Зилим-Караново... Он
был немного старше меня, учился у ишана Зайнуллы в
Троицке. Я остановился у поэта. Вечером он читал мне
стихи, а утром мы вместе отправились в Мурзакаево. Уз-
нав о моем приезде, собрались люди даже из других аулов.
Эти радостные встречи и задушевные беседы незабывае-
мы. Они глубоко взволновали поэта: свои стихи собрав-
шимся он читал с большим воодушевлением. Сегодня на
^его родине, публикуя произведения Мажита Гафури сто-
тысячными тиражами, пытаются изобразить его привер-
женцем советской идеологии. Но в ту пору он был вооду-
шевлен национальной идеей».
В другом месте, говоря о встрече с Ямалетдином Баи-
шевым, Валиди упоминает имя хазрета Сабира, который
«нашел для нас одежду горных башкир, запряг лошадей
л повез на Шамовский рудник...»
Сабир-хазрет приходился родным братом Хатип-хазре-
*ту, и духовную службу нес в крупнейшем не только в Га-
-фурийском районе, но и во всем Башкортостане селе Саит-
баба. Он был во всех отношениях замечательным челове-
ком и глубоким знатоком Корана. А силой внушения,
гипнозом и целительными способностями обладал даже в
«большей степени, чем Хатип-хазрет. К нему шли больные,
калеки, слепые и глухие из всех ближних и дальних аулов.
Поныне в том краю бытует множество легенд и сказов об
этом человеке. Говорят, например, что он совершал настоя-
щие чудеса: мог на глазах присутствующих оживить уми-
рающее животное, взглядом гипнотизирующих глаз и ше-
потом прочитанной молитвы в одну минуту исцелить боль-
ное, исходящее плачем дитя; снять головную боль взрос-
.лому человеку прикосновением пальцев и т. д. Теперь мы
знаем, что такое гипноз и биополе, но тогда все эти спо-
собности хазрета воспринимались людьми как божествен-
ная сила, небесный дар (в сущности, так оно и есть!), и
потому еще при жизни Сабир-мулла был провозглашен
ясновидцем и святым (аулией). После смерти слава его
удесятерилась. Он остался в памяти людей как духовный
гений, святое явление среди земных людей. За его могилой
постоянно ухаживают десятки односельчан, на поклон к
его праху приходят из других аулов и не только Гафурий-
ского района.
Рассказывают также, что его не могли арестовать,
.60
увести из собственного дома. Когда за ним пришли иэ
ГПУ, то стали происходить подлинные чудеса: ноги одного
из милиционеров у самого крыльца прилипли к земле, как
к смоле; другому удалось войти в дом муллы, но тут оьг
почувствовал такую слабость, головокружение и тошноту,,
что вынужден был поскорее ретироваться, даже не ycnes-
предъявить хозяину дома повестку или словесное обвине-
ние. Приходили за ним и во второй, и в третий раз, и каж-
дый приход кончался неудачей. Так Сабир-хазрета и оста-
вили в покое, так сказать, махнули рукой. Его благородное-
имя достойно несли и несут дети и внуки, каждый из ко-
торых на своем месте являлся уважаемым человеком.
IV
То, что постоянно отвлекаюсь от своего главного героя
и начинаю говорить о других, объясняется просто. В сущ-
ности, причину этого я уже объяснил выше: любой пред-
ставитель рода Халиковых достоин особого внимания и
рассказа, поэтому, стоит на ком-то остановиться более или
«менее подробно, и уже трудно себя перебороть: личность
его сама по себе требует хотя бы попутного акцента в глав-
ном повествовании.
Годы, проведенные Мансур-хазретом в стенах медресе
«Галия», пришлись на эпоху бурного развития националь-
ного самосознания. Бунт шакирдов, о котором я рассказы-
вал выше, был воспринят общественностью еще и протестом
против жестоких столыпинских законов, которые особен-
но больно ударили по национальным окраинам. Это был'
еще и протест против ущемления прав учебных заведений,,
его учителей и учащихся, последовавшего сразу после-
ленских событий. Словом, шакирды медресе «Галия» по-
вели себя как истинные лидеры национальной интеллиген-
ции, громко заявившие о своем гражданском и человече-
ском достоинстве. И Мансур Халиков был в их рядах.
Тем не менее, все эти годы главным объектом его вни-
мания было собственное утяшевское медресе и учившиеся
в нем дети. К тому времени в ауле была воздвигнута но-
вая мечеть, а число жителей намного выросло за счет пе-
реселявшихся туда людей из других аулов. Большое Утя-
шево становилось духовным и культурным центром этого
лесного края, оставив в тени соседнее Зилим-Караново.
Общественно-политическая деятельность Мансура Ха-
ликова резко активизировалась с Февральской буржуаз-
ной революцией. Настроение башкирской интеллигенции
51
того времени кратко и выразительно сформулировал Ах-
:метзаки В ал иди в упомянутой уже книге «Хатиряляр»: «Я
поднялся рано. Стоя у окна и опираясь на подоконник,
.долго наблюдал за тем, как солдаты беспорядочными
группами выходили из ворот казарм и уходили куда-то
восвояси. Это и было началом солдатских волнений. Я
молил в те минуты: «О, Создатель, пусть это движение от-
кроет дорогу к свободе и для моего народа!» Слезы сами
собой застилали мне глаза».
Напомню, что в ту пору, т. е. в момент свершения Фев-
ральской революции, Заки Валиди находился в Петер-
бурге.
Я помню рассказы ветеранов революции, которых нын-
че почти не осталось, — о многолюдных шествиях и демон-
страциях, не только на улицах и площадях Уфы, но и в
других городах и больших поселках Башкортостана. Ми-
тинги возникали совершенно стихийно; эпоха создавала
своих ораторов. Именно тогда активность башкир, воз-
главляемых своими национальными лидерами, была осо-
бенно поразительна. Иллюзия грядущих коренных пере-
мен витала в воздухе. Пламенные слова ораторов-зла-
тоустов внушали не только надежду, но и уверенность в
лобеде демократии и федеративных сил.
То, что Мансур Халиков являлся бесспорным лидером
этих сил, доказывает как раз выступление его на первом
яосле свершения революции столь представительном фо-
руме, как Первый Губернский крестьянский съезд.
Самое активное участие принял он и в Первом Башкир-
ском курултае, проходившем в Оренбурге, и во Втором
курултае башкир, который проходил 28 — 29 августа в
Уфе. На этом курултае утверждались кандидаты в депу-
таты Российского Учредительного собрания, открытие ко-
торого было назначено на 23 декабря 1917 года в Петро-
граде. Мансур Халиков проходил по списку № 11 от Та-
бынской волости Стерлитамакского уезда. Рядом с ним
стояли имена таких деятелей, как Ахметзаки Валиди,
Шариф Манатов, Гумер Куватов, Фатхи Ахмадуллин, Га-
ли Шамигулов.
На первое заседание Учредительного собрания Мансур
Халиков ехал полный планов, энергии и желания отстаи-
вать интересы родного народа. Но его мечтам не суждено
было сбыться: Собрание началось 18 января 1918 года в
Таврическом дворце, а уже в пятом часу следующего дня
было объявлено о его закрытии, ибо большевистским вож-
дям не понравились весь дух и состав этого форума.
Домой Мансур-хазрет возвращался совершенно в ином
52
настроении, ибо понял, что никакая партия просто так не
подарит им желанную свободу и автономию, а демокра-
тию надо будет отстаивать в тяжелой и неравной борьбе.
Сбывались слова Заки Валиди о неизбежности борьбы,
которые Мансур-хазрету нередко приходилось слышать
из его уст. Бывшего благодушного настроя, царившего
-среди представителей национальной интеллигенции, как не
бывало. Менее сильные духом сразу же или постепенно
ушли из рядов борцов или поменяли политическую ориен-
тацию. Но оставшиеся в строю прониклись еще большей
•ответственностью за будущее своей земли, за будущее
народа и продолжили борьбу; стали действовать с еще
большим упорством и сознанием возложенной на них ис-
торической ответственности и грандиозной задачи.
Среди них был и имам-хатип Мансур Халиков.
V
«Башкиры, будучи беспощадно угнетены самодержа-
вием, ограбляемы всякими генералами, вытесняемы бес-
конечной волной русских переселенцев, неоднократно под-
нимали восстания, которые жестоко были подавлены; луч-
шие элементы, способные к борьбе, погибли, но это созда-
ло сильное национальное чувство, и лозунг национально-
го самоопределения получил большую популярность. При
победе революции башкиры, как мелкобуржуазная нация,
вполне естественно, должны были пережить целую поло-
су здорового национализма, пока не подготовятся к клас-
совой борьбе внутри своей нации. От революции башкиры
ничего материального не получили. Бывшие помещичьи
земли и значительные имения Башкирии попали главным
образом более сильному элементу — переселенцам или
совхозам, где работают русские. От фабрик и заводов ни-
чего не досталось башкирам, не имеющим в своей среде
рабочих. Единственное их приобретение — это своя рес-
публика...»
Этот отрывок взят из большой статьи С. Диманштейна
«Башкирия в 1918—1920 гг.», напечатанной в 1928 году
в журнале «Пролетарская революция». Сам же он работал
тогда в столице Малой Башкирии Стерлитамаке в качест-
ве представителя Наркомнаца.
Следующий отрывок я взял из очерка другого «пред-
ставителя Центра (Москвы) П. Мостовенко «О больших
ошибках в «Малой Башкирии», который также появился
в 1928 году в журнале «Пролетарская революция»:
53
«Наилучшее представление о положении Башкирского
правительства во время работы в Стерлитамаке читатель
получит, познакомившись с тем, как окружающие губер-
нии относились к Башкирскому правительству, заранее за-
подозренному в «национализме» и всех пяти прочих анти-
советских грехах Башревкома, а к правительству, состояв-
шему почти сплошь из коммунистов, избранному I Баш-
съездом, — БашЦИКу, Башсовнаркому, и Башкобкому
ВКП(б), которые работали при ближайшем участии и под
руководством специально делегированных представителей
ЦК партии и сами состояли почти сплошь из коммунистов
какой угодно, но только не башкирской национальности».
Даже из этих двух маленьких отрывков русских това-
рищей из Москвы, которым по воле судьбы пришлось ра-
ботать в Стерлитамаке в самое сложное, трагическое для
Башкирской автономии время, можно себе ясно предста-
вить, в каких условиях вынужден был жить и трудиться
Башревком во главе с Харисом Юмагуловым. Ему и его
немногочисленным соратникам приходилось вести настоя-
щую войну с расположенным в том же городе так называе-
мым Башобкомом, руководимым известными большевика-
ми Артемом, Самойловым, Измайловым и Шамигуловым.
Конфликт между ними зашел так далеко, что для его
разрешения в Башкирию приезжал сам Лев Давидович
Троцкий.
По воле той же неотвратимой судьбы, в этих неразре-
шимых конфликтах пришлось участвовать и нашему ге-
рою— Мансуру Халикову. Как бы он ни желал отдавать
все свои силы шакирдам своего собственного медресе,,
жизнь его испытала крутой перелом: он был поначалу
приглашен на должность заведующего отделом народного
образования в Табынск, а через две недели его уже пере-
вели на работу в нарком юстиции в Стерлитамак.
Но об этом — чуть позднее.
* * *
«Третий курултай Башкортостана мы решили провести
с 20 декабря 1917 года до начала января 1918 года,— пи-
шет в своей книге «Хатиряляр» Заки * Валиди. — Этот ку-
* Принято двойное использование имени Ахметзаки Валиди. И его»
соратники и авторы, писавшие о нем, нередко называли его просто.
«Заки». Именно поэтому автор этой книги считает возможным поль-
зоваться и той, и другой формой его имени — Г. Ш.
54
рултай должен был сыграть роль главного меджлиса на-
шей родины. Чтобы курултай мог работать спокойно, без
спешки, его участникам было предложено приехать на
своих лошадях и с запасом провизии...»
Действительно, на этот главный форум башкирской на-
ции приехали из многих мест Башкирии.
Нет никаких сведений о том, принимал ли в нем учас-
тие Мансур Халиков; скорее всего, нет, ибо, будучи авто-
ритетнейшим религиозным и общественным деятелем, он
непременно должен был бы фигурировать среди известных
делегатов курултая, и не только фигурировать, но и быть
выбранным в руководящие органы.
Думается, тут сказались два фактора: первый — это
возраст. К тому времени ему исполнилось 33 года. Может,
это и немного, но в сравнении с лидерами новосозданного
Башкирского шуро, старшему из которых, Заки Валиди,
едва исполнилось 27 лет, разница заметная. Но основной
причиной была обремененность массой других дел, преж-
де всего, содержанием своего медресе, разрастающегося
год от года, а также занятость религиозной деятельностью
на самом высоком уровне (он являлся членом Духовного
управления Башкортостана). Наконец, следует учесть его
семейное положение, когда нужно было заботиться и о
своей семье, и о многих других близких людях. Вот поче-
му Мансур-хазрет избрал для себя иной путь участия, в
национальном движении: роль организатора на местах.
Как я уже сказал выше, такие люди были чрезвычайно
важны для руководителей движения, ибо от их слова за-
висело настроение не только отдельных людей или групп,
но и всей округи, региона, особенно, если они входили в
их религиозное ведомство. Из воспоминаний тех, кто пом-
нил то время и самого Мансур-хазрета, можно сделать
вывод, что в политических событиях упоминаемого периода
он сыграл немалую роль. Поначалу это выражалось в ор-
ганизации противостояния большевистскому террору, за-
тем— кровавой вакханалии белых войск. После побега
членов Башкирского шуро из оренбургской тюрьмы в фев-
рале 1918 года Ахметзаки Валиди и его товарищи находят
приют именно в подведомственных Халиковым аулах (Са-
итбаба, Кабарды, Мурзакай). Один из Халиковых — Са-
бир-мулла лично отвез Валидова на Шамовский рудник.
Все это свидетельствует о том, что с самого начала
Башкирского национального движения Мансур-хазрет был
связан с ним самым тесным образом.
55
* * *
Итак, в 1920 году Мансур Халиков начинает работать
в народном комитете юстиции в Стерлитамаке, где нахо-
дился Башревком, а затем в БашЦИК, председателем ко-
торого станет комбриг Муса Лутович Муртазин, вернув-
шийся с Польского фронта кавалером трех .орденов Крас-
ного Знамени.
Шакира-эби рассказывала, что у них в доме хранилось
много фотографий, на которых Мансур-хазрет снят вместе
с Муртазиным, Шагитом Худайбердиным, с членами Баш-
кирского правительства. Их постигла та же участь, что и
рукописи Мансура Халикова — все они были сожжены из
боязни обнаружения их властями и соответствующей кары,
неотвратимой в подобных случаях.
Новое назначение и общественная работа полностью
поглощают Мансур-хазрета. Его целиком захлестывает
бурный водоворот событий. Большую часть времени отни-
мают работа и выезды. К этому периоду его жизни отно-
шения хазрета с женой, остававшейся в родовом ауле,
крайне обострились. Стало ясно: разрыв неизбежен. Скоро
Мансур Халиков женится на дочери состоятельного стер-
литамакского купца Сайфуллина — Марьям, которая да-
рит ему двоих детей — сына Ашрафа и дочь Фаузию.
От первой жены у него тоже было двое — Рифкат и
Закия.
Словом, хлопот и забот у хазрета был полон рот.
* * *
Вскоре Мансур Халиков становится весьма заметной
фигурой в Стерлитамаке, а как духовное лицо и чиновник
новообразованного наркома он был известен во всей рес-
публике.
17 марта 1921 года в большом поселке Аллагуат (ныне
стерт с лица земли гигантами нефтехимии) состоялся Пер-
вый Всебашкирский курултай Мусульманского духовного
управления, которое переживало в ту пору сильнейшее
давление со стороны Советской власти. Курултай продол-
жался всего один день; ораторы старались быть предель-
но лаконичными, прекрасно осознавая, что они работают
под бдительным оком красного патруля. Всем все было
ясно без лишних слов. Деятельность Духовного управле-
ния переместилась из «атеистической» Уфы в столицу Ма-
лой Башкирии город Стерлитамак. Первым муфтием это-
56
го автономного клочка земли, который был назван в ту
пору казахским писателем и национальным деятелем Мух-
таром Ауэзовым «Северным сиянием», был избран герой
нашего очерка, самый известный человек в клане Халико-
вых имам-хатип из аула Большое Утяшево Табынской
волости Стерлитамакского уезда Мансур, сын Хатипа Ха-
ликова.
По воспоминаниям родных, он воспринял это избрание
без всякой радости и энтузиазма. Новый муфтий автоном-
ной республики прекрасно понимал отношение советской
власти и ее вождей к религии и религиозным деятелям.
Нести в таких условиях тяжкий крест первого духовного
лица представлялось чрезвычайно сложным и неблаго-
дарным делом. Во-вторых, именно в это время в самом
центре России — во всем Поволжье вовсю бесчинствовал
голод, который стремительно перекидывался в другие ре-
гионы молодого Советского государства и прежде всего
на Урал, где предыдущий 1920-й год тоже был неуро-
жайным, ну а 21-й собрал рекордный урожай голодных
смертей. Наконец, именно в том году в Башкирском За-
уралье возникли очаги грандиозных народных волнений,
которые переходили в открытые мятежи и даже вооружен-
ные восстания, наподобие поднятого в тех же 1920 —
1921 гг. А. С. Антоновым на Тамбовщине. Разумеется,
восстание это называлось «кулацко-эсеровским». Как из-
вестно, на подавление его были брошены огромные силы
Красной Армии, которыми командовали ведущие советские
военачальники.
«Кулацким» назывался и мятеж зауральских башкир,
хотя в ту пору там не было никаких кулаков. Вообще не
было нормально существовавших людей. Беспощадная
продразверстка, чудовищный террор палачей, наподобие
«представителя и уполномоченного Центра» Поленова, ко-
торый сотнями расстреливал местных башкир без суда и
следствия, начиная с кантонного руководства и кончая
последним нищим. Эта черная страница в истории авто-
номного Башкортостана довольно рельефно отражена в
очерке Шагита Худайбердина «В Бурзян-Тангауровском
кантоне».
А вот что пишет о Поленове С. Диманштейн: «...исто-
рия с Поленовым, который, будучи назначен на местную
работу по взаимному соглашению с башкирработниками,
оказался вскоре сверхинквизитором и настоящим преступ-
ным элементом, создала большое отчуждение между ра-
ботниками центра и башкирскими товарищами. Если бы
57
над Поленовым был устроен соответствующий публичный
суд, это внесло бы много успокоения и, возможно, что
удалось бы избежать и неприятных последующих событий
в Башкирии».
Для Башкирского обкома во главе с русскими и татар-
скими деятелями было чрезвычайно выгодно представить
башкирское повстанческое движение как прямое продол-
жение «валидовщины» и что его «следует искоренить в
корню». Однако нейтрально настроенный в этих вопросах
П. Мостовенко пишет следующее: «По ряду признаков у
нас к тому времени создалась твердая уверенность, что
повстанцы и в мыслях не имеют «воевать против Москвы
и Советской власти» вообще, как это пытались утверж-
дать обкомовцы... К концу конференции мы обнаружили
присутствие в Стерлитамаке одного из вождей повстанче-
ского движения — Расулева, который, оказывается, мирно
проживал здесь уже несколько дней с четырьмя конными
конвоирами (так блестяще обстояло дело охраны нашей
столицы!). Через товарища Халикова была устроена встре-
ча Расулева со мной и Лобовым, и мы быстро договори-
лись о поездке...»
Имеется в виду поездка в горы, в лагерь повстанцев.
Да, такие переговоры были. В том числе, с идеологом
повстанческого движения Сулейманом Мурзабулатовым,
большой очерк о котором создал и напечатал писатель
3. Султанов. Тем не менее, народное движение в Зауралье
тех лет, в котором участвовали не только б/ашкиры, но и
русские жители зауральского региона во главе со своими
вожаками Выдриным и Лукониным, по сию пору изучены
очень слабо. Ясно одно: оно, так же как и движение Ан-
тонова, было подавлено с крайней жестокостью. Жертвы
восставших исчисляются многими тысячами человек (з
«Очерках по истории Башкирской АССР» приводится циф-
ра 3 тысячи, но это, конечно, цифра сильно заниженная).
Вот в таких условиях Мансуру Халикову суждено было
стать муфтием Малой Башкирии. Один из историков, за-
нимающихся той эпохой, выразил мнение, что на долж-
ность муфтия утяшевского хазрета рекомендовал сам За-
ки Валиди, что вполне возможно, ибо выдвижение это
имело ярко выраженную политическую подоплеку. Изве-
стно, что новому муфтию неоднократно приходилось вы-
езжать к восставшим людям, что было отнюдь не безопас-
но: озлобление голодных и отторгнутых от жизни и обще-
ства людей могло обернуться любой, самой крайней ак-
цией даже против духовных лиц. Тем более что муфтий
58
призывал к примирению с советской властью, т. е. к сдаче
оружия.
Вообще за все время своей работы Мансур Халиков
пытался постоянно быть не только лояльным к советской
идеологии, но и в проповедях своих призывал к этому ре-
лигиозную паству.
Тем не менее, отношение Советского государства к ре-
лигии и духовным лицам ужесточалось с каждым годом,
и это особенно остро чувствовали на своей шкуре именно
такие люди, как муфтий Халиков. Однако на первых порах
было не до каких-то идейных противоречий. Все более уси-
ливающийся голод сотнями и тысячами косил людей. Об-
ратимся еще раз к записям С. Диманштейна:
«...нужда среди башкирской бедноты была столь вопию-
щая, а положение столь ужасным, что необходимы были
исключительные меры Центра, чтобы хоть как-нибудь об-
легчить участь вконец разоряющихся и умирающих баш-
кир. Казалось, что «Башкиропомощь» должна найти са-
мый горячий отклик среди башработников, но оказалось
далеко не так. Довольно скоро это учреждение стало чуть
ли не самым ненавистным для руководящих башработни-
ков, и они не могли даже о нем хладнокровно говорить...»
В чем же дело? На этот вопрос отвечает все в той же
книге «Хатиряляр» Заки Валиди. Чтобы не приводить
большую цитату, передам его мысль своими словами: с од-
ной стороны, руководители обкома развернули вокруг
«Башкиропомощи» невероятную пропагандистскую шуми-
ху, мол, советская власть заботится о башкире-бедняке;
с другой, ни один рубль не попал в руки башкирских жи-
телей, исчезая неведомо где. Тогда в дело пришлось вме-
шаться Валидову и его соратникам, которые изгнали из
Зиянчурино главного «распределителя» Спирина и на-
значили нового — Ахлова; только так удалось урвать кое-
какую сумму из выделенных Москвой полутора миллионов
рублей и передать ее башкирским аулам.
Поначалу Мансур Халиков также состоял в членах
«Башкиропомощи», но, возмущенный тем, как ведутся де-
ла, выходит из ее состава и тут же избирается председа-
телем комитета помощи голодающим, который к «Башки-
ропомощи» не имел никакого отношения. Фонд комитета
составлялся из пожертвований — как государственных ор-
ганов республики, так и отдельных организаций и частных
лиц. Причем пожертвования эти выражались не только
(и даже не столько) деньгами, сколько одеждой, едой и
т. д. На посту председателя этого комитета Мансур Хали-
ков почти напрочь забывает о своей духовной деятельно-
59
сти. Он постарался использовать все свои бывшие и су-
ществующие связи, свой авторитет для того, чтобы добыть
средства для спасения людей от свирепствующего голода,
и это ему в немалой степени удалось. В ту пору он рабо-
тал, как говорится, в одной упряжке с наркомом здраво-
охранения Гумером Куватовым, который столь же рьяно
боролся с многообразными страшными болезнями, бесчин-
ствовавшими по всей территории Башкортостана, доставал
лекарства, создавал «летучие» бригады фельдшеров и вра-
чей, которые выезжали в самые глухие районы республи-
ки, чтобы спасти умирающих от голода и болезней людей.
Голод и болезни — они шли рядом, и бороться с ними
можно было только «комплексно», что и пытались делать
те, на чью долю выпала эта тяжелейшая миссия.
Старейшая клиническая больница Уфы, носящая имя
Гумера Куватова, — достойный памятник этому мужест-
венному и неутомимому в своих добрых деяниях человеку.
Мансур Халиков тоже был рьяным работником на сво-
ем поприще, очень много сделавшим для спасения сороди-
чей от голодной смерти. Но он был не коммунистом, а
муфтием, и никакие заслуги не могли спасти его от этого
рокового обстоятельства, что в конечном счете и решила
его дальнейшую судьбу.
VI
Когда всеобщий голод так или иначе миновал, а болез-
ни пошли на убыль, Мансур-хазрет вновь вернулся к ис-
полнению своих религиозных обязанностей. Но даже сто-
лица Малой Башкирии Стерлитамак, где находился Баш-
ревком, не могла спасти своего муфтия от бесчисленных
доносов, наветов и жалоб, которые буквально потоком
шли в Уфу и Москву от тех, кто ненавидел таких людей,
как муфтий Мансур Халиков или Председатель Башкир-
ского ЦИКа Муса Муртазин, не говоря уже о членах Баш-
кирского ревкома, которые, в конце концов, вынуждены
были бежать кто куда, и их вылавливали, как зайцев, от-
стреливали, как волков, сажали в тюремные камеры, как
грабителей с большой дороги.
До того, как публично заявить об отказе от сана муф-
тия, Мансур Халиков пережил еще одно немыслимое уни-
жение, которое не столько касалось лично его самого,
сколько нации, к которой он принадлежал. Речь идет о
I Всебашкирском съезде Советов, который созывался в
городе Стерлитамаке, куда должны были съехаться деле-
гаты со всех концов республики.
60
Да простит меня читатель, но я вынужден еще раз
прибегнуть к помощи Петра Мостовенко, который оста-
вил об этом съезде весьма выразительные воспоминания.
«...Шамигулов кратко ознакомил меня с положением
дел. По его информации, оно представлялось блестящим —
съезд состоял почти исключительно из коммунистов. Я же
прежде всего обратил внимание на совершенно микроско-
пическое количество делегатов-башкир и выразил сомне-
ние, чтобы было удобно и соответствовало директивам*
центра организовать Баш. республику при полном почти
отсутствии в рядах учредительного съезда представителей
ее основной нации. На это Шамигулов сообщил мне, что
в создавшейся обстановке виноваты сами башкиры, что
их представители были избраны чуть ли не в большинст-
ве, «но кое-кого из выбранных мы арестовали как нацио-
налистов, остальные после этого поддались панике и раз-
бежались кто куда, и их место заняли кандидаты, почти-
сплошь русские и татары».
Трудно сказать, был ли башкирский муфтий избрав
делегатом на этот самый съезд или был приглашен наг
него, как говорится, для отвода глаз, но он находился на*
его открытии, а потом демонстративно покинул зал «баш-
кирского съезда без башкир». И это, конечно, тоже была
записано в его негативный актив. Работники обкома уже
совершенно открыто стали называть его «скрытым вали-
довцем» и «подпольным контрреволюционером», а его вы-
езды к восставшим зауральским башкирам истолковыва-
ли как «политически направленные». На него шли напад-
ки со страниц газет, его имя склонялось в Оренбурге, Че-
лябинске и Уфе. Да и без жалоб и доносов, без этих ярост-
ных устных и печатных атак наиболее воинствующих боль-
шевиков и активистов отношение Советского государства-
к духовенству и священнослужителям было яснее ясного..
Тем не менее, первого муфтия до поры до времени спа-
сало то, что он жил и работал в условиях так называемой
«башкирской автономии», которая, как известно, в одно-
часье была сведена на нет Лениным после того, как боль-
шевистский вождь назвал все Соглашения и Договоры с
Башкортостаном «клочком бумаги». Еще более невыноси-
мым стало его положение после разгона членов Башкир-
ского ревкома и их ареста. Тем не менее, он еще держал-
ся до 1923 года, после чего продолжать оставаться выс-
шим духовным лицом утратившей силу автономной рес-
публики было безумием, и он делает единственно возмож-
ный в таком случае шаг: на Втором съезде мусульман
публично заявляет о своем отказе от должности муфтия,
6Ь
выразив желание служить рядовым муллой. Его всячески
отговаривали, никак не желали отпускать, но он настоял
ва своем.
* * *
Какое-то время казалось, что все может стабилизиро-
ваться: должность муллы он сочетает с активной общест-
венной деятельностью, ратует за строительство и откры-
тие новых советских школ, лично организует ликбезы и
даже сам в них преподает. Хорошо зная русский язык,
добивается его повсеместного изучения. Его Утяшевское
медресе также преобразовывается в светскую (точнее ска-
зать, советскую) школу; Мансур Халиков добивается уве-
личения числа дисциплин, а также введения предметов
-русской литературы и языка. В этом ему немалую по-
мощь оказывает его старый друг Мажит Гафури, в доме
которого Мансур-хазрет однажды даже скрывался. Это
«было в пору колчаковского Директората, который неожи-
данно жестко отнесся к национальному духовенству. К чес-
ти первого народного поэта Башкортостана, он не отвер-
нулся от опального духовника, не отказывался принимать
.в своём доме (ныне дом-музей Мажита Гафури по улице
Гоголя). Однако нашлись люди, которые держали этот
дом под пристальным и неустанным наблюдением, следи-
ли, кто туда заходит и кто остается на ночевку. Позднее
этот соглядатай, напечатав воспоминания о Мажите Га-
фури, посвятил Мансуру Халикову следующие непристой-
ные строчки:
«...этот муфтий Мансур Халиков посрамил честь нас-
ледника Магомета... Пророк Магомет мужественно про-
шоведовал свою веру. Камни в него швыряли, горящие угли
сыпали на голову, но Магомет не отступил. А этот новояв-
ленный защитник аллаха, как я понял, позорно сбежал.
«Какая подлая личность! — возмущался Гафури. — Когда
я выгонял его из дома, не особенно волновался... Но те-
перь он не муфтий башкирский, а настоящий разбойник.
1Л ведет себя как грабитель на большой дороге. Ведь и в
года шакирдства он не раз показывал свои кулаки. Если
вступит с кем-нибудь в спор и окажется побежденным,
обязательно затеет драку...»
Вот таким нереальным, уродливым языком изложена
наглая клевета не только на муфтия Башкортостана, но
:и на его друга детства Мажита Гафури.
При таком изложении «материала» даже малый не-
€2
смышленыш может усомниться в истинности того, что на-
чертано черным по белому. И это — лишь фрагмент и&
так называемых воспоминаний покойного Сайфи Кудаша.
В них народный поэт показывает Мансура Халикова от-
петым драчуном и пьяницей, который донимает Мажита?
Гафури и вообще не дает ему спокойно жить.
Конечно, можно было бы не вспоминать об этих, столь
свойственных народному поэту писаниях, содержание ко-
торых менялось в зависимости от политической обстанов-
ки (вспомним хотя бы его «воспоминания» о Ш. Бабиче)..
Но тут есть одна деталь, которая с головой выдает ав-
тора этих преднамеренных инсинуаций о светлых людях::
то, что он пишет о Мансуре Халикове, которого якобы Га-
фури изгнал из своего дома, обозначено 1933 годом (См..
книгу С. Кудаша «Навстречу весне; незабываемые мину-
ты; по следам юности. Советский писатель, Москва, 1974.
С. 335). Между тем Мансур Халиков был арестован к
выслан на Соловки еще в 1929 году, а в 1933 году он ра-
ботал на строительстве Магнитки и, вполне возможно, в>
ту пору его уже не было в живых. Что и говорить: у лжи
короткие ноги.
Между тем Мажит Гафури думал о том, как сохранить-
жизнь своему товарищу, надеялся своим авторитетом до-
биться иного отношения к бывшему муфтию Башкортоста-
на, когда тому реально грозили арест и высылка. Мансур-
Халиков рассказал об этом своим родным и добавил, что*
сам добровольно покинул дом поэта, боясь нанести вред,
его репутации перед партийными властями.
При прощании Мажит-агай произнес простую, но тра-
гическую фразу: «Я остаюсь в одиночестве...»
Т*ак рассказывала его супруга Зухра-ханум близким:
друзьям Халиковых Изгиным, которые поведали об этом!
много лет спустя.
VII
Поняв, что ему не дадут спокойно работать до концаг
его дней, Мансур Халиков решил отказаться и от сана
муллы. В 1928 году он делает публичное заявление, отка-
зываясь от звания муллы и желая остаться только халь-
фой — учителем светской школы. Для этого у него был
широкий выбор: учителей катастрофически не хватало,
каждый был на вес золота. Особенно — из национальной,
среды. Мансур Халиков мог. бы вести многие предметы,,
6$
совершенно безотносительно к религии и святому писа-
нию. В медресе «Расулия» и особенно «Галия» он основа-
тельно изучил многие науки. К тому же выписывал новей-
шие журналы, за которыми следил с особым постоянством
и советовал ближним: не старайтесь прочитывать толстые
книги, убивая на это золотое время; лучше выписывайте
разные журналы и читайте самое важное, что в них есть.
Добавим, что он все эти годы был тесно связан и дружил
со многими образованнейшими людьми своего времени,
учеными, писателями, передовыми учителями; его близким
другом все последнее время оставался выдающийся ком-
позитор и певец Газиз Альмухаметов. В силу сказанного
выше, органам было весьма непросто отыскать соответст-
вующие обвинительные мотивы. Тем не менее, они были
найдены. Главным из них оказалась пресловутая «группа
Халиля Халикова», к которой, якобы, Мансур-хазрет при-
мыкал. В обвинительном акте, который почему-то назван
«меморандумом», он представлен «сподвижником» Халиля,
хотя их взаимоотношения, по рассказам очевидцев, всегда
были натянуты.
Наконец в мае 1929 года ОГПУ удалось-таки сфабри-
ковать более или менее приемлемое «Дело Мансура Хали-
кова», и он был арестован. Однако дело застопорилось
уже на первом этапе. Отлично знающий русский язык
муфтий вел себя на допросах в высшей степени обдуман-
но и расчетливо, спокойно и аргументированно отвергал
или опровергал каждый пункт предъявляемого ему обви-
нения. Это можно видеть по документам допроса. Он тре-
бовал открытого суда с приглашением свидетелей; сам
называл имена тех, которые должны быть приглашены на
судебный процесс. Такие свидетели имелись у него на
каждый случай. Он подробно характеризовал тех, кто под-
писал сфабрикованное дело: Фаиза Халикова, Миннияра
Надирова и Байрамгулова. Все они являлись аульским от-
ребьем, и это мог подтвердить любой порядочный утяше-
вец.
Разумеется, чекисты никогда бы не пошли на какой-
либо открытый судебный процесс. К счастью (если это
слово здесь уместно), они в ту пору еще не применяли при
допросах жестоких методов, пыток, бесчеловечных мето-
дов, которые стали широко использоваться несколькими
годами позже. После двухнедельного следствия (подобия
следствия!) Мансур-хазрет был приговорен к трем годам
заключения в Соловецких лагерях. Относительная мяг-
кость приговора объясняется именно линией поведения
муфтия на допросах, его незаурядной личностью. Но те
64
же чекисты впоследствии не простили ему его моральной
победы и уже не выпустили первого муфтия Башкортоста-
на из своих лап.
* * *
Уголовное дело Мансура Халикова почти неподвижно
пролежало в архивах КГБ более 66 лет. Не было гро-
могласной общественной реабилитации, официального со-
общения об этом в прессе. Да и некому было, по сути,
скрупулезно заниматься этим: дети от первой жены Риф-
кат и Закия Халиковы довольно давно умерли. Сын от
второй жены Ашраф героически погиб под Сталинградом,
о чем в свое время и пришло официальное сообщение.
Осталась единственная дочь — Фаузия, которая и добилась
того, чтобы ей выдали соответствующие документы, касаю-
щиеся ее отца.
Когда знакомишься с этими документами, в глаза бро-
сается некая, так сказать, нетрафаретность обвинения, а
сказать точнее, его очевидная беспомощность. Обвиняя в
«валидовщине», составители «Дела» обошли стороной та-
кие непременные в таких случаях пункты, как «буржуаз-
ный контрреволюционер», «буржуазный националист»; ему
не предъявляется обвинение в стремлении убить кого-ни-
будь из великих большевистских вождей или в шпионаже
в пользу какого-нибудь иностранного государства. Он не
является каким-нибудь «японским или немецким шпио-
ном», «тайным агентом империализма». Может быть, наши
внутренние органы к тому времени просто-напросто еще
не доросли до таких высот?
В «меморандуме» родной аул Мансура Халикова Боль-
шое Утяшево назван носителем идей Заки Валиди. В чем
заключались эти идеи? — в лозунгах «Башкирия для баш-
кир», «Политика Советской власти должна быть внеклас-
совой»; «группа Халиля Халикова», к которой будто бы
примыкал Мансур-хазрет, выступала против колхозов, за-
щищала свободу торговли, религии и ее служителей.
Вот такие обвинения.
О самом Мансуре Халикове сказано: «Бывший муфтий,
преподаватель, заведующий медресе, авторитетнейшее ду-
ховное лицо. Насаждал религию среди молодежи». И ука-
зано «точное» число этих молодых людей — 200 человек.
Далее говорится: «Состоял в национальном блоке и
был выставлен кандидатом в члены Учредительного соб-
рания. Организует из молодежи шуро — военную органи-
зацию... В 1928 году через печать отказался от звания
3 Заказ 415
65
муллы, но фактически продолжает им быть до сего вре-
мени».
И еще одно совершенно смехотворное обвинение: «Лож-
ным путем, указав замужем свою дочь, невенчанную, по-
лучил в кредит сепаратор» (орфография сохранена).
Приводя все эти пункты обвинительного вердикта, я
преследую единственную цель: показать, как непросто
приходилось «пролетарским» судьям лепить это дело —
против «авторитетнейшего духовного лица».
Действительно, один из родственников Мансур-хазрета
Халиль Халиков, благополучно доживший до глубокой
старости и умерший несколько лет назад своей смертью,
в годы молодости организовал «националистическую груп-
пу». Но все, кто помнил то время, единодушно утвержда-
ют, что Мансур Халиков был слишком высокопоставлен-
ным, к тому же, уважающим себя человеком, чтобы раз-
мениваться на подобные группки, «примыкать» к неким
заговорщикам, если даже они приходились ему родствен-
никами. Более того, он вообще не выступал против поли-
тики Советской власти, считая экстремистские действия
и даже проповеди несовместимыми с саном всенародно
избранного духовного руководителя. Поняв, куда кло-
нится всеобщая политика государства, он стал добиваться
только одного: максимального к ней приспособления (но
не приспособленчества!), полной лояльности, чтобы не
вызвать новые репрессивные действия со стороны больше-
виков, как это случилось после перехода Башкирского на-
ционального войска и правительства Валидова на сторо-
ну красных. Вот почему он больше занимался обществен-
ными делами, чем своими прямыми религиозными обязан-
ностями муфтия — работа в «Башкиропомощи», в качестве
председателя комитета помощи голодающим, переговоры
с повстанцами; огромная работа в области народного обра-
зования и затем — в наркоме юстиции, не говоря уже о
содержании собственного утяшевского медресе.
Однако, как показала практика жизни, к таким людям,
как Мансур-хазрет Халиков, советская власть не знала по-
щады и, может быть, именно в преследовании и жестоком
наказании духовных лиц и «кулаков» была наиболее пос-
ледовательной в своей «внутренней», а также «националь-
ной» политике.
«Раньше СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначе-
ния) имел на материке только бывшие монастырские вла-
дения— Сумской Посад и Сороку (ныне Беломорск). Те-
66
перь каторжные тракты протянулись в сторону Ухты, Сык-
тывкара, к первым ГУЛАГовским «метастазам». Как ядо-
витые насекомые, расползаются лагеря по русскому Севе-
ру, переходят за Урал, заполняют Сибирь, Казахстан:
смертельная опухоль на нежном теле Святой Руси. Осваи-
вать новые «зоны» посылались первопроходцы — «поли-
тические» с 58-й статьей. При всей разнице убеждений все
они были интеллигентными, мыслящими людьми, как пра-
вило, обладали специальностью. А «социально близкие»
уголовники, наспех сколоченные в трудовые коммуны, ос-
таются на Соловках — отныне здесь третьеразрядный ла-
герь. На колокольню вместо креста водрузили звезду (сня-
та в 1984 году)».
Это — отрывок из повести «о новомучениках» Анны
Ильинской, помещенной в журнале «Литературная учеба»
за 1991 год (март — апрель).
Первым заключенным на тогда еще не обитаемом остро-
ве был Преподобный Елизар, духовник Петра I, попавший
в немилость. После этого туда засылались десятки и даже
сотни духовных лиц, и, как видите, не только русского
происхождения. «Жить на острове было трудно: суровый
климат, тундровый гнус, скудость пищи».
Да, именно так было за все времена пребывания на
Соловках разных поколений ссыльных. Ну а духовным
лицам, принадлежащим к так называемому сословию «го-
лубых кровей», трудно было вдвойне, втройне.
К сожалению, о периоде пребывания первого муфтия
Башкортостана на этом северном острове остались очень
скудные сведения. Ясно одно: прознав об интеллектуаль-
ных и ораторских способностях узника из Башкирии, его
стали привлекать к агитационной работе с мусульмански-
ми зеками, а затем вообще сделали своего рода ведущим
пропагандистом и учителем — в свободное время соловец-
кие заключенные занимались художественной самодея-
тельностью и изучением грамоты.
В последнем письме, которое Мансур Халиков написал
из Магнитки родственникам, проживавшим в Киргизии,
есть такие слова: «Меня лишили учительства и руководя-
щей работы (какой именно «руководящей», остается за-
гадкой), дни и ночи загружаем углем вагоны»; отсюда
можно сделать вывод, что до этого, т. е. на Соловецких
островах, он пребывал в более или менее привилегирован-
ных условиях. Это подтверждает тот факт, что, вернув-
шись после отбытия трех лет заключения, он выглядел до-
вольно сносно и собирался вновь приняться за препода-
вательские дела.
3*
67
Однако в ту пору в аулах происходила великая лом-
ка, разоблачались и ссылались на Север и в Сибирь целые
кулацкие семьи, начинались первые репрессии в отноше-
нии «контрреволюционеров» и «буржуазных националис-
тов и валидовцев». Бесчинствовали так называемые «ко-
митеты бедноты», которые советская власть наделила неог-
раниченной властью, и они творили все, что им заблаго-
рассудится. Вот имена утяшевских «активистов», членов
«комитета бедноты», которые проводили раскулачивание,,
изгоняли семьи «кулаков» и мулл из своих домов и засе-
лялись туда сами. В частности, после ареста и высылки
Мансура Халикова его семья была выселена в баню, а?
затем изгнана и оттуда. Брошенные на произвол судьбы,
они вынуждены были податься в другие пределы и выжи-
ли только благодаря некоторым добрым людям и милости
судьбы.
Итак: Абдульманов Гильмитдин, Гайнуллин Гатият,
Шарипов Рахимьян, Юнусов Таип, Ахметова Галима, ко-
торую в ауле звали Галима Тарбай. Что это были за люди,,
выявилось во втором поколении: их дети стали или деби-
лами, или ворами-алкоголиками, или вообще неприспо-
собленными к жизни.
После возвращения из Соловков Мансур-хазрет прожил
дома всего два или три дня. И все это время мудрая груп-
па комитета бедноты мучительно сочиняла новый обвини-
тельный вердикт, который и был составлен на третий день.
В нем есть замечательное слово, которое грамотеи из «ко-
митета» использовали как страшное обвинение муфтию:
«благочестивый». Неведомо где и как раскопали они это
страшное понятие, но именно оно, по их разумению, долж-
но было стать решающим пунктом приговора. Может быть,
эти политические тупицы весьма удивились бы, узнав, что
«благочестие» означает набожность, приличие, благопри-
стойность. Но, будучи сами дремучими невеждами, они и
доброе слово воспринимали как нечто обличающее, разо-
блачительное.
На третий день в дом Халиковых заявился Рахимьян
Шарипов со свитой бедняков-активистов и велел Мансур-
хазрету срочно собираться в дорогу. Ему было дано пол-
часа времени. «Дайте хотя бы в последний раз помыться
в бане», — попросил бывший муфтий, но комитетовцы ве-
лели «не валять дурака» и немедленно отправляться в до-
рогу.
В Уфе суд Утяшевского комитета бедноты был с го-
товностью одобрен (вполне возможно, что этот сброд лишь
выполнял тайное указание уфимского ГПУ), и на этот раз
68
Мансур Халиков был выслан на дальний Север. Из того
же последнего письма можно понять, что именно со вто-
рого этапа заключения муфтию было начисто отказано
хоть в каких-либо поблажках, его образование и духовный
сан лагерным начальством совершенно не учитывались.
На Севере, в условиях лютого холода, зеки строят же-
лезнодорожную ветку Канаша — Вольск. Это была та са-
мая дармовая сила, которая при Сталине и поднимала
лапотную Россию до уровня промышленной и военной
державы!
Видимо, оттуда и был переведен Мансур Халиков на
строительство Магнитки, которая в тот момент стала глав-
ной «коммунистической стройкой» страны.
Хочу привести некоторые места из упомянутого выше
письма Халикова, написанного с этого «строительного
объекта»:
«...я живу на Магнитке... Видимо, кончилось мое сча-
стье: живу на грани крайней нужды и нищеты, в которой
не пребывает никакая деревенская голь. Ниоткуда никакой
помощи или поддержки. Крайне нуждаюсь в вашей по-
мощи. Она может на сегодняшний день прийти только от
вас, от этого зависит вся моя дальнейшая судьба. Одежда
моя совершенно обветшала. Но это не столь и важно.
Мучит голод. Нам, пленникам, выдали малость денег, но
на них ничего невозможно купить. Если можно, понем-
ножку и изредка шлите посылки. Их нам тут выдают. Ее*
ли можете, вышлите немного сливочного масла, крупу,
лук, сахар; также, если возможно, пришлите теплые носки
и хотя бы старый бешмет. Если бог даст еще жизни, вер-
ну сполна. До конца своей жизни буду благодарить за
благодеяние. Так будьте же по-родственному милосердны.
То, что я здесь испытываю, может понять лишь тот, кто
побывает в моей шкуре. Это невозможно описать. В очень
плохое место забросила меня судьба. Стараюсь работать
вовсю, это замечают, но продолжают относиться с равно-
душной жестокостью. Никто не считается с моей образо*
ванностью... И дата написания письма: 18 ноября 1932 го-
да».
После этого от Мансура-хазрета не было никаких ве-
стей. Да и вряд ли после того, что он написал, он долго
оставался в живых.
Такова жизнь, судьба и кончина этого удивительного
человека, одной из бесчисленных жертв беспощадного
режима. Имя его было предано забвению. И в этом —
самое проклятое клеймо той эпохи, столь несправедливой
и жестокой к ее лучшим людям.
69
* * *
В декабре 1995 года клуб центральной усадьбы кол-
хоза «Агидель», в состав которого входит и Большое Утя-
шево, был заполнен до отказа. Много людей наехало сюда
из других деревень. Из Уфы приехала родная дочь Ман-
сура Халикова Фаузия Дильмухаметова, первый биограф
первого муфтия Башкортостана, кандидат философских
наук Рамазан Кутушев и автор этих строк. Вечер памяти
Мансура Халикова, которому исполнилось 110 лет со дня
рождения, открыл председатель колхоза Галинур Галин.
С речью выступил молодой редактор молодежной газеты
«Яшлек», горячий патриот своего района Нияз Салимов,
который и явился инициатором проведения юбилея Ман-
сура Халикова. Своими воспоминаниями о трудной судьбе
дочери «врага народа» поделилась Фаузия Мансуровна.
А через месяц, 19 января 1996 года, вечер памяти пер-
вого муфтия состоялся уже в центре Гафурийского района
Красноусольске. Дом культуры был набит битком. При-
ехали представители почти всех сел и деревень района.
На этот раз родственников и близких людей Мансура Ха-
ликова было намного больше: профессор Раиса Халикова,
врач-психиатр Мунавара Халикова, учительница Фатанат
Халикова, специально приехавшая на это событие из Кыр-
гызстана; инженер Надим Халиков и, конечно, дочь Ман-
сура-хазрета — Фаузия Дильмухаметова. Собравшиеся с
большим интересом выслушали их выступления.
А открыл вечер поминальной молитвой нынешний муф-
тий Башкортостана Нурмухамет-хазрет. В «пятничной» мо-
литве приняли участие два десятка человек. Затем Нур-
мухамет-хазрет прочитал молитву, посвященную памяти
первого муфтия Башкортостана. Было принято решение
сделать такие вечера памяти традиционными.
ШПУНТА
Народный артист Газиз Альмухаметов
Сугубо личные размышления о Газизе Альмухаметове
я хочу начать с нескольких «если».
Если бы более восьми десятков лет на юге Башкорто*
стана, скажем, в ауле Мураптал (нынешний Куюргазин-
ский район) проживал человек, имеющий на руках дикто-
или магнитофон, и если бы он случайно услышал пение
подростка лет тринадцати или четырнадцати по имени
Газиз и записал его на ленту... Если бы сделал монтаж из
его песен и снабдил его рассказом о мальчике... То мы по-
лучили бы великолепную радиопередачу о башкирском
Газиз Альмухаметов (слева), Султан Габяши
71
Робертино Лоретта, который вместо «Аве Мария» и «Вер-
нись в Соренто» пел бы «Сибай» или «Хандугас»...
Его горячо любимый старший брат Габдрахман много
позже, когда Газиз стал известным певцом и композито-
ром, рассказывал журналистам:
«Газиз пел чуть не с детского возраста. Голос у него
был на редкость звонким и на удивление мелодичным. Он
чрезвычайно быстро улавливал любую мелодию или на-
пев, тут же начинал их воспроизводить, и вскоре пел так,
будто родился с этой мелодией на устах. Он любил ухо-
дить подальше от аула, чтобы его никто не слышал, и пел
там, усевшись на берегу речки под раскидистой березой,
пока голос не начинал хрипеть. Иногда срывал свой голос
и по нескольку дней разговаривал полушепотом, пока сно-
ва не восстанавливал голосовые связки. Деревенские гова-
ривали: «Газиз будет певцом или сэсэном. Лишь бы Алла
дал силы и здоровья». Часто меня спрашивают: от кого
идет певческий дар твоего брата? Для нас это ясно — от
матери, которую звали Галима. Она была хорошей певицей,
знала много народных песен, ее любили слушать на раз-
ных званых вечерах и деревенских посиделках; где бы ни
появлялась, упрашивали: спойте нам, Галима-апай! Одна-
ко много петь ей было недосуг, по горло была поглощена
домашними делами. Что ни говори, нас у нее было шесте-
ро сыновей: старший Абдулла, я, Фатих, Галирахман,
Хайбрахман и сам Газиз. Всех нас надо было кормить,
одевать, обувать. Вот почему в 1909 году я рискнул уехать
в Ташкент и прихватил с собой Газиза, который согласил-
ся поехать со мной с большой радостью. Несмотря на свой
юный возраст, он был весьма самостоятельным. Особой
грамоты получить ему не удалось — больше работал, по-
могал родителям, в летние дни — батрачил в русских ху-
торах».
В ту пору легендарный город этот Ташкент для многих
был притягательной точкой земли. В Ташкенте — много
солнца, хлеба, тепла... В Ташкенте живут хорошие, добрые
люди, которые помогают сирым и голодным, усыновляют
бездомных и сирот... Вот и тянулись туда отверженные
судьбой люди, в большинстве своем — дети, подростки, та-
кие как Мишка Додонов из повести А. Неверова «Таш-
кент — город хлебный».
Молва о благодатном городе Ташкенте достигла и пре-
делов башкирского аула Мураптал. Если двое из шесте-
рых сыновей оставят отчий дом, остальным будет легче
жить...
72
Габдрахман вспоминал еще: «Мама обнимала своего
любимого Газиза, заливаясь слезами, и приговаривала:
«Береги себя, сыночек, береги свой голос! Если сбережешь,
станешь большим певцом».
Позднее сам Газиз признавался: «Слова матери посто-
янно звучали в моих ушах. Может быть, именно потому
я стал относиться к своему голосу намного бережнее, чем
раньше. И может, именно поэтому его мутация произошла
довольно безболезненно, хотя никто из профессиональных
музыкантов мне в этом не содействовал».
Да и 6 каких профессиональных музыкантах можно
было вести речь, если в Ташкенте братьев Альмухамето^
вых ждал вовсе не рай, а такая же нелегкая жизнь, когда
каждый кусок хлеба добывается в поте лица. И все же
здесь было много легче, чем на родине.
Узбекский язык дался юному Газизу очень легко — ска-
зались и возраст, и природный талант. Столь же легко он
освоил потом казахский, киргизский, туркменский языки —
там, где ему приходилось позднее много гастролировать.
И повсюду — и в Казахстане, и в республиках Средней
Азии — его встречали как желанного гостя. Его изумитель-
ный по красоте тенор звучал под сводами лучших театров
Бухары, Ашхабада, Самарканда, Бишкека, Алма-Аты..,
Но это будет потом, когда Газизу исполнится двадцать.
А первые годы пребывания на узбекской земле были
заполнены постоянным трудом и учебой. Знание языка
коренного народа позволило башкирскому отроку не толь-
ко поступить в местное медресе, но и стать одним из луч-
ших учеников (шакирдов). Он учился жадно, упоенно, но
денег, заработанных в летний период (каждое лето он
проводил на самых тяжелых работах), редко хватало до
весны, и ему нередко приходилось снова устраиваться на
работу, не успев закончить учебу.
Супруга Газиза Альмухаметова Мастура-ханым вспоми-
нала:
«Если бы меня спросили, какая главная черта была
присуща Газизу, я, не задумываясь, ответила бы: трудо-
способность. В сущности, он сам себя создал — и как му-
зыканта и композитора, и как образованного, бескорыст-
ного во всем человека. Все это результат его огромной ра-
боты над собой».
Если Ташкент был для него городом первого появления
перед зрителем, первых успехов и доброжелательных от-
зывов, то первым городом непосредственного участия в
музыкальном спектакле стал Баку. Когда группа узбекских
артистов, в числе которых был и Газиз Альмухаметов, при-
73
ехала в Баку, то первое свое выступление перед азербайд-
жанской публикой Газиз начал народной песней «Буран-
бай», чрезвычайно сложной для исполнения — даже весьма
опытные певцы на нее не замахивались. Надо обладать
необычайно широким диапазоном вокальных данных, не-
вероятными перепадами верхних и нижних нот, вершина
которых мерцает и звенит среди полночных звезд, а ниж-
ние регистры скользят по дну моря.
Песня ошеломила бакинских слушателей, они устрои-
'ли молодому певцу овацию. А после концерта ему пред-
ложили принять участие в музыкальном спектакле. Скорее
всего, это был знаменитый «Аршин Малалан» Узеира Гад-
жибекова. Молодой певец легко и непринужденно вписал-
ся в общий строй спектакля, в его музыкальную органику.
Ему предложили остаться в Баку, обещали предоставлять
ведущие партии — в музыкальных спектаклях и даже в
опере. Но в ту пору у Газиза Альмухаметова все сильнее
проявлялась ностальгия по родине. Впрочем, это была да-
же не ностальгия, а сыновний долг, желание воротиться на
родную землю и сделать все, чтобы помочь землякам в
обретении своего музыкального искусства; открыть музы-
кальное заведение, создать башкирские музыкальные про-
изведения, которые можно было бы ставить на сцене. Он
мечтал о профессиональной музыке и чувствовал в себе
силы для осуществления этой благородной цели.
В 1923 году он дает своего рода прощальные концер-
ты в городах Средней Азии, к которой привязался всем
сердцем и считал своей второй родиной. Он был глубоко
признателен всем среднеазиатским республикам, которые
подарили ему много тепла и радушия. Но больше всего
благодарен был Узбекистану, его народу, его чуткой и
доброжелательной интеллигенции; был бесконечно благо-
дарен ташкентцам, ташкентским театрам, школам, медресе,
мастерам искусств, которые помогли ему поверить в свои
силы и призвание. Он и впредь будет приезжать сюда с
концертами, и его каждый раз будут встречать с улыбка-
ми и цветами.
Тем не менее родная земля и родной народ властно
притягивали к себе своих сыновей и дочерей, волею судь-
бы оказавшихся далеко от родных пределов. Они возвра-
щались на родину с высокими и благородными целями
и задачами: поднять духовную культуру своей нации,
помочь народу обрести свое достоинство, которое веками
втаптывалось в грязь царскими колонизаторами и пала-
чами, а представители национальной интеллигенции были
вынуждены покидать родину и уезжать в края далекие
74
или влачить жалкое существование на своей земле. Не-
обычайно рельефно и прочувствованно изобразил это пи-
сатель Александр Федоров в своем замечательном романе
«Степь сказалась», изданном в 1981 году.
Увы, печальная традиция продолжалась и после ре-
волюции. Под видом борьбы с «буржуазным национализ-
мом» и «валидовщиной» в течение нескольких десятков лет
физически и морально уничтожались самые яркие и та-
лантливые представители национальной интеллигенции.
Казнь такого человека, как Газиз Альмухаметов, который
нес людям только добро и радость, является одним из са-
мых гнусных злодеяний сталинского КГБ. Поневоле на
ум приходит мысль: а стоило ли великому певцу вообще
возвращаться на родину, которая с уходом Заки Валиди
в Туркестан и побегом членов Башкирского ревкома в 1920
году превратилась для представителей национальной ин-
теллигенции из матери в злую мачеху. Те из них, кто имел
хоть малейшее отношение к национальному движению,
сразу же стали подвергаться беспощадной травле и были
расстреляны еще в 20-х годах: Ишмурзин, Амантаев, Бии-
шев, Тагиров, Мурзабулатов и др. Иные влачили жалкое
существование, подвергались арестам, гонениям и запре-
там. Самым ярким примером в этом смысле является
судьба известного историка и языковеда Сагита Мрясо-
ва, кончившего жизнь в нищете, и выдающегося драма-
турга и собирателя фольклора Мухаметши Бурангулова,
которого несколько раз сажали в тюрьму, лишили звания
народного сэсэна Башкортостана, исключили из Союза
писателей, подвергали всяческим унижениям. Апогеем
уничтожения интеллектуального слоя народа стал, разу-
меется, черный 1937-й год.
Между тем именно в Средней Азии нашли спасение те,
кто на своей родине мог бы пополнить число казненных
еще задолго до тридцать седьмого: первый председатель
Башкирского шуро и затем — член Бюро Наркомнаца Ша-
риф Манатов, работавший профессором Фрунзенского пе-
дагогического института; там же, в Киргизии, нашел спа-
сение член валидовского правительства Хидият Сагадеев;
заведующим кафедрой истории Московского университета
долгие годы работал один из ближайших соратников Ва-
лиди Ильяс Алкин.
Разумеется, число подобных примеров намного больше
названных выше.
Повторяю: Газиз Альмухаметов пользовался в респуб-
ликах Средней Азии огромной популярностью и авторите-
том. В конце концов он мог бы стать «народным певцом
76
(артистом) Узбекистана», подобно татарину Ришату Аб-
дуллину, ставшему национальным корифеем вокала Ка-
захстана. В Ташкенте создан замечательный музей Газиза
Альмухаметова, где он представлен как гордость узбек-
ской земли и народа. Между тем, в Уфе такой музей пока
не создан.
II
Наброски своей первой оперы «Сания» Газиз Альмуха-
метов стал делать еще в Ташкенте, предварительно напи-
сав для нее литературное либретто. Мастура-ханым вспо-
минает, что Газиз-агай был литературно одаренным чело-
веком, не только много читал художественной литературы,
но и сам пописывал стихи и рассказы. Его дружба с на-
родным поэтом республики Мажитом Гафури была глубо-
кой и творческой. Именно по либретто, написанному Гафу-
ри, создавалась опера «Эшсе».
Как пишет музыковед Э. Давыдова, композитор не толь-
ко написал в Ташкенте большие фрагменты оперы «Са-
ния», но и силами артистов клуба при институте народно-
го просвещения поставил их на сцене. В дальнейшем, по
возвращении на родину, судьба тесно свяжет его с двумя
другими энтузиастами национальной музыки — Султаном
Габяши и Василием Виноградовым.
Первый из них жил в Уфе, имел юридическое образова-
ние, но увлекся музыкой и композицией настолько, что
полностью посвятил себя сочинительству. Он был прекрас-
ным музыкантом, виртуозно играл на скрипке и фортепиа-
но, писал музыку к спектаклям группы «Сайар». Много
ездил по районам Башкортостана, собирая народные пес-
ни и мелодии. Он был старше Газиза Альмухаметова все-
го на четыре года, но признавал его первенство в знании
народной музыки и композиции. Альмухаметов же нуж-
дался именно в таком партнере, как Габяши, тонком му-
зыканте и знатоке нотной грамоты. Его учеба в музыкаль-
ном заведении была не столь серьезной и продолжитель-
ной, чтобы считать себя абсолютно образованным в смыс-
ле нотной грамоты человеком, и Султану Габяши он дове-
рял в этом плане куда больше, чем самому себе.
Ну, а оказавшись в Казани, Газиз Альмухаметов близ-
ко сошелся еще с одним композитором — Василием Вино-
градовым, принадлежавшим к той замечательной плеяде
русских музыкальных деятелей, которые много сил и энер-
гии отдали развитию национального музыкального искусст-
76
ва в его профессиональном понимании. Именно к таким
деятелям относились Евгений Брусиловский, Степанов,
Чемберджи, Фере, имеющие прямое отношение к созданию
первых казахских, киргизских, башкирских и татарских
опер и балетов.
* * *
Впрочем, утверждать, что Газиз Альмухаметов постиг
тайны музыкального искусства и нотной грамоты исклю-
чительно самостоятельно, было бы неверно. По свидетель-
ству кандидата исторических наук С. Сайфуллина, зани-
мавшегося биографией выдающегося певца и композитора,
тот в конце 1917 года приехал из Ташкента в Оренбург,
тде образовалось Башкирское шуро во главе с Валиди.
Однако в политику лезть не стал, ограничился концерт-
ными выступлениями, учился какое-то время в Оренбург-
ской музыкальной школе, получая стипендию от Башкир-
ского правительства. Был дружен с поэтом Шайхзадой
Бабичем, служившим тогда в сатирическом журнале «Кар-
мак» и ставшим затем секретарем Башкирского Шуро.
Они нередко выступали вместе — Газиз Альмухаметов и
Шайхзада Бабич — непревзойденный певец и непревзой-
денный поэт того времени.
Привожу цитату из статьи С. Сайфуллина «Оборван-
ная мелодия», опубликованной в газете «Вечерняя Уфа»
9 ноября 1995 года:
«Документов, непосредственно свидетельствующих о его
учебе в Московской консерватории, к сожалению, не най-
дено. Но имеются материалы, косвенно это подтверждаю-
щие. Например, от 2 июня 1923 года в г. Москве: «В Баш-
представительство студента Газиза Альмухаметова заявле-
ние. Ввиду моего отъезда в отпуск прошу о выдаче мне
удостоверения об оставлении за мной на время отпуска
моей комнаты в доме № 20 по I Троицкому переулку».
Известно и другое: в становлении голоса башкирскому
певцу помогал гениальный русский оперный солист Леонид
Собинов.
Между прочим, слушая записи (весьма неважные) Со-
бинова и Альмухаметова, сделанные в 20-х и 30-х годах,
нетрудно уловить большое сходство — ив тембре, и кра-
соте звука, и тональной окраске.
Та же Мастура-ханым говорила, что Газиз Альмуха-
метов высоко ценил и любил русского певца и учителя.
Он привез в Уфу его граммофонные записи, по ним разу-
77
чивал некоторые, наиболее любимые им оперные арии,
а арию Ленского сам перевел на башкирский язык и пел
для национальной аудитории.
* * *
Предположительно в 1925 году Газиз Альмухаметов
приезжает в Казань с целью писать серьезную музыку,
симфонии, сонаты, оперы. Это был город с большими му-
зыкальными традициями, с оперным театром и симфони-
ческим оркестром.
Именно в том году впервые была показана опера «Са-
ния», в работе над которой и сплотилась тройка авторов,
которая и в дальнейшем работала в тесном единстве, когда
дело касалось крупных сценических произведений, — Га-
зиз Альмухаметов, Султан Габяши и Василий Виногра-
дов. В написании либретто оперы помог татарский поэт
Фатих Амирхан.
Сания — дочь богатых родителей, всей душой стремя-
щаяся к живой жизни, к людям, музыке. Ее любовь к про-
стому парню по имени Зия — умному, великодушному и
целеустремленному — и есть выражение ее демократиче-
ских наклонностей. И как всегда — преграда на их пути:
ее родители, которые не намерены отдавать единственную
дочь за бедняка. Но авторам либретто и музыки удалось
показать не просто большую любовь молодой пары и ка-
кие-то социально-классовые противоречия, но и дыхание
новой эпохи, постепенно нарастающий накал борьбы, ког-
да так называемые простые люди, разночинцы все громче
заявляют о себе и в политической, и в общественной жиз-
ни России, и в национальных регионах.
Идея либретто, как было сказано, принадлежала са-
мому Альмухаметову, который в Ташкенте начерно набро-
сал основную канву, а отдельные фрагменты были даже
поставлены силами кружка любителей музыки, учителями,
врачами, инженерами. Помощь поэта Фатиха Амирхана
потребовалась для литературной обработки и окончатель-
ной шлифовки либретто; он и вошел в историю как автор
литературного текста, а Газиз Салихович никогда не пре-
тендовал на соавторство. Его скромность в этих делах
была поразительной. Это отмечают все, кто знал его в
жизни. Он никогда не выделял собственного я, всегда го-
ворил «мы», особо подчеркивая роль своих друзей-соавто-
ров в созданных троицей операх.
Между тем в сочинении самой музыки, оперных арий
и дуэтов главенствующее место неизменно принадлежало
78
именно ему. Султан Габяши тут же садился за пианино
и принимался за огранку мелодии, ну а Василий Виногра-
дов занимался оркестровкой, нотной записью музыкально-
го мира оперы.
Главные партии в спектаклях исполнял сам Газиз Аль-
мухаметов. По сути, казанские (а потом—уфимские) зри-
тели не столько шли на саму оперу, которая была в новин-
ку, сколько на своего любимого певца.
Из воспоминаний известного певца, заслуженного ар-
тиста Татарстана Усмана Альмиева:
«...в 20—30-х годах мне посчастливилось видеть и слы-
шать великого певца Газиза Альмухаметова. На своих
концертах он исполнял оперные арии на итальянский ма-
нер. Ну а в исполнении народных песен, особенно башкир-
ских, равных ему не было. Впечатление от таких его пе-
,сен, как «Зюльхизя» или «Кунгыр буга» до сих пор живо
в моей памяти. Его голос обладал изумительной, завора-
живающей красотой».
Несколько с другой стороны характеризует Г. Альму-
хаметова. его коллега по работе Исмагил Илалов:
«...20 лет мы были с Газизом близкими друзьями. Он
был удивительным человеком, достойным восхищения. Тер-
петь не мог подхалимаж, говорил прямо и открыто то,
что думал. Не поклонялся богатству, деньгам. Когда вы-
ручка от концертов не покрывала даже расходы на презд-
ку (бывали такие случаи), он не только не огорчался, но и
приходил в веселое состояние духа. «Ничего, друг Исма-
гил, — утешал он меня, — нет денег, да воспоминание о нас
останется, доброе дело».
«Газиз интересовался музыкой и мелодиями многих
народов, легко их усваивал и запоминал; иногда — испол-
нял со сцены. Вообще, у него был абсолютный музыкаль-
ный слух. Много времени он посвящал собиранию башкир-
ского музыкального фольклора, ездил по районам респуб-
лики или ходил пешком — от одного аула до другого. Осо-
бенно часто делал он это в конце 20-х — начале 30-х го-
дов. Я поражаюсь его неутомимости и постоянной заинте-
ресованности народным творчеством. Он не любил зани-
маться так называемой обработкой народных песен и ме-
лодий, говорил: «Народ знает больше нашего, это он соз-
дал гениальные песни, и мы всегда должны это помнить».
Выучив какую-нибудь новую песню, он старался исполнить
ее со сцены так же, как услышал из уст народного испол-
нителя».
79
Это — из воспоминаний жены Газиза Альмухаметова
Мастуры-ханым.
Газиз Салихович был не только усердным собирателем
музыкального творчества своего народа, но и одним из
первых башкирских теоретиков музыки. Им написан ряд
статей на эту тему, а одна из выпущенных им брошюр на-
зывалась «В борьбе за создание башкирской советской
музыки». Название говорит само за себя: автор ратует за
то, чтобы на редкость богатая музыка башкирского народа
смогла выйти на широкую арену, стала всеобщим достоя-
нием, а профессиональные композиторы обращали на нее-
пристальное внимание. Именно в этой работе певец кон-
кретно называет важнейшие проблемы развития всего на-
ционального искусства, обретения им подлинного профес-
сионализма, пишет о необходимости находить и поднимать
национальные кадры, учить их не только в Уфе и Казани,
но и в Москве, где при консерватории необходимо создать
башкирскую национальную студию.
Почти все названные им проблемы разрешились, а
главное, была открыта башкирская студия при Москов-
ской консерватории, для чего Газиз Салихович сделал все
возможное и невозможное. Прежде всего: точно так же,
как собирал народное творчество, он собирал по респуб-
лике музыкально одаренных детей. Один перечень имен
тех, кого он «нашел» и содействовал отправке в Москву,
говорит сам за себя: Бану Валеева, Габдрахман Хабибул-
лин, Хабир Галимов, Зайтуна Ильбаева, Асма Шаймура-
това, Магафур Хисматуллин, Салих Хуснияров... Компози-
торы Хусаин Ахметов, Рауф Муртазин, Загир Исмагилов.
Из воспоминаний народной артистки РСФСР Бану Ва-
леевой:
«Газиз Альмухаметов — это человек, который остался
на всю жизнь сиять ярким лучом в моей душе. Тем, что
я получила музыкальное образование, стала оперной пе-
вицей, я обязана только ему. Газиз-агай сделал все для
того, чтобы при Московской консерватории была открыта
башкирская национальная студия (я одна из первых ее
выпускниц); самых талантливых он устроил на квартиры,
даже позаботился о том, чтобы при них было пианино. На
время каникул забирал нас для участия в концертах, во-
зил с собой по районам. Тем самым помогал нам зарабо-
тать малость денег, более или менее прилично одеться и
обуться. Дом его всегда был широко открыт для гостей,
домашние относились к нам с большой сердечностью.
80
Газиз-агай внимательно следил за нашей учебой, радо-
вался нашим успехам; любил говорить: «Учитесь и рабо-
тайте, тогда станете известными певцами и музыкантами».
Прославленная певица Антонина Нежданова говорила о
нем: «Его внутренняя культура, его талант настолько высо-
ки, что он не нуждается ни в какой консерватории».
«Он любил мою игру на курае, — рассказывает компо-
зитор Загир Гарипович Исмагилов. — А я очень любил
слушать исполнение им народных песен. Он пел очень
своеобразно, непохоже ни на кого другого. Два основных
свойства его исполнения — красота голоса и задушевность
пения. Он проникал в сердце любого человека, к какой бы
национальности он ни относился. Очень любили его слу-
шать русские люди. Я говорю это с такой уверенностью
потому, что сам участвовал в его концертах. Приметив
меня в Башкирском театре драмы, где я тогда отирался,,
он однажды пригласил меня на свои гастрольные концер-
ты по городам и районам Башкирии. Для меня это было*
приятной неожиданностью. «Мне надо спросить разреше-
ния у Сагит-агая Мифтахова», — только и нашелся что
сказать. Известный драматург Сагит Мифтахов был тогда
директором театра. Выслушав мою просьбу, Сагит-агай
сказал: «Такое бывает нечасто. Выступать со сцены с та-
ким великим артистом — большая честь. Иди, да не под-
веди!» И я почти три недели ездил вместе с Газизом Аль-
мухаметовым, аккомпанируя ему на курае и наслаждаясь
его пением. Помню, возвращались мы поездом. Проснулся
я от холода, смотрю: сидит Газиз-агай задумчивый, по-
груженный в какие-то свои тяжелые думы. «Что с вами? —
спросил я у него. — Что-нибудь случилось?» «Пока не слу-
чилось, но может случиться... — как-то тихо, с несвойст-
венным ему пессимизмом ответил он. — Ты видишь, каких
людей забрали в последнее время. И разве можно поду-
мать, что кто-то из них враг? И как много забрали... У
меня такое предчувствие, что я приеду, и меня...»
Мне показалось, что он тихо заплакал. Или готов был
заплакать. У меня невыносимо защемило в сердце. Неуже-
ли такого человека, как Газиз-агай, можно арестовать?
За что?! Но я был тогда молод — не исполнилось и двад-
цати, молод и беспечен, вскоре забыл о нашем разговоре.
А через полмесяца узнал, что Газиз Салихович арестован...»
Спрашиваю у Загира Гариповича:
— Как вы относитесь к его оперной музыке? Ведь, по
сути, вы являетесь в этом плане его прямым наследником,,
самым большим популяризатором национального оперно-
81
го жанра, который написал опер больше, чем все осталь-
ные башкирские композиторы, вместе взятые.
— Он нашел верный ключ к национальной опере, — не
.задумываясь, говорит Исмагилов. — Пошел от народной
мелодики. Вот почему отдельные арии из опер «Сания»,
«Эшсе» стали народными песнями. Самая известная из
них — ария Нигмата, которую везде и всюду поют именно
как народную песню... Но при этом в операх, созданных
Альмухаметовым и его друзьями, налицо все признаки
профессионализма, есть сложные дуэты, хоровые сцены.
Словом, Газиз-агай с полным правом может считаться ос-
новоположником оперного искусства в башкирской и та-
тарской музыке».
В 1929 году правительство Башкортостана предлагает
Газизу Альмухаметову вернуться на родину, предоставляет
ему квартиру. В том же году ему присваивается звание
народного артиста республики. Воодушевленный всеми эти-
ми событиями и весьма значительными переменами в жиз-
ни, он пишет свой знаменитый «Марш Башкортостана» —
в честь 10-летия родной республики, который прозвучал на
торжественном вечере в исполнении духового оркестра.
По свидетельству Мастуры-ханым, Газиз Салихович
был безмерно рад переезду в Уфу. «Хоть мы и в Казани
жили вполне хорошо, у нас была нормальная квартира,
;нас посещали известные люди, такие как Хасан Туфан,
Салих Сайдашев и другие, я чувствовала, что он тоскует
по Башкирии, по родной земле, родному аулу. Он постоян-
но поддерживал с ними связь, по нескольку раз в году
выезжал в Башкирию с гастролями и неизменно заезжал
в родной Мураптал; всю жизнь помогал родным матери-
ально. Мне кажется, ему очень хотелось поднять на своей
родине музыкальное искусство, создать театр оперы и ба7
лета, в широком плане заняться общественной деятель-
ностью. Все так и произошло: приехав в Уфу, он с голо-
вой окунулся в огромную работу по развитию музыкаль-
ной культуры башкирского народа...»
Из воспоминаний дочери Газиза Альмухаметова Розы-
ханым Альмухаметовой-Латыповой:
«...отец не пил и не курил. Любимым блюдом его был
бишбармак; прекрасно готовил узбекский плов — сказа-
лась жизнь в Ташкенте. Вообще, был открытым и веселым
человеком. Со всеми очень скоро находил общий язык. К
нам часто приходили писатели, артисты, музыканты. На-
зову хотя бы такие имена: Бэдэр Юсупова, Гималетдин
Мингажев, Галимьян Карамышев, Талига Бикташева, Ма-
62
жит Гафури, Муслим Марат, Булат Ишемгулов, Афзал*
Тагиров, Даут Юлтый...»
А это высказывание я позаимствовал из буклета, выпу-
щенного к 100-летнему юбилею Газиза Альмухаметова:
«Народный артист Альмухаметов — крупнейший соби-
ратель и исполнитель татарской и башкирской песни. Еп>>
художественные обработки народных песен, композитор-
ское участие в опере «Эшсе» (кстати сказать, это одна из<
немногих советских опер, написанных на сюжет из жизни
рабочих) безусловно подняли дело музыкальной культуры
обеих областей. Такие обработки, как любопытная баш-
кирская песня «Конгур буга», являются чутким соедине-
нием массовой башкирской мелодики с оригинальным ху-
дожественным оформлением. Очень ценны образцы исто-
рических башкирских песен 18 века о народных вождях —
борцах против царского гнета».
Из статьи Е. Браудо «На.
вечере воскресшей песни»..
«Вечерняя Москва».
1933 г.
Как же все-таки исполнял Газиз Альмухаметов народ-
ные песни, свои сочинения и произведения других компо-
зиторов?
В первую очередь, сошлюсь на слова своего отца,
страстного поклонника таланта певца, которого он неодно-
кратно слушал и в Башкирии, и в городах Средней Азии,,
куда уехал еще в 20-х годах, спасаясь от репрессий.
«Голос Альмухаметова сразу брал за душу и не отпус-
кал до последнего звука. Когда я слушал его, все время
думал об одном: лишь бы этому не было конца; лишь бы
он пел и пел... Когда он пел «Урал» или «Сибай», хотелось
плакать. От радости и счастья. Многие сидели, склонив
головы и закрыв глаза руками. Голос его входил в сердце
и оставался там надолго. Точнее — навсегда. Такого кра-
сивого мужского голоса мне не приходилось слушать ни
прежде, ни потом. А когда он пел «Песню Нигмата» (отец,
говорил «песню» вместо «арию»), стены начинали то ли
сотрясаться, то ли звенеть. Голос певца не умещался в
зале, рвался наружу. А ту высокую ноту, которую он
брал, наверное, не брала ни одна женщина-певица».
83
А вот мнение того же Загира Исмагилова:
«Газиз-агай пел так, как не поет ни один певец. Он пел
в только ему присущей манере. И обороты у него были
•свои, не похожие на других. Сейчас мы имеем в какой-то
степени штамп в этих оборотах, многие певцы в этом смыс-
ле похожи друг на друга как две капли воды. Он и сегод-
ня резко выделялся бы среди всех остальных и считался
оригинальнейшим исполнителем. Послушайте его грамза-
писи, и вы в этом сами убедитесь. Его ученик Хабир Га-
лимов в какой-то степени походит на своего учителя. Имен-
но в манере исполнения. Но ни одному из наших певцов
не достает задушевности, глубокой сердечности Альмуха-
метова».
Можно было бы привести и другие высказывания тех,
кто в свое время знал и слышал Газиза Салиховича; но
это, как мне кажется, ни к чему, ибо все они в чем-то
между собой схожи. Со своей стороны, хочу заметить:
манера исполнения певцом башкирских песен, прежде все-
то, народных, оказала влияние на целое поколение. Ког-
.да слушаешь пение тех, кто воспитывался под воздействи-
ем песен Альмухаметова, сразу замечаешь, что они или
ему подражают, или даже копируют стиль его вокала.
Ведь этим «болел» не только названный выше тенор Ха-
бир Галимов, но даже истинный бас Габдрахман Хабибул-
.лин, не говоря уж о десятках и даже сотнях менее извест-
ных певцов. Песни «в стиле» Газиза Альмухаметова мно-
гажды приходилось мне слышать на самодеятельных сце-
нах и в застольях — из уст отцов и дедов, вообще, тех,
чья юность пришлась на 20-е и 30-е годы. И то, что и
поныне, увы, немногочисленные грамзаписи великого пев-
ца, не отличающиеся высоким качеством, не просто вызы-
вают живой интерес, но и волнуют, вызывают гамму чувств,
товорит само за себя.
* * *
Личности Газиза Альмухаметова были присущи те за-
мечательные черты, которыми были наделены лучшие лю-
.ди его эпохи: Даут Юлтый, Булат Ишемгулов, Валиулла
Муртазин-Иманский и многие другие. Они не были зацик-
лены в своей жизни и творчестве на чем-то одном, даже
самом для себя главном. Они горели всеобщим энтузиаз-
мом «строительства нового общества и культуры», прежде
всего думали об интересах своего народа, нации. И при
этом — меньше всего думали о себе. Именно эта мысль
84
лейтмотивом проходит сквозь все воспоминания о подоб-
ных людях.
«...Газиз-агай был человеком высокой культуры, истин-
ным примером для подражания. В нем совершенно не бы-
ло никакого зазнайства, которым страдали очень многие.
И только на афишах его фамилия печаталась крупными
буквами — АЛЬМУХАМЕТОВ! Но это зависело не от не-
го, а от тех, кто эти афиши печатал. Он был настоящим
человеком, который жил для других... За свою короткую
жизнь он оставил не просто большие, неоценимые дела, но
и светлую память о себе».
(Засл. артистка БАССР
Зайтуна Ильбаева)
Когда перебираешь в памяти имена общественных дея-
телей, людей литературы и искусства, подвергшихся реп-
рессиям, поневоле делаешь вывод: уничтожались самые
талантливые, любящие свою страну, свой народ; самые
бескорыстные, посвятившие жизнь свою другим. А вот се-
рые, бездарные, корыстолюбивые и завистливые — не толь-
ко оставались в живых, но становились хозяевами жизни.
Более того, именно с их «подачи», по их жалобам и до-
носам подвергались люди арестам, расстрелам и высыл-
кам в края далекие. В этом — самая большая трагедия и
всей страны, и каждого региона в отдельности. И эта
страшная рана до сих пор, спустя столько лет, продолжа-
ет кровоточить.
Так ли далеко продвинулись мы вперед в этом отно-
шении сегодня, в пору «демократии»? Но только теперь
самые талантливые и выдающиеся скрепя сердце вынуж-
дены покидать родную страну, чтобы поднимать на все
новые высоты науку и культуру иных зарубежных, и без
того высокоразвитых государств. И это — продолжение
трагедии сталинской эпохи.
«Отца арестовали 12 декабря 1937 года. Он должен
был ехать с гастролями в Ташкент, уже купил на поезд
билет. Мне в ту пору было тринадцать лет. Когда пришли
за отцом, мы все находились дома. Через несколько меся-
цев забрали и маму. После ареста папы я перестала рас-
ти — наверное, от психологического шока и страха... В чем
же его обвиняли? В обвинительном документе сказано: ис-
полняя народные песни, вы обостряли национальные отно-
шения. Дело состоит всего из трех страниц. Оказывается,
папа дважды выступал в. Стерлитамаке перед членами
85
правительства Ахметзаки Валиди. Это дало повод обви-
нить отца в национализме. 10 июля 1938 года его расстре-
ляли».
(Из воспоминаний дочери Альмухаметова
Розы-ханым Латыповой)
Загир Исмагилов вспоминает, что один из тех, кто слу-
жил в ту пору в Уфимской тюрьме, занимаясь пыт-
ками и даже казнями политзаключенных, двуногая тварь
Ф. (я о нем уже писал в своей книге. «Крючья под ребро»
и потому не хочу даже еще раз называть его имени) бах-
валился перед интеллигентными людьми, что «сперва за-
ставил Газиза Альмухаметова спеть песню «Урал» и за-
тем вывел его в положенное место и расстрелял». А я по-
думал про себя: если этот «круг интеллигентов» молча
проглотил этот рассказ шибко откровенного ублюдка, та
он сам недалеко от него ушел...
«Именем СССР Выездная сессия Военной коллегии
Верховного суда Союза ССР... 10 июля 1938 года рассмот-
рела дело по обвинению Альмухаметова Газиза Салихови-
ча, 1895 г. р. — бывшего артиста при Упр. искусств СНК
Б АССР в преступлениях, предусмотренных ст. 58—2, 58—8,
58—11 и 58—13 УК РСФСР.
Предварительным судебным следствием установлено,,
что Альмухаметов в 1918 году являлся активным участни-
ком а/с валидовской группировки, проводя подрыв совет-
ской власти, а в дальнейшем вошел в состав буржуазно-
националистической повстанческой и террористической ор-
ганизации, действовавшей на территории Башкирской
АССР и ставившей целью свержение советской власти и
создание пантюркистского государства путем вооруженного
восстания и совершения террористических актов над чле-
нами ВКП(б) и Советского правительства...
Признавая виновным Альмухаметова в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 58 — 2, 58 — 8, 58— И,
58—13 УК РСФСР, Выездная сессия Военной коллегии
Верховного суда СССР ПРИГОВОРИЛА
Альмухаметова Газиза Салиховича к высшей мере уго-
ловного наказания — расстрелу с конфискацией всего лич-
ного принадлежащего ему имущества. Приговор оконча-
тельный и на основании Постановления ЦИК СССР от
1.12. 1937 г. подлежит немедленному исполнению».
86
Более полугода провел великий башкирский певец в
застенках сталинской тюрьмы. И все это время он непре-
рывно подвергался нечеловеческим истязаниям. И в то
же время чуть не каждый день пел по просьбе таких же
несчастных, обреченных на гибель людей народные и свои
песни. И слезы тоски и горькой радости текли по щекам
заключенных.
Газиз Салихович ухитрился передать для дочери своей
Розы несколько маленьких писем. Главная мысль в них:
не предаваться горю: «Борись за жизнь, будь человеком!»
Я уже упоминал, что палач Ф. заставлял Газиза Аль-
мухаметова перед расстрелом петь народную песню
«Урал». А сидевший с ним в одной камере поэт Муслим
Марат, отбывший в лагерях почти два десятка лет, расска-
зывал, что певец уходил из камеры с арией Нигмата на
устах.
Когда, свергая горы, рушу камни,
Вы будете в душе моей, друзья.
Когда, домой вернувшись, отдыхаю,
Вы будете в речах моих, друзья.
В моря ли, в океаны ли какие
Впадает быстротечная река?
Как славно быть мне с вами, дорогие;
О, как разлука с вами нелегка!
Вот таким, поющим и думающим о своих близких и
родных, останется Газиз Салихович Альмухаметов в па-
мяти людей.
ЦЕНА
СЛОВА
Об иргизо - камаликских башкирах и Хадие Давлетшиной
Летом 1954 года сос-
тоялся II съезд писателей
Башкортостана. Хадия
Давлетшина очень надея-
лась на нем выступить,,
заранее приготовила
текст своего выступления.
Это был ее последний
шанс хоть как-то утвер-
дить не только свое твор-
чество, но и доброе имя,
которое в течение более
пятнадцати лет пытались
втоптать в грязь. Ее об-
рекли на нужду, холод и
голод, бросили на дна
жизни, сделали изгоем.
Но втоптать в грязь не
смогли.
Хадия делала боль-
шую ставку на этот съезд.
Ей вспоминался Первый
съезд писателей СССР в
Москве, где она была ок-
ружена почетом и вниманием. А ведь тогда за плечами
была лишь одна повесть «Айбика», ряд рассказов, стихов
и публицистических выступлений. А теперь она была ав-
тором большого романа (точнее, его рукописи), под наз-
ванием «По долинам Иргиза». Он был известен руководя-
щим товарищам из Союза писателей. Его читал Мустай
Хадия Давлетшина
88
Карим и, как хотела сказать в своем выступлении на
съезде Хадия, «...меня особенно тронул детальный разбор
и советы товарища Мустая Карима, который с большой
заботой и без всяких жалоб на свою перегруженность ра-
ботой сидел и трудился над этой книгой, делал свои цен-
ные замечания. Это и есть забота товарища по перу, писа-
теля и друга по литературному цеху».
Разумеется, говоря о «товарищеских указаниях» чле-
нов секции прозы и «дружеском интересе» товарища из
обкома партии Саяпова, Хадия мечтала тронуть сердца
своих коллег, равно как и партийных руководителей. Она
была тяжело больна туберкулезом и поддерживала себя
козьим молоком, иногда ездила «на кумыс». Но все это
уже мало помогало. Налицо были признаки астмы. Ее
последней и единственной мечтой была публикация рома-
на «По долинам Иргиза». Хотя бы его журнального ва-
рианта. На съезде писателей Хадия Лутфулловна собира-
лась говорить о языке произведений, о том, что коллеги-
писатели низвели богатейший и образный башкирский язык
до скудного примитива, забыли об аромате народной речи,
ее удивительных диалектов. Но слово ей не было дано,
хотя (словно по иронии судьбы) главной темой разговора
на съезде стала именно проблема языка.
После черного 37-го года в живых не осталось ни од-
ного писателя, который мог бы похвастать совершенным
знанием народного языка во всем его многоцветий; сам
литературный язык произведений зримо оскудел. Зато про-
цветали те литераторы, что принимали деятельное участие
в наветах на своих коллег и значит — в их истреблении.
Некий «усредненный» язык стал самым распространенным
в среде тогдашних писателей Башкортостана.
Один из таких «усредненных» литераторов не без само-
довольства заявлял на пленуме Союза писателей букваль-
но следующее: «Будущие литературоведы, историки всег-
да будут делить литературу на две части: литература до
тридцать седьмого и литература после тридцать седь-
мого...»
Разумеется, «литература после тридцать седьмого»
представлялась оратору верхом совершенства, ибо сам он
ей принадлежал.
Литература серости была настоена на крови предшест-
венников!
Читая произведения «коллег», Хадия почти физически
страдала от откровенной нищеты языка их книг, от той
бездны, которая отделяет башкирских писателей от истин-
но народного, сочного и образного языка. Вот почему да-
89
же в такой драматический и горький момент своей жизни,
когда для нее многое могло решиться, она не могла обой-
ти проблему языка.
«Нам совершенно необходимо изучение богатого, образ-
ного башкирского народного языка. Не зная языка, не
изучив его глубоко и всесторонне, невозможно создать хо-
рошую литературу на этом языке. Товарищи докладчики
и содокладчики почему-то забыли об этом упомянуть. А
ведь большинство товарищей писателей, которые пишут та-
кие хорошие произведения, как романы, рассказы, пока-
зывающие нашу сегодняшнюю действительность, страдают
именно незнанием языка...»
Последние слова из несостоявшегося выступления Дав-
летшиной звучат суровым приговором тем, кто решал судь-
бу этой замечательной писательницы, глубокого знатока
башкирского языка.
В том же 1954 году с помощью ученого-языковеда, не-
утомимого борца за признание литературным языка северо-
западных башкир Тагира Галлямовича Баишева Хадия
Лутфулловна наконец-то отпечатала на машинке еще од-
ну заветную для себя рукопись, которая складывалась у
нее долгие годы. «Часть словарного фонда башкирского
языка» — довольно скромно (и, на мой взгляд, малоудач-
но) назвала она эту рукопись. Далее в скобках дается
разъяснение: «слова и термины, записанные Хадией Дав-
летшиной в Куйбышевской области».
Далее мы будем называть эту работу просто «Сло-
варь».
Именно так представляла Хадия Лутфулловна друзьям
свою толстую, порядком замусоленную общую тетрадь,
испещренную диалектными словами и разъяснениями к
ним.
«Когда-нибудь мои коллеги по перу, и не только они,
но и учителя языка и литературы, студенты и старшеклас-
сники скажут мне спасибо», — говаривала она с застенчи-
вой улыбкой.
Но о «Словаре» Давлетшиной разговор впереди.
И современников, и значительно более поздних чита-
телей ее книг язык их не только восхищал, но и удивлял,
ставил в тупик: откуда такое знание народного языка
зауральских башкир, прежде всего — баймакских? Неу-
жели довольно кратковременная работа в редакции совхоз-
ной газеты «Зерновая фабрика» (Зилаирский зерносовхоз
Баймакского района) могла стать основополагающим пе-
90
риодом становления ее как писателя?.. Разумеется, нет.
Созданная ею еще в 1931 году повесть «Айбика» написа-
на не менее ярким и образным языком, чем последующий
роман «Иргиз».
Но ведь у нее есть еще одно произведение, которое в
языковом отношении является самым «зауральским», са-
мым «баймакским». Я имею в виду повесть «Мурадым»,
увы, ставшую своеобразной «падчерицей» писательницы,
яблоком раздора в башкирской литературе и поныне ос-
тающуюся таковой.
Я уже писал в газете «Советская Башкирия», что «Сло-
варь» X. Давлетшиной, считавшийся навсегда пропавшим,
обнаружила в своих архивах землячка Хадии, бывший ми-
нистр просвещения Башкортостана Фатима Хамитовна
Мустафина. Думается, со временем он будет не только
издан, но и тщательно изучен, в том числе в преломлении
к повести «Мурадым».
А в этом своем эссе хотел бы внести определенную яс-
ность в вопрос о феномене языка Хадии Давлетшиной,
который для многих представляется некой загадкой.
В сущности же никакой особой загадки не существует.
В 60-х годах, когда я работал в газете «Ленинец»,, в
редакциях газет нередко появлялся однорукий человек с
неизменной сильно обветшавшей сумкой через плечо и
слегка попахивающий хмельным. Он постоянно искал се-
бе собеседника и, найдя его, начинал подробно излагать
свою жизнь. А жизнь у него действительно была незауряд-
ной.
Ахмет Ишкужевич Ярмухаметов происходил из самар-
ских (куйбышевских) башкир, приходился родственником
Хадие Давлетшиной, что и подтверждали соответствующие
документы, которые он постоянно носил в своей сумке,
как и целый ряд прочих бумаг, среди которых были и его
пожухлые рукописи, и вырезки из газет и журналов его
некогда напечатанных материалов, стихи Давлетшиной.
Словом, у него были бумаги на любой вкус.
— Ты роман «Иргиз» читал? То место, где говорится о
расстрелянных комсомольцах, помнишь? Так вот, расстре-
лянным мог оказаться и я. Мы с другом моим Хунафиным
по поручению партячейки вели в башкирских аулах анти-
колчаковскую пропаганду, да попались в руки беляков.
Вместе с нами в их руках, очутились еще четыре комсо-
91
мольца. По дикой случайности среди беляков оказался
дальний родственник Хунафина. Он огрел нас нагайкой и
сказал: «Чешите отсюда, пащенки! Если попадетесь еще
раз, расстреляю!» Ну мы и бежать... Потом узнали, что
тех четырех комсомольцев там же и пустили в расход...
Об этом событии писали в большевистских газетах. Вот
оттуда Хадия и узнала о расстрелянных комсомольцах и
ввела этот факт в сюжет своего романа.
На этом завершаются революционные подвиги Ахме-
та Ишкужевича. Стать человеком ему помог муж Хадии
Губай Давлетшин. Благодаря ему, Ярмухаметов сумел по-
ступить и затем закончить Уфимский институт народного
образования, после чего он оканчивает еще и Казанский
лесотехнический институт. Именно по его дипломному про-
екту в 1929 году был организован Башкирский государст-
венный заповедник, а в 1936 году, опять же по проекту
инженера Ахмета Ярмухаметова, начались лесонасажде-
ния в западных районах Башкортостана. В 1954 году Баш-
кирский институт истории, языка и литературы выпустил
«Словарь по лесному делу», составленный Ярмухамето-
вым. А в 1958 году его вызвали в военкомат и вручили ор-
ден Красного Знамени за героические дела, совершенные
им в годы войны в тылу врага. Там он фигурировал под
именем Акима Ивановича Ермолаева. Конкретно: ему уда-
ется спасти советских девушек, обреченных на отправку
в Германию. Его приговаривают к расстрелу, но уже при-
ставленного к стенке дома под дула карателей Ахмета
Ишкужевича спасает дочь хозяина дома, которая с кри-
ком: «Он мой суженый!» бросается на его выручку, тем са-
мым буквально вырвав из лап неминуемой гибели. После
этого Ярмухаметов устанавливает связь с партизанами,,
а через них — с советской контрразведкой. Ему удается
передать сведения о немецкой технике, расположении войск
и пр. В результате полученных данных советским частям
удается довольно безболезненно и раньше срока освобо-
дить город Курск и всю Курскую область. И советское ко-
мандование не забыло его поступка — орден нашел его че-
рез пятнадцать лет.
Вот такой человек был Ахмет Ишкужевич Ярмухаме-
тов
Потом он показал мне свою статью под названием «Пу-
гачевские башкиры», опубликованную в журнале «Белем»
(«Знание») в 1925 году на арабском языке. Я перевел ту
статью на русский язык и записал. И так как она в этом
моем очерке представляется более чем уместной, то и хочу
познакомить с ней читателя.
92
В середине XVIII века, еще до восстания Салавата
Юлаева, вольнолюбивые башкиры, проживающие на от-*
рогах Ирендыкских гор и на берегах Сакмара, тяготясь
тем, что на их землях все больше стали строить русские
заводы, вырубать леса и завозить прибывших откуда-то
с запада русских крепостных крестьян, двинулись вдоль
русла реки Сакмар на западные просторы исконно баш-
кирских земель. И чем дальше они продвигались, тем воль-
готнее становились степные просторы, выше трава, больше
рыбы в степных реках. Одни оставались там, где им было
любо, другие продолжали продвигаться дальше, к берегам
Ители (Волги). Они шли бесконечным потоком, как в пору
Великого переселения народов, — башкиры Карый-Кып-
сакского, Алма-Тамьян-Катайского, Усергян-Бурзянского^
Тунгаурского родов, а также племен Епшей и Сураш. Все
они были выходцами прииреидыкских и присакмарских
мест. А всего они представляли восемь разных башкир-
ских "родов. Многие из них пополнили число Ток-Сурень-
ских собратьев; другие, самые неутомимые, шли все даль-
ше и дальше, пока не достигли пределов рек Камалик
и Каралык. Больше всех было здесь представителей Бур-
зян-Кыпсакского рода. Их поразило богатство здешней
степной растительности, многоцветье ее красок; утопая в
бархатной траве по самое брюхо, вольно паслись дикие
кони-тарпаны; воздух колебался от звона цикад и свиста
перепелов; гордые степные орлы плавно и мерно кружили;
над головой, планируя с широко разведенными крылами.
О, как по сердцу пришелся такой пейзаж ирендыкским и
сакмарским башкирам!
«С незапамятных времен славились в степях баснослов-
но щедрые яйляу —с серебристыми, волнующимися ш>
ветру ковылями, и прозрачным хрустального блеска воз-
духом, которым век дыши — не надышишься, и студеными
родниками — прильни к животворящей струе и пей, пока
не заломит зубы, и тенистыми, широкошумными дубрава-
ми, где прохладными зорями ликуют соловьи да неуго-
монная кукушка кличет людям то ли радость, то ли горе...»4
(X. Давлетишна. «Иргиз»)
Самые неугомонные башкиры и тут не задержали своё'
продвижение вперед, дошли до самой реки Сэдэ (Чижы)„
что на территории нынешней Саратовской области, и там„
наконец-то, обосновались. С тех пор их стали называть,
садинскими башкирами.
На первых порах им жилось покойно и вольготно. Они-
93'
-занимались охотой, рыболовством, разводили вдоволь ско-
тину. С самой весны начинались веселые игрища, на кото-
рых девушки наравне с парнями участвовали в скачках
(байга), стрельбах из лука и порою —даже в борьбе (ку-
реш). Вспомните сказание об Алпамыше и Барсынхылу.
Ведь не с потолка же взята легенда о девушке-богатырше,
которая дает слово выйти замуж лишь за того джигита,
который сумеет одолеть ее в борьбе!
О той золотой поре жизни садинских башкир остались
благостные легенды и песни.
По брегам Сэдэ душистый мятлик
Расцветает раннею весной.
Песни мы поем — не то что четки
Нижем пальцем—дух возносим свой!
И такая беззаботно-вольная жизнь садинских башкир
-продолжалась почти до 1860 года.
Правда, тут следует отметить и такие обстоятельства.
За участие в восстании Салавата в те же пределы были
зысланы многие тысячи опальных башкир. Были еще от-
дельные набеги со стороны сопредельных калмыков и ко-
чевых киргизов, которые устраивали барымту (угон ско-
та), но для подобных инцидентов у приволжскихбашкир
всегда имелись боевые дружины, готовые вступить в бой
с любыми захватчиками.
С памятного (точнее, злопамятного) 1860 года сюда
все больше стали наведываться эмиссары русских промыш-
ленников, которым не давали покоя земли садинских баш-
кир. На первых порах те держались, пытаясь в меру сил
отбиваться от все более настойчивых набегов заволжских
русских хищников. Но по старой памяти предков, некогда
бежавших от них с отрогов Ирендыка, нутром чуяли смут-
ную беду. И она грянула: русские помещики и их служите-
ли вызнали, что охранная грамота здешних башкир-вот-
чинников хранится у муллы по имени Масалим. Хитростью
ш обманом им удалось-таки завладеть той грамотой, уп-
латив одураченному мулле 25 рублей денег. Теперь уже
они могли «на законном основании» войти в эти пределу,
оттеснив оттуда прежних хозяев-башкир. Были вызваны
карательные отряды, против которых не могли устоять са-
динские дружины, вооруженные луками и копьями. Пошли
разбои, поджоги башкирских домов, изнасилования де-
зушек и женщин, подлые убийства лучших джигитов. Л
тут еще на подмогу карателям подоспели беспощадные
яицкие казаки, от века ненавидевшие своих северных со-
94
седей-башкир и принимавшие самое деятельное участи^
в подавлении их восстаний. Последним актом изгнания са-
динских вотчинников был сбор башкирских старейшин-*
аксакалов, якобы для совета; но когда те сошлись со всех:
сторон на большом майдане, началось их жестокое избие-
ние батогами. Многие башкирские старики там же и по-
легли. Бросившиеся им на помощь люди были так же
нещадно биты и многие умерщвлены. После этого русски-
ми помещиками был предъявлен ультиматум: башкиры
должны в течение 24 часов покинуть пределы своего оби-
тания.
На смену веселым и радостным песням, полным жизн№
и оптимизма, пришли песни горькие и печальные.
Долины вод Сэдэ — такыры сплошь;
Копыта режут камни их, как нож;
Там, где играли мы и веселились,
Уж не растет трава — лишь пепла дрожь.
Когда башкиры покидали степи,
Висел туман над ними, словно пыль;
Река Сэдэ осталась. Капал с неба
Дождь, да слезами исходил ковыль.
Та же участь, правда, более мягкая, постигла и тег
башкир, что облюбовали долины рек Каралык, Камалик
и Большой Иргиз. Долгое время они вели там кочевой об-
раз жизни, пока не пришел год отмены крепостного пра-
ва. Тогда на их земли нагрянули «межовои», прошлись
аршином, каждому двору нарезав строго узаконенный уча-
сток, а на остальные пространства вселили приезжих рус-
ских крестьян. С тех пор бывшим кочевым башкирам-ско-
товодам пришлось начать оседлый образ жизни, растить
пшеницу и рожь; самым бедным — батрачить у русских
кулаков и помещиков. Вот тогда и образовались на бере-
гу реки Иргиз башкирские аулы, такие как Хасан, Имил-
бика, Кыпсак, Кинзягул, Дингезбай, Бутакай (Бурзян);
на берегах реки Камалик и Каралык — Муратша и Таш-
булат; на берегу речки Таллы (притока Иргиз-реки) — аул;
Таллы. Кроме того, в верховьях реки Камалик такие ау-
лы, как Харыш, Ише.мбай, Катай, Мишар (Абдулла), Ка-
харман, Кыпсак (Уразай).
После того, как число их жителей пополнили садин-
ские башкиры, вынужденные бежать с родных мест, здесь
были построены мечети и медресе. Основали садинцы и
свои отдельные поселения. Таким образом, к 1866 году
9S
здесь были образованы две волости. Аулы, что на берегу
реки Камалик, вошли в состав Хужабайской волости; ир-
гизские аулы — в состав Имильской волости. Таким обра-
зом, к 1918 году 18 башкирских аулов Хужабайской и
Имильской волостей Пугачевского уезда представляли со-
бой башкирский регион Самарской губернии. Число их
жителей составляло примерно 20 тысяч человек.
Весной 1925 года состоялся V Всебашкирский съезд
Советов в Уфе. От имени иргизо-камаликских башкир на
нем выступил их уполномоченный Губайдулла Киреевич
Давлетшин, будущий писатель и муж Хадии Лутфуллов-
иы. До этого Губай был известен как храбрый командир
красных партизан. Другим делегатом иргизских башкир
был Забихулла Исламгазин. Оба этих делегата выступили
с несколько странной для такого случая просьбой: пере-
селить их земляков, некогда высланных за пределы Баш-
кортостана за активное участие в восстании Пугачева и
Салавата Юлаева и вынужденных с тех пор жить на чуж-
бине, на территорию Башкирской автономной республики.
И сделать это за счет государства.
И V Всебашкирский съезд внял просьбе иргизо-кама-
ликских башкир. Было принято решение переселить же-
лающих на территорию Баймакского района, родину их
предков. За счет бюджета республики, но с условием: пе-
реселенцы организуют на новом месте зерносовхоз, подни-
мут целинные площади, построят поселок. Им были выде-
лены кредиты, и переселение началось!
Это произошло в 1927 году.
Так был организован знаменитый Зилаирский зерно-
совхоз, который в течение десятилетий оставался (и оста-
нется! ) маяком для всех хлеборобов республики, славится
на всю Россию.
Уже через несколько лет после своего зарождения сов-
хоз стал давать Родине по миллиарду пудов пшеницы
ежегодно.
Первым начальником политотдела этого хозяйства был
Губай Давлетшин. Он создал при политотделе газету под
названием «Зерновая фабрика», сотрудником которой ста-
ла работать Хадия Лутфулловна.
Надеюсь, вы поняли, к чему вел я весь этот простран-
ный рассказ о башкирах Иргиза, к которым относится
писательница Хадия Давлетшина?
Впрочем, думается мне, что и сама история этих запад-
ных башкир любопытна и примечательна во всех отноше-
.96
ниях. А их трудовой и чисто человеческий подвиг с созда-
нием Зилаирского зерносовхоза вообще должен быть впи-
сан золотыми буквами в историю этих башкир.
В сущности, произошло возвращение на родину тех,
чьи предки некогда покинули свои исконные земли, уйдя
на поиски вольготной жизни. И на какое-то время ее
нашли.
В решении о бесплатном возвращении иргизо-камалик-
ских башкир на исконную их родину видится мудрость и
прозорливость тогдашнего первого секретаря Башкирского
обкома ВКП(б). Я. Б. Быкина.
Итак, получается, что Хадия Давлетшина как бы и
не отрывалась от родной сторонки, от земли своей обето-
ванной. Естественно, что башкиры Иргиза, и в частности,
аула Хасан, где она родилась, и аула Дингезбай, где она
с юного возраста преподавала башкирский язык и лите-
ратуру, говорили на том же баймакском наречии. Удиви-
тельно ли, что она столь естественно и грациозно опери-
рует в своем скандально знаменитом «Мурадыме» этим
наречием, которое ни с какой стороны не могло быть есте-
ственным для уроженца Янаульского района Гайнана Ами-
ри, столь неосмотрительно присвоившего эту повесть Дав-
летшиной. Он-то и предположить не мог, какая взрывча-
тая сила таится в языке этого «хитрого» произведения, в
тех диалогах, которые ведут между собой его герои, непо-
средственно из тех краев, и ни из каких других. Ничего
удивительного в том, что «вкраплнны», вводимые Гайна-
ном Гимазетдиновичем, с потрохами выдают себя даже не-
искушенному в этих делах читателю, мало-мальски знако-
мому с башкирским языком.
Но еще большим доказательством того, что повесть
«Мурадым» принадлежит руке Давлетшиной, свидетельст-
вует составленный ею Словарь («Часть словарного фонда
башкирского языка»).
Повторяю: это — уникальный труд, который может на-
много обогатить весь башкирский литературный и разго-
ворный язык вообще. Писательница чутким ухом специа-
листа уловила и безупречным вкусом литератора отобра-
ла самые полнозвучные и приемлемые для общего упот-
ребления слова иргизских (садинских) башкир и дала
им замечательные истолкования и комментарии.
Словарь Давлетшиной чрезвычайно напоминает «Рус-
ский словарь языкового расширения», составленный А. И.
Солженицыным. «Тут подобраны слова, никак не заслу-
живающие преждевременной смерти, — пишет автор сло-
варя в сврем предисловии. — Слова, еще вполне гибкие,
4 Заказ 41Б
97
таящие в себе богатое движение — а между тем почти
целиком заброшенные, существующие близко рядом с гра-
ницей нашего изношенного узкого употребления, — область
желанного и осуществимого языкового расширения. Так-
же и слова, частично еще применяемые, но все реже, те-
ряемые как раз в наше время, так что им грозит отми-
рание».
Эти слова в полной мере подходят и для характеристи-
ки словаря X. Давлетшиной.
К сожалению, разность языков не позволяет мне при-
вести хоть отдельные примеры такого «расширения». Хо-
чу только выразить свое восхищение тем, что опальная
писательница, четыре года проведшая в лагерях и затем
до самой смерти пребывавшая в крайне бедственном по-
ложении, больная и одинокая, сумела составить столь бли-
стательный свод замечательных по своей выразительности
башкирских слов, которые сплошь и рядом по заложен-
ному в них смыслу и красоте звучания превосходят свои
литературные, общепринятые аналоги.
И все же не могу обойтись без одного или двух приме-
ров, надеясь на чуткость и проницательность русского чи-
тателя.
Есть в башкирском языке слово «а?ыу», что означает
«отбиться», «свихнуться», «сбиться с пути истинного» и
т. д. Словом, имеющее много смысловых оттенков. И вот
Хадия Лутфулловна приводит производное от этого слова,
не принятое в литературном употреблении, — «а?ман», оз-
начающее тип человека, склонного к пребыванию на сто-
роне, могущего днями и сутками не возвращаться в род-
ное гнездо, и т. д. Относится это и к скотине, любящей
приставать к чужому стаду.
«Остров» на башкирском языке обозначается словом
«утрау». Но есть в этом слове какое-то внутренне смысло-
вое смещение к значению сидеть, сиденье. А вот Давлет-
шина предлагает замечательное диалектное понятие
«арал». Какой широкий смысл заключен в этом емком сло-
ве, где есть и присутствие большой воды (Аральское мо-
ре), и какой-то промежуточности (ара), и оторванности
от всего окружающего, материального. Поэтому в значе-
нии «острова» это слово звучит коротко и полнозвучно.
Слово «толстяк» обозначается на башкирском, как пра-
вило, двумя словами — «Йыуан кеше» (толстый человек).
Давлетшина предлагает изумительно емкое слово «буж-
мак», в котором сам оттенок звучания намекает на затаен-
ный смысл. И тут же приводится ласкательный вариант
98
этого слова — «бужмакай». Именно так ласкают башкир-
ские женщины своих чад-крепышей.
Но — довольно! Переносить диалектные слова из одно-
го языка на другой, когда слова эти не привились даже
в оригинале этого языка, — дело не только неблагодарное,
но и бессмысленное. Но как должен быть благодарен мыс-
лящий башкир, восприняв эту подвижническую работу вы-
дающейся писательницы, которая думала о своих будущих
читателях, о полноте и целостности языка всего своего
родного народа.
«Лучший способ обогащения языка —это восстановле-
ние прежде накопленных, а потом утерянных богатств», —
пишет Солженицын в том же своем предисловии к Сло-
варю.
Прекрасным знатоком родного языка был земляк Ха-
дии Лутфулловны народный поэт Башкортостана Рашит
Нигмати, уроженец аула Дингезбай, где преподавала сов-
сем еще юная Хадия. Недаром именно он взялся редак-
тировать роман своей землячки «Иргиз», когда, наконец,
ему дан был ход в жизнь, в издательство.
Но, увы, случилось это уже после смерти автора ро-
мана.
В своем стихотворении «Мой подарок Москве» Рашит
Нигмати размышляет, какой бы подарок захватить своим
московским друзьям? Перебрав многие рукотворные суве-
ниры, он приходит к выводу, что...
Моих друзей в столице очень много,
Кого же предпочту я, скромный гость?
Поэтому я взял с собой в дорогу
Лишь горсть земли,
Земли родимой горсть.
По воспоминаниям Фатимы Юлтыевой, сидевшей в ла-
гере вместе с Хадией Лутфулловной, та тоже прихватила
с собой в дорогу горсть башкирской земли, завернув ее
в носовой платок. Изредка она вынимала его из сундучка
и долго вглядывалась в простые иссохшиеся комья...
Иргизские башкиры всегда знали истинную цену
Земли.
И Слова — тоже.
* # *
Автор выражает глубокую благодарность Фатиме Ха-
митовне Мустафиной за предоставленные ею архивные
документы, на основе которых было написано это эссе.
<•
99
.#*£&
%
НЕПОКОРНОЕ
РОБИНЗОНА
Ученый-языковед Тагир Баишев
Признаюсь, меня так
и подмывало назвать этот
свой очерк (а может быть»
эссе) «Сказ о башкир-
ском националисте». И
все-таки перо мое не ре-
шилось вывести эти сло-
ва. Надеюсь, понимаете,
почему. И отнюдь не от-
того, что меня самого
считают таковым и я чув-
ствую по такому случаю
некий дискомфорт. Прос-
то я не хотел бы заведо-
мо настраивать иных,
слишком ретивых интер-
националистов или, тем
более, космополитов про-
тив своего героя, ибо по-
нятие «националист» для
таких «граждан челове-
чества» по-прежнему ос-
тается чем-то отврати-
тельным, чуть ли не кри-
минальным, могущим служить разве что пунктом для об-
винения или приговора, основанием для ареста, высылки
или расстрела.
Между тем герой мой является истинным националис-
том и являлся таковым в самое сложное, невыносимо тя-
желое для башкирского интеллигента время, и сам заяв-
лял о себе как о патриоте своей нации и народа. Заявлял
Тагир Баишев
100
и устно, и письменно — в своих бесконечных посланиях и
в обком партии, и в ЦК КПСС, и отдельным официальным
лицам, и общественным деятелям, и видным ученым, и
писателям. Самое парадоксальное в этом смысле заклю-
чается в том, что именно эта неприкрытость, точнее ска-
зать, полная открытость своей позиции и взглядов, воинст-
вующая активность в отстаивании своих принципов и идей,
борьба не на жизнь, а на смерть даже в тех случаях, ког-
да приходилось оставаться в полном одиночестве (а таких
случаев у него было множество!), поразительная неприми-
римость в этой неравной борьбе — именно эти свойства
натуры сберегли моего героя от неминуемой расправы.
Да, были бесконечные обвинения, угрозы, обструкции в
самых разных инстанциях, в том числе на самом высоком
уровне; были осуждения, громогласное предание анафеме
(на всяких конференциях и партийных собраниях, на стра-
ницах прессы и т. д.); было наказание бездомьем — ему
пришлось до старости лет проживать с семьей в комна-
тушке в 10 кв. метров... Но не было ареста, отсидки, реп-
рессий.
Между тем великого фольклориста Мухаметшу Буран-
гулова исключили из Союза писателей, преследовали и
сажали в тюрьму лишь за то, что он написал драму «Иду-
кай и Мурадым» — по мотивам башкирского одноимен-
ного эпоса. Дело в том, что именно в ту злосчастную для
Мухаметши-сэсэна пору вышло постановление ЦК по по-
воду этого общетюркского памятника старины, в котором
осуждалась «идеализация» ногайского сардара XV века
Едигея, который в 1408 году совершил поход на Русь. Ав-
торы позорного «постановления» даже не удосужились
разобраться в содержании эпоса, где Идукай (Идеге, Еди-
ге, Едигей) ведет смертную борьбу с золотоордынским ха-
ном Тухтамышем, и что всякая связь между героем кубаи-
ра и ногайским сардаром давным-давно и раз и навсегда
стерта. Да ее, в сущности, и не существовало, осталось
только созвучие имен.
Другой случай.
В начале тех же 40-х годов известный поэт и ордено-
носец Баязит Бикбай был затравлен морально и физиче-
ски за то, что в своей драме «Кахым туря» показал, что
полководец башкирской кавалерии одним из первых в Рус-
ском воинстве ворвался в Париж, а затем, на обратном
пути домой, был отравлен в городе Владимире. То есть
был безжалостно наказан за то, что воспользовался в
своем произведении совершенно реальными историческими
фактами.
101
«Строптивость» и «вольнодумство» моего героя не идут
ни в какое сравнение с тем, что позволяли себе Мухамет-
ша Бурангулов и Баязит Бикбай. Не будет преувеличе-
нием сказать, что именно он являлся самым дерзким оппо-
нентом вышестоящих органов и идеологических институ-
тов, наиболее непокорным деятелем науки своего времени.
Читатель поймет и оценит это в ходе нашего дальнейшего
повествования. А мне остается лишь назвать его имя —
Тагир Галлямович Баишев. Кандидат филологических
наук. В последние годы работал старшим научным сот-
рудником института истории, языка и литературы РАН
(тогда БФАН).
I
Прежде чем приступить к рассказу о Тагире Галлямо-
виче, его научной деятельности и борьбе, которой была
отмечена вся его жизнь, я хотел бы кратко описать свое
собственное к нему отношение.
В 60-х годах, когда я был молод и многого не пони-
мал, мне не раз приходилось слышать это имя — Баишев.
Обычно говорили «Баиш-карт», т. е. «старик Баиш». Слы-
шал о нем из разных уст, в том числе — из уст уважаемых
мною людей творчества, преподавателей университета,
журналистов... В обобщенном смысле имя это имело нега-
тивный характер: не просто националист, но и неугомон-
ный склочник, жалобщик, засыпающий своими несносны-
ми письмами все партийные, общественные, научные и
творческие инстанции; не внемлет никаким уговорам, вну-
шениям и увещеваниям. Словом, вздорный старикашка,
возмутитель спокойствия, вносящий смуту в головы наив-
ной, готовой верить всему и вся молодежи и вносящий
раскол в отношения между народами и нациями, прежде
всего, между татарами и башкирами.
Именно такое общественное мнение бытовало тогда о
Тагире Галлямовиче, и вряд ли кто-то мог бы его опро-
вергнуть или хоть как-то смягчить.
Я не знал и, наверное, даже не видел этого человека.
Да и вряд ли появилось бы желание его видеть, ибо у
меня выработалось стойкое неприятие к тем, кто строчит
жалобы, доносы, протесты, патетические послания «в под-
держку чьих-то и каких-то решений» или, наоборот, кого-
то ниспровергает. Позднее мне пришлось работать млад-
шим научным сотрудником в том же институте истории,
языка и литературы, где долгие годы трудился и Баишев;
102
иногда имя его всплывало в разговоре, я знал, что он жив-
здоров, пребывает на вынужденной пенсии, но пойти поз-
накомиться с ним, узнать что это за фрукт, желания у
меня так и не появилось.
И вот, спустя тридцать с лишним лет, я вновь столк-
нулся с именем этого человека, с его жизнью и судьбой,
с его идеями, научными позициями и принципами, его
гражданской платформой и взглядами на национальное
и интернациональное. Словом, на все главные аспекты на-
шего существования, охватить которые просто-напросто
невозможно. И в своем эссе я и не буду к этому стремить-
ся, стараясь ограничиться наиболее важными из них. И,
предваряя свои записи, хочу сказать следующее.
Тагир Галлямович не просто националист, или, ска-
зать точнее, до мозга костей башкирский человек, но на-
ционалист особого свойства и характера. Для него не су-
ществует каких-то уступок, дипломатических «коридоров»,
промежутков мнений. Малейшее отклонение от собствен-
ных представлений и взглядов кажется ему чуть ли не
«предательством интересов», изменой чему-то сокровенно-
му, а может быть, даже священному, чего никогда бы не
простили предки. Принципы у него незыблемы, он был
стопроцентно уверен в правоте своих убеждений. Вот по-
чему спорить с ним было делом чрезвычайно трудным.
Почти невозможным. Точно так же, как пошатнуть во мне-
нии. И именно это стало не просто драмой, но и трагедией
его жизни. И в то же время именно это делает его нату-
ру необыкновенно цельной и монолитной, заставляет вос-
принимать ее, как и все его убеждения, не просто всерьез,
но и с оттенком восхищенного удивления.
«Меня окрестили башкирским Дон-Кихотом, — пишет
он с искренней обидой, не желая воспринимать этот вели-
кий литературный образ как символ человеческого благо-
родства и замечательного простодушия. — Это сделали
мои враги. Но я никогда не был и не буду Дон-Кихотом.
Я уверен, что когда-нибудь меня поймут и оценят».
Я думаю, это время пришло.
Надеюсь, читатель уже понял отношение автора к
своему герою. Хотя, полагаю, это отнюдь не самое глав-
ное. Ведь писателю совершенно не обязательно навязы-
вать свое мнение, свои симпатии или антипатии, если даже
это не художественное, а вполне документальное повест-
вование. Читатель должен делать свои выводы сам.
А теперь уместно задаться вопросом: а так ли много
было в ту пору, когда башкирская интеллигенция испы-
тывала сильнейший моральный гнет, своего рода духов-
103
ный геноцид, таких Баишевых, которые не просто держали
«круговую оборону», но сами шли в бой с открытым за-
бралом? В этом смысле я могу назвать только одного
человека — Рами Гарипова. Но он был на 44 года моложе
Тагира Галлямовича, и у него была иная сфера деятель-
ности.
В Баишеве меня поражает неугасимая сила энергии, го-
товность к действию, независимо от того, к каким средст-
вам он при этом прибегал. Его упрекали, обвиняли в крюч-
котворстве, графоманстве, мании величия, в пустом из-
ведении бумаги и чернил и т. д. и т. п. Действительно, в
смысле посланий и писем в высшие инстанции Уфы и
Москвы он едва ли уступает тем злонамеренным анонимам,
которые целые дни проводят в писании жалоб и доносов
на разных людей. Но разве можно сравнить такого ано-
нима с автором деловых, глубоко аргументированных (хотя
бы с точки зрения самого автора!) писем с развернутой
картиной положения башкирского народа, интеллигенции,
науки и культуры, которую неизменно раскрывает Тагир
Галлямович в своих посланиях? Нередко он повторяется,
ссылается на одни и те же факты и цитаты исторических
личностей (Алишер Навои, А. Г. Бессонов, С. Г. Рыбаков,
В. И. Ленин и др.), варьирует одни и те же мысли; но все
это делается им для того, чтобы убедительнее и многосто-
роннее показать драматизм происходящего в его родной
республике и с его родным народом. Так он делает в пись-
ме Н. С. Хрущеву, которое занимает 121 страницу, в пос-
ланиях Председателю Совета национальностей Я. В. Пейве
и Президенту АН СССР академику А. Н. Несмеянову;
чуть по иному излагает суть дела в письмах первым секре-
тарям Башкирского обкома КПСС 3. Н. Нуриеву и С. Д.
Игнатьеву, «представителям башкир-тептяр»: Сайфи Ку-
дашу, Мустаю Кариму, Ахнафу Юлдашеву, Гилемдару Ра-
мазанову, Мидхату Гайнуллину; совершенно по-новому, но
в том же ключе пишет в редакцию газеты «Правда» и в
Президиум Академии наук СССР. Где только не обсужда-
лись его обращения, до кого только он сам не доходил!
Такое — в старческом возрасте, когда ему минуло семь-
десят лет! И это можно назвать «крючкотворством»?
Или — «графоманством»?!
В конце каждого своего послания он подписывался:
«Баишев Тагир Галлямович, башкир, год рождения 1886,
кандидат филологических наук, бывш. ст. науч. сотрудник
института истории, языка и литературы БФАН, беспар-
тийный».
104
Заставь-ка злонамеренного анонима поставить хотя бы
одну букву своего имени! Черта с два!
Да, обкомовцы его ненавидели. Но они и боялись его,
ибо имя Баишева было известно всем, в том числе и в
ЦК. Его невозможно было арестовать, уничтожить физи-
чески. Его можно было свести на нет лишь морально.
* * *
«Я, Баишев Тагир Галлямович, родился в семье башки-
ра-крестьянина, безлошадного бедняка 15 августа 1886 го-
да в деревне Старо-Халилово Дуванского (быв. Мечетлин-
ского) района Башкирии. Первоначальное ознакомление
с арабским алфавитом того времени получил от отца и
братьев. Впоследствии учился в деревенской националь-
ной религиозно-схоластической школе... После реформ
1905—1906 гг., с открытием для башкирского населения
джадидистских (новых) школ, стал учительствовать в на-
чальных классах Ариевской национальной школы Дуван-
Мечетлинской волости, где работал 3 года — по 1908 —
1909 гг. включительно.
В 1909 году осенью я был призван на военную службу
и направлен в г. Иркутск в артиллерийскую часть. Служ-
ба явилась для меня школой познания русского языка и
многого другого. В Иркутске я закончил военно-фельдшер-
скую школу. На всю жизнь останусь признательным пре-
подавателю этой школы врачу Шумскому, который уделял
мне особое внимание. По окончании школы я стал ротным
фельдшером... Без увольнения меня отправили на Гер-
манский фронт. В феврале 1915 года, раненый и конту-
женый, я был взят в плен немцами. Представился случай,
и я бежал из плена. На родину вернулся летом того же
года. В начале 1916 года меня направляют на Кавказский
фронт — на территорию Ирана. Там я встретил Февраль-
скую революцию и Великий Октябрь. В марте 1918 года
возвратился в родной аул. Таким образом, армейская
служба и войны отняли почти девять лет моей молодой
жизни. За это время я побывал в разных странах: в Мон-
голии, Польше, Латвии, Литве, Германии; в Грузии, Азер-
байджане, Армении, познакомился с жизнью, бытом, куль-
турой и языком более сорока народов.
По возвращении домой вновь стал учительствовать.
В 1925 году был избран делегатом Первого всесоюзно-
го съезда учителей в Москве, после которого мне пришлось
разъезжать по волостям и делать доклады о решениях
105
съезда. К тому же я был утвержден корреспондентом
«Крестьянской газеты». Меня выдвинули на должность
инспектора Месягутовского кантонного отдела народного
образования, а еще через полгода я был назначен инспек-
тором Башнаркомпроса (первым из башкир). Я куриро-
вал издательское дело. Осенью 1931 года стал студентом
Башкирского педагогического института, после окончания
которого стал сотрудником бывшего Башкирского научно-
исследовательского института национальной культуры,
впоследствии переименованного в Институт истории, языка
и литературы им. М. Гафури.
Литературным трудом и сбором языкового и фольклор-
ного материала начал заниматься с 1918 года; первые пуб-
ликации в газетах и журналах появились в 1924 г. Тогда
же вышли мои переводы с русского языка.
В те годы, когда новая национальная культура только
зарождалась, башкирские кадры были чрезвычайно мало-
численными, мне приходилось быть универсальным авто-
ром: детской литературы, автором или соавтором учебни-
ков, впервые составленных на башкирском языке,— по
башкирскому языку и литературе, естествознанию, агро-
номии и географии. Само собой разумеется, что многие
соответствующие термины на баш. языке приходилось раз-
рабатывать самому. Потом они вошли в норму литератур-
ного языка. Я участвовал в одиннадцати лингвистических
экспедициях по районам Башкирии и обрабатывал мате-
риалы этих экспедиций, относящиеся к изучению разго-
ворного языка башкир и татар-тептярей. Это дало мне
возможность довольно скрупулезно изучить говоры и ди-
алекты современного разговорного языка башкир, опреде-
лить границы их распространения, а также нанести их на
карту. В результате многолетних исследований в 1940 го-
ду мною был создан сводный труд о говорах и диалектах
разговорного языка башкирского народа, названный «Баш-
кирские диалекты в их отношении к литературному языку».
Впоследствии он был представлен на кафедру тюркской
филологии Московского университета в качестве диссерта-
ционной темы на соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук. Защита состоялась в марте 1950 года.
Работа выпущена в свет издательством МГУ в 1955 году
тиражом 1000 экз. Я перевел с русского на башкирский
язык более 400 авт. л. всевозможной литературы, прежде
всего, учебно-методичёской. Но немалое место среди пере-
водов занимает и литература художественная.
Я участвовал и участвую в составлении и редактирова-
нии русско-башкирского и всевозможных терминологиче-
106
ских словарей. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени, а также Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Башкирской АССР.
С 1 октября 1957 г. нахожусь на пенсии.»
* * *
Дав этот сокращенный вариант «Автобиографии» Та-
гира Галлямовича, я хотел убить сразу двух зайцев: кратко
ознакомить читателя с жизненным путем своего героя;
избавить себя от вынужденного жизнеописания его, благо
меня прежде всего интересует то, что проповедует в жиз-
ни и науке Баишев, нежели эпизоды и этапы его судьбы
(хотя и они, сами по себе, могли бы стать объектом ху-
дожнического исследования пытливого писателя).
Сразу хочу предупредить: в моем повествовании будет
немало ссылок на рукописи Баишева, будут даны цитаты
из его писем, заявлений, а также научных установок по
самым разным проблемам духовной жизни общества, ибо
без этого не может быть и рассказа об этом уникальном
человеке.
II
«К некоторым вопросам языкового строительства в
Башкирии» назвал свой научно-популярный трактат Т. Г.
Баишев, написанный им в 1950 году. Давайте поподробнее
остановимся на нем, ибо, на мой взгляд, его научная про-
грамма в этой области и поныне не утратила своего зна-
чения.
Программа предусматривает четыре пункта.
1. На какой диалект должен опираться башкирский
литературный язык как форма национальной культуры в
своем грамматическом строе (морфология, синтаксис) и
словарном составе.
2. Об архаизме (общее понятие об архаизме; архаизмы
по отношению молодого, еще не вполне изученного баш-
кирского языка; как понимают архаизм в условиях Баш-
кирии) .
3. О руководстве и кадрах в области башк. языка.
4. Мой взгляд и взгляд татарских лингвистов на диа-
лект тех башкир, язык которых подвергся влиянию (скре-
щиванию) татарского языка.
Баишев уверен в том, что башкиры в далеком прошлом
107
были более однородны, чем сейчас, и говорили на языке,
имеющем более единый грамматический строй и словар-
ный состав. Башкиры, как народ многоплемённый, имели
и имеют внутри своего языка многочисленные диалекты и
говоры. Но в прошлом и в настоящем превалировал и
превалирует над ними общий язык, выделяющийся своим
грамматическим строем и словарным составом среди дру-
гих языков тюркской системы.
Как известно, до присоединения к русскому государст-
ву башкирский народ на протяжении нескольких столетий
находился под властью татаро-монгольских завоевателей—
казанских, ногайских и сибирских ханств. А после присое-
динения к русскому государству, в целях осуществления
колонизаторской политики, Башкирия была разделена
между Оренбургской, Уфимской, Пермской и Самарской
губерниями. Таким образом, башкиры в течение послед-
них шести-семи веков в административном отношении бы-
ли разделены на несколько частей. Вдобавок ко всему это-
му, в течение нескольких столетий в Башкирии проводи-
лась жесточайшая колониальная политика. В результате
в языковом отношении развитие народа шло неравномер-
но, и Великую Октябрьскую революцию он встретил, бу-
дучи разнородным в этих отношениях.
Исследователь выделяет три группы диалектов:
1. Сохранившие свою самобытность;
2. Подпавшие под влияние татарского языка;
3. Подвергшиеся процессу скрещивания с татарским
языком.
К первой принадлежат диалекты башкир, проживаю-
щих в юго-восточных и южных районах Башкирии, а так-
же в Челябинской и Оренбургской (бывшей Чкаловской)
областях. Помимо языка, они сохранили самобытность хо-
зяйственно-бытового уклада, национальной культуры. Мож-
но указать на разведение лошадей башкирской породы,
на промысел и искусство, связанные с верховой (кавале-
рийской) ездой, национальный костюм и обувь, националь-
ные блюда, мотивы, песни, музыкальные инструменты,
танцы, игры, все жанры фольклора; в том числе эпос.
В этих же районах до революции (отчасти и после нее)
существовали народные поэты-импровизаторы (сэсэны) и
сказители. Современный разговорный язык башкир этих
районов сравнительно богат своим словарным составом,
грамматический строй его весьма самобытен.
Ко второй группе относятся диалекты башкир, прожи-
вающих в некоторых северных, юго-западных районах, а
также в районах, находящихся в средней полосе Баш-
108
кортостана. В этих районах хозяйственно-бытовая, куль-
турная и языковая самобытность сохранилась менее вы-
разительно. Во многих случаях башкиры этих мест под-
пали под влияние татарской культуры и татарского языка.
Наконец, к третьей группе принадлежат диалекты баш-
кир, проживающих в некоторых северных, северо-запад-
ных районах Башкортостана и в смежных с ним районах
Татарстана, Пермской области. Башкиры этих районов в
хозяйственно-бытовом и культурном отношениях близко
стоят к татарам и другим народам, задолго до Октябрь-
ской революции ведших оседлый образ жизни. Их язык
подвергся сильному взаимному влиянию и скрещиванию
с татарским языком. Ничего удивительного в том, что
башкирские диалекты, относящиеся ко второй и третьей
группам, были в конце концов поглощены татарским лите-
ратурным языком.
Я столь подробно остановился на этом пункте програм-
мы Баишева потому, что именно исходя из него ему при-
дется вести долгую (пожизненную) борьбу за «истинный»
башкирский язык. Почему? Да потому, что он был убеж-
ден, что «современный башкирский литературный язык в
своем грамматическом строе (в фонетической и морфоло-
гической нормах) и в основном своем словарном составе
опирается и обязан опираться на язык всех башкир пер-
вого и второго языкового состояния, обслуживаемых ли-
тературным языком. Но в процессе дальнейшего изуче-
ния разговорного языка и обогащения лексикона литера-
турного языка новыми специфическими словами и терми-
нами между представителями вышеназванных трех языко-
вых состояний вечно происходят споры и разлады».
Тут Баишев, на мой взгляд, весьма удачно вкрапли-
вает слова Сталина из его работы «Марксизм и вопросы
языкознания»: «Главное в словарном составе языка — ос-
новной словарный фонд, куда входят и все корневые сло-
ва, как его ядро. Он гораздо менее обширен, чем словар-
ный состав языка, но он живет очень долго, в продолжение
веков, и дает базу для образования новых слов. Словар-
ный состав отражает картину состояния языка: чем богаче
и разностороннее словарный состав, тем богаче и раз-
витее язык».
В чем же суть споров и разладов?
Признавая основополагающее значение языка южных
и юго-восточных башкир, с их диалектами, в создании об-
щелитературного национального языка, Тагир Галлямо-
вич категорически против того, чтобы игнорировался язык
10$
западных и северо-западных башкир (подпавших под
влияние татарского языка); он ратует и за литературный
язык этих башкир с учетом их фонемо-морфологических
особенностей и диалектных слов. Он считает, что для них
следует создать свой литературный язык, который отнюдь
не должен входить в конфронтацию с «основным башкир-
ским литературным языком на основе языка юго-восточ-
ных башкир».
Второй момент разногласий:
«Представители второго и третьего языкового состоя-
ния и татары выступают против внедрения в норму лите-
ратурного языка тех слов и терминов, которые бытуют в
живом языке башкир первого языкового состояния».
Т. Г. Баишев был страстным сторонником обогащения
языка за счет полнозвучных, глубоко осмысленных диа-
лектных слов, из какой группы башкир они бы ни посту-
пали. И тут ему приходилось скрещивать шпаги даже с
самыми близкими коллегами по науке и деятельности.
Самый яркий пример сказанному — конфликт, порож-
денный выходом в свет в 1948 году «Русско-башкирского
словаря» под редакцией действительного члена Академии
педагогических наук и члена-корреспондента Академии
наук СССР проф. Н. К. ДМИТРИЕВА, К. 3. АХМЕРОВА
и Т. Г. БАИШЕВА. Выход этой книги объемом 80 печ. лис-
тов, содержащей 958 страниц, стал выдающимся явлением
в духовной жизни молодой республики. Для нескольких
поколений Словарь этот стал незаменимым пособием в
изучении обоих языков и, по сути, остается таковым и по
сей день. Словарь поражает обилием слов-истолкователей,
среди которых множество диалектных слов, в высшей сте-
пени сочных и метких, безусловно принадлежащих Баи-
шеву, который в течение десятилетий записывал их во вре-
мя лингвистических экспедиций.
Но именно из-за этих слов у него возникли серьезней-
шие разногласия с... соавтором по составлению Словаря
К. Ахмеровым.
Однако обратимся к записям Баишева.
«В научной работе составление и редактирование сло-
варя считается самым тяжелым, самым каторжным тру-
дом. Вот что писал по этому поводу литератор XVIII века
Феофан Прокопович:
Если в мучительские осужден кто руки,
Ждет бедная голова печаль и муки,
Не вели томить его делом кузниц трудных,
Не посылать в тяжкие работы мест рудных:
ПО
Пусть лексикон делает — то одно довлеет,
Всех мук роды сей един труд в себе имеет.
Приступая к работе над «Русско-башкирским слова-
рем», я никак не представлял себе всей тяжести предстоя-
щей работы. Но еще более не представлял, что она к тому
же приведет к непредвиденным обстоятельствам в наших
отношениях с коллегой.
Мой напарник по составлению Словаря К. 3. Ахмеров
был скрытым башкироненавистником. Но поначалу я это-
го не замечал. Он не оспаривал и не зачеркивал вводи-
мые мною новые и диалектные слова, не проявлял ника-
кого недовольства в отношении их. «Понимает, что плохо
разбирается в башкирском языке, вот и не встревает в
мои дела», — с одобрением думал я. Но лишь позднее уз-
нал, что все свои черные дела он проделывал скрытно,
втихаря от меня и других. Нашим московским редакто-
ром, прикрепленным к работе над словарем, была девуш-
ка-башкирка Галия Каримова, родившаяся в Стерлита-
макском районе, очень милая на вид и хорошо разгова-
ривающая по-нашему. Однако, оказывается, именно с ней
и имел дело мой Ахмеров. Он сказал ей буквально сле-
дующее: «Баишев ввел в Словарь очень много новых слов.
Я не знаю, бытуют ли они в нынешнем башкирском лите-
ратурном языке, потому и не возражаю против них. Он
ведь согласовал их с Дмитриевым, мне просто-напросто
неудобно этого делать. Следует всесторонне изучить вве-
денные Баишевым слова, узнать, есть ли они в нынешнем
разговорном языке башкир. Если это возможно, съездить
в юго-восточные районы Башкирии. Если вы там не обна-
ружите эти слова, они автоматически превращаются в ар-
хаизмы. В таком случае, все введенные Баишевым слова
надо будет изъять. Вот тогда мы его и прогоним из инсти-
тута».
Если бы Г. Каримова была широко эрудированным и
образованным человеком, мыслящим современными кате-
гориями, если бы знала, что народный язык — это беспре-
дельный океан; если бы близко была знакома со Слова-
рем В. Даля, она никогда не подпала бы под влияние Ах-
мерова, не поддалась бы его провокации, а встала бы на
защиту нашего с Николаем Константиновичем дела. Увы,
этого не произошло: она клюнула на крючок скрытого вра-
га Словаря, поклялась разоблачить (фаш итерга) Баише-
ва. Получив месячную командировку, она выехала в ука-
занные Ахмеровым районы Башкирии «выявлять наличие»
там введенных Баишевым слов, а именно — в Баймакский*
111
Абзелиловский, Хайбуллинский районы. Разумеется, она
не смогла за 15 — 20 отведенных ей дней найти слова,
которые выискивались мною в течение четверти века, после
чего пришла к убеждению, что «Все введенные Баишевым
в Словарь слова являются архаизмами». Об этом она за-
являет министру просвещения Башкирии С. Алибаеву, при-
ехавшему по делам в Москву. Она посоветовала обсудить
создавшееся положение с «архаизмами» в Уфе. Если бы
министр просвещения был просвещенным человеком, он
прежде всего явился бы в Институт, поговорил бы по это-
му поводу с его руководителями и со мной лично. Я бы
все ему объяснил, представил бы внесенные мною в Сло-
варь слова; если бы вот так, по-мирному, поговорили с
ним, объяснились во всех аспектах, дело не дошло бы до
верхов, не было бы того шума, который возник. Однако
Алибаев с ходу направился в обком партии, проявив «ре-
волюционную бдительность». Можно подумать, старый
языковед Баишев — весьма опасный элемент, вставший на
путь контрреволюционной деятельности, и от него сле-
дует избавиться.
Молодой ученый Ахнаф Харисов получает задание вни-
мательно просмотреть весь Словарь от начала до конца,
затем поехать в Москву, чтобы решить там судьбу нашего
труда. Сказать точнее: свести его на нет. Месяц прожил
в Москве отправленный туда эмиссар обкома, пока не
пришел к такому мнению: «Баишев внес в Словарь мно-
жество слов, не существующих в нынешнем башкирском
языке. И вообще Словарь составлен из рук вон плохо,
столь же плохо отредактирован. В этой работе нет пар-
тийного подхода, ибо все его редакторы — и Н. К. Дмит-
риев, и Ахмеров с Баишевым — беспартийные люди. В
связи с этим Словарь нельзя выпускать на свет в этом
виде, следует его забраковать и приступить к составлению
нового словаря».
Т. Г. Баишев дальше говорит, что о ходе последовав-
ших за сим событий он узнал от московских издательских
работников Таисии Георгиевны Брянцевой (тоже беспар-
тийной) и Тамары Федоровны Медведковой. Чтобы сокра-
тить этот рассказ, я кратко передам его своими словами.
В словах и действиях посланца Башкирского обкома
эти опытные москвички сразу заметили некий тайный
умысел, желание во что бы то ни стало свести на нет
многолетнюю работу над Словарем; решили ни в коем
случае не соглашаться с его заключением. Решили пого-
ворить с Николаем Константиновичем Дмитриевым. Для
того все это оказалось полной неожиданностью. Он очень
112
сильно обиделся на действия Башкирского обкома и при-
шел в настоящий гнев. Пытаясь себя успокоить, долго си-
дел молча. Затем сказал буквально следующее: «По из-
вестным причинам еще до революции татарская интелли-
генция не только пренебрегала башкирами, не только все-
возможно над ними насмехалась, но и пыталась свести
на нет. Увы, эта традиция все еще продолжается. Главен-
ствующие посты в Башкирской республике, в том числе в
Институте истории, языка и литературы, занимают татар-
ские товарищи. Баишев среди них, на свое несчастье, один-
единственный башкир. С началом революции он изучает
язык своего родного народа. Он показал мне свои работы,,
назвал писателей и их произведения, откуда почерпнул
свои примеры. Я спросил его: «Нет архаизмов? Пожалуй-
ста, если есть, убери». Он ответил: «Я не брал слова, ко-
торые пахли бы архаизмом». Я верю Баишеву. Он своего
рода Даль только-только нарождающегося башкирского
языка. Слова, которые внес в свой Толковый словарь Вла-
димир Даль, в его времена не были никакими архаизма-
ми. Слова, которые ввел в Словарь Баишев, тоже никакие
не архаизмы для нашего времени. Небашкиры просто-на-
просто этого не понимают, поэтому для них эти слова —
архаизмы. Нередко их не понимают даже сегодняшние мо-
лодые башкиры. Поэтому ни в коем случае не соглашай-
тесь с этим письменным заключением Харисова, не уби-
райте слова, внесенные Баишевым, подготовленный «Рус-
ско-башкирский словарь» издайте в полном объеме».
Окрыленные словами Дмитриева, женщины накинулись
на посланца Башкирского обкома, излив всю силу своего?
негодования и доводов; потребовали от него, чтобы он на
их глазах порвал свое заключение, иначе пригрозили обра-
титься в высшие партийные органы. Он так и сделал: ра-
зорвал свое письменное заключение на мелкие кусочки ш
вышел вон, ничего не сказав. Кажется, он все понял.
Далее Баишев сообщает, что за русскую основу оню
взяли Словарь русского языка Д. Н. Ушакова, но он ока-
зался слишком объемным, издательство испытывало дефи-
цит бумаги, и потому объем пришлось сократить почти
наполовину. Как бы то ни было, столь нужный для респуб-
лики словарь в 1948 году увидел свет.
В своей рецензии на Словарь, вышедшей в газете
«Красная Башкирия», канд. филол. наук Р. Терегулова
дала ему высокую оценку. Выделяю некоторые места из-
этой рецензии:
«...на высоком научно-техническом уровне как принци-
пы составления словаря, так и его содержание. Каждое
11&
русское слово дается во всех его значениях и в каждом
случае сопровождается примерами на русском и на баш-
кирском языках; причем, если одному русскому слову со-
ответствует несколько башкирских слов, в скобках дается
уточнение функции и место употребления каждого баш-
кирского слова. Общественно-политическим терминам в
большинстве случаев даются объяснения»;
«...оригинальным является разрешение чисто лингвис-
тических вопросов, например, отдельно даются инфинитив
и возвратный глагол; по возможности даются видовые от-
тенки глагола. Относительные прилагательные не перево-
дятся, а даются с отсылкой к соответствующему сущест-
вительному, после чего приводится фразеологический при-
мер»;
«Русско-башкирский словарь» несомненно войдет в сок-
ровищницу башкирской лексикографической литературы,
как первый словарь, заключающий в себе богатый мате-
риал современного башкирского языка».
III
Натолкнувшись на имя профессора Ахнафа Ибрагимо-
вича Харисова, я задумался: называть или не называть?
Мы знаем ныне покойного ученого-литературоведа как
крупного специалиста в своей области, известного фолькло-
риста, внесшего большой вклад в башкирскую науку. И
все же решил: надо назвать. Во-первых, безымянное по-
вествование о таком человеке, как Тагир Галлямович, те-
ряет всякую остроту и, главное, смысл. Его записки ис-
пещрены фамилиями весьма известных людей: ученых, пи-
сателей, партийных деятелей и т. д. У него с ними были
свои личные отношения, в которых Баишев отнюдь не
выступал паинькой или ангелом. Как я отметил выше, у
него было слишком обостренное, болезненно-щепетильное
восприятие чужих слов, мнений и поступков, и потому все
неверные оценки с его стороны других людей оставим на
его совести. Нам же куда интересней взглянуть на мир его
глазами и сделать свои собственные выводы.
Во-вторых, люди, прежде всего представители науки и
художественного творчества, претерпевают за свою жизнь
немало этапов развития и становления, прежде чем дости-
гают зрелой мудрости и устоявшихся взглядов. Оценка
и характеристика Баишевым многих известных людей в
эпоху их молодости, внутренней трансформации, ломки ха-
рактеров, даже при ошибочных выводах и умозаключениях,
114
дают нам возможность проследить эволюцию их взглядов^
и всей судьбы. Вот почему я прошу не обижаться на меня:
тех, кто еще жив, и тех, кто является близкими (или нас-
ледниками) покойных ныне людей, о которых ведет речь
Т. Баишев, и которых я считаю нужным упомянуть, исходя^
из его записок.
Вернемся к трактату о языке Т. Г. Баишева.
Ученый много рассуждает о литературном и разговор-
ном языке башкир, справедливо полагая, что пропасть*
между этими языками тем глубже, чем меньше изучается
народный пласт языка, не происходит постоянного внедре-
ния в литературный состав языка просторечных слов и вы-
ражений, диалектизмов, крылатых фраз и образных конст-
рукций из богатейшего башкирского эпоса, которыми ник-
то не занимается. Он приводит пример тех понятий, что
в литературном языке звучат неуклюже, нередко состоят
из двух слов, тогда как в истинно народной речи имеют
одно единственное, но таящее в себе четкий и точный*
смысл. Из десятков таких примеров, приведенных Башне-
вым, я покажу лишь несколько наиболее наглядных:
Кандалы — б ы f а у; в литературном языке наручни-
ки звучат как тс у л б ы f а у ы, тогда как в северо-восточ-
ных районах есть прекрасное слово — тсула-кта.
Хворост — сытыр; хворост хвойных деревьев в лите-
ратурном языке—icapaFafl сытыр, в народном —
й э й е к.
Ведро обыкновенное — б и ? р э, кун эк; ведро для
варки пищи—а ш б и $ р э h е; в народном языке — тс у л а.
Лыжи — сацры, в народном языке имеют прекрас-
ный термин — тсалтагай и т. д.
Многосторонне рассматривает Баишев слово «сэрхэт»,.
которое переводится на русский язык как «мурава». Одна-
ко в литературном языке это звучное слово почти не упот-
ребляется.
Исходя из всего вышесказанного, Тагир Галлямович'
резко выступает против устоявшегося мнения о том, что-
будто бы северо-восточные башкиры крепко отстали в
своем развитии; мнение это распространяется и на юго-
восточных башкир.
«Неоспоримым преимуществом этих башкир, — утверж-
дает ученый, — является то, что они, возможно, уступая
северо-западным башкирам в грамотности и ведении сель-
ского хозяйства, сохранили специфику национальной куль-
115
irypbi, самобытный и богатый язык, что делает эти районы
-хранителями духовных сокровищ народа».
«Квалифицированный и опытный лингвист, подобно
«профессиональному геологу, должен безошибочно нахо-
дить, где именно залегают толстые пласты, а где тонкие
пласты языка, где и как меняется словарный состав, дол-
жен рационально черпать из недр его богатства и столь
же умело применять их в повседневной практической
жизни».
В двух-трех местах Баишев цитирует полюбившееся
ему высказывание великого узбекского поэта XVI века
Алишера Навои:
«...в этих словах и фразах так много таких тонкостей,
которые оставались скрытыми, в виду того, что над их
достоинством никто до меня не задумывался... И этот цве-
тущий сад, и эта сокровищница были до сего времени
скрыты от людей, до их ценностей не дотрагивались чело-
веческие руки... Во всяком случае, это преимущество
тюркского языка перед персидским, его истинные тонкости
и широкие возможности не были известны, в особенности
в области поэзии, а также этот язык был посажен в дом
замкнутости, и даже был доведен до положения заброшен-
ности».
(«Родоначальник узбекской литературы» — сб. статей
об Алишере Навои», изд. Уз. ФАН СССР, 1940., ст. 97.)
Разумеется, цитата эта приведена башкирским ученым
с прямым намеком на язык его народа. И для подкрепле-
ния он тут же ссылается на высказывание замечательного
собирателя башкирского фольклора (прежде всего —ска-
лок) А. Г. Бессонова из книги «Букварь для башкир», из-
данной в 1907 году: «Арабская азбука сопоставлена нами
с русской азбукой, применительно к башкирскому языку
с той целью, чтобы башкирские дети, изучающие как араб-
скую грамоту, так и русский язык с русской грамотой,
могли вместе с тем выяснить для себя все особенности
произношения (фонетики) своего родного языка, не сты-
дились бы его, а полюбили бы этот чудный, благозвучный
язык» (курсив Баишева Т. Г.).
Не могу пройти мимо того, что говорит Баишев о
В. Дале, о его работе над «Толковым словарем русского
я!зыка».
Как известно, Даль был военным врачом и, разъезжая
Ш16
по России, сорок лет собирал слова живого русского язы-
ка. Когда он обратился за помощью и отзывом в тогдаш-
нюю Академию наук, кабинетные ученые весьма скепти-
чески отнеслись к его подвижническому труду, обвинили
его в том, что тот не указал, от кого и где записал или
услышал эти слова. Сильно обидевшийся на них Владимир
Иванович ответил им статьей, озаглавленной «Ответ на
приговор».
«Записывая чуть ли не с 1819 года всякое новое для
меня слово, где бы мне оно не попадалось, мог ли я пред-
видеть подобное требование и мог ли его исполнить? Раз-
ве я ходил по слова, как по грибы, набрал кузов, принес
домой и, пожалуй, подписал: из такого-то бора. Кто за-
нимался этим делом, тот понимает, что на заказ слов не
наберешь, а хватаешь на лету, в беседе, когда они без
всякого раздумья бывают сказаны; люди, близкие со мной,
не раз останавливали меня среди жаркой беседы вопро-
сом: что вы записываете? А я записываю сказанное вами
слово, которого нет ни в одном словаре. Никто из собе-
седников не может вспомнить этого слова, никто ничего
подобного не слышал, и даже сам сказавший его первый
же и отрекается; а когда я затем покажу, что записал
горонить, замолаживать или увей, или что-
нибудь подобное, то оказывается, что один недослышал
слова этого, другой спрашивает, при сем случае, что оно
значит, а третий дивится — чего тут записывать? Слово
обиходное, всякому известное! Что же я отмечу при таком
слове — а их тысячи — чье имя или свидетельство под ним
выставлю?»
Далее Т. Г. Баишев пишет:
«Когда я, с целью найти опору и защиту своей работе
по языку в больших людях, крупных ученых мира, обра-
тился к истории, к трудам больших людей, то нашел эту
опору лишь у одного вышеупомянутого представителя ве-
ликого русского народа — В. И. Даля, труженика, прак-
тика, реалиста. Он не был лингвистом, тем более, не был тео-
ретиком. Едва ли тогда дошло до его сознания высказыва-
ние К. Маркса: «Язык есть непосредственная действитель-
ность мысли». Но Даль из практики отлично понимал, что
язык есть именно такое явление, и поэтому писал, что «на
заказ слов не наберешь, а хватаешь на лету, в беседе».
Поэтому мой клеветник не нашел в языке башкир тех
слов, которые мною были нахватаны на лету и включены
в «Русско-башкирский словарь».
117
* * *
Сейчас ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что
в западных и северо-западных районах Башкирии издрев-
ле проживают башкиры, чей язык ассимилировался с та-
тарским в связи с сильнейшим влиянием близкого по языку
соседа.
Однако в пору Баишева это положение не просто оспа-
ривалось, но и решительно отвергалось иными, определен-
ного толка, лингвистами и историками. Вот почему таким,
как Тагир Галлямович, приходилось очевидную истину
доказывать всеми подвластными им методами и средст-
вами.
Я хочу здесь привести «Выводы», которые делает уче-
ный по результатам лингвистической экспедиции по изу-
чению разговорного языка башкир Аскинского, Балтачев-
ского, Бураевского и Янаульского районов Башкирии в
1954 году.
«1. Материалы диалектологической экспедиции 1954 г.
в северо-западные районы Башкирии подтвердили науч-
ные выводы прежних лингвистических экспедиций по изу-
чению западного диалекта, проведенных в 1931, 1933 и
1934 гг.
2. Западный диалект башкирского языка образовался
в условиях совместного проживания в течение многих сто-
летий и взаимного влияния двух родственных башкирского
и татарского народов и в результате скрещивания их язы-
ков. Но по известным историческим причинам ни один из
двух языков не вышел победителем. Западный диалект
в основном сохранил специфику башкирского языка. Его
словарный фонд и морфология свидетельствуют о том, что
над ним превалирует и его подчиняет себе единый и об-
щий башкирский язык.
3. Характерными признаками западного диалекта яв-
ляются: 1) основной словарный фонд и 2) морфология.
В синтаксисе он не имеет резких отличий от других диа-
лектов. Основные фонетические особенности этого диалек-
та представляют довольно пеструю картину и каждая та-
кая особенность может служить показателем отдельных
говоров.
4. По употреблению согласных «ч» и «п» в начале
слова язык населения исследованных районов делится на
две зоны. Первая зона — Аскинский район, где отсутству-
ет звук «ч», а звук «п» в начале слова употребляется ре-
же и мягче. С западной границы Аскинского района на-
118
пинается вторая зона. В дер. Кигазы этого района наблю-
дается употребление своеобразного «ч», произносимого
между «ч» и «с». Употребление «п» в начале слов по свое-
му качеству становится более четким.
Специфические звуки башкирского языка «5» и «?»
употребляются лишь в некоторых словах, заимствованных
из арабского или персидского языков. В употреблении ос-
тальных согласных разговорный язык населения этих райо-
нов не имеет особо резких отличий от других диалектов.
В употреблении большинства гласных между района-
ми не существует особых отличий. Большинство гласных
употребляется так же, как и в литературном языке и в
других диалектах. Но в употреблении отдельных гласных,
юсобенно «у» и «у», повсеместно наблюдаются характер-
ная устойчивость и единство. Например, во всех исследо-
ванных районах употребляется «hypay», «урэнеу» и «ура».
В других диалектах они употребляются по-разному: «ho-
рау — hypay», «ейрэнеу— урэнеу» и «ейрэ — ерэ — урэ».
5. В деревнях Урмиязы, Старо-Кочкильдино, Ново-
Кочкильдино и Кубиязы Аскинского района имеются пред-
ставители говора «П — Т» (говор башкир Табынского ро-
да, живущих по рекам Сим, Инзер, Зилим), которые в на-
чале слова вместо обычного «б» в башкирских словах
употребляют «п»: палта (топор), палытс (рыба) и т. д., а
в русских словах наоборот вместо «п» — «б»: барта (пар-
та), батрон (патрон) и т. д., также вместо обычных «д» и
«j» употребляют «т»: партым (сходил), алтым (взял) и
т. д., вместо «г» и «f»— «к» и «тс» иртэнке аш (завтрак),
«тсарантш» (темно) и т. д.
6. Морфология разговорной речи населения исследован-
ных районов в основном единая и устойчивая. Различие
наблюдается лишь в употреблении некоторых форм, имею-
щих местное значение, нежели диалектное. Преобладаю-
щие морфологические формы специфичны для данного ди-
алекта, и они отличают его от других диалектов.
8. Все слои башкирского населения во всех исследован-
ных районах в повседневном своем общении неизменно го-
ворят на своем диалекте. Татарский литературный язык
для них является только языком письменным.
9. Язык татар (бывш. тептяр), проживших в тесном
общении с башкирами в течение многих столетий, в свою
очередь, подпал под влияние башкирского языка, и в фоне-
тическом, и в морфологическом отношениях совершенно
слился с местным диалектом башкирского языка, сохра-
нив лишь некоторые свои особенности в словарном фонде».
119
Далее Баишев пишет: «В вопросе признания разговор-
ного языка западных районов диалектом (башкирского
языка я оказался один в Башкирии — один в поле не воин?
Ясно, что мне не верят, меня и мои материалы игнори-
руют...»
«...никто не имеет права упрекнуть меня в чем-либо, тем
более, в тенденциозности или искусственности моих выво-
дов. Поэтому я вынужден выразить недоверие коллегам
Ахмерову и Киекбаеву, ибо многолетняя совместная рабо-
та доказала, что они, к великому моему сожалению, в сво-
ей научной деятельности предпочитают держать нос по
ветру, не считаясь с честью и совестью истинного ученого.
Впрочем, у нас вообще молодые языковеды-диалектологи
еще не успели приобрести достаточного опыта и самостоя-
тельности на этом поприще.
Раиль Кузеев говорит, что «само население западных
районов считает в большинстве случаев своим языком та-
тарский» («Советская Башкирия» № 278). Такое утверж-
дение также является голословным, ибо результаты экс-
педиции, о которых я говорил выше, свидетельствуют об
обратном. Вопрос о постепенном возрождении и приобще-
нии западных башкир к собственно-национальной культу-
ре всегда стоял на повестке дня. Было особое решение
обкома ВКП(б) о введении башкирского литературного
языка в школах для башкирских детей в качестве пред-
мета (прошу ознакомиться с материалами партархива).
Но в период культа личности, особенно в послевоенные
годы, вопрос о судьбе западных башкир был пущен на
самотек. Такое положение создало условия для хождения
всяких о том кривотолков. Появились люди, которые ста-
ли утверждать, что западные башкиры якобы совершенно
отатарились, так что сами причисляют себя к татарам,
и т. д.»
«...самым верным средством с точки зрения националь-
ной политики для возрождения западных и северо-запад-
ных башкир является создание второго литературного язы-
ка на их диалекте».
Проблема северо-западных башкир была и осталась
одной из главных для Тагира Галлямовича до самой его
смерти. Он думал о ней, разрабатывал теоретически, изу-
чал и действовал практически постоянно и неутомимо.
Были у него два слова относительно этой проблемы —
«возрождение» и «консолидация». Они абсолютно точно
выражали позицию ученого в вопросе о родном башкир-
ском народе. Баишев резко возражал и выступал против
120
расчленения народа, сравнивая это с четвертованием жи-
вого человеческого организма. «Хватит, в течение двух ве-
ков нас и сажали на колья, и четвертовали, — пишет он
в одном месте своего «Труда о возрождении и консолида-
ции башкирского народа». — Теперь пришла пора объеди-
нения и взаимопонимания. И обязанность истинных сынов
народа, прежде всего ученых-языковедов, всячески этому
способствовать, а не ставить палки в колеса».
Эта работа является своего рода итоговой для ее неу-
томимого автора, обобщающим звеном в многолетней дея-
тельности на благо родного языка и народа. Может быть,
в силу постоянного противоборства с куда более мощны-
ми силами общества, партийными и научными органами
и учреждениями, нескончаемого внутреннего напряжения,
Тагир Галлямович в этом своем труде позволяет себе со-
вершенно неожиданные откровения, которые порой идут
вразрез с его прежними утверждениями, с его платформой
вообще.
Полагаю, нелегко далось ему название одной из глав
рукописи — «Я обвиняю и проклинаю своих предков, а
жестокость в подавлении их оправдываю». Но в этом
названии — саднящая душу боль за прошлые неисчисли-
мые жертвы сородичей, в течение двух веков поднимав-
ших большие и малые восстания, подавляемые с нечело-
веческой жестокостью. Баишев постоянно думает об этих
жертвах, о том, как век за веком сокращалось число не-
когда многочисленного и воинственного народа, как он ска-
тывался в бездну нищеты и обездоленности. Более того —
деградация, которую также не мог не заметить сверхчув-
ствительный ученый. Он признается, что иногда в бессон-
ные ночи, думая о судьбе своего народа, он плакал, утк-
нувшись лицом в подушку, и лежал так до утра в страш*
но угнетенном и подавленном состоянии. Может быть, в
состоянии такого аффекта или, напротив, после всесторон-
них размышлений над этим далеко не простым и очень
тяжелым вопросом он и написал вышеназванную главу,
две цитаты из которой я хочу здесь привести.
«Да, законы державности и величия государства всегда
и всюду в мире были одинаковы: малые и во многом без-
защитные народы должны были искать защиты и покро-
вительства у больших и многочисленных государств и на-
родов. И за покровительство это правители больших го-
сударств требовали одного: покорности и послушания, за
неподчинение же карали беспощадно, воспринимая это как
измену и предательство. Стало быть, русский народ и его
121
правители в отношении башкирского народа-бунтаря по-
ступали согласно законам истории...»
«...в данном случае приходится говорить о двухсторон-
ней правоте: поднимая бесчисленные восстания, башкир-
ский народ по-своему был прав, ибо это был вооруженный
протест против произвола и угнетения русской монархии,,
чиновников, церкви. С другой стороны, была права и рус-
ская монархия, ибо карала за непослушание, в каком
обязан был пребывать башкирский народ, находившийся
под охраной великого Русского государства».
Вопрос о численности башкирского народа (населения)
всегда вызывал живой интерес не только у статистов, но
и всех представителей культуры и науки. Существует не-
мало разных версий о численности башкирского народа:
в разные периоды истории, которые до такой степени от-
личаются друг от друга, что порой заводят в совершенный
тупик. Так, в 20-х годах в журнале «Аймак» Сагит Мря-
сов численность башкир домонгольского периода опреде-
лил цифрой 6 или 7 миллионов! При этом он опирался на
китайские источники и труды арабских ученых-путешест-
венников, из которых, к примеру, следовало, что прост-
ранства рода Бурзян простирались до самого Хорезма,,
и именно башкиры-бурзянцы отбили нашествие войска
арабского халифата на Среднюю Азию.
К сожалению, сейчас не принято ссылаться на вышеназ-
ванные источники, как и на труды знатока древних тюр-
ков Н. Бичурина, который был прекрасно знаком с древ-
некитайскими документами.
В шестом номере журнала «Шонкар» опубликованы
воистину сенсационные исследования молодого историка
Салавата Галлямова, который изучал историю тюрков
(Турана) и башкир по трудам неизвестных нам европей-
ских ученых (Хвальсон, Опперт, Мери Бойс и др.) и при-
шел к ошеломляющим выводам о мере древности башкир-
ского народа и его эпоса «Урал батыр» (4 тыс. лет), впря-
мую связывая их с шумерами, курдами (кордами), с эпо-
сом о Гильгамеше; с древними персами и их эпическим
памятником «Авеста». По гипотезе Галлямова, за два ты-
сячелетия до н. э. число «башкордов», масштабы их рас-
пространения по Евразии были поистине неохватны. Если
рассматривать проблему с этой точки зрения, то расчеты
С. Мрясова могут оказаться близкими к истине.
Однако разговор на эту тему может сильно увести нас
в сторону.
122
По словам Баишева, он тоже серьезно занимался проб-
лемой численности башкир. По его версии выходит, что
к моменту «добровольного присоединения к Русскому го-
сударству» башкир насчитывалось примерно 3 миллиона
человек. В ходе непрерывно вспыхивающих восстаний, ко-
торые иногда длились десятилетиями, это число сократи-
лось наполовину. «Причем была истреблена самая пере-
довая, самая мыслящая и руководящая часть народа. В
живых осталась наиболее «низовая», отсталая, изнуренная
часть людей, привыкшая только к подчинению и исполне-
нию воли своих и чужих господ, воли властей. К тому же,
часть эта осиротела, была обезглавлена, брошена на про-
извол судьбы. После пугачевского восстания (Крестьян-
ской войны 1773—1775 гг.) башкиры в основном жили
в сельской местности, в горно-лесных районах, оторванные
от большого мира».
Вспомним высказывание на сей счет С. Г. Рыбакова.
«Круг понятий башкир узок настолько, что с ними
иногда приходится вести беседу, как с ребятами, так
они бывают наивны. Такая неразвитость стоит в тесной
связи с тем, что башкиры дальше своих поселений и коче-
вок никуда носа не показывают, точно приросли к своим
местам и совершенно чужды к передвижениям, какое на-
ходим у предприимчивых татар, почему башкиры не зна-
ют ни других мест, ни других людей, кроме своих. Не зная
людей, не имея опытности в сношениях с ними, они полны
естественных настроений как дети природы: наивны, до-
верчивы и непрактичны, полагаются на слово каждого че-
ловека и очень часто попадают в сети гешефтмахеров *,
неизменно проявляющих поползновения на их естествен-
ное богатство.
Башкиры прежде всего дети природы и, как таковые,
проявляют естественные хорошие стороны человеческого
существа: простодушие, доверчивость, добродушие, готов-
ность бескорыстно услужить, приветливость, гостеприимст-
во, что выражается и на их физиономиях, которые выгля-
дят такими простодушными, чуждыми задних мыслей и
лишены какой-либо отталкивающей дикости или свирепо-
сти.
Мягкость характера или, так сказать, естественная гу-
манность составляет чуть ли не отличительное качество
башкир: в них совершенно отсутствуют азиатская жесто-
кость или сухое, враждебное чувство в отношениях к лю-
* Гешефтмахер — делец, спекулянт.
123
дям» (С. Г. Рыбаков. «Музыка и песни уральских мусуль-
ман с очерком их быта», СПб, 1897, ст. 28, 31, 32).
А вот свидетельство другого прогрессивного русского
писателя XIX века:
«Самую ужасную картину представляла башкирская
деревня. Башкиры голодали и вымирали каждую зиму,
так сказать, нормальным образом, а теперь получалось
нечто ужасное. Половина башкирских изб пустовала —
хозяева или вымерли, или разбрелись, куда глаза глядят»
(Мамин-Сибиряк. Хлеб. 1949. С. 371).
Весьма любопытными представляются следующие рас-
суждения Тагира Галлямовича:
«После Крестьянской войны 1773—1775 гг. русские
правители окончательно разуверились в башкирском на-
роде, как неизлечимом бунтаре и возмутителе спокойствия*
и стали относиться к нему с полным пренебрежением и
жестокостью. Теперь их политический ориентир перемес-
тился на потомков Казанского ханства, уничтоженного
Иваном Грозным. Дело в том, что татары уже не помыш-
ляли о каком-либо противоборстве, густо населяли мно-
гие регионы России и в том числе крупные ее города, ста-
ли купцами, промышленниками, издателями и т. д. Отны-
не русский трон опирался на них в своей национальной по-
литике и нашел в них верных помощников и подручных.
И с того момента начинается особенно интенсивное засе-
ление башкирской земли татарами, которые «вошли в пол-
ное доверие русского правительства, усердно с ним сотруд-
ничали в деле проведения в Башкирии колониальной по-
литики...»
«Наряду с ростом русской буржуазии и буржуазной
интеллигенции росла и буржуазная татарская интеллиген-
ция, проживающая в городах и крупных населенных пунк-
тах. Постепенно именно ее представители стали хозяевами
в Башкирии, проводя политику искусственной ассимиляции
и татаризации коренного населения».
«Татаризация башкир в культурном и экономическом
отношениях входила в программу татарских националис-
тов. Башкирам внушалось, что никакой башкирской куль-
туры и языка нет, что башкирский язык — не язык, а толь-
ко испорченный диалект татарского языка» (проф. Н. К.
Дмитриев. Грамматическая терминология в учебниках
родного языка. Изд. АПН РСФСР, 1955. С. 58).
«Вследствие социально-экономической отсталости, в ре-
зультате национально-колониальной политики царизма
башкиры не имели ни своих национальных школ, ни пись-
124
менности, ни театра. Все национальное, лучшее, что появ-
лялось среди башкир, гибло, не успев развиться. Не менее
пагубно сказывалось и влияние реакционного панисла-
мизма, стремившегося ассимилировать тюркские народы,
в том числе башкир, и растворить их в татарской буржу-
азной нации». (Р. М. Раимов. Образование Башкирской
АССР, изд. АН СССР. 1952. С. 64).
Все эти мысли и сам подбор цитат свидетельствуют о
том, что башкирским деятелям культуры и науки того пе-
риода приходилось особенно трудно. Прежде всего таким*
как Тагир Галлямович, чье национальное чувство (чувст-
вование) было чрезмерно обостренным. Разумеется, on
очень многое воспринимал слишком болезненно, гипер-
трофически, как некое наваждение, что и находило затем
отражение в его записках, письмах и посланиях. В свою-
очередь, те административные органы и конкретные лица,
к которым обращался Баишев, реагировали на его пись-
менные обращения столь же негативно и раздраженно.
Может быть, еще и потому, что имя адресата было у них
на слуху и широко бытовало мнение о нем, как о склочни-
ке и жалобщике. Иные пытались даже объявить его боль-
ным человеком, страдающим манией преследования. От-
сюда— столь жесткие ответы тех, к кому он обращался;,
еще более жесткая атмосфера обсуждений, которые, тем
не менее, иногда проводились, и не только на уровне Ин-
ститута истории, языка и литературы, но и обкома партии.
Одно из таких заседаний бюро обкома КПСС, посвя-
щенное обсуждению поставленных Баишевым вопросов,
состоялось 24 мая 1957 года и шло ни много ни мало семь
часов кряду (с 12 пополудни до 19 часов вечера!).
Вот состав присутствовавших на заседании:
От Института истории, языка и литературы — А. Хари-
сов, А. Киреев (Кирей Мэргэн), Т. Саяпов, М. Гайнуллин,
Р. Кузеев, Т. Гарипов;
от Союза писателей — Рашит Нигмати, Ханиф Карим,
Кадыр Даян, Зайнаб Биишева, Назар Наджми, Анвер
Бикчентаев, Хаким Гиляжев, Шариф Биккул;
редактора республиканских газет: Г. Рамазанов («Совет
Башкортостаны»), Алмаев («Кызыл тан»); министр просве-
щения Ф. Мустафина, министр культуры Г. Гумеров, до-
цент Башпединститута Дж. Киекбаев.
«Заседание открыл первый секретарь Семен Дмитрие-
вич Игнатьев. Обвинительное выступление сделал секре-
тарь по идеологии X. С. Сайранов, после которого слово
предоставили мне. Я говорил около двух часов.
125
В прениях выступили: Саитбатталов, Киекбаев, Муста-
фина, Загафуранов, Гумеров, Харисов, Киреев, Янгиров,
Шафиков, Нуриев.
Все, кто стоял у власти, выступили против меня; ни
один из них не захотел понять (или узреть) политическую
<:уть поставленных мною вопросов... Много говорили о мо-
ей отсталости, старались меня учить. Министр культуры
Гумеров заявил, что господствующее положение татарских
политических деятелей в Башкирии вполне естественно, и
никто ему в этом не возразил. Харисов, Киекбаев и Киреев
-тоже меня поносили. Когда Харисов, возражая мне, зая-
вил, что на западе республики нет башкир, а живут одни
..лишь татары, не выдержал Зия Нуриевич Нуриев и резко
возразил ему, сказав, что башкиры там живут издавна,
а в Илишевском районе, например, большинство населе-
ния составляют башкиры.
А ведь Харисов всегда заявлял, что он является пред-
ставителем именно западных башкир!
Киекбаев, несмотря на то, что никогда не изучал исто-
рию, быт, культуру и современный язык западных башкир,
голословно заявил, что язык населения западных районов
является диалектом татарского языка...
Все выступавшие были против создания второго лите-
ратурного языка на диалекте западных башкир. Но никто
не сказал ни единого слова о том, каким образом следует
•приобщить их к башкирской национальной культуре.
Заключительное слово мне не было дано, бесспорно
испугавшись новых разоблачений и обвинений с моей сто-
роны в их адрес, и я как бы вновь остался в одиночестве.
Когда устроили перерыв, в коридоре ко мне подошли
товарищи Розанов и Рамазанов и сказали, что я выступал
очень хорошо, более чем уместно, и пожали мне руку.
Через несколько дней я встретился на улице с Рашитом
Нигмати, который тоже крепко пожал мне руку, сердечно
поблагодарил за выступление и критику.
Были еще некоторые люди, которые говорили, что я
совершил подвиг, выступив с резкой критикой не где-ни-
будь, а в самом обкоме.
Но все это говорилось мне с глазу на глаз. Никто не
посмел выступить открыто, во всеуслышание. И в этом я
опять-таки усматриваю положение и моего родного наро-
да, и его интеллигенции, которая пребывает в состоянии
комы, боясь выражать вслух свои мысли.
И это — на своей собственной земле.
Вот до чего нас довели!»
126
IV
Баишева интересовало буквально все, что происходит в
его родной республике — и в ее политической жизни, и в
экономике... Но более всего, конечно, привлекали его при-
стальное внимание события культурной жизни. Достойные
его интереса статьи и даже стихи он аккуратно вырезал
и вклеивал в свои папки. Так, ему приглянулось выступле-
ние казахского писателя Мухтара Ауэзова в «Литератур-
ной газете», в которой, по нашим меркам, ничего особенно-
го-то и нет. Тем не менее, Баишев не только вырезал его
статью, но и сам (для себя) написал своего рода эссе под
названием «Заочная беседа с Мухтаром Ауэзовым о судьбе
башкирского народа». Датировано эссе октябрем 1959
года.
«...вы в своей статье выложили все свое сердце, пере-
живание и страдание, свою боль за любимый народ. В
очень осторожной, разумной и дипломатической форме да-
ли знать ответственным лицам ЦК КПСС, Советской влас-
ти и руководящей великой русской нации о том, что сле-
дует еще сделать для полного осуществления и проведе-
ния в жизнь ленинской национальной политики коммунис-
тической партии по отношению особо отсталых и разроз-
ненных наций нашей Родины...»
«...хотя я теперь подвергаюсь гонениям, меня причисли-
ли к националистам, хотя от меня отвернулись трусливые,
продажные представители башкирской интеллигенции, я
горд тем, что не одинок в деле священной борьбы за свой
любимый, талантливый, героический народ, поставленный
ныне в такое положение».
В 1956 году увидели свет «Очерки по истории Башкир-
ской АССР», первая часть первого тома задуманного мно-
готомника. Это стало важной общественно-политической ак-
цией, которая, разумеется, не могла пройти мимо внима-
ния Баишева.
Поражает то, в какие сжатые сроки он прочитывает
солидный том, и не только прочитывает, но и обозревает
критическим взором знатока истории своего народа и края,
пишет рецензию на первый том «Очерков», а затем и
«Письмо первому секретарю Башкирского обкома КПСС
тов. Нуриеву 3. Н. о том, что выпуск «Очерков» нецеле-
сообразен».
Итак, чем же аргументирует ученый свой жесткий при-
говор?
127
«Несмотря на то, что «Очерки...» являются первой по-
пыткой систематического изложения истории Башкирской
АССР... книга эта содержит ряд глубоких и принципиаль-
ных ошибок, искажающих историю башкирского народа,
его героическое прошлое. Чтобы показать это, возьмем
лишь одну, но очень существенную ошибку, а именно —
отношение авторов к башкирским восстаниям XVII и пер-
вой половины XVIII вв. Поскольку подход, изложение и
оценка всех этих восстаний авторами в общем аналогич-
ны, то и ограничимся разбором одного из ранних восста-
ний башкир против царизма — восстания 1662 — 1664 гг.
Основными причинами восстания 1662 — 64 гг. был зах-
ват башкирских земель, усиление налогового гнета (яса-
ка) и злоупотребления царской администрации в Башки-
рии, особенно при взимании ясака. Это усиление феодаль-
ной эксплуатации башкир не было случайным явлением,
а было связано с внутренними и внешними затруднения-
ми России и с усилением феодальной эксплуатации во всей
России. В самом центре России — в г. Москве — имело
место народное восстание 1662 года.
Авторы «Очерков» хотят представить башкирское вос-
стание как результат наущения башкирских феодалов, при-
нуждения с их стороны башкирских трудящихся (стр. ПО).
Разве это не абсурд? Разве могли феодалы с насильно
согнанными участниками почти в течение трех лет вести
борьбу с многочисленными царскими отрядами?..
В «Очерках» нет связного изложения хода восстания,
у читателя не остается ясного представления о нем. Зато
авторы очень много говорят о предполагаемых связях вос-
ставших с враждебными России силами (калмыцкие тай-
ши, сибирские царевичи, султанская Турция, Крымское
ханство) —стр. 107, 110, 111. В конце концов, они делают
вывод, который присущ всем остальным башкирским вос-
станиям, которым дается оценка в этой книге: «Уже одно
это придавало движению реакционный, антинародный ха-
рактер».
Вполне возможно, что имелись какие-то связи восстав-
ших с калмыками и сибирскими царевичами, что вполне
естественно, ибо, восставая против Российского трона, они
пытались связаться с его врагами, а не друзьями. Предпо-
ложения о связях с Крымским ханством и Турцией не
подтверждаются историческими фактами. Но как бы то
ни было, отнюдь не эти связи определили возникновение
и сам ход восстания.
Восстание потерпело поражение, основной причиной
которого было то, что слишком неравны были противобор-
128
ствующие силы. Маленькая по сравнению с Русским госу-
дарством Башкирия в то же время и по социально-эконо-
мическому развитию стояла гораздо ниже. Попытка баш-
кир опереться на враждебные России силы не имела ус-
пеха. Не менее важной причиной поражения была классо-
вая неоднородность мятежников (в одном стане боролись
и феодалы, и рядовые башкиры). Среди восставших не
было тесного организационного единства, единого центра,
что говорит о сравнительной примитивности и стихийности
этого движения.
Авторы лишь мимоходом отмечают некоторые из этих
факторов, не уделяя таким образом должного внимания
анализу причин, приведших к поражению. Вместо этого
они много говорят о том, что восстание вообще было бес-
перспективным, что вообще не следовало его поднимать:
«...отсюда естественный вывод для трудящихся башкир —
отказ от поддержки движения (?!)»— стр. 114. Пусть де
царизм сколько угодно грабит башкирские земли, а цар-
ская администрация издевается над башкирским народом-—
он должен сохранять олимпийское спокойствие, ибо ему
все равно не одержать верх над царизмом. Не случайно
книга изобилует замечаниями, звучащими как издевка над
восставшими, вроде того, как: «Вся эта масса войск в кон-
це августа двинулась к районам восстания. Что им могли
противопоставить восставшие башкиры?» (стр. 198).
Авторам тома следовало бы помнить, что восставшие
«массы» меньше всего думали «о перспективах». К сопро-
тивлению вынуждала их жестокая эксплуатация, когда
другого выхода, кроме борьбы за свою независимость, не
оставалось.
Может быть, авторы имели под «перспективностью» в
виду возможность приобщения башкир к более передовому
ведению хозяйства и экономики, которые они действитель-
но могли бы почерпнуть у русских элементов. Но царское
правительство сознательно консервировало отсталые патри-
архально-феодальные отношения и препятствовало разви-
тию производительных сил у башкир. Следствием векового
гнета было то, что отсталые патриархальные отношения
в Башкирии сохранились вплоть до Окт. революции 1917 г.
и почти не было рабочего класса из башкир.
Между тем итоги восстания 1662 — 64 гг., вопреки ут-
верждениям авторов «Очерков», оказались не такими уж
катастрофическими. Восставшие добились некоторого по-
слабления национально-колониального гнета со стороны
царизма. Об этом свидетельствует: а) царское правитель-
ство резко осудило произвол и насилие при взимании яса-
5 Заказ 415
129
ка; б) продажа и сдача башкирских земель чужим, т. е.
небашкирам, были строжайше запрещены. Все ранее зак-
люченные сделки на землю признавались недействитель-
ными; в) вновь назначенному воеводе Ф. И. Сомову было»
отдано распоряжение об удовлетворении башкирских пре-
тензий по старинным земельным спорам. Как видно, баш-
кирский народ ценою крови тысяч своих сыновей заставил-
таки царизм пойти на определенные, но весьма важные
для него уступки.
В итоге следует констатировать, что оценка авторов
«Очерков» башк. восстания 1662 — 64 гг., как вообще
башк. восстаний XVII и первой половины XVIII веков, в
корне неправильна. Она необъективна и односторонняя
Произвольное обращение с фактами, искусственное свя-
зывание несвязуемых вещей и явлений, игнорирование
важнейших факторов и подтягивание их к высказываемой
мысли — все это служит заранее поставленной цели — во
что бы то ни стало представить башкирские восстания ре-
акционными.
Такое же искаженное изображение истории башкирско-
го народа проявляется и в других важных вопросах, но
здесь нет возможности остановиться на них. Заметим лишь,
что и тон изложения исторических событий соответствует
этим искаженным выводам — он внутренне холоден,, без-
различен, и потому сам по себе несет некий реакционный
характер в отношении объекта изображаемого.
Вот почему «Очерки» оставляют у сведущего человека
гнетущее впечатление, и потому вся акция с выпуском
«Очерков по истории Башкирской АССР» никак не может
нас радовать».
* * *
Тагир Галлямович Баишев являлся профессиональным?
лингвистом, собирателем фольклора и диалектных слов,*
опытным составителем словарей. Но при этом его с пол-
ным правом можно назвать и профессиональным истори-
ком, ибо эта наука интересовала его ничуть не меньше,
чем языковедение. А быть историком заставлял его глу-
бокий интерес к прошлому своего края, родного народа,,
его историческая судьба, эволюция, «психологическая фи-
зиономия» (выражение В. Г. Белинского). И этот интерес
постоянно выражался в письменных документах, которые
в свое время остались невостребованными. Но ученый знал„
что рано или поздно ими заинтересуются потомки.
И он не ошибся.
130
Я уже отмечал выше, что Баишева меньше всего прив-
лекало мнение официальных историков о прошлом башкир-
ского народа, о его происхождении и поступательном раз-
витии по хронологии эпох. Зато он кропотливо занимался
древнейшими документами. В частности, об этом свиде-
тельствуют его ссылки на труды своеобразнейшего ученого
Н. Я. Бичурина, изучавшего архивные документы в Пеки-
не в начале XIX века и издавшего трехтомное собрание
сочинений под названием «Собирание сведений о народах,
обитавших в Средней Азии в древние времена». Баишев с
горечью говорит о том, что ныне о Бичурине не принято
даже упоминать.
Кстати, не раз вспоминает Н. Я. Бичурина и Ахметзаки
Валиди, о чем пишет в своих «Воспоминаниях», также
говоря о великом и многочисленном народе Бурзян, ос-
тановившем продвижение арабов на восток возле Хорезма.
В трудах Бичурина особое внимание героя нашего
очерка привлекает то место, где тот говорит о могучем
народе, проживавшем до нашей эры и в начале н. э. на
территории нынешнего Башкортостана и имевшем стоты-
сячное войско.
«Согласно Бичурину, — пишет Баишев, — эти древние
обитатели Южного Урала имели в Китае своих представи-
телей и вели с ними торговлю. Китайские источники, ко-
нечно, этих обитателей Урала не называют башкирами,
я именуют по-другому. Несмотря на это мы уверенно мо-
жем сказать, что именно они были несомненными пред-
ками современного башкирского народа».
Со своей стороны скажем: источники арабских писа-
телей IX — XIII веков сообщают, что башкиры на своей
территории имели пять городов под названиями Минджан
(или Нимджан), Кара Кыя, Казир, Мазир и Башкир (на
реке Кама); они добывали медь, драгоценные камни на
Урале, промышляли пушниной, которую вывозили в Ар-
мению, Византию и другие страны. В городе Халебе (Ма-
лая Азия) учились башкирские студенты. Арабский пи-
сатель Заид-ал-Балхи пишет, что башкиры были могуще-
ственны, недоступны, жили под защитой гор и лесов.
Данные вышеприведенных китайских и арабских ис-
точников подтверждаются современными археологическими
■исследованиями. Например, в научных выводах к археоло-
гическим изысканиям Академии наук СССР в Башкирии
в 1929 г. говорится, что «2500 лет назад, в середине первого
тысячелетия до н, э. на реке Белой прочно сидел народ
земледельцев и скотоводов, не чуждый охоте и рыболовст-
ву и знакомый с употреблением и изготовлением бронзо-
:5*
131
вых и железных орудий. 1500 лет тому назад, в середине
первого тысячелетия н. э. в районе Белой — Уфимки сидит
в многочисленных поселениях оседлая народность другой
культуры, владеющая хорошим и разнообразным желез-
ным оружием и инструментами... В материальном богат-
стве его мы видим многочисленные изделия южных стран
(или их подражания), наглядно свидетельствующие о раз-
витых торговых связях с южными, в первую очередь степ-
ными народностями. Но сама бельско-уфимская народ-
ность в своей культуре имеет хорошо выраженный лесной
характер, соответственно географическим условиям и эко-
номическим возможностям Северной Башкирии (А. В.
Шмидт. Археологические изыскания башкирской экспеди-
ции АН СССР, 1929. Госплан БАССР // Хозяйство Башки-
рии № 8—9).
Интерес Т. Г. Баишева к историческим наукам был ог-
ромен. Судя по его запискам, он не оставлял без внима-
ния ни один более или менее примечательный документ,
связанный с прошлым родного народа. Нередко это дела-
лось для доказательства истин, которые шли вразрез с
мнением официальных историков, большинство из кото-
рых придерживались того мнения, что башкиры пришли
на свои исконные земли со стороны (Алтай, юг Средней
Азии, низовья Прикаспия и т. д.), указывали на угро-фин-
ское происхождение народа. Эти историки, по мнению Баи-
шева, не хотят признать Южный Урал единственной пра-
родиной башкир, как и то, что они прошли множество
этапов исторического развития — от высокой материаль-
ной и духовной культуры до полного разорения, последо-
вавшего именно в эпоху жестокого колониального гнета
со стороны российского самодержавия.
Отстаивая эту версию и документально ее обосновы-
вая, Тагир Галлямович опять вступал в бескомпромиссный
конфликт с официальными историками, лишний раа давая
повод для обвинения в «узком национализме».
Между тем археологические открытия последних лет
как раз подтверждают проницательность ученого-языко-
веда в этой «смежной» для него области. Именно на древ-
не-башкирской земле были найдены такие городища, как
Синташта, Аркаим, Таналык, возраст которых исчисляется
пятью тысячами лет, а сохранившиеся в них экспонаты
близки к утвари, одежде и оружию башкир. О многом
говорит родство древнейших памятников культуры: эпоса
«Урал-батыр», шумерского сказания о Гильгамеше и пер-
сидской «Авесты», в изучение которых много сил вложили
132
молодой историк Салават Галлямов и писатель Зигат Сул-
танов.
«Многолетнее изучение убедило меня в том, что баш-
кирский язык чрезвычайно древний, как и сам его носи-
тель. К тому же он очень богат, строен, образен и кра-
сочен, как многие, имеющие большой возраст языки. В
создании такого языка в прошлом несомненно большую
роль играли народные сэсэны и сказители. Их искусство
заключалось не только в разработке тематики и подборе
жанров, но и в постоянной шлифовке языка. Творчество
подлинного сэсэна отличалось ясным, гибким и выразитель-
ным стилем.
Народные собрания и состязания сэсэнов у башкир
продолжались и после присоединения к Русскому государ-
ству. Но впоследствии они были запрещены. Окончатель-
ное запрещение последовало после восстания 1773 —
1775 Fr., когда языки сэсэнов начали отрезать вместе с
головой. После этого восстания башкирский народ стал
подвергаться особенно жестокому ограблению и истребле-
нию. Несмотря на это часть народа продолжала сущест-
вовать компактно на отрогах Южного Урала и оставалась
верной многовековым традициям, сумела сохранить твор-
чество своих предков и сэсэнов и довести до наших дней
в удивительно красочной и богатой форме.
Многие исследователи выявили, что в прошлом у баш-
кир сильно была развита система тамг, очень похожая по
своей разнообразной и сложной форме на современные
китайские иероглифы. Эти тамги (иероглифы) дают нам
возможность предполагать, что башкиры в древности мог-
ли иметь свою письменность, похожую на современную
китайскую, впоследствии замененную другой письмен-
ностью. Древняя их письменность дошла до наших дней
только как пережиток в виде современных тамг».
Этот пункт рассуждений Баишева—еще одно подтверж-
дение его необыкновенной научной интуиции и исследова-
тельской проницательности. Данные аркаимских находок
красноречиво свидетельствуют о широком развитии у древ-
них жителей Южного Урала именно системы знаков или,
по Баишеву, «тамг», которыми испещрены погребальные
плиты на их кладбищах; они умели обозначать и систему
звезд, Солнца, Луны, вычислять закономерность движения
космических светил, хронологию Времени и т. д. Неда-
ром экстрасенс Тамара Глоба, владеющая неуемной фан-
тазией, назвала Аркаим «городом-обсерваторией».
Ну а дальше тему «башкордского» языка развил все
133
тот же Салават Галлямов, который доказывает, что этот
язык — один из самых древних на земле, схож с курдским
(кордским), который, в свою очередь, восходит к языку
халдеев и т. д.
«Вторжение и владычество гуннов вносит перелом в
жизнь башкир в худшую сторону. Их господство в регионе
Южного и Среднего Урала прерывает связь башкир с
культурным Китаем и другими передовыми странами Вос-
тока и Запада, наносит большой вред экономике башкир,
которые отныне лишаются самостоятельности, нарушается
их оседлый образ жизни.
Отрезок истории после вторжения гуннов до завоевания
монголами Средней Азии (свыше 8 веков) также послу-
жил во вред башкирскому народу. Тюркский и хазарский
каганаты, завоевание арабами Средней Азии сильно рас-
строили жизнь многих народов, в том числе и башкир.
Монголо-татарское нашествие в начале XIII века стало
поворотным пунктом в истории башкирского народа, при-
ведшим к глубокому и неисправимому упадку всех сторон
его жизни. Изгнанные из обжитых мест, разоренные и ог-
рабленные башкиры окончательно лишаются оседлости,
всевозможные их ремесла и промыслы теряют прежнее
развитие. Башкиры были вынуждены превратиться в полу-
кочевой народ.
После монголо-татарского нашествия вплоть до присое-
динения к Русскому государству в течение трех веков
Башкирия превращается в арену грабежа и разора — по-
началу Золотой Ордой, затем Ногайским, Казанским, Си-
бирским и Астраханским ханствами. Территория и населе-
ние Башкирии оказываются раздробленными и разобщен-
ными между этими ханствами, которые, ведя междоусоб-
ную войну, подвергали башкирский народ бесчисленным
грабежам и беспощадному истреблению.
В прошлом многочисленный, для своего времени высо-
кокультурный, занимавший обширную территорию от от-
рогов Южного Урала до Каспийского и Аральского морей
народ пришел в крайний упадок, численность его сильно
уменьшилась. Не будь Уральских гор и дремучих лесов
с их растительным и животным богатством, башкирский
народ безусловно подвергся бы окончательному истребле-
нию и «рассеиванию», как и многие другие народы. Баш-
кир, повторяю, спасла их благодатная и первозданная при-
рода, детьми которой они были».
В этом своем (на мой взгляд, совершенно верном) кон-
тексте Тагир Галлямович не ссылается и не опирается ни
134
на какие документы или источники, видимо, считая ска-
занное абсолютно неоспоримой истиной.
Тем не менее, я хотел бы вспомнить крупнейший баш-
кирский эпос «Идукай и Мурадым», созданный именно в
эпоху монголо-ногайского насилия над башкирами. Имен-
но тогда любовь их к своей земле, идея жертвенной пре-
данности «родине предков» достигли своего апогея. Она,
идея эта, лейтмотивом проходит через весь этот великий
эпос, становясь стержневой мыслью и призывным кличем
его. Безымянные авторы, народные сэсэны, создавшие этот
памятник-кубаир, выразили свою любовь к родной земле
через обширные монологи старца Хабрау-сэсэна, который
не устает петь хвалебные гимны родному Уралу и его изу-
мительной природе, спасительнице башкир.
...Из семи родов — пять из них,
Головы пред Тухтамышем не клоня,
Дань-ясак ему не платя,
Не дозволяя от себя брать рабов,
При приближении ханских войск,
К скалам приникая,
Все атаки врагов отбивая;
Хоть при этом сжигались их аулы
По множеству в каждой битве,
Подвергались девушки-женщины их позору,
Хоть отроги Урала, скалы его
Увлажнялись кровью густой,
Хоть батыры, до подседельника
Утопая в крови, плавали;
Хоть кружа вокруг Уральских гор,
Всюду разжигая пожары,
Превращали тот Урал
В сплошной багровый огненный ад;
Хоть изведенный во многих битвах,
Истребленный во многих боях,
Оставшись без матери и отца,
Множилось число сирот;
Пять батыров от пяти родов,
Израненные десятикратно,
Без сил упадали с седел своих, —
Не ослабляя тетиву лука,
Не выпуская булат из рук,
Против врага продолжали сражаться.
Какое образное описание народной трагедии и мужест-
ва! А ведь именно в таком положении приходилось пребы-
135
вать башкирам в противостоянии со многими другими вра-
гами, о которых выше говорит Тагир Галлямович.
* * *
«Восстания башкир, как и других угнетенных народов,
не привели в XVIII веке к освобождению их от колониаль-
ного гнета, но эти восстания расшатывали феодальные
устои Российской империи и не допустили официального
установления крепостного права в Башкирии» (БСЭ. Т. 4.
С. 344).
И в то же время, подбирая подобные цитаты, Баишев
не устает подчеркивать, что именно эти непрерывные вос-
стания и мятежи привели башкир к полному упадку их
сил и резкому сокращению числа населения. И тут следуют
другие цитаты, заимствованные из произведений прогрес-
сивно настроенных башкирских писателей и ученых, с
горькой симпатией писавших о трагедии башкирского на-
рода. Одна из них, взятая из книги Мамина-Сибиряка
«Хлеб», приводилась выше. Вот еще одна короткая цитата
из того же романа писателя:
«Староста привел стариков к общественному магазину,
растворил двери, и скитники отступили в ужасе: в амбаре,
вместо хлеба, сложены были закоченевшие трупы замерз-
ших башкир».
Баишев много думает не только над тем, почему баш-
киры так сильно отстали в экономическом отношении от
других народов, своих соседей, но и стали объектом их
насмешек и издевательств. Больше всех их можно было
слышать из уст татар, нашедших в свое время приют у
башкир, но со временем занявших верховные посты. В
своих произведениях татарские писатели не скупились на
саркастические филиппики в адрес своих восточных сосе-
дей.
Пытаясь понять природу инертности башкир, Баишев
обращается к разным источникам. Я приведу здесь только
одну выдержку из труда С. Г. Рыбакова «Музыка и песни
Уральских мусульман с очерком их быта», на которую
обратил внимание Тагир Галлямович:
«При первом знакомстве с бытом башкир становится
ясным, что это — народ малодеятельный, непредприимчи-
вый, прямо даже ленивый. Какова эта племенная лень,
инертность или дряблость — прирожденная или привитая
обстоятельствами, — это вопрос, требующий специального
внимания; но есть основания предполагать, что племенная
136
лень и вялость башкир до известной степени воспитаны
неблагоприятными историческими обстоятельствами: не-
сколько десятилетий тому назад среди башкирского наро-
да введено было так называемое кантонное управление,
когда башкирские земли были разделены на округа, со-
вершенно одинаково устроенные... после вековечного ко-
чевого строя жизни они обязаны были по предписанию и
под плетьми кантонных начальников пахать землю, разво-
дить огороды и т. д. Понятно, при этом происходила лом-
ка племенного характера, и эти чуждые, тяжелые и нена-
вистные поэтому для народа занятия могли поддерживать-
ся только непрерывным применением порки, каковым пра-
вом были облечены все кантонные начальники из тех же
башкир. Башкиры делали все из-под плети, лениво и при-
выкли к лени».
«Выходит, что этот народ был испорчен тем, что его
хотят заставить сделаться иным, чем он всего естественнее
мог быть, т. е. скотоводом, выбили его из привычной колеи
жизни внезапно, без всякой постепенности, ослабили его
энергию и превратили в народ недеятельный, морально
дряблый и теперь ленивый. Между тем в прежнее время
это был один из энергичных, беспокойных и воинственных
народов. Я не выставляю это объяснение вялости и лени
башкир как единственное, а лишь как одно из вероятных».
Приведя эти весьма рациональные суждения наблюда-
тельного русского исследователя, Баишев вводит и свое
рассуждение на сей счет, подсказанное скорее всего эмо-
циональным порывом его неугомонной натуры.
«В течение двух столетий башкирский народ добивал-
ся справедливого к себе отношения, но так и не добился.
Более того, за это желание добиться справедливости его
беспощадно били. И тогда его охватила бескрайняя уста-
лость, горькое чувство полной разочарованности. К тому
времени трудовая масса русского народа — его старший
брат и опора в борьбе за свободу — так же был подавлен
и молчал. Вот тогда-то башкирский народ, затаив в глу-
бине души вековой героизм и священный патриотизм, вы-
нужден был на все махнуть рукой и промолвить: делайте
со мной, что хотите, звери кровожадные! Я больше не в
состоянии с вами бороться...»
* * *
Есть два выдающихся русских ученых, глубоко вник-
ших в духовную жизнь башкир.
137
Один из них — языковед Николай Константинович
Дмитриев, заложивший основы башкирского литературно-
го языка, человек, проникшийся как историей, так и куль-
турой башкир, особенностью их характера, психологии и
т.д. До конца своей жизни он проявлял к башкирскому
народу, его интеллигенции не просто глубокое внимание,
но и неизменную свою симпатию, пытался всячески под-
держать истинных представителей башкирской интеллиген-
ции, ее ученых в трудные для них периоды существова-
ния, когда давление и травля со стороны «Башкирского
обкома», не являющегося башкирским, были всеобъемлю-
щими и беспощадными. Об одном характерном эпизоде,
связанном с работой Баишева над составлением «Русско-
башкирского словаря», мы уже упоминали.
К сожалению, жизнь выдающегося лингвиста была
короткой, он прожил всего 56 лет, но оставил о себе не
только замечательную память, но и неоценимые научные
труды.
Другой выдающийся русский ученый — Сергей Ивано-
вич Руденко, археолог и этнограф, создавший всесторонне
объективный научный труд «Башкиры. Историко-этногра-
фические очерки», изданный издательством Академии наук
СССР в 1955 году и давным-давно ставший библиографи-
ческой редкостью. Охват этой уникальной книги букваль-
но необъятен. Помимо истории происхождения и развития
башкирского народа, его жизненных занятий и образа су-
ществования, этнографических исследований, семейного
быта и т. д., автор касается вопросов этногенеза башкир,
их искусства и фольклора. Остается только удивляться
диапазону познаний этого ученого-гуманиста, истинного
друга так называемых малых народов.
В разделе этногенеза башкир-С. И. Руденко довольно
часто ссылается именно на труды Т. Г. Баишева, что сви-
детельствует о том, что серьезные научные мужи весьма
уважительно и доверительно относились к разработкам
башкирского языковеда, его научной платформе. Ведь точ-
но так же ссылается на него и тот же Дмитриев. И только
разобиженные независимым поведением и категорич-
ностью суждений Баишева коллеги (как татарские, так и
башкирские) сделали все, чтобы представить его этаким
«неучем и национально ограниченным человеком», кото-
рый замкнулся в кругу своих умозаключений и гипотез.
Однако со времен Сервантеса известно, что именно дон-
кихоты являются самыми благородными и дальновидными
мужами, чья прозорливость проявляется лишь со вре-
менем.
138
Именно таким отважным, а не ограниченным и наив-
ным донкихотом предстает перед нами спустя десятиле-
тия Тагир Галлямович Баишев.
«Единственная известная мне работа по изучению диа-
лектологических особенностей башкирского языка принад-
лежит Т. Г. Баишеву, результаты которой и излагаются
мной ниже, — пишет Руденко, и дальше подробно рассмат-
ривает теоретические положения башкирского ученого, ка-
сающиеся фонетических, морфологических и в какой-то
мере лексических различий диалектов башкирского языка,
постоянно отмечая совпадение своих взглядов и разрабо-
ток этой проблемы, как и составленных ими (его, Руденко,
и Баишева) диалектологических карт, что само по себе
является весьма симптоматическим.
В этом плане весьма важной считаю окончательную
формулировку Руденко в определении этногенеза башкир.
Приведу ее полностью:
«Территория Башкирии во II тысячелетии до н. э. была
населена племенами европеоидного типа. Однако уже в
самом начале I тысячелетия, не позднее VIII в. до н. э.,
сюда с востока проникали племена монголоидные, которые
уже в VII в. до н. э. являлись одним из существенных ком-
понентов в физическом типе населения Башкирии и При-
камья. Монголоидные черты этих племен, однако, не были
особенно ярко выражены и представлены в смягченном
виде, возможно, в результате смешения с аборигенными
племенами европеоидного физического типа.
Язык, на котором в это время говорило большинство
населения Башкирии, был уже, по всей вероятности, древ-
ний башкирский, ассимилировавший неизвестные нам пока
местные языки, особенности которых могут быть выясне-
ны только путем углубленного сравнительно-лингвистиче-
ского изучения башкирского языка и языка соседних на-
родностей.
Гипотеза об угорском (финском) происхождении баш-
кир, как мне кажется, неприемлема ни с антропологиче-
ской, ни с лингвистической точки зрения. Можно говорить
0 примеси угорских элементов среди части северных баш-
кирских родов.
Этнически я считаю допустимым связывать древних
башкир с тиссагетами Геродота для северо-западной тер-
ритории Башкирии и с савроматами и иирками для юж-
ной и восточной территории. Однако только с первых веков
1 тысячелетия н. э. можно рассматривать башкир как еди-
ную группу племен с бытом, обусловленным в какой-то ме-
ре кочевническим скотоводством в сочетании с охотой в
139
степной полосе, в горной же и в лесной полосе с преобла-
данием занятий охотой, пчеловодством и в известной сте-
пени земледелием в сочетании с оседлым скотоводством.
Сложное историческое прошлое башкир, особенно со
времени так называемого великого переселения народов,
не могло не отразиться в какой-то мере как на их физичес-
ком типе, так и на языке и быте. Однако ни контакт с север-
ными финно-угорскими племенами, ни проникновение на
территорию Башкирии гуннских, позднее татаро-монголь-
ских, казахских племен, ни взаимосвязи с калмыками и,
наконец, позднейшее проникновение с запада таких народ-
ностей, как казанские татары и мишари, коренным обра-
зом не изменили ни физического типа, ни языка, ни быта
башкир».
Мне кажется, эта краткая формулировка, данная рус-
ским исследователем, стоит куда больше иных простран-
ных монографий более поздних историков и этнографов,
писавших о происхождении и древнейшей истории башкир-
ского народа. Однако получалось так, что только искусст-
венно (или преднамеренно) запутывали проблему.
V
В одном из обращений в бюро обкома партии Тагир Гал-
лямович пишет о судьбе одного из башкирских ученых —
Загида Юсупова (Шарки), который имел неосторожность
высказать «националистические мысли», что и послужило
поводом для его травли. «Секретарь по идеологии Сайра-
нов натравил на старого человека своих подручных, ко-
торые усердно взялись за «изучение» его научных произ-
ведений, в частности, «Избранных произведений», вышед-
ших в Башкнигоиздате в 1959 году. В газете была опубли-
кована разгромная рецензия (автор К. Мэргэн), на собра-
нии городского актива сам Сайранов обрушил на голову
Юсупова град обвинений. И хоть позднее Загид Юсупов
один за другим отмел от себя все пункты необоснованных
обвинений, здоровье участника Октябрьской революции и
гражданской войны Юсупова не выдержало травли, его
схватил паралич и в скором времени он скончался».
Пример с 3. Юсуповым, который приводит Баишев, —
характерный пример того, как действовал лжебашкирский
обком партии против неугодных: травля, доведение до
последней черты и — неминуемая болезнь или смерть пре-
следуемого.
140
Нет сомнения в том, что Баишева неизбежно ожидала
бы та же участь, не имей он, во-первых, завидной силы
воли и неукротимого борцовского духа, во-вторых, полней-
шего убеждения, уверенности в своей правоте. Именно эти
качества питали его духовные и физические силы, постоян-
но нацеливая на борьбу и заставляя ночи напролет про-
сиживать за посланиями и обращениями в разные госу-
дарственные инстанции, заведомо зная, что ждать положи-
тельной реакции не приходится — лишь новые громы и
молнии на свою собственную голову!
Но он продолжает писать, писать, писать...
Послания в Бюро обкома партии (семь раз), «лично
Первому секретарю Башкирского обкома КПСС» (Игнатье-
ву и Нуриеву, причем неоднократно); письма в Политбю-
ро ЦК КПСС, первым его секретарям Н. С. Хрущеву и
Л. И. Брежневу (Хрущеву — дважды); различным членам
ЦК и Политбюро; трижды — в редакцию газеты «Прав-
да», дважды — в Президиум Академии наук СССР; пись-
ма отдельным известным писателям, ученым...
Конечно, чаще всего бывает так, что в старости люди
от томительного безделья ударяются в писанину, далекие
и сладкие воспоминания, становятся мемуаристами и даже
«писателями». Это вынужденное графоманство особенно
присуще нашим российским пенсионерам, привыкшим всю
жизнь трудиться и вдруг оказавшимся вне всяких дел.
И уже поэтому их можно извинить, хотя они изводят не-
мало нервов работникам издательств и редакций газет и
журналов.
Эпистолярное творчество Тагира Галлямовича никак
нельзя назвать графоманством и, тем более, жалобома-
нией, ибо каждое послание наполнено тревогой и болью
за свой народ, его униженное положение, снабжено кон-
кретными фактами и примерами, которые трудно опроверг-
нуть. И никогда ни слова — о себе! Хотя бы об отсутствии
элементарных условий для нормальной жизни.
Ничего удивительного в том, что письма эти и обраще-
ния приводили функционеров в ярость. Обкомовских то-
варищей более всего раздражало то, что «жалобщик»
обращается в Москву, непосредственно в ЦК, и делает
это более чем ловко — не прибегая к помощи почты, так
что перехватить эти послания не представляется возмож-
ным.
Конечно, из Центрального Комитета тоже не получал
утешительных ответов. Но одно то, что там, в Москве,
знали о Баишеве, его письмах и отношениях с государст-
141
венными органами республики, выводило ее руководителей
из себя.
Тагир Галлямович не только излагал положение ве-
щей, не только на что-то жаловался, а постоянно вносил
какие-нибудь конкретные предложения. Так, в одном из
лисем в ЦК он излагает следующие пункты своих предло-
жений:
«1. Дать роспоряжение о том, чтобы на предстоящей
переписи населения в январе 1959 года всех башкир, где
бы они ни проживали, обязательно записать именно баш-
кирами; строго запретить насильственное причисление их
к татарской нации;
По переписи 1897 года всех башкир на территории Рос-
сии числилось 1.311.017 человек; по переписи 1920 года
на территории РСФСР — 1. 186. 000 чел.
В переписи 1959 года численность башкир на террито-
рии РСФСР должна составить около полутора млн. чело-
век.
2. Учитывая исключительно трагическое положение баш-
кирской нации в деле своего возрождения и консолидации,
сделать исключение: башкир, проживающих в соседних
областях и территориально примыкающих или близлежа-
щих, воссоединить территориально с Башкирией.
3. Башкир, проживающих в некоторых соседних облас-
тях, территориально не примыкающих, переселить на тер-
риторию Башкирии за счет государства. Конечно, лишь
в том случае, если они этого пожелают.
4. Башкир, компактно проживающих в Челябинской
и Курганской областях и составляющих около двухсот
тысяч человек (бывшие Аргаяшский и Яланский кантоны
Башкирии), сделать районами, подчиненными Башкирии,
или особыми округами, подчиненными в культурном обслу-
живании Башкирии.
5. Всех башкир, проживающих в западных и северо-за-
ладных районах, подвергнутых насильственной татариза-
ции и ассимиляции, приобщить к башкирской культуре...»
С точки зрения понимающего истинную суть вещей че-
ловека эта программа покажется вполне приемлемой.
С точки зрения любого (независимо от национальной
окраски) руководства — бредом больного человека. Тем
более в «эпоху Баишева».
Нет ничего удивительного в том, что ответы он получал
примерно одинаковые, лишь написанные разными словами
и поэтому — разной тональности.
В Москве, по партийным традициям того времени, пись-
142
ма Баишева отправляли обратно — в Башобком или отпи-
сывались короткими ответами, в которых ставились под
сомнение утверждения адресата. ,
Что касается Башкирского обкома... Думается, ска-
занное выше все ставит на свои места.
А вот один небольшой фрагмент из ответа уважаемого
башкирского писателя, к которому также обратился Т. Г.
Баишев:
«...ваши суждения в целом за все эти годы находятся
вне нормального современного советского человека: они
бредовые, злобствующие и направлены на разжигание на-
ционалистических страстей, на разжигание вражды между
башкирами и татарами. Время таких потуг миновало, Та-
гир Галлямович!»
На прочих ответах останавливаться не буду. Не в них
суть. На иную реакцию заметных фигур того времени он
и не мог рассчитывать. Я думаю, он и не надеялся. Абсо-
лютно не рассчитывал!
Почему же все-таки раз за разом брался за перо и
выводил столь «немыслимый» адрес: ЦК... Бюро обкома...
Академия наук СССР...?
Во-первых, это была потребность его души. Да, потреб-
ность, а не мания, как единым хором утверждали те, кто
имел дело с этим удивительным и где-то странным для
той эпохи человеком. Лишенный возможности претворять
свои идеи в жизнь, напротив, отторгаемый и постоянно
подвергаемый преследованиям, запретам и (насмешкам,
Баишев нашел единственный выход своим чувствам и прин-
ципам— в письменном их изложении на бумаге. А чтобы
они не оставались втуне, не пылились бесполезно и в без
того тесной каморке в 10 кв м., называемой «квартирой»,
он отправлял их по разным инстанциям и адресам, заве-
домо понимая и предвидя их дальнейшую судьбу. Может
быть, поэтому пустые или негативные ответы не огорчали
его в той степени, в какой огорчили бы любого другого
нормального человека. А Баишев воспринимал все это
как нечто должное и, проведя штурм одной высокой ин-
станции, брался за штурм другой...
Во-вторых, все помыслы и переживания этого человека
были связаны с родным народом, его историей, сегодняш-
ним положением и с его будущим. Это было для него
важнее всего, в том числе, важнее всяких насмешек и уни-
жений, бесквартирья и обкомовского давления, раздраже-
ния и внутренней ненависти коллег, престижа, «имиджа»
(беру в кавычки, ибо в ту пору это понятие почти не было
известно), многого-многого другого, что для опять-таки
на
нормального человека никак не может являться второсте-
пенным.
В-третьих, Тагир Галлямович был абсолютно уверен
в своей правоте, и никакие обструкции в обкомах и соб-
ственном институте, никакие громы и молнии, никакие фи-
липпики в газетах, организуемые идеологическими вождя-
ми, не могли сбить его с той позиции, на которой он стоял.
И в этом были его сила и устойчивость.
Таким он и остался до самой смерти, прожив немалую
для такого существования жизнь — 88 лет.
Повторяю: я использовал лишь отдельные (наиважней-
шие, на мой взгляд) направления в научной и обществен-
ной деятельности Тагира Галлямовича Баишева. Очень
многое осталось за рамками этого эссе.
Повторяю и то, что я тут отнюдь не выступаю неким
апологетом своего героя, ибо не всегда разделяю линию
его поведения и крайние взгляды и принципы. Но и не
скрываю своего сочувствия и симпатии к этой сильной, во-
левой и последовательной в своих действиях личности, ка-
кие в нашей жизни встречаются далеко не часто. Он был
Робинзоном на отнюдь не таком уж необитаемом острове
башкирской науки и, тем более, общественно-политиче-
ской жизни и сумел с честью пронести знамя своего несги-
баемого и непокорного одиночества.
Ну, а право читателя — делать выводы самому.
АРХИМЕДОВА T04Ji^llOPbI ГАСКАРОВА
Отец ансамбля народного танца
Концерты и отдельные выступления Башкирского го-
сударственного ансамбля народного танца им. Файзи Гас-
карова мне приходилось видеть десятки, много десятков
раз. Сменилось не меньше трех или даже четырех поко-
лений артистов, а этот коллектив остается любимцем зри-
телей, притягательным магнитом для людей разных воз*
растов.
И с этим ансамблем у меня связаны особые, я бы ска-
зал, сокровенные воспоминания.
Файзи Гаскаров с участниками ансамбля
145
В детстве я жил с родителями в Акъяре — может быть,
самой далекой от Уфы точке Башкортостана. Со столицей
нас связывало прежде всего радио. Оно доносило не толь-
ко музыку и песни, но и трансляции заключительных кон-
цертов художественной самодеятельности республики, со-
общения о том, как проходит Декада башкирской литера-
туры и искусства в Москве, кто из учеников Файзи Гаска-
рова завоевал золотые медали на международных конкур-
сах и фестивалях за рубежом. Мы были патриотами своей
нации и ужасно переживали и радовались за наших ар-
тистов, которые несли ей славу. Так были воспитаны.
Ну а первый увиденный мною концерт Ансамбля на-
родного танца состоялся в зале филармонии в декабре
1955 года, когда я жил у родственников в Уфе. Я попал
на него чудом, ибо концерт давался в честь болгарской
государственной делегации, зачем-то прибывшей в Уфу.
Помню даже фамилию главы делегации — Казовский.
Представление было престижное. Помимо гостей из брат-
ской Болгарии, в зале (ныне малый зал) присутствовали
все великие мужи башкирских верховных властей, перед
«которыми простые люди испытывали, если и не священ-
ный, то уж смутный трепет, — это точно.
Помню, перед началом концерта на авансцене пару
раз мелькнул невысокий, чуть сутулящийся человек с бе-
лой, несколько холеной кожей слегка отечного лица, с
аккуратно зачесанными назад длинными, пепельного цве-
та волосами и в аспидно-черном костюме. Я запомнил его
серые глаза, в которых затаилось чуть надменное выра-
жение. Он спустился вниз, в партер, и подошел к одному
из обкомовских тузов, который ему что-то нашептал. Чело-
век в черном костюме не стал проявлять ни подобостра-
стия, ни верноподданнических чувств, только коротко кив-
нул и исчез за красным бархатным занавесом.
А потом началось это историческое (по крайней мере
для меня!) танцевальное действо, которое и по сию пору
стоит перед моим мысленным взором.
! Между тем по реакции сидящих рядом зрителей я по-
:нял, что человек в черном костюме и был знаменитым Фай-
зи Гаскаровым, который в ту пору после блестящего успеха
своего коллектива на Декаде башкирской литературы и
искусства находился в зените славы. Сразу после того кон-
верта начнутся зарубежные гастроли его ансамбля, кото-
рые явятся вообще первыми выездами башкирских артистов
за границу, если не считать поездки отдельных музыкан-
тов в иностранные государства в прежние годы, как, на-
пример, хайбуллинского кураиста Юмабая Исянбаева во
1146
Францию. А тут — Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Северная
Корея, Пакистан, Непал!.. Не будет никакой ошибки, если
сказать, что именно Гаскаров вместе со своим танцеваль-
ным ансамблем «прорубил окно» в азиатские страны. Ну
а потом — ив Европу, Африку, Америку...
На том концерте ансамбль показал весь свой класси-
ческий репертуар, который принес ему в буквальном смыс-
ле всемирную славу. По этим танцевальным номерам мож-
но было как бы проследить за становлением и развитием
этого воистину уникального коллектива, за их все воз-
растающим мастерством и техническим совершенствовани-
ем. От массовых танцев типа «Гюльназиры» и «Зарифы»,.
а также дуэтных номеров, еще не слишком-то ушедших
от самодеятельных или, точнее сказать, повседневно на-
родных образцов («У ручья»), танцоры шли к ярко выра-
женным профессионально-хореографическим сценам, сох-
раняя при этом все приметы истинно народных игрищ:
«Три брата», «Дружба», «Проказницы», «Из старой жизни»
(«Татарская свадьба»), многие другие танцы... Каждый
из них воспринимается зрителем как миниатюрная драма-
тическая сценка, выраженная языком танца.
Хисбулла Зубайдуллин исполнял знаменитый сольные
танец «Перовский», а легендарный Мухамет Идрисов —
«Банк».
Неотразимое впечатление производил тогда женский
танец «Семь девушек», который для Файзи Гаскарова
представлял собой целый философский трактат в хорео-
графии, и потому семь танцовщиц-красавиц не просто ис-
полняли все установки и художнические желания своего-
руководителя, но сами жили этим танцем, явившимся иа
красивой народной легенды.
Во втором отделении ансамбль показал танцевальные
номера других народов. Но тогда это были — «советские
народы», а иностранные танцы появятся в арсенале кол-
лектива после зарубежных гастролей: в Демократическую-
Республику Вьетнам, в Северную Корею, Пакистан и Ин-
дию... А члены болгарской государственной делегации смот-
рели русский, украинский, молдавский танцы, поражаясь
виртуозному мастерству воспитанников Гаскарова.
У меня никогда не было сомнения в том, что именно-
к середине 50-х годов ансамбль переживал наивысший
взлет своего искусства и, не побоимся сказать, вдохнове-
ния. Так называемые ветераны были еще молоды, но дос-
таточно опытны, чтобы с блеском исполнить любой самый
сложный танец или хореографическую сценку. Строгий
глаз Гаскарова фиксировал мельчайшую фальшь, любое
147
несоответствие народному началу и прямо-таки набрасы-
вался на того или тех, кто допускал подобное отклонение
от его требований. Он мог при всех изругать виновника,
но никто на него не сердился. Все знали и его холериче-
ский характер, и его желание довести танец до совершен-
ства. Поэтому артисты учились не только у тренажеров и
на репетициях, но и во время концертов, каждый из ко-
торых сам по себе становился школой повышения мас-
терства и психологического контакта со зрителем.
Это был апогей творческого взлета ансамбля еще и
потому, что несколько лет кряду, по благословению Моск-
вы, лучшие исполнители посылались за рубеж, на самые
престижные фестивали и конкурсы и, как правило, не
возвращались оттуда без высоких наград.
Рядом с подлинными мастерами своего дела, начинав-
шими танцевать в ансамбле еще с начала 40-х годов, —
Закиром Исмагиловым, Мухаметом Шамсутдиновым, Му-
хаметом Идрисовым, Хазиной Магазовой, — с неменьшим
блеском чудодействовали на сцене Рауля Хазиева, Екате-
рина Варламова, Анвар Фахретдинов, Рим Бакиров, Рат-
мир Бадретдинов... Да разве перечтешь все фамилии тог-
дашнего легендарного состава ансамбля, когда каждый в
нем являлся яркой и незаурядной личностью!
О том, что Файзи Гаскаров с самого начала высоко
поднял профессиональную планку башкирского народного
танца, свидетельствует тот факт, что поставленные им на
заре создания ансамбля массовые танцы «Зарифа» и
«Гюльназира» до сих пор, спустя 50 с лишним лет, явля-
ются украшением репертуара ансамбля и каждый раз с
восторгом воспринимаются любой аудиторией. Оба танца
полны оптимизма, внутреннего огня и какой-то особой гра-
циозности. Они как бы выражают раскрепощенность на-
родного духа, его могучее возрождение в условиях новой
жизни.
Необыкновенным воздействием на зрителя отличался
и танец «Дружба» — одно из ранних сочинений Гаскарова.
Он ставил его с расчетом на Хазину Магазову и Мухаме-
та Шамсутдинова. Этот дуэт сконцентрировал в себе са-
мое лучшее, что было в воображении и художнической па-
литре мастера, самые чистые и светлые краски и тона,
самые возвышенные чувства и мечты, то естественное цело-
мудрие, которое присуще только молодости. В последую-
щие годы будет создано немало других замечательных тан-
цев-дуэтов, но ни один из них не сравнится в этом смысле
с «Дружбой», с ее самозабвенной гармонией молодых сер-
дец, воздушностью каждого движения. Словно белый кре-
148
чет, несется этот танец по сцене (лучше было сказать —
над сценой!), ничуть не снижаясь в своем гордом полете,
продолжающем пленять и очаровывать нас, как очаровы-
вает и пленяет все прекрасное и талантливое на земле!
С тех самых пор, с того впервые увиденного концерта я
стал поклонником этого выдающегося коллектива и его
.великого основателя и руководителя Файзи Адгамовича
Гаскарова. Но пройдет немало лет, пока тогдашний пят-
надцатилетний отрок, на всю жизнь очарованный танцами
гаскаровцев, впервые пожмет руку их руководителя, а
потом их знакомство перейдет в долгую дружбу.
II
А было это так.
Со второй половины 50-х годов, после первых успеш-
ных гастролей Башкирского ансамбля народного танца в
странах Азии и Ближнего Востока он с каждым годом все
реже и реже показывается в своем доме — Уфе. Бесконеч-
ные поездки по Союзу и за рубежом сделали его желан-
ным гостем у своих собственных зрителей, и потому любой
домашний концерт проходил не просто с полнейшим анш-
лагом, но и брался приступом. Люди стояли в проходах,
вдоль стен, скапливались за задними рядами; так перепол-
няли ложи и балконы, что у хозяев концертных помещений
возникало законное беспокойство за их прочность и сох-
ранность.
Не упускал случая лицезреть редкие выступления кол-
лектива в Уфе и ваш покорный слуга. К тому времени я
был знаком со многими его артистами, кого-то боготворил,
к кому-то был чуть равнодушнее; являясь заведующим от-
делом литературы и искусства в молодежной газете «Ле-
нинец», я много писал об ансамбле, о его новых работах и
танцах, привезенных из-за рубежа. Однажды я написал
стихотворение «Танец джигита», посвятив его ведущему со-
листу ансамбля Хисбулле Зубайдуллину. Приведу его пол-
ностью.
Есть в этом танце вечное начало,
Причастное Истории самой,
Что нас в степи кочевьями качало
И уводило в скачках за собой.
В нас жив инстинкт диковинный и жгучий
Привязанности к матери-земле,
И в то же время нас и жжет и мучит
Оседлость — ведь рождались мыв седле!
149
Вплетали в гриву девушки мониста
И заклинали шепотом коней.
Те кони были девушек капризней,
Ревнивей были...
Но зато — верней!
В них кровь струилась первородно-жаркая
И обрывалось сердце,
как струна,
Когда они в бою,
собою жертвуя,
Вдруг падали,
кровавя стремена.
Есть в этом танце сила поклонения
Пред этой безрассудностью коней,
Стремительная ритмика движения,
Что так нужна в атаке на войне.
И в грации изогнутого тела,
Во взлете рук,
в дрожанье гневных жил, —
Во всем — одушевленная идея
Народного величия души!
Не надо быть искушенным в поэзии человеком, чтобы
уловить лобовую прямолинейность этих строчек, их лекси-
ческую наивность («стремительная ритмика движения, что
так нужна в атаке на войне», «одушевленная идея» и пр.),
но после опубликования штука эта в ту пору произвела
на читателей неожиданно сильное впечатление, о чем сви-
детельствовали пришедшие в редакцию письма и устные
отзывы читателей.
В один из дней в нашей многолюдной и столь же густо
закуренной комнате появился Файзи Гаскаров. Быстро
оглядев сидевших и стоявших, курящих и сцепившихся в
жарком споре сотрудников газеты, он как бы между про-
чим сказал: «А я вот не позволяю курить в помещении фи-
лармонии. А уж о репетиционном зале или даже коридо-
ре— и говорить нечего. Тогда мои танцоры на третий
день бы вытянули ноги».
Увидев в редакционной комнате мэтра, мы все разом
замолчали и уставились на него с нескрываемым любо-
пытством: какие ветры его сюда занесли? И почему к нам,
а не, скажем, к редактору, в кабинет которого, как пра-
вило, с ходу ныряют все уважающие себя корифеи?
Видимо, Гаскаров сразу все понял, еще раз обвел
взглядом присутствующих и спросил с какой-то подчерк-
нутой строгостью: «Кто тут Газим Шафиков?» Он, конёч-
150
но, лукавил: ему уже не раз приходилось видеть меня в
здании филармонии, вместе со своими танцорами. Прав-
да, он не удостаивал меня своим вниманием и, даже обра-
щаясь к моему собеседнику, взглядом на меня не повел,
давая понять, что моя персона его ничуть не интере-
сует. Меня это задевало, но я понимал, что мэтр может
вести себя как ему заблагорассудится. А тут вдруг...
— Я Газим Шафиков, Файзи Адгамович, — произнес
я, выступая вперед. — Чем обязан? — Мне хотелось поер-
ничать в отместку за его извечное подчеркнутое безразли-
чие к моей личности, но он не дал мне развернуться. Не-
ожиданно широко и благодушно улыбнувшись, он протя-
нул мне обе руки:—Очень рад. Я прочитал ваше стихот-
ворение и, представьте, оно мне понравилось. Мне кажет*
ся, вы ухватили главную идею этого танца. Вы вот его
посвятили Зубайдуллину... А Мухамета Шамсутдинова вам
видеть приходилось?
— Нет...
— Если бы видели, написали бы еще лучше!
После этого он попросил меня проводить его и на ули-
це стал развивать свою мысль: он хочет создать танец-ба-
лет о башкирских воинах, сражавшихся в 1812 году против
Наполеона. «Ты знаешь, что французы называли их «се-
верными амурами» или «северными купидонами»? Вот и
нужно их такими показать. Тут и курай, и военные состя-
зания, учения, потом — настоящее сражение... А в центре
всего этого — русский офицер. Ну, предположим, Денис
Давыдов. Кстати, именно он оставил самые лучшие записи
о башкирских воинах...»
Пока мы дошли до здания филармонии, Файзи Адга-
мович изложил еще несколько сюжетов, которые он хотел
бы осуществить в хореографии. А вообще, самая большая
мечта — создать самый настоящий балет, который можно
было поставить на сцене оперного театра. Музыку напи-
шет казанский композитор Александр Ключарев. «Никто
не понимает лучше него характер нашего танца и не может
быстро написать самую нужную мне танцевальную мело-
дию. Мы с ним работаем вместе немало лет. Но он тоже
мечтает о балетной постановке. Так что оба мы нуждаемся
в либреттисте. Судя по вашему стихотворению, вы хорошо
понимаете мир танца».
— Но мне никогда не приходилось... — начал было я,
но Гаскаров не обратил никакого внимания на мой лепет.
— А ты знаешь, что я начинал с балета? — продолжал
он, забыв и о либретто, и о своих сюжетах. — Я был со-
листом балета. Танцевал даже на сцене Большого театра
151
в Москве. Потом у нас... Но меня всегда тянули народные
танцы...
Дойдя до филармонии, он не стал заходить, а повел
меня дальше, продолжая рассказывать о своей жизни, при-
чем на удивление фрагментарно, перескакивая с одного
эпизода на другой, с одной темы — на другую. Вдруг
вспомнил знаменитую татарскую артистку И., с которой
у него была любовь... Или, кажется, они какое-то время
вообще являлись мужем и женой. Потом вдруг стал рас-
сказывать о Рудольфе Нуриеве, о котором в ту пору к
говорить-то было небезопасно...
В моей голове была полная каша. Какие-то разрознен-
ные, хотя и необычайно интересно изложенные фрагмен-
ты, клочья яркой человеческой жизни, чьи-то портретные
наброски... Но еще больше изумляло меня другое: где бы-
лая холодная надменность мэтра? Где подчеркнутое без-
различие знаменитого мастера? Что случилось с Гаскаро-
вым? Неужто одно-единственное стихотворение, напеча-
танное в молодежной газете, так кардинально могло пере-
вернуть отношение этого почти легендарного человека? И
впрямь ли я так уж ему нужен, скажем, как будущий либ-
реттист или сценарист, или это простое ёрничанье, наплыв
эдакого «болтливого» настроения, когда для куража ну-
жен удобный объект? А кто может быть лучшим для это-
го объектом, чем мало кому известный журналист из мо-
лодежной газеты, который, к тому же, пишет стихи о тан-
цах и танцорах?
Я утвердился в этой мысли после того, как Файзи Ад-
гамович предложил заглянуть в кафе, мимо которого мы
проходили. Заикаясь, я было стал что-то говорить о ра-
боте и неоконченной статье, но он лишь презрительно
хмыкнул и махнул рукой: «Нашел о чем говорить! Если
боишься, я сам позвоню вашему редактору и все ему
объясню...» Словом, в этом кафе мы просидели еще часа
три, и все, что говорил в это время Гаскаров, у меня в
мозгах перемешалось в какой-то сплошной ералаш. С мут-
ной головой отправился я домой, предварительно проводив
своего знаменитого собеседника, но не чувствуя от этого
никакой радости. На другой день я получил крепкий на-
гоняй от редактора, а еще через несколько дней имел воз-
можность убедиться в правильности своей догадки: встре-
тившись в очередной раз с Файзи Адгамовичем, я бросил-
ся к нему, как старый знакомый или даже друг, но натк-
нулся на холодно-равнодушный взгляд. Он даже рукопо-
жатием меня не одарил, и я отошел от него, краснея от
стыда и негодования, дав себе клятвенное слово никогда,
152
ни при каких обстоятельствах больше к нему и близко
не подходить и даже строчки единой не писать ни о нем,
ни о его ансамбле.
Но такое настроение владело мной опять-таки всего
несколько дней. Новая встреча с Гаскаровым вновь оказа-
лась сердечной и теплой, он заговорил со мной, как со ста-
рым приятелем, разговор с которым в прошлый раз обор-
вался на самом интригующем месте и его, конечно же,
следует продолжить.
Так постепенно, раз за разом я стал постигать эту
уникальную, столь же обаятельную, сколь и непредска-
зуемую натуру человека, с которым мне предстояло в бу-
дущем выпить столько стаканов дешевого вина и пере-
варить столько бесед и разговоров, что на их стенографи-
ческое изложение не хватило бы многих томов.
III
Сказать, что Гаскаров был сложным человеком, это
значит ничего не сказать. Все мы сложны в той или иной
степени, не всегда сами себя понимаем, не можем объяс-
нить свои собственные выходки и поступки, свои откуда-то
вырвавшиеся слова и тирады.
Файзи Адгамовичу эти качества были присущи вдвой-
не, втройне. Он был понятен и предсказуем, когда говорил
о творчестве, когда замышлял сюжет танца и планомерно
осуществлял его в жизни, безошибочно находя для этого
самых нужных исполнителей.
«У Файзи Адгамовича было необыкновенное чутье на
талант, — рассказывала народная артистка, ветеран ан-
самбля Хазина Нурмухаметовна Магазова. — Он, как го-
ворится, чувствовал его за версту. И еще: всегда точно
знал, кто какой танец должен исполнять. Иногда его вы-
бор нас удивлял, ставил в тупик. Но он работал с этим
танцором с каким-то диким, немыслимым упорством и ис-
ступлением, будто старался доказать, что был прав в
своем выборе. И в конце концов добивался своего: новый,
иногда совершенно ни в чем не проявивший себя артист
в какой-то момент раскрывался с совершенно неожидан-
ной стороны, становился признанным танцором или даже
солистом со своим собственным амплуа. Позднее я стала
думать, что Файзи Адгамович делал это специально, что-
бы в ансамбле не было середнячков, а все были на роли
ведущих. Может быть, именно поэтому все участники на-
шего ансамбля той поры были личностями».
Файзи Гаскаров — непонятен и непредсказуем, когда
15а
отдаляется от своего любимого детища, от темы народной
хореографии; когда погружается в повседневный серый
быт. Он — неуемный фантазер, человек неутомимого вооб-
ражения. Живет в прошлом и будущем, в нескончаемых
воспоминаниях и грезах...
Пожалуй, никто (в том числе, мне кажется, он сам)
не знал, откуда он родом, кто его отец и мать. Знал же
он одно: сколько себя помнил, столько был один-одинеше-
нек под холодным небом бытия. И еще: бесконечно ко-
чевал по великой, разоренной революциями и граждан-
ской войной, голодом и холодом державе, прячась в тем-
ных углах вагонов, под полками, часами простаивая в бит-
ком набитых тамбурах. Рядом неизменно маячили не-
прикаянные фигуры таких же, как он сам, маловозраст-
ных бродяг, которые искали на земле место уютнее и сыт-
нее, а угла такого не было.
«Да, я не знаю своих родителей, — говаривал Файзи
Адгамович. — Я даже не знаю, кто я по национальности —
башкир, татарин или какой-нибудь тунгус. Но я стал соз-
навать себя человеком на башкирской земле, с детства по-
любил искусство ее коренного народа, благодаря ему стал
художником. Я всю жизнь служил этому искусству, ста-
раясь сохранить первозданность башкирских танцев, и по-
тому считаю себя башкиром».
Бродяжничество его продолжалось до отроческого воз-
раста, пока он в один прекрасный день не оказался в дет-
ском доме города Бирска, где имелся кружок танцев.
Именно там почувствовал вкус к танцам, стал активным
участником художественной самодеятельности. И именно
там «отыскали» его эмиссары танцевального искусства. Он
оказался в Москве, в хореографической группе при Боль-
шом театре. Там в полную силу пробудился в нем дух
башкирского патриотизма и, вернувшись на родину, он
сам станет выискивать таланты и самолично отвозить их
в знаменитое хореографическое училище в Ленинграде,
которым руководила легендарная Агриппина Ваганова.
Именно Ф. Гаскарову обязаны своей творческой судьбой
Рудольф Нуриев, народная артистка СССР Зайтуна Нас-
ретдинова и народный артист РСФСР Халяф Сафиуллин,
заслуженная артистка РСФСР Майя Тагирова и другие.
Думается, на своей шкуре испытав потребность детей
и подростков в заботе и опеке взрослых, особенно людей
творчества, Гаскаров совершенно сознательно занимался
этой благотворительной деятельностью. И она породила
в нашем танцевальном искусстве необыкновенно богатый
урожай истинных талантов и артистических личностей.
154
Гаскаров всегда с огромной охотой рассказывал о дос-
тоинствах своих учеников или тех, в ком он когда-то обна-
ружил божью искру, способствовал их приходу на балет-
ную сцену. С особым удовольствием говорил он о двух
танцовщиках — Халяфе Сафиуллине и Рудольфе Нуриеве.
Последний был для меня вообще какой-то ирреальной
личностью, мифом. Но для Гаскарова-то он был живым
человеком, гениальным подростком, которому, увы, было
суждено стать одним из первых диссидентов среди людей
искусства и... одним из великих танцоров мира. Файзи
Адгамович мог говорить о нем часами. Впрочем, так же,
как и о Халяфе Сафиуллине. Особая стать, грациозность,
высокий полет, парящие прыжки... Увлекаясь, он начинал
подробно характеризовать каждый из элементов балетного
танцевального мастерства, вспоминая при этом других
знаменитых артистов, сравнивая с ними своих учеников.
Тут были и Чабукиани, и Барышников, и Васильев... Всех
их, как и многих других выдающихся российских танцов-
щиков, Гаскаров не только видел и хорошо знал, но и
был связан с ними одной творческой судьбой.
— Да, мне приходилось видеть многих великих артис-
тов. Наш Халяф ничем им не уступал. Даже несмотря на
невысокий рост. Его прыжки были поразительны, он зави-
сал в воздухе ничуть не меньше Рудольфа. Может быть,
даже больше его. Его темперамент можно было сравнить
разве только с Вахтангом Чабукиани. Я давно вынашиваю
мысль написать воспоминания о Халяфе. О его таланте и
ранней смерти. Ну и о Зое, конечно...
«Зоей» он называл супругу Халяфа Сафиуллина Зай-
туну Агзамовну Насретдинову.
К сожалению, его желания, столь часто выражаемые
устно, слишком редко находили письменное воплощение.
К счастью, его рассказы о Халяфе Сафиуллине я мог
сопоставлять с реальной личностью этого артиста, ибо
мне посчастливилось видеть его в ряде балетных спектак-
лей, и я с удовольствием убеждался, что Файзи Адгамо-
вич не преувеличивает, не возвышает искусственно арти-
стический талант тех, о ком говорит. Халяф Гатеевич дей-
ствительно был необыкновенным танцовщиком, какие по-
являются на сцене (тем более, провинциальной), может
быть, раз в столетие.
Но это — отдельный разговор.
Меня в рассказах Гаскарова смущало лишь одно: их
выспренность, какая-то отталкивающая сентиментальность
или, сказать точнее, слащавость. Может быть, поэтому
мне далеко не всегда хотелось записывать его рассказы,
155
хотя я это нередко практиковал, и у меня сохранились его
высказывания о характере башкирского народного танца,.
оценки тех или иных известных артистов и даже его нега-
тивные высказывания, в том числе — о партийных и об-
щественных деятелях. Но с тех пор, как Гаскарова не ста-
ло, я постоянно ругаю себя за столь легкомысленное пове-
дение: ведь это была живая, ходячая энциклопедия, а1
мысли его были достойны увековечения, если даже были7
в чем-то ошибочны. Но он всегда выражал глубоко личное,,
крайне индивидуальное мнение, и уже этим оно было бы
ценно для потомков. Ну а что касается его сентименталь-
ности... Она ведь тоже шла от любви к людям, к талантам!
Тем более, что Файзи Адгамович имел к их становлению
самое прямое отношение.
Одно время у меня было сильное желание написать о
Файзи Гаскарове и его ансамбле что-то вроде исследова-
тельско-мемуарной книги. Тем более, что многие, зная мои
отношения с ним, подталкивали к этому. В том числе и.
его супруга Ляля-ханым. Она обещала представить все
хранящиеся в доме архивные документв1, письма, записи,
сценарии хореографических произведений, а я по-своему
настраивал себя на это дело, хотя внутренне трусил, иба
одно дело — писать о выдающемся человеке эссе или очерк
и совсем другое — нечто профессионально-аналитическое,
фундаментальное. Для этого надо глубоко знать этот жанр
искусства изнутри, и не только практически, но и теорети-
чески. Именно это соображение заставляло меня тянуть
с началом работы. И вот в конце 1992 года совершенно
неожиданно Ляля-ханым скончалась. Планы остались пла-
нами...
Этот очерк — хоть какая-то «компенсация» за неосу-
ществленную идею, запоздалое оправдание перед теми,
кто меня настраивал на эту работу.
Ниже я хочу привести некоторые высказывания Файзи
Адгамовича о «секретах» народного танцевального искусст-
ва. Чаще всего я записывал их наспех, где придется, сразу
после разговора и общения с ним или какое-то время спус-
тя, по памяти.
«Искусство народа всегда таит в себе тайну, которую
следует разгадать. Тот, кто не хочет этим заниматься, ни-
когда не постигнет истинную народность и точность, чис-
тоту движений танца. Тайна эта может скрываться в од-
ной маленькой, почти незаметной для широкого круга де-
тали. Незаметной, но характерной. В танце «Семь деву-
шек», например, танцовщицы за все время лишь один раз
поднимают на зрителя свои глаза, точнее, вздымают веки.
156
Это не все могут заметить или придать значение. А вот в
Чехословакии и заметили, и оценили, разразившись в этом
месте аплодисментами. Дело в том, что эта деталь, кото-
рую я подсмотрел в жизни, обусловлена историческим по-
ложением башкирской женщины, отражает ее взаимоотно-
шения с окружающими...»
«Башкирские танцы рождены двумя силами. Самые
древние — культом природы, языческой верой в святость
птиц и животных. Они передают их трепет, повадки. Возь-
ми женские танцы. Разве не ощутимы в них дрожь и лег-
кость птиц. Скажем, того же журавля. Не сомневаюсь, что
женские танцы древнее мужских, так же, как нет песен
древнее, чем «Журавлиная песнь». Ну а вторая сила —
это сама жизнь. Точнее, быт. У башкир имитация бытовых
движений в крови. Ритуалы, обычаи, игры — все от имита-
ции каких-то конкретных действий. Поначалу я долго му-
чился, не зная, как вводить в танцы эти действия, чтобы
сохранить символику и условность искусства. Потом по-
нял: не следует бояться откровенных движений и жестов,
выражающих какие-то конкретные действия и поступки.
Особенно — у тех же женщин. Однажды я целый день,
с утра до вечера, наблюдал за тем, чем занимается баш-
кирка в своем доме. Просто сидел в сторонке и пригляды-
вался к хозяйке. Результат такого наблюдения лег в ос-
нову многих женских танцев, как сольных, так и массо-
вых: «Муглифа», «Загида», «Проказницы»...
«Иные полагают, что придумать и затем поставить но-
вый танец — дело несложное: мол, используй известные
движения, подведи их под какой-нибудь жизненный сю-
жет — и танец готов. А между тем еще ни один танцеваль-
ный номер, лишенный конкретной и глубокой исторической
основы, народной психологии, не выдерживал испытания
временем. Танец нельзя высосать из пальца, его надо ис-
кать в жизни, сверять с судьбой народа, с его философией»
И еще — со своей совестью».
«Прежде чем поставить первые свои танцы «Муглифа»
или «Зарифа», я изъездил полреспублики. Л башкирское
Зауралье — вообще прошел вдоль и поперек. Был в та-
ких местах, где люди до сих пор живут в полупервобытных
условиях и мыслят языческими мерками. Так вот, там, где
мужики и пару танцевальных движений не могут сделать,,
женщины танцуют, как птицы. К мужчинам танцы пришли
с охотой, скачками, военными походами. К женщинам —
от неба и земли. С очарованием перед ними. Пока мужчи-
ны промышляли, женщины танцевали!»
157
# * *
К женщинам у Файзи Адгамовича было странное отно-
шение. С одной стороны, он их обожал, жизни без них не
представлял. С другой, испытывал к ним хроническое не-
верие, подозревал во всякой подлости и изменах. «Нельзя
верить ни одной, даже самой порядочной и респектабель-
ной на вид женщине, — сказал он однажды. — Едва она
окажется в условиях, когда можно поступать как ей угод-
но, она выберет единственное — измену. Она не сама по
себе такая от рождения или воспитания. Такой создал ее
Бог».
Об одной и той же женщине, которую когда-то любил
или боготворил, он мог говорить полярно противоположно.
Один раз она представала в его устах святой, существом
неземным, ангелом небесным... В другой — он говорил о
ней же такие вещи, от которых становилось не по себе. Он
это чувствовал, но это его нимало не смущало. Более
того, распаляло еще больше. Он начинал приводить какие-
то «конкретные» доказательства и аргументы, которые «с
головой ее выдавали» и т. д. и т. п. Поначалу меня столь
дикие крайности сильно смущали, потом я к ним стал
привыкать, но привыкнуть до конца так и не смог. Из его
рассказов я уяснил для себя одно: у него было немало
женщин —и в Москве, и в Казани, и в Оренбурге, не го-
воря уже об Уфе. Были и очень талантливые, актрисы, как
вышеупомянутая И., которой он восхищался до конца
жизни, одновременно понося за легкость характера и пове-
дения. Да и жен, вроде бы, было несколько. Но вот как,
у него складывались отношения с этими женщинами, по-
чему уходили от него они и почему уходил от них он, —
так и осталось для меня неясным.
Впрочем, эта сторона его жизни меня интересовала
меньше всего. В сущности, интересовала лишь потому, что
он время от времени сам поднимал эту тему, хотя его ни-
кто об этом не просил. Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что у него было довольно своеобразное восприятие
женской натуры. Женщин — вообще. Да это и не удиви-
тельно для его положения. В его коллективе работали во-
истину молодые красавицы. В их подборе Гаскаров прояв-
лял безупречный вкус — и не только в смысле одаренности
человека. При этом он предпочитал деревенских девушек
и юношей. Он находил их в самых глухих углах, которые
посещал чуть не каждый год. А в 20-х и почти все 30-е го-
ды, по его собственному признанию, побывал почти во всех
районах Башкирии. Он знал, где таятся нужные ему «кру-
158
пицы золота», и находил своих будущих артистов довольно
быстро и безошибочно.
Когда стало известно, что первая Декада башкирского1
искусства и литературы должна состояться в июле 1941 го-
да, Файзи Адгамович развернул кипучую деятельность. В
короткий срок ему удалось отыскать в дальних уголках
республики (главным образом, в Баймакском, Белорец-
ком и Абзелиловском районах) сорок юношей и девушек и
привезти их в Уфу. Он мечтал создать большой и столь же
молодой танцевальный коллектив, который мог бы радо-
вать зрителей всех национальностей. Хотел покорить на
Декаде москвичей. Ему это удалось, но только спустя...
пятнадцать лет.
«От одного внешнего вида этих сорока башкирских
парней и девушек глаза разгорались, хотелось радоваться
и плясать, — вспоминает ветеран ансамбля Хазина-ханьш
Магазова. — Это были настоящие народные умельцы, кра-
сивые и даровитые люди, влюбленные в искусство тан-
ца. Для них-то и осуществил постановку «Зарифы» Файзи
Адгамович».
Во времена Гаскарова в ансамбле танцевали артисты,
почти сплошь выходцы из сельской местности. Он, дума-
ется, не без основания полагал, что именно они могут наи-
более точно и бережно передавать истинно народные, от
века идущие приметы и элементы танца, которыми так
дорожил создатель ансамбля. У городских парней и деву-
шек было очень мало шансов попасть в его коллектив. От*
бор производился необычайно строго и даже жестко. Это
после его ухода система приема сильно видоизменилась, с
городских было снято «вето», и со временем именно они
(прежде всего уфимцы) составили костяк ансамбля. И в
этом, может быть, самая большая разница коллектива вре-
мен Гаскарова и — последующего.
* * *
Принято считать, что Файзи Адгамович не «открывал»
выдающегося танцора, истинного народного самородка Му-
хамета Идрисова. Что и говорить, тот и впрямь был от
рождения самобытным талантом и когда предстал пред
очи руководителя ансамбля, мог прекрасно исполнять лю-
бой башкирский мужской танец. Да и Гаскаров никогда
не притязал на роль учителя этого артиста. Однако сам
Идрисов придерживается на этот счет иного мнения. Он
прекрасно понимает, что без профессиональной выучки,
159
•которую он в короткий срок прошел именно под требова-
тельным оком Файзи Адгамовича, он никогда не стал бы
тем, кем в конечном счете стал: великим танцором. Имен-
но в коллективе Гаскарова его танцы получили отточенную
законченность, великолепную огранку. Иу а танец «Банк»
стал воистину классикой — может быть, именно с того
времени, когда Мухамет Идрисов получил за его исполне-
ние большую золотую медаль на одном из международных
фестивалей.
Мы не раз говорили о Мухамете Идрисове, и Файзи
Адгамович охотно поддерживал разговор. Он вообще лю-
бил говорить, рассуждать о своих воспитанниках и учени-
ках, выделяя в них присущие только им личностные чер-
ты. Он очень любил Анвара Фахрутдинова, считал, что он
внес в мужской башкирский танец некое новое качество,
особый дух свободы и полной раскрепощенности.
Любил он и Закира Исмагилова и специально для него
поставил замечательный танец «В старом татарском ауле»
или «Жених».
Как известно, именно эти три выдающихся танцора ис-
полняют роли трех представителей разных поколений в
классическом танце «Три брата», также удостоенном золо-
тых медалей на международном фестивале молодежи.
Когда-то Файзи Адгамович признался, что прообразом
«среднего брата» стал именно сольный танец Идрисова
«Банк». Более того, танец этот дал первый толчок для соз-
дания «Трех братьев». В самом деле, если есть этот са-
мый «средний брат», почему к нему не приставить еще
двух «братьев», совместив их в одном искрометно-юмори-
стическом хореографическом действе, абсолютным масте-
ром которого был Файзи Гаскаров? И неуемная фантазия
творца вырывает из богатого арсенала народной хореогра-
фии самые выразительные и внутренне насыщенные эле-
менты и детали. Вот старик с козлиной бородкой, которой
он время от времени забавно трясет, задирая подбородок;
жилет поверх длиннополой рубахи, калоши под широкими
шароварами. Вот молодой джигит, готовый в любую ми-
нуту воспарить и завертеться, как юла. И между ними —
степенный, полный достоинства «средний брат», умело по-
дыгрывающий своим напарникам. Вот он: таган, основа
жизни, краеугольный камень бытия!
Создатель «Трех братьев» долго не мог примириться с
названием своего детища. Он с самого начала замысливал
его именно как «таган» — мир, бытие, которое держится
на представителях трех поколений — старого, среднего и
молодого. Но с чьей-то легкой руки он вошел в репертуар
160
и «в уста» конферансье под названием «Три брата» да так
и остался бытовать для зрителей всех материков.
Между прочим, элементарный здравый смысл подсказы-
вает, что люди с такой разницей в возрасте никак не мо-
гут быть «братьями».
IV
После училища Гаскаров стажируется на сцене Боль-
шого театра, танцует в разных спектаклях. Говорят, для
своего времени он был очень даже неплохим танцовщиком,
несмотря на свой, сравнительно невысокий, рост; брал тем-
пераментом, силой драматического дарования, эмоциональ-
ностью движений. У него тоже был «зависающий» прыжок,
похожий на полет, что так ценится в балетном искусстве. А
когда вернулся домой и стал солистом Башкирского театра
оперы и балета, вообще считался ведущим артистом. Но
уже в Москве его неудержимо тянуло к народному искус-
ству. Во время летних каникул, возвращаясь в Башкирию,
он пешком отправлялся в отдаленные районы, бродил от
одного аула к другому, собирая танцевальный фольклор,
устные легенды и предания. Особенно любил бывать на
народных празднествах, свадьбах, концертах художест-
венной самодеятельности. В то же время пытливо изучал
национальный орнамент, узоры, типы одежды — какмуж-
ской, так и женской. Если удавалось, приобретал старые
вещи и увозил с собой в Уфу.
Может быть, уже тогда у него возникла мысль о созда-
нии ансамбля профессионального народного танца?.. Как
ни странно, Файзи Адгамович не распространялся на эту
тему. Может быть, потому, что журналисты любили мус-
сировать и всячески расписывать именно эту сторону его
жизни. Так или иначе, еще в Москве он сумел перенести
стажировку со сцены Большого театра на сцену Ансамбля
народного танца СССР, только что основанного Игорем
Моисеевым. Постепенно он стал чуть ли не правой рукой
Мастера, которому в 1996 году исполнилось 90 лет. В пору
же создания своего знаменитого коллектива Игорю Алек-
сандровичу едва исполнился 31 год. Файзи Гаскаров
был моложе его на 8 лет. Стажировка и работа в группе
Моисеева продолжались недолго. Гаскарова тянуло домой.
Ему хотелось создать свой ансамбль народного танца, по-
добный моисеевскому, но со своим собственным «знаком
качества».
6 Заказ 415
161
Меня поражает не только удивительная целеустремлен-
ность и последовательность Файзи Адгамовича в осуществ-
лении своей благородной идеи, но и то, с какой основатель-
ностью и серьезностью он к этому готовился. Много лет
подряд ездить по республике и даже за ее пределами, отда-
вая все свое время на изучение танцевального фольклора,
делать бесконечные наброски, записи, рисунки — на эта
способен далеко не каждый.
Вообще, энтузиасты тех лет отличались какими-то осо-
бенными душевными качествами, которые нельзя назвать
ни фанатизмом, ни одержимостью, ни влюбленностью в
искусство. Выезжать в самые далекие и глухие углы рес-
публики в поисках талантливых детей и подростков, буду-
щих певцов, музыкантов, композиторов, танцовщиков и
балерин считалось у них профессиональным долгом. Они
не ждали за это ни благодарности, ни, тем более, вознаг-
раждения, ибо служили возрождению нового искусства, ис-
точник которого видели в народе, в глубинке своих рес-
публик и областей. Так были «найдены» крупнейшие дея-
тели профессионального искусства Башкортостана (как if
других национальных республик). Одно перечисление их
имен заняло бы немало места.
Повторяю, искали не только таланты, но и золотые
крупицы народного творчества, к какому бы жанру она
ни относилось: мелодии можно было записывать нотами
или на магнитофон, так же, как и предания, легенды, сказ-
ки... А вот танцы... Как можно собирать танцы? По каким
признакам и свойствам? Ведь один и тот же танец в раз-
ных местах исполняется по-разному; каждый танцор импро-
визировал по-своему, меньше всего заботясь о каких-та
древних, незыблемых традициях. Чьи движения наиболее
достоверны и выразительны, что истинно народно, а что —
надуманно, привнесено со стороны или собственной фанта-
зией исполнителя? В чем суть мужского и женского начал
в народном танце, в чем их первоисток и внутренняя
устремленность? Ведь о башкирских танцах только и было
сказано, «что «башкир телодвижением выражает свое от-
ношение к окружающему миру и его обитателям». То есть,
отталкивается от природы, зверей и птиц. Но что дают та-
кие сведения собирателю народной хореографии? Эту ис-
тину, изреченную одним из русских писателей XIX века,
посвятивших немало произведений жизни и быту башкир,
Гаскаров знал и без чьей-то подсказки. Знал куда лучше,
чем другие!
И все же... «Телодвижением выражает».... Не служит
ли это намеком на что-то глубоко древнее, ритуальное,
162
идущее от кочевой жизни башкир, когда смыслом сущест-
вования мужчин были скачки-байга, охота, джигитовка и,
разумеется, боевые походы и кровопролитные сражения;
а женщин — быт; в девичестве же — тайные игры на сто-
роне, вдали от родительских глаз, теток...
Как я уже говорил, Гаскарова интересовало все — от
танцевальных движений, контуров, «выкаблучиваний» до
национальных костюмов. Он одним из первых хореографи-
ческих фольклористов вел записи и зарисовки всего, что
можно записать и зарисовать. По всем этим приметам он
пытался понять характер народа, его отличительные осо-
бенности; старался обобщать увиденное, выявлять фило-
софию и мировоззрение народа, в чем ему помогали древ-
ние песни, легенды, эпические памятники, которые он по-
путно изучал, ибо понимал, что в народном творчестве все
взаимосвязано.
Чем больше он бродил по малоизученной в те годы баш-
кирской земле, тем больше увлекался своими открытиями,
испытывая не просто творческое удовлетворение, но и эсте-
тическое наслаждение. Он сознавал, что наконец-то окунул-
ся в свою стихию, напал на «золотую жилу», которую
нельзя ворошить с ходу и разом, и до которой следует до-
бираться осторожно и постепенно, чтобы не нарушить зыб-
кого покоя золотой россыпи, а взять самое ценное и дос-
тупное. Именно творческие (или научные?) экспедиции в
самые «танцевальные» районы Башкортостана сделали
Файзи Гаскарова не просто самым большим и самым тон-
ким знатоком башкирского народного танца, но и страст-
ным его пропагандистом, что, в конечном счете, привело
к созданию ансамбля.
Совершил он этот творческий подвиг всего два года
спустя после своего предшественника и учителя — Игоря
Александровича Моисеева, организовавшего знаменитый
танцевальный коллектив в 1937 году. Добавим, что Мои-
сеев четырежды удостаивался звания лауреата Государст-
венной премии СССР, а в 1967 году ему была присуждена
Ленинская премия; в 1976-м году — присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.
Говорю обо всем этом для того, чтобы напомнить: Фай-
зи Гаскаров отнюдь не был избалован наградами. И даже
званиями. В 1967 году ему была присуждена только что
учрежденная премия им. Салавата Юлаева — наряду с
Мустаем Каримом, Хадией Давлетшиной (посмертно),
Загиром Исмагиловым. Вот, пожалуй, и все. Дальше была
катастрофа, ибо только этим словом можно обозначить
его вынужденный уход из своего детища — ансамбля на-
«>*
163
родного танца. Произошло это в 1969 году. Между тем,.
Игорь Моисеев до сих пор, в девяносто с лишним лет, ос-
тается неизменным руководителем всемирно известного
коллектива. И останется до конца, ибо в этом есть основа
высокой справедливости и подлинной человечности. Если
он уже чисто физически не может исполнять эту роль, все
равно будет оставаться отцом своего детища, почетным
художественным руководителем ансамбля, ибо это право
он завоевал всей своей творческой судьбой.
А вот наши партийные вожди не могли простить свое-
му «Моисееву» его «упрямого характера», самостоятель-
ности и недопустимой при той системе строптивости. Не
могли совладать со своей амбициозностью и эгоизмом.
Увы, это был далеко не первый случай в их практике
«руководства» культурой.
Мог ли Гаскаров избежать этой катастрофы и еще доб-
рый десяток лет руководить своим коллективом? От-
вет единственный: без всякого сомнения! Более того, так
оно и должно было быть. И все-таки произошло по-друго-
му. И, наверное, нельзя винить только главного идеолога
обкома и министра культуры республики, которые, в ко-
нечном счете, и решили судьбу народного хореографа. Де-
ло еще в том, что характер Гаскарова и впрямь был не
сахар. С «общественно-политическими» чиновниками его
отношения складывались сложно, так сказать, на грани
фола. Он очень не любил, когда эти самые чиновники лез-
ли в его дела, пытались не просто «указывать», но и учить.
А такое бывало не так уж редко. В такие моменты Файзи
Адгамович вспыхивал, как спичка, разгорался, как сухой
хворост, мог прийти в ярость и накричать на любого, даже
самого высокого партократа. И это с ним нередко случа-
лось. До поры до времени такие выходки сходили ему с
рук — пока он был в силе, ставил один танец за другим;
пока у него были покровители в Москве, где его высоко
ценили; пока его помнил Игорь Моисеев и при случае го-
ворил о нем добрые слова. Эти «пока» можно было бы
продолжать. Однако с течением времени плодовитость мас-
тера постепенно шла на убыль, что, в общем-то, понятно.
Все чаще стали поговаривать, что Гаскаров «испекся», что
ему пора на покой, но он упорно держится за кресло ру-
ководителя и сознательно не растит себе смену, не гото-
вит новых постановщиков-хореографов, не дает развернуть-
164
ся другим. Усугубляла положение столь распространенная
у таких деятелей болезнь — увлечение зеленым змием, ко-
торая становилась все приметнее.
Отмечу еще одну сторону личности моего героя: он был
ярко выраженным диктатором в работе. Мне неоднократно
приходилось наблюдать за его репетициями, каждый раз
поражаясь одному: как его воспитанники выдерживают
подобный напор? Его срывающиеся на дисканте крики,
грубые одергивания, разнузданную брань. Иногда мне ста-
новилось буквально не по себе и я уходил из репетицион-
ного зала. Между тем, по моим наблюдениям, на артистов
ансамбля поведение художественного руководителя произ-
водило мало впечатления; более того, по их спокойным ли-
цам и виноватым улыбкам можно было заключить, что оно
казалось им вполне нормальным. Но при этом я заметил
и другое: Файзи Адгамович моментально реагировал на
малейшее отклонение или фальшь в действиях любого из
десятков своих учеников. Оставалось лишь поражаться,
как он успевает заметить это в общем потоке синхронного
коллективного действа. Тогда раздавался его резкий окрик,
требующий остановки, быстрыми семенящими шагами под-
ходил он к провинившемуся члену коллектива и неожидан-
но мягко, почти нежно делал ему замечание, показывал,
как следует выполнять тот или иной жест или движение,
и в этот момент все остальные жадно вглядывались в него
и тоже повторяли те же жесты и движения, как бы зак-
репляя их на собственном опыте.
Повторяю: Гаскаров был человек непредсказуемый и
неожиданный и приучил всех остальных и, прежде всего,
своих учеников, именно к такому восприятию своей лич-
ности и манеры работы.
Но, видать, далеко не все они одинаково спокойно вос-
принимали диктат своего художественного руководителя.
Когда его взаимоотношения с обкомом партии и минист-
ром культуры крайне обострились и об этом заговорили за
стенами филармонии, некоторые из его воспитанников ре-
шили воспользоваться ситуацией и побольнее ударить по
своему благодетелю. Сначала образовалась группа «ходо-
ков» к секретарю по идеологии, который, конечно же, был
ей несказанно рад, а потом организовали и провокацион-
ное письмо в высшие эшелоны. Один из последовательных
сторонников и защитников Гаскарова убежден, что и эта
самая «группа ходоков», и жалоба были организованы
самими верхами, которые к тому времени терпеть не могли
прославленного руководителя самого популярного в респуб-
лике художественного коллектива и делали все, чтобы от
165
него отделаться. Причем, предпочтительно чужими руками.
А какой аргумент мог быть более убедительным, чем воз-
мущение и протест самих артистов ансамбля?
Как бы то ни было, на совести этих людей навсегда
останется несмываемое пятно, неизбывная вина перед вы-
дающимся художником, их бессменным учителем и твор-
ческим воспитателем, которому они сломали не только
судьбу, но и сломали душу. Может быть, они тогда даже
не понимали, что превратились просто в игрушку в чужих
недобрых руках. Может быть, осознали это значительно
позднее, когда после ухода Гаскарова один за другим ста-
ли назначаться все новые худруки, и ни один из них не то
чтобы хоть как-то мог заменить на этом посту основа-
теля ансамбля, но и тенью его не мог стать. Попытки по-
ставить какие-то новые танцы заканчивались неудачами,
они просто-напросто не вписывались в репертуар знамени-
того коллектива, не признавались зрителями, да и самими
артистами тоже, и тогда новоиспеченного руководителя-
неудачника заменял следующий потенциальный неудачник.
Как правило, это были мягкие интеллигентные люди и
так же мягко и более чем уважительно обращались с ар-
тистами, каждый из которых был по-своему уже знаменит.
Но именно тогда они острее всего тосковали по диктату
своего учителя, по каждому его грубому или мягкому сло-
ву, по манере жестко и требовательно вести репетиции, по
его рассуждениям вслух о будущем танце, по его сенти-
ментальному выражению лица, когда он был расслаблен
хмельным, и тогда молча наблюдал со стороны за дейст-
виями своих воспитанников в репетиционном зале. О, как
бы они хотели возвращения назад того, кто создал этот
мир, называемый ансамблем народного танца, и замеча-
тельные хореографические номера, которым восторженно
аплодируют везде, где артисты показывают свои концерты.
Аплодируют независимо от языка и цвета кожи, потому
что, как известно, истинно талантливое близко и дорого
душе каждого человека на любом материке Земли.
Ансамбль давно уже стал своего рода визитной кар-
точкой Башкортостана и всего башкирского народа и за
пределами республики, и за пределами России, в джунглях
Азии и пустынях Африки, в респектабельных городах Ев-
ропы и за океаном. И все это — благодаря создателю этого
выдающегося коллектива.
Я уверен, инициаторы изгнания своего художественного
руководителя много дали бы за то, чтобы все вернулось
на круги своя. Позже они вместе со всеми ратовали за
возрождение имени Гаскарова на новом уровне, за присвое-
166
ние его имени основанному им ансамблю. Но они не могли
знать мстительную непримиримость властей, которую те
называли «партийной принципиальностью», хотя это было
ничем иным, как жестким равнодушием к судьбе талант-
ливейшего художника, которого людям дарит сама Приро-
да (или Господь Бог!), и уже потому им следует дорожить,
прощая перехлесты характера и поступков. Давным-давно
известно, что богато одаренная Богом натура не хочет и
не может быть податливой глиной в руках властвующих
структур и никогда не следует стараться лепить из неё
фигуры. Конфликт с Гаскаровым спровоцировали именно
партийные власти, которые в Башкортостане извечно отли-
чались крайней амбициозностью и готовностью к скорой
расправе. И лишь те из творческой интеллигенции* которые
во всем подпевали эластям, и особенно — идеологическим
вождям, никогда не входя с ними в конфликтные ситуа-
ции, неизменно восседали за столами президиумов, бес-
конечно награждались орденами, получали премии разных
уровней и наименований, искусственно возвышались в гла-
зах общественности, якобы для повышения его автори-
тета.
Файзи Гаскаров не только не относился к когорте та-
ких творческих деятелей, но являлся полярно противопо-
ложным им человеком. Он ненавидел всякое приспособлен-
чество, подхалимаж, ложную многозначительность, так же,
как склонность к интриге и «разоблачительству», которое
было ничем иным, как открытое доносительство и провока-
ция. Все это безотказное оружие эпохи партийного руко-
водства он испытал на своей шкуре и оказался пред ним
беспомощным, несмотря на весь свой, казалось бы, непре-
рекаемый авторитет и славу.
* * *
Я был свидетелем того, как сильно, хотя и безмолвно,
страдал этот человек, отлученный от родного детища. И
того, как мужественно переносил он свои страдания, ста-
раясь не показывать их окружающим. Он еще был уве-
рен, что все это — явление временное, проходящее, пред-
принятое для острастки. Как, ансамбль народного танца,
выпестованный и выстраданный им, — без него, Файзи
Гаскарова?! Разве можно себе это представить? Разве с
этим смирится зритель? Разве смирится Москва, Игорь
Моисеев, который прекрасно понимает, что произошло?..
Наивный Файзи Адгамович! Он так и не научился по-
нимать одного — сущности Системы и сути воспитанных
167
ею «советских» людей. Он оставался несколько прекрас-
нодушным романтиком, великовозрастным максималистом,
полагая, что справедливость всегда должна торжествовать.
И он жестоко ошибся.
А пока он хотел доказать слепым властям, что Гаска-
ров всегда останется Гаскаровым, а вот с ансамблем без
него еще не известно, что станет. И когда подвернулся му-
жественный и великодушный человек, который тоже любил
искусство и вел свою самостоятельную политику во всем,
неизменно добиваясь успеха,—директор Байрамгулов-
ского совхоза Учалинского района Адгам Ганиевич Ша-
рафутдинов, и пригласил Гаскарова работать с художест-
венной самодеятельностью своего совхоза, тот, не задумы-
ваясь, отправился к нему. В конце концов, Шарафутдинов
тоже станет жертвой партийного произвола, но сохранит
и свой престиж, и человеческое достоинство.
В Байрамгулово Гаскаров еще раз показал не только
свое выдающееся творческое мастерство, но и умение ра-
ботать с «сырьевым материалом», с сельскими юношами и
девушками. Весьма скоро слава танцевального коллектива
Байрамгуловского совхоза гремела не только по всему
Башкортостану, но и далеко за его пределами. Сельский
танцевальный коллектив Файзи Адгамовича не раз участ-
вовал в самых престижных конкурсах и фестивалях и за-
нимал ведущие места, становился их лауреатом. Гаскаров
поставил там несколько новых танцев, самый знаменитый
из которых — «Укротители», блестяще исполняемый участ-
никами Байрамгуловского ансамбля. Позднее этот танец
освоили и артисты Государственного ансамбля народного
танца, он вошел в стержневой его репертуар. Но пришел
срок, директора совхоза перевели на новое место назна-
чения, моральный климат в совхозе изменился, и Файзи
Адгамовичу пришлось покинуть приглянувшуюся геогра-
фическую точку башкирского Зауралья. Да и вряд ли он
мог бы оставаться там и дальше, ибо никакие новые, даже
самые даровитые коллективы не могли ему заменить свой,
родной, гаскаровский. Он все еще надеялся на возвраще-
ние, а оно затягивалось, перспективы оставались туман-
ными. Между тем, даже такому человеку, как Гаскаров,
нужно было на что-то жить, содержать семью, отношения
внутри которой резко обострились. Однажды мне приш-
лось побывать в его доме и я дал себе зарок больше ни-
когда туда не ступать ногой. Больше всего потрясла жал-
кая приниженность хозяина дома перед супругой, которая
была намного его моложе. Файзи Адгамович вел себя то
ли как нашкодивший мальчик, то ли как раскаявшийся
168
преступник, ничего не отвечал на брань и крики женщины
и только с растерянной стыдливостью посматривал в мою
сторону.
Не выдержав, он уезжает из Уфы снова — на этот раз
в Абзелилово. Неожиданный взлет танцевального ансамб-
ля этого еще одного зауральского района Башкирии опять-
таки связан с именем Файзи Гаскарова. За короткое время
он сумел поднять сельский коллектив до уровня самых из-
вестных. И снова — поездки на конкурсы и фестивали,
участие в так называемых правительственных концертах,
новые танцы, придуманные художественным руководите-
лем на абзелиловской земле.
Потом — новое возвращение в Уфу. Какие-то концерты
и вечера во дворцах культуры города, а также — во Дворце
спорта, режиссером-постановщиком которых являлся Фай-
зи Адгамович. Ему уже не ставили палки в колеса, давали
работать по любым договорам и контрактам, кроме — его
собственного Государственного ансамбля народного тан-
ца. . Он ухитрился и в этих дворцах поставить кое-какие
танцы, иногда просил меня написать либретто или сцена-
рий, согласно его представлению и рассказу..Постепенно
дух его гас, а вместе с ним таяли и физические силы, он
становился все более нервным и раздражительным, часто
и подолгу болел. Потом наступило самое страшное — сле-
пота. Поначалу частичная, затем — абсолютная. Целыми
днями проводя в одиночестве в квартире по улице Ре-
волюционной, он, тем не менее, старался чем-то занимать
себя, вслепую писал сценарии будущих хореографических
и балетных спектаклей. Иногда его посещали те, кто остал-
ся верным старой дружбе. Но с каждым разом таковых
становилось все меньше.
Однажды мы пришли к нему вместе с народной артист-
кой Гюлли Мубаряковой. На носу был 75-летний юбилей
ее отца, тоже народного артиста СССР Арслана Мубаря-
кова. В молодые годы Арслан Котлоахметович и Файзи
Адгамович были связаны тесной дружбой, последний даже
помог будущему великому актеру поступить на театральное
отделение Уфимского училища искусств. Долго просидели
мы со слепым Гаскаровым, он рассказал нам столько ин-
тересного о прошлых годах, в том числе о Мубарякове,
что мне нестерпимо захотелось занести все это на бумагу.
Воспоминания Гаскарова о народном артисте вскоре поя-
вились в газете «Ленинец». В 1985 году Файзи Гаскарова
не стало.
169
* * *
Не могу хотя бы мимолетно не упомянуть еще об одной
странице жизни и творчества Файзи Адгамовича, к которой
я также имел непосредственное отношение. Я имею в виду
создание фильма об ансамбле народного танца. Написание
сценария ^было поручено мне. Я был рад. Мне казалось,
•что моя давняя и довольно тесная связь с коллективом и
его художественным руководителем поможет мне доволь-
но легко преодолеть все предварительные трудности и соз-
дать достойный литературный материал. Как же ошибал-
ся! Попробуйте языком кино рассказать в пяти частях
историю прославленного Ансамбля, начиная со дня его
зарождения. Попробуйте отразить его долгую и в высшей
степени насыщенную историю, показать все поколения,
вклад каждого из них в танцевальное искусство, выделить
ведущих и, в то же время, отразить лучшие, сценические
произведения, созданные художественным руководителем
коллектива.
Много дней я мучился над сценарием, боясь кому-либо
его показать. Конечно, легче всего было бы посоветоваться
с самим Файзи Адгамовичем, но, зная его привередливый
характер, я боялся к нему обращаться. В конце концов,
сценарий был завершен, обсужден на художественном со-
вете и получил положительную оценку. Но внутренним
своим чутьем я ощущал, что моя фантазия вряд ли найдет
осуществление, уж слишком ограниченными были возмож-
ности телефильмов того времени.
Узнав об идее создания фильма о его ансамбле, завол-
новался и сам Файзи Адгамович.
— Его можно запросто превратить в набор отдельных
номеров, в обычный, снятый на пленку, концерт. А нужно,
чтобы фильм об искусстве сам стал искусством.
Увы, Гаскаров как в воду смотрел! Конечно, режиссер
фильма Амир Абдразаков сделал все, чтобы сделать его
зрелищным; подобрал замечательные по красоте пейзажи
республику,, артисты танцевали то на зеленой траве, то
"на сценах-времянках, то перед деревенскими жителями,
то на фоне чудных, серебристо струящихся водопадов Юж-
ного Урала... И операторы у него были замечательные —
Фарит Гайнанов и Алянус Биктимиров. Киногруппа в поте
1лица трудилась все лето напролет. И все-таки избежать
«набора номеров» и «концертности» им не удалось. Да и
что можно было сделать в условиях вопиющей технической
бедности и малых финансовых возможностей? Режиссер
позднее жаловался на то, что Гаскаров время от времени
170
накатывал на м(еста съемок и устраивал разнос, пытался
давить на постановщиков фильма, внося тем самым допол-
нительные сложности. Как бы то ни было, в 1969 году
появился 50-минутный цветной документальный фильм об
ансамбле народного танца под несколько выспренним наз-
ванием «Крылья души».
Когда он был уже снят, возникла идея дать вначале
беседу с самим художественным руководителем. Но к тому
времени я уже не работал на телевидении, и беседу с Фай-
зи Гаскаровым провел его главный редактор Мансаф Ги-
ляжев.
Конечно, можно было бы посетовать на то, что фильм
получился не таким, каким виделся сценаристу и, вполне
возможно, даже самому режиссеру-постановщику. Однако
фильм этот — единственная живая ласточка, прилетевшая
(сказать точнее, долетевшая) из той эпохи, когда самый
знаменитый состав ансамбля заметно клонился к закату»
звезда его тускнела на глазах. Зато — вот они, все на экра-
не, и последующие поколения могут не просто любоваться
их замечательным творчеством, но и крупным планом ви-
деть их лица, глаза, улыбки.
V
Очень многое, что я знаю о Файзи Гаскарове, осталось
за рамками повествования. Да и есть ли смысл валить в
одно все известные тебе сведения о человеке, если даже он
прославлен и знаменит? Может быть, к сказанному следо-
вало бы добавить период жизни, когда Файзи Адгамовичу
пришлось выезжать, и не раз! — на «культурное обслужи-
вание» бойцов Башкирской кавалерийской дивизии под
командованием генерала Минигали Шаймуратова. Вместе
с ним на передовую ездили ветераны ансамбля Мухамет
Идриеов и Хазина Магазова, чьи парные и сольные танцы
воины, сражавшиеся под Сталинградом, воспринимали с
великим воодушевлением.
Можно было бы рассказать и о том...
Стоп! Довольно. Это — не рассказ о человеке вообще,
а эссе о выдающемся деятеле танцевального искусства,
благодаря которому в Башкортостане родилось истинно
профессиональное хореографическое творчество, и автор
должен помнить, что читателя прежде всего и больше все-
го интересует личность героя, его дух и душа, замыслы и
идеи, нашедшие и не сумевшие найти свое воплощение в
жизни, его личность и судьба, полная драматизма и откро-
щ
венно трагических коллизий. И потому, в заключение,
я позволю себе еще раз процитировать некоторые из выска-
зываний Гаскарова, сохранившиеся в моей записной
книжке.
* * *
«В башкирских танцах больше, чем в чьих-то других,
чувствуется культ природы, ее живой дух. Повадки ее оби-
тателей. В них нетрудно ощутить дух пантеизма языческой
поры, когда люди воспринимали Природу -*■ как Божество,
считали живых тварей равными себе или даже ставили
выше. Журавля, например, лебедя».. Первый — спаситель
башкирского рода от чужеплеменных захватчиков; вто-
рой — чадо Солнца и Луны, спустившееся к нам на землю
с Неба. В башкирских танцах мы видим трепет птиц, по-
вадки животных. Возьмите хотя бы женские танцы. Разве
не навеяны они дрожью и легкостью пернатых? Не сомне-
ваюсь, что женские танцы намного древнее мужских...»
«При постановке танца следует выявить хотя бы одну
характерную ему деталь. Пусть не броскую, но точную.
Так, в танце «Дружба» — целомудренные отношения мо-
лодых, чистоту их чувств и помыслов. Они должны не хо-
дить по земле, а реять над ней. В «Трех братьях» же глав-
ное— юмор, нехитрое лукавство старика, добродушная
ирония «среднего брата», почтительная хитреца молодого...
И так — в каждом танце!»
«Я не умею писать сценариев, но всегда их пишу, пото-
му что мысленную фантазию, свое представление о буду-
щем танце следует закрепить черным по белому, наполнить
его плотью и духом, суметь всесторонне и точно объяснить
его суть и характер исполнителям. А вообще, я не люблю
писать и как-то обрисовывать танец, куда приятнее импро-
визировать в живой жизни, думать вместе с артистами...
Но чтобы они исходили именно из твоего замысла и идеи».
* * *
Культурная общественность Башкортостана сразу после
смерти Файзи Адгамовича Гаскарова стала добиваться
присуждения его имени созданному им в 1939 году Баш-
кирскому ансамблю народного танца. Новые власти не ста-
172
ли с этим тянуть: имя Гаскарова было присвоено его де-
тищу к 50-летию этого замечательного коллектива-» Вести
вечер было доверено мне. И вот, когда я готовил этот
очерк для книги, пришло еще одно радостное известие:
ансамблю народного танца им. Гаскарова присвоено по-
четное звание «академический».
А эти свои заметки об основателе ансамбля, выдаю-
щемся художнике танца и душевном человеке я хочу за*
кончить своим стихотворением, ему посвященным:
Ни дома, ни родства не ведал —
Сиротство раннее, детдом;
Он в танце точку Архимеда
Нашел. И славу — тоже в нем.
Ему являлись, как награда
За поиск многотрудных дней,
Живой Таган земли — три брата
И сонм проказниц, что парней
Водили за нос. Примечал он
Простую поступь стариков,
Покорный взгляд невест печальных,
Струящийся из мглы веков.
Как у охотника, намётан
Был глаз его и крепость рук,
И жест, исполненный полета,
И разных интересов круг.
Он у народа брал и снова
Ему же щедро возвращал;
Он танцы из сырья простого
В шедевры сцены превращал,
О родине его do танцам
Стал мир судить.
Тому виной —
Его таланта постоянство,
Его души огонь живой.
Не ведал ни родства, ни дома.
Ему весь мир — как дом родной.
Пришел он к нам весенним громом,
Ушел — как отзвук громовой.
173
ВЕЛИКАН
СЦЕНЫ
Впервые я увидел его
мальчишкой.
В 1949 году мы приез-
жали с отцом в Уфу из
Киргизии, где жили в ту
пору среди гор, на берегу
реки Талас, шумной и
студеной, и по имени той
реки вся огромная доли-
на называлась Таласской.
Когда-то, опасаясь не-
избежного ареста и реп-
рессий со стороны влас-
тей—за «буржуазный на-
ционализм» и «валидов-
щину», отец мой бросил
все свое хозяйство и в
одночасье укатил из Баш-
кирии в недра Тянь-
Шаньских хребтов, не
прихватив с собой ника-
кого добра* Только жена
да дочь Галия. Он был
одним из сотен или даже
тысяч тех переселенцев, которые вынуждены были поки-
нуть насиженные места и искать прибежище в чужих
краях.
Самым большим грехом отца было то, что он имел соб-
ственную мельницу и пару лошадей. Ему удалось спасти
свою семью, хотя в ту пору сделать это было неимоверно
трудно. А то, что через два дня после его отъезда был
Арслан Мубаряков
174
арестован и затем расстрелян его младший брат Исхак,
свидетельствовало о многом.
Я родился в городе Фрунзе (ныне Бишкек), но уже в
годовалом возрасте мы переехали в ту самую Таласскую
область.
Родился я, ничего не зная о Башкирии, но каждодневно
слыша о ней из уст родителей, продолжавших жить преж-
ней родиной, которую почему-то называли «Рэсэй».
Так, древние башкиры никогда не называли свою зем-
лю «Башкортостаном», как башкиры нынешние, а только—
«Урал». Их родиной был весь Уральский регион, потому
что границы башкирских владений в ту пору простирались
на огромные расстояния.
Приезд в Уфу для отца был своего рода разведкой
боем. Он зондировал почву для возможного возвращения
на родину предков.
Да, я, конечно, представления не имел о Башкирии, и
Уфа сорок девятого года меня потрясла. Чем? Хотя бы
тем, что я дотоле никогда не видел таких больших горо-
дов; не видел (и, разумеется, не пробовал) мороженого,
черной и красной икры в огромных кадках, которой тор-
говали прямо на улице; не видел километровой очереди за
черным хлебом. Каждый день я простаивал в этой очере-
ди по часу-полтора. Сначала покупался талон — отдель-
ная очередь, а потом уже хлеб.
Но больше всего меня потряс театр из красного кирпи-
ча и с толстыми колоннами. Впервые посмотрев «Галия-
бану», я плакал от горя и восхищения. Много позднее я
узнал, что главную героиню играла Рагида Янбулатова,
Халиля — Хусаин Кудашев; барчука — Гата Сулейманов.
Рагида-ханым была прекрасна и ослепительна. Я был
безумно в нее влюблен в свои девять лет! О, как я состра-
дал ей, плачущей на груди убитого байским сыном Халиля,
Как я жалел его, с трудом напевающего последние купле-
ты песни, обращенной к любимой.
Мог ли я хотя бы мысль допустить, что через много-
много лет исполнитель роли Халиля сыграет в моей пьесе
«Точка притяжения» одну из основных ролей?
А в пору того приезда я начал бегать в театр чуть не
каждый день. Меня уже узнавали контролеры — по вой-
лочной белой шляпе, которая была чем-то вроде пароля.
В конце концов, сердобольные стражи дверей стали про-
пускать меня без всякого билета. Кто-то спросил меня:
«Ты откуда, сынок?», и я гордо ответил: «Из Киргизии».
Один из спектаклей назывался — «Незабываемый
1919-й».
17S
Впрочем, название спектакля меня не интересовало.
Я был ошеломлен тем, что увидел на сцене... Ленина и
Сталина! Это было как гром средь ясного неба. Как снег
на голову. Ленин и Сталин, которые в моем представлении
(или воображении) были равны (или выше!) богам, ходи-
ли по сцене, говорили друг с другом на башкирском языке
и были необыкновенно похожи на самих себя. То есть, на
тех, которых я видел на портретах и в книгах.
Я запомнил лишь фамилию того артиста, который иг-
рал Сталина, — Арслан Мубаряков. Фамилию другого ак-
тера, исполнявшего роль Ленина, узнал много-много лет
спустя — Хажи Бухарский.
Что я мог запомнить, как оценить игру Мубарякова?
Об этом смешно говорить. Кроме растерянности, вос-
торженного ужаса и тайного трепета — ничего. Я и сейчас
не могу сказать, хорошо ли играли эти выдающиеся акте-
ры Башкирского академического театра драмы им. Мажи-
та Гафури. Я помню лишь то, что народу в зале и на всех
ярусах театра — было битком. Люди стояли вдоль стен,
за последними рядами. Каждый раз, когда появлялись Ле-
нин или Сталин, вспыхивали бешеные аплодисменты. Осо-
бенно — в первых сценах. А по окончании спектакля зри-
тели устроили такую овацию, что у меня зазвенело в ушах
и я чуть не оглох.
Вспоминая о том удивительном спектакле, в котором,
по воле автора пьесы Всеволода Вишневского, все было
поставлено с ног на голову, искажены все события, проис-
ходившие в Петрограде девятнадцатого года (когда, кста-
ти, башкирские кавалерийские и пехотные полки отбива-
ли атаки войск Юденича на Пулковских высотах), я живо
представляю перед собой плечистого, массивного Арслана
Котлоахметовича, примерно в полтора раза превосходив-
шего и в росте, и в весе реального «отца народов», и удив-
ляюсь одному: как он мог согласиться на эту роль, пре-
красно зная о несоответствии своих габаритов габаритам
вождя. Но даже не это главное: исполнять роль Иосифа
Виссарионовича в ту пору было более чем ответственно,
даже небезопасно. Сделай что-то не так, и...
Тем не менее, эта роль еще более подняла авторитет
знаменитого актера, которого знали не только во всех угол-
ках Союза, но и далеко за его рубежами: по фильму «Са-
лават Юлаев», в котором Мубаряков сыграл главную роль.
Сыграл так, что в Салавата стала играть детвора — по
всей стране!
В 1982 году у меня состоялся разговор с исполнителем
176
роли Хлопуши в этом же фильме, увы, ныне тоже покой-
ным, актером Николаем Афанасьевичем Крючковым.
Мы беседовали в буфете Дома кино, и это тоже было
неким чудом, ибо этого артиста я помнил с раннего детст-
ва, с «Трактористов», и потом видел в десятках других
фильмов.
Крючков вспоминал, морща лоб, спрашивал: «Как его
звали? Ага, Арслан! Лев, говоришь? Да, да, он был настоя-
щий лев. Джигит-батыр. На полголовы меня выше. Весь
плотный, мускулистый, импульсивный. Глаза горели — во!
Как у разъяренного льва. В темноте, помню, белки гла&
светились, как у... — он помедлил, не зная, с кем сравнить
на этот раз, ничего не придумал и повторил: — Как у льва.
Да, да, настоящий лев! Настоящий великий артист!»
Я не знал, искренне он говорит или импровизирует пря-
мо на ходу. Действительно ли помнит того, с кем играл в:
одном фильме более сорока лет назад. Да и какая мне
была разница? Главное, согласился на беседу. Я написал
об этом статью и отослал в «Советскую Башкирию», по
просьбе которой и добивался этой встречи. Материал был
опубликован. В преддверье юбилея Арслана Котлоахмето-
вича.
• * *
«Знаете, в чем заявился в училище искусств Арслан
Мубаряков? В холщовой деревенской одежде и в самых
настоящих сарыках. Эта древняя башкирская обувь изго-
товлялась из кожи и сукна. Именно такой она у него и
была. А в довершение всего — огромный мешок, который
он держал на весу левой рукой. И знаете, куда он хотел
поступить? На вокальное отделение! Ха-ха-ха! Арслан Му-
баряков — на вокальное отделение!.. Представляете пою-
щего на сцене башкирского Отелло, а? Этот увалень не
давал мне покоя, я вертелся вокруг него, как шавка воз-
ле слона, не зная, с чего начать разговор. А ведь был уже
студентом этого самого училища. Нет, вы это себе пред-
ставляете? В это время назвали его фамилию: «Мубаря-
ков!» Он как-то потерянно огляделся по сторонам, потом
сунул мне в руки свой мешок: «Подержи, брат!» и скрыл-
ся в аудитории, где заседала приемная комиссия... На во-
кальное отделение он, конечно, не попал, ибо ревел, как
бык, и ни разу не взял предложенную ноту. Но пока он
там ревел, приводя членов комиссии в изумление и ужас,
у меня вызрела мысль: попробовать показать этого бело-
177
речанина руководителям театрального отделения. Взгля-
нув на деревенского великана, директор заведения Иван
Васильевич Салтыков пробурчал: «Покажи его Муртази-
ну», имея в виду Валиуллу-ага Муртазина, тогдашнего зна-
менитого режиссера и педагога. Арслан не знал на память
никаких стихов, но голос его звучал, как орган. И Валиул-
ла-ага подвел итог: «Ладно, приму его условно. Но если
он не оправдает моих надежд, придется распрощаться*.
Жаль, что выдающемуся башкирскому режиссеру не
удалось увидеть своего протеже в расцвете его творческих
сил. Скажем, в роли Отелло... Или дяди Вани...»
Этот рассказ о замечательном актере мы услышали из
уст другого известного деятеля искусств — Файзи Гаска-
рова. Мы — это дочь Арслана Котлоахметовича Гюлли
Мубарякова и я. Мы сидели в большой полупустой комна-
те, а перед нами возбужденно вышагивал хозяин дома,
исхудавший, с одутловатым, землистого цвета лицом. Он
был совершенно слеп, и уже не один год. Мир для него
етомерк. Дальше порога Гаскаров не выходил, и потому
приход знакомых и друзей был для него настоящим празд-
ником. Он говорил почти без умолку, но при этом — ни
<:лова о себе, о своем здоровье, состоянии, настроении. И
вопросы на сей счет не любил. Узнав, что скоро грядет
юбилей друга юности, сильно возбудился и тут же начал
говорить, вспоминая разные эпизоды их дружбы.
«...вы знаете, мы ведь какое-то время вместе в обще-
житии жили. Все считали Арслана этаким деревенским
увальнем, но я-то примечал, как быстро он приобщается
к городской жизни. У него даже походка стала другая...
И взгляд другой — открытый, ясный. Это надо было ви-
.деть! И уже тогда я понял, что из него получится хороший
^артист.
А потом меня отправили учиться в хореографическое
училище при Большом театре в Москве. Там я посмотрел
юперу Мусоргского «Борис Годунов» с певцом Александ-
ром Пироговым в главной партии. Она меня потрясла. Но
я никогда не мог предположить, что, вернувшись домой,
з Уфу, увижу то же произведение на сцене нашего башкир-
ского театра. Только не оперу, а саму пьесу. То есть, тра-
гедию Пушкина. Царя Бориса исполнял Арслан Мубаря-
ков. Я смотрел на него и не верил глазам: неужели это
тот самый белорецкий парень, который приплыл в Уфу
на плотах и явился в Техникум культуры в холщовых
Ш1танах и сарыках? Передо мной на сцене находился утон-
il78
ченный артист, глубоко проникающий в характер и пси-
хологию своего героя. Его игра потрясла. Да, да, я испы-
тал ничуть не меньшее потрясение, чем там, в Большом
театре! Вот какое преображение. После спектакля я хотел
тут же помчаться за кулисы, поздравить Арслана, пожать
ему руку, выразить свое восхищение. И знаете —ноги не
хотели слушаться. Думаю, в чем дело? Неужто оробел?
И тут понял: меня удерживало сомнение — а каким он
стал? А вдруг того... Вдруг вознесся... Возомнил. До сих
пор диву даюсь: как такое могло прийти мне в голову?
В жизни своей я не видел человека более доступного и*
простого, чем Арслан. Я бы сказал: излишне доступного,,
излишне простого! Разумеется, для человека его ранга.
К сожалению, это можно было квалифицировать и по-дру-
гому: человек не знает себе истинную цену. Этим пользо-
вались иные проходимцы, которые крутились вокруг него,,
как воробьи вокруг беркута. И у него недоставало сил или
воли показать им на дверь. Особенно в последние годы
жизни...»
Мне кажется, невозможно обойти и такой момент в-
воспоминаниях Файзи Адгамовича о Мубарякове.
«Я думаю, Арслан Мубаряков был рожден на свет для-
того, чтобы играть молодых, сильных и отважных джиги-
тов. Узаконить их место на сцене. Никто до него не играл1
их так, как он. Ну а вершиной, конечно, является Салават
Юлаев в драме Баязита Бикбая. И Салават — в фильме
Протазанова. Еще на меня сильнейшее впечатление произ-
вел его Айсуак-батыр из драмы Кадыра Даяна «Тансул-
пан». Именно такими, как герой Мубарякойа, представля-
лись мне истинные башкирские батыры из прошлого. Ore
как бы являлся осью мира, а все остальные вертелись во-
круг него, как планеты вокруг солнца. Помню, собравшие-
ся просят Айсуака сплясать. Арслан изображает мимолет-
ную улыбку, потом вскидывает над головой левую руку к
делает несколько неторопливых мужских притопов. И всеГ
Остальные подхватывают танец, начинается коллективное
действо. А он отходит в сторонку, а мы продолжаем за
ним следить, словно загипнотизированные его коротким
танцем. Он был детонатором всего дальнейшего действия,
всего остального буйства... Я в ту пору уже работал со
своим танцевальным коллективом, делал первые шаги,
думал-гадал, создавал репертуар, подбирал артистов... И
вот эти короткие танцевальные движения и жесты Арсла-
на, столь скупые и выразительные, как раз и подтолкнули
меня на создание башкирского мужского танца. Перефра-
зируя известную фразу «чтобы словам было тесно, а мыс-
179
лям просторно», мне хотелось создать танец, в котором
движениям было бы тесно, а смыслу просторно...»
В беседе с Мустаем Каримом о Мубарякове мне боль-
ше всего понравились такие слова: «Когда появлялся Ар-
слан-агай, сцена как бы становилась тесной и он едва в
ней вмещался».
О роли фильма «Салават Юлаев» сказал так:
«Этот фильм сыграл неоценимую роль в утверждении
боевого духа нашего народа перед самым началом Вели-
кой Отечественной войны, в поднятии его настроения. Не
сомневаюсь, что в массовом героизме башкирских бойцов,
в том, как они сражались на разных фронтах, сильно ска-
залось влияние этой картины с Арсланом Мубаряковым в
главной роли. Будь вместо него какой-нибудь другой ар-
тист, такого всеобъемлющего влияния могло и не быть».
И еще любопытный момент в воспоминаниях Мустафы
Сафича:
«В 1942 году, когда я валялся в госпитале, располо-
женном в тульских лесах, раненым неожиданно показали
фильм «Салават Юлаев». После показа в госпитале цари-
ло всеобщее воодушевление. Внезапно я стал центром вни-
мания, героем дня. Все радостно улыбались, один за дру-
гим подходили ко мне и жали руку, хлопали по спине,
приговаривая: «Молодец! Молодец!», словно это я, а не
Арслан Мубаряков исполнил роль Салавата. Больше то-
го — будто я и был Салаватом! А одна из медсестер впол-
не заметно дала знать о своем ко мне неравнодушии...»
* * *
Двенадцать лет назад в газете «Ленинец» был опубли-
кован мой рассказ под названием «Народный артист».
Главному герою я дал имя Юлбарс Кутлуевич, хотя, ко-
нечно, любой мог без труда догадаться, что подразуме-
вается Арслан Котлоахметович Мубаряков. На то ведь и
рассказ, так сказать, художественное произведение, чтобы,
придерживаясь законов жанра, не просто копировать эпи-
зоды из жизни, а дать известную волю фантазии, при-
внести то, о чем не напишешь в документальном очерке.
И что же? Реакцией на тот злополучный рассказ было не-
одобрительное молчание. Через третьих лиц до меня дош-
180
ли слухи, что некое ответственное лицо усмотрело в по-
вествовании выпад против современных педагогов и их
учеников; другое лицо — высокомерие по отношению к ны-
нешнему поколению актеров. Были и другие недовольства,
даже звонки в редакцию: мол, чего ради напечатали паск-
виль на великого человека?..
Такая реакция была для меня неожиданной. И не толь-
ко неожиданной, но и оскорбительной. Никаких выпадов
ни в чей адрес я в рассказе не делал, и никакой тени на
своего героя бросать не хотел. А дело заключалось в том,
что наши читатели, даже из разряда образованных и ин-
теллигентных, не привыкли воспринимать знакомые им вы-
дающиеся личности через художественное, вроде бы как
отстраненное восприятие, когда не употребляются столь
привычные, не оставляющие места для сомнения и криво-
толков, эпитеты и сравнения, все — ясно, бесспорно и проч-
но, как «вбитый по шляпку гвоздь» (А. Вознесенский).
А тут — главный герой, то бишь, народный артист почти
все время пребывает в угнетенном состоянии, вспоминает
умершего друга в вечно мятом костюме и с тихим, мало-
разборчивым голосом; более того, сидя за столом приемной
комиссии, с печальной задумчивостью взирает на самоуве-
ренных городских абитуриентов, одетых с иголочки и шпа-
рящих, без тени сомнения в своем даровании. Взирает,
вспоминая, как пришел в театральный техникум, нисколько
не разбираясь в тайнах искусства поэзии или вокала; но
нашлись люди, которые разглядели в нем природный та-
лант... Но способны ли разглядеть талант в поступающих
вот эти люди, рассевшиеся за столом и заставляющие
абитуриентов изобразить то мышь, улепетывающую от ко-
та, то кота, догоняющего мышь?.. Но вот вошел деревен-
ский парень, вдруг напомнивший народному артисту его
самого в пору поступления в театральный техникум, весь
ожил и насторожился...
«... — изобрази собаку, которая почуяла вора, — пред-
ложил парню один из членов приемной комиссии. — Или
волка.
— Собаку? — переспросил парень. — Злую?
— Какую хочешь. Можешь ленивую. Это даже инте-
реснее.
Вдруг парень весь ощерился, выставил наружу зубы-
клыки, ощетинился, — вот-вот на хребте шерстка встанет
дыбом. — «Гау!» — рявкнул он таким злобным, таким ог-
лушительно-хриплым басом и сделал такой стремительный
выпад в сторону приемной комиссии, что один из ее чле-
181
нов — утонченная женщина-педагог — чуть не рухнула в
обморок, а председатель отчаянно замахал руками: «До-
вольно! Довольно!»
«Гау!»— еще раз рявкнул парень и выпрямился, недо-
вольный тем, что ему не дали и наполовину выказать
свой собачий талант.
Юлбарс Кутлуевич успел удержать падающую со стула
женщину, а председатель рассердился не на шутку.
— Иди, иди, — сказал он, судорожно глотая воздух. —
Можешь быть свободным.
Юлбарсу Кутлуевичу стало неожиданно весело: «Вот
кого вам не хватает!» — не без злорадства подумал он о
членах приемной комиссии. — Вам бы играть роль мыши,
а ему — кота...»
В конце рассказа народный артист теряет всякий инте-
рес и к членам комиссии, и к абитуриентам, ему кажется,
что вокруг него происходит какая-то странная фантасма-
гория, бесовская игра, и так теперь будет постоянно; что
истинная жизнь раз и навсегда осталась позади, за спиной,
и к ней нет возврата, так же, как нет возврата к тем на-
стоящим друзьям и истинным талантам, которые вовремя
ушли из этой жизни, и к ним можно вернуться, только
последовав их же путем...
* * *
Я и поныне уверен, что о действительно выдающихся
актерах поколения, к которому относился Арслан Котлоах-
метович, нужно было (а теперь — тем более!) писать имен-
но в художественной форме, в которой можно больше и
честнее, без официального лукавства, сказать; донести до
читателя нередко странные, нередко парадоксальные их
поступки, манеры, любимые слова и выражения; нужно
было записывать легенды и анекдоты о них, которые ши-
роко бытовали среди тех, кто был неравнодушен к театру
и его сценическим волшебникам и колдунам. А ведь какой
устный фольклор бытовал о таких великих лицедеях, как
Галимзян Карамышев, Газим Тукаев, Рим Сыртланов,. Ху-
саин Кудашев, Гималетдин Мингажев... Ну и, конечно,, сам
Арслан Мубаряков!
Наша ханжеская идеология десятилетиями стояла на
страже «чести и достоинства» любимцев публики, но стои-
ло кому-нибудь из них оступиться, совершить «антиобще-
ственный» поступок, как его нещадно наказывали вплоть
до отлучения от любимого дела.
182
Увы, этой участи не избежал и сам Арслан Мубаряков,
-что само по себе кажется невероятным, диким. Но ведь
его друг Файзи Гаскаров, тоже великан в области своего
искусства, также пал жертвой обкомовской «культурной
политики»!
* * *
Нередко приходится слышать вопрос: а чем, собствен-
но, отличалось «то» поколение артистов от нынешнего? Не-
ужто блиставшие тогда на сцене корифеи были настолько
талантливы и самобытны, что их и сравнивать-то трудно
с нынешними коллегами по сцене? В ответ слышишь: у
каждого времени, как и у каждого поколения — свои ку-
миры. У них были свои достоинства и недостатки. Зато
нынешние лицедеи куда грамотнее и техничнее.
И в самом деле: любые сравнения — вещь неблагодар-
ная. И все же, все же... В чем лично я вижу наглядное от-
личие «тех» и «нынешних» поколений артистов? Пожа-
луй что в степени восприятия жизни и людей, в свободе
творческого самораскрытия, в мере понимания своей про-
фессии, в наличии и отсутствии закомйлексованности че-
ловеческой личности. Актеры, к поколению которых принад-
лежал Арслан Мубаряков, были художниками от природы,
от земли, а по большому счету — от Бога!
Нынешние же играют, полагаясь, как мне кажется,
прежде всего на разум. Среди них очень мало таких, ко-
торые врываются в жизнь театра, его мир, как порыв
степного ветра- как ворвался белорецкий увалень, за счи-
танные годы ставший великим актером, которому было все
по плечу — Отелло, дядя Ваня, Федор Протасов, генерал
Шаймуратов, Владимир Ильич Ленин («Человек с ружь-
ем»).
А когда возникла острая необходимость, неизбежная
потребность в художественном руководителе, им стал не
кто-нибудь, а тот же двадцатидевятилетний Арслан Котло-
ахметович — в роковом 1937 году, когда был арестован
замечательный режиссер Макарим Магадеев, ученик ве-
ликого Мейерхольда. И это тоже стало подвигом свобод-
ного человека!
Даже в идеологических тисках актеры того поколения
умели сохранять в себе свободу внутреннего духа. Испол-
няя волю режиссера, следуя строгим правилам и законам
сцены, актеры эти вдыхали в своих героев пламя собствен-
ного сердца, свое мировоззрение. И одним из самых ярких
183
тому примеров был именно Арслан Котлоахметович Му-
баряков.
Мне не раз приходилось писать об этом человеке, кото-
рого видел в разных спектаклях, знал в жизни. И я всякий
раз задумывался над простым вопросом: а почему именно
он? Почему именно такие, как он? Как им удалось под-
няться до необыкновенных творческих высот, определив-
ших целую эпоху театрального искусства?
И сам же себе отвечал: они создавали эпоху потому,
что эпоха сама их создала! Людям нужны были герои,
кумиры, персонажи, воплощавшие в себе лучшие черты че-
ловеческого характера. Но рядом с ними они желали ви-
деть и тех, кто несет в себе зло и коварство мира, чтобы
яснее видеть в них своих врагов.
И Мубаряков, и его коллеги по искусству прекрасно
знали, что и кто нужен зрителю, как знали это вожаки
театра — режиссеры В. Муртазин и М. Магадеев, пришед-
ший к ним на смену Вали Галимов. Это был подлинный
«парад талантов».
Но зритель хотел видеть на сцене и живых, похожих
на себя — именно для того, чтобы лучше познать себя са-
мого. А кто мог лучше ответить на эти духовные потреб-
ности зрителей, как не Амин Зубаиров, Газим Тукаев, Га-
лимьян Карамышев, Зайтуна Бикбулатова?.. В каждом
из вышеназванных мастеров сцены изначально было зало-
жено то, что принято называть «божественным началом»
или «божьим даром», только в каждом из них это изна-
чальное обрело свои неповторимые черты и свойства. Но
главное заключается в том, что они самой Судьбой были
обречены на служение сценическому искусству.
Загир Гарипович Исмагилов рассказывал мне о своей
бесшабашной молодости, когда они вместе с Хусаином Ку-
дашевым вели борьбу за выживание в Уфе. Нередко дело
доходило до крутых разборок. Хусаин-агай делал все с
особым артистическим вкусом. В дело шли спонтанный тю-
ремный жаргон (с явными хулиганами), джентльменская
галантность и тонкая лесть (с горделивыми девушками),
умело разыгрываемый подхалимаж (с влиятельными чи-
новниками). Нет ничего удивительного в том, что, попав
на сцену, Кудашев продолжал жить все той же непринуж-
денной, как бы естественной для себя жизнью, но толь-
ко — в артистической инкрустации.
Я знал, что народ нуждался в героях, чтобы видеть в
них воплощение своих стремлений и идеалов. Они должны
были быть сильными — и духовно, и физически, эти герои
184
сцены! От них должны были исходить кипучие страсти,
целеустремленность, вера в будущее, которым жило тогда
общество, весь народ. А кто подходил для таких идеаль-
ных образов больше, чем Арслан Мубаряков? Вершинин в
«Бронепоезде 14 — 69», Олег Кошевой в «Батырах» («Мо-
лодая гвардия»), генерал Шаймуратов... Кстати, Олега ар-
тист возвел чуть ли не до былинных богатырей. Но глав-
ными стали роли Отелло и Войницкого в пьесе «Дядя Ва-
ня». Да, именно об этих работах говорили и писали боль-
ше всего. И стоит подчеркнуть: совершенно справедливо.
А. К. Мубарякову несомненно повезло, что именно Шекспи-
ра и Чехова показал Башкирский государственный акаде-
мический театр драмы в Москве на Декаде башкирской ли-
тературы и искусства в 1955 году; что сыгранные им в
этих спектаклях роли могли оценивать ведущие критики
и театроведы страны. Это, собственно, и предопределило
их всеобщий успех. Именно в московских газетах впервые
Мубарякова сравнили с такими выдающимися исполните-
лями роли Отелло, как Тхапсаев, Папазян, Худойдатов.
Сказать, что роль мавра престижна для каждого соз-
ревшего для нее актера, значит ничего не сказать. Более
того, это значит придать роли некий тривиальный оттенок.
Отелло — это вершина творческого дарования артиста.
Человек, лишенный высокого дарования и, соответственно,
творческих возможностей, вообще не способен сыграть эту
роль. Вот почему становятся легендарными имена тех ак-
теров, которые не просто успешно справились с ней, но и
привнесли нечто новое, свое в образ бессмертного героя
шекспировской трагедии. И как приятно, что имя Муба-
рякова значится в блистательном ряду имен других вели-
ких артистов.
Отелло, как известно, полководец, человек, наделенный
безумной отвагой, горячим сердцем и холодным рассудком,
без чего невозможно выиграть сражение у врага. Как чело-
век, он по-детски доверчив. Тот, кто видел Арслана Котло-
ахметовича в этой роли (а мне представилась такая воз-
можность в далекой юности), наверняка заметил, что
именно вера в людей, доверчивость — и были главными
признаками мубаряковского Отелло.
Герой Мубарякова — человек с обнаженным, кровото-
чащим сердцем, которому заживо подрезают могучие
крылья — ложью и наветами, шепотом коварных науще-
ний. Мир ему тесен. Мавру душно. Он чувствует себя как
человек, которого собираются заживо замуровать в глухой
склеп, и он мечется, ищет спасения, как говорится, хвата-
185
ется за соломинку, чтобы сохранить веру в жизнь и лю-
бовь. Кровь кипит в его жилах, готовых вот-вот лопнуть
от нечеловеческого напряжения. А как он сопротивляется Г
Как неповторимо, с какой силой самообнажения делал это-
Арслан-агай! Он заполнял собой все пространство сцены,,
ему становилось тесно в ее клетке. Казалось, он разраста-
ется именно в своих физических размерах. Но он вырастал
благодаря своим кипучим чувствам и страстям.
Но при этом — ив этом несомненный феномен башкир-
ского артиста! — он отнюдь не извергался вулканом, не
рвал и метал, как может подумать ни разу не видевший
его на сцене человек. Даже в самые драматические мину-
ты он умел необъяснимым образом сдерживать свои чув-
ства гнева и ревности. Голос его дрожал от внутреннего*
напряжения, донося до зрителя все его глубочайшие стра-
дания и муки.
Вот он разговаривает с Дездемоной, выспрашивая, где
его платок; вот укоряет ее в излишнем увлечении Родри-
го; вот ведет многозначительный диалог с Яго... И каждый
раз мы слышим и чувствуем в его голосе постоянно меняю-
щиеся тона, оттенки переживания, вибрирующие тембры*
которые выдают непреходящее волнение человека, обречен-
ного на постоянную духовную пытку. Самоказнение. И он
сам это хорошо понимает и сознательно движется навстре-
чу своей гибели с жертвенностью самоубийцы.
Один из постановщиков «Отелло» делился со мной со-
ображением: мол, главная причина трагедии мавра — в его
этнической уязвленности.
Для мавра в исполнении Мубарякова расово-этничес-
кие аспекты не имели ровно никакого значения. Он хотел
показать душевную трагедию человека с большим, откры-
тым людям сердцем. Увы, открытость эта и есть главный
его враг. Каким недоверчиво-жалким, по-детски просто-
душным становился Арслан-агай, слушая змеиное шипе-
ние Яго, которого по-своему блестяще исполнял замеча-
тельный артист и человек Рифкат Файзи. Кажется, Отел-
ло Мубарякова готов был собственными руками задушить,
изничтожить этого гадкого человечка, но он все слушает
и слушает, получая от его лжи мучительную сладость,
подтверждающую его неверие, мнимую правильность сво-
их подозрений.
Позднее, когда Мубарякова не стало, мне не раз при-
ходила в голову мысль, что он в немалой степени играл
самого себя, ибо сам был доверчив и простодушен, каки-
ми бывают все открытые, наделенные природным артистиз-
мом, люди. Истинное дитя земли, «большой ребенок», Му-
186
баряков особенно силен был именно в ролях такого ха-
рактера, подобного сценического амплуа, когда герой как
бы олицетворяет его собственную натуру. Разве не таким
же большим и притягательным ребенком предстает Арс-
лан Котлоахметович в пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня»?
Да это же обманутый в своих лучших чувствах человек,
всю жизнь гнувший спину на велеречивого срывателя цве-
тов жизни профессора Серебрякова.
Но здесь проявились другие качества артиста, свиде-
тельствующие о его неисчерпаемых возможностях Масте-
ра. Мубарякову удалось без лишних эмоций передать глу-
боко сложный мир чеховского героя. Мы неукоснительно
верили ему, потому что нас заставлял верить в это на-
родный артист СССР Арслан Мубаряков! Это высокое
звание было присвоено ему после Декады башкирского
искусства и литературы в Москве, когда актеру было со-
рок семь лет.
Примерно в этом же возрасте стала народной артист-
кой СССР его дочь, замечательный мастер башкирского
театрального искусства Гюлли Арслановна Мубарякова.
А. К. Мубаряков был сыном своей эпохи. Он пришел в
искусство в пору всемерного созидания советского народа,
в котором было столько же энтузиазма, сколько и социаль-
ной трагедии; в пору бурного роста духовного самопозна-
ния и культурного пробуждения наций, в том числе баш-
кирской. Это не могло не отразиться на его творчестве, на
манере игры: сильные страсти, романтическое восприятие
мира. Постепенно его игра углублялась, все больше обре-
тала внутренний психологизм. Он старался отразить харак-
тер своего родного народа, прежде всего в национальных
пьесах, но при этом создать обобщенные образы, близкие
и понятные любому зрителю.
И его понимали и любили везде!
Принято считать, что «зараженное» романтизмом поко-
ление Мубарякова злоупотребляло ложным пафосом, на-
игранной приподнятостью образов; что манера их исполне-
ния грешит некой искусственностью и театральностью. Мо-
жет быть, в этом есть доля правды. Но взгляните на ре-
пертуар того давнего театра. Что играли актеры в те «ста-
линские» годы? Не сами ли пьесы требовали подобного
подхода к ролям? — «Любовь Яровая», «Разбойники»,
«Карлугас», «Галиябану», «Тальян-гармонь», «Салават
Юлаев»... Да, был пафос, возвышающий дух и идею произ-
ведения, без которой не мыслился ни один спектакль.
Был и патриотизм, задававший ритм любой постановка
выверяющий ее сердцебиение.
187
Артисты поколения Мубарякова сами были патриотами,,
преисполнены гордости за свою землю, народ. И разве в
этом можно их обвинить? Но они никогда не были послуш-
ными роботами, неукоснительно выполнявшими все требо-
вания режиссера. Они не ограничивали себя в проявлениях
чувств, не думали о бесконечных нюансах и полутонах, как
не думали о них такие мастера кисти, как Рубенс или
Матисс. Актеры проявляли себя на сцене во всем буйстве
красок жизни, обуреваемых ими страстей — этим и были
прекрасны. Именно поэтому, наверное, их можно считать
свободными людьми, говорящими и выражающими то, что
думали и чувствовали.
А это и делает людей личностями.
* * *
К концу жизни Арслана Котлоахметовича Мубарякова
ждала та же участь, что и друга его молодости Файзи
Гаскарова. Он был вынужден уйти из театра, которому
отдал всю свою жизнь.
Правда, вариант ухода несколько отличался от гаска-
ровского. Давления сверху, как такового, не было, как не
было и официального увольнения, предложения уйти «па
собственному...» Просто-напросто народный артист СССР
был поставлен в такие условия, когда единственным вы-
ходом из создавшегося положения являлся именно уход.
По собственной инициативе. Не стало достойных ролей. А
потом — не было ролей вообще. Одной из последних ролей
можно считать роль Адамшаха в трагедии Мустая Карима
«Не бросай огонь, Прометей!» Играл, как всегда, широко,
размашисто, эмоционально. Но, увы, это было не его ам-
плуа. Не его образ. Дело в том, что Арслан-агай был рож-
ден и создан для персонажей эмоциональных, со всеми
проявлениями реальной жизни; он должен был жить на
сцене кипучей жизнью, а не существовать или присутство-
вать. Быть воплощенным в плоть и кровь, а не изрекать
прописные или абстрактные истины, заложенные автором
в уста своего героя.
Здесь же, в «Прометее», ему приходилось именно не
изрекать, а извергать или «выстанывать». Всякая декла-
мация ему была просто-напросто противопоказана. А тут
он должен был декламировать, а не лицедействовать, не
жить своим сиюминутным умом, инстинктом, чувством. Для
таких сценических произведений Арслаи Котлоахметович
не подходил никак.
188
Но и для пьес, подобных «Шонкару» А. Атнабаева,—
не подходил тоже. Но уже — по иной причине.
С одной стороны, поэт-драматург вроде бы проявил
творческую смелость: в пору, когда башкирский поэт тра-
гической судьбы, запрещаемый обкомом, — Шайхзада Ба-
бича—пребывал в забвении, Атнабаев создал пьесу, про-
образом главного героя которой являлся именно Бабич. Но
какой герой-поэт рождается в результате таких экспери-
ментов, совершенно очевидно: он — безупречен, выступает
против баев, духовенства, «националистов» и т. д. Словом,
аморфная личность, не имеющая никакого отношения к
реальному поэту, патриоту своего народа Бабичу.
Но еще более убого выглядят эти самые баи, муллы и
националисты. А тут автор замахнулся на самого Ахмет-
заки Валиди, «буржуазного националиста № 1». Боже, ка-
кое уродливо-гадкое, карикатурное чучело болталось на
сценической площадке, кривляясь и изрекая банальные
пошлости на разные политические темы! Кстати, его играл,
увы, ныне покойный весьма даровитый артист Рафаэль Аю-
пов, который в последние годы жизни сам ставил пьесы,
будучи главным режиссером Сибайского театра. Но как
же он подмочил рвою творческую репутацию, исполнив в
пьесе Атнабаева роль Валиди!
Сказать по правде, не отстал от него и Арслан-агай,
которому досталась роль Арысланбая. У богатея местного
значения несколько жен, от которых у него голова идет
кругом; одну он проучает плеткой — за провинность, за
другой гоняется по всему дому, с третьей любезничает —
на зависть остальным. Шункар кидает ему в лицо какие-
то разоблачительные речи — совсем как Чацкий Фамусо-
ву, хотя живет в его доме. Валиди, напротив, подхалимни-
чает перед баем... Мубаряков старается, талант его хоть
и натужно, но рвется наружу, ибо он явственен в любой,
даже самой малой роли... А все же жаль этого большого,
прославленного артиста. Роль для него не только мелка,
но и унизительна. А это уже —драма. И не только чисто
творческая, но и человеческая.
Казалось, Арслан-агай несколько воспрянул в пьесе
Мирзагитова «Матери ждут сыновей», в которой сыграл
роль Исламгали. Да и сама пьеса, после продолжительно-
го застоя национального репертуара, стала своего рода
возрождением башкирской сцены в постановке Лека Ва-
леева — тоже ныне покойного. Была еще роль Ягафарова
в пьесе того же Мустая Карима «Страна Айгуль»...
Была... Была...
Но почему, когда пишут, или говорят об Арслане Му-
189
барякове, прежде всего вспоминают его сценические рабо-
ты 30-х, 40-х и 50-х годов? Шекспира, Чехова, Толстого...
Классику, словом!
Ответ прост: крупный актер велик в значительных ро-
лях, в серьезных работах!
Да, в этом смысле Мубарякову и повезло, и не повезло.
Повезло, что начал играть рано, еще в середине 30-х
годов, под началом таких режиссеров, как В. Муртазин и
М. Магадеев; что сам лично имел отношение к режиссер-
ской деятельности и поставил не один спектакль.
Не повезло — потому что эпоха его оборвалась как-то
неожиданно, когда он почувствовал себя на сцене своего
родного театра неуютно, словно туда напустили стужу, а
его самого — раздели. Ему было не только неуютно, но и
холодно — в своем сильно омолодившемся коллективе. На
него стали посматривать, как на монстра, некий музейный
экспонат. Он это чувствовал и скрытно переживал; все
чаще заливал горечь сердца горечью напитка.
А тут еще — семейные неурядицы.
Последние годы жизни он добровольно ютился в затх-
лой каморке дома, стоящего в глубине двора в конце ули-
цы Октябрьской революции. Нередко его гостями были
люди весьма сомнительного толка.
Но он жил и боролся до конца. Как и Гаскаров, подал-
ся в художественную самодеятельность, играл в одном из
многочисленных дворцов культуры Уфы. Говорят, на спек-
таклях с его участием постоянно были аншлаги. Люди при-
ходили не столько посмотреть на его игру, сколько на него
самого. Народный артист СССР, великий актер своего
народа, своей эпохи, человек, ставший живой легендой сра-
зу после появления на экранах страны и мира фильма «Са-
лават Юлаев» — в постановке художественной самодея-
тельности?!. Вот и ходили, чтобы посмотреть на «живую
легенду», народного артиста СССР, злым парадоксом судь-
бы и Системы «вознесенного» на самодеятельную сцену.
Было холодно. Слегка метелило. Когда несли его тяже-
ленный гроб, руки деревенели от стужи, переставая ощу-
щать тяжесть ноши.
Могилу ему вырыли на самом краю обрыва.
Впереди — бескрайние просторы башкирской земли, где
вольготно дышится.
Именно таким бескрайним и неоглядным был мир ве-
ликого артиста. И такой же была его душа!
190
ХОЗЯИН СВОЕЙ СЭДЬБЫ
Композитор Загир Исмагилов
В семье он был нелю-
бимым ребенком.
Вам не приходилось
испытывать это, казалось
бы, противоестественное
чувство — нелюбовь, без-
различие собственных ро-
дителей? Если нет — ва-
ше счастье. А если да...
то уж наверняка очень
рано ощутили себя чуже-
родным телом под кры-
шей собственного дома,
этаким зверьком, которо-
го терпят только потому,
что его невозможно вы-
кинуть за порог. Потому,
что его надо терпеть.
К его братьям отно-
шение было совершенно
иное. Они были баловня-
ми судьбы. Иногда нелю-
бимому мальчику хоте- Загир Исмагилов
лось броситься на них с
кулаками, бить и царапать им лицо, впиться пальцами в
глотки и давить до тех пор, пока они не задохнутся.
Впрочем, нелюбовь исходила прежде всего от отца.
Мать же, боясь его гнева, старалась как можно меньше
обращать внимания на нелюбимого им мальчика, и когда
он, в порыве детской нежности и потребности в ласке при-
жимался к ней всем телом, она лишь коротко проводила по
19В
его голове шершавой ладонью и мягко, но настойчиво от-
страняла его от себя, и он плакал в глухом углу, стараясь
никому не показать своих слез.
Как ни странно, отец его не бил. И даже не ругал без
причины. Может быть, потому, что именно он лет с шести-
семи был самым первым помощником отца. Поначалу в
самом элементарном: стоял рядом и подавал гвозди, моло-
ток, топор и прочий инструмент, когда отец плотничал или
справлял ограду для скота. Потом ездил с ним за сеном —
подбирал осыпавшуюся траву громоздкими вилами; в де-
сять вместе с суровым и молчаливым родителем валил
лес, заготавливал дрова. Одежонка на нем была вечно ху-
дая, босые ноги лезли в дыры валенок или старых войлоч-
ных бот. Рукавицы тоже были рваные-перерваные, и руки
задубевали в них так, что невозможно было шевельнуть
пальцем. А отец требовал: руби! Подтаскивай! Убирай
сучья!.. Возвратившись домой, он лежал на нарах плаш-
мя, дрожа всем телом и дыша, как рыба на песке. Но с
младенчества привыкшее к холодам тело не поддавалось
никаким морозам, и в детстве он почти не болел. Но чем
старше становился, тем острее осознавал, что в отчем до-
ме он лишний.
И наверное, осознавал не он один.
Однажды слегка подвыпивший отец положил на его
крепкое плечо тяжелую руку, слегка потрепал, так что
этот жест можно было принять за ласку, и сказал:
— Вот что... Ты уже большой. Можешь сам добывать
себе одежду и пищу. Работать ты умеешь, не то, что
эти... — и он мрачно взглянул в сторону других сыновей. —
Вот тебе восемьдесят копеек и иди своей дорогой. Свою
судьбу решай сам.
И подросток воспринял эти слова как нечто неминуемое
и потому должное. Внутренне он давно был готов к ним,
и потому молча взял из рук отца восемьдесят копеек и
ушел из дома.
Много-много лет спустя, изучая материалы о поэте-
просветителе XIX века Мифтахетдине Акмулле, он уди-
вился схожести ситуации: того в детстве тоже не любили
в отчем доме. Но не столько отец, сколько немилосердная
к нему мачеха, и Мифтахетдин тоже вынужден был уйти
из родного аула куда глаза глядят...
Познавал жизнь и судьбу Акмуллы композитор Загир
Исмагилов потому, что собирался писать о нем оперу.
Это была его пятая по счету опера.
Он писал оперу об Акмулле и вспоминал свое детство.
И свою жизнь.
192
Как должен поступить подросток, в этом возрасте вы-
ставленный из дома?
У Загира возникла дикая, но вполне понятная для его
положения идея: сбондить на ближней станции что-нибудь
у рассеянного пассажира, и если все пройдет удачно...
Увы, неудача подстерегла его на первом же чемодане.
Высокий русский мужчина крепко взял его одной рукой
за плечо, а другой отнял чемодан. Загир ждал брани,
побоев, но ничего этого не было. Вместо этого мужчина
сказал почти с жалостью:
— Сынок, воровать ты не умеешь. А учиться этому я
тебе не советую. Брось раз и навсегда.
Такое обращение стало для сермеиевского мальца пот-
рясением. После этого он никогда н£ зарился на чужое.
Если даже находился на грани крайней нужды.
...Добираясь до Белорецка «зайцем» в старом скрипу-
чем вагоне, Загир уныло размышлял над тем, почему его
жизнь сложилась столь коряво и даже мерзко. Почему он
стал вдруг нелюбимым человеком в родительском доме?
И почему у него светлые волосы и голубые глаза, тогда
как... Впрочем, он знал, что отец в чем-то упрекает его
маму... Ах, как глупо, глупо!
Но теперь все! Домой возврата нет. Он будет бороться
за свою судьбу. Они еще о нем услышат!
В Белорецкое ФЗО он поступил без проблем. Туда
шли без особой охоты. Появились угол и харч, но не воз-
никло другого — желания учиться. Казалось, он мог вер-
ховодить командой, которая беспрекословно бы его слуша-
лась. В те годы так и было: подбиралась «кодла», приз-
нающая своего атамана и действующая согласно его ука-
заниям. Главное требование к атаману — сила и бесстра-
шие. Умение драться. Загир обладал и тем, и другим. Лес-
ные дела сформировали его бицепсы, а драк он не избе-
гал. Тем не менее, он не обзавелся даже близкими друзья-
ми. Дело в том, что Загиру не хотелось быть ни вожа-
ком, ни атаманом. Ему не хотелось командовать послуш-
ными сверстниками, дымить махрой и тянуть из горла
плодово-ягодное вино где-нибудь за уборной. В свободное
время он любил уединиться где-нибудь в углу захудалого
общежития и тихонько наигрывать на курае. А с прихо-
дом теплых дней удалялся за город, углублялся в лес, по-
дальше от людей, и там пел во весь голос, сам себе подыг-
рывая на курае. У него был сильный и резкий баритон.
Но певцом он никогда себя не ощущал. А вот как кураист
получил в ауле широкую известность.
7 Заказ 415
193
Но то — в ауле. А здесь... Что здесь? Для кого петь и
играть, если и сородичей-то было кот наплакал.
А там началась практика на металлургическом комби-
нате. Тянул проволоку разной толщины — иногда тоньше
человеческого волоса. В ту пору не было нынешней техни-
ки, тянуть приходилось руками. Поначалу было интересно.
Затем наскучило. Загир чувствовал, что никогда не станет
работать на этом архидревнем заводе, который еще знал
Пугачева и отливал для него пушки. Ему куда интереснее
было следить за полетом журавлей и прислушиваться к
их далекому курлыканью.
И еще, лесное дело ему было ближе металла.
Узнав, что в Инзере существует лесотехнический тех-
никум, он решил податься туда. Тогда ему стукнуло пят-
надцать лет, журавлиное курлыканье притягивало его все
больше. Он стал учиться в этом самом техникуме, где у
него сразу не пошла математика, и еще физика. Ему не
хотелось барахтаться в числах, а еще больше — в лога-
рифмах, вольтах и амперах. В свободное время он опять
пел и музицировал на курае. В конце концов, он так за-
пустил математику, что в пору было уходить из технику-
ма по собственной инициативе. И серменевский отрок так
и сделал — ушел, не имея в карманах ни документов о
своей учебе, ни денег на жизнь. Пришлось снова возвра-
щаться в Белорецк...
Давно замечено, что у людей искусства и, может быть,
еще у писателей бывает свой ангел-хранитель, который в
какой-то момент жизни своего подопечного совершает неч-
то такое, что становится поворотным пунктом его судьбы.
По сути, ее определяет. После этого ангел (или Бог) мо-
жет уже до самой смерти не вмешиваться в его жизнен-
ные дела, в ход его земного существования. Это зависит
от того, насколько действенным было первоначальное
вмешательство.
Ангел Загира Исмагилова распорядился так, что Баш-
кирский государственный академический театр драмы при-
ехал на гастроли в Белорецк в тот момент, когда юноша
находился в полном отчаянии, не зная, как жить дальше,
и уже подумывал о том, чтобы наняться в сплавщики, что-
бы гнать плоты по Агидели.
Услышав о приезде знаменитого театра, Загир явился
в клуб за пару часов до начала спектакля. Со стороны
наблюдал, как устанавливали декорации, возились со све-
том, пиликали на гармошке, бормотали под нос роли...
Смотрел, и жгучая зависть заполняла все его существо.
194
Они — и он. Небо и земля. Ему хотелось плакать. Он
уже собрался было уйти, не посмотрев спектакль, но в
это время увидел старого знакомого Арслана Мубаряко-
ва, тоже из белорецких краев. Вид у его молодого земля-
ка был озабоченным. Увидев Загира, тот неожиданно об-
радовался, быстро направился в его сторону. Пожимая
руку, спросил:
— На курае играть не разучился?
— Как это? — не понял Загир.
— Ну... не бросил еще курай?
— С какой стати? — все еще недоумевал тот.
— Ну ладно. Значит, все в порядке. У нас, понимаешь,
главный кураист заболел. Гиният-агай Ушанов. Прямо
беда! А без курая ни то, ни сё. Подменишь?
— Я?!. Да как это я подменю, если ничего не знаю?
— А что тут знать? Будешь играть то, что тебе скажут,
вот и вся премудрость. Зато после спектакля еще и де-
нежки получишь.
...У Загира был лишь один срыв: в одном очень смеш-
ном месте он не смог удержаться и стал хохотать прямо
на сцене. Добро еще, что точно так же закатывался зри-
тельный зал и на хохотавшего «артиста» никто не обратил
внимания.
После спектакля с Загиром общались, как со своим че-
ловеком. Всем понравилась его игра на курае. А когда
тот получил несколько рублей за участие в спектакле и
собирался уходить, Арслан положил на его плечо свою
тяжелую руку и сказал:
— Слушай, что ты тут потерял? И вообще, кому ты
здесь нужен? Разве что здешним медведям. Едем в Уфу,
будешь играть в нашем театре. И еще на концертах раз-
ных зарабатывать. В Уфе не так уж много настоящих
кураистов.
И эти слова будущего народного артиста СССР решили
дело.
* * *
В Уфе Загир жил в каморке общежития, которую за-
нимал Арслан. Спал на полу, ибо узенькую койку зани-
мал хозяин каморки. И все же был безмерно ему благода-
рен. Без друга-земляка и его затхлой каморки ему приш-
лось бы туго в этом многолюдном и абсолютно чужом для
него городе, где родную речь можно было услышать лишь
в тех местах, где пахло искусством, или на толчке, где
7*
195
бойко торговали татарские женщины. Да и с деньжатами
у него было туго — получки едва-едва хватало на хлеб, да
молоко, и опять же в этом смысле не обходилось без по-
мощи Арслана, который делил с ним и завтрак, и ужин:
скудно, но пополам. Черный хлеб, за которым нередко при-
ходилось стоять часами, и главным образом, ему, Загиру;
селедка, которая в магазине стоила очень дешево, но пос-
ле которой весь день (или всю ночь) мучила жажда; иног-
да к Арслану заглядывали редкие землячки-односельчане,
и тогда у них появлялось мясо и масло, которые, правда,
исчезали после двух-трех обильных трапез. Загиру же не-
откуда и нечего было ждать. Он был гол как сокол. Но
зато у него был курай, которого не было у Арслана, и
этот инструмент заменял ему многое и скрашивал одино-
чество.
Но жизнь брала свое. Наделенный силой и молодой
энергией серменевский сорвиголова постепенно втягивался
в жизнь большого города, все больше проводил время
на улице, среди себе подобных полубездомных полубродяг,
оказавшихся здесь по воле случая или каприза судьбы.
Был среди них такой же сорвиголова, подвизающийся в
том же драмтеатре, что и Загир, здоровый парень по име-
ни Хусаин. Вскоре они так сдружились, что стали прово-
дить вместе все свободные часы. Хусаин был горазд на
выдумки, скор на кулаки и изобретателен в объяснении
с милицией. Именно поэтому парочке многие отнюдь, не
такие уж невинные проделки сходили с рук. Бывало, вдво-
ем в четыре руки отбивались от целой шайки уфимских
брандахлыстов и ничего, не пасовали, а чаще всего даже
брали верх.
Хусаин был прирожденным артистом. Забредут на ры-
нок, Загир начнет торговаться да прицениваться, а Хуса-
ин— кусок мяса в авоську и уже вступает в их торг, на-
хваливает товар да набрасывается на своего дружка: ты
чего, мол, не видишь по физиономии честного человека?
Начинает попахивать скандалом, даже дракой; миролюби-
вый да сердобольный хозяин мясного ряда пытается успо-
коить разошедшихся петушков, и те отправляются восвоя-
си, продолжая громко выяснять отношения; на ходу Ху-
саин успевает прихватить еще и колобок масла. Загир же,
памятуя слова того русского, у которого хотел сбондить
чемодан, к чужому не прикладывается, хотя всем своим по-
ведением способствует успеху его предприятия: ничего,
раз торгуют мясом да маслом, значит проживут и без кус-
ка грудинки или шмата сала.
Бог знает, сколько бы это у них продолжалось, не влю-
196
бись Хусаин в одну голубоглазую красавицу, и не начни
Загир принимать участие в концертах, которые устраивало
так называемое Башкирское концертно-эстрадное бюро
(КЭБ). Поначалу он только аккомпанировал с листа, за-
тем ему стали предоставлять отдельный сольный номер.
Когда между спектаклями, в театре были «окна», он вы-
езжал с вечно кочующими артистами на гастрольные по-
ездки в ближние районы и города.
Однажды его прямо на улице остановил Газиз Альму-
хаметов, признанный певец и композитор, которого Загир
пару раз слушал со сцены. Его удивила особая манера
пения этого человека, мелизм, песенные обороты. Особен-
но понравилась ария Нигмата из его же оперы «Эшсе»,
которую Загир слышал и прежде, но думал, что это какая-
то не известная ему народная песня. Еще, что удивило
Загира, — это поразительная скромность Газиз-агая, его
манера держаться, говорить со слушающим его зрителем,
походка, легкая и изящная. Словом, это был человек осо-
бой породы, которую здесь иначе называют «интеллиген-
том».
И вот ему пришлось удивиться еще раз: оказывается,
Газиз-агай его знал!
— Я тебя слышал в театре, — заявил он без обиня-
ков.—Мне очень понравилась твоя игра. В таком стиле
играют и поют только зауральские башкиры. Так вот,
егет, у меня к тебе просьба: найди возможность поездить,
со мной по республике. Будешь мне аккомпанировать. У
меня нет подходящего кураиста.
Просьба была столь неожиданной, что Загир в первую
минуту растерялся.
— А меня отпустят?.. — первое, что у него вырвалось,
но он тут же устыдился этого вопроса: просит такой
человек, и чтобы его не отпустили? Но Газиз-агай отнесся
к его вопросу с полной серьезностью.
— Я поговорю с Сагитом. Надеюсь, не станет возра-
жать.
Сагитом звали директора театра Мифтахова. Он был
известным драматургом, автором таких нашумевших пьес,
как «Зимагоры», «Дружба и любовь», «Степная девушка».
Позднее Загир станет свидетелем того, как на его либрет-
то будут созданы две башкирские оперы — «Сакмар» и
«Акбузат». Он был молод, красив, безумно нравился жен-
щинам, из-за чего в его доме нередко происходили скан-
далы. С началом войны Мифтахов ушел на войну и погиб
в 1942 году.
Через день Мифтахов пригласил Загира к себе в каби-
197
кет, осмотрел с ног до головы, словно впервые видел, спро-
сил:
— Когда ты успел познакомиться с Газиз-агаем?
— Я? — удивился Загир. — Он меня сам остановил.
— Ишь ты, — усмехнулся директор. — Он считает, что
тебе следует учиться в Москве. И не где-нибудь, а в кон-
серватории! Что ты по этому поводу думаешь?
Загир пожал плечами и промолчал. В ту минуту он и
предположить не мог, как глубоко и прочно засядут в его
сознании эти слова знаменитого человека, переданные че-
рез его директора.
— Когда обращается с просьбой такой человек, я не
могу отказать. Ладно, на двух спектаклях заменим тебя
кем-нибудь другим. Но ты там смотри!.. Знай, с кем вы-
ступаешь... И чью честь бережешь.
Загир пошел к выходу и остановился у порога.
— А чью честь?—спросил он с деревенской наивностью
и любопытством.
— Как чью?!—весь взъерошился директор. — Нашу.
Честь нашего театра. Ты там будешь представлять и нас,
понял?
— Понял...
И Загир неслышно затворил за собой дверь началь-
ника.
Это была трудная, но счастливая поездка. В день два
или даже три раза Загир выступал перед сельскими или
городскими зрителями, аккомпанируя Газизу Альмухамето-
ву, в двух шагах от себя слыша его удивительный по темб-
ру, сказочно красивый голос, каких ни до того, ни после
не слышал и не услышит никогда. Чьи-то голоса были
сильнее, пронзительнее, но ни у кого не было голоса за-
душевнее и проникновеннее, чем у Альмухаметова.
Однажды Загир не выдержал:
— Газиз-агай, вы правду сказали, что я... Что мне...
Ну, словом, правду сказали нашему директору?
— Насчет учебы?—сразу сообразил тот.—Да. Я ему
так и сказал: парню следует учиться. И не здесь, а в
Москве. У нас учеба поставлена еще очень слабо. Истин-
ных певцов и композиторов можно обучить и создать толь-
ко в Москве. Кстати, тебе сколько лет?
— Восемнадцать.
— Для восемнадцати ты играешь на курае очень хоро-
шо. У тебя прекрасный слух. Вполне возможно, что абсо-
лютный. Я вижу, что во время игры ты импровизируешь.
Такое может делать только художник. Вот я и думаю, что
тебе непременно надо учиться на композитора.
198
Последующие полтора года Загир постоянно жил с
этой мыслью: может ли он стать композитором?
Ему еще не раз приходилось аккомпанировать Альму*
хаметову, но больше разговоров на эту тему не было.
В последний раз выезжали с ним на гастроли в 1937 го-
ду. Они снова возвращались в скрипучем старом вагоне,
насквозь продуваемом сквозняком. Загир проснулся от
холода и увидел рядом Газиз-агая. Он сидел на полке,
подобрав под себя ноги и втянув голову в плечи. Лицо у
него было серое, точно безжизненное.
— Что с вами? — испуганно спросил Загир. — Вы за-
болели?
— Болею душой, — ответил Газиз-агай. — Еду вот и
думаю: вдруг приеду... А там меня уже ждут. Ведь сколь-
ких в последнее время забрали! И какие они враги на-
рода?
— Да вас-то за что? — искренне удивился Загир.
Газиз-агай не среагировал на этот вопрос. Промолчал,
Через три дня после приезда в Уфу Загир узнал, что
Газиза Альмухаметова арестовали.
* * *
Вслед за Хусаином познакомился с девушкой и Арслан.
Однажды он сказал, несколько смущаясь:
— Загир, тебе, наверное, придется поискать новое
жилье. Сам понимаешь...
— Понимаю, — только и ответил Загир.
В том же тридцать седьмом, осенью, в культурной жиз-
ни Уфы произошло довольно важное событие: из Москвы
приезжала комиссия по отбору талантливых девушек и
юношей для учебы в музыкальной студии при Московской
консерватории. Было отобрано пятнадцать человек. Про-
слушали и Загира Исмагилова, но ему было заявлено: го-
лос есть, но не оперный. Это стало для него сущим потря-
сением. Он-то знал, что голос у него ничуть не хуже, чем
у большинства отобранных счастливчиков. Может, даже
получше, чем у кое-кого из них. А причем тут «оперный»
или «не оперный»? Ведь буквально месяц назад он был
рекомендован композитору Николаю Павловичу Будашки-
ну, который специально приезжал в Уфу для записи баш-
кирских наигрышей и мелодий. Загир наиграл ему мно-
жество песен и напевов, и маститый композитор с неиз-
менным вниманием их слушал и заносил в нотную тетрадь;
иногда останавливал кураиста и просил повторить те или
199
иные места, уточнял какие-то моменты, а в конце работы
подарил своему музыкальному информатору «вечную руч-
ку» и красивый блокнот со словами: «Сюда ты будешь за-
носить неизвестные тебе мелодии. Они тебе пригодятся,
когда сам станешь сочинять музыку».
И вдруг — такой оборот!
Нет, горячая душа серменевского егета не могла при-
мириться с такой несправедливостью.
Никому не говоря, он наскоро собрался и прибыл к
московскому поезду в положенное время. Отобранные
счастливчики обнаружили его уже в пути. Он лежал на
третьей полке, свернувшись калачиком и разгрызая хлеб,
лревратившийся в сухарь. Так вот и доехал до столицы.
Рассказывать о том, что он пережил в первые дни пре-
бывания в Первопрестольной, где ютился да чем кормил-
ся,— это история, которая может увести нас так далеко,
как пророк Моисей не уводил племя израильтян. Доста-
точно сказать, что спать ему приходилось на рояле (опять
же свернувшись калачиком) в консерваторском классе,
когда там кончались уроки. Ну а кормиться... Ну, тут уж
у него был немалый опыт.
Три месяца он жил в Москве на птичьих правах. И на
таких же правах посещал занятия в студии, пока к нему
не стали приглядываться преподаватели.
С 1938 года, наконец-то, стал полноценным студентом
студии. Судить о его музыкальных данных педагогам
опять-таки пришлось по игре на курае. Белорецкий отрок
играл народные мелодии «Гильмияза», «Салимакай», «Бу-
ранбай». Его спросили: «Кто создал эти песни?» и он от-
ветил с достоинством: «Эти песни создал мой башкирский
народ, значит, создал я». Ответ восемнадцатилетнего За-
гира не столько позабавил, сколько тронул членов строгой
комиссии, он был принят в ряды студийцев.
На четвертом курсе ему пришлось на определенное
время расстаться с товарищами по учебе и с педагогами.
В обыденной студенческой заварушке, какие происходят
всегда и везде, главным виновником выставили его. У За-
гира был гордый нрав. Он не умел унижаться или о чем-то
слезно просить. Ему так хотелось учиться, ибо до завер-
шения студии оставался какой-нибудь шаг, но он не захо-
тел ходить по начальству и доказывать свою невиновность.
Много позднее он придет к мнению, что отрыв от уче-
бы в студии пошел ему на пользу. Что ни говори, у него
была прочная музыкальная грамота, определился доволь-
но широкий диапазон интересов. Теперь появлялась воз-
200
можность испытать себя на прочность, доказать, на что
он способен. И он с головой уйдет в работу.
Правда, с того момента его будут преследовать новые
жизненные неприятности, о которых я не стану здесь рас-
пространяться, ибо это — сугубо личное дело композитора.
Скажу лишь о том, что и много лет спустя, как эхо тех
удручающих событий, в среде своих же товарищей по уче-
бе, точнее сказать, нескольких из них, возникает слух о
несамостоятельности в работе будущего автора оперы «Са-
лават Юлаев». Пустив этот слух, они дали ему такой раз-
мах, что инцидент обсуждался на специальном заседании
Башкирского обкома партии. Распространители гнусных
слухов вынуждены были извиниться перед своим коллегой,;
который в ту пору был уже председателем Союза компози-
торов. Разумеется, извинения были чисто формальными,
а распространители слухов довели свое чувство неприязни
к более удачливому и талантливому товарищу до открытой
ненависти.
Но это уже к делу не относится.
Исключенному серменевскому парню пришлось уехать
в Уфу, снова устраиваться в театр, выступать со сцены
филармонии и выезжать на концертные гастроли. Но За-
гир Гарипович уже был музыкально образованным чело-
веком, свободно оперировал нотами, и потому сочиненные
песни заносил на бумагу и они становились известными
широкой публике. Тогда-то и родились самые ранние,его
песни «Застольная» на слова Б. Бикбая, «Сынам Родины»
(К. Даян), «Дочь Урала» (А. Катеева). Его приняли в
члены Союза композиторов Башкирии. В те же годы Ис-
магилов неутомимо собирает народные песни и мелодии,
обрабатывает их для оркестрового исполнения. Самые из-
вестные из обработанных им песен — «Гумеров», «Шаги-
барак», «Гайса», «Мадинакай», «Салимакай», «Таштугай»,
«Турэкэй». Освобожденный от армейской службы из-за
зрения, он всеми мыслями — на фронте, рядом с воинами^
земляками, рядом с отважными джигитами дивизии гене-
рала Шаймуратова. И когда поэт Кадыр Даян показал
ему стихотворение об этом бесстрашном комдиве, Загир
Гарипович почти тут же пишет на него мелодию. Рождает-
ся песня «Шаймуратов-генерал», ставшая широко популяр-
ной среди народа. Её поют на войне, уносясь в стреми-
тельные конные атаки. Кроме того, из-под пера компози-
тора выходят песни «Генерал Белов», «Байгужа», «Песня
о Кусимове». Позднее военную тематику пополнила заме-
чательная песня на слова Назара Наджми «Марш баш-
кирских батыров». А когда появилась песня на слова На-
201
жиба Идельбая «Лети, мой гнедой!», слава Исмагилова
как композитора разнеслась далеко за пределы родной
республики. Песня была переведена на русский язык и рас-
певалась разными хоровыми коллективами и ансамблями.
Молва об изгнанном из студии талантливом башкир-
ском композиторе дошла и до Москвы. Загир Гарипович
восстанавливается в студии, по завершении которой стано-
вится студентом Московской государственной консерва-
тории.
Реноме было восстановлено.
У строгого читателя может возникнуть- законный воп-
рос: что это автор очерка, повествуя об одном из видней-
ших композиторов не только Башкортостана, но и России,
почти ничего не пишет о его творчестве, все больше сле-
дуя жизненному сюжету? Но разве каждый из вас не ло-
вил себя на мысли, что хотел бы знать как можно больше
именно о личной жизни выдающейся личности, нежели о
его творчестве? Картины художника можно обозревать
собственными глазами, по-своему их оценивая; точно так
же можно воспринимать книгу писателя, пьесу драматур-
га, слушать и наслаждаться музыкой композитора... А кто
вам откроет личную жизнь художника? Кто расскажет о
том, какой жизненный путь пришлось ему преодолевать, с
какими, порой невообразимо трудными преградами бо-
роться?..
Так вот, биография Загира Гариповича представляется
мне своего рода образцом такого преодоления бесчислен-
ного количества преград и препятствий, великим противо-
борством с судьбой, с самой общественной системой, с
личными и общественными врагами. Противоборством и
победой! На примере этой биографии можно видеть истоки
характера этого человека, а значит, и самого творчества.
Об этот кремневый характер, как об скалу, билось и раз-
билось немало тех, кто хотел его сокрушить, убрать с до-
роги. Не получилось. Противоборство с судьбой лишь де-
лало его натуру все более цельной и целеустремленной,
а творчество — монументальным. И может быть, самым
удивительным его подвигом было то, что вчерашний, не
знавший нот кураист, еще будучи студентом Московской
консерватории, создал классику башкирской националь-
ной музыки — четырехактную оперу о великом народном
батыре.
Говорят, в практике мировой музыки это едва ли не
единственный подобный случай.
Правда, будучи студентом все той же консерватории,
202
великий Сергей Рахманинов написал первый акт своей
знаменитой оперы «Алеко». Но то — Рахманинов! А тут...
— Мне думается, дело сводится не только к тому, на-
сколько рано сформировался композитор, — рассуждает
сам Загир Гарипович. — Имел или не имел возможность
с детского возраста приобщиться к музыкальному искусст-
ву, были у него на то возможности или нет. Дело в нечто
большем — в силе его таланта. Его долговечности. Бывает,
что рано оперившаяся и высоко взлетевшая птаха очень
скоро падает, обессилев или захлебнувшись небесным воз:
духом. У других крылья крепнут куда медленнее, но зато
им не страшна любая высота.
Когда Загир Исмагилов приступил к работе над оперой
«Салават Юлаев», он уже был немолод. Ему перевалила
за тридцать. Но он продолжал оставаться студентом, ибо
консерваторская учеба его затянулась на многие годы, и
не по его вине. А со студентами обращались, как со сту-
дентами, то есть без должного внимания и уважения. По-
ручать такую работу, как опера о великом национальном
полководце,, недоучившемуся школяру? Если даже он
проявил себя в песнях и прочих музыкальных произведе-
ниях... Доверить ему такое прекрасное либретто, которое
создал известный поэт Баязит Бикбай? В то время, когда
за эту работу не прочь взяться сам Дмитрий Кабалев-
ский?!.
Но тут совершенно неожиданную принципиальность
проявил автор сценария. Всегда тихий и, кажется, вполне
покладистый человек, Баязит-агай твердо заявил: «Или
Загир, или никто!» Это явилось столь неожиданным сюрп^
ризом, что растерялись даже опытные функционеры от
искусства. Обсуждение проходило в Москве, в Союзе ком-
позиторов РСФСР. Заседающим чиновникам не оставалось
ничего, как принять ультиматум автора либретто. На носу
была Декада башкирского искусства и литературы в Моск-
ве, которая не мыслилась без оперы о Салавате Юлаеве,
узаконенном символе башкирского народа и уральской
земли. Руководители не обошлись без зловещего преду-
преждения: «Смотри, товарищ студент, если провалишь...»
Вечером Загир Исмагилов и Баязит Бикбай ужинали в
ресторане гостиницы «Москва», где жил поэт. Потом под-
нялись в его номер, из окна которого открывался пре-
красный вид на Кремль. Баязит-агай упал на кровать. За-
гир распахнул окно и прокричал чуть не на всю Красную
площадь:
— Слушайте все! Если я не напишу за два года оперу
203
о Салавате... Пусть я не буду Загир Исмагилов! Пусть
меня покарает проклятье этих чиновников!
Много-много лет спустя Загир спросил у Баязита Бик-
бая:
— Все же, чем ты руководствовался, отстаивая тогда
мою кандидатуру?
— Интуицией, — ответил поэт. — Я всегда руководст-
вуюсь интуицией и никаким другим чувствам и подсказ-
кам ума не верю.
Позднее он специально создал либретто для компози-
тора Исмагилова, признанного мастера оперного искусст-
ва: музыкальной комедии «Кодаса» и оперы «Шаура».
И оба раза интуиция не подвела замечательного башкир-
ского поэта.
—Я начал работать сразу над третьей картиной,—
рассказывает Загир Гарипович. — Сам не пойму почему.
Отчего-то родители Салавата представились мне ярче и
понятнее, чем он сам. До него нужно было еще доходить...
А этих я видел и слышал вполне отчетливо.
Так была написана знаменитая ария Юлая Азналина
«Кровь» («ТСан... Минец тканым...»). Композитор видел пе-
ред собой и исполнителя этой роли — будущего народного
артиста РСФСР Габдрахмана Хабибуллина, который дей-
ствительно спел в премьере оперы и имел огромный успех
у московского зрителя.
Партия матери Салавата Азнабики была предназначе-
на для заслуженной артистки РСФСР Магафуры Салигас-
каровой. Именно ее «Колыбельная» станет вторым эта-
пом в работе композитора над оперой. Затем ему предста-
вилась хоровая сцена...
Так, шаг за шагом, выстраивалась первая работа Ис-
магилова в жанре оперы, которой суждено стать и шедев-
ром, и классикой музыкального искусства Башкирии.
На пианино композитора стоит великолепная статуэтка
Чайковского. Кажется, все и без того понятно, но я спра-
шиваю:
— Кто ваш любимый композитор?
Он отвечает коротко:
— Чайковский.
Я удовлетворен. Комментариев не нужно.
Загир Гарипович мог быть последователем только это-
го композитора. Сторонником только его традиций.
Общеизвестно, что башкирские протяжные песни (узун
204
кюй) отличаются прежде всего своим мелодизмом (моц);
тем более именно этого свойства требуют слушатели от
исполнителя таких песен. Их даже не особенно интересу-
ет сила голоса — важен мод.
Загир Исмагилов вышел из глубины башкирского ме-
лодизма и мелизма, впитал их с детских лет, умел пере-
дать их в голосовом пении, и еще больше — игрой на ку-
рае.
Ничего удивительного в том, что и, обратясь к жанру
оперы, он стал проповедником мелодического направления,
а в плане драматургическом — веризма.
Опера «Салават Юлаев» богато насыщена удивительно
мелодичными, красивыми ариями и драматическими дуэ-
тами, в ней много истинно народного лиризма, ассоциа-
ций с некими музыкальными темами, дошедшими до нас
из глубин веков, но никогда их не воспроизводящими; ве-
ликолепно звучат хоровые сцены, массовые действа, испол-
ненные динамики и неподдельного драматизма.
И все же, самая большая удача — это сам Салават,
в котором неделимо сочетаются батыр, вожак масс, пол-
ководец и — поэт-сэсэн, тонкий лирик, необычайно глубоко
воспринимающий все окружающее — красоту уральской
природы и красоту женщины, умеющий любить горячо и са-
мозабвенно. Все эти черты характера замечательно выяв-
ляют три его центральные арии: «Прощание с Уралом»
и «Прощание с Аминой», с одной стороны, и «Призывная
ария», обращенная к воинам, с другой. Ни в каком дру-
гом произведении о Салавате Юлаеве (любого жанра) не
удавалось столь ярко передать богатство натуры народ-
ного героя, его патриотизм, преданность родной земле и
родному народу. И еще: зритель явственно чувствует ди-
лемму «или — или»... Если бы Салавату не пришлось возг-
лавить великое народное войско и с отроческих лет встать
на военную стезю, то он непременно стал бы всенародно
известным и любимым сэсэном, певцом земли, красоты и
вечности.
Не могу не добавить и такую свою мысль.
Салават в опере Исмагилова — это идеал мужского
начала, реальное воплощение того идеала, который извес-
тен нам лишь по легендам, сказам и песням. А тут — жи-
вой человек со всеми его переживаниями, болью и ра-
достью, которые дарит ему жизнь, борьба.
Как в опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила» нас.
сразу же забирает в полон потрясающая, головокружи-
тельная увертюра, как бы распахивающая ворота в мир
грез и «старины глубокой», так и у 3. Г. Исмагилова кол-
205
довские ворота оперы раскрывает нам чудная увертюра,
полная экспрессии, энергии и, в то же время, глубокой
задумчивости, мысленного обзора народной истории. Ком-
позитор обыгрывает две народные песни «Салават» и
«Урал», но делает это с таким завораживающим мастерст-
вом, что как бы и не замечаешь тему этих песен. Да в
этом нет и надобности, ибо вихревое вступление в увертю-
ру с головой уводит нас в мир кипучих страстей и эмоций,
из которого нет выхода до самого конца спектакля, до
последних музыкальных аккордов. В этом — всепоглощаю-
щая мощь этого замечательного оперного произведения.
Я столь подробно остановился на опере «Салават Юла-
ев» по трем причинам. Во-первых, я полюбил ее всем серд-
цем со дня первого ее просмотра, и сколько бы ни слушал
впоследствии эту оперу, она мне никогда не надоедала. И,
надеюсь, не надоест.
Во-вторых, опера эта — первая (дипломная) работа
башкирского композитора, и уже поэтому представляет со-
бой некий феномен. Но загадка этого феномена разреша-
ется просто — природный талант.
В-третьих, опера «Салават Юлаев», безусловно, поло-
жила начало новому этапу в развитии музыкального искус-
ства Башкирии. Она открыла такие неиссякаемые возмож-
ности, которые могут существовать лишь у такого древне-
го, многострадального и архимузыкального народа, как
башкирский. Его представителей недаром называют «деть-
ми природы»: десятки веков они жили, вольно кочуя по
своим немеряным просторам, перегоняя скот с места на
место, резвясь на зеленых яйляу, состязаясь в силе и
ловкости, в скачках и стрельбе из лука, сочиняя и тут же
распевая песни, чураясь черной «низменной» работы; при
надобности в кратчайший срок снаряжая в дальний поход
молодых джигитов; взбивая и цедя кумыс под пологом
уральского неба, на котором звезды по ночам горят осо-
бенно ярко. Вот откуда и нынешний характер башкир,
который нередко или не понимается или даже высмеивает-
ся излишне «умными» представителями других народов и
народностей.
В дальнейшем я отнюдь не собираюсь останавливаться
на каждом оперном произведении 3. Г. Исмагилова, тем
более, что не считаю себя компетентным в музыковедче-
ской науке.
В 1963 году общественность Уфы имела возможность
познакомиться с новой оперой композитора — «Шаура»,
206
как бы родившейся из старинной легенды и песни такого
же названия.
Я же хочу вспомнить о другом знаменательном для
башкирской культуры событии — выездном секретариате
Союза композиторов РСФСР, который состоялся в Уфе
летом 1965 года.
Мне посчастливилось присутствовать на заседаниях
этого секретариата, которые приобретали особое значение
тем, что на них присутствовал Дмитрий Дмитриевич Шос-
такович.
Я давал отчеты с этих заседаний в родную газету «Ле-
нинец.» и одновременно вел записи для себя. Помню, Шос-
такович говорил об опере «Шаура»:
— Профессиональное мастерство Исмагилова за это
время несомненно выросло, перо стало более чутким к
переживаниям своих героев, к их личным чувствам. Но ему
следует все решительнее уходить из-под власти народной
мелодики...
Помню выступление Андрея Эшпая, который говорил
примерно следующее:
— Когда я слушаю, к примеру, «Праздничную увер-
тюру» Шостаковича, то постоянно ощущаю, что до него
была и есть великая традиция мировой музыкальной клас-
сики: Бах, Моцарт, Григ... Вот это присутствие, может
быть, совершенно неосознанное, воспринимаемое чисто под-
спудно, придает музыке особую глубину и многослойность,
доставляет не только эстетическое, но и интеллектуальное
наслаждение. Мне приятно заявить, что при слушании от-
дельных оркестровых фрагментов оперы «Шаура», его
сонат и вариаций, а также всей увертюры к опере «Сала-
ват Юлаев» я ощущаю те же чувства...
Взлет не только творческой, но и общественной карье-
ры Загира Исмагилова того времени прямо-таки голово-
кружителен. Буквально сразу после возвращения в Уфу
он избирается председателем композиторской организации
республики; позднее — Председателем Верховного Совета
Башкортостана, ректором открывшегося во многом благо-
даря его усилиям Башкирского государственного институ-
та искусств. И все эти более чем ответственные регалии
отнюдь не повисли на нем, подобно тяжким веригам; у не-
го хватало сил и энергии справляться со всеми этими су-
губо государственными делами и обязанностями.
С другой стороны, возникает и вопрос: а нужны они
ему были, эти дела, кресла и обязанности, если Аллах
столь щедро наградил его даром творчества? Может, имен-
но за счет всевозможных собраний, заседаний, сессий, «ак-
207
тивов», общественных и партийных мероприятий не роди-
лись на свет те пленительные песни и романсы, истинным
мастером которых проявил себя композитор в 40-х и 50-х
годах, и следовательно, народ недополучил новых «Был-
былым», «Лети, мой гнедой», «Ты не вернулся», которые
были им восприняты всем сердцем и душой. Вспомним
для себя, что тот же любимый Исмагиловым Петр Ильич
Чайковский совершенно сознательно исключил себя из кру-
га общения с друзьями и даже близкими, полностью от-
дав себя сочинительству. В пятьдесят три года создать
десять великолепных опер, три балета, многие десятки
классических романсов, шесть всемирно известных симфо-
ний; создать потрясающую «Франческу да Римини», дру-
гие музыкальные произведения...
Но разве повернется язык бросить хоть какой-то упрек
в адрес Загира Гариповича в смысле некой его недоста-
точной плодовитости, ибо именно такой упрек будет вос-
принят как полный абсурд. Безусловно, именно он, Исма-
гилов, является самым плодовитым композитором Башкор-
тостана. Автор пяти опер и музыкальной комедии «Кода-
са», ряда симфоний, сонат, музыкальных пьес и вариаций,
автор множества песен и романсов, он является эталоном
таланта и трудолюбия.
— Я не представляю жизни без работы, — признается
он. — Постоянный труд — это мое нормальное состояние.
В другой раз:
— Меня называют «оперным композитором», и это, на-
верное, правда. От сочинения опер я получаю огромное и
всестороннее удовлетворение: там и симфонические «кус-
ки», и ансамбли, и хоры. Там и философия, драматургия...
Словом, это грандиозный музыкальный синтез, который
требует такого же богатства и многогранности творческих
возможностей композитора.
И еще:
— Я не раз задумывался о балете. Мир танцев, балет-
ной хореографии — это прекрасно! Но все время почему-то
откладывал, хотя в столе у меня давно уже лежит балет-
ное либретто, написанное Хашимом Мустаевым по моти-
вам народной легенды. Теперь, когда в театре приступили
к постановке моей оперы «Акмулла», я преодолел внутрен-
нее сопротивление и, может быть, даже страх и сел за со-
чинение балета. Первого в моей жизни. По всему чувст-
вую, что напишу его сравнительно быстро, потому что вся
музыкальная палитра перед глазами.
208
* # *
Сейчас во всем мире явственно ощущается тяга к ис-
торическим истокам народной культуры, ее духовным жи-
вым родникам. И это вполне правомерный процесс. Ника-
кой авангард, как бы он ни был привлекателен в своей
экстравагантности и многозначительности абсурда, не мо-
жет развиваться в постоянном поступательном направле-
нии. Профессиональная музыка должна время от времен»
возвращаться и обращаться к фольклору, более того — к:
его древнейшим образцам; должна питаться им. Да, пи-
таться, но не «обсасывать» его путем бесконечных бес-
крылых «вариаций».
Башкирское народное музыкальное творчество дает
обильную пищу не только композиторам, но и певцам, му-
зыкантам и музыковедам. Казалось бы, сколь незатейли-
вы и даже в чем-то наивны эссе Л. Лебединского о поездке
в Бурзянский край или о народном певце Мажите Буран-
гулове, но с каким интересом читаются. Может быть, по-
тому, что излагается все это русским человеком.
То же самое можно сказать о записях С. Г. Рыбакова
«По Уралу, среди башкир».
К сожалению, у нас почти отсутствуют музыковедче-
ские исследования самих башкирских специалистов.
Ну а что касается композиторов, то им, как говорится,,
сам Бог велел.
Загир Гарипович в этом плане представляется мне од-
ним из самых больших мастеров обработки народной му-
зыки. Он никогда не переходит границы «дозволенного»,,
виртуозно вплетает народную мелодику в ткань собствен-
ных сочинений, выдерживая полную гармонию народного-
и самостоятельного начал. И тут, перефразируя вышепри-
веденную цитату Андрея Эшпая, я бы сказал так: «Слу-
шая музыку Исмагилова, все время помнишь о существо-
вании мелодических сокровищ его собственного народа,,
которыми он постоянно питается».
В этой формулировке не будет ни преувеличения, ни
какой-либо обиды для самого композитора.
Только те мастера, которые глубоко впитали в себя*
эти сокровища народной музыки, так что они стали их ор-
ганической частью, могут: во-первых, бережно и в высшей
степени этично обращаться с образцами народного творче-
ства; во-вторых, сами создавать вокальные произведения,
со временем воспринимающиеся как истинно народные.
Именно это видим мы в творчестве Загира Гариповича
209*
Мсмагилова. Кто подумает, что «Генерала Шаймуратова»,
«Марш батыров», «Былбылым» («Соловушка»), «Лети,
тутой гнедой!», «Янгузялем», некоторые другие песни и ро-
мансы написал композитор, а не создал народ? Да поющие
.вовсе и не думают о том, кем и когда написаны эти во-
кальные шедевры, они поют их в поле, в лесу, на берегу
реки, в застолье или исполняют со сцены, меньше всего
заботясь о природе их происхождения. И в этом, как из-
вестно, высшее проявление композиторского таланта.
Однако в обращении к фольклору, в увлечении им есть
.другая сторона медали. Она проявилась в том открытом
-письме, которое подписали многие ведущие деятели баш-
кирской интеллигенции и которое было опубликовано на
♦страницах газеты «Известия Башкортостана». В нем бе-
рется под защиту народный инструмент, право ректора
Уфимского института искусств иметь в своем заведении
•специальное отделение курая, обучать студентов профес-
сиональному мастерству исполнения на нем.
Казалось бы, стремление вполне благородное.
Но когда в адрес того же Загира Гариповича бросает-
ся обвинение в том, что он недостаточно высоко оцени-
вает значение курая, выступает, в сущности, против его
популяризации, то тут чувствуется явный перегиб.
Разумеется, бывший виртуозный кураист, благодаря
своему немудреному инструменту ставший студентом Мос-
ковской консерватории, никак не может быть противником
курая как такового. Другое дело, что он ратует не только
за обучение игре на курае, но и вместе с ним — на класси-
ческих, всемирно распространенных инструментах, типа
-флейты, саксофона, трубы, т. е. требует от педагогов (и
студентов!) многостороннего профессионального обучения,
а не узко фольклорной специализации. И в этом компози-
тор прав. Именно за острым недостатком собственных (до-
морощенных и сугубо национальных) музыкантов, могу*
тих играть в симфоническом оркестре, в квартетах и квин-
тетах, у нас чувствуется постоянный дефицит именно этих
музыкальных групп и коллективов. Желание бросить тень
на истинного патриарха национальной музыки, создателя
лервой классической оперы о великом Салавате, отнюдь
•не красит авторов вышеназванного письма и их единомыш-
ленников. И не потому, что критики в его адрес не может
быть никакой (увы, музыкальной критики в нашей респуб-
лике вообще не существует!); критика должна быть объек-
тивная, а не сбивающая с толку общественное мнение. А
в данном случае мы имеем дело с легковесной, мелочной
-210
критикой, которая толкает на неверный путь все развитие
нашей национальной музыки.
* * *
Меня давно мучает один (может быть, пустой) вопрос:
насколько необходима нынешнему человеку опера? Опер-
ный жанр вообще. Привлекает ли он к себе современно-
го, столь трансформированного общим ходом истории:
гомо сапиенса? Прежде всего на.шего, башкирского (или
любого тюркоязычного)? Почему иные «национальные опе-
ры» сходили со сцены, лишь раз или два промелькнув на
сцене?
Мне кажется, вопрос этот непраздный, и вряд ли я смо-
гу на него дать верный ответ.
Между тем, на классические оперы мирового репертуа-
ра зритель продолжает валом валить. Особенно, если в
спектакле принимает участие хотя бы один знаменитый
голос.
Если не учитывать засилье телевизора, заставляющего
людей сидеть по вечерам дома, а не идти в театр, труднос-
ти повседневной жизни (необязательно финансовые), из-
менение человеческой психологии под давлением разных
общественно-политических факторов, хронических стрессов,,
невообразимого ускорения жизни в сопоставлении с раз-
меренным бытом, казалось бы, совсем еще недавнего прош-
лого (60 — 70-е годы), то прежде всего, наверное, следует
сослаться на музыкальный язык композиторов,,
работающих в жанре оперы. Невозможность писать в сти-
ле (да и на уровне таланта!) старых мастеров вынуждает
мучительно искать новые формы и приемы, якобы отра-
жающие день сегодняшний, современный ритм чувства и
мышления и т. д. и т. п. Как известно, началось это давно,
с великих музыкальных родоначальников XX века С. Про-
кофьева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, А. Хачатуря-
на, 3. Палиашвили и др. Удивительной представляется
оперная музыка А. Петрова и Р. Щедрина. Но все это
имеет к башкирской национальной музыке лишь косвенное
отношение.
Искал новый музыкальный язык и Газиз Альмухаметов^
работавший над своими операми вместе с С. Габяши и
В. Виноградовым. Кто знает, проживи он (Г. Альмухаме-
тов) подольше, то пришел бы к созданию истинно нацио-
нальной оперы, столь же полифоничной, сколь и индиви-
дуализированной, воспринимаемой широким зрителем как
2U
нечто кровное и родное. А так — остались отдельные фраг-
менты, арии и дуэты, которые с интересом (и даже с удо-
вольствием — арии Нигмата, Сании) воспринимаются слу-
шателями, но ставить эти оперы на сцене просто-напросто
невозможно ввиду их откровенной наивности и архаич-
ности.
Повторяю: именно Загир Исмагилов открыл широчай-
шие возможности оперного жанра на основе башкирской
национальной музыки, и прежде всего своим бессмертным
«Салаватом Юлаевым». Огромную роль тут сыграла и
•смысловая сторона этого произведения, заложенная в ней
идея борьбы и братства народов, роли личности в форми-
ровании национального сознания и патриотизма.
Но после «Салавата» композитору нужно было дви-
гаться вперед, дальше, искать новые нехоженые тропы в
этом труднейшем жанре, чтобы не потерять однажды за-
воеванного зрителя, открывать и прокладывать дорогу для
других, прежде всего, молодых коллег.
Получилось ли это?
И да, и нет.
Как ни странно, Загира Исмагилова подвел (если это
слово в данном случае употребимо) его собственный та-
лант; сказать точнее, тот сильнейший взрыв природного
дарования, божественного озарения, который произошел
при его работе над первой его оперой «Салават Юлаев».
Он вложил в нее столько мощи, художнической изобре-
тательности и душевной экспрессии, что она сразу возвы-
силась горой не только в национальном искусстве, но и в
личном творчестве композитора. Идти дальше с той же
силой уверенности и мастерства стало крайне затрудни-
тельно, и автор «Салавата», конечно, испытывал это сам.
Но мужество Исмагилова в том и заключается, что он
не остановился на достигнутом, смело двинулся дальше,
в неизведанное, создавая одну оперу за другой — «Шаура»,
«Волны Агидели», «Послы Урала», «Акмулла»... Однако
в этих произведениях ему вольно или невольно приходи-
лось пользоваться однажды найденными приемами и фор-
мами музыкальной драматургии, что привносило в них
оттенок вторичности или повторов.
«Шаура» — тоже полна мелодизма и фольклорно-пе-
сенных мотивов; задушевно и волнующе звучат отдельные
арии и особенно дуэт главных персонажей оперы — Шау-
ры и Акмурзы. Правда, в звучании оркестра появились
элементы жесткости и даже жестокости — в изображении
жизненной трагедии влюбленных, с одной стороны, и бес-
сердечия сильных мира — с другой. Но, в общем-то, автор
212
оперы узнаваем, и поэтому я даже затрудняюсь сказать,
что сие есть недостаток.
Но я-то веду разговор к другому.
Может быть, именно в этой второй опере композито-
ру следовало более взыскательно подойти к музыкально-
му языку своего детища, сделать более решительный шаг
к «авангарду», современным ритмам звучания оркестра
и хора. И тогда «Шаура» явилась бы таким же новатор-
ским оперным произведением, что и «Салават Юлаев»,
несомненным шагом вперед в развитии творчества не толь-
ко самого автора, но и всей башкирской музыки вообще.
А так — она была воспринята зрителями и критикой как
хорошая, даже очень хорошая опера, с массой достоинств
и заслуг... но — очередной работой ведущего композитора
республики. Следовательно, следовать по этому пути уче-
никам его, уже обретшим творческие крылья, стало не с
руки. Да и — без пользы.
В то же время, среди этих самых учеников Мастера,
которые на сегодняшний день составляют костяк компози-
торского коллектива республики, не нашлось ни одного,
который бы оказался способен на создание не просто
«своей оперы», но и «своей оперной школы», которую еще
в стенах консерватории создал Загир Исмагилов. Ни мас-
тера его поколения (X. Ахметов — «Современники», «Нэр-
кэс», Р. Муртазин — «Перед бурей»), ни воспитанники
мэтра не смогли о себе громко заявить в оперном жанре,
а затем и вовсе ему, жанру этому, изменили. Таким обра-
зом, Исмагилов, по существу, остался в гордом одиночест-
ве, и это отнюдь не способствовало развитию в республике
оперного искусства. Отсюда — некомпетентные (а то и
просто злонамеренные) разговоры о непопулярности опер-
ного жанра на башкирской сцене, и вообще, на день сегод-
няшний, необходимости возвращения к исключительно на-
родным инструментам и к фольклорным истокам и тради-
циям.
Отмечая важность такого шага, нельзя не заметить и
негативную его сторону: этак недолго откатиться к давно
пережитой и пройденной нашим искусством эпохе 20-х
годов, когда люди жили исключительно песенно-фольклор-
ным искусством, игнорируя все прочие музыкальные шко-
лы и направления. И тогда снова должен будет появиться
некий новоявленный Газиз Альмухаметов, чтобы привить
к культуре своего народа и республики жанры классичес-
кого мирового искусства. И пусть такое заявление не по-
кажется кому-то кощунственным или преувеличенным.
Подобное — вполне реально!
213
* * *
Отметить свое 80-летие и остаться полным жизненных
сил и творческой энергии, оптимистом и мечтателем («еще
необходимо создать балет!»), а главное — в высшей степе-
ни трудоспособным и плодовитым композитором, не опа-
саясь сорваться с однажды набранной высоты, — такое
дается очень волевым, уверенным в себе, а, главное, не-
избывно талантливым художникам.
Таким именно выдающимся художником был и оста-
ется народный артист СССР, лауреат Государственной пре-
мии РСФСР имени Михаила Глинки и Государственной
премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлае-
ва Загир Гарипович Исмагилов.
ЧЕЛОВЕК ГХОЛСТА
Художник Ахмат Лутфуллин
Он появился в Уфе
как-то неожиданно и вне-
запно, точно инопланетя-
нин, отставший от своего
звездолета. Он был вез-
десущ, появлялся везде и
повсюду со своим неиз-
менным альбомом или
деревянным этюдником
через плечо, заводил раз-
говоры с совершенно не-
знакомыми ему людьми
так, словно век с ними
общался; возникал в лю-
бом обществе так, словно
являлся центром его вни-
мания, и вскоре действи-
тельно им становился.
Был неизменно весел, па-
док на разговоры, при
первой же шутке закаты-
вался громким, вполне
беззастенчивым смехом,
охотно подхватывал им-
провизированно возникшую словесную игру, в которой
был несомненным докой и мог посоперничать с любым
уфимским остряком. И — рисовал, рисовал, рисовал... Из-
водил в день по альбому и карандашу, но в его руках
возникали все новые белые листы и мягкие грифели, со-
провождавшие его повсюду и служившие верой и правдой.
Он мог рисовать и быстро, и очень медленно; мог мгно-
Ахмат Лутфуллин
215
венно набросать «человеческую натуру» и мусолить ее по-
долгу, иногда по нескольку дней. Но, главное, он работал
везде и всюду. Его руки и глаза не ведали покоя.
Вряд ли кто знал в ту пору, где он живет. И есть ли
вообще у него какой-нибудь угол или крыша над головой.
Да это никого и не интересовало, ибо сам он никогда о
том речи не заводил, ни на что не жаловался, присажи-
вался к столу при первом намеке, хотя сам на это не на-
прашивался; появлялся на банкетах или юбилеях тех, кто
его знать не знал и слыхом не слыхивал, но к концу тор-
жества он становился самым желанным гостем, с которым
хотелось пообщаться буквально всем.
Таким он остался и по сию пору. Отличие лишь в том,
что теперь его все знают и почитают честью само его при-
сутствие на банкетах или юбилеях. Но он на них бывает
все реже и реже. Если даже его приглашают.
Таков художник Ахмат Лутфуллин, которого со всей
смелостью можно назвать одним из самых известных и
титулованных художников не только суверенного Баш-
кортостана, но и России.
А тогда... Говорили, что его сослали сюда из Москвы.
За какие-то политические дела. Другие и вовсе называли
«заграницу». И были недалеки от истины. Несмотря на
то, что Литва была союзной республикой, она чем-то сма-
хивала на «заграницу». Может быть, своей отдаленностью
и малоизвестностью. А может, за «иностранный» акцент
литовцев. Вот оттуда, из этой самой Литвы, прибыл в Баш-
кирию абзелиловский башкир Ахмат Лутфуллин. Однако
прибыл, повторяю, как иностранец. Или инопланетянин.
У него были повадки деревенского джигита и манеры ев-
ропейского джентльмена. Он мелодично исполнял баш-
кирские песни и великолепно разбирался в классической
музыке, по нескольким нотам безошибочно называя ком-
позитора и его произведение. Он не был ни абстракциони-
стом, ни авангардистом, ни, тем более, кубистом. Его лю-
бимой шуткой была примерно такая: «Вчера закончил
работу... И знаешь: понравилось самомуГ И я подумал: уж
не Репин ли я?» Из этой фразы следует, что к передвиж-
никам Ахмат относился с известной долей высокомерия.
А может, пренебрежения. Когда я сказал, что мне с дет-
ства нравится картина Репина «Отказ от исповеди», он
привычно хохотнул: «Не ждали!»
— Что — не ждали? — не понял я. — Ты про картину?
— Я — про тебя. Но — в единственном числе. А про
себя — во множественном.
Говорить с ним о живописи — дело гиблое. Прежде все-
216
го потому, что у него семь пятниц на неделе. Сегодня хва-
лит русские иконы, завтра молится на Джотто и Боттичел-
ли, ставя их выше Леонардо и Рафаэля. Неожиданно его
«жгучая» любовь переносится на Веласкеса или Гойю. В
своих полушутливых-полусерьезных разговорах ни на чем
конкретном не задерживается, точно птаха, перелетая с
одной ветки на другую; с артистизмом нахваливает совер-
шенно не известные мне имена, наслаждаясь моим неве-
дением, и сокрушает общепризнанные авторитеты. Это —
одна из форм его «легких» издевок над собеседниками,
особенно над теми, с кем находится в добрых отношениях.
Справедливости ради следует сказать, что такой он есть
в тех случаях, когда разговор касается других. К своим
собственным работам, однако же, относится с плохо скры-
ваемой ревностью, хотя и пытается скрывать эту ревность
за подчеркнутым безразличием. Но голос и напряженное
выражение лица выдают. Да и какой, даже самый приз-
нанный, гений может оставаться равнодушным, когда раз-
говор касается его творений?!
А как же он все-таки оказался в Вильнюсе? Да еще —
в художественном институте?
Как это ни странно, и даже непохоже на Ахмата, на
его довольно анархическую натуру, причина тут была три-
виальная — жажда учебы, познаний, совершенствования.
Именно она двигала его по жизни в молодые годы. И тут
придется вернуться к личной биографии моего героя и хотя
бы схематически ее обозначить.
Константин Паустовский считал, что писатель должен
творить свою биографию (и значит, судьбу) сам, чтобы
использовать ее как неистощимый и бесценный материал
для произведений.
Конечно, биография отнюдь не является главным сла-
гаемым в жизни творческого человека, ибо художник в
первую очередь должен отражать не столько внешние сто-
роны жизни своего героя, сколько его внутренний, духов-
ный мир.
Благодаря постоянному стремлению совершенствовать
свои знания и мастерство, Ахмат Лутфуллин и творил би-
ографию и потому, как всякая избалованная вниманием
личность, считает, что о его жизни можно писать роман.
И еще он считает, что в его становлении как человека и
художника главную роль сыграли три города: Магнито-
горск, Петербург и Вильнюс. Причем, первым неизменно
называется Магнитогорск, который находится всего в пол-
ета километрах от Абзелилова. Более того — на исконной
абзелиловской земле, которая, как известно, в свое время
217
была отдана для строительства этого уникального во мно-
гих отношениях города, поднявшегося в голой степи. Имен-
но Магнитка, считает художник, спасла башкирского маль-
чика из аула Ишкул от голодной смерти в годы войны.
Уходя от преследования и ареста, его отец Фаткулла Ишку-
ватов, работавший секретарем сельсовета, менял места
жительства, перебираясь то в деревню Абзак (нынешний
Белорецкий район), то в Амангильде, то в центр Абзели-
ловского района село Аскарово. Не успевал мальчишка
привыкнуть к одной школе и учителям, как приходилось
притираться к другим. И вот группа мальчиков надумала
однажды скопом податься в Магнитку (как, бывало, рос-
сийские сорванцы в гражданскую войну подавались в «го-
род хлебный» Ташкент). В Магнитогорске Ахмат устроил-
ся в ремесленное училище, и это решило всю его дальней-
шую судьбу. Не как профессионального рабочего, а как
профессионального живописца^ Один из работников проф-
союза увидел, как башкирский подросток рисует мелом на
черной доске, и был удивлен схожести рисунка с натурой.
Подростка из Ишкула приставили подручным к художни-
ку училища; вскоре он сам стал «главным» художником
всего учебного заведения: писал плакаты и лозунги, мале-
вал огромные портреты вождей. Слава о нем распростра-
нилась на весь микрорайон училища, и теперь уже группа
русских ребят предложила ему ехать в Ленинград для по-
ступления в художественный институт: «Ты же закончен-
ный художник, тебя примут без лишних вопросов!» И Ах-
мат не устоял перед искушением. Но в городе на Неве
действительно не тратили лишних слов. В общем, башкир-
скому отроку из Магнитки ясно дали понять, что для пос-
тупления в институт он просто-напросто не готов.
На обратную дорогу у Ахмата не было денег. Как не
было их на жизнь в первой столице революционной дер-
жавы. Но вовремя подоспел добрый совет поступить в
училище для маляров и штукатуров, где его приняли с
распростертыми объятьями, ибо желающих идти в это
заведение было немного. Там он жил два года, как у Бога
за пазухой. Училище это находилось чуть не в самом цент-
ре Ленинграда, неподалеку от Эрмитажа и Русского му-
зея. Ахмат настолько примелькался, что его пускали без
всякого входного билета. По окончании училища руко-
водство хотело оставить чернявого башкира в своем заве-
дении, ибо для его стен художественный дар выпускника
был беспрецедентным.
Он привел веский довод: желание поступать в бывшую
имперскую Академию художеств. Но там ему сказали: у
218
тебя направление «архитектурно-штукатурное», иди в Ар-
хитектурный. Но Ахмат хотел поступить только на факуль-
тет живописи, и опять остался у разбитого корыта. И тог-
да строптивый «маляр» возвращается в Уфу, где, наконец,
поступает в учебное заведение «по профилю» — в Уфим-
ское художественно-театральное училище, где в ту пору
преподавал замечательный и общепризнанный художник
Александр Эрастович Тюлысин, знававший еще самого
Давида Бурлюка. Новичка ему представили таким обра-
зом: «Вот, Александр Эрастович, этого паренька из дерев-
ни мы хотим принять сразу на четвертый курс, потому
что он переросток и младшекурсники будут над ним сме-
яться». Маститый педагог пожал плечами: «На четвертый
так на четвертый, мы никогда не были против деревенских
самородков». Он был человек с юмором и к странностям
руководства относился снисходительно. Увидев первую же
его работу с натуры, он долго молчал и внутренне обидел-
ся на свое руководство. Розыгрышей он не любил. Однако,
узнав, что джигит успел не только пожить, но и поучить-
ся в Питере, понимающе кивнул головой. Позднее он стал
считаться учителем еще одного «способного» ученика, ко-
торый и в зрелые годы приходил к нему домой за советом
или показать новую работу.
По окончании Уфимского училища вновь встал гамле-
товский вопрос, на который Ахмат Лутфуллин ответил
тем, что махнул в Вильнюс, где.и поступил в художествен-
ный институт...
* * *
После того, как на республиканской выставке появи-
лись первые работы молодого художника, о нем заговори-
ли как о талантливом «национальном» живописце, от ко-
торого следует ожидать многого. И именно тогда я впер-
вые встретился с ним, чтобы надолго стать его почитате-
лем и, надеюсь, другом.
А теперь позвольте перескочить на много лет вперед.
Да, лет этак на восемь—десять.
За эти годы я не только близко сошелся с Ахматом,
бывал у него дома и в мастерской, в которой иногда тор-
чал по многу часов подряд, наблюдая за его работой; а
однажды провел даже летний отпуск в его родном Ишку-
ле, что в Абзелиловском районе. Когда он был занят ра-
ботой, я уходил бродить по окрестным местам, взбирался
на горные склоны или сидел на берегу речки Кизил, мело-
219
дично звеневшей по камешкам под жужжание шмелей и
порхание стрекоз; слушал рассказы хозяина кумысника
по имени Халим, который в тридцатые годы работал ми-
лиционером и «партиями» свозил на телеге муртазинцев в
город Белорецк, где их, после короткого допроса, пускали
в расход. Обо всем этом Халим рассказывал спокойно и с
такой подкупающей откровенностью, что я порой начинал
сомневаться: а не хитрит ли он? Не разыгрывает ли не-
опытного городского (по его мнению) парнишку? Самым
удивительным в его рассказах мне казалось то, что эти
арестованные Халимом муртазинцы, люди, сражавшиеся
под командованием комбрига Мусы Лутовича Муртазина,
то есть, отчаянные и мужественные, в свое время наводив-
шие ужас сначала на дутовских казаков, а потом — на бе-
лополяков, покорно давали оторвать себя от родного оча-
га, но и сопроводить в город, который находился отсель
в километрах восьмидесяти. Да ведь и вез-то не одного-
двух, а — «партией»! И только позднее, много занимаясь
изучением характера башкирского человека, я оконча-
тельно поверил в правдивость рассказов абзелиловского
милиционера; да, фатализм — черта характера любого.ис-
тинного башкира со всеми вытекающими отсюда последст-
виями.
Когда я рассказал Ахмату о Халиме, он философски
заметил: «Наши люди на войне львы, в мирное время
дома — телята».
Мастерская художника была просторной, но не очень
уютной. Зато большие высокие окна дарили много света.
Я всегда удивлялся манере Ахмата работать перед
мольбертом. Он редко когда задерживался у холста на не-
сколько минут, постоянно находился в движении, как бы
прицениваясь к нему издали, сильно щуря глаза, потом
быстро подходил к полотну, наводил несколько мазков,
а то и вовсе один-единственный мазок, затем снова рез-
ко отходил в сторону, чтобы разглядеть содеянное. А то
вдруг двинется тяжело, и начнет замазывать какой-нибудь
участок картины охрой или белилами, так что не по себе
становилось от такого вандализма. Первоначально я спра-
шивал: «Зачем ты это?», а он повернет насмешливое лицо,
а в глазах — то ли растерянность, то ли смятение, уронит
короткий смешок и запоет удивительно мелодическим те-
норком, да так, что и позабудешь о своем вопросе. Но он-
то не забывает, вспомнит через какое-то время, а то вооб-
ще через час-другой, и скажет: «Вот ты спрашивал, почему
я замазал ту фигурку... А тебе не кажется, что...», и нач-
нет приводить доводы в пользу своего поступка. И конечно
220
же, убедит в его правомерности. Да только все равна
жалко того человечка или лошадь, которых так вот уби-
вают, не дав пожить, представиться людскому глазу,
ибо по логике, тому бы и судить, нужны картине эти фи-
гурки или не нужны (так, во всяком случае, казалось
мне!). Только нет, хозяин холста распоряжается по-своему,
и только Бог один ему и судья.
У Сальвадора Дали, который писал всегда выспренно
(я имею в виду не его живопись, а литературные записи) г
но в полном согласии со своей натурой, есть такие строч-
ки: «Я всегда иду от реальности и всегда с полной корзи-
ной возвращаюсь к ней. В этой игре я — медиум, прозре-
вающий иное; чудо-математик, решающий уравнение соз-
нания. Я существую как целостный организм — живу каж-
дой клеточкой; энергия же, заключенная во мне, приведе-
на в гармонию и озарена светом. Я подбираю крупинки
золота, и сила воображения переплавляет их в слитки...»-
Вполне возможно, слова эти отражают свойства любого
талантливого живописца (а не только гениального сюрре-
алиста Дали!), манеру работать башкирского мастера
кисти Ахмата Лутфуллина они передают абсолютно точно..
Без реальной жизни, живой натуры, будь то человек, жи-
вотное или обыкновенный пень, он не может творить. Толь-
ко осязаемая плоть окружающей действительности может
привести в движение его воображение, заставить его «при-
вести в гармонию, озарить светом». А этот процесс проис-
ходит уже в мастерской, в мучительных раздумьях и
страшных раздвоениях мысли, когда на холсте прозрева-
ет он «иное» и решает «уравнение сознания».
Итак, мы отправились с ним «на натуру», которая, по-
добно сокровищам Али-Бабы, таилась где-то в дебрях
прибрежных лесов Караидели (Уфимки), и нам пришлось
добираться до нее добрых часа полтора. В конце концов
мы оказались на открытом пригорке, откуда открывался
широкий обзор заречных далей; немыслимо отдаленный
от нас окоем клубился темно-серыми дымами невидимых
глазу нефтехимических заводов. Никогда не думал, что от-
сюда можно просматривать уфимские просторы так дале-
ко. «Смотри-ка, присмотрел же однако!» — подумалось,
мне. Что ж, художник есть художник, глаз у него всегда
был «на прицеле».
Но спутник мой не обращал никакого внимания на по-
разившую меня панораму; он кружил вокруг какого-то
черного ствола дерева, раскокошенного ровно на полови-
221
не, так что верхняя часть безжизненно обвисала в сторону
обрыва, едва уцепившись последними сухожилиями мерт-
вой коры за родительский остов. Скорее всего, дерево бы-
ло разбито ударом молнии, ибо только шальной небесный
огонь мог так мгновенно сразить сей матерый ствол и
обуглить его чернее головешки.
При виде этого опаленного калеки мне тотчас вспом-
нился рассказ Чехова «Черный монах», в котором столь
зримо и с мистической реальностью передается восприятие
вот такого же черного загадочного существа, но только —
живого.
«Что он в нем высматривает? — подумалось мне. —
Опять демонстрирует свои странности...»
Дело в том, что у Ахмата были всякие странности, ко-
торые обозначить-то непросто. Ну, скажем, проходит мимо
толстозадая, не в меру дородная бабенция с грубым пры-
щеватым лицом, а он застынет, заглядится на нее, прямо-
таки залюбуется, и кажется, вот-вот бросится следом, упа-
дет перед ней, как, бывало, Исаак Левитан перед незнако-
мой красавицей, на колени, и станет упрашивать ему по-
позировать.
Потом обернется к тебе и спросит почти вожделенно:
— Не правда ли, хороша?
Или, слушая какого-нибудь известного певца, крякнет
«с досады, бросит пренебрежительно:
— Перестарался! Потерял чувство меры...
И это — в самый, так сказать, кульминационный мо-
мент, когда следует слушать, затаив дыхание.
Поначалу я терялся, не зная, как реагировать на не-
южиданные выходки мэтра, но потом пообвык и стал вос-
принимать их как проявления чудачества, эдакой демонст-
рации неких странностей, без которых, как известно, не об-
водится ни один гений (или человек, считающий себя ге-
•нием).
Так иногда думаю я и поныне, хотя неоднократно убеж-
дался, что в странностях друга есть своя правота. Правда,
парадоксальная, «художническая», но с ней нельзя не
считаться. Только многие, прежде всего те, кто общается
;с ним впервые, попросту не могут (не успевают) понять
этот «секрет» художника и воспринимают его как элемен-
тарное пижонство знаменитости. Я знаю это по тем отзы-
вам о Лутфуллине, которые мне приходится слышать от
тех или иных особ.
Итак, после довольно тщательного изучения «черного
монаха» Ахмат наконец-то облюбовал себе кочку непода-
222
леку от натуры и, опустившись на нее, стал работать ка-
рандашом и кистью.
Я почему-то еще надеялся, что после сокрушенного-
молнией дерева он все-таки перенесет свое внимание на
поразивший меня пейзаж. Однако, поработав часа два,,,
он стал собирать свое нехитрое имущество и, даже не взгля-
нув в сторону курящегося сизыми дымами горизонта, спо-
койно зашагал обратным путем, бросив мне коротко:
— Пошли!
Зато «черный монах» был выписан мастерски!
Ахмат вообще мастер изображать всякие «ущербные»-
предметы быта и бытия — прогнившие и покосившиеся
плетни, ветхий сарай, какие-нибудь заброшенные, вкривь
и вкось торчащие доски, неухоженный двор...
И как бы кощунственно это ни звучало, продолжая
этот «ущербный» список, назову дряхлых старух и стари-
ков, каких-то калек и горбунов, незрячих и хромоногих*
которых с видимым удовольствием фиксирует глаз и кисть
художника.
Но об этом позднее.
Может быть, я забыл бы о «черном монахе», не
встреть в скором времени его знакомый облик на одной
из крупных работ Ахмата, где он занимал отнюдь не вто-
ростепенное место. Потом я находил его и в других рабо-
тах художника, может быть, в несколько преображенном:
виде, но все же —именно его, переломленного посередине
сокрушительным ударом молнии.
А теперь, все-таки, о тех стариках и старухах, пока
не отошел от них слишком далеко.
Однажды я подумал: если бы Рафаэль сотворил порт-
рет убогого старика, да еще подслеповатого, в рваной
одежде, и мы неожиданно узрели бы его в покоях какого-
нибудь музея, то наверняка отказались бы поверить, чта
он принадлежит кисти автора «Сикстинской мадонны».
Отказались бы и не приняли бы его. Художники итальян-
ского Ренессанса — гении чистой красоты.
Если бы тот же Ахмат Лутфуллин предстал пред нами
как автор современных мадонн (башкирских или других) г
он не был бы с самого начала принят так, как был принят
в своем истинном качестве. Хотя в самом начале пути у
него была такая «мадонна» — передовица труда Ишмуха-
метова, портрет которой, тем не менее, был не просто*
принят, но и многократно воспет в статьях и рецензиях:
искусствоведов. И не только потому, что был создан в по-
ру обязательного восхваления и воспевания «людей труда»,.
22$
но и за некий новый взгляд на этих людей. Дело в том,
что в своем портрете художнику удалось передать и уди-
вительно женственную красоту девушки, и ее работящую
сущность, когда два этих начала не только не приходят
в антагонизм, но и более чем соразмерно сочетаются друг
с другом.
В начале пути творческого человека очень много значит
один-единственный успех, отмеченный вниманием специа-
листов, прессы и, не побоюсь сказать, «верхов». Он созда-
ет известный имидж художника, определяет его дальней-
ший путь, который почти со стопроцентной уверенностью
можно гарантировать — будет одобрен и надежно за-
щищен от каких-либо нападок. Лутфуллин такую заявку
сделал — и портретом Ишмухаметовой, и «Портретом ра-
бочего» — обыкновенного, но великолепно выписанного
парня в свитере, с колючими и тем не менее добрыми гла-
зами.
Мог бы стать Ахмат неким официальным художником,
работающим в ключе, требуемом властвующей идеологи-
ей, продолжай он создавать беспроигрышную серию «про-
летарских» портретов?
На этот вопрос он ответил сам. Своим дальнейшим
творчеством. Сразу после «передовиков и передовиц» у
«его пошли совершенно иные работы: деревенские люди,
старые и молодые. Чаще — старые, изморщиненные лица
и глубоко сидящие глаза; темные «рембрандтовские» тона,
но налагаемые более решительно и подчеркнуто резко,
чтобы довести до зрителя не столько «вещественную фак-
туру» натуры, а судьбу... О, это был ошеломляющий пово-
рот в творчестве молодого художника, так же, как и само
«его неожиданное пристрастие к «черной» деревенской те-
матике, какое вообще столь редко встречается в мировой
практике живописи!
Нет, я не в том смысле, что не было художников-дере-
венщиков: их тоже — хоть пруд пруди! Хотя бы тот же Ар-
кадий Александрович Пластов, создавший эпоху в этой
теме... Имеется в виду, что башкирский мастер сделал этот
поворот и осмысленно, и в то же время вызывающе. Имен-
но в деревенских людях, в сельских пейзажах, в деревян-
ных и саманных избах, в простых деталях аульного быта
{члены семейства за чаепитием и во многом другом) уви-
дел он то, к чему был внутренне настроен и устремлен
всем своим духом и природным воспитанием — тему род-
ного народа, его истории и судьбы.
Не побоюсь сказать, что портреты рабочих были для
524
него лишь трамплином для прыжка в главное для себя
пространство — народ.
Да, само это слово, само понятие сие — «народ» — по-
рядком измочалено от непомерного употребления. Одна-
ко, касаясь личности и творчества такого художника, как
Лутфуллин, обойтись без него просто невозможно. И даже
стыдно! И потому я употребляю его с полным сознанием
этой правомерности.
Забегая вперед, скажу: с самого начала Ахмат Фаткул-
лович не просто фиксировал деревенские типы, но искал
некую тайну народного характера и духа. Искал в каждом
запечатленном им типаже, в каждой извилистой прожилке
старческих рук и глубокой морщине такого же лица, во
взгляде глубоко посаженных глаз, страдальческих и без-
различных, потухших от груза пережитых бед и горестей,
однако четко осмысленных изнутри, как бы светящихся
глубоким душевным чувством.
Вот он, художник Ахмат Лутфуллин, которого ни с кем
не спутаешь, хотя немало его коллег пытаются писать
именно деревенских людей, но делают это для «националь-
ного колорита» или из простого интереса к «башкирскому
типажу».
Вот это постоянное разгадывание некой сокрытой, но
вполне осязаемой тайны народного духа и судьбы и есть
особенность лутфуллинского почерка, которому он никогда
не изменял и не изменяет по сию пору, несмотря на от-
дельные упреки и даже обвинения в «однотонности» или
«однообразии» работ.
* * *
Скажу откровенно: я являюсь поклонником как раз
этого «черного» периода в творчестве Лутфуллина. Имен-
но его черный цвет на шершавом, зримо ощущаемом хол-
сте заставил меня уверовать, что это — неординарный, вы-
дающийся мастер, признающий над собой лишь один за-
кон и диктат — сердца и совести.
Но над ним много лет подряд довлел другой диктат —
партийный. Диктат беспощадный, сокрушающий всех, кто
не желает признавать его силу и власть. Ахмат Лутфул-
лин— один из тех, кто едва не стал жертвой этого дик-
тата.
Конечно, вполне пристрастная критика его деревенских
типажей «черного периода» со стороны всезнающего идео-
логического секретаря обкома и его подручных не могла
причинить живописи и самой личности художника особого
3 Заказ 4IS
225
вреда. Тем более, его всегда понимали и поддерживали в
Москве, устраивали там выставки, тогда как у себя дома
он ходил в очернителях советской действительности и даже
в «националистах».
Куда пострашиее оказалось его публичное высказыва-
ние о «безликой и уже потому бездарной советской мону-
ментальной скульптуре». Весь ужас этого озвученного им
вслух мнения заключался в том, что Лутфуллин в качест-
ве конкретного примера подобной «бездарности» сослался
на монстра с вытянутой вперед рукой — памятник, уста-
новленный на площади перед Уфимским горсоветом — ны-
нешней мэрией.
Произошло это во время встречи со студентами и пре-
подавателями Уфимского авиационного института.
На второй день, буквально с раннего утра, «антисовет-
ское высказывание» художника было уже известно секре-
тарю обкома партии и завертелась-закрутилась «кагэ-
бэшная» карусель — с нескончаемыми вызовами в «дом
на Коммунистической», где тогда находилось здание Ко-
митета госбезопасности, с постоянным ожиданием ареста,
бессонницей и потерей работоспособности. И тянулось все
это до тех пор, пока сильный и всегда оптимистически на-
строенный мужчина не слег. Это был испытанный и с не-
изменным успехом применяемый метод партийного босса,
который на этот раз отыгрался за все: за симпатии Моск-
вы и ведущих художников страны; за свое личное неприя-
тие живописи Лутфуллина и недейственность своей крити-
ки; за то, что он башкир по крови и не желает того скры-
вать, выпячивая свою национальную принадлежность в
своих подчеркнуто башкирских работах, создаваемых в
одном из самых национальных районов республики — Аб-
зелиловском.
Но, как говорится, Бог миловал, хотя на нервной почве
кисть правой руки была надолго парализована и художни-
ку много лет кряду пришлось ее лечить.
* * *
Говоря о так называемом «черном периоде» (термино-
логия— моя), я имею в виду и конкретную работу, кото-
рую я считаю одной из вершин в творчестве Лутфуллина.
Это — портрет старухи. Небольшой холст, примерно 60Х
Х80 см., или чуть больше, и — шедевр, обрамленный в не-
броскую раму.
Как можно описать этот портрет для тех, кто не имел
возможности его видеть? Представьте обыкновенную убо-
226
гую и очень старую башкирскую старуху в светлом платке,
контрастом которому предстает подчеркнутая темень ее
лица. Полуслепые глаза с оголенными красными веками,
почти стертые временем брови (без присутствия бровей);
заостренный, как у покойницы, нос, сухие, плотно сжатые
губы, какие бывают у всех старых людей, забывших свой
возраст.
Но еще более потрясающе выписаны руки старухи.
На этих руках — не только печать непрерывного тру-
да, суровых испытаний, но печать долгих-предолгих лет
постоянной нужды и борьбы за выживание.
Это — руки Женщины, матери нашей жизни.
Богини нужды и страданий.
И одежда на ней — темная. Точнее — черная.
И фон — черный. Вовсе не для того, чтобы довести
общее настроение картины до некой безысходности. Эта
чернота опять-таки идет от подсказки совести. От правды
жизни, от которой художник не отходит ни на шаг.
Я мог бы говорить о других работах Лутфуллина того
периода: о портретах стариков, и не только стариков — мо-
лодых земляков художника; колхозников, трактористов,
скотников, доярок. Еще больше у него портретов семей-
ных — внутри и вне дома; сидящих на нарах и за столом,
возле самовара.
Но я уверен в одном: самые «живописные» описания
этих работ вряд ли что-то добавят к тому, что было ска-
зано выше о «Портрете старухи», который как бы вобрал
в себя самые отличительные стороны творчества Ахмата
Лутфуллина того времени, которое, повторяю, стало для
него воистину звездным.
* * *
Другой период в творчестве Ахмата я, опять-таки ус-
ловно, назвал бы золотистым.
Или просто — золотым.
По сути, таковой он и есть: весь светящийся золотис-
тым блеском жизни, человеческих лиц, глаз, взглядов.
Человеческих судеб.
Пожалуй, работы этого периода наиболее известны и
ценителям живописи, и ее поклонникам.
Конечно, есть в этом моем определении («классифика-
ции») известная натяжка, ибо в рамки этого периода я
ввожу и такие картины, как «Три женщины», «Портрет ма-
тери», «Золотая осень», «Родители художника», «Портрет
женщины на крыльце» и т. д. Во всех работах той поры
8*
227
явственно ощущается какой-то душевный подъем, опти-
мистический и в то же время зрелый взгляд на мир; от
картин веет полнотой жизни, земным духом святости и
плодородия.
В этом контексте хочется вспомнить давнее высказыва-
ние Мустая Карима об одной из самых знаменитых работ
Лутфуллина «Три женщины».
«Если перенести язык цвета и красок ее на язык сло-
весный, литературный, можно сказать, что в этих женщи-
нах олицетворена сама Башкирия».
Символическое определение! Тем более, что в одном из
своих стихотворений народный поэт сравнил ту же Башки-
рию с тремя женскими образами: матери, жены и дочери.
Задумываясь над картинами золотого периода, я не
без удивления констатировал для самого себя: их трудно
описывать или как-то комментировать. В отличие, скажем,
от работ «черного периода». Может быть, потому, что в
«золотых картинах» как бы отсутствует то, что мы назы-
ваем дыханием истории, в первую очередь угадываем в
образах (словно бы за спинами) стариков и старух «в
черном». Здесь — иной отблеск жизни, иное настроение и
мироощущение; больше внутренней уверенности, ясного
взгляда на жизнь, землю, людей.
Взять, хотя бы, тех же «Трех женщин».
Кто-то из искусствоведов (или коллег-художников)
справедливо сравнивал их с великой «Троицей» Рублева.
И впрямь, здесь огромную роль играют не только мастер-
ски выписанные фигуры женщин разного возраста и по-
ложения в сельском обществе, но и композиция, безупреч-
но найденная автором картины; эта неуловимо идеальная
гармония фигур, изумительная пропорция линий голоиы,
плеч, торса; а уж потом — расцветка, мягкая уверенность
красок, некричащее торжество палитры.
То же самое можно сказать о картине «Золотая осень»
или «Мать на крыльце», в которых видение художника
обретает некий надмирный характер, ибо — совместно про-
житая двумя людьми жизнь, длиною в полвека, и неукро-
тимый дух веры и надежды, которым живет каждая мать,
есть категории не только высшие, но и священные для зем-
ного бытия, и именно это уловил, понял и впечатляюще
отобразил в своих картинах художник.
Есть у Ахмата Лутфуллина две работы, как бы создан-
ные на одну тему, но — с противоположным смыслом ис-
пользованного в них сюжета: «Прощание» и «Ожидание».
Редко в каких других картинах автор достигал такой мо-
щи выражения внутреннего мира женщин. И в той, и в
228
другой — те же, прямо скажем, мало эстетичные, неуклю-
жие в своих деревенских одеяниях матери, устремляющие
вдаль свои слепнущие от постоянного напряжения очи. Но
если в первой картине они еще видят силуэты своих сыно-
вей, уходящих в тревожную неизвестность, и потому в них
теплится надежда на их возвращение, то в другой — толь-
ко ожидание, и ничего больше. Никто из них не знает, что
преподнесет им далекий и холодный рассвет.
В этих своих работах (как в более поздних — многофи-
гурных — «Сабантуй» и др.) художник сознательно или
нет тянется к метафизике, некой преднамеренной статич-
ности, избегая всяческого динамизма. Между прочим, не
следует забывать, что именно метафизическое учение дало
начало великому течению экзистенциализма. Только не-
художник может не знать, что работать в статичном клю-
че куда сложнее, нежели в экспрессивном стиле, выражаю-
щем эмоции в жестах, телодвижениях, как бы доносящем
внутреннее состояние героев картины их внешним рисун-
ком. Лутфуллин с самого начала отвергал и отвергает этот
путь наименьшего сопротивления в живописи. Увы, далеко
не каждый зритель может по достоинству оценить этот по-
вседневный подвиг мастера, который не протягивает ему
руку помощи, а как бы преднамеренно топит в омуте до-
гадок и предположений.
Взять хотя бы его картину, посвященную Салавату.
Ах, как долго и мучительно работал он над ней, не при-
миряясь ни с одной из поочередно сотворяемых им вер-
сий. Сколько раз переделывал фигуру своего героя, ища
подобающие масштабы, верную позу, линию взирающей на
своего вожака толпы. В конце концов он был вынужден
дать своей картине нейтральное название «Прошание с
родиной», видимо, поняв, что так и не сумел воссоздать
задуманный образ великого национального полководца.
И думается мне: опять же потому, что и тут не пожелал
изменить своему художническому кредо — статичной пере-
даче внутреннего мира героя, что почти невозможно в дан-
ном художественном контексте. Что ни говори, а происхо-
дит-то страшное: мука всемирная, жестокое подавление и
«примерное» наказание тех, кого он только вчера подни-
мал на мятеж, вел на кровавую битву. Так может ли он
с безразличной тоской озирать эту жестокую панораму и
воспринимать муки человеческие?!
А вот толпа, точнее — народ, толпящийся на заднем
плане и скорбно взирающий на сына своего и вождя, сот-
ворен идеально. Да, она, толпа эта, тоже неподвижна в
своей великой печали. Но эти головы, эти окаменевшие
229.
лица и взоры потрясают. А коли так — не подвести ли
главную фигуру картины к высокой мере этих людей, соро-
дичей и жертв того, кто в очередной раз воспалил их на
всенародный бунт и обрек тем самым на новые нечеловече-
ские страдания?..
Вернемся к «черному монаху».
Да, мы знаем Ахмата Лутфуллина прежде всего как
портретиста, глубоко входящего во внутренний мир, пси-
хологию и характер натуры. Взять, хотя бы, портреты Му-
барякова, Кудоярова, Мустая Карима...
Но для меня дороги и его пейзажные работы, этюды на
природе, абзелиловские холмы и косогоры, покрытые «цве-
тами на камнях»; сопки и курганы, возвышающиеся над
ровной плоскостью тамошних степей, жесткий солончако-
вый кустарник... Моей душе чрезвычайно близки его полу-
разрушенные деревенские дома, покосившиеся ограды с
торчащими, подобно клыкам мамонта, жердями; его забро-
шеннные сарайчики, заводки, ветхие ставни окон...
А уж о том, что пейзаж — неотделимая часть многих
его портретных работ, особенно когда события разверты-
ваются на широких майданах Зауралья, и говорить не-
чего.
Остановимся на одной из таких работ, а именно — на
«Белой юрте».
Да, именно такую юрту-красавицу изобразил худож-
ник, изумительно выписав кочевой полог башкирских ба-
ев, который так и назывался — «Ак тирмэ» — Белая юрта,
сделанная из тонкого «слоеного» шелка.
Между тем, зрительное очарование картине придает
именно пейзаж, который только-то и состоит, что из тем-
ных клубящихся туч. Но как все это выписано! Сколько
смысла, внутреннего напряжения в этих грозовых тонах,
сколько затаенной философии и сложных ассоциаций исто-
рического характера! И поэтому, на мой взгляд, неоправ-
данными представляются фигуры людей на переднем пла-
не. Без них эта глубоко символическая картина только
бы выиграла.
Как переводчика и исследователя жизни и творчества
пламенного поэта Шайхзады Бабича, меня очень интере-
совала работа художника над образом этого человека.
Вот что писал я об этом в газете «Известия Башкорто-
стана» в статье, посвященной творчеству Лутфуллина:
«...перед нами — неприкрытая, с кровью сердца выплесну-
230
тая метафора, которая вбирает в себя все страдания и бо-
ли отнюдь не одного лишь человека, гениального барда
своего народа. А может, всего человечества. Ведь гибель
юности, таланта, надежды — это катастрофа не одного
только народа, а всей Земли, ее извечная скорбь и печаль.
Глядя на уносящуюся в небесные покои фигуру убитого
на земле Бабича, невозможно не вспомнить Шандора Пё-
тефи, Джорджа Байрона, Андре Шенье, Михаила Лермон-
това... Вот почему картина башкирского художника, кото-
рая, кстати, еще не завершена, обретает всечеловеческое
значение и звучание».
Я и сегодня могу подписаться под этими строчками.
А теперь, когда картина завершена, не могу не выра-
зить своего восторга ею и кратко передать ее содержание.
Представьте себе оторванную от кровавой земли Душу
поэта, еще не оставившую тело, но уже превратившуюся
то ли в ангела смерти, то ли в ангела бессмертия.
Представьте себе это вытянутое, почти бесплотное те-
ло, уносящееся в горние небеса, эти страдальчески возве-
денные руки, сплетенные в запястьях, словно их сковыва-
ют незримые нам наручники... О, да это ведь судьба не
одного поэта, а всего его народа; это тысячи, десятки и
сотни тысяч душ, сведенных в одну огромную кровоточа-
щую Душу! И все же, прежде всего это —сам Поэт.
Вон, неподалеку, парит его мандолина — вторая душа
(или натура) Шайхзады. По бокам — еще две какие-то
фигуры, которые можно принять за кого угодно — и за
ангелов, ведущих поэта в рай, или за дьяволов, которые
стремятся проследить его посмертный путь... в ад?
Я впервые увидел в этой работе кипучую фантазию ху-
дожника, которую он прежде совершенно сознательно при-
глушал, и я рад ее приветствовать в образе именно моего
поэта!
* * *
Прошло немало времени с того дня, как я в последний
раз виделся с Ахматом. Да и не мудрено: он все чаще ис-
чезал из города, иногда — на долгие месяцы. Жил и ра-
ботал в своем Абзелиловском районе, где организовали
сразу два его музея — в родном Ишкуле и в районном
центре Аскарове, которым Ахмат подарил немало работ,
в том числе серию портретов земляков, которая в свое
время экспонировалась в салоне на Крымском мосту в
Москве и получила высокую оценку в газете «Правда».
Еще один музей Лутфуллина был открыт в ауле Абзак, где
прошло детство художника, но его постигла горькая
231
участь — музей сгорел в одну из зимних вьюжных ночей.
И вот я снова в его мастерской по проспекту Октября.
Сразу обратил внимание на непомерно большое количест-
во работ. Они громоздились по углам просторной мастер-
ской, были прислонены к стенам по бокам мансарды, вы-
строились на «втором этаже», сотворенном из длинных
досок.
— Я покажу тебе только поздние работы, — предупре-
дил хозяин. — Именно в эти годы трудился особенно
много.
Заявление это меня удивило: я почему-то думал, что
как раз в последнее время, как и многие маститые люди
творчества, он как раз больше бездействует, поддавшись
общему настроению неверия и скептицизма. А когда уви-
дел эти картины, то и вовсе пришел в восторг, ибо они
стали для меня сущим откровением.
Однако все по порядку.
В последние годы почти вся башкирская интеллигенция
(особенно ее «элитная» верхушка) жила тем, что откры-
вала и заново возвращала имена тех, кто был в свое вре-
мя заклеймен как враг народа, кого пытались вытравить
из народной памяти. Как оказалось — безуспешно. Бук-
вально за несколько лет все встало на свои места, самые
достойные имена не просто вернулись к нам из небытия,
но помогли понять и переосмыслить всю нашу прошлую
и недавнюю историю. Действеннее всех остальных сделал
это историк-тюрколог с мировым именем Ахметзаки Ва-
лиди, являвшийся предводителем Башкирского националь-
ного движения и создателем Башкирской автономии. Его
книга «Хатиряляр» («Воспоминания») совершила подлин-
ный переворот в умах людей, заставила новыми глазами
взглянуть на нашу прошлую и нынешнюю судьбу. Он не
был реабилитирован в отправном для этой акции 1956 го-
ду, как, например, его друг и соратник, кавалер трех орде-
нов Боевого Красного Знамени Муса Муртазин. Он при-
шел к своим землякам без соизволения властей в год сво-
его столетия — 1990-ом, и сразу стал духовным отцом на-
ции, законодателем принципов и идей общественно-поли-
тического сосуществования в столь сложном регионе, как
Россия. Он стал тем, кем был и при жизни — ведущим
началом духовной жизни народа в его движении вперед в
новых политических условиях. Именно принципы создан-
ного им Башкирского шуро стали основополагающими и
для сегодняшнего суверенитета Башкортостана.
Мог ли такой художник, как Ахмат Лутфуллин, пройти
мимо этой личности?..
232
Я не удивился, узнав, что он вот уже несколько лет
кряду трудится над триптихом, который с полным правом
можно назвать историческим: три портрета —А. Валиди,
М. Муртазина и Ш. Бабича, объединенные одним замыс-
лом и композицией.
От центральной фигуры — Ахметзаки В ал иди — зави-
сел не только успех, но и вся судьба будущей работы, ее
общественная значимость. И эта центральная фигура за-
ставила меня вздрогнуть от волнения: портрет, решенный
в сумеречных тонах, когда все предстает в неком таинст-
венно-весомом свете: и пронзительные глаза, зорко и остро
взирающие прямо на зрителя, прямо в его душу, а, может
быть, и сквозь нее; крепко сжатые тонкие губы, подчерки-
вающие огромную волю и целеустремленность натуры; ху-
дощавая фигура крест-накрест затянута ремнями; и весь
он, подтянутый и решительный, как выстрел, производит
неизгладимое впечатление.
Справа встанет Муса Муртазин, чьими фотографиями
пестрит левая стена мастерской художника, а с другой
стороны от Предводителя — Шайхзада Бабич.
Думаю, такой триптих украсит не просто любую вы-
ставку или музей, но и самые авторитетные правительст-
венные апартаменты!
Художник такое множество раз писал портрет своей
матери, что постепенно лик ее превратился в некий символ
башкирской женщины. Вот и на этот раз он показал два
ее портрета — не варианты, а совершенно автономные
картины, каждая из которых представляет огромную худо-
жественную ценность. На первом, большем по размеру,
портрете МАТЬ представлена в том благословенном обли-
ке, когда о женщинах говорят «ил эсэЬе» — мать рода,
верховодица. На прекрасно выписанном лице — мудрая
умиротворенность человека, которому не только известно,'
но как бы и подвластно все. Она восседает во всей красе
своего пожилого возраста, когда один вид женщины вы-
зывает невольный трепет и глубокое почитание.
Совершенно иначе решен другой портрет, где мать
изображена во время острой болезни. Казалось, кисть ху-4
дожника даже не коснулась ее тела — оно белое, как по-
лотно, каким бывает лицо именно больной, но сильной ду-
хом женщины. Но какой чистый и безгреховный взгляд, ко-
торый одновременно и благословляет нас, и прощается с
нами. И с жизнью — тоже. Перед таким портретом, перед
таким женским челом необходимо только молча исповедо-
ваться и внимать ее молчаливым заповедям.
К этим двум портретам непосредственно примыкает
233
еще один портрет — женщины, которая прежде всего по-
трясает своей «безликостью». Но именно потому, что ав-
тор лишь призрачно наметил черты ее лица, оно становит-
ся портретом-обобщением, портретом-символом. Тем бо-
лее, что художник необычайно тщательно прописал чудо-
действенными красками ее одежду — цветастый платок,
какой принято дарить деревенским женщинам, нагрудник,
на котором каждая монета, составляющая украшение —
монисто башкирской женщины, переливается серебряным
свечением. Можно утверждать, что портрет этот как бы
является итогом долголетних поисков художника, резуль-
татом бесчисленных набросков и этюдов. И в то же время
это — один из вариантов, сказать точнее, вариаций на эту
вечную тему в башкирской национальной интерпретации.
Скажем, такое же, как в картине «Расставание», где ста-
руха-мать сидит, сгорбившись, в голой степи, положив
иссохшие руки на колени. Молится за судьбу своего сына,
который собирается уезжать в далекий поход. И тут же
рядом — почти неизменная на картинах художника жена
уезжающего с ребенком на руках и прижавшаяся к ней
всем тельцем худенькая девочка.
— Дописываю начатые когда-то портреты, — сказал
Лутфуллин, выставляя большой холст. Я сразу же вспом-
нил некогда оставленную работу — портрет Арслана Муба-
рякова. Помню, я тогда еще удивился: почему он не закон-
чил эту столь интересно задуманную картину. Оказывается,
великий артист дожидался своего часа. И вот он насту-
пил! Над огромным, несколько расплывшимся торсом, воз-
вышается великолепная львиная голова, правый глаз кото-
рой, задетый базедовой болезнью, чуть выкатился вперед,
другой, напротив, опущен вниз, обнажая выпяченное на-
ружу веко. Во всей необъятной фигуре артиста ощущается
какая-то огромная драма жизни. Скорее даже, ее траге-
дия. И вспоминается еще одно высказывание Мустая Ка-
рима, на этот раз — о Мубарякове: «Когда он выходил на
сцену, то заполнял ее до краев».
На портрете — Лев, которого хотели укротить. Но не
смогли.
И вновь — Салават!
На этот раз великий национальный герой, облаченный
в светлый елян и лисью шапку, высоко возвышается над
тесно окружившей его толпой сородичей. Во взгляде лю-
дей — надежда на своего батыра, на его отвагу, силу и
разум. Именно так относились башкиры к своим родовым
и национальным вождям.
Ая подумал, что вышеназванному триптиху недостает
234
именно этой величавой исторической фигуры, которая вен-
чала бы собой других трех своих собратьев — Ахметзаки
Валиди, Мусу Муртазина и Шайхзаду Бабича...
Я сделал для себя еще одно открытие: художник как
бы вновь возвращается к своим творческим первоистокам
и темам. Та же неутоленная жажда постигать сокрытую
тайну человеческого духа и сердца, натуры и характера,
особенно, если личность эта — историческая. Но возвра-
щение это происходит уже на более высоком уровне ху-
дожественного мастерства, так сказать, психологического
постижения «натуры».
Да, многие активно работавшие прежде мастера кисти
(и не только кисти!) резко ослабили в последние годы
свою творческую активность, ссылаясь на «духовный кри-
зис», «отсутствие идей и идеалов», «обесцененность худо-
жественного творчества» вообще; однако чаще всего за
всем этим кроется внутренняя апатия этих людей, когда
многое решает личное мужество и сила духа. Иные худож-
ники и писатели, привыкшие творить на потребу времени
и эпохи, просто-напросто растерялись перед новыми требо-
ваниями жизни, духовными запросами соплеменников и
сограждан, потеряли пульс этой самой эпохи, перестали
слышать ее «глагол». Таким мастерам кисти и пера оста-
ется только посочувствовать.
Ахмат Лутфуллин — не их поля ягода. Кажется, ре-
жим его работы стал еще более напряженным, а энергия
возросла на несколько порядков. И это — тоже феномен
его кипучей натуры, не знающей старения и утомления,
вечный секрет его неувядаемой молодости. А может, имен-
но таким должен быть истинно профессиональный худож-
ник?
Скорее всего, да.
...Он и поныне появляется в Уфе довольно неожиданно,
отработав свое в «районной глуши». И хоть в городе вре-
мя свое он проводит в своей просторной мастерской, его
живой смех и веселые шутки можно услышать в самом
разном обществе и в самых разных местах Уфы. Он си-
дит за столом президиума на самых важных мероприя-
тиях, так сказать, государственного масштаба. Но ему ку-
да приятнее быть среди людей, «в толпе», общаться, раз-
говаривать, знакомиться, делать бесконечные наброски,
устроившись где-нибудь в сторонке, в уголке, обозревая
оттуда очередную компанию своими зоркими, ничего не
упускающими глазами.
Глазами художника и провидца.
235
ДВА ВЗГЛЯДА АБСТРАКТНЫХ НА МИР
Художники Фарид Ергалиев и Наиль Латфуллин
I
Было время, когда в башкирской живописи «стояло на
учете» с десяток художников, чьи имена были у всех на
слуху. Был жив еще воистину патриарх этого мира Алек-
сандр Эрастович Тюлькин. Несколько раньше его умерла
замечательный мастер акварели Мария Николаевна Елгаш-
тина. Оба они оказали огромное влияние на будущую плея-
ду мастеров. Особенно, конечно, Александр Эрастович, чье
мастерство признавалось художниками всей России. Сво-
им учителем считал его даже... Михаил Назаров. Поче-
Фарид Ергалиев Наиль Латфуллин
236
му — даже? Да потому что Михаил Васильевич был едва
ли не первым абстракционистом в башкирской живописи.
Впрочем, «абстракционист» — это, пожалуй,: сказано
слишком сильно. Его, скорее, считали формалистом. Ну,
а для Башкирского обкома партии он был еще и дисси-
дентом, которых с таким упорством выискивали партийные
идеологи в 60-х годах, когда в Москве пошла мода на
разоблачение «внутренних врагов» и диссидентов. Слава
богу, до Гулага дело не дошло, но после «Портрета жен-
щины» Михаил Назаров на долгие-долгие годы был под
строжайшим запретом. Помню, как бесновался секретарь
по идеологии по поводу того самого «Портрета женщины»,
который по какой-то удивительной случайности угодил на
республиканскую художественную выставку в залах ху-
дожественного музея им. М. В. Нестерова, да еще был
выставлен на самом заметном месте, так что искателям
крамолы ничего не стоило обнаружить злополучную рабо-
ту уфимского формалиста.
Что же собою представлял этот портрет?
Пусть не обижается на меня Михаил Васильевич, но
ничего такого особенного он собой не представлял. Про-
сто— огромное женское лицо, повязанное платком, испол-
ненное в духе подчеркнутого примитива и даже в чем-то
смахивающего на женщину, представленную на переднем
плане в картине К. Петрова-Водкина «1918 год в Петро-
граде». Но только с еще более размытым, плоским лицом,
в котором было откровенно мало обаяния. Может быть,
именно это обстоятельство привело в такую ярость идеоло-
гического секретаря, который пребывал в убеждении, что
советские женщины должны быть не просто красивы, но
и красиво выписаны, как на полотнах Рашита Нурмуха-
метова.
Тот, кто был знаком с работами Назарова, никогда бы
не сказал, что он отъявленный формалист. Да и что такое
формалист? Был кубизм, импрессионизм, неоромантизм,
фовизм, сюрреализм, абстракционизм, модернизм, новое
объективное письмо... А что такое — формализм? Ведь
если этот термин происходит от слова «форма», что в нем
может быть плохого? Ведь всякий художник, к какому бы
течению он ни относился, прежде всего ищет именно тре-
буемую его душе и кисти форму, ибо без этого нет живопи-
си. Даже у Александра Лактионова и Шилова есть своя
форма, которой они неукоснительно следуют, — это иллю-
зорно точная передача предметного мира. Тем не менее,
живопись Назарова оказалась настолько неприемлемой
для обкомовского восприятия, что она оставалась невост-
237
ребованной до самых перестроечных перемен. Все это вре-
мя Михаил Васильевич писал «для себя», и надо только
поражаться его мужеству и терпению, которыми обладает
далеко не каждый мастер кисти.
Как бы то ни было, имя Назарова (хоть и негласно)
всегда упоминалось наряду с фамилиями Б. Домашнико-
ва, А. Пантелеева, А. Бурзянцева, А. Лутфуллина, А. Куз-
нецова...
Уже не стало замечательных художников Алексея Пан-
телеева и Алексея Кузнецова, автора знаменитого «Допро-
са Салавата», давным-давно выросла и обрела прочные
крылья большая плеяда молодых башкирских мастеров
кисти, образовались творческие группы и даже целые
школы и направления, объединяющие художников-едино-
мышленников, а Михаил Назаров как бы только выходит
на «арену жизни», становится вожаком абстрактной груп-
пы с несколько экстравагантным названием «Сары бия»
(«Рыжая кобыла»), члены которой успешно выставля-
ются в разных городах России, и мастерство его обретает
новое дыхание.
Но мой дальнейший рассказ — не о Назарове.
Его пример понадобился мне для того, чтобы показать
стремительный рост башкирской школы живописи, которая
ныне занимает одну из передовых позиций в России. А
может быть, и в Европе.
В хороводе этих течений и направлений есть художник,
который стоит совершенно особняком, и его вряд ли мож-
но отнести к какой-то школе или включить в некую услов-
ную группу единомышленников. Одним из художников,
оказавших влияние на его творчество, он считает именно
Ахмата Лутфуллина, который, в свою очередь, развил на-
циональные традиции первого башкирского профессио-
нального художника Давлеткильдеева. И в этой связке
есть своя логика: от натуралистического объективизма —
до своеобразного абстракционизма, наполненного нацио-
нальным сознанием и мироощущением, каковой является
живопись Фарида Ергалиева, о которой ниже и пойдет
речь.
Одну из своих статей об этом удивительном молодом
мастере я назвал «Художник, говорящий с вечностью».
Именно так я представляю себе его художественный мир.
* * *
Фаоид родился в Старом Сибае, где купол Вселенной
прогибается к земле всеми своими звездами, созвездиями
238
и галактиками, Космос дышит почти в упор, обдавая зем-
лю своими звучными ветрами, которые чутко улавливают
земные радиолокаторы. Именно неподалеку от Сибая от-
крыт один из древнейших городов мира — Аркаим.
Фарид убежден, что с детских лет — то ли будущим
инстинктом художника, то ли подкорками мозга скиталь-
ца-философа — чувствовал присутствие этой наземной Ат-
лантиды, которая, к счастью, не ушла в глубь вод, ибо к
тому времени море уже успело отступить от уральских на-
горий, и лишь далекие воспоминания о нем волновали
умы тех, кто создавал великий эпос «Урал-батыр».
Но пройдет время, и молодой историк Салават Галля-
мов, изучавший труды известных европейских историков,
археологов и лингвистов, которых не желают переводить
и издавать в нашей стране по причине их интереса к древ-
нейшей истории «малых народов» России, являющихся ее
древнейшими аборигенами, доказал, что «Урал-батыр»
древнее шумерского эпоса о Гильгамеше и персидской
«Авесты».
Так вот, Фарид, якобы, сызмальства ощущал в себе
дух того первородного мира, который существовал пять
тысяч лет тому назад, но по сию пору оказывает свое
влияние на жизнь и судьбу не только Уральского регио-
на, но и всей Евразии.
В первом классе Фарид по детской глупости вырезал
перочинным ножом на школьной парте свастику. При виде
ее учительница пришла в ужас и чуть не упала в обморок.
Жаловаться на собственного ученика было некому: роди-
тели мальчика разошлись в разные стороны, оставив в
сиротах трех сыновей — Фарида, Халита и Хамита.
Фарид воспитывался у бабушки в Альшеевском районе,
которая рассказывала внучку-сиротке массу сказок и ле-
генд, которые навсегда впитались в его юную душу и соз-
нание. Позднее мальчик оказался в детдоме. Из бабушки-
ного воспитания он усвоил еще истину о существовании
Аллаха, чертей и великой священной книги Коран.
Когда он осел в Новосибирске и стал учиться в худо-
жественном училище, открыл для себя еще одну истину:
свастика есть символ многих древнейших народов, только
каждый из них осваивал ее для себя по-своему.
Гитлеровская свастика с изогнутыми концами каждого
«сустава» символизировала овладение миром.
После открытия Аркаима ему посчастливилось обле-
теть его раскопки на вертолете, и он не удивился тому, что
древнейшие люди, непосредственные его предки, выстрои-
ли свой город в форме свастики. С тех пор этот мировой
239
знак стал часто обретать свое полумистическое, но вполне
реальное воплощение в его работах.
В Новосибирске он занимался у Александра Сергееви-
ча Чернобровцева, который учил своих воспитанников не
столько рисовать карандашом и писать кистью, сколько
жить, понимать мир и душу людей и, главное, себя само-
го. Во всяком случае, именно так воспринимал его уроки
Фарид Ергалиев.
«После его уроков я уходил окрыленный, унося с со-
бой заряд бодрости и воодушевления. Он знал буквально
все об истории живописи, художниках и художественных
школах, являлся философом изобразительного искусства...»
В Новосибирске Фарид имел крышу над головой. Его
там ценили и понимали. Прекрасно относились к Фариду
и в Казахстане. Но он пренебрег всем и вернулся на ро-
дину, как это сделал после него кинорежиссер Малик Як-
шимбетов, рассказ о котором также входит в эту книгу.
Увы, Фарида тоже, как и его собрата по творчеству Ма-
лика, ждал неприют, отсутствие жилья и мастерской. Так
продолжалось более пяти лет. Он работал в подвальном,
насквозь продуваемом помещении, жил в чужом углу. Но
его уже знали все художники, искусствоведы и любители
живописи. Но со временем, слава богу, все более или ме-
нее устроилось, он нашел семейный уют, получил, хоть и
не ахти какую, но все же мастерскую в самом центре го-
рода. Конечно, способствовала тому его все возрастающая
известность: его ценят в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве;
его картины известны жителям Вашингтона и Парижа.
Его небольшую выставку видели бостонцы.
Фарид создает свои необычные, ни с чем не сравни-
мые картины для того, чтобы через определенное время
проститься с ними навсегда. Кстати, одну из работ купили
здесь за 25 тыс. рублей. Затем она была продана швей-
царскому коллекционеру за 25 тысяч швейцарских марок...
Впрочем, так было всегда в истории живописи. Может
быть, самый наглядный тому пример — импрессионист Вин-
сент Ван-Гог, чья работа «Подсолнухи» несколько лет на-
зад была куплена одним из японских коллекционеров за
40 миллионов долларов.
Ергалиев тяготеет к символизму.
Это — не супрематизм Малевича, не стилизованный
примитивизм Ларионова, не символизм Филонова и т. д.
Скорее всего, он и не думал о каком-то «особом» направ-
лении, ибо это его ничуть не интересовало. Его живопись
рождалась из любви к своему народу, его истории, фоль-
240
клрру, песням, мелодиям, и столь же единоправно —шла'
от башкирского национального орнамента, в котором ху-
дожник, в отличие от нас, простых смертных, усматривает
и «голос космоса», и причудливый ландшафт земли — го-
ры, леса, степи... Он видит в нем очертания купола неба»
и мироздания. А главное — чувствует дух языческой поры,
который существует вне пределов привычного, видимого<
и осязаемого, и может быть уловим лишь в виде неких,
символов, в их взаимопроникновении и сложном сочета-
нии смыслов.
Хорошо сказал об этом казахский философ Рустем,
Джангужин, в свое время писавший о творчестве Фарида
Ергалиева: «Художественная новация, прежде чем обрес-
ти свою материальную форму, проходит сложный, порою-
зигзагообразный путь, получив первоначальный импульс
в некоей целостности — органичном мире традиционной:
этнической культуры, в которой время и пространство схо-
дятся в единой точке — личности человека, воспроизводя-
щего эту культуру».
Фариду нередко приходится объяснять свои работы, их
замысел и суть. Но при этом:
— ...когда объясняешь свою картину, испытываешь та-
кое чувство, будто продаешь собственную душу.
По-моему, сильно сказано!
Но тут уж никуда не денешься: после его разъяснений
картины предстают перед взором в совершенно новом, про-
ясненном свете и облике, словно земная твердь, просту-
пающая из рассеивающегося тумана. Ну кто, скажите, мо-
жет предположить, что к картине «Сибай-2» ключевым ко-
дом служат начальные строки знаменитой народной песни
«Сибай»: «К саням зеленым с синею дугою вели запрячь
гнедую, Фатима»? А ведь действительно: вот он, сложный
изгиб уздечки, олицетворяющий судьбу, опутывающую
людские жизни: и в тех изгибах просматриваются и ко-
сой взгляд коня, и страдальчески-выжидающие глаза жен-
щины, и роковая жизненная черта того, кто к ней стре-
мится...
А вот работы, навеянные песнями «Ак ат» («Белый
конь»), «Гулькаем» («Цветочек мой») —в них как бы мер-
цает живописное продолжение оборванной мелодии, теряю-
щейся то ли во мраке неба, то ли в темени подземелья.
У Фарида есть серия работ, посвященных Салавату
Юлаеву. Центральная из них — «Юрта Салавата».
Она условно делится на два пласта, точнее сказать, на
два пространства, и значит — времени. Верхняя часть —
241
лучезарная пора молодости, как бы растаявшая в Вечно-
сти. Ее олицетворяет огромная, в точности выписанная пе-
чать (тамга) Салавата, с ее знаками и символами. Она
же — небесная сфера, круглый свод мира, покоящийся на
ложе мусульманского полумесяца, на котором замерла
робкая береза, которую можно воспринять и как символ
березовой родины Салавата, и как его поэтическое перо...
Под полумесяцем — изумительно выписанный стяг мятеж-
ных пугачевцев, погружающийся в столь же вечный мрак
подземного зиндана, куда вскоре будут заточены народные
глашатаи, вожди и мученики жестокой эпохи.
Завораживают не только сами картины Фарида, но и
их названия: «Пожиратель», «Настроение», «Колдун», «Хо-
зяин ночи»...
Очаровывают и краски его работ: они горят, светятся,
жгут подобно угольям... Красный цвет пылающего угля!..
Оранжевые переливы звезд... Оливковый трепет ветвей,
домашнего паласа, далеких зауральских степей, которые
уводят наш глаз в древние полузабытые миры.
И еще: художник необыкновенно эффектно владеет бе-
лым цветом. И еще — желтым. Точнее сказать — сливоч-
ным, который бывает у молока, подернутого пеленой сли-
вок. Даже не сливочным — именно сливковым!
Мало сказать, что Ергалиев мыслит и чувствует обра-
зами и метафорами. Художественная форма освоения жиз-
ни у него основывается не на чувственно-смысловых мо-
ментах, как принято в искусстве, а на некоем генно-кодо-
вом ее восприятии, когда человек подсознательно улавли-
вает зов предков, предтеч, первоистоков мира, свое гене-
тическое первоначало. Так астрономы улавливают звуки
и шорохи безмерно далеких галактик и сверхзвезд, отда-
ленных от нас миллионами световых лет, с помощью сверх-
мощных радиолокаторов.
«Неужто все так глубоко и значительно?—вправе
спросить недоверчивый читатель. Неужто перед нами ис-
кусство без изъянов и недостатков? А может, их автор про-
сто-напросто внушил тебе философскую белиберду?
На это отвечу: на это не смог бы ответить не только я,
но даже опытные искусствоведы, впервые открывающие
для себя подобную живопись. Она у нас, в сущности, по-
явилась лишь в самое последнее время, и Фарид Ергали-
ев — один из ее пионеров.
Творчество Фарида — личностно-волевое. Оно не под-
вержено влиянию посторонних, их какому бы то ни было
волевому воздействию. И может быть, уже поэтому явля-
242
ется неподсудным. Это такое творчество, в котором любой
недостаток служит если не достоинством, то — продолже-
нием его достоинств.
Наконец, мне кажется, что это творчество — для буду-
щих поколений, и потому даже наш закомплексованный на
разных течениях абстракционизма зритель может пройти
мимо его картин в бесстрастном безразличии.
Но это меньше всего волнует Фарида, ибо он не под-
страивается под кого-то или под чьи-то, даже весьма ком-
петентные, мнения. Но если его понимают зарубежные кол-
лекционеры и «налетчики», если его работы берут на вы-
ставки в Европу и Америку, значит, это искусство необхо-
димо и для нас.
На стене моей квартиры висит картина Фарида Ерга-
лиева, которая носит условное название «Ласточка». По
словам ее автора, работа эта навеяна стихотворением Са-
лавата Юлаева «Стрела». Вот оно:
В ласточку стрела попала —
Птаха, сбившись на лету,
Вниз к ногам моим упала,
Не на радость — на беду.
Лучше бы стрела уплыла
За речные берега;
Чем бить ласточку навылет,
Лучше б я убил врага.
(Перевод мой — Г. Ш.)
На первый взгляд, это — нагромождение разных геомет-
рических фигур черного, желтого, оливкового, голубого
цветов, в тесном сочленении которых проступает изуми-
тельно нежно вычерченный силуэт ласточки. Ее прелест-
ной головы.
Нет, я не пытаюсь разбираться в сложной конструкции
художника, его фантазии, сверять гармонию с алгеброй.
Это не мое дело! Я просто любуюсь цветами и гармонией
этой картины, ее странной архитектурой и чарующими пе-
реходами из одного состояния в другое; и мне больше ни-
чего от нее не надо.
И от художника — тоже!
Во мне остается и живет лишь одно чувство — свет-
лой благодарности ему.
243
II
За пару лет до смерти Наиль Латфуллин вышел из
группы «Сары бия» и образовал свою собственную груп-
пу — «Чингисхан».
Знать его лично мне не пришлось. Да и вряд ли приш-
лось бы упоминать его имя и писать о работах, не побы-
вай я на выставке его работ. Именно простаивая перед
удивительными картинами этого художника, я остро чувст-
вовал необходимость его присутствия, его рассуждений и
комментариев. Поверьте, это иной раз бывает очень нужно
и важно. Особенно, если созерцаешь работы такого стран-
ного, ни на кого не похожего, вызывающе-дерзкого в каж-
дом своем мазке, в каждой детали живописца.
Я вообще никогда не считал себя каким-то знатоком
абстрактной живописи. Я просто принимал ее такой, какая
она есть на самом деле. Кандинский, Леже, Пикассо... Да
мало ли больших и малых абстракционистов на земле!
А тут, на выставке Наиля Латфуллина, я вдруг почув-
ствовал, что он не следовал ни за кем из них, что у него
было свое собственное мировидение, своя философия, свое
пространственное измерение.
Свое эсхатологическое время!
Да, один из посетителей оставил в книге отзывов та-
кую запись: «Этот художник чувствовал близость своей
кончины...»
Представьте, у меня тоже сложилось такое впечатле-
ние: знал! И, вполне возможно, бессознательно ее прибли-
жал. Его вариации на тему мирового пространства и вре-
мени, фантастические фигуры, парадоксальные предметы
на «черном фоне», его думы о прошлом, сегодняшнем и
будущем; его непостижимо-странные города в разных ас-
пектах и измерениях, наполненные самыми непредвиден-
ными сгустками материальных и духовных воплощений;
его огненно горящие диски (солнце? луна? озоновые ды-
ры?) на том же аспидно-черном фоне космоса; его невиди-
мый для глаза Диоген, который дан в трех вариантах, но
с одним и тем же решением — с высунутой из бочки рукой,
пальцы которой сложены в фигу... Многое, многое другое!
Невообразим, непостижим, бесконечен и загадочно-вол-
шебен мир этого человека. Многие работы незаконченны
и честно обозначены устроителями выставки или друзья-
ми — «работа не закончена». Но и в таком виде они вол-
нуют воображение, интригуют.
Вот висят две такие работы — «Разговор» и «Беседа».
Два человека за столом, за бутылкой. На одной из них
244
фигуры вполне выстроены, слеплены; на другой — лишь
намечены. И по этим намеченным линиям можно опреде-
лить, как работал их автор, как смело, решительно и точ-
но вычерчивал контуры будущих произведений, фигуры
своих героев. Живой или воображаемой натуры. И в этом
плане его можно было бы сравнить, наверное, с Мо-
дильяни.
А есть вполне законченные портреты, которые тоже
потрясают. Вот «Суюмбика» в пылающем золотистой ох-
рой колпаке и с полумесяцем, повисшим над головой. Ху-
дожник не гонится за внешней красотой. Решительно и
прямолинейно определена линия носа и глазниц — вместо
глаз. И в то же время — перед нами красавица из далеких
миров, поглощающая воображение сегодняшнего чело-
века!
Или портрет «Гульнар», мастерски и ярко исполненный
красками, достойными палитры Ван-Гога.
То же самое можно сказать о «Четырех сестрах».
А каким демоническим взором взирает на нас с полот-
на художника Галимджан Ибрагимов! Какие неестествен-
но мрачные, всевидящие глаза, какие хмурые и густые
тона...
Судя по всему, Латфуллина волновала и фигура Габ-
дуллы Тукая. Он неоднократно обращается к образу вели-
кого поэта, высвечивает его с разных сторон, ломает обыч-
ное представление о нем, искажает черты тонкого одухот-
воренного лица, выводит правый глаз из орбиты. А
эффект — изумительный! Тукай... Двадцатишестилетний
пророк нации.
По-своему решен портрет Мажита Гафури. Художник
как бы преднамеренно уродует его облик (как может «уро-
довать» только тонко чувствующий фактуру живописец!),
но уже издалека можно определить: это — Гафури!
Я мог бы продолжать и продолжать эти заметки с не-
изменными восклицательными знаками в конце предложе-
ний. Я мог бы говорить о том, как нещадно и яростно
накладывал Латфуллин свои краски, зачастую выплески-
вал их прямо из тюбика. То есть, мог бы размышлять о
технике этого мастера, неизменно достигающего требуемо-
го эффекта. Но это привело бы к элементарной монотонно-
сти, просто-таки недопустимой, когда пишешь о выставке
такого художника. Притом ушедшего от нас в пору зрелой
молодости. Сорок лет для художника — это межа между
молодостью и зрелостью.
Да, Наиль был в эту пору вполне зрелым мастером,
245
что мы и увидели на его посмертной выставке. Мы это ви-
дим на его последней, изумительной по красоте и фанта-
зии работе, тоже оставшейся незаконченной. Она стоит
на черном постаменте, где обычно устанавливают гроб с
телом покойника. А тут вместо него — палитра и выжатые
почти до предела тюбики, которыми при жизни пользовал-
ся художник. Смотришь на них и испытываешь почти мис-
тическое чувство сопричастности к его Судьбе. К его неор-
дин!арной личности, недооцененной при жизни, но которую,
конечно же, оценят и поймут, и о творчестве которой искус-
ствоведы напишут свои исследования.
Под впечатлением той самой выставки я написал сле-
дующее стихотворение.
НА ВЫСТАВКЕ НАИЛЯ ЛАТФУЛЛИНА
На траурно-унылом постаменте,
Слегка напоминающем погост, —
Не гроб — палитра,
Дуновенье смерти,
Да кисть Творца,
Да начатый им холст —
Последний в жизни живописца...
Вот он:
На мрачном фоне — жгучие мазки!
Ну а вокруг — горящие полотна,
Где мир разбит на звонкие куски;
Где панорама—-в карстовых изломах,
Где города восходят,
Как цветы,
Где все исходит колокольным звоном —
Вдали от посторонней суеты.
Где свет — как бред,
Где мрак — как озаренье,
И где Тукай — в объятьях Шурале...
Как без Творца портреты постарели!
Лишь тюбики остались на столе...
246
ВЕЛИКОЕ
1кЛ
изгоя
О кинорежиссере Малике Якшимбетове
При первой встрече
он мне не понравился.
Впрочем, нет, не встре-
че, а при первом появле-
нии. В коридоре телесту-
дии, где я только-только
начинал работать. А так
как я сам там появился
довольно своеобразным
образом, то скажу и об
этом.
В редакции молодеж-
ной газеты, где я перед
этим трудился, работали
два родных брата. Один
был степенный и рассу-
дительный. Являлся вто-
рым человеком в редак-
ции, занимая должность
зам. главного редактора.
Считался одним из луч-
ших журналистов не толь-
ко в этой редакции, но и
чуть ли не во всей рес-
публике. Он умел поднимать в своих статьях и очерках
«проблемные» темы, которые становились предметом раз-
говоров и обсуждений. В том числе, наверху, в обкомов-
ских кабинетах. Но я не помню, чтобы ему хоть как-то
доставалось, ибо он был человек, во всех отношениях ук-
Малик Якшимбетов
247
ладывавшийся в рамки истинного советского человека,
гражданина и журналиста. Во-первых, идеальный семья-
нин, женат на русской; во-вторых, коммунист, аккуратно
плативший партвзносы, посещавший все партсобрания и
выступавший на каждом из них; в-третьих, он вел партий-
ные занятия, ибо лучше других знал учение Маркса и тру-
ды Ленина. Однажды он даже выдал серию статей по
важнейшим работам Вождя мирового пролетариата. Это
тоже стало сенсацией, и не только для читателей. После
этой ошеломляющей, не укладывающейся в голове серии
я стал смотреть на него глазами неуспевающего школьни-
ка на мудрого учителя, который совершил нечто не укла-
дывающееся в голове: прочитал такое количество работ
Ленина!
И тем не менее, он позволял себе критиковать те или
иные стороны жизни. А это дозволялось только некоторым
московским журналистам, типа Алексея Аджубея или Ва-
лерия Аграновского. И его брату Анатолию. Излишнее ув-
лечение критикой нашей действительности кончалось пе-
чально даже для таких широко известных журналистов
и писателей, как Ефим Дорош, Георгий Радов и еще не-
сколько человек. Все они кончили плохо — инфарктом или
инсультом. В провинции, подобной нашей Уфе, критико-
вать нельзя было никому. За этим следили сотни глаз, на-
чиная с идеологического секретаря обкома партии и ком-
сомола, заведующих отделами и их замов, инструкторов
и работников Главлита, и кончая тайными для нас майо-
рами и полковниками КГБ и еще более законспирирован-
ными их стукачами в коллективе.
И все же «старший брат» нет-нет да выкидывал что-то
такое, что заставляло вышеназванные «глаза партии и
комсомола» задумываться и гадать: критика это или не
критика? И надо за это карать или не надо?
Один из очерков нашего «зама» назывался «Прилетят
ли скворцы в Салават?» Пожалуй, это было одним из пер-
вых выступлений местной прессы против тех, кто отрав-
ляет воздух, землю и воду. Выступлением на «экологиче-
скую тему».
Сейчас отважный и неутомимый доктор наук Сафаров
и еще более отважный и неутомимый писатель Павлов
выступают и в прессе, и по радио в миллион раз резче и
беспощаднее автора очерка «Прилетят ли скворцы в Са-
лават?». Но вот парадокс двух эпох: тогда сравнительно
безвинное выступление корреспондента молодежной газеты
имело куда более сильный резонанс, чем все неудержимо-
248
отчаянные выступления двух нынешних ученых-храбрецов,
которые скромно называют себя «зелеными».
Но автор злополучного очерка опять не пострадал, а
авторитет его среди читателей, коллег, а главное — пар-
тийно-комсомольского начальства, сильно повысился.
Теперь скажу о его младшем брате.
Он пришел в редакцию на пару лет позже меня, когда
я уже считал себя ветераном. Но он повел себя так уве-
ренно и агрессивно, что я очень скоро почувствовал себя
снова новичком. На планерках он выступал неизменно го-
рячо и наступательно, в этаком атакующем стиле. Никог-
да и ни с кем не говорил в спокойном тоне — только на
повышенных тонах, поэтому с ним трудно было вообще
разговаривать. Он писал стихи и считал себя их знатоком.
Когда ко мне приходили молодые стихотворцы, он тут же
вступал в разговор и довольно безапелляционно излагал
свои постулаты. Он был весьма категоричным человеком,
и возражать ему было очень даже непросто. Куда легче
было психануть и отойти. Или вообще куда-нибудь уйти.
Именно так я и стал поступать, даже не предполагая, что
это ему на руку. Он оставался с моим молодым автором
один на один и поучал, как следует писать стихи.
Несколько раз я запивал, после чего имел беседы уже
с редактором, которые становились все круче. Все шло
к развязке; но я был холост и беспечен. Я даже предпо-
ложить не мог, что уйти из организации с дурной репута-
цией равно обречь себя на добровольную смерть.
Под новый год в редакции традиционно пьянствовали.
Участвовал даже редактор, хотя обычно он держался в
стороне от подобных «мероприятий». Чем дальше, тем
тосты становились все более откровенными и горячими. К
моменту моего тоста все уже были очень прилично воз-
буждены и даже дважды станцевали под собственный го-
лосовой аккомпанемент, что, естественно, склоняло к благо-
душному настроению. Продолжайся так, и благодушие
сменилось бы всеобщей любовью, жаркими объятьями, да
черт попутал тамаду — дал слово мне, хотя в тот момент
это было абсолютно противопоказано. В первую очередь —
именно мне. И я начал!.. Крыл всех подряд — начиная с
чиновного редактора и кончая «двумя братьями», кото-
рые, якобы, установили над редакцией свою власть и все
остальные рабски покорно сносят их глумления и издева-
тельства, потому что сами трусливы, как зайцы, и «от
других того же требуют».
После своего эпохального выступления я при всеоб-
249
щем гробовом молчании опрокинул фужер водки и зачи-
килял домой, в свою холодную, продуваемую насквозь де-
ревянную избушку па Проломной улице, что на краю го-
рода. «Есть улица Проломная на городской окраине, в-
пробоях и промоинах она во время таянья...»
* * *
— Если бы ие твое дурацкое выступление, я бы огра-
ничился строгим выговором, — говорил мне после новогод-
них торжеств мой любимый редактор.—А так...
Оказывается, моя трудовая книжка уже лежала на
его столе, раскрытая на соответствующей странице. Там-
то он и вывел несколько слов, которые на всю остальную
жизнь стали моим клеймом: «Уволен по ст. 47 п. «2»
КЗОТ».
Куда бы я после этого ни устраивался, соответствую-
щие лица (будь то сам главный чиновник или его секре-
тарша), просматривая мою «трудовую», неизменно задер-
живались на этой странице и подозрительно (чиновник)
или с интересом (секретарша) осматривали меня с ног до
головы.
Несколько месяцев я нигде не работал. Даже директор
кинопроката, который прежде слезно умолял меня каждую
неделю давать кииоанонс, долго сопел, разглядывая зло-
получную книжку, затем вернул ее мне, глядя при этом
в сторону.
— Боюсь, наша организация придется вам не по вку-
су, — произнес он замечательно обтекаемые слова, кото-
рым мог бы позавидовать самый опытный дипломат.
Когда дело дошло до того, что я стал жить на пенсию
матери, мне сообщили, что меня наутро приглашает к се-
бе директор телевидения.
Со следующего дня я начал работать в телестудии, в
сельскохозяйственной редакции.
Много лет спустя я встретил на улице секретаршу при-
нявшего меня на работу директора, уже давненько пребы-
вавшую на пенсии.
— Молодец, оправдал мои надежды, — сказала она.
— Какие надежды? — не понял я.
— Ты что, забыл, с какой трудовой книжкой я тебя
принимала?..
Я коротко ее поблагодарил и пошел своей дорогой, еще
раз подивившись роли бумажки в жизни и судьбе нормаль-
ного советского человека.
250
...так что, выходит, при первой встрече Малик Якшим-
бетов мне не показался. Даже внешне. Лицо какое-то та-
кое... Как у хорька. Не лицо — мордочка. Глаза маленькие,
острые, смотрящие на тебя то ли подозрительно, то ли
недоверчиво. И манера говорить опять же. Будто продол-
жает с тобой давнишний спор.
Впрочем, мы и не соприкасались, не было тому причин.
Все, что я знал о нем: учится в Московском институте ки-
нематографии, у самого Чухрая. Приехал сюда на стажи-
ровку. Сказать точнее, делать дипломную работу в виде
документального фильма о Мустае Кариме. Чуть ли не по
своему сценарию.
Малик изредка появлялся в студии. Остальное время
проводил на съемках. И когда бы я его ни видел, он но-
сился по коридору на своих слегка кривых ногах, то ис-
чезая в каких-либо кабинетах, то снова проносясь вихрем
по тесному коридору. У женщин он вызывал подозрение
и легкий испуг. У мужчин — слегка высокомерное прене-
брежение: хлюст какой-то! Тоже мне, москвич, не успел па-
рень приехать, а ему доверяют фильм о народном поэте
снимать...
Фильм у Малика не получился. Говорили, что во всем
виноват оператор — отснял бракованную ленту. Однако
кинооператор на чем свет стоит ругал режиссера: это он
заставлял снимать заведомо недоброкачественные объекты.
Кто-то несмело пошутил: «Имеешь в виду народного
поэта?»
После этой шутки кинооператор перестал поносить ре-
жиссера-постановщика и много дней (или даже недель)
пребывал в мрачном состоянии духа.
Художественный совет фильм не принял, то ли предло-
жив его доделать, то ли забраковать вообще.
Малик исчез. На много-много лет.
Однажды все тот же директор телевидения, который
принял меня на работу, пригласил меня в св^ой кабинет
и сказал, что есть шанс создать многосерийный фильм об
Акмулле. Вместе с казахской киностудией. И что сценарий,
по всему, придется писать именно мне.
— Тебе нужно встретиться с представителем казахов,—
закончил он. — Там обо всем и договоритесь.
Придя в назначенное время в назначенное место, я
увидел Малика Якшимбетова. И еще одного молодого
человека, скорее всего, казаха.
25*
Малика непросто было узнать: вместо небольшого кри-
воногого человека с лицом хорька предо мной был респек-
табельный мужчина в шикарном костюме, но в войлочной
казахской шляпе на голове. Он был вальяжен и благо-
душно настроен. Разговаривал со мной с почти неулови-
мым оттенком превосходства. Но я всегда безошибочно-
улавливал чужую душу. Если даже ее надежно прятали.
Мне сразу стало не по себе, но Малик заговорил и я пос-
тепенно забыл обо всем, полностью обратившись в слух.
Говорил он превосходно. Но, что было куда важнее, с
большим знанием дела.
— Акмулла — башкирский поэт, но казахам он при-
надлежит больше, потому что лучшую пору своей жизни
провел там и самые главные свои стихи написал на ка-
захском языке.
— Откуда это тебе известно? — не выдержал я.
— Я прожил в Казахстане пятнадцать лет и снял при-
мерно столько же фильмов. В том числе, художественных.
Еще при жизни Акмуллы на казахском языке вышли две
его книжки. А сколько вышло на башкирском?
— Ты приехал сюда в роли казахского агента?
Он засмеялся.
— Я прибыл сюда в роли башкирского патриота. Если
будем делать фильм об Акмулле, особый акцент сделаем
на то, как казахский бай Батуч сажает в Троицкую тюрь-
му на четыре года приблудного истека. Так мы и докажем,,
что Акмулла — башкир до мозга костей.
— Это не надо и доказывать. Возьми его шэжэре, и
все станет ясно.
— Ясно для тебя и меня. А попробуй докажи это тем
же казахам или... или американцам. Что ты так смотришь?
Если делать фильм об Акмулле, то уж для всего мира. Он
того стоит!
Лишь много лет спустя я по достоинству оценил слова
Малика. Многие его фильмы, созданные на «Казахфильме»,
особенно публицистические, получили не только широкое
распространение, но и широчайшее признание, были удос-
тоены призов и наград на внутренних и внешних конкур-
сах и фестивалях.
Но тогда я этого не знал и поэтому воспринимал слова
«казахского эмиссара», башкира по национальности, как
самое обыкновенное бахвальство. Или саморекламу.
Наконец, он представил мне своего напарника. Оказа-
лось, это представитель финансовых кругов, о чем и удос-
товеряла его красная книжка, которую он представил мне
252
с самым серьезным видом. Их взяла. Я был сражен и сбит
с толку. Значит, все это — всерьез?..
Речь шла о миллионах рублей. Примерно третью часть
суммы, необходимой для съемок, должна выделить наша
республика. Остальную — казахское правительство, кото-
рое уже дало свое согласие. Большая часть актеров будет
из башкир. Главного героя тоже сыграет башкирский
артист...
Малик говорил еще о каких-то деталях, но у меня, не
привыкшего к такого рода проектам, кругом шла голова.
— Ты будешь писать ту часть сценария, которая ка-
сается башкирского периода жизни Акмуллы. Остальное-
я беру на себя. У меня в Алма-Ате есть опытные товари-
щи. Ну а редактор — моя жена Рита Соловьева.
Я слушал его слова, и мне почему-то упорно представ-
лялся Великий комбинатор в городе Васюки.
* * *
Фильм о Мифтахетдине Акмулле не состоялся.
Да он в ту пору и не мог состояться. С какой стати?'
Чтобы правительства двух республик выкинули миллионы
на какой-то вилами писанный кинофильм? Нашли дура-
ков!
Но с тех пор у меня о Малике, казалось, раз и навсег-
да сложилось представление как о трепаче и авантюристе.
Мы не встречались с ним еще лет десять.
И вот узнаю, что Якшимбетов снова появился в Уфе..
И не просто так — налетом или проездом, а в качестве ху-
дожественного руководителя киностудии «Башкортостан».
Но встречаться с ним у меня не было желания. После
авантюры с Акмуллой я стал скептиком. Вести новые раз-
говоры о кино? Замышлять новые планы, сценарии... Бр-р!
Нет уж, дудки. Предоставляю это делать другим.
И вдруг: приглашение на показ фильма Якшимбетова
в Доме актера. Что-то об аксаковских местах. Пошел.
Фильм длинный. Часовой. Но интересный, весьма необыч-
ный. У нас таких не делали. Девушка-мусульманка печет-
ся о реставрации старой церкви. Очень умно рассуждает-
о непреходящих культурных ценностях, равно дорогих для
людей любой национальности и крови. Рашит Шакур де-
монстрирует аул, в котором родился и который теперь до-
шел до крайней степени разрухи и деградации. Потом он*
медитирует, вздымая голые руки к небу. Что-то мудреное
говорит Булат Рафиков. Ему вторит Динис Буляков. И от
253,
начала до конца — дивные пейзажи Демы, башкирских и
русских деревень, расположенных по ее берегам.
Такой вот фильм, оставивший в душе какую-то просвет-
ленную грусть.
А потом я тут и там стал слышать толки о нем. Выяс-
нилось: культурное руководство и сам министр культуры
«фильмом недовольны; а раз фильмом, то и самим Маликом
Якшимбетовым. По их мнению, возложенного на него до-
верия он не оправдал. А раз так...
Да, да, с ним поступили так, как у нас привыкли пос-
тупать все семьдесят прошлых лет: он был уволен.
А, может быть, он был уволен после того, как вошел
в контакт с президентом банка «Восток» Рафисом Кадыро-
вым и тот дал ему деньги на съемку фильма «Врата свобо-
ды»? Вот этого точно не знаю. Но факт остается фактом —
в Малике Якшимбетове больше в Уфе не нуждались. Ему
показали на дверь.
Сообразительный человек тут же бы сориентировался:
собрал шмотки и укатил в свою Алма-Ату. Но Малик
был не из таких. Сообразительности его хватило бы на
десятерых, но еще больше в нем было уязвленного само-
любия. Во-первых, он был одним из любимых учеников
Георгия Чухрая, сумевшим стать подлинным мастером
кино. Во-вторых, приходился троюродным племянником
Ахметзаки Валиди — по линии его жены Нафисы-ханым,
отец которой, абзелиловский ахун, тоже носил фамилию
Якшимбетов. Будь это возможно, Малик в ответ на нане-
сенную обиду мог бы поднять новое Всебашкирское на-
циональное движение, как это сделал его «кода» (сват)
75 лет назад в ответ на заточение членов Башкирского
Шуро большевиками в оренбургскую тюрьму. Но в ны-
нешних условиях Малик не мог себе позволить такую рос-
кошь, и он избирает иной путь: остаться в Уфе и работать
над новыми фильмами. И таким образом доказать властям
свою творческую силу и правоту. Благо, что на уфимской
почве возникла довольно редкостная для нарождающихся
предпринимателей фигура, которая покровительствовала
работникам кино и мечтала создать собственную киносту-
дию. И даже созданное предприятие назвал «Синема».
Фигуру звали Энгель Хуснутдинов.
Итак, возникла дружба двух этих загадочных, но впол-
не реальных фигур — Малика Якшимбетова и Энгеля Хус-
нутдинова.
Но это произошло уже после презентации фильма «Вра-
та свободы» в самом большом кинотеатре города — «Иск-
ра». При полном аншлаге. Малик и его жена Рита Со-
254
ловьева скромно сидели в углу темного зала, следя не
столько за тем, что происходило на экране, сколько за ре-
акцией зрителя.
А реакция была живая, но очень неоднозначная.
После показа состоялось «общественное обсуждение»
с участием телевидения. Попросили в нем участвовать if
меня. Я понимал, что это дело рискованное: новый фильм
лишь усилил враждебное отношение властей к Малику, но
отказываться было просто малодушно. Нас было человека
четыре или пять. Один из достойных граждан Абзелилова
говорил примерно так: если бы Малик, его земляк, почаще
бывал в родных краях, виделся с земляками, пивал чаи п
новых обустроенных домах, то он несомненно создал бы оп-
тимистический фильм, полный радужных цветов и красок.
А так — получился поклеп на башкирский народ, на его
историю.
Мне пришлось разглагольствовать о «художническом
видении», метафористическом мышлении автора; что, пока-
зывая документальные кадры, сохранившиеся с 20-х годов,
на которых запечатлены жители глухих башкирских ау-
лов, обезображенные различными болезнями, Малик вы-
ражает боль и сострадание к своему народу, а не желание
его принизить; что «радужные цвета и краски» — это не
что иное, как лакировка действительности, вообще свойст-
венная нашему искусству, всепобедному «соцреализму»*
и дальше — в этом духе. Я ловил на себе недружелюбные
взгляды некоторых представителей верхних этажей обще-
ства, в том числе руководства телекомпании и министер-
ства культуры.
Меня совершенно неожиданно поддержал стоящий ря-
дом председатель башкирской молодежи. Остальные вы-
ступили против фильма.
Через несколько дней все это было показано по теле-
видению, а потом мне пришлось вступать в словесные пе-
репалки с теми «тузами», которые фильм не приняли. Гла-
ва телекомпании даже сделал в мой адрес такое заявле-
ние: «Мы дали тебе в руки микрофон и возможность вы-
ступать по радио и в голубом эфире. Именно благодаря
этому ты стал заметной личностью. Теперь ты предаешь
интересы нашего народа, нашей культуры, вводишь в заб-
луждение людей». На это я сказал: «Может быть, именно
потому, что я взял в руки микрофон и стал выступать по
радио и телевидению, твоя компания получила дополни-
тельную популярность. А что касается «предательства на-
шего народа», то это не больше, чем узаконенная лже-
патриотами глупость: мол, о родном народе следует гово-
255
рить лишь высокие да хвалебные слова, и ни слова крити-
:ки. Однако родимые пятна и недостатки сородичей можно
изживать только критикой и открытым называнием этих
недостатков. Именно это мы и видим в фильме Якшимбе-
~това».
Между тем, фильм «Врата свободы» был действитель-
но разяще-беспощадным. Он начинался с того, что в нечи-
стотах города плавает человеческий плод, скорее всего,
брошенный туда его матерью. Автор фильма не щадил
«отцов города», доведших жизнь людей, ютящихся на ок-
раинах, а также поблизости от нефтехимических гигантов,
до сущего ада.
Фильм снимался в ту пору, когда над жителями Уфы
.дамокловым мечом висела опасность отравления питьевой
водой, зараженной фенолом и диоксином. Мог ли такой
режиссер, как Малик Якшимбетов, пройти мимо безобра-
зия жизни, грозящего судьбе целого города?! И он не
только не прошел, но и представил своего рода Апокалип-
сис, который может возникнуть в ареале столицы Башкор-
тостана, не возьмись власти вплотную за улучшение ее эко-
логического состояния.
В этом же фильме Малик предстал как тонкий знаток
истории башкирского народа, его древней земли: очень
•емко и выразительно представил Башкирское националь-
ное движение под предводительством Заки Валиди, найдя
точные слова для его характеристики; а когда речь косну-
лась другой выдающейся личности — знаменитого содер-
жателя Троицкого медресе шейха Зайнуллы Расулева, то
автор фильма проявил незаурядное знание религиозного
мира и духа башкир того времени.
Позднее я узнал, что Малик сам по себе человек ре-
лигиозный, что вся его натура пронизана духом веры и
•святости, и это проявляется во всех его киноработах —
только надо уметь увидеть и уловить.
Выяснилось, что Зайнулла-ишан, который приходится
•близким родственником Валиди (опять же по линии же-
ны) , и значит — родственником Малика, чрезвычайно за-
вораживает его душу, воображение всей своей духовно
могучей фигурой. В этом фильме Малик ведет беседу с
Духом давным-давно усопшего шейха на троицком клад-
бище... Позднее он мне рассказывал, что такие беседы
он ведет по нескольку раз в году, специально выезжая
для этого в город Троицк, уверял, что отчетливо слышит
голос своего знаменитого предка, советуется с ним по
-самым сложным проблемам жизни.
Как всякий крепко выделанный долгим советским обу-
256
чением вульгарный материалист, я скептически относился
к этим рассказам Малика, хотя внутренне завидовал та-
кому искреннему его фанатизму. Но когда смотрел его
фильмы, какие-то особые их эпизоды, у меня возникало
впечатление, будто они подсказаны или продиктованы
свыше, или «со стороны», нашептаны святыми, или даже
«божественными» устами.
А может, Малик Насихович и впрямь общается с выс-
шими силами, с духом давно усопших людей, с Космо-
сом?..
К моменту нашей совместной работы над фильмом «На
камне — кровь моя густая» — о Шайхзаде Бабиче — я
почти полностью уверовал в эту необыкновенную версию.
Забегая вперед, хочу вспомнить о таком эпизоде.
В пяти километрах от большого башкирского села Юл-
дыбай располагается аул Искужа. Там жил чудесный ста-
рик, мулла по имени Салимьян Актаев, который в детстве
видел Бабича. Зилаирские красноармейцы, конвоировав-
шие поэта, останавливались именно в домике, принадле-
жавшем отцу Актаева, пили чай. Так вот, плененный ими
Бабич, который через несколько дней будет разрублен эти-
ми красными палачами на мелкие кусочки, написал на
доске: «Здесь был поэт Бабич. Передайте привет всем, кто
меня знает».
Хозяин дома был примечателен еще тем, что в Вели-
кую Отечественную прошел по многим странам Европы,
освобождал Будапешт, Вену, брал Берлин... У него два
ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной вой-
ны I и II степени, два ордена Красной Звезды. И в то
же время — это тихий, очень застенчивый человек, мулла,
прекрасно знающий и читающий Коран. До сих пор перед
моими глазами стоит его кроткое, словно бы в чем-то вино-
ватое лицо, тихие серые глаза, доверчиво глядящие сквозь
толстые стекла очков.
Так вот, именно у этого человека отыскались, как го-
ворится, живые фотографии Зайнуллы-ишана — тоже очень
благообразного, худолицего человека с длинной белой бо-
родой. Он сразу напомнил мне предполагаемый портрет
Шота Руставели, который был найден в одном из палестин-
ских монастырей и затем описан в книге Ираклия Аба-
шидзе, где приведена и репродукция этого уникального
портрета.
Видели бы вы, как радовался этой находке Малик Як-
шимбетов! Каким восторгом светились его небольшие, ост-
рые глаза.
Вот тогда я окончательно убедился в искренности всех
9 Заказ 415
257
его слов и верований, в незамутненной чистоте религиоз-
ных убеждений.
Фильм «Врата свободы» заканчивается огромным люд-
ским сборищем, которое снималось на сабантуе в Темясо-
ве. Это большое башкирское село, утонувшее в лесах и
горных массивах баймакской земли, одно время служило
столицей Малой Башкирии. Там размещался штаб Вали-
дова. Там выпускал газету «Башкорт», писал стихи, прок-
ламации и агитки Шайхзада Бабич; там был всеобщий
сбор Башкирского войска перед переходом на сторону
красных, чему предшествовал съезд ревкома, который впер-
вые прошел в большевистском духе и даже было принято
письмо в адрес Ленина.
Я присутствовал на том памятном сабантуе, проходив-
шем в нескольких километрах от Темяса, на большой зе-
леной опушке леса, среди огромного числа людей.
Помню Малика — в неизменной белой войлочной шля-
пе, верхом на гнедом коне, возбужденного и радостного.
Он носился по поляне в поисках нужных кадров, отдавал
короткие указания своим ребятам-операторам, организо-
вывал толпу так, как ему подсказывало художническое
видение, и что удивительнее всего — люди подчинялись
ему беспрекословно, исполняя все его требования. По его
просьбе быстро были сколочены из толстых жердей воро-
та, через которые, опять же по приказу Малика, потекли
людские ручейки и целые реки. Это символизировало вы-
ход народа на новую историческую арену, навстречу све-
жим ветрам и очищающим грозам...
* * *
Фильм «Врата свободы» был удостоен Первой премии
на Международном кинофестивале тюркских народов в
Ашхабаде. Это была победа Малика Якшимбетова, всех
его постановщиков. Делегаты фестиваля устроили башкир-
скому кинорежиссеру овацию.
Но когда, в какие времена у нас представители высшей
иерархии признавались в своих ошибках или, тем более,
в них каялись? Когда они пытались исправить эти ошиб-
ки, изменив отношение к объекту своей неприязни и напа-
док? Не бывало такого и быть не могло, иначе это было
бы не по-нашему, не по-российскому! Не было во времена
партократии. Тем более, нет во времена «всеобщей де-
мократии». Неприязнь к приезжему мастеру кино (при-
шельцу-кильмешаку), который утер носы знатокам кино-
258
искусства перешла в ненависть. И в то же время росло
число его друзей. Здравомыслящие люди видели не только
высокий профессионализм вернувшегося на родину кино-
режиссера, но и честный, бескомпромиссный дух его нату-
ры, силу характера, которая порой переходила границы
здравого смысла, ибо, по воспитанным в нас понятиям, че-
ловек на месте Якшимбетова должен вести себя тише во-
ды, ниже травы и делать все, чтобы утрясти конфликт с
вышестоящими функционерами. Увы, Малик был слеплен
из другого теста. Он делал все, чтобы конфликт этот обо-
стрялся и разрастался.
Именно в тот напряженнейший момент его жизни встре-
тил я его на углу улиц Октябрьской революции и Ленина
и с ходу предложил взяться за постановку фильма о Шайх-
заде Бабиче, сценарий которого был уже мною написан.
И Малик, не задумываясь, согласился.
Не стану рассказывать о том, как снимался этот фильм.
Скажу только, что мы старались идти по пути наиболь-
шего сопротивления. По какому? А хотя бы по такому,
что решили проехать по его последней дороге, которая
вела к Голгофе. Во-вторых, решили пригласить на пред-
мет разговора бывшего секретаря обкома КПСС Тагира
Ахунзянова, известного тем, что он держал под запретом
многих, даже реабилитированных в свое время деятелей
башкирского народа, в том числе Ш. Бабича. Он безапел-
ляционно присвоил себе право судить этих выдающихся
сынов своего народа, своей партийной властью увековечив
их мнимые ошибки и грехи. Так, он не только карал тех,
кто пытался писать о полководце гражданской войны, кава-
лере трех орденов Красного Знамени Мусе Муртазине,
но и затравил его дочь, замечательного режиссера театра
драмы Шауру Муртазину, заставив ее бежать из Башкор-
тостана и скрываться в разных регионах страны от пресле-
дования идеологического вождя, от длинных рук Башкир-
ского КГБ.
Ни одна книга Бабича не появилась на свет при цар-
ствовании Ахунзянова, хотя в соседней Татарии он выхо-
дил совершенно беспрепятственно. А ведь он был нашим,
башкирским, поэтом. К тому же поэтом пламенным, вы-
дающимся!
Мысль о том, чтобы пригласить бывшего секретаря об-
кома, осенила именно Малика. Лично я бы на это не ре-
шился никогда, ибо абсолютно не верил тому, что он при-
мет наше предложение.
Но чудо свершилось: Тагир Исмагилович сидит передо
■9*
259
мной на стуле в большой комнате бывшего первого секре-
таря бывшего обкома партии!
— Люблю иметь дело с умными и талантливыми людь-
ми, — сказал он в порядке преамбулы.
— Вы имеете в виду Бабича? — спросил я.
— Нет, я имею в виду тебя, — ответил он совершенно
серьезно.
Этот короткий диалог Малик ввел в ткань фильма, и
он мне до сих пор кажется невероятным. Диким. Такие
слова из уст того, кто в начале 70-х годов на три года за-
претил мне печататься и где-либо выступать. Три года си-
дения за пишущей машинкой над подстрочниками — един-
ственным источником существования семьи!
— Тагир Исмагилович, испытываете ли вы чувство рас-
каяния или стыда за прошлое? — спросил я его. — Ну хотя
бы за то, что запрещали Бабича.
— Нет, — ответил бывший секретарь. — Запрещал не
я, запрещали сверху. Мы были только исполнителями при-
казов свыше. Из Москвы.
Этот диалог тоже запечатлен для потомков. Но они
вряд ли поймут весь его «зазеркальный» смысл и оценят
по достоинству. Это поймут лишь те, кто пережил эпоху
идеологического насилия над личностью, прежде всего —.
творческой.
Еще один примечательный диалог.
На этот раз — с «ветераном» села Зилаир Василием
Степановичем Горшениным. Он согласился сниматься в
фильме о Бабиче с видимым удовольствием. Может быть,
для того, чтобы продекларировать девиз зилаирских «ве-
теранов революции», символом которых был ныне покой-
ный Николай Кулешов. Именно он первым изрек те сло-
ва, которые повторил в камеру Василий Степанович:
— Если вы поставите Бабичу железный памятник, мы
его снесем. Если поставите деревянный — мы его сожжем!
— Но мы приехали сюда не ставить памятник Баби-
чу, а снимать о нем кино, — сказал я.
— Это неправда. Вы уже давно стремитесь поставить
ему памятник!
В чем-то представитель железной гвардии зилаирских
ветеранов революции оказался прав: прошло три года и в
честь 100-летия великого башкирского поэта Шайхзады
Бабича на том месте, где был зверски четвертован поэт,
установлен его бюст. Так же, как установлен в его родном
селе Асян Дюртюлинского района.
Пока не слышно, чтобы Горшенин и его единомышлен-
ники разворотили бы памятник ненавистного им поэта.
260
И легко, и необычайно трудно работать с высокопро-
фессиональным, самостоятельно мыслящим режиссером.
У него — свое видение. Сценарий для него — лишь черно-
вой материал, на основе которого он сооружает свою ки-
нобашню. Тем более, что Малик Якшимбетов нередко вы-
ступал в своих фильмах автором сценария. Точнее, они
привыкли работать вместе — он и его супруга Рита Со-
ловьева. Чужое /текстовое» вмешательство вносило в их
работу дискомфорт. В известной степени получилось так
и с моим сценарием. Без него Малик не мог обойтись.
Но прилежно следовать ему не мог в силу укоренившейся
привычки работать самостоятельно и абсолютно раско-
ванно.
Вот почему в созданном им фильме я плохо узнавал
собственную руку сценариста. Вроде все было так, как в
сценарии и, в то же время, все было не так. Главное: от
самой личности Шайхзады осталось довольно мало, хотя
фильм был именно о нем. Но зато режиссер-постановщик
виртуозно обыграл историко-революционную тему и ярко
представил события того времени, весь кровавый клубок
гражданской войны, Башкирского национального движе-
ния, красного и белого террора, уничтожения мечетей и
духовных лиц... Вразрез моему сценарию, Малик излишнее
внимание уделил религиозной тематике, именно с этой
точки зрения обозревал и даже оценивал главного героя
фильма.
И тем не менее, я не только не в обиде, но и бесконеч-
но благодарен ему: он сумел создать высокопрофессиональ-
ную ленту о трагедии народа, о трагедии его сынов, одним
из которых в данном случае выступает Шайхзада Бабич.
Именно после этого фильма я обратил особое внима-
ние на религиозный аспект в личности Бабича и открыл
для себя много интересного и поучительного. Сын извест-
ного указного муллы Мухаметзакира, прибывшего в Асян
из своего родового аула Кыйгазы-тамак (нынешний Миш-
кинский район), Шайхзада, как многие прогрессивно на-
строенные молодые люди своего времени, был вольнодум-
цем и максималистом, выступал против подавления лично-
сти, богатеев и мулл и даже против самого Всевышнего.
Его безжалостное сатирическое перо нещадно разоблача-
ло сильных мира сего, высмеивало богопоклонение, изде-
валось над невежественными духовниками: «Хоть снаружи
ты похож на человека, ложью все твое нутро кишит от
века» («Мулла»).
Но проходило время, Бабич в составе башкирского
войска повидал столько, жестокостей, хлебнул столько го-
261
ря и слез, что отношение его к Богу и религии претерпело
за каких-нибудь полтора-два года коренные изменения.
В один из самых драматических и отчаянных для корпуса
Валиди моментов Шайхзада создает пронзительное стихот-
ворение под названием «Молитва воина».
Ожидая от Тебя подмоги,
Я блуждаю в огненном краю;
Коль погибну, я душе у Бога
Место отыскать молю в раю.
О, Алла! Своим благодеяньем,
Милостью меня не обдели!
Не поддамся всяким устрашеньям
Ненасытных дьяволов земли.
Гор владыка, Тэнгри! Дай мне силы,
Укрепи мне дух и мышцы рук!
Бог огня, о Тэнгри! Влей мне в жилы
Свой огонь! Избавь наш род от мук.
Господин морей, что сотрясает
Реки, океаны и моря!
Мне бы тоже волн кипучих стаю
Гнать по миру, яростью горя.
Весь Башкортостан к тебе возносит
Руки и сердечную мольбу:
Отведи от нас огни и грозы,
Дай нам отыскать свою тропу!
Смерть готов принять я ради веры,
Протяни нам вещие персты!
В этот час нам тяжело безмерно
И помочь нам можешь только Ты!
Последняя строфа особенно примечательна: поэт «готов
принять ради веры» даже смерть; избавление он видит
лишь в Божьей помощи. Вот такая потрясающая мета-
морфоза произошла в сознании и душе поэта-бунтаря, и
это очень тонко и глубоко уловил постановщик фильма
о нем.
Летом 1993 года в Ашхабаде вновь состоялся фестиваль
кинофильмов тюркских народов, на котором опять лента
Малика Якшимбетова «На камне кровь моя густая» была
отмечена первым призом. Но, увы, сам он этого уже не
262
узнал. В марте того же года он умер «от разрыва аорты
сердца» — именно так звучал окончательный диагноз вра-
чей.
Но к этому мы еще вернемся.
* * *
Между тем, кинопредприятие Энгеля Хуснутдинова «Си-
нема» все больше разворачивало свою деятельность. На-
чалась закупка техники и оборудования, причем, самой со-
вершенной. У главы предприятия возникла идея соз-
дать художественный фильм о Заки Валиди. Написание
сценария было поручено мне. Был создан художественный
совет, на котором обсуждались насущные проблемы, об-
суждались готовые фрагменты сценария. В скором вре-
мени был завершен и весь текст сценария, который, как у
нас принято, решено было принять за основу. Малик под-
бирал актеров для будущего фильма и даже начал сни-
мать отдельные эпизоды будущей картины. Так, в Хайбул-
линском районе был заснят кусок охоты на волков, столь
принятой в жизни башкир предреволюционной поры.
Малик Якшимбетов жил надеждами, окрыленный бу-
дущими планами и делами. А планов этих было у него
«громадье».
Но при этом он продолжал жить все так же рисково и
вызывающе. Прежде всего, в отношении властей. Казалось
бы, самое время стать более спокойным и даже покладис-
тым, не задирать вышестоящего «зверя», тихо-мирно зани-
маться своим делом. Тем более, что и условия для этого
складывались самые благоприятные: ребята его киногруп-
пы, которых он выпестовал и вышколил, стали мастерами
своего дела (сейчас они успешно учатся в Московском ин-
ституте кинематографии); супругу свою Риту Соловьеву
Малик перевез в Уфу, и теперь они снова работали вмес-
те. У него были надежные единомышленники и доброжела-
тели, которые хотели перемен в киноискусстве республики.
А он продолжал крыть «серых и бездарных деятелей
культуры» Башкортостана и по телевидению; благо, неза-
висимый телеканал «Толпар» давал возможность любому
здравомыслящему человеку выступить перед телезрите-
лями.
Одно из таких телевыступлений Малика было особенно
острым и, я бы сказал, безапелляционным.
Дело усугублялось еще тем, что рядом с Маликом си-
дел приглашенный им из Алма-Аты кинорежиссер, кото-
рый от такой супероткровенности своего коллеги и товари-
263
ща чувствовал себя не в своей тарелке. Но Малик ничего
не видел и не замечал.
...Режиссер этот (фамилия просто-напросто забылась)
привез из Алма-Аты для показа башкирской творческой
общественности два фильма своих коллег — «Падение От-
рара» и «Глухой закоулок». Просмотр состоялся в Доме
актера и стал в буквальном смысле общественным явле-
нием в жизни Уфы. Мы могли воочию убедиться в том,
как следует делать фильмы на сегодняшний день; убедить-
ся в том, что казахские кинематографисты сейчас зани-
мают ведущее место не только среди тюркоязычных го-
сударств, но и России и всего мира. И в этом нет никакого
преувеличения.
Художественный полнометражный фильм «Падение От-
рара» можно смело сравнить с «Андреем Рублевым»
А. Тарковского и по художественному исполнению, и по
профессиональному мастерству (я имею в виду ту часть
киноленты Тарковского, которая касается нашествия мон-
голов) .
Искусство кино в Казахстане ныне находится в руках
молодых мастеров, которые, отбросив косность мышления
и бескрылый традиционализм прошлых лент, смело заго-
ворили языком нового мирового кино, не боясь никаких
нападок и обвинений со стороны этих самых традициона-
листов, закостеневших в скорлупе старых взглядов и ме-
тодов.
Несомненно, это явилось еще одной пощечиной башкир-
скому кинематографу и его проводникам в жизнь, которые
также десятилетиями болтаются в растрескавшейся лодке,
севшей на мель
Словом, Малик Насихович сделал все для того, чтобы
его фигура на горизонте Уфы стала совершенно неперено-
симой для целого пласта привилегированного общества,
считающего себя знатоками и двигателями национального
искусства, в том числе, искусства кино.
* * *
Однажды мы получили от Малика письмо из Алма-
Аты.
Письмо было пространное и совершенно ошеломляю-
щее.
Увы, со смертью его, а потом — Энгеля Хуснутдинова
письмо это затерялось неведомо где. Теперь остается толь-
ко раскаянно вздыхать по поводу того, что мы в свое вре-
мя не пропустили его через ксерокс или не перепечатали
на пишущей машинке.
264
Но ведь кто мог полагать...
Малик писал о том, что в одну из бессонных (или ме-
дитационных) ночей он долго, в течение нескольких часов
беседовал с Ахметзаки В ал иди, точнее сказать, с его Ду-
хом.
* # *
Знавшие о таких наклонностях (способностях?) нашего
товарища, мы не очень-то удивились новым откровениям
Малика. В конце концов, рассуждали мы, почему он не
может войти в некий мысленный (телепатический?) кон-
такт с теми, о ком думал дни и ночи, чьи фигуры и исто-
рические деяния волновали его постоянно? Тот же Ахмет-
заки Валиди или Зайнулла-ишан Расулев, родством с ко-
торыми он очень гордился. В конце концов, он мог даже
слышать их голоса, а значит — «беседовать» с этими
людьми...
Но это — из области догадок. В конце концов, мало ли
у нас ясновидцев, прорицателей и экстрасенсов, чтобы ста-
вить под сомнение способности и возможности общаться
с другими мирами и душами столь замечательного в своем
деле человека, как Малик Якшимбетов!
Да, я глубоко сожалею, что не перепечатал тогда то
воистину примечательное письмо. Это следовало сделать
хотя бы из учета непредсказуемости нашей окаянной жиз-
ни, когда личность и судьба отдельно взятого человека ни-
чего не стоят, когда можно безнаказанно убить, и этому
мало кто удивится (или даже огорчится), кроме разве
родных и близких. Вдвойне, втройне страшно, когда уби-
вают самых талантливых, не вписывающихся в рамки на-
шей жизни людей, которых никем не заменить.
Малик умер совершенно неожиданно и как бы нело-
гично. Вопреки всякому трезвому разуму и логике жизни.
Человек крепкой физической установки и не менее крепко-
го духа и воли... и вдруг!
Для меня это было не только потрясением, но и вели-
ким сожалением, ибо именно перед этой совершенно неожи-
данной и, повторяю, непредвиденной смертью (так и хо-
чется сказать —гибелью!) мы должны были встретиться,
чтобы просмотреть еще сырую киноленту фильма «На кам-
не кровь моя густая», присланную из Екатеринбурга. Я
должен был заглянуть к Малику. Вдруг звонит один из
его ребят и сообщает дичайшую вещь: умер Малик Наси-
265
хович. Вполне понятно, я поначалу принял это за глупый
розыгрыш, а потом помчался в гостиницу.
Увы, никакого розыгрыша не было. Он был найден
мертвым в своем номере и никто ничего не мог сказать о
причинах его смерти. Заключение врачей, проводивших
вскрытие, было коротким: разрыв аорты сердца.
Вот и все.
Повторяю: Малик Якшимбетов был чрезвычайно эмо-
циональным человеком, все воспринимал остро и темпера-
ментно, принимал близко к сердцу. И оно не выдержало...
* * *
Он мог внести не только серьезные коррективы в искус-
ство нашего национального кино, но и совершить в нем ре-
волюцию. И не какую-нибудь разрушительную, а вполне
«бархатную», ибо среди молодых было немало тех, кто
готовы в любую минуту подхватить его стяг и начать
работать по-новому, сверяя кинотворчество с лучшими об-
разцами мирового искусства, если бы это им позволили не
просто консервативные, но и агрессивно-традиционалист-
ские силы. Впрочем, именно сейчас, по прошествии несколь-
ких лет после смерти Малика они все больше о себе заяв-
ляют. К несчастью, зачинатель такого движения до дня
этого не дожил. Он умер, когда ему было всего сорок
семь лет.
Его оплакивали многие. Неожиданно выяснилось, что
его знали сотни людей. Несмотря на то, что на своей ро-
дине — в Башкортостане — он прожил всего неполных два
года и поставил всего три фильма, успел приобрести не-
мало единомышленников и поклонников своего сурового
и нежного, а главное — бескомпромиссного таланта. Во
всяком случае, друзей у него оказалось куда больше, чем
врагов. Такова сила новаторского, мужественного и прон-
зительного творчества!
Мертвое тело Малика Якшимбетова увезли на родину—
в село Аскарово, центр Абзелиловского района. Там он
родился. Там учился и открывал для себя мир. Оттуда
ушел в большой мир искусства.
Туда же вернулся он, отбыв положенный ему срок
жизни, которая оказалась к нему столь же жестокой, как
и милостивой. Да, милостивой и милосердной, ибо истин-
ный талант живет всегда, если у него есть друзья и почи-
татели.
А их у Малика Якшимбетова множество!
266
ДРУЗЬЯ И felrf САЛАВАТА
Еще раз о Крестьянской войне
Сейчас, когда я пишу эти строки, ничего не известно
насчет будущего. И России, и каждого из нас. Коммунис-
ты победили в Госдуме. Геннадий Зюганов ведет себя так
же размеренно и степенно, как всегда, но и в выражении
лица, и в манере себя держать, и в весомости произноси-
мых им тирад чувствуется твердая уверенность. В чем?
В абсолютной победе? В том, что судьбой ему уготовано
место на вершине общественно-политической пирамиды?
И как будет называться та вершина? — президент или...
генеральный секретарь? Невозможно сказать. На вечере
памяти Ленина лидер коммунистов назвал его величайшим
гением человечества. А вот демократы, прежде всего, де-
мократически настроенные историки и политологи почти
перестали касаться имени Владимира Ильича, других боль-
шевистских вождей. А ведь совсем недавно, ну буквально
несколько месяцев назад, его называли «кровавым пала-
чом». Умер Дмитрий Волкогонов, выпустив серию книг о
вождях революции. В том числе — о Троцком и Ленине.
На обложке одной из книг — фотография безумного, впав-
шего в дебильное детство, Ленина. Тяжело и страшно
смотреть.
С большевистскими гениями все понятно. Вряд ли даже
Зюганов или лидеры «Трудовой России» простят им убий-
ство царской семьи, хотя и об этом в последнее время го-
ворят все реже и реже. Действительно, насчет будущего
ничего не известно. Нынешние лидеры-коммунисты ходят
в церковь, крестятся на икону Божьей Матери, участвуют
в богослужении... А как же с воинствующим атеизмом, как
одной .из непреложных черт коммунистического учения?
Как насчет частной собственности, фермерства, приватизи-
рованных предприятий и разорванных экономических свя-
267
зей?.. И этих «как» можно называть бесконечное множест-
во. Или, при условии возможной победы, коммунисты возь-
мут старт от того, что уже сотворено демократами, но толь-
ко «пойдут другим путем»? И еще — может быть, действи-
тельно, нынешние коммунисты разительно отличаются от
тех, что правили великой страной почти 80 лет. И в смыс-
ле философских воззрений, и в политических пристрастиях,
а также в отношении к морально-нравственным ценностям.
Действительно, не станут же они в самом деле в случае
прихода к власти сызнова взрывать Храм Христа Спаси-
теля?!.
Но мой главный вопрос, исходящий из того, о чем я
хочу писать в этом очерке: каким будет их отношение к
историческим народным восстаниям? Станут ли они по
случаю и без приводить ставшие ныне расхожими слова
Пушкина о русском бунте, жестоком и бессмысленном,
или народные воители вновь обретут свой исторический
статус?
Поживем — увидим.
I
Да, как это ни прискорбно, и многие писатели, и жур-
налисты, и политики сегодняшнего дня на чем свет стоит
поносят народные восстания и мятежи прошлых лет и ве-
ков. Стенька Разин давным-давно превратился в бандита
и головореза, Иван Болотников — в безмозглого главаря
холопов, а Емельян Пугачев и вовсе записан в воры и
антихристы. Подыскиваются все новые и новые высказы-
вания на сей счет разных великих деятелей разных эпох —
от выдающегося историка Николая Карамзина до другого
украинского историка Николая Костомарова, назвавшего
народные восстания «великими безобразиями». Находят
тирады у Розанова, Ильина, Булгакова, Бердяева...
Остается загадкой, как еще до сих пор так или иначе
щадят «инородческих» вождей, предводителей масс, под-
нявшихся на борьбу? Может, исподволь понимают, что
«массы» эти поднимались из-за невыносимости жизни на
родной своей земле. Недавний пример чеченской войны —
лучшее тому подтверждение.
Историю башкирского народа и башкирского края во-
обще невозможно представить себе без этих бесконечных
кровопролитных восстаний. Благодаря стараниям нынеш-
них историков, политологов, составителей учебников и т. д.,
не жалующих и не щадящих своих народных вожаков,
268
поднимавших людей на борьбу, происходит некий пере-
смотр и истории других, так называемых малых народов;
во всяком случае, нынче в учебниках по истории России не
встретишь даже упоминания о народных движениях в
Башкортостане или в той же Чечне (Шамиль), и в этом
ярче всего проявляется целенаправленная политика ново-
демократических идеологов вкупе с проповедями служи-
телей церкви, которые стали своеобразными звездами рос-
сийского телевидения.
Но ясно и другое: никакие «исторические аргумента-
ции» новых ортодоксов и толкователей прошлого, всерьез
или из конъюнктурного расчета заряженные имперским
мышлением, не поколеблют любовь народов к своей герои-
ческой, исполненной глубокого трагизма истории, ее вели-
ким сынам, не смирившимся с безжалостным насилием
колонизаторов.
* * *
В октябре 1993 года из танков был в упор расстрелян
Белый дом, в котором погибло множество людей; число их
лосию пору остается неизвестным.
В начале октября 1773 года, то есть, ровно 220 лет на-
зад, на помощь Пугачеву, осаждавшему Оренбург, пришли
двое башкирских старшин вместе со своими джигитами —
Яманхары Япаров и Кинзя Арсланов, будущий легендар-
ный советник лжеимператора Петра Федоровича (он же
Емелька Пугачев, беглый донской казак), мозговой центр
всего пугачевского движения.
Еще через месяц на сторону восставших казаков пе-
решли уже 23 башкирских старшины, в команде каждого
из которых состояло не менее пятисот человек, т.е. более
12 тысяч — вместе с ранее прибывшими. А еще через пол-
тора месяца к повстанцам привел своих воинов Салават
Юлаев.
Пламя Крестьянской войны стремительно разрасталось
и вскоре его бушующий пожар перекинулся на территорию
Башкортостана, охватил все его регионы, все самые глухие
и отдаленные уголки, в который уже раз принеся его на-
роду неисчислимые жертвы и нечеловеческие страдания. Но
именно в том, величайшем в истории человечества восста-
нии, недаром названном «войной», башкирский народ про-
явил неимоверное единодушие, почти полтора года отчаян-
но сражаясь саблями, луками и копьями против регуляр-
ной, значительно превышающей в численности царской
армии, наводившей ужас на всю Европу.
269
В октябре 1993 года не только простым российским
гражданам, но и специалистам-историкам было не до ис-
тории, не до каких-то событийных дат, связанных с прош-
лой судьбой народа. Да если бы они о них и вспомнили,
вряд ли стали говорить вслух или печатно: новая ревизио-
нистская идеология уже торжествовала и в умах, и в об-
щественном мнении, и в прессе.
Между тем, интерес к Крестьянской войне 1773 —
1775 гг. никогда не ослабнет, и к тем десяткам и сотням
исследовательских работ, которые уже увидели свет, доба-
вятся новые десятки и сотни, как научных, так и художест-
венных, ибо это грандиозное историческое событие дает
столь же грандиозную работу для мысли, пищу для ума
и сердца — было бы желание с головой погрузиться в омут
борьбы, психологию царских сатрапов и народных «низов»,
в действия их вожаков, которых было не один десяток — а
сотни и сотни. А какие лабиринты людских судеб, драм
и трагических коллизий!
Можно с уверенностью утверждать, что мы по-настоя-
щему знаем лишь малую часть того, что должно знать об
этой великой борьбе за землю и волю, о ее истинных гла-
шатаях и вождях, которых, повторяю, было так много,
что трудно перечислить поименно в каких-либо, даже са-
мых скрупулезных, документах.
Тем не менее, один такой документ был составлен еще
16 февраля 1775 года и назывался он «Ведомость Уфим-
ской провинциальной канцелярии», присланная в Оренбург-
скую губернскую канцелярию, о нерусском населении
Уфимской провинции, принимавшем участие в восстании».
Подписана «Ведомость» двумя чиновниками — неким Алек-
сеем Борисовым и «товарищем, секунд-майором Сергеем
Аничковым».
Однако можно себе представить, сколько людей было
задействовано в составлении оного документа, и какая
работа была при этом проделана! Судите сами: охвачены
все главные «дороги» — Казанская, Осинская, Сибирская,
Ногайская, по которым не только исчислялось башкирское
население, но и географически классифицировалось. Прак-
тически приведены названия всех башкирских сел и дере-
вень, жители которых принимали участие в восстании;
кроме того, имена атаманов и старшин, предводительство-
вавших в разных регионах. Только по моим подсчетам,
число их составляет несколько сот человек!
Приведу один из заключительных абзацев из этого в
буквальном смысле уникального документа:
«Башкирцы издревле во многих и равновременных об-
270
ращались бунтах, а мещеряки и служилые татара пребы-
вали в верности, но сколько раз, о том точнейшего объяс-
нения показать в сей ведомости, за неимением в Уфимской
провинциальной канцелярии, по причине згорения в быв-
шей в городе Уфе в 1759 году пожар, имевших в оной дел,
известия не с чего. А тептяри и бобыли, вотяки и череми-
са были в замешании з прошедшем токмо 1747-м году
единожды...»
Уже по одному этому документу можно представить
воистину огромный размах всенародного восстания, ох-
ватившего весь Башкортостан.
II
Человека, впервые приобщающегося к событиям Кре-
стьянской войны 1773—1775 гг., прежде всего поражают
неожиданные парадоксы, связанные с наиболее заметными
личностями этой войны. К примеру, мы привыкли считать
Салавата Юлаева главной движущей силой восставших
масс, состоящих из представителей самых разных народ-
ностей. В сущности, так оно и было. Однако было немало
старшин, которые не только значительно раньше Салавата
примкнули к Пугачевскому движению, но и раньше получи-
ли звания полковников, генералов и даже... фельдмарша-
лов! До этого чина, как известно, Салават не добрался,
остановившись на «бригадирах» (генеральское звание). Ну
а единственным фельдмаршалом в армии Пугачева был
катайский башкир Базаргул Юнаев, о котором у нас мало
кто слышал, тем более знает о его ратных делах и под-
вигах.
Между тем, Базаргул Юнаев являлся депутатом Го-
сударственной Уложенной комиссии от Исетской провин-
ции и отстаивал права восточных башкир и представите-
лей других народов (в частности, русских заводских рабо-
чих Зауралья и Южного Урала) в Петербурге. Как и дру-
гим почетным депутатам, медаль депутатства собственно-
ручно вешала на его шею сама великая императрица Ека-
терина Вторая. Наряду с другими депутатами, Базаргул
Юнаев также удостоился чести приложиться к ручке «ЕЯ
ВЕЛИЧЕСТВА».
Но освободительные идеи, которые распространял в
своих воззваниях и манифестах Пугачев, то бишь, импе-
ратор Петр Третий, оказались для Базаргула более желан-
ными, чем милости русской императрицы, восседавшей на
троне. Едва в пределах Челябинска и Исетской провинции
271
появились первые отряды пугачевской вольницы, как он
включился в борьбу с царскими войсками, которых в ту
пору было уже немало в тех краях: тут и полки генерала
Деколонга, и карательная команда Гагрина, и драгуны
секунд-майора Жолобова; и там же рыщет, подобно вол-
ку, неутомимый подполковник Иван Михельсон со своей
конницей — главный враг и преследователь Салавата. Сло-
вом, куда ни глянь — супостаты да каратели!
Но есть на Урале сила, способная противостоять воору-
женным до зубов царским солдатам — тамошние рабочие
горных металлургических заводов, с которыми у Базар-
гула отличные отношения: в своих просьбах и наказах, как
было выше сказано, депутат Юнаев отстаивал и их чая-
ния и интересы. К тому же он отлично говорит по-русски,
начитан, разбирается в психологии русского работного че-
ловека. Потому за ним охотно идут не только башкиры,
но и русские рабочие и прочие иноверцы, проживающие в
тех краях. И, может, потому в первых схватках с полками
регулярной царской армии Юнаеву не только удавалось
брать верх, но и сокрушать их неожиданными стремитель-
ными переходами и маневрами, и весть об этом широко
распространилась по всему Уралу, Башкирии и Орен-
буржью.
Эти громкие победы Исетского башкира-вожака сильно
воодушевили и самого Пугачева, который к тому времени
потерпел ряд чувствительных поражений на Яике и Сак-
маре; Оренбург ему так и не удалось взять. Вняв совету
Кинзи Арсланова оставить Оренбург и подаваться в преде-
лы Башкортостана, лжеимператор взял курс именно в сто-
рону уральских заводов — Белорецкого, Авзянского, Усть-
Катавского, Кыштымского и других металлургических
гигантов того времени.
Они встретились неподалеку от Миасса — Емельян Пу-
гачев и Базаргул Юнаев. Там же царь-казак собственно-
ручно повесил на шею башкирского народного предводи-
теля медаль фельдмаршала, как это несколько месяцев
назад сделала Екатерина Вторая. Но то была медаль Де-
путата.
Не правда ли, редко встречающийся в истории пара-
докс?
Вместе с Юнаевым высокие чины были присвоены еще
двум башкирам.
Вот как звучит высочайший Указ Пугачева, то бишь,
царя Петра Федоровича:
«Божиею милостию мы, Петр Третий, император и са-
модержец Всероссийский, жалуем от армии нашей в фельд-
272
маршалы депутата Уложенной Комиссии старшины Исет-
ской провинции Базаргула Юнаева, в генералы старшины
Кара-Табынской волости Юламана Кушаева, в полковни-
ка старшины Айлинской волости Муртазы Юртагулова».
Как видите, донской казак Емелька был щедр на на-
грады.
Но и получившие из его рук награды башкирские
предводители были преданы душой и телом, до конца ос-
таваясь верными идее освободительной борьбы с само-
державием.
Когда Пугачев с Кинзей Арслановым ушли на Казань,
намереваясь оттуда следовать в сторону Москвы, Базаргул
Юнаев остался на Урале, чтобы пресечь путь царским
генералам и полковникам, и это ему в немалой степени
удалось. Его народное войско выступало в роли прикры-
вающего главные силы повстанцев, и это во многом облег-
чило задачу Пугачева, который смог бы добиться куда!
больших успехов, если бы не предательство яицких атама-
нов. Напуганные размахом народного движения, исходя-
щие злобой к своему лжеимператору, каким сами сделали
донского казака Емельку, они при первом удобном случае
не только предали его, но и, схватив, передали в руки цар-
ских воевод. Они сделали это черное дело в момент от-
сутствия Кинзи Арсланова, который все это время со
своим отрядом оберегал Пугачева, давно уже почуяв не-
нависть к нему русских атаманов.
Базаргул Юнаев узнал о пленении главаря восстания
не от своих джигитов, а от царского генерал-аншефа Па-
нина. Именно он допрашивал взятого в плен депутата
Уложенной Комиссии. Базаргул и держался на допросе
как Депутат — с великим достоинством и степенностью.
Он отказывался признавать себя бунтовщиком или мятеж-
ником, утверждая что защищал жизненные интересы ра-
бочих, чья жизнь «скоту подобна».
Может быть, именно поэтому ему удалось избежать не-
минуемой смерти.
Впрочем, дальнейшая судьба пугачевского фельдмар-
шала Базаргула Юнаева осталась неизвестной.
III
Я убежден, что фольклор ни одного народа не сохранил*
столько сказов, былей, легенд и преданий о своих героях,
богатырях и народных вождях, сколько фольклор башкир.
И это — несмотря на то, что высочайший царский указ
273
лод угрозой смертной казни запрещал говорить вслух о
народных батырах и сэсэнах, в частности, о Салавате
Юлаеве.
Но именно о нем сохранились десятки легенд, по кото-
рым буквально шаг за шагом можно воспроизвести биогра-
фию национального героя и вождя.
Примечательно, что в русско-уральских легендах лич-
ность Салавата фигурирует ничуть не меньше (а, может
быть, больше), чем в башкирских.
Вместе с тем, существует немало фольклорных расска-
зов о других выдающихся воителях, которых в свое время
считали такими же полководцами, как и Салават.
Однако не только широкому, но даже более или менее
узкому кругу нашего общества они просто-напросто незна-
комы. Такими яркими личностями, к примеру, являлись
старшины Ногайской дороги Каранай Муратов и Каскын
Самаров. Легенды утверждают, что в одно время Каранай
держал под контролем все земли от Оренбурга до самой
Уфы! Именно ему поручил Пугачев торить путь «на Ка-
зань», после чего одарил его заморской саблей.
Рядом с Каскыном постоянно находился младший брат
Ырысай, могучий джигит, признанный батыр своего края.
Он получил из рук Пугачева дорогую шубу.
Ырысай совершил немало ратных подвигов, прежде
•чем его захватила в плен команда карателей. Он был при-
везен в город Мензелинск (нынешний Татарстан)—тра-
диционное место казни башкирских мятежных вожаков.
Именно там прилюдно был подвешен за ребро на желез-
ный крюк великий воин и вождь восстания 1704—1711 го-
дов Алдар Исянгильдин, который во время Азовской кам-
лании от всего воинства Петра Первого вступил в едино-
борство с турецким пехлеваном (черкесом по крови) и
убил его на майдане.
При первой попытке повесить Ырысая пеньковая верев-
ка палачей не выдержала и его пришлось вешать пов-
торно. Именно в это время подоспела депеша от Екатери-
ны Второй, в которой она требовала помилования башкир-
ского батыра. Тем не менее, казнь состоялась, а императри-
це впоследствии было доложено, будто приказ ее попросту
не подоспел вовремя.
Страницы книги «Крестьянская война 1773—1775 го-
дов на территории Башкирии», содержащей свод докумен-
тов этого грандиозного исторического события, буквально
пестрят именами Караная Муратова и Каскына Самаро-
ва, что свидетельствует об их выдающейся роли в этой
войне.
274
Каранай был сотником Бурзянской волости. Легенды о
нем записаны на его родине — в ауле Каранай нынешнего-
Стерлитамакского района. Звание полковника ему было
присвоено еще в ноябре 1773 года, когда восстание, подня-
тое Пугачевым, только-только разгоралось.
Особо отличился Муратов в сражениях на Прикамье,,
северных пределах Башкортостана, когда на повстанцев с
северо-запада были брошены крупные силы регулярного
войска. Там полководческий талант бурзянского старшины,
проявился в полной мере. Захваченный в плен специаль-
ным карательным отрядом, Каранай был доставлен в Ка-
занскую секретную комиссию в конце октября 1774 года.
Его даже возили в Москву «для лицезрения» казни само-
званного императора Емельки Пугачева, после чего его
тщетно склоняли к поимке Кинзи Арсланова. Каранай
вел себя довольно странно: вроде бы не отклонял предло-
жения и посулы, но отнюдь не торопился их выполнять,,
всячески тянул время. В результате, Кинзя Арсланов ис-
чез, словно в воду канул. Раз и навсегда. Иные из истори-
ков убеждены, что именно Каранай Муратов дал знать
Кинзе о том, что за ним идет повсеместная охота и пред-
ложил немедленно уходить к казахам, что Арсланов и:
сделал. Известно, что несколько лет спустя после подав-
ления восстания Пугачева в средних улусах Казахстана
вспыхнул огромный народный мятеж, которым предводи-
тельствовал пожилой истек (так называют казахи башкир),,
пользовавшийся у восставших непререкаемым авторитетом.
Когда мятежники были разбиты, предводитель-истек снова
исчез, и больше о нем не было ни слуху ни духу.
Существуют две версии дальнейшей судьбы Караная.
Муратова.
По одной — он остатки своих дней провел в тюрьме.
По другой — был отпущен домой, где и прожил да
глубокой старости. Именно с такой версией выступил в
республиканской газете один из земляков Караная, в то
же время подчеркивая его выдающиеся заслуги в Крестьян-
ской войне. К сожалению, я не смог отыскать этот, читан-
ный мною в свое время материал, и потому не могу наз-
вать фамилию автора.
Как бы то ни было, Каранай Муратов несомненно яв-
лялся незаурядным вожаком восставших масс, достойным
не только более тщательного изучения, но и создания спе-
циальной книги о нем, если бы на то отыскался свой Сте-
пан Злобин или Гали Ибрагимов.
275
* * *
В ту же секретную комиссию города Казани был на-
правлен и другой, упомянутый выше башкирский полков-
ник Каскын Самаров. Ему тоже привелось лицезреть казнь
того, под чьими призывами и знаменами вели борьбу за
свободу и независимость башкирские повстанцы.
Еще в ноябре 1773 года, буквально в первые дни ве-
ликого восстания, Каскын пишет указы от имени «россий-
ского императора» Петра Федоровича о наборе годных к
военной службе в ряды повстанческих отрядов и походе в
Уфу. Именно в то время он вместе со своим земляком Кан-
булатом Юлдашевым становится полковником армии Пу-
гачева.
Любопытен такой факт.
В своем рапорте Военной коллегии от 7 декабря 1773
года генерал-майор Фрейман сообщает, что для подавле-
ния башкирского мятежа в ауле Акбашево (Акбаш) была
выслана команда секунд-майора О. Тевкелева, состоявшая
из 400 башкир, прибывших из Польши, где они принимали
участие в подавлении мятежа конфедератов. Однако но-
воприбывшие башкирские воины сразу же переметнулись
на сторону сукровников, а их предводитель «при захвате
оного секунд-майора злодейской старшина Каскын Сама-
ров был первой, которой, кинувшись на него, стал бить по
голове».
Нетрудно догадаться, что сей секунд-майор был никем
иным, как родным сыном палача башкирского народа
Алексея Ивановича Тевкелева (он же — крещенный мурза
Кутлуахмет Мамешев), спалившего около семисот башкир-
ских аулов вместе с их жителями и оставившего за собой
горы трупов и золы.
Но вот знали ли повстанцы, кем является их пленник
секунд-майор? Наверняка знали, иначе не повесили бы
вниз головой на дереве.
* * *
Близкими друзьями Салавата Юлаева представлены в
легендах отец и сын Башаргул и Юлкай, выходцы из ны-
нешнего Гафурийского района. Ко всему, Башаргул был
сэсэном, поэтом-импровизатором. Они почти постоянно
сражались вместе, плечом к плечу, а тут Башаргулу на
какое-то время пришлось отлучиться — поехать к Пугачеву
с поручением Салавата. Уезжал он с тяжелым сердцем,
276
как бы предчувствуя будущую беду. Вернувшись, узнал
о гибели Юлкая. Он даже к погребению тела своего лю-
бимого сына не успел и два дня и две ночи неподвижно
просидел возле его могилы, не реагируя ни на какие уго-
воры друзей. А потом прилюдно спел песню, посвященную
Юлкаю;
Я выпустил стрелу из арбалета;
Погиб Юлкай, мой сын, в большом бою.
Я, как стрелой, пронзен был вестью этой
И, в горести, друзьям своим пою.
И дни, и ночи ждал о нем я вести,
Кровоточила раной моя грудь.
Погиб Юлкай в сражении. С ним вместе
Пал конь, что разделил Юлкая путь.
Безлунной ночи нелюдима мгла,
Стожаров нет — темь черная легла.
Горе Башаргула было настолько велико, что он за мно-
гие версты отправился к Салавату и рассказал ему о гибе-
ли сына. Тот утешил его, сказав: «Смерть медведя в глу-
хомани, смерть батыра — в поле брани».
С того времени Башаргул и превратился в неистового
мстителя и сэсэна. Темными ночами нападал он на вражес-
кие отряды, лагеря и карательные команды и вырезал их
до последнего человека. Имя его наводило ужас на цар-
ских солдат и командиров, Была обещана награда за его
поимку. Началась охота за воином-сэсэном, но он продол-
жал биться, оставаясь неуязвимым и для карателей, и
для лазутчиков. Слава о нем распространилась по всему
Башкортостану, его песни распевались повсюду. Они воо-
душевляли земляков, взявшихся за оружие, звали к мести,
геройству и отваге.
Узнав о пленении Пугачева, он пропел перед воинст-
вом такую песню:
Ненастен день, и спит в тени глубокой
Угрюмый косогор, печаль тая.
Смерть принял бы до срока я, да только
Не жалит смерти черная змея.
Неподалеку от Зилим-Каранова возвышается крутая
скала Магаш, родина писателя Шакира Насырова и люби-
мое место отдыха Мажита Гафури. На этой скале укрепил-
277
ся и долгое время отбивался от осаждавших карателей Ба-
шаргул с остатками своих джигитов. Башкиры бились до
последнего, пока были силы и стрелы, чтобы поражать
врага. Затем взялись за сабли и, выйдя из своего укрытия,
бросились врукопашную. Впереди всех прочих был Башар-
гул. Его пытались взять живьем, но он, после того, как
саблю из его рук выбили, бросился вниз со скалы, а джи-
гиты его погибли все как один в неравном бою.
Если бы не слышал еще в далеком детстве эту будора-
жуще-печальную легенду от своей матери, уроженки Га-
фурийского района, которая учила маленького Шакира
Насырова, я мог бы отнестись к устной повести о Башар-
гуле с известной степенью скепсиса. Но в том-то и дело,
что каждая очередная легенда или сказание о той или
иной исторической личности или историческом событии
постепенно и с годами начинает подтверждаться все новы-
ми и новыми данными и документами.
Сейчас я нахожусь в том психологическом состоянии,
когда безоговорочно принимаю Истинность любой легенды
и даже притчи, любого предания, дошедшего до нас от
предков. Но при этом мне страстно хочется искать все но-
вые доказательства и аргументы устных версий, и когда
это удается сделать, я чувствую себя счастливейшим чело-
веком на свете!
IV
Но не меньше ярких, выдающихся личностей, вождей
и воителей интересовали меня их антиподы, каковых в
башкирской истории тоже было не кот наплакал. Я не
имею в виду откровенных врагов, имеющих свои собствен-
ные убеждения и политические подпорки. Сильный и чест-
ный враг сам по себе вызывает уважение, если он руковод-
ствуется общепринятыми нормами морали и идеологичес-
кой платформы. Увы, таких деятелей в истории челове-
чества не так уж много — по пальцам сосчитать! К при^
меру, я без враждебной предвзятости отношусь к честолю-
бивому и амбициозному подполковнику Ивану Михельсо-
ну, которого воистину можно назвать главным соперником
и врагом Салавата. Между ними постоянно происходила
некая дуэль, открытый поединок. Михельсон был не толь-
ко честолюбивым, но и храбрым и неутомимым команди-
ром, мечтал сделать головокружительную военную карье-
ру. И это ему наверняка бы удалось, если бы... Если бы
его соперником был не Салават Юлаев. Много месяцев
278
преследуя башкирского вождя, время от времени вступая
с ним в открытые сражения, кончавшиеся победой то од-
ной, то другой стороны, Иван Иванович, тем не менее, не
стяжал славу в этих долгих дуэлях. Однажды только чудо
спасло Михельсона от гибели — стрела Салавата просвис-
тела в каком-нибудь миллиметре от его виска. Это заста-
вило задуматься царского подполковника. Разуверившись
в возможности поимки пугачевского бригадира, Михельсон
в конце концов ушел за пределы Башкортостана.
В высшей степени любопытным представляется военно-
походный журнал Михельсона, в который он вносил не
только записи о своих походах и сражениях, но и чисто
человеческие впечатления, на которые, увы, наши писате-
ли до сих пор почти не обращали внимания.
После сражения с башкирским отрядом, численностью
примерно в тысячу человек, и понеся немалый урон, Ми-
хельсон записал: «Живых злодеев я едва мог получить два
человека из забежавших в озеро. Каждый из сих варваров
кричал, что лутче хочет умереть, нежели сдаться».
Даже одна эта короткая запись говорит о том упорст-
ве, с каким сражались башкирские повстанцы. Зная о
жестокости царских командиров, они предпочитали найти
гибель в открытом бою, чем попасть в плен и быть четвер-
тованными, посаженными на железный кол или подвешен-
ными за ребро.
Говоря о таких врагах, как Иван Михельсон, невоз-
можно не упомянуть и об извергах, подобных татарскому
мурзе Тевкелеву. Такие, как он, стоят особняком, требуют
особого толкования и этического подхода, ибо нет ничего
отвратительнее немыслимой жестокости сильного, ограж-
денного чужими штыками палача, десятками тысяч унич-
тожавшего безвинных и совершенно беззащитных людей,
детей, женщин, старух и стариков; поджигателя, оставляю-
щего за собой немереную полосу черной, опаленной земли.
В последнее время появляется все больше исследова-
ний об этом выродке человечества. Подробно изучила «про-
клятый род» Тевкелевых аспирантка Института истории
языка и литературы Гульназ Давлетбаева, именно так —
«Проклятый род» — назвав свой исследовательский мате-
риал, который был полностью опубликован в нескольких
номерах газеты «Истоки».
Но как относиться к тем, кто с самого начала не при-
нял ни явно популистских воззваний Пугачева, ни свобо-
долюбивого порыва Салавата Юлаева, Кинзи Арсланова,
Базаргула Юнаева, Юлая Азналина?.. В первую голову я
имею в виду старшину Кара-Табынской волости Ногайской
279
дороги Колыя Балтачева (Балтасева), которого все ис-
следователи Крестьянской войны 1773—1775 гг. считают
главным врагом Салавата «из своих». И не без основания.
Как относиться к башкирскому старшине Кара-Табын-
ской волости Ногайской дороги Кидрясу (Кыдрасу?) Мул-
лакаеву, сыгравшему довольно-таки коварную роль в судь-
бе всего восстания? К старшинам Мендею Тупееву, Шеры-
пу Киикову, Валише Шерыпову?..
Первый является мишарским главным старшиной Ка-
занской дороги; второй — известным старшиной Иректин-
ской волости Осинской дороги. Это о нем писал вышеназ-
ванный подполковник Михельсон в рапорте генералу-пору-
чику Щербатову: «При сем сражении равномерно ж ока-
зывали свое усердие к службе ея императорского величе-
ства мещерецкой предводитель Сулейман Мустафин, депу-
тат Абдизелим Максутов и башкирский старшина Шарып
Кийков, который и, пред сим будучи мною послан для пуб-
ликования манифестов, злодеями был схвачен и претерпе-
вал великие мучении с потерию своего имения».
В другом своем рапорте Иван Михельсон откровенно
хвалит Киикова за храбрость в бою с повстанцами.
В июле генерал-майор Потемкин обращается к «глав-
ному башкирскому старшине Шарыпу Киикову, которого
за «ревностное усердие к службе» отпускал домой, чтобы
тот наводил спокойствие и тишину среди соплеменников.
Тогда Шарыпу Киикову было 36 лет. У него был сын по
имени Биктяш, который пошел по пути отца.
Однако заниматься Киикову примиренческой миссией
не дали, он едва избежал смерти от рук разгневанных зем-
ляков и был вынужден вновь податься к карателям, до
конца Крестьянской войны служа в отряде подполковника
Ивана Михельсона.
* * #
Однако вернемся к первым двум, наиболее одиозным
фигурам — Колыю Балтачеву и Кидрясу Муллакаеву.
Помимо многих дел и действий Колыя, направленных
против Салавата, следует заметить и его знаменитую фра-
зу, брошенную на допросе: «Дела Салавата Юлаева столь
громкие, что имя его в тамошних местах везде слышно
было».
Именно Колый Балтачев выступал одним из свидетелей
и обвинителей Салавата, трижды присутствуя на его до-
просах. Именно Колыя отправил генерал Потемкин в Мо-
280
скву для допроса Салавата в Тайной экспедиции Сената
в марте 1775 года. Точная дата —5 марта, когда была
устроена очная ставка Балтачева с Салаватом и его отцом
Юлаем Азналиным.
Привожу выписку из документа № 195, содержащегося
в книге «Крестьянская война 1773—1775 гг. на террито-
рии Башкирии»:
«...старшина Балтачев объявил, что оной Юлай был
прежде состояния доброго и находился с ним вместе в по-
ходе в Польше для поиску и усмирения конфедератов, где
он, Юлай, в толпу к злодею пристал, и какие именно зло-
деяния чинил, — того он, Балтачев, не знает, и в злодей-
стве им примечен не был».
Итак, первая неожиданность: лютый враг Салавата как
бы оправдывает его отца, верного соратника своего сына-
полководца.
Впрочем, такая ли уж это неожиданность? Начиная с
1761 года Колый Балтачев и Юлай Азналин, известные
в своих краях старшины, обладатели огромных земель и
лесных массивов, неоднократно участвовали в военных
походах Русского воинства, принимали самое деятельное
участие в подавлении народных восстаний в Польше, где
повстанцев было принято называть «конфедератами». Их
связывала многолетняя дружба, единство взглядов, вер-
ность царю, высокий имущественный ранг. В своей книге
«Салават Юлаев» Инга Гвоздикова пишет: «В Польше
Колый был награжден командующим войсками генерал-ан-
шефом А. И. Бибиковым саблей в серебряной оправе. По
возвращении в Башкирию за ним надолго закрепилось
звание «главный начальник». Колый был одним из самых
богатых башкир, что подтверждается «Реэстром пограб-
ленному из дому старшины Кулея Балтачева имению», со-
ставленным в 1780 году, а также документами его ростов-
щических операций».
Так что, воинская служба взяла верх над чувствами
мести и злобы? Чего-чего, а о делах Юлая Азналина, вер-
ного помощника и соратника сына своего Салавата, он
знал не хуже (а, может быть, лучше!) других. Именно
боясь неожиданного нападения Салавата или Юлая, он
слезно молил уфимские власти оставить карательную ко-
манду подполковника Рылеева в окрестностях Ельдякской
крепости после того, как сей царский сатрап огнем и ме-
чом прошелся по тамошним башкирским аулам. Колый
страшился мести со стороны сукровников. Да и сам он не
раз и не два жег и разорял их аулы и дома с единствен-
281
ной целью — нажиться. За это ненавидели не только соп-
леменники, но и представители всех других народов, там
проживавших. И мести с их стороны он боялся недаром:
при первом удобном случае все его поместье было разграб-
лено и сожжено, многие члены семьи и домочадцы уби-
ты. Это страшное обстоятельство повергло Колыя в много-
дневную депрессию. Он не мог ничего делать, почти не ел,
не пил, и только участливое к нему отношение со стороны
все того же Ивана Карпыча Рылеева помогло старшине
прийти в себя, после чего он стал воевать против Салава-
та и его единомышленников с удвоенной энергией.
Так почему же он выгораживал своего товарища по
военным походам Юлая Азналина?
Разумеется, не из лучших чувств и соображений. Имен-
но этим шагом он хотел вбить клин во взаимоотношения
отца и сына, разлучить их раз и навсегда. Действительно,
смягчи каратели приговор Юлаю Азналину, и он автома-
тически оторвется от Салавата, потеряет его до конца
жизни.
Между тем, старый воин, также награжденный медалью
за ратные подвиги, дальнейшую свою жизнь не представлял
без своего сына, в отлучении от него. Салават стал для
него не просто самым близким и родным человеком, но и
почти мистически необходимой личностью, олицетворяю-
щей двухлетнюю борьбу всего башкирского народа с тем,
кто был и оставался самым страшным и ненавистным его
врагом — царским самодержавием. Юлай Азналин готов
был принимать сколько угодно ударов кнутом, был согла-
сен на любую пытку и даже казнь, лишь бы не разлучать-
ся с Салаватом. И он своего добился. И наверняка тогда
же понял весь коварный замысел своего бывшего боевого
товарища. Отец и сын настолько одинаково думали и по-
нимали друг друга, что показания их на допросах почти
не различались между собой.
Так что, в этом Колый Балтачев сильно просчитался.
Как бы оправдывая Юлая в глазах судей, Колый на-
столько же злобно и в то же время скрупулезно называл
грехи Салавата. Когда ему показали протокол допроса
последнего в Тайной экспедиции в Москве, он внес целый
ряд «поправок и добавлений». В частности, отметил, что
после получения звания полковника он совершил ряд напа-
дений на крепость Осу и, в конечном счете, ее захватил;
что жег и разорял богатых башкир, в том числе спалил
его, Колыя Балтачева, дом; что даже после поимки Пуга-
чева Салават не сложил оружия, продолжая разбойничать
и убивать. Именно для поимки его были посланы военные
282
команды, с которыми он неоднократно сражался, но «на-
конец-то, пойман и представлен был к подполковнику Ар-
шеневскому».
По всей видимости, в 20-х и далее в 30-х годах многих
этих документов просто-напросто не было, сказать точ-
нее, они пылились на архивных полках, недоступные для
историков, исследователей, писателей. В том числе, Степа-
ну Злобину, автору романа «Салават Юлаев». Он сам при-
знавался, что писал свою книгу исходя из народных сказов
и легенд. Отсюда — столько надуманных персонажей, не-
верное освещение главных из них, в частности, Кинзи Арс-
ланова, которого автор делает ровесником Салавата и дру-
гом его детства. Отсутствует в романе и Колый Балтачев,
что вносит в повествование большой изъян: повторяю,
именно Колый оказался «главным свидетелем» на допро-
сах Юлая и Салавата, именно он дал основные сведения
о его «преступлениях». Вместо этого предателем выступает
некий Бухаир — имя, которое с легкой руки Злобина (иже
с ним автора фильма «Салават Юлаев» Я. Протазанова
и автора либретто оперы «Салават» Баязита Бикбая) ста-
ло широко распространенным, как бы даже нарицатель-
ным. Между тем, такого человека не было. Был Бухармет
Булхаиров, черемис из деревни Узяково, который при
вступлении в его деревню отряда Салавата бежал. Роль
его в восстании неясна. Может быть, именно фамилия
этого человека-имярека (Булхаиров), которая оказалась
на слуху писателя, и заставила Злобина сделать из него
отрицательного героя, более того, наделить его всеми по-
роками, которые можно было бы равномерно распределить
между Колыем Балтачевым и его приятелями, равно не-
навидевшими Салавата и его отца Юлая Азналина.
Таково участие старшины Кара-Табынской волости Ко-
лыя Балтачева в судьбе башкирского вождя Крестьянской
войны и его отца.
V
Несколько слов о Кидрясе Муллакаеве.
Почему именно о нем, хотя старшин — и башкирских,
и татарских, и мишарских, выступавших против Салавата,
было немало; правда, не настолько, чтобы преувеличивать
их роль. Дело в том, что Кидряс как раз олицетворяет ту
плеяду состоятельных башкирских мурз, которые держа-
ли нос по ветру и могли в любую минуту склониться на
сторону того, кто возьмет верх.
283
В одном из своих рапортов Муллакаев делает к своему
имени приставку «тархан». Возможно, так оно и было,
хотя скорее всего приставка эта — ничто иное, как мания
величия. Он был богатым человеком Уфимской волости,
с самого начала не принявшим манифесты Пугачева. По-
терпев сильный удар от атамана повстанческой армии
Владимира Тарнова, который командовал большим отря-
дом, в основном состоявшим из башкир, Кидряс задался
целью во что бы то ни стало ему отомстить.
Забегая вперед, скажу, что в конце концов это ему
удалось сделать. Но сколько невинной крови было при
этом пролито!
В рапорте подполковника Ивана Михельсона генералу-
аншефу Бибикову от 7 апреля 1774 года говорится: «Стар-
шина Муллакаев... приказал мне сказать, что он для того
ко мне не мог поспешить, что хочет, заслуживая свой по-
ступок, поймать злодея Тарнова, за коим поехал, чтобы
ево поймав, привесть ко мне».
Какой такой «поступок» имел в виду Михельсон?
А то, что месяц назад он обращался слезно не к коман-
дирам правительственных войск, а к «царю Петру Федо-
ровичу», то бишь, к Пугачеву, с мольбой о помощи: «...ест-
ли от милостивого государя нашего Петра Федоровича не
будет нам вспоможения и защищения, то здешний наш на-
род весь погибнет, ибо злодеи намерены домы наши ра-
зорить».
«Злодеями» тогда для Муллакаева были правительст-
венные войска.
Но уже 10 апреля тот же Кидряс Муллакаев доклады-
вал в рапорте генералу-аншефу Бибикову: «...оные воры
стоять против нас не могли, но с командирами своими, во-
рами ж подобными себе находящимися, раззоряя народ и
верноподданных ея императорского величества, некоторых
повешив, а иных изрубив, пограбив, от нас бежали, за
коими гнались команды наши верст сто ж, учиняя несколь-
ко сражения, за коими, ево, Тарнова, с товарыщи пой-
мали».
Я специально цитирую эти документы, ибо они пока-
зывают суть происходящего: начиная со второго этапа так
называемой Крестьянской войны на территории, по сути,
уже шла самая настоящая гражданская война: башкиры
убивали башкир, русские — русских. О грабежах, убийст-
вах, истреблениях мирных жителей упоминается во многих
документах как одной, так и другой сторон. И, как всегда,
бывает в периоды гражданских войн, не просто страдали,
284
но уничтожались прежде всего мирные жители, более:
70% которых составляли башкиры.
Может быть, видя, какой поворот приняло восстание,,
начатое яицкими казаками во главе с лжеимператором,
Кинзя пожалел о той минуте, когда посоветовал тому пе-
ренести театр боевых действий на территорию своей ро-
дины?..
Полностью перейдя на сторону царских командиров,.
Кидряс Муллакаев проявлял все свое усердие, чтобы оп-
равдать доверие русских начальников. Захватив Тарнова,
он начал методическую охоту на самых крупных вождей
восстания, в том числе, полковника-мишаря Канзафара
Усаева, происходившего из деревни Бузовьязово Ногай-
ской дороги. Он ушел к Пугачеву еще будучи сотником в
ноябре 1773 года, то есть прибыл в стан восставших каза-
ков-атаманов сразу после Кинзи Арсланова и Япарова..
Поднимал простой люд на борьбу в регионе между Стер-
литамаком и Уфой, где и находилось его родное приста-
нище.
Были у Канзафара Усаева удивительные повороты ъ
судьбе. При осаде повстанцами Уфы он был схвачен в
районе Чесноковки, но выпущен на свободу волей «импе-
раторского величества манифеста», после чего с еще боль-
шей активностью продолжил борьбу с карателями. Затем
он был снова пойман и направлен в Уфу. По дороге арес-
тантский отряд остановился в некоем чувашском ауле,.
где Канзафару удалось освободиться от колодок и бежать.
Два месяца охотился Кидряс Муллакаев на Усаева,
пока, наконец, не пленил знаменитого мишаря. В награду
за это он получил из рук генерала-майора Потемкина
«похвальный лист» и пятьдесят рублей золотом. Награда
из рук высокопоставленного вельможи вдохновила Кид-
ряса на новые подвиги — он стал вылавливать товарищей1
Канзафара.
И немало в этом преуспел.
Как известно, в поимке Салавата Юлаева немалую
роль сыграли два брата-мишаря Муксин и Зямгур (Ямгур)
Абдусалямовы. Удивительно, что именно они, тогда еще
очень молодые, участвовали в захвате предводителя преды-
дущего башкирского восстания 1755 года Абдуллы Алиева,,
известного под прозвищем Батырша. Оказывается, столь
же активное участие принимала эта парочка в поимке
Канзафара Усаева.
«28 сентября 1774 года старший брат Муксин обратил-
ся в Уфимскую провинциальную канцелярию с рапортом^
285
в котором просил передать ему и его брату Ямгуру во
владение дома Канзафара Усаева и мишарей Абдюка Ка-
ныбека и сына его Рафика, ссылаясь на то, что эти лица
участвовали в разгроме его домов в деревне Бузовьязов-
ской» («Крестьянская война 1773—1775 гг. на террито-
рии Башкирии», Башкнигоиздат, 1975. С. 402).
* * *
Правомерен ли вопрос, которым я задался вначале?
Надо ли теперь, по истечении 222 лет со времени жестоко-
го подавления последнего из крупнейших народных вос-
станий, ломать голову над тем, кто был против этой самой
Крестьянской войны? Против таких национальных героев,
как Салават Юлаев, Базаргул Юнаев, Кинзя Арсланов,
Каранай Муратов, многих, многих других. Ведь этих про-
тивников можно представить и как радетелей за мир и
спокойствие в родном краю, не желающих кровопролития
и междоусобицы. Повторяю: почти все башкирские восста-
ния, следовавшие одно за другим через определенное чис-
ло лет, в то же время являлись внутринациональной граж-
данской войной, ибо всегда находились противники гран-
диозной бойни, во что неизменно выливались подобные
мятежи. Каждый такой всенародный мятеж уносил жизни
сотен и сотен тысяч людей. Сотни и тысячи гибли самой
мучительной смертью: подвешенные за ребра, посаженные
на железные колья, обезглавленные на плахе. Десятки и
сотни так называемых плавучих виселиц отплывали вниз
по течению главных рек Башкортостана, и на каждой
такой плавучей виселице болтались тела десятка пленен-
ных мятежников и повстанцев. Каратели сгоняли детей и
женщин со всех близлежащих аулов на берега тех рек:
пусть смотрят, пусть набираются страха! И он копился —
годами, веками; впитывался в душу, в гены, все явственней
сказываясь в каждом новом поколении.
Но народ по-прежнему стремился к свободе и незави-
симости. Он не желал быть рабом!
Вот почему последнему вождю всенародного националь-
ного движения Ахметзаки В ал иди удалось поднять на
борьбу за автономию около сотни тысяч соплеменников.
Однако итог борьбы был обычным и привычным: де-
сятки тысяч погибших — на своей земле и на всех фрон-
тах, где сражались башкирские полки и бригады, защищая
Советскую Россию.
286
И еще один итог — потеря завоеванной кровью автоно-
мии. Новые репрессии, расстрелы, тюрьмы...
История повторяется по одному и тому же сценарию.
Нет, я не стану никого судить. Не имею права. Не имею
желания. Судить может только История. Мы же — только
извлекать уроки из прошлого.
Увы, мы никогда не умели да и не хотели делать по-
добающие выводы и извлекать уроки из своей истории и
судьбы. Не можем, не хотим и ныне. Иначе кровь невин-
ных не продолжала бы обильно орошать «просторы роди-
ны чудесной». Иначе не было бы заказных и незаказных
убийств, умопомрачительных разборок между какими-то
кланами, уносящих множество человеческих жизней. Не
было бы подлого терроризма. Не было бы многого-многого
того, что не только отравляет нашу жизнь, но и делает
ее сплошной мукой, совершенно бессмысленной роскошью,
от которой лучше всего поскорей избавиться.
Нет, я не судья Прошлому. Поступкам и действиям*
своих предков, которые жили и поступали по своему разу-
мению. Мне, может быть, только очень больцо и горько.
Но это уже — мои проблемы.
ТЕМНА ДГИК КАИНА
Слушая народную песню Тафтиляу"
I
Все эти годы я писал о личностях больших и благо-
родных, от природы наделенных умом, талантом и отзыв-
чивой душой. По закономерному для России парадоксу
жизни именно из-за этих, достойных преклонения, качеств
они-то и попадали в западню, на их головы обрушивался
камнепад бед и несчастий и черный тоннель нашей полити-
ческой жизни уводил их в свою страшную черную утробу
или заталкивал в лабиринты бытия, чтобы они там задох-
нулись от нехватки кислорода или погибли от холода, го-
лода, душевных страданий.
Писать о подобных людях — счастье, хоть и горькое.
Их образы мерцают сквозь толщу лет, подобно тому свету,
который излучают давно уже угасшие звезды. Их остано-
вившиеся от пуль и страданий сердца продолжают биться
и пульсировать. Для нас. Их голоса, оборвавшиеся на по-
луслове, продолжают звучать. Для нас. И для наших по-
томков. Они составляют Совесть истории и после гибели.
С некоторых пор у меня возникла потребность понять
психологию антиподов таких людей. Злодеев и каинов
человечества. Увы, их тоже было немало. И чем выше
возвышались по иерархической лестнице над людьми, тем
страшней и опасней для них становились. Тем большими
жертвами оперировали. Жертвы тех, кто достигал высше-
го трона, составляли сотни тысяч и даже миллионы. Де-
сятки миллионов! В зависимости от того, в каких пределах
•простиралась их безумная, а то и вовсе абсолютная власть.
Полагаю, нет нужды конкретизировать их имена, они и
без того у всех на слуху. Начиная с Калигулы и Нерона,
Тамерлана и Ивана Грозного... Кончая...
288
О многих из них созданы книги, целые научные иссле-
дования. Их имена давным-давно стали нарицательными,
и воспринимаются нами ныне тоже как нечто литератур-
но-историческое, как некие схемы зла и коварства.
* * *
Гениальность Пушкина еще и в том, что он просто и
убедительно раскрыл суть преступной философии Сальери,
убившего, по его версии, Моцарта.
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О, Моцарт, Моцарт!
И, как окончательное решение:
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Но и зависть, и философия Сальери принадлежат-то
человеку незаурядному, который «проверил алгеброй гар-
монию».
А если убийца и изменник — самый что ни на есть за-
урядный человек с одноклеточным мышлением? Неужто и
у него тоже должно выискивать некую закономерность и
логику поступков, чтобы с помощью своры влиятельных
адвокатов оправдать злодейское преступление?
Родион Раскольников зауряден в свершенном им прес-
туплении, и в том, как пытается замести свои следы. Но
по воле писателя он дорастает до признания своей вины,
приходит к великому раскаянию за содеянное, и, в конеч-
ном счете, прикладывается к Божьим стопам.
Интеллектуал Лев Троцкий посвятил злодею всех вре-
мен и народов Сталину два тома, озаглавив свой труд бо-
лее чем просто — «Сталин». Видимо, Лев Давидович по-
лагал, что это одно-единственное слово заменяет сотни и
тысячи других и потому не надо напрягать мозг, придумы-
вая другое, более выразительное название.
Я хотел бы привести небольшую цитату из этого труда.
Ю Заказ 415
289
«В непрерывном плетении интриг, в осторожном до-
зировании лжи и правды, в органическом ритме фальси-
фикаций лучше всего отражается Сталин и как человече-
ская личность, и как вождь нового привилегированного*
слоя, который в целом вынужден создавать себе новую
биографию» (Л. Троцкий, Сталин, Т. I. С. 322).
«...московские процессы, взятые в целом, поражают,
как грандиозный абсурд, как бред ограниченного челове-
ка, вооруженного всей полнотой власти. Не будет преуве-
личением сказать, что в основных своих обвинениях про-
цессы проникнуты духом тоталитарного идиотизма... Он
заставил исповедываться 150 человек в никогда не совер-
шенных ими преступлениях. А в сумме процессы преврати-
лись в исповедь Сталина». (Т. 2. С. 269).
«Бред ограниченного человека», «дух тоталитарного
идиотизма»...
Но почему же исследователи, будь то историки, лите-
раторы, философы, политики или люди искусства, никак
не могут прийти к единодушному мнению насчет отца
всех народов? Почему американские кинодеятели решили
снять о нем фильм со своим артистом в главной роли?
Еще одна попытка разгадать загадку вождя? А есть ли
она, эта загадка? Может, все действительно сводится к
диагнозу Бехтерева насчет паранойи?..
А дело, видимо, в том, что помимо злодеяний, Сталин
совершил еще столько такого, которое невозможно вычерк-
нуть ни из истории, ни из памяти народов. Вот и сохраня-
ется этот зыбкий баланс черного и белого, что и разделяет
человечество на два непримиримых лагеря, хотя и на сей
счет Пушкин сказал более чем четко и просто: «Злодейст-
во и гений несовместны».
И
Когда-то очень-очень давно я впервые услышал народ-
ную песню, которая заставила меня содрогнуться и бук-
вально залиться слезами. Тогда я не знал ни названия
песни, ни историю ее возникновения, но и по тексту, и по
мелодии понял, что это из ряда вон выходящее явление
даже в сверкающе-кипучем океане великих башкирских
исторических песен. Невыразимая глубина трагедии, пом-
ноженная на несравненную гармонию музыкального строя
и ряда, не надрыв, а поэтическая философия страшного
опыта прошлого, не рыдание, а своего рода литургия слов
и мелоса — вот что представляла собой услышанная мною
песня. Ее можно было бы назвать и реквиемом, и плачем
290
души, и мукой человеческого духа, насильственно отторг-
нутого от плоти...
Но она не являла собой ни то, ни другое, ни третье.
Это была вполне свойственная для башкирского народа
песня, в привычно-традиционных пределах музыкального
звукоряда, однако с единственным «но» — более виртуоз-
ная, внутренне кровоточащая, как бы обобщающая все
трагедии башкирского народа, вместе взятые. Может быть,
поэтому, подумалось мне, вряд ли она доступна для испол-
нения любому рядовому певцу.
Да, в ней была и мелодическая усложненность, и не-
уловимо виртуозная аранжировка. Но главное, все-таки,
заключалось в утонченной, возвышенно-трагической ду-
ховности, которая дается только таким же духовно бога-
тым, знающим историю народа и сопереживающим ей, ис-
полненным любви и сострадания певцам.
С тех самых пор я жил в постоянном сладостно-томи-
тельном ожидании новой встречи с этим чудом народного
вокального искусства.
И дождался!
В долинах Идели народ поредел —
Не Тевкелева ль место сечи?
Башкирские земли спалив, он сумел
Озолотить свои плечи.
Полковник Алексей Иванович Тевкелев.
До своего добровольного и, значит, предательского кре-
щения и принятия христианской веры этот человек прозы-
вался Котлоахмет Мамешев. Один из самых кровавых па-
лачей башкирского народа, каин, запечатлевшийся в исто-
рии не только своими бесчеловечными злодеяниями, но и
великой песней «Тафтиляу».
Это имя можно было встретить во всех учебниках и
исторических пособиях, в очерках по истории Башкирии.
Я помню его по учебнику для 4-го класса, хотя истинное
звериное лицо палача открылось мне намного позже.
Но вот ныне покойный писатель Гали Ибрагимов соз-
дал свой замечательный роман «Кинзя», и Тевкелев зажил
в нем своей автономной человеческой жизнью, возникая
чуть ли не в самом начале книги в качестве царского
сатрапа и верного помощника обер-секретаря сената Ива-
на Кирилловича Кирилова, основателя будущего города
Оренбурга. В ту пору он являлся подполковником и был
известен самой императрице.
10*
291
Вот какую краткую характеристику дает ему писатель:
«Алексей Иванович Тевкелев был крещеный татарин,
принявший православную веру. Наиб хорошо знал башкир-
скую землю, жизнь ее народа, обычаи и нравы...»
«Втайне Тевкелев презирал своего шефа, происходив-
шего из мелких мещан. Ведь он, Тевкелев, не из низкого
сословия: в Терсинской волости Казанского уезда владеет
он таким богатым имением, какого лысеющему статс-со-
ветнику в жизни не видать. Когда Кирилов сидел в се-
нате простым переписчиком, перед ним, Тевкелевым, мно-
гие ломали шапки...»
И еще один момент из романа «Кинзя».
«Надо скорей взнуздать истеков, — сказал Кирилов.
— Башкир? — Тевкелев привстал с места, будто готов
был немедленно приняться за исполнение приказа.
— Ужасно плодовиты они. Сказывают, по многу жен
имеют. Воистину дикари.
— Всех их вместе с татарами и мишарами можно раз-
дать помещикам, ваше превосходительство. Как крепост-
ных крестьян.
— В том числе и тебя? — лукаво улыбнулся Кирилов,
намекая на происхождение своего помощника. Подумал:
«Кровь феодала течет в его жилах. Какую вотчину имеет,
а все мало, надеется еще урвать...»
Это очень важный момент, который раскрывает суть
мировоззрения Алексея Ивановича. Гали Ибрагимов дол-
го и кропотливо трудился над своим произведением и, мо-
жет быть, самым главным и мучительным было для него
не само писание, а процесс накопления материала, поиски
редких исторических книг и архивных документов, этно-
графических примет и аксессуаров эпохи, ее народного
говора. Добросовестность автора в этом смысле поражала
многих. Он великолепно знал топонимику и географию
республики, вплоть до названия и месторасположения са-
мых малых речек и даже родников. Его гражданским му-
жеством было выведение одиозных исторических личностей,
к числу которых можно смело отнести и того же Тевкеле-
ва. Хотя для этого следовало исследовать куда более об-
ширный период судьбы башкирского (и не только!) на-
рода.
В фигуре Тевкелева писатель хотел показать тип чело-
века (а таких, увы, было немало!), далеко отошедшего от
своих корней, продавшего и свою веру и национальную
честь ради собственной карьеры и благополучия. Образо-
вание и богатство, которые он получил по наследству, та-
292
кие люди используют не на пользу, а во вред своему наро-
ду (если еще можно так выражаться о татарском наро-
де—для Тевкелева), вбивают клин между разными на-
родностями и племенами.
Тем не менее, чувствовалось, что писатель недостаточ-
но глубоко вошел в генеалогию рода Тевкелевых (Маме-
шевых), ибо в одной из наших бесед намекал на родо-
словную от кучумовичей.
К этой версии я еще вернусь.
В приведенном выше отрывке из романа «Кинзя» явст-
венно сквозит «национальная психология» Алексея Ива-
новича, которая, по сути, стоит вне всякой национальной
основы. Для него — что башкиры, что мишары, что тата-
ры — все на одну колодку. Алексей Иванович преиспол-
нен ко всем инородцам парадоксально-шовинистическим
пренебрежением (или презрением), которое, видимо, обре-
ло законченный характер с переходом в чужую веру, как
бы освобождающую его от всякой моральной ответствен-
ности за свои поступки и преступления перед бывшими
сородичами.
Парадокс же заключается в том, что он отлично знал
многие мусульманские языки, в том числе башкирский,
татарский, мишарский, казахский... С тептярями говорил
по-тептярски, с чувашами — по-чувашски. То есть, перед
нами — блестяще способный человек; однако львиная доля
этих способностей у него уходила на хитрость, приспособ-
ленчество, на то, чтобы сделать карьеру. Именно такие
люди всегда готовы были на коварство и жестокость.
«Вот тебе обрусевший Алексей Иванович! — удивился
Арслан-батыр, выслушав рассказ Бикметова о том, как
Тевкелев читал старинные тюркские книги. — Неужто и
древние наши вещи читает?
— Еще как! — ответил тот. — И слева направо, и спра-
ва налево. Как воду пьет».
Это — еще одна цитата из романа «Кинзя».
В чем же видел Тевкелев смысл своей неудержимой
карьеры, по версии Гали Ибрагимова?
Он отвечает на этот вопрос словами Кинзи Арсла-
нова:
— ...мечтает повертеться там, около трона. А здесь
стремится превратить нашу землю в свою вотчину и стать
верным вассалом Петербурга».
Пожалуй, это самый точный ответ, наиболее верно ха-
рактеризующий натуру Тевкелева.
Точный, но далеко не весь.
293
Ill
Мы можем познавать историю, констатировать прош-
лые события, так или иначе их интерпретировать.
Но мы не имеем права историю судить.
Когда слышишь от тех или иных татарских деятелей
упрек в том, что в свое время башкиры не пришли на по-
мощь осажденной войсками Ивана Грозного Казани, это
кажется вроде бы странным. В самом деле, башкиры в ту
пору находились в подчинении Казанского ханства, плати-
ли ясак. Ничего удивительного в том, что они не броси-
лись сломя голову на помощь своим угнетателям, попросив-
шись вместо этого в состав Русского государства.
Однако, если взглянуть на события более чем четырех-
вековой давности сквозь призму сегодняшнего дня, можно
и по-иному воспринять упреки татарских оппонентов. Баш-
кирские старшины Мушавали Каракузяк, Искеби и Ша-
гали Шакман, обратившиеся к Ивану IV с просьбой о при-
нятии их родов в состав Русского государства, желали обе-
зопасить их от бесконечных угроз и нападений многочис-
ленных врагов, окружавших башкир со всех сторон.
«Условия, на которых московский царь принимал под
свою власть башкир, вполне устраивали башкирских фео-
далов, — пишет историк А. Н. Усманов в своей книге «Доб-
ровольное присоединение Башкирии к русскому государст-
ву». — Последние от русского царя получили большие вы-
годы: так, например, жалованные грамоты царя на вотчин-
ное владение землёй давали им возможность по собствен-
ному усмотрению распоряжаться земельными угодиями, а
получение тарханных грамот освобождало их от платежа
ясака...»
Однако тут же мы читаем буквально следующее:
«Иван Грозный давал башкирам жалованные грамоты
на владение землёй вовсе не потому, что он был добрым
царем. Он давал эти грамоты потому, что так диктовали
интересы государства. В условиях борьбы против Казан-
ского и Астраханского ханств, конечно, нужно было счи-
таться с теми народами, которые сами добровольно шли
под власть московского царя».
Разумеется, ни сном ни духом не могли тогдашние
башкирские старшины и бии предполагать, как круто по-
вернется политика российских самодержцев, стоит Аст-
раханскому и Казанскому ханствам пасть к их ногам. Те-
перь путь на благодатные, и потому более чем заманчи-
вые пространства башкирских земель был открыт и можно
было приниматься за искоренение проживающих там на-
294
родов, колонизацию края, что и совершалось в течение
нескольких веков, когда в нескончаемых восстаниях было
истреблено, выслано в сибирские края, продано в рабство
более половины башкирского населения.
Так вот, если исходить из последствий «добровольного
присоединения», можно действительно говорить о недаль-
новидности башкирских мурз, бивших челом Ивану Гроз-
ному в Казани, куда он приехал из Москвы для торжест-
венных празднеств по случаю взятия ненавистного и столь
желанного для него города. И тогда упреки татарских дея-
телей — а они звучали еще в XVIII — XIX вв. — вроде
как бы обретают под собой почву.
Прежде чем непосредственно обратиться к личности
Алексея Ивановича Тевкелева (Котлоахмета Мамешева),
я хотел бы сделать небольшое отвлечение.
Однажды мне пришлось услышать довольно любопыт-
ную версию о причинах патологической ненависти этого
человека к башкирам. Суть ее сводится к тому, что род
Тевкелевых, якобы восходит к кучумовичам, за обиды ко-
торых будто бы и мстил Котлоахмет Мамешев.
Однако почему наследникам кучумовичей следовало
мстить башкирам?
Исторические события показывают — было за что.
В конце XVI века против хана Кучума была направле-
на мощная экспедиция А. Елецкого, в составе которой на-
ходилось несколько сот башкирских воинов, наиболее ак-
тивно сражавшихся против западно-сибирских татар. Ку-
чум потерпел поражение, но сумел бежать. В сущности,
после этого он уже не смог оправиться.
Башкиры принимали участие и в других набегах и по-
ходах на кучумовичей, в чьем стане, кстати, тоже находи-
лось немало башкир из племен табынцев, сынрянцев и
мякотинцев. После ряда столкновений с сородичами, ко-
торые приходили в Сибирь в составе русского воинства,
«кучумовские» башкиры постепенно покинули прежние
пределы и вернулись на исконные земли. Все это не могло
не вызывать злобы у последнего из могучих ханов Сибири.
Но еще более удивительной, однако ничем не подтверж-
денной (и потому не выдерживающей критики) является
легенда о Ермаке, которая единоправно обитает как на
казахской, так и на башкирской почве.
У казахов распространено имя Ермек (Ермек Серкеба-
ев), у башкир — Ирмэк. Может быть, близость звучания
этих имен с Ермаком и породила на свет эту странную
295
легенду (да простят меня серьезные историки, придержи-
вающиеся каждой буквы своей науки!).
Так вот, некий башкир казачьей службы по имени Ир-
мэк совершил какой-то воинский проступок и бежал к
яицким, а затем к донским казакам. Там он сильно обру-
сел, стал вожаком самых отчаянных удальцов, и когда
выдался случай, отправился в авантюрный поход против
хана Кучума в Сибирь. И хану, якобы, стало известно его
истинное происхождение. Отсюда — его ненависть к баш-
кирам, которые, по всему, относились не к роду тюрков,
а имели (сейчас эта версия научно обосновывается рядом
историков) иранскую генеалогию. Сказать точнее, сами
иранцы пришли в свои нынешние пределы с Южного Ура-
ла. Приведу цитату из исследований вопроса Салавата
Галлямова, изучавшего проблему во Франции и Англии.
«У башкордов Урала до сих пор одно из родо-племен-
ных объединений носит имя священного огня Борзен. Пле-
мя бурзян населяет южные отроги Уральских гор, име-
нуемые башкордами Ирандаг — Ирандек. О том, что свя-
щенный огонь Борзен — Михрбан был огнем земледель-
цев, свидетельствует и то, что башкорды перед началом
сева справляли свой древний праздник — Хаб-ан-туй. Сло-
во «хаб» на языке кордов и иранцев означает «зерно».
«Хабанд» на языке кордов Месопотамии означает — мо-
литься и поклоняться Богу.
Еще одно свидетельство того, что прародина кордов и
иранцев располагалась на Севере, а точнее — на Южном
Урале, мы находим в «Авесте», где уже говорится о кли-
мате, который соответствует климату Урала...»
...А еще говорят, будто прах Ермака покоится не на пра-
вославном, а на мусульманском кладбище города Тюме-
ни. Кучум в своем завещании призывал к мести башкирам,
и этот мотив, дескать, тянулся от поколения к поколению,
пока не угодил в руки Тевкелева.
Такая вот история.
Вообще, когда обращаешься к действительно загадоч-
ной фигуре Ермака Тимофеевича, к его родовым корням,
удивляет скудость исторической информации. В частности,
в трехтомном исследовании А. А. Гордеева «История ка-
заков» (Москва, 1992) о Ермаке сказано буквально сле-
дующее: «Ермак принадлежал к Верховым казакам... В
одно время он был объявлен Москвой «разбойником» и
ослушником царских указов и принужден был покинуть
пределы Дона... В то время, когда московские войска тер-
пели поражение в войне с Польшой, а земляк Ермака ата-
296
ман Черкашин с казаками находился в составе московских
войск на западе, Ермак с отрядом ушедших с ним казаков
вступал в пределы Кучума и приближался к решительным
действиям против одного из наследных царей угасшей
монгольской империи, владельца обширного Сибирского
царства».
Вот такие сведения о Ермаке Тимофеевиче.
Однако довольно о легендах и версиях.
О генеалогических корнях Тевкелевых можно вычитать
в интересной книге уфимских краеведов Г. Ф. и 3. И. Гуд-
ковых «С. Т. Аксаков, семья и окружение», изданной Баш-
книгоиздатом в 1991 году.
«Родословная Тевкелевых была составлена на основа-
нии документов и семейных преданий и представлена в
1889 году в дворянское собрание Уфимского наместниче-
ства вдовой майора Дарьей Алексеевной Тевкелевой (не-
весткой Алексея Ивановича Тевкелева). Прапрадедом Тев-
келева был Уразлей, «неизвестно когда и из какой орды
поступивший в российское подданство; ибо бумаги, отно-
сящиеся до древнего происхождения рода мурз Тевкеле-
вых, потеряны в 1773 и 1774 годах при разграблении их
домов во время Пугачевского бунта».
У Уразлея известен сын Ураз Мамет, имевший двух
сыновей, — один из них Давлет Мамет — дед А. И. Тев-
келева... У его брата Муртазы был сын Рамазан Мурта-
за — двоюродный брат А. И. Тевкелева — переводчик
Польского приказа... Отец А. И. Тевкелева Мамеш Давлет
Маметов, владелец имений в Касимовском, Владимирском
и Керинском уездах.
Возможно, все так и обстоит, вплоть до мифического
Уразлея, «неизвестно, когда и из какой орды поступивший
в российское подданство». Но все дело в том, что генеало-
гический ствол Тевкелевых, описанный Гудковыми, не име-
ет отношения к родословной истинного Котлоахмета Ма-
мешева — Алексея Ивановича Тевкелева.
В 1989 году в Казани выпущена книга выдающегося
татарского историка и общественного деятеля Шигабут-
дина Марджани «Мустафад Аль-Ахбар Фи Ахвали Ка-
зань Ва Булгар», посвященная древней истории татарского
народа. В ней автор приводит большое количество родо-
словных известных фамилий современников, преимущест-
венно мулл и муфтиев. На 216 странице в главе «Четвер-
тый муфтий» Ш. Марджани разбирает шэжэре муфтия
Хажи Салимгарея, который приходится правнуком Котло-
297
ахмета Мамешева (А. И. Тевкелева). Марджани доводит
родословную Тевкелевых до хана Ырыса аль-Чынгизи,
жившего в конце XV — в начале XVI веков. Далее он де-
лает примечание: «Все они приходятся потомками татар-
ских ханов».
По Ш. Марджани, династия Тевкелевых восходит к че-
ловеку по имени Таукил. Возможно, имя это означает
тюркское слово «тауаккал» — т. е. решительный, рисковый.
Родословная Тевкелевых идет от чингизида Ырыс-хана;
от первого его сына Коерчык-хана — Барак-хан, сын пос-
леднего — Жани-хан, дальше — Жадик-хан — Шигай-хан—
Ундан (Уразлей) — Уразмухаммед — Давлетмухаммед —»
Мамеш — Тевкель — Котлымухаммед — Юсуф — Шахин-
гарей — Салимгарей.
От второго сына Ырыс-хана: Котлытимерхан — Тимер-
хан — Олуг Мухаммед — Ибрагим — Илхам.
Подробно рассматривает родословную Тевкелевых ас-
пирантка Института истории, языка и литературы Уфим-
ского научного центра Российской Академии наук Гульназ
Давлетбаева, которая в нескольких номерах газеты «Ис-
токи» опубликовала обширное эссе под названием «Про-
клятый род».
Я же свое эссе написал на несколько лет раньше нее,
не ставя перед собой задачи подробно рассматривать
представителей воистину проклятого рода, ибо главным
объектом моих размышлений была народная песня «Таф-
тиляу», созданная по следам зверств Тевкелева.
По сведениям Шигабутдина Марджани, Уразмухаммед-
хан, исполняя желание русского царя Бориса Годунова,
состоял в ханах Ханкирман и умер там в 1610 году.
О Котлумухаммеде Тевкелеве сказано буквально сле-
дующее:
«Придя вместе с русским войском, в 1734 году заложил
фундамент города Оренбурга, оказал большие услуги Рус-
скому трону и дослужился до чина генерал-майора».
Что и говорить, русским царям сей потомок чингизи-
дов служил верой и правдой, поражая окружающих не
только своим рабским усердием, но и холодной жесто-
костью в отношении мусульманских народов, к которым
принадлежал сам. А вот о злодействах сего мужа в отно-
шении башкир у Марджани — ни слова.
«Другие из этого рода тоже верно служили русскому
царю, владели громадными землями и водами, лесами и
лугами. Их рабами являлись жители многих аулов, в том
числе таких, как Тирсэ и Килем. Одним словом, ни до
298
ни после них в России не было среди представителей му-
сульманских народов богаче и влиятельнее их».
Что правда, то правда.
Говоря о больших заслугах представителей рода Тев-
келевых перед русским троном, Ш. Марджани, разумеется,
прежде всего имел в виду заслуги самого Тевкелева, ко-
торый начал свою карьеру еще при дворе Петра Первого,
в качестве переводчика сопровождал царя в турецком по-
ходе, а во время персидского похода 1722 года он являлся
старшим переводчиком в секретных делах при Петре I.
Дальнейшая деятельность этого человека связана с
Башкирией и Казахстаном, и направлена она была на то,
чтобы уговорами, подкупом, коварством и обманом под-
чинить народы этих стран Русскому трону. И в этом Алек-
сей Иванович немало преуспел. Ну а в отношении мирного
башкирского населения, как было сказано выше, более чем
успешно действовал военными методами.
Целый ряд прочих Тевкелевых командовали каратель-
ными отрядами, которые безжалостно подавляли вспыхи-
вающие то там, то тут народные волнения, истребляли
мирных жителей, занимались открытым грабежом. Одним
из таких вожаков являлся сын Алексея Ивановича Осип
(Юсуф) Тевкелев. Он командовал башкирским отрядом,
принимавшим участие в подавлении польских «конфеде-
ратов». По возвращении Осип получил приказ подавить
мятеж башкир Ногайской дороги под руководством Кидря-
са Самарова. Однако убийца — сын убийцы — сильно про-
считался: джигиты его отряда перешли на сторону мя-
тежников, а сам Осип Тевкелев был повешен на дереве
вниз головой.
Петр Первый намеревался послать Алексея Ивановича
Тевкелева вместе с русским посольством в Киргиз-кайсац-
кую орду, уже тогда вынашивая план захвата казахских
земель и присоединения их к России. Но внезапная смерть
помешала императору осуществить задуманное.
Выполнять эту миссию Тевкелеву пришлось уже в
1730 году, когда казахский хан Абулхаир стал проситься
в состав России. Тевкелев хитро справился с этой зада-
чей, сумев добиться похвал не только русского царя, но и
признательности казахов, которые восприняли его не толь-
ко как справедливого посредника, но и своего высокопос-
тавленного благожелателя. Правда, до поры до времени.
Повторяю, Тевкелев безупречно владел казахским языком
и провести полуграмотного Абулхаир а для него не стоило
особых трудов. Однако вскоре Абулхаир лишился поддерж-
299
ки земляков, оказался меж двух огней, пока не был умерщ-
влен.
Добавлю, что в Абулхаире довольно сильны были чув-
ства исторической дружбы и привязанности к своим се-
верным соседям — башкирам. Недаром, привлеченный к
подавлению башкирского восстания 1737—1738 гг. губер-
натором В. Н. Татищевым, он весьма скоро подпадает под
влияние башкирского народного вождя Бепенея Трупкуло-
ва и даже начинает военные действия против русских.
Именно тогда были срочно вызваны сторонники русской
ориентации — батыры Среднего жуза Джанибек и Млад-
шего — Букенбай, которые вернули его в положение «цар-
ского подданного».
Именно с этого момента начинается головокружитель-
ная для «инородца» (даже крещеного) политическая и об-
щественная карьера Алексея Ивановича. Недаром он по-
лучает из царской казны ни мало ни много 1000 рублей
золотом — громадное по тем временам состояние!
Но и без этой платы за его верноподданническую служ-
бу и жестокость к азиатам и, прежде всего, мятежным
башкирам, он готов был верой и правдой служить царю-
батюшке. Именно такие услужливые хищники нужны бы-
ли петербургским наместникам. Не удивительно поэтому,
что один из самых образованных и коварных оренбургских
губернаторов Неплюев «нашел в Тевкелеве полезного себе
помощника по управлению краем, и поручал ему во время
своих отлучек в Москву и Петербург главное управление
Оренбургской губернией» (В. Н. Витевский).
А до этого он являлся ближайшим помощником друго-
го палача башкирского народа — Татищева.
Такая из ряда вон выходящая карьера.
Такая личность.
IV
Нет ничего удивительного в том, что, имея столь высо-
кую генеалогию, Тевкелев получил блестящее образова-
ние. А раннее приобщение к военно-политической деятель-
ности выработали в нем черты тонкого, изощренного дип-
ломата, верного послушника монархов, исполнителя самых
изуверских приказов.
И поныне сохранившаяся в Санкт-Петербурге домаш-
няя библиотека, якобы принадлежавшая Алексею Ивано-
вичу, поражает богатством и тонким художественным вку-
сом. Тевкелев вращался в высших столичных кругах, был
300
вхож в самые аристократические дома. Петербургские
князья и графы восхищались «бесстрашием и неутоми-
мостью» тевкелевской натуры, не подозревая о том, каки-
ми методами он добивается «добровольного присоедине-
ния» или «всеобщей покорности» на восточных границах
Российского государства, какие зверства чинит среди не-
счастных инородцев.
Любопытно знать, известно ли было тем светским
львам и львицам о том, что при одном лишь «военном по-
ходе», совершенном им перед самым новым 1736 годом
вдоль Сибирской дороги по реке Ай, начиная от нынеш-
него города Бирска, Алексей Иванович, командовавший
большим карательным отрядом «особого назначения»,
сжег несколько сот башкирских аулов. Историки называ-
ют цифры от 500 до 700.
Вы можете представить себе такое количество сел и
деревень вдоль какой-нибудь одной реки? Я — нет. Ведь
в одном нынешнем районе Башкортостана число населен-
ных пунктов колеблется между 100 и 120. А тут — семьсот!
На сколько же десятков (или сотен?) верст простирается
полоса земли, превращенная в золу и пепел?
Не хватит воображения!
Еще труднее представить себе тысячи и тысячи убитых,
сожженных заживо, зарезанных и зарубленных людей,
чьи трупы грудами вздымались на улицах выжженных ау-
лов, во дворах превращенных в головешки изб.
В одном только ауле по названию Сеянтусы былб унич-
тожено более тысячи человек, а 105, главным образом
женщины, старики, дети загнаны в амбар и сожжены за-
живо.
Это вы представить можете?..
Доволен полковник конем молодым,
До крови протер ему спину.
Сравнится ли кто-то в жестокости с ним —
Людей вырезал, как скотину.
Долина Идели красою цвела,
Да Тевкелев выжег дотла.
От горя вконец почернела земля —
Горя снести не смогла.
И после этих немыслимых злодеяний, свершаемых над
коренным народом, после многовекового кровавого гено-
цида, сегодня находятся люди, которые издевательски тал-
301
дычат насчет численности башкир, делая из этого какие
угодно выгодные им выводы и заключения.
Разумеется, к одиозной фигуре Тевкелева можно отно-
ситься по-разному. Это — дело каждого, кто хоть сколько-
нибудь знаком с этой личностью. Ведь даже к Чокану Ва-
лиханову отношение в разных местах разное. Что там ни
говори, он тоже служил русскому трону и выполняя тай-
ные поручения царей, вел на Ближнем Востоке, грубо го-
воря, шпионскую деятельность в пользу российского само-
державия.
Однако, даже будучи военным человеком, этот патриот
своей в ту пору до предела угнетенной нации не позволял
себе выступать против своих соплеменников с оружием в
руках. Напротив, он глубоко переживал' и невежество
своего народа, и его позорное положение, равное бездне
средневекового безвременья.
Исключительная активность Алексея Ивановича была
прямо пропорциональна его черным деяниям, направлен-
ным против простого люда. Порой это прямо-таки вызыва-
ет чувство удивления. Деятельность эта иных приводит в
восторг. Известно, что именно он явился инициатором
строительства «восточного форпоста России» Челябинска.
Там его возносят именно как создателя этой каменной
крепости на Южном Урале и даже собираются воздвигнуть
ему памятник.
Именно эта весть, если, конечно, она имеет под собой
основание, заставила меня взяться за перо. Родилось такое
стихотворение, которое я назвал «Черный памятник».
Тевкелев... Котлоахмет-мурза,
Злой, как пес, скользучий, как гюрза,
Та змея, что нежно так зовется;
Хитрый, как корсак (читай — лиса),
Что в степи иль на кладбище вьется.
Удостоен у царя наград,
И не только! — у того народа,
Чьих детей живьем сжигал подряд,
Сотни деревень спалил сто крат,
Песни несказанной удостоен —
«Тафтиляу» зовется... Горше нет
Песен у башкир.
Какая слава
Палачу!..
Она — на сотни лет,
302
Потому что есть такое право —
Не у сатаны — у тех, кто спел,
Выразив в мелодии всю муку;
Кто сердца иссохшие согрел
Неземным потусторонним звуком.
Чем еще злодея наградить
Вам, соседям, в честь его злодейства?
«Не убий... Взлюби... Не укради...» —
Так у вас?.. И потому уместно
Вспомнить те библейские слова,
Ибо крал и убивал полковник,
Оставлял пожаров острова,
Черные поля земли паленой.
Воздвигайте памятник!
Глядишь,
Оживет от чьей-то он Любови
И, чтоб прежний поддержать престиж,
Пустит океаны вашей крови!
То, что я хоть как-то пытался понять суть историческо-
го злодея, логику поведения и схему мышления, вполне
возможно и не имеет значения для иных. Мало ли было
на земле палачей и садистов, которые с холодным рассуд-
ком и спокойной душой уничтожали тысячи и миллионы
себе подобных существ?
Полным-полно было подобных чудовищ на горькой
башкирской земле. История десятками и сотнями сохра-
нила их имена: Сергеевы, Татищевы, хованские, надеждины,
аршаневские, фрейманы, деколонги, урусовы, соймоновы,
Румянцевы, михельсоны, гаи, поленовы... Боже, да разве
их всех перечтешь?
Но личность Алексея Ивановича Тевкелева занимает
средь прочих палачей особое, только ему предназначенное
чертом и сатаной место.
Знание башкирского (и других тюркских языков) поз-
воляло ему входить в доверие к местным жителям, разу-
знавать их сокровенные тайны, выпытывать сведения о
верховодцах, о местах их сокрытия и т. д., чтобы затем,
обсудив добытые провокаторскими методами сведения со
своими опекунами и благодетелями, нанести вероломный
удар по несчастным обманутым людям. Тевкелев не ведал,
что такое жалость, и в своей ненависти к башкирам пре-
восходил любого из царских сатрапов.
303
И как тут лишний раз не вспомнить замечание Лени-
на, взятое в скобки, в одной из последних своих статей
«К вопросу о национальностях или об «автономизации»:
«Известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают
по части истинно русского настроения»!
Котлоахмет Мамешев, перелицевавшийся в преподоб-
ного Алексея Ивановича Тевкелева, — ярчайшее тому подт-
верждение!
Ту скорбь и печали не смоет ручей,
Их ветер времен не развеет.
Останется черная тень палачей
И местью в нас запламенеет.
На Тевкелева пусть проказа найдет,
Тоской захлебнется он злою;
Пусть Тевкелев-каин, как падаль, сгниет,
Развеется черной золою...
Моим далеким предкам ничего не оставалось, как слать
в безнадежном отчаянии проклятия своим убийцам и пала-
чам, полагая, что гнев и воля Аллаха накажут злодеев,
воздадут им местью за тысячи и тысячи убиенных...
Вотще!
Аллах не слышал их мольбы.
Но даже в самых печальных и трагических песнях
предки мои оставались великими художниками слова и
музыки, знали чувство гармонии и соразмерности, и ме-
лодия вытекала из их опаленной груди не какими-то вопля-
ми и рыданиями, а в полном единстве музыкального ис-
кусства, в котором нет ни перехлестов, ни преувеличенных
эмоций, а есть только чудо природы и человеческого гения.
Есть великий дух земного бытия.
Врагам не стреножить течение рек,
Надежду людей не разрушить;
Порывы мятежных егетов вовек
Все тевкелевы не задушат.
Сородичей мало осталось в живых,
Но мертвых хранят они муки.
Проклятья на камне я высек. Пусть их
В грядущем прочтут наши внуки! *
* Перевод текста песни «Тафтиляу» — мой, Г. Ш.
304
Мы прочитали ваши проклятья.
До нас дошла ваша великая песня, в которой слова не
уступают мелодии, а мелодия — будто подсказана самим
Всевышним.
...Я слушаю песню «Тафтиляу», которую мало кто ис-
полняет в полном ее совершенстве. Но такие есть! Я слу-
шаю и плачу. От счастья и горя. От того, что народ мог
создать такое диво природы. Песню, какую не в силах соз-
дать никто другой. И пусть наши песни понимает далеко
не каждый, чуждый башкирской истории и крови человек*
не это суть важно.
Их понимает земля, на много пластов своих впитавшая
кровь моих предков.
Их понимают Уральские горы; поредевшие, но все еще
величественные башкирские леса и благоухающие горьким
йшаном степные Просторы.
Наконец, их понимают и над ними льют слезы дети,,
внуки и правнуки тех, кто боролся со злодеями и каинами*
веками изгилявшимися над их прекрасной родиной.
ТИССАГЕТЫ, MA(!ferfrbl, БАШКОРДЫ...
История глазами Салавата Галлямова
Молодой исследователь истории тюркских народов Са-
.лават Галлямов сделал воистину сенсационное открытие.
Скрупулезно сопоставив отдельные тексты башкирского
эпоса «Урал-батыр» с соответствующими им фрагментами
шумерского сказания о Гильгамеше и древне-персидского
памятника «Авеста» (священная книга зороастризма), он
приходит к выводу, что в них не только много общего,
но есть и известная преемственность, а именно — «Урал-
батыр» значительно старше названных выше эпических
произведений и насчитывает ни мало ни много 4 тысячи
лет!
Приводимые в сравнительном плане текстологические
куски из трех этих памятников трех народов и впрямь по-
ражают воображение. Особенно в части потопа, борьбы
главных героев с разбушевавшейся стихией, спасения жи-
вых существ на суднах, лодках, корабле и ковчегах; в рас-
суждениях о смерти и бессмертии, создании земли обето-
ванной и т. д.
Бросается в глаза единство имен и названий. Так, наз-
вание древнейшего башкирского рода Бурзян переклика-
ется с названием древне-иранского священного храма Атур
Борзен Гушнасп; имя старшего брата Урала — Шульген
точно соответствует имени одного из шумерских царей —
Шульги, а само имя Урал тесно связано с названием цар-
ства шумеров Ур. Был у них и царь Зарикум, который в
эпосе «Урал-батыр» предстает как Заркум. Галлямов на-
столько глубоко входит в проблему единства башкордов,
кордов (курдов), древних иранцев (персов) и жителей
Месопотамии шумеров, настолько смело оперирует истори-
ческими именами, событиями и реминисценциями, что
даже подготовленному для ее восприятия человеку непрос-
306
то разобраться в сложной системе аналогий, тем болееу
когда незнаком с теми европейскими учеными, на труды
которых ссылается Салават Галлямов. Поэтому подтверж-
дение его выводов и, повторяю, воистину сенсационных:
открытий — впереди.
Истины ради отметим, что этими же проблемами за-
нимается и современный башкирский писатель Зигат Сул-
танов, который свои исследования-гипотезы ведет как бы
параллельно с молодым историком.
Другое дело, что эти исследования и гипотезы трудна
перепроверить.
Найдется ли среди наших (российских) фольклористов,
человек, который мог бы столь же глубоко и заинтересован-
но заняться проблемой древнейшего башкирского эпоса и
его предполагаемых древнеиранских и шумерских анало-
гий? Во всяком случае, до сих пор никто из тех, кто за-
нимался изучением «Урал-батыра», не то чтобы не заходил:
в своих предположениях столь далеко, как Галлямов и тот
же Султанов, но даже не пытались делать это с полной
серьезностью. Самое большее, что было сказано о башкир-
ском памятнике, так это — о тематической близости его со
сказанием о Гильгамеше. Так, знаток восточного фолькло-
ра А. А. Петросян обнаруживала в этих эпических поэмах
скрещивающиеся, хотя и противоположные по своей сути
мотивы: Гильгамеш — выделение личности из коллектива;
Урал-батыр же, напротив, — обретение личностью могуще-
ства в тесном человеческом окружении.
В своем эссе «Эпос — ровесник этноса», помещенном
в публицистической книге «Крючья под ребро», я говорил*
что «Урал-батыр» отражает особую послешумерскую сту-
пень в развитии человеческого общества, когда возврат
личности в лоно своих соплеменников, чтобы вместе с ни-
ми вести борьбу за утверждение жизни на земле, стано-
вится необходимым и неотъемлемым этапом в развитию
человеческого общества. Отсюда — бесконечные войны
Урал-батыра и его сыновей, близких по духу и мощи ба-
тыров, с врагами жизни за обретение земли обетованной.
Изучение Галлямовым башкирского эпоса и его уди-
вительные открытия — не только личная инициатива и на-
учная сенсация молодого ученого. В последние годы инте-
рес к этому памятнику проявлялся постоянно, к тому же
даже со стороны лиц, не имеющих прямого отношения к
фольклору, к исторической литературе. Время от времени
газеты ошарашивали своих читателей громкозвучными за-
307
головками, типа: «Тайна «Урал-батыра» раскрыта!», «Кто
создал эпос «Урал-Батыр?»
В газете «Вечерняя Уфа» появилась статья студентки
БГУ С. Нуреевой под названием «Айдар нашел ключ к
«Урал-батыру». Оказывается, аспирант кафедры филосо-
фии Айдар Абдуллин, «блестяще защитивший кандидат-
скую диссертацию», открыл роль символов в произведени-
ях башкирского народного творчества. Так, исследовав
ряд памятников старины, диссертант пришел к выводу,
что «Всемирный потоп» несет в себе идею «экологической
катастрофы»; что этот символ выражает представления
людей о начале мира, о грозных силах природы, о смерти
и спасении, о сотворении и низвержении зла.
Цитирую дальше:
«По Абдуллину, в этом шедевре мировой литературы
поставлена и решена проблема Мира и человеческого Бы-
тия. Чтобы разрешить категориальную оппозицию
«смерть — бессмертие», Уралу необходимо добыть Святую
воду (йэн шишмэ — т. е. духовный родник), которая спо-
собна сделать бессмертным того, кто ее выпьет...» И так
далее, и тому подобное.
Я не знаком с диссертационной работой молодого кан-
дидата, но даже эти некоторые ее аспекты, обозначенные
автором статьи, вызывают недоумение. Выходит, власть
водной стихии, с которой не на жизнь, а на смерть сража-
ется Урал-батыр, чтобы спасти живых существ, есть лишь
«представление о начале мира», а не реальный потоп, пе-
режитый древними людьми? И вся эта неистовая борьба
за жизнь на земле, за утверждение этой жизни — лишь не-
кие символы, дошедшие до наших далеких предков от их
еще более далеких предков?.. И почему «йэн шишмэ» —
это «духовный родник», а не просто «живая вода», столь
широко распространенная в башкирском (и не только!)
фольклоре?
Словом, я испытал сильное сомнение в том, что Айдар
и впрямь нашел ключ к «Урал-батыру».
Но дело в конечном счете не в этом. Дело в самом
всеобщем интересе к этому уникальному памятнику, до
последнего времени как бы остававшемуся невостребо-
ванным. Можно себе представить чувства Мухтара Муф-
фазаловича Сагитова, фольклориста, более других зани-
мавшегося «Урал-батыром» и подготовившего его отдель-
ным (первым) томом в серии «Башкирское народное твор-
чество» не только на башкирском, но и на русском языке,
явись он сейчас снова к жизни и узнай тот научный и
дилетантский ажиотаж, который царит вокруг его люби-
308
мого детища. А ведь самое большее, что сказано в предис-
ловии к русскому тому этой серии звучит так: «Неувядае-
мое общечеловеческое значение кубаира «Урал-батыр» и
величайшая мудрость его создателей в том и заключается,
что бессмертие человека не в бесконечном долголетии, а в
его добрых деяниях на благо всего мира, на благо на-
рода...»
К сказанному хочется добавить следующее.
Другой молодой литератор, переводчик романа покой-
ного Диниса Булякова «Жизнь дается однажды» Фарит
Ахмадиев, успел удивить автора произведения тем, что об-
наружил в романе архетипы, которые восходят к эпосу
«Урал-батыр». Именно в главных героях произведения он
узрел своеобразное отражение «треугольника» древнейше-
го эпоса: Урала, Шульгена и Хумай. Именно поэтому, ут-
верждал Ф. Ахмадиев, основные персонажи романа Д. Бу-
лякова получили обобщающую силу художественной типи-
зации.
Словом, башкирский прозаик почти неосознанно совер-
шил то, что можно видеть во многих произведениях миро-
вой литературы — закон архетипа. Особенно часто встре-
чается это явление в прозе латиноамериканских авторов.
Яркий пример — знаменитый роман колумбийского писате-
ля Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».
Имея богатейший фольклор, уходящий своими корня-
ми в глубины человеческого развития, башкирские писа-
тели, тем не менее, пока не научились пользоваться им в
достойной форме. Пример Булякова — редкое счастливое
исключение, да и то совершенное бессознательно.
А сколько других уникальных произведений народного
творчества имеется в сокровищнице башкирского фоль-
клора!
Однако вернусь к Салавату Галлямову и его гипотезе.
То, что молодой историк стремится выявить важную
историческую истину, не вызывает сомнения. Причем та-
кую, подобную которой еще не высказывали в нашей нау-
ке. Прежде всего из-за нехватки материала, недостаточно-
го знания иностранных источников. А истина эта заклю-
чается в двух постулатах: 1) уральский регион, в особен-
ности его южные пространства, является прародиной мно-
гих (большинства) народов Евразии; 2) древнейшая (по
сути, первочеловеческая) клинопись, которой пользовались
жители Шумеров, имеет древнетуранское происхождение.
Все остальное — производное от этих основополагающих
положений.
«Решение вопроса о национальной принадлежности
309
обитателей Шумера в древности есть по сути решение воп-
роса о происхождении человеческой цивилизации», — спра-
ведливо замечает автор нашумевшей гипотезы, и тут же,
как бы опережая своих будущих оппонентов, предупреж-
дает: «Гинкс, Роулинсон, Опперт — независимо друг от
друга пришли к заключению об урало-туранском (баш-
кордо-кордско-караимском) происхождении рукописи».
Это заявление столь же неотразимо, сколь и уязвимо.
Действительно, кто из заинтересованных в проблеме лю-
дей (даже специалистов!) знает и читал упомянутых вы-
ше западно-европейских ученых-тюркологов? Кто может
опровергнуть или, напротив, подтвердить сие заявление
Галлямова? Даже в тех трудах Ахметзаки Валиди, ко-
торые ныне известны нашему читателю и которые несом-
ненно являются почти непререкаемым авторитетом в этом
вопросе, я почти не встречал упоминания вышеназванных
ученых (может, просто не увидел). Будь иначе, великий
востоковед непременно сослался бы на них, выразил свое
отношение к их теории и, главное, несколько иначе интер-
претировал бы историю происхождения и дальнейшую эво-
люцию родного башкирского народа.
Затем. Насколько основательно, так сказать, концеп-
туально используют названные выше авторы понятие
«башкорд»? Действительно ли придают ему столь весо-
мое значение, как сам Салават, или башкирский историк
развивает «свиток своей гипотезы», опираясь на их авто-
ритетные заявления?
Во всяком случае, мне об этом судить трудно. И это
тем более досадно, что выдвинутая Галлямовым теория
действительно претендует на «мировую сенсацию» (как
выразился он сам в интервью в «Вечерней Уфе»), хотя,
в то же время оговаривается, что выдвинутые им положе-
ния давно уже не новость для европейской ориенталистики.
Вот почему столь важно, чтобы разговор о гипотезе Гал-
лямова принял истинно научный характер, с самого нача-
ла был поставлен на серьезные научные рельсы и в нем
приняли участие представители научного мира самых раз-
ных стран и народов, заинтересованных в исторической
истине.
Пока же попытка поставить на такие рельсы, представ-
ляется мне, носила чисто утилитарный характер, когда
одни, вполне именитые историки (И. Акманов), брали
сторону молодого коллеги, другие же (Д. В а леев, А. Пше-
иичнюк) категорически не воспринимали платформу Гал-
лямова. Но ни у тех, ни у других не было достойных
310
«за» или «контр» аргументов для того, чтобы вести дискус-
сию на достаточно высоком научном уровне.
Фраза одного из оппонентов Галлямова, прозвучавшая
на обсуждении его теории (и затем —по радио), носит
по меньшей мере пародийный характер: «Пусть его чита-
ют в Англии или Франции, где он понабрался таких идей!»
Между тем, именно потому, что молодой автор жил и
трудился в названных странах, делает его доводы наибо-
лее весомыми, и никакими пренебрежительными словами
и жестами нельзя умалить ни его бескорыстного труда,
ни самой его исторической теории. По мне бы лучше сей
оппонент назвал эту теорию <<бредом ^сумасшедшего»1.
Тогда сразу можно было бы поставить «эйнштейновский
вопрос»: а насколько идея эта сумасшедша, чтобы ее при-
нять за истину? Не сама ли история всех наук учит, что
вчерашняя «бредовая» теория сегодня кажется баналь-
ностью? Так почему мы не можем с полной серьезностью
подойти к смелым суждениям молодого историка, если
даже они грешат перехлестами и, может быть, ошибоч-
ными тезисами.
Впрочем, это еще следует доказать!
Итак, если за основу взять тезис Гинкса, Роулинсона
и Опперта об урало-туранском первоистоке человеческой
письменности и всей цивилизации, и тезис Галлямова
(обозначим его пока именно так) о том, что первозаселен-
цами Южного Урала были башкорды, то нет ничего уди-
вительного в том, что эти пра-племена земного лона участ-
вовали в формировании многих других племен и народнос-
тей. Точнее сказать, их кровь, их гены имелись в живой
конституции представителей этих племен и народностей,
как и элементы языка, терминов, имен. Именно об этом
пишет Галлямов, опираясь на богатейший сравнительно-
исторический материал, начиная от древнейших эпических
памятников и кончая конкретными именами исторических
личностей.
Параграфы, касающиеся эпических сказаний «Урал-
батыра», шумерского сказания о Гильгамеше и древне-
иранского памятника «Авеста», представляются в работе
автора наиболее аргументированными и убедительными.
Действительно, что можно противопоставить тем фрагмен-
там, которые приводит автор из трех этих древнейших
на земле памятников и тычет нас в них носом: смотрите,
сравнивайте, постигайте! Удивительные совпадения этих
фрагментов, вплоть до сюжетных и мировоззренческих,
воистину поражают воображение.
Оппоненты могут возразить: древнейшее сознание лю-
311
дей было во многом близким, а сюжеты сказок, легенд и
мифологии кочевали не только по пространству огромного
материка, но и от континента к континенту. Да, были об-
щие сюжеты, но они относятся к значительно более позд-
нему периоду и касаются главным образом сказочных мо-
тивов. Однако поищи-ка такие общие моменты в эпических
произведениях, скажем, у бурятов, создавших «Гэсэр»,
якутов («Олонхо»), калмыков («Джангар»), карело-фин-
нов («Калевала») и т. д. Не отыщешь! А с иранской «Авес-
той» и шумерским Гильгамешем башкордский «Урал-ба-
тыр» перекликается напрямую. Почему? Да потому, что
башкорды той незапамятной эпохи имели сродство как с
шумерами, так и с персами. Галлямов прямо заявляет,
что шухмеры — это отколовшаяся часть башкордских пле-
мен, которые в третьем тысячелетии до н. э. ушли в Ме-
сопотамию и основали там свое государство. «Переселе-
ние племен с территории Южного Урала на юг — факт,
давно доказанный и признанный историками, археолога-
ми и лингвистами, — говорит Галлямов. — Они доказали
принадлежность шумерского языка к урало-туранской
группе языков». Он указывает на общность имен: у шумер
был царь Шульга, правивший с 2093 по 2046 гг. до н. э.
Одним из наместников шумерского Шульги был Зарикум.
После смерти Шульги царем стал его сын Бор-Зен. Все
эти имена имеются в башкирском эпосе «Урал-батыр»,
который записан именно у башкирского рода Бурзян, яв-
ляющегося древнейшим среди прочих родов. Корды (кур-
ды) являются прямыми потомками шумеров, говорит далее
Галлямов. Ничего удивительного в том, что кордские и
башкордские слова имеют множество общих корней, в
чем можно убедиться, полистав курдско-башкирский сло-
варь. «В 1996 году до н. э., — заявляет далее молодой
историк, — государство шумеров было завоевано ирански-
ми племенами. Следовательно, до этой даты эпос «Урал-
батыр» уже существовал. Эра у нас нынче новая, а год
почти тот же, 1997-й. Есть все основания широко отметить
четырехтысячелетие существования эпоса «Урал-батыр»,
пригласив зарубежных шумерологов».
Однако автор не обходится лишь хронологической ар-
гументацией, довольно подробно останавливается на са-
мом тексте башкирского эпоса, выявляя его несомненную
древность. Один из весомых аргументов — жертвоприно-
шение людей, которое видим мы в эпизоде пребывания
Урала в царстве Катила; но именно эта варварская тра-
диция отсутствует в более поздних памятниках — «Авесте»
312
и «Сказании о Гильгамеше», ибо просто-напросто выпала
из народных обычаев.
Но при этом нельзя не отметить излишнее увлечение
автора сравнительной лингвистикой, которая питает его
неожиданными реминисценциями и идеями, но не всегда
qлyжит безупречной опорой в дальнейших рассуждениях.
Взять хотя бы имена богов в греческой мифологии. Так,
имя бога Вакха связывается с башкирским Вахит, Диони-
сия — с Даян, Бахуса — с башк. Б а х е т и т. д. Имя
главного греческого бога Зевса, по Галлямову, восходит
к слову «зив» на языке кордов, что означает серебро, се-
ребряный и т. д. и т. п.
Правда, при этом автор отмечает, что все «упомина-
ния о куретах-кордах взяты из книги А. Ф. Лосева «Ан-
тичная мифология».
Конечно, лингвистическая основа доказательства яв-
ляется весьма важной в решениях столь сложных проблем,
за какие взялся Галлямов. Однако и переоценивать (тем
более, злоупотреблять!) ее не следует.
Работа молодого историка является фрагментарной,
состоит из разных, довольно пестрых по своему характе-
ру глав, когда научные рассуждения чередуются с текста-
ми древних памятников или записей древних историков-
путешественников. Тут и Ахмед Ибн-Фадлан, и Масуди,
и Якут (Иакут) аль—Хамави, и Аль—Гарнати, и Эвлей
Челеби... Здесь же мы узнаем о великом юристе, одном
из первых правоведов земли VIII века Абу Ханифе (ум.
в 767 г.), который по национальности был кордо-иранцем.
Однако очевидно и другое: извлечения из записей наз-
ванных деятелей требуют, если не развернутых, то, хотя
бы необходимых для прояснения комментариев. Скажем,
нелестная для древних башкордов цитата из Ибн-Фадлана,
и рядом — из Аль-Гарнати, полярно контрастирующая с
предыдущей. Аль-Гарнати свидетельствует о процветании
народа башкордов, который имеет на своей обширной тер-
ритории ни мало ни много 78 городов!
Чем же вызваны такие перепады в оценке древних баш-
кир? Ответ повисает в воздухе. Его просто нет. Да и быть
не может, потому что, повторяю, работа не замысливалась
как нечто стройно организованное и последовательно ис-
полненное.
Будем надеяться, что это — дело будущего.
Цитаты, приводимые автором, настоятельно наталкива-
ют на мысль о том, чтобы мы (т. е. широкий круг читате-
лей) имели своеобразную хрестоматию, состоящую из вы-
держек (или полных текстов), взятых из путевых заметок
313
и работ древних ученых: историков, путешественников, мо-
нахов, открывателей чужих земель, стран и народов. К
нашему прискорбию, мы не можем прочитать страницы
из 3-томного труда Н. Бичурина, касающиеся истории
древних башкир; не знаем арабских источников, без кото-
рых трудно себе представить прошлое народа. Именно
отсутствие таких первоисточников дает возможность не-
приятелям теорий, подобных галлямовской, столь пренеб-
режительно о них отзываться, как и вообще скептически
относиться к какому-то «цивилизованному прошлому» ко-
ренного народа уральского региона, не признавая ни его
богатейшего и уникального фольклора, ни древнейших го-
родов, открытых на его исконной земле.
Теория Салавата Галлямова «безумна» лишь на пер-
вый взгляд. Когда же начинаешь более глубоко и осмыс-
ленно проникать в ее заветные дебри, открывается вполне
ясная и объяснимая картина древнейших страниц чело-
веческого рода и отдельных его племенных организаций.
Только проникать в эти «дебри» следует со столь же яс-
ным умом и светлыми намерениями. И, конечно, незашо-
ренными глазами. И тогда можно будет говорить об этой
работе без лишних эмоций и повышенных голосов. Как и
без восторженного пафоса и неприязненного отвержения.
* * *
Одним из уникальных памятников древнебашкирского
фольклора является сказание «Узак-Тузак — последний из
рода Балабашняков». В научном кругу оно известно до-
вольно слабо, и столь же слабо изучено, что, в общем-то,
и не удивительно. Дело в том, что записано оно сравни-
тельно недавно — в 1981 году в Мечетлинском районе от
Рашита Ахтарова.
Литературным кругам это имя хорошо известно, хотя
в последние годы оно упоминается и появляется на стра-
ницах прессы более чем редко. Было время, Рашит Ахта-
ров считался одним из самых интересных и ярких поэтов.
Еще будучи студентом Башкирского университета, увле-
кался собиранием фольклора, хотел всерьез заняться на-
родным творчеством. Непредсказуемая судьба внесла су-
щественные коррективы: уехав в район учителем башкир-
ского языка и литературы, он так и не смог активно проя-
вить себя в поэзии или науке. Однако уже одно то, что
он продиктовал научному сотруднику Института истории,
языка и литературы, ныне покойному Нигмату Шункарову
сказание о балабашняках, является его литературным
314
подвигом, а имя навсегда войдет в научную фольклористи-
ку. Увы, нет уже в живых и самого Ахтарова.
Чем же примечателен этот памятник' древности, кото-
рый с равным успехом можно было бы назвать эпическим?
Во-первых, именно своей ярко выраженной древностью
(середина I тысячелетия н. э); во-вторых, он является едва
ли ни единственным произведением башкирского народно-
го творчества, в котором отражены «печенежские корни»
народа; наконец, в-третьих, как раз это сказание необы-
чайно убедительно отражает первородство Уральского ре-
гиона как прародины башкир, и более того, подтверждает
гипотезу о корневом происхождении башкир, как «детей»
Южного Урала.
Когда на балабашняков (малых печенегов) напали
полчища балаусанов (половцев-кипчаков), нанеся им
страшный урон, оставшиеся в живых башняки стали ду-
мать-гадать, куда им теперь подаваться, «...старые люди
до небес возносили свою прародину, о которой им расска-
зывали отцы и деды, до небес вознося землю, называемую
Урал: там, когда башняки передвигались со стороны Ала-
тау к Азовскому морю, они летовали. И вот теперь акса-
калы наперебой расхваливали те места...
— Эй-й-й! Ведь вода и суша там общие, хватит им
и мажарам, и нам тоже, только душу надо иметь широ-
кую!»
Вот так говорится в сказание о балабашняках.
До Урала добирались большой группой, а к концу пути
остались всего два человека — Янузак и Уралбика. Ос-
тальных скосила черная холера-джут. Старики были од-
ни — на весь белый свет, и стали они молить небеса о нис-
послании им ребенка. И смилостивились небеса, послали
им сына, который стал носить сразу два имени — Узак и
Тузак.
Когда мальчик подрос и окреп, старые его родители
настолько одряхлели, что стало ясно: дни их сочтены.
И тогда старик Янузак, в традиции древних башкирских
кубаиров, обращается с прощальным словом-заветом к
своему сыну, удивительно образным, лаконичным и фило-
софским. Вот лишь маленький фрагмент из этого прощаль-
ного обращения старика Янузака:
...Нежность матери — ясный день,
Что и солнце дарит, и тень;
Мать потерять — тыщу бед познать
(Не дано это всем понять).
315
Чувство отцовское — суховей,
Проникает до самых костей,
Жгуч и резок, но нету нужней
Ветра того, что силу дает,
Что сердце радостью обдает.
А для рук он — могучий оплот.
Жесткий ветер!.. Но для ума
Он бальзам и отрада сама,
Благодать он вносит в дома.
Без наставлений учит всему
Сына отец — и труду, и уму.
Не в поцелуе — любовь отца —
В жизнь она вводит своего молодца.
Можно вспомнить обращение к Урал-батыру Старика-
бессмертника, и обращение того же Урал-батыра к своим
сыновьям перед смертью.
Поучительны последние слова старика Янузака:
Остаются от матери память и сердце;
От отца остается наследство.
Наследье мое — земля и вода —
Остается тебе навсегда.
Не быть тебе одиноким, Узак,
Ищи — и тебе отыщется ровня:
Кто парой живет, тот честь не уронит,
Будет мирным его очаг.
Оставшись один-одинешенек на всей земле, Узак-Тузак
стал бродить повсюду, ища живую душу, и все отклика-
лось на его вопрос: и камень, и лес, и земля, и вода... До
тех пор бродил этот башнякский отрок, пока не стал по-
нимать язык Природы, язык Земли и Воды. И тогда он
проникся глубокой мудростью этих вечных начал. Именно
в Воде и Земле он действительно увидел наследие своих
родителей, мощь и опору всей жизни — бытия.
Редко в каком-то другом древнебашкирском памятни-
ке дух человеческого (точнее было бы сказать — всечело-
веческого) пантеизма передан столь ярко и пронзительно,
как в сказании о балабашняках. Одним из таких сказаний
несомненно является «Конгур-буга». С первых же строчек
этого сказания мы знакомимся с батыром северных баш-
кир Минэем, который пришел на помощь своим южным
соплеменникам, на которых напали хуннские тюрки. По
Льву Гумилеву хунны (хунну) обитали на севере Тибета
в III—II веках до н.э., откуда и начали свое шествие на
316
запад, дав начало гуннским племенам. Таким обрдзом,.
башкирский батыр Минэй вступает в битву с завоевате-
лями в самом начале новой эры.
Впрочем, для определения древности народного произ-
ведения не всегда важны какие-то особые приметы, ука-
зывающие на примерный его возраст. Об этом свидетель-
ствует сам дух, образный ряд, потаенный смысл фольклор-
ного памятника. Чаще всего мы это видим на примере
легенд и преданий. Вот легенда «Журавлиная песнь».
Удивительно красивая легенда. Настолько же красивая,,
насколько древняя. От нее так и веет чем-то архидалеким..
И люди в ней действуют какие-то неземные, почти инопла-
нетяне, хотя географические приметы налицо: отроги Ирен-
дыка... Река Хакмар... И в то же время — «на поляне кру-
жилась в хороводе стая маленьких серых журавлей. В
центре круга стояла журавушка. Стоило ей взмахнуть
крыльями, начать мелодичное курлыканье, как маленькие
журавлята тут же присоединялись к ней и принимались
кружиться...»
Как все просто! И как упоительно красиво и точно пе-
редана эта музыкальная игра священных для башкир
птиц.
А потом люди вспомнили старую примету: там, где жу-
равли танцуют и поют, должно случиться страшное по-
боище. Вспомнили и стали готовиться к нападению врагов.
И они действительно не заставили себя ждать. Но тут их
ждала могучая дружина, которая побила всех чужерод-
цев... В конце легенды называется озеро, возле которого
якобы происходила эта жестокая битва — Яугуль. Но да-
же это не снижает впечатления седой древности легенды,
восходящей к обожествлению тотемов. Да и песня этого
же названия «Журавлиная песнь» — недаром считается
одной из самых древних песен башкирского народа. Ред-
ко в какой песне рода человеческого можно услышать
столь странные, неподверженные никакому анализу или
истолкованию звуки и тона, столь поразительного музы-
кального подражания (точнее сказать, отражения) журав-
линых голосов, как в этой. Именно — отражения, а не
имитации!
К легенде «Журавлиная песнь» впрямую примыкает
по времени создания и другая удивительная легенда «Во-
роненок» («Балакарга»). Бегущие от врагов муж и жена
вынуждены оставить по пути бегства своего ребенка, что-
бы спасти себе жизнь. Возвратившись обратно, они увиде-
ли свое чадо живым и невредимым, опекаемым воронами,.
31?
которые для него свили даже большое удобное гнездо.
Когда они хотели забрать с собой оставленного некогда
ребенка, вся воронья стая бросилась на его «защиту», по-
лагая, что это воры хотят похитить их воспитанника.
Этот перечень легенд и преданий можно продолжать и
лродолжать. Особенно интересным представляется то, что
почти каждый башкирский род имеет свою легенду (вер-
сию) о собственном происхождении. И каждая такая исто-
рическая легенда-версия уходит своими корнями в глубину
веков. Но одним из самых древних родов по праву счита-
ется бурзянский, о котором пишут арабские историки и
который упоминается в древнекитайских письменах. Но
•немногим уступают бурзянскому и другие роды. А самым
убедительным аргументом глубочайшей древности башкир
несомненно является то, что в единый народ они склады-
вались постепенно, в процессе постоянного сближения и
интеграции племен и родов, и это тоже ярко и разносто-
ронне отражено в произведениях башкирского фольклора,
лрежде всего — в эпических памятниках, затем — в леген-
дах и исторических песнях. По сути, башкирский народ —
это огромный конгломерат не только родов и племен, но
и языков, проявляемых в особенностях диалектов, доходя-
щих порой до немыслимых различий и сравнимых в этом
смысле только со славянскими языками. Более того, это —
союз племен и родов с разным хозяйственным укладом,
психологией, стилем жизни, привычек и традиций, одежды
•и домашней утвари. Башкиры различны даже по антропо-
логическим приметам. Ничего удивительного в том, что
еще в средние века их роды вели между собой жестокие
.войны, безжалостно истребляя друг друга до последнего
малого ребенка. Воевали-то не только из-за земельных
владений, кочевок, красивых невест и т. п. Как раз в этом
•башкиры никогда не ощущали недостатка—уральская
земля искони одарила их неоглядными владениями и ко-
чевьями вдоль тысяч прозрачных рек и озерных пойм. Кро-
вопролитные войны возникали именно на этнической поч-
зе, когда тем же бурзянцам кыпсаки казались чуждыми
ло крови и духу «пришельцами» (кыпсаки действительно
влились в конгломерат башкирских родов из южно-рос-
сийских пространств, называясь у русских половцами, а
у башкир — кыпсаками-балаусанами). Эта ужасная межро-
довая трагедия с потрясающей силой передана в эпосе
«Кусяк-бий».
Тем не менее, С. И. Руденко относит население Баш-
кортостана к европеоидным. В бронзовую эпоху, говорит
юн, на территории Башкортостана проживали тиссагеты*
318
которые, «по словам Геродота, средства для жизни добы-
вали охотой, а по данным археологии, занимались также
скотоводством и частично земледелием».
По сути, такой образ жизни не изменился в течение
нескольких тысячелетий.
Теперь мы знаем, что эпоха бронзы как раз соответ-
ствует существованию древнейших городов Аркаима, Син-
ташта и Таналыка, что свидетельствует о высоком куль-
турном уровне жизни этого народа (или его предков). Да-
лее Руденко пишет: «Так как Геродот называет тиссаге-
тов народом, отличным от скифов, говоривших на одном
из языков северной иранской группы, то, вероятно, не
лишено основания предположение, что какая-то часть тис-
сагетов говорила на одном из древних тюркских языков»..
Если учесть, что в IV—V вв. до н. э. более половины
территории Башкортостана занимали сарматы, давшие на-
чало савроматам; позднее часть булгар также вошла в
состав башкирского народа (Бюлярский и Байлярский
баш. роды); затем— киргизы, казахи, сарты, ногайцы,,
туркмены, калмыки и мишари (Мишар-юрматинская тюба,
Юрматинского рода), то пестрота башкирской расы ста-
новится очевидной. Не удивительно, что этот народ ни-
когда не называл свою родину «Башкортостаном», как.
это делали представители других народов и племен, для
которых Приуралье было «землей башкир»; сами же баш-
киры называли свой край только «Уралом», подчеркивая
тем самым свою корневую суть этого громадного региона.
Древние башкирские земли — яркий тому пример. Неда-
ром истинным гимном башкир является народная песня
«Урал».
Специалисты датируют создание этой песни XVI веком,,
когда объединение башкирских родов было в основном
завершено. Но вполне возможно, что это выдающееся тво-
рение мелодии и текста песни родилось значительно рань-
ше, когда после падения Золотой Орды и возникновения
новых ханств — Астраханского, Казанского, Ногайского —
Урал стал символом единения всех башкирских родов под
знаменем свободы и независимости. Текст песни — самое
убедительное тому подтверждение. Классическая строфа,
песни звучит так:
Грудь широка твоя и даль безмерна,
Страна семи родов родной земли!
Храня тебя и правдою и верой,
Сложили кости сыновья твои.
3i9>
Однако таких четверостиший — множество.
Приведу еще несколько из них.
Отрог за отрогом — подножья Урала,
Для всех она — матерь, родная земля:
К истокам ручьев своих, рек собирала
Родов многолюдье, пространства деля.
Для жизни уральский простор благодатен —
Чтоб юрты раскинуть и в них летовать;
На горы забравшись, курай я отладил,
Чтоб звонко восславить земли благодать.
Хвалу мы Уралу поем повсеместно,
Гремит его слава и бьет через край;
Богатства Урала — как дивная песня,
Но выше богатств —сам уральский наш край.
Да, произведения фольклора красноречиво говорят о
прошлом народа, о его многослойной истории, в которой
сплелись судьбы разных племен и народов, включая тис-
'сагетов и массагетов, сарматов и савроматов, скифов и
шумер, иранцев и кордов (курдов)... Но фольклор был и
остается лишь условно-художественным отражением Судь-
бы, основывающемся на памяти и таланте красноречия
сказителей. В этом смысле он никогда не заменит доку-
ментально-исторических источников о башкирском народе,
которых насчитываются не десятки, а сотни. Причем при-
надлежащих высокообразованным информаторам (исто-
рикам, ученым-путешественникам, поэтам, философам, мо-
нахам, воинам и т. д.) многих стран и народов — от ки-
тайских (на которых указывает Н. Бичурин) до испан-
ских — Аль Гарнати.
Заслуга Салавата Галлямова заключается в том, что
он в своем исследовании сумел привести не только имена
этих «информаторов», но и основополагающие выдержки
из их сочинений, которые заставляют нас совершенно по-
новому взглянуть на историю башкирского народа, кото-
рая, увы, даже для наших историков и писателей продол-
жает в известной степени оставаться тайной за семью пе-
чатями.
От себя добавлю: ученым многих «великих народов»
и стран так называемые исторические исследования и изыс-
кания служат для возвышения своей расы, родного наро-
да, придания ему особой роли в истории человечества.
320
Если не считать трудов Ахметзаки Валиди, являющегося
признанным мировым авторитетом в области научного
изучения древней истории тюркских народов (в том числе,
башкирского), наши местные историки, на мой взгляд, де-
лают лишь начальные шаги в исследовании прошлого
своего народа; прежде всего — в смысле изучения трудов
иностранных ориенталистов, в которых достаточно глубоко
и всесторонне задета и история древних башкир (башкор-
дов). Большинство так называемых официальных истори-
ков, исходя из идеологических соображений, старалось
лишь порочить историю собственного народа, принижая
или даже уродуя его прошлое.
Разумеется, для этого были свои, известные всем, при-
чины политического порядка. Достаточно вспомнить книгу
казахского поэта Олжаса Сулейменова «A3 и Я», кото-
рая в свое время была подвергнута беспощадной «науч-
ной» критике, которую иначе как экзекуцией не назовешь.
В отсутствие гласности вряд ли увидела бы свет книга
кумыкского писателя Мурада Аджи «Полынь половецкого
поля», в которой дается совершенно новая картина прош-
лого тюркских народов (кипчаков) и древней Руси. И
какие бы барьеры не воздвигали сторонники фальсифици-
рованной истории прошлого России на пути подобных тру-
дов, они будут не просто создаваться, но и все уверенней
пробивать себе путь, ибо не бывало такого, чтобы ложь
раз и навсегда затмила Истину.
И Заказ 415
ДУХ АРИЕВ Я #ШЪУЮ ДУШОЙ
Синташта, Аркаим, Таналык и мы
В лучах солнца, уже коснувшегося нижним ободком
дальнего кургана, голого, как человеческий череп, степь
принимает все более зловещий оттенок, и тени, падающие
с отвесного правого берега Таналыка, словно срезанного
ножом по кряжистому камню, странно лиловеют, медлен-
но наползая на обнаженные раскопы древнейшего горо-
дища на земле, на скелет лежавшего на боку человека,
возраст которого пять тысяч лет, на округлый колодец,
глубиной более шести метров, но еще далеко не дорытый
до конца, на девушку по имени Эльвира Гибадуллина,
стоящую над изголовьем свернувшегося калачиком ске-
лета и удивительно красноречиво вещающую о нем, слов-
но она уже жила здесь много тысяч лет назад, была зна-
кома с жителями этой допотопной обители, делила с ними
степную трапезу, внимала тишине ночей, звездам, Кос-
мосу; а потом, когда жители этого городка вымерли и след
их затерся, она осталась совсем одна, чтобы рассказывать
нам о его древних обитателях, их обычаях и нравах, на-
выках и ремесле, и вот мы встретили ее здесь, на месте
«хайбуллинского Аркаима», чтобы тоже причаститься к
повести о первых людях, обитавших на древней башкир-
ской земле.
Да, аспирантка ведущего археолога республики Нияза
Абдулхаковича Мажитова пребывала на раскопках этого
уникального открытия в русле реки Таналык одна, если
не считать водителя, подвозившего продукты. А совсем
недавно число работающих доходило до восьмидесяти че-
ловек, в основном, студентов.
Чуть позже здесь трудилось не менее двухсот человек!
И в том был резон: как-никак срок существования Та-
322
налыка был определен вполне конкретно — до конца ок-
тября.
Здесь побывал Муртаза Рахимов — президент Башкор-
тостана — и вынес свой вердикт. И против него трудно
было возразить: от плотины, которая возводится на этом
месте в Хайбуллинском районе, зависит будущее, сама
жизнь этого региона. И в этом нет никакого преувеличения.
Вода стала для него проблемой номер один. Важнее воз-
духа и хлеба. Важнее огня. Особенно после кошмарного
лета 1995 года, в течение которого ни разу не брызнул
освежающий дождь, а солнце палило с раннего утра до
самого наступления ночи.
Смотрю на бетонный остов плотины, перегородившей
реку от одного берега до другого; смотрю на ожидающие
возобновления работ бульдозеры, прочую временно застыв-
шую технику, на груду строительного материала, когда-
то завезенного сюда с самых разных мест, и понимаю:
вряд ли можно было бы изменить ситуацию, оспорить реше-
ние президента. Если даже он вполне понимает научное
значение таналыкского открытия и престижность этого
археологического объекта для Башкортостана.
Боже мой, здесь ли, в этой ли тенистой речке, в детст-
ве ловил я окуней и щук? Здесь ли водились гладкотелые
лини и усатые сомы? В здешних ли камышах кишмя ки-
шели селезни и кряквы, и в них никто не стрелял, потому
что в этих краях привыкли охотиться только на зайцев,
волков и лис, которых тоже было видимо-невидимо. А
степь?! Как она колыхалась на ветру густо-серебряными
стеблями юшана! Уши звенели от пронзительного пения
кузнечиков, и косяки почти полудиких лошадей-тарпанов
бродили, утопая в ковыле, не ведая узды и становища,
коротая зиму на тебеневках. Но никуда при этом не уходи-
ли из этих привычных для себя пределов, если даже заби-
рались до самого Яика, за которым начинается Орен-
буржье, и степь там совсем уже другая. Испив пригранич-
ной водицы, возвращались обратно, в свою родную хай-
буллинскую сторонку.
А потом начался вселенский кошмар, название кото-
рому — ЦЕЛИНА.
Было это в пятьдесят четвертом году, когда Таналык,
как бы протестуя против «валюнтаризма» одного-единст-
венного человека, живущего в Кремле, вздыбился невидан-
ными дотоле льдами, которые выбрасывались на берег, no-
il*
323
добно китам-самоубийцам, и дальше ползли по ухабистым
улицам Акъяра, наводя ужас на его жителей. Эти, вне-
запно почерневшие на суше, льды напоминали еще и ди-
вов-драконов, которые, как в древнейшем эпосе «Урал-
батыр», пошли в наступление на людей, чтобы раз и на-
всегда утвердить свою власть в воде и на земле,
С другой стороны, это нашествие льдов можно было
воспринять и как грозное предупреждение о надвигающей-
ся опасности.
Именно так оно и былой
Утром накатили трактора. Два из них сразу потонули
в Таналыке. Выяснилось, что оба тракториста (откуда-то
с алтайских краев) были в сильном подпитии, потому и
решили с ходу форсировать взбухшую речку, полагая, что
на своих «Дизелях» могут преодолеть любые препятствия.
Ан не тут-то было!
Только через полмесяца, когда вода убыла, утонувших
трактористов нашли на много десятков метров вниз по
течению. Вот такой силы был ледоход 54-го года! Потом,
уже в спокойном Таналыке, утонул еще один тракторист-
первоцелинник. И тоже — «подшофе». Еще одного прире-
зали в поножовщине, устроенной приезжими патриотами
Родины. Позднее таких «резок» было немало. Акъяр прев-
ратился в огромный цыганский табор. Человек сто пять-
десят или все двести спали в клубе. Местные жители поте-
ряли покой, жили в сплошной тревоге — и за свою жизнь,
и за честь своих дочерей.
До наступления лета первоцелинники дали в клубе и
некоторых больших аулах десятки концертов. Среди них
были талантливые люди. Теперь приходится только ди-
виться: что их привело сюда за тридевять земель? Неуж-
то и впрямь призывы комсомола и партии?
Едем мы, друзья,
В дальние края,
Станем новоселами
И ты, и я...
* * *
Хайбуллинская степь время от времени давала бога-
тый «целинный» урожай твердой, столь ценимой знатока-
ми пшеницы, но чаще всего иссыхала под жгучим солнцем,
мертвея на глазах.
По приказу того же «главного целинника», в начале
324
60-х годов были пущены под гильотину столь любимые
мной косяки лошадей-тарпанов; крестьян буквально зас-
тавляли сдавать своих лошадей государству, с ними боро-
лись столь же усердно, как некогда китайцы боролись с
воробьями.
Бедная Россия! Бедный ее народ! И особенно — сель-
ские люди, которых во все времена заставляли что-то де-
лать непотребное, направленное против их же самих; над
которыми постоянно проводили какие-то чудовищные эк-
сперименты, после которых они очень долго не могли опра-
виться, войти в нормальную колею жизни.
«Россия имеет историю, которую никто понять не мо-
жет. Когда мы говорим о злодеяниях режима, то не гово-
рим всей правды. Речь не только о том, что убиты тысячи
людей, но и о том, что жизнь миллионов в течение нес-
кольких поколений шла иначе, чем должна была идти.
Целые поколения выросли в абсолютном бесправии. Мысль
о том, что ты инициативен, полностью искоренена, исчез
инстинкт деятельности, его кастрировали. Мне кажется,
что с русским народом произошло то, что в предыдущем
столетии с русской интеллигенцией: чувство полной импо-
тенции».
(«Главный враг человечества — вульгарность сердца» —
диалог Иосифа Бродского с Адамом Михником //Известия.
1996. 3 февр.)
Но куда большая катастрофа произошла с «экологи-
ческой средой».
Сегодняшний день хайбуллинских просторов — итоговая
страница многолетнего умирания земли, угасания приро-
ды, прекраснее которой не было на земле, ибо в степном
первозданном пейзаже есть та неуловимо-чарующая кра-
сота, которая постигается только степняком.
Неповторимый урон нанесла целина и южной зоне
района, в зеленом поясе реки Сакмар. Сколько вишняка
увяло, сколько кустарников высохло, сколько леса ушло
в небытие! Исчезли родники, в которых бродили косяки
хариусов, а уж о сакмарской рыбе и говорить нечего. Она
пропала начисто. А без рыбы и сама вода стала чужой и
тусклой.
Стоял, как в обмороке, ночью
Я над Сакмарою-рекой
И слушал стон оживших почек,
И трогал веточку рукой.
325
Ее в девичестве застал я,
Когда она чиста, как свет,
Плела над зарослями тала
Свой бесконечный пируэт.
Как млел я, если по теченью,
Взбив гривы, плыл табун коней!
И шло студеное свеченье
От голавлей и окуней.
И соловьи изнемогали
От сумерек и до зари;
И звезды на небе мигали,
Как ангельские фонари...
* * *
Если меня спросят: какой регион Башкортостана самый
богатый, я ни секунды не колеблясь, отвечу — Хайбуллин-
ский!
Но несметные богатства Хайбуллов — в их недрах.
Правда, несколько десятилетий подряд давал золото и медь
рабочий поселок Бурибай, но ничего, кроме лишних хло-
пот и бед здешним жителям и районному руководству он
не приносил. Шахты уходили все глубже и глубже в зем-
лю, терриконы — к небесам. За прошлые годы образовал-
ся огромный карьер, сверху похожий на разинутую пасть
чудовищного зверя; здешний рудник, по существу, таким
зверем-хищником и является. Рядом образовались такие
же громадные смрадные озера, наполненные ядовитой
жидкостью, плещущейся через край. Эти озера некуда
опорожнить. Здешние жители — заложники своих рукот-
ворных отравленных водоемов.
И тем не менее, Бурибай за прошлые годы выдал на-
гора тысячи и тысячи тонн медной руды, «подарил» сотни
килограммов золота, которое уходило за пределы Баш-
кортостана, в основном в Свердловск (Екатеринбург). У
нас не оставалось даже унции своего «желтого дьявола».
Но дело в том, что неподалеку от Бурибая, рядом с
поселком Юбилейный, открыты воистину несметные зале-
жи той же медной руды, золота, серебра, платины... Гео-
логи говорят, что там таятся все элементы таблицы Мен-
делеева!
Однако и эти залежи стали головной болью районного
руководства. Сибайский медно-серный комбинат — наше
326
общее достояние. Мы все болеем за этот зауральский ги-
гант цветной промышленности. Мы не желаем его оста-
новки.
Но войдем в положение хайбуллинцев. Безводье. За-
сухи, которые повторяются все чаще. Обезвоженная цели-
ной природа. Смрадные, ядовитые озера Бурибая... И те-
перь— новые открытые рудники, терриконы, отравленные
водоемы? Десятки гектаров искореженной земли? Новые
поселки, сотни пришлых людей, техника, бороздящая не-
зажившие от прошлых ран степи... А что взамен?
Об этом не раз говорили мы с главой администрации
Хайбуллинского района Фатихом Казакбаевым. Он молод,
легок на подъем и учен опытом прежних руководителей.
Фатих Мухамедьянович не против разработки Юбилей-
ного месторождения, но размышляет о последствиях —
для земли и людей. О непредсказуемом будущем района,
если Юбилейный взойдет из-под земли и проляжет через
всю территорию железная дорога. А до этого сотни мощ-
ных самосвалов будут день и ночь сотрясать эту многостра-
дальную степь своим грохотом и ревом, наполняя все про-
странство едким чадом и гарью, от которого может задох-
нуться даже суслик, вынужденный навсегда уйти в свою
нору или покинуть насиженные места.
А что говорить о людях?
Казакбаев хочет хоть каких-нибудь гарантий, ибо не
верит на слово, если даже оно исходит из уст земляков-
руководителей разных ведомств. Начнется разработка —
забудется все. Останется только прибыль: план, гонка,
технические проблемы. Стройка, стройка, стройка... До лю-
дей ли тут? До интересов ли района?
* * *
Если спросят... я отвечу: да, самый богатый регион
Башкортостана — это Хайбуллинский! Ибо не где-нибудь,
а именно там сделано открытие мирового значения: древ-
нейшее на планете городище с признаками цивилизации.
И городищу этому вполне закономерно дали название —
Таналык!
Первая на территории нашей республики находка та-
кого масштаба, хотя и Синташта, и Аркаим тоже находят-
ся на древне-башкирской земле — в сорока километрах от
Сибая.
Мы, создатели фильма «Под знаком Аркаима», знали,
что таких городов, как Аркаим, в южно-уральской зоне
немало. Знали даже примерные местонахождения оных,
327
обозначенных на специальных археологических картах
изыскателями памятников старины. Их «нащупали» с воз-
духа, с самолетов и вертолетов. Но одно дело знать теоре-
тически и совсем другое — обнаружить, так сказать, в ве-
щественном виде. Повторяю: открытие это имеет мировое
значение, хотя, может быть, уже и не несет первозданное™
и первородства, каковым было открытие Аркаима, взбу-
доражившее научную общественность всего мира. Туда
съезжались ученые и просто энтузиасты, любопытные, мо-
гущие себе позволить такую роскошь, со всей России, из
стран СНГ и из-за рубежа.
Но разве не потрясает хотя бы то, что Таналык старше
Аркаима на целый порядок? Это можно обнаружить и без
сверхсовременных химических, радиоугольных методов,
без применения ультрафиолетовых лучей. Это можно по-
нять по одному виду тех же экспонатов, которые найдены
в Аркаиме и найдены — в Таналыке: по наконечникам
стрел и пик, по горшкам, керамике, глубине золистого
слоя земли, их толщине.
Тайна жителей тех древнейших поселений стала волно-
вать меня с тех самых пор, когда я узнал об Аркаиме.
Хочу сразу же заверить скептически настроенных читате-
лей: я не отношусь к тем самонадеянным субъектам, ко-
торые в любой стране, в любом этнографическом мазке или
топографическом звуке спешат узреть и услышать призрак
(или признак) своего народа, своих родных кровей. С дру-
гой стороны, мне всегда было интересно знакомиться с
теми или иными гипотезами рисковых мужей, выдвигаю-
щих порой самые неожиданные, «безумные» теории, опи-
раясь на исторические данные и свидетельства, по-своему
убедительно аргументируя выдвинутые предположения или
даже прямые доказательства. Ведь всем известно, что имен-
но из таких, на первый взгляд, невозможных или, вроде
бы вовсе абсурдных предположений и гипотез впоследствии
создавались великие открытия или новации, которые стано-
вились очередной вехой на пути человечества к Истине.
Именно такими поразительными гипотетическими откро-
вениями полна большая (я бы сказал даже, фундаменталь-
ная) научная работа молодого историка Салавата Галля-
мова, посвященная древнейшей судьбе и истории башкир-
ского народа, рассматриваемые в столь широком плане,
что и сформулировать-то в нескольких словах непросто.
История башкир исследуется им в неразрывном контексте
с историей Месопотамии, шумеров, персов, скифов, хазар,
печенегов и половцев; с историей Кавказа, государства
Урарту, Средней Азии и Казахстана. При этом рассужде-
328
ния молодого ученого неизменно подкрепляются работами
западных ученых, мало известных у нас: Гинкса, Роулин-
сона, Опперта, Ленормана, Крэмера, Гвиди и др., а также
древнейшими эпическими памятниками шумеров и персови
о Гильгамеше и «Авеста».
Разумеется, столь основательно выраженная и широко,
воистину научно развернутая гипотеза не может не прив-
лечь внимания и ее следует не столько оспаривать, сколь-
ко понять и изучить.
Впрочем, о С. Галлямове — разговор впереди.
Мне же, в связи с этим, хочется коснуться другого пла-
на истолкования примерно того же круга проблем. Прав-
да, их автор имеет мало чего общего с наукой, зато выво-
ды, которые она делает из «познания» Аркаима, разделя-
ет немалое число людей.
Речь идет об известном экстрасенсе и предсказатель-
нице Тамаре Глобе. Какие только фантазии не плетет она»
вокруг Аркаима! Взять хотя бы вопрос о происхождении
названия «аркаим» в ее интерпретации:
«Бурные поиски города объясняются его предназначе-
нием. Аркаим — Арка Йимы. Царь Иима — первый прави-
тель ариев, правивший в «золотой век», когда зло еще не
успело овладеть умами людей. Арка («ар» — небо и «ка»—
суффикс принадлежности или уменьшительный) — малень-
кое небо, то есть двойник неба. Название это означает
воплощение небесной души, существующей в мире идей и
идеалов...»
Далее госпожа Глоба делает неожиданное заявление:
«Свастика. Этот знак заложен в структуре Аркаима.
Знак свастики — основной символ в находках уральских
степей. Сами находки Аркаима необычны: символика —
связь Руси с арийской расой».
Выходит, именно свастика была символом Руси (а нег
скажем, Германии)?
После такого безапелляционного и ничем не подтверж-
денного заявления уже ничего не стоит заявить, что «ар-
каимские арии» в урочный час отправились ни куда-ни-
будь, а на запад, чтобы образовать там племя славян, в.
том числе, русских.
А что же местные жители, здешний коренной народ,
на земле которого около пяти тысяч лет назад существовал
город Аркаим? А ничего! Для Глобы и ей подобных тако-
вых не существует и в помине, ибо она совершает весьма
распространенную логическую ошибку: идет не от факта,
а от идеи. Собственноличной гипотезы. Рожденной в ее ги-
пертрофированной фантазии теории.
329»
В отличие от других исследователей, куда более сдер-
жанно, а главное, трезво судит директор аркаимского запо-
ведника, профессор челябинского университета Геннадий
Зданович, беседа с которым составляет стержневую осно-
ву нашего фильма «Под знаком Аркаима». Он убежден,
что в тюркских народах Евразии как раз и течет кровь
аркаимцев. И в ходе многочасового разговора в Музее ар-
хеологии и этнографии, и во время телевизионной пере-
дачи, посвященной проблеме Аркаима, он не раз подчер-
кивал близость найденных там находок с предметами бы-
та башкир, с их обычаями и традициями. Не думаю, чти
этим самым он хотел потрафить нашему самолюбию, ибо
надо быть слепым, чтобы не заметить, что аркаимские
находки, экспонаты тамошнего музея необыкновенно на-
поминают исторически сохранившиеся аксессуары баш-
кир, особенно в части женских украшений, нагрудников и
накосников, монист; а также в боевых доспехах воинов-
джигитов, конского снаряжения, жбанов — хаба, горшков,
кувшинов и т. д.
Говорит ли это о том, что аркаимцы являются прямыми
предтечами башкир?
Еще вчера ни у кого язык бы не повернулся утверждать
такое: мы имеем дело с бронзовым веком, когда о каких-то
устоявшихся племенных единицах не могло быть и речи.
Но сегодня, после публикации научной работы-гипотезы
упомянутого выше молодого ученого Салавата Галлямова
все это выстраивается в один стройный ряд, где соединены
буквально все звенья, а исток всей долгой истории тюрк-
ских и иранских народов (Туран), в том числе, и в пер-
вую очередь — башкир — именно в этих поселениях и го-
родах Южного Урала, испокон веку являвшегося башкир-
скими владениями. Находясь несколько лет за границей,
Салават Галлямов просто-напросто мог не знать об этих
археологических открытиях или, слыша о них, тем не ме-
нее, иметь лишь схематическое представление. Поэтому
в его исследовании нет ни одного упоминания о Синташта
или Аркаиме. Между тем, прямыми предками «башкор-
дов» он без малейшего сомнения называет ариев, приводя
для этого более чем убедительные аргументы. А ведь имен-
но арии заселяли эти поселения, и именно этого звена так
не хватало молодому ученому, который даже возраст юж-
тюуральских башкордов определяет почти с такой же точ-
ностью, как первооткрыватели Аркаима — возраст своего
«детища».
330
* * *
Характерно, что даже после открытия поселения Син-
ташта со всеми его удивительными находками многие уче-
ные не придали этому открытию серьезного значения. Или
не хотели придавать. Казалось, бронзовый век этого регио-
на изучен чуть ли не досконально, вписан в каталог так
называемой андроновской культуры. Бытовало мнение, что
в этих краях обитало довольно отсталое общество с разви-
тыми родовыми связями.
И вдруг... рвы и валы, сложные конструкции, защи-
щающие въезды в поселок и доступы к воде, словом,
ярко выраженные военные фортификации; очаги, напоми-
нающие камины, погреба для хранения зерна, колодцы.
А ведь возраст Синташта — старше андроновского куль-
турного цикла!
А потом — Аркаим, который заставил ученых говорить
о древней цивилизации.
Правда, директор Аркаимского заповедника, профес-
сор Челябинского университета Геннадий Борисович Зда-
кович называет ее «протоцивилизацией».
Общая высота стен 5, 5,5 метров. Внутри — жилища,
примыкающие друг к другу, улицы, между которыми на*
ходились дворики домов.
Г. Зданович подробно описывает хитроумную архитек-
тонику Аркаима, которая не позволяла врагу хоть, каким-
то образом проникать вовнутрь городища: «Благодаря
изощренному мастерству местных строителей, защитники
крепости занимали очень удобные позиции, а противникам
ее приходилось преодолевать исключительные трудности
при продвижении на ее территорию. Так, на углу одного
из жилищ была обнаружена хорошо замаскированная
щель в тыл тем из врагов, которым каким-то образом уда-
лось-таки прорваться во входную нишу».
«К середине 2-го тысячелетия до н. э. индо-арии поки-
дают свою прародину (Аркаим) и уходят в Индию. Их
след — языковые остатки в акканских и хеттских текстах
XIX века до н. э.» — пишет Зданович.
Разве тут не заметна прямая связь с гипотезой (тео-
рией) С. Галлямова?
Самыми убедительными доводами молодого ученого,
подтверждающими родственность башкир с шумерами и
затем — персами, на мой взгляд, являются те отрывки из
их эпических памятников, которые он приводит в своем
исследовании. Речь идет о древнейшем башкирском эпосе
331
«Урал-батыр», шумерском — о Гильгамеше и персидском—
«Авеста». К сожалению, нет возможности привести здесь
хотя бы небольшие текстовые отрывки из этих древнейших
на земле народных произведений. Да в этом и нет необ-
ходимости, ибо своеобычный труд молодого ученого уже
стал предметом всеобщего интереса и с ним может позна-
комиться любой желающий.
Как первому автору художественного перевода «Урал-
батыра», мне было особенно волнующе сравнивать при-
водимые из разных эпических памятников фрагменты, с
удивлением обнаруживая их действительную, прямо-таки
ошеломляющую близость. Но так как именно башкорды
были первожителями Южного Урала, а значит поселен-
цами вышеназванных древнейших городищ, то и эпос их
«Урал-батыр» является более древним, нежели сказание
о Гильгамеше и «Авеста». А так как Салават Галлямов
и Зигат Султанов, как бы независимо друг от друга, де-
лают вывод, что башкирский эпос, записанный у башкор-
дов из рода Бурзян (Борзен), насчитывает не менее четы-
рех тысяч лет, то именно эту дату — 4 тысяч лет — и сле-
дует торжественно и широко отметить в этом или буду-
щем году, с приглашением шумерологов и ассириологов
из Германии, Англии, Франции и, конечно, США, где и
хранятся своды законов Ур-Намму.
* * *
Однако вернемся к теме нашего разговора.
Известно, что поселений и городищ, подобных Аркаи-
му и Синташта, не один десяток и все они находятся на
территории древне-башкирской земли. Случайность или за-
кономерность? В пользу именно закономерности говорит
и открытие Таналыка в Хайбуллинском районе.
Невозможно уйти и от названий рек, урочищ, гор и
прочих географических объектов, имеющих истинно баш-
кирское происхождение. Реки Караган, Утяган; гора Ша-
ман; городище Таналык... А как станут называться те по-
селения, что будут открыты в будущем? Разумеется, наз-
вания их тоже окажутся башкирскими.
Наконец, уйдешь ли от тех древнейших каменных ис-
туканов, которые и поныне одиноко возвышаются на баш-
кирских курганах и венчают собой ближние холмы Аркаи-
ма и Синташта (Ьын таш — Каменный идол); от тех ка-
менных надгробий, которые и поныне венчают башкирские
могилы и кладбища?
332
Судьба Аркаима тоже была определена: он подлежал
затоплению. Могущественное министерство мелиорации
не склонно было никого слушать. Тем не менее, вмешатель-
ство выдающегося ученого-археолога, директора Эрмита-
жа Б. Б. Пиотровского решило все дело: сторонники пов-
семестного затопления вынуждены были отступить, и Ар-
каим стал достоянием исследователей, науки, всего чело-
вечества.
Ниязу Абдулхаковичу Мажитову тоже очень бы хоте-
лось отстоять свой «хайбуллинский Аркаим», но это ему
вряд ли удастся. У него и у его помощников и учеников
нет даже года времени для всестороннего изучения посе-
ления Таналык. И не потому, что невозможно, а потому,
что стихия диктует свои условия. Заполнение Таналыкско-
го водохранилища возможно лишь весной талой водой,
ибо нынешнее состояние реки Таналык не оставляет ника-
ких надежд на скорое ее заполнение.
Повторяю: щемит сердце при мысли, что все эти обна-
женные пласты тысячелетий, живые раскопы древнейше-
го города на земле останутся под водой.
Но и муссировать этот вопрос я не желаю, понимая
всю насущность этой проблемы.
Урожай экспонатов Таналыка оказался на редкость
богатым, ни в чем не уступающим Аркаиму, и даже в чем-
то превосходящим. Может быть, потому, что хайбуллин-
ское поселение является более компактным и жители его
более однородными — и по общинной связи, и по харак-
теру ремесел, и по единству интересов. Здесь нет мощных
фортификационных сооружений, которые мы видим в Ар-
каиме, нет трехметровых стен с одними-единственными
воротами, нет глубоких рвов. Таналык скорее мирное по-
селение, хотя его жители, конечно, всегда готовы были от-
разить любое нападение врагов. Надо полагать, таналык-
цы имели свою боевую дружину, которая должна была
нести сторожевую службу, одновременно помогая сороди-
чам в их мирном труде.
Безусловно, Таналык был менее открыт для внешнего
противника, нежели Аркаим, обнаженный для южных и
восточных воинствующих племен.
Снимая фильм «Под знаком Аркаима», мы истолкова-
ли название реки Караган (Караганка) как «кара кан» —
Черная кровь. И мы ни на секунду не сомневаемся в пра-
воте своей догадки. Возле восточного собрата Таналыка
не раз происходили жестокие столкновения и битвы, после
которых речка обагрялась обильной кровью сражающихся
333
сторон. Скорее всего Аркаим и пал-то от рук захватчиков,
тем самым закончив свое существование.
Таналык был довольно надежно укрыт от вражеских
глаз, находясь в несомненно большем укрытии, чем Ар-
каим. Глубокое русло реки, высокие холмы и курганы, ок-
ружавшие поселение со всех сторон, широкая и полновод-
ная река Сакмар, обрамленная густыми лесами, оберегали
таналыкцев с юга, а чуть далее — еще более могучая река
Яик...
Таналыкцы знали свою неуязвимость и потому свобод-
но и безбоязненно выходили за пределы своего городища,
занимались скотоводством, заполняя своими овцами, ко-
ровами и лошадьми все окрестные степи.
Кстати, эта многовековая (многотысячная) традиция
сохранялась до последнего времени, пока с нею не стала
жестоко бороться советская власть. Затем скот был изве-
ден ходом Великой Отечественной войны, а через пятнад-
цать лет после ее окончания — Никитой Сергеевичем Хру-
щевым, который очень любил кукурузу и целинные про-
сторы и почему-то очень не любил скотину, особенно ло-
шадей.
Мясо являлось главной пищей таналыкцев.
Но раскопки показали, что сеяли они и пшеницу, и
даже овес (своеобразного сорта), то есть вели полукоче-
вой, полуоседлый образ жизни, когда главной стоянкой яв^
ляется укрепленный поселок, подобный Таналыку.
Нет сомнения и в том, что выезды на летнюю кочевку-
яйляу также идут с тех самых времен. Ведь не могли степ-
няки, подобные таналыкцам, в зной и жару коротать лет-
нее время в своем душном и тесном поселении! Конечно
же, они вместе с детьми и стариками выезжали в долины
широкой и насквозь прозрачной Сакмары, утопавшей в
высоких травах, кустарниках и лесах, где можно была
лето напролет вольготно и легко жить в войлочных юртах
и шатрах, стреножить и объезжать стригунков, учить трех
и четырехлетних пацанят верховой езде, а десятилеток —
лихим скачкам; там проходили состязания по стрельбе из
лука, метанию копий, борьбе и, конечно же, по скачкам,
на которые собирались лучшие удальцы со всех концов
степного и горно-лесного краев...
Вот откуда — нынешние традиции башкир, увы, сохра-
нившиеся в сильно усеченном виде.
Но более всего интересует нас «техническая оснащен-
ность» таналыкцев.
Как и в Аркаиме, здесь процветала бронзовая и медная
металлургия. Всего лишь в трех, не таких уж объемистых
334
раскопах обнаружены несколько плавильных печей с ге-
ниальным решением огненной плавки того времени — под-
водом потока воздуха из поддувала, которыми служили
глубокие колодцы. Гудящая струя воздуха (кислорода)
вырывалась из-под земли, все более ускоряя в пути свое
«гравитационное» движение, и, раздувая огонь, доводила
его температуру до десяти тысяч и более, чего вполне хва-
тало для плавки металла.
Таналыкцы (как и аркаимцы) полностью обеспечива-
ли себя всем необходимым в смысле утвари, оружия, ору-
дий труда и т. д.
В большом количестве сохранились черепки всевозмож-
ных керамических сосудов. К сожалению, ни одного це-
лого, но зато составляемого из отдельных кусков.
Впрочем, повторяю, раскопки представляют собой
лишь малую часть от общего поселения, и никто не знает,,
что могло бы оно явить нам в случае дальнейших археоло-
гических изысканий.
Меня особенно поразил кусок от некоего загадочного
сосуда, который представляет собой сложный состав брон-
зы, глины, слюды метаморфического происхождения, дру-
гих минералов, о которых не берусь судить.
Конечно, со временем таналыкские находки будут тща-
тельно изучены и химически исследованы, после чего, на-
деюсь, результаты найдут широкое научное освещение. Но
и сейчас совершенно ясно, что таналыкцы обладали не-
заурядным искусством создания всевозможных сплавмате-
риалов, как и мастерством выделывания из них разнооб-
разных изделий. А сие есть несомненный признак цивили-
зованного подхода ко всему, что связано с человеческим:
бытием.
Зданович, как я уже сказал выше, называет Аркаим
«протоцивилизацией». Учитывая, что составная часть мно-
гих слов «прото» обозначает «первоначало», то нетрудно
догадаться, что «протоцивилизация» есть ничто иное, как
подступы к цивилизации, ее зарождение. Итак, Аркаим —
протоцивилизация человеческого общества? Как, впрочем,,
и Таналык, который старше Аркаима? Но с таким же пра-
вом его можно назвать и цивилизацией. Почему? Да пото-
му что эволюция человеческого рода происходила чрезвы-
чайно неравномерно, и на фоне этого столь высокий куль-
турно-экономический уровень развития таких поселений,
как Аркаим и Таналык, представляется несомненной, при-
чем ярко выраженной, цивилизацией.
Мне думается, главенствующей религией жителей этих
городов и поселений был пантеизм.
33S
Греки создали многочисленных богов, дали им краси-
вые и звучные имена, которые волнуют нас и поныне.
А что создало воображение таналыкцев и аркаимцев?
Оно создало культ природы и ее обитателей, культ
Солнца, Луны и других небесных светил; культ благород-
ных птиц и животных. Иначе и не могло быть: ведь эти
люди жили в объятиях изумительной южно-уральской при-
роды, наполненной музыкой птичьих голосов, в шелесте
их крыльев, в переклике зверей; жили в благоуханье
степных и лесных соцветий, в шелковом бархате трав, ве-
селом плеске степных рек. Может быть, уже тогда у них
был единый бог — Тэнгри, олицетворяющий Дух неба и
земли, которому подчинялось все сущее.
Нам об этом трудно судить.
Так же, как трудно знать, что вещали жрецы того же
Таналыка. Но ясно другое: они были щедро наделены
природными талантами. Были златоустами, целителями,
толкователями снов. По огромным, неистово сияющим в
яспидно-черном небе степным звездам уверенно определя-
ли стороны света, времена года, вели отсчет времени с
точностью до минуты (а может, и секунды!). По солнцу
определяли сроки всевозможных полевых работ, давали
«прогноз погоды», приближение войны и мира. Именно они
дали жизнь не только нашему Уральскому краю, но и мно-
гим остальным просторам Европы и Азии. Исследование
Олавата Галлямова конкретизирует географию распрост-
ранения духа и плоти южноуральских ариев. От них пошел
великий символ жизни — Свастика — олицетворяющий
единение тела и духа, сознания и материи, четырех сторон
мира и его оси, которая и находится в пределах Аркаима
и Таналыка.
Урал — это мозговой центр мира, границы двух его
полушариев, и когда аркаимцы и таналыкцы очерчивали
пределы своего бытия кругом, столь ясно проглядываемым
-с высоты птичьего полета, они прекрасно знали что дела-
ли: круг — это Вселенная, это Космос, это Галактика, это
Земля. Наконец, это Душа, которая белым кружком отле-
тает от человека, закончившего свой земной путь. И мо-
гилы они вырывали полуокруглые, чтобы лежавшему в
ней человеку в загробном мире жилось и дышалось как
«наверху» — вольно и благостно. Об этом свидетельствует
могила, в которой найден вышеупомянутый скелет лежав-
шего на боку человека. Боже, это представить себе труд-
но, когда он был положен в этот земной овал и сколько
тысяч лет пролежал в нем в ожидании встречи с нами!
Где-то чуть не первобытные люди ели сырое мясо и жили
336
в пещерах, а где-то вообще еще не вышли из шкуры не-
андертальцев... А тут лежал человек цивилизованного ми-
ра, который прошел земную юдоль, нося на себе блестящие
бронзовые доспехи, играя на музыкальном инструменте,
сочиняя песни и воспитывая малых детей в духе традиций
и обычаев... предков,
Я вполне допускаю, что именно в ту пору Человек сте-
пей впервые сорвал стебель курая, обрезал его с двух сто-
рон бронзовым ножом и, дунув, неожиданно исторг из
него волнующий напев. И стал курай широко распростра-
ненным инструментом, самым древним на земле, ибо нет
ничего проще этого природного инструмента, и нет ничего
сложнее его.
Меня всегда волновали легенды о Сером Волке, Вожа-
ке, который привел первые башкирские роды на Урал. Но
они всегда оставались для меня лишь красивыми леген-
дами.
После открытия таких поселений, как Аркаим и Тана-
лык, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что предки мои
идут от них. Идут долгими извилистыми дорогами, но я
живо ощущаю их движение, их неумолчную поступь, их
истинных вожаков и старейшин.
Я слышу хрипловатый звон курая, способный обретать
голоса любой птицы или зверя — от кукушки до соловья,
от лося до дикого волка.
Я слышу голос древней башкирской земли.
Слепило солнце,
Селезневым сплавом
Стекая на степные ковыли.
Я чувствовал себя живым анклавом
Полузабытых ариев земли;
Тех, кто явился днесь из Аркаима,
Ступни босые обдирая в кровь,
Не называя миру свое имя,
Неся в груди страданье и любовь.
И был поводырем у них не воин,
А музыкант с ростком в расщельях губ;
Да не один, а двое или трое!..
Но мир уже точил на них свой зуб.
Волк-самозванец,
Серый верховодец,
Уж супостатов видел в их лице.
12 Заказ 415
337
Так утвердилась о моем народе
Молва о Волке,
Как о праотце.
С тех пор на мне остался рдеть и тлеть
Рубец-клеймо от незажившей раны —
То волчьего клыка кривая медь
Вибрирует и бьется,
Как мембрана.
Я подношу курай к своим губам
Запекшимся,
И исторгаюсь гимном
Забытых предков,
Что на гордых лбах
К нам донесли мерцанье Аркаима..
i6i
ДРЕВНЯЯ ТАЙЙеШлИ - БУРЗЯН
i
Как-то незаметно пять томов «Башкирии в русской ли-
тературе» стали моим постоянным чтивом. Сколько их,
разных русских писателей, обращалось к башкирской те-
ме! Сколько восторженных слов сказали о башкирской
земле, ее удивительной природе, подобной которой трудно
встретить в других уголках России. Уж на что меланхоль-
ный и вечно скептичный Чехов и тот в письме к В. Собо-
левскому не обходит тему окружающей его красоты: «При-
рода здесь, кстати сказать, чудесная; масса полевых цве-
тов, поверхность гористая, много ручьев...»
Обозревая природу эту, слагал стихи будущий большой
писатель земли русской Сергей Тимофеевич Аксаков:
...Вот окруженные башкирцев кочевьями
Озера светлые, бездонны глубиной,
И кони резвые несчетны табунами
В них смотрятся с холмов, любуяся собой!
А не слагались стихи, прибегали к помощи прозы, ко-
торая звучала подобно поэзии, будь то Владимир Даль,
Николай Крашенинников, Александр Федоров или Глеб
Успенский... Да разве всех перечтешь, если их там не один
десяток, любовно выбранных замечательным уфимским
краеведом Муратом Рахимкуловым?
И все же не могу не привести еще один небольшой
отрывок из «башкирской прозы» Филиппа Нефедова, ко-
торый дал чувственно-зрительную панораму горно-лесно-
го края, вложив в свои слова всю силу влюбленной души:
«Прекрасная, чудная, божественная страна!.. Исполи-
12*
330
ны-горы, дерзко стремящиеся в небеса, низринутые и рас-
простертые долу кварцевые и диоритовые гиганты, волно-
образные, точно окаменевшие моря, степи, величаво пус-
тынные озера, то окруженные цепью формы вершин, та
на многие версты расстилающиеся у подножия навеки
заснувших хребтов Урала, гремящие с вершин и по ущель-
ям ручьи и потоки, с которыми связаны легенды и преда-
ния, сны и грезы юности... Коленопреклоненный, благого-
вейно складываю я на груди своей руки и при виде этой
вечной, неумирающей красоты природы громко пою гимн
творцу Вселенной».
Именно эти строчки вспомнились мне, когда стоял я
на самой макушке нагорья по названию Акбейек, то есть
Белая вершина или высота. И не это ли нагорье имел в
виду Ахметзаки Валиди, когда в своих «Воспоминаниях»
писал: «Наши лошади еще не отвыкли от кочевого образа
существования и по весне, в начале апреля, без всякого
нашего побуждения сами направлялись в джайляу под
названием Масем и Акбейек и оставались там до поздней
осени»?
И еще привел песню об этой легендарной горе:
Аллах нас Акбейеком одарил,
Чтоб с весны там кочевать до осени.
Вон скачет жеребенок что есть сил —
Себя он к ветру привязать нас просит!
Акбейек возвышается к северо-западу Бурзянского
края, ближе к границе с Ишимбайским районом, откуда
родом Заки Валиди. Забраться сюда непросто, но это поч-
ти виртуозно делает на своем могучем «Беларусе» Марат
Муллагулов, мой спутник по здешней земле — его родине.
Марат — не тракторист. Он — учитель литературы и
языка. Но он — и тракторист поневоле. Живет в ауле Аб-
дульмамбет, а вот учил ребят в Байназаровской школе —
за десять километров; теперь ездит на «Беларуси» в аул
Яумбай. Так что техника для него и впрямь не роскошь, а
крайняя необходимость.
А сопровождать меня да еще и бесплатно возить в ка-
бине трактора по сложной местности здешнего края он
взялся по старой памяти — учились в одном университете,
правда, на разных курсах.
Марата с полным правом можно назвать местным пат-
риотом и краеведом. Он очень много знает и любит рас-
сказывать. А еще больше любит спорить — тут его хлебом
не корми, дай только лясы поточить. Я иногда нарочно
340
подзуживаю, чтобы «завести». Когда он заводится, его
нелегко остановить. Иногда несет околесицу, но из плевел
слов всегда можно выудить здравое зерно. В этом — цен-
ность его как собеседника. На любой случай жизни у него
имеются твердые, как здешние горные породы, взгляды и
убеждения, сдвинуть с которых вряд ли смог бы сам про-
рок Хызыр Ильяс. Но когда сложишь вместе все его здра-
вые зерна, то получится довольно стройная концепция,
что я и попытаюсь доказать в ходе своего последующего
повествования.
Ради «общего дела» он в десятый или двадцатый раз
решил полезть вместе с нами в пещеру Шульган-Таш.
Другое название ее — Каповая — его не просто раздража-
ет, но и приводит в ярость. «Русским надо все повернуть
на свой лад, а наши рот готовы разинуть! Как можно пе-
реименовывать пещеру, которая века и тысячелетия назы-
валась «Шульган-Таш» и вошла во многие легенды и
эпические памятники? И что за нелепость — Каповая!^
Еще и поэтому в дальнейшем я буду называть всемир-
но известную пещеру земли бурзянской только Шульган-
Ташем.
* * *
Провожатый был молод, высок и худ. Но главное —
молчалив, и в этом, может быть, заключалось главное его
достоинство. Звали гида Володей. Он являлся специали-
стом по первому этажу пещеры. Что же касается верхних
ярусов, то к ним пристрастия не имел, хотя, при отсутствии
соответствующих проводников, охотно сопровождал ту-
ристов «не своего профиля». Передвигался он весьма быст-
ро и ловко, при этом успевая вовремя подать руку и под-
держать неловкого посетителя, ненароком оказавшегося в
его каменных владениях.
Когда Володя сказал, что первое упоминание о знаме-
нитой бурзянской пещере встречается в записках Ибн-Фад-
лана, мы поняли: да, он не столько спец, сколько пово-
дырь. Неутомимый посланец арабского халифа Муктади-
ра, одним из первых описавший башкордов и булгар, в
лесные дебри бурзянского края вряд ли смог бы добрать-
ся (как и пробраться!). Зато весьма успешно сделал это
русский ученый-путешественник Петр Иванович Рычков,
питавший огромный интерес к географии, археологии и
ландшафту Уральской земли. Он же оставил и весьма жи-
вописное описание осады Оренбурга пугачевцами. В двух-
341
томном сочинении «Топография оренбургская, то есть об-
стоятельное описание Оренбургской губернии» автор пора-
жает доскональным проникновением в святая святых баш-
кирской земли — в самые труднодоступные ее уголки, свя-
занные с нынешними Белорецким, Бурзянским, Учалин-
ским и прочими зауральскими районами.
Чуть позднее эти же места списали известные ученые-
путешественники П. С. Паллас и И. И. Лепёхин.
Впрочем, Марат Муллагулов решительно не принял
мое мнение о Бурзянском горно-лесном крае как о непро-
ходимом в прошлые времена.
— У многих приезжих складывается впечатление, будто
наша земля была издавна труднодоступным местом. Из
этого делается вывод, будто здесь жизяь замерла на ка-
кой-то патриархально-родовой точке замерзания. И что
подобное продолжалось долгие века. Это большая ошибка,
которую иные писатели преднамеренно выпячивают, чтобы
принизить духовный и экономический уровень здешнего
края. Между тем, чего стоит хотя бы великий батыр Алдар
Исянгильдин (по другим версиям — Исекеев)...
Тут он замолк, зная, что история этого башкирского
богатыря, от имени всего Русского воинства и самого царя
Петра Первого вступившего в единоборство с турецким
пехлеваном и убившего его, а потом поднявшего против
самодержавия грандиозное восстание, мне хорошо изве-
стна.
Что и говорить, Алдар — великая историческая лич-
ность, действительно занимающая одно из первых мест в
славной когорте предводителей башкирского народа. Ведь
он не только выказал храбрость под Азовом, но и стал
одним из тех тарханов, что пошли к царю Ивану Грозно-
му просить о присоединении своего могучего бурзяиского
рода, да и башкирского народа вообще, к Русскому госу-
дарству!
Не в устных рассказах и легендах — в письменных до-
кументах дошел факт его легендарного поединка с турец-
ким богатырем, черкесом по национальности. То, как они
сражались сначала «при оружии», а потом, когда сабли и
пики изломались, схватились врукопашную, и тут природ-
ная сила и мощь башкирского батыра взяла верх, и он с
такой яростью пригвоздил соперника к земле, что тот там
же «и дух испустил».
Победа великого бурзянца на азовском майдане во
многом способствовала и общей победе воинства Петра
Великого. Тот за это одарил его монетами из личной каз-
ны, велел снарядить на обратную дорогу повозку с не-
342
сколькими лошадьми, чтобы Алдар мог увезти домой тело
убитого брата Давлеткула и там с почестями предать его
земле.
Ну а потом случилось то, что случалось чуть не со все-
ми башкирскими полководцами, хранящими верность не рос-
сийскому трону, а своему подвергаемому постоянным изде-
вательствам народу: он поднял грандиозное восстание,
вошедшее в историю как «Восстание Алдара и Кусюма
1705—1711 гг.» Более шести лет башкиры вели воору-
женную борьбу с царскими воеводами и регулярными вой-^
сками, а после своего поражения истреблялись целыми
аулами, родами и улусами. Каратели не приняли в рас-
чет бывшие подвиги Алдара во имя Poqchh— повесили
его на людном месте Мензелинска, где были казнены и
многие другие башкирские предводители масс. Родной аул
Алдара на бурзянской земле был выжжен дотла, как позд-
нее спален аул Салавата Юлаева, и долгие годы на мерт-
вой земле не могла прорасти трава...
Марата Муллагулова удивляет и даже обескураживает
тот факт, что до сих пор не находится писатель, который
обратился бы к этой волнующей теме, к самой личности
Алдара, составляющей целую эпоху в истории Башкорто-
стана. При этом он не хочет понять (или признать), что
такая тема, как личность и эпоха Алдара Исянгильдина,
по зубам далеко не каждому писателю; что она требует
не только упорного и долговременного труда и терпения,
но и особого таланта — не только литератора, но и исто-
рика, краеведа, философа. И все это должно совмещаться
в одном человеке! Если же браться за эту тему с налета да
с наскока, как это делают иные авторы, специализирую-
щиеся на «исторической тематике», то можно только диск-
редитировать сокровенные для народа и самой истории
факты и события. И героев — тоже. Тогда уж лучше вовсе
за них не браться!
Но это не может успокоить строптивого и беспокойного
бурзянца. Он рассказывает, как в одно время обращал в
свою веру замечательного, но, увы, ныне покойного худож-
ника Алексея Кузнецова, автора знаменитого «Допроса Са-
лавата».
Дело в том, что незадолго до смерти Алексей Алек-
сандрович неожиданно (а по сути, абсолютно правомер-
но!) «заболел» Бурзяном. Не один месяц прожил там (в
доме Муллагулова) и создал целую серию работ на бур-
зянские темы. По всеобщему признанию, это был удиви-
тельно смелый и плодотворный поворот не только в твор-
честве, но и в самой судьбе живописца. Под рукою мас-
343
тера бурзянцы и сама природа представали с самой неожи-
данной стороны, покоряя зрителей свежим взглядом на
мир и чистотой его восприятия.
— Мы много говорили о здешнем крае, о его природе,
истории, о далекой древности, — рассказывает Марат.—
Это был удивительно понимавший и воспринимавший кра-
соту человек. Он совершенно искренне любил наших лю-
дей, землю. Очень болезненно и возмущенно воспринимал
истребление реликтовых лесов, вывоз древесины черт зна-
ет куда. Мы с ним строили разные планы, связанные с за-
поведником. И не на словах, а на деле. Именно он первым
заговорил о создании в Бурзяне национального парка аме-
риканского типа.
Муллагулов вспоминает, как агитировал Кузнецова соз-
дать воображаемый портрет Алдара Исянгильдина, чем
приводил его в немалое смущение. Тем не менее, он при-
сматривался к лицам земляков великого батыра-полковод-
ца, может быть, выискивая подходящий тип лица, но то ли
не нашел, то ли просто не собрался заняться этим нелег-
ким делом. Зато он написал маслом за одну ночь портрет
поэта Рами Гарипова, когда дошла весть о его внезапной
смерти. Он сделал его по фотографии, но портрет выгля-
дит так, будто написан с натуры.
Я видел этот несомненно удачный портрет, который и
поныне хранится в доме Муллагулова.
— Однажды Алексей Александрович увидел меня,
больного и изможденного, — продолжает свой рассказ Ма-
рат. — Тогда я вернулся из трудного похода и чувствовал
себя очень неважно. Как ни странно, именно такой мой
вид воодушевил Кузнецова. «Давай я сделаю с тебя порт-
рет Салавата, которого возят прикованным к телеге и
бьют кнутом в аулах, где он возмущал народ», — предло-
жил он мне. Наверное, мой утомленный вид навеял на не-
го такой образ. И он действительно довольно быстро сде-
лал такой портрет и куда-то потом его увез.
Видя любовь художника к Бурзянскому краю, Мулла-
гулов взялся хлопотать о домике для него. И он был най-
ден— райком партии выделил ему лесную сторожку, где
он мог бы спокойно и безмятежно трудиться. Но дело в
том, что и сам Кузнецов был в ту пору безнадежно боль-
ным человеком. Я хорошо помню тот — последний — пери-
од его жизни, когда он после долгого отсутствия появил-
ся в Уфе и жадно бродил по любимому городу, словно
пытаясь насмотреться на него перед вечным покоем. Он
и мой портрет сделал за каких-нибудь два-три сеанса, и в
часы его работы мы много говорили об истории Башкорто-
344
стана и башкир. Эта история не просто его интересовала
и волновала — он ее прекрасно знал! Алексей Александро-
вич называл имена башкирских предводителей, давал им
краткую характеристику. Помню, говорил о книге какого-
то оренбургского писателя-краеведа о башкирском народ-
ном восстании Карахакала.
— Вот кого хотелось бы написать! — говорил он, вы-
прямляясь перед мольбертом всем своим высоким стат-
ным телом и глядя на меня умными глазами сквозь тон-
кие очки. — Представляешь, он гипнотизировал своим ог-
ненно-черным взглядом, а на носу носил черную повязку»
Каково?!
Повторяю: более интеллигентного, доброго и обаятель-
ного человека среди художников я не знал и не знаю! И
когда я выше (в скобках) подчеркивал «абсолютную пра-
вомерность» его увлечения Бурзяном, которое переросло
в искреннюю любовь к этому краю и его народу, я имел
в виду именно его душу, полностью отданную той земле,
на которой он жил и творил, и которой остался верен до
конца.
А вот завершение рассказа Муллагулова о художнике:
— Мы все видели, что он болен. Нам казалось, что
именно здесь у нас он может исцелиться, или хотя бы
продлить свою жизнь. Этот домик спас бы его от скорой
смерти, которая настигла после операции, проведенной в
Москве. Я отговаривал его от операции, но он не послу-
шался...
Марат наивно верит, что бурзянская земля и домик,
который он выхлопотал у начальства, встали бы барьером
на пути Смерти.
* * *
Несколько лет жизни и труда посвятил Бурзяну и дру-
гой русский человек — врач и поэт Георгий Кацерик. Ра-
зумеется, там он был известен прежде всего и в основном
как врач — «духтыр». Кацерик имел не только повсемест-
ную известность, но и славу опытного и отзывчивого спе-
циалиста, способного излечить от любой болезни. Бывали
случаи, когда ему приходилось принимать роды, и мужья
рожениц полностью доверялись духтыру-повитухе, не толь*
ко не выражая протест, но и радуясь его вмешательству
в это деликатное дело.
«Урман, урман, глухих лесов дурман...»
С давних пор завораживают меня эти нехитрые бурэян-
ские стихи Георгия.
345
Он рассказывал, что у него и поныне есть неподалеку
от Субхангулова маленькая лесная хибара, куда он наез-
живал в летнюю пору. «Теперь не могу... Недосуг».
* * *
Даже ныне, когда воистину заповедный бурзянский
край вдоль и поперек исполосован просеками вырубленных
Лесов, когда по мыслимым и немыслимым его дорогам де-
сятки и сотни тягачей и самосвалов вывозят за пределы
республики строевые сосны, березы и прочие ценные де-
ревья, зеленая краса Бурзяна продолжает покорять своим
неувядаемым волшебством, наперекор всем хищническим
деяниям человека. Сколько поэтов посвятило этой земле
вдохновенные строчки, в числе их — коренные бурзянцы:
Самат Габидуллин, Танхылу Карамышева, Танзиля Дав-
летбердина и те, кто бродил здесь, околдованные чарами
ее природы: Кадим Аралбаев, Равиль Бикбаев, Ирек Кинь-
ябулатов... Помню озабоченное лицо друга своего Равиля
Бикбаева в ту пору, когда он задумал большую поэму
о судьбе реки Агидели и ее природы, подвергаемой наси-
лию со стороны человека, и с этой целью не раз выезжал
в Бурзян.
— Я и предполагать не мог, что бурзянские леса вы-
рублены до такой степени, — говорил Равиль, мрачнея. —
Этак недолго и покончить с той природой...
Позму свою он назвал «Стражду, подайте воды!». Она
имела сильнейший общественный резонанс, была удостое-
на премии имени Салавата Юлаева.
С тех пор прошло немало лет. К счастью, пророчество
поэта не сбылось: Бурзян и его природа продолжают все-
ми силами сопротивляться натиску техники и людской не-
насытности, хотя вырубка лесов и вывоз их за пределы
республики стали еще более интенсивными. Такова не толь-
ко физическая, но и духовная мощь этой беспредельно
древней и дивной земли!
Хочу привести одно небольшое стихотворение другого
своего друга Ирека Кйньябулатова «Бурзянские псы» в
своем переводе.
Жужжат машины, будто Осы;
Лежат, на них не лая, псы.
Be видят, что ль, как лесовозы
Увозят дух лесной красы?
Ж
Какая дума псов тех гложет?
Быть может, им уже давно
Драть глотку надоело? Может,
Им до машин тех все равно?
Как научился ты не лаять
На чужаков, бурзянский пес?
Я подменить тебя желаю,
Я — пес на страже здешних лоз.
Берез и сосен... О, как много
Нам лаять предстоит вдвоем!
Я бью всеобщую тревогу,
Хоть не умею лаять псом.
Благородные строчки! Благие намерения!
Увы, голоса поэтов ничуть не эффективнее лая псов,
которые, видимо, поняв бесполезность своего вековечного
занятия — лая, давно уже онемели. И только наш брат,
литератор да журналист, продолжает время от времени
шуметь. И порой не столько из желания постоять за унич-
тожаемую природу, сколько из стремления показать себя,
предстать пред окружающими борцом за природу или,
по крайней мере, певцом этой удивительной стороны.
Однако к экологической проблеме мы еще вернемся,
а пока снова обратимся к нашему диалогу с Маратом
Муллагуловым.
* * *
— Как думаешь, почему половина, и даже более поло-
вины башкирского фольклора родилась на бурзянской
земле? — как всегда, несколько петушась, спрашивает Ма-
рат и начинает перечислять: — «Урал-батыр», «Акбузат»,
«Кусяк-бий», десятки знаменитых легенд и песен
— Как почему? Да потому что бурзянский край был
средоточием кипучей жизни башкирской древности. Его
сердцевины, духовного взлета, волшебства. Представь:
вдоль поймы Агидели найдены двадцать восемь древней-
ших поселений, уходящих в эпоху бронзовой культуры.
Ведь здесь нет ни одной горы, ни одной долины, холма
или кургана, которые не имели бы своего названия и сво-
ей оригинальной легенды. Ну а» о пещере Шульган-Таш с
ее доисторическими наскальными рисунками я и не говорю.
И тут с Маратом трудно, почти невозможно спорить.
347
Да и к чему, собственно, спорить-то, если аргументы —
вот они, налицо! Продвигаясь со стороны Серменева и
все более углубляясь в дебри бурзянского края, на каж-
дом шагу натыкаешься на приметы легендарной старины,
отразившейся во всех жанрах народного творчества. Я и
перечислять-то их не берусь — неблагодарное это дело. И
все же кое-что из этого бесчисленного арсенала выделю,
ибо соприкасался с ними еще переводя бессмертные про-
изведения фольклора.
Но прежде...
Не доезжая до большого аула Байназар, минуешь над-
холмье, на вершине которого торчит как перст темный
ствол старой березы. Там находится «могила аулии».
Жил в этих местах абыз по имени Хажимулла, пользо-
вавшийся у здешних жителей большой популярностью и
авторитетом. Он лечил людей от недуга своими лекарст-
вами, заговорами и гипнозом. После смерти его решили
похоронить на высоком месте у одинокой березы, чтобы
его дух мог свободно парить и наслаждаться волей и по-
коем. Однако никто не предполагал, что Дух Аулии будет
еще и бродить по ночам, ходить по истоптанной им за
долгую жизнь дороге. Его живой силуэт видели многие.
Он являлся взору путников, возчиков и водителей лунны-
ми ночами, маяча впереди, а то и вставая напротив и как
бы молча спрашивая: «Ну, узнаешь меня?» Одни прихо-
дили в ужас от этой встречи, другие проникались молчали-
вым благоговением. Он не предпринимал никаких агрес-
сивных действий, не совершал зла прохожим и проезжим,
чаще всего тихо удалялся восвояси, как бы приветливо
кивнув головой, и люди постепенно привыкли к его ночным
хождениям, приветствовали при встрече и также молча
проходили мимо. Он стал достопримечательностью этих
мест, своего рода реликвией.
Дух-силуэт Аулии бродит там и поныне, и вполне воз-
можно встретится вам невзначай, если вам придется про-
ходить „мимо одинокой березы и притихшей под ней моги-
лой. Поклонитесь доброму привидению и проходите мимо,
не тараща глаза и не проявляя испуга или изумления.
Это все, что от вас требуется.
* * *
Касаясь произведений фольклора, записанных на бур-
зянской земле, не могу не сослаться на авторитет велико-
го историка-тюрколога Ахметзаки Валиди, который в мо-
348
лодости бродил среди бурзянских башкир, записывая их
музыкальные произведения и дастаны. Вот небольшой от-
рывок из его замечательной книги «Хатиряляр» («Воспо-
минания»):
«...под воздействием русских и татар происходит обед-
нение исключительно богатого башкирского фольклора,
щедрыми хранителями которого являются нынешние бур-
зянские башкиры. Там и сегодня живы национальная му-
зыка и дастаны, прежде всего, о Египте и Нуритдине (Му-
радыме). Войсковая дисциплина впиталась в кровь башкир,
они сохранили умение в едином порыве следовать за свои-
ми предводителями. Башкир-всадник на оседланном коне
подобен памятнику. Искусное владение оружием и отмен-
ная верховая езда делают их достойными продолжателями
традиций древнего тюркского воинства. Все эти мысли я
тл отразил в своих заметках, которые оставили у просве-
щенного башкирского читателя весьма благоприятное впе-
чатление...»
По Валиди выходит, что и зпос «Идукай и Мурадым»
имел на бурзянской земле широкое распространение.
А теперь — еще об одном бурзянце, фольклористе Мух-
таре Сагитове, внесшем неоценимый вклад в нашу науку.
Мне кажется, именно он больше других понимал, как
важно создать переводы литературных памятников ста-
рины, чтобы о произведениях башкирского народного твор-
чества, прежде всего, эпоса, узнали все, кто живет в пре-
делах республики и вне ее. Именно он приобщил меня к
этому важнейшему делу, в результате чего увидели свет
русские тексты великих творений прошлого: «Урал-батыр»,
«Акбузат», «Кусяк-бий». Это он, Мухтар Муффазалович,
проложил дорогу на вторую родину Ахметзаки Валиди —
Турцию, стремясь вывезти оттуда его научные труды. Эти
его инициативы вызывали кое у кого из его коллег ревни-
вую зависть, ему мешали вершить благое дело. Но он про-
должал начатое с завидным упорством. Нелепая трагиче-
ская гибель в автомобильной катастрофе неподалеку от
Анкары прервала его благородную и трудную миссию.
Не касаясь прочих эпических произведений, над пере-
водами которых я работал при живом участии Мухтара
Сагитова и о которых немало сказано в нашей фольклори-
стике, я остановлюсь лишь на одном из них — эпосе «Ку-
сяк-бий». Даже в пересказе московского музыковеда Льва
Лебединского в книге «Башкирские песни и наигрыши»
содержание этого изумительного средневекового памятника
потрясает своей мудростью и сюжетом.
Будучи человеком тонким и деликатным, Мухтар Муф-
349
фазалович не спешил с разработкой темы «Кусяк-бия» и
тем более с его переводом на русский язык.
Дело в том, что эпос этот — своего рода яблоко раздо-
ра двух огромных родов: Бурзянского и Кыпсакского,
каждый из которых имеет свой, диаметрально противопо-
ложный друг другу вариант. Если в кыпсакской версии
благородным героем выступает Бабсак-батыр, который ста-
новится жертвой коварства бурзянского верховодца Кара-
кулумбета, то у бурзян повествование имеет совершенно
иные акценты. Пикантность положения в том, что и поны-
не представители того или иного рода довольно болезнен-
но реагируют на интерпретацию событий этого произведе-
ния, крайне неодобрительно относясь друг к другу в этом
плане. Кыпсакский вариант имеет поэтический облик. Бур-
зянский же сохранился лишь в прозе.
Еще одна особенность эпоса в том, что он дошел до
нас не в традиционной форме кубаира, а в длиннострочном
восточном стиле поэзии, что свидетельствует о письменном
первоисточнике.
# * *
Итак, хан ханов Масим обратился к верховодцам че-
тырех родов с призывом — отыскать и убить зверя-чудо-
вище, зверя-людоеда, пожирающего жителей края, детей,
женщин и стариков. Глава рода тангауров Тимеркотло,
тамьянского рода — Тамьян, кыпсакского — Бабсак и ро-
да «хаинов» — Каракулумбет отправились на поиски хищ-
ника-каннибала. Первым нашел и убил его Бабсак, после
чего отрезал язык убитого зверя и привез его Масим-хану.
На поверженного зверя наткнулся и Каракулумбет. Тем не
менее, выстрелил в мертвую тушу. Засвидетельствовать
подвиг должно было отрезанное ухо зверя.
Тимеркотло и Тамьян возвратились в стан Масима с
пустыми руками.
Именно там развернулась драма, ставшая причиной
великой трагедии двух родов — сперва кыпсакского, а за-
тем — бурзянского. Уличенный во лжи Каракулумбет убил
Бабсака, после чего началось повальное истребление его
рода, лишенного своего вожака.
Черной местью налит Каракулумбет.
Он грозит кыпсакам морем зла и бед.
Норовит весь род Бабсака истребить —
И жестокости такой не видел свет.
350
Из-под палки он погнал евоих людей
На кыпсаков. Утопил в крови, злодей,
Стариков, старух и женщин... Убивал,
Не жалея, даже маленьких детей.
На корню уничтожал он славный род,
По крови шагать заставил он народ;
До последнего младенца вырезал.
Повелел своим угнать кыпсаков скот...
(Перевод мой —Г. Ш.)
Свершив черное злодеяние, Каракулумбет забрал в свойг
дом жену Бабсака — красавицу Ямилю, зачавшую дитя
от прежнего мужа. После рождения Кусяка Каракулум-
бет терзается сомнениями: кому принадлежит новорожден-
ный сын? Но даже под пытками Ямиля не открывает ис-
тину. Однако сообщает ее маленькому Кусяку старуха из
рода кыпсаков, чудом оставшаяся в живых. Кусяк застав-
ляет признаться в этом и свою мать. Возмужав, он начи-
нает беспощадную войну теперь уже против бурзянцев.
Оставляет лишь одну влюбленную пару. Своего же кров-
ного врага Каракулумбета Кусяк-бий предает таким страш-
ным унижениям и мукам, что тот обращается с мольбой:
«Атай, сал!». Старший по возрасту, он униженно называет
доношу «атай» (отец), ну а «сал» означает «зарежь». Луч-
ше зарежь, чем так мучить! С тех пор и пошло, якобы, это
слово — «атайсал», символизирующее не только место,
где произнес сакраментальную фразу Каракулумбет, но
и родину, отчий край.
Сейчас я не хочу вникать в «идейный» и прочий смысл
средневекового повествования, не собираюсь делать широ-
коидущего вывода о том, что в нем звучит призыв к едине-
нию родов (как это делает, к примеру, Карл Маркс по
поводу «Слово о полку Игореве», имея в виду русских кня-
зей.) Меня интересует иная сторона этого литературного
памятника, а именно — жизненная основа его сюжета.
Чтобы посильнее унизить своего врага, Кусяк-бий са-
жает Каракулумбета на черную корову задом наперед и
возит по всем кыпсакским аулам, так сказать, напоказ.
После этого он забирается на гору, где разжигает костер,
поджаривает на сковороде печень врага и прилюдно ее
351
съедает, произнося страшную в своей краткости фразу:
«Инде коном канды» — «теперь я утихомирил свою кровь»
(или «Свершил кровную месть»).
Так вот: все, что связано с эпосом «Кусяк-бий», бук-
вально эпизод за эпизодом, можно видеть своими глаза-
ми на нынешней Бурзянской земле. Вон — гора Масим-
тау, где «хан ханов» собирал верховодцев четырех родов.
Вот майдан, на котором Каракулумбет прострелил серд-
це Бабсака, который «даже ухом не повел», когда тот
целился в него из огромного костяного лука и все вокруг
кричали: «Что же ты, Бабсак? Защищайся!» Нет, даже
пальцем не пошевелил, чтобы не унизить себя лишней суе-
той, которая могла быть воспринята как испуг. Погиб с
равнодушным видом, спокойно глядя в глаза своего вра-
га. О, как прочитывается в этом нрав башкирских народ-
ных предводителей, таких, как Бепеней, Кильмяк, Акай,
Юсуп Арыков, тот же Алдар Исекеев... Когда их вешали,
садили на колья или отрубали головы, они принимали ги-
бель с таким же равнодушным видом и отречением, вызы-
вая дополнительную злобу и ярость своих палачей.
А вот — могила Бабсака. Она находится неподалеку
от пещеры Шульган-Таш, возле фермы здешнего совхоза.
Курган высотой в три-четыре метра. О нем—своя впе-
чатляющая легенда.
Убив Бабсака, Каракулумбет запретил его родичам
увозить тело на родину и предавать земле. Тогда кыпсаки
сказали: «В таком случае мы сами привезем сюда свою
землю и схороним его здесь». Целые недели и даже меся-
цы несли они в горстях и везли в повозках родную кып-
сакскую землю, пока не насыпали большой курган над
могилой своего родового батыра.
— Я специально изучал эту землю, она действительно
не здешняя, а со стороны, — рассказывает Марат Мулла-
гулов. — Впрочем, это очень просто установить. Я глубоко
обижен на одного ученого, который в начале 60-х годов
приехал сюда вместе со своими студентами, вырыл скелет
Бабсака, оставив зияющую яму. Сказал, что отправил ос-
танки в Ленинград на экспертизу. Никаких результатов
этой экспертизы нам не сообщили, скелет не возвратили.
Марат крут в выражениях, но и не согласиться с его
доводами трудно.
Мы проехали весь путь, по которому Кусяк-бий возил
своего пленника на черной корове, пока не остановились
у горы, возвышающейся над аулом Байназар. Гора эта на-
зывается Курауды, то есть гора-жарево. Гора, где соверши-
352
ли жаренье. Более того, мы даже постояли на том месте,,
где свершилась казнь Каракулумбета. Говорят, в преж-
ние времена кыпсаки ежегодно поднимались на ту гору*,
торжественно поминали там Кусяк-бия и других своих
батыров, рассказывали детям предания о них.
Так что же, все изложенное в эпосе — правда, запечат-
ленная в народной памяти и на бумаге?
А почему, собственно, в этом надо сомневаться? К при-
меру, для того же Мухтара Сагитова содержание истори-
ческих памятников было несомненной реальностью, гени-
ально воплощенной нашими предками в художественных:
произведениях.
— Какой смысл ставить под сомнение достоверность
фольклорных произведений? — спрашивал он. — Тем более,,
легенд и сказаний. Разве они могут родиться на пустом
месте. Думать, что они взяты с потолка, являются сплош-
ным вымыслом неких талантливых фантазеров — тупико-
вый путь, ведущий к конфронтации с историей, памятьк>
народа и его мудростью, с этими живыми приметами и наз-
ваниями, которые остались от прошлого.
И далее:
— У каждого предания (не говоря уже об эпических
памятниках) есть своя душа. — К примеру, если предки го-
ворят нам, что в озере Елкысыккан жили лошади особой
благородной породы с мышиными спинами, значит, так оно»
и было. В прежние времена здесь обитали дикие кони-тар-
паны, которые не давались никому в руки. Почему это»
озеро не могло быть их обителью?
Между прочим, измерения этого легендарного озера, ле-
генду о котором приводит еще Владимир Иванович Даль
в своей замечательной повести «Башкирская русалка», по-
казали, что оно «не имеет дна». Впрочем, эти два слова
можно было бы написать и без кавычек, ибо так оно и есть.
Подземным ходом оно соединено с озером Шульган, что
таится в недрах пещеры; другим — с соседним озерком
Ыгышмакуль, то есть плавучим озером, на котором дейст-
вительно есть плавающий островок, который нынче просто-
напросто привязан к берегу обыкновенной веревкой.
А вот что пишет о вышеназванном озере В. И. Даль:
«Озеро это прибывает и убывает непостоянно. Оно было»
в старину жильем и царством могучего падишаха водя-
ных; он-то наградил смелого Кунгр-бая, башкира бурзян-
ской или Усергенской волости, косяком лошадей, выплыв-
ших из этого озера вслед за бесстрашным наездником*
пустившимся вплавь на знаменитейшем жеребце своем
через неприступную для других пучину. Верстах в десяти
35а
ниже найдете озерцо чистейшей воды, из коего вытекает
речка Шуллюган и впадает в Белую. В этой речке найден
хомут лошади, украденной и утопленной преследуемым
вором в нагорном озере; стало быть, говорят башкиры,
озера эти сообщаются под землею».
А вот что говорит директор совхоза «Шульган-Таш»
Шакир Салаватов, страстный приверженец и патриот
здешних мест:
— В один из годов вода в озерах внезапно исчезла,
обнажив непроглядное дно, и вода потоком хлынула прямо
из пасти пещеры Шульган-Таш...
Вот какие колдовские подземные ходы соединяют меж-
ду собой удивительные, головокружительные эти места!
И где, как ни здесь могли рождаться на свет легенды и
сказания о подводных мирах и царствах с дивами, которые
появляются лишь в сумерках, чтобы напасть на красивых
девушек и увести их в свои подземные покои?
В эпосе «Акбузат» именно величественный каменный
грот пещеры Шульган-Таш высотой в два десятка метров
служит своеобразной конюшней волшебного коня-тулпара
Акбузата, фигурирующего во многих эпических памятни-
ках башкирского народа.
Ну а имя «Шульган» вообще является нарицательным,
возникая в самых масштабных произведениях фольклора,
относящихся к древнейшей поре человеческого существо-
вания. Во-первых, это старший брат Урала в одноименном
эпосе, возраст которого, с легкой руки молодого ученого-
историка Салавата Галлямова, сравнившего его с древне-
иранской «Авестой» и «шумерскими сказаниями о Гильга-
«меше, специалисты определяют четырьмя тысячами лет!
Писатель-исследователь Зигат Султанов также проде-
лал эту сравнительно-аналитическую работу. Его вывод —
3600 лет.
Во-вторых, именно в Шульган^озере обитает подводный
царь, отец красавицы Нэркэс в другом эпосе «Акбузат».
Против этого падишаха начинает войну герой повествова-
ния Хауб.ан. Победив царя Шульгана, он превращает его
в обыкновенную отвратительную черепаху. В-третьих, в
башкирских легендах имя Шульган ассоциируется с обра-
зом врага людей, с предательством и злодейством. И тем
"более удивительным представляется образ шумерского ца-
ря Шульги, Шульгина, фигурирующего в шумерском фоль-
клоре. И тоже — в обличье насильника и человеконенавист-
ника.
354
II
И вот перед нами эта легендарная река Шульган.
Мятежно выбиваясь откуда-то из-под гранитных скал,,
она поражает глаз своей опаловой голубизной, ласкающей
и успокаивающей глаз.
И сразу вспоминается Голубое озеро, встречающееся
по дороге к знаменитой Риде — точно такой же цвет, и
глубина — тридцать метров! Но там нет этой тайны, кото-
рая буквально просвечивает в водах Шульган-речки и еще
больше — в озере Шульган.
Вода в речке холодная, но в ней купаются, не боясь
простудиться. И не простужаются никогда! Напротив, вы-
бираются освежившимися и как бы заново родившимися.
Такова уж эта волшебная вода, вытекающая из недр пе-
щеры и образующая неподалеку упомянутое выше легенду-
озеро Шульган. Никто не знает и не может знать подзем-
ных таинств этой реки и этого озера, как не может знать
глубинных загадок и ходов этой пещеры.
Оказавшись внутри пещеры, ловишь себя на том, что-
все тело твое окунается в состояние благости и покоя. Не-
обыкновенно легкое дыхание, мерно вздымающаяся грудь,
неощутимо-сладостное сердцебиение. Постоянная темпера-
тура— плюс 6°. Но это — воздух подземелья! Целебный»
выдуваемый вечными камнями горных недр, выструиваю-
щийся из божественных уст тысячелетий. В эфире этого
воздуха человек опять же не только не простужается ни
при каких случаях, а, напротив, избавляется от различных
болезней и недугов. В пещере неожиданно яснеет голова,
прочищаются мысли, уходит угнетенное состояние, на сме-
ну приходят бодрость и юношеское воодушевление. Точ-
нее— одушевление. Таково магическое воздействие этого
вековечного грота, порождения бога Тэнгри, который по-
кровительствовал людям далеких эпох. И разве не эта
вдохновенное состояние заставляло их брать в руки при-
родную кисть из жестких растений и выписывать изуми-
тельные фигуры животных, о которых мы знаем лишь па
тем же преданиям старины глубокой? Мамонт, бизон, конь-
тарпан... Говорят, в ту пору тут водились пещерные мед-
веди и львы. Не один ли из них фигурирует в эпосе «Ку-
сяк-бий» в качестве зверя-людоеда? А еще здесь обитали
куницы, торностаи, колонки, крупные рыси и, конечно, хо-
зяева лесов — медведи, которые настолько чувствовали
себя господами здешних мест, что нередко крали самых
красивых женщин и жили с ними в своих берлогах, как с
женами.
355,
Сказывают, были здесь и тигры, которые вследствие
^изменения климата постепенно сместились к югу, к бере-
там Каспия и Арала, и произошло это сравнительно не-
давно — около двух тысяч лет назад.
Рисунки на стенах пещеры — не столько великая загад-
ка Вечности, сколько великое диво Земного Бытия. В от-
личие от знаменитых пещер Испании и Франции, где еще
.в середине XIX века были найдены наскальные рисунки
палеолитической живописи, рисунки Шульган-Таша намно-
то их старше — примерно на 3 или 4 тысячелетия. Они вы-
полнены на довольно большой высоте, однако писатель-
тгублицист Борис Павлов, много писавший о Бурзянском
крае, узрел каменные уступы, на которых могли стоять
древние живописцы. Вполне возможно, что так оно и есть.
К тому же, уступы эти двадцать веков назад вообще могли
быть широкими, как полати. Я же при тусклом свечении
карманного фонарика никаких особенных уступов не при-
метил, и потому вспомнил описание в книге выдающегося
ученого С. И. Руденко «Башкиры», которое в свою очередь
взято из трудов Лепехина. В нем дана картина того, как
башкиры-охотники вылавливали из гнезд соколят, повис-
ших на самой крутизне отвесных скал: «Наши сокольные
промышленники, собрав все свои арканы и связав их, опу-
скали с горы до тех пор, пока конец оных, на котором на-
вязана палка, став противу сокольего гнезда, по которому
башкирец, спустяся, выбирал из гнезд молодых соколят, с
которыми должно было его спускать до самой подошвы
горы, что около семидесяти сажен составляло».
Вот тебе и ответ на вопрос, как наносили свои рисунки
древние живописцы! — подумалось мне. Именно сверху
опускали палеолитических мастеров кисти, поддерживая
их на весу до тех пор, пока те не завершали работу, что-
бы плавно потом опустить на пол. Арканами же могло слу-
жить лыко, которого в этих краях в изобилии.
Возможно, я ошибаюсь. Да так ли это и важно, как
именно трудились люди каменного века, для которых моль-
бертом служила отвесная скала! Главное — вот они, эти
чарующие рисунки, может быть, самые древние на земле!
Можете себе представить то волнение, с которым я
всматривался в изображения мамонтов и диких коней, про-
ступающих из влажного слезящегося камня при свете на-
ших маломощных фонарей. Недаром находились скепти-
ки, отрицающие саму возможность подобного искусства
в третичную эпоху, более двадцати тысяч лет назад: не
может быть!..
356
А почему, собственно, не может быть? Что мы знаем
о людях того незапамятного времени, когда и само-то вре-
мя текло совсем иначе, чем сегодня — медленно и велича-
во, как широкая сибирская река, отнюдь не спеша влить-
ся в северные моря неприютного Ледовитого океана. Ему
некуда было спешить, ибо над ним никто не довлел, никто
■его не подгонял, не стремился втиснуть в прокрустово ло-
же современного суетного бытия. Это потом Время попа-
дет в Черную дыру новейших цивилизаций, после чего зас-
пешит, заклокочет, как горная речка, не зная, куда и зачем
бежать и кому вверить шумные свои воды.
Но разве не было своих цивилизаций двадцать тысяч
лет назад? Разве не эти наскальные рисунки стали своего
рода идеалом новейшей живописи, к которому стремятся
все уважающие себя живописцы, силящиеся единой непре-
рывной линией очертить не только контуры, но и образ,
внутреннюю сущность натуры? Разве не этой гениальной
линией отмечен портрет Анны Ахматовой на рисунке Ама-
део Модильяни или голубь мира Пабло Пикассо? И не к
этому ли идеалу стремились в своих изумительных карти-
нах Федерико Феллини и Андрей Тарковский?
Краски тех далеких художников земли башкирской бы-
ли сделаны из порошка тертого красного камня, соответ-
ственным образом обработанного и пропитанного нектаром
уральских соцветий и животным клеем. Они ложились на
мокрые камни мягко и тепло, излучая сияние жизни и впи-
тываясь в них так, будто становились одной с ними поро-
ды, так что никакими силами невозможно было их вывести
и даже соскоблить. Вот почему они продержались двад-
цать тысячелетий, храня чудную свежесть тех первоздан-
ных эпох Урала. Продержались в своей полугерметической
глубине гор, и теперь, когда происходит «разгерметизация»
грота, они могут погибнуть на наших глазах.
Поражает не столько изумительная схожесть фигур с
самой натурой, сколько легкость и изящество их исполне-
ния первобытными мастерами, их грациозность, создаю-
щая впечатление постоянного движения. Ведь кому-то из
искусствоведов показалось, что «Джоконда» Леонардо то-
же движется по какому-то замкнутому кругу. Это и есть
неразгаданная тайна великих мастеров. Творцов этих на-
скальных рисунков, безусловно, тоже можно назвать и ве-
ликими, и гениальными.
Вглядитесь в изображение дикой лошади-тарпана. Оно
сильно отличается от силуэта наших современных лоша-
дей — и своим массивным туловищем, и вздыбленным, как
у льва, загривком, и всей внушительной грузностью своего
357
существа. Эти кони-тарпаны чувствовали себя в палеоли-
тическую эпоху равноправными, ни в чем не ущемленны-
ми индивидуумами, наравне с тем же мамонтом или львом.
Они могли постоять за себя не только с помощью могучих
копыт и зубов-клыков ощеренных пастей, но и могучим
единством своих диких косяков, перед которыми вряд ли
мог устоять даже самый кровожадный зверь. Человек толь-
ко-только присматривался к этому диву природы, любуясь
его чудными очертаниями и легким бегом. Это уже потом
конь станет «первым другом джигита», его неизменным
спутником, а также героем эпических памятников, легенд,
преданий.
Поневоле возникает вопрос: во имя чего создавали на-
ши пращуры эти свои рисунки животных и зверей? Для
красоты? Может быть, еще в ту незапамятную пору людям
был присущ эстетический идеал прекрасного? Но почему
рисунки, как правило, находятся в труднодоступных и да-
же потаенных местах подобных пещер? Ведь Красота
должна быть рядом, сиять перед глазами, постоянно вол-
нуя воображение человека.
Нет, чувство прекрасного пришло к нашим прародите-
лям много позднее, чем чувство поклонения Божеству,
культу высшей силы, правящей миром, в том числе —
человеком. А так как высшим смыслом жизни для тех лю-
дей была Пища, как бы физически воплощенная в этих
животных, столь вожделенных для первобытного челове-
ка, то именно их изображения наносил он на стены пе-
щер, где укрывался вместе с теми же зверями от непогоды,
опасностей, глада. Рисунки зверей и животных — это и их
культ, на который следует молиться. Нанося красной
охрой изображение мамонта, носорога, бизона или коня,
древние люди как бы воссоздавали не только плоть, но и
дух этих вожделенных существ. А Духу — можно покло-
няться, уповать, возводить в ранг Божества, которое могло
снизойти до возжеланий человека и подарить ему удачу
во всем: в охоте, поиске и добыче зверя. Наскальные ри-
сунки — это первозачатки идолопоклонства, которое впос-
ледствии обретет столь причудливое многообразие форм и
видов, вплоть до фресок храмов:
Ну а совершенство линий рисунков, их удивительная
лёгкость и изящество — это уже дух самого человека, ко-
торый в будущем воплотится в самое поразительное его
свойство, скромно именуемое талантом.
На нижнем этаже пещеры найдены изображения раз-
личных геометрических фигур, похожих на прямоугольни-
ки или трапеции. Автор книги о пещере Шульган-Таш Отто
35$
Николаевич Бадер по этому поводу пишет: «Эти рисунки
трудно расшифровать. Весьма вероятно, что наиболее
сложные из них, в виде четырехугольника и усеченного
-треугольника, представляют собой изображения наземных
жилищ. Одно из этих изображений, размерами 27X30 см
имеет даже нечто вроде входа внизу, в центре».
В той же книге мы читаем: «...французский археолог
А. Леруа-Гуран в нескольких статьях, опубликованных в
последние годы, и в докладе на V Международном архео-
логическом конгрессе в Гамбурге убедительно доказал тес-
ную связь геометрических знаков в палеолитических пеще-
рах с реалистическими рисунками животных и синхрон-
ность этих знаков с последними. Он установил закономер-
ности в группировке фигур животных и различных знаков
в пещерном искусстве палеолита и рассматривает их как
женские и мужские символы».
Словом, у ученых — свои пристрастия, научные цели
и задачи. Для меня же древнейшие на земле наскальные
рисунки Шульган-Таша — это, своего рода, зов предков,
бессмертное прикосновение их рук к пергаменту безмерно
далекого Будущего, их осязаемый код духа и души, кото-
рым они сплели между собой чудовищные пласты времен
и эпох и достали нас этим своим животворящим прикосно-
вением. Это — их трепетное сердцебиение и взлет творче-
ской фантазии, которые со временем выльются в величай-
шие и древнейшие на земной планете эпические памятни-
ки, предания и легенды, песни и сказания. Погружаясь в
глубины их каменного пристанища, я столь же безмерно к
лим приближаюсь, да так, что чувствую обжигающий по-
лет дыхания, прикосновение уст, ощущаю гипноз их непод-
вижных и зорких глаз. Время внутри пещеры течет для
меня подобно тому, как течет оно в бездне черного Космо-
са, когда секунда равна годам, а минута — векам. Вот
сквозь эти годы, века и тысячелетия я стремлюсь в глуби-
ны мезозойских эпох, не только не чувствуя их сопротив-
ления, но и ощущая постоянное притяжение во времени и
пространстве.
. Когда-то к нам были протянуты и руки этих предков
с растопыренными пальцами, называемыми сталактитами
и сталагмитами. Их прикосновение было целительным,
один мазок оконечности сталагмита мог излечить от неду-
га, заживить рану, остановить кровотечение. Но варвар-
ские стада туристов изломали и унесли с собой все эти жи-
вительные руки наших предков, доверчиво к нам протяну-
тые из бездны земного мироздания.
359
* * *
Ну а теперь о той самой экологической проблеме, без
которой нет такого края — Бурзян.
Еще раз писать о разбойной вырубке здешнего леса и
вывозе его — это значит лишний раз сотрясать воздух ни-
чего не значащими словами и звуками. Более того, лес он
на то и лес, чтобы его рубить, использовать, продавать,
вывозить, делать из него валюту. Беда в другом: мы не
только не научились это делать разумно и соразмерно то-
му, что имеем, мы вообще не научились это делать так или
иначе цивилизованно. И это отнюдь не только в нашем
лесном краю. Такое же явление — по всей Руси великой.
По запасам древесины, к примеру, мы намного опережаем
соседнюю маленькую Финляндию, но по лесообработке и
получении от нее валюты — столь же отстаем. Парадокс?
Увы, закономерность! Само слово «Россия» в сочетании
с ее природными богатствами сразу все за себя говорит.
Во всех уголках нашей планеты.
Однажды мне пришлось участвовать в создании филь-
ма о лесах. Тогда я узнал, что добрая половина вырубае-
мых и вывозимых из Бурзянского и Белорецкого краев
леса идет на всякий хлам — выделку тары, оград, свай,
третьесортной фанеры и пр. Но ведь все это нужно для
хозяйства, возразите вы, и будете правы. Только не из
строевого первосортного леса следует изготовлять эту оби-
ходную мишуру, отвечу я, и тоже буду прав. Когда видишь
широчайшие коридоры просек в сосновом «корабельном»
бору, мертвоторчащие пни без всякой попытки возродить
убиенную древесину, душа обмирает от жути и горечи. На
что пошла эта прямая, как мечта, и неизмеримо высокая
и звонкая сосна? На этот вопрос не ответит никто. Лишь
бы продать, а там — хоть потоп!
Из одной радиопередачи я узнал, что древесный фун-
дамент знаменитой Венеции строился из уральской сосны,
которая, находясь под «вечной» водой, служит до сих пор.
Через пол-России везли эту красавицу на итальянскую
землю, чтобы создать там еще одно чудо мира. А тут,.
в нашем лесном краю, на излете века нет даже одной един-
ственной более или менее приличной мебельной фабрики,
предприятия по деревообработке! Как и восемь веков на-
зад, мы позволяем вывозить это прямоствольное чудо не
только «в края заморские», но и соседние, степные, выводя
*го на корню. Нет ни интереса «вверху», ни инициативы
«снизу», чтобы хоть как-то приложить к этому чуду руки
мастеров. По-прежнему жалеем деньги, чтобы создать пря-
360
мо в чаще наших воистину золотых (в прямом и перенос-
ном смысле слова!) лесов столь необходимые нам произ-
водственные «объекты». Да куда там! — сворачивается ра-
бота леспромхоза, идет на убыль сплав леса — один толь-
ко хищнический вывоз на тягачах и самосвалах.
Когда мы приехали в Бурзян, там пребывал со своей
свитой премьер-министр нашей суверенной республики.
Сказали, что он рассматривает с местным руководством
вопрос о создании некоего государственного деревообраба-
тывающего предприятия в здешних местах. Узнать подроб-
ности нам не удалось. Однако шевельнулась надежда: а
вдруг...
И еще: нынче в этих, в прошлом труднодоступных, ме-
стах, интенсивно строятся шоссейные и асфальтированные
дороги, возводятся мосты. Весьма возможно, в скором вре-
мени Бурзян станет таким же «проходимым» районом, что
и остальные. Казалось бы, радоваться да благодарить вла-
сти за такую заботу и внимание. Но местных жителей на-
стораживает то, что те же железные, воистину фундамен-
тальные мосты возводят федеральные (читай — москов-
ские) власти. Техника пришла издалека. Суть опасения
жителей в том, что шикарные дороги с мостами и краси-
выми арками будут играть прежде всего стратегическую
роль.
А что должны испытывать мы, жители суверенной рес-
публики? Люди бурзянской земли?..
Ясно и другое: со строительством «цивилизованных»
дорог вывоз бурзянского леса станет еще более нециви-
лизованным, хищническим и безудержным. Так же, как
его распродажа. Пока тамошние реликтовые деревья не
подверглись окончательному облучению, после чего их це-
на на мировом (и внутрироссийском) рынке резко упадет.
Об этом немало говорят давние защитники природы —
«зеленые», рупором которых в нашей Башкирии выступает
стойкий публицист Борис Павлов. Увы, к голосу «зеленых»
не то, чтобы не желают прислушиваться — их как бы веж-
ливо игнорируют. И подобное явление опять же присуще
всей нашей матушке-Расее, которой ныне не до бережно-
го отношения к своим природным богатствам. Как можно
больше сплавить, вывезти, распродать и как можно боль-
ше схапать — вот девиз и руководство к действию нынеш-
них деловых людей. И их в этой звериной страсти не мо-
гут ни обуздать, ни остановить никакие властные струк-
туры.
Вспоминаю слова Марата Муллагулова о том, как рус-
ский художник Алексей Кузнецов мечтал создать автоном-
361
ный Национальный парк в Бурзяне. На манер американ-
ских парков. Чтобы это была зона покоя и земной красо-
ты, какой она готова стать в любой момент, создай только
для этого соответствующие условия.
Если сейчас Бурзян можно сравнить с сердцем башкир-
ской земли, которое больнб хроническим пороком, то после
известной ювелирной операции ему следует стать здоро-
вым, полнокровным сердцем нашей, всеобще заповедной,
республики, которую десятилетиями пытались и все еще.
пытаются превратить в огромную мусорную, нефтехимиче-
скую и радиационную свалку. И это зависит не от однога
руководства Башкортостана, не только от тех, кто коман-
дует, выделяет деньги, продает и покупает, но и от нас,
от каждого гражданина суверенной республики, незави-
симо от его национальности и вероисповедания. Если мы
не сумеем отстоять святость и хотя бы оставшуюся на сей
день природную красу нашего края, потомки проклянут
нас точно так же, как мы проклинаем тех, кто за бутыль са-
могона или прочего зелья, осьмуху чая или куска цветастой
ткани продавали плодороднейшие, несравненные башкир-
ские земли. Нас проклянет сама наша земля и на этот
раз — навсегда! Бесповоротно. А то, что она умеет эта
делать, можно видеть по высохшим рекам и ручьям, озе-
рам и водоемам, по безвозвратной эрозии почвы и гибели
зелени после необратимой распашки так называемых це-
линных земель. Взгляните на сегодняшний Хайбуллинский
район! Это проклятие мы читаем по тому, какими горьки-
ми слезами плачет земля, пропитанная и отравленная
нефтью и химией, как голосят ее пустые недра, откуда
выкачали живую кровь. Мы видим это во всем: в непри-
лете скворцов и соловьев, в исчезновении целых видов
птиц и животных, уходе диких зверей, в резком сокраще-
нии популяции уникальных пород лесных и степных жи-
вотных. Мы видим это в рождении тысяч и тысяч дебилов,
уродов, мутантов... В физической несостоятельности наше-
го молодого поколения, половина которого неспособна слу-
жить в армии. Та же, в свою очередь, на краю развала
из-за внутренних распрей и преступных войн, куда ее тол-
кают правители.
Боже, это мы только наивно полагаем, что земля, воз-
дух, вода не имеют разума и души; что Природа не таит
в себе Бога — ведь она сама — Бог! Гнев Природы страш-
нее любых авиакатастроф и террористических актов, ибо
выражается в страшных стихиях и катаклизмах, которые
из года в год становятся все более непредсказуемыми. Так
долго ли мы будем сотрясать воздух патетическими слове-
362
сами, ничуть не пытаясь проводить высокие идеи в жизнь?
Сколько будем смешить мир зияющими пропастями между
тем, что изрекаем и что делаем?!
Ну а тот, кто хочет узреть и познать Душу и Разум на-
шей удивительной башкирской земли, пусть отправляется
в ее сердцевину, Бурзянский край, и припадет к ней всем
существом своим, постигая волшебную, колдовскую силу
и красу немыслимо прекрасного облика этих мест!
ПЕРВАЯ ТАШШ^ НАШЕЙ (ЦЕНЫ
(Бэдэр Юсупова)
Уверенность Бэдэр-ха-
ным в том, что когда-ни-
будь будет создан Баш-
кирский профессиональ-
ный театр драмы, впервые
укрепилась в Стерлитама-
ке, где она создала драм-
кружок. Приход в него
двух старых знакомых —
кураиста Гинията Ушано-
ва и «декламатора сти-
хов» Галимьяна Карамы-
шева, так же преданно,
как она сама, любящих
театр, побудил ее форси-
ровать события. А тут еще
к молодым энтузиастам
подключился скрипач и
композитор Хабибулла
Ибрагимов, и дело пош-
ло! Драмкружковцы ста-
ли выступать с городских
сцен, поставили пьесу
Мухаметши Бурангулова
«Ашкадар», примеривались к другим спектаклям, но...
Можно ли было мечтать о таком грандиозном предприятии,
как профессиональный театр, в голодном двадцать первом
году! И они были вынуждены на время разъехаться
кто куда — лишь бы выжить в тяжелейших условиях голо-
да, разрухи и непрекращающейся политической борьбы.
Подалась в Зианчуринский район и Бэдэр Юсупова, одна-
ко уже через год перебралась в Уфу, где стала работать
Бэдэр Юсупова
364
учительницей. Это была ее основная специальность. В Ор-
ске, закончив за пять лет восьмилетку, она так же уско-
ренно закончила учительские курсы. Но ее больше влеклю
песни, танцы, музыка. В свои неполные семнадцать лет
Бэдэр успела снискать себе славу в городе как певунья
и мастер башкирского танца. А потом появился драматург
Мирхайдар Файзи со своей пьесой «Галиябану» и без оби-
няков заявил, что роль главной героини специально напи-
сал для юной красавицы Бэдэр, чем немало ее удивил.
Но ведь она и предположить не могла, как далеко разнес-
лась ее артистическая слава. Конечно, она согласилась..
Тем более, что пьеса, и сама роль героини ей чрезвычайно
понравились. Она только высказала пожелание: пусть ге-
роиню зовут не Сагида-бану, как было в первом варианте
пьесы, а Галиябану. Автор возражать не стал.
Из письма Мирхайдара Файзи Бэдэр Юсуповой:
«Магибэдэр-ханым! Вы стали первой Галиябану в мо-
ей главной пьесе, которая со временем завоевала весь,
мусульманский мир. Я с радостью и умилением вспоминаю
о том времени, а недавно, побывав в Орске, положил бу-
кет цветов на сцену, на которую вы впервые вышли в этой
роли».
Только в 1926 году Бэдэр Юсупова пришла на сцену
Башкирского театра драмы. А вместе с ней — будущие
корифеи — Гиният Ушанов, Хабибулла Ибрагимов, Га-
лимьян Карамышев; затем — Гималетдин Мингажев, Амин
Зубаиров, Талига Бикташева, Танхылу Рашидова.. Яркая,,
брызжущая светом жизни натура актрисы привлекала
к себе многих деятелей культуры того времени. На спек-
такли с ее участием, или, как сказали бы сейчас, на Бэдэр
Юсупову ходила городская интеллигенция. К ней более
чем благосклонно относился один из самых известных пи-
сателей и драматургов Даут Юлтый, который потряс вооб-
ражение публики историко-психологической драмой «Ка~
рагол». В ней Бэдэр Ахметовна сыграла роль Елизаветы
Петровны. В другой пьесе драматурга — «Салават» — Бэ-
дэр-ханым неожиданно пришлось сыграть роль матери ге-
роя, а в «Мактымхылу» — роль Куйбики, которая стала
одной из самых любимых ее героинь. Она выступала здесь
как башкирская «русалка», вынырнувшая из фольклор-
ного озера, в котором выросла с детства. Пела, читала ку-
баиры, плясала, импровизировала. Она буквально потря-
сала зрителей своей щедрой одаренностью, выплескивая
наружу все эти сверкающие сокровища своего божествен-
ного дарования. И так было не только в спектаклях, пос-
тавленных по пьесам, выросших на основе народного твор-
36&
чества, но и почти во всех других, далеких от фольклора.
А таких ролей у нее было немало: Кручинина в «Без
вины виноватых», Эмилия в «Отелло», леди Мельфрод
в «Коварстве и любви»... Разные роли, и по характеру, и
по внутреннему содержанию. Но именно это особенно
рельефно подчеркивает многосторонность ее таланта, без-
граничность творческих возможностей.
Ролей и любимых пьес у нее было немало. Но Бэдэр
всегда с особой нежностью вспоминала первую из них —
Галиябану. Это была социальная мелодрама, удивительно
сильно внедрившаяся не только в сознание и души людей
того времени, но и в их жизнь. Халиль и Галиябану, эти
современные Ромео и Джульетта, стали как бы спутни-
ками жизни каждого, кто видел спектакль, а их песни бы-
ли очень популярными в каждой семье. Более того, пьеса
джигита из аула Кукшель, что неподалеку от Орска, на
долгие годы прочно вошла в репертуар разных театров.
Очень любима она и сегодня. И это уже безусловный фе-
номен и самой пьесы, и ее автора, который позднее пере-
ехал в Баймак, работал там для местного театра и умер
9 июля 1928 года в возрасте все тех же роковых тридцати
семи лет.
В свое время Файзи Адгамович Гаскаров рассказывал
мне, что в становлении его как постановщика народных
танцев немалую роль сыграла именно Бэдэр-ханым. «Уви-
дев ее однажды в «Мактымхылу», — рассказывал он, — я
буквально обалдел. Она и пела, и танцевала, и импрови-
зировала... И все настолько ярко, непосредственно и мас-
терски, что зрители то и дело награждали артистку горя-
чими аплодисментами. Вот тогда я поверил, что мне
нетрудно будет отыскать талантливых танцоров для сво-
его будущего ансамбля. Если есть Бэдэр, значит, есть и
другие, подобные ей», — закончил он свой рассказ.
Бэдэр Ахметовна великолепно читала стихи. Слушатель
как бы становился сокровенным другом чтеца, который
вверяет ему свои сокровенные тайны.
Что могли сделать артисты драмтеатра, чтобы «внести
свой вклад в дело победы», как тогда выражались? Ко-
нечно же, ставить патриотические спектакли. А в свобод-
ное время выезжать на фронт, выступать перед ранеными
в госпиталях. И неугомонная Бэдэр Юсупова во всем бы-
ла заводилой и организатором. Уже в начале 1943 года
Башкирский театр начал готовить постановку пьесы Лео-
нида Леонова «Нашествие», написанную всего годом
раньше. В считанные дни она была переведена на башкир-
ский язык и прямо из-под пера переводчика переправлена
Збб
в театр. Бэдэр Ахметовна выбрала для себя, казалось бы,
скромную роль Демидьевны, которую автор обозначил как
«свой человек в доме». Но выбор был сделан актрисой
отнюдь неспроста. Ведь именно устами женщины из на-
рода, прямой и открытой, изрекаются те непреходящие
истины, которые не вложишь ни в чьи иные уста. Она кос-
терит и немцев, и предателей типа Фаюнина, и может
хлестким словом задеть отступающих красных командиров.
А перед тем, осенью сорок второго года, Бэдэр Ахме-
товна в составе правительственной делегации едет к бой-
цам Башкирской кавалерийской дивизии генерала Шай-
муратова. В ее архиве сохранилось немало отлично выпол-
ненных во фронтовых условиях фотографий, где она снята
вместе с самим командиром дивизии и командирами пол-
ков. По возвращении в Уфу актриса тотчас берется за
роль Елены Кошевой в пьесе «Батырдар» («Герои») по
роману Фадеева «Молодая гвардия». Нынешние ветераны
вспоминают, что подобные пьесы в годы войны придавали
людям уверенность и силу, помогали жить, преодолевать
жизненные трудности, легче переносить боль утрат. Бэдэр
Юсупова обладала глубоким знанием реальной жизни,
народного творчества. Она любила детей, и они отвечали
ей искренней взаимностью; она обожала друзей, и они бы-
ли верны ей. В течение почти всей жизни она вела днев-
ник. Правда, урывками, иногда перескакивая через меся-
цы и годы, заносила свои мысли, впечатления от постав-
ленного спектакля, прочитанной книги, от знакомства с но-
вым человеком. Теперь эти дневники вместе со многими
личными вещами актрисы хранятся в Башкирском пар-
тийном архиве. Именно туда могут обращаться любители
театра и профессиональные театроведы-исследователи, ко-
торые хотели бы побольше узнать о прошлом любимого
театра и о легендарных его артистах. А таких в Башкир-
ском академическом было немало. Каждое имя — история,
символ, память! И среди них на золотом троне первоос-
нователей восседает девушка из города Орска, ставшая
народной артисткой Башкортостана и заслуженной артист-
кой Российской Федерации — Бэдэр Юсупова!
СОДЕРЖАНИЕ
Белый сокол башкирской поэзии 3
Прерванная молитва 37
Узник таланта 71
Цена земли и слова 88
Непокорное одиночество научного Робинзона 100
Архимедова точка опоры Гаскарова 145
Великан башкирской сцены 174
Хозяин своей судьбы 191
Человек у холста 215
Два взгляда абстрактных на мир 236
Великое сердце изгоя 247
Друзья и враги Салавата 267
Темна душа каина . . . , 288
Тиссагеты, массагеты, башкорды 306
Дух ариев я чувствую душой 322
Древняя тайна земли — Бурзян 339
Первая Галиябану нашей сцены 364
Художественно-публицистическое издание
ШАФИКОВ Газим Газизович
ДЫХАНИЕ ЖГУЧЕЕ ИСТОРИИ
Заведующий редакцией 3. К. Ханова
Редактор Л. О, Хаирова
Художник И. С. Файрушин
Фотограф Р. М. Гареев
Художественный редактор Р. М. Рамазанов
Технический редактор 3. Г. Чингизова
Корректоры О. И. Каюмова, А. В. Ниязова
ИБ № 5635
Сдано в набор 01.04.97. Подписано к печати 17.10.97. Формат бумаги 84хЮ87з2.
Бумага офсетная №1 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Услови. печ.
л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,32. Учетн. издат. л. 19,6. Тираж 5000 экз. Заказ № 415.
Цена свободная.
Башкирское издательство «Китап». 450001, Уфа, ул. Левченко, 4а.
Уфимский полиграфкомбинат. 450001, Уфа, проспект Октября, 2.