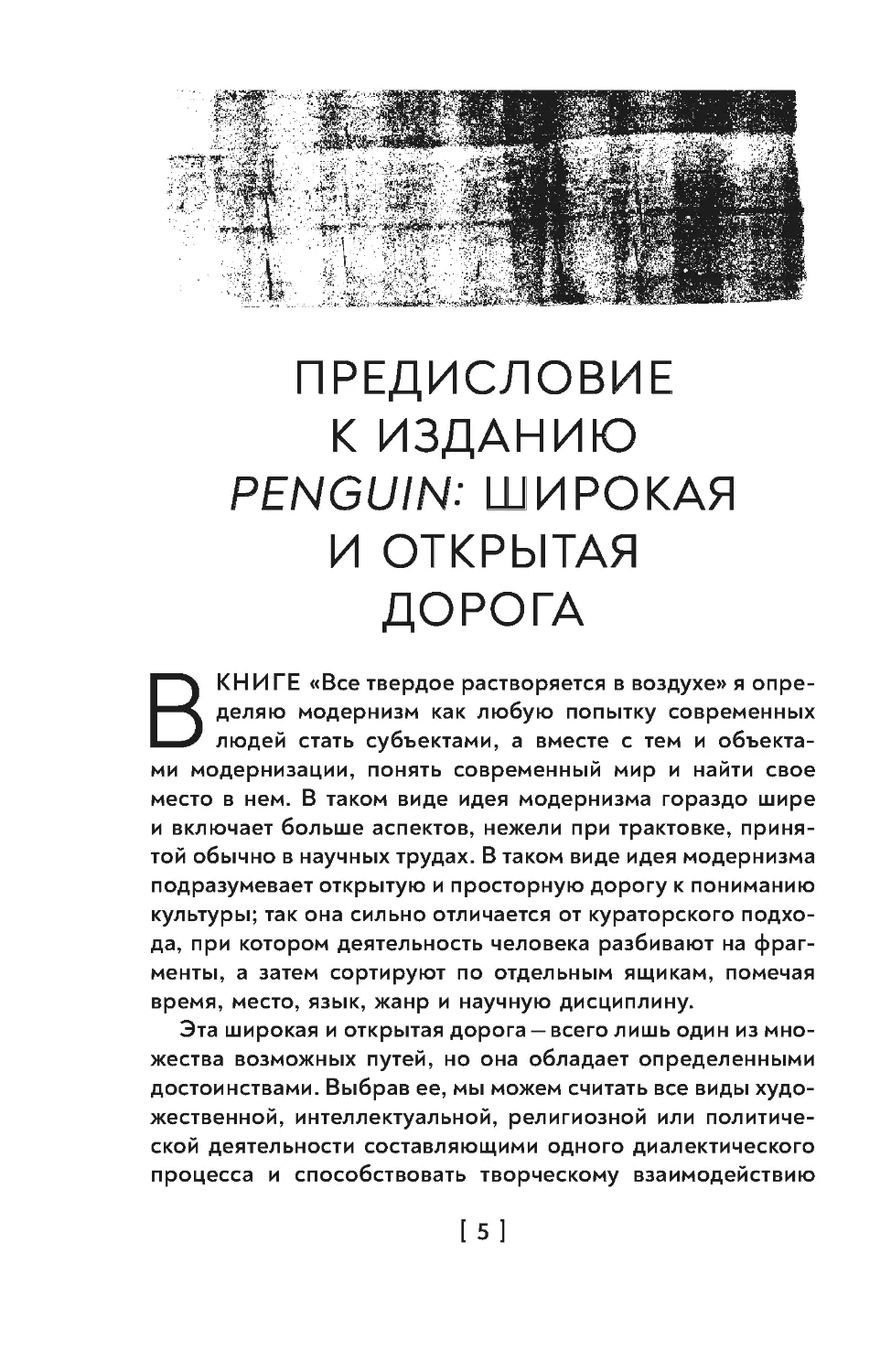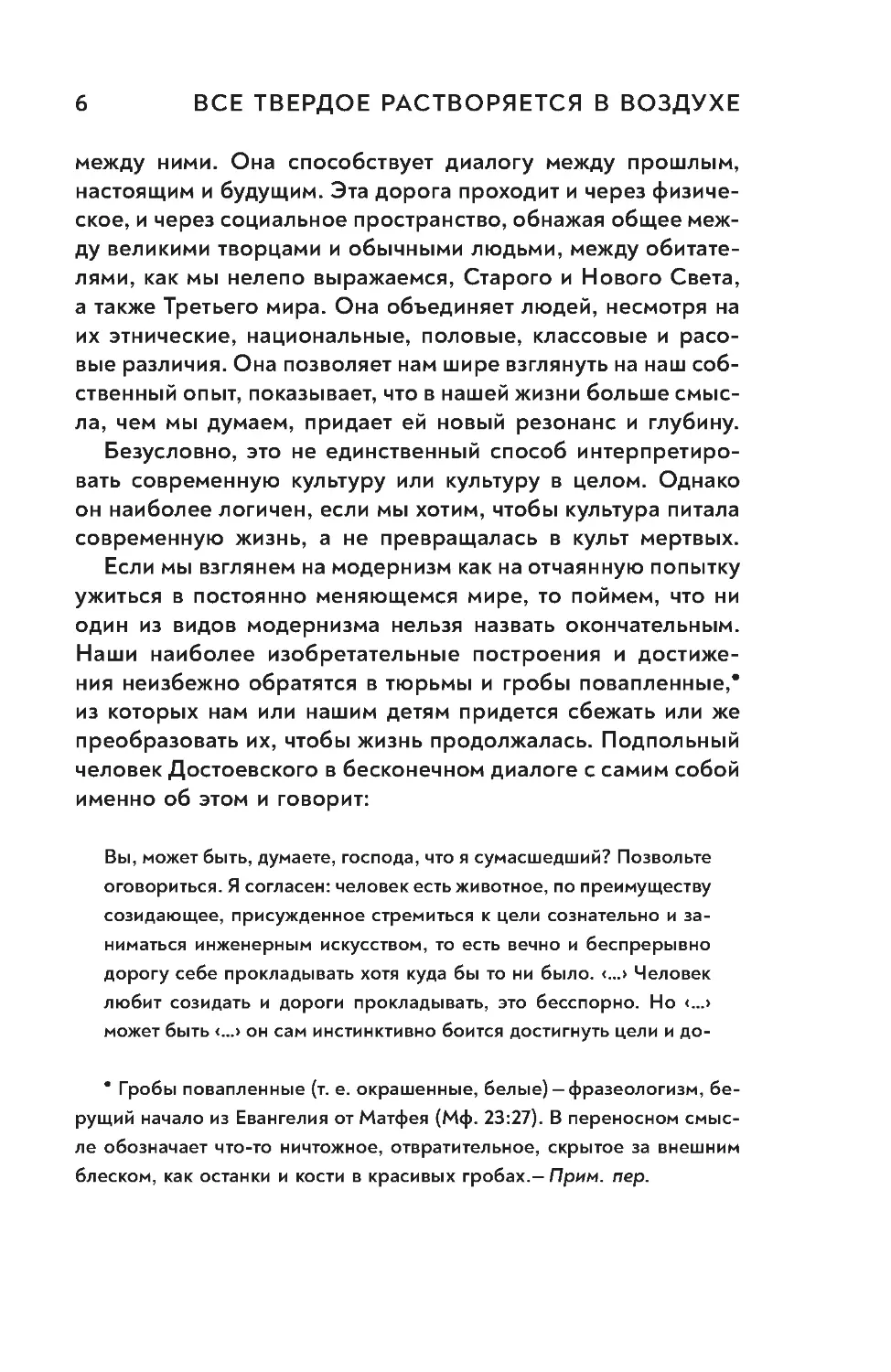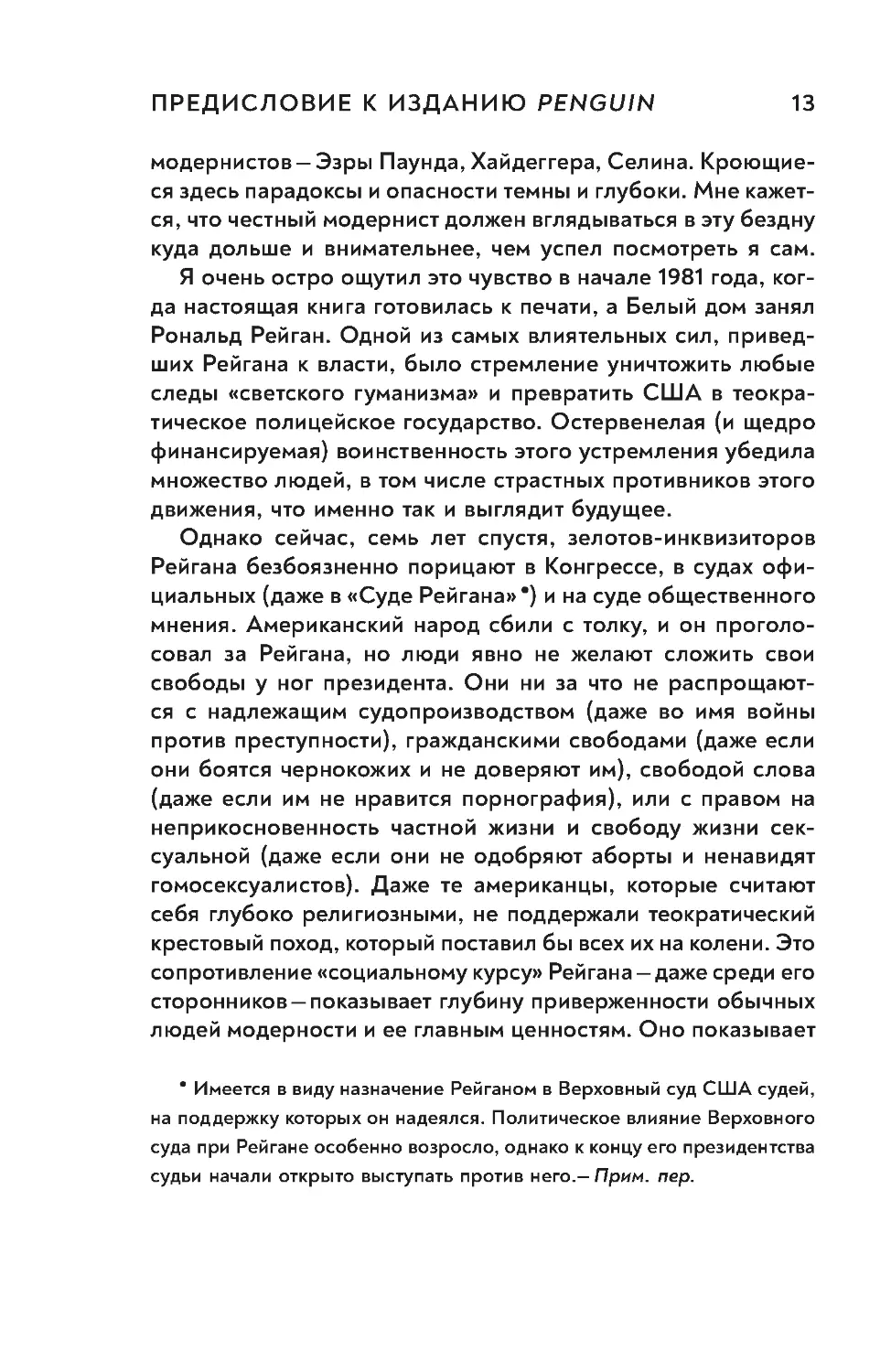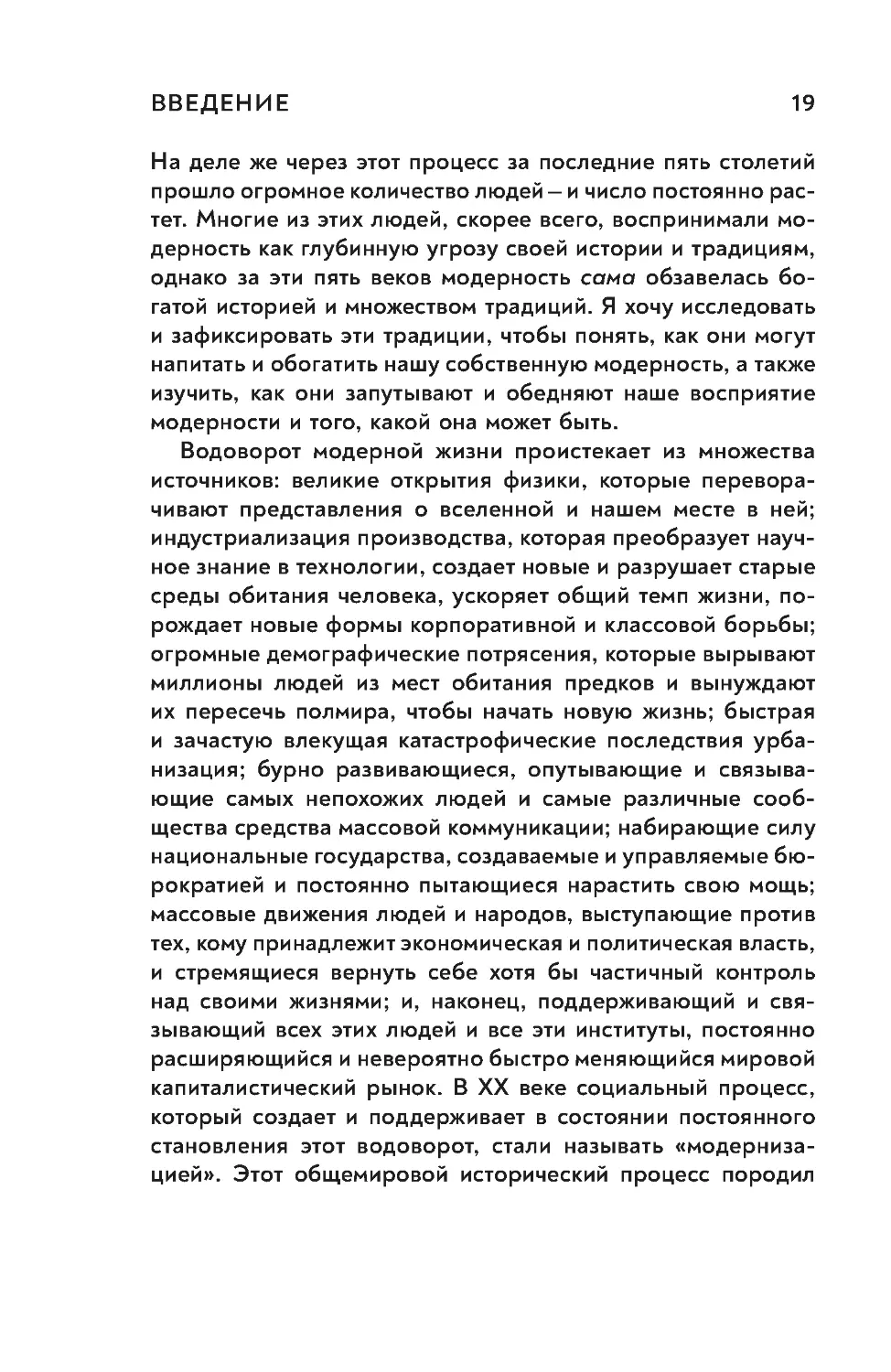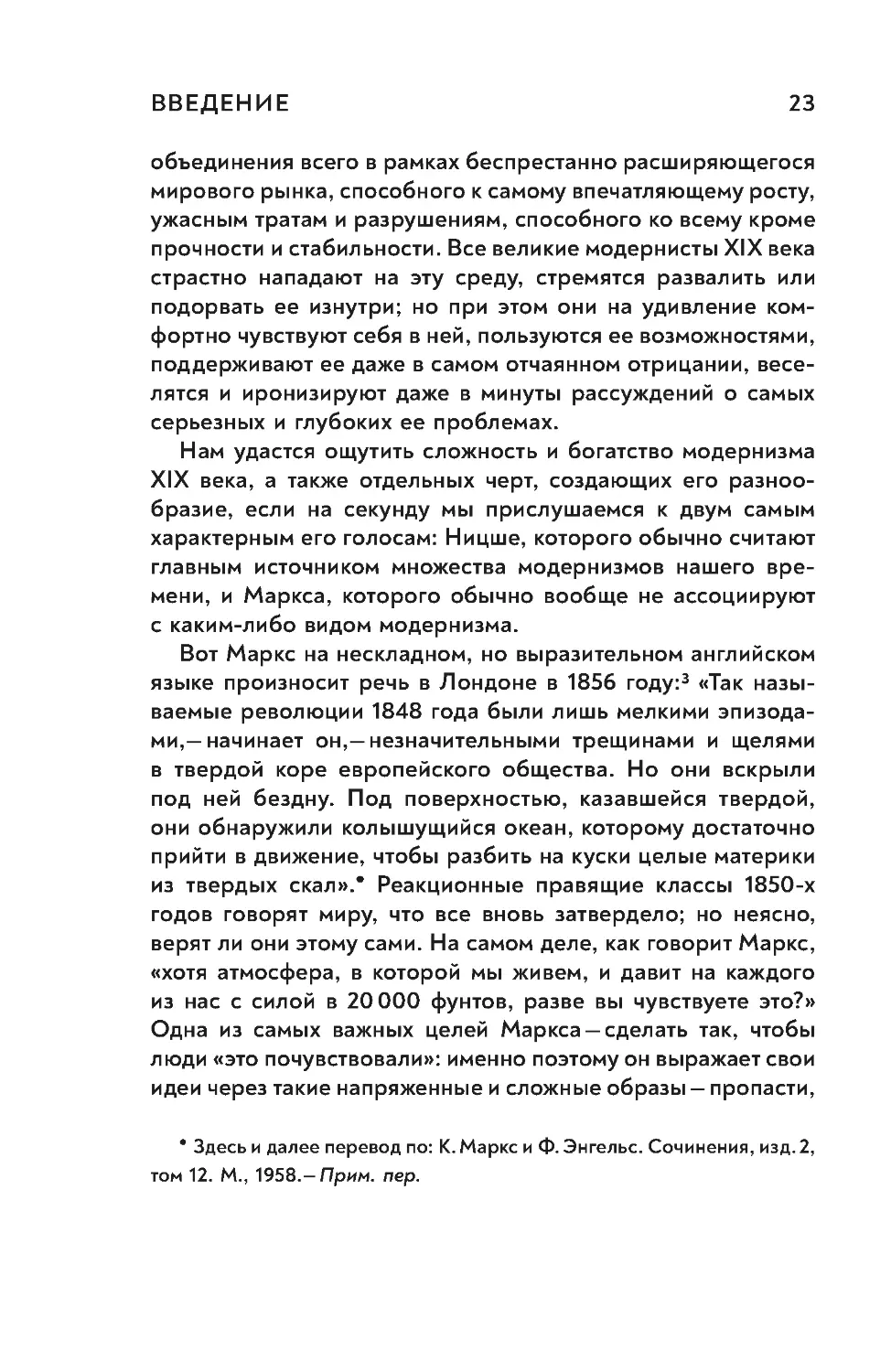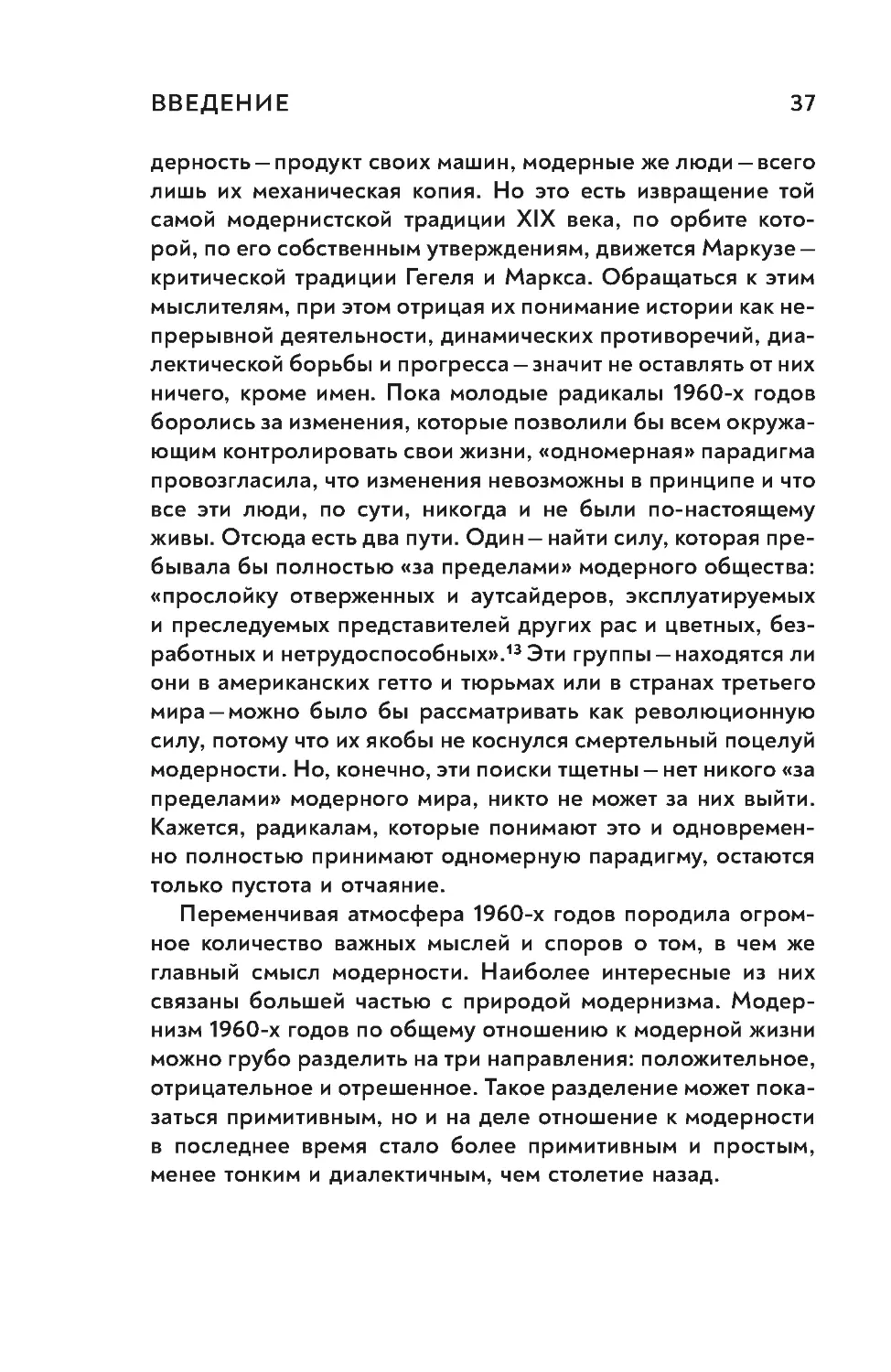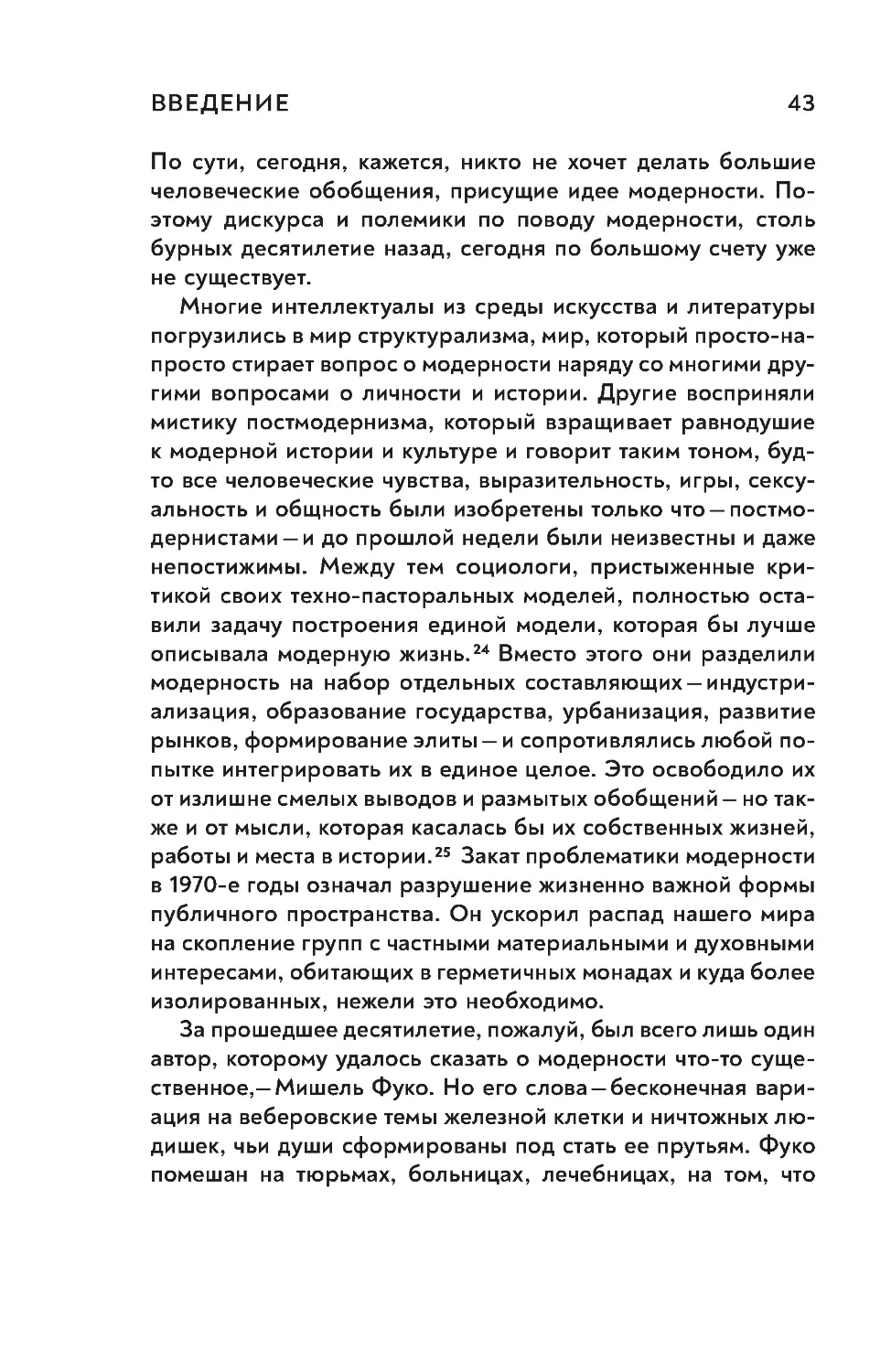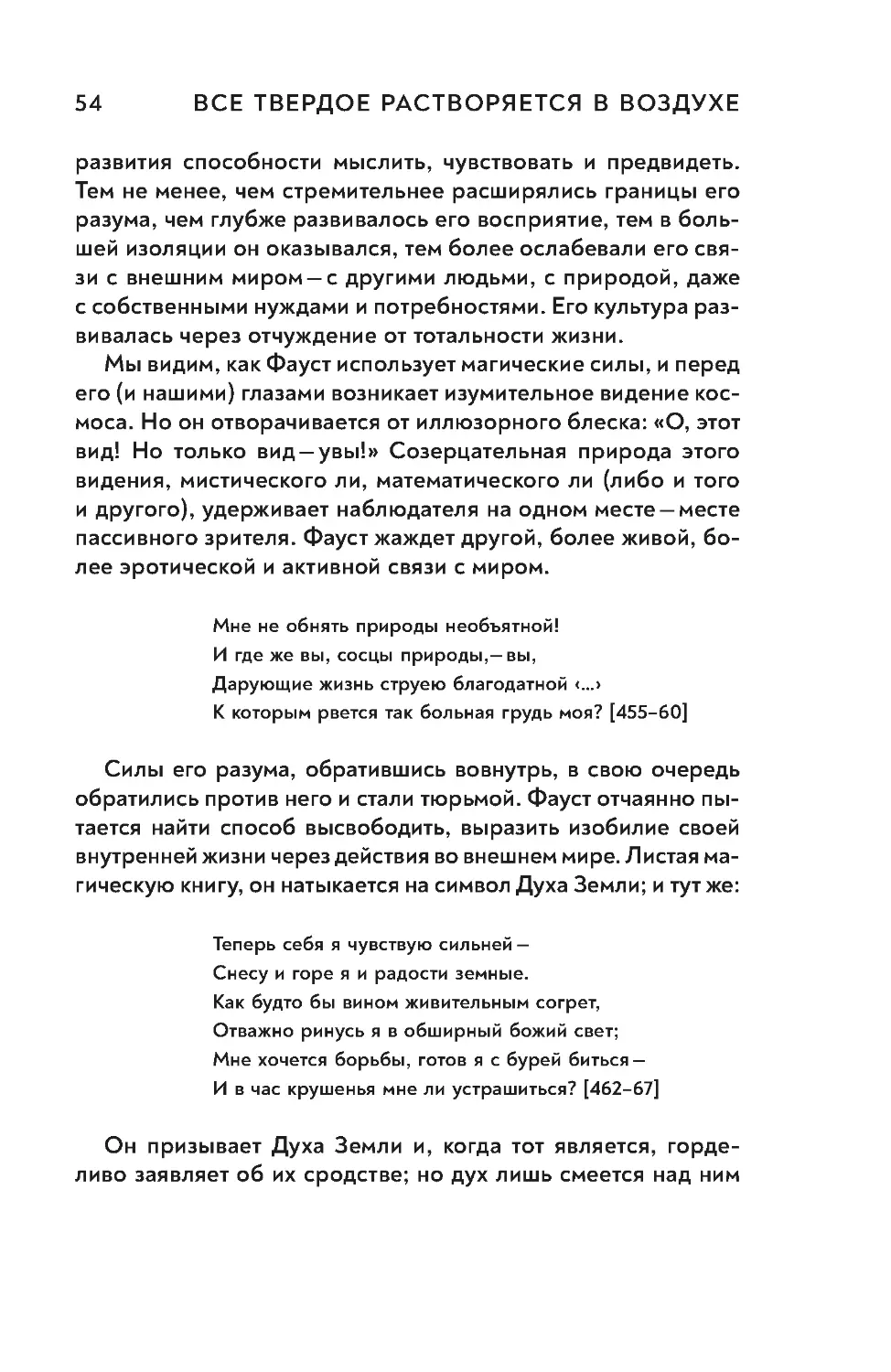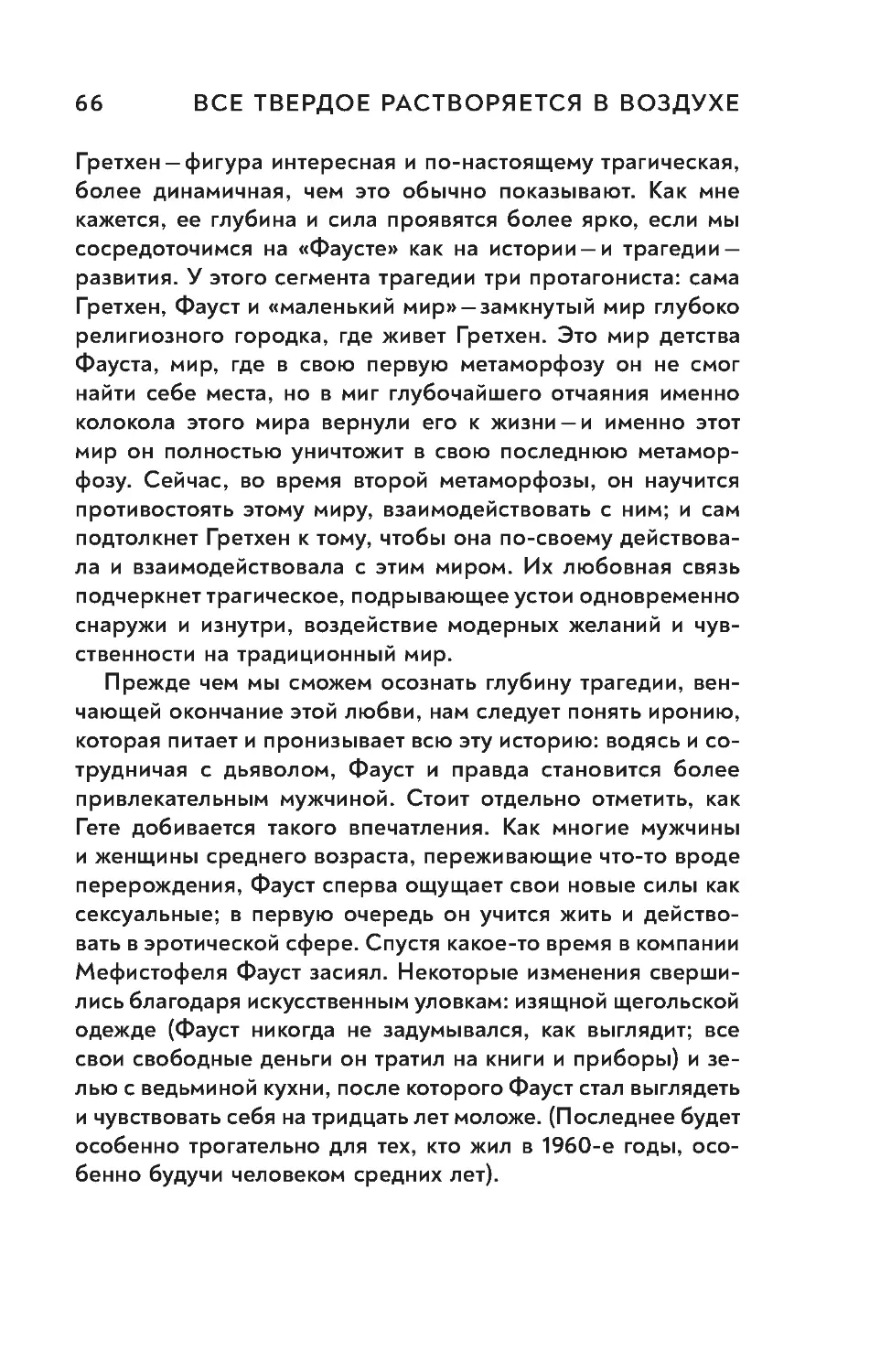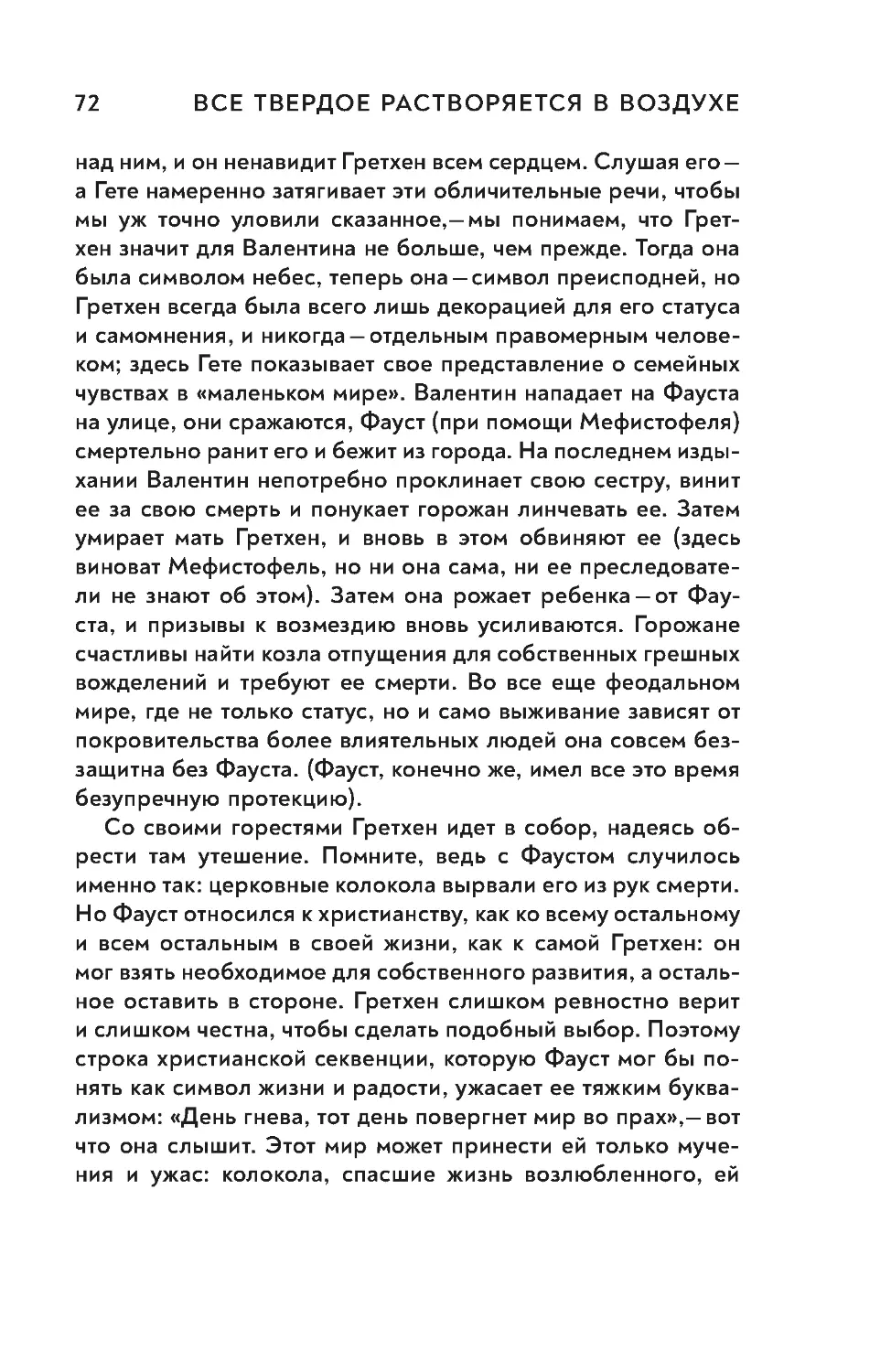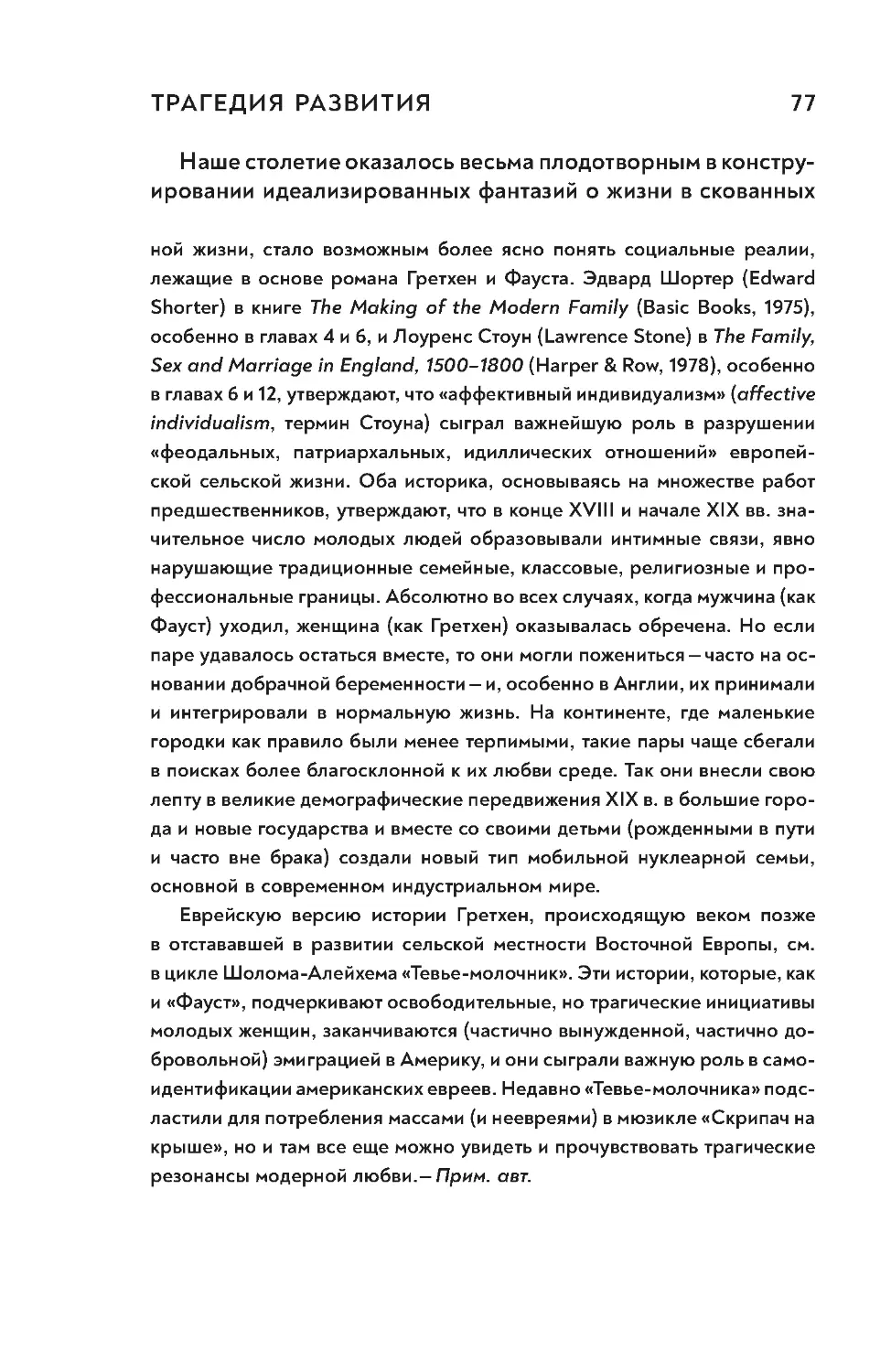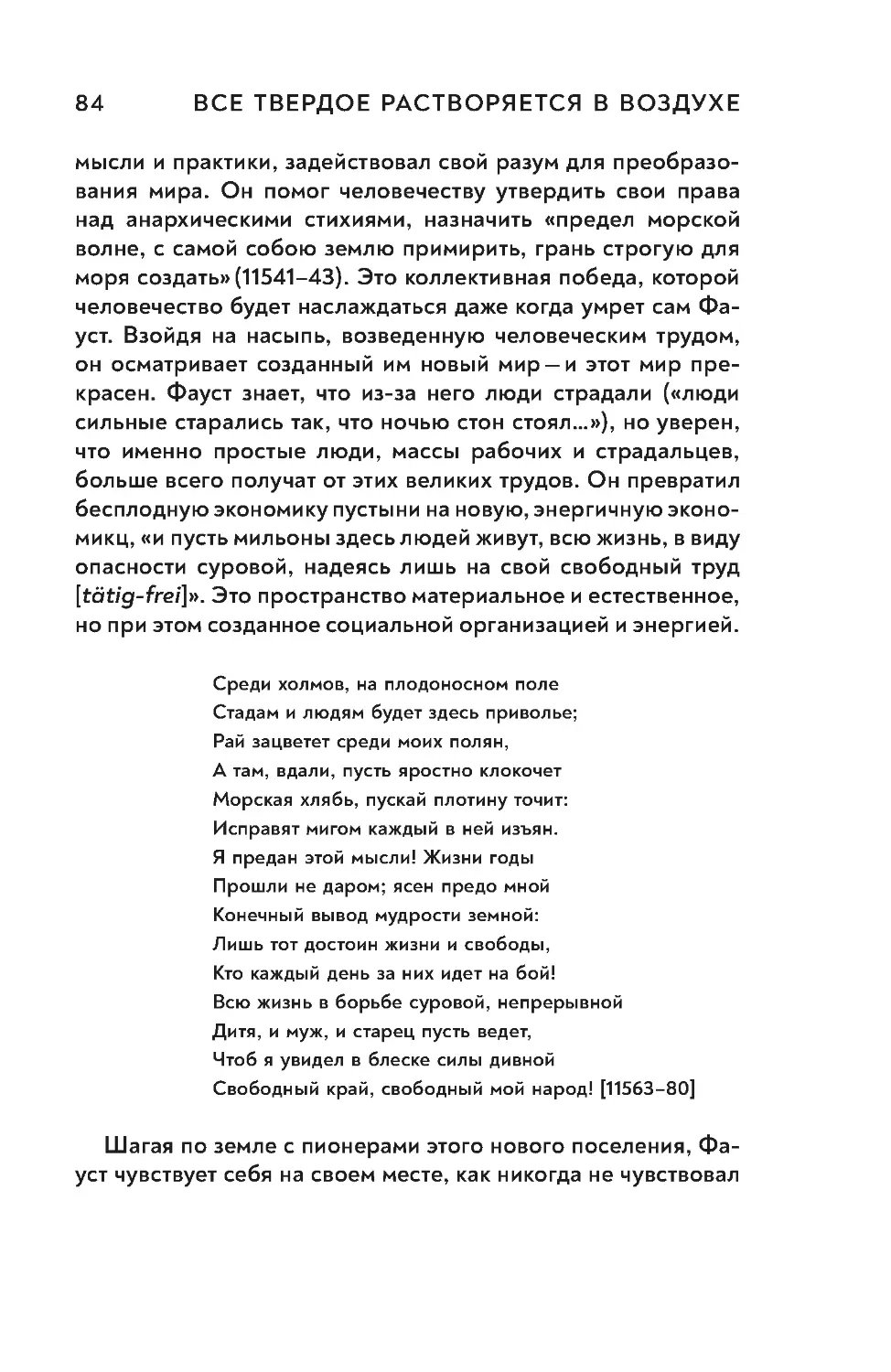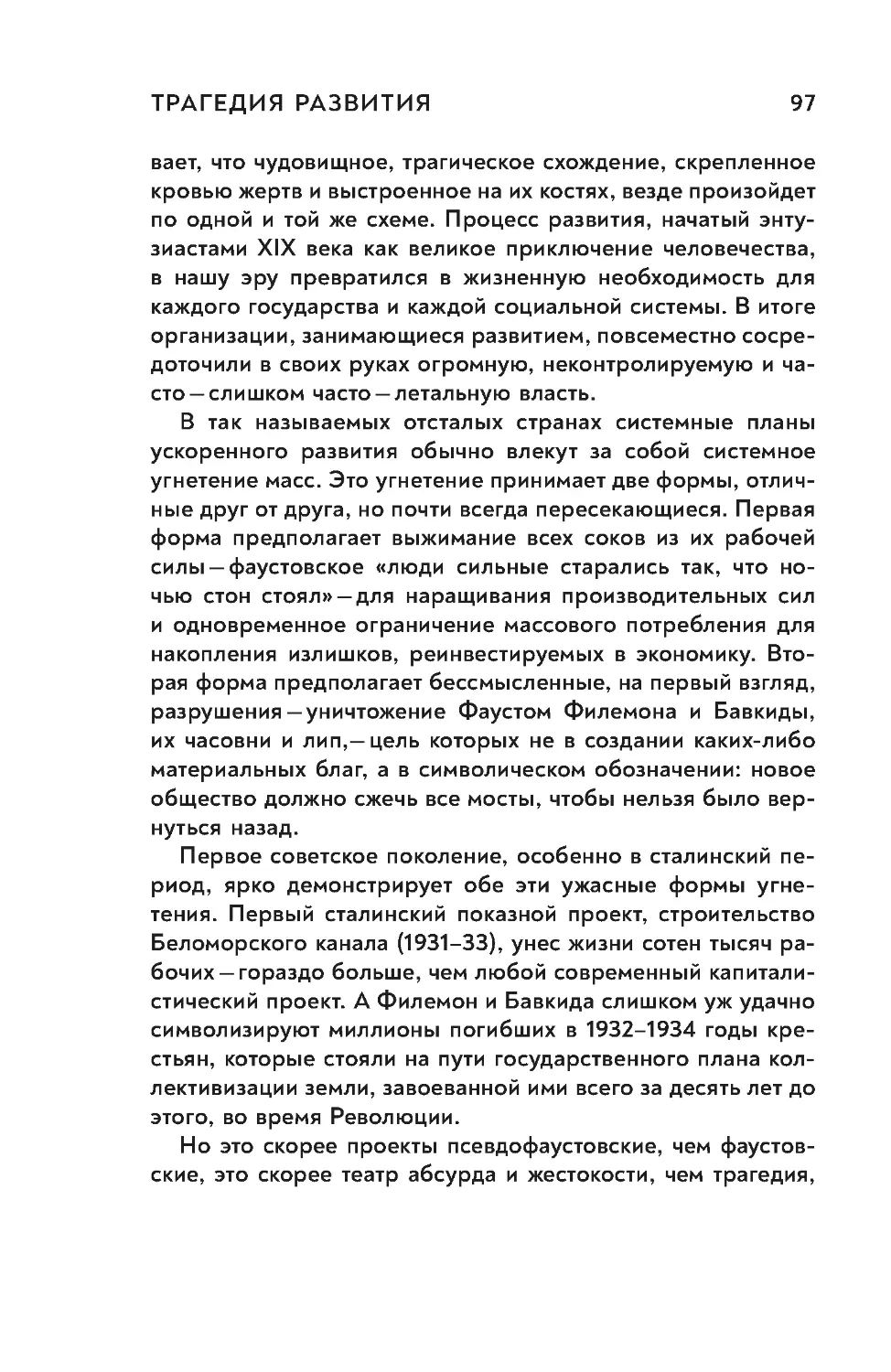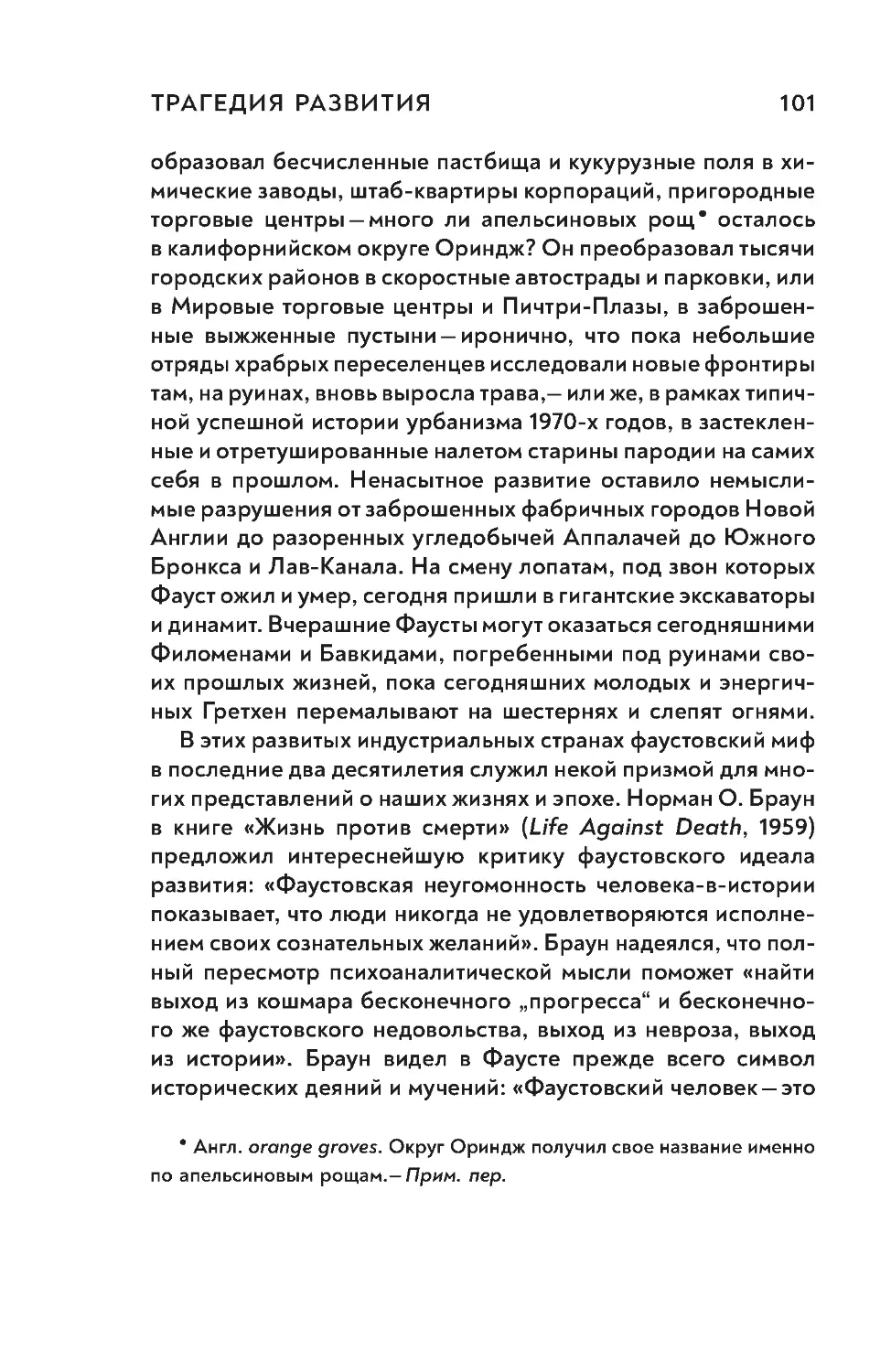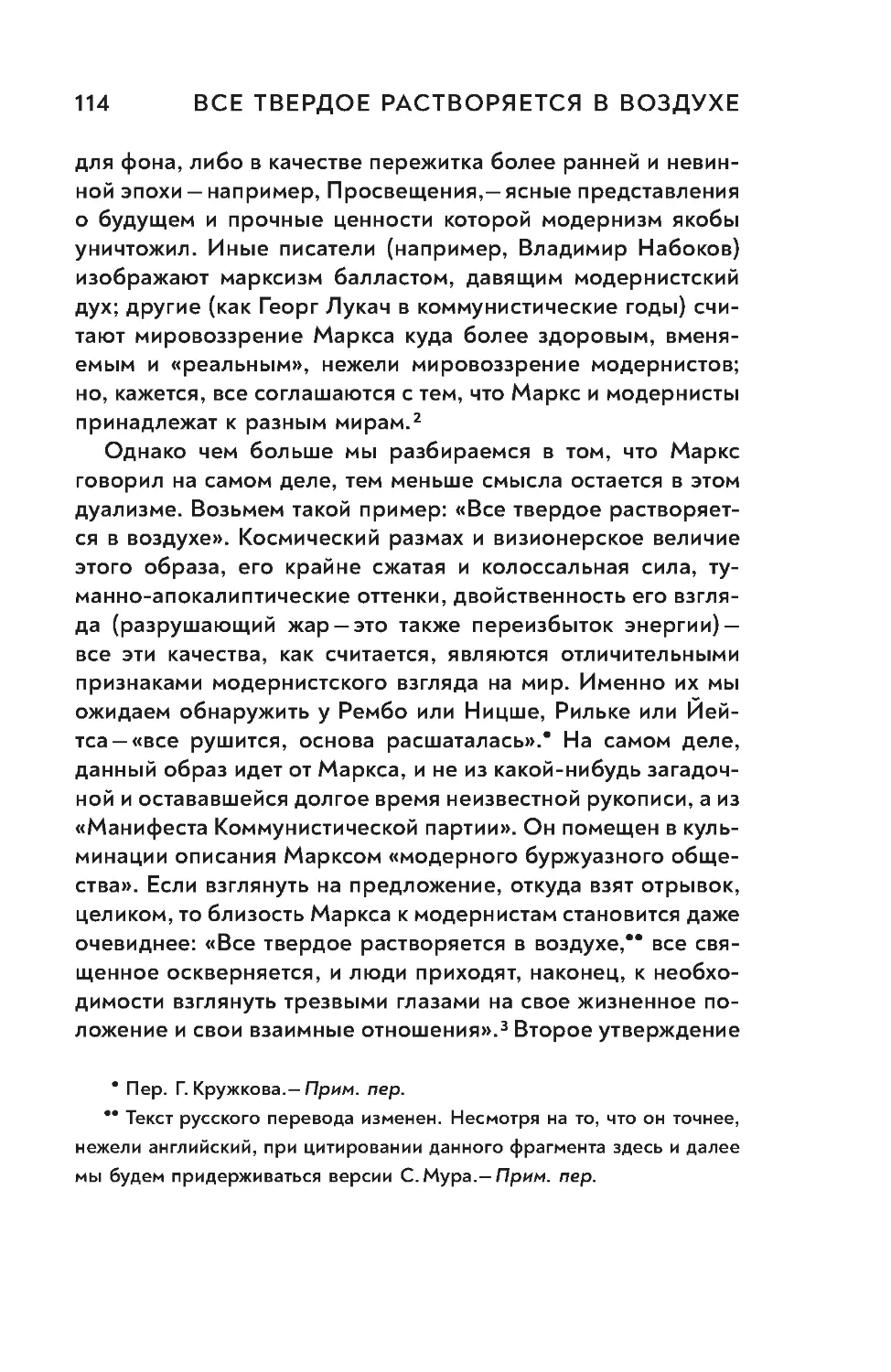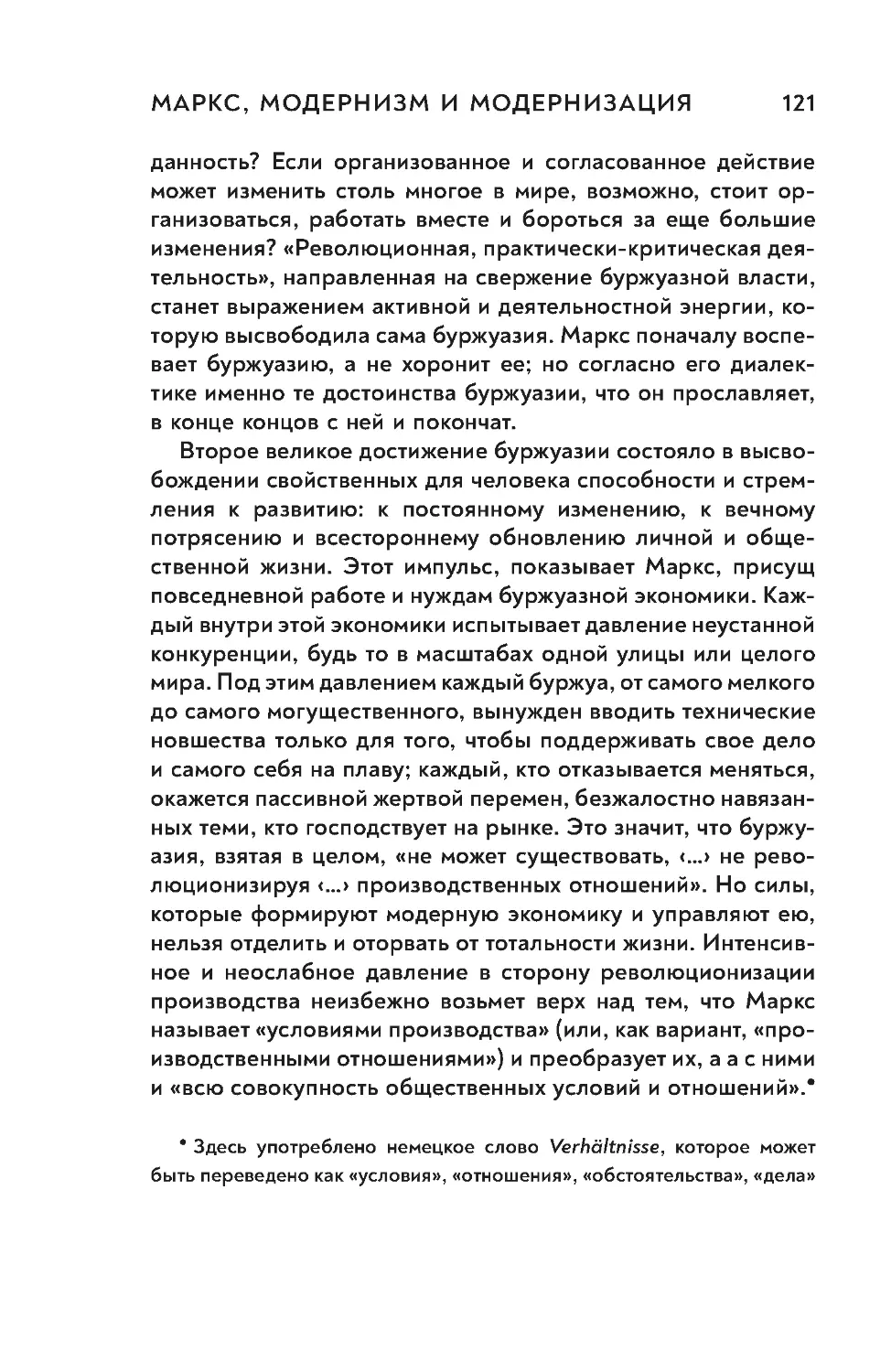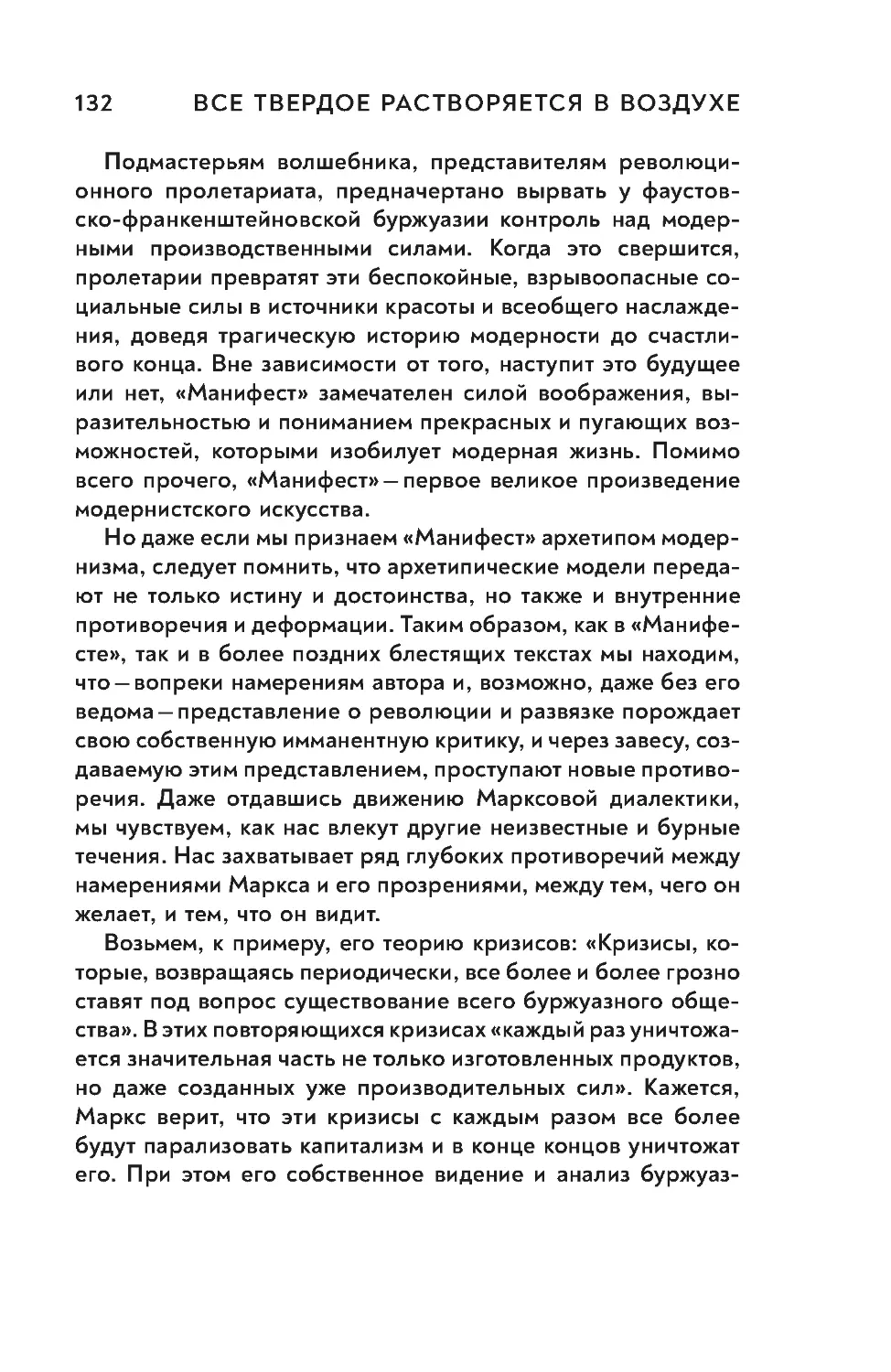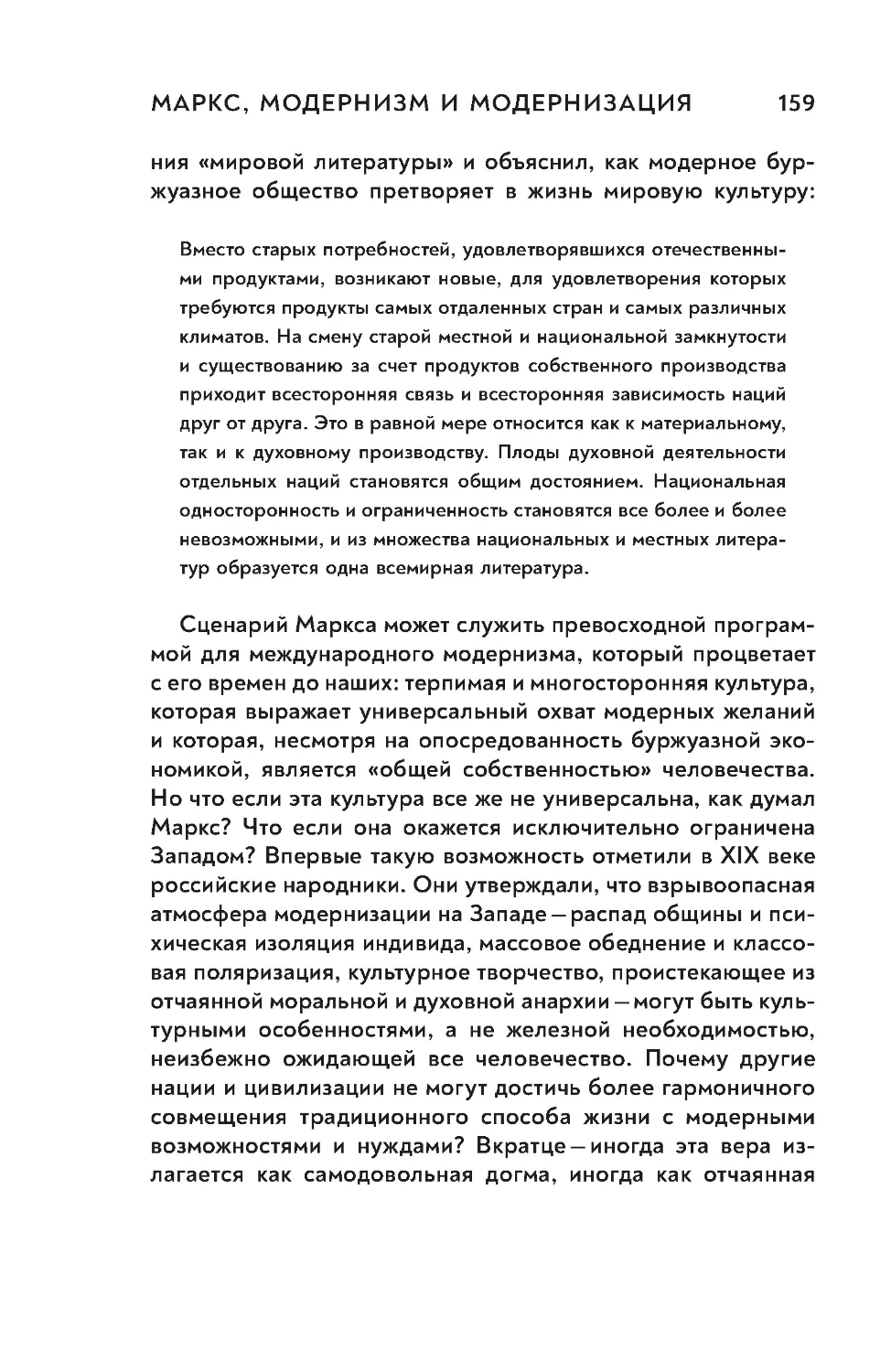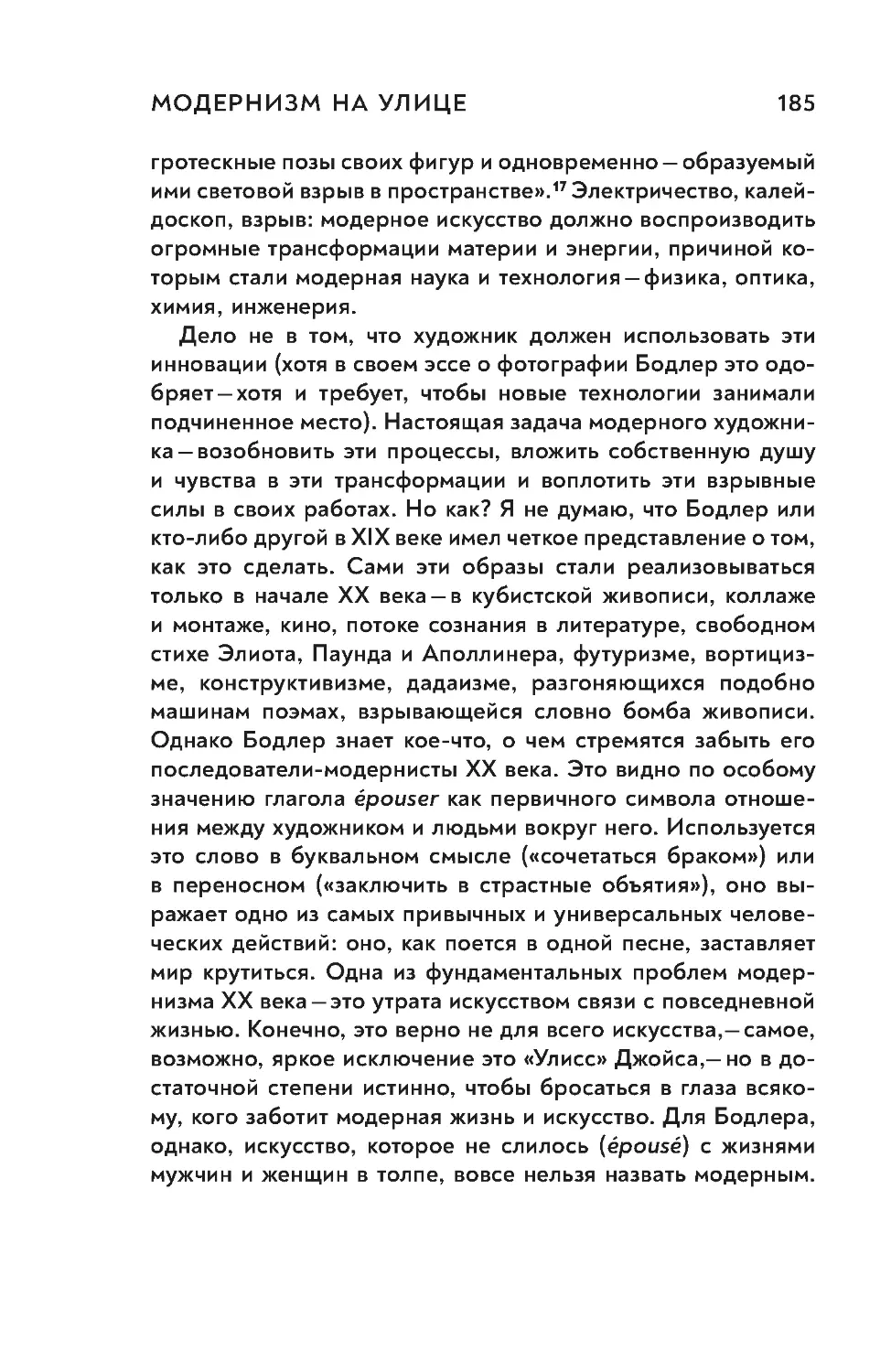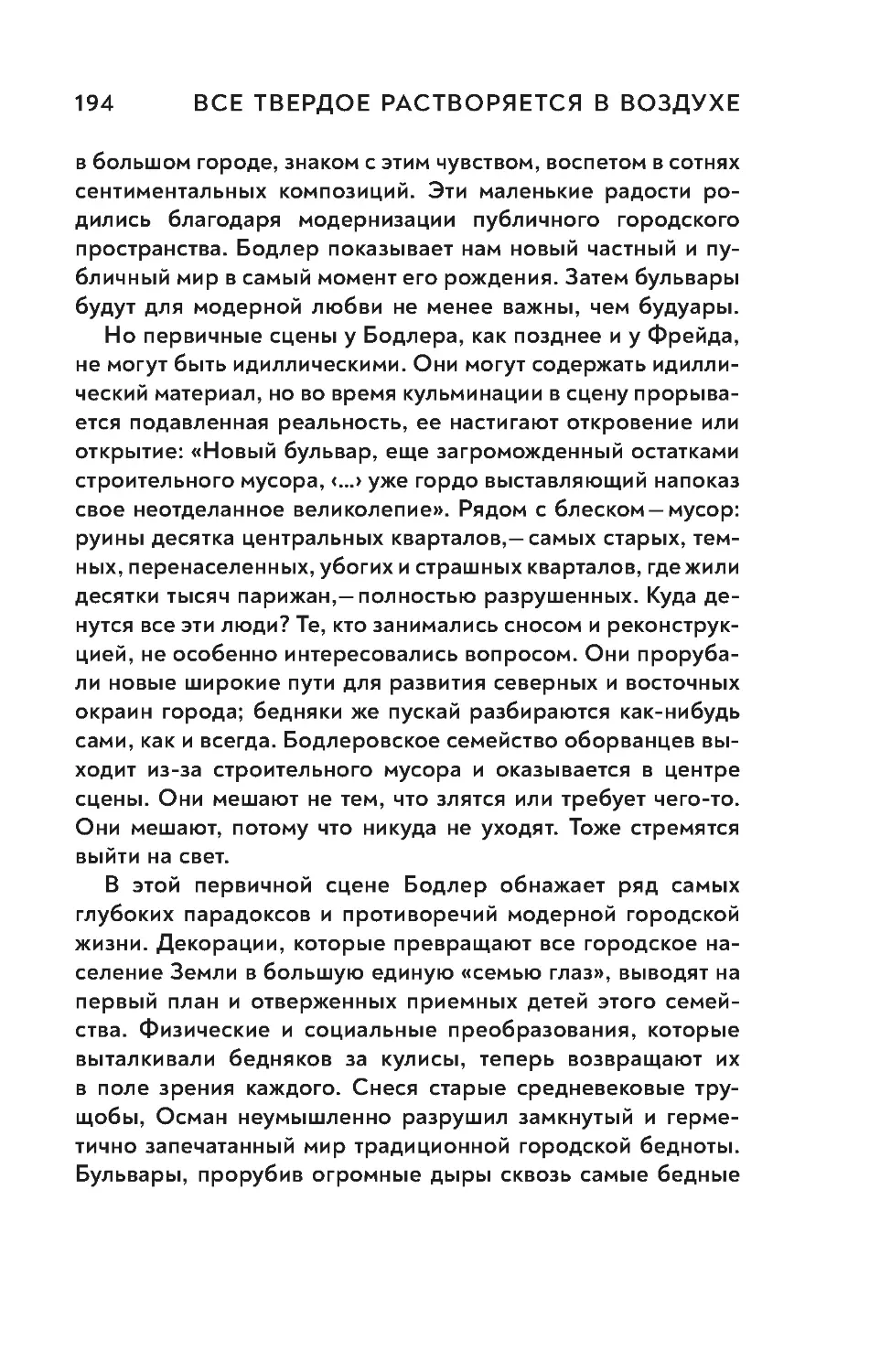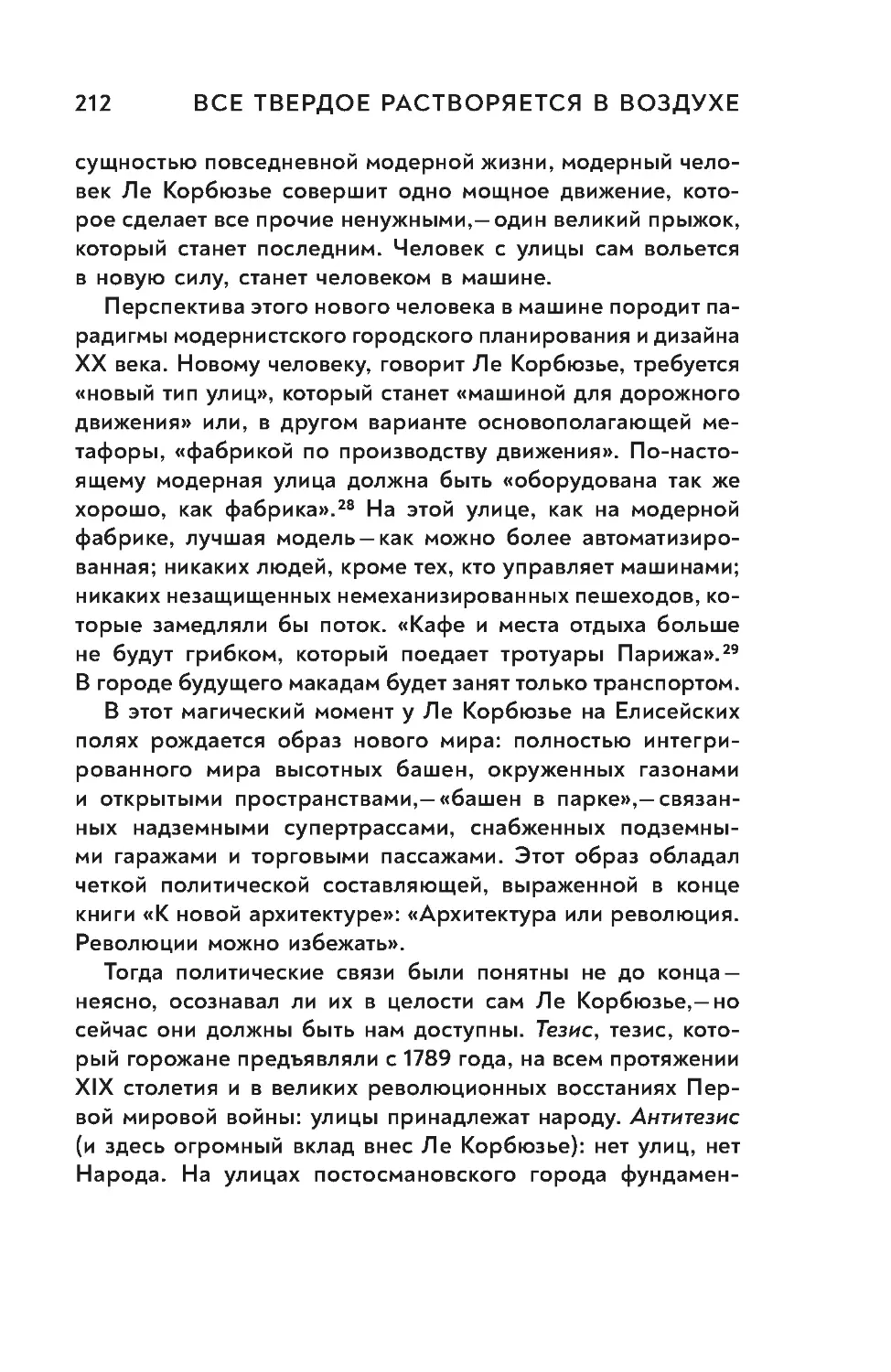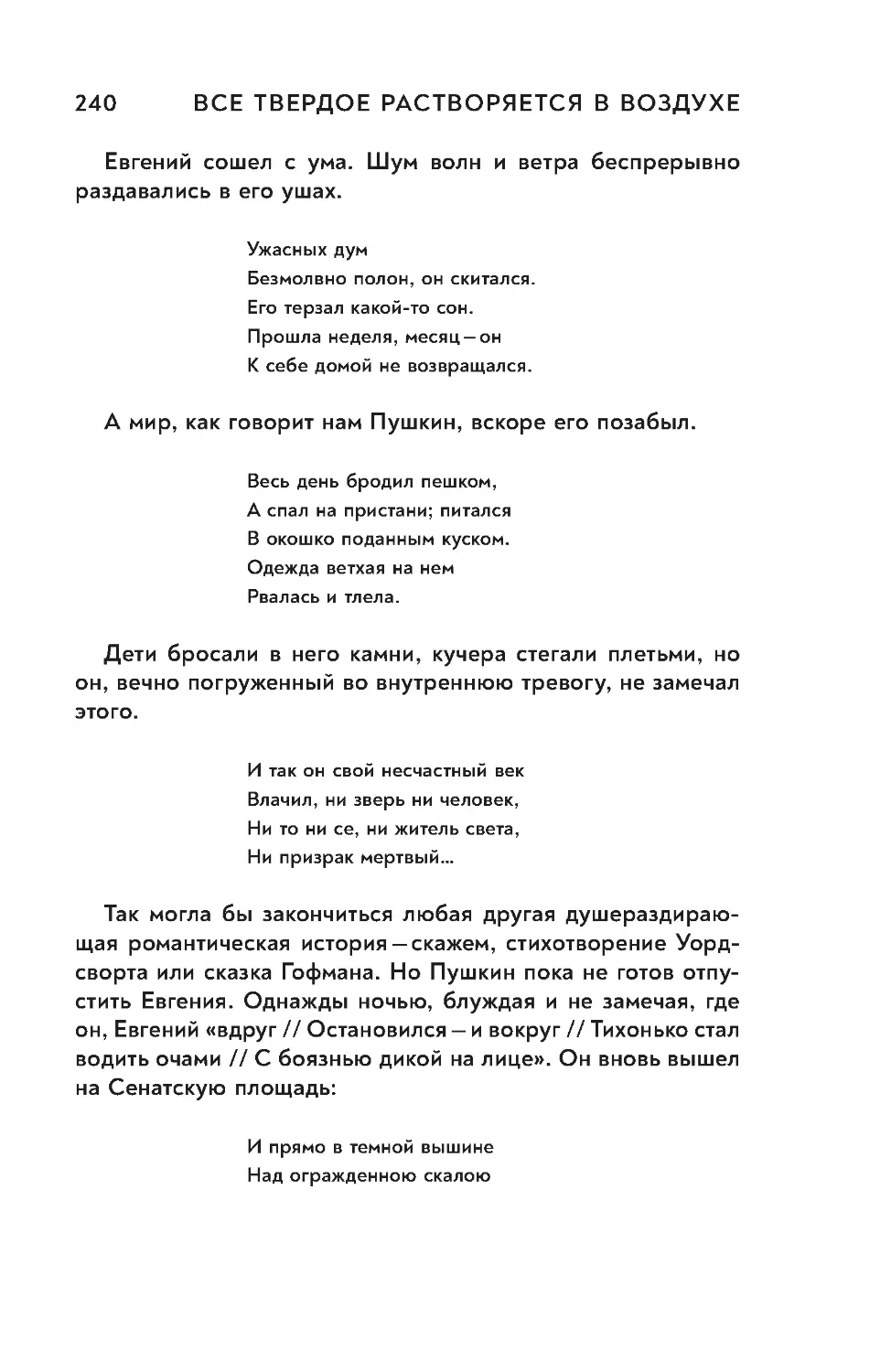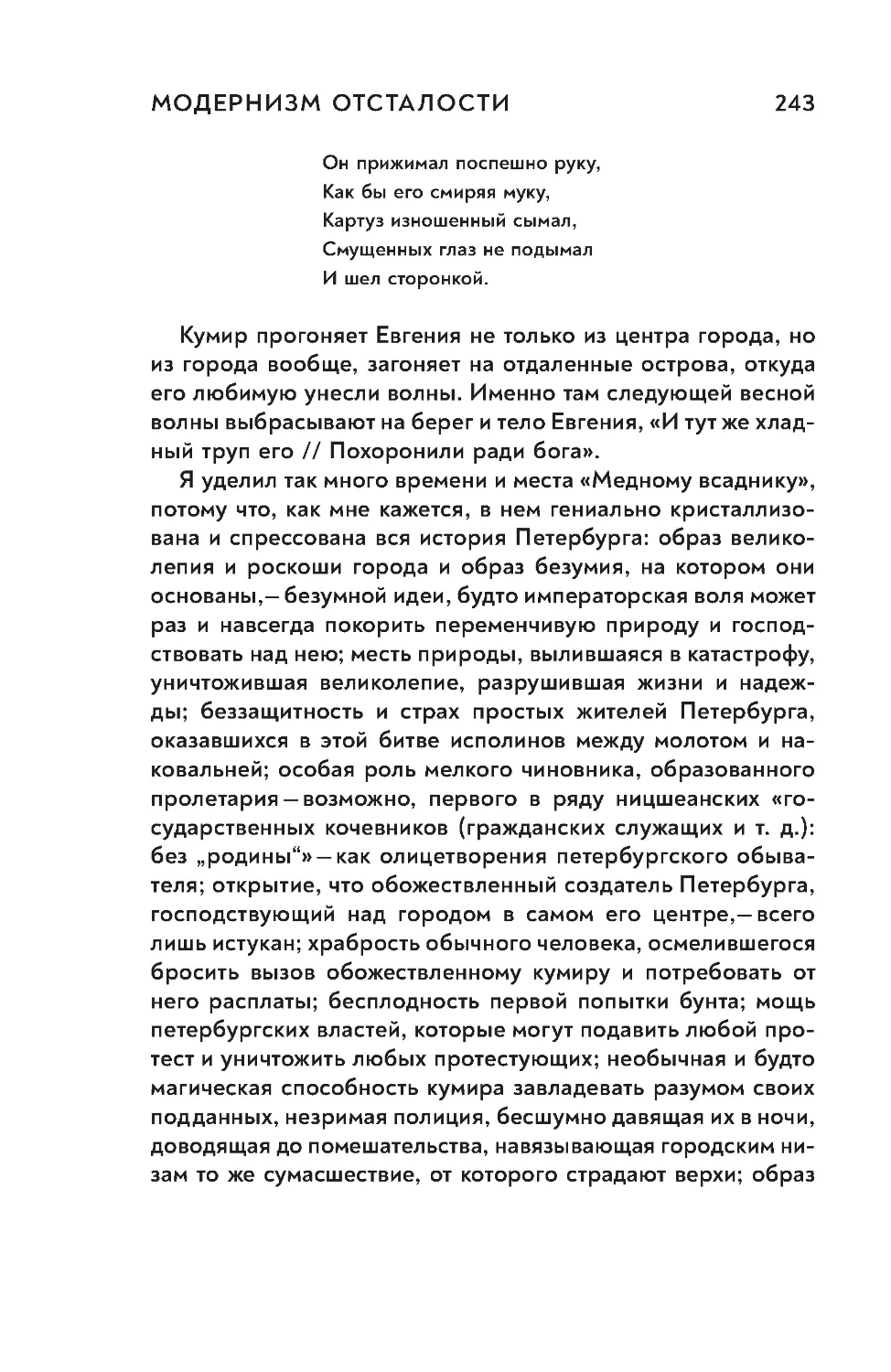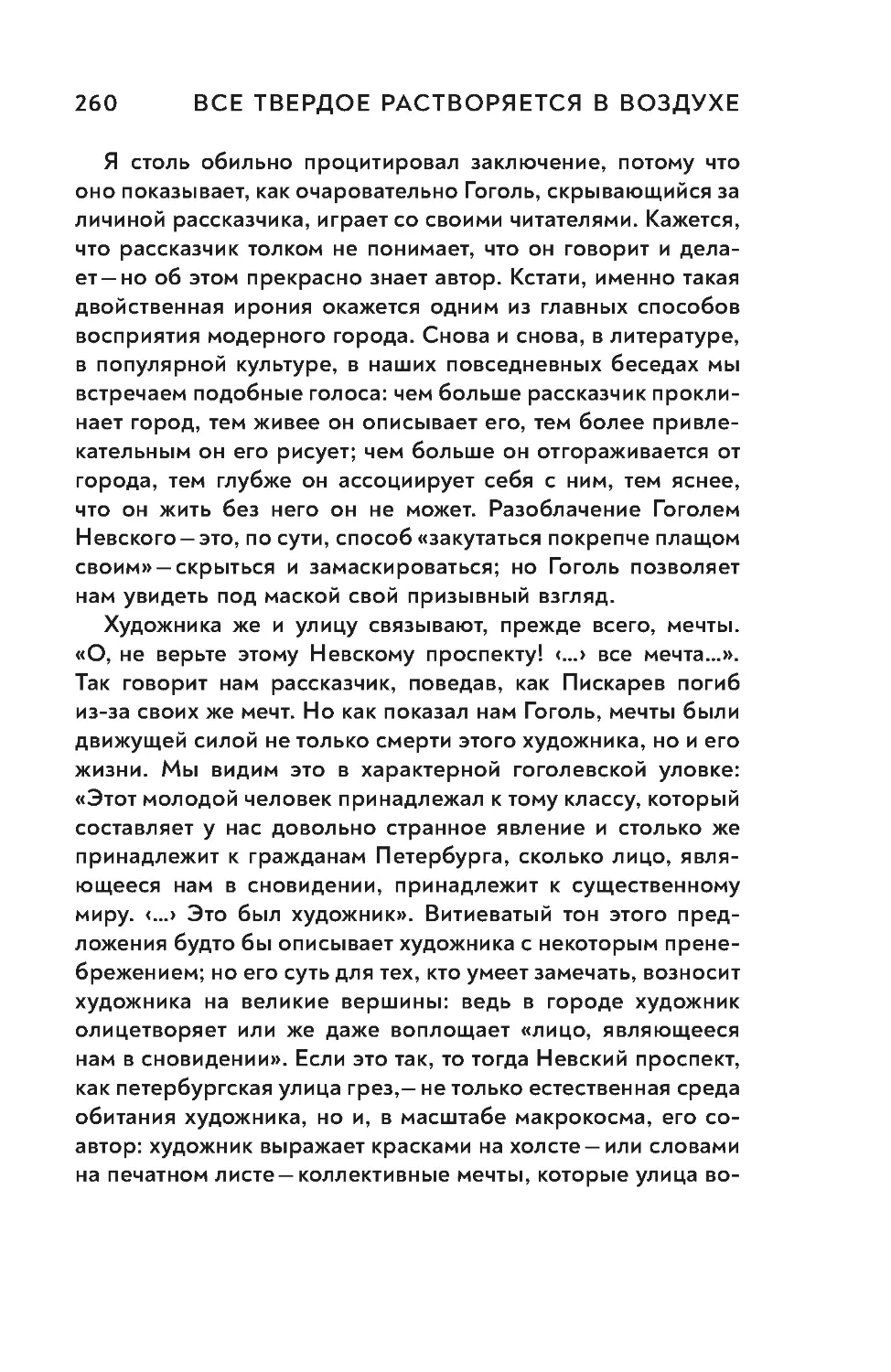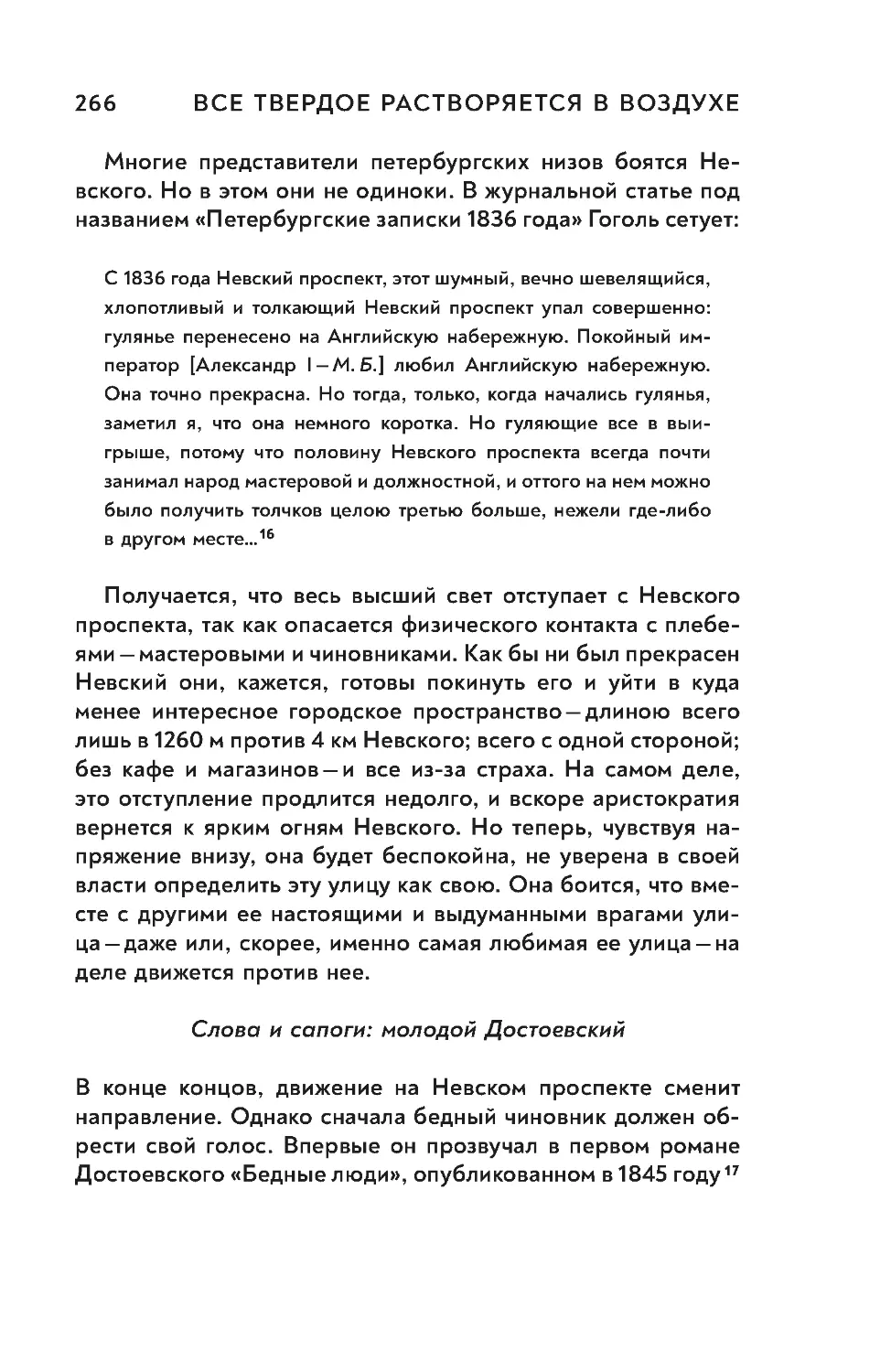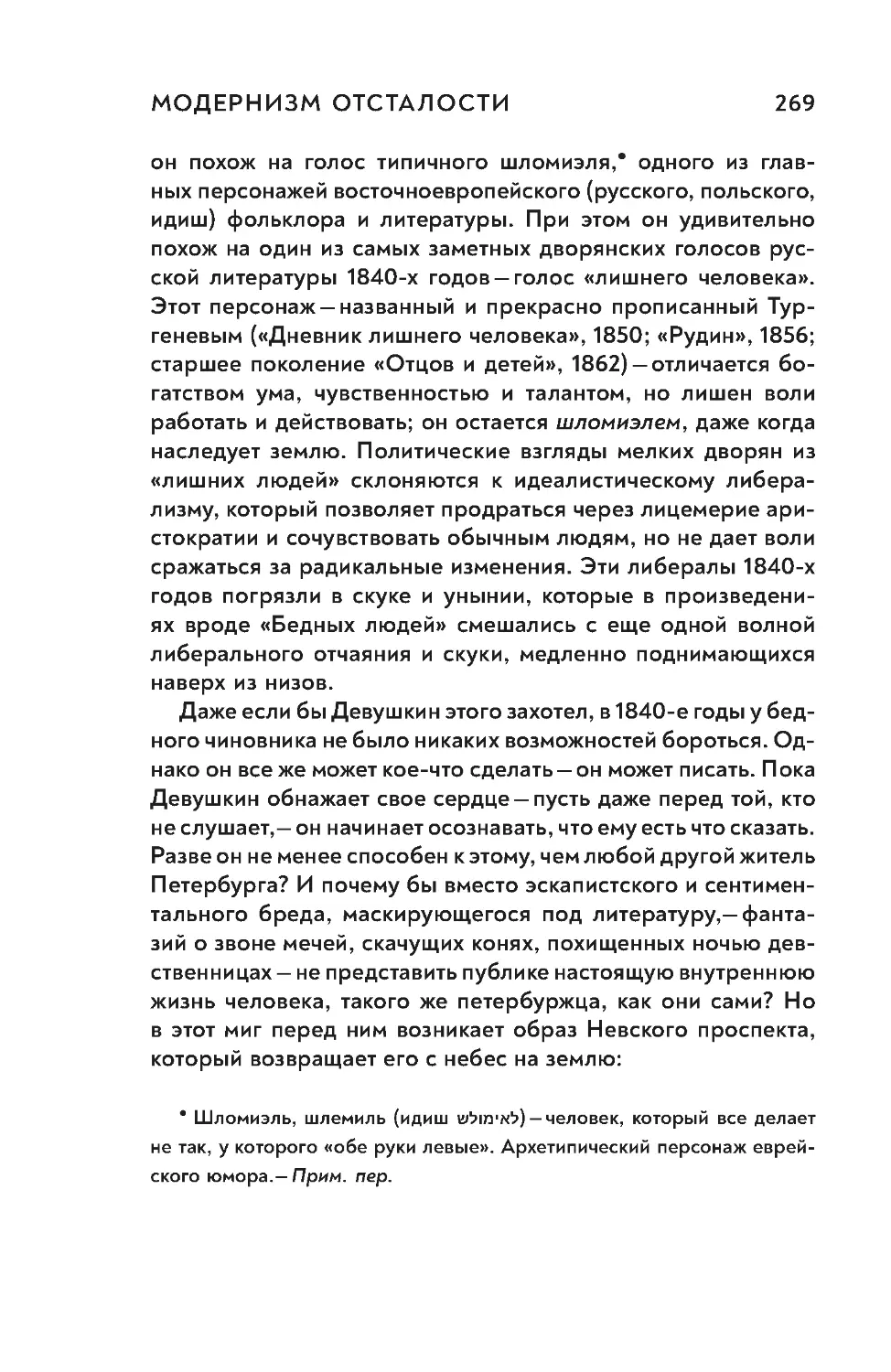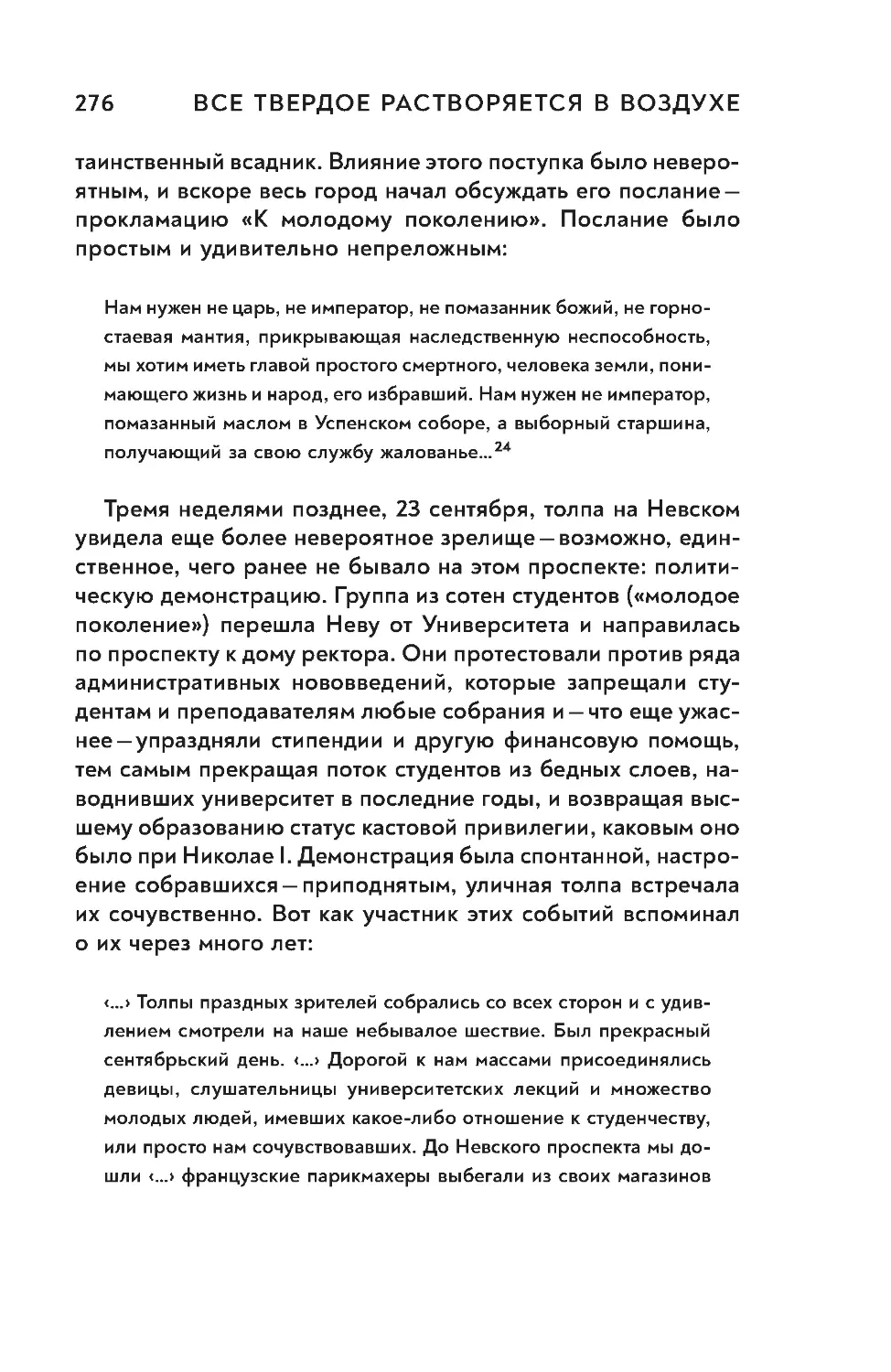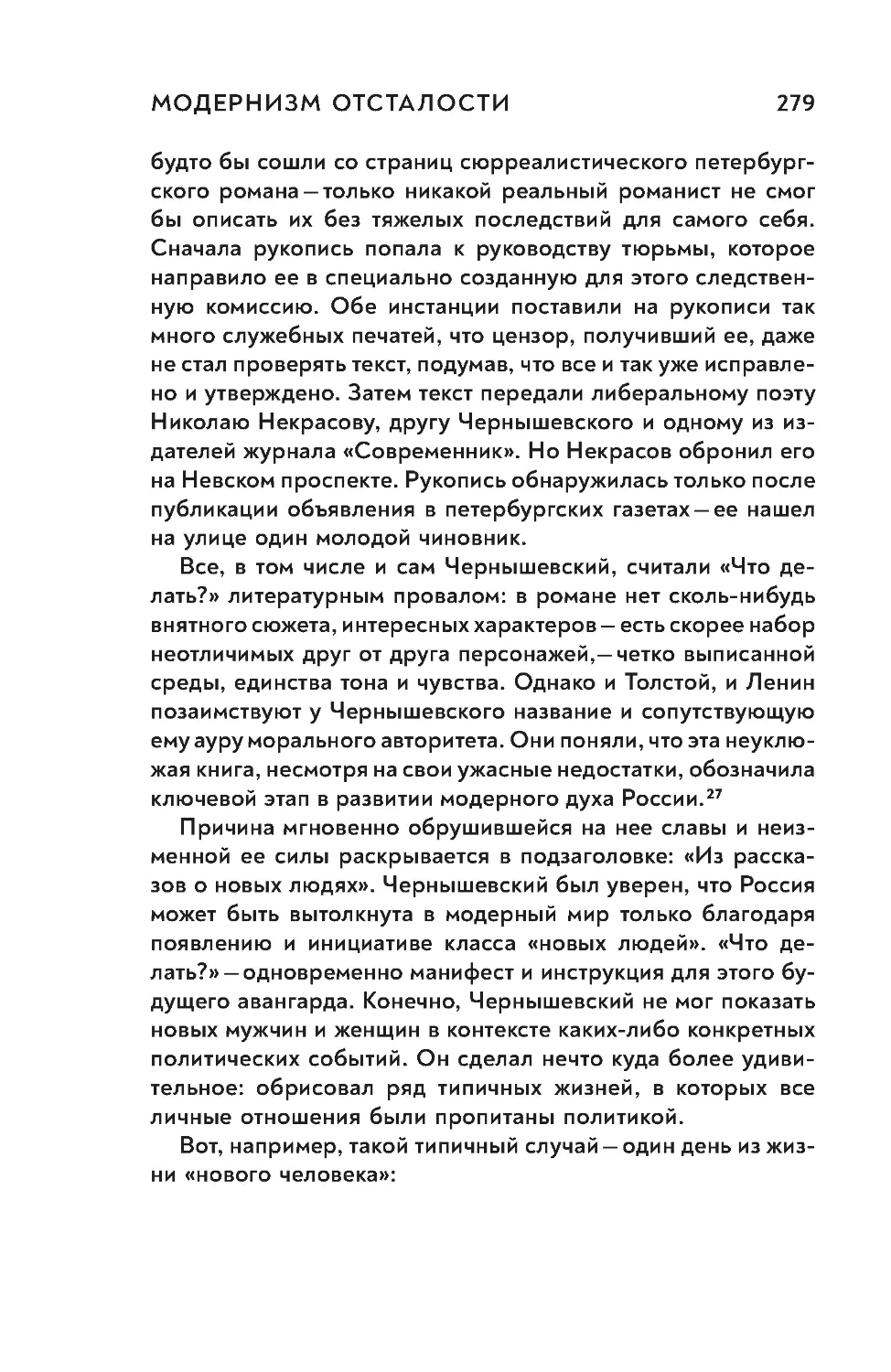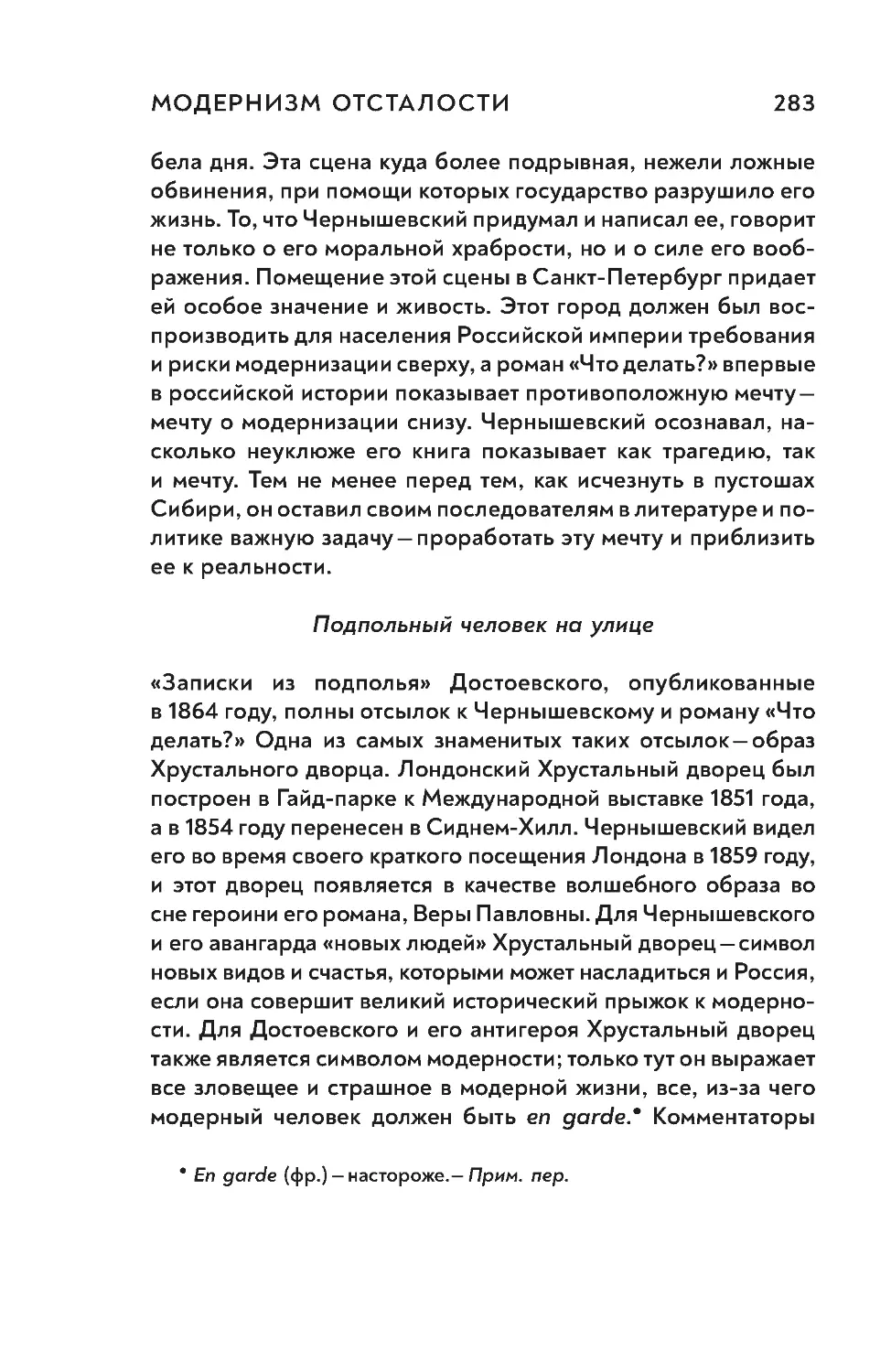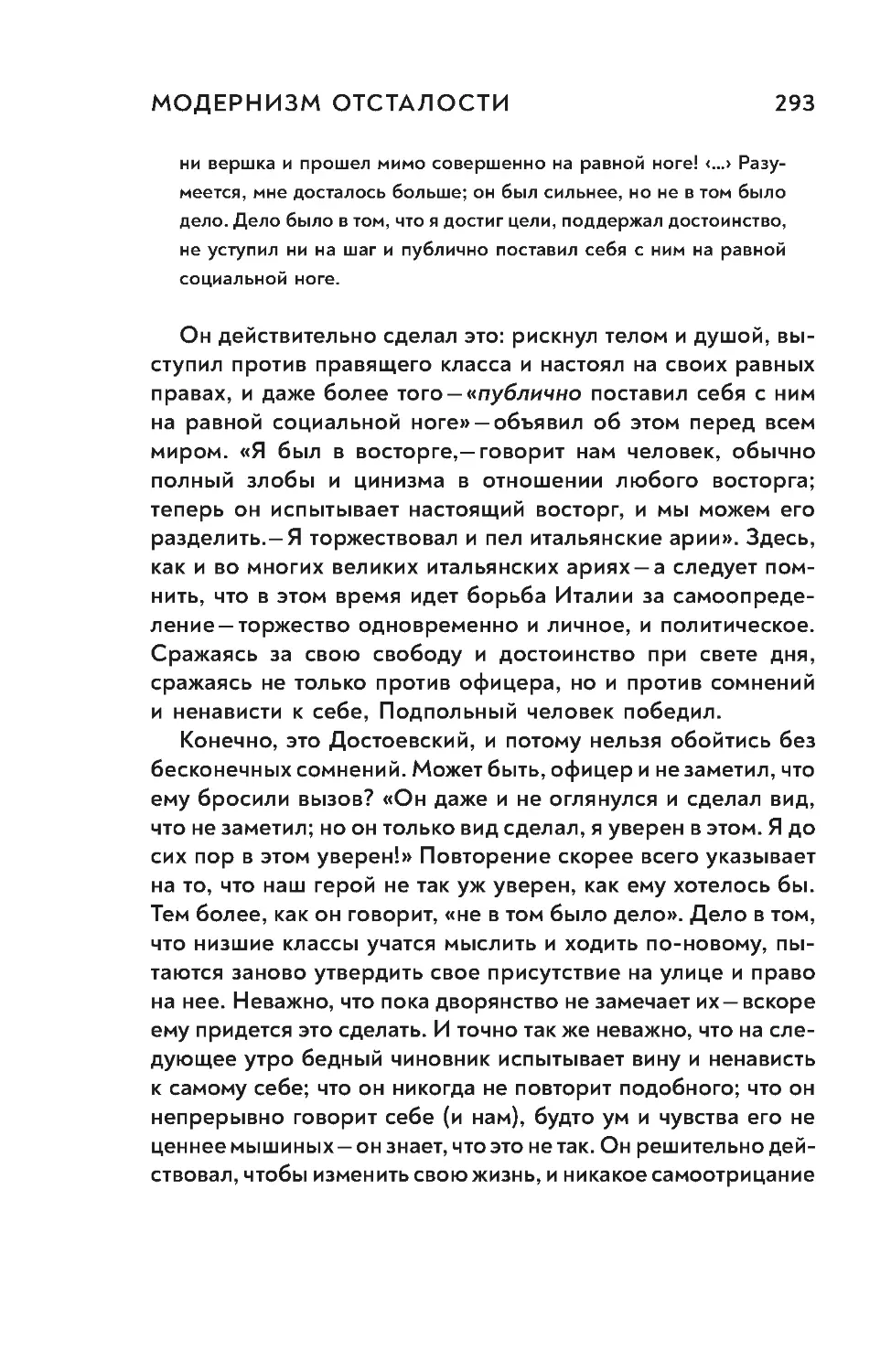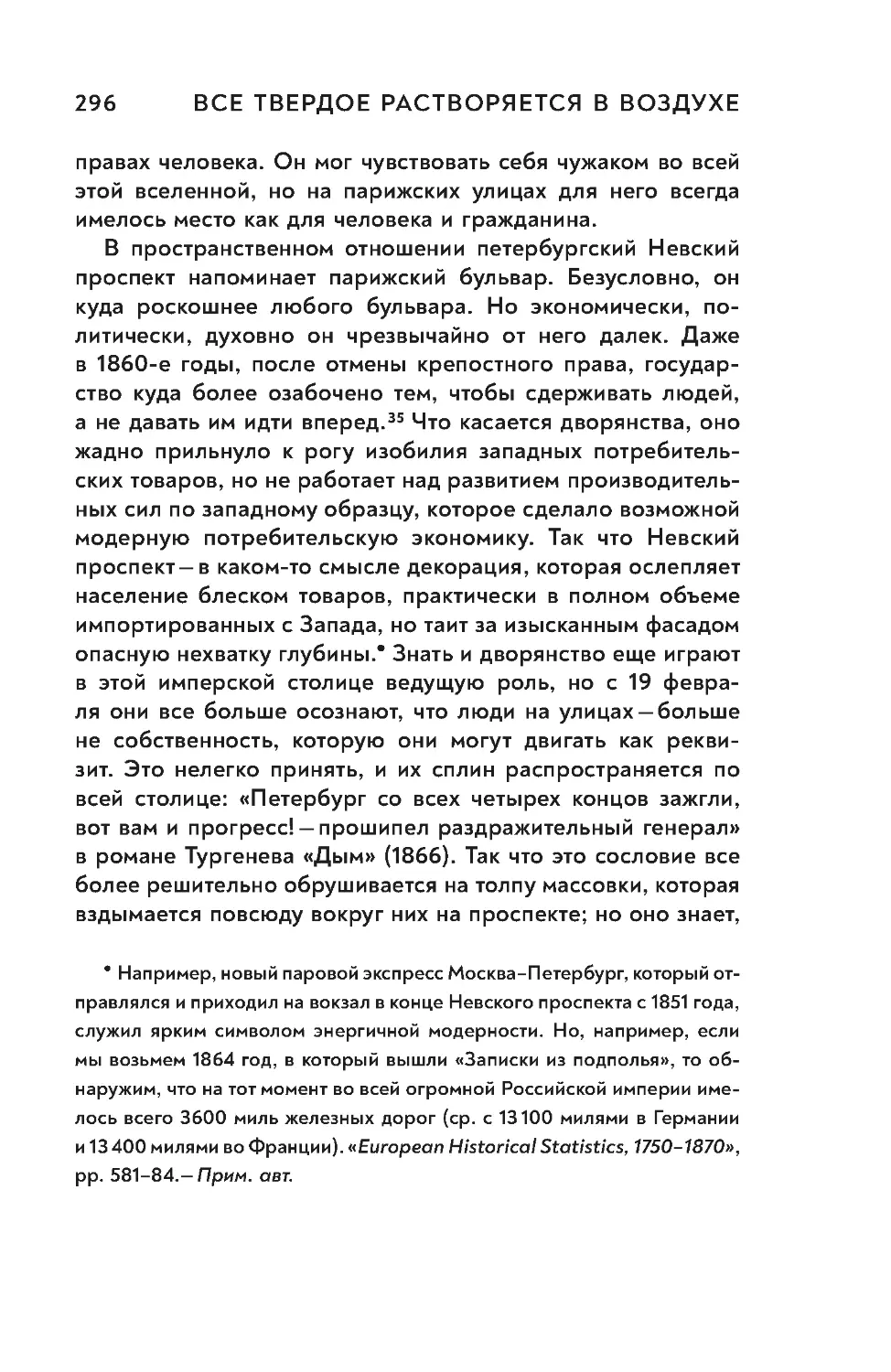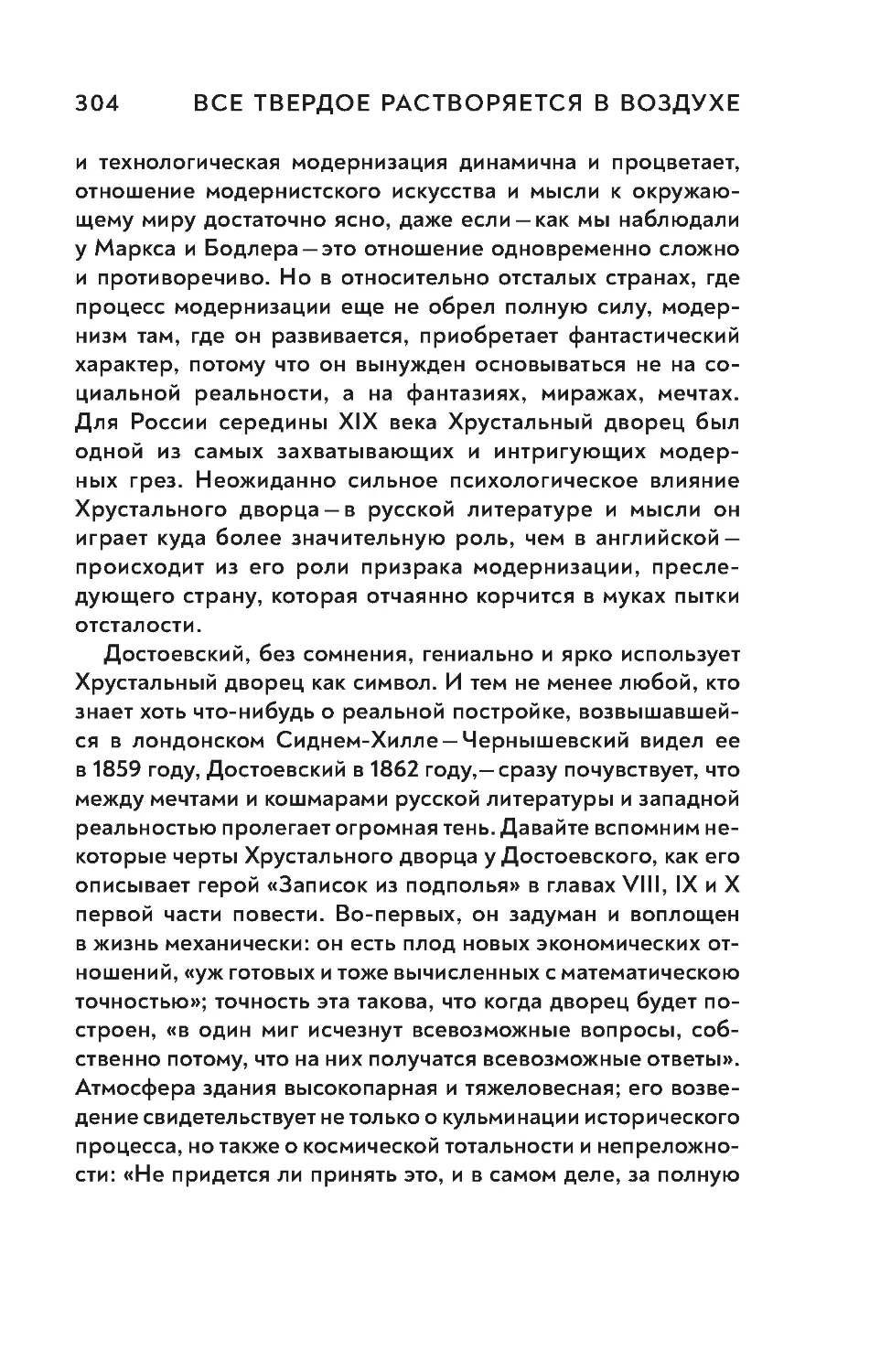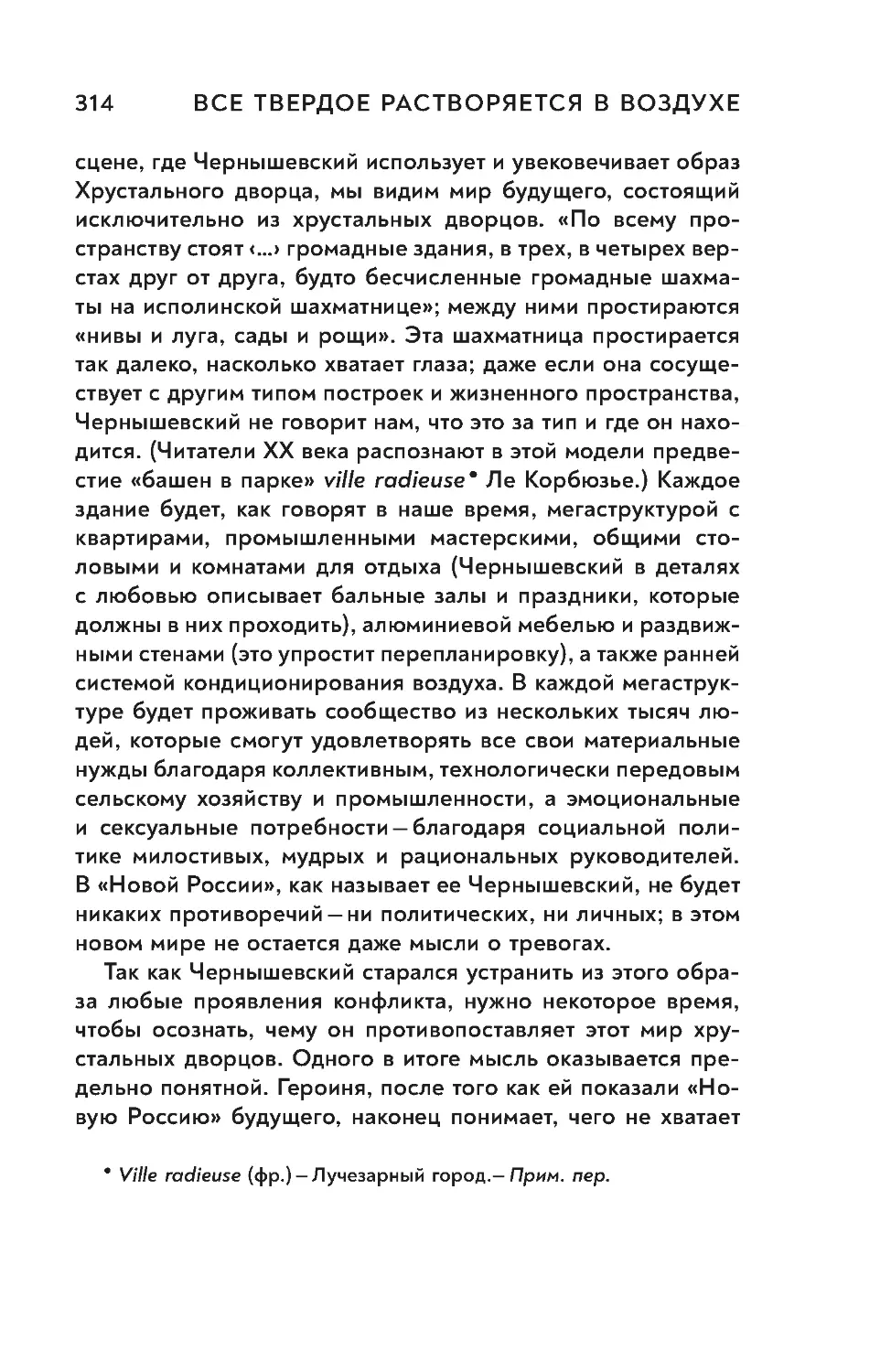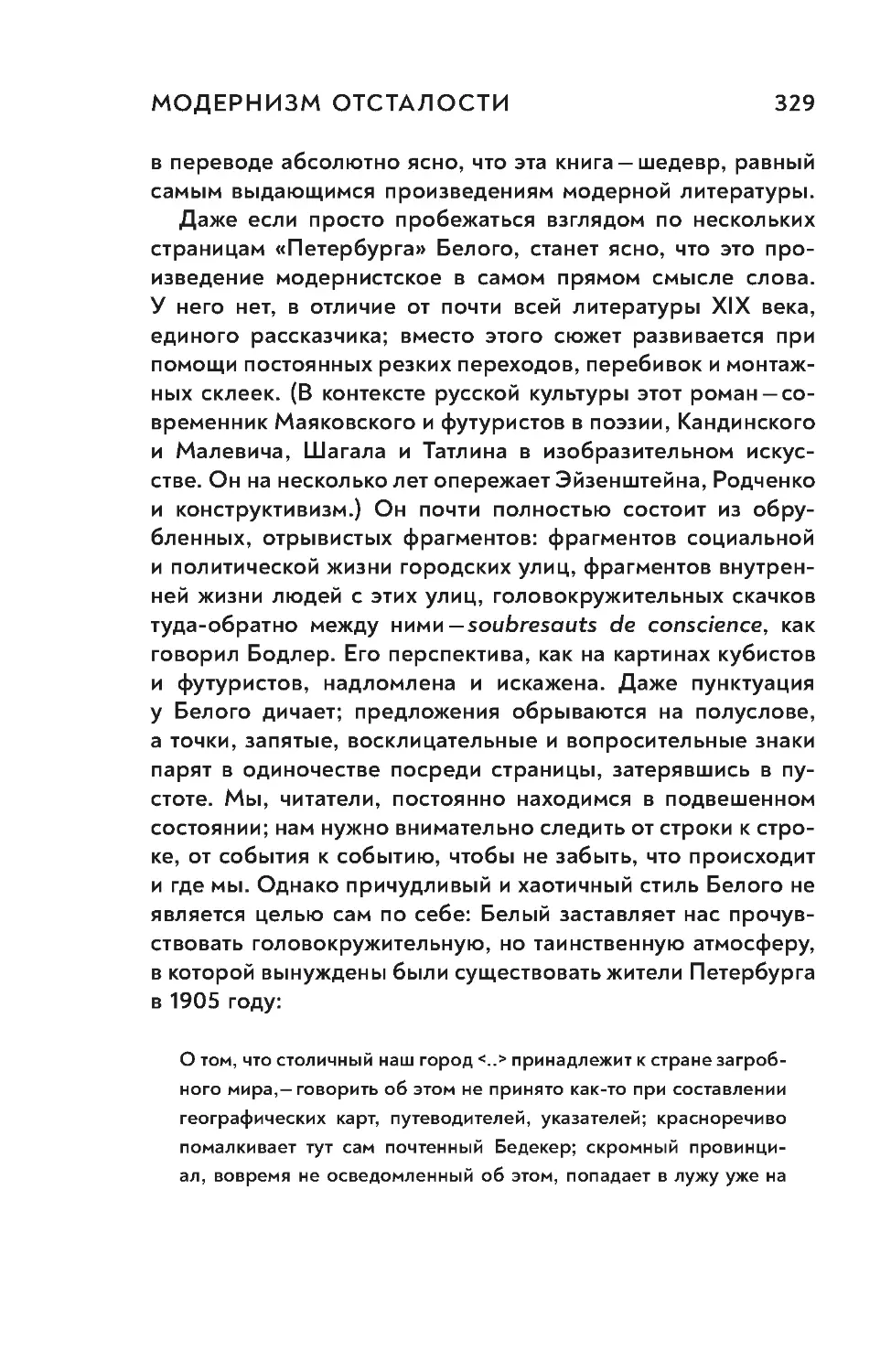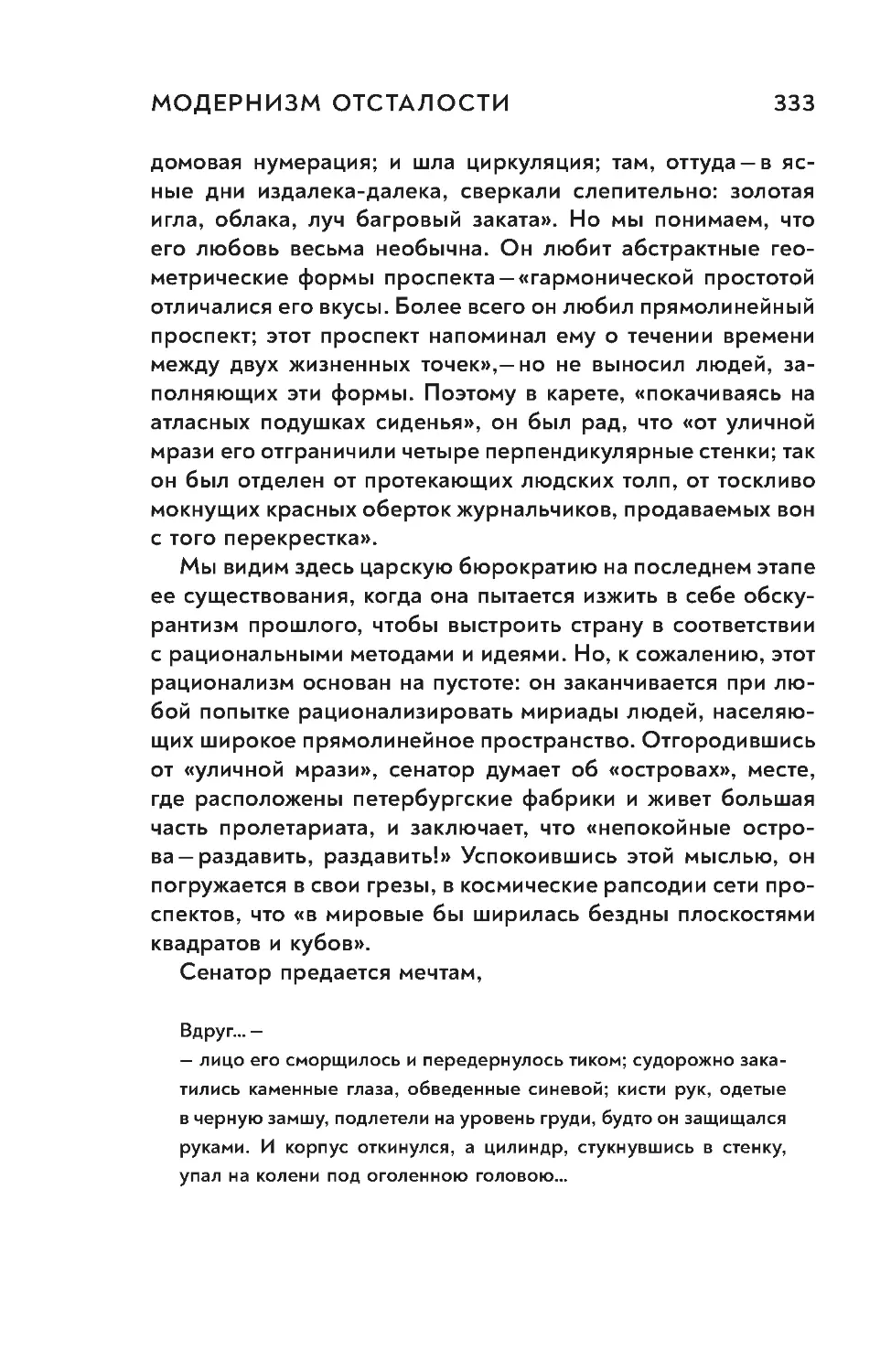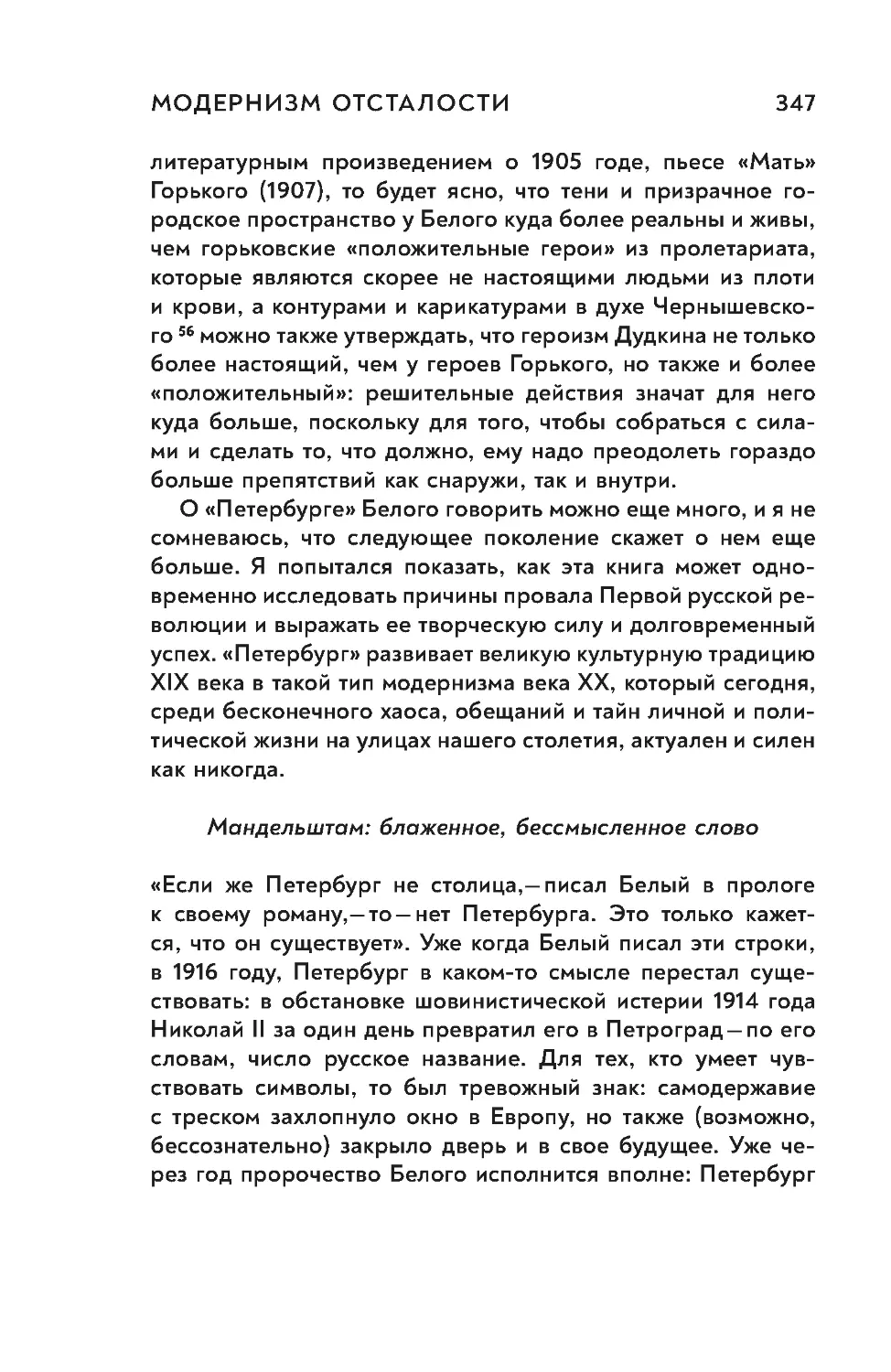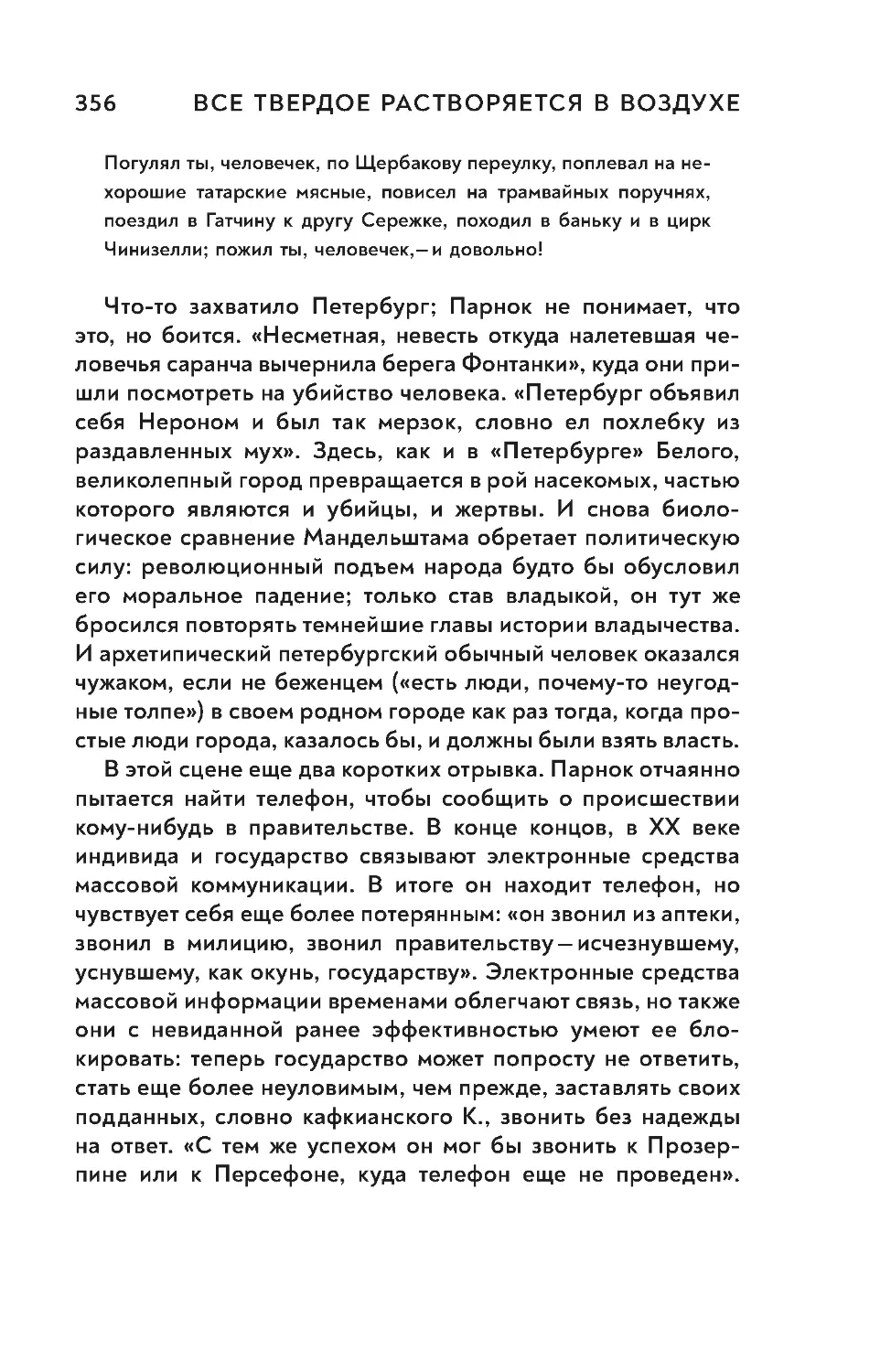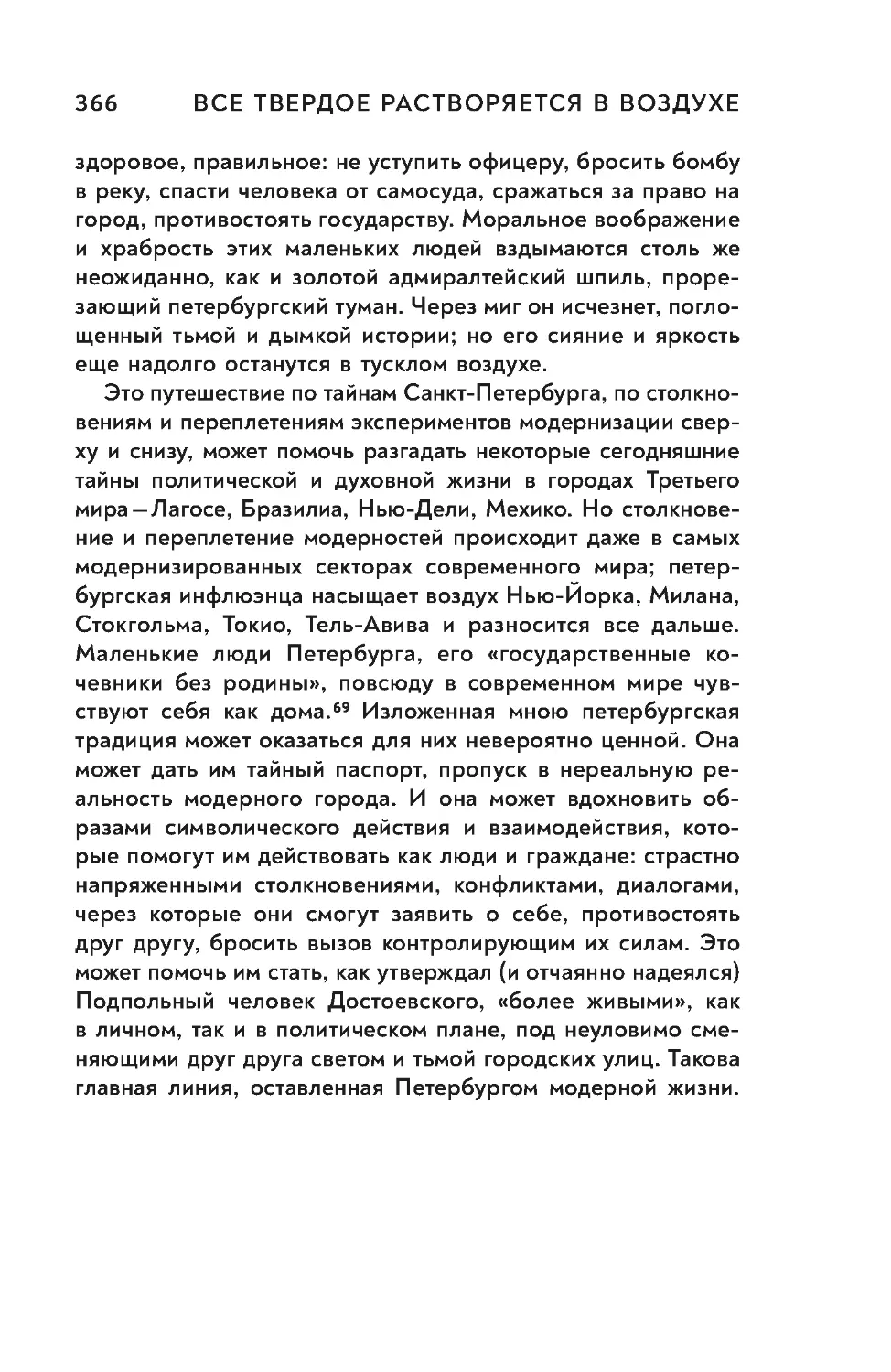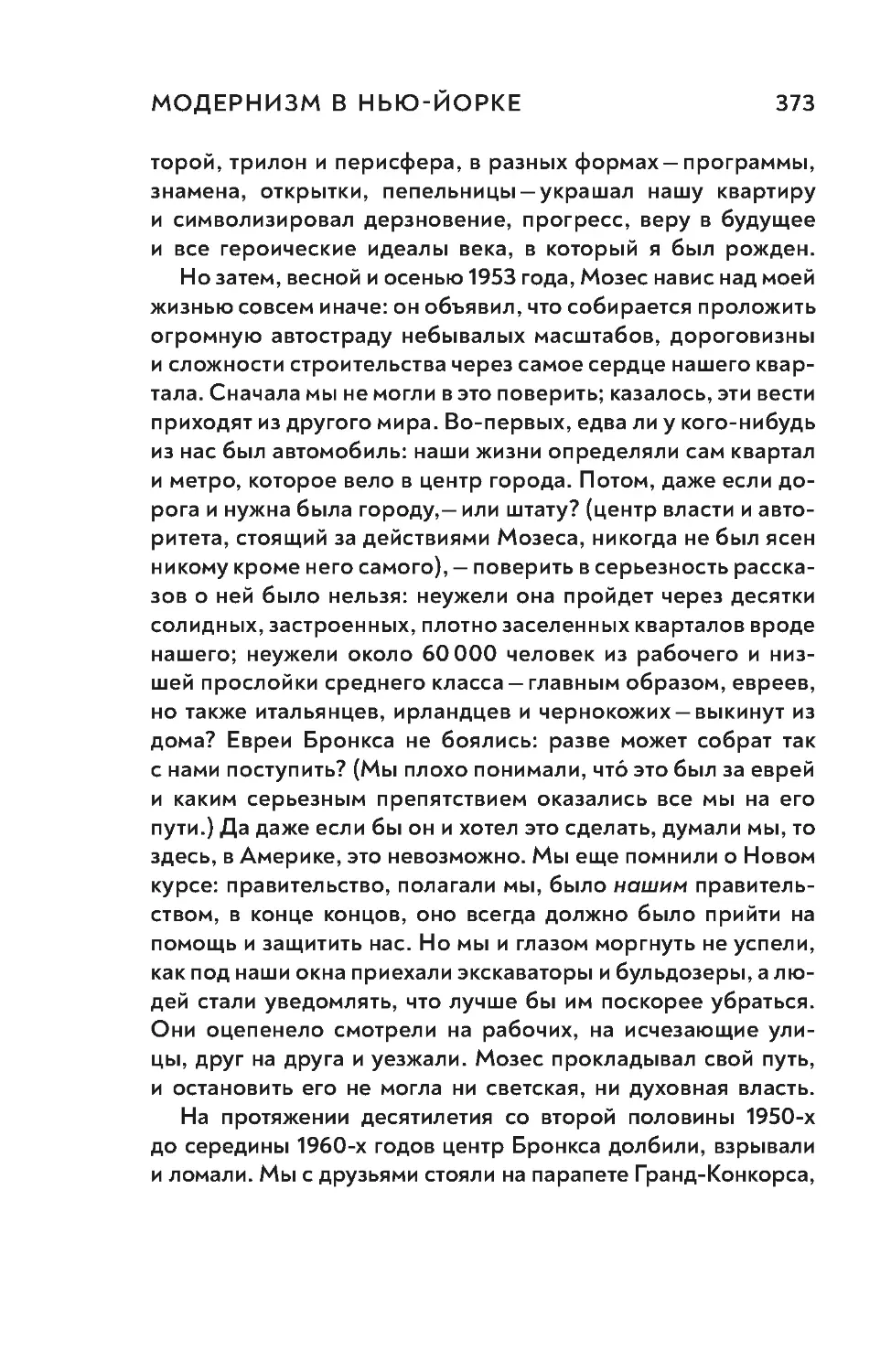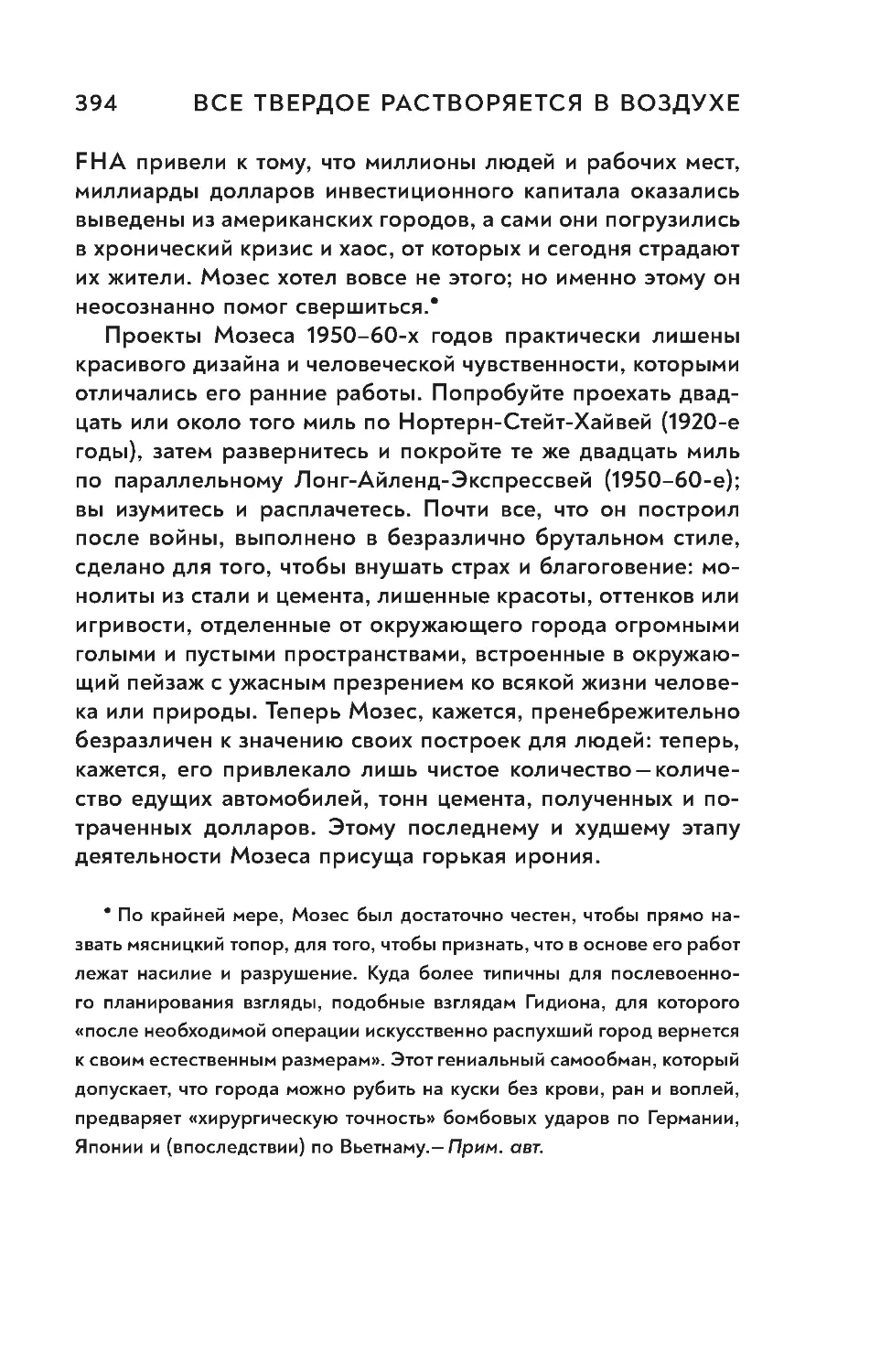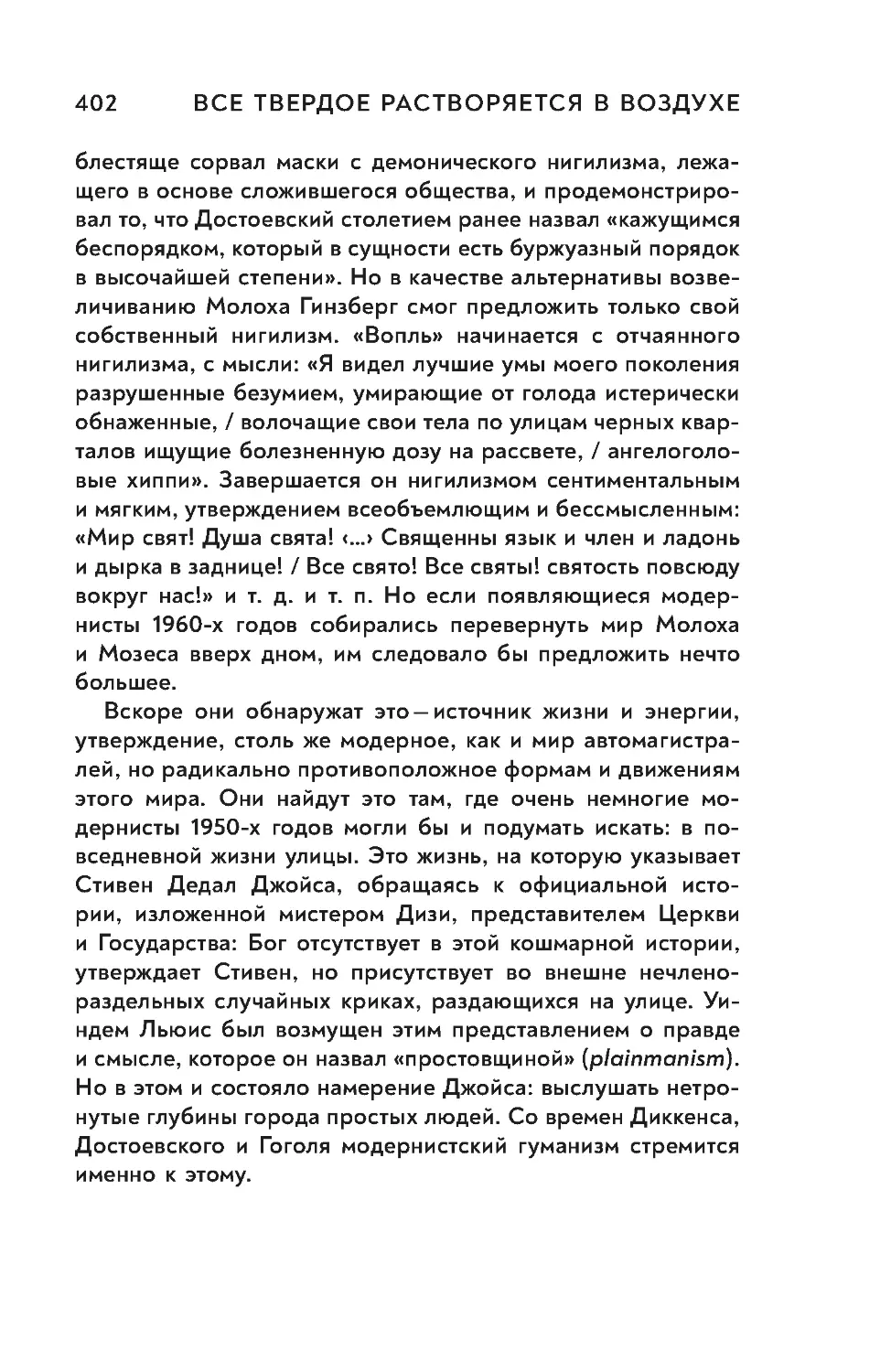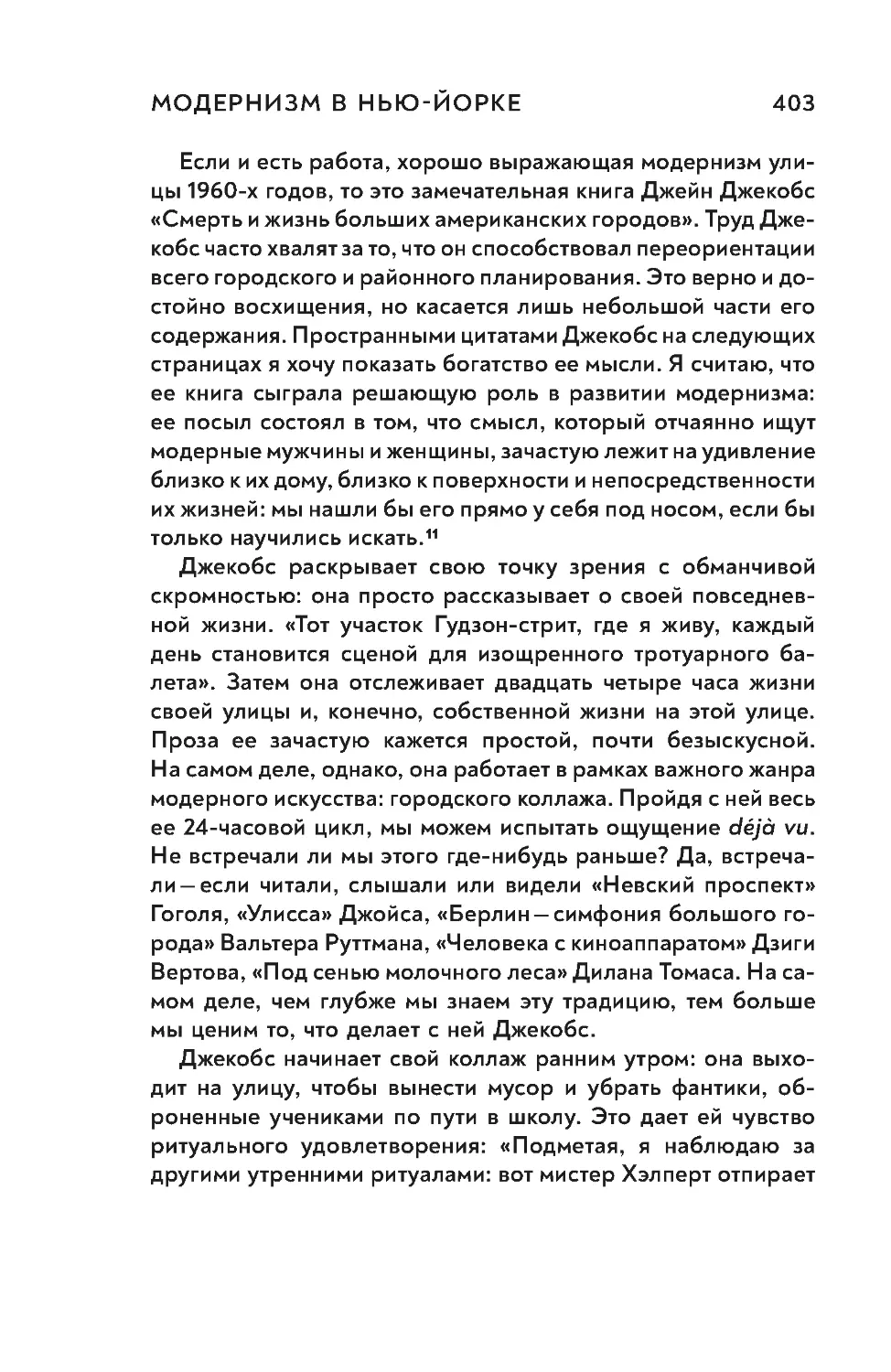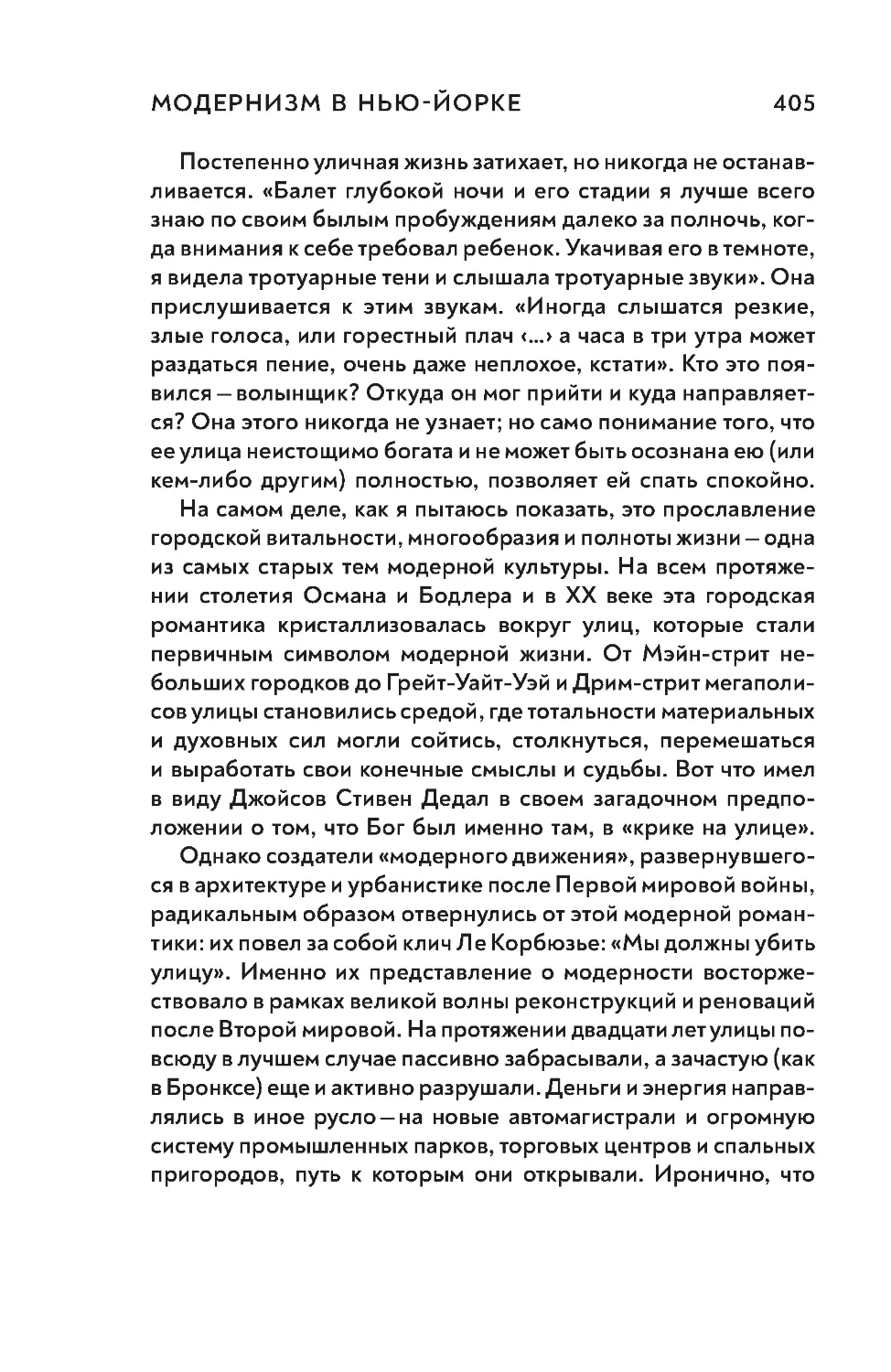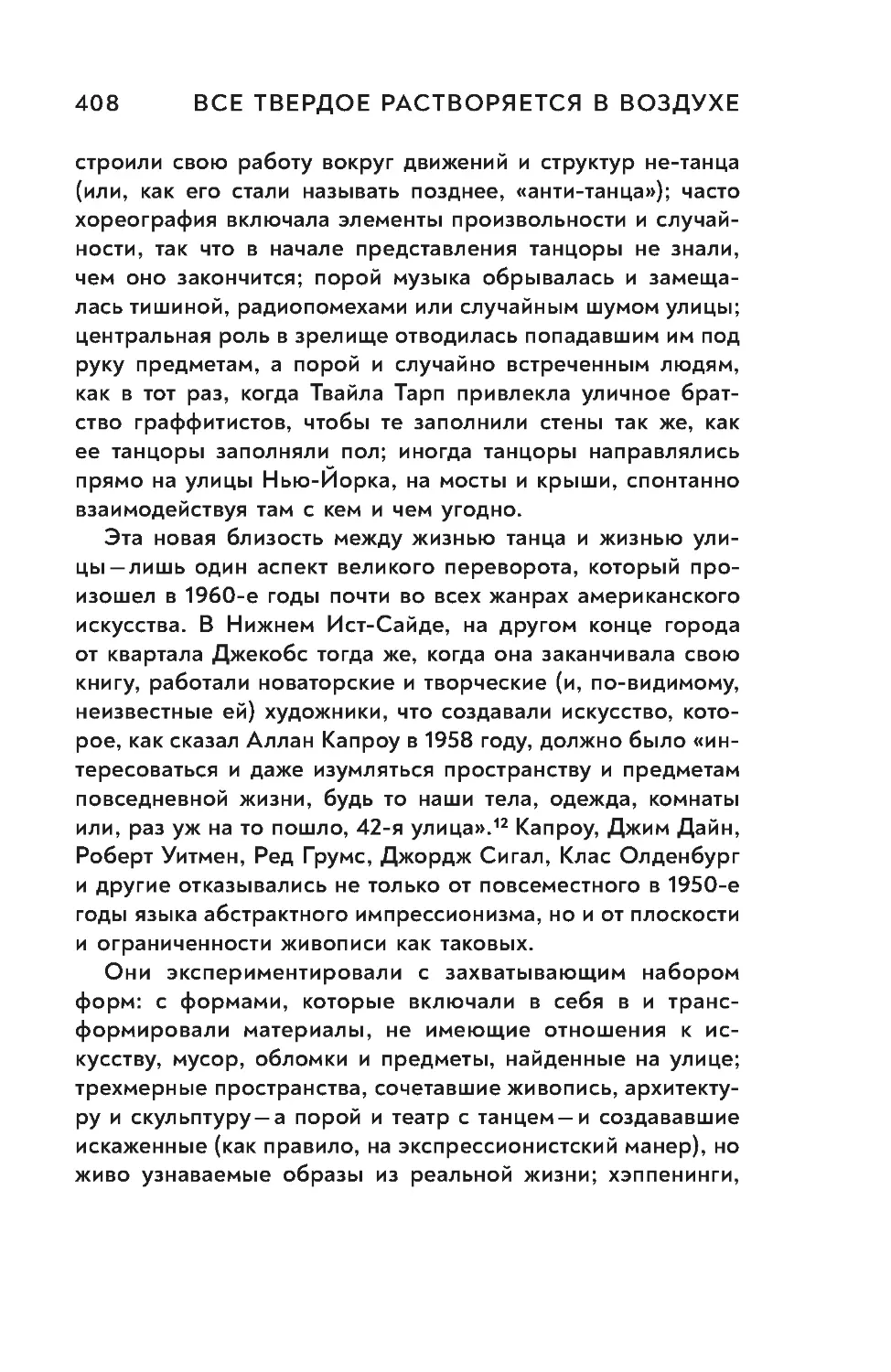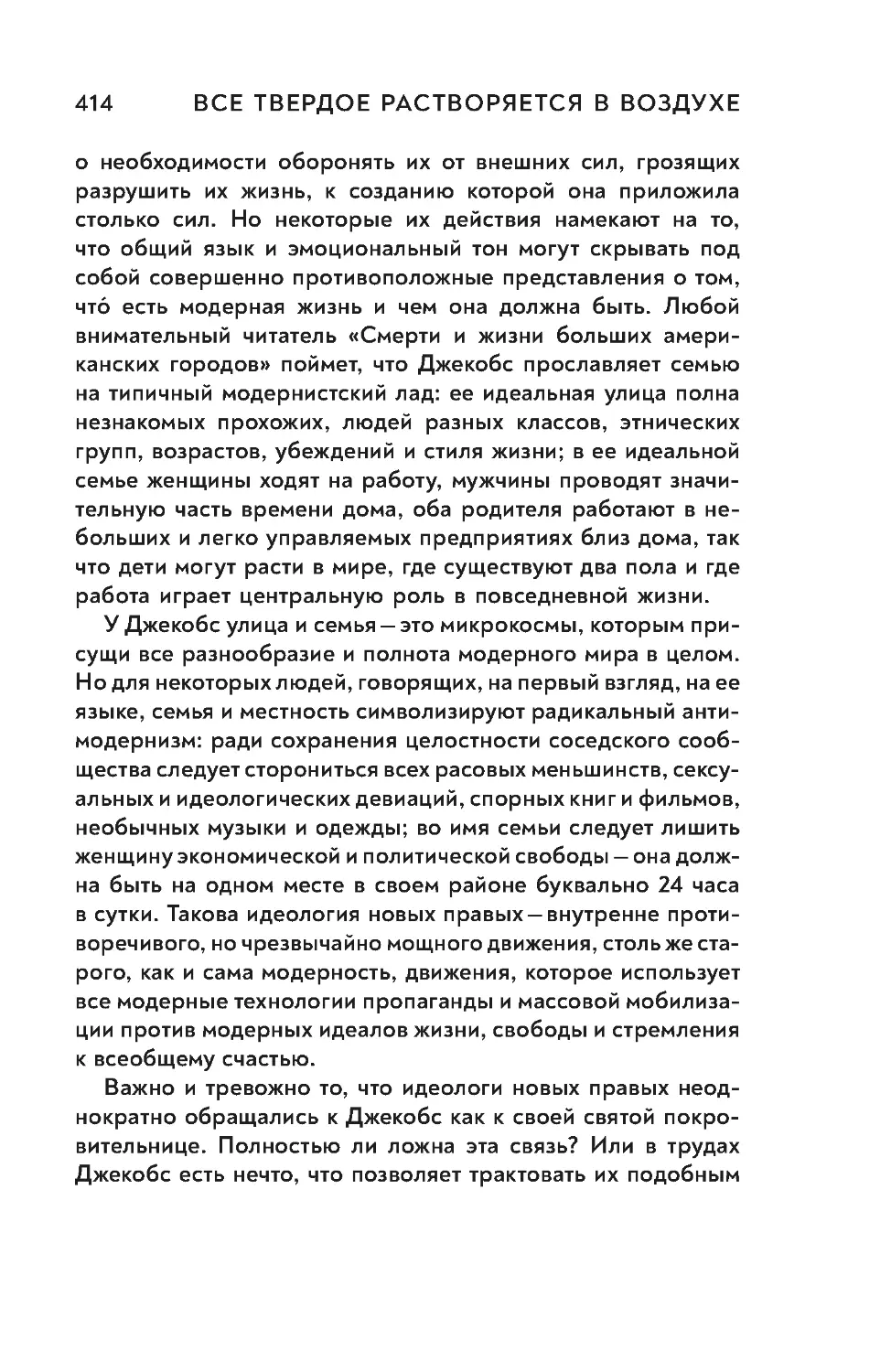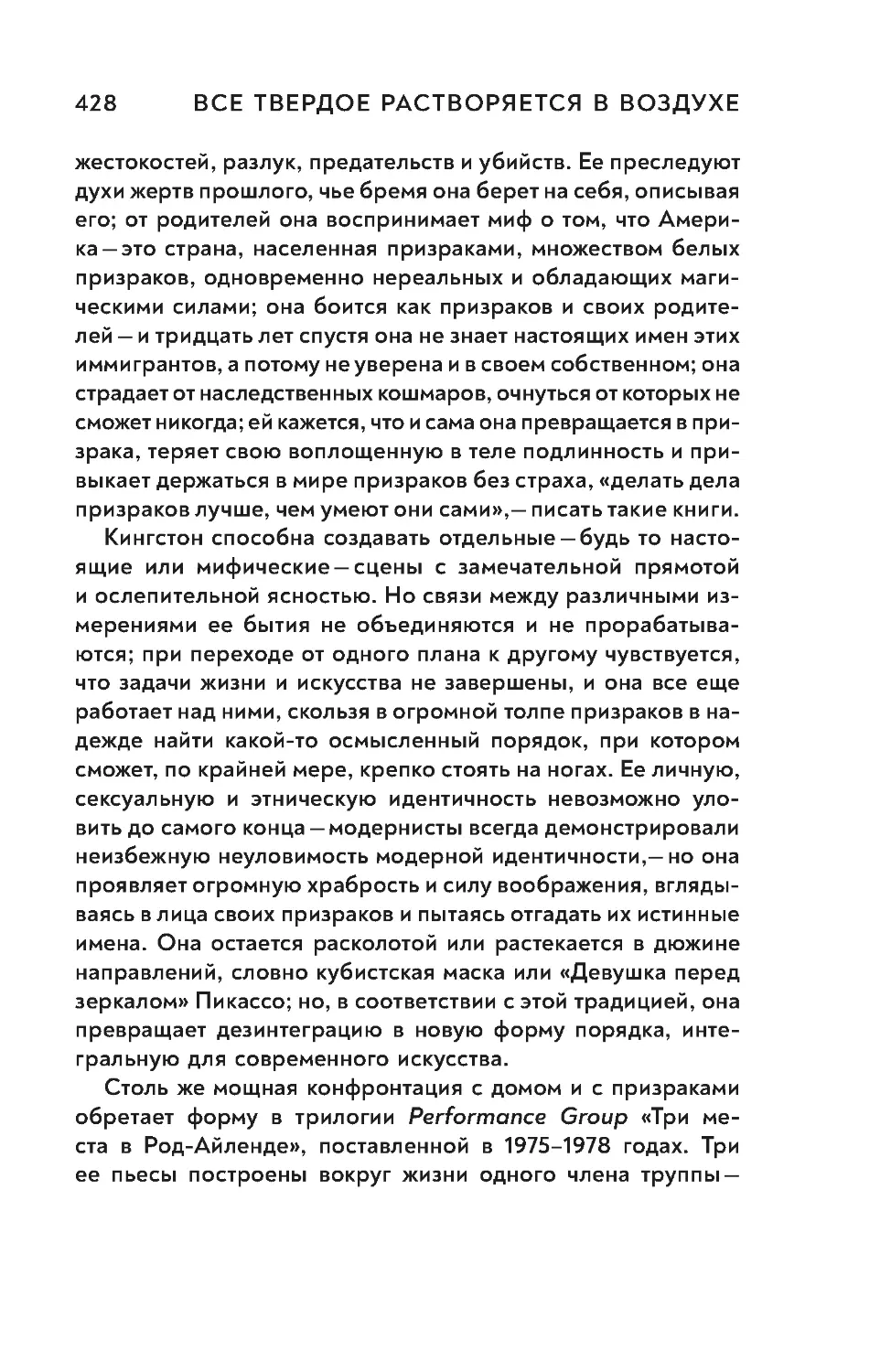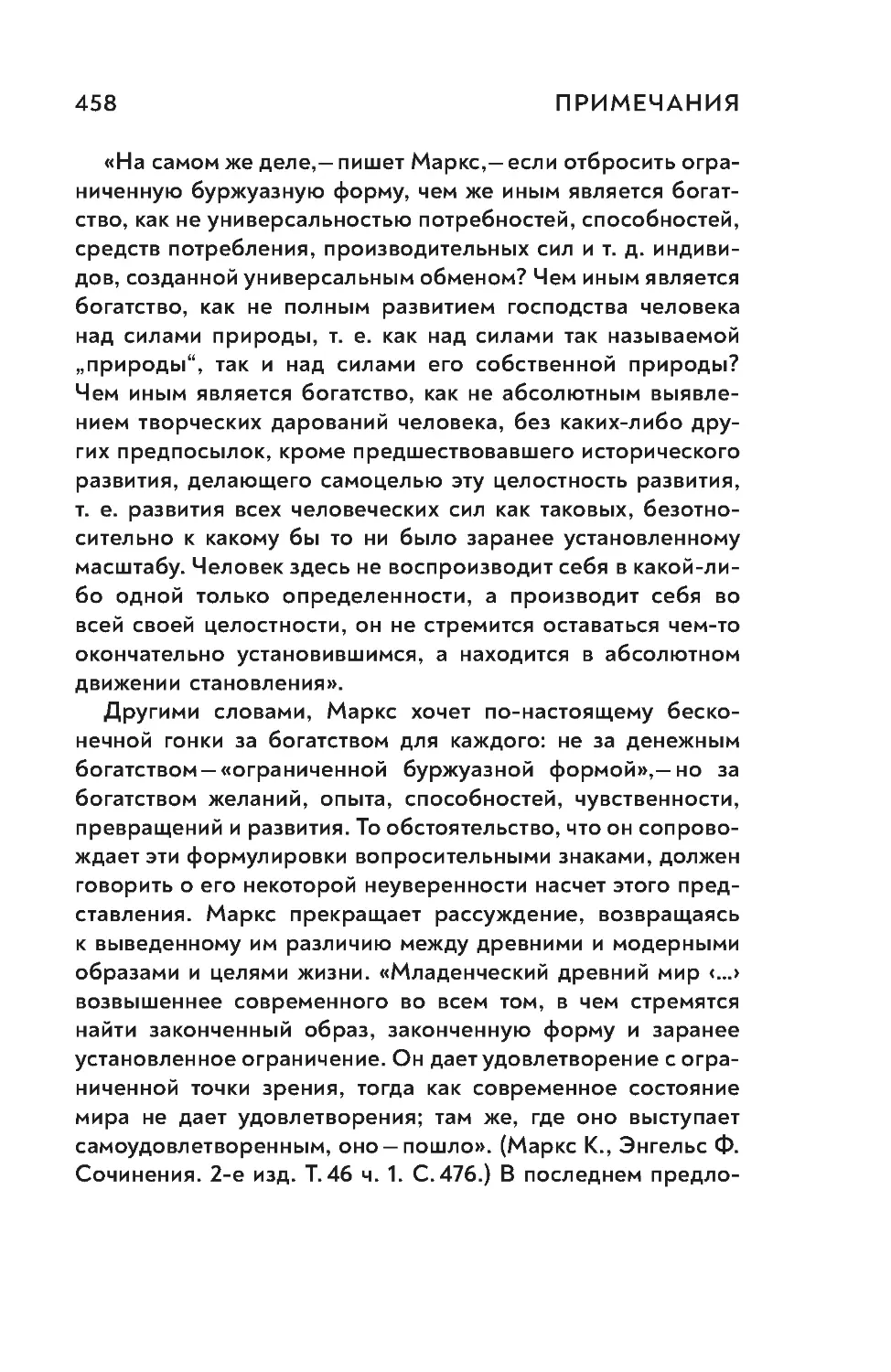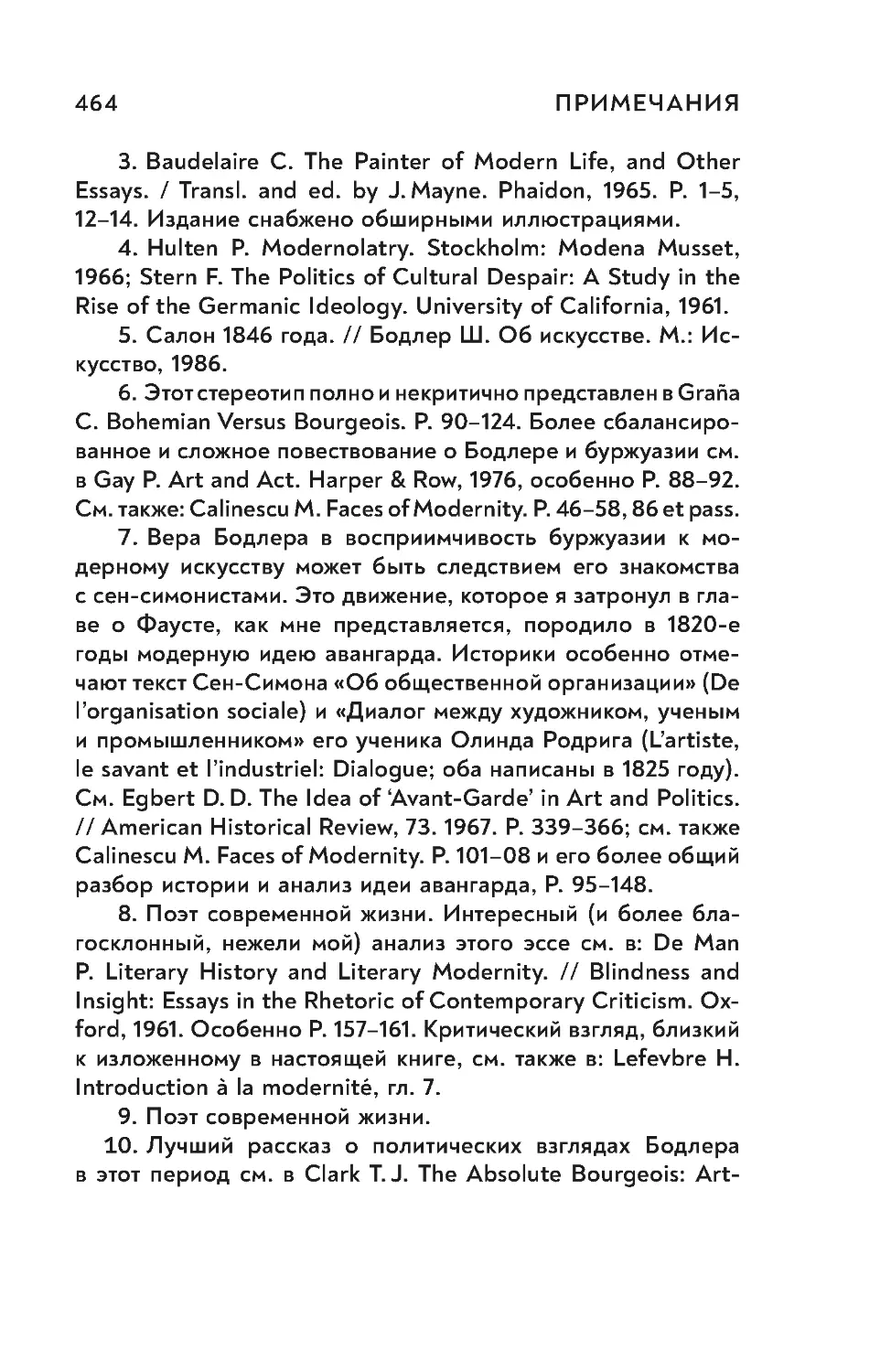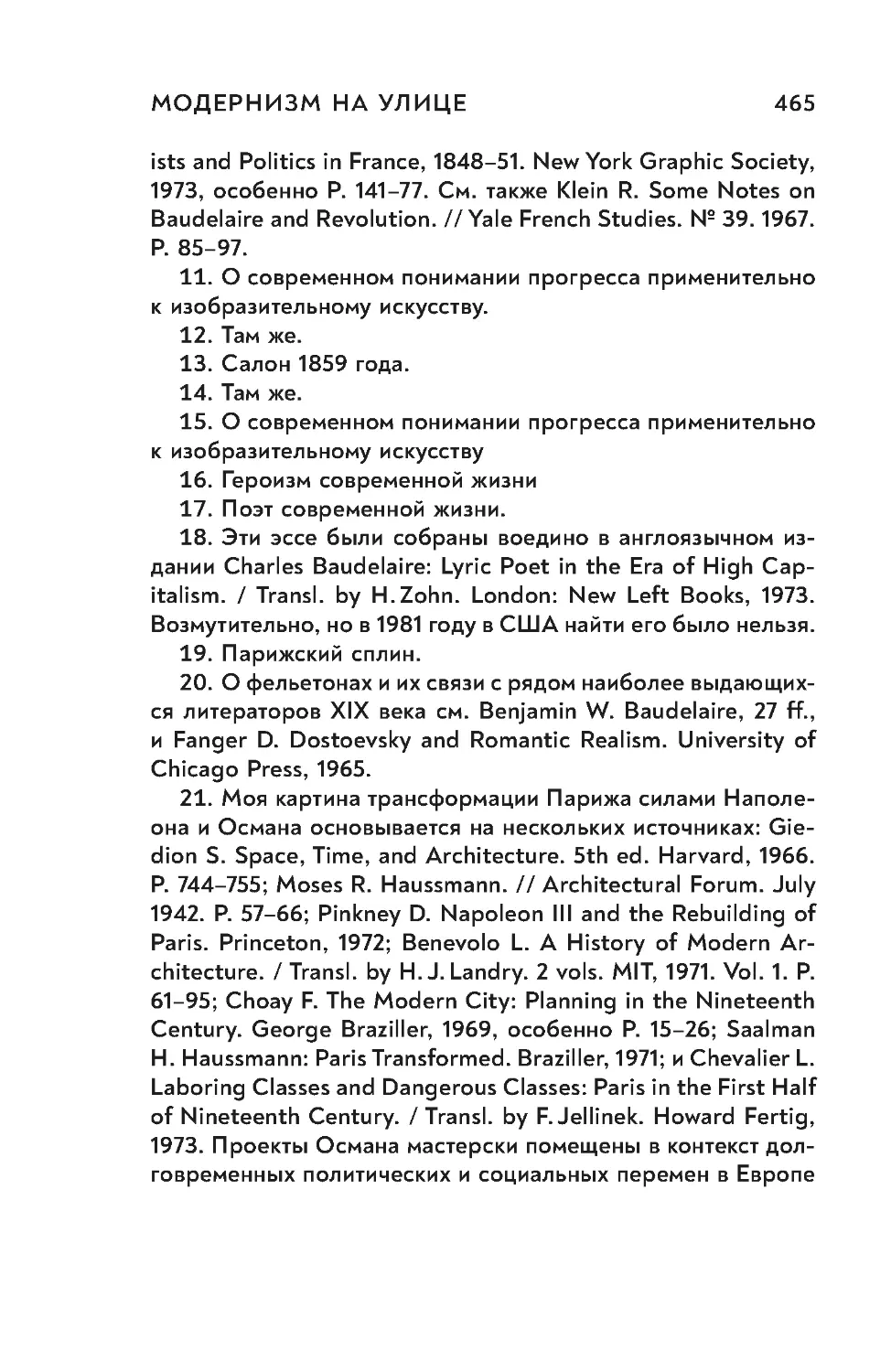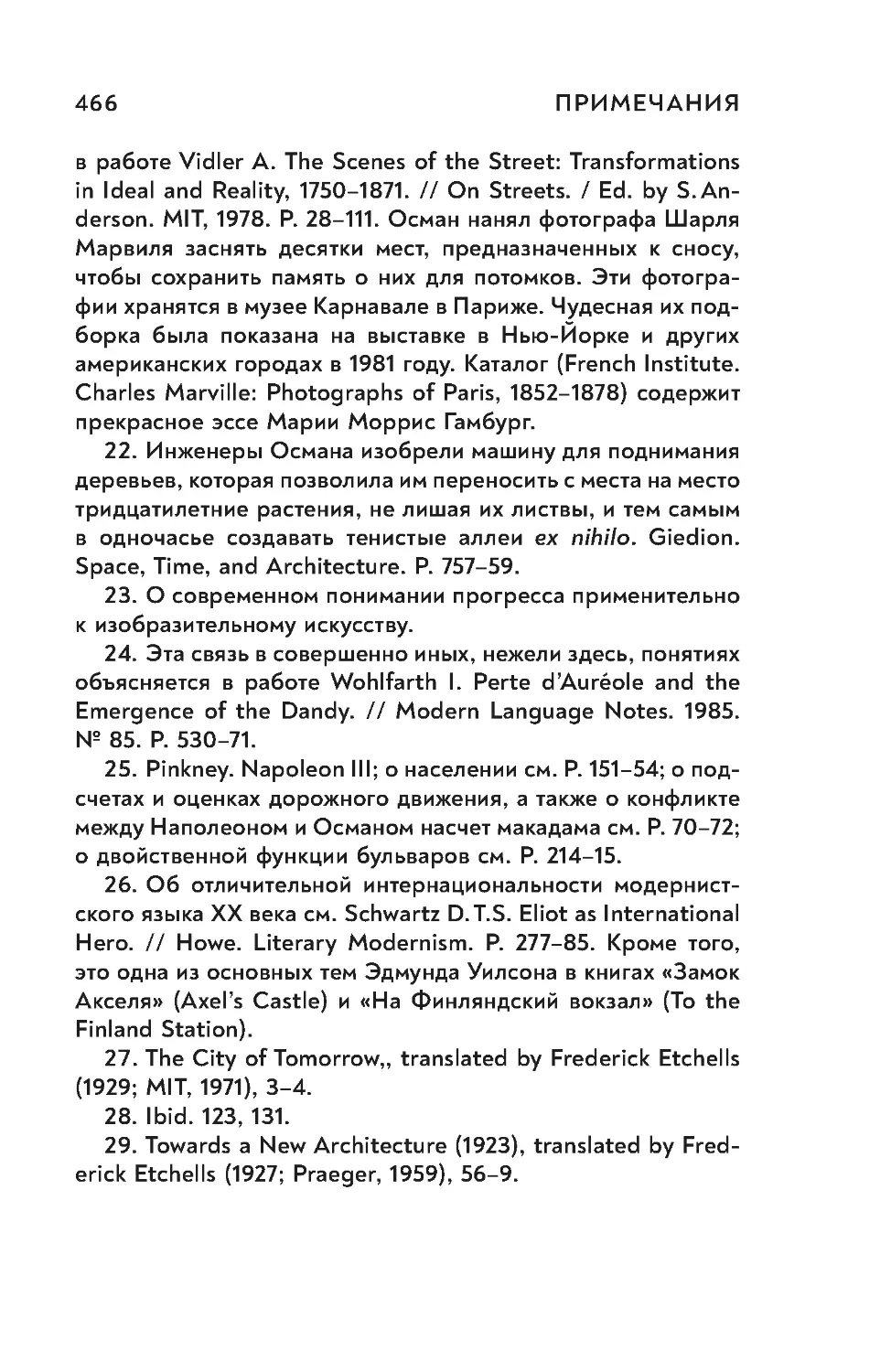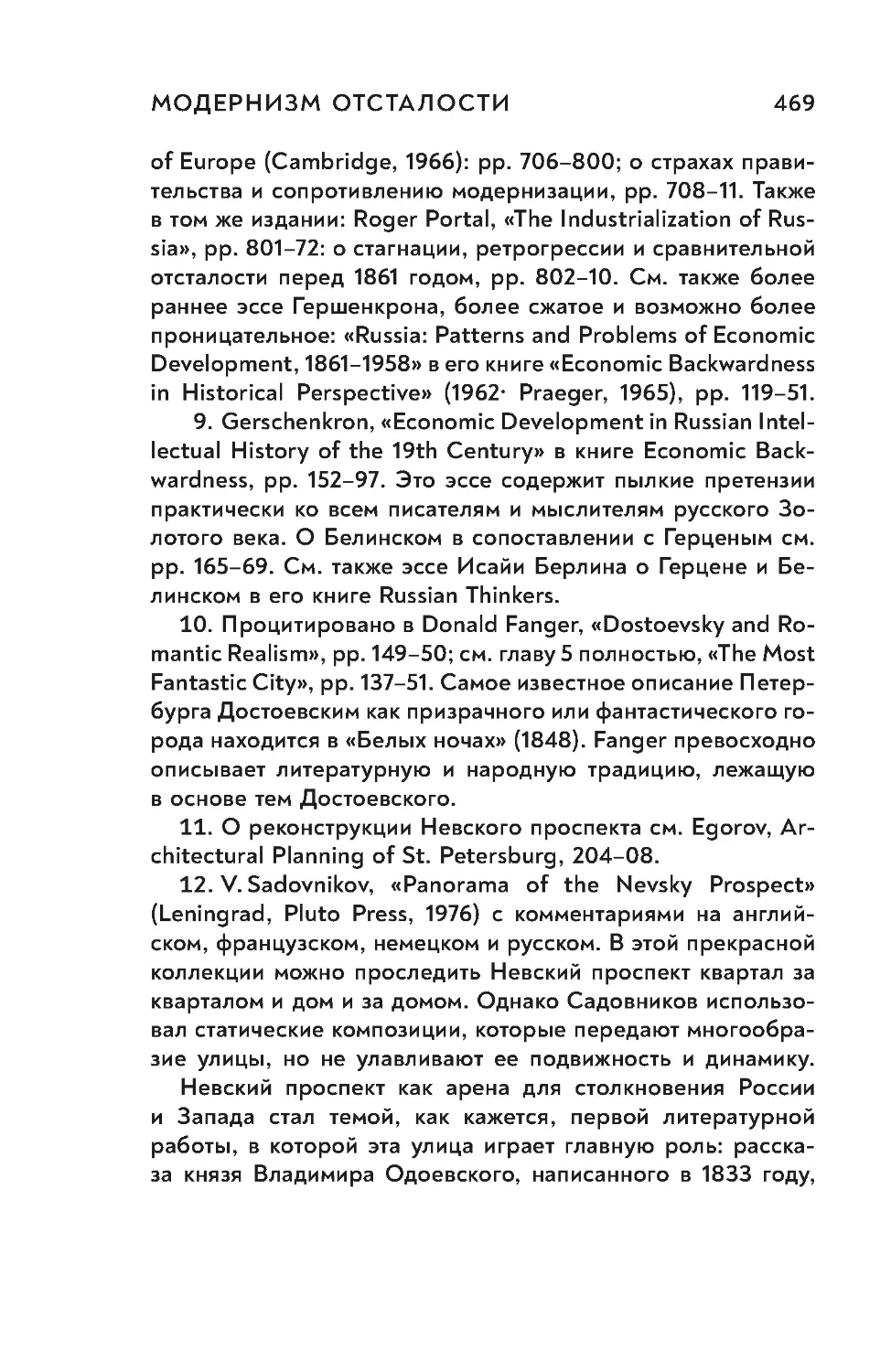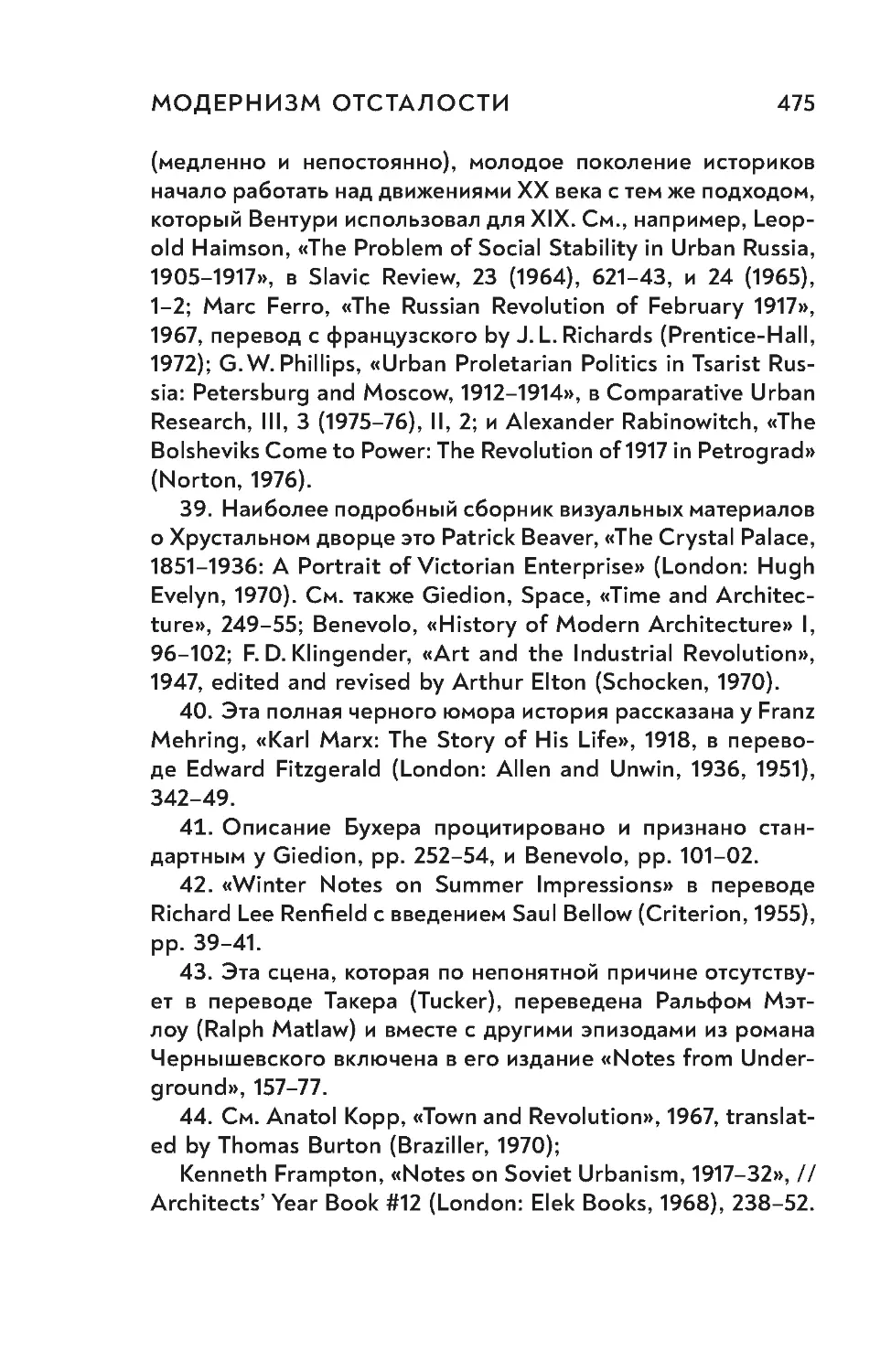Author: Берман М.
Tags: философия психология общая теория искусства философия искусства эстетика проблемы эстетического вкуса принципы композиции, пропорции, зрительных эффектов литературная критика и литературоведение всемирная история философии физика математическая физика переводная литература издательство горизонталь
Year: 2020
МАРШАЛЛ БЕРМАН
ВСЕ ТВЕРДОЕ
РАСТВОРЯЕТСЯ
В ВОЗДУХЕ
ОПЫТ МОДЕРНОСТИ
МОСКВА
ГОРИЗОНТАЛЬ
2020
. All That Is Solid Melts Into Air.
The Experience Of Modernity
Права приобретены при посредничестве Georges Borchardt Inc.
и «Литературного агентства Эндрю Нюрнберг»
УДК 1(091)+7.011+82.09
ББК 87.3(0)
Б50
ISBN 978-5 -6043030-1 -6
© Marshall Berman, 1982
© Владислав Федюшин, Тина
Белякова, перевод, 2020
Берман, Маршалл.
Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности / пер. с
англ. В. Федюшина, Т. Беляковой. — М.: Горизонталь, 2020. — 488 с.
ISBN 978-5 -6043030-1 -6
Книга «Все твердое растворяется в воздухе» американского
философа Маршалла Бермана (1940–2013) посвящена сущности
эпохи, в которой всем нам довелось жить. Анализируя гениальные
прозрения Гете и Маркса, погружаясь в сплин Бодлера и наблюдая
за превращением петербургского маленького человека в вершите-
ля собственной судьбы, Берман показывает глубину и витальную
силу этой традиции, которая, несмотря на свой противоречивый —
освободительный и саморазрушительный — характер, едва ли ско-
ро уйдет в прошлое.
Работа, вышедшая в 1982 году, с тех пор стала классической
и была переведена на различные европейские и азиатские языки.
На русском публикуется впервые.
УДК 1(091)+7.011+82.09
ББК 87.3(0)
Б50
[3]
БЛАГОДАРНОСТИ
ЕДВА ли эту книгу можно назвать исповедью. Однако
я вынашивал ее долгие годы и за это время понял, что
в каком-то смысле она — история моей жизни. Невозмож-
но перечислить здесь всех, кто прожил эту книгу вместе со
мной и помог сделать ее такой, какой она получилась: людей
оказалось бы слишком много, эпитеты были бы чересчур
сложны, а эмоции — избыточно сильны; список не стоит и на-
чинать, иначе он никогда не завершится. Следующее — всего
лишь робкая попытка. За энергию, идеи, поддержку и любовь
я глубочайше благодарю Бетти и Дайэн Берман, Морриса
и Лор Дикстейнов, Сэма Гиргуса, Тодда Гитлина, Дениз Грин,
Ирвинга Хоу, Леонарда Кригеля, Мередит и Кори Таксов, Гэя
Тачмана, Майкла Уолцера; Джорджа Борхардта и Майкла Рэ-
домизли; Эрвина Гликса, Барбару Гроссман и Сьюзан Дуайер
из Simon & Schuster; Аллена Балларда, Джорджа Фишера
и Ричарда Уортмана, которые особенно помогли мне с разде-
лом о Санкт-Петербурге; моих студентов и коллег из Город-
ского колледжа и Городского университета Нью-Йорка, из
Стэнфорда и Университета Нью-Мексико; участников семина-
ра о политической и социальной мысли в Колумбийском уни-
верситете и семинара о городской культуре в Нью-Йоркском
университете; Национальный фонд гуманитарных наук; дет-
ский сад Purple Circle; Лайонела Триллинга и Генри Пачтера,
которые воодушевили меня начать эту книгу и продолжать ра-
боту над ней, но не успели увидеть ее в печати; и многих дру-
гих, кого я не назвал здесь, но чью помощь никогда не забуду.
Памяти Марка Джозефа
Бермана (1975–1980)
[5]
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ИЗДАНИЮ
PENGUIN: ШИРОКАЯ
И ОТКРЫТАЯ
ДОРОГА
ВКНИГЕ «Все твердое растворяется в воздухе» я опре-
деляю модернизм как любую попытку современных
людей стать субъектами, а вместе с тем и объекта-
ми модернизации, понять современный мир и найти свое
место в нем. В таком виде идея модернизма гораздо шире
и включает больше аспектов, нежели при трактовке, приня-
той обычно в научных трудах. В таком виде идея модернизма
подразумевает открытую и просторную дорогу к пониманию
культуры; так она сильно отличается от кураторского подхо-
да, при котором деятельность человека разбивают на фраг-
менты, а затем сортируют по отдельным ящикам, помечая
время, место, язык, жанр и научную дисциплину.
Эта широкая и открытая дорога — всего лишь один из мно-
жества возможных путей, но она обладает определенными
достоинствами. Выбрав ее, мы можем считать все виды худо-
жественной, интеллектуальной, религиозной или политиче-
ской деятельности составляющими одного диалектического
процесса и способствовать творческому взаимодействию
6
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
между ними. Она способствует диалогу между прошлым,
настоящим и будущим. Эта дорога проходит и через физиче-
ское, и через социальное пространство, обнажая общее меж-
ду великими творцами и обычными людьми, между обитате-
лями, как мы нелепо выражаемся, Старого и Нового Света,
а также Третьего мира. Она объединяет людей, несмотря на
их этнические, национальные, половые, классовые и расо-
вые различия. Она позволяет нам шире взглянуть на наш соб-
ственный опыт, показывает, что в нашей жизни больше смыс-
ла, чем мы думаем, придает ей новый резонанс и глубину.
Безусловно, это не единственный способ интерпретиро-
вать современную культуру или культуру в целом. Однако
он наиболее логичен, если мы хотим, чтобы культура питала
современную жизнь, а не превращалась в культ мертвых.
Если мы взглянем на модернизм как на отчаянную попытку
ужиться в постоянно меняющемся мире, то поймем, что ни
один из видов модернизма нельзя назвать окончательным.
Наши наиболее изобретательные построения и достиже-
ния неизбежно обратятся в тюрьмы и гробы повапленные,*
из которых нам или нашим детям придется сбежать или же
преобразовать их, чтобы жизнь продолжалась. Подпольный
человек Достоевского в бесконечном диалоге с самим собой
именно об этом и говорит:
Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте
оговориться. Я согласен: человек есть животное, по преимуществу
созидающее, присужденное стремиться к цели сознательно и за-
ниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно
дорогу себе прокладывать хотя куда бы то ни было. ‹...› Человек
любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но ‹...›
может быть ‹...› он сам инстинктивно боится достигнуть цели и до-
* Гробы повапленные (т. е. окрашенные, белые) — фразеологизм, бе-
рущий начало из Евангелия от Матфея (Мф. 23:27). В переносном смыс-
ле обозначает что-то ничтожное, отвратительное, скрытое за внешним
блеском, как останки и кости в красивых гробах.— П рим. пер.
7
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ PENGUIN
вершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть, он
здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть,
он только любит созидать его, а не жить в нем...
Я весьма резко ощутил столкновение различных модерниз-
мов, и даже поучаствовал в нем, когда в 1987 году, после вы-
хода португальского перевода этой книги, посетил Бразилию.
Первой моей остановкой стала Бразилиа — столица, выстро-
енная ex nihilo * по приказу президента Жуселину Кубичека
в конце 1950-х — начале 1960-х годов в географическом цен-
тре страны. Ее спроектировали Лусиу Коста и Оскар Нимей-
ер, левые последователи Ле Корбюзье. С воздуха Бразилиа
выглядит динамичным и завораживающим городом; кстати,
она специально построена так, чтобы формой напоминать
самолет, из окна которого я (как, по сути, и все остальные
гости) впервые ее увидел. Однако на земле, непосредственно
там, где живут и работают люди, это один из самых гнету-
щих городов мира. У меня нет места подробно описывать
планировку Бразилиа, но общее впечатление от нее — и его
подтвердил каждый встреченный мною бразилец — таково:
огромные пустые пространства, в которых индивид чувствует
себя потерянным и столь же одиноким, как человек на Луне.
В этом городе преднамеренно не создавали общественных
пространств, где люди могли бы встречаться и разговаривать
или просто прогуливаться и разглядывать друг друга. Великая
традиция иберийской и латиноамериканской урбанистики,
в рамках которой городская жизнь организуется вокруг plaza
mayor,** оказалась полностью отброшена.
Планировка Бразилиа идеально подошла бы столице во-
енной диктатуры во власти генералов, стремящихся держать
народ на расстоянии, разделять и подавлять. Однако для
столицы демократии это позор. Во время публичных дискус-
сий и в прессе я настаивал, что если Бразилия собирается
** Из ничего (лат.).— Прим. пер.
** Главная площадь (исп.) . — П рим. пер.
8
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и дальше идти демократическим путем, то ей необходимы
демократические общественные пространства, где люди со
всей страны могли бы свободно собираться, общаться друг
с другом и обращаться к своему правительству — в конце кон-
цов, при демократии это именно их правительство,— а также
обсуждать свои нужды и желания, извещать о своей воле.
Вскоре Нимейер начал отвечать. Высказав множество
нелестных вещей лично обо мне, он наконец заявил нечто
более интересное: Бразилиа символизирует устремления
и надежды бразильцев, и поэтому любая критика столицы
равносильна нападкам на сам народ. Один из его последо-
вателей добавил, что так я обнажил свою внутреннюю огра-
ниченность — ведь я притворялся модернистом, критикуя при
этом одно из величайших воплощений модернизма.
И тут я замешкался. В одном Нимейер все же был прав.
Когда Бразилиа задумывали и проектировали в 1950-х и на -
чале 1960-х годов, она действительно воплощала чаяния
бразильского народа — в частности, его мечту о модерности.
Огромная пропасть между этими чаяния и их воплощением,
кажется, отлично иллюстрирует слова Подпольного челове-
ка: строительство дворца модерным людям может показаться
увлекательным творческим процессом, но сама жизнь в нем
окажется кошмаром.
Такая проблема особенно насущна для модернизма, ко-
торый исключает перемены или враждебен по отношению
к ним — или, скорее, для модернизма, который стремится
лишь к одной и последней великой перемене. Нимейер и Ко-
ста вслед за Ле Корбюзье полагали, что модерный архитек-
тор должен при помощи новейших технологий воплощать
в материальном виде некий идеал, извечные классические
формы. Если бы это можно было проделать с целым горо-
дом, то он стал бы совершенным и законченным; границы его
могли бы расширяться, но внутри он бы больше не развивал-
ся. Подобно Хрустальному дворцу из «Записок из подполья»,
Бразилиа Косты и Нимейера не дает своим жителям — как
и жителям всей страны — сделать ничего нового.
9
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ PENGUIN
В 1964 году, вскоре после окончания строительства новой
столицы, бразильскую демократию свергла военная дикта-
тура. В годы ее правления (против которого Нимейер вы-
ступал) людей волновали преступления куда более серьез-
ные, чем недочеты в планировании Бразилиа. Но как только
в конце 1970-х и начале 1980-х годов бразильцы вернули себе
свободу, многие из них неизбежно возмутились столицей, ко-
торая сооружена была будто бы специально для того, чтобы
их заставить их умолкнуть. Нимейеру следовало бы знать, что
модернистское произведение, лишающее людей основных
модерных прав — свободы слова, собраний, споров, выра-
жения своих нужд — неизбежно обретет множество врагов.
В Рио, Сан-Паулу, Ресифи я ощущал себя выразителем мас-
сового недовольства городом, в котором, как говорили мне
многие бразильцы, для них нет места.
И все же, так ли виноват Нимейер? Если бы в конкурсе пла-
нировок города выиграл другой архитектор, то какова веро-
ятность, что это пространство оказалось бы менее отчужден-
ным, чем нынешнее? Разве все самое мертвящее в Бразилиа
не стало результатом общемирового консенсуса просвещен-
ных проектировщиков и архитекторов? Только в 1960–1970-х
годах, когда поколение, успевшее построить прото-Бразилиа
повсюду — не в последнюю очередь в мегаполисах и городах
моей страны — само пожило в этих пространствах, оно осоз-
нало, сколь многое оказалось утрачено в мире, созданном
такими модернистами. И лишь тогда, подобно Подпольно-
му человеку в Хрустальном дворце, они (и их дети) начали
показывать неприличные жесты, высмеивать его и создавать
альтернативный модернизм, который учитывал бы жизнь и до-
стоинство всех тех, кто был забыт ранее.
История Бразилиа вернула меня к одной из централь-
ных тем моей книги, к теме, которая казалась мне столь
очевидной, что я не обозначил ее так ясно, как следовало
бы — к важности коммуникации и диалога. Может показаться,
что в этих видах деятельности нет ничего собственно модер-
ного, ведь они восходят к зарождению цивилизации — и даже
10
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
помогают определить момент этого зарождения; и более двух
тысяч лет назад их превозносили как главные человеческие
ценности еще Пророки и Сократ. Но я считаю, что в эпоху
модерности коммуникация и диалог приобрели новые, осо-
бенные вес и актуальность, ведь личность и духовное начало
стремительно обогатились, но при этом оказались одино-
ки и замкнуты, как никогда раньше. В этих условиях ком-
муникация и диалог становятся одновременно неотложной
потребностью и главным источником наслаждения. В мире,
в котором все растворяется в воздухе, опыт коммуникации
и диалога представляет собой одно из немногих твердых ос-
нований смысла, на который мы можем положиться. Модер-
ная жизнь предлагает, а иногда даже навязывает нам возмож-
ность говорить, сблизиться и понять друг друга — и только это
может наполнить жизнь смыслом. Нам следует использовать
эти возможности в полной мере; они должны определять то,
как мы организуем наши города и наши жизни.*
Читатели часто интересуются, почему я не написал о тех
или иных людях, местах, идеях и движениях, которые вписа-
лись бы в этот проект не хуже, чем выбранные мною темы.
Почему я не рассматриваю Пруста или Фрейда, Берлин или
Шанхай, Мисиму или Сембена, нью-йоркских абстрактных
экспрессионистов или чешскую группу The Plastic People?
Простейший ответ — я хотел, чтобы книга «Все твердое рас-
творяется в воздухе» вышла в свет при моей жизни. Поэтому
однажды мне пришлось даже не столько закончить книгу,
сколько просто бросить ее писать. Кроме того, я никогда и не
собирался составлять энциклопедию модерности. Скорее
я надеялся наметить серию образов и парадигм, которые
подтолкнули бы других более глубоко и детально исследо-
вать их собственные опыт и истории. Я хотел написать книгу,
которая оставалась бы открытой, в которую читатели могли
бы вписать собственные главы.
* Эта тема развивается у таких мыслителей, как Георг Зиммель, Мар-
тин Бубер и Юрген Хабермас . — Прим. авт.
11
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ PENGUIN
Кто-то может счесть, что я не уделяю достаточного вни-
мания стремительно разрастающемуся современному дис-
курсу постмодернизма. Этот дискурс стал распространяться
из Франции в конце 1970-х годов и исходил, в основном,
от разочаровавшихся бунтарей 1968 года, вращавшихся на
орбите постструктурализма: Ролана Барта, Мишеля Фуко,
Жака Деррида, Жана-Франсуа Лиотара, Жана Бодрийяра
и легионов их последователей. В 1980-е годы постмодер-
низм стал главной темой художественных и литературных
дискуссий в США.1
Можно сказать, что созданная постмодернистами парадиг-
ма полностью противоречит той, что изложена в этой книге.
Я утверждаю, что модерная жизнь и искусство способны
к безграничной самокритике и самообновлению. Постмо-
дернисты стоят на том, что горизонт модерности схлопнулся,
она исчерпала свою энергию — словом, что модерность ушла
в прошлое. Социальная мысль постмодернистов высмеивает
любые коллективные надежды на моральный и социальный
прогресс, на свободу личности и общественное счастье, унас-
ледованные нами от модернистов эпохи Просвещения. Пост-
модернисты считают, что эти надежды оказались полностью
несостоятельны: в лучшем случае это пустые и бесполез-
ные фантазии, в худшем — средства утверждения господства
и чудовищного порабощения. Они уверяют, что насквозь
видят «большие нарративы» современной культуры, особен-
но «нарратив человечества как героя-освободителя». Харак-
терная особенность постмодернистской софистики: «В про-
шлом осталась даже ностальгия по нарративам прошлого».2
Недавняя книга Юргена Хабермаса, «Философский дис-
курс о модерне», выявляет слабости постмодернистской мыс-
ли в мельчайших деталях. В следующем году я более полно
освещу эту тему. Лучшее, что я могу сделать сейчас,— это за-
ново утвердить общее представление о модерности, развитое
мной в настоящей книге. Читатели сами могут спросить себя,
так ли сильно отличается от нашего реконструированный
мною мир Гете, Маркса, Бодлера, Достоевского и прочих.
12
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Правда ли мы уже переросли дилеммы, возникающие, когда
«все твердое растворяется в воздухе», или мечты о жизни,
в которой «свободное развитие каждого является условием
свободного развития всех»? Я так не думаю. Но я надеюсь,
что эта книга вооружит читателей знаниями, которые помогут
сделать собственные выводы.
И все же я сожалею, что не успел глубже исследовать одно
модерное чувство. Я имею в виду широко распространенный,
зачастую отчаянный страх перед свободой, которую модер-
ность предоставляет каждому индивиду, и желание любыми
способами от этой свободы сбежать (как метко выразился
в 1941 году Эрих Фромм). Эта характерная модерная тьма
впервые была подмечена Достоевским в его притче о Вели-
ком инквизиторе («Братья Карамазовы», 1881). «Или ты забыл,
что спокойствие,— говорит Инквизитор,— и даже смерть че-
ловеку дороже свободного выбора в познании добра и зла?
Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его
совести, но нет ничего и мучительнее». Затем Инквизитор
покидает Севилью эпохи Контрреформации и обращается
напрямую к читателям Достоевского конца XIX века: «Но
знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более
чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами
же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее
к ногам нашим».
Великий Инквизитор отбрасывает зловещую тень на по-
литику XX века. Огромное множество демагогов и демаго-
гических движений выиграли борьбу за власть и завоевали
обожание масс, освободив подвластных им людей от бре-
мени свободы (нынешний святой деспот Ирана даже внешне
похож на Великого инквизитора). Фашистские режимы 1922–
1945 годов могут оказаться всего лишь первой главой все еще
набирающей обороты истории радикального авторитариз-
ма. Многие движения этого типа пользуются современными
технологиями, коммуникационными системами и техниками
мобилизации масс, чтобы бороться с модерными свободами.
Некоторые из них нашли ярых сторонников в лице великих
13
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ PENGUIN
модернистов — Эзры Паунда, Хайдеггера, Селина. Кроющие-
ся здесь парадоксы и опасности темны и глубоки. Мне кажет-
ся, что честный модернист должен вглядываться в эту бездну
куда дольше и внимательнее, чем успел посмотреть я сам.
Я очень остро ощутил это чувство в начале 1981 года, ког-
да настоящая книга готовилась к печати, а Белый дом занял
Рональд Рейган. Одной из самых влиятельных сил, привед-
ших Рейгана к власти, было стремление уничтожить любые
следы «светского гуманизма» и превратить США в теокра-
тическое полицейское государство. Остервенелая (и щедро
финансируемая) воинственность этого устремления убедила
множество людей, в том числе страстных противников этого
движения, что именно так и выглядит будущее.
Однако сейчас, семь лет спустя, зелотов-инквизиторов
Рейгана безбоязненно порицают в Конгрессе, в судах офи-
циальных (даже в «Суде Рейгана» *) и на суде общественного
мнения. Американский народ сбили с толку, и он проголо-
совал за Рейгана, но люди явно не желают сложить свои
свободы у ног президента. Они ни за что не распрощают-
ся с надлежащим судопроизводством (даже во имя войны
против преступности), гражданскими свободами (даже если
они боятся чернокожих и не доверяют им), свободой слова
(даже если им не нравится порнография), или с правом на
неприкосновенность частной жизни и свободу жизни сек-
суальной (даже если они не одобряют аборты и ненавидят
гомосексуалистов). Даже те американцы, которые считают
себя глубоко религиозными, не под держали теократический
крестовый поход, который поставил бы всех их на колени. Это
сопротивление «социальному курсу» Рейгана — даже среди его
сторонников — показывает глубину приверженности обычных
людей модерности и ее главным ценностям. Оно показывает
* Имеется в виду назначение Рейганом в Верховный суд США судей,
на под держку которых он надеялся. Политическое влияние Верховного
суда при Рейгане особенно возросло, однако к концу его президентства
судьи начали открыто выступать против него.— П рим. пер.
14
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
также, что люди могут быть модернистами, даже если никогда
в жизни не слышали такого слова.
В книге «Все твердое растворяется в воздухе» я попытался
обрисовать перспективу, в рамках которой всевозможные
культурные и политические движения оказались бы частью
одного процесса: то, как модерные люди защищают свою
честь в настоящем — даже в скверном и жестоком настоящем —
и право контролировать свое будущее; стараются создавать
в современном мире места, где они могли бы чувствовать
себя свободно. С этой точки зрения борьба за демократию,
которая разворачивается во всем современном мире, имеет
центральное значение для смысла и силы модернизма. Мас-
сы безымянных людей, отдающих свои жизни в этой борьбе —
от Гданьска до Манилы, от Соуэто до Сеула — создают но-
вые формы коллективного самовыражения. «Солидарность»
и «Народная власть» * — такие же потрясающие достижения
модернизма, как «Бесплодная земля» или «Герника». Еще
рано переворачивать страницу книги «больших нарративов»,
в которых «человечество выступает героем-освободителем»:
новые субъекты и новые деяния появляются каждый день.
В 1968 году великий критик Лайонел Триллинг ввел в обо-
рот фразу: «Модернизм на улице». Я надеюсь, что читатели
этой книги всегда будут помнить, что модернизм принадле-
жит улицам, нашим улицам. Широкая дорога ведет на го-
родскую площадь.
* «Солидарность» — объединение польских профсоюзов, возникшее
во время забастовочного движения осенью 1980 года. Сыграло зна-
чительную роль в демонтаже власти Польской объединенной рабочей
партии. «Народная власть» — подразумевается филиппинская Революция
народной власти (или Желтая революция), которая в феврале 1986 года
свергла диктатуру Фердинанда Маркоса, занимавшего пост президента
с 1965 года. — Прим. пер.
[15]
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
НА протяжении большей части моей жизни, с тех самых
пор, как тридцать лет назад в Бронксе я узнал, что живу
в «современном (modern) доме» и расту в «современной
семье», меня интересовали смыслы модерности. В этой книге
я пытаюсь частично раскрыть, как они менялись, исследовать
и картографировать увлекательные и ужасные, двусмысленные
и парадоксальные стороны модерной жизни. Эта книга движет-
ся и развивается за счет самого различного чтения: в первую
очередь, чтения текстов — «Фауста» Гете, Манифеста Коммуни-
стической партии, «Записок из подполья» и многих других; но
также я пытаюсь читать пространственную и социальную сре-
ду — маленькие города, большие стройки, плотины и электро-
станции, Хрустальный дворец Джозефа Пакстона, парижские
бульвары Османа, петербургские проспекты, автомагистра-
ли Роберта Мозеса в Нью-Йорке; и, наконец, читать жизни
настоящих и вымышленных людей — со времен Гете к Марксу,
Бодлеру и до наших дней. Я попытался показать, что все
эти люди, книги и среды разделяют и поднимают опреде-
ленные, свойственные исключительно модерности вопросы.
Всеми ими движет воля к переменам — к преобразованию себя
и мира вокруг,— а также страх перед дезориентацией и дезин-
теграцией, перед распадом жизни. Всем им знакомы трепет
и ужас мира, в котором «все твердое растворяется в воздухе».
Быть модерным — значит жить жизнью, полной парадок-
сов и противоречий. Это значит быть подавленным огром-
ными бюрократическими организациями, которые властны
16
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
контролировать, а зачастую и уничтожать любые сообще-
ства, ценности, жизни; и в то же время это значит не коле-
баться в своей решимости противостоять этим силам, сра-
жаться за изменение мира, за то, чтобы сделать его своим.
Это значит быть одновременно революционером и кон-
серватором: с готовностью принимать новые возможности
опыта и приключений, но опасаться нигилистических глу-
бин, к которым ведут столь многие модерные авантюры,
жаждать созидать, но держаться за что-то настоящее, даже
если все растворяется. Можно сказать даже, что быть ис-
тинно модерным значит выступать против модерности: со
времен Маркса и Достоевского и вплоть до наших дней ни-
кому не удавалось понять все возможности модерного мира
и при этом полностью принять их, не выступая против самых
ощутимых его данностей. В этом свете неудивительны слова
великого модерниста и антимодерниста Кьеркегора о том,
что в модерном мире самая глубокая серьезность выража-
ется через иронию. За последнее столетие модерная ирония
вдохнула жизнь в огромное количество великих произведе-
ний искусства и мысли; и одновременно она пронизывает
повседневную жизнь миллионов обычных людей. Цель этой
книги — совместить все эти произведения и все эти жизни,
восстановить духовное богатство модернистской культуры
для современных простых мужчин и женщин, показать, что
модернизм для нас — это реализм. Это не поможет разрешить
противоречия, которые пропитывают модерную жизнь; но
это должно помочь нам понять их, позволить нам с незамут-
ненным рассудком сталкиваться с силами, которые делают
нас теми, кто мы есть, разбираться с ними и преодолевать их.
Вскоре после окончания работы над этим текстом смерть
забрала моего дорогого пятилетнего сына Марка. Я посвя-
щаю эту книгу ему. Из-за его жизни и смерти многие содер-
жащиеся в этой книге идеи и темы становятся очень лич-
ными: тот, кто, подобно ему, кажется наиболее счастливым
в современном мире, может оказаться уязвимее всего перед
населяющими его демонами; ежедневная рутина игровых
17
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
площадок и велосипедов, походов по магазинам, ужинов,
уборки, привычных объятий и поцелуев может быть не толь-
ко бесконечно радостной и прекрасной, но также бесконечно
шаткой и хрупкой; для поддержания этой жизни могут быть
необходимы отчаянные и героические усилия — и иногда мы
проигрываем. Иван Карамазов говорит, что из-за смерти де-
тей ему больше всего хочется сдать свой билет в этот мир.
Но он этого не делает. Он продолжает сражаться и любить;
он продолжает жить.
Нью-Йорк
Январь 1981
[18]
ВВЕДЕНИЕ.
МОДЕРНОСТЬ — ВЧЕРА ,
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
СУЩЕСТВУЕТ определенный тип жизненного опыта —
опыта пространства и времени, себя и других, воз-
можностей и угроз, которые таятся в жизни,— который
сегодня разделяют все люди по всему миру. Я буду назы-
вать его «модерностью». Быть модерным — значит пребывать
в среде, которая обещает нам приключения, силу, радость,
рост, преобразование нас и мира вокруг, но в то же вре-
мя угрожает уничтожить все, чем мы обладаем, все, что мы
знаем, все, чем мы являемся. Модерная среда и модерный
опыт пересекают любые границы — географические и этни-
ческие, классовые и национальные, религиозные и идео-
логические: можно сказать, что модерность объединяет все
человечество. Но это парадоксальное единство, единство
раздробленности: оно бросает нас в водоворот нескончае-
мого распада и возобновления, борьбы и противоречий, не-
определенности и страданий. Быть модерным — значит быть
частью вселенной, в которой, как сказал Маркс, «все твердое
растворяется в воздухе».
Людям, которых засасывает в этот водоворот, часто ка-
жется, что они первые, а то и единственные, кто пережива-
ет подобный опыт; это ощущение породило множество но-
стальгических мифов о Потерянном рае домодерных времен.
19
ВВЕДЕНИЕ
На деле же через этот процесс за последние пять столетий
прошло огромное количество людей — и число постоянно рас-
тет. Многие из этих людей, скорее всего, воспринимали мо-
дерность как глубинную угрозу своей истории и традициям,
однако за эти пять веков модерность сама обзавелась бо-
гатой историей и множеством традиций. Я хочу исследовать
и зафиксировать эти традиции, чтобы понять, как они могут
напитать и обогатить нашу собственную модерность, а также
изучить, как они запутывают и обедняют наше восприятие
модерности и того, какой она может быть.
Водоворот модерной жизни проистекает из множества
источников: великие открытия физики, которые перевора-
чивают представления о вселенной и нашем месте в ней;
индустриализация производства, которая преобразует науч-
ное знание в технологии, создает новые и разрушает старые
среды обитания человека, ускоряет общий темп жизни, по-
рождает новые формы корпоративной и классовой борьбы;
огромные демографические потрясения, которые вырывают
миллионы людей из мест обитания предков и вынуждают
их пересечь полмира, чтобы начать новую жизнь; быстрая
и зачастую влекущая катастрофические последствия урба-
низация; бурно развивающиеся, опутывающие и связыва-
ющие самых непохожих людей и самые различные сооб-
щества средства массовой коммуникации; набирающие силу
национальные государства, создаваемые и управляемые бю-
рократией и постоянно пытающиеся нарастить свою мощь;
массовые движения людей и народов, выступающие против
тех, кому принадлежит экономическая и политическая власть,
и стремящиеся вернуть себе хотя бы частичный контроль
над своими жизнями; и, наконец, поддерживающий и свя-
зывающий всех этих людей и все эти институты, постоянно
расширяющийся и невероятно быстро меняющийся мировой
капиталистический рынок. В XX веке социальный процесс,
который создает и поддерживает в состоянии постоянного
становления этот водоворот, стали называть «модерниза-
цией». Этот общемировой исторический процесс породил
20
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
невероятное разнообразие образов и идей, которые делают
людей как субъектами, так и объектами модернизации, наде-
ляют их силой изменить мир, который меняет их самих, пройти
через водоворот и сделать его своим. В последнее столетие
эти представления и ценности стали известны под расплы-
вчатым названием «модернизм». Настоящая книга изучает
диалектику модернизации и модернизма.
В надежде постичь нечто столь объемное, как история мо-
дерности, я выделил три периода. В первый период, который
длился примерно от начала XVI до конца XVIII века, люди
только начинают ощущать модерность: они едва понимают,
что случилось. Они отчаянно, но почти вслепую ищут необхо-
димый словарь; у нет, или почти нет, представления о модер-
ной публике или сообществе, внутри которого они могли бы
поделиться своими трудностями и надеждами. Второй наш
период начинается одновременно с великой революционной
волной 90-х годов XVIII века. С Французской революцией
и ее отзвуками внезапно и резко появляется великая модер-
ная публика. Этой публике свойственно ощущение жизни
в век революций, порождающий стремительные переворо-
ты в каждом измерении личной, социальной и политической
жизни. В то же время модерная публика XIX века еще помнит,
каково это, с материальной и духовной точек зрения,— жить
в мире, абсолютно далеком от модерности. Из этой внутрен-
ней дихотомии, ощущения жизни в двух мирах одновременно,
возникают и развиваются идеи модернизации и модернизма.
В XX веке, в наш третий и последний период, процесс модер-
низации захватывает, в сущности, весь мир, и развивающа-
яся мировая культура модернизма достигает впечатляющих
высот в искусстве и мысли. С другой стороны, по мере сво-
его роста модерная публика дробится на множество фраг-
ментов, которые говорят на бесчисленном множестве своих
собственных языков; идея модерности, постигаемая множе-
ством фрагментарных способов, утратила большую часть
своей яркости, важности и глубины, потеряла свою способ-
ность организовывать жизнь людей, наполнять ее смыслом.
21
ВВЕДЕНИЕ
Поэтому сегодня мы наблюдаем эпоху модерна, которая
утратила связь с корнями своей собственной модерности.
Образцовый голос ранней модерности, до Американской
и Французской революций,— это голос Жан-Жака Руссо. Рус-
со первым использовал слово moderniste так, как его будут
использовать в XIX и XX веках; также от него берут начало
некоторые наиболее важные модерные традиции — от но-
стальгической мечтательности и психоаналитического само-
копания до коллективной демократии. Как всем известно,
Руссо был глубоко несчастным человеком. Его страдания
проистекали, большей частью, из тяжелого жизненного опы-
та, но в остальном были вызваны острой реакцией на соци-
альные условия, которые вскоре изменят жизнь миллионов
людей. Руссо поражал своих современников, заявляя, что
европейское общество стоит «на краю пропасти», на грани
самых стремительных революционных сдвигов. Он ощущал
повседневную жизнь в этом обществе — особенно в Париже,
его столице,— как вихрь, le tourbillon social.1 Как может лич-
ность действовать и жить в этом вихре?
Юный герой сентиментального романа Руссо «Новая Эло-
иза», Сен-Пре, пробует переехать — что будет совершенно
типично для миллионов молодых людей в последующие сто-
летия — из деревни в город. Он пишет своей возлюбленной,
Юлии, из глубин le tourbillon social и пытается передать свое
удивление и ужас. Сен-Пре видит в столичной жизни «вечный
круговорот козней и происков, прилив и отлив предрассудков,
противоречивых мнений... каждый беспрестанно противоре-
чит себе»;* «все это нелепо, но никого не коробит, ибо к этому
привыкли». Это мир, в котором «добро, зло, красота, урод-
ство, истина, добродетель имеют лишь ограниченное и мест-
ное существование». Появляется множество новых возмож-
ностей, но тому, кто хочет ими воспользоваться, «приходится
быть более гибким, чем Алкивиад,— менять свои принципы,
* Здесь и далее перевод «Юлии, или Новой Элоизы» А. А . Худадовой
и Н. И . Немчиновой. — Прим. пер.
22
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
переходя из общества в общество, так сказать, принорав-
ливать свой ум к каждому своему шагу». После нескольких
месяцев в такой среде
я и сам начинаю испытывать какое-то умопомрачение, которое
охватывает всякого, кто ведет здешний бурный и суетливый образ
жизни; у меня просто голова идет кругом,— словно перед глазами
мелькает целая вереница разных предметов. Ни один из них, по-
ражая меня, не привлекает моего сердца, но все вкупе смущают
мой покой и захватывают меня, иногда даже заставляя на миг
забывать, что я существую и ради кого существую.
Он убеждает свою первую любовь в верности, но и при-
знаваясь ей испытывает страх: «Нынче я не ведаю, что мне
понравится завтра». Он отчаянно хочет найти опору, но пи-
шет: «Вижу я одни личины и призраки, на миг поражающие
взор и мгновенно исчезающие, как только ты захочешь их
удержать».2 Именно в этой атмосфере — атмосфере смятения
и бурления, духовного головокружения и опьянения, рас-
ширения возможностей обрести новый опыт и разрушения
моральных границ и личных связей, призраков на улицах
и в душе — рождается модерная чувственность.
Если мы перенесемся вперед примерно на столетие и по-
пытаемся нащупать уникальные ритмы и тембры модерности
XIX века, то в первую очередь заметим новый высокоразви-
тый, дифференцированный и динамичный фон, на котором
разворачивается опыт модерности. Это фон состоит из па-
ровых двигателей, автоматизированных фабрик, железных
дорог, новых огромных индустриальных зон; внезапно, ча-
сто с ужасающими последствиями для населения, выросших
многолюдных городов; ежедневных газет, телеграфа, теле-
фона и других, еще более широкомасштабных, средств мас-
совой информации; постоянно усиливающихся националь-
ных государств и консолидирующегося транснационального
капитала; массовых социальных движений, противопостав-
ляющих модернизации сверху свою модернизацию снизу;
23
ВВЕДЕНИЕ
объединения всего в рамках беспрестанно расширяющегося
мирового рынка, способного к самому впечатляющему росту,
ужасным тратам и разрушениям, способного ко всему кроме
прочности и стабильности. Все великие модернисты XIX века
страстно нападают на эту среду, стремятся развалить или
подорвать ее изнутри; но при этом они на удивление ком-
фортно чувствуют себя в ней, пользуются ее возможностями,
под держивают ее даже в самом отчаянном отрицании, весе-
лятся и иронизируют даже в минуты рассуждений о самых
серьезных и глубоких ее проблемах.
Нам удастся ощутить сложность и богатство модернизма
XIX века, а также отдельных черт, создающих его разноо-
бразие, если на секунду мы прислушаемся к двум самым
характерным его голосам: Ницше, которого обычно считают
главным источником множества модернизмов нашего вре-
мени, и Маркса, которого обычно вообще не ассоциируют
с каким-либо видом модернизма.
Вот Маркс на нескладном, но выразительном английском
языке произносит речь в Лондоне в 1856 году:3 «Так назы-
ваемые революции 1848 года были лишь мелкими эпизода-
ми,— начинает он,— незначительными трещинами и щелями
в твердой коре европейского общества. Но они вскрыли
под ней бездну. Под поверхностью, казавшейся твердой,
они обнаружили колышущийся океан, которому достаточно
прийти в движение, чтобы разбить на куски целые материки
из твердых скал».* Реакционные правящие классы 1850-х
годов говорят миру, что все вновь затвердело; но неясно,
верят ли они этому сами. На самом деле, как говорит Маркс,
«хотя атмосфера, в которой мы живем, и давит на каждого
из нас с силой в 20 000 фунтов, разве вы чувствуете это?»
Одна из самых важных целей Маркса — сделать так, чтобы
люди «это почувствовали»: именно поэтому он выражает свои
идеи через такие напряженные и сложные образы — пропасти,
* Здесь и далее перевод по: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2,
том 12. М., 1958.— Прим. пер.
24
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
землетрясения, извержения вулканов, сокрушительная сила
гравитации — образы, которые будут резонировать и в мо-
дернистском искусстве, и в мысли нашего века. Маркс про-
должает: «Налицо великий факт, характерный для нашего
XIX века, факт, который не смеет отрицать ни одна партия».
Основной факт модерной жизни, в представлении Маркса,
состоит в том, что эта жизнь полностью противоречит самой
себе в своей основе:
С одной стороны, пробуждены к жизни такие промышленные
и научные силы, о каких и не подозревали ни в одну из пред-
шествовавших эпох истории человечества. С другой стороны,
видны признаки упадка, далеко превосходящего все известные
в истории ужасы последних времен Римской империи. В наше
время все как бы чревато своей противоположностью. Мы видим,
что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать
плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и из-
нурение. Новые, до сих пор неизвестные источники богатства
благодаря каким-то странным, непонятным чарам превращаются
в источники нищеты. Победы техники как бы куплены ценой мо-
ральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество
подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей
либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет
науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрач-
ном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс
как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются ин-
теллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей
интеллектуальной стороны, низводится до степени простой ма-
териальной силы.
Эти невзгоды и загадки порождаются отчаяние во многих
людях эпохи модерна. Одни хотят «избавиться от современ-
ной техники, чтобы тем самым избавиться от современных
конфликтов»; другие пытаются сбалансировать прогресс
в промышленности регрессом к новому феодализму или аб-
солютизму в политике. Однако Маркс возвещает модерни-
25
ВВЕДЕНИЕ
стскую по своей парадигме веру: «Мы, со своей стороны,
не заблуждаемся относительно природы того хитроумного
духа, который постоянно проявляется во всех этих проти-
воречиях. Мы знаем, что новые силы общества, для того
чтобы действовать надлежащим образом, нуждаются лишь
в одном: ими должны овладеть новые люди, и эти новые
люди — рабочие. Рабочие — такое же изобретение современ-
ности, как и сами машины». Значит, класс «новых людей»,
людей модерных целиком и полностью, сможет разрешить
противоречия модерности, преодолеть сокрушительное дав-
ление, землетрясения, роковые моменты, лежащие между
личностями и социальными группами бездны, на краю ко-
торых вынуждены жить все современные люди. Сказав это,
Маркс внезапно игриво связывает свое видение будущего
с прошлым — с английским фольклором, с Шекспиром: «В тех
явлениях, которые приводят в смятение буржуазию, ари-
стократию и злополучных пророков регресса, мы узнаем
нашего доброго друга, Робина Гудфеллоу, старого крота,
который умеет так быстро рыть под землей, этого славного
минера — революцию».
Тексты Маркса знамениты своими концовками. Но если мы
взглянем на него как на модерниста, то заметим, что в ос-
нове его мысли лежит одухотворяющее ее диалектическое,
свободное движение, которое противоречит его собствен-
ным концепциям и желаниям. Так, в Манифесте Коммуни-
стической партии мы видим, что революционная динамика,
которая свергнет современную буржуазию, произрастает из
глубочайших стремлений и нужд самой буржуазии:
Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно пере-
воротов в орудиях производства, не революционизируя, следова-
тельно, производственных отношений, а стало быть, и всей сово-
купности общественных отношений... Беспрестанные перевороты
в производстве, непрерывное потрясение всех общественных от-
ношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную
эпоху от всех других.
26
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Это, возможно, наиболее исчерпывающее представление
о модерной среде — среде, которая породила поразительное
изобилие модернистских движений со времен Маркса до на-
шего времени. Марк развивает свою мысль:
Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с со-
путствующими им, веками освященными представлениями и воз-
зрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются
устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное
и застойное исчезает,* все священное оскверняется, и люди при-
ходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на
свое жизненное положение и свои взаимные отношения.4
Так иронией судьбы диалектическое движение модерности
оборачивается против своей главной движущей силы, бур-
жуазии. Но не факт, что этот разворот — последний: в конце
концов, все современные движения, в том числе и движение
самого Маркса, действуют в этих же условиях. Предположим
вслед за Марксом, что буржуазия сгниет, а коммунистиче-
ское движение окажется у власти: что помешает этой новой
социальной силе разделить судьбу своей предшественницы
и раствориться в модерном воздухе? Маркс осознавал на-
сущность этого вопроса и предложил ряд ответов, которые
мы обсудим позднее. Но одно из главных достоинств мо-
дернизма в том, что его вопросы долго звучат эхом даже
после того, как сами вопросы и ответы на них давно сошли
со сцены.
Если мы продвинемся вперед на четверть века, к Ницше
в 1880-е годы, то обнаружим совсем другие предрассуд-
ки, убеждения и надежды, но на удивление сходный голос
и ощущение модерной жизни. Для Ницше, как и для Маркса,
модерная история течет иронично и диалектично: и именно
* Д ля сохранения метафоры, отсутствующей в русском (более близ-
ком к оригиналу) переводе «Манифеста Коммунистической партии», его
текст был незначительно изменен. — П рим. пер.
27
ВВЕДЕНИЕ
поэтому христианские идеалы непорочности души и стрем-
ления к правде привели к подрыву самого христианства. Ре-
зультатом стали травматические события, которые Ницше на-
звал «смертью Бога» и «пришествием нигилизма». Модерное
человечество столкнулось с исчезновением Бога и отсутстви-
ем ценностей, но при этом и с исключительным изобилием
возможностей. Здесь, в тексте Ницше «По ту сторону добра
и зла» (1882), мы находим, как и у Маркса, мир, в котором
все носит в себе зародыш собственного противоречия:5
На этих поворотных пунктах истории чередуются и часто сплета-
ются друг с другом — великолепное, многообразное, первобыт-
но-мощное произрастание и стремление ввысь, что-то вроде тро-
пического темпа в состоянии растительного царства, и чудовищная
гибель и самоуничтожение благодаря свирепствующим друг про-
тив друга, как бы взрывающимся эгоизмам, которые борются за
«солнце и свет» и уже не знают никаких границ, никакого удержа,
никакой пощады, к чему могла бы их обязывать прежняя мораль...
Сплошные новые «зачем», сплошные новые «чем» выступают на
сцену, нет более никаких общих формул, непонимание и неуваже-
ние заключают тесный союз друг с другом, гибель, порча и выс-
шие вожделения ужасающим образом сплетаются между собой,
гений расы изливается из всех рогов изобилия, Доброго и Злого,
наступает роковая одновременность весны и осени... Снова появ-
ляется опасность, великая опасность, мать морали,— на этот раз
она кроется в самом индивидууме, в ближнем и друге, на стогнах,
в собственном ребенке, в собственном сердце, во всех самых за-
душевных и затаенных желаниях и устремлениях.*
В такие времена «индивид отваживается стоять особня-
ком». С другой стороны, этот отважившийся индивид отчаянно
«вынужден теперь сделаться своим собственным законода-
телем, измышлять разные уловки и хитрости для самосохра-
нения, самовозвышения, самоосвобождения». Возможности
* Здесь и далее перевод Н. Полилова. — Прим. пер.
28
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
одновременно великолепны и зловещи. «Наши инстинкты
теперь устремляются назад по всем направлениям, и сами
мы представляем собой нечто вроде хаоса». Чувство мо-
дерного человека в отношении самого себя и своей истории
«означает почти то же, что чувство и инстинкт ко всему, то же,
что вкус ко всему». Здесь открывается огромное множество
путей. Как модерным мужчинам и женщинам найти ресурсы,
чтобы справиться со своим «всем»? Ницше отмечает, сколь
многочисленных никчемные оппортунисты, которые отве-
чают на хаос модерной жизни, пытаясь не жить в принципе:
«„Сделайтесь посредственными!“ — вот что повелевает един-
ственная мораль, еще имеющая смысл».
Еще один типаж модерного человека пытается пароди-
ровать прошлое: «история нужна ему, как кладовая, напол-
ненная костюмами. Конечно, он замечает при этом, что ни
один из них не приходится ему впору»,— ни первобытный,
ни классический, ни средневековый, ни восточный,— «и вот
он все меняет и меняет их», неспособный принять, что мо-
дерному человеку «ничего не идет», потому что ни одна из
социальных ролей в эпоху модерности не может сидеть как
влитая. Сам Ницше считает, что все опасности модерности
нужно принимать с радостью: «мы, современные люди, мы,
полуварвары,— и там лишь находим наше блаженство, где
нам грозит и наибольшая опасность. Нас щекочет именно
бесконечное, безмерное». И все же Ницше не собирается
жить посреди этой опасности вечно. Столь же страстно, как
Маркс, он утверждает свою веру в новый вид человека —
«человека завтрашнего и послезавтрашнего дня» — который
«находится в разладе со своим „сегодня“» и который обретет
мужество и воображение, чтобы «создать новые ценности»,
которые понадобятся модерным мужчинам и женщинам, что-
бы проложить свой путь сквозь окружающие их неисчисли-
мые опасности.
То общее, что есть в голосах Маркса и Ницше, что отличает
и выделяет их — это их бешеный темп, зажигательная энергия,
образная глубина, но также быстрая и резкая смена тона
29
ВВЕДЕНИЕ
и интонации, готовность выступить против самих себя, по-
ставить под сомнение и отринуть все сказанное, преобразить
себя в огромный диапазон гармоничных или диссонирующих
голосов, выйти за пределы своих способностей, к бесконеч-
но более широкому диапазону, чтобы выразить и ухватить
мир, где всюду есть зародыш противоречия и «все твердое
растворяется в воздухе». В этом голосе одновременно звучат
познание и осмеяние своей личности, самодовольство и са-
мокритика. Этот голос знает боль и ужас, но верит в свою
силу и способность преодолевать невзгоды. Смертельная
опасность повсюду и может настичь в любой миг, но даже
самые глубокие раны не могут остановить поток его энергии.
Этот голос ироничен и противоречив, полифоничен и диа-
лектичен, он осуждает модерную жизнь во имя тех самых
ценностей, что были созданы модерностью, в надежде — а ча -
сто вопреки надежде — что модерности завтрашнего и после-
завтрашнего дня исцелят раны, нанесенные современным
людям. Все великие модернисты XIX века — столь разные, как
Маркс и Кьеркегор, Уитман и Ибсен, Бодлер, Мелвилл, Кар-
лайл, Штирнер, Рембо, Стриндберг, Достоевский и многие
другие — говорят в том же ритме и том же диапазоне.
Что же произошло с модернизмом XIX века в веке XX? В каких-то
областях он разросся и процветает так, как нельзя было и меч-
тать. В живописи и скульптуре, в поэзии и прозе, театре и тан-
це, архитектуре и дизайне, во всем разнообразии электронных
средств массовой информации и еще более широком спектре
научных дисциплин, которых даже не существовало век назад,
наше столетие произвело удивительное количество работ и идей
высочайшего качества. XX век вполне можно считать наиболее со-
зидательным в мировой истории, не в последнюю очередь по той
причине, что творческая энергия бурлит во всех частях света. Ге-
ниальность и глубина современного модернизма — живущая в ра-
ботах Грасса, Гарсии Маркеса, Фуэнтеса, Каннингема, Невельсон,
ди Суверо, Кэндзо Тангэ, Фасбиндера, Херцога, Сембена, Роберта
Уилсона, Филипа Гласса, Ричарда Формана, Твайлы Тарп, Максин
30
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Хонг Кингстон и многих других наших современников — дает нам
множество поводов для гордости в мире, где не меньше поводов
для стыда и страха. И тем не менее, как мне кажется, мы не знаем,
как использовать наш модернизм; мы упустили или разорвали
связь между нашими жизнями и нашей культурой. Джексон Поллок
видел в своих льющихся картинах леса, в которых зритель может
потеряться (и, безусловно, найти себя), но в целом мы скорее
утратили навык помещать себя в картину, узнавать в себе участ-
ников и протагонистов современного искусства и мыс ли. Наше
столетие породило великолепное модерное искусство; но мы,
кажется, разучились понимать модерную жизнь, из которой это
искусство возникло. Во многих областях со времен Маркса и Ниц-
ше модерная мысль выросла и развилась; но, кажется, наше пред-
ставление о модерности стагнировало и даже регрессировало.
Если мы внимательно прислушаемся к писателям и мысли-
телям XX века, затрагивающим тему модерности, и сравним
их с теми, кто жил век назад, мы заметим, сколь узкой стала
их перспектива и как резко сократился их образный спектр.
Наши мыслители XIX века были одновременно и поклонника-
ми, и врагами модерной жизни, они неустанно сражались с ее
двусмысленностями и противоречиями; самоирония и вну-
тренний разлад были главными источниками их творческой
энергии. Их наследники в XX веке гораздо более склонны
к строгим противопоставлениям и плоским умозаключениям.
Модерность либо принимается со слепым и некритическим
энтузиазмом, либо осуждается с олимпийским спокойствием
и презрением; в обоих случаях она воспринимается как за-
конченный монолит, который современные люди больше не
смогут изменить. Открытый взгляд на модерную жизнь был
вытеснен закрытым, «то и другое / и» сменилось на «одно из
двух / или».
Основная поляризация произошла в начале нашего века.
Вот итальянские футуристы, страстные сторонники модерно-
сти в годы перед Первой мировой войной: «Товарищи! Мы
говорим вам, что триумфальный прогресс науки столь глубо-
31
ВВЕДЕНИЕ
ко меняет человечество, что теперь уже пролегла пропасть
между этими покорными рабами традиции и нами, свободны-
ми, современными, уверенными в лучезарном великолепии
будущего».6 Здесь нет никакой двусмысленности: «тради-
ция» — подразумеваются все и сразу мировые традиции — за -
просто равняется покорному рабству, а модерность — свобо-
де; никаких неотвеченных вопросов. «Так придите, добрые
поджигатели с обугленными пальцами! Вот они!.. Вот они!..
Суньте огонь в библиотечные полки! Отведите течение ка-
налов, чтобы затопить склепы музеев!.. О, пусть плывут по
ветру и по течению знаменитые картины! К вам, заступы
и молотки! Подкапывайте фундаменты почтенных городов!» *
Нет, конечно, Маркс и Ницше тоже умели упиваться модер-
ным уничтожением традиционных структур; но они осозна-
вали человеческие жертвы этого прогресса, знали, что мо-
дерности предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем
ее раны затянутся.
Мы будем петь об огромных толпах, движимых работой, удо-
вольствием или бунтом; мы будем петь о многоцветных, полифо-
нических волнах революций в современных столицах; мы будем
петь о ночном зное арсеналов и верфей под их жестокими элек-
трическими лунами; о прожорливые вокзалы, которые глотают
огнедышащих змей; заводы, подвешенные к облакам на канатах
из собственного дыма; мосты, которые перебросились через реки,
словно гимнасты, и блестят на солнце блеском ножей; отважные
пароходы ‹...› локомтивы с широкой грудью ‹...› и мягкий свет
самолетов [и т. д . и т. п.].7
Даже семьдесят лет спустя нас все еще захватывает юно-
шеский огонь и энтузиазм футуристов, их стремление сое-
динить свою энергию с модерной технологией и заново по-
строить мир. Но в этом новом мире столькому нет места! Мы
видим это даже в великолепной метафоре — «многоцветные,
* Перевод В. Шершеневича. — П рим. пер.
32
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
полифонические волны революций». Человеческая чувствен-
ность действительно обогатилась, научившись воспринимать
политические потрясения в художественной (музыкальной,
изобразительной) форме. Но, с другой стороны, что же про-
изойдет со всеми людьми, которых эти прибои сметут? Их
опыт никак не учитывается футуристами. Похоже, что не-
которые очень важные человеческие чувства умирают по
мере оживления машин. И, действительно, в более поздних
футуристских текстах видим: «Мы надеемся на появление
нечеловеческого типажа, в котором моральные дилеммы,
сердечная доброта, привязанность и любовь, разъедающие
жизненную энергию, нарушающие циркуляцию электриче-
ства в нашем теле,— будут устранены».8 На этой ноте фу-
туристы в 1914 году с пылом бросились в войну, которую
они называли «единственной гигиеной мира». В следую-
щие два года два самых талантливых их представителя — ху-
дожник-скульптор Умберто Боччони и архитектор Антонио
Сант-Элиа — будут убиты их любимыми машинами. Осталь-
ные выживут, но станут всего лишь культурными клячами
в мельнице Муссолини и окажутся перемолоты в пыль мерт-
вой рукой будущего.
Несуразность и самодеструктивность, с которой футури-
сты превозносили модерные технологии, привели к тому,
что их причуды никогда не будут повторены. Но их некри-
тическая романтизация машин, подпитываемая полной от-
страненностью от людей, переродится в другие виды мо-
дернизма — менее странные и более долговечные. После
Первой мировой войны мы встречаем подобный модернизм
в облагороженном виде в «эстетике машин», в технократи-
ческих пасторалях Баухауса, Гропиуса и Миса ван дер Роэ,
Ле Корбюзье и Леже, Ballet Mécanique. После следующей
мировой войны мы встречаем его вновь в восторженных
восхвалениях высоких технологий у Бакминстера Фуллера
и Маршалла Маклюэна, а также в «Футуршоке» Элвина То-
ффлера. Работа «Понимание медиа» Маклюэна, опублико-
ванная в 1964 году:
33
ВВЕДЕНИЕ
Компьютер обещает нам достичь с помощью технологии того со-
стояния всеобщего понимания и единения, которое восторжество-
вало на Пятидесятницу. Следующим логическим шагом должен...
стать... отход от языков к общему космического сознанию... Можно
провести параллель между состоянием «невесомости», сулящим
нам, по уверениям биологов, физическое бессмертие, и состоя-
нием безмолвия, которое могло бы даровать нам вечную коллек-
тивную гармонию и мир.*
9
Этот же модернизм лежит в основе тех моделей модер-
низации, которые разработали, часто на щедрые государ-
ственные и фондовые субсидии, послевоенные американ-
ские социологи для экспорта в страны Третьего мира. Вот,
например, гимн современной фабрике от социального пси-
холога Алекса Инкелеса:
Фабрика под управлением модерных менеджмента и кадровой по-
литики даст своим работникам пример рационального поведения,
эмоционального баланса, открытого взаимодействия и уважения
к мнениям, чувствам и достоинству рабочего, что может стать
мощным примером для принципов и практик модерной жизни.10
Футуристы могли бы осудить недостаточную яркость этой
прозы, но они, без сомнения, оценили бы представление
о фабрике как об образцовом человеке, который должен
служить примером для других. Эссе Инкелеса озаглавлено
«Модернизация человека», и в нем он изначально хотел по-
казать важность человеческих желаний и инициативы в со-
временной жизни. Но проблема этого эссе, как и любого
модернизма футуристической традиции, заключается в том,
что если все ведущие роли играют — как фабрика в цитате
выше — прекрасные машины и механические системы, едва
ли модерному человеку остается что-либо кроме как стать
их придатком.
* Перевод В. Николаева. — Прим. пер.
34
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Если мы перейдем к противоположному полюсу мысли
XX века, представители которого говорят решительное «нет»
модерной жизни, то встретим на удивление схожее ее понима-
ние. В кульминации «Протестантской этики и духа капитализ-
ма» Макса Вебера, написанной в 1904 году, весь этот «гран-
диозный космос современного хозяйственного устройства»
рассматривается как «железная клетка».* Этот неумолимый
капиталистический, легалистский и бюрократический порядок
«подвергает неодолимому принуждению... всех ввергнутых
в этот механизм с момента рождения». И «это принуждение
сохранится, вероятно, до той поры, пока не прогорит послед-
ний центнер горючего». Конечно, Маркс и Ницше — а также
Токвиль, Карлайл, Милль, Кьеркегор и все прочие великие
критики XIX века — тоже понимали, насколько модерные
технологии и социальная организация определяют судьбу
человека. Но они верили в то, что модерный индивид мо-
жет понять, что ему предначертано, а поняв — бороться про-
тив предначертанного. Поэтому даже в ужасном настоящем
они могли представить себе открытое будущее. У критиков
модерности XX века, напротив, почти нет эмпатии к своим
собратьям, людям, а также веры в них. Для Вебера его со-
временники всего лишь «бездушные профессионалы, бессер-
дечные сластолюбцы — и эти ничтожества полагают, что они
достигли ни для кого ранее не доступной ступени человече-
ского развития».**
11 Таким образом, получается, что не только
модерное общество являет собой клетку, но и все члены его
сформированы железными прутьями этой клетки; мы суще-
ства, у которых нет души, нет сердца, нет половой или лич-
ной идентичности *** — можно сказать, нет и существования.
*** Более точный перевод — «стальной панцирь», но далее Берман ис-
пользует образы именно железной клетки, поэтому мы оставляем в тексте
более традиционное переложение. — Прим. пер.
*** Перевод Ю. Н . Давыдовой. — П рим. пер.
*** «This nullity... caught in the delusion that it has achieved...» . Здесь
Берман акцентирует наше внимание на том, что в английском переводе
35
ВВЕДЕНИЕ
Здесь, как и в футуристичных и техно-пасторальных типах
модернизма, модерного человека как субъекта — живого су-
щества, способного на реакцию, суждения и действия по
отношению к миру — больше нет. Иронично, что критики кон-
цепции «железной клетки» в XX веке переняли точку зрения
ее сторонников: так как те, кто находится внутри, лишены
какой-либо личной свободы или достоинства, то эта клет-
ка — не тюрьма; она всего лишь дает сборищу ничтожеств
пустоту, в которой они так нуждаются и которой так жаждут.*
Вебер не верил в людей, но еще меньше он верил в пра-
вящие классы, будь то аристократические или буржуазные,
бюрократические или революционные. Поэтому его полити-
ческой позицией, по крайней мере в последние годы жизни,
был неизменно атакуемый либерализм. Но когда веберовская
Вебера используется безличное слово nullity, «ничтожество», к которому
относится неодушевленное местоимение it. Тем самым для него еще
более обесчеловечиваются те, о ком тут пишет Вебер. Однако того же
нельзя сказать ни о немецком оригинале (dies Nichts звучит невежливо,
но не обезличенно, и далее не употребляется местоимение, сходное по
иногда презрительному употреблению английского it в отношении лю-
дей), ни о русском переводе («ничтожества»). — Прим. пер.
* С более диалектической точкой зрения можно ознакомиться в не-
которых поздних эссе Вебера, например, «Политика как призвание
и профессия» или «Наука как призвание и профессия» (Hans Gerth and
C. Wright Mills, editors and translators, From Max Weber, Oxford, 1946).
Современник и друг Вебера, Георг Зиммель, намечает, но никогда пол-
ностью не развивает диалектическую теорию модерности XX века —
насколько это возможно сделать. См., напр., «Конфликт современной
культуры», «Большие города и духовная жизнь», «Расширение группы
и развитие индивидуальности» (Georg Simmel on Individuality and Social
Forms, edited by Donald Levine (University of Chicago, 1971)). У Зимме-
ля — а позднее у его младших последователей Дьердя Лукача, Т. В . Адор-
но и Вальтера Беньямина — диалектическая глубина и видение всегда
переплетены, часто в одном предложении, с монолитным культурным
отчаянием. — П рим. авт.
36
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
отчужденность и презрение к модерным людям были отделе-
ны от его скептицизма и критического осмысления, в остатке
оказалась политика куда более правая, нежели взгляды са-
мого Вебера. Многие мыслители XX века полагали, что дело
обстоит таким образом: кишащие массы, которые давят на
нас на улице и в государстве, не обладают нашими чувстви-
тельностью, духовностью или достоинством; не абсурдно ли,
что у этих «масс» (или «пустых людей») есть право управлять
не только собой, но и, в силу своего численного превосход-
ства, нами? Идеи и интеллектуальные жесты Ортеги, Шпен-
глера, Морраса, Т. С . Элиота и Аллена Тейта показывают,
как веберовский взгляд небожителя был присвоен, искажен
и усилен модерными мандаринами и псевдоаристократами
правой мысли XX века.
Удивительнее и тревожнее то, насколько этот взгляд при-
жился среди некоторых партисипативных демократов среди
недавно появившихся новых левых. Именно это произошло,
по крайней мере, на какое-то время в самом конце 1960-х
годов, когда доминирующую парадигму в критической мысли
стал определять «Одномерный человек» Герберта Марку-
зе. Согласно этой парадигме, и Маркс, и Фрейд устарели:
государство «тотального администрирования» устранило не
только классовую и социальную борьбу, но и психологиче-
ские конфликты и противоречия. У масс нет ни Эго, ни Ид,
в их душах не существует внутренних противоречий или ди-
намики: их идеи, их нужды, даже их мечты «навязаны им
извне»; их внутренняя жизнь «тотально администрирована»,
запрограммирована, чтобы воспроизводить именно те жела-
ния, которые может удовлетворить данная социальная систе-
ма,— и ничего больше. «Люди узнают себя в окружающих их
предметах потребления, прирастают душой к автомобилю,
стереосистеме, бытовой технике, обстановке квартиры».*
12
А ведь этот столь знакомый рефрен XX века разделяют
и те, кто любит модерный мир, и те, кто его ненавидит: мо-
* Перевод А. А . Юдина. — Прим. пер.
37
ВВЕДЕНИЕ
дерность — продукт своих машин, модерные же люди — всего
лишь их механическая копия. Но это есть извращение той
самой модернистской традиции XIX века, по орбите кото-
рой, по его собственным утверждениям, движется Маркузе —
критической традиции Гегеля и Маркса. Обращаться к этим
мыслителям, при этом отрицая их понимание истории как не-
прерывной деятельности, динамических противоречий, диа-
лектической борьбы и прогресса — значит не оставлять от них
ничего, кроме имен. Пока молодые радикалы 1960-х годов
боролись за изменения, которые позволили бы всем окружа-
ющим контролировать свои жизни, «одномерная» парадигма
провозгласила, что изменения невозможны в принципе и что
все эти люди, по сути, никогда и не были по-настоящему
живы. Отсюда есть два пути. Один — найти силу, которая пре-
бывала бы полностью «за пределами» модерного общества:
«прослойку отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых
и преследуемых представителей других рас и цветных, без-
работных и нетрудоспособных».13 Эти группы — находятся ли
они в американских гетто и тюрьмах или в странах третьего
мира — можно было бы рассматривать как революционную
силу, потому что их якобы не коснулся смертельный поцелуй
модерности. Но, конечно, эти поиски тщетны — нет никого «за
пределами» модерного мира, никто не может за них выйти.
Кажется, радикалам, которые понимают это и одновремен-
но полностью принимают одномерную парадигму, остаются
только пустота и отчаяние.
Переменчивая атмосфера 1960-х годов породила огром-
ное количество важных мыслей и споров о том, в чем же
главный смысл модерности. Наиболее интересные из них
связаны большей частью с природой модернизма. Модер-
низм 1960-х годов по общему отношению к модерной жизни
можно грубо разделить на три направления: положительное,
отрицательное и отрешенное. Такое разделение может пока-
заться примитивным, но и на деле отношение к модерности
в последнее время стало более примитивным и простым,
менее тонким и диалектичным, чем столетие назад.
38
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Первый из этих модернизмов, тот, что стремится отре-
шиться от современной жизни, в литературе наиболее ярко
был провозглашен Роланом Бартом, а в изобразительном ис-
кусстве — Клементом Гринбергом. Гринберг утверждал, что
единственная правомерная проблема модернистского искус-
ства — само искусство; а значит, единственная стоящая цель
для художника любого искусства или жанра — исследование
природы и ограничений этого жанра: главный посыл — ме-
диум. Так, например, единственная допустимая тема для мо-
дернистского художника — плоскостность поверхности (холста
и т. д .), на которой он рисует, потому что «лишь плоскост-
ность уникальна и доступна только этому виду искусства».14
В таком случае модернизм — это поиск чистого, саморефе-
рентного объекта искусства. Вот и все: правильная связь мо-
дерного искусства и модерной жизни — это отсутствие связи.
Барт рисует эту связь в позитивном, даже героическом све-
те: модерный писатель «решительно поворачивается лицом
к объективному миру, не заслоненному образами, которые
создаются в ходе Истории и социального общения».*
15 Тогда
модернизм предстает как величественная попытка освобо-
дить современного художника от грязи и вульгарности совре-
менной жизни. Многие художники и писатели — и еще больше
художественных и литературных критиков — были благодар-
ны этому модернизму за провозглашение самостоятельности
и достоинства их призвания. Но лишь немногие художники
и писатели остались с ним надолго: через какое-то время
неизбежно становится ясно, что искусство без личных чувств
или социальных отношений бесплодно и безжизненно. Такой
модернизм дарует свободу — свободу прекрасной и наглухо
запечатанной гробницы.
Кроме того, существовало понимание модернизма как пер-
манентной революции против тотальности модерной экзи-
стенции: это «традиция ниспровержения традиции» (Гарольд
Розенберг),16 «враждебная культура» (Лайонел Триллинг,17
* Перевод Г. Косикова. — П рим. пер.
39
ВВЕДЕНИЕ
«культура отрицания» (Ренато Подджоли). 18 Модерное про-
изведение искусства «досаждает нам своей агрессивной аб-
сурдностью» (Лео Штейнберг).19 Оно стремится безжалостно
ниспровергнуть все наши ценности и не заботится о восста-
новлении мира, который само же и разрушает. Это представле-
ние набирало силу и авторитет по мере накала политического
климата в 1960-е годы: в некоторых кругах «модернизм» стал
кодовым словом для любых бунтарских сил.20 Безусловно,
частично такое представление верно, но слишком многое оно
не учитывает. В нем нет великой романтики строительства,
ключевой силы в модернизме от Карлайла и Маркса до Тат-
лина и Колдера, Ле Корбюзье и Фрэнка Ллойда Райта, Марка
ди Суверо и Роберта Смитсона. В нем нет утверждающих
и под держивающих жизнь сил, которые у великих модерни-
стов всегда переплетены с насилием и восстанием: эроти-
ческое наслаждение, естественная красота и человеческая
нежность, не способные выбраться из смертельных объятий
нигилистической ярости и отчаяния Д. Г. Лоуренса; фигуры
«Герники» Пикассо, борющиеся за продолжение жизни даже
в предсмертном мучительном крике; последние триумфаль-
ные рефрены «A Love Supreme» Колтрейна; Алеша Карама-
зов, в смуте и страданиях целующий и обнимающий землю;
Молли Блум, завершающая образцово модернистскую книгу
словами: «Да я сказала да я хочу Да».
Еще одна сложность с пониманием модернизма исключи-
тельно как проблемы заключается в том, что оно стремится
преподнести модерное общество как общество, полностью
лишенное проблем. Оно не учитывает «непрерывное потря-
сение всех общественных отношений, вечную неуверенность
и движение», которые на протяжении двух столетий явля-
ются неоспоримыми основами современной жизни. Когда
в 1968 протестовали студенты Колумбийского университета,
некоторые консервативные профессора описали их протест
как «модернизм на улице». Видимо, эти улицы стали бы спо-
койны и законопослушны — посреди Манхэттена, конечно! —
если бы только каким-то образом удалось не допустить туда
40
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
модерную культуру, заперев ее в университетских аудито-
риях, библиотеках и Музее современного искусства.21 Если
бы эти профессора усвоили свои же лекции, то вспомнили
бы, как часто модернизм — Бодлер, Боччони, Джойс, Мая-
ковский, Леже и другие — питался настоящими беспорядками
на модерных улицах и преобразовывал уличный шум и дис-
сонанс в красоту и правду. Иронично, что из представления
радикалов о модернизме как об истинном ниспровержении
выросла неоконсервативная фантазия о мире, очищенном от
модернистского ниспровергательства. «Модернизм был иску-
сителем»,— писал Дэниел Белл в «Культурных противоречиях
капитализма». «Модернистское движение подрывает един-
ство культуры», «раскалывает „рациональную космологию“,
которая лежит в основе буржуазного представления о мире
как об упорядоченном взаимодействии между пространством
и временем» и т. д., и т. п .22 Если бы только модернистско-
го змия можно было бы изгнать из современного Эдема, то
пространство, время и космос упорядочились бы сами со-
бой. Затем, видимо, вернется технопасторальный золотой век,
и люди и машины смогут счастливо возлечь на веки вечные.
В 1960-е положительное видение модернизма развива-
ла разношерстная группа писателей, среди которых были
Джон Кейдж, Лоуренс Эллоуэй, Маршалл Маклюэн, Лесли
Фидлер, Сьюзен Сонтаг, Ричард Пойриер, Роберт Венту-
ри. Его появление приблизительно совпадает с возникно-
вением поп-арта в начале 1960-х. В числе его главных тем
были представления о том, что мы должны «приблизиться
к истинной жизни, которой мы живем» (Кейдж) и «пересечь
границу, убрать разрыв» (Фидлер).23 В первую очередь это
означало разрушение барьеров между «искусством» и дру-
гими областями человеческой деятельности вроде индустрии
развлечений, индустриальной технологии, моды и дизайна,
политики. Кроме того, данное представление вдохновляло
писателей, художников, танцовщиков, композиторов и кине-
матографистов выходить за пределы своей специализации
и совместно работать над лентами и перфомансами в сме-
41
ВВЕДЕНИЕ
шанной технике, что привело к появлению более сложных
и многозначных произведений искусства.
Для модернистов этого типа, которые иногда еще назы-
вали себя «постмодернистами», и модернизм чистой фор-
мы, и модернизм чистого восстания были слишком узкими,
слишком лицемерным, слишком ограниченным для модер-
нистского духа. Их идеал состоял в том, чтобы открыть себя
невероятному разнообразию и богатству вещей, материалов
и идей, которые без конца предоставлял современный мир.
Они вдохнули свежесть и игривость в культурную атмосферу,
которая в 1950-е годы стала невыносимо серьезной, окосте-
нелой и закрытой. Поп-модернизм восстановил открытость
к миру, широкий взгляд некоторых великих модернистов про-
шлого — Бодлера, Уитмена, Аполлинера, Маяковского, Уилья-
ма Карлоса Уильямса. Но, хоть этот модернизм и сравнялся
с ними в своей благосклонности к воображению, он так и не
научился их критической хватке. Когда такой великий ком-
позитор как Джон Кейдж принял финансирование иранско-
го шаха и давал модернистские шоу в нескольких милях от
места, где кричали и погибали политические заключенные,
отсутствие представлений о морали обнажилось не только
в самом Кейдже. Проблема в том, что поп-модернизм вообще
не развивал критический взгляд, который мог бы прояснить,
в какой момент открытость модерному миру должна закан-
чиваться и когда модерный художник должен остановиться
и сказать, что какие-то силы этого мира должны исчезнуть.*
* Увидеть поп-нигилизм в его самой бездумной форме можно, об-
ратившись к полному черного юмора монологу архитектора Филипа
Джонсона, у которого Сьюзан Сонтаг взяла в 1965 году интервью д ля
BBC:
Сьюзен Сонтаг: ...Я думаю, в Нью-Йорке эстетическая чувствен-
ность каким-то странным, очень модерным образом развита более, чем
где-либо еще. Если ты переживаешь вещи морально, то пребываешь
в состоянии постоянного негодования и ужаса, но [над тобой смеются],
если у тебя есть эта очень модерная разновидность...
42
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Так что все модернизмы и антимодернизмы 1960-х годов
были далеко не безупречны. Но само их обилие, подкреплен-
ное интенсивностью и жизненной силой, создало общий язык,
насыщенную атмосферу, общий горизонт опыта и желаний.
Все эти образы и ревизии модерности были активно ори-
ентированы на историю, они пытались связать беспокойное
настоящее с прошлым и будущим, помочь всем людям мо-
дерного мира найти в нем свое место. Все эти инициативы
оказались неудачными, но они возникли из широты воспри-
ятия и воображения и страстного желания ухватить мгнове-
ние. 1970-е оказались столь блеклым десятилетием именно
потому, что у них не было такого восприятия и инициативы.
Филипп Джонсон: Вы полагаете, это изменит представления о мо-
рали — то, что мы не можем использовать мораль как средство, чтобы
судить этот город, поскольку мы больше не переносим ее на дух? И что
мы меняем всю нашу систему морали, чтобы она соответствовала тому
ненормальному образу жизни, который мы ведем?
С. С .: Ну, я думаю, что мы учимся понимать ограничения морального
опыта вещей и происходящего. Я думаю, что можно быть эстетичным...
Ф. Д .: ...Чтобы просто, чтобы наслаждаться вещами, какие они есть —
красота, которую мы видим, совершенно отлична от той, которую мог
бы увидеть [Льюис] Мамфорд.
С. С .: Ну, я думаю, я вижу по себе, что вот прямо сейчас я вижу вещи
некоторым образом на двух уровнях... сразу морально и...
Ф. Д .: Какой прок вам от веры в хорошее?
С. С.: Потому что я...
Ф. Д .: Все это абсолютно бесполезная архаика. Я думаю, гораздо
лучше стать нигилистом и забыть об этом вообще. Я имею в виду, ну,
меня действительно донимают мои моральные друзья, но разве они не
кипятятся из-за какой-то полной ерунды?
Далее так и продолжается монолог Джонсона, прерываемый задум-
чивым бормотанием Сонтаг, которая явно хочет ему подыграть, но все
еще не в силах подарить морали прощальный поцелуй. Цит. по Jencks
Ch. Modern Movements in Architecture. Ann Arbor, Mich.: Anchor Press,
1973. P. 208–210.) .— П рим. авт.
43
ВВЕДЕНИЕ
По сути, сегодня, кажется, никто не хочет делать большие
человеческие обобщения, присущие идее модерности. По-
этому дискурса и полемики по поводу модерности, столь
бурных десятилетие назад, сегодня по большому счету уже
не существует.
Многие интеллектуалы из среды искусства и литературы
погрузились в мир структурализма, мир, который просто-на -
просто стирает вопрос о модерности наряду со многими дру-
гими вопросами о личности и истории. Другие восприняли
мистику постмодернизма, который взращивает равнодушие
к модерной истории и культуре и говорит таким тоном, буд-
то все человеческие чувства, выразительность, игры, сексу-
альность и общность были изобретены только что — постмо-
дернистами — и до прошлой недели были неизвестны и даже
непостижимы. Между тем социологи, пристыженные кри-
тикой своих техно-пасторальных моделей, полностью оста-
вили задачу построения единой модели, которая бы лучше
описывала модерную жизнь. 24 Вместо этого они разделили
модерность на набор отдельных составляющих — индустри-
ализация, образование государства, урбанизация, развитие
рынков, формирование элиты — и сопротивлялись любой по-
пытке интегрировать их в единое целое. Это освободило их
от излишне смелых выводов и размытых обобщений — но так-
же и от мысли, которая касалась бы их собственных жизней,
работы и места в истории.25 Закат проблематики модерности
в 1970-е годы означал разрушение жизненно важной формы
публичного пространства. Он ускорил распад нашего мира
на скопление групп с частными материальными и духовными
интересами, обитающих в герметичных монадах и куда более
изолированных, нежели это необходимо.
За прошедшее десятилетие, пожалуй, был всего лишь один
автор, которому удалось сказать о модерности что-то суще-
ственное,— Мишель Фуко. Но его слова — бесконечная вари-
ация на веберовские темы железной клетки и ничтожных лю-
дишек, чьи души сформированы под стать ее прутьям. Фуко
помешан на тюрьмах, больницах, лечебницах, на том, что
44
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Ирвинг Гофман называл «тотальными институтами». Однако,
в отличие от Гофмана, Фуко отрицает любую возможность
свободы как за пределами этих институтов, так и внутри их
узких коридоров. Тотальности Фуко поглощают все грани
модерной жизни. Он развивает эти темы с крайней беспо-
щадностью и даже с привкусом садизма, обрушивая на чита-
телей свои идеи словон железные прутья, впиваясь каждым
аргументом в нашу плоть, будто вгоняя ржавую отвертку.
Особенно сильное презрение Фуко придерживает для
людей, которые считают, что модерное человечество может
быть свободно. Мы думаем, что чувствуем прилив сексу-
ального желания? Мы всего лишь движимы «современными
технологиями власти, избирающими жизнь в качестве сво-
ей мишени», мы управляемы «диспозитивом сексуальности,
который организуется властью в точках захвата ею тел, их
материальности, их сил, их энергий, их ощущений, их удо-
вольствий». Мы действуем политически, свергаем тирании,
свершаем революции, пишем конституции для установления
и защиты прав человека? Это всего лишь «регрессия юри-
дического» из феодальных веков, потому что конституции
и билли о правах суть всего лишь «формы, которые делают
приемлемой власть — по преимуществу нормализующую». *
26
Мы используем наш разум, чтобы обличить угнетение — что,
кажется, и пытается делать Фуко? Даже не думайте, потому
что все формы исследования человеческого состояния «про-
сто отсылают индивидов от одной дисциплинарной инстанции
к другой», тем самым только усиливая триумфальный «дискурс
власти». Любой критицизм бесполезен, так как сам критик
находится «в паноптической машине, мы захвачены прояв-
лениями власти, которые доводим до себя сами, поскольку
служим колесиками этой машины».**
27
Выслушивая все это, мы понимаем, что в мире Фуко нет
свободы, потому что его язык образует неразрывную пау-
** Пер. М . Касталь. — Прим. пер.
** Пер. В. Наумова.— Прим. пер.
45
ВВЕДЕНИЕ
тину, клетку гораздо более герметичную, чем та, о которой
Вебер мог только мечтать, куда не может проникнуть никакая
жизнь. Загадка в том, почему же столь многие модерные
интеллектуалы желают задохнуться в ней вместе с Фуко. По-
дозреваю, ответ в том, что Фуко дает поколению беглецов из
1960-х годов историческое алиби мирового масштаба, оправ-
дывающее чувство беспомощности и пассивности, которое
охватило столь многих из нас в 1970-е. Нет смысла противо-
стоять угнетению и несправедливости модерной жизни, если
мечты о свободе всего лишь добавляют в наши цепи новые
кольца; как только мы признаем абсолютную бесполезность
всех усилий, то, по крайней мере, сможем расслабиться.
На этом мрачном фоне я хочу возродить динамичный
и диалектический модернизм XIX века. Великий модернист,
мексиканский поэт и критик Октавио Пас, сокрушался, что
модерность «отрезана от прошлого и постоянно несется впе-
ред на столь головокружительной скорости, что не способна
пустить корни, что едва переживает текущий день: она не
может вернуться к своим истокам и обрести силы для обнов-
ления».28 Основная идея этой книги в том, что, на самом деле,
модернизмы прошлого могут вернуть нам понимание наших
модерных корней, корней которые тянутся на два столетия
назад. Они могут помочь нам связать нашу жизнь с жизня-
ми миллионов людей, переживающих травму модернизации
прямо сейчас на расстоянии тысяч миль от нас, в обществах,
радикально отличных от нашего,— и с людьми, которые уже
пережили эту травму сто или двести лет назад. Они могут ос-
ветить противоречивые силы и нужды, которые вдохновляют
и мучают нас: наше стремление укорениться в стабильном
и связном личном и общественном прошлом — и ненасытное
стремление к росту, далеко не только экономическому, но
к росту в сферах опыта, удовольствия, знаний, чувственно-
сти, росту, который уничтожает и физический, и социаль-
ный ландшафт нашего прошлого, наши эмоциональные свя-
зи с этими потерянными мирами; отчаянную привязанность
к этническим, национальным, классовым и сексуальным
46
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
группам, которые, как мы надеемся, могут наделить нас твер-
дой «идентичностью» — и надежды на интернационализацию
повседневной жизни (одежды и предметов обихода, книг
и музыки, идей и фантазий), распространяющей наши иден-
тичности по всему миру; стремление обладать четкими
и прочными жизненными ценностями — и желание объять
безграничные возможности модерной жизни и опыта, сти-
рающие любые ценности; социальные и политические силы,
которые толкают нас к взрывоопасным конфликтам с дру-
гими людьми и народами, даже если мы развили глубокую
чувствительность и эмпатию к нашим врагам и понимаем,
нередко слишком поздно, что, в конечном счете, они не так
уж и отличаются от нас. Подобные переживания связыва-
ют нас с модерным миром XIX века; миром, где, как сказал
Маркс, «все чревато противоречиями» и «все твердое исче-
зает в воздухе»; миром, где, как сказал Ницше, «появляет-
ся опасность, великая опасность, мать морали,— на этот раз
она кроется в самом индивидууме, в ближнем и друге, на
стогнах, в собственном ребенке, в собственном сердце, во
всех самых задушевных и затаенных желаниях и устремлени-
ях». Модерные машины существенно изменились со времен
модернистов XIX века; но модерные люди, какими их тогда
видели Маркс, Ницше, Бодлер и Достоевский, возможно,
входят в свое право только сейчас.
Маркс, Ницше и их современники переживали модерность
как нечто целое тогда, когда по-настоящему модерной была
лишь малая часть мира. Столетие спустя, когда от сети, рас-
кинутой процессом модернизации, нельзя скрыться даже
в самом отдаленном уголке мира, мы много можем почерп-
нуть у первых модернистов — и не столько об их времени,
сколько о нашем. Мы больше не цепляемся за противоречия,
за которые они каждую секунду жизни хватались просто что-
бы выжить. Парадоксально, но первые модернисты могли бы
понять нас — модернизацию и модернизм, которые образуют
наши жизни,— лучше, чем себя понимаем мы сами. Если мы
сможем принять их представления, свежим взглядом и с их
47
ВВЕДЕНИЕ
точки зрения посмотреть на то, что нас окружает, то уви-
дим, что в нашей жизни гораздо больше глубины, нежели мы
полагали. Мы почувствуем общность с людьми всего мира,
которые страдают от тех же трудностей, что и мы сами. И мы
вернемся к необыкновенно богатой и живой модернистской
культуре, которая родилась из этих страданий: культуре, ко-
торая таит огромные запасы силы и здоровья, если мы только
признаем ее своей.
Дорога назад оказывается дорогой вперед — память о мо-
дернистах XIX века может дать нам понимание проблемы
и храбрость для создания модернизмов XXI века. Этот акт
вспоминания может помочь нам вернуть модернизм к корням,
чтобы он напитался и обновился, подготовился к опасностям
и приключениям, которые ждут впереди. Присвоение модер-
ностей вчерашнего дня может быть и критикой сегодняш-
них модерностей, и актом веры в модерности — и модерных
женщин и мужчин — дней завтрашнего и послезавтрашнего.
[48]
«ФАУСТ» ГЕТЕ: ТРАГЕДИЯ
РАЗВИТИЯ
Современное буржуазное общество, с его буржуазными отноше-
ниями производства и обмена, буржуазными отношениями соб-
ственности, создавшее как бы по волшебству столь могуществен-
ные средства производства и обмена, походит на волшебника,
который не в состоянии более справиться с подземными силами,
вызванными его заклинаниями.
«Манифест Коммунистической партии»
Господи боже мой!.. волосатые мальчишки вышли из -под кон-
троля!
Армейский офицер в Аламогордо, Нью-Мексико, сразу
после взрыва первой атомной бомбы в июле 1945
Мы живем в фаустовскую эпоху и обязательно встретим Господа
или Дьявола до ее окончания, и единственный ключ к этому зам-
ку — неизбежная руда истинного.
Норман Мейлер, 1971
ФАУСТ — один из героев модерной культуры с самого
ее зарождения. За четыре века, прошедших с изда-
ния Faustbuch Иоганном Шписом в 1587 году и «Тра-
гической истории доктора Фауста» Кристофера Марло го-
дом позже, его историю пересказывали бесконечно, на всех
современных языках, во всех известных техниках — от оперы
49
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
до кукольного театра и комиксов, во всех литературных
формах — от лирической поэзии до теолого-философской
трагедии и вульгарного фарса; перед ней не смог устоять
ни один модерный творец во всем мире. У фигуры Фауста
обладает много воплощений, но в основе своей он всегда тот
самый «волосатый мальчишка» — интеллектуал-нонконфор-
мист, маргинальный и подозрительный персонаж. И всегда
трагедия или комедия начинается, когда энергия фаустовского
разума «выходит из-под его контроля» и начинает жить своей
жизнью, динамичной и крайне опасной.
Спустя почти четыре столетия со своего дебюта Фауст
по-прежнему властвует над модерным воображением. Так,
журнал The New Yorker в антиядерном выпуске сразу по-
сле аварии на АЭС Три-Майл-Айленд использует Фауста
как символ безответственности науки и равнодушия к жизни:
«Эксперты — такие же ошибающиеся люди, как все осталь-
ные,— предлагают нам фаустовскую сделку, желая наложить
руки на вечность,— и это неприемлемо».1 А на другом полюсе
культурного спектра последний выпуск «Капитана Америки»
обещает раскрыть нам «коварные планы... ДОКТОРА ФАУС-
ТА!» Этот злодей, удивительно похожий на Орсона Уэллса,
бороздит небо над гаванью Нью-Йорка в гигантском дири-
жабле. «Пока мы смотрим,— говорит он двум беспомощным
связанным жертвам — канистры моего гениального мозгогаза
прикрепляют к специальным крюкам в выхлопной системе
дирижабля. По моему приказу верные военные [роботы] за-
льют город газом, и каждый мужчина, женщина и ребенок
в Нью-Йорке окажутся под моим полным ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИМ КОНТРОЛЕМ!» Вот это беда — ведь в прошлый визит
доктор Фауст смутил умы американцев так, что они стали
параноидально подозревать всех соседей в предательстве
и доносить на них, породив маккартизм. Кто знает, что он
придумал на этот раз? Капитан Америка вынужденно воз-
вращается из отставки, чтобы сразиться с врагом. «И пусть
это звучит старомодно,— говорит Капитан своим пресыщен-
ным читателям 1970-х годов — но я должен сделать это ради
50
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
нашей страны. Америка не сможет быть свободной, если
Фауст заполучит ее в свои потные ручонки!» И лишь когда
фаустовский злодей свергнут, перепуганная Статуя Свободы
вновь может улыбнуться.2
«Фауст» Гете превосходит все остальные версии богат-
ством и глубиной исторической перспективы, моральным во-
ображением, политическим проницательностью, психологи-
ческой чувственностью и наблюдательностью. Он открывает
новые измерения в зарождающемся модерном самоосозна-
нии, которое миф о Фаусте исследовал с самого зарождения.
Из-за абсолютной безграничности поэмы (не только в том,
что касается ее масштабов и амбиций, но и в искренности)
Пушкин назвал ее «„Илиадой“ новейшей поэзии». 3 Гете на-
чал работать над темой Фауста около 1770 года, в 21-лет-
нем возрасте, и с перерывами продолжал трудиться над
ней в течение следующих шестидесяти лет; он счел работу
законченной только в 1831 году, за год до своей кончины
в возрасте восьмидесяти трех лет, а целиком поэма была
опубликована только после его смерти.4 Получается, рабо-
та продолжалась на всем протяжении одной из наиболее
бурных революционных эпох в мировой истории. В значи-
тельной степени сила «Фауста» проистекает из этой самой
истории: герой Гете и персонажи вокруг него с невероятной
личностной глубиной проживают драмы и травмы мировой
истории, которые пережил сам Гете и его современники; вся
динамика этой работы воспроизводит более масштабную ди-
намику западного общества.
«Фауст» начинается в эпоху, когда мысль и чувственность
уже настолько модерны, что читатель XX века немедленно их
признает, но материальные и социальные условия существо-
вания все еще соответствуют средневековым; кончается же он
среди потрясений духовной и материальной жизни промыш-
ленной революции. Поэма начинается в уединенном кабинете
интеллектуала, абстрактном и затворническом царстве мыс-
ли; заканчивается она в бескрайнем царстве производства
и торговли, управляемом огромными корпоративными ор-
ганами и сложными организациями, которые Фауст помогает
51
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
создавать и которые в свою очередь помогают ему самому
создавать еще больше. В гетовской версии фаустовской темы
субъект и объект преобразований не только герой — а целый
мир. «Фауст» Гете изображает и инсценирует процесс, в ре-
зультате которого к концу XVIII и началу XIX века появляется
непосредственно модерная мировая система.
Жизненная сила, которая вдохновляет «Фауста» Гете, выде-
ляет поэму на фоне предшествующих ей произведений и в зна-
чительной степени придает ей насыщенность и динамику,— это
импульс, который я буду называть потребностью к развитию.
Гетевский Фауст пытается объяснить эту потребность своему
дьяволу — а объяснить ее совсем не легко. Более ранние ипо-
стаси Фауста продавали душу в обмен на вещи более ясные
и вожделенные всеми: деньги, секс, власть над другими, славу
и известность. Гетевский Фауст говорит, что да, всего этого он
тоже хочет, но просто так, само по себе, оно ему не нужно.
Не радостей я жду,— прошу тебя понять!
Я брошусь в вихрь мучительной отрады,
Влюбленной злобы, сладостной досады;
Мой дух, от жажды знанья исцелен,
Откроется всем горестям отныне:
Что человечеству дано в его судьбине,
Все испытать, изведать должен он!
Я обниму в своем духовном взоре
Всю высоту его, всю глубину;
Все счастье человечества, все горе —
Все соберу я в грудь свою одну,
До широты его свой кругозор раздвину
И с ним в конце концов я разобьюсь и сгину! [1765–75] * 5
* Здесь и далее используется перевод с немецкого Н. А . Холодков-
ского, если не указано иное. Цифры в квадратных скобках означают
номера строк оригинальной поэмы или перевода. Обычно в многоти-
ражных изданиях на русском эта нумерация не используется, но в на-
учных и научно-популярных работах помогает легче ориентироваться
по поэме. — Прим. пер.
52
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Этот Фауст хочет для себя динамического процесса, ко-
торый вобрал бы весь человеческий опыт — как радость, так
и печаль,— и смешал бы его в непрерывном развитии самого
Фауста; даже саморазрушение здесь — неотъемлемая часть
развития.
Одна из самых оригинальных и плодотворных идей «Фа-
уста» — сходство между культурным идеалом саморазвития
и реальным социальным движением к экономическому раз-
витию. Гете считает, что два этих типа развития должны про-
ходить вместе, слиться друг с другом — и лишь тогда эти ар-
хетипические обещания модерности можно будет исполнить.
Единственный путь самопреобразования для модерного че-
ловека, как узнаем мы вместе с Фаустом, есть радикальное
изменение всего физического, социального и морального
мира, в котором он живет. Героизм героя Гете заключается
в решимости высвободить грандиозные запасы подавленной
энергии, заключенной в человеке, и не только в нем самом,
но во всем, чего он касается,— а в конечном итоге во всем
обществе. Однако начатое им масштабное развитие — интел-
лектуальное, моральное, экономическое, социальное,— как
оказалось, требует огромных человеческих жертв. И здесь
заключен смысл отношений Фауста с дьяволом: челове-
ческие силы можно развить только с помощью, как писал
Маркс, «подземных сил», темных и страшных энергий, ко-
торые в любой миг могут взорваться с чудовищной мощью,
неподвластной контролю человека. «Фауст» Гете — это первая
и все еще лучшая трагедия развития.
Историю Фауста можно проследить в трех метаморфозах:
сначала он появляется как Мечтатель, затем после вмеша-
тельства Мефистофеля становится Возлюбленным, и нако-
нец, когда трагедия любви остается далеко в прошлом, он
достигает пика своей жизни как Строитель.*
* Берман использует однокоренное существительное к английскому
с лову development (развитие) — The Developer, «тот, кто развивает, раз-
рабатывает». Можно было бы использовать русское «разработчик» как
53
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
ПЕРВАЯ МЕТАМОРФОЗА:
МЕЧТАТЕЛЬ
Когда поднимается занавес,6 мы видим Фауста; поздней ночью
он исполнен тревоги один в своей комнате. «Еще ль в тюрьме
останусь я? Нора проклятая моя!.. О, прочь! Беги, беги скорей
туда, на волю!» (398–99, 418). Эта сцена кажется нам отчаянно
знакомой: Фауст происходит из огромной династии модер-
ных героев и героинь, которых мы застаем за разговором
с собой посреди ночи. Однако обычно такой герой молод,
беден, неопытен — и даже насильственно огражден от опыта
классовыми, гендерными или расовыми барьерами жестокого
общества. Фауст не только человек средних лет (он один из
первых героев такого возраста в современной литературе;
следующим, пожалуй, можно назвать Капитана Ахава *), он
еще и довольно успешен для мужчины средних лет в своем
мире. Он нашел признание и почтение как врач, юрист, тео-
лог, философ, ученый, профессор и управляющий училища.
Он окружен редкими прекрасными книгами и манускриптами,
картинами, диаграммами, научными приборами — всеми атри-
бутами успешной жизни разума. И тем не менее все достиг-
нутое кажется ему пустым, все вещи вокруг — мусором. Он
бесконечно копается в себе и утверждает, что вообще не жил.
Во всех победах Фаусту мерещится западня, так как до сих
пор все они касались только его внутреннего мира. Долгие
годы при помощи размышлений и экспериментов, чтения книг
и наркотических субстанций — он истинный гуманист, ничто
человеческое ему не чуждо — он делал все возможное для
самое близкое слово в отсутствие подобного существительного от гла-
гола «развивать», но оно почти исключительно ассоциируется со сферой
разработки программного обеспечения, и поэтому едва ли полномерно
подходит для Фауста. Поэтому мне показалось, что остановиться на
«Строителе» не так уж и плохо. — П рим. пер.
* Здесь упоминается персонаж романа Германа Мелвилла «Моби
Дик» (1851). — П рим. пер.
54
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
развития способности мыслить, чувствовать и предвидеть.
Тем не менее, чем стремительнее расширялись границы его
разума, чем глубже развивалось его восприятие, тем в боль-
шей изоляции он оказывался, тем более ослабевали его свя-
зи с внешним миром — с другими людьми, с природой, даже
с собственными нуждами и потребностями. Его культура раз-
вивалась через отчуждение от тотальности жизни.
Мы видим, как Фауст использует магические силы, и перед
его (и нашими) глазами возникает изумительное видение кос-
моса. Но он отворачивается от иллюзорного блеска: «О, этот
вид! Но только вид — увы!» Созерцательная природа этого
видения, мистического ли, математического ли (либо и того
и другого), удерживает наблюдателя на одном месте — месте
пассивного зрителя. Фауст жаждет другой, более живой, бо-
лее эротической и активной связи с миром.
Мне не обнять природы необъятной!
И где же вы, сосцы природы,— вы,
Дарующие жизнь струею благодатной ‹...›
К которым рвется так больная грудь моя? [455–60]
Силы его разума, обратившись вовнутрь, в свою очередь
обратились против него и стали тюрьмой. Фауст отчаянно пы-
тается найти способ высвободить, выразить изобилие своей
внутренней жизни через действия во внешнем мире. Листая ма-
гическую книгу, он натыкается на символ Духа Земли; и тут же:
Теперь себя я чувствую сильней —
Снесу и горе я и радости земные.
Как будто бы вином живительным согрет,
Отважно ринусь я в обширный божий свет;
Мне хочется борьбы, готов я с бурей биться —
И в час крушенья мне ли устрашиться? [462–67]
Он призывает Духа Земли и, когда тот является, горде-
ливо заявляет об их сродстве; но дух лишь смеется над ним
55
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
и этими космическими устремлениями и говорит, что Фаусту
следует найти другого духа, которого он смог бы постичь
своим умом. Перед исчезновением Дух Земли бросает Фаусту
насмешливый эпитет, нашедший огромный резонанс в культу-
ре грядущих столетий: Übermensch, «Сверхчеловек». Можно
написать целые книги о метаморфозах этого символа; здесь
же значителен метафизический и моральный контекст его
первого появления. Гете создает слово Übermensch не для
того, чтобы описать титанические устремления модерного
человека, но скорее чтобы показать, сколь многие из этих
стремлений неуместны. Дух Земли у Гете говорит Фаусту:
«Почему бы вместо этого тебе не стать Mensh — истинно че-
ловеческим существом?»
Фауст не единственный переживает такие трудности; они
отражают более значительные противоречия, всколыхнувшие
все европейские общества в годы перед Французской и про-
мышленной революциями. Социальное разделение труда
в раннемодерной Европе, от Возрождения и Реформации до
времен самого Гете, породило большой класс относительно
независимых производителей культуры и идей. Эти специ-
алисты — художники и ученые, юристы и философы — за три
века создали потрясающую динамическую модерную куль-
туру. И все же само разделение труда, благодаря которому
родилась и расцвела эта самая модерная культура, скрывало
от остального мира новые перспективы и открытия этой куль-
туры, ее потенциальное богатство и плодотворность. Фауст
является созидающей частью той культуры, которая вскры-
ла весь объем и глубину человеческих желаний, выходящих
далеко за рамки классических и средневековых границ. В то
же время он часть стагнирующего и замкнутого общества, по-
крытого ржавчиной средневековых и феодальных социальных
форм: таких форм как гильдейская специализация, которая
изолирует Фауста и его идеи. Носитель динамической культу-
ры в стагнирующем обществе, он переживает глубокий раз-
рыв между внутренней и внешней жизнью. За шестьдесят лет,
за которые Гете напишет «Фауста», модерные интеллектуалы
56
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
найдут новые потрясающие способы вырваться из подобной
изоляции. В эти годы на Западе родилось новое социальное
разделение труда, а с ним и новые отношения — рискованные
и, как мы увидим, трагические отношения — между мыслью
и политической и социальной жизнью.
Раскол, который я описал на примере Фауста, сквозил во
всем европейском обществе и оказался одним из главных
источников международного романтизма. Но особый отклик
он нашел в странах социально, экономически и политически
«отсталых». В эпоху Гете немецкие интеллектуалы первыми
увидели свое общество именно таким в сравнении с Англией,
с Францией, с растущей Америкой. Идентичность «отстало-
сти» иногда становилась причиной стыда, иногда (как в не-
мецком романтическом консерватизме) — гордости, а чаще
всего — взрывной смесью того и другого. Эта же смесь про-
явится и в России XIX века, которую мы детально исследуем
позднее. В XX веке интеллигенты стран Третьего мира, но-
сители авангардной культуры в закостенелом обществе, пе-
реживали фаустовский раскол особенно остро. Эта гнетущая
тоска часто вдохновляла революционные образы, действия
и произведения — как и гетевского Фауста в конце второй
части поэмы. Однако столь же часто она приводила только
в тупик, к тщетности и отчаянию — как поначалу и Фауста
в отшельнических глубинах «Ночи».
Ночь идет, стены отчуждения все крепче сжимаются во-
круг Фауста, и наконец он решается убить себя — раз и на-
всегда замкнуться в гробнице своего внутреннего мира. Он
хватает бокал с ядом. Однако именно в этот миг темней-
шего отрицания Гете спасает его, наполняет светом и уве-
ренностью. Вся комната сотрясается, за окном раздается
громогласный звон колоколов, восходит солнце и запевает
ангельский хор — сегодня Пасхальное Воскресенье. «Христос
воскрес! — поют они. — Кто средь мучения, в тьме искушения
ищет спасения,— мир вам с небес!» Хор ангелов нарастает,
поднесенный к губам обреченного бокал падает — и Фауст
спасен. Многие читатели всегда видели в этом чуде безыскус-
57
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
ный трюк, беспричинного deus ex machina; но все сложнее,
чем кажется. Гетевского Фауста спасает не Иисус Христос —
и он даже высмеивает очевидную христианскую мораль ус-
лышанного. Его трогает совсем другое:
И все же милый звон, знакомый с юных лет,
Меня, как прежде, к жизни вновь приводит. [768–70]
Этот звон, как и случайные, но мощные образы, звуки
и ощущения, которые Пруст и Фрейд будут исследовать сто-
летие спустя, связывает Фауста с забытым детством. Ворота
памяти распахиваются настежь, волны потерянных чувств
наводняют его — любовь, желание, нежность, единство,— и он
погружается в пучину совсем позабытого мира детства. Тону-
щий человек, который уже сдался на милость течения, Фауст
непреднамеренно открылся целому потерянному измерению
самого себя, и таким образом обрел связь с источниками
энергии, способными обновить его. Он вспоминает, как в дет-
стве от радости и тоски рыдал под пасхальный звон, и плачет
вновь, впервые во взрослой жизни. Поток переполняет его,
и Фауст может выбраться из норы своего кабинета на весен-
нее солнце; восстановив связь с глубочайшими источниками
чувства, он готов снова жить во внешнем мире. 7
Этот миг перерождения Фауста, который Гете сочинил
в 1799 или 1800, а опубликовал в 1808 году,— одна из вер-
шин европейского романтизма. (В «Фаусте» несколько та-
ких вершин, и мы исследуем некоторые из них). Легко за-
метить, как эта сцена предвосхищает одни из величайших
достижений модернистского искусства и мысли XX века,
и наиболее здесь очевидны связи с Фрейдом, Прустом и их
многочисленными последователями. Однако не так уж легко
понять, как возвращение к детству связано с нашей централь-
ной темой и темой второй части «Фауста» — модернизацией.
И действительно, многие писатели XIX и XX веков видели
в финальной метаморфозе Фауста, в его роли индустриаль-
ного строителя, полнейшее отрицание чувственной свободы,
58
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
обретенной в миг перерождения. Вся консервативно-ради-
кальная традиция, начиная с Берка и заканчивая Д. Г. Лоу-
ренсом, видит в индустриальном развитии радикальное от-
рицание развития чувственного.8 Однако в представлении
Гете этот психологический прорыв романтического искусства
и мысли — и особенно возвращение к детству — сумеет осво-
бодить огромнейшие запасы человеческой энергии, которые
пустят значительную часть сил и инициативы на проект соци-
ального преобразования. Поэтому важность сцены с колоко-
лами для развития Фауста — и «Фауста» — обнажает важность
романтического проекта психологического освобождения
в историческом процессе модернизации.
Сначала Фауст взбудоражен возвращением во внешний
мир. Пасхальное воскресенье, тысячи людей устремляют-
ся за городские ворота, чтобы насладиться прогулкой под
солнцем. Фауст сливается с толпой — которую избегал всю
свою взрослую жизнь — и вдохновляется весельем, пестро-
той и разноликостью. Он празднует жизнь в прекрасных
лирических строках (903–940): весеннюю жизнь природы,
божественную жизнь в Пасхальное воскресенье, человече-
скую и социальную жизнь (что самое поразительное — жизнь
угнетенных низов) в общей радости праздника, свою эмоцио-
нальную жизнь в возвращении к детству. Теперь он ощущает
связь между своими личными затворническими эзотериче-
скими страданиями и устремлениями — и заботами окружа-
ющей городской бедноты. Вскоре из толпы выделяются от-
дельные люди; хотя эти люди не видели Фауста годами, они
сразу же узнают его и тепло приветствуют, останавливаются
поговорить и повспоминать. Их воспоминания открывают
нам еще одно измерение жизни Фауста, похороненное им
самим. Мы узнаем, что доктор Фауст начал свою карьеру
как доктор медицины, а жизнь — сыном врача, лечившего го-
родскую бедноту. Сначала он рад вернуться в старое сооб-
щество, благодарен за добрые чувства людей, с которыми
вырос. Но вскоре Фауст поник: со временем он вспоминает
и о том, почему покинул старый дом. Фауст осознал, что
59
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
работа его отца в основе своей — невежественная мешанина.
Они с отцом занимались медициной как традиционным мел-
ким средневековым ремеслом, слепо бродили в темноте; их
любили, но они убили гораздо больше людей, чем спасли,
и вина, которую Фауст подавлял все это время, возвращается.
Он вспоминает, что прекратил любую практическую работу
с людьми именно чтобы избежать этого фатального наследия,
и отправился по своему одинокому интеллектуальному пути,
который привел как к знаниям, так и к обостряющейся изо-
ляции, и (почти) к гибели прошлой ночью.
Фауст встретил этот день с новой надеждой, а под конец
погрузился в новое отчаяние. Он понимает, что больше не
сможет вернуться к аскетическому домашнему покою своего
детства, но также осознает, что нельзя быть столь далеко от
дома, как все эти последние годы. Ему нужно обрести связь
между спокойной теплотой жизни с людьми — каждодневной
жизни, проходящей в матрице определенного сообщества,—
и интеллектуальной и культурной революцией, происходя-
щей у него в голове. В этом суть его знаменитой печальной
строки: «Ах, две души живут в больной груди моей». Он не
может жить дальше как бестелесный разум, острый и гени-
альный — но в вакууме; он не может бездумно жить дальше
в мире, который покинул. Он должен встроиться в общество
так, чтобы его отважный дух мог развиваться и расти. Но для
объединения таких противоположностей, для работы такого
синтеза потребуются «подземные силы».
Чтобы воплотить желаемый синтез, Фаусту придется при-
нять целый новый порядок парадоксов, ключевых для струк-
туры как модерного сознания, так и модерной экономики.
Мефистофель у Гете материализуется именно как повелитель
таких парадоксов — и это модерное усложнение традицион-
ной христианской роли дьявола как отца лжи. Мефистофель
является Фаусту, когда тот ощущает себя наиболее близким
к Богу — и это типичная гетевская ирония. Фауст вновь воз-
вращается в свой уединенный кабинет и размышляет о че-
ловеческом уделе. Он открывает Библию на Евангелии от
60
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Иоанна: «В начале было Слово». Ему кажется, что это начало
нелепо с космической точки зрения, размышляет над други-
ми вариантами и наконец подбирает новый: «В начале было
Дело». Идея Бога, определяющего себя через действие, че-
рез первоначальное деяние созидания мира окрыляет Фау-
ста; он восторгается духом и мощью этого Бога; провозгла-
шает, что готов вновь посвятить свою жизнь созидательным
мирским делам. Его Богом будет Бог ветхозаветный, Бог
Книги Бытия, который определяет себя и утверждает свою
божественность через создание небес и земли.*
* Конфликт между Богами Старого и Нового Завета, между Богом Сло-
ва и Богом Дела, сыграл важную символическую роль во всей немецкой
культуре XIX в. За этим конфликтом, изложенном у немецких писателей
и мыслителей, от Гете и Шиллера до Рильке и Брехта, на самом деле
скрывается дискуссия о модернизации Германии: должно ли немецкое
общество обратиться к «еврейской» материальной и практической де-
ятельности, то есть к экономическому развитию и строительству вместе
с либеральной политической реформой по подобию Англии, Франции
и Америки? Или же наоборот ему стоит держаться подальше от таких
«мирских» забот и развить обращенный вовнутрь «немецко-христиан-
ский» путь? Немецкий фило- и антисемитизм нужно рассматривать именно
в контексте этого символизма, который уравнивал еврейское сообщество
XIX в. с ветхозаветным Богом, а их обоих — с модерными видами деятель-
ности и практики. Маркс в первом из своих «Тезисов о Фейербахе» (1845)
указывает на сходство между радикальным гуманистом Фейербахом и его
реакционными «немецко-христианскими» оппонентами: обе стороны
«расс матривают как истинно человеческую только теоретическую дея-
тельность, тогда как практика берется и фиксируется только в грязнотор-
гашеской [в оригинале и английском переводе тут напрямую называется
„грязно-еврейская форма“, schmutzig-jüdischen Erscheinungsform, кото-
рую решили несколько нивелировать в русском переводе. — Прим. пер.]
форме ее проявления», т. е. в форме еврейского Бога, который марает
руки, создавая мир. Джерролд Сигал (Jerrold Seigel) в книге Marx’s Fate
(Princeton, 1978, pp. 112 –19, на русском не издавалась — Прим. пер.) на-
блюдательно анализирует приравнивание еврейскости к практической
61
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
Именно тогда — чтобы разгадать значение нового открытия
Фауста и наделить его задуманной им способностью под-
ражать Богу,— появляется дьявол. Мефистофель объясняет,
что его обязанность — воплощать темную сторону не только
созидания, но и самой божественности. Он излагает подтекст
иудео-христианского мифа о сотворении мира: неужели Фа-
уст настолько наивен, что верит, будто Бог сотворил мир «из
ничего»? На самом-то деле, из ничего не происходит ниче-
го; и лишь благодаря существованию «всего, что злом ваш
брат зовет,— стремленья разрушать, дел и мыслей злых» —
возможно сотворение. (И сотворенный Богом мир «спорить
стал с рожденья с могучей ночью, матерью творенья»). Так,
Мефистофель говорит:
Я отрицаю все — и в этом суть моя.
Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться,
Годна вся эта дрянь, что на земле живет.
И тем не менее он одновременно «часть вечной силы,
всегда желавший зла, творившей лишь благое» (1355 и да-
лее). Парадоксально, но так же, как созидательная воля
и деяния Бога космически разрушительны, так дьявольская
страсть к разрушению оказывается созидательной. И только
если Фауст будет работать с этими разрушительными силами,
он сможет создать что-то в этом мире: собственно, только
работая с дьяволом и «всегда желая зла», он может оказаться
на стороне Бога и «творить благое». Дурными намерения-
ми вымощена дорога в рай. Фауст стремился к источникам
творения; однако оказывается лицом к лицу с силой разру-
шения. Парадоксы пролегают куда глубже: Фауст не смо-
жет ничего создать, если не будет готов отказаться от всего,
принять, что все созданное им ранее — и безусловно все, что
будет создано в будущем,— должно быть уничтожено, чтобы
жизни в мысли Маркса. С ледует исследовать этот символизм в большом
контексте модерной истории Германии. — П рим. авт.
62
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
вымостить дорогу для нового созидания. Эту диалектику
должен принять модерный человек, чтобы двигаться вперед
и жить; и эта же диалектика вскоре окутает и будет двигать
модерную экономику, государство и общество во всей со-
вокупности.*
Страхи и сомнения Фауста необъятны. Вспомните, за годы
до этого он не только перестал практиковать медицину, но
отстранился от вообще всякой практической деятельности,
потому что они с отцом непреднамеренно убивали людей.
Мефистофель говорит, что не стоит винить себя за жертвы тво-
рения, потому что жизнь такова сама по себе. Прими разруше-
ние как часть своей доли божественного творения, избавься
от вины и действуй свободно. Больше нет нужды в моральном
вопросе «следует ли мне это сделать»? Посреди открытого
пути к саморазвитию единственный важный вопрос — «как мне
это сделать?» Сначала именно Мефистофель покажет Фауста,
как это сделать; а позднее герой научится делать это сам.
Как же это сделать? Первый совет Мефистофеля:
Тьфу, пропасть! Руки, ноги, голова
И зад — твои ведь, без сомненья?
А чем же меньше все мои права
На то, что служит мне предметом наслажденья?
* Лукач в книге «Гете и его эпоха» (Goethe and His Age, pp. 197–200)
утверждает, что «эту новую форму диалектики добра и зла впервые осоз-
нали самые проницательные наблюдатели развития капитализма». Осо-
бое значение Лукач придает Бернарду де Мандевилю, который в своей
«Басни о пчелах» заявляет, что личный порок — а именно экономический
порок жадности — может породить общую добродетель, если ему будет
с ледовать каждый. Здесь, как и в других местах, Лукач ценен в том, что
подчеркивает конкретный экономический и социальный контекст тра-
гедии «Фауст», но ошибается, как я считаю, слишком узко определяя
этот контекст как исключительно капиталистический. В моем изложении
я подчеркиваю противоречия и трагедию во всех формах модерной де-
ятельности и творчества. — Прим. авт.
63
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
Когда куплю я шесть коней лихих,
То всеих силы—не мои ли?
Я мчусь, как будто б ног таких
Две дюжины даны мне были! [1820–1828]
Деньги — одно из ключевых средств: словами Лукача, «день-
ги как продолжение человека, как его власть над другими
людьми и обстоятельствами», «волшебное расширение радиу-
са человеческой деятельности через деньги». Здесь очевидно,
что капитализм — одна из основополагающих движущих сил
в развитии Фауста.9 Но есть несколько мефистофелевских
тем, которые простираются далеко за пределы капиталисти-
ческой экономики. Во-первых, идея, изложенная в первом
четверостишии — тело и разум человека, все их возможности
обязательно нужно использовать либо как инструменты для
немедленного воздействия, либо как ресурсы для долго-
срочного развития. Тело и душу необходимо эксплуатиро-
вать для получения максимальной прибыли, только не в виде
денег, а в виде опыта, энергии, чувств, действия, созидания.
Фауст охотно будет тратить деньги на достижение этих целей
(Мефистофель снабдит его средствами), но накопление денег
само по себе — не его цель. Образ Фауста станет символом
капиталиста, но единственный капитал, который Фауст неу-
станно будет вкладывать в оборот и стремиться увеличить,—
он сам. И поэтому его цели, в отличие от капиталистического
подсчета прибыли, будут сложными и неоднозначными. Итак,
Фауст говорит:
Мой дух ‹...›
Откроется всем горестям отныне:
Что человечеству дано в его судьбине,
Все испытать, изведать должен он!
Я обниму в своем духовном взоре
Всю высоту его, всю глубину;
Все счастье человечества, все горе —
Все соберу я в грудь свою одну,
64
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
До широты его свой кругозор раздвину
И с ним в конце концов я разобьюсь и сгину! [1768–75]
Здесь мы видим зарождение экономики саморазвития, ко-
торая умеет преобразовывать даже самую сокрушительную
человеческую потерю в источник психологической выгоды
и роста.
А экономика Мефистофеля примитивнее, традиционнее,
ближе к грубостям капиталистической экономики. Но в том
опыте, который он предлагает приобрести Фаусту, нет ниче-
го исключительно буржуазного. По четверостишию о «шести
конях» можно предположить, что с точки зрения Мефистофе-
ля наиболее ценное приобретение — скорость. Конечно же,
скорость полезна: каждый, кто жаждет великих свершений,
должен быстро перемещаться по миру. Однако скорость фор-
мирует еще и отличительную сексуальную ауру: чем быстрее
Фауст будет «мчаться», тем более «настоящим мужчиной» —
маскулиннее, сексуальнее — он будет.* Это уравнивание денег,
скорости, секса и власти свойственно не только капитализ-
му. Оно стоит в центре коллективистских таинств социализма
XX века и различных популистских мифологий стран Третьего
мира: огромные плакаты и скульптурные группы на площадях,
изображающие людей в движении — их тела напряжены, муску-
лы вздымаются в единстве, и они бросаются вперед на захват
изнеженного упаднического Запада. Эти устремления универ-
сальны для модерна, под какой идеологией ни происходила
бы модернизация. Универсально для модерна и фаустовское
давление, принуждающее использовать каждую частичку себя
и каждую частичку других, чтобы самому продвинуться впе-
ред и продвинуть других настолько, насколько это возможно.
* В английском переводе есть строчка в стихах о шестерке коней
I can race along, and be a real man, которая более прямо передает
немецкую строку Ich renne zu und bin ein rechter Mann. И Пастер-
нак, и Холодковский слова про настоящего мужчину опустили (или не
вместили). — П рим. пер.
65
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
И здесь возникает еще одна универсальная модерная про-
блема: а куда же нам идти? В миг заключения сделки Фауст
считает, что главное — в принципе продолжать движение: «ра-
бом готов я быть, когда того я стою»; он готов отдать душу
дьяволу, когда решит отдохнуть — даже если это отдых, чтобы
насладиться плодами своих трудов. Он счастлив возможно-
сти «кинуться в шумный времени поток, в игру случайностей»
и говорит, что значим сам процесс, а не результат: «кто хочет
действовать — тот позабудь покой!» (1755–60). Но уже вскоре
Фауста охватывает беспокойство — каким же человеком он
в конце концов станет? У человеческой жизни должно быть
что-то вроде конечной цели, и:
Что ж значу я, коль не достигну цели,
Венца, к которому стремится род людской,
К которому и сам стремлюсь я всей душой? [1802–05]
Мефистофель отвечает ему в присущей ему запутанной
и неоднозначной манере: «Ты значишь то, что ты на самом
деле». Фауст уносит эту неоднозначность с собой за дверь —
ивмир.
ВТОРАЯ МЕТАМОРФОЗА:
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
На протяжении всего XIX века «трагедию Гретхен», заверша-
ющую первую часть «Фауста», считали сердцем всей работы;
ее сразу же канонизировали и раз за разом отмечали как одну
из величайших любовных историй всех времен. Однако со-
временные читатели и зрители чаще всего относятся к ней со
скепсисом и раздражением по тем же самым причинам, из-за
которых наши предшественники ее любили: героиня Гете по-
просту кажется слишком хорошей, чтобы быть настоящей —
и интересной. Ее незамысловатая невинность и незапят-
нанная чистота принадлежат скорее миру сентиментальных
мелодрам, а не трагедий. Я хочу показать, что на самом деле
66
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Гретхен — фигура интересная и по-настоящему трагическая,
более динамичная, чем это обычно показывают. Как мне
кажется, ее глубина и сила проявятся более ярко, если мы
сосредоточимся на «Фаусте» как на истории — и трагедии —
развития. У этого сегмента трагедии три протагониста: сама
Гретхен, Фауст и «маленький мир» — замкнутый мир глубоко
религиозного городка, где живет Гретхен. Это мир детства
Фауста, мир, где в свою первую метаморфозу он не смог
найти себе места, но в миг глубочайшего отчаяния именно
колокола этого мира вернули его к жизни — и именно этот
мир он полностью уничтожит в свою последнюю метамор-
фозу. Сейчас, во время второй метаморфозы, он научится
противостоять этому миру, взаимодействовать с ним; и сам
подтолкнет Гретхен к тому, чтобы она по-своему действова-
ла и взаимодействовала с этим миром. Их любовная связь
подчеркнет трагическое, подрывающее устои одновременно
снаружи и изнутри, воздействие модерных желаний и чув-
ственности на традиционный мир.
Прежде чем мы сможем осознать глубину трагедии, вен-
чающей окончание этой любви, нам следует понять иронию,
которая питает и пронизывает всю эту историю: водясь и со-
трудничая с дьяволом, Фауст и правда становится более
привлекательным мужчиной. Стоит отдельно отметить, как
Гете добивается такого впечатления. Как многие мужчины
и женщины среднего возраста, переживающие что-то вроде
перерождения, Фауст сперва ощущает свои новые силы как
сексуальные; в первую очередь он учится жить и действо-
вать в эротической сфере. Спустя какое-то время в компании
Мефистофеля Фауст засиял. Некоторые изменения сверши-
лись благодаря искусственным уловкам: изящной щегольской
одежде (Фауст никогда не задумывался, как выглядит; все
свои свободные деньги он тратил на книги и приборы) и зе-
лью с ведьминой кухни, после которого Фауст стал выглядеть
и чувствовать себя на тридцать лет моложе. (Последнее будет
особенно трогательно для тех, кто жил в 1960-е годы, осо-
бенно будучи человеком средних лет).
67
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
Кроме того, существенно меняется социальная роль и ста-
тус Фауста: обеспеченный деньгами, ни к чему не привязан-
ный, он теперь может покинуть академическую жизнь (по его
словам, он мечтал об этом годами) и свободно передвигаться
по миру; он странствующий красивый чужеземец — марги-
нальность неизбежно окружает его аурой таинственности
и романтики. Но главный подарок дьявола — наименее искус-
ственный, наиболее глубокий и действенный: Мефистофель
призывает Фауста «доверять себе»; как только Фауст научил-
ся этому, он стал исключительно очаровательным и уверен-
ным в себе — а в сочетании с его природным умом и энер-
гией этого достаточно, чтобы кружить женщинам головы.
Викторианские моралисты вроде Карлайла и Дж. Г. Льюиса
(первый крупный биограф Гете и любовник Джордж Эли-
от) принимали эту метаморфозу скрипя зубами и призывали
читателей стойко переждать ее ради финального преобра-
жения. Но сам Гете смотрит на преображение Фауста более
позитивно. Фауст не собирается превращаться в Дон Жуана,
как призывает его сделать Мефистофель, говоря, что теперь
у него для этого есть внешность, деньги и все необходимое.
Фауст — слишком серьезный человек, чтобы играть с телом
и душой, будь то чужими или собственными. Теперь он даже
еще более серьезен, чем раньше, так как увеличился и мас-
штаб его забот. Посвятив всю свою жизнь все более глубо-
кому погружению в самого себя, он внезапно обнаруживает
в себе интерес к другим людям, восприимчивость к их чув-
ствам и нуждам, готовность не только к сексу, но и к любви.
Если мы откажемся увидеть настоящий и впечатляющий рост
Фауста как человека, мы не сможем осознать человеческую
цену этого роста.
Поначалу Фауст интеллектуально оторван от традицион-
ного мира, в котором вырос, но все еще привязан к нему
физически. Затем, через посредничество Мефистофеля и его
деньги, он смог освободиться как физически, так и духовно.
Теперь же он полностью отделился от «маленького мира»;
он может вернуться туда как незнакомец, исследовать его
68
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
как целое с точки зрения освобожденного человека — и, что
иронично, влюбиться в него. Гретхен — молодая девушка,
которая становится для Фауста первым развлечением, за-
тем первой любовью и наконец первой случайной жерт-
вой,— поначалу потрясает Фауста как символ всего наиболее
прекрасного в мире, который он покинул и потерял. Он
заворожен ее детской невинностью, простотой жительницы
маленького города, христианской смиренностью.
В одной из сцен (2679–2804) он ходит по ее опрятной,
но убогой комнате в бедном доме, собираясь оставить по-
дарок. Он гладит мебель, провозглашает комнату «святым
приютом», сам дом называет «благословенным», а кресло,
в которое садится, «семейным старым троном».
Как дышит здесь повсюду дух покоя,
Порядком все проникнуто кругом!
Средь бедности довольство здесь какое!
Святой приют! Благословенный дом! [2691–94]
Нам вуайеристскую идиллию Фауста принять почти невоз-
можно, ведь мы знаем — а он сам в этот момент знать этого
никак не может,— что восхваление комнаты Гретхен (то есть
ее тела, ее жизни) есть часть плана, первый шаг в процес-
се, который неизбежно ее погубит. И не по злому умыслу
Фауста — а потому, что он может завоевать ее любовь или
выразить свою собственную, лишь уничтожив ее мирный
благословенный дом. С другой стороны, Фауст не смог бы
ниспровергнуть ее мир, будь она в этом доме так счастли-
ва, как ему кажется. Мы увидим, что на самом деле Грет-
хен испытывает здесь такое же беспокойство, как и Фауст
в своем кабинете, но у нее нет лексикона, чтобы выразить
это недовольство, пока в ее жизни не появляется он. Не ис-
пытывай она этого внутреннего беспокойства — она осталась
бы неприступной для Фауста, он ничего бы не смог ей дать.
Их трагическая любовь не состоялась бы, не будь они изна-
чально родственными душами.
69
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
Гретхен входит, чувствуя странное волнение, и напева-
ет тревожные строки о любви и смерти. Затем она находит
подарок — украшения, добытые Мефистофелем для Фауста;
она надевает их и смотрится в зеркало. Следуя за ее раз-
мышлениями, мы узнаем, что она знакома с тем, как вертится
мир, лучше, чем ожидал Фауст. Она знает все о мужчинах,
которые одаривают бедных девушек дорогими подарками:
чего они хотят и как обычно заканчиваются такие истории.
И она знает, насколько окружающие бедняки жаждут таких
вещей. Горькая правда жизни в том, что несмотря на благо-
честивый морализм, удушающий этот городок, любовница
богача значит все же гораздо больше, чем голодный святой.
«Все денег ждут, все к деньгам льнут; ах, бедные мы,— пра-
во!» (2802–04). И все же, несмотря на эту настороженность,
с ней происходит нечто настоящее и действительно ценное.
Никто никогда ничего ей не дарил; она росла обделенной не
только деньгами, но и любовью; она никогда не считала себя
достойной подарков и тех чувств, которые они вызывают.
Сейчас, когда она смотрится в зеркало — может быть, впер-
вые в жизни,— внутри нее свершается революция. Она тут же
погружается в саморефлексию; ухватывается за возможность
стать другой, измениться — за возможность развития. Даже
если она когда-либо чувствовала себя в этом мире на своем
месте, то теперь точно никогда не найдет его.
В этом романе Гретхен учится чувствовать себя желанной
и любимой, желающей и любящей, она вынуждена в спешке
развивать новое восприятие себя. Она горюет о том, что
не слишком умна. Фауст говорит, что это неважно, ведь
он любит ее за нежную смиренность, «самый лучший дар
для нас»; однако Гете показывает, что на самом деле Грет-
хен становится все умнее, потому что справиться с таким
потоком чувств можно лишь при помощи разума. Гретхен
неизбежно теряет невинность — и не только девственность,
но, что гораздо более важно, наивность,— так как ей при-
шлось выстроить и хранить в тайне двойную жизнь под не-
отступным наблюдением семьи, соседей, священников, под
70
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
всем удушающим давлением замкнутого мира маленького
городка. Ей пришлось научиться игнорировать свою со-
весть, которая может нанести ей гораздо больше вреда, чем
любая внешняя сила. Новые чувства сталкиваются со ста-
рой социальной ролью, и Гретхен убеждается, что ее нужды
правомерны и важны, учится испытывать новое для себя
самоуважение. Девочка-ангелок, которую полюбил Фауст,
исчезает у него на глазах; любовь заставляет ее вырасти.
Фауст заворожен ее развитием; но он не видит, насколько
это развитие опасно из-за того, что не имеет социальной ос-
новы — ведь Гретхен находит сочувствие и одобрение лишь
у самого Фауста. Поначалу ее отчаяние проявляется в виде
страсти, и он счастлив. Но вскоре ее пылкость растворяется
в истерии, и с этим Фауст справиться уже не может. Он любит
ее, но любовь его существует в контексте полноценной жизни,
окруженной прошлым и будущим, огромным миром, который
он намерен исследовать; а ее любовь к нему существует вне
какого-либо контекста — для Гретхен это единственная причи-
на держаться за жизнь. Столкнувшись с отчаянной глубиной
ее нужды, Фауст пугается и уезжает из города.
Во время первого побега Фауст оказывается в романти-
ческом «Лесу и пещере»; прекрасные и лиричные строки
повествуют, как там он размышляет о богатстве, красоте
и милосердии Природы. Его безмятежность тревожит лишь
присутствие Мефистофеля, который напоминает о страстях,
беспокоящих умиротворение. Мефистофель язвительно кри-
тикует типичное романтическое почитание Природы, прису-
щее Фаусту. Эта Природа, десексуализированная, дегума-
низированная, лишенная любых противоречий, пригодная
только для спокойного созерцания — трусливая ложь. Жела-
ние, которое влечет Фауста к Гретхен, столь же естествен-
но, как и каждая деталь этого идиллического пейзажа. Если
Фауст действительно хочет обрести единство с Природой, то
ему необходимо столкнуться с человеческими последстви-
ями собственного формирующегося естества. Пока он тут
сочиняет стихи, женщина, чью «естественность» он полюбил
71
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
и с которой занимался любовью, погибает без него. Фауст
мучается виной. И даже преувеличивает свою вину, преу-
меньшая свободу и инициативу Гретхен в их романе.
Гете вставляет эту сцену, чтобы показать, как чувство вины
может быть инструментом самозащиты и самообмана. Если
сам Фауст — совершенно презренный человек, ненавидимый
и осмеянный всеми богами, то разве он может дать Гретхен
что-то хорошее? Удивительно, но дьявол здесь играет роль
совести и тянет Фауста обратно в мир ответственности и че-
ловеческих взаимоотношений. Но вскоре Фауст опять бежит,
в этот раз навстречу более интересному приключению. Он
ощутил, что Гретхен, отдав ему все, что могла, разбудила голод
к тому, чего дать не может. Ночью Фауст убегает вместе с Ме-
фистофелем в горы Гарца отпраздновать Walpurgisnacht,*
оргиастический шабаш ведьм. Там Фауст наслаждается куда
более опытными и бесстыдными женщинами, более пьяня-
щими субстанциями, странными и чудесными разговорами,
каждый из которых сам по себе — отдельное путешествие. Эта
сцена, главное наслаждение для рискованных хореографов
и художников-декораторов с 1800-х годов,— один из вели-
чайших эпизодов Гете; она неизбежно отвлекает читателя или
зрителя, как и самого Фауста. Лишь к самому концу ночи он
видит зловещий призрак, спрашивает об оставленной девуш-
ке — и узнает ужасную новость.
Пока вдали Фауст исследовал себя за пределами объ-
ятий Гретхен, «маленький мир», из которого он выдернул
ее,— этот казавшийся столь прекрасным мир, где «дышит ‹...›
повсюду дух покоя, порядком все проникнуто кругом»,— об-
рушился на нее. Из-за слухов о ее двойной жизни старые
друзья и соседи с варварской жестокостью и мстительной
яростью обратились против Гретхен. Мы слышим, как Ва-
лентин, ее брат, самовлюбленный жестокий солдат, гово-
рит, что однажды возвел ее на пьедестал, бахваляясь такой
добродетелью в пивных; а теперь любое отребье смеется
* Вальпургиева ночь (нем.). — Прим. пер.
72
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
над ним, и он ненавидит Гретхен всем сердцем. Слушая его —
а Гете намеренно затягивает эти обличительные речи, чтобы
мы уж точно уловили сказанное,— мы понимаем, что Грет-
хен значит для Валентина не больше, чем прежде. Тогда она
была символом небес, теперь она — символ преисподней, но
Гретхен всегда была всего лишь декорацией для его статуса
и самомнения, и никогда — отдельным правомерным челове-
ком; здесь Гете показывает свое представление о семейных
чувствах в «маленьком мире». Валентин нападает на Фауста
на улице, они сражаются, Фауст (при помощи Мефистофеля)
смертельно ранит его и бежит из города. На последнем изды-
хании Валентин непотребно проклинает свою сестру, винит
ее за свою смерть и понукает горожан линчевать ее. Затем
умирает мать Гретхен, и вновь в этом обвиняют ее (здесь
виноват Мефистофель, но ни она сама, ни ее преследовате-
ли не знают об этом). Затем она рожает ребенка — от Фау-
ста, и призывы к возмездию вновь усиливаются. Горожане
счастливы найти козла отпущения для собственных грешных
вожделений и требуют ее смерти. Во все еще феодальном
мире, где не только статус, но и само выживание зависят от
покровительства более влиятельных людей она совсем без-
защитна без Фауста. (Фауст, конечно же, имел все это время
безупречную протекцию).
Со своими горестями Гретхен идет в собор, надеясь об-
рести там утешение. Помните, ведь с Фаустом случилось
именно так: церковные колокола вырвали его из рук смерти.
Но Фауст относился к христианству, как ко всему остальному
и всем остальным в своей жизни, как к самой Гретхен: он
мог взять необходимое для собственного развития, а осталь-
ное оставить в стороне. Гретхен слишком ревностно верит
и слишком честна, чтобы сделать подобный выбор. Поэтому
строка христианской секвенции, которую Фауст мог бы по-
нять как символ жизни и радости, ужасает ее тяжким буква-
лизмом: «День гнева, тот день повергнет мир во прах»,— вот
что она слышит. Этот мир может принести ей только муче-
ния и ужас: колокола, спасшие жизнь возлюбленного, ей
73
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
самой пророчат конец. Она чувствует, как все смыкается:
орган душит, хор терзает сердце, арки и своды теснят ее.
Гретхен кричит и падает на пол в бреду и мороке. Эта ужа-
сающая сцена (3776–3834), выразительная в своей темной
разительной глубине, особенно резко осуждает весь готиче-
ский мир — мир, который будут так вычурно идеализировать
консервативные мыслители, особенно немецкие, в следую-
щем столетии. Возможно, когда-то готический образ мыслей
предоставлял человечеству идеал жизни и поступков, герои-
ческого стремления к небесам; однако, как показывает Гете,
теперь, в конце XVIII века, он лишь мертвым грузом давит
на своих субъектов, разрушает их тела и удушает их души.
Конец наступает быстро: ребенок Гретхен погибает, ее
заключают в темницу, осуждают как убийцу и приговарива-
ют к смерти. В душераздирающей последней сцене Фауст
приходит в камеру посреди ночи. Сначала она не узнает его.
Гретхен принимает Фауста за палача и в безумном, но ужас-
но правдиво отражающем их историю, рывке подставляет
свое тело для последнего удара. Он клянется в своей люб-
ви и просит ее бежать. Все можно устроить — ей всего лишь
нужно сделать один шаг за порог темницы к свободе. Она
его слышит, но не слушается. Гретхен говорит, что объятия
его холодны и на самом деле он ее не любит. И здесь есть
правда: Фауст не хочет, чтобы она погибла, но он и не хо-
чет больше жить с нею. Ему не терпится исследовать новое,
набраться опыта и практики, поэтому ее нужды и страхи ока-
зываются для него все большей и большей обузой. Но она не
собирается винить его: ведь даже если бы он по-настоящему
хотел ее, даже если бы она могла заставить себя двинуться,
«зачем бежать? Меня там стража ждет...» (4545). Эта стража
находится внутри нее самой. Даже когда она представляет
себе свободу, глаза ее застилает образ матери, которая сидит
на камне (Церковь? пропасть?), мотает головой и заграждает
путь. Гретхен остается в темнице и погибает.
Фауста переполняют скорбь и вина. В пустом поле в па-
смурный день он ссорится с Мефистофелем и пытается
74
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
оспорить судьбу Гретхен. Что же это за мир, в котором про-
исходит подобное зло? Здесь умирает даже поэзия: именно
эту сцену Гете оформляет в нагую грубую прозу. Первый
ответ дьявола краток и жесток: «К чему же ты вступаешь
в общение [Gemeinschaft] с нами, когда не в силах поддер-
жать его? Хочешь летать — и боишься, что голова закружит-
ся?» Человеческое развитие требует человеческих жертв;
любой, желающий его, должен заплатить — и цена высока.
Однако дьявол говорит еще одну жестокую вещь, которая
тем не менее заключает в себе некое успокоение: «Она не
первая». Если опустошение и разрушение неразрывно свя-
заны с процессом человеческого развития, то Фауст хотя бы
частично освобожден от личной вины. Что он мог сделать?
Даже если бы он захотел жить вместе с Гретхен и перестать
быть таким «фаустовским» — и даже если бы дьявол позволил
ему остановиться (вопреки изначальным условиям сделки),—
Фауст ни за что бы не нашел себе места в мире Гретхен. Его
единственная непосредственная встреча с представителем
этого мира, Валентином, привела к насильственной смерти.
Очевидно, что между открытым человеком и замкнутым ми-
ром не может быть диалога.
У этой трагедии есть еще одна грань. Даже если каким-то
образом Фауст захотел и смог бы найти место в мире Грет-
хен, то она сама уже не хотела и не могла быть частью
этого мира. Так резко ворвавшись в ее жизнь, Фауст напра-
вил Гретхен по собственному пути развития. Но ее развитие
неизбежно окончилось бы катастрофой по тем причинам,
которые Фауст должен был предвидеть: по соображени-
ям половой и классовой приндлежности. Даже в мире фе-
одальных анклавов мужчина с большими деньгами и без
привязанности к земли, семье или профессии по сути об-
ладает неограниченной свободой передвижения. У бедной
женщины, прикованной к семье, никакой свободы нет. Она
неизбежно окажется во власти милосердия мужчин, а у них
нет снисхождения к женищнам, не знающим своего места.
В этом закрытом мире единственными возможными вари-
75
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
антами для нее могут быть лишь сумасшествие и мучениче-
ство. Если Фауст и выносит для себя что-то из ее судьбы,
то понимание: если он хочет связаться с другими людьми
ради собственного развития, то он должен взять на себя
ответственность за их развитие — или ответственность за их
роковую участь.
И все же, чтобы не быть несправедливыми к Фаусту, нам
нужно признать, сколь глубоко стремление к року у самой
Гретхен. Есть что-то ужасно своенравное в том, как она по-
гибает — она сама навлекает на себя смерть. Возможно, ее
самоуничтожение вызвано сумасшествием, но есть здесь и не-
что героическое. Через своенравность и активность своей
смерти она выступает не просто беспомощной жертвой воз-
любленного или общества — она сама трагическая героиня.
Ее саморазрушение — такая же аутентичная разновидность
саморазвития, как и у Фауста. Гретхен не меньше, чем сам
Фауст, пытается вырваться за пределы костных границ семьи,
церкви и городка, мира, где единственный путь к благоче-
стию — слепое поклонение и самоуничижение. Но если путь
Фауста из средневекового мира лежит через попытку создать
новые ценности, то ее путь — всерьез жить согласно старым
ценностям, действительно им соответствовать. Она считает
нормы мира своей матери пустыми, но понимает и принима-
ет дух, лежащий в их основе: дух энергичной преданности
и самоотверженности, дух, воплощающий готовность отдать
все, даже жизнь, ради веры в свои самые глубокие и заветные
убеждения. Фауст сражается со старым миром, от которо-
го он себя отрезал, превращая себя в новый тип личности,
утверждающей и познающей себя, даже становится собой
через беспокойное, бескрайнее саморасширение. Гретхен
борется с этим миром столь же отчаянно, утверждая при этом
в себе самые благородные его человеческие качества: чистое
сосредоточение и самоотверженность во имя любви. Ее путь
бесспорно более прекрасен, но путь Фауста в конечном счете
более плодотворен: он может помочь личности выжить и сра-
жаться со старым миром все успешнее.
76
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Именно этот старый мир — последний протагонист в траге-
дии Гретхен. Когда Маркс в «Манифесте коммунистической
партии» описывает аутентичные революционные достижения
буржуазии, то первым упомянутым достижением становится
тот факт, что она «разрушила все феодальные, патриархаль-
ные, идиллические отношения». Первая часть «Фауста» про-
исходит как раз во время гибели этих вековых феодальных,
патриархальных отношений. Большинство людей все еще
живет в «маленьких мирах», как и Гретхен, и мы увидели, на-
сколько страшны эти миры. Тем не менее эти городки-клетки
начинают трескаться: в первую очередь из-за взаимодействия
с опасными маргинальными силами внешнего мира — Фауст
и Мефистофель, сорящие деньгами, сексуальностью и идея-
ми, суть классические «внешние подстрекатели», столь люби-
мые консервативной мифологией,— но что наиболее важно,
еще и из-за локального взрыва, спровоцированного неста-
бильным внутренним развитием, через которое проходят их
собственные дети, как, например, Гретхен. Драконовский
ответ на секусальную и духовную девиацию Гретхен по сути
провозглашает, что этот мир не собирается принимать волю
своих детей к перемене. Последователи Гретхен усвоят этот
урок: в той ситуации, где она осталась и погибла, они уйдут
и будут жить. За два столетия, прошедшие со времен Гретхен,
будут опустошены, превратятся в пустые оболочки тысячи
таких «маленьких миров», потому что молодежь в поисках
свободы мысли, любви и развития будет тянуться в огром-
ные города, на открытые фронтиры, в новые государства.
И, что иронично, уничтожив Гретхен, маленький мир вступил
в критическую фазу собственной гибели. Нежелающий или
неумеющий развиваться вместе со своими детьми замкнутый
город превратится в город-призрак. А последними будут сме-
яться призраки его жертв.*
* В последние годы благодаря тому, что социальные историки разви-
ли как демографические инструменты, так и психологическую чувствен-
ность, необходимые для улавливания перемен в сексуальной и семей-
77
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
Наше столетие оказалось весьма плодотворным в констру-
ировании идеализированных фантазий о жизни в скованных
ной жизни, стало возможным более ясно понять социальные реалии,
лежащие в основе романа Гретхен и Фауста. Эдвард Шортер (Edward
Shorter) в книге The Making of the Modern Family (Basic Books, 1975),
особенно в главах 4 и 6, и Лоуренс Стоун (Lawrence Stone) в The Family,
Sex and Marriage in England, 1500–1800 (Harper & Row, 1978), особенно
в главах 6 и 12, утверждают, что «аффективный индивидуализм» (affective
individualism, термин Стоуна) сыграл важнейшую роль в разрушении
«феодальных, патриархальных, идиллических отношений» европей-
ской сельской жизни. Оба историка, основываясь на множестве работ
предшественников, утверждают, что в конце XVIII и начале XIX вв. зна -
чительное число молодых людей образовывали интимные связи, явно
нарушающие традиционные семейные, классовые, религиозные и про-
фессиональные границы. Абсолютно во всех случаях, когда мужчина (как
Фауст) уходил, женщина (как Гретхен) оказывалась обречена. Но если
паре удавалось остаться вместе, то они могли пожениться — часто на ос -
новании добрачной беременности — и, особенно в Англии, их принимали
и интегрировали в нормальную жизнь. На континенте, где маленькие
городки как правило были менее терпимыми, такие пары чаще сбегали
в поисках более благосклонной к их любви среде. Так они внесли свою
лепту в великие демографические передвижения XIX в. в большие горо-
да и новые государства и вместе со своими детьми (рожденными в пути
и часто вне брака) создали новый тип мобильной нуклеарной семьи,
основной в современном индустриальном мире.
Еврейскую версию истории Гретхен, происходящую веком позже
в отстававшей в развитии сельской местности Восточной Европы, см.
в цикле Шолома-Алейхема «Тевье-молочник». Эти истории, которые, как
и «Фауст», подчеркивают освободительные, но трагические инициативы
молодых женщин, заканчиваются (частично вынужденной, частично до-
бровольной) эмиграцией в Америку, и они сыграли важную роль в само-
идентификации американских евреев. Недавно «Тевье-молочника» подс-
ластили для потребления массами (и неевреями) в мюзик ле «Скрипач на
крыше», но и там все еще можно увидеть и прочувствовать трагические
резонансы модерной любви. — Прим. авт.
78
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
традициями маленьких городках. Наиболее известные и вли-
ятельные из этих фантазий проработаны в Gemeinschaft und
Gesellschaft («Общности и обществе») Фердинанда Тенни-
са. Гетевская трагедия Гретхен рисует нам, пожалуй, самый
разрушительный портрет Gemeinschaft во всей литературе.
Этот портрет должен навсегда запечатлеть в наших умах же-
стокость и зверство многих форм жизни, сметенных модер-
низацией. Пока мы помним о Гретхен, мы неуязвимы перед
ностальгической тоской по потерянным миркам.
ТРЕТЬЯ МЕТАМОРФОЗА:
СТРОИТЕЛЬ
Большинство интерпретаций и адаптаций «Фауста» Гете
заканчиваются на первой части. После приговора и иску-
пления Гретхен интерес к нему обычно пропадает. Вторая
часть, написанная между 1825 и 1831 годами, во многом
представляет собой гениальную интеллектуальную игру, но
ее живость душат тяжеловесные аллегории. На протяже-
нии 5000 строк почти ничего не происходит. Человеческая
и драматическая энергия пробуждается лишь в четвертом
и пятом актах: здесь история Фауста достигает кульминации
и завершается. Фауст проходит через, как я это называю,
свою третью и последнюю метаморфозу. Как мы проследи-
ли, во время первой стадии он жил один и мечтал. Во вре-
мя второй стадии он сплел свою жизнь с жизнью другого
человека и научился любить. Теперь, в последнем своем
воплощении, он связывает личные силы с силами экономи-
ческими, политическими и социальными, которые управля-
ют миром; он учится создавать и разрушать. Он расширяет
горизонт своего существа от жизни личной к публичной, от
интимности к активности, от общности к организации. Он
применяет все свои способности против природы и обще-
ства; стремится изменить не только собственную жизнь, но
и жизнь всех остальных. Он находит действенный способ
борьбы с феодальным и патриархальным миром: строитель-
79
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
ство совершенно новой социальной среды, которая либо
опустошит старый мир, либо сломит его.
Последняя метаморфоза Фауста начинается в безвы-
ходном тупике. На скалистой вершине Фауст с Мефисто-
фелем в одиночестве отстраненно глядят на окружающие
тучи и бредут в никуда. Они устали от путешествий по всей
истории и мифологии, от получения бесконечного возмож-
ного опыта, и оказались теперь в начальной точке или даже
где-то позади нее, так как уже не ощущают той энергии, что
бурлила в них когда-то. Мефистофель даже более подавлен,
чем Фауст, так как у дьявола, кажется, соблазнов больше
нет; он неуверенно перебирает несколько вариантов, но
Фауст лишь зевает. Однако постепенно Фауст распыляется.
Он размышляет о море и лирически описывает его взды-
мающееся величие, первобытную и неукротимую мощь, не-
подвластную человеку.
Мефистофель едва замечает слова Фауста, поскольку пока
они не выходят за рамки типичных тем романтической ме-
ланхолии, и говорит, что море равнодушно — стихии всег-
да были таковыми. Но тут, неожиданно для Мефистофеля,
Фауст гневно вопрошает: разве люди должны позволять
этому «всегда» продолжаться вечно? Не настало ли время
человечеству выступить против тиранической надменности
природы, сразиться с ее силами во имя «свободного духа,
ценящего все права»? (10202–05). Фауст стал использовать
политический язык, появившийся после 1789 года, в таком
контексте, который никто ранее не воспринимал как полити-
ческий. Он продолжает: как возмутительно, что, несмотря на
всю заключенную в море мощь, оно всего лишь бесконечно
приливает и отливает туда и обратно — «без пользы и без
цели»! Это кажется вполне естественным Мефистофелю, как
несомненно и подавляющему большинству аудитории Гете,
но не самому Фаусту:
В отчаянье и в страх меня привел
Слепой стихии дикий произвол.
80
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Но сам себя дух превзойти стремится:
Здесь побороть, здесь торжества добиться! [10218–21]
Борьба Фауста со стихиями кажется столь же претенци-
озной, как если бы король Лир или, если уж на то пошло,
царь Мидас приказал высечь море. Однако фаустовское
предприятие будет куда менее донкихотовским и куда более
плодотворным, потому что оно основано на энергии самой
природы и на преобразовании этой энергии в топливо для
новых коллективных человеческих целей и проектов, о ко-
торых древние правители едва ли могли и мечтать.
Мы видим, что Фауст все больше оживляется, излагая
свою затею. Теперь его задумки принимают совершенно иной
образ: больше никаких мечт и фантазий, больше никаких
теорий, только конкретные действия и выполнимые планы
изменения моря и земли. «И можно это — ‹...› за шагом шаг все
выяснил себе я в задаче этой» (10222 и далее). Пейзаж вокруг
Фауста стремительно преображается в строительную пло-
щадку. Он обрисовывает планы амбициозных работ по укро-
щению моря для человечества: рукотворные гавани и кана-
лы, по которым будут ходить корабли с товарами и людьми;
плотины для широкомасштабной ирригации; зеленые поля
и леса, пастбища и сады, масштабное и интенсивное сель-
ское хозяйство; гидроэнергия для создания и под держания
новых видов промышленности; богатые поселения, новые
села, города — и все это в безжизненной пустыне, где раньше
люди даже не решались жить. Изложив свои планы, Фауст
замечает, что Мефистофель ошеломлен и изможден. В кои-то
веки дьяволу нечего сказать. Когда-то давно Мефистофель
использовал образ стремительной кареты как метафору пе-
редвижения по всему миру. А теперь протеже превзошел
дьявола: Фауст жаждет двигать сам этот мир.
Сами того не заметив мы оказались в узловой точке исто-
рии модерного самоосознания. Мы наблюдаем рождение
нового общественного разделения труда, новых профессий,
новых отношений между идеями и практикой. Два совер-
81
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
шенно разных исторических движения сливаются, чтобы
продолжить путь вместе. Великий духовный и культурный
идеал соединяется с новой материальной и социальной ре-
альностью. Романтический путь к саморазвитию, которым
до сих пор двигался Фауст, преобразуется в новую форму
романтизма благодаря титанической работе развития эко-
номического. Фауст делает из себя человека нового типа,
который лучше справится с новой задачей. Он будет ис-
пользовать одни из самых созидательных и одни из самых
разрушительных возможностей модерной жизни; он будет
совершенным разрушителем и совершенным созидателем,
темной и глубоко неоднозначной фигурой, которую наше
столетие назвало «строителем».*
Гете понимает, что проблема развития — всегда пробле-
ма политическая. Проекты Фауста подразумевают не толь-
ко задействование огромного капитала, но и контроль над
обширной территорией и множеством людей. Где же все
это взять? Подавляющая часть четвертого акта отдана под
решение данной проблемы. Кажется, будто Гете в этой по-
литической интерлюдии чувствовал себя неуверенно: его
герои здесь непривычно бледны и плоски, а язык частично
теряет свою силу и напор. Гете явно недоволен всеми име-
ющимися политическими альтернативами и хочет поскорее
покончить с этим фрагментом. В четвертом акте предстает
следующий выбор: с одной стороны, разваливающаяся мно-
гонациональная империя, существующая со Средних веков
и ныне пребывающая под началом симпатичного, но корыст-
ного и совершенно неспособного к правлению императора;
а с другой — кучка стремящихся только к власти и богатству
псевдореволюционеров, поддерживаемых Церковью,— Гете
считает ее самой прожорливой и циничной силой. (Мысль
о Церкви как авангарде революции всегда казалась читате-
лям надуманной, но недавние события в Иране наводят на
мысль, что Гете и здесь кое-что предвидел).
* В оригинале — developer. — П рим. пер.
82
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Не стоит придираться к гетевской пародии на модерную
революцию. Его главная цель — дать простое объяснение по-
литической сделке, которую заключили Фауст и Мефисто-
фель: они предоставляют свои умы и волшебство в распо-
ряжение императора, чтобы укрепить его власть. В обмен
тот дарует им неограниченные права на застройку всего
прибрежного региона, в том числе карт-бланш на исполь-
зование необходимой рабочей силы и переселение местных
жителей, мешающих этой застройке. «Гете не мог искать путь
к демократической революции»,— пишет Лукач. Фаустовская
политическая сделка демонстрирует гетевское понимание
«другого пути» к прогрессу: «При неограниченном и мас-
штабном развитии производственных сил политическая ре-
волюция избыточна».10 Итак, Фауст и Мефистофель помогают
императору победить, Фауст получает концессию — и с боль-
шой помпой начинается строительство.
Фауст со всей страстью принимается за дело. Темп строи-
тельства безумен и жесток. Старушка, которую мы еще встре-
тим, подходит к строительной площадке и возвещает:
Тщетно слуги днем трудились,
Грохотал топор и лом;
По ночам огни кружились,—
Смотришь, вал явился днем.
Люди сильные старались
Так, что ночью стон стоял,
Реки огненные мчались,—
Утром был готов канал. [11123–30]
Старушке кажется, что в происходящем есть нечто сверхъ-
естественное и волшебное. Некоторые комментаторы счи-
тают, что за этим стоит Мефистофель — иначе нельзя было
бы достичь столь многого в столь краткий срок. Однако на
деле Гете в данном проекте отводит Мефистофелю весь-
ма второстепенную роль. Единственные «подземные силы»
здесь — это силы модерной индустриальной организации тру-
83
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
да. Следует также отметить, что Фауст Гете — в отличие от
своих последователей, особенно в XX веке,— не совершает
поразительных научных или технологических открытий, его
люди используют все те же кирки и лопаты, что и тысячи лет
назад. Ключевое достижение Фауста — визионерская, интен-
сивная и систематическая организация труда. Он призывает
своих прорабов и смотрителей во главе с Мефистофелем
«громаду за громадой рабочих здесь нагромождать, приман-
кой действовать, платой и наградой и поощрять и принуж-
дать!» (11551–54). Ключевой момент — не жалеть ничего и ни-
кого, преодолевать все границы: не только границу между
землей и морем, не только традиционные моральные ограни-
чения на эксплуатацию труда, но даже первобытный дуализм
дня и ночи. Под натиском промышленности и строительства
рушатся все природные и человеческие преграды.
Фауст наслаждается новой властью над людьми; точнее,
по выражению Маркса, властью над рабочей силой.
Вставайте, слуги! Все трудолюбиво
Мой смелый план исполнить пусть спешат!
Машин побольше, заступов, лопат!
Что я наметил, пусть свершится живо!
Он наконец-то отыскал достойную цель для своего разума:
Спешу свершить задуманное мною:
Одно владыки слово все творит!
‹...›
Великое свершится — лишь бы смело
Рук тысячью одна душа владела! [11501–10]
Да, Фауст загоняет рабочих, но не меньше он загоняет
и себя. Когда-то давно его вернули к жизни церковные ко-
локола — сейчас же его оживляет звон лопат. Постепенно,
по мере воплощения планов, мы наблюдаем, как его пере-
полняет подлинная гордость. Фауст наконец достиг синтеза
84
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
мысли и практики, задействовал свой разум для преобразо-
вания мира. Он помог человечеству утвердить свои права
над анархическими стихиями, назначить «предел морской
волне, с самой собою землю примирить, грань строгую для
моря создать» (11541–43). Это коллективная победа, которой
человечество будет наслаждаться даже когда умрет сам Фа-
уст. Взойдя на насыпь, возведенную человеческим трудом,
он осматривает созданный им новый мир — и этот мир пре-
красен. Фауст знает, что из-за него люди страдали («люди
сильные старались так, что ночью стон стоял...»), но уверен,
что именно простые люди, массы рабочих и страдальцев,
больше всего получат от этих великих трудов. Он превратил
бесплодную экономику пустыни на новую, энергичную эконо-
микц, «и пусть мильоны здесь людей живут, всю жизнь, в виду
опасности суровой, надеясь лишь на свой свободный труд
[tätig-frei]». Это пространство материальное и естественное,
но при этом созданное социальной организацией и энергией.
Среди холмов, на плодоносном поле
Стадам и людям будет здесь приволье;
Рай зацветет среди моих полян,
А там, вдали, пусть яростно клокочет
Морская хлябь, пускай плотину точит:
Исправят мигом каждый в ней изъян.
Я предан этой мысли! Жизни годы
Прошли не даром; ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старец пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ! [11563–80]
Шагая по земле с пионерами этого нового поселения, Фа-
уст чувствует себя на своем месте, как никогда не чувствовал
85
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
рядом с добродушными, но ограниченными людьми родного
города. Эти пионеры — такие же люди модерности, как и сам
Фауст. Мигранты и беженцы из сотен готических деревень
и городов — из мира первой части «Фауста»,— которые пе-
реехали в поисках дела, приключений, среды, в которой
они могут, как и Фауст, быть tätig-frei, свободными для
труда, свободно трудиться. Они собрались вместе, чтобы
организовать новый тип сообщества: сообщества, основан-
ного не на подавлении свободной индивидуальности ради
под держания замкнутой социальной системы, а на свобод-
ном созидательном совместном действии для защиты кол-
лективных ресурсов, позволяющих каждому индивидууму
быть tätig-frei.
Новые люди чувствуют себя в этом сообществе на своем
месте и гордятся им: они готовы противопоставить волю и дух
своего сообщества мощи самого моря — и уверены в победе.
Среди таких людей — людей, которым Фауст помог обрести
себя,— он может воплотить мечту, которую лелеял с тех самых
пор, как покинул отца: принадлежать к аутентичному сооб-
ществу, работать вместе с людьми и ради них, применить
свой разум в деле во имя общей воли и благополучия. Таким
образом, процесс экономического и социального развития
формирует новые виды саморазвития, идеального для муж-
чин и женщин, которые смогут врасти в появляющийся новый
мир. И, наконец, он формирует дом для самого строителя.
Итак, Гете видит в модернизации материального мира ве-
личайшее духовное достижение; Фауст Гете в своей роли
строителя, направляющего мир на новый путь,— архетипиче-
ский модерный герой. Но строитель в воплощении Гете столь
же трагичен, сколь героичен. Чтобы понять трагедию стро-
ителя, мы должны рассмотреть его представление о мире,
исследовав не только то, что он видит — открывающиеся пе-
ред человечеством бескрайние новые горизонты,— но также
и то, чего не видит: человеческие реалии, на которые он
отказывается смотреть, потенциальные опасности, которые
он не осмеливается назвать. Фауст воображает и стремится
86
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
создать мир, где личностный рост и социальный прогресс
могут происходить без значительных человеческих потерь.
Иронично, что его трагедия произрастает именно из стрем-
ления изгнать трагедию из жизни.
Фауст оценивает свои труды: весь регион преобразился,
расцвело новое общество, созданное по его образу и подо-
бию. Лишь один клочок земли на побережье остается таким
же, как прежде. Он принадлежит Филемону и Бавкиде, ми-
лейшей паре стариков, проживающих здесь с незапамятных
времен. У них небольшой домик на песчаной гряде, часовня
с маленьким колоколом, сад с липами. Они дают приют мо-
рякам, потерпевшим кораблекрушение, и помогают странни-
кам. Люди полюбили стариков, ведь их дом — единственный
источник жизни и радости в этой проклятой пустыне. Гете
заимствует имена и предысторию героев из «Метаморфоз»
Овидия, где только Филемон и Бавкида приютили Юпите-
ру и Меркурию в человеческом обличье, и поэтому лишь
они переживают потоп и землетрясение, посланные богами
на землю. Гете наделяет их большей индивидуальностью,
чем Овидий, и приписывает им характерные христианские
добродетели: невинную щедрость, бескорыстную предан-
ность, смиренность, покорность. Помимо этого Гете вклады-
вает в Филемона и Бавкиду отличительно модерный пафос.
Они — первое воплощение в литературе той категории лю-
дей, которая в модерной истории будет встречаться повсе-
местно: людей, стоящих на пути — пути истории, прогресса,
развития; людей, которых считают устаревшими — и от кото-
рых избавляются.
Фауст зацикливается на паре стариков и их клочке земли:
«Мне стариков бы первым делом убрать: мне нужно место
их; мне портит власть над миром целым одна та кучка лип
чужих! ‹...› О, как мучительно, как гадко в богатстве чувство
недостатка!» (11239–52). Они должны уйти и освободить ме-
сто для того, что, по мнению Фауста, должно стать вершиной
его строительства строительства — наблюдательной башни,
с которой он и его люди «вмиг могли бы все обнять», что есть
87
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
в новом выстроенном ими мире. Он предлагает Филемону
и Бавкиде денежную компенсацию или переселение в новый
дом. Но что им делать с деньгами в таком возрасте? И как
после стольких лет, прожитых здесь, после того, как они
встретили здесь старость, они могут начать новую жизнь где-
то еще? Они отказываются переезжать. «Упорством глупым
и строптивым испорчен плод моих побед; измучен я, терпе-
нья нет; я устаю быть справедливым!» (11269–72).
И тогда Фауст совершает первое сознательное злодеяние.
Он призывает Мефистофеля с «троими сильными» и прика-
зывает выселить стариков. Фауст не хочет наблюдать за высе-
лением или знать подробности предприятия. Его интересует
только результат: он, чтобы место было расчищено к следу-
ющему утру, дабы начать строительство. Мы наблюдаем ха-
рактерно модерный тип зла: зла непрямого, обезличенного,
претворяющегося в жизнь с помощью сложных организаци-
онных структур и институциональных ролей. Мефистофель
с отрядом возвращается «глубокой ночью» с хорошими но-
востями: все улажено. Фауст, неожиданно забеспокоившись,
спрашивает, куда переселили стариков, и узнает, что дом со-
жжен дотла, а старики убиты. Фауст ошеломлен, разгневан не
меньше, чем судьбой Гретхен. Он заявляет, что не приказы-
вал применять насилие, называет Мефистофеля разбойником
и отсылает прочь. Князь Тьмы, как и положено джентльмену,
галантно удаляется,— но уходя смеется. Фауст притворялся
не только перед другими, но и перед самим собой, считая,
что созданием нового мра не замарает рук; он все еще не
готов отвечать за человеческие страдания и смерти, которые
расчистили ему путь. Сначала он передал всю грязную ра-
боту посредникам, а как только работа была сделана, умыл
руки и отрекся от исполнителей. Похоже, что сам процесс
развития, даже если он преображает пустыню в цветущее
материальное и социальное пространство, воссоздает ту же
пустыню внутри самого строителя. Такова трагедия развития.
Однако злодеяние Фауста отчасти покрыто тайной. Поче-
му все-таки он так поступает? Неужели ему правда нужен этот
88
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
клочок земли и эти липы? Почему столь важна наблюдатель-
ная вышка? Чем же ему так угрожают старики? Для Мефисто-
феля здесь нет ничего таинственного: «Рассказ не нов: отдай
скорей свой виноградник, Навуфей!» (11286–87). Вспоминая
грех царя Ахава из Третьей книги Царств (21:29),* Мефисто-
фель подразумевает, что в фаустовской политике присвоения
нет ничего нового: нарциссическая жажда власти, наиболее
необузданная в сильнейших,— старейшая из движущих сил
истории. Дьявол, несомненно, прав: из-за неограниченной
власти самомнение Фауста только растет и растет. И все же
у убийства есть другой мотив, заключающийся не только
в личности Фауста, но и в коллективной, обезличенной дви-
жущей силе, которая, кажется, повсеместно присутствует
в модернизации: в стремлении к созданию однородной сре-
ды, тотально модернизированного пространства, в котором
облик и чувственность старого мира истреблены под корень.
Указание на эту вездесущую потребность, однако, лишь
усиливает тайну. Казалось бы, мы должны сочувствовать
ненависти Фауста к замкнутому, репрессивному, жестокому
готическому миру — миру, далеко не единственной жертвой
которого стала Гретхен. Но в то время, когда Фауст зацикли-
вается на Филемоне и Бавкиде, он уже нанес готическому
миру смертельный удар: создал новую, живую и энергичную,
социальную систему, ориентированную на свободный труд,
высокую производительность, международный обмен и тор-
говлю, изобилие для всех; взрастил новый класс свободных
и предприимчивых рабочих, любящих свой мир, готовых
рискнуть ради него жизнью и противопоставить любой угро-
зе волю и дух своего сообщества. Очевидно, что реальной
опасности реакции нет. Так почему же Фауста пугают даже
незначительные следы старого мира? Здесь Гете с необычай-
ной проницательностью обнажает глубочайшие страхи стро-
* Навуфей отказывался продавать свой виноградник, расположенный
у дворца, царю Ахаву. Его оклеветали, осудили как богохульника и каз-
нили через побитие камнями. — П рим. пер.
89
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
ителя. Эта пара стариков, как и Гретхен, символизирует все
лучшее в старом мире. Они слишком стары, слишком упрямы,
возможно, даже слишком глупы, чтобы адаптироваться и дви-
гаться вперед; но они прекрасные люди, соль своей земли.
Именно их красота и благородство так нервируют Фауста.
«Передо мной мое владенье бесконечно, а там — досада за
спиной!» Ему становится страшно глядеть назад, вглядываться
в лицо старого мира. «Пойду ль туда — мне страшны, гадки
чужие тени на пути». Если он остановится, из этих теней выско-
чит что-то темное. «Раздастся звон — и я бешусь» (11235–55).
Звон этих церковных колоколов — конечно же, звон об-
реченности и вины, символ всех социальных и психических
сил, погубивших возлюбленную Фауста; можно ли винить
его за стремление заглушить их навеки? И все же — именно
звон церковных колоколов выхватил его из объятий смерти.
В Фаусте гораздо больше от колокольного звона и старого
мира, чему ему хотелось бы думать. Волшебство колоколов
пасхального утра заключалось в том, что они вернули Фа-
уста в детство. Без этой живительной связи со своим про-
шлым — главного источника спонтанной энергии и восхище-
ния жизнью — он никогда бы не развил внутреннюю силу,
необходимую для преобразования настоящего и будущего.
Но теперь Фауст видит всю свою идентичность в воле к пе-
ремене и в своей способности претворять эту волю в жизнь,
и поэтому его так пугает связь с прошлым.
Мне запах лип давно не мил!
Звон этот колокола ровный
Напоминает мрак церковный,
Пугает ужасом могил!
Остановиться, отдохнуть в тени деревьев, окружить себя
стариками для строителя равносильно смерти. Но человеку,
который работает под неподъемным давлением развития,
который отягощен неизбежной виной, звон колоколов обе-
щает покой и блаженство. Именно потому что колокола так
90
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
ублажают слух, а деревья так и манят тенью и прохладой,
Фауст считает необходимым их уничтожить.
Комментаторы «Фауста» Гете редко улавливают драма-
тургическое и социальное значение этого эпизода. На самом
деле, он занимает центральное место в представлениях Гете
об истории. Убийство Филемона и Бавкиды оказывается иро-
нической кульминацией жизни Фауста. Погубив этих стари-
ков, он огласил себе смертный приговор. После уничтожения
стариков и старого мира у него больше не остается дел.
Фауст готов произнести слова, возвещающие, что он пожил
сполна и готов к смерти: Verweile doch, du bist so schön! *
Почему Фауст погибает именно теперь? Причины, по кото-
рым Гете выбирает этот миг, связаны не только со структурой
второй части «Фауста», но со структурой модерной истории
в целом. Есть ирония в том, что, покончив с домодерным ми-
ром, строитель покончил с причиной своего существования.
В полностью модерном обществе трагедия модернизации
естественным образом завершается — а ее трагический герой
гибнет. Как только строитель разрушил все препятствия, он
сам становится препятствием и должен исчезнуть. Оказалось,
что Фауст предвидел куда больше, чем хотел бы: колокола
Филемона и Бавкиды и правда возвещали его смерть. Гете
показывает нам, как человек, наделивший модерность жиз-
нью и силой, сам отходит в категорию устаревших людей.
Фауст почти смог понять свою трагедию — почти, но не пол-
ностью. В полночь он стоит на балконе и созерцает тлеющие
руины, которые утром будут расчищены под строительство.
Вдруг без предупреждения сцена резко меняется — из кон-
кретного реализма строительной площадки Гете погружает
нас в символический внутренний мир Фауста. К нему являются
четыре седые женщины и называют себя: Порок, Грех, Нужда
и Забота. Фаустовский строительный проект изгнал все эти
* Знаменитое «Прекрасно ты, продлись, постой!» или более привыч-
ное «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» из перевода Б. Пастерна-
ка.— П рим. пер.
91
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
силы из внешнего мира, но они призраками прокрались в его
разум. Фауст встревожен, но непреклонен и изгоняет трех
первых женщин. Но четвертая, самая неопределенная и глу-
бокая, Забота, продолжает преследование. Фауст говорит:
«Не вырвался еще на волю я!» — подразумевая, что на пути его
все еще стоят колдовство, магия, ночные призраки. Однако,
что иронично, свободе Фауста угрожает не присутствие этих
сил, а в их отсутствие. Проблема Фауста в том, что он не может
взглянуть в лицо этим силам и жить с ними. Он изо всех сил
старался создать мир, где не будет бедности, нужды и вины;
он даже не чувствует вины за произошедшее с Филемоном
и Бавкидой, хоть и горюет о них. Но Фауст не смог изгнать
из своего разума заботу. Она могла бы стать источником вну-
тренней силы, будь Фауст способен принять ее. Однако он не
в силах столкнуться лицом к лицу хоть с чем-нибудь, что спо-
собно бросить тень на его гениальную жизнь и работу. Так что
Фауст изгоняет из своего разума и заботу, как недавно изгнал
дьявола. Перед уходом Забота дует на него — и Фауст слепнет
от ее дыханья. Дотронувшись, она говорит, что он был слеп
всегда; все его планы и деяния рождены из внутренней тьмы.
Он не признавал заботу, и она задела его за такие глубины,
о которых он даже не подозревал. Он уничтожил этих стари-
ков и их маленький мир — мир своего детства — надеясь, что
так его планы и деяния станут безграничны; но видит лишь
безграничную «Матерь Ночь», с силами которой так боялся
столкнуться.
Неожиданная слепота в этой последней сцене на земле
придает Фаусту архаическое и мистическое величие, ставит
в один ряд с Эдипом и Лиром. Однако Фауст — прежде всего
модерный герой, и увечье только провоцирует его погонять
себя и рабочих, чтобы закончить работу еще быстрее:
Вокруг меня весь мир покрылся тьмою,
Но там, внутри, тем ярче свет горит;
Спешу свершить задуманное мною:
Одно владыки слово все творит! [11499 и далее]
92
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
И так далее. Именно в это мгновенье, посреди грохота
строительной площадки, он провозглашает себя по-настоя-
щему живым — а значит, готовым умереть. Даже во тьме его
мышление и энергия бурлят как прежде; он борется, разви-
вает себя и мир вокруг себя до самого конца.
ЭПИЛОГ: ФАУСТОВСКАЯ
И ПСЕВДОФАУСТОВСКАЯ ЭПОХА
Чья же это трагедия? В какую из эпох долгой истории модер-
на следует ее вписать? Если мы попробуем отыскать где-ни -
будь тот особый тип модерной среды, созданной Фаустом,
то поначалу окажемся в затруднении. Наиболее очевидным
аналогом кажется гигантская волна индустриальной экспан-
сии, в которую вошла Англия после 1760 года. Лукач устанав-
ливает именно такую связь и считает последний акт «Фауста»
трагедией «капиталистического развития» в ранний инду-
стриальный период.11 Эта версия небесспорна — если вни-
мательно изучить текст, становится ясно, что мотивы и цели
Фауста отнюдь не капиталистические. Гетевский Мефисто-
фель, имеющий нюх на прибыль, славящий эгоизм и не име-
ющий моральных принципов, прекрасно подходит под типаж
капиталистического предпринимателя; однако Фауст сильно
отличается от него. Мефистофель постоянно указывает на
удобные возможности заработать денег в схемах развития
Фауста, но тому попросту все равно. Когда Фауст говорит
«и пусть мильоны здесь людей живут, всю жизнь, в виду опас-
ности суровой, надеясь лишь на свой свободный труд», нам
очевидно, что строит он не для извлечения краткосрочной
прибыли, а скорее ради долгосрочного будущего человече-
ства, ради общей свободы и счастья, которые наступят лишь
через многие годы после его смерти. Если мы попробуем
низвести фаустовский проект до капиталистической жажды
наживы, то извлечем из него все самое благородное и ориги-
нальное, а главное — все по-настоящему трагическое. Гете же
хотел показать, как наиболее опасные ужасы фаустовского
93
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
развития произрастают из самых благородных целей и самых
доподлинных его достижений.
Если нам хочется отыскать планы и проекты Фауста в по-
чтенной эпохе самого Гете, то стоит обратиться не к экономи-
ческим и социальным реалиям того времени, а к радикальным
и утопическим мечтам; и более того — не к капитализму, а к со-
циализму. В конце 1820-х годов, когда были написаны за-
ключительные сцены «Фауста», любимым чтением Гете была
среди прочего французская газета Le Globe, один из органов
движения сенсимонизма, и именно там совсем незадолго до
смерти Гете в 1832 году появилось слово socialisme.12 «Разго-
воры с Гете» Эккермана полны восхищенных упоминаний мо-
лодых авторов Le Globe, в том числе множества ученых и ин-
женеров, которые ценили Гете не меньше, чем он их. Одной из
главных черт Le Globe, как и всех остальных сенсимонистских
изданий, был бесконечный поток долгосрочных проектов
развития невероятного масштаба. Эти проекты выходили да-
леко за пределы финансовых и интеллектуальных ресурсов
капиталистов XIX века, которые — особенно в Англии, где
капитализм развивался наиболее динамично — ориентиро-
вались в первую очередь на индивидуальное предприни-
мательство, быстрое завоевание рынков, преследование не-
медленной выгоды. Не были эти капиталисты заинтересованы
и в социальных выгодах, которые, как утверждали сенсимо-
нисты, принесет крупномасштабное развитие: стабильные ра-
бочие места и достойный доход для «наиболее многочислен-
ного и обедневшего класса», изобилие и благосостояние для
всех, новые типы сообществ, которые объединят средневе-
ковый органицизм с модерной энергией и рациональностью.
Неудивительно, что практически все сенсимонистские
проекты сбрасывались со счетов как «утопические». Одна-
ко именно этот утопизм охватил воображение престарелого
Гете. Вот как в 1827 году он радовался проекту Панамско-
го канала и перспективе славного будущего, открывшегося
для Америки: «Впрочем, я буду удивлен, если Соединенные
Штаты не приберут к рукам такое начинание. Можно смело
94
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
предсказать, что это молодое государство с его явно выра-
женной тягой к западу через тридцать-сорок лет завладеет
большими земельными пространствами по другую сторону
Скалистых гор и сумеет заселить их».*
В дальнейшем, уверен Гете, «по всему побережью Тихого
океана, где сама природа образовала обширные и надежные
гавани, мало-помалу вырастут большие торговые города,
которые будут способствовать оживленной торговле между
Китаем, Индией и Соединенными Штатами». С появлением
сферы транстихоокеанской торговли «возникает необходи-
мость в том, чтобы как торговые, так и военные корабли
могли быстрее проходить между восточным и западным по-
бережьем Северной Америки ‹...› Не обойтись без прямого
сообщения между Мексиканским заливом и Тихим океаном,
и они, несомненно, будут его иметь». Канал между морями,
будь то в Панаме или же севернее, сыграет ведущую роль
в развитии. «Все это, конечно, дело будущего, предприим-
чивость для этого требуется колоссальная». Гете уверен,
«последствия для всего человечества ‹...› отсюда проистекут
поистине неисчислимые». Он мечтает: «Я хотел бы до этого
дожить, но, увы, не доживу». (Ему семьдесят восемь, разго-
вор происходит за пять лет до смерти). Затем Гете вспоминает
еще два крупных проекта, также любимых у сенсимонистов:
канал, соединяющий Дунай и Рейн, и еще один, на Суэцком
перешейке. «Вот до каких трех событий мне хочется дожить,
и, право же, из-за этого стоило бы помаяться еще лет эдак
пятьдесят» 13. Мы видим, как Гете преобразует идеи и про-
граммы сенсимонистов в поэтические образы, которые он
воплотит и высветит в последнем акте «Фауста».
Гете объединяет эти идеи и надежды в, как я буду ее на-
зывать, «фаустовскую» модель развития. Такая модель одает
приоритет гигантским энергетическим и транспортным про-
ектам международного масштаба. Среди ее целей едва ли
присутствует сиюминутная прибыль: она ориентируется на
* Здесь и далее перевод с немецкого Н. Ман. — Прим. пер.
95
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
долгосрочное развитие производственных сил, которое, со-
гласно ей, в итоге даст наилучший результат для всех. Вместо
того, чтобы позволить рабочим и предпринимателям растра-
тить себя на отдельные, фрагментарные и конкурирующие
друг с другом предприятия, она будет стремиться их объ-
единить. Она создаст новый исторический синтез частно-
го и общественного, и символ этого синтеза — объединение
Мефистофеля, частного флибустьера и хищника, занятого
грязной работой, и Фауста, общественного проектировщи-
ка, планирующего и направляющего работу в целом. В этой
модели модерные интеллектуалы сыграют интереснейшую
и неоднозначную всемирно-историческую роль — сенсимони-
сты назвали ее «организатором», я же предпочел «строите-
ля»; они смогут совмещать материальные, технические и ду-
ховные ресурсы и преобразовывать их в новые структуры
социальной жизни. Наконец, фаустовская модель установит
новый тип власти, основанный на способности лидера удов-
летворить неизбывную потребность модерных людей в ри-
скованном, неограниченном, непрекращающемся развитии.
Многие юные сенсимонисты из Le Globe отличились, в ос-
новном при Наполеоне III, как гениальные новаторы в финан-
сах и индустрии. Они организовали систему железных дорог
Франции; основали Crédit Mobilier, международный инве-
стиционный банк для финансирования только появившейся
мировой энергетической промышленности; воплотили одну
из заветных мечт Гете — Суэцкий канал. Но в целом их визио-
нерский стиль и размах не был оценен в эпоху, когда развитие
было частным и фрагментарным, правительства оставались
на заднем плане (и часто скрывали свою экономическую де-
ятельность), а общественная инициатива, долгосрочное пла-
нирование и систематическое региональное развитие счита-
лись пережитками эпохи презренного меркантилизма. Только
в XX веке фаустовское развитие развернулось в полную силу.
В капиталистическом мире оно ярко проявилось в распро-
странении «органов самоуправления» и суперагентств, соз-
данных для организации огромных строительных проектов,
96
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
особенно в сфере транспорта и энергетики: каналов и же-
лезных дорог, мостов и автострад, плотин и ирригационных
систем, гидроэлектростанций, ядерных реакторов, новых го-
родов и мегаполисов, исследовании космоса.
В последние полвека, а особенно после Второй мировой
войны, эти организации вызвали «изменение баланса обще-
ственной и частной власти», ключевого фактора успешности
и роста капитализма.14 Такие различные строители фаустов-
ского типа как Дэвид Лилиенталь, Роберт Мозес, Хайман
Риковер, Роберт Макнамара и Жан Монне использовали та-
кое смещение баланса, чтобы сделать современный капита-
лизм куда более изобретательным и жизнеспособным, чем
столетие назад. Но фаустовское развитие — столь же важная
движущая сила и в социалистических государствах и экономи-
ках, возникших после 1917 года. В 1932 году, в разгар первой
советской пятилетки, Томас Манн справедливо поместил Гете
в узловую точку, когда «бюргерское принимает ‹...› если пони-
мать это слово достаточно широко и не догматически,— комму-
нистический характер».*
15 Сегодня мы встречаем таких визио-
неров и организации повсеместно — как в наиболее развитых
капиталистических и социал-демократических государствах,
так и в десятках стран, которые вне зависимости от главен-
ствующей идеологии считают себя «отстающими в развитии»,
а героическое ускоренное развитие — своей главной целью.
Уникальная среда, которая была фоном для последнего акта
«Фауста»,— огромная строительная площадка, простираю-
щаяся и безграничная во всех направлениях, постоянно ме-
няющаяся сама и провоцирующая изменения в персонажах
на авансцене, превратилась в стадию нашей сегодняшней
мировой истории. Фауст-Строитель, все еще маргиналь-
ный в мире Гете, в нашем мире оказался бы на своем месте.
Гете дает нам модель общественной деятельности, в кото-
рой сходятся развитые и отсталые общества, капиталистиче-
ские и социалистические идеологии. При этом Гете настаи-
* Перевод с нем. Л . Виндт. — П рим. пер.
97
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
вает, что чудовищное, трагическое схождение, скрепленное
кровью жертв и выстроенное на их костях, везде произойдет
по одной и той же схеме. Процесс развития, начатый энту-
зиастами XIX века как великое приключение человечества,
в нашу эру превратился в жизненную необходимость для
каждого государства и каждой социальной системы. В итоге
организации, занимающиеся развитием, повсеместно сосре-
доточили в своих руках огромную, неконтролируемую и ча-
сто — слишком часто — летальную власть.
В так называемых отсталых странах системные планы
ускоренного развития обычно влекут за собой системное
угнетение масс. Это угнетение принимает две формы, отлич-
ные друг от друга, но почти всегда пересекающиеся. Первая
форма предполагает выжимание всех соков из их рабочей
силы — фаустовское «люди сильные старались так, что но-
чью стон стоял» — для наращивания производительных сил
и одновременное ограничение массового потребления для
накопления излишков, реинвестируемых в экономику. Вто-
рая форма предполагает бессмысленные, на первый взгляд,
разрушения — уничтожение Фаустом Филемона и Бавкиды,
их часовни и лип,— цель которых не в создании каких-либо
материальных благ, а в символическом обозначении: новое
общество должно сжечь все мосты, чтобы нельзя было вер-
нуться назад.
Первое советское поколение, особенно в сталинский пе-
риод, ярко демонстрирует обе эти ужасные формы угне-
тения. Первый сталинский показной проект, строительство
Беломорского канала (1931–33), унес жизни сотен тысяч ра-
бочих — гораздо больше, чем любой современный капитали-
стический проект. А Филемон и Бавкида слишком уж удачно
символизируют миллионы погибших в 1932–1934 годы кре-
стьян, которые стояли на пути государственного плана кол-
лективизации земли, завоеванной ими всего за десять лет до
этого, во время Революции.
Но это скорее проекты псевдофаустовские, чем фаустов-
ские, это скорее театр абсурда и жестокости, чем трагедия,
98
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
по одной душераздирающей причине, о которой часто
забывают на Западе: они не работают. Зерновая сделка
1972 года * между Никсоном и Брежневым — достаточное
свидетельство того, что сталинская попытка коллективиза-
ции земли не только унесла жизни миллионов людей, но
и нанесла советскому сельскому хозяйству сокрушительный
удар, от которого оно так и не оправилось. А что касает-
ся Беломорского канала, то Сталин так стремился создать
крупный символ развития, что подгонял проект и давил на
него так, что застопорил реальность развития. В итоге ра-
бочим и инженерам не хватило времени, денег и оборудова-
ния для строительства канала, достаточно глубокого и без-
опасного для прохождения грузовых кораблей XX века; как
следствие, он не сыграл сколь-нибудь значительной роли
в советском товарообмене или индустрии. По-видимому,
канал канал годился только на привлечение толп туристов,
среди которых было много советских и иностранных пи-
сателей, прославлявших проделанную работу. Канал стал
триумфом пропаганды; но если хотя бы половину усилий,
направленных на пропаганду, посвятили самому строитель-
ству, то жертв было бы гораздо меньше, реального разви-
тия же — гораздо больше, а сам проект стал бы настоящей
трагедией, а не жестоким фарсом, в котором люди погибли
ради псевдособытий.**
** В 1972 году Советский союз закупил у США 10 млн тонн зер-
на (в основном пшеницы и кукурузы) по сниженной цене. Это в свою
очередь привело к повышению цен на зерно в самих Соединенных
штатах. — П рим. пер.
** Солженицын посвящает каналу одни из своих самых язвитель-
но-гениальных страниц. Он показывает, как с самого начала системати-
чески нарушались технические требования организации строительства
в стремлении показать всему миру, что модернизацию можно провести
в мгновение ока силой одной лишь революционный воли. Особенно
колко он проходится по готовности писателей, в том числе самых талант-
ливых, принять и распространить техно-пасторальную ложь, закрывая
99
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
Следует отметить, что в досталинский период, в 1920-е
годы, о человеческих жертвах прогресса можно было го-
ворить честно и проницательно. Например, произведения
Исаака Бабеля полны описаний таких трагических потерь.
В рассказе «Фроим Грач» (не пропущенном цензурой) чеки-
сты без особой причины убили фальстафовского * старого
жулика. Когда рассказчик, сам сотрудник госбезопасности,
с негодованием протестует, убийца ему говорит: «Ответь мне
как чекист, ответь мне как революционер — зачем нужен этот
человек в будущем обществе?» Убитый горем рассказчик не
знает, что сказать, но решает записать свое представление
о небезупречных, но хороших людях, уничтоженных Револю-
цией. Эта история произошла в недавнем прошлом (во время
Гражданской войны), но оказалась страшным и точным пред-
сказанием будущего, в том числе будущего самого Бабеля.16
Случай СССР особенно печален оттого, что его псевдофа-
устовские крайности неизбежно повлияли на страны Третьего
мира. Столь многие представители современных правящих
классов, как правые генералы, так и левые комиссары, оказа-
лись смертельно слабы (увы, смерть настигала подвластных
им гораздо чаще, чем их самих) перед соблазном внушитель-
ных проектов и кампаний, которые воплощают в себе фау-
стовский гигантизм и безжалостность, но не берут ничего от
его научных и инженерных способностей, организационного
гения или политической чувствительности к подлинным же-
ланиям и нуждам людей. Миллионы пали жертвами разруши-
тельных проектов развития немыслимых масштабов, вопло-
щенных безответственно и бесчувственно, развивавших лишь
богатство и власть правителей. Лже-Фаусты стран Третьего
глаза на трупы у своих ног. The Gulag Archipelago в переводе Томаса
Уитни (Thomas Whitney, Harper & Row, 1975), II, 85–102 . — П рим. авт.
* Фальстаф — персонаж пьес У. Шекспира «Виндзорские насмешни-
цы» и «Генрих IV». Один из самых популярных комических персона-
жей драматурга, ставший архетипическим и нарицательным. Фальстафа
можно охарактеризовать как шута, обжору и бездельника. — Прим. пер.
100
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
мира всего за поколение стремительно поднаторели в мани-
пулировании образами и символами прогресса — пропаганда
псевдоразвития превратилась в важную мировую индустрию,
процветающую от Тегерана до Пекина,— но по-прежнему не
могут достичь настоящего прогресса для компенсации на-
несенных ими разрушений и страданий. Время от времени
у народа получается свергнуть лжестроителей — как этого
лже-Фауста мирового уровня, шаха Ирана. Затем на недол-
гое время — очень редко на сколь-нибудь длительный пери-
од — люди берут развитие в свои руки. Если они достаточно
прозорливы и удачливы, то пишут и ставят собственные тра-
гедии развития, соответственно занимая роли Фауста и Грет-
хен / Филомена-Бавкиды. А если им не повезет, то краткий
период революционного действия приводит только к новым
страданиям, которые в свою очередь не ведут уже никуда.
В развитых индустриальных странах развитие идет по
более аутентичным фаустовским путям. Здесь трагические
дилеммы, намеченные Гете, остаются невероятно актуаль-
ными. Оказалось — и Гете мог бы это предсказать,— что под
давлением модерной мировой экономики должен постоянно
развиваться и сам процесс развития. Там, где это происхо-
дит, все люди, вещи, институты и среды, бывшие в некото-
рый исторический момент инновационными и авангардными,
оказываются старомодными и устаревшими в следующий.
Даже в самых развитых частях света на всех индивидуумов,
группы и сообщества давит неумолимая необходимость пре-
образовывать себя; если они остановятся, чтобы отдохнуть
и побыть собой, то погибнут. Главное условие контракта Фа-
уста с дьяволом — если он когда-нибудь остановится и скажет
мгновенью «Verweile doch, du bist so schön!», то умрет,—
каждый день разыгрывается вплоть до своего трагического
конца в миллионах жизней.
За последнее поколение, даже во время экономическо-
го упадка 1970-х годов, процесс развития распространился,
часто стремительными темпами, в самые отдаленные, изо-
лированные и отсталые сектора развитых обществ. Он пре-
101
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
образовал бесчисленные пастбища и кукурузные поля в хи-
мические заводы, штаб-квартиры корпораций, пригородные
торговые центры — много ли апельсиновых рощ * осталось
в калифорнийском округе Ориндж? Он преобразовал тысячи
городских районов в скоростные автострады и парковки, или
в Мировые торговые центры и Пичтри-Плазы, в заброшен-
ные выжженные пустыни — иронично, что пока небольшие
отряды храбрых переселенцев исследовали новые фронтиры
там, на руинах, вновь выросла трава,— или же, в рамках типич-
ной успешной истории урбанизма 1970-х годов, в застеклен-
ные и отретушированные налетом старины пародии на самих
себя в прошлом. Ненасытное развитие оставило немысли-
мые разрушения от заброшенных фабричных городов Новой
Англии до разоренных угледобычей Аппалачей до Южного
Бронкса и Лав-Канала. На смену лопатам, под звон которых
Фауст ожил и умер, сегодня пришли в гигантские экскаваторы
и динамит. Вчерашние Фаусты могут оказаться сегодняшними
Филоменами и Бавкидами, погребенными под руинами сво-
их прошлых жизней, пока сегодняшних молодых и энергич-
ных Гретхен перемалывают на шестернях и слепят огнями.
В этих развитых индустриальных странах фаустовский миф
в последние два десятилетия служил некой призмой для мно-
гих представлений о наших жизнях и эпохе. Норман О. Браун
в книге «Жизнь против смерти» (Life Against Death, 1959)
предложил интереснейшую критику фаустовского идеала
развития: «Фаустовская неугомонность человека-в -истории
показывает, что люди никогда не удовлетворяются исполне-
нием своих сознательных желаний». Браун надеялся, что пол-
ный пересмотр психоаналитической мысли поможет «найти
выход из кошмара бесконечного „прогресса“ и бесконечно-
го же фаустовского недовольства, выход из невроза, выход
из истории». Браун видел в Фаусте прежде всего символ
исторических деяний и мучений: «Фаустовский человек — это
* Англ. orange groves. Округ Ориндж получил свое название именно
по апельсиновым рощам. — П рим. пер.
102
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
человек, вершащий историю». Но если бы от подавления
сексуальности и психики можно было как-то избавиться —
Браун на это надеется,— тогда «человек наконец-то будет го-
тов жить, а не вершить историю». Тогда «неугомонный путь
фаустовского человека будет окончен, потому что он сможет
сказать: „Verweile doch, du bist so schön!“».17 Как Маркс после
«Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» и Стивен Дедал
у Джойса, Браун воспринимает историю как кошмар, от ко-
торого он хотел бы очнуться; однако, в отличие от предше-
ственников, его кошмаром была не отдельная историческая
ситуация, а историчность в целом. При этом интеллектуаль-
ные начиная вроде его собственных помогли многим его
современникам развить критический взгляд на собственный
исторический период, на комфортабельно-тревожную эпоху
Эйзенхауэра. Несмотря на ненависть Брауна к истории, бро-
сить вызов Фаусту — исторический жест большого мужества
и фаустовский поступок сам по себе. Так он предвосхитил
и напитал радикальные теории следующего десятилетия.
Фауст продолжал играть важную символическую роль
в 1960-е годы. Можно сказать, что фаустовские представ-
ления оживили основные радикальные движения и journées *
этого десятилетия. Например, особенно ярко они прояви-
лись в массовом походе на Пентагон в октябре 1967 года.**
На этой демонстрации, которую Норман Мейлер обессмер-
тил в романе «Армия ночи» (The Armies of the Night, 1968),
от имени огромного и синкретического пантеона известных
и неизвестных богов был проведен обряд символическо-
го экзорцизма с целью изгнания демонов из структур Пен-
тагона. (Как заявляли сами экзорцисты, освободившись от
этого груза, здание поднимется в воздух и уплывет или уле-
тит). Участникам этого памятного события Пентагон казался
** Фр. «дни», часто употребляется по отношению к дням протестов
и массовых акций. — П рим. пер.
** Акция протеста против войны во Вьетнаме, одно из самых значи-
тельных событий в истории антивоенного движения в США. — Прим. пер.
103
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
апофеозом извращенной фаустовской конструкции, высво-
бодившей самые опасные разрушительные энергии мира.
Демонстрация и наше антивоенное движение в целом каза-
лись нам обвинительным актом против фаустовских планов
и проектов Америки. И в то же время демонстрация сама по
себе была удивительной конструкцией, одним из немногих
шансов американских левых выразить собственные фаустов-
ские устремления и склонности. Чем ближе мы подходили
к зданию — а казалось, что подбираться к нему ближе и ближе
можно бесконечно, идеальная кафкианская атмосфера,— тем
больше ощущали странную двусмысленность всего этого
предприятия, так как маленькие фигурки внутри здания,
очерченные вдалеке окнами (как говорит Шпенглер, окна —
всегда сущности сверхфаустовские), указывали на нас, маха-
ли и даже простирали к нам руки, будто хотели обнять нас,
признать в нас родственные души, заманить или пригласить
нас внутрь. Совсем скоро дубинки солдат и слезоточивый
газ прекрасно разъяснили дистанцию, пролегающую между
нами; но эта ясность даже принесла облегчение — ему пред-
шествовало несколько трудных моментов. Мейлер наверняка
подразумевал именно это, написав в самом конце десятиле-
тия: «Мы живем в фаустовскую эпоху и обязательно встретим
Господа или Дьявола до ее окончания, и единственный ключ
к этому замку — неизбежная руда истинного».18
Фауст занимал столь же важное место и в других направ-
лениях мысли 1960-х годов, которые мы можем назвать «пас-
торальными». В частности, роль Фауста в пасторали состояла
в том, что его изгнали с пастбища. Его мечты, стремления
и способности помогли человечеству совершить великие на-
учные открытия и создать великолепные художественные
произведения, преобразовать природную и социальную сре-
ду, создать экономику изобилия, которой в последнее время
наслаждаются наиболее развитые индустриальные общества.
Но теперь благодаря своему же успеху «фаустовский человек»
исторически устарел. Эту точку зрения развил молекулярный
биолог Гюнтер Стент в книге «Пришествие золотого века:
104
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
взгляд на конец прогресса» (The Coming of the Golden Age:
A View of the End of Progress). Стент использовал прорывные
достижения своей области науки, в частности недавнее от-
крытие ДНК, для защиты утверждения, что успехи модерной
культуры не только вознесли эту культуру на невероятную
высоту, но и полностью истощили ее, и теперь идти боль-
ше некуда. Модерные экономическое и социальное разви-
тие в результате схожего процесса в целом подошли к концу.
История привела нас в точку, где «экономическое благосо-
стояние считается само собой разумеющимся», и мы больше
не можем сделать ничего значительного:
И здесь мы можем наблюдать внутренние противоречия про-
гресса. Прогресс зависит от эксплуатации фаустовского человека,
а главный источник мотивации последнего — идея воли к власти.
Но когда прогресс заходит настолько далеко, что обещает эконо-
мическую стабильность для каждого, то новый социальный этос
препятствует передаче детям воли к власти при воспитании,
а значит обрывает становление фаустовского человека.
Через процесс естественного отбора фаустовский чело-
век постепенно изгоняется из созданной им среды.
У молодого поколения, выросшего в таком мире, очевидно
нет никакой мотивации к действию или достижениям, власти
или переменам; они разве что могут сказать «Verweile doch,
du bist so schön» и повторять фразу до скончания своих
дней. Уже сейчас можно наблюдать, как эти дети будущего
счастливо сидят вразвалочку, поют, танцуют, занимаются лю-
бовью и курят травку под калифорнийским солнцем. Картина
Лукаса Кранаха, изображающая Золотой век, которую Стент
поместил на обложку, «есть не что иное как пророческое
видение сборища хиппи в парке Золотые Ворота».
Грядущий конец истории будет «периодом всеобщего ста-
зиса»: искусство, наука и мысль, возможно, по-прежнему
будут существовать, но лишь ради приятного времяпрепро-
вождения и получения удовольствия. «Фаустовский человек
105
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
Железного века с отвращением смотрел бы, как его всем обе-
спеченные потомки тратят свободное время на чувственные
удовольствия. ‹...› Но фаустовскому человеку стоит смириться
с тем фактом, что именно такой Золотой век будет плодом всех
его самоотверженных усилий, и нет смысла желать друго-
го». Стент заканчивает на горестной, почти элегической ноте:
«В конечном итоге тысячелетие искусства и науки превратит
трагикомедию жизни в хэппенинг». Ностальгия по фаустов-
ской жизни — очевидный знак, что устарел сам Стент. Он уви-
дел свое будущее, и именно так оно для него и сложилось.*
19
Сложно перечитывать эти пасторали 1960-х годов без
ностальгической грусти даже не по хиппи вчерашнего дня,
а по почти единодушной вере — разделяемой и честными
гражданами, которые больше всего презирали хиппи,— что
жизнь стабильного изобилия, праздного досуга и благосо-
стояния с нами навсегда. Безусловно, многое в 1970-е годы
было преемственно по отношению к 1960-м; но экономи-
ческая эйфория тех лет — Джон Брукс в своих воспомина-
ниях о Уолл Стрит 1960-х называл это десятилетие «годы
гоу-гоу» ** — теперь, как кажется, относится к совершенно
другому миру. За удивительно короткое время самодоволь-
ная уверенность полностью истерлась. Энергетический кри-
зис 1970-х во всех своих экологических и технологических,
экономических и политических измерениях спровоциро-
вал волны разочарования, горечи и замешательства, иногда
** Эта книга обрела некое подобие второй жизни в 1970-е годы, когда
помогла сформировать риторику и, возможно, общий дух калифорний-
ского губернатора Джерри Брауна. Браун распространял экземпляры
книги среди своих сторонников и отсылал к ней журналистов журнали-
стов, чтобы те нашли зацепки к его мышлению. — П рим. авт.
** Гоу-гоу (англ. go-go) — стиль танца, часто откровенный, предна-
значенный для развлечения публики. В данном контексте интересно
происхождение этого термина: go-go происходит от названия париж-
ского танцевального кафе Whisky à Gogo, которое было, названо по
французскому выражению à gogo (в избытке, в изобилии). — П рим. пер.
106
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
доходящие до паники и истерического отчаяния; он также
вдохновил общество на здоровый и глубокий самоанализ,
который, однако, часто деградировал до самовредительства
и ненависти к себе.
Теперь многим людям существовавшие веками проекты
модернизации кажутся губительной ошибкой, деянием чрез-
мерной гордыни и зла. И фигура Фауста приняла новую
символическую роль дьявола, вырвавшего человечество из
первоначального единства с природой и направившего его
на путь к катастрофе. «В воздухе повисло отчаяние,— писал
культурный антрополог Бернард Джеймс в 1973 году,— чув-
ство ‹...› что наука и технологии бросили человека в новую
опасную эпоху». Эта эпоха ознаменует «конечный период
упадка нашего западного мира, это очевидно. Мы живем
на перенаселенной и разграбленной планете, мы должны
остановить грабеж или вымереть». Книга Джеймса носит ти-
пичное для 1970-х годов апокалиптичное название «Смерть
прогресса» (The Death of Progress). Смертельная сила, кото-
рую необходимо уничтожить до того, как она сама уничтожит
человечество, это «модерная прогрессивная культура», а ее
главный культурный герой — Фауст. Джеймс, по-видимому, не
готов целиком осудить и отказаться от всех модерных науч-
ных открытий и технологических достижений. (Особенную
нежность он испытывал к компьютерам). Однако он все же
заявляет, что «стремление к знанию, как мы понимаем его
сегодня, может оказаться фатальной прихотью культуры»,
и его необходимо серьезно ограничить или даже вырвать
с корнем. После яркого описания всевозможных ядерных
катастроф, чудовищных видов биологического оружия и ге-
нетической инженерии Джеймс утверждает, что все эти ужасы
естественным образом проистекают из «зародившейся в ла-
бораториях страсти свершить грех Фауста».20 Так родился
фаустовский злодей, столь любимый авторами комиксов про
Капитана Америку и журналистами New Yorker конца 1970-
х годов. Примечательно наблюдать, как пасторали 1960-х
годов и апокалиптики 1970-х сходятся в одном: если челове-
107
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
чество хочет одержать победу — жить хорошо (в 1960-е годы)
или жить вообще (в 1970-е),— то ему «фаустовского человека»
нужно изгнать.
В 1970-е годы, по мере эскалации споров о целесообраз-
ности и ограничении экономического роста и дискуссий о луч-
ших способах производства и хранения энергии, экологи и пи-
сатели-сторонники сдерживания развития возвели Фауста
в роль первого «фанатика роста», готового уничтожить мир
ради ненасытной экспансии, не задаваясь вопросами и не
переживая о том, какой урон неограниченный рост может
нанести природе или человеку. Думаю, нет нужды говорить,
что это абсурдное извращение истории Фауста, упрощение
трагедии до мелодрамы. (Однако оно несомненно напомина-
ет кукольные представления по фаустовским сюжетам, кото-
рые Гете видел в детстве). Мне кажется более важным указать
на интеллектуальный вакуум, возникший после исключения
Фауста из картины мира. В сущности, все разношерстные
сторонники солнечной, ветровой и гидравлической энерге-
тики, маленьких и децентрализованных источников энергии,
«промежуточных технологий», «устойчивой экономики» суть
враги долгосрочного планирования, научных исследований,
технологических инноваций, сложно структурированных
организаций.21 А ведь если они хотят, чтобы хоть сколь-ни -
будь значительное количество людей переняло их взгляды
и планы, необходимо радикальнейшее перераспределение
экономической и политической власти. И даже это перерас-
пределение — которое будет означать ликвидацию General
Motors, Exxon, Con Edison и их аналогов, а также перерас-
пределение всех ресурсов между людьми — станет всего
лишь прелюдией к самой широкой и невероятно сложной
реорганизации всего устройства каждодневной жизни. Без-
условно, в доводах в пользу сдерживания роста и экологи-
чески чистых видов энергии нет ничего странного, они со-
держат по-настоящему остроумные и изобретательные идеи.
Странно тут другое — при громадной величине стоящих перед
ними исторических задач, они призывают нас, в выражениях
108
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Э. Ф. Шумахера, «мыслить по-мелкому».22 Большинство этих
писателей упускают парадоксальную реальность: в модер-
ном обществе лишь самое оригинальное и систематическое
«мышление по-крупному» может дать возможность для того,
чтобы «мыслить по-мелкому». Так что поборники сокращения
потребления энергии, ограничения роста и децентрализации
должны не проклинать Фауста, а признать в нем своего героя.
Единственная современная группа, которая не только ис-
пользовала фаустовский миф, но и осознала его трагическую
глубину,— сообщество ученых-ядерщиков. Пионеры ядерной
энергии, ставшие свидетелями ослепительной вспышки взры-
ва в Аламогордо («Господи боже мой!.. волосатые мальчишки
вышли из-под контроля!»), так и не смогли изгнать ужасаю-
щего Духа Земли, явившегося благодаря изобретательности
их умов. «Обеспокоенные ученые» послевоенной эры уста-
новили по-настоящему фаустовский стиль науки и техники,
основанный на вине и заботе, сострадании и принятии про-
тиворечий. Этот стиль радикально противостоит панглосско-
му типу науки, господствующему в военных, промышленных
и политических правящих кругах прошлого и настоящего,
который убеждает мир, что каждая неудача случайна и ско-
ротечна, и что в конце концов все происходит к лучшему. Пока
все правительства систематически лгали своим народам об
опасности ядерного оружия и ядерной войны, именно обес-
покоенные ветераны Манхэттенского проекта (наибольший
героизм проявил Лео Силард) предельно понятно объяснили
правду и начали борьбу за гражданский контроль над ядерной
энергией, ограничение ядерных испытаний и международный
контроль над оружием. 23 Их проект помог сохранить жизнь
фаустовской осознанности и опровергнуть утверждение Ме-
фистофеля, что люди могут свершить великое, лишь отбро-
сив чувство вины и заботы. Они показали, как такие эмоции
могут привести к действиям в высшей степени созидатель-
ным с точки зрения организации выживания человечества.
В последние годы споры о ядерной энергии породили
новые метаморфозы Фауста. В 1971 году Элвин Вайнберг, ге-
109
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
ниальный физик и управленец, директор Окриджской наци-
ональной лаборатории, обратился к образу Фауста в куль-
минации своей резонансной речи «О социальных институтах
и ядерной энергии»:
Мы, ядерщики[,— сказал Вайнберг,— ] заключили с обществом
фаустовскую сделку. С одной стороны мы предлагаем — в виде
катализационного ядерного реактора — неисчерпаемый источник
энергии. ‹...› Однако взамен этой магической энергии мы требуем
от общества бдительности и долговременных социальных инсти-
тутов, к которым мы совсем не привыкли.
Для под держания этого, «в сущности, неисчерпаемого
источника дешевой и чистой энергии» люди, общества и го-
сударства будущего должны соблюдать «постоянную бди-
тельность», предотвращать серьезные опасности, которые
могут быть не только технологическими — они, кстати, могут
доставить куда меньше проблем,— но социальными и поли-
тическими.
В этой книге нет места для обсуждения достоинств и не-
достатков тревожной и глубоко проблематичной ядерной
сделки Вайнберга. Однако следует отметить, как изменяется
в его словах образ Фауста. Ключевой момент в том, что
ученые («мы, ядерщики») больше не исполняют фаустов-
скую роль. Теперь они исполняют роль стороны, предлагаю-
щей сделку — то есть Мефистофеля, духа, который «отрицает
все — и в этом суть его»! Странное, очень неоднозначное
представление о себе, которое вряд ли выиграет премию
в номинации на лучшую рекламу, но невероятно привле-
кает своей (возможно, непреднамеренной) искренностью.
Особенно важно, как теперь распределяются роли: фау-
стовский протагонист у Вайнберга, который должен при-
нять или отвергнуть сделку, это «общество» — то есть мы.
Он подразумевает, что фаустовское стремление к развитию
есть во всех модерных мужчинах и женщинах. А значит,
«именно общество должно сделать выбор, и мы, ядерщики,
110
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
не имеем права диктовать решение».24 Это означает, что
вне зависимости от того, какая будет — или не будет — за-
ключена фаустовская сделка, мы не только имеем право
о ней знать, но и обязаны сами принять решение.* Мы не
можем переложить ответственность за развитие на каких-то
там кадровых специалистов — потому что в проектах разви-
тия мы сами эксперты. Ученые и инженеры приобрели такое
обширное влияние в модерном обществе только потому, что
в их представлениях и ценностях отразились эхом, усили-
лись и воплотились наши общие ценности. Они попросту
изобрели способы достижения целей, поставленных модер-
ным сообществом: доступное развитие для каждого и об-
щества в целом, непрерывное преобразование внутреннего
и внешнего мира. Как участники модерного общества мы
ответственны за направления развития, наши цели и дости-
жения, за их человеческую цену. Наше общество никогда не
сумеет контролировать взрывоопасные «подземные силы»,
если будет притворяться, что из-под контроля вышли якобы
только наши ученые. Один из основных фактов модерной
жизни — мы все теперь «волосатые мальчишки».
Модерные мужчины и женщины, стремящиеся к самопо-
знанию, вполне могли бы начинать с Гете, подарившего нам
в «Фаусте» первую трагедию развития. Сталкиваться с этой
трагедией никто не хочет — ни развитые, ни отсталые страны,
ни капиталистические, ни социалистические идеологии,— но
* К сожалению, значительная часть силы фаустовской аналогии Вайн-
берга теряется из-за другой его центральной парадигмы: постоянно ци-
тируемого образа «ядерного духовенства». Этот секулярный священный
орден, в котором Вайнберг, видимо, собирался быть отцом-основателем,
должен бы был защищать человечество от рисков ядерной энергии и на-
всегда уничтожить ее потенциальные дьявольские опасности. Очевидно,
Вайнберг не уловил противоречий между своими фаустовскими пред-
ставлениями и церковными устремлениями. Даже неглубокое знакомство
с «Фаустом» Гете, а особенно с отношением Гете к Церкви и духовенству,
показывает, насколько очевидна эти антиномия.— Прим. авт.
111
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
все продолжают снова и снова исполнять в ней свои роли.
Взгляд и образы Гете помогают нам понять, что глубокая
и подробная критика модерности может исходить от тех, кто
со всей страстью влюблен в ее романтику и риск. Одна-
ко «Фауст» есть не только критика, но и вызов — и в первую
очередь нашему миру, а не миру Гете,— вызов создать новые
типы модерности, где не человек будет существовать ради
развития, а развитие — ради человека. Незаконченная строй-
ка Фауста — это живительный, но неустойчивый фундамент;
мы должны укрепить его и выстроить на нем наши жизни.
[112]
ВСЕ ТВЕРДОЕ
РАСТВОРЯЕТСЯ
В ВОЗДУХЕ:
МАРКС, МОДЕРНИЗМ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Со времени возникновения крупной промышленности ‹...› начи-
нается стремительное, напоминающее лавину, опрокидывающее
все преграды движение в этой области. Всякие рамки, которые
ставятся обычаями и природой, возрастом и полом, сменой дня
и ночи, были разрушены. ‹...› Капитал справлял свои оргии.
«Капитал», том первый
Я отрицаю все — и в этом суть моя.
Мефистофель в «Фаусте»
Инновационное самоуничтожение!
Реклама Mobil Oil, 1978
На лабораторных стеллажах в компании Shearson Hayden Stone
располагается циркулярное письмо со следующей цитатой из Ге-
раклита: «Все течет, все меняется».
«Шеф Shearson создает нового гиганта Уолл-стрит»,
материал из газеты New York Times, 1979
113
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
... ка жущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный
порядок в высочайшей степени.
Достоевский в Лондоне, 1862
МЫ увидели, как «Фауст» Гете, который, по общему
мнению, первым выразил духовные искания модер-
ности, находит удовлетворение,— но также и прихо-
дит к трагической катастрофе,— в преобразовании модер-
ной материальной жизни. Вскоре мы увидим, что истинная
сила и оригинальность «исторического материализма» Маркса
в том, как он помогает прояснить духовную жизнь модерности.
Оба автора разделяли точку зрения, куда более распростра-
ненную, чем в наше: веру, что «модерная жизнь» представ-
ляет собой связное целое. Это ощущение целостности лежит
в основе суждения Пушкина о «Фаусте» как об «„Илиаде“
новейшей поэзии». Оно предполагает единство жизни и опы-
та, охватывающее модерную политику и психологию, про-
мышленность и духовность, правящие и трудящиеся классы.
Цель этой главы — реконструировать представления Маркса
о модерной жизни как о едином целом.
Стоит отметить, что это ощущение целостности противо-
речит современной мысли. Нынешнее представление о мо-
дерности слагается из двух течений, герметично отделенных
друг от друга: «модернизации» в экономике и политике, «мо-
дернизма» — в искусстве, культуре и чувственности. Если мы
попытаемся локализовать Маркса в рамках этого дуализма,
то найдем — и не удивимся,— что ему отводится много места
в литературе о модернизации. Даже авторы, которые поле-
мизируют с ним, как правило, называют его труды перво-
источником и отправной точкой для своих работ.1 С другой
стороны, в литературе о модернизме Маркс не признается
вовсе. Зачастую модернистская культура и сознание про-
слеживаются до его поколения, поколения 1840-х годов — до
Бодлера, Флобера, Вагнера, Кьеркегора, Достоевского,— но
самому Марксу в этом генеалогическом древе не достается
даже ветки. Если он и упоминается в этой компании, то лишь
114
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
для фона, либо в качестве пережитка более ранней и невин-
ной эпохи — например, Просвещения,— ясные представления
о будущем и прочные ценности которой модернизм якобы
уничтожил. Иные писатели (например, Владимир Набоков)
изображают марксизм балластом, давящим модернистский
дух; другие (как Георг Лукач в коммунистические годы) счи-
тают мировоззрение Маркса куда более здоровым, вменя-
емым и «реальным», нежели мировоззрение модернистов;
но, кажется, все соглашаются с тем, что Маркс и модернисты
принадлежат к разным мирам. 2
Однако чем больше мы разбираемся в том, что Маркс
говорил на самом деле, тем меньше смысла остается в этом
дуализме. Возьмем такой пример: «Все твердое растворяет-
ся в воздухе». Космический размах и визионерское величие
этого образа, его крайне сжатая и колоссальная сила, ту-
манно-апокалиптические оттенки, двойственность его взгля-
да (разрушающий жар — это также переизбыток энергии) —
все эти качества, как считается, являются отличительными
признаками модернистского взгляда на мир. Именно их мы
ожидаем обнаружить у Рембо или Ницше, Рильке или Йей-
тса — «все рушится, основа расшаталась».* На самом деле,
данный образ идет от Маркса, и не из какой-нибудь загадоч-
ной и остававшейся долгое время неизвестной рукописи, а из
«Манифеста Коммунистической партии». Он помещен в куль-
минации описания Марксом «модерного буржуазного обще-
ства». Если взглянуть на предложение, откуда взят отрывок,
целиком, то близость Маркса к модернистам становится даже
очевиднее: «Все твердое растворяется в воздухе,** все свя-
щенное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необхо-
димости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное по-
ложение и свои взаимные отношения».3 Второе утверждение
** Пер. Г. Кружкова. — Прим. пер.
** Текст русского перевода изменен. Нес мотря на то, что он точнее,
нежели английский, при цитировании данного фрагмента здесь и далее
мы будем придерживаться версии С. Мура. — П рим. пер.
115
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Маркса, заявляющее о гибели всего сакрального, глубже
и интереснее стандартного материалистического заявления
XIX века о том, что Бога не существует. Маркс движется во
временном измерении и работает над тем, чтобы обратиться
к происходящей исторической драме и травме. Он говорит
о том, что аура святости внезапно пропадает, и мы не можем
осознать себя в настоящем, покуда не столкнемся с тем, что
отсутствует. Третья часть — «и люди приходят, наконец, к не-
обходимости...» — не только описывает столкновение с оза-
дачивающей реальностью, но и изображает его, навязывает
его читателю,— впрочем, и писателю тоже, ведь здесь при-
сутствуют все «люди», или, как говорит Маркс, die Menschen,
одновременно субъекты и объекты вездесущего процесса,
который растворяет все твердое в воздухе.
Если мы проследим за этим модернистским образом «рас-
творения», то обнаружим его во всех трудах Маркса. Он,
подобно глубинному течению, повсюду упирается в знамени-
тые и более «прочные» концепции Маркса. Особенно живо
и поразительно в «Манифесте Коммунистической партии».
Более того, этот образ позволяет взглянуть на «Манифест»
по-новому — как на архетип грядущего века модернистских
манифестов и движений. Этот текст выражает ряд самых
глубоких озарений модернистской культуры и в то же вре-
мя подчеркивает некоторые самые глубокие ее внутренние
противоречия.
Здесь нелишне будет спросить: не достаточно ли уже ин-
терпретаций Маркса? Правда ли нам нужен модернистский
Маркс, родственная душа Элиота, Кафки, Шенберга, Гертру-
ды Стайн и Арто? Полагаю, нужен, и не только потому, что
он реален, но и потому, что он может сказать нам нечто осо-
бенное и важное. На самом деле, Маркс способен поведать
о модернизме не меньше, чем модернизм — о нем. Модерни-
стская мысль, столь великолепно освещающая темную сто-
рону всего и вся, таит в себе немало темных углов, и Маркс
может пролить на них новый свет. В частности, он может про-
яснить связь между модернистской культурой, буржуазной
116
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
экономикой и обществом,— миром «модернизации»,— из ко-
торых она возникла. Мы увидим, что между ними куда боль-
ше общего, нежели могли бы помыслить модернисты или
буржуа. Мы увидим переплетение марксизма, модернизма
и буржуазии в странном диалектическом танце, и если мы
повторим их движения, то узнаем много важного о модерном
мире, общем для всех нас.
1. ОБРАЗ РАСТВОРЕНИЯ И ЕГО ДИАЛЕКТИКА
Центральная тема, благодаря которой известен «Манифест»,—
это развитие и борьба модерных буржуазии и пролетариата.
Но мы можем увидеть, что внутри этого сюжета развивается
другой — борьба внутри сознания автора из-за того, что на
самом деле происходит и что означает усиление борьбы.
Мы могли бы описать этот конфликт как противоречие между
«твердыми» и «растворяющими» представлениями Маркса
о модерной жизни.
Первая глава «Манифеста», «Буржуа и пролетарии», из-
лагает общее представление о том, что сейчас известно как
процесс модернизации, и подготавливает почву для того,
что, по мнению Маркса, станет его революционным апогеем.
Здесь он описывает твердое институциональное ядро модер-
ности. Прежде всего, появление мирового рынка. По мере
расширения рынок поглощает и уничтожает любые местные
и региональные рынки, с которыми входит в контакт. Произ-
водство и потребление — а также человеческие нужды — при-
обретают все более международный и космополитический
характер. Человеческие желания и потребности выходят
далеко за пределы возможностей местного производства,
которое вследствие этого гибнет. Коммуникации выходят на
глобальный уровень, появляются технологически сложные
средства массовой информации. Капитал постепенно кон-
центрируется в руках меньшинства. Независимые крестья-
не и ремесленники не могут конкурировать с капиталисти-
ческим массовым производством, им приходится покидать
117
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
свои земли и закрывать мастерские. Производство все более
рационализируется и централизуется на высокотехнологич-
ных фабриках (то же происходит и в сельской местности, где
отдельные хозяйства превращаются в «полевые фабрики»,
а крестьяне становятся сельскохозяйственными пролетари-
ями). Огромное количество оторванных от земли бедняков
устремляется в города, которые будто бы по волшебству ка-
тастрофически разрастаются за одну ночь. Чтобы эти огром-
ные перемены могли свершиться относительно спокойно,
должна произойти некоторая судебная, фискальная и адми-
нистративная централизация; и она наблюдается везде, где
развивается капитализм. Появляются национальные государ-
ства и сосредотачивают в своих руках огромную власть, хотя
ее и беспрестанно подрывает международный масштаб ка-
питала. В то же время у промышленных рабочих постепенно
пробуждается некоторое классовое сознание, и они восстают
против крайней нищеты и хронического подавления. В этом
тексте все знакомо; мы наблюдаем, как данные процессы все
еще продолжаются, и столетие существования марксизма
помогло создать язык для их описания.
Однако, если вчитываться, если читать особенно внима-
тельно, можно заметить странное. Проза Маркса внезапно
становится сверкающей, пламенной; блестящие образы сле-
дуют друг за другом и смешиваются один с другим; дерз-
кий импульс влечет нас вперед с захватывающей дух си-
лой. Маркс не просто описывает, но воплощает и повторяет
отчаянный темп и неистовый ритм, в которые капитализм
вгоняет каждый аспект модерной жизни. Он пробуждает
в нас чувство, что мы — часть этой гонки, увлечены пото-
ком, мчимся по его бесконтрольным водам, одновременно
завороженные и испуганные тем, что нас сметет грядущая
волна. Спустя несколько страниц мы взбудоражены, но и за-
думчивы, так как осознаем, что твердые социальные инсти-
туты вокруг нас растворились в воздухе. Ко времени, когда
наконец появился Марксов пролетариат, всемирная сцена, на
которой он должен бы был сыграть свою роль, разрушилась
118
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и преобразилась в некую незнакомую, сюрреалистичную,
подвижную конструкцию, которая меняет форму прямо под
ногами исполнителей. Как будто внутренняя энергия этого
плавящегося образа сбежала с Марксом, увлекая его — а так-
же рабочих и нас — за собой, далеко за границы изначально
замышленного сюжета, туда, где придется полностью пере-
писать эту революционную пьесу.
Парадоксы в «Манифесте» манифестируют себя почти сразу
же: в частности, когда Маркс начинает описывать буржуазию.
«Буржуазия,— начинает он,— сыграла в истории чрезвычайно
революционную роль». Поразительно, но на следующих не-
скольких страницах Маркс, кажется, собирается не похоро-
нить ее, а восславить. Он пишет страстную, восторженную,
во многом лиричную хвалу трудам, идеям и достижениям
буржуазии. На этих страницах ему удается прославить бур-
жуазию куда сильнее и пронзительнее, как сами ее предста-
вители никогда не умели.
Чем буржуа заслужили похвалы Маркса? Прежде всего,
они первыми показали, «чего может достигнуть человеческая
деятельность». Маркс не подразумевает, что они первыми
начали распространять идею vita activa, деятельного отно-
шения к миру. Это центральная тема западной культуры со
времен Возрождения; она достигла новых глубин и обогати-
лась новыми оттенками в век самого Маркса, в век романтиз-
ма и революции, Наполеона, Байрона и «Фауста» Гете. Сам
Маркс будет разрабатывать эту тему в новых направлениях,4
и ее развитие продолжится в нашу эпоху. Тезис Маркса таков:
то, что модерные поэты, художники и интеллектуалы лишь
мечтали сделать, модерная буржуазия воплотила в жизнь.
Так, «она создала чудеса искусства, но совсем иного рода,
чем египетские пирамиды, римские водопроводы и готи-
ческие соборы; она совершила совсем иные походы, чем
переселение народов и крестовые походы». Ее склонность
к деятельности выражает себя сначала в великих проектах
физического строительства — заводах и фабриках, мостах и ка-
налах, железных дорогах, всех общественных работах, кото-
119
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
рые составляют главное достижение Фауста, этих пирамидах
и соборах модерной эпохи. Кроме того, происходят передви-
жения огромных масс людей — в города, на фронтиры, в но-
вые земли,— которые буржуазия порой вдохновляет, порой
жестко навязывает, порой спонсирует — и всегда извлекает из
них выгоду. В этом пламенном, выразительном абзаце Маркс
передает ритм и трагедию деятельности буржуазии:
Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства соз-
дала более многочисленные и более грандиозные производитель-
ные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые.
Покорение сил природы, машинное производство, применение
химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные
дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых
частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно
вызванные из-под земли, массы населения,— какое из прежних
столетий могло подозревать, что такие производительные силы
дремлют в недрах общественного труда!
Маркс был не первым и не последним автором, подме-
тившим триумфы модерной буржуазной технологии и обще-
ственной организации. Однако его пеан * примечателен как
тем, что особенно подчеркивает, так и тем, что опускает. Хотя
Маркс определяет себя как материалиста, в первую очередь
его интересуют отнюдь не вещи, созданные буржуазией.
Для него важны процессы, силы, проявления человеческой
жизни и энергии; люди работающие, движущиеся, выращи-
вающие, общающиеся, организующие и реорганизующие
природу и самих себя — новые и беспрерывно обновляю-
щиеся виды деятельности, которые буржуазия претворяет
в жизнь. Маркс особенно не задерживается на отдельных
изобретениях и новшествах как таковых (в традиции, идущей
* Пеан (др. -греч. παιήων) — поэтический жанр, хвалебная песнь, об-
ращенная к богу. В более широком с мысле — любое лирическое восхва-
ление чему-либо, часто в стихотворной форме. — П рим. пер.
120
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
от Сен-Симона к Маклюэну); его волнует энергичный и про-
изводительный процесс, в рамках которого одно ведет к дру-
гому, мечты претворяются в проекты, а фантазии — в финансо-
вые отчеты, люди берутся за самые дикие и экстравагантные
идеи и осуществляют их («целые, словно вызванные из-под
земли, массы населения»), пробуждают и питают новые фор-
мы жизни и действия.
Ирония деятельности буржуазии, как видит ее Маркс,
в том, что она вынуждена отказаться от своих величайших
возможностей, которые могут быть реализованы лишь теми,
кто уничтожит ее власть. Из всех чудесных видов деятель-
ности, которые открыла буржуазия, единственный, который
действительно что-то значит для ее представителей — это до-
быча денег, накопление капитала и увеличение прибавочной
стоимости; все ее предприятия — лишь способы достижения
этой цели и сами по себе представляют только мимолетный
и промежуточный интерес. Активные силы и процессы, кото-
рые столь многое значат для Маркса, в умах своих создателей
предстают всего лишь случайными, побочными продуктами.
Тем не менее буржуа смогли стать первым правящим клас-
сом, авторитет представителей которого основывается не на
том, кем были их предки, а на том, что они делают сами. Они
создали новые яркие образы и парадигмы правильной жизни
как жизни деятельной. Они доказали, что организованное
и согласованное действие может изменить мир.
Увы, к стыду буржуа, они не могут взглянуть на проторен-
ные ими же пути: широкие просеки могут окончиться пропа-
стями. Они способны дальше играть свою революционную
роль, лишь отрицая ее настоящее значение и глубину. Но ра-
дикальные мыслители и рабочие могут увидеть, куда ведут
эти пути, и пойти по ним. Если правильная жизнь — это жизнь
в действии, то почему многообразие человеческой деятель-
ности должно быть ограничено теми ее видами, что при-
носят прибыль? И почему модерные люди, которые знают,
какие высоты может покорить человеческая деятельность,
должны пассивно принимать структуру своего общества как
121
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
данность? Если организованное и согласованное действие
может изменить столь многое в мире, возможно, стоит ор-
ганизоваться, работать вместе и бороться за еще большие
изменения? «Революционная, практически-критическая дея-
тельность», направленная на свержение буржуазной власти,
станет выражением активной и деятельностной энергии, ко-
торую высвободила сама буржуазия. Маркс поначалу воспе-
вает буржуазию, а не хоронит ее; но согласно его диалек-
тике именно те достоинства буржуазии, что он прославляет,
в конце концов с ней и покончат.
Второе великое достижение буржуазии состояло в высво-
бождении свойственных для человека способности и стрем-
ления к развитию: к постоянному изменению, к вечному
потрясению и всестороннему обновлению личной и обще-
ственной жизни. Этот импульс, показывает Маркс, присущ
повседневной работе и нуждам буржуазной экономики. Каж-
дый внутри этой экономики испытывает давление неустанной
конкуренции, будь то в масштабах одной улицы или целого
мира. Под этим давлением каждый буржуа, от самого мелкого
до самого могущественного, вынужден вводить технические
новшества только для того, чтобы поддерживать свое дело
и самого себя на плаву; каждый, кто отказывается меняться,
окажется пассивной жертвой перемен, безжалостно навязан-
ных теми, кто господствует на рынке. Это значит, что буржу-
азия, взятая в целом, «не может существовать, ‹...› не рево-
люционизируя ‹...› производственных отношений». Но силы,
которые формируют модерную экономику и управляют ею,
нельзя отделить и оторвать от тотальности жизни. Интенсив-
ное и неослабное давление в сторону революционизации
производства неизбежно возьмет верх над тем, что Маркс
называет «условиями производства» (или, как вариант, «про-
изводственными отношениями») и преобразует их, а а с ними
и «всю совокупность общественных условий и отношений».*
* Здесь употреблено немецкое слово Verhältnisse, которое может
быть переведено как «условия», «отношения», «обстоятельства», «дела»
122
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Воображение Маркса, движимое погоней за отчаянным
динамизмом, который он пытается уловить, совершает огром-
ный скачок:
Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потря-
сение всех общественных отношений, вечная неуверенность и дви-
жение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все застывшие,
покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им,
веками освященными представлениями и воззрениями, разруша-
ются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде
чем успевают окостенеть. Все твердое растворяется в воздухе, все
священное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходи-
мости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение
и свои взаимные отношения.
Где здесь оказываемся мы, члены «модерного буржуаз-
ного общества»? Мы занимаем странное и парадоксальное
положение. Наши жизни контролирует правящий класс, ко-
рыстно заинтересованный не только в изменении, но в кри-
зисе и хаосе тоже. «Непрерывное потрясение всех обще-
ственных отношений, вечная неуверенность и движение», на
самом деле, не подрывают это общество, но укрепляют его.
Катастрофы оказываются выгодными возможностями осу-
ществить развитие и обновление; дезинтеграция выступает
в качестве мобилизующей, а потому интегрирующей силы.
Единственный призрак, который действительно преследует
модерный правящий класс и по-настоящему угрожает миру,
созданному им по своему образу и подобию,— это то, к чему
всегда стремились традиционные элиты (и заодно традици-
онные массы): долгосрочная и непоколебимая стабильность.
В этом мире стабильность может означать лишь энтропию,
медленную смерть, в то время как ощущение прогресса и ро-
и так далее. В различных местах этого текста данный отрывок будет пе-
реводиться по-разному в зависимости от того, какой перевод наиболее
подходит контексту. — П рим. авт.
123
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ста — это наш единственный источник точного знания о том,
что мы живы. Сказать, что наше общество разрушается — зна -
чит сказать, что оно живо и здорово.
Какие люди отвечают за эту вечную революцию? Для того,
чтобы люди, к какому бы классу они ни принадлежали, мог-
ли выжить в модерном обществе, их личности должны со-
ответствовать текучей и открытой форме этого общества.
Модерные люди должны научиться стремиться к переменам:
не только к тому, чтобы быть открытыми к изменению их лич-
ных и общественных жизней, но и к тому, чтобы решительно
их требовать, активно их искать и претворять. Они должны
научиться не ностальгировать по «застывшим, покрывшим-
ся ржавчиной отношениям» настоящего или воображаемо-
го прошлого, но наслаждаться подвижностью, стремиться
к обновлению, приветствовать изменения условий своего
существования и отношений с другими людьми в будущем.
Маркс впитал этот идеал изменения из немецкой гумани-
стической культуры своей юности, из мысли Гете, Шиллера
и их последователей-романтиков. Данная тема и ее развитие,
все еще актуальные в наше время — самый выдающийся ныне
живущий представитель это Эрик Эриксон,* — быть может, ста-
ли самым глубоким и самым значительным вкладом Герма-
нии в мировую культуру. Маркс четко осознает свою связь
с этими авторами, которых постоянно цитирует и упоминает,
а также с их интеллектуальной традицией. Но, в отличие от
большинства своих предшественников (значительное исклю-
чение в этом ряду — Гете в старости, когда написал вторую
часть «Фауста»), Маркс понимает, что гуманистический идеал
саморазвития вырастает из рождающейся реальности буржу-
азного экономического развития. Потому, несмотря на все на-
падки Маркса на буржуазную экономику, он восторженно при-
нимает структуру личности, производимую этой экономикой.
* Эрик Хомбургер Эриксон (1902–1994) — психолог в сфере психоло-
гии развития и психоаналитик, создатель теории стадий психосоциаль-
ного развития человека. — П рим. пер.
124
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Проблема с капитализмом в том, что здесь, как и везде, он
уничтожает им же созданные возможности. Он поощряет, даже
навязывает саморазвитие каждому; но при этом ограничивает
и деформирует способы развития. Те качества, склонности
и таланты, которые рынок может использовать, развиваются
стремительно (зачастую даже слишком рано), и их выжимают
до последней капли; все другое внутри нас, все непригодное
для рынка, безжалостно подавляется, увядает без примене-
ния, или не получает даже возможности проявиться.5
Ироничное и успешное разрешение этого противоречия,
говорит Маркс, наступит, когда «из-под ног буржуазии выры-
вается сама основа, на которой она производит и присваива-
ет продукты». Внутренняя жизнь и энергия буржуазного раз-
вития сметут класс, который впервые воплотил их в жизнь.
Мы можем наблюдать это диалектическое движение и в лич-
ном, и в экономическом развитии: как в системе, в которой
все отношения непостоянны, могут остаться неизменными
капиталистические формы жизни — частная собственность,
наемный труд, меновая стоимость, ненасытная погоня за
прибылью? Когда желания и чувства людей каждого класса
становятся неограниченными и ненасытными, созвучными
постоянным переворотам в каждой сфере жизни, что может
заставить их застыть, заржаветь в своих буржуазных ролях?
Чем настойчивее буржуазное общество понукает своих чле-
нов либо развиваться, либо умереть, тем скорее они сами
перерастут его, тем с большей вероятностью они в конце
концов сочтут его препятствием на пути своего развития,
тем более непримиримо будут бороться с ним во имя новой
жизни, к которой оно вынудило их стремиться. Потому капи-
тализм будет расплавлен жаром собственной колоссальной
энергии. После Революции, «в ходе развития», когда будет
распределено богатство, уничтожены классовые привилегии,
образование станет бесплатным и всеобщим, а рабочие бу-
дут контролировать организацию своего труда, тогда,— так
Маркс пророчит в кульминационном месте своего «Манифе-
ста»,— тогда наконец-то
125
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
На место старого буржуазного общества с его классами и клас-
совыми противоположностями приходит ассоциация, в которой
свободное развитие каждого является условием свободного раз-
вития всех.
Тогда опыт саморазвития, освобожденный от требований
и искажений рынка, будет вольным и стихийным; вместо кош-
мара, в который его превратило буржуазное общество, он
может быть источником удовольствия и красоты для всех.
Я хочу на мгновение отойти от «Коммунистического ма-
нифеста», чтобы подчеркнуть, насколько важен для Маркса,
от первых до последних его текстов, идеал развития. Его
ранняя работа «Отчужденный труд», написанная в 1844 году,
провозглашает в качестве истинно человеческой альтерна-
тивы отчужденному труду работу, которая позволит индиви-
ду развивать «свободно свою физическую и духовную [или
ментальную] энергию».6 В «Немецкой идеологии» (1845–46)
целью коммунизма провозглашается «развитие совокупности
способностей [самих индивидов]», ведь «только в коллективе
индивид получает средства, дающие ему возможность все-
стороннего развития своих задатков, и, следовательно, толь-
ко в коллективе возможна личная свобода».7 В первом томе
«Капитала», в главе «Машины и крупная промышленность»,
важнейшей чертой коммунизма называется способность вы-
йти за рамки капиталистического разделения труда:
‹...› частичного рабочего, простого носителя известной частичной
общественной функции, заменить всесторонне развитым инди-
видуумом, д ля которого различные общественные функции суть
сменяющие друг друга способы жизнедеятельности.8
Это понимание коммунизма безошибочно модерно, пре-
жде всего, в своем индивидуализме, но еще больше — в идеале
развития как формы правильной жизни. Здесь Маркс ближе
к некоторым из своих буржуазных и либеральных врагов,
чем к традиционным представителям коммунизма, которые,
126
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
начиная с Платона и Отцов Церкви, возвеличивали самопо-
жертвование, отвергали или презирали индивидуальность
и жаждали наступления покоя, когда все распри и борьба
окончатся. Опять мы наблюдаем, как Маркс лучше пони-
мает, что происходит в буржуазном обществе, нежели сами
представители и сторонники буржуазии. Он видит в динамике
капиталистического развития — как развития каждого инди-
вида в в отдельности, так и общества в целом — новый образ
правильной жизни: не жизнь окончательного совершенства,
не воплощение наперед заданных статических сущностей, но
процесс непрерывного, беспокойного, открытого, безгра-
ничного роста. Таким образом, он надеется излечить раны
модерности путем ее усиления и углубления.9
2. ИННОВАЦИОННОЕ САМОУНИЧТОЖЕНИЕ
Итак, мы поняли, почему буржуазия и созданный ею мир так
воодушевляет и восторгает Маркса. А теперь нам надо разо-
браться с еще более сложной ситуацией: в сравнении с «Ма-
нифестом Коммунистической партии» весь корпус апологе-
тики капитализма от Адама Фергюсона до Милтона Фрид-
мана удивительно бледен и безжизненен. Защитники капита-
лизма удивительно мало говорят нам о его бесконечных го-
ризонтах, революционной энергии и дерзости, динамичной
созидательности, авантюризме и романтичности, способно-
сти не только делать жизнь удобнее, но и ярче. Буржуазия
и ее идеологи никогда не бывали замечены в скромности
или сдержанности, но, кажется, они странным образом пы-
таются держать свет под спудом. Причина, я думаю, в том,
что этот свет содержит и темную сторону, которую они не
хотят показывать. Смутно они догадываются об этом, глу-
боко смущены и напуганы до такой степени, что предпочтут
не замечать или отрицать собственную мощь и творческую
силу вместо того, чтобы прямо взглянуть на свои достоин-
ства и принять их.
127
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Что же боятся обнаружить в себе представители буржуа-
зии? Не свое стремление эксплуатировать людей, обращать-
ся с ними просто как со средствами или (выражаясь, скорее,
на языке экономики, нежели морали) товарами. Буржуазия,
как видит ее Маркс, об этом не особенно тревожится. В кон-
це концов, буржуа поступают так по отношению друг к другу
и даже к самим себе, так почему же не вести себя так в отно-
шении всех прочих? Настоящий источник проблем — это пре-
тензия буржуазии на место «Партии Порядка» в модерной
политике и культуре. Огромные деньги и энергия, вложен-
ные в строительство, а также его намеренная монументаль-
ность — в эпоху Маркса каждый стол и стул в буржуазном жи-
лище действительно напоминал монумент — свидетельствуют
о чистосердечности и серьезности этой претензии. И все же
истина, как видит ее Маркс, такова: то, что строится буржу-
азией, строится лишь для того, чтобы быть разрушенным.
«Все твердое» — наша одежда, станки и прялки, которые ее
делают, люди, которые обслуживают машины, дома и квар-
талы, в которых живут рабочие, фирмы и корпорации, ко-
торые эксплуатируют рабочих, поселки, города, целые ре-
гионы и даже государства, в которые все это входит,— все
это сделано, чтобы на следующий день уничтожить, разбить,
порвать на куски, превратить в пыль или растворить, а на
следующей неделе переиспользовать или заменить; ради
того, чтобы весь процесс длился и длился — желательно, це-
лую вечность — и приносил еще большую прибыль.
Пафос любого буржуазного монумента в том, что его
материальная сила и прочность на самом деле ничего не
стоят и не имеют никакого веса,10 в том, что те же самые
силы капиталистического развития, которые эти монументы
прославляют, сносят их, как ветер сдувает хилый тростник.
Даже самые красивые и впечатляющие буржуазные здания
и общественные сооружения предназначены к сносу, в них
предусмотрена амортизация, устаревание их запланирова-
но, по своим социальным функциям они ближе палаткам
128
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и временным стоянкам, чем «египетским пирамидам, рим-
ским акведукам, готическим соборам».*
Если мы отбросим создаваемые представителями буржу-
азии образы рациональности и увидим, как они работают
и действуют на самом деле, то поймем, что эти порядочные
граждане готовы разорвать мир на части, если им за это запла-
тят. Пугая всех фантазиями о жадности и мстительности про-
летариата, они сами в своей неутомимой торговле и развитии
* Всего за несколько лет до «Манифеста», в «Положении рабочего
класса в Англии» Энгельс ужасался тому, что жилища рабочих, по-
строенные спекулянтами ради быстрых прибылей, как предполагалось,
должны были прослужить всего сорок лет. Едва ли он подозревал, что
такова будет архетипическая модель строительства в буржуазном об-
ществе. Иронично, что даже самые роскошные дворцы самых богатых
капиталистов могут исчезнуть менее чем через сорок лет — не только
в одном Манчестере, но фактически в каждом капиталистическом горо-
де,— они могут быть арендованы или проданы застройщикам, разломаны
теми же ненасытными устремлениями, что вознесли их вверх (яркий тому
пример — Пятая авеню Нью-Йорка, но примеры эти в модерности вез-
десущи). Учитывая скорость и жестокость капиталистического развития,
удивительно не то, что так много из нашего архитектурного и строитель-
ного наследия погибло, но в том, что хотя бы что-то осталось .
Лишь недавно марксистские мыслители начали исследовать эту тему.
К примеру, экономический географ Дэвид Харви пытается детально по-
казать, что постоянное намеренное разрушение «рукотворной среды»
является неотъемлемой частью накопления капитала. Тексты Харви весь-
ма беспорядочны; прекрасное введение и анализ см. в: Zukin S. Ten Years
of the New Urban Sociology. // Theory and Society. July 1980. P. 575 –601.
По иронии судьбы, коммунистические государства куда лучше справ-
ляются с сохранением сути прошлого в своих крупных городах: Ленин-
граде, Праге, Варшаве, Будапеште и т. д . Но эта политика в меньшей
степени происходит из уважения к красоте и свершениям людей, чем
из желания автократического правительства мобилизовать лояльностью
традиционалистов путем создания чувства преемственности с автокра-
тиями прошлого. — П рим. авт.
129
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
швыряют по земле массы людей, ресурсов и денег, разъедают
или подрывают основания жизни каждого, кто окажется на
их пути. Их секрет — секрет, который они умудрились скрыть
даже от самих себя,— в том, что за этим приличным фаса-
дом скрывается самый жестокий и разрушительный класс
в истории. Все анархические, безграничные, взрывоопасные
устремления, которые грядущее поколение окрестит «ниги-
лизмом» — устремления, которые Ницше и его последователи
объяснят такой космической травмой как смерть Бога,— Маркс
обнаруживает в банальном, на первый взгляд, повседнев-
ном функционировании рыночной экономики. Он раскры-
вает в модерном буржуа законченного нигилиста куда более
полно, нежели могут помыслить модерные интеллектуалы.*
* На самом деле, термин «нигилизм» был рожден поколением Марк-
са: Тургенев изобрел его в качестве девиза для радикального героя
«Отцов и детей» (1861) Базарова. Более детально его разработал Досто-
евский в «Записках из подполья» (1864) и «Преступлении и наказании»
(1866–67). Глубже истоки и смысл нигилизма раскрывает Ницше в «Воле
к власти» (1885–88), особенно в книге первой («Европейский нигилизм»).
Говорят об этом редко, но стоит отметить: Ницше считал модерную поли-
тику и экономику глубоко нигилистическими по своей собственной при-
роде. См. пункт 1 — перечисление корней современного нигилизма. Часть
образов и аналитических объяснений Ницше удивительно переклика-
ются с марксизмом. В пункте 63 см. как негативные, так и позитивные
духовные последствия «факта существования кредита, всей мировой
торговли, установления постоянных сношений»; в пункте 67 — о «раздро-
блении земельной собственности. Газета заменила ежедневные молитвы.
Железная дорога, телеграф. Централизация огромной массы разноо-
бразных интересов в одной душе, которая при этих условиях должна
отличаться большой силой и способностью к превращениям» (Ницше Ф.
Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. / Пер. Е. Герцык, М.:
Культурная революция, 2005 — Прим. пер.) . Но эти связи между модер-
ной душой и модерной экономикой так и не были проработаны Ницше
и (за очень редкими исключениями) не были замечены его последовате-
лями. — П рим. авт.
130
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Но эти буржуа сами отстранились от собственной созида-
тельности, потому что неспособны посмотреть в моральную,
социальную и психическую бездну, которую она открывает.
Ряд самых ярких и поразительных образов, созданных
Марксом, вынуждает нас взглянуть в эту бездну. Потому «со-
временное буржуазное общество, ... создавшее как бы по
волшебству столь могущественные средства производства
и обмена, походит на волшебника, который не в состоянии
более справиться с подземными силами, вызванными его
заклинаниями». Этот образ пробуждает духи темного сред-
невекового прошлого, которые, как предполагается, похо-
ронила модерная буржуазия. Ее представители считают себя
людьми деловыми и рациональными, а не магами; детьми
Просвещения, а не тьмы. Когда Маркс изображает буржуа
волшебниками — вспомним также «словно вызванные из-под
земли массы населения», не говоря уже о «призраке комму-
низма» — он указывает на глубины, которые они отрицают.
Образность Маркса как никогда выдает здесь его восхищение
модерным миром: его жизненные силы ошеломляют, пода-
вляют, превосходят все, что могла когда-либо представить, не
говоря уже о том, чтобы подсчитать или спланировать, буржу-
азия. Но в образах Маркса есть и необходимый спутник лю-
бого искреннего восхищения: чувство ужаса. Ведь этот мир,
чудесный и магический, вместе с тем демоничен и страшен,
бешено вырывается из-под контроля, угрожает и слепо сеет
уничтожение в своих конвульсиях. Буржуа одновременно по-
давляют и восхищение, и ужас перед тем, что они сотворили:
эти собственники не хотят знать, сколь глубоко порабощены
они сами. Они учатся лишь в моменты личного и общего кру-
шения — то есть только когда уже слишком поздно.
Буржуа-волшебник Маркса происходит, конечно, от ге-
тевского Фауста, но также и от другого литературного пер-
сонажа, который поселился в воображении его поколения:
Франкенштейна Мэри Шелли. Эти персонажи, стремящиеся
нарастить силы человечества при помощи науки и рациональ-
ности, высвобождают демонические силы, которые иррацио-
131
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
нально прорываются наружу, не контролируются человеком
и влекут ужасающие результаты. Во второй части «Фауста»
Гете непревзойденная потусторонняя сила, из-за которой
волшебник в конце концов оказывается ненужным,— это вся
модерная социальная система. Буржуазия Маркса движется
по этой же трагической орбите. Он помещает преисподнюю
в земной контекст и показывает, как на миллионе фабрик
и заводов, банков и бирж при свете дня работают темные
силы, неустанные императивы рынка направляют общество
в пугающих направлениях, которые не может контролировать
даже самый могущественный буржуа. В представлении Марк-
са бездна оказывается совсем рядом.
Итак, в первой часть «Манифеста» Маркс описывает проти-
воположности, которые сформируют и одухотворят культуру
модернизма грядущего столетия: тему ненасытных желаний
и устремлений, перманентной революции, бесконечного раз-
вития, вечного созидания и обновления в каждой сфере жиз-
ни; и ее радикальную антитезу, тему нигилизма, ненасытного
разрушения, дробления, поглощения жизни, сердца тьмы,
ужаса. Маркс показывает, как стремления и давление бур-
жуазной экономики вводит эти противоположные возмож-
ности в жизнь каждого модерного человека. Со временем
модернисты породят огромный массив космических и апо-
калиптических образов самого лучезарного наслаждения
и самого мрачного отчаяния. Многие самые оригинальные
модернистские художники станут одержимы одновременно
теми и другими, будут бесконечно метаться от одного полюса
к другому; их внутренняя динамика будет воспроизводить
и выражать внутренние ритмы, в соответствии с которыми
движется и живет модерный капитализм. Маркс ввергает нас
в пучину этого процесса, чтобы мы зарядились жизненной
энергией, возвеличивающей все наше существо, и в то же
время пережили шок и конвульсии, каждое мгновение гроз-
ящие нам гибелью. Мощью своих слов и мысли он пытается
склонить нас к своему видению, к тому, чтобы вместе с ним
проследовать к кульминации.
132
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Подмастерьям волшебника, представителям революци-
онного пролетариата, предначертано вырвать у фаустов-
ско-франкенштейновской буржуазии контроль над модер-
ными производственными силами. Когда это свершится,
пролетарии превратят эти беспокойные, взрывоопасные со-
циальные силы в источники красоты и всеобщего наслажде-
ния, доведя трагическую историю модерности до счастли-
вого конца. Вне зависимости от того, наступит это будущее
или нет, «Манифест» замечателен силой воображения, вы-
разительностью и пониманием прекрасных и пугающих воз-
можностей, которыми изобилует модерная жизнь. Помимо
всего прочего, «Манифест» — первое великое произведение
модернистского искусства.
Но даже если мы признаем «Манифест» архетипом модер-
низма, следует помнить, что архетипические модели переда-
ют не только истину и достоинства, но также и внутренние
противоречия и деформации. Таким образом, как в «Манифе-
сте», так и в более поздних блестящих текстах мы находим,
что — вопреки намерениям автора и, возможно, даже без его
ведома — представление о революции и развязке порождает
свою собственную имманентную критику, и через завесу, соз-
даваемую этим представлением, проступают новые противо-
речия. Даже отдавшись движению Марксовой диалектики,
мы чувствуем, как нас влекут другие неизвестные и бурные
течения. Нас захватывает ряд глубоких противоречий между
намерениями Маркса и его прозрениями, между тем, чего он
желает, и тем, что он видит.
Возьмем, к примеру, его теорию кризисов: «Кризисы, ко-
торые, возвращаясь периодически, все более и более грозно
ставят под вопрос существование всего буржуазного обще-
ства». В этих повторяющихся кризисах «каждый раз уничтожа-
ется значительная часть не только изготовленных продуктов,
но даже созданных уже производительных сил». Кажется,
Маркс верит, что эти кризисы с каждым разом все более
будут парализовать капитализм и в конце концов уничтожат
его. При этом его собственное видение и анализ буржуаз-
133
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ного общества показывают, как хорошо это общество умеет
наживаться на кризисах и катастрофах: «С одной стороны,
путем вынужденного уничтожения целой массы производи-
тельных сил, с другой стороны, путем завоевания новых рын-
ков и более основательной эксплуатации старых». Кризисы
могут уничтожать людей и компании, относительно слабых
и неэффективных с точки зрения рынка; они могут открывать
незанятые пространства для новых инвестиций и переустрой-
ства; могут вынудить буржуазию с небывалым напряжением
и изобретательностью обратиться к инновациям, расшире-
нию и объединению: следовательно, они могут выступать
в качестве неожиданных источников силы и устойчивости
капитализма. Возможно, Маркс прав, когда говорит, что эти
формы адаптации лишь «подготовляют более всесторонние
и более сокрушительные кризисы». Но, учитывая способ-
ность буржуазии извлекать из разрушения и хаоса выгоду, нет
явных причин, которые мешали бы этим кризисам бесконечно
происходить по спирали, сокрушая людей, семьи, корпора-
ции, города, но оставляя нетронутыми структуры буржуазной
общественной жизни и власти.
Далее мы можем рассмотреть Марксово видение рево-
люционного сообщества. По иронии судьбы основы его
будут заложены самой буржуазией. «Прогресс промышлен-
ности, невольным носителем которого является буржуазия,
бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъеди-
нения рабочих конкуренцией революционное объединение
их посредством ассоциации». Огромные производственные
мощности, присущие модерной промышленности, объединят
крупные массы рабочих, усилят их зависимость друг от друга
и заставят кооперироваться в своей работе — модерное раз-
деление труда время от времени требует широкомасштаб-
ной сложной кооперации — а также научат их мыслить и дей-
ствовать коллективно. Внутренние связи рабочих, неизбежно
порождаемые капиталистическим производством, породят
революционные политические институты, профсоюзы, кото-
рые будут противостоять и, в конце концов, ниспровергнут
134
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
частную, атомистическую конструкцию капиталистических
общественных отношений. Так полагает Маркс.
И все же, если его общее представление о модерности
верно, почему формы сообщества, произведенного капита-
листической промышленностью, должны быть сколь-нибудь
тверже любого другого продукта капитализма? Не могут ли
эти коллективы оказаться, как и все здесь, лишь временными,
непостоянными, созданными, чтобы устареть? В 1856 году
Маркс будет говорить о рабочих как о «новоиспеченных лю-
дях ‹...› таком же изобретении современной поры, что и сами
машины». Но если так, то их солидарность, пусть и впечат-
ляющая в определенный момент, может оказаться такой же
преходящей, как и машины, которые они обслуживают, или
продукты, которые они производят. Рабочие могут в один
день под держивать друг друга на сборочной линии или у ли-
нии ограждений на демонстрации, а назавтра разделиться на
разные коллективы с разными условиями, разными процес-
сами и продуктами, разными нуждами и интересами. Опять
же, абстрактные формы капитализма, кажется, сохраняют-
ся,— капитал, наемный труд, товары, эксплуатация, приба-
вочная стоимость — в то время как человеческое наполнение
их постоянно меняется. Как на такой жидкой и неустойчивой
почве могут вырасти какие-либо долговременные человече-
ские связи?
Даже если рабочие построят успешное коммунистическое
движение и даже если это движение породит успешную рево-
люцию, как в приливном течении модерной жизни они смогут
построить твердое коммунистическое общество? Как не дать
общественным силам, которые испарили капитализм, не испа-
рить также и коммунизм? Если все новые отношения устарева-
ют до того, как закоснеть, как можно сохранить солидарность,
братство и взаимопомощь? Коммунистическое правительство
может попробовать сдержать поток, введя радикальные огра-
ничения не только на активную деятельность и предпринима-
тельство (это делает каждое социалистическое правительство,
как и любое государство всеобщего благосостояния), но и на
135
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
личное, культурное и политическое выражение. Но не бу-
дет ли такая политика, в той мере, в какой она оказывается
успешной, предательством марксистской цели свободного
развития всех и каждого? Маркс видел коммунизм высшей
стадией модерности; но как коммунизм может укорениться
в модерном мире, не подавляя ту самую энергию, которую он
обещает освободить? С другой стороны, если он предоставит
ей свободу действий, не снесет ли спонтанное течение народ-
ной энергии саму эту общественную формацию? 11
Итак, всего лишь внимательно читая «Манифест» и всерьез
воспринимая его представление о модерности, мы приходим
к серьезным вопросам насчет Марксовых ответов. Мы можем
увидеть, что завершение, которое Маркс видит за ближай-
шим поворотом, может не наступить еще долгое время — если
вовсе наступит; и увидеть, что, даже если оно наступит, то
может быть лишь мимолетным, преходящим эпизодом, кото-
рый одномоментно уйдет в прошлое, устареет прежде чем
успеет закоснеть, будет смыт той же волной непрерывных
изменений и прогресса, которая на короткий срок принесла
его нам, а теперь бросила в воду — и мы беспомощно, вечно
будем в ней барахтаться. Также мы можем увидеть, как ком-
мунизм, чтобы сохранить себя в целости, возможно, будет га-
сить активные, энергичные и устремленные к развитию силы,
которые воплотили его в жизнь, предавать надежды, из-за
которых за него сражались, воспроизводить неравенство
и противоречия буржуазного общества под новым именем.
И, наконец, мы можем увидеть иронию в том, как Марксова
диалектика модерности повторно учреждает описанное им
общество, порождая энергию и идеи, которые растворили
его в собственном воздухе.
3. ОБНАЖЕННОСТЬ: ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРИКРАС
Теперь, когда мы увидели «растворяющую» Марксову кон-
цепцию в действии, я хочу применить ее, чтобы объяснить
некоторые из наиболее мощных образов модерной жизни,
136
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
присутствующих в «Манифесте». В нижеследующем фраг-
менте Маркс пытается показать, как капитализм преобразо-
вал отношения людей с другими и с собой. Хотя, по словам
Маркса, субъектом — в экономической деятельности, которая
порождает крупные перемены,— является буржуазия, объек-
тами выступают модерные представители каждого класса,
так как изменяются все:
Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все
феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжа-
лостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие
человека к его «естественным повелителям», и не оставила между
людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердеч-
ного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопи-
ла она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского эн-
тузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное
достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место
бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну
бессовестную свободу торговли. С ловом, эксплуатацию, прикры-
тую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила
эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.
Главное противоречие, выделяемое здесь Марксом, лежит
между тем, что открыто и беззащитно, и тем, что спрята-
но, сокрыто, закутано. Эта противоположность, вечная как
в западной, так и в восточной мысли, символизирует всюду
различие между «настоящим» миром и иллюзорным. В боль-
шинстве древних и средневековых мыслительных течений
иллюзорным оказывается весь мир чувственного опыта — ин-
дусский «покров майи» — и настоящего мира можно достичь,
лишь покинув тела, пространство и время. В некоторых тра-
дициях к настоящему можно прийти путем религиозной или
философской медитации; в других оно станет нам доступно
лишь в грядущем загробном существовании — как писал Па-
вел, «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гада-
тельно, тогда же лицем к лицу».
137
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Модерные изменения, начавшиеся в эпоху Возрождения
и Реформации, помещают оба этих мира на земле, в про-
странстве и времени, в которых обитают человеческие су-
щества. Теперь ложный мир выглядит историческим про-
шлым, миром, который мы потеряли (или все еще теряем),
в то время как истинный мир — это физический и социаль-
ный мир, который существует для нас здесь и сейчас (или
все еще появляется). Здесь возникает новый символизм.
Одежды становятся символом старого, иллюзорного обра-
за жизни; обнаженность начинает символизировать недавно
открытую и прочувствованную истину; а акт избавления от
одежды становится актом духовного освобождения, дости-
жения настоящего. Модерная эротическая поэзия разраба-
тывает эту тему, как чувствовали ее поколения модерных
любовников, с игривой иронией; модерная трагедия про-
никает в ее ужасные и страшные глубины. Маркс чувствует
и работает в рамках этой трагической традиции. Для него
одежды сорваны, покровы сброшены, раздевание проис-
ходит насильственным и грубым образом; однако он пола-
гает, что трагическое движение истории должно привести
к счастливому концу.
Диалектика обнаженности, нашедшая наивысшее выра-
жение у Маркса, определена в самом начале модерной
эпохи в «Короле Лире» Шекспира. Для Лира обнаженная
правда — это то, с чем приходится столкнуться человеку, ког-
да у него забрали все, не считая самой жизни. Мы видим,
как его ненасытное семейство благодаря его собственному
слепому тщеславию снимает с него сентиментальный по-
кров. Лишенный не только политической власти, но даже
последних остатков человеческого достоинства, он выбро-
шен из дома посреди ночи в разгар ужасающего урагана.
Вот к чему, говорит он, в чистом остатке сводится чело-
веческая жизнь: одинокий и бедный, он брошен на холо-
де, а отвратительные и жестокие люди наслаждаются всем
теплом, которое может обеспечить власть. Это знание мы,
кажется, вынести не можем: «Таких несчастий, ужасов таких
138
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
// Не в силах человек перенести».* Но ледяные порывы
шторма не смогли сломать Лира, он не бежит от них; он
противостоит всей ярости бури, смотрит на нее с прямотой
и утверждает себя в борьбе с ней, пока она хлещет и изби-
вает его. В странствиях со своим шутом (акт третий, сцена
четвертая) они встречают Эдгара, изображающего нищего
безумца, совершенно голого и, как им кажется, страдаю-
щего даже сильнее, чем они. «И человек — не больше, чем
вот это?» — спрашивает Лир,— «Ты — то, что есть. Человек без
прикрас».** В этот кульминационный момент пьесы, он сры-
вает королевские одеяния — «Прочь, прочь, все чужое!»,—
и присоединяется к обнаженной аутентичности «бедного
Тома». Это действо, которое, как полагает Лир, поместило
его в самую низшую точку существования — «бедное нагое
двуногое животное»,— оказывается, по иронии, его первым
шагом к настоящей человечности, так как он впервые при-
знает, что между ним и другим человеческом существом есть
связь. Это признание помогает ему развить чувственность
и понимание, выйти за рамки своей эгоцентрической оз-
лобленности и хандры. Пока он стоит и дрожит, его осе-
няет мысль, что в его королевстве полно людей, вся жизнь
которых прошла в безудержном, беззащитном страдании,
которое он претерпевает прямо сейчас. Когда он находился
у власти, то никогда не замечал их, но теперь они попадают
в поле его зрения:
Несчастные, нагие бедняки,
Гонимые безжалостною бурей,—
Как, бесприютным и с голодным брюхом,
В дырявом рубище, как вам бороться
С такою непогодой? О, как мало
Об этом думал я! Лечись, величье:
Проверь ты на себе все чувства нищих,
** Пер. Ю. И. Лифшица.— Прим. пер.
** Пер. Т. Л . Щепкиной-Куперник. — П рим. пер.
139
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Чтоб им потом отдать свои избытки
И доказать, что небо справедливо!
Только теперь Лир становится тем, кем он себя всегда
считал — «королем от головы до ног». Его трагедия в том, что
катастрофа, восстанавливающая в нем человека, уничтожает
его политически: опыт, который делает его доподлинно ком-
петентным королем, не позволяет ему стать этим королем.
Его победа — в том, что он стал тем, быть кем никогда не меч-
тал — человеком. Здесь исполненная надеждой диалектика
освещает трагическую мрачность и упадок. Оставшись один
на холоде, ветру и под дождем, Лир развивает воображение
и смелость, достаточные, чтобы вырваться из одиночества,
потянуться к людям, своим собратьям, подарить и получить
в дар от них тепло. Шекспир рассказывает нам, что ужаса-
ющая обнаженная реальность «человека без прикрас» — это
точка, где можно начать его украшать, единственный фунда-
мент, на котором можно выстроить настоящее сообщество.
В XVIII веке метафоры обнаженности как истины и разде-
вания как самооткрытия обретают новое политическое зву-
чание. В «Персидских письмах» Монтескье чадры, которые
вынуждены носить персиянки, символизируют угнетение,
которое накладывают на людей традиционные обществен-
ные иерархии. Напротив, отсутствие их на улицах Парижа
символизирует новый тип общества, где «царствуют свобо-
да и равенство» и где, следовательно, «все разговаривают,
все видятся друг с другом, все слушают друг друга; сердца
открыты так же, как и лица».12 Р уссо в «Рассуждении о на-
уках и искусствах» обличает «однообразную и вероломную
маску вежливости», свойственную его эпохе, и добавляет,
что «добродетельный человек — это атлет, который любит
бороться нагим, он презирает все эти жалкие украшения,
стесняющие проявление силы».13 Потому обнаженный чело-
век будет не только счастливее, но и лучшей версией себя.
Либеральные революционные движения, ставшие кульми-
нацией XVIII века, движимы этой верой: если уничтожить
140
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
наследственные привилегии и социальные роли, то люди
смогут насладиться ничем не стесненной свободой использо-
вать все свои силы и применят их на благо человечества. По-
ражает, что мы не находим здесь ни толики заботы о том, что
будет делать обнаженный человек и кем он станет. Диалекти-
ческая сложность и цельность, которую мы находим у Шек-
спира, уходят в прошлое, и на смену им приходят ограни-
ченные противоположности. Контрреволюционная мысль
этого периода демонстрирует то же сужение и уплощение
перспективы. Вот Берк пишет о Французской революции:
Но сейчас все изменилось. Все привлекательные иллюзии, кото-
рые делали власть великодушной, повиновение добровольным,
придавали гармонию разнообразным жизненным оттенкам ‹...› —
все они исчезли от непреодолимого света разума. Все покро-
вы, украшающие жизнь, были жестоко сорваны; навсегда были
отброшены все возвышенные идеи, заимствованные из запасов
нравственности, которые владели сердцами и были предназначе-
ны для сокрытия человеческих недостатков. Они были объявлены
смешными, абсурдными и старомодными. 14
Философы представляли обнаженность идиллически, счи-
тали, что она открывает новые пути к красоте и счастью для
всех; для Берка она контридиллична, это абсолютное зло,
провал в пустоту, из которой ничто и никто не может поя-
виться. Берк не может представить, что модерные люди мо-
гут чему-нибудь научиться, как научился Лир, у разделенной
уязвимости перед холодом. Их единственная надежда — во
лжи: в способности конструировать мифологические завесы,
достаточно тяжелые, чтобы не пропустить пугающее знание
о том, кто они есть на самом деле.
Для Маркса, писавшего в период, когда буржуазные рево-
люции окончились и успели смениться буржуазной реакцией,
на самом пороге новой волны, символы обнаженности и раз-
девания вновь обретают диалектическую глубину, которой
Шекспир наделил их двумя столетиями ранее. Буржуазные
141
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
революции, сорвав покров «религиозных и политических
иллюзий», обнажили неприкрытую власть и эксплуатацию,
жестокость и нищету, выставив наружу, словно открытые
раны; в то же самое время они открыли и продемонстри-
ровали новые пути и надежды. В отличие от простонародья
всех эпох, которое постоянно оказывалось жертвой преда-
тельства и бывало сломлено своей преданностью к «есте-
ственным повелителям», люди модерна, обмытые в «ледяной
воде эгоистического расчета», свободны от пиетета к унич-
тожающим их хозяевам: холод их скорее взбодрил, а не вы-
морозил. Так как они знают, что надо думать о себе, делать
это самостоятельно и ради себя, то потребуют строгий отчет
о том, что их боссы и правители делают для них — и делают
с ними — и там, где не получат взамен ничего реального, смо-
гут противостоять и восставать.
Маркс надеется, что когда люди без прикрас из рабочего
класса придут «к необходимости взглянуть трезвыми глазами
на свое жизненное положение и свои взаимные отношения»,
они объединятся, чтобы преодолеть холод, пронизывающий
их всех. Их союз породит общую энергию, которая сможет
питать новую коллективную жизнь. Одна из главных целей
«Манифеста» — показать путь избавления от холода, взле-
леять и направить всеобщую жажду коллективного тепла.
Так как рабочие могут преодолеть невзгоды и страх, лишь
обращаясь к глубинным ресурсам личности, они будут гото-
вы бороться за коллективное признание красоты и ценности
личности. Их коммунизм, когда он наступит, будет чем-то
вроде прозрачного покрова, который одновременно сохра-
нит тепло и подчеркнет их обнаженную красоту, чтобы можно
было видеть себя и других во всем великолепии.
Здесь, как нередко бывает у Маркса, образ будущего ос-
лепляет, но если присмотреться, свет начинает рябить. Не-
сложно представить совсем другой конец диалектики наготы,
конец менее прекрасный, но не менее возможный. Модерные
люди вполне могут предпочесть пафос одиночества и величие
руссоистской неограниченной личности либо коллективное
142
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
костюмированное удобство берковской политической маски
вместо Марксовой попытки объединить лучшие их черты.
И действительно, тип индивидуализма, который брезгует
и опасается связей с другими людьми из-за угрозы лич-
ностной целостности, и тип коллективизма, который стре-
мится растворить личность в ее социальной роли, могут ока-
заться более привлекательными, нежели Марксов синтез, так
как интеллектуально и эмоционально они намного проще.
Есть и более глубокая проблема, которая может пре-
пятствовать осуществлению Марксовой диалектики. Маркс
полагает, что потрясения, перевороты и катастрофы жизни
в буржуазном обществе позволяют модерным людям, пре-
терпев их, открыть, подобно Лиру, кто они «есть на самом
деле». Но если буржуазное общество столь непостоянно, как
думает Маркс, каким образом живущие в нем могут принять
какую-либо одну свою личность как настоящую? При всех
возможностях и потребностях , которые бомбардируют лич-
ность, и всех отчаянных устремлениях, которые ей движут,
как может человек четко определить, какие из них жизненно
важны, а какие — просто случайны? Природа этого недавно
обнаженного модерного человека может оказаться столь же
неуловимой и загадочной, как и природа прежнего одето-
го — возможно, и более неуловимой, ведь уже нет иллюзий
о существовании реальной личности под масками. Потому
и сама индивидуальность может раствориться в модерном
воздухе наряду с общиной и обществом.
4. МЕТАМОРФОЗЫ ЦЕННОСТЕЙ
Проблема нигилизма вновь поднимается в следующей стро-
ке Маркса: «Буржуазия ‹...› превратила личное достоинство
человека в меновую стоимость и поставила на место бесчис-
ленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну
бессовестную свободу торговли». Первый момент здесь —
огромная власть рынка во внутренней жизни модерных лю-
дей: они ищут в прайс-листе ответы не только на экономиче-
143
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ские, но и на метафизические вопросы — вопросы о том, что
ценно, что благородно, и даже — что реально. Когда Маркс
говорит, что другие ценности «превращаются» в меновую
стоимость, то подразумевает, что буржуазное общество не
вычеркивает старые структуры ценностей, а поглощает их.
Старые образы чести и достоинства не умирают; напротив,
они инкорпорируются в рынок, получают ценник, начинают
новую жизнь — жизнь товара. Таким образом, любое пред-
ставимое человеческое поведение оказывается морально
допустимым в тот самый момент, когда становится экономи-
чески возможным, «ценным»; сойдет все, если за это платят.
Вот в чем суть модерного нигилизма. Достоевский, Ницше
и их последователи в XX веке припишут эту проблему науке,
рационализму, смерти Бога. Маркс сказал бы, что базис ее
куда более конкретный и земной: она строится на банальном
ежедневном функционировании буржуазного экономическо-
го порядка — порядка, который приравнивает нашу человече-
скую ценность к нашей рыночной цене, не более и не менее,
и который вынуждает нас наращивать свою цену настолько,
насколько это возможно.
Маркс потрясен деструктивной жестокостью, которую во-
площает в жизнь буржуазный нигилизм, но верит, что в ниги-
лизме есть силы перерасти ее. Источник этой силы — пара-
доксально «беспринципный» принцип свободной торговли.
Маркс считает, что буржуазия на самом деле верит в этот
принцип — то есть, в беспрестанный, неограниченный поток
циркулирующих товаров, непрерывное перевоплощение ры-
ночных ценностей. Если, как он считает, представители бур-
жуазии на самом деле хотят свободного рынка, им придется
добиваться свободного входа на рынок для новых продуктов.
Это, в свою очередь, значит, что зрелое буржуазное обще-
ство должно быть обществом подлинно открытым — не толь-
ко экономически, но также и политически и культурно, чтобы
люди могли свободно приобретать, искать лучшие предложе-
ния, идеи, сообщества, законы и варианты социальной поли-
тики, равно как и вещи. Беспринципный принцип свободной
144
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
торговли вынудит буржуазию даже коммунистам предоста-
вить базовые права, которыми пользуются все предприни-
матели — право предлагать, рекламировать и продавать свои
товары стольким покупателям, скольких получится привлечь.
Таким образом, на основании того, что Маркс называет го-
сподством свободной конкуренции в области знания, долж-
ны иметь право на появление даже самые революционные
работы и идеи — вроде самого «Манифеста» — ибо они могут
быть проданы. Маркс уверен, что как только идеи револю-
ции и коммунизма станут доступны массам, они непременно
продадутся, и коммунизм наберет мощь как «самостоятель-
ное движение огромного большинства». Так что в длительной
перспективе он может смириться с буржуазным нигилизмом,
потому что считает его энергичным и динамичным, тем, что
Ницше назвал бы нигилизмом силы.* Буржуазия, движимая
своими нигилистическими устремлениями и энергией, откро-
ет политические и культурные шлюзы, через которые про-
рвется революционное мщение.
Такая диалектика порождает несколько проблем. Первая
касается приверженности буржуазии беспринципному прин-
ципу свободной торговли, будь то в экономике, политике или
культуре. На самом деле, в истории буржуазии этот принцип,
в целом, чаще нарушался, чем соблюдался. Представители
буржуазии, особенно самые могущественные, как правило,
боролись за то, чтобы ограничивать и контролировать свои
рынки, манипулировать ими. Безусловно, на протяжении ве-
* См. крайне важное различение в «Воле к власти»: «Нигилизм. Он
может иметь двоякое значение: a) Как знак повышенной мощи духа —
активный нигилизм. b) Как падение и регресс мощи духа — пассивный
нигилизм». В первом случае «мощь духа способна так возрасти, что
ныне существующие цели („убеждения“, символы веры) перестанут со-
ответствовать ей. ‹...› Максимума относительной силы он достигает как
насилие, направленное на разрушение: как активный нигилизм». Маркс
куда лучше Ницше понял нигилистическую мощь модерного буржуаз-
ного общества. — П рим. авт.
145
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ков значительная часть их созидательной энергии тратилась
на мероприятия с этой целью — узаконенные монополии, хол-
динговые компании, тресты, картели и конгломераты, про-
текционные тарифы, фиксация цен, прямые или скрытые
государственные субсидии — и все это под аккомпанемент
хвалебных песен в честь свободного рынка. Более того, даже
среди тех немногих, кто действительно верят в свободу обме-
на, еще меньше готовых распространить свободную конку-
ренцию и на идеи.* Вильгельм фон Гумбольдт, Джон Стюарт
Милль, юристы Холмс и Брандейс, Дуглас и Блэк были сла-
быми, незаметными голосами буржуазного общества, в луч-
шем случае оборонявшимися и маргинализированными. Бо-
лее типичный образ действий буржуа — прославлять свободу,
находясь в оппозиции, и подавлять ее, придя к власти. Здесь
Марксу может грозить опасность — неожиданная для него
опасность — увлечься тем, что говорит буржуазная идеология
* С амое проницательное выражение этого принципа — что свободная
торговля и конкуренция влекут за собой свободу мысли и культуры,—
можно обнаружить, как ни странно, у Бодлера. Его предисловие к «Са-
лону 1846 года», озаглавленное «Обращение к буржуа», утверждает
особенную близость между модерным предпринимательством и модер-
ным искусством: оба стремятся «содействовать осуществлению идей бу-
дущего в самых различных его аспектах — в политике, промышленности,
искусстве»; то и другое отвергают «нынешние аристократы мысли, те,
кто присвоил себе исключительное право хвалить или хулить», которые
желают подавить энергию и прогресс модерной жизни. (Art in Paris
1845–62, translated and edited by Jonathan Mayne, Phaidon, 1965, 41–43.) .
Бодлера мы подробно обсудим в следующей главе. Но здесь стоит
отметить, что доводы, подобные тем, что приводит Бодлер, прекрасно
понятны многим людям динамичных и прогрессивных периодов вроде
1840-х — или 1960-х — годов. С другой стороны, в периоды реакции или
стагнации, как в 1850-е или в 1970-е годы, такие рассуждения могут
показаться многим буржуа, которые восторженно принимали их всего
несколько лет назад, немыслимо экстравагантными, если не чудовищ-
ными. — Прим. авт.
146
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и потерять из виду то, что люди с деньгами и властью делают
на самом деле. Это серьезная проблема, так как, если пред-
ставителям буржуазии действительно плевать на свободу, то
они будут стремиться оборонять подконтрольные им обще-
ства от новых идей, и тогда закрепиться коммунизму будет
сложнее, чем когда-либо. Маркс сказал бы, что потребность
в прогрессе и инновациях вынудит буржуа открыть свои об-
щества даже для тех идей, которых они опасаются. Однако
изобретательность может помочь избежать этого благодаря
по-настоящему коварной новации: соглашению о взаимно
под держиваемой посредственности, служащей защитой ка-
ждому отдельному буржуа от рисков конкуренции и буржу-
азному обществу в целом — от рисков перемен.*
Другая проблема с Марксовой диалектикой свободного
рынка в том, что она подразумевает странный сговор между
буржуазным обществом и его самыми радикальными оп-
понентами. Беспринципный принцип свободного обмена,
свойственный этому обществу, заставляет его открыться
радикальным переменам. Враги капитализма могут пользо-
ваться значительной свободой, чтобы достичь цели — читать,
писать, говорить, встречаться, организовываться, проводить
демонстрации, забастовки, выборы. Но свобода действий
превращает их движение в предприятие, и они занимают
парадоксальную роль торговцев и импресарио революции,
* В кульминационной главе первого тома «Капитала», «Историческая
тенденция капиталистического накопления», Маркс пишет, что когда си-
стема общественных отношений начнет выполнять функцию оков «сво-
бодного развития производительных сил», ей попросту придется уйти
в прошлое: «Этот способ производства... должен быть уничтожен, и он
уничтожается». Но что если он не будет уничтожен? Маркс позволяет
себе на мгновение представить себе эту возможность, лишь чтобы от-
вергнуть ее. «Увековечить» такую общественную систему равносильному
тому, чтобы «декретировать всеобщую посредственность». Возможно,
это единственная вещь, которую Маркс совсем не способен вообра-
зить. — П рим. авт.
147
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
которая неизбежно превращается в товар, как и все осталь-
ное. Маркса, кажется, не волнует двусмысленность этой со-
циальной роли — может быть, оттого, что он уверен: она уста-
реет прежде, чем закостенеет, уйдет в прошлое благодаря
быстрому успеху революционного предприятия. Столетие
спустя мы видим, что предприятие по продвижению рево-
люции подвержено тем же злоупотреблениям и искушениям,
манипулятивным аферам и добровольному самообману, как
и любая другая реклама.
Наконец, наши скептические сомнения в обещаниях ее
импресарио заставляют нас сомневаться в одном из главных
обещаний труда Маркса: обещании, что коммунизм, сохранив
и даже расширив свободы, принесенные капитализмом, ос-
вободит нас от ужасов буржуазного нигилизма. Если буржу-
азное общество действительно водоворот, как считает Маркс,
как может от надеяться, что все его течения будут идти в одном
направлении — к мирной гармонии и интеграции? Даже если
однажды победоносный коммунизм прорвется через шлюзы,
открытые свободной торговлей, кто знает, какие ужасные
импульсы могут прийти вместе с ним, вслед за ним или вну-
три него? Легко представить, как общество, приверженное
свободному развитию всех и каждого, развивает собствен-
ную особую разновидность нигилизма. Ведь коммунистиче-
ский нигилизм может оказаться куда более взрывоопасным
и дезинтегрирующим, нежели его буржуазный предшествен-
ник — хотя и более дерзким и оригинальным,— так как, если
капитализм ограничивает бесконечные возможности модер-
ной жизни ведением расходов и доходов, Марксов коммунизм
может запустить освобожденную личность в огромный и не-
изведанный космос без каких-либо ограничений.15
5. УТРАТА СВЯЩЕННОГО ОРЕОЛА
Вся неоднозначность Марксовой мысли воплощена в од-
ном из наиболее блестящих его образов, последнем, что
мы здесь исследуем: «Буржуазия лишила священного ореола
148
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
все роды деятельности, которые до тех пор считались по-
четными и на которые смотрели с благоговейным трепетом.
Врача, юриста, священника, поэта, человека науки [Mann
der Wissenschaft *] она превратила в своих платных наем-
ных работников». Для Маркса ореол — это главный символ
религиозного опыта, опыта священного. Для Маркса, как
и для его современника Кьеркегора, ядро религиозной жиз-
ни составляет опыт, а не вера, догма или теология. Ореол
делит жизнь на священную и профанную: он создает ауру
священного ужаса и сияния вокруг наделенной им фигуры;
священная фигура вырывается из матрицы человеческого
существования, неумолимо отделяется от нужд и давления,
которые двигают окружающими.
Маркс полагает, что капитализм полностью уничтожит по-
добный вид опыта: «все священное оскверняется», ничто
не остается нетронутым, жизнь полностью лишается свято-
го. Маркс знает, что это может и пугать: модерные люди
вполне могут утратить всякие преграды, освободившись от
сдерживающего ужаса; не испытывая страха и трепета они
смогут растоптать каждого на своем пути из шкурного инте-
реса. Но Маркс видит и добродетель жизни без ауры: она
приводит к духовному равенству. Так, модерная буржуазия
хоть и может контролировать огромные материальные силы,
лишив власти рабочих и всех остальных, но никогда не до-
* С лово Wissenschaft может быть переведено по-разному — в узком
с мысле как «наука», более широко — как «знание», «обучение», «уче-
ность» или вообще длительное и серьезное интеллектуальное занятие.
Какое слово мы бы ни использовали, важно помнить, что Маркс здесь
говорит о положении своей группы, а значит, и своем. По отношению
к различным профессиональным группам, о которых говорит здесь Маркс,
я периодически для краткости использую слово «интеллектуалы». Я пони-
маю, что слово это анахронично для времен Маркса — оно происходит из
поколения Ницше — но преимущество его в том, что, как и хочет Маркс,
оно объединяет людей различных занятий, которые, несмотря на свои
различия, работают своим умом. — П рим. авт.
149
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
стигнет господства над духовной жизнью, которое прежде
доставалось правящим классам как нечто само собой раз-
умеющееся. Впервые в истории все сталкиваются с собой
и друг с другом на едином уровне существования.
Мы не должны забывать, что Маркс пишет в историче-
ский момент, когда, особенно в Англии и Франции (на са-
мом деле, «Манифест» имеет к ним куда больше отношения,
чем к Германии того времени), разочарование капитализмом
было повсеместным и глубоким, вот-вот готовым вспыхнуть
пламенем революции. В следующие примерно двадцать лет
буржуазия проявила удивительную изобретательность в соз-
дании собственных священных ореолов. Маркс попробует
уничтожить их в первом томе «Капитала» анализом «товарного
фетишизма» — таинства, которое представляет межсубъект-
ные отношения между людьми в рыночной экономике как ис-
ключительно физические, «материальные», неизменные отно-
шения между вещами.16 В атмосфере 1848 года эта буржуазная
псевдорелигиозность еще не укоренилась. Здесь аудитория
Маркса куда больше знакома как ему, так и нам: это профес-
сиональные интеллектуалы — «врач, юрист, священник, поэт,
человек науки»,— которые считают, что им дано обитать на
более высоком уровне, нежели остальному человечеству, от-
решиться от капитализма в жизни и в работе.
Почему Маркс помещает этот ореол в первую очередь
вокруг голов модерных профессионалов и интеллектуалов?
Чтобы обратить внимание на один из парадоксов их истори-
ческой роли: пусть даже они и гордятся своими эмансипиро-
ванными и строго секуляризованными умами, они единствен-
ные представители модерного человечества, которые правда
верят, что исполняют свое призвание, что их труд священен.
Любой читатель понимает, что Маркс, столь приверженный
своему делу, разделяет эту веру. И все же здесь Марк наме-
кает, что в некотором смысле это ложная вера и самообман.
Этот отрывок так завораживает, потому что здесь Маркс,
соотносящий себя с критической силой и прозорливостью
буржуазии, срывает священные ореолы с голов модерных
150
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
интеллектуалов, но при этом, как мы осознаем, в некотором
смысле обнажает и свою голову.
Основополагающий факт жизни этих интеллектуалов, как
видит Маркс, в том, что они «платные наемные работники»
на службе у буржуазии, «современные рабочие, пролета-
рии». Они могут отрицать это определение — в конце концов,
кому хочется быть пролетарием? — но отнесены к рабочем
классу историческими обусловленными условиями, при ко-
торых они вынуждены заниматься наемным трудом. Когда
Маркс характеризует интеллектуалов как наемных работни-
ков, то пытается показать нам, что модерная культура — часть
модерной промышленности. Искусство, естественные науки,
социальная теория — как и собственная теория Маркса,— все
это виды производства; как и везде, в культуре средства
производства контролирует буржуазия, и каждый, кто хочет
творить, должен работать на орбите ее влияния.
Модерные профессионалы, интеллектуалы и художники,
так как они являются пролетариатом,
только тогда и могут существовать, когда находят работу, а нахо-
дят ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти
рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют
собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а по-
тому в равной мере подвержены всем случайностям конкуренции,
всем колебаниям рынка.
А значит, они могут писать книги, открывать физические
или исторические законы, спасать жизни лишь в том случае,
если им будет платить кто-то, кто обладает капиталом. Но дав-
ление буржуазного общества таково, что никто не станет им
платить, если это не принесет ему денег — другими словами,
если их труд не поможет каким-либо способом «увеличить
капитал». Они вынуждены «продавать себя поштучно» ра-
ботодателю, который готов эксплуатировать их умы ради
своей выгоды. Они должны планировать и суетиться, чтобы
представить себя в наиболее выгодном свете; они должны
151
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
конкурировать (зачастую жестоко и не разбирая средств) за
привилегию быть купленным лишь для того, чтобы продол-
жать заниматься своим трудом. Когда работа выполнена, они,
подобно всем остальным рабочим, отстраняются от ее пло-
дов своего труда. Их товары и услуги поступают на продажу,
и именно «случайности конкуренции, колебания рынка», а не
внутренняя правда, красота или ценность — или, если уж на то
пошло, полное отсутствие внутренней правды, красоты или
ценности,— определяют их судьбу. Маркс не предполагает,
что великие идеи и творения окажутся мертворожденными
по воле рынка: модерная буржуазия удивительно изобрета-
тельна в том, что касается извлечения выгоды из мысли. Он
говорит о другом — что процесс и плоды труда будут исполь-
зоваться и преображаться таким образом, который ошеломит
или испугает самих создателей. Но создатели не смогут этому
противостоять, потому что для того, чтобы выжить, они вы-
нуждены продавать свою рабочую силу.
Интеллектуалы занимают в рядах рабочего класса особую
позицию, которая порождает особые привилегии, но также
и особые парадоксы. Они извлекают пользу из стремления
буржуазии к постоянным инновациям, которое безмерно
расширяет рынок сбыта их продуктов и умений и — если они
достаточно хитроумны и удачливы, чтобы эксплуатировать
потребность в умах,— позволяет им спастись от хронической
бедности, в которой живет большинство рабочих. С другой
стороны, так как они вовлечены в свою работу лично — в от-
личие от большинства наемных рабочих, которые от нее
отчуждены и к ней безразличны,— колебания рынка бьют
по ним куда сильнее. «Продавая себя поштучно», они про-
дают не только свою физическую энергию, но и свои умы,
чувствительность, глубочайшие переживания, способность
к предвидению и воображению — по существу, самое себя.
«Фауст» Гете представляет нам архетип модерного интеллек-
туала, вынужденного «продавать себя», чтобы изменить мир.
Фауст воплощает также комплекс потребностей, характерных
для интеллектуалов: ими движет не только нужда выжить,
152
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
которая присуща им так же, как и остальным людям, но и жаж-
да общения, диалога с ближними. Но рынок товаров культуры
располагает лишь одним средством, которое может вывести
диалог на публичный уровень: ни одна идея не может достичь
модерного человека, пока она не поступит на рынок и не будет
ему продана. Потому он оказывается в зависимости от рынка
не хлебом единым, но и с точки зрения пищи духовной — пищи,
которую, как он знает, рынок предоставить не в состоянии.
Легко понять, почему модерные интеллектуалы, столкнув-
шись с этими парадоксами, ищут радикального выхода: в их
положении революционные идеи рождаются из самых пря-
мых и глубоких личных потребностей. Но общественные ус-
ловия, которые вдохновляют их радикализм, в то же время
рождают в них и фрустрацию. Мы увидели, что даже самым
бунтарским идеям приходится выражать себя посредством
рынка. Покуда эти идеи привлекают и пробуждают народ, они
будут расширять и обогащать рынок, а значит, «увеличивать
капитал». Итак, если представление Маркса о буржуазном
обществе хоть сколько-нибудь верно, есть все основания счи-
тать, что оно породит рынок радикальных идей. Эта система
требует постоянной революции, потрясений, брожений; ее
непрерывно требуется толкать и давить, чтобы она сохраняла
эластичность и упругость, заимствовала и поглощала новые
энергии, достигала новых высот деятельности и роста. Однако
это значит, что люди и движения, заявляющие о своем непри-
ятии капитализма, могут быть тем самым стимулом, который
ему необходим. Присущие буржуазному обществу ненасыт-
ное стремление к разрушению и развитию и необходимость
удовлетворять порожденные им неутолимые потребности
неизбежно производят радикальные идеи и движения, кото-
рые ставят целью его уничтожить. Но сама его способность
к развитию позволяет ему отрицать собственное отрицание:
подпитываться оппозицией и извлекать из ее существования
пользу, под воздействием давления и кризисов становиться
крепче, чем в мирное время, превращать вражду в близость,
а атакующих — в непреднамеренных союзников.
153
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Итак, в этой атмосфере радикальные интеллектуалы стал-
киваются с радикальными препятствиями: их идеи и движе-
ния могут исчезнуть в том же модерном воздухе, что рас-
творяет буржуазный порядок, к преодолению которого они
стремятся. Окружить себя священным ореолом в такой ситу-
ации — значит пытаться уничтожить опасность, отрицая ее су-
ществование. Интеллектуалы времен Маркса были особенно
подвержены этому самообману. Даже когда Маркс нащупы-
вал теорию социализма в Париже 1840-х годов, Готье и Фло-
бер разрабатывали таинство «искусства ради искусства»,
а круг Огюста Конта конструировал параллельное таинство
«чистой науки». Обе эти группы — порой конфликтовавшие
друг с другом, порой переплетавшиеся,— провозгласили себя
передовыми. Они проницательно и глубоко критиковали ка-
питализм и, в то же самое время, до абсурдности наивно
верили, что могут выйти за его рамки, что могли бы жить
и свободно работать вне его норм и требований.17
Довод Маркса, срывающего ореол с их голов, заключа-
ется в том, что никто в буржуазном обществе не может быть
столь чист, благополучен или свободен. Сети и парадоксы
рынка таковы, что в них попадается и запутывается каждый.
Интеллектуалы должны признать глубину своей собствен-
ной зависимости — духовной, равно как и экономической,— от
презираемого ими буржуазного мира. Эти противоречия не
получится преодолеть никогда, если мы не взглянем на них
прямо и открыто. Вот что значит лишить священного ореола
в сфере психологии развития.18
Этот образ, как все великие образы в истории литературы
и мысли, имеет глубины, которые его создатель предвидеть
не мог. Во-первых, Марксов выпад против художествен-
ных и научных авангардов XIX века столь же остро пора-
жает и ленинистский авангард XX века, который точно так
же — и столь же безосновательно — заявляет о преодолении
вульгарного мира нужды, выгоды, эгоистических подсчетов
и грубой эксплуатации. Однако, этот выпад поднимает вопро-
сы и о собственно Марксовой романтизации рабочего класса.
154
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Если быть наемным работником — это прямая противополож-
ность священному ореолу, как может Маркс говорить о про-
летариате как о классе новых людей, единственно способных
преодолеть противоречия модерной жизни? И мы даже мо-
жем сделать еще один шаг вперед. Если мы доверимся пред-
ставлению Маркса о модерности и с прямотой взглянем на
все присущие ей парадоксы и неопределенности, как можно
надеяться, что хоть кто-нибудь сможет все это преодолеть?
Снова мы сталкиваемся с уже знакомой проблемой: про-
тиворечием между критическими прозрениями Маркса и его
радикальными надеждами. В этом эссе я акцентирую внима-
ние на скептических и самокритических глубинных течениях
Марксовой мысли. Возможно, некоторые читатели прислуша-
ются только к критике и самокритике, а надежды отвергнут
как утопические и наивные. Однако поступить так — значит
отказаться от того, что Маркс считал важнейшей сущностью
критической мысли. Критика, как он понимал ее, является ча-
стью развивающегося диалектического процесса. Она должна
быть динамичной, устремлять и вдохновлять людей, подвер-
гаемых критике, к тому, чтобы они превзошли и критиков,
и самих себя, должна толкать обе стороны к новому синтезу.
Следовательно, разоблачать ложные претензии на преодоле-
ние капитализма — значит требовать борьбы за его реальное
преодоление. Отбросить вопрос о нем — значит водрузить
священный ореол вокруг собственной инертности и смире-
ния, предать не только Маркса, но и самих себя. Мы должны
стремиться к хрупкому, динамичному равновесию, который
Антонио Грамши, один из величайших коммунистических ав-
торов и лидеров нашего века, назвал «пессимизмом разума
и оптимизмом воли.19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КУЛЬТУРА И ПРОТИВОРЕЧИЯ
КАПИТАЛИЗМА
В этом тексте я пытался найти схождения между мыслью
Маркса и модернистской традицией. Прежде всего, та и дру-
155
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
гая пытаются воплотить и осмыслить характерно модерный
опыт. Та и другая встречают модерность со смешанными эмо-
циями, где благоговение и восторг переплетаются с чувством
ужаса. Та и другая полагают, что модерная жизнь пронизана
противоречивыми импульсами и потенциалами; та и другая
принимают представление о конечной модерности или ультра-
модерности — «новоиспеченные люди... такое же изобретение
современной поры, что и сами машины» у Маркса; «Il faut être
absolument moderne» * как способ проживания и преодоле-
ния этих противоречий у Рембо.
В духе конвергенции я пытаюсь читать Маркса как модер-
нистского автора, продемонстрировать живость и богатство
его языка, глубину и сложность его воображения — одежда
и нагота, покров, ореол, жара, холод,— и показать, как блестя-
ще он развивает темы, которые станут определяющими для
модернизма: великолепие модерной энергии и динамизма,
разрушения, вызванные модерной дезинтеграцией и ниги-
лизмом, странная близость между ними; ощущение полета
в вихре, где кружатся, взрываются, разлагаются, вновь сты-
куются все факты и ценности; основополагающая неуверен-
ность в том, что же лежит в основе, что ценно и даже что
реально; пробуждение самых радикальных надежд посреди
радикального отрицания.
В то же время я пытаюсь читать модернизм по-марксист-
ски, показать, как присущие ему энергия, прозрения и тревоги
проистекают из устремлений и ограничений модерной эконо-
мической жизни: из ее безжалостного и ненасытного стрем-
ления к росту и прогрессу; из выхода людских желаний за
пределы местных, национальных и моральных ограничений;
из требования модерной экономики к людям эксплуатировать
не только ближних, но и самих себя; из изменчивости и бес-
конечного преображения всех ее ценностей в водовороте
* «Надо быть абсолютно во всем современным» (пер. M. П . Кудино-
ва) — цитата из «Одного лета в аду» (1873) Артюра Рембо, поэме в про-
зе.— П рим. пер.
156
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
мирового рынка; из безжалостного разрушения всего и вся,
что она не может использовать — как домодерного мира, так
и самой себя, собственного модерного мира; и из ее способ-
ности использовать кризис и хаос как трамплин к еще более
глубокому развитию, способности питаться собственным са-
моразрушением.
Я не претендую на то, чтобы быть первым, кто свел вместе
марксизм и модернизм. На самом деле, они сами перепле-
тались друг с другом уже несколько раз на протяжении по-
следнего столетия, наиболее ярко — в моменты историческо-
го кризиса и революционной надежды. Мы можем увидеть
их слияние в 1848 году у Бодлера, Вагнера, Курбе и Маркса;
у экспрессионистов, футуристов, дадаистов и конструктиви-
стов в 1914–25 году; в брожении и волнениях в Восточной Ев-
ропе после смерти Сталина; в радикальных движениях 1960-х
годов от Праги до Парижа и по всем Соединенным Штатам.
Однако из-за подавления или предательства революций ра-
дикальные слияние сменилось на раскол; как марксизм, так
и модернизм ортодоксально закостенели и двинулись по раз-
ным путям, полные подозрения друг к другу.* Так называемые
ортодоксальные марксисты в лучшем случае игнорировали
модернизм, но нередко пытались и подавить его, возможно,
из страха, что (по выражению Ницше) если они будут долго
* Марксизм и модернизм могут также сходиться в виде утопических
фантазий в период политического затишья: ср. сюрреализм 1920-х годов
и работы американских мыслителей вроде Пола Гудмана и Нормана
Брауна в 1950-е годы. Герберт Маркузе соответствует двум этим по-
колениям, особенно выделяется его самый оригинальный труд «Эрос
и цивилизация» (1955). Схождение другого типа заполняет работы лю-
дей вроде Маяковского, Брехта, Беньямина, Адорно и С артра, которые
ощущают модернизм в качестве духовного водоворота, марксизм — твер-
докаменного ein feste Burg (нем., «оплот, твердыня», слова евангель-
ского гимна «Бог наш — оплот», который Мартин Лютер написан на ос-
нове 45 псалма — Прим. пер.), и которые всю свою жизнь мечутся между
ними, но часто вопреки себе создают блестящий их синтез — Прим. авт.
157
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
смотреть в бездну, то бездна начнет смотреть на них.20 В то
же время ортодоксальные модернисты не поскупились духом
ради того, чтобы в подновленном виде вернуть священный
ореол ничем не стесненного «чистого» искусства, свободного
от общества и истории. Цель этого эссе — перекрыть путь
отступления ортодоксальным марксистам, показав им, как
бездна, которой они боятся и от которой бегут, разверзается
внутри самого марксизма. Сила марксизма всегда лежала
в его готовности начать с ужасающих общественных реалий,
выстроить себя на их основе и проработать их; отбросить этот
первоисточник силы — значит оставить от марксизма только
название. Что касается ортодоксальных модернистов, кото-
рые избегают марксистской мысли из страха, что она может
лишить их священного ореола, то им следует понять, что
взамен марксизм может дать нечто большее: повышенную
способность воображать и изображать бесконечно богатые,
сложные и парадоксальные отношения между ними и «мо-
дерным буржуазным обществом», которое они пытаются
отрицать или побороть. Смешение Маркса с модернизмом
должно растворить излишне твердое тело марксизма — или,
по крайней мере, расшевелить и отогреть,— а модернистско-
му искусству и мысли придать новую прочность, наделить его
порождения новым значением и глубиной. Такое смешение
раскроет модернизм как реализм нашего времени.
В заключительном разделе я хочу через развиваемые
здесь идеи коснуться некоторых современных дискуссий
о Марксе, модернизме и модернизации. Для начала я об-
ращусь к консервативным обвинениям в адрес модернизма,
которые были выработаны в конце 1960-х годов и процве-
тали в реакционной атмосфере прошлого десятилетия. Со-
гласно Даниелу Беллу, самому известному обвинителю, «мо-
дернизм оказался искусителем», соблазняющим современных
мужчин и женщин (и даже детей) оставить свои моральные,
политические и экономические места и обязанности. Авто-
ры вроде Белла не видят здесь никакой вины капитализма;
они изображают его как Шарля Бовари — неинтересного, но
158
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
достойного и добропорядочного человека, усердно работа-
ющего ради исполнения ненасытных желаний своей беспут-
ной жены и оплаты ее неимоверных долгов. Этот образ
капиталистической невинности обладает изящным пасто-
ральным шармом; но ни один капиталист не может принять
его всерьез, если надеется прожить хотя бы неделю в мире,
созданном капитализмом. (С другой стороны, капиталисты
определенно могут насладиться этой картинкой как прекрас-
ной идеей для рекламы и хохотать во всю глотку по пути
к банку). Стоит также восхититься тем, как изобретательно
Белл адаптировал одну из самых стойких модернистских ор-
тодоксий — автономию культуры, превосходство художника
над всеми нормами и нуждами, которые связывают окру-
жающих его обычных смертных,— и обратил против самого
модернизма.21
Но что здесь скрыто, как усилиями модернистов, так и ан-
тимодернистов,— тот факт, что эти духовные и культурные дви-
жения, несмотря на всю свою взрывную мощь, были всего
лишь пузырями на социальном и экономическом котле, томя-
щемся и кипящем более столетия. Это модерный капитализм,
а не модерное искусство и культура, поставил котел на огонь
и кипятит его — несмотря на всю устойчивость капитализма
к жару. Наркомански ошалелый нигилизм Уильяма Берроуза,
любимого bête noire * антимодернистской полемики,— все-
го лишь бледное отражение оставленного ему по наслед-
ству трастового фонда, на прибылях которого выстроилась
его авангардистская карьера: компании Burroughs Adding
Machines, теперь известной как Burroughs International, здра-
вомыслящего нигилиста с бухгалтерской книгой.
В дополнение к этим полемическим нападкам, модернизм
всегда притягивал обвинения совершенно другого порядка.
В «Манифесте» Маркс подхватил гетевскую идею появле-
* (Фр.) злой гений, невыносимый человек, дословно «черный зверь».
Кто-то или что-то ненавидимое, презираемое, но в данном контексте
терпимое за талантливость или гениальность. — Прим. пер.
159
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ния «мировой литературы» и объяснил, как модерное бур-
жуазное общество претворяет в жизнь мировую культуру:
Вместо старых потребностей, удовлетворявшихся отечественны-
ми продуктами, возникают новые, д ля удовлетворения которых
требуются продукты самых отдаленных стран и самых различных
климатов. На смену старой местной и национальной замкнутости
и существованию за счет продуктов собственного производства
приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций
друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному,
так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности
отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная
односторонность и ограниченность становятся все более и более
невозможными, и из множества национальных и местных литера-
тур образуется одна всемирная литература.
Сценарий Маркса может служить превосходной програм-
мой для международного модернизма, который процветает
с его времен до наших: терпимая и многосторонняя культура,
которая выражает универсальный охват модерных желаний
и которая, несмотря на опосредованность буржуазной эко-
номикой, является «общей собственностью» человечества.
Но что если эта культура все же не универсальна, как думал
Маркс? Что если она окажется исключительно ограничена
Западом? Впервые такую возможность отметили в XIX веке
российские народники. Они утверждали, что взрывоопасная
атмосфера модернизации на Западе — распад общины и пси-
хическая изоляция индивида, массовое обеднение и классо-
вая поляризация, культурное творчество, проистекающее из
отчаянной моральной и духовной анархии — могут быть куль-
турными особенностями, а не железной необходимостью,
неизбежно ожидающей все человечество. Почему другие
нации и цивилизации не могут достичь более гармоничного
совмещения традиционного способа жизни с модерными
возможностями и нуждами? Вкратце — иногда эта вера из-
лагается как самодовольная догма, иногда как отчаянная
160
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
надежда — потому что только на Западе «все твердое рас-
творяется в воздухе».
Двадцатый век, когда революционные режимы установи-
лись по всему экономически отсталому миру, видел огром-
ное количество попыток осуществить мечты народников
XIX века. Все эти режимы множеством различных способов
пытались осуществить то, что в России XIX века называли
прыжком из феодализма в социализм: другими словами, ге-
роическими усилиями они стремились достичь высот модер-
ного общества, не погружаясь при том в пучину модерной
фрагментации и разъединенности. Здесь не хватит места,
чтобы рассмотреть множество способов модернизации, име-
ющихся в мире сегодня. Но важно отметить, что, несмотря
на огромные различия между современными политически-
ми системами, очень многие, кажется, разделяют страстное
желание стереть модерную культуру со своих карт. Режи-
мы надеются, что, если только людей удастся защитить от
этой культуры, они смогут мобилизоваться в прочный фронт,
который будет преследовать общегосударственные цели,
а не разбредаться в тысячах разных направлений, гонясь за
изменчивыми и неподконтрольными собственными целями.
Было бы глупо отрицать, что модернизация может прохо-
дить множеством различных путей (даже сам смысл теории
модернизации состоит в том, чтобы выявить эти пути). Нет
причин, чтобы каждый модерный город выглядел и мыс-
лил как Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Токио. Тем не менее
следует внимательно рассмотреть цели и интересы тех, кто
защищает свой народ от модернизма ради его же блага. Если
бы эта культура действительно была исключительно запад-
ной, а посему неприменимой к Третьему миру, как говорит
большинство его правительств, тратили бы они столько сил
на ее подавление? На самом деле, на чужаков они проеци-
руют (и запрещают как «западное упадничество») энергию,
желания и критический дух собственного народа. Когда пра-
вительства и пропагандисты объявляют свои страны свобод-
ными от всякого чужеродного влияния, то подразумевают,
161
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
что до пока еще они держат народ под политической и ду-
ховной пятой. Когда эта пята будет сброшена, первым поя-
вится модернистский дух — как возвращение подавленного.
Именно благодаря этому духу, одновременно лиричному
и ироничному, едкому и преданному, фантастичному и реа-
листичному, латиноамериканская литература сегодня самая
интересная сегодня — и этот же дух ответственен за то, что
латиноамериканские писатели творят в европейской или се-
вероамериканской эмиграции, спасаясь от цензоров и по-
литической полиции. Именно этот дух говорит с плакатов
диссидентов в Пекине и Шанхае, объявляющих о правах
свободного индивида в стране, в которой — так нам только
вчера говорили китайские мандарины-маоисты и их запад-
ные товарищи — нет даже слова для обозначения индиви-
дуальности. Это культура модернизма вдохновляет пугаю-
ще напряженный электронный рок группы Plastic People из
Праги, музыку, которая играет в тысячах запертых комнат на
пиратских кассетах, пока сами музыканты томятся в тюрьмах.
Это модернистская культура под держивает жизнь критиче-
ской мысли и свободного воображения в большей части се-
годняшнего незападного мира.
Правительствам она не нравится, но весьма вероятно, что
в длительной перспективе они ничего не смогут с ней поде-
лать. Покуда им приходится плыть или тонуть в водовороте
мирового рынка, приходится отчаянно бороться за накопле-
ние капитала, приходится развиваться или разрушать — или,
скорее, как обычно происходит, развиваться и разрушать —
до той поры, пока они, словами Октавио Паса, «обрече-
ны на модерность», они вынуждены производить культуру,
которая будет правдиво показывать, что они делают и чем
они являются. Таким образом, так как Третий мир все более
ухватывается динамикой модернизации, модернизм не про-
сто не выдыхается, он только начинает обретать свое лицо.*
* Alternating Currents, 196–98. Пас утверждает, что Третий мир отча-
янно нуждается в творческой и критической энергии модернизма. Без нее
162
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
В завершение я хочу коротко прокомментировать два об-
винения в адрес Маркса, высказанные Гербертом Маркузе
и Ханной Арендт, затрагивающие некоторые центральные
вопросы этой книги. Маркузе и Арендт сформулировали
свою критику в Америке 1950-х гг., но кажется, что она за-
родилась в них в атмосфере немецкого романтического эк-
зистенциализма 1920-х гг. В некотором смысле их доводы
уходят корнями в споры между Марксом и младогегельян-
цами в 1840-е гг.; тем не менее поставленные ими проблемы
актуальны сегодня как никогда. Базовая предпосылка в том,
что Маркс некритично восхваляет ценность труда и произ-
водства и не принимает во внимание другие виды челове-
ческой деятельности и способов бытия, которые не менее
важны.* Другими словами, здесь Марксу в упрек ставится
неспособность к моральному воображению.
Самая колкая критика Маркузе помещена в «Эросе и ци-
вилизации», где присутствие Маркса очевидно на каждой
странице, но странным образом он нигде не упоминается
по имени. Однако в пассажах вроде того, что цитируется
ниже, где атакуется любимый культурный герой Маркса,
Прометей, очевидно, что именно подразумевается между
строк:
В Прометее мы находим культурного героя тяжелого труда, про-
изводительности и прогресса посредством репрессии ‹...› Плут
и (страдающий) богоборец, который создает культуру ценой веч-
ной муки. Он символизирует производительность и неутолимую
жажду к овладению жизнью. ‹...› Прометей — герой-архетип прин-
ципа производительности.
«бунт Третьего мира... деградировал бы в различные варианты безумного
цезаризма или томился под гнетом одновременно циничных и пропитан-
ных идеологией бюрократий». — П рим. авт.
* Эта критика может быть лучше всего резюмирована ремаркой
Т. Адорно (которую он так и не опубликовал) о том, что Маркс хотел
превратить весь в гигантскую фабрику.22
— П рим. авт.
163
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Далее Маркузе называет альтернативных мифологических
персонажей, которые, как он считает, более заслуживают
идеализации: Орфея, Нарцисса и Диониса — а также Бодлера
и Рильке, которых Маркузе считает их модерными жрецами.
Они возвращают опыт мира, который не завоевывается, а осво-
бождается, опыт свободы, которая должна пробудить силу Эроса,
связанного репрессивными и окаменевшими формами отношений
между человеком и природой. ‹...› Оправдание удовольствия, уход
от времени, забвение смерти, тишина, сон, ночь, рай — принцип
нирваны как жизнь.23
Прометеев / Марксов взгляд не может уловить удоволь-
ствий спокойствия и пассивности, чувственной вялости, ми-
стического экстаза, состояния единения с природой, а не хо-
зяйского господства над ней.
В этом что-то есть — определенно, luxe, calme et volupté * да-
леки от центральной части Марксова творчества,— но в мень-
шей степени, чем могло бы показаться на первый взгляд. Если
Маркс что-то и фетишизирует, то не труд и производство, но,
скорее, куда более сложный и всеобъемлющий идеал раз-
вития — свободное развитие физической и духовной энергии
(Экономическо-философские рукописи 1844 года), «развитие
определенной совокупности способностей у самих индиви-
дов» («Немецкая идеология»), «свободное развитие каждого
является условием свободного развития всех» («Манифест»),
«универсальность потребностей, способностей, средств по-
требления, производительных сил и т. д .» (Экономические
рукописи 1857–1861 гг.), «всесторонне развитый индивид»
(«Капитал»). Опыт и человеческие качества, о важности ко-
торых говорит Маркузе, определенно входят в этот список,
хотя и нет гарантий, что они его бы возглавили. Маркс хочет
охватить Прометея и Орфея; он полагает, что за коммунизм
* Роскошь, покой и наслаждение (фр.) . Так называется одна из картин
Анри Матисса. — Прим. пер.
164
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
следует сражаться, потому что впервые в истории у людей
есть возможность прийти и к тому, и к другому. Он мог бы так-
же сказать, что лишь на фоне прометеевской борьбы мораль-
ную или психическую силу приобретает орфический экстаз;
«luxe, calme et volupté» сами по себе скучны, как это хорошо
понимал Бодлер.
Наконец, Маркузе важно заявить, как всегда заявляла
Франкфуртская школа, идеал гармонии между человеком
и природой. Но для нас в равной степени важно понять,
что каким бы ни было конкретное содержание этого баланса
и гармонии — вопрос этот сам по себе весьма сложен,— потре-
буется огромное количество прометеевской энергии и борь-
бы, чтобы его создать. Более того, даже если бы его можно
было создать, его все равно надо было бы под держивать;
и, учитывая динамизм модерной экономики, человечеству
пришлось бы непрерывно работать — подобно Сизифу, но
постоянно пытаясь выработать новые меры и средства,—
чтобы не дать неустойчивому балансу исчезнуть и растаять
в грязном воздухе.
В «Vita activa, или О деятельной жизни» Арендт понимает
нечто, что обычно упускают либеральные критики Маркса:
настоящая проблема его мысли — не драконовский автори-
таризм, а его радикальная противоположность — отсутствие
базиса для какой-либо власти вообще. «Маркс верно, хотя
и с неоправданным удовлетворением, предсказал „отмира-
ние» публичной сферы при условии несдерживаемого разви-
тия «производительных сил общества“». Члены его коммуни-
стического общества, по иронии судьбы, окажутся «в плену
у потребностей и желаний, в которых никто не участвует
и которые никому невозможно вполне передать». Арендт
осознает глубину индивидуализма, который лежит в основе
Марксова коммунизма, и понимает также нигилистические
направления, к которым может повести этот индивидуализм.
В коммунистическом обществе, где свободное развитие каж-
дого является условием свободного развития всех, что удер-
жит вместе свободно развивающихся индивидов? Они могут
165
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
разделять общее стремление к бесконечному богатству опы-
та; но при этом «никакой публичной сферы в собственном
смысле не может быть, а будет только публично выстав-
ленная на обозрение частная». Подобное общество вполне
может ощущать нечто вроде коллективной бесполезности:
«эфемерности жизни, которая ‹...› не утверждает и не осу-
ществляет себя ни в каком постоянном субстрате, способном
еще существовать когда трудовое усилие прекратилось».24
Эта критика Маркса ставит доподлинную и насущную че-
ловеческую проблему. Но Арендт подходит к ее разреше-
нию не ближе, чем сам Маркс. Здесь, как и во многих своих
работах, она развивает блестящую риторику о публичной
жизни и деятельности, но совершенно не проясняет, из чего
эта жизнь и деятельность будут состоять — не считая того,
что политическая жизнь не должна включать то, что люди
делают каждый день, их труд и производство (они отнесе-
ны к «заботам домохозяйства», субполитической области,
которая, полагает Арендт, лишена способности создавать
человеческие ценности). Арендт нигде не проясняет, что,
помимо возвышенной риторики, могут или должны разде-
лять модерные люди. Она права, когда говорит, что Маркс
не разработал теорию политического сообщества, и права
в том, что это серьезная проблема. Но проблема в том, что
из-за нигилистического направления модерного личност-
ного и общественного развития, совершенно неясно, какие
политические узы могут создать модерные люди. Потому
проблема мысли Маркса — это проблема, пересекающая всю
структуру самой модерной жизни.
Я показал, что тем из нас, кто наиболее критично настроен
к модерной жизни, модернизм нужен более всего, чтобы по-
казать, где мы находимся и как можно начать изменять обстоя-
тельства нашей жизни и нас самих. Пытаясь нащупать отправ-
ную точку, я возвратился к одному из первых и величайших
модернистов — Карлу Марксу. К нему я обратился не столько
ради ответов, сколько ради вопросов. Мне кажется, великий
дар, который мы можем получить у него сегодня — это не путь
166
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
к выходу из противоречий модерной жизни, но более уве-
ренный и глубокий путь внутрь этих противоречий. Он знал,
что путь за пределы противоречий должен был провести нас
через модерность, а не вывести из нее. Он знал, что мы долж-
ны начать там, где мы сейчас: нагие, лишенные всех рели-
гиозных, эстетических, моральных ореолов и сентименталь-
ных покровов, вернувшиеся к нашей индивидуальной воле
и энергии, вынужденные эксплуатировать друг друга и самих
себя, чтобы выжить; и все же, несмотря на это, собранные
вместе теми же силами, которые нас разъединяют, смутно
понимающие, чем мы можем стать вместе, готовые протя-
нуться к новым человеческим возможностям, развить иден-
тичности и взаимные связи, которые помогут нам сплотиться
под жаркими и леденящими порывами ветра модерности.
[167]
БОДЛЕР:
МОДЕРНИЗМ
НА УЛИЦЕ
А теперь представьте себе Париж ‹...› Представьте себе эту «сто-
лицу мира»... где на любом углу разыгрывались события мировой
истории.
Гете — Эккерману, 3 мая 1827 года *
Не просто изображением обычной жизни, не просто изображени-
ем омерзительной жизни великой столицы мира, но доведением
этих картин до высшего напряжения,— когда они выражают то,
что есть, но также и нечто помимо этого,— создал Бодлер способ
освобождения и выражения для других.
Т. С . Элиот, «Бодлер», 1930
ВПОСЛЕДНИЕ три десятилетия огромное количество
энергии по всему миру было потрачено, чтобы иссле-
довать и распутать смыслы модерности. Значительная
часть этой энергии распылилась ошибочно и безнадежно.
Наше представление о модерной жизни, как правило, су-
ществует раздельно в материальной и духовной плоско-
стях: некоторые посвящают себя «модернизму», который
считают образцом чистого духа, развивающимся согласно
* Пер. Н. Ман.— Прим. пер.
168
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
его автономным художественным и интеллектуальным им-
перативам; другие работают в рамках концепции «модер-
низации» — комплекса материальных структур и процессов
(политических, экономических, социальных), которые, как
считается, однажды начавшись, двигаются сообразно соб-
ственной динамике, вовсе или почти не предусматривающей
влияния человеческих умов или душ. Этот дуализм, везде-
сущий в современной культуре, отрезает всех нас от одного
из повсеместно наблюдаемых фактов модерной жизни: сме-
шения ее материальных и духовных сил, глубокого единства
модерной личности и модерной среды. Но первая великая
волна авторов и мыслителей, писавших о модерности,— Гете,
Гегель и Маркс, Стендаль и Бодлер, Карлейль и Диккенс,
Герцен и Достоевский,— инстинктивно чувствовала это един-
ство; их образам присущи богатство и глубина, которыми,
к сожалению, обделены современные тексты о модерности.
Центральная фигура этой главы — Бодлер, который более
чем кто-либо помог мужчинам и женщинам своего времени
осознать себя представителями модерности. Модерность,
модерная жизнь, модерное искусство — эти понятия бес-
престанно появляются в работах Бодлера; два его великих
эссе — короткое «О героизме в современной жизни» и более
длинное «Поэт современной жизни» (1859–60 гг., опублико-
вано в 1863) — задали направление целого столетия искусства
и мысли. В 1865 году, когда тяжело больной Бодлер жил
в бедности и безвестности, молодой Поль Верлен пытал-
ся пробудить к нему интерес, называя причиной его вели-
чия концепцию модерности: «Глубочайшая оригинальность
Шарля Бодлера кроется, на мой взгляд, в его манере пред-
ставлять современного человека. ‹...› Речь здесь идет о со-
временном человеке из плоти и крови, который был создан
изысками нашей цивилизации, о современном человеке с его
обостренными и вибрирующими чувствами, с его изощрен-
ным умом, с его мозгом, напитанным табаком, с его кровью,
воспламененной алкоголем. ‹...› Эту, так сказать, индивиду-
альность чувств Шарль Бодлер, я повторяю, представляет
169
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
в типическом аспекте, выводя, если угодно, героя века».1
Два года спустя поэт Теодор де Банвиль развил эту тему
в трогательной траурной речи у могилы Бодлера:
Он принял модерного человека целиком, с его с лабостями, наде-
ждами и отчаянием. Так он смог придать красоту образам, которые
сами по себе не обладают красотой, не окрасив их романтикой, но
осветив ту часть человеческой души, что в них скрыта; так он пока-
зал печальное и зачастую трагическое сердце модерного города.
Вот почему он занимал и всегда будет занимать умы модерных
людей и трогать их души, в то время как к другим художникам
они остаются холодны. 2
За столетие, последовавшее за смертью Бодлера, слава
его выросла, как и предсказывал Банвиль: чем более за-
падная культура интересуется модерностью, тем более мы
ценим оригинальность и смелость Бодлера как ее пророка
и первопроходца. Если бы нам надо было назвать первого
модерниста, мы безусловно выбрали бы Бодлера.
Однако при этом отличительное свойство многих его текстов
о модерной жизни и искусстве — поразительная неуловимость
предложенного им понимания модерного, которое сложно од-
нозначно установить. Возьмем, например, один из самых из-
вестных отрывков «Поэта современной жизни»: «Новизна со-
ставляет переходную, текучую, случайную сторону искусства;
вечное и неизменное определяет другую его сторону». Худож-
ник (романист, философ) современной жизни сосредотачивает
свое воображение на ее «моде, нормах поведения, страстях»,
на «вечности, отраженной в преходящем». Это понимание
модерности подразумевало выпад против фиксации на клас-
сике, которая господствовала во французской культуре. «Мы
удивимся общей для всех художников склонности изображать
своих персонажей в старинной одежде». Из-за бесплодной
веры в то, что архаичные платья и жесты порождают вечные
истины, французское искусство погружено «в пустоту аб-
страктной и безличной красоты» и лишено «оригинальности»,
170
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
которая может появиться лишь из «печати, которую накла-
дывает на наши ощущения время».* Можно понять, к чему
ведет здесь Бодлер; но этот чисто формальный, уникальный
для каждого периода, критерий модерности, на самом деле,
отдаляет его от конечной точки. Согласно этому критерию,
говорит Бодлер, «каждый из мастеров прошлого отражал свое
время» в той мере, в какой он улавливает образ и ощущения
своей собственной эпохи. Но это лишает идею модерности
всего ее особого значения, конкретно-исторического содер-
жания. Любое время становится «современным»; парадок-
сальным образом, расширяя модерность на всю историю, мы
отказываемся от особых качеств нашей собственной модер-
ной истории.3
Первый категорический императив бодлеровского модер-
низма заключается в том, чтобы ориентироваться на первич-
ные силы модерной жизни; но Бодлер не сразу проясняет
здесь, что это за силы и как нам следует к ним относиться.
Тем не менее, если разобрать его труды, то можно обнару-
жить, что они содержат несколько различных представлений
о модерности. Порой эти представления, кажется, жестко
противоречат друг другу, и Бодлер будто бы не всегда улав-
ливает напряжение между ними. Тем не менее изображает
их он с живостью и с блеском, зачастую — с большой ори-
гинальностью и глубиной. Более того, все бодлеровы пред-
ставления о модерности и вся его противоречивая критика
* В те же годы Маркс поразительно созвучно жаловался на фиксацию
левой политики на к лассике и античности: «Традиции всех мертвых поко-
лений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди
как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее
и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных
кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на
помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, ко-
стюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимство-
ванном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории». (Маркс К.,
Энгельс Ф. Полн. собр. соч. Т. 8. С . 119.) — Прим. авт.
171
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
в ее отношении живут собственной жизнью и в наше время,
много лет спустя после его смерти.
Настоящее эссе открывается самой простой и некрити-
ческой из бодлеровых интерпретаций модерности: лири-
ческими воспеваниями модерной жизни, которые создали
характерную пастораль модерна, и неистовыми обвинени-
ями в ее адрес, которые дали начало модерным формам
антипасторали. Пасторальные представления Бодлера о мо-
дерности будут разработаны уже в наше столетие и будут
названы «модернолатрией»; его антипасторали станут тем,
что в XX веке получит имя «разочарования в культуре».4
Затем мы отойдем от этих ограниченных образов и посвятим
большую часть эссе более глубокой и интересной — хотя,
возможно, менее известной и влиятельной — перспективе
Бодлера, которая не признает никаких окончательным ре-
шений, будь то эстетических или политических, которая сме-
ло борется с собственными внутренними противоречиями
и может осветить модерность не только времен Бодлера,
но и наших лет.
1. ПАСТОРАЛЬНЫЙ И АНТИПАСТОРАЛЬНЫЙ
МОДЕРНИЗМ
Начнем с модерной пасторали Бодлера. Самая ранняя
версия ее появляется в предисловии к «Салону 1846 года»,
где он критически обозревает новое искусство, представ-
ленное в том году. Предисловие озаглавлено «Обращение
к буржуа».5 Современный читатель, который привык думать
о Бодлере как о заклятом непрестанном враге буржуазии
и всех ее свершений, будет весьма удивлен.6 Здесь Бод-
лер не только хвалит буржуа, но даже льстит им, их интел-
лекту, силе воли и творческому началу в промышленности,
торговле и финансах. Не до конца ясно, кто, по его мне-
нию, составляет этот класс: «Вас большинство — и числом
и способностями,— за вами сила и, следовательно, право».
Если буржуазия составляет большую часть населения, то что
172
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
с рабочим классом, не говоря уже о крестьянстве? Однако
надо помнить, что мы находимся в пасторальном мире. Ког-
да буржуазия осуществляет здесь огромные предприятия,—
«вы объединили усилия, вы создали компании, вы прибегли
к займам»,— делает она это не для того, как некоторые мог-
ли бы подумать, чтобы заработать много денег, но с куда
более благородной целью: «дабы содействовать осущест-
влению идей будущего в самых различных его аспектах —
в политике, промышленности, искусстве». Здесь основной
мотив буржуа — это стремление к бесконечному прогрессу
человечества, не только экономическому, но повсеместно-
му, распространяющемуся в равной степени и на сферы
политики и культуры. Бодлер взывает к тому, что он считает
врожденной созидательностью и универсальностью их ми-
ровосприятия: раз их воодушевляет стремление к прогрессу
в промышленности и политике, бездействовать при виде
застоя в искусстве будет недостойно их чести.
Как и Милль поколение спустя (и даже Маркс в «Манифе-
сте Коммунистической партии»), Бодлер апеллирует к вере
буржуазии в свободную торговлю и требует, чтобы этот
идеал распространился на сферу культуры: как юридиче-
ски закрепленные монополии (предположительно) мешают
экономической жизни и энергии, так и «аристократы мысли,
те, кто присвоил себе исключительное право хвалить или
хулить» будут душить жизнь духа и лишать буржуазию бога-
тых источников модерного искусства и мысли. Вера Бодлера
в буржуазию отрицает более темные порывы, скрытые за
ее экономическими и политическими побуждениями — потому
я и называю его представление пасторальным. Тем не менее
наивность «Обращения к буржуа» проистекает из замеча-
тельной открытости и щедрости духа. Она не пережила — не
могла пережить — июнь 1848 и декабрь 1851 года; но очаро-
вательно, что она все же была у столь горестной души как
Бодлер. В любом случае, это пасторальное представление
провозглашает естественную близость между модернизацией
материальной и духовной; оно подразумевает, что группы,
173
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
наиболее динамичные и инновационные в экономической
и политической жизни, окажутся наиболее открыты к интел-
лектуальному и художественному творчеству — будут «содей-
ствовать осуществлению идей будущего в самых различных
его аспектах»; это представление считает, что и экономиче-
ские, и культурные изменения не привносят проблем в общий
прогресс человечества.7
Написанное в 1859–1860 гг. эссе Бодлера «Поэт совре-
менной жизни» рисует совсем иную пастораль: здесь мо-
дерная жизнь представляется в виде огромного показа мод,
системы ярких образов, блестящих фасадов, великолепных
триумфов декора и дизайна. Герои этого зрелища — худож-
ник и иллюстратор Константен Гис, а также архетипическая
Бодлерова фигура Денди. В мире, который рисует Гис, зри-
тель «любуется ‹...› поразительной гармонией жизни боль-
ших городов, гармонией, которая чудом сохраняется среди
шумного хаоса человеческой свободы». Читатели, знакомые
с Бодлером, удивятся этим словам в духе доктора Панглос-
са; становится интересно, а в чем же шутка, но затем мы
с разочарованием осознаем, что ее нет. «Желая еще раз
определить излюбленные сюжеты нашего художника, я бы
сказал, что он предпочитает отображать праздничную сто-
рону жизни [la pompe de la vie], какой она предстает взору
в столицах цивилизованных стран — в мире военных, в свет-
ском обществе, в любви [La vie militaire, la vie elegante, la
vie galante]». Если мы обратимся к сделанным Гисом жур-
нальным зарисовкам «красивых людей» и их мира, то уви-
дим лишь массу стильных костюмов, заполненных безжиз-
ненными манекенами с пустыми лицами. Однако художник
не виноват в том, что его искусство больше всего похоже
на рекламу Bonwit или Bloomingdale’s.* По-настоящему пе-
чально, что Бодлер написал не одну страницу прозы, кото-
рая чрезвычайно им подходит.
* Bonwit (ликвидирована в 1990 г.) и Bloomingdale’s — нью -йоркские
сетевые магазины дорогой одежды, основанные в XIX в. — П рим. пер.
174
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Все вызывает в нем радость: роскошные экипажи, горделивые
лошади, вылощенные грумы, проворные лакеи, гибкая поступь
женщин, здоровые, веселые, нарядные дети — словом, он насла-
ждается зрелищем жизни. И если слегка изменилась мода или
покрой одежды, если банты и пряжки уступили место кокардам,
ес ли чепец стал шире, а узел волос на затылке чуть-чуть опустил-
ся, ес ли пояса стали носить выше, а юбки сделались пышнее, то,
поверьте, его орлиный глаз тотчас приметил это еще издалека.8
Если это есть, как говорит Бодлер, «зрелище жизни», то
что же тогда зрелище смерти? Поклонники поэта пожалеют
о том, что, написав текст, ничем не отличающийся от рекламы,
он не смог получить за него оплаты (деньгам он мог бы найти
применение, хотя, конечно, ради них никогда бы подобного
не сделал). Однако эта пастораль важна не только для карье-
ры самого Бодлера, но и для столетия развития модерной
культуры, что отделяет его время от нашего. Большой кор-
пус модерных текстов, зачастую написанных серьезнейши-
ми авторами, в изрядной степени похож на рекламу. Данный
текст усматривает воплощение всей духовной траектории мо-
дерности в новейшей моде, новейшей машине или — и здесь
он становится жутковатым — в новейшем образцовом полку.
Проходит полк, направляясь, быть может, на другой конец света,
он наполняет окрестные улицы певучими звуками фанфар, маня-
щими как надежда, а г-н Г. уже оглядел внимательным и зорким
оком и оружие и выправку солдат, вник в их настроение. Конская
сбруя, искрящийся блеск, музыка, воинственные взгляды, боль-
шие, важные усы — все это вперемежку входит в его сознание,
а несколько минут спустя уже начинает превращаться в поэзию.
Душа его сливается воедино с душой этих солдат, шагающих
словно одно существо,— гордый символ радости, рожденной по-
виновением! 9
Эти солдаты убили 25 000 парижан в июне 1848 года
и расчистили путь для Наполеона III в декабре 1851 года.
175
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
В обоих случаях Бодлер выходил на улицу, чтобы сражаться
против людей, чья животная «радость в повиновении» сей-
час так его зачаровывает — и которые запросто могли убить
его. 10 Приведенный выше пассаж напоминает нам о том факте
модерной жизни, о котором легко могут позабыть люди, из-
учающие искусство и поэзию: об огромном (как психологи-
ческом, так и политическом) значении военных смотров и их
способности пленять даже самые свободные умы. Со времен
Бодлера парады играют центральную роль в пасторальном
представлении о модерности: великолепная техника, бро-
ские цвета, поток рядов, быстрые и грациозные движения —
модерность без слез.
Возможно, самая странная особенность пасторальных
представлений Бодлера — она олицетворяет его извращен-
ное чувство иронии, но также и его замечательную цель-
ность — состоит в том, что эти представления не включают его
самого. Эти улицы очищены от всех социальных и духовных
диссонансов парижской жизни. Буйной природе, боли, тоске
самого Бодлера,— а также всем его творческим достижениям
в изображении того, что Банвиль назвал «модерным чело-
веком целиком, с его слабостями, его чаяниями и отчаяни-
ем»,— в этом мире совершенно нет места. Следует понимать,
что когда Бодлер выбирает в качестве архетипа «художника
современной жизни» Константена Гиса вместо Курбе, Домье
или Мане (всех которых он знал и любил), дело не просто
в нехватке вкуса, но в глубоком отвержении и принижении
себя самого. Его обращение к Гису при всей своей убогости
говорит о модерности нечто истинное и важное: она спо-
собна порождать формы «внешнего зрелища», великолеп-
ную внешность, эффектные спектакли — столь яркие, что они
могут ослепить даже самые проницательные умы, не дав им
узреть внутренний мрак.
Самый яркий антипасторальный образ модерности у Бод-
лера относится к концу 1850-х годов, к тому же периоду, когда
был написан «Поэт современной жизни»: если между двумя
этими представлениями и имеется противоречие, Бодлер его
176
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
совершенно не замечает. Антипасторальная тема возника-
ет впервые в 1855 году в эссе «О современном понимании
прогресса применительно к изобразительному искусству».11
Здесь Бодлер использует знакомую реакционную риторику,
чтобы высмеять не только модерную идею прогресса, но
и модерный образ мышления в целом:
Существует одно ходячее заблуждение, которого я боюсь как
огня. Я имею в виду идею прогресса. Это изображение нынеш-
ней ложной философии запатентовано без гарантии со стороны
Природы или Божества, этот новомодный фонарь — лишь тусклый
светильник, изливающий мрак на все области познания. С его
приближением никнет свобода, возмездие исчезает как дым. Тот,
кто хочет осветить путь истории, должен прежде всего потушить
этот коварный фонарь. Нелепая идея прогресса, расцветшая на
гнилой почве нынешнего самодовольства, сняла с нас бремя нрав-
ственного долга, избавила души от груза ответственности, осво-
бодила волю от всех уз, которые нак ладывало на нее стремление
к совершенству. ‹ ...› Такое самоуспокоение само по себе является
симптомом уже вполне зримого упадка.
Здесь красота представляется чем-то статичным, неизмен-
ным, полностью внешним к личности, что требует непреклон-
ного повиновения и карает строптивых модерных субъектов,
уничтожает все формы Просвещения, функционирует в каче-
стве полиции духа на службе контрреволюционных Церкви
и Государства.
Бодлер прибегает к этой высокопарной реакционной фра-
зеологии, потому что его беспокоит смешение «понятий ма-
териального и духовного порядка», которое все более наса-
ждают модерные небылицы о прогрессе. Так,
спросите у любого благонамеренного француза, завсегдатая свое-
го кафе, где он каждый день читает свою газету, как он представ-
ляет себе прогресс. Он ответит, что прогресс — это пар, электриче-
ство и газовое освещение — неведомые римлянам чудеса; что эти
177
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
изобретения исчерпывающе доказывают наше превосходство над
античным миром. Какой же мрак царит в его замороченном мозгу!
Бодлер очень рационально борется против путаницы меж-
ду материальным и духовным прогрессом — путаницы, кото-
рая сохраняется в наш век и особенно свирепствует в пери-
оды экономического бума. Но тут он превращается в это же
чучело из кафе, когда перескакивает на противоположный
полюс и определяет искусство, кажется, совершенно вне его
связи с материальным миром:
Бедняга настолько сбит с толку и американизирован зоократиче-
ской и индустриальной философией, что начисто утратил пред-
ставление о различии между миром физическим и миром нрав-
ственным, между естественным и сверхъестественным.
Этот дуализм чем-то похож на кантианское разделение но-
уменальной и феноменальной сфер, но идет он куда дальше
Канта, для которого ноуменальный опыт и деятельность — ис-
кусство, религия, этика — все же существуют в материальном
мире, во времени и пространстве. Совершенно неясно, где
или на какую тему мог бы творить этот бодлеровский худож-
ник. Бодлер идет дальше: он отделяет своего художника не
только от материального мира пара, электричества и газа,
но даже и от всей прошлой и будущей истории искусства.
Так, говорит он, вредна даже сама мысль о предшествен-
никах художника или о влиянии на него. «Всякое цветение
неожиданно и неповторимо. ‹ ...› Художник исходит только
из самого себя. ‹...› Он может поручиться только за себя.
Он умирает, не оставляя потомства. Пока он жил, он был
сам себе и государем, и духовником, и богом».12 Бодлер
ныряет в трансцендентность, оставив Канта далеко поза-
ди: художник превращается в ходячую вещь в себе, Ding-
an-sich. Таким образом, в переменчивом и парадоксальном
восприятии Бодлера антипасторальный образ модерного
мира порождает удивительно пасторальное представление
178
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
о модерном художнике, свободно плывущим над этим миром,
не соприкасаясь с ним.
Впервые обрисованный здесь дуализм (антипасторальное
представление о модерном мире и пасторальное — о модер-
ном художнике и искусстве) Бодлер расширяет и углубляет
в знаменитом эссе 1859 года «Современная публика и фото-
графия».13 Оно начинается с жалоб на то, что «исключительное
стремление к отображению Реального (столь благородное,
когда оно ограничено разумным применением) подавляет
и душит стремление к Прекрасному». Это риторика баланса,
которая не терпит взаимоисключающих крайностей: истина
важна, однако она не должна подавлять стремление к кра-
соте. Однако чувство сбалансированности длится недолго:
«Там, где следует видеть только Прекрасное (нетрудно уга-
дать, какую живопись я имею в виду), наша публика ищет
только сходства с Реальным». Так как фотография способна
воспроизводить реальность — показывать «Реальное» — бо-
лее точно, чем когда-либо ранее, это новое изобретение
становится «смертельным врагом искусства»; и в той мере,
в какой развитие фотографии есть продукт технологическо-
го прогресса, «поэзия и материальный прогресс подобны
двум честолюбцам, инстинктивно ненавидящим друг друга,
и, когда они сталкиваются на одной дороге, один из них
неизбежно порабощает другого».
Но в чем причины этой смертельной вражды? Почему
наличие «Реального» в произведении искусства подрывает
или уничтожает его красоту? Очевидный ответ, в который
Бодлер верит (по крайней мере, сейчас) столь отчаянно, что
даже не находит нужным ясно его выразить: Реальное мо-
дерности в высшей степени омерзительно, лишено не толь-
ко красоты, но даже потенции обрести ее. Категорическое,
граничащее с истерикой презрение к модерным людям и их
жизни сквозит в подобных утверждениях: «В своем идолопо-
клонстве толпа создала достойный себя и соответствующий
своей природе идеал». С момента появления фотографии
«все это скопище мерзких обывателей ринулось, подобно
179
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
Нарциссу, разглядывать свои заурядные физиономии, запе-
чатленные на металле». Серьезное критическое рассужде-
ние Бодлера об изображении реальности здесь уродуется
некритичным отвращением к реальным модерным людям
вокруг него. Это вновь приводит его к пасторальному по-
ниманию искусства: «Я нахожу бесполезным и скучным изо-
бражать реальность, ибо ничто в этой реальности меня не
удовлетворяет. Тривиальной действительности я предпочи-
таю порождения моей фантазии, пусть даже чудовищные».
Еще хуже фотографов, пишет Бодлер, модерные худож-
ники, которые находятся под влиянием фотографии: мо-
дерный художник «все более склоняется писать не то, что
подсказывает ему воображение, а то, что видят его глаза».
Пасторальным и некритичным этот взгляд делают радикаль-
ный дуализм и полное непонимание того, что то, о чем ху-
дожник (или человек вообще) мечтает и то, что он видит,
могут образовывать насыщенные и сложные отношения,
влиять друг на друга и смешиваться друг с другом.
Выпады Бодлера против фотографии оказали огромное
влияние на формирование особого вида эстетического мо-
дернизма, который в нашем столетии можно наблюдать
повсеместно — например, у Паунда, Уиндема Льюиса и мно-
жества их последователей,— и который предполагает посто-
янные нападки на модерных людей и их жизнь, в то время как
модерных творцов и их произведения превозносят до небес,
не задумываясь о том, что они могут быть куда человечнее
и причастнее к la vie moderne,* чем хотелось бы думать.
Другие художники XX века, такие как Кандинский и Мондри-
ан, создали изумительные работы, мечтая о дематериали-
зованном, лишенном условностей «чистом» искусстве. (На-
писанный в 1912 году манифест Кандинского «О духовном
в искусстве» полон отсылок на Бодлера). Но, увы, творец,
которому совершенно нет места в этом образе — сам Бодлер.
Ведь его поэтический гений, его творения — точно так же, как
* Модерная жизнь (фр.). — П рим. пер.
180
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
у любого другого поэта до или после него,— связаны с кон-
кретной материальной реальностью: ежедневной и еженощ-
ной жизнью улиц, кафе, подвалов и чердаков Парижа. Даже
его представления о трансцендентном коренятся в конкрет-
ном времени и месте. Как от предшественников-романтиков,
так и от последователей, символистов и поэтов XX века, Бод-
лера отличает одна деталь: то, о чем он мечтает, вдохновлено
тем, что он видит.
Бодлер должен был это знать, по крайней мере, бессоз-
нательно; всякий раз отделяя искусство от модерной жизни,
он вновь стремится объединить их в дальнейшем. Потому
посреди эссе 1855 года о прогрессе он останавливается, что-
бы рассказать историю, которую называет «превосходным
уроком для критиков»:
Зная, с каким почтением выслушивают люди любой, самый неза-
дачливый анекдот, касающийся великого гения Бальзака, я напом-
ню один из них. Однажды, задержавшись перед хорошей картиной,
изображавшей печальный зимний пейзаж с редкими, покрытыми
инеем домишками и тощими фигурами крестьян, Бальзак долго
разглядывал одну из лачуг и тонкую струйку дыма над ее кры-
шей и вдруг воскликнул: «До чего же это прекрасно! Но хотелось
бы мне знать, что делают люди в этой хижине? О чем они по-
мышляют, каковы их заботы? Хорош ли был урожай? Наверняка
их мучают сроки арендной платы!» [курсив Бодлера — прим. авт.]
Урок Бодлера, который мы более тщательно изучим в сле-
дующем разделе этого эссе, в том, что модерная жизнь обла-
дает своеобразной и подлинной красотой, которая, однако,
неотделима от невзгод и тревог, от сроков по счетам модер-
ного человека, которые всегда поджимают. Парой страниц
ниже, во время самодовольного разгрома модерных идио-
тов, мнящих, что они способны к духовному прогрессу, он
внезапно становится серьезен и резко переходит от пол-
ной уверенности в иллюзорности модерной идеи прогресса
к тревоге из-за мысли о возможности этого прогресса. Здесь
181
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
он кратко и блестяще рассуждает о настоящем ужасе, кото-
рый сеет прогресс:
Я оставляю в стороне вопрос о том, не рискует ли неограничен-
ный прогресс, непрерывно угождая человечеству и изнеживая
его, обернуться в результате самой изощренной и жестокой его
пыткой? Постоянно отрицая свои собственные достижения, не
обратится ли прогресс в некое непрерывно возобновляемое са-
моубийство? Замкнутая в огненном кольце божественной логики,
способная порождать лишь вечное отчаяние, не уподобится ли
эта вечная и ненасытная жажда скорпиону, жалящему самого себя
смертоносным хвостом? 14
Здесь Бодлер отчаянно личный, однако приближается
к универсальности. Он борется с парадоксами, которые
затрагивают и разъяряют всех модерных людей, окутывают
их политические отношения, экономическую деятельность,
самые сокровенные желания и любое искусство, которое
они создают. Этому отрывку присуще живое напряжение
и возбужденность, они воспроизводят модерную среду, ко-
торая здесь описана; читатель, который доходит до конца,
чувствует, будто он словно побывал где-то в другом месте.
Вот на что похожи лучшие размышления Бодлера о модер-
ности, известные куда меньше, чем пасторальные. Теперь
мы готовы погрузиться в них.
2. ГЕРОИЗМ МОДЕРНОЙ ЖИЗНИ
В самом конце «Салона 1845 года» Бодлер жалуется на то,
что художники его дней слишком невнимательны к настоя-
щему, но «между тем героика современной жизни обступает
и теснит нас со всех сторон». Он продолжает:
И сюжеты и краски — все это всегда в избытке у эпических эпох.
Но истинным художником будет тот, кто сумеет разглядеть и показать
нам эпическое в современной жизни посредством красок и линий
182
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и убедит нас , что мы не чужды величия и поэзии, несмотря на гал-
стуки и лакированные ботинки. Так пусть же в будущем году под-
линные искатели доставят нам несравненную радость новизны! 15
Мысли эти пока едва развиты, но здесь следует отметить
два момента. Во-первых, иронию Бодлера в пассаже о «галс-
туках»: некоторые считают, что упоминание героизма в одном
ряду с галстуками — это шутка; так и есть, но шутка именно
в том, что люди модерности наделены героизмом несмотря
на отсутствие его атрибутики; они тем более героичны, что их
тела и души не имеют соответствующего убранства.* Во-вто-
рых, тенденцию модерности превращать все в новое: на сле-
дующий год модерная жизнь будет выглядеть и ощущаться
иначе, нежели в этом; и хотя все это — составляющие одного
и того же периода, тот факт, что в модерность нельзя войти
дважды, делает ее особенно неопределенной и неуловимой.
Бодлер углубляется в модерный героизм годом позже
в одноименном коротком эссе.16 Здесь он более конкре-
тен: «„Газет де Трибюно“ и „Монитер“, развлекая читателей
картинками из жизни высшего света [la vie élégante] и бес-
порядочного существования тысяч обитателей городского
дна [souterrains] — преступников и продажных женщин,— убе-
ждают нас, что стоит только открыть пошире глаза, и перед
нами предстанет героизм наших современников». Мир моды
присутствует здесь в той же мере, что и в эссе о Гисе; толь-
ко здесь он определенно предстает в непасторальном виде,
связан с преисподней, с темными желаниями и деяниями,
с преступлением и наказанием; его человеческая глубина
* См. слова Бодлера в эссе о «Героизме...» о том, что черный или
серый костюм становится стандартным платьем модерного человека:
он обладает «не только политической красотой, отражающей всеобщее
равенство, но и красотой поэтической, отражающей душу общества».
Появление стандартизованной одежды — это неот ъемлемая деталь «на-
шей болезненной эпохи, чьи черные узкие плечи словно несут на себе
символ неизбывного траура». — П рим. авт.
183
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
волнует куда более, чем бледные обложки модных журналов
из «Поэта современной жизни». Важнейшая деталь модер-
ного героизма, как понимает его здесь Бодлер,— это прояв-
ление его в конфликте, в конфликтных ситуациях, которые
наполняют повседневную жизнь модерного мира. Бодлер
приводит примеры как из буржуазной, так и из великосвет-
ской жизни и жизни низов: героический политик, министр
правительства, в парламенте дает отпор оппозиции колкой
и бравурной речью, защищая себя и свою политику; герои-
ческий предприниматель, подобно бальзаковскому парфю-
меру Бирото, борется с призраком банкротства, пытаясь не
только восстановить свой банковский счет, но и свою жизнь,
всю идентичность своей личности; респектабельные мошен-
ники вроде Растиньяка, способные на своем пути наверх
на любые — как самые подлые, так и самые благородные —
поступки; Вотрен, который обитает на правительственных
высотах и в глубинах подземелья, демонстрируя интимную
близость двух этих métiers.* «Подобные слова, непроизволь-
но срываясь с наших уст, свидетельствуют о вере в новую
и особую красоту, далекую от красоты Ахилла или Агамем-
нона». И это так, как Бодлер говорит — при помощи ритори-
ки, которая гарантированно должна была привести в ярость
многих чувствительных французских читателей, воспитанных
на неоклассицизме,— «ибо герои „Илиады“ и в подметки не
годятся всем вам, о Вотрен, Растиньяк, Бирото, ‹...› и вам,
Оноре де Бальзак, самый героический, самый удивительный,
самый романтический и поэтический среди всех персонажей,
рожденных вашей творческой фантазией!» Вообще же совре-
менная парижская жизнь «богата поэтическими и чудесными
сюжетами. Чудесное обступает нас со всех сторон, мы вды-
хаем его вместе с воздухом, но глаза наши его не замечают».
Здесь надо отметить несколько важных моментов. Во-пер-
вых, широкое разнообразие симпатии и великодушия Бод-
лера, который так сильно отличается от привычного образа
* Ремесел (фр.). — П рим. пер.
184
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
авангардного сноба, не способного ни на что кроме насмешек
над обычными людьми и их страданиями. В этом контек-
сте мы должны отметить, что Бальзак, единственный худож-
ник в бодлеровской галерее модерных героев, не пытает-
ся дистанцироваться от обычных людей, но, скорее, смог
погрузиться в их жизнь глубже, чем какой-либо творец до
него, и создал образ скрытого героизма этой жизни. На-
конец, важно отметить образы текучести («беспорядочное
существование») и газообразности («обступает нас со всех
сторон, мы вдыхаем его вместе с воздухом»), которые Бод-
лер использует для обозначения отличительного свойства
модерной жизни. Текучесть и воздушность станут главными
качествами в непосредственно модернистской живописи, ар-
хитектуре, дизайне, музыке и литературе, которые появятся
в конце XIX века. Мы обнаружим их также у самых глубоких
мыслителей (из поколения Бодлера и более поздних), об-
ращавшихся к морали и социальному устройству,— Маркса,
Кьеркегора, Достоевского, Ницше,— для которых основопо-
лагающий факт модерной жизни заключается в том, что, как
заявляется в «Манифесте Коммунистической партии», «все
твердое растворяется в воздухе».
«Поэт современной жизни» Бодлера теряет силу из-за пас-
торального романа с пошлостью vie élégante. Тем не менее
он дает ряд ярких, захватывающих и совсем не пастораль-
ных представлений о том, что модерное искусство должно
стремиться запечатлеть в модерной жизни. Во-первых, го-
ворит он, модерный художник должен «жить вне дома и при
этом чувствовать себя дома повсюду, видеть мир, быть в са-
мой его гуще и остаться от него скрытым», прямо посреди
многолюдного мегаполиса. «Его страсть и призвание в том,
чтобы слиться с толпой» — «épouser la foule». Бодлер осо-
бенно подчеркивает этот странный, завораживающий образ.
Его художник, «движимый любовью к жизни мира», должен
проникнуть «в толпу, словно в исполинскую электрическую
батарею. ‹...› Он подобен наделенному сознанием калейдо-
скопу». Он должен выражать «движения, торжественные или
185
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
гротескные позы своих фигур и одновременно — образуемый
ими световой взрыв в пространстве».17 Электричество, калей-
доскоп, взрыв: модерное искусство должно воспроизводить
огромные трансформации материи и энергии, причиной ко-
торым стали модерная наука и технология — физика, оптика,
химия, инженерия.
Дело не в том, что художник должен использовать эти
инновации (хотя в своем эссе о фотографии Бодлер это одо-
бряет — хотя и требует, чтобы новые технологии занимали
подчиненное место). Настоящая задача модерного художни-
ка — возобновить эти процессы, вложить собственную душу
и чувства в эти трансформации и воплотить эти взрывные
силы в своих работах. Но как? Я не думаю, что Бодлер или
кто-либо другой в XIX веке имел четкое представление о том,
как это сделать. Сами эти образы стали реализовываться
только в начале XX века — в кубистской живописи, коллаже
и монтаже, кино, потоке сознания в литературе, свободном
стихе Элиота, Паунда и Аполлинера, футуризме, вортициз-
ме, конструктивизме, дадаизме, разгоняющихся подобно
машинам поэмах, взрывающейся словно бомба живописи.
Однако Бодлер знает кое-что, о чем стремятся забыть его
последователи-модернисты XX века. Это видно по особому
значению глагола épouser как первичного символа отноше-
ния между художником и людьми вокруг него. Используется
это слово в буквальном смысле («сочетаться браком») или
в переносном («заключить в страстные объятия»), оно вы-
ражает одно из самых привычных и универсальных челове-
ческих действий: оно, как поется в одной песне, заставляет
мир крутиться. Одна из фундаментальных проблем модер-
низма XX века — это утрата искусством связи с повседневной
жизнью. Конечно, это верно не для всего искусства,— самое,
возможно, яркое исключение это «Улисс» Джойса,— но в до-
статочной степени истинно, чтобы бросаться в глаза всяко-
му, кого заботит модерная жизнь и искусство. Для Бодлера,
однако, искусство, которое не слилось (épousé) с жизнями
мужчин и женщин в толпе, вовсе нельзя назвать модерным.
186
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Самые яркие и глубокие размышления о модерности Бод-
лера приходятся на период сразу после выхода «Поэта со-
временной жизни» в начале 1860-х годов и почти до самой
его смерти в 1867 году, когда он был слишком болен, чтобы
писать. Плоды этих размышлений содержатся в серии стихот-
ворений в прозе, которые он планировал издать под общим
заглавием «Парижский сплин». Бодлер не успел закончить
этот сборник, но завершил пятьдесят стихотворений, а также
вступление и эпилог; они вышли в 1868 году, почти сразу
после его смерти.
В серии блестящих статей о Бодлере и Париже Вальтер
Беньямин первым уловил огромную глубину и богатство этих
стихотворений.18 Вся моя работа не выходит за пределы рус-
ла, обозначенного Беньямином, хотя я и нахожу другие эле-
менты и составляющие. Его тексты о Париже изумительно
драматичны, удивительно похожи на игру Греты Гарбо в «Ни-
ночке». Сердце и чувства влекут его к ярким огням города,
красивым женщинам, моде, роскоши, игре ярких поверхно-
стей и ослепительных картин; в то же время марксистское
мировоззрение настойчиво отводит его от этих соблазнов,
сообщает ему, что весь блестящий мир упадочен, бессодер-
жателен, порочен, духовно пуст, угнетает пролетариат, при-
говорен историей. Раз за разом он выносит идеологические
суждения, чтобы побороть соблазн Парижа — и не искушать
им читателя,— но не может не бросить последний взгляд на
бульвар или в галерею; он хочет спастись, но не сейчас. Эти
внутренние противоречия, разыгранные страница за стра-
ницей, придают работе Беньямина ослепительную энергию
и пикантный шарм. Эрнст Любич, сценарист и режиссер
«Ниночки», вышел из того же мира берлинской еврейской
буржуазии, что и Беньямин, и тоже симпатизировал левым;
он оценил бы драматизм и шарм, но, несомненно, удосто-
ил бы их более счастливой развязки, нежели сам Беньямин.
Мой собственный труд в этом направлении менее убедите-
лен с драматической точки зрения, но, возможно, обладает
большей исторической связностью. Если Беньямин мечется
187
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
между полным слиянием модерной личности (Бодлера, его
самого) с модерным городом и полным отчуждением от него,
я попытаюсь схватить более постоянные течения метаболи-
ческого и диалектического потока.
В следующих двух параграфах я хочу детально и глубоко
прочитать два поздних бодлеровских стихотворения в прозе:
«Глаза бедняков» (1864) и «Потеря ореола» (1865).19 По ним
мы сразу поймем, почему Бодлера повсеместно считают од-
ним из величайших городских поэтов. В «Парижском сплине»
город Париж занимают центральное место в его душевной
трагедии. Здесь Бодлер продолжает великую традицию па-
рижской литературы, которая начинается с Вийона, проходит
через Монтескье и Дидро, Ретиф де ла Бретонна и Себа-
стьяна Мерсье, а в XIX веке включает в себя Бальзака, Гюго
и Эжена Сю. Однако Бодлер также выражает и радикальный
разрыв внутри этой традиции. Его лучшие парижские произ-
ведения сопряжены с конкретным историческим периодом,
когда при Наполеоне III под руководством Османа город
систематически разрушали и перестраивали. Когда Бодлер
работал в Париже, модернизация проходила совсем рядом,
над его головой, под его подошвами. Он не считал себя
простым наблюдателем этих работ, но участником и дей-
ствующим лицом; его парижские произведения наполнены
этим потрясением и травмой. Бодлер показывает нам то, что
он видит лучше любого другого писателя: как модернизация
города одновременно вдохновляет и усиливает модерниза-
цию душ его жителей.
Важно обратить внимание на то, в какой форме впервые
появились стихотворения «Парижского сплина»: то были фе-
льетоны, которые писались для ежедневной или еженедель-
ной массовой прессы Парижа. Эти фельетоны более-менее
эквивалентны редакционной колонке в сегодняшних газетах.
Обыкновенно они печатались на первой или центральной
странице, снизу или напротив передовицы, и предполагалось,
что читатель прочитает в первую очередь именно этот матери-
ал. Обыкновенно его писали люди со стороны в призывном
188
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
или задумчивом тоне, так что фельетон контрастировал с во-
инственностью передовицы — хотя текст могли выбрать и так,
чтобы (зачастую подсознательно) усилить полемические ар-
гументы редакции. Ко времени Бодлера фельетоны стали
крайне популярным городским жанром, их помещали в сот-
нях европейских и американских газет. Многие величайшие
писатели XIX века знакомили с собой широкую публикую
при помощи этой формы: в поколении, предшествовавшем
Бодлеру — Бальзак, Гоголь и По; в его собственном — Маркс
и Энгельс, Диккенс, Уитмен и Достоевский. Важно помнить,
что стихотворения в «Парижском сплине» воспринимались
не как стихотворения, устоявшаяся форма искусства, но как
проза в новостном формате.20
Во вступлении к «Парижскому сплину» Бодлер объявля-
ет, что la vie moderne требует нового языка: «стихотворной
прозы, музыкальной без ритма и рифмы, достаточно гибкой
и неровной, чтобы приспособиться к лирическим порывам
души, к поворотам фантазии, к метаниям совести [soubresauts
de conscience]». Он подчеркивает, что «из частых прогулок по
большим городам, из наблюдений за бесчисленными люд-
скими отношениями [du croisement de leurs innombrables
rapports] и возникает этот неотступный идеал». Этим Бод-
лер передает, прежде всего, то, что я назову первичными
модерными сценами: опыт, возникающий из конкретной по-
вседневной жизни Парижа времен Бонапарта и Османа, но
наделенный резонансом и глубиной мифа, что выталкивают
его из своего времени и места, превращая в архетип модер-
ной жизни.
3. СЕМЬЯ ГЛАЗ
Самая ранняя наша первичная сцена появляется в «Глазах
бедняков» («Парижский сплин», XXVI). Это стихотворение на-
писано в виде жалобы любовника: рассказчик объясняет лю-
бимой женщине, почему он отдаляется и озлоблен на нее. Он
напоминает ей о недавних общих переживаниях. То был вечер
189
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
долгого и красивого дня, который они провели наедине. Они
сидели на террасе «перед новым кафе на углу нового буль-
вара». Бульвар все еще был «загроможден остатками стро-
ительного мусора», но кафе уже гордо «выставляло напоказ
свое неотделанное великолепие». Самым невероятным был
поток нового света: «Кафе сияло. Даже газовые рожки горели
ярче обычного, словно на театральной премьере, и освещали
во всю мощь стены, режущие глаз белизной, ослепительные
поверхности зеркал, золото багетов и карнизов». Украшенный
интерьер, освещавшийся газовыми рожками, был не столь
привлекателен: забавное изобилие Гебов и Ганимедов, охот-
ничьих собак и ловчих соколов; «нимф и богинь, несущих на
головах корзины с фруктами, пирожными и дичью», смесь
всех историй и мифологий, поставленных на службу чревоуго-
дию. При других обстоятельствах рассказчик мог бы испытать
отвращение к этой отоваренной пошлости; будучи влюблен,
однако, он мог нежно посмеиваться и наслаждаться вульгар-
ным видом — сейчас мы назвали бы это кэмпом.
Счастливые влюбленные сидят, глядя друг другу в глаза,
но внезапно встречаются взором с глазами посторонних.
Бедная семья, одетая в лохмотья,— седобородый отец,
маленький мальчик и младенец,— останавливаются прямо
напротив них и с восторгом рассматривают новый яркий
мир внутри кафе. «Их лица имели необыкновенно серьез-
ное выражение, и три пары глаз не отрываясь смотрели на
новое кафе с восхищением, одинаково пылким, но слегка
изменяющим свой оттенок в зависимости от возраста зри-
телей». Они ничего не говорят, но рассказчик пытается
прочесть их глаза. У отца они словно говорят: «Какая кра-
сота! должно быть, золото всего бедного мира собралось
на этих стенах». Глаза мальчика вторили: «Какая красота! но
в этот дом могут заходить только такие люди, которые не
похожи на нас». Глаза младенца «казались завороженными
и не отражали ничего, кроме бессмысленной, но глубокой
восторженности». В их восхищении нет враждебного подтек-
ста: пропасть между двумя мирами вызывает у них скорбь,
190
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
а не стремление действовать, порождает не возмущение,
а смирение. Вопреки, а может, благодаря этому рассказчик
начинает чувствовать беспокойство: «Я устыдился за наши
бокалы и графины, слишком большие для утоления нашей
жажды». Его «растрогало зрелище этих глаз», и он чувствует
к ним нечто вроде близости. Но спустя мгновение «я повер-
нулся к вам, любовь моя, чтобы прочесть в вашем взоре
свою (курсив Бодлера — М . Б .) мысль». Она говорит: «Мне
отвратительны эти люди, с их глазами, распахнутыми, точно
ворота! Не могли бы вы попросить хозяина кафе прогнать
их отсюда?»
Вот поэтому сегодня он говорит, что ненавидит ее. Он до-
бавляет, что этот случай отозвался в нем грустью и злобой: те-
перь он понимает, «насколько же трудно понимать друг друга
‹...› и насколько непостижимы чужие мысли,— так заканчивает-
ся стихотворение,— даже среди любящих друг друга людей!»
Что делает эту встречу характерно модерной? Что отли-
чает ее от множества более ранних парижских сцен любви
и классовой борьбы? Отличие в городском пространстве, где
она происходит: «К вечеру, слегка утомившись, вы захотели
присесть перед новым кафе на углу нового бульвара, еще
загроможденным остатками строительного мусора, но уже
гордо выставляющим напоказ свое неотделанное великоле-
пие». Отличие выражается одним словом: бульвар. Новый
парижский бульвар был самым заметным урбанистическим
нововведением XIX века и решительным прорывом в модер-
низации традиционного города.
В конце 1850-х и на протяжении 1860-х годов, когда
Бодлер работал над «Парижским сплином», префект Пари-
жа и окрестностей, Жорж Эжен Осман, вооружившись им-
перским мандатом Наполеона III, прорубал сквозь старый
средневековый город обширную сеть бульваров.21 Наполеон
и Осман мыслили новые дороги артериями системы город-
ского транспорта. Сегодня они повсеместны, но в контексте
городской жизни середины XIX века были революционным
новшеством. Новые бульвары должны были сделать воз-
191
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
можным дорожное движение через центр города и позво-
лить проехать прямиком из одного его конца в другой — до
той поры донкихотское и почти невообразимое предпри-
ятие. Кроме того, они должны были расчистить трущобы
и впустить «свежий воздух» в темные и затхлые перенасе-
ленные трущобы. Они должны были стимулировать колос-
сальное развитие местных предприятий на всех уровнях,
а следовательно, возместить огромную стоимость сноса зда-
ний, компенсаций и затрат на строительство. Они должны
были усмирить массы, заняв десятки тысяч человек — порой
свыше четверти городской рабочей силы — на долгосрочных
общественных работах, которые, в свою очередь, создавали
еще тысячи рабочих мест в частном секторе. Наконец, они
должны были создать длинные и широкие пути, на которых
войска и артиллерия могли бы эффективно действовать про-
тив будущих баррикад и народных восстаний.
Бульвары представляли собой лишь часть всеобъемлю-
щей системы городской планировки, которая включала цен-
тральные рынки, мосты, канализацию, водоснабжение, Оперу
и другие дворцы культуры, огромную сеть парков. «Сле-
дует отметить величайшую заслугу барона Османа,— писал
в 1942 году его самый выдающийся и известный последова-
тель, Роберт Мозес. — Он осознал проблему пошаговой ши-
рокомасштабной модернизации города». Новое строитель-
ство уничтожило сотни зданий, вынудило переехать тысячи
людей, разрушило целые кварталы, существовавшие столе-
тиями. Но впервые в истории город открылся для всех его
жителей. Теперь, по крайней мере, можно было двигаться не
только внутри кварталов, но и между ними. Теперь Париж,
на протяжении веков представлявший собой скопление изо-
лированных клеток, превращался в унифицированное физи-
ческое и человеческое пространство.*
* В книге «Трудящиеся и опасные классы Парижа в первой половине
XIX века» (см. прим. 21) авторитетный историк города Луи Шевалье по-
мещает ужасный, мучительно детальный рассказ о разорении, которое
192
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Бульвары Наполеона и Османа создали новую — эконо-
мическую, социальную, эстетическую — основу для сплоче-
ния огромного количества людей. На нижнем уровне улицы
оказались заполнены мелкими конторами и самыми разными
лавками; на каждом углу располагались зоны для ресторанов
и кафе с террасами на тротуарах. Эти кафе, вроде того, в ко-
тором встретились влюбленные и семейство нищих у Бод-
лера, вскоре стали считаться по всему миру символом la vie
parisienne. Тротуары Османа, как и сами бульвары, были
удивительно широки, на них было много скамеек и деревь-
ев. 22 Для пешеходов были устроены островки безопасно-
сти, которые облегчали переход улиц, отделяли горожан от
транзитного движения и создавали альтернативные пути для
променадов. Были спроектированы прекрасные широкие ал-
переживали старые центральные кварталы в доосмановские десятилетия:
демографический взрыв, удвоивший население, наряду с возведени-
ем элитных жилых домов и правительственных зданий, резко сократил
жилищный фонд; постоянная массовая безработица, которая до появ-
ления государства всеобщего благосостояния вела непосредственно
к голодной смерти; ужасные эпидемии тифа и холеры, что собирали
наибольший урожай именно в старых quartiers. Все это объясняет, по-
чему парижская беднота, которая столь храбро боролась на множестве
фронтов XIX века, не сопротивлялась уничтожению ее кварталов; вполне
возможно, что она хотела бежать из своего мира (как сказал Бодлер по
другому поводу) куда угодно.
Малоизвестное эссе Роберта Мозеса (также см. прим. 21) — особый
подарок д ля тех, кто ценит иронию городской истории. Доходчиво и сба-
лансированно объясняя действия Османа, Мозес коронует себя как его
наследника и недвусмысленно предлагает новым османоподобным вла-
стям осуществить после войны еще более гигантские проекты. Текст
заканчивается примечательной в своей колкости и едкости критикой,
которая заранее,— с удивительной точностью и беспощадной аккуратно-
стью,— отвечает на упреки, что спустя всего одно поколение обрушатся
на самого Мозеса и которые с могут в конце концов убрать величайшего
ученика Османа из публичной жизни. — П рим. авт.
193
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
леи с памятниками у концов бульваров, так что каждая про-
гулка вела к эффектной кульминации. Все эти особенности
позволили превратить Париж в чрезвычайно соблазнитель-
ное зрелище, праздник для зрения и чувств. Пять поколений
модерных художников, писателей и фотографов (а немного
позднее — и кинематографистов), начиная с импрессионистов
1860-х годов, будут вдохновляться жизнью и энергией, те-
кущими по бульварам. К 1880-м годам проектировка Осма-
на стала общепризнанной моделью модерного урбанизма.
Вскоре ее начали копировать в новых или развивающих-
ся городах во всех уголках мира — от Сантьяго до Сайгона.
Что бульвары сделали с заполняющими их людьми? Бод-
лер показывает нам несколько самых поразительных измене-
ний. Влюбленным, как в «Глазах бедняков», бульвары дали
новую первичную сцену: публичное приватное простран-
ство, где они могут достичь интимной близости, не оказы-
ваясь наедине физически. Гуляя по бульвару, унесенные
огромным бесконечным потоком, они более живо, чем ког-
да-либо, могли ощутить свою любовь неизменной частью
меняющегося мира. На бульваре они могли демонстрировать
свою любовь бесконечной веренице незнакомцев — поколе-
ние спустя Париж будет знаменит подобными проявлениями
привязанности на весь мир — и обрести целый новый спектр
наслаждений. Они могли плести вокруг толпы прохожих по-
кров фантазии: кто эти люди, откуда они пришли и куда идут,
чего они хотят, кого любят? Чем больше они смотрели на
других и показывали себя другим, тем более они включались
в расширенную «семью глаз», тем интенсивнее обогащалось
их представление о себе.
В такой среде город легко мог превратиться в призрач-
ный и волшебный. Яркие огни улиц и кафе только усиливали
наслаждение; при жизни следующих поколений появление
электричества и неоновой подсветки усилит его еще боль-
ше. Даже самая вопиющая вульгарность вроде тех нимф из
кафе с фруктами и дичью на голове оказывалась привлека-
тельной в романтичном освещении. Любой, кто влюблялся
194
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
в большом городе, знаком с этим чувством, воспетом в сотнях
сентиментальных композиций. Эти маленькие радости ро-
дились благодаря модернизации публичного городского
пространства. Бодлер показывает нам новый частный и пу-
бличный мир в самый момент его рождения. Затем бульвары
будут для модерной любви не менее важны, чем будуары.
Но первичные сцены у Бодлера, как позднее и у Фрейда,
не могут быть идиллическими. Они могут содержать идилли-
ческий материал, но во время кульминации в сцену прорыва-
ется подавленная реальность, ее настигают откровение или
открытие: «Новый бульвар, еще загроможденный остатками
строительного мусора, ‹...› уже гордо выставляющий напоказ
свое неотделанное великолепие». Рядом с блеском — мусор:
руины десятка центральных кварталов,— самых старых, тем-
ных, перенаселенных, убогих и страшных кварталов, где жили
десятки тысяч парижан,— полностью разрушенных. Куда де-
нутся все эти люди? Те, кто занимались сносом и реконструк-
цией, не особенно интересовались вопросом. Они проруба-
ли новые широкие пути для развития северных и восточных
окраин города; бедняки же пускай разбираются как-нибудь
сами, как и всегда. Бодлеровское семейство оборванцев вы-
ходит из-за строительного мусора и оказывается в центре
сцены. Они мешают не тем, что злятся или требует чего-то.
Они мешают, потому что никуда не уходят. Тоже стремятся
выйти на свет.
В этой первичной сцене Бодлер обнажает ряд самых
глубоких парадоксов и противоречий модерной городской
жизни. Декорации, которые превращают все городское на-
селение Земли в большую единую «семью глаз», выводят на
первый план и отверженных приемных детей этого семей-
ства. Физические и социальные преобразования, которые
выталкивали бедняков за кулисы, теперь возвращают их
в поле зрения каждого. Снеся старые средневековые тру-
щобы, Осман неумышленно разрушил замкнутый и герме-
тично запечатанный мир традиционной городской бедноты.
Бульвары, прорубив огромные дыры сквозь самые бедные
195
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
кварталы, позволили беднякам выйти наружу и впервые уви-
деть, на что похожи остальной город и другая жизнь. И они
не только смотрят, но и на них смотрят: зрение — озарение —
затрагивает обе стороны. Среди огромных пространств под
яркими огнями отвести взгляд невозможно. Ослепительное
сияние не скрывает мусор и высвечивает мрачную жизнь
людей, за счет которых горит.* Бальзак сравнивал старые
кварталы с самыми темными джунглями Африки; для Эжена
Сю они олицетворяют «Тайны Парижа». Бульвары Осма-
на превращают экзотическое в непосредственно близкое;
бедность, которая была когда-то тайной, теперь оказыва-
ется фактом.
Проявления классового разделения в модерном горо-
де порождают новые противоречия в модерной личности.
Как должны влюбленные относиться к внезапно оказавшимся
перед ними оборванцам? Здесь модерная любовь теряет не-
винность. Присутствие бедняков бросает безжалостную тень
на блеск города. Обстановка, которая слово чудом навевала
романтику, теперь делает совершенно противоположное, из-
влекая влюбленных из романтического кокона и помещая их
в более широкую и менее идиллическую среду. Под новым
светом их личное счастье становится классовой привилегией.
Бульвар вынуждает их реагировать политически. Реакция
мужчины клонится в сторону левого либерализма: он чув-
ствует вину за свое счастье и сочувствует тем, кто может
его наблюдать, но не разделить; он сентиментально хочет,
чтобы бедняки стали частью семьи. Женщина — по крайней
* См. памфлет Энгельса «К жилищному вопросу» (1872): «Я разумею
под „Османом“ ставшую общепринятой практику прорезывания рабо-
чих кварталов, в особенности расположенных в центре наших крупных
городов ‹...› Результат везде один и тот же, как бы ни были различны
поводы: безобразнейшие переулки и закоулки исчезают при огромном
самохвальстве буржуазии по поводу этого чрезвычайного успеха, но...
они тотчас же возникают где-либо в другом месте, часто даже в непо-
средственной близости». — П рим. авт.
196
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
мере, в этом случае — симпатизирует правым, Партии Поряд-
ка: у нас что-то есть, они этого хотят, так что нам лучше «prier
le maître», позвать кого-нибудь, кто достаточно силен, чтобы
выгнать их. Потому дистанция между влюбленными демон-
стрирует не просто недопонимание, но радикальное идеоло-
гическое и политическое несогласие. Если на улицах появятся
баррикады,— а их возведут в 1871 году, через семь лет после
написания стихотворения и четыре года после смерти Бодле-
ра,— влюбленные скорее всего окажутся по разные стороны.
Тот факт, что влюбленная пара разделена политикой, сам
по себе печален. Но могут быть и другие причины: возможно,
заглядывая в ее глаза, он действительно смог, как и надеялся,
«прочесть в ее взоре свою мысль». Возможно, благородно
заявляя о принадлежности всеобщей семье глаз, он на деле
разделяет ее подлое стремление отречься от любой связи
с бедняками — с глаз долой, из сердца вон. Может быть, он
ненавидит любимую женщину, потому что в ее глазах увидел
ту часть своей личности, про которую ничего не хочет знать.
Возможно, самый глубокий разрыв пролегает не между рас-
сказчиком и его возлюбленной, но внутри его самого. Если
это правда, то здесь мы видим, как противоречия, оживля-
ющие улицы модерного города, резонируют во внутренней
жизни человека с этой улицы.
Бодлер знает, что и реакция мужчины, и реакция женщи-
ны, либеральная сентиментальность и реакционная безжа-
лостность, одинаково тщетны. С одной стороны, принять
бедняков в семейство хорошо устроившихся невозможно;
с другой стороны, никакие репрессии не смогут избавить-
ся от них надолго — бедняки всегда будут возвращаться.
Лишь самое радикальное переустройство модерного об-
щества может хотя бы запустить процесс излечения ран, об-
наженных бульварами,— как личных, так и социальных. И все
же слишком часто, как кажется, как радикальное решение
предлагают уничтожение: снести бульвары, потушить яркие
огни, изгнать и переселить людей, искоренить источники кра-
соты и радости, которые породил модерный город. Мы мо-
197
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
жем надеяться, как порой надеялся Бодлер, на будущее, где
радость и красота, подобно городским огням, будут доступ-
ны всем. Но наша надежда неизбежно смешается с грустью
самоиронии, пропитавшей воздух бодлеровского города.
4. ГРЯЗЬ МАКАДАМА
Наша следующая архетипическая модерная сцена изобра-
жена в стихотворении «Потеря ореола» («Парижский сплин»,
LXVI), написанном в 1865 году, но отвергнутом прессой и не
опубликованном до самой смерти Бодлера. Как и в «Гла-
зах бедняков», действие его разворачивается на бульваре;
в нем присутствует противоречие, навязанное герою местом
действия; и оно заканчивается (о чем сообщает название)
утратой невинности. Здесь, однако, сталкиваются не два че-
ловека или два представителя различных социальных клас-
сов, но, скорее, изолированный индивид и абстрактные, но
несущие конкретную опасность социальные силы. Атмос-
фера, образность и эмоциональный тон здесь запутанны
и неуловимы; поэт, кажется, намеревается вывести читателя
из равновесия, а возможно, утратил его и сам.
«Потеря ореола» разворачивается как диалог между по-
этом и «обычным человеком», которые к обоюдному стыду
сталкиваются друг с другом в un mauvais lieu, предосуди-
тельном или порочном месте,— вероятно, в борделе. Обыч-
ный человек, который всегда торжественно превозносил идею
Художника, изумляется, обнаружив его здесь:
Как! что такое! вы здесь, мой милый? Вы, в таком скверном месте!
вы, пьющий нектар! вы, вкушающий амброзию! Воистину, есть от
чего прийти в изумление!
Поэт объясняется:
Дорогой друг, вам известен мой страх перед лошадьми и повоз-
ками. Только что, когда я в большой спешке пересекал бульвар,
198
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
прыгая по грязи среди этого движущегося хаоса, где смерть готова
налететь на тебя со всех сторон одновременно, мой ореол от
неосторожного движения соскользнул с головы и упал на мо-
стовую. Я не отважился подобрать его. Я счел за меньшую не-
приятность лишиться знака отличия, чем дать переломать себе
кости. К тому же, сказал я себе, в моем несчастье есть и некоторое
благо. Теперь я могу прогуливаться инкогнито, совершать низкие
поступки и предаваться распутству, как и все простые с мертные.
И вот я здесь, подобно вам, как видите!
Прямодушный собеседник подыгрывает:
Вы могли бы, по крайней мере, дать объявление о пропаже оре-
ола, или попробовать найти его через полицию.
Нет: поэт торжествует, обретя новое самоопределение:
Право же, это ни к чему. Мне здесь нравится. Вы были единствен-
ным, кто меня узнал. Впрочем, всеобщее уважение мне наскучило.
И потом, я с удовольствием думаю, что какой-нибудь плохой поэт
подберет его и украсит им свое чело без зазрения совести. Сде-
лать кого-нибудь счастливым, какая радость! И особенно того,
кто заставит меня посмеяться! Подумайте о X., o Z .! О! это будет
забавно!
Это странное стихотворение, и мы склонны отождествлять
себя с обычным человеком, который понимает, что что-то
здесь происходит, но не знает, что именно.
Одна из первых загадок здесь — сам ореол. Во-первых,
что он делает на голове модерного поэта? Он нужен, чтобы
высмеять и раскритиковать одно из самых ярых представ-
лений самого Бодлера: веру в святость искусства. Квазире-
лигиозное отношение к искусству прослеживается во всей
его поэзии и прозе. Так, в 1855 году он пишет: «Художник
исходит только из самого себя. ‹...› Он может поручиться
только за себя. Он умирает, не оставляя потомства. Пока он
199
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
жил, он был сам себе и государем, и духовником, и богом».23
«Потеря ореола» повествует о крахе личного бога Бодлера.
Но мы должны понимать, что этому богу поклоняются не
только другие художники, но в равной степени и многие
«обычные люди», которые верят, что искусство и художники
существуют в неком ином, высшем измерении. «Потеря оре-
ола» происходит там, где сходятся мир искусства и обычный
мир. Это не просто духовная, но физическая точка, точка
в ландшафте модерного города. Это точка, в которой история
модернизации и история модернизма сливаются воедино.
Вальтер Беньямин, кажется, первым подметил глубокое
сродство Бодлера и Маркса. Хотя он не проводит именно
такую связь, знакомый с Марксом читатель заметит удиви-
тельное сходство центрального образа этого стихотворения
с главными образами «Манифеста Коммунистической пар-
тии»: «Буржуазия лишила священного ореола все роды де-
ятельности, которые до тех пор считались почетными и на
которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста,
священника, поэта, человека науки она превратила в своих
платных наемных работников».24 Для обоих один из важней-
ших видов опыта, уникальный для модерной жизни, и одна
из центральных тем модерного искусства и мысли — это де-
санктификация. Теория Маркса помещает этот опыт в кон-
текст всемирной истории; поэзия Бодлера показывает, как он
ощущается изнутри. Но отвечают на него они весьма различ-
ными эмоциями. В «Манифесте...» драма десанктификации
ужасна и трагична: взор Маркса обращается к героическим
фигурам, Эдипу в Колоне и Лиру на вершине холма: они
борются со стихиями, раздеты и презренны, но не сломлены,
превращают опустошенность в новое достоинство. В «Гла-
зах бедняков» представлен другой тип трагедии десанкти-
фикации: масштаб здесь скорее интимен, а не монументален,
эмоции меланхоличны и романтичны, а не трагичны и геро-
ичны. И все же «Глаза бедняков» и «Манифест» очень схожи
по натуре. «Потеря ореола» же знакомит нас с совершенно
иным: драма здесь по сути своей комична, способ выражения
200
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
ироничен, а комическая ирония настолько удачна, что скры-
вает серьезность обличения. Развязка, когда ореол героя
соскальзывает с головы и катится по грязи — а не сбрасы-
вается в результате насильственного grande geste,* как это
происходит у Маркса (а также у Берка, Блейка и Шекспира),—
напоминает водевиль, фарс, метафизический ляпсус в духе
Чаплина и Китона. Она указывает на грядущий век, где герои
будут носить личину антигероев, а самые торжественные мо-
менты истины будут не только описываться, но и ощущаться
как клоунада, ординарный вечер в театре-варьете или ноч-
ном клубе — как балаган (shtick). В черной комедии Бодлера
место действия играет такую же важную роль, какую оно
будет играть в комедиях Чаплина и Китона.
«Потеря ореола» разворачивается на том же новом буль-
варе, что и «Глаза бедных». Но хотя два этих стихотворения
физически разделены всего несколькими шагами, духовно
они принадлежат различным мирам. Разделяющая их про-
пасть — шаг c тротуара в канаву. На тротуаре люди всякого
рода и всякого класса осознают себя в сравнении с другими
идущими или сидящими. В канаве людям в борьбе за свою
жизнь приходится забыть, кем они являются. Новая сила, ко-
торую высвободили бульвары, сила, которая срывает ореол
с головы героя и наделяет его новым самоопределением,—
это модерное дорожное движение.
Когда начались османовские работы по строительству
бульваров, никто не понимал, зачем он хочет сделать их
настолько широкими: от сотни футов до сотни ярдов ** в ши-
рину. Лишь когда работы закончились, люди начали пони-
мать, что эти невероятно широкие, прямые как стрела до-
роги, тянущиеся на мили, будут идеальными скоростными
путями для интенсивного транспортного потока. Макадам —
бульварное покрытие — был удивительно гладок и сообщал
конским подковам идеальное сцепление. Впервые в истории
** Широкий жест (фр.) . — П рим. пер.
** От 30 до 90 м.— Прим. пер.
201
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
всадники и кучеры прямо посреди города могли выхлестать
своих лошадей до предельной скорости. Улучшение дорож-
ной сети не только ускорило прежний транспортный поток,
но — подобно тому, как в еще больших масштабах это сделают
автострады,— позволило увеличить дорожное движение до
небывалых объемов, которых никто, кроме Османа и его
инженеров, не предвидел. Между 1850 и 1870 годами, когда
население центральной части города увеличилось примерно
на 25% (с 1,3 до 1,65 млн человек), объем внутригородско-
го дорожного движения вырос, кажется, в три или четыре
раза. Этот рост выявил противоречие в самом сердце ур-
банизма Наполеона и Османа. Как сообщает Дэвид Пинкни
в авторитетном исследовании «Наполеон III и переустрой-
ство Парижа», магистральные бульвары «с самого начала
выполняли две функции: обеспечивали дорожное движение
по всему городу и служили главными торговыми и деловыми
улицами; но по мере усиления движения они оказались плохо
совместимы». Эта ситуация оказалась особенно мучительной
и страшной для огромного количества парижан-пешеходов.
Макадам, источник особой гордости императора — который
пешком не передвигался никогда,— в сухие месяцы пылил,
а в дождь или снег превращался в грязь. Осман, который
спорил с Наполеоном о макадаме (одна из немногих вещей,
из-за которых они могли ссориться) и саботировал импера-
торские планы застелить им весь город, сказал, что это из-за
этого покрытия парижанам придется «либо держать карету,
либо ходить на ходулях».25 Таким образом, жизнь бульваров,
куда более яркая и захватывающая, чем городская жизнь
когда-либо прежде, была также более рискованной и пуга-
ющей для множества мужчин и женщин, которые ходили по
ним пешком.
Именно здесь разворачивается первичная модерная сцена
Бодлера: «Я в большой спешке пересекал бульвар, пры-
гая по грязи среди этого движущегося хаоса, где смерть
готова налететь на тебя со всех сторон одновременно». Ар-
хетипический модерный человек, которого мы наблюдаем
202
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
здесь,— это пешеход, брошенный в хаотичный поток дорож-
ного движения модерного города, одиночка, противостоящий
концентрированным массе и энергии — тяжелым, быстрым,
смертельным. Зарождающееся уличное и бульварное дорож-
ное движение не ощущает ни пространственных, ни времен-
ных границ, врывается в каждое городское пространство,
навязывает каждому жителю свой темп, преобразует всю мо-
дерную среду в «движущийся хаос». Хаос здесь создают не
сами участники движения — отдельные пешеходы или кучеры,
каждый из которых выбирает самый эффективный для себя
путь,— но их взаимодействие, совокупность их движений в об-
щем пространстве. Это превращает бульвар в прекрасный
символ внутренних противоречий капитализма: рациональ-
ность каждого капиталистического индивида в отдельности
приводит к иррациональной анархии социальной системы,
объединяющей всех этих индивидов.*
Человек на модерной улице, брошенный в этот водово-
рот, ограничен только своими ресурсами — и часто он даже
не подозревает, что эти ресурсы у него есть — и вынужден
исчерпывать их почти до дна, только чтобы выжить. Что-
бы пересечь движущийся хаос, он должен настроиться на
его резкие повороты и подстроить себя под них, должен не
только поспевать за этим хаосом — но держаться на шаг впе-
* Конечно, уличное движение — не единственная форма организации
движения, известная XIX веку. Железные дороги широко использовались
с 1830-х годов и составляют неотъемлемую часть европейской литерату-
ры с диккенсовского романа «Домби и сын» (1846–48). Но по железными
дорогам передвигались сообразно жесткому расписанию и по заранее
определенному пути. Потому, нес мотря на весь свой демонический по-
тенциал, в XIX веке они стали образом порядка.
Следует отметить, что бодлеровский опыт «движущегося хаоса» от-
носится ко времени до появления светофоров — инновации, разработан-
ной в Америке около 1905 года, которая стала прекрасным символом
ранних попыток государства регулировать и рационализировать хаос
капитализма. — П рим. авт.
203
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
реди. Он должен стать мастером в soubresauts и mouvement
brusques, во внезапных, отрывистых, зигзагообразных пово-
ротах и переменах — и должен обучить этому не только свои
ноги и тело, но также разум и чувства.
Бодлер показывает, как модерная городская жизнь навязы-
вает эти движения каждому; но он показывает также, как при
этом она парадоксальным образом толкает человека к новым
формам свободы. Тот, кто умеет двигаться в дорожном движе-
нии и пересекать его, может добраться куда угодно по любому
из бесконечных городских путей, по которым только возмож-
но движение. Эта мобильность открывает перед городскими
массам огромный новый опыт и новые виды деятельности.
Моралисты и люди культуры осудят эти устремления го-
родских жителей как низкие, вульгарные, грязные, лишенные
социальной и духовной ценности. Но когда поэт Бодлера те-
ряет своей ореол и движется дальше, то совершает великое
открытие. К своему изумлению он обнаруживает, что аура
чистоты и святости художника лишь случайна, а не естествен-
но присуща искусству, и что поэзия может процветать не хуже
или даже лучше на другой стороне бульвара, в тех низких,
«непоэтичных» местах вроде un mauvais lieu, где родилось это
стихотворение. Один из парадоксов модерности, как видит
ее здесь Бодлер, состоит в том, что поэты будут становит-
ся только более глубоко и по-настоящему поэтичными по
мере уподобления обычным людям. Если они погружают себя
в движущийся хаос повседневной жизни в модерном мире —
жизни, главным символом которой является дорожное дви-
жение,— этой жизнью он может обогатить искусство. В этом
мире «плохой поэт» — тот, кто стремится сохранить свою чи-
стоту нетронутой, избегая улиц и рисков дорожного движе-
ния. Бодлер хочет, чтобы произведения искусства рождались
посреди уличного движения, прорастали из его анархической
энергии, из непрерывной опасности и ужаса, из мимолетной
гордости и веселья человека, который покуда в нем выжил.
Потому «Потеря ореола» на самом деле повествует о приоб-
ретении, о перепосвящении сил поэта новому виду искусства.
204
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Его mouvement brusques, эти неожиданные прыжки и отскоки,
столь необходимые для ежедневного выживания на городских
улицах, оказываются также и источниками творчества. В гря-
дущее столетие эти движения станут парадигматическими зна-
ками модернистского искусства и мысли.*
Эта первичная модерная сцена богата иронией. Она рас-
крывается в нюансах языка Бодлера. Обратим внимание на
фразу la fange du macadam («трясина макадама»). В фран-
цузском языке la fange не только буквально обозначает ил;
у этого слова есть и переносное значение — «трясина, грязь,
распутство, коррупция, деградация», все бесчестное и омер-
зительное. В классическом ораторском и поэтическом стиле
это «высокий» способ обозначить нечто «низкое». Как тако-
вой, он влечет за собой целую космическую иерархию, струк-
туру норм и ценностей не только эстетических, но метафизи-
ческих, этических, политических. La fange может быть низшей
точкой моральной вселенной, вершина которой обозначается
слово l’aureole. Ирония здесь в том, что покуда ореол поэта
падает в la fange, он не может быть полностью утерян, по-
тому что пока этот образ сохраняет значение и силу — как он,
несомненно, сохраняет их для Бодлера,— старый иерархиче-
ский космос продолжает присутствовать в некотором плане
модерного мира. Однако это присутствие ненадежно. Зна-
чение макадама радикально деструктивно в той же степени
для la fange, что и для l’aureole: он без разбору пролегает
по высокому и по низкому.
* Сорок лет спустя, с появлением (или, скорее обретением имени)
Brooklyn Dodgers, народная культура произведет свою собственную
ироничную версию этой модернистской веры. Это название выража-
ет то, каким образом навыки выживания в городе,— в частности, на-
вык ук лонения в дорожном движении (сперва они назывались Trolley
Dodgers),— может выйти за рамки утилитарности и принять новые формы
значения и ценности в спорте и искусстве. Бодлеру понравился бы этот
символизм, как понравился он многим его последователям в XX веке
(т. е. каммингсу, Мэриэн Мур и др.) . — П рим. авт.
205
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
Мы можем еще более углубиться в образ макадама: мы
заметим, что слово это не французское. На самом деле, оно
происходит от имени Джона Макадама, изобретателя совре-
менного дорожного покрытия, жившего в XVIII веке в Глазго.
Должно быть, это первое слово языка, который французы
в XX веке сатирически прозвали franglais: оно проложило
путь для le parking, le shopping, le weekend, le drugstore, le
mobile-home и многого другого. Этот язык столь устойчив
и притягателен, потому что это международный язык модерни-
зации. Его новые слова — мощные двигатели новых способов
жизни и движения. Они могут звучать непривычно и резать
слух, но бороться с ними так же бесполезно, как с самим
импульсом модернизации. Верно, что многие нации и правя-
щие классы чувствуют — с полным на то основанием — угрозу,
исходящую от потока новых слов и вещей с чужих берегов.*
Есть чудесное параноидальное советское слово, которое вы-
ражает этот страх: инфильтрация. Надо, однако, отметить,
что обыкновенно со времени Бодлера до наших дней наро-
ды после некоторого сопротивления (или, по крайней мере,
видимости его) не только принимали новое, но и создавали
для него собственное слово в надежде стереть досадные вос-
поминания об отсталости (потому Французская академия, на
протяжении всех 1960-х годов отказывавшаяся признать ча-
стью французского языка le parking meter, создала и вскоре
канонизировала слово le parcmetre в 1970-е годы).
Бодлер умел писать на самом чистом и элегантном клас-
сическом французском языке. Здесь же, как и в «Глазах бед-
няков», он обращается к новому, только зарождающемуся
языку, чтобы создать искусство из диссонансов и несообраз-
ностей, которыми полнится — и, парадоксальным образом, на
* В XIX веке основным движителем модернизации была Англия,
а в XX веке им стали США. Расположение центров сменилось, но примат
английского языка,— наименее чистого, наиболее эластичного и адаптив-
ного из модерных языков — оказался выше, чем когда-либо. Он вполне
может пережить крах американской империи. — П рим. авт.
206
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
которых держится — модерный мир. «На смену старой мест-
ной и национальной замкнутости и существованию за счет
продуктов собственного производства», как говорится в «Ма-
нифесте...», в модерном буржуазном обществе «приходит все-
сторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от
друга. Это в равной мере относится как к материальному, так
и к духовному производству. Плоды духовной деятельности
отдельных наций становятся,— обратите внимание на этот об-
раз, парадоксальный в буржуазном мире,— общим достоя-
нием». Маркс продолжает: «Национальная односторонность
и ограниченность становятся все более и более невозможны-
ми, и из множества национальных и местных литератур об-
разуется одна всемирная литература». Грязь макадама станет
одной из основ этой новой мировой литературы XX века.26
Эта новая первичная сцена порождает и другие ироничные
смыслы. Ореол, который падает в грязь макадама, в опасно-
сти, но не уничтожен: он катится и вливается в общий транс-
портный поток. Характерной чертой товарной экономики,
объясняет Маркс, является бесконечное перевоплощение
рыночных ценностей. В этой экономике осуществимо все,
что выгодно, и нет ничего невозможного; культура превра-
щается в огромный склад, в котором все хранится в ожи-
дании шанса когда-нибудь где-нибудь это продать. Потому
ореол, который теряет (или который бросает) модерный
поэт, в силу самого своего устаревания может превратиться
в икону, в объект ностальгического поклонения для тех, кто,
как «плохие поэты» X и Z, пытается из модерности сбежать.
Но, увы, антимодернистские художник,— а с ними и мысли-
тели с политиками — оказываются на тех же улицах, в той же
грязи, что и модернистские. Эта модерная среда служит од-
новременно физическим и духовным спасательным тросом —
первоисточником материала и энергии — для тех и других.
Если же говорить о модернистах и антимодернистах, разни-
ца между ними в том, что модернист делает из улиц свой дом,
в то время как антимодернист ищет на них выход. Впрочем,
в том, что касается дорожного движения, между ними вовсе
207
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
нет разницы: оба в равной степени представляют помеху
и угрозу для лошадей и транспорта, на пути которых появля-
ются, чьему свободному движению мешают. Так что, как бы
прочно антимодернист ни нес свой ореол духовной чисто-
ты, он обречен — скорее раньше, чем позже — его потерять
по той же причине, по какой обронил его модернист: ему
придется отказаться от гармонии, меры и благолепия и нау-
читься грациозности резких движений, чтобы выжить. Опять
же, сколь бы ни считали друг друга противоположностями
модернисты и антимодернисты, в грязи макадама, с точ-
ки зрения бесконечного дорожного движения, они — одно.
Эти парадоксы рождают другие. Поэт Бодлера устрем-
ляется в конфронтацию с «движущимся хаосом» дорожно-
го движения и пытается не только выжить, но и утвердить
посреди него свое достоинство. Но его действия, кажется,
изначально обречены на провал, ведь он добавляет в и без
того нестабильную тотальность еще одну переменную. Ло-
шади и наездники, повозки и кучеры пытаются одновремен-
но обогнать друг друга и избежать столкновения. Если при
этом им придется объезжать пешеходов, которые в любой
момент могут выскочить на дорогу, движения их станут еще
более неоднозначными, а потому более опасными. Потому
индивид, пытаясь противостоять движущемуся хаосу, лишь
усиливает его.
Однако сама эта формулировка намечает путь, который
может вывести за пределы иронии Бодлера и самого дви-
жущегося хаоса. Что если множество людей, которых тер-
роризирует модерное дорожное движение, научатся про-
тивостоять ему вместе? Это произойдет всего через шесть
лет после написания «Потери ореола» (и три года спустя
после смерти Бодлера) в Париже в 1871 году, в Петербур-
ге в 1905 и 1917 годах, в Берлине в 1918 году, в Барсело-
не в 1936 году, в Будапеште в 1956 году, снова в Париже
в 1968 году и в десятках городах по всему миру вплоть до
наших дней — бульвар в одночасье превратится в место новой
первичной модерной сцены. Это будет не та сцена, которой
208
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
желали Наполеон или Осман, но их разновидность урбаниз-
ма воплотит ее в реальность.
Если мы перечитаем старые истории, мемуары и романы,
пересмотрим старые фотографии и кинохроники, обратимся
к собственным ускользающим воспоминаниям о 1968 годе, то
увидим, как на улицы вместе выходят целые классы и массы.
В их деятельности мы сможем различить два этапа. Сна-
чала люди останавливают и переворачивают транспортные
средства, освобождают лошадей: здесь они мстят дорожному
движению, разлагая его до его инертных первоначальных
элементов. Затем они используют превращенный в беспо-
лезный хлам транспорт для строительства баррикад: они
рекомбинируют изолированные, лишенные души элементы
в новые жизнеутверждающие художественные и политиче-
ские формы. На одно яркое мгновение множество одино-
честв, из которых состоит модерный город, сходится вместе,
чтобы образовать народ. «Улицы принадлежат народу»: они
захватывают контроль над основополагающей материей го-
рода и присваивают себе. На короткое время хаотический
модернизм резких движений одиночек уступает место упоря-
доченному модернизму движения масс. «Героизм модерной
жизни», о котором мечтал Бодлер, родится из его первичной
сцены на улице. Бодлер не ждет, что эта (или любая другая)
новая жизнь продлится долго. Но она будет рождаться сно-
ва и снова из внутренних противоречий улицы. Она может
зародиться в любой момент — зачастую тогда, когда ее ждут
менее всего. Эта возможность — жизнеутверждающий луч на-
дежды в сознании человека, бегущего в движущемся хаосе
по грязи макадама.
5. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК: ОРЕОЛ И АВТОСТРАДА
Модернизм первичных сцен Бодлера во многом приме-
чателен своей свежестью и современностью. В других же
аспектах его улицы и дух кажутся почти экзотическими в сво-
ей архаичности. Но не потому, что наша эпоха разрешила
209
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
конфликты, которые наделили «Парижский сплин» жизнью
и энергией — конфликты классовые и идеологические, эмоци-
ональные конфликты между близкими, конфликты между ин-
дивидами и социальными силами, конфликты внутриличност-
ные — а, скорее, потому, что наша эпоха нашла новые способы
их маскировать и мистифицировать. Огромная разница между
XIX и XX столетиями лежит в том, что наш век создал сеть
новых ореолов, которые заместили старые, сорванные веком
Бодлера и Маркса.
Нигде это заключение не оказывается столь очевидно, как
в сфере городского пространства. Если мы вообразим новей-
шие городские пространственные комплексы — скажем, все
те, что возникли с конца Второй Мировой войны, включая
все наши новые кварталы и города,— то поймем, что первич-
ные столкновения Бодлера здесь представить себе сложно.
Это не случайно: на протяжении большей части нашего сто-
летия городские пространства систематически создавались
и организовывались для того, чтобы избежать возможных
столкновений и конфронтаций. Отличительным признаком
урбанизма XIX века был бульвар — средство объединения
взрывоопасного материала и человеческих сил; знак ур-
банизма века XX — автострада, средство их разъединения.
Здесь видна странная диалектика: один образ модернизма
одновременно наполняется энергией и истощается, пыта-
ясь аннигилировать другой — и все это во имя модернизма.
Особый интерес архитектуре модернизма придает отра-
женный у Бодлера момент ее начала — момент, который она
вскоре всеми силами попытается уничтожить. Возьмем Ле
Корбюзье — возможно, величайшего архитектора XX века (и,
без сомнения, самого влиятельного). В предисловии к своему
великому модернистскому манифесту 1924 года «Урбанизм»
он приводит конкретный опыт, из которого, как он сообщает,
выросла его великая концепция.27 Его не следует читать бук-
вально, но скорее понимать его нарратив как модернистское
иносказание, в основе своей схожее с бодлеровым. Сцена
начинается на бульваре — если конкретнее, на Елисейских
210
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
полях,— вечером бабьего лета 1924 года. Ле Корбюзье выхо-
дит спокойно прогуляться в вечерних сумерках, но дорож-
ное движение вытесняет его с улицы. Дело было полвека
спустя после Бодлера, автомобили заполонили бульвары:
«Казалось, будто мир внезапно помешался». Постоянно, пи-
шет он, «ярость движения нарастала. С каждым днем его
напряжение усиливалось» (здесь до некоторой степени ло-
маются временные рамки и драматическая интенсивность).
Сам Ле Корбюзье чувствовал непосредственную опасность
и уязвимость: «Покинуть дом, переступить через порог зна-
чило рискнуть погибнуть под колесами проезжающих ма-
шин». Шокированный и дезориентированный, он противо-
поставляет улицы (и город) зрелости довоенным улицам
своей молодости: «Помню, двадцать лет назад, в годы моей
студенческой юности, дороги принадлежали нам; мы пели
на них, мы спорили на них, пока мимо спокойно проезжали
омнибусы» (выделено мной — М . Б .) . Его мрачное и горькое
сожаление старо как сама культура и представляет собой
одну из вечных тем поэзии: Oú sont les neiges d’antan? Но
где же прошлогодний снег? * Однако чувство текстуры го-
родского пространства и исторического времени придает
его ностальгии свежесть и новизну. «Дороги принадлежали
нам». Отношение молодых студентов к улицам было их
отношением к миру: они были — по крайней мере, так ка-
залось,— открыты, по ним можно было идти на скорости,
которая позволяла и спорить, и петь; в этом урбанисти-
ческом Эдеме могли мирно сосуществовать люди, живот-
ные и транспортные средства; перед ними расстилались
огромные османовские аллеи, ведущие к Триумфальной
арке. Но теперь идиллия закончилась, улицы принадлежат
машинам, и этот образ полностью сокрушен.
Как может дух пережить эти перемены? Один выход
показал нам Бодлер: превратить mouvements brusques
* Строка из стихотворения Ф. Вийона «Баллада о дамах былых вре-
мен» (1461–1462). Пер. Н . С . Гумилева. — П рим. пер.
211
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
и soubresauts модерной городской жизни в парадигмати-
ческие жесты нового искусства, способные объединить мо-
дерных людей. У изорванного края бодлеровского образа
мы заметили другой потенциальный модернизм: революци-
онный протест, который превращает толпу городских оди-
ночеств в народ и требует вернуть городскую улицу челове-
ческой жизни. Ле Корбюзье провозгласит третью стратегию,
которая приведет к третьему, крайне могущественному виду
модернизма. Перейдя дорогу и еле оставшись в живых, он
совершает внезапный отчаянный прыжок: полностью иден-
тифицирует себя с силами, которые давили на него:
В этот день, 1 октября 1924 года, я стал свидетелем титанического
перерождения [renaissance] нового феномена... дорожного движе-
ния. Машины, машины, летят, летят! Они захватывают, наполняют
энтузиазмом, удовольствием... удовольствием от власти. Простое
и наивное нас лаждение пребыванием в центре власти, в центре
силы. Участвовать в этом. Быть частью рождающегося общества.
Быть уверенным в этом новом обществе: оно великолепно выра-
зит свою силу. Верить в это.
Этот оруэлловский прыжок веры столь стремителен
и поразителен (как и само дорожное движение), что Ле
Корбюзье, кажется, его не замечает. Вот он знакомый нам
бодлеровский человек с улицы, уклоняющийся от движения
и борющийся с ним; мгновение спустя его точка зрения ра-
дикально меняется, и теперь он живет, двигается и говорит
изнутри движения. Вот он говорит о себе, о своей соб-
ственной жизни и опыте: «Помню, двадцать лет назад ‹...›
дороги принадлежали нам»; через миг личный голос резко
пропадает, растворяется в потоке всемирно-исторических
процессов; новый субъект — абстрактное и безличное on,
рожденное новой мировой силой. Теперь вместо того, чтобы
чувствовать исходящую от нее опасность, он может ока-
заться внутри нее, поверить в нее, стать ее частью. Вместо
mouvement brusques и soubresauts, которые Бодлер считал
212
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
сущностью повседневной модерной жизни, модерный чело-
век Ле Корбюзье совершит одно мощное движение, кото-
рое сделает все прочие ненужными,— один великий прыжок,
который станет последним. Человек с улицы сам вольется
в новую силу, станет человеком в машине.
Перспектива этого нового человека в машине породит па-
радигмы модернистского городского планирования и дизайна
XX века. Новому человеку, говорит Ле Корбюзье, требуется
«новый тип улиц», который станет «машиной для дорожного
движения» или, в другом варианте основополагающей ме-
тафоры, «фабрикой по производству движения». По-насто-
ящему модерная улица должна быть «оборудована так же
хорошо, как фабрика».28 На этой улице, как на модерной
фабрике, лучшая модель — как можно более автоматизиро-
ванная; никаких людей, кроме тех, кто управляет машинами;
никаких незащищенных немеханизированных пешеходов, ко-
торые замедляли бы поток. «Кафе и места отдыха больше
не будут грибком, который поедает тротуары Парижа». 29
В городе будущего макадам будет занят только транспортом.
В этот магический момент у Ле Корбюзье на Елисейских
полях рождается образ нового мира: полностью интегри-
рованного мира высотных башен, окруженных газонами
и открытыми пространствами,— «башен в парке»,— связан-
ных надземными супертрассами, снабженных подземны-
ми гаражами и торговыми пассажами. Этот образ обладал
четкой политической составляющей, выраженной в конце
книги «К новой архитектуре»: «Архитектура или революция.
Революции можно избежать».
Тогда политические связи были понятны не до конца —
неясно, осознавал ли их в целости сам Ле Корбюзье,— но
сейчас они должны быть нам доступны. Тезис, тезис, кото-
рый горожане предъявляли с 1789 года, на всем протяжении
XIX столетия и в великих революционных восстаниях Пер-
вой мировой войны: улицы принадлежат народу. Антитезис
(и здесь огромный вклад внес Ле Корбюзье): нет улиц, нет
Народа. На улицах постосмановского города фундамен-
213
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
тальные социальные и психические противоречия модерной
жизни сливались и постоянно угрожали прорваться наружу.
Но если бы эта улица могла бы быть стерта с лица земли —
Ле Корбюзье очень четко выразил это в 1929 году: «Мы
должны убить улицу!»,30
— тогда, возможно, эти противоре-
чия никому бы не пришли в голову. Потому модернистская
архитектура и городское планирование создали модерни-
зированную версию пасторали, пространственно и соци-
ально сегментированный мир: здесь люди, там — транспорт;
здесь работа, там — дом; здесь богатые, там — бедные; между
ними — барьеры из травы и бетона, где над головами людей
вновь могут вырастать ореолы.*
Эта форма модернизма оставила глубокие следы на жиз-
нях каждого из нас. Городская застройка последних соро-
ка лет как в капиталистических, так и в социалистических
странах систематически нападала на «движущийся хаос» го-
родской жизни XIX века (и зачастую успешно уничтожала
его). В новой городской среде,— от Лефрак-Сити до Сенче-
ри-Сити, от Пичтри-плаза в Атланте до Реннессанс-центра
в Детройте,— старая модерная улица, нестабильная меша-
нина людей и транспорта, предприятий и домов, богатых
и бедных, сортируется и разделяется на отдельные ниши,
входы и выходы которых строго досматриваются и кон-
тролируются, погрузка и разгрузка товаров происходят как
* Ле Корбюзье так и не смог достичь больших успехов в своих неу-
томимых планах уничтожения Парижа. Но многие из его нелепых пред-
ставлений были реализованы в эпоху Помпиду, когда эстакады рассекли
Правый Берег, великие рынки квартала Ле-Аль были снесены, десятки
процветающих улиц разрушены до основания, а солидные и старинные
кварталы были переданы «le promoteurs» и погибли без следа. См.:
Evenson N. Paris: A Century of Change, 1878–1978. Yale, 1979; Kramer
J. A Reporter in Europe: Paris. // The New Yorker, 19 June 1978; Cobb R.
The Assassination of Paris. // New York Review of Books, 7 February 1980;
и несколько последних фильмов Годара, особенно «Две или три вещи,
которые я знаю о ней» (1967). — П рим. авт.
214
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
можно более скрытно, а единственными местом встречи этих
миров остаются парковки и подземные гаражи.
Все эти пространства и все люди, заполняющие их, упо-
рядочены и защищены куда значительнее, чем что-либо или
кто-либо в городе Бодлера. Анархические, взрывные силы,
которые некогда собрала воедино городская модернизация,
были разорваны новой ее волной, опиравшейся на идеоло-
гию развивающегося модернизма. Теперь Нью-Йорк — один
из очень немногих городов Америки, где все еще могут слу-
чаться первичные сцены Бодлера. И эти старые города или
части городов находятся под куда более опасным давлением,
нежели то, что обрушилось на них в дни Бодлера. Они объ-
явлены устаревшими экономически и политически, охвачены
хроническим упадком, подточены отсутствием инвестиций,
необходимых для роста, постоянно сдают позиции в соревно-
вании с зонами, которые считаются более «модерными». Тра-
гическая ирония модернистского урбанизма состоит в том,
что его триумф позволил уничтожить саму городскую жизнь,
которую он надеялся освободить.*
* Здесь требуется уточнение. Ле Корбюзье мечтал о сверхмодерно-
сти, которая могла бы излечить раны модерного города. В архитектуре
для модернистского движения более типична была ненависть к городу,
страстная надежда, что модерный дизайн и планировка смогут стереть
его с лица земли. Одно из основных модернистских клише заключалось
в сравнении мегаполиса с дилижансом (или, после Второй Мировой во-
йны, лошадью) и кабриолетом. Типично модернистский взгляд на город
можно найти в книге З. Гидиона «Пространство, время архитектура» —
монументальной работе самого оригинального из учеников Ле Корбюзье
и книге, которая на протяжении двух поколений в значительной степени
определяла модернистский канон. Оригинальное издание труда, напи-
санного в 1938–39 годах, завершается похвалой в честь спроектирован-
ной Робертом Мозесом новой сети городских автострад, которую Гидион
считает идеальной моделью для планирования и создания будущего.
Автострада показывает, что «более нет места для городских улиц, по
которым плотный поток транспорта двигался бы между домами; ему
215
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
XX век, крайне своеобразно ответив на это уравнивание
городского пейзажа, допустил также жуткую нивелировку со-
циальной мысли. Серьезные размышления о модерной жиз-
ни поляризовались на две безжизненные антитезы, которые
можно назвать, как я предложил ранее, «модернолатрией»
и «культурным отчаянием». С точки зрения сторонников мо-
дернолатрии, от Маринетти, Маяковского и Ле Корбюзье
до Бакминстера Фуллера, почившего Маршалла Маклюэ-
на и Германа Кана, все личные и социальные диссонансы
модерной жизни могут быть разрешены технологическими
и административными средствами; все средства под рукой,
и единственное, что требуется — это лидеры с волей их ис-
пользовать. Для визионеров культурного отчаяния от Томаса
Эрнеста Хьюма, Эзры Паунда, Элиота и Ортеги и до Эллюля,
Фуко, Арендт и Маркузе, вся модерная жизнь одинаково
пуста, стерильна, плоска, «одномерна», лишена возможно-
стей: все, что выглядит свободой или красотой (либо ка-
жется ими), на самом деле маскирует усиление порабоще-
ния и ужаса. Мы должны отметить, во-первых, что оба этих
образа мысли проходят поверх политической грани между
левыми и правыми; во-вторых, многие люди склонялись на
нельзя более позволить существовать». Эта идея прямо проистекает из
«Города завтрашнего дня»; тон же отличается и настораживает. На смену
лирическому, визионерскому энтузиазму Ле Корбюзье приходит агрес-
сивное и угрожающее нетерпение комиссара. «Нельзя более позволить
существовать»: где полиция? Еще более зловеще выглядят с ледующие
слова: комплекс городских автострад «ожидает времени, когда после со-
вершения необходимых хирургических операций искусственный город
будет сокращен до своих естественных размеров». Этот пассаж, кото-
рый леденит кровь с ловно заметка мистера Курца, показывает, что для
двух поколений архитекторов кампания против улиц была лишь этапом
в более широкой борьбе против самого модерного города.
Антагонизм между модерной архитектурой и городом тщательно из-
учен Робертом Фишманом: Fishman R. Urban Utopias in the Twentieth
Century. Basic Books, 1977. — П рим. авт.
216
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
протяжении своей жизни то к одному, то к другому полюсу,
а некоторые даже пытались симпатизировать обоим сразу.
Обе эти полярности мы находим у Бодлера, который даже
(как я предположил во втором параграфе) мог бы предъявить
права на изобретение их обеих. Но у Бодлера есть кое-что,
что отсутствует у большинства его последователей: воля до
конца бороться с трудностями и противоречиями модерной
жизни, чтобы найти и создать себя среди страданий и кра-
соты ее движущегося хаоса.
Иронично, что и в теории, и на практике мистификация
модерной жизни и уничтожение некоторых наиболее вос-
хитительных ее возможностей проводились во имя самого
прогрессивного модернизма. И однако, вопреки всему, тот
самый старый движущийся хаос по-прежнему сильно влияет
на нас — или же вновь начал влиять. Урбанизм двух послед-
них десятилетий концептуализировал и консолидировал это
влияние. Джейн Джекобс написала об этом новом урбанизме
пророческую книгу — «Смерть и жизнь больших американ-
ских городов» (1961). Она блестяще доказала, во-первых,
что городские пространства, созданные модернизмом, были
физически чисты и упорядочены, но с социальной и духовной
точки зрения мертвы; во-вторых, что лишь остатки перена-
селенности, шума и общего диссонанса XIX века поддержи-
вали современную городскую жизнь; в-третьих, что старый
городской «движущийся хаос» на самом деле представлял
собой удивительно богатый и сложный человеческий поря-
док, не замеченный модернистами лишь потому, что их пара-
дигмы порядка механистичны, редуктивны и поверхностны;
и, наконец, что то, что считалось модернизмом в 1960 году,
могло оказаться преходящим и уже устареть.* В последние
* «Неприятно думать, что люди, которые молоды сейчас, которые
получают специальность в наши дни, должны на том основании, что им
следует мыслить „по-современному “, принимать как данность представ-
ления о городах и транспорте, не только неработоспособные, но и такие,
к которым с тех пор, когда отцы этих людей были детьми, не добави-
217
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
два десятилетия эта точка зрения добилась повсеместного
и горячего признания, и масса американцев начала работать
над тем, чтобы спасти свои кварталы и города от разорения
моторизованной модернизацией. Любое движение против
строительства автострады — это движение за возвращение
жизненных сил старому движущемуся хаосу. Несмотря на
спорадические локальные успехи, ни одному из них не хва-
тило сил разрушить суммарную мощь ореола и автострады.
Но они нашли достаточное количество достаточно страстных
и самозабвенных людей, чтобы создать сильное подводное
течение и придать городской жизни, покуда она есть, новую
напряженность, интерес и остроту. И есть основания пола-
гать, что она просуществует намного дольше, чем кто-ли -
бо — даже самый большой ее почитатель — мог бы помыслить.
В атмосфере страхов и тревог нынешнего энергетического
кризиса моторизованная пастораль, кажется, терпит крах.
И в то же время движущийся хаос наших модерных горо-
дов XIX века с каждым днем кажется более упорядоченным
и соответствующим требованиям времени. Таким образом,
модернизм Бодлера, каким я изобразил его здесь, может
лось ничего существенно нового» (Джекобс Д. Смерть и жизнь больших
американских городов. Пер. Л. Ю. Мотылева. М.: Новое издательство,
2011. С . 381); курсив Джекобс. Интересное развитие ее взгляд получил
в книгах: Sennett R. The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life.
Knopf, 1970 и Caro R. The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New
York. Knopf, 1974. Есть также обширная европейская литература в данном
русле. См. напр.: Lenz-Romeiss F. The City: New Town or Home Town. 1970.
Внутри профессионального сообщества архитекторов критика сфор-
мулированного Ле Корбюзье образа модерности и стерильности интер-
национального стиля в целом начинается с книги Venturi R. Complexity
and Contradictions in Architecture (Museum of Modern Art, 1966), вы-
шедшей с предис ловием Винсента Скалли. В прошлое десятилетие она
стала не только общепринятой, но и сама превратилась в ортодоксию.
Наиболее четко эта критика кодифицирована в Jencks C. The Language
of Post-Modern Architecture (Rizzolli, 1977). — Прим. авт.
218
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
оказаться для нашего времени даже более актуальным, чем
для его собственного; городские жители сегодняшнего дня
могут оказаться теми, с кем он действительно, согласно его
образу, был обручен (épousé).
Все это говорит о том, что модернизации присущи свои
собственные внутренние противоречия и диалектика; что
формы модернистской мысли и представлений могут за-
стывать, превращаясь в догматическую ортодоксию, и ста-
новиться архаичными; что другие образы модернизма могут
уходить в тень на поколения, даже не будучи превзойдены;
и что самые глубокие социальные и психические раны мо-
дерности могут многократно затягиваться, не будучи при это
по-настоящему залечены. Современное стремление к го-
роду, который не скрывал бы своих проблем, но жил бы
напряженной жизнью,— это стремление вскрыть застарелые,
но отчетливо модерные раны. Это желание признать раско-
лотую и не примиренную природу наших жизней, черпать
энергию из нашей внутренней борьбы, к чему бы она нас
ни привела. Если у одного модернизма мы научились соз-
давать ореолы вокруг наших пространств и нас самих, то
у другого — одного из самых старых, но также, как мы теперь
видим, и одного из самых новых,— мы можем научиться их
терять и заново находить самих себя.
[219]
ПЕТЕРБУРГ: МОДЕРНИЗМ
ОТСТАЛОСТИ
Солнце, которое в умеренных поясах устрем ляется к западу, остав-
ляя за собою лишь мимолетные сумерки, здесь движется медленно,
касаясь земли,— как будто покидает ее с сожалением. Его окружен-
ный красноватой дымкой диск катится, подобно огненной колесни-
це, над сумрачными лесами, замыкающими горизонт, и лучи его,
отражаясь в окнах дворцов, кажутся зрителю огромным пожаром.
Жозеф де Местр, «Санкт-Петербургские вечера» *
...Что в нас мало сознания собственного достоинства; что в нас
мало необходимого эгоизма... Многие ли, наконец, нашли свою
деятельность?
Тогда в характерах, жадных деятельности... зарождается то,
что называют мечтательностию. А знаете ли, что такое мечтатель,
господа?
Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределен-
но-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым лицом, всегда как
будто занятого чем-то ужасно тягостным, каким-то головоломней-
шим делом, иногда измученного, утомленного как будто от тяжких
трудов, но в сущности не производящего ровно ничего,— таков
бывает мечтатель снаружи.
В службе эти господа решительно не годятся, хоть и служат.
Ф. М . Достоевский, «Петербургская летопись», 1847
* Пер. с французского А . Л. Васильева. — Прим. пер.
220
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
К истории современного омрачения. Государственные кочевники
(чиновники и т. д .): нет «родины».
Ф. Ницще, «Воля к власти» *
... Я ведь был и в Париже, и в Лондоне... о том, что столичный
наш город принадлежит к стране загробного мира,— говорить об
этом не принято как-то при составлении географических карт,
путеводителей, указателей; красноречиво помалкивает тут сам
почтенный Бедекер; скромный провинциал, вовремя не осведом-
ленный об этом, попадает в лужу уже на Николаевском или даже
на Варшавском вокзале; он считается с явною администрацией
Петербурга: теневого паспорта у него нет.
А. Белый, «Петербург», 1913–1916
Мне всегда казалось, что в Петербурге обязательно должно слу-
читься что-нибудь очень пышное и торжественное.
О. Мандельштам, «Шум времени», 1925
Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и ге-
роя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних
отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда.
О. Мандельштам, «Египетская марка», 1928
МЫ рассмотрели, как писатели XIX века извлекали
творческий материал и энергию из разворачива-
ющегося процесса модернизации. Маркс, Бодлер
и многие другие стремились ухватить этот всемирный исто-
рический процесс и присвоить его человечеству: преобразо-
вать хаотическую энергию экономики и социальных перемен
в новые формы смысла и красоты, свободы и объединения;
помочь всем людям и самим себе стать как субъектами, так
и объектами модернизации. Мы наблюдали, как — через слия-
ние эмпатии и иронии, поражение романтизма и критическую
* Пер. с немецкого Е. Герцык. — П рим. пер.
221
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
точку зрения — родились модернистское искусство и мысль.
По крайней мере именно так это произошло в великих го-
родах Запада — Лондоне, Париже, Берлине, Вене, Нью-Йор-
ке,— где модернизация разворачивалась на протяжении все-
го XIX века.
Но что происходило за пределами Запада, где, несмотря
на вездесущее давление расширяющегося мирового рынка
и рост приходящей вслед за ним модерной мировой культу-
ры,— «общественной собственности» модерного человече-
ства, как говорил Маркс в «Манифесте Коммунистической
партии»,— модернизация не началась? Очевидно, что смыс-
лы модерности в таком случае окажутся более сложными,
неуловимыми и парадоксальными. Именно такова была
ситуация в России на протяжении большей части XIX века.
Одна из ключевых особенностей модерной истории Рос-
сии заключается в том, что экономика Российской империи
стагнировала, а в некоторых областях даже переживала ре-
гресс в тот самый период, когда экономики западных госу-
дарств разогнались и впечатляюще рванули вперед. Поэтому
до резкого индустриального подъема 1890-х годов русские
в XIX веке в основном переживали модернизацию как что-то,
не происходящее с ними; или даже как что-то, происходящее
очень далеко, в пространствах, которые они, даже если и на-
блюдали во время путешествий, воспринимали скорее как
фантастические антимиры, чем как социальную реальность;
или даже, если модернизация все же происходила с ними, то
только как что-то ущербное, шаткое, очевидно тупиковое или
невообразимо извращенное. Тоска из-за запоздалого раз-
вития и отсталости играла центральную роль в российской
политике и культуре с 1820-х годов и вплоть до советского
периода. За эти почти сто лет Россия столкнулась со всеми
проблемами, которые позднее пришлось и еще придется ре-
шать африканским, азиатским и латиноамериканским госу-
дарствам. Поэтому мы можем рассмотреть Россию XIX века
как архетип развивающегося Третьего мира в XX веке.1
222
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Одна из примечательных черт российского века отста-
лости — всего лишь за два поколения там родилась одна из
величайших мировых литератур. Более того, эта литература
породила одни из самых могущественных и долговечных
мифов и символов модерности: маленького человека, лиш-
него человека, Подполье, Авангард, Хрустальный дворец и,
наконец, Рабочие советы. На протяжении XIX века в наибо-
лее чистом виде модерность на русской земле проявлялась
в столице империи — Санкт-Петербурге. Я хочу рассмотреть,
как этот город, эта петербургская среда вдохновила череду
гениальных исследований модерной жизни. Я буду работать
хронологически и исторически, двигаясь от рождения в Пе-
тербурге уникальной литературы к эпохе формирования
там уникальной революции.
С самого начала я должен отметить ряд значительных
и важных вещей, которых я здесь касаться не буду. Во-пер-
вых, я не буду говорить о российской деревне, несмотря на
то, что большая часть русских жила именно там и деревня
в течение XIX века сама по себе пережила значительные
изменения. Во-вторых, я не буду говорить (разве что ми-
моходом) о бесконечно богатом символизме, сложившемся
вокруг противопоставления Петербурга и Москвы: Петер-
бург представляет собой все иностранные и космополи-
тические силы, в жизни России, а Москва — все местные,
особые традиции русского народа; Петербург как Просве-
щение, Москва как анти-Просвещение; Москва как чисто-
та крови и земли, Петербург как загрязнение и метисация;
Москва священная, Петербург секулярный (или даже атеи-
стический); Петербург как голова России, а Москва — как ее
сердце. Этот дуализм, одна из центральных осей модерной
истории и культуры России, обсуждался уже не раз под-
робно и обстоятельно.2 Вместо очередного исследования
противоречий между Петербургом и Москвой или Петер-
бургом и деревней я решил рассмотреть внутренние про-
тиворечия, которые раздирали изнутри жизнь столичного
города. Я буду рассматривать Петербург в двух ипостасях:
223
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
как чистейшее проявление российского типа модернизации
и одновременно как архетипический «нереальный город»
модерного мира.*
1. НАСТОЯЩИЙ И ПРИЗРАЧНЫЙ ГОРОД
«Геометриа явися»: город на болотах
Постройка Санкт-Петербурга — возможно, самый трагиче-
ский пример строительства в мировой истории модерни-
зации, задуманного и жестоко навязанного сверху 3. Петр I
начал его в 1703 году в болотистой местности, где река Нева
(«Болото» **) исторгает воды, принесенные из Ладожского
озера, в Финский залив, ведущий к Балтийскому морю. Он
представлял себе будущий город одновременно как воен-
ный порт — Петр обучался на голландских верфях, и его пер-
вым достижением в качестве царя стало утверждение Рос-
сии как морской державы — и центр торговли. Город должен
был стать, как сформулировал один из первых посетителей-
итальянцев, «окном в Европу»: не только практически — ведь
у России действительно никогда не было столь легкого вы-
хода в Европу,— но и, что одинаково важно, символически.
Первым делом Петр настоял на переносе столицы в новый
город, где теперь находилось окно в Европу, и поставил
крест на Москве с ее вековыми традициями и религиозной
аурой. В сущности, тем самым он показывал, что российская
история должна начаться заново, с чистого листа. И писать
** Я не знаю русского языка, хотя уже много лет изучаю русскую
историю и литературу. Этот раздел не появился бы без помощи Джор-
джа Фишера, А ллена Балларда и Ричарда Уортмана, но они, конечно,
не отвечают за мои ошибки. — П рим. авт.
** Берман принимает этимологию из словаря Фасмера, который счи-
тает, что название реки произошло от фин. Nevajoki, Nevajärvi от neva
«болото». Но есть и другие теории о происхождении названия Невы. —
Прим. пер.
224
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
на этом листе теперь будут исключительно по-европейски:
поэтому Петербург полностью спланировали, спроектиро-
вали и организовали архитекторы и инженеры, выписанные
из Англии, Франции, Голландии и Италии.
Как Амстердам и Венеция, город расположился на системе
островов и каналов; центр его тянулся вдоль набережных. Его
план был геометрическим, с прямыми линиями — стандарт для
западного городского строительства со времен Возрождения,
но первый прецедент в России, города в которой обычно
представляли собой беспорядочное скопление узких, изо-
гнутых средневековых улиц. Один справщик написал сти-
хотворение, которое выражает типичное для того времени
изумление перед новым порядком:
Геометриа явися,
Землемерие всем мнися.
Без меры несть что на земле.*
С другой стороны, некоторые основополагающие черты
нового города были исключительно российскими. Никакой
другой западный правитель не обладал достаточной вла-
стью, чтобы строить столь масштабно. За десять лет посреди
болот было построено 35 000 зданий; за два десятилетия
население достигло почти 100 000 человек, и, по сути, за
ночь Петербург превратился в одну из крупнейших столиц
Европы.** Переезд Людовика XIV из Парижа в Версаль со-
** Карион Истомин. В кн.: Вирши. Силлабическая поэзия XVII–
XVIII веков. Общая ред. П . Беркова. Вступ. статья И. Розанова. Л., «Сов.
писатель», 1935. С . 150. — Прим. пер.
** К 1800 году население Петербурга выросло до 220 000 человек.
На тот момент Москва была все еще немного впереди (в ней проживало
250 000), но вскоре Петербург обогнал старую столицу. В 1850 году
в нем проживало 485 000, в 1860 году — 667 000, в 1880 году — 877 000,
в 1890 году отметка перевалила за 1 млн человек, а к началу Первой
мировой войны достигла 2 млн. В течение XIX века он был четвертым
225
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
поставим с этим событием, однако Людовик хотел править
старой столицей из пригорода, а не полностью уничтожить
ее политическую значимость.
Другие события тоже были бы невозможны на Западе.
Петр приказал всем каменщикам Российского царства при-
быть на новую строительную площадку и запретил строить
из камня где-либо еще; значительной части дворянства он
приказал под угрозой лишения титула не просто переехать
в новую столицу, но и выстроить там дворцы. Наконец,
в крепостническом обществе, где большинство населения
было собственностью дворян-землевладельцев, либо госу-
дарства, Петр обладал безраздельной властью над, по сути,
бесконечным источником рабочей силы. Он заставлял не-
вольников без продыху расчищать заросли, осушать болота,
углублять реки, рыть каналы, возводить земляные дамбы
и насыпи, вбивать в мягкую землю сваи и с головокружитель-
ной скоростью возводить город. Человеческие жертвы были
гигантскими: за три года новый город поглотил целую армию
в 150 000 человек — они погибли или получили необратимые
увечья,— и государству пришлось привлечь из внутренних
территорий России новых строителей. Воля и власть массово
уничтожать под данных ради строительства сближала Петра
скорее с восточным деспотами древности — например, с фа-
раонам и их пирамидами,— чем с абсолютными монархами
Запада. Ужасные человеческие жертвы, кости, замешенные
в фундаменты величайших построек Петербурга, сразу за-
няли центральной место в городском фольклоре и мифо-
логии даже в глазах тех, кто беззаветно любил этот город.
В течение XVIII века Петербург стал одновременно до-
мом и символом новой официальной секулярной культуры.
Петр и его наследники спонсировали и приглашали мате-
матиков и инженеров, юристов и политических теоретиков,
или пятым по величине городом Европы, уступавшим Лондону, Парижу
и Берлину и равным Вене. Из: European Historical Statistics, 1750–1970,
ed. B. R . Mitchell (Columbia University Press, 1975), 76–78. — Прим. авт.
226
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
промышленников и политэкономистов, основали Академию
Наук и создали субсидируемое государством профессио-
нально-техническое образование. Лейбниц и Христиан фон
Вольф, Вольтер и Дидро, Бентам и Гердер — все они пользо-
вались протекцией императоров; их работы обсуждали и пе-
реводили, череда императоров и императриц спонсировала
и часто приглашала в Санкт-Петербург ученых; своего пика
этот процесс достиг при Екатерине Великой, которая желала
создать для своей абсолютной власти рациональный и утили-
таристский фасад. В то же время, особенно при императрицах
Елизавете, Анне и Екатерине, новую столицу роскошно укра-
шали в традициях западной архитектуры и декора — исполь-
зовали классическую перспективу и симметрию, барочную
монументальность, эксцентричность и игривость рококо,—
чтобы превратить город в политический театр, а ежедневную
городскую жизнь — в спектакль. Двумя главными объектами
стали Зимний дворец Бартоломео Растрелли (1754–1762),
первая постоянная императорская резиденция в новой сто-
лице, и огромная конная статуя Петра Великого в исполнении
Этьена Фальконе, Медный всадник (установлен в 1782 году) на
Сенатской площади, глядящий на Неву в одной из городских
точек притяжения. Все постройки должны были иметь харак-
терные западные фасады (традиционный русский стиль с его
деревянными стенами и куполами-луковками был напря-
мую запрещен), кроме того, чтобы создать ощущение бес-
конечного горизонта, было установлено соотношение 2:1 или
4:1 ширины улицы к высоте здания. При этом использование
пространства за фасадами зданий никак не регулировалось,
поэтому, особенно по мере роста города, пышные фасады
могли скрывать гноящиеся трущобы — как «плащи цивилиза-
ции», если говорить словами Петра Чаадаева, который ска-
зал о России в целом, что она цивилизована только снаружи.
В использовании культуры в политических целях не было
ничего нового: принцы, короли и императоры от Пьемонта
до Польши нанимали художников и ученых, чтобы укре-
пить и легитимировать свой режим. (Именно эту практику
227
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
едко раскритиковал Руссо в своем «Рассуждении о науках
и искусствах» 1750 года). Однако Санкт-Петербург отличал-
ся, во-первых, невероятным масштабом; во-вторых, резким
неравенством (выражающимся как в среде, так и в идеоло-
гии) между столицей и остальной страной, неравенством,
которое породило яростное сопротивление и долгосрочную
поляризацию; и, наконец, он отличался крайней нестабиль-
ностью и непредсказуемостью культуры, которая порожда-
лась страхами и нуждами деспотичных правителей. На про-
тяжении XVIII века типичная петербургская схема развития
культуры была такова: сначала трон поддерживал и спон-
сировал новаторов, а затем внезапно объявлял немилость,
сажал в тюрьму — как Ивана Посошкова, первого политэко-
номиста России, и Дмитрия Голицына, первого секулярного
политического теоретика,— и оставлял гнить в Петропавлов-
ской крепости, петербургской Бастилии, шпиль которой до-
минировал над городом (и доминирует по сей день); запад-
ных мыслителей приглашали ко двору, осыпали почестями
и похвалами, а затем срочно и без объяснений отправляли
обратно; молодых дворян посылали учиться в Сорбонну,
Глазго или Германию, а затем внезапно приказывали вер-
нуться и запрещали дальнейшее обучение; торжественно на-
чинали масштабные интеллектуальные проекты, а затем бес-
церемонно их обрывали — как, например, русский перевод
и издание «Энциклопедии», который с началом Пугачевского
восстания остановили на букве «K» и так и не возобновили.
После 1789 года Екатерина Великая и ее наследники
в страхе отпрянули от Европы, охваченной революционны-
ми волнами. За исключением краткого периода сближения
Наполеона и Александра I, который вынашивал либераль-
ные и конституционные инициативы внутри имперской бю-
рократии, политическая роль России на протяжении XIX века
сводилась к авангарду европейской контрреволюции. Но эта
роль была полна парадоксов. Во-первых, это означало не-
обходимость нанять самых способных и энергичных ре-
акционных мыслителей — например, де Местра и целый
228
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
ряд немецких романтиков,— но так Россия только сильнее
втягивалась в западные импульсы и энергии, от которых
желало избавиться ее правительство. Далее, иронично, что
levée en masse * против Наполеона в 1812 году, несмотря
на порожденные волны истерии, ксенофобии, обскурантиз-
ма и репрессий, своим успехом привел на улицы Парижа
целое поколение русских — что еще важнее, поколение мо-
лодых дворян и офицеров,— заразил вернувшихся ветера-
нов (героев «Войны и мира» Толстого) той самой жаждой
реформ, которую они должны были бы искоренить на За-
паде. Де Местр, которого мы цитировали в эпиграфе этой
главы, частично ощущал этот парадокс: с одной стороны,
он чувствовал, или хотел чувствовать, как безмятежное вели-
чие дворцов городского центра обещает укрытие от любой
бури; с другой стороны, он боялся, что здесь его настигнет
все, от чего он бежал, и не только отразится от блестящего
огромного пространства города, но и многократно умножит-
ся. Попытка укрыться здесь от революции может оказать-
ся столь же бесплодной, как попытка укрыться от солнца.
Первая искра зажглась 14 декабря 1825 года, сразу после
смерти Александра I, когда сотни сторонников реформ из
лейб-гвардии — декабристов — собрались вокруг статуи Пе-
тра на Сенатской площади и организовали сумбурное мас-
совое восстание в под держку великого князя Константина
и конституционной реформы. Восстание, запланированное
как первая часть государственного переворота, вскоре сошло
на нет. Декабристы так и не смогли договориться о единой
программе — для одних камнем преткновения становилась
конституция и законность происходящего; для других — фе-
дерализм в виде автономии для Польши, Литвы и Украины;
для третьих — упразднение крепостного права; более того,
они не предпринимали попыток найти под держку где-либо
вне своих дворянских и военных кругов. Их унижение и муче-
ничество — показательные процессы, казни, многочисленные
* Фр. «массовая мобилизация».— Прим. пер.
229
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
тюремные сроки и отправка в сибирскую ссылку, истребле-
ние целого поколения — возвестили наступление тридцатиле-
тия организованной жестокости и глупости при новом царе
Николае I. Герцен и Огарев, еще будучи подростками, дали
«Ганнибалову клятву» отомстить за павших героев и про-
несли восхищение перед декабристами через весь XIX век.
Историки и критики XX века, более скептично настроенные
по отношению к декабристам, подчеркивают их неоформлен-
ные и путанные цели, приверженность самодержавию и ре-
формам сверху, герметично отгороженный дворянский мир,
который они делили со своим врагом, правительством. Одна-
ко если мы взглянем на 14 декабря с точки зрения Петербурга,
то увидим новое основание для старой традиции. Если мы
рассмотрим сам город как символическое выражение модер-
низации сверху, то 14 декабря оказывается первой попыткой
утвердить в физическом и политическом центре города дру-
гой способ модернизации — модернизацию снизу. До этого
каждый закон и инициатива в Санкт-Петербурге исходили от
правительства; тут же внезапно сами люди — по крайней мере,
часть их — взяли инициативу в свои руки, предприняли попыт-
ку воплотить в жизнь свои представления о петербургской
политической среде и общественном пространстве. До этого
события причины, по которым каждый находился в Санкт-Пе-
тербурге, определялись правительством; некоторых оно даже
заставляло там оставаться. 14 декабря петербуржцы впервые
утвердили свое право находится в городе по собственному
желанию. Руссо в одном из своих самых проникновенных
предложений, написал, что «город составляют дома, а Граж-
данскую общину граждане» 4 14 декабря 1825 года знаменует
попытку жителей некоторых лучших домов Петербурга стать
гражданами и превратить свой город в гражданскую общину.
Конечно, эта попытка провалилась, как ей и было предна-
чертано; пройдут десятилетия, прежде чем состоится новая.
Следующие полстолетия петербуржцы занимались созда-
нием уникальной и гениальной литературной традиции, кото-
рая одержимо сосредоточилась на своем городе как символе
230
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
искаженной и искривленной модерности и добивалась вла-
сти над его мыслью от лица тех особых модерных мужчин
и женщин, которых он создал.
«Медный всадник» Пушкина: чиновник и царь
Эта традиция началась с поэмы Александра Пушкина «Мед-
ный всадник», написанной в 1833 году. Пушкин был близким
другом многих вождей декабристов; сам он избежал заклю-
чения лишь по той причине, что Николаю хотелось держать
его под рукой, под постоянным наблюдением и давлением.
В 1832 году он начал продолжение романа в стихах «Ев-
гений Онегин», главный герой которого, дворянин, должен
был стать участником восстания декабристов. Новую часть
Пушкин зашифровал кодом, известным только ему, но по-
нял, что даже это слишком рискованно, и сжег рукопись.
Затем он сел за работу над «Медным всадником». Эта по-
эма написана той же строфой, что и «Онегин», но короче
и напряженнее. Она не столь очевидно политизирована, как
уничтоженная Пушкиным рукопись, но, скорее, более тем-
перамента и опасна. Конечно, николаевские цензоры запре-
тили поэму, и она была опубликована только после смерти
поэта. К сожалению, «Медный всадник» почти неизвестен
англоязычному читателю, но столь разные люди как князь
Дмитрий Минский, Владимир Набоков и Эдмунд Уилсон счи-
тали ее величайшей русской поэмой. Одно это само по себе
оправдывает дальнейшее длительное рассмотрение поэмы.
Однако «Медный всадник», как и многие другие произведе-
ния русской литературы,— поступок не только политический,
но и художественный. Поэма открывает путь не только к ве-
ликим произведениям Гоголя, Достоевского, Белого, Эйзен-
штейна, Замятина и Мандельштама, но и к коллективному
революционному творчеству 1905 и 1917 годов, к отчаян-
ным инициативам советских диссидентов нашего времени.
Подзаголовок «Медного всадника» — «Петербургская по-
весть». События происходят на фоне катастрофического на-
231
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
воднения 1824 года, одного из трех самых разрушительных
в истории Петербурга. (Они случаются с интервалом почти
точно в сто лет и всегда во время важных исторических со-
бытий: в 1725 году — сразу после смерти Петра, а в последний
раз — в 1924 году, сразу после смерти Ленина). Пушкин предва-
ряет поэму кратким вступлением: «Происшествие, описанное
в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения
заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут
справиться с известием, составленным В. Н. Берхом». То, что
Пушкин настаивает на правдивости своего материала и отсы-
лает к тогдашней журналистике, связывает эту поэму с тради-
цией реализма XIX века.5 Я буду цитировать прозаический пе-
ревод Эдмунда Уилсона, самый живой из встреченных мной,
и так эта связь будет еще более очевидной.*
6Втожевремя
«Медный всадник», как и вся традиция, заданная этой поэмой,
раскрывает сюрреалистическую сторону жизни Петербурга.
«На берегу пустынных волн // Стоял он, дум великих полн,
// И вдаль глядел». Так начинается «Медный всадник», своего
рода петербургская Книга Бытия, берущая начало в разуме
своего бога-создателя. «И думал он: ‹...› Природой здесь
нам суждено // В Европу прорубить окно, // Ногою твердой
стать при море». Пушкин использует знакомый образ окна
в Европу, однако он видит это окно как что-то прорубленное,
возникшее в результате насилия, которое обернется против
города по мере развития описанных в поэме событий. В ду-
мах Петра о том, чтобы «ногою твердой стать при море», за-
ключена ирония: положение Петербурга на берегу окажется
куда менее прочным, чем помышлял его создатель.
«Прошло сто лет, и юный град, // Полнощных стран краса
и диво, // ‹...› Вознесся пышно, горделиво». Пушкин показы-
вает эту пышность в гордых образах:
* В данном издании приводится оригинал, но с переводом Уилсона
ознакомиться можно, например, в книге The Triple Thinkers: Twelve Essays
on Literary Subjects Oxford: University Press 1939, London: John Lehmann
1952 and Harmondsworth: Penguin 1962. — П рим. пер.
232
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева [буквально — «болото» — М . Б.];
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
И здесь поэт объявляет о своем присутствии:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Здесь Пушкин отсылает нас к знаменитым летним «белым
ночам», чтобы подчеркнуть славу Петербурга как «города
огней».
233
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
В этих строках можно увидеть несколько уровней. Во-пер-
вых, Петербург сам по себе является плодом мысли — как
говорил герой «Записок из Подполья» Достоевского, это
«самый отвлеченный и умышленный город на всем земном
шаре» — и, конечно же, Просвещения. Но образ уединен-
ных комнат без лампад и «задумчивых ночей» дает другое
представление об интеллектуальной и духовной жизни Пе-
тербурга в грядущие годы: огни ее в значительной степени
зажгутся в тускло освещенных комнатах вдалеке от офи-
циозного сияния Зимнего дворца и правительства, вне их
надзора (важный момент, порой вопрос жизни и смерти),
но также очень часто будут изолированы от очагов коллек-
тивной и общественной жизни.
Пушкин продолжает свой рассказ, описывая красоту зим-
них саней, свежесть девичьих лиц на праздниках и балах,
великолепие военных парадов (Николай I обожал парады
и создал для них огромные городские площади), праздно-
вание побед, жизненную силу Невы, ломающей лед по вес-
не. Эти стихи несомненно прекрасны, но в них есть и некая
затхлость: они написаны солидным тоном государственных
заказов и официозных поэм. Читатели XX века скорее всего
не под дадутся этой риторике, а в контексте всего текста по-
эмы мы со всеми основаниями можем ей не доверять. Тем не
менее мы чувствуем, что Пушкин — как и другие последовате-
ли этой традиции, даже Эйзенштейн в «Октябре»,— искренен
в каждой строчке. И действительно, только на фоне этого
стихотворного прославления становится очевиден весь ужас
Петербурга.
Пушкин заканчивает вступление поэмы торжественным
призывом:
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
234
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!
Поначалу эти строки кажутся патриотическим клише, но
затем оборачиваются жестокой иронией: из дальнейшего
рассказа становится ясно, что стихия так и не примирилась
с Петербургом — и, конечно же, так и не была побеждена,—
что ее злоба все так же сильна, а бдительный и мстительный
дух Петра никогда не упокоится.
«Была ужасная пора, // Об ней свежо воспоминанье...»
Итак, повествование началось. Пушкин делает акцент на
прошедшем времени, чтобы создать впечатление, будто бы
все ужасное осталось в прошлом; но рассказанная им исто-
рия этого не подтвердит.
Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постели беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
Здесь мы встречаем пушкинского героя, Евгения, бре-
дущего сквозь ветер и дождь. Он первый герой в русской
литературе и один из первых в литературе мировой, про-
исходящий из огромной безликой городской толпы. «Наш
герой // Живет в Коломне; где-то служит...» — чиновник низ-
ших рангов. Пушкин предполагает, что, возможно, когда-то
его семья занимала в российском обществе видное место,
но память и даже мечты об этом давно ушли в прошлое.
Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
235
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Здесь Пушкин иронизирует — мы увидим, насколько зави-
симым приходится быть Евгению.
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт.
Евгений влюблен в девушку еще более бедную, чем он
сам, которая живет на одном из самых далеких и открытых
стихие островов на окраине города. В мечтах Евгения о ней
мы видим, сколь скромны и обыденны его желания:
Жениться? Мне? зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно;
Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
236
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу семейство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...
Его мечты столь ограниченны, что кажутся даже жалкими;
и все же, несмотря на скромность, надежды Евгения резко
и трагически столкнутся с реальностью, которая вот-вот об-
рушится на город.
...Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Ветра, пришедшие со стороны Финского залива и Бал-
тийского моря, сдувают воды Невы обратно на город.
Река...
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась.
Язык Пушкина источает образы катастрофы и гибели;
по-английски с такой силой писал только Мильтон.
Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
237
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Втекли в подземные подвалы
‹...›
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стек ла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запас ливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого к ладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! все гибнет: кров и пища!
Где будет взять?
Стихия, которую должна была покорить имперская воля
Петра и победу над которой должен символизировать Пе-
тербург, отомстила. Пушкинские образы отражают ради-
кальный сдвиг перспективы: язык народа — верующего, су-
еверного, чуткого к приметам, боящегося Страшного суда
и конца света — в этот миг правдивее, чем секулярный, ра-
ционалистический язык правителей, из-за которых жители
Петербурга пришли в эту точку.
И что же делают эти правители? «В тот грозный год //
Покойный царь [Александр I — Б. М .] еще Россией // Со сла-
вой правил». Упоминание императорской славы в такой миг
может показаться иронией, даже едким сарказмом. Но если
мы не поймем, насколько сам Пушкин верил в истинность
императорской славы, то не ощутим всю силу его веры в пу-
стоту и тщетность этой славы. «На балкон, // Печален, сму-
тен, вышел он // И молвил: „С божией стихией // Царям
не совладать“». Очевидная истина. Но эта очевидная истина
здесь возмутительна, так как сам факт существования Петер-
бурга говорит о том, что царь может совладать со стихией.
238
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
В этом образе, который проносится так быстро, что его
легко упустить, мы видим кристаллизованную политическую
жизнь Петербурга следующих девяноста лет, вплоть до ре-
волюций 1917 года: царский дворец как остров, отрезанный
от бушующего вокруг него города.
Затем мы вновь встречаемся с Евгением на «площади Пе-
тровой» — Сенатской площади, где стоит «Медный всадник»
Фальконе — у кромки воды. Он забрался на мраморного льва,
«Без шляпы, руки сжав крестом, // Сидел недвижный, страш-
но бледный». Зачем он здесь?
Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слыхал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Та м буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный, да ива
239
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?
Тут Пушкин отстраняется от мучений Евгения и показыва-
ет его ироничное положение в городском пейзаже; теперь
он сам — петербургская статуя. «И он, как будто околдован,
// Как будто к мрамору прикован, // Сойти не может! Вкруг
него // Вода и больше ничего!..» Но не совсем ничего, ведь
прямо напротив Евгения «и, обращен к нему спиною, //
В неколебимой вышине, // Над возмущенною Невою //
Стоит с простертою рукою // Кумир на бронзовом коне».
Обожествленная статуя, которая дала начало и поэме, и го-
роду, теперь описывается как прямая противоположность
богу — как «кумир». Но этот кумир создал горожан по своему
образу и подобию; он обратил их, как Евгения, в статуи,
памятники отчаянию.
На следующий день, «Своим любуясь возмущеньем //
И покидая с небреженьем // Свою добычу», река отступила,
и люди вновь смогли выйти на улицы, а Евгений — слезть
с насеста напротив «Медного всадника». Петербуржцы пы-
таются собрать воедино свои разбитые жизни, а Евгений,
все еще вне себя от страха, нанимает лодку, чтобы попасть
к дому Параши у устья Невы. Он проплывает мимо искоре-
женных обломков и тел; наконец он прибывает к месту, но
там ничего нет — ни дома, ни ворот, ни ивы, ни людей — все
снесло водой.
И, полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.
240
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Евгений сошел с ума. Шум волн и ветра беспрерывно
раздавались в его ушах.
Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
А мир, как говорит нам Пушкин, вскоре его позабыл.
Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела.
Дети бросали в него камни, кучера стегали плетьми, но
он, вечно погруженный во внутреннюю тревогу, не замечал
этого.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...
Так могла бы закончиться любая другая душераздираю-
щая романтическая история — скажем, стихотворение Уорд-
сворта или сказка Гофмана. Но Пушкин пока не готов отпу-
стить Евгения. Однажды ночью, блуждая и не замечая, где
он, Евгений «вдруг // Остановился — и вокруг // Тихонько стал
водить очами // С боязнью дикой на лице». Он вновь вышел
на Сенатскую площадь:
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
241
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.
Неожиданно мысли Евгения прояснились. Он узнал это
место;
Он узнал
‹...›
и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Но тут внезапно:
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы с жав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
242
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Шепнул он, злобно задрожав,—
Ужо тебе!..»
Мы свидетели одного из величайших моментов века ро-
мантизма: в душе забитого простого человека разгорается
прометеевское неповиновение.
Но Пушкин не только романтик европейской традиции —
он реалист традиции русской; он знает, что в России 1820–30 -
х годов последнее слово всегда остается за Зевсом: «„Ужо
тебе!..“ И вдруг стремглав // Бежать пустился». И все это
в одной строчке, в одном слитом миге: ведь,
Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
Первый миг бунта Евгения становится последним.
И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
243
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.
Кумир прогоняет Евгения не только из центра города, но
из города вообще, загоняет на отдаленные острова, откуда
его любимую унесли волны. Именно там следующей весной
волны выбрасывают на берег и тело Евгения, «И тут же хлад-
ный труп его // Похоронили ради бога».
Я уделил так много времени и места «Медному всаднику»,
потому что, как мне кажется, в нем гениально кристаллизо-
вана и спрессована вся история Петербурга: образ велико-
лепия и роскоши города и образ безумия, на котором они
основаны,— безумной идеи, будто императорская воля может
раз и навсегда покорить переменчивую природу и господ-
ствовать над нею; месть природы, вылившаяся в катастрофу,
уничтожившая великолепие, разрушившая жизни и надеж-
ды; беззащитность и страх простых жителей Петербурга,
оказавшихся в этой битве исполинов между молотом и на-
ковальней; особая роль мелкого чиновника, образованного
пролетария — возможно, первого в ряду ницшеанских «го-
сударственных кочевников (гражданских служащих и т. д.):
без „родины“» — как олицетворения петербургского обыва-
теля; открытие, что обожествленный создатель Петербурга,
господствующий над городом в самом его центре,— всего
лишь истукан; храбрость обычного человека, осмелившегося
бросить вызов обожествленному кумиру и потребовать от
него расплаты; бесплодность первой попытки бунта; мощь
петербургских властей, которые могут подавить любой про-
тест и уничтожить любых протестующих; необычная и будто
магическая способность кумира завладевать разумом своих
под данных, незримая полиция, бесшумно давящая их в ночи,
доводящая до помешательства, навязывающая городским ни-
зам то же сумасшествие, от которого страдают верхи; образ
244
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
бессильных преемников Петра на троне, заключенных во
дворце-острове, отрезанном от кипящего и бурлящего горо-
да; эхо неповиновения, раздающееся, пусть и едва слышно,
на Сенатской площади еще долго после смерти первого бун-
товщика: «Ужо тебе!..»
Поэма Пушкина говорит от лица мучеников-декабристов,
чей краткий миг славы на Сенатской площади наступил через
год после бунта Евгения. Но «Медный всадник» преследует
и их, так как он глубже их проникает в город, в жизнь ни-
щих масс, которые декабристы предпочитали не замечать.
Во время жизни следующих поколений жители Петербур-
га постепенно найдут способы показать свое присутствие,
сделать его осязаемым, присвоить себе огромные площади
и здания родного города. Однако пока они прячутся или
держатся в стороне — в Подполье, если воспользоваться об-
разом Достоевского из 1860-х годов,— а Петербург все так же
воплощает собой парадокс существования общественного
пространства без общественной жизни.
Петербург при Николае I: дворец против проспекта
Период правления Николая I (1825–1855), начавшийся с ре-
прессий против декабристов и закончившийся военным уни-
жением при Севастополе,— один из самы мрачных в модер-
ной истории России. Самым долговечным вкладом Николая
в российскую историю оказалось создание подконтрольной
тайному Третьему Отделению политической полиции, кото-
рая проникла во все области народной жизни и утвердила
в Европе представление о России, как об архетипическом
«полицейском государстве». Но проблема заключалась не
только в том, что правительство Николая проводило жестокие
репрессии: закручивало гайки в отношении крестьян (при-
мерно 4⁄5 населения России) и уничтожило все их надежды на
освобождение от крепостного права, с ужасной жестокостью
подавляло бунты (за годы правления Николая произошло
более шестисот крестьянских бунтов; одним из достижений
245
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
царя было то, что он сумел сохранить все эти восстания и их
успешное подавление втайне от остальной страны); пригово-
рило тысячи людей к смерти по итогам тайных процессов, не
заботясь о создании даже видимости должного соблюдения
законов (Достоевский, самый известный из приговоренных,
был помилован за тридцать секунд до исполнения смертного
приговора); установило многоступенчатую цензуру, внедри-
ло в гимназии и университеты информаторов, в конечном ито-
ге парализовав образовательную систему и загнав всю мысль
и культуру в подполье и тюрьму или выдворив из страны.
Отличительной чертой был не сам факт репрессий или
их масштаб — Российское государство всегда жестоко отно-
силось к своим подданным,— а их цель. Петр Великий уби-
вал и осуществлял террор, чтобы прорубить окно в Европу,
открыть путь для роста и прогресса России; Николай и его
полиция репрессировали и зверствовали, чтобы это окно
захлопнуть. Разница между царем, ставшим героем пушкин-
ской поэмы, и царем, запретившим ее — это разница между
«строителем чудотворным» и полицейским. «Медный всад-
ник» преследовал своих соотечественников, чтобы подтол-
кнуть их вперед; нынешний правитель, кажется, стремится
только подавить их. В николаевском Петербурге пушкинский
Всадник не менее лишний, чем мелкий чиновник.
Писавший в эмиграции Александр Герцен создал класси-
ческие обзоры николаевского режима. Вот один из типичных
пассажей:
... перестав быть европейским, он [Николай I] не сделался русским
‹...› В его системе нет ничего деятельного... [Он] ограничился тем,
что прес ледовал всякое стремление к свободе, подавлял всякое
желание прогресса, останавливал всякое движение. ‹...› За время
своего долгого царствования он коснулся всех учреждений, всех
законов, повсюду внося начало смерти, оцепенения.*
7
* У Бермана пред ложения Герцена значительно переставлены (воз-
можно, в удобном д ля повествования порядке). Мы воспроизводим
246
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Герценовский образ системы без двигателя, вдохновлен-
ный модерными технологиями и индустрией, особенно точен.
Один из главных столпов политики царей от Петра до Ека-
терины Великой — меркантилистское стимулирование эконо-
мического и промышленного развития страны ради raison
d’État,* то есть попытка дать этой системе двигатель. При Ни-
колае свершился осознанный и решительный отход от этой
политики. (К ней не возвращались до 1890-х годов, когда ее
с невероятным успехом возродил граф Витте). Николай и его
министры считали, что правительство, напротив, должно тор-
мозить экономическое развитие, потому что экономический
прогресс может спровоцировать требования политических
реформ, и тогда политическую инициативу смогут перехва-
тить новые классы — буржуазия и промышленный пролета-
риат. Еще в полные надежд ранние годы царствования Алек-
сандра I правящие круги осознали, что институт крепостного
права — который прикреплял к земле и дворянам большин-
ство населения, демотивируя землевладельцев проводить
модернизацию своих имений (а на практике даже поощряя
их за отсутствие стремления к этому), и тем самым препят-
ствуя росту свободной, мобильной рабочей силы — главная
сила, замедляющая рост экономики страны. Николай же на-
стаивал на священности крепостного права, и одно лишь это
гарантировало замедление экономического развития России
в то время, когда экономики стран Западной Европы и Со-
единенных Штатов Америки резко рванули вперед. Из-за
этого относительная отсталость экономики России значитель-
но возросла за период николаевского царствования. Чтобы
потревожить исполинское самодовольство правительства,
потребовалось крупное военное поражение. Официальный
его вариант. Русский перевод письма Герцена (оригинал был написан
по-французски) см. в: Третье письмо Герцена к Линтону. Собрание со-
чинений в 30 томах. Том 12. Произведения 1852–1857 годов. С. 196 . —
Прим. пер.
* Фр. «государственные интересы». — П рим. пер.
247
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
курс на отсталость был свернут лишь после падения обороны
Севастополя, которое оказалось катастрофой одновременно
политической, военной и экономической.8
Политические и человеческие потери, понесенные из-за
отсталости, были очевидны таким разным мыслителям, как
дворянин Чаадаев и разночинец Белинский; оба считали,
что России необходим новый Петр Великий, чтобы заново
прорубить окно в Европу. Однако Чаадаева официально при-
знали сумасшедшим и многие годы держали под домашним
арестом; а что касается Белинского, то после его ранней
смерти от чахотки в начале 1848 года один из шефов тай-
ной полиции с легким сожалением сказал: «Мы бы сгноили
его в крепости». Кроме того, Белинский со своими взгляда-
ми на экономическое развитие — «государства без средне-
го класса осуждены на вечное ничтожество»; «внутренний
процесс гражданского развития в России начнется не пре-
жде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится
в буржуазию» — оказался в меньшинстве даже среди ради-
кальной оппозиции. Даже радикальные, демократические,
социалистические и прозападные мыслители николаевской
эпохи разделяли множество экономических и социальных
предрассудков правительства: аграризм, поддержку тради-
ций крестьянской общины, отвращение к буржуазии и про-
мышленности. Когда Герцен писал «не дай бог, чтобы у нас
была буржуазия!», он невольно способствовал тому, чтобы
ненавистная ему система так и не обрела двигатель.9
За годы николаевского режима Петербург навсегда приоб-
рел репутацию далекого, странного, призрачного места. В тот
период эти качества Петербурга особенно памятно описали
Гоголь и Достоевский. Так, например, Достоевский в короткой
повести «Слабое сердце» * , вышедшей в 1848 году, пишет:
* Ошибка Бермана или источника Бермана. Дальнейший отрывок на
самом деле происходит не из повести «С лабое сердце», а из фельетона
«Петербургские сновидения в стихах и прозе». Опубликован в журнале
«Время» в 1861 году. — Прим. пер.
248
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской
стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод . Подойдя
к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд
вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую
последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небоск лоне.
Ночь ложилась над городом ‹...› Мерзлый пар валил с усталых
лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего
звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных
подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма,
сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые зда-
ния вставали над старыми, новый город складывался в воздухе...
Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его,
сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих
или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит
на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою
очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу.10
Мы рассмотрим столетнюю эволюцию образа Петербурга
как миража, города-призрака, чье великолепие и роскошь
беспрерывно тают в дымке. Мне хотелось бы предположить,
что в политической и культурной атмосфере николаевского
режима эффузия призрачного символизма оказалась вполне
ощутимой. Этот город, само существование которого было
символом динамики России и ее стремления к модерниза-
ции, теперь оказался во главе системы, которая гордилась
тем, что не имела двигателя; наследники Медного Всадника
задремали в седле, туго натянули поводья, но не движутся,
лошадь и всадника поддерживает лишь мертвое равновесие
тяжелой конструкции. В николаевском Петербурге опасный,
но динамичный дух Петра был низведен до призрака, при-
видения, достаточно сильного, чтобы преследовать жителей
города, но слишком слабого, чтобы вдохнуть в этот город
жизнь. В таком случае неудивительно, что Петербург ока-
зался архетипическим модерным городом-призраком. Иро-
нично, что сама абсурдность, проистекающая из политики
Николая — политики навязанной сверху отсталости посреди
249
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
форм и символов навязанной сверху модернизации — превра-
тила Петербург в начало и источник вдохновения особого,
необычного модернизма, который можно назвать «модер-
низмом отсталости».
В николаевскую эпоху, пока государство дремало, ось
и драма модерности сместились от великолепного ансам-
бля государственных дворцов, памятников и огромных пло-
щадей, вытянувшихся вдоль Невы, к Невскому проспекту.
Невский — один из трех лучей, которые берут начало у Ад-
миралтейской площади и задают форму города. Он всегда
был одной из главнейших улиц Петербурга. Однако в начале
XIX века, в правление Александра, Невский был практически
полностью перестроен в стиле классицизма несколькими вы-
дающимися архитекторами. В конце 1820-х годов, после об-
ретения нового облика, Невский стал разительно выделяться
на фоне других радиальных улиц (Вознесенского проспекта
и Гороховой) и образовал уникальную городскую среду.11
Он стал самой длинной, самой широкой, самой освещенной
и наиболее ровно вымощенной улицей города. Он тянулся
прямой линией длиной 3,5 км от Адмиралтейской площади
на юго-запад (затем он сворачивал в сторону, сужался и не-
большим хвостиком шел к Александро-Невской лавре, но
этот отрезок редко воспринимался частью Невского, и по-
тому мы не будем его здесь рассматривать). После 1851 года
он приводил к вокзалу, с которого отправлялся экспресс
Москва—Петербург, один из главных символов модерной
энергии и подвижности России (и, конечно же, главный герой
« Анны Карениной» Толстого). Невский пересекали Мойка,
Екатерининский канал и Фонтанка, через которые были пе-
реброшены изящные мосты; с них открывался прекрасный
вид на кипучую городскую жизнь.
Проспект обрамляли, великолепные здания, зачастую
выстроенные на отдельных прилегающих площадях и об-
щественных местах: необарочный Собор Казанской иконы
Божьей Матери, Михайловский дворец в стиле рококо, где
в 1801 году телохранители задушили безумного царя Павла I,
250
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
чтобы проложить путь его сыну Александру; * классический
Александринский театр; Публичная библиотека, любимая
поколениями интеллектуалов, слишком бедных, чтобы по-
зволить себе собственные собрания книг; Гостиный двор
(или Les Grands Boutiques, как возвещали вывески) — пря-
моугольный блок застекленных магазинных галерей, возве-
денный по подобию улицы Риволи и Риджент-стрит, но, как
многие русские адаптации западных прототипов, превосхо-
дящий оригиналы в масштабе. Из каждой точки проспекта
можно было увидеть притягивающий взгляд шпиль Адмирал-
тейства (отреставрированный в 1806–1810 годах), благодаря
которому наблюдатель мог сориентироваться и определить
свое положение в городе в целом, когда солнце зажигало зо-
лотой шпиль, преобразуя реальное городское пространство
в фантастический пейзаж и бередя воображение.
Невский проспект был отличительно модерной средой во
многих проявлениях. Во-первых, прямота, ширина, длина
и хорошее покрытие проспекта превращали его в прекрас-
ное место для передвижения людей и вещей, идеальную ар-
терию для новых видов быстрого и массового транспорта.
Как и бульвары Османа в Париже 1860-х годов, он служил
сосредоточением недавно накопленных материальных и че-
ловеческих ресурсов: щебня и асфальта, газовых и электри-
ческих ламп, трамвайных путей, троллейбусов и автомобилей,
кинотеатров и массовых шествий. Но благодаря изначальной
хорошей планировке Петербурга Невский проспект появился
на целое поколение раньше, чем его парижские двойники,
и выполнял свои функции куда мягче, не разрушая прежние
районы и уклады жизни.
Далее, Невский выступал как витрина чудес новой по-
требительской экономики, которую только-только развер-
* И Казанский собор, и Михайловский дворец выстроены в стиле
к лассицизма. Не очень ясно, чем вызвана такая ошибка Бермана, так
как выше он упоминает, что Невский проспект был реконструирован
в классическом стиле. — П рим. пер.
251
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
нуло модерное массовое производство: мебель и столовые
приборы, ткани и одежда, обувь и книги — все это привле-
кало внимание за стеклами множества магазинов. Рядом
с иностранными товарами — французской модной одеждой
и мебелью, английским текстилем и седлами, немецким
фарфором и часами — находилась и иностранная культу-
ра, сами иностранцы и иностранки, запретные соблазны
внешнего мира. Недавно перевыпущенная коллекция ли-
тографий 1830-х годов показывает, что более половины вы-
весок на Невском были либо двуязычными, либо только на
французском или английском; лишь у немногих магазинов
вывески были исключительно на русском. Даже в таком ин-
тернациональном городе как Петербург Невский проспект
был необычайно космополитичным пространством.12 Более
того — что особенно важно при репрессивном правительстве
вроде николаевского — Невский проспект был единственным
публичным местом в Петербурге, где не преобладало госу-
дарство. Правительство могло следить за действиями и вза-
имодействиями, которые имели тут место, но не могло быть
их инициатором. Поэтому Невский выступал чем-то вроде
свободной зоны, в которой могли спонтанно раскрываться
социальные и психические силы.
Наконец, Невский проспект был единственным местом
в Петербурге (а возможно, и в России), где встречались
люди всех классов — от дворян, чьи дворцы и дома украша-
ли начало улицы у Адмиралтейства и Зимнего дворца, до
бедных ремесленников, проституток, оборванцев и богемы,
теснившихся в грязных ночлежках и кабаках у вокзала на
Знаменской площади, в конце проспекта. Невский сводил их
всех вместе, закручивал в воронку, оставлял наедине друг
с другом, заставляя их переживать опыт встреч и столкнове-
ний. Петербуржцы любили Невский и неутомимо мифологи-
зировали его, потому что он открывал для них перспективу
головокружительных обещаний модерного мира в самом
сердце отсталой страны.
252
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Гоголь: реализм и сюрреализм улицы
Первым обратил в искусство народную мифологию Невского
проспекта Гоголь. Он сделал это в великолепной повести
«Невский проспект», опубликованной в 1835 году. Эта по-
весть, едва известная англоговорящему читателю 13, пове-
ствует, главном образом, о романтической трагедии молодо-
го художника и романтическом фарсе молодого военного. Их
истории мы рассмотрим чуть ниже. Однако куда оригиналь-
нее и важнее для наших целей введение, в котором Гоголь
описывает естественную среду обитания своих протагони-
стов. На этих нескольких страницах он без видимого труда
(или даже осознанности) изобретает один из главных жанров
модерной литературы: роман о городской улице, в котором
она сама по себе выступает героиней. Рассказчик Гоголя
обращается к нам со следующей тирадой:
Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петер-
бурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — кра-
савица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чинов-
ных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта
‹...› А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект.
Да и кому же он не приятен?
Он пытается объяснить нам, чем же эта улица так отлича-
ется от всех прочих:
Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взо-
шедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь един-
ственное место, где показываются люди не по необходимости,
куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объ-
емлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Не-
вском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой,
Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть,
и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на
дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Пе-
253
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
тербурга. ‹...› Никакой адрес-календарь и справочное место не
доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемо-
гущий Невский проспект! ‹...› Какая быстрая совершается на нем
фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит
он перемен в течение одних суток!
Неотъемлемая суть улицы, наделяющая ее особым харак-
тером,— это ее общественная природа: люди приходят сюда,
чтобы увидеть других и показать себя, чтобы обменяться
идеями, без задней мысли, жадности или вражды, а просто
ради самого процесса. Их общение, как послание улицы,
представляет собой странную смесь реальности и фантазии:
с одной стороны,в нем раскрываются фантазии людей о том,
какими они хотели бы быть; с другой стороны, оно дает —
тем, кто сможет его расшифровать,— истинное знание о том,
каковы люди на самом деле.
В общественном характере Невского есть несколько пара-
доксов. С одной стороны, он сталкивает людей лицом к лицу;
с другой стороны, он проносит их друг мимо друга с такой
скоростью и силой, что рассмотреть кого-либо вблизи очень
сложно — пока сосредоточишься на лице, он уже исчезнет из
виду. Поэтому по большей части на Невском можно встретить
скорее не намеренно созданные образы людей, но проно-
сящиеся мимо отдельные их формы и черты.
Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило
на нем с леды свои! И неуклюжий грязный сапог отставного сол-
дата, под тяжестию которого, кажется, трескается самый гранит,
и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы,
оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как
подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд
прапорщика, проводящая по нем резкую царапину,— все вымеща-
ет на нем могущество силы или могущество слабости.
В этом отрывке, написанном будто бы с точки зрения
мостовой, мы понимаем, что рассмотреть людей Невского
254
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
проспекта можно только если разбивать их на составные
части — в данном случае мы видим ноги,— но понимаем также,
что если присмотреться, то в каждой черте можно увидеть
микрокосм всего их существа.
Этот мозаичный образ разрастается вширь и вглубь, ког-
да Гоголь описывает день из жизни улицы. «Какая быстрая
совершается на нем фантасмагория в течение одного только
дня!» Рассказчик Гоголя начинает потихоньку, с мига перед
рассветом, пока сама улица еще пуста: здесь только несколь-
ко мужичков, бредущих из деревни работать на больших
стройках города, да попрошаек, сгрудившихся перед пе-
карнями, чьи печи без продыху горели всю ночь. К рассвету
жизнь закипает: продавцы открывают магазины, выкладыва-
ют товары, старушки спешат на заутреню. Постепенно улица
заполняется чиновниками, спешащими на службу, а скоро
и экипажами их начальников. Когда наступает день, а Невский
разбухает от толп людей, набирает энергию и скорость, проза
Гоголя тоже ускоряется и становится более напряженной: не
прерываясь, он громоздит одну группу на другую — педагоги,
гувернантки и их подопечные, актеры, музыканты и их потен-
циальная публика, военные, покупатели и покупательницы,
мелкие чиновники и секретари, бесконечные классы россий-
ских должностных лиц — бегут туда-сюда, присваивают себе
лихорадочный ритм улицы, встраиваются в него. Наконец,
после обеда, в час пик, когда проспект наводняют модники
и их подражатели, энергия и скорость достигают такой точки,
что плывет в глазах и единство человеческого тела разбива-
ется на сюрреалистические фрагменты:
Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью
не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жиз-
ни,— предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые
излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили
все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад, усы, которые
заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к ко-
торым дышит самая трогательная привязанность их посессоров
255
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, плать-
ев, платков,— пестрых, легких, к которым иногда в течение целых
двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят
хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море
мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею
тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встрети-
те такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие,
узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с ко-
торыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь
неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим ов-
ладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже
дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение
природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на
Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на
два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась
на воздух, ес ли бы не под держивал ее мужчина; потому что даму
так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту
бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не
раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском
проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх
искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, ино-
гда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову,
иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица
и поднимете ее вверх.
И так далее. Очень сложно представить, что думали со-
временники Гоголя о подобных описаниях; они совершенно
точно почти не говорили о них в печати. Однако с точки зрения
нашего века текст поразителен: кажется, что Невский проспект
перенес Гоголя из своего века в наш, словно даму, поднявшую-
ся в воздух на собственных рукавах. «Улисс» Джойса, «Берлин,
Александерплац» Деблина, кубофутуристические городские
пейзажи, дадаистский и сюрреалистический монтаж, экспрес-
сионистское немецкое кино, Эйзенштейн и Дзига Вертов, па-
рижская новая волна — все они берут начало в этой точке;
кажется, что Гоголь из своей головы сочинил двадцатый век.
256
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Затем Гоголь вводит, возможно, впервые в литературе,
еще одну архетипическую модерную тему: особенную, вол-
шебную атмосферу ночного города. «Но как только сумерки
упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею,
вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких
окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют
показаться среди дня, тогда Невский проспект опять ожи-
вает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинствен-
ное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый,
чудесный свет». Старые, женатые, люди с обустроенными
домами к этому времени пропадают с улицы; теперь Невский
принадлежит молодым и жаждущим, а также, добавляет Го-
голь, рабочим, которые, конечно же, возвращаются с ра-
боты позже всех. «В это время чувствуется какая-то цель,
или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно
безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще
очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мо-
стовой и чуть не достигают головами Полицейского моста».
В этот час Невский становится одновременно и более реаль-
ным, и более призрачным. Реален он тем, что теперь улицей
правят более прямые и истинные потребности: секс, день-
ги, любовь; в воздухе витают непроизвольные намерения;
мозаичные фрагменты складываются теперь в настоящих
людей, которые жадно ищут других людей для исполне-
ния своих желаний. С другой стороны, сама глубина и сила
этих желаний искажают восприятие людей друг другом, как
и их представление о себе. «Я» и «они» возвышаются в вол-
шебном свете ламп, но их величие столь же недолговечно
и безосновательно, как тени на стене.
До этого момента рассказ Гоголя разворачивается стреми-
тельно и охватывает всю панораму. Однако теперь он рез-
ко, крупным планом, сосредотачивается на двоих молодых
людях, истории которых Гоголь собирается рассказать: ху-
дожнике Пискареве и поручике Пирогове. Эта неожиданная
пара прогуливается по проспекту, и тут их взгляды устрем-
ляются одновременно к двум разным проходящим девуш-
257
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
кам. Они разделяются и направляются в противоположные
стороны — от Невского проспекта в тьму боковых улиц, каж-
дый стремясь нагнать девушку своей мечты. Следуя за ними,
Гоголь сменяет сюрреалистическую виртуозность введения
на более традиционное связное повествование, типичное
для романтического реализма XIX века, в духе Бальзака,
Диккенса и Пушкина, ориентированное непосредственно на
людей и их жизни.
Поручик Пирогов — великий комический персонаж, памят-
ник грубой спеси и гордыни (сексуальной, классовой, нацио-
нальной), и поэтому его имя в России стало притчей во язы-
цех. Преследуя девушку, замеченную на Невском, Пирогов
приходит в район немцев-мастеровых; девушка оказывается
женой швабского кузнеца. Товары, представленные в ви-
тринах на Невском, которые с удовольствием потребляло
русское офицерство, призводил целый мир иностранцев.
В сущности, значение их для Петербурга и экономики России
показывает несостоятельность и внутреннюю слабость стра-
ны. Но Пирогов этого не понимает. Он обращается с ино-
странцами так, как привык обращаться со слугами. Первым
делом он возмущен, что муж, Шиллер, выражает негодова-
ние из-за заигрываний Пирогова с его женой,— в конце кон-
цов, разве Пирогов не русский офицер? Шиллер и его друг,
сапожник Гофман, не выражают восхищения — ведь сами мог-
ли бы стать офицерами, останься они на родине. Тогда Пи-
рогов оставляет Шиллеру заказ: с одной стороны, под этим
предлогом он сможет сюда вернуться, а с другой стороны
Пирогов рассматривает этот заказ как своего рода взятку,
чтобы муж посмотрел на дело с другой стороны. Пирогов
назначает фрау Шиллер тайное свидание; однако, когда он
приходит в другой раз, Шиллер и Гофман, к его удивлению,
сбивают его с ног и вышвыривают вон. Офицер ошеломлен:
Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова.
Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бе-
шенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для
258
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо
к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство
немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную
просьбу в Главный штаб. ‹ ...›
Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел
в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из
«Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении.
Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его не-
сколько пройтись по Невскому проспекту.
В своей попытке завоевать немку Пирогов потерпел уни-
жение, но из-за глупости так ничего и не вынес из пораже-
ния — и даже не осознал его. Через несколько минут Пиро-
гов и вовсе забывает обо всей этой истории; он счастливо
прогуливается по Невскому проспекту, размышляя, кого же
покорит теперь. Сумерки скрывают Пирогова, двигающегося
прямиком к Севастополю. Он — типичнейший представитель
класса, правившего Россией до 1917 года.
Пискарев — фигура куда более сложная, и это, возможно,
единственный по-настоящему трагический персонаж Гоголя,
в которого он полностью вкладывает свою душу. Офицер
погнался за блондинкой, а его друг, художник, влюбляется во
встречную брюнетку. Пискарев воображает, что она знатная
дама, и боится подойти к ней. Когда он все же решается, то
узнает, что она проститука — к тому же надалекая и циничная.
Пирогов, конечно же, понял бы это сразу; но Пискареву,
влюбленному в красоту, недостает жизненного опыта и жи-
тейской мудрости, чтобы увидеть в красоте маску и товар.
(И точно так же, как говорит нам рассказчик, Пискарев не
способен относиться к своим картинам как к товару: он так
радуется, когда люди ценят их красоту, что расстается с ними
за куда меньшие деньги, чем они стоят на рынке). Молодой
художник справляется с первой неудачей и теперь вообража-
ет, будто девушка — беззащитная жертва: он клянется спасти
ее, вдохновить своей любовью, привести на свой чердак,
где они смогли бы жить вместе — пусть бедно, но честно,
259
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
во имя любви и искусства. Вновь он собирается с силами,
приходит к ней и объясняется в чувствах — и, конечно же,
она снова смеется ему в лицо. И она даже не может ска-
зать, что кажется ей более смешным — идея любви или идея
честного заработка. И тут мы видим, что сам Пискарев куда
больше нуждается в помощи, чем она. Разбитый ощущением
пропасти, пролегающей между его мечтами и реальностью,
этот «петербургский мечтатель» перестает их различать. Он
больше не пишет картины, погружается в опиумные виде-
ния, которые перерастают в зависимость, затем запирается
в квартире и перерезает себе горло.
В чем смысл трагедии художника и фарса военного? Один
из выводов рассказчик произносит напрямую в конце пове-
сти: «О, не верьте этому Невскому проспекту!» Но за одной
иронией здесь скрывается другая. «Я всегда закутываюсь
покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе
не глядеть на встречающиеся предметы». Но ведь последние
пятьдесят страниц рассказчик только и занимался тем, что
глядел на эти предметы и давал поглядеть на них и нам. Он
продолжает в том же духе и завершает историю словами,
явно отрицающими ее. «Менее заглядывайте в окна магази-
нов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут
страшным количеством ассигнаций». Конечно же, вся история
была об ассигнациях! «Вы думаете, что эти дамы... но дамам
меньше всего верьте. ‹...› Но Боже вас сохрани заглядывать
дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы,
я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради
Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее,
проходите мимо». Ведь — и на этом заканчивается повесть:
Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего
тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит
белые и палевые стены домов, когда весь город превратится
в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы
кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лам-
пы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.
260
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Я столь обильно процитировал заключение, потому что
оно показывает, как очаровательно Гоголь, скрывающийся за
личиной рассказчика, играет со своими читателями. Кажется,
что рассказчик толком не понимает, что он говорит и дела-
ет — но об этом прекрасно знает автор. Кстати, именно такая
двойственная ирония окажется одним из главных способов
восприятия модерного города. Снова и снова, в литературе,
в популярной культуре, в наших повседневных беседах мы
встречаем подобные голоса: чем больше рассказчик прокли-
нает город, тем живее он описывает его, тем более привле-
кательным он его рисует; чем больше он отгораживается от
города, тем глубже он ассоциирует себя с ним, тем яснее,
что он жить без него он не может. Разоблачение Гоголем
Невского — это, по сути, способ «закутаться покрепче плащом
своим» — скрыться и замаскироваться; но Гоголь позволяет
нам увидеть под маской свой призывный взгляд.
Художника же и улицу связывают, прежде всего, мечты.
«О, не верьте этому Невскому проспекту! ‹...› все мечта...».
Так говорит нам рассказчик, поведав, как Пискарев погиб
из-за своих же мечт. Но как показал нам Гоголь, мечты были
движущей силой не только смерти этого художника, но и его
жизни. Мы видим это в характерной гоголевской уловке:
«Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который
составляет у нас довольно странное явление и столько же
принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, явля-
ющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному
миру. ‹...› Это был художник». Витиеватый тон этого пред-
ложения будто бы описывает художника с некоторым прене-
брежением; но его суть для тех, кто умеет замечать, возносит
художника на великие вершины: ведь в городе художник
олицетворяет или же даже воплощает «лицо, являющееся
нам в сновидении». Если это так, то тогда Невский проспект,
как петербургская улица грез,— не только естественная среда
обитания художника, но и, в масштабе макрокосма, его со-
автор: художник выражает красками на холсте — или словами
на печатном листе — коллективные мечты, которые улица во-
261
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
площает во времени и пространстве на основе общего чело-
веческого материала. Так что смертельная ошибка Пискарева
не в том, что он вышел на Невский проспект, а в том, что он
свернул с него — в сумрак обыденной жизни боковых улиц.
Если родство между художником и Проспектом пронизы-
вает Пискарева, то пронизывает оно и Гоголя: коллективные
мечты, придающее этой улице такую притягательность, слу-
жат главным источником также и силы его воображения. Ког-
да в последней строке повести Гоголь приписывает трево-
жный, но призывный свет Невского демону, он лукавит; нам
ясно, что если бы Гоголь воспринял этот образ буквально,
попытался отогнать демона и отвернуться от света ламп, то
уничтожил бы свою жизненную силу. Семнадцать лет спустя,
в совершенном другом мире вдали от Невского,— в Москве,
священном городе традиционной России, символической
противоположности Петербурга — Гоголь именно так и по-
ступит. Под влиянием недобросовестного, но фанатичного
проповедника он придет к мысли, что вся литература — и пре-
жде всего его собственная — есть порождение дьявола. Затем
он обустроит себе жизненный финал не менее ужасный, чем
тот, что он сочинил для Пискарева: сожжет неоконченные
второй и третий тома «Мертвых душ», а затем постепенно
заморит себя голодом.14
Одна из главных проблем гоголевской повести — взаи-
мосвязь между введением и двумя последующими расска-
зами. Истории Пискарева и Пирогова изложены языком ре-
ализма XIX века: ясно обозначенные персонажи совершают
понятные и последовательные поступки. При этом введе-
ние — гениально фрагментированный сюрреалистический
монтаж, более близкий по стилистике писателям XX века,
чем самому Гоголю. Связь (и непохожесть) двух этих язы-
ков и способов переживания может быть объяснена через
связь между двумя пространственно гомогенными, но ду-
ховно разобщенными аспектами модерной городской жизни.
На боковых улицах, где петербуржцы ведут свою обыденную
жизнь, вполне применимы привычные правила структуры
262
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и последовательности, времени и пространства, комедии
и трагедии. Однако на Невском проспекте эти правила отме-
няются, привычные представления и границы сносятся, люди
ступают в новый порядок пространства, времени и возможно-
стей. Возьмем, к примеру, одно из наиболее поразительных
модернистских описаний (это любимый отрывок Набокова
и его перевод *) в «Невском проспекте»: девушка, которая
так поразила Пискарева, оборачивается, улыбается ему, и...
Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались
недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом сто-
ял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда
часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными
ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз.
Этот ослепительный пугающий образ напоминает погру-
жение в кубистский пейзаж или воздействие галлюциногена.
Набоков видит здесь пример художественного прозрения
и гения, выходящего за любые социальные и эмпирические
границы. Я бы с этим поспорил; мне кажется, что Невский
проспект, наоборот, именно такие переживания и готовит
любому, кто ступит на него: Пискарев переживает именно
то, чего искал. Невский может неописуемо обогатить жизнь
петербуржцев, если только они знают, как отыскать щедро
предлагаемые им путешествия, а затем вернуться, сделать
шаг вперед, в следующее столетие, а затем — назад. Однако
тот, кто не сумеет объединить в своем сознании эти два го-
* Мы, конечно же, приводим оригинал Гоголя, но предлагаем инте-
ресующимся под этой сноской оценить и перевод Набокова: «The pave-
ment rushed away beneath him, the carriages with their galloping horses
seemed motionless, the bridge stretched out and broke in the middle of
its arch, a house stood upside down, a sentry box toppled towards him,
and the sentry’s halberd, together with the golden letters of a shop sign
and a pair of scissors painted on it, seemed to glitter on the very lash of
his eye».— Прим. пер.
263
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
родских мира, скорее всего, не сможет жить ни в одном из
них — а значит, и жить вовсе.
«Невский проспект» Гоголя, написанный в 1835 году, поя-
вился почти одновременно с «Медным всадником», вышед-
шим двумя годами ранее; но миры этих двух произведений
отличаются разительно. Первое бросающееся в глаза раз-
личие — Петербург Гоголя кажется полностью деполитизиро-
ванным: на гоголевском проспекте нет места трагическому
противостоянию обычного человека и власти. Это происхо-
дит не только потому, что чувственность Гоголя кардинально
отличается от пушкинской (хотя, без сомнения, и поэтому
тоже), но еще и потому, что он пытается выразить дух со-
вершенно другого городского пространства. Ведь Невский
проспект был единственным местом в Петербурге, кото-
рое развивалось независимо от государства. Возможно, это
единственное общественное пространство, где петербуржцы
могли взаимодействовать друг с другом, при этом не при-
слушиваясь к цокоту копыт Медного всадника. Это главный
источник кипучей свободы, пронизывающей атмосферу про-
спекта,— особенно во времена николаевского правления, ког-
да зловещее присутствие государства ощущалось во всем.
Однако аполитичность Невского проспекта превращала его
магические огни в бутафорию, а атмосферу свободы — ско-
рее в мираж. На этой улице петербуржцы ощущали себя
свободными индивидами; в реальности же они были загна-
ны в тесные социальные роли, навязанные самым жестко
стратифицированном обществом в Европе. Эта реальность
прорывается даже в обманчивый блеск проспекта. На одно
мгновение, будто одним кадром в киноленте, Гоголь показы-
вает нам неявные факты российской жизни:
Он [Пирогов] был очень доволен своим чином, в который был
произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил:
«Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» — но втайне
его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто
старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался
264
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невеж ливым,
он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал
заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой
офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что
тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы.
Здесь в своей обычной манере, будто бы ненароком,
Гоголь показывает нам сцену, которая станет одной из ос-
новных в петербургской литературе и жизни: столкновение
между офицером и мелким чиновником. Офицер, предста-
витель российского правящего класса, требует от чиновника
такого почтения, которое никогда не оказал бы в ответ. Пока
он преуспевает — и ставит чиновника на место. Чиновник,
прогуливающийся по Невскому проспекту, сбежал из «офи-
циальной» части Петербурга, от Невы и дворца, давящего
«Медного всадника», но и здесь, в самой свободной части
города, его затоптала миниатюрная, но столь же злонравная
копия царя. Поручик Пирогов, заставляя чиновника подчи-
ниться, насильно демонстрирует ему ограничения свободы
на Невском проспекте. Модерная текучесть и подвижность
проспекта оказываются всего лишь иллюзорной демон-
страцией, ослепительной ширмой автократической власти.
Мужчины и женщины на Невском проспекте могли и поза-
быть о российской политической жизни — и действительно,
частично именно потому здесь и было приятно находить-
ся,— но российская политика забывать о них совершенно
не собиралась.
И все же старый порядок здесь менее прочен, чем могло
бы показаться. Человек, построивший Петербург, был стра-
шен в своей непоколебимой целостности; а власть XIX века,
как показывает ее здесь (и во многих других своих произве-
дениях) Гоголь, попросту глупа, столь пуста и ненадежна, что
даже может показаться милой. Так, нервный поручик Пирогов
вынужден доказывать свою власть и превосходство не только
своим предполагаемым подчиненным и дамам, но и самому
себе. Медные всадники поздних лет не просто миниатюры —
265
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
они и вовсе сделаны из жести. Не только текучесть модерной
петербургской улицы — мираж, но и прочность ее правящего
класса. Это всего лишь первый этап столкновения офицер-
ства и мелких чиновников; таких происшествий, приводящих
к различным результатам, на протяжении столетия будет ста-
новиться все больше.
В других петербургских повестях Гоголя Невский проспект
все так же выступает пространством для насыщенной, сюр-
реалистической жизни. Униженный и оскорбленный мелкий
чиновник, главный герой «Записок сумасшедшего» (1835),
не может выносить людей проспекта, но быстро сходится
с его собаками, заводя с ними оживленные беседы. Позднее
в сюжете повести у него получается без дрожи взглянуть
на проезжающего мимо царя и поклониться ему, но лишь
потому, что, совсем обезумев, он считает себя ровней царю —
королем Испании.15 В повести «Нос» (1836) майор Ковалев
обнаруживает что его нос разъезжает в карете по Невскому,
и узнает, что нос теперь выше его рангом, а потому Ковалев
не может заставить его вернуться. В самой известной и, воз-
можно, наиболее гениальной своей петербургской повести,
«Шинель» (1842), Гоголь не упоминает Невский проспект на-
прямую — но и все остальные места тоже, потому что главный
герой, Акакий Акакиевич, совершенно отрезан от мира и не
замечает ничего вокруг, кроме пронизывающего холода. Но,
возможно, Невский — именно тот проспект, на котором Ака-
кий Акакиевич в своей новой шинели ненадолго оживает:
ненадолго, спеша на именины, куда коллеги пригласили его
после появления в обновке, он с восхищением смотрит на ро-
скошные витрины и проезжающих мимо великосветских дам;
но все заканчивается в мгновение ока, когда шинель с него
срывают. Все эти истории объединяет схожая мораль: без
хотя бы минимального чувства собственного достоинства —
«необходимого эгоизма», как сформулировал Достоевский
в фельетоне для «Санкт-Петербургских ведомостей»,— никто
не может участвовать в превратной и обманчивой, но в то же
время искренней общественной жизни Невского проспекта.
266
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Многие представители петербургских низов боятся Не-
вского. Но в этом они не одиноки. В журнальной статье под
названием «Петербургские записки 1836 года» Гоголь сетует:
С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся,
хлопотливый и толкающий Невский проспект упал совершенно:
гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный им-
ператор [Александр I — М . Б .] любил Английскую набережную.
Она точно прекрасна. Но тогда, только, когда начались гулянья,
заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие все в выи-
грыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти
занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно
было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо
в другом месте...16
Получается, что весь высший свет отступает с Невского
проспекта, так как опасается физического контакта с плебе-
ями — мастеровыми и чиновниками. Как бы ни был прекрасен
Невский они, кажется, готовы покинуть его и уйти в куда
менее интересное городское пространство — длиною всего
лишь в 1260 м против 4 км Невского; всего с одной стороной;
без кафе и магазинов — и все из-за страха. На самом деле,
это отступление продлится недолго, и вскоре аристократия
вернется к ярким огням Невского. Но теперь, чувствуя на-
пряжение внизу, она будет беспокойна, не уверена в своей
власти определить эту улицу как свою. Она боится, что вме-
сте с другими ее настоящими и выдуманными врагами ули-
ца — даже или, скорее, именно самая любимая ее улица — на
деле движется против нее.
Слова и сапоги: молодой Достоевский
В конце концов, движение на Невском проспекте сменит
направление. Однако сначала бедный чиновник должен об-
рести свой голос. Впервые он прозвучал в первом романе
Достоевского «Бедные люди», опубликованном в 1845 году 17
267
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Макар Девушкин, переписчик в неназванном правительствен-
ном департаменте, выступает достойным наследником шине-
ли Акакия Акакиевича. Из его рассказов о работе можно за-
ключить, что на самом деле его занятие — быть жертвой. Это
честный и добросовестный, застенчивый и скромный чело-
век; он держится стороной от бесконечных сплетен и интриг,
которыми живут его коллеги. В итоге они ополчаются против
него и назначают кем-то вроде ритуального козла отпущения;
мучая его, они подпитываются энергией, и в повседневной
жизни департамента появляются цель и единение. Девушкин
описывает себя как крысу, но такую крысу, издеваясь над
которой другие приобретают власть и славу. От гоголевско-
го предшественника его отличает — и позволяет вернуться
к прежней теме (разве какая-нибудь национальная лите-
ратура может иметь больше одной «Шинели»?) — развитое
мышление, богатая внутренняя жизнь, духовная гордость.
Из истории его жизни, изложенной в письмах к Варваре До-
броселовой, девушке, чье окно расположено напротив окна
его съемной квартиры, мы видим, что Девушкин достаточно
сознателен, чтобы возмущаться своей ролью жертвы, и до-
статочно умен, чтобы понимать свой вклад в создание такой
ситуации. Однако всего он не осознает: даже излагая свою
историю как историю жертвы, он продолжает разыгрывать
эту роль — и рассказывает все женщине, которой, как мы ви-
дим, абсолютно все равно.
Девушкин смутно понимает, что помимо бедности, одино-
чества и плохого здоровья причиной его проблем является
он сам. Девушкин вспоминает случай из молодости, когда он
влюбляется в красивую актрису, увиденную им с четвертого
балкона театра. Безусловно, в самой по себе такой любви нет
ничего плохого: это одна из вещей, ради которых существует
исполнительское искусство; то, ради чего публика возвра-
щается снова и снова; почти каждый проходит через такое
хотя бы раз. Большая часть публики (и сегодня не менее,
чем в 1840-е годы) держит подобную любовь в области фан-
тазий, не имеющей никакого отношения к реальной жизни.
268
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Меньшинство же поджидает актрис и актеров у гримерок,
приносит цветы, пишет страстные письма и жаждет встре-
титься с объектом любви лицом к лицу; обычно после этого
наступает печальный финал (только если сам влюбленный
вдруг не оказывается необычайно красивым и / или богатым),
но процесс этот позволяет таким людям удовлетворить свое
желание совместить настоящую и воображаемую жизнь. Од-
нако Девушкин не следует путем ни большинства, ни мень-
шинства; от этих двух миров он берет худшее:
В кармане только один целковый рубль оставался, а до жалова-
нья еще добрых дней десять. Так как бы вы думали, маточка? На
другой день, прежде чем на с лужбу идти, завернул я к парфюме-
ру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного
на весь капитал ‹...› Да и не обедал дома, а все мимо ее окон
ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой,
часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел,
чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил
таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал
поминутно и все мимо ее окон концы давал; замотался совсем,
задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило! 18
Если Невский проспект (у Гоголя) — это петербургская ли-
ния связи, то Девушкин поднимает трубку и даже оплачивает
разговор, но позвонить так и не осмеливается. Он готовится
к встрече одновременно публичной и личной; он жертвует
и рискует — только представьте себе этого бедного чиновника
в лавке французского парфюмера! — но в итоге не может пойти
до конца. Ключевые события его жизни — те, что не происхо-
дят: события, в которые он вкладывает сердце, прорабаты-
вает силой своего воображения, вокруг которых бесконечно
ходит кругами, но от которых сбегает в последний решаю-
щий миг. Неудивительно, что ему наскучило; даже самые со-
чувствующие ему читатели рано или поздно тоже заскучают.
Роман «Бедные люди» наделяет мелких чиновников голо-
сом, но поначалу этот голос запинается и дрожит. Зачастую
269
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
он похож на голос типичного шломиэля,* одного из глав-
ных персонажей восточноевропейского (русского, польского,
идиш) фольклора и литературы. При этом он удивительно
похож на один из самых заметных дворянских голосов рус-
ской литературы 1840-х годов — голос «лишнего человека».
Этот персонаж — названный и прекрасно прописанный Тур-
геневым («Дневник лишнего человека», 1850; «Рудин», 1856;
старшее поколение «Отцов и детей», 1862) — отличается бо-
гатством ума, чувственностью и талантом, но лишен воли
работать и действовать; он остается шломиэлем, даже когда
наследует землю. Политические взгляды мелких дворян из
«лишних людей» склоняются к идеалистическому либера-
лизму, который позволяет продраться через лицемерие ари-
стократии и сочувствовать обычным людям, но не дает воли
сражаться за радикальные изменения. Эти либералы 1840-х
годов погрязли в скуке и унынии, которые в произведени-
ях вроде «Бедных людей» смешались с еще одной волной
либерального отчаяния и скуки, медленно поднимающихся
наверх из низов.
Даже если бы Девушкин этого захотел, в 1840-е годы у бед-
ного чиновника не было никаких возможностей бороться. Од-
нако он все же может кое-что сделать — он может писать. Пока
Девушкин обнажает свое сердце — пусть даже перед той, кто
не слушает,— он начинает осознавать, что ему есть что сказать.
Разве он не менее способен к этому, чем любой другой житель
Петербурга? И почему бы вместо эскапистского и сентимен-
тального бреда, маскирующегося под литературу,— фанта-
зий о звоне мечей, скачущих конях, похищенных ночью дев-
ственницах — не представить публике настоящую внутреннюю
жизнь человека, такого же петербуржца, как они сами? Но
в этот миг перед ним возникает образ Невского проспекта,
который возвращает его с небес на землю:
* Шломиэль, шлемиль (идиш שלומיאל) — человек, который все делает
не так, у которого «обе руки левые». Архетипический персонаж еврей-
ского юмора. — П рим. пер.
270
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
А что, в самом деле, ведь вот иногда придет же мыс ль в голову...
ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот,
например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы в свет
книжка под титулом — «Стихотворения Макара Девушкина»! Ну что
бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось
и подумалось? А я про себя скажу, маточка, что как моя книжка-то
вышла бы в свет, так я бы решительно тогда на Невский не смел
бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал,
что вот де идет сочинитель литературы и пиита Девушкин, что вот,
дескать, это и есть сам Девушкин! Ну что бы я тогда, например,
с моими сапогами стал делать? Они у меня, замечу вам мимохо-
дом, маточка, почти всегда в заплатках, да и подметки, по правде
сказать, отстают иногда весьма неблагопристойно. Ну что тогда б
было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги
в заплатках! Какая-нибудь там контесса-дюшесса узнала бы, ну что
бы она-то, душка, сказала? Она-то, может быть, и не заметила бы;
ибо, как я полагаю, контессы не занимаются сапогами, к тому же
чиновничьими сапогами (потому что ведь сапоги сапогам рознь)...
Для чиновника, грамотного и чувствительного, но простого
и бедного, Невский проспект и русская литература таят одну
и ту же обманчивую надежду: надежду на место, в котором
могут свободно общаться друг с другом и при этом считать
друг друга равными все люди. Однако в России 1840-х годов,
в обществе, которое сочетает модерные средства массовой
коммуникации с феодальными общественными отношениями,
эта надежда — жестокое издевательство. Средства информа-
ции, которые должны объединять людей,— улица и печать —
лишний раз подчеркивают глубину пропасти между ними.
Чиновник у Достоевского боится двух вещей: с одной
стороны, того, что «какая-нибудь там контесса-дюшесса»,
правящий класс, господствующий и в уличной, и в культур-
ной жизни, будет смеяться над ним, над его потрепанными
подметками, над его потрепанной душой; с другой стороны —
и это, возможно, будет гораздо хуже,— что люди, имеющие
более высокий социальный статус даже не заметят его под-
271
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
меток («потому что ведь сапоги сапогам рознь») или его души.
И то, и другое может действительно случиться, ведь реакция
вышестоящих неподвластна чиновнику. Однако в его власти
остается самоуважение — его «сознание собственного досто-
инства, необходимого эгоизма». Класс бедных чиновников
должен научиться принимать свои сапоги и свои мысли, при-
йти к точке, где чужие взгляды — или их отсутствие — не будет
обращать их в пыль. Тогда и только тогда они смогут выйти
в печать и на улицу, создать на обширных публичных про-
странствах Петербурга настоящую публичную жизнь. В то
время, в 1845 году, ни один житель России, ни настоящий,
ни выдуманный, не мог детально представить, как это долж-
но произойти. Но роман «Бедные люди», по крайней мере,
ставит этот вопрос — ключевой вопрос в русской культуре
и политике — и позволяет людям 1840-х годов вообразить,
что изменения когда-нибудь и как-нибудь все же произойдут.
Во втором произведении Достоевского, повести «Двой-
ник», опубликованной годом позже, главный герой, также
правительственный чиновник, готовится к появлению на Не-
вском проспекте. Но это появление оказывается столь несо-
размерным реальным политическим и психическим ресурсам
господина Голядкина, что оборачивается гротескным кош-
маром, и Голядкин попадает в пучину паранойи, в которой
пребывает на протяжении 150 мучительных страниц; затем
водоворот наконец-то милосердно засасывает его внутрь.
В начале повести Голядкин просыпается, покидает свою
темную, захламленную, узкую комнату и садится в велико-
лепную, любовно описанную карету, заказанную на целый
день. Он приказывает кучеру отвезти его по Невскому в де-
партамент, открывает окна и благодушно улыбается толпе
прохожих. Но внезапно его узнают два чиновника из его
же департамента — они вдвое моложе, но имеют тот же чин.
Они машут ему и обращаются к нему по имени — Голядкин
пугается и прячется в глубине кареты. (Здесь мы наблюда-
ем двойственную роль транспортных средств в городском
движении: для людей, уверенных в себе лично или в силу
272
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
классовой принадлежности, в себе они могут служить кре-
постью, из которой они правят пешеходными массами; для
тех, кто такой уверенностью не обладает, они превращаются
в ловушки, клетки, открывающие заключенного в них чело-
века смертоносному взгляду любого убийцы 19). Мгновение
спустя происходит кое-что похуже: рядом, почти впритык,
останавливается карета его начальника. «Господин Голяд-
кин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно,
что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно,
покраснел до ушей». Полная ужаса реакция Голядкина на
взгляд его начальника переносит его за невидимую грани-
цу сумасшествия, которое в итоге поглотит его полностью:
«Пок лониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? —
думал в неописанной тоске наш герой,— или прикинуться, что не
я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть
как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! — говорил
господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем
и не сводя с него глаз.— Я, я ничего,— шептал он через силу,— я со -
всем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я,
не я, да и только».
20
Все сюрреалистично жестокие повороты сюжета берут на-
чало из этого самоотрицания. Голядкин, застигнутый врас-
плох посреди Невского проспекта, не смог посмотреть в лицо
начальнику и признать желание быть тому ровней. Жажда
скорости, стиля, роскоши — и признания его достоинства —
эти преступные желания принадлежат совсем не ему — «то во-
все не я, не я, да и только»,— но, каким-то странным образом,
«кому-то другому». Затем Достоевский устраивает события
так, что желания, которые были столь яростно отринуты «я»,
обретают материальную форму в настоящем «ком-то дру-
гом», в двойнике. Этот амбициозный, нахальный, агрессив-
ный человек, в котором Голядкин не осмеливается признать
самого себя, постепенно изгоняет самого Голядкина из его
же жизни, используя ее как трамплин для прыжка к успеху
273
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
и счастью, которых Голядкин столь жаждал все это время.
Чем больше Голядкин мучается (именно так Достоевский
заработал репутацию «жестокого таланта» 21), тем больше
убеждается, что это наказание за его греховные мечты. Он
пытается убедить своих начальников и себя самого, что он
никогда ничего не хотел для себя, желая лишь подчиняться
их воле. В конце повести, когда Голядкика увозит с собой
доктор, он все еще отрицает это и корит себя.
Заключенный в своем сумасшествии Голядкин — один из
первых страдающих одиночек, персонажей, которые будут
преследовать модерную литературу вплоть до наших дней.
Однако Голядкин — наследник также другой линии, линии
пушкинского Евгения, традиции мелких петербургских чи-
новников, что сходят с ума, провозглашая свое достоинство
в городе и обществе, которое его отрицает — и, кроме того,
попадают в беду, предъявляя свои претензии на город-
ских проспектах и площадях. Но между их сумасшествиями
есть важное различие. Евгений интернализовал верховную
власть Петербурга, она поселилась в его душе и подчини-
ла его внутреннюю жизнь драконовской дисциплине — как
сказал бы Фрейд, «оставила под присмотром внутренней
инстанции, подобной гарнизону в захваченном городе».*
22
Галлюцинации Голядкина принимают другую форму: вместо
принятия внешней власти он проецирует наружу, на «Го-
лядкина-младшего», свое стремление утвердить собствен-
ную власть. Молодому Гегелю и Фейербаху, мысль которых
глубоко повлияла на российскую интеллигенцию 1840-х го-
дов, движение от Евгения к Голядкину показалось бы сво-
еобразным прогрессом в сумасшествии: «я» признает себя,
пусть даже в исковерканном и саморазрушительном виде,
высшим источником власти. В соответствии с этой диалек-
тикой по-настоящему революционный прорыв произошел
бы, признай чиновник обоих Голядкиных со всеми их же-
ланиями и устремлениями. Тогда и только тогда он будет
* Перевод А. Руткевича. — П рим. пер.
274
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
готов обосновать свои притязания на признание — мораль-
ное, психологическое и политическое — в огромном и из-за
того ничейном публичном пространстве Петербурга. Но по-
надобится еще одно поколение, чтобы петербургский чи-
новник научился действовать.
2. 1860-Е ГОДЫ: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА УЛИЦЕ
1860-е годы стали водоразделом в истории России. Главное
событие этого периода — манифест Александра II 19 февраля
1861 года об отмене крепостного права. Однако можно ска-
зать, что с точки зрения политики и культуры 1860-е годы
начались несколькими годами ранее, с началом правления
Александра, когда после поражения в Крымской войне всем
стало совершенно ясно, что Россия должна пройти через
радикальные изменения. Ранние годы Александра ознаме-
новались значительной либерализацией культуры, открыты-
ми публичными дискуссиями и появлением новых ожида-
ний и надежд, которые усиливались вплоть до 19 февраля.
Однако Манифест об освобождении дал горькие всходы.
Очень скоро стало ясно, что крестьяне остались в кабале
у прежних господ, получив еще меньше земли, чем им от-
водилось ранее, и вдобавок приняв на себя целую систему
обязанностей перед сельскими общинами, оказавшись в ито-
ге свободными лишь на бумаге. Но помимо этих и других
существенных недостатков Манифеста об освобождении воз-
дух заполнило вездесущее чувство разочарования. Многие
жители Российской империи страстно надеялись, что осво-
бождение крестьян приведет к новому веку братства и со-
циального возрождения, сделает Россию маяком притяже-
ния для модерного мира; вместо этого они получили слегка
подправленное, но по существу не изменившееся сословное
общество. Их надежды были беспочвенны — столетие спустя
это хорошо видно. Но горечь, последовавшая за крушением
этих надежд, определила формирование российской культу-
ры и политики в следующие пятьдесят лет.
275
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
1860-е годы примечательны появлением нового поколения
и нового направления интеллигенции — разночинцев, «людей
разного чина и звания», как гласил административный термин,
определяющий тех, кто не принадлежал к дворянству или
купечеству. Этот термин более-менее соответствует фран-
цузскому дореволюционному третьему сословию; о степени
отсталости России говорит тот факт, что представители этого
сословия, к которому, безусловно, принадлежала значитель-
ная часть подданных Российской империи, до той поры не
являлись акторами исторического процесса.. Когда же разно-
чинцы — сыновья армейских сержантов, ткачей, деревенских
священников, чиновников-писарей — наконец появляются,
они выходят на сцену с агрессивным напором. Они гордят-
ся своей прямолинейной грубостью, отсутствием светских
манер, презрением ко всему галантному. Самый запомина-
ющийся портрет «нового человека» 1860-х годов — Базаров,
молодой студент медицинского факультета в «Отцах и детях»
Тургенева. Базаров изрекает презрительные обличитель-
ные речи против поэзии, искусства и морали, всех извест-
ных религий и институтов; свои время и энергию он тратит
на изучение математики и препарирование лягушек. Именно
применительно к нему Тургенев создает слово «нигилизм».
На самом деле негативизм Базарова и всего поколения 1860-
х годов — ограниченный и выборочный: например, «новый
человек» как правило отличается некритическим «позитивист-
ским» взглядом на предположительно научные и рациональ-
ные объяснения жизни. Тем не менее интеллигенты-плебеи
1860-х годов радикально порывают со взрощенным либе-
ральным гуманизмом, столь характерным для интеллиген-
тов-дворян 1840-х годов. И этот разрыв проявлялся скорее
в их поведении, чем во взглядах: «шестидесятники» намере-
ны предпринимать решительные действия и с готовностью
принимают на себя и свое сообщество любые неудобства,
боль и проблемы, которые влекут за собой эти действия.23
1 сентября 1861 года по Невскому проспекту пронесся
на полном скаку и скрылся, оставив за собой листовки,
276
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
таинственный всадник. Влияние этого поступка было неверо-
ятным, и вскоре весь город начал обсуждать его послание —
прокламацию «К молодому поколению». Послание было
простым и удивительно непреложным:
Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горно-
стаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность,
мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, пони-
мающего жизнь и народ, его избравший. Нам нужен не император,
помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина,
получающий за свою службу жалованье...24
Тремя неделями позднее, 23 сентября, толпа на Невском
увидела еще более невероятное зрелище — возможно, един-
ственное, чего ранее не бывало на этом проспекте: полити-
ческую демонстрацию. Группа из сотен студентов («молодое
поколение») перешла Неву от Университета и направилась
по проспекту к дому ректора. Они протестовали против ряда
административных нововведений, которые запрещали сту-
дентам и преподавателям любые собрания и — что еще ужас-
нее — упраздняли стипендии и другую финансовую помощь,
тем самым прекращая поток студентов из бедных слоев, на-
воднивших университет в последние годы, и возвращая выс-
шему образованию статус кастовой привилегии, каковым оно
было при Николае I. Демонстрация была спонтанной, настро-
ение собравшихся — приподнятым, уличная толпа встречала
их сочувственно. Вот как участник этих событий вспоминал
о их через много лет:
‹...› Толпы праздных зрителей собрались со всех сторон и с удив-
лением с мотрели на наше небывалое шествие. Был прекрасный
сентябрьский день. ‹...› Дорогой к нам массами присоединялись
девицы, слушательницы университетских лекций и множество
молодых людей, имевших какое-либо отношение к студенчеству,
или просто нам сочувствовавших. До Невского проспекта мы до-
шли ‹...› французские парикмахеры выбегали из своих магазинов
277
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
и с оживленными лицами, сверкая глазами и весело потирая руки
воск лицали: «Revolution! Revolution!» 25
Той ночью правительство — несомненно, испуганное эхом
восклицаний французских парикмахеров — арестовало де-
сятки студентов, в том числе тех делегатов, которым была
обещана неприкосновенность. Так начались многомесячные
беспорядки на Васильевском острове, внутри университета
и вокруг него: стачки студентов и преподавателей, ввод по-
лиции, массовые исключения, увольнения и аресты, а в ко-
нечном итоге — закрытие университета на два года. После
23 сентября молодые активисты старались избегать Невского
и центра города. Когда их изгнали и из здания университета,
они скрылись из виду, чтобы организовать сложную сеть
подпольных групп и ячеек. Многие из них покинули Петер-
бург и отправились в провинцию, следуя призыву Герцена
«идти в народ»,26 хотя массовым это движение стало только
в следующем десятилетии. Другие и вовсе покинули Россию,
чтобы продолжить обучение в Западной Европе, зачастую
в Швейцарии, в основном на естественнонаучных и меди-
цинских факультетах. Жизнь на Невском вернулась в прежнее
русло: следующая демонстрация состоится здесь лишь через
десять с лишним лет. Тем не менее на один короткий миг
Петербург почувствовал вкус политических столкновений на
городских улицах. Эти улицы безвозвратно приобрели ста-
тус политического пространства. Русская литература 1860-х
годов будет стремиться заполнить это пространство с помо-
щью воображения.
Чернышевский: улица как граница
Первая великая сцена столкновения 1860-х годов была заду-
мана и написана в тюремном заключении. В июле 1862 года
радикальный критик и публицист Николай Чернышевский
был арестован на основании неопределенных обвинений
в подрывной деятельности и заговоре против государства.
278
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
На самом деле против Чернышевского не было ни одной
улики, ведь он весьма предусмотрительно ограничивал свою
деятельность областью литературы и мысли. А это значит,
что улики необходимо было сфабриковать. На создание под-
лога правительству требовалось некоторое время, поэтому
Чернышевский без суда и следствия почти два года провел
под стражей в казематах Петропавловской крепости, старей-
шего здании Санкт-Петербурга и его Бастилии.* В конце кон-
цов тайный трибунал приговорил его к пожизненной ссылке
в Сибирь, где он прожил двадцать лет; Чернышевского ос-
вободили лишь тогда, когда здоровье его было подорвано,
ум ослаб и приблизилась смерть. В анналах российской ин-
теллигенции мученичество возвело его в ранг святых. Про-
зябая в одиночном заключении и ожидая приговора, Чер-
нышевский лихорадочно читал и писал. Самым важным из
его тюремных произведений стал роман «Что делать?». Эта
книга была создана в 1863 году отдельными главами и пере-
жила целую череду странных приключений, которые сами
* Эта крепость заслуживает отдельного внимания ввиду ее символиче-
ской, а также военной и политической важности. Так, Троцкий в октябре
1905 года обличал манифест Николая II от 17 октября, обещавший пред-
ставительное правление и конституцию: «Оглянитесь вокруг, граждане:
разве что-нибудь изменилось со вчерашнего дня? <..> Разве Петропав-
ловская крепость не господствует над столицей? Разве вы не слыши-
те по-прежнему стона и зубовного скрежета из-за ее проклятых стен?»
В поэтическом романе Андрея Белого «Петербург», где речь идет о том
же месяце: «над белыми крепостными стенами безнадежно и холодно
протянулся под небо мучительно острый, немилосердный, холодный
Петропавловский шпиц». Здесь мы видим символическое противопо-
ставление представлений петербуржцев о двух самых заметных верти-
калях в полностью горизонтальном ландшафте города: золотой шпиль
Адмиралтейства утверждается как надежда города на жизнь и радость;
башня каменной крепости подчеркивает, что государство всегда угро-
жает этой надежде, отбрасывает постоянную тень на солнечный шпиль
города. — П рим. авт.
279
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
будто бы сошли со страниц сюрреалистического петербург-
ского романа — только никакой реальный романист не смог
бы описать их без тяжелых последствий для самого себя.
Сначала рукопись попала к руководству тюрьмы, которое
направило ее в специально созданную для этого следствен-
ную комиссию. Обе инстанции поставили на рукописи так
много служебных печатей, что цензор, получивший ее, даже
не стал проверять текст, подумав, что все и так уже исправле-
но и утверждено. Затем текст передали либеральному поэту
Николаю Некрасову, другу Чернышевского и одному из из-
дателей журнала «Современник». Но Некрасов обронил его
на Невском проспекте. Рукопись обнаружилась только после
публикации объявления в петербургских газетах — ее нашел
на улице один молодой чиновник.
Все, в том числе и сам Чернышевский, считали «Что де-
лать?» литературным провалом: в романе нет сколь-нибудь
внятного сюжета, интересных характеров — есть скорее набор
неотличимых друг от друга персонажей,— четко выписанной
среды, единства тона и чувства. Однако и Толстой, и Ленин
позаимствуют у Чернышевского название и сопутствующую
ему ауру морального авторитета. Они поняли, что эта неуклю-
жая книга, несмотря на свои ужасные недостатки, обозначила
ключевой этап в развитии модерного духа России.27
Причина мгновенно обрушившейся на нее славы и неиз-
менной ее силы раскрывается в подзаголовке: «Из расска-
зов о новых людях». Чернышевский был уверен, что Россия
может быть вытолкнута в модерный мир только благодаря
появлению и инициативе класса «новых людей». «Что де-
лать?» — одновременно манифест и инструкция для этого бу-
дущего авангарда. Конечно, Чернышевский не мог показать
новых мужчин и женщин в контексте каких-либо конкретных
политических событий. Он сделал нечто куда более удиви-
тельное: обрисовал ряд типичных жизней, в которых все
личные отношения были пропитаны политикой.
Вот, например, такой типичный случай — один день из жиз-
ни «нового человека»:
280
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Какой человек был Лопухов? — Вот какой: шел он в оборванном
мундире по Каменно-Островскому проспекту * (с урока, по 50 коп.
урок, верстах в трех за Лицеем). Идет ему навстречу некто оса-
нистый, моцион делает, да как осанистый, прямо на него, не сто-
ронится; а у Лопухова было в то время правило: кроме женщин,
ни перед кем первый не сторонюсь; задели друг друга плечами;
некто, сделав полуоборот, сказал: «что ты за свинья, скотина»,
готовясь продолжать назидание, а Лопухов сделал полный оборот
к некоему, взял некоего в охапку и положил в канаву, очень осто-
рожно, и стоит над ним, и говорит: ты не шевелись, а то дальше
протащу, где грязь глубже. Проходили два мужика, заглянули,
похвалили; проходил чиновник, заглянул, не похвалил, но сладко
улыбнулся; проезжали экипажи,— из них не заглядывали ‹...› посто-
ял Лопухов, опять взял некоего, не в охапку, а за руку, поднял,
вывел на шоссе, и говорит: «Ах, милостивый государь, как это
вы изволили оступиться? Не повредились, надеюсь? Позвольте
вас обтереть?» Проходил мужик, стал помогать обтирать, прохо-
дили два мещанина, стали помогать обтирать, обтерли некоего
и разошлись. 28
Читателям сложно понять, как нужно реагировать на такую
сцену. Мы, видимо, должны восхититься мужеством и хра-
бростью Лопухова, да и попросту хотя бы его физической
силой. Однако читатель, знакомый с русской литературой,
должен удивиться, что у героя нет ни внутренней жизни, ни
самосознания. Неужели у него действительно не осталось
ни капли страха перед правящим классом, приобретенной
привычки подавлять свое раздражение? Может ли он быть
полностью свободен от переживаний о последствиях такого
* Стоит отметить, что Каменноостровский проспект, куда Чернышев-
ский помещает сцену столкновения, оканчивается у Петропавловской
крепости, где Чернышевский отбывал заключение во время написания
книги. Размещение сцены именно в этом месте представляло скрытую,
но значительную угрозу тем силам, что надеялись удержать автора и его
идеи взаперти.— П рим. авт.
281
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
поступка? О власти чиновника, который может исключить его
из университета и бросить в тюрьму? Неужели он хотя бы
немного, хоть на секунду, не волнуется, что вообще не смо-
жет поднять этого мужчину? Чернышевский, без сомнения,
сказал бы, что именно в этом и заключается новизна «новых
людей»: они свободны от бесконечных гамлетовских сомне-
ний и переживаний, которые до тех пор ослабляли русскую
душу. Вероятно, никто из этих новых людей не позволил бы
Медному всаднику себя преследовать, а просто выкинул бы
его в Неву вместе с конем. Но именно отсутствие внутреннего
конфликта лишает победу Лопухова чувства удовлетворения:
она слишком быстра, слишком легка; столкновение между
офицером и чиновником, между правителями и под данными
заканчивается до того, как станет реальным.
Иронично, что Чернышевский запомнился как самый за-
метный апологет литературного «реализма» и непоколеби-
мый противник, как он говорил, «фантасмагории» — ведь это
безусловно один из самых фантастических героев и одна
из самых фантасмагорических сцен в русской литературе.
Она напоминает литературные жанры на другом полюсе
от реализма: легенды об американском фронтире, военный
эпос казаков, роман о Зверобое или Тарасе Бульбе. Лопу-
хов — ковбой или степной дикарь; ему не хватает только коня.
Сценические ремарки указывают, что эпизод должен про-
исходить на петербургском проспекте, но по духу он куда
ближе к корралю О-Кей.* Это показывает, что в глубине
души Чернышевский — истинный «петербургский мечтатель».
Одна из главных черт мифологического мира фронти-
ра — бесклассовость: один человек выступает против друго-
го человека как индивид против индивида, словно в вакууме.
Именно мечта о предшествовавшей цивилизации демократии
* Перестрелка у корраля О-Кей произошла 26 октября 1881 года в го-
роде Тумстоун. Стала одной из самых известных перестрелок на Диком
Западе из-за постоянного воспроизведения в кинематографе и литера-
туре. — П рим. пер.
282
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
«дикарей» делает мифологию фронтира столь сильной и при-
тягательной. Но когда подобные фантазии переносятся на
реальную улицу в Санкт-Петербурге, результат выходит
особенно гротескным. Обратите внимание на зрителей со
второго плана этой сцены Чернышевского: и мужики, и чи-
новники открыто выражают свое удовольствие; даже люди
в экипажах не встревожены тем, что сановник брошен в грязь.
Герой не только не попадает в неприятности — наоборот, его
радостно (или безалаберно) поддерживает весь мир. Эта сце-
на прекрасно подошла бы открытому и слабозаселенному
миру мифического американского фронтира. Но чтобы она
хотя бы отдаленно походила на правду в Петербурге, санов-
ники должны были бы перестать править этим городом — да
и, безусловно, всем обществом. Другими словами, русская
революция уже должна была бы свершиться! А если это так,
то зачем вообще бросать человека в канаву? Даже будь в этом
смысл — например, унизить представителя бывшего правя-
щего класса,— то в поступке этом не было бы ничего геро-
ического.* Таким образом, даже если бы эта странная сцена
была возможна — она не была бы необходима. Она со всей
очевидностью не справляется с пробуждением героических
эмоций ни в литературном, ни в политическом отношении.
Однако, несмотря на всю бессвязность и неумелость, Чер-
нышевский показывает важную вещь: он изображает, как пле-
беи Петербурга бросают вызов сановникам на улице средь
* Достаточно легко представить такую сцену в любом постреволю-
ционном городе мира: скажем, в Тегеране или в Манагуа в 1979 году.
Но в сценических ремарках Чернышевского должны бы были прои-
зойти значительные изменения: сановник (теперь уже бывший), если он
хотел выжить, должен был бы вести себя тихо и даже с подчеркнутым
почтением к своим бывшим подданным. Либо, наоборот, мы могли бы
представить описанное Чернышевским столкновение в самом начале
революции. Но тогда второстепенные персонажи разных классов вышли
бы на первый план и вступили бы в столкновение, они не могли безмя-
тежно разойтись. — Прим. авт.
283
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
бела дня. Эта сцена куда более подрывная, нежели ложные
обвинения, при помощи которых государство разрушило его
жизнь. То, что Чернышевский придумал и написал ее, говорит
не только о его моральной храбрости, но и о силе его вооб-
ражения. Помещение этой сцены в Санкт-Петербург придает
ей особое значение и живость. Этот город должен был вос-
производить для населения Российской империи требования
и риски модернизации сверху, а роман «Что делать?» впервые
в российской истории показывает противоположную мечту —
мечту о модернизации снизу. Чернышевский осознавал, на-
сколько неуклюже его книга показывает как трагедию, так
и мечту. Тем не менее перед тем, как исчезнуть в пустошах
Сибири, он оставил своим последователям в литературе и по-
литике важную задачу — проработать эту мечту и приблизить
ее к реальности.
Подпольный человек на улице
«Записки из подполья» Достоевского, опубликованные
в 1864 году, полны отсылок к Чернышевскому и роману «Что
делать?» Одна из самых знаменитых таких отсылок — образ
Хрустального дворца. Лондонский Хрустальный дворец был
построен в Гайд-парке к Международной выставке 1851 года,
а в 1854 году перенесен в Сиднем-Хилл. Чернышевский видел
его во время своего краткого посещения Лондона в 1859 году,
и этот дворец появляется в качестве волшебного образа во
сне героини его романа, Веры Павловны. Для Чернышевского
и его авангарда «новых людей» Хрустальный дворец — символ
новых видов и счастья, которыми может насладиться и Россия,
если она совершит великий исторический прыжок к модерно-
сти. Для Достоевского и его антигероя Хрустальный дворец
также является символом модерности; только тут он выражает
все зловещее и страшное в модерной жизни, все, из-за чего
модерный человек должен быть en garde.* Комментаторы
* En garde (фр.) — настороже. — Прим. пер.
284
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
«Записок» и мотива Хрустального дворца обычно полностью
под держивают жестокие обличительные речи героя и, по
крайней мере в этом случае, принимают их за чистую монету.
Потому они беспрерывно источают презрение к Чернышев-
скому за недостаток духовности: каким же глупым и баналь-
ным был этот писатель, раз считал, что человечество рацио-
нально, а социальные отношения можно усовершенствовать;
как замечательно, что глубокомысленный Достоевский поста-
вил его на место.29 Однако Достоевский совсем не разделял
этого снисходительного самодовольства. На самом деле он,
по сути, единственный в России тех времен и до, и после
ареста Чернышевского высказывался в защиту его ума, ха-
рактера и даже духовности. Он считал, что Чернышевский
не прав и метафизически, и политически, но это не мешало
Достоевскому видеть, что радикализм Чернышевского проис-
ходит из «изобилия жизни» «С каким цинизмом вы обнажили
себя»,— обращается он к тем, кто высмеивает Чернышевско-
го; цинизм этот «совпадает с их матерьяльными текущими
интересами, часто в ущерб остальным и многочисленнейшим
их собратьям». Достоевский настаивал, что «те, отвержен-
цы-то, хоть что-нибудь делают, хоть копаются, чтоб выйти на
дорогу, хоть ошибаются, и таким образом избавляют других...
а вы,— так он попрекал своих консервативных читателей,— ме-
лодраматически скрестив руки, стоите да посмеиваетесь».30
Вернемся к Хрустальному дворцу. Но чтобы показать этот
символ во всей его полноте и глубине, сначала я бы хотел
взглянуть на него с точки зрения другой архетипически мо-
дерной среды — петербургской улицы. С точки зрения Про-
спекта мы сможем увидеть социальные и духовные основа-
ния, общие для Достоевского и Чернышевского. Безусловно,
между ними были весьма тяжелые метафизические и мораль-
ные конфликты. Но если мы сравним Подпольного человека
Достоевского и Нового человека Чернышевского в том, как
они видят себя и как они презентуют себя на Проспекте, то
увидим глубокое родство в том, откуда они вышли и куда
хотят прийти.
285
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
У Достоевского сцена столкновения, едва упоминаемая
многочисленными комментаторами «Записок», происходит во
второй книге, которой обычно пренебрегают. Она строится
по классической петербургской парадигме: офицер-дворя-
нин против бедного чиновника. Эта сцена радикально от-
личается от столкновения у Чернышевского в том, что на
то, чтобы выказать неповиновение, у Подпольного челове-
ка ушло несколько лет изнурительных страданий, спутанное
и мучительное изложение которых на восьми страницах пред-
варяет ее. В то же время она похожа на сцену Чернышев-
ского и радикальные демократические инициативы 1860 - х
годов тем, что столкновение совершается: после, казалось
бы, бесконечной гамлетовской агонической интроспекции
Подпольный человек наконец-то решается на действие, вы-
ступает против занимающего более высокое положение на
социальной лестнице и сражается за свои права на улице.
Более того, он делает это на Невском проспекте, который
уже на протяжении целого поколения для петербуржцев
был наиболее близок истинно политическому простран-
ству — и в 1860 - е годы становился все ближе и ближе к нему.
Исследовав эту сцену, мы ясно увидим, насколько Черны-
шевский помог высвободиться воображению Достоевского,
сделать столкновение Подпольного человека с офицером
в принципе возможным. Без Чернышевского очень сложно
представить такую сцену — которая при этом куда более ре-
алистична и революционна, чем весь роман «Что делать?»
История начинается в темноте, поздной ночью, в «весьма
темных местах» вдали от Невского. Как объясняет наш герой,
в то время он переживал такой период жизни, когда «боялся
я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили,
не узнали. Я уж и тогда носил в душе моей подполье». 31 Но
внезапно происходит кое-что, что полностью им овладевает
и потрясает его одиночество. Проходя мимо трактира, он
слышит и замечает внутри суматоху. Посетители дерутся,
и в самый разгар драки кого-то выбрасывают из окна. Это
событие захватывает воображение Подпольного человека
286
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и возбуждает в нем желание участвовать в жизни — даже если
это будет болезненно и унизительно. Он завидует мужчине,
выброшенному из окна; может быть, и его из окна спустят! Он
понимает, сколь извращенно это желание, но так чувствует
себя более живым — для него это ключевое понятие, «живая
жизнь»,— чем когда-либо раньше. Теперь он не боится уз-
навания, а наоборот отчаянно жаждет, чтобы его заметили,
даже если это приведет к насилию и переломанным костям.
Он заходит в бильярдную, выискивает зачинателя драки —
это, конечно же, офицер «десяти вершков росту» — и подхо-
дит к нему, надеясь задрать. Однако офицер отвечает на его
приближение не нападением, а куда более оскорбительным
образом:
Я стоял у биллиарда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо
было пройти; он взял меня за плечи и молча,— не предуведомив
и не объяснившись,— переставил меня с того места, где я стоял,
на другое, а сам прошел как будто и не заметив. Я бы даже побои
простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил
и так окончательно не заметил.
С командных высот офицера тщедушный чиновник попро-
сту не существует — во всяком случае, не более «существует»,
чем стол или стул. «Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть
не способен». Слишком растерянный и униженный, он воз-
вращается на безымянную улицу.
Первое, что показывает в Подпольном человеке «но-
вого человека», «шестидесятника» — это его жажда прямо-
го столкновения, горячей ссоры — даже если он окажется
жертвой. Ранние персонажи Достоевского вроде Девушки-
на или схожие по типажу антигерои вроде гончаровского
Обломова, скрывались под одеялом и вообще не покидали
своих комнат, страшась именно таких событий. Подполь-
ный человек куда более активен: мы видим, как он выры-
вается из своего одиночества и бросается в действие; его
будоражит вероятность попасть в беду.32 Именно здесь
287
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
он усваивает первый политический урок: мелкий чиновник
никак не может навредить офицеру, потому что класс офи-
цера — дворянство, которое сохранило власть над Россией
после 19 февраля,— даже не знает, что его класс, масса
образованных пролетариев Петербурга, вообще существу-
ет. Перевод Мэтлоу особенно хорошо указывает на по-
литический аспект: «I was not even equal to being thrown
out the window».* Без хотя бы минимального равенства не
могло произойти какого-либо, даже насильственного, стол-
кновения: сначала офицеры должны признать, что мелкие
чиновники тоже люди и существуют.
На следующем этапе сюжета, который продолжается не-
сколько лет, Подпольный человек впустую пытается измыс-
лить способы выбить это признание. Он преследует офице-
ра, узнает его имя, адрес, привычки —чтобы выяснить это,
он подкупает слуг — но при этом остается или пытается оста-
ваться невидимым. (Офицер не заметил его, когда Подполь-
ный человек был в метре от него, так почему бы ему вдруг
заметить его теперь?) Он бесконечно фантазирует о своем
угнетателе и под давлением одержимости даже превращает
свои фантазии в рассказы, а себя — в автора. (Но фантазии
чиновников об офицерах никому не интересны, поэтому его
так и не публикуют). Он решает вызвать офицера на дуэль
и даже осмеливается написать оскорбительное письмо; од-
нако затем он убеждает себя, что офицер никогда не выйдет
на дуэль против гражданского неблагородного звания (офи-
цера в таком случае могли бы лишить чина), и не решается
отправить письмо. Это даже лучше, заключает он, так как
помимо гнева и злобы в письме содержится намек на то, что
он испытывает жалкое желание быть любимым своим вра-
гом. В одной из фантазий он позволяет себе приластиться
к своему мучителю:
* Берман приводит вариант Мэтлоу для фразы Достоевского «оказа-
лось, что я и в окно-то прыгнуть не способен». Досл.: «Я не был ровней
даже д ля того, чтобы выбросить меня из окна». — Прим. пер.
288
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Письмо было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал
«прекрасное и высокое», то непременно бы прибежал ко мне, чтоб
броситься мне на шею и пред ложить свою дружбу. И как бы это
было хорошо! Мы бы так зажили! так зажили! Он бы защищал
меня своей сановитостью; я бы облагораживал его своей разви-
тостью, ну и... идеями, и много кой-чего бы могло быть!
Достоевский гениально описывает эту плебейскую двой-
ственность. Каждый плебей поразился бы чувству узнава-
ния и стыда, увидев эту презренную любовь и нужду, что
так часто стоит за нашей лицемерной классовой ненавистью
и гордостью. В политическом плане эта двойственность будет
развита через два десятилетия — в письмах первого поколе-
ния российский террористов к царю.33 Безумные метания
Подпольного человека между любовью и ненавистью неиз-
меримо далеки от безмятежной (или пустой) самоуверенно-
сти Лопухова. Тем не менее Достоевский куда более соот-
ветствует выдвинутому Чернышевским требованию создать
русский реализм, нежели сам Чернышевский: он показывает
настоящую глубину и колебания внутренной жизни нового
человека.
Невский проспект играет во внутренней жизни Подполь-
ного человека сложную роль. Проспект выманил его из изо-
ляции, на солнце и в толпу. Но жизнь под дневным светом
пробудила новые глубины страдания, которые Достоевский,
как всегда, виртуозно анализирует:
Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невский
и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а ис-
пытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи; но
того-то мне, верно, и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым
некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно
дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офице-
рам, то барыням; я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли
в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего
костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это
289
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
была мука-мученская, беспрерывное невыносимое унижение от
мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощу-
щение того, что я муха, перед всем этим светом, гадкая, непо-
требная муха,— всех умнее, всех развитее, всех благороднее,— это
уж само собою,— но беспрерывно всем уступающая муха, всеми
униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя
эту муку, для чего я ходил на Невский — не знаю? но меня просто
тянуло туда при каждой возможности.
Когда Подпольный человек встречает своего заклятого
врага, офицера десяти вершков росту, его социальное и по-
литическое унижение приобретает более личный характер:
... но так их, как наш брат, или даже почище нашего брата, он про-
сто давил; шел прямо на них, как будто перед ним было пустое
пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался
моей злобой, на него глядя, и... озлобленно перед ним каждый
раз сворачивал.
Шмыгающая фигурка, муха, пустое пространство: здесь,
как и всегда у Достоевского, разнообразие и детали униже-
ния захватывают дух. Однако Достоевский особенно ясно
показывает, что постепенная деградация происходит не из
отклонений героя, а из нормальной структуры и механики
петербургской жизни. Невский проспект — модерное обще-
ственное пространство, дразнящее заманчивым обещанием
свободы; и все же для бедного чиновника сословные грани-
цы феодальной России на этой улице еще строже и унизи-
тельнее, чем где-либо еще.
Такое различие между тем, что Невский проспект обеща-
ет, и тем, что он на самом деле дает, приводит Подпольного
человека не только к приступам бессильной ярости, но
и к высокопарным восхвалениям утопических устремлений:
Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на
равной ноге. «Отчего ты непременно первый сворачиваешь? —
290
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
приставал я сам к себе, в бешеной истерике, проснувшись иногда
часу в третьем ночи. — Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого
закона нет, ведь это нигде не написано? Ну пусть будет поровну,
как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются: он
уступит половину, и ты половину, вы и пройдете, взаимно уважая
друг друга». Но так не было, и все-таки сворачивал я, а он даже
и не замечал, что я ему уступаю.
«Ну пусть будет поровну»; «деликатные люди»; «взаимно
уважая друг друга»: Подпольный человек, даже сам исполь-
зуя эти сияющие идеалы, прекрасно знает, насколько пусты
они в российской реальности. Как минимум, они столь же
утопичны, как весь роман Чернышевского. «Отчего ты не-
пременно первый сворачиваешь?» Едва произнося вопрос,
он уже знает ответ: потому что они все еще живут в сослов-
ном обществе, а идти мимо уступающих дорогу людей — из-
вечная сословная привилегия. «Ведь для этого закона нет,
ведь это нигде не написано?» На самом деле только недав-
но — Манифестом 19 февраля — был отменен писаный закон,
позволявший дворянскому сословию владеть телами и душа-
ми своих соотечественников. Подпольный человек сам по-
степенно открывает то, что пытался рассказать ему манифест
«молодого поколения», распространенный на Невском тем
таинственным всадником: закон о крепостном праве отменен,
но даже на Невском проспекте все еще правит реальность
сословного общества.
Невский наносит бедному чиновнику раны, но он также
служит средством их исцеления; он дегуманизирует его — сво-
дит до шмыгающей фигурки, мухи, пустого пространства,—
но при этом дает возможность преобразиться в человека,
модерного человека со свободой, чувством собственного
достоинства, равными правами. Наблюдая за своим закля-
тым врагом на проспекте, Подпольный человек замечает
удивительное: этот офицер проходит сквозь людей рангом
ниже его, но «он тоже сворачивал с дороги перед генера-
лами и перед особами сановитыми и тоже вилял, как вьюн,
291
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
между ними». Это открытие значительное и революционное.
«Он тоже сворачивал с дороги». Получается, что офицер —
не какое-то полудемоническое, полубожественное существо,
преследующее чиновника в его фантазиях, но ограниченный
и уязвимый человек, как и он сам, столь же подверженный
давлению сословий и социальных норм. Если офицера тоже
можно свести до шмыгающей фигурки, то, может быть, между
ними и не столь огромная пропасть; и затем Подпольный
человек — впервые — мыслит о немыслимом:
И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. «А что,— взду-
мал я,— что, если встретиться с ним и... не посторониться? Нарочно
не посторониться, хоть бы даже пришлось толкнуть его: а, каково
это будет?» Дерзкая мысль эта мало-помалу до того овладела
мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно ‹...›
Выход на проспект обрел для него новую грань: «[Я]...
ужасно и нарочно чаще ходил на Невский, чтоб еще яснее
себе представить, как я это сделаю, когда буду делать». Те-
перь, когда он мыслит о себе как об активном субъекте, Не-
вский проспект стал посредником для целого массива новых
значений, театром боевых действий за свое «я».
Подпольный человек начинает разрабатывать план. По-
степенно его проект изменяется:
Разумеется, не совсем толкнуть, думал я, уже заранее добрея от
радости,— а так, просто не посторониться, состукнуться с ним, не
так, чтобы очень больно, а так, плечо о плечо, ровно на столько,
сколько определено приличием; так что на сколько он меня стук-
нет, на столько и я его стукну.
Отступать или бежать некуда: требование равенства на
улице столь же радикально, как требование первенства —
а с точки зрения офицера, возможно, даже более радикаль-
но,— и принесет не меньше несчастий. Однако такое требо-
вание более реалистично: в конце концов, офицер вдвое его
292
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
больше, а Подпольный человек воспринимает материальные
объекты куда серьезнее, чем герои-материалисты романа
«Что делать?». Он беспокоится о своей внешности и опрят-
ности; об одежде: занимает деньги, чтобы купить более при-
личное пальто — которое при этом не должно быть слишком
приличным, иначе столкновение потеряет смысл; о том, как
он будет защищаться словесно и физически не только перед
офицером, но и — что, по меньшей мере, так же важно — пе-
ред толпой. Его поступок будет не просто личной претензи-
ей к определенному офицеру, но политическим заявлением,
адресованным ко всему российскому обществу. На Невском
проспекте будет присутствовать микрокосм этого общества;
он хочет остановить не только офицера, но и общество в це-
лом, пока они не признают его человеческое достоинство.
После множества репетиций настает этот важный день. Все
готово. Медленно и решительно — как Лопухов или Мэтт Дил-
лон * — Подпольный человек выходит на Невский. Однако все
никак не складывается. Сначала он не может найти нужного
человека — офицера нет на улице. Затем он замечает его, но
офицер исчезает словно мираж, как только наш герой при-
ближается к нему. Наконец он берет свою цель на прицел,
но в последний момент трусит и шарахается в сторону. Ока-
завшись в шаге от офицера, он в страхе отступает, но споты-
кается и оказывается прямо у того под ногами. Не умереть
от унижения ему помогает лишь то, что офицер по-прежнему
ничего не заметил. Достоевский со своим превосходным чер-
ным юмором постоянно смакует мучения главного героя — но
вот, когда Подпольный человек уже потерял последнюю ис-
кру надежды, офицер внезапно вновь появляется в толпе и:
Вдруг, в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился, зажму-
рил глаза и — мы плотно стукнулись плечо о плечо! Я не уступил
* Маршал Мэтт Диллон — главный персонаж популярного амери-
канского телесериала «Дымок из ствола» (Gunsmoke) о Диком Западе
в XIX веке. — Прим. пер.
293
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге! ‹...› Разу-
меется, мне досталось больше; он был сильнее, но не в том было
дело. Дело было в том, что я достиг цели, под держал достоинство,
не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной
социальной ноге.
Он действительно сделал это: рискнул телом и душой, вы-
ступил против правящего класса и настоял на своих равных
правах, и даже более того — «публично поставил себя с ним
на равной социальной ноге» — объявил об этом перед всем
миром. «Я был в восторге,— говорит нам человек, обычно
полный злобы и цинизма в отношении любого восторга;
теперь он испытывает настоящий восторг, и мы можем его
разделить. — Я торжествовал и пел итальянские арии». Здесь,
как и во многих великих итальянских ариях — а следует пом-
нить, что в этом время идет борьба Италии за самоопреде-
ление — торжество одновременно и личное, и политическое.
Сражаясь за свою свободу и достоинство при свете дня,
сражаясь не только против офицера, но и против сомнений
и ненависти к себе, Подпольный человек победил.
Конечно, это Достоевский, и потому нельзя обойтись без
бесконечных сомнений. Может быть, офицер и не заметил, что
ему бросили вызов? «Он даже и не оглянулся и сделал вид,
что не заметил; но он только вид сделал, я уверен в этом. Я до
сих пор в этом уверен!» Повторение скорее всего указывает
на то, что наш герой не так уж уверен, как ему хотелось бы.
Тем более, как он говорит, «не в том было дело». Дело в том,
что низшие классы учатся мыслить и ходить по-новому, пы-
таются заново утвердить свое присутствие на улице и право
на нее. Неважно, что пока дворянство не замечает их — вскоре
ему придется это сделать. И точно так же неважно, что на сле-
дующее утро бедный чиновник испытывает вину и ненависть
к самому себе; что он никогда не повторит подобного; что он
непрерывно говорит себе (и нам), будто ум и чувства его не
ценнее мышиных — он знает, что это не так. Он решительно дей-
ствовал, чтобы изменить свою жизнь, и никакое самоотрицание
294
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
или неспособность продолжать в том же духе не смогут этого
изменить. Он стал Новым человеком, нравится ему это или нет.
Эта сцена, которая так мощно описывает борьбу за че-
ловеческие права — за равенство, достоинство, признание —
показывает, почему Достоевский так и не стал реакционным
писателем, хотя иногда пытался стать им изо всех сил, и по-
чему его гроб оплакивали толпы радикальных студентов.
Она также показывает, что жизнь Петербурга осветила новая
заря. Петербург, как провозглашает Подпольный человек,
есть «самый отвлеченный и умышленный город на всем зем-
ном шаре». Первоначальная цель этого города — толкнуть
Россию, как материально, так и символически, в самый центр
модерного мира. Но спустя столетие после смерти Петра
эта цель, к сожалению, так и не была достигнута. Его го-
род создал огромную массу «людей разного чина и звания»,
полных модерных желаний и идей, и невероятную улицу,
которая воплощает в себе самые гениальные образы и кипу-
чие ритмы модерной жизни. Но политическая и социальная
жизнь города в XIX веке остается под контролем сословного
самодержавия, которое все еще достаточно сильно, чтобы
выдавить модерного человека с улицы и загнать его в под-
полье. Однако мы видим, как в 1860-е годы мужчины и жен-
щины начинают подниматься и выходить на свет — именно это
и есть новое в «новых людях»,— чтобы заполнить улицы сво-
им причудливым, но великолепным внутренним светом. «За-
писки из подполья» знаменуют огромный прыжок в духовной
модернизации: они отмечают точку, когда жители «самого
отвлеченного и умышленного города» начали учиться выра-
жать свои отвлеченные идеи и конкретные замыслы, а духов-
ные уличные огни Петербурга разгорелись с новой силой.
Петербург против Парижа: два типа
модернизма на улицах
Здесь я хочу вернуться назад и сравнить модернизм Досто-
евского с модернизмом Бодлера.34 Оба автора были перво-
295
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
открывателями того, что я назвал первичными модерными
сценами: повседневных встреч на городских улицах, которые
доводятся до первой степени интенсивности (first intensity,
как пишет Элиот в своем эссе о Бодлере), до момента, ког-
да они начинают выражать основополагающие возможности
и преграды, соблазны и тупики модерной жизни. Также оба
писателя черпают энергию главным образом из ощущения
политической необходимости, и поэтому личные встречи на
улице превращаются в события политические; модерный
город становится средой, в которой личная и политическая
жизни текут вместе и сливаются воедино. Однако между
образами модерной жизни у Достоевского и Бодлера есть
фундаментальные различия. Один важнейший источник этих
различий — образ и масштаб модернизации в городах, поро-
дивших этих писателей.
Османовские бульвары Парижа, рассмотренные нами
в третьей главе,— это инструменты динамичной буржуазии
и активного государства, настроенных на стремительную мо-
дернизацию, развитие производственных сил и обществен-
ных отношений, ускорение потока товаров, денег и людей
во французском обществе и во всем мире. Помимо этого
стремления к экономической модернизации, со времен взя-
тия Бастилии бодлеровский Париж стал ареной развития
самой разрушительной модерной политики. Бодлер принад-
лежит, и гордится этим, городским массам, которые умеют
организоваться и мобилизоваться на борьбу за свои права.
Даже в одиночестве среди толпы он впитывает в себя ее
как мифические, так и реальные традиции действия, а так-
же огромные потенциальные возможности. Эти анонимные
массы в любую секунду могут разделиться на товарищей
и врагов; возможность братства — и ipso facto * вражды —
парит над парижскими улицами и бульварами словно газ
в воздухе. Бодлер, живший в самом революционном городе
мира, ни на мгновение не сомневался в принадлежащих ему
* Ipso facto (лат.) — тем самым. — П рим. пер.
296
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
правах человека. Он мог чувствовать себя чужаком во всей
этой вселенной, но на парижских улицах для него всегда
имелось место как для человека и гражданина.
В пространственном отношении петербургский Невский
проспект напоминает парижский бульвар. Безусловно, он
куда роскошнее любого бульвара. Но экономически, по-
литически, духовно он чрезвычайно от него далек. Даже
в 1860-е годы, после отмены крепостного права, государ-
ство куда более озабочено тем, чтобы сдерживать людей,
а не давать им идти вперед.35 Что касается дворянства, оно
жадно прильнуло к рогу изобилия западных потребитель-
ских товаров, но не работает над развитием производитель-
ных сил по западному образцу, которое сделало возможной
модерную потребительскую экономику. Так что Невский
проспект — в каком-то смысле декорация, которая ослепляет
население блеском товаров, практически в полном объеме
импортированных с Запада, но таит за изысканным фасадом
опасную нехватку глубины.* Знать и дворянство еще играют
в этой имперской столице ведущую роль, но с 19 февра-
ля они все больше осознают, что люди на улицах — больше
не собственность, которую они могут двигать как рекви-
зит. Это нелегко принять, и их сплин распространяется по
всей столице: «Петербург со всех четырех концов зажгли,
вот вам и прогресс! — прошипел раздражительный генерал»
в романе Тургенева «Дым» (1866). Так что это сословие все
более решительно обрушивается на толпу массовки, которая
вздымается повсюду вокруг них на проспекте; но оно знает,
* Например, новый паровой экспресс Москва–Петербург, который от-
правлялся и приходил на вокзал в конце Невского проспекта с 1851 года,
с лужил ярким символом энергичной модерности. Но, например, если
мы возьмем 1864 год, в который вышли «Записки из подполья», то об-
наружим, что на тот момент во всей огромной Российской империи име-
лось всего 3600 миль железных дорог (ср. с 13 100 милями в Германии
и 13 400 милями во Франции). «European Historical Statistics, 1750–1870»,
pp. 581–84. — П рим. авт.
297
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
что после 19 февраля его высокомерное презрение — нечто
вроде игры.
А что касается массовки, «людей разного чина и звания»,
то, хоть они и составляют значительную часть городского на-
селения, до 1860-х годов они все еще пассивны и разобщены,
неуверенно чувствуют себя на улице и отчаянно цепляются
за свои шинели. И как они могут дерзнуть, откуда им начать?
В отличие от низших классов Запада — даже бодлеровских
нищих и семей оборванцев — у них нет традиции fraternité *
и коллективного сопротивления, на которую можно было
бы опереться. В таком контексте петербургские разночин-
цы вынуждены самостоятельно изобретать модерную по-
литическую культуру. И они должны изобрести ее ex nihilo
и в «подполье», потому что в России 1860-х годов модерная
политическая мысль и активизм все еще запрещены. Им пред-
стоят великие изменения — преобразование как самих себя,
так и общества,— и лишь затем они найдут себе место в лю-
бимом городе, сделают его своим.
Один из решительных шагов в сторону этих изменений —
развитие характерной петербургской формы самовыражения,
одновременно художественной и политической: уличная де-
монстрация одного человека. Мы наблюдаем торжественный
дебют этого типа самовыражения в кульминации «Медного
всадника»: «Ужо тебе!..,— впрочем, в николаевском Петер-
бурге оно не могло продержаться долго,— И вдруг стремглав
бежать пустился». Тем не менее через два поколения на Не-
вском проспекте, посреди незавершенной, но все же вполне
реальной модернизации 1860-х годов, становится ясно, что эта
форма самовыражения сохранится. Она прекрасно подходит
для городского общества, которое поощряет модерное по-
требление, подавляя модерные производство и деятельность,
взращивает индивидуальную чувственность, не признавая прав
индивида, вызывает у людей потребность и желание общать-
ся, ограничивая общение государственными праздниками или
* Братства (фр.). — П рим. пер.
298
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
эскапистскими романами. В таком обществе уличная жизнь
приобретает особенное значение, так как улица остается
единственной средой свободного общения. Достоевский ге-
ниально воспроизводит структуру и динамику демонстрации
одного человека и раскрывает отчаянную нужду и противо-
речия, из которых родилась эта форма протеста. Противо-
стояние между «новым человеком», только что вышедшем из
подполья, и старым правящим классом посреди великолеп-
ного городского проспекта — живое наследие, доставшееся от
Достоевского и Петербурга модерному искусству и модерной
политике всего мира.*
Контраст между Бодлером и Достоевским, между Парижем
и Петербургом XIX века должен помочь нам разглядеть в ми-
ровой истории модернизма более существенное противоре-
чие. На одном полюсе мы видим модернизм развитых стран,
прямо построенный на ресурсах экономической и политиче-
ской модернизации, выкачивающий представления о буду-
* Одиночная демонстрация занимает центральное место во всех про-
изведениях Достоевского о Петербурге, и особенно примечательно это
в «Преступлении и наказании». Раскольников и другие страдальцы слиш-
ком искалечены внутренне, чтобы выставлять себя напоказ потоку гуляю-
щих на Невском проспекте, как Подпольный человек, или даже, как он же,
начать последовательную политическую борьбу за свои права. (Это, по
сути, одна из главных проблем Раскольникова: он может представить себя
лио тварью дрожащей, либо Наполеоном, но никак иначе.) Но несмотря
на это в кульминационные моменты своей жизни они выходят на улицы
и сталкиваются с незнакомцами, чтобы выразить свою позицию и сущ-
ность. Так, в конце романа Свидригайлов останавливается возле каланчи,
с которой виден весь город. Он здоровается с призывником-евреем,
который охраняет башню, объявляет, что уезжает в А мерику, и пускает
пулю себе в висок. Точно так же в кульминации романа Раскольников
выходит на Сенную площадь, в самую гущу толпы, опускается на коле-
ни и целует землю, и только потом идет в полицейскую контору своего
района (недавно открытую в результате правовой реформы середины
1860-х годов), чтобы сознаться и сдаться. — П рим. авт.
299
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
щем и энергию из модернизированной реальности — заво-
ды и железные дороги Маркса, бульвары Бодлера,— даже
когда этой реальности приходится бросать тяжелый вызов.
На противоположном полюсе мы видим модернизм, который
происходит из экономической отсталости. Такой модернизм
впервые появился в России, особенно цельно проявившись
в Санкт-Петербурге XIX века; в наше время, с распростра-
нением модернизации,— но, в целом, как и в старой России,
модернизации усеченной и искаженной,— он распространился
по всем странам Третьего мира. Модернизм отсталости вы-
нужден основываться на фантазиях и мечтах о модерности,
питаться тесной связью и борьбой с миражами и призраками.
Чтобы соответствовать жизни, из которой этот модернизм
возник, ему приходится быть ярким, грубоватым и незавер-
шенным. Он поедает и мучает себя из-за неспособности еди-
нолично творить историю — или же отчаянно пытается взва-
лить на себя сразу все бремя истории. Он критикует себя до
ненависти и выживает только благодаря огромным запасам
самоиронии. Однако причудливая реальность, из которой
произрастает этот модернизм, и невыносимое — как социаль-
ное и политическое, так и духовное — давление, под которым
он развивается и живет, раздувают в нем такой отчаянный
пыл, которого западный модернизм, столь уместный в своем
мире, очень редко достигает.
Политический проспект
В «Невском проспекте» Гоголь говорит о художнике, как
о лице, которое является городу в его грезах. «Что делать?»
и «Записки из подполья» показывают, как Петербург в 1860-е
годы грезит о радикальных столкновениях на своих широких
улицах. В следующем десятилетии эти сны постепенно ста-
новятся реальностью. Утром 6 декабря 1876 года у велико-
лепной колоннады Казанского собора на Невском проспекте
внезапно собралась разношерстная толпа из нескольких со-
тен человек.36 Примерно половина собравшихся — студенты,
300
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
чиновники, безработные и свободные интеллигенты, прямые
потомки героев-разночинцев Чернышевского и Достоевского;
бывшие «подпольные», в последнее десятилетие они стано-
вились все заметнее. Другой половине толпы слово «подпо-
лье» подходило куда больше: то были рабочие из заводских
районов, которые незадолго до этого окружили город от
Выборгской стороны на северном берегу Невы до района
Нарвских триумфальных ворот и Александро-Невского мо-
настыря на южной окраине города. Эти рабочие пересекают
Неву или Фонтанку в некоторой нерешительности, так как на
Невском проспекте и в центре города они чужаки, несмотря
на то, что играют в экономике города (и страны) все более
значительную роль.* Группы рабочих и интеллигенции вре-
* Наиболее значительный капитал и трудовые ресурсы в Петербурге
были сконцентрированы в металлургии и текстильной промышленности.
Здесь почти полностью на иностранный капитал, но с обильными гаран-
тиями и субсидиями со стороны государства были построены огромные
передовые фабрики по производству локомотивов и вагонов, ткацких
станков, деталей пароходов, современного вооружения и сельскохо-
зяйственной техники. Самым заметным был гигантский Путиловский
завод, 7000 рабочих которого сыграют ключевую роль в революциях
1905 и 1917 годов. Индустриальное развитие Петербурга проницательно
рассматривается у Реджинальда Зельника (Reginald Zelnik) в книге «La-
bor and Society in Tsarist Russia: The Factory Workers of St. Petersburg,
1855–1870» (Stanford, 1971); см. также Roger Portal, «The Industrialization
of Russia» в книге «Cambridge Economic History of Europe», VI, pp. 831 –34.
См. у Зельника p. 239 о глубокой изоляции недавно прибывших из про-
винции заводских рабочих, которые «обосновывались на индустриальных
окраинах города, где жили без семей. Их принадлежность к городу суще-
ствовала только на словах; по практическим соображениям они принад-
лежали промышленному пригороду за границами города, а не городско-
му сообществу». Стены между рабочими и городом пошатнулись только
в 1870 году, после первой забастовки рабочих Петербурга на Невской
хлопкопрядильной фабрике, которая закончилась публичным судебным
разбирательством и пристальным вниманием прессы. — Прим. авт.
301
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
мя от времени устанавливали контакт и общались с начала
1870-х годов — буквально в подполье, в укромных подвалах
Выборгской стороны,— но никогда не появлялись вместе на
публике. Собравшись теперь на Казанской площади, они не
вполне понимают, что нужно делать. Людей пришло гораздо
меньше, чем надеялись организаторы, и они заняли лишь
небольшую часть площади перед колоннадой. Они нервни-
чают и уже готовы разойтись, но вот молодой интеллигент
Георгий Плеханов решает не упускать возможность: он вы-
ходит из толпы, произносит короткую зажигательную речь,
завершает ее словами «да здравствует социальная револю-
ция!» и разворачивает красное знамя с надписью «Земля
и воля».* Затем — все это длится едва ли две минуты — в дело
вступает полиция при поддержке спешно собранной на Не-
вском толпы. Полицейских застали врасплох, и они отвечают
с истеричной жестокостью; скручивают всех, до кого смог-
ли добраться, в том числе многих, не имевших отношения
к демонстрации. Без разбора были арестованы десятки че-
ловек, но главные организаторы успели скрыться в хаосе
и неразберихе. Многих арестованных пытали, и некоторые
под пытками сошли с ума; других сослали в Сибирь без на-
дежды на возвращение. Несмотря на это вечером 6 декабря
и следующим утром на студенческих чердаках и в хибарах
рабочих — а также в камерах Петропавловской крепости —
воздух заполнил новый дух радости и надежды.
Откуда такая радость? Многие либеральные и некоторые
радикальные наблюдатели сочли демонстрацию провальной:
небольшая группа протестующих затерялась на большом про-
странстве; у них едва ли было время сделать революционное
заявление; многие пострадали от рук полиции и толпы. Один
из участников ее, Хазов, чтобы объяснить свою точку зрения,
написал в январе 1877 года, незадолго до своего ареста (он
погибнет в Сибири в 1881 году), памфлет. Последние двадцать
лет со смерти Николая, говорит Хазов, российские либералы
* Знамя развернул не Плеханов, а рабочий Яков Потапов.— Прим. пер.
302
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
призывали к свободе слова и собраний; при этом они так и не
смогли собраться и высказаться на деле. «Они [российские
либералы] даже до такой степени обучены, что скажут вам,
что в западных государствах политическая свобода заво-
евана [курсив Хазова — Прим. авт.] ‹...› Но попробуйте эти
положения обратить к России, и вдруг наши либералы ‹...›
замахают руками и станут утверждать, что у нас, в России,
дело идет иначе». Именно этот либеральный идеал ради-
кальные рабочие и интеллигенция попытались воплотить на
Казанской площади. Критики могут сказать, что завоевывали
эти свободы они каким-то странным, в лучшем случае донки-
хотским образом. Возможно, говорит Хазов; но в российских
условиях единственная альтернатива донкихотским речам
и действиям — отсутствие каких-либо речей и действий во-
обще. «Нет, на пути политической свободной жизни выведут
Россию не либералы, а те мечтатели, которые проделывают
эти смешные мальчишеские манифестации, которые дерзают
нарушить закон, которых бьют, судят, осмеивают!» На самом
деле, как утверждает Хазов, эти «смешные мальчишеские
манифестации» говорят о достижении новой коллективной
серьезности и зрелости. Действия и страдания демонстран-
тов на Казанской площади впервые в истории России озна-
меновали «начало сознательного участия русского рабочего
класса в движениях [политической] жизни» вместе с интел-
лигенцией.37 Я показывал, как, начиная с «Медного всадни-
ка», герои-одиночки петербургской литературы совершали
такие отчаянные поступки и действия без чьей-либо помощи.
И теперь, наконец-то, сны из художественной жизни города
проникают в его настоящую жизнь. В Петербурге появляется
новый, политический проспект.
Демонстрации, подобные собранию на Казанской пло-
щади, поразительно сложно найти в истории российского
революционного движения. Ибо за небольшими исключени-
ями эта история была написана сверху, с точки зрения раз-
личных элит. Поэтому, с одной стороны, у нас есть история
интеллектуальных течений — «славянофилы», «западники»,
303
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
«сороковики», «шестидесятники», «народничество», «марк-
сизм»,— а с другой стороны — история политических загово-
ров. С элитистской точки зрения Чернышевский является
создателем стандартной российской революционной модели:
мужчины и женщины железной дисциплины с механически
запрограммированными умами, без чувств и какой-либо вну-
тренней жизни; ею вдохновлялся Ленин, а позднее и Ста-
лин. В такой картине мира Достоевский существует лишь
как яростный критик радикальных тенденций (в «Записках из
подполья») и заговоров радикалов (в «Бесах»). Однако в по-
следнее время историки начали осознавать историю револю-
ций, начиная с Великой французской революции 1789 года,
снизу, как историю революционных масс: групп безымянных
простых, слабых и уязвимых людей, терзаемых страхами, со-
мнениями и неопределенностью, но готовых в решительный
момент выйти на улицу и рискнуть головой в борьбе за свои
права.38 Чем лучше мы научимся рассматривать революци-
онные движение снизу, тем яснее поймем, что Чернышевский
и Достоевский были частью одного и того же культурного
и политического движения; движения петербургских плебе-
ев, которые все активнее и радикальнее стремились сделать
град Петра своим. Возможно, Ницше думал именно о Пе-
тербурге, когда представлял себе «историю современного
омрачения. Государственные кочевники (чиновники и т. д .):
нет „родины“». Движение, которое я проследил, стремится
к радикальному модерному рассвету сразу после затмения:
великая заря, под которой модерные кочевники найдут себе
место в городе, что сделал их такими, какие они есть.
Послесловие: Хрустальный дворец,
факт и символ
Все формы модернистского искусства и мысли обладают
двойственным характером: они выражают процесс модер-
низации и одновременно протестуют против него. В отно-
сительно развитых странах, где экономическая, социальная
304
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и технологическая модернизация динамична и процветает,
отношение модернистского искусства и мысли к окружаю-
щему миру достаточно ясно, даже если — как мы наблюдали
у Маркса и Бодлера — это отношение одновременно сложно
и противоречиво. Но в относительно отсталых странах, где
процесс модернизации еще не обрел полную силу, модер-
низм там, где он развивается, приобретает фантастический
характер, потому что он вынужден основываться не на со-
циальной реальности, а на фантазиях, миражах, мечтах.
Для России середины XIX века Хрустальный дворец был
одной из самых захватывающих и интригующих модер-
ных грез. Неожиданно сильное психологическое влияние
Хрустального дворца — в русской литературе и мысли он
играет куда более значительную роль, чем в английской —
происходит из его роли призрака модернизации, пресле-
дующего страну, которая отчаянно корчится в муках пытки
отсталости.
Достоевский, без сомнения, гениально и ярко использует
Хрустальный дворец как символ. И тем не менее любой, кто
знает хоть что-нибудь о реальной постройке, возвышавшей-
ся в лондонском Сиднем-Хилле — Чернышевский видел ее
в 1859 году, Достоевский в 1862 году,— сразу почувствует, что
между мечтами и кошмарами русской литературы и западной
реальностью пролегает огромная тень. Давайте вспомним не-
которые черты Хрустального дворца у Достоевского, как его
описывает герой «Записок из подполья» в главах VIII, IX и X
первой части повести. Во-первых, он задуман и воплощен
в жизнь механически: он есть плод новых экономических от-
ношений, «уж готовых и тоже вычисленных с математическою
точностью»; точность эта такова, что когда дворец будет по-
строен, «в один миг исчезнут всевозможные вопросы, соб-
ственно потому, что на них получатся всевозможные ответы».
Атмосфера здания высокопарная и тяжеловесная; его возве-
дение свидетельствует не только о кульминации исторического
процесса, но также о космической тотальности и непреложно-
сти: «Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную
305
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно,
победно и гордо, что вам начинает дух теснить. ‹ ...› Вы чув-
ствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совер-
шилось и закончилось». Здание должно вселять ужас, застав-
лять наблюдателя «занеметь окончательно»: именно поэтому
огромная аудитория, миллионы людей из всех уголков света
«упорно и молча толпятся», неспособные ни на что — только
ответить «да» и замолчать. «Вы верите...»,— обращается Под-
польный человек к своей аудитории «господ»:
... в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, ко-
торому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша
в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого
здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя
будет даже и украдкой языка ему выставить.
Выставить язык для него — демонстрация личной авто-
номии, автономии, которой Хрустальный дворец серьезно
угрожает.
Читатели, которые попытаются вообразить себе Хрусталь-
ный дворец на основе описания Достоевского, скорее всего
представят какую-то озимандову громадину, давящую на лю-
дей своей тяжестью — физической и метафизической — и же-
стокой неумолимостью; возможно, не такой высокий вариант
Всемирного торгового центра. Однако если мы отвлечемся
от слов Достоевского и обратимся к огромному количеству
рисунков, фотографий, литографий, акватинт и подробных
описаний настоящего здания, то скорее всего зададимся во-
просом, видел ли вообще Достоевский Хрустальный дво-
рец. Мы наблюдаем 39 стеклянную конструкцию, под дер-
живаемую едва различимыми тонкими чугунными рамами,
конструкцию с нежными обтекаемыми линиями и изящными
сводами, легкую и почти невесомую, словно готовую в любой
момент воспарить в небеса. Цвет ее — это цвет то неба, про-
ступающего через прозрачное стекло, что закрывает бóльшую
часть конструкции, то нежно-голубой узкой чугунной рамы;
306
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
головокружительное сияние, исходящее от этого сочетания,
пронизывает нас, дворец свет, исходящий от неба и воды,
и переливается. Визуально здание похоже на поздние кар-
тины Тернера; особенно на «Дождь, пар и скорость» (1844),
где технологии и природа сливаются в единую красочную
и динамичную атмосферу.
Конструкция скорее сливается с природой, чем что-либо
уничтожает: высокие старые деревья не срублены, а оставле-
ны внутри здания, где они — ведь здание действует как парник,
на который оно и похоже, а его архитектор, Джозеф Пакстон,
обрел известность именно благодаря парникам — выросли еще
выше и стали здоровее. Более того, Хрустальный дворец едва
ли был спланирован по точным математическим расчетам —
на деле это самое провидческое и самое рискованное здание
всего XIX века. Только Бруклинский мост и Эйфелева башня,
построенные поколение спустя, смогли сравниться с ним по
силе лиричной экспрессии возможностей индустриального
века. Эта лирика особенно живо видна в первом эскизе Пак-
стона, нарисованном в порыве вдохновения за пару минут на
листке промокательной бумаги. Еще лучше оценить ее мы
можем, если сравним дворец с массивными неоготическими,
неоренессансными и необарочными громадинами, которые
возводились тогда повсеместно. Более того, строители двор-
ца, которые совсем не считали здание законченным и неру-
шимым, гордились его недолговечностью: используя самые
продвинутые способы изготовления сборных конструкций,
его за шесть месяцев возвели в Гайд-парке к Всемирной вы-
ставке 1851 года; разобрали через три месяца после заверше-
ния выставки; и затем опять, в более крупном варианте, со-
брали в 1854 году на другом конце города, в Сиднем-Хилле.
Хрустальный дворец отнюдь не низводил зрителей до
смиренной, пассивной толпы и породил самую оживлен-
ную публичную дискуссию. Его прокляла бóльшая часть
культурного истеблишмента Великобритании, а с особой
горячностью это сделал Джон Рескин, который назвал зда-
ние пародией на архитектуру и посчитал его строительство
307
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
прямой нападкой на цивилизацию. Буржуазия высоко оце-
нила выставку, но отвергла здание и вернулась к возведе-
нию вокзалов в силе замков короля Артура и эллинистиче-
ских банков; к слову, в следующие пятьдесят лет в Англии
не построят ни одного по-настоящему модерного здания.
Можно сказать, что нежелание британской буржуазии при-
нять такое гениальное воплощение собственной модерности
и жить с ним предвестило постепенный упадок ее энергии
и воображения. В ретроспективе 1851 год кажется высшей
точкой в истории британской буржуазии, за которой после-
довал постепенный, долгий упадок, за который британцы
расплачиваются по сей день. В любом случае, это здание
оказалось не великим венцом творения, как писал Достоев-
ский, а смелым и одиноким началом чего-то нового, что не
пожелали развивать еще несколько десятилетий.
Скорее всего, Хрустальный дворец не построили бы и уж
точно не позволили бы возвести его заново и оставить на во-
семьдесят лет (он погиб в таинственном пожаре в 1936 году),
если бы его не поддержали горячо простые англичане и ино-
странцы со всего мира. И спустя годы после Всемирной вы-
ставки массы использовали его как место семейного отдыха,
детских игр, романтических встреч и свиданий. Они совсем
не топчутся молча перед Дворцом, наоборот, кажется, что
они полны энергии и находят для нее всевозможные приме-
нения; ни одно здание до Хрустального дворца не обладало
такой способностью будоражить людей. А что касается ино-
странцев, то дворец стал первым местом в Лондоне, которое
они желали посетить. Журналисты того времени сообщали,
что Хрустальный дворец — это самая космополитичная зона
города, где в любое время можно было встретить амери-
канцев, французов, немцев, русских (вроде Чернышевского
и Достоевского), индийцев и даже китайцев с японцами. Ино-
странные архитекторы и строители вроде Готфрида Земпе-
ра и Джеймса Богарда увидели долгосрочные перспективы
Хрустального дворца, недоступные самим англичанам за
исключением его создателей; мир сразу же признал здание
308
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
как символ мирового первенства Англии, когда британский
правящий класс отнесся к нему с предубеждением.
Самое интересное и проницательное описание Хрусталь-
ного дворца — я имею в виду именно реальное здание — вы -
шло, конечно же, из-под пера иностранца, немца по имени
Лотар Бухер. Бухер — весьма выдающаяся личность: револю-
ционер-демократ в 1840-е годы, сводящий концы с концами
на Граб-стрит журналист-эмигрант в 1850-е, прусский агент
и доверенное лицо Бисмарка в 1860-е и 1870-е (он даже
пытался завербовать Маркса),40 в последние свои годы он
был архитектором первой великой волны немецкой модер-
низации и промышленного подъема. В 1851 году Бухер писал:
«[Здание] столь сильно впечатляет романтической красотой,
что репродукции с ним украшают дома даже в отдаленных
немецких деревнях».41 Бухер, движимый, возможно, своими
убеждениями, представляет, что немецкие крестьяне всей
массой стремятся к модернизации, такому типу модерниза-
ции, которая воплощает немецкие романтические идеалы
красоты. В некоторой степени описание Бухера соответству-
ет тексту Достоевского: оба используют Хрустальный дворец
как символ для выражения своих надежд и страхов. Но кар-
тина Бухера обладает преимуществом, которого нет у До-
стоевского: она дана в контексте живого и точного анализа
здания как реального пространства, реальной конструкции,
реального опыта. Именно к Бухеру более, чем к кому-либо
другому, мы обращаемся, чтобы понять, как на самом деле
чувствовали себя люди в Хрустальном дворце:
Мы видим изящную сеть линий, даже не представляя, как оце-
нить расстояние от них до глаза или же их настоящий размер.
Боковые стены слишком далеки друг от друга, их не объять
одним взглядом. Вместо того, чтобы двигаться от одной стены
к противоположной, глаз с ледует за бесконечной перспективой,
с ливающейся с горизонтом. Невозможно сказать, возвышается
ли это здание на десять или на тысячу метров над нами, плоская
309
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
ли у него крыша или же имеет ряд коньков, так как здесь нет
теней, благодаря которым наши оптические нервы могли бы
рассчитать размерность.
Бухер продолжает:
Если мы позволим взгляду опуститься ниже, то увидим выкрашен-
ные в синий цвет решетчатые подпорки. Сначала их разделяют
большие интервалы; затем они становятся все ближе друг к дру-
гу, пока их не прерывает яркая полоса света — трансепт,— которая
растворяется в далекой дымке, где все материальное перемеши-
вается в атмосфере.
Здесь мы видим, что хотя Бухеру и не удалось завербо-
вать Маркса в прусскую разведку, он успешно позаимствовал
один из важнейших его образов: «все твердое растворяется
в воздухе». Как и Маркс, Бухер видит в склонности твердых
материалов расщепляться и плавиться основной факт мо-
дерной жизни.
Чем более мы погружаемся в представление Бухера
о Хрустальном дворце как о мире, где все призрачно, та-
инственно, бесконечно,— и, как мне кажется, он достаточ-
но убедителен,— тем более нас должно озадачивать обви-
нение Достоевского в адрес того же здания как отрицания
всякой неопределенности и тайны, погибели приключений
и романтики.
Как объяснить такую полярность впечатлений? Достоев-
ский сам дает несколько идей. Он оставил после себя забав-
ное свидетельство своей зависти и беззащитности перед стро-
ительными достижениями Запада. «Зимние заметки о летних
впечатлениях», его дневник путешествий за 1862 год, где он
впервые описывает Хрустальный дворец, начинаются с опи-
сания мучительного пребывания в Кельне.42 Сначала он от-
правляется к легендарному памятнику средневекового Кель-
на — его собору. И сразу же от него отмахивается, описывая
310
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
его величественную красоту как «слишком легкую».* Затем
он идет к самой впечатляющей модерной постройке этого го-
рода — новому мосту. «Мост, конечно, превосходный, и город
справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком
гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился». Досто-
евскому кажется, что сборщик пошлины оскорбил его, приняв
оплату «с таким видом, как будто он берет с меня штраф за
какую-то неизвестную мне мою провинность». Еще немного
пылких фантазий — и оказывается, что оскорбление нанесено
нации: «Верно, догадался, что я иностранец и именно рус-
ский». В глазах стражника он ясно читает: «Ты видишь наш
мост, жалкий русский,— ну так ты червь перед нашим мостом
и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет та-
кого моста».
Достоевский готов признать, что его догадка весьма на-
тянута: мужчина ведь ничего не сказал, ничего не сделал, и,
скорее всего, такая мысль едва ли родилась в его голове.
«...Но ведь это все равно: я так был уверен тогда, что он
именно это хочет сказать, что вскипел окончательно». Дру-
гими словами, «отсталый» русский разгневан не тем, что
«развитый» немец высказывает свое превосходство — даже
если немец ничего подобного не делает, «это все равно»,— но
собственным чувством неполноценности. «Черт возьми,— ду-
мал Достоевский,— мы тоже изобрели самовар... у нас есть
журналы... у нас делают офицерские вещи... у нас.. эх...» .
Из-за стыда за отсталость своей страны — и завистливой яро-
сти к символу развития — он не только уходит с моста, но
и вообще уезжает из Германии. Купив склянку одеколона
(«от которой уж никак не мог отвертеться»), он садится на
первый поезд в Париж, «надеясь, что французы будут го-
раздо милее и занимательнее». Мы, конечно же, понимаем,
* Достоевский полностью описывает свое первое ошибочное впечат-
ление так: «„Величественного мало“,— решил я, точно так, как в старину
наши деды решали про Пушкина: „Легко, дескать, слишком сочиняет,
мало высокого“». — П рим. пер.
311
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
что произойдет с ним во Франции и вообще где угодно на
Западе: чем в более красивом и величественном месте он
оказывается, тем более ослепляет его ненависть, не дающая
различить настоящее положение вещей. Подобная слепота,
скорее всего, поразила его и в Сиднем-Хилле.*
Таким образом, нападки Достоевского на Хрустальный
дворец были не просто немилосердны, но и в значительной
степени необоснованны. Комментаторы обычно объясняют
это тем, что Достоевского интересовало не здание само по
себе, а только его символизм, и для него дворец символизи-
ровал сухой западный рационализм, материализм, механи-
стический взгляд на мир и т. д .; действительно, главная тема
«Записках из подполья» — презрение к фактам модерной жиз-
ни и сопротивление им. И все же, если прочесть текст внима-
тельнее, то прямо посреди обличительной речи Подпольного
человека о Хрустальном дворце (часть первая, глава IX)
можно усмотреть куда более сложное и интересное отно-
шение к модерной действительности, технологии и строи-
тельству. «Я согласен,— пишет он,— человек есть животное,
по преимуществу созидающее, принужденное стремиться
* Неловкая ирония этой истории в том, что во время написания «Зим-
них заметок» самый, как считалось, передовой навесной мост в мире
располагался в России — то был мост через Днепр в Киеве (Николаев-
ский цепной мост — Прим. пер.), спроектированный Чарльзом Виньолем
и построенный в 1847–1853 годы. Николай I особенно любил этот мост,
заказчиком которого выступил: его чертежи, рисунки и акварели он
отправил на Всемирную выставку, а в Зимнем дворце у него стояла
подробная модель моста (Klingender, «Art and the Industrial Revolution»,
pp. 159, 162). Но ни Достоевский — который обучался на инженера и во-
обще-то смыслил в мостах,— ни любой другой российский интеллигент,
консерватор или радикал, никто не заметил этого проекта. Как будто бы
вера, будто Россия по своему устройству не способна к развитию — эта
вера была аксиомой и для тех, кто жаждал развития, и д ля тех, кто
ему противился,— застилала глаза и скрывала действительный прогресс .
Без сомнения, это еще более замедляло развитие в целом. — П рим. авт.
312
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
к цели сознательно и заниматься инженерным искусством,
то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя
куда бы то ни было». Второй курсив здесь — Достоевско-
го, а первый — мой. Что мне здесь кажется примечательным
и что духовно сближает Подпольного человека с создателями
Хрустального дворца — это то, что главным символом челове-
ческой созидательности он считает не, например, искусство
или философию, а инженерное дело. Это особенно важно
для Хрустального дворца, который, как подчеркивали и за-
щитники, и противники, был первым крупным общественным
зданием, построенным исключительно инженерами без при-
влечения архитекторов.
Можно очень долго спорить о значении этого развития; но
главное здесь, что главный герой его под держивает: первен-
ство инженерного искусства — одна из немногих вещей, с ко-
торыми Подпольный человек даже не собирается спорить.
Мысль об инженерном деле как главном символе человече-
ского творчества невероятно радикальна для XIX века, и не
только в России, но даже на Западе. Помимо Сен-Симона
и его последователей очень сложно вспомнить кого-либо
еще из века Достоевского, кто бы присвоил инженерному
делу такое же высокое место в структуре человеческих цен-
ностей. Однако Подпольный человек предвосхищает кон-
структивизм XX века — движение, которое после Первой ми-
ровой войны было активно по всей Европе, но нигде не было
столь живым и изобретательным, как в России: модерная
романтика строительства идеально подходила стране с не-
вероятной духовной энергией, где на протяжении столетия
не было выстроено практически ничего.
Инженерия играет главную роль в представлении Досто-
евского о хорошей жизни. Но он настаивает на непреложном
условии: люди-инженеры всегда должны следовать «куда бы
то ни было» за логикой собственных представлений. Инже-
нерия должна быть средой творчества, а не математических
вычислений; но для этого необходимо признать, «что глав-
ное дело не в том, куда она [дорога] идет, а в том, чтоб она
313
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
только шла». И затем Достоевский объявляет окончательное
решение по поводу Хрустального дворца или любого дру-
гого здания:
Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно.
Но ‹...› [может быть,] он сам инстинктивно боится достигнуть цели
и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть, он
здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть,
он только любит созидать его, а не жить в нем.
Главное различие здесь пролегает между строительством
здания и жизнью в нем: между зданием как средой развития
личности и как камерой ее заточения. Инженерное дело,
пока оно остается делом, может довести созидательные силы
человека до высшей ступени; но как только строитель пе-
рестает строить и устраивается среди созданного, энергия
творчества застывает, и дворец превращается в гробни-
цу. Это предполагает основополагающее различие между
разными типами модернизации: приключением и рутиной.
И теперь мы можем увидеть, что Достоевский — страстный
приверженец модернизации как приключения. Именно при-
ключения ищет Подпольный человек во время столкновения
с офицером на Невском проспекте. Я попытался показать,
что с создателями Хрустального дворца тоже случилось соб-
ственное модернистское приключение. Но если приключе-
ние превращается в рутину, то Хрустальный дворец (как
и опасается Подпольный человек) становится курятником,
а модернизация — смертным приговором духу. Однако до тех
пор модерный человек может счастливо жить, процветать как
духовно, так и материально, в качестве инженера.
Если же мы вернемся к «Что делать?» Чернышевского, то
поймем, что этот роман — апофеоз модернизации как рутины.
И поймем также, что Хрустальный дворец Чернышевско-
го а не дворец Пакстона — то есть русские фантазии о мо-
дернизации, а не западные реалии,— страшит Достоевского
в первую очередь. В «Четвертом сне Веры Павловны», 43
314
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
сцене, где Чернышевский использует и увековечивает образ
Хрустального дворца, мы видим мир будущего, состоящий
исключительно из хрустальных дворцов. «По всему про-
странству стоят ‹...› громадные здания, в трех, в четырех вер-
стах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахма-
ты на исполинской шахматнице»; между ними простираются
«нивы и луга, сады и рощи». Эта шахматница простирается
так далеко, насколько хватает глаза; даже если она сосуще-
ствует с другим типом построек и жизненного пространства,
Чернышевский не говорит нам, что это за тип и где он нахо-
дится. (Читатели XX века распознают в этой модели предве-
стие «башен в парке» ville radieuse * Ле Корбюзье.) Каждое
здание будет, как говорят в наше время, мегаструктурой c
квартирами, промышленными мастерскими, общими сто-
ловыми и комнатами для отдыха (Чернышевский в деталях
с любовью описывает бальные залы и праздники, которые
должны в них проходить), алюминиевой мебелью и раздвиж-
ными стенами (это упростит перепланировку), а также ранней
системой кондиционирования воздуха. В каждой мегаструк-
туре будет проживать сообщество из нескольких тысяч лю-
дей, которые смогут удовлетворять все свои материальные
нужды благодаря коллективным, технологически передовым
сельскому хозяйству и промышленности, а эмоциональные
и сексуальные потребности — благодаря социальной поли-
тике милостивых, мудрых и рациональных руководителей.
В «Новой России», как называет ее Чернышевский, не будет
никаких противоречий — ни политических, ни личных; в этом
новом мире не остается даже мысли о тревогах.
Так как Чернышевский старался устранить из этого обра-
за любые проявления конфликта, нужно некоторое время,
чтобы осознать, чему он противопоставляет этот мир хру-
стальных дворцов. Одного в итоге мысль оказывается пре-
дельно понятной. Героиня, после того как ей показали «Но-
вую Россию» будущего, наконец понимает, чего не хватает
* Ville radieuse (фр.) — Лучезарный город.— Прим. пер.
315
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
в этом мире. Она спрашивает у своей проводницы: «Значит,
остались и города для тех, кому нравится в городах?» Про-
водница отвечает, что таких людей осталось ничтожно мало,
и поэтому городов гораздо меньше, чем в прошлом. Города
все еще существуют (где-то далеко, за кадром), но едва ли
играют прежнюю роль, а действуют скорее как центры ком-
муникации и отдыха. Так, «все туда ездят на несколько дней
для разнообразия», и немногие оставшиеся города полны
развлечений и зрелищ для туристов; однако их население
постоянно сменяется. «Но кто,— спрашивает Вера Павлов-
на,— хочет постоянно жить в них?» Проводница отвечает со
смешливым презрением:
Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах, Лондонах,—
кому ж какое дело? кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь;
только огромнейшее большинство, девяносто девять человек из
ста живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это
им приятнее и выгоднее.
Таким образом, Хрустальный дворец задуман как проти-
воположность города. Мечта Чернышевского, как мы теперь
видим, есть мечта о модернизации без урбанизации. Новая
противоположность города теперь — не примитивная дерев-
ня, а высокоразвитый, высокотехнологичный, обеспечиваю-
щий себя всем необходимым внегородской мир, полностью
продуманный и организованный — так как он был создан ex
nihilo на девственной земле,— всесторонне контролируемый
и управляемый, а потому более «приятный и выгодный», чем
любая модерная столица. Как образ надежды для России,
сон Веры Павловны — это искусная вариация известной по-
пулистской мечты о «скачке» от феодализма к социализму
минуя буржуазию и капиталистическое общество модерного
Запада. Здесь предусмотрен скачок от спокойной и отсталой
деревенской жизни к спокойной и крайне развитой внегород-
ской жизни без необходимости проживать неспокойный урба-
низм. У Чернышевского Хрустальный дворец символизирует
316
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
смертный приговор для «ваших Петербургов, Парижей, Лон-
донов»; в дивном новом мире эти города сохранятся в луч-
шем случае как музеи отсталости.
Этот образ должен помочь нам понять причины размолвки
Достоевского с Чернышевским. Подпольный человек гово-
рит, что боится этого здания, потому что «нельзя будет ни язы-
ка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать». Он,
конечно, был бы не прав, если бы сказал это о Хрустальном
дворце Пакстона, который повидал множество благородных
и воспитанных языков, но он говорит о дворце Чернышевско-
го; иными словами, он не прав в описании западных реалий
модернизации, которая полна конфликтов и разладов, но прав
в описании русской фантазии о модернизации как их конце.
Это проясняет один из главных источников любви Достоев-
ского к модерному городу и, в частности, к Петербургу, его го-
роду: это идеальная среда для выставления языков — а значит,
для провоцирования и разрешения социальных конфликтов.
Опять же, если Хрустальный дворец отвергает страдания,
сомнения и отрицания, то улицы, площади, мосты и набереж-
ные Петербурга — самое подходящее место для этого опыта
и этих импульсов.
Подпольный человек питается бесконечными перспекти-
вами всевозможных страданий, сомнений, отрицаний, же-
ланий и борьбы Петербурга. Именно благодаря этим пере-
живаниям, как он сам говорит (и Достоевский подчеркивает
это на последней странице книги), он чувствует себя «жи-
вее», чем благовоспитанные читатели — он зовет их «госпо-
дами»,— которые испытывают отвращением к нему и к его
миру. («Петербург со всех четырех концов зажгли, вот вам
и прогресс! — прошипел раздражительный генерал» в романе
Тургенева «Дым».) И теперь нам должно быть ясно, как «За-
писки из подполья» могут одновременно быть и язвительной
нападкой на идеологов российской модернизации, и одним
из величайших произведений модернистской мысли. Крити-
куя Хрустальный дворец, Достоевский атакует модерность
подобных внегородских и пригородных поселений — впро-
317
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
чем, в 1860-е годы они были только идеалом,— защищая
модерность городскую. Другими словами, он выступает на
стороне модернизации как человеческой авантюры — страш-
ной и опасной, как и любая настоящая авантюра,— против
модернизации как бесхлопотной, но мертвящей рутины.
У истории с Хрустальным дворцом есть еще одна иро-
ничная деталь. Джозеф Пакстон был одним из величайших
урбанистов XIX века: он проектировал огромные, дикие го-
родские парки, которые предвосхитили и вдохновили работу
Олмстеда в Америке; он задумал и спланировал сложную
систему лондонского общественного транспорта, в том чис-
ле и сеть метрополитена — за сорок лет до того, как кто-то
в принципе решился построить метро. Его Хрустальный дво-
рец тоже — особенно в своей реинкарнации в Сиднем-Хилле —
должен был обогатить городскую жизнь: он должен был стать
общественным пространством нового типа, архетипической
модерной средой, которая могла бы объединить фрагменти-
рованные и противостоящие друг другу социальные страты
Лондона. Его можно было бы считать гениальным аналогом
парижских бульваров или петербургских проспектов, кото-
рых в Лондоне, что примечательно, не было. Пакстон яростно
сопротивлялся бы любой попытке использовать его великое
здание против города.
Впрочем, в самом конце XIX века Эбенизер Говард осоз-
нал антиурбанистический потенциал построек вроде Хру-
стального дворца, и применил его куда более продуктивно,
чем Чернышевский. В своей невероятно влиятельной книге
«Города-сады будущего» (1898, дополненное переиздание —
1902) он очень убедительно и страстно развивает идею, им-
плицитно выраженную уже у Чернышевского и французских
утопистов, что модерный город не только деградировал ду-
ховно, но и устарел с экономической и технологической точки
зрения. Говард постоянно сравнивал мегаполисы XX века
с дилижансами XIX столетия и утверждал, что развитие при-
городов — ключ к материальному процветанию и духовной
гармонии модерного человека. Говард уловил формальный
318
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
потенциал Хрустального дворца как людской оранжереи —
ведь он был спроектирован по подобию теплиц, которые
Пакстон строил в молодости,— полностью контролируемой
среды; он заимствовал название и форму этого здания для
огромного стеклянного торгового и культурного центра,
который должен был стать сердцем нового пригородного
комплекса.* «Города-сады будущего» невероятно повлияли
на архитекторов, инженеров и застройщиков первой полови-
ны XX века; они направили всю свою энергию на создание
«более приятных и удобных» пространств, в которых можно
было бы укрыться от неспокойного мегаполиса.
Если бы мы хоть сколько-нибудь коснулись преображе-
ния образов Подпольного человека и Хрустального дворца
в советском обществе и культуре, нам пришлось бы слишком
отвлечься от темы. Но я могу по крайней мере предположить
общую траекторию такого исследования. В первую очередь
стоит отметить, что блестящее первое поколение советских
архитекторов и инженеров, пусть и не разделяло общие
взгляды на многие вещи, почти единодушно считало мо-
дерный мегаполис дегенеративной отрыжкой капитализма,
которая должна исчезнуть. Тех, кто считал, что в модерных
городах есть что-то, достойное сохранения, клеймили как
антимарксистов, правых и реакционеров.44 Во-вторых, даже
те, кто положительно относился к городской среде, считали,
что улица слишком вредна для людей и ее стоит заменить
* Garden Cities of To-Morrow, 1902 (MIT, 1965, с предисловием F. J. Os-
born и Lewis Mumford): о городах как дилижансах, p. 146; о Хрустальном
дворце как модели для пригорода, pp. 53–54, 96–98 . Хотя Хрустальный
дворец был одной из самых популярных деталей идеальной планировки
Говарда, иронично, строители первого города-сада в Летчуэрте, иск лю-
чили его из плана из-за его неанглийскости (мистер Подснэп с этим,
несомненно, согласился бы), слишком дерзкой модерности и высокой
стоимости. Его заменили неосредневековой рыночной площадью, ко-
торую посчитали «более естественной» (Fishman, Urban Utopias in the
Twentieth Century, pp. 67–8).— П рим. авт.
319
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
более открытым, зеленым и, по их мнению, более гармо-
ничным общественным пространством. (Их аргументация
похожа на аргументацию Ле Корбюзье, который несколько
раз посещал Москву и был особенно влиятелен в раннесо-
ветский период.) Заметной реакцией на этот новый пейзаж
стало самое хлесткое советское критическое произведение
1920-х годов — футуристическая антиутопия Евгения Замяти-
на «Мы». Замятин воссоздает Хрустальный дворец Черны-
шевского и критический словарь Достоевского в блестяще
выполненном ландшафте из небоскребов из стекла и стали
и застекленных галерей. Главный мотив в кристаллическом
новом мире Замятина — лед, который символизирует застыва-
ние модернизма и модернизации в твердые, безжалостные,
пожирающие саму жизнь формы. Холоду и однообразию этих
новых кристаллизованных структур герой и героиня Замя-
тина противопоставляют ностальгический образ: «их, тог-
дашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая,
путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев,
красок, птиц...» Замятин боялся, что «новая» модерность хо-
лодной стали и строгой регламентации уничтожит «старую»
модерность стихийно гудящей модерной улицы.45
Как оказалось, страхи Замятина не воплотились букваль-
но, но дух их воспроизведен был весьма точно. У раннего
СССР просто не было ресурсов — капитала, обученных ра-
бочих, технологий — для строительства головокружительных
хрустальных дворцов; но, к сожалению, он был достаточно
модернизирован, чтобы создать, поддерживать и расширять
жесткие структуры тоталитарного государства. Настоящая
реинкарнация Хрустального дворца в XX веке имела место
на другой стороне света — в США. Здесь лиричное, плав-
ное здание Пакстона в послевоенный период было воз-
рождено в искаженной, но узнаваемой форме, бесконечно
и механически воспроизвелось в целом легионе покрыв-
ших страну штаб-квартир корпораций и пригородных тор-
говых центров из стекла и стали.46 Много было сказано об
этом вездесущем стиле в последнее время и со все большим
320
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
сожалением. Здесь стоит подчеркнуть только, что одной из
основополагающих причин его возникновения было жела-
ние сбежать из модерного города, от «оглушительно пестрой,
путаной толчеи людей, колес, животных, афиш, деревьев,
красок, птиц», и создать более закрытый, контролируемый
и упорядоченный мир. Пакстон, который так любил модерный
город, ужаснулся бы, окажись он в одном из кристаллизо-
ванных пригородных «кампусов» IBM. А вот Чернышевский
наверняка бы чувствовал себя в нем как дома: это именно та
«более приятная и удобная» среда, которая воплощает его
мечту о модернизации.
Все это позволяет понять, насколько удивительным проро-
ком был Достоевский. В своей критике Хрустального дворца
он показал, как даже самое героическое воплощение модер-
ности как авантюры может превратиться в мрачный символ
модерности как рутины. Когда динамика послевоенной эконо-
мики Америки, Западной Европы и Японии вела — неизбежно,
как казалось какое-то время,— к созданию мира хрусталь-
ных дворцов, Достоевский оказался невероятно актуальным
в повседневной модерной жизни, актуальным, как никогда
прежде.
3. XX ВЕК: ГОРОД ВСТАЕТ, ГОРОД ИСЧЕЗАЕТ
Даже простая попытка уделить должное внимание полити-
ческим и культурным сдвигам в жизни Петербурга в сле-
дующие полвека безнадежно исказит структуру этой книги.
Но стоит привести хотя бы отдельные кадры из жизни и ли-
тературы этого города в начале XX века, чтобы объяснить,
как странно и трагически воплотились в них некоторые темы
и импульсы века XIX.
1905: больше света — больше тени
К 1905 году Петербург превратился в крупный промышлен-
ный центр, где проживало свыше 200 000 рабочих, более
321
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
половины из которых мигрировали сюда из деревни не ранее
1890 года. Новые литературные образы фабричных райо-
нов города становятся все более нервными: «Таким обра-
зом, фабрики и заводы как бы кольцом окружили город,
захватывая административно-торговый центр в свои объя-
тия».47 С 1896 года, когда состоялась удивительно дисци-
плинированная и хорошо скоординированная стачка ткачей,
петербургские рабочие заняли важное место на европейской
политической карте.
И вот в воскресенье 9 января 1905 года огромная, почти
в 200 000 мужчин, женщин и детей, толпа рабочих стека-
ется со всех концов города к его центру, чтобы дойти до
дворца, у которого завершаются все проспекты. Их ведет
статный и харизматичный поп Георгий Гапон,— одобрен-
ный государством священник Путиловского завода и со-
здатель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих
г. Санкт-Петербурга». Люди не скрывают, что пришли без
оружия (помощники Гапона обыскивали толпу и некоторых
разоружали) и не замышляют насилия. Многие несут иконы
и плакаты с портретом царя Николая II, толпа по пути поет
«Боже, царя храни». Отец Гапон умолял царя явиться перед
народом у Зимнего дворца и выслушать их просьбы, изло-
женные в петиции:
Государь!
Мы, рабочие и жители города С. Петербурга разных сословий,
наши жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли
к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас уг-
нетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются,
в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые
должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели,
но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и неве-
жества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет
больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел
тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение не-
выносимых мук.
322
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не
начнем работать, пока они не исполнят наших требований.
Петиция требовала установления восьмичасового рабо-
чего дня, минимальной оплаты труда в размере один рубль
в день, упразднения принудительных неоплачиваемых пере-
работок и права объединяться в профсоюзы. Эти требования
были адресованы, в первую очередь, работодателям, самому
же царю — лишь косвенно. Однако за ними тут же шли ради-
кальные политические требования, которые мог исполнить
только царь: демократически избранное Учредительное со-
брание («Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зи-
ждется все, это главный и единственный пластырь для наших
больных ран»); гарантии свободы слова, печати и собраний;
справедливый суд; всеобщее бесплатное образование; и, на-
конец, окончание катастрофической русско-японской войны.
Петиция завершалась словами:
Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли
к тебе. Лишь при удовлетворении их возможно освобождение
нашей родины от рабства и нищеты, возможно ее процветание,
возможно рабочим организоваться для защиты своих интересов
от наглой эксплуатации капиталистов и грабящего и душащего
народ чиновничьего правительства.
Повели и поклянись исполнить их и ты сделаешь Россию
и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах на-
ших и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не
отзовешься на нашу мольбу,— мы умрем здесь, на этой площади,
перед твоим дворцом. Нам некуда больше итти и не зачем. У нас
только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу... пусть
наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не
жаль этой жертвы, мы охотно приносим ее! 48
Попу Гапону так и не удалось зачитать петицию царю: Ни-
колай с семьей поспешно покинул столицу, оставив во главе
ее своих чиновников. Те спланировали встречу совершенно
323
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
отличную от той, на которую надеялись рабочие. Когда ра-
бочие подошли к дворцу, их окружили подразделения общим
числом в 20 000 крепких, полностью вооруженных солдат,
которые начали расстреливать толпу с близкого расстояния.
Сколько людей было убито в тот день, неизвестно до сих
пор — правительство признало гибель 130 человек, но раз-
личные независимые оценки доводят их число до тысячи,—
однако всем тотчас стало ясно, что целая эпоха российской
истории завершилась и началась революция.
По мнению Бертрама Вольфа, Кровавое воскресенье за-
ставило «миллионы примитивных умов совершить скачок
из Средневековья в XX век. Они пришли с любовью и бла-
гоговением рассказать о своих бедах батюшке-царю. Пули
и сообща пролитая кровь смели все остатки любви и до-
верия. Теперь они понимали, что отца у них больше нет
и проблемы придется решать самостоятельно». Это общее
мнение о 9 января и, в общем, оно верно. Но оно совершен-
но ложно в понимании эволюции петербургской толпы до
пуль и крови. Троцкий в своих воспоминаниях о революции
1905 года пишет о демонстрации Гапона: «Первым актом
революции было уличное общение пролетариата с монар-
хией».49 Требование народа поговорить со своим прави-
телем на улицах — это мысль не «примитивного ума» или
по-детски невинных душ; эта идея, которая одновременно
говорит и о зрелости, и о модерности людей. Демонстрация
9 января — это форма модерности, выросшая на своеобраз-
ной петербургской почве. Она выражает глубочайшие нужды
и сомнения порожденных этим городом простых людей: из-
менчивую смесь почтения и презрения, ревностную предан-
ность своим правителям и столь же ревностное стремление
быть самими собой; решимость рискнуть всем, даже своими
жизнями, ради прямого столкновения на улицах, столкно-
вения одновременно личного и политического, благодаря
которому в них бы наконец — как говорил Подпольный че-
ловек в 1860-е годы и многократно повторял Гапон в своей
петиции в 1905 году — «признали людей».
324
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Через девять месяцев свет увидело самое оригинальное
и долговечное новшество, введенное Петербургом в модер-
ную политику: рабочие советы. Петербургский совет рабо-
чих депутатов вышел на политическую сцену практически за
одну ночь в начале октября 1905 года. Он погиб молодым
вместе с революцией 1905 года, но затем возродился, сна-
чала в Петербурге, а потом по всей России, в революцион-
ном 1917 году. Он вдохновлял радикалов и угнетенных всего
мира на протяжении XX века. Совет запечатлился в назва-
нии СССР, хотя реалии этого государства и оскверняют его.
Многие из тех, кто протестовал против Советского Сою-
за в Восточной Европе, в том числе мятежники в Венгрии,
Чехословакии и Польше, вдохновлялись представлениями
о том, каким должно быть настоящее «советское общество».
Троцкий, один из главных вдохновителей Петербургского
совета, описывал этот орган как воплощение потребности
в «организации, которая была бы авторитетна, не имея тра-
диций, сразу охватила бы рассеянные стотысячные массы,
почти не имея организационных зацепок; которая объединя-
ла бы революционные течения внутри пролетариата, была
бы способна на инициативу и автоматически контролиро-
вала бы самое себя и — главное — которую можно было бы
в 24 часа вызвать из-под земли». Совет, «парализуя деятель-
ность самодержавного государства стачечным восстанием,
вносит свой собственный свободный демократический по-
рядок в жизнь трудящегося городского населения».50 Воз-
можно, то была самая радикальная форма представитель-
ной демократии со времен Древней Греции. Характеристики
Троцкого, хоть и несколько идеализированы, в целом доста-
точно точны — за исключением одной. Троцкий заявляет, что
Петербургский совет «не имел традиций». Но эта глава со
всей ясностью покажет, что совет напрямую произошел из
богатой и живой петербургской традиции личной полити-
ки, политики, воплощаемой в прямых личных контактах на
городских улицах и площадях. В нем на некоторое время
воплощаются все храбрые, но тщетные поступки поколений
325
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
петербургских мелких чиновников — «„Ужо тебе!..“ И вдруг
стремглав // Бежать пустился»,— и все «смешные мальчи-
шеские манифестации» Подпольных людей из среды раз-
ночинцев.
Однако 1905 год в Петербурге был временем не толь-
ко уличных столкновений и взаимных откровений, но также
и временем углубления неоднозначности и тайн, хитроспле-
тений, открывающихся и тут же захлопывающихся дверей.
Не было никого двойственнее самого попа Гапона. Сын укра-
инских крестьян, временами ударявшийся в бродяжничество
и толстовство, организовал свой профсоюз под покрови-
тельством тайной полиции. Зубатов, глава московского ее
отделения, вынашивал идею создания умеренных профсо-
юзов фабричных рабочих, которые перенаправили бы их
злость с правительства на работодателей; его эксперимент
окрестили «полицейским социализмом». Гапон был ревност-
ным и способным неофитом. Однако, как и предсказывали
критики Зубатова, полицейский агент слишком уж проникся
нуждами и проблемами своих рабочих и работал над тем,
чтобы увести его за пределы декоративной конструкции,
установленные для него полицией. Наивная личная вера
Гапона в царя — которую не разделяли его циничные секу-
лярные начальники — привела город и государство в целом
к катастрофическому столкновению 9 января.
Никто не был столь поражен событиями 9 января, как сам
Гапон, и, казалось, ни в ком за одну ночь не разгорелся так
ярко революционный огонь. В подполье, а затем и в эмигра-
ции он написал целую серию гневных манифестов. «Итак,
у нас больше нет царя!» — объявлял он. Он призывал к ис-
пользованию «бомб и динамита, террора единичного и мас-
сового,— всего, что может содействовать народному восста-
нию». Ленин встретился с Гапоном в Женеве (после того, как
Плеханов отказался от встречи) и поразился его наивному
и всецело религиозному радикализму — куда более типично-
му для масс России, как сказал Ленин позднее, чем его соб-
ственный марксизм. Однако он убеждал священника читать
326
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и учиться, чтобы яснее и точнее выразить свои политические
взгляды, а главное — не поддаваться лести и скорой славе.
Приехав в Женеву, Гапон сперва надеялся применить
свой авторитет для объединения всех революционных сил,
но вскоре сдался под напором сектантских склок и интриг.
Тогда он отправился в Лондон, где его принимали как знаме-
нитость, кормили и поили миллионеры, завороженно слуша-
ли благородные дамы. Он смог собрать на дело революции
значительную сумму, но не знал, что с ней делать, потому
что не имел связного плана перемен. После неудачной по-
пытки контрабанды оружия он оказался в изоляции и беспо-
мощном положении, и чем более замедлялась революция,
тем более его охватывали депрессия и отчаяние. В начале
1906 года он ненадолго вернулся в Россию — и попытался
вновь поступить на службу к полиции! Ради огромных де-
нег он предложил предать всех и вся, но его двойную игру
обнаружил Пинхас Рутенберг, один из ближайших его това-
рищей до и после января 1905 года (и соавтор манифеста);
он сообщил о ней тайному суду рабочих, который казнил
Гапона на одной из дач в Финляндии * в апреле 1906 года.
Массы же продолжали чтить его и долгие годы считали,
что священника убила полиция.51 История, достойная самых
мрачных тонов Достоевского: Подпольный человек на один
героический миг выходит на солнце, но лишь еще глубже
погружается во тьму под тяжестью самобичевания, которое
и губит его окончательно.
Одна из самых необъяснимых загадок в истории Гапона
такова: если полиция и Министерство внутренних дел знали
о его планах за дни и недели до 9 января, то почему не
остановили демонстрацию еще до того, как она началась —
например, арестовав всех организаторов,— или не настояли
на том, чтобы правительство предприняло какие-то поверх-
* Тело Гапона было обнаружено на даче в Озерках. Это приго-
род (а сейчас — район внутри городской черты) Санкт-Петербурга.
И в 1906 году, и позднее он не входил в состав Финляндии. — П рим. пер.
327
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
ностные примирительные меры, чтобы успокоить рабочих?
Некоторые историки считают, что в конце 1904 года полиция
ослабила бдительность, полностью доверив Гапону сдер-
живать рабочих и недальновидно недооценив непредсказу-
емость как агента, так и подчиненных ему рабочих. Другие
же утверждают, что, напротив, полиция не только точно зна-
ла, что произойдет 9 января, но и хотела, чтобы это слу-
чилось, и даже подстрекала Гапона и правительство — ибо,
столкнув страну в хаос революции, она создавала повод
и подходящую среду для запланированных ею драконовских
репрессий.
Такое представление о царской полиции мог бы показать-
ся слишком уж абсурдным и параноидальным, если бы не
было бесспорно доказано, что между 1902 и 1908 годами
она спонсировала целую волну политического террора. Все
это время работала под руководством полицейского агента
Евно Азефа тайная Боевая организация неонароднической
Партии социалистов-революционеров, ответственная за ряд
громких убийств высших чинов — ее самой известной жертвой
стал великий князь Сергей, дядя царя и генерал-губернатор
Москвы; она делала это втайне от других членов партии, но
с ведома и разрешения полицейских начальников. Особенно
странной эту историю делает тот факт, что самым эффектным
и громким убийством группы стала ликвидация работодателя
Азефа, великого и могущественного Вячеслава фон Плеве —
министра внутренних дел, директора департамента полиции
и человека, под чьим покровительствам группа была создана!
Между покушениями Азеф сдавал полиции многих терро-
ристов; в то же время он выдавал и полицейских агентов
террористам. Наконец, в 1908 году Азефа вывели на чистую
воду, и тактика политического террора, также окружающая
его таинственность, оказались значительно дискредитиро-
ваны среди левых. Однако это не предотвратило осенью
1911 года очередное убийство министра внутренних дел, Пе-
тра Столыпина, совершенное еще одним агентом полиции,
действовавшим под личиной революционера.
328
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Азеф, еще один характер, словно вышедший из романов
Достоевского, бесконечно завораживает всех, кто когда-либо
изучал период революции 1905–1906 годов. При этом ни-
кто так и не смог разгадать его блестящие махинации или
проникнуть в центр — если этот центр когда-либо был — его
существа.52 Но факт остается фактом — убийства, целью кото-
рых был паралич правительства и погружение страны в хаос,
совершались по инициативе, происходящей из самого пра-
вительства; и здесь подтверждается точка зрения, которую
я изложил ранее в этой книге: нигилизм модерной рево-
люции — всего лишь бледная тень нигилизма сил Порядка.
Об Азефе, его товарищах-двойных агентах и их правитель-
ственных спонсорах ясно лишь одно — вместе они создали
политическую среду, безнадежно погрязшую в тайне, среду,
где любая вещь могла оказаться своей полной противопо-
ложностью, где действие является отчаянной необходимо-
стью, но смысл каждого действия фатально сокрыт. К тому
времени традиционная репутация Петербурга как призрач-
ного и сюрреалистического города стала злободневна и ак-
туальна как никогда.
«Петербург» Белого: теневой паспорт
Эта сюрреалистическая реальность вдохновила роман Ан-
дрея Белого «Петербург», события которого разворачи-
ваются на пике революции 1905 года. Роман был написан
и опубликован между 1913 и 1916 годами, а затем значитель-
но отредактирован в 1922 году. Он так и не смог добраться
до читателя в СССР и только начинает находить американ-
скую аудиторию.53 Его репутация долгие годы держалась
на восхвалениях эмигрантов-авангардистов: Набоков, на-
пример, называл «Петербург» в одному ряду с «Улиссом»
Джойса, «Превращением» Кафки и «В поисках утраченного
времени» Пруста «одним из четырех главных произведений
двадцатого века». Читатель, не знающий русского языка,
не может в полной мере оценить прозу Белого; но даже
329
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
в переводе абсолютно ясно, что эта книга — шедевр, равный
самым выдающимся произведениям модерной литературы.
Даже если просто пробежаться взглядом по нескольких
страницам «Петербурга» Белого, станет ясно, что это про-
изведение модернистское в самом прямом смысле слова.
У него нет, в отличие от почти всей литературы XIX века,
единого рассказчика; вместо этого сюжет развивается при
помощи постоянных резких переходов, перебивок и монтаж-
ных склеек. (В контексте русской культуры этот роман — со -
временник Маяковского и футуристов в поэзии, Кандинского
и Малевича, Шагала и Татлина в изобразительном искус-
стве. Он на несколько лет опережает Эйзенштейна, Родченко
и конструктивизм.) Он почти полностью состоит из обру-
бленных, отрывистых фрагментов: фрагментов социальной
и политической жизни городских улиц, фрагментов внутрен-
ней жизни людей с этих улиц, головокружительных скачков
туда-обратно между ними — soubresauts de conscience, как
говорил Бодлер. Его перспектива, как на картинах кубистов
и футуристов, надломлена и искажена. Даже пунктуация
у Белого дичает; предложения обрываются на полуслове,
а точки, запятые, восклицательные и вопросительные знаки
парят в одиночестве посреди страницы, затерявшись в пу-
стоте. Мы, читатели, постоянно находимся в подвешенном
состоянии; нам нужно внимательно следить от строки к стро-
ке, от события к событию, чтобы не забыть, что происходит
и где мы. Однако причудливый и хаотичный стиль Белого не
является целью сам по себе: Белый заставляет нас прочув-
ствовать головокружительную, но таинственную атмосферу,
в которой вынуждены были существовать жители Петербурга
в 1905 году:
О том, что столичный наш город <..> принадлежит к стране загроб-
ного мира,— говорить об этом не принято как-то при составлении
географических карт, путеводителей, указателей; красноречиво
помалкивает тут сам почтенный Бедекер; скромный провинци-
ал, вовремя не осведомленный об этом, попадает в лужу уже на
330
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Николаевском или даже на Варшавском вок-зале; он считается с яв-
ною администрацией Петербурга: теневого паспорта у него нет.
Эти образы определяют сам роман как нечто вроде за-
гробной географической карты или путеводителя Бедекера,
как теневой паспорт. Но это означет и то, что «Петербург»
относится к реализму не в меньшей степени, чем к модер-
низму. Его триумф показывает, как реализм в литературе
и мысли должен развиться в модернизм, чтобы передать
развертывающиеся, распадающиеся и все более теневые
реалии модерной жизни.54
«Петербург» — произведение и модернистское, и реали-
стическое, но также это роман традиции, традиции петер-
бургской. Каждая его страница пропитана традиционными
образами городской истории, литературы и фольклора. На-
стоящие и воображаемые личности — Петр Великий и его
многочисленные потомки, Пушкин, его чиновник и его Мед-
ный всадник, гоголевские шинели и носы, лишние люди
и русские гамлеты, двойники и бесы, цари-убийцы и царе-
убийцы, декабристы, Подпольный человек, Анна Каренина,
Раскольников, а также персы, монголы, «Летучий Голлан-
дец» и многие другие в ассортименте — все они не просто
заполняют мысли персонажей Белого, но и материализуются
прямо на улицах. Иногда кажется, что книга вот-вот потонет
под общим грузом собранных в ней традиций Петербур-
га; а иногда — что она взорвется от их все возрастающего
давления. Но проблемы, присущие книге, опутывают и сам
город: накал его традиций — в том числе традиции бунта —
топит и взрывает и самих петербуржцев.
Главные персонажи Белого: высокопоставленный чинов-
ник Аполлон Аполлонович Аблеухов, основанный в общих
чертах на холодном и зловещем реакционере Константине
Победоносцеве, крайне правом идеологе эпохи fin de siècle,*
* Fin de siècle (фр.) — конец века; термин для обозначения периода
рубежа XIX и XX веков. — П рим. пер.
331
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
организаторе погромов; его сын Николай, красивый, томный,
чувственный и слабый юноша традиции лишнего человека,
который то страдает, то размышляет в своей комнате, то по-
является в странных костюмах, возмутительных для высше-
го света, то и пишет статьи об уничтожении всех ценностей;
Александр Дудкин, нищий аскет, интеллигент, разночинец
и участник революционного подполья; таинственный Лип-
панченко, двойной агент, основанный на Азефе (одним из его
псевдонимов была фамилия Липченко), который руководит
жестокой интригой, в значительной степени выступающей
движущей силой повествования Белого; и, наконец, вокруг
них кипит и кружится, толкает их вперед и тянет назад сам
город Петербург.
В 1905 году Невский проспект все еще таинственен и пре-
красен, все еще вызывает лирические чувства: «Огненным
мороком вечером залит проспект. Ровно высятся ябло-
ки электрических светов посередине. По бокам же играет
переменный блеск вывесок; здесь, здесь и здесь вспыхнут
вдруг рубины огней; вспыхнут там — изумруды. Мгновение:
там — рубины; изумруды же — здесь, здесь и здесь». И, как
во времена Гоголя и Достоевского, Невский — все еще линия
связи. Только теперь, в 1905 году, по ней передаются другие,
новые сообщения. В основном они исходят от сознательно-
го и невероятно энергичного городского рабочего класса:
Петербург окружает кольцо многотрубных заводов.
Многотысячный людской рой к ним бредет по утрам; и кишмя
кишит пригород; и роится народом. Все заводы тогда [в октябре
1905 года] волновались ужасно, и рабочие представители толп
превратились все до единого в многоречивых субъектов; среди
них циркулировал браунинг; и еще кое-что. ‹...›
То волненье, охватившее кольцом Петербург, проникало как-то
и в самые петербургские центры, захватило сперва острова, пе-
рекинулось Литейным и Николаевским мостами; и оттуда хлынуло
на Невский Проспект: и хотя на Невском Проспекте та же все
была циркуляция людской многоножки, однако состав многоножки
332
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
изменялся разительно; опытный взор наблюдателя уже давно
отмечал появление черной шапки кос матой, нахлобученной, за-
везенной сюда с полей обагренной кровью Манджурии [демо-
билизованные с русско-японской войны солдаты — М . Б.]: то на
Невском Проспекте зашагал многоречивый субъект, и понизился
вдруг процент проходящих цилиндров; многоречивый субъект
обнаруживал здесь свое исконное свойство: он тыкался плеча-
ми, запихав в рукава пальцы иззябших рук; появились также на
Невском беспокойные выкрики противоправительственных маль-
чишек, несшихся что есть дух от вокзала к Адмиралтейству и ма-
хавших красного цвета журнальчиками.
Теперь каждый мог услышать престранный звук на Не-
вском, едва слышное жужжание, источник которого невоз-
можно определить, «неотвязная нота... уууу-уууу-уууу ‹...› был
ли то звук? Если то и был звук, он был несомненно звук иного
какого-то мира». И «достигал этот звук редкой силы и ясно-
сти» осенью 1905 года. Это богатый и сложный образ; но одно
из ключевых его элементов указывает на «иной какой-то мир»
петербургского рабочего класса, который теперь, в 1905 году,
решительно готов утвердить свое место в «этом мире», мире
проспекта и дворца в центре города и государства. «Вы толпы
скользящих теней с островов к себе не пускайте!» — увещевал
сенатор Аблеухов себя и правительство; но в 1905 году он
кричит впустую.
Давайте посмотрим, как Белый расставляет в этом про-
странстве свои фигуры. Его первая драматическая сце-
на — вариант того, что я называю петербургской первичной
сценой: столкновение на Невском проспекте между офи-
цером и чиновником, дворянином и разночинцем. Версия
этой архетипической сцены у Белого показывает, как пораз-
ительно изменилась петербургская жизнь со времен Под-
польного человека. Как нам сообщается, сенатор Аблеухов
любит Невский: «Всякий раз вдохновение овладевало ду-
шою сенатора, как стрелою линию Невского разрезал его
лакированный куб [карета — М . Б .]: там, за окнами, виднелась
333
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда — в яс-
ные дни издалека-далека, сверкали слепительно: золотая
игла, облака, луч багровый заката». Но мы понимаем, что
его любовь весьма необычна. Он любит абстрактные гео-
метрические формы проспекта — «гармонической простотой
отличалися его вкусы. Более всего он любил прямолинейный
проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени
между двух жизненных точек»,— но не выносил людей, за-
полняющих эти формы. Поэтому в карете, «покачиваясь на
атласных подушках сиденья», он был рад, что «от уличной
мрази его отграничили четыре перпендикулярные стенки; так
он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо
мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон
с того перекрестка».
Мы видим здесь царскую бюрократию на последнем этапе
ее существования, когда она пытается изжить в себе обску-
рантизм прошлого, чтобы выстроить страну в соответствии
с рациональными методами и идеями. Но, к сожалению, этот
рационализм основан на пустоте: он заканчивается при лю-
бой попытке рационализировать мириады людей, населяю-
щих широкое прямолинейное пространство. Отгородившись
от «уличной мрази», сенатор думает об «островах», месте,
где расположены петербургские фабрики и живет большая
часть пролетариата, и заключает, что «непокойные остро-
ва — раздавить, раздавить!» Успокоившись этой мыслью, он
погружается в свои грезы, в космические рапсодии сети про-
спектов, что «в мировые бы ширилась бездны плоскостями
квадратов и кубов».
Сенатор предается мечтам,
Вдруг... —
— л ицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно зака-
тились каменные глаза, обведенные синевой; кисти рук, одетые
в черную замшу, подлетели на уровень груди, будто он защищался
руками. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнувшись в стенку,
упал на колени под оголенною головою...
334
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Созерцая текущие силуэты — котелки, перья, фуражки, фураж-
ки, фуражки, перья — Аполлон Аполлонович уподоблял их точкам
на небосводе; но одна из сих точек, срываясь с орбиты, с голо-
вокружительной быстротой понеслась на него, принимая форму
громадного и багрового шара.
Мы поражены не меньше, чем сам сенатор. Что здесь про-
изошло? Его застрелили? В карету его попала бомба? Он
умирает? Вскоре мы со смехом узнаем, что ничего подобного
не произошло. Всего лишь «стиснутая потоком пролеток, ка-
рета остановилась у перекрестка; мимо шедший поток разно-
чинцев, стиснутый пролетом пролеток, к потоку перпендику-
лярно летящих, пересекающих Невский,— этот поток теперь
просто прижался к карете сенатора, нарушая иллюзию, будто
он, Аполлон Аполлонович, пролетая по Невскому, пролетает
за миллиардами верст от людской многоножки». Аблеухов,
застряв тут и пропуская пролетки, «из фуражек, из перьев,
из котелков увидал с угла пару бешеных глаз: глаза выра-
жали одно недопустимое свойство; глаза узнали сенатора;
и, узнавши, сбесились; может быть, глаза поджидали с угла;
и, увидев, расширились, засветились, блеснули».
Самая приметная черта этого столкновения, особенно если
мы сравним его с подобными встречами в Петербурге в про-
шлом,— это страх правящего класса. Высокий сановник в ужа-
се отпрянул от взгляда незнакомого разночинца, будто этим
взглядом тот мог его убить. Конечно же, верно, что в атмосфере
1905 года высшие чины справедливо боялись покушений на
свою жизнь — не в последнюю очередь со стороны своей же
полиции. Но страх Аблеухова, как и многих его прототипов из
реальной жизни, далеко выходит за пределы разумного: ему
кажется, что любое взаимодействие с под данными, даже про-
стой взгляд, может оказаться смертельным. Аблеуховы все еще
правят Россией, но уже осознают, сколь непрочны их власть
и влияние. И поэтому сенатор в собственной карете на Невском
проспекте чувствует себя столь же уязвимым, как бедный чи-
новник Голядкин полвека назад, ему кажется, что он жертва
335
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
смертоносных взглядов любого злонамеренного прохожего.
Даже отпрянув от взгляда разночинца, сенатор смутно
чувствует, что эти глаза он где-то уже видел. И действи-
тельно, вскоре он с ужасом припоминает, что наблюдал их
в собственном доме. Ведь сын сенатора, Николай, сошелся
именно с такими людьми и занялся именно тем, что вселя-
ет такой ужас в его отца. Николай покинул холодный мра-
морный особняк и отправился бродить по петербургских
улицам, грязным тавернам, подпольным подвалам в поисках
«иного мира», более живого и настоящего, чем его мир. Там
он встретил Дудкина, бывшего политического заключенного,
много раз бежавшего от властей — его называют Неулови-
мым,— который скрывается на убогом чердаке на Васильев-
ском острове. В Дудкине, который знакомит Николая с ре-
волюционным подпольем, заключена нестабильная и крайне
взрывоопасная смесь всех революционных и «подпольных»
традиций Петербурга. Его чердак навещают не только ре-
волюционеры и полицейские агенты — в том числе двойные
и даже тройные,— но и галлюцинации в виде чертей и отече-
ски благословляющего его медного Петра Великого.
Дудкин и Николай сдружились; они обмениваются беско-
нечными рассказами о своих метафизических переживаниях
и экзистенциальной тоске. И здесь мы наконец-то наблюдаем
что-то вроде странной, но реальной интимности и взаим-
ности между петербургским дворянином и мелким чинов-
ником. Однако этот скромный успех оказывается прологом
к катастрофе: Николай нашел настоящего революционера,
но самого Николая находит революционер фальшивый и же-
стокий, Липпанченко. Липпанченко — который, как мы пом-
ним, тайно работает на полицию,— манипулирует его гневом,
чувством вины и внутренней слабостью и шантажирует до
тех пор, пока Николай не соглашается убить отца, заложив
дома бомбу. Эта бомба, помещенная в сардинницу, должна
взорваться через двадцать четыре часа после завода. Пока
перед нашими глазами одновременно разворачиваются жизни
дюжины отчаявшихся персонажей, охваченных Революцией
336
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
(и особенно крепко она хватает своих врагов), мы знаем,
что в кабинете сенатора тикает бомба, и безжалостный ход
ее часов устанавливает в этом бесконечно сложном романе
точное и жуткое единство времени и действия.
Все, что можно сделать в рамках данной работы,— это рас-
смотреть несколько произвольно выбранных отрывков из
«Петербурга», чтобы исследовать насыщенное взаимодей-
ствие между жителями города и его ландшафтом в то время,
когда и люди, и сам город переживали коренные перемены
и падали в бездну неизвестного. Обратимся к сцене пример-
но в середине книги, когда Николай уже испытывает отвра-
щение к заключенной сделке, но ему еще не хватает храбро-
сти отказаться от нее лично. (Бомба, конечно, уже тикает.) Он
отправляется на острова в поисках Дудкина, чтобы выразить
свое возмущение мерзким договором. Однако оказывается,
что Дудкин об интриге ничего не знает и напуган не менее
Николая. Возможно, Дудкин обескуражен даже сильнее его:
во-первых, потому что преступление это чудовищно само по
себе — хоть он и метафизический нигилист, но утверждает,
что, когда дело касается конкретной жизни, он останавлива-
ется; во-вторых, потому что замысел отцеубийства говорит
либо о том, что Партию использовали и предали, что может
покончить с ней как с политической силой, либо незаметно
для Дудкина она в мгновение ока стала отвратительно цинич-
на и продажна; наконец — и это подчеркивает подпись агента,
давшего Николаю этот ужасный приказ, «Неизвестный»,—
преступление это показывает, что Дудкин не знает, что про-
исходит с движением, которому он посвятил всю свою жизнь
и без которого жизни у него попросту нет. Весть, принесен-
ная Николаем, не просто возмущает его чувство порядочно-
сти, но и разрушает его ощущение реальности. Двое мужчин
в бреду плетутся по Николаевскому мосту, с трудом пытаясь
осознать, что идут по руинам общего, казалось им, мира:
—
«Неизвестный»,— растерянно настаивал Николай Аполлоно-
вич,— «ваш товарищ по партии... Что вы так удивились? Что вас
так удивило?»
337
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
— «Уверяю вас: Неизвестного в партии у нас нет...»
— «Как? Нет в партии Неизвестного?...»
— «Да потише же... Нет...»
— «Я три месяца получаю записочки...»
— «От кого?»
— «От него...»
Оба они замолчали.
Оба они тяжело задышали и оба вцепились глазами в вопро-
сительно вскинутые глаза; и по мере того, как один растерянно
поникал, ужасаясь, пугаясь, тень слабой надежды блеснула в гла-
зах у другого.
— «Заверяю вас — честное слово: я во всей этой темной истории
ни при чем...»
Николай Аполлонович сперва не поверил.
— «Ну, так что ж это значит?»
Тут, пока они пересекают Неву, догадки о том, что это
значит, начинает давать само окружение; оба впитывают эти
предположения и уносят их с собой. Они двигаются в разных
направлениях, но оба пути безрадостны.
— «Ну, так что ж это значит?»
Николай Аполлонович посмотрел невидящими глазами на
Александра Ивановича; а потом и в глубь улицы: как улица из-
менилась!
Верх пролетки стремительно уносился в глубь улицы: как улица
изменилась,— как и ее изменили эти суровые дни!
Ветер от взморья рванулся: посыпались последние листья;
больше листьев не будет до месяца мая; скольких в мае не будет?
Эти павшие листья воистину — последние листья. А лександр Ива-
нович все знал наизусть: будут, будут кровавые, полные ужаса дни;
и потом — все провалится; о, кружитесь, о, вейтесь, последние, ни
с чем не сравнимые дни!
Для Николая этот мир приходит в упадок, теряет цвета
и жизнь, погружается в энтропию. Для Дудкина он взры-
вается, несется к апокалиптическому краху. Однако оба
338
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
понимают, что двигаются к смерти, и стоят вместе — нищий
разночинец и сын высокопоставленного сановника,— объе-
диненные обреченной покорностью, беспомощные, как ли-
стья на ветру. Обоим конец 1905 года предвещает гибель
всех надежд, рожденных в эту революционную пору. Тем
не менее они должны держаться, встретить надвигающийся
на них кризис как можно решительнее — бомба продолжает
тикать,— чтобы уберечь в жизни и чести хотя бы то, что мо-
жет быть спасено.
Но вот они проходят мимо Зимнего дворца, выходят на
Невский проспект, и тут энергия улицы поражает их с силой
галлюцинации:
С улицы покатились навстречу им черные гущи людские: мно-
готысячные рои котелков вставали как волны. С улицы покати-
лись навстречу им: лаковые цилиндры; поднимались из волн как
пароходные трубы; с улицы запенилось в лица им: страусовое
перо; блинообразная фуражка заулыбалась околышем; и были
околыши: синие, желтые, красные.
Отовсюду выскакивал преназойливый нос.
Носы протекали во множестве: нос орлиный и нос петушиный;
утиный нос, курий; и так далее, далее...; нос был свернутый набок;
и нос был вовсе не свернутый: зеленоватый, зеленый, бледный,
белый и красный.
Все это с улицы покатилось навстречу им: бесс мысленно, то-
ропливо, обильно. ‹...›
— «Итак, стало быть, полагаете вы,— итак, стало быть: во всем этом
вкралась ошибка?» ‹...›
Александр Иванович... оторвался от угрюмого созерцания тек-
шего изобилия: котелков, голов и усов.
— «Ну, разумеется: мало сказать, что ошибка... Не ошибка, а гнус-
ное шарлатанство тут вмешалось во все; бессмыслие выдержано
в совершенстве — с сознательной целью: произвольно ворваться
в отношение тесно связанных друг с другом людей, перепутать их;
и в партийном хаосе утопить выступление партии».
— «Так помогите мне...»
339
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
— «Недопустимое издевательство»,— перебил его Дудкин,— «вме-
шалось — из сплетен и мóроков».
Поток шляп и носов — это прекрасная отсылка к Гого-
лю и неотъемлемая часть петербургского юмористическо-
го фольклора со времен «Носа» и «Невского проспекта».
Однако теперь, в наэлектризованной обстановке октября
1905 года, традиционные образы приобретают новое злове-
щее значение: в Дудкина и Николая летят пули и снаряды; им
кажется, что людей разрывает на куски и эмоционально, как
их самих, и физически, как тела, взорванные бомбой. Про-
спект продолжает навязывать им ассоциации: петербуржцы
превращаются в зверей и птиц, толпы людей становятся роем
насекомых; человеческие формы распадаются на сгустки
цветов — «зеленоватый, зеленый, бледный, белый и крас-
ный»,— именно это и происходит в авангардном искусстве
1910-х годов, когда Белый пишет свой роман. Дудкин берет
Николая за руку и обещает распутать загадку, которую он
даже еще не начал понимать — и, пока Дудкин стоит и пожи-
мает руку, его мир переживает еще более радикальную инво-
люцию и превращается во что-то вроде первичного бульона:
Протекали плечи, плечи и плечи; черную, как смола гущу обра-
зовали все плечи; в высшей степени вязкую и мед ленно текущую
гущу образовали все и плечо А лександра Ивановича моментально
приклеилось к гуще; так сказать, оно влипло; и, Александр Ива-
нович Дудкин последовал за своенравным плечом, сообразуясь
с законом о нераздельной цельности тела; так был выкинут он
на Невский Проспект; там икринкой вдавился он в чернотой те-
кущую гущу.
Чтó такое икринка? Она и есть и мир, и объект потребления;
как объект потребления икринка не представляет собой удов-
летворяющей цельности; таковая цельность — икра: совокупность
икринок; потребитель не знает икринок; но он знает икру, то есть
г ущу икринок, намазанных на поданном бутерброде. Так вот тело
влетающих на панель индивидуумов превращается на Невском
340
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Проспекте в орган общего тела, в икринку икры ‹...› Не было на
Невском Проспекте людей; но ползучая, голосящая многоножка
была там; в одно сырое пространство ссыпало многоразличие
голосов — многоразличие слов; членораздельные фразы разбива-
лись там друг о друга; и бессмыс ленно, и ужасно там разлетались
слова, как осколки пустых и в одном месте разбитых бутылок: все
они, перепутавшись, вновь сплетались в бесконечность летящую
фразу без конца и начала; эта фраза казалась бессмысленной
и сплетенной из небылиц: непрерывность бессмыслия составляе-
мой фразы черной копотью повисала над Невским; над простран-
ством стоял черный дым небылиц.
И от тех небылиц, порой надуваясь, Нева и ревела, и билась
в массивных гранитах.
Еще у Гоголя мы сталкивались с образом Невского как ката-
лизатора и линии связи для фантазий о других мирах и жизнях.
Белый дает нам почувствовать, как в год отчаянных надежд
и ужасающей реальности эта улица может породить новую
сюрреальность: воссоздать себя в образе первичного болота,
в котором страдающий модерный человек может пойти ко дну,
забыть о своей личности и политической позиции, утонуть.
Но Дудкину Белый утонуть не позволяет: Николай выта-
скивает его из гущи, в которой тот едва не скрылся. «„Пони-
маете ли, понимаете ли вы, Александр Иваныч, меня...“ ‹...›
„Там, в жестяннице, ‹...› копошилась наверное жизнь: как-то
странно там тикали часики“»,— здесь не вполне ясно, это чер-
ный юмор Николая или же самого Белого. Сначала Дудкин,
все еще погруженный в болото Невского, не имеет ни ма-
лейшего представления, о чем говорит Николай. Но когда
он слышит, что тот завел бомбу, то вскидывает руки в ужасе
и кричит: «Чтó вы сделали?? Скорей ее в реку!?!»
Эти встреча и сцена могли бы окончиться прямо здесь.
Но Белый научился у Достоевского искусству построения
сцен с будто бы бесконечной чередой кульминаций и кон-
цовок, сцен, где персонажи и читатели уже вроде бы гото-
вы подойти к развязке, но автор снова и снова доводит их
341
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
до безумного напряжения. Более того, что не менее важно,
Белый стремится показать нам, что реальные сцены в Пе-
тербурге 1905 года не заканчиваются тогда, когда конец их
кажется логичным. Если бы встреча Николая и Дудкина тут
и закончилась, развязка была бы не только драматичной,
но и гуманной. Но ни Петербург, ни одноименный роман
не собираются отпускать своих людей без сопротивления.
Эта сцена продолжается даже несмотря на тиканье бомбы
благодаря новому внезапному преображению Николая. Он
начинает говорить о бомбе почти ласково, как о человеке:
«Была [сардинница], так себе, мертвой... Ключик я повернул;
даже, да: стала всхлипывать, уверяю вас, точно пьяное тело,
спросонья, когда его растолкают... Понимаете ли, скривила
мне рожу? ...Мне осмелилась что-то такое тиликать?...» На-
конец он восторженно признается: «То есть [я] стал ходячею
на двух ногах бомбою с отвратительным тиканьем в животе».
Такая странная образность беспокоит читателя и заставляет
серьезно обеспокоиться состоянием психического здоро-
вья Николая. Однако для Дудкина этот монолог обладает
роковой привлекательностью: это еще одно образное бо-
лото, в котором он может утонуть, отмыться от полностью
пропитавшего его ужаса. Оба бросаются в поток сознания
и свободных ассоциаций на свою любимую — и общую для
обоих — тему: чувство экзистенциального отчаяния. Николай
делится бесконечными (и непреднамеренно забавными) впе-
чатлениями от ощущения пустоты: «В месте органов чувств
ощущение было — „ноль“ ощущением; а воспринималося
нечто, что и не ноль, и не единица, а — менее чем единица.
Вся нелепость была, может быть, только в том, что ощу-
щение было — ощущением „ноль минус нечто“, хоть пять,
например». Дудкин выступает здесь одновременно мудре-
цом-метафизиком и терапевтом-психоаналитиком, направляя
Николая как к различным мистическим теориям, так и к осо-
бенностям его детской жизни. Через несколько страниц оба
втянуты в интересный отвлеченный разговор — по-видимо-
му, им этого и хочется.
342
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Наконец, однако, Дудкин всплывает на поверхность бо-
лота, в котором они сидят, и пытается придать отчаянным
лирическим излияниям Николая хоть какую-то перспективу:
— «Это вам только, Николай Аполлонович, ощущения ваши ка-
жутся странными; просто вы до сих пор сидели над Кантом в не-
проветренной комнате; налетел на вас шквал — вот и стали вы
в себе замечать: вы прислушались к шквалу; и себя услыхали
в нем... Состояния ваши многообразно описаны; они — предмет
наблюдений, учебы...»
— «Где же, где?»
— «В беллетристике, в лирике, в психиатриях, в оккультических
изысканиях».
Александр Иванович улыбнулся невольно такой вопиющей
(с его точки зрения) безграмотности этого умственно развитого
схоласта и, улыбнувшися, продолжал он серьезно ‹...›
Тут Дудкин роняет чрезвычайно важную фразу, которая
очень легко может затеряться среди всей этой риторической
и интеллектуальной пиротехники, но которая проясняет об-
щий замысел и основную мысль «Петербурга», показывает
принципиальную точку зрения Белого на то, какой должна
быть модернистская литература и мысль. Дудкин говорит:
— «Конечно: модернист назовет ощущение это — ощущением без-
дны, то есть символическому ощущению, не переживаемому обыч-
но, будет он подыскивать соответственный образ».
— «Так ведь тут аллегория».
— «Не путайте аллегорию с символом: аллегория это символ, став-
ший ходячей словесностью; например, обычное понимание вашего
„вне себя“; символ же есть самая апелляция к пережитому вами
там — над жестянницей ‹...› ».
Дудкин, безусловно, говорящий здесь за Белого, предла-
гает блестящую и убедительную интерпретацию модернизма.
Во-первых, модернизм интересуют опасные порывы, кото-
343
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
рые названы здесь «ощущением бездны». Во-вторых, мо-
дернистская образность основывается скорее на конкретных
образах, чем на абстракциях; его символы прямолинейны,
обстоятельны, непосредственны, конкретны. Наконец, ему
жизненно необходимо исследовать контекст — психологиче-
ский, этический, политический,— из которого возникает ощу-
щение бездны. Получается, что модернизм ищет путь в без-
дну, но также и путь из нее, а вернее — сквозь нее. Глубина
бездны Николая, говорит ему Дудкин, равна «пережитому
вами там — над жестянницей»; он сможет избавиться от без-
дны, только если бросит жестянницу «скорее в Неву; и все...
вернется на место». Выход из лабиринта, в котором его разум
запер сам себя,— единственный выход наружу — заключается
в том, чтобы сделать то, что правильно с моральной, поли-
тической и психологической точки зрения.
— « ...Впрочем, что мы стоим: заболтались... Вам необходимо ско-
рее домой, и... жестянницу в реку; и сидите, сидите: никуда — ни
ногой (вероятно, за вами следят); так сидите уж дома, читайте
себе Апокалипсис , пейте бром: вы ужасно измучились... Впрочем,
лучше без брома: бром притупляет сознание; злоупотреблявшие
бромом становятся неспособными ни на что... Ну, а мне пора
в бегство, и — по вашему делу».
Пожав Аблеухову руку, А лександр Иванович от него шмыгнул
неожиданно в черный ток котелков, обернулся из этого тока и еще
раз оттуда он выкрикнул:
— «А жестянницу — в реку!»
В плечи влипло его плечо: он стремительно был унесен без-
головою многоножкою.
Это человек, который побывал в бездне и прошел сквозь
нее. Второе исчезновение Дудкина в толпе на Невском про-
спекте кардинально отличается от первого. Раньше он хо-
тел утопить свое сознание; теперь он хочет использовать
его, найти Неизвестного, заманившего Николая в ловушку,
и остановить его. Раньше Невский был символом забвения,
344
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
болотом, в котором может утонуть отчаявшееся «я»; теперь
же это источник энергии, электрическая проводка, вдоль ко-
торой сможет двигаться, когда настанет время для рывка,
обновленное и вновь деятельное «я».
Несколько сцен, на которых я сосредоточился, лишь слег-
ка приоткрывают невероятное богатство и глубину «Петер-
бурга». И относительно счастливая концовка приведенной
выше сцены очень далека от финала книги. Нам нужно будет
пройти еще через много действий и ответов, сложностей
и противоречий, откровений и мистификаций, лабиринтов
внутри лабиринтов, направленных вовне и внутрь взрывов —
через то, что Мандельштам называл «горячим лепетом одних
отступлений, петербургским инфлуэнцным бредом»,— и лишь
затем наступит концовка. Николай не сумеет вынести бомбу
из дома, она взорвется, сенатор не погибнет, но жизни отца
и сына навсегда будут разрушены. Дудкин раскроет преда-
тельство Липпанченко и убьет его; на следующее утро его,
обезумевшего и застывшего в позе Петра Великого на брон-
зовом скакуне, найдут верхом на нагом окровавленном трупе
агента. Сам Невский проспект и его людская многоножка,
прежде чем революция изживет себя, переживут поразитель-
ные перемены и метаморфозы. Но есть смысл в том, чтобы
остановиться именно здесь. Встреча Николая и Дудкина, на-
чавшаяся с мистификации, истерики и ужаса, диалектически
развилась в настоящее откровение и торжество человека;
ключом к этому оказался модернизм. В том виде, в каком
представил его здесь Белый, он способен научить модерных
людей сохранять присутствие духа в море тщеты и абсурда,
угрожающих поглотить их умы и города. Так модернизм Бе-
лого оказывается разновидностью гуманизма. В некотором
смысле он даже оптимистичен: он предполагает, что в конеч-
ном итоге модерный человек может спасти себя и свой мир,
если наберется достаточно храбрости и знаний о себе, чтобы
выбросить бомбу, готовящую убийство его отца.
В 1980-е годы модернистские произведения искусства не
принято судить по степени правдоподобности отражения
345
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
в них некой «настоящей жизни». Тем не менее, когда мы
встречаем произведение, столь же пропитанное историче-
скими реалиями, как «Петербург», так же невероятно пре-
данное этим реалиям и стремящееся вывести их из тени на
свет, мы должны уделять пристальное внимание тем местам,
где оно особенно отходит от реалий, в которых разворачива-
ется его действие. На самом деле, как я уже писал, в романе
Белого таких отличий неожиданно мало. Но мне кажется, что
одну вещь необходимо обсудить особенно подробно: был ли
Петербург в революционный 1905 год действительно столь
хаотичен и загадочен, как это описано в романе? Можно
утверждать, что октябрь 1905 года, когда разворачиваются
события романа, был одним из относительно немногих ясных
периодов во всей истории Петербурга. На протяжении всего
1905 года на городские улицы и сельские площади сначала
в Петербурге, а затем по всей России выходили миллионы
людей, пытавшихся бороться с самодержавием наиболее
прямым способом. В Кровавое воскресенье правительство
предельно ясно выразило свою позицию перед вышедшими
к нему людьми. В следующие несколько месяцев миллионы
рабочих вышли на стачку против самодержавия — порой при
под держке работодателей, которые продолжали выплачивать
зарплату, пока они участвовали в демонстрациях и борьбе.
В это время миллионы крестьян присваивали землю, на кото-
рой работали, и жгли поместья господ; бунтовали армейские
и флотские соединения — наиболее памятное восстание про-
изошло на броненосце «Потемкин»; в дело вступили средние
классы и люди свободных профессий; студенты покидали
свои заведения, чтобы участвовать в манифестациях, а про-
фессора открывали университеты для рабочих и их дела.
К октябрю всеобщей забастовкой — она известна как Все-
российская политическая стачка — была охвачена вся импе-
рия. Царь Николай хотел подавить восстание своими арми-
ями; но генералы и министры предупредили, что никаких
гарантий повиновения солдат нет и что подавить стомиллион-
ный бунтующий народ невозможно. Тогда загнанный в угол
346
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Николай опубликовал свой Манифест 17 октября, который
провозглашал свободу слова и собраний, обещал учредить
всеобщее избирательное право, создать представительный
орган власти и установитьправовые гарантии. Октябрьский
манифест привел революционное движение в смятение, дал
правительству время и пространство необходимые для того,
чтобы затоптать очаги восстания, и позволил самодержавию
просуществовать еще одно десятилетие. Конечно, обещания
царя были лживы, но людям потребовалось время, чтобы
это понять. Однако за это время, от Кровавого воскресенья
до конца октября, устройство и противоречия петербург-
ской жизни обнажились с невероятной ясностью; это был
один из немногих годов в истории Петербурга, когда им не
правили тени, когда улицы захватили открытые человеческие
сущности.55
Возможно, Белый тоже воспринимал Петербург в 1905 году
именно так. Однако он не мог не обратить внимание на то,
как вскоре после октябрьских «дней свободы» рабочие и ин-
теллигенты оказались в замешательстве и потеряли веру
в себя; как государство оказалось еще более изворотливым
и скрытным — даже по отношению к своим министрам, кото-
рые зачастую бывали осведомлены о делах государственной
политики не более, чем случайный прохожий; и как среди
всего этого вступили в свои права и вновь захватили пе-
тербургские улицы Азефы. Из 1913–1916 годов, когда был
написан «Петербург», головокружительная ясность 1905 года
действительно могла казаться лишь очередным соблазни-
тельным, но обманчивым петербургским сном.
Есть еще одна заслуживающая упоминания претензия
к правдоподобности «Петербурга». Несмотря на панорам-
ный обзор романа, рабочие, которые составляли большую
часть городской «многоножки» и движущую силу революции
1905 года, вечно остаются вдали. За этим что-то скрывается;
рабочие у Белого — это, по выражению сенатора Аблеухова,
всего лишь тени с островов. И все же, если мы сравним
«Петербург» с единственным способным соперничать с ним
347
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
литературным произведением о 1905 годе, пьесе «Мать»
Горького (1907), то будет ясно, что тени и призрачное го-
родское пространство у Белого куда более реальны и живы,
чем горьковские «положительные герои» из пролетариата,
которые являются скорее не настоящими людьми из плоти
и крови, а контурами и карикатурами в духе Чернышевско-
го 56 можно также утверждать, что героизм Дудкина не только
более настоящий, чем у героев Горького, но также и более
«положительный»: решительные действия значат для него
куда больше, поскольку для того, чтобы собраться с сила-
ми и сделать то, что должно, ему надо преодолеть гораздо
больше препятствий как снаружи, так и внутри.
О «Петербурге» Белого говорить можно еще много, и я не
сомневаюсь, что следующее поколение скажет о нем еще
больше. Я попытался показать, как эта книга может одно-
временно исследовать причины провала Первой русской ре-
волюции и выражать ее творческую силу и долговременный
успех. «Петербург» развивает великую культурную традицию
XIX века в такой тип модернизма века XX, который сегодня,
среди бесконечного хаоса, обещаний и тайн личной и поли-
тической жизни на улицах нашего столетия, актуален и силен
как никогда.
Мандельштам: блаженное, бессмысленное слово
«Если же Петербург не столица,— писал Белый в прологе
к своему роману,— то — нет Петербурга. Это только кажет-
ся, что он существует». Уже когда Белый писал эти строки,
в 1916 году, Петербург в каком-то смысле перестал суще-
ствовать: в обстановке шовинистической истерии 1914 года
Николай II за один день превратил его в Петроград — по его
словам, число русское название. Для тех, кто умеет чув-
ствовать символы, то был тревожный знак: самодержавие
с треском захлопнуло окно в Европу, но также (возможно,
бессознательно) закрыло дверь и в свое будущее. Уже че-
рез год пророчество Белого исполнится вполне: Петербург
348
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
достигнет апофеоза — как место действия и источник двух
революций — и конца. В марте 1918 года, когда немецкая
армия надвигалась на Петербург с трех сторон, новое боль-
шевистское правительство отступило в Москву в 800 км
к югу. Резко, почти что случайно закончился петербург-
ский период истории России и началась вторая московская
ее эпоха.
Сколько от Петербурга осталось при новой московской
власти? Упор на петровское стремление к экономическому
и промышленному развитию — вместе с петровским уклоном
в тяжелую промышленность и военное производство, беспо-
щадное подчинение масс, крайнюю жестокость и полнейшее
равнодушие к любому проявлению человеческого счастья,
которое могла бы принести модернизация,— был сильнее,
чем когда-либо прежде.57 Петра постоянно прославляли за
то, что он смог заставить Россию двигаться вперед, под-
толкнуть ее, надавить на нее и догнать Запад. Безуслов-
но, Петр и без того долгое время, начиная с Белинского
и радикальной оппозиции Николаю I, воспринимался как
революционный герой. Белый поучаствовал в развитии этой
традиции, поместив в «Петербург» эпизод, где «Медный
всадник» Фальконе (и Пушкина) навещает Дудкина посреди
ночи и благословляет его.
Наиболее сильно образ Петра как революционера проя-
вился в фильме Пудовкина «Конец Санкт-Петербурга» (1927),
где благодаря гениальному монтажу Медный всадник слов-
но атакует Зимний дворец вместе с силами большевиков.
С другой стороны, деспотичный, инквизиционный, братоу-
бийственный, крайне ксенофобский и антизападный режим,
утвердившийся в Москве в следующем десятилетии, многим,
в том числе Сергею Эйзенштейну, казался откатом к Мо-
скве Ивана Грозного. «Сталинская эра,— утверждал Джеймс
Биллингтон,— в известном смысле была глубже укоренена
в русской культуре ‹...› Когда Сталин обосновался в Кремле,
Москва наконец-то могла отомстить Петербургу, стараясь
всеми силами вытравить неугомонный реформизм и критиче-
349
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
ский космополитизм, который изначально символизировало
это „окно в Европу“».*
58
Пошла бы история Советского Союза по другому пути,
останься Петербург его центром? Едва ли. Но стоит отме-
тить, что в 1917 году в Петрограде проживали самые созна-
тельные и энергичные горожане во всем мире. Недавние
исторические исследования ясно показывают, что, вопреки
утверждениям советской агиографии, Ленин и большевики
не создали и даже не вели за собой петербургское массовое
революционное движение; они осознали энергию и потенци-
ал этой стихии, крепко вцепились в нее и пришли к власти
на ее гребне.59 Когда после 1921 года большевики укрепили
свою власть и подавили все стихийные народные инициативы,
они уже были далеко от города и людей, которые привели
их к власти,— города и людей, которые могли бы выступить
против них и призвать к ответу. Так или иначе, петербург-
скому правительству было бы сложнее вернуть энергичных
и отважных петербуржцев к беспомощной пассивности цар-
ских времен.
Никто другой не был так одержим уходом Петербурга
и не стремился столь решительно сохранить о нем память
и восстановить утраченное, как Осип Мандельштам. Ман-
дельштам, родившийся в 1891 году и погибший в сталинском
концлагере в 1938-м, в последнее десятилетие получил при-
знание одного из величайших модерных поэтов. При этом
Мандельштам — писатель глубоко традиционалистский, ав-
тор петербургской традиции, которая, как я попытался по-
казать, действительно удивительно модерна с самого нача-
ла — но ее модернизм извращен, искривлен, сюрреалистичен.
Мандельштам лелеял и прославлял модернизм Петербурга
в эпоху, когда Москва навязывала и утверждала собственную
разновидность модерности, модерности, с воплощением ко-
торой все петербургские традиции должны были устареть.
* Перевод по изданию Биллингтон Дж. Х. «Икона и топор. Опыт истол-
кования истории русской культуры». М ., 2001. — Прим. пер.
350
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Всю свою жизнь Мандельштам отождествлял себя и свою
судьбу с Петербургом и переменчивой судьбой города. В его
ранних довоенных стихотворениях, таких как «Адмиралтей-
ство» (48, 1913),60 Петербург удивительно похож на среди-
земноморский, порой эллинский, город, он сродни Афинам
и Венеции — медленно умирает, но живет вечно, провозгла-
шая вечные художественные формы и общечеловеческие
гуманистические ценности. Однако вскоре, после того, как
Петербург пережил войну, революцию, гражданскую войну,
террор, голод, образ города и себя самого у Мандельштама
становится все более мрачным и мучительным. Вот стихот-
ворение «На страшной высоте блуждающий огонь!..», напи-
санное в 1918 году:
На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,—
Твой брат, Петрополь, умирает!
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда,— воды и неба брат,—
Твой брат, Петрополь, умирает!
Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда,— в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.
Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда,— Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!
И два года спустя, в стихотворении «B Петербурге мы
сойдемся снова...»:
351
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
B Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
B черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Bсе цветут бессмертные цветы.
«Блаженное, бессмысленное слово» здесь — безусловно,
сам «Петербург», которого лишил смысла «бархат всемир-
ной пустоты» советской ночи. Но где-то в несуществующем
Петербурге, возможно, через память и искусство, удастся
возродить погребенное солнце.
Отождествление у Мандельштама Петербурга с собой не
менее глубоко и сложно, чем у Достоевского; оно столь же
богато, как самоотождествление Бодлера с Парижем, Дик-
кенса — с Лондоном, Уитмена — с Нью-Йорком. Здесь мы смо-
жем обратить внимание лишь на некоторые его аспекты. Тема
Мандельштама, наиболее очевидным образом развившаяся
из того, что мы рассмотрели выше, и лучше всего подходящая
этой главе в качестве заключения,— это его представление
о «маленьком человеке» Петербурга. Мы проследили разви-
тие этой фигуры в литературе — у Пушкина, Гоголя, Черны-
шевского, Достоевского и Белого,— но также и в политике,
в «смешных мальчишеских манифестациях», которые начались
у Казанского собора в 1876 году и достигли Зимнего дворца
в 1905. Петербургский «маленький человек» — всегда жертва.
Однако в течение XIX века, как я уже показал, он становится
жертвой все более смелой, энергичной, бескомпромиссной;
падение его — а оно неизбежно,— всегда сопровождается
борьбой за свои права. Этот маленький человек — фигура
непременно чужеродная и бунтарская. Что еще более под-
черкивает эти ее качества у Мандельштама, так это советский
контекст: маленький человек появляется после революции,
в которой он и его товарищи предположительно победили,
352
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
при новом порядке, где он якобы наслаждается всеми пра-
вами и привилегиями, которые только могут быть нужны че-
ловеку. «Ужели я предам позорному злословью,— спрашивал
себя Мандельштам,— ‹...› Присягу чудную четвертому сосло-
вью и клятвы крупные до слез?» (140, «1 января 1924»). «Для
того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь
их предал?» (250, «Полночь в Москве», 1932).61 Радикализм
Мандельштама заключен в том, что он настаивает: даже когда
советская Москва стремится к революционной модерниза-
ции, основные структуры и противоречия царского Петер-
бурга — маленький человек против огромного, жестокого по-
литического и социального порядка — остаются неизменны.
Наиболее ярко Мандельштам описывает страдания и тра-
гедию послереволюционного маленького человека в повести
1928 года «Египетская марка».62 Удивительно, что советская
цензура пропустила ее без изменений. Это могло произой-
ти по нескольким причинам. Во-первых, действие книги
происходит летом 1917 года, в промежутке между Февраль-
ской и Октябрьской революциями, поэтому благосклонный
цензор мог решить, что гневная критика произведения на-
правлена не против большевиков, а против свергнутого ими
правительства Керенского. Во-вторых же, дело могло быть
в стиле Мандельштама, полном ироничных сопоставлений
и разобщений, попеременно то чудаческом, то едва уловимо
зловещем, то отчаянно напряженном:
Стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство.
Все было приготовлено к большому котильону. Одно время ка-
залось, что граждане так и останутся навсегда, как коты, с бантами.
Но уже волновались айсоры чистильщики сапог, как вороны
перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые
зубы. (III)
Розовоперстая Аврора обломала свои цветные карандаши. Те-
перь они валяются, как птенчики с пустыми разинутыми клювами.
Между тем во всем решительно мне чудится задаток любимого
прозаического бреда.
353
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар;
когда все они радостно возбуждены и больны: рогатки на ули-
це, шелушение афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умное стадо
без вожака, рожденное для сонатных беспамятств и кипяченой
воды (VIII)
Возможно, глуповатый цензор попросту не понимал, о чем
говорил Мандельштам, и, к счастью, ему было все равно.
Или, возможно, добрый цензор, распознав знаки петербург-
ского модернизма, заключил, что сама уклончивость книги
защищает ее от своей же взрывоопасности, что те немногие
читатели, что соответствуют требованиям Мандельштама,
вряд ли выйдут со своими запросами на улицы.
«Наша жизнь — это повесть без фабулы и героя,— пишет
Мандельштам,— сделанная из ‹...› горячего лепета одних от-
ступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда». На са-
мом же деле, у этой повести есть и фабула, и герой. Но в то
же время Мандельштам почти топит их в потоке петербург-
ских деталей: истории, географии, домах, улицах, комна-
тах, звуках, запахах, легендах и фольклоре, людях — семье
и друзьях самого Мандельштама, образах из его детства.
Поток ностальгии по Петербургу сильно отвлекает, потому
что сам по себе завораживает и прекрасно написан. Особен-
но выразительно «Египетская марка» повествует о богатой
музыкальной жизни города и — что еще оригинальнее в рам-
ках петербургской традиции — о жизни 100 тысяч евреев, по
преимуществу «маленьких людей»: портных, платьевщиков,
кожевников (как отец Мандельштама), часовщиков, учителей
музыки, страховщиков; сонные, они потягивают чай в сво-
их магазинчиках и кафе еврейского квартала («память — это
больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от ро-
дителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?») и дают
городу тепло и жизнь.
Особенную силу и горечь потоку памяти Мандельштама
придает то, что в конце 1920-х годов большая часть описан-
ного уже исчезла: магазины опустели и закрылись, мебель
354
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
вывезли или сожгли во время ужасных зим гражданской
войны, люди уехали или погибли — во время гражданской
войны население Петербурга сократилось на две трети и де-
сятилетие спустя он только-только начал восстанавливаться
от потрясений. Исчезли даже улицы: Каменноостровский
проспект, на котором жил герой Мандельштама в 1917 году
(и где герой Чернышевского за полвека до этого бросил
в канаву офицера), теперь, в 1928 году, стал улицей Крас-
ных Зорь — Мандельштам об этом не упоминает, но это не-
трудно проверить по картам того периода и сегодняшним.
Петербург, дом столь многих поколений мечтателей, сам
превратился в мечту.
В повести Мандельштама герой все-таки есть: «Жил в Пе-
тербурге человечек в лакированных туфлях, презираемый
швейцарами и женщинами. Звали его Парнок. Ранней весной
он выбегал на улицу и топотал по непросохшим тротуарам
овечьими копытцами». История Парнока начинается почти
как сказка, и этот маленький герой наделен соответствую-
щей эфирностью. «С детства он прикреплялся душой ко
всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет
жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать
об этом женщинам, но те его не поняли, и в отместку он
говорил с ними на диком и выспренном птичьем языке ис-
ключительно о высоких материях». Эта «робкая концерт-
ная душонка, принадлежащая малиновому раю контрабасов
и трутней» — еврей, но в то же время, в его воображении,
и эллин; его заветная мечта — занять второстепенный пост
в посольстве России в Греции, где он мог бы служить пе-
реводчиком между двумя мирами; однако он сомневается
в возможности такого поворота дел, так как не обладает
должной родословной.
Парнок — как, кажется, и сам Мандельштам,— был бы счаст-
лив спокойно наслаждаться своими петербургскими мечта-
ми, вот только Петербург не дает ему этого делать. Одним
чудесным летним утром он сидит в кресле у зубного врача
и смотрит в окна, выходящие на Гороховую; тут он, к своему
355
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
ужасу, видит толпу, вершащую самосуд. Кажется, кто-то был
пойман за кражей часов. Толпа несет виновника в торже-
ственной процессии: его собираются утопить в Фонтанке.
Сказать, что на нем [задержанном] не было лица? Нет, лицо на
нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут само-
стоятельно одни затылки и уши.
Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджа-
ки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и соба-
чьи уши.
Деление людей на фрагменты людей при помощи дина-
мизма улицы — знакомая тема петербургского модернизма.
Впервые мы ее встретили в «Невском проспекте» Гоголя;
в XX веке ее оживляют Александр Блок, Белый, Маяковский,
художники-кубисты и футуристы, Эйзенштейн в своем петер-
бургском фильме 1927 года «Октябрь». Мандельштам заим-
ствует этот модернистский визуальный образ, но придает ему
моральное измерение, которого до того не было. Движуща-
яся улица, которую наблюдает Парнок, расчеловечивает лю-
дей, а вернее — дает им возможность расчеловечить себя са-
мих, лишиться лица — а значит, избавиться от ответственности
за свои поступки. Эти лица и люди погрузились в «страшный
порядок, сковавший толпу». Парнок уверен, что любого, ос-
мелившегося остановить толпу или помочь человеку, «самого
взяли бы в переделку, под подозрение, объявили бы вне
закона и втянули бы в пустое карэ». Но он все равно бежит
из своего кресла на улицу — «Парнок кубарем скатился по
щербатой бесшвейцарной лестнице, оставив недоуменного
дантиста перед повисшей, как усыпленная кобра, бормаши-
ной» — и бросается в гущу толпы. «Парнок бежал, пристуки-
вая по торцам овечьими копытцами лакированных туфель»,
лихорадочно пытаясь привлечь внимание и остановить толпу.
Ему не удается хотя бы чуть-чуть повлиять на толпу — кто
знает, заметили ли его вообще? — но при этом он очень живо
ощущает свою близость приговоренному:
356
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Погулял ты, человечек, по Щербакову переулку, поплевал на не-
хорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях,
поездил в Гатчину к другу Сережке, походил в баньку и в цирк
Чинизелли; пожил ты, человечек,— и довольно!
Что-то захватило Петербург; Парнок не понимает, что
это, но боится. «Несметная, невесть откуда налетевшая че-
ловечья саранча вычернила берега Фонтанки», куда они при-
шли посмотреть на убийство человека. «Петербург объявил
себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из
раздавленных мух». Здесь, как и в «Петербурге» Белого,
великолепный город превращается в рой насекомых, частью
которого являются и убийцы, и жертвы. И снова биоло-
гическое сравнение Мандельштама обретает политическую
силу: революционный подъем народа будто бы обусловил
его моральное падение; только став владыкой, он тут же
бросился повторять темнейшие главы истории владычества.
И архетипический петербургский обычный человек оказался
чужаком, если не беженцем («есть люди, почему-то неугод-
ные толпе») в своем родном городе как раз тогда, когда про-
стые люди города, казалось бы, и должны были взять власть.
В этой сцене еще два коротких отрывка. Парнок отчаянно
пытается найти телефон, чтобы сообщить о происшествии
кому-нибудь в правительстве. В конце концов, в XX веке
индивида и государство связывают электронные средства
массовой коммуникации. В итоге он находит телефон, но
чувствует себя еще более потерянным: «он звонил из аптеки,
звонил в милицию, звонил правительству — исчезнувшему,
уснувшему, как окунь, государству». Электронные средства
массовой информации временами облегчают связь, но также
они с невиданной ранее эффективностью умеют ее бло-
кировать: теперь государство может попросту не ответить,
стать еще более неуловимым, чем прежде, заставлять своих
под данных, словно кафкианского К., звонить без надежды
на ответ. «С тем же успехом он мог бы звонить к Прозер-
пине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен».
357
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Разыскивая помощь, Парнок переживает странную встре-
чу, которая внезапно отправляет его — и нас вместе с ним —
обратно в глубины петербургского прошлого. «На углу Воз-
несенского мелькнул сам ротмистр Кржижановский с нафа-
бренными усами. Он был в солдатской шинели, но при шашке
и развязно шептал своей даме конногвардейские нежности».
Эта помпезная фигура ступила на улицу прямо из мира Ни-
колая I, Гоголя и Достоевского. Поначалу его появление
в 1917 году кажется престранным; тем не менее, «Парнок
бросился к нему, как к лучшему другу, умоляя обнажить
оружие». Но все напрасно: «Я уважаю момент,— холодно
произнес колченогий ротмистр,— но, извините, я с дамой».
Он не выражает ни одобрения, ни осуждения по поводу
разворачивающегося выше по улице убийства — у него есть
дела поважнее. «И, ловко подхватив свою спутницу, брякнул
шпорами и скрылся в кафэ».
Кто же такой ротмистр Кржижановский? Он — наиболее
сюрреалистичный персонаж «Египетской марки», но, как мы
увидим, именно он обнажает настоящий политический посыл
повести. Из краткого описания ясно, что Кржижановский —
символ всей архетипической глупости и жестокости старо-
го офицерства — главного врага петербургского маленького
человека. Февральская революция 1917 года должна была
с ним покончить или как минимум загнать в подполье. Од-
нако он щеголяет своими привычными качествами еще бо-
лее нагло, чем раньше. Как говорит Парноку прачка, «тот
господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты» —
солдаты новой революционной армии — «сами выбрали его
в полковой комитет и на руках теперь носят!» Выходит, что
Февральская революция не только не избавилась от тради-
ционного правящего класса, но даже еще больше укрепила
его и снабдила демократической легитимностью. И здесь
нет ничего, с чем бы не согласился любой советский ком-
мунист; ведь большевики и правда говорили, что смысл
Октябрьской революции в том, чтобы навсегда избавиться
от подобных типов. (Именно так мог мыслить тот цензор,
358
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
что пропустил повесть Мандельштама.) Но Мандельштам
задумывает нечто большее. Выясняется — и сначала кажется,
что это очередной сюрреалистичный поворот сюжета,— что
у ротмистра есть планы на одежду Парнока: он хочет за-
брать его рубашки, белье и визитку. Более того, каждый
в этой повести, кажется, считает, что Кржижановский вправе
претендовать на них. В конце истории:
В девять тридцать вечера на московский ускоренный собрался
бывший ротмистр Кржижановский. Он уложил в чемодан визитку
Парнока и лучшие его рубашки. Визитка, поджав ласты, улеглась
в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись ‹...›
В Москве он остановился в гостинице «Селект» — очень хоро-
шая гостиница на Малой Лубянке,— в номере, переделанном из
магазинного помещения, с шикарной стек лянной витриной вместо
окна, невероятно нагретой солнцем.
Что эти гоголевские делишки могут значить в 1928 году?
Почему офицер забирает одежду маленького человека и за-
чем везет ее в Москву? На самом деле, если мы поместим
эти события в контекст советской политики и культуры, то
ответы будут до смешного просты. С 1918 года Москва ста-
ла штаб-квартирой новой советской элиты (гостиница «Се-
лект»), которая находилась под защитой, а порой и во вла-
сти грозной тайной полиции, расположившейся в Лубянской
тюрьме (Малая Лубянка) — шесть лет спустя туда на допрос
доставят самого Мандельштама. В 1920-е годы этот новый
правящий класс заявляет о своей преемственности к петер-
бургскому союзу маленьких людей и интеллигентов-разно-
чинцев (одежда Парнока), но ведет себя с жестокостью и са-
модовольной грубостью старого петербургского правящего
класса царских офицеров и полиции.
Оттого, что Мандельштама так волнует жалкий, но благо-
родный петербургский маленький человек, он хочет защи-
тить память о нем от московских аппаратчиков, которые пы-
таются его присвоить, чтобы легитимизировать свою власть.
359
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Обратите внимание на этот примечательный остротой чувств
отрывок, где Мандельштам описывает петербургские корни
Парнока. Вначале Парнок сожалеет о том, что наверняка
не получит работы в Греции из-за отсутствия благородной
(или хотя бы христианской) родословной. В этот миг в поток
сознания Парнока врывается рассказчик, напоминающий ему
и нам, насколько благородны его предки:
Впрочем, как это нет родос ловной, позвольте — как это нет? Есть.
А капитан Голядкин? А коллежские асессоры [Евгений в «Медном
всаднике» — М . Б.], которым «мог господь прибавить ума и денег».
Все эти люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбля-
ли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты
в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет,
а проживает на Садовой и Подьяческой в домах, сложенных из
черствых плиток каменного шоколада, и бормочут себе под нос:
«Как же это? без гроша, с высшим образованием?»
Мандельштаму так важно прояснить происхождение Пар-
нока, потому что люди, разгуливающие сейчас в его одежде,—
это именно те люди, что в XIX веке прогоняли петербургских
маленьких людей с Невского проспекта, что сегодня готовы
утопить их в Фонтанке или пытать на Лубянке. Этот срыв
покровов — ключевая движущая сила в жизни Мандельштама:
«Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха, и тог-
да обнажится ‹...› нечто совсем неожиданное». Этот призыв
рождает гордость, но также и страх: «Но перо, снимающее
эту пленку,— как чайная ложечка доктора, зараженная дифте-
ритным налетом. Лучше к нему не прикасаться». За миг до
окончания повести Мандельштам пророчески предупреждает
себя: «Уничтожайте рукопись». Но на этой ноте закончить он
не может:
Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку,
от скуки, от неуменья и как бы во сне. Эти второстепенные и мимо-
вольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас
360
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской
оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят увертюру
к «Леноре» или к «Эгмонту» Бетховена.
Мандельштам признается в вере, что мечта о блеске Пе-
тербурга заживет своей жизнью, напишет свою страстную
музыку — музыку увертюр, новых начинаний — из теней ис-
кривленных и потерянных огней города.
Через два года после написания «Египетской марки», когда
во власти в Москве укрепился Сталин и приближался террор,
Мандельштам вместе со своей женой, Надеждой, вернулся
в родной город, надеясь остаться там навсегда. В ожидании
разрешения органов внутренних дел на проживание и работу
он написал одно из самых душераздирающих своих стихот-
ворений (221) об изменениях, которые он пережил вместе со
своим городом:
Ленинград
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
361
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Ленинград , декабрь 1930
Но партийный функционер, руководивший ленинград-
ским союзом писателей и контролировавший как жилье, так
и рабочие места, выдворил их, сказав, что в Ленинграде
Мандельштама не ждут и что, возможно, он нужен в Москве
или где-то еще. Это не помешало публикации в московской
«Правде» разгромной статьи под названием «Тени старо-
го Петербурга», в которой Мандельштам был представлен
типичным петербургским снобом с замысловатым слогом,
неспособным по достоинству оценить достижения нового
социалистического порядка.63
«Господи! — писал Мандельштам в „Египетской марке“,—
Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить
себя от него. Ведь и я стоял в той страшной терпеливой оче-
реди, которая подползает к желтому окошечку театральной
кассы ‹...› Ведь и держусь я одним Петербургом». Читатель
не разу поймет, как отличить петербургского автора от его
героя; и сам Мандельштам мог не до конца осознавать это,
когда писал повесть в 1928 году. Но одно отличие появилось
пятью годами спустя, когда Мандельштама изгнали из Ленин-
града обратно в Москву. В ноябре 1933 года, в разгар сталин-
ской коллективизации, которая унесет, по разным оценкам,
почти четыре миллиона жизней крестьян, и на пороге Боль-
шого террора, который унесет еще больше, Мандельштам
написал стихотворение (286) о Сталине:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не с лышны,
Только слышно кремлевского горца —
Душегубца и мужикоборца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
362
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина.64
Мандельштам, в отличие от Парнока, не обращается за
помощью к ротмистру Кржижановскому, не пытается зво-
нить «в милицию, правительству, государству»; он просто
говорит о них правду. Мандельштам никогда не записывал
это стихотворение («уничтожайте рукопись»), но читал вслух
в нескольких маленьких московских комнатах за закрытыми
дверьми. Кто-то из слушателей сдал поэта. Одной майской
ночью 1934 года за ним пришли. Четыре года спустя, после
изнурительный физических и душевных страданий, он умер
в пересыльном лагере во Владивостоке.
Жизнь и смерть Мандельштама проливают свет на неко-
торые глубины и парадоксы петербургской модерной тра-
диции. Было бы логично, если бы эта традиция погибла
естественной смертью после Октябрьской революции и от-
бытия нового правительства в Москву. Но, по иронии судь-
бы, все более грубое предательство этим правительством
идеалов революции вдохнуло в старый модернизм новую
жизнь и придало ему сил. В новом московском тоталитарном
государстве Петербург оказался «блаженным, бессмыслен-
ным словом», символом всех человеческих надежд, которые
советский порядок позабыл. В сталинскую эпоху эту надежду
рассеяли по лагерям и бросили умирать; но она оказалась
достаточно глубока, чтобы пережить множество убийств
и, в конечном счете, убийц.
363
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
В брежневский период, когда Советский Союз еще более
отдалился даже от остатков интернациональого марксизма
и приблизился к самодовольной и узколобой «официальной
народности», которую одобрил бы и Николай I, вновь проя-
вили себя сюрреалистические образы и отчаянная энергия,
вырвавшиеся из подполья в николаевскую эпоху. Эти образы
и энергия возродились в огромном потоке самиздатовской ли-
тературы и, безусловно, в самой идее самиздата — литературы,
происходящей из подпольных источников, литературы одно-
временно более теневой и более настоящей, чем официозная
культура, пропагандируемая партией и государством. Нео-
петербургская литература сюрреалистического радикализма
замечательно дебютировала в 1959–60-е годы с выходом эссе
Андрея Синявского «Что такое социалистический реализм»:65
она продолжает жить в огромном, странном, блестящем про-
изведении Александра Зиновьева «Зияющие высоты». («На
этом основании зарубежный и по определению реакционный
социолог Ибанов высказал оригинальную, но далеко не новую
гипотезу относительно преодоления татаро-монгольского ига
и ликвидации его последствий. Согласно этой гипотезе дело
обстояло не так, будто мы уничтожили и изгнали татаро-мон-
гол, а как раз наоборот, татаро-монголы уничтожили и изгнали
нас и навсегда остались на нашем месте».66)
Другой формой самиздата стали политические демон-
страции, начавшиеся в середине 1960-х годов в Москве,
Ленинграде и Киеве после того, как советское государство
подавляло их в течение сорока лет. Одна из первых демон-
страций в Москве, состоявшаяся в День Конституции в де-
кабре 1965 года, была попросту не замечена прохожими —
они думали, что это натурные съемки фильма о Революции
1917 года! 67 Большинство этих действий предпринимались
жалкими, маленькими группами, и их тотчас скручивали
КГБ и неравнодушные прохожие; затем следовали жесто-
кие меры против участников, которых пытали, отправляли
в лагеря, заключали в «особых» психиатрических заведениях
под надзором милиции. Тем не менее эти демонстрации, как
364
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
и «смешная мальчишеская манифестация» на Казанской пло-
щади веком ранее, возвестили не только идеи и послания,
которые России так нужно услышать, но и новые спосо-
бы самовыражения, действия, общения, которые соотече-
ственники диссидентов так хорошо знали раньше и теперь
должны выучить снова. Вот последнее слово перед судом
Владимира Дремлюги, поездного электрика из Ленинграда,
арестованного вместе с шестью сообщниками на Лобном
месте Красной площади за демонстрацию против введения
советских войск в Чехословакию:
Всю свою сознательную жизнь я хотел быть гражданином, т. е. че -
ловеком, который спокойно и гордо выражает свои мысли. Десять
минут я был гражданином. Я знаю, что мой голос прозвучит дис-
сонансом на фоне общего молчания, имя которому — «всенародная
под держка политики партии и правительства». Я рад, что нашлись
люди, которые вместе со мною выразили протест. Если бы их не
было, я вышел бы на Красную площадь один.68
«Десять минут я был гражданином»; это настоящая нот-
ка петербургского модернизма, всегда самоироничного, но
ясного и мощного, когда это необходимо. Это одинокий, но
настойчивый голос маленького человека на необъятной пло-
щади: «Ужо тебе!»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОСПЕКТ
В этом эссе я попытался рассмотреть истоки и развитие пе-
тербургской традиции XIX–XX веков. Традиции этого города
отличительно модерны, что происходит из самой его функ-
ции символа модерности посреди отсталого общества; но
модерность традиций Петербурга несбалансированна, ис-
кажена, что проистекает из неустойчивости и нереальности
самой петровской схемы модернизации. В ответ на более чем
вековую жестокую, но безуспешную модернизацию сверху
Петербург породит и вскормит на протяжении XIX–XX веков
365
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
невероятное число экспериментов по модернизации снизу.
Это эксперименты одновременно и литературные, и поли-
тические; различение двух этих областей все равно едва ли
имеет смысл здесь, в городе, существование которого есть
политическое заявление, в городе, где политические устрем-
ления и отношения пропитывают повседневную жизнь.
После поражения дворян 14 декабря 1825 года ориги-
нальный дух и энергия Петербурга вырастут из обычной
жизни легиона его «маленьких людей». Этих людей окружа-
ет множество фундаментальных противоречий и парадоксов,
они вынуждены их проживать. С одной стороны, они, как
говорил Ницше в конспекте своей «истории современного
омрачения»,— класс «государственных кочевников (чиновни-
ков и т. д .): нет „родины“». С другой стороны, они глубоко
укоренены в городе, который с корнем вырвал их из род-
ных мест. Угодив в услужение тираническим начальникам
или в мертвящую рутину, возвращаясь из кабинетов и с за-
водов в тесные, тусклые, холодные, уединенные комнаты,
они, кажется, воплощают все, что скажет об отчуждении от
природы, других людей и себя самого XIX столетие. И тем
не менее в критические моменты они выходят из своего
подполья, чтобы утвердить свои права на город; ищут со-
лидарности с другими одиночками, чтобы превратить град
Петров в свой город. Их бесконечно терзает и парализует
богатство и сложность их внутренней жизни, и тем не менее,
ко всеобщему — а главное, к своему — удивлению, они нахо-
дят силы выйти на улицы и проспекты, чтобы действовать
в публичном пространстве. Они тонко и болезненно чув-
ствительны к малейшим изменениям в городском воздухе,
в котором растворяется все твердое, в котором распадаются
и высшее благочестие, и повседневная реальность.
В таком климате сила их воображения неизбежно приве-
дет к безднам нигилизма и галлюцинаций, к «петербургско-
му инфлуэнцному бреду». Но каким-то образом они находят
силы выплыть из смертельно опасных глубин своей внутрен-
ней Невы и с превосходной ясностью увидеть настоящее,
366
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
здоровое, правильное: не уступить офицеру, бросить бомбу
в реку, спасти человека от самосуда, сражаться за право на
город, противостоять государству. Моральное воображение
и храбрость этих маленьких людей вздымаются столь же
неожиданно, как и золотой адмиралтейский шпиль, проре-
зающий петербургский туман. Через миг он исчезнет, погло-
щенный тьмой и дымкой истории; но его сияние и яркость
еще надолго останутся в тусклом воздухе.
Это путешествие по тайнам Санкт-Петербурга, по столкно-
вениям и переплетениям экспериментов модернизации свер-
ху и снизу, может помочь разгадать некоторые сегодняшние
тайны политической и духовной жизни в городах Третьего
мира — Лагосе, Бразилиа, Нью-Дели, Мехико. Но столкнове-
ние и переплетение модерностей происходит даже в самых
модернизированных секторах современного мира; петер-
бургская инфлюэнца насыщает воздух Нью-Йорка, Милана,
Стокгольма, Токио, Тель-Авива и разносится все дальше.
Маленькие люди Петербурга, его «государственные ко-
чевники без родины», повсюду в современном мире чув-
ствуют себя как дома.69 Изложенная мною петербургская
традиция может оказаться для них невероятно ценной. Она
может дать им тайный паспорт, пропуск в нереальную ре-
альность модерного города. И она может вдохновить об-
разами символического действия и взаимодействия, кото-
рые помогут им действовать как люди и граждане: страстно
напряженными столкновениями, конфликтами, диалогами,
через которые они смогут заявить о себе, противостоять
друг другу, бросить вызов контролирующим их силам. Это
может помочь им стать, как утверждал (и отчаянно надеялся)
Подпольный человек Достоевского, «более живыми», как
в личном, так и в политическом плане, под неуловимо сме-
няющими друг друга светом и тьмой городских улиц. Такова
главная линия, оставленная Петербургом модерной жизни.
[367]
В ЛЕСУ СИМВОЛОВ:
НЕКОТОРЫЕ
ЗАМЕТКИ
О МОДЕРНИЗМЕ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
«Город плененного земного шара» ‹...› В этой столице челове-
ческого эго наука, искусство, поэзия и различные виды безумия
в идеальных условиях соревнуются за право созидать, разрушать
и восстанавливать данную нам в ощущениях реальность.
...Манхэттен — продукт некой несформулированной теории ман-
хэттенизма, основная программа которой — существовать в мире,
целиком созданном людьми, иначе говоря, жить внутри фанта-
зии. ‹...› Весь город сделался фабрикой по производству искус-
ственной среды, а все настоящее и естественное перестало су-
ществовать.
... Двухмерная дисциплина решетки создает прежде немысли-
мые возможности для трехмерной анархии. ‹...› Город может быть
одновременно упорядоченным и текучим: метрополисом жестко
организованного хаоса.
... На этом фантастическом острове создание и испытание но-
вого присущего метрополису образа жизни — и сопутствующей
ему архитектуры — превратились в коллективный эксперимент ‹...›
Галапагосские острова новых технологий, где будет написана
368
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
новая глава в истории эволюционной борьбы за выживание силь-
нейшего — на сей раз борьбы разных видов машин.
Рэм Колхас, «Нью-Йорк вне себя» *
Выйдя в город после недолгой болезни,
Я их заметил — корчующих закоулки квартала,
Сбившихся в дюжины, продрогших и изумленных,
Смиренно следящих за вожаком,
Башенным краном, смачно жующим отбросы годов ‹...›
Это обычно в Нью-Йорке: во что ни влюбишься,
Все подлежит сносу. ‹...›
Сочувствовать тому, что слишком долго длится,
Таинственным огнем испепеляя нас.
Джеймс Меррилл, «Выздоровление в городе» **
«Вы проводите прямые линии, заполняете дыры и выравниваете
почву — и что в результате? Нигилизм!» (Из гневной речи высоко-
поставленного чиновника, председательствовавшего в комиссии,
которая должна была заслушать планы расширения.)
Я ответил: «Извините, но, собственно говоря, именно в этом
и должна заключаться наша работа».
Ле Корбюзье, «Урбанизм»
ОДНА из основных тем этой книги — судьба «всего
твердого» в модерной жизни, всего, что «растворя-
ется в воздухе». Врожденный динамизм модерной
экономики и произрастающей из этой экономики культуры
уничтожает все, что порождает,— физическую среду, соци-
альные институты, метафизические идеи, художественные
представления, моральные ценности,— чтобы создать еще
больше, чтобы бесконечно создавать мир заново. Это дви-
** Пер. А . Смирновой. — П рим. пер.
** Пер. А . Шараповой. — Прим. пер.
369
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
жение привлекает на свою орбиту всех модерных людей
и заставляет нас искать ответ на вопрос о том, что наиболее
важно, что имеет значение, что реально в вихре, в котором
мы носимся и живем. В этой последней главе я хочу вписать
себя в эту картину, исследовать и наметить некоторые тече-
ния, которые оформили мою жизнь и зарядили ее энергией,
внутри моей собственной модерной среды, Нью-Йорка.
Более столетия Нью-Йорк является центром междуна-
родных коммуникаций. Этот город стал не просто сценой,
но спектаклем, мультимедийной презентацией, аудитория
которой — весь мир. Это придает тому, что здесь делается
и происходит, особый резонанс и глубину. В значительной
степени строительство и городское развитие Нью-Йорка
в последнее столетие следует рассматривать как символи-
ческие деятельность и коммуникацию: все это замышлялось
и исполнялось не просто для удовлетворения определенных
экономических и политических нужд, но (по крайней мере,
не в меньшей степени) ради того, чтобы показать всему миру,
на что способны модерные люди и как можно представить
себе и прожить модерную жизнь.
Многие из наиболее впечатляющих построек этого горо-
да,— Центральный парк, Бруклинский мост, Статуя Свободы,
множество небоскребов Манхэттена, Рокфеллер-центр и так
далее,— специально были задуманы в качестве символических
образов модерности. Другие его места — бухта, Уолл-Стрит,
Бродвей, Бауэри, Нижний Ист-сайд, Гринвич-Виллидж, Гар-
лем, Таймс-сквер, Мэдисон-авеню,— приобрели символиче-
ский вес и силу по прошествии времени. Совокупный эффект
привел к тому, что современный житель Нью-Йорка обитает
среди бодлеровского леса символов. Присутствие и обилие
этих гигантских форм превращает Нью-Йорк в насыщенное
и странное место обитания. Но также и опасное: его символы
и символизмы бесконечно борются за место под солнцем,
стараются уничтожить один другого, растворяют друг друга
в воздухе вместе с собою. Потому если Нью-Йорк и можно
назвать лесом символов, то это лес, где постоянно работают
370
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
топоры и бульдозеры, лес, который всегда сотрясают мас-
штабные работы; лес, где остатки пасторали сталкиваются
с армиями призраков, а «Бесплодные усилия любви» пере-
плетаются с «Макбетом»; где новые смыслы падают, словно
плоды, с рукотворных деревьев.
Я начну этот раздел с очерка о Роберте Мозесе. Публичная
карьера его растянулась с начала 1910-х годов до начала 1960-
х; он, вероятно, величайший творец символических форм
в Нью Йорке XX века, постройки которого оказали разру-
шительное и бедственное воздействие на ранние годы моей
жизни; а его призрак до сих пор преследует мой город. Затем
я разберу труды Джейн Джекобс и некоторых ее современ-
ников, которые в борьбе с Мозесом создали радикально
иной порядок городского символизма в 1960-е годы. Нако-
нец, я обозначу некоторые символические формы и среды,
которые возникли в городах в 1970-е годы. По мере повество-
вания о метаморфозах города в последние четыре десятиле-
тия я буду рисовать картину, в которую смогу поместить и себя
самого, пытаясь ухватить модернизации и модернизмы, ко-
торые создали меня и многих людей из моего окружения.
1. РОБЕРТ МОЗЕС: МИР-АВТОСТРАДА
Действуя в чересчур плотно застроенном мегаполисе, путь при-
ходится прорубать топором мясника.
Я буду продолжать строить. Хотите остановить это — делайте
что хотите.
Максимы Роберта Мозеса
Это она просветила меня
насчет города когда я сказал, мне
больно видеть как они строят
новый мост вроде такого за несколько месяцев
а я не могу времени даже чтобы
написать книгу. У них есть власть,
371
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
и все, ответила она. Вот чего все вы
хотите. Если не можешь ее получить, признай
хотя бы что это такое. И они
тебе ее не отдадут.
Уильям Карлос Уильямс, «Цветок»
Кто он сфинкс из бетона и алюминия расколовший их черепа и вы-
евший их мозг и воображение? ‹...›
Молох чьи здания приговор!
Аллен Гинзберг, «Вопль» *
Среди множества образов и символов, которые достались
модерной культуре от Нью-Йорка, один из наиболее замет-
ных в последние годы — образ модерных руин и опустоше-
ния. Имя моего родного Бронкса во всем мире превратилось
в метафору всей совокупности городских кошмаров нашей
эпохи: наркотиков, уличных банд, поджогов, убийств, терро-
ра, тысяч заброшенных зданий, кварталов, превращенных
в заваленные мусором и кирпичами пустоши. Каждый день
тысячи автомобилистов, проезжающих по Кросс-Бронкс-экс-
прессвэй, что проходит через центр этого района, лицезре-
ют, хотя, возможно, без полного понимания, ужасную судьбу
Бронкса. Хоть эта дорога и забита днем и ночью плотным
потоком машин, движутся они быстро, смертельно быстро;
скоростной режим постоянно нарушается даже на опасно
изогнутых и наклоненных заездах и съездах; сколько видит
глаз, тянутся непрерывные вереницы огромных грузовиков
с мрачными, агрессивными водителями; между ними ту-
да-сюда бешено мечутся легковые машины: кажется, будто
все на этой дороге охвачены отчаянным неконтролируемым
желанием выбраться из Бронкса так быстро, насколько по-
зволят колеса. Быстрого взгляда на городской пейзаж к севе-
ру или к югу — рассматривать его дольше проблематично, так
* Пер. Д . Храмцева. — Прим. пер.
372
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
как значительная часть дороги проходит ниже уровня зданий
и скрыта за кирпичной стеной высотой в десять футов,— до-
статочно, чтобы понять, почему: сотни заброшенных, зако-
лоченных зданий и обугленных развалин; десятки кварталов,
покрытых лишь крошеным кирпичом и мусором.
Десятиминутная поездка по этой дороге станет испытанием
для каждого, но особенно страшна для людей, помнящих,
каким Бронкс был раньше: как раньше жили и процветали эти
кварталы, пока через их сердце не были прорезаны дороги,
сделавшие этот район местом, из которого хочется поскорее
убраться. Для детей Бронкса, к которым принадлежу и я, эти
дороги воплощают особую иронию: когда мы несемся через
мир нашего детства, стремясь вырваться наружу и переводя
дух лишь при виде его конца, мы являемся не просто на-
блюдателями, но активными участниками процесса разруше-
ния, что терзает нынче наши сердца. Мы сдерживаем слезы
и жмем на педаль газа.
Сделал возможным все это Роберт Мозес. Когда в конце
1950-х годов я услышал вопрос Аллена Гинзберга: «Кто был
этим сфинксом из цемента и алюминия?»,— то сразу осоз-
нал, что речь о Мозесе (даже если поэт этого не понимал).
Как и у Гинзберга, «Молох, что рано вошел в мою душу», Ро-
берт Мозес и его строительные работы вошли в мою жизнь
прямо перед бар-мицвой и ускорили окончание моего дет-
ства. В неявной, подсознательной форме он присутствует
в моей жизни до сих пор. Будто бы все крупные объекты
Нью-Йорка и окрестностей были возведены именно им: мост
Трайборо, шоссе Вест-Сайд-хайвей, дюжины озелененных
автострад в Уэстчестере и на Лонг-Айленде, пляжи Джонс
и Орчард, бесчисленные парки, жилая застройка, аэропорт
Айдлуайлд (теперь имени Джона Кеннеди), сеть огромных
плотин и электростанций близ Ниагарского водопада; спи-
сок, казалось, можно продолжать до бесконечности. Он ор-
ганизовал мероприятие, которое имело для меня особый,
магический смысл: Всемирную выставку 1939–1940 годов,
которую я посетил в чреве матери и изящный логотип ко-
373
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
торой, трилон и перисфера, в разных формах — программы,
знамена, открытки, пепельницы — украшал нашу квартиру
и символизировал дерзновение, прогресс, веру в будущее
и все героические идеалы века, в который я был рожден.
Но затем, весной и осенью 1953 года, Мозес навис над моей
жизнью совсем иначе: он объявил, что собирается проложить
огромную автостраду небывалых масштабов, дороговизны
и сложности строительства через самое сердце нашего квар-
тала. Сначала мы не могли в это поверить; казалось, эти вести
приходят из другого мира. Во-первых, едва ли у кого-нибудь
из нас был автомобиль: наши жизни определяли сам квартал
и метро, которое вело в центр города. Потом, даже если до-
рога и нужна была городу,— или штату? (центр власти и авто-
ритета, стоящий за действиями Мозеса, никогда не был ясен
никому кроме него самого), — поверить в серьезность расска-
зов о ней было нельзя: неужели она пройдет через десятки
солидных, застроенных, плотно заселенных кварталов вроде
нашего; неужели около 60 000 человек из рабочего и низ-
шей прослойки среднего класса — главным образом, евреев,
но также итальянцев, ирландцев и чернокожих — выкинут из
дома? Евреи Бронкса не боялись: разве может собрат так
с нами поступить? (Мы плохо понимали, чтó это был за еврей
и каким серьезным препятствием оказались все мы на его
пути.) Да даже если бы он и хотел это сделать, думали мы, то
здесь, в Америке, это невозможно. Мы еще помнили о Новом
курсе: правительство, полагали мы, было нашим правитель-
ством, в конце концов, оно всегда должно было прийти на
помощь и защитить нас. Но мы и глазом моргнуть не успели,
как под наши окна приехали экскаваторы и бульдозеры, а лю-
дей стали уведомлять, что лучше бы им поскорее убраться.
Они оцепенело смотрели на рабочих, на исчезающие ули-
цы, друг на друга и уезжали. Мозес прокладывал свой путь,
и остановить его не могла ни светская, ни духовная власть.
На протяжении десятилетия со второй половины 1950-х
до середины 1960-х годов центр Бронкса долбили, взрывали
и ломали. Мы с друзьями стояли на парапете Гранд-Конкорса,
374
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
где раньше была 174-я улица, и наблюдали за ходом ра-
бот. — огромными экскаваторами, бульдозерами, деревянны-
ми и стальными балками, сотнями рабочих в разноцветных
касках, гигантскими кранами, парящими над самыми высоки-
ми крышами Бронкса, динамитными взрывами и сотрясения-
ми, дикими, неровными обломками разбитых скал, картиной
разрушения, простиравшейся на мили к востоку и западу,
покуда видно глазу,— и удивлялись тому, как наш привычный
милый квартал превращается в величественные, эффектные
развалины.
Открыв для себя в колледже Пиранези, я внезапно почув-
ствовал себя как дома. Когда же я возвращался из библиоте-
ки Колумбийского университета на строительную площадку,
мне казалось, будто я очутился в последнем акте «Фауста»
Гете (этого у Мозеса не отнять: его труды дают пищу для раз-
мышлений). Только здесь не чувствовался триумф гуманизма,
который оттенял бы разрушение. Напротив, когда строи-
тельные работы завершились, уничтожение Бронкса только
началось. Улицы на мили вдоль дороги оказались засыпаны
пылью, окутаны газами и оглушающим шумом — сильнее все-
го ревели огромные трейлеры невиданных ранее в Бронксе
размеров и мощности, которые день и ночь напролет везли
тяжелые грузы через город в направлении Лонг-Айленда,
Новой Англии, Нью-Джерси и всего, что находится к югу.
Многоквартирные дома, стабильно заселенные на протяже-
нии двадцати лет, были оставлены едва не за одну ночь;
сюда стали массово переселяться из еще более ужасных
трущоб большие бедные семьи чернокожих и латиноаме-
риканцев, чему зачастую покровительствовал департамент
соцобеспечения, который даже оплачивал им взлетевшую
ввысь арендную плату, тем самым усиливая панику и уско-
ряя бегство. В то же самое время строительство уничтожило
множество магазинов, а другие отрезало от клиентов и не
только поставило их владельцев на грань банкротства, но
и сделало их крайне уязвимыми перед преступностью. Погиб
самый крупный открытый рынок района, располагавшийся
375
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
вдоль Бэтгейт-авеню и процветавший еще в 1950-е годы;
его остатки пошли по ветру через год после строительства
дороги. Таким образом, утративший население, истощенный
экономически, разбитый эмоционально — каким бы ни был
физический ущерб, внутренние раны оказались тяжелее —
Бронкс созрел для самых ужасных последствий деградации
городской среды.
Казалось, Мозес упивался этим разорением. Вскоре после
завершения дороги через Бронкс его спросили, не таит ли эта
автострада каких-то проблем для людей, и он нетерпеливо
выпалил: «Эта штука несет совсем немного неудобств. Есть
лишь небольшой дискомфорт — и тот преувеличивают». Един-
ственное ее отличие от предыдущих автострад Мозеса, соо-
руженных в сельской местности и пригородах, состояло в том,
что «на пути было больше домов... больше людей на пути, вот
и все». «Действуя в чересчур плотно застроенном мегаполисе,
путь приходится прорубать топором мясника» 1 — бахвалился
он. Этого подсознательного сравнения — трупов животных,
которые надо порубить, чтобы съесть, и «людей на пути» — до-
статочно, чтобы шокировать. Если бы Аллен Гинзберг вложил
подобную метафору в уста своего Молоха, он бы так просто
не отделался: это было бы уж слишком. Склонность Мозеса
к экстравагантной жестокости наряду с блестящим воображе-
нием, безграничной энергией и мегаломанскими амбициями
позволили ему обзавестись репутацией почти что мифическо-
го героя. Он казался наследником длинной родословной ле-
гендарных и исторических титанов — строителей и разрушите-
лей: Людовика XIV, Петра Великого, барона Османа, Иосифа
Сталина (хотя Мозес и был фанатичным антикоммунистом,
он любил цитировать сталинистскую максиму: «Нельзя при-
готовить омлет, не разбив яиц»), Багси Сигела (архитектора
толпы, создателя Лас-Вегаса), «Морского царя» Хьюи Лонга;
Тамерлана из пьесы Кристофера Марло, Фауста Гете, капита-
на Ахава, мистера Курца, гражданина Кейна. Мозес делал все
возможное, дабы возвеличить себя до гигантских размеров
и даже наслаждался своей репутацией чудовища, которая,
376
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
как он верил, могла запугать публику и убрать с пути его
потенциальных оппонентов.
Впрочем, в конце концов — через сорок лет,— легенда, ко-
торую он культивировал, способствовала его падению: он
нажил себе тысячи личных врагов, иные из которых были
столь же решительны и могущественны, как и сам Мозес.
Они были одержимы им, страстно посвятили себя тому, что-
бы остановить этого человека и его машины. В конце 1960-х
годов они наконец преуспели, Мозеса остановили и лишили
возможности строить. Но созданное им окружает нас до сих
пор, и призрак его продолжает витать над нашей публичной
и частной жизнью.
Легко бесконечно зацикливаться на силе воли и стиле Мо-
зеса. Но интерес к ним затеняет один из главных источников
его безграничной власти: способность убедить широкую пу-
блику в том, что он является орудием безликих сил мировой
истории, движущегося духа прогресса. Он сумел завладеть
образом модерности на сорок лет. Противостоять его мо-
стам, туннелям, автомагистралям, жилой застройке, ГЭС,
стадионам, культурным центрам значило (или же так каза-
лось) противостоять истории, прогрессу, самой модерности.
И немногие, особенно в Нью-Йорке, были к этому готовы.
«Есть люди, которым все нравится, как есть. Не могу их об-
надежить. Им придется идти дальше. Это большой, огромный
штат, а есть и другие. Пускай отправляются к Скалистым го-
рам». 2 Мозес задел струну, которая на протяжении более чем
столетия была крайне важна для нью-йоркцев: нашу самои-
дентификацию с прогрессом, с обновлением и реформами,
с вечной трансформацией нашего мира и нас самих — Гарольд
Розенберг назвал ее «традицией Нового». Много ли евреев
Бронкса, рассадника всевозможного радикализма, пожелали
сражаться за нерушимость того, «что есть»? Мозес разрушал
наш мир, но казалось, что он действует во имя тех самых
ценностей, которые разделяем и мы.
Помню, как я стоял над местом строительства автомаги-
страли через Бронкс, оплакивал свой квартал (чью судьбу
377
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
я предвидел с кошмарной точностью), клялся помнить и ото-
мстить, но в то же время боролся с некоторыми двусмыслен-
ностями и противоречиями в деятельности Мозеса, которые
ставили меня в затруднительное положение. Гранд-Конкорс,
с высоты которого я взирал и размышлял, был в нашем рай-
оне подобием парижского бульвара. Одной из самых уди-
вительных его черт были ряды огромных, великолепных
многоквартирных домов 1930-х годов постройки: простые
и ясные, геометрически строгие или биоморфно изогнутые
архитектурные формы; яркий, контрастный кирпич, хромо-
вая отделка, красиво сочетающаяся с обилием стекла; откры-
тость свету и воздуху, будто провозглашающая, что хорошая
жизнь доступна не только элите, но и всем нам. Стиль этих
зданий, известный сегодня как ар-деко, во времена расцвета
именовался модерном. Для моих родителей, которые с гор-
достью называли нашу семью «модерной», здания Конкорса
представлялись вершиной модерности. Мы не могли позво-
лить себе такой дом — хотя мы жили в небольшом, скром-
ном здании ниже по улице, которое все-таки можно было
с гордостью назвать модерным,— но восхищаться ими, как
и рядами шикарных океанских лайнеров в порту в центре
города, можно было бесплатно (сегодня эти здания похожи
на усеянные моллюсками корабли в сухом доке, а сами оке-
анские лайнеры полностью исчезли).
Наблюдая за сносом ради строительства дороги, возможно,
самого красивого из этих зданий, я ощутил горечь, которая,
как теперь мне ясно, повсеместно присутствует в модерной
жизни. Столь часто ценой продолжения и расширения мо-
дерности становится разрушение не только «традиционных»
и «домодерных» институтов и сред, но — и здесь кроется насто-
ящая трагедия — всего самого живого и прекрасного в самóм
модерном мире. Тут, в Бронксе, силами Мозеса модерности
городских бульваров был вынесен приговор как устаревшей;
ее уничтожили ради модерности межрегиональных автома-
гистралей. Sic transit! Оказалось, что быть модерным куда
сложнее и опаснее, чем нам говорили.
378
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Что за дороги вели к автомагистрали через Бронкс? Об-
щественные работы, которые Мозес организовывал начиная
с 1920-х годов, выражали представление — или, скорее, ряд
представлений — о том, что такое модерная жизнь и чем она
должна быть. Я хочу выделить различные формы модерниз-
ма, которые определил и воплотил в жизнь Мозес, чтобы
наметить их внутренние противоречия, их зловещие под-
водные течения (которые прорвались наружу в Бронксе),
а также их непреходящее значение и ценность для модер-
ного человечества.
Первым крупным достижением Мозеса стало создание
в конце 1920-х годов общественного пространства, ко-
ренным образом отличного от чего-либо существовавше-
го прежде: парка Джонс-Бич на атлантическом побережье
Лонг-Айленда, прямо у границ города Нью-Йорка. Этот
пляж, открытый летом 1929 года и недавно отметивший свою
пятидесятую годовщину, столь огромен, что жарким вос-
кресным днем в июле может вместить полмиллиона человек,
не создавая никакого ощущения переполненности. Самая
поразительная его ландшафтная особенность — удивительная
четкость пространства и формы: абсолютно ровный, осле-
пительно белый песчаный простор, уходящий за горизонт
прямой широкой полосой, с одной стороны ограниченной яс-
ным, чистым, бесконечным голубым морем, а с другой — рез-
кой, непрерывной коричневой линией прогулочной дорожки.
Создаваемое ими широкое горизонтальное пространство от-
теняется двумя элегантными раздевальнями в стиле ар-де-
ко из дерева, кирпича и камня, а на полпути между ними,
ровно посередине парка — монументальной колоннообразной
водонапорной башней, которая заметна отовсюду и возвы-
шается, словно небоскреб, напоминая о величии городских
форм XX века, которые этот парк одновременно дополняет
и отрицает. Джонс-Бич эффектно демонстрирует первичные
формы природы,— землю, солнце, воду, небо,— но природа
предстает здесь в своей абстрактной горизонтальной ясности,
создать которую может лишь культура.
379
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Это творение Мозеса можно оценить еще более высоко,
если принять во внимание, сколь большую часть этого про-
странства, покуда туда не добрался Мозес, занимали недо-
ступные и не нанесенные на карты болота и пустоши и ка-
кое удивительное преображение он совершил всего за два
года (что живо объясняет Каро). Парк Джонс-Бич определя-
ет и другая чистота. Сюда не вторгается модерный бизнес
или коммерция: здесь нет отелей, казино, колес обозрения,
американских горок, прыжков с парашютом, автоматов для
пинбола, кабаков, громкоговорителей, ларьков с хот-догами,
неоновых знаков; нет грязи, хаотичного шума и беспоряд-
ка.* Потому, даже когда Джонс-Бич заполнен толпой разме-
ром с население Питтсбурга, атмосфера на нем удивитель-
но безмятежна. В этом он коренным образом отличается от
Кони-Айленда, который лежит всего в пяти милях к западу,
чьих посетителей из среднего класса Джонс-Бич переманил
сразу же после открытия. Вся плотность и интенсивность,
анархический шум и движение, вся злачная витальность, ко-
торые можно наблюдать на фотографиях Уиджи и на гравю-
рах Реджинальда Марша, которые символически передает
сборник стихотворений Лоуренса Ферлингетти «Кони-Ай-
ленд разума»,— ничего этого нет в визионерском ландшафте
Джонс-Бич.**
** Но американский бизнес не сдается. По выходным бесконечная про-
цессия небольших самолетов летает прямо над побережьем: они рисуют
дымом в небе или проносят плакаты с рекламой различных брендов гази-
ровки, водки, дискотек, секс-клубов, местных политиков и инициатив. Даже
Мозес не нашел способа очистить небо от бизнеса и политики.— Прим. авт.
** Кони-Айленд воплощает собой то, что нидерландский архитектор
Рем Колхас называет «культурой перегрузки» («Нью-Йорк вне себя. Ре-
троактивный манифест Манхэттена», особенно с. 21 –65). Колхас считает
Кони-Айленд прототипом, чем-то вроде репетиции выраженно верти-
кального «города небоскребов» Манхэттена; ср. с радикально горизон-
тальным простором Джонс-Бич, который оттеняется лишь водонапорной
башней — единственной дозволенной вертикальной структурой.
380
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Каким мог бы быть Джонс-Бич разума? Его сложно было бы
передать поэтическим или любым другим символическим язы-
ком, который в своем воздействии на слушателя полагался бы
на драматические переливы и контрасты. Но его формы мы
видим в схематичных рисунках Мондриана, а затем — в мини-
мализме 1960-х годов, в то время как цветовая тональность его
принадлежит великой традиции неоклассического пейзажа от
Пуссена до молодого Матисса и Мильтона Эвери. Солнечным
днем Джонс-Бич погружает нас в великую романтику Среди-
земноморья, аполлонической ясности, великолепного света
без теней, космической геометрии, ничем не стесненного кру-
гозора, простирающегося вдаль до бесконечного горизонта.
Эта романтика стара как Платон. Ее самый страстный и влия-
тельный модерный поклонник — Ле Корбюзье. В год открытия
Джонс-Бич, прямо перед Великим крахом, он так обрисовал
свою классическую модерную мечту:
Если сравнивать Нью-Йорк со Стамбулом, то можно сказать, что
один представляет собой катак лизм, а второй — рай земной.
Нью-Йорк будоражит и выводит из равновесия. Таковы Альпы;
такова гроза; такова же и битва. Нью-Йорк некрасив, и хотя он
побуждает нас к некоторой практической деятельности, но ранит
наше ощущение счастья. ‹ ...›
Этот город может сокрушить нас своими ломаными линиями;
небо порвано его изломанным профилем. Где найти отдохнове-
ние? ‹...›
Отправившись на север, мы найдем готические шпили собо-
ров, которые отражают муки плоти, горькие мечтания духа, ад
и чистилище, сосновые леса в бледном свете и холодном тумане.
Наши тела требуют солнца.
Некоторые формы бросают тень.3
Ле Корбюзье жаждет структур, которые принесут фантазии
о безмятежном, горизонтальном Юге в погруженные в тень,
беспокойные реалии Севера. Джонс-Бич, лежащий сразу за
линией нью-йоркских небоскребов,— идеальное воплощение
381
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
этой романтической мечты. Ирония в том, что Мозес подпи-
тывался вечным конфликтом, борьбой, Sturm und Drang,* но
его первый триумф, которым полвека спустя он гордился, ка-
жется, более всего,— это победа luxe, calme et volupté. Джонс-
Бич — гигантский «розовый бутон» этого гражданина Кейна.
Спроектированные Мозесом Нортерн-Стэйт-Паркуэй и Са-
утерн-Стейт-Паркуэй, что ведут из Куинса до Джонс-Бич и да-
лее, открыли новое измерение пасторальной модерности.
Эти мягко текущие, окруженные искусно выполненным ланд-
шафтом дороги, хотя и немного износились за полвека, оста-
ются одними из самых прекрасных в мире. Но их красота не
проистекает (как, например, в случае прибрежной автодороги
SR 1 в Калифорнии или Аппалачской тропы) из естественного
окружения: она возникает из искусственно созданной среды
самих дорог. Даже если бы они ничего не соединяли и никуда
не вели, поездка по ним все равно была бы приключением.
Это особенно верно для Нортерн-Стэйт-Паркуэй, тянущейся
по местам, где расположены дворцы, которые незадолго до
строительства были увековечены Скоттом Фицджеральдом
в «Великом Гэтсби» (1925).** Первые рекреационные дороги,
построенные на Лонг-Айленде Мозесом, представляют собой
модерную попытку воссоздать то, что рассказчик Фицдже-
ральда на последней странице романа описывал как «древ-
ний остров, возникший некогда перед взором голландских
** Буря и натиск (нем.) .— Прим. пер.
** Строительство вызвало тяжелый конфликт с владельцами этих по-
местий и позволило Мозесу заработать себе репутацию защитника права
народа на свежий воздух, открытое пространство и свободу передвиже-
ния. «Это была восхитительная операция Мозеса,— вспоминал один из
его инженеров полвека спустя: — Он заставлял вас почувствовать, будто
вы являетесь частью чего-то большего. Вы боролись за народ против
этих богатых владельцев вилл и реакционных законодателей. ‹...› Это
была почти война» (Caro, 228, 273). На самом деле, однако, как пока-
зывает Каро, почти все земли, которые забрал Мозес , принадлежали
небольшим домам и семейным фермам. — П рим. авт.
382
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
моряков,— нетронутое зеленое лоно нового мира».* Но Мо-
зес сделал это лоно доступным лишь посредством другого
символа, столь дорогого Гэтсби: зеленого света. Его доро-
гами можно было насладиться только в машине; тоннели
намеренно были сделаны настолько низкими, чтобы через
них не могли проехать автобусы и общественный транспорт
не мог перевезти из города на пляж массу людей. То был
ярко выраженный технопасторальный сад, доступный лишь
владельцам автомобилей последних моделей,— напомним,
шел век Ford Model T,— уникальная приватизированная форма
общественного пространства. Мозес использовал проектиро-
вание как средство социального отбора, отсеивающее всех,
у кого нет собственных колес. Мозес, который так и не нау-
чился водить машину, становился представителем Детройта
в Нью-Йорке. Для подавляющего большинства ньюйоркцев,
однако, на входе в его зеленый новый мир светил красный
сигнал светофора.
Джонс-Бич и первые автострады Лонг-Айленда следует
рассматривать в контексте поразительного увеличения вре-
мени досуга и роста соответствующей индустрии в годы эконо-
мического бума 1920-х годов. Считалось, что эти лонг-айленд-
ские проекты откроют доступ к пасторальному миру прямо
за границами города — миру, сотворенному для праздников,
игры и веселья,— тем, кто имел достаточно времени и средств,
чтобы уехать. Метаморфозы Мозеса в 1930-е годы следу-
ет рассматривать в свете великих перемен в самом строи-
тельстве. Во время Великой депрессии, когда обрушились
частный бизнес и промышленность, возросли массовая без-
работица и отчаяние, оно превратилось из частного пред-
приятия в публичное и стало серьезным и настоятельным
общественным императивом. Почти все серьезные объекты
1930-х годов — мосты, парки, дороги, туннели, плотины —
были сооружены на федеральные деньги, под надзором круп-
ных агентств Нового курса — Управления гражданских работ
* Пер. Е. Д . Калашкиновой. — П рим. пер.
383
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
(CWA), Управления общественных работ (PWA), Корпуса
гражданской охраны (CCC), Администрации по защите фер-
меров (FSA), Администрации долины реки Теннесси (TVA).
Эти проекты создавались для решения сложных и хорошо
артикулированных целей, имеющих значение для всего обще-
ства. Они должны были, во-первых, создать бизнес, повысить
потребление и стимулировать частный сектор. Во-вторых,
вернуть к работе миллионы безработных и способствовать
достижению социального спокойствия. В -третьих, разогнать,
сконцентрировать и модернизировать экономику регионов,
в которых они создавались,— от Лонг-Айленда до Оклахомы.
В-четвертых, расширить понятие «публичного» и символи-
чески продемонстрировать, насколько американская жизнь
могла бы обогатиться как материально, так и духовно при
помощи общественных работ. Наконец, использование но-
вых захватывающих технологий позволило крупным проектам
Нового курса показать, что на горизонте виднеется новое
будущее, новый день — не только для привилегированных,
но и для народа в целом.
Мозес был, возможно, первым американцем, который уло-
вил огромные возможности, которые открывала привержен-
ность администрации Рузвельта общественным работам; он
осознал и то, как значительно Вашингтон теперь будет опре-
делять будущее американских городов. Теперь, сконцентри-
ровав в своих руках полномочия комиссара Департаментов
парков города и штата, он установил тесные и продолжи-
тельные связи с самыми энергичными и новаторскими плани-
ровщиками из числа бюрократии Нового курса. Он научился
в удивительно сжатые сроки выкачивать из федерального
бюджета миллионы долларов. Затем, собрав штаб из перво-
классных планировщиков и инженеров (взятых по большей
части из очередей безработных), он мобилизовал трудовую
армию размером в 80 000 человек и принялся за дело вели-
кого разрушения, чтобы восстановить 1700 городских парков
(в худший период Депрессии они представляли еще более
жалкое зрелище, чем сейчас) и создать сотни новых, а также
384
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
сотни детских площадок и несколько зоопарков. Мозес вы-
полнил эту работу к концу 1934 года. Он не только проявил
блестящие способности к управлению и исполнительности,
но и понял значение общественных работ как публичного
спектакля. Капитальный ремонт Центрального парка и стро-
ительство в нем водоема и зоопарка велись двадцать четыре
часа в сутки и семь дней в неделю: всю ночь напролет горе-
ли прожекторы и гремели отбойные молотки, что не только
ускоряло строительство, но и было зрелищем, которое удер-
живало внимание публики.
Кажется, и сами рабочие были охвачены этим энтузиаз-
мом: они не только работали с безжалостной скоростью,
которой требовали от них Мозес и его прорабы, но даже
и обгоняли их, брали инициативу в свои руки, подавали но-
вые идеи и опережали план, так что инженерам постоянно
приходилось возвращаться за столы и перерабатывать про-
екты, чтобы учесть прогресс, достигнутый рабочими по соб-
ственной инициативе.4 Это модерная романтика строитель-
ства во всем великолепии — романтика, воспетая гетевским
Фаустом, Карлайлом и Марксом, конструктивистами 1920-х
годов, советскими фильмами о стройках пятилеток и доку-
ментальными фильмами TVA и FSA конца 1930-х. Особую
реальность и аутентичность этой романтике придавал здесь
тот факт, что она вдохновляла именно самих рабочих. Ка-
жется, они смогли найти в этой физически изматывающей
и плохо оплачиваемой работе смысл и удовольствие, потому
что хорошо представляли себе цель и верили в ее ценность
для сообщества, частью которого были сами.
Оглушительную общественную под держку, полученную
во время работы над городскими парками, Мозес исполь-
зовал как трамплин, чтобы добраться до того, что было для
него куда важнее парков. Речь о системе автомагистралей,
парквеев и мостов, которая должна была связать воедино
всю территорию мегаполиса: эстакада Уэст-Сайд-Хайвей,
тянувшаяся через весь Манхэттен и по новому мосту Генри
Хадсона, построенному Мозесом, в Бронкс и далее, в Уэст-
385
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
честер; Бэлт-Парквей, огибающая периферию Бруклина от
Ист-Ривер до Атлантики, соединялась с Манхэттеном через
тоннель Бруклин-Бэттери (Мозес предпочел бы мост) и с Са-
утерн-Стейт-Парквей; в сердце этой системы — проект Трай-
боро, чрезвычайно сложная сеть мостов, подъездов и парк-
веев, которая должна была соединить Манхэттен, Бронкс
и Уэстчестер с Куинсом и Лонг-Айлендом.
Эти проекты были невероятно дороги, однако Мозес смог
уговорить Вашингтон профинансировать большую их часть.
С технической точки зрения они были гениальными: Трайбо-
ро до сих пор остается классическим образцом инженерии.
Они помогли, как сказал Мозес, «связать воедино распустив-
шиеся нити и износившиеся края нью-йоркских артерий»
и привнести в этот невероятно сложный регион единство
и связность, которых тут никогда не было. Они дали ряд бле-
стящих точек обзора, показав величие Манхэттена со множе-
ства новых углов — с Бэлт-Парквей, Гранд-Сентрал-Парквей,
Верхнего Вест-Сайда — и вскормили целое поколение новых
городских фантазий.* Берег реки Гудзон у городского центра,
один из самых красивых городских пейзажей Мозеса, осо-
бенно поразителен, если учитывать, что до его прихода (как
показывает Каро) здесь располагался пустырь, застроенный
лачугами бродяг и заваленный мусором. Вы пересекаете мост
* С другой стороны, эти проекты привели к ряду жестких и почти
фатальных вторжений в сетку Манхэттена. Колхас в книге «Нью-Йорк вне
себя» прозорливо объясняет (с. 19) важность этой системы для среды
Нью-Йорка: «двухмерная дисциплина решетки создает прежде немыс-
лимые возможности для трехмерной анархии. Решетка определяет ‹...›
новый баланс между регуляцией и дерегуляцией. ‹...› С такой структурой
Манхэттен навеки получает иммунитет к любому (дальнейшему) тота-
литарному вмешательству. Каждый его квартал — самая большая тер-
ритория, над которой может быть установлен полный архитектурный
контроль,— превращается в максимальный модуль реализации урбани-
стического ego». Эго самого Мозеса стремилось уничтожить именно эти
городские эго-границы. — П рим. авт.
386
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Джорджа Вашингтона, спускаетесь, поворачиваетесь, скользи-
те по плавной кривой Уэст-Сайд-Хайвэй, и перед вами блестят,
сверкают огни и башни Манхэттена над роскошной зеленью
Риверсайд-парка. Картина эта тронет даже самых заклятых
врагов Мозеса — или, если уж на то пошло, Нью-Йорка: вы
понимаете, что вновь вернулись домой, что этот город создан
для вас, и за это можно поблагодарить Мозеса.
В самом конце 1930-х годов, на расцвете своих творче-
ских сил, Мозес был канонизирован в книге «Пространство,
время и архитектура» Зигфрида Гидиона, которая более, чем
какая-либо другая, установила канон модерного движения
в архитектуре, планировании и дизайне. Работа Гидиона,
впервые представленная в виде лекций в Гарварде в 1938–
39 годах, описывает историю трех столетий модерного дизайна
и планирования — а труды Мозеса представляет их вершиной.
Гидион включил в нее крупные фотографии недавно завер-
шенного Уэст-Сайд-хайвэя, клеверной развязки на острове
Рандалс и «крендельной» развязки Гранд-Сентрал-парквея.
Эти работы, пишет он, «говорят о том, что и в наше время
возможны масштабные планировочные решения». Гидион
сравнивает парковые дороги Мозеса с кубистской живопи-
сью, с абстрактной и мобильной скульптурой, с кино. «Как со
множеством творений духа этого времени, значение и красота
парковых дорог не могут быть схвачены с одной точки обзора,
как можно было сделать в случае с окном Версальского двор-
ца. Они могут быть открыты лишь в движении, в движении по
ним в медленном потоке, как предписывают правила дорож-
ного движения. Пространство-время нашего периода редко
может быть прочувствовано столь ясно, как во время езды».5
Таким образом, проекты Мозеса обозначили не только
новую стадию модернизации городского пространства, но
и новый прорыв в модернистских представлениях и мысли.
Для Гидиона и всего поколения 1930-х — формалистов и тех-
нократов в духе Ле Корбюзье или Баухауза, марксистов, даже
аграрных неопопулистов — эти парковые дороги открывали
волшебное царство, нечто вроде романтической беседки,
387
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
в которой могут слиться воедино модернизм и пасторализм.
Мозес, кажется, был единственным публичным человеком
в мире, который понял «концепцию пространства-времени
нашего периода»; кроме того, он обладал «энергией и эн-
тузиазмом Османа». Это делало его «невероятно соответ-
ствующим, подобно Осману, возможностям и нуждам сво-
его периода» и единственно квалифицированным, чтобы
построить «город будущего» нашего времени. В 1806 году
Гегель представил Наполеона как «Weltseele на лошади»;
в 1939 году Мозес казался Гидиону Weltgeist * на колесах.
Еще более Мозес прославился благодаря нью-йоркской
Всемирной выставке 1939–40 годов — огромному торжеству
модерной технологии и промышленности: «Мир завтрашне-
го дня». Две самые популярные ее экспозиции — коммерче-
ски-ориентированный павильон Futurama компании General
Motors и утопический Democracity — представляли городские
автомагистрали на эстакадах и магистральные парковые до-
роги, соединяющие город и сельскую местность в тех самых
формах, которые только что создал Мозес. На выставку и об-
ратно зрители ехали по дорогам и мостам Мозеса и могли
непосредственно испытать часть этого визионерского буду-
щего, увидеть, что оно работает.**
** Weltseele — мировая душа; Weltgeist — мировой дух (нем.) .— П рим. пер.
** Вальтер Липпман был, кажется, одним из немногих, кто разглядел
долговременные пос ледствия и скрытую цену этого будущего. «General
Motors потратили целое состояние, чтобы убедить американскую публи-
ку,— писал он,— что если она хочет полностью раскрыть потенциал лич-
ных автомобилей, то ей придется перестроить города и дороги в ходе
общественных работ». Уоррен С ас ман цитирует это меткое пророчество
в прекрасном эссе «Народная выставка: культурные противоречия по-
требительского общества» (Susman W. The People’s Fair: Cultural Con-
tradictions of a Consumer Society. // Dawn of a New Day: The New York
World ’s Fair, 1939/40. NY, 1980. P. 25). Этот том, содержащий интерес-
ные эссе нескольких авторов и блестящие фотографии,— лучшая книга
о выставке. — Прим. авт.
388
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Будучи комиссаром Департамента парков, именно Мо-
зес подготавливал территорию для проведения выставки.
Используя свойственные ему угрозы и уловки, он с молни-
еносной скоростью и по минимальной цене изъял у сотен
землевладельцев участки, по совокупной площади равные
центру Манхэттена. Больше всего он гордился тем, что в про-
цессе этого уничтожил печально известные шлаковые отвалы
Флашинг и свалки, что были увековечены Скоттом Фицдже-
ральдом как один из выдающихся модерных символов мусора
промышленного и человеческого:
Долина Шлака — призрачная нива, на которой шлак всходит как
пшеница, громоздится холмами, сопками, раскидывается причуд-
ливыми садами; перед вами возникают шлаковые дома, трубы,
дым, поднимающиеся к небу, и, наконец, если очень напряженно
вглядеться, можно увидеть шлаково-серых человечков, которые
словно расплываются в пыльном тумане. А то вдруг по невидимым
рельсам выползет вереница серых вагонеток и с чудовищным ляз-
гом остановится, и сейчас же шлаковые человечки закопошатся
вокруг с лопатами и поднимут такую густую тучу пыли, что за ней
уже не разглядеть, каким они там заняты таинственным делом.
Покончив с этим ужасным пейзажем, Мозес превратил дан-
ное место в центр выставки, а впоследствии — в центр парка
Флашинг-Медоус. После этого действа, он не свойственным
себе образом ударился в библейскую лирику и вспомнил
красивый пассаж из книги Исайи (61:1–4): «Дух Господа Бога
на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповеды-
вать пленным освобождение и узникам открытие темницы ‹...›
возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла даст-
ся украшение ‹...› И застроят пустыни вековые, восстановят
древние развалины и возобновят города разоренные, оста-
вавшиеся в запустении с давних родов». Сорок лет спустя
в своих последних интервью он все еще говорил об этом
389
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
с особенной гордостью: «Я тот человек, что уничтожил До-
лину Шлака и создал на ее месте красоту». Именно на этой
ноте — его яростной вере в то, что технологии и социальная
организация модерности смогут создать мир без праха,— за -
вершился модернизм 1930-х годов.
Когда все пошло не так? Как модерные представления
1930-х годов протухли в процессе своей реализации? Для
того, чтобы описать эту историю целиком, потребовалось
бы намного больше времени и места, чем есть у меня здесь
и сейчас. Но мы можем перефразировать эти вопросы более
кратко, так, чтобы они вписывались в проблематику данной
книги: как Мозес — а также Нью-Йорк и США — перешли от
уничтожения Долины Шлака в 1939 году к созданию куда
более ужасных и неустранимых пустошей всего одно поколе-
ние спустя и в нескольких милях оттуда? Тени следует искать
внутри самых блестящих мечтаний 1930-х годов.
У самого Мозеса всегда имелась темная сторона. Вот сви-
детельство Фрэнсис Перкинс, первого министра труда в ад-
министрации Франклина Рузвельта, которая тесно сотрудни-
чала с Мозесом в первые годы Нового курса и восхищалась
им на протяжении всей своей жизни. Она вспоминает о теплой
народной любви к Мозесу в первые годы Нового курса, когда
он строил детские площадки в Гарлеме и Нижнем Ист-Сайде;
но ее поразило, что он, со своей стороны, народ «не любил»:
Это шокировало меня, потому что он делал все это ради благопо-
лучия людей. ‹...› Для него это были гнусные, грязные людишки,
которые бросали бутылки по всему Джонс-Бич. «Они у меня по-
пляшут! Я их проучу!» Он любит публику, а не людей. Публика ‹...›
для него — огромная аморфная масса; ей надо купаться, дышать
свежим воздухом, отдыхать, но не ради себя, а просто чтобы быть
хорошей публикой.6
«Он любит публику, а не людей»: Достоевский неодно-
кратно предупреждал, что сочетание любви к «человечеству»
390
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
с ненавистью к настоящим людям есть одна из фатальных
опасностей модерной политики. В эпоху Нового курса Мозес
сумел сохранить непрочный баланс между этими полюсами
и принести настоящее счастье не только «публике», кото-
рую он любил, но и людям, которых терпеть не мог. Но ни-
кто не смог бы балансировать таким образом вечно. «Они
у меня попляшут! Я их проучу!» Здесь явственно слышится
голос мистера Курца: «Заметка ‹...› очень проста,— сообщает
рассказчик Конрада,— после трогательного призыва ко всем
альтруистическим чувствам, она вас ослепляет и устраша-
ет, как вспышка молнии в ясном небе: „Истребляйте всех
скотов!» * Следует понять, что подействовало на Мозеса по-
добно тому, как африканская торговля слоновой костью по-
влияла на мистера Курца, какие исторические перспективы
и институциональные силы дали волю его самым страшным
устремлениям: что за дорога увела его от блестящей фразы
«им вместо пепла дастся украшение» к сентенции о том, что
в обрушившейся на Бронкс тьме «путь приходится прорубать
топором мясника»?
Отчасти трагедия Мозеса состоит не только в том, что он
был исковеркан своим величайшим достижением, но и в кон-
це концов уничтожен им. То был триумф, который, в отли-
чие от общественных работ Мозеса, был по большей части
невидим; журналисты начали писать про него лишь в конце
1950-х. Речь идет о создании сети могущественных взаимос-
вязанных «публичных администраций», возможности кото-
рых в строительстве были почти не ограничены и которые не
были подотчетны никакой исполнительной, законодательной
или судебной власти.7
Английский институт публичной администрации был при-
вит американскому государственному управлению в XX веке.
Они были уполномочены продавать бонды на проведение
отдельных общественных работ — сооружение мостов, пор-
тов, железных дорог. Когда проект завершался, они взимали
* Перевод А. Кривцовой. — П рим. пер.
391
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
плату за пользование им до полной уплаты бондов; после это-
го публичная администрация, как правило, прекращала свое
существование и передавала объект штату. Мозес, однако,
счел, что нет причин ограничивать себя во времени и про-
странстве; покуда поступали деньги — скажем, от пошлин за
пользование мостом Трайборо — и покуда рынок облигаций
благоволил, администрация могла продавать взамен старых
облигаций новые, чтобы получать больше денег и строить
больше объектов; покуда поступали деньги (полностью осво-
божденные от налогов), банки и институциональные инве-
сторы с радостью принимали новые выпуски облигаций,
и строительство могло продолжаться вечно. После оплаты
первого выпуска облигаций уже не было причин идти за
деньгами на строительство к городскому или федеральному
правительству либо к народу. Мозес доказал в суде, что ника-
кое правительство не имело законных прав даже заглядывать
в бухгалтерские книги администраций. Между концом 1930-х
и концом 1950-х годов Мозес создал или взял под контроль
дюжину таких администраций, занимавшихся парками, моста-
ми, автомагистралями, туннелями, электростанциями, город-
ской реконструкцией и другими вопросами, и интегрировал
их в невероятно мощную машину с бесчисленными колесами,
превратил их мелких сошек в миллионеров, включил в их
производственные цепочки тысячи бизнесменов и полити-
ков, безжалостно бросил в их растущий вихрь миллионы
нью-йоркцев.
В 1930-е годы Кеннет Берк сказал, что, какого бы мнения
мы ни были об общественной роли Standard Oil и U. S. Steel,
создание Рокфеллером и Карнеги этих гигантских комплек-
сов следует расценивать как триумф модерного искусства.
Им является, несомненно, и сеть публичных администраций
Мозеса. Она воплощает одно из первых мечтаний модерной
науки, мечту, выраженную в самых различных формах искус-
ства XX века: систему с вечным двигателем. Но система Мо-
зеса, даже будучи триумфом модерного искусства, не лишена
некоторых наиболее глубоких противоречий, характерных
392
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
для этого искусства. Ей настолько присуще противоречие
между «публикой» и людьми, что, в конечном счете, ни люди
в центре этой системы, ни даже сам Мозес не властны изме-
нить ее и поставить под контроль ее вечно расширяющееся
движение.
Если мы вернемся к «библии» Гидиона, то заметим ряд
глубинных смыслов работы Мозеса, на которые он сам ни-
когда не обращал внимания. Гидион считал мост Трайборо,
Гранд-Сентрал-парквэй и Уэст-Сайд-хайвэй выражениями
«новой формы города». Эта форма требовала «масштаба,
отличного от масштабов существующего города с его rues
corridors и жестким делением на небольшие кварталы». Но-
вые городские формы не могли свободно функционировать
в рамках города XIX века: потому «должна быть измене-
на сама структура города». Первый императив был таков:
«Больше нет места для городских улиц; их нельзя сохранить».
Здесь Гидион говорит властным голосом, который сильно
напоминает голос самого Мозеса. Но уничтожение город-
ских улиц было для Гидиона лишь началом: автомагистрали
Мозеса «обращены ко времени, когда после необходимой
операции искусственно распухший город вернется к своим
естественным размерам».
Если оставить в стороне слабость концепции самого Гиди-
она (почему один размер города более «естественен», чем
другой?), мы увидим здесь новое важнейшее направление мо-
дернизма: по мере развития модерности становится устарев-
шим, ненужным сам город. Действительно, автомагистраль
создали люди, представления и институты города — «заслу-
га создания парковой дороги принадлежит Нью-Йорку». 8
Теперь же судьбоносная диалектика гласит, что, если авто-
магистрали и городу не по пути, последний должен исчез-
нуть. Эбенизер Говард и последователи его концепции «Го-
рода-сада» предлагали что-то в этом духе начиная с рубежа
веков (см. выше, гл. 4). Историческая миссия Мозеса, с этой
точки зрения, состоит в создании новой, сверхгородской ре-
альности, которая сделает устаревание города очевидным.
393
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Пересечь мост Трайборо, по Гидиону, значит войти в новый
«пространственно-временной континуум», который навсегда
оставляет модерный мегаполис позади. Мозес показал, что
ждать какого-то отдаленного будущего не обязательно: у нас
есть технологии и организационные средства, которые могут
похоронить город здесь и сейчас.
Мозес никогда не собирался делать ничего подобного; в от-
личие от сторонников «Города-сада», он искренне — по-своему
слепо — любил Нью-Йорк и никогда не желал ему вреда. Его
общественные работы, что бы мы о них ни думали, должны
были прибавить что-то к городской жизни, а не изъять из нее
сам город. Он, безусловно, ужаснулся бы при мысли о том,
что его Всемирная выставка 1939 года, одно из величайших
событий в истории Нью-Йорка, станет мотором представле-
ний, которые, будучи приняты за чистую монету, повлекут за
собой гибель города. Но когда фигуры всемирно-историче-
ского масштаба понимали долгосрочные последствия своих
дел и трудов? На самом же деле титанические строительные
работы Мозеса в Нью-Йорке и окрестностях в 1920–30-е
годы послужили репетицией бесконечно более масштабной
реконструкции всей ткани Америки после Второй мировой
войны. Движущими силами ее стали многомиллиардная Фе-
деральная дорожная программа (Federal Highway Program)
и масштабные инициативы по строительству жилья в приго-
родах, предпринятые Федеральным жилищным управлением
(Federal Housing Administration, FHA). Этот новый порядок
объединил нацию в единый поток, жизненными соками кото-
рого стали автомобили. Города он рассматривал, в первую
очередь, как препятствия дорожному движению и скопища не
вписывающихся в стандарты и приходящих в негодность по-
строек, из которых американцам следует дать шанс выбрать-
ся. Этот новый порядок стер с лица земли тысячи городских
кварталов; то, что случилось с моим Бронксом,— всего лишь
самый масштабный и драматичный эпизод того, что про-
исходило повсюду. Три десятилетия щедрого финансиро-
вания строительства автомагистралей и пригородов силами
394
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
FHA привели к тому, что миллионы людей и рабочих мест,
миллиарды долларов инвестиционного капитала оказались
выведены из американских городов, а сами они погрузились
в хронический кризис и хаос, от которых и сегодня страдают
их жители. Мозес хотел вовсе не этого; но именно этому он
неосознанно помог свершиться.*
Проекты Мозеса 1950–60-х годов практически лишены
красивого дизайна и человеческой чувственности, которыми
отличались его ранние работы. Попробуйте проехать двад-
цать или около того миль по Нортерн-Стейт-Хайвей (1920-е
годы), затем развернитесь и покройте те же двадцать миль
по параллельному Лонг-Айленд-Экспрессвей (1950–60 -е);
вы изумитесь и расплачетесь. Почти все, что он построил
после войны, выполнено в безразлично брутальном стиле,
сделано для того, чтобы внушать страх и благоговение: мо-
нолиты из стали и цемента, лишенные красоты, оттенков или
игривости, отделенные от окружающего города огромными
голыми и пустыми пространствами, встроенные в окружаю-
щий пейзаж с ужасным презрением ко всякой жизни челове-
ка или природы. Теперь Мозес, кажется, пренебрежительно
безразличен к значению своих построек для людей: теперь,
кажется, его привлекало лишь чистое количество — количе-
ство едущих автомобилей, тонн цемента, полученных и по-
траченных долларов. Этому последнему и худшему этапу
деятельности Мозеса присуща горькая ирония.
* По крайней мере, Мозес был достаточно честен, чтобы прямо на-
звать мясницкий топор, для того, чтобы признать, что в основе его работ
лежат насилие и разрушение. Куда более типичны д ля послевоенно-
го планирования взгляды, подобные взглядам Гидиона, для которого
«после необходимой операции искусственно распухший город вернется
к своим естественным размерам». Этот гениальный самообман, который
допускает, что города можно рубить на куски без крови, ран и воплей,
предваряет «хирургическую точность» бомбовых ударов по Германии,
Японии и (впоследствии) по Вьетнаму. — Прим. авт.
395
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Жестокие работы, которые взломали Бронкс («больше
людей на пути, вот и все»), были частью социального про-
цесса, на фоне которого карликовой казалась даже мегало-
манская воля к власти самого Мозеса. К 1950-м годам он уже
не проектировал то, что строил; вместо этого он вставлял
огромные здания в заранее заданные модели националь-
ной реконструкции и социальной интеграции, которые он не
создавал и не мог существенно изменить. Во времена своего
расцвета Мозес был истинным созидателем новых матери-
альных и социальных возможностей. Во время упадка — не
столько разрушителем (хотя разрушил он многое), сколько
исполнителем чужих директив и распоряжений. Он получил
власть и славу, открыл новые формы и средства, с помощью
которых модерность могла ощущаться как приключение; он
использовал эти власть и славу, чтобы институционализи-
ровать модерность как систему беспощадных, неумолимых
потребностей и все подавляющей рутины. Ирония в том, что
он стал объектом одержимости и ненависти множества лю-
дей, в том числе и моих, как раз тогда, когда расстался с соб-
ственными замыслами и инициативой и стал Организатором;
мы узнали этого нью-йоркского капитана Ахава, когда, все
еще находясь у руля, он уже утратил контроль над судном.
Эволюция Мозеса и его работ в 1950-е годы подчерки-
вает другой важный факт послевоенного культурного и об-
щественного развития: радикальный разрыв между модер-
низмом и модернизацией. В этой книге я старался показать
диалектическое взаимодействие между развитием модерни-
зации окружающей среды — особенно городской — и эволю-
цией модернистского искусства и мысли. Эта диалектика,
имевшая первостепенное значение на протяжении всего
XIX века, сохранилась и в модернизме 1920–30 -х годов: она
занимает центральное место в «Улиссе» Джойса, «Бесплод-
ной земле» Элиота, «Берлин, Александерплац» Деблина,
«Египетской марке» Мандельштама, у Леже, Татлина и Эй-
зенштейна, у Уильяма Карлоса Уильямса и Харта Крейна,
396
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
в искусстве Джона Марина, Джозефа Стеллы, Стюарта Дэви-
са и Эдварда Хоппера, в прозе Генри Рота и Натанаэла Уэста.
Однако к 1950-м годам, после Освенцима и Хиросимы, этот
диалог прекратился.
Дело не в стагнации или деградации самой культуры: на
пике своих сил (или близ него) работало много блестящих ху-
дожников и писателей. Разница в том, что модернисты 1950-х
годов больше не черпали энергию или вдохновение из мо-
дерной среды вокруг них. Самые интересные произведения
этой эпохи — начиная с триумфов абстрактных экспрессиони-
стов и заканчивая радикальными инициативами Дэвиса, Мин-
гуса и Монка в джазе, «Падением» Камю, «В ожидании Годо»
Беккета, «Волшебным бочонком» Маламуда, «Разделенным
Я» Лэйнга,— глубоко дистанцированы от любой обществен-
ной среды. Они не нападают, подобно многим модернистам
прошлого, на окружающий мир; он попросту отсутствует в их
произведениях.
Это отсутствие неявно разыгрывается в двух, возможно,
самых богатых и глубоких романах 1950-х годов, «Невидим-
ке» (1952) Ральфа Эллисона и «Жестяном барабане» (1959)
Гюнтера Грасса: обе эти книги блестяще воспроизводят ду-
ховную и политическую жизнь в городах недавнего прошло-
го — в Гарлеме и Данциге 1930-х годов,— но, хотя у обоих ав-
торов сюжет развивается хронологически, они не способны
ввести в повествование или вообразить настоящее, послево-
енную жизнь городов и обществ, в которых были написаны
эти книги. Это отсутствие само по себе может считаться са-
мым убедительным доказательством духовной нищеты новой
послевоенной среды. По иронии судьбы, эта нищета, воз-
можно, на деле подтолкнула развитие модернизма, заставила
художников и мыслителей вновь обратиться к собственным
возможностям и открыть новые глубины своих внутренних
пространств. В то же самое время она незаметно повредила
корни модернизма, отделив его творческую жизнь от повсед-
невного мира модерности, в котором должны были двигаться
и жить настоящие мужчины и женщины.9
397
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Раскол между модерным духом и модернизированной сре-
дой стал первоисточником тоски и рефлексии конца 1950-х
годов. К окончанию десятилетия творцы все с большей ре-
шительностью старались не только понять эту огромную про-
пасть, но также и перепрыгнуть через нее при помощи искус-
ства и действия. Именно это желание вдохновило столь разные
книги как «Vita activa, или о деятельной жизни» Ханны Арендт,
«Объявления для себя самого» («Advertisements for Myself»)
Нормана Мейлера, «Жизнь против смерти» Нормана Брауна
и «Взросление в абсурде» («Growing Up Absurd») Пола Гуд-
мана. То была всепоглощающая, но не законченная одержи-
мость, которую разделяли два самых ярких прозаических пер-
сонажа конца 1950-х: созданная Дорис Лессинг Анна Вольф,
записные книжки которой полны незавершенных признаний
и неопубликованных освободительных манифестов, и Мозес
Херцог — герой Сола Беллоу, который писал неоконченные
и неотправленные письма всем великим людям этого мира.
В конце концов, однако, письма были закончены, под-
писаны и посланы; постепенно возникли новые варианты
модернистского языка, одновременно более личные и более
политические, чем язык 1950-х, с помощью которых модер-
ные мужчины и женщины могли противостоять новым фи-
зическим и социальных структурам, выросшим вокруг них.
В этом новом модернизме основную символическую роль
играли гигантские машины и системы послевоенного строи-
тельства. «Вопль» Аллена Гинзберга:
Кто он сфинкс из бетона и алюминия расколовший их черепа и вы-
евший их мозг и воображение? ‹...›
Молох непостижимая тюрьма! Молох скрещенные кости без-
душных темниц и Конгресс страданий! Молох чьи здания приго-
вор! ‹...›
Молох чьи глаза как тысячи слепых окон! Молох чьи небоскре-
бы стоят на бесконечных улицах словно вечные Иеговы! Молох
чьи фабрики мечтают каркая во мгле! Молох чьи трубы и антенны
коронуют город! ‹...›
398
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Молох! Молох! Бездушные квартиры! призрачные пригороды!
сокровищницы останков! слепые столицы! индустрии демонов!
призрачные народы! всесильные психушки! гранитные члены!
Они сломали спины вознося Молоха в Рай! Мостовые, деревья,
радио, массы! возносящие город к небесам Раю что на земле
и повсюду вокруг нас! ‹...›
Молох что так рано ворвался в мою душу! Молох в тебе я бе-
стелесный разум! Молох вырвавший меня из природного экстаза!
Молох которого я отвергаю! Проснись в Молохе! Свет струится
на тебя с небес!
Здесь происходит много примечательного. Гинзберг вы-
нуждает нас почувствовать модерную жизнь не как голую
пустошь, но как поле эпической и трагической битвы титанов.
Это представление наделяет модерную среду и ее создателей
демонической энергией и всемирно-историческим масшта-
бом, вероятно, недоступным даже робертам мозесам сего
мира. Вместе с тем оно должно пробудить нас, читателей,
подвигнуть нас стать равновеликими им, усилить наше жела-
ние и моральное воображение так, чтобы решиться на битву
с великанами. Но этого нельзя сделать, покуда мы не примем
их желания и силы в нас самих — «Молох что так рано ворвал-
ся в мою душу». Потому структуры и процессы поэтического
языка Гинзберга — игра ослепительных вспышек и взрывов
отчаянного воображения с торжественным, повторяющимся,
певучим наслоением одной строчки на другую — напоминают
о ненавистных ему небоскребах, заводах и автомагистралях,
соперничают с ними. Ирония в том, что, хотя поэт рисует мир
автомагистралей как мир гибели мозга и воображения, его
поэзия указует на разумность и силу воображения, лежащие
в основе этого мира,— на самом деле, более полно, нежели
когда-либо могли это сделать его создатели.
Открыв для себя «Молох» Гинзберга, мы с друзьями тут
же подумали о Мозесе, но не просто кристаллизовали и мо-
билизовали нашу ненависть; мы также придали нашему врагу
всемирно-исторический масштаб, ужасающее величие, кото-
399
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
рого он всегда заслуживал, но никогда не удостаивался от
тех, кто любил его более всего. Его поклонники не смогли
заглянуть в нигилистическую бездну, вскрытую его экскава-
торами и свайными молотами; так они упустили его глубину.
Таким образом, мир автомагистралей стало возможным рас-
смотреть полностью лишь когда модернисты стали противо-
стоять его формам и теням. *
Улавливал ли Мозес этот символизм? Понять сложно. В не-
многочисленных интервью, которые он дал между вынуж-
денным уходом на пенсию 10 и смертью в 92 года, он все еще
мог взрываться в гневе на отступников, источать остроумие,
энергию и выдавать поразительные схемы, подобно мистеру
Курцу отказываться сходить со счетов («Я еще осуществлю
свои идеи. ‹...› Я покажу, что можно сделать. ‹...› Я вернусь.
‹...› Я...»). Во время бесконечных поездок на своем лимузи-
не (одна из сохраненных им привилегий) туда и обратно по
Лонг-Айленду он мечтал о великолепном стомильном оке-
анском шоссе, рассекающем волны, или о самом длинном
в мире мосте, который перекинулся бы через пролив и сое-
динил Лонг-Айленд с Род-Айлендом.
Этот старик обладал бесспорным трагическим величием;
но не так уж ясно, достиг ли он когда-либо самосознания,
соответствующего этому величию. В ответ на книгу «Агент
власти» ** Мозес с грустью обратился ко всем нам: разве я не
тот человек, что вычистил Долину Шлака и подарил вместо
нее человечеству красоту? Это правда, и мы обязаны ему за
это. Однако на самом деле он не вычистил шлак, а только
перенес его на другое место. Ведь шлак, прах — часть нас
** Немного более поздний вариант этой конфронтации, очень от-
личный по чувственности, но равный по своей интеллектуальной
и творческой силе, см. в «Павшим за Союз» Роберта Лоуэлла (опубл.
в 1964 году). — Прим. авт.
** The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York — биогра-
фия Роберта Мозеса, написанная журналистом Робертом Каро. Увидела
свет в 1974 году. — Прим. пер.
400
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
самих, сколь прямыми и чистыми ни делали бы мы наши пля-
жи и автомагистрали, сколь быстро мы бы ни ездили — или как
быстро бы нас ни везли,— как далеко бы мы ни забирались
на Лонг-Айленд.
2. 1960-Е: КРИК НА УЛИЦЕ
— История,— произнес Стивен,— это кошмар, от которого я пыта-
юсь проснуться.
На поле снова крики мальчишек. Трель свистка: гол. А вдруг
этот кошмар даст тебе пинка в зад?
— П ути Господни неисповедимы,— сказал мистер Дизи. — Вся исто-
рия движется к единой великой цели, явлению Бога.
Стивен, ткнув пальцем в окошко, проговорил:
— Вот Бог.
Урра! Эх! Фью-фьюйть!
— Как это? — переспросил мистер Дизи.
— К рик на улице,— отвечал Стивен, пожав плечами.
Джеймс Джойс, «Улисс» *
Я за искусство, которое сообщает вам, который час или где нахо-
дится такая-то улица. Я за искусство, которое помогает старушкам
переходить через дорогу.
Клас Олденбург
Мир автомагистралей, среда модерности, возникшая после
Второй мировой войны, достиг пика своего могущества и са-
моуверенности в 1960-е годы, в США «Новых рубежей»,
«Великого общества» **, «Аполлона» на Луне. Я сконцентри-
ровал внимание на Мозесе как нью-йоркском проводнике
** Пер. В . Хинкиса и С. Хоружего. — П рим. пер.
** «Новые рубежи» (англ. «New Frontier») и «Великое общество» (англ.
«Great Society») — программы президентов США Джона Кеннеди (1961–
1963) и Линдона Джонсона (1964–1965), в которых значительная часть
внимания уделялась повышению благосостояния населения. — Прим. пер.
401
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
и воплощении этого мира, но министр обороны Макнамара,
адмирал Риковер, директор NASA Гилрут и многие другие
вели подобные войны с равной энергичностью и безжа-
лостностью далеко за Гудзоном и даже за пределами пла-
неты Земля. Строители и поборники мира автомагистралей
представляли его единственно возможным модерным миром:
противостоять им и их работе значило противостоять самой
модерности, сражаться с историей и прогрессом, быть луд-
дитом, эскапистом, бояться жить, рисковать, меняться и ра-
сти. Эта стратегия была эффективна, потому что на самом
деле подавляющее большинство модерных мужчин и жен-
щин не хочет противостоять модерности: они проникнуты
ее пафосом и верят ее обещаниям даже когда оказываются
под ее колесами.
Чтобы эффективно противостоять Молохам модерного
мира, необходимо разработать модернистский лексикон
этого противостояния. Именно этим занимались в прошлом
веке Стендаль, Бюхнер, Маркс и Энгельс, Кьеркегор, Бод-
лер, Достоевский, Ницше; именно это делали ранее в нашем
столетии Джойс и Элиот, дадаисты и сюрреалисты, Кафка,
Замятин, Бабель и Мандельштам. Однако так как модерной
экономике присуща бесконечная способность к перестройки
и трансформации, модернистская фантазия тоже должна раз
за разом переориентироваться и обновляться. Одна из важ-
нейших задач модернистов 1960-х годов заключалась в том,
чтобы противостоять миру автомагистралей; другая — в том,
чтобы показать, что он не является единственно возможным
модерным миром, что для движения духа модерности есть
и другие, лучшие направления.
В конце предыдущего раздела я обратился к «Воплю»
Аллена Гинзберга, чтобы показать, как к концу 1950-х годов
модернисты начинали противостоять миру автомагистралей,
сражаться с ним. Но этот проект не мог зайти очень далеко,
если бы новые модернисты не создали новые позитивные
представления об альтернативной модерной жизни. Гинз-
берг и его круг не были в состоянии этого сделать. «Вопль»
402
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
блестяще сорвал маски с демонического нигилизма, лежа-
щего в основе сложившегося общества, и продемонстриро-
вал то, что Достоевский столетием ранее назвал «кажущимся
беспорядком, который в сущности есть буржуазный порядок
в высочайшей степени». Но в качестве альтернативы возве-
личиванию Молоха Гинзберг смог предложить только свой
собственный нигилизм. «Вопль» начинается с отчаянного
нигилизма, с мысли: «Я видел лучшие умы моего поколения
разрушенные безумием, умирающие от голода истерически
обнаженные, / волочащие свои тела по улицам черных квар-
талов ищущие болезненную дозу на рассвете, / ангелоголо-
вые хиппи». Завершается он нигилизмом сентиментальным
и мягким, утверждением всеобъемлющим и бессмысленным:
«Мир свят! Душа свята! ‹...› Священны язык и член и ладонь
и дырка в заднице! / Все свято! Все святы! святость повсюду
вокруг нас!» и т. д . и т. п . Но если появляющиеся модер-
нисты 1960-х годов собирались перевернуть мир Молоха
и Мозеса вверх дном, им следовало бы предложить нечто
большее.
Вскоре они обнаружат это — источник жизни и энергии,
утверждение, столь же модерное, как и мир автомагистра-
лей, но радикально противоположное формам и движениям
этого мира. Они найдут это там, где очень немногие мо-
дернисты 1950-х годов могли бы и подумать искать: в по-
вседневной жизни улицы. Это жизнь, на которую указывает
Стивен Дедал Джойса, обращаясь к официальной исто-
рии, изложенной мистером Дизи, представителем Церкви
и Государства: Бог отсутствует в этой кошмарной истории,
утверждает Стивен, но присутствует во внешне нечлено-
раздельных случайных криках, раздающихся на улице. Уи-
ндем Льюис был возмущен этим представлением о правде
и смысле, которое он назвал «простовщиной» (plainmanism).
Но в этом и состояло намерение Джойса: выслушать нетро-
нутые глубины города простых людей. Со времен Диккенса,
Достоевского и Гоголя модернистский гуманизм стремится
именно к этому.
403
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Если и есть работа, хорошо выражающая модернизм ули-
цы 1960-х годов, то это замечательная книга Джейн Джекобс
«Смерть и жизнь больших американских городов». Труд Дже-
кобс часто хвалят за то, что он способствовал переориентации
всего городского и районного планирования. Это верно и до-
стойно восхищения, но касается лишь небольшой части его
содержания. Пространными цитатами Джекобс на следующих
страницах я хочу показать богатство ее мысли. Я считаю, что
ее книга сыграла решающую роль в развитии модернизма:
ее посыл состоял в том, что смысл, который отчаянно ищут
модерные мужчины и женщины, зачастую лежит на удивление
близко к их дому, близко к поверхности и непосредственности
их жизней: мы нашли бы его прямо у себя под носом, если бы
только научились искать.11
Джекобс раскрывает свою точку зрения с обманчивой
скромностью: она просто рассказывает о своей повседнев-
ной жизни. «Тот участок Гудзон-стрит, где я живу, каждый
день становится сценой для изощренного тротуарного ба-
лета». Затем она отслеживает двадцать четыре часа жизни
своей улицы и, конечно, собственной жизни на этой улице.
Проза ее зачастую кажется простой, почти безыскусной.
На самом деле, однако, она работает в рамках важного жанра
модерного искусства: городского коллажа. Пройдя с ней весь
ее 24-часовой цикл, мы можем испытать ощущение déjà vu.
Не встречали ли мы этого где-нибудь раньше? Да, встреча-
ли — если читали, слышали или видели «Невский проспект»
Гоголя, «Улисса» Джойса, «Берлин — симфония большого го-
рода» Вальтера Руттмана, «Человека с киноаппаратом» Дзиги
Вертова, «Под сенью молочного леса» Дилана Томаса. На са-
мом деле, чем глубже мы знаем эту традицию, тем больше
мы ценим то, что делает с ней Джекобс.
Джекобс начинает свой коллаж ранним утром: она выхо-
дит на улицу, чтобы вынести мусор и убрать фантики, об-
роненные учениками по пути в школу. Это дает ей чувство
ритуального удовлетворения: «Подметая, я наблюдаю за
другими утренними ритуалами: вот мистер Хэлперт отпирает
404
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
замок, которым ручная тележка прачечной была прикована
к двери подвала; вот зять Джо Корначча складывает пустые
ящики у магазина кулинарии; вот парикмахер выносит на
тротуар свое складное кресло; вот мистер Голдстейн распо-
лагает в необходимом порядке мотки проволоки, давая тем
самым знать, что магазин скобяных изделий открыт; вот жена
управляющего многоквартирным домом усаживает своего
упитанного трехлетнего малыша с игрушечной мандолиной
на крылечке, где он потихоньку осваивает английский, никак
не дающийся мамаше».
С этими знакомыми и дружелюбными лицами смешива-
ются сотни незнакомцев, проходящих мимо: домохозяйки
с колясками, подростки, которые сплетничают и хвастаются
своими прическами, идущие на работу молодые секретарши
и элегантные пары среднего возраста, рабочие, что возвра-
щаются с ночной смены и заходят в бар на углу. Джекобс
с удовольствием рассматривает их всех; она чувствует и де-
монстрирует то, что Бодлер называл «вселенской общно-
стью», доступной мужчинам и женщинам, которые умеют
«окунуться в людское море».
И вот приходит время ей отправляться на работу. «Я об-
мениваюсь ритуальными прощаниями с мистером Лофаро,
малорослым дородным торговцем фруктами, который стоит
в белом фартуке в нескольких шагах от своей двери, скрестив
руки, твердо упершись ногами в тротуар, незыблемый, как
сама земля. Мы киваем друг другу; оба бросаем быстрые
взгляды в ту и другую сторону вдоль улицы; затем опять смо-
трим друг на друга и улыбаемся. Мы проделали этот утрен-
ний ритуал множество раз на протяжении десяти лет и оба
знаем, что он означает: „Все в порядке“». Таким же образом
Джекобс проводит нас через день и ночь: дети приходят
из школы, а взрослые — с работы, перед нами появляется
множество новых персонажей — бизнесменов, докеров, ста-
рых и молодых представителей богемы, разобщенных оди-
ночек,— которые приходят на улицу и идут по ней в поисках
еды, выпивки, игры, секса или любви.
405
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Постепенно уличная жизнь затихает, но никогда не останав-
ливается. «Балет глубокой ночи и его стадии я лучше всего
знаю по своим былым пробуждениям далеко за полночь, ког-
да внимания к себе требовал ребенок. Укачивая его в темноте,
я видела тротуарные тени и слышала тротуарные звуки». Она
прислушивается к этим звукам. «Иногда слышатся резкие,
злые голоса, или горестный плач ‹...› а часа в три утра может
раздаться пение, очень даже неплохое, кстати». Кто это поя-
вился — волынщик? Откуда он мог прийти и куда направляет-
ся? Она этого никогда не узнает; но само понимание того, что
ее улица неистощимо богата и не может быть осознана ею (или
кем-либо другим) полностью, позволяет ей спать спокойно.
На самом деле, как я пытаюсь показать, это прославление
городской витальности, многообразия и полноты жизни — одна
из самых старых тем модерной культуры. На всем протяже-
нии столетия Османа и Бодлера и в XX веке эта городская
романтика кристаллизовалась вокруг улиц, которые стали
первичным символом модерной жизни. От Мэйн-стрит не-
больших городков до Грейт-Уайт-Уэй и Дрим-стрит мегаполи-
сов улицы становились средой, где тотальности материальных
и духовных сил могли сойтись, столкнуться, перемешаться
и выработать свои конечные смыслы и судьбы. Вот что имел
в виду Джойсов Стивен Дедал в своем загадочном предпо-
ложении о том, что Бог был именно там, в «крике на улице».
Однако создатели «модерного движения», развернувшего-
ся в архитектуре и урбанистике после Первой мировой войны,
радикальным образом отвернулись от этой модерной роман-
тики: их повел за собой клич Ле Корбюзье: «Мы должны убить
улицу». Именно их представление о модерности восторже-
ствовало в рамках великой волны реконструкций и реноваций
после Второй мировой. На протяжении двадцати лет улицы по-
всюду в лучшем случае пассивно забрасывали, а зачастую (как
в Бронксе) еще и активно разрушали. Деньги и энергия направ-
лялись в иное русло — на новые автомагистрали и огромную
систему промышленных парков, торговых центров и спальных
пригородов, путь к которым они открывали. Иронично, что
406
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
тогда улица, которая всегда служила выражением динамич-
ной и прогрессивной модерности, всего за одно поколение
начала символизировать все тусклое, неопрятное, инертное,
стагнирующее, потертое, устаревшее — все, что должны были
оставить позади динамизм и прогресс модерности. *
На этом фоне радикализм и оригинальность работы Дже-
кобс должны быть очевидны. «Под кажущимся беспорядком
старого города»,— пишет она («старый» здесь значит модер-
ный город XIX века, наследие эпохи Османа),—
там, где он функционирует успешно, скрывается восхитительный
порядок, обеспечивающий уличную безопасность и свободу го-
рожан. Это сложный порядок. Его суть — в богатстве тротуарной
жизни, непрерывно порождающей достаточное количество зрячих
глаз. Этот порядок целиком состоит из движения и изменения,
и хотя это жизнь, а не искусство, хочется все же назвать его од-
ной из форм городского искусства. Напрашивается причудливое
сравнение его с танцем.
Поэтому мы должны стремиться сохранить эту «старую»
среду, ибо она обладает уникальной способностью подпиты-
вать модерный опыт и ценности: городскую свободу, поря-
док, который существует в постоянном движении и переме-
* В Нью-Йорке эта ирония принимает особый оборот. Вероятно, ни
один американский политик не воплощал эту романтику и надежды на
модерный город столь сильно, как Эл Смит, который использовал в ка-
честве слогана своей президентской кампании 1928 года популярную
песню «Ист-С айд, Уэст-Сайд, по всему городу ‹...› мы в танце пройдем
по тротуарам Нью-Йорка». Однако именно Смит назначил и страстно
под держивал Роберта Мозеса, который больше прочих способствовал
уничтожению этих тротуаров. Результаты выборов 1928 года показа-
ли, что американцы не были готовы или не желали принять тротуары
Нью-Йорка. С другой стороны, как выяснилось, Америка была совсем
не прочь принять «автомагистрали Нью-Йорка» и полностью покрыть
себя ими по образу и подобию этого города. — П рим. пер.
407
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
нах, мимолетное, но интенсивное и сложное взаимодействие
и общение того, что Бодлер назвал семьей глаз. Согласно
Джекобс, так называемое модерное движение вдохновило
«городскую реновацию» ценой в миллиарды долларов, па-
радоксальным результатом которой стало уничтожение един-
ственной среды, в которой только и могли реализоваться
модерные ценности. Практический вывод из этого — сначала
он звучит парадоксально, но на самом деле совершенно ло-
гичен — состоит в том, что в нашей городской жизни во имя
спасения модерного мы должны сохранять старое и проти-
виться новому. Эта диалектика наделяет модернизм новой
сложностью и глубиной.
Сегодня в «Смерти и жизни больших американских горо-
дов» можно обнаружить много верных пророчеств и на-
меков относительно направления движения модернистов
в последующие годы. Эти темы не были замечены широкой
общественностью после выхода книги, да и сама Джекобс,
возможно, не обратила на них внимания; и все же они есть.
В качестве символа динамичной подвижности уличной жизни
Джекобс избрала танец: «хочется все же назвать его одной
из форм городского искусства. Напрашивается причудливое
сравнение его с танцем», особенно «с изощренным бале-
том, в котором все танцоры и ансамбли имеют свои особые
роли, неким чудесным образом подкрепляющие друг дру-
га и складывающиеся в упорядоченное целое». На самом
деле, этот образ совершенно неверен: годы сложнейших
и дисциплинированных тренировок, необходимые для этого
танца, его точных структур и техник движения, его изощрен-
ной хореографии, не имеют ничего общего со спонтанно-
стью, открытостью и демократичностью улицы, описанными
Джекобс.
Впрочем, ирония в том, что пока Джекобс пыталась упо-
добить жизнь улицы танцу, жизнь самого модерного тан-
ца старалась ассимилировать улицу. На протяжении 1960-х
и 1970-х лет Мерс Каннингэм, а затем и более молодые
хореографы вроде Твайлы Тарп и членов «Большого союза»,
408
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
строили свою работу вокруг движений и структур не-танца
(или, как его стали называть позднее, «анти-танца»); часто
хореография включала элементы произвольности и случай-
ности, так что в начале представления танцоры не знали,
чем оно закончится; порой музыка обрывалась и замеща-
лась тишиной, радиопомехами или случайным шумом улицы;
центральная роль в зрелище отводилась попадавшим им под
руку предметам, а порой и случайно встреченным людям,
как в тот раз, когда Твайла Тарп привлекла уличное брат-
ство граффитистов, чтобы те заполнили стены так же, как
ее танцоры заполняли пол; иногда танцоры направлялись
прямо на улицы Нью-Йорка, на мосты и крыши, спонтанно
взаимодействуя там с кем и чем угодно.
Эта новая близость между жизнью танца и жизнью ули-
цы — лишь один аспект великого переворота, который про-
изошел в 1960-е годы почти во всех жанрах американского
искусства. В Нижнем Ист-Сайде, на другом конце города
от квартала Джекобс тогда же, когда она заканчивала свою
книгу, работали новаторские и творческие (и, по-видимому,
неизвестные ей) художники, что создавали искусство, кото-
рое, как сказал Аллан Капроу в 1958 году, должно было «ин-
тересоваться и даже изумляться пространству и предметам
повседневной жизни, будь то наши тела, одежда, комнаты
или, раз уж на то пошло, 42-я улица».12 Капроу, Джим Дайн,
Роберт Уитмен, Ред Грумс, Джордж Сигал, Клас Олденбург
и другие отказывались не только от повсеместного в 1950-е
годы языка абстрактного импрессионизма, но и от плоскости
и ограниченности живописи как таковых.
Они экспериментировали с захватывающим набором
форм: с формами, которые включали в себя в и транс-
формировали материалы, не имеющие отношения к ис-
кусству, мусор, обломки и предметы, найденные на улице;
трехмерные пространства, сочетавшие живопись, архитекту-
ру и скульптуру — а порой и театр с танцем — и создававшие
искаженные (как правило, на экспрессионистский манер), но
живо узнаваемые образы из реальной жизни; хэппенинги,
409
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
которые выходили из студий и галерей прямо на улицы,
чтобы утвердить свое существование через действия, од-
новременно включить в себя и обогатить спонтанную и от-
крытую уличную жизнь. Среди самых интересных работ
этих бурных дней — хэппенинги Грумса «Горящее здание»
1959 года (который стал предтечей его знаменитого «Барда-
ка Манхэттен» середины 1970-х) и «Улица: метаморфическая
мураль» Олденбурга (1960), давно уже демонтированные, но
сохранившиеся на пленке. В заметке к «Улице» Олденбург
с горькой иронией, привычной для этого искусства, пишет:
«Город — это ландшафт, абсолютно достойный того, чтобы им
наслаждаться — к сожалению, принудительно, если живете
вы в городе». В поисках наслаждения городом он открыл
новые диковинные направления: «Грязи присущи глубина
и красота. Мне нравятся сажа и пригар». Он полюбил «го-
родскую грязь, зло рекламы, болезнь успеха, популярную
культуру».
Главное, сказал Олденбург, это «искать красоту там, где
ее обычно не ищут».13 Но это предписание было неизмен-
ным императивом модернизма со времен Маркса и Энгельса,
Диккенса и Достоевского, Бодлера и Курбе. В Нью-Йорке
1960-х годов оно приобрело особое звучание, потому что
речь шла не об «имперском городе», который вдохновлял
поколения более ранних модернистов, а о Нью-Йорке, ткань
которого начала разлагаться. Но сама эта трансформация,
из-за которой город выглядел сжимающимся и архаичным,
особенно в сравнении с его более «модерными» пригоро-
дами и конкурентами в Солнечном поясе,* придала новым
модерным художникам остроту и блеск.
«Я за политико-эротико-мистическое искусство,— писал
Олденбург в 1961 году,— а не за такое, которое просто си-
дит на заднице в музее. Я за искусство, которое впутывает-
ся в повседневное дерьмо и оказывается на вершине. Я за
* Солнечный пояс — ус ловное наименование штатов США, располо-
женных южнее 36 параллели. — Прим. пер.
410
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
искусство, которое сообщает вам, который час или где нахо-
дится такая-то улица. Я за искусство, которое помогает старуш-
кам переходить через дорогу».14 Замечательное предвиде-
ние метаморфоз модернизма в 1960-е годы, когда огромное
количество интересного искусства множества жанров будет
говорить об улице, а порой и происходить прямо на улице.
В изобразительных искусствах я уже упомянул Олденбурга,
Сигала, Грумса и других; к концу десятилетия к ним присо-
единится Роберт Крамб.
В то же самое время Жан-Люк Годар сделал активным
главным героем фильмов «На последнем дыхании», «Жить
своей жизнью», «Женщина есть женщина» парижскую улицу,
снял ее колеблющийся свет и неровные, непостоянные ритмы
так, что поразил всех и открыл новое измерение кино. Столь
разные поэты как Джон Холландер, Джеймс Меррилл, Голуэй
Киннелл сделали городские улицы (особенно, но не только
нью-йоркские) основой своих воображаемых ландшафтов;
можно даже сказать, что улицы ворвались в американскую
поэзию в решительный момент, прямо перед тем, как ворвать-
ся в политику.
Улицы сыграли решающую (как сюжетную, так и симво-
лическую) роль также и в невероятно серьезной и утончен-
ной популярной музыке 1960-х: Боба Дилана (42-я улица
после ядерной войны в «Talkin’ World War Three Blues»,
«Desolation Row»), Пола Саймона, Леонарда Коэна («Stories
of the Street»), Пита Таунсенда, Рея Девиса, Джима Морри-
сона, Лу Рида, Лоры Ниро, многих музыкантов, записывав-
шихся в Motown Records, Слая Стоуна и множества других.
В то же самое время на улицы вышли толпы исполнителей,
игравших и певших совершенно различную музыку, занимав-
шихся хэппенингами, энвайронментом и муралями, напол-
нявших улицы «политико-эротико-мистическими» образами
и звуками, влезавших в «повседневное дерьмо» и (по крайней
мере, иногда) оказывавшихся на вершине, хотя и обманы-
вавших порой себя и всех окружающих относительно пути,
который туда их привел. Таким образом, модернизм вернулся
411
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
к своему вековому диалогу с модерной средой, с миром, соз-
данным модернизацией.*
Появившиеся новые левые многому научились в этом
диалоге и, в конечном счете, многое ему дали. Множе-
ство крупных демонстраций и противостояний 1960-х го-
дов были замечательными произведениями кинетического
и энвайронментного искусства, в создании которых прини-
мали участие миллионы анонимных людей. Это подмеча-
лось часто, но надо также отметить, что художники были
здесь — как и во многом другом — первыми непризнанны-
ми законодателями мира. Их инициативы показывали, что
мрачные и ветшающие старые места могут превратиться
(или быть превращены) в замечательные общественные
пространства; что улицы американских городов XIX века,
столь неэффективные с точки зрения дорожного движения
XX века, идеальны для движения сердец и умов нашего
столетия. Этот модернизм придал особое богатство и ди-
намизм публичной жизни конца десятилетия, становившейся
все более резкой и опасной.
* Утверждение, что улицы, отсутствовавшие в модернизме 1950-х го -
дов, стали главным ингредиентом модернизма 1960-х, относится не ко
всем формам медиа. Даже в безнадежные 1950-е уличная жизнь продол-
жала питать фотографию, как она это делала со времени появления дан-
ного искусства (обратите внимание на дебют Роберта Франка и Уильяма
Кляйна). Вторая по значению уличная сцена в американской литературе
была написана в 1950-е, хотя речь в ней и идет о 1930-х: 125-я улица до
и после Гарлемского восстания 1935 года в «Невидимке» Ральфа Эллисо-
на. Лучшая сцена (или ряд сцен) была создана в 1930-е: восточная часть
Шестой улицы, обращенная к реке Гудзон, в романе «Наверное, это сон»
Генри Рота. В самом конце десятилетия улица становится крайне важным
элементом у совершенно противоположных Фрэнка О’Хары и А ллена
Гинзберга — в стихотворениях вроде «Каддиша» Гинзберга и «Дня ее
с мерти» Фрэнка О’Хары, относящихся к переходному 1959 году. Исклю-
чения вроде подобных заслуживают внимания, но я не думаю, что они
отрицают мою мыс ль о произошедшей большой перемене. — П рим. авт.
412
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Позднее, когда радикалы моего поколения садились на
рельсы перед перевозившими войска поездами, останавли-
вали работу сотен мэрий и военкоматов, разбрасывали и жгли
деньги на полу Фондовой биржи, пытались поднять Пентагон
в воздух, совершали торжественные военные поминовения
на дорогах в час пик, закидывали тысячами картонных кла-
стерных бомб штаб-квартиру производившей их компании
на Парк-авеню и совершали бесчисленное множество других
блестящих или глупых затей, мы знали, что путь нам указали
эксперименты модерных художников нашего поколения: они
показали, как можно воссоздать публичный диалог, кото-
рый со времен древних Афин и Иерусалима был подлинным
смыслом существования города. Таким образом, модернизм
1960-х годов помогал возродить осажденный и покинутый
модерный город даже в процессе своего собственного воз-
рождения.
В книге Джекобс есть и другая пророческая тема, которую,
кажется, никто тогда не заметил. «Смерть и жизнь больших
американских городов» дает нам первый со времен Джейн
Аддамс цельный взгляд женщины на город. В некотором
смысле точка зрения Джекобс даже еще более женская: она
пишет, будучи погружена в домашнюю жизнь, с которой Ад-
дамс никогда не сталкивалась непосредственно. Джекобс зна-
ет столь точные детали жизни своего квартала на протяжении
всех 24 часов, потому что находится здесь целый день, как
и большинство женщин, особенно когда они становятся мате-
рями, но не мужчины — если только не становятся хронически
безработными. Она знает всех лавочников и их обширные
неформальные социальные сети, потому что отвечает за ве-
дение домашних дел. Она с удивительной достоверностью
и чувствительностью рисует экологию и феноменологию тро-
туаров, потому что целые годы водила сквозь эти мутные
воды детей (сначала в колясках, затем на роликах и вело-
сипедах), пыталась сохранить равновесие, идя с тяжелыми
сумками из магазина, разговаривала с соседями и изо всех
сил старалась хоть как-то наладить свою жизнь. Значительная
413
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
часть ее интеллектуального авторитета происходит из точного
знания структур и процессов повседневной жизни. Она дает
читателю почувствовать, что женщины знают, чтó значит жить
в городе, улица за улицей, день за днем, куда лучше мужчин,
которые эти города планируют и строят.*
Джекобс никогда не использует выражения «феминизм»
и «права женщин» — в 1960-е годы немногие слова были
столь же далеки от актуальной повестки. Тем не менее, раз-
вив женский взгляд на главную проблему общества, услож-
нив и обогатив его, сделав его острым и убедительным, она
открыла путь потоку феминистской энергии, который высво-
бодился в конце десятилетия. Феминистки 1970-х годов сде-
лают многое, чтобы реабилитировать «скрытый от истории»
домашний мир, который женщины создали и в котором жили
отдельно на протяжении столетий. Также они будут утвер-
ждать, что многие традиционные женские украшения, ткани,
занятия и пространства не только обладают самостоятель-
ной эстетической ценностью, но и могут обогатить и углу-
бить модерное искусство. Для любого, кто знает Джекобс,
автора «Смерти и жизни», любящую мать и жену, а вместе
с тем — динамичную модерную женщину, возможность эта
очевидна. Таким образом, она не только способствовала
появлению новой волны феминизма, но также давала по-
нять все большему числу мужчин, что женщинам есть что
рассказать им о городе и о нашей общей жизни, что, не при-
слушиваясь к женщинам, мы обедняли и свою, и их жизнь.
Мысль и деятельность Джекобс стала предвестником но-
вой волны низового активизма и активистов во всех измере-
ниях политической жизни. Очень часто этими активистами,
подобно Джекобс, были жены и матери, и они приняли язык,
говоривший о важности семьи и соседских связей, а также
* Одновременно с работой Джекобс вышла напоминающая ее тек-
стурностью и богатством городская проза Грейс Пейли (чьи истории
разворачиваются в том же квартале), а за океаном — произведения Дорис
Лессинг. — П рим. авт.
414
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
о необходимости оборонять их от внешних сил, грозящих
разрушить их жизнь, к созданию которой она приложила
столько сил. Но некоторые их действия намекают на то,
что общий язык и эмоциональный тон могут скрывать под
собой совершенно противоположные представления о том,
чтó есть модерная жизнь и чем она должна быть. Любой
внимательный читатель «Смерти и жизни больших амери-
канских городов» поймет, что Джекобс прославляет семью
на типичный модернистский лад: ее идеальная улица полна
незнакомых прохожих, людей разных классов, этнических
групп, возрастов, убеждений и стиля жизни; в ее идеальной
семье женщины ходят на работу, мужчины проводят значи-
тельную часть времени дома, оба родителя работают в не-
больших и легко управляемых предприятиях близ дома, так
что дети могут расти в мире, где существуют два пола и где
работа играет центральную роль в повседневной жизни.
У Джекобс улица и семья — это микрокосмы, которым при-
сущи все разнообразие и полнота модерного мира в целом.
Но для некоторых людей, говорящих, на первый взгляд, на ее
языке, семья и местность символизируют радикальный анти-
модернизм: ради сохранения целостности соседского сооб-
щества следует сторониться всех расовых меньшинств, сексу-
альных и идеологических девиаций, спорных книг и фильмов,
необычных музыки и одежды; во имя семьи следует лишить
женщину экономической и политической свободы — она долж-
на быть на одном месте в своем районе буквально 24 часа
в сутки. Такова идеология новых правых — внутренне проти-
воречивого, но чрезвычайно мощного движения, столь же ста-
рого, как и сама модерность, движения, которое использует
все модерные технологии пропаганды и массовой мобилиза-
ции против модерных идеалов жизни, свободы и стремления
к всеобщему счастью.
Важно и тревожно то, что идеологи новых правых неод-
нократно обращались к Джекобс как к своей святой покро-
вительнице. Полностью ли ложна эта связь? Или в трудах
Джекобс есть нечто, что позволяет трактовать их подобным
415
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
неверным образом? Мне кажется, что за ее модернистским
текстом скрывается антимодернистский подтекст, нечто вро-
де обратного глубинного течения, ностальгия по личности,
вписанной в семью и соседское сообщество, по надежному
укрытию, ein feste Burg,* защищающему ото всех опасных
течений свободы и неоднозначности, которые увлекают за
собой всех модерных мужчин и женщин. Джекобс, подобно
множеству модернистов от Руссо и Уордсворта до Дэвида Гер-
берта Лоуренса и Симоны Вайль, пребывает в сумеречной
зоне, где грань между самым насыщенным, самым сложным
модернизмом и банальной недобросовестностью модерни-
стского антимодернизма становится очень тонкой и неулови-
мой, если вообще имеется.
Есть в подходе Джекобс трудности и иного порядка. По-
рой ее представления кажутся совершенно пасторальны-
ми: она настаивает, к примеру, на том, что в живом сосед-
ском сообществе, где есть разнообразные магазины и дома,
тротуары оживлены, а улицы хорошо просматриваются из
окон, преступности не будет. Когда читаешь это, задумы-
ваешься, какую планету имела в виду Джекобс. Загвоздку
можно обнаружить, если несколько критично взглянуть на
ее представления о собственном квартале. Изображенные
ею соседи напоминают мурали W PA или экипаж бомбар-
дировщика Второй мировой в голливудском фильме: люди
всех рас, убеждений и цветов кожи работают сообща, чтобы
спасти свободу Америки ради всех нас. Словно переклич-
ка: «Холмстрем... О’Лири... Скальяно... Леви... Вашингтон...»
Но подождите — вот в чем проблема: в бомбардировщике
Джекобс нет Вашингтона, в ее квартале нет чернокожих. Вот
почему он выглядит так пасторально: это город до того, как
в нем поселились чернокожие. Ее мир находится в проме-
жутке между белыми американцами из зажиточного рабоче-
го класса внизу и белыми американцами из среднего класса
профессионалов наверху. Выше нет ничего и никого; важнее,
* Твердая крепость (нем.) . — П рим. пер.
416
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
однако, что ничего и никого нет и внизу — в семье глаз Джекобс
нет приемных детей.
На протяжении 1960-х годов, однако, в американские го-
рода переселяются миллионы чернокожих и латиноамери-
канцев — и это происходит именно в тот момент, когда работа,
за которой они едут, и возможности, открывавшиеся прежде
перед бедными иммигрантами, становятся более труднодо-
ступными или исчезают (в Нью-Йорке символом этого ста-
ло закрытие Бруклинской военно-морской верфи, которая
когда-то была самым крупным работодателем). Многие из
них стали влились в отчаянно бедный, хронически безработ-
ный и отверженный (одновременно в расовом и в экономи-
ческом смысле) огромный люмпен-пролетариат, лишенный
каких-либо перспектив и надежд. В этих условиях неудиви-
тельно, что ярость, отчаяние и насилие распространились
подобно чуме — и по всем США полностью распались тысячи
в прошлом благополучных городских соседских сообществ.
Многие кварталы, включая Вест-Виллидж, в котором жила
Джекобс, остались относительно нетронутыми и даже вклю-
чили в свою семью глаз какое-то количество чернокожих
и латиноамериканцев. Но к концу 1960-х годов стало ясно, что
благодаря классовому неравенству и расовой поляризации,
изуродовавшим американскую городскую жизнь, никакое со-
седское сообщество, пусть даже самое живое и здоровое, не
будет свободно от преступности, немотивированного наси-
лия, повсеместной озлобленности и страха. Вера Джекобс
в добродетельность звуков, доносящихся с улицы посреди
ночи, оказалась, в лучшем случае, мечтой.
Какой свет пролили представления Джекобс на жизнь
Бронкса? Пусть даже умалчивая о некоторых мрачных сто-
ронах жизни квартала, она блестяще схватывает светлые ее
стороны, как внутренние так и внешние, которые классовый
и этнический конфликты могли усложнить, но не уничто-
жить. Любой ребенок Бронкса, который пересек бы вместе
с Джекобс Гудзон-стрит, с грустью признал бы наши род-
ные улицы и оплакал их. Помню, как понятны были мне
417
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
описанные ею виды, звуки и запахи, как я чувствовал гар-
монию с ними — даже если знал, возможно, лучше Джекобс,
что и здесь хватает противоречий. Но очень многое из этого
моего Бронкса осталось в прошлом, и я знаю, что никогда
не буду чувствовать себя дома в той же мере где-либо еще.
Почему оно ушло? Должно ли оно было уйти? Могли ли мы
что-либо сделать, чтобы сохранить это? Немногочисленные
отрывочные упоминания Бронкса у Джекобс демонстрируют
снобскую неосведомленность Гринвич-Виллидж: ее теория,
однако, явно подразумевает, что бедные, но жизнеспособ-
ные соседские сообщества вроде центрального Бронкса
вполне способны найти внутренние ресурсы, чтобы сохра-
ниться и продолжить существование. Верна ли эта теория?
Здесь в дело вступают Роберт Мозес и его автомагистраль:
потенциальную долгосрочную энтропию он превратил во
внезапную неизбежную катастрофу; уничтожив посредством
вмешательства извне множество кварталов, он оставил на-
всегда открытым вопрос о том, пришли бы они в упадок
или обновились бы изнутри. Но Роберт Каро, разделяющий
взгляд Джекобс, приводит яркий пример внутренней силы
центрального Бронкса, которая проявилась бы, если б толь-
ко он был предоставлен самому себе. В двух главах «Агента
власти» (обе называются «Одна миля») Каро описывает раз-
рушение квартала примерно в миле от моего собственного.
Он начинает с описания прелестного вида этого квартала —
сентиментальной, но узнаваемой смеси Гудзон-стрит Джекобс
и «Скрипача на крыше». Каро ввергает нас в шок и ужас, когда
мы видим на горизонте Мозеса, неудержимо продвигающе-
гося вперед. Оказывается, Кросс-Бронкс-Экспрессвэй могла
бы здесь немного изогнуться и миновать тот квартал. Даже
инженеры Мозеса решили, что перенаправить ее возможно.
Но сей титан не мог этого допустить: он применил все возмож-
ные и доступные ему власть, обман, интриги и мистификации,
одержимо желая обратить этот маленький мир в прах (когда
двадцать лет спустя Каро спросил его, как он заставил усту-
пить одного из лидеров народного протеста, Мозес ответил
418
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
загадочно, но злорадно: «После того, как получил топором
по голове» 15). Проза Каро раскаляется и становится совер-
шенно угнетающей, когда он показывает распространение
городской деградации в стороны от магистрали,от здания
к зданию, из года в год, в то время как Мозес, словно обезу-
мевшая реинкарнация генерала Шермана, несется по улицам
северной части города, при помощи страха прокладывая себе
путь от Гарлема к проливу.
Кажется, все, что говорит Каро, верно. И все же это не
вся правда. Надо задать себе больше вопросов. Что если
бы жители Бронкса 1950-х годов располагали такими поня-
тийным аппаратом, вокабуляром, повсеместной публичной
поддержкой, умением создавать шумиху и организовывать
массовую мобилизацию, которым жители американских квар-
талов научились на протяжении 1960-х? Что если бы, подоб-
но Нижнему Манхэттену Джекобс через несколько лет, нам
удалось бы не допустить строительства этой ужасной доро-
ги? Сколько нас осталось бы сейчас в Бронксе, заботилось
о нем и боролось за него как за родной? Часть (хотя, подо-
зреваю, не столь уж большая) — несомненно, но, во всяком
случае,— признать это трудно — не я. Ведь Бронкс моей юно-
сти вдохновлялся и был одержим великой модерной мечтой
о мобильности. Хорошая жизнь — это продвижение вверх по
социальной лестнице, что, в свою очередь, подразумевает
физические перемещения; жить вблизи от дома — значит не
жить вовсе. Наши родители, которые поднялись и переехали
из Нижнего Ист-Сайда, верили в это столь же самозабвенно,
как мы сами — пусть даже сердца их разрывались, когда мы
съезжали. Даже радикалы моей молодости — а Бронкс мое-
го детства был полон радикалов — не оспаривали эту мечту;
жаловались они только на то, что она не осуществлялась
вполне, что люди не могли передвигаться достаточно бы-
стро, свободно или на равных правах. Но если смотреть
на жизнь таким образом, никакой квартал и никакая среда
не могут быть чем-то бóльшим, нежели остановкой на жиз-
ненном пути, стартовой площадкой для выхода на новую
419
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
высоту и на более далекую орбиту. Даже Молли Голдберг,
богиня плодородия еврейского Бронкса, вынуждена была
уехать (после попадания в маккартистский черный список
Филип Лоб, игравший мужа Молли, ушел из эфира, а затем
и из жизни). Нам был присущ, как пишет Леонард Майклс,
«менталитет такого квартала, который старается выбрать-
ся к чертовой матери — и как можно скорее». Мы не могли
ничего противопоставить движению машины американской
мечты, так как она везла и нас самих — хоть мы и знали, что
она может нас задавить. За десятилетия послевоенного бума
отчаянная энергия этих представлений, яростное экономиче-
ское и психологическое давление, принуждавшее двигаться
и переезжать, разрушили сотни районов, подобных Бронксу,
даже там, где не было Мозеса, который возглавил бы Исход,
и магистрали, которая бы его ускорила.
Так что бронксский мальчишка или девчонка никак не смог-
ли бы отречься от зова переезда: он рос как внутри нас, так
и вокруг нас. Мозес рано вошел в наши души. Но по крайней
мере до этого у нас была возможно решать, куда двигаться,
с какой скоростью и за какую цену. Как-то в 1967 году на
вечернем академическом приеме меня представили одному
старшему ребенку Бронкса, который стал известным футуро-
логом и занимался созданием сценариев атомных войн. Он
только что вернулся из Вьетнама, я же тогда был активным
участником антивоенного движения, но не хотел создавать
проблем и вместо этого спросил о его жизни в Бронксе. Мы
довольно мило беседовали, пока я не сказал, что дорога Мо-
зеса уничтожит любые следы нашего детства. Отлично, сказал
он, чем раньше тем лучше; разве я не понимаю, что унич-
тожение Бронкса воплотит базовый моральный императив
самого Бронкса? «Какой моральный императив?» — спросил я.
Он засмеялся и проревел мне в лицо: «Хочешь знать мораль
Бронкса? „Сваливай, придурок, сваливай!“» Впервые в жиз-
ни я был ошеломлен и потерял дар речи. Это была грубая
правда: как и он, я уехал из Бронкса — мы были так воспитаны;
теперь Бронкс приходил в упадок не только из-за Роберта
420
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Мозеса, но и из-за всех нас. Это была правда, но зачем он
так смеялся? Я отошел в сторону и отправился домой, едва
он начал рассказывать про Вьетнам.
Почему смех футуролога едва не заставил меня заплакать?
Он смеялся нам тем, что казалось мне одним из самых суро-
вых фактов модерной жизни: над тем, что разрыв между умами
и сердечными ранами мужчин и женщин в движении,— таких
как он, как я,— был не менее реален и глубок, чем стремления
и мечты, которые заставляли нас уезжать. В его смехе была
вся самоуверенность нашей официальной культуры, граждан-
ской религии, основанной на вере, что Америка сможет пре-
одолеть свои внутренние противоречия, просто уехав от них.
Поразмыслив, я яснее понял, чтó делали мы с друзьями все
десятилетие, пока пытались перекрыть дорожное движение.
Мы стремились вскрыть внутренние раны нашего общества,
чтобы показать, что они до сих пор есть, затянулись, но не из-
лечены, что они разрастаются и гноятся, что если не заняться
ими поскорее, то состояние только усугубится. Мы знали, что
яркая жизнь людей, проезжавших по скоростной дороге, ис-
калечена не меньше, что и потрепанная и разрушенная жизнь
людей на их пути. Мы знали это, потому что сами только лишь
учились жить на этой трассе и любить скорость. Но из этого
следовало, что наш проект был изначально глубоко захвачен
этим парадоксом. Мы старались помочь другим людям и на-
родам — чернокожим, латиноамериканцам, белым беднякам,
вьетнамцам — бороться за свои дома, а сами бежали прочь из
дома. Мы, так хорошо знавшие, что значит терять корни, бро-
сались против государства и социальной системы, которая
выдергивала или подрывала корни целого мира. Перекры-
вая эту дорогу, мы перекрывали собственный путь. По мере
того, как мы осознавали нашу разделенность, она наполняла
новых левых глубоким чувством иронии, трагической иронии,
которая присутствует во всех хороших постановках политиче-
ских комедий, мелодрам и сюрреалистического фарса. Наш
политический театр стремился показать аудитории, что она
тоже участвует в развитии американской трагедии: все мы, все
421
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
американцы, все модерные люди бросались вперед по захва-
тывающему, но ведущему к катастрофе пути. Нам надо было
и в индивидуальном, и в коллективном порядке спросить, кто
мы такие и кем хотим стать, куда и какой ценой мы несемся.
Но все это нельзя было обдумать под давлением дорожного
движения, которое влекло всех нас вперед: потому его надо
было остановить.
Так прошли 1960-е годы. Мир магистралей готовился
к дальнейшей экспансии и росту, но к нему обращалось
множество страстных криков с улицы — отдельных криков,
которые могли стать коллективным призывом, ворваться
в самую гущу дорожного движения, остановить огромные
машины или, по крайней мере, значительно замедлить их ход.
3. 1970-Е: ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
Я патриот. Патриот четырнадцатого округа в Бруклине, где меня
воспитали. Остальная часть Соединенных Штатов для меня не су-
ществует; разве что как идея, или же история, или литература. ‹ ...›
В мечтах я все возвращаюсь в четырнадцатый округ, как пара-
ноик возвращается к своим навязчивым идеям. ‹...›
Плазма мечты — боль разделения. Мечта продолжает жить по-
сле того, как тело похоронено.
Генри Миллер, «Черная весна» *
Выдернуть собственные корни; последний раз отужинать в старом
квартале. ‹...›
Перечитать инструкции на ладони; увидеть, что линия жизни,
сломавшись, продолжает свой бег.
Адриенна Рич, «Стреляющее письмо»
Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома.
Куда же мы идем? Всегда — домой.
Новалис, «Фрагменты»
* Пер. П . Зарифова. — П рим. пер.
422
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Конфликты 1960-х годов я показал как борьбу противопо-
ложных форм модернизма, символически представленных
как «мир автомагистралей» и «крик на улице». Многие из
нас, участников демонстраций на этих улицах, даже когда
к нам приближались грузовики и полиция, позволяли себе
надеяться, что изо всей этой борьбы однажды родится новый
синтез, новый способ существования модерности, благода-
ря которому все мы сможем двигаться вперед гармонично,
в котором все мы будем чувствовать себя как дома. Эта на-
дежда была одним из важнейших символов 1960-х годов. Она
продлилась недолго. Уже к концу десятилетия стало ясно, что
никакого диалектического синтеза не происходит, что если
мы собираемся пережить грядущие годы, то нам придется
уповать на терпение, долгое терпение.
Дело не только в том, что тогда же раскололись новые ле-
вые: не в том, что мы разучились одновременно перекрывать
дорогу и идти по ней, а потому и распались, как все смелые
модернизмы 1960-х годов. Проблемы куда глубже: вскоре
стало ясно, что мир автомагистралей, на инициативу и дина-
мизм которого мы всегда рассчитывали, сам начал гибнуть.
Великий экономический бум, который превзошел все ожида-
ния и длился четверть столетия после Второй мировой войны,
подходил к концу. Сочетание инфляции и технологической
стагнации (в котором винили, главным образом, Вьетнамскую
войну), а также энергетический кризис в развивающемся мире
(который мы могли бы частично приписать нашему выдающе-
муся успеху) должны были иметь свои последствия — однако
в начале 1970-х никто и не мог сказать, сколь негативными
они будут.
Конец бума поставил под удар не всех — очень богатые,
как всегда, оказались весьма хорошо защищены,— но изме-
нил представления каждого человека о модерном мире и его
возможностях. Горизонты экспансии и роста резко сжались:
после десятилетий, когда дешевая энергия лилась потоком,
достаточным, чтобы создавать и бесконечно воссоздавать
мир заново, модерные общества должны были быстро учить-
423
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
ся использовать все скудеющую энергию, чтобы защитить со-
кратившиеся ресурсы и не допустить остановки всего своего
мира. В процветающее десятилетие после Первой мировой
войны главным символом модерности был зеленый свет; во
время выдающегося бума после Второй мировой им стала фе-
деральная система автомагистралей, по которой водитель мог
добраться от одного побережья к другому, не встретив вооб-
ще ни одного светофора. Но модерные общества 1970-х годов
вынуждены были существовать под сенью скоростных огра-
ничений и знаков «Стоп». В эти годы урезанной мобильности
модерные мужчины и женщины повсюду вынуждены были
тщательно обдумывать, как далеко и в каком направлении
они хотят отправиться, и искать для своего движения новую
сферу. Именно из этого процесса мысли и поиска — процесса,
который только начался,— родился модернизм 1970-х годов.
Чтобы показать, как все изменилось, я хочу ненадолго
вернуться назад, к пространным спорам 1960-х о значении
модернизма. Один из самых интересных моментов этой дис-
куссии (и, возможно, своеобразный памятник ей) — сочинение
«Литературная история и литературная модерность» критика
Поля Де Мана. Для Де Мана, писавшего в 1969 году, «ис-
тинная сила идеи модерности» лежит в «в форме желания
смыть все, что было раньше», чтобы достичь «радикально
новой отправной точки, точки, которая могла бы стать ис-
тинным настоящим». В качестве эталона модерности Де Ман
использует ницшеанскую идею (развитую в работе «О пользе
и вреде истории» [1873]), согласно которой для того, чтобы
достичь или создать что-то новое, необходимо сознательно
забыть о прошлом. «Безжалостное забвение Ницше, слепо-
та, с которой он бросается к действию, освобожденному ото
всего предыдущего опыта, схватывает истинный дух модер-
ности». С этой точки зрения «модерность и история диалек-
тически противоположны друг другу».16 Де Ман не приводит
современных ему примеров, но его схема с легкость могла
бы охватить все виды модернизма огромного множества сфер
и жанров 1960-х годов.
424
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Конечно, был Роберт Мозес, прорубавший через город
свою автомагистраль, вытравлявший любые следы жизни,
которая существовала здесь ранее; Роберт Макнамара, срав-
нявший с землей джунгли Вьетнама, чтобы в мгновение ока
построить города и аэропорты, загнавший миллионы кре-
стьян в модерность, разбомбив их традиционный мир (стра-
тегия «форсированной модернизации» Сэмюэля Хантингто-
на); Мис ван дер Роэ, однообразные модульные стеклянные
коробки которого стали господствовать во всех мегаполисах,
одинаково безразличные к любому окружению, словно ги-
гантский обелиск посреди первобытного мира в «Космиче-
ской одиссее 2001 года» Стенли Кубрика. Но мы не должны
забывать об апокалиптическом крыле новых левых, которое
достигло своей терминальной стадии в 1969–1970 годах; его
представители прославляли образ варварских орд, разру-
шивших Рим, писали «Обрушь стену!» на всех стенах и шли
в народ с лозунгом «Борись с народом».
Конечно, это не все. Выше я утверждал, что ряд наиболее
оригинальных модернизмов 1960-х состоял из «криков на
улице», представлений о мирах и ценностях, которые побед-
ный марш модернизации растаптывал или оставлял позади.
Тем не менее эти художники, мыслители и активисты, которые
бросали вызов миру автомагистралей, воспринимали его не-
истощимую энергию и неумолимый импульс как нечто само
собой разумеющееся. Свои работы и действия они пред-
ставляли антитезисом, сошедшимся в диалектическом пое-
динке с господствующим тезисом: все крики надо заглушить,
а улицы — стереть с карты модерности. Эта борьба ради-
кально противоположных модернизмов в значительной мере
придавала жизни 1960-х годов связность и воодушевление.
В 1970-е же годы случилось так, что по мере остановки
гигантских моторов роста и экспансии экономики дорожное
движение замирало, модерные общества резко утрачивали
свою способность уничтожать прошлое. На всем протяжении
1960-х вопрос состоял в том, стоит это делать или нет; теперь,
в 1970-е, ответ заключался в том, что сделать это они попро-
425
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
сту не могут. Модерность не могла более позволить себе
бросаться в «освещающее весь прошлый опыт деяние» (как
писал Де Ман), чтобы «смыть все, что было раньше, в надежде
прийти, наконец, в ту точку, которую бы можно было назвать
подлинным настоящим, в точку начала». Модерные люди
1970-х годов не могли позволить себе уничтожить прошлое
и настоящее, чтобы создать новый мир ex nihilo; им пришлось
учиться примиряться и работать с имеющимся миром.
Многие модернизмы прошлого находили себя в забвении;
модернистам 1970-х годов пришлось искать себя в воспоми-
нании. Более ранние модернисты покончили с прошлым, что-
бы найти новую отправную точку; отправные точки 1970-х
годов можно найти в попытках восстановить прошлые модели
жизни, которые были погребены, но не умерли. Проект этот
сам по себе не был нов; но он оказался особенно актуальным
в десятилетие, когда динамизм модерной экономики и техно-
логий, казалось, вот-вот уйдет в прошлое. В тот момент, когда
модерное общество, казалось, утратит способность созда-
вать дивное новое будущее, модернизму пришлось отчаянно
искать новые источники жизни при помощи воображаемых
встреч с прошлым.
В данном последнем разделе я попробую охарактеризо-
вать ряд этих воображаемых встреч в разных сферах и жан-
рах. И вновь я выстрою текст вокруг символов: символа дома
и символа призраков. Модернисты 1970-х годов, как правило,
были одержимы домом, семьей и соседским сообществом,
которые они покинули, чтобы стать модерными на манер
1950-х и 1960-х. Потому я назвал этот раздел «Все возвра-
щается домой».* Дома, к которым стремятся сегодняшние
* Я позаимствовал это название у работы 1960-х годов — альбома
Боба Дилана «Bringing it Back Home» (Columbia Records, 1965). Этот
блестящий альбом (возможно, лучший у Дилана) проникнут сюрреали-
стическим радикализмом конца 1960-х. В то же самое время, его назва-
ние и названия некоторых песен — «Subterranean Homesick Blues», «It’s
Alright, Ma, I’m Only Bleeding» — выражают сильную связь с прошлым,
426
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
модернисты,— пространства куда более личные и частные,
нежели автомагистраль или улица. Более того, взгляд в сто-
рону дома — это взгляд «назад», назад во времени (здесь еще
одно коренное отличие от движения вперед модернистов
автомагистрали или от свободного движения во всех направ-
лениях модернистов улицы), к нашему собственному детству,
в историческое прошлое нашего общества. В то же самое
время модернисты не пытаются смешаться или слиться со
своим прошлым — это отличает модернизм от сентимента-
лизма,— но, скорее, хотят «вернуть все» в прошлом, то есть
опереться на свое прошлое, будучи теми, кем они являются
в настоящем, принести в эти старые дома представления
и ценности, которые смогут сойтись с ними в радикальном
противостоянии — и, возможно, возродить трагическую борь-
бу, из-за которой они покинули дом вначале. Другими сло-
вами, сближение модернизма с прошлым, каким бы оно ни
было, будет непростым делом. Мой второй символ импли-
цитно присутствует в названии этой книги: «Все твердое рас-
творяется в воздухе». Это значит, что наше прошлое, каким
бы оно ни было, было прошлым в процессе распада; мы
хотим охватить его, но у него нет основы, и оно неуловимо;
мы оглядываемся назад в поисках чего-нибудь прочного,
на что можно было бы опереться, но обнимаем призрак.
Модернизм 1970-х годов был модернизмом с призраками.
Одной из центральных тем культуры 1970-х была реаби-
литация этнической памяти и истории как важнейших состав-
ляющих личностной идентичности. Для истории модерности
такой поворот поразителен. Модернисты сегодняшнего дня,
в отличие от модернистов дня вчерашнего, больше не настаи-
родителями, домом, почти полностью отсутствующую в культуре 1960-х,
но занимающую центральное место десятилетие спустя. Этот альбом
сегодня может быть переосмыслен как диалог между 1960-ми и 1970-
ми. Те из нас , кто вырос на песнях Дилана, могут лишь надеяться на
то, чтобы он вынес из своих работ 1960-х годов столько же, сколько
вынесли мы. — Прим. авт.
427
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
вают, что мы должны перестать считать себя евреями, черно-
кожими, итальянцами или кем-либо еще, чтобы стать модер-
ными. Если целые общества вообще способны чему-нибудь
научиться, то модерные общества 1970-х годов, кажется,
научились тому, что этническая идентичность — как личная,
так и идентичность любого другого человека — в огромной
степени влияет на глубину и полноту личности, которые от-
крывает и обещает каждому модерная жизнь. Осознание
этого привело к появлению аудитории, принявшей «Корни»
Алекса Хейли и «Холокост» Джеральда Грина; она была не
только огромна — самая крупная в истории телевидения,— но
и активно вовлечена и непод дельно взволнована. Отклик на
«Корни» и «Холокост» не только в Америке, но и по всему
миру показал, что, какими бы качествами ни было обделено
человечество, наша способность к эмпатии велика. К сожа-
лению, произведениям вроде «Корней» и «Холокоста», чтобы
преобразовать эмпатию в настоящее понимание, не хватает
глубины. Обе работы рисуют излишне идеализированные
версии семейного и этнического прошлого, в котором все
предки красивы, благородны и героичны, а вся боль, нена-
висть и проблемы исходят от групп «внешних» угнетателей.
Они внесли больший вклад в традиционный жанр семейной
саги, чем в модерное этническое самосознание.
Но в 1970-е можно было найти и настоящие шедевры.
Думаю, уникальным в своей выразительности исследова-
нием этнической памяти является работа «Женщина-воин»
Максины Хонг Кингстон. Для Кингстон важнейший образ
семейного и этнического прошлого — не корни, а призраки:
подзаголовок ее книги — «Воспоминания о девичестве среди
призраков». 17 Воображение Кингстон насыщено китайской
историей и фольклором, мифологией и суевериями. Она живо
передает ощущение красоты и целостности китайской дере-
венской жизни — жизни ее родителей — до Революции. В то же
самое время она дает нам прочувствовать ужасы этой жизни:
книга начинается с линчевания ее беременной тети и про-
должается кошмарной чередой социально обусловленных
428
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
жестокостей, разлук, предательств и убийств. Ее преследуют
духи жертв прошлого, чье бремя она берет на себя, описывая
его; от родителей она воспринимает миф о том, что Амери-
ка — это страна, населенная призраками, множеством белых
призраков, одновременно нереальных и обладающих маги-
ческими силами; она боится как призраков и своих родите-
лей — и тридцать лет спустя она не знает настоящих имен этих
иммигрантов, а потому не уверена и в своем собственном; она
страдает от наследственных кошмаров, очнуться от которых не
сможет никогда; ей кажется, что и сама она превращается в при-
зрака, теряет свою воплощенную в теле подлинность и при-
выкает держаться в мире призраков без страха, «делать дела
призраков лучше, чем умеют они сами»,— писать такие книги.
Кингстон способна создавать отдельные — будь то насто-
ящие или мифические — сцены с замечательной прямотой
и ослепительной ясностью. Но связи между различными из-
мерениями ее бытия не объединяются и не прорабатыва-
ются; при переходе от одного плана к другому чувствуется,
что задачи жизни и искусства не завершены, и она все еще
работает над ними, скользя в огромной толпе призраков в на-
дежде найти какой-то осмысленный порядок, при котором
сможет, по крайней мере, крепко стоять на ногах. Ее личную,
сексуальную и этническую идентичность невозможно уло-
вить до самого конца — модернисты всегда демонстрировали
неизбежную неуловимость модерной идентичности,— но она
проявляет огромную храбрость и силу воображения, вгляды-
ваясь в лица своих призраков и пытаясь отгадать их истинные
имена. Она остается расколотой или растекается в дюжине
направлений, словно кубистская маска или «Девушка перед
зеркалом» Пикассо; но, в соответствии с этой традицией, она
превращает дезинтеграцию в новую форму порядка, инте-
гральную для современного искусства.
Столь же мощная конфронтация с домом и с призраками
обретает форму в трилогии Performance Group «Три ме-
ста в Род-Айленде», поставленной в 1975–1978 годах. Три
ее пьесы построены вокруг жизни одного члена труппы —
429
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Сполдинга Грея; они показывают развитие его как лично-
сти, героя, актера, художника. Эта трилогия — нечто вроде
романа «В поисках утраченного времени» в традиции Пруста
и Фрейда. Вторая и наиболее сильная пьеса, «Рамстик-ро-
уд» ,18 впервые показанная в 1977 году, фокусируется на бо-
лезни и медленном угасании матери Грея, Элизабет, и завер-
шается ее самоубийством в 1967 году; Грей пытается понять
свою мать, ее семью и самого себя как ребенка и взрослого,
жить с тем, что он знает и с тем, чего он не узнает никогда.
Этому болезненному поиску предшествовали два произ-
ведения: поэма Аллена Гинзберга «Кад диш» (1959) и повесть
Петера Хандке «Нет желаний — нет счастья» (1972). Особую
убедительность и характерный флер 1970-х «Рамстик-ро-
уд» придает то, как для того, чтобы открыть новые глуби-
ны личного внутреннего пространства, в ней используются
коллективные актерские техники и мультимедийные фор-
мы искусства 1960-х годов. «Рамстик-роуд» сочетает живую
и записанную музыку, танец, проецирование изображений,
фотографию, абстрактное движение, сложное освещение
(в том числе стробы), записи видео и звуков; все это не-
обходимо для того, чтобы обратиться к различным, но пе-
ресекающимся укладам сознания и бытия. В ходе пьесы
Грей напрямую обращается к аудитории; изображаются его
грезы и мечты (в них он иногда играет одного из пресле-
дующих его призраков); воспроизводятся записи его разго-
воров с отцом, бабушкой, старыми друзьями и соседями по
Род-Айленду, с психиатром его матери (здесь он в пантоми-
ме изображает то, что говорится в записи); приводятся серии
изображений, которые показывают семью и ее жизнь на
протяжении этих лет (Грей — одновременно герой фотогра-
фий и кто-то вроде рассказчика и комментатора из «Нашего
городка»); та музыка, что более всего значила для Элизабет,
сопровождается танцем и повествованием.
Все это происходит в необычном месте. Сцена разделе-
на на три равные части; действие идет одновременно на
двух, а то и на всех трех. В центре вперед выдвинут пульт
430
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
управления аудио- и визуальными спецэффектами, за кото-
рым в тени сидит технический директор; прямо под пультом
находится скамья, которая иногда служит кушеткой психи-
атра, на которой Грей поочередно играет роль то тера-
певта (или «врача»), то различных пациентов. Слева, если
смотреть из зала, находится углубление в виде комнаты.
Это гипертрофированный образ семейного дома Грея на
Рамстик-роуд, где разворачиваются многие сцены; иногда
стена белеет, и помещение превращается во внутреннее
пространство сознания Грея, где разыгрываются различные
жуткие сцены; но даже когда дома нет, аура его сохраняет-
ся. Справа — другое глубокое помещение с большим окном,
которое изображает комнату самого Грея в старом доме.
На протяжении большей части спектакля в нем доминирует
освещенная изнутри огромная красная надувная палатка,
наводящая на мысли о волшебстве и угрозе (чрево кита?
материнская утроба? мозг?); значительная доля действия
происходит на этой палатке, в ней или вокруг нее; она вы-
ходит на первый план, словно полноценный призрачный
персонаж. Затем, по ходу спектакля, после того, как Грей
и его отец наконец смогли поговорить о матери и ее самоу-
бийстве, они достанут палатку из комнаты вверх через окно:
она будет видна и потом, будет причудливо светить, словно
луна, но теперь — на расстоянии и под углом.
«Рамстик-роуд» предполагает, что человек может достичь
освобождения и примирения в этом мире. Для Грея и для
нас (пока мы можем идентифицировать себя с ним) освобо-
ждение не может быть полным; но оно истинно и заслужен-
но: он не просто заглянул в пропасть, но спустился в нее
и вынес на свет то, что было спрятано в ее глубинах, что-
бы нам всем это показать. Грею помогают другие актеры:
их близость и взаимная связь, ставшие итогом совместной
работы на протяжении лет, крайне важны для его раскры-
тия и принятия себя. Их работа показывает развитие теа-
тральных коллективов в целом за последнее десятилетие.
В крайне политизированной атмосфере 1960-х годов, когда
431
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
одними из самых ярких представителей американского теа-
тра были труппы вроде Living Theater, Open Theater и San
Francisco Mime Troupe, их работа и жизнь представлялись
выходом из ловушки приватности и буржуазного индиви-
дуализма, моделью коммунистического общества будущего.
В относительно аполитичные 1970-е они эволюционировали
из коммунистических сект в нечто вроде терапевтических
сообществ, коллективная сила которых помогала каждому
члену понять и охватить глубины его собственной индиви-
дуальной жизни. Работы вроде «Рамстик-роуд» показывают,
в каких творческих направлениях может идти эта эволюция.
Одной из центральных тем модернизма 1970-х годов ста-
ла экологистская идея рециклинга — поиска новых смыслов
и потенциала в старых вещах и формах жизни. Один из самых
оригинальных ее примеров осуществлялся по всей Америке
в обветшалых кварталах, которые в начале 1960-х прослави-
ла Джейн Джекобс. За десять лет ситуация так изменилась,
что инициативы, которые в годы экономического подъема
1960-х казались приятной альтернативой, теперь стали вос-
приниматься как отчаянный императив. Самый крупный и яр-
кий проект городского рециклинга был осуществлен именно
там, где впервые была представлена жизнь Сполдинга Грея:
в квартале Нижнего Манхэттена, известном сейчас как Сохо.
Этот район мастерских XIX века, складов и небольших фа-
брик, расположенных между Хаустон-стрит и Канал-стрит,
был буквально безымянным; он получил имя только около
десяти лет назад. После Второй Мировой войны, с развитием
мира автомагистралей, он был списан со счетов как устарев-
ший, и планировщики 1950-х наметили его к сносу.
Согласно планам, его должны были уничтожить ради од-
ного из самых заветных проектов Мозеса — Лоуэр-Манхэт-
тен-Экспрессвэй. Эта дорога должна была прорезать остров
Манхэттен от Ист-Ривер до Гудзона и разрушить или за-
блокировать значительные части Саут-Виллиджа, Уэст-Вил-
лидж, Литл-Итали, Чайнатауна и Нижнего Ист-Сайда. Когда
планы строительства магистрали набрали обороты, многие
432
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
промышленники, владевшие здесь землей, покинули зону,
предвидя ее разрушение. Но затем, в начале и середине
1960-х годов, возникла поразительная коалиция различных
и обыкновенно антагонистических групп — молодых и ста-
рых, радикалов и реакционеров, евреев, итальянцев, бе-
лых англосаксонских протестантов, пуэрториканцев и ки-
тайцев,— которая на протяжении многих лет вела отчаянную
борьбу и наконец, к своему удивлению, победила, покончив
с проектом Мозеса.
Этот эпический триумф над Молохом привел к неожидан-
ному изобилию первоклассных лофтов, доступных по нео-
бычно низкой цене и идеально подходящих для быстрора-
стущего творческого населения Нью-Йорка. В конце 1960-х
и начале 1970-х годов сюда переехали тысячи художников,
и за несколько лет они превратили это безымянное место
в ведущий мировой центр творчества. Эта удивительная
трансформация вдохнула в унылые и покрытые трещинами
улицы Сохо небывалые витальность и яркость.
Аура этого квартала в значительной степени обязана соче-
танию в нем модерных улиц и зданий XIX века с модерным
искусством конца XX века, которое создается и демонстри-
руется здесь же. Можно взглянуть на нее и как на диалектику
старого и нового производства: фабрики по производству
шнуров, веревок, картонных коробок, небольших прибо-
ров и деталей механизмов, по сбору и переработке бумаги
и тряпья — и искусство, которое собирает, прессует, соеди-
няет и перерабатывает эти материалы самым разнообразным
способом.
Помимо этого Сохо стал местом освобождения женщин
творческих профессий. Сюда хлынуло невиданное их коли-
чество, крайне талантливых и уверенных в себе; они начали
борьбу за утверждение своей идентичности в квартале, ко-
торый и сам отчаянно пытался определиться со своей. Их
индивидуальное и коллективное присутствие лежит в основе
ауры Сохо. Одним вечером в начале осени я видел красивую
молодую женщину в гламурном костюме цвета красного вина;
433
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
она возвращалась,по-видимому, откуда-то из «престижного»
района (постановка? грант? работа?) и поднималась по длин-
ным лестничным пролетам к своему лофту. В одной руке она
держала большую сумку, из которой торчал багет, а с плеча
у нее изящно свисал подрамник пяти футов в длину: пре-
красное выражение модерной сексуальности и духа нашего
времени, подумал я. Но увы, за углом скрывалась другая
архетипическая фигура — владелец недвижимости, сколотив-
ший огромные состояния на суматошных спекуляциях в Сохо
1970-х, что выгнали из домов множество художников, которые
не могли позволить себе платить за аренду, подорожавшую
из-за их наплыва . Здесь, как и во многих сценах модерности,
раскрываются противоречия развития.
Прямо за Канал-стрит, границей центральной части Сохо,
прохожий, идущий на север или на юг либо выходящий из
метро, скорее всего, увидит то, что сперва покажется ему зда-
нием-призраком. Это большая вертикальная объемная масса
неопределенных очертаний, напоминающая окружающие ее
небоскребы; но по мере приближения к ней мы видим, что
форма ее меняется. В один момент начинает казаться, что
она кренится, словно Пизанская башня; отойдите налево,
и создастся впечатление, будто она нависает вперед, ока-
завшись почти над нами; развернитесь еще немного, и она
будет скользить вперед, словно корабль, плывущий по Ка-
нал-стрит. Это скульптура, выполненная Ричардом Серрой
из кортеновской стали, которая называется TWU в честь
Союза работников транспорта (Transit Workers Union), ко-
торые бастовали во время установки произведения весной
1980 года. Оно состоит из трех выстроенных в виде кривой
буквы Н огромных прямоугольников, каждый из которых
имеет около десяти футов в ширину и тридцати пяти футов
в высоту. Оно прочно, насколько прочной может быть скуль-
птура, но призрачно в нескольких отношениях: своей спо-
собностью менять форму в зависимости от угла зрения; ме-
таморфозами цвета — ярко-бронзовый, золотой оттенок под
одним углом превращается в жуткий, тяжелый серый через
434
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
мгновение или при малейшем повороте; сходством со сталь-
ными скелетами окружающих небоскребов, напоминанием
об упорном стремлении к небу, порождении модерной ар-
хитектуры и инженерии, о многозначительных обещаниях,
которые делали некогда все эти здания, пока были скелета-
ми — и в большинстве своем нарушили, когда были постро-
ены. Когда мы подходим к скульптуре, чтобы прикоснуться
к ней, то оказываемся в одном из ее углов Н-образный фор-
мы, и кажется, будто это город внутри города, мы с особен-
ной ясностью и живостью ощущаем городское пространство
вокруг и над нами, однако оказываемся защищены от потря-
сений города массой и силой конструкции.
TWU погружена в небольшую треугольную площадку, на
которой нет ничего другого, за исключением небольшого
деревца, посаженного, по-видимому, тогда же, когда была
поставлена скульптура, и ориентированного на нее. Ветви
его слабы, но листва выглядит роскошно. Под конец лета на
нем появляется один крупный красивый белый цветок. Это
произведение находится несколько в стороне от обычного
пути людского потока, но его появление привело к созданию
нового маршрута, который словно магнитом влечет людей
на свою орбиту. Оказавшись здесь, они смотрят, трогают,
опираются, устраиваются, усаживаются. Иногда они стара-
ются стать более активными соучастниками этой скульптуры
и пишут на ее гранях свои имена или убеждения — недавно
кто-то написал «БУДУЩЕГО НЕТ» буквами высотой в три
фута; кроме того, нижняя ее часть была превращена в нечто
наподобие киоска, украшенного приятными и неприятными
знаками времени.
Кто-то расстраивается из-за того, что ему кажется осквер-
нением искусства. Мне же представляется, что все, что город
прибавил к TWU, раскрыло его особую глубину, которая
никогда не проявилась бы, останься он нетронутым. Це-
лые слои знаков — их периодически счищают или сжигают
(делает это город, сам Серра или сочувствующие зрители,
сказать не могу), но они постоянно появляются заново — со -
435
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
здали новую конфигурацию, очертания которой напоминают
изломанный силуэт города шести или семи футов в высоту,
куда более темный и плотный, чем обширное пространство
над ним. Плотность и интенсивность нижнего уровня (той ча-
сти, докуда могут дотянуться люди) превратило эту секцию
в аллегорию строительства самого модерного города. Люди
постоянно забираются все выше, пытаясь оставить свои мет-
ки,— стоят друг у другу на плечах? — а на высоте двенадцати
или пятнадцати футов есть даже пара красных и желтых клякс
от краски, брошенной кем-то снизу,— не пародия ли это на
«живопись действия»?
Но вся эта суета лишь отражается в огромном бронзовом
небе Серры, висящим надо всеми нами,— небе, которое на
фоне темного мира, созданного нами внизу, выглядит тор-
жественнее, чем когда-либо. TWU порождает диалог между
природой и культурой, между городским прошлым и насто-
ящим — и его будущим, зданиями, которые все еще выглядят
как конструкции из балок, все еще бесконечны в потенциа-
ле,— между художником и его публикой, между всеми нами
и городской средой, которая связывает воедино наши жиз-
ненные линии. Этот процесс диалога — лучшее проявление
модернизма 1970-х годов.
Зайдя так далеко, я хотел бы начать диалог с моим соб-
ственным прошлым, моим домом, моими призраками. Я хочу
вернуться в точку, где началось это эссе — в мой Бронкс, живой
и процветающий еще вчера, разрушенный, покрытый пеплом
и пустой сегодня. Может ли модернизм оживить эти кости?
В буквальном смысле, конечно же, нет: только значительные
государственные инвестиции вместе с активным и энергич-
ным участием населения могут по-настоящему вернуть Бронкс
к жизни. Но модернистское мышление и воображение могут
дать нашим искалеченным внутренним городам причину жить
дальше, могут помочь неурбанизированному большинству —
или же вынудить его — увидеть связь своей судьбы с судь-
бой города, могут вытянуть на поверхность богатство жизни
и красоты, которые сейчас похоронены — но еще не мертвы.
436
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
В диалоге с Бронксом я хочу использовать и соединить два
различных средства выражения, которые расцвели в 1970-е
годы. Одно из них изобрели лишь недавно, а второе до-
вольно старо, но недавно улучшено и переработано. Пер-
вое называется лэнд-артом. Он восходит к началу 1970-х,
а самым оригинальным его представителем был Роберт
Смитсон, трагически погибший в 35 лет при крушении са-
молета в 1973 году. Смитсон был одержим рукотворными
руинами: шлаковыми отвалами, истощенными карьерами,
загрязненными водоемами и реками, кучами мусора, кото-
рые покрывали Центральный парк до появления Олмсте-
да. На протяжении 1970-х Смитсон путешествовал по всей
стране, безуспешно пытаясь заинтересовать корпоративных
и государственных бюрократов следующей идеей:
Практическим решением проблемы использования опустошенных
зон мог бы стать рециклинг земли и воды с точки зрения лэнд-ар-
та. ‹...› Искусство может стать ресурсом-посредником между эко-
логом и промышленником. Экология и промышленность — не
дороги с односторонним движением. Скорее это перекрестки. Ис-
кусство может обеспечить между ними необходимую диалектику. 19
Смитсону пришлось проехать огромные расстояния по
пустошам Среднего Запада и Юго-Запада США; он не дожил
до открытия огромной свалки в Бронксе — идеального холста
буквально у порога его дома. Но его мысль полна зацепок
относительно того, что мы могли сделать дальше. Крайне
важно, наверняка сказал бы он, принять процесс дезинте-
грации как основу новой интеграции, использовать мусор
как среду для создания новых форм и новых утверждений;
без такой основы и такой среды никакой реальный рост не-
возможен.* Второе направление, которое я хочу затронуть,—
** В конце 1970-х годов некоторые местные органы власти и художе-
ственные комиссии все-таки начали отвечать, и началось создание ряда
впечатляющих работ лэнд-арта. Эти новые значительные возможности
437
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
это историческая монументальная живопись. Мураль активно
развивалась в период функционирования W PA , когда на нее
была возложена задача выражения политических и вообще
радикальных идей. Ее позиции вновь укрепились в 1970-е
годы, теперь часто создаваемые на государственные деньги
CETA.* В соответствии с общим духом 70-х новые мурали
отображали местную историю, а не мировую идеологию. Бо-
лее того — и это, кажется, инновация 1970-х,— такие мурали
часто исполнялись членами сообщества, историю которого
они освещали, так что эти люди могли быть одновремен-
но субъектами, объектами и аудиторией такого искусства,
в лучших традициях модернизма объединяя теорию и прак-
тику. На мой взгляд, самая амбициозная и интересная му-
раль 1970-х — это «Великая стена Лос-Анджелеса» Джудит
Бака. Лэнд-арт и мурали видятся мне способами воплощения
моей бронксской модернистской мечты: бронксской мурали.
Бронксская мураль, как я ее себе представляю, должна
быть нарисована на стенах из кирпича и бетона, которые
тянутся вдоль большей части восьмимильной автомагистрали
через Бронкс, так, чтобы любая автомобильная поездка через
Бронкс или из него стала бы путешествием в его погребенные
глубины. В местах, где дорога идет на уровне улицы или близ
него и стены отступают, взгляд водителя на прошлое Бронк-
са должен чередоваться с видами развалин его настоящего.
На мурали можно было бы изобразить поперечные срезы улиц,
создают также и значительные проблемы, стравливают художников с за-
щитниками окружающей среды, позволяя обвинить их в создании чисто
косметической красоты, которая маскирует хищнический произвол кор-
пораций и политиков. Блестящий рассказ о том, как художники лэнд-арта
относились к этим вопросам и отвечали на них см. в работе: Larson K.
It’s the Pits. // Village Voice, 2. September 1980. — П рим. авт.
* Comprehensive Employment and Training Act — федеральная зако-
нодательная программа США, начатая в 1973 году. В ее рамках люди
проходили профессиональное обучение и получали рабочие места в го-
сударственных организациях. — П рим. пер.
438
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
домов, даже комнат с людьми в том виде, в каком они суще-
ствовали до того, как через них прорезалась автомагистраль.
Но она могла бы пойти и еще дальше и затронуть первые
годы нашего столетия, на которые пришелся пик еврейской
и итальянской иммиграции, когда Бронкс развивался вдоль
стремительно растущих линий метро и из-под земли были
вызваны (как сказано в «Коммунистическом манифесте») це-
лые народы; десятки тысяч портных, печатников, мясников,
маляров, скорняков, профсоюзных активистов, анархистов,
коммунистов. Вот Д. У. Гриффит, чье старое здание, Байо-
граф-Студио,— крепкое, но потрепанное и запущенное — до
сих пор стоит у магистрали; вот Шолом-Алейхем видит Но-
вый Свет, говорит, что он хорош, и умирает на Келли-стрит
(в квартале, где родилась Белла Абзуг); а вот Троцкий ждет
свою революцию на 164-й Ист-стрит (правда ли он играл
русских в утраченных немых фильмах? Мы этого никогда не
узнаем). А вот мы видим скромную, но энергичную и уверен-
ную в себе буржуазию, которая в 1920-е годы появляется близ
стадиона «Янки», прогуливается по Гранд-Конкорс в краткие
мгновения ясной погоды, ищет романтику в прогулочных лод-
ках в парке Кротона; а неподалеку — «коопы», большая сеть
рабочих жилых домов, кооперативно создававших новый мир
рядом с парками Бронкс и Ван Кортлендт. Далее мы попадаем
в мрачные невзгоды 1930-х: очереди безработных, програм-
ма Home relief, WPA (блестящий памятник которому, здание
суда графства Бронкс, стоит недалеко от стадиона «Янки»),
взрыв радикальных страсти и энергии, уличные схватки меж-
ду троцкистами и сталинистами, кондитерские и кафетерии,
разговоры в которых не стихают всю ночь; затем переходим
в великолепные и тревожные послевоенные годы, к новому
изобилию. Жизнь в кварталах становится более бурной, чем
когда-либо, даже после того, как новые миры за их границами
стали открываться, а люди стали покупать машины и пере-
двигаться на них; мы переходим к новым иммигрантам из
Пуэрто-Рико, Южной Каролины, Тринидада, к новым оттен-
кам кожи и новой одежде на улице, к новой музыке и рит-
439
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
мам, к новым противоречиям и новому накалу; и, наконец,
к Роберту Мозесу и его ужасной дороге, которая пробила
себе путь через внутреннюю жизнь Бронкса, превратив эво-
люцию в деградацию, энтропию — в катастрофу, породив ру-
ины, на которых будет создано это произведение искусства.
Мураль должна быть написана в нескольких совершен-
но различных стилях, чтобы выразить поразительное мно-
гообразие мировоззрений и идей, которые родились сре-
ди этих внешне одинаковых улиц, многоквартирных домов,
школьных двориков, кошерных мясных лавок, деликатесных
и кондитерских магазинов. Барнетт Ньюман, Стенли Кубрик,
Клиффорд Одетс, Ларри Риверс, Джордж Сигал, Джером
Вейдман, Розалин Дрекслер, Эдгар Лоренс Доктороу, Грейс
Пейли, Ирвинг Хоу — все они будут здесь присутствовать; вме-
сте с ними будут Джордж Мини, Херман Бадильо, Белла Абзуг
и Стокли Кармайкл; Джон Гарфилд, Сидни Фалько Тони Кер-
тиса, Молли Голдберг Гертруды Берг, Бесс Майерсон (икона
ассимиляции, Мисс Америка 1945 года из Бронкса) и Анна
Банкрофт; Хэнк Гринберг, Джейк Ла Мотта, Джек Молинас
(был он самым великим спортсменом или самым опасным
жуликом Бронкса — или то и другое сразу?); Нейт Арчибальд;
Авраам Майкл Розенталь из New York Times и его сестра,
коммунистка Рут Уитт; Фил Спектор, Билл Грэм, Дион и The
Belmonts, The Rascals, Лаура Ниро, Ларри Харлоу, братья
Палмьери; Джулс Файффер и Лу Майерс; Пэд ди Чаефски
и Нил Саймон; Ральф Лорен и Кельвин Кляйн, Гарри Ви-
ногранд, Джордж и Майкл Кучары; Джонас Солк, Джордж
Уолд, Сеймур Мелман, Герман Кан — все они и многие другие.
Дети Бронкса захотят вернуться и попасть на картину:
стена автомагистрали достаточно велика, чтобы вместить их
всех; когда на ней станет слишком тесно, по населенности она
приблизится к Бронксу в годы его расцвета. Поездка вдоль
этой стены была бы ценным и необычным опытом. Водите-
ли могут быть очарованы фигурами, видами и фантазиями
мурали, призраками своих родителей, друзей, даже самих
себя, пленены ими как сиренами, что зовут их броситься
440
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
в пропасть прошлого. С другой стороны, очень многие из
этих призраков будут понукать их ехать вперед, изо всех
сил стараться прыгнуть в будущее, за пределы стен Бронк-
са, и присоединиться к дорожному потоку по пути отсюда.
Бронксская мураль будет завершаться в конце самой маги-
страли, где она упирается в развязку, откуда тянутся доро-
ги до Уэстчестера и Лонг-Айленда. Конец, граница между
Бронксом и миром, будет отмечена гигантской церемони-
альной аркой в традиции колоссальных монументов, создан-
ной в 1960-е годы Класом Олденбургом. Арка эта, круглая
и надувная, будет напоминать одновременно автомобильную
шину и бублик. Надутая полностью, она будет выглядеть
несъедобно твердой, как бублик, но в идеале — как шина для
скоростной езды; в мягком состоянии она будет напоминать
прохудившуюся опасную шину, но одновременно и пончик,
от вида которого захочется сделать остановку и выпить чаю.
Я изобразил Бронкс сегодняшнего дня как место разрухи
и отчаяния. Все это, несомненно, есть, но есть и многое дру-
гое. Сверните с магистрали и проедьте милю или около того
на юг либо полмили на север, к зоопарку; двигайтесь по ули-
цам, названия которых вписаны в перекрестки души — Фокс,
Келли, Лонгвуд, Ханивелл, Саутерн-бульвар — и вы обнару-
жите здания, которые так похожи на те, что вы давным-давно
покинули, которые, как вы думали, навсегда исчезли, что
вам покажется, будто вы видите призраки — или вы сами ста-
ли призраком, проецирующим фантомы своего внутреннего
города на эти твердые улицы. Вывески и надписи испан-
ские, но оживленность и дружелюбие — греющиеся на солнце
старики, идущие из магазинов женщины с сумками, играю-
щие в футбол посреди улицы дети — так напоминают дом,
что легко почувствовать, будто вы никогда его не покидали.
Многие из этих кварталов столь уютны в своей обыден-
ности, что почти можно почувствовать, как мы сливаемся
с ними, как они убаюкивают нас — пока мы не свернем за угол
и нас не разбудит настоящий кошмар разрухи: обгоревшие
руины и пустая, заваленная мусором и стеклом улица. Тогда
441
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
мы сможем понять, чтó видели только что. Спасти эти обыч-
ные улицы от смерти, взрастить здесь жизнь — выдающаяся
работа. Эта коллективная работа рождается из смешения
правительственных денег, народного труда — это называют
sweat equity,* — и духа.20 Это рискованное и ненадежное
предприятие — риски его мы можем видеть за углом. Чтобы
довести его до конца, требуются фаустианское визионерство,
энергия и храбрость. Здесь живут люди нового города Фа-
уста, которые знают, что они должны каждый день идти на
бой за свою жизнь и свободу.
В этой работе обновления активную роль играет модерное
искусство. На приятных восстановленных улицах мы находим
огромную стальную скульптуру, которая возносится вверх на
высоту семи этажей. Она напоминает формой два пальмовых
дерева, по-экспрессионистски склоняющихся одно к другому
и образующих арку. Это «Пуэрториканское солнце» Рафаэля
Феррера — самое новое дерево в нью-йоркском лесу сим-
волов. Арка ведет нас в сеть зеленых насаждений — обще-
ственный сад Фокс-стрит. Это одновременно величественное
и пугающее произведение; отойдя на расстояние, можно по-
любоваться его колдеровским сочетанием массивных форм
и чувственных изгибов. Но работа Феррера приобретает
особый резонанс и глубину из-за ее связи с местом. В этом
квартале, где живут, в основном, пуэрториканцы и выходцы из
карибских стран, она напоминает об утраченном тропическом
рае. Промышленные материалы, из которых она изготовле-
на, намекают на то, что радость и чувственность, доступные
здесь, в Америке, в Бронксе, должны прийти — и действитель-
но приходят — через переустройство индустрии и общества.
«Пуэрториканское солнце», сделанное черным, но раскра-
шенное широкими, живыми абстрактно-импрессионистскими
мазками и брызгами — ярко-красными, желтыми и зелеными
с западной стороны и розовыми, небесно-голубыми и белы-
ми с восточной — символизирует различные, но, наверное,
* Личный трудовой вклад. — Прим. пер.
442
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
в равной степени верные способы, которыми жители Юж-
ного Бронкса, работающие внутри своих новых форм, могут
оживить мир. Эти люди, в отличие от аудитории TWU Серры
из центра, не покрыли граффити арку Феррера; но, кажется,
это популярный предмет гордости всей улицы. Она может
помочь людям, которые переживают важнейший, мучитель-
ный период своей — и нашей — истории, взять под контроль
направление своего движения и свою сущность. Надеюсь, она
им помогает; я знаю, что она помогает мне. И мне кажется,
что модернизм именно об этом.21
Я мог бы и дальше рассказывать о самых впечатляющих
модернистских работах прошедшего десятилетия. Вместо
этого я решил закончить на Бронксе, на встрече с некото-
рыми моими собственными призраками. Подходя к концу
этой книги, я вижу, как этот проект, который поглотил так
много моего времени, растворяется в модернизме моих вре-
мен. Я раскапываю некоторых представителей модерна из
прошлого, пытаясь вскрыть диалектику между существова-
нием их и нашим собственным, надеясь помочь людям моего
времени создать модерность будущего, которая будет полнее
и свободнее той, что известна нам.
Следует ли вообще называть модернистскими работы
столь одержимые прошлым? Для многих мыслителей вся
суть модернизма состоит в освобождении пространства ото
всех хитросплетений, чтобы заново создать личность и мир.
Другие считают, что по-настоящему оригинальные формы
современного искусства и мысли — это результат квантового
скачка за пределы всех видов модернистской чувственно-
сти, который заслужил право называться «постмодерном».
Я хочу ответить на эти противоположные, но дополняющие
друг друга утверждения, вновь обратившись к образу мо-
дерности, с которого началась эта книга. Быть модерным,
утверждал я, значит ощущать личную и общественную жизнь
как вихрь, видеть постоянный распад и обновление, пробле-
мы и мучения, неоднозначность и противоречивость своего
мира и себя самого: быть частью вселенной, в которой все
443
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
твердое растворяется в воздухе. Быть модернистом — значит
чувствовать себя в этом вихре как дома, принять его ритмы как
свои собственные, двигаться по его течению в поисках форм
реальности, красоты, свободы, справедливости, возможных
в этом бурном и опасном потоке.
За последние два столетия модерный мир изменился ко-
ренным образом во многих отношениях; но положение мо-
дерниста, пытающегося выживать и творить посреди вихря,
осталось, в сущности, тем же. Это положение породило язык
и культуру диалога, связав воедино модернистов прошлого,
настоящего и будущего, позволив модернистской культуре
жить и процветать даже в самые ужасные времена. На всем
протяжении этой книги я пытался не только описать жизнь
модернизма как диалог, но и продолжать его. Однако при-
мат диалога в нынешнем модернизме говорит о том, что мо-
дернисты не могут покончить с прошлым: они должны веч-
но бежать от него, откапывать его призраки, воссоздавать
его даже через воспроизводство своего мира и самих себя.
Если бы модернизм смог когда-нибудь избавиться от ба-
рахла, тряпья и дряхлых сцеплений, что крепят его к прошло-
му, он утратил бы весь свой вес и глубину и был бы беспомощ-
но унесен прочь вихрем модерной жизни. Лишь сохранение
уз — одновременно близких и антагонистичных,— которые при-
крепляют нас к модерностям прошлого, может дать модер-
ным людям настоящего и будущего шанс быть свободными.
Это понимание модернизма должно помочь нам частич-
но прояснить иронию современной «постмодерной» мисти-
ки.22 Я утверждал, что модернизм 1970-х отличает его жела-
ние и способность помнить, помнить очень многое из того,
о чем модерные общества — вне зависимости от их идеологии
и правящего класса — хотят забыть. Но когда современные
модернисты утрачивают связь с собственной модерностью
и отрицают ее, они лишь эхом отражают самообман правя-
щего класса о том, что он победил проблемы и опасности
прошлого, отрезав себя и нас от первоисточника собствен-
ной силы.
444
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Есть и другой важный вопрос о модернизмах 1970-х: если
свести их всех воедино, дадут ли они какую-то сумму? Я по-
казывал, как отдельные люди и мелкие группы сталкивались
со своими собственными призраками и в результате этой
внутренней борьбы создавали смысл, достоинство и красоту
для себя. Это замечательно; но могут ли эти исследования
личной, семейной, местной и этнической истории породить
сколько-нибудь значимое видение будущего или коллектив-
ную надежду для всех нас? Я попытался описать ряд различ-
ных инициатив прошлого десятилетия так, чтобы выявить их
общую основу и помочь кому-то из нашей толпы изолиро-
ванных людей и групп понять, что по духу они ближе друг
к другу, чем считают. Но примут ли они на самом деле эти че-
ловеческие связи и приведет ли их принятие к каким-нибудь
коллективным действиям, предсказать я не могу. Может быть,
модерные люди 1970-х годов удовлетворятся искусственной
подсветкой своих надувных куполов. Или, может, вскоре они
поднимут эти купола, откроют окна навстречу друг другу
и будут работать над созданием политики подлинности, ко-
торая охватит всех нас. Если это произойдет, то мы получим
точку сдвига модернизма 1980-х .
Двадцать лет назад, в конце другого аполитичного деся-
тилетия, Пол Гудман предсказывал скорый приход огром-
ной волны радикалов и радикальных инициатив. Как этот
новый радикализм, включая его собственный, соотносил-
ся с модерностью? Гудман утверждал, что когда молодые
люди понимают, что они «взрослеют в абсурде», не имея
возможности прожить достойную или хотя бы осмысленную
жизнь, источником проблемы «является не дух модерного
общества», а, скорее, «то, что этот дух реализовал себя
не полностью».23 Назревшие возможности модерности, пе-
речисленные им под заглавием «Упущенные революции»,
сегодня столь же важны и актуальны. Показав модерности
дня вчерашнего и дня сегодняшнего, я попытался обратить
внимание на ряд возможных способов реализации модер-
ного духа завтра.
445
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Что насчет послезавтра? Идеолог постмодернизма Ихаб
Хассан сетует на упорное нежелание модерности уйти в про-
шлое: «Когда закончится модерный период? Длился ли ка-
кой-нибудь другой период столь же долго? Возрождение?
Барокко? Классика? Романтизм? Викторианство? Возможно,
лишь Темные века. Когда наконец наступит конец модер-
низма и что придет дальше?» 24 Если главная мысль этой
книги верна, то те, кто ждет конца модерной эпохи, должны
набраться терпения. Модерная экономика, вероятно, будет
расти, хотя, возможно, и в новых направлениях, адаптируясь
к хроническим энергетическим и экологическим кризисам,
порожденным ее успехом. Будущие адаптации потребуют
великих социальных и политических потрясений; но модер-
низация всегда питалась проблемами, атмосферой «длитель-
ной неопределенности и брожения», в которой, как написано
в «Манифесте Коммунистической партии», «Все застывшие,
покрывшиеся ржавчиной отношения ‹...› разрушаются». В та-
кой атмосфере культура модернизма будет и дальше разви-
вать новые представления и выражения жизни, ведь те же
экономические и социальные устремления, которые беско-
нечно трансформируют мир вокруг нас как в лучшую, так
и в худшую сторону, преобразуют также и внутреннюю жизнь
мужчин и женщин, которые наполняют и двигают этот мир.
Процесс модернизации, даже если он эксплуатирует и тер-
зает нас, претворяет в жизнь нашу энергию и плоды нашего
воображения, двигает нас к тому, чтобы осознать мир, соз-
данный модернизацией, воспротивиться ему и бороться за
то, чтобы сделать его своим. Думаю, что мы и те, кто придет
после нас, продолжат борьбу за то, чтобы сделать этот мир
нашим домом, даже если дома, построенные нами, модерные
улицы, модерный дух продолжат растворяться в воздухе.
[446]
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. О постмодернизме в 1980-е гг. см. напр.: Hal Foster,
ed., «The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture» (Bay
Press, 1983); New German Critique, #22 (Winter 1981) и #33 (Fall
1984); Andreas Huyssen, «After the Great Divide: Modernism,
Mass Culture, Postmodernism» (Indiana, 1986); Peter Dews, ed.,
« Autonomy and Solidarity: Interviews with Jurgen Habermas»
(Verso / New Left, 1986), особенно см. предисловие издателя;
и Jurgen Habermas, «The Philosophical Discourse of Modernity»
(1985), transl. Frederick G. Lawrence (MIT, 1987).
2. Jean-Francois Lyotard, «The Post-Modern Condition: A
Report on Knowledge» (1979), transl. Geoff Bennington, Brian
Massumi, foreword Fredric Jameson (Minnesota, 1984), p. 31,
37, 41.
ВВЕДЕНИЕ
1. Emile, ou De l’Education, 1762, в издании Bibliotheque de
Ia Pléiade Oeuvres Complètes Руссо (Paris: Gallimard, 1959 ff.),
Volume IV. Как Руссо видел le tourbillon social и как считал
нужным выживать в нем, см. Книга IV, стр. 551. О взрывоо-
пасном характере европейского общества и грядущих ре-
волюционных сдвигах, см. Emile, I, 252; Ill, 468; IV, 507–08.
2. Julie, ou la Nouvelle Héloїse, 1761, Часть II, Письма 14
и 17. В Oeuvres Complètes, Vol. II, 231–36, 255–56 . Я рассма-
тривал эти руссианские сцены и темы с несколько другой
447
ВВЕДЕНИЕ
точки зрения в книге The Politics of Authenticity (Atheneum,
1970), особенно с. 113–19, 163–77 .
03. «Речь на юбилее The People’s Paper», см. Robert C.
Tucker, The Marx-Engels Reader, 2nd ed., (Norton, 1978),
577–78. При дальнейшем цитировании этот сборник будет
сокращаться как MER.
04. MER, 475–76. Я немного изменил традиционный пере-
вод, сделанный Самуэлем Муром в 1888.
05. Процитированные отрывки — из секций 262, 223 и 224.
Перевод Marianne Cowan (изд. 1955; Gateway, 1967), с . 210–11,
146–50.
06. «Manifesto of the Futurist Painters, 1910», by Umberto
Boccioni et aL Translated by Robert Brain, in Umbro Apollonio,
editor, Futurist Manifestos (Viking, 1973), 25.
07. F. T. Marinetti, «The Founding and Manifesto of Futurism,
1909», translated by R. W. Flint, in Futurist Manifestos, 22.
08. Marinetti, «Multiplied Man and the Reign of the Ma-
chine», from War, the World ’s Only Hygiene, 1911–15, in
R. W. Flint, editor and translator, Marinelli: Selected Writings
(Farrar, Straus and Giroux, 1972), 90–91. Смелую (пусть и явно
симпатизирующую) трактовку футуризма в контексте эволю-
ции модерности см. Reyner Banham, Theory and Design in the
First Machine Age (Praeger, 1967), 99–137.
09. Understanding Media: The Extensions of Man (McGraw-
Hill paperback, 1965), 80.
10. «The Modernization of Man», in Myron Weiner, editor,
Modernization: The Dynamics of Growth (Basic Books, 1966),
149. Этот сборник дает прекрасное представление о мейн-
стриме американской парадигмы модернизации в период ее
расцвета. Важнейшие работы этой традиции: Daniel Lerner,
The Passing of Traditional Society (Free Press, 1958) и W. W. Ro-
stow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist
Manifesto (Cambridge, 1960). Раннюю радикальную критику
этой литературы см. в Michael Walzer, «The Only Revolution:
Notes on the Theory of Modernization» in Dissent, 11 (1964),
132–40. Однако эта теория также встретила критику среди
448
ПРИМЕЧАНИЯ
мейнстрима западных общественных наук. Эти проблемы
проницательно перечислены в S. N . Eisenstadt, Tradition,
Change and Modernity (Wiley, 1973). Стоит отметить, что,
когда работа Инкелеса вышла в виде книги (Alex lnkeles and
David Smith, Becoming Modern: Individual Change in Six De-
veloping Countries (Harvard, 1974)), панглосовское видение
современной жизни сменилось куда более сложными пер-
спективами.
11. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, transl.
Talcott Parsons (Scribner, 1930), 181–83. Я немного изменил
перевод, следуя более живой версии Питера Гэя (Peter Gay,
в издании Columbia College, Man in Contemporary Society
(Columbia 1953), II, 96–97). Однако, Гэй вместо «железной
клетки» использует «смирительную рубашку».
12. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Ad-
vanced Industrial Society (Beacon Press, 1964), 9.
13. Ibid., 256–57. См. мою критику этой книги в the Parti-
san Review, Fall 1964, и дальнейшую дискуссию между мной
и Маркузе в следующем номере, Winter 1965. Мысль Маркузе
стала более открытой и диалектичной в конце 1960-х годов и,
на совсем другой манер, в середине 1970-х годов. Наиболее
интересные точки этого развития: An Essay on Liberation (Bea-
con, 1969) и его последняя книга The Aesthetic Dimension (Bea-
con, 1978). Однако, по извращенной иронии истории, именно
этот непластичный, скованный, «одномерный» Маркузе при-
влек наибольшее внимание и до сих пор наиболее влиятелен.
14. «Modernist Painting», 1961, in Gregory Battcock, editor,
The New Art (Dutton, 1966), 100–10.
15. «Нулевая степень письма», 1953, trans. Annette Lavers,
Colin Smith (London: Jonathan Cape, 1967), p. 58. Я ассоции-
рую эту книгу с 1960-ми, потому что именно тогда ее влияние
стало наиболее ощутимым, как во Франции, так и в Велико-
британии и США.
16. The Tradition of the New (Horizon, 1959), 81.
17. Beyond Culture, предисловие (Viking, 1965). Идея наи-
более живо изложена в работе Триллинга для Partisan Review
449
ВВЕДЕНИЕ
1961 года, «The Modern Element in Modern Literature», она
была перепечатана в Beyond Culture (с. 3 –30) под заголов-
ком «On the Teaching of Modern Literature».
18. The Theory of the Avant-Garde, 1962, translated from
the Italian by Gerald Fitzgerald (Harvard, 1968), Ill.
19. «Contemporary Art and the Plight of Its Public», лекция,
прочитанная в Музее современного искусства в 1962, перепе-
чатана в Battcock, The New Art, 27–47, и в книге Штейнберга
«Other Criteria: Confrontations with Twentieth Century Art»
(Oxford, 1972), 15.
20. Ирвинг Хоу критически обсуждает попеременную, то
фальшивую, то искреннюю «войну между модернистской
культурой и буржуазным обществом» в книге «The Culture of
Modernism», Commentary, November 1967; переизданной под
заголовком «The Idea of the Modern» в предисловии к анто-
логии Хоу, «Literary Modernism»(Fawcett Premier, 1967). Этот
конфликт занимает центральное место в подборке Хоу, в ко-
торой перепечатаны четыре ранее процитированных автора,
многие другие интересные современники, а также блестящие
манифесты Маринетти и Замятина.
21. См. проницательное обсуждение в Morris Dickstein,
Gates of Eden: American Culture in the Sixties (Basic Books,
1977), 266–67.
22. Bell, Cultural Contradictions of Capitalism (Basic Books,
1975), 19; «Modernism and Capitalism», Partisan Review, 45
(1978), 214. Второе эссе вышло в качестве предисловия к из-
данию Cultural Contradictions в бумажном переплете в 1978.
23. Кейдж, «Experimental Music» («Экспериментальная му-
зыка»)(1957) в Silence («Тишина») (Wesleyan,1961), p. 12. «Cross
the Border, Close the Gap», 1970, в Collected Essays Фидлера
(Stein and Day, 24. 25. 1971), vol. 2; также в том же томе: «The
Death of Avant-Garde Literature», 1964, и «The New Mutants»,
1965. Сьюзан Сонтаг: «One Culture and the New Sensibil-
ity», 1965, «Happenings», 1962, и «Notes on ‘Camp’», 1964,
все в книге „Against Interpretation» (Farrar, Straus & Giroux,
1966). Кстати, все три типа модернизма 60-х можно найти
450
ПРИМЕЧАНИЯ
в различных эссе, из которых состоит эта книга; но они живут
отдельными жизнями. Сонтаг никогда не пытается показать
их на контрасте или столкнуть друг с другом. Richard Poiri-
er, The Performing Self: Compositions and Decompositions in
Everyday Life (Oxford, 1971). Robert Venturi, Complexity and
Contradiction in Architecture (Museum of Modern Art, 1966);
and Venturi, Denise Scott Brown and David lzenour, Learning
from Las Vegas (MIT, 1972). Об Alloway, Richard Hamilton,
John McHale, Reyner Banham и другом вкладе британцев
в поп-эстетику см. John Russell и Suzi Gabhk, Pop Art Rede-
fined (Praeger, 1970), и Charles Jencks, Modem Movements in
Architecture (Anchor, 1973), 270–98.
24. Самыми энергичными ранними представителями пост-
модернизма были Лесли Фидлер и Ихаб Хассан: Fiedler, «The
Death of Avant-Garde Literature» 1964 и «The New Mutants»,
1965, оба в издании Collected Essays, vol. II; Hassan, «The
Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature»
(Oxford, 1971), и «POSTmoderniSM: A Practical Bibliography»,
in «Paracriticisms: Seven Speculations of the Times» (Illinois,
1973). Для более поздних примеров пост-модернизма см.
Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture
(Rizzoli, 1977); Michel Benamou и Charles Calleo, «Performance
in Post-Modem Culture» (Milwaukee: Coda Press, 1977); и теку-
щие номера «Boundary 2: A Journal of Postmodern Literature».
Критику всего проекта см. Robert Alter, «The Self-Conscious
Moment: Reflections on the Aftermath of Post-Modernism»,
в Triquarterly #33 (Spring 1975), 209–30, и Matei Calinescu,
Faces of Modernity (Indiana, 1977), 132–44 . Последние номе-
ра журнала Boundary 2 показывают, что постмодернистской
мысли невозможно избавиться от некоторых специфичных
проблем. Этот часто интригующий журнал в последнее
время стал все больше помещать материалы авторов вроде
Мельвиля, По, сестер Бронте, Вордсворта, даже Филдинга
и Стерна. Хорошо, но если эти писатели принадлежат по-
стмодернистскому периоду, то когда вообще была эра мо-
дерна? В Средневековье? Другие проблемы раскрываются
451
ВВЕДЕНИЕ
в контексте изобразительных искусств у Douglas Davis, Post-
Post Art I и II, и Symbolism Meets the Faerie Queene» в Village
Voice, 24 June, 13 August, and 17 December 1979. См. также
в контексте театра Richard Schechner, «The Decline and Fall
of the [American] Avant-Garde», in Performing Arts Journal
14 (1981), 48–63 .
25. Мейнстримное оправдание отхода от концепции мо-
дернизации наиболее ясно дано в Samuel Huntington, «The
Change to Change: Modernization, Development and Poli-
tics», in Comparative Politics, 3 (1970–71), 286–322. См. также
S. N . Eisenstadt, «The Disintegration of the Initial Paradigm», in
Tradition, Change and Modernity (процитировано в примеча-
нии 10), 98–115. Несмотря на общее направление некоторые
социологи в 70-х заострили и углубили концепцию модерни-
зации. См. напр. Irving Leonard Markowitz, «Power and Class
in Afnca» (Prentice-Hall, 1977). Очень вероятно, что теория
модернизации в 1980-е годы будет развиваться благодаря
и дальше знакомству с плодотворной работой Фернана Бро-
деля и его последователей в области сравнительной истории.
См. Braudel, «Capitalism and Material Life, 1400–1800», trans.
Miriam Kochan (Harper & Row, 1973), и «Afterthoughts on Ma-
terial Civilization and Capitalism», transl. Patricia Ranum (Johns
Hopkins, 1977); Immanuel Wallerstein, «The Modern World-Sys-
tem», vol. I–II (Academic Press, 1974, 1980).
26. «The History of Sexuality», vol. I: an Introduction, 1976,
transl. Michael Hurley (Pantheon, 1978), 144, 155 и вся заклю-
чительная глава.
27. «Discipline and Punish: The Birth of the Pкшson», 1975,
transl. Alan Shendan (Pantheon, 1977), 217, 226–28. Вся глава
под названием «Паноптизм» (195–228) — самая аргументиро-
ванная у Фуко. Иногда в этой главе проскальзывает менее
монолитное и более диалектическое видение модерности,
но этот свет очень быстро гаснет. Все это стоит сравни-
вать с ранними и более глубокими работами Гофмана, т. е.
эссе «Characteristics of Total Institutions» и «The Underlife
of a Public Institution» в издании «Asylums: Essays on the
452
ПРИМЕЧАНИЯ
Social Situation of Mental Patients and Other Inmates» (An-
chor, 1961).
28. « Alternating Current», 1967, transl. Helen Lane (Viking,
1973), 161–62.
«ФАУСТ» ГЕТЕ:
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
1. The New Yorker, 9 April 1979, «Talk of the Town», 27–28.
2. Captain America #236, Marvel Comics, August 1979.
Я обязан этой отсылкой Марку Берману.
3. Процитировано в книге Дьердя Лукача «Гете и его
эпоха»/Goethe and His Age (Budapest, 1947; перевод Robert
Anchor, Merlin Press, London, 1968, and Grosset & Dunlap.
New York, 1969), 157. Эта книга, после «Истории и классового
сознания», кажется мне лучшей книгой Лукача коммунистиче-
ского периода. Читатели, знакомые с книгой «Гете и его эпо-
ха», поймут, насколько последующее эссе — это диалог с ней.
4. После предположительно оконченной версии, опубли-
кованной в 1832 году, в течение всего XIX в. находили до-
полнительные фрагменты, часто достаточно длинные и та-
лантливые. Краткую историю множества стадий создания
и публикации «Фауста» см. прекрасное критическое издание
Walter Arndt, Cyrus Hamlin (Norton, 1976, pp. 346–55). В этом
издании, где представлен перевод Арндта и редакторские при-
мечания Хэмлина, можно найти огромное количество допол-
нительных материалов и наблюдательных критических эссе.
5. При цитировании «Фауста» цифры означают строки,
и в целом я пользовался переводом Уолтера Кауфмана (Wal-
ter Kaufmann. New York: Anchor Books, 1962). Также перио-
дически я заглядывал в версию Уолтера Арндта, указанную
в сноске выше, и в версию Луиса Макниса (Louis MacNeice’s
(1951: New York, Oxford University Press, 1961). Иногда я сам
переводил текст, используя немецкое издание Faust: Eine
Tragödie, ed. Hanns W. Eppelsheimer (München: Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1962).
453
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
06. Это не вполне правда. В 1798 и 1799 Гете вставил перед
этой первой сценой («Ночь») «Пролог в театре» и «Пролог на
небесах», которые вместе занимают около 350 строк. Очевид-
но, оба пролога используются для обрамления, размывания
испепеляющего напряжения первой сцены, для создания
того, что Брехт назвал эффектом отчуждения аудитории от
устремлений и желаний героя. Замечательный, но совсем не-
запоминающийся «Пролог в театре» почти никогда не вклю-
чают в спектакли, но он преуспевает в этом; а незабываемый
«Пролог на небесах», в котором Гете представляет Бога и дья-
вола, полностью проваливается в создании отчужденности
и только раздразнивает наш аппетит к треволнениям «Ночи».
07. Прекрасное эссе Эрнеста Шехтеля, «Memory and
Childhood Amnesia», объясняет, почему переживания вроде
фаустовских колоколов обладают таким чудесным и магиче-
ским воздействием на взрослых. Это эссе 1947 года оформ-
лено как заключительная глава книги Шехтеля «Metamorpho-
sis: On the Development of Affect, Perception, Attention and
Memory». (Basic Books, 1959), p. 279–322, особенно с p. 307.
08. С чуткостью и сочувствием, хоть и не без критики, эту
традицию возродил Реймонд Уильямс, в книге «Culture and
Society, 1780–1950» (1958; Anchor Books, 1960).
09. Здесь Лукач опирается на одно из гениальных ранних
эссе Маркса «Власть денег в буржуазном обществе» (1844),
в котором как точка опоры используется вышеупомянутый
пассаж из «Фауста» и схожий из «Тимона Афинского». Это эссе
Маркса наиболее удобно читать в Marx-Engels Reader, пере-
веденном Мартином Миллиганом (Martin Milligan, pp. 101–05).
10. Goethe and His Age, pp. 191–2 .
11. Ibid., 196–200, 215–16.
12. Об этом плодотворном и интереснейшем движении
на английском можно почитать работы Frank Manuel, The
New World of Henri Saint-Simon (1956; Notre Dame, 1963)
и The Prophets of Paris (1962; Harper Torchbooks, 1965), главы
3 и 4. Также см. классическое исследование Дюркгейма
1895 года, Socialism and Saint Simon, в переводе Charlotte
454
ПРИМЕЧАНИЯ
Sattler, с предисловием Alvin Gouldner (1958; Colher paper-
back, 1962), которое объясняет наличие сенсимонисткого
компонента в теории и практике государства благосостояния
XX века; и проницательные заметки Lewis Coser, Men of Ideas
(Free Press, 1965), 99–109; George Lichtheim, The Origins of
Socialism (Praeger, 1969), 39–59, 235–44; Theodore Zeldin,
France, 1848–1945: Ambition, Love and Politics (Oxford, 1973),
особенно стр. 82, 430–38, 553.
13. Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы
его жизни. / Пер. Н. Ман. М .: Художественная литература,
1981. С. 507.
14. Эндрю Шонфилд (Andrew Shonfield) в книге Modern
Capitalism: The Changing Balance of Public and Private Pow-
er (Oxford, 1965) считает главенство общественных органов
власти и их способность к международному координирован-
ному долгосрочному планированию главным ингредиентом
успеха современного капитализма.
15. «Goethe as a Representative of the Bourgeois Age», in
Essays of Three Decades, translated by Harriet Lowe-Porter
(Knopf, 1953), 91.
16. In Isaac Babel: The Lonely Years, 1925–1939, edited by
Nathalie Babel, translated by Max Hayward (Noonday, 1964),
10–15.
17. Life Against Death: The Psychoanalytic Meaning of His-
tory (Wesleyan, 1959), 18–19, 91.
18. « A Course in Film-Making», in New American Review #12
(1971), 241. О Пентагоне и его экзорцистах см. The Armies of
the Night (Signet, 1968), особенно стр. 135–45; мои собствен-
ные мемуары и размышления можно найти в ранней версии
этого эссе: «Sympathy for the Devil: Faust, the 1960s, and the
Tragedy of Development», в [New] American Review #19 (1974),
особенно стр. 22 –40, 64–75; и см. Morris Dickstein, Gates of
Eden, 146–48, 260–61.
19. Gunther Stent, The Coming of the Golden Age: A View
of the End of Progress. Изначально книга представлена в виде
курса лекций в Беркли семестра 1968 года, и опубликована
455
ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ
Американским музеем естественной истории (Natural History
Press, 1969), 83–87, 134–38.
20. Bernard James, The Death of Progress (Knopf, 1973),
xiii, 3, 10, 55, 61.
21. См., например, влиятельную работу E. F. Schumacher,
Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered (Harper &
Row, 1973); L. S . Stavrianos, The Promise of the Coming Dark
Age (W. H. Freeman, 1976); Leopold Kohr, The Overdeveloped
Nations: The Diseconomies of Scale (Schocken, 1977, на немец-
ком и испанском вышла в 1962); Ivan Illich, Toward a History
of Needs (Pantheon, 1977)
22. Осознание этого наиболее ясно отображено в работах
Barry Commoner: The Closing Circle (1971), The Poverty of
Power (1976), и в недавней The Politics of Energy (1979; все
изд. Knopf ).
23. Эта история с великим драматическим талантом пред-
ставлена в книге Robert Jungk, Brighter Than a Thousand
Suns: A Personal History of the Atomic Scientists, 1956, в пе-
реводе James Cleugh (Harcourt Brace, 1958), а прекрасно из-
ложенные подробности можно найти у Alice Kimball Smith, A
Peril and a Hope: The Scientists’ Movement in America, 1945–47
(MIT, 1965). Jungk особенно указывает на знание пионеров
ядерной энергии о «Фаусте» Гете и понимание, какие тяже-
лые последствия могут быть у их проекта. Он также весь-
ма умело использует фаустовскую тему в изложении взлета,
падения и сомнительного искупления Дж. Р. Оппенгеймера.
24. «Social Institutions and Nuclear Energy», речь представ-
лена перед Американской ассоциацией содействия развитию
науки в 1971 году и перепечатана в журнале Science No 7 (july
1972), 27–34. Чтобы ознакомиться с типичной критикой см.
Garrett Hardin, «Living with the Faustian Bargain», а также
ответ Вайнберга в Bulletin of the Atomic Scientists, November
1976, 21–29. Из недавнего, в связи с аварией на Три-Майл-
Айленд, см. анонимную колонку «Talk of the Town» в The New
Yorker за 9 и 23 April 1979, и различные колонки в New York
Times авторства Anthony Lewis, Tom Wicker и John Oakes.
456
ПРИМЕЧАНИЯ
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ
В ВОЗДУХЕ: МАРКС, МОДЕРНИЗМ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
1. См. Rostow W. W. The Stages of Economic Growth: A
Non-Communist Manifesto. Cambridge, 1960. Увы, повество-
вание Ростоу о Марксе слишком искаженно и поверхностно
даже для оппонента. Более проницательное изложение связи
между Марксом и недавними исследованиями о модерниза-
ции можно найти в: Tucker R. C . The Marxian Revolutionary
Idea. Norton, 1969. Chapter 5. См. также: Avineri S. The Social
and Political Thought of Karl Marx. Cambridge, 1968, и Gid-
dens A. Capitalism and Modern Social Theory. Cambridge, 1971,
особенно Parts 1 и 4.
2. Единственное по-настоящему поразительное исклю-
чение — это Гарольд Розенберг. Я многим обязан трем его
блестящим работам: «The Resurrected Romans» (1949), пе-
репечатанной в The Tradition of the Left; «The Pathos of the
Proletariat» (1949) и «Marxism: Criticism and / or Action» (1956)
(две последние работы перепечатаны в: Act and the Actor:
Making the Self. Meridian, 1972). См. также: Lefebvre H. Intro-
duction à la Modernité. Gallimard, 1962; Paz O. Alienating Cur-
rent; и антологию Ричарда Эллмана и Чарльза Фейделсона:
Ellman R., Feidelson C. The Modern Tradition: Backrgrounds of
Modern Literature. Oxford, 1965, в которую включены про-
странные отрывки из Маркса.
3. Большая часть моих цитат из Маркса взяты из обще-
принятого классического перевода Сэмюэля Мура (London,
1888), авторизованного и редактированного Энгельсом. Его
можно легко найти в Marx-Engels Reader, 331–62. Номера
страниц, данные в скобках в этой главе, относятся к этому
изданию. Иногда я отхожу от Мура в направлении большей
литературности и конкретности, а также менее викториан-
ской и более живой дикции. Эти изменения, как правило,
но не всегда, отмечены цитированием в скобках немецкого
оригинала. Пригодное издание немецкого текста см. в: Fet-
457
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
scher I (ed.). Karl Marx-Friedrich Engels·Studienausgabe, 4 vols.
Frankfurt am Main: Fischer Bücherei, 1966.
4. См. созданный в 1845 году образ «революционной,
практически-критической деятельности» (Тезисы о Фейер-
бахе, 1–3). В XX веке он породил огромную литературу, од-
новременно тактическую, этическую и даже метафизическую,
которая ориентируется на поиск идеального синтеза теории
и практики в марксистской модели правильной жизни. Самые
интересные авторы этого направления — Георг Лукач (осо-
бенно в «Истории и классовом сознании» [1919–23]) и Анто-
нио Грамши.
5. Тема всеобщего вынужденного развития, но развития,
деформированного императивами конкуренции, была впер-
вые разработана Руссо в речи «О происхождении неравен-
ства». См. мою работу Politics of Authenticity, особенно pp.
145–59.
6. Из Экономическо-философских рукописей 1844 года
(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 -е изд. Т. 42 . С. 90). Не-
мецкое слово geistige может быть переведено либо как «ду-
ховный», либо как «ментальный».
7. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 -е изд. Т. 3 . С . 75.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 -е изд. Т. 23. С. 499.
9. Модерность и саморазвитие в поздних работах Марк-
са: в «Экономических рукописях 1857–1859 годов», которые
стали основой «Капитала», Маркс проводит различие меж-
ду «современным обществом», или «современным миром»,
и его ограниченной буржуазной формой. В коммунистиче-
ском обществе узкая буржуазная форма будет снята для того,
чтобы модерный потенциал мог быть воплощен. Он начи-
нает обсуждение этого с противопоставления классических
(в частности, аристотелевских) и модерных взглядов на эко-
номику и общество. «Древнее воззрение, согласно которому
человек ‹...› выступает как цель производства, кажется куда
возвышеннее по сравнению с современным миром, где про-
изводство выступает как цель человека, а богатство как цель
производства».
458
ПРИМЕЧАНИЯ
«На самом же деле,— пишет Маркс,— если отбросить огра-
ниченную буржуазную форму, чем же иным является богат-
ство, как не универсальностью потребностей, способностей,
средств потребления, производительных сил и т. д . индиви-
дов, созданной универсальным обменом? Чем иным является
богатство, как не полным развитием господства человека
над силами природы, т. е. как над силами так называемой
„природы“, так и над силами его собственной природы?
Чем иным является богатство, как не абсолютным выявле-
нием творческих дарований человека, без каких-либо дру-
гих предпосылок, кроме предшествовавшего исторического
развития, делающего самоцелью эту целостность развития,
т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотно-
сительно к какому бы то ни было заранее установленному
масштабу. Человек здесь не воспроизводит себя в какой-ли -
бо одной только определенности, а производит себя во
всей своей целостности, он не стремится оставаться чем-то
окончательно установившимся, а находится в абсолютном
движении становления».
Другими словами, Маркс хочет по-настоящему беско-
нечной гонки за богатством для каждого: не за денежным
богатством — «ограниченной буржуазной формой»,— но за
богатством желаний, опыта, способностей, чувственности,
превращений и развития. То обстоятельство, что он сопрово-
ждает эти формулировки вопросительными знаками, должен
говорить о его некоторой неуверенности насчет этого пред-
ставления. Маркс прекращает рассуждение, возвращаясь
к выведенному им различию между древними и модерными
образами и целями жизни. «Младенческий древний мир ‹...›
возвышеннее современного во всем том, в чем стремятся
найти законченный образ, законченную форму и заранее
установленное ограничение. Он дает удовлетворение с огра-
ниченной точки зрения, тогда как современное состояние
мира не дает удовлетворения; там же, где оно выступает
самоудовлетворенным, оно — пошло». (Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. 2 -е изд. Т. 46 ч. 1. С. 476.) В последнем предло-
459
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
жении Маркс обрисовывает вариацию фаустовской сделки
Гете: в обмен на возможность бесконечного саморазвития
модерный (коммунистический) человек отдаст надежду на
«удовлетворение», которое требует закрытых, фиксирован-
ных, ограниченных личных и общественных форм. Модерная
буржуазия «пошла», потому что она «выступает самоудовлет-
воренной», потому что она не понимает возможностей, кото-
рые открыла перед человеком ее собственная деятельность.
Отрывок из 13-й главы «Капитала», процитированный
в тексте (сноска 8), который заканчивается «всесторонне
развитым индивидом», начинается с различения между мо-
дерной промышленностью и ее капиталистической формой,
формой, в которой она появляется впервые. «Современная
промышленность никогда не рассматривает и не трактует су-
ществующую форму производственного процесса как окон-
чательную. Поэтому ее технический базис революционен,
между тем как у всех прежних способов производства базис
был по существу консервативен. Посредством внедрения ма-
шин, химических процессов и других методов она постоянно
производит перевороты в техническом базисе производства,
а вместе с тем и в функциях рабочих и в общественных ком-
бинациях процесса труда. Тем самым она столь же постоянно
революционизирует разделение труда». (Маркс К., Энгельс
Ф. Сочинения. 2 -е изд. Т. 23. С . 497–498.) Тут в сноске Маркс
цитирует отрывок из «Манифеста», который начинается сло-
вами: «Буржуазия не может существовать, не вызывая посто-
янно переворотов в орудиях производства»,— а заканчивает-
ся фразой: «Все твердое растворяется в воздухе». Здесь, как
и в «Манифесте» и в других текстах, производство и обмен при
капитализме — это это сила, делающая мир модерным; теперь
же капитализм превратился в оковы, кандалы модерности,
и ему необходимо уйти в прошлое ради продолжения перма-
нентной революции модерной промышленности и ради по-
явления и процветания «всесторонне развитого индивида».
Веблен подметит этот дуализм в «Теории делового
предприятия» (1904), где будет различать узко-корыстный
460
ПРИМЕЧАНИЯ
«бизнес» и переплетенную с ним, открытую и революци-
онную, промышленность. Но Веблену не хватает интереса
Маркса к отношению между развитием промышленности
и развитием личности.
10. В первой главе «Капитала», «Товар», Маркс не устает
повторять, что «в прямую противоположность чувственно
грубой предметности товарных тел, в стоимость не входит
ни одного атома вещества природы». См.: Маркс К., Энгельс
Ф. Сочинения. 2 -е изд. Т. 23. С . 56.
11. Смыслы, критически важные темы и парадоксы этого
абзаца блестяще развиты в восточноевропейской диссидент-
ской традиции «марксистского гуманизма», которая идет от
мыслителей вроде Колаковского на его постсталинистском
(и дооксфордском) этапе и теоретиков «Пражской весны»
в 1960-е годы к Дьердю Конраду и Александру Зиновьеву
в 1970-е . Российские вариации этой темы будут обсуждаться
в главе 4.
12. The Persian Letters (1721), translated by J. Robert Loy
(Meridian, 1961), Letters 26, 63, 88. Темы XVIII в., набросан-
ные на этой странице, подробно обсуждаются в «Политике
аутентичности».
13. Discourse on the Arts and Sciences (1750), Part I, trans-
lated by G. D. H. Cole (Dutton, 1950), 146–49. In Oeuvres Com-
plètes, III, _7–9).
14. Reflections on the Revolution in France (1790), переизд.
вместе с Thomas Paine, Rights of Man (Dolphin, 1961), 90.
15. Чтобы четче обозначить эту проблему, сравним два
утверждения Маркса о жизни в коммунистическом обще-
стве. Первое — из «Критики Готской программы» (1875): «На
высшей фазе коммунистического общества, после того как
исчезнет порабощающее человека подчинение его разделе-
нию труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность
умственного и физического труда; когда труд перестанет
быть только средством для жизни, а станет сам первой по-
требностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием
индивидов вырастут и производительные силы и все источ-
461
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ники общественного богатства польются полным потоком,
лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий
горизонт буржуазного права, и общество сможет написать
на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по
потребностям!»
Обдумайте ее в свете «Экономических рукописей 1857–
1859 годов» (сноска 9, выше) в которых коммунизм осуще-
ствит модерный идеал погони за богатством, отбросив «огра-
ниченную буржуазную форму [богатства]»; таким образом,
коммунистическое общество освободит «универсальность
потребностей, способностей, средств потребления, произ-
водительных сил и ‹...› полное развитие господства человека
над силами природы»; человек будет «производить себя во
всей своей целостности» и жить «в абсолютном движении
становления». Если принять эту картину всерьез, очевид-
но, что универсальные потребности каждого удовлетворить
будет сложно, и что стремление к безграничному развитию
каждого обязано провоцировать серьезные конфликты меж-
ду людьми; они могут отличаться от классовых конфликтов,
эндемичных буржуазному обществу, но, вероятно, будет, по
крайней мере, не менее глубокими. Маркс признает наличие
подобной проблемы лишь самым косвенным образом и ни-
чего не сообщает о том, как коммунистическое общество бу-
дет с ней бороться. Возможно, поэтому Октавио Пас («Alter-
nate Current», 121) пишет, что мысль Маркса «хотя и будучи
по духу прометеевской, критическое и филантропической...
тем не менее, нигилистична», но при этом, увы, «Марксов
нигилизм не знает своей собственной природы».
16. «Капитал», т. 1, гл. 1, разд. 4 . Исторически важный рас-
сказ о стратегии и оригинальности Маркса здесь см. в «Исто-
рии и классовом сознании» Лукача.
17. Об «искусстве ради искусства» см. Arnold Hauser, The
Social History of Art (1949; Vintage, 1958), Volume III; Cesar
Graña, Bohemian Versus Bourgeois: Society and the French
Man of Letters in the Nineteenth Century (Basic Books, 1964;
издание в мягкой обложке вышло под новым названием
462
ПРИМЕЧАНИЯ
Modernity and Its Discontents в 1967 году); T. J. Clark, The
Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848–51
(New York Graphic Society, 1973). Лучшее введение в круг
Конта можно найти в Frank Manuel, The Prophets of Paris
(1962; Harper Torchbooks, 1965).
18. Ханс Магнус Энценсбергер в своем блестящем эссе
1969 года «Индустриализация разума» (Enzensberger H. M.
The Industrialization of the Mind) развивает сходный взгляд
в контексте теории масс-медиа. См. в The Consciousness In-
dustry (Seabury, 1970), 3–15.
19. Из посмертно опубликованной рукописи Грамши «Со-
временный государь».
20. Самый известный и интересный пример — Лукач: буду-
чи вынужден Коминтерном отречься ото всех своих ранних
модернистских трудов, он потратил десятилетия и исписал
целые тома, черня модернизм и все его работы. См. на-
пример его эссе «Идеология модернизма» («The Ideology of
Modernism», in Realism in Our Time: Literature and the Class
Struggle [1957]).
21. «Модернизм оказался искусителем»: Cultural Contra-
dictions of Capitalism, 19. Здесь, как и в других местах, текст
Белла полон не примиренными и, на первый взгляд, не при-
знанными противоречиями. Его анализ нигилизма модерной
рекламы и искусства продаж (65–69) прекрасно соответству-
ет общему тезису книгу — только Белл, кажется, не замечает,
как давление рекламы и продаж возникает из императивов
капитализма; скорее эта деятельность и сопровождающие ее
сети уловок и самообмана возлагаются на модерный / модер-
нистский «стиль жизни».
Более поздний труд, Modernism and Capitalism (1978),
включает новые концепции, близкие изложенным выше: «От-
личительной чертой капитализма — очень динамичной,— была
его безграничность. Его экспоненциальный рост, движимый
динамомашиной технологии, не имел асимптоты. Не имел
пределов. Ничто не было священно. Нормой было изме-
нение. К середине XIX века такова была траектория эко-
463
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
номического импульса». Но эта ситуация была недолгой:
в определенный момент капиталистический нигилизм был
забыт, и вернулась знакомая демонология; потому «модер-
ное движение ‹...› разрывает единство культуры», разрушает
«„рациональную космологию“, которая лежит в основе бур-
жуазного мировоззрения упорядоченной связи пространства
и времени» и т. д . и т. п . См. в: Partisan Review, 45 (1978),
213–15, переиздано в следующем году в качестве предисло-
вия к мягкому изданию Cultural Contradictions. В отличие от
своих неоконсервативных друзей, Белл, по крайней мере,
имеет достаточно мужества для этого непоследовательности.
22. Ремарка Адорно цитируется Мартином Джеем в его
истории Франкфуртской школы (Jay M. The Dialectical Imag-
ination. Little, Brown, 1973, p. 57). См. также: Baudrillard J. Le
Miroir de la production. Paris, Casterman, 1973 и различную
критику Маркса в Social Research 45.4 (Winter 1978).
23. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек:
Исследование идеологии развитого индустриального обще-
ства. / Пер. А.А.Юдина. М.: АСТ, 2003. С.143.
24. Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. / Пер.
В. В. Бибихина. М .: Ад Маргинем Пресс, 2017. С . 144–145,
163–165. Обратите внимание, что, по мысли Маркса, публич-
ное пространство общего дискурса и ценностей будет жить
и процветать, покуда коммунизм будет оставаться оппози-
ционным движением; оно выдохнется лишь тогда, когда это
движение победит и преуспеет (всуе без публичной сферы)
дать начало коммунистическому обществу.
БОДЛЕР:
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
01. Верлен П. Шарль Бодлер. / Пер. с фр. Е. Аль-Фарадж.
// Иностранная литература, 2014, No 10.
02. Цит. по Starkie E. Baudelaire. // New Directions. 1958. P.
530–531 на основе пересказа в парижской газете L’Etandard
от 4 сентября 1867 г.
464
ПРИМЕЧАНИЯ
03. Baudelaire C. Thе Painter of Modern Life, and Other
Essays. / Transl. and ed. by J. Mayne. Phaidon, 1965. P. 1–5,
12–14 . Издание снабжено обширными иллюстрациями.
04. Hulten P. Modernolatry. Stockholm: Modena Musset,
1966; Stern F. The Politics of Cultural Despair: A Study in the
Rise of the Germanic Ideology. University of California, 1961.
05. Салон 1846 года. // Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Ис-
кусство, 1986.
06. Этот стереотип полно и некритично представлен в Graña
C. Bohemian Versus Bourgeois. P. 90–124 . Более сбалансиро-
ванное и сложное повествование о Бодлере и буржуазии см.
в Gay P. Art and Act. Harper & Row, 1976, особенно P. 88 –92.
См. также: Calinescu M. Faces of Modernity. P. 46–58, 86 et pass.
07. Вера Бодлера в восприимчивость буржуазии к мо-
дерному искусству может быть следствием его знакомства
с сен-симонистами. Это движение, которое я затронул в гла-
ве о Фаусте, как мне представляется, породило в 1820-е
годы модерную идею авангарда. Историки особенно отме-
чают текст Сен-Симона «Об общественной организации» (De
l’organisation sociale) и «Диалог между художником, ученым
и промышленником» его ученика Олинда Родрига (L’artiste,
le savant et l’industriel: Dialogue; оба написаны в 1825 году).
См. Egbert D. D. The Idea of ‘Avant-Garde’ in Art and Politics.
// American Historical Review, 73. 1967. P. 339–366; см. также
Calinescu M. Faces of Modernity. P. 101–08 и его более общий
разбор истории и анализ идеи авангарда, P. 95 –148.
08. Поэт современной жизни. Интересный (и более бла-
госклонный, нежели мой) анализ этого эссе см. в: De Man
P. Literary History and Literary Modernity. // Blindness and
Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Ox-
ford, 1961. Особенно P. 157–161. Критический взгляд, близкий
к изложенному в настоящей книге, см. также в: Lefevbre H.
Introduction à la modernité, гл. 7 .
09. Поэт современной жизни.
10. Лучший рассказ о политических взглядах Бодлера
в этот период см. в Clark T. J. The Absolute Bourgeois: Art-
465
МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ
ists and Politics in France, 1848–51. New York Graphic Society,
1973, особенно P. 141 –77. См. также Klein R. Some Notes on
Baudelaire and Revolution. // Yale French Studies. No 39. 1967.
P. 85–97.
11. О современном понимании прогресса применительно
к изобразительному искусству.
12. Там же.
13. Салон 1859 года.
14. Там же.
15. О современном понимании прогресса применительно
к изобразительному искусству
16. Героизм современной жизни
17. Поэт современной жизни.
18. Эти эссе были собраны воедино в англоязычном из-
дании Charles Baudelaire: Lyric Poet in the Era of High Cap-
italism. / Transl. by H. Zohn. London: New Left Books, 1973.
Возмутительно, но в 1981 году в США найти его было нельзя.
19. Парижский сплин.
20. О фельетонах и их связи с рядом наиболее выдающих-
ся литераторов XIX века см. Benjamin W. Baudelaire, 27 ff.,
и Fanger D. Dostoevsky and Romantic Realism. University of
Chicago Press, 1965.
21. Моя картина трансформации Парижа силами Наполе-
она и Османа основывается на нескольких источниках: Gie-
dion S. Space, Time, and Architecture. 5th ed. Harvard, 1966.
P. 744 –755; Moses R. Haussmann. // Architectural Forum. July
1942. P. 57–66; Pinkney D. Napoleon III and the Rebuilding of
Paris. Princeton, 1972; Benevolo L. A History of Modern Ar-
chitecture. / Transl. by H. J. Landry. 2 vols. MIT, 1971. Vol. 1 . P.
61–95; Choay F. The Modern City: Planning in the Nineteenth
Century. George Braziller, 1969, особенно P. 15–26; Saalman
H. Haussmann: Paris Transformed. Braziller, 1971; и Chevalier L.
Laboring Classes and Dangerous Classes: Paris in the First Half
of Nineteenth Century. / Transl. by F. Jellinek. Howard Fertig,
1973. Проекты Османа мастерски помещены в контекст дол-
говременных политических и социальных перемен в Европе
466
ПРИМЕЧАНИЯ
в работе Vidler A. The Scenes of the Street: Transformations
in Ideal and Reality, 1750–1871. // On Streets. / Ed. by S. An-
derson. MIT, 1978. P. 28–111. Осман нанял фотографа Шарля
Марвиля заснять десятки мест, предназначенных к сносу,
чтобы сохранить память о них для потомков. Эти фотогра-
фии хранятся в музее Карнавале в Париже. Чудесная их под-
борка была показана на выставке в Нью-Йорке и других
американских городах в 1981 году. Каталог (French Institute.
Charles Marville: Photographs of Paris, 1852–1878) содержит
прекрасное эссе Марии Моррис Гамбург.
22. Инженеры Османа изобрели машину для поднимания
деревьев, которая позволила им переносить с места на место
тридцатилетние растения, не лишая их листвы, и тем самым
в одночасье создавать тенистые аллеи ex nihilo. Giedion.
Space, Time, and Architecture. P. 757–59.
23. О современном понимании прогресса применительно
к изобразительному искусству.
24. Эта связь в совершенно иных, нежели здесь, понятиях
объясняется в работе Wohlfarth I. Perte d’Auréole and the
Emergence of the Dandy. // Modern Language Notes. 1985.
No 85. P. 530–71.
25. Pinkney. Napoleon III; о населении см. P. 151–54; о под-
счетах и оценках дорожного движения, а также о конфликте
между Наполеоном и Османом насчет макадама см. P. 70–72;
о двойственной функции бульваров см. P. 214 –15.
26. Об отличительной интернациональности модернист-
ского языка XX века см. Schwartz D. T.S. Eliot as International
Hero. // Howe. Literary Modernism. P. 277–85. Кроме того,
это одна из основных тем Эдмунда Уилсона в книгах «Замок
Акселя» (Axel’s Castle) и «На Финляндский вокзал» (To the
Finland Station).
27. The City of Tomorrow,, translated by Frederick Etchells
(1929; MIT, 1971), 3–4 .
28. Ibid. 123, 131.
29. Towards a New Architecture (1923), translated by Fred-
erick Etchells (1927; Praeger, 1959), 56–9.
467
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
30. Цит. по: Moholy-Nagy S. Matrix of Man: An Illustrated
History of Urban Environment. Praeger, 1968. P. 274 –275.
ПЕТЕРБУРГ:
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
01. Например, Хью Сэтон-Уотсон (Hugh Seton-Watson)
в статье «Russia and Modernization» описывает имперскую
Россию как «прототип „отсталого общества“, проблемы ко-
торого столь знакомы нам по современности». Slavic Review,
20 (1961), 583. Работа Сэтона-Уотсона появилась как часть
большой дискуссии и полемики (pp. 565–600), в которой
были также представлены статьи Cyril Black, «The Nature
of Imperial Russian Society», и Nicholas Riasanovsky, «Russia
as an Underdeveloped Country». Дальнейшее развитие этой
темы см. Theodore von Laue, «Why Lenin? Why Stalin?» (Lip-
pincott, 1964); I. Robert Sinai, In Search of the Modern World
(New American Library, 1967), 67–74, 109–24, 163–78; и раз-
личные работы об экономике России, которые будут упомя-
нуты далее. Эти источники показывают, как в течение 60-х
годов глобальная тема модернизации сменила более узкую
традиционную тематику исследований по истории России
в духе «Россия и Запад / Россия против Запада». Эта тенден-
ция продолжилась и в 70-е годы, хотя фокус работ о модер-
низации в этот период сместился к проблеме государства
и национально-государственного строительства. См., напр.
Perry Anderson, Lineages of the Absolute State (London: New
Left Books, 1974), 328–60; Reinhard Bendix, Kings or People:
Power and the Mandate to Rule (California, 1978), 491–581.
02. По сути каждый русский писатель с 1830 по 1930 год
создал свою вариацию на эту тему. Лучшие общие обзоры
на английском: T. G. Masaryk, The Spirit of Russia: Studies in
History, Literature and Philosophy (1911), перевод с нем. Eden
and Cedar Paul (2 volumes, Allen & Unwin / Macmillan, 1919);
и более недавняя работа James Billington, The Icon and the
Axe: An Interpretive History of Russian Culture (Knopf, 1966).
468
ПРИМЕЧАНИЯ
3. Живое подробное описание возведения города см. Iurii
Egorov, The Architectural Planning of St. Petersburg, translated
by Eric Dluhosch (Ohio University Press, 1969), особенно Trans-
lator’s Note and Chapter 1, и Billington, The Icon and the Axe,
180–92 и далее. Другую точку зрения для сравнения см. Fer-
nand Braudel, Capitalism and Material Life, 1400–1800, 418–24;
в контексте его отношения к городам в целом, 373–440.
4. Social Contract, Book I, Chapter 6, Oeuvres Completes,
III, 361.
5. Это наблюдение сделано Князем Д. С . Мирским в его
культовой работе History of Russian Literature, ed. Francis
J. Whitfield (1926; Vintage, 1958) 91ff. и развито Эдмундом
Уилсоном в эссе 1937 года, приуроченном к столетию смерти
Пушкина, перепечатанным в книге The Triple Thinkers (1952;
Penguin, 1962), 40ff.
6. Перевод был опубликован одновременно с его эссе «In
Honor of Pushkin» и перепечатан в книге The Triple Thinkers,
63–71. Иногда я меняю структуру предложений Уилсона там,
где поэтические инверсии делают английские предложения
едва понятными.
7. Процитировано в книге Michael Cherniavsky, «Tsar and
People: Studies in Russian Myths» (Yale, 1961), 151–52. Эта книга
особенно хорошо показывает период правления Николая I.
Герцен припас для Николая свои самые гениальные инвекти-
вы. «Былое и думы», его мемуары, и «Русский народ и соци-
ализм» полны таких пассажей, которые находятся на одном
уровне с лучшими представителями политической риторики
XIX в. О фантасмагорической жестокости последних лет прав-
ления Николая и неудаче его репрессий см. классические
эссе Исайи Берлина, «Russia and 1848» (1948) и «A remarkable
Decade: The Birth of the Russian Intelligentsia» (1954), оба пе-
репечатаны в его книге «Russian Thinkers» (Viking, 1978), 1–21,
114–35. Также см. Sidney Monas, «The Third Sechon: Police and
Society in Russia Under Nicholas I» (Harvard 1961).
8. Alexander Gerschenkron, «Agrarian Policies and Indus-
trialization· Russia 1861–1917» // Cambridge Economic History
469
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
of Europe (Cambridge, 1966): pp. 706–800; о страхах прави-
тельства и сопротивлению модернизации, pp. 708–11. Также
в том же издании: Roger Portal, «The Industrialization of Rus-
sia», pp. 801–72: о стагнации, ретрогрессии и сравнительной
отсталости перед 1861 годом, pp. 802–10. См. также более
раннее эссе Гершенкрона, более сжатое и возможно более
проницательное: «Russia: Patterns and Problems of Economic
Development, 1861–1958» в его книге «Economic Backwardness
in Historical Perspective» (1962· Praeger, 1965), pp. 119–51.
09. Gerschenkron, «Economic Development in Russian Intel-
lectual History of the 19th Century» в книге Economic Back-
wardness, pp. 152–97. Это эссе содержит пылкие претензии
практически ко всем писателям и мыслителям русского Зо-
лотого века. О Белинском в сопоставлении с Герценым см.
pp. 165–69. См. также эссе Исайи Берлина о Герцене и Бе-
линском в его книге Russian Thinkers.
10. Процитировано в Donald Fanger, «Dostoevsky and Ro-
mantic Realism», pp. 149–50; см. главу 5 полностью, «The Most
Fantastic City», pp. 137–51. Самое известное описание Петер-
бурга Достоевским как призрачного или фантастического го-
рода находится в «Белых ночах» (1848). Fanger превосходно
описывает литературную и народную традицию, лежащую
в основе тем Достоевского.
11. О реконструкции Невского проспекта см. Egorov, Ar-
chitectural Planning of St. Petersburg, 204–08.
12. V. Sadovnikov, «Panorama of the Nevsky Prospect»
(Leningrad, Pluto Press, 1976) с комментариями на англий-
ском, французском, немецком и русском. В этой прекрасной
коллекции можно проследить Невский проспект квартал за
кварталом и дом и за домом. Однако Садовников использо-
вал статические композиции, которые передают многообра-
зие улицы, но не улавливают ее подвижность и динамику.
Невский проспект как арена для столкновения России
и Запада стал темой, как кажется, первой литературной
работы, в которой эта улица играет главную роль: расска-
за князя Владимира Одоевского, написанного в 1833 году,
470
ПРИМЕЧАНИЯ
«Сказки о том, как опасно девушкам ходить толпою по Не-
вскому проспекту». Переведен Samuel Cioran в журнале
Russian Literature Triquarterly #3 (Spring 1972), pp. 89–96.
Стиль Одоевского в нем полусатирический, полусюрреали-
стический — и поэтому мог повлиять на изображение Невско-
го проспекта Гоголем,— но в основе своей он традиционный,
консервативный и самодовольно-патриотический в видении
как проспекта, так и всего мира.
13. В основном я опирался на перевод Beatrice Scott (Lon-
don: Lindsay Drummond, 1945). См. также David Magarshack
(Gogol, «Tales of Good and Evil», Anchor, 1968) и переводы
длинных пассажей в книге «Dostoevsky and Romantic Realism»
Donald Fanger, pp. 106–12 . Фэнгер описывает достоинство
и важность этой повести и излагает интересный взгляд на нее.
В значительной степени основываясь на работе советского
ученого и критика Леонида Гроссмана, он прекрасно изла-
гает мистику и романтику петербургского пейзажа и говорит
об этом городе, как природном обиталище «фантастического
реализма». Однако посреди петербургской романтики у Фэн-
гера не остается места для политической перспективы, кото-
рую я и пытаюсь показать.
14. См. Nabokov, «Nikolai Gogol» (New Directions, 1944),
главу 1, где он великолепно и жутко описывает последний
поступок Гоголя. Там же Набоков обсуждает «Невский про-
спект», как обычно гениально, но не улавливая связи между
воображаемым образом и реальным пространством.
15. Этот отрывок, как и многие другие, был исключен из
произведения цензорами Николая, которые уделяли пове-
сти особенное внимание, очевидно, испугавшись, что даже
несдержанное поведение и фантастические устремления су-
масшедшего спровоцируют неуместные и опасные мысли
в психически здоровых людях. Laurie Asch, «The Censorship
of Gogol’s Diary of a Madman», Russian Literature Triquarterly
#14 (Winter 1976), 20–35.
16. «Petersburg Notes of 1836» в переводе Linda Germano
в Russian Literature Triquarterly #7 (Fall 1973), 177–86. В пер-
471
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
вой части этого произведения можно найти одно из класси-
ческих описаний символического противопоставления между
Петербургом и Москвой.
17. «Бедные люди» и произведения, вскоре последо-
вавшие за этим романом — особенно «Двойник» и «Белые
ночи» — сразу же сделали Достоевского одним из величайших
городских писателей в мире. В этой книге будут рассмотре-
ны лишь немногие, относительно неисследованные аспекты
представления Достоевского о городе. Лучший общий обзор
его урбанизма можно найти в прорывных работах Леонида
Гроссмана. Большая их часть не переведена, но см. «Dos-
toevsky: His Life and Work» (1962) в переводе Mary Sackler
(Bobbs-Merrill, 1975) и «Balzac and Dostoevsky» в переводе
Lydia Karpov (Ardis, 1973). Гроссман уделяет особенное вни-
мание городскому журнализму Достоевского в 1840-е годы
в жанре фельетонов и приводит примеры отображения этого
занятия в его романах, особенно в «Белых ночах», «Запи-
сках из подполья» и «Преступлении и наказании». Некоторые
из этих фельетонов переведены David Magarshack в книге
«Dostoevsky’s Occasional Writings» (Random House, 1963); их
проницательно анализирует Fanger, pp. 137–51, и Joseph Frank
в книге «Dostoevsky: The Seeds of Revolt, 1821–1849» (Prince-
ton, 1976), особенно pp. 27–39.
18. Перевод Andrew MacAndrew в книге «Three Short Nov-
els of Dostoevsky» (Bantam, 1966). Также есть перевод David
Magarshack, «Poor People» (Anchor, 1968).
19. Конечно, никакая уверенность не спасет жертву от
настоящего убийцы. Царя Александра II убили в карете,
совсем рядом с Невским, в 1881 году. Это сделали терро-
ристы, которые стояли на равных интервалах вдоль извест-
ного царского маршрута и ожидали неизбежного затора
на дороге.
20. «The Double» в переводе Andrew MacAndrew из книги
«Three Short Novels of Dostoevsky», на которую я ссылаюсь
в сноске 18. А также перевод George Bird в книге «Great Short
Works of Dostoevsky» (Harper & Row, 1968). Я использую оба.
472
ПРИМЕЧАНИЯ
21. Саму эту фразу в таком виде впервые употребил
мыслитель и лидер народничества Николай Михайловский
в 1882 году, сразу после смерти Достоевского. Михайлов-
ский утверждал, что сочувствие Достоевского к «униженным
и оскорбленным» постепенно затмевается извращенным удо-
вольствием, которое он получал от их страданий. Михайлов-
ский заявлял, что завороженность упадком становится все бо-
лее заметной и тревожащей в работах Достоевского с ходом
времени, но что ее можно обнаружить уже и в ранних романах,
например, «Двойнике». См. Mirsky, «History of Russian Liter-
ature», pp. 184, 337; Vladimir Seduro, «Dostoevsky in Russian
Literary Criticism, 1846–1956» (Octagon, 1969), pp. 28 –38.
22. «Civilization and Its Discontents», 1931, в переводе
James Strachey (Norton, 1962), 71; cf. 51. Русская литература
XIX и начала XX века, особенно происходящая из Петер-
бурга, удивительно богата на образы и идеи о полицейском
государстве внутри «я». Фрейд считал, что психоаналитиче-
ская терапия должна быть направлена на укрепление Эго
против чрезмерно пунтивного Суперэго, как «культурного
суперэго», так и личного. В литературной традиции, берущей
начало из «Медного всадника», мы можем увидеть исполне-
ние этой задачи для общества России.
23. Лучшая общая работа о «шестидесятниках» это книга
Eugene Lampert «Sons against Fathers» (Oxford, 1965). Клас-
сическое исследование Franco Venturi «Roots of Revolution: A
History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth
Century Russia» (1952), в переводе с итальянского Francis
Haskell (Knopf, 1961), содержит невероятно богатые детали
о деятельности этого поколения и показывает, насколько
сложным оно было по составу. См. также Avrahm Yarmolin-
sky, «Road to Revolution» (1956; Collier, 1962).
24. Venturi, Roots of Revolution, 247.
25. Ibid., 227.
26. О громком воззвании Герцена см. Venturi, 35.
27. Лучшие описания жизни и работы Чернышевского
можно найти у Venturi, гл. 5; в книге «Sons Against Fathers»
473
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
Eugene Lampert, гл.3; и в «Nikolai Chernyshevsky» Francis
Randall (Twayne, 1970). См. также Richard Hare, «Pioneers of
Russian Social Thought» (1951; Vintage, 1964), Chapter 6; Rufus
Mathewson, Jr., «The Positive Hero in Russian Literature» (1958;
Stanford, 1975), особенно pp. 65–85, 101; а о романе «Что
делать?» см. Joseph Frank, «N. G. Chernyshevsky: A Russian
Utopia», in Southern Review, 1968, pp. 68–84 . Примечательна
любопытная биографическая зарисовка героя набоковского
романа «Дар» в главе 4 («The Gift», 1955–37; translated by
Michael Scammell, Capricorn, 1970).
28. Перевод Benjamin Tucker, 1915; переиздание Vintage,
1970. Процитированный отрывок из гл. III, ч. 8.
29. Это самодовольство своей духовностью характерно
даже для лучших разборов «Записок», в том числе книги Jo-
seph Frank, «Nihilism and Notes from Underground» в Sewanee
Review, 1961, pp. 1–55; Robert Jackson, «Dostoevsky’s Under-
ground Man in Russian Literature» (The Hague: Mouton, 1958);
введения Ralph Matlaw’s к потрясающему изданию и перево-
ду «Записок» (Dutton, 1960); Philip Rahv, «Dostoevsky’s Under-
ground» в Modern Occasions, Winter 1972, pp. 1–15. См. также
Grigory Pomerants, «Euclidean and Non-Euclidean Reasoning
in the Works of Dostoevsky» в журнале советских диссиден-
тов Kontinent, 3 (1978), 141–82 . Однако у советских граждан
есть особый мотив — и, возможно, особое оправдание — для
нападок на Чернышевского, которого Ленин превозносил
как большевика avant la lettre (до появления самого тер-
мина — прим. пер.) и позднее канонизировал как мученика
и отца-основателя советского истеблишмента.
30. Процитировано в Lampert, «Sons Against Fathers», pp.
152, 164–65 . См. также «Дневник писателя, 1873» Достоевского,
запись III, перевод Boris Brasol (1949; Braziller, 1958), pp. 25–30.
31. Notes from Underground, Book II, Chapter 1; translated
by Ralph Matlaw (Dutton, 1960), 42–49.
32. Стоит отметить, что самые выдающиеся разночинцы,
«шестидесятники», Николай Добролюбов и Дмитрий Пи-
сарев, очень высоко ценили Достоевского и видели в его
474
ПРИМЕЧАНИЯ
произведениях поднимающуюся борьбу жителей России
за свои права и человеческое достоинство; для них его оз-
лобленность и ожесточенность казались необходимым эта-
пом в процессе эмансипации. Seduro, Dostoevski in Russian
Literary Criticism, pp. 15–27 .
33. См. «Письмо Исполнительного комитета Алексан-
дру III», опубликованное 10 марта 1881 года лидерами «На-
родной воли», который убили Александра II 1 марта. Venturi,
«Roots of Revolution», 716–20. См. также петицию отца Гапо-
на от 1905 года, которая будет процитирована и обсуждена
в пятом подразделе этой главы.
34. Сравнения Достоевского с Бодлером, тоже рассма-
тривающие тему города, но с совершенно отличной от моей
точки зрения (и различающиеся между друг другом) можно
найти тут: Fanger, «Dostoevsky and Romantic Realism», pp.
255–58 и Alex de Jonge, «Dostoevsky and the Age of Intensity»
(St. Martin’s Press, 1975), pp. 35 –65, 84–5, 129–30.
35. Gerschenkron в книге «Economic Backwardness in
Historical Perspective», pp. 119–25 объясняет, как реформа
1861 года, прикрепив крестьян к земле и завалив их новыми
обязанностями перед деревенскими общинами, осознанно
затормозила создание свободной и мобильной индустриаль-
ной рабочей силы и таким образом скорее усложнила, чем
облегчила экономический рост. Эта тема более подробно
исследуется в одной из глав Cambridge Economic History
chapter, процитированной ранее в сноске 8. См. также главу
Портала (Portal) в том же издании, pp. 810–23.
36. Эта история изложена у Venturi, «Roots of Revolution»,
pp. 544–46, 585–86, 805.
37. Ibid., 585.
38. О Французской революции см., например, Albert
Soboul, «The Sans-Culottes: Popular Movements and Revo-
lutionary Government, 1793–94», 1958; сокращенная версия,
1968, перевод Remy Inglis Hall (Anchor, 1972); и George Rude,
«The Crowd in the French Revolution» (Oxford, 1959). В исто-
рии России такой прорывной является работа Вентури. В по-
следние годы, когда начали открываться советские архивы
475
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
(медленно и непостоянно), молодое поколение историков
начало работать над движениями XX века с тем же подходом,
который Вентури использовал для XIX. См., например, Leop-
old Haimson, «The Problem of Social Stability in Urban Russia,
1905–1917», в Slavic Review, 23 (1964), 621–43, и 24 (1965),
1–2; Marc Ferro, «The Russian Revolution of February 1917»,
1967, перевод с французского by J. L . Richards (Prentice-Hall,
1972); G. W. Phillips, «Urban Proletarian Politics in Tsarist Rus-
sia: Petersburg and Moscow, 1912–1914», в Comparative Urban
Research, III, 3 (1975–76), II, 2; и Alexander Rabinowitch, «The
Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd»
(Norton, 1976).
39. Наиболее подробный сборник визуальных материалов
о Хрустальном дворце это Patrick Beaver, «The Crystal Palace,
1851–1936: A Portrait of Victorian Enterprise» (London: Hugh
Evelyn, 1970). См. также Giedion, Space, «Time and Architec-
ture», 249–55; Benevolo, «History of Modern Architecture» I,
96–102; F. D. Klingender, «Art and the Industrial Revolution»,
1947, edited and revised by Arthur Elton (Schocken, 1970).
40. Эта полная черного юмора история рассказана у Franz
Mehring, «Karl Marx: The Story of His Life», 1918, в перево-
де Edward Fitzgerald (London: Allen and Unwin, 1936, 1951),
342–49.
41. Описание Бухера процитировано и признано стан-
дартным у Giedion, pp. 252–54, и Benevolo, pp. 101–02.
42. «Winter Notes on Summer Impressions» в переводе
Richard Lee Renfield с введением Saul Bellow (Criterion, 1955),
pp. 39–41.
43. Эта сцена, которая по непонятной причине отсутству-
ет в переводе Такера (Tucker), переведена Ральфом Мэт-
лоу (Ralph Matlaw) и вместе с другими эпизодами из романа
Чернышевского включена в его издание «Notes from Under-
ground», 157–77 .
44. См. Anatol Kopp, «Town and Revolution», 1967, translat-
ed by Thomas Burton (Braziller, 1970);
Kenneth Frampton, «Notes on Soviet Urbanism, 1917–32», //
Architects’ Year Book #12 (London: Elek Books, 1968), 238–52.
476
ПРИМЕЧАНИЯ
Идея о том, что марксизм требует уничтожения городов,
конечно же, была гротескным искажением. Краткое, но про-
ницательное описание сложного и двойственного отношения
марксизма к модерному городу можно найти у Carl Schorske,
«The Idea of the City in European Thought: Voltaire to Spen-
gler», 1963, reprinted in Sylvia Fava, editor, «Urbanism in World
Perspective» (Crowell, 1968), 409–24 .
45. Роман «Мы» Замятина, написанный между 1920
и 1927 годов, был переведен Bernard Guilbert Guerney
и включен в его прекрасную антологию «Russian Literature
in the Soviet Period» (Random House, 1960). Это главный
источник и для «Дивного нового мира» Хаксли и для «1984»
Оруэлла (Оруэлл признал это, а Хаксли — нет), но бесконечно
превосходит обе эти книги и находится среди модернистских
шедевров нашего века.
Jackson в книге «Dostoevsky’s Underground Man in Russian
Literature» (pp. 149–216) прекрасно показывает, как в 1920-е
годы «Записки из подполья» были важны для тех советских
писателей, которые стремились сохранить критический на-
строй — Замятина, Юрия Олеши, Илья Эренбурга, Бориса
Пильянка,— пока не исчезли в сталинской тьме.
46. Кажется, первым обнаружил эту связь Алан Хэрринг-
тон (Alan Harrington) в своем романе о дискомфорте пригоро-
да и корпораций «Life in the Crystal Palace» (Knopf, 1958). Eric
и Mary Josephson поместили выдержки из книги Хэррингтона
рядом с первой частью «Записок из подполья» в своей анто-
логии «Man Alone: Alienation in Modern Society» (Dell, 1962),
бестселлере среди американских студентов в 1960-е годы.
47. Цитата по Zelnik, «Labor and Society in Tsarist Russia»,
p. 60.
48. Есть несколько вариантов этого документа, и никакой
из них не является окончательным. Я собрал представленный
фрагмент из книг Bertram Wolfe, «Three Who Made a Revo-
lution» (1948; Beacon, 1957), pp. 283–86, и более длинной
версии у Sidney Harcave, «First Blood: The Russia Revolution of
1905» (Macmillan, 1964). См. также поразительное свидетель-
477
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
ство участника у Solomon Schwarz, «The Russian Revolution of
1905» (U. of Chicago, 1967), 58–72,268–84 .
Для понимания фоновых процессов в 1905 году: об эконо-
мическом и промышленном росте в 1890-е годы Gerschenkron,
«Economic Backwardness in Historical Perspective», pp. 124–33,
и Portal, «Cambridge Economic History», VI, pp. 824 –43; о рас-
становке политических сил Theodore von Laue, «Why Lenin?
Why Stalin?», главы 3 и 4; Richard Pipes, «Social Democracy
and the St. Petersburg Labor Movement», 1885–1897 (Harvard,
1963); Allan Wildman, «The Making of a Workers’ Revolution:
Russian Social Democracy, 1891–1903» (Chicago, 1967).
49. Wolfe, p. 286; Trotsky, «1905», перевод Anya Bostock
(Vintage, 1972), p. 253. Мой курсив.
50. Ibid., 104–05, 252–53 .
51. См. Wolfe, глава 16, о «полицейском социализме», и pp.
301–304 о Гапоне после 9 января, в том числе о его встре-
че с Лениным; Harcave, «First Blood», pp. 24 –5, 65–6, 94–5 .
Об историческом резонансе фразы «Итак, у нас больше нет
царя!» см. Cherniavsky, «Tsar and People» pp. 191–92 и всю
следующую главу. Подробное описание конца жизни Гапона
можно найти в книге Boris Nicolaevsky, «Aseff the Spy: Russian
Terrorist and Police Stool» (Doubleday, Doran, 1934), pp. 137–48 .
52. См., например, книгу Nicolaevsky, «Aseff the Spy», упо-
мянутую в сноске 51; Michael Florinsky, «Russia: A History and
an Interpretation» (1947; Macmillan, 1966), II, 1153–54, 1166–67,
1172, 1196, 1204; Wolfe, 266, 479; и захватывающие описания
современника (1911 год), Томаша Масарика, в его класси-
ческой работе «The Spirit of Russia», I, 193–94; II, 299–300,
364–69, 454–58. Масарик подробно обсуждает философию
и мировоззрение российского терроризма и проводит во-
дораздел между мрачным нигилизмом и экзистенциализмом
современников Азефа и жертвенным гуманистическим иде-
ализмом поколения «Земли и воли».
Масарик особенно интересуется подручным Азефа по
имени Борис Савников, который вскоре после своего ухо-
да (как оказалось, недолгого) из партии опубликовал два
478
ПРИМЕЧАНИЯ
романа, необычайно живо описывающих внутренний мир
террориста. Романы, опубликованные под псевдонимом
В. Ропшин, «Конь бледный» и «То, чего не было», произвели
сенсацию в Европе (перевод на английский вышел в 1918–
1919 гг.); известно, что они значительно повлияли на «прыжок
веры» в большевизм множества интеллигентов Центральной
Европы, в том числе Лукача и Эрнста Блоха. См. The Spir-
it of Russia, II, 375–77, 444–61, 474, 486, 529, 535, 546, 581.
См. также последнюю работу Michael Löwy «Georg Lukacs:
From Romanticism to Bolshevism», пер. с фр. Patrick Cammill-
er (London, New Left Books, 1979), passim, и Andrew Arato,
Paul Breines, «The Young Lukacs and the Origins of Western
Marxism»(Continuum, 1979). Масарик, как и Лукач нескольки-
ми годами позже, весьма вызывающе сравнивает Савинкова
с Иваном Карамазовым и Фаустом Гете.
И большевики, и меньшевики отвергали левый терроризм,
как и полагается всем хорошим марксистам, и считали, что
он полностью был устроен полицией. С другой стороны,
стоит отметить, что полицейские агенты были и среди их
руководителей. См. например Wolfe, «The Case of Roman
Mahnovsky», pp. 534–58.
53. Перевод на английский Джона Курноса (John Cournos;
Grove Press) появился в 1960 году, но его не удостоили долж-
ным вниманием, и перевод не переиздавался долгие годы.
Однако в 1978 году появился новый перевод Роберта Ма-
гуайера (Robert Maguire) и Джона Мальмстеда (John Malm-
stad; Indiana University Press) с многочисленными истори-
ческими и критическими примечаниями, а также особенно
прекрасным обсуждением урбанизма этого романа, в том
числе истории Петербурга, его фольклора, карт и советов
для путешественников из издания Бедекера 1913 года. Ка-
жется, благодаря успеху этого издания Grove Press решила
переиздать перевод Курноса. То, что американские читатели
теперь могут выбирать между двумя переводами, говорит
о многообещающем будущем, которое ожидает роман в этой
стране. Я использовал перевод Магуайера-Малмстеда; цита-
479
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
ты в скобках в моем тексте указывают на соответствующие
главы и номера страниц.
54. Дональд Фенгер (Donald Fanger) проницательно по-
мещает «Петербург» в раздел «The City of Russian Modernist
Fiction» в книге «Modernism» под редакцией Malcolm Brad-
bury и James MacFarlane (Penguin, 1976), 467–80. О всепро-
никающей «теневой» теме Белого и ее политической состав-
ляющей см. Lubomir Dolezel, «The Visible and the Invisible
Petersburg» в «Russian Literature», VII (1979), 465–90.
Общие рассуждения о романе см. в издании Penguin
«Modernism», интересные эссе Eugene Lampert «Modern-
ism in Russia: 1893–1917» и G. M. Hyde, «Russian Futurism»
и «The Poetry of the City»; сборник под редакцией George
Gibian и H. W. Tjalsma, «Russian Modernism: Culture and the
Avant-Garde, 1890–1930» (Cornell, 1976); и Robert C. Williams,
« Artists in Revolution: Portraits of the Russian Avant-Garde,
1905–1925» (lndiana, 1977).
55. Самое ясное изложение дней октября 1905 и после-
дующих событий можно найти у Harcave, «First Blood»: pp.
168–262: pp. 195–96 о царском манифесте 17 Октября. Однако
«1905» Троцкого особенно прекрасно и гениально излагает
кульминацию революции и начало ее конца. Речь Троцкого
от 18 октября и некоторые его газетные статьи подробно
анализируют октябрьский манифест, о котором он сказал,
что «Сегодня его дали, а завтра отнимут и порвут на клочки».
Но Троцкий также был первым революционером, который
понял, что массы Российской империи должны будут понять
это сами, а пока это произойдет — процесс может растянуться
на годы,— революция уже закончится.
56. Mathewson в «The Positive Hero in Russian Literature»,
172, утверждает, что Горький более глубоко показывает рево-
люцию в романах вроде «Дело Артамоновых» и в пьесах, где
он описывает влияние революции на не-революционеров
и не-героев среди интеллигенции и буржуазии.
57. Gerschenkron в «Economic Backwardness in Histori-
cal Perspective», pp. 124 –33, помещает коммунистическую
480
ПРИМЕЧАНИЯ
экономическую и промышленную политику в контекст пе-
тровской традиции России.
58. Billington, «The Icon and the Axe», pp. 534–36.
59. См. труды Leopold Haimson, Mark Ferro, Alexander.
Rabinowich и других, которые я подробно перечислил в при-
мечаниях 38 и 52. По мере того, как результаты их работы
распространяются и накапливаются, мы собираем все больше
знаний и нам удается пролить все больше света на историю
Петербурга в 1917 году, самый романтический и трагический
период истории города. Возможно, следующее поколение
наконец-то расскажет эту историю на должном уровне.
60. Стихотворения Мандельштама в основном не оза-
главлены и пронумерованы в соответствии со стандартным
русским изданием под редакцией Глеба Струве и Бориса
Филиппова, опубликованном в Нью-Йорке в 1967 году.
Я использую здесь переводы Clarence Brown and W. S. Mer-
win по книге «Osip Mandelstam: Selected Poems» (Athe-
neum, 1974).
61. «Полночь в Москве» не включили в издание «Selected
Poems», но стихотворение можно найти в «Complete Poetry of
Osip Emilevich Mandelstam» в переводе Burton Raffel и Alan
Burago (State University of New York Press, 1973). Но я ис-
пользовал версию Max Hayward из его перевода замеча-
тельных мемуаров Надежды Мандельштам «Hope Against
Hope: a Memoir» (Atheneum, 1970), 176. Вдова Мандельштама
особенно подчеркивает его (и свою) приверженность этой
традиции, pp. 176–78; см. pp. 146–54 о контрасте между Ман-
дельштамом, «обычным человеком» Петербурга, и Пастерна-
ком, «московским аристократом».
62. Перевод Clarence Brown в издании под его редакцией
«Prose of Osip Mandelstam» (Princeton, 1967), pp. 149–89. Так-
же в издании проницательное критическое эссе — pp. 37–57.
63. Clarence Brown, «Mandelstam» (Cambridge, 1973), pp.
125, 130.
64. В первых восьми строчках я использовал перевод Max
Hayward из книги «Hope Against Hope», p. 13, которая вклю-
481
МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ
чает строки «the murderer and peasant-slayer» (душегубец
и мужикоборец). Я использовал для вторых восьми строк
более мощную интерпретацию Merwin и Brown. Их перевод
основан на более поздней версии стихотворения, с другой
четвертой строчкой. Приведенная мной версия — именно та,
что была передана в руки полиции.
65. «Что такое социалистический реализм» было опубли-
ковано под псевдонимом Абрам Терц в журнале Dissent в пе-
реводе George Dennis, в 1959 году, и в виде книги (Pantheon,
1960) с предисловием Czeslaw Milosz.
66. Зиновьев А. Зияющие высоты. Кн. 1. М.: ПИК, 1990.
С. 18.
67. Cornelia Gerstenmaier, «The Voices of the Silent», пере-
вод с немецкого Susan Hecker (Hart, 1972), 127. Это издание
вместе с изданием Abraham Brumberg, «In Quest of Justice:
Protest and Dissent in the Soviet Union Today» (Praeger, 1970),
снабжает нас потрясающими описаниями, а также обиль-
ной документацией о возрождении диссидентства на бумаге
и на улицах.
68. Процитировано в книге Natalia Gorbanevskaya «Red
Square at Noon» в переводе Alexander Lieven с введени-
ем Harrison Salisbury (Holt, Rinehart, Winston, 1972), 11–12,
221–22 . Горбаневскую, тоже участницу этой демонстрации,
несколько лет продержали в больнице под надзором КГБ.
69. Некоторым обитателям этого мира может показать-
ся, что они слишком уж хорошо обосновались. Так, Семен
Карлинский, профессор русской литературы в университете
Беркли, атаковал Достоевского в сентябре 1971 года в эссе на
первой полосе New York Times Book Review. Процитировав
легион культурных авторитетов, от Набокова до Ленина, на
тему развращенности, подлости и творческой несостоятель-
ности Достоевского, Карлинский наконец показывает, что
настоящий объект его гнева — радикальные студенты, кото-
рые с отчаянной страстью любят Достоевского, но не обра-
щают внимания на истинно «цивилизованных» русских писа-
телей. Карлинский вспоминал, как недавно включил радио
482
ПРИМЕЧАНИЯ
в надежде отвлечься от «перегретой вселенной» любителей
Достоевского вокруг него — и попал на разношерстную под-
борку типичных агрессивных и сумасшедших сторонников
Достоевского, дискутировавших с ультра-сторонником До-
стоевского — Гербертом Маркузе! Действительно, надо по-
жалеть Карлинского: разве ради этого он боролся за клочок
земли под калифорнийским солнцем? Тем не менее ему сле-
довало бы вспомнить пророческие слова Свидригайлова, ко-
торые тот произносит перед тем, как прострелить себе голо-
ву: «так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку». (Следует
заметить, что единственным свидетелем этому был бедный
еврей-призывник, чьи правнуки вполне могли привезти с со-
бой этой призрака, что не отстает от Карлинского в лектории).
В ЛЕСУ СИМВОЛОВ:
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О МОДЕРНИЗМЕ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
1. Эти слова цитирует Роберт Каро в своем монументаль-
ном труде «Агент власти: Роберт Мозес и падение Нью-Йор-
ка» (Caro R. The Power Broker: Robert Moses and the Fall of
New York. Knopf, 1974). Пассаж о топоре мясника — из мему-
аров Мозеса Public Works: A Dangerous Trade (McGraw-Hill,
1970). Оценку Мозесом Кросс-Бронкс-Экспрессвей см. В ин-
тервью Каро. The Power Broker — основной мой источник по
карьере Мозеса. См. Также мою статью о Каро и Мозесе:
«Buildings Are Judgment: Robert Moses and the Romance
of Construction», Ramparts, March 1975, а также симпозиум
в июньском номере.
2. Речь перед Управлением недвижимого имущества
Лонг-Айленда, 1927, цит. по Caro, P. 275.
3. The City of Tomorrow. P. 64–66. О Ле Корбюзье
и Нью-Йорке см. Koolhaas, P. 199–223.
4. Детали этого эпизода см. в Caro, P. 368–72 .
5. Space, Time, Architecture, P. 823–32.
6. Perkins F. Oral History Reminiscences. Цит. в Caro, P. 318.
483
МОДЕРНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
07. Исчерпывающий анализ публичных администраций
в США см. в Annemarie Walsh, The Public’s Business: The Pol-
itics and Practices of Government Corporations (MIT, 1978),
особ. Гл. 1,2, 8, 11, 12. В книге Уолш содержится много инте-
ресной информации о Мозесе, но она вписывает его работу
в широкий институциональный и социальный, которого Каро
стремится избежать. Роберт Фитч (Robert Fitch) в проница-
тельном эссе 1976 года «Planning New York» пытается вывести
все действия Мозеса из пятилетнего плана работ, принятого
финансистами и чиновниками Региональной плановой ассо-
циации; он приводится в Roger Alcaly and David Mermelstein
(ed.), The Fiscal Crisis of American Cities (Random House, 1977),
247–84 .
08. Space, Time and Architecture, 831–32.
09. Лучшее недавнее обсуждение проблем и парадоксов
этого периода — эссе Морриса Дикстейна (Morris Dickstein)
«Thrashing the Fifties» в New York Times Books Review, 10 April
1977, и также ответ Дикстейна в номере от 12 июня.
10. Подробный рассказ об этом см. В Caro, 1132–44 .
11. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских
городов. М .: Новое издательство, 2011. Приведенные ниже
отрывки — со страниц 63–67. Интересное и важное обсужде-
ние взгляда Джекобс см. напр. в Herbert Gans, «City Planning
and Urban Realities», Commentary, February 1962; Lewis Mum-
ford, «Mother Jacobs’ Home Remedies for Urban Cancer», The
New Yorker, 1 December 1962, reprinted in The Urban Prospect
(Harcourt, 1966); and Roger Starr, The Living End: The City and
Its Critics (Coward-McCann, 1966).
12. Цит. о Barbara Rose, Claes Oldenburg (MOMA / New
York Graphic Society, 1970), 25, 33.
13. Примечание к выставке The Street, цит. по Rose, 46.
14. Заявление из каталога его выставки 1961 г. «Environ-
ments, Situations, Spaces», цит. По Rose, 190–91. Это заяв-
ление, чудесное смешение Уитмена и дада, воспроизведено
также в Russell and Gablik, Pop Art Redefined, 97–99.
15. Цит. по Caro, 876.
484
ПРИМЕЧАНИЯ
16. Blindness and Insight, 147–8.
17. Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts
(Knopf, 1976; Vintage, 1977). Темы этой книги получают даль-
нейшее развитие в более широком историческом контексте,
но с меньшей остротой личных переживаний, в чем-то напо-
добие продолжения — China Men (Knopf, 1980).
18. Сценарий «Рамстик-Роуд» с режиссерскими пометками
Элизабет Лекомпт и несколькими мутными фотографиями
в Performing Arts Journal, III, 2 (Fall 1978). В The Drama Re-
view #81 (March 1979) имеются заметки ко всем трем пьесам
Грея и Джеймса Бирмана с превосходными фотографиями.
19. Untitled Proposals, 1971–72, in The Writings of Robert
Smithson: Essays and Illustrations, edited by Nancy Holt (NYU,
1979), 220–21 . О представлениях Смитсона о городе см. его
эссе «Ultra-Moderne», «A Tour of the Monuments of Passaic,
New Jersey» и «Frederick Law Olmsted and the Dialectical
Landscape», все они содержатся в этом томе.
20. См. том Devastation / Resurrection: the South Bronx,
подготовленный Бронксским музеем искусства зимой 1979–
80 гг. Тот том превосходно повествует как о динамике урби-
цида, так и начале реконструкции.
21. Как пример проницательного обсуждения этого про-
изведения см. Carter Ratcliff, «Ferrer’s Sun and Shade», in Art
in America (March 1980), 80–86. Но рэтклифф не замечает,
что место расположения этого произведения — Фокс-стрит
в Южном Бронксе,— переплетенное с диалектикой скульпту-
ры Феррера, имеет и свою собственную диалектику.
22. Краткое обсуждение см. в прим. 24 к Введению.
23. Growing Up Absurd: The Problems of Youth in Organized
Society (Randm House, 1960), 230.
24. Paracriticisms: Seven Speculations of the Times, 40.
[485]
СОДЕРЖАНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ................ 3
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ PENGUIN: ШИРО-
КАЯИОТКРЫТАЯДОРОГА.......... 5
ПРЕДИСЛОВИЕ.................15
ВВЕДЕНИЕ. МОДЕРНОСТЬ — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ
ИЗАВТРА...................18
I. «ФАУСТ» ГЕТЕ: ТРАГЕДИЯ РАЗВИТИЯ . . . . 48
Первая метаморфоза: Мечтатель . . . . . . . . . 53
Вторая метаморфоза: Возлюбленный . . . . . . . 65
Третья метаморфоза: Строитель. . . . . . . . . . 78
Эпилог: фаустовская и псевдофаустовская эпоха . . 92
II. ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ:
МАРКС, МОДЕРНИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ . . 112
1. Образ растворения и его диалектика . . . . . . 116
2. Инновационное самоуничтожение . . . . . . . . 126
3. Обнаженность: человек без прикрас . . . . . . 135
4.Метаморфозыценностей. . . . . . . . . . . .142
5.Утратасвященногоореола. . . . . . . . . . .147
Заключение: Культура и противоречия капитализма . 154
III. БОДЛЕР: МОДЕРНИЗМ НА УЛИЦЕ . . . . . 167
1. Пасторальный и антипасторальный модернизм . 171
486
СОДЕРЖАНИЕ
2.Героизммодернойжизни. . . . . . . . . . . .181
3.Семьяглаз..................188
4.Грязьмакадама................197
5. Двадцатый век: ореол и автострада . . . . . . . 208
IV. ПЕТЕРБУРГ: МОДЕРНИЗМ ОТСТАЛОСТИ . . 219
1.Настоящийипризрачныйгород . . . . . . . .223
«Геометриа явися»: город на болотах . . . . . . 223
«Медный всадник» Пушкина: чиновник и царь . . 230
Петербург при Николае I: дворец против про-
спекта...................244
Гоголь: реализм и сюрреализм улицы . . . . . . 252
Слова и сапоги: молодой Достоевский . . . . . 266
2. 1860-е годы: Новый человек на улице . . . . . . 274
Чернышевский: улица как граница . . . . . . . 277
Подпольныйчеловекнаулице. . . . . . . . .283
Петербург против Парижа: два типа модернизма
наулицах.................294
Политическийпроспект............299
Послесловие: Хрустальный дворец, факт и символ . 303
3. XX век: город встает, город исчезает . . . . . . 320
1905:больше света—больше тени . . . . . . . 320
«Петербург» Белого: теневой паспорт . . . . . . 328
Мандельштам: блаженное, бессмысленное слово . 347
Заключение: Петербургский проспект . . . . . . . 364
V. В ЛЕСУ СИМВОЛОВ: НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ
ОМОДЕРНИЗМЕВНЬЮ-ЙОРКЕ.......367
1. Роберт Мозес: мир-автострада . . . . . . . . . 370
2.1960-е:Крикнаулице.............400
3. 1970-е: все возвращается домой . . . . . . . . 421
ПРИМЕЧАНИЯ..................446
ВСЕ ТВЕРДОЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В
ВОЗДУХЕ. ОПЫТ МОДЕРНОСТИ
Маршалл Берман
Перевод и редактура Владислава
Федюшина и Тины Беляковой · Ма-
кет Никиты Вознесенского и Лиза-
веты Богдановской · Верстка Лиза-
веты Богдановской · Обложка, титул
и заставки Руслана Князева
Подписано в печать 01.06 .2020.
Формат 84 × 108 1⁄
32
. 2 3,3 усл. печ.
л. 25,62 уч. -изд. л . Тираж 1000 экз.
Заказ No 153898. Оригинал-макет
подготовлен в ООО «Издательство
Горизонталь». 125635, г. Москва,
ул. Ангарская, д. 6, э. 1, пом. IV, к. 5,
оф. Ф. horizontalpub@gmail.com .
Отпечатано в АО «Т8 Издательские
Технологии». 109316, Москва, Вол-
гоградский пр., д. 42, корп. 5. Тел.:
8 (495) 221-89 -80. www.t8print.ru