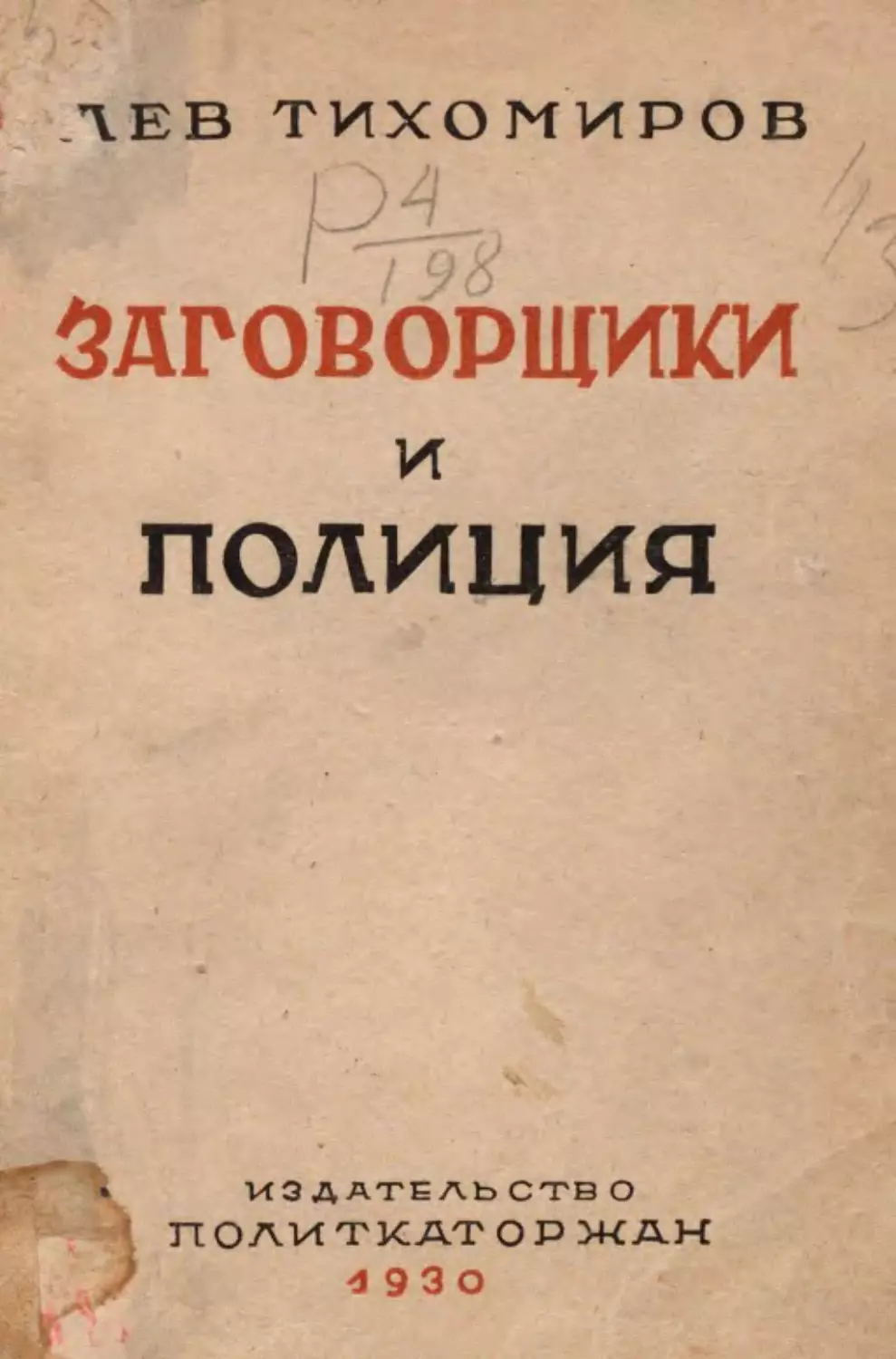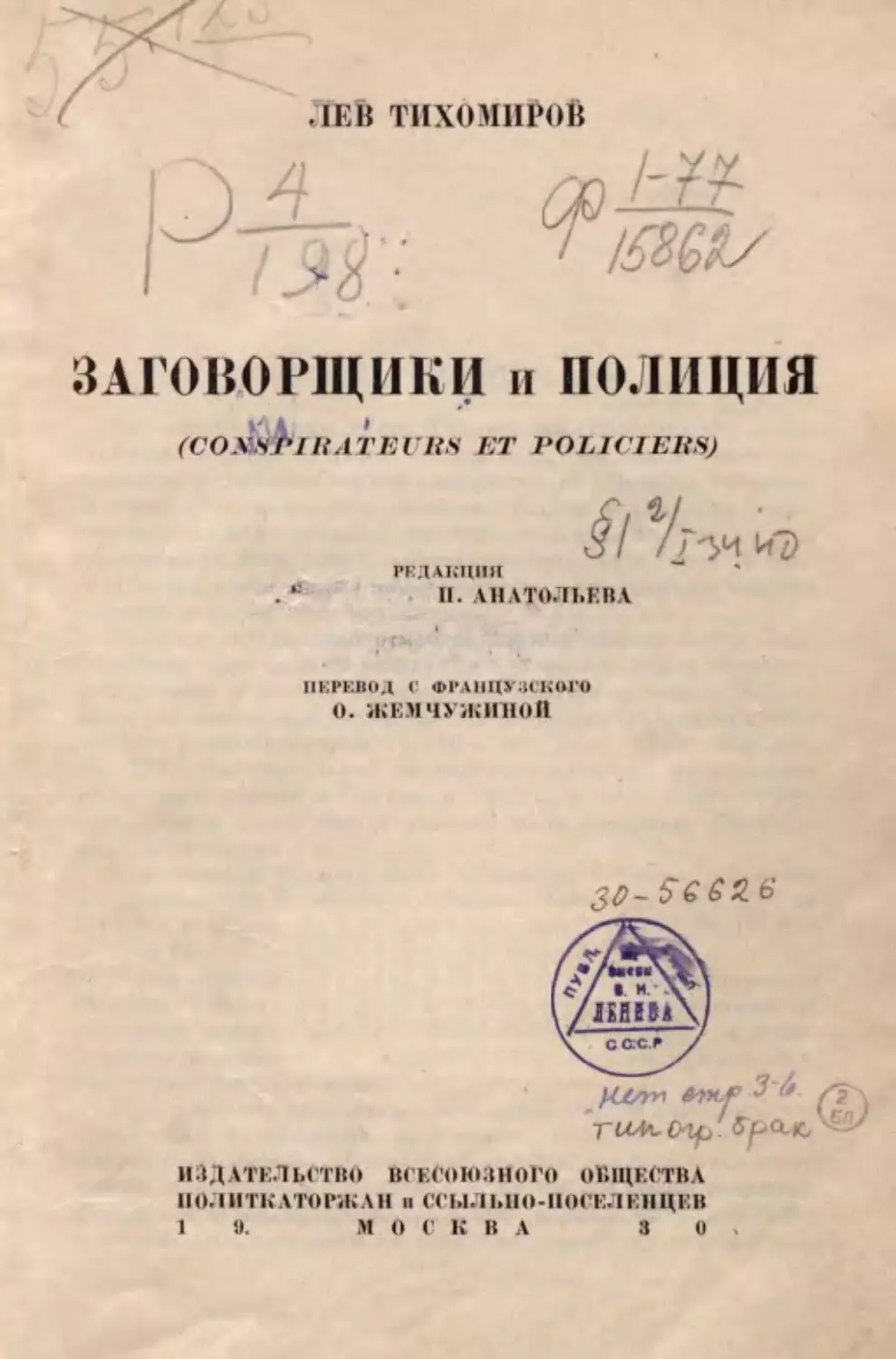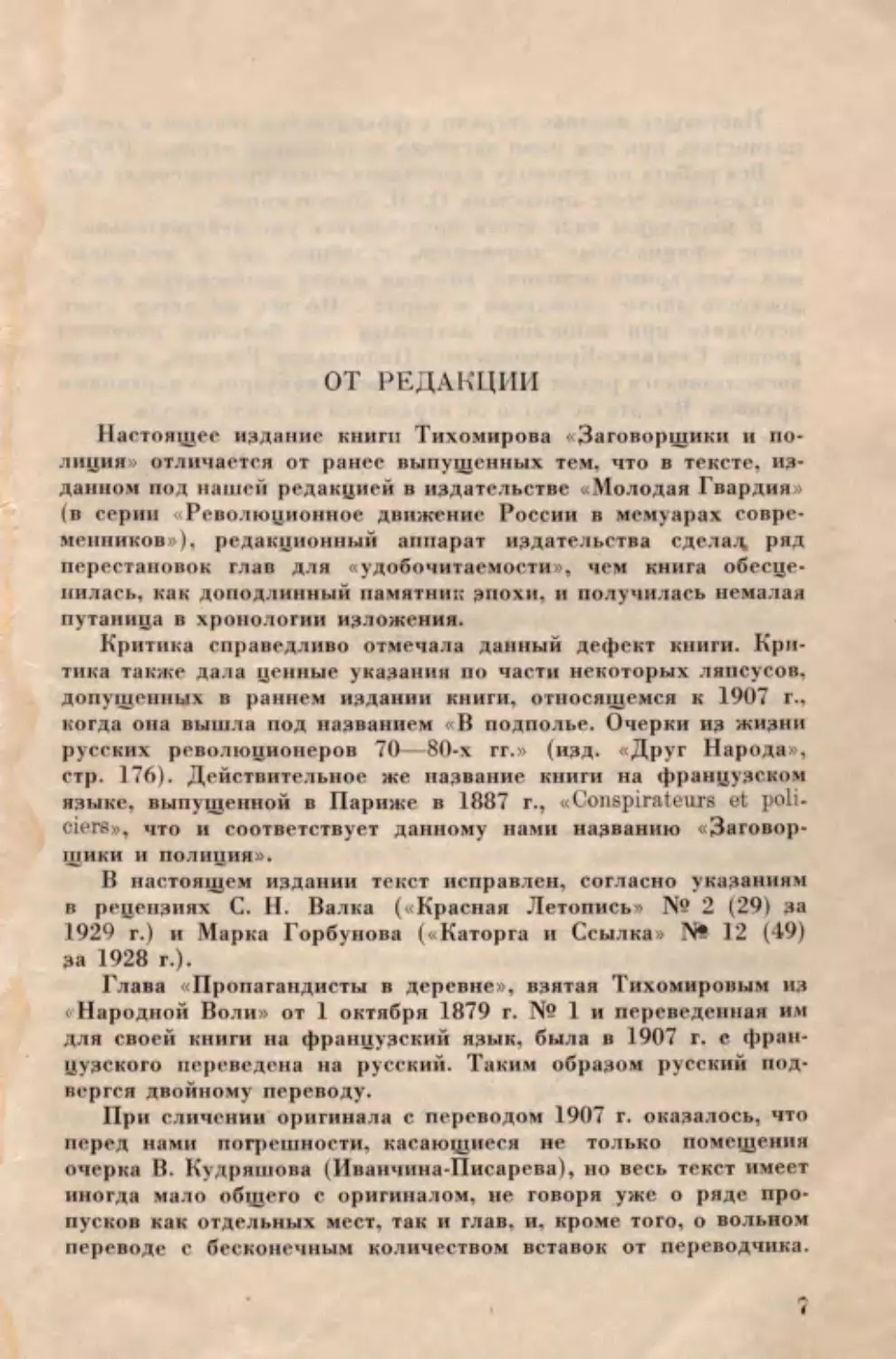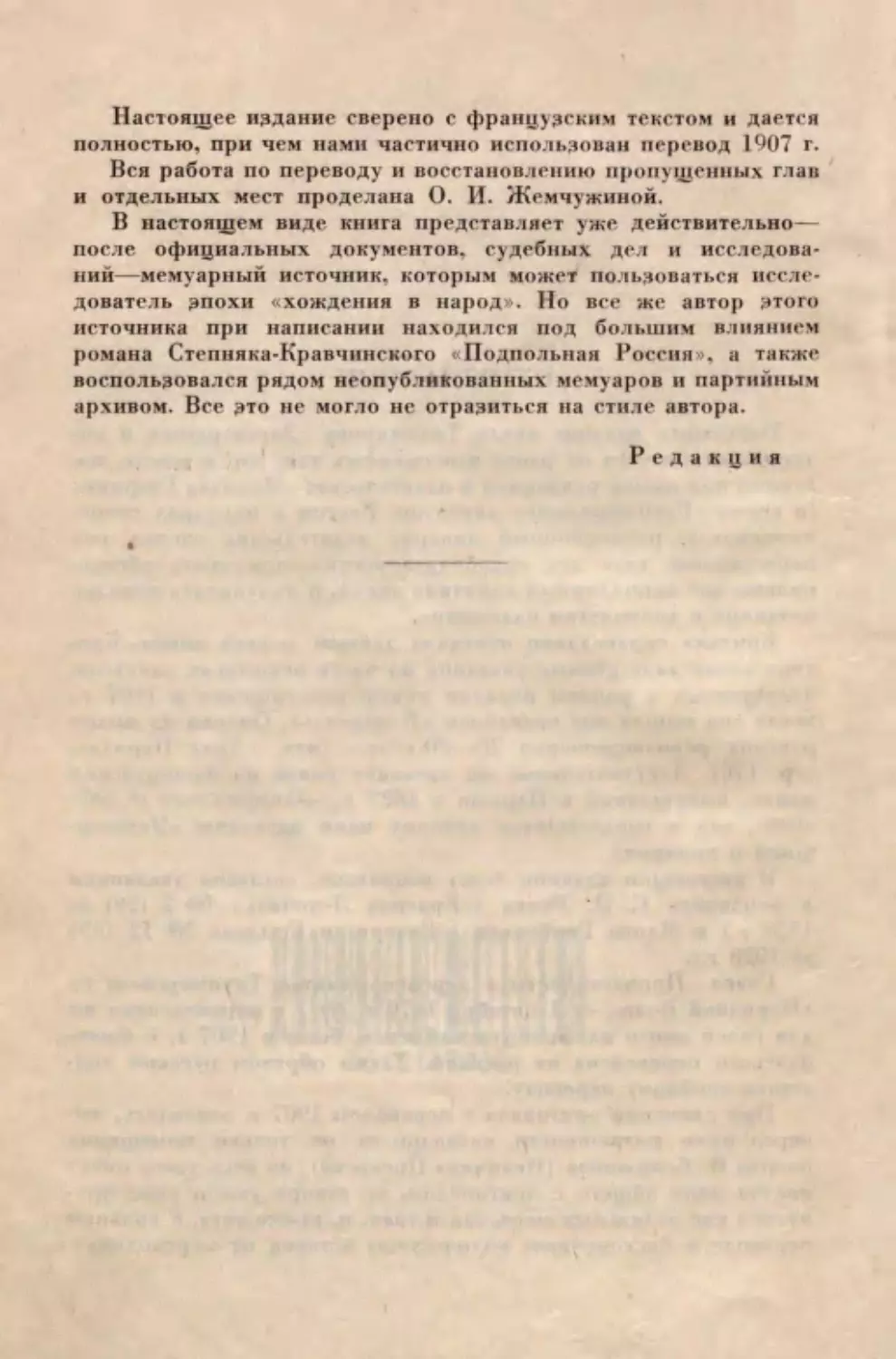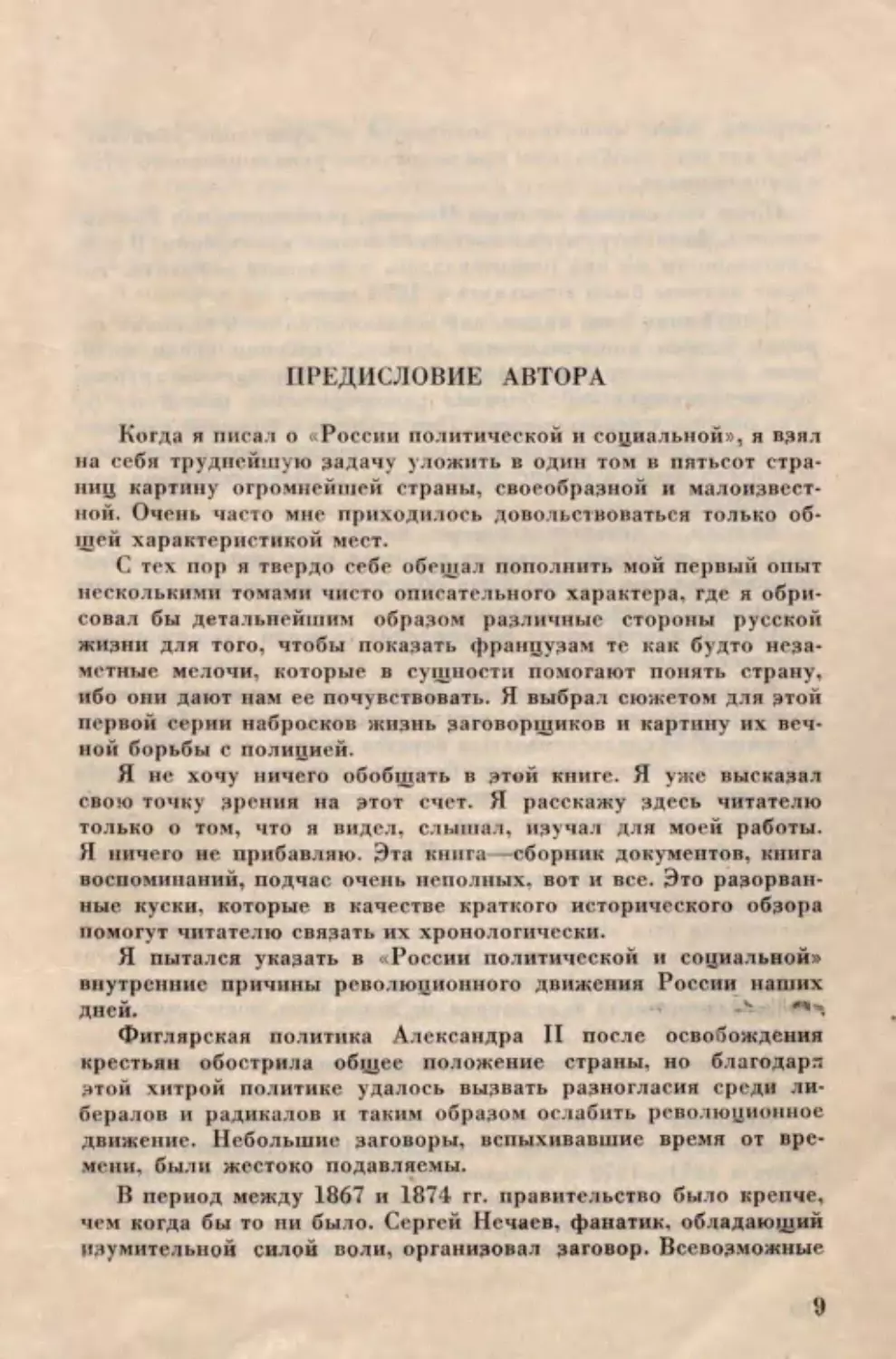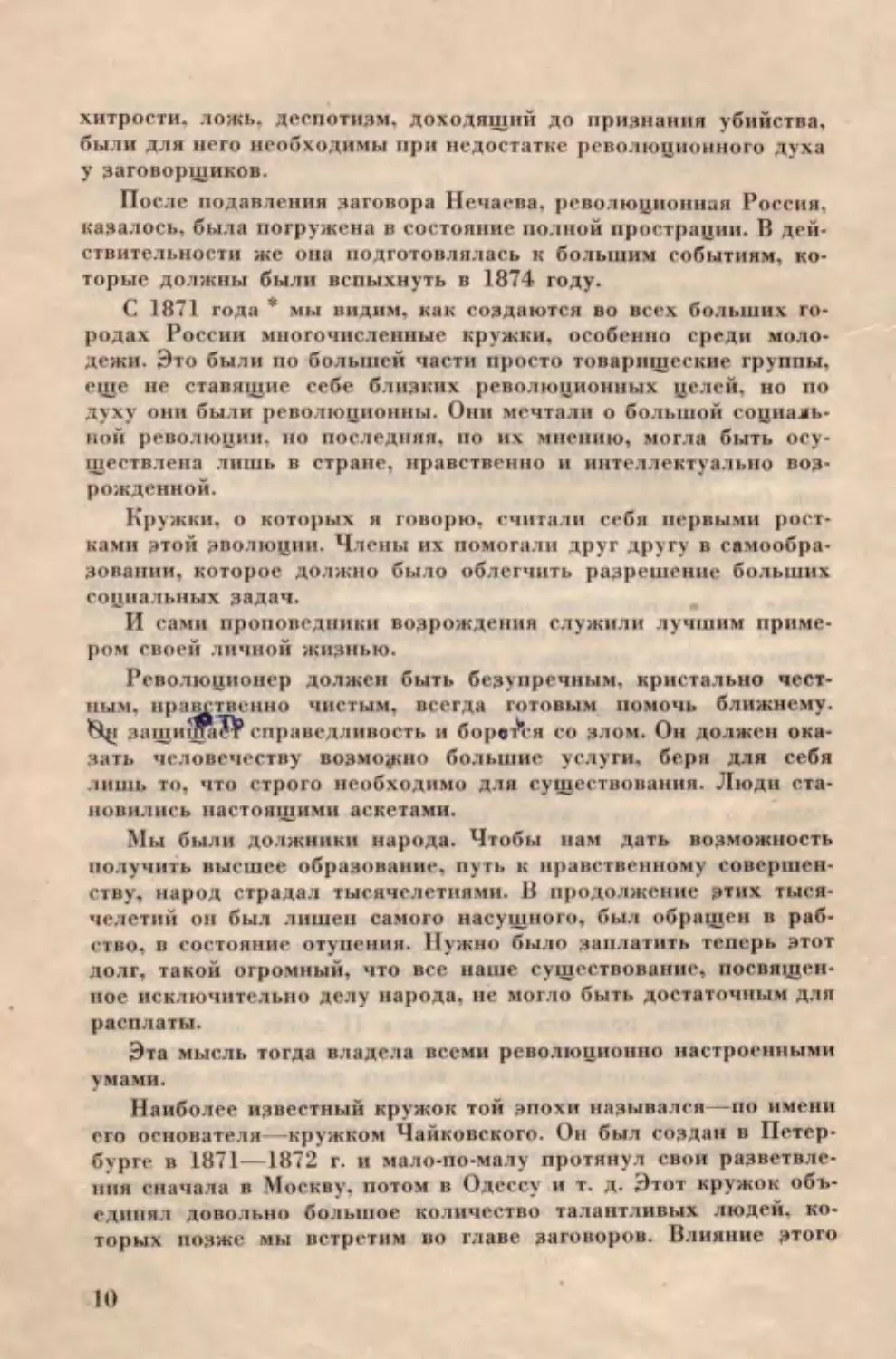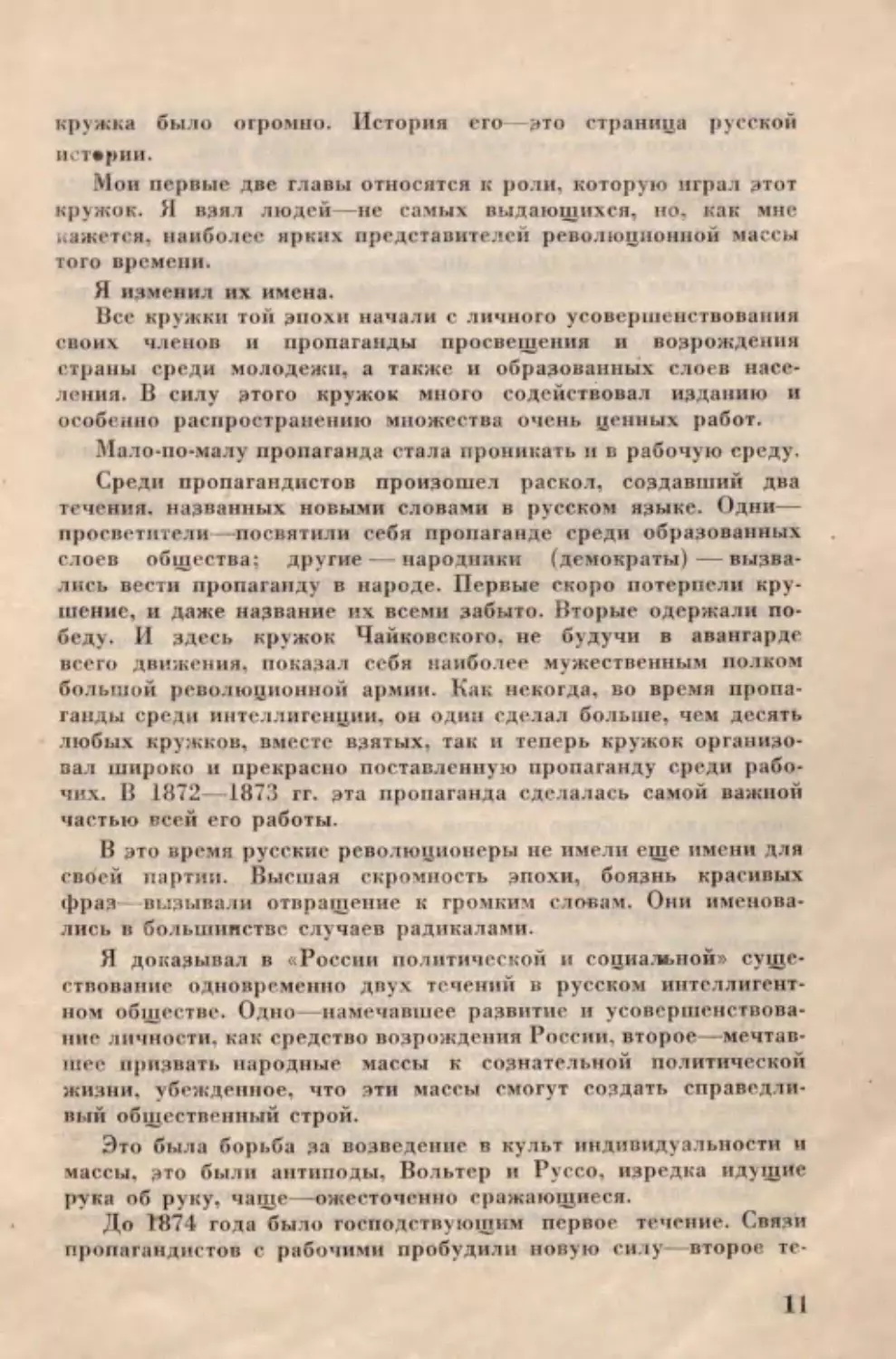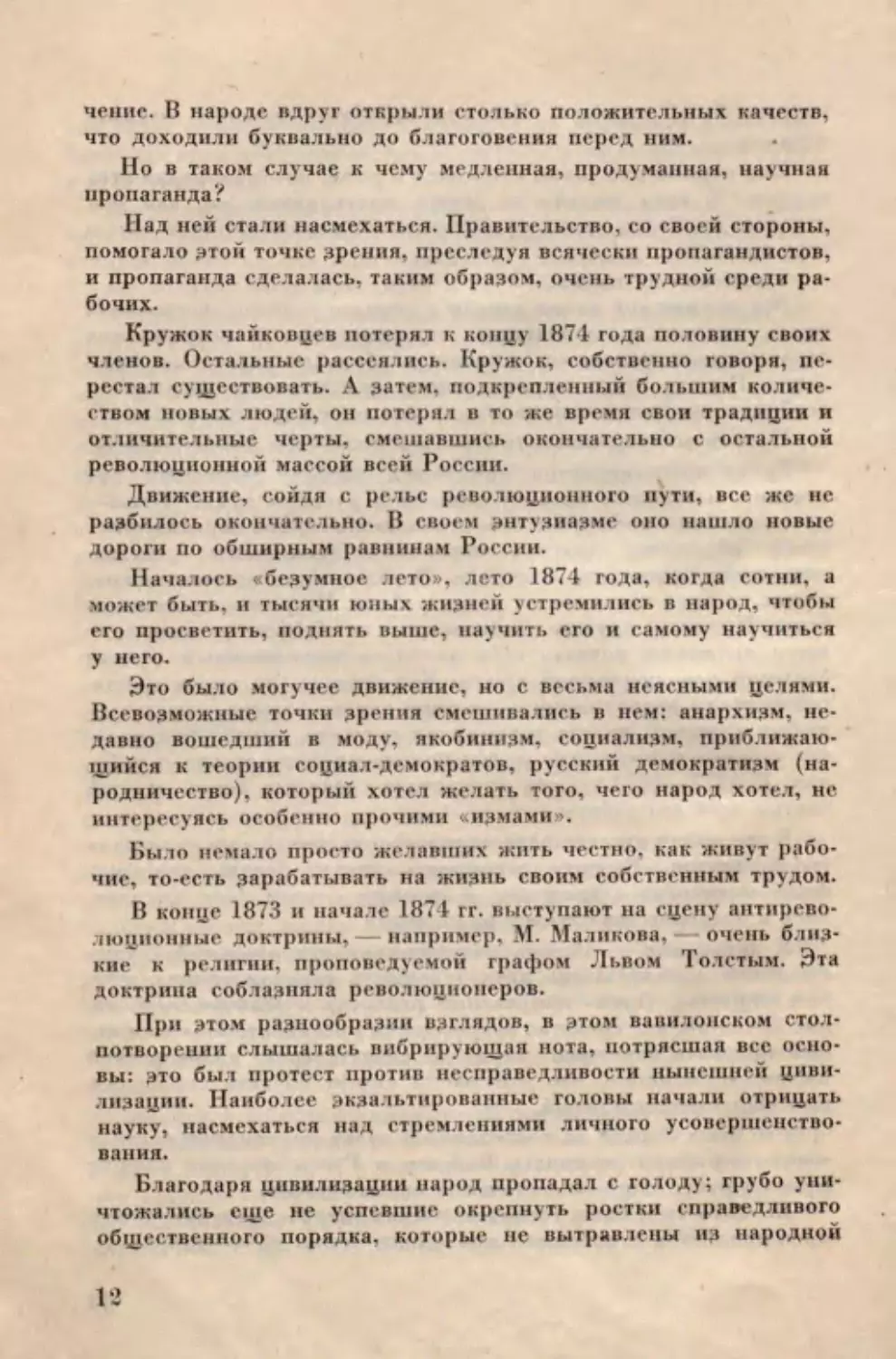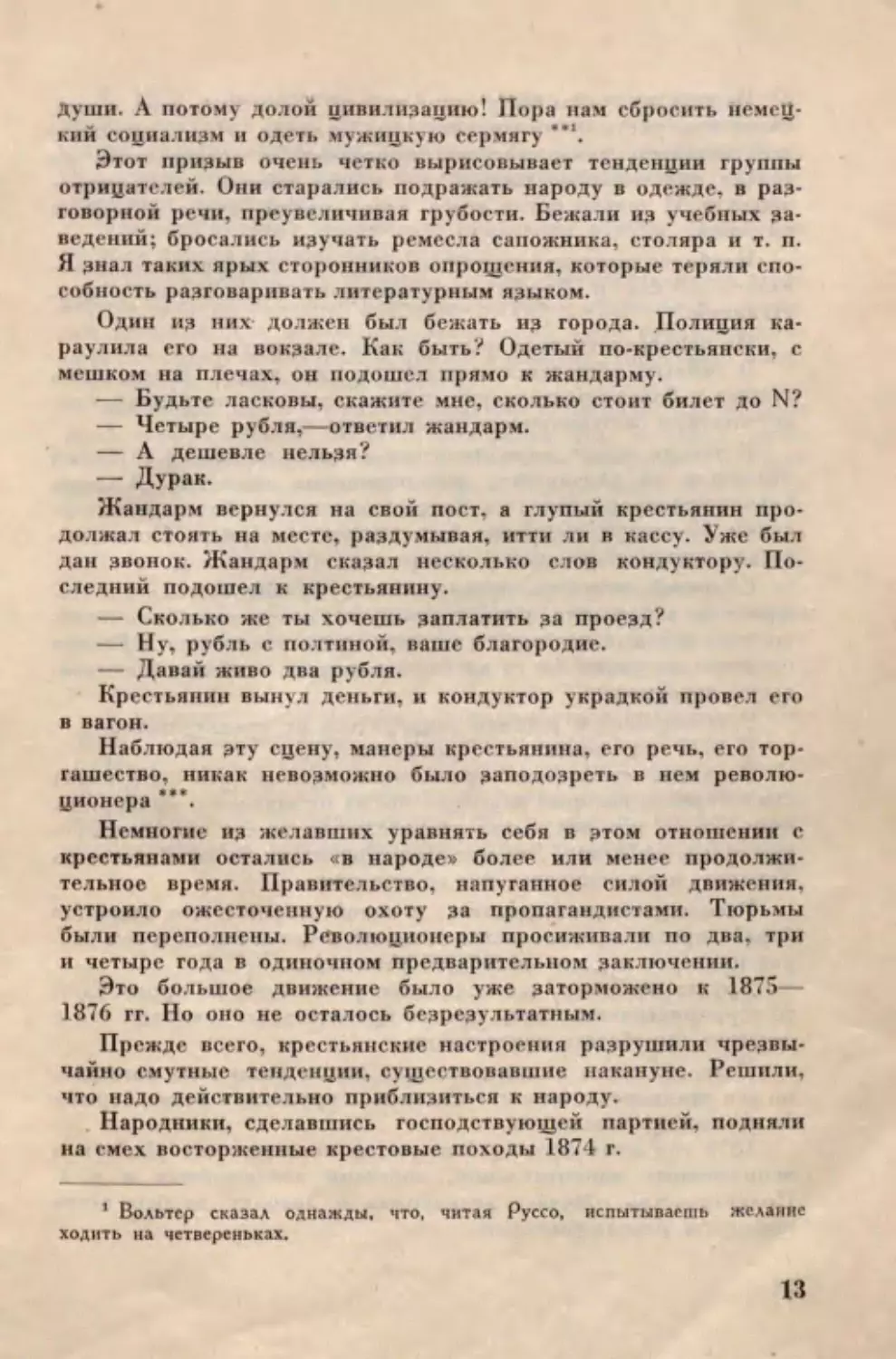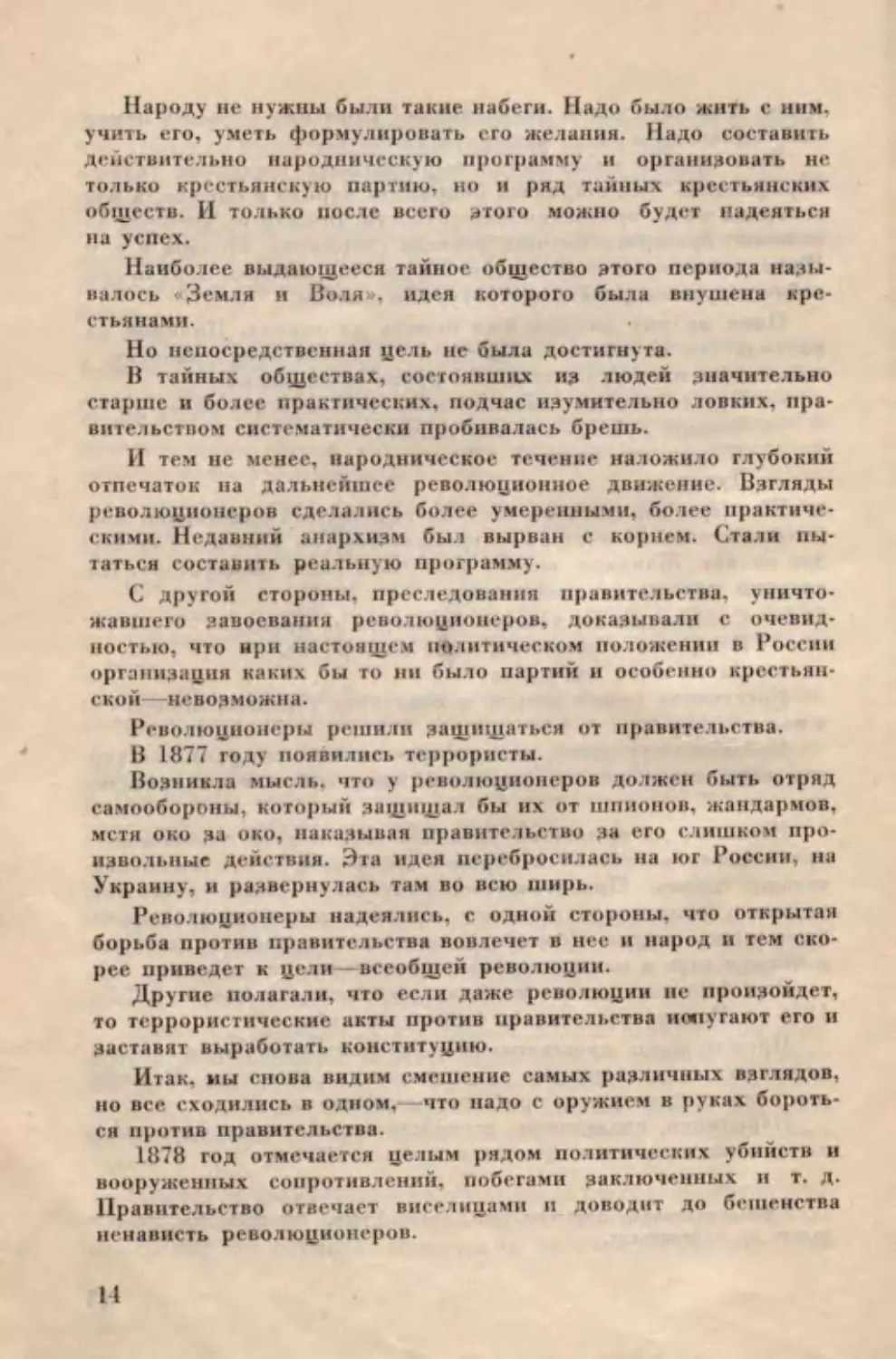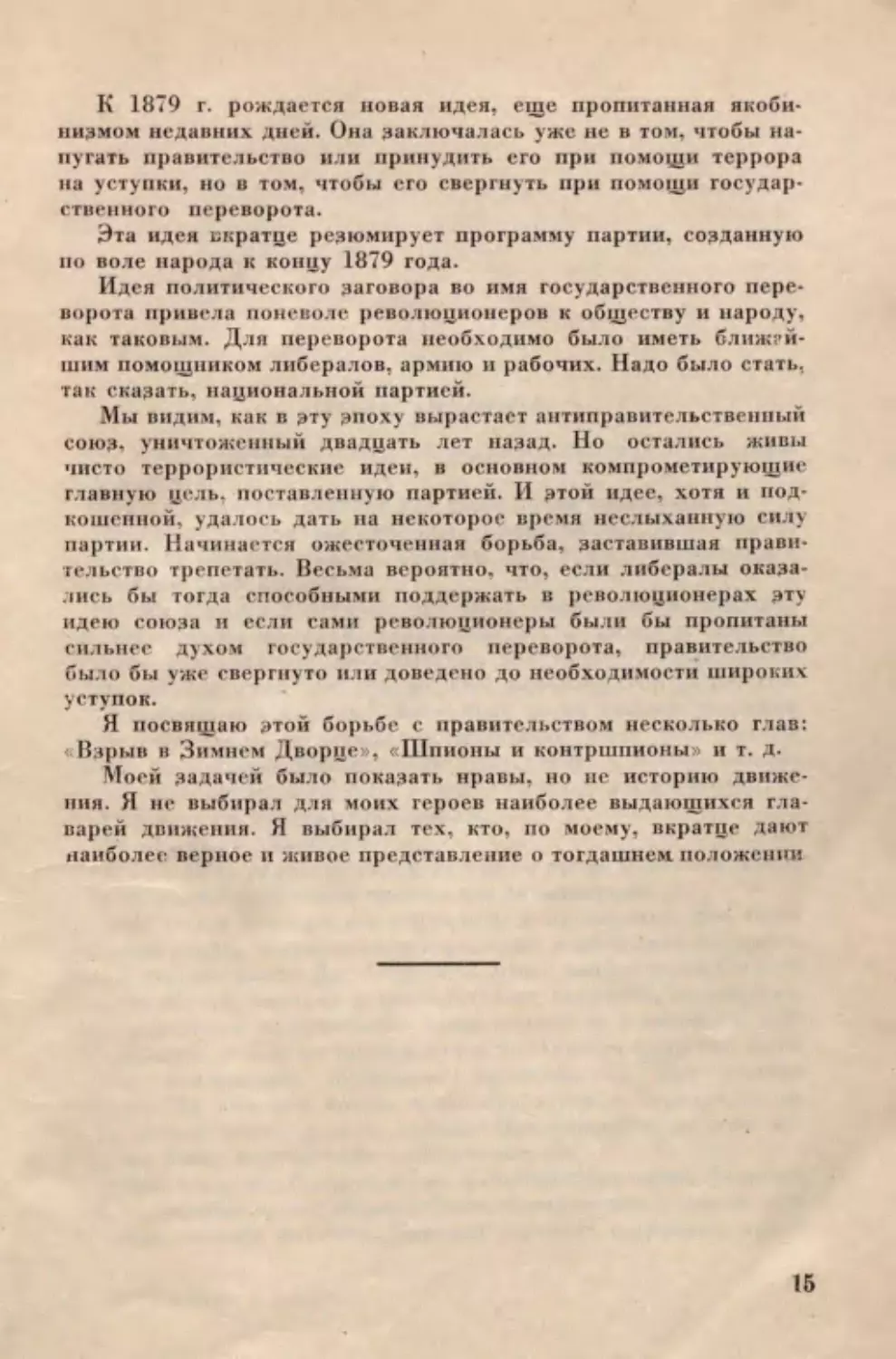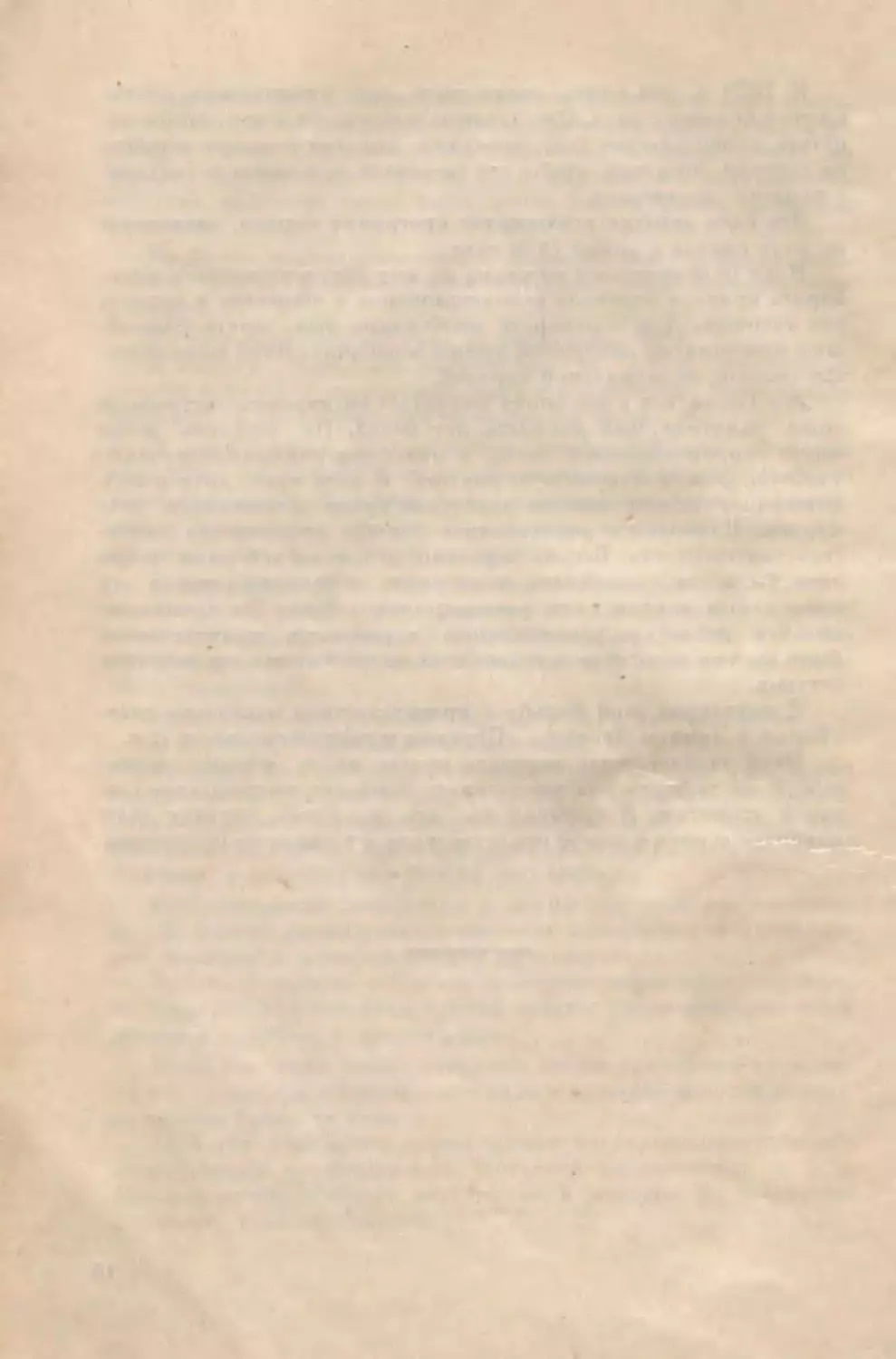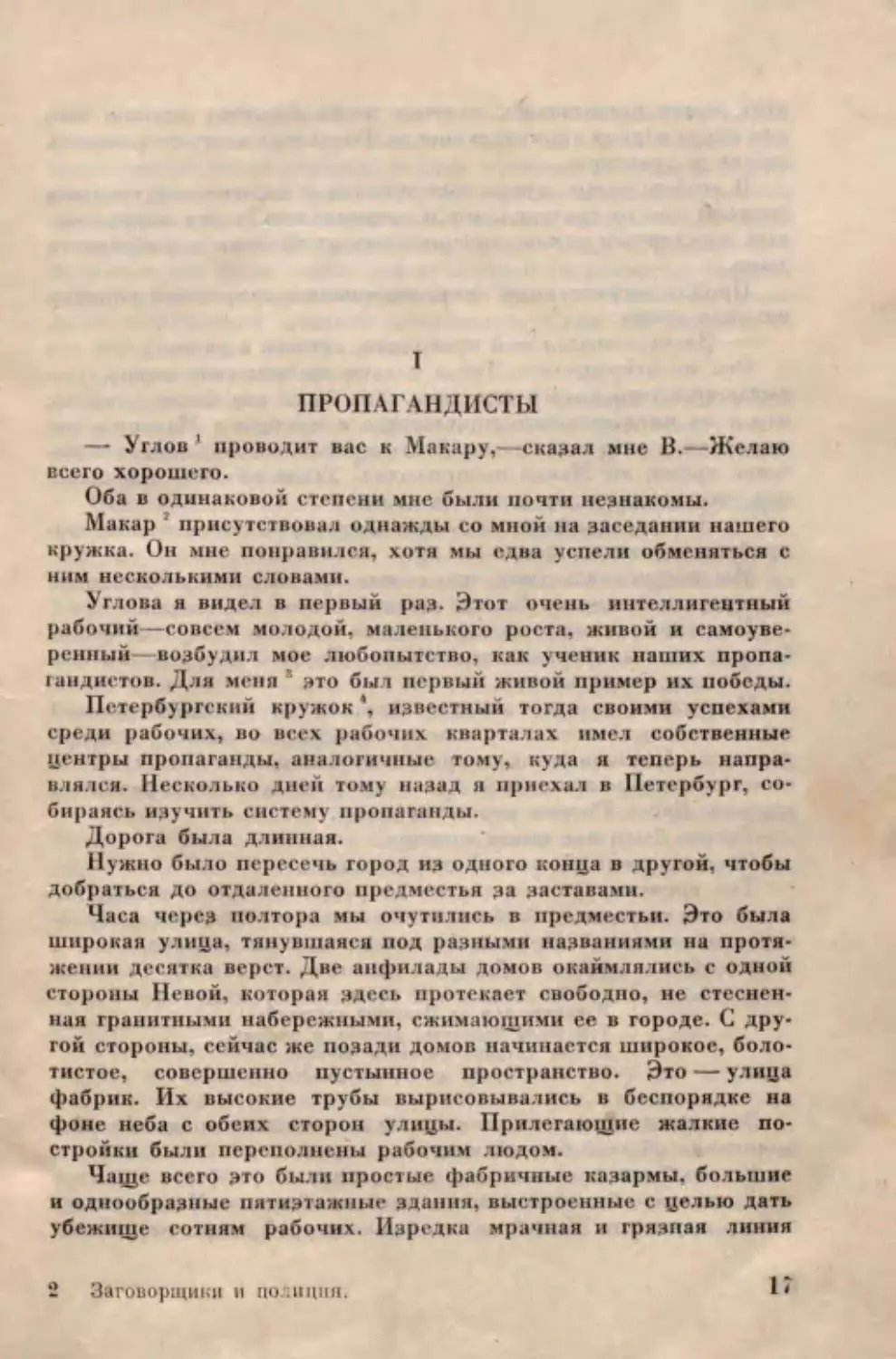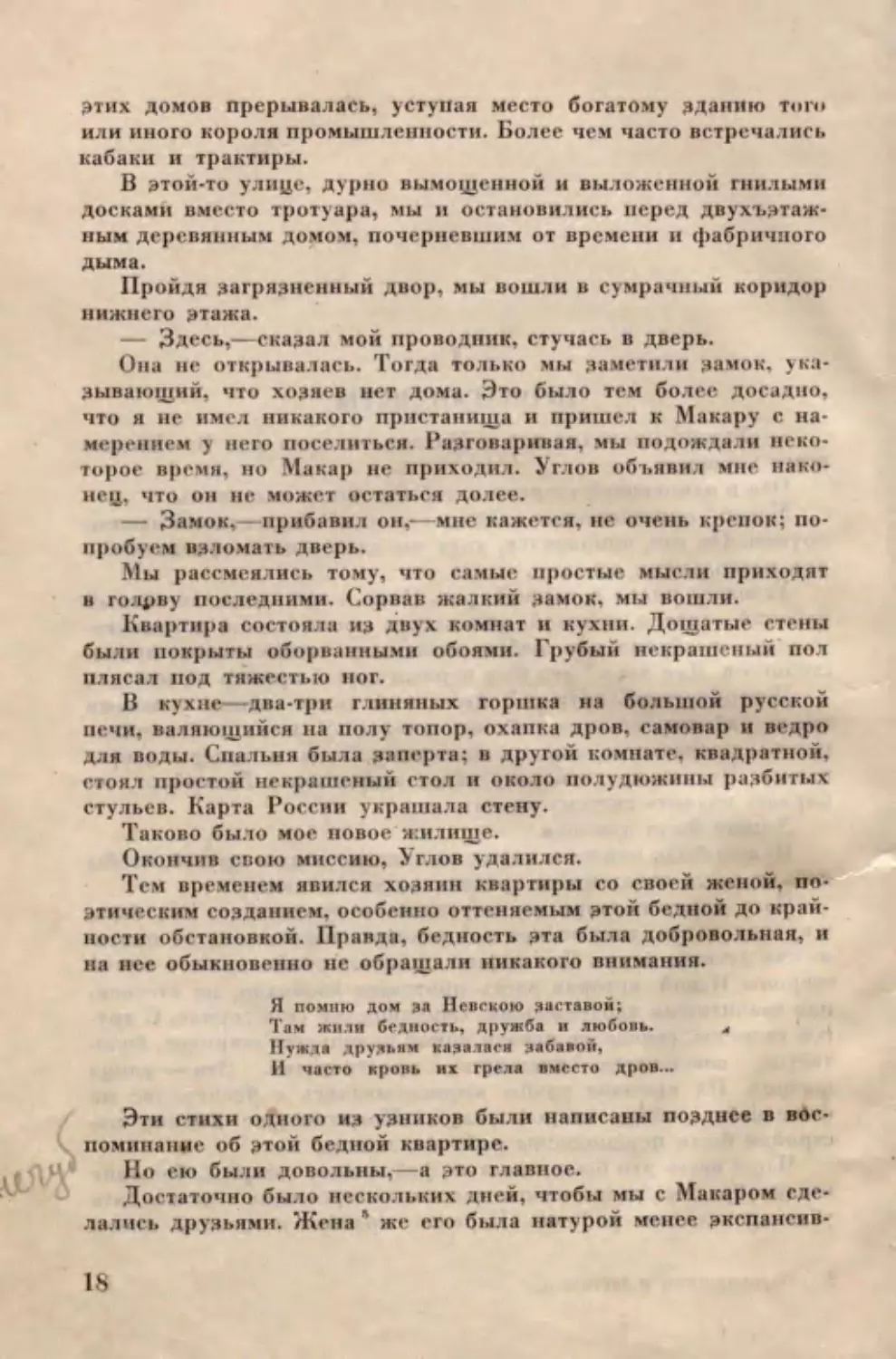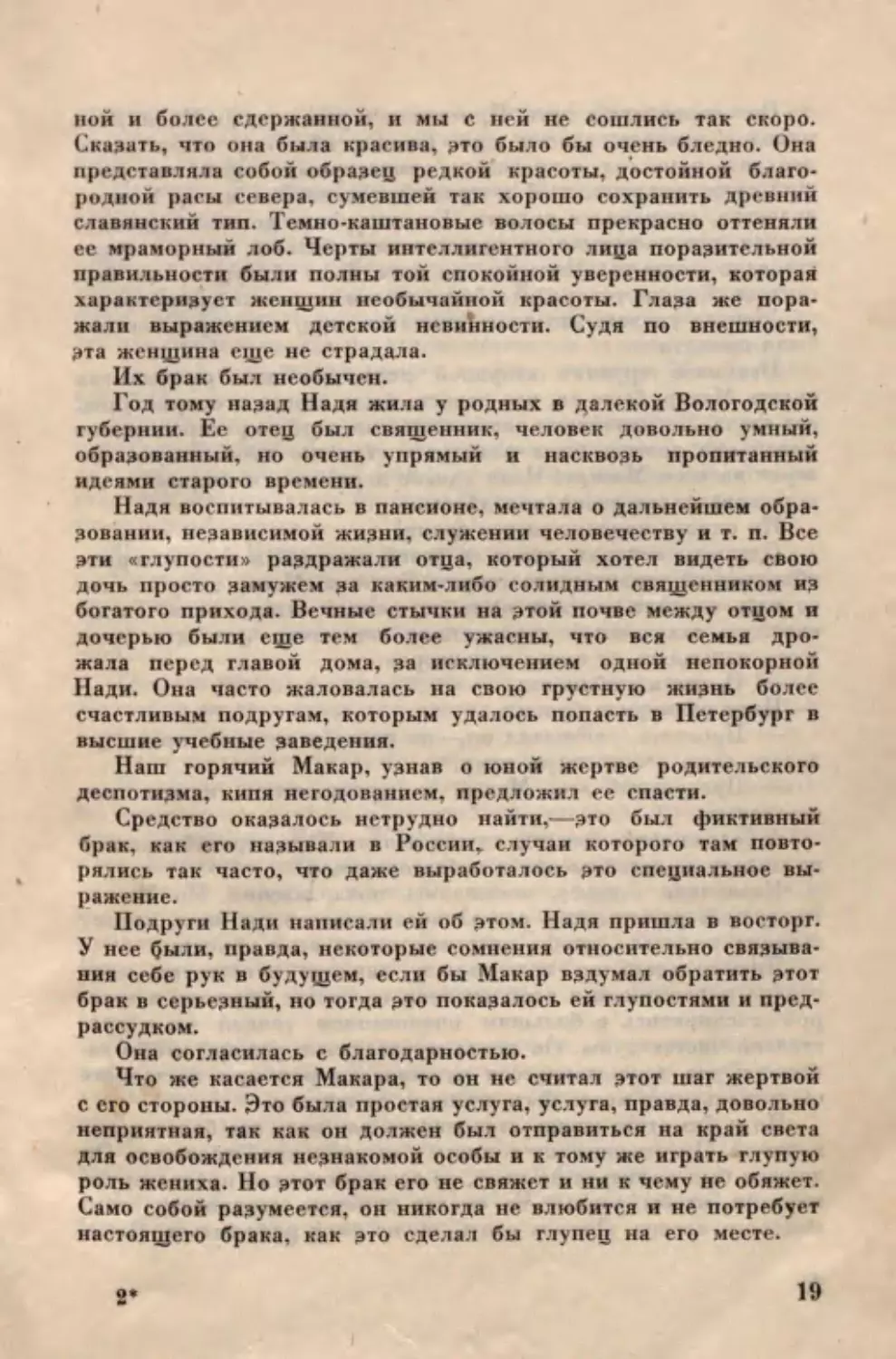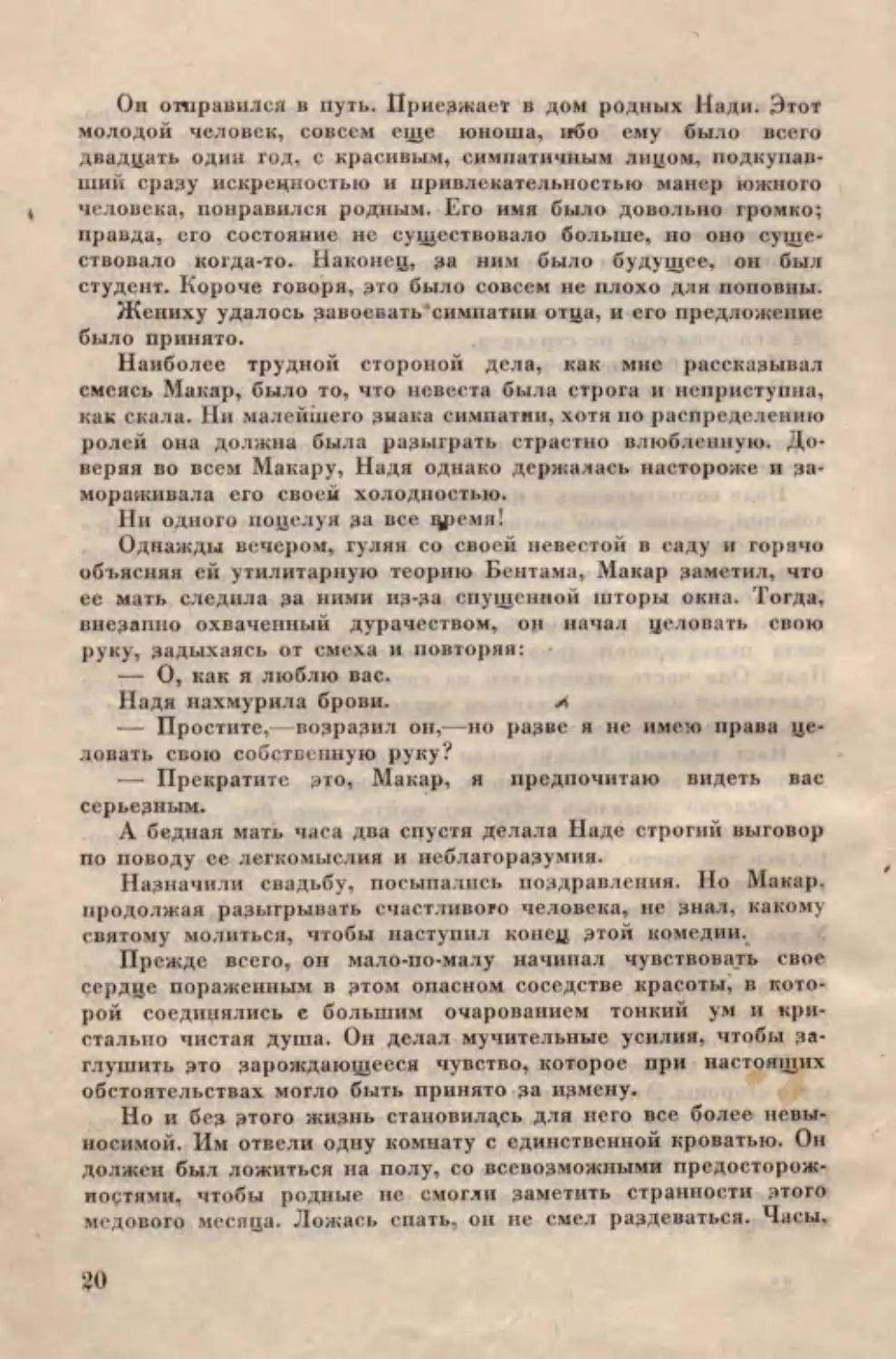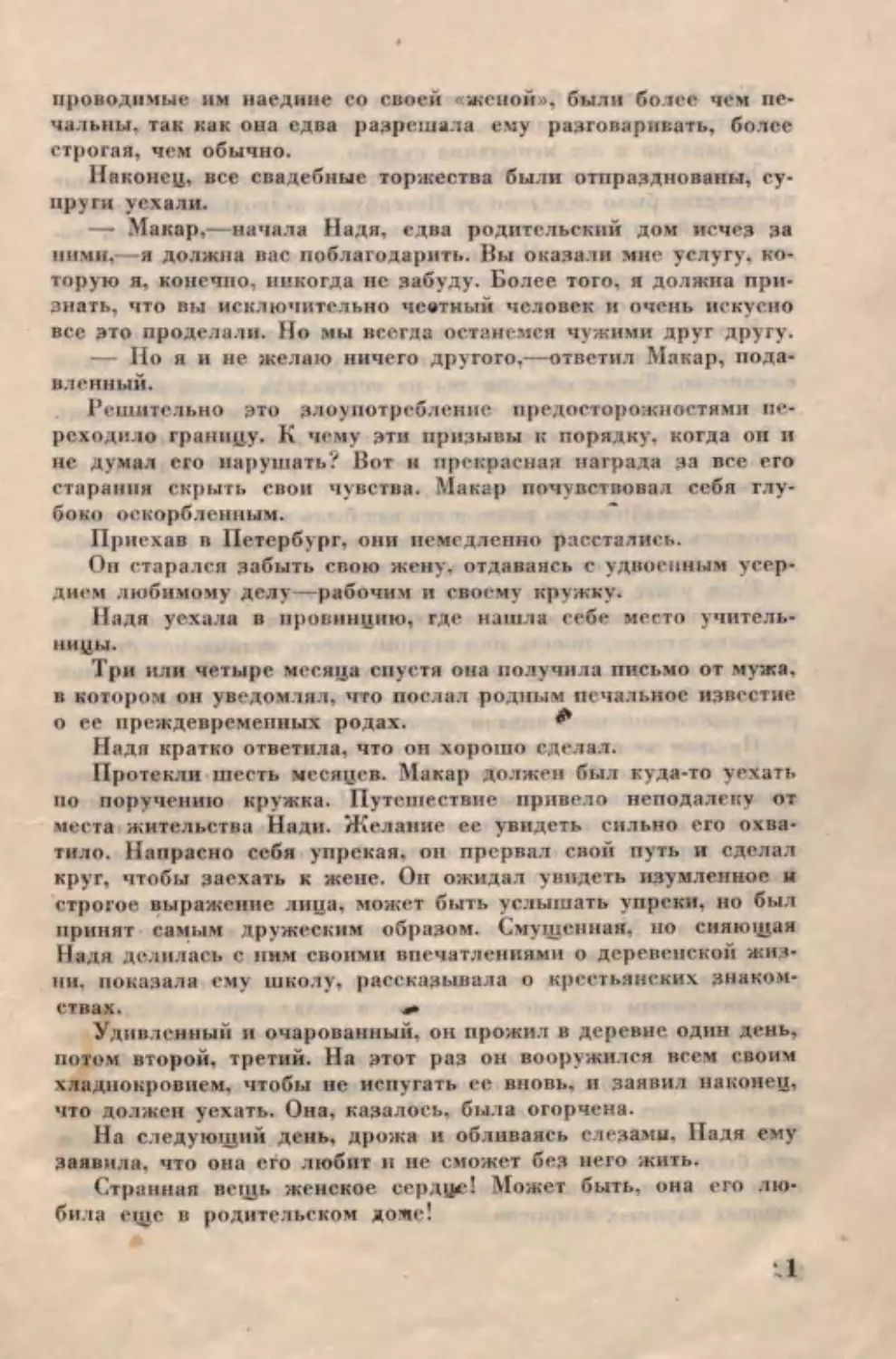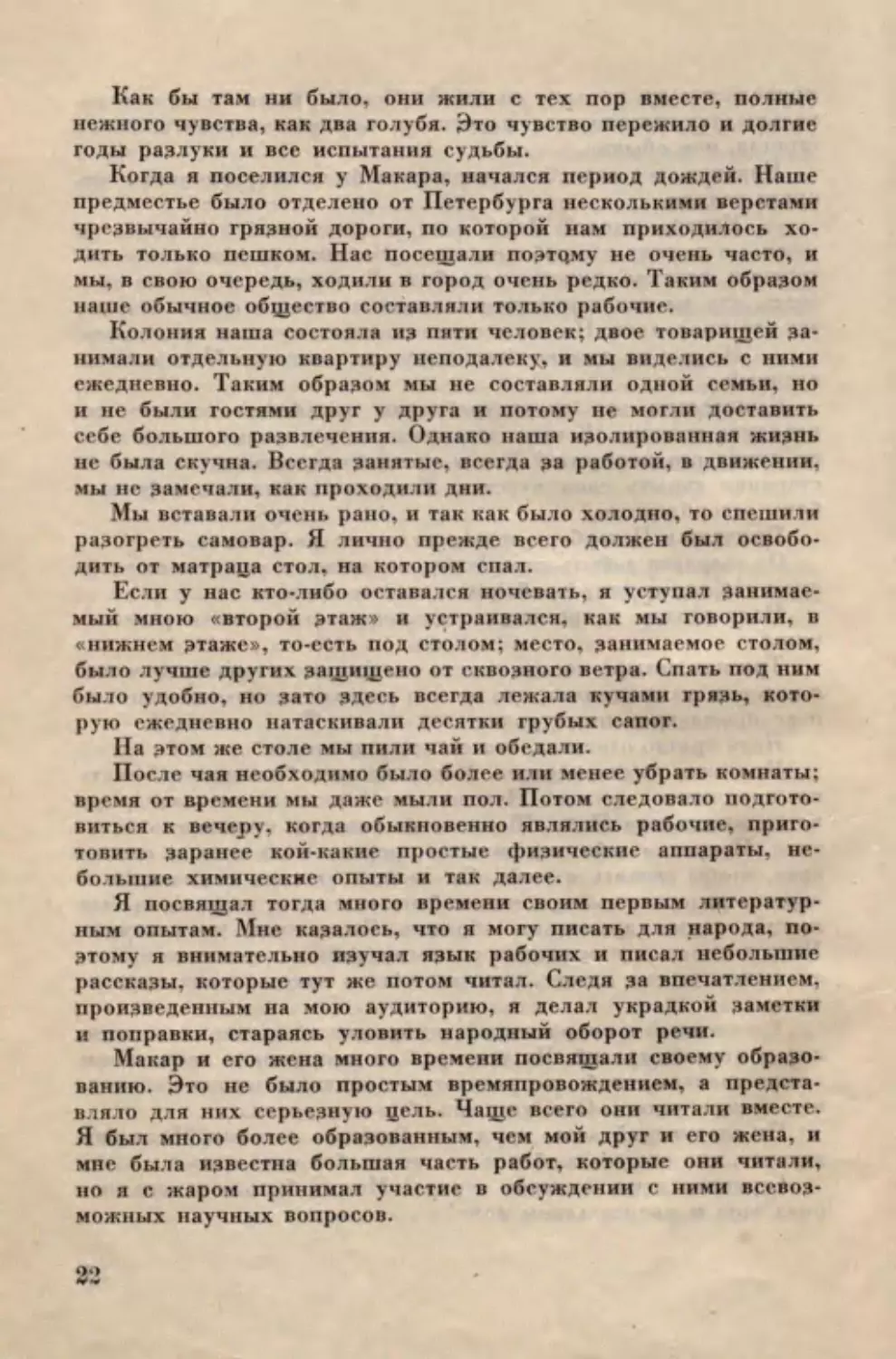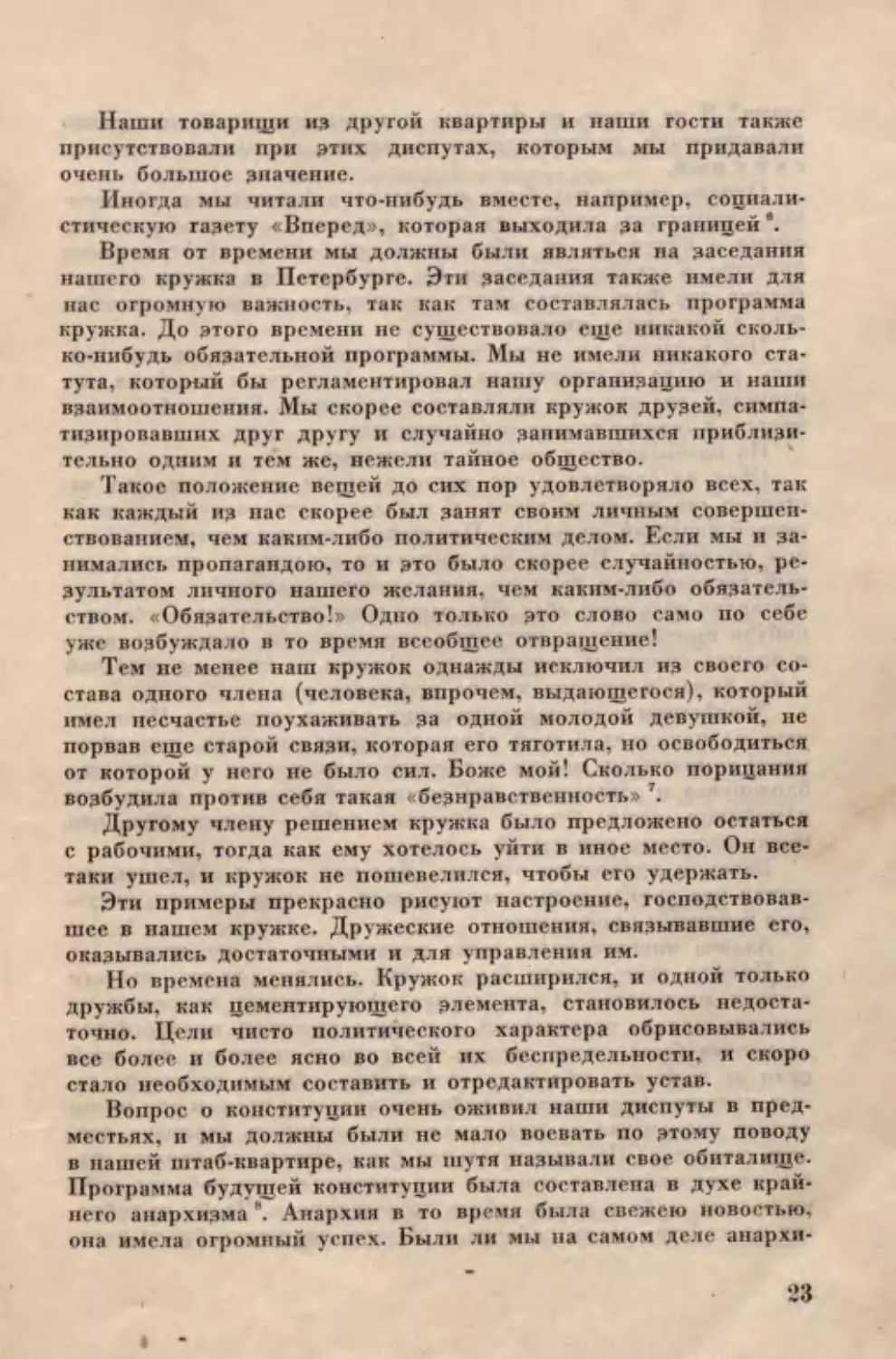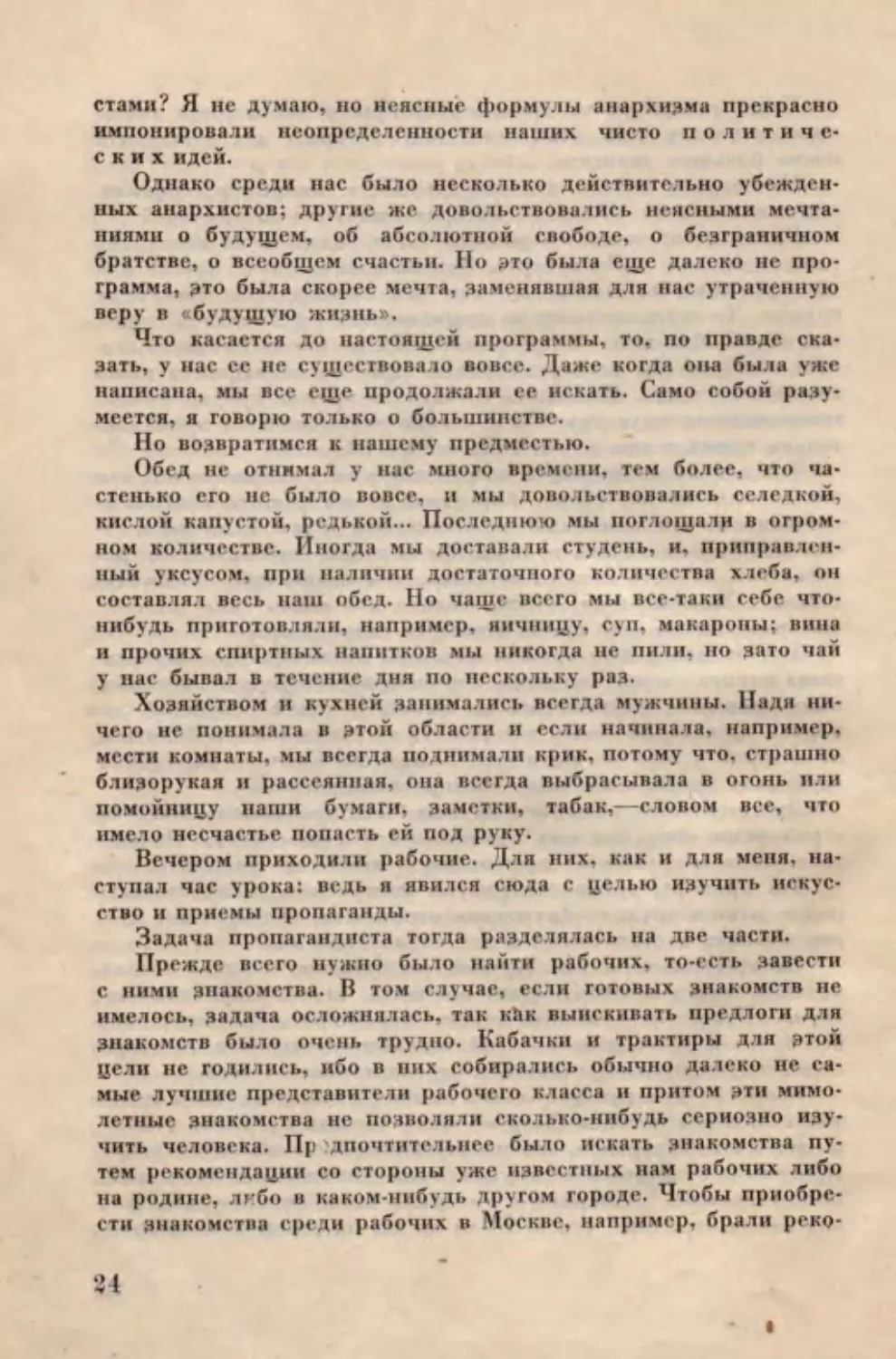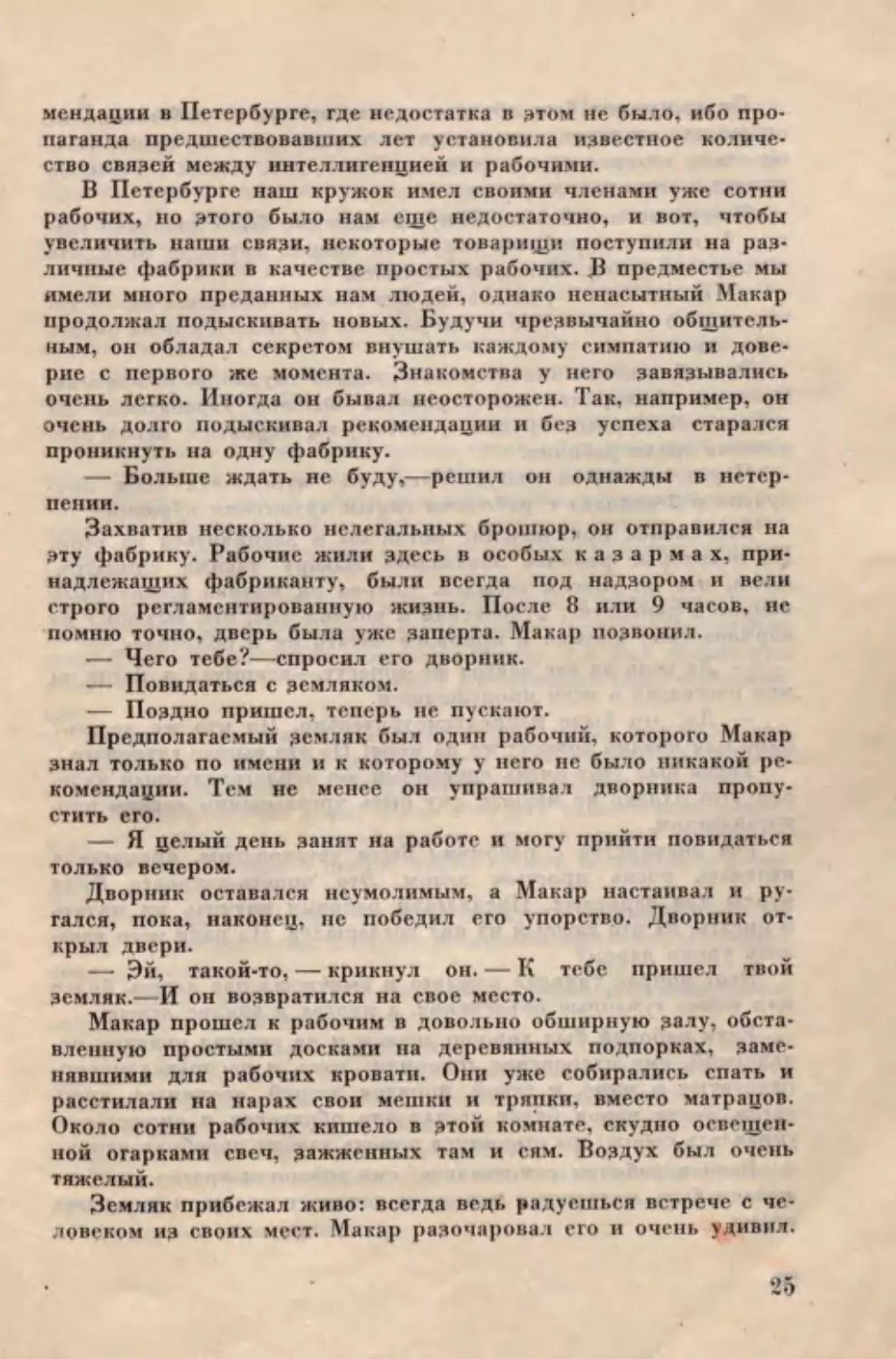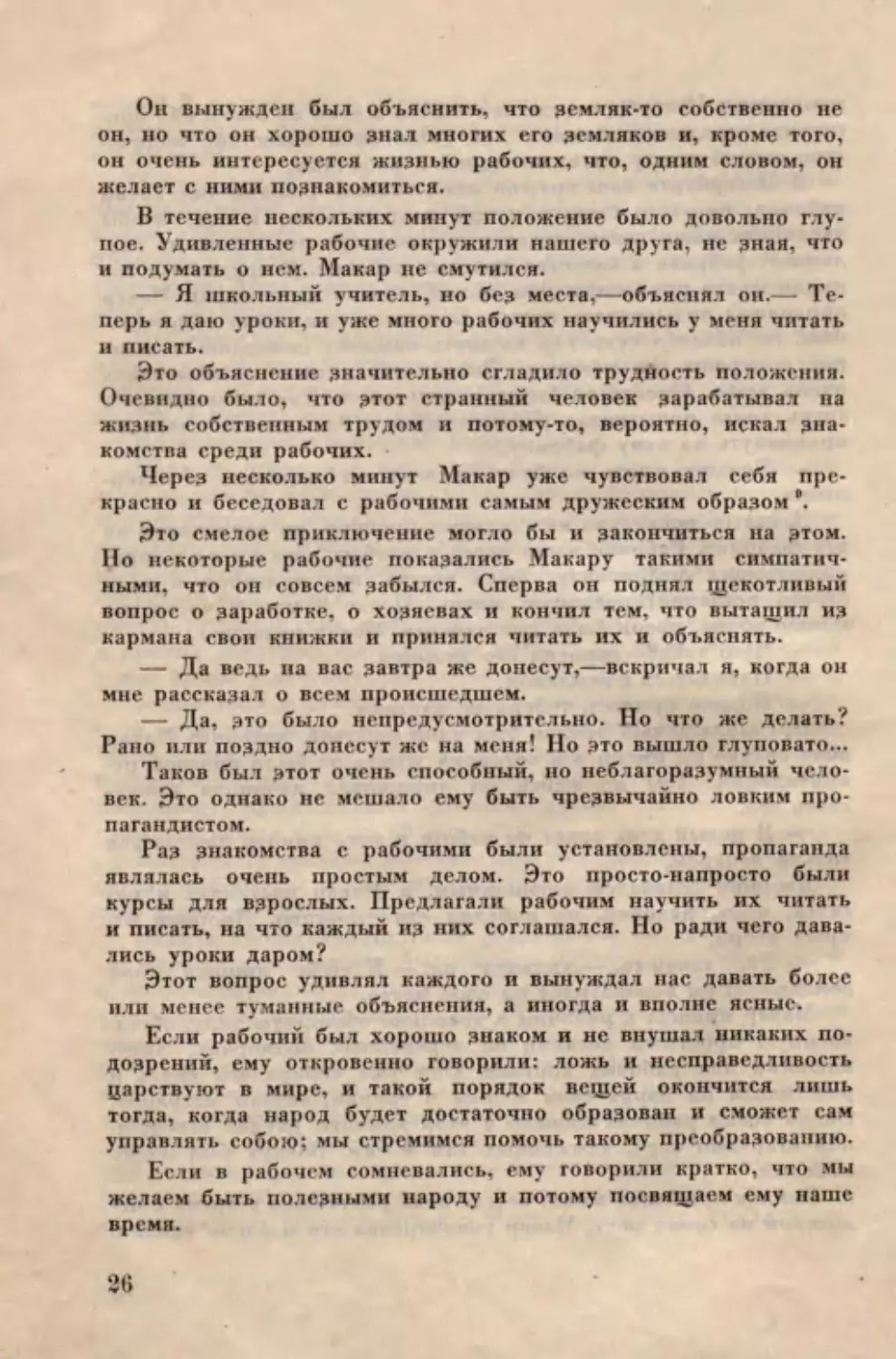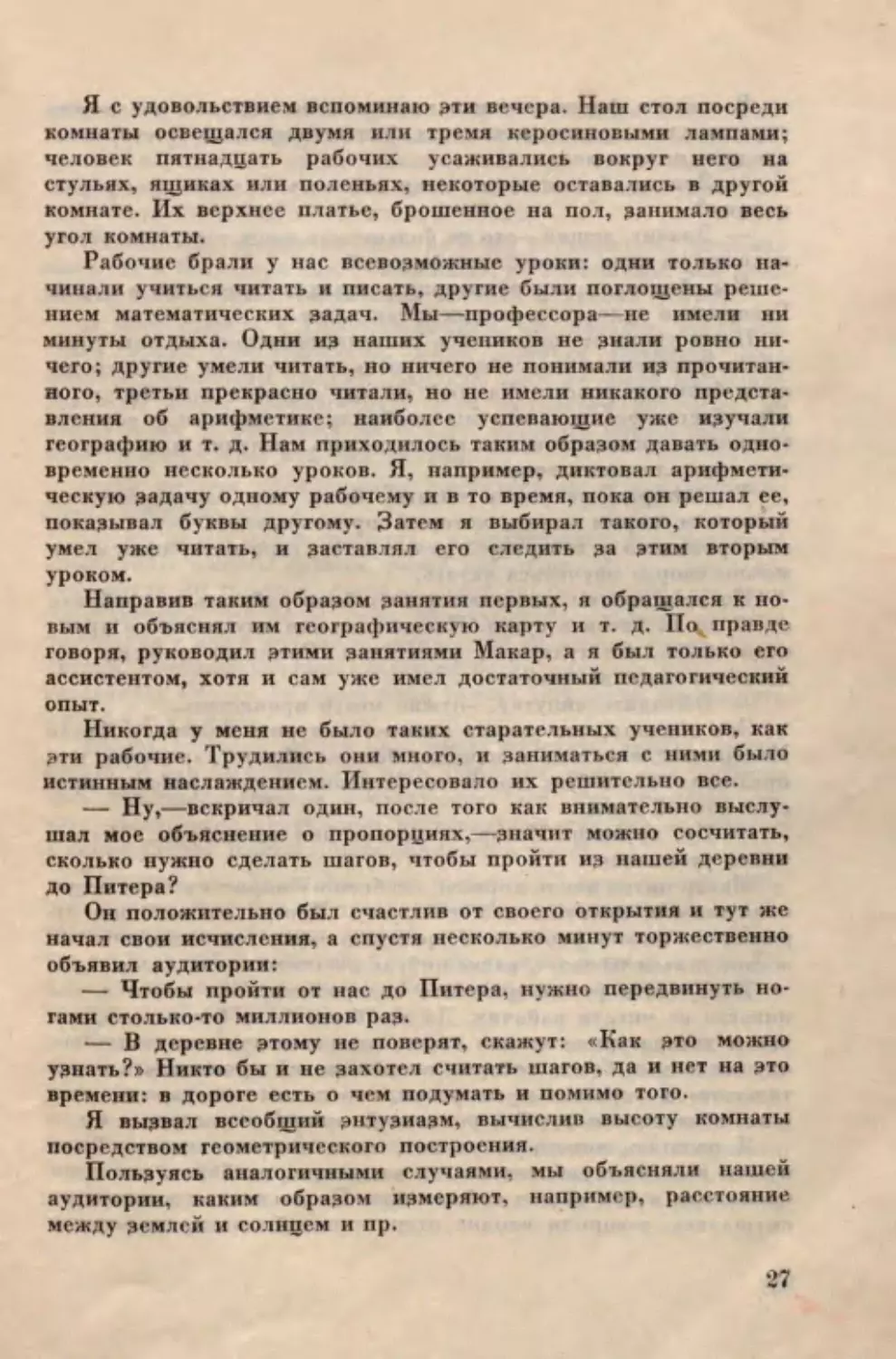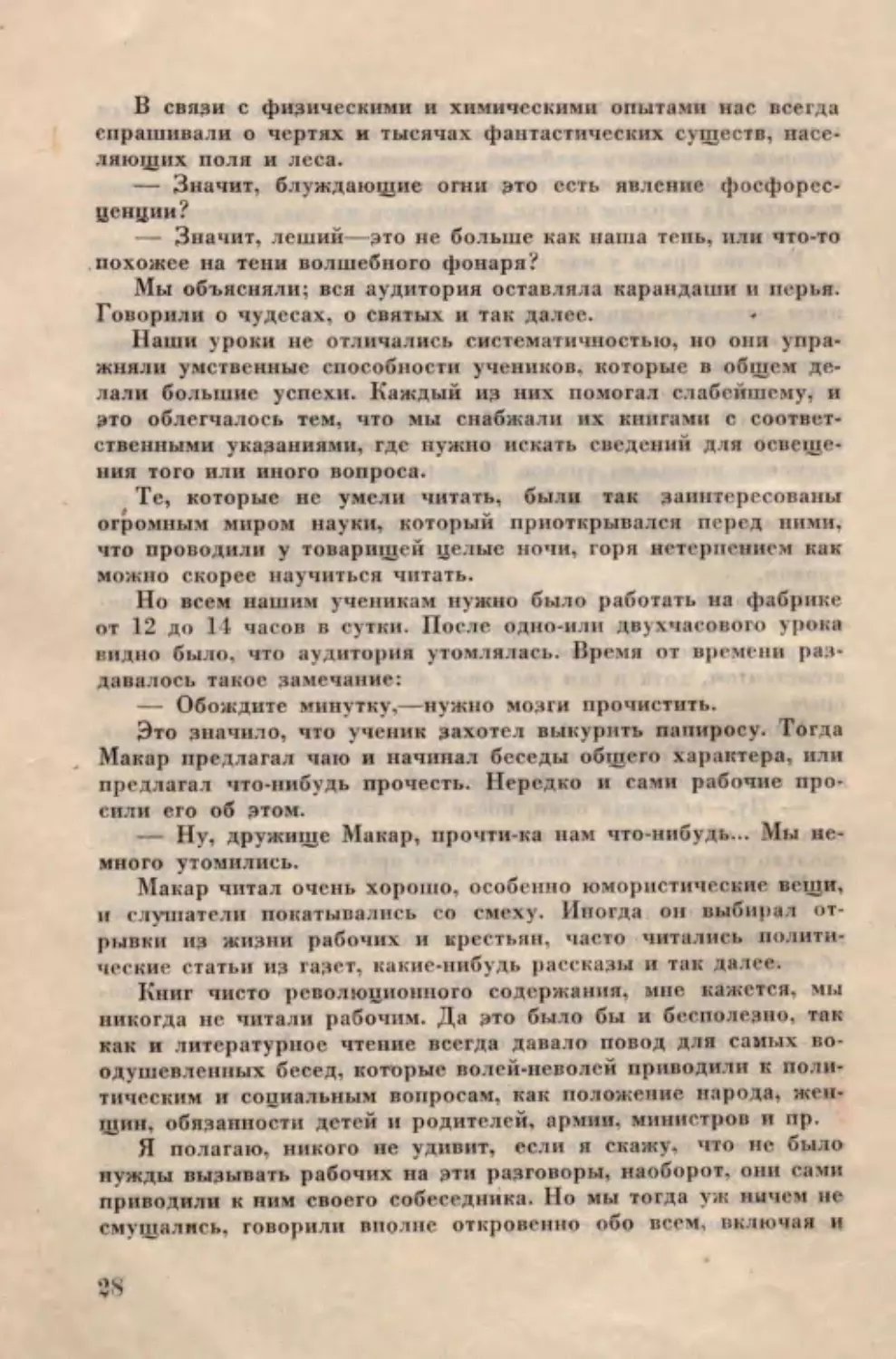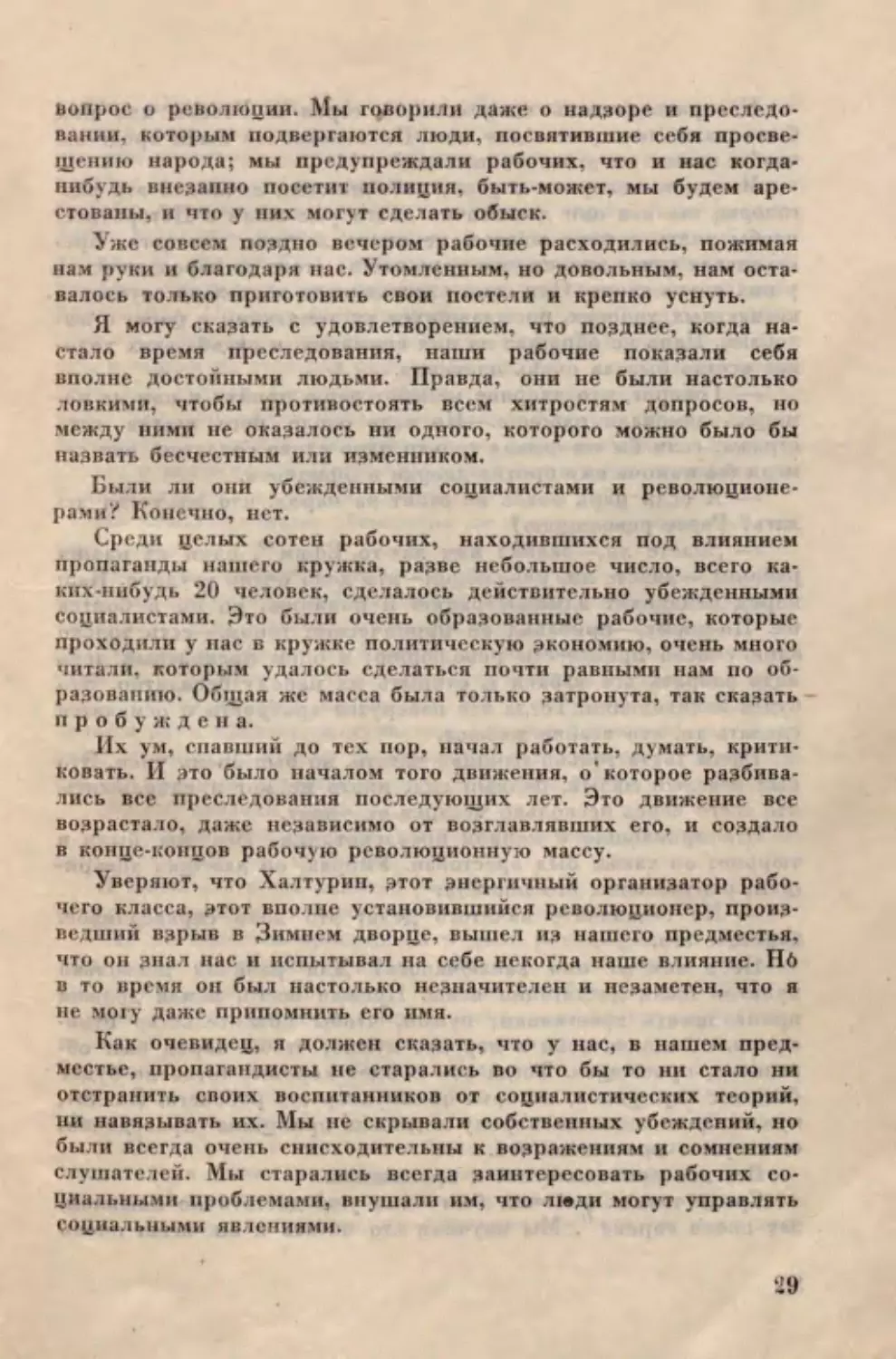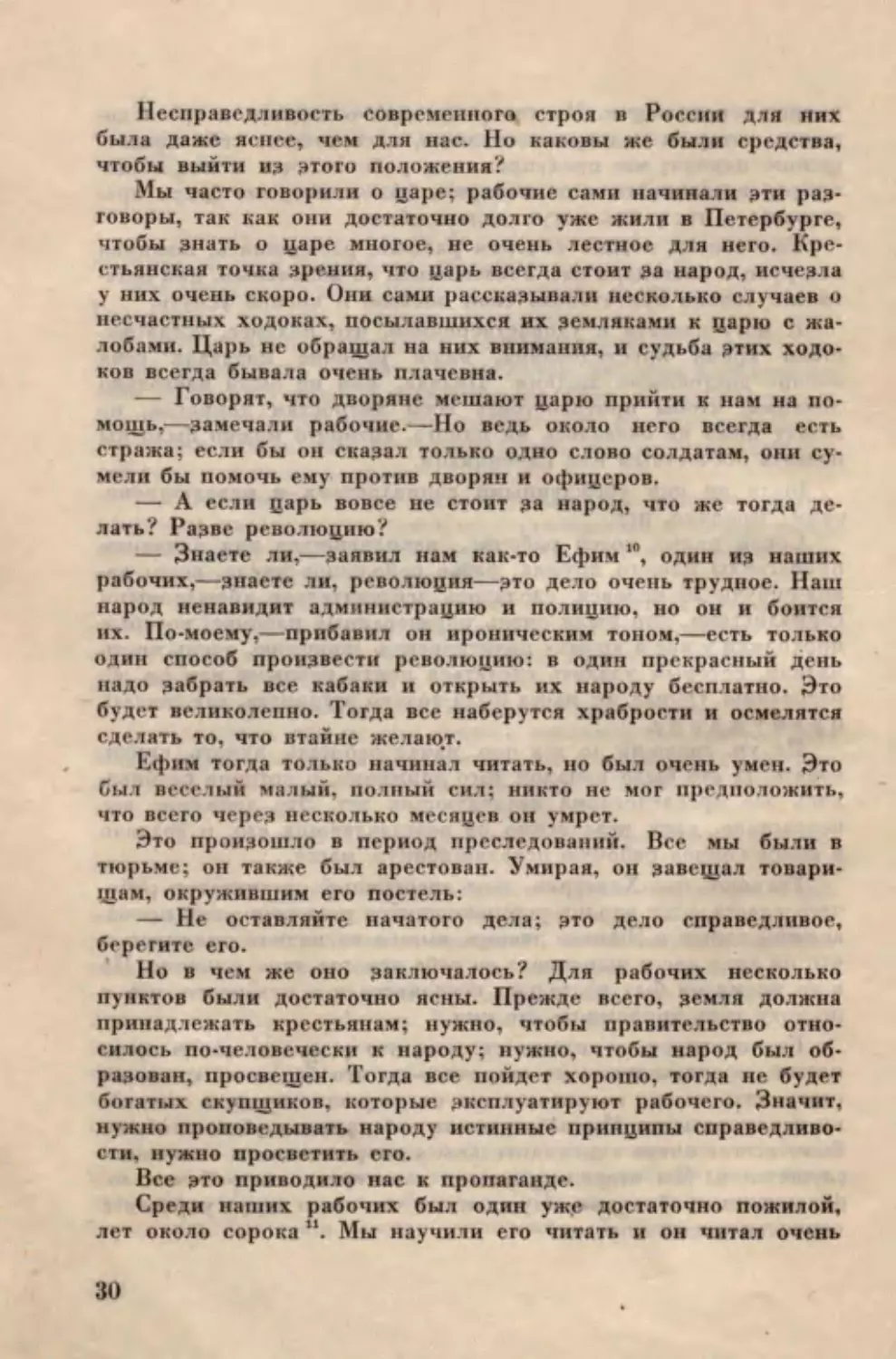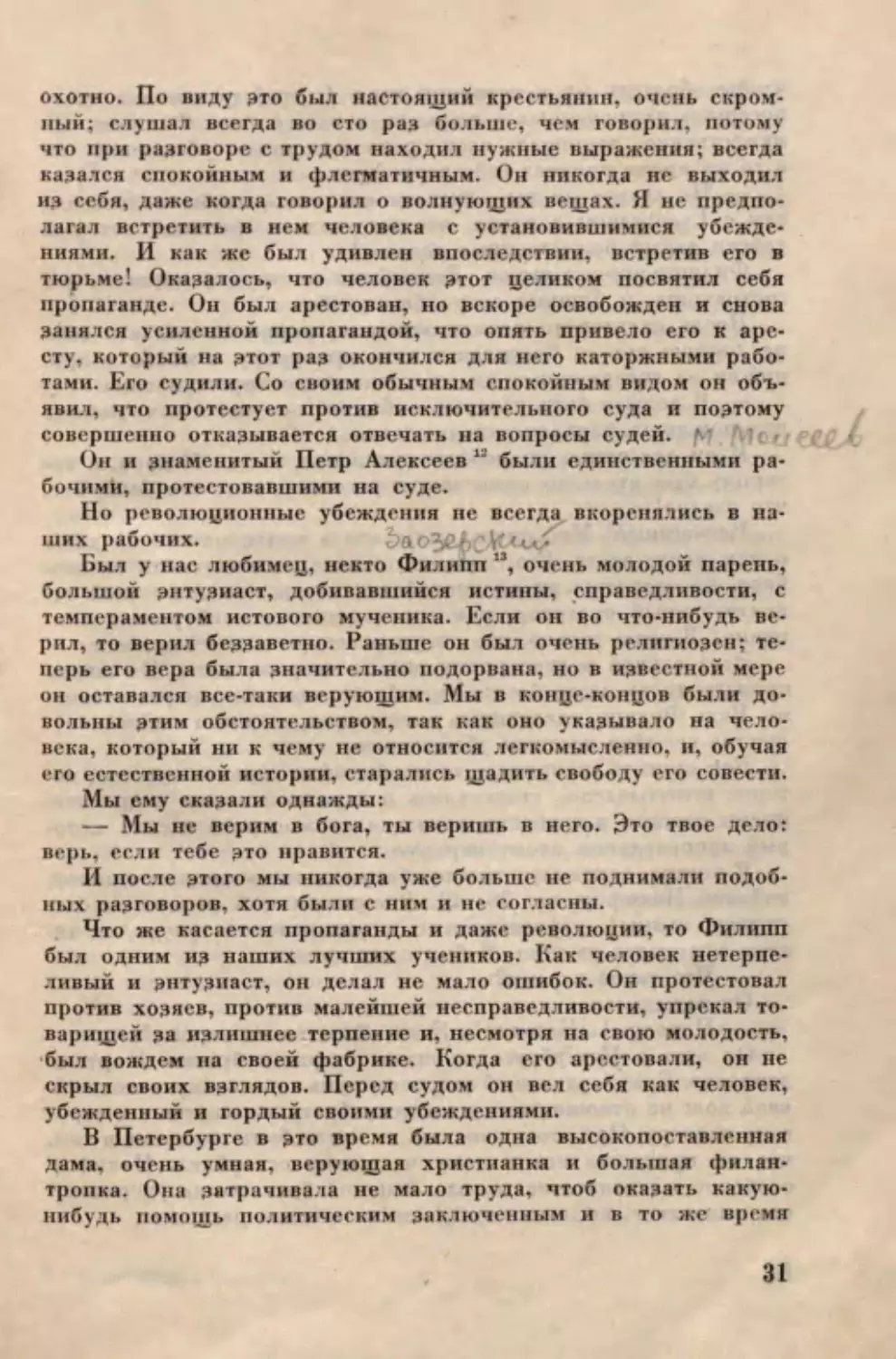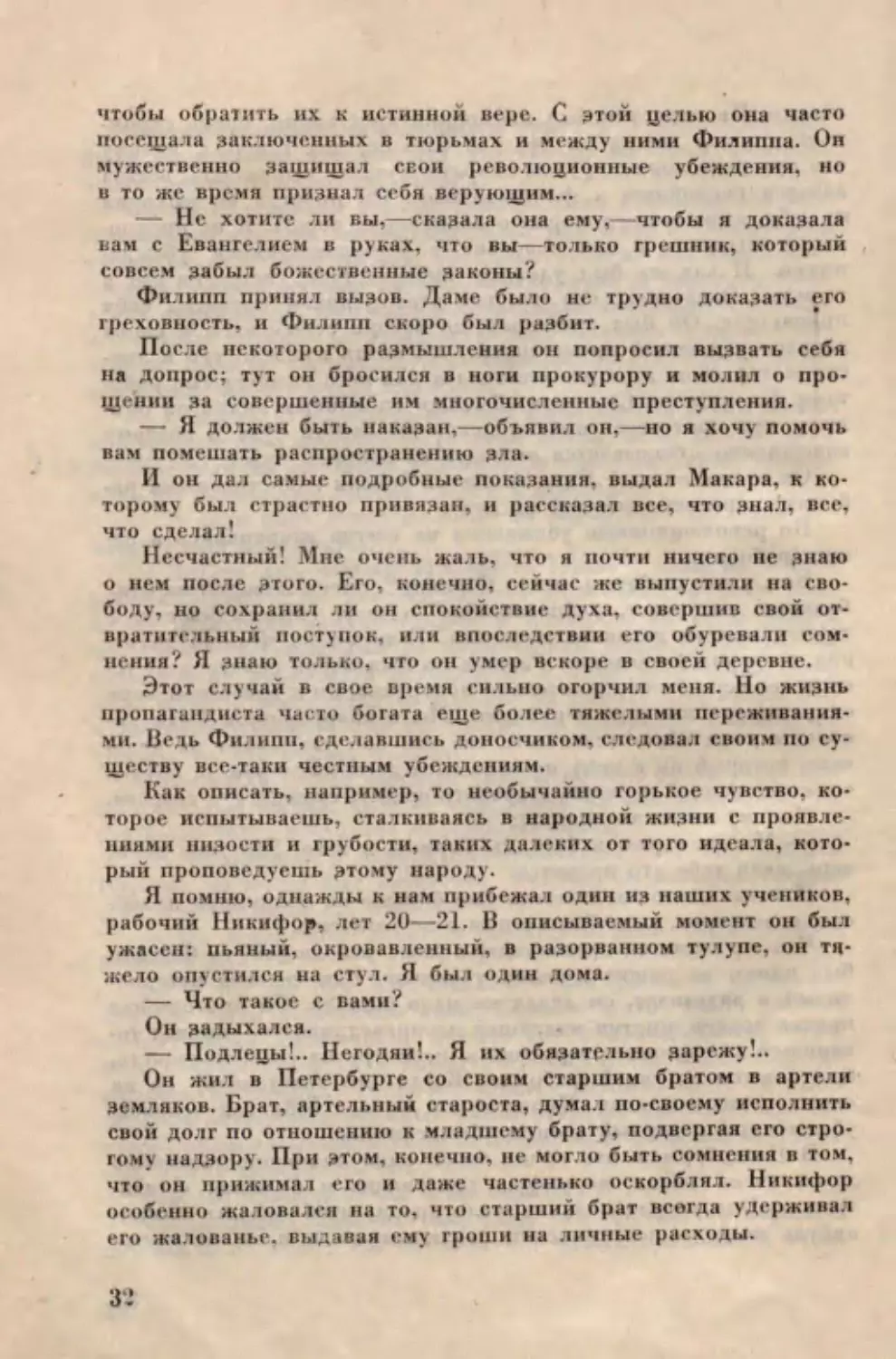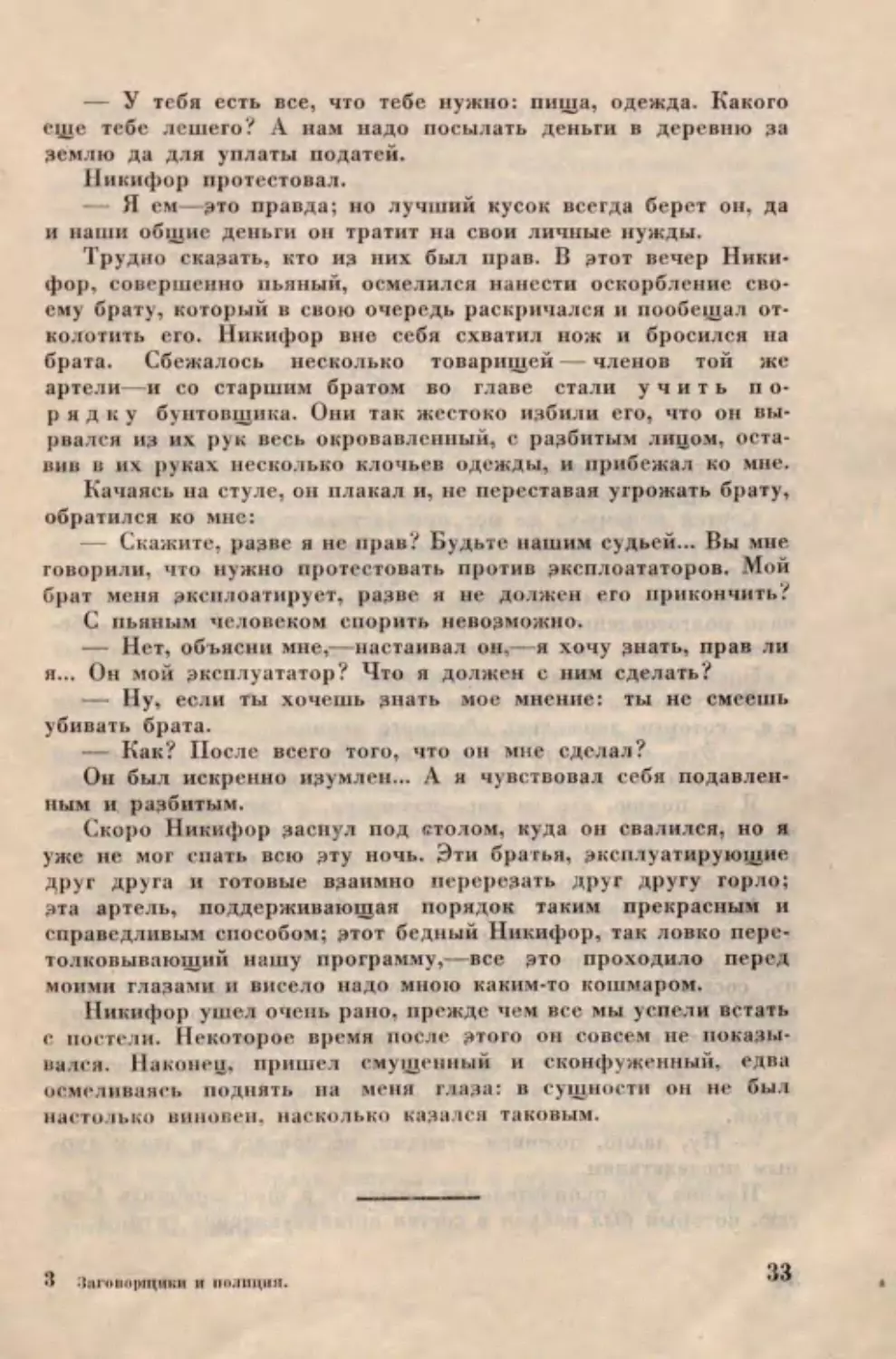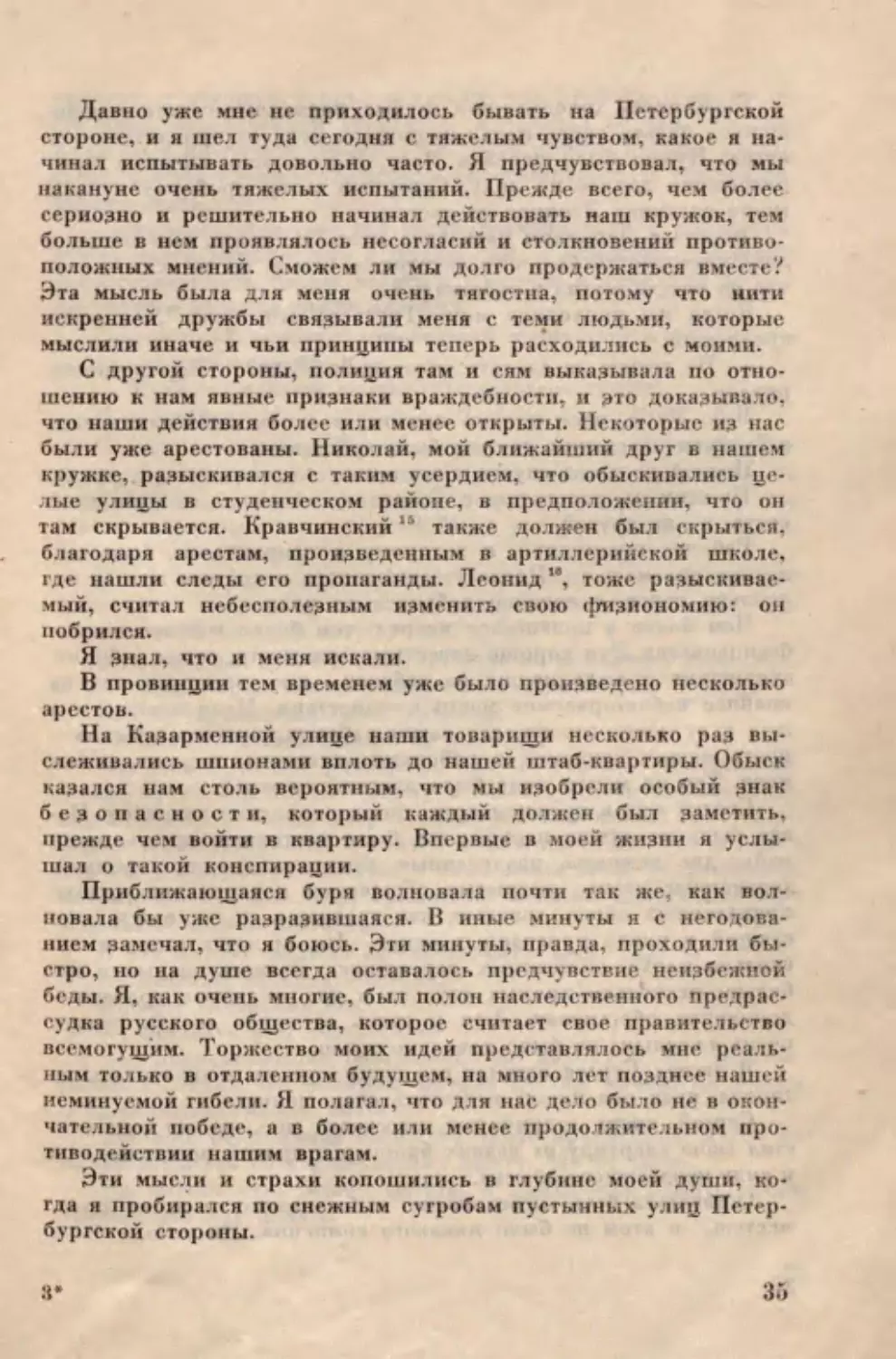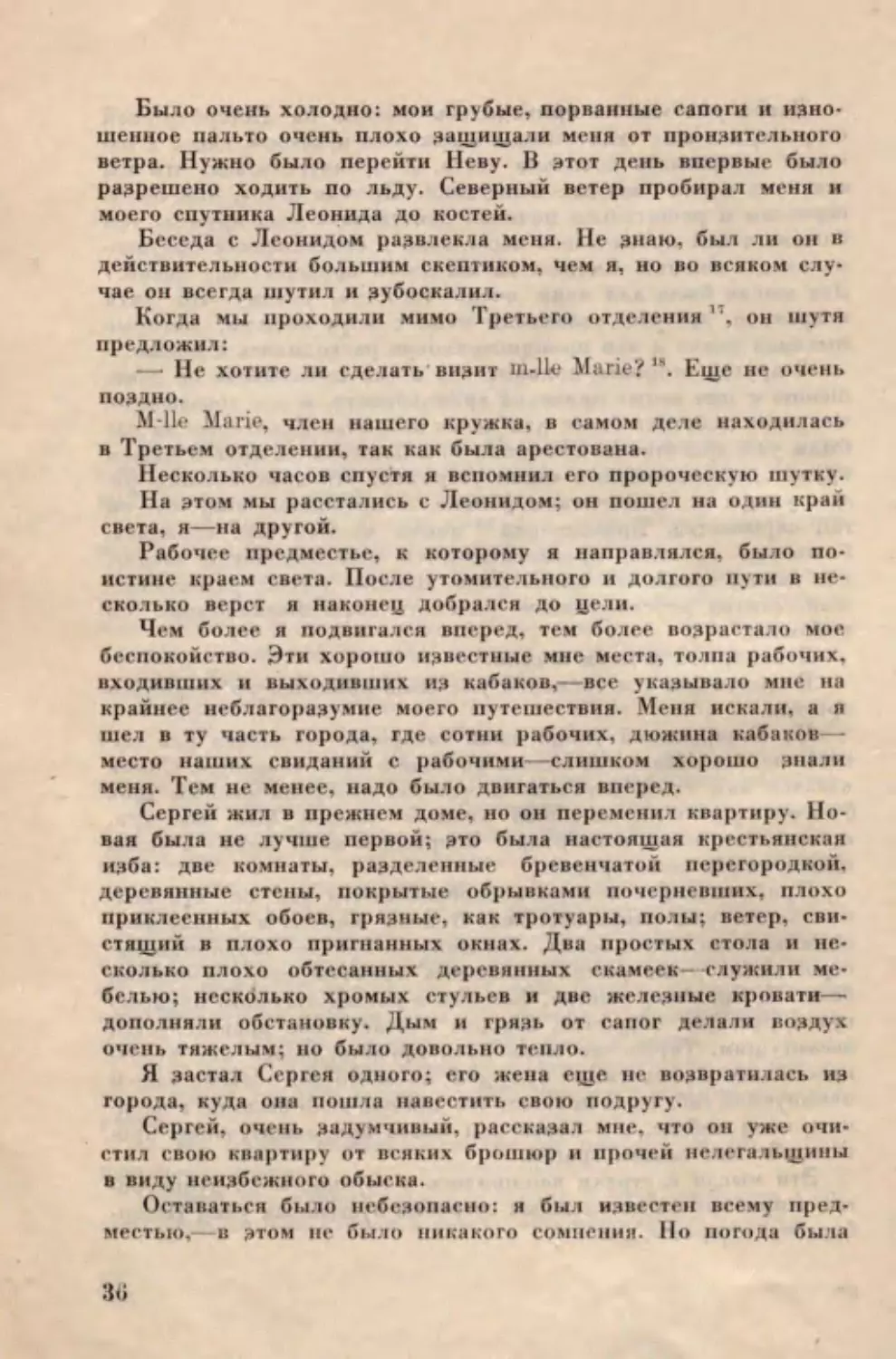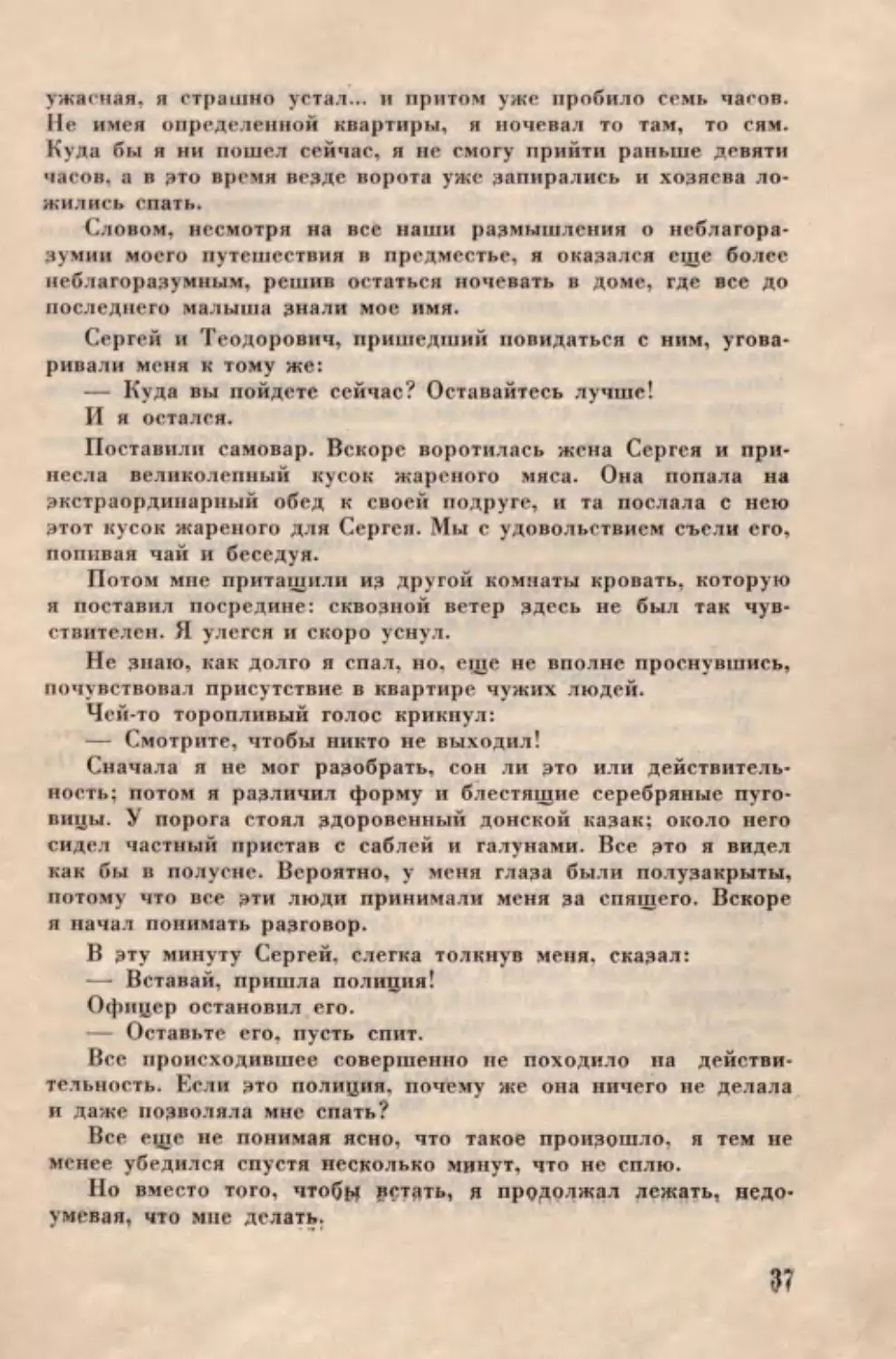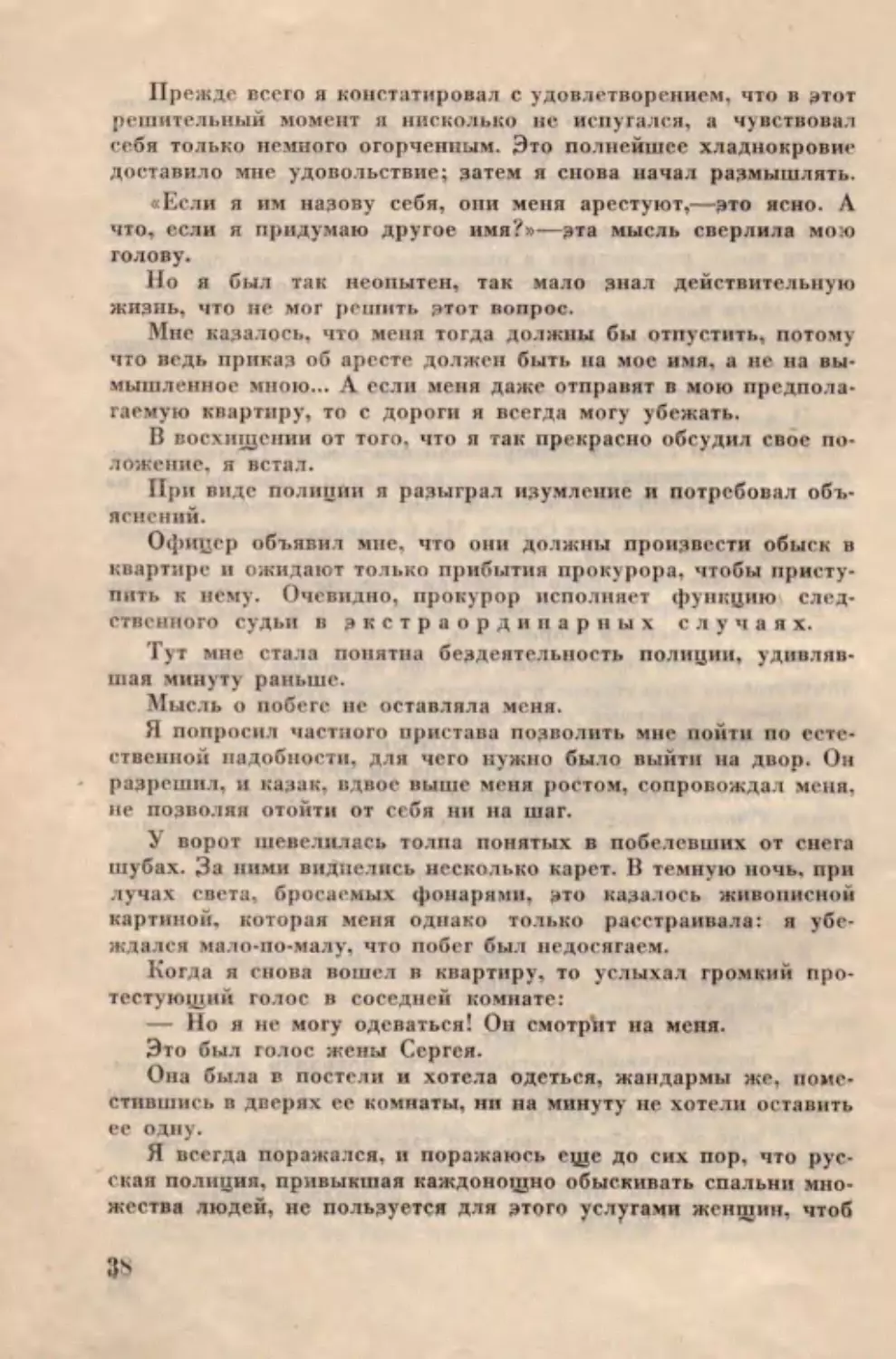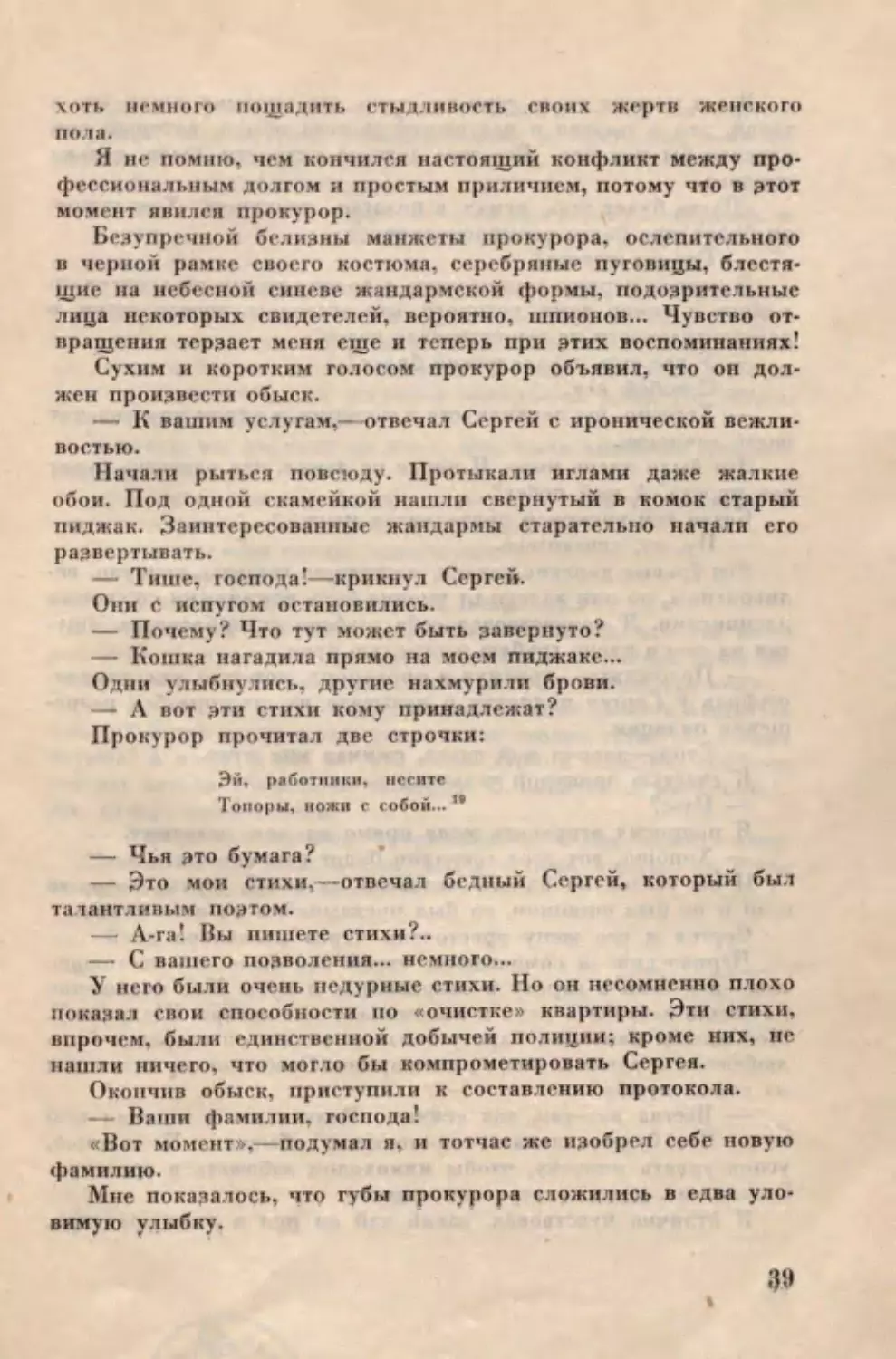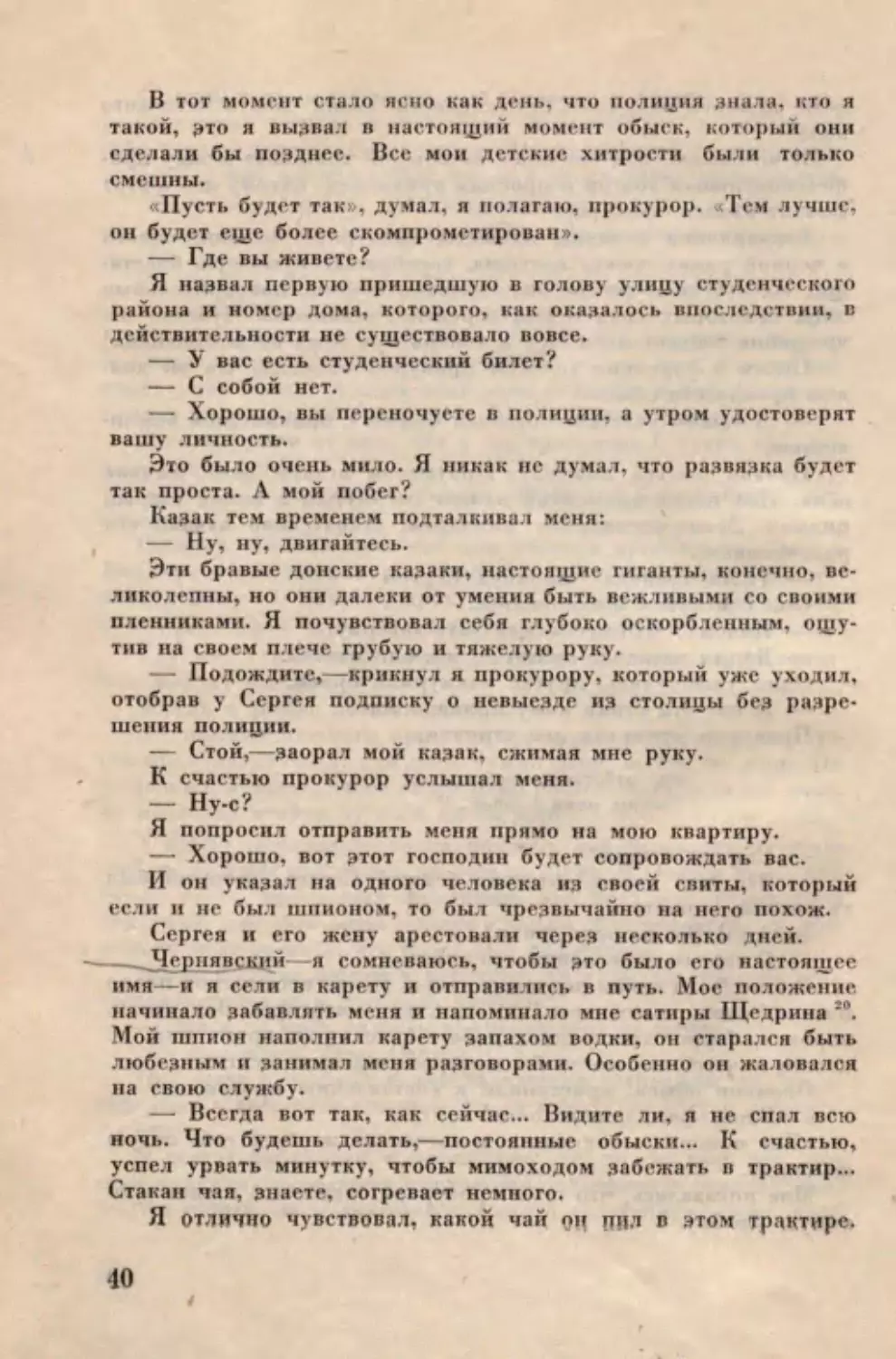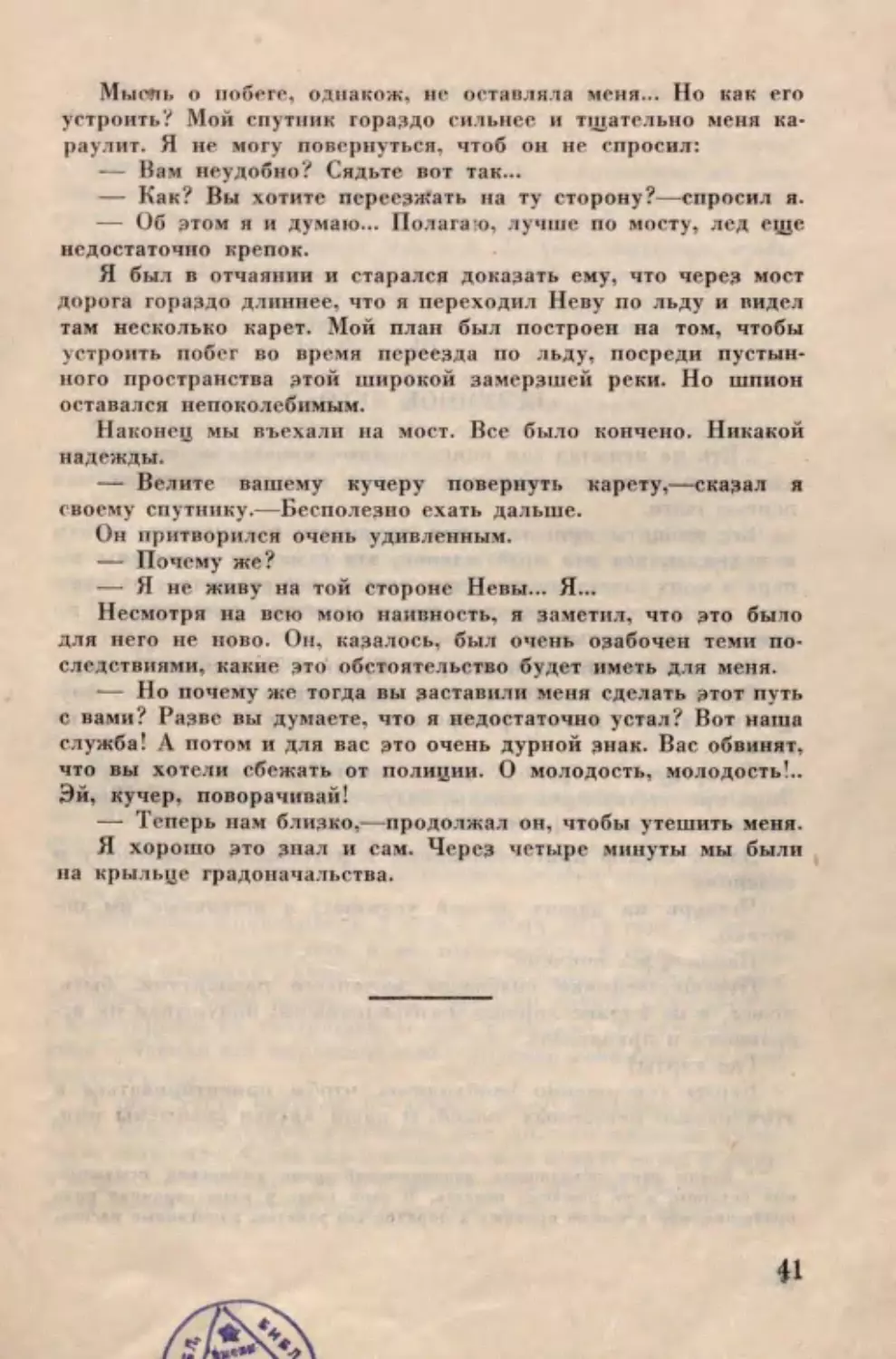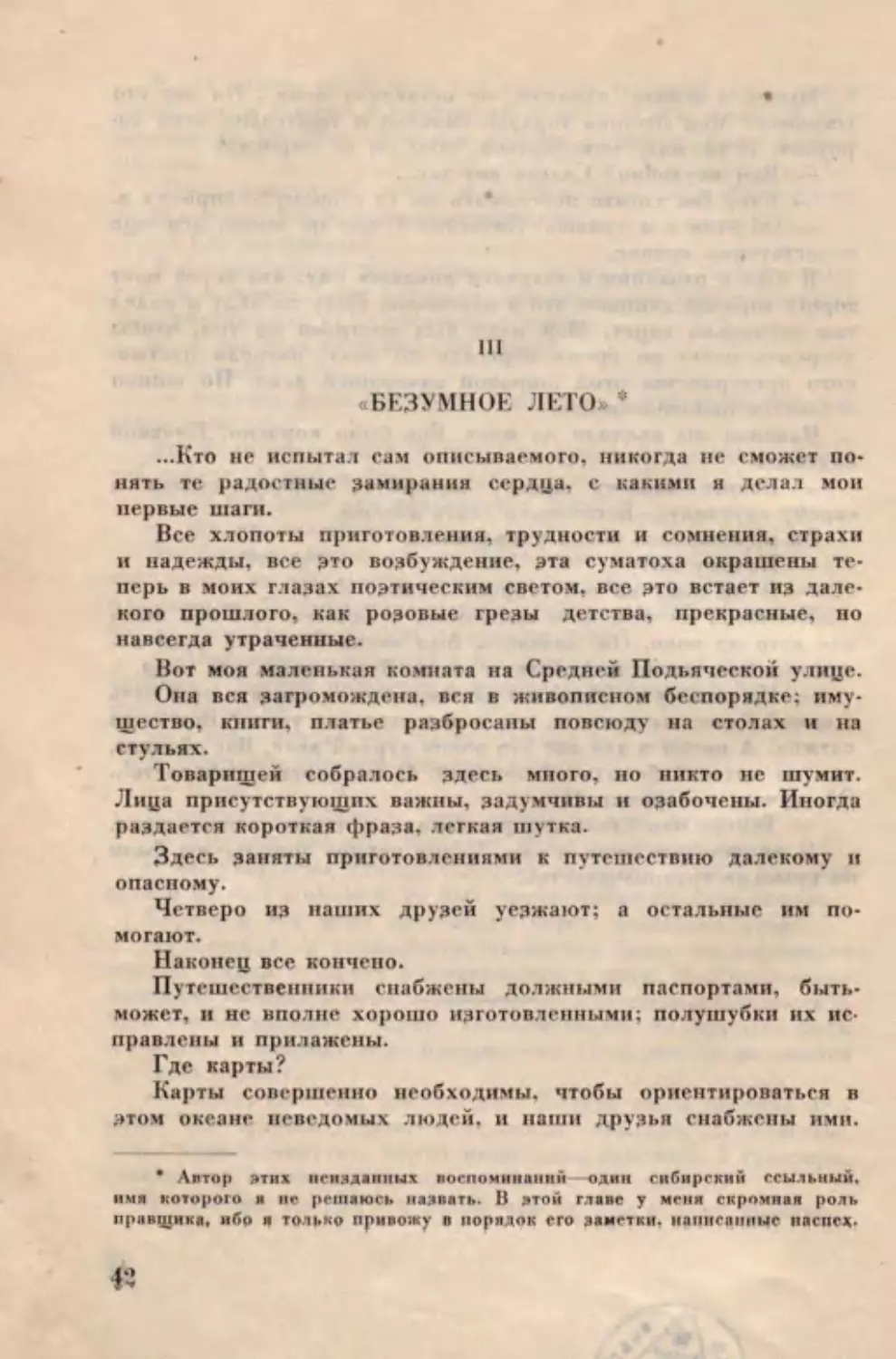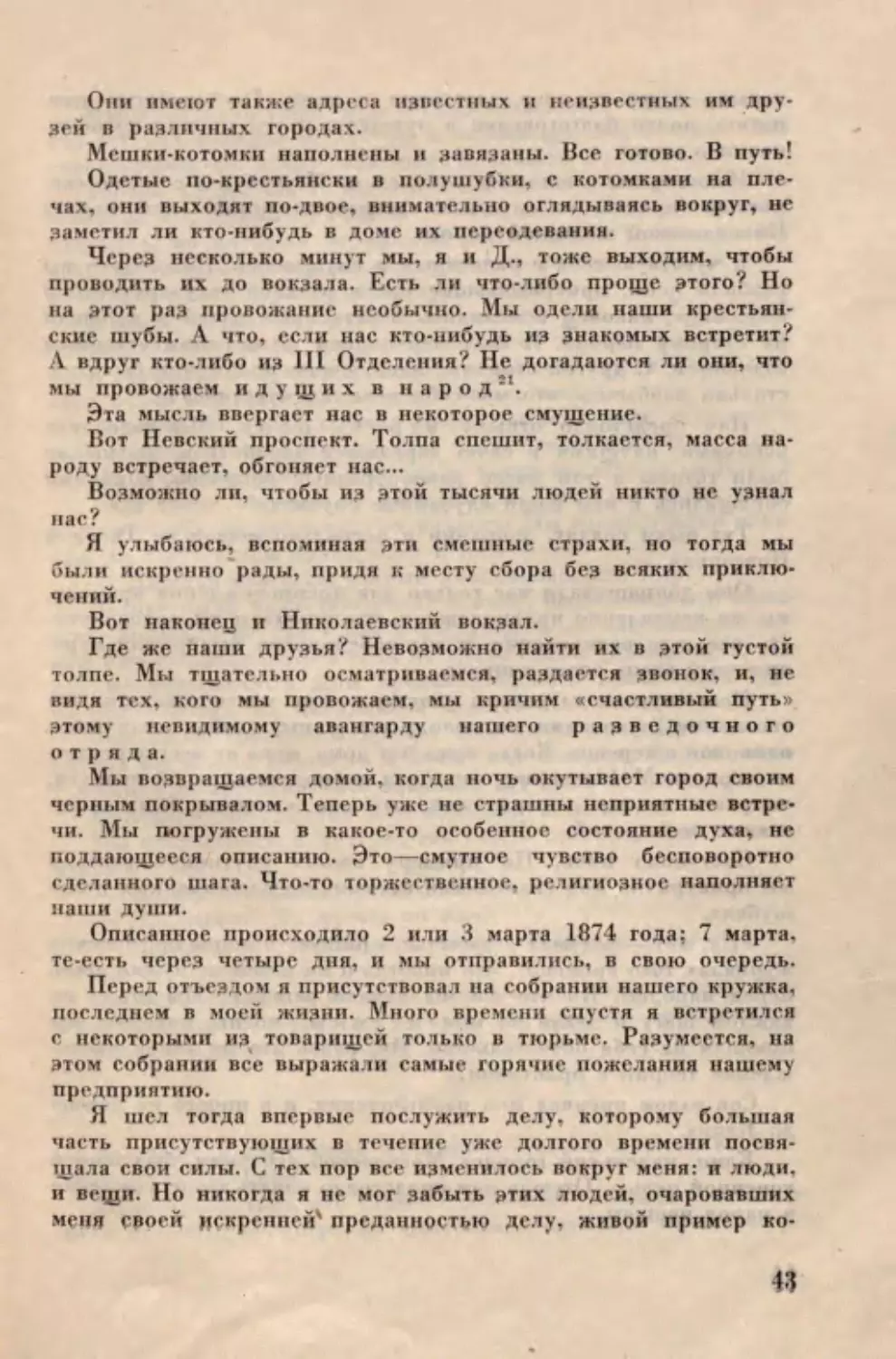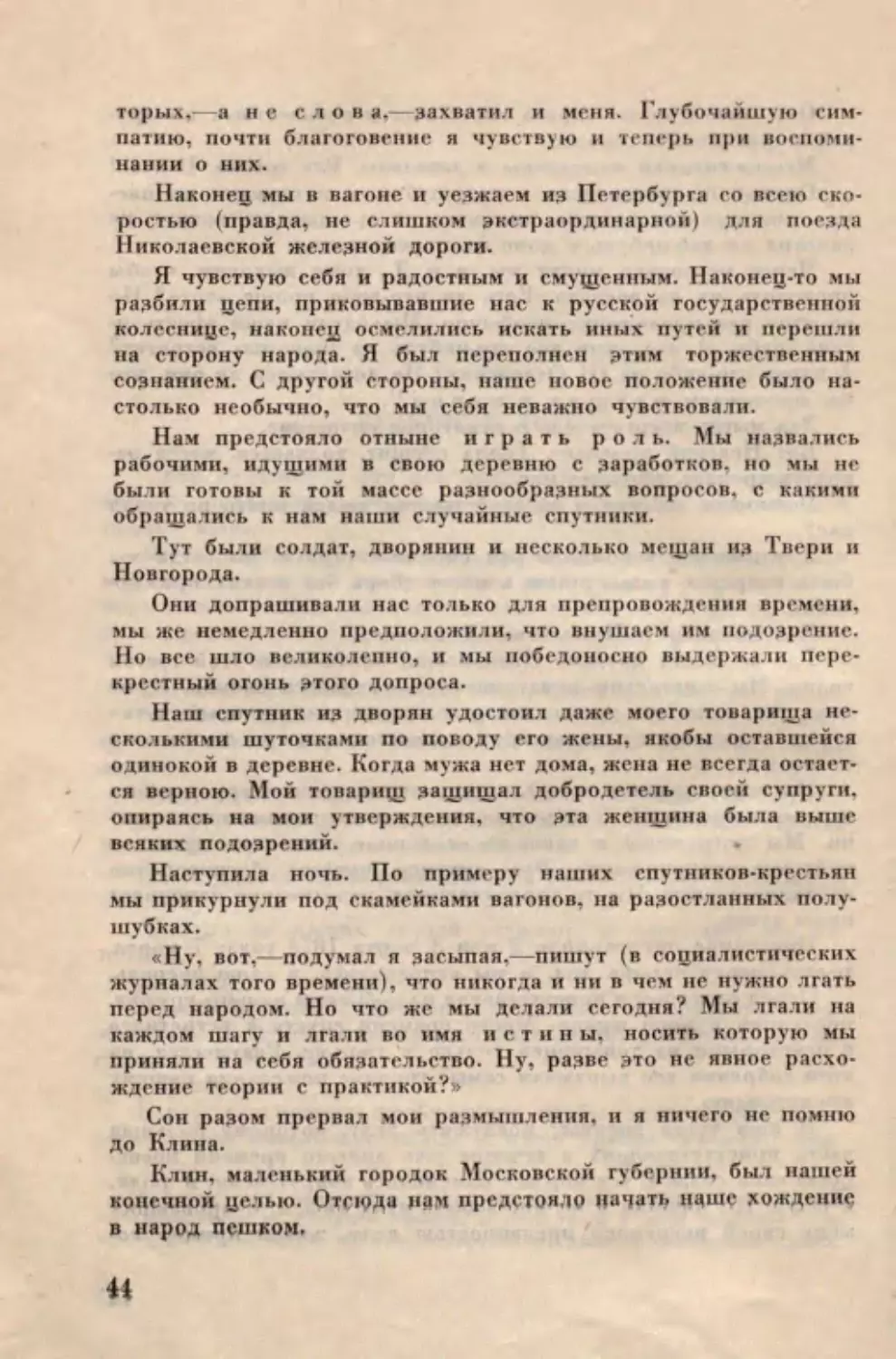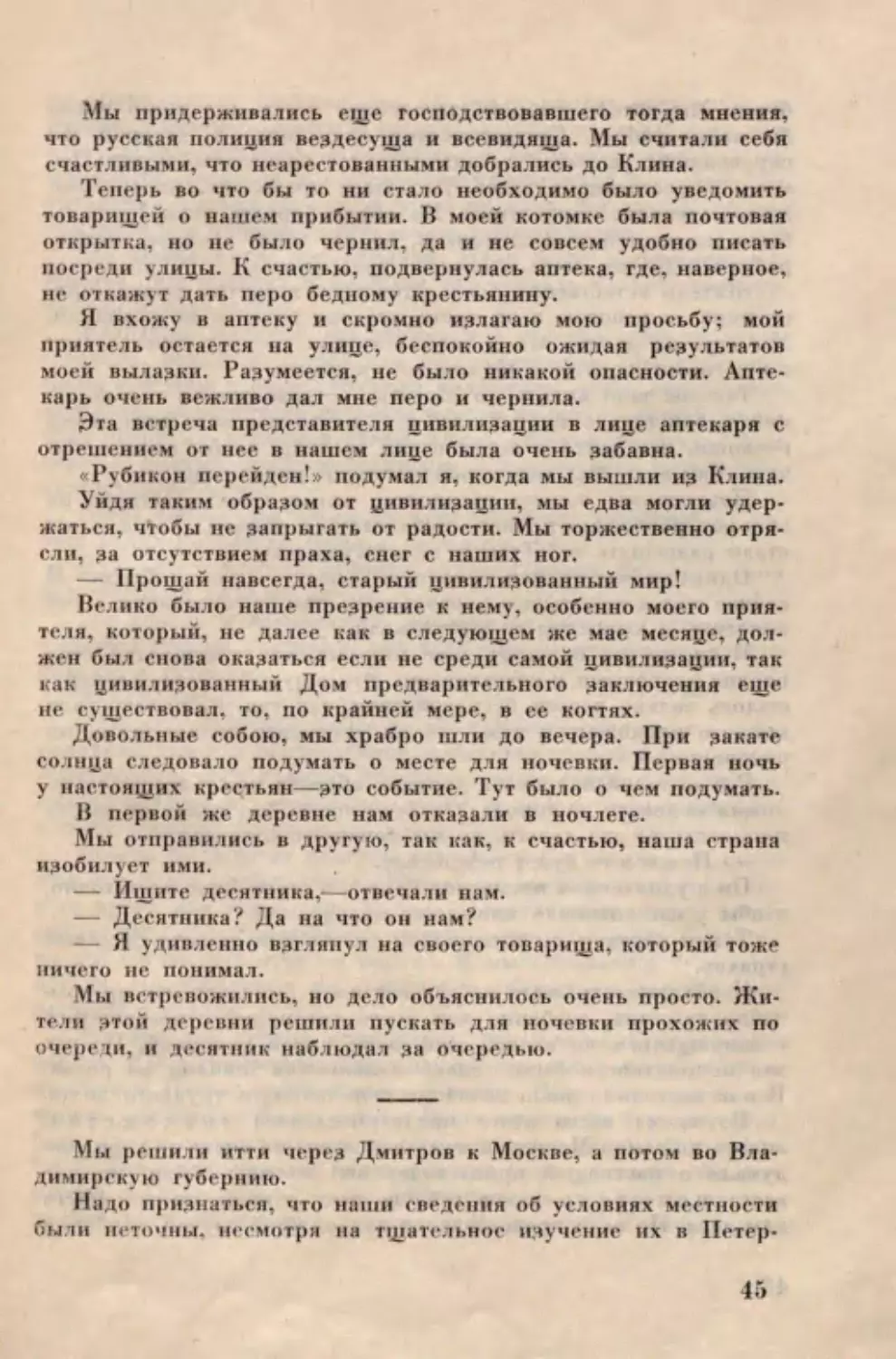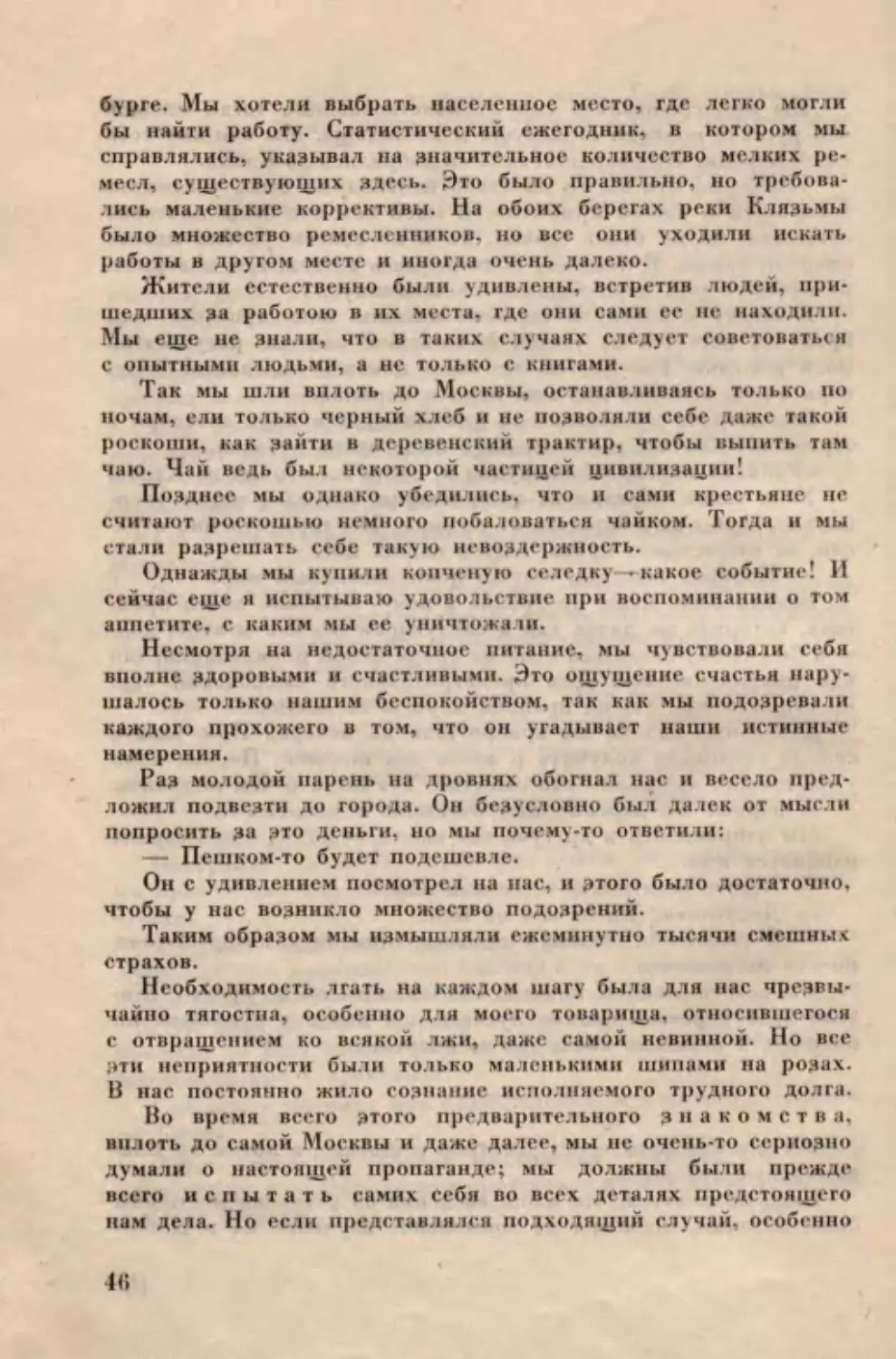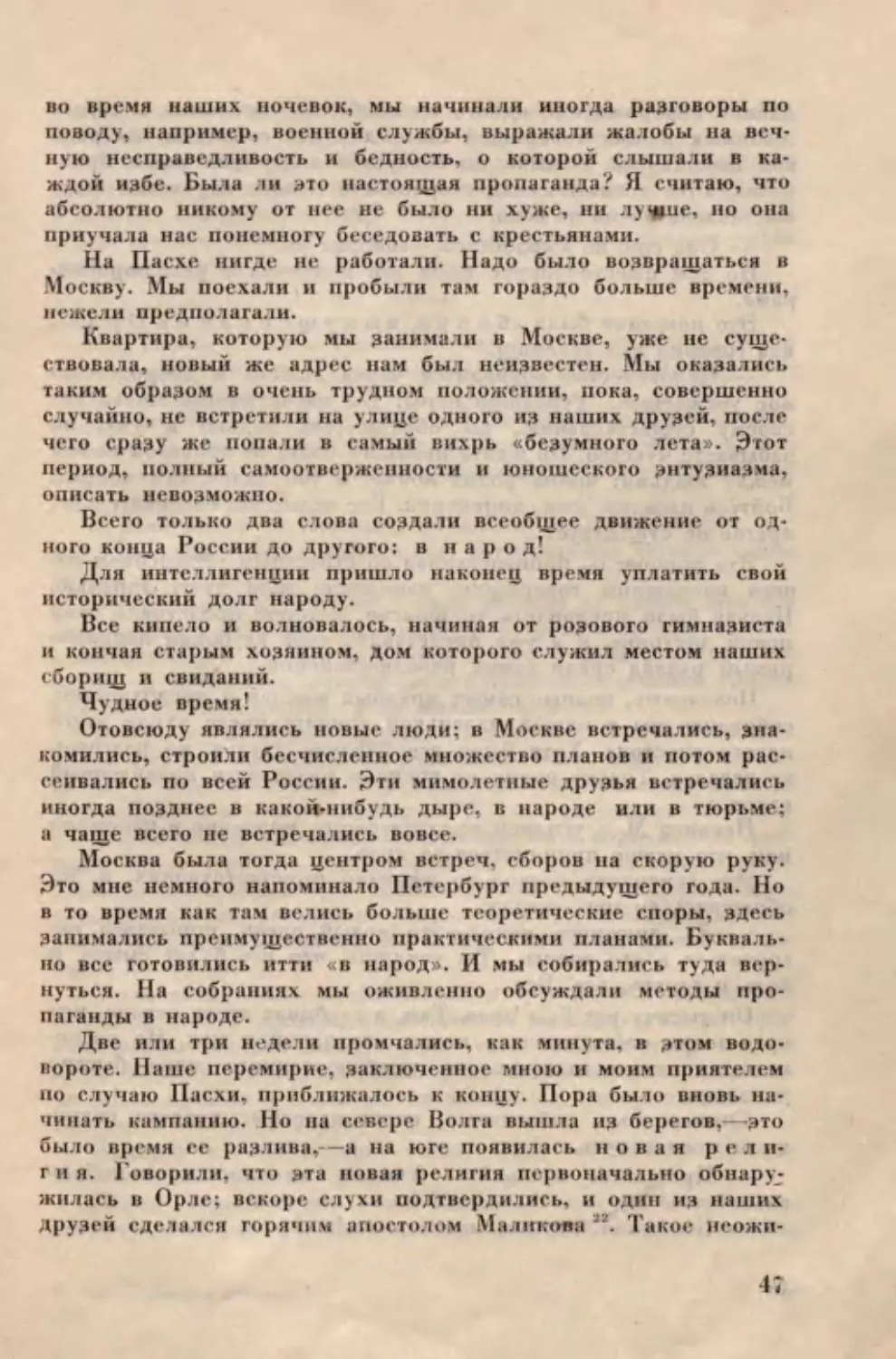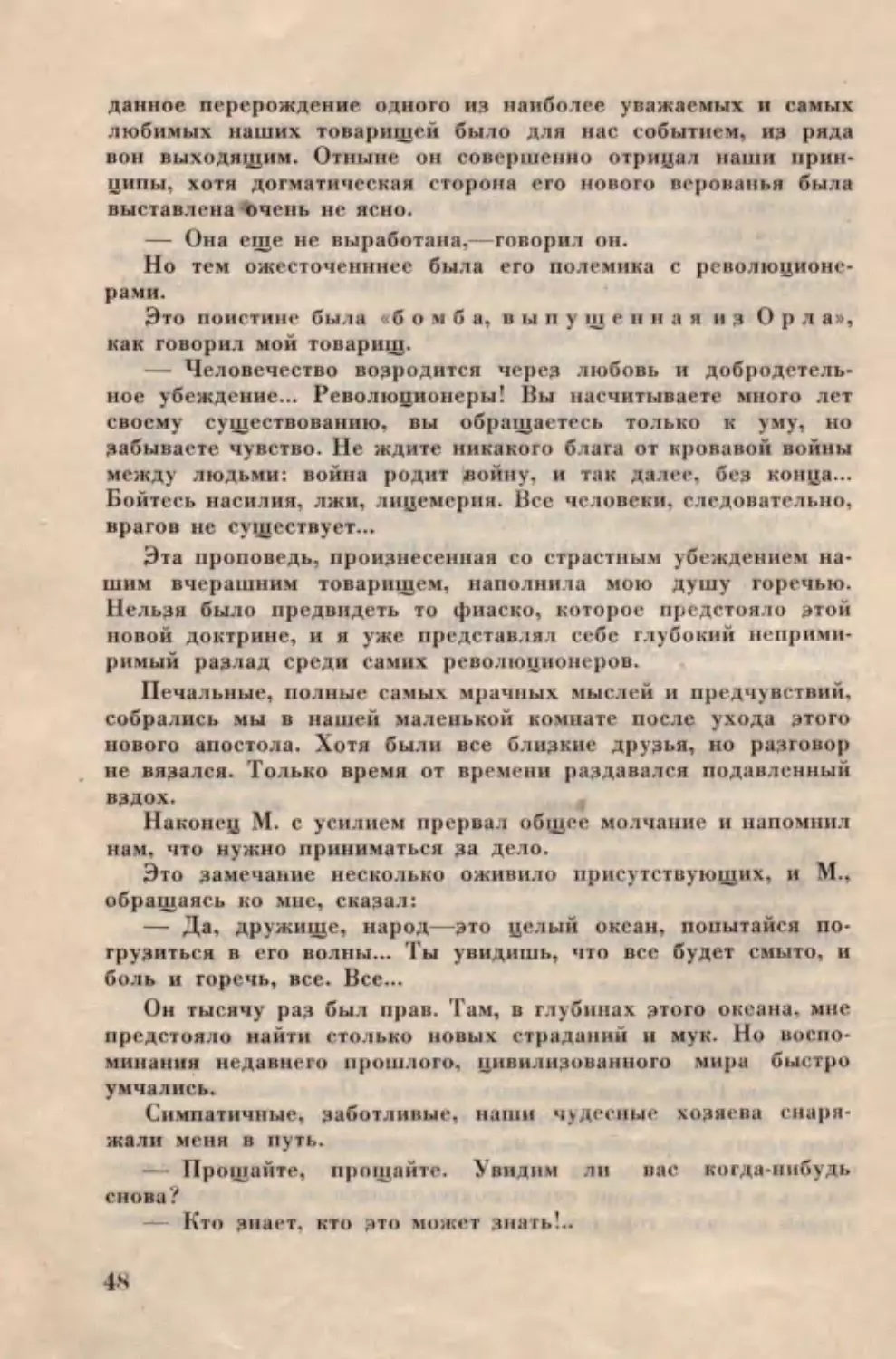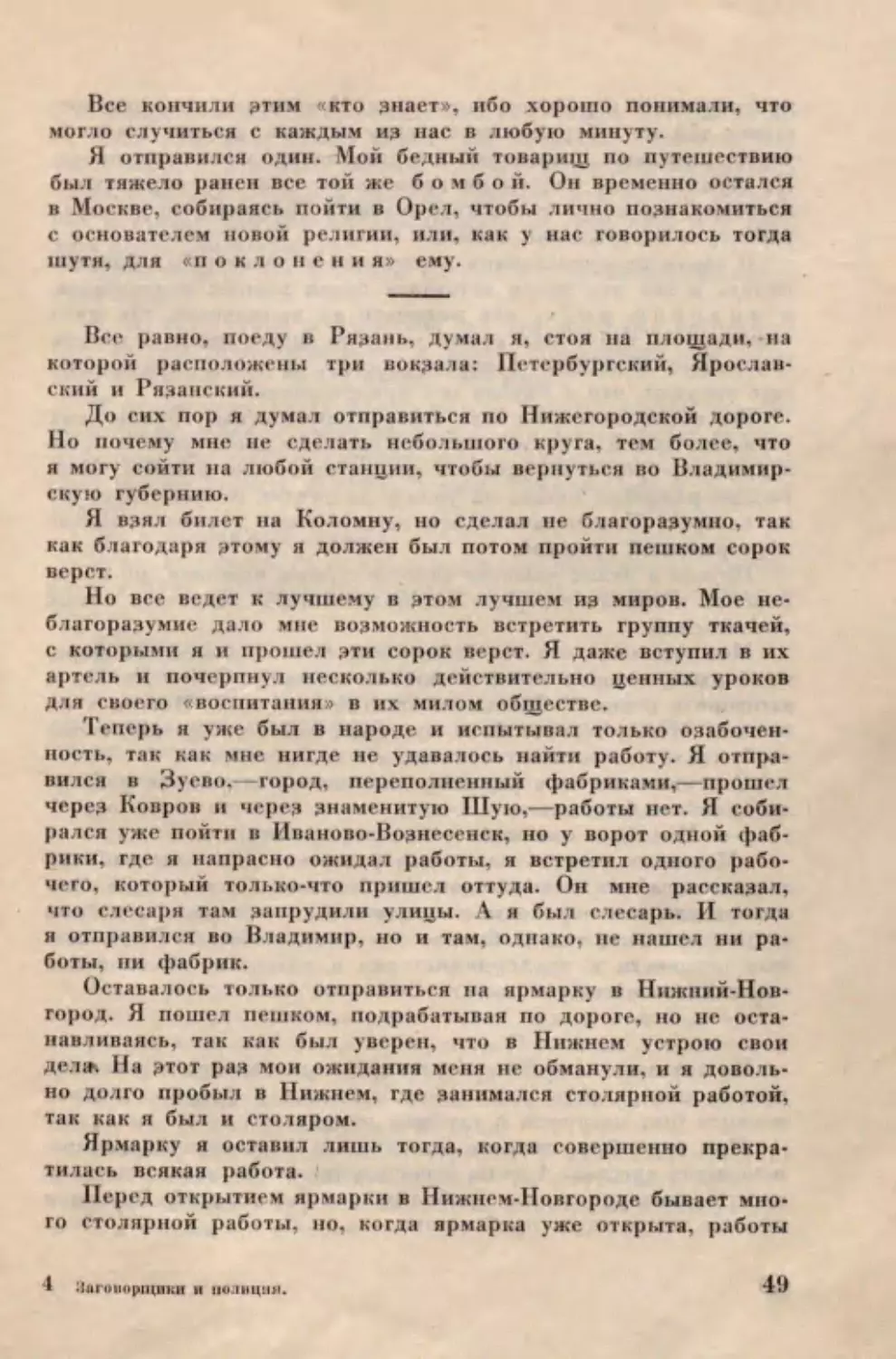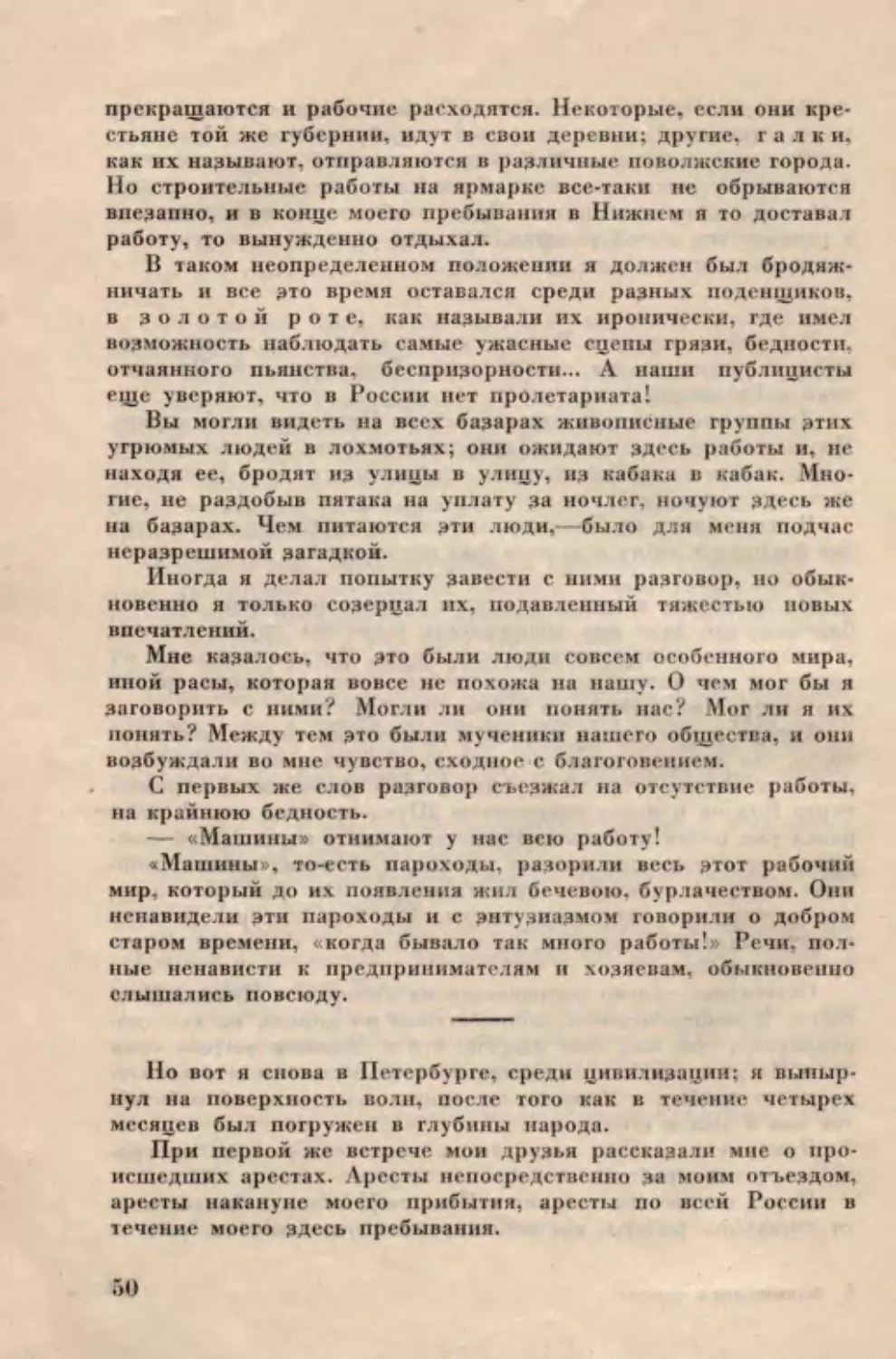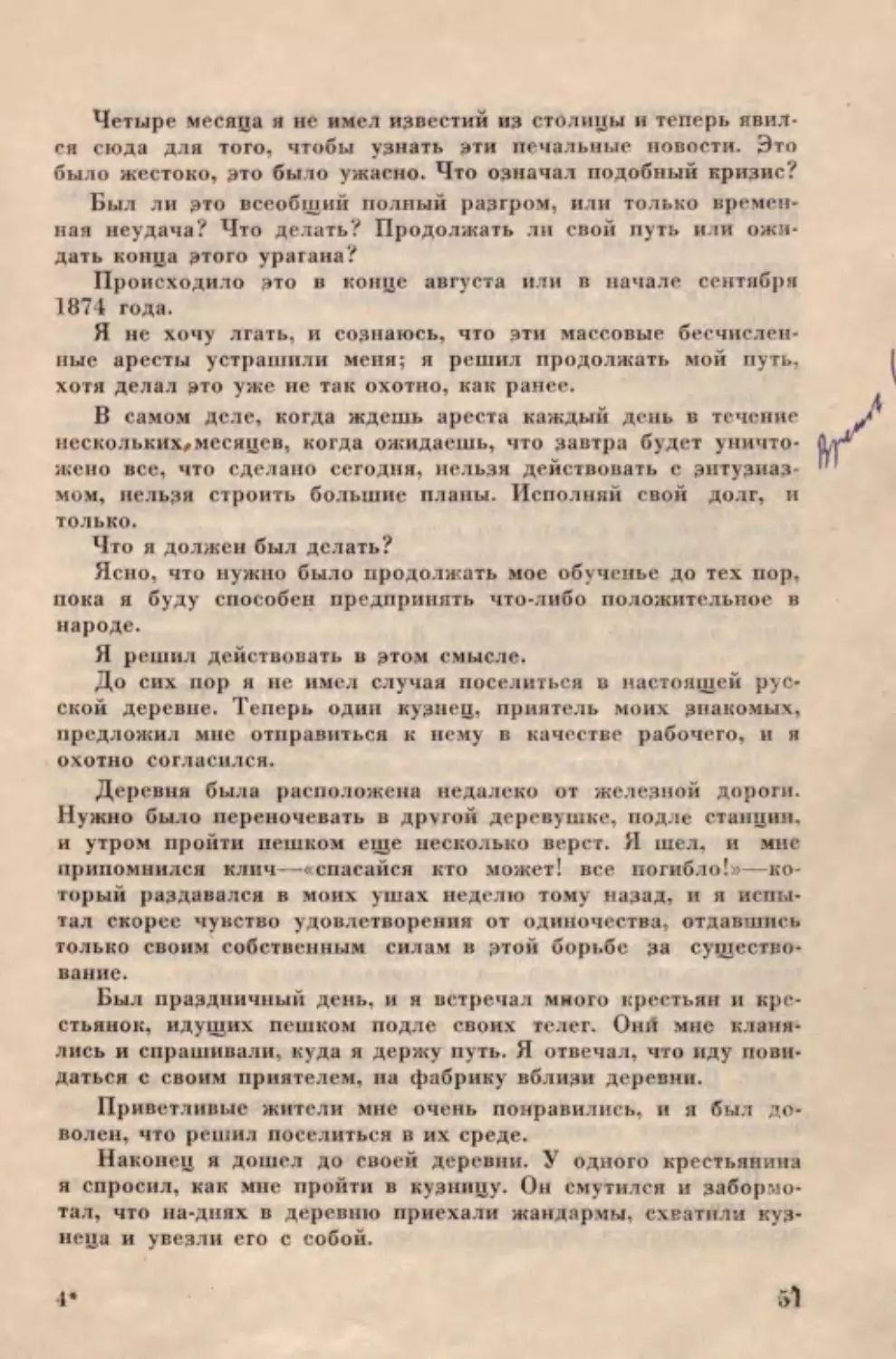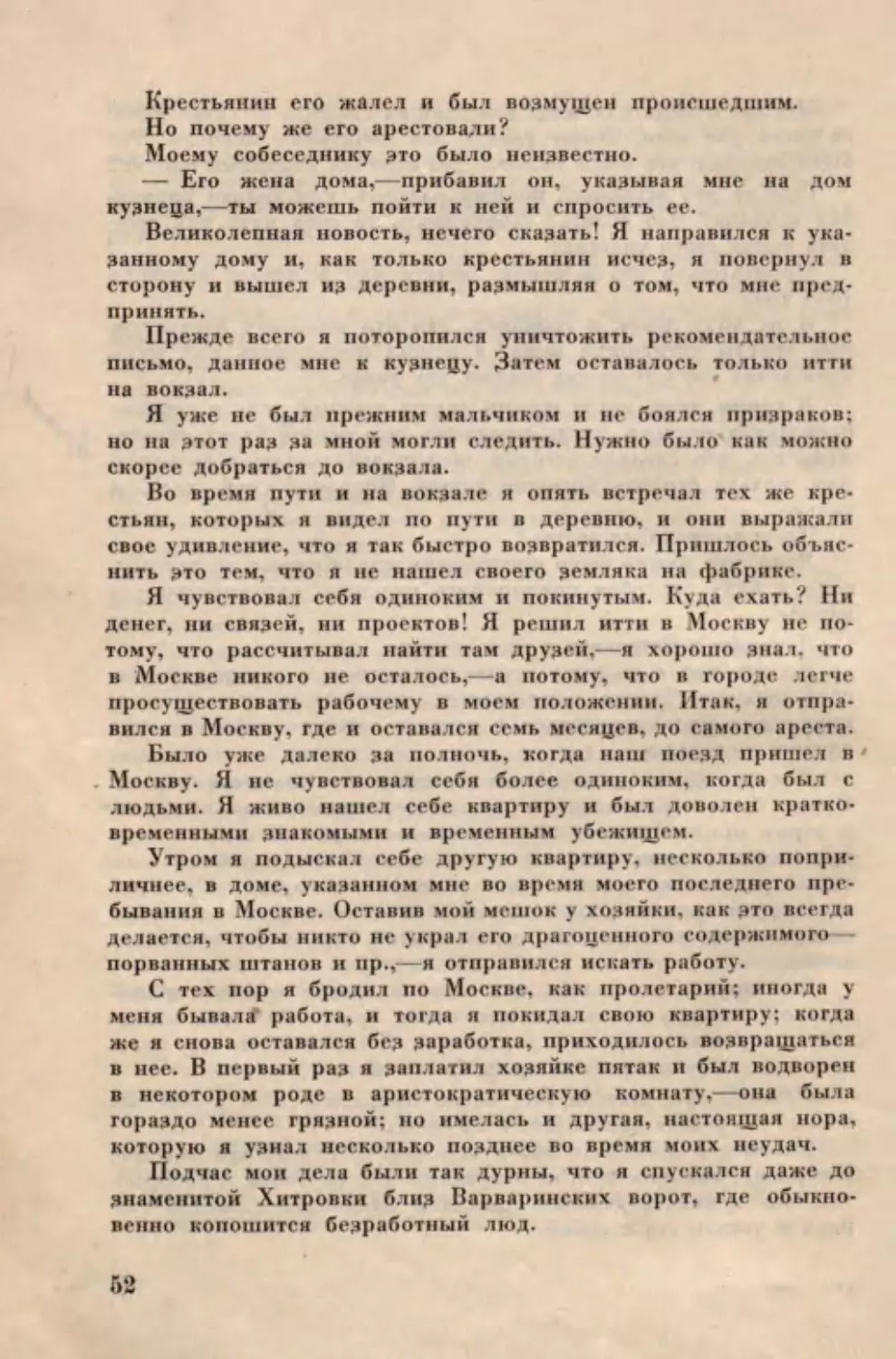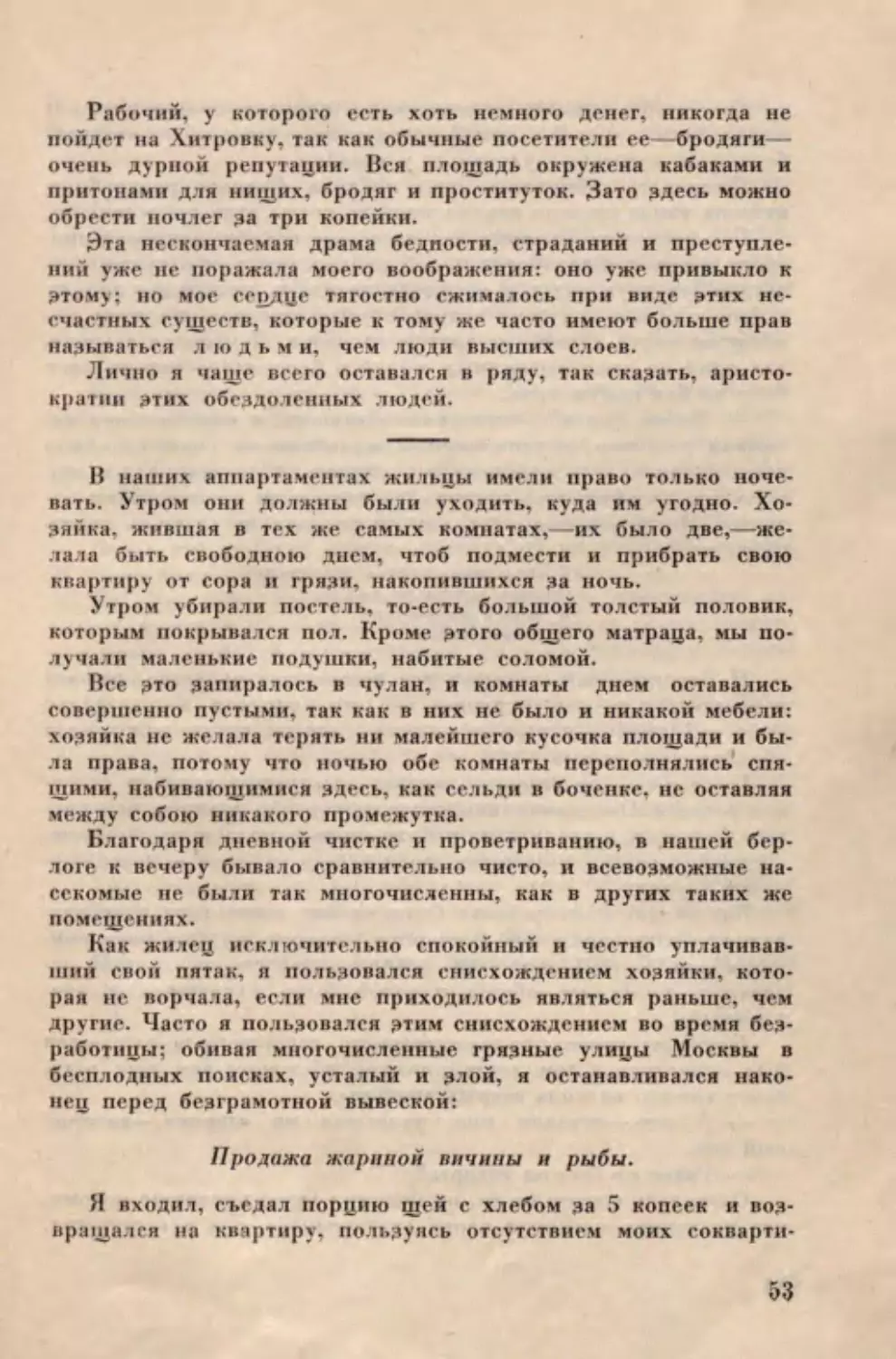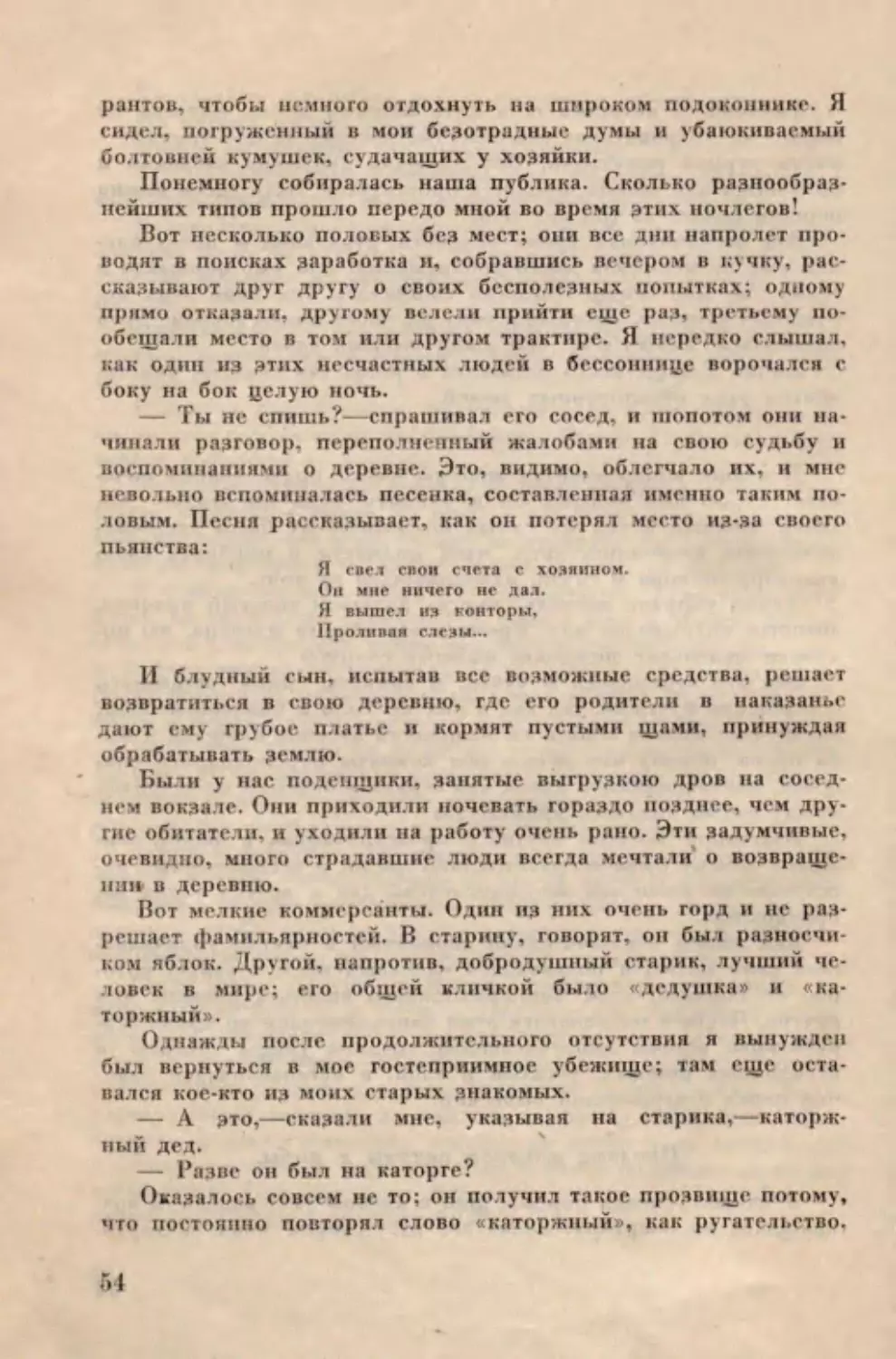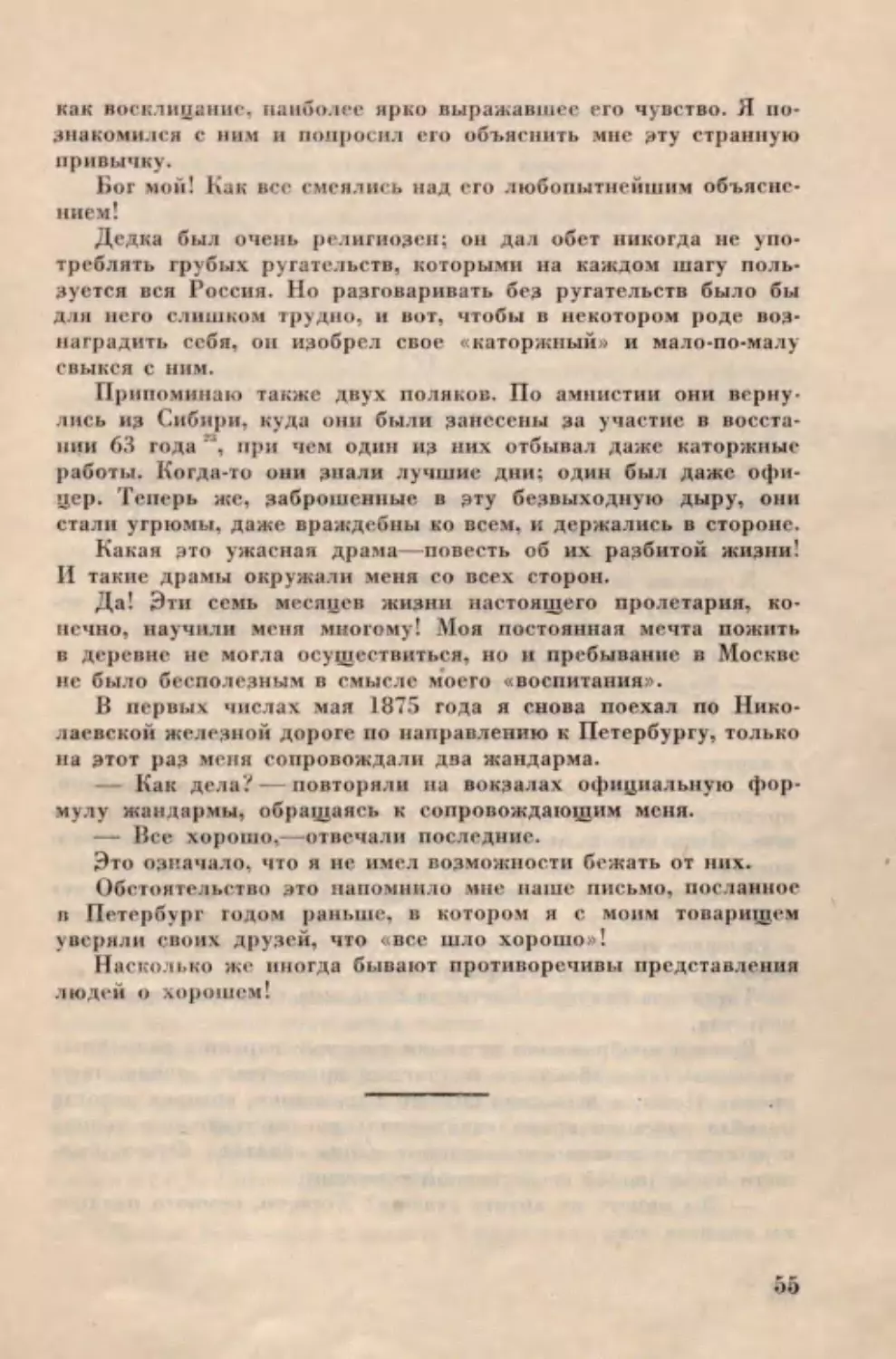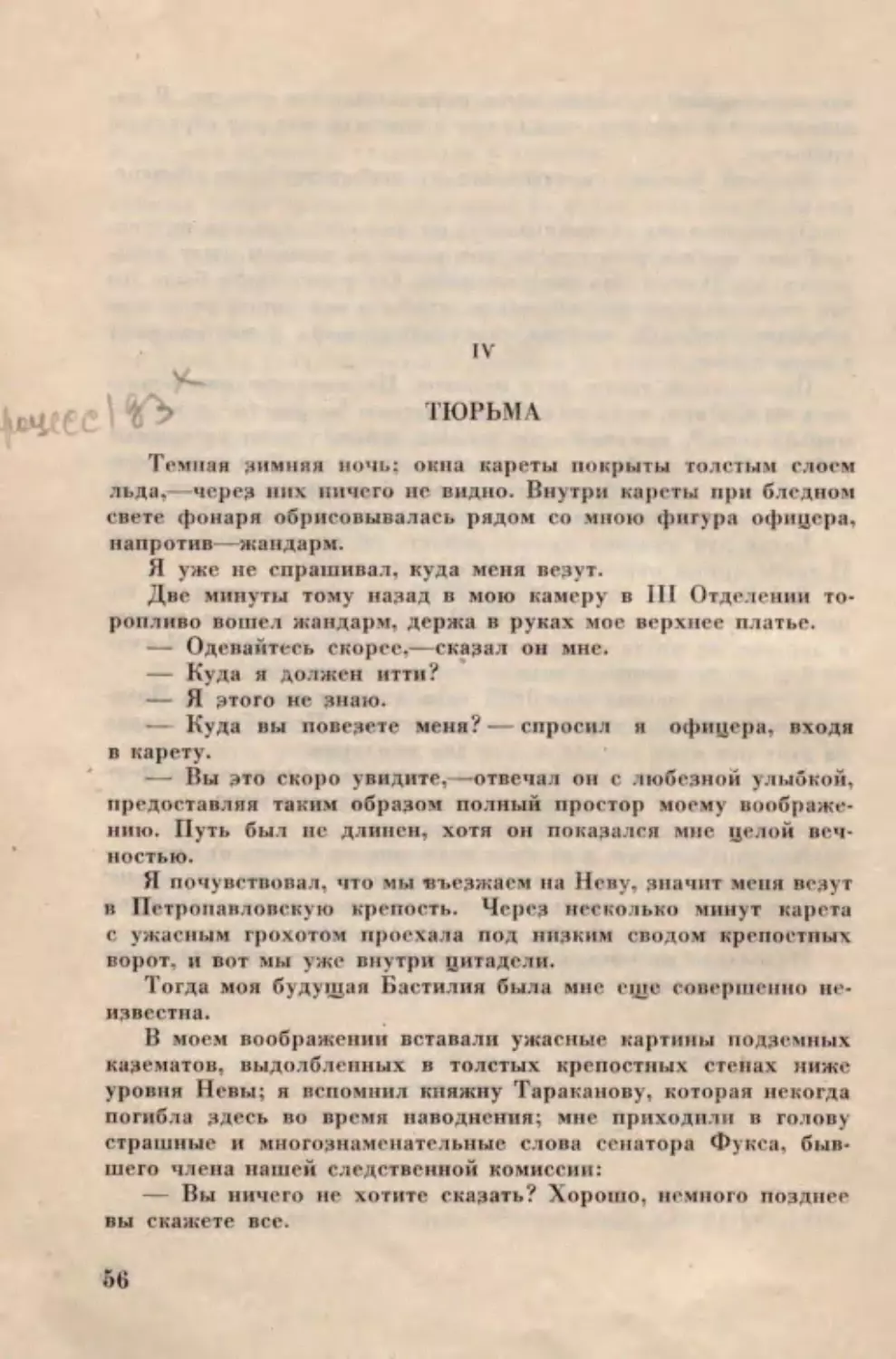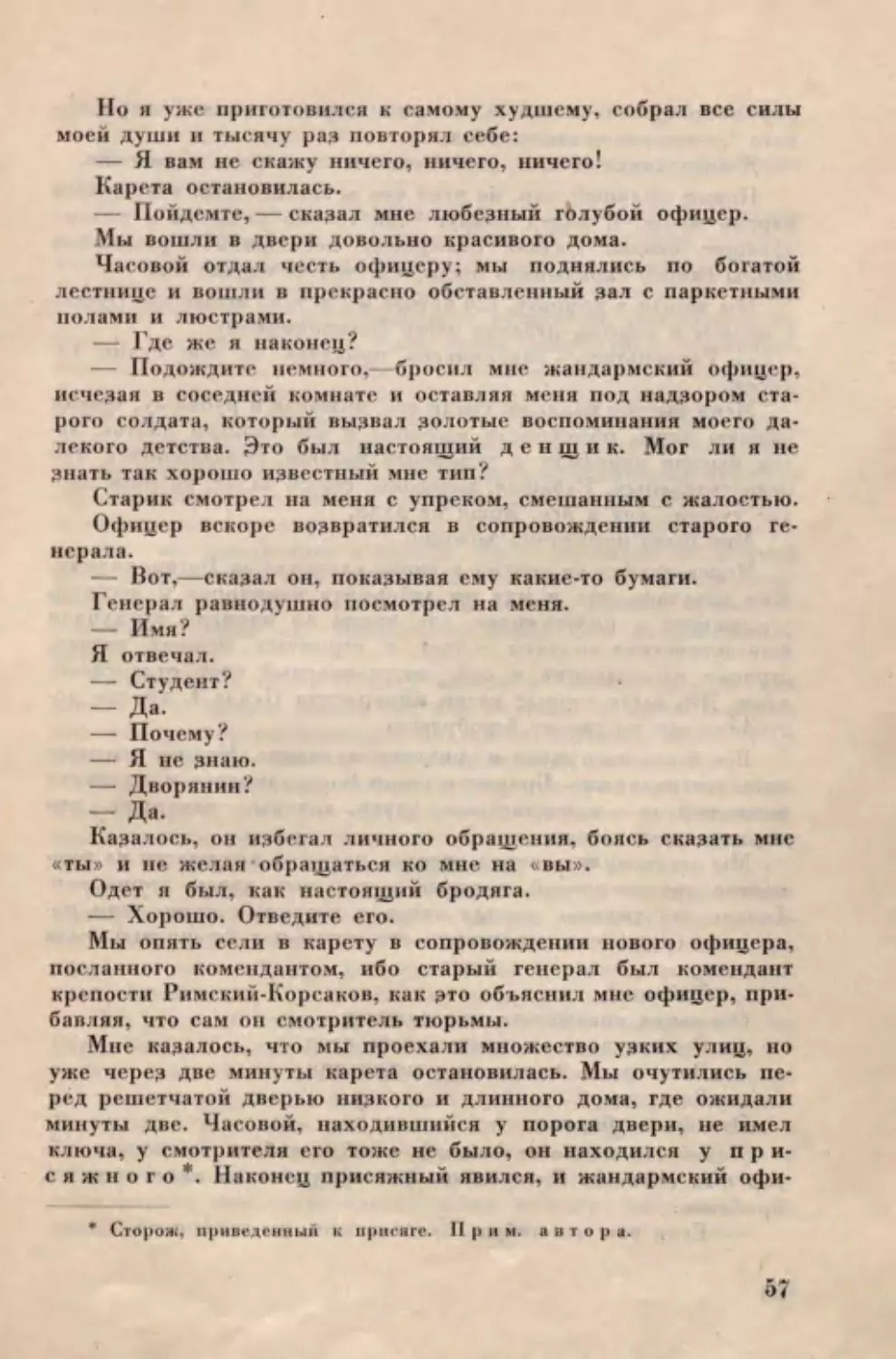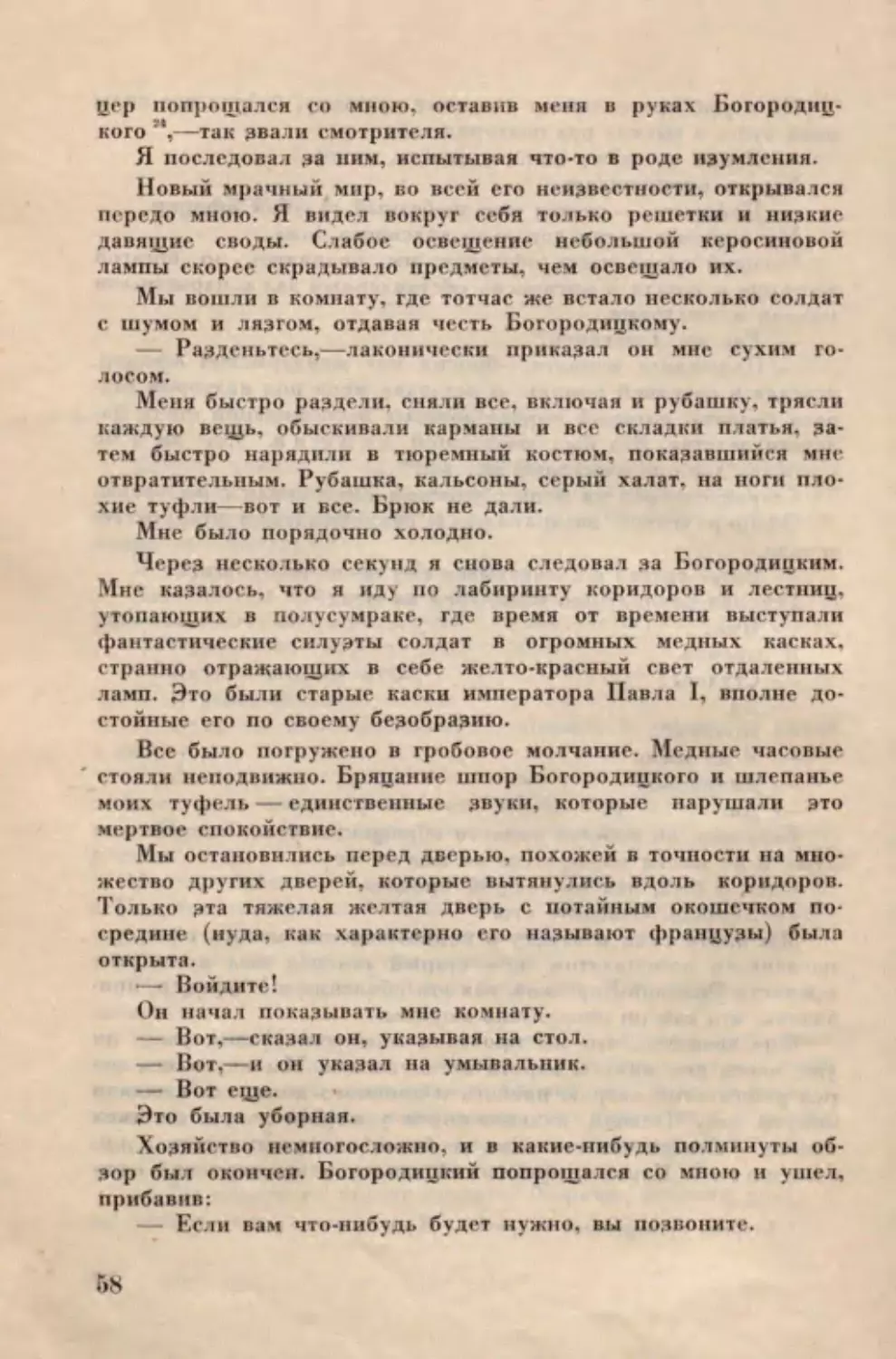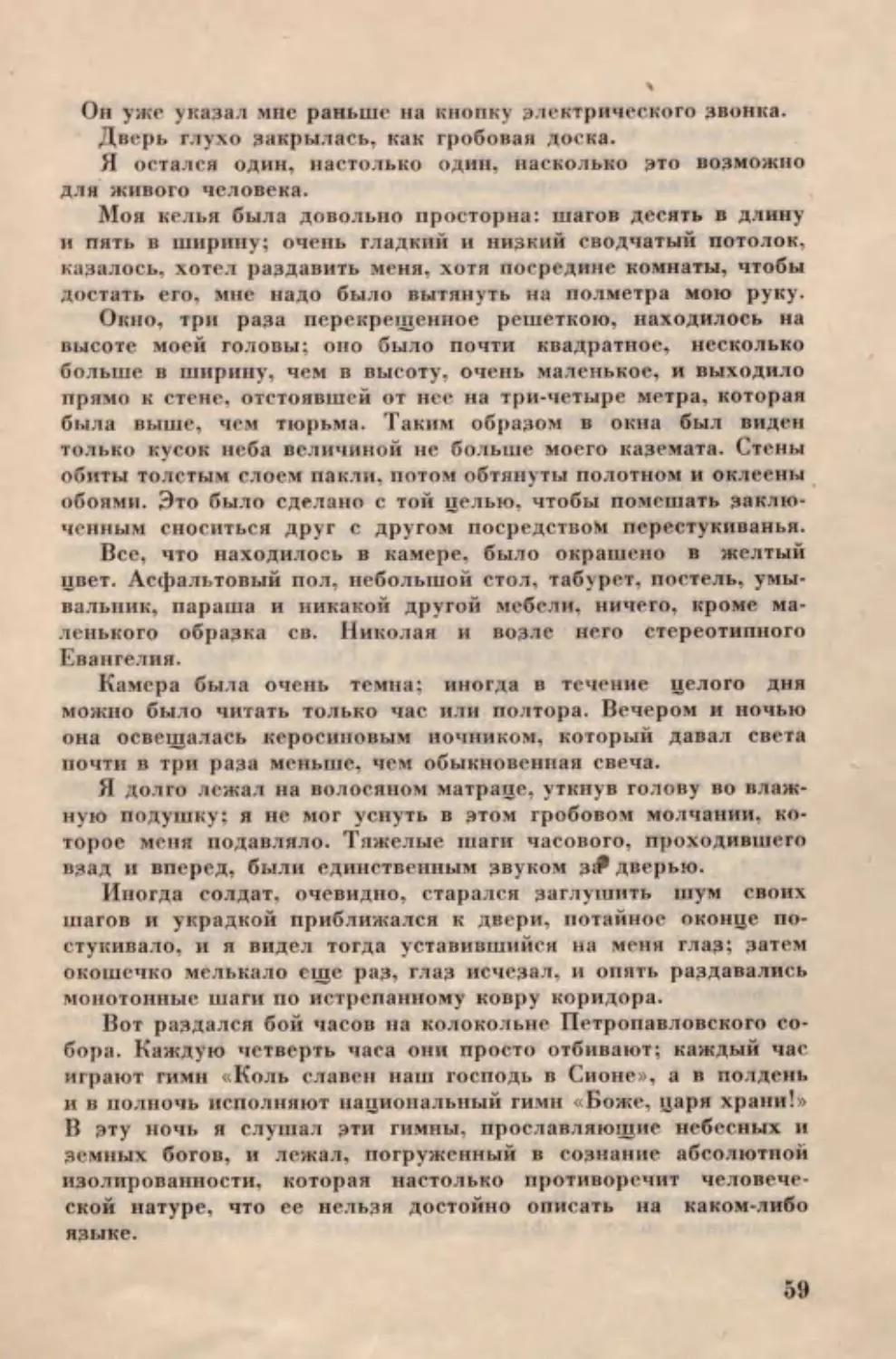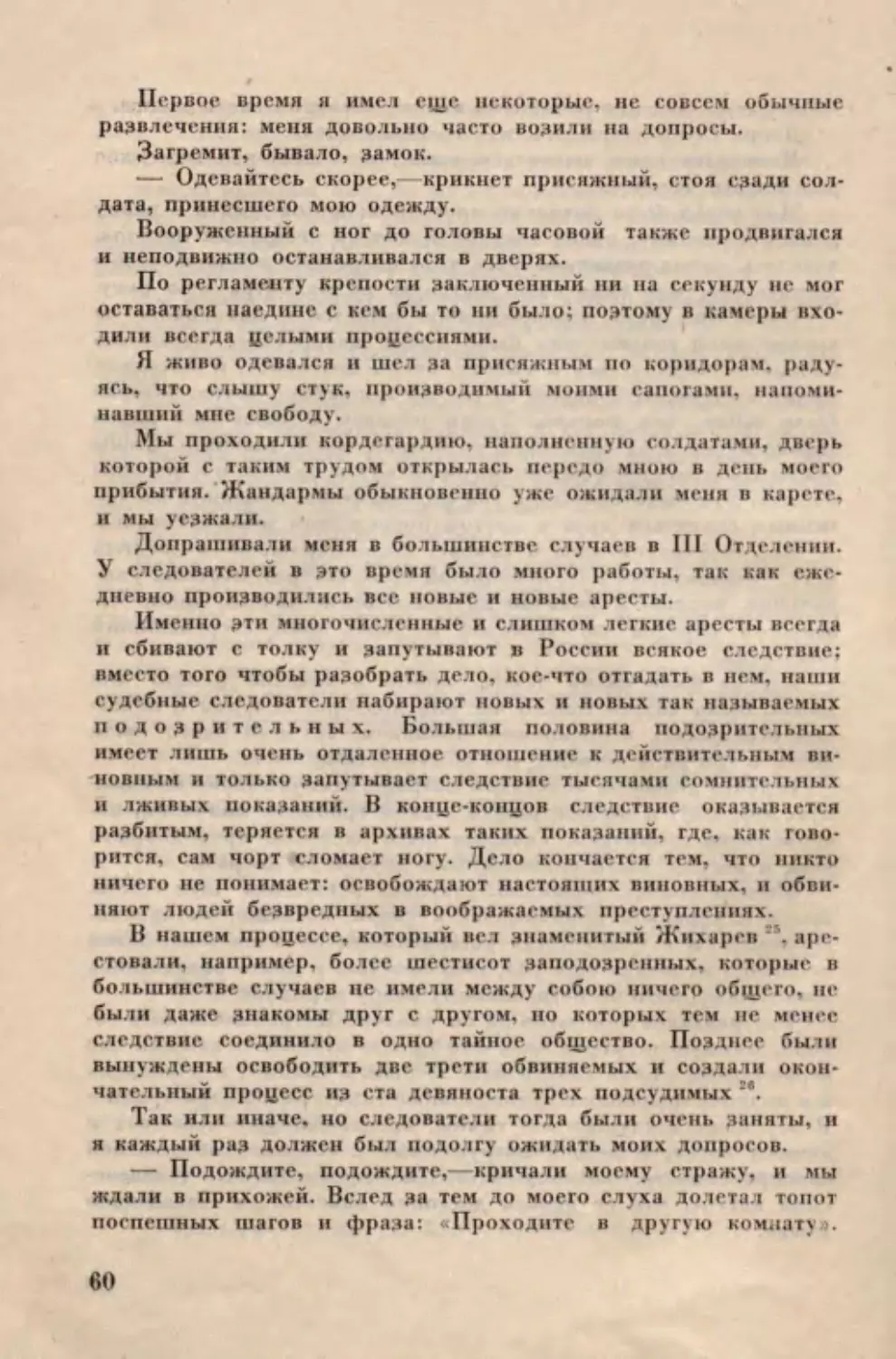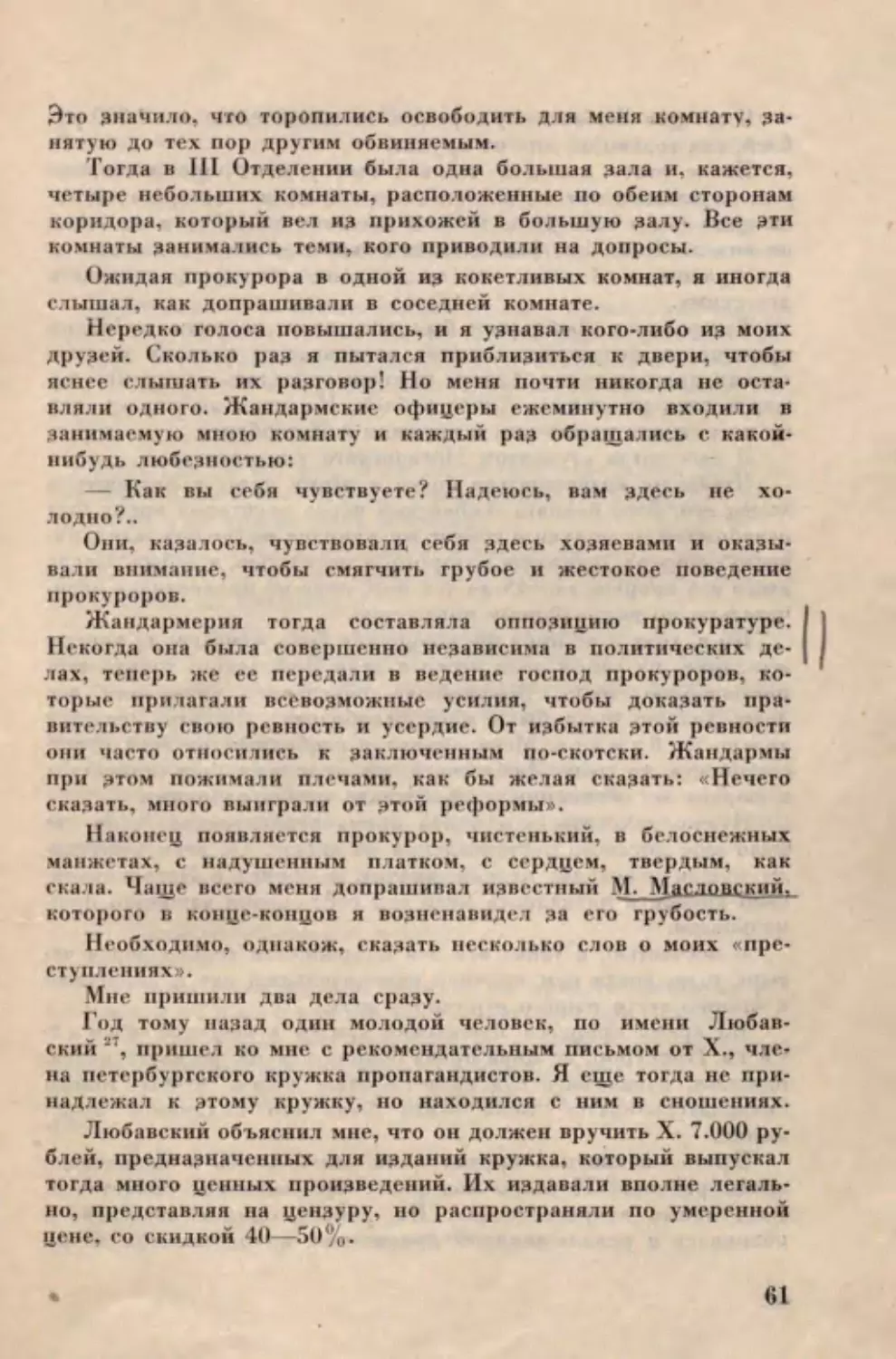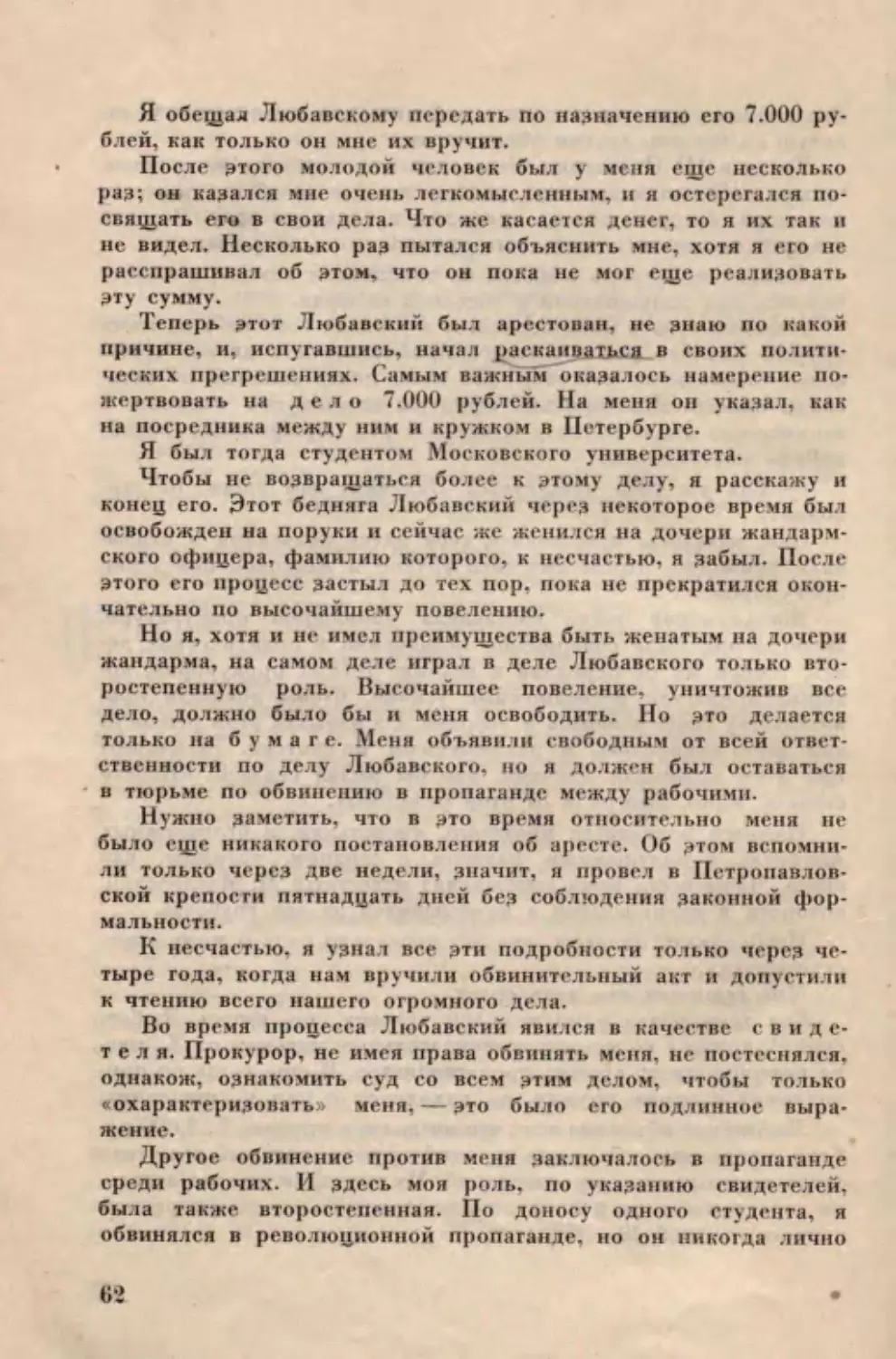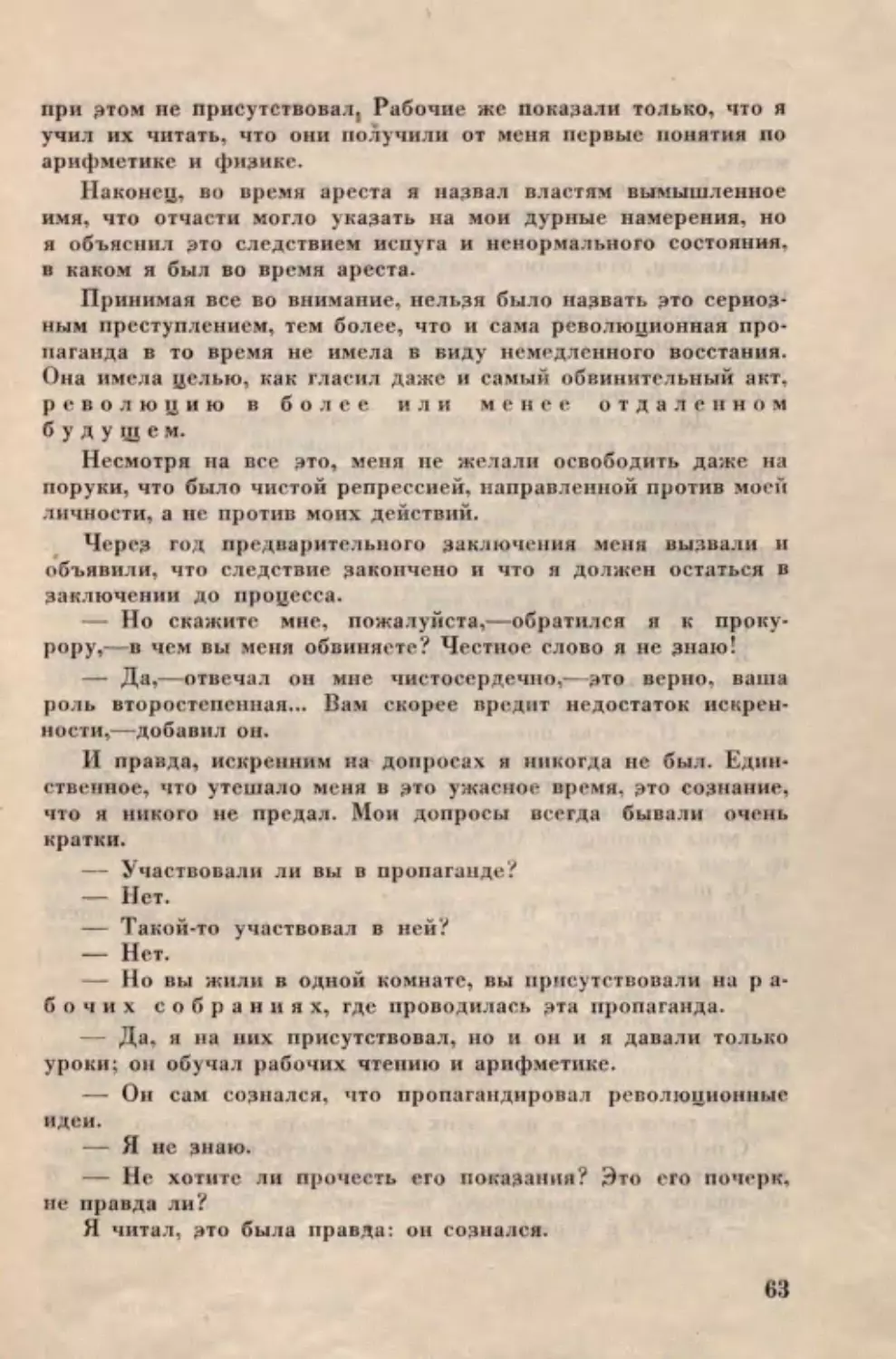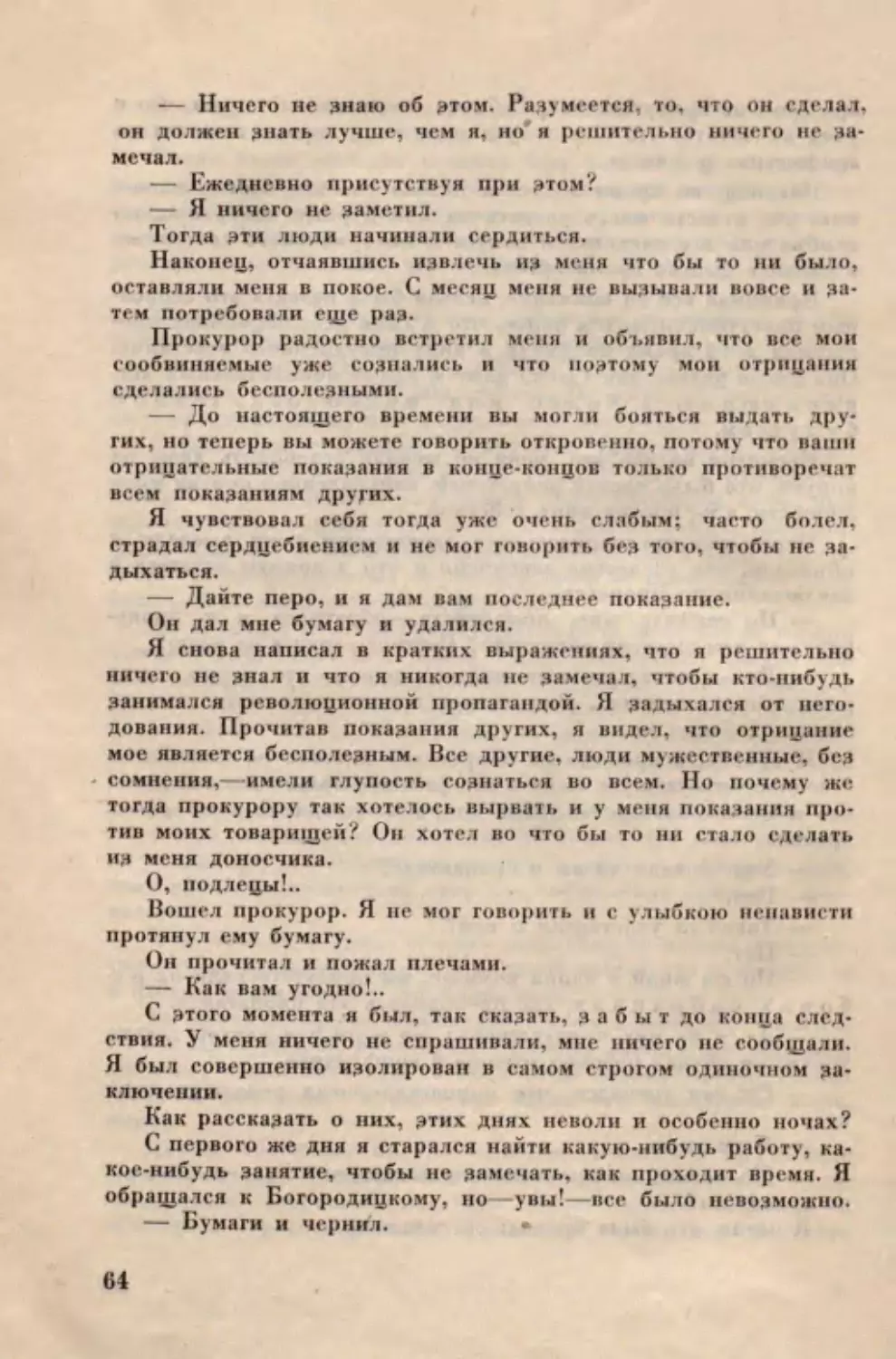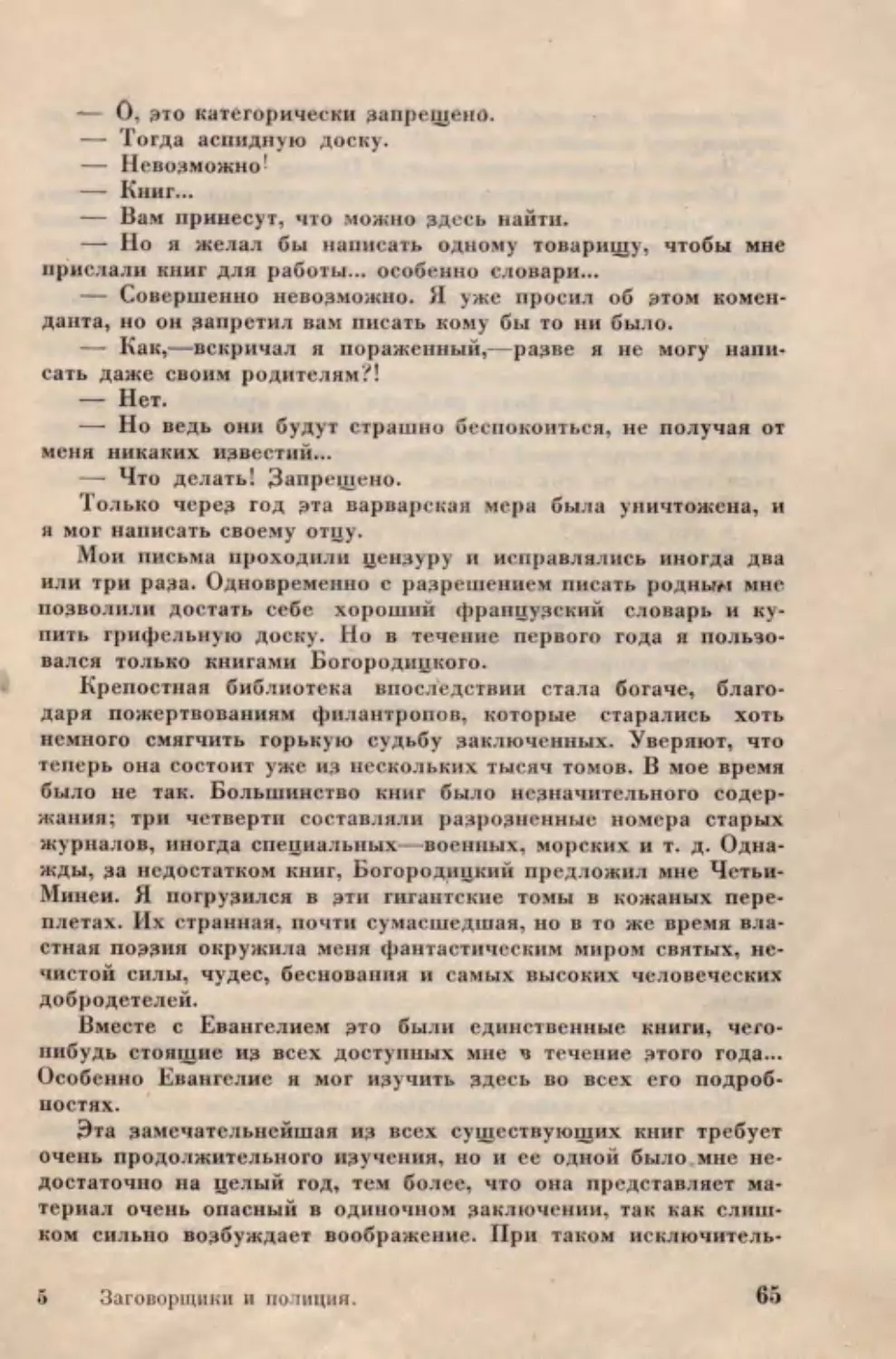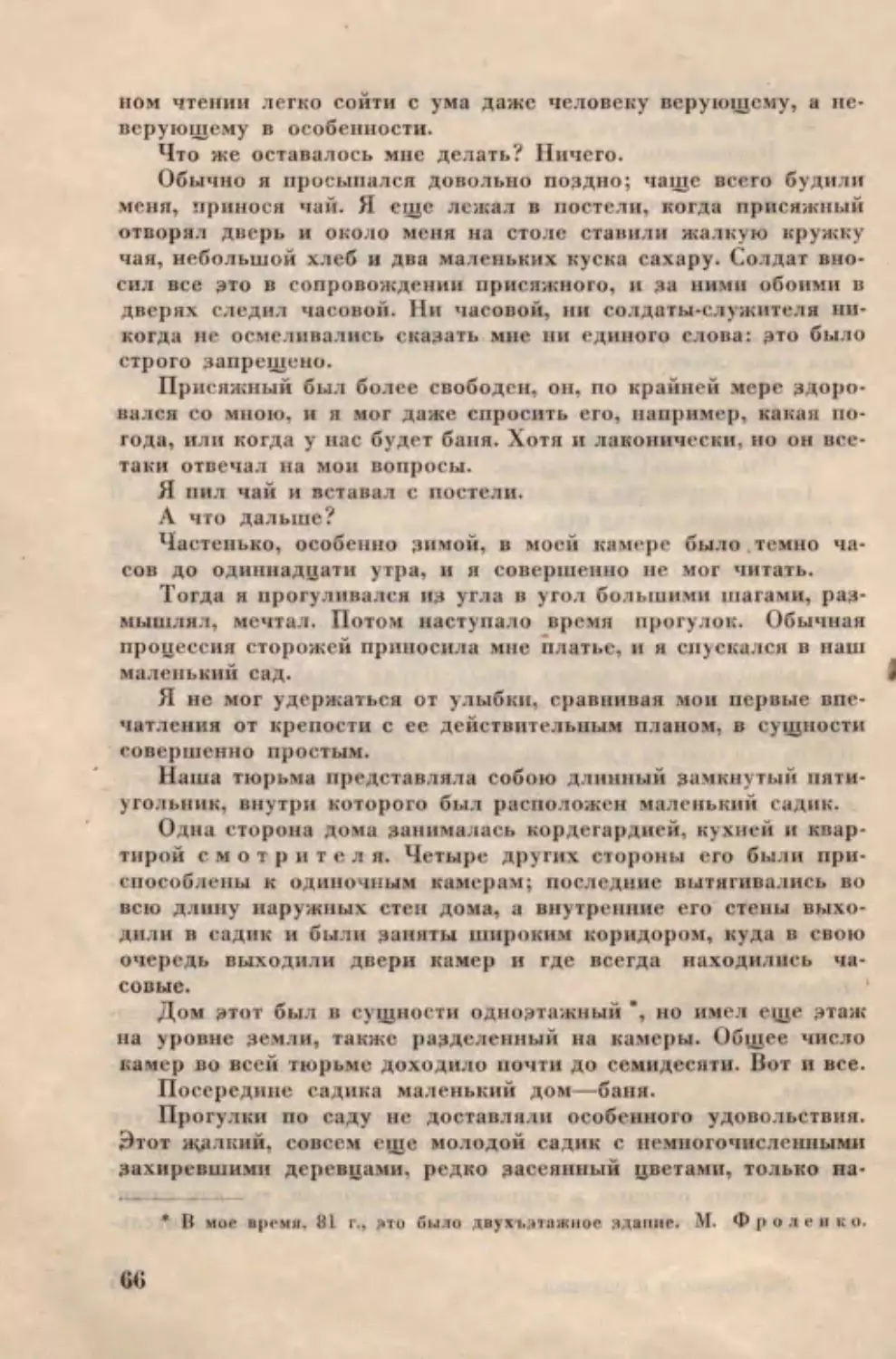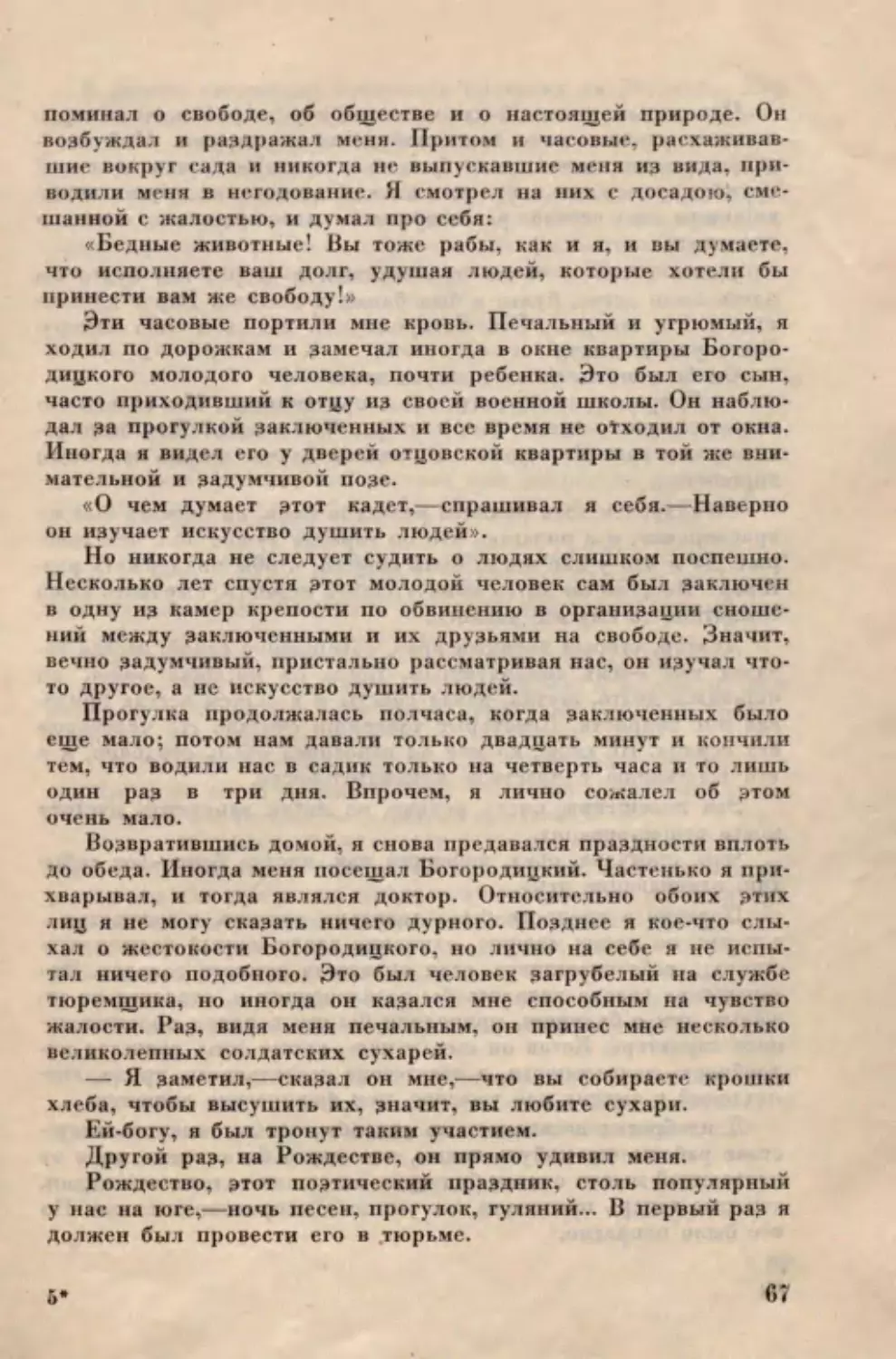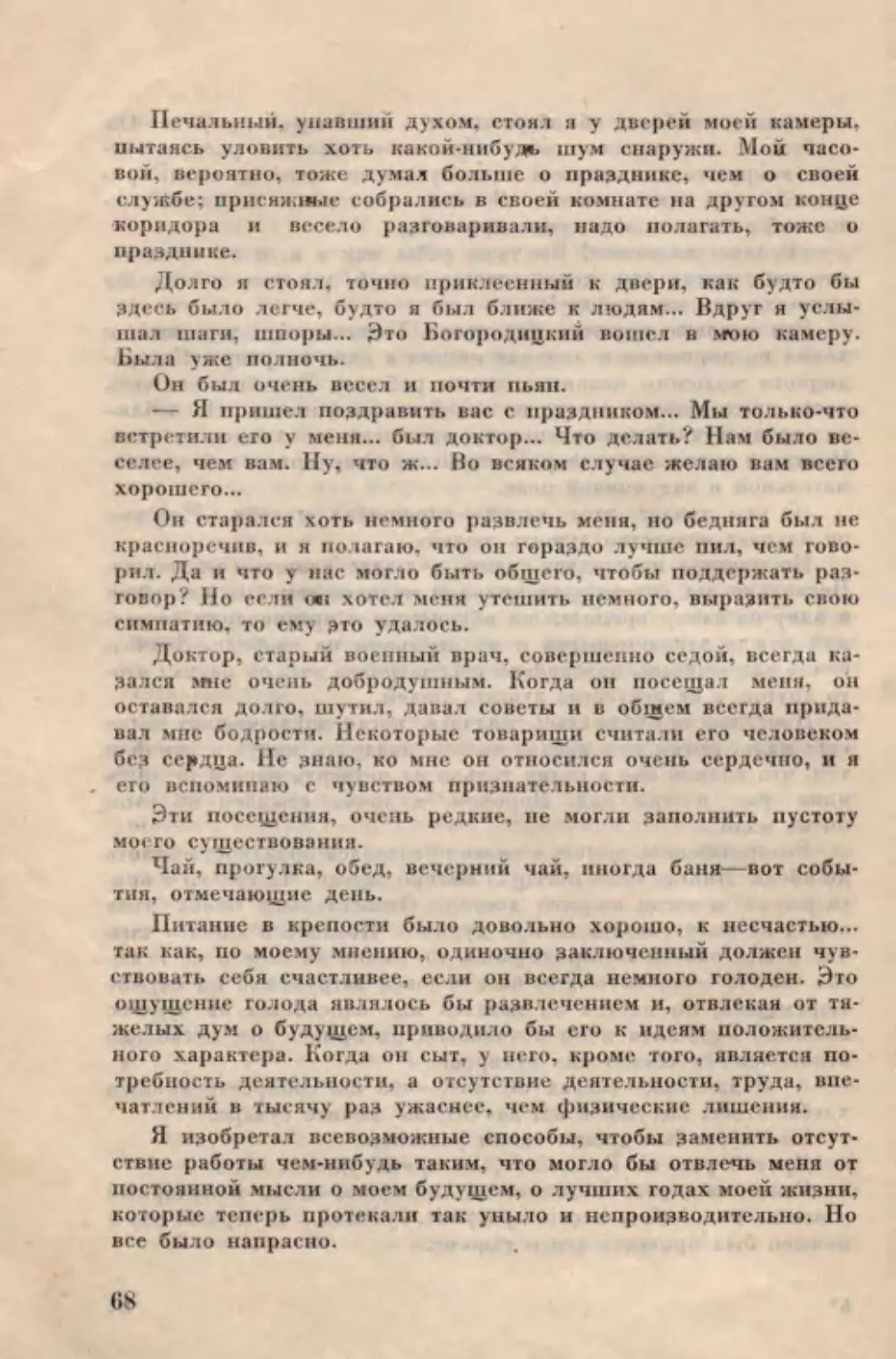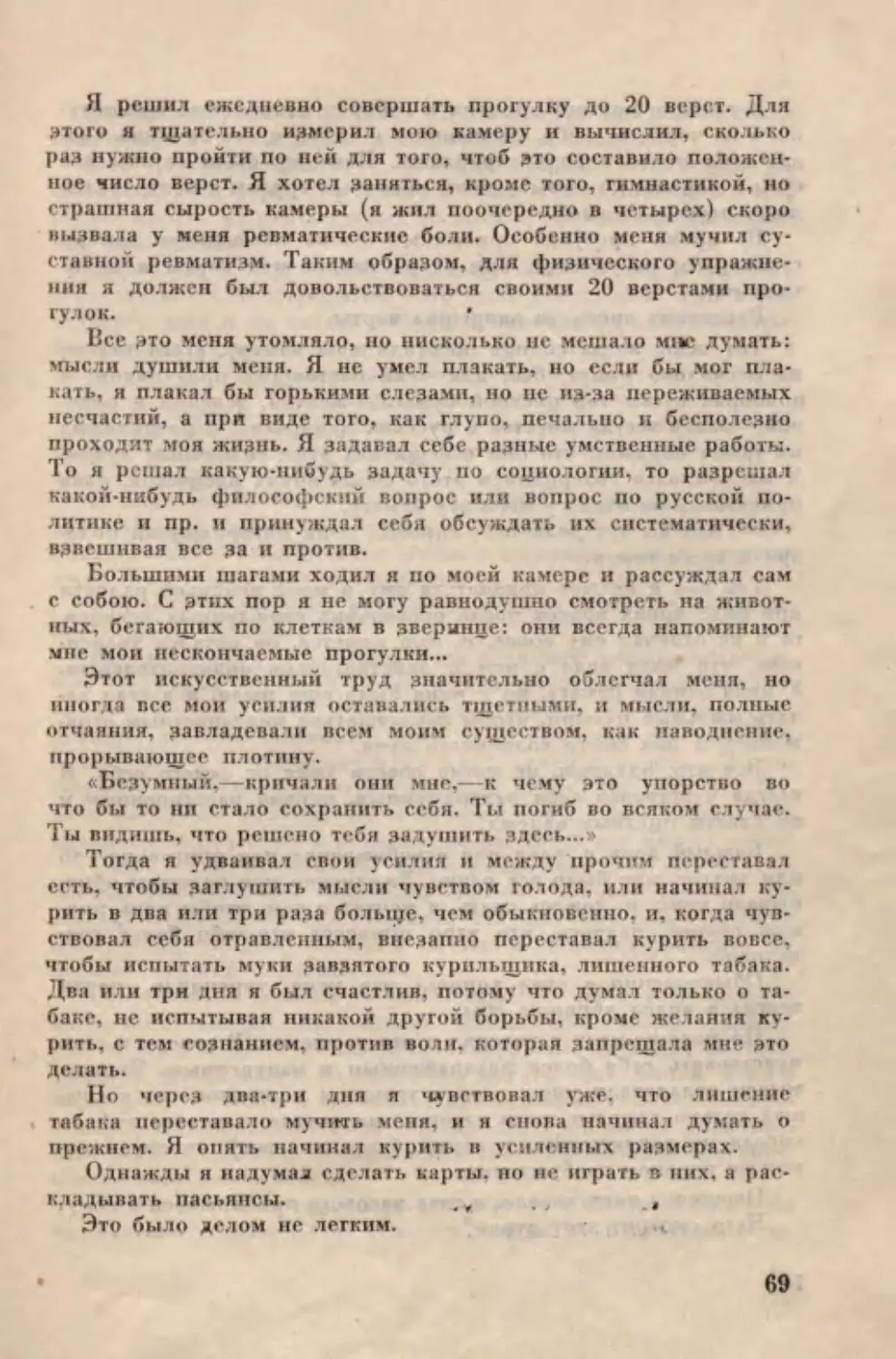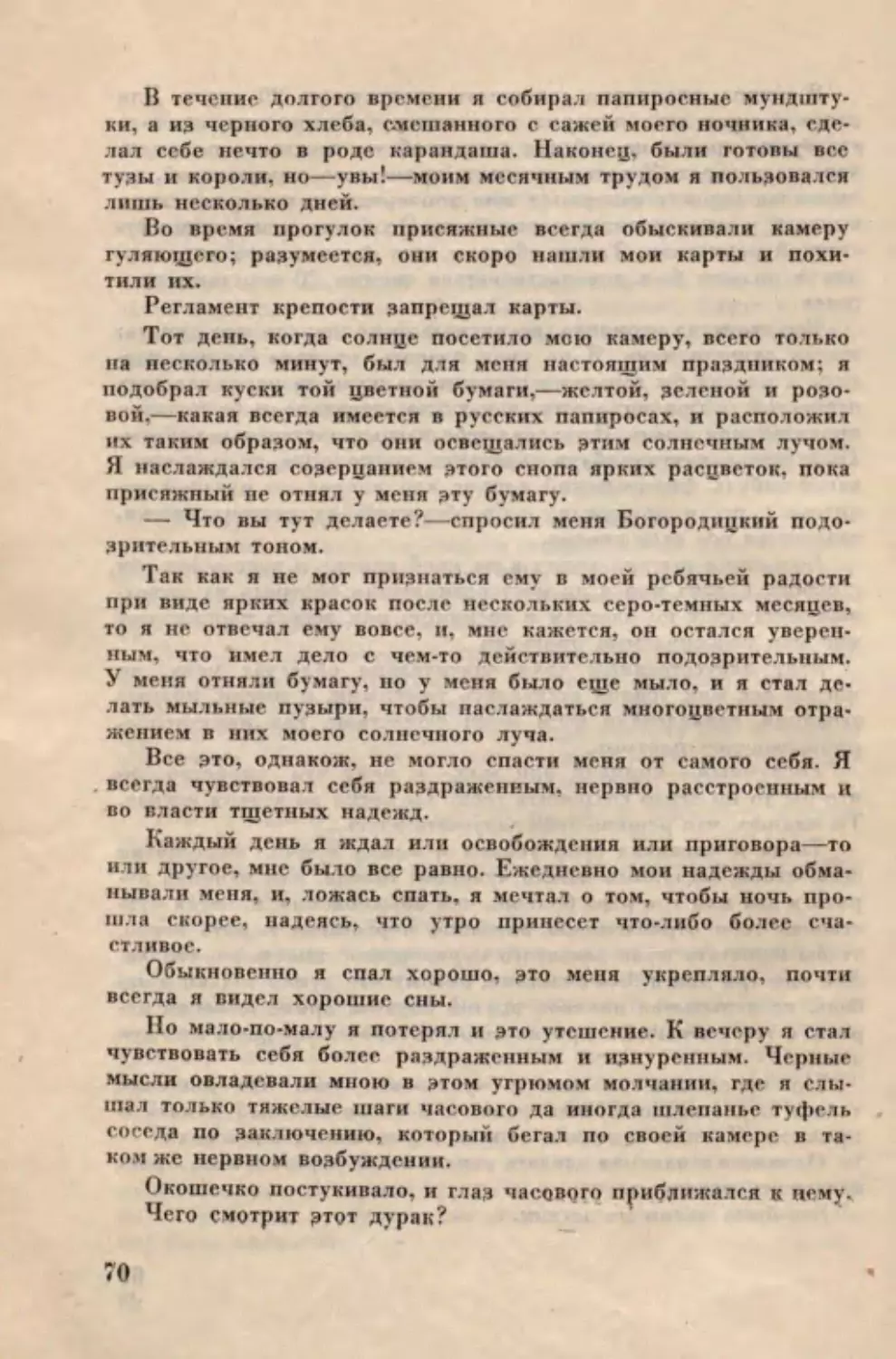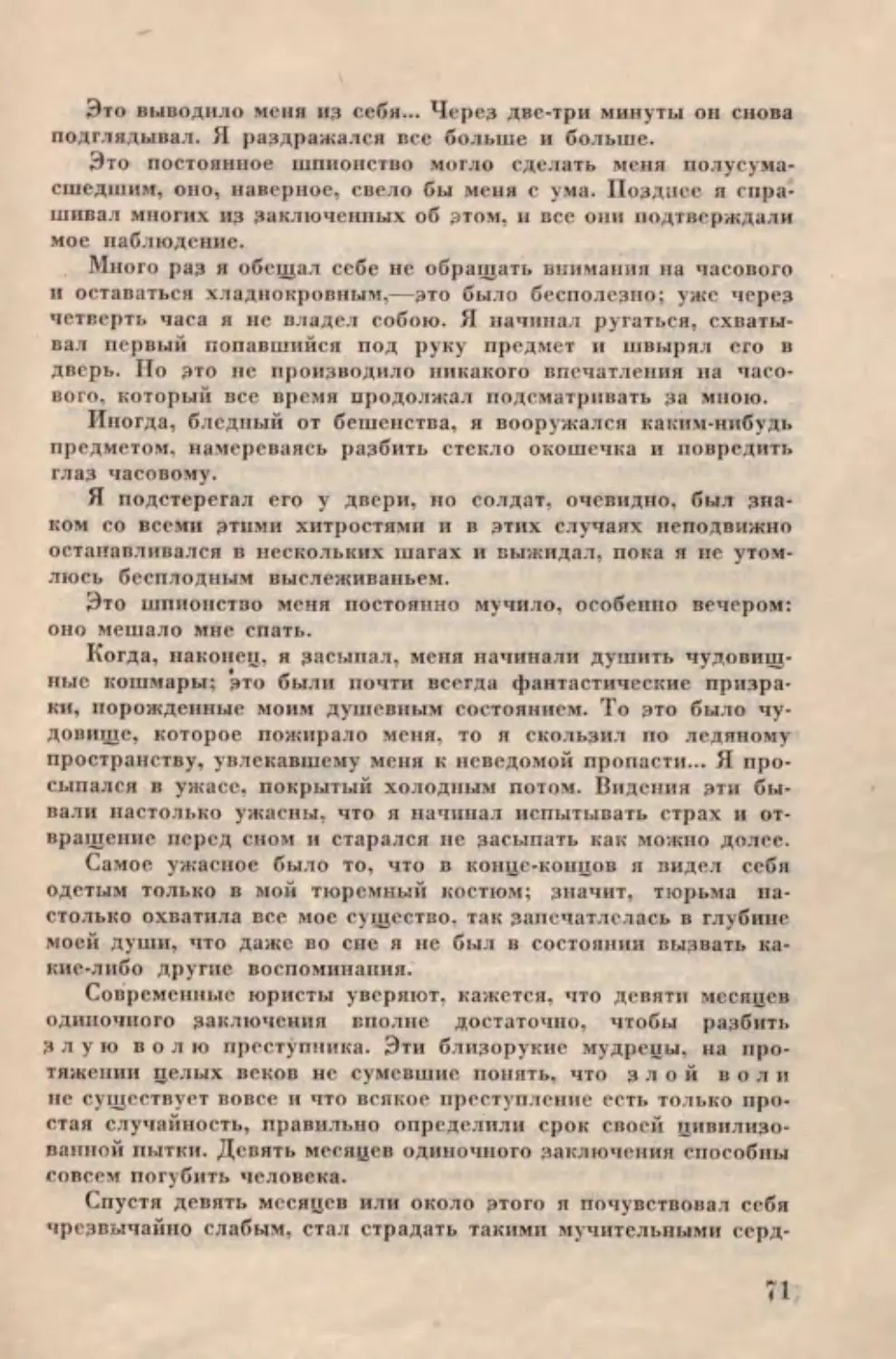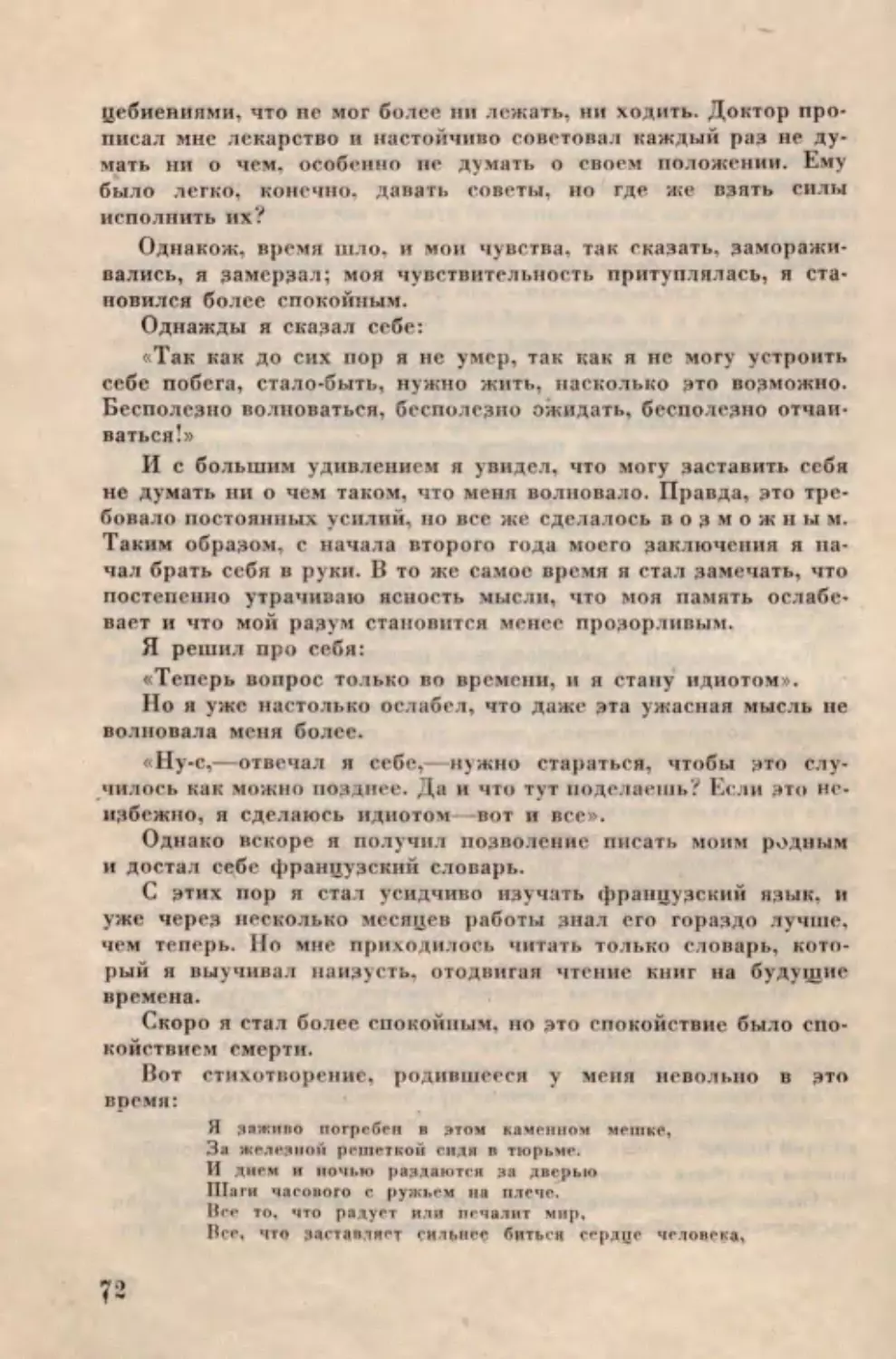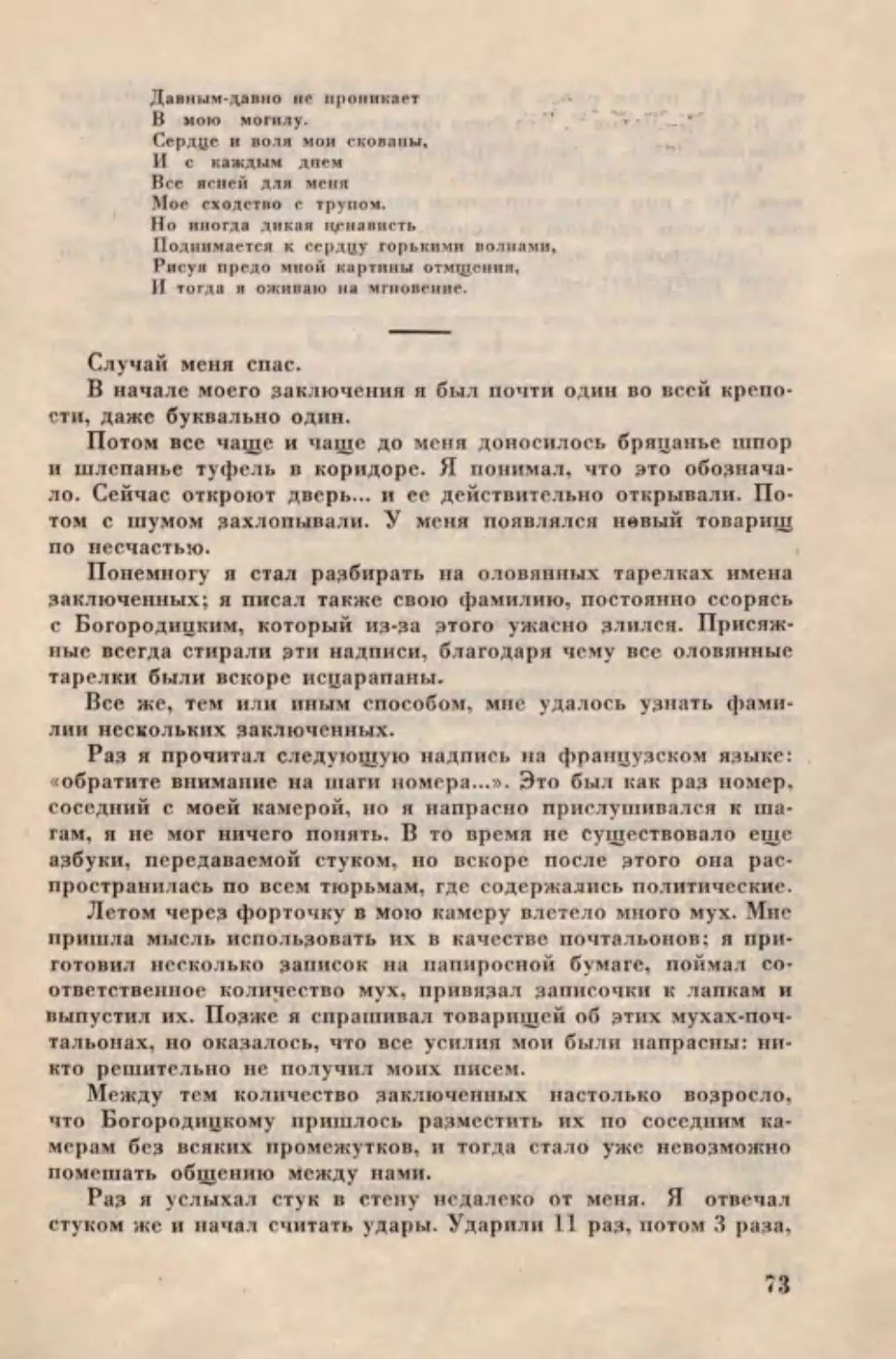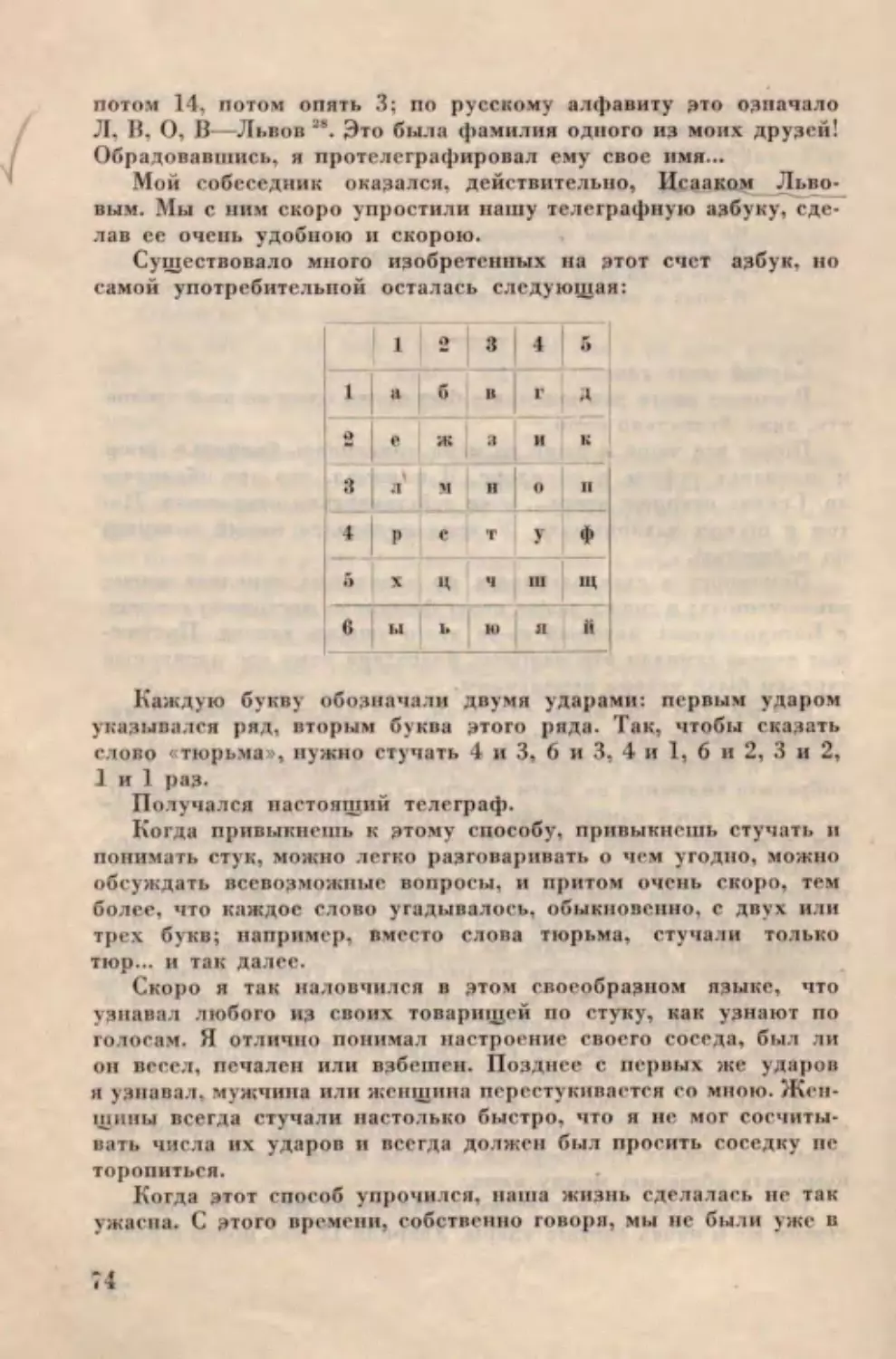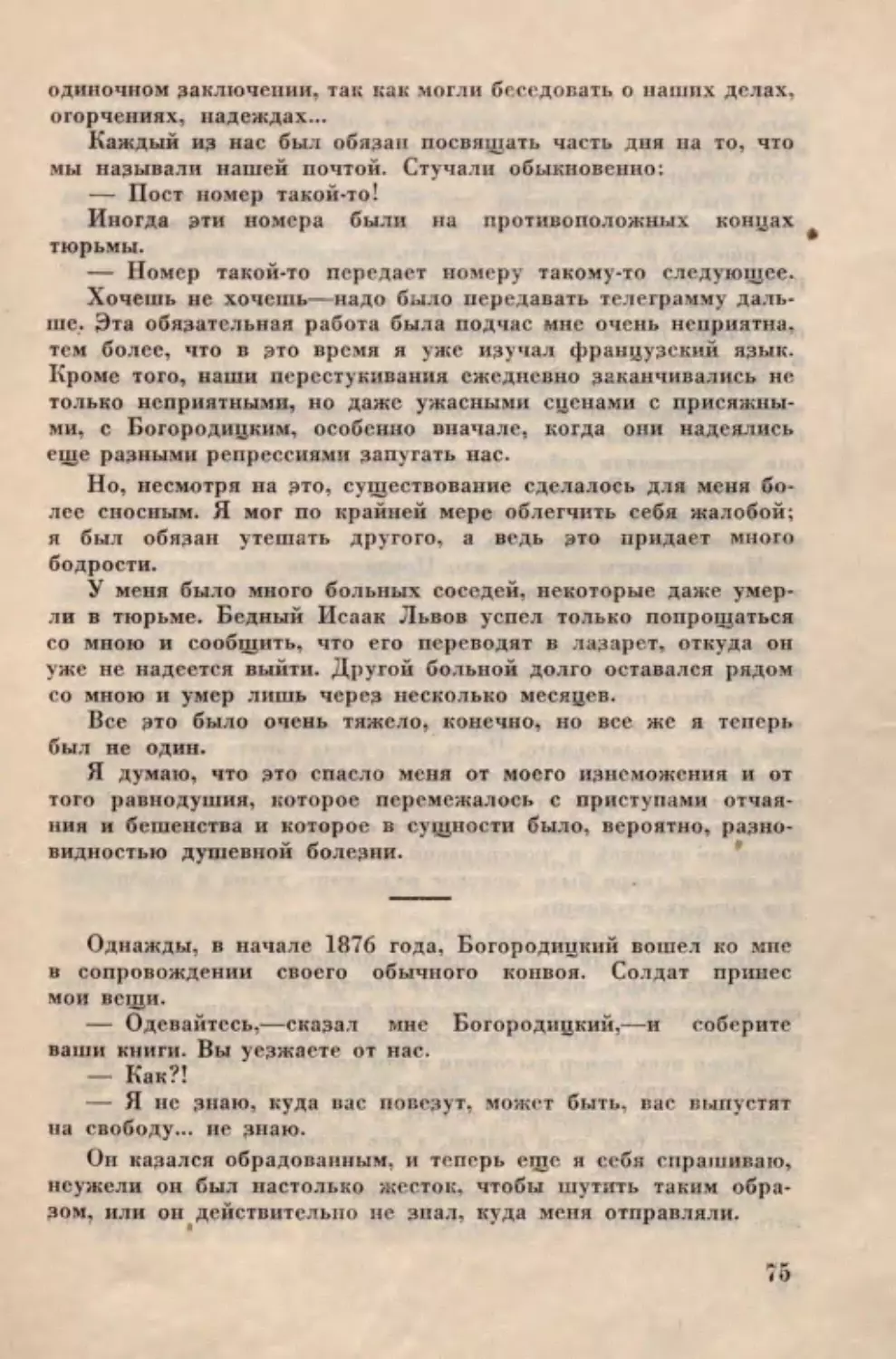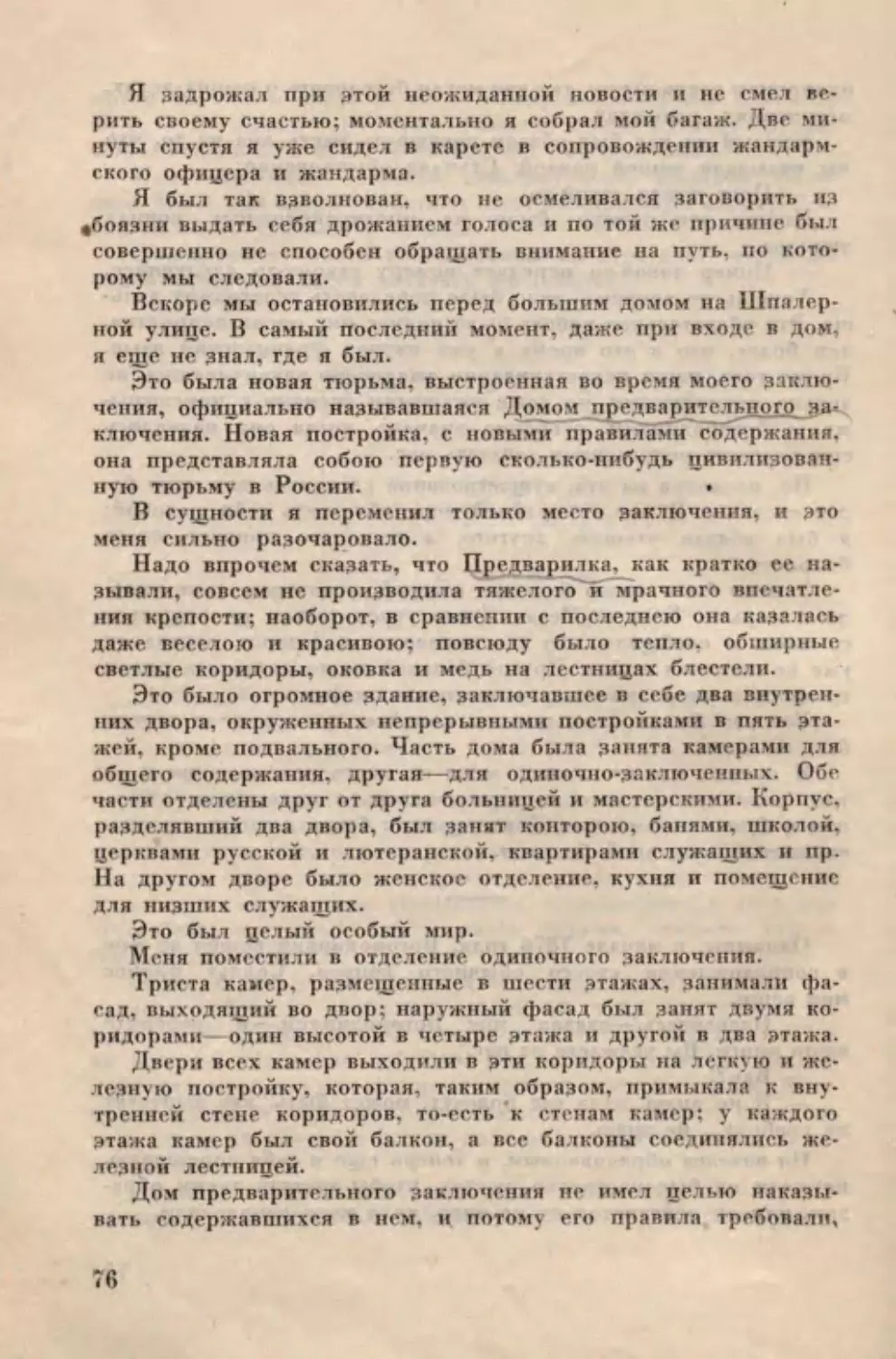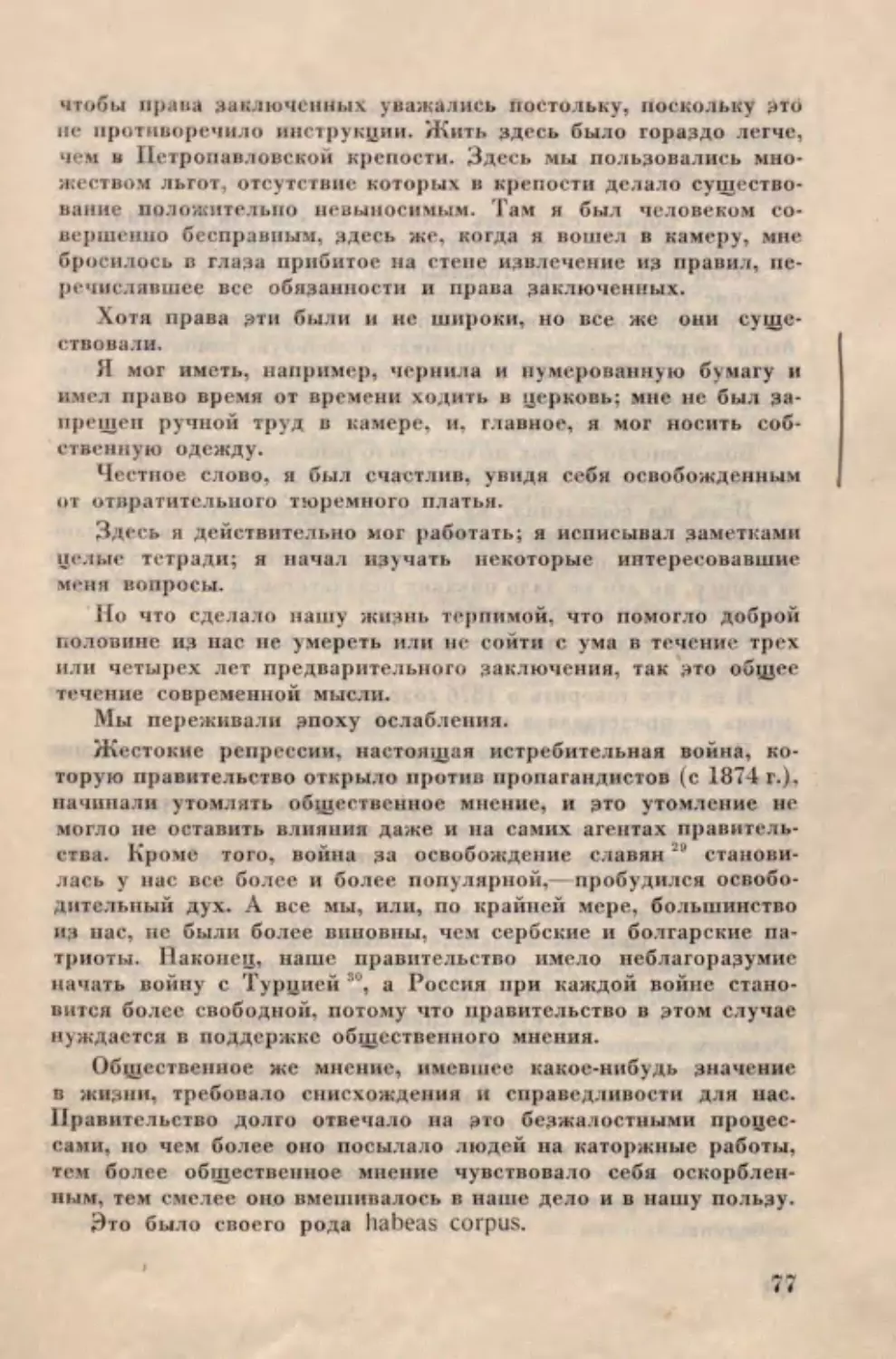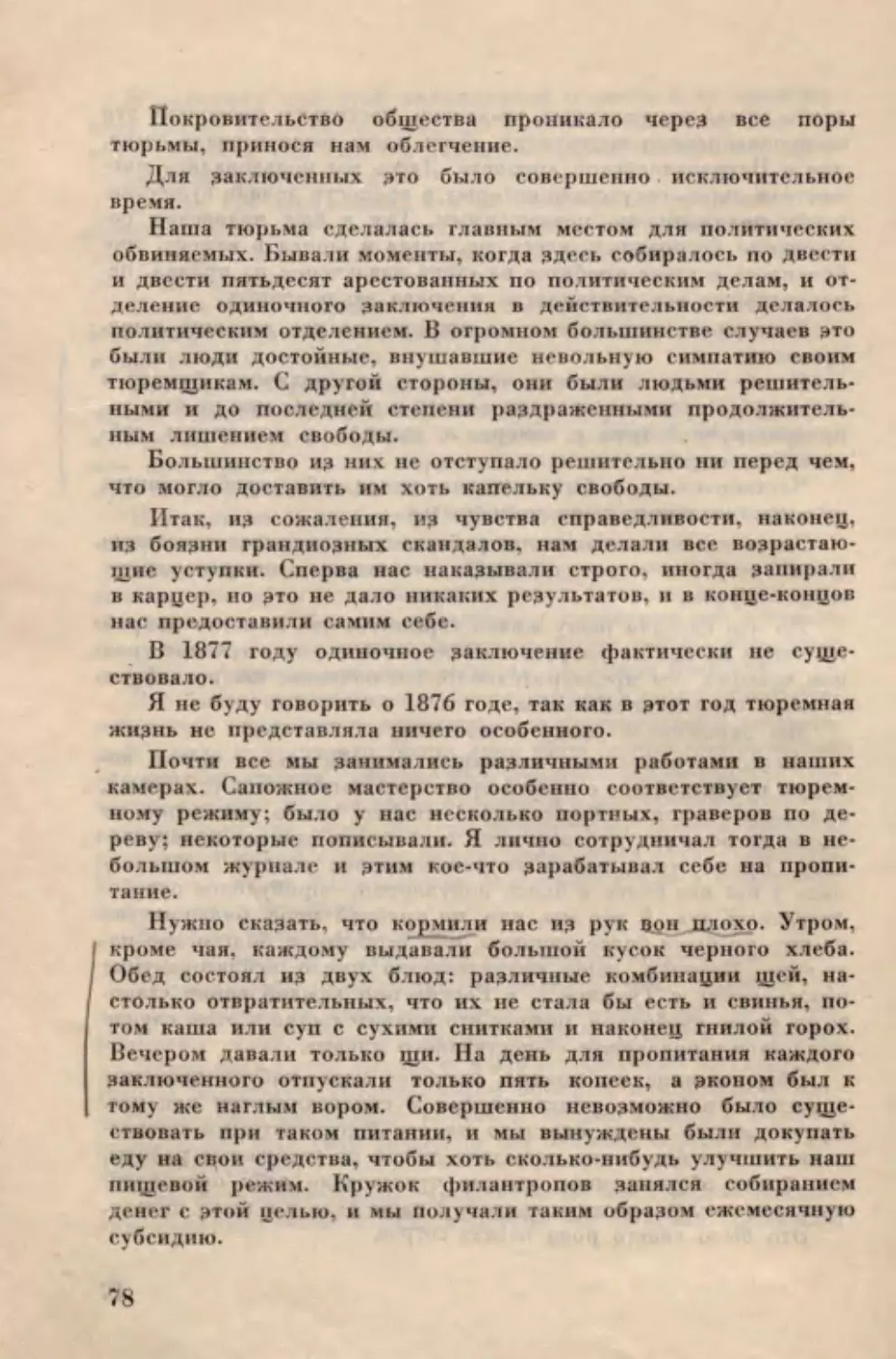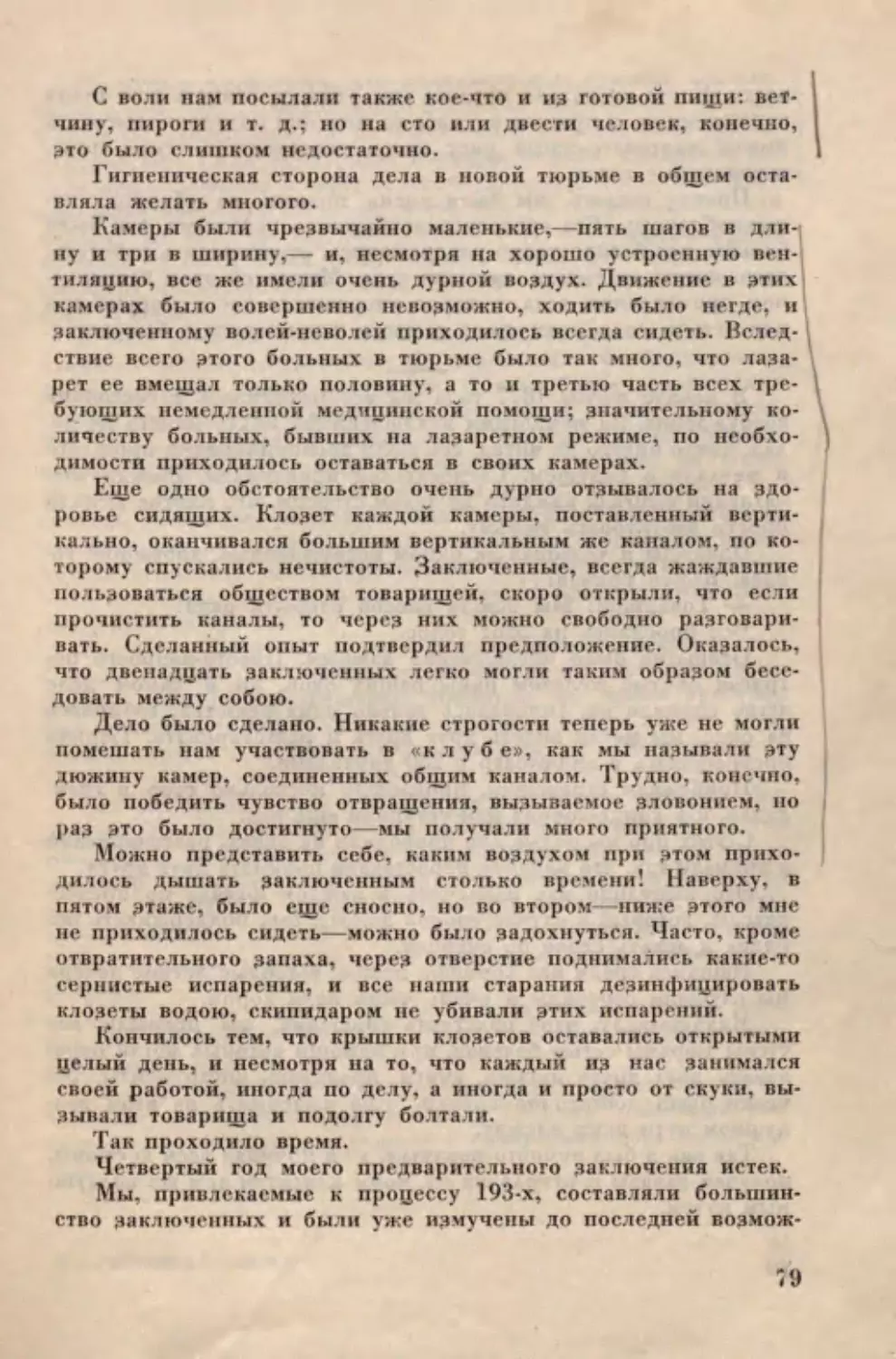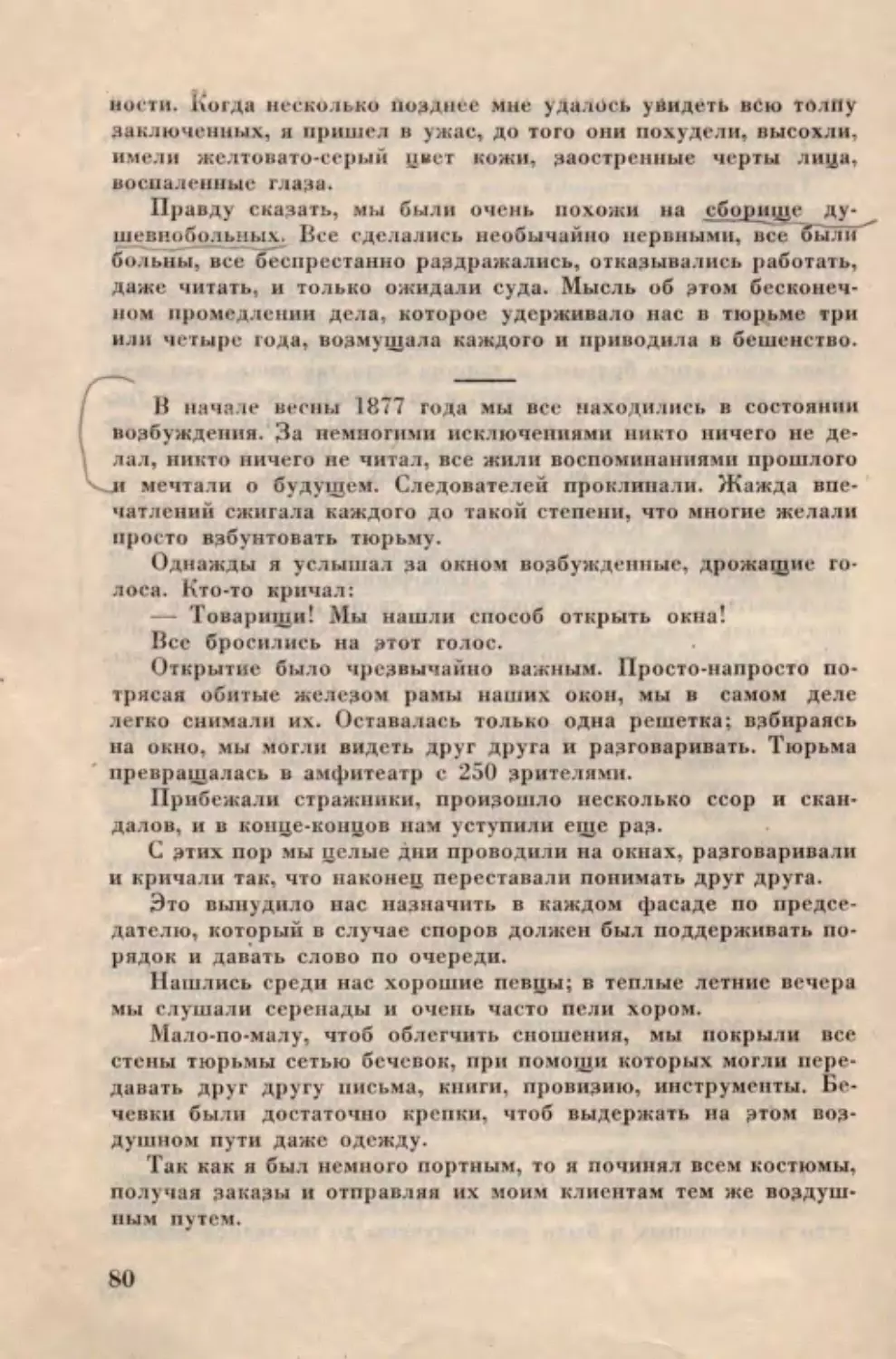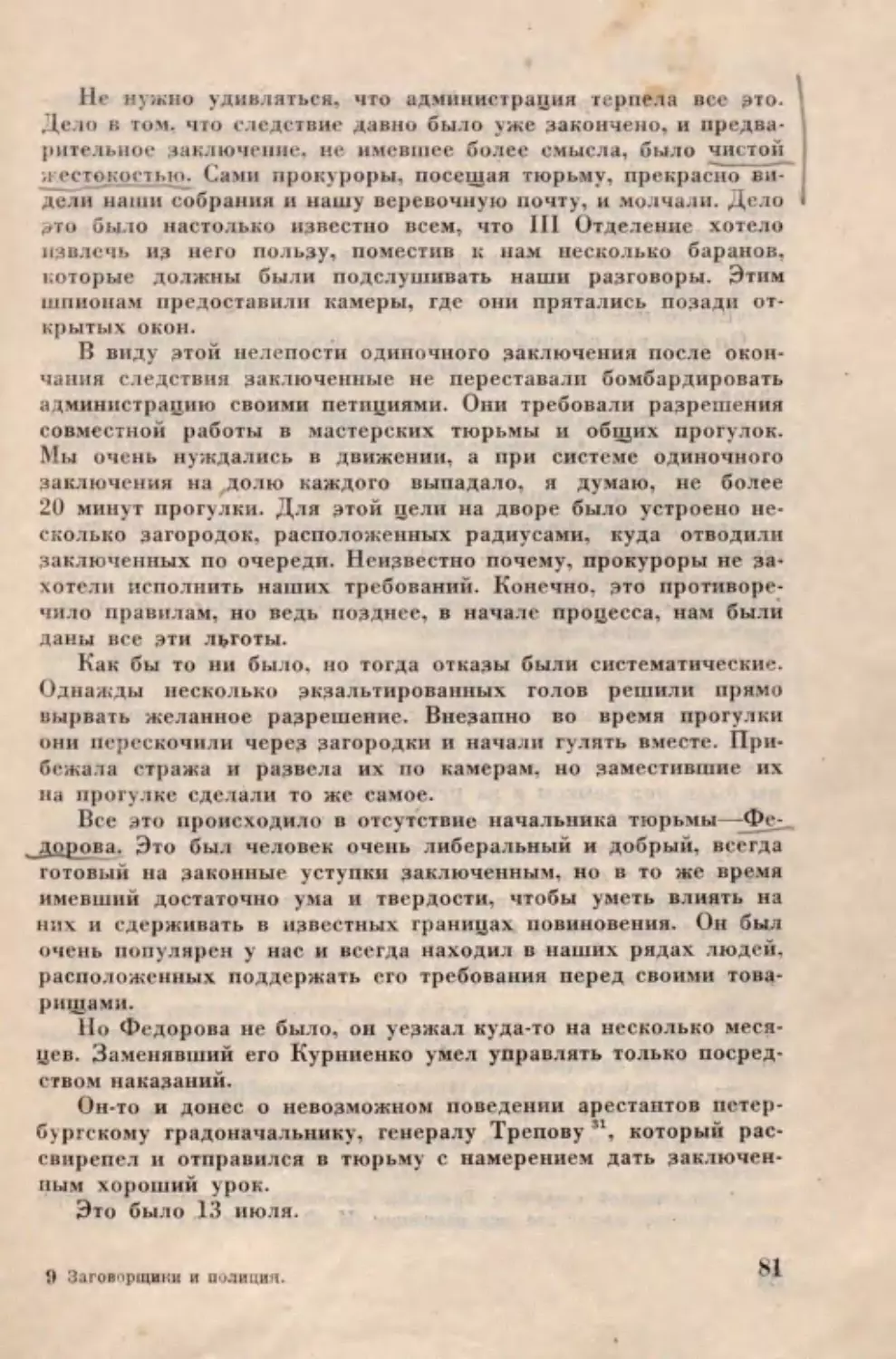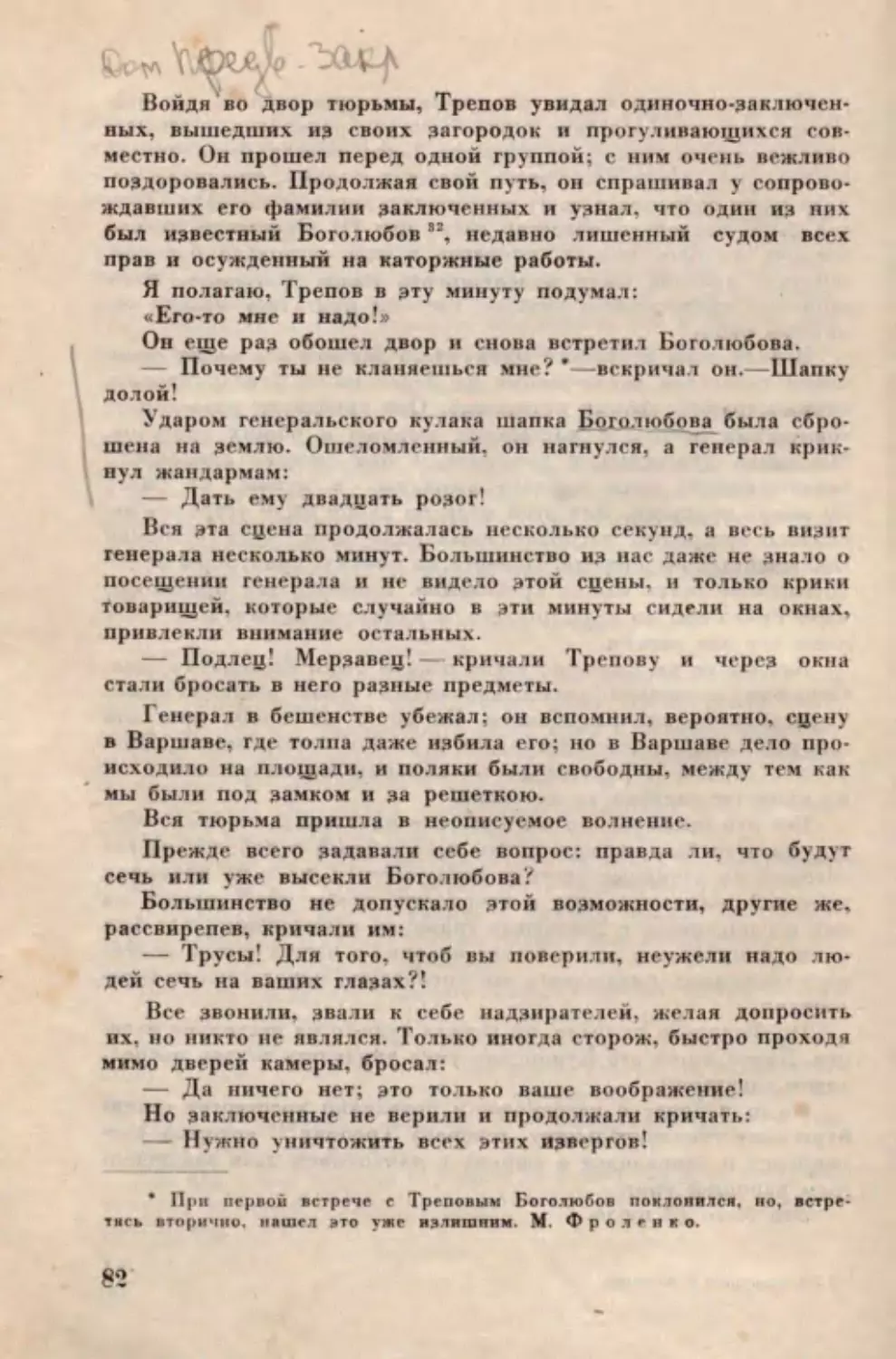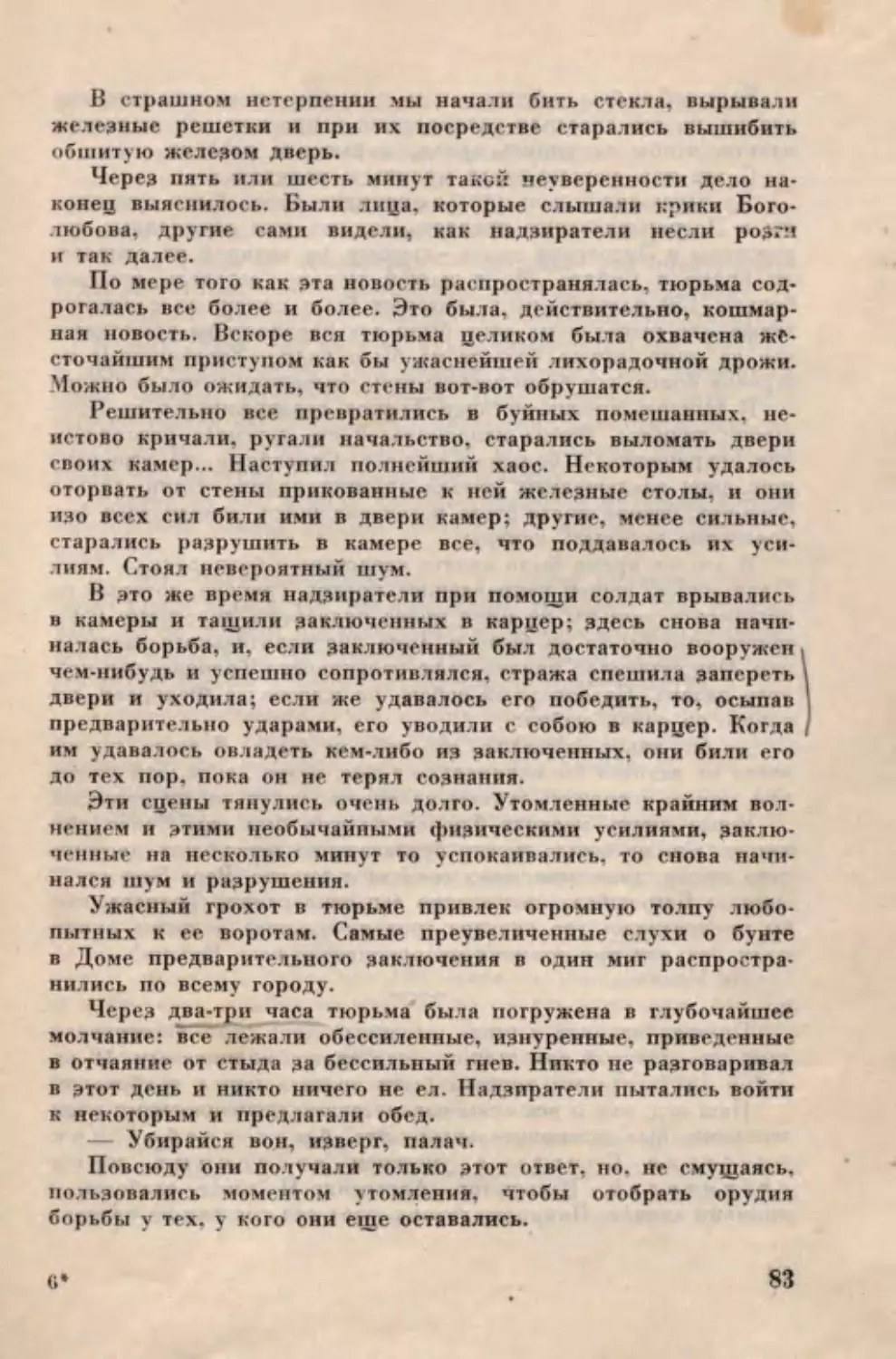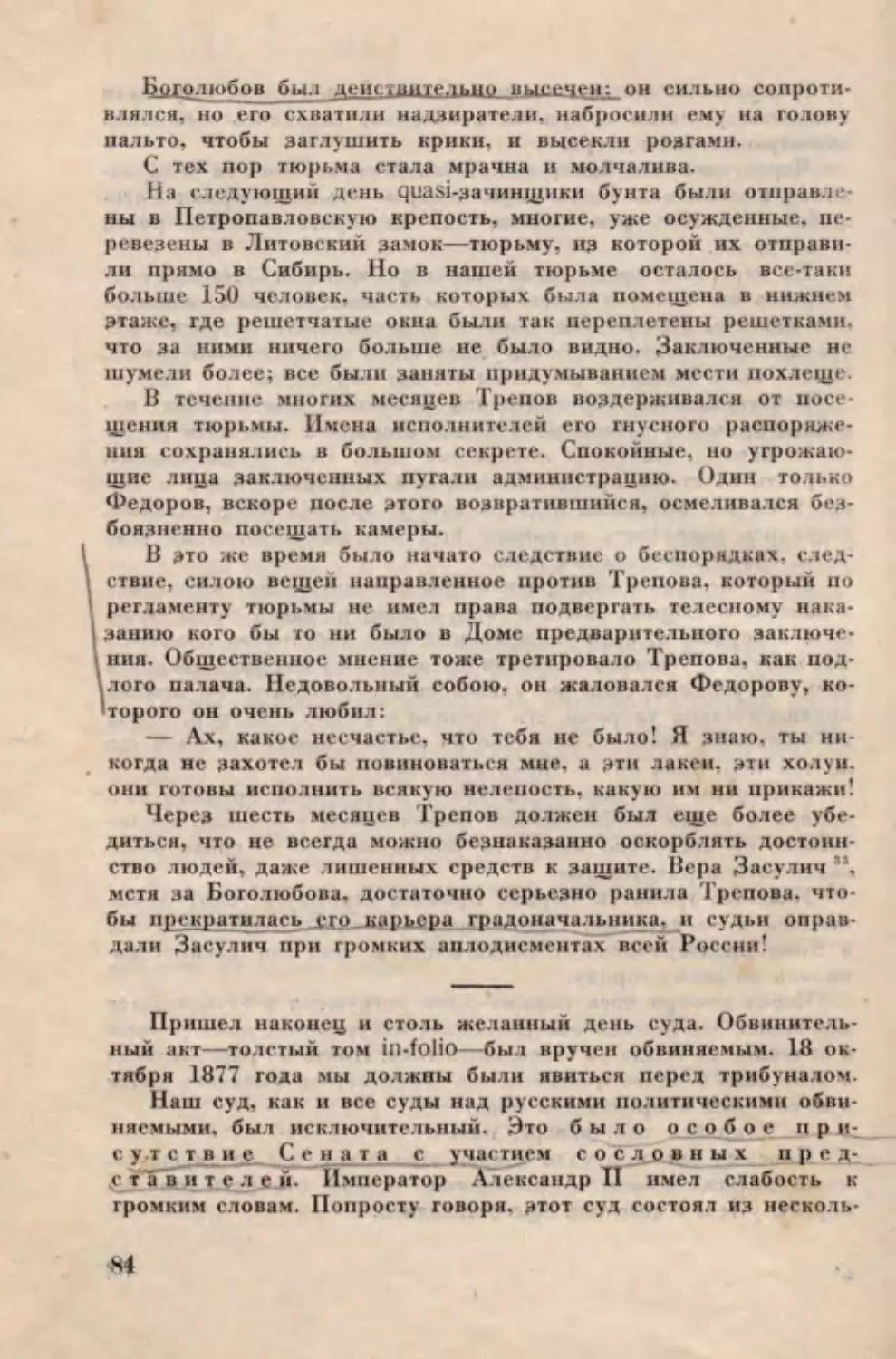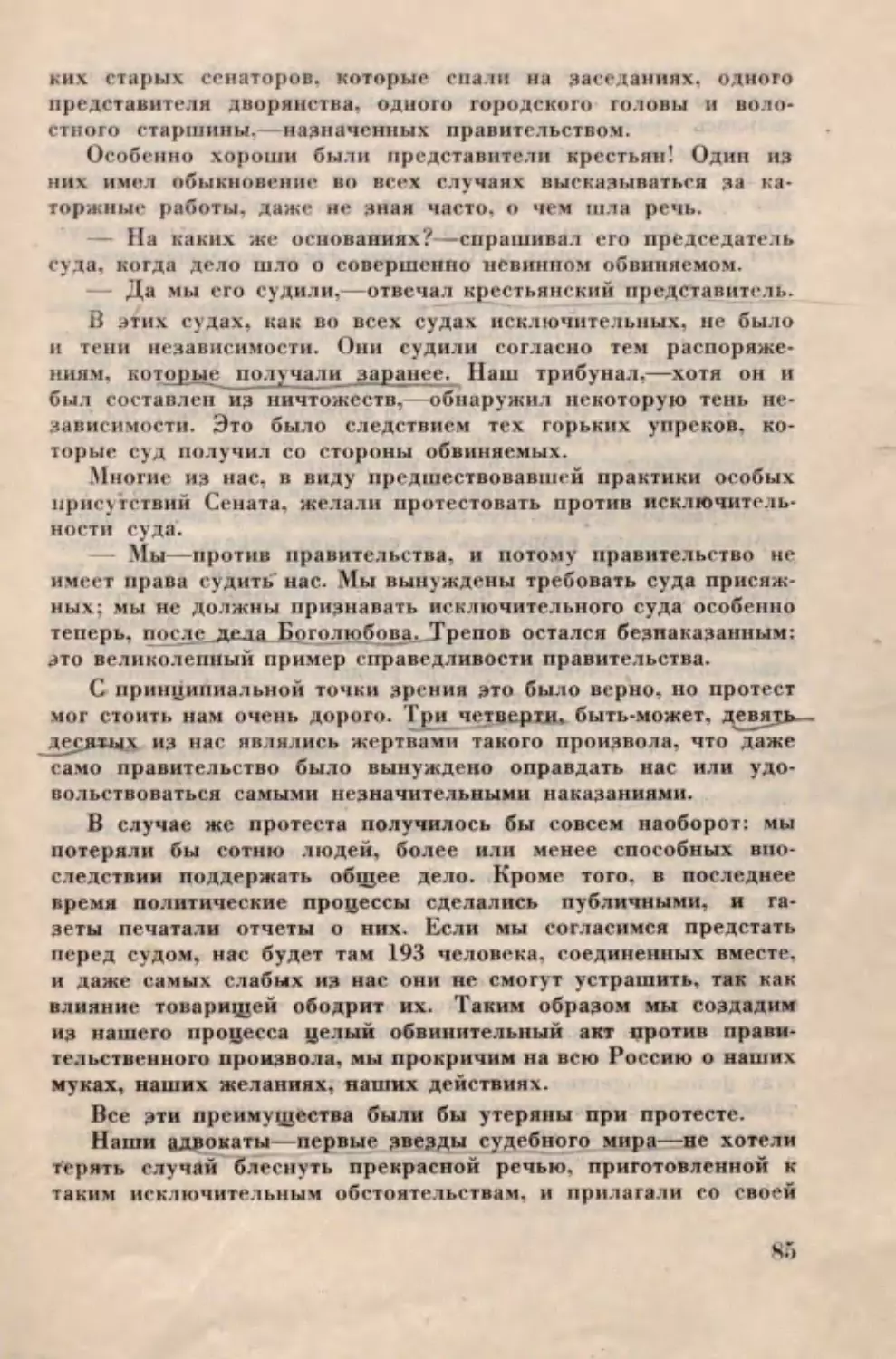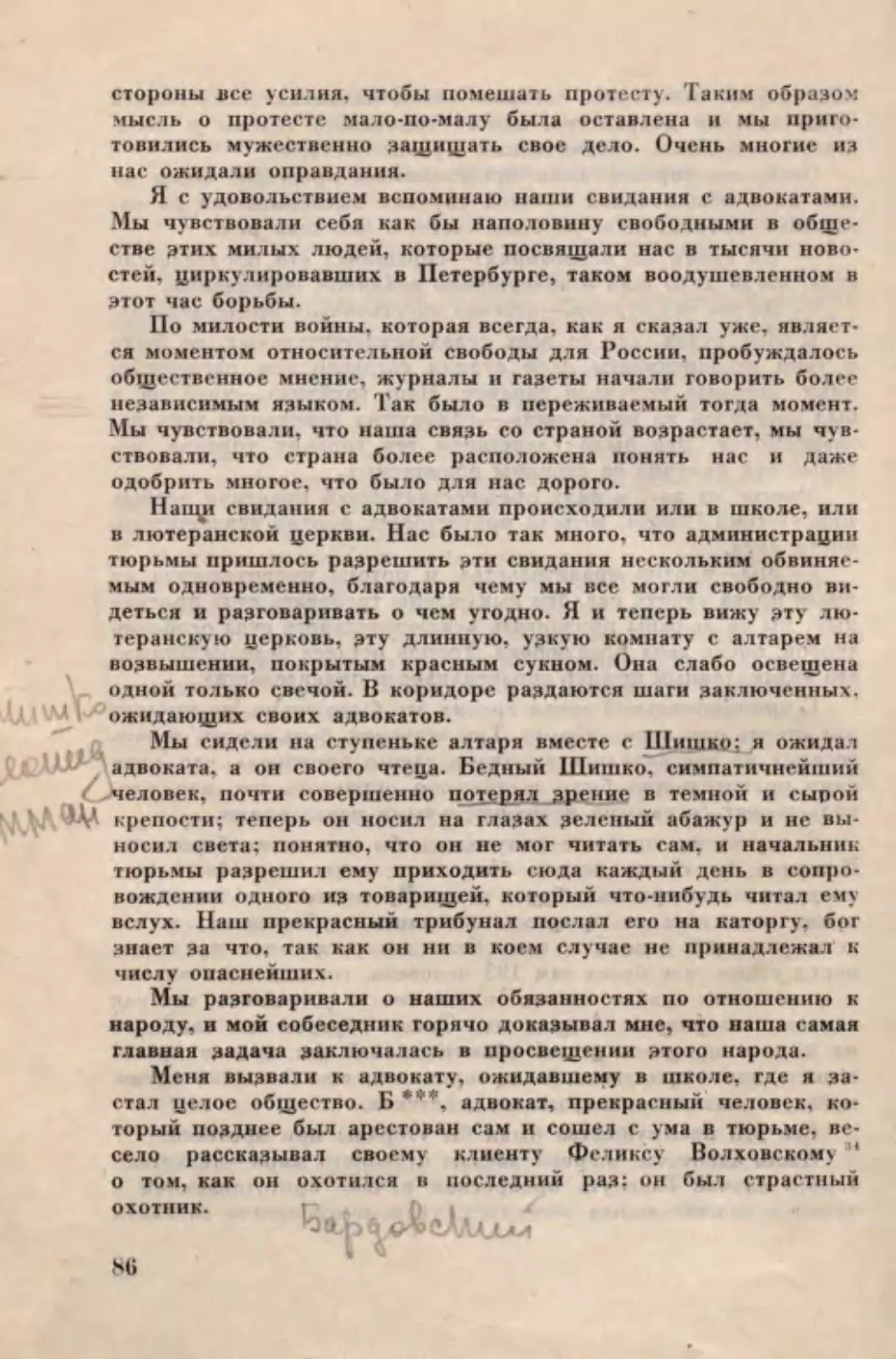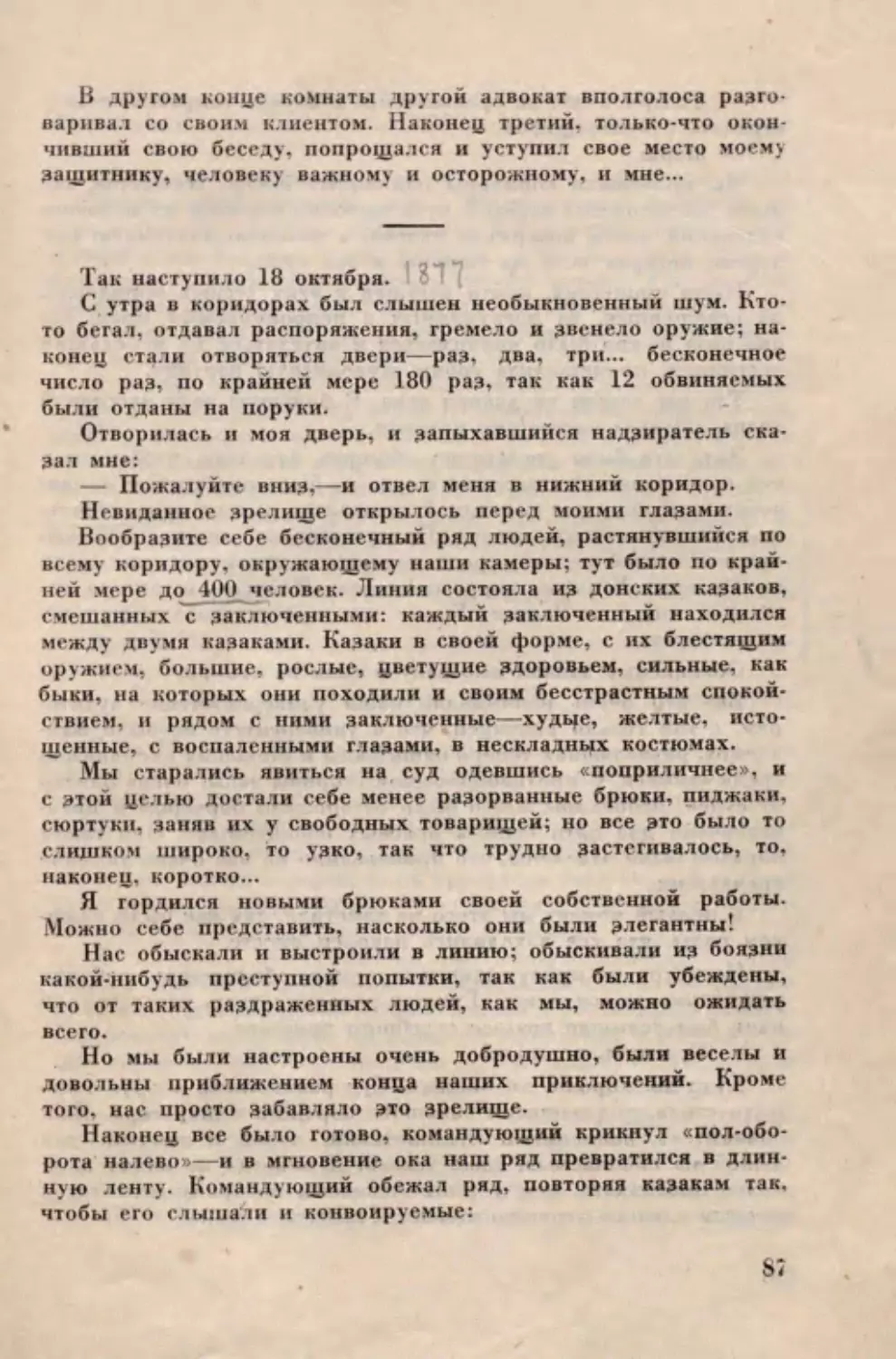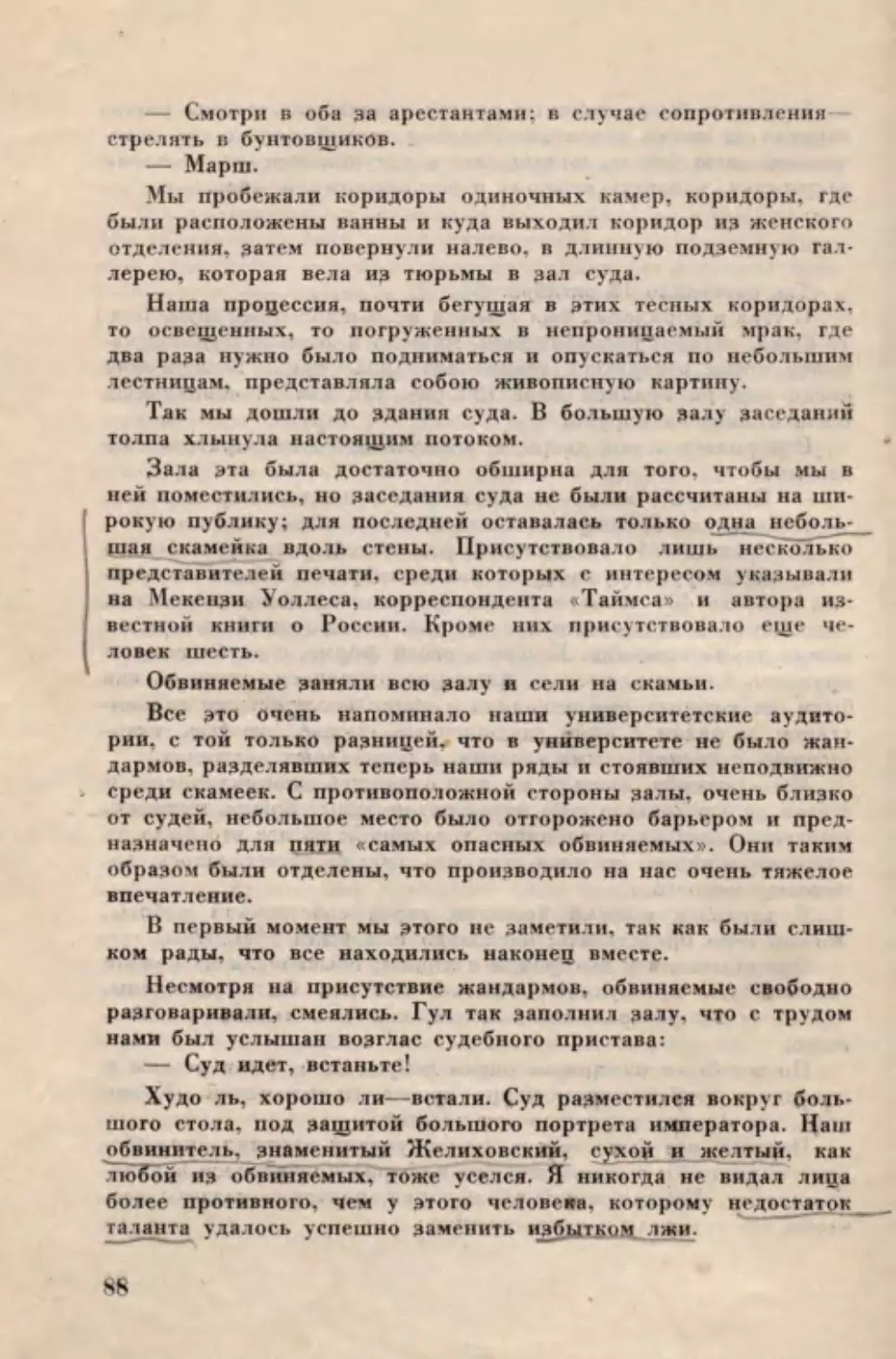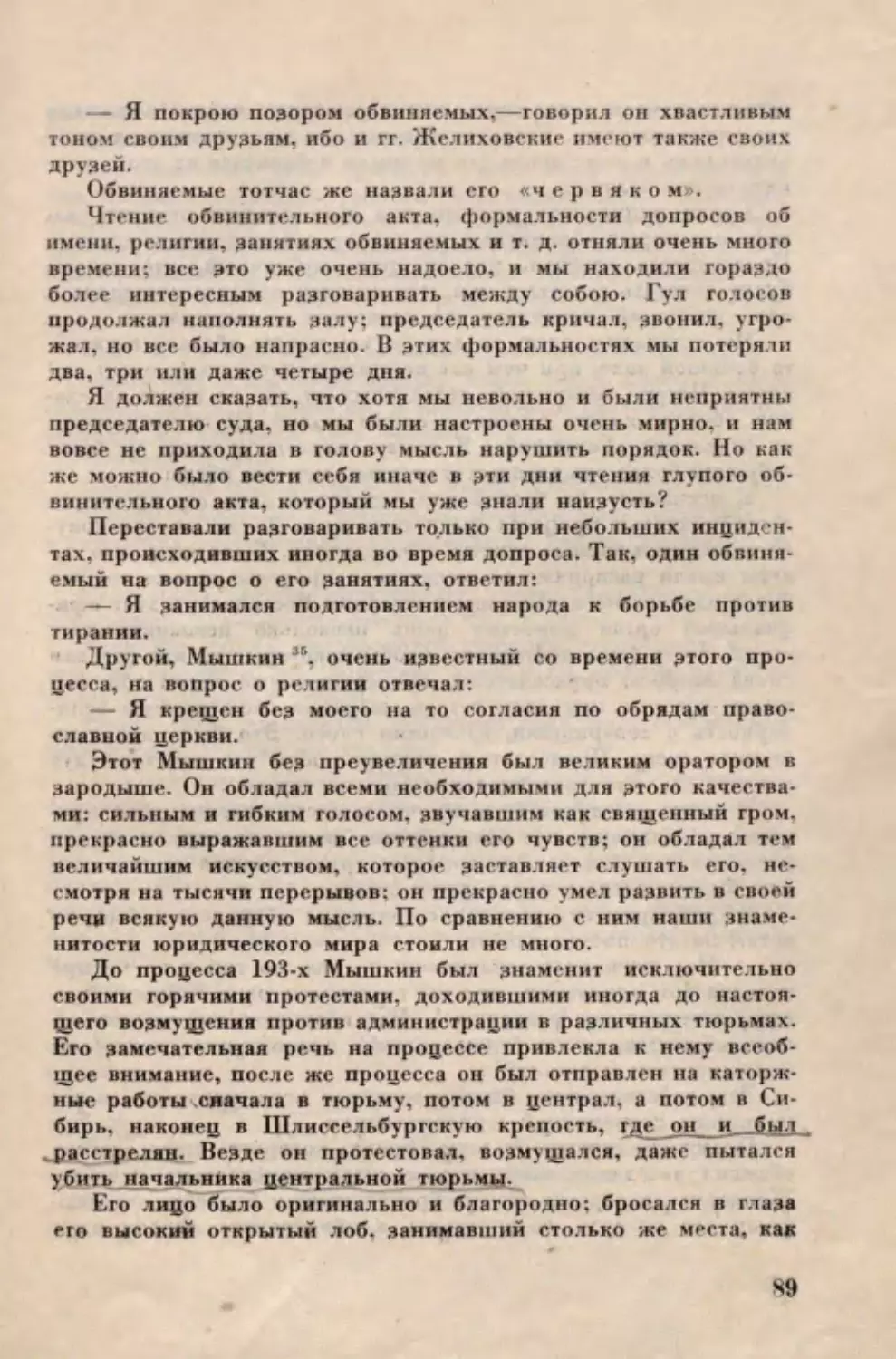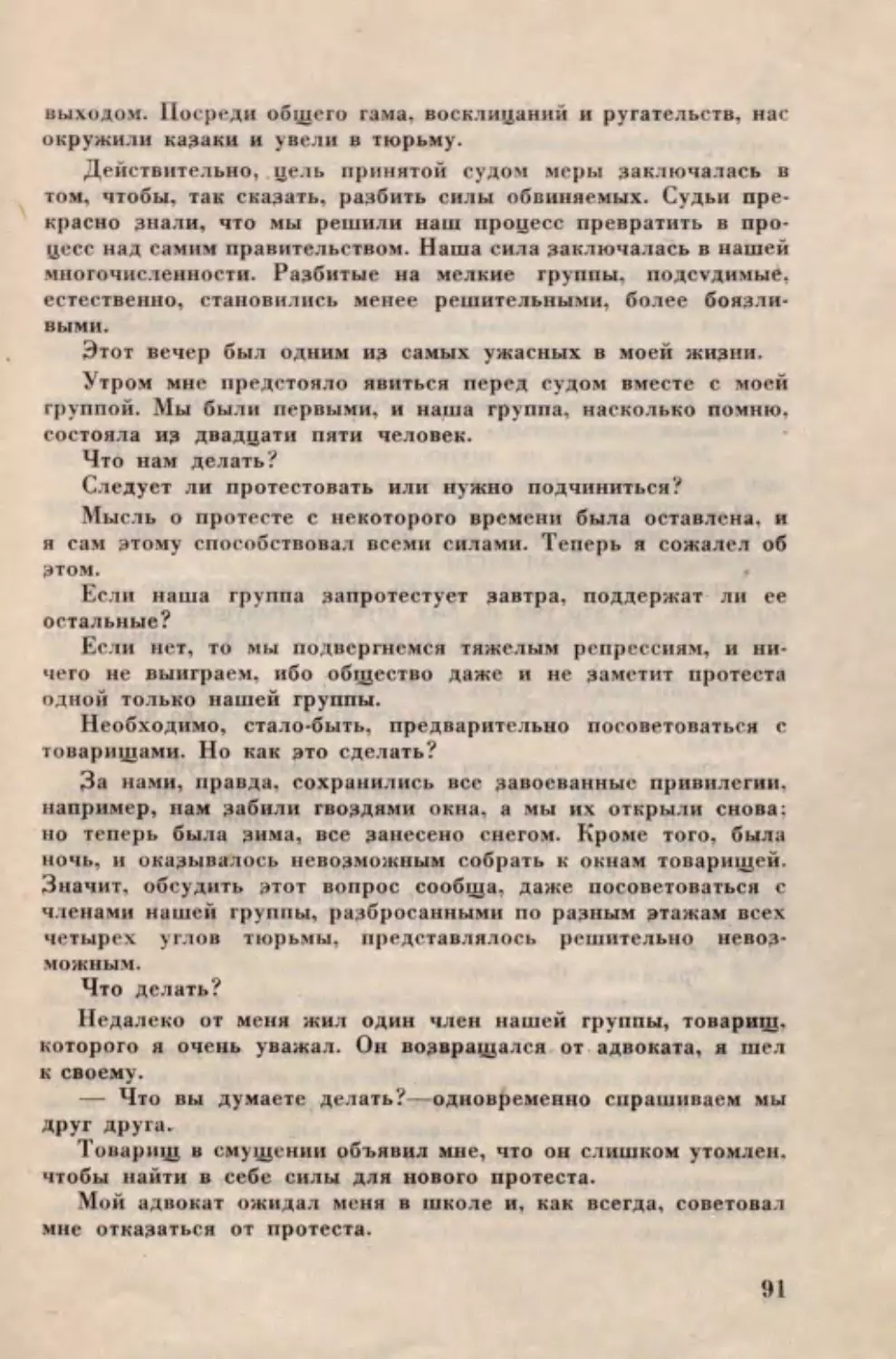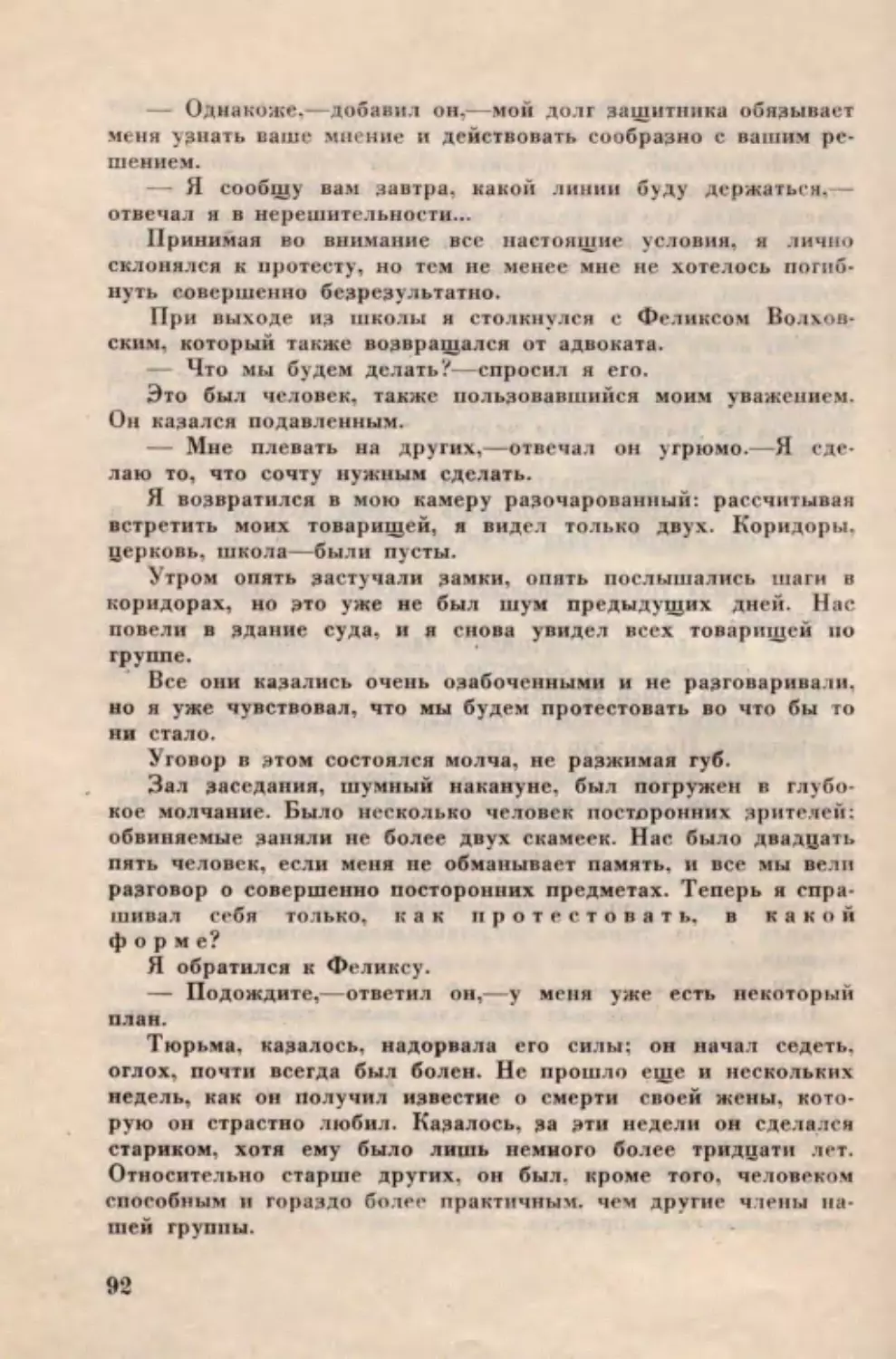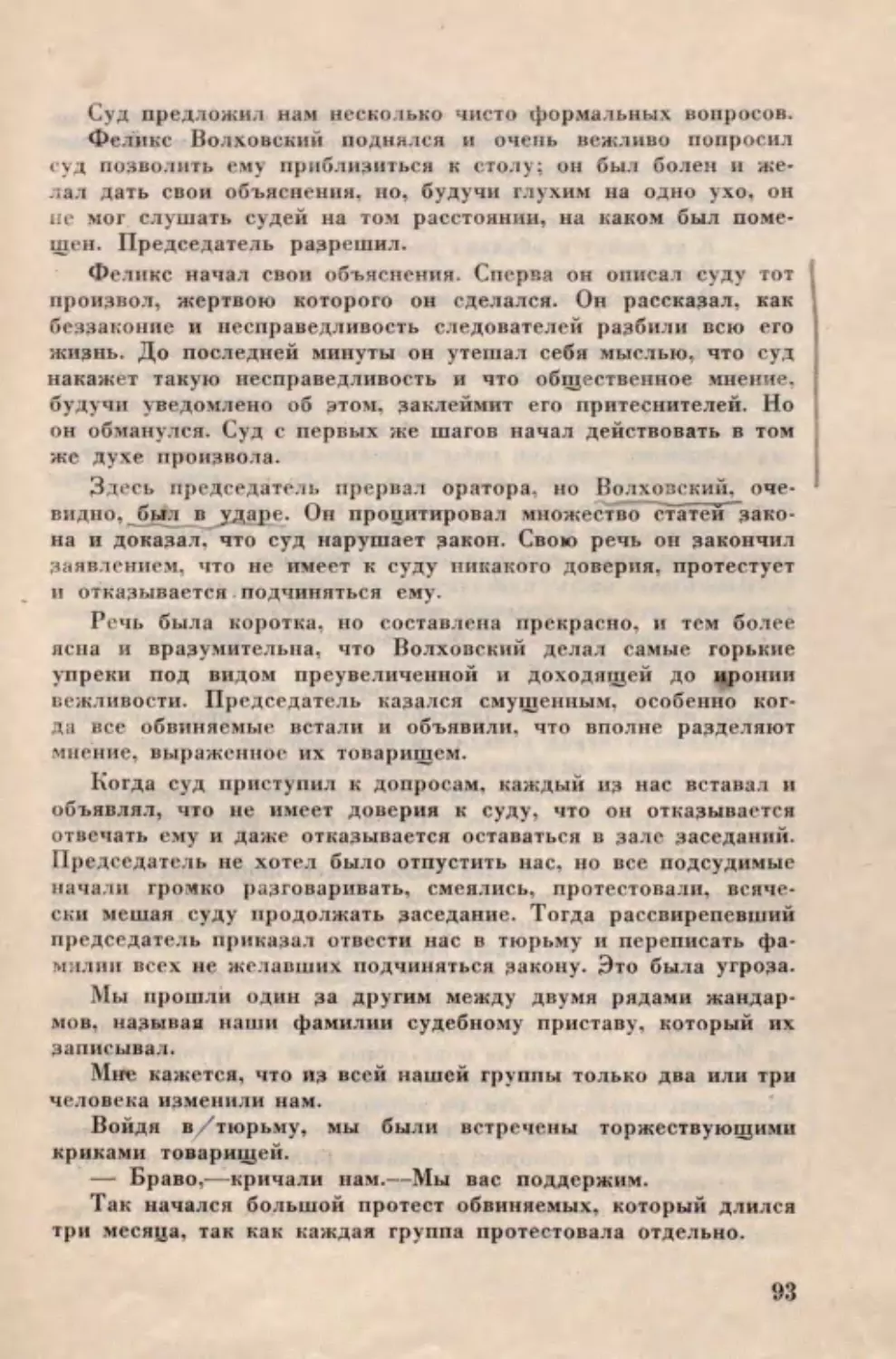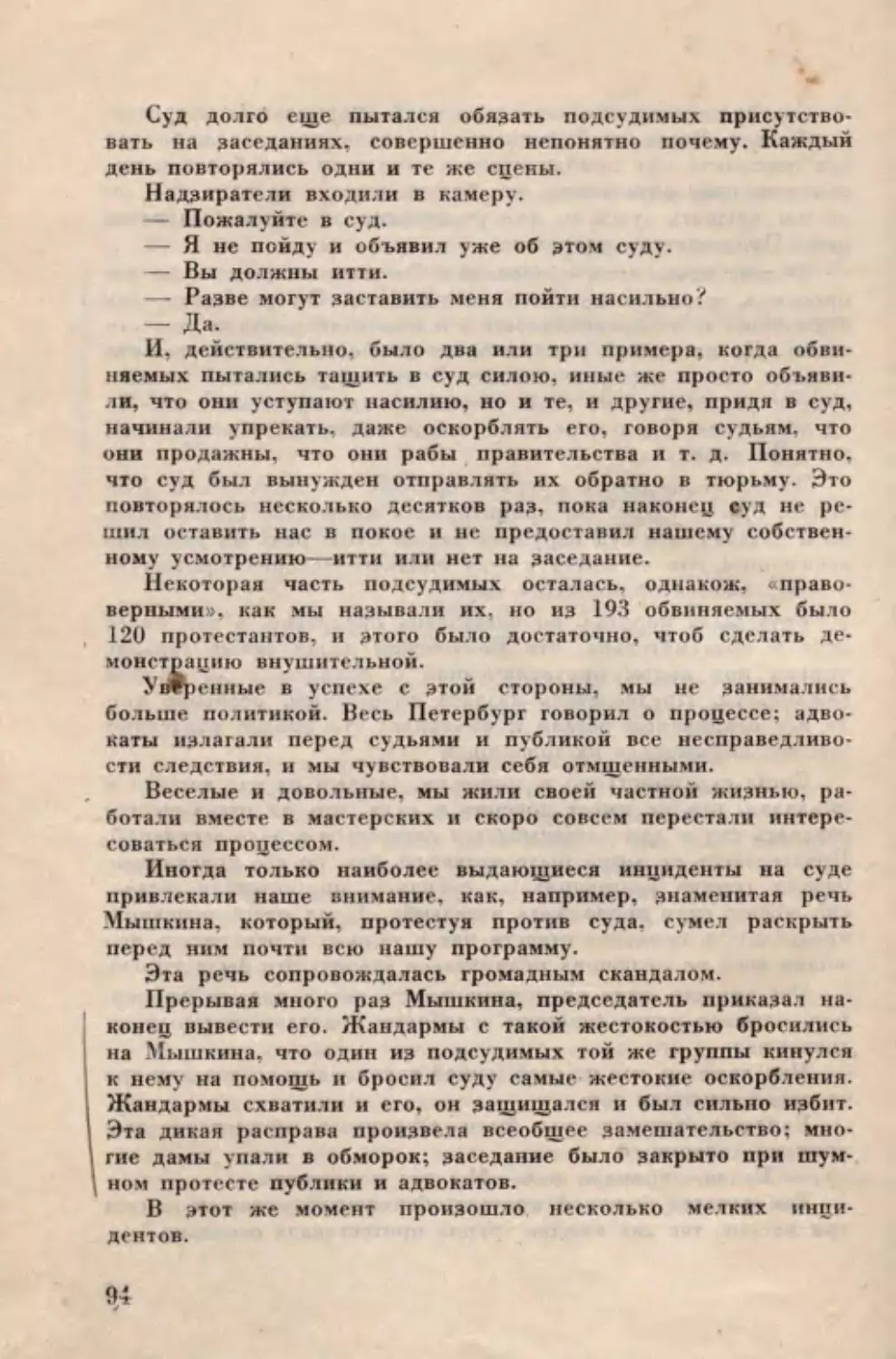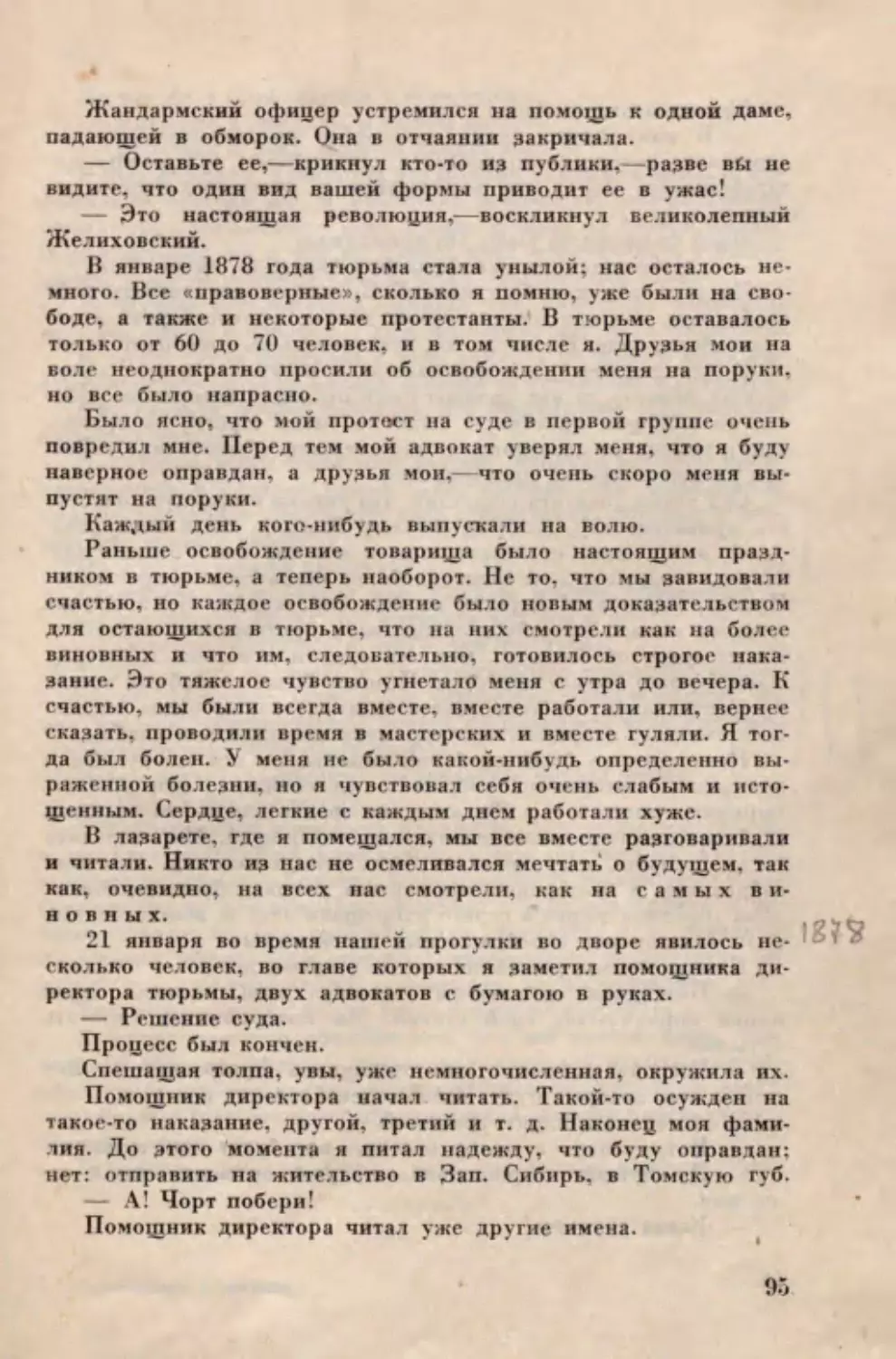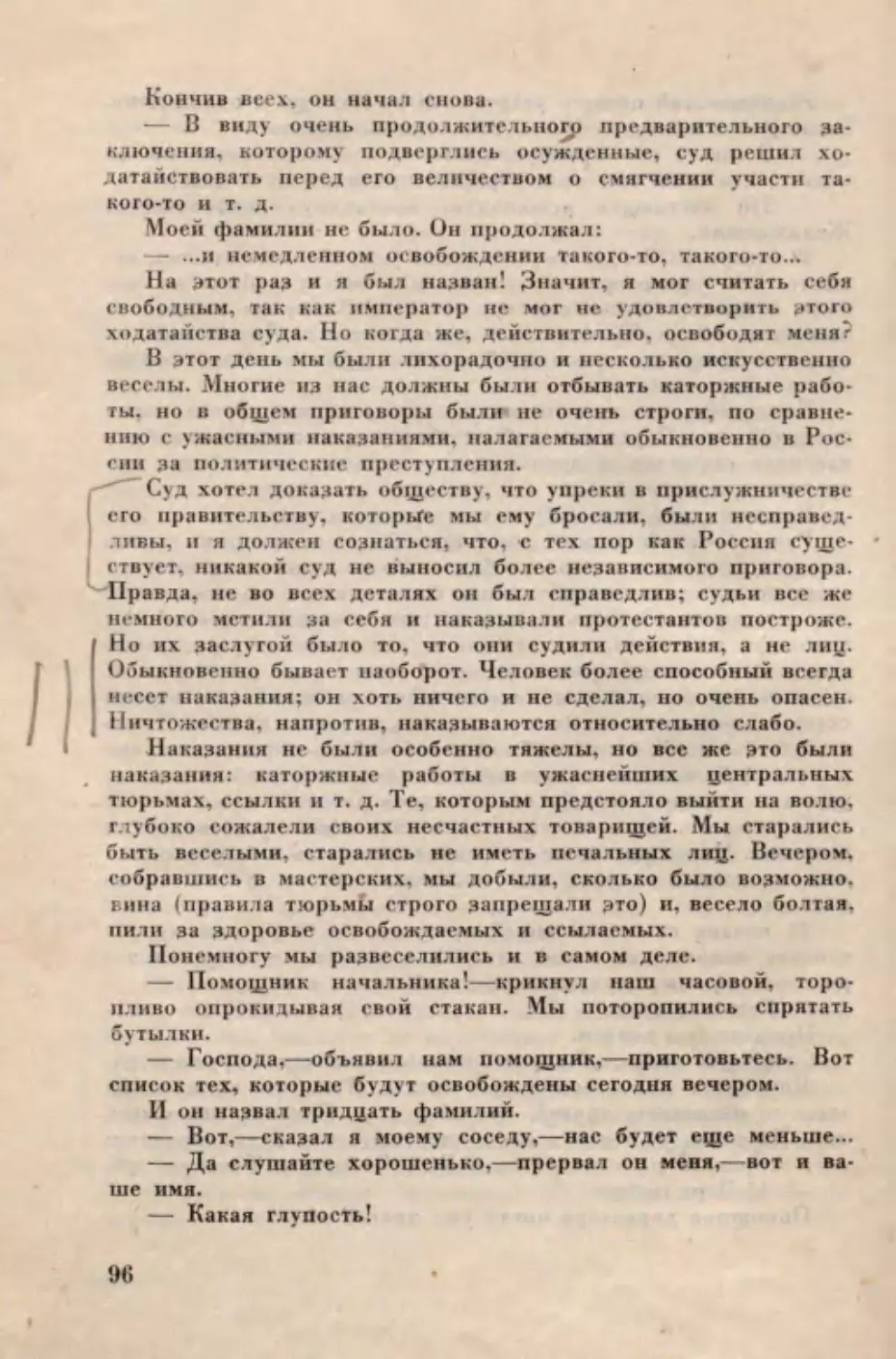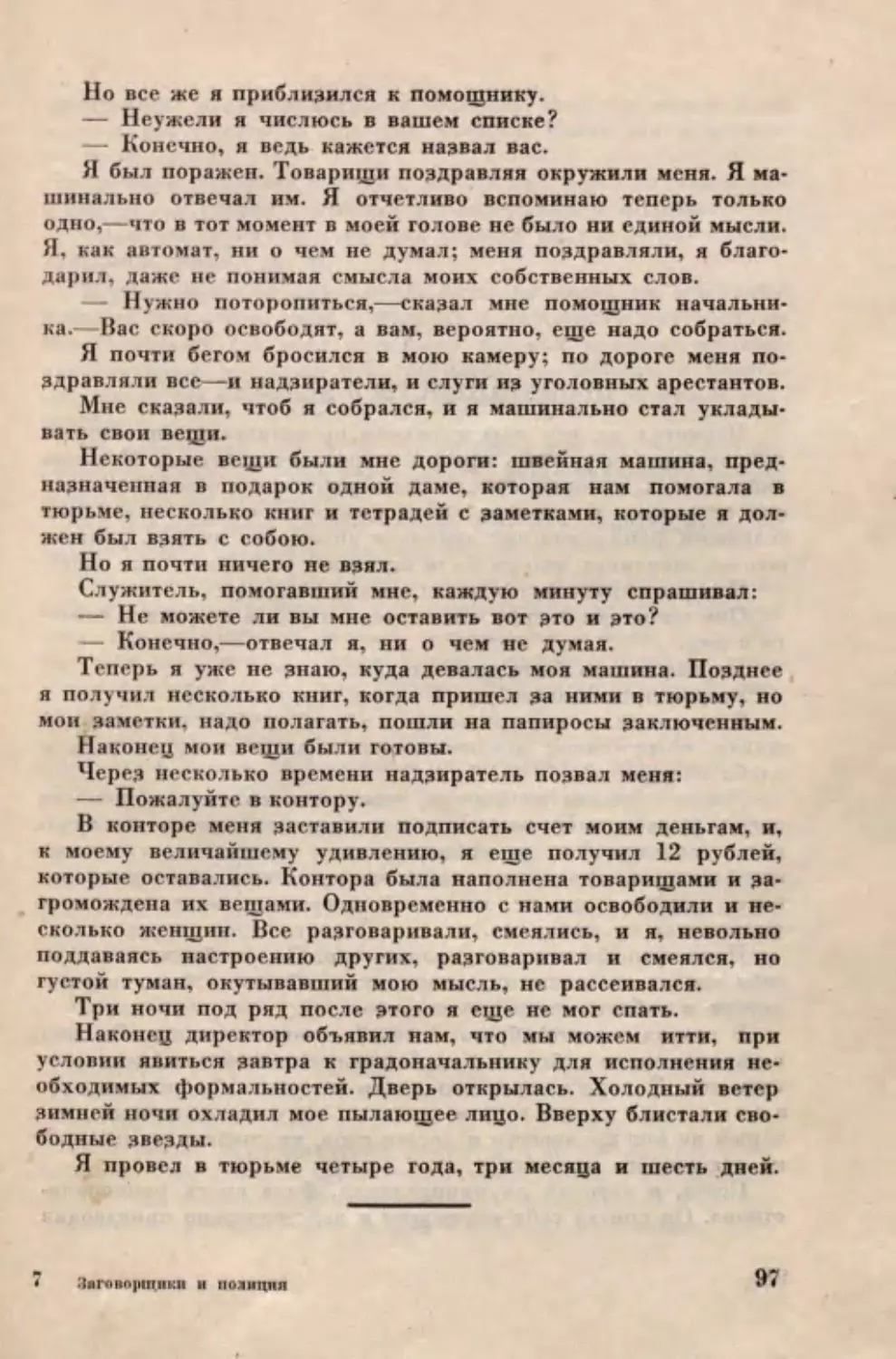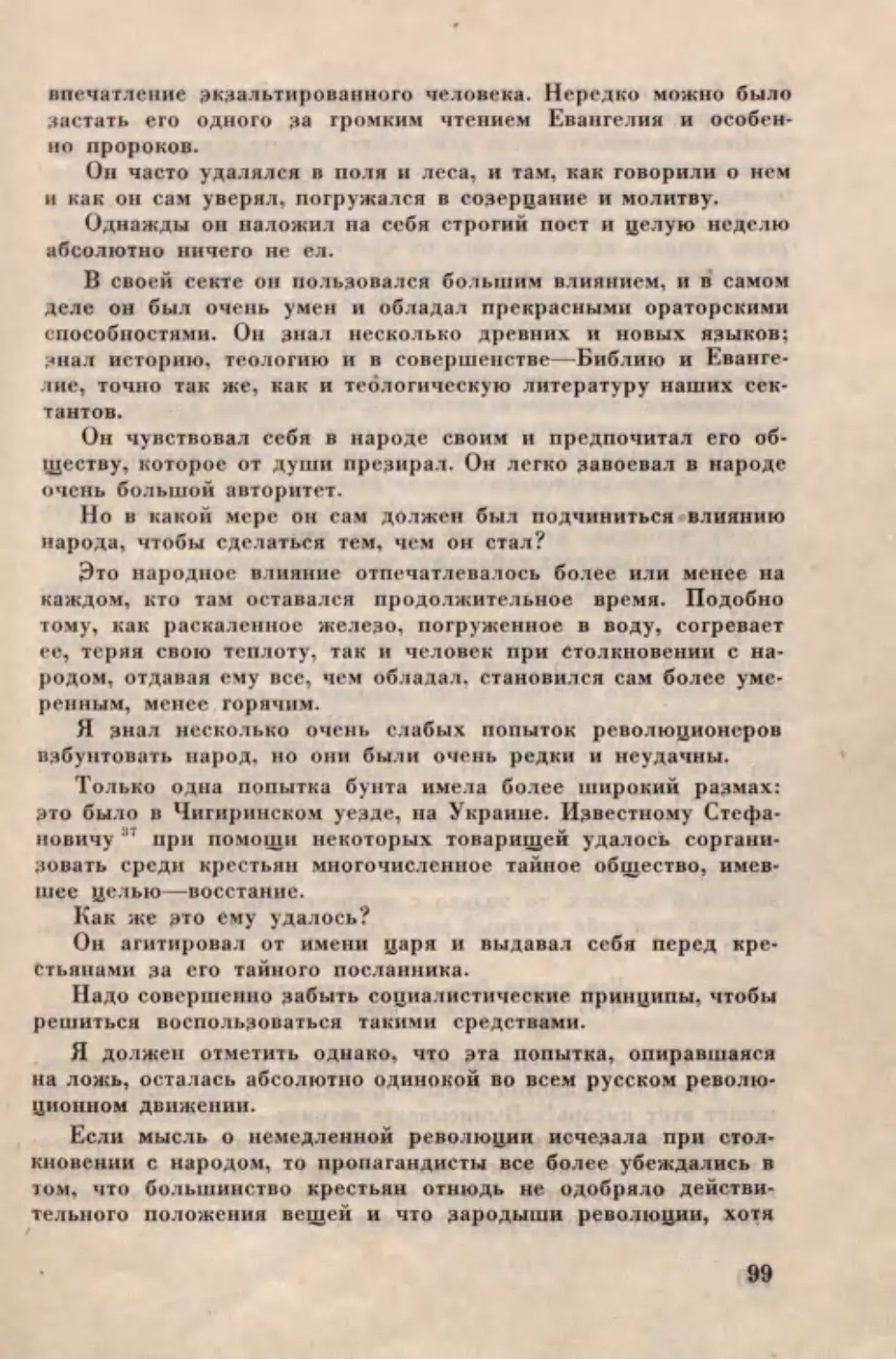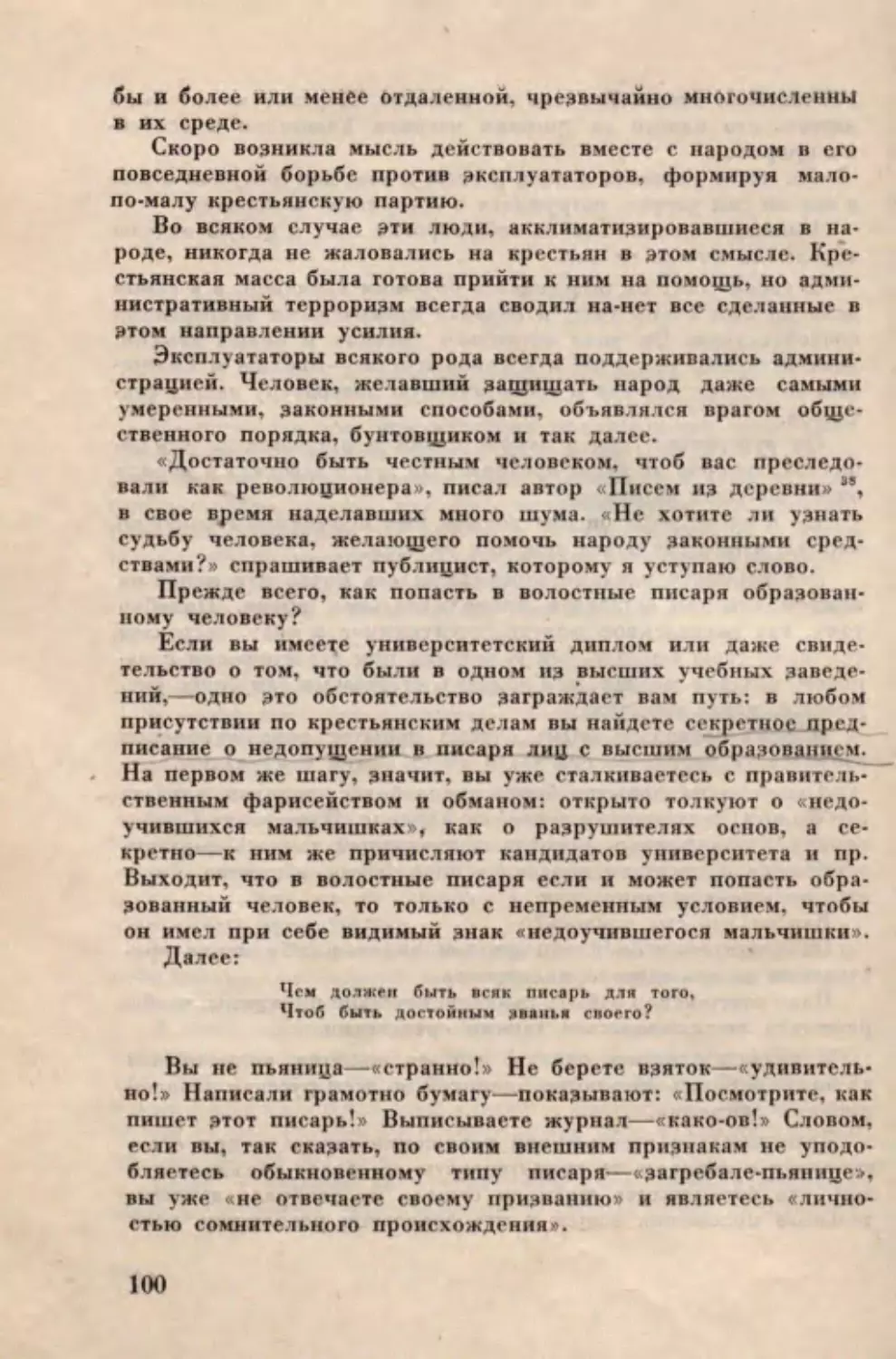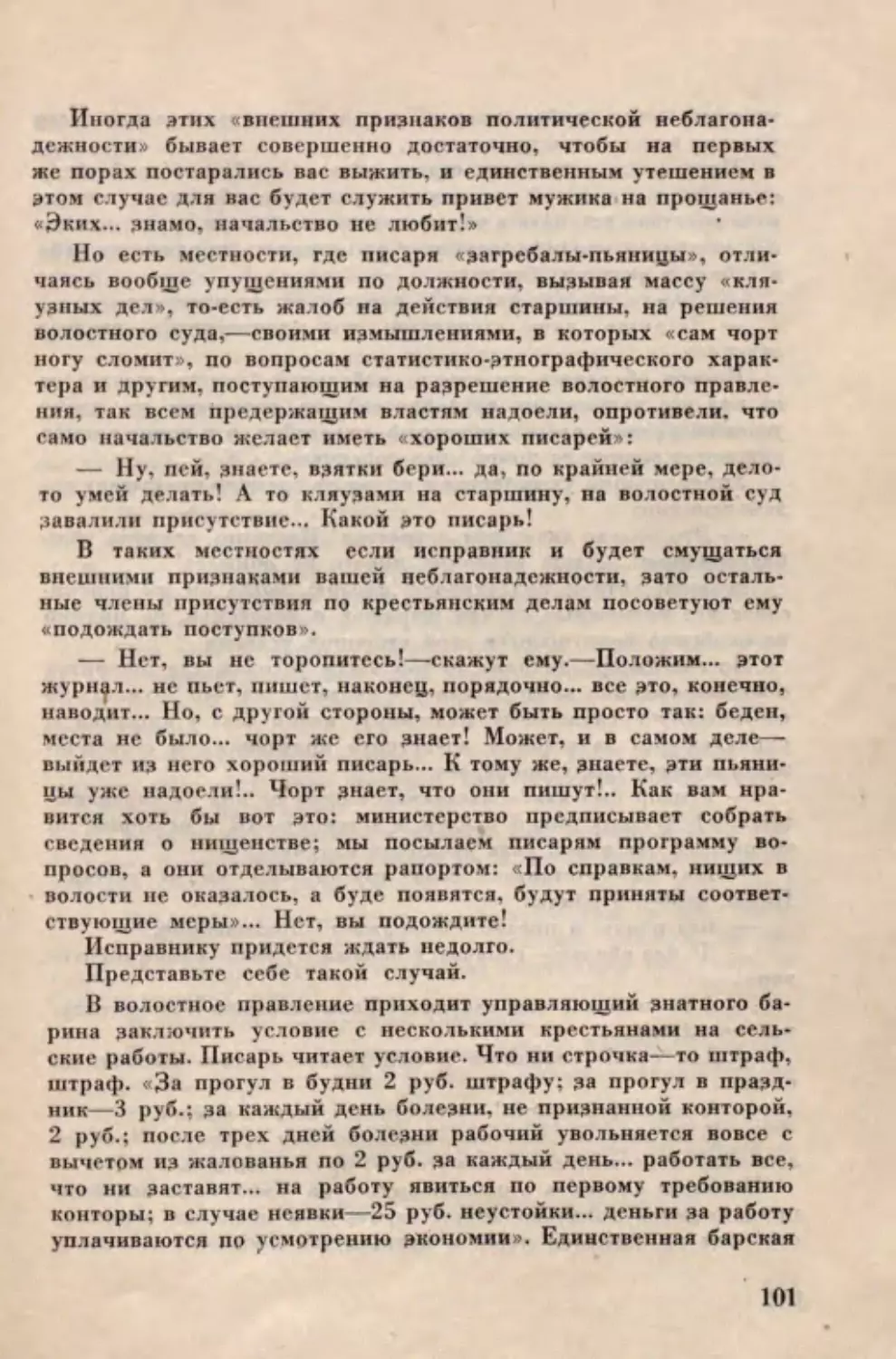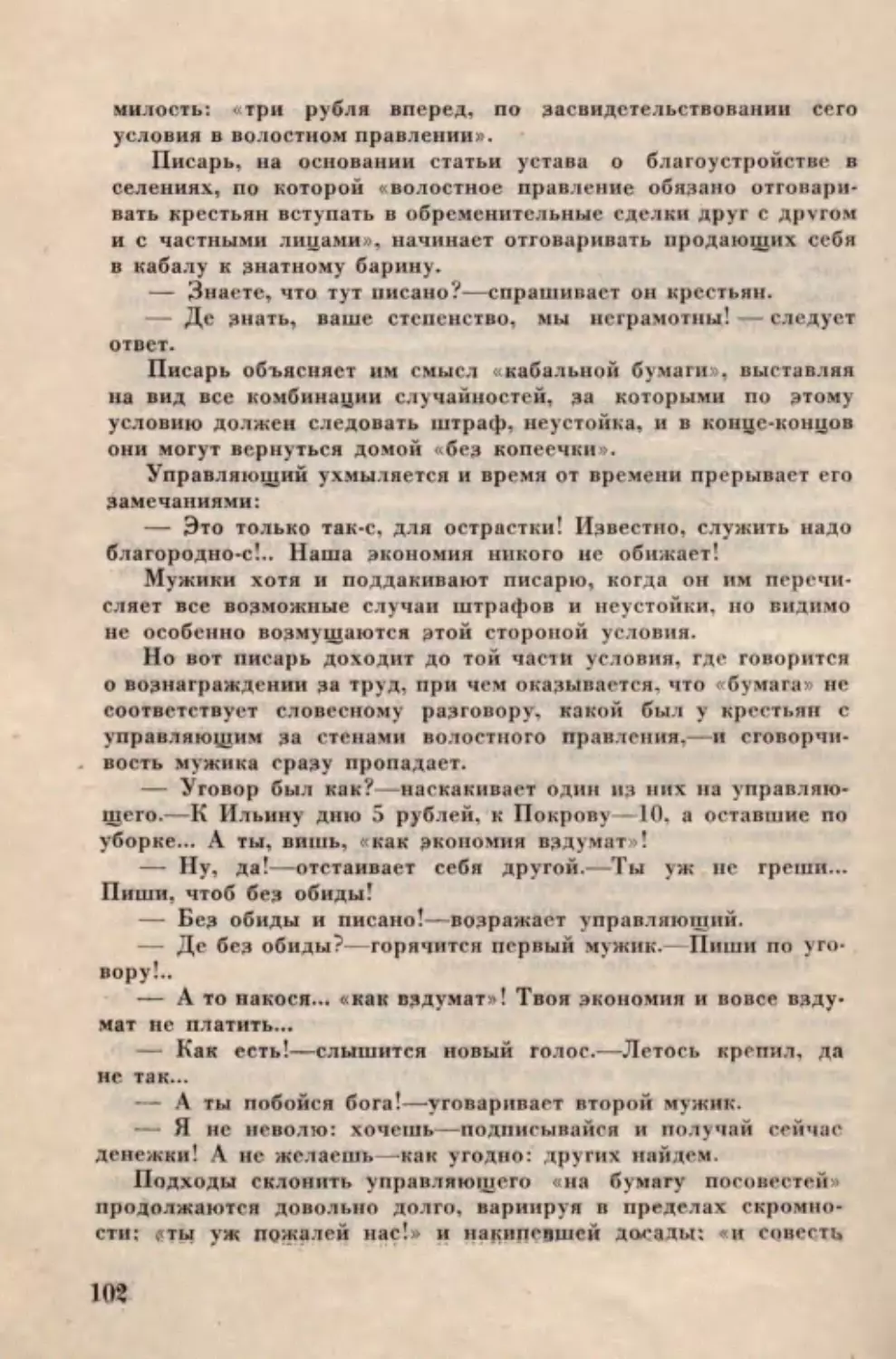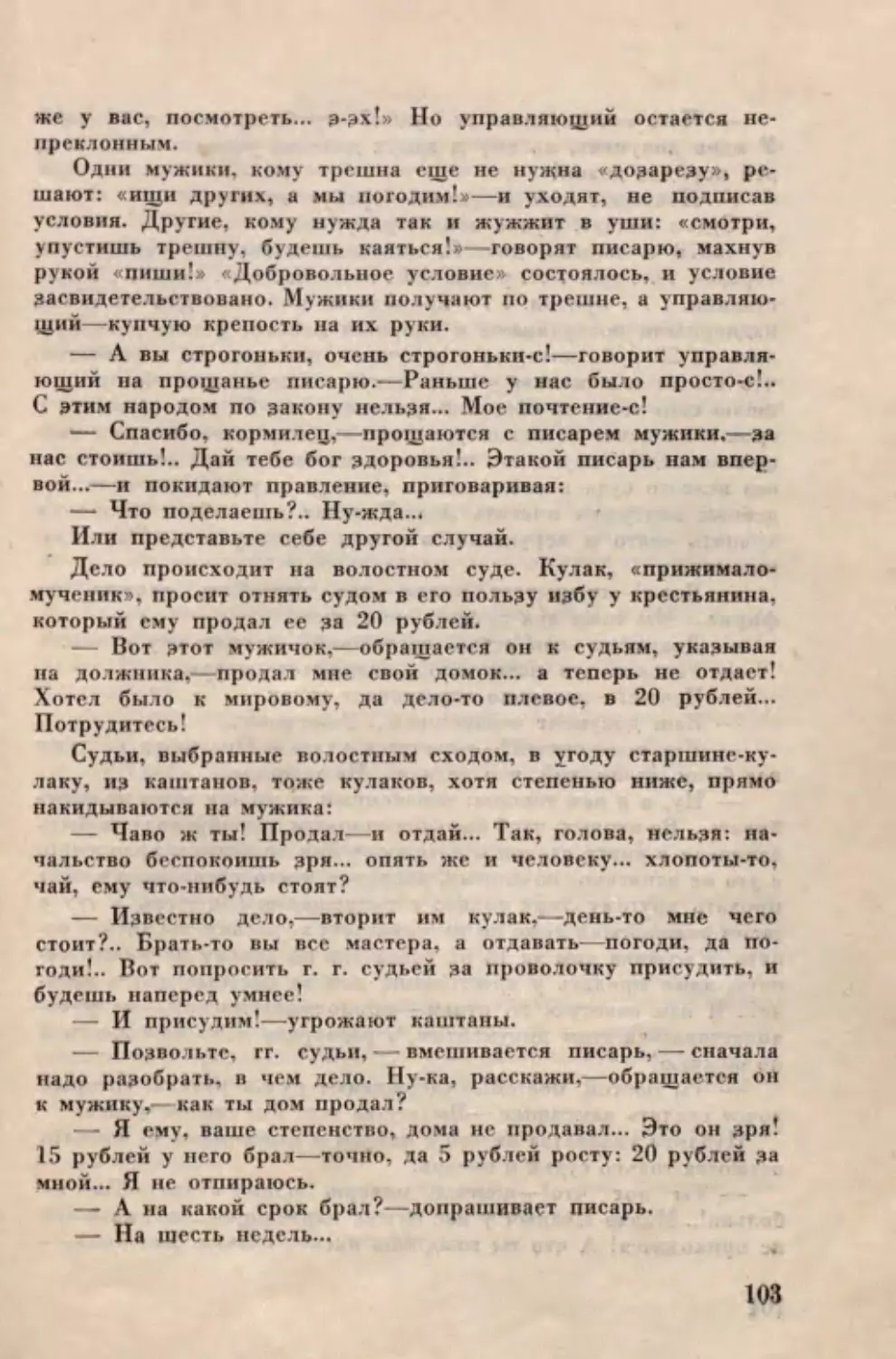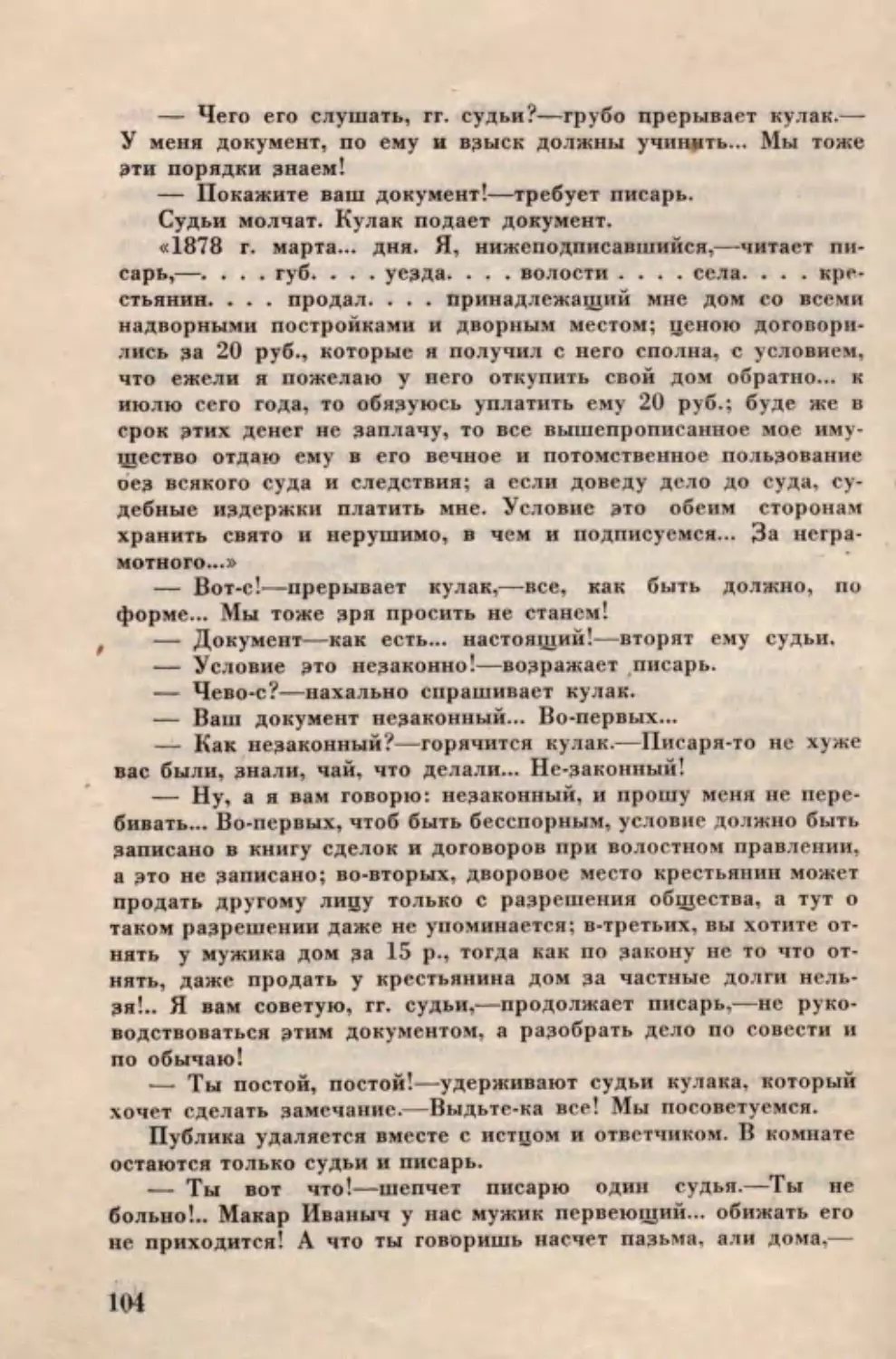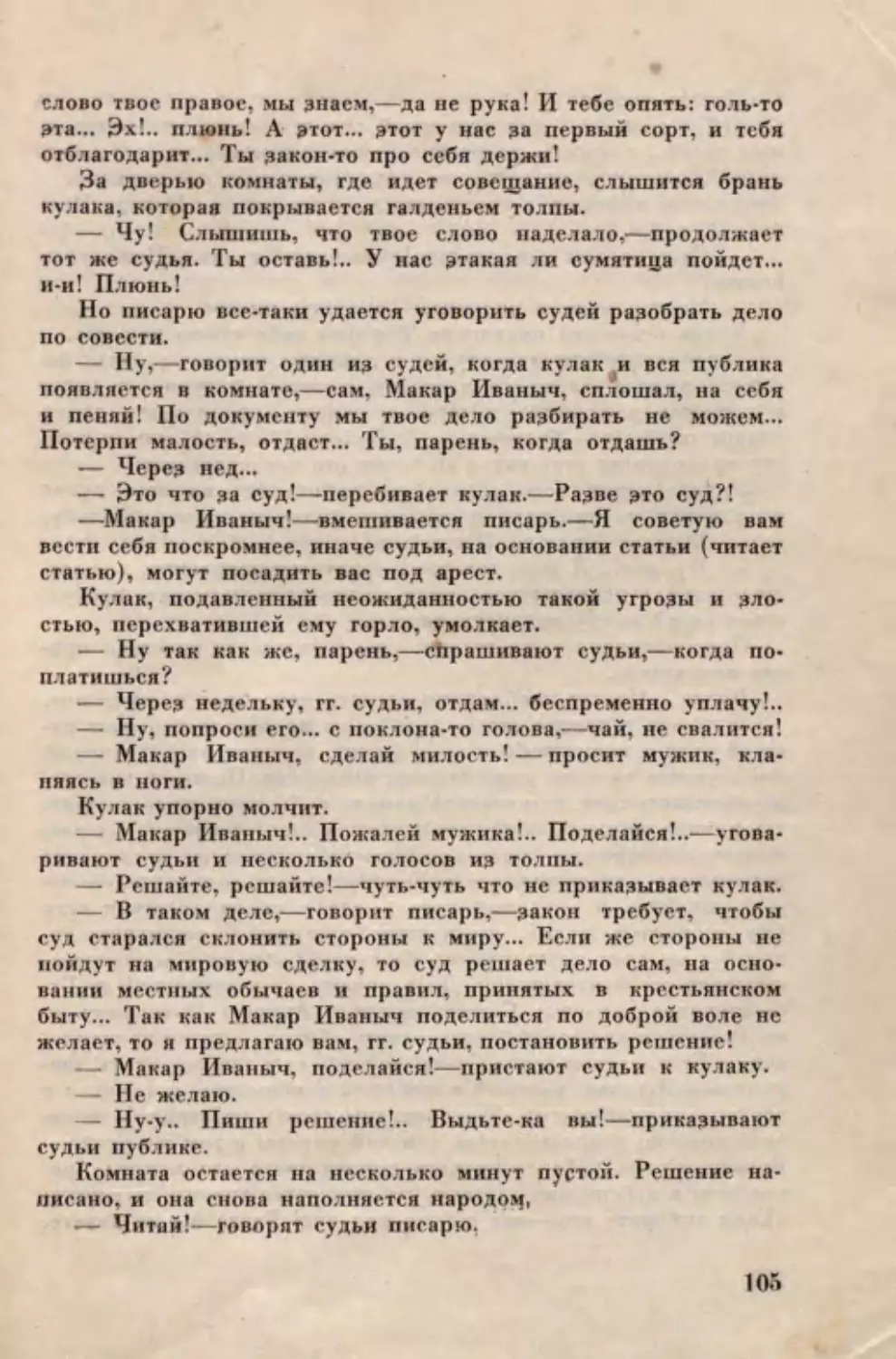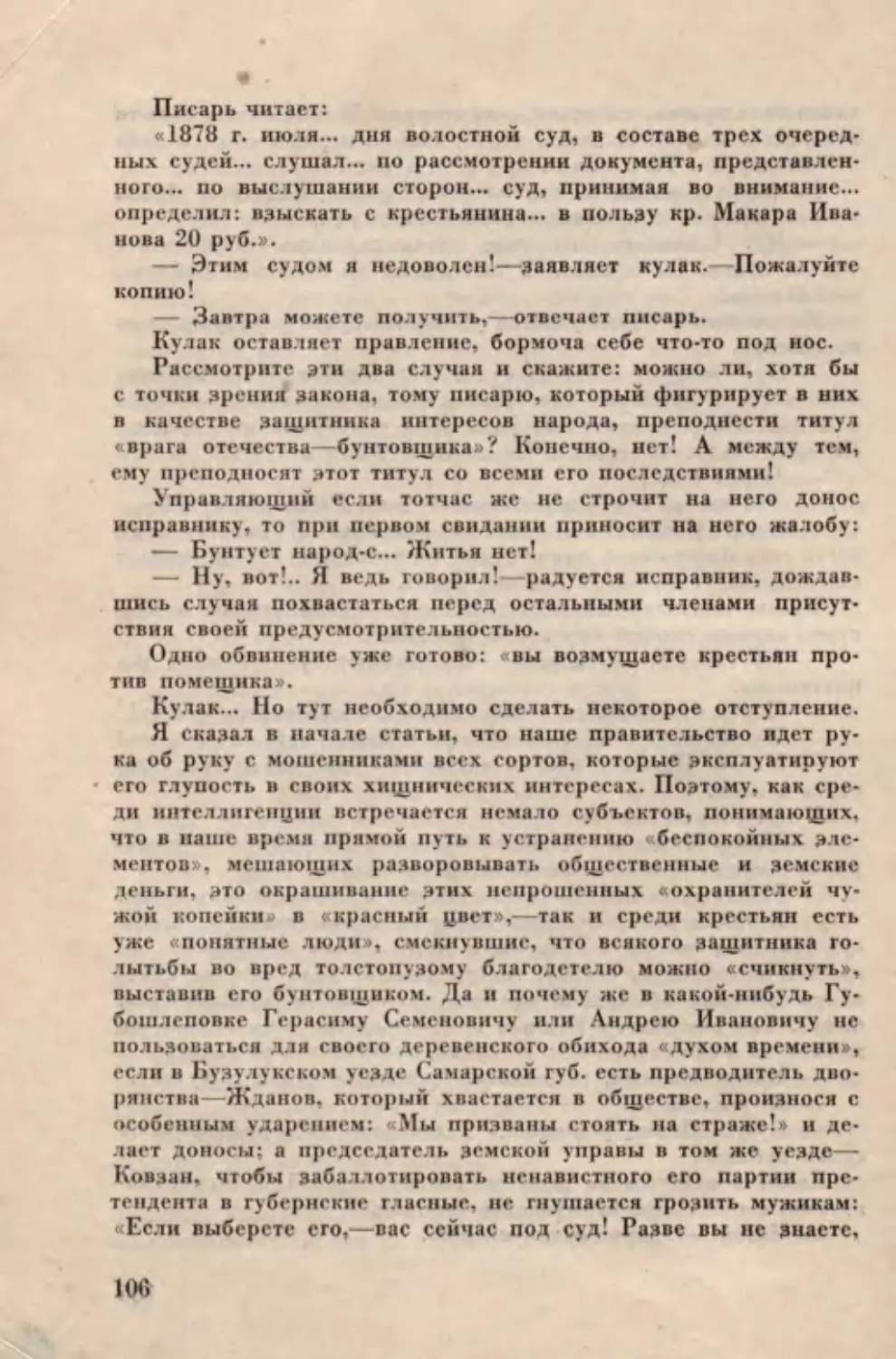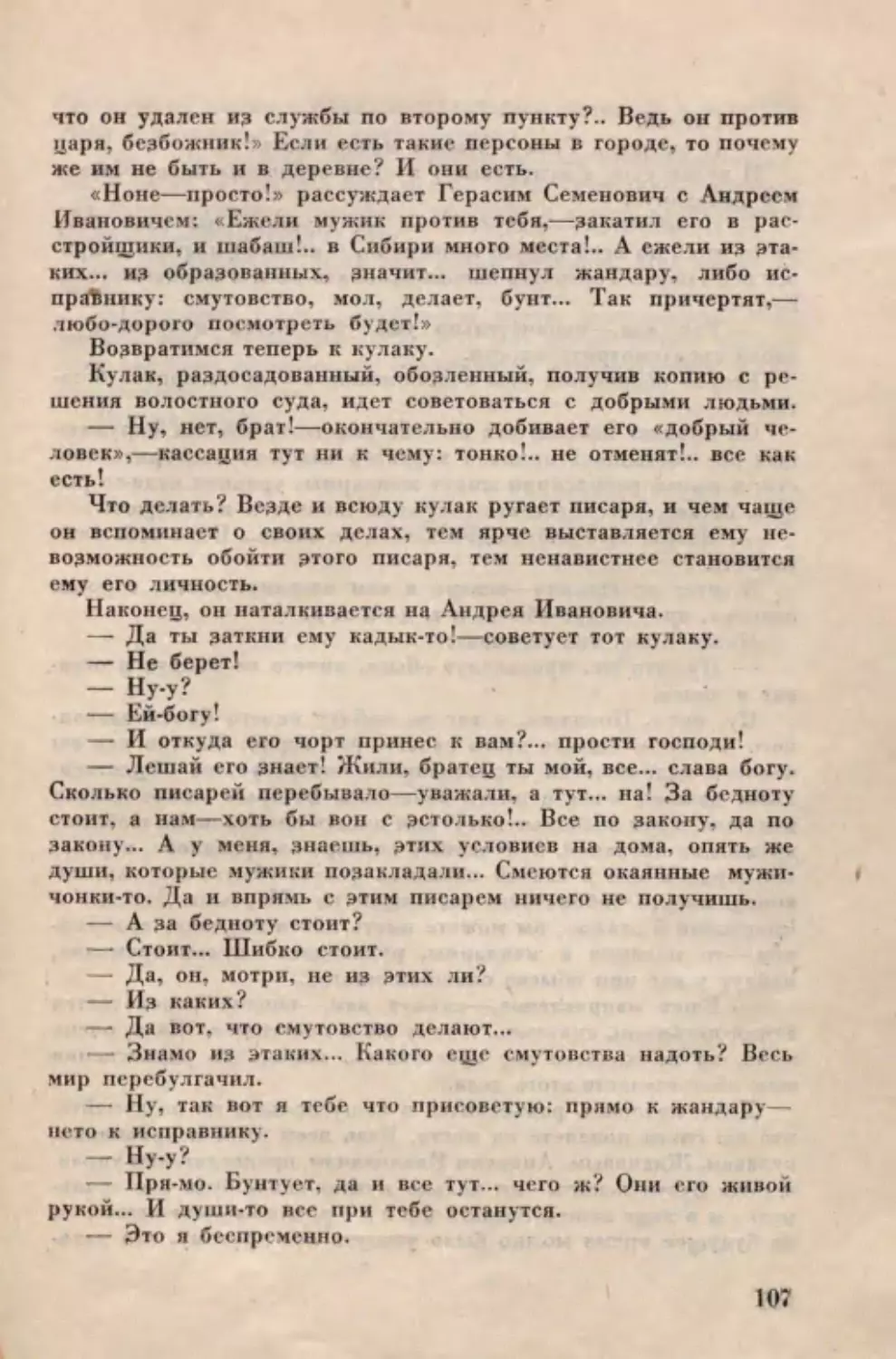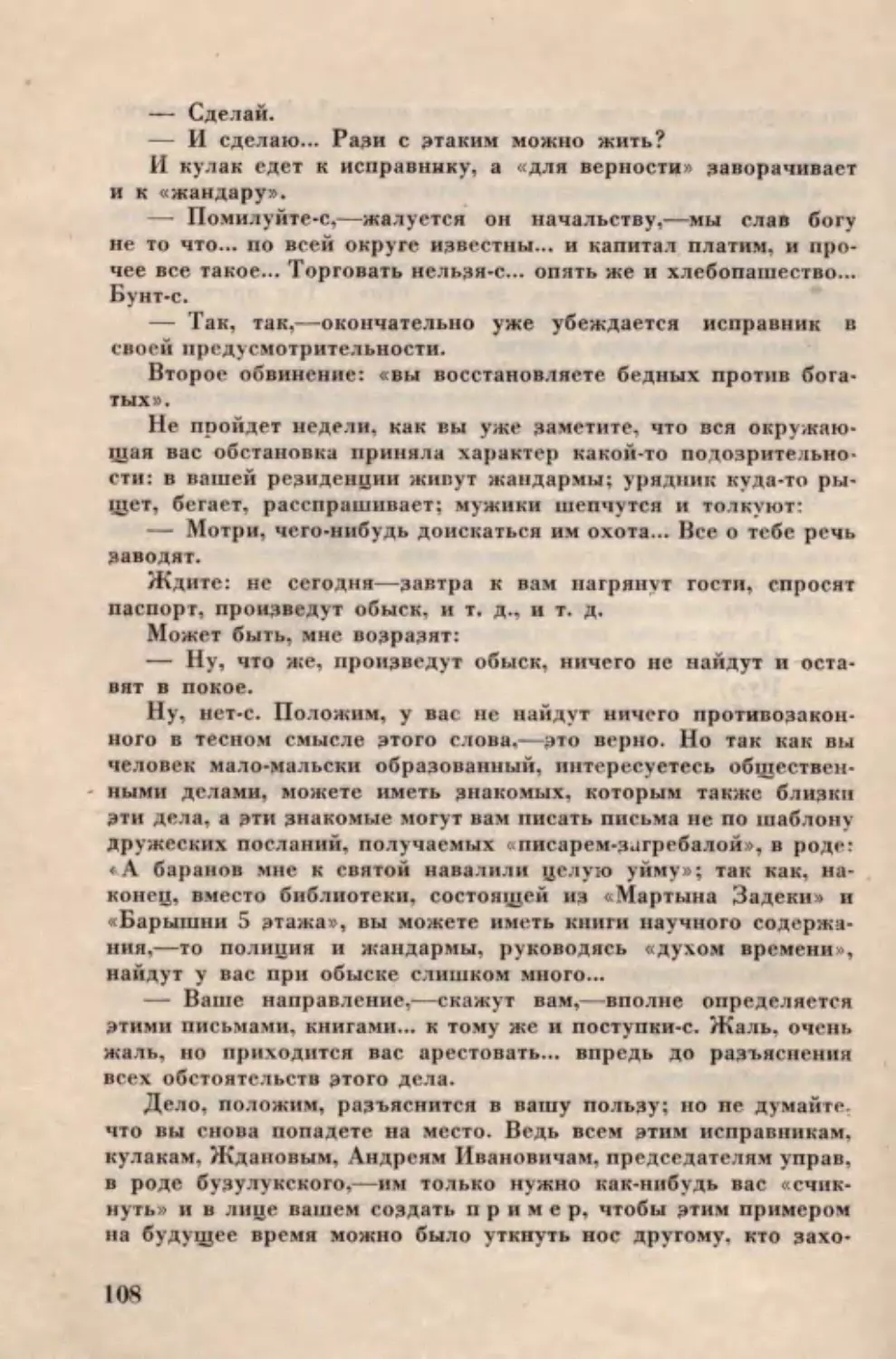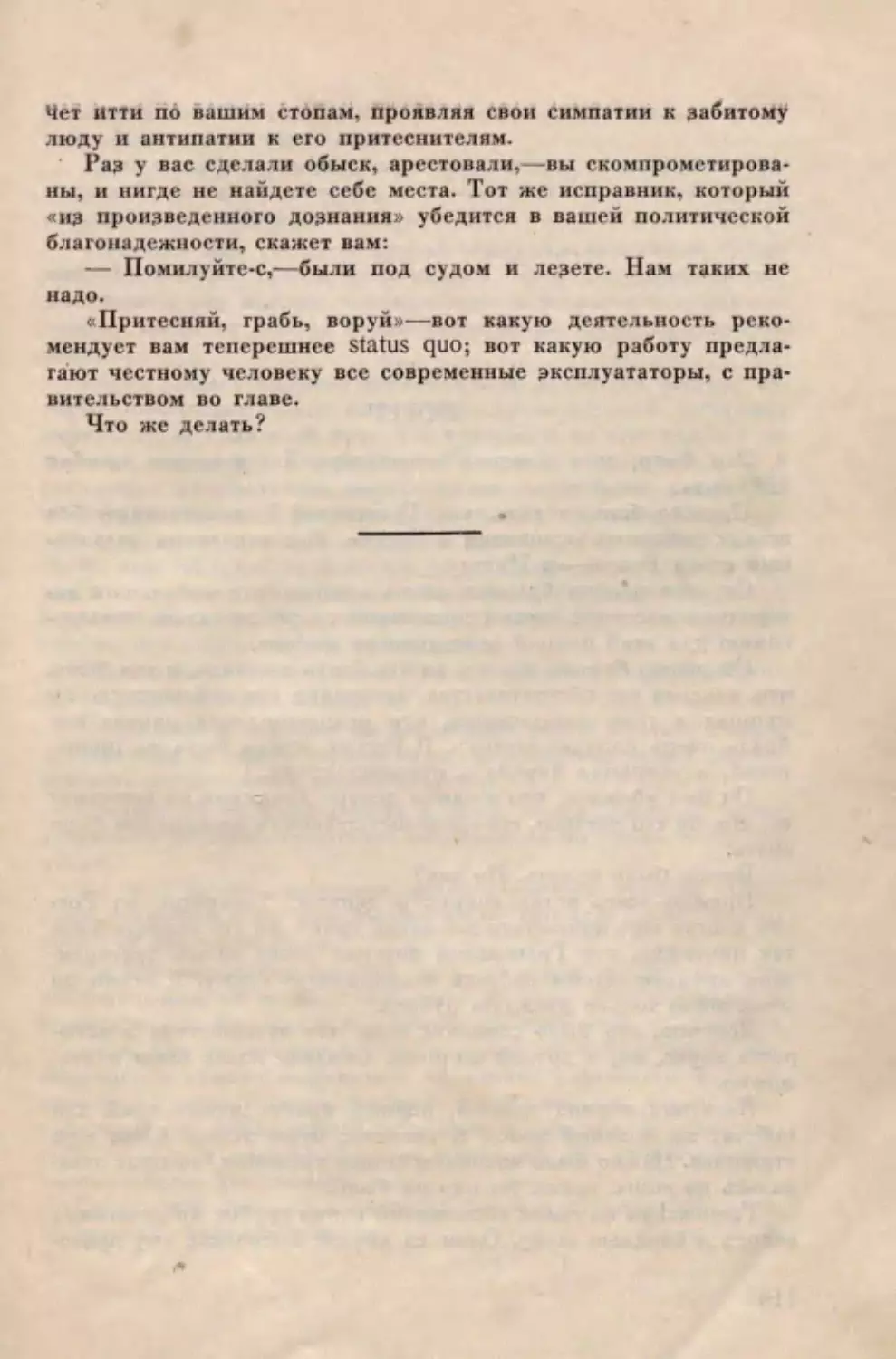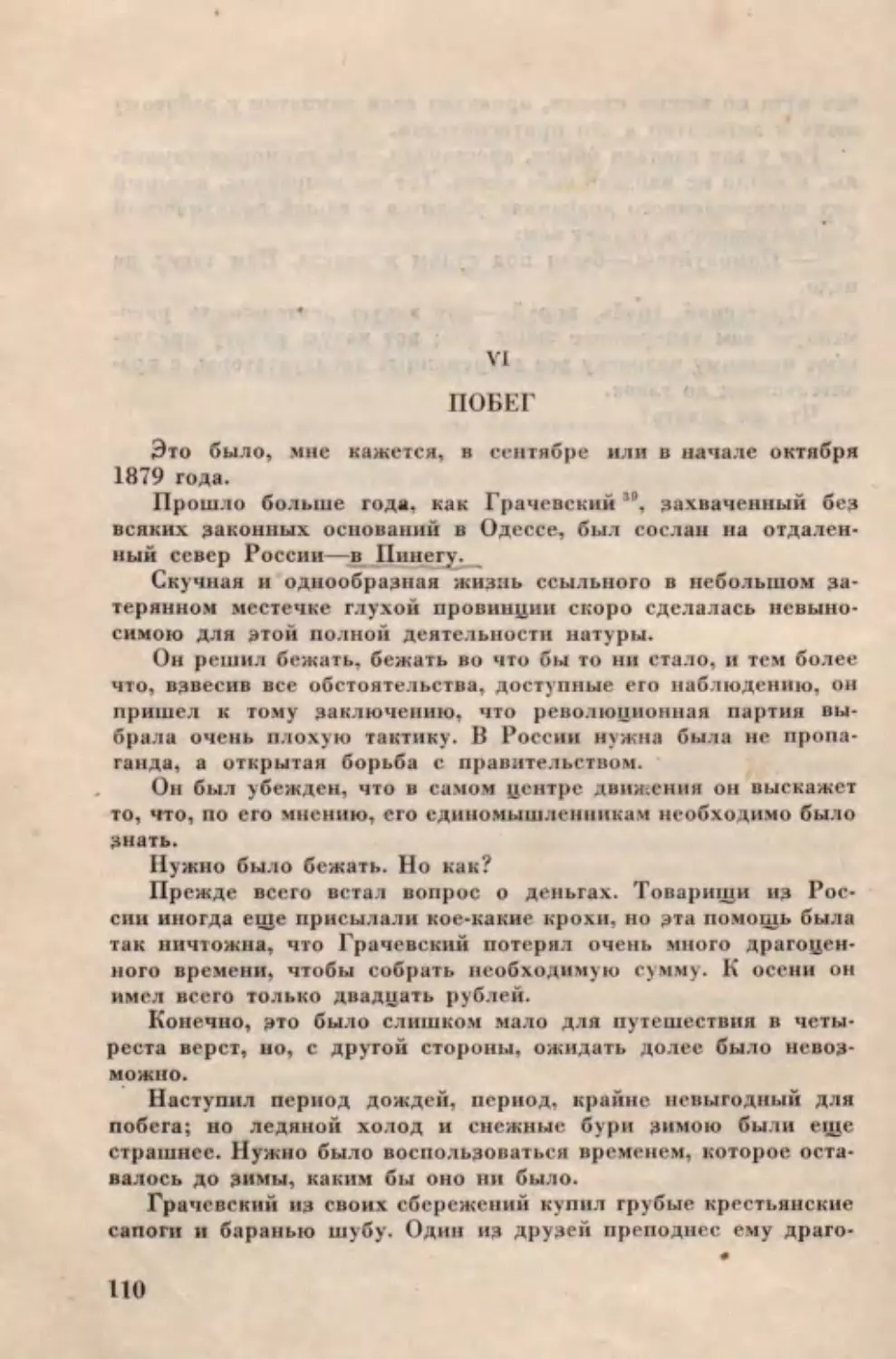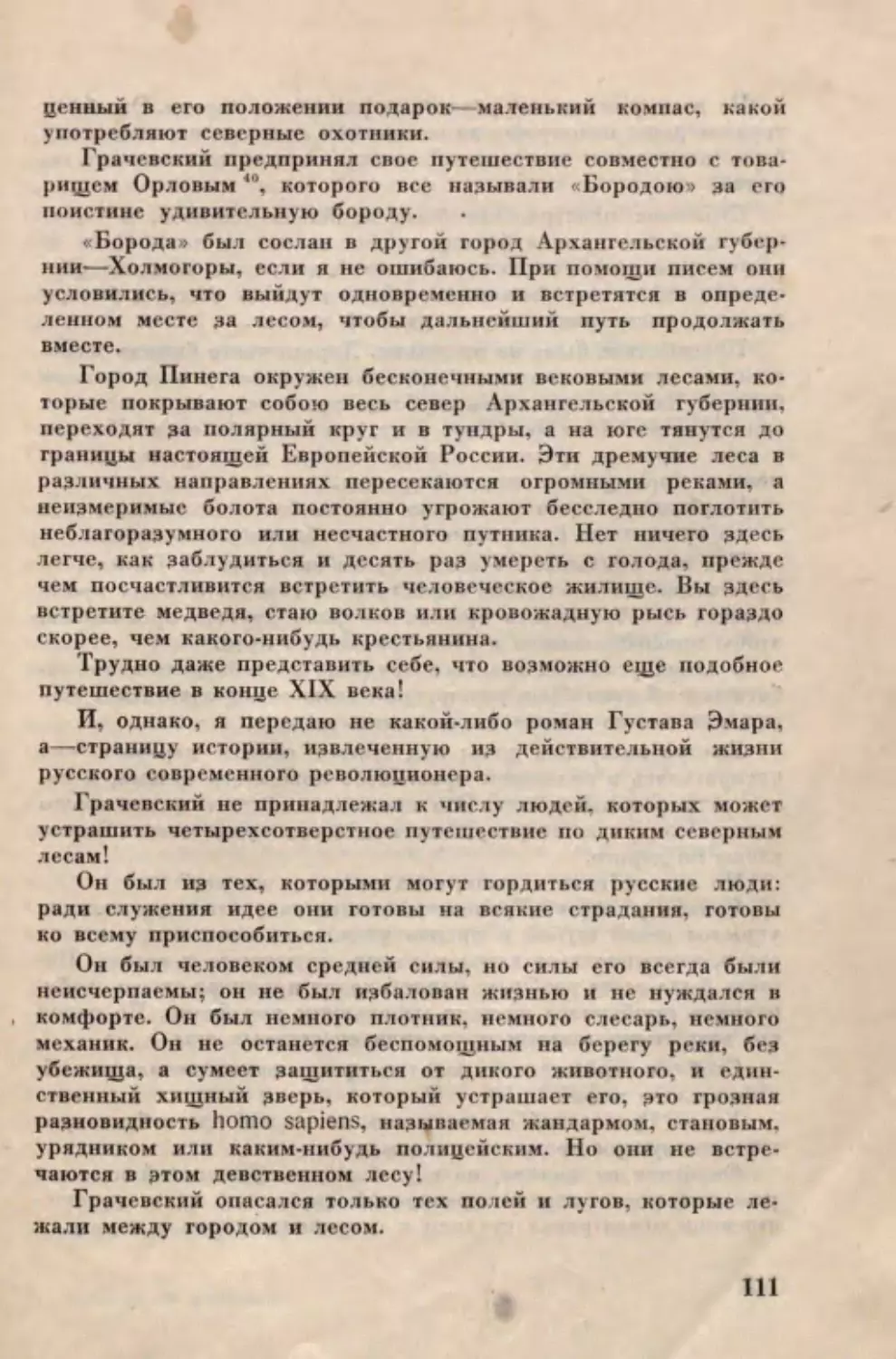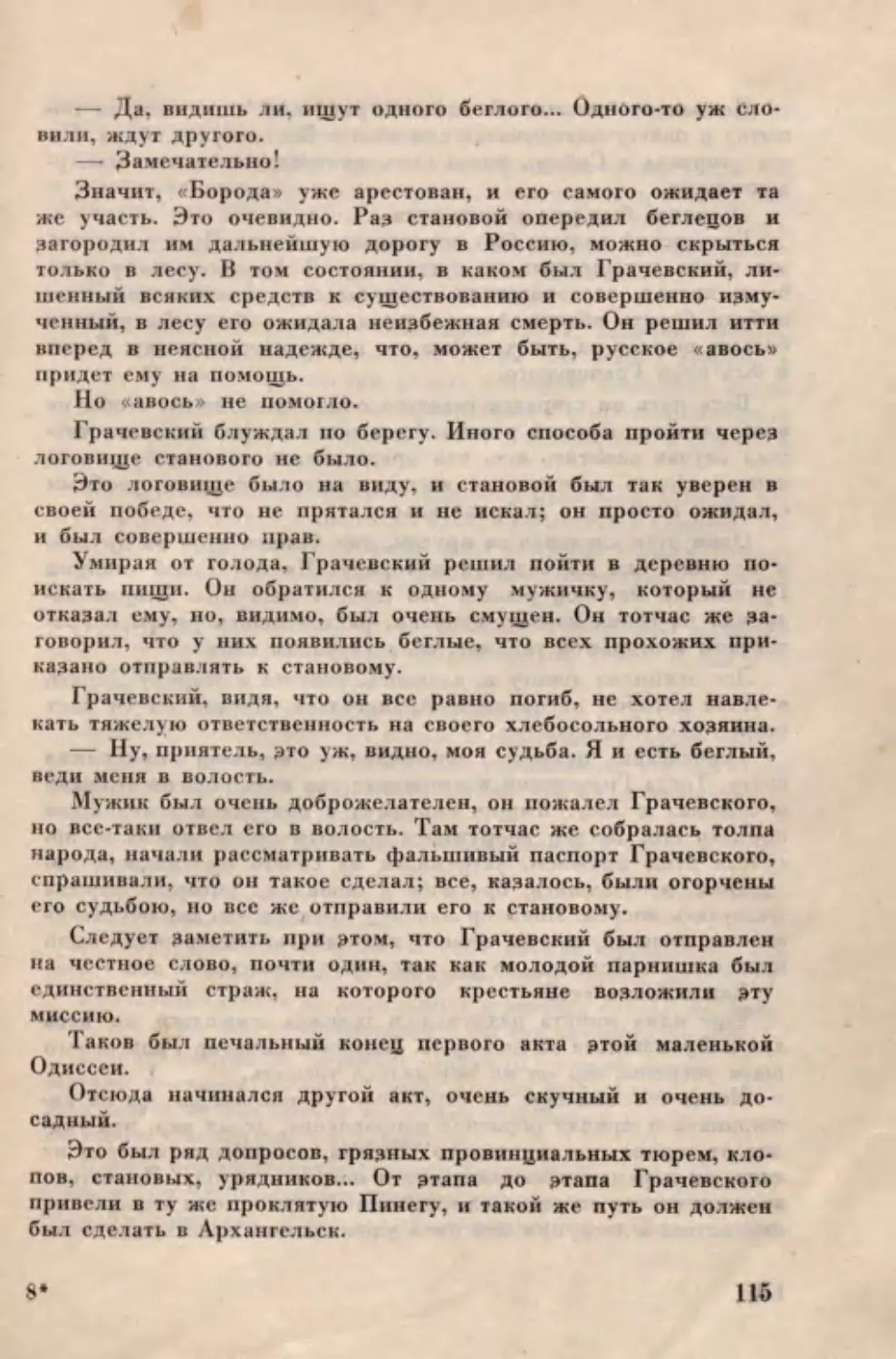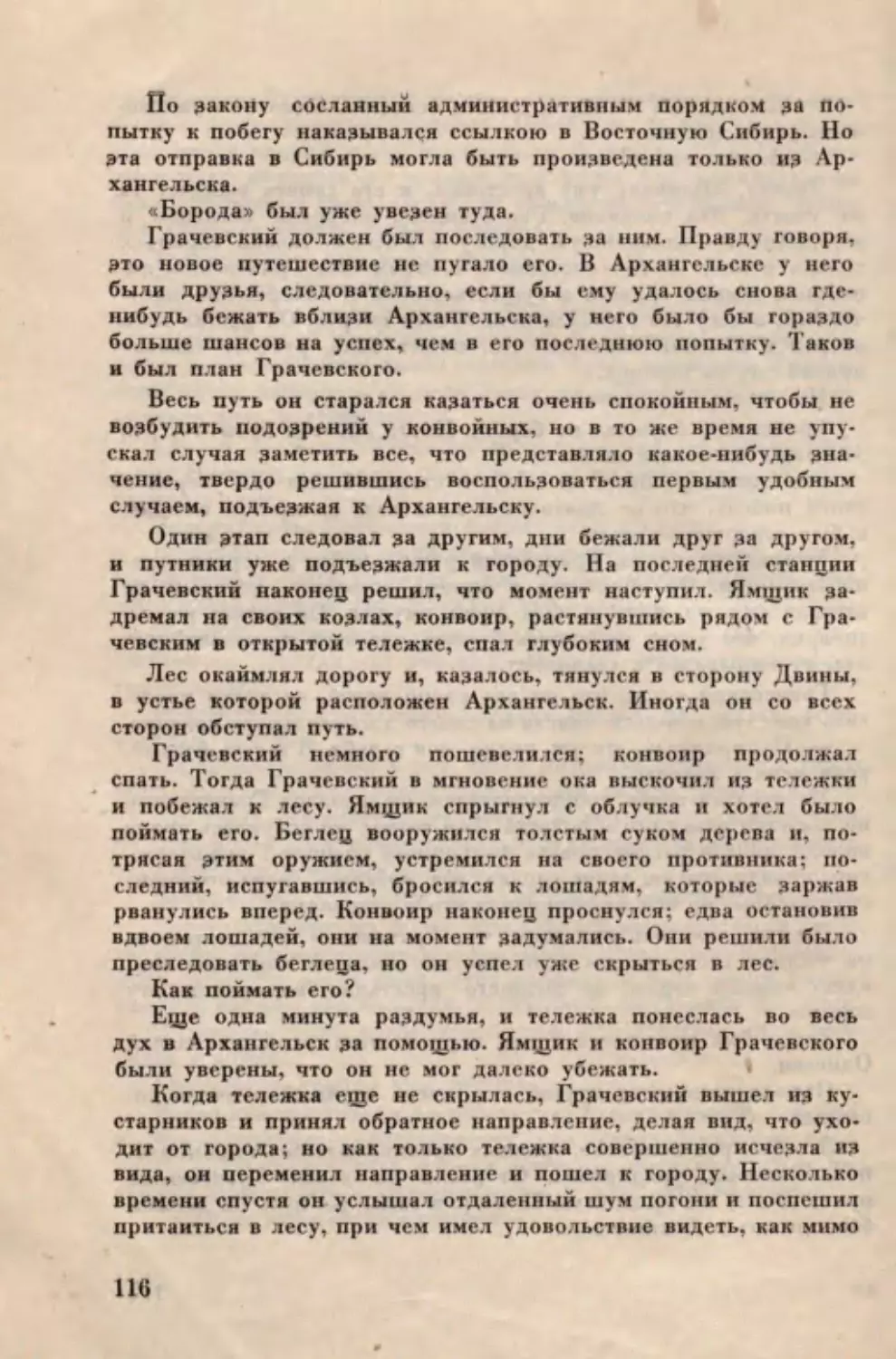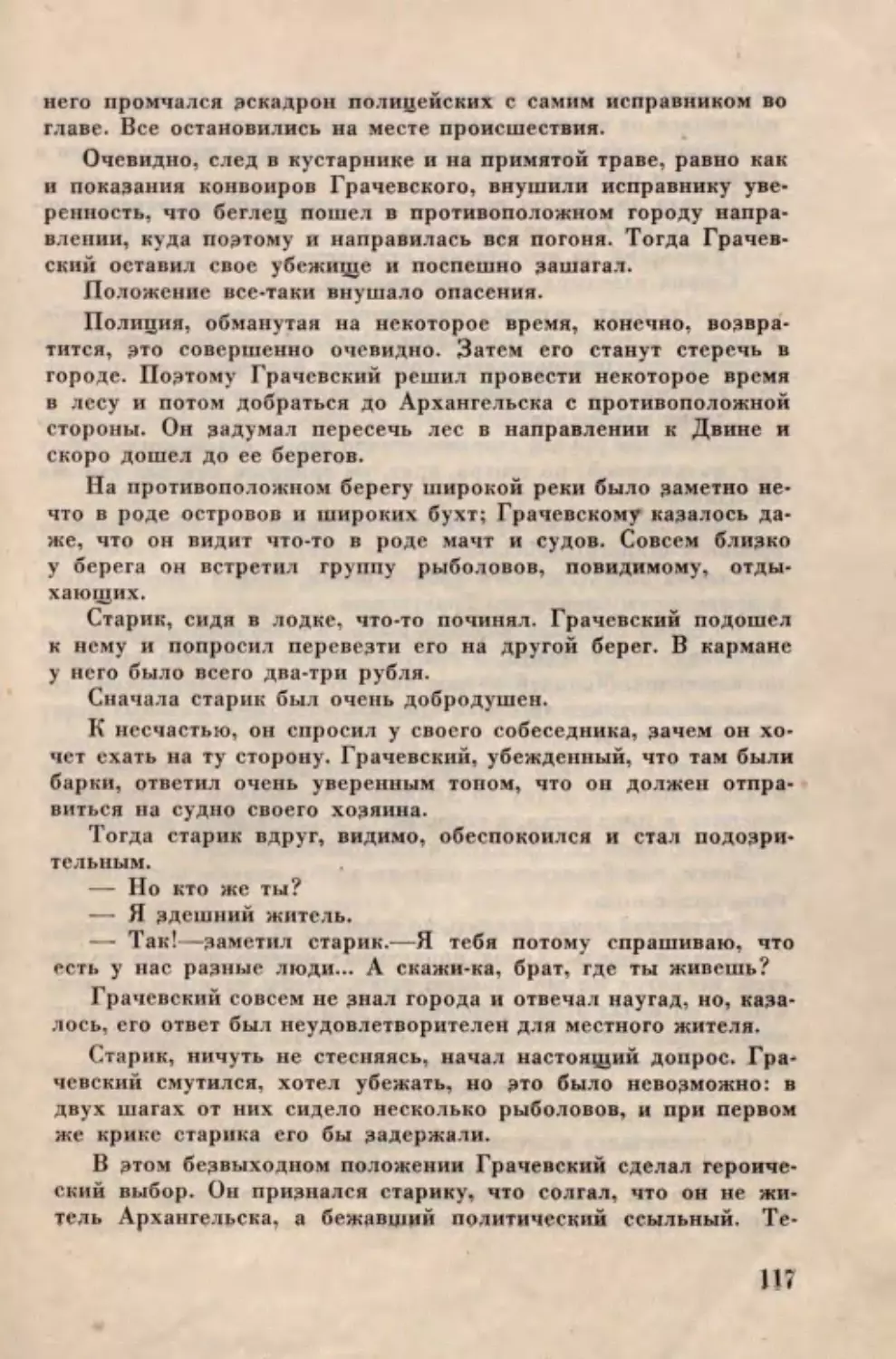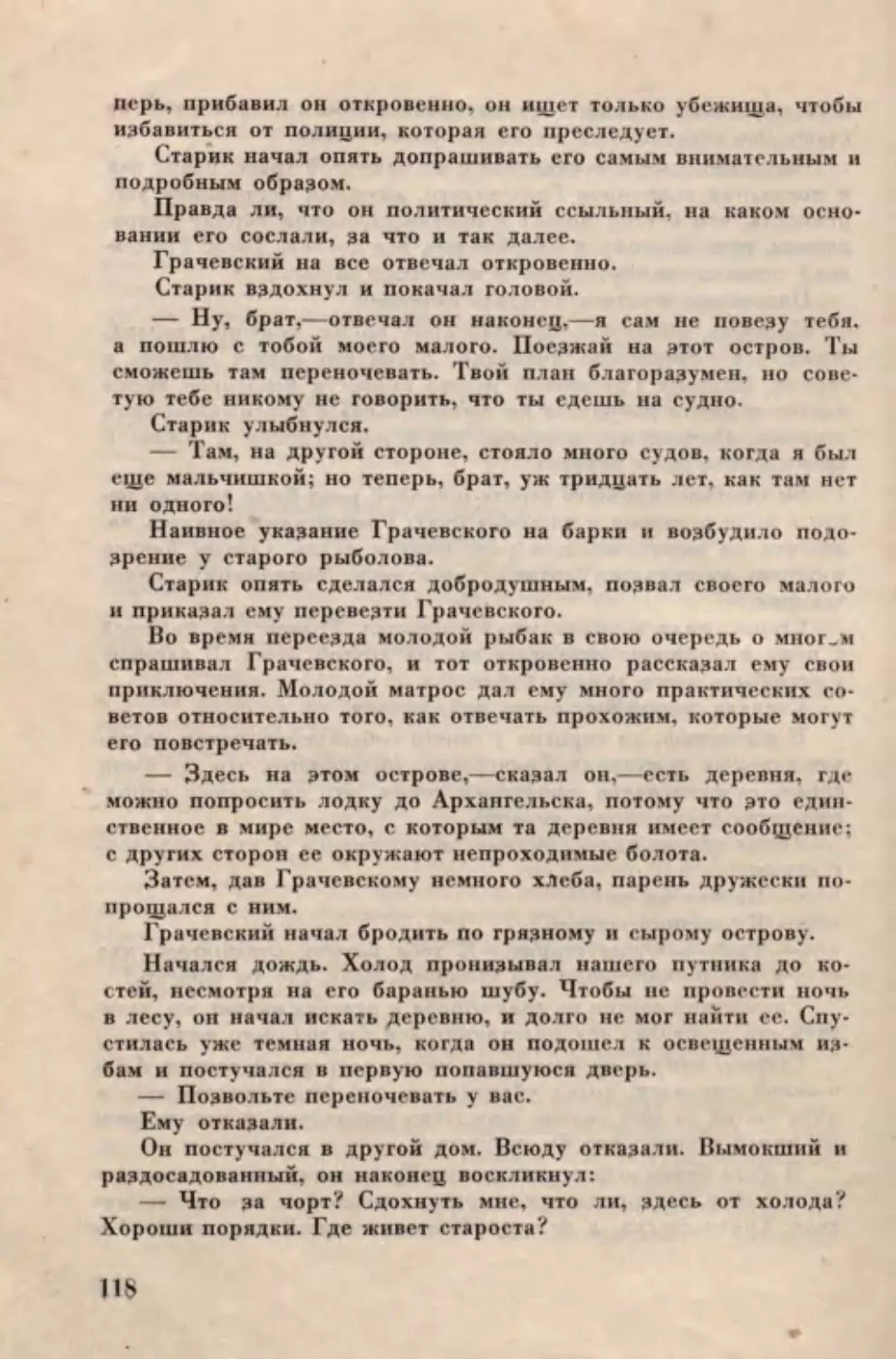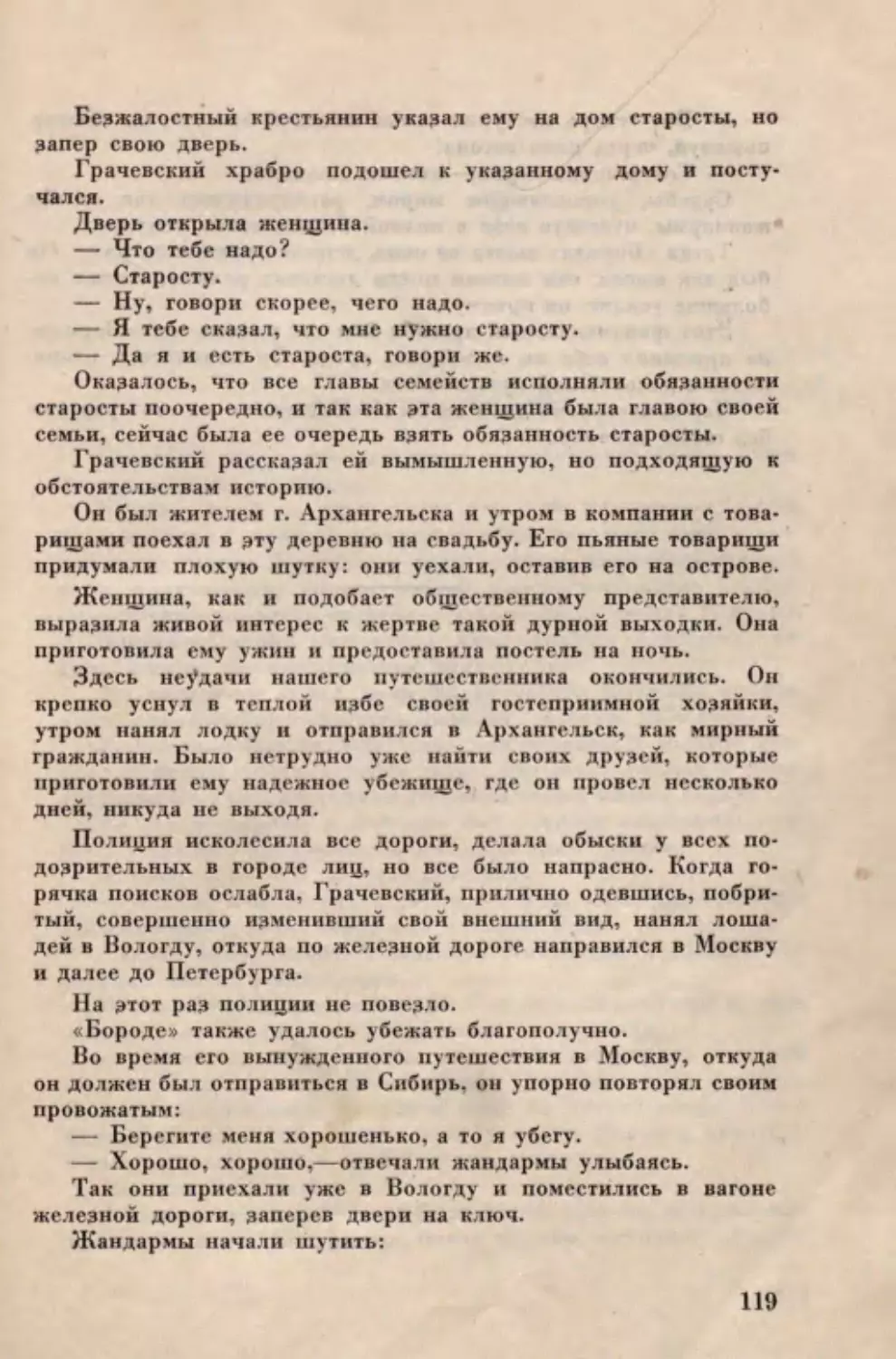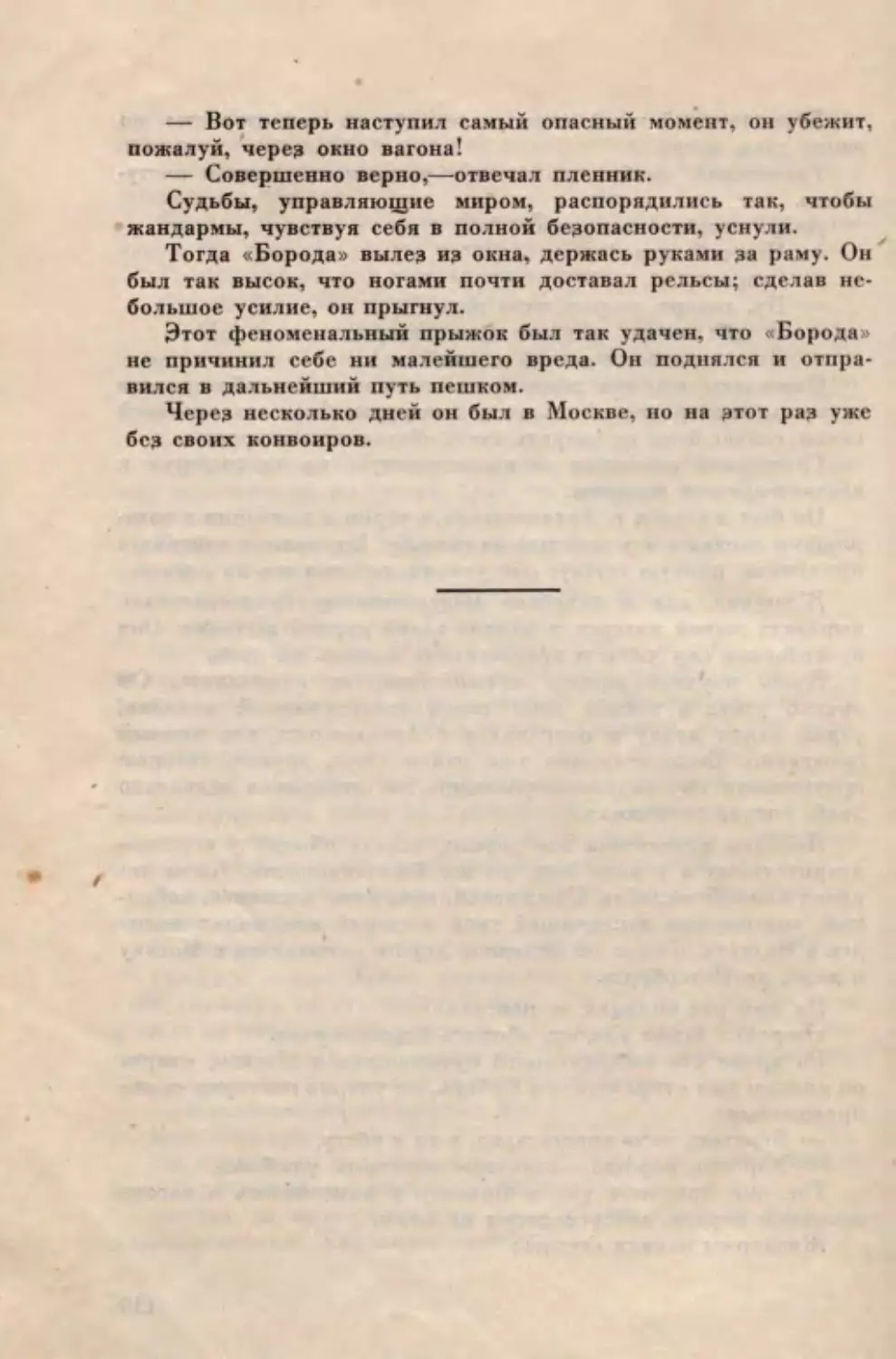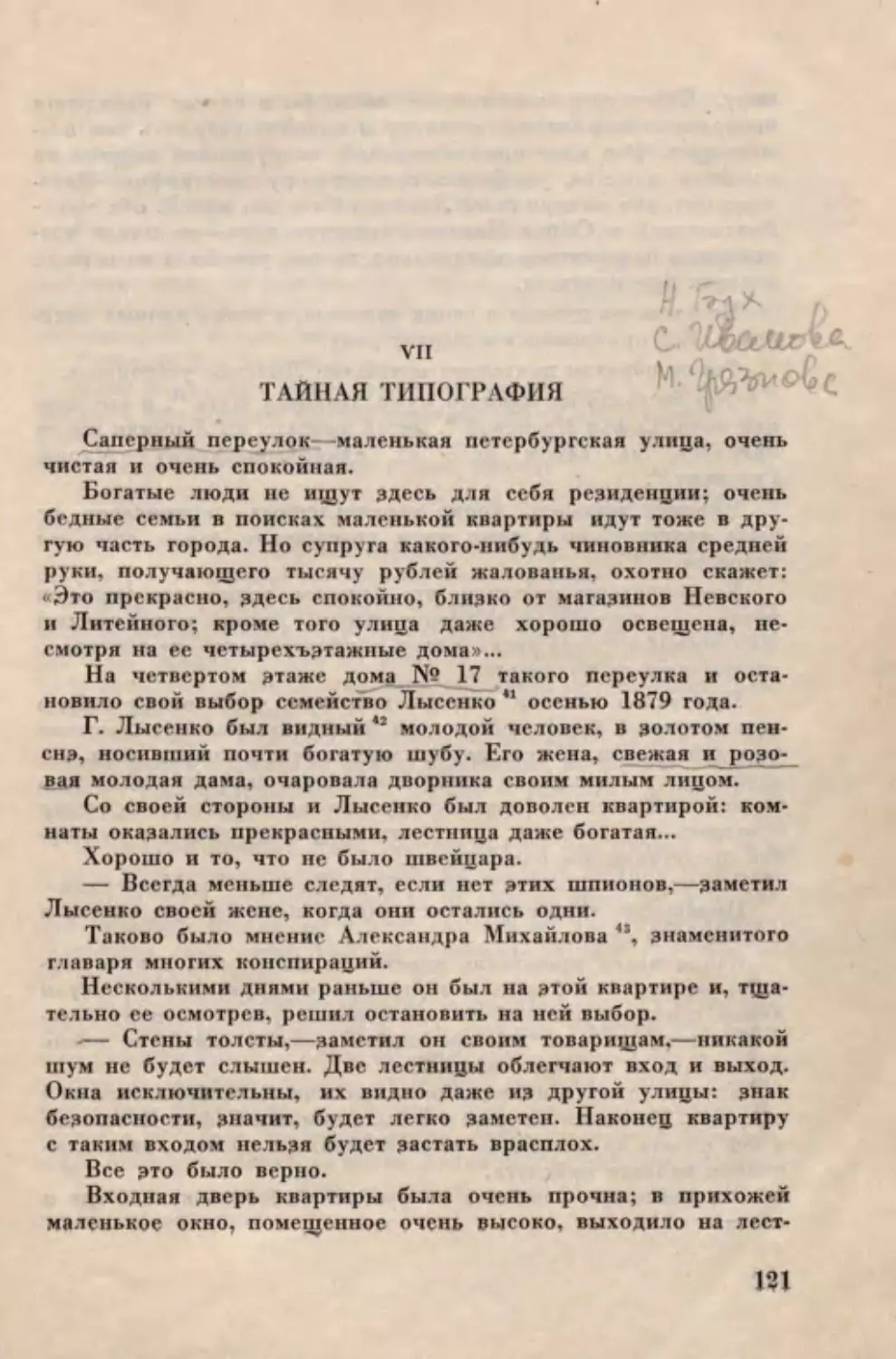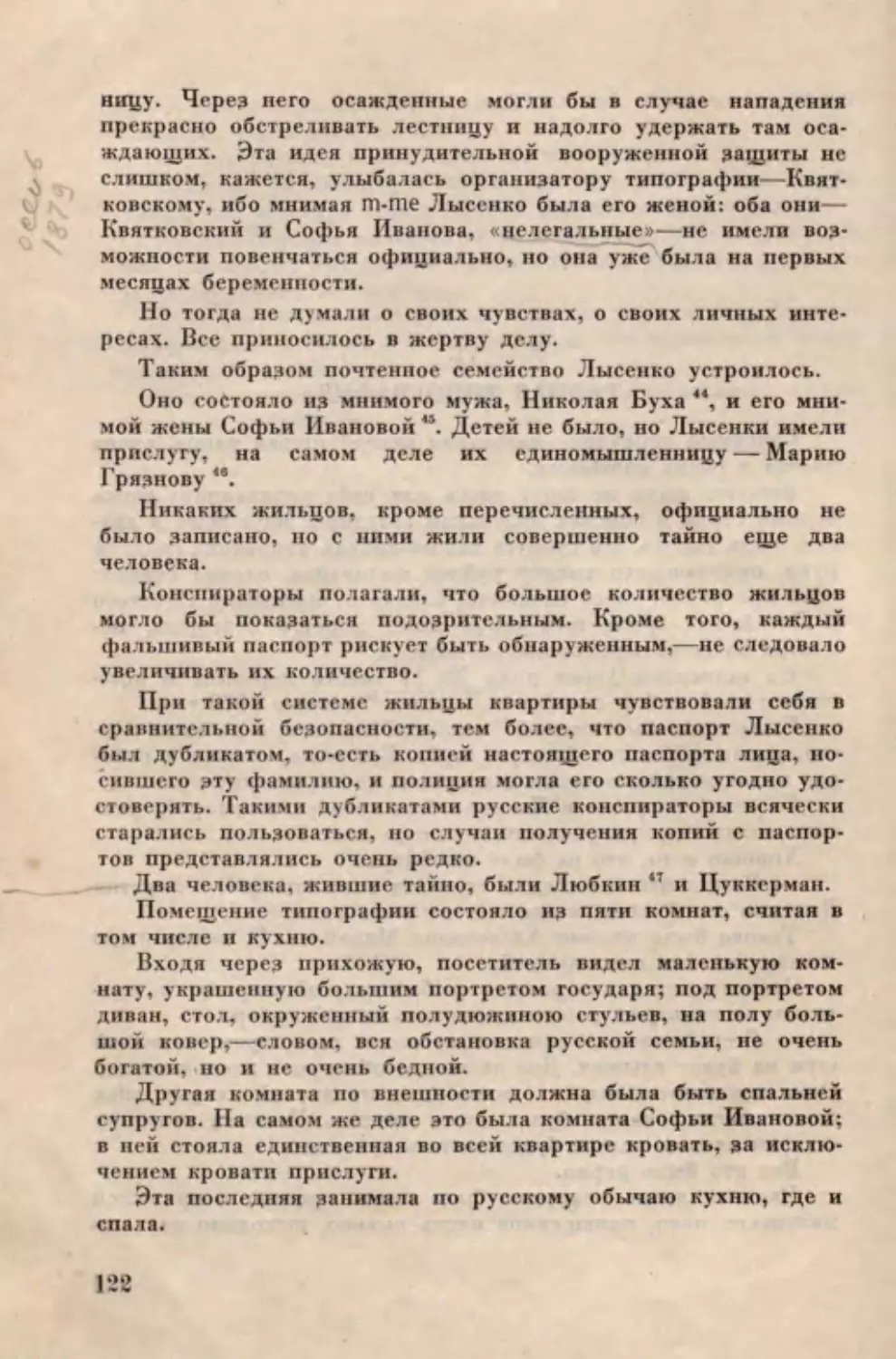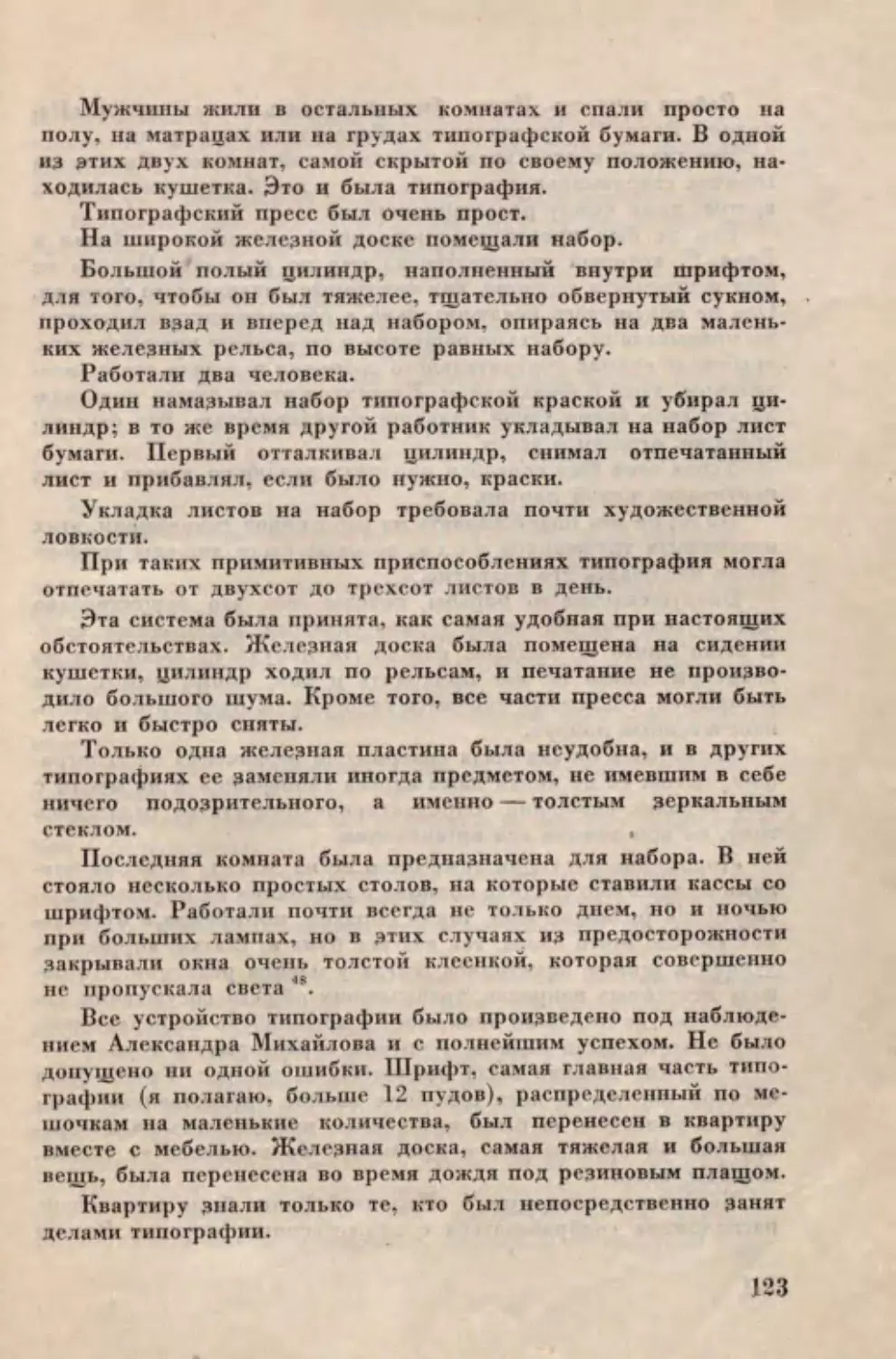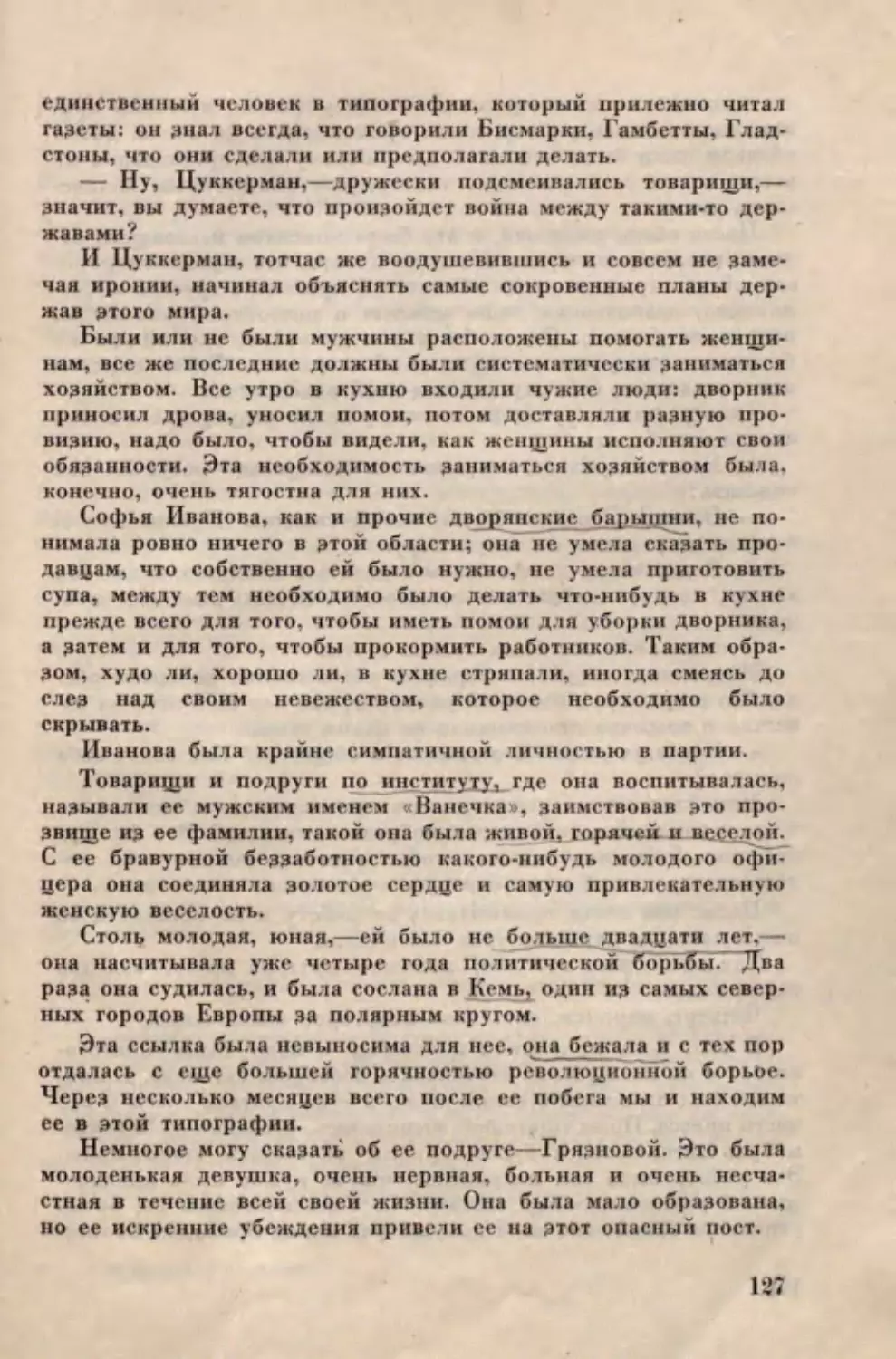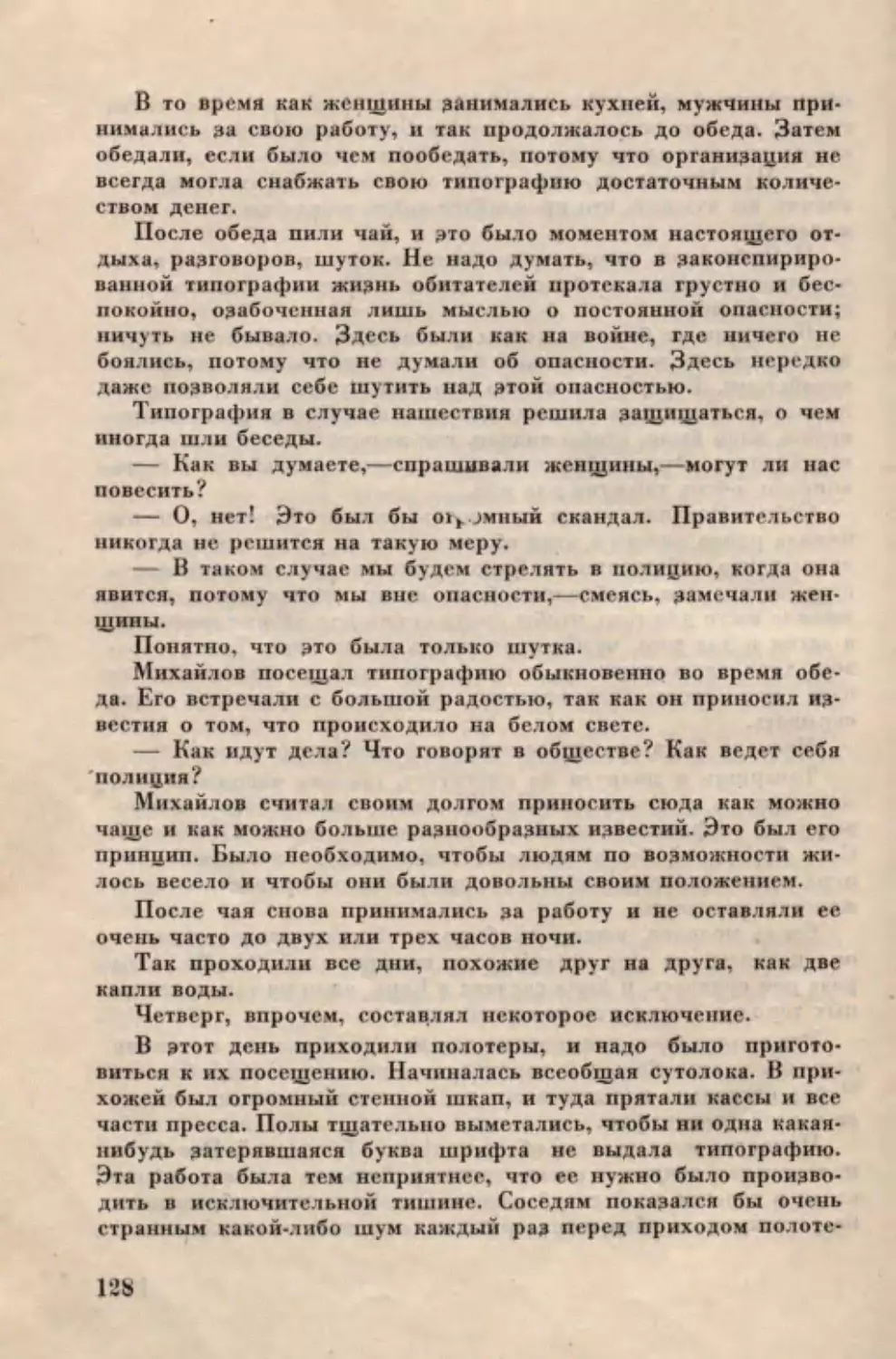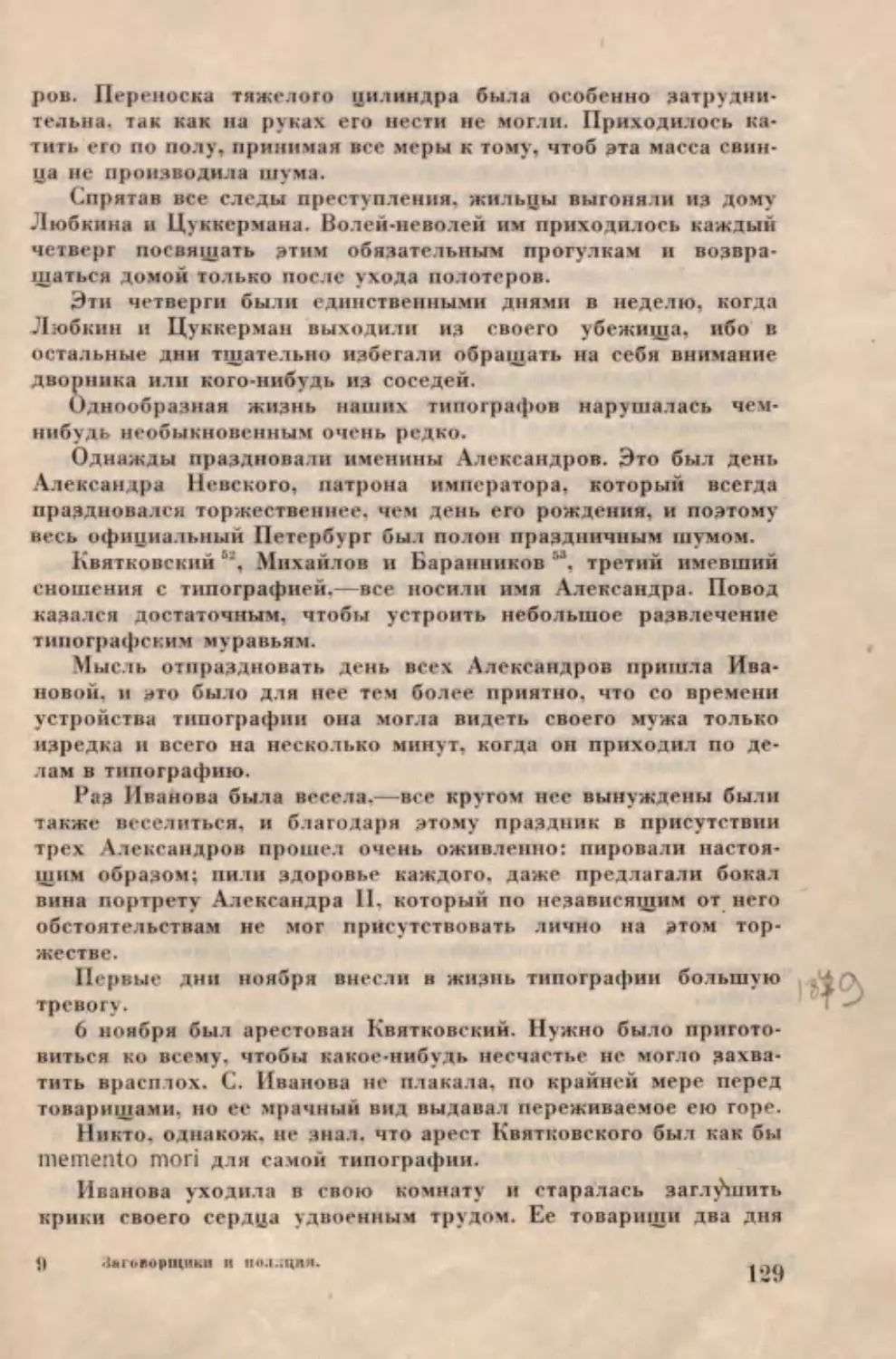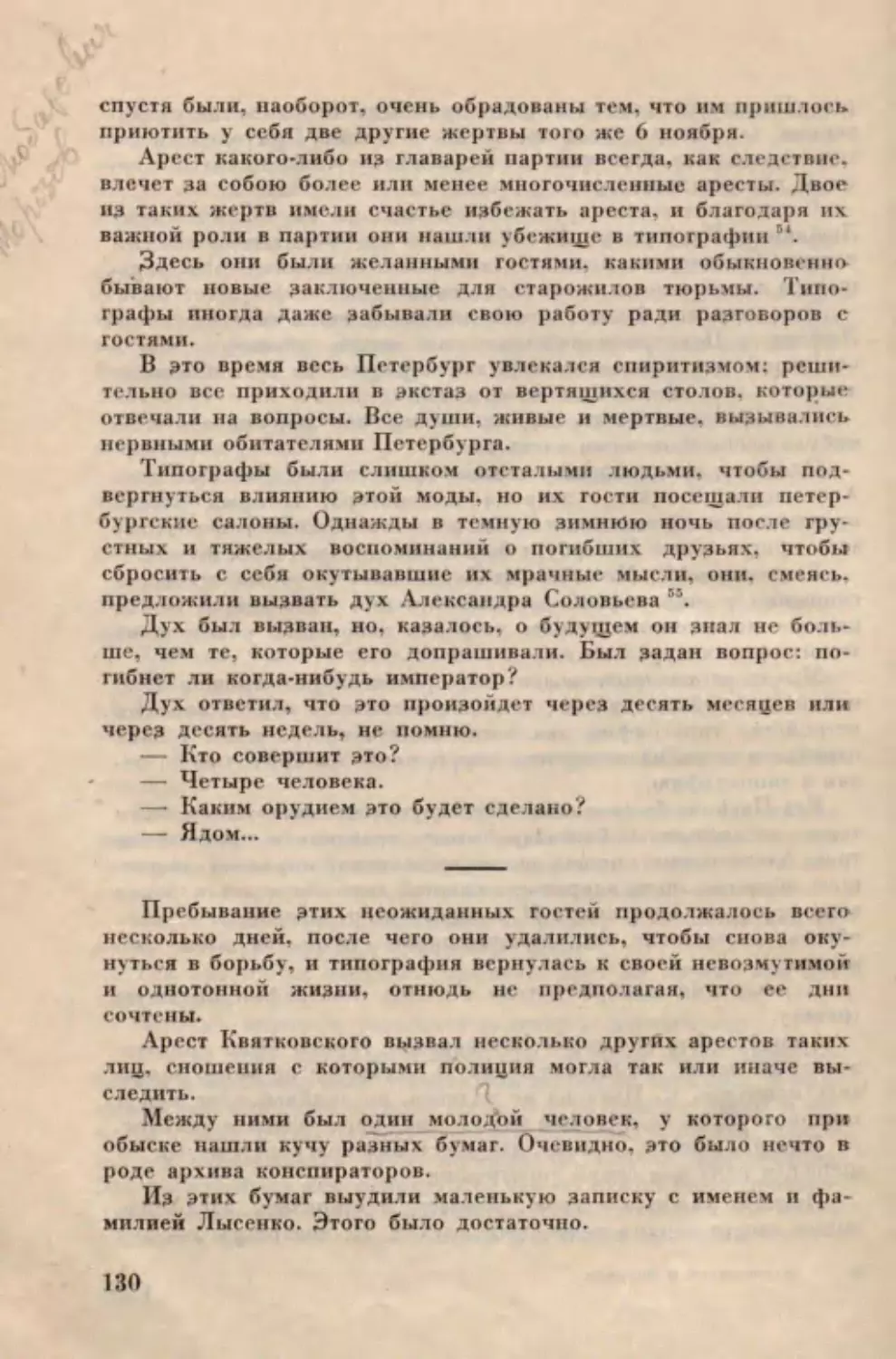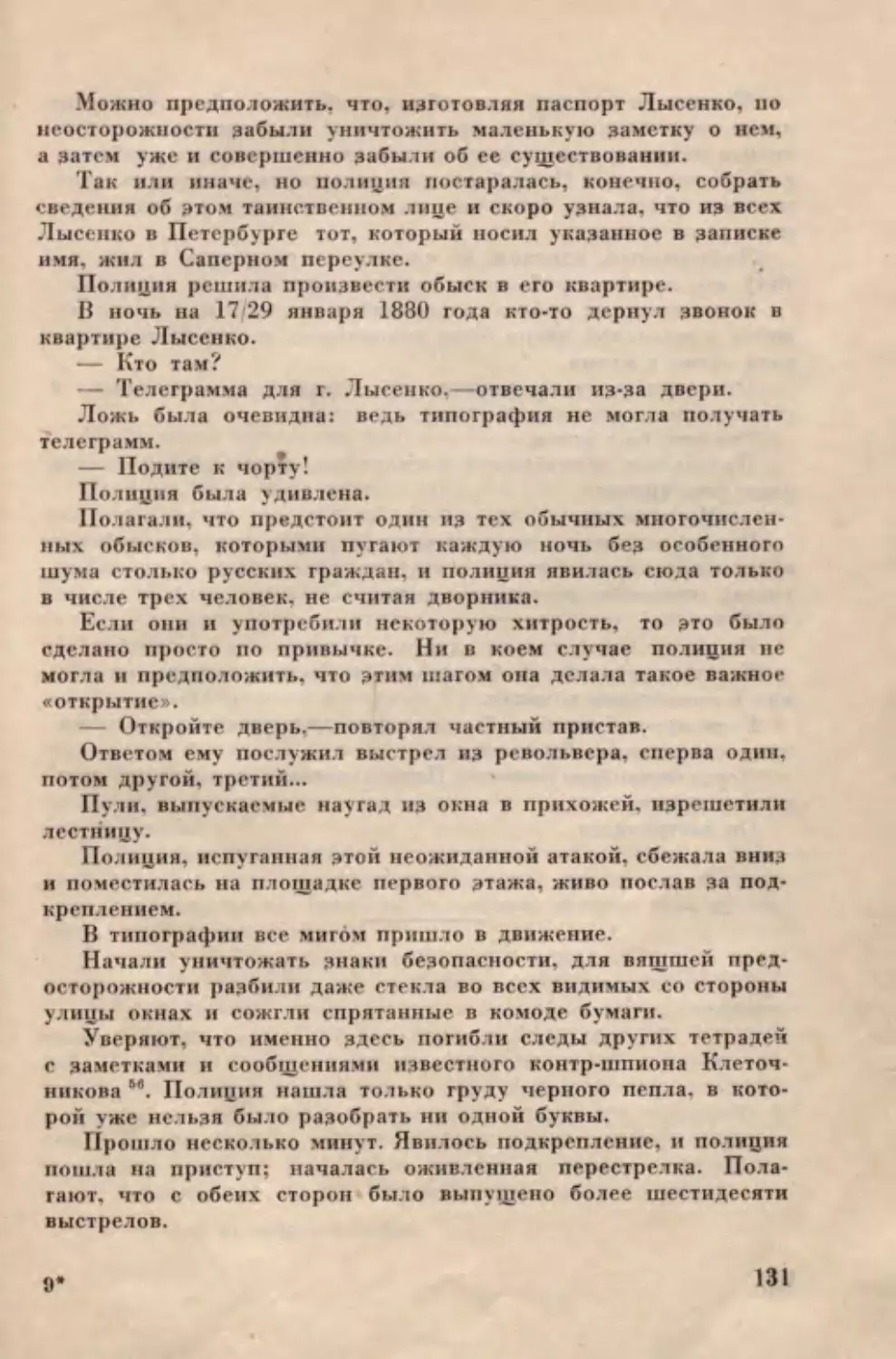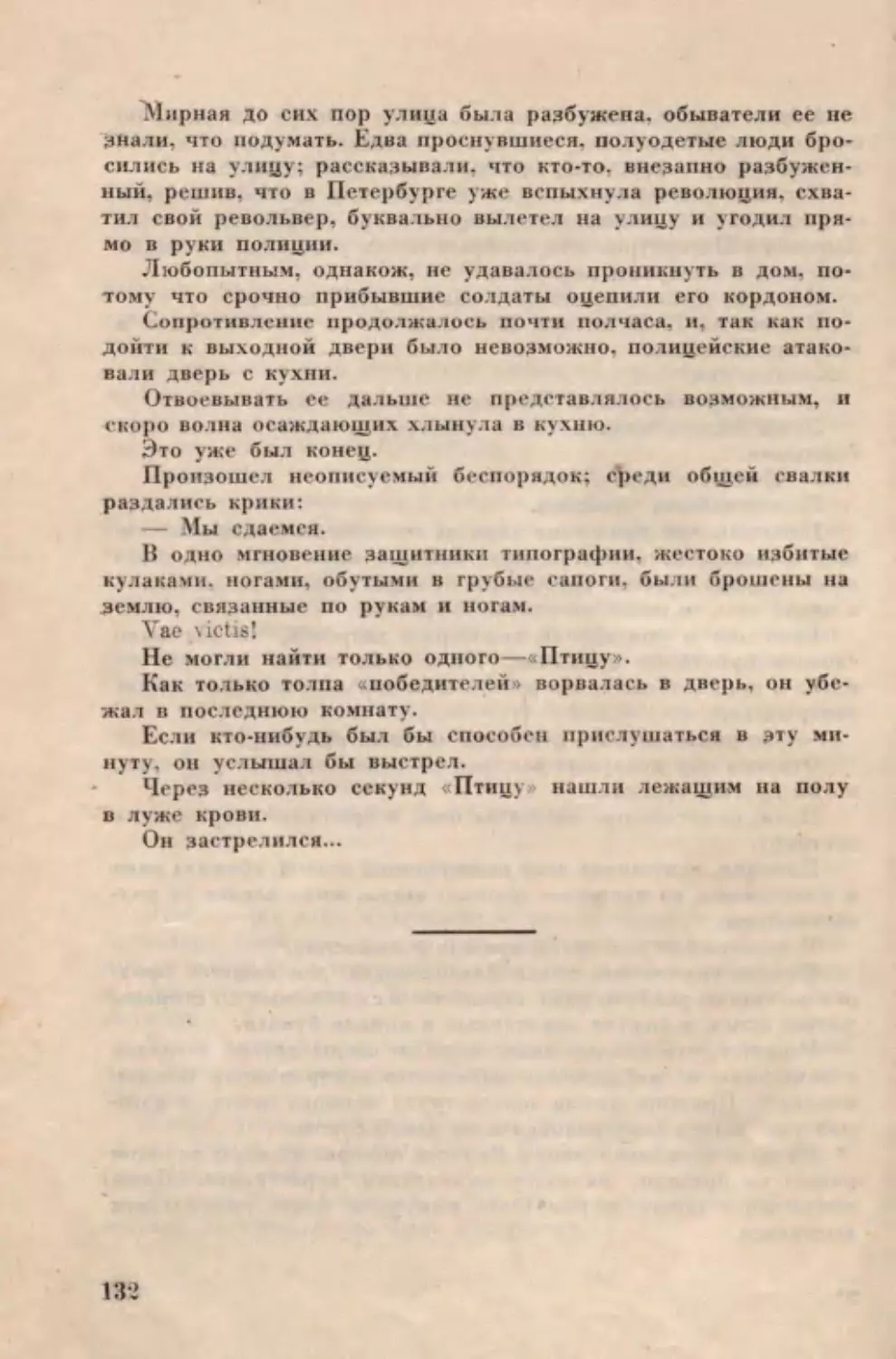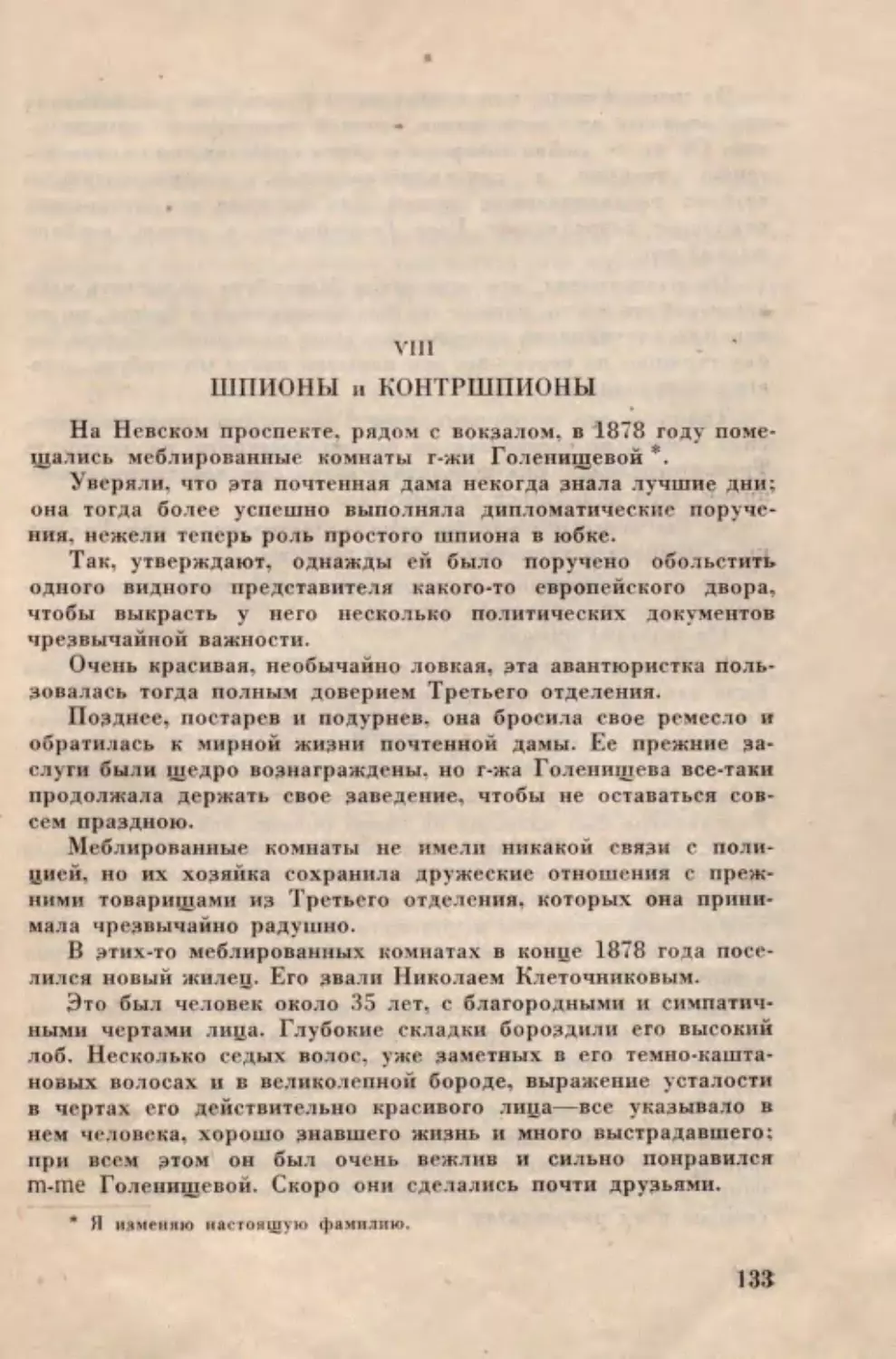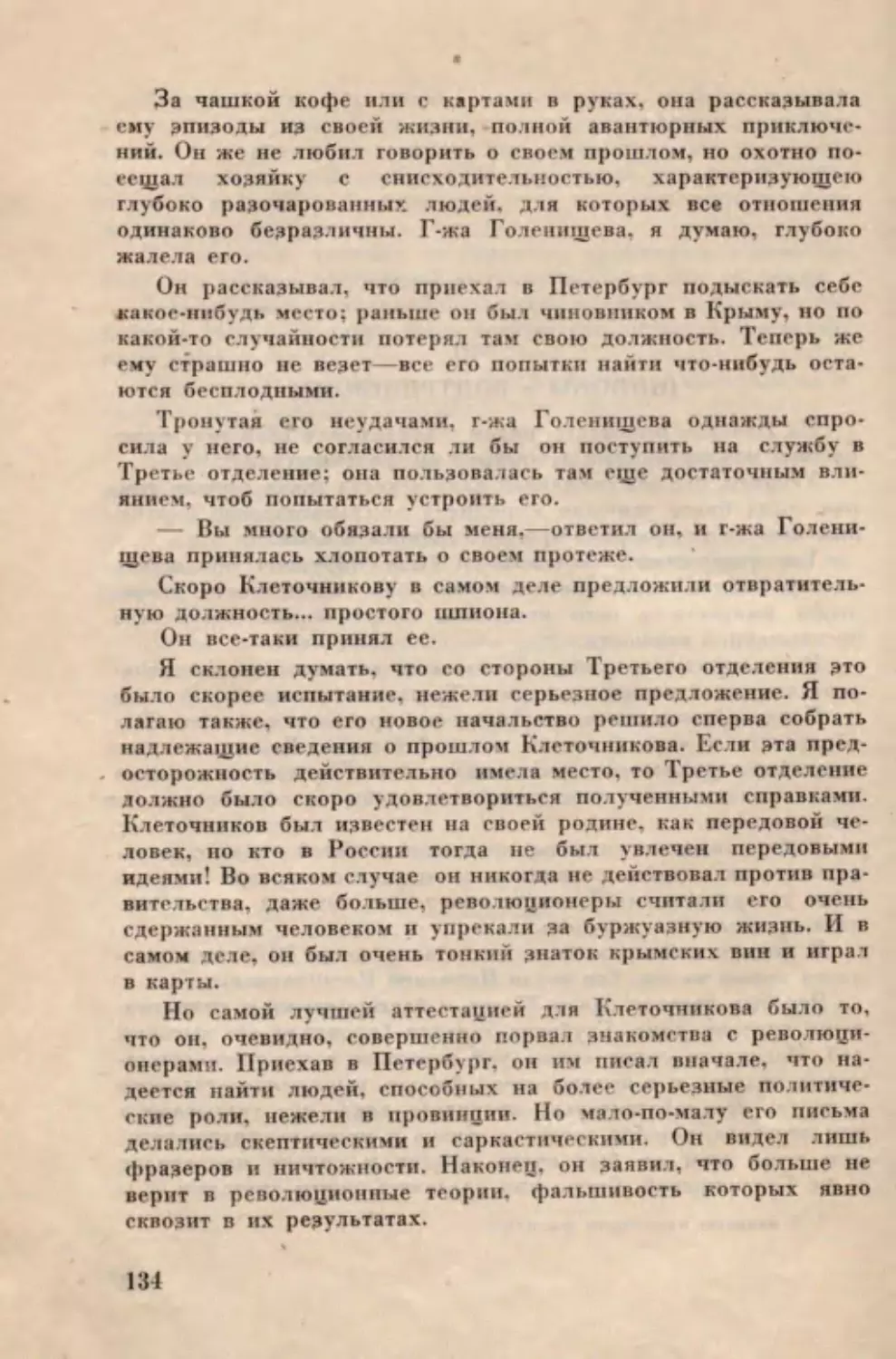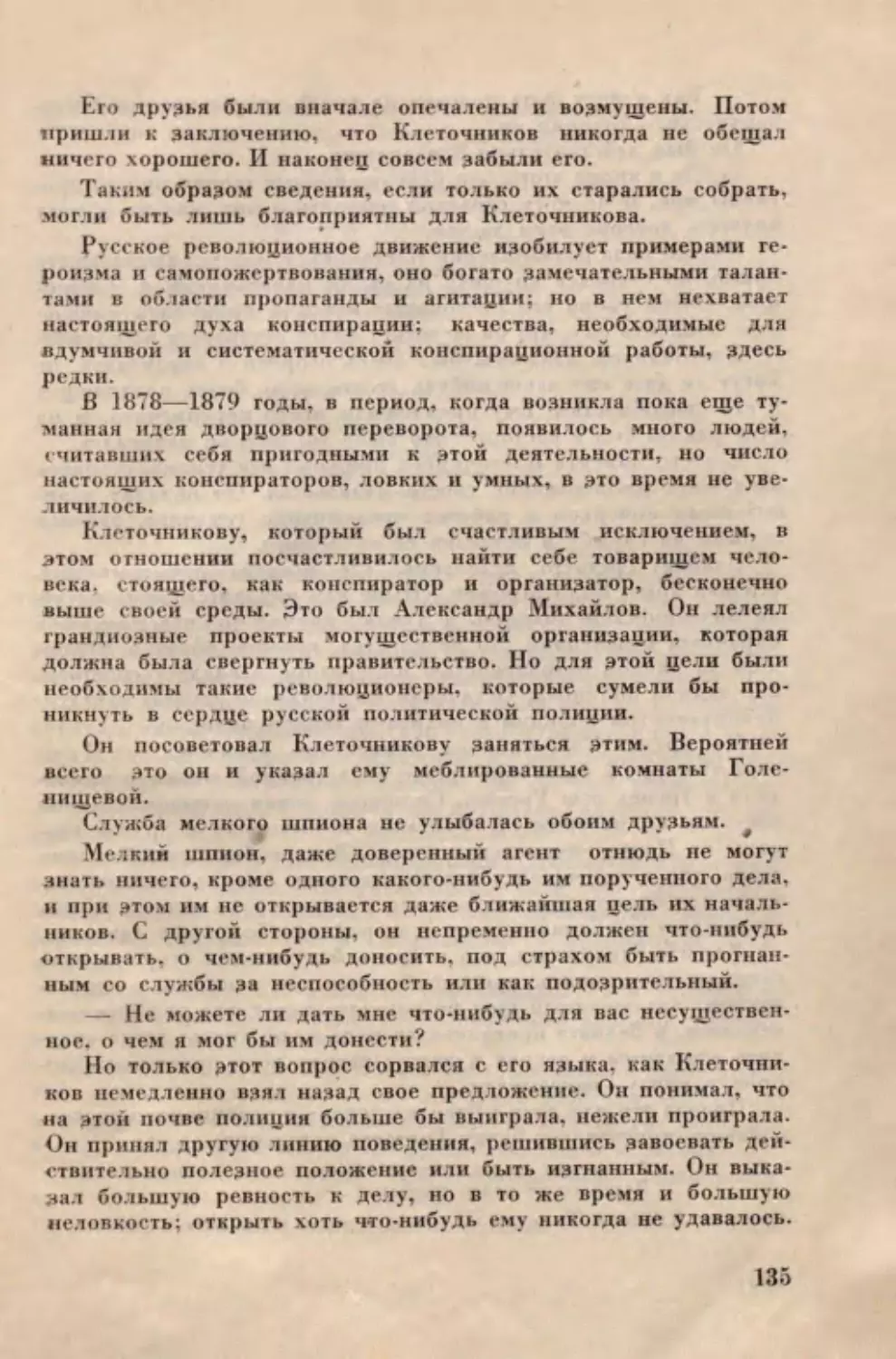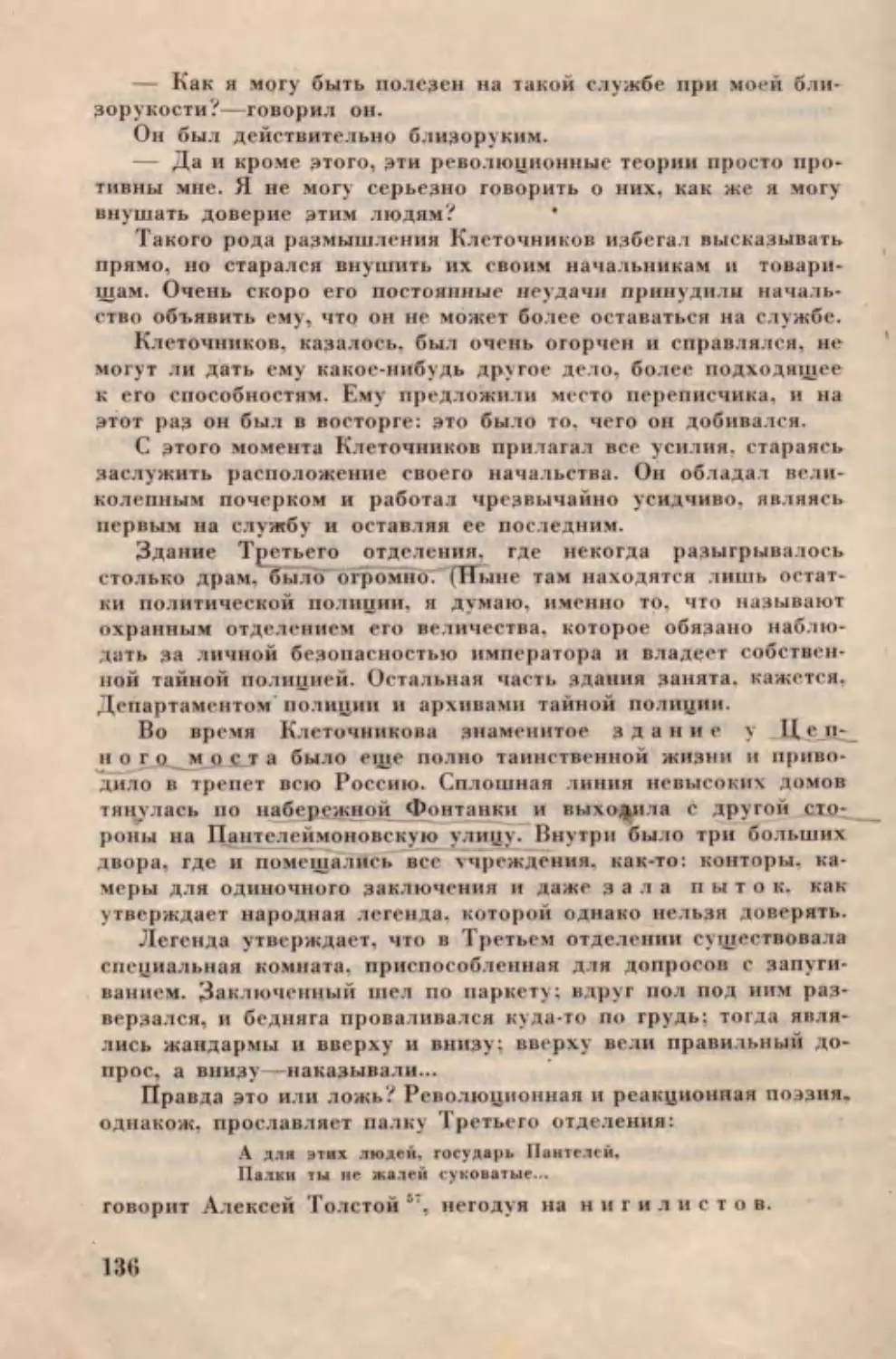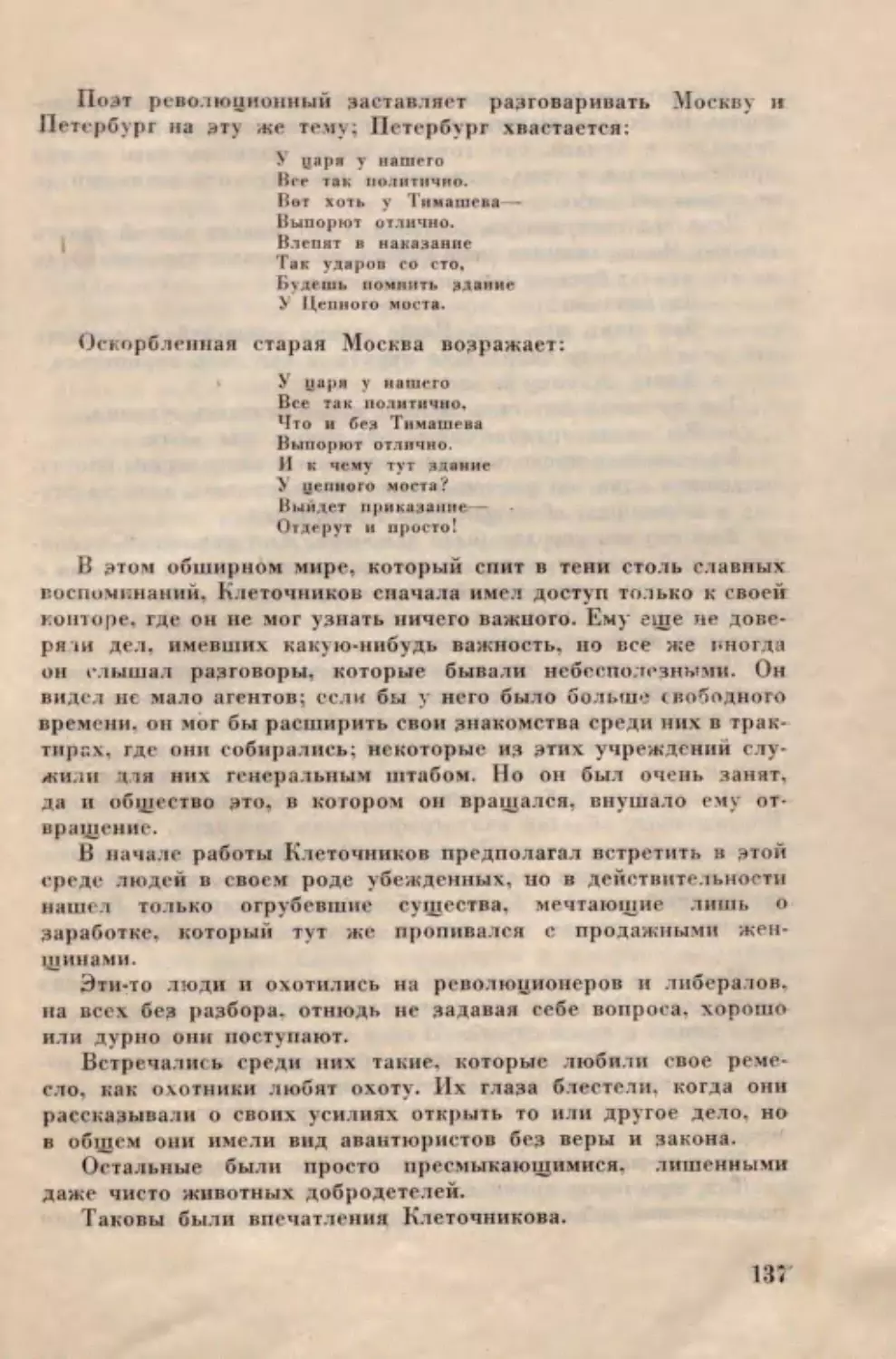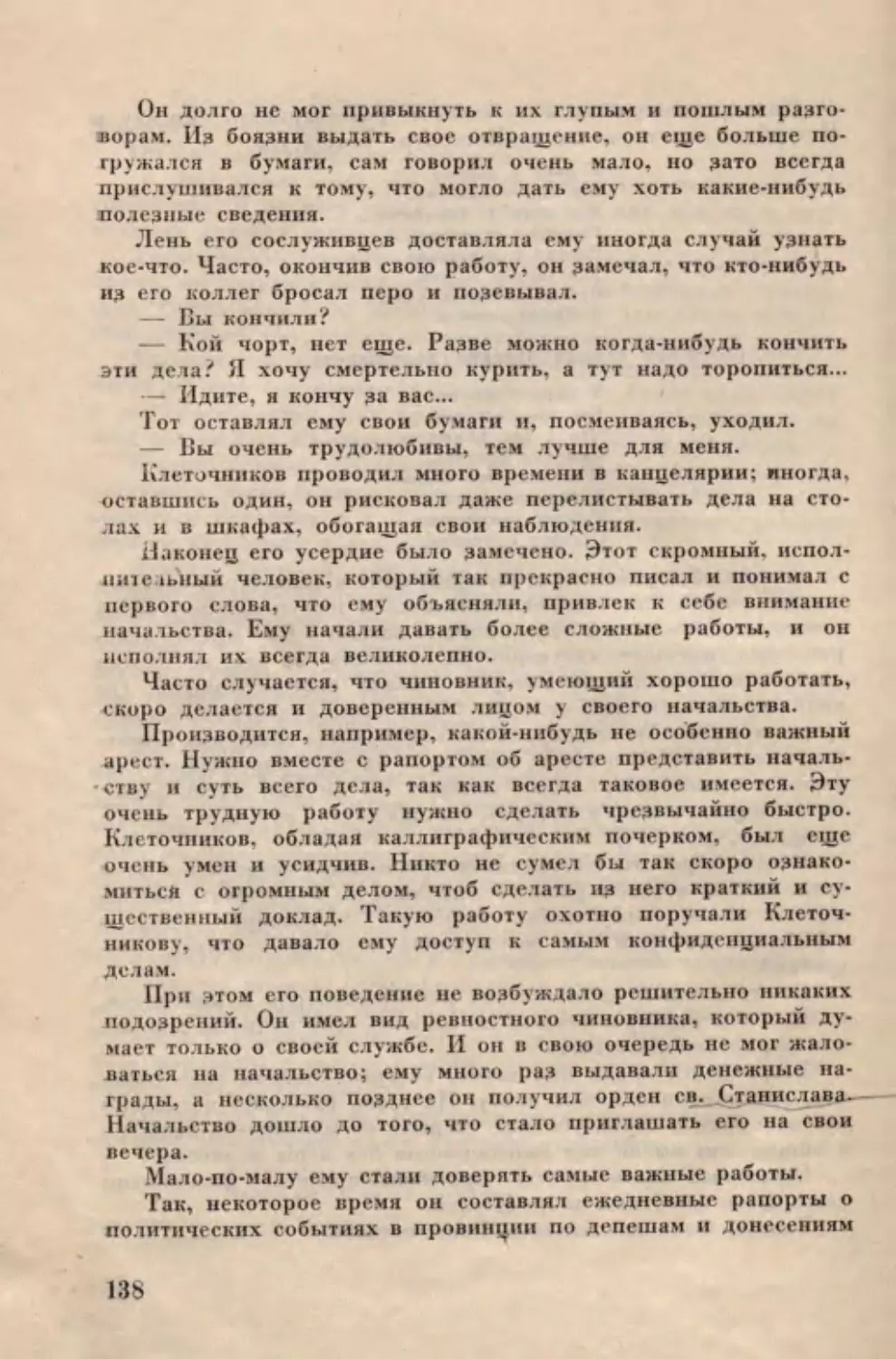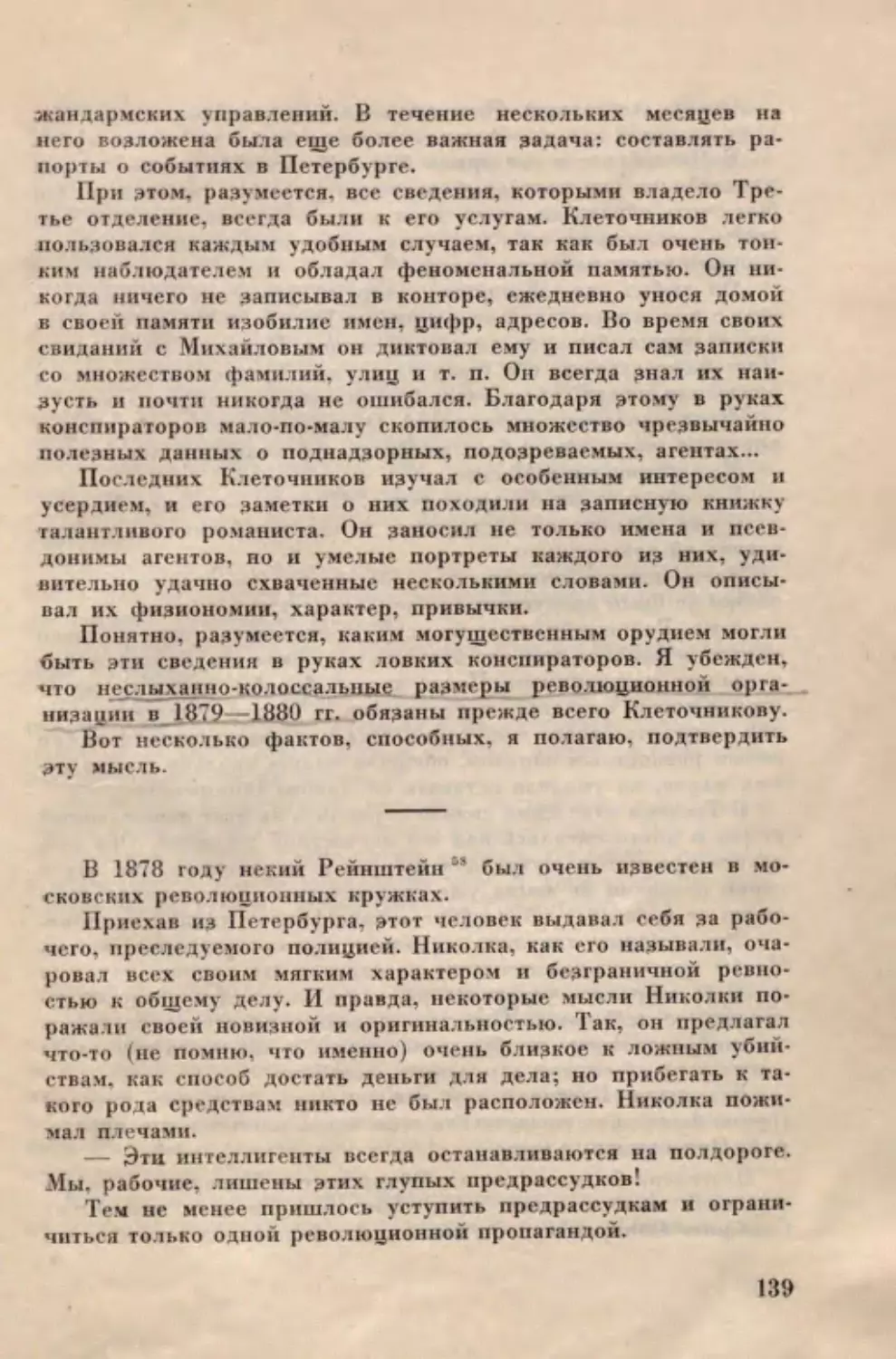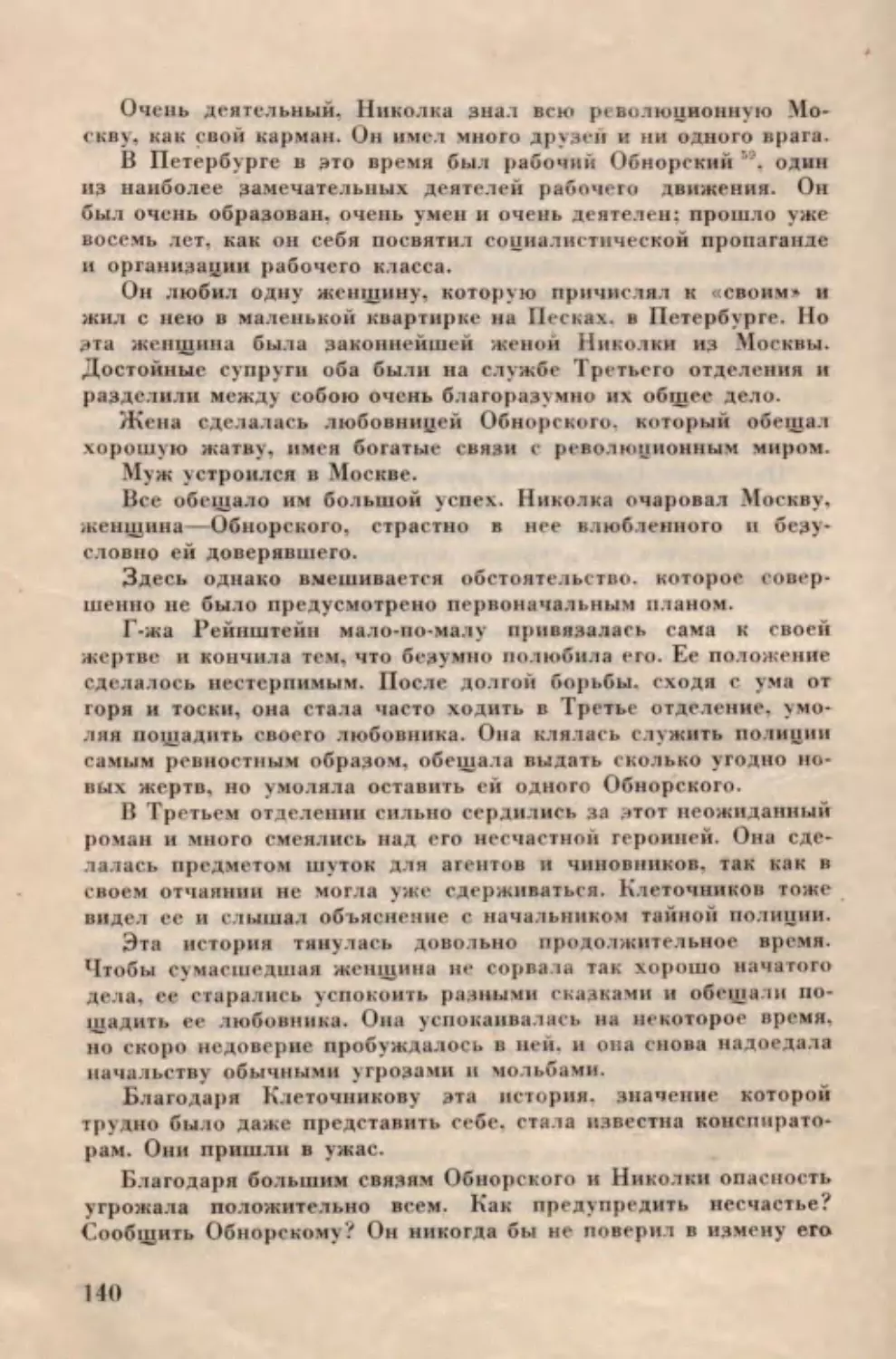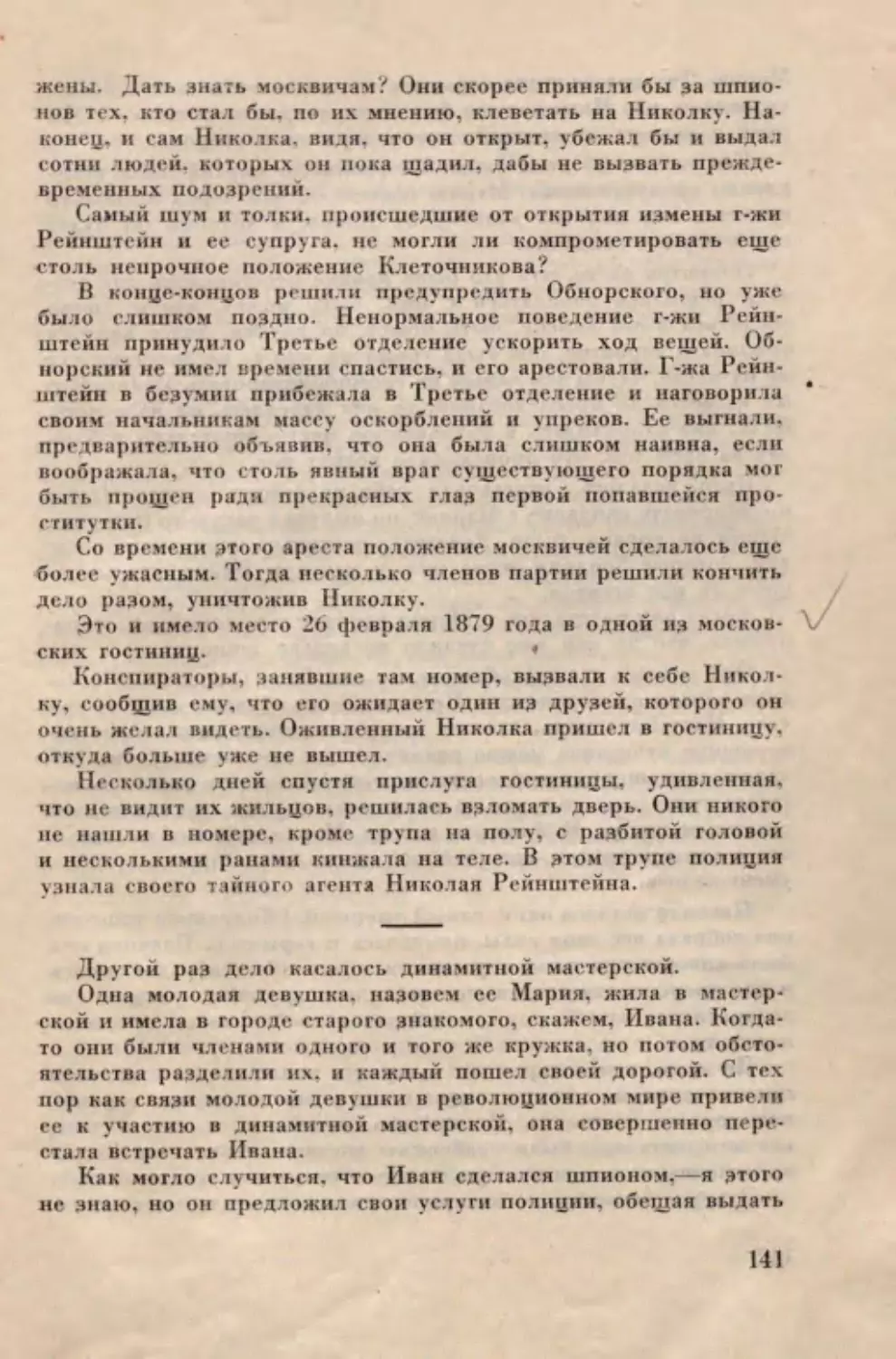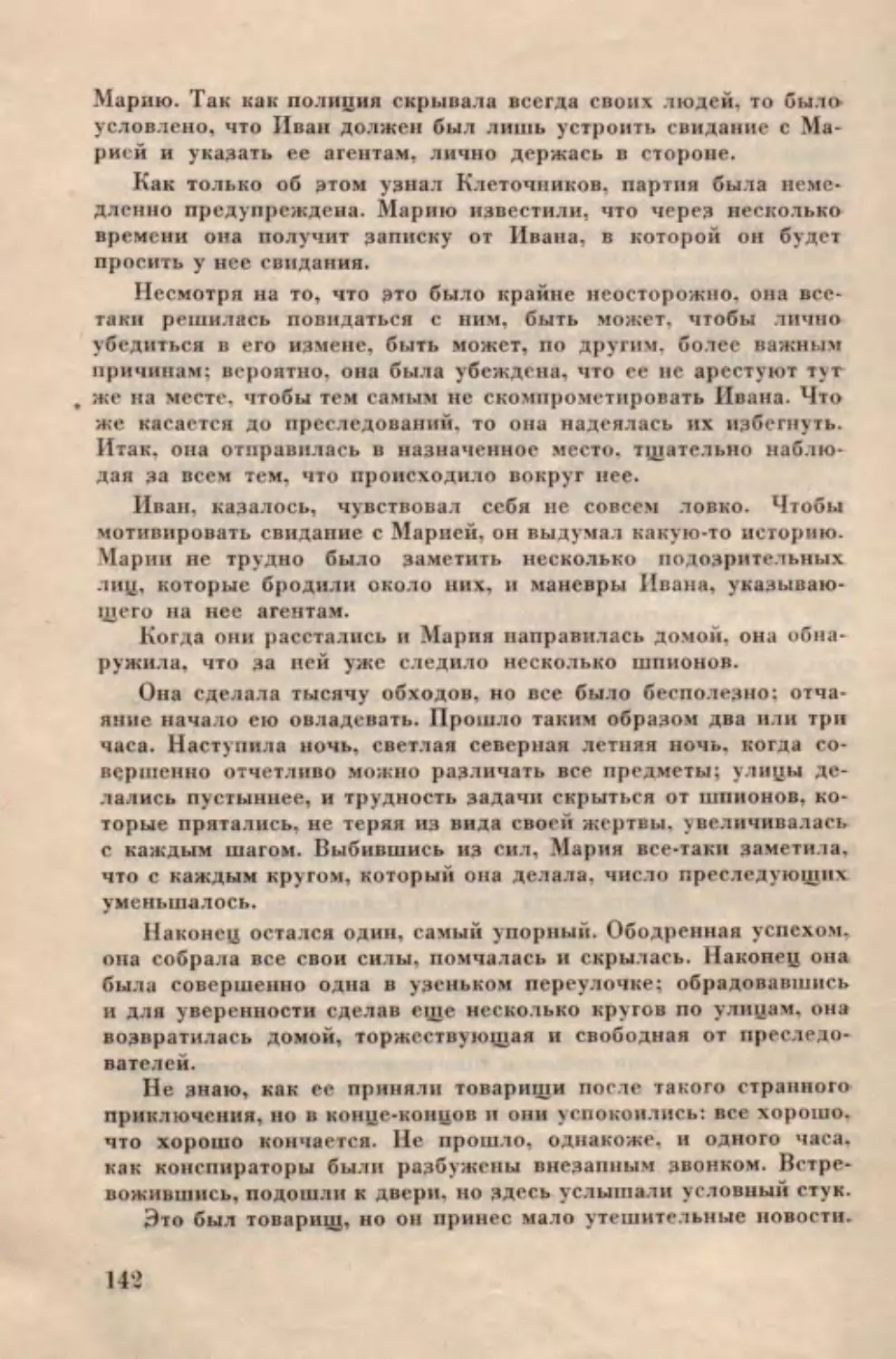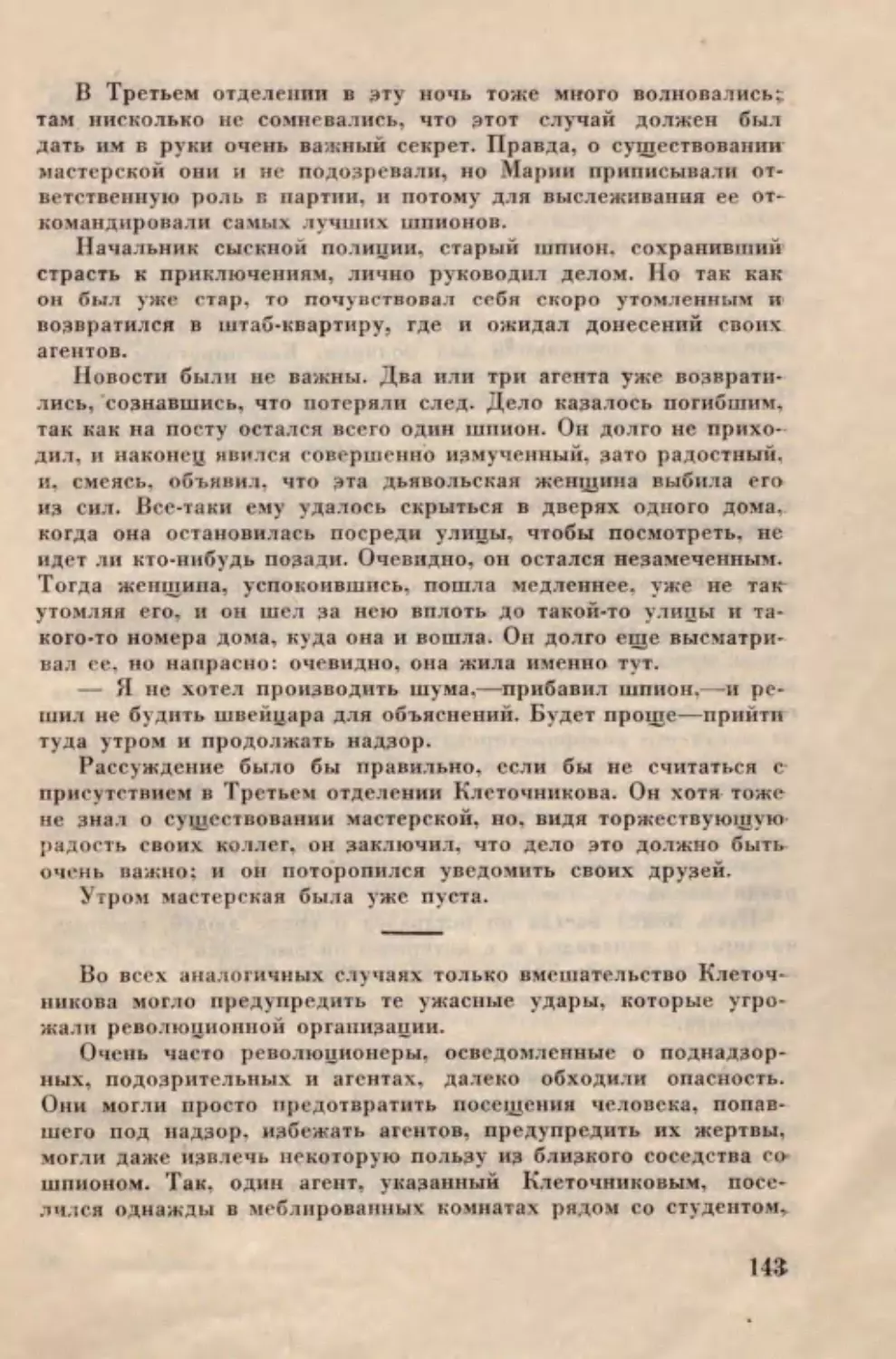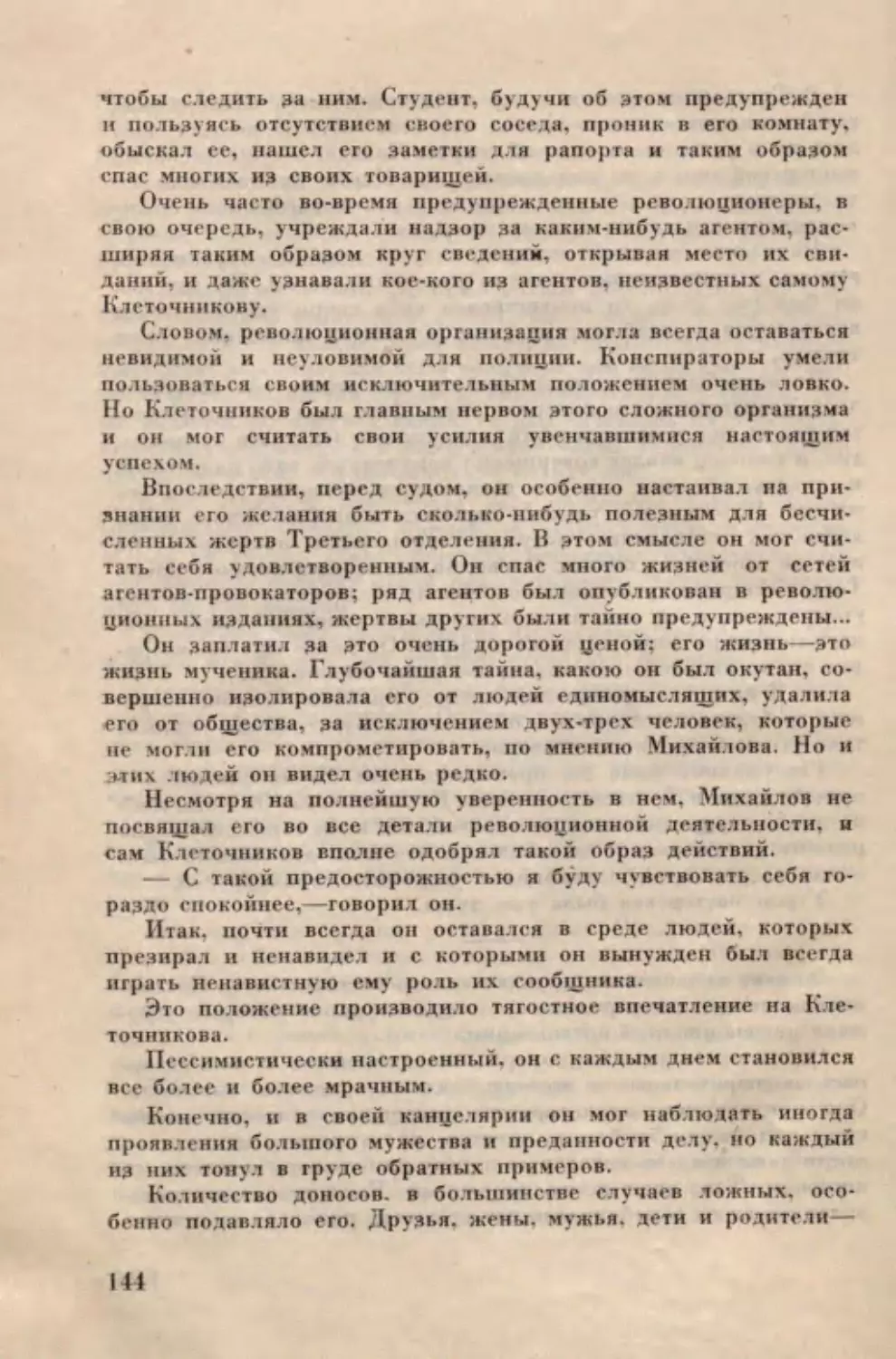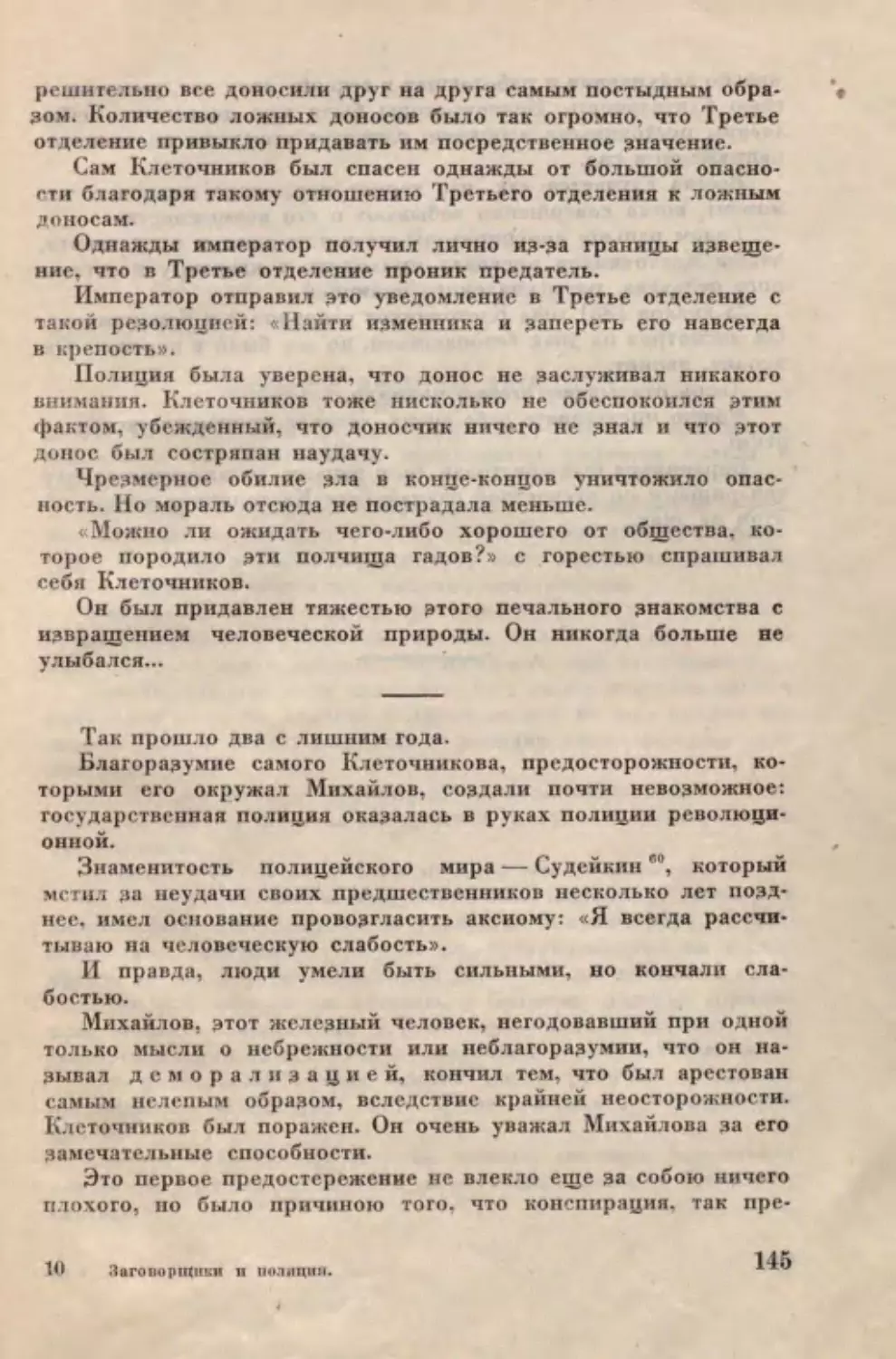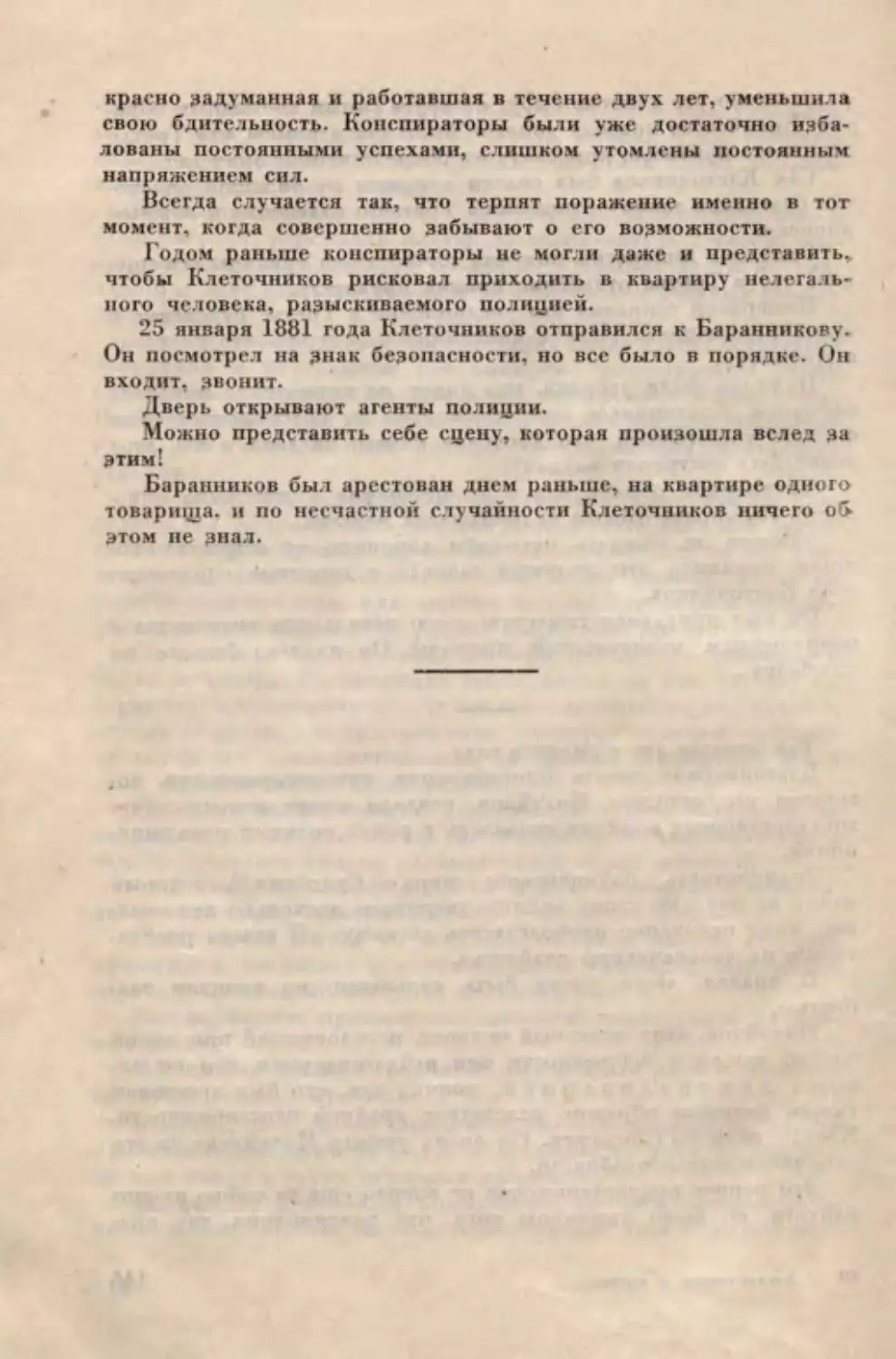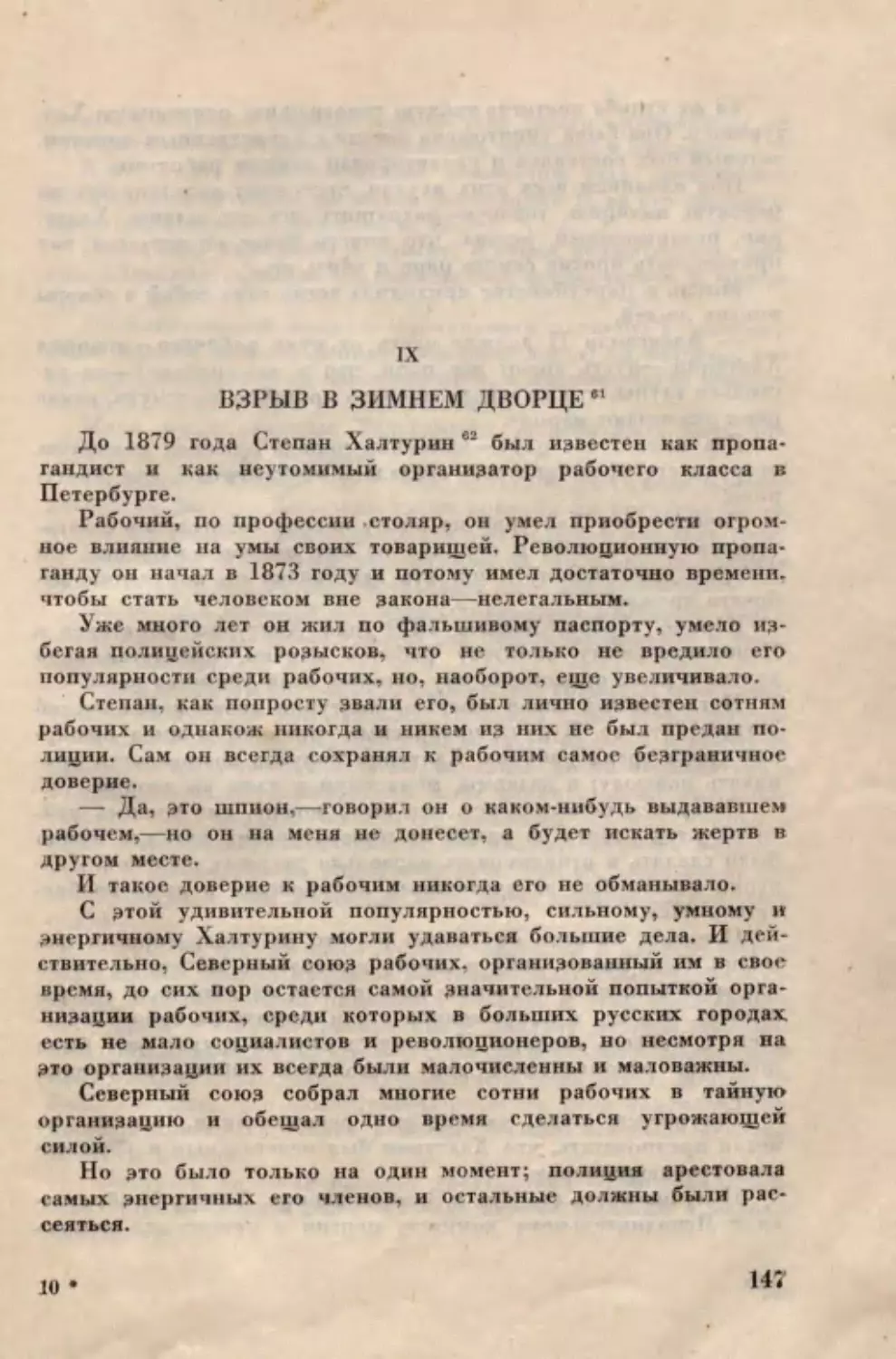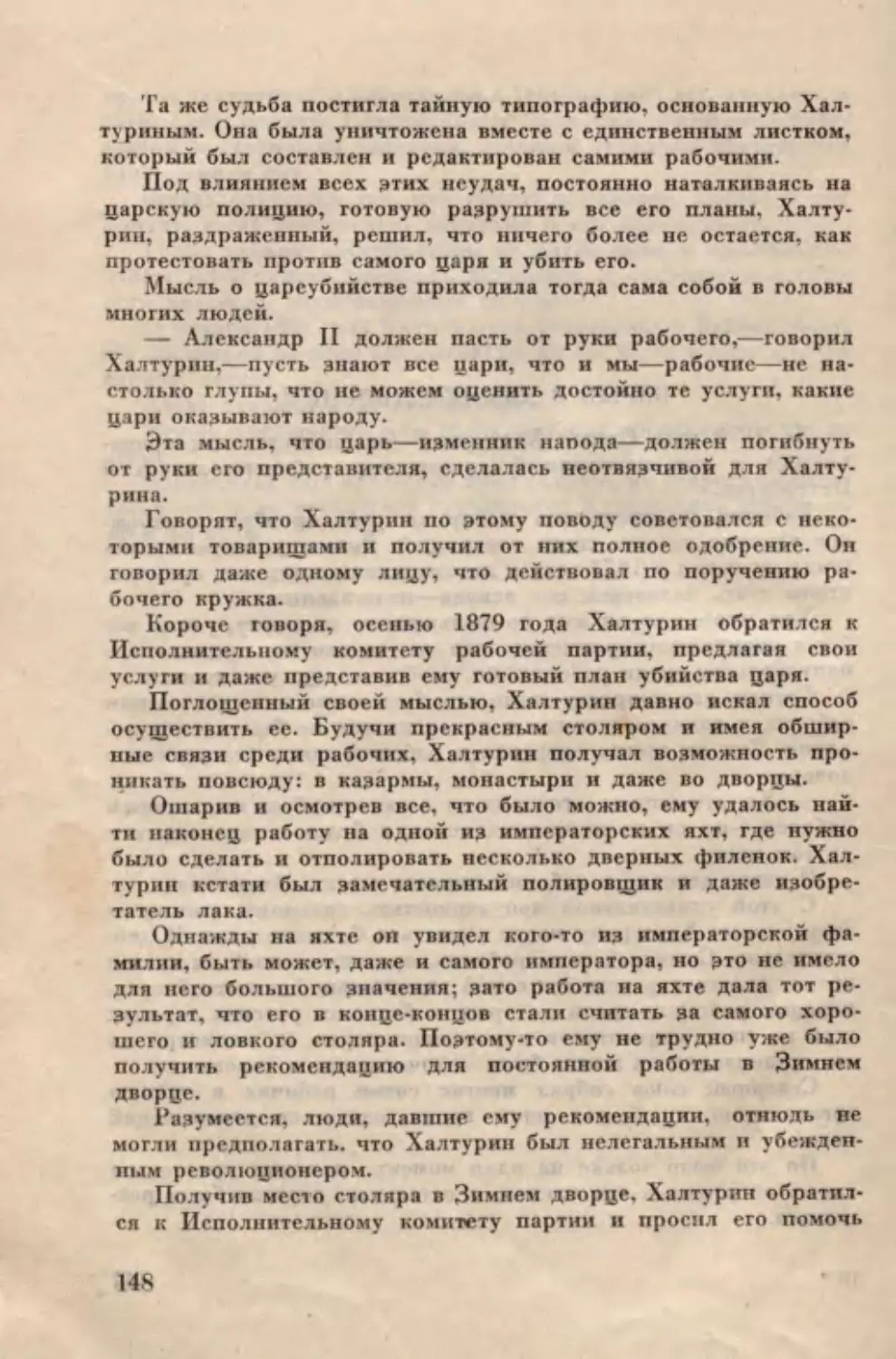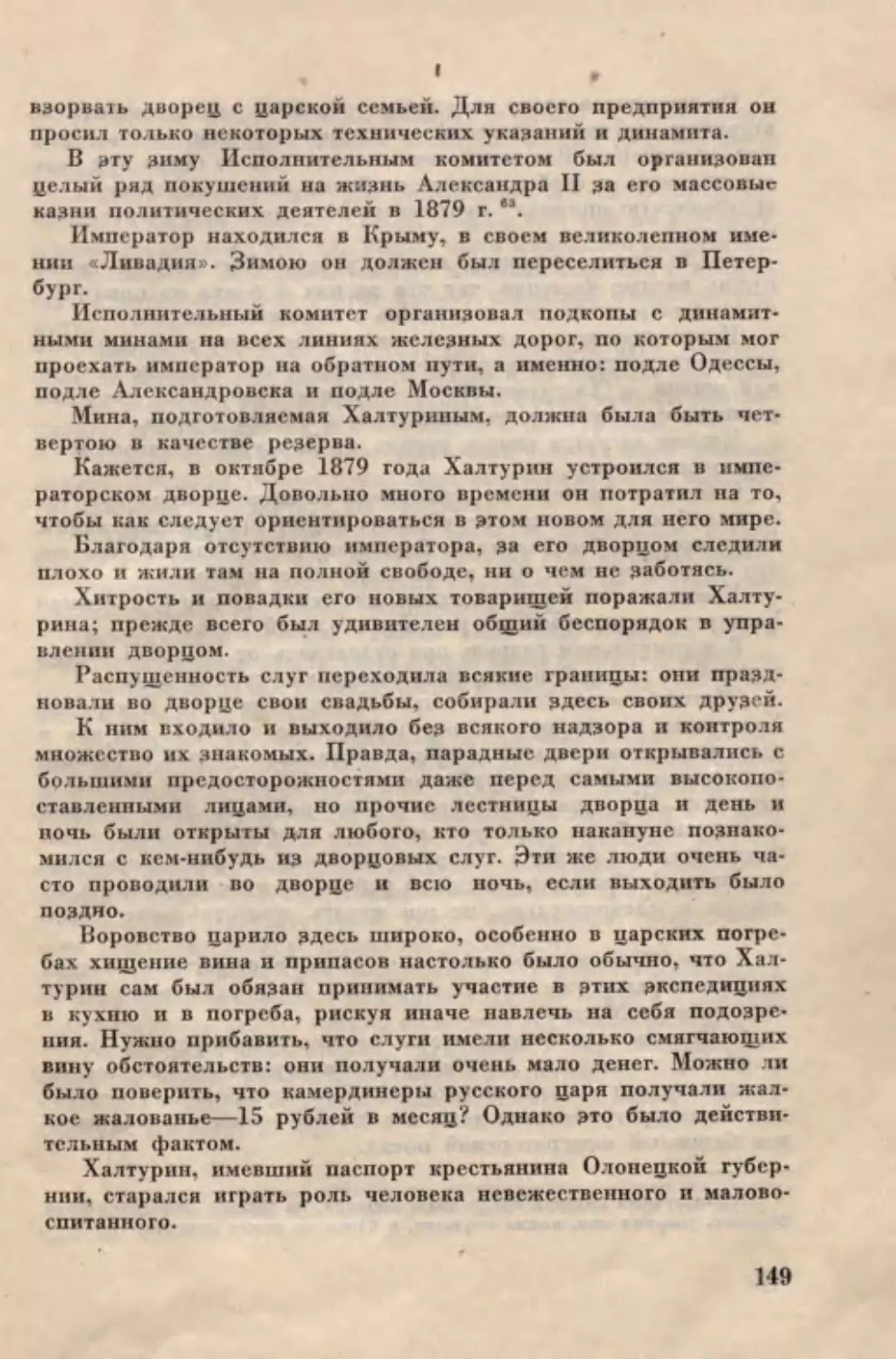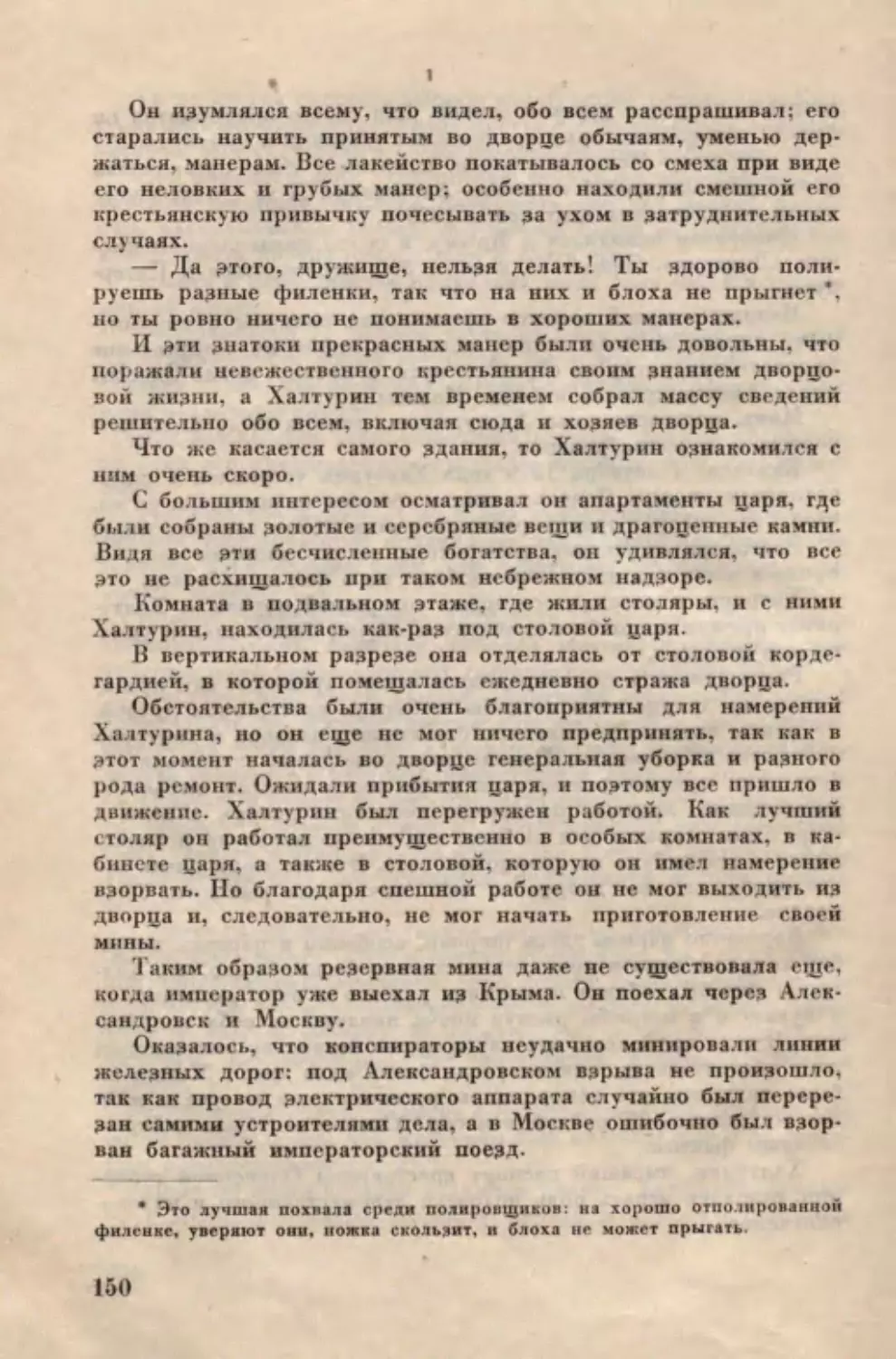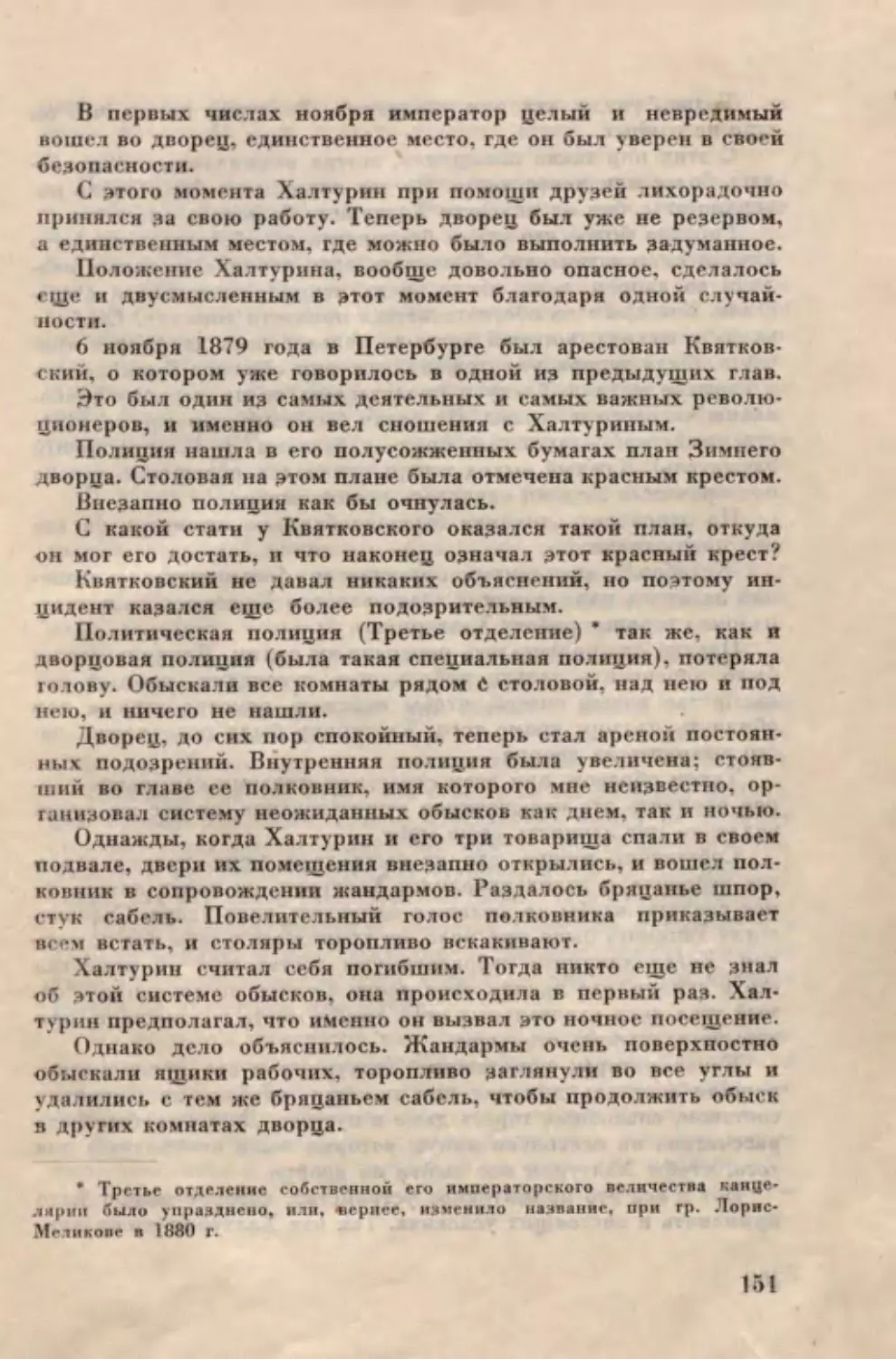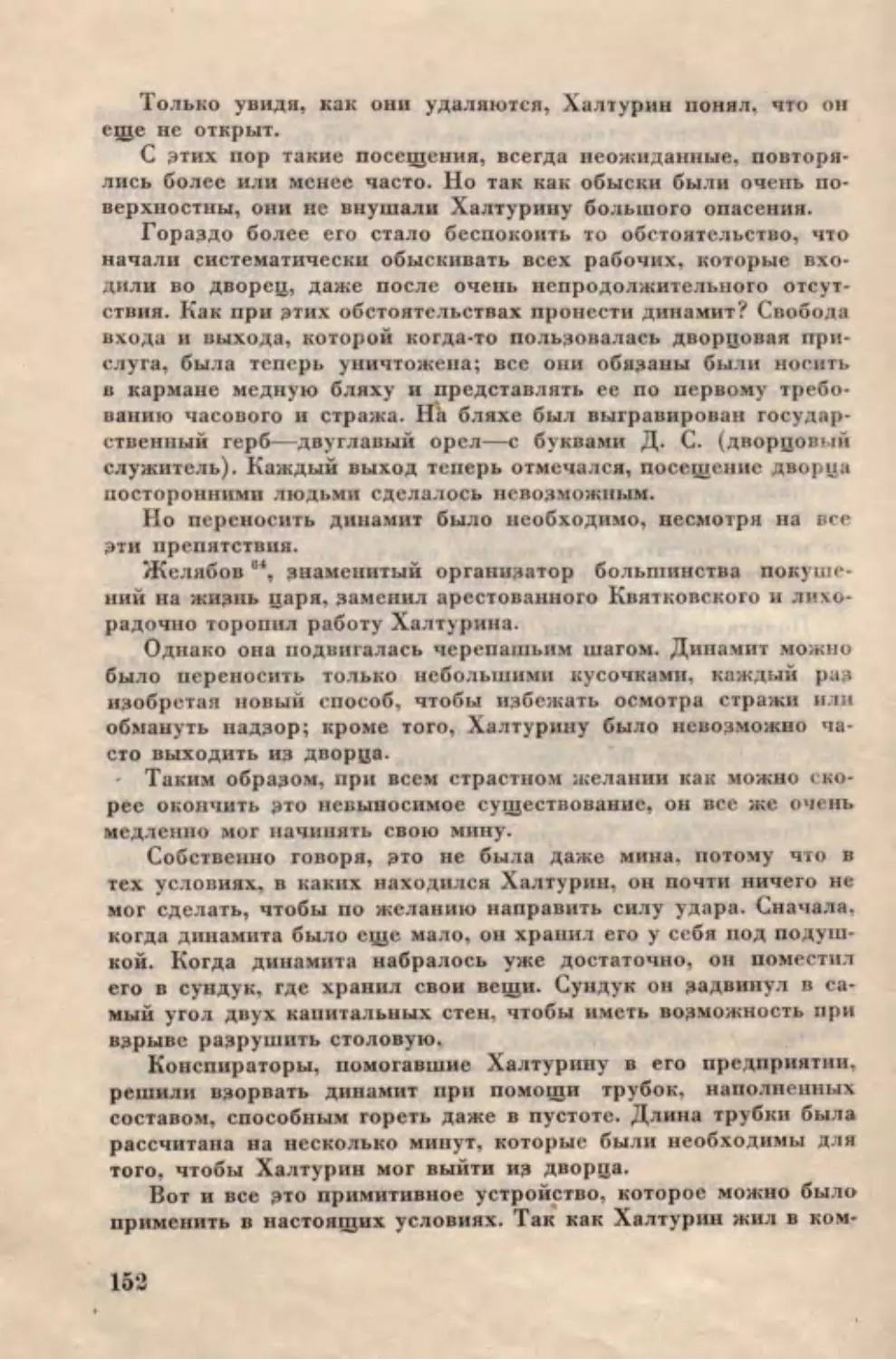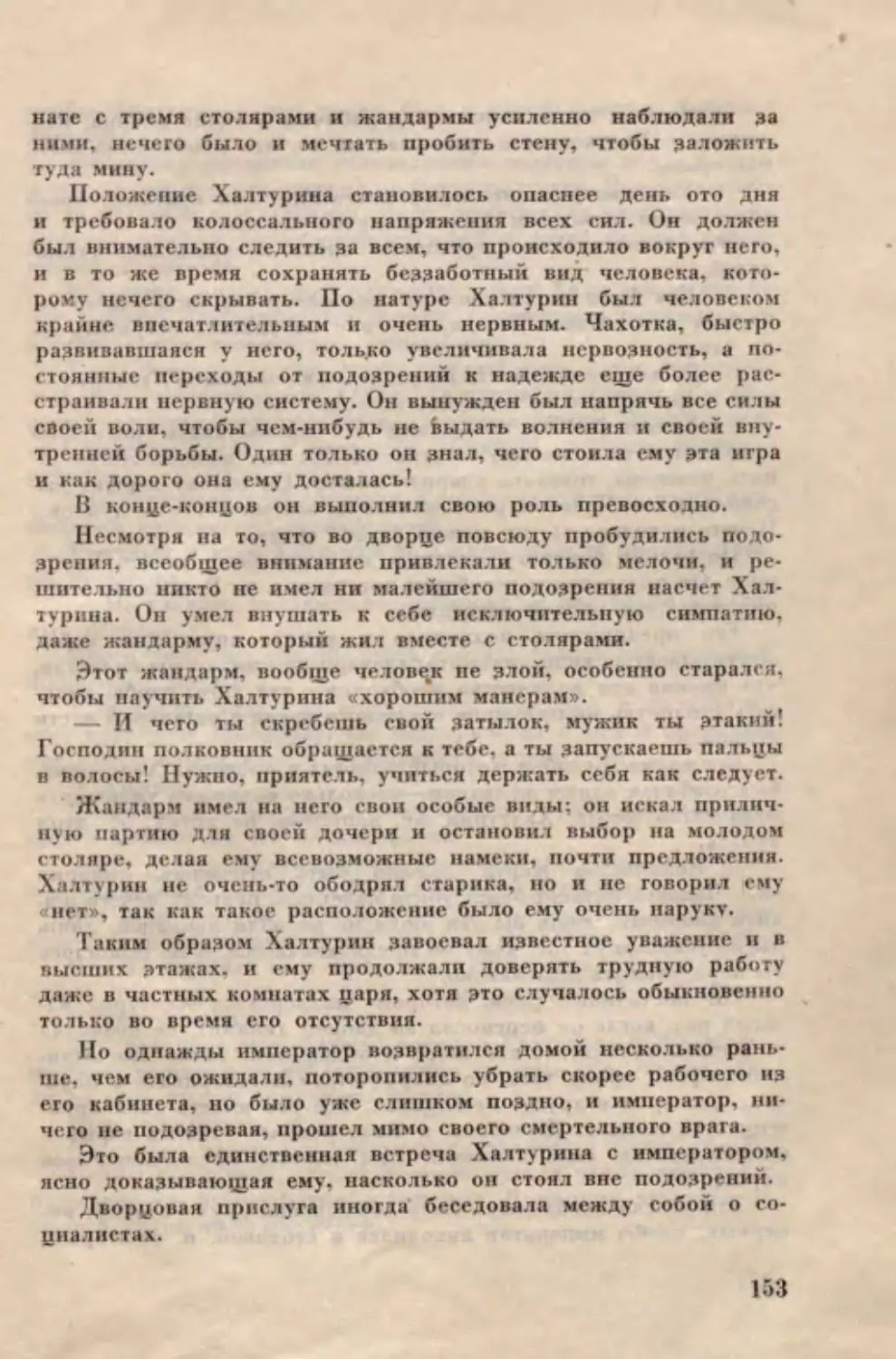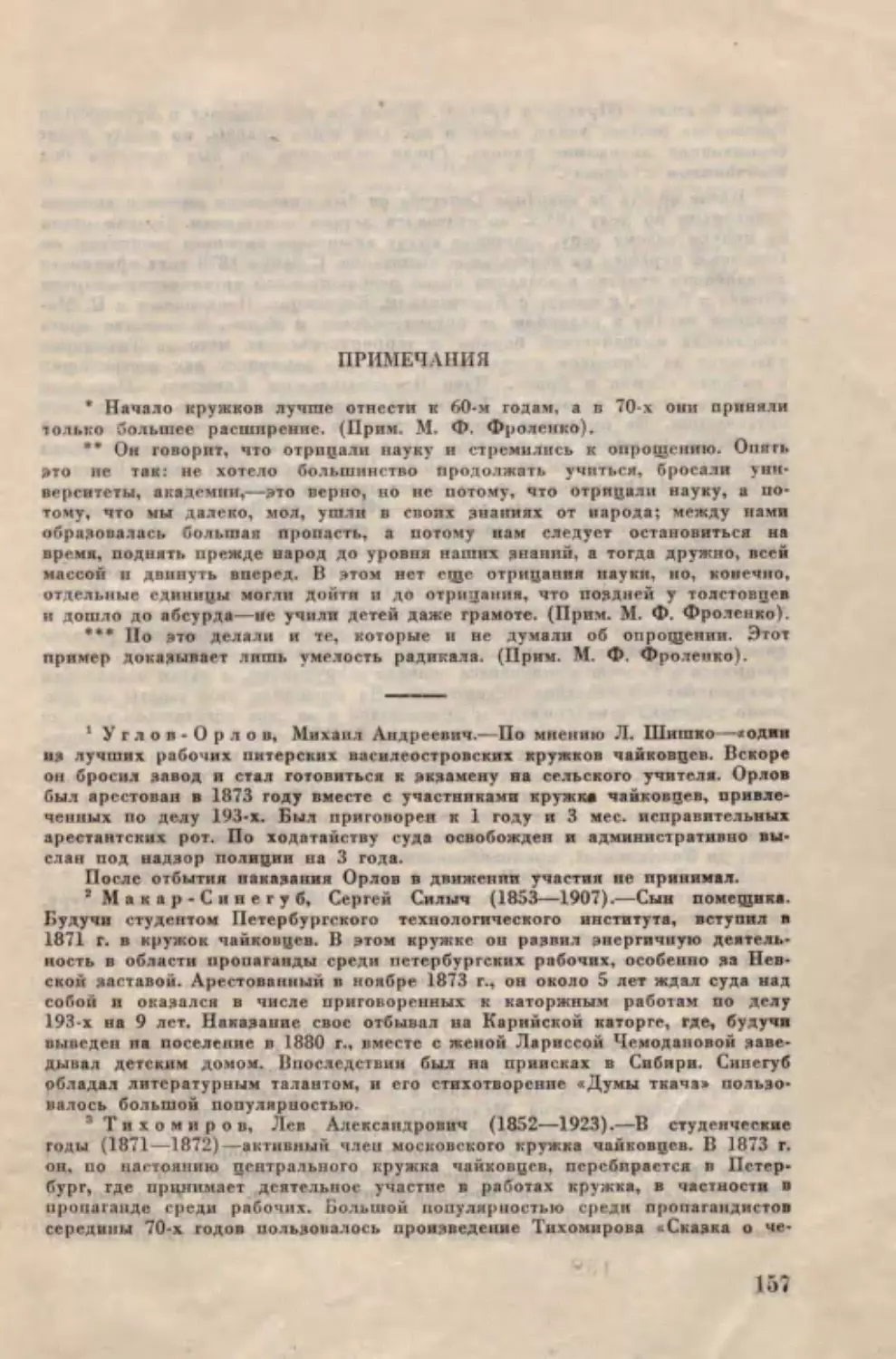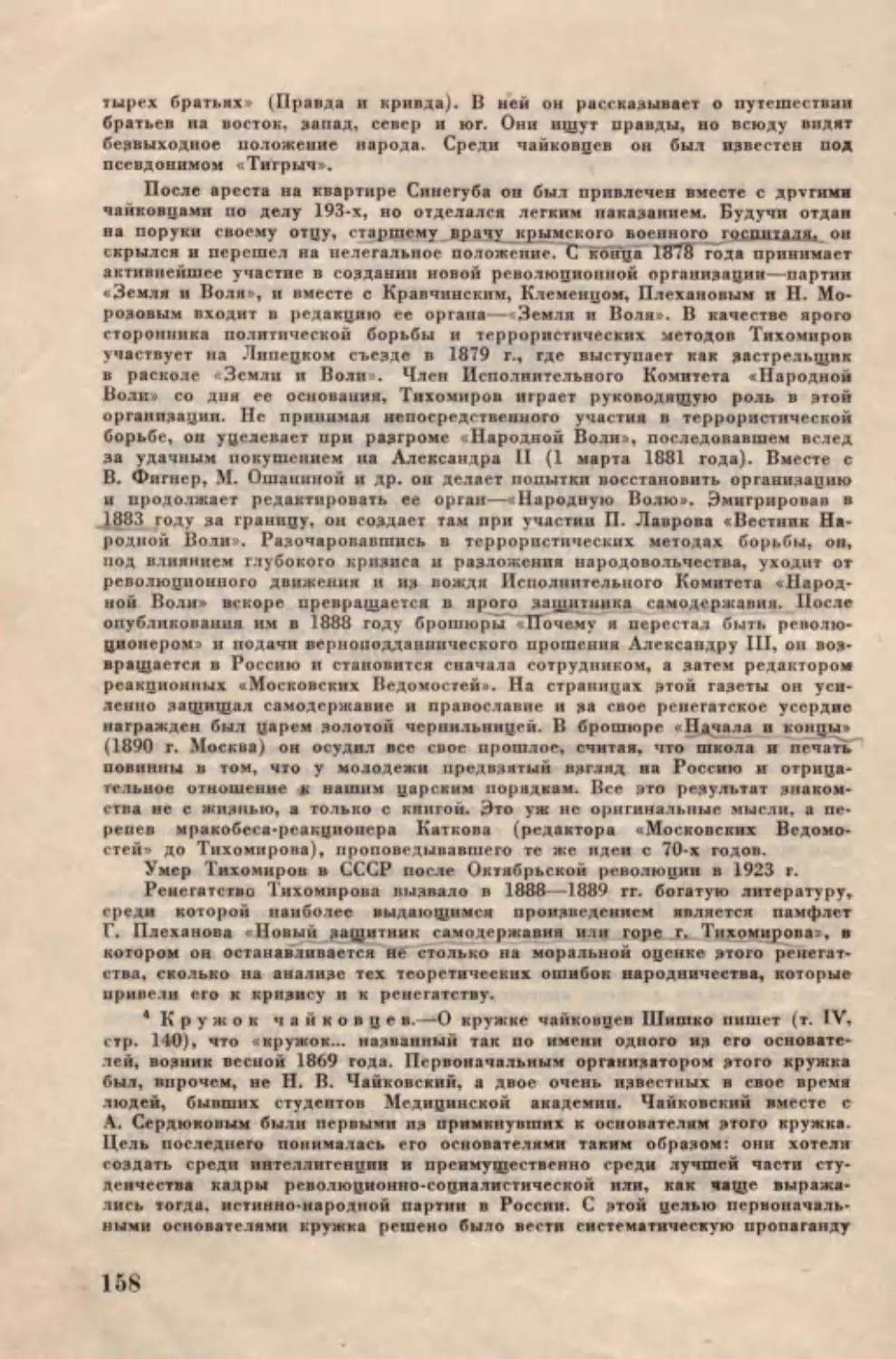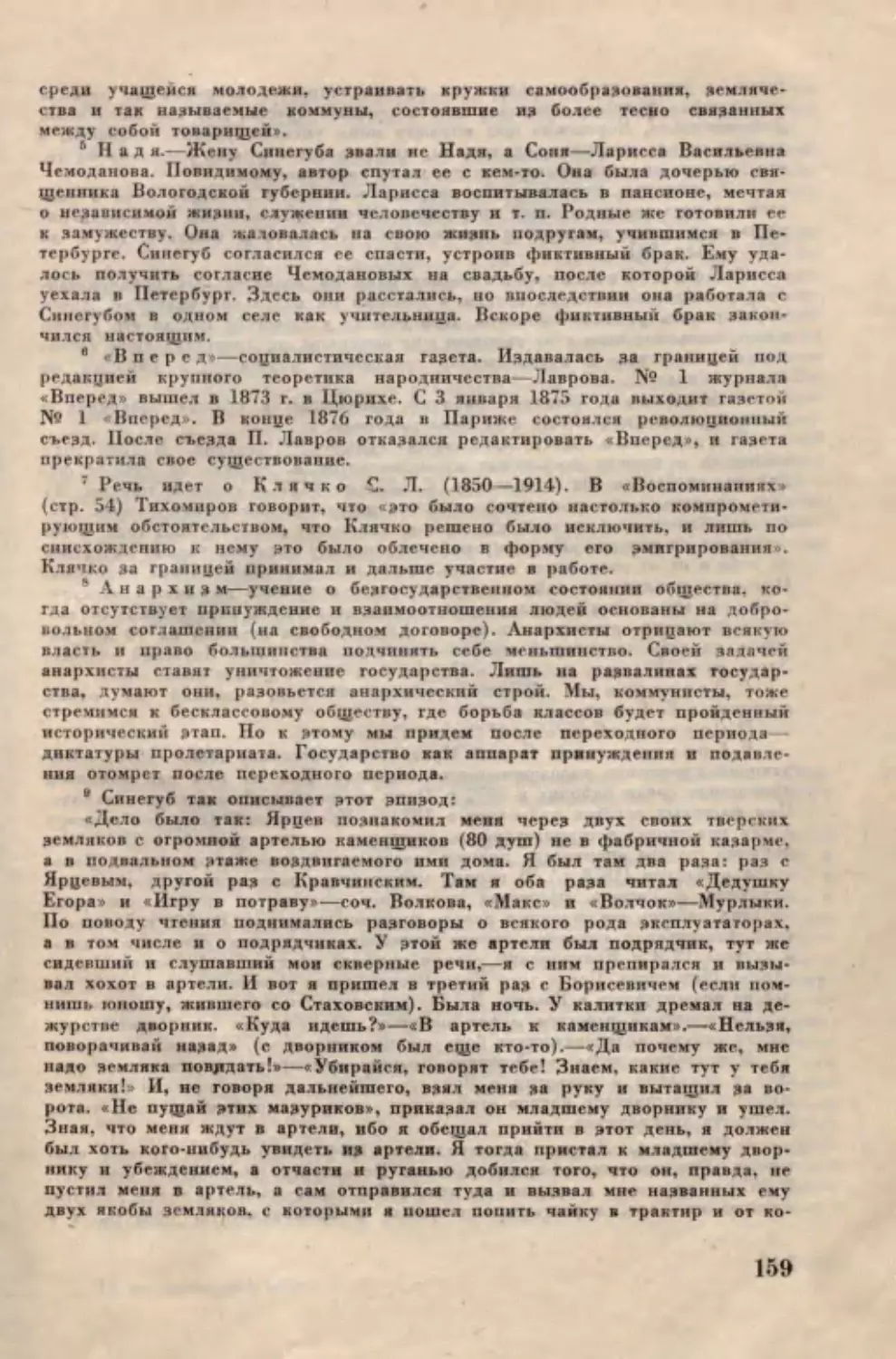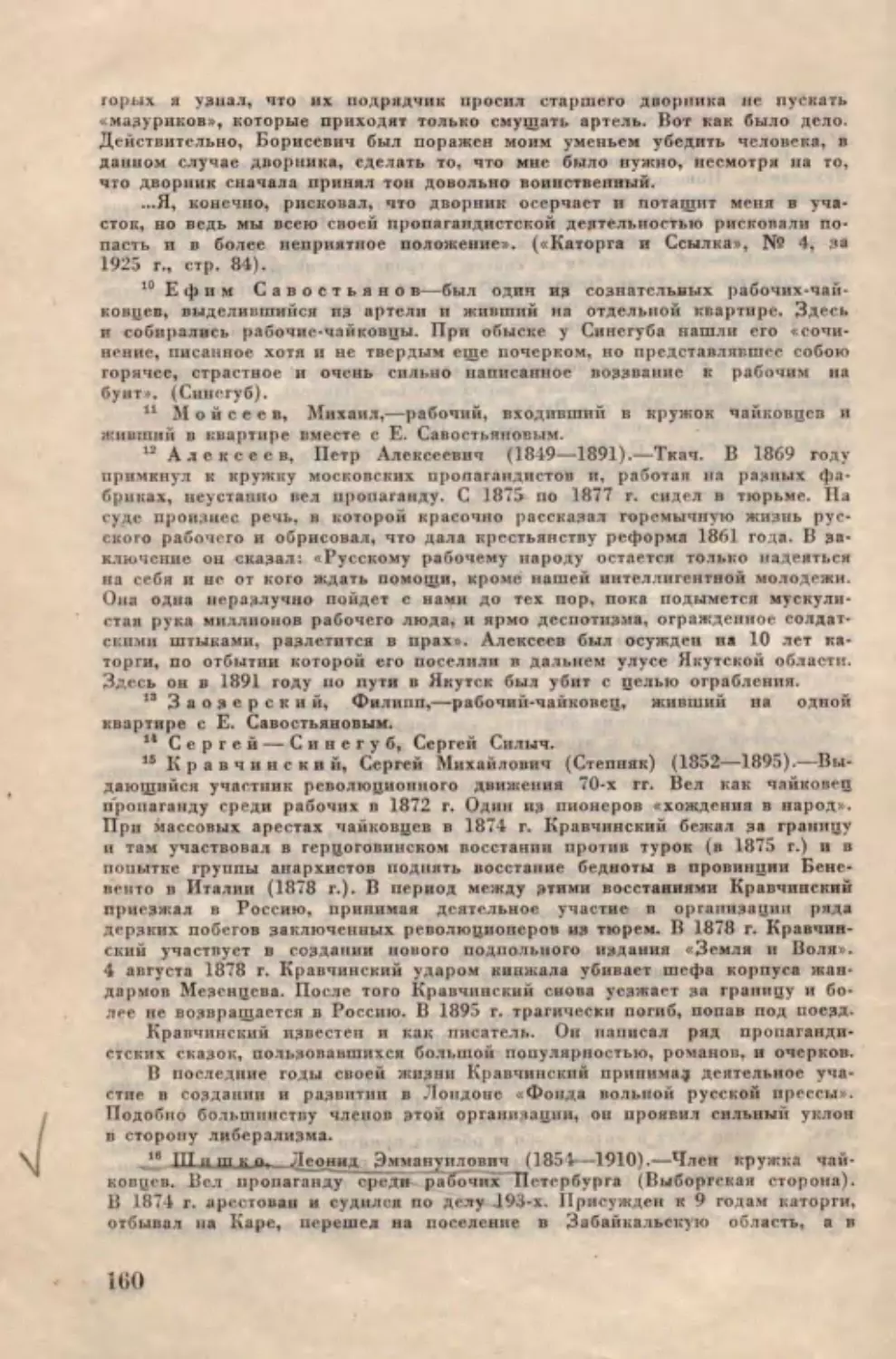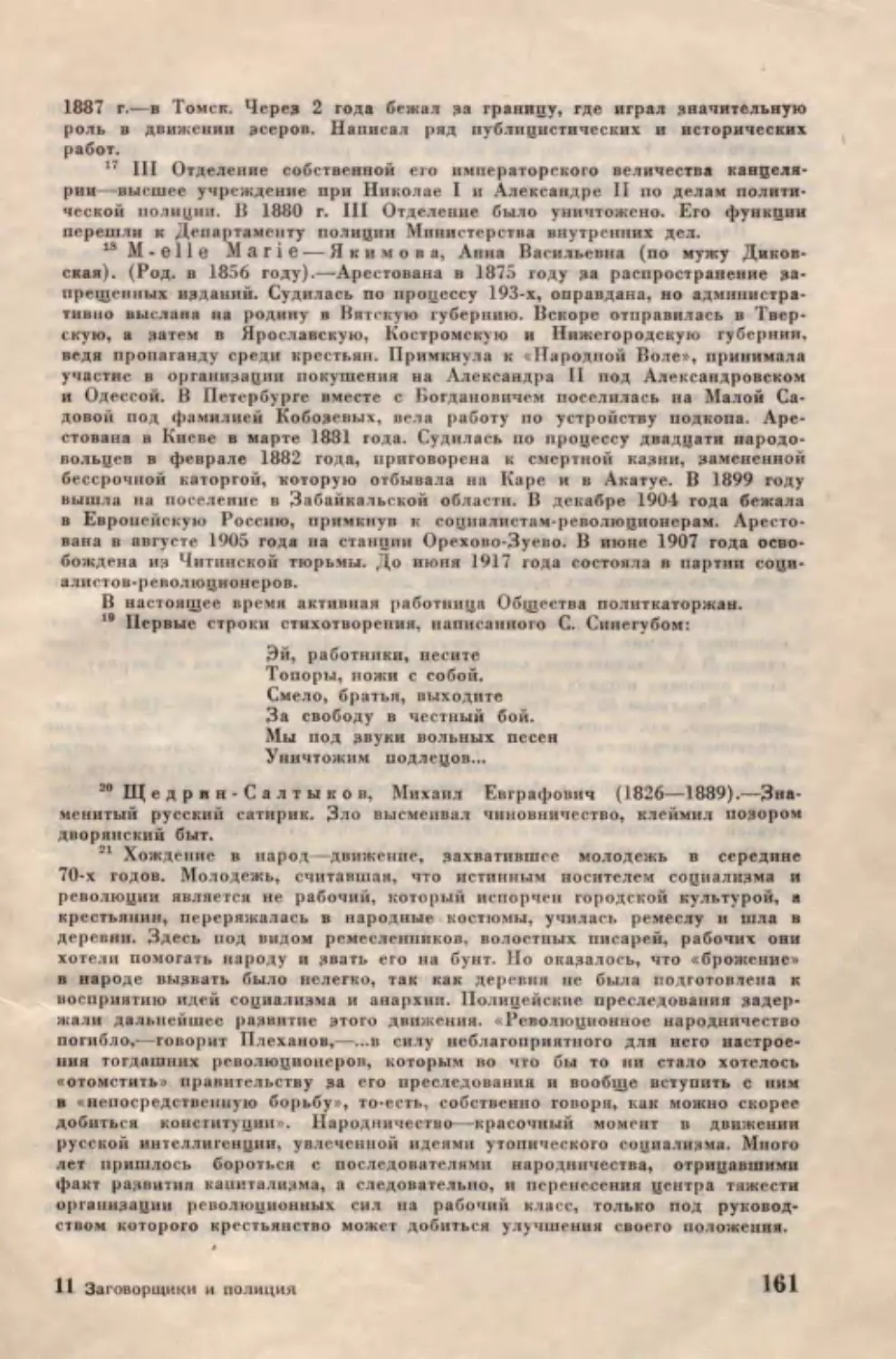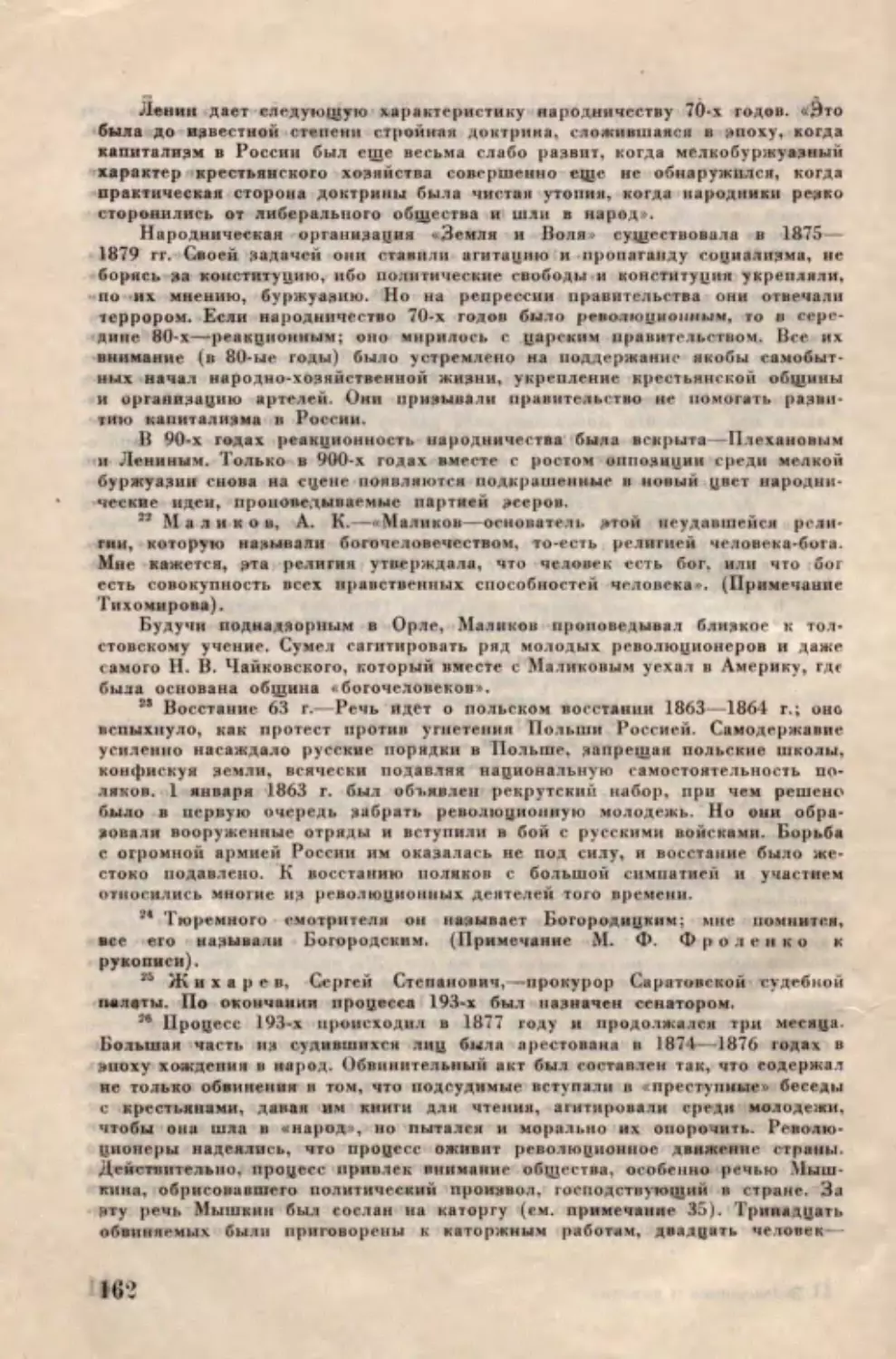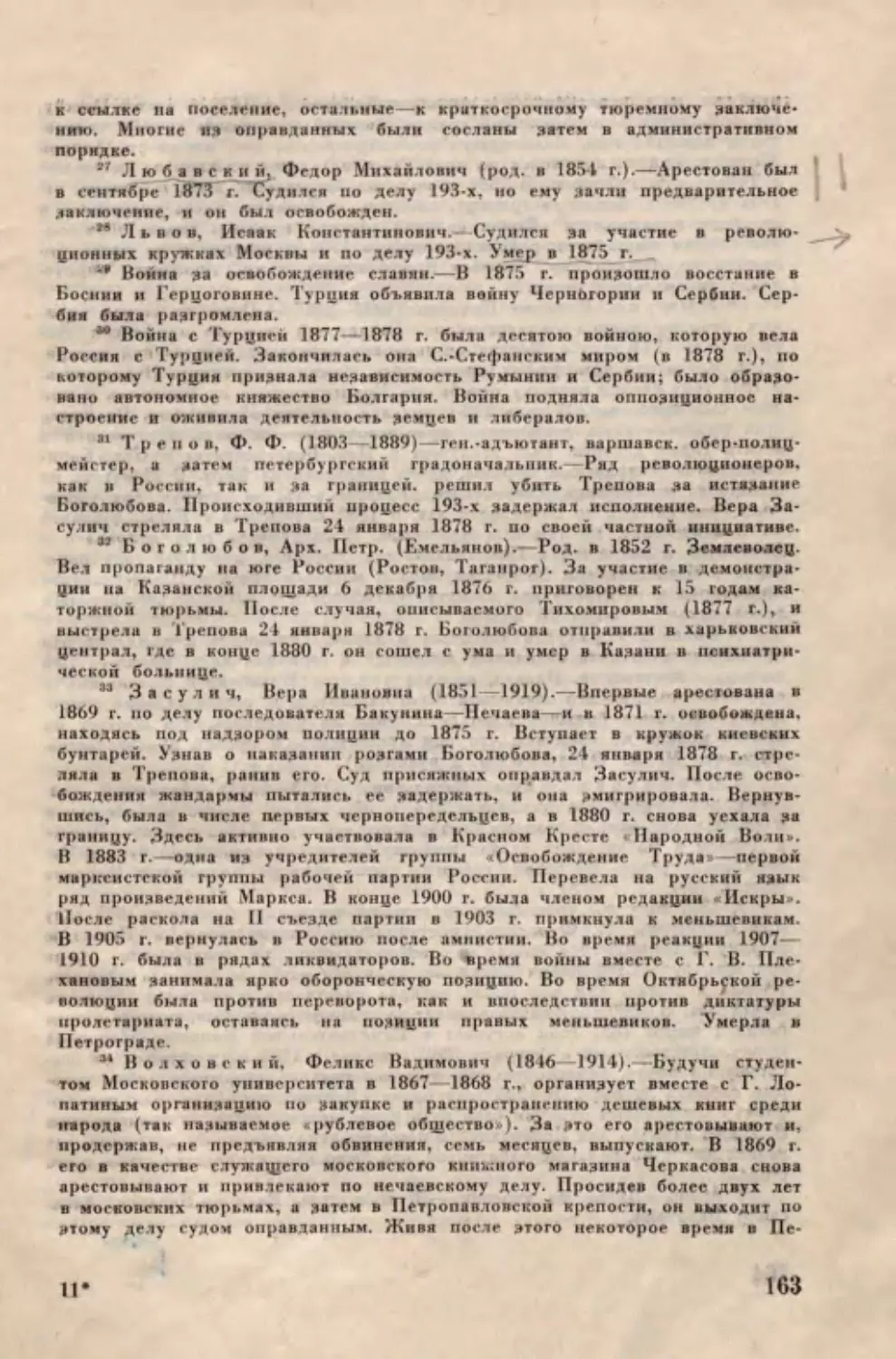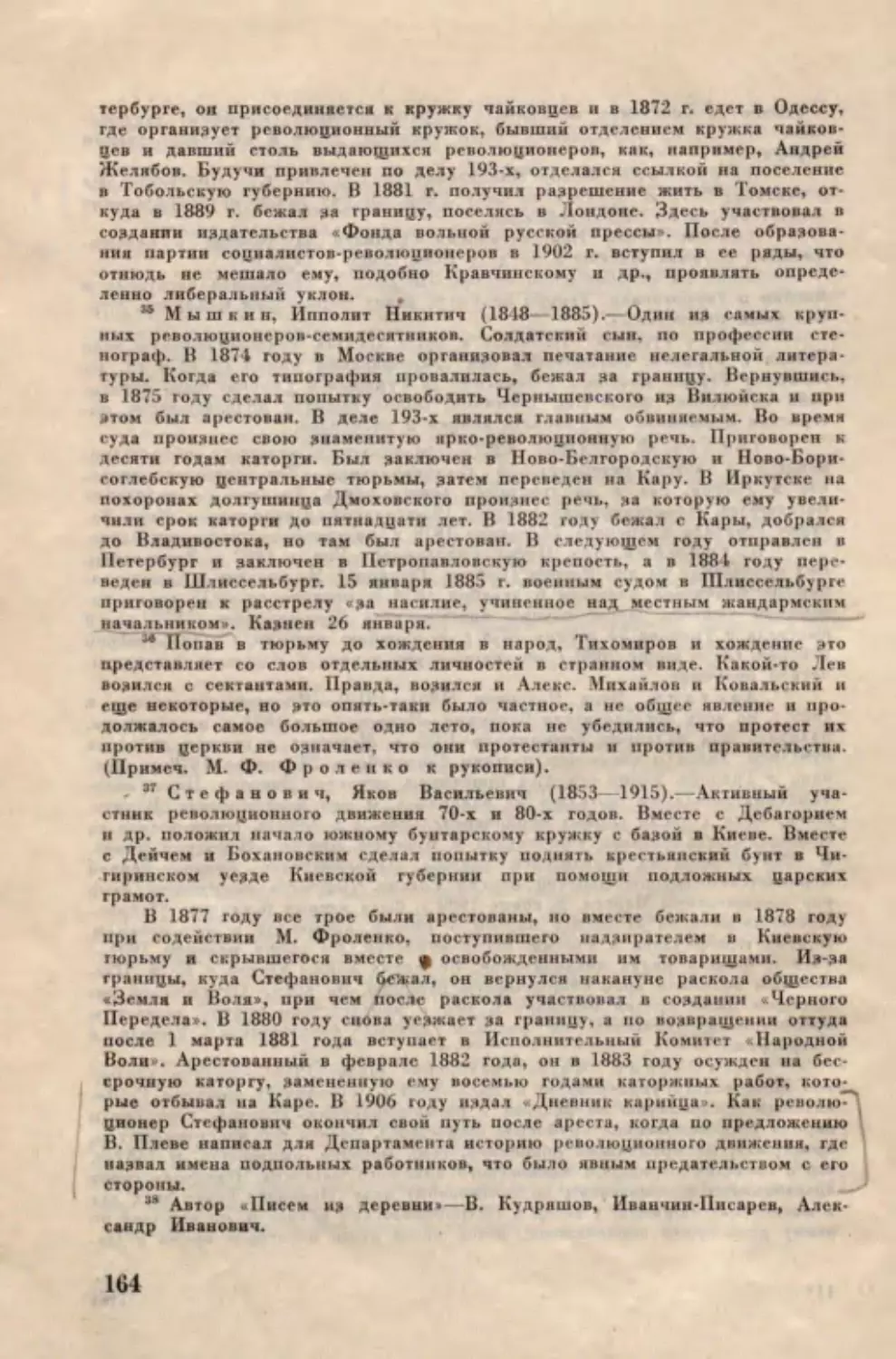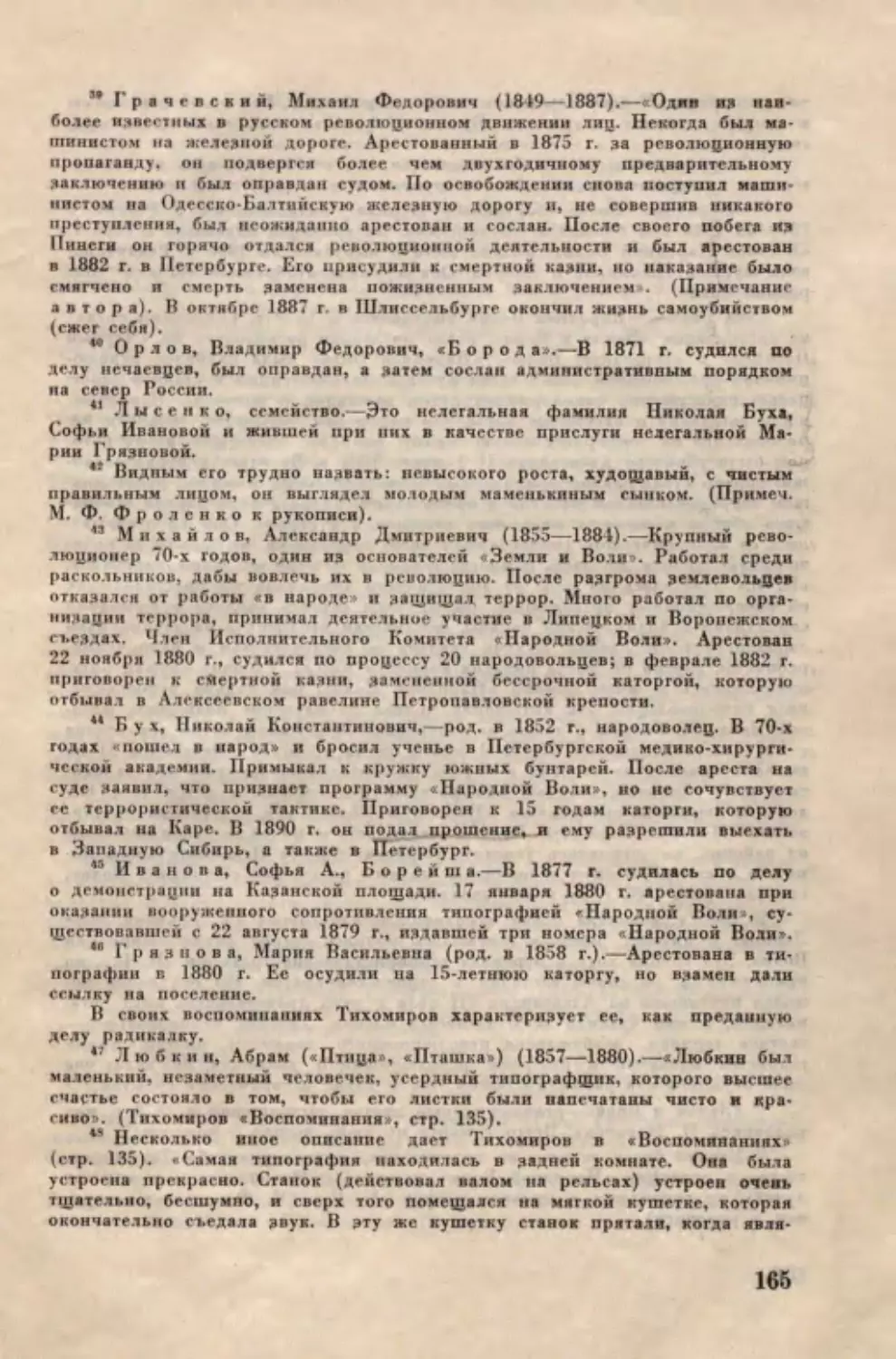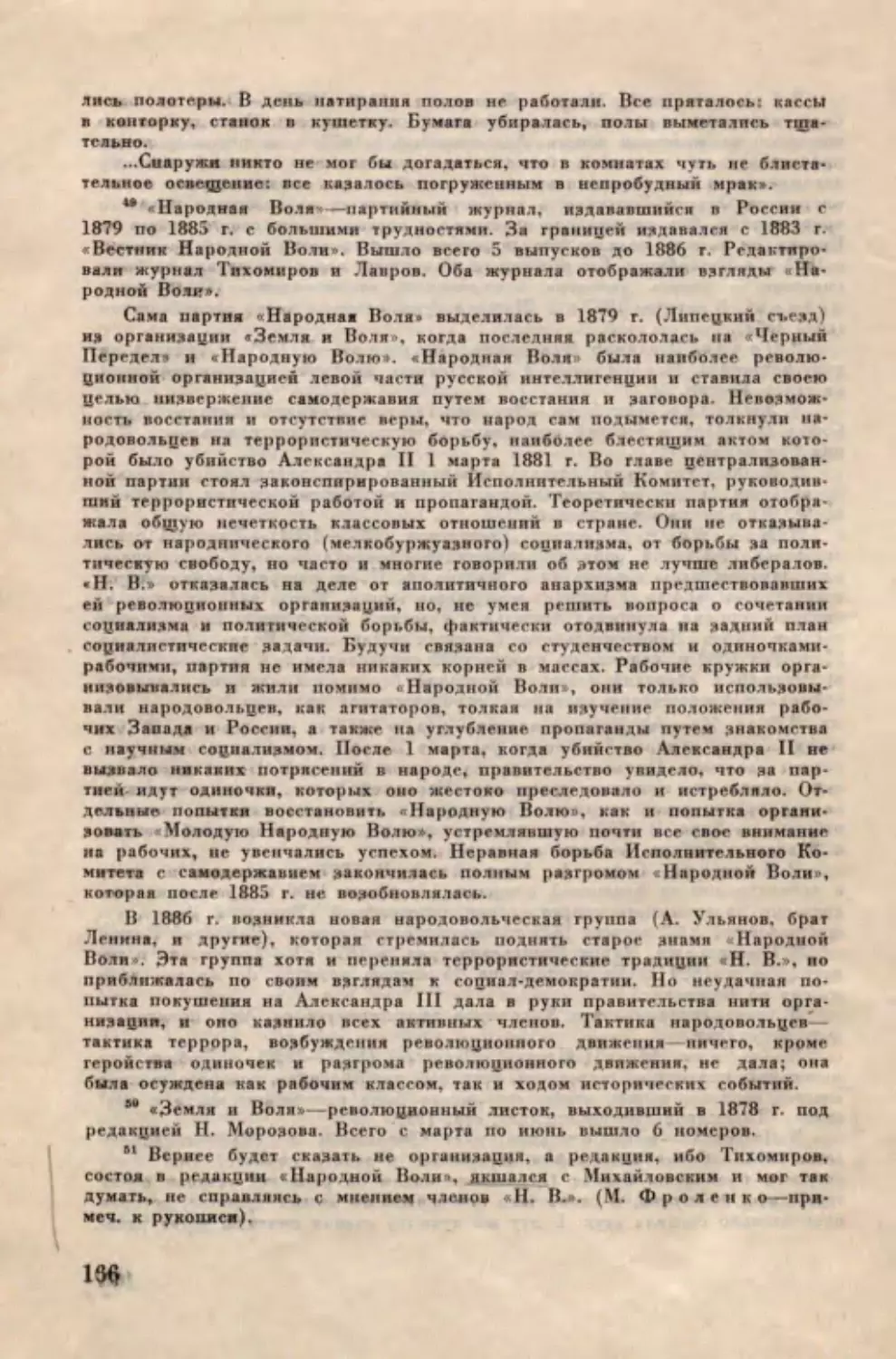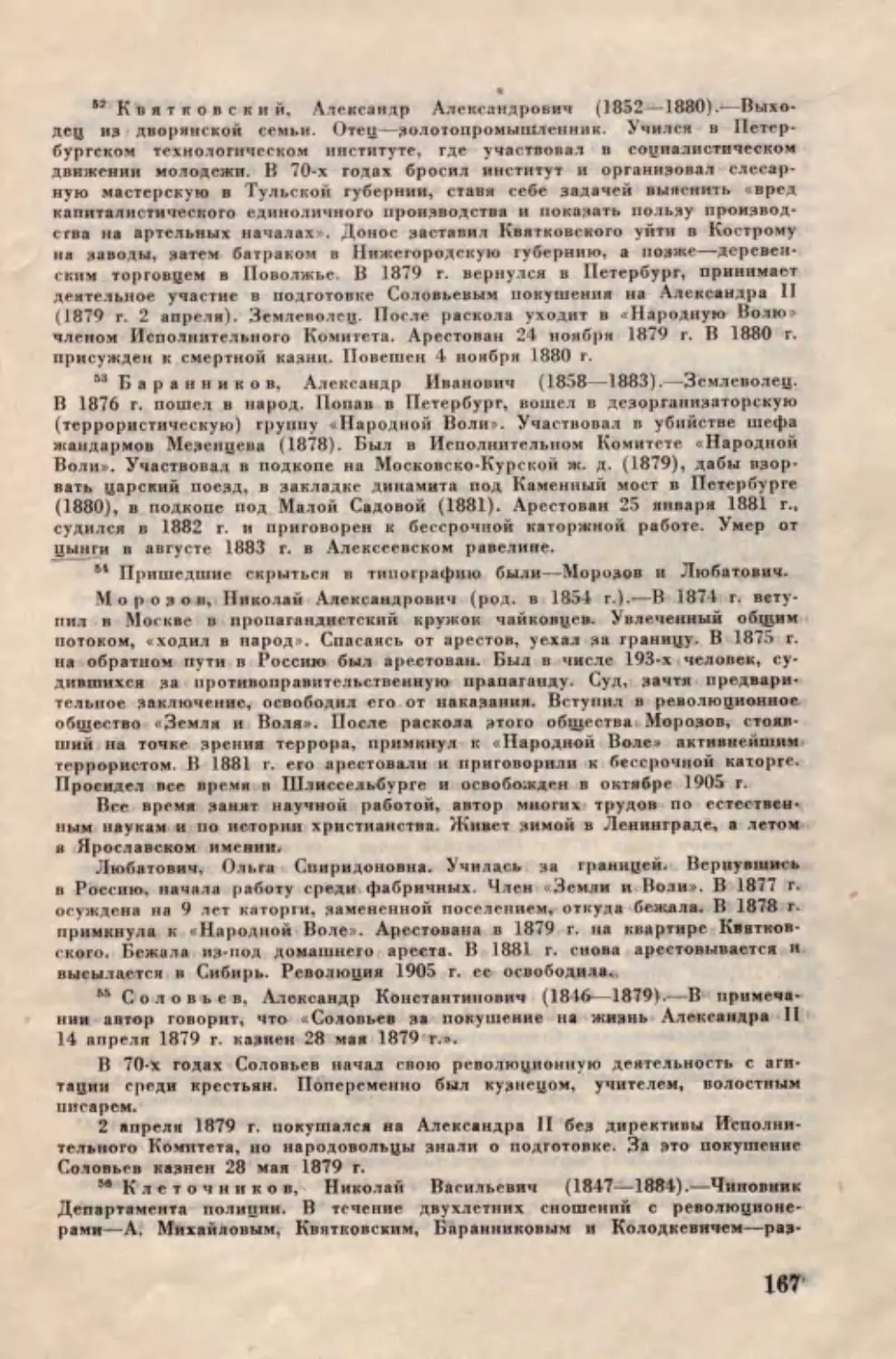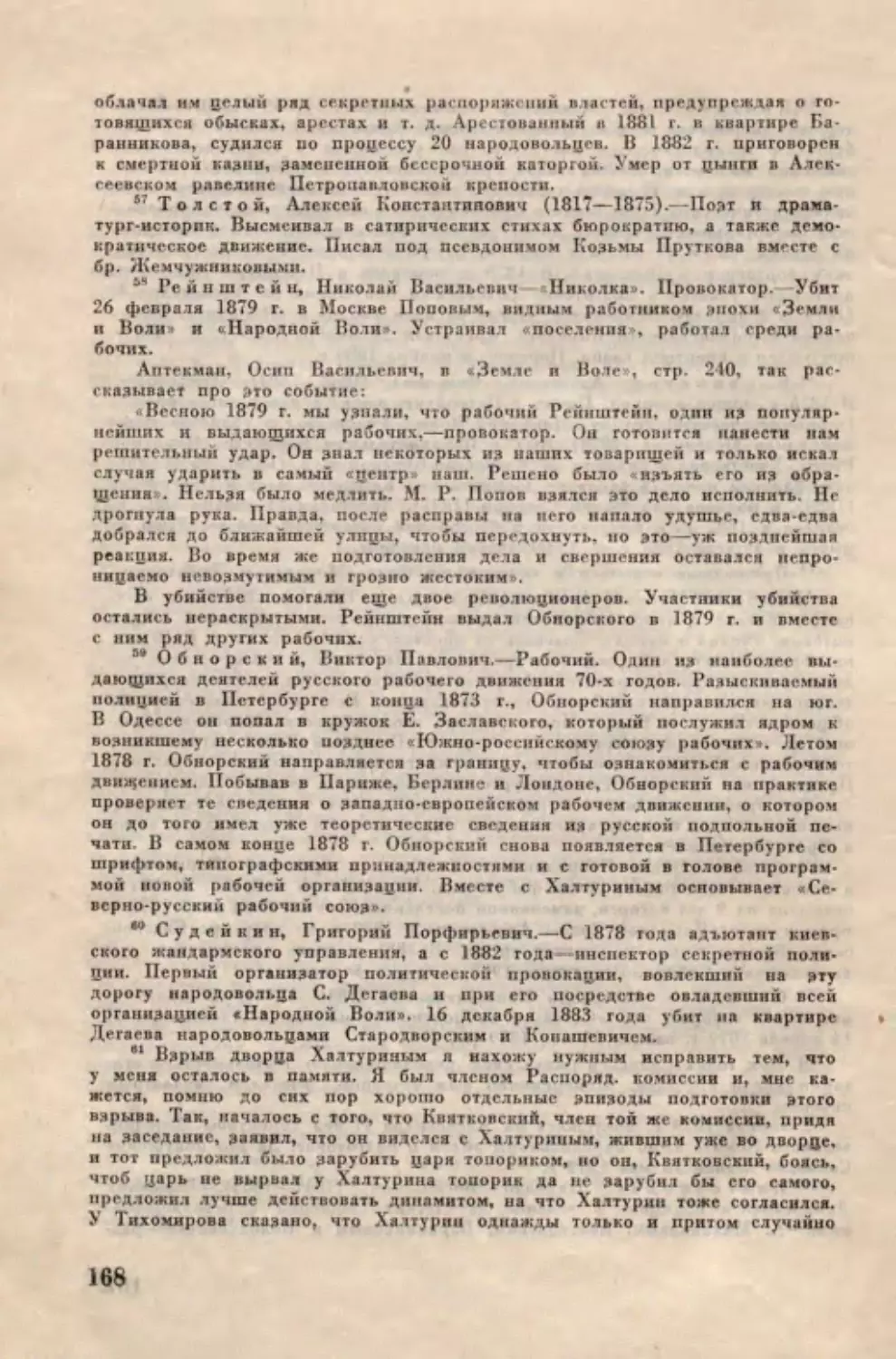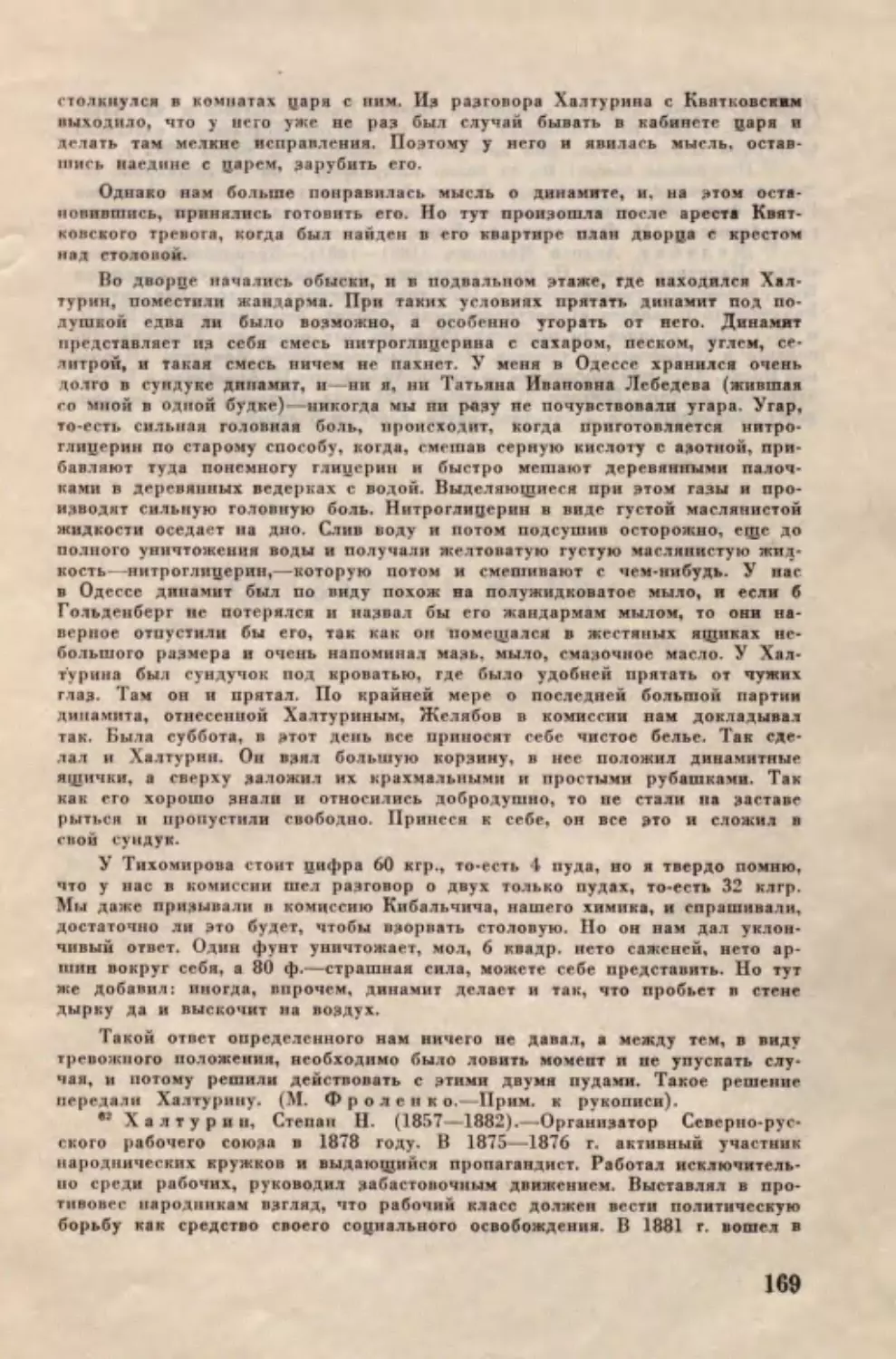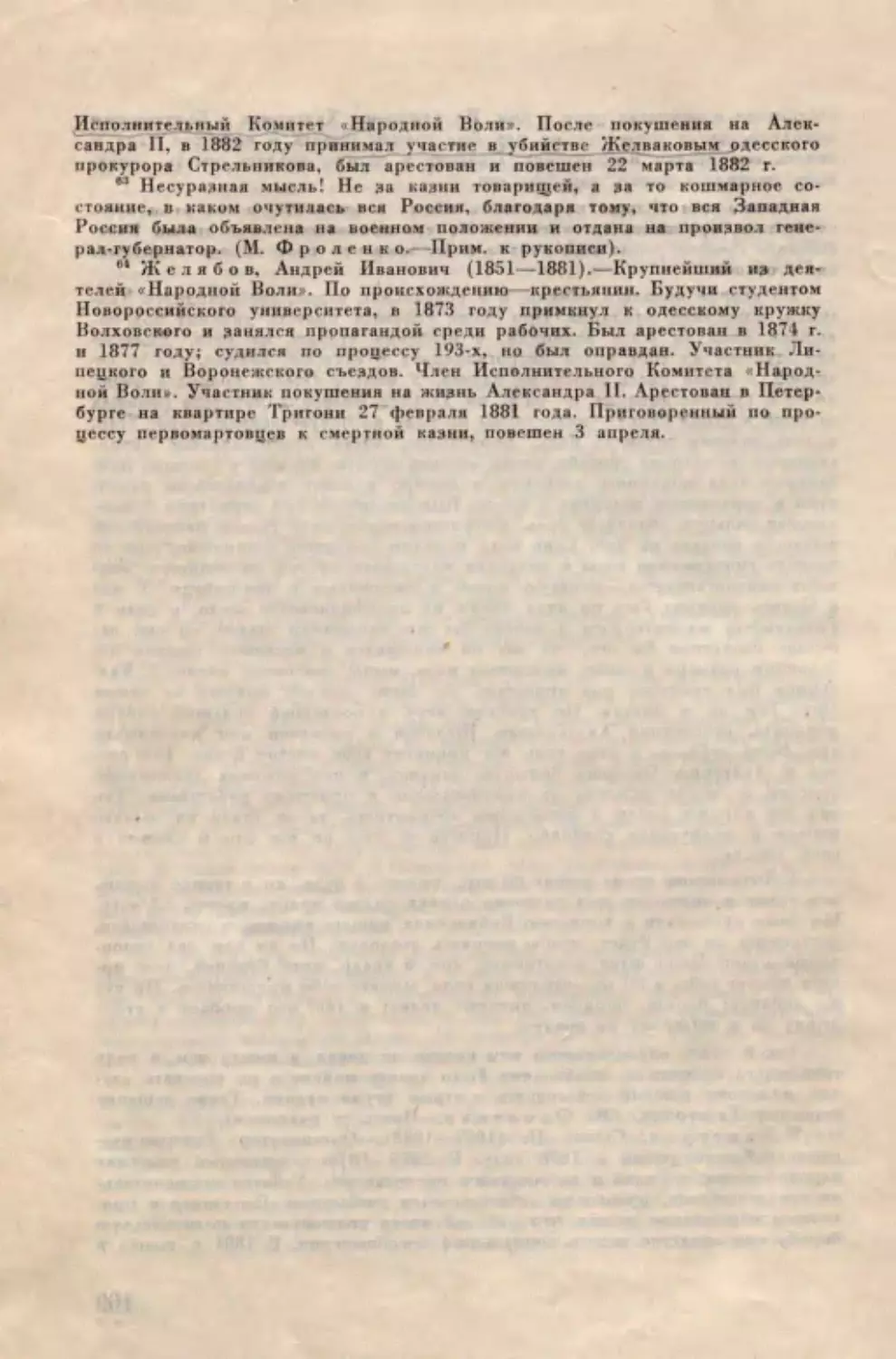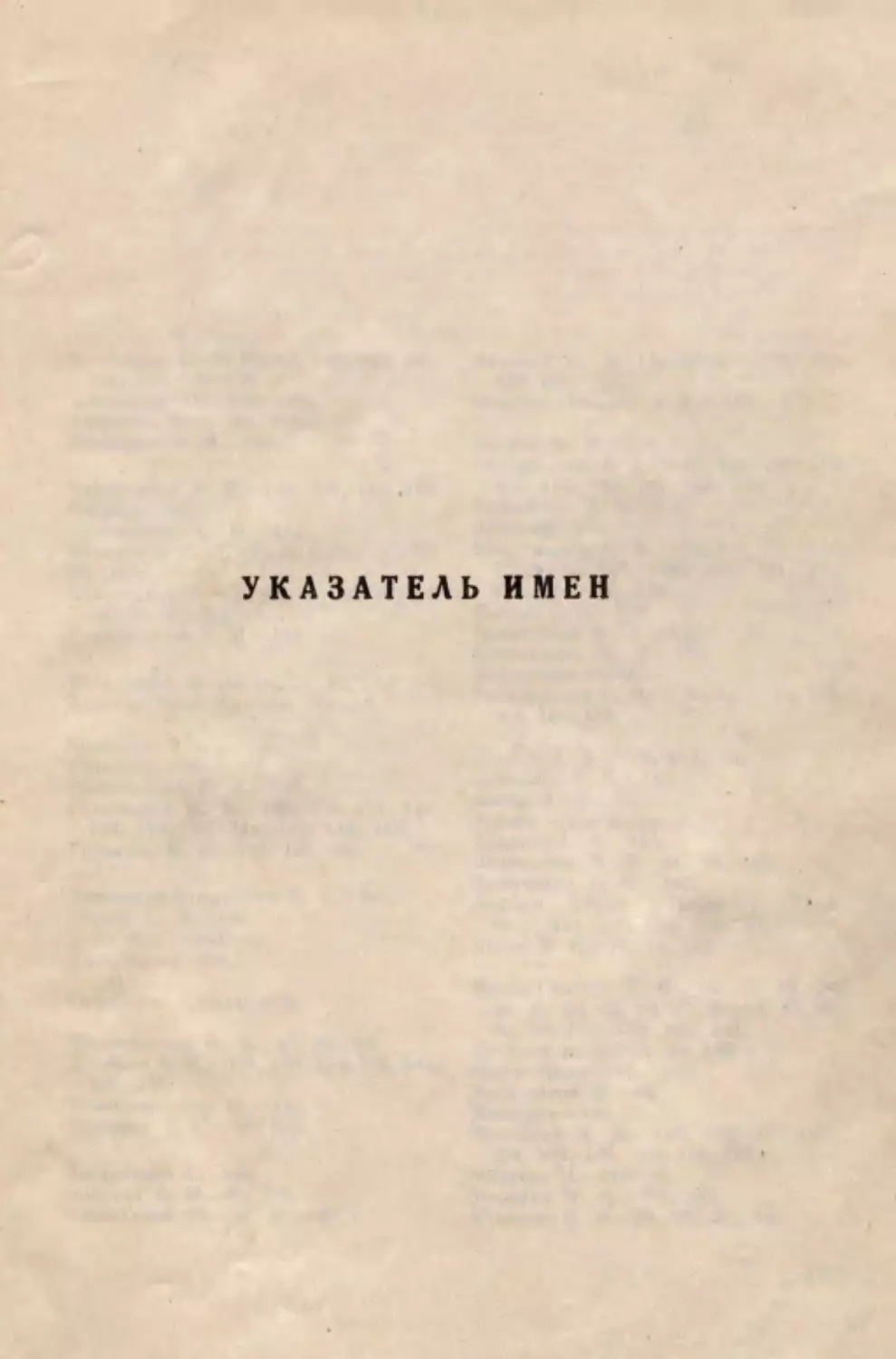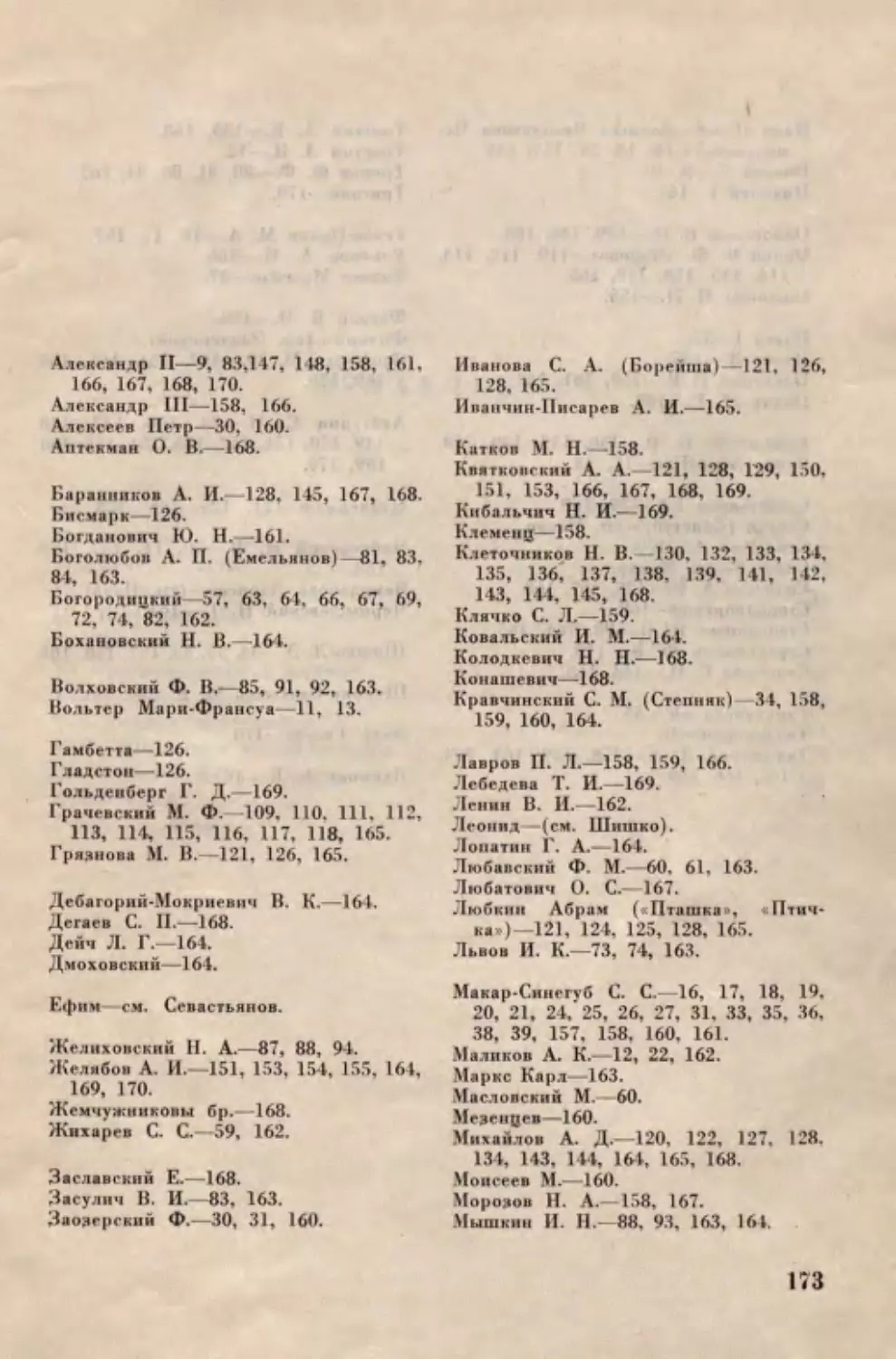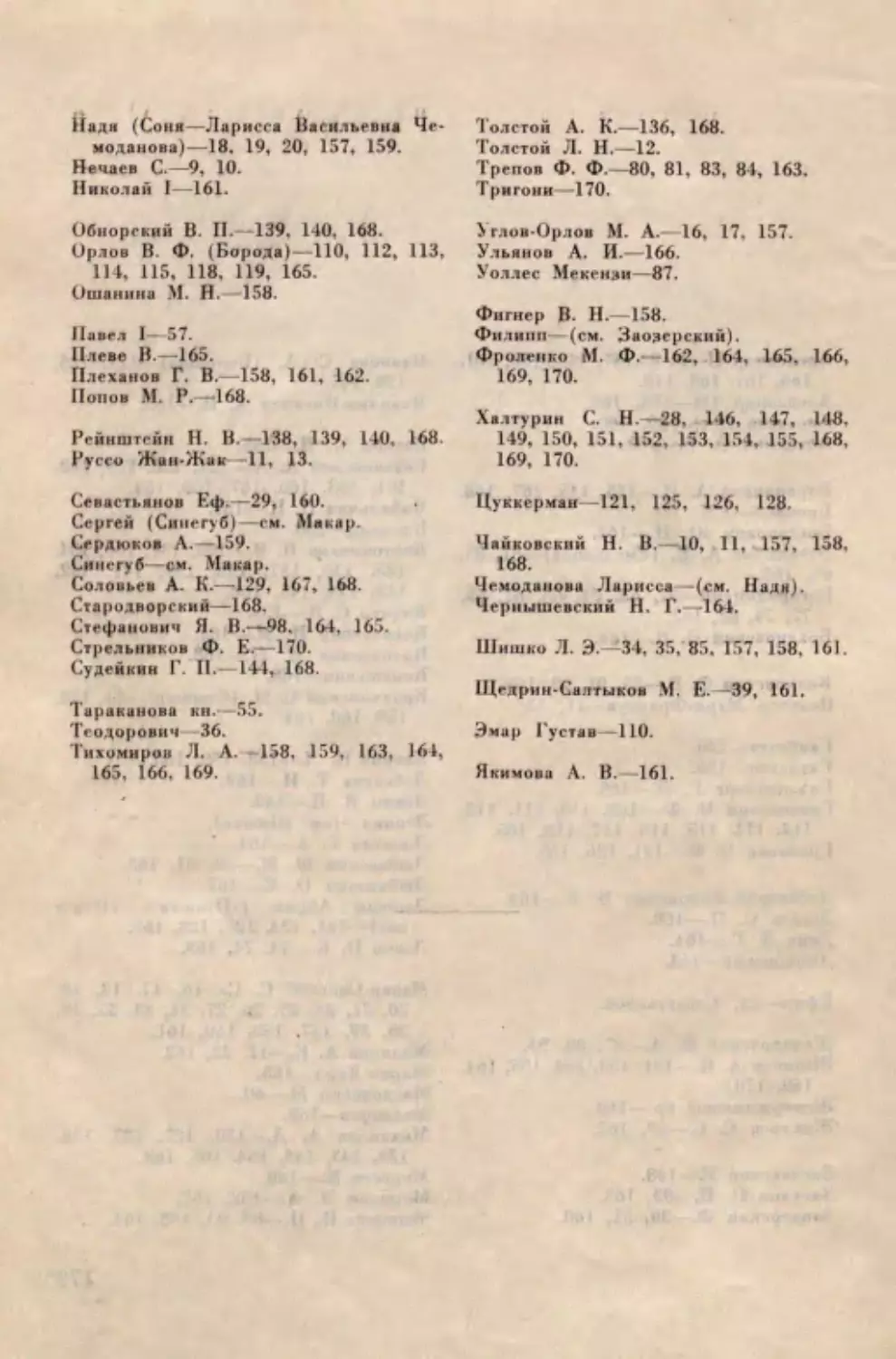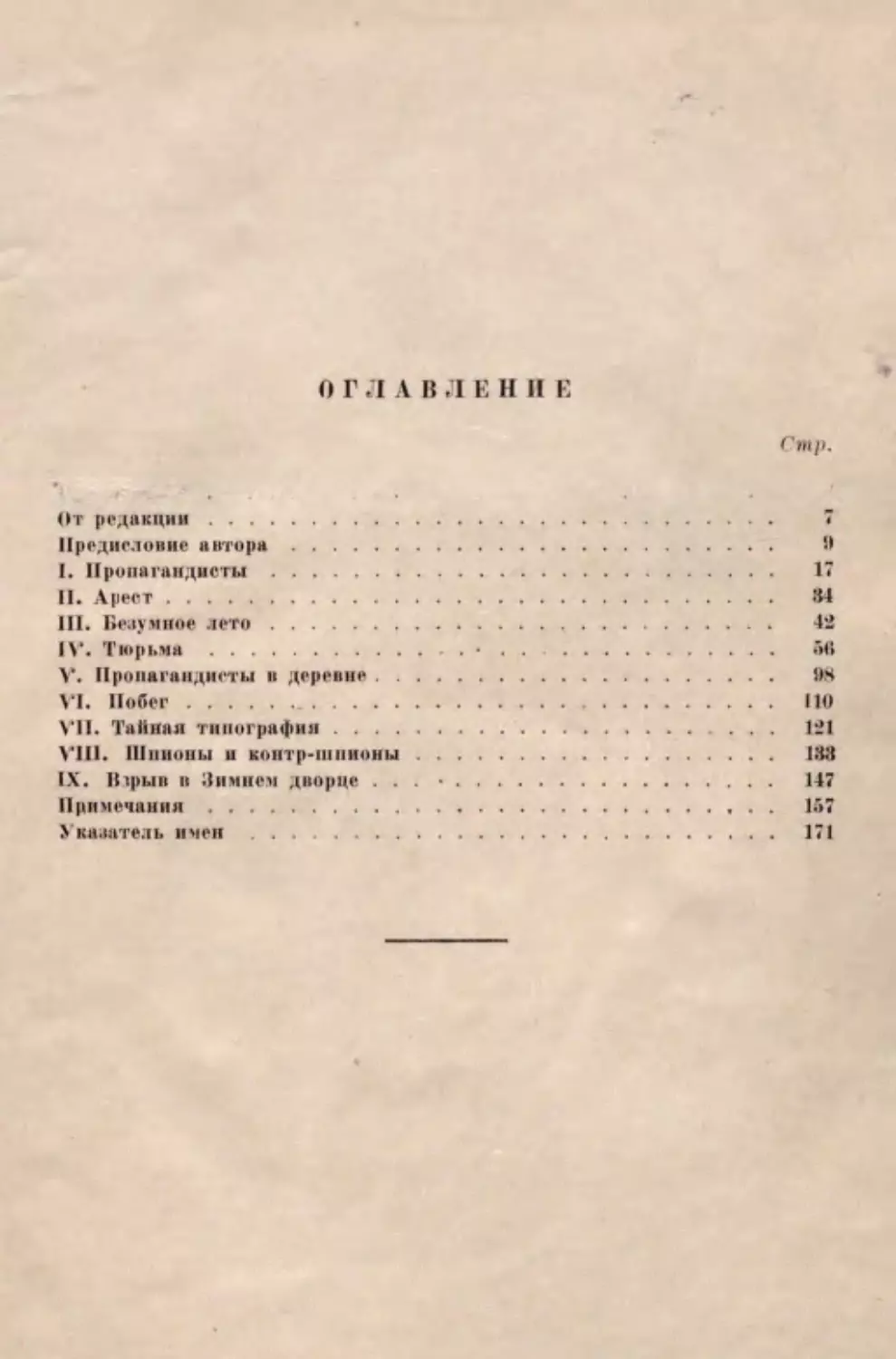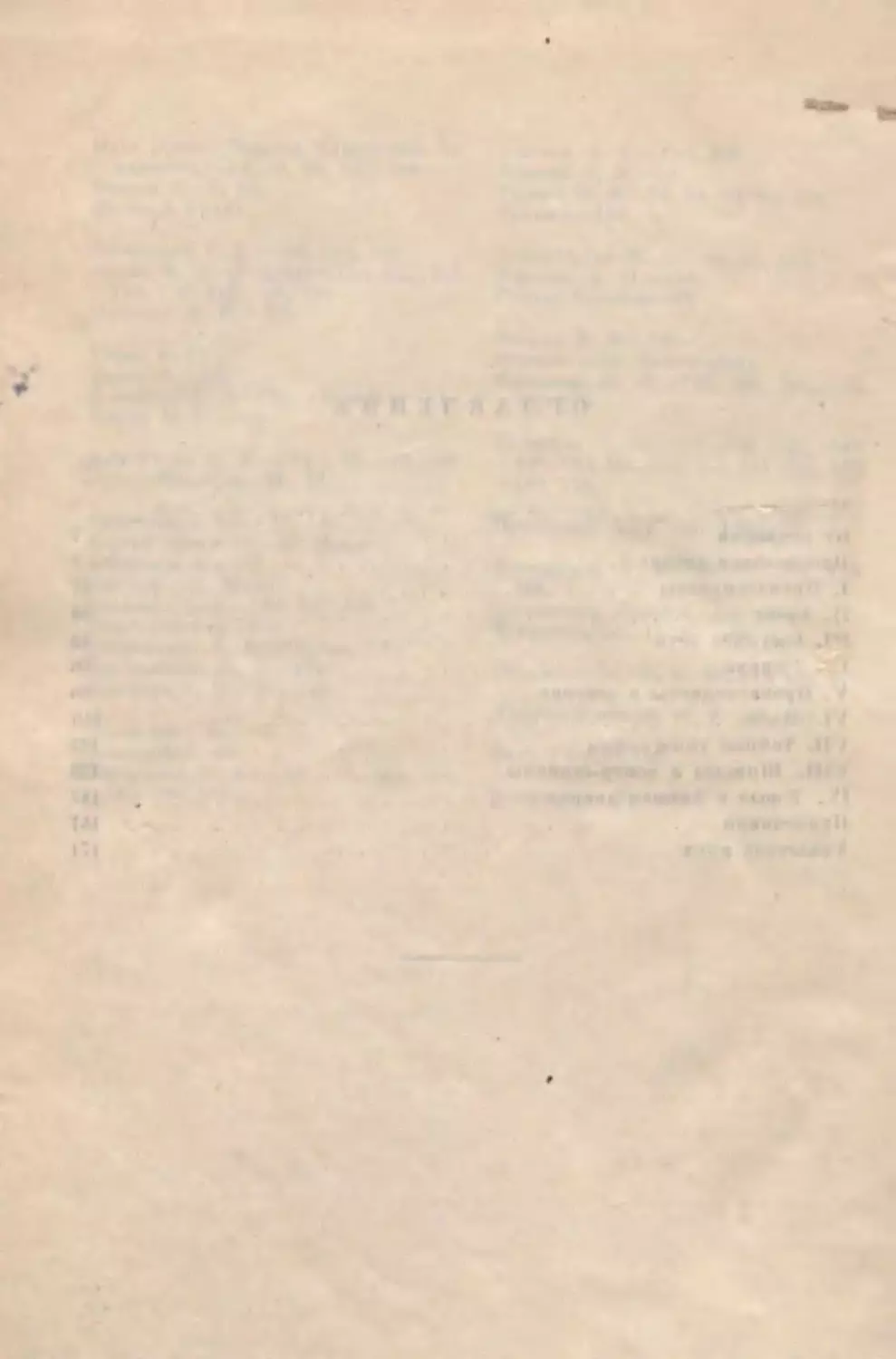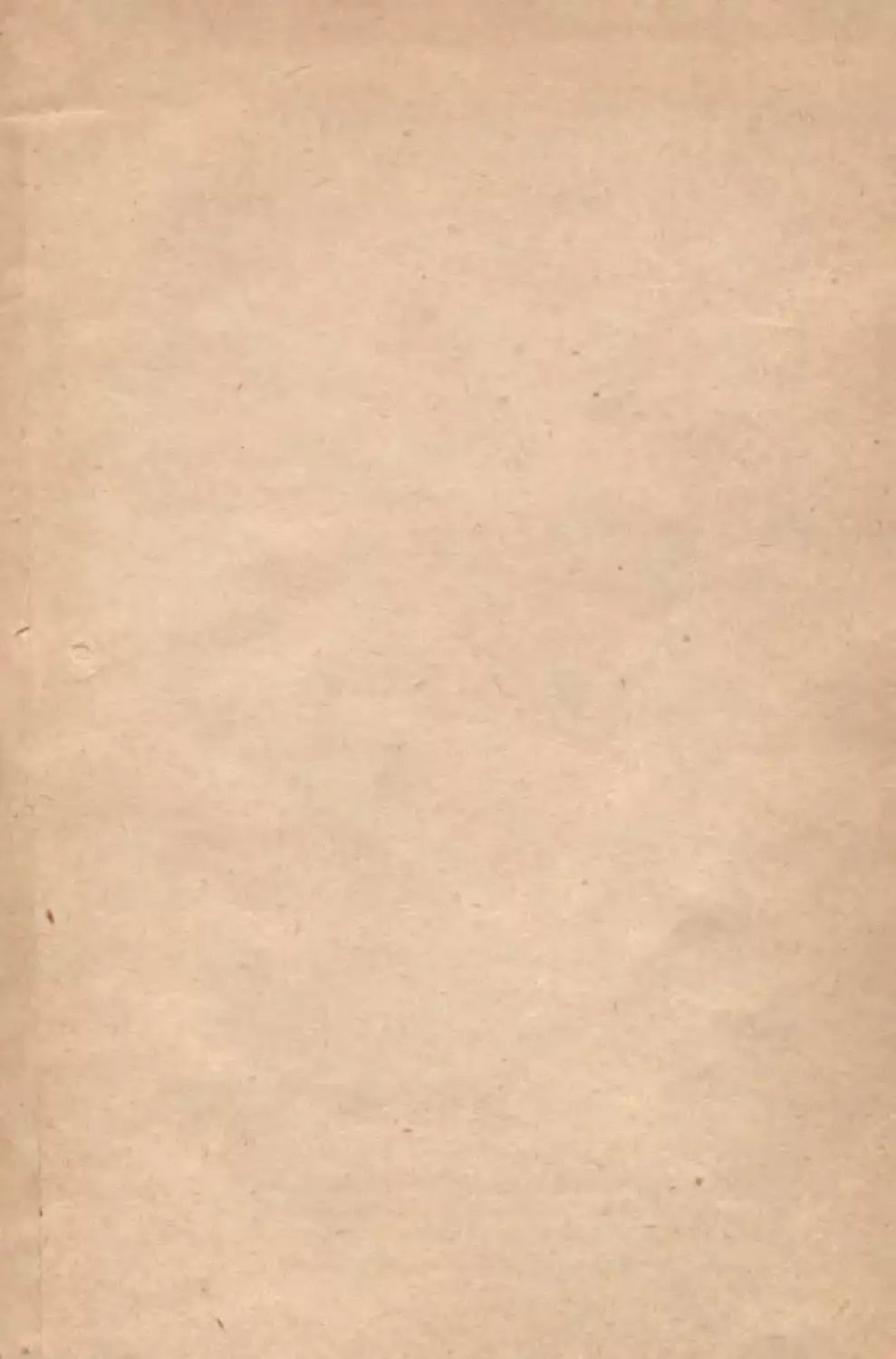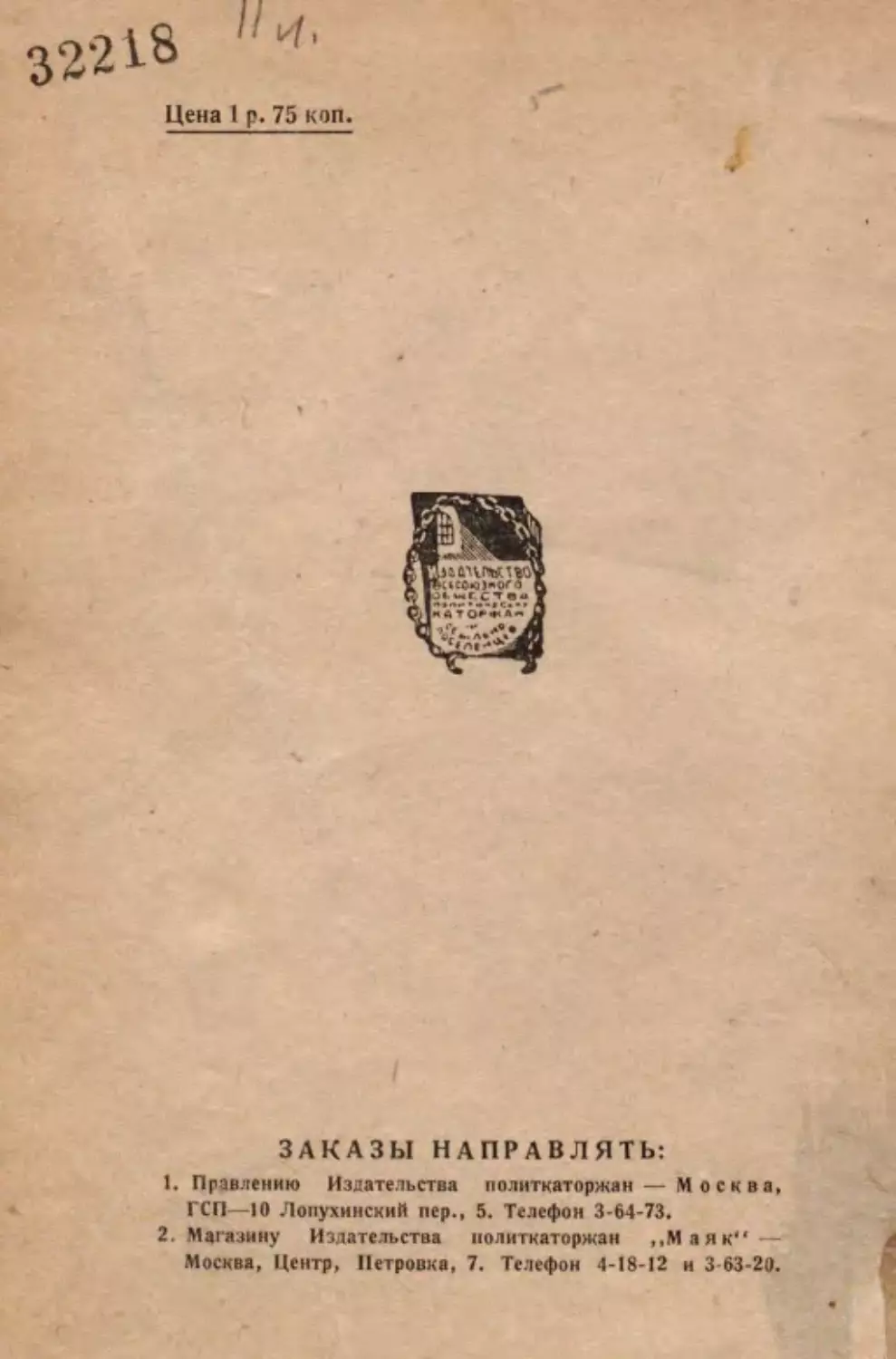Author: Тихомиров Л.А.
Tags: история россии официальные документы пропаганда судебные дела заговорщики издательство политкаторжан полиция
Year: 1930
Text
ЛЕВ ТИХОМИРОВ
ЗАГОВОРЩИКИ
и
полиция
»
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТКАТОРЖАН
d930
-,
У'
ЛЕВ ТИХОМИРОВ
/ЖУ
ЗАГОВОРЩИКИ и полиция
(COÀSÏTHA
ТЕURS ET
POLICIERS)
il%
РЕДАКЦИЯ
II. АНАТОЛЬЕВА
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
О. ЖЕМЧУЖИНОЙ
30~ $€£2.
6
TUA*- Olfj
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и ССМЛЬНО-ІЮСЕЛЕНЦЕВ
1
9.
MОС1СВА
3
0.
/
•Ä
Москва. Главлит А 72 092.
5.000 .
«Мосполиграф», 16-п типография, ТрехпрулныО, 9.
ОТ РЕДАКЦИИ
Настоящее издание книгн Тихомирова «Заговорщики и по-
лиция» отличается от ранее выпущенных тем, что в тексте, из-
данном под нашей редакцией в издательстве «Молодая Гвардия»
(в серии «Революционное движение России в мемуарах совре-
менников»), редакционный аппарат издательства сделав ряд
перестановок глав для «удобочитаемости», чем книга обесце-
нилась, как доподлинный памятник эпохи, и получилась немалая
путаница в хронологии изложения.
Критика справедливо отмечала данный дефект книги. Кри-
тика также дала ценные указания по части некоторых ляпсусов,
допущенных в раннем издании книги, относящемся к 1907 г.,
когда она вышла под названием «В подполье. Очерки из жизни
русских революционеров 70—80-х гг.»
(изд. «Друг Народа»,
стр. 176). Действительное же название книги на французском
языке, выпущенной в Париже в 1887 г., «Conspirateurs et poli-
ciers», что и соответствует данному нами названию «Заговор-
щики и полиция».
В настоящем издании текст исправлен, согласно указаниям
в рецензиях С. Н. Валка («Красная Летопись» No 2 (29) за
1929 г.) и Марка Горбунова («Каторга и Ссылка» No 12 (49)
за 1928 г.).
Глава «Пропагандисты в деревне», взятая Тихомировым из
«Народной Воли» от 1 октября 1879 г. No 1 и переведенная им
для своей книги на французский язык, была в 1907 г. с фран-
цузского переведена на русский. Таким образом русский под-
вергся двойному переводу.
При сличении оригинала с переводом 1907 г. оказалось, что
перед нами погрешности, касающиеся не только помещения
очерка В. Кудряшова (Иванчина-Писарева), но весь текст имеет
иногда мало общего с оригиналом, не говоря уже о ряде про-
пусков как отдельных мест, так и глав, и, кроме того, о вольном
переводе с бесконечным количеством вставок от переводчика.
Настоящее издание сверено с французским текстом и дается
полностью, при чем нами частично использован перевод 1907 г.
Вся работа по переводу и восстановлению пропущенных глав
и отдельных мест проделана О. И. Жемчужиной.
В настоящем виде книга представляет уже действительно—
после официальных документов, судебных дел и исследова-
ний—мемуарный источник, которым может пользоваться иссле-
дователь эпохи «хождения в народ». Но все же автор этого
источника при написании находился под большим влиянием
романа Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия», а также
воспользовался рядом неопубликованных мемуаров и партийным
архивом. Все это не могло не отразиться на стиле автора.
Редакция
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Когда я писал о «России политической и социальной», я вдял
на себя труднейшую задачу уложить в один том в пятьсот стра-
ниц картину огромнейшей страны, своеобразной и малоизвест-
ной. Очень часто мне приходилось довольствоваться только об-
щей характеристикой мест.
С тех пор я твердо себе обещал пополнить мой первый опыт
несколькими томами чисто описательного характера, где я обри-
совал бы детальнейшим образом различные стороны русской
жизни для того, чтобы показать французам те как будто неза-
метные мелочи, которые в сущности помогают понять страну,
ибо они дают нам ее почувствовать. Я выбрал сюжетом для этой
первой серии набросков жизнь заговорщиков и картину их веч-
ной борьбы с полицией.
Я не хочу ничего обобщать в этой книге. Я уже высказал
свою точку зрения на этот счет. Я расскажу здесь читателю
только о том, что я видел, слышал, изучал для моей работы.
Я ничего не прибавляю. Эта книга— -сборник документов, книга
воспоминаний, подчас очень неполных, вот и все. Это разорван-
ные куски, которые в качестве краткого исторического обзора
помогут читателю связать их хронологически.
Я пытался указать в «России политической и социальной»
внутренние причины революционного движения России наших
дней.
—-
Фиглярская политика Александра II после освобождения
крестьян обострила общее положение страны, но благодаря
этой хитрой политике удалось вызвать разногласия среди ли-
бералов и радикалов и таким образом ослабить революционное
движение. Небольшие заговоры, вспыхивавшие время от вре-
мени, были жестоко подавляемы.
В период между 1867 и 1874 гг. правительство было крепче,
чем когда бы то ни было. Сергей Нечаев, фанатик, обладающий
изумительной силой воли, организовал заговор. Всевозможные
хитрости, ложь, деспотизм, доходящий до признания убийства,
были для него необходимы при недостатке революционного духа
у заговорщиков.
После подавления заговора Нечаева, революционная Россия,
казалось, была погружена в состояние полной прострации. В дей-
ствительности же она подготовлялась к большим событиям, ко-
торые должны были вспыхнуть в 1874 году.
С 1871 года * мы видим, как создаются во всех больших го-
родах России многочисленные кружки, особенно среди моло-
дежи. Это были по большей части просто товарищеские группы,
еще не ставящие себе близких революционных целей, но по
духу они были революционны. Они мечтали о большой социаль-
ной революции, но последняя, по их мнению, могла быть осу-
ществлена лишь в стране, нравственно и интеллектуально воз-
рожденной.
Кружки, о которых я говорю, считали себя первыми рост-
ками этой эволюции. Члены их помогали друг другу в самообра-
зовании, которое должно было облегчить разрешение больших
социальных задач.
И сами проповедники возрождения служили лучшим приме-
ром своей личной жизнью.
Революционер должен быть безупречным, кристально чест-
ным. нравственно чистым, всегда готовым помочь ближнему.
Нц защищает справедливость и борется со злом. Он должен ока-
зать человечеству возможно большие услуги, беря для себя
лишь то, что строго необходимо для существования. Люди ста-
новились настоящими аскетами.
Мы были должники народа. Чтобы нам дать возможность
получить высшее образование, путь к нравственному совершен-
ству, народ страдал тысячелетиями. В продолжение этих тыся-
челетий он был лишен самого насущного, был обращен в раб-
ство, в состояние отупения. Нужно было заплатить теперь этот
долг, такой огромный, что все наше существование, посвящен-
ное исключительно делу народа, не могло быть достаточным для
расплаты.
Эта мысль тогда владела всеми революционно настроенными
умами.
Наиболее известный кружок той эпохи назывался—по имени
его основателя—кружком Чайковского. Он был создан в Петер-
бурге в 1871—1872 г. и мало-по-малу протянул свои разветвле-
ния сначала в Москву, потом в Одессу и т. д . Этот кружок объ-
единял довольно большое количество талантливых людей, ко-
торых позже мы встретим во главе заговоров. Влияние этого
кружка было огромно. История его—это страница русской
истории.
Мои первые две главы относятся к роли, которую играл этот
кружок. Я взял людей—не самых выдающихся, но, как мне
кажется, наиболее ярких представителей революционной массы
того времени.
Я изменил их имена.
Все кружки той эпохи начали с личного усовершенствования
своих членов и пропаганды просвещения и возрождения
страны среди молодежи, а также и образованных слоев насе-
ления. В силу этого кружок много содействовал изданию и
особенно распространению множества очень ценных работ.
Мало-по-малу пропаганда стала проникать и в рабочую среду.
Среди пропагандистов произошел раскол, создавший два
течения, названных новыми словами в русском языке. Одни—
просветители—посвятили себя пропаганде среди образованных
слоев общества; другие — народники (демократы)—вызва-
лись вести пропаганду в народе. Первые скоро потерпели кру-
шение, и даже название их всеми забыто. Вторые одержали по-
беду. И здесь кружок Чайковского, не будучи в авангарде
всего движения, показал себя наиболее мужественным полком
большой революционной армии. Как некогда, во время пропа-
ганды среди интеллигенции, он один сделал больше, чем десять
любых кружков, вместе взятых, так и теперь кружок организо-
вал широко и прекрасно поставленную пропаганду среди рабо-
чих. В 1872—1873 гг. эта пропаганда сделалась самой важной
частью всей его работы.
В это время русские революционеры не имели еще имени для
своей партии. Высшая скромность эпохи, боязнь красивых
фраз—вызывали отвращение к громким словам. Они именова-
лись в большинстве случаев радикалами.
Я доказывал в «России политической и социальной» суще-
ствование одновременно двух течений в русском интеллигент-
ном обществе. Одно—намечавшее развитие и усовершенствова-
ние личности, как средство возрождения России, второе—мечтав-
шее призвать народные массы к сознательной политической
жизни, убежденное, что эти массы смогут создать справедли-
вый общественный строй.
Это была борьба за возведение в культ индивидуальности и
массы, это были антиподы, Вольтер и Руссо, изредка идущие
рука об руку, чаще—- ожесточенно сражающиеся.
До 1874 года было господствующим первое течение. Связи
пропагандистов с рабочими пробудили новую силу—второе те-
чение. В народе вдруг открыли столько положительных качеств,
что доходили буквально до благоговения перед ним.
Но в таком случае к чему медленная, продуманная, научная
пропаганда?
Над ней стали насмехаться. Правительство, со своей стороны,
помогало этой точке зрения, преследуя всячески пропагандистов,
и пропаганда сделалась, таким образом, очень трудной среди ра-
бочих.
Кружок чайковцев потерял к концу 1874 года половину своих
членов. Остальные рассеялись. Кружок, собственно говоря, пе-
рестал существовать. А затем, подкрепленный большим количе-
етвом новых людей, он потерял в то же время свои традиции и
отличительные черты, смешавшись окончательно с остальной
революционной массой всей России.
Движение, сойдя с рельс революционного пути, все же не
разбилось окончательно. В своем энтузиазме оно нашло новые
дороги по обширным равнинам России.
Началось «безумное лето», лето 1874 года, когда сотни, а
может быть, и тысячи юных жизней устремились в народ, чтобы
его просветить, поднять выше, научить его и самому научиться
у него.
Это было могучее движение, но с весьма неясными целями.
Всевозможные точки зрения смешивались в нем: анархизм, не-
давно вошедший в моду, якобинизм, социализм, приближаю-
щийся к теории социал-демократов, русский демократизм (на-
родничество), который хотел желать того, чего народ хотел, не
интересуясь особенно прочими «измами».
Было немало просто желавших жить честно, как живут рабо-
чие, то-ссть зарабатывать на жизнь своим собственным трудом.
В конце 1873 и начале 1874 гг. выступают на сцену антирево-
люционные доктрины, — например, М. Маликова, — очень близ-
кие к религии, проповедуемой графом Львом Толстым. Эта
доктрина соблазняла революционеров.
При этом разнообразии взглядов, в этом вавилонском стол-
потворении слышалась вибрирующая нота, потрясшая все осно-
вы: это был протест против несправедливости нынешней циви-
лизации. Наиболее экзальтированные головы начали отрицать
науку, насмехаться над стремлениями личного усовершенство-
вания.
Благодаря цивилизации народ пропадал с голоду; грубо уни-
чтожались еще не успевшие окрепнуть ростки справедливого
общественного порядка, которые не вытравлены из народной
Души. А потому долой цивилизацию! Пора нам сбросить немец-
кий социализм и одеть мужицкую сермягу **'.
Этот призыв очень четко вырисовывает тенденции группы
отрицателей. Они старались подражать народу в одежде, в раз-
говорной речи, преувеличивая грубости. Бежали из учебных за-
ведений; бросались изучать ремесла сапожника, столяра и т. п.
Я знал таких ярых сторонников опрощения, которые теряли спо-
собность разговаривать литературным языком.
Один из них должен был бежать из города. Полиция ка-
раулила его на вокзале. Как быть? Одетый по-крестьянски, с
мешком на плечах, он подошел прямо к жандарму.
—
Будьте ласковы, скажите мне, сколько стоит билет до N?
—
Четыре рубля,—ответил жандарм.
—
А дешевле нельзя?
—
Дурак.
Жандарм вернулся на свой пост, а глупый крестьянин про-
должал стоять на месте, раздумывая, итти ли в кассу. Уже был
дан звонок. Жандарм сказал несколько слов кондуктору. По-
следний подошел к крестьянину.
—
Сколько же ты хочешь заплатить за проезд?
—
Ну, рубль с полтиной, ваше благородие.
—
Давай живо два рубля.
Крестьянин вынул деньги, и кондуктор украдкой провел его
в вагон.
Наблюдая эту сцену, манеры крестьянина, его речь, его тор-
гашество, никак невозможно было даподозреть в нем револю-
ционера ***.
Немногие из желавших уравнять себя в этом отношении с
крестьянами остались «в народе» более или менее продолжи-
тельное время. Правительство, напуганное силой движения,
устроило ожесточенную охоту за пропагандистами. Тюрьмы
были переполнены. Революционеры просиживали по два, три
и четыре года в одиночном предварительном заключении.
Это большое движение было уже заторможено к 1875—
1876 гг. Но оно не осталось безрезультатным.
Прежде всего, крестьянские настроения разрушили чрезвы-
чайно смутные тенденции, существовавшие накануне. Решили,
что надо действительно приблизиться к народу.
Народники, сделавшись господствующей партией, подняли
на смех восторженные крестовые походы 1874 г.
1 Вольтер сказал однажды, что, читая Руссо, испытываешь желание
ходить на четвереньках.
Народу не нужны были такие набеги. Надо было жить с ним,
учить его, уметь формулировать его желания. Надо составить
действительно народническую программу и организовать не
только крестьянскую партию, но и ряд тайных крестьянских
обществ. И только после всего этого можно будет надеяться
на успех.
Наиболее выдающееся тайное общество этого периода назы-
валось «Земля и Воля»,
идея которого была внушена кре-
стьянами.
Но непосредственная цель не была достигнута.
В тайных обществах, состоявших из людей значительно
старше и более практических, подчас изумительно ловких, пра-
вительством систематически пробивалась брешь.
И тем не менее, народническое течение наложило глубокий
отпечаток на дальнейшее революционное движение. Взгляды
революционеров сделались более умеренными, более практиче-
скими. Недавний анархизм был вырван с корнем. Стали пы-
таться составить реальную программу.
С другой стороны, преследования правительства, уничто-
жавшего завоевания революционеров, доказывали с очевид-
ностью, что при настоящем политическом положении в России
организация каких бы то ни было партий и особенно крестьян-
ской—невозможна.
Революционеры решили защищаться от правительства.
В 1877 году появились террористы.
Возникла мысль, что у революционеров должен быть отряд
самообороны, который защищал бы их от шпионов, жандармов,
мстя око за око, наказывая правительство за его слишком про-
извольные действия. Эта идея перебросилась на юг России, на
Украину, и развернулась там во всю ширь.
Революционеры надеялись, с одной стороны, что открытая
борьба против правительства вовлечет в нее и народ и тем ско-
рее приведет к цели—всеобщей революции.
Другие полагали, что если даже революции не произойдет,
то террористические акты против правительства попугают его и
заставят выработать конституцию.
Итак, мы снова видим смешение самых различных взглядов,
но все сходились в одном,—что надо с оружием в руках бороть-
ся против правительства.
1878 год отмечается целым рядом политических убийств и
вооруженных сопротивлений, побегами заключенных и т. д.
Правительство отвечает виселицами и доводит до бешенства
ненависть революционеров.
К 1879 г. рождается новая идея, еще пропитанная якоби-
низмом недавних дней. Она заключалась уже не в том, чтобы на-
пугать правительство или принудить его при помощи террора
на уступки, но в том, чтобы его свергнуть при помощи государ-
ственного переворота.
Эта идея икратце резюмирует программу партии, созданную
но воле народа к концу 1879 года.
Идея политического заговора во имя государственного пере-
ворота привела поневоле революционеров к обществу и народу,
как таковым. Для переворота необходимо было иметь ближ?й-
шим помощником либералов, армию и рабочих. Надо было стать,
так сказать, национальной партией.
Мы видим, как в эту эпоху вырастает антиправительственный
союз, уничтоженный двадцать лет назад. Но остались живы
чисто террористические идеи, в основном компрометирующие
главную цель, поставленную партией. И этой идее, хотя и под-
кошенной, удалось дать на некоторое время неслыханную силу-
партии. Начинается ожесточенная борьба, заставившая прави-
тельство трепетать. Весьма вероятно, что, если либералы оказа-
лись бы тогда способными поддержать в революционерах эту
идею союза и если сами революционеры были бы пропитаны
сильнее духом государственного переворота,
правительство
было бы уже свергнуто или доведено до необходимости широких
уступок.
Я посвящаю этой борьбе с правительством несколько глав:
«Взрыв в Зимнем Дворце», «Шпионы и контршпионы» и т. Д.
Моей задачей было показать нравы, но не историю движе-
ния. Я не выбирал для моих героев наиболее выдающихся гла-
варей движения. Я выбирал тех, кто, по моему, вкратце дают
наиболее верное и живое представление о тогдашнем положении
"'
.
-
,
.
—
•
*
I
ПРОПАГАНДИСТЫ
—
Углов 1 проводит вас к Макару,—сказал мне В.— Желаю
всего хорошего.
Оба в одинаковой степени мне были почти незнакомы.
Макар " присутствовал однажды со мной на заседании нашего
кружка. Он мне понравился, хотя мы едва успели обменяться с
ним несколькими словами.
Углова я видел в первый раз- Этот очень интеллигентный
рабочий—совсем молодой, маленького роста, живой и самоуве-
ренный—возбудил мое любопытство, как ученик наших пропа-
гандистов. Для меня s это был первый живой пример их победы.
Петербургский кружок
известный тогда своими успехами
среди рабочих, во всех рабочих кварталах имел собственные
центры пропаганды, аналогичные тому, куда я теперь напра-
влялся. Несколько дней тому назад я приехал в Петербург, со-
бираясь изучить систему пропаганды.
Дорога была длинная.
Нужно было пересечь город из одного конца в другой, чтобы
добраться до отдаленного предместья за заставами.
Часа через полтора мы очутились в предместьи. Это была
широкая улица, тянувшаяся под разными названиями на протя-
жении десятка верст. Две анфилады домов окаймлялись с одной
стороны Невой, которая здесь протекает свободно, не стеснен-
ная гранитными набережными, сжимающими ее в городе. С дру-
гой стороны, сейчас же позади домов начинается широкое, боло-
тистое, совершенно
пустынное
пространство. Это — улица
фабрик. Их высокие трубы вырисовывались в беспорядке на
фоне неба с обеих сторон улицы. Прилегающие жалкие по-
стройки были переполнены рабочим людом.
Чаще всего это были простые фабричные казармы, большие
и однообразные пятиэтажные здания, выстроенные с целью дать
убежище сотням рабочих. Изредка мрачная и грязная линия
Заговорщики и полиция.
17
Этих домов прерывалась, уступая место богатому зданию того
или иного короля промышленности. Более чем часто встречались
кабаки и трактиры.
В этой-то улице, дурно вымощенной и выложенной гнилыми
досками вместо тротуара, мы и остановились перед двухъэтаж-
ным деревянным домом, почерневшим от времени и фабричного
дыма.
Пройдя загрязненный двор, мы вошли в сумрачный коридор
нижнего этажа.
—
Здесь,—сказал мой проводник, стучась в дверь.
Она не открывалась. Тогда только мы заметили замок, ука-
зывающий, что хозяев нет дома. Это было тем более досадно,
что я не имел никакого пристанища и пришел к Макару с на-
мерением у него поселиться. Разговаривая, мы подождали неко-
торое время, но Макар не приходил. Углов объявил мне нако-
нец, что он не может остаться долее.
—
Замок,—прибавил он,—мне кажется, не очень крепок; по-
пробуем взломать дверь.
Мы рассмеялись тому, что самые простые мысли приходят
в голрву последними. Сорвав жалкий замок, мы вошли.
Квартира состояла из двух комнат и кухни. Дощатые стены
были покрыты оборванными обоями. Грубый некрашеный пол
плясал под тяжестью ног.
В кухне—два-три глиняных горшка на большой русской
печи, валяющийся на полу топор, охапка дров, самовар и ведро
для воды. Спальня была заперта; в другой комнате, квадратной,
стоял простой некрашеный стол и около полудюжины разбитых
стульев. Карта России украшала стену.
Таково было мое новое жилище.
Окончив свою миссию, Углов удалился.
Тем временем явился хозяин квартиры со своей женой, по-
этическим созданием, особенно оттеняемым этой бедной до край-
ности обстановкой. Правда, бедность эта была добровольная, и
на нее обыкновенно не обращали никакого внимания.
Я помню дом за Невскою заставой;
Там жили бедность, дружба и любовь.
„
Нужда друзьям казаласн забавой,
И часто кровь их грела вместо дров...
Эти стихи одного из узников были написаны позднее в вос-
поминание об этой бедной квартире.
Но ею были довольны,—а это главное.
Достаточно было нескольких дней, чтобы мы с Макаром сде-
лались друзьями. Жена s же его была натурой менее ркспансив-
ной и более сдержанной, и мы с ней не сошлись так скоро.
Сказать, что она была красива, это было бы очень бледно. Она
представляла собой образец редкой красоты, достойной благо-
родной расы севера, сумевшей так хорошо сохранить древний
славянский тип. Темно-каштановые волосы прекрасно оттеняли
ее мраморный лоб. Черты интеллигентного лица поразительной
правильности были полны той спокойной уверенности, которая
характеризует женщин необычайной красоты. Глаза же пора-
жали выражением детской невинности. Судя по внешности,
эта женщина еще не страдала.
Их брак был необычен.
Год тому назад Надя жила у родных в далекой Вологодской
губернии. Ее отец был священник, человек довольно умный,
образованный, но очень упрямый и насквозь
пропитанный
идеями старого времени.
Надя воспитывалась в пансионе, мечтала о дальнейшем обра-
зовании, независимой жизни, служении человечеству и т. п. Все
эти «глупости» раздражали отца, который хотел видеть свою
дочь просто замужем за каким-либо солидным священником из
богатого прихода. Вечные стычки на этой почве между отцом и
дочерью были еще тем более ужасны, что вся семья дро-
жала перед главой дома, за исключением одной непокорной
Нади. Она часто жаловалась на свою грустную жизнь более
счастливым подругам, которым удалось попасть в Петербург в
высшие учебные заведения.
Наш горячий Макар, узнав о юной жертве родительского
деспотизма, кипя негодованием, предложил ее спасти.
Средство оказалось нетрудно найти,—это был фиктивный
брак, как его называли в России, случаи которого там повто-
рялись так часто, что даже выработалось это специальное вы-
ражение.
Подруги Нади написали ей об этом. Надя пришла в восторг.
У нее были, правда, некоторые сомнения относительно связыва-
ния себе рук в будущем, если бы Макар вздумал обратить этот
брак в серьезный, но тогда это показалось ей глупостями и пред-
рассудком.
Она согласилась с благодарностью.
Что же касается Макара, то он не считал этот шаг жертвой
с его стороны. Это была простая услуга, услуга, правда, довольно
неприятная, так как он должен был отправиться на край света
для освобождения незнакомой особы и к тому же играть глупую
роль жениха. Но этот брак его не свяжет и ни к чему не обяжет.
Само собой разумеется, он никогда не влюбится и не потребует
настоящего брака, как это сделал бы глупец на его месте.
2*
19
Он отравился в путь. Приезжает в дом родных Нади. Этот
молодой человек, совсем еще юноша, ибо ему было всего
двадцать один год, с красивым, симпатичным лицом, подкупав-
ший сразу искренностью и привлекательностью манер южного
человека, понравился родным. Его имя было довольно громко;
правда, его состояние не существовало больше, но оно суще-
ствовало когда-то. Наконец, за ним было будущее, он был
студент. Короче говоря, это было совсем не плохо для поповны.
Жениху удалось завоевать'симпатии отца, и его предложение
было принято.
Наиболее трудной стороной дела, как мне рассказывал
смеясь Макар, было то, что невеста была строга и неприступна,
как скала. Ни малейшего знака симпатии, хотя но распределению
ролей она должна была разыграть страстно влюбленную. До-
веряя во всем Макару, Надя однако держалась настороже и за-
мораживала его своей холодностью.
Ни одного поцелуя за все црсмя!
Однажды вечером, гуляя со своей невестой в саду и горячо
объясняя ей утилитарную теорию Бентама, Макар заметил, что
ее мать следила за ними из-за спущенной шторы окна. Тогда,
внезапно охваченный дурачеством, он начал целовать свою
руку, задыхаясь от смеха и повторяя:
—
О, как я люблю вас.
ІІадя нахмурила брови.
—
Простите,—возразил он,—но разве я не имею права це-
ловать свою собственную руку?
—
Прекратите это, Макар, я предпочитаю
видеть вас
серьезным.
А бедная мать часа два спустя делала Наде строгий выговор
по поводу се легкомыслия и неблагоразумия.
Назначили свадьбу, посыпались поздравления. Но Макар,
продолжая разыгрывать счастливого человека, не знал, какому
святому молиться, чтобы наступил конец этой комедии.
Прежде всего, он мало-по-малу начинал чувствовать свое
сердце пораженным в этом опасном соседстве красоты, в кото-
рой соединялись е большим очарованием тонкий ум и кри-
стально чистая душа. Он делал мучительные усилия, чтобы за-
глушить это зарождающееся чувство, которое при настоящих
обстоятельствах могло быть принято да измену.
Но и без этого жизнь становилась для него все более невы-
носимой. Им отвели одну комнату с единственной кроватью. Он
должен был ложиться на полу, со всевозможными предосторож-
ностями, чтобы родные не смогли заметить странности этого
медового месяца. Ложась спать, он не смел раздеваться. Часы,
проводимые им наедине со своей «женой», были более чем пе-
чальны, так как она едва разрешала ему разговаривать, более
строгая, чем обычно.
Наконец, все свадебные торжества были отпразднованы, су-
пруги уехали.
—
Макар,—начала Надя, едва родительский дом исчез за
ними,—я должна вас поблагодарить. Вы оказали мне услугу, ко-
торую я, конечно, никогда не забуду. Более того, я должна при-
знать, что вы исключительно чевтный человек и очень искусно
все это проделали. Но мы всегда останемся чужими друг другу.
—
Но я и не желаю ничего другого,—ответил Макар, пода-
вленный.
Решительно это злоупотребление предосторожностями пе-
реходило границу. К чему эти призывы к порядку, когда он и
не думал его нарушать? Вот и прекрасная награда за все его
старания скрыть свои чувства. Макар почувствовал себя глу-
боко оскорбленным.
Приехав в Петербург, они немедленно расстались.
Он старался забыть свою жену, отдаваясь с удвоенным усер-
дием любимому делу—рабочим и своему кружку.
Надя уехала в провинцию, где нашла себе место учитель-
ницы.
Три или четыре месяца спустя она получила письмо от мужа,
в котором он уведомлял, что послал родным печальное известие
о ее преждевременных родах.
&
Надя кратко ответила, что он хорошо сделал.
Протекли шесть месяцев. Макар должен был куда-то уехать
по поручению кружка. Путешествие привело неподалеку от
места жительства Нади. Желание ее увидеть сильно его охва-
тило. Напрасно себя упрекая, он прервал свой путь и сделал
круг, чтобы заехать к жене. Он ожидал увидеть изумленное и
строгое выражение лица, может быть услышать упреки, но был
принят самым дружеским образом. Смущенная, но сияющая
ІІадя делилась с ним своими впечатлениями о деревенской жиз-
ни, показала ему школу, рассказывала о крестьянских знаком-
ствах.
-л»
Удивленный и очарованный, он прожил в деревне один день,
потом второй, третий. На этот раз он вооружился всем своим
хладнокровием, чтобы не испугать ее вновь, и заявил наконец,
что должен уехать. Она, казалось, была огорчена.
На следующий день, дрожа и обливаясь слезами, Надя ему
заявила, что она его любит и не сможет без него жить.
Странная вещь женское сердце! Может быть, она его лю-
била еще в родительском доме!
Как бы там ни было, они жили с тех пор вместе, полные
нежного чувства, как два голубя. Это чувство пережило и долгие
годы разлуки и все испытания судьбы.
Когда я поселился у Макара, начался период дождей. Наше
предместье было отделено от Петербурга несколькими верстами
чрезвычайно грязной дороги, по которой нам приходилось хо-
дить только пешком. Нас посещали поэто.му не очень часто, и
мы, в свою очередь, ходили в город очень редко. Таким образом
наше обычное общество составляли только рабочие.
Колония наша состояла из пяти человек; двое товарищей за-
нимали отдельную квартиру неподалеку, и мы виделись с ними
ежедневно. Таким образом мы не составляли одной семьи, но
и не были гостями друг у друга и потому не могли доставить
себе большого развлечения. Однако наша изолированная жизнь
не была скучна. Всегда занятые, всегда за работой, в движении,
мы не замечали, как проходили дни.
Мы вставали очень рано, и так как было холодно, то спешили
разогреть самовар. Я лично прежде всего должен был освобо-
дить от матраца стол, на котором спал.
Если у нас кто-либо оставался ночевать, я уступал занимае-
мый мною «второй этаж» и устраивался, как мы говорили, в
«нижнем этаже», то-есть под столом; место, занимаемое столом,
было лучше других защищено от сквозного ветра. Спать под ним
было удобно, но зато здесь всегда лежала кучами грязь, кото-
рую ежедневно натаскивали десятки грубых сапог.
На этом же столе мы пили чай и обедали.
После чая необходимо было более или менее убрать комнаты;
время от времени мы даже мыли пол. Потом следовало подгото-
виться к вечеру, когда обыкновенно являлись рабочие, приго-
товить заранее кой-какие простые физические аппараты, не-
большие химические опыты и так далее.
Я посвящал тогда много времени своим первым литератур-
ным опытам. Мне казалось, что я могу писать для народа, по-
этому я внимательно изучал язык рабочих и писал небольшие
рассказы, которые тут же потом читал. Следя за впечатлением,
произведенным на мою аудиторию, я делал украдкой заметки
и поправки, стараясь уловить народный оборот речи.
Макар и его жена много времени посвящали своему образо-
ванию. Это не было простым времяпровождением, а предста-
вляло для них серьезную цель. Чаще всего они читали вместе.
Я был много более образованным, чем мой друг и его жена, и
мне была известна большая часть работ, которые они читали,
но я с жаром принимал участие в обсуждении с ними всевоз-
можных научных вопросов.
Наши товарищи из другой квартиры и наши гости также
присутствовали при этих диспутах, которым мы придавали
очень большое значение.
Иногда мы читали что-нибудь вместе, например, социали-
стическую газету «Вперед», которая выходила за границей ".
Время от времени мы должны были являться на заседания
нашего кружка в Петербурге. Эти заседания также имели для
нас огромную важность, так как там составлялась программа
кружка. До этого времени не существовало еще никакой сколь-
ко-нибудь обязательной программы. Мы не имели никакого ста-
тута, который бы регламентировал нашу организацию и наши
взаимоотношения. Мы скорее составляли кружок друзей, симпа-
тизировавших друг другу и случайно занимавшихся приблизи-
тельно одним и тем же, нежели тайное общество.
Такое положение вещей до сих пор удовлетворяло всех, так
как каждый из нас скорее был занят своим личным совершен-
ствованием, чем каким-либо политическим делом. Если мы и за-
нимались пропагандою, то и это было скорее случайностью, ре-
зультатом личного нашего желания, чем каким-либо обязатель-
ством. «Обязательство!» Одно только это слово само по себе
уже возбуждало в то время всеобщее отвращение!
Тем не менее наш кружок однажды исключил из своего со-
става одного члена (человека, впрочем, выдающегося), который
имел несчастье поухаживать за одной молодой девушкой, не
порвав еще старой связи, которая его тяготила, но освободиться
от которой у него не было сил. Боже мой! Сколько порицания
возбудила против себя такая «безнравственность» 7.
Другому члену решением кружка было предложено остаться
с рабочими, тогда как ему хотелось уйти в иное место. Он все-
таки ушел, и кружок не пошевелился, чтобы его удержать.
Эти примеры прекрасно рисуют настроение, господствовав-
шее в нашем кружке. Дружеские отношения, связывавшие его,
оказывались достаточными и для управления им.
Но времена менялись. Кружок расширился, и одной только
дружбы, как цементирующего элемента, становилось недоста-
точно. Цели чисто политического характера обрисовывались
все более и более ясно во всей их беспредельности, и скоро
стало необходимым составить и отредактировать устав.
Вопрос о конституции очень оживил наши диспуты в пред-
местьях, и мы должны были не мало воевать по этому поводу
в нашей штаб-квартире, как мы шутя называли свое обиталище.
Программа будущей конституции была составлена в духе край-
него анархизма 8. Анархия в то время была свежею новостью,
она имела огромный успех. Были ли мы на самом деле анархи-
стами? Я не думаю, но неясные формулы анархизма прекрасно
импонировали неопределенности наших чисто
политиче-
ских идей.
Однако среди нас было несколько действительно убежден-
ных анархистов; другие же довольствовались неясными мечта-
ниями о будущем, об абсолютной свободе, о безграничном
братстве, о всеобщем счастьи. Но это была еще далеко не про-
грамма, это была скорее мечта, заменявшая для нас утраченную
веру в «будущую жизнь».
Что касается до настоящей программы, то, по правде ска-
зать, у нас се не существовало вовсе. Даже когда она была уже
написана, мы все еще продолжали ее искать. Само собой разу-
меется, я говорю только о большинстве.
Но возвратимся к нашему предместью.
Обед не отнимал у нас много времени, тем более, что ча-
стенько его не было вовсе, и мы довольствовались селедкой,
кислой капустой, редькой... Последнюю мы поглощали в огром-
ном количестве. Иногда мы доставали студень, и, приправлен-
ный уксусом, при наличии достаточного количества хлеба, он
составлял весь наш обед. Но чаще всего мы все-таки себе что-
нибудь приготовляли, например, яичницу, суп, макароны; вина
и прочих спиртных напитков мы никогда не пили, но зато чай
у нас бывал в течение дня по нескольку раз.
Хозяйством и кухней занимались всегда мужчины. ІІадя ни-
чего не понимала в этой области и если начинала, например,
мести комнаты, мы всегда поднимали крик, потому что, страшно
близорукая и рассеянная, она всегда выбрасывала в огонь или
помойницу наши бумаги, заметки, табак,—словом все, что
имело несчастье попасть ей под руку.
Вечером приходили рабочие. Для них, как и для меня, на-
ступал час урока: ведь я явился сюда с целью изучить искус-
ство и приемы пропаганды.
Задача пропагандиста тогда разделялась на две части.
Прежде всего нужно было найти рабочих, то-есть завести
с ними знакомства. В том случае, если готовых знакомств не
имелось, задача осложнялась, так кйк выискивать предлоги для
знакомств было очень трудно. Кабачки и трактиры для этой
цели не годились, ибо в них собирались обычно далеко не са-
мые лучшие представители рабочего класса и притом эти мимо-
летные знакомства не позволяли сколько-нибудь сериозно изу-
чить человека. Пр ѵдпочтитслыіее было искать знакомства пу-
тем рекомендации со стороны уже известных нам рабочих либо
на родине, либо в каком-нибудь другом городе. Чтобы приобре-
сти знакомства среди рабочих в Москве, например, брали реко-
*
мендации в Петербурге, где недостатка в этом не было, ибо про-
паганда предшествовавших лет установила известное количе-
ство связей между интеллигенцией и рабочими.
В Петербурге наш кружок имел своими членами уже сотни
рабочих, но этого было нам еще недостаточно, и вот, чтобы
увеличить наши связи, некоторые товарищи поступили на раз-
личные фабрики в качестве простых рабочих. JB предместье мы
имели много преданных нам людей, однако ненасытный Макар
продолжал подыскивать новых. Будучи чрезвычайно общитель-
ным, он обладал секретом внушать каждому симпатию и дове-
рие с первого же момента. Знакомства у него завязывались
очень легко. Иногда он бывал неосторожен. Так, например, он
очень долго подыскивал рекомендации и без успеха старался
проникнуть на одну фабрику.
—
Больше ждать не буду,—решил он однажды в нетер-
пении.
Захватив несколько нелегальных брошюр, он отправился на
эту фабрику. Рабочие жили здесь в особых казармах, при-
надлежащих фабриканту, были всегда под надзором и вели
строго регламентированную жизнь. После 8 или 9 часов, не
помню точно, дверь была уже заперта. Макар позвонил.
—
Чего тебе?—спросил его дворник.
—
Повидаться с земляком.
—
Поздно пришел, теперь не пускают.
Предполагаемый земляк был один рабочий, которого Макар
знал только по имени и к которому у него не было никакой ре-
комендации. Тем не менее он упрашивал дворника пропу-
стить его.
—
Я целый день занят на работе и могу прийти повидаться
только вечером.
Дворник оставался неумолимым, а Макар настаивал и ру-
гался, пока, наконец, не победил его упорство. Дворник от-
крыл двери.
—
Эй, такой-то, — крикнул он.
—
К тебе пришел
твой
земляк.— И он возвратился на свое место.
Макар прошел к рабочим в довольно обширную залу, обста-
вленную простыми досками на деревянных подпорках, заме-
нявшими для рабочих кровати. Они уже собирались спать и
расстилали на нарах свои мешки и тряпки, вместо матрацов.
Около сотни рабочих кишело в этой комнате, скудно освещен-
ной огарками свеч, зажженных там и сям. Воздух был очень
тяжелый.
Земляк прибежал живо: всегда ведь радуешься встрече с че-
ловеком из своих мест. Макар разочаровал его и очень удивил.
Он вынужден был объяснить, что земляк-то собственно не
он, но что он хорошо знал многих его земляков и, кроме того,
он очень интересуется жизнью рабочих, что, одним словом, он
желает с ними познакомиться.
В течение нескольких минут положение было довольно глу-
пое. Удивленные рабочие окружили нашего друга, не зная, что
и подумать о нем. Макар не смутился.
—
Я школьный учитель, но без места,—объяснял он. —
Те-
перь я даю уроки, и уже много рабочих научились у меня читать
и писать.
Это объяснение значительно сгладило трудность положения.
Очевидно было, что этот странный человек зарабатывал на
жизнь собственным трудом и потому-то, вероятно, искал зна-
комства среди рабочих.
Через несколько минут Макар уже чувствовал себя пре-
красно и беседовал с рабочими самым дружеским образом
Это смелое приключение могло бы и закончиться на этом.
Но некоторые рабочие показались Макару такими симпатич-
ными, что он совсем забылся. Сперва он поднял щекотливый
вопрос о заработке, о хозяевах и кончил тем, что вытащил из
кармана свои книжки и принялся читать их и объяснять.
—
Да ведь на вас завтра же донесут,—вскричал я, когда он
мне рассказал о всем происшедшем.
—
Да, это было непредусмотрительно. Но что же делать?
Рано или поздно донесут же на меня! Но это вышло глуповато...
Таков был этот очень способный, но неблагоразумный чело-
век. Это однако не мешало ему быть чрезвычайно ловким про-
пагандистом.
Раз знакомства с рабочими были установлены, пропаганда
являлась очень простым делом. Это просто-напросто были
курсы для взрослых. Предлагали рабочим научить их читать
и писать, на что каждый из них соглашался. Но ради чего дава-
лись уроки даром?
Этот вопрос удивлял каждого и вынуждал нас давать более
или менее туманные объяснения, а иногда и вполне ясные.
Если рабочий был хорошо знаком и не внушал никаких по-
дозрений, ему откровенно говорили: ложь и несправедливость
царствуют в мире, и такой порядок вещей окончится лишь
тогда, когда народ будет достаточно образован и сможет сам
управлять собою; мы стремимся помочь такому преобразованию.
Если в рабочем сомневались, ему говорили кратко, что мы
желаем быть полезными народу и потому посвящаем ему наше
время.
Я с удовольствием вспоминаю эти вечера. Наш стол посреди
комнаты освещался двумя или тремя керосиновыми лампами;
человек пятнадцать рабочих
усаживались вокруг него на
стульях, ящиках или поленьях, некоторые оставались в другой
комнате. Их верхнее платье, брошенное на пол, занимало весь
угол комнаты.
Рабочие брали у нас всевозможные уроки: одни только на-
чинали учиться читать и писать, другие были поглощены реше-
нием математических задач. Мы—профессора—не имели ни
минуты отдыха. Одни из наших учеников не знали ровно ни-
чего; другие умели читать, но ничего не понимали из прочитан-
ного, третьи прекрасно читали, но не имели никакого предста-
вления об арифметике; наиболее успевающие уже изучали
географию и т. д. Нам приходилось таким образом давать одно-
временно несколько уроков. Я, например, диктовал арифмети-
ческую задачу одному рабочему и в то время, пока он решал ее,
показывал буквы другому. Затем я выбирал такого, который
умел уже читать, и заставлял его следить за этим вторым
уроком.
Направив таким образом занятия первых, я обращался к но-
вым и объяснял им географическую карту и т. д. По правде
говоря, руководил этими занятиями Макар, а я был только его
ассистентом, хотя и сам уже имел достаточный педагогический
опыт.
Никогда у меня не было таких старательных учеников, как
эти рабочие. Трудились они много, и заниматься с ними было
истинным наслаждением. Интересовало их решительно все.
—
Ну,—вскричал один, после того как внимательно выслу-
шал мое объяснение о пропорциях,—значит можно сосчитать,
сколько нужно сделать шагов, чтобы пройти из нашей деревни
до Питера?
Он положительно был счастлив от своего открытия и тут же
начал свои исчисления, а спустя несколько минут торжественно
объявил аудитории:
—
Чтобы пройти от нас до Питера, нужно передвинуть но-
гами столько-то миллионов раз.
—
В деревне этому не поверят, скажут: «Как это можно
узнать?» Никто бы и не захотел считать шагов, да и нет на это
времени: в дороге есть о чем подумать и помимо того.
Я вызвал всеобщий энтузиазм, вычислив высоту комнаты
посредством геометрического построения.
Пользуясь аналогичными случаями, мы объясняли нашей
аудитории, каким образом измеряют, например, расстояние
между землей и солнцем и пр.
В связи с физическими и химическими опытами нас всегда
спрашивали о чертях и тысячах фантастических существ, насе-
ляющих поля и леса.
—
Значит, блуждающие огни это есть явление фосфорес-
ценции?
—
Значит, леший—это не больше как наша тень, или что-то
похожее на тени волшебного фонаря?
Мы объясняли; вся аудитория оставляла карандаши и перья.
Говорили о чудесах, о святых и так далее.
Наши уроки не отличались систематичностью, но они упра-
жняли умственные способности учеников, которые в общем де-
лали большие успехи. Каждый из них помогал слабейшему, и
это облегчалось тем, что мы снабжали их книгами с соответ-
ственными указаниями, где нужно искать сведений для освеще-
ния того или иного вопроса.
Те, которые не умели читать, были так заинтересованы
огромным миром науки, который приоткрывался перед ними,
что проводили у товарищей целые ночи, горя нетерпением как
можно скорее научиться читать.
Но всем нашим ученикам нужно было работать на фабрике
от 12 до 14 часов в сутки. После одно-или двухчасового урока
видно было, что аудитория утомлялась. Время от времени раз-
давалось такое замечание:
—
Обождите минутку,—нужно мозги прочистить.
Это значило, что ученик захотел выкурить папиросу. Тогда
Макар предлагал чаю и начинал беседы общего характера, или
предлагал что-нибудь прочесть. Нередко и сами рабочие про-
сили его об этом.
—
Ну, дружище Макар, прочти-ка нам что-нибудь... Мы не-
много утомились.
Макар читал очень хорошо, особенно юмористические вещи,
и слушатели покатывались со смеху. Иногда он выбирал от-
рывки из жизни рабочих и крестьян, часто читались полити-
ческие статьи из газет, какие-нибудь рассказы и так далее.
Книг чисто революционного содержания, мне кажется, мы
никогда не читали рабочим. Да это было бы и бесполезно, так
как и литературное чтение всегда давало повод для самых во-
одушевленных бесед, которые волей-неволей приводили к поли-
тическим и социальным вопросам, как положение народа, жен-
щин, обязанности детей и родителей, армии, министров и пр.
Я полагаю, никого не удивит, если я скажу, что не было
нужды вызывать рабочих на эти разговоры, наоборот, они сами
приводили к ним своего собеседника. Но мы тогда уж ничем не
смущались, говорили вполне откровенно обо всем, включая и
вопрос о революции. Мы говорили даже о надзоре и преследо-
вании, которым подвергаются люди, посвятившие себя просве-
щению народа; мы предупреждали рабочих, что и нас когда-
нибудь внезапно посетит полиция, быть-моягет, мы будем аре-
стованы, и что у них могут сделать обыск.
Уже совсем поздно вечером рабочие расходились, пожимая
нам руки и благодаря нас. Утомленным, но довольным, нам оста-
валось только приготовить свои постели и крепко уснуть.
Я могу сказать с удовлетворением, что позднее, когда на-
стало время преследования, наши рабочие показали себя
вполне достойными людьми. Правда, они не были настолько
ловкими, чтобы противостоять всем хитростям допросов, но
между ними не оказалось ни одного, которого можно было бы
назвать бесчестным или изменником.
Были ли они убежденными социалистами и революционе-
рами? Конечно, нет.
Среди целых сотен рабочих, находившихся под влиянием
пропаганды нашего кружка, разве небольшое число, всего ка-
ких-нибудь 20 человек, сделалось действительно убежденными
социалистами. Это были очень образованные рабочие, которые
проходили у нас в кружке политическую экономию, очень много
читали, которым удалось сделаться почти равными нам по об-
разованию. Общая же масса была только затронута, так сказать
пробуждена.
Их ум, спавший до тех нор, начал работать, думать, крити-
ковать. И это было началом того движения, о'которое разбива-
лись все преследования последующих лет. Это движение все
возрастало, даже независимо от возглавлявших его, и создало
в конце-концов рабочую революционную массу.
Уверяют, что Халтурин, этот энергичный организатор рабо-
чего класса, этот вполне установившийся революционер, произ-
ведший взрыв в Зимнем дворце, вышел из нашего предместья,
что он знал нас и испытывал на себе некогда наше влияние. Нб
в то время он был настолько незначителен и незаметен, что я
не могу даже припомнить его имя.
Как очевидец, я должен сказать, что у нас, в нашем пред-
местье, пропагандисты не старались во что бы то ни стало ни
отстранить своих воспитанников от социалистических теорий,
ни навязывать их. Мы не скрывали собственных убеждений, но
были всегда очень снисходительны к возражениям и сомнениям
слушателей. Мы старались всегда заинтересовать рабочих со-
циальными проблемами, внушали им, что люди могут управлять
социальными явлениями.
Несправедливость современного строя в России для них
была даже яснее, чем для нас. Но каковы же были средства,
чтобы выйти из этого положения?
Мы часто говорили о царе; рабочие сами начинали эти раз-
говоры, так как они достаточно долго уже жили в Петербурге,
чтобы знать о царе многое, не очень лестное для него. Кре-
стьянская точка зрения, что царь всегда стоит за народ, исчезла
у них очень скоро. Они сами рассказывали несколько случаев о
несчастных ходоках, посылавшихся их земляками к царю с жа-
лобами. Царь не обращал на них внимания, и судьба этих ходо-
ков всегда бывала очень плачевна.
—
Говорят, что дворяне мешают царю прийти к нам на по-
мощь,—замечали рабочие. —Но ведь около него всегда есть
стража; если бы он сказал только одно слово солдатам, они су-
мели бы помочь ему против дворян и офицеров.
—
А если царь вовсе не стоит за народ, что же тогда де-
лать? Разве революцию?
—
Знаете ли,—заявил нам как-то Ефим 10, один из наших
рабочих,—знаете ли, революция—это дело очень трудное. Наш
народ ненавидит администрацию и полицию, но он и боится
их. По-моему,—прибавил он ироническим тоном,—есть только
один способ произвести революцию: в один прекрасный день
надо забрать все кабаки и открыть их народу бесплатно. Это
будет великолепно. Тогда все наберутся храбрости и осмелятся
сделать то, что втайне желают.
Ефим тогда только начинал читать, но был очень умен. Это
был веселый малый, полный сил; никто не мог предположить,
что всего через несколько месяцев он умрет.
Это произошло в период преследований. Все мы были в
тюрьме; он также был арестован. Умирая, он завещал товари-
щам, окружившим его постель:
—
Не оставляйте начатого дела; это дело справедливое,
берегите его.
Но в чем же оно заключалось? Для рабочих несколько
пунктов были достаточно ясны. Прежде всего, земля должна
принадлежать крестьянам; нужно, чтобы правительство отно-
силось по-человечески к народу; нужно, чтобы народ был об-
разован, просвещен. Тогда все пойдет хорошо, тогда не будет
богатых скупщиков, которые эксплуатируют рабочего. Значит,
нужно проповедывать народу истинные принципы справедливо-
сти, нужно просветить его.
Все это приводило нас к пропаганде.
Среди наших рабочих был один уже достаточно пожилой,
лет около сорока
Мы научили его читать и он читал очень
охотно. По виду это был настоящий крестьянин, очень скром-
ный; слушал всегда во сто раз больше, чем говорил, потому
что при разговоре с трудом находил нужные выражения; всегда
казался спокойным и флегматичным. Он никогда не выходил
из себя, даже когда говорил о волнующих вещах. Я не предпо-
лагал встретить в нем человека с установившимися убежде-
ниями. И как же был удивлен впоследствии, встретив его в
тюрьме! Оказалось, что человек этот целиком посвятил себя
пропаганде. Он был арестован, но вскоре освобожден и снова
занялся усиленной пропагандой, что опять привело его к аре-
сту, который на этот раз окончился для него каторжными рабо-
тами. Его судили. Со своим обычным спокойным видом он объ-
явил, что протестует против исключительного суда и поэтому
совершенно отказывается отвечать на вопросы судей.
Он и знаменитый Петр Алексеев " были единственными ра-
бочими, протестовавшими на суде.
Но революционные убеждения не всегда вкоренялись в на-
ших рабочих.
Был у нас любимец, некто Филипп 13, очень молодой парень,
большой энтузиаст, добивавшийся ИСТИНЫ, справедливости, с
темпераментом истового мученика. Если он во что-нибудь ве-
рил, то верил беззаветно. Раньше он был очень религиозен; те-
перь его вера была значительно подорвана, но в известной мере
он оставался все-таки верующим. Мы в конце-концов были до-
вольны этим обстоятельством, так как оно указывало на чело-
века, который ни к чему не относится легкомысленно, и, обучая
его естественной истории, старались щадить свободу его совести.
Мы ему сказали однажды:
—
Мы не верим в бога, ты веришь в него. Это твое дело:
верь, если тебе это нравится.
И после этого мы никогда уже больше не поднимали подоб-
ных разговоров, хотя были с ним и не согласны.
Что же касается пропаганды и даже революции, то Филипп
был одним из наших лучших учеников. Как человек нетерпе-
ливый и энтузиаст, он делал не мало ошибок. Он протестовал
против хозяев, против малейшей несправедливости, упрекал то-
варищей за излишнее терпение и, несмотря на свою молодость,
был вождем на своей фабрике. Когда его арестовали, он не
скрыл своих взглядов. Перед судом он вел себя как человек,
убежденный и гордый своими убеждениями.
В Петербурге в это время была одна высокопоставленная
дама, очень умная, верующая христианка и большая филан-
тропка. Она затрачивала не мало труда, чтоб оказать какую-
нибудь помощь политическим заключенным и в то же время
чтобы обратить их к истинной вере. С этой целью она часто
посещала заключенных в тюрьмах и между ними Филиппа. Оп
мужественно защищал свои революционные убеждения, но
в то же время признал себя верующим...
—
Не хотите ли вы,—сказала она ему,—чтобы я доказала
вам с Евангелием в руках, что вы—только грешник, который
совсем забыл божественные законы?
Филипп принял вызов. Даме было не трудно доказать его
греховность, и Филипп скоро был разбит.
После некоторого размышления он попросил вызвать себя
на допрос; тут он бросился в ноги прокурору и молил о про-
щении за совершенные им многочисленные преступления.
—
Я должен быть наказан,—объявил он,—но я хочу помочь
вам помешать распространению зла.
И он дал самые подробные показания, выдал Макара, к ко-
торому был страстно привязан, и рассказал все, что знал, все,
что сделал!
Несчастный! Мне очень жаль, что я почти ничего не знаю
о нем после этого. Его, конечно, сейчас же выпустили на сво-
боду, но сохранил ли он спокойствие духа, совершив свой от-
вратительный поступок, или впоследствии его обуревали сом-
нения? Я знаю только, что он умер вскоре в своей деревне.
Этот случай в свое время сильно огорчил меня. Но жизнь
пропагандиста часто богата еще более тяжелыми переживания-
ми. Ведь Филипп, сделавшись доносчиком, следовал своим по су-
ществу все-таки честным убеждениям.
Как описать, например, то необычайно горькое чувство, ко-
торое испытываешь, сталкиваясь в народной жизни с проявле-
ниями низости и грубости, таких далеких от того идеала, кото-
рый проповедуешь этому народу.
Я помню, однажды к нам прибежал один из наших учеников,
рабочий Никифор, лет 20— -21. В описываемый момент он был
ужасен: пьяный, окровавленный, в разорванном тулупе, он тя-
жело опустился на стул. Я был один дома.
—
Что такое с вами?
Он задыхался.
—
Подлецы!.. Негодяи!.. Я их обязательно зарежу!..
Он жил в Петербурге со своим старшим братом в артели
земляков. Брат, артельный староста, думал по-своему исполнить
свой долг по отношению к младшему брату, подвергая его стро-
гому надзору. При этом, конечно, не могло быть сомнения в том,
что он прижимал его и даже частенько оскорблял. Никифор
особенно жаловался на то, что старший брат всегда удерживал
его жалованье, выдавая ему гроши на личные расходы.
—
У тебя есть все, что тебе нужно: пища, одежда. Какого
еще тебе лешего? А нам надо посылать деньги в деревню за
землю да для уплаты податей.
Никифор протестовал.
—
Я ем—это правда; но лучший кусок всегда берет он, да
и наши общие деньги он тратит на свои личные нужды.
Трудно сказать, кто из них был прав. В этот вечер Ники-
фор, совершенно пьяный, осмелился нанести оскорбление сво-
ему брату, который в свою очередь раскричался и пообещал от-
колотить его. Никифор вне себя схватил нож и бросился на
брата.
Сбежалось несколько
товарищей — членов той же
артели—и со старшим братом во главе стали учить
по-
рядку бунтовщика. Они так жестоко избили его, что он вы-
рвался из их рук весь окровавленный, с разбитым лицом, оста-
вив в их руках несколько клочьев одежды, и прибежал ко мне.
Качаясь на стуле, он плакал и, не переставая угрожать брату,
обратился ко мне:
—
Скажите, разве я не прав? Будьте нашим судьей... Вы мне
говорили, что нужно протестовать против эксплоататоров. Мой
брат меня эксплоатирует, разве я не должен его прикончить?
С пьяным человеком спорить невозможно.
—
Нет, объясни мне,—настаивал он,—я хочу знать, прав ли
я... Он мой эксплуататор? Что я должен с ним сделать?
—
Ну, если ты хочешь знать мое мнение: ты не смеешь
убивать брата.
—
Как? После всего того, что он мне сделал?
Он был искренно изумлен... А я чувствовал себя подавлен-
ным и разбитым.
Скоро Никифор заснул под столом, куда он свалился, но я
уже не мог спать всю эту ночь. Эти братья, эксплуатирующие
друг друга и готовые взаимно перерезать друг другу горло;
эта артель, поддерживающая порядок таким прекрасным и
справедливым способом; этот бедный Никифор, так ловко пере-
толковывающий нашу программу,—все это проходило перед
моими глазами и висело надо мною каким-то кошмаром.
Никифор ушел очень рано, прежде чем все мы успели встать
с постели. Некоторое время после этого он совсем не показы-
вался. Наконец, пришел смущенный и сконфуженный, едва
осмеливаясь поднять на меня глаза: в сущности он не был
настолько виновен, насколько казался таковым.
<1 Зигоиоріцики И ПОЛИЦИЯ.
II
АРЕСТ
11 ноября 1873 года я шел по Казарменной улице к Сер-
гею
чтобы сообщить ему резолюцию нашего собрания по по-
воду специального рабочего кружка.
Сергей почему-то не мог присутствовать на собраниях, где
этот вопрос чрезвычайно оживленно обсуждался.
Преобладающим мнением в кружке было то, что русские
рабочие, даже самые лучшие, слишком мало развиты, слишком
мало подготовлены для сериозной организации. Это было убе-
ждением тех из нас, которые хорошо знали рабочих и которые
в общем были людьми практическими.
В кружке были однако два-три теоретика,—к ним относился
и я,—которые держались обратного мнения.
—
Это—отсталость от жизни, удвоенная предубеждением
интеллигенци и,—говорили мы и решили сорвать решение.
Я не помню, кто из нас—возможно, я сам—смело предло-
жил принять в наш кружок одного рабочего... Это была уже
революция. Все кричали и единогласно высказывались против
предложения, и только двое из нас поддержали его.
Мы были разбиты, но, чтобы реабилитировать себя, мы в
духе примирения, характерном для нашего кружка, выставили
более умеренное предложение: организовать смешанную груп-
пу, составленную частью из рабочих, частью из интеллиген-
ции. Эта группа должна была находиться в «федеративных от-
ношениях» к нашему кружку, говоря языком эпохи.
Этот проект встретил опять не малую оппозицию, но все же
меньшую, и так или иначе, но был принят. Скептики махнули
рукой.
—
Ну, ладно, поживем—увидим, не поведет ли это к дур-
ным последствиям.
Именно это окончательное решение я шел сообщить Сер-
гею, который был избран в состав организующейся группы.
Давно уже мне не приходилось бывать на Петербургской
стороне, и я шел туда сегодня с тяжелым чувством, какое я на-
чинал испытывать довольно часто. Я предчувствовал, что мы
накануне очень тяжелых испытаний. Прежде всего, чем более
сериозно и решительно начинал действовать наш кружок, тем
больше в нем проявлялось несогласий и столкновений противо-
положных мнений. Сможем ли мы долго продержаться вместе?
Эта мысль была для меня очень тягостна, потому что нити
искренней дружбы связывали меня с теми людьми, которые
мыслили иначе и чьи принципы теперь расходились с моими.
С другой стороны, полиция там и сям выказывала по отно-
шению к нам явные признаки враждебности, и это доказывало,
что наши действия более или менее открыты. Некоторые из нас
были уже арестованы. Николай, мой ближайший друг в нашем
кружке, разыскивался с таким усердием, что обыскивались це-
лые улицы в студенческом районе, в предположении, что он
там скрывается. Кравчинский15 также должен был скрыться,
благодаря арестам, произведенным в артиллерийской школе,
где нашли следы его пропаганды. Леонид 1в, тоже разыскивае-
мый, считал небесполезным изменить свою физиономию: он
побрился.
Я знал, что и меня искали.
В провинции тем временем уже было произведено несколько
арестов.
На Казарменной улице наши товарищи несколько раз вы-
слеживались шпионами вплоть до нашей штаб-квартиры. Обыск
казался нам столь вероятным, что мы изобрели особый знак
безопасности,
который каждый должен был заметить,
прежде чем войти в квартиру. Впервые в моей жизни я услы-
шал о такой конспирации.
Приближающаяся буря волновала почти так же, как вол-
новала бы уже разразившаяся. В иные минуты я с негодова-
нием замечал, что я боюсь. Эти минуты, правда, проходили бы-
стро, но на душе всегда оставалось предчувствие неизбежной
беды. Я, как очень многие, был полон наследственного предрас-
судка русского общества, которое считает свое правительство
всемогущим. Торжество моих идей представлялось мне реаль-
ным только в отдаленном будущем, на много лет позднее нашей
неминуемой гибели. Я полагал, что для нас дело было не в окон-
чательной победе, а в более или менее продолжительном про-
тиводействии нашим врагам.
Эти мысли и страхи копошились в глубине моей души, ко-
гда я пробирался по снежным сугробам пустынных улиц Петер-
бургской стороны.
3*
35
Было очень холодно: мои грубые, порванные сапоги и изно-
шенное пальто очень плохо защищали меня от пронзительного
ветра. Нужно было перейти Неву. В этот день впервые было
разрешено ходить по льду. Северный ветер пробирал меня и
моего спутника Леонида до костей.
Беседа с Леонидом развлекла меня. Не знаю, был ли он в
действительности большим скептиком, чем я, но во всяком слу-
чае он всегда шутил и зубоскалил.
Когда мы проходили мимо Третьего отделения1',
он шутя
предложил:
—
Не хотите ли сделать визит m-lle Marie?18. Еще не очень
поздно.
М-11е Marie, член нашего кружка, в самом деле находилась
в Третьем отделении, так как была арестована.
Несколько часов спустя я вспомнил его пророческую шутку.
На этом мы расстались с Леонидом; он пошел на один край
света, я—на другой.
Рабочее предместье, к которому я направлялся, было по-
истине краем света. После утомительного и долгого пути в не-
сколько верст я наконец добрался до цели.
Чем более я подвигался вперед, тем более возрастало мое
беспокойство. Эти хорошо известные мне места, толпа рабочих,
входивших и выходивших из кабаков,—все указывало мне на
крайнее неблагоразумие моего путешествия. Меня искали, а я
шел в ту часть города, где сотни рабочих, дюжина кабаков—
место наших свиданий с рабочими—слишком хорошо знали
меня. Тем не менее, надо было двигаться вперед.
Сергей жил в прежнем доме, но он переменил квартиру. Но-
вая была не лучше первой; это была настоящая крестьянская
изба: две комнаты, разделенные бревенчатой
перегородкой,
деревянные стены, покрытые обрывками почерневших, плохо
приклеенных обоев, грязные, как тротуары, полы; ветер, сви-
стящий в плохо пригнанных окнах. Два простых стола и не-
сколько плохо обтесанных деревянных скамеек— - служили ме-
белью; несколько хромых стульев и две железные кровати—
дополняли обстановку. Дым и грядь от сапог делали воздух
очень тяжелым; но было довольно тепло.
Я застал Сергея одного; его жена еще не возвратилась из
города, куда она пошла навестить свою подругу.
Сергей, очень задумчивый, рассказал мне, что он уже очи-
стил свою квартиру от всяких брошюр и прочей нелегальщины
в виду неизбежного обыска.
Оставаться было небезопасно: я был известен всему пред-
местью,—в этом не было никакого сомнения. Но погода была
ужасная, я страшно устал... и притом уже пробило семь часов.
Не имея определенной квартиры, я ночевал то там, то сям.
Куда бы я ни пошел сейчас, я не смогу прийти раньше девяти
часов, а в это время везде ворота уже запирались и хозяева ло-
жились спать.
Словом, несмотря на все наши размышления о неблагора-
зумии моего путешествия в предместье, я оказался еще более
неблагоразумным, решив остаться ночевать в доме, где все до
последнего малыша знали мое имя.
Сергей и 'Геодорович, пришедший повидаться с ним, угова-
ривали меня к тому же:
—
Куда вы пойдете сейчас? Оставайтесь лучше!
И я остался.
Поставили самовар. Вскоре воротилась жена Сергея и при-
несла великолепный кусок жареного мяса. Она попала на
экстраординарный обед к своей подруге, и та послала с нею
этот кусок жареного для Сергея. Мы с удовольствием съели его,
попивая чай и беседуя.
Потом мне притащили из другой комнаты кровать, которую
я поставил посредине: сквозной ветер здесь не был так чув-
ствителен. Я улегся и скоро уснул.
Не знаю, как долго я спал, но, еще не вполне проснувшись,
почувствовал присутствие в квартире чужих людей.
Чей-то торопливый голос крикнул:
—
Смотрите, чтобы никто не выходил!
Сначала я не мог разобрать, сон ли это или действитель-
ность; потом я различил форму и блестящие серебряные пуго-
вицы. У порога стоял здоровенный донской казак; около него
сидел частный пристав с саблей и галунами. Все это я видел
как бы в полусне. Вероятно, у меня глаза были полузакрыты,
потому что все эти люди принимали меня за спящего. Вскоре
я начал понимать разговор.
В эту минуту Сергей, слегка толкнув меня, сказал:
—
Вставай, пришла полиция!
Офицер остановил его.
—
Оставьте его, пусть спит.
Все происходившее совершенно не походило на действи-
тельность. Если это полиция, почему же она ничего не делала
и даже позволяла мне спать?
Все еще не понимая ясно, что такое произошло, я тем не
менее убедился спустя несколько минут, что не сплю.
Но вместо того, чтобр? встать, я продолжал лежать, недо-
умевая, что мне делать.
Прежде всего я констатировал с удовлетворением, что в этот
решительный момент я нисколько не испугался, а чувствовал
себя только немного огорченным. Это полнейшее хладнокровие
доставило мне удовольствие; затем я снова начал размышлять.
«Если я им назову себя, они меня арестуют,—это ясно. А
что, если я придумаю другое имя?»—эта мысль сверлила мою
голову.
Но я был так неопытен, так мало знал действительную
жизнь, что не мог решить этот вопрос.
Мне казалось, что меня тогда должны бы отпустить, потому
что ведь приказ об аресте должен быть на мое имя, а не на вы-
мышленное мною... А если меня даже отправят в мою предпола-
гаемую квартиру, то с дороги я всегда могу убежать.
В восхищении от того, что я так прекрасно обсудил свое по-
ложение, я встал.
При виде полиции я разыграл изумление и потребовал объ-
яснений.
Офицер объявил мне, что они должны произвести обыск в
квартире и ожидают только прибытия прокурора, чтобы присту-
пить к нему. Очевидно, прокурор исполняет функцию след-
ственного судьи в экстраординарных
случаях.
Тут мне стала понятна бездеятельность полиции, удивляв-
шая минуту раньше.
Мысль о побеге не оставляла меня.
Я попросил частного пристава позволить мне пойти по есте-
ственной надобности, для чего нужно было выйти на двор. Он
разрешил, и казак, вдвое выше меня ростом, сопровождал меня,
не позволяя отойти от себя ни на шаг.
і ворот шевелилась толпа понятых в побелевших от снега
шубах. За ними виднелись несколько карет. В темную ночь, при
лучах света, бросаемых фонарями, это казалось живописной
картиной, которая меня однако только расстраивала: я убе-
ждался мало-по-малу, что побег был недосягаем.
Когда я снова вошел в квартиру, то услыхал громкий про-
тестующий голос в соседней комнате:
—
Но я не могу одеваться! Он смотрит на меня.
Это был голос жены Сергея.
Она была в постели и хотела одеться, жандармы же, поме-
стившись в дверях ее комнаты, ни па минуту не хотели оставить
ее одну.
Я всегда поражался, и поражаюсь еще до сих пор, что рус-
ская полиция, привыкшая каждонощно обыскивать спальни мно-
жества людей, не пользуется для этого услугами женщин, чтоб
хоть немного пощадить стыдливость своих жертв женского
пола.
Я не помню, чем кончился настоящий конфликт между про-
фессиональным долгом и простым приличием, потому что в этот
момент явился прокурор.
Безупречной белизны манжеты прокурора, ослепительного
в черной рамке своего костюма, серебряные пуговицы, блестя-
щие на небесной синеве жандармской формы, подозрительные
лица некоторых свидетелей, вероятно, шпионов... Чувство от-
вращения терзает меня еще и теперь при этих воспоминаниях!
Сухим и коротким голосом прокурор объявил, что он дол-
жен произвести обыск.
—
К вашим услугам,—отвечал Сергей с иронической вежли-
востью.
Начали рыться повсюду. Протыкали иглами даже жалкие
обои. Под одной скамейкой нашли свернутый в комок старый
пиджак. Заинтересованные жандармы старательно начали его
развертывать.
—
Тише, господа!—крикнул Сергей.
Они с испугом остановились.
—
Почему? Что тут может быть завернуто?
—
Кошка нагадила прямо на моем пиджаке...
Одни улыбнулись, другие нахмурили брови.
—
А вот эти стихи кому принадлежат?
Прокурор прочитал две строчки:
Эй, работники, несите
Топоры, ножи с собой...10
—
Чья это бумага?
—
Это мои стихи,—отвечал бедный Сергей, который был
талантливым поэтом.
—
А-га! Вы пишете стихи?..
—
С вашего позволения... немного...
У него были очень недурные стихи. Но он несомненно плохо
показал свои способности по «очистке» квартиры. Эти стихи,
впрочем, были единственной добычей полиции; кроме них, не
нашли ничего, что могло бы компрометировать Сергея.
Окончив обыск, приступили к составлению протокола.
—
Ваши фамилии, господа!
«Вот момент»,—подумал я, и тотчас же изобрел себе новую
фамилию.
Мне показалось, что губы прокурора сложились в едва уло-
вимую улыбку.
В тот момент стало ясно как день, что полиция знала, кто я
такой, это я вызвал в настоящий момент обыск, который они
сделали бы позднее. Все мои детские хитрости были только
смешны.
«Пусть будет так», думал, я полагаю, прокурор. «Тем лучше,
он будет еще более скомпрометирован».
—
Где вы живете?
Я назвал первую пришедшую в голову улицу студенческого
района и номер дома, которого, как оказалось впоследствии, в
действительности не существовало вовсе.
—
У вас есть студенческий билет?
—
С собой нет.
—
Хорошо, вы переночуете в полиции, а утром удостоверят
вашу личность.
Это было очень мыло. Я никак не думал, что развязка будет
так проста. А мой побег?
Казак тем временем подталкивал меня:
—
Ну, ну, двигайтесь.
Эти бравые донские казаки, настоящие гиганты, конечно, ве-
ликолепны, но они далеки от умения быть вежливыми со своими
пленниками. Я почувствовал себя глубоко оскорбленным, ощу-
тив на своем плече грубую и тяжелую руку.
—
Подождите,—- крикнул я прокурору, который уже уходил,
отобрав у Сергея подписку о невыезде из столицы без разре-
шения полиции.
—
Стой,—заорал мой казак, сжимая мне руку.
К счастью прокурор услышал меня.
—
Ну-с?
Я попросил отправить меня прямо на мою квартиру.
—
Хорошо, вот этот господин будет сопровождать вас.
И он указал на одного человека из своей свиты, который
если и не был шпионом, то был чрезвычайно на него похож.
Сергея и его жену арестовали через несколько дней.
- ^Чернявский—я сомневаюсь, чтобы это было его настоящее
имя—и я сели в карету и отправились в путь. Мое положение
начинало забавлять меня и напоминало мне сатиры Щедрина 20.
Мой шпион наполнил карету запахом водки, он старался быть
любезным и занимал меня разговорами. Особенно он жаловалея
на свою службу.
—
Всегда вот так, как сейчас... Видите ли, я не спал всю
ночь. Что будешь делать,—постоянные обыски... К счастью,
успел урвать минутку, чтобы мимоходом забежать в трактир...
Стакан чая, знаете, согревает немного.
Я отлично чувствовал, какой чай оц пцл в этом трактире.
Мыс*іь о побеге, однакож, не оставляла меня... Но как его
устроить? Мой спутник гораздо сильнее и тщательно меня ка-
раулит. Я не могу повернуться, чтоб он не спросил:
—
Вам неудобно? Сядьте вот так...
—
Как? Вы хотите переезжать на ту сторону?—спросил я.
—
Об этом я и думаю... Полагаю, лучше по мосту, лед еще
недостаточно крепок.
Я был в отчаянии и старался доказать ему, что через мост
дорога гораздо длиннее, что я переходил Неву по льду и видел
там несколько карет. Мой план был построен на том, чтобы
устроить побег во время переезда по льду, посреди пустын-
ного пространства этой широкой замерзшей реки. Но шпион
оставался непоколебимым.
Наконец мы въехали на мост. Все было кончено. Никакой
надежды.
—
Велите вашему кучеру повернуть карету,—сказал
я
своему спутнику. —Бесполезно ехать дальше.
Он притворился очень удивленным.
—
Почему же?
—
Я не живу на той стороне Невы... Я ...
Несмотря на всю мою наивность, я заметил, что это было
для него не ново. Он, казалось, был очень озабочен теми по-
следствиями, какие это обстоятельство будет иметь для меня.
—
Но почему же тогда вы заставили меня сделать этот путь
с вами? Разве вы думаете, что я недостаточно устал? Вот наша
служба! А потом и для вас это очень дурной знак. Вас обвинят,
что вы хотели сбежать от полиции. О молодость, молодость!..
Эй, кучер, поворачивай!
—
Теперь нам близко,—продолжал он, чтобы утешить меня.
Я хорошо это знал и сам. Через четыре минуты мы были
на крыльце градоначальства.
«
III
«БЕЗУМНОЕ ЛЕТО» *
.„Кто не испытал сам описываемого, никогда не сможет по-
нять те радостные замирания сердца, с какими я делал мои
первые шаги.
Все хлопоты приготовления, трудности и сомнения, страхи
и надежды, все это возбуждение, эта суматоха окрашены те-
перь в моих глазах подтичееким светом, все это встает из дале-
кого прошлого, как розовые грезы детства, прекрасные, но
навсегда утраченные.
Вот моя маленькая комната на Средней Подьяческой улице.
Она вся загромождена, вся в живописном беспорядке; иму-
щество, книги, платье разбросаны повсюду на столах и на
стульях.
Товарищей собралось здесь много, но никто не шумит.
Лица присутствующих важны, задумчивы и озабочены. Иногда
раздается короткая фраза, легкая шутка.
Здесь заняты приготовлениями к путешествию далекому и
опасному.
Четверо из наших друзей уезжают; а остальные им по-
могают.
Наконец все кончено.
Путешественники снабжены должными паспортами, быть-
может, и не вполне хорошо изготовленными; полушубки их ис-
правлены и прилажены.
Где карты?
Карты совершенно необходимы, чтобы ориентироваться в
этом океане неведомых людей, и наши друзья снабжены ими.
* Автор этих неизданных воспоминаний—-один сибирский ссыльный,
имя которого я не решаюсь назвать. В этой главе у меня скромная роль
правщика, ибо я только привожу в порядок его заметки, написанные наспех.
Они имеют также адреса известных и неизвестных им дру-
зей в различных городах.
Мешки-котомки наполнены и завязаны. Все готово. В путь!
Одетые по-крестьянски в полушубки, с котомками на пле-
чах, они выходят по-двое, внимательно оглядываясь вокруг, не
заметил ли кто-нибудь в доме их переодевания.
Через несколько минут мы, я и Д.,
тоже выходим, чтобы
проводить их до вокзала. Есть ли что-либо проще этого? Но
на этот раз провожание необычно. Мы одели наши крестьян-
ские шубы. А что, если нас кто-нибудь из знакомых встретит?
А вдруг кто-либо из 111 Отделения? Не догадаются ли они, что
мы провожаем идущих в народ21.
Эта мысль ввергает нас в некоторое смущение.
Вот Невский проспект. Толпа спешит, толкается, масса на-
роду встречает, обгоняет нас...
Возможно ли, чтобы из этой тысячи людей никто не узнал
нас?
Я улыбаюсь, вспоминая эти смешные страхи, но тогда мы
были искренно рады, придя к месту сбора без всяких приклю-
чений.
Вот наконец и Николаевский вокзал.
Где же наши друзья? Невозможно найти их в этой густой
толпе. Мы тщательно осматриваемся, раздается звонок, и, не
видя тех, кого мы провожаем, мы кричим «счастливый путь»
этому
невидимому
авангарду нашего
разведочного
отряда.
Мы возвращаемся домой, когда ночь окутывает город своим
черным покрывалом. Теперь уже не страшны неприятные встре-
чи. Мы погружены в какое-то особенное состояние духа, не
поддающееся описанию. Это—смутное чувство бесповоротно
сделанного шага. Что-то торжественное, религиозное наполняет
наши души.
Описанное происходило 2 или 3 марта 1874 года; 7 марта,
те-есть через четыре дня, и мы отправились, в свою очередь.
Перед отъездом я присутствовал на собрании нашего кружка,
последнем в моей жизни. Много времени спустя я встретился
с некоторыми из товарищей только в тюрьме. Разумеется, на
этом собрании все выражали самые горячие пожелания нашему
предприятию.
Я шел тогда впервые послужить делу, которому большая
часть присутствующих в течение уже долгого времени посвя-
щала свои силы. С тех пор все изменилось вокруг меня: и люди,
и вещи. Но никогда я не мог забыть этих людей, очаровавших
меня своей искренней4 преданностью делу, живой пример ко-
торых,—а
не слов а,—захватил и меня. Глубочайшую сим-
патию, почти благоговение я чувствую и теперь при воспоми-
нании о них.
Наконец мы в вагоне и уезжаем из Петербурга со всею ско-
ростью (правда, не слишком экстраординарной) для поезда
Николаевской железной дороги.
Я чувствую себя и радостным и смущенным. Наконец-то мы
разбили цепи, приковывавшие нас к русской государственной
колеснице, наконец осмелились искать иных путей и перешли
на сторону народа. Я был переполнен этим торжественным
сознанием. С другой стороны, наше новое положение было на-
столько необычно, что мы себя неважно чувствовали.
Нам предстояло отныне играть роль.
Мы назвались
рабочими, идущими в свою деревню с заработков, но мы не
были готовы к той массе разнообразных вопросов, с какими
обращались к нам наши случайные спутники.
Тут были солдат, дворянин и несколько мещан из Твери и
Новгорода.
Они допрашивали нас только для препровождения времени,
мы же немедленно предположили, что внушаем им подозрение.
Но все шло великолепно, и мы победоносно выдержали пере-
крестный огонь этого допроса.
Наш спутник из дворян удостоил даже моего товарища не-
сколькими шуточками по поводу его жены, якобы оставшейся
одинокой в деревне. Когда мужа нет дома, жена не всегда остает-
ся верною. Мой товарищ защищал добродетель своей супруги,
опираясь на мои утверждения, что эта женщина была выше
всяких подозрений.
Наступила ночь. По примеру наших спутников-крестьян
мы прикурнули под скамейками вагонов, на разостланных полу-
шубках.
«Ну, вот,—подумал я засыпая,—пишут (в социалистических
журналах того времени), что никогда и ни в чем не нужно лгать
перед народом. Но что же мы делали сегодня? Мы лгали на
каждом шагу и лгали во имя и с т и н ы, носить которую мы
приняли на себя обязательство. Ну, разве это не явное расхо-
ждение теории с практикой?»
Сон разом прервал мои размышления, и я ничего не помню
до Клина.
Клин, маленький городок Московской губернии, был нашей
конечной целью. Отсюда рам предстояло начать наше хождение
в народ пешком.
Мы придерживались еще господствовавшего тогда мнения,
что русская полиция вездесуща и всевидяща. Мы считали себя
счастливыми, что неарестованными добрались до Клина.
Теперь во что бы то ни стало необходимо было уведомить
товарищей о нашем прибытии. В моей котомке была почтовая
открытка, но не было чернил, да и не совсем удобно писать
посреди улицы. К счастью, подвернулась аптека, где, наверное,
не откажут дать перо бедному крестьянину.
Я вхожу в аптеку и скромно излагаю мою просьбу; мой
приятель остается на улице, беспокойно ожидая результатов
моей вылазки. Разумеется, не было никакой опасности. Апте-
карь очень вежливо дал мне перо и чернила.
Эта встреча представителя цивилизации в лице аптекаря с
отрешением от нее в нашем лице была очень забавна.
«Рубикон перейден!» подумал я, когда мы вышли из Клина.
Уйдя таким образом от цивилизации, мы едва могли удер-
жаться, чтобы не запрыгать от радости. Мы торжественно отря-
сли, да отсутствием праха, снег с наших ног.
—
Прощай навсегда, старый цивилизованный мир!
Велико было наше презрение к нему, особенно моего прия-
теля, который, не далее как в следующем же мае месяце, дол-
жен был снова оказаться если не среди самой цивилизации, так
как цивилизованный Дом предварительного заключения еще
не существовал, то, по крайней мере, в ее когтях.
Довольные собою, мы храбро шли до вечера. При закате
солнца следовало подумать о месте для ночевки. Первая ночь
у настоящих крестьян—это событие. Тут было о чем подумать.
В первой же деревне нам отказали в ночлеге.
Мы отправились в другую, так как, к счастью, наша страна
изобилует ими.
—
Ищите десятника,—отвечали нам.
—
Десятника? Да на что он нам?
—
Я удивленно взглянул на своего товарища, который тоже
ничего не понимал.
Мы встревожились, но дело объяснилось очень просто. Жи-
тели этой деревни решили пускать для ночевки прохожих по
очереди, и десятник наблюдал за очередью.
Мы решили итти через Дм,ІТРов к Москве, а потом во Вла-
димирскую губернию.
Надо признаться, что наши сведения об условиях местности
были неточны, несмотря на тщательное изучение их в ІІетер-
бурге. Мы хотели выбрать населенное .место, где легко могли
бы найти работу. Статистический ежегодник, в котором мы
справлялись, указывал на значительное количество мелких ре-
месл, существующих здесь. Это было правильно, но требова-
лись маленькие коррективы. На обоих берегах реки Клязьмы
было множество ремесленников, но все они уходили искать
работы в другом месте и иногда очень далеко.
Жители естественно были удивлены, встретив людей, при-
шедших за работою в их места, где они сами ее не находили.
Мы еще не знали, что в таких случаях следует советоваться
с опытными людьми, а не только с книгами.
Так мы шли вплоть до Москвы, останавливаясь только по
ночам, ели только черный хлеб и не позволяли себе даже такой
роскоши, как зайти в деревенский трактир, чтобы выпить там
чаю. Чай ведь был некоторой частицей цивилизации!
Позднее мы однако убедились, что и сами крестьяне не
считают роскошью немного побаловаться чайком. Тогда и мы
стали разрешать себе такую невоздержность.
Однажды мы купили копченую селедку— . -какое событие! И
сейчас еще я испытываю удовольствие при воспоминании о том
аппетите, с каким мы ее уничтожали.
Несмотря на недостаточное питание, мы чувствовали себя
вполне здоровыми и счастливыми. Это ощущение счастья нару-
шалось только нашим беспокойством, так как мы подозревали
каждого прохожего в том, что он угадывает наши истинные
намерения.
Раз молодой парень на дровнях обогнал нас и весело пред-
ложил подвезти до города. Он безусловно был далек от мысли
попросить за это деньги, но мы почему-то ответили:
—
Пешком-то будет подешевле.
Он с удивлением посмотрел на нас, и этого было достаточно,
чтобы у нас возникло множество подозрений.
Таким образом мы измышляли ежеминутно тысячи смешных
страхов.
Необходимость лгать на каждом шагу была для нас чрезвы-
чайно тягостна, особенно для моего товарища, относившегося
с отвращением ко всякой лжи, даже самой невинной. Но все
эти неприятности были только маленькими шипами на розах.
В нас постоянно жило сознание исполняемого трудного долга.
Во время всего этого предварительного
знакомства,
вплоть до са.мой Москвы и даже далее, мы не очень-то сериозно
думали о настоящей пропаганде; мы должны были прежде
всего испытать самих себя во всех деталях предстоящего
нам дела. Но если представлялся подходящий случай, особенно
во время наших ночевок, мы начинали иногда разговоры по
поводу, например, военной службы, выражали жалобы на веч-
ную несправедливость и бедность, о которой слышали в ка-
ждой избе. Была ли это настоящая пропаганда? Я считаю, что
абсолютно никому от нее не было ни хуже, ни лучше, но она
приучала нас понемногу беседовать с крестьянами.
На Пасхе нигде не работали. Надо было возвращаться в
Москву. Мы поехали и пробыли там гораздо больше времени,
нежели предполагали.
Квартира, которую мы занимали в Москве, уже не суще-
ствовала, новый же адрес нам был неизвестен. Мы оказались
таким образом в очень трудном положении, пока, совершенно
случайно, не встретили на улице одного из наших друзей, после
чего сразу же попали в самый вихрь «безумного лета». Этот
период, полный самоотверженности и юношеского энтузиазма,
описать невозможно.
Всего только два слова создали всеобщее движение от од-
ного конца России до другого: в народ!
Для интеллигенции пришло наконец время уплатить свой
исторический долг народу.
Все кипело и волновалось, начиная от розового гимназиста
и кончая старым хозяином, дом которого служил местом наших
сборищ и свиданий.
Чудное время!
Отовсюду являлись новые люди; в Москве встречались, зна-
комились, строили бесчисленное множество планов и потом рас-
сеивались по всей России. Эти мимолетные друзья встречались
иногда позднее в какой-нибудь дыре, в народе или в тюрьме;
а чаще всего не встречались вовсе.
Москва была тогда центром встреч, сборов на скорую руку.
Это мне немного напоминало Петербург предыдущего года. Но
в то время как там велись больше теоретические споры, здесь
занимались преимущественно практическими планами. Букваль-
но все готовились итти «в народ». И мы собирались туда вер-
нуться. На собраниях мы оживленно обсуждали методы про-
паганды в народе.
Две или три недели промчались, как минута, в этом водо-
вороте. Наше перемирие, заключенное мною и моим приятелем
по случаю Пасхи, приближалось к концу. Пора было вновь на-
чинать кампанию. Но на севере Волга вышла из берегов,—это
было время ее разлива,—а на юге появилась новая
рели-
г и я. Говорили, что эта новая религия первоначально обнару-
жилась в Орле; вскоре слухи подтвердились, и один из наших
друзей сделался горячим апостолом Малнкова
Такое неожи-
данное перерождение одного из наиболее уважаемых и самых
любимых наших товарищей было для нас событием, из ряда
вон выходящим. Отныне он совершенно отрицал наши прин-
ципы, хотя догматическая сторона его нового верованья была
выставлена очень не ясно.
—
Она еще не выработана,—говорил он.
Но тем ожесточенннее была его полемика с революционе-
рами.
Это поистине была «бомба, выпущенная из О р л а»,
как говорил мой товарищ.
—
Человечество возродится через любовь и добродетель-
ное убеждение... Революционеры! Вы насчитываете много лет
своему существованию, вы обращаетесь только к уму, но
забываете чувство. Не ждите никакого блага от кровавой войны
между людьми: война родит івойну, и так далее, без конца...
Бойтесь насилия, лжи, лицемерия. Все человеки, следовательно,
врагов не существует...
Эта проповедь, произнесенная со страстным убеждением на-
шим вчерашним товарищем, наполнила мою душу горечью.
Нельзя было предвидеть то фиаско, которое предстояло этой
новой доктрине, и я уже представлял себе глубокий неприми-
римый разлад среди самих революционеров.
Печальные, полные самых мрачных мыслей и предчувствий,
собрались мы в нашей маленькой комнате после ухода этого
нового апостола. Хотя были все близкие друзья, но разговор
не вязался. Только время от времени раздавался подавленный
вздох.
Наконец М. с усилием прервал общее молчание и напомнил
нам, что нужно приниматься за дело.
Это замечание несколько оживило присутствующих, и М.,
обращаясь ко мне, сказал:
—
Да, дружище, народ—это целый океан, попытайся по-
грузиться в его волны... Ты увидишь, что все будет смыто, и
боль и горечь, все. Все...
Он тысячу раз был прав. Там, в глубинах этого океана, мне
предстояло найти столько новых страданий и мук. Но воспо-
минания недавнего прошлого, цивилизованного мира быстро
умчались.
Симпатичные, заботливые, наши чудесные хозяева снаря-
жали меня в путь.
—
Прощайте, прощайте. Увидим ли
вас
когда-нибудь
снова?
—
Кто знает, кто это может знать!..
Все кончили этим «кто знает», ибо хорошо понимали, что
могло случиться с каждым из нас в любую минуту.
Я отправился один. Мой бедный товарищ по путешествию
был тяжело ранен все той же б о м б о й. Он временно остался
в Москве, собираясь пойти в Орел, чтобы лично познакомиться
с основателем новой религии, или, как у нас говорилось тогда
шутя,для «поклонеиия» ему.
Все равно, поеду в Рязань, думал я, стоя на площади, на
которой расположены три вокзала: Петербургский, Ярослав-
ский и Рязанский.
До сих пор я думал отправиться по Нижегородской дороге.
Но почему мне не сделать небольшого круга, тем более, что
я могу сойти на любой станции, чтобы вернуться во Владимир-
скую губернию.
Я взял билет на Коломну, но сделал не благоразумно, так
как благодаря этому я должен был потом пройти пешком сорок
верст.
Но все ведет к лучшему в этом лучшем из миров. Мое не-
благоразумие дало мне возможность встретить группу ткачей,
с которыми я и прошел эти сорок верст. Я даже вступил в их
артель и почерпнул несколько действительно ценных уроков
для своего «воспитания» в их милом обществе.
Теперь я уже был в народе и испытывал только озабочен-
ность, так как мне нигде не удавалось найти работу. Я отпра-
вился в Зуево,—город, переполненный фабриками,—прошел
через Ковров и через знаменитую Шую,—работы нет. Я соби-
рался уже пойти в Иваново-Вознесенск, но у ворот одной фаб-
рики, где я напрасно ожидал работы, я встретил одного рабо-
чего, который только-что пришел оттуда. Он мне рассказал,
что слесаря там запрудили улицы. А я был слесарь. И тогда
я отправился во Владимир, но и там, однако, не нашел ни ра-
боты, ни фабрик.
Оставалось только отправиться на ярмарку в Нижний-Нов-
город. Я пошел пешком, подрабатывая по дороге, но не оста-
навливаясь, так как был уверен, что в Нижнем устрою свои
дел» На этот раз мои ожидания меня не обманули, и я доволь-
но долго пробыл в Нижнем, где занимался столярной работой,
так как я был и столяром.
Ярмарку я оставил лишь тогда, когда совершенно прекра-
тилась всякая работа.
ІІер ед открытием ярмарки в Нижнем-Новгороде бывает мно-
го столярной работы, по, когда ярмарка уже открыта, работы
4 Заговорщпкн и полиции.
49
прекращаются и рабочие расходятся. Некоторые, если они кре-
стьяне той же губернии, идут в свои деревни; другие, г а л к и,
как их называют, отправляются в различные поволжские города.
Но строительные работы на ярмарке все-таки не обрываются
впезапно, и в конце моего пребывания в Нижнем я то доставал
работу, то вынужденно отдыхал.
В таком неопределенном положении я должен был бродяж-
ничать и все это время оставался среди разных поденщиков,
в золотой роте, как называли их иронически, где имел
возможность наблюдать самые ужасные сцены грязи, бедности,
отчаянного пьянства, беспризорности... А наши публицисты
еще уверяют, что в России нет пролетариата!
Вы могли видеть на всех базарах живописные группы этих
угрюмых людей в лохмотьях; они ожидают здесь работы и, не
находя ее, бродят из улицы в улицу, из кабака в кабак. Мно-
гие, не раздобыв пятака на уплату за ночлег, ночуют здесь же
на базарах. Чем питаются эти люди,—было для меня подчас
неразрешимой загадкой.
Иногда я делал попытку завести с ними разговор, но обык-
новенно я только созерцал их, подавленный тяжестью новых
впечатлений.
Мне казалось, что это были люди совсем особенного мира,
иной расы, которая вовсе не похожа на нашу. О чем мог бы я
заговорить с ними? Могли ли они понять нас? Мог ли я их
понять? Между тем это были мученики нашего общества, и они
возбуждали во мне чувство, сходное с благоговением.
С первых же слов разговор съезжал на отсутствие работы,
на крайнюю бедность.
—
«Машины» отнимают у нас всю работу!
«Машины», то-есть пароходы, разорили весь этот рабочий
мир, который до их появления жил бечевою, бурлачеством. Они
ненавидели эти пароходы и с энтузиазмом говорили о добром
старом времени, «когда бывало так много работы!» Речи, пол-
ные ненависти к предпринимателям и хозяевам, обыкновенно
слышались повсюду.
Но вот я снова в Петербурге, среди цивилизации; я выныр-
нул на поверхность волн, после того как в течение четырех
месяцев был погружен в глубины народа.
При первой же встрече мои друзья рассказали мне о про-
исшедших арестах. Аресты непосредственно за моим отъездом,
аресты накануне моего прибытия, аресты по всей России в
течение моего здесь пребывания.
Четыре месяца я не имел известий из столицы и теперь явил-
ся сюда для того, чтобы узнать эти печальные новости. Это
было жестоко, это было ужасно. Что означал подобный кризис?
Был ли это всеобщий полный разгром, или только времен-
ная неудача? Что делать? Продолжать ли свой путь или ожи-
дать конца этого урагана?
Происходило это в конце августа или в начале сентября
1874 года.
Я не хочу лгать, и сознаюсь, что эти массовые бесчислен-
ные аресты устрашили меня; я решил продолжать мой путь,
хотя делал это уже не так охотно, как ранее.
В самом деле, когда ждешь ареста каждый день в течение
нескольких,месяцев, когда ожидаешь, что завтра будет уничто-
жено все, что сделано сегодня, нельзя действовать с энтузиаз-
мом, нельзя строить большие планы. Исполняй свой долг, и
только.
Что я дол?кен был делать?
Ясно, что нужно было продолжать мое обученье до тех пор,
пока я буду способен предпринять что-либо положительное в
народе.
Я решил действовать в этом смысле.
До сих пор я не имел случая поселиться в настоящей рус-
ской деревне. Теперь один кузнец, приятель моих знакомых,
предложил мне отправиться к нему в качестве рабочего, и я
охотно согласился.
Деревня была расположена недалеко от железной дороги.
Нужно было переночевать в другой деревушке, подле станции,
и утром пройти пешком еще несколько верст. Я шел, и мне
припомнился клич—«спасайся кто может! все погибло!»—ко-
торый раздавался в моих ушах неделю тому назад, и я испы-
тал скорее чувство удовлетворения от одиночества, отдавшись
только своим собственным силам в этой борьбе за существо-
вание.
Был праздничный день, и я встречал много крестьян и кре-
стьянок, идущих пешком подле своих телег. Они мне кланя-
лись и спрашивали, куда я держу путь. Я отвечал, что иду пови-
даться с своим приятелем, на фабрику вблизи деревни.
Приветливые жители мне очень понравились, и я был до-
волен, что решил поселиться в их среде.
Наконец я дошел до своей деревни. У одного крестьянина
я спросил, как мне пройти в кузницу. Он смутился и забормо-
тал, что на-днях в деревню приехали жандармы, схватили куз-
неца и увезли его с собой.
4*
51
Крестьянин его жалел и был возмущен происшедшим.
Но почему же его арестовали?
Моему собеседнику это было неизвестно.
—
Его жена дома,—прибавил он, указывая мне на дом
кузнеца,—- т ы
можешь пойти к ней и спросить ее.
Великолепная новость, нечего сказать! Я направился к ука-
занному дому и, как только крестьянин исчез, я повернул в
сторону и вышел из деревни, размышляя о том, что мне пред-
принять.
Прежде всего я поторопился уничтожить рекомендательное
письмо, данное мне к кузнецу. Затем оставалось только итти
на вокзал.
Я уже не был прежним мальчиком и не боялся призраков;
но на этот раз за мной могли следить. Нужно было как можно
скорее добраться до вокзала.
Во время пути и на вокзале я опять встречал тех же кре-
стьян, которых я видел по пути в деревню, и они выражали
свое удивление, что я так быстро возвратился. Пришлось объяс-
нить это тем, что я не нашел своего земляка на фабрике.
Я чувствовал себя одиноким и покннутым. Куда ехать? Ни
денег, ни связей, ни проектов! Я решил итти в Москву не по-
тому, что рассчитывал найти там друзей,—я
хорошо знал, что
в Москве никого не осталось,—а
потому, что в городе легче
просуществовать рабочему в моем положении. Итак, я отпра-
вился в Москву, где и оставался семь месяцев, до самого ареста.
Было уже далеко за полночь, когда наш поезд пришел в
Москву. Я не чувствовал себя более одиноким, когда был с
людьми. Я живо нашел себе квартиру и был доволен кратко-
временными знакомыми и временным убежищем.
Утром я подыскал себе другую квартиру, несколько попри-
личнее, в доме, указанном мне во время моего последнего пре-
бывания в Москве. Оставив мой мешок у хозяйки, как это всегда
делается, чтобы никто не украл его драгоценного содержимого—
порванных штанов и пр., —я отправился искать работу.
С тех пор я бродил по Москве, как пролетарий; иногда у
меня бывала работа, и тогда я покидал свою квартиру; когда
же я снова оставался без заработка, приходилось возвращаться
в нее. В первый раз я заплатил хозяйке пятак и был водворен
в некотором роде в аристократическую комнату,—она была
гораздо менее грязной; но имелась и другая, настоящая нора,
которую я узнал несколько позднее во время моих неудач.
Подчас мои дела были так дурны, что я спускался даже до
знаменитой Хитровки близ Варваринскнх ворот, где обыкно-
венно копошится безработный люд.
Рабочий, у которого есть хоть немного денег, никогда не
пойдет на Хитровку, так как обычные посетители ее—бродяги—
очень дурной репутации. Вся площадь окружена кабаками и
притонами для нищих, бродяг и проституток. Зато здесь можно
обрести ночлег за три копейки.
Эта нескончаемая драма бедпости, страданий и преступле-
ний уже не поражала моего воображения: оно уже привыкло к
этому; но мое сердце тягостно сжималось при виде этих не-
счастных существ, которые к тому же часто имеют больше прав
называться людьми, чем люди высших слоев.
Лично я чаще всего оставался в ряду, так сказать, аристо-
кратии этих обездоленных людей.
В наших аппартаментах жильцы имели право только ноче-
вать. Утром они должны были уходить, куда им угодно. Хо-
зяйка, жившая в тех же самых комнатах,—их было две,—же-
лала быть свободною днем, чтоб подмести и прибрать свою
квартиру от сора и грязи, накопившихся за ночь.
Утром убирали постель, то-есть большой толстый половик,
которым покрывался пол. Кроме этого общего матраца, мы по-
лучали маленькие подушки, набитые соломой.
Все это запиралось в чулан, и комнаты днем оставались
совершенно пустыми, так как в них не было и никакой мебели:
хозяйка не желала терять ни малейшего кусочка площади и бы-
ла права, потому что ночью обе комнаты переполнялись спя-
щими, набивающимися здесь, как сельди в боченке, не оставляя
между собою никакого промежутка.
Благодаря дневной чистке и проветриванию, в нашей бер-
логе к вечеру бывало сравнительно чисто, и всевозможные на-
секомые не были так многочисленны, как в других таких же
помещениях.
Как жилец исключительно спокойный и честно уплачивав-
ший свой пятак, я пользовался снисхождением хозяйки, кото-
рая не ворчала, если мне приходилось являться раньше, чем
другие. Часто я пользовался этим снисхождением во время без-
работицы; обивая многочисленные грязные улицы Москвы в
бесплодных поисках, усталый и злой, я останавливался нако-
нец перед безграмотной вывеской:
Продажа жариной ппчины и рыбы.
Я входил, съедал порцию щей с хлебом за 5 копеек и воз-
вращался на квартиру, пользуясь отсутствием моих сокварти-
рантов, чтобы немного отдохнуть на широком подоконнике. Я
сидел, погруженный в мои безотрадные думы и убаюкиваемый
болтовней кумушек, судачащих у хозяйки.
Понемногу собиралась наша публика. Сколько разнообраз-
нейших типов прошло передо мной во время этих ночлегов!
Вот несколько половых без мест; они все дни напролет про-
водят в поисках заработка и, собравшись вечером в кучку, рас-
сказывают друг другу о своих бесполезных попытках; одному
прямо отказали, другому велели прийти еще раз, третьему по-
обещали место в том или другом трактире. Я нередко слышал,
как один из этих несчастных людей в бессоннице ворочался с
боку на бок целую ночь.
—
Ты не спишь?—спрашивал его сосед, и шопотом они на-
чинали разговор, переполненный жалобами на свою судьбу и
воспоминаниями о деревне. Это, видимо, облегчало их, и мне
невольно вспоминалась песенка, составленная именно таким по-
ловым. Песня рассказывает, как он потерял место из-за своего
пьянства:
Я свел свои счета с хозяином.
Он мне ничего не дал.
Я вышел из конторы,
Проливая слезы...
И блудный сын, испытав все возможные средства, решает
возвратиться в свою деревню, где его родители в наказанье
дают ему грубое платье и кормят пустыми щами, принуждая
обрабатывать землю.
Были у нас поденщики, занятые выгрузкою дров на сосед-
нем вокзале. Они приходили ночевать гораздо позднее, чем дру-
гие обитатели, и уходили на работу очень рано. Эти задумчивые,
очевидно, много страдавшие люди всегда мечтали о возвраще-
нии в деревню.
Вот мелкие коммерсанты. Один из них очень горд и не раз-
решает фамильярностей. В старину, говорят, он был разносчи-
ком яблок. Другой, напротив, добродушный старик, лучший че-
ловек в мире; его общей кличкой было «дедушка» и «ка-
торжный».
Однажды после продолжительного отсутствия я вынужден
был вернуться в мое гостеприимное убежище; там еще оста-
вался кое-кто из моих старых знакомых.
—
А это,—сказали мне, указывая на старика,—каторж-
ный дед.
—
Разве он был на каторге?
Оказалось совсем не то; он получил такое прозвище потому,
что постоянно повторял слово «каторжный», как ругательство.
как восклицание, наиболее ярко выражавшее его чувство. Я по-
знакомился с ним и попросил его объяснить мне эту странную
привычку.
Бог мой! Как все смеялись над его любопытнейшим объясне-
нием!
Дедка был очень религиозен; он дал обет никогда не упо-
треблять грубых ругательств, которыми на каждом шагу поль-
зуется вся Россия. Но разговаривать без ругательств было бы
для него слишком трудно, и вот, чтобы в некотором роде воз-
наградить себя, он изобрел свое «каторжный» и мало-по-малу
свыкся с ним.
Припоминаю также двух поляков. По амнистии они верну-
лись из Сибири, куда они были занесены за участие в восста-
нии 63 года
при чем один из них отбывал даже каторжные
работы. Когда-то они знали лучшие дни; один был даже офи-
цер. Теперь же, заброшенные в эту безвыходную дыру, они
стали угрюмы, даже враждебны ко всем, и держались в стороне.
Какая это ужасная драма—повесть об их разбитой жизни!
И такие драмы окружали меня со всех сторон.
Да! Эти семь месяцев жизни настоящего пролетария, ко-
нечно, научили меня многому! Моя постоянная мечта пожить
в деревне не могла осуществиться, но и пребывание в Москве
не было бесполезным в смысле моего «воспитания».
В первых числах мая 1875 года я снова поехал по Нико-
лаевской железной дороге по направлению к Петербургу, только
на этот раз меня сопровождали два жандарма.
—
Как дела? — повторяли на вокзалах официальную фор-
мулу жандармы, обращаясь к сопровождающим меня.
—
Все хорошо,—отвечали последние.
Это означало, что я не имел возможности бежать от них.
Обстоятельство это напомнило мне наше письмо, посланное
в Петербург годом раньше, в котором я с моим товарищем
уверяли своих друзей, что «все шло хорошо»!
Насколько же иногда бывают противоречивы представления
людей о хорошем!
IV
ТЮРЬМА
Темная зимняя ночь; окна кареты покрыты толстым слоем
льда,—через них ничего не видно. Внутри кареты при бледном
свете фонаря обрисовывалась рядом со мною фигура офицера,
напротив—жандарм.
Я уже не спрашивал, куда меня везут.
Две минуты тому назад в мою камеру в III Отделении то-
ропливо вошел жандарм, держа в руках мое верхнее платье.
—
Одевайтесь скорее,—сказал он мне.
—
Куда я должен итти?
—
Я этого не знаю.
—
Куда вы повезете меня? — спросил я офицера, входя
в карету.
—
Вы это скоро увидите,—отвечал он с любезной улыбкой,
предоставляя таким образом полный простор моему воображе-
нию. Путь был не длинен, хотя он показался мне целой веч-
ностью.
Я почувствовал, что мы въезжаем на Неву, значит меня везут
в Петропавловскую крепость. Через несколько минут карста
с ужасным грохотом проехала под низким сводом крепостных
ворот, и вот мы уже внутри цитадели.
Тогда моя будущая Бастилия была мне еще совершенно не-
известна.
В моем воображении вставали ужасные картины подземных
казематов, выдолбленных в толстых крепостных стенах ниже
уровня Невы; я вспомнил княжну Тараканову, которая некогда
погибла здесь во время наводнения; мне приходили в голову
страшные и многознаменательные слова сенатора Фукса, быв-
шего члена нашей следственной комиссии:
—
Вы ничего не хотите сказать? Хорошо, немного позднее
вы скажете все.
Но я уже приготовился к самому худшему, собрал все силы
моей души и тысячу раз повторял себе:
—
Я вам не скажу ничего, ничего, ничего!
Карета остановилась.
—
Пойдемте, — сказал мне любезный голубой офицер.
Мы вошли в двери довольно красивого дома.
Часовой отдал честь офицеру; мы поднялись по богатой
лестнице и вошли в прекрасно обставленный зал с паркетными
полами и люстрами.
—
Где же я наконец?
—
Подождите немного,— бросил мне жандармский офицер,
исчезая в соседней комнате и оставляя меня под надзором ста-
рого солдата, который вызвал золотые воспоминания моего да-
лекого детства. Это был настоящий денщик. Мог ли я не
Знать так хорошо известный мне тип?
Старик смотрел на меня с упреком, смешанным с жалостью.
Офицер вскоре возвратился в сопровождении старого ге-
нерала.
—
Вот,—сказал он, показывая ему какие-то бумаги.
Генерал равнодушно посмотрел на меня.
—
Имя?
Я отвечал.
—
Студент?
—
Да.
—
Почему?
—
Я не знаю.
—
Дворянин?
—
Да.
Казалось, он избегал личного обращения, боясь сказать мне
«ты» и не желая обращаться ко мне на «вы».
Одет я был, как настоящий бродяга.
—
Хорошо. Отведите его.
Мы опять сели в карету в сопровождении нового офицера,
посланного комендантом, ибо старый генерал был комендант
крепости Римский-Корсаков, как это объяснил мне офицер, при-
бавляя, что сам он смотритель тюрьмы.
Мне казалось, что мы проехали множество узких улиц, но
уже через две минуты карета остановилась. Мы очутились пе-
ред решетчатой двсрыо низкого и длинного дома, где ожидали
минуты две. Часовой, находившийся у порога двери, не имел
ключа, у смотрителя его тоже не было, он находился у при-
сяжного *. Наконец присяжный явился, и жандармский офи-
* Сторож, приведенный і; присяге. II р и и.
автора.
цер попрощался со мною, оставив меня в руках Богородиц-
кого — - та к звали смотрителя.
Я последовал за ним, испытывая что-то в роде изумления.
Новый мрачный мир, во всей его неизвестности, открывался
передо мною. Я видел вокруг себя только решетки и низкие
давящие своды. Слабое освещение небольшой керосиновой
лампы скорее скрадывало предметы, чем освещало их.
Мы вошли в комнату, где тотчас же встало несколько солдат
с шумом и лязгом, отдавая честь Богородицкому.
—
Разденьтесь,—лаконически приказал он мне сухим го-
лосом.
Меня быстро раздели, сняли все, включая и рубашку, трясли
каждую вещь, обыскивали карманы и все складки платья, за-
тем быстро нарядили в тюремный костюм, показавшийся мне
отвратительным. Рубашка, кальсоны, серый халат, на ноги пло-
хие туфли—вот и все. Брюк не дали.
Мне было порядочно холодно.
Через несколько секунд я снова следовал за Богородицкнм.
Мне казалось, что я иду по лабиринту коридоров и лестниц,
утопающих в полусумраке, где время от времени выступали
фантастические силуэты солдат в огромных медных касках,
странно отражающих в себе желто-красный свет отдаленных
ламп. Это были старые каски императора Павла I, вполне до-
стойные его по своему безобразию.
Все было погружено в гробовое молчание. Медные часовые
стояли неподвижно. Бряцание шпор Богородицкого и шлепанье
моих туфель — единственные звуки, которые нарушали это
мертвое спокойствие.
Мы остановились перед дверыо, похожей в точности на мно-
жество других дверей, которые вытянулись вдоль коридоров.
Только эта тяжелая желтая дверь с потайным окошечком по-
средине (иуда, как характерно его называют французы) была
открыта.
—
Войдите!
Он начал показывать мне комнату.
—
Вот,—сказал он, указывая на стол.
—
Вот,—и он указал на умывальник.
—
Вот еще.
Это была уборная.
Хозяйство немногосложно, и в какие-нибудь полминуты об-
зор был окончен. Богородицкий попрощался со мною и ушел,
прибавив:
—
Если вам что-нибудь будет нужно, вы позвоните.
Он уже указал мне раньше на кнопку электрического звонка.
Дверь глухо закрылась, как гробовая доска.
Я остался один, настолько один, насколько это возможно
для живого человека.
Моя келья была довольно просторна: шагов десять в длину
и пять в ширину; очень гладкий и низкий сводчатый потолок,
казалось, хотел раздавить меня, хотя посредине комнаты, чтобы
достать его, мне надо было вытянуть на полметра мою руку.
Окно, три раза перекрещенное решеткою, находилось на
высоте моей головы; оно было почти квадратное, несколько
больше в ширину, чем в высоту, очень маленькое, и выходило
прямо к стене, отстоявшей от нее на три-четыре метра, которая
была выше, чем тюрьма. Таким образом в окна был виден
только кусок неба величиной не больше моего каземата. Стены
обиты толстым слоем пакли, потом обтянуты полотном и оклеены
обоями. Это было сделано с той целью, чтобы помешать заклю-
ченным сноситься друг с другом посредством перестукиванья.
Все, что находилось в камере, было окрашено в желтый
цвет. Асфальтовый пол, небольшой стол, табурет, постель, умы-
вальник, параша и никакой другой мебели, ничего, кроме ма-
ленького образка св. Николая и возле него стереотипного
Евангелия.
Камера была очень темна; иногда в течение целого дня
можно было читать только час или полтора. Вечером и ночью
она освещалась керосиновым ночником, который давал света
почти в три раза меньше, чем обыкновенная свеча.
Я долго лежал на волосяном матраце, уткнув голову во влаж-
ную подушку; я не мог уснуть в этом гробовом молчании, ко-
торое меня подавляло. Тяжелые шаги часового, проходившего
взад и вперед, были единственным звуком эгР дверью.
Иногда солдат, очевидно, старался заглушить шум своих
шагов и украдкой приближался к двери, потайное оконце по-
стукивало, и я видел тогда уставившийся на меня глаз; затем
окошечко мелькало еще раз, глаз исчезал, и опять раздавались
монотонные шаги по истрепанному ковру коридора.
Вот раздался бой часов на колокольне Петропавловского со-
бора. Каждую четверть часа они просто отбивают; каждый час
играют гимн «Коль славен наш господь в Сионе», а в полдень
и в полночь исполняют национальный гимн «Боже, царя храни!»
В эту ночь я слушал эти гимны, прославляющие небесных и
земных богов, и лежал, погруженный в сознание абсолютной
изолированности, которая настолько противоречит человече-
ской натуре, что ее нельзя достойно описать на каком-либо
языке.
Первое время я имел еще некоторые, не совеем обычные
развлечения: меня довольно часто возили на допросы.
Загремит, бывало, замок.
—
Одевайтесь скорее,—крикнет присяжный, стоя сзади сол-
дата, принесшего мою одежду.
Вооруженный с ног до головы часовой также продвигался
и неподвижно останавливался в дверях.
По регламенту крепости заключенный ни на секунду не мог
оставаться наедине с кем бы то ни было; поэтому в камеры вхо-
дили всегда целыми процессиями.
Я живо одевался и шел за присяжным но коридорам, раду-
ясь, что слышу стук, производимый моими сапогами, напоми-
навший мне свободу.
Мы проходили кордегардию, наполненную солдатами, дверь
которой с таким трудом открылась передо мною в день моего
прибытия. Жандармы обыкновенно уже ожидали меня в карете,
и мы уезжали.
Допрашивали меня в большинстве случаев в III Отделении.
У следователей в это время было много работы, так как еже-
дневно производились все новые и новые аресты.
Именно эти многочисленные и слишком легкие аресты всегда
и сбивают с толку и запутывают в России всякое следствие;
вместо того чтобы разобрать дело, кое-что отгадать в нем, наши
судебные следователи набирают новых и новых так называемых
подозрительных.
Большая половина
подозрительных
имеет лишь очень отдаленное отношение к действительным ви-
новным и только запутывает следствие тысячами сомнительных
и лживых показаний. В конце-концов следствие оказывается
разбитым, теряется в архивах таких показаний, где, как гово-
рится, сам чорт сломает ногу. Дело кончается тем, что никто
ничего не понимает: освобождают настоящих виновных, и обви-
няют людей безвредных в воображаемых преступлениях.
В нашем процессе, который вел знаменитый Жихарев " аре-
стовали, например, более шестисот заподозренных, которые в
большинстве случаев не имели между собою ничего общего, не
были даже знакомы друг с другом, но которых тем не менее
следствие соединило в одно тайное общество. Позднее были
вынуждены освободить две трети обвиняемых и создали окон-
чательный процесс из ста девяноста трех подсудимых 2(!.
Так или иначе, но следователи тогда были очень заняты, и
я каждый раз должен был подолгу ожидать моих допросов.
—
Подождите, подождите,—кричали моему стражу, и мы
ждали в прихожей. Вслед за тем до моего слуха долетал топот
поспешных шагов и фраза: «Проходите в другую комнату».
Это значило, что торопились освободить для меня комнату, за-
нятую до тех пор другим обвиняемым.
Тогда в III Отделении была одна большая зала и, кажется,
четыре небольших комнаты, расположенные по обеим сторонам
коридора, который вел из прихожей в большую залу. Все эти
комнаты занимались теми, кого приводили на допросы.
Ожидая прокурора в одной из кокетливых комнат, я иногда
слышал, как допрашивали в соседней комнате.
Нередко голоса повышались, и я узнавал кого-либо из моих
друзей. Сколько раз я пытался приблизиться к двери, чтобы
яснее слышать их разговор! Но меня почти никогда не оста-
вляли одного. Жандармские офицеры ежеминутно входили в
занимаемую мною комнату и каждый раз обращались с какой-
нибудь любезностью:
—
Как вы себя чувствуете? Надеюсь, вам здесь не хо-
лодно?..
Они, казалось, чувствовали себя здесь хозяевами и оказы-
вали внимание, чтобы смягчить грубое и жестокое поведение
прокуроров.
Жандармерия тогда составляла оппозицию прокуратуре.
Некогда она была совершенно независима в политических де-
лах, теперь же ее передали в ведение господ прокуроров, ко-
торые прилагали всевозможные усилия, чтобы доказать пра-
вительству свою ревность и усердие. От избытка этой ревности
они часто относились к заключенным по-скотски. Жандармы
при этом пожимали плечами, как бы желая сказать: «Нечего
сказать, много выиграли от этой реформы».
Наконец появляется прокурор, чистенький, в белоснежных
манжетах, с надушенным платком, с сердцем, твердым, как
скала. Чаще всего меня допрашивал известный М^Мш^даЕЁКИЙ^
которого в конце-концов я возненавидел за его грубость.
Необходимо, однакож, сказать несколько слов о моих «пре-
ступлениях».
Мне пришили два дела сразу.
Год тому назад один молодой человек, по имени Любав-
ский ~7, пришел ко мне с рекомендательным письмом от X., чле-
на петербургского кружка пропагандистов. Я еще тогда не при-
надлежал к этому кружку, но находился с ним в сношениях.
Любавский объяснил мне, что он должен вручить X. 7 .000 ру-
блей, предназначенных для изданий кружка, который выпускал
тогда много ценных произведений. Их издавали вполне легаль-
но, представляя на цензуру, но распространяли по умеренной
цене, со скидкой 40—50%.
Я обещал Любавекому передать по назначению его 7.000 ру-
блей, как только он мне их вручит.
После этого молодой человек был у меня еще несколько
раз; он казался мне очень легкомысленным, и я остерегался по-
свящать его в свои дела. Что же касается денег, то я их так и
не видел. Несколько раз пытался объяснить мне, хотя я его не
расспрашивал об этом, что он пока не мог еще реализовать
Эту сумму.
Теперь этот Любавский был арестован, не знаю по какой
причине, и, испугавшись, начал раскаиваться в своих полити-
ческих прегрешениях. Самым важным оказалось намерение по-
жертвовать на дело 7.000 рублей. На меня он указал, как
на посредника между ним и кружком в Петербурге.
Я был тогда студентом Московского университета.
Чтобы не возвращаться более к этому делу, я расскажу и
конец его. Этот бедняга Любавский через некоторое время был
освобожден на поруки и сейчас же женился на дочери жандарм-
ского офицера, фамилию которого, к несчастью, я забыл. После
этого его процесс застыл до тех пор, пока не прекратился окон-
чательно по высочайшему повелению.
Но я, хотя и не имел преимущества быть женатым на дочери
жандарма, на самом деле играл в деле Любавского только вто-
ростепенную роль. Высочайшее повеление, уничтожив все
дело, должно было бы и меня освободить. Но это делается
только на бумаге. Меня объявили свободным от всей ответ-
ственности по делу Любавского, но я должен был оставаться
в тюрьме по обвинению в пропаганде между рабочими.
Нужно заметить, что в это время относительно меня не
было еще никакого постановления об аресте. Об этом вспомни-
ли только через две недели, значит, я провел в Петропавлов-
ской крепости пятнадцать дней без соблюдения законной фор-
мальности.
К несчастью, я узнал все эти подробности только через че-
тыре года, когда нам вручили обвинительный акт и допустили
к чтению всего нашего огромного дела.
Во время процесса Любавский явился в качестве свиде-
теля. Прокурор, не имея права обвинять меня, не постеснялся,
однакож, ознакомить суд со всем этим делом, чтобы только
«охарактеризовать»
меня, — это было его подлинное выра-
жение.
Другое обвинение против меня заключалось в пропаганде
среди рабочих. И здесь моя роль, по указанию свидетелей,
была также второстепенная. По доносу одного студента, я
обвинялся в революционной пропаганде, но он никогда лично
при этом не присутствовал. Рабочие же показали только, что я
учил их читать, что они получили от меня первые понятия по
арифметике и физике.
Наконец, во время ареста я назвал властям вымышленное
имя, что отчасти могло указать на мои дурные намерения, но
я объяснил это следствием испуга и ненормального состояния,
в каком я был во время ареста.
Принимая все во внимание, нельзя было назвать это сериоз-
ным преступлением, тем более, что и сама революционная про-
паганда в то время не имела в виду немедленного восстания.
Она имела целью, как гласил даже и самый обвинительный акт,
революцию
в более
или
менее
отдаленном
будущем.
Несмотря на все это, меня не желали освободить даже на
поруки, что было чистой репрессией, направленной против моей
личности, а не против моих действий.
Через год предварительного заключения меня вызвали и
объявили, что следствие закончено и что я должен остаться в
заключении до процесса.
—
Но скажите мне, пожалуйста,—обратился я к проку-
рору,—в чем вы меня обвиняете? Честное слово я не знаю!
—
Да,—отвечал он мне чистосердечно,—это верно, ваша
роль второстепенная... Вам скорее вредит недостаток искрен-
ности,—добавил он.
И правда, искренним на допросах я никогда не был. Един-
ственное, что утешало меня в это ужасное время, это сознание,
что я никого не предал. Мои допросы всегда бывали очень
кратки.
—
Участвовали ли вы в пропаганде?
—
Нет.
—
Такой-то участвовал в ней?
—
Нет.
—
Но вы жили в одной комнате, вы присутствовали на р а-
б о ч и X собраниях, где проводилась эта пропаганда.
—
Да, я на них присутствовал, но и он и я давали только
уроки; он обучал рабочих чтению и арифметике.
—
Он сам сознался, что пропагандировал революционные
идеи.
—
Я не знаю.
—
Не хотите ли прочесть его показания? Это его почерк,
не правда ли?
Я читал, это была правда: он сознался.
—
Ничего не знаю об этом. Разумеется, то. что он сделал,
он должен знать лучше, чем я, но я решительно ничего не за-
мечал.
—
Ежедневно присутствуя при этом?
—
Я ничего не заметил.
Тогда эти люди начинали сердиться.
Наконец, отчаявшись извлечь из меня что бы то ни было,
оставляли меня в покое. С месяц меня не вызывали вовсе и за-
тем потребовали еще раз-
Прокурор радостно встретил меня и объявил, что все мои
сообвиняемые уже сознались и что поэтому мои отрицания
сделались бесполезными.
—
До настоящего времени вы могли бояться выдать дру-
гих, но теперь вы можете говорить откровенно, потому что ваши
отрицательные показания в конце-концов только противоречат
всем показаниям других.
Я чувствовал себя тогда уже очень слабым; часто болел,
страдал сердцебиением и не мог говорить без того, чтобы не за-
дыхаться.
—
Дайте перо, и я дам вам последнее показание.
Он дал мне бумагу и удалился.
Я снова написал в кратких выражениях, что я решительно
ничего не знал и что я никогда не замечал, чтобы кто-нибудь
занимался революционной пропагандой. Я задыхался от него-
дования. Прочитав показания других, я видел, что отрицание
мое является бесполезным. Все другие, люди мужественные, без
сомнения,—имели глупость сознаться во всем. Но почему же
тогда прокурору так хотелось вырвать и у меня показания про-
тив моих товарищей? Он хотел во что бы то ни стало сделать
из меня доносчика.
О, подлецы!..
Вошел прокурор. Я не мог говорить и с улыбкою ненависти
протянул ему бумагу.
Он прочитал и пожал плечами.
—
Как вам угодно!..
С этого момента я был, так сказать, забыт до конца след-
ствия. У меня ничего не спрашивали, мне ничего не сообщали.
Я был совершенно изолирован в самом строгом одиночном за-
ключении.
Как рассказать о них, этих днях неволи и особенно ночах?
С первого же дня я старался найти какую-нибудь работу, ка-
кое-нибудь занятие, чтобы не замечать, как проходит время. Я
обращался к Богородицкому, но—увы!—- все было невозможно.
—
Бумаги и чернил.
»
-—
О, это категорически запрещено.
—
Тогда аспидную доску.
—
Невозможно-
—
Книг...
—
Вам принесут, что можно здесь найти.
—
Но я желал бы написать одному товарищу, чтобы мне
прислали книг для работы... особенно словари...
—
Совершенно невозможно. Я уже просил об этом комен-
данта, но он запретил вам писать кому бы то ни было.
—
Как,—вскричал я пораженный,-— разве я не могу напи-
сать даже своим родителям?!
—
Нет.
—
Но ведь они будут страшно беспокоиться, не получая от
меня никаких известий...
—
Что делать! Запрещено.
Только черед год эта варварская мера была уничтожена, и
я мог написать своему отцу.
Мои письма проходили цензуру и исправлялись иногда два
или три раза. Одновременно с разрешением писать родным мне
позволили достать себе хороший французский словарь и ку-
пить грифельную доску. Но в течение первого года я пользо-
вался только книгами Богородицкого.
Крепостная библиотека впоследствии стала богаче, благо-
даря пожертвованиям филантропов, которые старались
хоть
немного смягчить горькую судьбу заключенных. Уверяют, что
теперь она состоит уже из нескольких тысяч томов. В мое время
было не так. Большинство книг было незначительного содер-
жания; три четверти составляли разрозненные номера старых
журналов, иногда специальных—военных, морских и т. д. Одна-
жды, за недостатком книг, Богородицкий предложил мне Четьи-
Минеи. Я погрузился в эти гигантские томы в кожаных пере-
плетах. Их странная, почти сумасшедшая, но в то же время вла-
стная поэзия окружила меня фантастическим миром святых, не-
чистой силы, чудес, беснования и самых высоких человеческих
добродетелей.
Вместе с Евангелием это были единственные книги, чего-
нибудь стоящие из всех доступных мне ч течение этого года...
Особенно Евангелие я мог изучить здесь во всех его подроб-
ностях.
Эта замечательнейшая из всех существующих книг требует
очень продолжительного изучения, но и ее одной было мне не-
достаточно на целый год, тем более, что она представляет ма-
териал очень опасный в одиночном заключении, так как слиш-
ком сильно возбуждает воображение. При таком исключитель-
5
Заговорщики и полиция.
65
ном чтении легко сойти с ума даже человеку верующему, а не-
верующему в особенности.
Что же оставалось мне делать? Ничего.
Обычно я просыпался довольно поздно; чаще всего будили
меня, принося чай. Я еще лежал в постели, когда присяжный
отворял дверь и около меня на столе ставили жалкую кружку
чая, небольшой хлеб и два маленьких куска сахару. Солдат вно-
сил все это в сопровождении присяжного, и за ними обоими в
дверях следил часовой. Ни часовой, ни солдаты-служители ни-
когда не осмеливались сказать мне ни единого слова: это было
строго запрещено.
Присяжный был более свободен, он, по крайней мере здоро-
вался со мною, и я мог даже спросить его, например, какая по-
года, или когда у нас будет баня. Хотя и лаконически, но он все-
таки отвечал на мои вопросы.
Я пил чай и вставал с постели.
А что дальше?
Частенько, особенно зимой, в моей камере было , темно ча-
сов до одиннадцати утра, и я совершенно не мог читать.
Тогда я прогуливался из угла в угол большими шагами, раз-
мышлял, мечтал. Потом наступало время прогулок. Обычная
процессия сторожей приносила мне платье, и я спускался в наш
маленький сад.
Я не мог удержаться от улыбки, сравнивая мои первые впе-
чатления от крепости с ее действительным планом, в сущности
совершенно простым.
Наша тюрьма представляла собою длинный замкнутый пяти-
угольник, внутри которого был расположен маленький садик.
Одна сторона дома занималась кордегардией, кухней и квар-
тирой смотрителя. Четыре других стороны его были при-
способлены к одиночным камерам; последние вытягивались во
всю длину наружных стен дома, а внутренние его стены выхо-
дили в садик и были заняты широким коридором, куда в свою
очередь выходили двери камер и где всегда находились ча-
совые.
Дом этот был в сущности одноэтажный *, но имел еще этаж
на уровне земли, также разделенный на камеры. Общее число
камер во всей тюрьме доходило почти до семидесяти. Вот и все.
Посередине садика маленький дом—баня.
Прогулки по саду не доставляли особенного удовольствия.
Этот жалкий, совсем еще молодой садик с немногочисленными
захиревшими деревцами, редко засеянный цветами, только на-
* В мое время, 8L г., это было двухэтажное здание. М . Фроленко.
поминал о свободе, об обществе и о настоящей природе. Он
возбуждал и раздражал меня. Притом и часовые, расхаживав-
шие вокруг сада и никогда не выпускавшие меня из вида, при-
водили меня в негодование. Я смотрел на них с досадою, сме-
шанной с жалостью, и думал про себя:
«Бедные животные! Вы тоже рабы, как и я, и вы думаете,
что исполняете ваш долг, удушая людей, которые хотели бы
принести вам же свободу!»
Эти часовые портили мне кровь. Печальный и угрюмый, я
ходил по дорожкам и замечал иногда в окне квартиры Богоро-
дицкого молодого человека, почти ребенка. Это был его сын,
часто приходивший к отцу из своей военной школы. Он наблю-
дал за прогулкой заключенных и все время не отходил от окна.
Иногда я видел его у дверей отцовской квартиры в той же вни-
мательной и задумчивой позе.
«О чем думает этот кадет,—спрашивал я себя.—Наверно
он изучает искусство душить людей».
Но никогда не следует судить о людях слишком поспешно.
Несколько лет спустя этот молодой человек сам был заключен
в одну из камер крепости по обвинению в организации сноше-
ний между заключенными и их друзьями на свободе. Значит,
вечно задумчивый, пристально рассматривая нас, он изучал что-
то другое, а не искусство душить людей.
Прогулка продолжалась полчаса, когда заключенных было
еще мало; потом нам давали только двадцать минут и кончили
тем, что водили нас в садик только на четверть часа и то лишь
один раз в три дня. Впрочем, я лично сожалел об этом
очень мало.
Возвратившись домой, я снова предавался праздности вплоть
до обеда. Иногда меня посещал Богородицкий. Частенько я при-
хварывал, и тогда являлся доктор. Относительно обоих этих
лиц я не могу сказать ничего дурного. Позднее я кое-что слы-
хал о жестокости Богородицкого, но лично на себе я не испы-
тал ничего подобного. Это был человек загрубелый на службе
тюремщика, но иногда он казался мне способным на чувство
жалости. Раз, видя меня печальным, он принес мне несколько
великолепных солдатских сухарей.
—
Я заметил,—сказал он мне,—что вы собираете крошки
хлеба, чтобы высушить их, значит, вы любите сухари.
Ей-богу, я был тронут таким участием.
Другой раз, на Рождестве, он прямо удивил меня.
Рождество, этот поэтический праздник, столь популярный
у нас на юге,—ночь песен, прогулок, гуляний... В первый раз я
должен был провести его в тюрьме.
5
67
Печальный, упавший духом, стоял я у дверей моей камеры,
пытаясь уловить хоть какой-нибудь шум снаружи. Мой часо-
вой, вероятно, тоже думал больше о празднике, чем о своей
службе; присяжные собрались в своей комнате на другом конце
•коридора и весело разговаривали, надо полагать, тоже о
празднике.
Долго я стоял, точно приклеенный к двери, как будто бы
здесь было легче, будто я был ближе к людям... Вдруг я услы-
шал шаги, шпоры... Это Богороднцкий вошел в мою камеру.
Была уже полночь.
Он был очень весел и почти пьян.
—
Я пришел поздравить вас с праздником... Мы только-что
встретили его у меня... был доктор... Что делать? Нам было ве-
селее, чем вам. Ну, что ж... Во всяком случае желаю вам всего
хорошего...
Он старался хоть немного развлечь меня, но бедняга был не
красноречив, и я полагаю, что он гораздо лучше пил, чем гово-
рил. Да и что у нас могло быть общего, чтобы поддержать раз-
говор? Но если о« хотел меня утешить немного, выразить свою
симпатию, то ему это удалось.
Доктор, старый военный врач, совершенно седой, всегда ка-
зался мне очень добродушным. Когда он посещал меня, он
оставался долго, шутил, давал советы и в общем всегда прида-
вал мне бодрости. Некоторые товарищи считали его человеком
без сердца. Не знаю, ко мне он относился очень сердечно, и я
его вспоминаю с чувством признательности.
Эти посещения, очень редкие, не могли заполнить пустоту
моего существования.
Чай, прогулка, обед, вечерний чай, иногда баня—вот собы-
тия, отмечающие день.
Питание в крепости было довольно хорошо, к несчастью...
так как, по моему мнению, одиночно заключенный должен чув-
ствовать себя счастливее, если он всегда немного голоден. Это
ощущение голода являлось бы развлечением и, отвлекая от тя-
желых дум о будущем, приводило бы его к идеям положитель-
ного характера. Когда он сыт, у него, кроме того, является по-
требность деятельности, а отсутствие деятельности, труда, впе-
чатлений в тысячу раз ужаснее, чем физические лишения.
Я изобретал всевозможные способы, чтобы заменить отсут-
ствие работы чем-нибудь таким, что могло бы отвлечь меня от
постоянной мысли о моем будущем, о лучших годах моей жизни,
которые теперь протекали так уныло и непроизводительно. Но
все было напрасно.
Я решил ежедневно совершать прогулку до 20 верст. Для
этого я тщательно измерил мою камеру и вычислил, сколько
раз нужно пройти по ней для того, чтоб это составило положен-
ное число верст. Я хотел заняться, кроме того, гимнастикой, но
страшная сырость камеры (я жил поочередно в четырех) скоро
вызвала у меня ревматические боли. Особенно меня мучил су-
ставной ревматизм. Таким образом, для физического упражне-
ния я должен был довольствоваться своими 20 верстами про-
гулок.
Все это меня утомляло, но нисколько не мешало мік думать:
мысли душили меня. Я не умел плакать, но если бы мог пла-
кать, я плакал бы горькими слезами, но не из-за переживаемых
несчастий, а при виде того, как глупо, печально и бесполезно
проходит моя жизнь. Я задавал себе разные умственные работы.
То я решал какую-нибудь задачу по социологии, то разрешал
какой-нибудь философский вопрос или вопрос по русской по-
литике и пр. и принуждал себя обсуждать их систематически,
взвешивая все за и против.
Большими шагами ходил я по моей камере и рассуждал сам
с собою. С этих пор я не могу равнодушно смотреть на живот-
ных, бегающих по клеткам в зверинце: они всегда напоминают
мне мои нескончаемые прогулки...
Этот искусственный труд значительно облегчал меня, но
иногда все мои усилия оставались тщетными, и мысли, полные
отчаяния, завладевали всем моим существом, как наводнение,
прорывающее плотину.
«Безумный,—кричали они мне,—к
чему это упорство во
что бы то ни стало сохранить себя. Ты погиб во всяком случае.
Ты видишь, что решено тебя задушить здесь...»
Тогда я удваивал свои усилия и между прочим переставал
есть, чтобы заглушить мысли чувством голода, или начинал ку-
рить в два или три рада больше, чем обыкновенно, и, когда чув-
ствовал себя отравленным, внезапно переставал курить вовсе,
чтобы испытать муки завзятого курильщика, лишенного табака.
Два или три дня я был счастлив, потому что думал только о та-
баке, не испытывая никакой другой борьбы, кроме желания ку-
рить, с тем сознанием, против воли, которая запрещала мне это
делать.
Но через два-три дня я чувствовал уже, что лишение
табака переставало мучить меня, и я снова начинал думать о
прежнем. Я опять начинал курить в усиленных размерах.
Однажды я надумал сделать карты, но не играть в них, а рас-
кладывать пасьянсы.
_у
.
,
Это было делом не легким.
<
В течение долгого времени я собирал папиросные мундшту-
ки, а из черного хлеба, смешанного е сажей моего ночника, сде-
лал себе нечто в роде карандаша. Наконец, были готовы все
тузы и короли, но- —увы!—моим месячным трудом я пользовался
лишь несколько дней.
Во время прогулок присяжные всегда обыскивали камеру
гуляющего; разумеется, они скоро нашли мои карты и похи-
тили их.
Регламент крепости запрещал карты.
Тот день, когда солнце посетило мою камеру, всего только
на несколько минут, был для меня настоящим праздником; я
подобрал куски той цветной бумаги,—желтой, зеленой и розо-
вой,—какая всегда имеется в русских папиросах, и расположил
их таким образом, что они освещались этим солнечным лучом.
Я наслаждался созерцанием этого снопа ярких расцветок, пока
присяжный не отнял у меня эту бумагу.
—
Что вы тут делаете?—спросил меня Богородицкий подо-
зрительным тоном.
Так как я не мог признаться ему в моей ребячьей радости
при виде ярких красок после нескольких серо-темных месяцев,
то я не отвечал ему вовсе, и, мне кажется, он остался уверен-
ным, что имел дело с чем-то действительно подозрительным.
У меня отняли бумагу, но у меня было еще мыло, и я стал де-
лать мыльные пузыри, чтобы наслаждаться многоцветным отра-
жением в них моего солнечного луча.
Все это, однакож, не могло спасти меня от самого себя. Я
всегда чувствовал себя раздраженным, нервно расстроенным и
во власти тщетных надежд.
Каждый день я ждал или освобождения или приговора—то
или другое, мне было все равно. Ежедневно мои надежды обма-
нывали меня, и, ложась спать, я мечтал о том, чтобы ночь про-
шла скорее, надеясь, что утро принесет что-либо более сча-
стливое.
Обыкновенно я спал хорошо, это меня укрепляло, почти
всегда я видел хорошие сны.
ІІо мало-по-малу я потерял и это утешение. К вечеру я стал
чувствовать себя более раздраженным и изнуренным. Черные
мысли овладевали мною в этом угрюмом молчании, где я слы-
шал только тяжелые шаги часового да иногда шлепанье туфель
соседа по заключению, который бегал по своей камере в та-
ком же нервном возбуждении.
Окошечко постукивало, и глаз часового приближался к нему.
Чего смотрит этот дурак?
Это выводило меня из себя... Через две-три минуты он снова
подглядывал. Я раздражался все больше и больше.
Это постоянное шпионство могло сделать меня полусума-
сшедшим, оно, наверное, свело бы меня с ума. Позднее я спра-
шивал многих из заключенных об этом, и все они подтверждали
мое наблюдение.
Много раз я обещал себе не обращать внимания на часового
и оставаться хладнокровным,—это было бесполезно; уже через
четверть часа я не владел собою. Я начинал ругаться, схваты-
вал первый попавшийся под руку предмет и швырял его в
дверь. Но это не производило никакого впечатления на часо-
вого, который все время продолжал подсматривать за мною.
Иногда, бледный от бешенства, я вооружался каким-нибудь
предметом, намереваясь разбить стекло окошечка и повредить
глаз часовому.
Я подстерегал его у двери, но солдат, очевидно, был зна-
ком со всеми этими хитростями и в этих случаях неподвижно
останавливался в нескольких шагах и выжидал, пока я не утом-
люсь бесплодным выслеживаньем.
Это шпионство меня постоянно мучило, особенно вечером:
оно мешало мне спать.
Когда, наконец, я засыпал, меня начинали душить чудовищ-
ные кошмары; это были почти всегда фантастические призра-
ки, порожденные моим душевным состоянием. То это было чу-
довище, которое пожирало меня, то я скользил по ледяному
пространству, увлекавшему меня к неведомой пропасти... Я про-
сыпался в ужасе, покрытый холодным потом. Видения эти бы-
вали настолько ужасны, что я начинал испытывать страх и от-
вращение перед сном и старался не засыпать как можно долее.
Самое ужасное было то, что в конце-концов я видел себя
одетым только в мой тюремный костюм; значит, тюрьма на-
столько охватила все мое существо, так запечатлелась в глубине
моей души, что даже во сне я не был в состоянии вызвать ка-
кие-либо другие воспоминания.
Современные юристы уверяют, кажется, что девяти месяцев
одиночного заключения вполне достаточно, чтобы разбить
злую волю преступника. Эти близорукие мудрецы, на про-
тяжении целых веков не сумевшие понять, что злой
воли
не существует вовсе и что всякое преступление есть только про-
стая случайность, правильно определили срок своей цивилизо-
ванной пытки. Девять месяцев одиночного заключения способны
совсем погубить человека.
Спустя девять месяцев или около этого я почувствовал себя
чрезвычайно слабым, стал страдать такими мучительными серд-
цебиениями, что не мог более ни лежать, ни ходить. Доктор про-
писал мне лекарство и настойчиво советовал каждый раз не ду-
мать ни о чем, особенно не думать о своем положении. Ему
было легко, конечно, давать советы, но где же взять силы
исполнить их?
Однакож, время шло, и мои чувства, так сказать, заморажи-
вались, я замерзал; моя чувствительность притуплялась, я ста-
новился более спокойным.
Однажды я сказал себе:
«Так как до сих пор я не умер, так как я не могу устроить
себе побега, стало-быть, нужно жить, насколько это возможно.
Бесполезно волноваться, бесполезно ожидать, бесполезно отчаи-
ваться!»
И с большим удивлением я увидел, что могу заставить себя
не думать ни о чем таком, что меня волновало. Правда, это тре-
бовало постоянных усилий, но все же сделалось в о з м о ж и ы м.
Таким образом, с начала второго года моего заключения я на-
чал брать себя в руки. В то же самое время я стал замечать, что
постепенно утрачиваю ясность мысли, что моя память ослабе-
вает и что мой разум становится менее прозорливым.
Я решил про себя:
«Теперь вопрос только во времени, и я стану идиотом».
Но я уже настолько ослабел, что даже эта ужасная мысль не
волновала меня более.
«Ну-с,—отвечал я себе,—нужно стараться, чтобы это слу-
чилось как можно позднее. Да и что тут поделаешь? Если это не-
избежно, я сделаюсь идиотом—вот и все».
Однако вскоре я получил позволение писать моим родным
и достал себе французский словарь.
С этих пор я стал усидчиво изучать французский язык, и
уже через несколько месяцев работы знал его гораздо лучше,
чем теперь. Но мне приходилось читать только словарь, кото-
рый я выучивал наизусть, отодвигая чтение книг на будущие
времена.
Скоро я стал более спокойным, но это спокойствие было спо-
койствием смерти.
Вот стихотворение, родившееся у меня невольно в это
время:
Я заживо погребен в этом каменном мешке,
За железной решеткой сидя в тюрьме.
И днем и ночью раздаются за дверью
Шаги часового с ружьем на плече.
Нее то, что радует или печалит мир.
Вое, что заставляет сильнее биться сердце человека,
Давным-давно но проникает
В мою могилу.
Сердце и воля мои скованы,
И с каждым днем
Все ясней для меня
Мое сходство с трупом.
Но иногда дикая ненависть
Поднимается к сердцу горькими волнами,
Рисуя предо мной картины отмщения,
И тогда я оживаю на мгновение.
Случай меня епае.
В начале моего заключения я был почти один во всей крепо-
сти, даже буквально один.
Потом все чаще и чаще до меня доносилось бряцанье шпор
и шлепанье туфель в коридоре. Я понимал, что это обознача-
ло. Сейчас откроют дверь... и ее действительно открывали. По-
том с шумом захлопывали. У меня появлялся новый товарищ
по несчастью.
Понемногу я стал разбирать на оловянных тарелках имена
заключенных; я писал также свою фамилию, постоянно ссорясь
с Богородицким, который из-за этого ужасно злился. Присяж-
ные всегда стирали эти надписи, благодаря чему все оловянные
тарелки были вскоре исцарапаны.
Все же, тем или иным способом, мне удалось узнать фами-
лии нескольких заключенных.
Раз я прочитал следующую надпись на французском языке:
«обратите внимание на шаги номера...» . Это был как раз номер,
соседний с моей камерой, но я напрасно прислушивался к ша-
гам, я не мог ничего понять. В то время не существовало еще
азбуки, передаваемой стуком, но вскоре после этого она рас-
пространилась по всем тюрьмам, где содержались политические.
Летом через форточку в мою камеру влетело много мух. Мне
пришла мысль использовать их в качестве почтальонов; я при-
готовил несколько записок на папиросной бумаге, поймал со-
ответственное количество мух, привязал записочки к лапкам и
выпустил их. Позже я спрашивал товарищей об этих мухах-поч-
тальонах, но оказалось, что все усилия мои были напрасны: ни-
кто решительно не получил моих писем.
Между тем количество заключенных настолько возросло,
что Богородицкому пришлось разместить их по соседним ка-
мерам без всяких промежутков, и тогда стало уже невозможно
помешать общению между нами.
Раз я услыхал стук в стену недалеко от меня. Я отвечал
стуком же и начал считать удары. Ударили 11 раз, потом 3 раза,
потом 14, потом опять 3; по русскому алфавиту это означало
Л, В, О, В—Львов 28. Это была фамилия одного из моих друзей!
Обрадовавшись, я протелеграфировал ему свое имя...
Мой собеседник оказался, действительно, Исааком Льво-
вым. Мы с ним скоро упростили нашу телеграфную азбуку, сде-
лав ее очень удобною и скорою.
Существовало много изобретенных на этот счет азбук, но
самой употребительной осталась следующая:
12
345
1аб
в
г
«
о
е
ж
3и
к
3л
м
н
0II
4Рс
т
уф
5XЦчшЩ
6ыь10яіі
Каждую букву обозначали двумя ударами: первым ударом
указывался ряд, вторым буква этого ряда. Так, чтобы сказать
слово«тюрьма», нужностучать4и3,6и3,4и1,би2,3и2,
1и1раз.
Получался настоящий телеграф.
Когда привыкнешь к этому способу, привыкнешь стучать и
понимать стук, можно легко разговаривать о чем угодно, можно
обсуждать всевозможные вопросы, и притом очень скоро, тем
более, что каждое слово угадывалось, обыкновенно, с двух или
трех букв; например, вместо слова тюрьма, стучали только
тюр... и так далее.
Скоро я так наловчился в этом своеобразном языке, что
узнавал любого из своих товарищей по стуку, как узнают по
голосам. Я отлично понимал настроение своего соседа, был ли
он весел, печален или взбешен. Позднее с первых же ударов
я узнавал, мужчина или женщина перестукивается со мною. Жен-
щины всегда стучали настолько быстро, что я не мог сосчиты-
вать числа их ударов и всегда должен был просить соседку не
торопиться.
Когда этот способ упрочился, наша жизнь сделалась не так
ужасна. С этого времени, собственно говоря, мы не были уже в
одиночном заключении, так как могли беседовать о наших делах,
огорчениях, надеждах...
Каждый из нас был обязан посвящать часть дня на то, что
мы называли нашей почтой. Стучали обыкновенно:
—
Пост номер такой-то!
Иногда эти номера были на противоположных
концах
тюрьмы.
—
Номер такой-то передает номеру такому-то следующее.
Хочешь не хочешь—надо было передавать телеграмму даль-
ше, Эта обязательная работа была подчас мне очень неприятна,
тем более, что в это время я уже изучал французский язык.
Кроме того, наши перестукивания ежедневно заканчивались не
только неприятными, но даже ужасными сценами с присяжны-
ми, с Богородицким, особенно вначале, когда они надеялись
еще разными репрессиями запугать нас.
Но, несмотря на это, существование сделалось для меня бо-
лее сносным. Я мог по крайней мере облегчить себя жалобой;
я был обязан утешать другого, а ведь это придает много
бодрости.
У меня было много больных соседей, некоторые даже умер-
ли в тюрьме. Бедный Исаак Львов успел только попрощаться
со мною и сообщить, что его переводят в лазарет, откуда он
уже не надеется выйти. Другой больной долго оставался рядом
со мною и умер лишь через несколько месяцев.
Все это было очень тяжело, конечно, но все же я теперь
был не один.
Я думаю, что это спасло меня от моего изнеможения и от
того равнодушия, которое перемежалось с приступами отчая-
ния и бешенства и которое в сущности было, вероятно, разно-
видностью душевной болезни.
Однажды, в начале 1876 года, Богородицкий вошел ко мне
в сопровождении своего обычного конвоя. Солдат
принес
мои вещи.
—
Одевайтесь,—сказал
мне Богородицкий,—и
соберите
ваши книги. Вы уезжаете от нас.
—
Как?!
—
Я не знаю, куда вас повезут, может быть, вас выпустят
на свободу... не знаю.
Он казался обрадованным, и теперь еще я себя спрашиваю,
неужели он был настолько жесток, чтобы шутить таким обра-
зом, или он действительно не знал, куда меня отправляли.
Я задрожал при этой неожиданной новости и не смел ве-
рить своему счастью; моментально я собрал мой багаж. Две ми-
нуты спустя я уже сидел в карете в сопровождении жандарм-
ского офицера и жандарма.
Я был так взволнован, что не осмеливался заговорить из
«боязни выдать себя дрожанием голоса и по той же причине был
совершенно не способен обращать внимание на путь, по кото-
рому мы следовали.
Вскоре мы остановились перед большим домом на Шпалер-
ной улице. В самый последний момент, даже при входе в дом,
я еще не знал, где я был.
Это была новая тюрьма, выстроенная во время моего заклю-
чения, официально называвшаяся Домом предварительного за-
ключения. Новая постройка, с новыми правилами содержания,
она представляла собою первую сколько-нибудь цивилизован-
ную тюрьму в России.
•
В сущности я переменил только место заключения, и это
меня сильно разочаровало.
Надо впрочем сказать, что Предварилка, как кратко ее на-
зывали, совсем не производила тяжелого й мрачного впечатле-
ния крепости; наоборот, в сравнении с последнею она казалась
даже веселою и красивою; повсюду было тепло, обширные
светлые коридоры, оковка и медь на лестницах блестели.
Это было огромное здание, заключавшее в себе два внутрен-
них двора, окруженных непрерывными постройками в пять эта-
жей, кроме подвального. Часть дома была занята камерами для
общего содержания, другая—для одиночно-заключенных. Обе
части отделены друг от друга больницей и мастерскими. Корпус,
разделявший два двора, был занят конторою, банями, школой,
церквами русской и лютеранской, квартирами служащих и пр.
На другом дворе было женское отделение, кухня и помещение
для низших служащих.
Это был целый особый мир.
Меня поместили в отделение одиночного заключения.
Триста камер, размещенные в шести этажах, занимали фа-
сад, выходящий во двор; наружный фасад был занят двумя ко-
ридорами—один высотой в четыре этажа и другой в два этажа.
Двери всех камер выходили в эти коридоры на легкую и же-
лезную постройку, которая, таким образом, примыкала к вну-
тренней стене коридоров, то-есть к стенам камер; у каждого
этажа камер был свой балкон, а все балконы соединялись же-
лезной лестницей.
Дом предварительного заключения не имел целью наказы-
вать содержавшихся в нем, и потому его правила требовали.
чтобы права заключенных уважались постольку, поскольку это
не противоречило инструкции. Жить здесь было гораздо легче,
чем в Петропавловской крепости. Здесь мы пользовались мно-
жеством льгот, отсутствие которых в крепости делало существо-
ванне положительно невыносимым. Там я был человеком со-
вершенно бесправным, здесь же, когда я вошел в камеру, мне
бросилось в глаза прибитое на стене извлечение из правил, пе-
речислявшее все обязанности и права заключенных.
Хотя права эти были и не широки, но все же они суще-
ствовали.
Я мог иметь, например, чернила и нумерованную бумагу и
имел право время от времени ходить в церковь; мне не был за-
прещен ручной труд в камере, и, главное, я мог носить соб-
ственную одежду.
Честное слово, я был счастлив, увидя себя освобожденным
от отвратительного тюремного платья.
Здесь я действительно мог работать; я исписывал заметками
целые тетради; я начал изучать некоторые интересовавшие
меня вопросы.
Но что сделало нашу жизнь терпимой, что помогло доброй
половине из нас не умереть или не сойти с ума в течение трех
или четырех лет предварительного заключения, так это общее
течение современной мысли.
Мы переживали эпоху ослабления.
Жестокие репрессии, настоящая истребительная война, ко-
торую правительство открыло против пропагандистов (с 1874 г.),
начинали утомлять общественное мнение, и это утомление не
могло не оставить влияния даже и на самих агентах правитель-
ства. Кроме того, война за освобождение славян29 станови-
лась у нас все более и более популярной,—пробудился освобо-
дительный дух. А все мы, или, по крайней мере, большинство
из нас, не были более виновны, чем сербские и болгарские па-
триоты. Паконец, наше правительство имело неблагоразумие
начать войну с Турцией so, а Россия при каждой войне стано-
вится более свободной, потому что правительство в этом случае
нуждается в поддержке общественного мнения.
Общественное же мнение, имевшее какое-нибудь значение
в жизни, требовало снисхождения и справедливости для нас.
Правительство долго отвечало на это безжалостными процес-
сами, но чем более оно посылало людей на каторжные работы,
тем более общественное мнение чувствовало себя оскорблен-
ным, тем смелее оно вмешивалось в наше дело и в нашу пользу.
Это было своего рода habeas corpus.
Покровительство
общества проникало через все поры
тюрьмы, принося нам облегчение.
Для заключенных это было совершенно исключительное
время.
Наша тюрьма сделалась главным местом для политических
обвиняемых. Бывали моменты, когда здесь собиралось по двести
и двести пятьдесят арестованных по политическим делам, и от-
деление одиночного заключения в действительности делалось
политическим отделением. В огромном большинстве случаев это
были люди достойные, внушавшие невольную симпатию своим
тюремщикам. С другой стороны, они были людьми решитель-
ными и до последней степени раздраженными продолжитель-
ным лишением свободы.
Большинство из них не отступало решительно ни перед чем,
что могло доставить им хоть капельку свободы.
Итак, из сожаления, из чувства справедливости, наконец,
из боязни грандиозных скандалов, нам делали все возрастаю-
щие уступки. Сперва нас наказывали строго, иногда запирали
в карцер, но это не дало никаких результатов, и в конце-концов
нас предоставили самим себе.
В 1877 году одиночное заключение фактически не суще-
ствовало.
Я не буду говорить о 1876 годе, так как в этот год тюремная
жизнь не представляла ничего особенного.
Почти все мы занимались различными работами в наших
камерах. Сапожное мастерство особенно соответствует тюрем-
ному режиму; было у нас несколько портных, граверов по де-
реву; некоторые пописывали. Я лично сотрудничал тогда в не-
большом журнале и этим кое-что зарабатывал себе на пропи-
тание.
Нужно сказать, что кормили нас из рук дон плохо. Утром,
кроме чая, каждому выдавали большой кусок черного хлеба.
Обед состоял из двух блюд: различные комбинации щей, на-
столько отвратительных, что их не стала бы есть и свинья, по-
том каша или суп с сухими снитками и наконец гнилой горох.
Вечером давали только щи. На день для пропитания каждого
заключенного отпускали только пять копеек, а эконом был к
тому же наглым вором. Совершенно невозможно было суще-
ствовать при таком питании, и мы вынуждены были докупать
еду на свои средства, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить наш
пищевой режим. Кружок филантропов занялся собиранием
денег с этой целью, и мы получали таким образом ежемесячную
субсидию.
С воли нам посылали также кое-что и из готовой пищи: вет-
чину, пироги и т. д .; но на сто или двести человек, конечно,
это было слишком недостаточно.
Гигиеническая сторона дела в новой тюрьме в общем оста-
вляла желать многого.
Камеры были чрезвычайно .маленькие,—пять
шагов в дли-
ну и три в ширину,— и, несмотря на хорошо устроенную вен-
тиляцию, все же имели очень дурной воздух. Движение в этих
камерах было совершенно невозможно, ходить было негде, и
заключенному волей-неволей приходилось всегда сидеть. Вслед-
ствие всего этого больных в тюрьме было так много, что лаза-
рет ее вмещал только половину, а то и третью часть всех тре-
бующих немедленной медицинской помощи; значительному ко-
личеству больных, бывших на лазаретном режиме, по необхо-
димости приходилось оставаться в своих камерах.
Еще одно обстоятельство очень дурно отзывалось на здо-
ровье сидящих. Клозет каждой камеры, поставленный верти-
кально, оканчивался большим вертикальным же каналом, по ко-
торому спускались нечистоты. Заключенные, всегда жаждавшие
пользоваться обществом товарищей, скоро открыли, что если
прочистить каналы, то через них можно свободно разговари-
вать. Сделанный опыт подтвердил предположение. Оказалось,
что двенадцать заключенных легко могли таким образом бесе-
довать между собою.
Дело было сделано. Никакие строгости теперь уже не могли
помешать нам участвовать в «клубе», как мы называли эту
дюжину камер, соединенных общим каналом. Трудно, конечно,
было победить чувство отвращения, вызываемое зловонием, но
раз это было достигнуто—мы получали много приятного.
Можно представить себе, каким воздухом при этом прихо-
дилось дышать заключенным столько времени! Наверху, в
пятом этаже, было еще сносно, но во втором—ниже этого мне
не приходилось сидеть—можно было задохнуться. Часто, кроме
отвратительного запаха, через отверстие поднимались какие-то
сернистые испарения, и все наши старания дезинфицировать
клозеты водою, скипидаром не убивали этих испарений.
Кончилось тем, что крышки клозетов оставались открытыми
целый день, и несмотря на то, что каждый из нас занимался
своей работой, иногда по делу, а иногда и просто от скуки, вы-
зывали товарища и подолгу болтали.
Так проходило время.
Четвертый год моего предварительного заключения истек.
Мы, привлекаемые к процессу 193-х, составляли большин-
ство заключенных и были уже измучены до последней возмож-
ности. Когда несколько позднее мне удалось уйидеть всю толпу
заключенных, я пришел в ужас, до того они похудели, высохли,
имели желтовато-серый цвет кожи, заостренные черты лица,
воспаленные глаза.
Правду сказать, мы были очень похожи на сборище ду-
шевнобольных. Все сделались необычайно нервными, все ДьПГГГ
больны, все беспрестанно раздражались, отказывались работать,
даже читать, и только ожидали суда. Мысль об этом бесконеч-
ном промедлении дела, которое удерживало нас в тюрьме три
или четыре года, возмущала каждого и приводила в бешенство.
В начале весны 1877 года мы все находились в состоянии
возбуждения. За немногими исключениями никто ничего не де-
лал, никто ничего не читал, все жили воспоминаниями прошлого
JH мечтали о будущем. Следователей проклинали. Жажда впе-
чатлений сжигала каждого до такой степени, что многие желали
просто взбунтовать тюрьму.
Однажды я услышал за окном возбужденные, дрожащие го-
лоса. Кто-то кричал:
—
Товарищи! Мы нашли способ открыть окна!
Все бросились на этот голос.
Открытие было чрезвычайно важным. Просто-напросто по-
трясая обитые железом рамы наших окон, мы в самом деле
легко снимали их. Оставалась только одна решетка; взбираясь
на окно, мы могли видеть друг друга и разговаривать. Тюрьма
превращалась в амфитеатр с 250 зрителями.
Прибежали стражники, произошло несколько ссор и скан-
далов, и в конце-концов нам уступили еще раз.
С этих пор мы целые дни проводили на окнах, разговаривали
и кричали так, что наконец переставали понимать друг друга.
Это вынудило нас назначить в каждом фасаде по предсе-
дателю, который в случае споров должен был поддерживать по-
рядок и давать слово по очереди.
Нашлись среди нас хорошие певцы; в теплые летние вечера
мы слушали серенады и очень часто пели хором.
Мало-по-малу, чтоб облегчить сношения, мы покрыли все
стены тюрьмы сетью бечевок, при помощи которых могли пере-
давать друг другу письма, книги, провизию, инструменты. Бе-
чевки были достаточно крепки, чтоб выдержать на этом воз-
душном пути даже одежду.
Так как я был немного портным, то я починял всем костюмы,
получая заказы и отправляя их моим клиентам тем же воздуш-
ным путем.
Не нужно удивляться, что администрация терпела все это.
Дело в том. что следствие давно было уже закончено, и предва-
рительное заключение, не имевшее более смысла, было чистой
жестокостью. Сами прокуроры, посещая тюрьму, прекрасно ви-
дели наши собрания и нашу веревочную почту, и молчали. Дело
Это было настолько известно всем, что III Отделение хотело
извлечь из него пользу, поместив к нам несколько баранов,
которые должны были подслушивать наши разговоры. Этим
шпионам предоставили камеры, где они прятались позади от-
крытых окон.
В виду этой нелепости одиночного заключения после окон-
чания следствия заключенные не переставали бомбардировать
администрацию своими петициями. Они требовали разрешения
совместной работы в мастерских тюрьмы и общих прогулок.
Мы очень нуждались в движении, а при системе одиночного
заключения на ,долю каждого выпадало, я думаю, не более
20 минут прогулки. Для этой цели на дворе было устроено не-
сколько загородок, расположенных радиусами, куда отводили
заключенных по очереди. Неизвестно почему, прокуроры не за-
хотели исполнить наших требований. Конечно, это противоре-
чило правилам, но ведь позднее, в начале процесса, нам были
даны все эти льготы.
Как бы то ни было, но тогда отказы были систематические.
Однажды несколько экзальтированных голов решили прямо
вырвать желанное разрешение. Внезапно во время прогулки
они перескочили через загородки и начали гулять вместе. При-
бежала стража и развела их по камерам, но заместившие их
на прогулке сделали то же самое.
Все это происходило в отсутствие начальника тюрьмы—
^_дщ>ова. Это был человек очень либеральный и добрый, всегда
готовый на законные уступки заключенным, но в то же время
имевший достаточно ума и твердости, чтобы уметь влиять на
них и сдерживать в известных границах повиновения. Он был
очень популярен у нас и всегда находил в наших рядах людей,
расположенных поддержать его требования перед своими това-
рищами.
Но Федорова не было, он уеджал куда-то на несколько меся-
цев. Заменявший его Курниенко умел управлять только посред-
ством наказаний.
Он-то и донес о невозможном поведении арестантов петер-
бургскому градоначальнику, генералу Трепову 31, который рас-
свирепел и отправился в тюрьму с намерением дать заключен-
ным хороший урок.
Это было 13 июля.
Я Заговорщики и полиция.
Войдя во двор тюрьмы, Трепов увидал одиночно-заключен-
ных, вышедших из своих загородок и прогуливающихся сов-
местно. Он прошел перед одной группой; с ним очень вежливо
поздоровались. Продолжая свой путь, он спрашивал у сопрово-
ждавших его фамилии заключенных и узнал, что один из них
был известный Боголюбов '2, недавно лишенный судом всех
прав и осужденный на каторжные работы.
Я полагаю, Трепов в эту минуту подумал:
«Его-то мне и надо!»
Он еще раз обошел двор и снова встретил Боголюбова.
—
Почему ты не кланяешься мне? *—вскричал он.— Шапку
долой!
Ударом генеральского кулака шапка Боголюбова^ была сбро-
шена на землю. Ошеломленный, он нагнулся, а генерал крик-
нул жандармам:
—
Дать ему двадцать розог!
Вся эта сцена продолжалась несколько секунд, а весь визит
генерала несколько минут. Большинство из нас даже не знало о
посещении генерала и не видело этой сцены, и только крики
товарищей, которые случайно в эти минуты сидели на окнах,
привлекли внимание остальных.
—
Подлец! Мерзавец! — кричали Трепову и через окна
стали бросать в него разные предметы.
Генерал в бешенстве убежал; он вспомнил, вероятно, сцену
в Варшаве, где толпа даже избила его; но в Варшаве дело про-
исходило на площади, и поляки были свободны, между тем как
мы были под замком и за решеткою.
Вся тюрьма пришла в неописуемое волнение.
Прежде всего задавали себе вопрос: правда ли, что будут
сечь или уже высекли Боголюбова?
Большинство не допускало этой возможности, другие же,
рассвирепев, кричали им:
—
Трусы! Для того, чтоб вы поверили, неужели надо лю-
дей сечь на ваших глазах?!
Все звонили, звали к себе надзирателей, желая допросить
их, но никто не являлся. Только иногда сторож, быстро проходя
мимо дверей камеры, бросал:
—
Да ничего нет; это только ваше воображение!
Но заключенные не верили и продолжали кричать:
—
Нужно уничтожить всех этих извергов!
* Іірн первой встрече с Треповым Боголюбов поклонился, но, встре-
тить вторично, нашел это уже излишним. М . Фроленко.
В страшном нетерпении мы начали бить стекла, вырывали
железные решетки и при их посредстве старались вышибить
обшитую железом дверь.
Через пять или шесть минут такой неуверенности дело на-
конец выяснилось. Были лица, которые слышали крики Бого-
любова, другие сами видели, как надзиратели несли розги
и так далее.
По мере того как эта новость распространялась, тюрьма сод-
рогалась все более и более. Это была, действительно, кошмар-
ная новость. Вскоре вся тюрьма целиком была охвачена же-
сточайшим приступом как бы ужаснейшей лихорадочной дрожи.
Можно было ожидать, что стены вот-вот обрушатся.
Решительно все превратились в буйных помешанных, не-
истово кричали, ругали начальство, старались выломать двери
своих камер... Наступил полнейший хаос. Некоторым удалось
оторвать от стены прикованные к ней железные столы, и они
изо всех сил били ими в двери камер; другие, менее сильные,
старались разрушить в камере все, что поддавалось их уси-
лиям. Стоял невероятный шум.
В это же время надзиратели при помощи солдат врывались
в камеры и тащили заключенных в карцер; здесь снова начи-
налась борьба, и, если заключенный был достаточно вооружен
чем-нибудь и успешно сопротивлялся, стража спешила запереть
двери и уходила; если же удавалось его победить, то, осыпав
предварительно ударами, его уводили с собою в карцер. Когда
им удавалось овладеть кем-либо из заключенных, они били его
до тех пор, пока он не терял сознания.
Эти сцены тянулись очень долго. Утомленные крайним вол-
нением и этими необычайными физическими усилиями, заклю-
ченные на несколько минут то успокаивались, то снова начи-
нался шум и разрушения.
Ужасный грохот в тюрьме привлек огромную толпу любо-
пытных к ее воротам. Самые преувеличенные слухи о бунте
в Доме предварительного заключения в один миг распростра-
нились по всему городу.
Через два-три часа тюрьма была погружена в глубочайшее
молчание: все лежали обессиленные, изнуренные, приведенные
в отчаяние от стыда за бессильный гнев. Никто не разговаривал
в этот день и никто ничего не ел. Надзиратели пытались войти
к некоторым и предлагали обед.
—
Убирайся вон, изверг, палач.
Повсюду они получали только этот ответ, но. не смущаясь,
пользовались моментом утомления, чтобы отобрать орудия
борьбы у тех, у кого они еще оставались.
Бщюлюбов был деисхіШХЁДЬДД- вьюазен; он сильно сопроти-
влялся, но его схватили надзиратели, набросили ему на голову
пальто, чтобы заглушить крики, и высекли розгами.
С тех пор тюрьма стала мрачна и молчалива.
На следующий день quasi-зачинщнки бунта были отправле-
ны в Петропавловскую крепость, многие, уже осужденные, пе-
ревезены в Литовский замок—тюрьму, из которой их отправи-
ли прямо в Сибирь. Но в нашей тюрьме осталось все-таки
больше 150 человек, часть которых была помещена в нижнем
этаже, где решетчатые окна были так переплетены решетками,
что за ними ничего больше не было видно. Заключенные не
шумели более; все были заняты придумыванием мести похлеще.
В течение многих месяцев Трепов воздерживался от посе-
щения тюрьмы. Имена исполнителей его гнусного распоряже-
ния сохранялись в большом секрете. Спокойные, но угрожаю-
щие лица заключенных пугали администрацию. Один только
Федоров, вскоре после этого возвратившийся, осмеливался без-
боязненно посещать камеры.
В это же время было начато следствие о беспорядках, след-
ствие, силою вещей направленное против Трепова, который по
1 регламенту тюрьмы не имел права подвергать телесному нака-
1 занию кого бы то ни было в Доме предварительного заключе-
• ния. Общественное мнение тоже третировало Трепова, как нод-
\лого палача. Недовольный собою, он жаловался Федорову, ко-
торого он очень любил:
—
Ах, какое несчастье, что тебя не было! Я знаю, ты ни-
когда не захотел бы повиноваться мне, а эти лакеи, эти холуи,
они готовы исполнить всякую нелепость, какую им ни прикажи!
Через шесть месяцев Трепов должен был еще более убе-
диться, что не всегда можно безнаказанно оскорблять достоин-
ство людей, даже лишенных средств к защите. Вера Засулич 33,
мстя за Боголюбова, достаточно серьезно ранила Трепова, что-
бы прекратилась jyro карьера градоначальника, и судьи оправ-
дали Засулич при громких аплодисментах всей России!
Пришел наконец и столь желанный день суда. Обвинитель-
ный акт—толстый том ill-folio—был вручен обвиняемым. 18 ок-
тября 1877 года мы должны были явиться перед трибуналом.
Наш суд, как и все суды над русскими политическими обви-
няемыми. был исключительный. Это было особое
при-
сутствие Сената
с участием сословных
пред-
ставителе й. Император Александр II имел слабость к
громким словам. Попросту говоря, этот суд состоял из несколь-
них старых сенаторов, которые спали на заседаниях, одного
представителя дворянства, одного городского головы и воло-
стного старшины,—назначенных правительством.
Особенно хороши были представители крестьян! Один из
них имел обыкновение во всех случаях высказываться за ка-
торжные работы, даже не зная часто, о чем шла речь.
—
На каких же основаниях?—спрашивал его председатель
суда, когда дело шло о совершенно невинном обвиняемом.
—
Да мы его судили,—отвечал крестьянский представитель.
В этих судах, как во всех судах исключительных, не было
и тени независимости. Они судили согласно тем распоряже-
ниям, которые получали заранее. Наш трибунал,—хотя он и
был составлен из ничтожеств,—обнаружил некоторую тень не-
зависимости. Это было следствием тех горьких упреков, ко-
торые суд получил со стороны обвиняемых.
Многие из нас, в виду предшествовавшей практики особых
присутствий Сената, желали протестовать против исключитель-
ности суда.
Мы—против правительства, и потому правительство не
имеет права судить нас. Мы вынуждены требовать суда присяж-
ных; мы не должны признавать исключительного суда особенно
теперь, после__дел.а Боголюбова. Трепов остался безнаказанным:
это великолепный пример справедливости правительства.
С принципиальной точки зрения это было верно, но протест
мог стоить нам очень дорого. Три четверти, быть-может, девять—
_десяты.х из нас являлись жертвами такого произвола, что даже
само правительство было вынуждено оправдать нас или удо-
вольствоваться самыми незначительными наказаниями.
В случае же протеста получилось бы совсем наоборот: мы
потеряли бы сотню людей, более или менее способных впо-
следствии поддержать общее дело. Кроме того, в последнее
время политические процессы сделались публичными, и га-
зеты печатали отчеты о них. Если мы согласимся предстать
перед судом, нас будет там 193 человека, соединенных вместе,
и даже самых слабых из нас они не смогут устрашить, так как
влияние товарищей ободрит их. Таким образом мы создадим
из нашего процесса целый обвинительный акт против прави-
тельственного произвола, мы прокричим на всю Россию о наших
муках, наших желаниях, наших действиях.
Все эти преимущества были бы утеряны при протесте.
Наши адвокаты—первые звезды судебного мира—не хотели
терять случай блеснуть прекрасной речью, приготовленной к
таким исключительным обстоятельствам, и прилагали со своей
стороны все усилия, чтобы помешать протесту. Таким образом
мысль о протесте мало-по-малу была оставлена и мы приго-
товились мужественно защищать свое дело. Очень многие из
нас ожидали оправдания.
Я с удовольствием вспоминаю наши свидания с адвокатами.
Мы чувствовали себя как бы наполовину свободными в обще-
стве этих милых людей, которые посвящали нас в тысячи ново-
стей, циркулировавших в Петербурге, таком воодушевленном в
этот час борьбы.
По милости войны, которая всегда, как я сказал уже, являет-
ся моментом относительной свободы для России, пробуждалось
общественное мнение, журналы и газеты начали говорить более
независимым языком. Так было в переживаемый тогда момент.
Мы чувствовали, что наша связь со страной возрастает, мы чув-
ствовали, что страна более расположена понять нас и даже
одобрить многое, что было для нас дорого.
Нащи свидания с адвокатами происходили или в школе, или
в лютеранской церкви. Нас было так много, что администрации
тюрьмы пришлось разрешить эти свидания нескольким обвиняе-
мым одновременно, благодаря чему мы все могли свободно ви-
деться и разговаривать о чем угодно. Я и теперь вижу эту лю-
теранскую церковь, эту длинную, узкую комнату с алтарем на
возвышении, покрытым красным сукном. Она слабо освещена
одной только свечой. В коридоре раздаются шаги заключенных,
ожидающих своих адвокатов.
Мы сидели на ступеньке алтаря вместе с Шишко; я ожидал
адвоката, а он своего чтеца. Бедный Шишко, симпатичнейший
человек, почти совершенно потерял зрение в темной и сырой
крепости; теперь он носил на глазах зеленый абажур и не вы-
носил света; понятно, что он не мог читать сам, и начальник
тюрьмы разрешил ему приходить сюда каждый день в сопро-
вождении одного из товарищей, который что-нибудь читал ему
вслух. Наш прекрасный трибунал послал его на каторгу, бог
знает за что, так как он ни в коем случае не принадлежал к
числу опаснейших.
Мы разговаривали о наших обязанностях по отношению к
народу, и мой собеседник горячо доказывал мне, что наша самая
главная задача заключалась в просвещении этого народа.
Меня вызвали к адвокату, ожидавшему в школе, где я за-
стал целое общество. Б ***, адвокат, прекрасный человек, ко-
торый позднее был арестован сам и сошел с ума в тюрьме, ве-
село рассказывал своему
клиенту Феликсу Волховскому 1
о том, как он охотился в последний раз; он был страстный
охотник.
;,
Г)(
В другом конце комнаты другой адвокат вполголоса разго-
варивал со своим клиентом. Наконец третий, только-что окон-
чивший свою беседу, попрощался и уступил свое место моему
защитнику, человеку важному и осторожному, и мне...
Так наступило 18 октября.
С утра в коридорах был слышен необыкновенный шум. Кто-
то бегал, отдавал распоряжения, гремело и звенело оружие; на-
конец стали отворяться двери—раз, два, три... бесконечное
число раз, по крайней мере 180 раз, так как 12 обвиняемых
были отданы на поруки.
Отворилась и моя дверь, и запыхавшийся надзиратель ска-
зал мне:
—
Пожалуйте вниз,—и отвел меня в нижний коридор.
Невиданное зрелище открылось перед моими глазами.
Вообразите себе бесконечный ряд людей, растянувшийся по
всему коридору, окружающему наши камеры; тут было по край-
ней мере до 400 человек. Линия состояла из донских казаков,
смешанных с заключенными: каждый заключенный находился
между двумя казаками. Казаки в своей форме, с их блестящим
оружием, большие, рослые, цветущие здоровьем, сильные, как
быки, на которых они походили и своим бесстрастным спокой-
ствием, и рядом с ними заключенные—худые, желтые, исто-
щенные, с воспаленными глазами, в нескладных костюмах.
Мы старались явиться на суд одевшись «поприличнее», и
с этой целью достали себе менее разорванные брюки, пиджаки,
сюртуки, заняв их у свободных товарищей; но все это было то
слишком широко, то узко, так что трудно застегивалось, то,
наконец, коротко...
Я гордился новыми брюками своей собственной работы.
Можно себе представить, насколько они были элегантны!
Нас обыскали и выстроили в линию; обыскивали из боязни
какой-нибудь преступной попытки, так как были убеждены,
что от таких раздраженных людей, как мы, можно ожидать
всего.
Но мы были настроены очень добродушно, были веселы и
довольны приближением конца наших приключений. Кроме
того, нас просто забавляло это зрелище.
Наконец все было готово, командующий крикнул «пол-обо-
рота налево»—и в мгновение ока наш ряд превратился в длин-
ную ленту. Командующий обежал ряд, повторяя казакам так,
чтобы его слышали и конвоируемые:
—
Смотри в оба за арестантами: в случае сопротивления —
стрелять в бунтовщиков.
—
Марш.
Мы пробежали коридоры одиночных камер, коридоры, где
были расположены ванны и куда выходил коридор из женского
отделения, затем повернули налево, в длинную подземную гал-
лерею, которая вела из тюрьмы в зал суда.
Наша процессия, почти бегущая в этих тесных коридорах,
то освещенных, то погруженных в непроницаемый мрак, где
два раза нужно было подниматься и опускаться по небольшим
лестницам, представляла собою живописную картину.
Так мы дошли до здания суда. В большую залу заседаний
толпа хлынула настоящим потоком.
Зала эта была достаточно обширна для того, чтобы мы в
ней поместились, но заседания суда не были рассчитаны на ши-
рокую публику; для последней оставалась только одна неболь-^
шая скамейка вдоль стены. Присутствовало лишь несколько
представителей печати, среди которых с интересом указывали
на Мекензи Уоллеса, корреспондента «Таймса» и автора из-
вестной книги о России. Кроме них присутствовало еще че-
ловек шесть.
Обвиняемые заняли всю залу и сели на скамьи.
Все это очень напоминало наши университетские аудито-
рии, с той только разницей, что в университете не было жан-
дармов, разделявших теперь наши ряды и стоявших неподвижно
среди скамеек. С противоположной стороны залы, очень близко
от судей, небольшое место было отгорожено барьером и пред-
назначено для пяти «самых опасных обвиняемых». Они таким
образом были отделены, что производило на нас очень тяжелое
впечатление.
В первый момент мы этого не заметили, так как были слиш-
ком рады, что все находились наконец вместе.
Несмотря на присутствие жандармов, обвиняемые свободно
разговаривали, смеялись. Гул так заполнил залу, что с трудом
нами был услышан возглас судебного пристава:
—
Суд идет, встаньте!
Худо ль, хорошо ли—встали. Суд разместился вокруг боль-
шого стола, под защитой большого портрета императора. Наш
обвинитель, знаменитый Желиховский, сухой и желтый, как
любой из обвиняемых, тоже уселся. Я никогда не видал лица
более противного, чем у этого человека, которому недостаток
таланта удалось успешно заменить избытком лжи.
-—
Я покрою позором обвиняемых,—говорил он хвастливым
тоном своим друзьям, ибо и гг. Желиховекие имеют также своих
друзей.
Обвиняемые тотчас же назвали его «ч е р в я к о м».
Чтение обвинительного акта, формальности допросов об
имени, религии, занятиях обвиняемых и т. д. отняли очень много
времени; все это уже очень надоело, и мы находили гораздо
более интересным разговаривать между собою. Гул голосов
продолжал наполнять залу; председатель кричал, звонил, угро-
жал, но все было напрасно. В этих формальностях мы потеряли
два, три или даже четыре дня.
Я должен сказать, что хотя мы невольно и были неприятны
председателю суда, но мы были настроены очень мирно, и нам
вовсе не приходила в голову мысль нарушить порядок. Но как
же можно было вести себя иначе в эти дни чтения глупого об-
винительного акта, который мы уже знали наизусть?
Переставали разговаривать только при небольших инциден-
тах, происходивших иногда во время допроса. Так, один обвиня-
емый на вопрос о его занятиях, ответил:
—
Я занимался подготовлением народа к борьбе против
тирании.
Другой, Мышкин
очень известный со времени этого про-
цесса, на вопрос о религии отвечал:
—
Я крещен без моего на то согласия по обрядам право-
славной церкви.
Этот Мышкин без преувеличения был великим оратором в
зародыше. Он обладал всеми необходимыми для этого качества-
ми: сильным и гибким голосом, звучавшим как священный гром,
прекрасно выражавшим все оттенки его чувств; он обладал тем
величайшим искусством, которое заставляет слушать его, не-
смотря на тысячи перерывов: он прекрасно умел развить в своей
речи всякую данную мысль. По сравнению с ним наши знаме-
нитости юридического мира стоили не много.
До процесса 193-х Мышкин был знаменит исключительно
своими горячими протестами, доходившими иногда до настоя-
щего возмущения против администрации в различных тюрьмах.
Его замечательная речь на процессе привлекла к нему всеоб-
щее внимание, после же процесса он был отправлен на каторж-
ные работы .сначала в тюрьму, потом в централ, а потом в Си-
бирь, наконец в Шлиссельбургскую крепость, где_он и .был.
расстрелян. Везде он протестовал, возмущался, даже пытался
убить начальника центральной тюрьмы.
Его лицо было оригинально и благородно; бросался в глаза
его высокий открытый лоб, занимавший столько же места, как
остальная часть его лица; интеллигентные черты выражали
огромную энергию. Когда он говорил, он магнетизировал свою
аудиторию, и даже враги его не могли избавиться от этого уди-
вительного обаяния.
Среди инцидентов первого дня суда следует отметить за-
прос некоторых обвиняемых но поводу публичности заседаний.
Председатель отвечал, что процесс—публичный, что газеты
будут печатать отчеты о нем, что наконец публика допущена в
залу заседаний, поскольку это позволяет ее вместимость.
Мы оставались здесь до вечера, все вместе обедали в какой-
то большой зале, при чем нас кормили относительно очень не-
дурно. Пятеро товарищей, отделенных от нас во время заседа-
ния, обедали вместе с нами за одним столом. Шутя мы назвали
их отделение «Голгофой». Я думаю, никогда и нигде не было
собраний более оживленных и веселых, чем эти обеды.
К несчастью, на третий или четвертый день все предвари-
тельные статьи процесса были окончены. Тогда же мы полу-
чили так называемые отчеты о заседаниях. Было ясно, что га-
зеты имели распоряжение печатать о процессе только то, что
будет напечатано в «Правительственном Вестнике», а этот офи-
циальный орган поместил лишь несколько
незначительных
строк. Этого было достаточно, чтобы некоторые из нас сделали
снова запросы председателю, поддерживаемые всеми обвиняе-
мыми, которые при этом встали, выражая свою полную соли-
дарность с товарищами, взявшими слово. Это была довольно
шумная сцена. Председатель повторил нам, что отчеты будут
напечатаны, но что сейчас они еще не готовы.
В конце заседания было прочтено постановление суда; при-
нимая во внимание все разнообразие наших преступлений, суд
разделил нас, кажется, на тридцать групп; каждая из них дол-
жна была предстать перед судом отдельно.
Общий крик негодования со стороны обвиняемых был от-
ветом на это постановление.
—
Нас держали в заключении по два, по три и по четыре
года на том основании, что мы составляем одно тайное обще-
ство, а теперь нас разделяют!.. Нас обвиняют, как членов од-
ного общества, и мы будем лишены возможности следить за
большинством показаний!..
Это, действительно, была незаконная мера, нарушавшая все
принципы современной юриспруденции.
Поднялся страшный шум, среди которого
председатель
объявил заседание закрытым, и судьи моментально исчезли.
Жандармы, в первый момент бросившиеся к барьеру, отделяю-
щему нас от суда, возвратились к обвиняемым, торопя их с
выходом. Посреди общего гама, восклицаний и ругательств, нас
окружили казаки и увели в тюрьму.
Действительно, цель принятой судом меры заключалась в
том, чтобы, так сказать, разбить силы обвиняемых. Судьи пре-
красно знали, что мы решили наш процесс превратить в про-
цесс над самим правительством. Наша сила заключалась в нашей
многочисленности. Разбитые на мелкие группы, подсудимые,
естественно, становились менее решительными, более боязли-
выми.
Этот вечер был одним из самых ужасных в моей жизни.
Утром мне предстояло явиться перед судом вместе с моей
группой. Мы были первыми, и наша группа, насколько помню,
состояла из двадцати пяти человек.
Что нам делать?
Следует ли протестовать или нужно подчиниться?
Мысль о протесте с некоторого времени была оставлена, и
я сам этому способствовал всеми силами. Теперь я сожалел об
этом.
Если наша группа запротестует завтра, поддержат ли ее
остальные?
Если нет, то мы подвергнемся тяжелым репрессиям, и ни-
чего не выиграем, ибо общество даже и не заметит протеста
одной только нашей группы.
Необходимо, стало-быть, предварительно посоветоваться с
товарищами. Но как это сделать?
За нами, правда, сохранились все завоеванные привилегии,
например, нам забили гвоздями окна, а мы их открыли снова:
но теперь была зима, все занесено снегом. Кроме того, была
ночь, и оказывалось невозможным собрать к окнам товарищей.
Значит, обсудить этот вопрос сообща, даже посоветоваться с
членами нашей группы, разбросанными по разным этажам всех
четырех углов тюрьмы, представлялось решительно
невоз-
можным.
Что делать?
Недалеко от меня жил один член нашей группы, товарищ,
которого я очень уважал. Он возвращался от адвоката, я шел
к своему.
—
Что вы думаете делать?—одновременно спрашиваем мы
друг друга.
Товарищ в смущении объявил мне, что он слишком утомлен,
чтобы найти в себе силы для нового протеста.
Мой адвокат ожидал меня в школе и, как всегда, советовал
мне отказаться от протеста.
—
Однакоже,—добавил он,—мой долг защитника обязывает
меня узнать ваше мнение и действовать сообразно с вашим ре-
шением.
—
Я сообщу вам завтра, какой линии буду держаться,—
отвечал я в нерешительности...
Принимая во внимание все настоящие условия, я лично
склонялся к протесту, но тем не .менее мне не хотелось погиб-
нуть совершенно безрезультатно.
При выходе из школы я столкнулся с Феликсом Волхов-
ским, который также возвращался от адвоката.
—
Что мы будем делать?—спросил я его.
Это был человек, также пользовавшийся моим уважением.
Он казался подавленным.
—
Мне плевать на других,—отвечал он угрюмо.— Я сде-
лаю то, что сочту нужным сделать.
Я возвратился в мою камеру разочарованный: рассчитывая
встретить моих товарищей, я видел только двух. Коридоры,
церковь, школа—были пусты.
Утром опять застучали замки, опять послышались шаги в
коридорах, но это уже не был шум предыдущих дней. Нас
повели в здание суда, и я снова увидел всех товарищей по
группе.
Все они казались очень озабоченными и не разговаривали,
но я уже чувствовал, что мы будем протестовать во что бы то
ни стало.
Уговор в этом состоялся молча, не разжимая губ.
Зал заседания, шумный накануне, был погружен в глубо-
кое молчание. Было несколько человек посторонних зрителей:
обвиняемые заняли не более двух скамеек. Нас было двадцать
пять человек, если меня не обманывает память, и все мы вели
разговор о совершенно посторонних предметах. Теперь я спра-
шивал
себя только,
как
протестовать,
в
какой
форме?
Я обратился к Феликсу.
—
Подождите,—ответил он,—у меня уже есть некоторый
план.
Тюрьма, казалось, надорвала его силы; он начал седеть,
оглох, почти всегда был болен. Не прошло еще и нескольких
недель, как он получил известие о смерти своей жены, кото-
рую он страстно любил. Казалось, за эти недели он сделался
стариком, хотя ему было лишь немного более тридцати лет.
Относительно старше других, он был. кроме того, человеком
способным и гораздо более практичным, чем другие члены на-
шей группы.
Суд предложил нам несколько чисто формальных вопросов.
Феликс Волховский поднялся и очень вежливо попросил
суд позволить ему приблизиться к столу; он был болен и же-
лал дать свои объяснения, но, будучи глухим на одно ухо, он
не мог слушать судей на том расстоянии, на каком был поме-
щен. Председатель разрешил.
Феликс начал свои объяснения. Сперва он описал суду тот
произвол, жертвою которого он сделался. Он рассказал, как
беззаконие и несправедливость следователей разбили всю его
жизнь. До последней минуты он утешал себя мыслью, что суд
накажет такую несправедливость и что общественное мнение,
будучи уведомлено об этом, заклеймит его притеснителей. Но
он обманулся. Суд с первых же шагов начал действовать в том
же духе произвола.
Здесь председатель прервал оратора, но Волховский, оче-
видно, был в jxape. Он процитировал множество статен^ зако-
на и доказал, что суд нарушает закон. Свою речь он закончил
Заявлением, что не имеет к суду никакого доверия, протестует
и отказывается . подчиняться ему.
Речь была коротка, но составлена прекрасно, и тем более
ясна и вразумительна, что Волховский делал самые горькие
упреки под видом преувеличенной и доходящей до иронии
вежливости. Председатель казался смущенным, особенно ког-
да все обвиняемые встали и объявили, что вполне разделяют
мнение, выраженное их товарищем.
Когда суд приступил к допросам, каждый из нас вставал и
объявлял, что не имеет доверия к суду, что он отказывается
отвечать ему и даже отказывается оставаться в зале заседаний.
Председатель не хотел было отпустить нас, но все подсудимые
начали громко разговаривать, смеялись, протестовали, всяче-
ски мешая суду продолжать заседание. Тогда рассвирепевший
председатель приказал отвести нас в тюрьму и переписать фа-
милии всех не желавших подчиняться закону. Это была угроза.
Мы прошли один за другим между двумя рядами жандар-
мов, называя наши фамилии судебному приставу, который их
записывал.
Мне кажется, что из всей нашей группы только два или три
человека изменили нам.
Войдя в/тюрьму, мы были встречены торжествующими
криками товарищей.
—
Браво,- —кричали нам. —Мы вас поддержим.
Так начался большой протест обвиняемых, который длился
три месяца, так как каждая группа протестовала отдельно.
Суд долго еще пытался обязать подсудимых присутство-
вать на заседаниях, совершенно непонятно почему. Каждый
день повторялись одни и те же сцены.
Надзиратели входили в камеру.
—
Пожалуйте в суд.
—
Я не пойду и объявил уже об этом суду.
—
Вы должны итти.
—
Разве могут заставить меня пойти насильно?
—
Да.
И, действительно, было два или три примера, когда обви-
няемых пытались тащить в суд силою, иные же просто объяви-
ли, что они уступают насилию, но и те, и другие, придя в суд,
начинали упрекать, даже оскорблять его, говоря судьям, что
они продажны, что они рабы правительства и т. д. Понятно,
что суд был вынужден отправлять их обратно в тюрьму. Это
повторялось несколько десятков раз, пока наконец суд не ре-
шил оставить нас в покое и не предоставил нашему собствен-
ному усмотрению—итти или нет на заседание.
Некоторая часть подсудимых осталась, однакож,
«право-
верными», как мы называли их, но из 193 обвиняемых было
120 протестантов, и этого было достаточно, чтоб сделать де-
монстрацию внушительной.
Уверенные в успехе с этой стороны, мы не занимались
больше политикой. Весь Петербург говорил о процессе; адво-
каты излагали перед судьями и публикой все несправедливо-
сти следствия, и мы чувствовали себя отмщенными.
Веселые и довольные, мы жили своей частной жизнью, ра-
ботали вместе в мастерских и скоро совсем перестали интере-
соваться процессом.
Иногда только наиболее выдающиеся инциденты на суде
привлекали наше внимание, как, например, знаменитая речь
Мышкина, который, протестуя против суда, сумел раскрыть
перед ним почти всю нашу программу.
Эта речь сопровождалась громадным скандалом.
Прерывая много раз Мышкина, председатель приказал на-
конец вывести его. Жандармы с такой жестокостью бросились
на Мышкина, что один из подсудимых той же группы кинулся
к нему на помощь и бросил суду самые жестокие оскорбления.
Жандармы схватили и его, он защищался и был сильно избит.
Эта дикая расправа произвела всеобщее замешательство; мно-
гие дамы упали в обморок; заседание было закрыто при шум-
ном протесте публики и адвокатов.
В этот же момент произошло несколько мелких инци-
дентов.
Жандармский офицер устремился на помощь к одной даме,
падающей в обморок. Она в отчаянии закричала.
—
Оставьте ее,—крикнул кто-то из публики,—разве вЫ не
видите, что один вид вашей формы приводит ее в ужас!
—
Это настоящая революция,—воскликнул
великолепный
Желиховский.
В январе 1878 года тюрьма стала унылой; нас осталось не-
много. Все «правоверные», сколько я помню, уже были на сво-
боде, а также и некоторые протестанты. В тюрьме оставалось
только от 60 до 70 человек, и в том числе я. Друзья мои на
воле неоднократно просили об освобождении меня на поруки,
но все было напрасно.
Было ясно, что мой протест на суде в первой группе очень
повредил мне. Перед тем мой адвокат уверял меня, что я буду
наверное оправдан, а друзья мои,- —ч то очень скоро меня вы-
пустят на поруки.
Каждый день кого-нибудь выпускали на волю.
Раньше освобождение товарища было настоящим празд-
ником в тюрьме, а теперь наоборот. Не то, что мы завидовали
счастью, но каждое освобождение было новым доказательством
для остающихся в тюрьме, что на них смотрели как на более
виновных и что им, следовательно, готовилось строгое нака-
зание. Это тяжелое чувство угнетало меня с утра до вечера. К
счастью, мы были всегда вместе, вместе работали или, вернее
сказать, проводили время в мастерских и вместе гуляли. Я тог-
да был болен. У меня не было какой-нибудь определенно вы-
раженной болезни, но я чувствовал себя очень слабым и исто-
щенным. Сердце, легкие с каждым днем работали хуже.
В лазарете, где я помещался, мы все вместе разговаривали
и читали. Никто из нас не осмеливался мечтать о будущем, так
как, очевидно, на всех нас смотрели, как на самых
ви-
новных.
21 января во время нашей прогулки во дворе явилось не-
сколько человек, во главе которых я заметил помощника ди-
ректора тюрьмы, двух адвокатов с бумагою в руках.
—
Решение суда.
Процесс был кончен.
Спешащая толпа, увы, уже немногочисленная, окружила их.
Помощник директора начал читать. Такой-то осужден на
такое-то наказание, другой, третий и т. д. Наконец моя фами-
лия. До этого момента я питал надежду, что буду оправдан;
нет: отправить на жительство в Зап. Сибирь, в Томскую губ.
—
А! Чорт побери!
Помощник директора читал уже другие имена.
Кончив веех, он начал снова.
—
В виду очень продолжительного предварительного за-
ключения, которому подверглись осужденные, суд решил хо-
датайствовать перед его величеством о смягчении участи та-
кого-то и т. д.
Моей фамилии не было. Он продолжал:
—
...и
немедленном освобождении такого-то, такого-то...
На этот раз и я был назван! Значит, я мог считать себя
свободным, так как император не мог не удовлетворить этого
ходатайства суда. Но когда же, действительно, освободят меня. "'
В этот день мы были лихорадочно и несколько искусственно
веселы. Многие из нас должны были отбывать каторжные рабо-
ты, но в общем приговоры были не очень строги, по сравне-
нию с ужасными наказаниями, налагаемыми обыкновенно в Рос-
сии за политические преступления.
Суд хотел доказать обществу, что упреки в прислужничестве
его правительству, которые мы ему бросали, были несправед-
ливы, и я должен сознаться, что, с тех пор как Россия суще-
ствует. никакой суд не выносил более независимого приговора.
Правда, не во всех деталях он был справедлив; судьи все же
немного мстили за себя и наказывали протестантов построже.
Но их заслугой было то, что они судили действия, а не лиц.
Обыкновенно бывает наоборот. Человек более способный всегда
несет наказания; он хоть ничего и не сделал, но очень опасен.
Ничтожества, напротив, наказываются относительно слабо.
Наказания не были особенно тяжелы, но все же это были
наказания: каторжные работы в ужаснейших центральных
тюрьмах, ссылки и т. д . Те, которым предстояло выйти на волю,
глубоко сожалели своих несчастных товарищей. Мы старались
быть веселыми, старались не иметь печальных лиц. Вечером,
собравшись в мастерских, мы добыли, сколько было возможно,
вина (правила тюрьмы строго запрещали это) и, весело болтая,
пили за здоровье освобождаемых и ссылаемых.
Понемногу мы развеселились и в самом деле.
—
Помощник начальника!—крикнул наш часовой, торо-
пливо опрокидывая свой стакан. Мы поторопились спрятать
бутылки.
—
Господа,—объявил нам помощник,—приготовьтесь. Вот
список тех, которые будут освобождены сегодня вечером.
II он назвал тридцать фамилий.
—
Вот,—сказал я моему соседу,—нас будет еще меньше...
—
Да слушайте хорошенько,—прервал он меня,—вот и ва-
ше имя.
—
Какая глупость!
Но все же я приблизился к помощнику.
—
Неужели я числюсь в вашем списке?
—
Конечно, я ведь кажется назвал вас.
Я был поражен. Товарищи поздравляя окружили меня. Я ма-
шинально отвечал им. Я отчетливо вспоминаю теперь только
одно,—что в тот момент в моей голове не было ни единой мысли.
Я, как автомат, ни о чем не думал; меня поздравляли, я благо-
дарил, даже не понимая смысла моих собственных слов.
—
Нужно поторопиться,—сказал мне помощник начальни-
ка. —Вас скоро освободят, а вам, вероятно, еще надо собраться.
Я почти бегом бросился в мою камеру; по дороге меня по-
здравляли все—и надзиратели, и слуги из уголовных арестантов.
Мне сказали, чтоб я собрался, и я машинально стал уклады-
вать свои вещи.
Некоторые вещи были мне дороги: швейная машина, пред-
назначенная в подарок одной даме, которая нам помогала в
тюрьме, несколько книг и тетрадей с заметками, которые я дол-
жен был взять с собою.
Но я почти ничего не взял.
Служитель, помогавший мне, каждую минуту спрашивал:
—
Не можете ли вы мне оставить вот это и это?
—
Конечно,—отвечал я, ни о чем не думая.
Теперь я уже не знаю, куда девалась моя машина. Позднее
я получил несколько книг, когда пришел за ними в тюрьму, но
мои заметки, надо полагать, пошли на папиросы заключенным.
Наконец мои вещи были готовы.
Через несколько времени надзиратель позвал меня:
—
Пожалуйте в контору.
В конторе меня заставили подписать счет моим деньгам, и,
к моему величайшему удивлению, я еще получил 12 рублей,
которые оставались. Контора была наполнена товарищами и за-
громождена их вещами. Одновременно с нами освободили и не-
сколько женщин. Все разговаривали, смеялись, и я, невольно
поддаваясь настроению других, разговаривал и смеялся, но
густой туман, окутывавший мою мысль, не рассеивался.
Три ночи под ряд после этого я еще не мог спать.
Наконец директор объявил нам, что мы можем итти, при
условии явиться завтра к градоначальнику для исполнения не-
обходимых формальностей. Дверь открылась. Холодный ветер
зимней ночи охладил мое пылающее лицо. Вверху блистали сво-
бодные звезды.
Я провел в тюрьме четыре года, три месяца и шесть дней.
Заговорщика и полиция
97
V
ПРОПАГАНДИСТЫ В ДЕРЕВНЕ
Несмотря на все преследования правительства, некоторым
пропагандистам удалось прочно устроиться в народе. Я лично
знал многих, которые сумели даже удержаться в этом положе-
нии несколько лет под ряд. Под вымышленными или действи-
тельными фамилиями они занимали должности писаря, учителя
школы, лавочника, иногда были простыми рабочими и так далее.
Что они делали и что могли делать в народе?
Они начинали с того, что изучали народ и старались слить-
ся с ним.
Первая задача была сравнительно легка.
Вторая представляла уже большие трудности.
В самом деле, как привыкнуть к этой грубой, примитивной
жизни, погруженной исключительно в разрешение вопроса о
хлебе насущном?
Многие бежали из народа, сознаваясь со стыдом, что эта
жизнь была невыносима. Но в ряде случаев однако эта труд-
ность побеждалась, и пропагандистам прекрасно удавалось
жить жизнью народа, каковая, несмотря на всю свою примитив-
ность, казалось им не лишенной известных нравственных и
умственных преимуществ.
Некоторые были даже довольны ею. Но, чтобы чувствовать
себя вполне счастливыми с народом, необходимо было переро-
диться и забыть многое из старого.
Я знавал некоего «брата Льва» 36—назовем его так. Он жил
в народе, среди рабочих и особенно среди крестьян, почти де-
сять лет. Я держу пари, что никто не узнал бы человека из
интеллигенции в этом сектанте, изнуренном постами, ко-
торый не мог произнести и десяти слов, не снабдив их цитатой
из священного писания.
Секта, к которой он принадлежал, была очень рационали-
стична. Он считал себя верующим и действительно производил
впечатление экзальтированного человека. Нередко можно было
застать его одного за громким чтением Евангелия и особен-
но пророков.
Он часто удалялся в поля и леса, и там, как говорили о нем
и как он сам уверял, погружался в созерцание и молитву.
Однажды он наложил на себя строгий пост и целую неделю
абсолютно ничего не ел.
В своей секте он пользовался большим влиянием, и в самом
деле он был очень умен и обладал прекрасными ораторскими
способностями. Он знал несколько древних и новых языков;
знал историю, теологию и в совершенстве—Библию и Еванге-
лие, точно так же, как и теологическую литературу наших сек-
тантов.
Он чувствовал себя в народе своим и предпочитал его об-
ществу, которое от души презирал. Он легко завоевал в народе
очень большой авторитет.
Но в какой мере он сам должен был подчиниться влиянию
народа, чтобы сделаться тем, чем он стал?
Это народное влияние отпечатлевалось более или менее на
каждом, кто там оставался продолжительное время. Подобно
тому, как раскаленное железо, погруженное в воду, согревает
ее, теряя свою теплоту, так и человек при столкновении с на-
родом, отдавая ему все, чем обладал, становился сам более уме-
ренным, менее горячим.
Я знал несколько очень слабых попыток революционеров
взбунтовать народ, но они были очень редки и неудачны.
Только одна попытка бунта имела более широкий размах:
Это было в Чигиринском уезде, на Украине. Известному Стефа-
новичу 31 при помощи некоторых товарищей удалось соргани-
зовать среди крестьян многочисленное тайное общество, имев-
шее целью—восстание.
Как же это ему удалось?
Он агитировал от имени царя и выдавал себя перед кре-
стьянами за его тайного посланника.
Надо совершенно забыть социалистические принципы, чтобы
решиться воспользоваться такими средствами.
Я должен отметить однако, что эта попытка, опиравшаяся
на ложь, осталась абсолютно одинокой во всем русском револю-
ционном движении.
Если мысль о немедленной революции исчезала при стол-
кновении с народом, то пропагандисты все более убеждались в
том, что большинство крестьян отнюдь не одобряло действи-
тельного положения вещей и что зародыши революции, хотя
бы и более или менее отдаленной, чрезвычайно многочисленны
в их среде.
Скоро возникла мысль действовать вместе с народом в его
повседневной борьбе против эксплуататоров, формируя мало-
по-малу крестьянскую партию.
Во всяком случае эти люди, акклиматизировавшиеся в на-
роде, никогда не жаловались на крестьян в этом смысле. Кре-
стьянская масса была готова прийти к ним на помощь, но адми-
нистративный терроризм всегда сводил на-нет все сделанные в
этом направлении усилия.
Эксплуататоры всякого рода всегда поддерживались админи-
страцией. Человек, желавший защищать народ даже самыми
умеренными, законными способами, объявлялся врагом обще-
ственного порядка, бунтовщиком и так далее.
«Достаточно быть честным человеком, чтоб вас преследо-
вали как революционера», писал автор «Писем из деревни» 38,
в свое время наделавших много шума. «Не хотите ли узнать
судьбу человека, желающего помочь народу законными сред-
ствами?» спрашивает публицист, которому я уступаю слово.
Прежде всего, как попасть в волостные писаря образован-
ному человеку?
Если вы имеете университетский диплом или даже свиде-
тельство о том, что были в одном из высших учебных заведе-
ний,—одно это обстоятельство заграждает вам путь: в любом
присутствии по крестьянским делам вы найдете секретное пред-
писание о недопущении в писаря лиц с высшим образованием.
На первом же шагу, значит, вы уже сталкиваетесь с правитель-
ственным фарисейством и обманом: открыто толкуют о «недо-
учившихся мальчишках»,
как о разрушителях основ, а се-
кретно—к ним же причисляют кандидатов университета и пр.
Выходит, что в волостные писаря если и может попасть обра-
зованный человек, то только с непременным условием, чтобы
он имел при себе видимый знак «недоучившегося мальчишки».
Далее:
Чем должен быть всяк писарь для того,
Чтоб быть достойным званья своего?
Вы не пьяница—«странно!» Не берете взяток—«удивитель-
но!» Написали грамотно бумагу—показывают: «Посмотрите, как
пишет этот писарь!» Выписываете журнал—«како-ов!» Словом,
если вы, так сказать, по своим внешним признакам не уподо-
бляетесь обыкновенному
типу
писаря—«загребале-пьянице»,
вы уже «не отвечаете своему призванию» и являетесь «лично-
стью сомнительного происхождения».
Иногда этих «внешних признаков политической неблагона-
дежности» бывает совершенно достаточно, чтобы на первых
же порах постарались вас выжить, и единственным утешением в
этом случае для вас будет служить привет мужика на прощанье:
«Эких... знамо, начальство не любит!»
Но есть местности, где писаря «эагребалы-пьяницы», отли-
чаясь вообще упущениями по должности, вызывая массу «кля-
узных дел», то-есть жалоб на действия старшины, на решения
волостного суда,—своими измышлениями, в которых «сам чорт
ногу сломит», по вопросам статистико-этнографического харак-
тера и другим, поступающим на разрешение волостного правле-
ния, так всем предержащим властям надоели, опротивели, что
само начальство желает иметь «хороших писарей»:
—
Ну, пей, знаете, взятки бери... да, по крайней мере, дело-
то умей делать! А то кляузами на старшину, на волостной суд
завалили присутствие... Какой это писарь!
В таких местностях если исправник и будет смущаться
внешними признаками вашей неблагонадежности, зато осталь-
ные члены присутствия по крестьянским делам посоветуют ему
«подождать поступков».
—
Нет, вы не торопитесь!—скажут ему. —Положим... этот
журнал... не пьет, пишет, наконец, порядочно... все это, конечно,
наводит... Но, с другой стороны, может быть просто так: беден,
места не было... чорт же его знает! Может, и в самом деле—
выйдет из него хороший писарь... К тому же, знаете, эти пьяни-
цы уже надоели!.. Чорт знает, что они пишут!.. Как вам нра-
вится хоть бы вот это: министерство предписывает собрать
сведения о нищенстве; мы посылаем писарям программу во-
просов, а они отделываются рапортом: «По справкам, нищих в
волости не оказалось, а буде появятся, будут приняты соответ-
ствующие меры»... Нет, вы подождите!
Исправнику придется ждать недолго.
Представьте себе такой случай.
В волостное правление приходит управляющий знатного ба-
рина заключить условие с несколькими крестьянами на сель-
ские работы. Писарь читает условие. Что ни строчка—то штраф,
штраф. «За прогул в будни 2 руб. штрафу; за прогул в празд-
ник—3 руб.; за каждый день болезни, не признанной конторой,
2 руб.; после трех дней болезни рабочий увольняется вовсе с
вычетрм из жалованья по 2 руб. за каждый день... работать все,
что ни заставят... на работу явиться по первому требованию
конторы; в случае неявки—25 руб. неустойки... деньги за работу
уплачиваются по усмотрению экономии». Единственная барская
милость: «три рубля вперед, по засвидетельствовании сего
условия в волостном правлении».
Писарь, на основании статьи устава о благоустройстве в
селениях, по которой «волостное правление обязано отговари-
вать крестьян вступать в обременительные сделки друг с дрѵгом
и с частными лицами», начинает отговаривать продающих себя
в кабалу к знатному барину.
—
Знаете, что тут писано?—спрашивает он крестьян.
—
Де знать, ваше степенство, мы неграмотны! — следует
ответ.
Писарь объясняет им смысл «кабальной бумаги», выставляя
на вид все комбинации случайностей, за которыми по этому
условию должен следовать штраф, неустойка, и в конце-концов
они могут вернуться домой «без копеечки».
Управляющий ухмыляется и время от времени прерывает его
Замечаниями:
—
Это только так-с, для острастки! Известно, служить надо
благородно-с!.. Наша экономия никого не обижает!
Мужики хотя и поддакивают писарю, когда он им перечи-
сляет все возможные случаи штрафов и неустойки, но видимо
не особенно возмущаются этой стороной условия.
Но вот писарь доходит до той части условия, где говорится
о вознаграждении за труд, при чем оказывается, что «бумага» не
соответствует словесному разговору, какой был у крестьян с
управляющим за стенами волостного правления,—и сговорчи-
вость мужика сразу пропадает.
—
Уговор был как?—наскакивает один из них на управляю-
щего. —К
Ильину дню 5 рублей, к Покрову—10 . а оставшие по
уборке... А ты, вишь, «как экономия вздумат»!
—
Ну, да!—отстаивает себя другой.- —- Ты уж не греши...
Пиши, чтоб без обиды!
—
Без обиды и писано!—возражает управляющий.
—
Де без обиды?—горячится первый мужик. —Пиши по уго-
вору!..
—
А то иакося... «как вздумат»! Твоя экономия и вовсе взду-
мат не платить...
—
Как есть!—слышится новый голос. — Летось крепил, да
не так...
—
А ты побойся бога!—уговаривает второй мужик.
—
Я не неволю: хочешь—подписывайся и получай сейчас
денежки! А не желаешь—- к ак угодно: других найдем.
Подходы склонить управляющего «на бумагу посовестей»
продолжаются довольно долго, вариируя в пределах скромно-
сти: (<ты уж пожалей нас!» и накипевшей досады: «и совесть
же у вас, посмотреть... э -эх!» Но управляющий остается не-
преклонным.
Одни мужики, кому трешна еще не нужна «додарезу», ре-
шают: «ищи других, а мы погодим!»—и уходят, не подписав
условия. Другие, кому нужда так и жужжит в уши: «смотри,
упустишь трешну, будешь каяться!»—говорят писарю, махнув
рукой «пиши!» «Добровольное условие» состоялось, и условие
засвидетельствовано. Мужики получают по трешне, а управляю-
щий—купчую крепость на их руки.
—
А вы строгоньки, очень строгоньки-с!—говорит управля-
ющий на прощанье писарю.— Раньше у нас было просто-с!..
С этим народом по закону нельзя... Мое почтение-с!
—
Спасибо, кормилец,—прощаются с писарем мужики,—за
нас стоишь!.. Дай тебе бог здоровья!.. Этакой писарь нам впер-
вой...— и
покидают правление, приговаривая:
—
Что поделаешь?.. Ну-жда...
Или представьте себе другой случай.
Дело происходит на волостном суде. Кулак,
«прижимало-
мученик», просит отнять судом в его пользу избу у крестьянина,
который ему продал ее за 20 рублей.
—
Вот этот мужичок,—обращается он к судьям, указывая
на должника,—продал мне свой домок... а теперь не отдает!
Хотел было к мировому, да дело-то плевое, в 20 рублей...
Потрудитесь!
Судьи, выбранные волостным сходом, в угоду старшине-ку-
лаку, из каштанов, тоже кулаков, хотя степенью ниже, прямо
накидываются на мужика:
—
Чаво ж ты! Продал—и отдай... Так, голова, нельзя: на-
чальство беспокоишь зря... опять же и человеку... хлопоты-то,
чай, ему что-нибудь стоят?
—
Известно дело,—вторит им кулак,—день-то мне чего
стоит?.. Брать-то вы все мастера, а отдавать—погоди, да по-
годи!.. Вот попросить г. г. судьей за проволочку присудить, и
будешь наперед умнее!
—
И присудим!—угрожают каштаны.
—
Позвольте, гг. судьи, — вмешивается писарь, - —
сначала
надо разобрать, в чем дело. Ну-ка, расскажи,—обращается он
к мужику,—как ты дом продал?
—
Я ему, ваше степенство, дома не продавал... Это он зря!
15 рублей у него брал—точно, да 5 рублей росту: 20 рублей за
мной... Я не отпираюсь.
—
А на какой срок брал?—допрашивает писарь.
—
На шесть недель...
—
Чего его слушать, гг. судьи?—грубо прерывает кулак.—
У меня документ, по ему и взыск должны учинить... Мы тоже
эти порядки знаем!
—
Покажите ваш документ!—требует писарь.
Судьи молчат. Кулак подает документ.
«1878 г. марта... дня. Я, нижеподписавшийся,—читает пи-
сарь,— .
.
.
.
губ....уезда....волости.... села....кре-
стьянин. . . . продал. . . . принадлежащий мне дом со всеми
надворными постройками и дворным местом; ценою договори-
лись за 20 руб., которые я получил с него сполна, с условием,
что ежели я пожелаю у него откупить свой дом обратно... к
июлю сего года, то обязуюсь уплатить ему 20 руб.; буде же в
срок этих денег не заплачу, то все вышепрописанное мое иму-
щество отдаю ему в его вечное и потомственное пользование
оез всякого суда и следствия; а если доведу дело до суда, су-
дебные издержки платить мне. Условие это обеим сторонам
хранить свято и нерушимо, в чем и подписуемся... За негра-
мотного...»
—
Вот-с!—прерывает кулак,—все, как быть должно, по
форме... Мы тоже зря просить не станем!
—
Документ—как есть... настоящий!—вторят ему судьи.
—
Условие это незаконно!—возражает писарь.
—
Чево-с?—нахально спрашивает кулак.
—
Ваш документ незаконный... Во-первых...
—
Как незаконный?—горячится кулак. — Писаря-то не хуже
вас были, знали, чай, что делали... Не-законный!
—
Ну, а я вам говорю: незаконный, и прошу меня не пере-
бивать... Во-первых, чтоб быть бесспорным, условие должно быть
записано в книгу сделок и договоров при волостном правлении,
а это не записано; во-вторых, дворовое место крестьянин может
продать другому лицу только с разрешения общества, а тут о
таком разрешении даже не упоминается; в-третьих, вы хотите от-
нять у мужика дом за 15 р., тогда как по закону не то что от-
нять, даже продать у крестьянина дом за частные долги нель-
зя!.. Я вам советую, гг. судьи,—продолжает писарь,—не руко-
водствоваться этим документом, а разобрать дело по совести и
по обычаю!
—
Ты постой, постой!—удерживают судьи кулака, который
хочет сделать замечание.— Выдьте-ка все! Мы посоветуемся.
Публика удаляется вместе с истцом и ответчиком. В комнате
остаются только судьи и писарь.
—
Ты вот что!—шепчет
писарю один судья. —Ты
не
больно!.. Макар Иваныч у нас мужик первеющий... обижать его
не приходится! А что ты говоришь насчет пазьма, али дома,—
слово твое правое, мы знаем,—да не рука! И тебе опять: голь-то
эта... Эх!., плюнь! А этот... этот у нас за первый сорт, и тебя
отблагодарит... Ты закон-то про себя держи!
За дверью комнаты, где идет совещание, слышится брань
кулака, которая покрывается галденьем толпы.
—
Чу! Слышишь, что твое слово наделало,—продолжает
тот же судья. Ты оставь!.. У нас этакая ли сумятица пойдет...
и-и! Плюнь!
Но писарю все-таки удается уговорить судей разобрать дело
по совести.
—
Ну,—говорит один из судей, когда кулак и вся публика
появляется в комнате,—сам, Макар Иваныч, сплошал, на себя
и пеняй! По документу мы твое дело разбирать не можем...
Потерпи малость, отдаст... Ты, парень, когда отдашь?
—
Через нед...
—
Это что за суд!—перебивает кулак.— Разве это суд?!
— Макар Иваныч!—вмешивается писарь.—Я советую вам
вести себя поскромнее, иначе судьи, на основании статьи (читает
статью), могут посадить вас под арест.
Кулак, подавленный неожиданностью такой угрозы и зло-
стью, перехватившей ему горло, умолкает.
—
Ну так как же, парень,—спрашивают судьи,—когда по-
платишься?
—
Через недельку, гг. судьи, отдам... беспременно уплачу!..
—
Ну, попроси его... с поклона-то голова,—чай, не свалится!
—
Макар Иваныч, сделай милость! — просит мужик, кла-
няясь в ноги.
Кулак упорно молчит.
—
Макар Иваныч!.. Пожалей мужика!.. Поделайся!.. —угова-
ривают судьи и несколько голосов из толпы.
—
Решайте, решайте!—чуть-чуть что не приказывает кулак.
—
В таком деле,—говорит писарь,—закон требует, чтобы
суд старался склонить стороны к миру... Если же стороны не
пойдут на мировую сделку, то суд решает дело сам, на осно-
вании местных обычаев и правил, принятых в крестьянском
быту... Так как Макар Иваныч поделиться по доброй воле не
желает, то я предлагаю вам, гг. судьи, постановить решение!
—
Макар Иваныч, поделайся!- —пристают судьи к кулаку.
—
Не желаю.
—
Ну-у .. Пиши решение!.. Выдьте-ка
вы!—приказывают
судьи публике.
Комната остается на несколько минут пустой. Решение на-
писано, и она снова наполняется народом,
—
Читай!—говорят судьи писарю.
Писарь читает:
«1878 г. июля... дня волостной суд, в составе трех очеред-
ных судей... слушал... по рассмотрении документа, представлен-
ного... по выслушании сторон... суд, принимая во внимание...
определил: взыскать с крестьянина... в пользу кр. Макара Ива-
нова 20 руб.».
—
Этим судом я недоволен!—заявляет кулак. - —Пожалуйте
копию!
—
Завтра можете получить,—отвечает писарь.
Кулак оставляет правление, бормоча себе что-то под нос.
Рассмотрите эти два случая и скажите: можно ли, хотя бы
с точки зрения закона, тому писарю, который фигурирует в них
в качестве защитника интересов народа, преподнести титул
«врага отечества—бунтовщика»? Конечно, нет! А между тем,
ему преподносят этот титул со всеми его последствиями!
Управляющий если тотчас же не строчит на него донос
исправнику, то при первом свидании приносит на него жалобу:
—
Бунтует народ-с... Житья нет!
—
Ну, вот!.. Я ведь говорил!—радуется исправник, дождав-
шись случая похвастаться перед остальными членами присут-
ствия своей предусмотрительностью.
Одно обвинение уже готово: «вы возмущаете крестьян про-
тив помещика».
Кулак... Но тут необходимо сделать некоторое отступление.
Я сказал в начале статьи, что наше правительство идет ру-
ка об руку с мошенниками всех сортов, которые эксплуатируют
его глупость в своих хищнических интересах. Поэтому, как сре-
ди интеллигенции встречается немало субъектов, понимающих,
что в наше время прямой путь к устранению «беспокойных эле-
ментов», мешающих разворовывать общественные и земские
деньги, это окрашивание этих непрошенных «охранителей чу-
жой копейки» в «красный цвет»,—так
и среди крестьян есть
уже «понятные люди», смекнувшие, что всякого защитника го-
лытьбы во вред толстопузому благодетелю можно «счикнуть»,
выставив его бунтовщиком. Да и почему же в какой-нибудь Гу-
бошлеповке Герасиму Семеновичу или Андрею Ивановичу не
пользоваться для своего деревенского обихода «духом времени»,
если в Бузулукском уезде Самарской губ. есть предводитель дво-
рянства—Жданов, который хвастается в обществе, произнося с
особенным ударением: «Мы призваны стоять на страже!» и де-
лает доносы; а председатель земской управы в том же уезде—
Ковзан, чтобы забаллотировать ненавистного его партии пре-
тендента в губернские гласные, не гнушается грозить мужикам:
«Если выберете его,—вас сейчас под суд! Разве вы не знаете,
что он удален из службы по второму пункту?.. Ведь он против
царя, безбожник!» Если есть такие персоны в городе, то почему
же им не быть и в деревне? И они есть.
«Ноне—просто!» рассуждает Герасим Семенович с Андреем
Ивановичем: «Ежели мужик против тебя,—закатил его в рас-
стройщики, и шабаш!., в Сибири много места!.. А ежели из эта-
ких... из образованных, значит... шепнул жандару, либо ис-
правнику: смутовство, мол, делает, бунт... Так причертят,—
любо-дорого посмотреть будет!»
Возвратимся теперь к кулаку.
Кулак, раздосадованный, обозленный, получив копию с ре-
шения волостного суда, идет советоваться с добрыми людьми.
—
Ну, нет, брат!—окончательно добивает его «добрый че-
ловек»,—кассация тут ни к чему: тонко!., не отменят!., все как
есть!
Что делать? Везде и всюду кулак ругает писаря, и чем чаще
он вспоминает о своих делах, тем ярче выставляется ему не-
возможность обойти этого писаря, тем ненавистнее становится
ему его личность.
Наконец, он наталкивается на Андрея Ивановича.
—
Да ты заткни ему кадык-то!—советует тот кулаку.
—
Не берет!
—
Ну-у?
—
Ей-богу!
—
И откуда его чорт принес к вам?... прости господи!
—
Лешай его знает! Жили, братец ты мой, все... слава богу.
Сколько писарей перебывало—уважали, а тут... на! За бедноту
стоит, а нам—хоть бы вой с эстолько!.. Все по закону, да по
закону... А у меня, знаешь, этих условисв на дома, опять же
души, которые мужики позакладали... Смеются окаянные мужи-
чонки-то. Да и впрямь с этим писарем ничего не получишь.
—
А за бедноту стоит?
—
Стоит... Шибко стоит.
—
Да, он, мотрн, не из этих ли?
—
Из каких?
—
Да вот, что смутовство делают...
—
Знамо из этаких... Какого еще смутовства надоть? Весь
мир перебулгачил.
—
Ііу, так вот я тебе что присоветую: прямо к жандару—
пето к исправнику.
—
Ну-у?
—
ІІря-мо. Бунтует, да и все тут... чего ж? Они его живой
рукой... И души-то все при тебе останутся.
—
Это я беспременно.
—
Сделай.
—
И сделаю... Рази с этаким можно жить?
И кулак едет к исправнику, а «для верности» заворачивает
и к «жандару».
—
Помилуйте-с,—жалуется он начальству,—мы слав богу
не то что... по всей округе известны... и капитал платим, и про-
чее все такое... Торговать нельэя-с . .. опять же и хлебопашество...
Бунт-с .
—
Так, так,—окончательно уже убеждается исправник
в
своей предусмотрительности.
Второе обвинение: «вы восстановлясте бедных против бога-
тых».
Не пройдет недели, как вы уже заметите, что вся окружаю-
щая вас обстановка приняла характер какой-то подозрительно-
сти: в вашей резиденции живут жандармы; урядник куда-то ры-
щет, бегает, расспрашивает; мужики шепчутся и толкуют:
—
Мотри, чего-нибудь доискаться им охота... Все о тебе речь
Заводят.
Ждите: не сегодня—завтра к вам нагрянут гости, спросят
паспорт, произведут обыск, и т. д., и т. д.
Может быть, мне возразят:
—
Ну, что же, произведут обыск, ничего не найдут и оста-
вят в покое.
Ну, нет-с . Положим, у вас не найдут ничего противозакон-
ного в тесном смысле этого слова,—это верно. Но так как вы
человек мало-мальски образованный, интересуетесь обществен-
ными делами, можете иметь знакомых, которым также близки
эти дела, а эти знакомые могут вам писать письма не по шаблону
дружеских посланий, получаемых «писарем-загребалой», в роде:
«А баранов мне к святой навалили целую уйму»; так как, на-
конец, вместо библиотеки, состоящей из «Мартына Задеки» и
«Барышни 5 этажа», вы можете иметь книги научного содержа-
ния,—то полиция и жандармы, руководясь «духом времени»,
найдут у вас при обыске слишком много...
—
Ваше направление,—скажут вам,—вполне определяется
этими письмами, книгами... к тому же и поступкн-с . Жаль, очень
жаль, но приходится вас арестовать... впредь до разъяснения
всех обстоятельств этого дела.
Дело, положим, разъяснится в вашу пользу; но не думайте,
что вы снова попадете на место. Ведь всем этим исправникам,
кулакам, Ждановым, Андреям Ивановичам, председателям управ,
в роде бузулукского,—им
только нужно как-нибудь вас «сник-
нуть» и в лице вашем создать пример, чтобы этим примером
на будущее время можно было уткнуть нос другому, кто захо-
Чет итти по вашим стопам, проявляя свои симпатии к забитому
люду и антипатии к его притеснителям.
Раз у вас сделали обыск, арестовали,—вы скомпрометирова-
ны, и нигде не найдете себе места. Тот же исправник, который
«ид произведенного дознания» убедится в вашей политической
благонадежности, скажет вам:
—
Помилуйте-с,—были под судом и лезете. Нам таких не
надо.
«Притесняй, грабь, воруй»—вот какую деятельность реко-
мендует вам теперешнее status QUO; вот какую работу предла-
гают честному человеку все современные эксплуататоры, с пра-
вительством во главе.
Что же делать?
ПОБЕГ
Это было, мне кажется, в сентябре или в начале октября
1879 года.
Прошло больше года, как Грачевскийзв,
захваченный без
всяких законных оснований в Одессе, был сослан на отдален-
ный север России—в Пннегу.
Скучная и однообразная жизнь ссыльного в небольшом за-
терянном местечке глухой провинции скоро сделалась невыно-
симою для этой полной деятельности натуры.
Он решил бежать, бежать во что бы то ни стало, и тем более
что, взвесив все обстоятельства, доступные его наблюдению, он
пришел к тому заключению, что революционная партия вы-
брала очень плохую тактику. В России нужна была не пропа-
ганда, а открытая борьба с правительством.
Он был убежден, что в самом центре движения он выскажет
то, что, по его мнению, его единомышленникам необходимо было
знать.
Нужно было бежать. Но как?
Прежде всего встал вопрос о деньгах. Товарищи из Рос-
сии иногда еще присылали кое-какие крохи, но эта помощь была
так ничтожна, что Грачевский потерял очень много драгоцен-
ного времени, чтобы собрать необходимую сумму. К осени он
имел всего только двадцать рублей.
Конечно, это было слишком мало для путешествия в четы-
реста верст, но, с другой стороны, ожидать долее было невоз-
можно.
Наступил период дождей, период, крайне невыгодный для
побега; но ледяной холод и снежные бури зимою были еще
страшнее. Нужно было воспользоваться временем, которое оста-
валось до зимы, каким бы оно ни было.
Грачевский из своих сбережений купил грубые крестьянские
сапоги и баранью шубу. Один из друзей преподнес ему драго-
ценный в его положении подарок—маленький компас, какой
употребляют северные охотники.
Грачевский предпринял свое путешествие совместно с това-
рищем Орловым40, которого все называли «Бородою» за его
поистине удивительную бороду.
«Борода» был сослан в другой город Архангельской губер-
нии—Холмогоры, если я не ошибаюсь. При помощи писем они
условились, что выйдут одновременно и встретятся в опреде-
ленном месте за лесом, чтобы дальнейший путь продолжать
вместе.
Город Пинега окружен бесконечными вековыми лесами, ко-
торые покрывают собою весь север Архангельской губернии,
переходят за полярный круг и в тундры, а на юге тянутся до
границы настоящей Европейской России. Эти дремучие леса в
различных направлениях пересекаются огромными реками, а
неизмеримые болота постоянно угрожают бесследно поглотить
неблагоразумного или несчастного путника. Нет ничего здесь
легче, как заблудиться и десять раз умереть с голода, прежде
чем посчастливится встретить человеческое жилище. Вы здесь
встретите медведя, стаю волков или кровожадную рысь гораздо
скорее, чем какого-нибудь крестьянина.
Трудно даже представить себе, что возможно еще подобное
путешествие в конце XIX века!
И, однако, я передаю не какой-либо роман Густава Эмара,
а—страницу истории, извлеченную из действительной жизни
русского современного революционера.
Грачевский не принадлежал к числу людей, которых может
устрашить четырехсотверстное путешествие по диким северным
лесам!
Он был из тех, которыми могут гордиться русские люди:
ради служения идее они готовы на всякие страдания, готовы
ко всему приспособиться.
Он был человеком средней силы, но силы его всегда были
неисчерпаемы; он не был избалован жизнью и не нуждался в
комфорте. Он был немного плотник, немного слесарь, немного
механик. Он не останется беспомощным на берегу реки, без
убежища, а сумеет защититься от дикого животного, и един-
ственный хищный дверь, который устрашает его, это грозная
разновидность homo sapiens, называемая жандармом, становым,
урядником или каким-нибудь полицейским. Но они не встре-
чаются в этом девственном лесу!
Грачевский опасался только тех полей и лугов, которые ле-
жали между городом и лесом.
Не знаю уж, как ему удалось вырваться из города. Это было
трудное дело, потому что за ссыльными следили, насколько это
было возможным для жалкой полиции столь отдаленного го-
родка.
Страшное пространство' было пройдено успешно, и госте-
приимный лес принял беглеца в свое душистое лоно. Сияя от
радости, он углубился в таинственный полумрак, который цар-
ствовал под величественными сводами вековых сосен, и быстро
Зашагал, посматривая иногда на свой компас.
Путешествие было не из легких. Дорога часто бывала загро-
мождена кучами гигантского валежника, поваленного полярными
бурями. Часто встречались глубокие трясины, покрытые слоем
гниющего зеленого мха. Горе тому, кто попал бы сюда. Именно
в этих скрытых трясинах находят теперь доисторических ма-
монтов, поглощенных жидкой грязью.
Необходимо было постоянно делать большие обходы, и в
то же время надо было торопиться, чтобы избежать погони.
Так как ссыльные не имели права выходить из Пинеги, то
Грачевский не знал даже окрестностей города. У него, кроме
компаса и собственного зрения, не было другого проводника,
чтобы ориентироваться в этом извилистом пути.
В таких условиях казалось трудным не заблудиться, но за-
ботиться об этом было уже поздно; главное—продвигаться впе-
ред, как можно скорее и как можно дальше.
Быстро наступила ночь; под густым сводом деревьев она
превратилась в сплошной мрак. Небо покрылось тучами, и по-
лил непрерывный дождь. Это последнее обстоятельство имело
и свою хорошую сторону, так как дождь уничтожал всякие
следы по дороге.
Но как же итти дальше, если не видно ни зги?
Сильно уставший Грачевский нашел какую-то нору посуше,
укрылся своей шубой и крепко уснул под монотонную песню
сосен, качавшихся от ветра и дождя, шумевшего в ветвях. По-
стель была не из удобных; ночной холод проникал сквозь шубу,
и дождь пробирался по телу маленькими ручейками. Но перед
его закрытыми глазами проходили счастливые сны.
Свобода окрашивает в золотые краски самые печальные об-
стоятельства жизни.
Утром Грачевский сделал очень печальное для себя откры-
тие: его сухари промокли от дождя.
Окоченев от холода, но еще более непреклонный в своем
решении после первой прекрасной свободной ночи, путеше-
ственник позавтракал сухарем и отправился снова в дорогу.
Дождь не переставал лить весь день, земля набухла, и итти
становилось все труднее. Но хуже всего было то, что лес был
поистине доисторический. Казалось, никогда от сотворения мира
нога человеческая не проникала р эти дикие места, до такой
степени все было нетронуто и девственно в этой могуществен-
ной природе.
Грачевский имел основание беспокоиться, что несколько
сбился с дороги, приняв ложное направление, слишком забрав
вкось.
Так прошел второй и третий день посреди всяческих лише-
ний и необычайных трудностей пути.
Но эти дни не были скучны; напротив, их строгая и торже-
ственная свобода оставила о себе наилучшие воспоминания в
Грачевском.
Путник подвинулся уже достаточно для того, чтоб не боять-
ся преследования. Он даже позволял себе иногда зажечь костер,
чтобы погреться и обсушиться. Его ноги привыкли к усиленной
ходьбе и уже не причиняли ему боли. Одно только питание было
крайне плачевно, так как сухари, промокшие от дождя, пре-
вратились в холодное и грядное тесто, которое приходилось
черпать ладонью. Иногда Грачевский находил ягоды, но не
рисковал терять время для их сбора.
Прошел еще день; дождь прекратился. На пятые сутки в
лесу стало светлее, он поредел, и Грачевский вышел наконец
на опушку.
Окружавший вид был великолепен. Большая река с зали-
вами и островками обрисовывала свои берега на обширном го-
ризонте. На этой реке была назначена встреча с «Бородой».
Но Грачевский, вынужденный сделать в лесу большой об-
ход, очутился гораздо ниже, чем они условились. Это было
очень некстати! Теперь оказывалось необходимым подняться
вверх по реке и очень торопиться, чтобы не опоздать.
Неподалеку от реки расположилась маленькая деревушка.
Грачевский направился туда в надежде найти лодку, и в дей-
ствительности таковая оказалась на реке. Грачевский послал
из глубины души тысячу извинений хозяину попавшейся ему
лодчонки и забрал ее. Ведь не мог же он пойти просить у
хозяина разрешения воспользоваться ею. Он захватил также
пару весел и храбро начал подниматься вверх по реке.
Погода была прекрасная. Горячее солнце освещало реку, ее
острова, зеленеющие луга и темный густой лес на ее берегах.
После тяжелого путешествия пешком в предыдущие дни
это был настоящий праздник.
Загопорщикн и полиция
113
Однакож Грачевский с ужасом начал замечать в себе какую-
то все возрастающую слабость. Несмотря на все усилия, он
подвигался вперед очень медленно, и только после нескольких
дней пути очутился на услошіенном месте. Он высадился на
берег, оттолкнул свою лодку как только можно дальше, чтобы
она поплыла вниз к своему хозяину.
Теперь перед ним стоял вопрос:
Где искать «Бороду»?
Условиться о месте встречи они могли только весьма прибли-
зительно. Первый прибывший должен был ожидать своего това-
рища в течение двух дней, если это будет возможно. Грачев-
ский очень запоздал, но ведь такие же случайности могли за-
медлить путь и «Бороды».
Где он мог быть? Ушел ли он дальше или где-нибудь ожи-
дает? Наконец он, может быть, вовсе и не дошел еще до усло-
вленного места.
Задумавшись, Грачевский бродил взад и вперед.
Б одном стоге сена он нашел углубление, совершенно свежее,
трава вокруг была примята. Оно вполне могло служить убе-
жищем для беглеца. Но «Бороды» там не было.
Позднее Грачевский узнал, что он был прав. Здесь, дей-
ствительно, ожидал его два дня «Борода», отправившийся за-
тем дальше.
Озадаченный Грачевский все-таки решил подождать усло-
вленных два дня.
Он проводил время в том, что осматривал кустарник с тщет-
ной надеждой найти какой-нибудь след своего товарища.
Это было совершенно напрасно, и тем более досадно, что
он чувствовал себя очень ослабевшим от недостатка питания и
от ночей, проведенных в сырости.
Два грустных дня протекли, и Грачевский отправился дальше.
Дорога становилась более опасной, так как надо было прой-
ти очень населенную местность, чтобы достигнуть единствен-
ного перехода через реку. Этот переход и был самым риско-
ванным местом, где полиция могла легко выследить беглецов.
Но как же быть, когда чувствуешь, что все твои силы при-
ходят к концу?
Грачевский упрямо шел вперед.
Через два дня ходьбы он повстречал одного мужика, который
в общем разговоре рассказал ему, что становой пристав посе-
лился на другом берегу реки и приказал всем окружным де-
ревням опрашивать и препровождать к нему всех прохожих.
—
Разве что-нибудь случилось?
—
Да, видишь ли, ищут одного беглого... Одного-то уж сло-
вили, ждут другого.
—
Замечательно!
Значит, «Борода» уже арестован, и его самого ожидает та
же участь. Это очевидно. Раз становой опередил беглецов и
загородил им дальнейшую дорогу в Россию, можно скрыться
только в лесу. В том состоянии, в каком был Грачевский, ли-
шенный всяких средств к существованию и совершенно изму-
ченный, в лесу его ожидала неизбежная смерть. Он решил итти
вперед в неясной надежде, что, может быть, русское «авось»
придет ему на помощь.
Но «авось» не помогло.
Грачевский блуждал по берегу. Иного способа пройти через
логовище станового не было.
Это логовище было на виду, и становой был так уверен в
своей победе, что не прятался и не искал; он просто ожидал,
и был совершенно прав.
Умирая от голода, Грачевский решил пойти в деревню по-
искать пищи. Он обратился к одному мужичку, который не
отказал ему, но, видимо, был очень смущен. Он тотчас же за-
говорил, что у них появились беглые, что всех прохожих при-
казано отправлять к становому.
Грачевский, видя, что он все равно погиб, не хотел навле-
кать тяжелую ответственность на своего хлебосольного хозяина.
—
Ну, приятель, это уж, видно, моя судьба. Я и есть беглый,
веди меня в волость.
Мужик был очень доброжелателен, он пожалел Грачевского,
но все-таки отвел его в волость. Там тотчас же собралась толпа
народа, начали рассматривать фальшивый паспорт Грачевского,
спрашивали, что он такое сделал; все, казалось, были огорчены
его судьбою, но все же отправили его к становому.
Следует заметить при этом, что Грачевский был отправлен
на честное слово, почти один, так как молодой парнишка был
единственный страж, на которого крестьяне возложили эту
миссию.
Таков был печальный конец первого акта этой маленькой
Одиссеи.
Отсюда начинался другой акт, очень скучный и очень до-
садный.
Это был ряд допросов, грязных провинциальных тюрем, кло-
пов, становых, урядников... От этапа до этапа Грачевского
привели в ту же проклятую Пинегу, и такой же путь он должен
был сделать в Архангельск.
8*
115
Но закону сосланный административным порядком за по-
пытку к побегу наказывался ссылкою в Восточную Сибирь. Но
эта отправка в Сибирь могла быть произведена только ид Ар-
хангельска.
«Борода» был уже увезен туда.
Грачевский должен был последовать за ним. Правду говоря,
это новое путешествие не пугало его. В Архангельске у него
были друзья, следовательно, если бы ему удалось снова где-
нибудь бежать вблизи Архангельска, у него было бы гораздо
больше шансов на успех, чем в его последнюю попытку. Таков
и был план Грачевского.
Весь путь он старался казаться очень спокойным, чтобы не
возбудить подозрений у конвойных, но в то же время не упу-
скал случая заметить все, что представляло какое-нибудь зна-
чение, твердо решившись воспользоваться первым удобным
случаем, подъезжая к Архангельску.
Один этап следовал за другим, дни бежали друг за другом,
и путники уже подъезжали к городу. На последней станции
Грачевский наконец решил, что момент наступил. Ямщик за-
дремал на своих козлах, конвоир, растянувшись рядом с Гра-
чевским в открытой тележке, спал глубоким сном.
Лес окаймлял дорогу и, казалось, тянулся в сторону Двины,
в устье которой расположен Архангельск. Иногда он со всех
сторон обступал путь.
Грачевский
немного
пошевелился;
конвоир
продолжал
спать. Тогда Грачевский в мгновение ока выскочил из тележки
и побежал к лесу. Ямщик спрыгнул с облучка и хотел было
поймать его. Беглец вооружился толстым суком дерева и, по-
трясая этим оружием, устремился на своего противника; по-
следний, испугавшись, бросился к лошадям, которые заржав
рванулись вперед. Конвоир наконец проснулся; едва остановив
вдвоем лошадей, они на момент задумались. Они решили было
преследовать беглеца, но он успел уже скрыться в лес.
Как поймать его?
Еще одна минута раздумья, и тележка понеслась во весь
дух в Архангельск за помощью. Ямщик и конвоир Грачевского
были уверены, что он не мог далеко убежать.
Когда тележка еще не скрылась, Грачевский вышел из ку-
старников и принял обратное направление, делая вид, что ухо-
дит от города; но как только тележка совершенно исчезла из
вида, он переменил направление и пошел к городу. Несколько
времени спустя он услышал отдаленный шум погони и поспешил
притаиться в лесу, при чем имел удовольствие видеть, как мимо
него промчался эскадрон полицейских с самим исправником во
главе. Все остановились на месте происшествия.
Очевидно, след в кустарнике и на примятой траве, равно как
и показания конвоиров Грачевского, внушили исправнику уве-
ренность, что беглец пошел в противоположном городу напра-
влении, куда поэтому и направилась вся погоня. Тогда Грачев-
ский оставил свое убежище и поспешно зашагал.
Положение все-таки внушало опасения.
Полиция, обманутая на некоторое время, конечно, возвра-
тится, это совершенно очевидно. Затем его станут стеречь в
городе. Поэтому Грачевский решил провести некоторое время
в лесу и потом добраться до Архангельска с противоположной
стороны. Он задумал пересечь лес в направлении к Двине и
скоро дошел до ее берегов.
На противоположном берегу широкой реки было заметно не-
что в роде островов и широких бухт; Грачевскому казалось да-
же, что он видит что-то в роде мачт и судов. Совсем близко
у берега он встретил группу рыболовов, повидимому, отды-
хающих.
Старик, сидя в лодке, что-то починял. Грачевский подошел
к нему и попросил перевезти его на другой берег. В кармане
у него было всего два-три рубля.
Сначала старик был очень добродушен.
К несчастью, он спросил у своего собеседника, зачем он хо-
чет ехать на ту сторону. Грачевский, убежденный, что там были
барки, ответил очень уверенным тоном, что он должен отпра-
виться на судно своего хозяина.
Тогда старик вдруг, видимо, обеспокоился и стал подозри-
тельным.
—
Но кто же ты?
—
Я здешний житель.
—
Так!— - Заметил старик.- —Я тебя потому спрашиваю, что
есть у нас разные люди... А скажи-ка, брат, где ты живешь?
Грачевский совсем не знал города и отвечал наугад, но, каза-
лось, его ответ был неудовлетворителен для местного жителя.
Старик, ничуть не стесняясь, начал настоящий допрос. Гра-
чевский смутился, хотел убежать, но это было невозможно: в
двух шагах от них сидело несколько рыболовов, и при первом
же крике старика его бы задержали.
В этом безвыходном положении Грачевский сделал героиче-
ский выбор. Он признался старику, что солгал, что он не жи-
тель Архангельска, а бежавший политический ссыльный. Те-
перь, прибавил он откровенно, он ищет только убежища, чтобы
избавиться от полиции, которая его преследует.
Старик начал опять допрашивать его самым внимательным и
подробным образом.
Правда ли, что он политический ссыльный, на каком осно-
вании его сослали, за что и так далее.
Грачевский на все отвечал откровенно.
Старик вздохнул и покачал головой.
—
Ну, брат,—отвечал он наконец,—я сам не повезу тебя,
а пошлю с тобой моего малого. Поезжай на этот остров. Ты
сможешь там переночевать. Твой план благоразумен, но сове-
тую тебе никому не говорить, что ты едешь на судно.
Старик улыбнулся.
—
Там, на другой стороне, стояло много судов, когда я был
еще мальчишкой; но теперь, брат, уж тридцать лет, как там нет
ни одного!
Наивное указание Грачевского на барки и возбудило подо-
зрение у старого рыболова.
Старик опять сделался добродушным, позвал своего малого
и приказал ему перевезти Грачевского.
Во время переезда молодой рыбак в свою очередь о многим
спрашивал Грачевского, и тот откровенно рассказал ему свои
приключения. Молодой матрос дал ему много практических со-
ветов относительно того, как отвечать прохожим, которые могут
его повстречать.
—
Здесь на этом острове,—сказал он,—есть деревня, где
можно попросить лодку до Архангельска, потому что это един-
ственное в мире место, с которым та деревня имеет сообщение;
с других сторон ее окружают непроходимые болота.
Затем, дав Грачевскому немного хлеба, парень дружески по-
прощался с ним.
Грачевский начал бродить по грязному и сырому острову.
Начался дождь. Холод пронизывал нашего путника до ко-
стей, несмотря на его баранью шубу. Чтобы не провести ночь
в лесу, он начал искать деревню, и долго не мог найти ее. Спу-
стилась уже темная ночь, когда он подошел к освещенным из-
бам и постучался в первую попавшуюся дверь.
—
Позвольте переночевать у вас.
Ему отказали.
Он постучался в другой дом. Всюду отказали. Вымокший и
раздосадованный, он наконец воскликнул:
—• Что за чорт? Сдохнуть мне, что ли, здесь от холода?
Хороши порядки. Где живет староста?
Безжалостный крестьянин указал ему на дом старосты, но
запер свою дверь.
Грачевский храбро подошел к указанному дому и посту-
чался.
Дверь открыла женщина.
—
Что тебе надо?
—
Старосту.
—
Ну, говори скорее, чего надо.
—
Я тебе сказал, что мне нужно старосту.
—
Да я и есть староста, говори же.
Оказалось, что все главы семейств исполняли обязанности
старосты поочередно, и так как эта женщина была главою своей
семьи, сейчас была ее очередь взять обязанность старосты.
Грачевский рассказал ей вымышленную, но подходящую к
обстоятельствам историю.
Он был жителем г. Архангельска и утром в компании с това-
рищами поехал в эту деревню на свадьбу. Его пьяные товарищи
придумали плохую шутку: они уехали, оставив его на острове.
Женщина, как и подобает общественному представителю,
выразила живой интерес к жертве такой дурной выходки. Она
приготовила ему ужин и предоставила постель на ночь.
Здесь неудачи нашего путешественника окончились. Он
крепко уснул в теплой избе своей гостеприимной хозяйки,
утром нанял лодку и отправился в Архангельск, как мирный
гражданин. Было нетрудно уже найти своих друзей, которые
приготовили ему надежное убежище, где он провел несколько
дней, никуда не выходя.
Полиция исколесила все дороги, делала обыски у всех по-
дозрительных в городе лиц, но все было напрасно. Когда го-
рячка поисков ослабла, Грачевский, прилично одевшись, побри-
тый, совершенно изменивший свой внешний вид, нанял лоша-
дей в Вологду, откуда по железной дороге направился в Москву
и далее до Петербурга.
На этот раз полиции не повезло.
«Бороде» также удалось убежать благополучно.
Во время его вынужденного путешествия в Москву, откуда
он должен был отправиться в Сибирь, он упорно повторял своим
провожатым:
—
Берегите меня хорошенько, а то я убегу.
—
Хорошо, хорошо,—отвечали жандармы улыбаясь.
Так они приехали уже в Вологду и поместились в вагоне
железной дороги, заперев двери на ключ.
Жандармы начали шутить:
—
Вот теперь наступил самый опасный момент, он убежит,
пожалуй, через окно вагона!
—
Совершенно верно,—отвечал пленник.
Судьбы, управляющие миром, распорядились так, чтобы
жандармы, чувствуя себя в полной безопасности, уснули.
Тогда «Борода» вылез из окна, держась руками за раму. Он
был так высок, что ногами почти доставал рельсы; сделав не-
большое усилие, он прыгнул.
Этот феноменальный прыжок был так удачен, что «Борода»
не причинил себе ни малейшего вреда. Он поднялся и отпра-
вился в дальнейший путь пешком.
Через несколько дней он был в Москве, но на этот раз уже
без своих конвоиров.
Iж[>
VII
ТАЙНАЯ ТИПОГРАФИЯ
V
Санерный переулок- —м аленькая петербургская улица, очень
чистая и очень спокойная.
Богатые люди не ищут здесь для себя резиденции; очень
бедные семьи в поисках маленькой квартиры идут тоже в дру-
гую часть города. Но супруга какого-нибудь чиновника средней
руки, получающего тысячу рублей жалованья, охотно скажет:
«Это прекрасно, здесь спокойно, близко от магазинов Невского
и Литейного; кроме того улица даже хорошо освещена, не-
смотря на ее четырехъэтажные дома»...
На четвертом этаже дома No 17 такого переулка и оста-
новило свой выбор семейство Лысенко " осенью 1879 года.
Г. Лысенко был видный 42 молодой человек, в золотом пен-
енэ, носивший почти богатую шубу. Его жена, свежая и розо-_
вая молодая дама, очаровала дворника своим милым лицом.
Со своей стороны и Лысенко был доволен квартирой: ком-
наты оказались прекрасными, лестница даже богатая...
Хорошо и то, что не было швейцара.
—
Всегда меньше следят, если нет этих шпионов,—заметил
Лысенко своей жене, когда они остались одни.
Таково было мнение Александра Михайлова 43, знаменитого
главаря многих конспирации.
Несколькими днями раньше он был на этой квартире и, тща-
тельно ее осмотрев, решил остановить на ней выбор.
-—
Стены толсты,—заметил он своим товарищам,—никакой
шум не будет слышен. Две лестницы облегчают вход и выход.
Окна исключительны, их видно даже из другой улицы: знак
безопасности, значит, будет легко заметен. Наконец квартиру
с таким входом нельзя будет застать врасплох.
Все это было верно.
Входная дверь квартиры была очень прочна; в прихожей
маленькое окно, помещенное очень высоко, выходило на лест-
ницу. Через него осажденные могли бы в случае нападения
прекрасно обстреливать лестницу и надолго удержать там оса-
ждающих. Эта идея принудительной вооруженной защиты не
слишком, кажется, улыбалась организатору типографии—Квят-
ковскому, ибо мнимая m-me Лысенко была его женой: оба они—
Квятковский и Софья Иванова, «нелегальные»—не имели воз-
можности повенчаться официально, но она уже была на первых
месяцах беременности.
Но тогда не думали о своих чувствах, о своих личных инте-
ресах. Все приносилось в жертву делу.
Таким образом почтенное семейство Лысенко устроилось.
Оно состояло из мнимого мужа, Николая Буха 4\ и его мни-
мой жены Софьи Ивановой Детей не было, но Лысенки имели
прислугу,
на
самом деле
их
единомышленницу — Марию
Грязнову 4в.
Никаких жильцов, кроме перечисленных, официально не
было записано, но с ними жили совершенно тайно еще два
человека.
Конспираторы полагали, что большое количество жильцов
могло бы показаться подозрительным. Кроме того, каждый
фальшивый паспорт рискует быть обнаруженным,—не следовало
увеличивать их количество.
При такой системе жильцы квартиры чувствовали себя в
сравнительной безопасности, тем более, что паспорт Лысенко
был дубликатом, то-есть копией настоящего паспорта лица, но-
сившего эту фамилию, и полиция могла его сколько угодно удо-
стоверять. Такими дубликатами русские конспираторы всячески
старались пользоваться, но случаи получения копий с паспор-
тов представлялись очень редко.
Два человека, жившие тайно, были Любкин 47 и Цуккерман.
Помещение типографии состояло из пяти комнат, считая в
том числе и кухню.
Входя через прихожую, посетитель видел маленькую ком-
нату, украшенную большим портретом государя; под портретом
диван, стол, окруженный полудюжиною стульев, на полу боль-
шой ковер,—словом, вся обстановка русской семьи, не очень
богатой, но и не очень бедной.
Другая комната по внешности должна была быть спальней
супругов. На самом же деле это была комната Софьи Ивановой;
в ней стояла единственная во всей квартире кровать, за исклю-
чением кровати прислуги.
Эта последпяя занимала по русскому обычаю кухню, где и
спала.
Мужчины жили в остальных комнатах и спали просто на
полу, на матрацах или на грудах типографской бумаги. В одной
из этих двух комнат, самой скрытой по своему положению, на-
ходилась кушетка. Это и была типография.
Типографский пресс был очень прост.
На широкой железной доске помещали набор.
Большой полый цилиндр, наполненный внутри шрифтом,
для того, чтобы он был тяжелее, тщательно обвернутый сукном,
проходил взад и вперед над набором, опираясь на два малень-
ких железных рельса, по высоте равных набору.
Работали два человека.
Один намазывал набор типографской краской и убирал ци-
линдр; в то же время другой работник укладывал на набор лист
бумаги. Первый отталкивал цилиндр, снимал отпечатанный
лист и прибавлял, если было нужно, краски.
Укладка листов на набор требовала почти художественной
ловкости.
При таких примитивных приспособлениях типография могла
отпечатать от двухсот до трехсот листов в день.
Эта система была принята, как самая удобная при настоящих
обстоятельствах. Железная доска была помещена на сидении
кушетки, цилиндр ходил по рельсам, и печатание не произво-
дило большого шума. Кроме того, все части пресса могли быть
легко и быстро сняты.
Только одна железная пластина была неудобна, и в других
типографиях ее заменяли иногда предметом, не имевшим в себе
ничего
подозрительного,
а
именно — толстым
зеркальным
стеклом.
,
Последняя комната была предназначена для набора. В ней
стояло несколько простых столов, на которые ставили кассы со
шрифтом. Работали почти всегда не только днем, но и ночью
при больших лампах, но в этих случаях из предосторожности
закрывали окна очень толстой клеенкой, которая совершенно
не пропускала света 48.
Все устройство типографии было произведено под наблюде-
нием Александра Михайлова и с полнейшим успехом. Не было
допущено ни одной ошибки. Шрифт, самая главная часть типо-
графии (я полагаю, больше 12 пудов), распределенный по ме-
шочкам на маленькие количества, был перенесен в квартиру
вместе с мебелью. Железная доска, самая тяжелая и большая
вещь, была перенесена во время дождя под резиновым плащом.
Квартиру знали только те, кто был непосредственно занят
делами типографии.
Работа началась. Нужно было выпустить первый номер «На-
родной Воли» 40—органа вновь образовавшейся партии.
Эта газета в свое время наделала много шума. Она имела
горячих сторонников, но еще больше у нее было ожесточенных
врагов, даже между революционерами.
Это не был просто революционный листок, как «Земля и
Воля» 60, который предшествовал ему по времени. Но это не
был и призыв к мщению, как некоторые издания того времени.
Она не обращалась исключительно к социалистической партии,
но призывала все русское общество к свержению правительства,
требовала созыва учредительного собрания и делала это с энту-
зиазмом, даже с фанатизмом. Благодаря этому газета пользова-
лась в свое время такой большой популярностью. Это был на-
стоящий, огромный успех.
Успех этот был способен ободрить редакцию и всех других
партизаиов новой партии.
Но он не мог подействовать на работников типографии, этих
незаметных тружеников дела, которые были лишены возмож-
ности наблюдать его развитие.
Воодушевление от борьбы, победы—все это существовало
для других, они же имели только тяжелый, монотонный труд.
С ними никто не виделся, они почти никуда не выходили из
квартиры, никто не мог приходить к ним, кроме одного-двух
товарищей, обязанных снабжать типографию бумагой и уносить
напечатанные номера.
Редакция журнала была совершенно независима от типогра-
фии; члены ее не знали даже адреса типографии и не имели с
нею никаких сношений. Отредактированные статьи отдавались
тому, на ком лежала вся организация.
Положение редакции тоже было не из легких: за всеми чле-
нами ее усиленно следила полиция и постоянно их преследовала.
Портфель редакции был, таким образом, портфелем в букваль-
ном смысле этого слова, так как все бумаги, статьи, корреспон-
денция и прочее находились всегда у членов редакции. По по-
воду некоторых вопросов, требовавших общего обсуждения, со-
бирались, где это было возможно: у кого-нибудь из редакторов,
когда это не было опасно, у друзей, в ресторане и т. п .
Редакция должна была подвергаться цензуре. Газета была
органом партии, и, хотя она была вполне предоставлена усмо-
трению редакции, ее было необходимо представлять на одобре-
ние тайной организации и принимать во внимание ее планы,
взгляды, идеи.
Конечно, организация 51 «Народной Воли» была тогда очень
расположена сообразоваться с общественным мнением России
іі, следовательно, С мнением редакции, которая имела непосред-
ственные связи с обществом. Но все же цензура оставалась
цензурой.
Жизнь в типографии была очень скучна и однообразна.
Вставали рано; женщины принимались за хозяйство, упре-
кая мужчин в нежелании им помогать.
—
Да ведь мы же убрали наши постели,—отзывался Бух
своим флегматичным голосом.
Женщины сердились, потом смеялись.
—
Этот Бух отчаянный лентяй.
На самом же деле он был работник выше всякой похвалы.
Типограф-артист так же, как и его товарищ, Любкин, прозван-
ный «Птицей», он был влюблен в свою работу. Они всегда были
готовы проводить целые дни и часы в установке своих инстру-
ментов: пресса, касс, шрифта.
Благодаря их влюбленной усидчивости революционные из-
дания этой бедной типографии бывали иногда даже изящны.
Ничто не могло доставить Буху большего удовольствия, как
протоколы о происшедших там и сям конфискациях револю-
ционных изданий.
В большинстве случаев эти протоколы говорили, что захва-
ченные издания были прекрасной работы и что машины типо-
графии должны быть очень хороши.
Тогда Бух расцветал улыбкой, которую всячески старался
подавить.
—
Как, как? Повторите-ка еще раз, что они говорят: я
плохо расслышал!
Он работал усидчиво, как художник, но это был человек сла-
бый и болезненный.
Сын очень высокопоставленного чиновника, племянник сена-
торов, привыкший к богатой жизни,—он не имел той привычки
к труду, которая отличает человека рабочего по происхо-
ждению.
Если у него выпадала свободная минута, он предпочитал
провести ее, растянувшись на постели, тем более, что он был
натурою крайне флегматичною.
Самый простой разговор составлял для него уже некото-
рый труд. Он был молчалив, как хорошо воспитанный
индеец; если же было необходимо сказать что-либо, он всегда
предпочитал сказать одно слово вместо двух.
Никогда во всей его жизни, я думаю, он не выходил из себя.
Всегда спокойный, флегматичный, молчаливый, с неподвиж-
ностью настоящего английского джентльмена, на которого
кстати он был похож: худощавый, слабый, с светлорусой боро-
дой, с благородным и красивым лицом. Если он выходил из
квартиры, то одевался безупречно; но дома... вряд ли заслужи-
вало домашнее платье того, чтобы тратить время на его чистку.
Гораздо благоразумнее было вместо этого молчаливо помечтать
о чем-либо, любуясь кольцами папиросного дыма.
Другой, Любкин, был или казался совсем еще юношей,
почти ребенком, с черной шевелюрой и такими же, только-что
появившимися, усами и бородой. Очень подвижный, нервный и
мечтательный, он напрасно осудил себя на это заключение, ко-
торое несомненно более свойственно человеку постарше. Одна-
коже, он не жаловался, будучи предан своей работе, которой он
посвятил два года из своей очень короткой жизни. Чрезвычайно
скромный, он никогда не говорил, а может быть, даже и не ду-
мал о себе. Многие из товарищей даже не знали его настоящего
имени, и после, когда уже он умер, им было очень трудно вспом-
нить, как его звали, чтобы вписать и его имя в общий марти-
ролог.
Но в типографии был еще один человек, который не только
не тяготился ею, как другие, но даже испытывал наслаждение и
очевидно чувствовал себя счастливым. Это был Цуккерман, рус-
ский еврей, проживший всю жизнь за границей.
Он очень плохо знал русский язык, но это не мешало ему
работать очень хорошо. Он был по ремеслу наборщик и этим
трудом жил в Германии, с тех пор как разочаровался в другом
своем призвании. Перед тем он очень много и долго изучал
талмуд, чтобы сделаться раввином, и приобрел в этой области
очень солидные знания.
Жизнь в Берлине была тяжела, и социал-демократические
убеждения Цуккермана сблизили его с революционерами наполо-
вину забытого им отечества. Он охотно принял предложение
возвратиться в Россию, чтобы работать в типографии «Народ-
ной Воли».
Гораздо старше, чем его товарищи, мне кажется, он должен
был питать и менее счастливые мечты о своей жизни. Иногда
он бывал настоящим поэтом, и уверяют, что он был даже очень
известный еврейский поэт.
Как бы там ни было, Цуккерман вполне довольствовался
своим положением, находил труд полезным, своих товарищей
прекрасными и собственное существование надежным; всегда
добродушный, наивный, насколько можно быть таким только в
Германии, всегда доверчивый и в общем очень славный това-
рищ, он веселил всю мастерскую.
Он работал в типографии и помогал женщинам на кухне,
любил говорить о политике и особенно об иностранной; это был
единственный человек в типографии, который прилежно читал
газеты: он знал всегда, что говорили Бисмарки, Гамбетты, Глад-
стоны, что они сделали или предполагали делать.
—
Ну, Цуккерман,—дружески подсмеивались товарищи,—
значит, вы думаете, что произойдет война между такими-то дер-
жавами?
И Цуккерман, тотчас же воодушевившись и совсем не заме-
чая иронии, начинал объяснять самые сокровенные планы дер-
жав этого мира.
Были или не были мужчины расположены помогать женщи-
нам, все же последние должны были систематически заниматься
хозяйством. Все утро в кухню входили чужие люди: дворник
приносил дрова, уносил помои, потом доставляли разную про-
визию, надо было, чтобы видели, как женщины исполняют свои
обязанности. Эта необходимость заниматься хозяйством была,
конечно, очень тягостна для них.
Софья Иванова, как и прочие дворянские барышни, не по-
нимала ровно ничего в этой области; она не умела сказать про-
давцам, что собственно ей было нужно, не умела приготовить
супа, между тем необходимо было делать что-нибудь в кухне
прежде всего для того, чтобы иметь помои для уборки дворника,
а затем и для того, чтобы прокормить работников. Таким обра-
зом, худо ли, хорошо ли, в кухне стряпали, иногда смеясь до
слез над своим
невежеством,
которое
необходимо
было
скрывать.
Иванова была крайне симпатичной личностью в партии.
Товарищи и подруги по инцтитуху^ где она воспитывалась,
называли ее мужским именем «Ванечка», заимствовав это про-
звище из ее фамилии, такой она была живой, горячей-и веселой.
С ее бравурной беззаботностью какого-нибудь молодого офи-
цера она соединяла золотое сердце и самую привлекательную
женскую веселость.
Столь молодая, юная,—ей было не больше двадцати лет,—
она насчитывала уже четыре года политической борьбы. Два
раза она судилась, и была сослана в Кемь, один из самых север-
ных городов Европы за полярным кругом.
Эта ссылка была невыносима для нее, она бежала и с тех пор
отдалась с еще большей горячностью революционной борьое.
Через несколько месяцев всего после ее побега мы и находим
ее в этой типографии.
Немногое могу сказать об ее подруге—Грязновой. Это была
молоденькая девушка, очень нервная, больная и очень несча-
стная в течение всей своей жизни. Она была мало образована,
но ее искренние убеждения привели ее на этот опасный пост.
В то время как женщины занимались кухней, мужчины при-
нимались за свою работу, и так продолжалось до обеда. Затем
обедали, если было чем пообедать, потому что организация не
всегда могла снабжать свою типографию достаточным количе-
ством денег.
После обеда пили чай, и это было моментом настоящего от-
дыха, разговоров, шуток. Не надо думать, что в законспириро-
ванной типографии жизнь обитателей протекала грустно и бес-
покойно, озабоченная лишь мыслью о постоянной опасности;
ничуть не бывало. Здесь были как на войне, где ничего не
боялись, потому что не думали об опасности. Здесь нередко
даже позволяли себе шутить над этой опасностью.
Типография в случае нашествия решила защищаться, о чем
иногда шли беседы.
—
Как вы думаете,—спрашивали женщины,—могут ли нас
повесить?
—
О, нет! Это был бы огромный скандал. Правительство
никогда не решится на такую меру.
—
В таком случае мы будем стрелять в полицию, когда она
явится, потому что мы вне опасности,—смеясь, замечали жен-
щины.
Понятно, что это была только шутка.
Михайлов посещал типографию обыкновенно во время обе-
да. Его встречали с большой радостью, так как он приносил из-
вестия о том, что происходило на белом свете.
—
Как идут дела? Что говорят в обществе? Как ведет себя
полиция?
Михайлов считал своим долгом приносить сюда как можно
чаще и как можно больше разнообразных известий. Это был его
принцип. Было необходимо, чтобы людям по возможности жи-
лось весело и чтобы они были довольны своим положением.
После чая снова принимались за работу и не оставляли ее
очень часто до двух или трех часов ночи.
Так проходили все дни, похожие друг на друга, как две
капли воды.
Четверг, впрочем, составлял некоторое исключение.
В этот день приходили полотеры, и надо было пригото-
виться к их посещению. Начиналась всеобщая сутолока. В при-
хожей был огромный стенной шкап, и туда прятали кассы и все
части пресса. Полы тщательно выметались, чтобы ни одна какая-
нибудь затерявшаяся буква шрифта не выдала типографию.
Эта работа была тем неприятнее, что ее нужно было произво-
дить в исключительной тишине. Соседям показался бы очень
странным какой-либо шум каждый раз перед приходом полоте-
ров. Переноска тяжелого цилиндра была особенно затрудни-
тельна. так как на руках его нести не могли. Приходилось ка-
тить его по полу, принимая все меры к тому, чтоб эта масса свин-
ца не производила шума.
Спрятав все следы преступления, жильцы выгоняли из дому
Любкина и Цуккермана. Волей-неволей им приходилось каждый
четверг посвящать этим обязательным прогулкам и возвра-
щаться домой только после ухода полотеров.
Эти четверги были единственными днями в неделю, когда
Любкин и Цуккерман выходили из своего убежища, ибо в
остальные дни тщательно избегали обращать на себя внимание
дворника или кого-нибудь из соседей.
Однообразная жизнь наших типографов нарушалась чем-
нибудь необыкновенным очень редко.
Однажды праздновали именины Александров. Это был день
Александра Невского, патрона императора, который
всегда
праздновался торжественнее, чем день его рождения, и поэтому
весь официальный Петербург был полон праздничным шумом.
Квятковский5", Михайлов и Баранников 53, третий имевший
сношения с типографией.— все носили имя Александра. Повод
казался достаточным, чтобы устроить небольшое развлечение
типографским муравьям.
Мысль отпраздновать день всех Александров пришла Ива-
новой, и это было для нее тем более приятно, что со времени
устройства типографии она могла видеть своего мужа только
изредка и всего на несколько минут, когда он приходил по де-
лам в типографию.
Раз Иванова была весела. — все кругом нее вынуждены были
также веселиться, и благодаря этому праздник в присутствии
трех Александров прошел очень оживленно: пировали настоя-
щим образом; пили здоровье каждого, даже предлагали бокал
вина портрету Александра II, который по независящим от него
обстоятельствам не мог присутствовать лично на этом тор-
жестве.
Первые дни ноября внесли в жизнь типографии большую
тревогу.
6 ноября был арестован Квятковский. Нужно было пригото-
виться ко всему, чтобы какое-нибудь несчастье не могло захва-
тить врасплох. С . Иванова не плакала, по крайней мере перед
товарищами, но ее мрачный вид выдавал переживаемое ею горе.
Никто, однакож, не знал, что арест Квятковского был как бы
memento mori для самой типографии.
Иванова уходила в свою комнату и старалась заглЛнить
крики своего сердца удвоенным трудом. Ее товарищи два дня
<)
Заговорщики и пол.щня.
спустя были, наоборот, очень обрадованы тем, что им пришлось
приютить у себя две другие жертвы того же 6 ноября.
Арест какого-либо из главарей партии всегда, как следствие,
влечет за собою более или менее многочисленные аресты. Двое
из таких жертв имели счастье избежать ареста, и благодаря их
важной роли в партии они нашли убежище в типографии
Здесь они были желанными гостями, какими обыкновенно
бывают новые заключенные для старожилов тюрьмы.
Типо-
графы иногда даже забывали свою работу ради разговоров с
гостями.
В это время весь Петербург увлекался спиритизмом: реши-
тельно все приходили в экстаз от вертящихся столов, которые
отвечали на вопросы. Все души, живые и мертвые, вызывались
нервными обитателями Петербурга.
Типографы были слишком отсталыми людьми, чтобы под-
вергнуться влиянию этой моды, но их гости посещали петер-
бургские салоны. Однажды в темную зимнюю ночь после гру-
стных и тяжелых воспоминаний о погибших друзьях, чтобы
сбросить с себя окутывавшие их мрачные мысли, они. смеясь,
предложили вызвать дух Александра Соловьева S5.
Дух был вызван, но, казалось, о будущем он знал не боль-
ше, чем те, которые его допрашивали. Был задан вопрос: по-
гибнет ли когда-нибудь император?
Дух ответил, что это произойдет через десять месяцев или
через десять недель, не помню.
—
Кто совершит это?
—
Четыре человека.
—
Каким орудием это будет сделано?
—
Ядом...
Пребывание этих неожиданных гостей продолжалось веет
несколько дней, после чего они удалились, чтобы снова оку-
нуться в борьбу, и типография вернулась к своей невозмутимой
и однотонной жизни, отнюдь не предполагая, что ее дни
сочтены.
Арест Квятковского вызвал несколько других арестов таких
лиц, сношения с которыми полиция могла так или иначе вы-
следить.
Между ними был один молодой человек, у которого при
обыске нашли кучу разных бумаг. Очевидно, это было нечто в
роде архива конспираторов.
Из этих бумаг выудили маленькую записку с именем и фа-
милией Лысенко. Этого было достаточно.
Можно предположить, что, изготовляя паспорт Лысенко, по
неосторожности забыли уничтожить маленькую заметку о нем,
а затем уже и совершенно забыли об ее существовании.
Так или иначе, но полиция постаралась, конечно, собрать
сведения об этом таинственном лице и скоро узнала, что из всех
Лысенко в Петербурге тот, который носил указанное в записке
имя, жил в Саперном переулке.
Полиция решила произвести обыск в его квартире.
В ночь на 17/29 января 1880 года кто-то дернул звонок в
квартире Лысенко.
—
Кто там?
—
Телеграмма для г. Лысенко,—отвечали из-за двери.
Ложь была очевидна: ведь типография не могла получать
телеграмм.
—
Подите к чорту!
Полиция была удивлена.
Полагали, что предстоит один из тех обычных многочислен-
ных обысков, которыми пугают каждую ночь без особенного
шума столько русских граждан, и полиция явилась сюда только
в числе трех человек, не считая дворника.
Если они и употребили некоторую хитрость, то это было
сделано просто по привычке. Ни в коем случае полиция не
могла и предположить, что этим шагом она делала такое важное
«открытие».
—
Откройте дверь,—повторял частный пристав.
Ответом ему послужил выстрел из револьвера, сперва один,
потом другой, третий...
ІТули, выпускаемые наугад из окна в прихожей, изрешетили
лестницу.
Полиция, испуганная этой неожиданной атакой, сбежала вниз
и поместилась на площадке первого этажа, живо послав за под-
креплением.
В типографии все мигом пришло в движение.
Начали уничтожать знаки безопасности, для вящшей пред-
осторожности разбили даже стекла во всех видимых со стороны
улицы окнах и сожгли спрятанные в комоде бумаги.
Уверяют, что именно здесь погибли следы других тетрадей
с заметками и сообщениями известного контр-шпиона Клеточ-
никова вв. Полиция нашла только груду черного пепла, в кото-
рой уже нельзя было разобрать ни одной буквы.
Прошло несколько минут. Явилось подкрепление, и полиция
пошла на приступ; началась оживленная перестрелка. Пола-
гают, что с обеих сторон было выпущено более шестидесяти
выстрелов.
9*
131
Мирная до сих пор улица была разбужена, обыватели ее не
знали, что подумать. Едва проснувшиеся, полуодетые люди бро-
сились на улицу; рассказывали, что кто-то, внезапно разбужен-
ный, решив, что в Петербурге уже вспыхнула революция, схва-
тил свой револьвер, буквально вылетел на улицу и угодил пря-
мо в руки полиции.
Любопытным, однакож, не удавалось проникнуть в дом, по-
тому что срочно прибывшие солдаты оцепили его кордоном.
Сопротивление продолжалось почти полчаса, и, так как по-
дойти к выходной двери было невозможно, полицейские атако-
вали дверь с кухни.
Отвоевывать ее дальше не представлялось возможным, и
скоро волна осаждающих хлынула в кухню.
Это уже был конец.
Произошел неописуемый беспорядок; среди общей свалки
раздались крики:
—
Мы сдаемся.
В одно мгновение защитники типографии, жестоко избитые
кулаками, ногами, обутыми в грубые сапоги, были брошены на
землю, связанные по рукам и ногам.
Yae victis!
Не могли найти только одного—«Птицу».
Как только толпа «победителей» ворвалась в дверь, он убе-
жал в последнюю комнату.
Если кто-нибудь был бы способен прислушаться в эту ми-
нуту, он услышал бы выстрел.
Через несколько секунд «Птицу» нашли лежащим на полу
в луже крови.
Он застрелился...
VIII
ШПИОНЫ и КОНТРШПИОНЫ
На Невском проспекте, рядом с вокзалом, в 1878 году поме-
щались меблированные комнаты г-жи Голенищевой *.
Уверяли, что эта почтенная дама некогда знала лучшие дни;
она тогда более успешно выполняла дипломатические поруче-
ния, нежели теперь роль простого шпиона в юбке.
Так, утверждают, однажды ей было поручено обольстить
одного видного представителя какого-то европейского двора,
чтобы выкрасть у него несколько политических документов
чрезвычайной важности.
Очень красивая, необычайно ловкая, эта авантюристка поль-
зовалась тогда полным доверием Третьего отделения.
Позднее, постарев и подурнев, она бросила свое ремесло и
обратилась к мирной жизни почтенной дамы. Ее прежние за-
слуги были щедро вознаграждены, но г-жа Голенищева все-таки
продолжала держать свое заведение, чтобы не оставаться сов-
сем праздною.
Меблированные комнаты не имели никакой связи с поли-
цией, но их хозяйка сохранила дружеские отношения с преж-
ними товарищами из Третьего отделения, которых она прини-
мала чрезвычайно радушно.
В этих-то меблированных комнатах в конце 1878 года посе-
лился новый жилец. Его звали Николаем Клеточниковым.
Это был человек около 35 лет, с благородными и симпатич-
ными чертами лица. Глубокие складки бороздили его высокий
лоб. Несколько седых волос, уже заметных в его темно-кашта -
новых волосах и в великолепной бороде, выражение усталости
в чертах его действительно красивого лица—все указывало в
нем человека, хорошо знавшего жизнь и много выстрадавшего;
при всем этом он был очень вежлив и сильно понравился
m-me Голенищевой. Скоро они сделались почти друзьями.
* Я изменяю настоящую фамилию.
За чашкой кофе или с картами в руках, она рассказывала
ему эпизоды из своей жизни, полной авантюрных приключе-
ний. Он же не любил говорить о своем прошлом, но охотно по-
сещал
хозяйку
с
снисходительностью,
характеризующею
глубоко разочарованных людей, для которых все отношения
одинаково безразличны. Г -жа Голенищева, я думаю, глубоко
жалела его.
Он рассказывал, что приехал в Петербург подыскать себе
какое-нибудь место; раньше он был чиновником в Крыму, но по
какой-то случайности потерял там свою должность. Теперь же
ему страшно не везет—все его попытки найти что-нибудь оста-
ются бесплодными.
Тронутая его неудачами, г-жа Голенищева однажды спро-
сила у него, не согласился ли бы он поступить на службу в
Третье отделение; она пользовалась там еще достаточным вли-
янием, чтоб попытаться устроить его.
—
Вы много обязали бы меня,—ответил он, и г-жа Голени-
щева принялась хлопотать о своем протеже.
Скоро Клеточникову в самом деле предложили отвратитель-
ную должность... простого шпиона.
Он все-таки принял ее.
Я склонен думать, что со стороны Третьего отделения это
было скорее испытание, нежели серьезное предложение. Я по-
лагаю также, что его новое начальство решило сперва собрать
надлежащие сведения о прошлом Клеточникова. Если эта пред-
.
осторожность действительно имела место, то Третье отделение
должно было скоро удовлетвориться полученными справками.
Клеточников был известен на своей родине, как передовой че-
ловек, но кто в России тогда не был увлечен передовыми
идеями! Во всяком случае он никогда не действовал против пра-
вительства, даже больше, революционеры считали его очень
сдержанным человеком и упрекали за буржуазную жизнь. И в
самом деле, он был очень тонкий знаток крымских вин и играл
в карты.
Но самой лучшей аттестацией для Клеточникова было то,
что он, очевидно, совершенно порвал знакомства с революци-
онерами. Приехав в Петербург, он им писал вначале, что на-
деется найти людей, способных на более серьезные политиче-
ские роли, нежели в провинции. Но мало-по-малу его письма
делались скептическими и саркастическими. Он видел лишь
фразеров и ничтожности. Наконец, он заявил, что больше не
верит в революционные теории, фальшивость которых явно
сквозит в их результатах.
Его друзья были вначале опечалены и возмущены. Потом
пришли к заключению, что Клеточников никогда не обещал
ничего хорошего. И наконец совсем забыли его.
Таким образом сведения, если только их старались собрать,
могли быть лишь благоприятны для Клеточникова.
Русское революционное движение изобилует примерами ге-
роизма и самопожертвования, оно богато замечательными талан-
тами в области пропаганды и агитации; но в нем нехватает
настоящего духа конспирации;
качества, необходимые для
вдумчивой и систематической конспирационной работы, здесь
редки.
В 1878—1879 годы, в период, когда возникла пока еще ту-
манная идея дворцового переворота, появилось много людей,
считавших себя пригодными к этой деятельности, но число
настоящих конспираторов, ловких и умных, в это время не уве-
личилось.
Клеточникову, который был счастливым исключением, в
этом отношении посчастливилось найти себе товарищем чело-
века, стоящего, как конспиратор и организатор, бесконечно
выше своей среды. Это был Александр Михайлов. Он лелеял
грандиозные проекты могущественной организации, которая
должна была свергнуть правительство. Но для этой цели были
необходимы такие революционеры, которые сумели бы про-
никнуть в сердце русской политической полиции.
Он посоветовал Клеточникову заняться этим. Вероятней
всего
это он и указал ему меблированные комнаты Голе-
ннщевой.
Служба мелкого шпиона не улыбалась обоим друзьям. ^
Мелкий шпион, даже доверенный агент
отнюдь не могут
знать ничего, кроме одного какого-нибудь им порученного дела,
и при этом им не открывается даже ближайшая цель их началь-
ников. С другой стороны, он непременно должен что-нибудь
открывать, о чем-нибудь доносить, под страхом быть прогнан-
ным со службы за неспособность или как подозрительный.
—
Не можете ли дать мне что-нибудь для вас несуществен-
ное. о чем я мог бы им донести?
Но только этот вопрос сорвался с его языка, как Клеточни-
ков немедленно взял назад свое предложение. Он понимал, что
на этой почве полиция больше бы выиграла, нежели проиграла.
Он принял другую линию поведения, решившись завоевать дей-
ствительно полезное положение или быть изгнанным. Он выка-
зал большую ревность к делу, но в то же время и большую
неловкость; открыть хоть что-нибудь ему никогда не удавалось.
—
Как я могу быть полезен на такой службе при моей бли-
зорукости?—говорил он.
Он был действительно близоруким.
—
Да и кроме этого, эти революционные теории просто про-
тивны мне. Я не могу серьезно говорить о них, как же я могу
внушать доверие этим людям?
•
Такого рода размышления Клеточников избегал высказывать
прямо, но старался внушить их своим начальникам и товари-
щам. Очень скоро его постоянные неудачи принудили началь-
ство объявить ему, что он не может более оставаться на службе.
Клеточников, казалось, был очень огорчен и справлялся, не
могут ли дать ему какое-нибудь другое дело, более подходящее
к его способностям. Ему предложили место переписчика, и на
этот раз он был в восторге: это было то. чего он добивался.
С этого момента Клеточннков прилагал все усилия, стараясь
заслужить расположение своего начальства. Он обладал вели-
колепным почерком и работал чрезвычайно усидчиво, являясь
первым на службу и оставляя ее последним.
Здание Третьего отделения, где некогда разыгрывалось
столько драм, было огромно. (Ныне там находятся лишь остат-
ки политической полиции, я думаю, именно то. что называют
охранным отделением его величества, которое обязано наблю-
дать за личной безопасностью императора и владеет собствен-
ной тайной полицией. Остальная часть здания занята, кажется,
Департаментом полиции и архивами тайной полиции.
Во время Клеточникова знаменитое здание у Цеуь
но го моста было еще полно таинственной жизни и приво-
дило в трепет всю Россию. Сплошная линия невысоких домов
тянулась но набережной Фонтанки и выходила с другой сто-
роны на Пантелеймоновскую улицу. Внутри было три больших
двора, где и помещались все учреждения, как-то: конторы, ка-
меры для одиночного заключения и даже зала пыток, как
утверждает народная легенда, которой однако нельзя доверять.
Легенда утверждает, что в Третьем отделении существовала
специальная комната, приспособленная для допросов с запуги-
ванием. Заключенный шел по паркету; вдруг пол под ним раз-
верзался, и бедняга проваливался куда-то по грудь: тогда явля-
лись жандармы и вверху и внизу: вверху вели правильный до-
прос, а внизу—наказывали...
Правда это или ложь? Революционная и реакционная поэзия,
однакож, прославляет палку Третьего отделения:
А для этих людей, государь Паителей,
Палки ты не жалей суковатые...
говоритАлексей Толстойот, негодуя на иигилистов.
Поэт революционный заставляет разговаривать Москву и
Петербург на эту же тему; Петербург хвастается:
У царя у нашего
Нее так политично.
Нот хоть у Гимашева—
Ныпорют отлично.
Нлепят в наказание
Так ударов со сто,
Будешь помнить здание
У Денного моста.
Оскорбленная старая Москва возражает:
У царя у нашего
Все так политично.
Что и без Тнмашева
Ныпорют отлично.
И к чему тут здание
У цепного моста?
Выйдет приказание—
Отдерут и просто!
В этом обширном мире, который спит в тени столь славных
воспоминаний, Клеточников сначала имел доступ только к своей
конторе, где он не мог узнать ничего важного. Ему еще не дове-
ряли дел, имевших какую-нибудь важность, но все же иногда
он слышал разговоры, которые бывали небесполезными. Он
видел не мало агентов; если бы у него было больше свободного
времени, он мог бы расширить свои знакомства среди них в трак-
тирах, где они собирались; некоторые из этих учреждений слу-
жили для них генеральным штабом. Но он был очень занят,
да и общество это, в котором он вращался, внушало ему от-
вращение.
В начале работы Клеточников предполагал встретить в этой
среде людей в своем роде убежденных, но в действительности
нашел
только
огрубевшие существа,
мечтающие
лишь о
заработке, который тут же пропивался с продажными жен-
щинами.
Эти-то люди и охотились на революционеров и либералов,
на всех без разбора, отнюдь не задавая себе вопроса, хорошо
или дурно они поступают.
Встречались среди них такие, которые любили свое реме-
сло, как охотники любят охоту. Их глаза блестели, когда они
рассказывали о своих усилиях открыть то или другое дело, но
в общем они имели вид авантюристов без веры и закона.
Остальные были просто пресмыкающимися,
лишенными
даже чисто животных добродетелей.
Таковы были впечатления Клеточникова.
Он долго не мог привыкнуть к их глупым и пошлым разго-
ворам. ІІз боязни выдать свое отвращение, он еще больше по-
гружался в бумаги, сам говорил очень мало, но зато всегда
прислушивался к тому, что могло дать ему хоть какие-нибудь
полезные сведения.
Лень его сослуживцев доставляла ему иногда случай узнать
кое-что. Часто, окончив свою работу, он замечал, что кто-нибудь
из его коллег бросал перо и позевывал.
—
Вы кончили?
—
Кой чорт, нет еще. Разве можно когда-нибудь кончить
эти дела? Я хочу смертельно курить, а тут надо торопиться...
—
Идите, я кончу за вас...
Тот оставлял ему свои бумаги и, посмеиваясь, уходил.
—
Вы очень трудолюбивы, тем лучше для меня.
Клеточников проводил много времени в канцелярии; иногда,
оставшись один, он рисковал даже перелистывать дела на сто-
лах и в шкафах, обогащая свои наблюдения.
Наконец его усердие было замечено. Этот скромный, испол-
нительный человек, который так прекрасно писал и понимал с
первого слова, что ему объясняли, привлек к себе внимание
начальства. Ему начали давать более сложные работы, и он
исполнял их всегда великолепно.
Часто случается, что чиновник, умеющий хорошо работать,
скоро делается и доверенным лицом у своего начальства.
Производится, например, какой-нибудь не особенно важный
арест. Нужно вместе с рапортом об аресте представить началь-
ству и суть всего дела, так как всегда таковое имеется. Эту
очень трудную работу нужно сделать чрезвычайно быстро.
Клеточников, обладая каллиграфическим почерком, был еще
очень умен и усидчив. Никто не сумел бы так скоро ознако-
миться с огромным делом, чтоб сделать из него краткий и су-
щественный доклад. Такую работу охотно поручали Клеточ-
никову, что давало ему доступ к самым конфиденциальным
делам.
При этом его поведение не возбуждало решительно никаких
подозрений. Он имел вид ревностного чиновника, который ду-
мает только о своей службе. И он в свою очередь не мог жало-
ваться на начальство; ему много раз выдавали денежные на-
грады, а несколько позднее он получил орден св. Станислава-
Начальство дошло до того, что стало приглашать его на свои
вечера.
Мало-по-малу ему стали доверять самые важные работы.
Так, некоторое время он составлял ежедневные рапорты о
политических событиях в провинции по депешам и донесениям
жандармских управлений. В течение нескольких месяцев на
него возложена была еще более важная задача: составлять ра-
порты о событиях в Петербурге.
При этом, разумеется, все сведения, которыми владело Тре-
тье отделение, всегда были к его услугам. Клеточников легко
пользовался каждым удобным случаем, так как был очень тон-
ким наблюдателем и обладал феноменальной памятью. Он ни-
когда ничего не записывал в конторе, ежедневно унося домой
в своей памяти изобилие имен, цифр, адресов. Во время своих
свиданий с Михайловым он диктовал ему и писал сам записки
со множеством фамилий, улиц и т. п. Он всегда знал их наи-
зусть и почти никогда не ошибался. Благодаря этому в руках
конспираторов мало-по-малу скопилось множество чрезвычайно
полезных данных о поднадзорных, подозреваемых, агентах...
Последних Клеточников изучал с особенным интересом и
усердием, и его заметки о них походили на записную книжку
талантливого ро.маниста. Он заносил не только имена и псев-
донимы агентов, но и умелые портреты каждого из них, уди-
вительно удачно схваченные несколькими словами. Он описы-
вал их физиономии, характер, привычки.
Понятно, разумеется, каким могущественным орудием могли
быть эти сведения в руках ловких конспираторов. Я убежден,
что неслыханно-колоссальные размеры революционной орга-
низации в 1879—1880 гг. обязаны прежде всего Клеточникову.
Вот несколько фактов, способных, я полагаю, подтвердить
эту мысль.
В 1878 году некий Рейнштейн 58 был очень известен в мо-
сковских революционных кружках.
Приехав из Петербурга, этот человек выдавал себя за рабо-
чего, преследуемого полицией. Николка, как его называли, оча-
ровал всех своим мягким характером и безграничной ревно-
стью к общему делу. И правда, некоторые мысли Николки по-
ражали своей новизной и оригинальностью. Так, он предлагал
что-то (не помню, что именно) очень близкое к ложным убий-
ствам, как способ достать деньги для дела; но прибегать к та-
кого рода средствам никто не был расположен. Николка пожи-
мал плечами.
—
Эти интеллигенты всегда останавливаются на полдороге.
Мы, рабочие, лишены этих глупых предрассудков!
Тем не менее пришлось уступить предрассудкам и ограни-
читься только одной революционной пропагандой.
Очень деятельный. Николка знал всю революционную Мо-
скву, как свой карман. Он имел много друзей и ни одного врага.
В Петербурге в это время был рабочий Обнорский 50, один
из наиболее замечательных деятелей рабочего движения. Он
был очень образован, очень умен и очень деятелен: прошло уже
восемь лет, как он себя посвятил социалистической пропаганде
и организации рабочего класса.
Он любил одну женщину, которую причислял к «своим» и
жил с нею в маленькой квартирке на Песках, в Петербурге. Но
эта женщина была законнейшей женой Пиколки из Москвы.
Достойные супруги оба были на службе Третьего отделения и
разделили между собою очень благоразумно их общее дело.
Жена сделалась любовницей Обнорского, который обещал
хорошую жатву, имея богатые связи с революционным миром.
Муж устроился в Москве.
Все обещало им большой успех. Николка очаровал Москву,
женщина—Обнорского, страстно в нее влюбленного и безу-
словно ей доверявшего.
Здесь однако вмешивается обстоятельство, которое совер-
шенно не было предусмотрено первоначальным планом.
Г-жа Рейнштейн мало-по-малу привязалась сама к своей
жертве и кончила тем, что безумно полюбила его. Ее положение
сделалось нестерпимым. После долгой борьбы, сходя с ума от
горя и тоски, она стала часто ходить в Третье отделение, умо-
ляя пощадить своего любовника. Она клялась служить полиции
самым ревностным образом, обещала выдать сколько угодно но-
вых жертв, но умоляла оставить ей одного Обнорского.
В Третьем отделении сильно сердились за этот неожиданный
роман и много смеялись над его несчастной героиней. Она сде-
лалась предметом шуток для агентов и чиновников, так как в
своем отчаянии не могла уже сдерживаться. Клеточников тоже
видел ее и слышал объяснение с начальником тайной полиции.
Эта история тянулась довольно продолжительное время.
Чтобы сумасшедшая женщина не сорвала так хорошо начатого
дела, ее старались успокоить разными сказками н обещали по-
щадить ее любовника. Она успокаивалась на некоторое время,
но скоро недоверие пробуждалось в ней. и она снова надоедала
начальству обычными угрозами и мольбами.
Благодаря Клеточникову эта история, значение которой
трудно было даже представить себе, стала известна конспирато-
рам. Они пришли в ужас.
Благодаря большим связям Обнорского и Пиколки опасность
угрожала положительно всем. Как предупредить несчастье?
Сообщить Обнорскому? Он никогда бы не поверил в измену его
жены. Дать знать москвичам? Они скорее приняли бы за шпио-
нов тех. кто стал бы. по их мнению, клеветать на Николку. На-
конец, и сам Николка. видя, что он открыт, убежал бы и выдал
сотни людей, которых он пока щадил, дабы не вызвать прежде-
временных подозрений.
Самый шум и толки, происшедшие от открытия измены г-жи
Рейнштейн и ее супруга, не могли ли компрометировать еще
столь непрочное положение Клеточникова?
В конце-концов решили предупредить Обнорского, но уже
было слишком поздно. Ненормальное поведение г-жи Рейн-
штейн принудило Третье отделение ускорить ход вещей. Об-
норский не имел времени спастись, и его арестовали. Г -жа Рейн-
штейн в безумии прибежала в Третье отделение и наговорила
своим начальникам массу оскорблений и упреков. Ее выгнали,
предварительно объявив, что она была слишком наивна, если
воображала, что столь явный враг существующего порядка мог
быть прощен ради прекрасных глаз первой попавшейся про-
ститутки.
Со времени этого ареста положение москвичей сделалось еще
более ужасным. Тогда несколько членов партии решили кончить
дело разом, уничтожив Николку.
Это и имело место 26 февраля 1879 года в одной из москов-
ских гостиниц.
Конспираторы, занявшие там номер, вызвали к себе Никол-
ку, сообщив ему, что его ожидает один из друзей, которого он
очень желал видеть. Оживленный Николка пришел в гостиницу,
откуда больше уже не вышел.
Несколько дней спустя прислуга гостиницы,
удивленная,
что не видит их жильцов, решилась взломать дверь. Они никого
не нашли в номере, кроме трупа на полу, с разбитой головой
и несколькими ранами кинжала на теле. В этом трупе полиция
узнала своего тайного агента Николая Рейнштейна.
Другой раз дело касалось динамитной мастерской.
Одна молодая девушка, назовем ее Мария, жила в мастер-
ской и имела в городе старого знакомого, скажем, Ивана. Когда-
то они были членами одного и того же кружка, но потом обсто-
ятельства разделили их, и каждый пошел своей дорогой. С тех
пор как связи молодой девушки в революционном мире привели
ее к участию в динамитной мастерской, она совершенно пере-
стала встречать Ивана.
Как могло случиться, что Иван сделался шпионом,—я этого
не знаю, но он предложил свои услуги полиции, обещая выдать
Марию. Так как полиция скрывала всегда своих людей, то было-
условлено, что Иван должен был лишь устроить свидание с Ма-
рией и указать ее агентам, лично держась в стороне.
Как только об этом узнал Клеточников, партия была неме-
дленно предупреждена. Марию известили, что через несколько
времени она получит записку от Ивана, в которой он будет
просить у нее свидания.
Несмотря на то, что это было крайне неосторожно, она все-
таки решилась повидаться с ним, быть может, чтобы лично
убедиться в его измене, быть может, по другим, более важным
причинам; вероятно, она была убеждена, что ее не арестуют тут
.
же на месте, чтобы тем самым не скомпрометировать Ивана. Что
же касается до преследований, то она надеялась их избегнуть.
Итак, она отправилась в назначенное место, тщательно наблю-
дая за всем тем, что происходило вокруг нее.
Иван, казалось, чувствовал себя не совсем ловко. Чтобы
мотивировать свидание с Марией, он выдумал какую-то историю.
Марии не трудно было заметить несколько подозрительных
лиц, которые бродили около них, и маневры Ивана, указываю-
щего на нее агентам.
Когда они расстались и Мария направилась домой, она обна-
ружила, что за ней уже следило несколько шпионов.
Она сделала тысячу обходов, но все было бесполезно: отча-
яние начало ею овладевать. Прошло таким образом два или три
часа. Наступила ночь, светлая северная летняя ночь, когда со-
вершенно отчетливо можно различать все предметы; улицы де-
лались пустыннее, и трудность задачи скрыться от шпионов, ко-
торые прятались, не теряя из вида своей жертвы, увеличивалась
с каждым шагом. Выбившись из сил, Мария все-таки заметила,
что с каждым кругом, который она делала, число преследующих
уменьшалось.
Наконец остался один, самый упорный. Ободренная успехом,
она собрала все свои силы, помчалась и скрылась. Наконец она
была совершенно одна в узеньком переулочке; обрадовавшись
и для уверенности сделав еще несколько кругов по улицам, она
возвратилась домой, торжествующая и свободная от преследо-
вателей.
Не знаю, как ее приняли товарищи после такого странного
приключения, но в конце-концов и они успокоились: все хорошо,
что хорошо кончается. Не прошло, однакоже, и одного часа,
как конспираторы были разбужены внезапным звонком. Встре-
вожившись, подошли к двери, но здесь услышали условный стук.
Это был товарищ, но он принес мало утешительные новости.
В Третьем отделении в эту ночь тоже много волновались^
там нисколько не сомневались, что этот случай должен был
дать им в руки очень важный секрет. Правда, о существовании
мастерской они н не подозревали, но Марии приписывали от-
ветственную роль в партии, и потому для выслеживания ее от-
командировали самых лучших шпионов.
Начальник сыскной полиции, старый шпион, сохранивший
страсть к приключениям, лично руководил делом. Но так как
он был уже стар, то почувствовал себя скоро утомленным и
возвратился в штаб-квартиру, где и ожидал донесений своих
агентов.
Новости были не важны. Два или три агента уже возврати-
лись, сознавшись, что потеряли след. Дело казалось погибшим,
так как на посту остался всего один шпион. Он долго не прихо-
дил, и наконец явился совершенно измученный, зато радостный,
и, смеясь, объявил, что эта дьявольская женщина выбила его
из сил. Все-таки ему удалось скрыться в дверях одного дома,
когда она остановилась посреди улицы, чтобы посмотреть, не
идет ли кто-нибудь позади. Очевидно, он остался незамеченным.
Тогда женщина, успокоившись, пошла медленнее, уже не так
утомляя его, и он шел за нею вплоть до такой-то улицы и та-
кого-то номера дома, куда она и вошла. Он долго еще высматри-
вал ее, но напрасно: очевидно, она жила именно тут.
—
Я не хотел производить шума,—прибавил шпион,—и ре-
шил не будить швейцара для объяснений. Будет проще-—прийти
туда утром и продолжать надзор.
Рассуждение было бы правильно, если бы не считаться с-
присутствием в Третьем отделении Клеточникова. Он хотя тоже
не знал о существовании мастерской, но, видя торжествующую
радость своих коллег, он заключил, что дело это должно быть
очень важно; и он поторопился уведомить своих друзей.
Утром мастерская была уже пуста.
Во всех аналогичных случаях только вмешательство Клеточ-
никова могло предупредить те ужасные удары, которые угро-
жали революционной организации.
Очень часто революционеры, осведомленные о поднадзор-
ных, подозрительных и агентах, далеко обходили опасность.
Они могли просто предотвратить посещения человека, попав-
шего под надзор, избежать агентов, предупредить их жертвы,
могли даже извлечь некоторую пользу из близкого соседства со-
шпионом. Так, один агент, указанный Клеточниковым, посе-
лился однажды в меблированных комнатах рядом со студентом,.
на
чтобы следить за ним. Студент, будучи об этом предупрежден
и пользуясь отсутствием своего соседа, проник в его комнату,
обыскал ее, нашел его заметки для рапорта и таким образом
спас многих из своих товарищей.
Очень часто во-время предупрежденные революционеры, в
свою очередь, учреждали надзор за каким-нибудь агентом, рас-
ширяя таким образом круг сведений, открывая место их сви-
даний, и даже узнавали кое-кого из агентов, неизвестных самому
Клеточникову.
Словом, революционная организация могла всегда оставаться
невидимой и неуловимой для полиции. Конспираторы умели
пользоваться своим исключительным положением очень ловко.
Но Клеточников был главным нервом этого сложного организма
и он мог считать свои усилия увенчавшимися
настоящим
успехом.
Впоследствии, перед судом, он особенно настаивал на при-
знании его желания быть сколько-нибудь полезным для бесчи-
сленных жертв Третьего отделения. В этом смысле он мог счи-
тать себя удовлетворенным. Он спас много жизней от сетей
агентов-провокаторов; ряд агентов был опубликован в револю-
ционных изданиях, жертвы других были тайно предупреждены...
Он заплатил за это очень дорогой ценой; его жизнь—это
жизнь мученика. Глубочайшая тайна, какою он был окутан, со-
вершенно изолировала его от людей единомыслящих, удалила
его от общества, за исключением двух-трех человек, которые
не могли его компрометировать, по мнению Михайлова. Но и
этих людей он видел очень редко.
Несмотря на полнейшую уверенность в нем, Михайлов не
посвящал его во все детали революционной деятельности, и
сам Клеточников вполне одобрял такой образ действий.
—
С такой предосторожностью я буду чувствовать себя го-
раздо спокойнее,—говорил он.
Итак, почти всегда он оставался в среде людей, которых
презирал и ненавидел и с которыми он вынужден был всегда
играть ненавистную ему роль их сообщника.
Это положение производило тягостное впечатление на Кле-
точникова.
Пессимистически настроенный, он с каждым днем становился
все более и более мрачным.
Конечно, и в своей канцелярии он мог наблюдать иногда
проявления большого мужества и преданности делу, но каждый
из них тонул в груде обратных примеров.
Количество доносов, в большинстве случаев ложных, осо-
бенно подавляло его. Друзья, жены, мужья, дети и родители—
решительно все доносили друг на друга самым постыдным обра-
зом. Количество ложных доносов было так огромно, что Третье
отделение привыкло придавать им посредственное значение.
Сам Клеточников был спасен однажды от большой опасно-
сти благодаря такому отношению Третьего отделения к ложным
доносам.
Однажды император получил лично из-за границы извеще-
ние, что в Третье отделение проник предатель.
Император отправил это уведомление в Третье отделение с
такой резолюцией: «Найти изменника и запереть его навсегда
в крепость».
Полиция была уверена, что донос не заслуживал никакого
внимания. Клеточников тоже нисколько не обеспокоился этим
фактом, убежденный, что доносчик ничего не знал и что этот
донос был состряпан наудачу.
Чрезмерное обилие зла в конце-концов уничтожило опас-
ность. Но мораль отсюда не пострадала меньше.
«Можно ли ожидать чего-либо хорошего от общества, ко-
торое породило эти полчища гадов?» с горестью спрашивал
себя Клеточников.
Он был придавлен тяжестью этого печального знакомства с
извращением человеческой природы. Он никогда больше не
улыбался...
Так прошло два с лишним года.
Благоразумие самого Клеточникова, предосторожности, ко-
торыми его окружал Михайлов, создали почти невозможное:
государственная полиция оказалась в руках полиции революци-
онной.
Знаменитость полицейского
мира — Судейкин со,
который
мстил за неудачи своих предшественников несколько лет позд-
нее, имел основание провозгласить аксиому: «Я всегда рассчи-
тываю на человеческую слабость».
И правда, люди умели быть сильными, но кончали сла-
бостью.
Михайлов, этот железный человек, негодовавший при одной
только мысли о небрежности или неблагоразумии, что он на-
зывал деморализацией, кончил тем, что был арестован
самым нелепым образом, вследствие крайней неосторожности.
Клеточников был поражен. Он очень уважал Михайлова за его
замечательные способности.
Это первое предостережение не влекло еще за собою ничего
плохого, но было причиною того, что конспирация, так пре-
10
Загопоріцики и полиция.
145
красно задуманная и работавшая в течение двух лет, уменьшила
свою бдительность. Конспираторы были уже достаточно изба-
лованы постоянными успехами, слишком утомлены постоянным
напряжением сил.
Всегда случается так, что терпят поражение именно в тот
момент, когда совершенно забывают о его возможности.
Годом раньше конспираторы не могли даже и представить,
чтобы Клеточников рисковал приходить в квартиру нелегаль-
ного человека, разыскиваемого полицией.
25 января 1881 года Клеточников отправился к Баранникову.
Он посмотрел на знак безопасности, но все было в порядке. Он
входит, звонит.
Дверь открывают агенты полиции.
Можно представить себе сцену, которая произошла вслед за
этим!
Баранников был арестован днем раньше, на квартире одного
товарища, и по несчастной случайности Клеточников ничего об-
этом не знал.
IX
ВЗРЫВ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ 01
До 1879 года Степан Халтурин 62 был известен как пропа-
гандист и как неутомимый организатор рабочего класса в
Петербурге.
Рабочий, по профессии столяр, он умел приобрести огром-
ное влияние на умы своих товарищей. Революционную пропа-
ганду он начал в 1873 году и потому имел достаточно времени,
чтобы стать человеком вне закона—нелегальным.
Уже много лет он жил по фальшивому паспорту, умело из-
бегая полицейских розысков, что не только не вредило его
популярности среди рабочих, но, наоборот, еще увеличивало.
Степан, как попросту звали его, был лично известен сотням
рабочих и однакож никогда и никем из них не был предан по-
лиции. Сам он всегда сохранял к рабочим самое безграничное
доверие.
—
Да, это шпион,—говорил он о каком-нибудь выдававшем
рабочем,—но он на меня не донесет, а будет искать жертв в
другом месте.
И такое доверие к рабочим никогда его не обманывало.
С этой удивительной популярностью, сильному, умному и
энергичному Халтурину могли удаваться большие дела. И дей-
ствительно, Северный союз рабочих, организованный им в свое
время, до сих пор остается самой значительной попыткой орга-
низации рабочих, среди которых в больших русских городах
есть не мало социалистов и революционеров, но несмотря на
это организации их всегда были малочисленны и маловажны.
Северный союз собрал многие сотни рабочих в тайную
организацию и обещал одно время сделаться угрожающей
силой.
Но это было только на один момент; полиция арестовала
самых энергичных его членов, и остальные должны были рас-
сеяться.
10
147
Та же судьба постигла тайную типографию, основанную Хал-
туриным. Она была уничтожена вместе с единственным листком,
который был составлен и редактирован самими рабочими.
Под влиянием всех этих неудач, постоянно наталкиваясь на
царскую полицию, готовую разрушить все его планы, Халту-
рин, раздраженный, решил, что ничего более не остается, как
протестовать против самого царя и убить его.
Мысль о цареубийстве приходила тогда сама собой в головы
многих людей.
—
Александр II должен пасть от руки рабочего,—говорил
Халтурин,—пусть знают все цари, что и мы—рабочие—не на-
столько глупы, что не можем оценить достойно те услуги, какие
цари оказывают народу.
Эта мысль, что царь—изменник напода—должен погибнуть
от руки его представителя, сделалась неотвязчивой для Халту-
рина.
Говорят, что Халтурин по этому поводу советовался с неко-
торыми товарищами и получил от них полное одобрение. Он
говорил даже одному лицу, что действовал по поручению ра-
бочего кружка.
Короче говоря, осенью 1879 года Халтурин обратился к
Исполнительному комитету рабочей партии, предлагая свои
услуги и даже представив ему готовый план убийства царя.
Поглощенный своей мыслью, Халтурин давно искал способ
осуществить ее. Будучи прекрасным столяром и имея обшир-
ные связи среди рабочих, Халтурин получал возможность про-
никать повсюду: в казармы, монастыри и даже во дворцы.
Ошарив и осмотрев все, что было можно, ему удалось най-
ти наконец работу на одной из императорских яхт, где нужно
было сделать и отполировать несколько дверных филенок. Хал-
турин кстати был замечательный полировщик и даже изобре-
татель лака.
Однажды на яхте он увидел кого-то из императорской фа-
милии, быть может, даже и самого императора, но это не имело
для него большого значения; зато работа на яхте дала тот ре-
зультат, что его в конце-концов стали считать за самого хоро-
шего и ловкого столяра. Поэтому-то ему не трудно уже было
получить рекомендацию для постоянной работы в Зимнем
дворце.
Разумеется, люди, давшие ему рекомендации, отнюдь не
могли предполагать, что Халтурин был нелегальным и убежден-
ным революционером.
Получив место столяра в Зимнем дворце, Халтурин обратил-
ся к Исполнительному комитету партии и просил его помочь
I
p
взорвать дворец с царской семьей. Для своего предприятия он
просил только некоторых технических указаний и динамита.
В эту зиму Исполнительным комитетом был организован
целый ряд покушений на жизнь Александра II за его массовые
казни политических деятелей в 1879 г. вз .
Император находился в Крыму, в своем великолепном име-
нии «Ливадия». Зимою он должен был переселиться в Петер-
бург.
Исполнительный комитет организовал подкопы с динамит-
ными минами на всех линиях железных дорог, по которым мог
проехать император на обратном пути, а именно: подле Одессы,
подле Александровска и подле Москвы.
Мина, подготовляемая Халтуриным, должна была быть чет-
вертою в качестве резерва.
Кажется, в октябре 1879 года Халтурин устроился в импе-
раторском дворце. Довольно много времени он потратил на то,
чтобы как следует ориентироваться в этом новом для него мире.
Благодаря отсутствию императора, за его дворцом следили
плохо и жили там на полной свободе, ни о чем не заботясь.
Хитрость и повадки его новых товарищей поражали Халту-
рина; прежде всего был удивителен общий беспорядок в упра-
влении дворцом.
Распущенность слуг переходила всякие границы: они празд-
новали во дворце свои свадьбы, собирали здесь своих друзей.
К ним входило и выходило без всякого надзора и контроля
множество их знакомых. Правда, парадные двери открывались с
большими предосторожностями даже перед самыми высокопо-
ставленными лицами, но прочие лестницы дворца и день и
ночь были открыты для любого, кто только накануне познако-
мился с кем-нибудь ид дворцовых слуг. Эти же люди очень ча-
сто проводили во дворце и всю ночь, если выходить было
поздно.
Воровство царило здесь широко, особенно в царских погре-
бах хищение вина и припасов настолько было обычно, что Хал-
турин сам был обязан принимать участие в этих экспедициях
в кухню и в погреба, рискуя иначе навлечь на себя подозре-
ния. Нужно прибавить, что слуги имели несколько смягчающих
вину обстоятельств: они получали очень мало денег. Можно ли
было поверить, что камердинеры русского царя получали жал-
кое жалованье—15 рублей в месяц? Однако это было действи-
тельным фактом.
Халтурин, имевший паспорт крестьянина Олонецкой губер-
нии, старался играть роль человека невежественного и малово-
спитанного.
t
1
Он изумлялся всему, что видел, обо всем расспрашивал; его
старались научить принятым во дворце обычаям, уменью дер-
жаться, манерам. Все лакейство покатывалось со смеха при виде
его неловких и грубых манер; особенно находили смешной его
крестьянскую привычку почесывать за ухом в затруднительных
случаях.
—
Да этого, дружище, нельзя делать! Ты здорово поли-
руешь разные филенки, так что на них и блоха не прыгнет *,
но ты ровно ничего не понимаешь в хороших манерах.
И эти знатоки прекрасных манер были очень довольны, что
поражали невежественного крестьянина своим знанием дворцо-
вой жизни, а Халтурин тем временем собрал массу сведений
решительно обо всем, включая сюда и хозяев дворца.
Что же касается самого здания, то Халтурин ознакомился с
ним очень скоро.
С большим интересом осматривал он апартаменты царя, где
были собраны золотые и серебряные вещи и драгоценные камни.
Видя все эти бесчисленные богатства, он удивлялся, что все
это не расхищалось при таком небрежном надзоре.
Комната в подвальном этаже, где жили столяры, и с ними
Халтурин, находилась как-раз под столовой царя.
В вертикальном разрезе она отделялась от столовой корде-
гардией, в которой помещалась ежедневно стража дворца.
Обстоятельства были очень благоприятны для намерений
Халтурина, но он еще не мог ничего предпринять, так как в
этот момент началась во дворце генеральная уборка и разного
рода ремонт. Ожидали прибытия царя, и поэтому все пришло в
движение. Халтурин был перегружен работой. Как
лучший
столяр он работал преимущественно в особых комнатах, в ка-
бинете царя, а также в столовой, которую он имел намерение
взорвать. ІІо благодаря спешной работе он не мог выходить из
дворца и, следовательно, не мог начать приготовление своей
мины.
Таким образом резервная мина даже не существовала еще,
когда император уже выехал из Крыма. Он поехал через Алек-
сандровен и Москву.
Оказалось, что конспираторы неудачно минировали линии
железных дорог: под Александровском взрыва не произошло,
так как провод электрического аппарата случайно был перере-
зан самими устроителями дела, а в Москве ошибочно был взор-
ван багажный императорский поезд-
* Это лучшая похвала среди полировщиков: на хорошо отполированной
филенке, уверяют они, ножка скользит, и блоха не может прыгать.
В первых числах ноября император целый и невредимый
вошел во дворец, единственное место, где он был уверен в своей
безопасности.
С этого момента Халтурин при помощи друзей лихорадочно
принялся за свою работу. Теперь дворец был уже не резервом,
а единственным местом, где можно было выполнить задуманное.
Положение Халтурина, вообще довольно опасное, сделалось
еще и двусмысленным в этот момент благодаря одной случай-
ности.
6 ноября 1879 года в Петербурге был арестован Квятков-
ский, о котором уже говорилось в одной из предыдущих глав.
Это был один из самых деятельных и самых важных револю-
ционеров, и именно он вел сношения с Халтуриным.
Полиция нашла в его полусожженных бумагах план Зимнего
дворца. Столовая на этом плане была отмечена красным крестом.
Внезапно полиция как бы очнулась.
С какой стати у Квятковского оказался такой план, откуда
он мог его достать, и что наконец означал этот красный крест?
Квятковский не давал никаких объяснений, но поэтому ин-
цидент казался еще более подозрительным.
Политическая полиция (Третье отделение) * так же, как и
дворцовая полиция (была такая специальная полиция), потеряла
голову. Обыскали все комнаты рядом С столовой, над нею и под
нею, и ничего не нашли.
Дворец, до сих пор спокойный, теперь стал ареной постоян-
ных подозрений. Внутренняя полиция была увеличена; стояв-
ший во главе ее полковник, имя которого мне неизвестно, ор-
ганизовал систему неожиданных обысков как днем, так и ночью.
Однажды, когда Халтурин и его три товарища спали в своем
подвале, двери их помещения внезапно открылись, и вошел пол-
ковник в сопровождении жандармов. Раздалось бряцанье шпор,
стук сабель. Повелительный голос полковника приказывает
всем встать, и столяры торопливо вскакивают.
Халтурин считал себя погибшим. Тогда никто еще не знал
об этой системе обысков, она происходила в первый раз- Хал-
турин предполагал, что именно он вызвал это ночное посещение.
Однако дело объяснилось. Жандармы очень поверхностно
обыскали ящики рабочих, торопливо заглянули во все углы и
удалились с тем же бряцаньем сабель, чтобы продолжить обыск
в других комнатах дворца.
* Третье отделение собственной его императорского величества канце-
лнрин было упразднено, или, <вернее, изменило название, при гр. Лорпс-
Меликове в 1880 г.
Только увидя, как они удаляются, Халтурин понял, что он
еще не открыт.
С этих пор такие посещения, всегда неожиданные, повторя-
лись более или менее часто. Но так как обыски былн очень по-
верхностны, они не внушали Халтурину большого опасения.
Гораздо более его стало беспокоить то обстоятельство, что
начали систематически обыскивать всех рабочих, которые вхо-
дили во дворец, даже после очень непродолжительного отсут-
ствия. Как при этих обстоятельствах пронести динамит? Свобода
входа и выхода, которой когда-то пользовалась дворцовая при-
слуга, была теперь уничтожена; все они обязаны были носить
в кармане медную бляху и представлять ее по первому требо-
ванию часового и стража. На бляхе был выгравирован государ-
ственный герб- —-двуглавый орел—с буквами Д. С . (дворцовый
служитель). Каждый выход теперь отмечался, посещение дворца
посторонними людьми сделалось невозможным.
Но переносить динамит было необходимо, несмотря на все
эти препятствия.
Желябов м, знаменитый организатор большинства покуше-
ний на жизнь царя, заменил арестованного Квятковского и лихо-
радочно торопил работу Халтурина.
Однако она подвигалась черепашьим шагом. Динамит можно
было переносить только небольшими кусочками, каждый раз
изобретая новый способ, чтобы избежать осмотра стражи или
обмануть надзор; кроме того, Халтурину было невозможно ча-
сто выходить из дворца.
Таким образом, при всем страстном желании как можно ско-
рее окончить это невыносимое существование, он все же очень
медленно мог начинять свою мину.
Собственно говоря, это не была даже мина, потому что в
тех условиях, в каких находился Халтурин, он почти ничего не
мог сделать, чтобы по желанию направить силу удара. Сначала,
когда динамита было еще мало, он хранил его у себя под подуш-
кой. Когда динамита набралось уже достаточно, он поместил
его в сундук, где хранил свои вещи. Сундук он задвинул в са-
мый угол двух капитальных стен, чтобы иметь возможность при
взрыве разрушить столовую.
Конспираторы, помогавшие Халтурину в его предприятии,
решили взорвать динамит при помощи трубок, наполненных
составом, способным гореть даже в пустоте. Длина трубки была
рассчитана на несколько минут, которые были необходимы для
того, чтобы Халтурин мог выйти из дворца.
Вот и все это примитивное устройство, которое можно было
применить в настоящих условиях. Так как Халтурин жил в ком-
нате е тремя столярами и жандармы усиленно наблюдали за
ними, нечего было и мечтать пробить стену, чтобы заложить
туда мину.
Положение Халтурина становилось опаснее день ото дня
и требовало колоссального напряжения всех сил. Он должен
был внимательно следить за всем, что происходило вокруг него,
и в то же время сохранять беззаботный вид человека, кото-
рому нечего скрывать. По натуре Халтурин был человеком
крайне впечатлительным и очень нервным. Чахотка, быстро
развивавшаяся у него, только увеличивала нервозность, а по-
стоянные переходы от подозрений к надежде еще более рас-
страивали нервную систему. Он вынужден был напрячь все силы
своей воли, чтобы чем-нибудь не выдать волнения и своей вну-
тренней борьбы. Один только он знал, чего стоила ему эта игра
и как дорого она ему досталась!
В конце-концов он выполнил свою роль превосходно.
Несмотря на то, что во дворце повсюду пробудились подо-
зрения, всеобщее внимание привлекали только мелочи, и ре-
шительно никто не имел ни малейшего подозрения насчет Хал-
турина. Он умел внушать к себе исключительную симпатию,
даже жандарму, который жил вместе с столярами.
Этот жандарм, вообще человек не злой, особенно старался,
чтобы научить Халтурина «хорошим манерам».
—
И чего ты скребешь свой затылок, мужик ты этакий!
Господин полковник обращается к тебе, а ты запускаешь пальцы
в полосы! Нужно, приятель, учиться держать себя как следует.
Жандарм имел на него свои особые виды; он искал прилич-
ную партию для своей дочери и остановил выбор на молодом
столяре, делая ему всевозможные намеки, почти предложения.
Халтурин не очень-то ободрял старика, но и не говорил ему
«нет», так как такое расположение было ему очень нарукѵ.
Таким образом Халтурин завоевал известное уважение и в
высших этажах, и ему продолжали доверять трудную работу
даже в частных комнатах царя, хотя это случалось обыкновенно
только во время его отсутствия.
Но однажды император возвратился домой несколько рань-
ше, чем его ожидали, поторопились убрать скорее рабочего из
его кабинета, но было уже слишком поздно, и император, ни-
чего не подозревая, прошел мимо своего смертельного врага.
Это была единственная встреча Халтурина с императором,
ясно доказывающая ему, насколько он стоял вне подозрений.
Дворцовая прислуга иногда беседовала между собой о со-
циалистах.
Жандармы часто напоминали рабочим о плане дворца, най-
денном у Квятковского, указывая на то, что необходимо быть
настороже.
—
Уже наверное не даром поставили они красный крест
на столовой; изменник прячется где-нибудь здесь.
Эти таинственные социалисты очень интересовали служи-
телей.
—
Как бы я хотел увидеть хоть одного из них,—часто го-
ворили они. — Какая досада, что мне не удается встретить их
на улице.
—
Да как же вы хотите их узнать,—вмешивался Халтурин,—
ведь у них ничего не написано на лбу.
—
Узнали бы! Эх, ты—мужик! Их можно узнать сразу. Они
проходят и ты невольно отступаешь. Их вид выдает. Легко уз-
нать человека, готового ударить ножом. Он голову держит вы-
соко, вот так. Человек, решившийся на все, ни о чем не думает...
Нечего и толковать, их можно узнать сразу...
По такому портрету, однакож, не легко было узнать Халту-
рина. Он пользовался всеобщим доверием и на Рождество полу-
чил даже сто рублей наградных.
Его предприятие подходило к концу: ящик был набит
шестьюдесятью кило динамита; главари конспираторы полагали,
что именно это количество необходимо для того, чтобы взор-
вать столовую, не причинив ненужного вреда в остальной части
дворца.
Все время Желябов, который помогал и проверял Халтурина,
был озабочен одним желанием—насколько возможно уменьшить
количество жертв. Халтурин же, напротив, не хотел об этом
думать.
—
Количество жертв должно быть
огромным,—говорил
он. —Человек пятьсот будет убито наверное, поэтому нечего ща-
дить динамита, лишь бы эти люди не погибли напрасно, лишь
бы не ускользнул тот, кому он предназначается, и не пришлось
бы переделывать дела заново.
Тот постоянный риск, которому подвергался Халтурин ка-
ждый раз, когда он переносил во дворец динамит, не позволял
увеличить количество его сверх необходимой, точно высчитан-
ной цифры; кроме того, во дворце стали поговаривать о пере-
воде столяров в другое помещение. Все это вместе дало преи-
мущество мнению Желябова, и было решено учинить взрыв с
шестьюдесятью кило динамита при нервом представившемся
случае.
Для успеха необходимо было соблюдение двух условий: во-
первых, чтобы император находился в столовой, и, во-вторых,
чтобы Халтурин в это время был в своей комнате без сви-
детелей.
Император ежедневно отправлялся в столовую почти в один
и тот же час, с отклонениями не более получаса. Что же касает-
ся до столяров и жандармов, то их присутствие или отсутствие
определялось их ежедневной службой и часто бывало совер-
шенно случайным.
В течение многих дней благодаря этому Халтурин никак не
мог выбрать благоприятный момент. Совершенно неожиданные
обстоятельства каждый раз мешали ему.
Тогда было условлено, чтобы каждый день, в час, назначен-
ный для императорского обеда, Халтурин виделся с Желябо-
вым, уведомляя его о ходе дела, и в случае взрыва Желябов дол-
жен был его увести в надежное убежище, заранее пригото-
вленное.
Они встречались на площади, в вечерние сумерки, часто при-
творяясь совершенно незнакомыми.
Мрачный и злой Халтурин большими шагами проходил ми-
мо Желябова.
—
Не удалось, невозможно...— бросал он ему тихим и нерв-
ным голосом.
Много дней под ряд Желябов слышал только эти украдкой
брошенные фразы.
5 февраля Халтурин совершенно спокойно и беззаботно
шел навстречу Желябову. Он поздоровался с ним и произнес,
как самую обыкновенную разговорную фразу:
—
Готово!
Желябов, сам человек необыкновенно мужественный, при-
шел в восторг от его хладнокровия.
Через какую-нибудь секунду раздался оглушающий грохот,
подтвердивший заявление Халтурина. Это был взрыв.
Все огни Зимнего дворца погасли, моментально, и темное
пространство Адмиралтейской площади сделалось еще мрачнее.
Что же скрывал этот мрак на другом конце площади? Не-
ужели был еще жив тот, ради смерти которого пожертвовали
столькими жизнями?
Лихорадочное любопытство сжигало Халтурина и Желябова,
но было решительно неблагоразумно ожидать объяснений. Лю-
ди со всех сторон бежали ко дворцу.
Приехали пожарные.
Несколько отдельных огоньков показалось в окнах дворца.
Видны были тени, вытаскивающие оттуда что-то тяжелое и
большое: это были убитые и раненые. В темноте казалось их
было бесчисленное множество.
Халтурин и Желябов поторопились уйти и скоро достигли
заранее приготовленного убежища. Только когда Халтурин во-
шел в него, натянутые нервы его не выдержали; он почувствовал
себя страшно утомленным, больным настолько, что не мог дер-
жаться на ногах.
—
Есть ли здесь оружие?—был его первый вопрос. — Я ни
за что не отдамся живым!
Его успокоили—в квартире были заряженные динамитные
бомбы.
Сообщение о том, что и на этот раз император благополучно
избег смерти, подействовало угнетающе на Халтурина; он сва-
лился больной, и только известие о том колоссальном впечатле-
нии во всей России, которое произвело его дело 5 февраля,
несколько утешило его.
Он не мог забыть свою неудачу и никогда не хотел простить
Желябову то, что он назвал его ошибкой.
ПРИМЕЧАНИЯ
* Начало кружков лучше отнести к 60-м годам, а в 70-х они приняли
только большее расширение. (Прим. М . Ф . Фроленко).
** Он гопорит, что отрицали науку и стремились к опрощению. ОІІЯГЬ
это не так: не хотело большинство продолжать учиться, бросали уни-
верситеты, академии,—это верно, но не потому, что отрицали науку, а по-
тому, что мы далеко, мол, ушли в своих знаниях от народа; между пами
образовалась большая пропасть, а потому нам следует остановиться на
время, поднять прежде народ до уровня наших знаний, а тогда дружно, всей
массой и двинуть вперед. В этом нет еще отрицания науки, но, конечно,
отдельные единицы могли дойти и до отрицания, что поздней у толстовцев
и дошло до абсурда—не учили детей даже грамоте. (Прим. М. Ф . Фроленко).
*** Но это делали и те, которые и не думали об опрощепии. Этот
пример доказывает лишь умелость радикала. (Прим. М . Ф . Фроленко).
1 Углов-Орлов, Михаил Андреевич. — По мнению Л. Шншко—«один
из лучших рабочих питерских василеостровских кружков чайковцев. Вскоре
он бросил завод и стал готовиться к экзамену на сельского учителя. Орлов
был арестован в 1873 году вместе с участниками кружке чайковцев, привле-
ченных по делу 193-х . Был приговорен к 1 году и 3 мес. исправительных
арестантских рот. По ходатайству суда освобожден и административно вы-
слан под надзор полиции на 3 года.
После отбытия наказания Орлов в движении участия не принимал.
'
Макар-Синегуб, Сергей Силыч (1853—1907).— Сын
помещика.
Будучи студентом Петербургского технологического института, вступил в
1871 г. в кружок чайковцев. В этом кружке он развил энергичную деятель-
ность в области пропаганды среди петербургских рабочих, особенно за Нев-
ской заставой. Арестованный в ноябре 1873 г., он около 5 лет ждал суда над
собой и оказался в числе приговоренных к каторжным работам по делу
193-х на 9 лет. Наказание свое отбывал на Карийской каторге, где, будучи
выведен на поселение в 1880 г., вместе с женой Лариссой Чемодановой наве-
дывал детским домом. Впоследствии был на приисках в Сибири. Синегуб
обладал литературным талантом, и его стихотворение «Думы ткача» пользо-
валось большой популярностью.
3 Тихомиров,
Лев Александрович (1852—1923). —В
студенческие
годы (1871—1872)—активный член московского кружка чайковцев. В 1873 г.
он, но настоянию центрального кружка чайковцев, перебирается в Петер-
бург, где принимает деятельное участие в работах кружка, в частности в
пропаганде среди рабочих. Большой популярностью среди пропагандистов
середины 70-х годов пользовалось произведение Тихомирова «Сказка о че-
тырех братьях» (Правда и кривда). В ней он рассказывает о путешествии
братьев на восток, запад, север и юг. Они ищут правды, но всюду видят
безвыходное положение народа. Среди чайковцсв он был известен под
псевдонимом «Тигрыч».
После ареста на квартире Синегуба оп был привлечен вместе с дрѵгими
чайковцами по делу 193-х, но отделался легким наказанием. Будучи отдав
на поруки своему отцу, старшему врачу крымского военного гоцшііада^ он
скрылся и перешел на нелегальное положение. С" конца 1878 года принимает
активнейшее участие в создании новой революционной организации—партии
«Земля и Воля», н вместе с Кравчинским, Клеменцом, Плехановым п Н. Мо-
розовым входит в редакцию ее органа—«Земля и Воля». В качестве ярого
сторонника политической борьбы и террористических методов Тихомиров
участвует на Липецком съезде в 1879 г., где выступает как застрельщик
в расколе «Земли и Воли».
Член Исполнительного Комитета «Народной
Воли» со дня ее основания, Тихомиров играет руководящую роль в этой
организации. Не принимая непосредственного участия в террористической
борьбе, он уцелевает при разгроме «Народной Воли», последовавшем вслед
за удачным покушением на Александра II (1 марта 1881 года). Вместе с
В. Фигнер, М. Ошаниной и др. оп делает попытки восстановить организацию
и продолжает редактировать ее орган—«Народную Волю». Эмигрировав в
1883 году за границу, он создает там при участии П. Лаврова «Вестник На-
родной Воли». Разочаровавшись в террористических методах борьбы, оп,
под влиянием глубокого кризиса и разложения народовольчества, уходит от
революционного движения и из вождя Исполнительного Комитета «Народ-
ной Воли» вскоре превращается в ярого защитника самодержавия. После
опубликования им в 1888 году брошюры «"Почему я перестал быть револю-
ционером» и подачи верноподдаішического прошения Александру III, он воз-
вращается в Россию и становится сначала сотрудником, а затем редактором
реакционных «Московских Ведомостей». На страницах этой газеты он уси-
ленно защищал самодержавие и православие и за свое ренегатское усердие
награжден был царем золотой черпильннцей. В брошюре «Начала и концы»
(1890 г. Москва) он осудил все свое прошлое, считая, что школа и печать
повинны в том, что у молодежи предвзятый взгляд на Россию и отрица-
тельное отношение к нашим царским порядкам. Все это результат знаком-
ства не с жизнью, а только с книгой. Это уж не оригинальные мысли, а пе-
репев мракобеса-реакционера Каткова (редактора «Московских Ведомо-
стей» до Тихомирова), проповедывавшего те же идеи с 70-х годов.
Умер Тихомиров в СССР после Октябрьской революции в 1923 г.
Ренегатство Тихомирова вызвало в 1888—1889 гг. богатую литературу,
среди которой наиболее выдающимся произведением является
памфлет
Г. Плеханова «Новый защитник самодержавия или горе г. Тихомирова», в
котором он останавливается не столько на моральной оценке этого ренегат-
ства, сколько на анализе тех теоретических ошибок народничества, которые
привели его к кризису и к ренегатству.
'Кружок чайковце в. —О кружке чайковцев Шишко пишет (т. IV,
стр. 140), что «кружок... названный так по имени одного из его основате-
лей, возник весной 1869 года. Первоначальным организатором этого кружка
был, впрочем, не Н. В. Чайковский, а двое очень известных в свое время
людей, бывших студентов Медицинской академии. Чайковский вместе с
А. Сердюковьім были первыми из примкнувших к основателям этого кружка.
Цель последнего понималась его основателями таким образом: они хотели
создать среди интеллигенции и преимущественно среди лучшей части сту-
денчества кадры революционно-социалистической или, как чаще выража-
лись тогда, истинно-народной партии в России. С этой целью первоначаль-
ными основателями кружка решено было вести систематическую пропагапду
среди учащейся молодежи, устраивать кружки самообразования, земляче-
ства и так называемые коммуны, состоявшие из более тесно связанных
между собой товарищей».
6 H а д я.— Жену Синегуба звали не Надя, а Сопя—Ларисса Васильевна
Чемоданова. Невидимому, автор спутал ее с кем-то. Она была дочерью свя-
щенника Вологодской губернии. Ларисса воспитывалась в пансионе, мечтая
о независимой жизни, служении человечеству и т. п . Родные же готовили ее
к замужеству. Она жаловалась на свою жизнь подругам, учившимся в Пе-
тербурге. Синсгуб согласился ее спасти, устроив фиктивный брак. Ему уда-
лось получить согласие Чемодановых на свадьбу, после которой Ларисса
уехала в Петербург. Здесь они расстались, но впоследствии она работала с
Сннегубом в одном селе как учительница. Вскоре фиктивный брак закон-
чился настоящим.
6 «Вперед»—социалистическая газета. Издавалась за границей под
редакцией крупного теоретика народничества—Лаврова. No 1 журнала
«Вперед» вышел в 1873 г. в Цюрихе. С 3 января 1875 года выходит газетой
No 1 «Вперед». В конце 1876 года в Париже состоялся революционный
съезд. После съезда П. Лавров отказался редактировать «Вперед», и газета
прекратила свое существование.
7 Речь идет о Клячко
€. Л. (1850—-1914). В
«Воспоминаниях»
(стр. 54) Тихомиров говорит, что «это было сочтено настолько компромети-
рующим обстоятельством, что Клячко решено было исключить, и лишь по
снисхождению к нему это было облечено в форму его эмигрирования».
Клячко за границей принимал и дальше участие в работе.
8 А и а р X и з м—учение о безгосударственном состоянии общества, ко-
гда отсутствует ирииунідение и взаимоотношения людей основаны на добро-
вольном соглашении (на свободном договоре). Анархисты отрицают всякую
власть и право большинства подчинять себе меньшинство. Своей задачей
анархисты ставят уничтожение государства. Лишь на развалинах государ-
ства, думают они, разовьется анархический строй. Мы, коммунисты, тоже
стремимся к бесклассовому обществу, где борьба классов будет пройденный
исторический этап. Но к этому мы придем после переходного периода—
диктатуры пролетариата. Государство как аппарат принуждения и подавле-
ния отомрет после переходного периода.
9 Синегуб так описывает этот эпиэод:
«Дело было так: Ярцев познакомил меня через двух своих тверских
земляков с огромной артелью каменщиков (80 душ) не в фабричной казарме,
а в подвальном этаже воздвигаемого ими дома. Я был там два раза: раз с
Ярцевым, другой раз с Кравчинским. Там я оба раза читал «Дедушку
Егора» и «Игру в потраву»—соч. Волкова, «Макс» и «Волчок»—Мурлыки.
По поводу чтения поднимались разговоры о всякого рода эксплуататорах,
а в том числе и о подрядчиках. У этой же артели был подрядчик, тут же
сидевший и слушавший мои скверные речи,—я с ним препирался и вызы-
вал хохот в артели. И вот я пришел в третий раз с Борисевичем (если пом-
нишь юношу, жившего со Стаховским). Была ночь. У калитки дремал на де-
журстве дворник. «Куда идешь?»—«В артель к каменщикам».— «Нельзя,
поворачивай назад» (с дворником был еще кто-то). — «Да почему же, мне
надо земляка поврдать!»—«Убирайся, говорят тебе! Знаем, какие тут у тебя
земляки!» И, не говоря дальнейшего, взял меня за руку и вытащил за во-
рота. «Не пущай этих мазуриков», приказал он младшему дворнику и ушел.
Зная, что меня ждут в артели, ибо я обещал прийти в этот день, я должен
был хоть кого-нибудь увидеть из артели. Я тогда пристал к младшему двор-
нику и убеждением, а отчасти и руганью добился того, что он, правда, не
пустил меня в артель, а сам отправился туда и вызвал мне названных ему
двух якобы земляков, с которыми я пошел попить чайку в трактир и от ко-
горых я узнал, что их подрядчик просил старшего дворника не пускать
«мазуриков», которые приходят только смущать артель. Вот как было дело.
Действительно, Борисевич был поражен моим уменьем убедить человека, в
данном случае дворника, сделать то, что мне было нужно, несмотря на то,
что дворник сначала принял тон довольпо воинственный.
. .. Я, конечно, рисковал, что дворник осерчает и потащит меня в уча-
сток, но ведь мы всею своей пропагандистской деятельностью рисковали по-
пасть и в более неприятное положение». («Каторга и Ссылка», No 4, за
1925 г., стр. 84).
10 Ефим Савостьяно в—был один из сознательных рабочих-чай-
ковцев, выделившийся из артели и живший на отдельной квартире. Здесь
и собирались рабочие-чайковцы. При обыске у Синсгуба нашли его «сочи-
нение, писанное хотя и не твердым еще почерком, но представлявшее собою
горячее, страстное и очень сильно написанное воззвание к рабочим на
бунт». (Сннсгуб).
11 M о й с е е в, Михаил,—рабочий, входивший в кружок чайковцев и
живший в квартире вместе с Е. Савостьяновым.
12 Алексеев,
Петр Алексеевич (1849—1891). —Ткач.
В 1869 году
примкнул к кружку московских пропагандистов и, работая на разных фа-
бриках, неустанно вел пропаганду. С 1875 по 1877 г. сидел в тюрьме. На
суде произнес речь, в которой красочно рассказал горемычную жизнь рус-
ского рабочего и обрисовал, что дала крестьянству реформа 1861 года. В за-
ключение он сказал: «Русскому рабочему народу остается только надеяться
на себя и не от кого ждать помощи, кроме нашей интеллигентной молодежи.
Она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока подымется мускули-
стая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдат-
скими штыками, разлетится в прах». Алексеев был осужден на 10 лет ка-
торги, по отбытии которой его поселили в дальнем улусе Якутской области.
Здесь он в 1891 году по пути в Якутск был убит с целью ограбления.
13 3 а о з е р с к и й, Филипп,—рабочий-чайковец,
живший
на одпой
квартире с Е. Савостьяновым.
14 Сергей — Си негу б, Сергей Снлыч.
35 К р а в ч и н с к и й, Сергей Михайлович (Степняк) (1852—1895). —Вы-
дающийся участник революционного движения 70-х гг . Вел как чайковец
пропаганду среди рабочих в 1872 г. Один из пионеров «хождения в народ».
При массовых арестах чайковцев в 1874 г. Кравчннский бежал за границу
и там участвовал в герцоговннском восстании против турок (в 1875 г.) и в
попытке группы анархистов поднять восстание бедноты в провинции Бене-
венто в Италии (1878 г.). В период между этими восстаниями Кравчппский
приезжал в Россию, принимая деятельное участие в организации ряда
дерзких побегов заключенных революционеров из тюрем. В 1878 г. Кравчнн-
ский участвует в создании нового подпольного издания «Земля и Воля».
4 августа 1878 г. Кравчинский ударом кинжала убивает шефа корпуса жан-
дармов Мезенцева. После того Кравчннский снова уезжает за границу и бо-
лее пс возвращается в Россию. В 1895 г. трагически погиб, попав под поезд-
Кравчинский известен и как писатель. Он написал ряд пропаганди-
стских сказок, пользовавшихся большой популярностью, романов, и очерков.
В последние годы своей жизни Кравчинский принимав деятельное уча-
стие в создании и развитии в Лондоне «Фонда вольной русской прессы».
Подобно большинству членов этой организации, он проявил сильный уклон
в сторону либерализма.
,Ів ПІТІІЛДІА— . Леонид Эммапунловпч (1854—1910).—Член кружка чай-
ковцев. Вел пропаганду оредн рабочих Петербурга (Выборгская сторона).
В 1874 г. арестован и судился по делу 193-х. Присужден к 9 годам каторги,
отбывал па Каре, перешел на поселение в Забайкальскую область, а в
1887 г.—в Томск. Через 2 года бежал за границу, где играл значительную
роль в движении эсеров. Написал ряд публицистических и исторических
работ.
17 III Отделение собственной его императорского величества канцеля-
рии—высшее учреждение при Николае I и Александре II по делам полити-
ческой полиции. 11 1880 г. III Отделение было уничтожено. Его функции
перешли к Департаменту полиции Министерства внутренних дел.
18 M-elle Marie — Якимова, Анна Васильевна (по мужу Диков-
ская). (Род. в 1856 году).—А рестована в 1875 году за распространение за-
прещенных изданий. Судилась по процессу 193-х, оправдана, но администра-
тивно выслана на родину в Вятскую губернию. Вскоре отправилась в Твер-
скую, а затем в Ярославскую, Костромскую и Нижегородскую губернии,
ведя пропаганду среди крестьян. Примкнула к «Народной Воле», принимала
участие в организации покушения на Александра II под Александровском
и Одессой. В Петербурге вместе с Богдановичем поселилась на Малой Са-
довой под фамилией Кобозевых, вела работу по устройству подкопа. Аре-
стована в Киеве в марте 1831 года. Судилась по процессу двадцати народо-
вольцев в феврале 1882 года, приговорена к смертной казни, замененной
бессрочной каторгой, которую отбывала на Каре и в Акатуе. В 1899 году
вышла на поселение в Забайкальской области. В декабре 190-1 года бежала
в Европейскую Россию, примкнув к социалистам-революционерам. Аресто-
вана в августе 1905 года на станции Орехово-Зуево. В июне 1907 года осво-
бождена из Читинской тюрьмы. До июня 1917 года состояла в партии соци-
алистов-революционеров.
В настоящее время активная работница Общества политкаторжан.
19 Первые строки стихотворения, написанного С. Синегубом:
Эй, работники, иесите
Топоры, ножи с собой.
Смело, братья, выходите
За свободу в честный бой.
Мы под звуки вольных песен
Уничтожим подлецов...
'"Щедрин-Салтыков,
Михаил Евграфович (1826—1889). — Зна-
менитый русский сатирик. Зло высмеивал чиновничество, клеймил позором
дворянский быт.
71 Хождение в народ—движение, захватившее молодежь в середине
70-х годов. Молодежь, считавшая, что истинным носителем социализма и
революции является не рабочий, который испорчен городской культурой, а
крестьянин, переряжалась в народные костюмы, училась ремеслу и шла в
деревни. Здесь иод видом ремесленников, волостных писарей, рабочих они
хотели помогать народу и звать его на бунт. Но оказалось, что «брожение»
в народе вызвать было нелегко, так как деревня не была подготовлена к
восприятию идей социализма и анархии. Полицейские преследования задер-
л.али дальнейшее развитие этого движения. «Революционное народничество
погибло,-—говорит Плеханов,— ...в
силу неблагоприятного для него настрое-
ния тогдашних революционеров, которым во что бы то пи стало хотелось
«отомстить» правительству за его преследования и вообще вступить с ним
в «непосредственную борьбу», то-ссть, собственно говоря, как можно скорее
добиться
конституции».
Народничество—красочный
момент в движении
русской интеллигенции, увлеченной идеями утопического социализма. Много
лет пришлось бороться с последователями народничества,
отрицавшими
факт развития капитализма, а следовательно, и перенесения центра тяжести
организации революционных сил на рабочий класс, только под руковод-
ством которого крестьянство может добиться улучшения своего положения.
11 Заговорщики и полиция
161
Ленин дает следующую характеристику народничеству 70-х годов. «Это
была до известной степени стройная доктрина, сложившаяся в эпоху, когда
капитализм в России был еще весьма слабо развит, когда мелкобуржуазный
характер крестьянского хозяйства совершенно еще не обнаружился, когда
практическая сторона доктрины была чистая утопия, когда народники резко
сторонились от либерального общества и шли в народ».
Народническая организация «Земля и Воля» существовала в 1875—
1879 гг. Своей задачей они ставили агитацию и пропаганду социализма, не
борясь за конституцию, ибо политические свободы и конституция укрепляли,
по их мнению, буржуазию. Но на репрессии правительства они отвечали
террором. Если народничество 70-х годов было революционным, то и сере-
дине 80-х —реакционным; оно мирилось с царским правительством. Все их
внимание (в 80-ые годы) было устремлено на поддержание якобы самобыт-
ных начал народно-хозяйственной жизни, укрепление крестьянской общины
и организацию артелей. Они призывали правительство не помогать разви-
тию капитализма в России.
В 90-х годах реакционность народничества была вскрыта—-Плехановым
и Лениным. Только в 900-х годах вместе с ростом оппозиции среди мелкой
буржуазии снова на сцене появляются подкрашенные в новый цвет народни-
ческие идеи, проиоведываемые партией эсеров.
22 Маликов, А. К . — «Маликов—основатель этой неудавшейся рели-
гии, которую называли богочеловечеством, то-есть религией человека-бога.
Мне кажется, эта религия утверждала, что человек есть бог, или что бог
есть совокупность всех нравственных способностей человека». (Примечание
Тихомирова).
Будучи поднадзорным в Орле, Маликов проповедывал близкое к тол-
стовскому учение. Сумел сагитировать ряд молодых революционеров н даже
самого Н. В . Чайковского, который вместе с Малиновым уехал в Америку, где
была основана община «богочеловеков».
25 Восстание 63 г. —Речь идет о польском восстании 1863—186-1 г.; оно
вспыхнуло, как протест против угнетения Польши Россией. Самодержавие
усиленно насаждало русские порядки в Польше, запрещая польские школы,
конфискуя земли, всячески подавляя национальную самостоятельность по-
ляков. 1 января 1863 г. был объявлен рекрутский набор, при чем решено
было в первую очередь забрать революционную молодежь. Но они обра-
зовали вооруженные отряды и вступили в бой с русскими войсками. Борьба
с огромной армией России им оказалась не под силу, и восстание было же-
стоко подавлено. К восстанию поляков с большой симпатией и участием
относились многие из революционных деятелей того времени.
24 Тюремного смотрителя он называет Богородицким; мне помнится,
все его называли Богородским.
(Примечание М. Ф . Фроленко
к
рукописи).
26 Жихарев,
Сергей Степанович,—прокурор Саратовской -судебной
палаты. По окончании процесса 193-х был назначен сенатором.
20 Процесс 193-х происходил в 1877 году и продолжался три месяца.
Большая часть из судившихся лиц была арестована в 1874—1876 годах в
эпоху хождения в народ. Обвинительный акт был составлен так, что содержал
не только обвинения в том, что подсудимые вступали в «преступные» беседы
с крестьянами, давая им книги для чтения, игитнровали среди молодежи,
чтобы она шла в «народ», но пытался и морально их опорочить. Револю-
ционеры надеялись, что процесс оживит революционное движение страны.
Действительно, процесс ирпвлек внимание общества, особенно речью Мыш-
кнна, обрисовавшего политический произвол, господствующий в стране. За
эту речь Мыиікин был сослан на каторгу (см. примечание 35). Тринадцать
обвиняемых были приговорены к каторжным работам, двадцать человек—
к ссылке па поселение, остальные—к краткосрочному тюремному заключе-
нию. Многие из оправданных были сосланы затем в административном
порядке.
27 Л ю б а в с к и й, Федор Михайлович (род. в 1854 г.).—Арестован был
в сентябре Î573 г. Судился по делу 193-х, но ему зачли предварительное
заключение, и он был освобожден.
28 Львов,
Исаак Константинович.- —Судился за участие в револю-
ционных кружках Москвы и по делу 193-х . Умец в 1875 г.
29 Война за освобождение славян.— В
1875 г. произошло восстание в
Боснии и Герцоговннс. Турция объявила войну ЧернЬгории и Сербии. Сер-
бия была разгромлена.
39 Война с Турцией 1877—1878 г. была десятою войною, которую вела
Россия с Турцией. Закончилась она С.-Стефанским миром (в 1878 г.), по
которому Турция признала независимость Румынии и Сербии; было образо-
вано автономное княжество Болгария. Война подняла оппозиционное на-
строение и оживила деятельность земцев и либералов.
31 Тренов, Ф. Ф . (1803—1889)—ген.-адъютант, варшавск. обер-полиц-
мейетер, а затем петербургский
градоначальник. — Ряд революционеров,
как в России, так и за границей, решил убить Трепова за истязание
Боголюбова. Происходивший процесс 193-х задержал исполнение. Вера За-
сулич стреляла в Трепова 24 января 1878 г. по своей частной инициативе.
32 Боголюбов, Арх. Петр. (Емельянов).— Род. в 1852 г. Землеволец.
Вел пропаганду на юге России (Ростов, Таганрог). За участие в демонстра-
ции на Казанской площади 6 декабря 1876 г. приговорен к 15 годам ка-
торжной тнірьмы. После случая, описываемого Тихомировым (1877 г.), и
выстрела в Трепова 24 января 1878 г. Боголюбова отправили в харьковский
централ, где в конце 1880 г. он сошел с ума и умер в Казани в психиатри-
ческой больнице.
33 Засулич,
Вера Ивановна (1851—1919).— Впервые арестована в
1869 г. но делу последователя Бакунина—Нечаева—и в 1871 г. освобождена,
находясь под надзором полиции до 1875 г. Вступает в кружок киевских
бунтарей. Узнав о наказании розгами Боголюбова, 24 января 1878 г. стре-
ляла в Трепова, ранив его. Суд присяжных оправдал Засулич. После осво-
бождения жандармы пытались ее задержать, и она эмигрировала. Вернув-
шись, была в числе первых чернонередельцев, а в 1880 г. снова уехала за
границу. Здесь активно участвовала в Красном Кресте «Народной Волн».
В 1883 г.—одна из учредителей группы «Освобождение Труда»—первой
марксистской группы рабочей партии России. Перевела на русский язык
ряд произведений Маркса. В конце 1900 г. была членом редакции «Искры».
После раскола на II съезде партии в 1903 г. примкнула к меньшевикам.
В 1905 г. вернулась в Россию после амнистии. Во время реакции 1907—
1910 г. была в рядах ликвидаторов. Во время войны вместе с Г. В. Пле-
хановым занимала ярко оборонческую позицию. Во время Октябрьской ре-
волюции была против переворота, как и впоследствии против диктатуры
пролетариата, оставаясь
на позиции правых меньшевиков.
Умерла
в
Петрограде.
34 Волховский, Феликс Вадимович (1846—1914). —Будучи студен-
том Московского университета в 1867—1868 г., организует вместе с Г. Ло-
патиным организацию по закупке и распространению дешевых книг среди
народа (так называемое «рублевое общество»). За это его арестовывают и,
продержав, не предъявляя обвинения, семь месяцев, выпускают. В 1869 г.
его в качестве служащего московского книжного магазина Черкасова снова
арестовывают и привлекают по нечаевскому делу. Просидев более двух лет
в московских тюрьмах, а затем в Петропавловской крепости, он выходит но
этому делу судом оправданным. Живя после этого некоторое время в Пе-
11*
163
тербурге, он присоединяется к кружку чайковцев и в 1872 г. едет в Одессу,
где организует революционный кружок, бывший отделением кружка чайков-
цев и давший столь выдающихся революционеров, как, например, Андрей
Желябов. Будучи привлечен по делу 193-х, отделался ссылкой на поселение
в Тобольскую губернию. В 1881 г. получил разрешение жить в Томске, от-
куда в 1889 г. бежал за границу, поселясь в Лондоне. Здесь участвовал в
создании издательства «Фонда вольной русской прессы». После образова-
ния партии социалистов-революционеров в 1902 г. вступил в ее ряды, что
отнюдь не мешало ему, подобно Кравчиаскому и др.,
проявлять опреде-
ленно либеральный уклон.
35 Мышкин, Ппполит Никитич (1848—1885). — Один из самых круп-
ных революцнонеров-се.чндесятннков. Солдатский сын, по профессии сте-
нограф. В 1874 году в Москве организовал печатание нелегальной литера-
туры. Когда его типография провалилась, бежал за границу. Вернувшись,
в 1875 году сделал попытку освободить Чернышевского из Вилюйска и при
этом был арестован. В деле 193-х являлся главным обвиняемым. Во время
суда произнес свою знаменитую ярко-революционную речь. Приговорен к
десяти годам каторги. Был заключен в Ново-Белгородскую и Ново-Бори-
соглебскую центральные тюрьмы, затем переведен на Кару. В Иркутске на
похоронах долгушинца Дмоховского произнес речь, за которую ему увели-
чили срок каторги до пятнадцати лет. В 1882 году бежал с Кары, добрался
до Владивостока, но там был арестован. В следующем году отправлен в
Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, а в 1884 году пере-
веден в Шлиссельбург. 15 января 1885 г. военным судом в Шлиссельбурге
приговорен к расстрелу «за насилие, учиненное над местным жандармским
начальником». Казнен 26 января.
•*б Попав в тюрьму до хождения в народ, Тихомиров и хождение это
представляет со слов отдельных личностей в странном виде. Какой-то Лев
возился с сектантами. Правда, возился и Алекс. Михайлов и Ковальский и
еще некоторые, но это опять-таки было частное, а не общее явление и про-
должалось самое большое одно лето, пока не убедились, что протест их
против церкви не означает, что они протестанты н против правительства.
(Примеч. М . Ф. Фроленко
к рукописи).
-
37 Стефанович,
Яков Васильевич (1853—1915).— Активный уча-
стник революционного движения 70-х и 80-х годов. Вместе с Дебягорнем
и др. положил начало южному бунтарскому крунжу с базой в Киеве. Вместе
с Дейчем и Бохановскнм сделал попытку поднять крестьянский бунт в Чи-
гиринском уезде Киевской губернии при помощи подложных царских
грамот.
В 1877 году все трос были арестованы, но вместе бежали в 1878 году
при содействии М. Фроленко, поступившего надзирателем в Киевскую
тюрьму и скрывшегося вместе ф освобожденными им товарищами.
Из-за
границы, куда Стефанович бежал, он вернулся накануне раскола общества
«Земля и Воля», при чем после раскола участвовал в создании «Черного
Нередела». В 1880 году снова уезжает за границу, а но возвращении оттуда
после 1 марта 1881 года вступает в Исполнительный Комитет «Народной
Волн». Арестованный в феврале 1882 года, он в 1883 году осужден на бес-
срочную каторгу, замененную ему восемью годами каторжных работ, кото-
рые отбывал на Каре. В 1906 году издал «Дневник карнйца». Как револю-
ционер Стефанович окончил свой путь после ареста, когда по предложению
В. Плеве написал для Департамента историю революционного движения, где
назвал имена нодполыіых работников, что было явным предательством с его
стороны.
38 Автор «Писем из деревни»—В . Кудряшов, Иванчнн-ІІисарев, Алек-
сандр Иванович.
зв Грачевский, Михаил Федорович (1819—1887). —«Один из наи-
более известных в русском революционном движении лиц. Некогда был ма-
шинистом на железной дороге. Арестованный в 1875 г. за революционную
пропаганду, он подвергся более чем двухгодичному
предварительному
заключению и был оправдан судом. ІІо освобождении снова поступил маши-
нистом на Одесско-Балтийскую железную дорогу и, не совершив никакого
преступления, был неожиданно арестован и сослан. После своего побега из
Пинеги он горячо отдался революционной деятельности и был арестован
в 1882 г. в Петербурге. Его присудили к смертной казни, но наказание было
смягчено и смерть заменена пожизненным заключением».
(Примечание
автора). В октябре 1887 г. в Шлиссельбурге окоичнл жизнь самоубийством
(сжег себя).
40 Орлов, Владимир Федорович, «Бород а». —В
1871 г. судился по
делу нечаевцев, был оправдан, а затем сослан административным порядком
на север России.
41 Лысенко, семейство.—Это нелегальная фамилия Николая Буха,
Софьи Ивановой и жившей при них в качестве прислуги нелегальной Ма-
рии Грязновон.
42 Видным его трудно назвать: невысокого роста, худощавый, с чистым
правильным лицом, он выглядел молодым маменькиным сынком. (Примеч.
М. Ф . Фроленко к рукописи).
43 Михайлов, Александр Дмитриевич (1855—1881). — Крупный рево-
люционер 70-х годов, один из основателей «Земли и Воли». Работал среди
раскольников, дабы вовлечь их в революцию. После разгрома землевольцев
отказался от работы «в народе» и защищал террор. Много работал по орга-
низации террора, принимал деятельное участие в Липецком и Воронежском
съездах. Член Исполнительного Комитета «Народной Воли».
Арестован
22 ноября 1880 г., судился по процессу 20 народовольцев; в феврале 1882 г.
приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую
отбывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.
44 Б У X, Николай Константинович,—род. в 1852 г., народоволец. В 70-х
годах «пошел в народ» и бросил ученье в Петербургской медико-хирурги-
чсской академии. Примыкал к кружку южных бунтарей. После ареста на
суде заявил, что признает программу «Народной Волн», но не сочувствует
ее террористической тактике. Приговорен к 15 годам каторги, которую
отбывал на Каре. В 1890 г. он подал прошение, и ему разрешили выехать
в Западную Сибирь, а также в Петербург.
43Иваиова, СофьяА.,
Борейша.—В
1877 г. судилась по делу
о демонстрации на Казанской площади. 17 января 1880 г. арестована при
оказании вооруженного сопротивления типографией «Народной Волн», су-
ществовавшей с 22 августа 1879 г., издавшей три номера «Народной Воли».
4" Г р я з H о в а, Мария Васильевна (род. в 1858 г.). — Арестована в ти-
пографии в 1880 г. Ее осудили па 15-летнюю каторгу, но взамен дали
ссылку на поселение.
В своих воспоминаниях Тихомиров характеризует се, как преданную
делу раднкалку.
47 Л ю б к и н, Абрам («Птица», «Пташка») (1857—1880).— «Любкин был
маленький, незаметный человечек, усердный типографщик, которого высшее
счастье состояло в том, чтобы его листки были напечатаны чисто и кра-
сиво». (Тихомиров «Воспоминания», стр. 135).
44 Несколько
ииое описание дает Тихомиров
в
«Воспоминаниях»
(стр. 135).
«Самая типография находилась в задней комнате. Она была
устроена прекрасно. Станок (действовал валом на рельсах) устроен очень
тщательно, бесшумно, и сверх того помещался на мягкой кушетке, которая
окончательно съедала звук. В эту же кушетку станок прятали, когда явля-
лись полотеры. В день натирания полов не работали. Все пряталось: кассы
в конторку, станок в кушетку. Бумага убиралась, полы выметались тща-
тельно.
.. . Снаружи никто не мог бы догадаться, что в комнатах чуть не блиста-
тельное освещение: все казалось погруженным в непробудный мрак».
49 «Народная Воля»—партийный
журнал, издававшийся в России с
1879 по 1885 г. с большими трудностями. За границей издавался с 1883 г.
«Вестник Народной Воли». Вышло всего 5 выпусков до 1886 г. Редактиро-
вали журнал Тихомиров и Лавров. Оба журнала отображали взгляды «На-
родной Воли».
Сама партия «Народная Воля» выделилась в 1879 г. (Липецкий съезд)
из организации «Земля и Воля», когда последняя раскололась на «Черный
Передел» и «Народную Волю». «Народная Воля» была наиболее револю-
ционной организацией левой части русской интеллигенции и ставила своею
целью низвержение самодержавия путем восстания и заговора. Невозмож-
ность восстания и отсутствие веры, что народ сам подымется, толкнули на-
родовольцев на террористическую борьбу, наиболее блестящим актом кото-
рой было убийство Александра II 1 марта 1881 г. Во главе централизован-
ной партии стоял законспирированный Исполнительный Комитет, руководив-
ший террористической работой и пропагандой. Теоретически партия отобра-
жала общую нечеткость классовых отношений в стране. Они не отказыва-
лись от народнического (мелкобуржуазного) социализма, от борьбы за поли-
тическую свободу, но часто и многие говорили об этом не лучше либералов.
«Н. В .» отказалась на деле от аполитичного анархизма предшествовавших
ей революционных организаций, но, не умея решить вопроса о сочетании
социализма и политической борьбы, фактически отодвинула на задний план
социалистические задачи. Будучи связана со студенчеством и одиночками-
рабочими, партия не имела никаких корней в массах. Рабочие кружки орга-
низовывались и жили помимо «Народной Воли», они только нспользовы-
вали народовольцев, как агитаторов, толкая на изучение положения рабо-
чих Запада и России, а также на углубление пропаганды путем знакомства
с научным социализмом. После 1 марта, когда убийство Александра II не
вызвало никаких потрясений в народе, правительство увидело, что за пар-
тией- идут одиночки, которых оно жестоко преследовало и истребляло. От-
дельные попытки восстановить «Народную Волю», как и попытка органи-
зовать «Молодую Народную Волю», устремлявшую почти все свое внимание
на рабочих, не увенчались успехом. Неравная борьба Исполнительного Ко-
митета с самодержавием закончилась полным разгромом «Народной Воли»,
которая после 1885 г. не возобновлялась.
В 1886 г. возникла новая народовольческая группа (А. Ульянов, брат
Ленина, и другие), которая стремилась поднять старое знамя «Народной
Воли». Эта группа хотя и переняла террористические традиции «Н. В .», но
приближалась по своим взглядам к социал-демократии. Но неудачная по-
пытка покушения на Александра III дала в руки правительства нити орга-
низации, и оно казнило всех активных членов. Тактика народовольцев—-
тактика террора, возбуждения революционного движения—ничего,
кроме
геройства одиночек и разгрома революционного движения, не дала; она
была осуждена как рабочим классом, так и ходом исторических событий.
50 «Земля и Воля»—революционный листок, выходивший в 1878 г. под
редакцией Н. Морозова. Всего с марта по нюнь вышло 6 номеров.
51 Вернее будет сказать не организация, а редакция, ибо Тихомиров,
состоя в редакции «Народной Воли», лишался с Михайловским и мог так
думать, не справляясь с мнением членов «Н. В .». (М. Фроленко—при-
меч. к рукописи),
52 Квятковский, Александр Александрович
(1852—1880).—Выхо-
дец из дворянской семьи. Отец—золотопромышленник.
Учился в Петер-
бургском технологическом институте, где участвовал в социалистическом
движении молодежи. В 70-х годах бросил институт и организовал слесар-
ную мастерскую в Тульской губернии, ставя себе задачей выяснить «вред
капиталистического единоличного производства и показать пользу производ-
ства на артельных началах». Донос заставил Квятковского уйти в Кострому
на заводы, затем батраком в Нижегородскую губернию, а позже—деревен-
ским торговцем в Поволжье. В 1879 г. вернулся в Петербург, принимает
деятельное участие в подготовке Соловьевым покушения на Александра II
(1879 г. 2 апреля). Землеволец. После раскола уходит в «Народную Волю»
членом Исполнительного Комитета. Арестован 24 ноября 1879 г. В 1880 г.
присужден к смертной казни. Повешен 4 ноября 1880 г.
"Баранников,
Александр Иванович
(1858—1883).—Землеволец.
В 1876 г. пошел в народ. Попав в Петербург, вошел в дезорганизаторскую
(террористическую) группу «Народной Воли». Участвовал в убийстве шефа
жандармов Мезенцева (1878). Был в Исполнительном Комитете «Народной
Воли». Участвовал в подкопе на Московско-Курской ж. д . (1879), дабы взор-
вать царский поезд, в закладке динамита под Каменный мост в Петербурге
(1880), в подкопе под Малой Садовой (1881). Арестован 25 января 1881 г.,
судился в 1882 г. и приговорен к бессрочной каторжной работе. Умер от
цынги в августе 1883 г. в Алексеевской равелине.
54 Пришедшие скрыться в типографию были—Морозов и Любатович.
Морозов, Николай Александрович (род. в 1854 г.) . —В
1874 г. всту-
пил в Москве в пропагандистский кружок чайковцев. Увлеченный общим
потоком, «ходил в народ». Спасаясь от арестов, уехал за границу. В 1875 г.
на обратном пути в Россию был арестован. Был в числе 193-х человек, су-
дившихся за противоправительственную прапаганду. Суд, зачтя предвари-
тельное заключение, освободил его от наказания. Вступил в революционное
общество «Земля и Воля». После раскола этого общества Морозов, стояв-
ший на точке зрения террора, примкнул к «Народной Воле» активнейшим
террористом. В 1881 г. его арестовали и приговорили к бессрочной каторге.
Просидел все время в Шлиссельбурге и освобожден в октябре 1905 г.
Все время занят научной работой, автор многих трудов по естествен-
ным наукам и по истории христианства. Живет зимой в Ленинграде, а летом
в Ярославском нмении.
Любатович. Ольга Спиридоновна. Училась за границей. Вернувшись
в Россию, начала работу среди фабричных. Член «Земли и Воли». В 1877 г.
осуждена на 9 лет каторги, замененной поселением, откуда бежала. В 1878 г.
примкнула к «Народной Воле». Арестована в 1879 г. на квартире Квятков-
ского. Бежала из-под домашнего ареста. В 1881 г. снова арестовывается и
высылается в Сибирь. Революция 1905 г. се освободила.
65 Соловьев, Александр Константинович (1846—1879). — В примеча-
нии автор говорит, что «Соловьев за покушение на жизнь Александра II
14 апреля 1879 г. казнен 28 мая 1879 г.».
В 70-х годах Соловьев начал свою революционную деятельность с аги-
тации среди крестьян. Попеременно был кузнецом, учителем, волостным
писарем.
2 апреля 1879 г. покушался на Александра II без директивы Исполни-
тельного Комитета, но народовольцы знали о подготовке. За это покушение
Соловьев казнен 28 мая 1879 г.
"Клеточников.
Николай Васильевич
(1847—1884).— Чиновник
Департамента полиции. В течение двухлетних сношений с революционе-
рами—А. Михайловым, Квятковским, Баранниковым и Колодкевичем—раз-
облачал им целый ряд секретных распоряжений властей, предупреждая о го-
товящихся обысках, арестах и т. д . Арестованный в 1881 г. в квартире Ба-
ранникова, судился ио процессу 20 народовольцев. В 1882 г. приговорен
к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер от цынгп в Алек-
сеевской равелине Петропавловской крепости.
57 Толстой, Алексей Константинович (1817—1875).—Поэт и драма-
тург-исторпк. Высмеивал в сатирических стихах бюрократию, а также демо-
кратическое движение. Писал под псевдонимом Козьмы Пруткова вместе с
бр. Жемчужниковымп.
Ре й н ш т с й н, Николай Васильевич - « .Николка». Провокатор. Убит
26 февраля 1879 г. в Москве Поповым, видным работником эиохи «Земли
и Воли» и «Народной Воли». Устраивал «поселения», работал среди ра-
бочих.
Аптекман, Осип Васильевич, в «Земле и Воле», стр. 240, так рас-
сказывает про это событие:
«Весною 1879 г. мы узнали, что рабочий Рейнштейн, один из популяр-
нейших и выдающихся рабочих,—провокатор. Он готовится нанести нам
решительный удар. Он знал некоторых из наших товарищей и только искал
случая ударить в самый «центр» наш. Решено было «изъять его из обра-
щения». Нельзя было медлить. М . Р . Попов взялся это дело исполнить. Не
дрогнула рука. Правда, после расправы на него напало удушье, едва-едва
добрался до ближайшей улицы, чтобы передохнуть, но это—уж позднейшая
реакция. Во время же подготовления дела и свершения оставался непро-
ницаемо невозмутимым и грозно жестоким».
В убийстве помогали еще двое революционеров. Участники убийства
остались нераскрытыми. Рейнштейн выдал Обпорского в 1879 г. и вместе
с ним ряд других рабочих.
50 Обнорский, Виктор Павлович. —Рабочий. Один из наиболее вы-
дающихся деятелей русского рабочего движения 70-х годов. Разыскиваемый
полицией в Петербурге с конца 1873 г.,
Обнорский направился на юг.
В Одессе он попал в кружок Е. Заславского, который послужил ядром к
возникшему несколько позднее «Южно-российскому союзу рабочих». Летом
1878 г. Обнорский направляется за границу, чтобы ознакомиться с рабочим
движением. Побывав в Париже, Берлине и Лондоне, Обнорский па практике
проверяет те сведения о западно-европейском рабочем движении, о котором
он до того имел уже теоретические сведения из русской подпольной пе-
чати. В самом конце 1878 г. Обнорский снова появляется в Петербурге со
шрифтом, типографскими принадлежностями и с готовой в голове програм-
мой новой рабочей организации. Вместе с Халтуриным основывает «Се-
верно-русский рабочий союз».
С у д е й к и и, Григорий Порфирьевич. —С 1878 года адъютант киев-
ского жандармского управления, а с 1882 года—инспектор секретной поли-
ции. Первый организатор политической провокации, вовлекший
на эту
дорогу народовольца С. Дегаева и при его посредстве овладевший всей
организацией «Народной Воли». 16 декабря 1883 года убит на квартире
Дегаева народовольцами Стародворским и Конашсвичем.
61 Взрыв дворца Халтуриным я нахожу нужным исправить тем, что
у меня осталось в памяти. Я был членом Расиоряд. комиссии и, мне ка-
жется, помню до сих пор хорошо отдельные эпизоды подготовки этого
взрыва. Так, началось с того, что Квятковскнй, член той же комиссии, придя
на заседание, заявил, что он виделся с Халтуриным, жившим уже во дворце,
и тот предложил было зарубить царя топориком, но он, Квятковскнй, боясь,
чтоб царь не вырвал у Халтурина тонорнк да не зарубил бы его самого,
предложил лучше действовать динамитом, на что Халтурин тоже согласился.
У Тихомирова сказано, что Халтурин однажды только и притом случайно
столкнулся в комнатах царя с ним. Из разговора Халтурина с Квятковскнм
выходило, что у него уже не раз был случай бывать в кабинете царя и
делать там мелкие исправления. Поэтому у него и явилась мысль, остав-
шись наедине с царем, зарубить его.
Однако нам больше понравилась мысль о динамите, и, на этом оста-
новившись, принялись готовить его. Но тут произошла после ареста Квят-
ковского тревога, когда был найден в его квартире план дворца с крестом
над столовой.
Во дворце начались обыски, и в подвальном этаже, где находился Хал-
турин, поместили жандарма. При таких условиях прятать динамит под по-
душкой едва ли было возможно, а особенно угорать от него. Динамит
представляет из себя смесь нитроглицерина с сахаром, песком, углем, се-
литрой, и такая смесь ничем не пахнет. У меня в Одессе хранился очень
долго в сундуке динамит, и—ни я, ни Татьяна Ивановна Лебедева (жившая
со мной в одной будке)—никогда мы пи разу не почувствовали угара. Угар,
то-есть сильная головная боль, происходит, когда приготовляется
нитро-
глицерин по старому способу, когда, смешав серную кислоту с азотной, при-
бавляют туда понемногу глицерин и быстро мешают деревянными палоч-
ками в деревянных ведерках с водой. Выделяющиеся при этом газы и про-
изводят сильную головную боль. Нитроглицерин в виде густой маслянистой
жидкости оседает иа дно. Слив воду и потом подсушив осторожно, еще до
полного уничтожения воды и получали желтоватую густую маслянистую жид-
кость—нитроглицерин,—которую потом и смешивают с чем-нибудь. У пас
в Одессе динамит был по виду похож на полужидковатое мыло, н если б
Гольденберг не потерялся и назвал бы его жандармам мылом, то они на-
верное отпустили бы его, так как он помещался в жестяных ящиках не-
большого размера и очень напоминал мазь, мыло, смазочное масло. У Хал-
турина был сундучок под кроватью, где было удобней прятать от чужих
глаз. Там он и прятал. По крайней мере о последней большой партии
динамита, отнесенной Халтуриным, Желябов в комиссии вам докладывал
так. Была суббота, в этот день все приносят себе чистое белье. Так сде-
лал H Халтурин. Он взял большую корзину, в нее положил динамитные
ящички, а сверху заложил их крахмальными и простыми рубашками. Так
как его хорошо знали и относились добродушно, то не стали на заставе
рыться и пропустили свободно. Принеся к себе, он все это и сложил в
свой сундук.
У Тихомирова стоит цифра 60 кгр., то-есть 4 пуда, но я твердо помню,
что у нас в комиссии шел разговор о двух только пудах, то-есть 32 клгр.
Мы даже призывали в комиссию Кибальчича, нашего химика, и спрашивали,
достаточно ли это будет, чтобы взорвать столовую. Но он нам дал уклон-
чивый ответ. Один фунт уничтожает, мол, 6 квадр. нсто саженей, нето ар-
шин вокруг себя, а 80 ф. —страшная сила, можете себе представить. Но тут
же добавил: иногда, впрочем, динамит делает и так, что пробьет в стене
дырку да и выскочит на воздух.
Такой ответ определенного нам ничего не давал, а между тем, в виду
тревожного положения, необходимо было ловить момент и не упускать слу-
чая, и потому решили действовать с этими двумя пудами. Такое решение
передали Халтурину. (М. Фроленко. -—Прим. к рукописи).
32 Халтурин,
Степан П. (1857—1882).— Организатор
Северно-рус-
ского рабочего союза в 1878 году. В 1875—1876 г. активный участник
народнических кружков и выдающийся пропагандист. Работал исключитель-
но среди рабочих, руководил забастовочным движением. Выставлял в про-
тивовес народникам взгляд, что рабочий класс должен вести политическую
борьбу как средство своего социального освобождения. В 1881 г. вошел в
Исполнительный Комитет «Народной Воли». После покушения на Алек-
сандра II, в 1882 году принимал участие в убийстве /Келваковым рдссского
прокурора Стрельникова, был арестован и повешен 22 марта 1882 г.
63 Несуразная мысль! Не за казни товарищей, а за то кошмарное со-
стояние, в каком очутилась вся Россия, благодаря тому, что вся Западная
Россия была объявлена на военном положении и отдана на произвол гене-
рал-губернатор. (М. Фроленко. — Прнм. к рукописи).
84 Желябов, Андрей Иванович (1851—1881). —Крупнейший из дея-
телей- «Народной Воли». По происхождению—крестьянин. Будучи студентом
Новороссийского университета, в 1873 году примкнул к одесскому кружку
Волховского и занялся пропагандой среди рабочих. Был арестован в 1874 г.
и 1877 году; судился по процессу 193-х, но был оправдай. Участник Ли-
пецкого и Воронежского съездов. Член Исполнительного Комитета «Народ-
ной Воли». Участник покушения на жизнь Александра II. Арестован в Петер-
бурге на квартире Трнгони 27 февраля 1881 года. Приговоренный по про-
цессу первомартовцев к смертной казни, повешен 3 апреля.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
:»
•
Александр II—9, 83.147, 148, 158, 161,
166, 167, 168, 170.
Александр III—158, 166.
Алексеев Петр—30, 160.
Аптекман О. В. — 168.
Баранников А. И .—1 28, 145, 167, 168.
Бисмарк—126.
Богданович Ю. Н.— 161.
Боголюбов А. П . (Емельянов)—81, 83,
84, 163.
Богородицкнй—57, 63. 64. 66, 67, 69,
72, 74 , 82, 162.
Бохановскнй Н. В .—164.
Волховский Ф. В . —8 5, 91, 92, 163.
Вольтер Мари-Франсуа—11, 13.
1'амбетта—126.
Гладстон—126.
1'ольденберг Г. Д. — 169.
Грачевский М. Ф,—109, 110, 111, 112,
113, 114 , 115, 116, 117, 118, 165.
Гряднова М. В . —1 2 1, 126, 165.
Дебагорий-Мокриевнч В. К . — 164.
Дегаев С. II. — 168.
Дейч Л. Г .— 164.
Дмоховский—164.
Ефим—см. Севастьянов.
Желнховский Н. А .— 87, 88, 94.
Желябов А. И,—151, 153, 154, 155, 164,
169, 170.
Жемчужниковы бр. —168.
Жихарев С. С .— 59, 162.
Заславский Е.—168.
Засулич В. И . —8 3, 163.
Заозерский Ф, —30, 31, 160.
Иванова С. А . (Ворейша)—121 . 126,
128, 165.
Иванчин-Писарев А. И . — 165.
Катков М. П.— 158.
Квятковский А. А .— 121 , 128, 129, 150,
151, 153, 166, 167, 168, 169.
Кибальчич Н. И .—169.
Клеменц—158.
Клеточников Н. В .— 130. 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138. 139, 141, 142,
143, 144 , 145, 168.
Клячко С. Д.— 159.
Ковальский И. М . — 164.
Колодкевич Н. Н.— 168.
Конашевич—168.
Кравчннскнй С. М . (Степняк) 34, 158,
159, 160, 164.
Лавров П. Д .— 158, 159, 166.
Лебедева Т. И . — 169.
Ленин В. И.—162.
Леонид—(см. Шишко).
Лопатин Г. А.—164.
Любавский Ф. М,—60. 61, 163.
Любатович О. С .— 167.
Любкин Абрам («Пташка»,
«Птич-
ка»)—121 , 124, 125, 128, 165.
Львов И. К .— 73, 74, 163.
Макар-Синегуб С. С .— 16, 17, 18, 19,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 36,
38, 39, 157, 158, 160, 161.
Маликов А. К. — 12, 22, 162.
Маркс Карл—163.
Масловский М. —6 0 .
Мезенцев—160.
Михайлов А. Д .— 120, 122, 127, 128,
134, 143, 144, 164, 165, 168.
Моисеев М. — 160.
Морозов Н. А . —158, 167.
Мышкин И. Н,—88, 93, 163, 164.
Надя (Соня—Ларисса Васильевна Че-
моданова)—18. 19, 20, 157, 159.
Нечаев С. —9, 10.
Николай I—161.
Обнорский В. П .— 139, 140, 168.
Орлов В. Ф . (Борода)—110, 112, 113,
114, 115, 118, 119, 165.
Ошанина M. Н .—158.
Павел 1—57.
Плеве В.—165.
Плеханов Г. В . —158, 161, 162.
Попов М. Р. — 168.
Рейнштейн Н. В . —138, 139, 140, 168.
Руссо Жан-Жак—Ï1, 13.
Севастьянов Еф,— 29, 160.
Сергей (Синегуб)—см. Макар.
Сердюков А.— 159.
Синегуб—см. Макар.
Соловьев А. К .— 129, 167, 168.
Стародворский—168.
Стефанович Я. В . —9 8, 164, 165.
Стрельников Ф. Е.— 170.
Судейкин Г. II,—144, 168.
Тараканова кн. —5 5 .
Теодорович—36 .
Тихомиров Л. А. -^-158, 159, 163, 164,
165, 166, 169.
Толстой А. К,—136, 168.
Толстой Л. Н.—12.
Тренов Ф. Ф .—8 0, 81, 83, 84, 163.
Тригони—170.
N глов-Орлов М. А.— 16, 17, 157.
Ульянов А. И . — 166.
Уоллес Мекензи—87.
Фигнер В. Н.— 158.
Филипп—(см. Заозерский).
Фроленко М. Ф,—162, 164, 165, 166,
169, 170.
Халтурин С. Н .— 28, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 168,
169, 170.
Цуккерман—121 , 125, 126, 128.
Чайковский Н. В .— 10, 11, 157, 158,
168.
Чемоданова Ларисса—(см. Надя).
Чернышевский Н. Г .—164.
Шишко Л. Э . —34, 35, 85, 157, 158, 161.
Щедрин-Салтыков M. Е.
-39, 161.
Эмар Густав—110.
Якимова А. В. — 161.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
От редакции
7
Предисловие автора
9
I. Пропагандисты
17
И. Арест
34
III. Безумное лето
42
IV. Тюрьма
•
56
V'.
Пропагандисты в деревне
98
VI. ІІобсг
110
VII. Тайная типография
121
VIII. ІІІнионы н контр-шпионы
133
IX. Иірыв в Зимнем дворце ...
•
147
Примечания
157
Указатель имен
171
J
m
i Hl:
'I
tl'H t ... Ч'Л: .
-
•
.
-
ШШ
•
-
-
\
32218
Цена 1 p. 75 коп.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
1. Правлению
Издательства
политкаторжан — Москва,
ГСП—10 Лопухинский пер., 5. Телефон 3-64-73.
2. Магазину Издательства
политкаторжан
,,Маяк"
—
Москва, Центр, Петровка, 7. Телефон 4-18-12 и 3-63 -20.