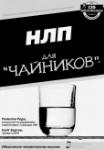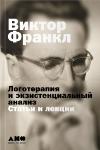/
Text
Р°ССИИСКИЙ УНИВЕрСИТЁТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ
И.В. СМИРНОВ
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
Издание первое
Москва 2003
УДК 159.98+615.851
ББК 88.3+53.57 С50
Подписано в печать 15.08.03. Формат 84x108 ’/за.
Усл. печ. л. 17,64. Тираж 5 000 экз. Заказ № 1534.
Смирнов И.В.
С50 Психоэкология, первое издание — М.: ООО «Издательский Дом «Холодильное дело» при техническом содействии ООО «Спецмонтажстрой-СТ», 336 стр.
ISBN 5-9900151-1-9
Работа выполнена на базе Кафедры психоэкологии Российского университета дружбы народов и Научно-исследовательского института психотехнологии. До 1997 г. исследования проводились в Лаборатории психокоррекции Московской медицинской академии им.И.М. Сеченова.
Работа представляет собой плод многолетних концептуальных и экспериментально-клинических исследований автора и руководимого им научного коллектива. Работа заслушана и одобрена Ученым советом Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН 08 апреля 2003 г.
Монография рекомендована психоаналитикам, врачам разного профиля и исследователям в области наук о психическом.
УДК 159.98+615.851
ББК 88.3+53.57
© Смирнов И.В., автор 2003
9 февраля 2001 года знаменитый британский физик и футуролог Стивен Хокинг выступил в Кембридже с сенсационной лекцией. Он считает, что с помощью генной инженерии человек увеличит объем своего мозга и тем самым расширит свои интеллектуальные возможности. Господи, насколько он неоригинален!
Если бы Хокинг знал, что русские уже сегодня способны невиданно расширить интеллектуальные возможности человека, не корежа его генотип, не врезая в мозги компьютерные имплантанты.
И здесь Россия пока опережает весь мир.
Автором этой книги разработаны и уже более 20 лет используются уникальные методики помощи сложнейшим больным. Методики основаны на разработанных автором психотехнологиях, позволяющих вести диалог с подсознанием человека с целью выявления причин болезни и методов последующей коррекции.
Визуальная реконструкция подсознания дает возможность выявить «проблемные» зоны, определить индивидуальные способы коррекции, снизить уровень тревоги, повысить стрессоустой-чивость и многое другое.
На основе психотехнологий разработаны методы защиты психики человека от нежелательных, несанкционированных воздействий.
Психотехнологии позволили впервые получить измерительный инструмент неосознаваемых сфер психики—то, о чем мечтали лучшие исследователи бессознательного от Юнга до В.М.Бехтерева.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 6
Глава 1. СУБСТРАТ ПСИХОЭКОЛОГИИ 11
Плава 2. КОНЦЕПТЫ ПСИХОЭКОЛОГИИ 43
Плава 3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПСИХОЭКОЛОГИИ 68
Глава 4. КАК ИЗМЕРЯТЬ ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 93
Глава 5. КАК УПРАВЛЯТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ 174
Глава 6. ПСИХОЭКОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ 291
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
303
И.В. СМИРНОВ ______________________________
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в обществе активно муссируются всевозможные сообщения и слухи о психотронном оружии и его применении. Под этим подразумевают управление состоянием и поведением человека, несанкционированным его свободной волей. Человек при этом изменяется и совершает такие поступки, которые он не совершил бы в состоянии своего свободного волеизъявления. Часто мы слышим о «психозомбировании», «программировании», «ментальном контроле» и т.п.
Действительно, под воздействием определенных психотропных препаратов или суггестивных воздействий (например, внушение в гипнозе) человек может совершать поступки, которых не сделал бы в трезвом уме и здравой памяти.
Однако речь идет не об этом. Под психотронным оружием подразумевают исключительно скрытые воздействия, как бы не замечаемые человеком, идущие мимо его сознания. Наиболее известный классический пример такого воздействия — пресловутый «25 кадр» в кинематографе, побуждающий людей покупать товар, реклама которого содержалась в этом дополнительном кадре киноленты. Имеются и другие скрытые способы воздействия, созданию и исследованию которых посвящены десятки тысяч научных исследований во всем мире. Занимаются этим в основном психофизиологи.
Однако научные исследования и практическая реализация их результатов очень часто дают резко отличающиеся эффекты. Можно ли, например, с помощью «25 кадра» в условиях его использования в средствах массовой информации детерминировать результаты голосования при выборах президента? Лекарства при этом не применяются, состояние сознания не изменяется, физическое принуждение не используется. Воздействие осуществляется только информационными факторами.
Эта книга посвящена влиянию информации на человека, и, прежде всего, скрытому от сознания влиянию.
Человек — существо информационное.
В ходе эволюции одни качества утрачивались, а другие приобретались. Как и все живое, человек обменивался информацией со средой обитания для того, чтобы наиболее эффективно к ней приспособиться, сытно жить и размножаться.
Кроме комплекса сигналов, имеющих общее значение для всего живого (подвижки земной тверди, падение дождя, холод, свет, 6
психоэкология
голод и пр.), существовал комплекс сигналов для общения между разными биологическими видами (запахи, слуховые и зрительные признаки хищника и жертвы).
Наконец, для общения с особями своего вида имелся богатый комплекс сигналов, аналогичный таковому у других видов животных (феромоны, аттрактанты, вокализации, позные реакции).
Все живое оставляет следы, анализируя которые, другое живое может что-то узнать, затем убежать или преследовать и съесть того, кто оставил следы.
Следы жизнедеятельности всегда материально эквивалентны индивидуальным признакам того, кто их оставил, и все более индивидуальны по мере высоты расположения на эволюционном древе.
Однако лишь человек кроме этих следов оставляет принципиально иные следы, в известном нам мире присущие исключительно человеку.
Считают, что муравей находит дорогу к муравейнику по запа-ховым феромонам, оставленным другими муравьями, а голуби ориентируются по геомагнитным признакам. Умная домашняя собака может продемонстрировать поведение, явно показывающее человеку необходимость что-либо сделать.
Зоопсихологи знают, что все животные обладают сложными средствами общения, включая отставленные по времени и пространству знаки, например, пометки на деревьях.
Этопсихологи знают, что у животных можно выработать условные реакции, когда за счет временного совпадения незначимого сигнала (например, вспышки света), и значимого (например, кормления), вспышка света приобретает для обученного животного смысл и становится исключительным признаком предстоящего кормления.
Высшие животные располагают развитой психикой и имеют, как стыдливо говорят некоторые исследователи, «элементы рассудочной деятельности». У моей собаки никогда не вырабатывали условных рефлексов, но когда в ее миске кончилась вода, а занятый писанием умных книг хозяин не обращает на верного друга внимания, — что оставалось делать? Миска была принесена в зубах и с грохотом и укоризной брякнута об пол.
Все это может и человек.
Он, как и другое животное, может научиться различать слова, в том числе не произнесенные, а написанные. *
В чем же разница?
7
И.В. СМИРНОВ
В количестве, перешедшем в качество.
Муравей строит муравейник, птица строит гнездо, человек строит дом.
Лев пожирает лань, удав заглатывает кролика, человек убивает человека.
Однако случаев каннибализма все меньше, а массовые убийства людей (войны) все менее вызваны необходимостью завоевания жизненного пространства или имущества врага. Иначе говоря, биологический мотив убийства человека человеком давно стал атавизмом. Человек питается куда менее опасными животными.
Однако и индивидуальные убийства, и войны все еще происходят.
Но по иным, чем у других животных, причинам.
Количество элементов психики человека, эквивалентных признакам внешнего мира, столь велико, что настене пещеры возникает наскальная графика, а грубая схема охотничьего копья со временем преобразуется в стрелку, указывающую направление движения к зарытому кладу.
Возникает символ. Символ — это информация. Материя символа — это любой произвольный сигнал, доступный органам чувств и имеющий любую физическую природу — запах, образ, звук, вкус, тактильное ощущение. Информация символа — это то значение, которое уже имеется в психике восприемника или тут же ему присваивается. Сам по себе физический носитель символа может быть организован так, что количество информации символа можно измерить, например, в битах. Однако лишь приблизительно можно оценить значимость символа, поскольку неизвестно, какое количество ассоциативных связей включается при обработке воспринятого символа. Компьютерный файл одной и той же длины может содержать признание в любви или случайным образом перемешанные буквы из этого признания, т.е. физическое количество информации в обоих случаях будет одинаковым. При восприятии бессмысленного файла его значимость для всех людей будет одинаковой и близкой к нулю. При прочтении признания в любви — для большинства эта значимость будет малой, для злодея, читающего чужую электронную почту — побольше, а для тех, кто писал и кому предназначено признание в любви — значимость будет очень большой.
Вот и получается, что физическая характеристика количества информации символа никак не сопряжена с семантической харак-8
психоэкология
теристикой, т.е. значимостью символа для конкретного субъекта.
Значимость символа поэтому является семантической мерой количества информации символа при его восприятии и последующей обработке в психике. Как измерять эту информацию — любезный читатель узнает из этой книги. Значимость символа можно описывать также как его смысл.
Человек сохранил четыре основных жизненных потребности животного, но в социуме их удовлетворение приобрело иерархию надстроек. Пасторальные идиллии о том, что человек живет своим трудом, оченьусловны. Этоудругих хищников — сколько убил, столько и съел. Притча о том, что посеял, то и пожнешь, относится уже не к самой работе по добыче пищи, а к общественным эквивалентам этой работы, т.е. к символам, выражающим ее значимость. Наиболее общим таким эквивалентом являются деньги.
Деньги — трава, т.е. бумага с тем или иным количеством цифр на ней, условность. Но чем больше нулей, тем больше значимость этой бумаги для большинства людей.
Одно и то же слово, произнесенное с разными интонациями или в разном контексте, имеет совершенно различный смысл. Даже в условиях тоталитарного государства, воинской службы или тоталитарной секты императивный символ (приказ) имеет различный смысл для разных людей. И даже у одного человека хорошо выработанные условные рефлексы, например, высоко значимые семантические конструкции (идеи), могут быть разрушены конкуренцией других семантических символов, например, денег.
Случаи, когда человек устойчиво и непреклонно руководствуется в своем поведении какой-либо идеей и не отрекается от нее даже под угрозой физического насилия и разрушения, или жертвует собой ради этой идеи (каковой может являться счастие других особей своего рода), относятся к области духовного подвига и для всех являются благородным примером подражания, хотя иногда и подавляемого более низкими инстинктами, оставшимися от других животных.
Молва иногда докладывает о случаях самопожертвования и исключительной преданности у животных (например, смерть сочувствия у лебедей), однако за отсутствием достаточной символьной системы передачи информации между человеком и другими животными нельзя исключить, что механизмы и причины такого поведения совсем не таковы, как мы думаем.
Тем не менее, количество семантических эквивалентов деятельности человека, выраженное, например, через язык и письменность,
9
И. В. СМИРНОВ___________________________________________
^yi । iccTCci ню выделяет человека из животного мирз, хотя на две i рети и он остается мясом.
Наступило время, когда давно существующие противоречия между духовной и плотской сущностями человека переходят в фазу революционной борьбы. «Вы стремитесь объяснять с помощью Бога все непонятное. И все тайны Вселенной для вас объясняются Богом, все загадки, бросающие вызов нашему разуму. Это так просто: отключить собственный разум и твердить: все сотворил Господь» (Карл Саган). С появлением эффективных быстрых коммуникаций, средств массовой информации и компьютерных технологий информационная сущность человека начинает доминировать над его животной сущностью. Вызов нашему разуму — познание самих себя — теперь может быть принят.
Человек как информационное существо живет в информационном мире, и именно эту часть бытия изучает психоэкология.
Наша первая в мире Кафедра психоэкологии была создана в Российском университете дружбы народов в 1997 году благодаря колоссальной научной поддержке проф.О.А. Шевелева и многих других умнейших людей, среди которых мои близкие соратники — асе. А.Ш. Ахманов, доц.И.К.Нежданов, с.н.с.Е.Г.Колеватов, доц.М.А.Конобеевский, с.н.с.П.Ю.Маишев, зам.зав. Кафедрой Е.Г.Русалкина, рук.группы А.А.Сикираш, с.н.с.А.Е.Ткаченко, дир.-Г.А.Халдей, проф.Г.П.Юрьев. Наши проблемы всегда на острие обсуждений Секции геополитики и безопасности Российской академии естественных наук во главе с проф.В.С. Пирумовым.
В Лаборатории психокоррекции Московской медицинской академии, где в конце 70-х годов прошлого века возникла психоэкология (наша первая заявка на открытие «Свойство высших организмов к дистантным взаимодействиям» датирована 1979 г.), мне помогали мои сотрудники с.н.с.Н.В.Гаврилова, ст.лаб.А.Н.Журав-лев, м.н.с.А.В.Иванов, с.н.с.С.В.Квасовец, с.н.с.Е.А.Птушенко и другие. Светлая память покойным коллегам проф.В.И.Ильину и ст.лаб.В.И.Похилько.
Эта книга является введением в нашу науку — психоэкологию.
10
психоэкология
Глава 1. СУБСТРАТ ПСИХОЭКОЛОГИИ
Субстратом психоэкологии, то есть областью ее интересов, являются взаимоотношения и взаимовлияния человека как информационного существа и информационной среды его обитания.
Отличие человека от других животных состоит в исключительно развитой системе знакового общения. Прежде чем появились философия, религия, математика, — возникла наскальная живопись. Появился знак, выраженный техническими средствами, который побуждал в психике другого индивида соответствующий образ или инициировал соответствующее поведение. Резкий скачок цивилизации произошел с появлением алфавитов, следующий скачок — с появлением всемирных телекоммуникаций и средств массовой информации. Современный человек живет в колоссальном информационном мире, уже не в полной мере контролируя потоки действующей на него информации.
Субстрат психоэкологии разделяется на две сферы.
Первая касается личности конкретного человека, связана с информационным исследованием этой личности, решением ее проблем и болезней, и относится обычно к областям медицины, психоанализа, психологии.
Вторая сфера преимущественно социальна — она связана с воздействием на людей потоков массовой информации и входит в область национальной безопасности.
Из дальнейшего мы увидим, что, как ни странно,
— во-первых, психику очень трудно повредить намеренно; — во-вторых, психику очень легко повредить намеренно.
В жизни каждого человека бывают события, которые оставляют неизгладимый след в его душе. Тем не менее, психика, являясэ процессом, а не континуумом, в силу своей многомерности чрезвычайно устойчива к действию любого нового стимула и тем более устойчива, чем больше в ней накопилось психосемантических элементов (про бывалого человека говорят: «его вряд ли можно удивить чем-нибудь»). У взрослых особей импринтинг в естественных условиях невозможен. Поэтому никакое однократное информационное воздействие не повреждает психики.
С другой стороны, если свобода воли у человека всегда ограничена рамками сознания, то, минуя его, например, во сне, можно ввести информацию, которая никогда добровольно не была бы принята человеком, и тем самым навредить.
11
И.В.СМИРНОВ_____________
Современный человекживет в среде неконтролируемых информационных потоков, от которых почти невозможно защититься. Неуправляемые средства массовой информации при отсутствии нравственной цензуры слишком смакуют сцены насилия, сопровождая их циничными комментариями и гнусными подробностями. Это приводит не только к появлению страха и росту социальной агрессии, но и к допустимости преступления.
Неограниченные меркантильные (рекламные) вливания создают слишком много степеней свободы выбора. А ведь их количество уже давно превышает оптимально разумное.
Широкий доступ в средства массовой информации разнообразных сектантов-проповедников (количество зарегистрированных квазирелигиозных организаций в России в 1998 г. превысило 8000), лукавых политиков, лихих экстрасенсов, ловких концессионеров, порнографов — все это делает человека растерянным и озлобляет.
Такое во всем мире сейчас происходит. На моей родине это страшновато — русский народ пока не имеет достаточного иммунитета от неконтролируемых информационных потоков. Архиепископ Лука считал: «Основатели русских сект почти все сплошь были людьми невежественными — это были крестьяне, ремесленники, дворники» (Архиепископ Лука. Сила Моя в немощи совершается. М.:2001, с. 112). С тех пор прошло более полувека. Теперь не так.
Эти не нами контролируемые информационные потоки влияют, как любое знание, изменяя психику, и это естественно. «Если по телевизору будут по всем каналам показывать ток-шоу, посвященные мастурбации, проституции, эрекции и прочим простым радостям бытия, то очень скоро люди окончательно сойдут с ума. О каком-нибудь Чикатило сегодня написано уже, вероятно, больше, чем о Федоре Михайловиче Достоевском. Спроси любого школьника, кто такие Солоник и Япончик, он тебе без запинки расскажет. А попробуй спросить, кто такие Врубель Левитан, Кустодиев и чем они друг от друга отличаются, в ответ сегодняшний подросток в лучшем случае пожмет плечами, а скорее всего покрутит пальцем у виска» (П.Дашкова). Но это не оптимально, поскольку происходит фиксация личностных интересов либо на бытовой сфере низменных инстинктов от женских прокладок и накачивания мышц до продуктов питания и низкопробных видеоклипов, либо на высшей нравственной сфере от девальвации государственных и национальных ценностей до глумливого навязывания ценностей религиозных и сектантских.
12
психоэкология
Национальная безопасность нашей Родины сейчас определяется не политическими, военными или экономическими паритетами, а устойчивостью национального менталитета — здоровьем нации.
Здоровье нации является абсолютным приоритетом в связи с резким ухудшением демографической обстановки в стране. Общее снижение уровня психического и физического здоровья населения, особенно в годы, последовавшие за развалом СССР, достигло небывалого в истории Родины уровня.
Исключительная живучесть русского народа, безусловно, позволит сохранить основы генофонда и не допустить окончательной дегенерации населения и рассеяния его останков среди более активных народов. \
Однако этот процесс без мер психоэкологического характера будет случайным и непредсказуемо растянутым в историческом времени, как до сих пор и происходило. В течение всего этого времени вялотекущий процесс передачи генов от поколения к поколению сопровождался и будет сопровождаться постоянной утечкой лучших мозгов и мышц либо реализацией их носителей исключительно в коммерческой, бюрократической или криминальной областях, что ни в коей степени не способствует здоровью нации.
1. В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения здоровьем является состояние душевного, физического и материального благополучия.
Применительно к людям, населяющим современную Россию, совокупно эти три признака отсутствуют.
2. Классическим определением нации является самоопределение каждого человека в своей принадлежности к единой системе нравственных ценностей, в меньшей степени — к единой системе территориально-материальных ценностей, в еще меньшей степени — к единой государственной системе.
Применительно к людям, населяющим современную Россию, совокупно эти три признака отсутствуют.
В соответствии с этими двумя тезисами любое благое бюрократическое начинание, не основанное на серьезном научном фундаменте, является бессмысленным.
Технократическая цивилизация достигла своего апогея в виде принципиально новой для человечества возможности массовых неконтролируемых информационных взаимодействий через интернет, телекоммуникации и средства массовой информации.
13
И. В. СМИРНОВ
Близится эра духовного развития человека.
Предвестником скачкообразного возрастания духовного мо-ryi।iactra человеке являются компьютерные психотехнологии средства прямого доступа в семантическую память. Приоритет в этой области принадлежит нашей стране.
Ядерная дубина, золотые галуны, лампасы и высокие тульи пока еще имеют значение для самых отсталых в духовном смысле стран, например, USA или Ирак. Наиболее развитые страны предпочитают информационное оружие, для которого отныне не существует границ.
Информационное оружие — это, прежде всего, системы идей.
Наличие общей для народа системы идей, то есть нравственных представлений, в которых не сомневается подавляющее большинство народа, делает этот народ нацией.
Идеи, основанные только на религиозных допущениях и/или деспотических условностях (Кецалькоатль, Чингизхан, Зевс, Христос, Ахурамазда, Аллах, Гитлер, Будда, Сталин, Озирис и мн.др.), как бы ни были очаровательны их ритуалы или мышечные завоевания, уже недостаточны для человечества.
Идеи, основанные на деньгах, например, «американская мечта», очень маловременны и всегда приводят к нравственному тупику. Американский народ, как бы усердно ни надувал бицепсы и ни величал себя нацией, таковой вовсе не является.
История показала, что наиболее устойчивы в веках, смутах, войнах и потрясениях только те национальные идеи, которые содержат рациональное зерно, доступное логическому анализу. Несомненными и полярными примерами являются рациональные зерна иудаизма (идея не персонифицированного бога) и синтоизма (особенно его самурайский дериват — бусидо).
Насильственное крещение Руси, принудительная петровская европеизация, татарское иго, обманно-рабское пьяное принятие совершенно нагло лживых идей всеобщего равенства, многочисленные смуты и войны лишь слегка поколебали ментальную структуру спящего русского медведя. С позором проигранная последняя война и утрата всех территориально-силовых и идеологических завоеваний на самом деле ничего не меняют.
Ленивый русский ум только потому и ленив и снисходителен к чужим идеям, что базовый нравственный инстинкт, в буквальном смысле — божественное начало, Дух святой, — прямо определяет сиюминутность, условность и ничтожную преходящую ценность этих идей.
14
психоэкология
На самом деле жадная пытливость русских в поиске Идеи проявляется, например, в том, что количество официально зарегистрированных конфессиональных, квазирелигиозных, сектантских и политических организаций в нынешней России чудовищно. Христианство, возникшее из более древней иудейской секты ессеев, в его православно-варварском варианте наиболее привлекательно для русских только потому, что содержит представление о подвиге во имя идеи. Однако, несмотря на большую привлекательность обрядовой стороны православия, оно не содержит достаточно значимого рационального зерна и медленно умирает.
Что касается действия на русского мужика универсального эквивалента человеческой значимости — денег, — даже в большом богачестве ему скушно. Серьезным стимулом для активной жизни России деньги быть не могут.
1. Русские приемлют любые религии и не нуждаются ни в одной из них.
2. Русские снисходительны клюбым проявлениям человеческой значимости — большим мышцам, громкому голосу или зеленым бумажкам — и не нуждаются ни в каких из них.
Следовательно, какие бы то ни было логические построения в отношении здоровья нации, если они заранее не ограничиваются стандартным уровнем бюрократического бумаготворения, могут быть основаны на двух принципах.
Во-первых, это не раз проверенный подход к увеличению общедоступности спортивных занятий и пропаганде здорового образа жизни, причем образ есть, а жизни нет из-за слабости нравственного начала. Этот принцип оправдан в соответствии с поговоркой «в здоровом теле — здоровый дух». Применим ко всем простым народам в целях выращивания мышечной массы для пушечного мяса или рабочей силы. Во все времена приводит к стагнации народа и вырождению любой национальной идеи (последний пример — фашистская Германия). В наше время наиболее активно осуществляется в USA.
Во-вторых, обратный принцип: сначала здоровый дух, а мясо нарастет. Здесь работает соревновательный мотив достижения цели по типу гиперкомпенсации («я сделал это», «я лучше», «я умнее», «я сильнее»). Этот принцип всегда эффективен по отношению к спортивным, интеллектуальным или иным достижениям отдельной личности. Применительно кбольшим массам народа этот
15
И. В. СМИРНОВ___________________________________
принцип работает только тогда, когда эти массы самоопределя-ют себя как нацию- Иными словами, руководствуются общей для всех системой идей, включающей лаконичную и ясную цель общего существования. Последняя попытка такого рода — создание новой исторической общности (советского народа) — провалилась из-за отсутствия в предлагаемой системе идей рационального зерна.
В условиях современной России никакие спортивные достижения отдельно взятых русских людей ни к чему, кроме временного возрастания потребления пива, не приводят. Народ безмолвствует.
Необходимо разработать национальную идею, внедрить ее в трудящиеся массы, сформулировать четко поставленную историческую цель существования многих народов в составе русской нации, обеспечить позитивную контрпропаганду тупому наращиванию мышечной массы на тренажерах за счет пропаганды соревновательных общедоступных видов спорта.
Это и есть здоровье нации.
Основное содержание человека как информационного существа недоступно его сознанию. Оно относится к области бессознательного.
Именно стойкость национального менталитета («Здесь русский дух, здесь Русью пахнет») делает наш народ устойчивым во времени цивилизационного процесса при наличии общей доминирующей идеи (если она есть).
В смутные времена, когда общая для всего народа идея отсутствует, колоссальное влияние приобретают случайные и злонамеренные информационные посылки, особенно внедряющиеся в умы через средства массовой информации.
Частично они могут быть контролируемы (например, запрет порнографии или рекламы табака). В основном некорректная или злонамеренная компоновка аудио-видеоматериалов и печатной продукции при отсутствии цензуры имеет фатальное значение для психических процессов.
Все это подтверждает достаточно тривиальное положение о том, что для психики питательным субстратом является информация. Следовательно, национальная безопасность России не исчерпывается танками у границ и количеством зерна и бетона на душу населения, а состоит в наличии одной доминирующей идеи, которая делает нас русскими, т.е. отдельной нацией, а не наро-16
_________________ психоэкология дом. Суть любой идеи и ее физический субстрат — информация (семантика).
Американцам без году неделя на древе эволюции, но считают себя нацией. Мы, русские—все еще народ, население, лица, граждане. «Американцы не похожи на нас. Они думают не так, как мы. У них другая религия. В американской жизни процветает насилие, и в то же самое время они предпочитают правосудие. Они испытывают уважение к тем, кто сумели разбогатеть, однако корни их культуры уходят в идеалы» (Том Клэнси).
Национальная безопасность России определяется единой прочной идеей, присутствующей в сознании и подсознании каждого русского («беззаветно преданный делу...»).
Информационные семантические факторы являются значительно более сильным оружием массового поражения, чем ядер-ная бомба.
Стратегия и тактика информационной войны. В чем они?
«Вначале было слово». Информационная война использует оружие массового поражения, единственным действующим началом которого является семантический фактор. Он и обеспечивает господство в информационном мире.
Семантические факторы (психические эквиваленты семантических стимулов — слов, образов, запахов, представлений и пр.) и механизмы формирования связей между ними изучают в специальной науке, известной у русских психологов как психосемантика.
Семантический фактор — любая информация, воспринимаемая преимущественно через органы чувств, которая имеет в психике ассоциаты. Любая взрослая особь любую воспринятую информацию автоматически ассоциирует (сопоставляет и сравнивает на максимальное подобие) с психосемантическими элементами, накопленными в опыте предыдущей жизни и составляющими семантическую память. Результат этого очень быстрого когнитивного процесса передается в активное сознание (осознается).
Если приобретенный опыт невелик, например, у ребенка, то семантический фактор может не иметь психосемантических ассоциатов. В этом случае любая воспринятая информация становится психосемантическим ядром, предоставляющим ассоциаты для всех последующих семантических факторов. Так происходит импринтинг — мгновенное запечатление однажды воспринятой ин-
17
И.В. СМИРНОВ__________________________________________,
формации. Импринтинг является формообразующим фактором для формирования личности человека. У взрослой особи в естественных условиях импринтинг крайне маловероятен — для этого должна быть предъявлена информация, которая ни по каким признакам не сопоставима с имеющимися психосемантическими матрицами (абсолютна нова). В искусственных условиях, например, с медицинскими целями, это производят (И.В.Смирнов и др., Психотехнологии. М.:Прогресс, 1995), а также производят в научном мире при исследовании поведения.
Когда результат когнитивного процесса (восприятия, распознавания, ассоциирования) попадает в доступную пользователю зону — сознание, — происходит завершение когнитивного процесса путем принятия решения и реализации этого решения в поведении (вегетативном или моторном).
У большинства животных принятие решения и соответствующее поведение происходят на уровне сохранения гомеостаза для достижения единственной цели — сохранения генокода во времени. Мы, люди, в этом случае говорим об инстинктивном поведении. Признаки рассудочной деятельности слабо заметны только у высших млекопитающих.
У человека достижение этой же единственной цели — сохранение своего организма и передача половых клеток для следующего поколения — серьезно осложнено значительной гипертрофией зоны, доступной пользователю.
Наличие второй сигнальной системы как системы неоднозначных символов значительно увеличивает количество психосемантических ассоциатов и в сознание попадает не однозначный результат «стиму л — реакция» подобно фототаксису у амебы, а сложная конструкция «стимул — множество возможных реакций».
Например, большинство животных при недостатке калорий, испытывая голод, будет отталкивать соседних особей от кормушки. В отличие от них человек предпочтет поделиться с другими особями своего вида и даже накормит свою собаку. За счет значительно большего количества психосемантических ассоциатов сильно развивается такая функция психики, как антиципация (предвосхищение события, прогноз). Прогноз приводит к отказу от решения любой ценой набить брюхо, поскольку перспектива оказаться в одиночестве для человека значительно страшнее, чем умереть от голода. Поэтому случаи каннибализма (поедания подобных себе) среди людей довольно редки, тогда как, например, крысы в железной бочке обяза-18
_____________________________ психоэкология тельно поедают друг друга, пока не остается одна особь — кры-синый король.
Любая человеческая особь, таким образом, сильно отличается от других особей животного мира очень развитыми высшими психическими функциями. Все эти функции являются социально зависимыми, т.е. определяются другими особями своего вида и в бытовом языке соответствуют представлениям о нравственности, идеях, религии, правилах хорошего тона, законах, искусстве, науке, технологиях. Социальные функции психики непосредственно уже никак не влияют на достижение основной цели — сохранение и передачу генокода во времени.
Социальные функции психики сугубо информационны и основаны на высокоразвитой символьной системе семантических факторов (вторая сигнальная система).
Деньги как универсальный эквивалент человеческой значимости сами по себе ничего не значат для достижения поставленной цели — сохранения гомеостаза и производства потомства, поскольку не являются продуктом питания, оружием или средством защиты. Однако как универсальный символ значимости человека, его могущества, деньги давно и успешно заменяют клыки и мышечную мощь.
В человеческом обществе, как и в крысином, есть лидеры (доминанты) и население (субдоминанты). У лабораторных крыс лидер выделяется за счет успехов в зоосоциальных агрессиях благодаря быстрой реакции, мышечной мощи и высокому энергообмену. Субдоминанты ведут себя подчиненно по отношению к лидеру: уступают еду, самок и теплые места. На уровне этих приматов уже сильно заметны зоосоциальные компоненты поведения: лидеру не всегда нужно грызть субдоминанта, чтобы поставить его на место, достаточно принять угрожающую позу, т.е. воздействовать символом возможной агрессии.
Князья мира сего (доминанты среди людей) — падишахи, президенты и олигархи, цеховики — демонстрируют разнообразные атрибуты своего могущества и превосходства. Деньги, звезды на погонах, красивые титулы.
А король-то — голый! На 99% человек принимает решения и реализует свое поведение на основании гормонально-мышечных мотивов, непосредственно направленных на поддержание постоянства внутренней среды (гомеостаза), сохранение и передачу своего генного кода. Это для пользователя опосредуется максимальным количеством позитивных и минимальным количеством
19
И. В. СМИРНОВ_________________________________________,
негативных ощущений. В нэиболее откровенной форме это замет-но в поощряемой князьями генетической склонности черни к простым решениям и простым формам поведения. В течение последнего века вновь активно развилась потребность населения в спорте, когда благодаря эндокринно-мышечным возможностям из толпы претендентов выделяется виртуальный доминант. Народу это льстит: он простой парень, а стал чемпионом мира и миллионером! Значит, в принципе и я могу...
А доминант-то — виртуальный! На 99% его могущество носит сугубо животный характер и в человеческом обществе мало стоит.
Кто же на самом деле является лидерами человечества, столпами его цивилизации?
Не тот, у кого самые большие мышцы. Не тот, у кого самый толстый кошелек. Не тот, у кого самая тройная корона на голове.
Благодаря развитию второй сигнальной системы — речи, письменности, абстрактных систем образов, логических систем, философских построений, нравственных законов, — психосемантическая надстройка в человеке значительно выросла в сравнении с его мясным физическим базисом.
Сугубо информационные взаимоотношения между людьми приобрели в процессе цивилизации особо изощренные формы и технологически усовершенствовались. Возникли книги, телекоммуникации, средства массовой информации, интернет. Созверо-человека постепенно слезает шкура, и генетическое стремление вернуться к доисторическому неандерталу с его простыми гормонально-мышечными проблемами путем спортивных упражнений является вялотекущей попыткой компенсировать постепенную утрату реальных физических признаков доминантности (больших зубов, мышц и эрекции). Эта утрата неизбежна в процессе все большей семантизации психики и, следовательно, информатизации общества.
С точки Зрения психоэкологии в последние восемь тысяч лет человек является информационным существом, которое живет в информационной среде обитания. Явно снижается значимость животных признаков доминантности и возрастает роль семантических, информационных факторов.
Кто же на самом деле является лидерами человечества, столпами его цивилизации в отныне информационном мире?
Мне нравится называть их духовными лидерами, богами, гениями, пророками, мессиями.
20
психоэкология
Мне нравятся Будда, Иисус, Гитлер-Сталин, Исикава Такубоку, Шекспир, аль-Хорезми, Ф.Рузвельт, Моисей, Эйнштейн, Кулибин, И.Бах.
Мне нравится, когда Александр Матросов закрывает собой амбразуру, чтобы спасти других людей.
Мне нравится, когда смертный берет на себя все грехи мира и восходит на крест, чтобы ценой своей жизни подтвердить другим людям правильность идеи, в которой он убежден.
Мне нравится, когда животное находит в себе мужество, забыв о мирских заботах, взойти на гору Синайскую, чтобы пообщаться с Богом и донести полученную мудрость людям.
Здесь зверь превращается в Человека.
Никто не помнит о могучем царе Ашшурбанипале. Помнят о пророке Заратустре. Никто не знает о могучем красавце-улане Засядько, но из той же войны помнят о жирно-слабеньком Наполеоне, кодекс законов которого и сейчас чтут в его стране.
Никто не знает имени гения, который придумал информационную войну, в одночасье развалившую Советский Союз.
Именно эти люди и являются духовными лидерами человечества. Их слова, всего-навсего слова(!), кардинально изменяют всю будущую историю.
Ни один формальный лидер (аятолла, царь, римский папа) ничего материального не производит.
Они говорят.
Они говорят то, чего от них ждут.
Крайне редко они говорят то, что думают. Они, даже производи войны, на самом деле поддерживают стабильность в мире. Любой формальный лидер невольно является гарантом и заложником существующей системы представлений, ценностей и отношений.
Иногда человек говорит то, что думает и чего от него не ждут. Он оказывается в сумасшедшем доме.
Иногда человек говорит то, что думает и чего от него не ждут, но, подумавши, принимают на веру. Такой человек становится пророком и ведет за собой большие народные массы. Например, Р.Хаббард, Магомет, Ленин, Секу Асахара, К.Кастанеда.
Единственный случай, когда один человек успешно сочетал в себе признаки формальной власти и качества истинного духовного лидера — царь Соломон.
Харизма таких личностей обусловлена не их биополями или внешним обликом, а стихийно-кустарным использованием ими
21
И.В. СМИРНОВ_________________________________________
способа многомерной пространственно-временной организации семантических сфер человека. Всякий одаренный человек, являющийся харизматической личностью (Парацельс, Распутин, Бен-Гурион), оставляет долгий след в истории.
То, как они используют свой божий дар (прямое знание), реализуя его в тех или иных магических (Месмер), философско-этических (Кант), логических (Пифагор) или абстрактно-образных (Пикассо) ритуалах, несущественно.
Каждая харизматическая личность живет в стандартной социальной парадигме своего времени и не может существовать вне нее. Поэтому формы ритуалов харизмы и прогноз ее влияния на цивилизацию могут быть профессионально изучены.
Кроме того, ритуалы харизмы и целенаправленное ее использование могут быть профессионально организованы.
В связи с появлением современного уровня психотехнологий, располагающих аппаратно-коммуникационной базой, пришла пора и возможность профессионально использовать явление харизмы.
Во все времена каждому формальному или неформальному лидеру обязательно сопутствуют адепты, последыши и прилипалы — чиновники, фанатики и слуги. Никто из них, равно как и сам их лидер, никогда не является профессионалом в области информационной войны.
Однако именно информационную войну стихийно затевают и кустарно ведут неформальные лидеры. Они придумывают новые идеи и облучают ими других людей, злонамеренно или невольно заставляя их сильно изменить свои взгляды на мир и свое поведение.
Умнейшие из таких лидеров обязательно знают, что в результате произнесения ими слов обязательно прольется кровь, родятся или исчезнут новые цивилизации. Они испытывают при этом печаль.
Идеи, высказываемые харизматическими лидерами, никогда не бывают диодами логических построений. Наоборот, логические построения и все остальное в этом информационном мире является следствием идеи. Говорят: «мне пришла в голову идея». Менделеев всю свою жизнь безуспешно пытался логически найти связь между химическими элементами. Все это время в его психике формировался могучий драйв — основа намерений, мотивов, желаний. Под конец Менделеев получил прямое знание во сне ~ insight. Проснулся и нарисовал на бумажке периодическую таблицу Менделеева. Это очень сильно детерминировало техногенную кульминацию цивилизации.
22
психоэкология
Однажды деревенской девочке Жанне получилось прямое знание в рамках ее социальной парадигмы — явилась св. Екатерина и указала, что надо делать, чтобы объединить родину. В психике Жанны возник драйв, в корне изменивший девочку, и она изменила судьбу Франции и повлияла на весь христианский мир.
Некий милиционер, будучи в онейроидно-религиозном галлюцинозе, сохранил столь сильные следы перенесенного психического аффекта, что люцидным состоянием своего сознания до сих пор под именем Виссариона зажигает в Сибири большое количество прежде здравомыслящих обывателей, верующих в его мессианство.
Мой дед по материнской линии, 7 лет проучившийся в Бенаресе — Николай Андреевич Смирнов (Орнальдо), устраивал знаменитые гипнотические эпидемии, когда в трансовые состояния впадали огромные массы людей.
D.Koresh, в работе с сектой которого я участвовал лично, побудил к массовому самоубийству большую группу ранее разумных с точки зрения «здравого смысла» людей.
В России к 2003 г. зарегистрировано более 14000 юридических лиц, по сути являющихся религиозными или квазирелигиоз-ными сектами преимущественно иностранного происхождения. Это почти невидимый фронт информационной войны. Удар этого фронта в основном направлен на дальнейшую дестабилизацию высших психических функций русскоязычного населения. Сектантский фронт информационной войны включает использование псевдохаризматических личностей или их искусственное создание, а специалисты на этом фронте стоят за кулисами, но действуют непрофессионально — уши торчат. Недавно проведенный мною анализ очень опасной китайской секты «Фаньлунгун» меня порадовал: тексты двух представленных пропагандистских книг очень профессионально и изящно излагали на великолепном русском языке нелепые для русского мужика якобы китайские полу-буддистские четвертьеоговские полусинтоистские откровения и наставления. Несомненно, что работали явно талантливые профессионалы — психолингвисты и психосемантики, вероятнее, всего, русского происхождения. Контент-анализ представленных текстов показал наличие скрытых двумерных семантических закладок, основанных на элегантном использовании привычных и призванных вызывать в читателе благоговение церковных лингвистических конструктов.
К сожалению, это все еще не тот уровень профессионализма,
23
И.В. СМИРНОВ________________________________-________
который необходим для профессионального ведения войны с использованием семантического оружия массового поражения. Все эти секты и мошеннические акции по уровню профессиональной компетенции едва превышают стандартные пиаровские компании, хотя, безусловно, значительно больше дают личностных преимуществ (куража, денег, власти) самим мерзавцам.
Одна из наиболее разумных организаций — церковь Муна — после первой инвазии в психику высших чиновников — Горбачева и пр., оценила русский рынок как малоперспективный и убралась восвояси. Действительно, как ни странно, русский менталитет все еще пребывает в дремлющем состоянии и серьезно раскачать его, тем более в области нравственной перестройки, смены богов и религии, довольно трудно. Пресловутое «Белое братство» — акция, исполненная совершенно варварским способом и стихийно возникшая и кустарно осуществленная, — для профессионала была бы просто манной небесной. Но профессионала не было. Вмешались совсем не те профессионалы в сапогах с дубинами и покарали. Дурилка картонная.
На информационной территории России идет информационная война, уже принесшая супостату одну чудовищно немыслимую победу. Лезут все, кому не лень, с большими и маленькими целями. Наиболее корректно, по человечески, ведут себя японцы, австралийцы и негры.
К сожалению, Илья Муромец пока спит на печке, и слезать оттуда не собирается. Россия не ведет информационной войны. Причина этой странности — добровольной сдачи оружия — заключается в ранее достигнутом успехе супостата. Всех нас, и «князей» и «население», напугали жупелом идеологии и пропаганды. Дескать, это ущемляет права и свободы личности. Русские поверили, что надо два раза в день чистить зубы и права человека, совсем сложили неплохое идеологическое оружие (идеи Родины, коммунизме своей прогрессивности) и остались на бобах, без царя в голове. Опять спять.
Для выработки стратегии информационной войны кратко рассмотрим условного противника — Индию.
Как нам присоединить Индию?
Естественно, что в рамках информационной войны использование силовых методов физического воздействия (забрасывание великого индийского народа шапками или атомными бомбами) неэффективно и бессмысленно. Следовательно, сенаралами разговаривать не будем.
24
психоэкология
Как нам присоединить Индию?
1. Найдем и разовьем талантливого профессионала Nemo из любой точно-неточной области науки — медицины, физики, химии. Только не из «истэблишмента». Эти уже испорчены, и ничего продуцировать не могут. Лучше молодого. Возьмем его из его рутинной профессиональной мало оплачиваемой среды. Создадим ему предельный уровень нагрузок в максимально широкой области его профессиональных прерогатив, постепенно их расширяя на другие науки, да так, чтобы все решаемые задачи были предельно креативны и эвристичны, а нравственные компоненты решений — предельно ответственны и драматичны («из огня да в полымя», «пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что», разработай новый способ чтения мыслей, создай новое поп-lethal weapon, изобрети философский камень и т.п.). При окончании этапа обучения убедимся, что Nemo, будучи увлечен очередной идеей, свободно поступается своими ге-нуинными гормонально-мышечными привязками к физическому носителю—не спит, не ест и не любит женщин. От лица Партии и Правительства поставим ему экзаменационную задачу «Как нам присоединить Индию?» в камуфлированном виде, привязанном кего профессиональной области. Например, если он военспец, — как нам продать Индии миллиардный контракт на поставку Му-97. При этом Nemo уже будет окружен должным пиететом со стороны коллег, и будет дорожить им. Он будет знать, что при решении поставленной задачи получит все золотые звезды, бабу, денег и шоколадку. При разработке решения ему будем невзначай подбрасывать каверзные сообщения и вопросики, чтобы направить его мысли в нужное нам русло, чтобы Nemo стал интересоваться менталитетом великого индийского народа, чтобы стал читать книжки по индуизму, буддизму, Шиве, Шри Рад-жнешу. Чтобы Nemo непроизвольно провел анализ отличия и подобия Махатмы Ганди от ассасинов Кали, рассмотрел последствия английского владычества и поразительные факты сходства в ментальностях великого русского и великого индийского народов, чтобы начал думать об общих исходных арийских корнях, не забывая при этом цыган, чтобы за дружеским разговором за бутылкой красного вспомнил об индуистской свастике и о том, что этот знак принадле
25
И.В. СМИРНОВ____________________________________
жит также символике одного из коренных богов русского народа _ Одину. Добьемся того, чтобы Nemo однажды полушутливо предложил: слушай, а не проще ли нам доделать тоннель через Гиндукуш и присоединить Индию? Полушутя разовьем этот разговор. Послушаем, что скажет Nemo и еще 2-4 таких Nemo, которых выпасем отдельно друг от друга и соединим вместе в количестве 3-5 человек только на конечной стадии легенды, когда реальность работы по контракту будет для них очевидной. Послушаем. Чем черт не шутит, вдруг придумают что-то интересное. Самый умный придумает дать самолетам Му-97 название «Кали», чтобы задеть архетипные струны великого индийского народа. Затем будет придумано вводить стилизованное изображение самолета в санскритские тексты на изображениях шестирукой богини Кали, выдавливать его на подметках импортируемых Индией ботинок «Красный большевик» и т.п., и все это в разных местах и в разное время выдавать через средства массовой информации великого индийского народа. Стрельба по площадям с большой избыточностью. Первичный объект массового поражения.
А контракт пусть выполняют.
Nemo и его психосемантические конструкции будет для нас опорной точкой, репрезентативной реперной группой.
2. Мы же, плетя свою информационную паутину, предельно тщательно заинтересуемся истеблишментом великого индийского народа. В частности, особо выделим круги общества, в которых вращаются высшие чиновники, прямо или даже косвенно причастные к заключению контрактов на поставку вооружения. Ясно, что имеющейся в Индии русской агентуры будет недостаточно. Привлечем под видом научных (археологических, исторических, лингвистических, медицинских и пр.) задач цвет русской, индийской и супостатской науки. Под видом научных и светских тусовок решим одну главную задачу — выявим духовных лидеров великого индийского народа, хотя бы один из которых является коллаборационистом и нарушит свое медитативное уединение, появившись в тусовке. Поскольку великий индийский народ является многонациональным и поликонфессиональным, нам нужен лидер, который по своим нравственным и религиозным убеждениям способен оказывать влияние на ту
26
психоэкология
часть истеблишмента, где находятся вторичные объекты массового поражения. Вторичные объекты массового поражения —лица, от мнения которых наиболее зависит судьба контракта на поставку «Кали». Поскольку такие объекты могут принадлежать к разным княжествам и верованиям, необходимо для каждого из них подготовить имманентного лидера, чье мнение будет воспринято вторичным объектом как генуинное. При этом все тусовки и встречи вторичных объектов с их духовными лидерами происходят на фоне массовой стрельбы по площадям, которая поражает и вторичных объектов. Под каждого из вторичных объектов вырабатываем свою тактику охмурения, учитывающую его личностные, семейные и социальные особенности. Формальная суть — проталкивание контракта на поставку «Кали», постоянно должна быть многопланово и многомерно смешана с истинной сутью — растущим интересом к великому северному соседу. Ждем. Ждем.
3. Переносим все наше внимание на объекты, и ранее находившиеся в разработке. Это истинные, духовные лидеры. Это первичный объект поражения. Удары по ним надо наносить точечные. К каждому такому лидеру подсылаем необычайно почтительных и внимательных учеников, которые, видя те или иные затруднения быта своего гуру, деликатно предлагают помощь некоего старшего брата или тетеньки в издании изречений Учителя на русском и индийском языках, без спросу, от чистого сердца, организуют побелку стен цзонга, кормят бедных, приглашают из Москвы реставраторов для починки древней скульптуры Кали и т.п. Отдельного лидера (не более двух в год) под смутным предлогом большого к нему интереса в России везут в Москву, где на высочайшем уровне окружают небывалым почетом и пышностию. Одновременно организуем как можно более всевозможных Дней дружбы, научных симпозиумов, культурных обменов и т.п. Любая международная помощь в стихийных и прочих бедствиях в Индии, где принимаетучастие наше Министерство по чрезвычайным ситуациям, непременно сопровождается публичными мнениями, решениями и церемониями (последнее особенно важно для великого индийского народа), в которых, наряду с индийским духовным лидером, участвует русский духовный лидер. Вот здесь начинается самое главное.
27
И.В. СМИРНОВ___________________________________________
4. Работа с харизматическими, псевдо- и квазихаризматичес-
кими личностями. Ясно, что, наряду с использованием в качестве первичного объекта поражения какого-либо харизматического лидера, необходимо иметь двух таких лидеров или даже две их группы. Если первая носит купленные нами белые одежды и в конце нашей пьесы именно в них, несколько запылившихся, возлагает индийского голубя мира в корону русского императора, то вторая по ходу сценария продается супостатам за сникерс-памперс и общественным мнением безмолвно (через средства массового информирования) уличается в измене духовным идеалам. Важно, чтобы к этому моменту под идеалами разумелось нечто общее для двух великих народов. Поэтому, наряду с тривиальным косвенным подкупом и идеологической ориентацией первой группы первичных объектов, наряду с прямым подкупом и ложной идеологической ориентацией второй группы первичных объектов, необходимо обеспечить самое главнее — Чудо.
Чудо наиболее эффективно может быть использовано только, если в нашем распоряжении действительно имеется истинный харизматический лидер, и он разделяет наши взгляды. Крайне маловероятное событие. Поэтому для повышения вероятности присоединения Индии к России необходимо создать харизматического лидера. Это святая святых. Вы можете сколь угодно догматически мошенничать подобно религиозным служителям, играть на низменных инстинктах подобно Р.Хаббарду, плодить чудеса с помощью психотропных препаратов в электродах «шлема абсолютного спасения» С.Асахары, или, как в современных финансовых пирамидах, оборот которых по России составляет триллионы долларов, по-цыгански («нейролингвистически») заставлять людей расставаться с последними сбережениями. Некоторые из перечисленных сектантских и мошеннических организаций в России применял'й первичный, вторичный и третичный уровни поражения. Часть подобных акций сравнительно безвредна, например, «Гербалайф» и другие кампании по «биологически активным добавкам», приносящие неплохой доход устроителям. Часть — оказывает прямое или косвенное, быстрое или отсроченное влияние на физическое здоровье населения. Примером могут быть рекламные призывы тщательно чистить зубы специальными пас
28
психоэкология
тами и жевать жвачку, чтобы уничтожить микробы во рту. А сапрофитные микробы во рту должны быть! Детские памперсы действительно облегчают жизнь родителям, но нормальное формирование мочеиспускательного рефлекса у детишек нарушается. Генитальный комфорт, который получает ребенок взамен своевременной заботы и любви, оборачивается психопатизацией через 15 лет. Прямая и косвенная реклама сексуальных радостей и их генитальных атрибутов снижает уровень любви в крови великого индийского и великого русского народа, оставляя только ее на телесные компоненты и незаметно, но навязчиво приводя стадо рабов к общему инстинктивному знаменателю.
Понятно, что каждая из подобных операций очень рентабельна. Однако в совокупности они еще более рентабельны, поскольку являются информационных оружием массового поражения. С помощью такого оружия без использования ядерной дубины и железных пуль установлен новый мировой порядок.
Единственное, чего нет и никогда не будет у супостата, — это чудо. Во всем мире идет активная охота за возможными источниками чудес. Ха-ха!
Великий индийский и великий русский народ гомологии- . ны в своем спящем ожидании чуда. Ближайший цивилизационный пик принадлежит'этим народам.
Что есть чудо?
Простейшее чудо — семантический артефакт. Семантический артефакт — это такая штука, которая воспринимается всеми живыми объектами без исключения, но не через их органы чувств, а путем прямого знания. Это знание затем опосредуется психосемантическими элементами прошлого опыта в чувственные образы: мы видим нежно-розовое свечение, мы слышим музыку сфер, мы обоняем нежнейший аромат, мы осязаем теплое дуновение, наши баро-, проприо-, хемо-, кинезиорецепторы, а также магнетиты и все остальное отражают нам знаки этого чуда, в просторечии именуемые божественной благодатью. При этом никакой физический прибор, даже зеркало, ничего не отражает. Явление благодати частично знакомо очень редким верующим, когда они контактируют со своими богами, а также некоторым психически больным в люцидном состоянии. Механизм формирования семантического артефакта — на
29
И.В. СМИРНОВ__________________________________________
личие мощного драйва в душе одного человека. Бывает редко. Мало воспроизводим.
Более сложно организованные чудеса — техногенные. Простейшее чудо — колоссальный рост силы и количества магометан во всем мире. Техника этого чудесного явления проста — одновременное по солнцу исполнение молитвенного ритуала (намаза) огромным количеством верующих. Слабые их драйвы дают в результате явление семантического резонанса, что вывело мусульманство в число лидирующих религий. Хорошо воспроизводим, происходит каждый день, воспользоваться невозможно.
Еще более сложное чудо — также техногенное. Но работает не техника действий множества людей, а техника (компьютерная), усиливающая драйв одного человека. Называется семантический резонатор. Надеюсь, что воспроизводим.
Семантический резонатор — это и есть то чудо, которое в состоянии произвести русские, в т.ч. в проекте «Psynet», для присоединения к себе великого индийского народа.
Что касается технических средств информационной войны, то они тривиальны. К их числу относятся, например, неосознаваемые внушения. Их легко можно осуществлять через средства массовой информации, в т.ч. через многомерные тексты, смыслы которых различны в зависимости от способа восприятия. К примеру, если любезный читатель не поленится со слов «Вначале было слово» (см. выше) прочесть каждое четвертое слово с конца абзаца, ему откроется истинная цель стратегии и тактики информационной войны.
Вся эта книга является простейшим многомерным переплетением семантических диссонансов и резонансов, побуждающего читателя к приятию главной идеи психоэкологии, ее квинтэссенции. Если любезный читатель внимательно, строчку за строчкой, прочтет эти размышления и научно-техническую абракадабру, — к концу книги он обязательно неявно усвоит Главную идею и сможет с помощью дарованной ему свыше возможности выбора решить — принять эту идею или отвергнуть.
Исходя из соображений о стратегии и тактике информационной войны, нетрудно сгруппировать основные семантические (информационные) угрозы.
30
психоэкология
Психоэкологическая угроза № 1: нецензурные средства массовой информации.
Нецензурными средствами массовой информации можно считать те, в которых отсутствует нравственная цензура производителей (циничное и детальное смакование гнусных преступлений, неограниченная реклама непроверенных товаров, недопустимое комментирование политических воззрений и т.п.).
Нецензурные средства массовой информации («папарацци») в развитом обществе со временем отчасти цензурируются если не за счет повышения нравственности самих производителей этой информации, то за счет развитой системы юридической защиты прав человека. Со временем это произойдет и в русском обществе, когда восстановится государственность и национальный менталитет выразит себя в произносимой общепринятой идее.
Разрушительный удар первых лет «гласности» уже перенесен — выработался психический иммунитет, и мы научились тому, что незыблемая идиома — «что написано пером — не вырубишь топором» — неверна. Мы уже не слепо доверчивы и знаем, что все, адресованное массам с трибуны, через газету или телевизор, может быть ложью.
Удар был силен — резко повысилась криминальная готовность, возросли социальная апатия и агрессия. Но постепенно раны заживают.
Теперь мы можем выключить телевизор во время рекламы бам-персов и махнуть рукой на выступление генерального секретаря или очередного проповедника.
Делаем мы это сознательно.
Теперь еще большей угрозой становится возможность несанкционированного личностью воздействия — воздействия, не контролируемого сознанием реципиента.
Психоэкологическая угроза № 2: несанкционированные воздействия массового поражения, исключающие волевой контроль со стороны сознания человека.
Основное содержание психики как информационной сущности человека недоступно его сознанию. Оно относится к области бессознательного. Обыденное сознание контролирует долю процента психики.
Из-за отсутствия до последнего времени материальных, измеряемых феноменов бессознательного вся эта область казалась эфемерной, выдуманной. Люди предпочитали толковать снови-
31
И.В. СМИРНОВ, дения, гадать на кофейной гуще, взывать к звездам, рукоблудить с помощью биополей, ссылаться в своих действиях на религиозные фетиши.
Фрейд оказался предтечей нового мира. Но, чтобы перевернуть старый мир, надо было найти точку опоры. Об этом — в следующей главе.
Сейчас важно другое.
Ассоциативный эксперимент Юнга, сопряженная моторная методика Лурия, обратное маскирование, 25 кадр Фишера, дихо-тическое предъявление, тахистоскопическое воздействие и многое другое в сотнях тысяч научных трудов за последние 100 лет — все это было посвящено одной цели — научиться измерять психические процессы и сделать изучаемым то, что ранее было доступно только пассивному наблюдению.
Сделали.
Тем временем некоторые изобретения оказались средством воздействия на состояние и поведение человека. Воздействия такого, которое никак не контролировалось сознанием.
Например, оказалось, что можно управлять выбором человека при решении задач, обеспечивать предпочтение или избегание чего-то, научить чему-либо и пр.
Парламентские слушания «Угрозы и вызовы в сфере информационной безопасности Российской Федерации»
Исходный документ http://www.akdi.ru/gd/safety/p16-07/ p6.htm
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
Из выступления И.В.СМИРНОВА,
директора Института прихотехнологий
Материалы предоставлены Комитетом Государственной Думы РФ по безопасности.
Материалы подготовлены «АКДИ Экономика и жизнь».
Вполне справедливо говорить сегодня о необходимости создания новых законов, но существует куда более важный вопрос: а не изменились ли мы сами ? Изменились. Я не буду повторять общеизвестных фактов об изменении государственного уклада жизни, вызывающего споры о том, что есть государство, общество, личность. Сейчас, по логике вещей, государство — это мы. Все существовавшие раньше проблемы только заострились, в том 32
психоэкология
числе и проблемы, связанные с информацией, с ее охраной, с доступом к информации и т.д.. Каждая личность действительно обладает правом получать, передавать, создавать и хранить информацию. Это одно из базовых свойств личности как информационного объекта. Но в последние годы в связи с быстрым развитием компьютерных технологий, с резким увеличением количества информационных потоков в нашей стране, с существенным изменением их качества, есть основания подозревать, что несколько изменился сам менталитет общества в целом. Если раньше в соответствии с отличным рецептом А.Н. Толстого для того, чтобы навредить соседу, достаточно было вдуть ему в замочную скважину йодоформа, то теперь куда более неприятных эффектов можно добиться путем привнесения той или иной информации через любые каналы передачи этой информации, например, через телекоммуникации всех видов. Через компьютерные сети, через телевидение, через радиовещание и через любой акустический или визуальный источник информации, а в отдельных особых случаях даже ольфакторный. В этих условиях поведение человека начинает незаметно для него самого изменяться. В первую очередь это сказалось на психиатрических больных.
Произошла очень серьезная модификация структуры бреда. Если раньше определенные контингенты больных предполагали, что на них воздействуют с Марса гипнотическими лучиками, то теперь идут жалобы на психотронное оружие. Такие больные находятся часто в очень тяжелом состоянии, нуждаются в госпитализации. Причем формальные психиатрические приемы в таких случаях недостаточно эффективны. Организовываются комитеты по защите от психотронного оружия, митинги, демонстрации.
Второй аспект несанкционированных личностью воздействий — это общеизвестное всем присутствующим резкое возрастание количества всяких сект, проповедников, сект не только религиозных и квазирелигиозных, но и совершенно мистических и даже сатанинских. Официально зарегистрированное количество сект превысило уже несколько тысяч. Вспомним пресловутое Белое братство, Аум-Синрике. Распространяемая на дискетах энцефалограмма Асахары, якобы снятая с него во время медитативного транса, загружается на винчестер в компьютер, а затем через цифроаналоговый преобразователь подается через обычный шлейф с проводками на обычный энцефалографический шлем. По утверждениям адептов этой секты те энцефалографические изменения, которые наблюдались у самого Асахары во время
2 Смирнов И В.
33
И. В. СМИРНОВ ________________________________________
Л,олжны в особое состояние того 3/ienT3i кото—
рый пользуется этим приемом. На сзмом деле, это чисто ярма-рочный прием. И, тем не менее, оказывает влияние на колоссальное количество людей. Есть совсем ужасные, крайне неприятные факты того, каким образом чудовищно меняется поведение людей под действием некоторых «проповедников». Люди становятся в большой степени не только асоциальны, но и антисоциальны, а в ряде случаев рассматриваются уже как откровенно психически больные.
Кроме того, в мире существует и довольно давно известно научно- практическое направление, которое занимается разработкой техногенных средств воздействия на человека. Еще в начале века ставились психофизические эксперименты по неосознаваемому восприятию, неосознаваемому реагированию на сознаваемые стимулы. В 1926 году русский ученый А.Р. Лурия опубликовал статью, в которой описывается прототип современного детектора лжи. В конце сороковых годов за рубежом резко интенсифицировались работы по неосознаваемому вводу-выводу информации в человеческую память. Наша исследовательская группа также занималась этими проблемами. Оказалось, что параллельно были разработаны совпадающие по времени основные технические приемы, позволяющие как анализировать неосознаваемую сферу памяти человека, так и корректировать ее.
Я йеречислил выше три основные группы неосознаваемых личностью факторов, которые могут серьезно повредить и состоянию, и поведению не только отдельной личности, но и группы людей, и обществу в целом.
Обсуждая сейчас проблемы защиты информации от доступа к ней, мы совершенно упускаем из вида главнейшую из проблем — как защитить от информации самого человека. Мы не задумываемся о том, что через компьютерную связь, через модемную сеть, через радиоточку, телевидение могут быть использованы достаточно простые средства неосознаваемого внушения. Мы должны четко для себя определить, что основные свободы и права личности заключаются вовсе не в сохранении того банка данных, который у этой личности имеется в компьютере, а в сохранении самой личности.
Существует самая распространенная точка зрения, что рост количества и качества психических заболеваний, снижение уровня детской наркотической зависимости и т.п. связаны с дестабилизацией общества, отсутствием «светлых идеалов», пропаган-34
психоэкология
дой через СМИ насилия. На самом деле, человек достаточно быстро адаптируется ко всем этим явлениям. Хуже дело с другим: начинают действовать те три фактора, о которых я уже упоминал выше. Ни одна государственная структура, ни одна коммерческая служба, по моим сведениям, никак не контролирует наличие и возможность неосознаваемых воздействий, которые ориентированы на человека, группу людей, на общество в целом. У нас эта область не регламентирована никаким законом.
Еще одна проблема — социокультурная. Мы пытаемся защитить свои сверхсекретные данные, которые большей частью уже давно всем известны, в то время как никоим образом не защищаем собственные «духовные», свои нравственные ценности, не пытаемся изменить их, если они все-таки меняются помимо нашей воли, с наименьшим риском и наименьшими потерями.
Проводя огромное количество диагностических обследований людей, мы видим, что базовые ценности в принципе сохранились. Тем не менее, чудовищно повысилась криминальная тенденция. Либо это принадлежность к криминальным сферам, либо это криминальное прошлое, либо это криминальное намерение. Еще одно изменение психологии — готовность людей к приятию всего того, что считалось доселе достаточно нехорошим. Например, к приятию сатанизма и всевозможных его разновидностей.
Если проанализировать отношение к деньгам, богатству, ни у новых русских, ни у старых русских это по-прежнему не значимо, не является, как ни странно, базовой ценностью.
Мы — русские, независимо от конкретной национальности, и нужно сделать все, чтобы удержать русский менталитет любой ценой. Гэсударство — это мы, охранять нужно, прежде всего, самого себя, а не только государственные тайны. Когда мы с вами превратимся всего лишь в послушное орудие, то охотно сдадим любую государственную тайну. Проблему безопасности личности в информационной среде, проблему психоэкологии надо ставить во главу угла всех тех вопросов, которые решаются на заседаниях Комитета Государственной Думы по безопасности. Кроме того, я предлагаю создать специальную структуру, которая бы под государственной эгидой занималась официальной работой по контролю всех трех кругов проблем, о которых я говорил выше, по разработке и применению средств защиты от этих факторов.
В. С. БАРАШЕНКОВ, начальник сектора математического моделирования Объединенного института ядерных исследований РАН:
Если можно, скажите кратко о причинах этих явлений.
2*
35
И.В. СМИРНОВ________,________________________________
И.В.СМИРНОВ:
Если кратко — увеличение числа степеней свободы. У советского гражданина было только шесть: есть, спать, любить и кое-что еще рифмующееся. Не было той степени свободы, которая была у диссидентов — протестовать. У человека есть еще одна степень свободы — убить себя. Я предлагаю дать еще одну степень — ппядять стрессопротектор или новый иммунитет, касающийся возможного восприятия глубинными сферами психики тех информационных воздействий, которые, к сожалению, на нас уже давно, оказывается, воздействуют. Ничего мистического здесь нет. Просто необходим реальный контроль тех же средств коммуникации, например, телевидения. Почему бы не осуществлять выборочную экспертизу на наличие в рекламных роликах неосознаваемых компонентов, что в США делается уже давным-давно.
А. А. СТРЕЛЬЦОВ, консультант аппарата Совета Безопасности:
Не кажется ли вам, что здесь две проблемы. Первая — чисто техническая, связанная с наличием некоторых средств воздействия. И вторая — связанная с фундаментальными свойствами психики, а именно с потребностью в определении того, из-за чего человек чувствует себя дискомфортно. Если раньше были определены основные нравственные ценности, стандартизированы основные общественно-значимые стереотипы поведения, то сейчас они практически размыты и это делает людей восприимчивыми к любым веяниям, которые направлены на стандартизацию, или типизацию их поведения, их мыслей. В этом плане оптимальным было бьцразработать новую концепцию государственной идеологии. ч
И.В.СМИРНОВ:
Я целиком согласен. щ
И. М.ДЗЯЛОШИНСКИЙ:
Я очень хотел бы узнать статистику такого рода заболеваний за 10 лет. Я хотел бы узнать, кто они, эти больные люди, если апеллируют такими терминами, которые привел докладчик? Я хотел бы понять, почему 200, 300, 400 лет назад не было фактов расчленения трупов? Из-за того, что не было средств информирования и не было средств воздействия на подсознание? Я хотел бы узнать, действительно ли настолько элементарна система нашего сознания и подсознания, что любой дурак может подействовать на нее «25-м кадром»?
И.В.СМИРНОВ:
Что касается статистики, то ни открытая, ни закрытая статис
36
психоэкология
тика в этом отношении не является опорной точкой для нашего разговора. Много больных, нуждающихся в госпитализации, бродят по улицам. Что касается вопроса насчет 300-летней давности, то хочу сказать одно. Никогда не было такой отдаленности между людьми, которая появилась сейчас при появлении радио, телефонов, космической связи, телевидения, компьютерных сетей. Вот в чем различие — принцип тот же самый, только теперь это стало общественной опасностью, а не групповой.
В.В.БОЙКО:
И все же, вы могли бы привести 1-2 примера такого рода, наблюдаемых на нашем телевидении? Был ли проведен такой анализ?
И.В.СМИРНОВ:
Объект существует и может быть лабораторно макетирован для любой комиссии любого уровня. Исследования в этой области в нашей стране санкционированы госкомиссией и начаты достаточно давно. Работа в этой области отражена в многочисленных материалах, обсуждать которые имеет смысл на закрытой части слушаний. Могу сказать одно. Те экспертизы, которые мы проводим, не подтверждают пока серьезного присутствия неосознаваемых воздействий в СМИ.
А. П. КУРИЛО:
Все слышали об изучении английского языка по методу Илоны Давыдовой. Вы не могли бы пояснить, содержатся ли на этих кассетах специальные сигналы, воздействующие на подсознание?
И.В.СМИРНОВ:
В США сегодня существуют 3 компании, занимающиеся технологией неосознаваемого кодирования речевого сигнала. Одна из них работает по технологии Тейлора. По моим сведениям, кассеты Илоны Давыдовой основаны именно на этом методе. Однако, проведя экспертизу, мы не обнаружили там никаких неосознаваемых речевых или сколько-нибудь кодированных сигналов.
В.Н.ЛОПАТИН:
Сегодня идут исследования в области энергоинформационного воздействия на личность, на общество, на граждан. И за рубежом в целом ряде стран, в целом ряде государственных структур, такие проекты есть и они финансируются. Но у нас, в России, чтобы снять все подозрения и обвинения в адрес силовых структур спецслужб в том, что они изобретают и используют психотронное оружие, представители спецслужб выступили с инициативой
37
И.В. СМИРНОВ _______________________________
зжонодэтэльнозэпрбтить вообще кзкив~либорзботы В ЭТОМ Нд~ правлении. Как вы прокомментируете данную ситуацию?
И.В.СМИРНОВ:
Запретить ничего нельзя. Запретный плод сладок и в любом случае эти работы будут развиваться. Работать в этой области обязательно нужно. Здесь есть очень много полезного, особенно для медицины. Здесь нужно ставить другой вопрос. Вопрос о не-дозволенности несанкционированного применения этого воздействия.
Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 1997-1998, all rights reserved.
akdi@akdi.ru
Кафедра психоэкологии Российского университета дружбы народов и Научно-исследовательский институт психотехнологий являются основными организациями, занимающимися психоэкологией и ведущими исследования в области компьютерных психотехнологий. Компьютерные психотехнологии — это высокие технологии, использующие прямой доступ в подсознание человека. Они позволяют за короткое время получить полное представление о ядре личности, причем информация будет объектив», ной, т.е. не зависящей от особенностей самого исследователя. Добиться этого другими методами современной медицины и психологии невозможно. Доступ в подсознание человека позволяет не только проводить точнейшую диагностику, но и произвести прицельную психокоррекцию. Все это позволило осуществить кардинальный прорыв в психоанализе, психиатрии, общей и прикладной психологии. Теперь появилась реальная возможность излечиватьтакиетяжелейшиезаболевания, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия, различные реактивные состояния и неврозы.
Неоценимую помощь компьютерные психотехнологии оказывают при лечении различных психосоматических заболеваний (ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма и т. д.) и зависимостей, в том числе наркотической и алкогольной. Такие несомненные успехи невозможно было и представить себе в эру массового применения психотропных препаратов.
Психоэкология — наука, изучающая влияние на психику человека и популяции в целом техногенных, социокультурных и инфор-38
_____________________________________ПСИХОЭКОЛОГИЯ мационных воздействий, а также способы снижения их патогенного влияния.
Современные люди подвергаются мощному психоинформационному воздействию, компонентами которого являются деятельность масс-медиа, рекламных организаций, религиозных культов, в т.ч. деструктивного характера, а также политических партий и движений. К факторам, индуцирующим психологическую нестабильность в популяции, относятся напряженная социальная обстановка в Российской Федерации, межэтнические противоречия, наличие в государстве значительного числа лиц, имеющих выраженные психические отклонения, перенесших посттравматические стрессовые расстройства в зонах локальных конфликтов, беженцев и эмигрантов. Среди населения выражены тенденции к радиофобии, ксенофобии, усиливающиеся в результате неосмотрительных действий средств массовой информации. По некоторым данным, только в Москве находится около 2 млн.лиц, периодически принимающих наркосодержащие препараты.
Выраженное психодестабилизирующее действие на популяцию оказывает явная и скрытая пропаганда в средствах массовой информации, особенно в Интернете, приема наркотиков, насилия, межнациональной вражды. Изучение поведения малых групп в ряде учреждений и учебных заведениях показало высокую готовность значительной части населения нашей страны к участию в неконституционных действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций социально-политического характера.
Из деловой переписки:
В последнее время в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения об имеющих место случаях экстремистских проявлений со стороны отдельных военнослужащих во время несения боевого дежурства. В связи с возможностью неуставных действий со стороны психически неуравновешенных либо экстремистски настроенных военнослужащих во время дежурства на объектах стратегического назначения, которые способны создать предпосылки к ситуациям, имеющим катастрофические последствия, остро стоит вопрос по выявлению среди определенной категории военнослужащих лиц, настроенных на совершение социально опасных поступков.
Задачу выявления таких социально-опасных военнослужащих позволяетрешить аппаратно-программный комплекс компьютерного психосемантического анализа (КПСА) путем замаскирован-
39
И. В. СМИРНОВ
ного предъявления значимых словесных раздражителей, разработанный Институтом психотехнологий и другими организациями.
Сделанный Институтом экстремальной медицины Министерства обороны РФ в декабре 1997 — июле 1998 годов анализ разработанных в России различных химических, биологических и психологических методик, позволяющих выявлять лиц, предрасположенных к самоубийству, криминальным действиям, употреблению наркотиков и алкоголя, негативному отношению к армии, показал неоспоримые преимущества данного метода, получившего Золотую медаль на Международной выставке «Еигека-97». Проведенное ГосНИИ ЭМФТМО РФ обследование 450 военнослужащих 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии из числа молодого пополнения позволило с помощью КПСА выявить 51 человека, предрасположенного к вышеуказанным негативным проявлениям (14 — к самоубийству, 10 —к криминалу, 10 —к алкоголю, 8 — к наркотикам, 9 — к армии). О результатах обследования с указанием выявленных лиц доложено Институтом экстремальной медицины начальнику медицинской службы дивизии, психологу дивизии и дивизионному врачу-психиатру, а также начальнику Главного Военно-медицинского Управления МО РФ (письмо № 444 от 24.07.98). ГВМУ МО РФ высказало заинтересованность в приобретения КПСА для тестирования допризывников в горвоенкоматах, однако сообщило о временном отсутствии для этих целей финансовых возможностей.
Использование КПСА в войсковых частях позволяет проводить тестирование заступающих на боевое дежурство военнослужащих с целью выявления возможных экстремистских намерений в течение 18 минут. Примерная стоимость одного готового к работе КПСА составляет 5000 у.е. Обслуживание КПСА может осуществляться одним специалистом.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 .Пояснительная записка с описанием методики, на 1 листе; 2. Копия письма ГосНИИ ЭМФТ МО РФ в ГВМУ МО РФ, на 4-х листах; 3. Копия научной статьи сотрудников ГосНИИ ЭМФТ, на 2-х листах.
Вышеизложенные проблемы делают актуальной нашу научно^ практическую деятельность по следующим направлениям:
1. Анализ техногенных факторов, воздействующих на психику человека. Оценка психического здоровья популяции. Изучение 40
психоэкология
роли информационных потоков в возникновении неадекватных состояний психики.
Изучение влияния информационных потоков на рост нарко- и фармакозависимости населения (популяционные процессы, тенденции, пути решения).
Изучение воздействия на подсознание человека религиозных организаций, в том числе «тоталитарных сект». Психология социальных катастроф. Изучение международного опыта в области информационных процессов, разработка законодательства по информационной безопасности (в составе экспертной комиссии Комитета по безопасности Государственной думы). Исследование психофизиологических особенностей населения в зонах «локальных вооруженных конфликтов».
2. Подготовка и обучение специалистов в области психосемантической диагностики и психокоррекции по следующим направлениям:
— компьютерный психосемантический анализ личностных качеств,
— применение компьютерных психотехнологий в диагностике и лечении психосоматических заболеваний,
— проблемы психоэкологии,
— применение компьютерных психотехнологий для оптимизации учебно-воспитательного процесса и повышения психического здоровья школьников,
— новые методы ранней диагностики и психокоррекции у пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью,
— методы интенсивной психокоррекции на неосознаваемом уровне,
— применение компьютерных психотехнологий для определения профессионально важных качеств улиц, работающих в условиях повышенного риска,
— методы психокоррекции у пациентов, подвергшихся воздействию деструктивных культов, жертв сексуального насилия, а также лиц, пострадавших в ходе социальных конфликтов,
— влияние информационных потоков на возникновение патологических состояний психики, на рост нарко- и фармакозависимости населения (популяционные процессы, тенденции, пути решения). Оценка роли СМИ,
— организация лекционных циклов, семинаров и конференций.
41
И.В.СМИРНОВ___________________________________________
3. Разработка методов диагностики, коррекции и лечения лиц, пострадавших от психоинформационного воздействия, с наркологической зависимостью, а также социально-стрессовыми расстройствами.
Оказание неотложной медико-психологической и другой медицинской помощи лицам, пострадавшим в социально-политических конфликтах.
Определение профессиональной пригодности лиц, работающих в сложных условиях.
Разработка и внедрение новых методов экстренной психологической помощи при чрезвычайных ситуациях социально-политического характера («служба вмешательства в кризис»).
42
психоэкология
Глава 2. КОНЦЕПТЫ ПСИХОЭКОЛОГИИ
Психоэкология — комплекс научных представлений и практических приемов для изучения, контроля и прогноза поведения и состояния человека как информационной системы в информационной среде его обитания.
фундаментальной основой психоэкологии являются современные представления о роли семантических (смысловых информационных) факторов в процессах жизнедеятельности. По мере эволюции психики роль семантически модулированных сигналов возрастает, поскольку они опосредуются психикой.
Вторая сигнальная система является системой семантических символов преимущественно вербального типа, то есть символов языка. Любой стимул, который может быть дифференцирован психикой и способен вызывать, кроме ориентировочной реакции, какую-либо иную реакцию, является семантическим. Семантиза-ция стимула, то есть присвоение ему некоторого значения, возможна только тогда, когда в психике имеется аппарат семантических элементов, включающий элементы, схожие по каким-либо признакам с анализируемым стимулом. Смысл стимула определяется этими схожими элементами. Количество стимулов, которые являются бессмысленными и вызывающими только ориентировочную реакцию, резко уменьшается по мере взросления биообъекта и увеличения его опыта.
Привычным для большинства людей стилем мышления является тот стиль, который использует логические связки. Эти связки кажутся полностью доступными контролю сознания и соответствуют сфере «здравого смысла». С позиций здравого смысла дважды два всегда равно четырем. Просто, как дважды два.
Однако возможны другие системы логики, примеры чему можно найти в неевклидовой геометрии, троичной логике, многомерных буддистских текстах, теории относительности и многом другом. Любая новая логическая система умопостроений вначале отвергается большинством, затем принимается и входит в сферу здравого смысла. Это относится также и к тем логикам, которые допускают внечеловеческую систему координат и изначально базируются на мифах, как, например, религиозные и мистические представления.
На самом деле нет никакой разницы между ученым (дважды два — четыре) и безграмотным верующим (Бог — есть), поскольку различие в системе умопостроений кажущееся. В том и другом
43
И.В. СМИРНОВ ____________
случае исходные постулаты (!) являются реперами (отправными точками) и сомнению не подлежат. Ученый допускает незыблемость своих точек отсчета, верующий допускает незыблемость своих точек отсчета, в результате человек всегда допускает что-то, что не подлежит сомнению. Сколько людей — столько истин.
Поэтомулюбой здравый смысл (средневековый, современный, криминальный, религиозный, детский, научный и пр.) всегда основан на наборе незыблемых догм, за пределы которых мышление обычно не уходит.
Эти догмы не возникают из ниоткуда и, постоянно изменяясь, одни быстрее, а другие медленнее, передаются от человека к человеку путем познания и подражания. В случаях, когда человек, особенно в детстве, ограничен в ласковом и терпеливом отношении любящего человека или полностью лишен родителей, возникает тот или иной вариант детского госпитального синдрома с последующей психопатизацией.
Если же ребенок волею судьбы выпадает из человеческого общества и воспитывается зверем (такие случаи известны), то впоследствии такого тарзана никогда не удается социализировать, а разве что научить примитивным навыкам в рамках возможностей научения, отпущенных соответствующему зверю.
Когда мы «проходим» в школе таблицу умножения и на всю последующую жизнь считаем незыблемым правило «дважды два — четыре», мы еще не знаем о существовании гексадецимальной (шестнадцатиричной) и других систем счисления, других логик и другой картины мира. По мере жизни некоторые из нас научаются терпимо относиться к чуждым мировоззрениям и даже допускать условность и относительность своей собственной истины.
Не могу не заметить, что подобная терпимость и приятие чужой картины мира являются абсолютно необходимыми свойствами настоящего людоведа и человеколюба, работающего в области психоэкологии.
К сожалению, среди практикующих психиатров, психологов и психоаналитиков не все обладают эти свойствами и, не пытаясь помочь проблемному человеку приспособиться к среде, насильственно навязывают свои представления о мире. Особенно это заметно при отклоняющемся поведении больного, когда подчас без разбору применяют калечащие методы психотропного лечения.
Нетерпимость приводит к крайним мерам в отношении инакомыслящих и иногда искусственно подогревается харизматической 44
____________________________психоэкология авторитарной личностью для создания образа врага и осуществления физического конфликта.
Нет абсолютных истин и все парадигмы более или менее устойчиво существуют и передаются (персистируют) исключительно в обществе через прямое и опосредованное общение. Многие из них доступны сознанию и, следовательно, критике.
Однако основное содержание человека как информационного существа недоступно его сознанию. Оно относится к области бессознательного.
Роль неосознаваемых процессов в психической деятельности человека очень велика. До последнего времени изучать эти процессы можно было лишь умозрительно из-за отсутствия удовлетворительных средств их исследования. С появлением компьютерных технологий стала реальной возможность быстрого анализа больших информационных массивов, что позволило создать адаптивные алгоритмы, на основе которых были разработаны принципиально новые средства исследования психических процессов и их нарушений. С помощью этих средств в наше время экспериментально подтверждаются представления о роли неосознаваемых психических процессов, ранее высказываемые многими авторами на основе теоретических построений, базирующихся в основном на психоаналитических построениях.
В процессе цивилизации человек мог познать другого человека только путем наблюдения его поведения, в том числе, речевого поведения. Методы ассоциативного эксперимента в начале Двадцатого века использовали элементы субъективного анализа Речевого ответа путем исследования его смысла и латентности.
С 1926 года (А.Р.Лурия) стали развиваться методы, позволяющие связать когнитивные и физиологические процессы. Эти методы используют предъявление субъекту совокупности семантических стимулов и анализ совокупности возникающих при этом физиологических или поведенческих реакций. Такой подход используют в детекции лжи.
П.Ж.Кабанис считал, что «головной мозг в некотором смысле переваривает впечатления», что он «органически выделяет мысль». Любое семантическое воздействие вызывает изменения многих физиологических параметров: кожно-гальванической реакции, электроэнцефалограммы, миограммы и прочих. Физиологическое реагирование зависит от многого: новизны семантического стимула, его эмоциональной значимости, значимости контекста, состояния организма. Отсюда ясен смысл изречения
45
И. В. СМИРНОВ_________________________________________
Кабаниса: «Чтобы составить себе понятие об отправлениях, результатом которых является мысль, следует рассматривать головной мозг как отдельный орган, предназначенный исключительно для ее производства, подобно тому, как желудок и кишки совершают пищеварение, печень вырабатывает желчь».
Когда повреждена печень, производят анализы, в том числе функциональные пробы печени. При этих пробах в организм вводят незначительные количества слабого яда, например, тимола, а затем определяют, как быстро и качественно яд выводится печенью из организма. Так измеряют одну из основных функций печени — детоксическую. У печени есть много других функций (например, кроветворная). У мозга есть много других функций (например, гормональная).
Для печени одной из основных функций является детоксичес-кая.
Для мозга одной из основных функций является психическая.
Психическая функция мозга включает управление состоянием и поведением, анализ, переработку и хранение информации, моделирование картины мира и прогнозирование.
Для психической функции мозга (в дальнейшем — психика) специфическим субстратом является семантический стимул, например, слово, образ. Специфической реакцией психики является активация эквивалентных стимулу энграмм памяти. Наблюдаемое при этом изменение состояния и/или поведения является неспецифической опосредованной реакцией.
Функциональные пробы печени и функциональные пробы психики в обоих случаях изучают орган по принципу черного ящика, когда воздействуют измеренным тестирующим стимулом и измеряют какой-либо доступный регистрации феномен после воздействия.
Любой из этих чрезвычайно сложных процессов имеет конечную скорость, которая у многих живых существ, возможно, значительно выше, чем у человека. Однако у высокоразвитых существ потеря скорости компенсируется качеством — развитием значительно большего количества включаемых при каждом из перечисленных процессов элементов психики. Отсюда возникает более высокая форма адаптивного поведения — отказ от принципа «стимул — реакция», доминирующего у низших организмов, и развитие адаптации по типу «стимул — множество возможных реакций».
Стимулом для мозга является любое изменение информаци-46
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
онной среды. Не только сенсорные сигналы, но и любое изменение импульсации от проприо-, баро-, хеморецепторов, а также прямое физическое или химическое воздействие на клетки мозга приводят к изменению состояния и поведения. При целенаправленном поведении возможность разнообразно реагировать на один и тот же стимул подразумевает не случайный выбор любой из возможных реакций, а выбор лишь таких форм реагирования, которые, исходя из предшествующего опыта, способствуют достижению полезного результата — в широком смысле сохранению гомеостаза.
При дезорганизации психической функции поведение хаотично и в ответ на стимул возникает либо непредсказуемая реакция, либо множество неадекватных стимулу реакций. Соответствие реакций воздействующему стимулу есть результат предшествующего анализа того, какие изменения состояния, поведения и информационной среды, развивающиеся после прежнего воздействия стимула, содержат полезный результат: избегание боли, получение удовольствия, удовлетворение потребности. Если стимулы психической деятельности отсутствуют или количество их сильно ограничено, интенсивность деятельности снижается и в качестве стимулов продолжают выступать только неотъемлемые от деятельности мозга витальные потребности. Это хорошо изучено в случаях с сенсорной депривацией как в эксперименте на добровольцах, так и при наблюдении больных с полной сенсорной блокадой. У человека сенсорная депривация вызывает дезорганизацию психической деятельности, что проявляется в галлюцинациях, а при длительной депривации — в формировании устойчиво нарушенной картины мира и возникновении психических заболеваний.
Формы дезорганизации психической деятельности при сенсорной депривации многообразны. Так, известны случаи, когда больные, способные ощущать только прикосновения к определенным участкам тела и лишенные всех других видов сенсорной чувствительности, при отсутствии этих стимулов постоянно находились в состоянии сна. Длительная, хотя и относительная сенсорная депривация в условиях тюремного содержания приводит к развитию психических нарушений, действие которых распространяется и на все последующее поведение. Большое количество исследований в этой области проведено и на животных.
Для определения субстрата исследований необходимо было избрать какую-либо известную систему представлений об устрой-
47
И.В. СМИРНОВ
стве психики и в работе оперировать понятиями, входящими в эту систему. Поскольку существует множество таких концепций, я оказался перед трудным выбором. Любая из известных систем представлений ограничивала бы свободу экспериментальных действий или интерпретацию результатов. По этой причине я, принимая точку зрения Л.С.Выготского, отказался от традиционного разделения психики на мотивационную, волевую, когнитивную и прочие сферы.
Существующие логические построения обычно опираются на аппарат умозрительных допущений (например: «Психика — одна из форм жизнедеятельности высокоорганизованного организма, особое его состояние, функцией которого является неосознанная и осознанная саморегуляция жизненных процессов и поведения» (Н.К.Григорьев)). Я объясняю это отсутствием до последнего времени прямых инструментальных методов исследования психики.
Блестящими примерами концептуальных моделей могут служить операциональное определение живых систем Fleuschaker, оказавшееся полезным при формировании представлений об информационной структуре биообъектов, а также голографическая теория мозга Pribram, синтезирующая категориальный аппарат нейрофизиологии и теории информации.
Удобным с операциональной точки зрения оказался информационный подход, используемый и другими авторами (Н.Л.Мусхе-лишвили, В.М.Сергеев). Однако прямой перенос категорий теории информации на информационные процессы в живых системах создает серьезные противоречия.
Применительно к живым системам кибернетическое понятие памяти включает всю совокупность информации, имеющуюся в системе. Существует сложная иерархия хранилищ памяти: от очень мало изменяющейся генетической памяти с предельно длительными срокам^ хранения информации до быстро изменяющейся иконической памяти с недолговечным содержимым. “Представляется, что вид памяти определяется не природой фиксации следа, а возможностью доступа к информации для ее считывания. Можно думать, что в так называемой краткосрочной памяти ее краткосрочность обусловлена тем, что след быстро переходит в подпороговое состояние, а это затрудняет его воспроизведение. Таким образом, речь может идти не об исчезновении следа в кратковременной памяти, а о быстром переходе его в подпороговое состояние. Ряд факторов может быть этому причиной: ретроактивное торможение, возникающее при интерферирующем воз-48
психоэкология
действии последующих сигналов, недостаточно интенсивное подкрепление; существенны концентрация внимания, установка, степень эмоционального сопровождения и другие факторы. При однократном предъявлении сигнала, не сопровождаемого выраженной эмоциональной реакцией, через короткий промежуток времени происходит как бы потеря информации для организма по механизму забывания. В «промежуточной» памяти сохранение следа в пороговом состоянии удлиняется, но это лишь количественное различие при изменении степени воздействия некоторых из перечисленных факторов. Можно эти временные промежутки разбить еще на более короткие, и тогда мы получим мгновенную, ультракороткую, оперативную и многие другие «виды» памяти. Становится понятным, почему у различных исследователей так называемая краткосрочная память сохраняется от 10 секунд до нескольких часов.
При многократном поступлении тех же сигналов каждый последующий сигнал может подкреплять предыдущий следовый процесс, делая его длительное время перманентным. Возможно, это способствует сохранению следа в надпороговом состоянии и возможности его считывании через большие промежутки времени, что позволяет оценивать это состояние как долговременную память. Длительное сохранение следа возможно и при однократном обучении при наличии выраженной эмоциональной реакции» (Р.Ю-.Ильюченок).
В приведенной цитате содержится много важного для дальнейшего размышления. Уточним, что представление о порогах следа памяти, на которых настаивает автор, не является обязательным для последующих логических построений. С позиций минимальной достаточности вполне убедительным представляется существование ячеек памяти, доступ к содержимому которых возможен или невозможен. При этом неважно, в какой конкретно материальной форме эта информация существует в хранилище. «Информации не существует независимо от сигнала, она имманентно воплощена только в сигнале. Однако информация независима от энергетической характеристики сигнала (которой он всегда обладает), она независима от физико-химических свойств своего носителя. Одна и та же информация может быть воплощена и передана разными сигналами. Это означает, что одна и та же модель может в принципе строиться на разных субстратах, лишь бы они удовлетворяли требованиям специфической организации сигнала» (Д. И. Дубровский).
49
И.В. СМИРНОВ_________________________________________
С этой точки зрения мне представляются равновероятными а, возможно, и сосуществующими различные формы физического субстрата для хранения информации в памяти: от широко известных нейрохимических и нейроанатомических до основанных на реверберации возбуждения в нейрональных сетях как доменах памяти, взаимодействия импульсной активности аксонов и дендритных токов (Freeman,), или объединении нейронов в гигантскую трехмерную сеть — «интерцессорный мозг». Среди гипотез последнего толка особо отметим те, которые основаны на представлениях о существовании эфапти-ческого пути взаимодействия нейронов (т.е. опосредованного только волновыми факторами, например, гипотезу А.Н.Лебе-дева о пакетах волн когерентно работающих нейронов как единице памяти (см. также Vishnubhatla, Triffet, Green)). Эти гипотезы разработаны значительно слабее, чем нейрохимические и нейроанатомические, в пользу которых накоплено огромное количество фактического материала (сведения о пластических перестройках в нервной системе при обучении в обогащенной среде, что проявляется в увеличении количества дендритных шипиков постсинаптической поверхности и количества синапсов; сведения о потребном для обеспечения процессов памяти количестве активных зернистых клеток в мозжечке при пластических перестройках; об участии ионных процессов мозгоспецифических белков; о влиянии разрушений различных зон мозга на память при обучении и мн.др.
Среди таких работ встречается много сообщений, свидетельствующих о малых способностях взрослого мозга к пластическим перестройкам, например, в работе Markowitsch описан случай сохранения антеградной амнезии у больного в течение 30 лет после двусторонней гиппокампэктомии. Имеется немало сведений о существенно больших компенсаторных возможностях растущего мозга, полученных как в эксперименте на животных, так и при наблюдении процессов реабилитации больных детей, оперированных по поводу мозговых нарушений.
Механизмы формирования энграммы памяти, вероятнее всего, являются многомерными и не сводятся к каким-либо отдельным биохимическим или физиологическим перестройкам. В таком случае, действительно, наиболее удобен информационный повод, позволяющий абстрагироваться от частностей и создать достаточно полную картину распределения зон памяти, позволяющую строить различные концептуальные модели «личностнокон-50
психоэкология
ституциональной структуры» (Г.И.Исаев, Е.В.Безносюк) и «внутренней картины болезни» (М.М.Кабанов, В.Н.Мясищев и др.).
В информационном смысле нет разницы между процессами формирования памяти у человека и у животных, в том числе низших. Этологические особенности, естественно, накладывают свой отпечаток на специфику обучения и формирования следа памяти, однако в большинстве работ авторы единодушны в вопросе о сходстве этих процессов у позвоночных и беспозвоночных (см. Alkon, Quinn, Sahley).
Вероятно, в основе обучения лежат единые для всех живых систем принципы. Известно, что к обучению способны, например, изолированные от нервной системы заднегрудные ганглии саранчи (Stowe, Leader), отдельные клеточные популяции и др. У детей-анацефалов в возрасте от 1 месяца до 4,5 лет можно отметить явления научения по пульсовой реакции ожидания пропущенного сенсорного стимула (Berntson).
Живая система термодинамически неустойчива и существует только при постоянном притоке энергии извне, представляя собой самовоспроизводящуюся информационную матрицу. Естественная смерть такой системы может возникать только в результате накопления ошибок при многократных перезаписях информации на новые белковые матрицы. Подсчитано, что для 99% успешности синтеза новых белков необходимо, чтобы ошибки при соединении каждой новой аминокислоты с молекулой транспортной РНК не превышали 1 на 100000 случаев (Buresova). Ясно, что чем более многократно перезаписывается энграмма, тем больше вероятность ошибок. Наиболее устойчивы при этом энграммы генетической памяти. В доступных пользователю зонах памяти количество ошибок при перезаписях больше, что и проявляется в явлении забывания. При перезаписи искажаются не столько сами информационные программы (последовательности семантических элементов), сколько содержимое тех ячеек памяти, которые содержат адреса этих программ.
Иными словами, «забывается» не сама информация, а средства доступа к ней. Об этом свидетельствует большое количество экспериментальных и клинических фактов об амнезиях, которые исчезают как при специфическом, так и при неспецифическом напоминании (т.е. при действии практически любых факторов) что позволяет считать, что амнезия обусловлена не исчезновением следа, а невозможностью его воспроизведения (Р.Ю.Ильюченок).
Таким образом, если подобное имеет место, что кажется впол-
51
И.В. СМИРНОВ _________
не реальным, то можно представить память как непрерывный процесс накопления семантической информации.
Какие аргументы можно использовать для выдвижения такой гипотезы, и зачем она нужна?
Во-первых, существует, как уже было упомянуто, большое количество сведений из области экспериментальных и клинических исследований амнезии, которые свидетельствуют о возможности воспроизведения следа памяти при амнезии, если использовать для этого самые различные факторы. Наиболее общим для этих факторов является то, что все они тем или иным способом и в той или иной форме полностью или частично воспроизводят то состояние, в котором пребывал биообъект во время восприятия информации, которая впоследствии была амнестирована. Среди работ в этой области наиболее убедительными представляются исследования диссоциированных состояний.
Под диссоциированными состояниями понимают любое разобщенное с нормой поведение, когда навык или условный рефлекс проявляются только на фоне действия того фактора, при воздействии которого они выработаны. Например, выработка какой-либо условно-рефлекторной реакции на фоне действия психотропного препарата с последующим созданием ретроградной амнезии с помощью электрошока или других средств приведет к тому, что данная реакция ни при каких условиях воспроизводится не будет. Если же ввести тот же препарат, — реакция реализуется. Условно-рефлекторная терапия алкоголизма основана именно на использовании диссоциированных состояний. Процессы обучения в диссоциированном состоянии довольно хорошо изучены. Среди изобилия литературы на эту тему бросается в глаза поразительное разнообразие факторов, которые обеспечивают впоследствии реализацию выработанного поведения: оказывается, вовсе не обязателен именно тот фактор, на фоне которого производили выработку. «Опорой воспоминания», по часто употребляемому выражению американских исследователей, может служить что угодно, что в хоть в какой бы то ни было форме присутствовало процессе выработки. Так, это может быть любая контекстовая информация, сопровождающая экспериментальную ситуацию.
Если в работах по исследованию диссоциированных состояний амнезию на выработанный навык устраняют чаще всего путем применения соответствующего химического препарата, то в работах по экспериментальной ретроградной амнезии, выполнен-52
психоэкология
пых вне парадигмы диссоциированных состояний, — воздействием любыми факторами с тем, чтобы произошла активация того эмоционального состоянии, которое имело место при обучении.
Очевидно, что речь идет об одном и том же явлении, которое лишь называют и изучают по-разному, в зависимости от концептуальных моделей исследователя.
Это явление состоит в том, что амнезии не существует. Судя по всем работам, если целью ставили воспроизвести амнестиро-ванный навык, это в большинстве случаев удавалось при использовании любых компонентов контекста экспериментальной ситуации или при прямом воспроизведении состояния, имевшего место при выработке навыка.
Можно полагать, что исследователи, прямо или косвенно изучавшие ретроградную амнезию (в том числе и на навык, выработанный в диссоциированном состоянии), действовали в рамках традиционных представлений и никто не задавался вопросом от обратного: что, если память нельзя уничтожить?
Поразительно, но в научной литературе нет убедительных доказательств существования амнезии (за исключением случаев анатомических повреждений). Этотвнешне парадоксальный факт состоит в том, что всегда можно найти средства, чтобы воспроизвести навык, т. е. амнезия в отношении него всегда относительна и распространяется только на какие-то другие состояния биообъекта, а не на те, в которых этот навык был выработан. Разумеется, клинические случаи ретроградной амнезии менее доступны анализу, поскольку практически невозможно перебрать все те мыслимые состояния и элементы контекста ситуации, которая предшествовала амнезии. Клинические исследования по оживлению следа памяти при амнезии с помощью различных средств хорошо известны, но малочисленны.
Для психоэкологии важно, что из всего этого возникает уверенность в отсутствии на нынешнем этапе развития человечества каких бы то ни было средств искусственно стереть зону памяти, т.е. вызвать амнезию в полном смысле слова, амнезию абсолютную. Закрыть доступ к этой зоне — это, как мы знаем, вполне возможно. Так же возможно и вновь обеспечить доступ в память.
Следовательно, память непрерывна в том смысле, что никоим образом нельзя искусственно уменьшить ее содержимое, стереть что-либо. Непрерывная память хранит любую информацию, когда-либо в нее поступившую, до момента критического накопле-
53
И.В. СМИРНОВ __________________________
ния количества ошибок при перезаписях информации (независимо от физического субстрата записи — нейрохимического кода, незатухающей реверберации возбуждения и пр.). Близкие положения высказывал С.Л. Рубинштейн еще в 1957 году. Затем происходит смерть биообъекта (но не памяти?).
Это во-первых.
Во-вторых, немалый материал накоплен в исследованиях процессов научения во время естественного сна и наркоза. Известно, что в наркозе сохраняются вызванные ответы слуховой коры на акустический сигнал. Возможно и обучение в глубоком наркозе. Так, при сочетанном воздействии акустического белого шума и электромышечного раздражения во время глубокого барбитурового наркоза у крыс удалось получить реакцию торможения питьевого рефлекса при действии белого шума после выхода из наркоза (Gold). Хорошо изучены реакции человека во время естественного сна на акустические, в том числе вербальные стимулы (Williams, Zing, Wilson, Bruce, Evans). Известно также научение во время естественного снау человека. Гипнопедию «...следуетрассматривать, как обучение во время гипнотического сна или, точнее, искусственно созданной во время сна гипнотической фазы, во время которой и возможно восприятие предлагаемого материала под влиянием главного раздражителя — речи — когда устанавливается контакт со спящим» (Т.А.Нелюбова). Эффективность гипнопедии зависит от внушаемости и индивидуальной значимости материала. Цитируемый автор рекомендует применять гипнопедию для лечения больных алкоголизмом и во всех случаях, когда показано внушение в гипнозе. Известна также возможность формирования условных рефлексов на временные интервалы в течение естественного сна (В.М.Васильева, М.В.Славуцкая), условных двигательных реакций на вербальный стимул (Е.К.Ароне), описаны электроэнцефалографические корреляты вербальных стимулов во время естественного сна у человека (Е.К.Аронс, В.М.Васильева). Во сне возможно различение раздражителей разной модальности и сигнальности, обеспечивающее появление вызванных ответов, логическое решение и адекватные реакции (Е.К.Аронси др.).
В то же время, из памяти бодрствующего мозга трудно получить информацию, введенную во время сна (Evans), хотя «...при выработке простой условной двигательной реакции и при отсутствии реакции активации в равные стадии естественного сна возможны восприятие, хранение и извлечение информации. Однако 54
психоэкология
переработанная при этом информация не находит выхода в состояние бодрствования: испытуемый не помнит ни о предъявляемых ему стимулах, ни о выполненных им условных реакциях во время сна» (Е.К.Аронс).
В этой же работе показано, что, если и существует барьер между состояниями сна и бодрствования (что можно рассматривать и в рамках парадигмы диссоциированных состояний), то между фазами быстрого и медленноволнового сна такого барьера нет.
Отметим, что налицо явное противоречие: достаточно убедительные эксперименты свидетельствуют о невозможности переноса навыка, выработанного во сне, на бодрствующее состояние, а в работая по гипнопедии говорят о прямо противоположном. Это противоречие я объясняю не только различием экспериментальных условий, но и влиянием исходных концептуальных представления исследователей на получаемые результаты. Не исключено также, что в обоих случаях необходимо тщательно учесть наличие потенцирующих и кондиционирующих стимулов, тогда как в работах и тех и других групп авторов это, к сожалению, было опущено. Иными словами, речь идет о правильном выборе “опоры воспоминаний” или “контекстуальной опоры” (Smith).
В обзорной работе Gigli приведены сводные данные о взаимодействии сна, обучения и интеллекта, описаны результаты экспериментов по модификации памяти путем воздействия на фазу быстрого сна, в течение которой либо репрограммируется генетическая память, либо происходит загрузка долговременной памяти.
Итак, мы имеем достаточное количество фактов для того, чтобы сделать вывод о непрерывности памяти в том смысле, что она не зависит от условий среды и состояния биообъекта, в которых информация была в память загружена (но от них зависят адресные коды этой информации).
Иначе говоря, можно предполагать, что любая воспринятая информация может быть консолидирована в памяти. Это, внешне очевидное, предположение нуждается в разъяснении.
Что есть «воспринятая информация»?
Любая информация является семантической только в том случае, если при ее восприятии она может быть соотнесена с какими-либо уже имеющимися психосемантическими элементами — следами ранее воспринятых сигналов, которые по каким-то признакам схожи с вновь поступающим сигналом. Для интактного взрослого мозга по мере накопления индивидуального опыта ис-
55
И. В. СМИРНОВ
чезающе малым становится количество информационных посылок из внешней среды, которые не могли бы быть хоть с чем-нибудь соотнесены. Невозможно представить себе то, чего мы не знаем. Любая воспринимаемая информация немедленно попадает в ассоциативную сеть уже имеющихся психосемантических элементов и тем самым получает цепочку адресных кодов, с помощью которых эту информацию можно актуализировать (например, осознать).
Поэтому фактически в память попадает только и только семантическая информация. Как бы мало ни была дифференцирована семантическая посылка (денотат), на когнитивном этапе восприятия она встраивается в структуру психосемантических элементов (коннотатов). Например, щелчок, не являющийся условным сигналом, попадает в семантическую структуру, содержащую всю ранее накопленную информацию о щелчках, в том числе совершенно далекую от акустических характеристик (энграммы, соответствующие слышанным когда-то щелчкам затвора оружия, образу знакомого человека, любящего прищелкивать пальцами в разговоре и т.п.). Щелчок, который детерминирован как условный сигнал при выработке какой-либо реакции, более дифференцирован как семантический стимул: кроме упомянутой семантической структуры, он включается также и в структуру энграмм, содержащую выработанную поведенческую программу.
Поэтому любая воспринятая информация с высокой вероятностью является семантической информацией: либо она уже имеет психосемантический эквивалент, либо, в случае новизны стимула, такой эквивалент сразу образуется за счет выделения признаков, общих с возможными коннотатами. Так возникает смысл сигнала.
Особым случаем, вероятно, является период около времени появления особи на свет (от момента формирования мозга — морфологического субстрата для будущей памяти, до момента импринтинга — запечатления первой воспринятой мозгом информации). I
По мере взросления особи все меньше новых зон памяти открывается для размещения поступающей информации: она попадает в уже имеющиеся зоны.
Исходя из этого, нетрудно представить память как самоорганизующуюся семантическую структуру, состоящую исключительно из психосемантических эквивалентов всех ранее воспринятых семантических посылок. В кибернетике подобные системы опре-56
__________________психоэкология деляют как самоорганизующиеся когнитивные системы (Nicolis).
Подчеркиваю, что здесь и далее, говоря о семантических структурах, имеется в виду расширенное, кибернетическое толкование термина, а не использование его в бытовом узкопсихологическом понимании.
Память многомерна, один итотже ее элемент может одновременно существовать в различных семантических сетях и в зависимости от них иметь совершенно разное значение. Память является многомерным пространством, состоящим из психосемантических элементов, изменчиво связанных между собой.
Фактор времени отсутствует, и дискретом изменчивости является не дискрет времени, а дискрет состояния. В философско-методологическом исследовании Mashour, посвященном концепции биологического и субъективного времени, можно найти схожие мысли.
Дискрет состояния — совокупность моментальных значений семантических элементов во всех зонах памяти, включая представительства витальных функций — является полным адресно-командным кодом для выполнения программы поведения и одновременно — полной ее записью. Для реализации данной программы с точностью, достаточной для сохранения гомеостаза (целенаправленного поведения), необязательно использование всей совокупности значений, но по мере уменьшения числа знаков, доступных пользователю (например, экспериментатору в области диссоциированных состояний), точность выполнения необходимой программы снижается. Минимальное количество знаков для удовлетворительного выполнения поведенческой программы не может быть предсказано теоретически, но принципиально возможен эксперимент для эмпирического определения минимального кода конкретной программы («специфическое напоминание» — соответствующий химический агент для оживления навыка, выработанного в диссоциированном состоянии — ни в коей мере не является таким кодом, но наряду со случайными параметрами содержит элементы кода).
Память непрерывна: восприятие и хранение информации осуществляется в любых состояниях, при которых сохранны физиологические функции морфологических субстратов, являющихся носителями памяти. Общепринято считать когнитивные процессы прерогативой высших корковых функций, следовательно, пока эти функции существуют, те. пока существует структурирование поступающей и имеющейся информации, существует и память.
57
И. В. СМИРНОВ ________ _ -___________ _ ___________-
Отсюда непреложно вытекает конкретный операциональный критерий: восприятие (а по сути дела — семантизация) информации возможно всегда, когда сохранны связанные с этим событием физиологическиефункции. Поскольку хорошо известны различия вызванных потенциалов головного мозга в зависимости от значимости стимула, ясно, что пока эти различия существуют, функция памяти сохраняется в активной форме.
А различия такие существуют вплоть до глубокого наркоза и комы.
Затем связанные с событием потенциалы перестают зависеть от семантики стимула и отражают только его физические характеристики (память находится в пассивной форме, но еще существует недифференцированная, малосемантическая память сенсорных регистров и их центральных представительств). При дальнейшем угнетении функций морфологических носителей и эти виды памяти пассивируются (вплоть до утраты иконической и эко-ической памяти, исчезновения сенсорных нейрограмм, например, ретинограмма при оптическом стимуле не изменяется, и т.д.).
Ясно, что подобные рассуждения являются удобными только на операциональном уровне и необходимы исключительно в рамках концептуальной модели, минимальной по сложности, недостаточной для построения экспериментальных моделей.
На начальном этапе использования такой концептуальной модели нет необходимости включать в логический процесс какие бы то ни было другие категории психического (сознание, волю, эмоции и пр.), т.к. предполагается, что они являются производными от взаимодействия семантических элементов. К подобной точке зрения подходит В.Б.Швырков. Среди концептуальных исследований отдельных категорий психического встречается немало работ, в которых эти категории рассматривают не как статический континуум, а как флюктуирующий процесс (например, концепция динамической структуры личности К.К.Платонова).
Все это подтверждает достаточно тривиальное положение о том, что для/психики питательным субстратом является информация.
Любая информационная посылка, т.е. любое изменение внутренней или внешней среды, влечет за собой изменение психической деятельности и необходимое для сохранения гомеостаза изменение поведения.
Можно полагать, что, если стимул совершенно нов для воспринимающего его объекта, то есть встречается впервые и ни с чем 58
психоэкология
из предшествующего опыта не ассоциируется, то реакция на него будет ориентировочной: повышение уровня бодрствования, готовность к действию и активный анализ последействия стимула. Если этот стимул сопровождается значимыми для жизнедеятельности изменениями состояния, ему присваивается смысл. Смысл стимула — это его связь, ассоциация с конкретным изменением состояния. Если первое предъявление стимула не сопровождается никакими изменениями состояния, он ассоциируется с контекстом стимула, т.е. стимул означает, что ему соответствуют другие, незначимые в данном сочетании для жизнедеятельности стимулы. Так или иначе, можно утверждать, что любые впервые воспринятые стимулы немедленно приобретают тот или иной смысл. Это означает, что в памяти биообъекта они хранятся не в форме самого по себе семантического элемента, а лишь в совокупности этого элемента и его связей с другими, совпавшими по времени предъявления элементами.
Известно, что повторные предъявления индифферентного для жизнедеятельности стимула приводят к угасанию ориентировочной реакции на него: стимул становится контекстовым и при его повторных воздействиях не происходит изменения состояния и поведения. Наоборот, сочетание впервые предъявляемого или уже известного стимула с ноцицептивным воздействием приводит к приданию ноцицептивного смысла этому стимулу и теперь уже сам стимул становится сигналом для соответствующего поведения. Так, в частности, вырабатывают условные рефлексы.
Не могу не заметить, что классическая парадигма условных рефлексов не так проста, как кажется догматикам этой парадигмы. Так, при зажигании лампочки, на сигнал которой предварительно был сформирован условный пищевой рефлекс слюноотделения, все будет соответствовать привычным и кажущимся бесспорными канонам (будет выделяться слюна). Но только у голодного биообъекта!
При удовлетворении пищевой потребности классический условный рефлекс отсутствует.
Невозможно определить, когда самый первый стимул закладывается в память и появляется связь с любым последующим во времени восприятия стимулом. Известно лишь, что после появления на свет птиц и высших млекопитающих у них можно выделить сенситивный период, когда любая впервые предъявленная информация сразу запечатлевается в памяти — импринтируется.
59
и. в. Смитов______________________________________-
Можно полагать, что импринтированная в сенситивном периоде информзция является базой для построения внутренней картины мирз. Иными словами, семантизация, те. придэние смысле всем последующим информзционным стимулам, первонзчально происходит как результат случайного сочетания любого последующего стимула с первично импринтированным. Немедленно с увеличением числа появляющихся в памяти семантических элементов лавинообразно увеличивается число возможных связей между ними, как результат импринтинга развивается ориентировочная реакция, позволяющая либо отнести стимул в разряд контекстовых, либо придать ему тот или иной ноцицептивный смысл.
Об исключительно важном значении впервые импринтирован-ной информации для всего последующего формирования психики свидетельствуют не только классические эксперименты на животных, но и известные сведения о детях, воспитанных дикими животными и утратившими возможность включения в человеческое общество.
Из этого следует, что духовное персистентно, те. высшие психические функции формируются как результат ранней социализации (или зоосоциализации) путем наблюдения поведения других особей, не обязательно особей своего вида. Утенок, вылупившийся из яйца, мгновенно развивает устойчивую реакцию следования за искусственным движущимся объектом и впоследствии уже не приобретает естественного для этого вида поведения — следования за уткой. Фотографии, на которых маленькая обезьянка прижимается к теплому искусственному каркасу, пренебрегая своей естественной матерью, обошли весь мир.
Таким образом, семантические элементы уже в своей взаимосвязи как бы персистируют при ранней детской социализации от других (взрослых) особей к новорожденным и закладываются в память вместе с наблюдаемыми при обучении связями с другими семантическими элементами. При нарушении естественных условий такой передачи (замена или отсутствие естественного для данного вид^ объекта импринтинга) формируется неадекватная для данного вида матрица психики со всеми вытекающими последствиями. Импринтинг как форма научения отличается от других видов научения только тем, что отсутствует достаточный для формирования ассоциативных связей предшествующий опыт, — семантическая память чиста (tabula rasa). Любая воспринятая после импринтинга информация уже, так или иначе, может быть соотнесена с имеющимися в памяти семантическими элементами и 60
психоэкология
gs— ',=д=^==. , —"--------------
при первом же предъявлении приобретает смысл, т. е. ассоциируется с другими семантическими элементами.
Из этого следует, что любая воспринятая после импринтинга информация является семантической, поскольку у взрослой особи предшествующий опыт неизбежно приводит к установлению связей между психосемантическим эквивалентом этой информации и какими-либо элементами опыта. Следовательно, можно рассматривать память биообъекта как совокупность семантических элементов и связей между ними.
Эта совокупность постоянно изменяется.
Психика — не континуум, но процесс.
Процесс, который изменяется не только от воздействия внешних факторов, но и от внутренних (мышление).
Этот процесс (семантическая память) непрерывен в том смысле, что никоим образом нельзя искусственно уменьшить его количество, стереть что-либо. Непрерывная память хранит любую информацию, когда-либо в нее поступившую, до момента критического накопления количества ошибок при перезаписях информации (независимо от физического субстрата записи — нейрохимического кода, незатухающей реверберации возбуждения и пр.).
Память — непрерывный нелинейный нестационарный процесс.
Это принципиально важно для всех задач, решаемых психоэкологией.
Для непривычных читателей напомню, что в этой книге используется кибернетическое понятие памяти (совокупность всех психосемантических эквивалентов и их ассоциатов, составляющие информационную сущность биообъекта, в т.ч. личность человека), а не бытовое («я помню, что в детстве был...»).
Для всех психических нарушений наиболее общим (типовым) патологическим процессом являются психосемантические расстройства.
Не всегда можно узнать, когда и как возникают психосемантические расстройства в естественных условиях (за исключением классического импринтинга, если объект импринтинга неадекватен). Но я точно знаю, что быстрые модификации семантической памяти, эквивалентные импринтингу, можно производить на взрослых особях и основывать на этом новые лечебные методы. Этому посвящена отдельная глава.
Современные психологические категории, будь-то процесс
61
И.В. СМИРНОВ _______________
восприятия, состояние внимания или свойство нейротицизма, отражают лишь характеристики наблюдаемого поведения. Термин «эмоция», например, пришел в интроспективную психологию как эквивалент различных «чувств» первобытной и современной «бытовой» психологии, которые характеризуются специфическими сигнальными признаками (улыбка или виляние хвоста, угрожающие позы или рычание и т.п.). Все современные “чисто психологические” методы изучения психики и сознания (экспериментальные, тестовые, опросники и пр.) также принципиально могут характеризовать лишь внешнее (реальное или воображаемое) поведение человека в различных ситуациях. Что в действительности происходит в «субъективном мире», т.е. в голове испытуемого, остается полностью скрыто как от самого испытуемого (иначе объективная психология была бы просто не нужна), так и от психолога, (иначе существовало бы не множество психологий, а одна объективная экспериментальная психология). Не зная истинных причин тех или иных (даже собственных) поступков и состояний, люди видят их в субстан-циированных обобщенных характеристиках внешнего поведения: «чувстватолкают...», «разум повелевает...» и т. п.
Усвоение индивидом общесоциальных представлений осуществляется главным образом через язык — исторически сложившуюся структуру социальных функциональных систем, фиксирующую совокупное общее дробление мира соответствующим обществом-носителем языка. Поэтому вербальный отчет о состоянии сознания может быть дан только в терминах социальных функциональных систем, усвоенных индивидом, что замыкает порочный логический круг и делает оправданным известное тютчевское «мысль изреченная есть ложь».
Любые попытки концептуирования в области психических явлений, опирающиеся лишь на традиционные и выводимые только из субъективного опыта «реалии» — эмоции, мотивы, разум, сознание и т.п., неизбежно приведут к возникновению таких очередных представлений о психике и ее нарушениях, которые столь же реальны, скфль реальна теория флогистона.
На уровне концептуального моделирования изучаемых явлений минимально достаточным является представление о психических нарушениях как только о психосемантических расстройствах, т.е. о расстройствах процесса семантической памяти (реконструируемого программного обеспечения), что и становится доступно нашему наблюдению в виде нарушений поведения, восприятия, эмоций, смыслообразования и мн. др.
62
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
Поскольку категориальный аппарат в области психоэкологии разработан слабо и я вынужден подчас оперировать недостаточно определенными понятиями, формулирую необходимые для дальнейших построений постулаты психоэкологии:
1) Все категории психического являются дериватами многомерных связей памяти, представляющей собой непрерывную самоорганизующуюся семантическую систему с многомерными связями между ее элементами.
2) Семантическая память может быть представлена как статический континуум только если она пассивирована (например, в состоянии глубокого наркоза), а в активной форме память представляет собой непрерывно флюктуирующий нелинейный и нестационарный процесс взаимодействия семантических элементов.
3) Психосемантические элементы представляют собой сугубо информационные образования, каждое из которых в активной памяти не может существовать само по себе, но только в связи с другими элементами.
4) Количественная представленность одного психосемантического элемента в различных измерениях семантической памяти (или количество его связей с другими элементами) может быть измерена экспериментально и соответствует эмпирическому понятию «значимости сигнала».
5) Не имеет значения, какова физическая природа носителя семантических элементов психики (нейрохимический кодили незатухающая реверберация возбуждения).
6) Дискретом изменчивости соотношений семантических элементов является категория “состояние”, которую можно представить как совокупность конкретных параметров, доступных измерению (в крайне упрощенном виде это описывается как эмоциональное состояние, диссоциированное состояние и т.п.).
7) Процесс восприятия информации, т.е. ее категоризация, семантизация, «разложение по полочкам», происходит в любом состоянии биообъекта, если в этом состоянии наличествует определяемый смысловым содержанием стимулов градиент реакций морфологического субстрата-носителя (наибольший интерес представляет кора головного мозга и ее вызванные потенциалы или другие связанные с событием феномены).
63
И.В. СМИРНОВ ---___
8) Всякая однажды воспринятая семантической памятью информация приобретает психосемантический эквивалент, совокупность которых, накапливаемая по мере развития особи, и составляет суть явления отражения, т.е. внутреннюю картину мира.
9) Процесс памяти непрерывен: нельзя разорвать его, кроме как разрушив материальный субстрат памяти. Процесс может быть остановлен (память пассивирована) любыми воздействиями, угнетающими функции носителя (например, с помощью нейрональных ядов, гипнотиков и пр.).
10) Каждое п-мерное измерение памяти является программным обеспечением поведения; совокупность таких распределенных в семантическом пространстве матриц составляет определенную категорию психического и может быть описана в терминах эмпирического языка как личность, сознание, мотив и т.д.
Использование этих 10 постулатов позволяет рассматривать живую информационную систему, например, человека, как многоуровневую многомерную семантическую структуру, постоянно взаимодействующую с окружающими информационными потоками с целью их семантизации.
Все, что я выше предоставил на суд любезного читателя, составляет плод многих десятилетий размышлений и клинико-экспериментальной работы, и для меня бесспорно.
Но теперь кратко рассмотрим один наиболее трагический и драматический клинический случай из немалого числа таких же моих наблюдений и исследований.
Гоша Г., шести с половиной лет, поступил к нам на Кафедру с вердиктным диагнозом «инкурабельный пациент», включающим катастрофический набор несовместимых с жизнью поражений центральной нервной системы. При компьютерной томографии головного-мозга, исполненной др.Глушковым в ЦВКГ им.Бурденко, выяснилось полное отсутствие больших полушарий. При сохранности стволовой части мозга и мозжечка вся полость черепа заполнена ликвором. Тотальная атрофия зрительного и прочих сенсорных афферентов. Анацефалия. Отсутствие психики. Отсутствие личности. Отсутствие человека.
Поскольку родители ребенка, еще молодые люди, категорически отказывавшиеся, несмотря на настояния врачей и родствен-64
психоэкология
ников, отдать его в приют и завести другого ребенка, были осведомлены о наших работах и обратились как в последнюю инстанцию для производства чуда, предполагалось окончательным вердиктом ребенку тем самым оказать помощь его родителям, а именно — склонить к отказу от ребенка.
Мальчику была подготовлена процедура психозондирования, включающая набор ласковых имен Гоши, произнесенных голосами его родителей и моим голосом.
В ходе рандомизированного предъявления этого стимульного материала компьютер регистрировал ритм сердца мальчика с помощью радиомонитора.
Раз нет мозга — нет и психики. Это ясно любому врачу. Физическим субстратом психики является головной мозг.
Исходя из этого, никаких статистически достоверных различий между реагированием на осмысленные акустические стимулы (голоса родителей и мой голос) и на бессмысленные акустические стимулы (звуки с теми же физическими характеристиками) у Гоши нети не может быть. Нет нейропсихического аппарата для когнитивных семантических процессов.
Однако на протоколе процедуры мы увидели статистически достоверное изменение ритма сердца при предъявлении ласковых и уменьшительных имен мальчика.
Это полностью перечеркивает все формально-медицинские представления о сущности живого. Выходит, есть совершенно неизвестные современной науке сферы, осуществляющие анализ семантической информации?
Здесь уместно вспомнить слова выдающегося хирурга Войно-Ясенецкого (Архиепископ Лука):
«Но не только такими, более или менее смутными ощущениями ограничивается способность сердца к общению с Богом. Как это ни сомнительно для неверующих, мы утверждаем, что сердцем можно воспринимать вполне определенные внушения прямо как глаголы Божии. Но это удел не только святых. И я, подобно многим, не раз испытывал это с огромной силой и глубоким душевным волнением.» (Святитель Лука. Дух, Душа и Тело. Киев, 2002, с. 19).
И далее: «Нам известны в мозгу двигательные и сенсорные центры, вазомоторные и дыхательные, тепловые и другие центры, но нет в нем центров чувств. Никому не известны центры радости и печали, гнева и страха, эстетического и религиозного чувства. Хотя от всех органов чувств и всех вообще органов тела направляются в мозг и оканчиваются в клетках его сенсорных 3 Смирнов И В 65
И.В. СМИРНОВ
центров все чувствительные волокна, но они несут только ощущения зрительные и слуховые, обонятельные и вкусовые, тактильные и термические, локомоторные и многие другие. Но это только ощущения. А не делать различий между ощущениями и чувствами _ значит впадать в самую глубокую психологическую ошибку.
Если бы мы могли, что, конечно, немыслимо (теперь можем, мыслимо — И.Смирнов), остановить стремительную и сложнейшую динамику психических процессов и рассмотреть отдельные элементы в статическом состоянии, то ощущения представились бы нам только как импульсы к возникновению мыслей, чувств, желаний и волевых движений. А мысли, выхваченные из мозга, оказались бы только незаконченным, сырым материалом, подлежащим глубокой и окончательной обработке в сердце — горниле чувств и воли.
Каким образом возникшие в мозгу мысли передаются в сердце, мы не знаем, но мысль, как акт чисто психологический, в отличие от ощущений, какактов физиологических, не нуждается в анатомических путях проведения. Не нуждаются в этих путях и чувства, возникающие в сердце в зависимости от тех или других мыслей и в значительной мере формирующие их.
Но не только из мозга сердце получает эти обработанные мысли, сенсорные восприятия, но и само обладает удивительной, важнейшей способностью получать из мира духовного экзогенные, нисколько не адекватные органам чувств, ощущения самого высшего порядка.
И эти ощущения из сердца передаются уму, в мозг и в огромной степени определяют, направляют и изменяют все психические процессы, в уме и духе происходящие» (там же, с.32).
Случай Гоши Г. объективно, инструментально и статистически воспроизводимо подтверждает логические построения Святителя Луки, основанные на вере и прямом знании (знании сердца).
Такого {рода клинические наблюдения, равно как и клинико-экспериментальные исследования на животных, здоровых и больных людях, являются принципиально новым этапом в развитии представлений о сущности жизни. Некоторые из них приведены в этой книге.
Оппоненты скажут: «Нужно ли говорить, что именно эти построения, считающие высшие формы организации продуктами некой специальной силы, закрывают всякие возможности к научному исследованию механизмов этой организации и заменяют его анализ указанием на некую новую сущность, темную и не подле-66
психоэкология
жатую анализу. ...Мы исходим из того положения, что в организации поведения также мало проявляются некие всеобщие законы, как и включение какой-нибудь особой жизненной силы» (А.Р.-Лурия. Природа человеческих конфликтов. М.:2002, с.27).
Я разделяю взгляды Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и развиваю их дальше.
Я считаю, что сущность биообъекта, особенно высших организмов, особенно вида Homo sapiens, является триединой: Дух, Душа и Тело.
Душа — суть наша психика — исполнительный аппарат Духа. Сердце, в соответствии с представлениями Войно-Ясенецкого, — акцептор Духа, вместилище Божественной Искры. Тело — их физический носитель. '
Дух — Бог, семантическое поле Вселенной (В.В.Налимов), мир идей Платона, ноосфера Вернадского, космический разум.
Таким образом, ранее недоступные исследованию феномены Духа, основанные на вере и субъективном опыте, в рамках психоэкологии с развитием ее инструментария становятся предметом экспериментального исследования.
И.В.СМИРНОВ __________________=====— =
Глава 3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПСИХОЭКОЛОГИИ
В отличие от других наук о психическом, психоэкология является точной наукой.
Это утверждение основано на том, что только в связи с развитием компьютерной техники появились технологии измерения психики. До этого времени все известное было описательным и умозрительно толковалось через двойной слой желаний, критик и мировоззрений — сознание исследователя и сознание исследуемого. Появление объективных средств измерения психической деятельности привело к тому, что исследователь получил инструмент для исследования, точность которого с каждым годом продолжает возрастать.
Началось все в 1926 году, когда А. Р.Лурия остроумно модифицировал ассоциативный эксперимент Юнга для изучения следов аффекта у преступников. Сутью модификации была дополнительная регистрация неосознаваемых реакций нажатия на пневматическую грушу, что должен был делать преступник при ответе на каждое предъявляемое слово. Время нажатия и его характер не могли полностью контролироваться испытуемым. Впоследствии это было названо сопряженной моторной методикой и успешно забыто. По сей день студенты психологических факультетов, сталкиваясь в практикуме с методом Виноградовой-Лурия, не догадываются, что принцип метода широко используется в любом «полиграфическом детекторе лжи».
Оставалось сделать один шаг для того, чтобы исследовательская методика превратилась в технологию измерения и начала бы приносить практическую пользу. Но — не было компьютеров.
Этот шаг был сделан более чем через полвека и тоже русскими, падкими на выдумки.
После импринтинга — запечатления первой воспринятой информаций, — любая воспринятая информация уже является семантической, поскольку наличествующий опыт неизбежно приводит к установлению связей между психосемантическим эквивалентом этой информации и какими-либо элементами субъективного опыта. Следовательно, можно рассматривать психику (в кибернетическом смысле — память биообъекта) как совокупность психосемантических элементов и связей между ними.
Как же исследовать это хранилище информации?
Наиболее универсальным средством психосемантического ис-68
психоэкология
следования является наблюдение поведения биообъекта в его естественной или искусственно созданной среде. Применительно к человеку это означает общение с ним на том или ином уровне, причем основным является вербальный уровень.
Проблема познания чужого «Я» до сих пор является одной из основных проблем человечества. На протяжении веков из способности к наблюдению и подражанию складывалась и развивалась способность к интерактивному диалогу — общению с помощью символов. В наиболее развитой (речевой) форме эта способность присуща человеку, но ее не лишены и животные. Существует много исследований в области зоосоциальной психологии и социобиологии, в которых преимущественное внимание уделено работам, описывающим мотивационно-типологические градиенты звуковых реакций животных, являющиеся прототипом словесных реакций человека.
В живой природе не существует проблем, соответствующих задаче чтения мыслей. Все проблемы (в т.ч. проблемы интерперсональных отношений) исчерпываются путем использования вербальных и паравербальных (символика, проксемика, такесика, кинезика, мимика и др.) средств. Лишь при специальной деятельности человека, например в клинической, экспериментальной и профессиональной психодиагностике, этих средств становится недостаточно.
«В сущности, интересует нас в жизни только одно — наше психическое содержание», — писал И.П.Павлов.
Однако для изучения этого психического содержания ранее применяли недостаточно эффективные способы. По этой причине, несмотря на обилие экспериментально-психологических методов, их роль в прикладных задачах невелика. Так, в клинической психиатрии для обследования больного применяют расспрос, изучение анамнеза, наблюдение, изучение творчества больного. Роль экспериментально-психологических методов оценивают противоречиво. Справочник по психиатрии под ред. А.В.Снежнев-ского для обнаружения симптомов утомляемости, ослабления внимания, снижения темпов психической деятельности рекомендует корректурную пробу, метод Шульте (отыскивание чисел), счет по Крепелину, последовательное вычитание чисел. Для выявления расстройств памяти используют заучивание слов, пересказывание сюжетов, опосредованное запоминание попарно предъявляемых и связанных по смыслу слов. Для выявления своеобразия мышления используют приемы раскрытия иносказательного
69
И.В. СМИРНОВ _____________=_____________——
смысла пословиц, сравнение предметов по признакам сходства и различия, метод пиктограмм. Все перечисленные и многие иные методы направлены на выявление интеллектуальных, речевых, перцептивных, мнестических расстройств, а возможности экспериментально-психологического обнаружения изменений личности (эмоционально-волевых, характерологических и других свойств) более ограничены.
Такую же ситуацию мы видим и в других прикладных областях. В инженерной психологии применяют психологические (беседа, анкетирование, тесты) и физиологические методы, направленные на анализ состояния человека-оператора и определение его соответствия выполняемой деятельности. При этом считают (Основы инженерной психологии, под ред. Б.Ф.Ломова), что психологические показатели (память, внимание, эмоционально-волевая сфера и пр.) более тесно коррелируют с результатами деятельности, чем физиологические показатели. Надежность человека-оператора зависит не только от уровня его тренированности, но и от природных свойств его нервной системы, а именно они берут верх в аварийных ситуациях, опасных для жизни. Однако среди этих природных свойств методами инженерной психологии можно оценить только некоторые характеристики а не, например, способность сохранять операторскую мотивацию, в зависимости от выраженности которой будет или не будет выполнена работа в экстремальной ситуации. Именно мотивацию Н.Н.Данилова считает основным фактором регуляции функционального состояния человека-оператора и залогом успешности его деятельности. Удовлетворительных измерительных методов для исследования мотивации не было. Данные, получаемые при исследовании личностных особенностей с помощью проективных и других методов, зесьма опосредованно аппроксимируют конкретные и очень неожиданно проявляющиеся в экстремальных ситуациях свойства 1ИЧНОСТИ.
Традиционные для исследования психики методы наблюдения, в том числе активные методы, связанные с предъявлением различных тестовых задач, анализом динамики научения, расспросом, являются недостаточно эффективными, прежде всего потому, что на пути между исследователем и памятью субъекта стоит сознание, которое опосредует всю поступающую и исходящую информацию и при этом вносит в нее свои коррективы.
Высшие животные, если и обладают элементами сознания, то явно недостаточными человеку для экспериментального изучения 70
психоэкология
их семантической памяти посредством общения. Поэтому при исследовании психической деятельности приходится использовать методы, которые либо изменяют состояние или поведение, либо предполагают искусственное изменение среды деятельности или обитания. В случаях экспериментирования на животных это предполагает опять-таки дальнейшее наблюдение поведения, а в исследованиях психики человека—наблюдение результатов воздействия, опосредованного сознанием.
Для исследования личности и, прежде всего, личности психически больного человека, Б.В.Зейгарникединственно верным считает анализ деятельности через анализ мотивов. Психологический анализ мотивационных нарушений, по ее мнению, является единственным средством определения ведущего мотива, который непосредственно стимулирует все поведение больного человека. Практически это сводится к анализу истории болезни, при котором Б.В. Зейгарник достигала блестящих патопсихологических интерпретаций. Анализ историй болезни, как она пишет, оказался пригодным для решения двух вопросов: вопроса о формировании патологически измененной потребности и вопроса о нарушении иерархии мотивов. Интересны размышления автора по поводу алкоголизации: «Понятно, что принятие алкоголя не входит в число естественных потребностей человека и само по себе не имеет побудительной силы. Поэтому вначале его употребление вызывается другими мотивами (отметить день рождения, свадьбу). На первых стадиях употребление алкоголя вызывает повышенное настроение, активность, состояние опьянения привлекает многих и как средство облегчения контактов. Со временем может появиться стремление вновь и вновь испытать это приятное состоявд^^^деж@шачавдопредмечиваться в алкоголе, и челове||^н^Й|^^^ВияИиВШ8*е»сами по се®е события (торжество, встре'И^ИшйЛ'П.), а возможность употребления алкоголя, он начинаяИИИ|ггьсамостоятельную деятельность, и тогда уже сами собЛ^Ц^гановятся поводом. Происходиттот процесс, который А.Н.ЛесЧ ов назвал «сдвиг мотива на цель», формируется новый мотив .орый побуждает к норой деятельности, и, следовательно, нов<Т>отребность (в алкоголе). Сдвиг мотива на цель ведет за собой осознание этого мотива, так как по отношению к деятельности мотив играет смыслообразующую роль. Принятие алкоголя приобретает определенный личностный смысл. Таким образом, механизм зарождения патологической потребности — общий с механизмом ее образования в норме».
71
И.В. СМИРНОВ
До сегодняшнего времени не было инструмента для исследования формирования патологических потребностей.
Если был бы доподлинно ясен механизм формирования патологической потребности в алкоголизации или наркотизации, механизм изменения иерархии основных мотивов, то эти категории наполнились бы физическим смыслом и из гипотетических приобрели бы статус операциональных. Иными словами, оперируя этими категориями, можно было бы не только точно диагностировать изменения личности у этих и других больных, но и лечить их этиопатогенетически. Для этого нужен измерительный инструмент исследования психики. Без инструмента психоэкология будет только разговорами.
В экспериментальной психологии существует и разрабатывается огромное количество методов и еще больше ведется дискуссий о них. Одним из наиболее перспективных направлений является психосемантическое, основанное на процедуре субъективного шкалирования (В.И.Похилько), которое позволяет в числовых значениях оценивать субъективное мнение человека о разных объектах в процессе их ранжирования, сравнения и т.п.
Именно психосемантические методы наименее опосредованно исследуют психическую деятельность, все формы которой, по А.Р.Лурия, являются социальными по происхождению.
Одним из наиболее распространенных психосемантических методов является ассоциативный эксперимент, когда испытуемый в ответ на каждое предъявленное ему слово должен ответить первым пришедшим ему в голову словом. Как известно, если предъявляют нейтральные для испытуемого слова, он довольно быстро и легко отвечает словом, которое детерминировано причинно-следственными связями ассоциативного процесса. Если же предъявляют слово, так или иначе связанное с каким-либо аффективным воспоминанием или переживанием, ответ испытуемого резко тормозится или явно нарушается. «Все это объясняется т^м, что словесный раздражитель может провоцировать связанные с ним аффективные состояния, и эти аффективные мо^ энты извращают дальнейший ход ассоциаций» (А.Р.Лурия, 1928)'. ^ерез 50 лет А.Р.Лурия уточнит, что «ассоциативные процессы некогда не являются случайными», подразумевая под этим не извращение дальнейшего хода ассоциаций, а лишь включение данного слова в особо значимое семантическое поле, инициация которого сопровождается резкими изменениями состояния всего организма. В силу большой распространенности вариантов ассоциативного экспе-72
психоэкология
римента и известности результатов его применения, я на его описании останавливаться не буду.
Рассмотрим очень важную для дальнейшего размышления сопряженную моторную методику А.Р.Лурия. В этой методике одновременно с речевым ответом испытуемого в ассоциативном эксперименте регистрируют характер нажатия на пневматическую грушу, которое по заданию необходимо осуществлять при каждом слове. На кимограммах видно, что если речевой ответ и не был изменен, то все связанные с предшествовавшим аффектом (исследование проведено на убийцах) слова вызывали значительные нарушения моторной реакции.
Одним из первых А.Р.Лурия ввел объективный инструментальный элемент в субъективную психосемантическую методику. Подчеркнем, что регистрировали принципиально разные показатели: речевую реакцию испытуемого, которую он полностью осознавал, хотя, может быть, и не мог полностью ее контролировать, и почти неосознаваемую им моторную реакцию!
Здесь начинаются проблемы бессознательного, которые вызывают в последние годы активный интерес исследователей. В этой проблеме ключевым понятием, позволяющим перебросить мост от клинических наблюдений бессознательных процессов до их экспериментально-психологического исследования, является понятие смысл. Дискретами смысла у человека, наиболее доступными исследованию, являются, прежде всего, слова. Должен отметить, что категории бессознательного, равно как и сознательного, умозрительны. «Объясните мне, что такое сознание и откуда оно берется? На каком уровне возникает: среди молекул или уже среди этих самых дергающихся атомов?» (Карл Саган).
К классификации неосознаваемой психической деятельности К.К. Платонова, включающей непроизвольные импульсивные действия, субсенсорные реакции, иллюзии и автоматизмы, можно добавить неосознаваемый мотив и неосознаваемую психологическую установку. Их исследовать удобнее всего, оперируя смыслами, т.е. используя психосемантический подход. В этом случае предполагается неосознаваемое воздействие и регистрация возникающих в ответ на него неосознаваемых (чаще всего вегетативных) или осознаваемых реакций. Можно согласиться с мнением Ю.М.Забродина и Е.З.фришман о том, что практически все стимулы субсенсорного диапазона потенциально могут быть переведены в число осознаваемых, вызывающих произвольную (контролируемую субъектом) ответную реакцию. Из этого следу
73
И.В. СМИРНОВ _ _______________________—
ет, что четкой границы между осознаваемыми и несознаваемыми стимулами не существует и что она колеблется в зависимости от установки, ситуации, состояния и множества других факторов. Упомянем мнение Г.В.Гершуни отом, что условные реакции на субсенсорные раздражители вырабатываются только в вегетативной сфере, но не в сфере двигательных реакций. Ю.Л.Арзуманов показал, что неосознаваемые зрительные раздражители могут участвовать в выработке временной связи у человека (при регистрации усредненных вызванных потенциалов с затылка их поздние компоненты имеют меньший латентный период и большую амплитуду в ответ на предъявление эмоциогенных стимулов в сравнении с нейтральными). Это неявное противоречие можно объяснить методическим^различиями. В строгой экспериментальной ситуации наблюдали отсутствие различий в скорости распознавания тахистоскопически предъявляемых эмоциональных и нейтральных слов, однако моделированное при этом в гипнозе состояние гнева приводило к достоверным отличиям в скорости распознавания (R.Gerrig, G.Bower). Эти данные подтверждают представление о том, что порог осознания существенно зависит от состояния и других факторов. Следовательно, вышеупомянутое мнение Г.В.Гершуни можно отнести только к конкретным экспериментальным условиям, использованным автором. Кроме того, в методике того времени отсутствовали достаточно надежные методы выделения реакции из шума и ее наличие определяли визуально. В работе Г.В.Гершуни установлен латентный период кожно-гальванической реакции на надпороговый звуковой стимул в 1,7 секунды, а на подпороговый — в 3,1 секунды. Однако затем было показано, что связанные с событием кожно-гальванические реакции имеют латентные периоды в 1,0 -2,4 секунды и любые другие величины являются следствием спонтанных, не связанных со стимулом реакций (D.Levinson, R. Edelberg).
Как видно, проблема осознаваемых и неосознаваемых стимулов и реакций на них не имеет общего решения и может быть описана только для конкретных ситуаций исследования. Эта проблема является одной из ключевых для решения вопросов, поставленных в данной книге.
Согласно предположению Э.А.Костандова, при действии сильных и длительных отрицательных эмоций происходят пластические изменения в структурах мозга, ответственных за эмоциональное поведение. При этом снижаются пороги активации структур лимбической системы, участвующих в организации именно дан-74
психоэкология -- ---- 1 —! ""------------------------*^==!аа"', ^—-^—
ной отрицательной эмоции. Возможно, это является нейропсихологическим субстратом следа аффекта по A. RЛурия. При этом очень слабые физически, но очень значимые эмоционально стимулы могут возбуждать структуры лимбической системы, включая тем самым средства эмоционального отреагирования, возникающие же при этом реакции можно тем или иным путем измерить. Прочность связи неосознаваемого стимула и соответствующего ему следа аффекта подтверждает то, что такой стимул может быть использован как подкрепляющий для выработки временной связи на нейтральный стимул, и эта временная связь не угасает даже за 150 предъявлений условного стимула без подкрепления.
Иными словами, во-первых, неосознаваемый эмоционально значимый стимул является ноцицептивным и не утрачивает своего значения в течение всего времени существования следа аффекта, и, во-вторых, его можно использовать для установления наличия соответствующего аффекта в прошлом. Как известно, детектор лжи (лайдетектор), основанный на регистрации физиологических параметров при предъявлении слов выше порога осознания, может быть обманут при наличии соответствующего навыка управления эмоциями (Waid). Изменить и контролировать реакцию на неосознаваемое воздействие невозможно. В монографии Э.А.Костандова в качестве наиболее употребляемых индикаторов воздействия неосознаваемых стимулов упомянуты кожно-гальванический рефлекс, дыхательная реакция, реакция блокады альфа-ритма в энцефалограмме, плетизмографическая реакция. Многие авторы отмечают, что при наличии всех перечисленных компонентов реакции на неосознаваемый стимул невозможно зарегистрировать ее двигательный компонент. Я с этим категорически не согласен. Известны работы, где вырабатывали условную двигательную реакцию на неосознаваемый стимул (A.Silverman, L.Baker)
Критикуя авторов, отрицающих существование неосознаваемого восприятия, Э.А.Костандов пишет: «Неосознаваемое восприятие предполагает наличие специального оценивающего устройства, «цензора», решающего, что допускать, а что не допускать до сознания из поступающей извне информации. Таким образом, идея о неосознанных формах психической деятельности рассматривается как сугубо иррациональная, идеалистическая, откровенно связанная с учениями фрейдистского толка и парапсихологией, а потому неприемлемая для научного мышления».
75
И.В. СМИРНОВ -------,
Психоэкологи имеют иную точку зрения, так как вполне допустимый и даже обязательный с кибернетической точки зрения редактор информации («цензор») хорошо описан во множестве ра-бот включая цитированную, и проявляется, в частности, в явлении перцептивной защиты. Вероятно, противоречивые мнения о реальности неосознаваемого восприятия были порождены тем, что большинство исследований проводили на здоровых людях, у которых, по мнению Г.В.Гершуни, крайне редко возникают реакции на неосознаваемый стимул (если при этом не вырабатывают временную связь), а также ситуационными политико-идеологическими стремлениями авторов.
Э.А.Костандов считает, что «словесные раздражители, сигнализирующие о конфликтной ситуации, по-видимому, в определенных случаях ... могут вызывать возбуждение временных связей, образованных с участием лимбической системы, без активации связей в неокортексе. Это приводит к тому, что активируются гипоталамические и стволовые механизмы оборонительной и ориентировочной реакций без осознания раздражителя, иначе говоря, неосознаваемые стимулы способны вызывать реакции только в том случае, если эти стимулы сопряжены с имевшей место в прошлом или могущей иметь место в прогнозируемом будущем эмоциогенной ситуацией (за исключением тех случаев, когда неосознаваемые стимулы используют и качестве подкрепляющего фактора при выработке временных связей)».
Многие исследователи, как и Б.В.Зейгарник, протестуют против чрезмерной биологизации психического, подразумевая под этим чуть ли не попытки сопоставить определенные психические нарушения с конкретными анатомическими изменениями в мозге. При этом все они настаивают на приверженности материализму. Однако анализ литературы приводит к недвусмысленному выводу об отсутствии достаточной материальной базы для многих теоретических построений. Встречающиеся попытки как-либо измерить отдельные свойства личности и придать тем самым физический смысл отдельным, пока эфемерным, представлениям, большим числом исследователей встречаются в штыки. У исследователей срабатывает своеобразная психологическая защита (по Лавуазье), препятствующая восприятию нового и способствующая только обсуждению старого.
Причина этого проста.
Вышеприведенная цитата (Б.В.Зейгарник) специально использована как хороший пример умозрительного конструирования 76
психоэкология
некоей удовлетворяющей данного исследователя (и не только его) логической схемы. Однако это не отражает истинного знания и является лишь иерархически выстроенными допущениями. В конечном счете они могут оказаться верны — с этим никто не спорит.
На сегодняшний день за тщательным анализом клинических наблюдений и их интерпретацией нет достаточно удовлетворительного концептуального аппарата, что легко объяснить отсутствием прямых методов измерения свойств психики, препятствующим более полному истолкованию клинических наблюдений.
На мой взгляд, истолкование клинических наблюдений с точки зрения патопсихолога имеет значение более для исследовательских, нежели практических целей. Это определяется тем, что необходим очень компетентный специалист и большие затраты времени на одного больного. Кроме того, каждый специалист истолковывает наблюдаемое в рамках определенных воззрений, ни одно из которых не имеет иного материального базиса, кроме вербального аппарата, и никакого иного инструмента, кроме диктофона.
Для целей психоанализа, психиатрии, психологии, психобиологии, зоопсихологии, социологии и для решения множества прикладных задач необходимы методы, которые позволили бы, не влияя на поведение субъекта или объекта исследования, изучать его психические функции без участия сознания человека, а на животных — не ограничиваясь наблюдением за их вынужденным поведением.
К числу таких методов относятся все методы, основанные на принципе функциональной пробы. В этом случае всегда предъявляют эталонный тестирующий стимул и оценивают результат его действия по изменению специфической функции. Применительно к психической деятельности человека в полном смысле функциональными пробами являются метод ассоциативного эксперимента, сопряженная моторная методика А.Р.Лурия, метод О.С.-Виноградовой и другие, ставшие классическими.
Эти методы позволяют достаточно хорошо изучать семантическую память, но сознание субъекта все же может оказывать влияние на результат и искажать его.
Наибольшие перспективы как направление исследований психического имеет направление, использующее методы неосознаваемого предъявления тестирующей информации. Широко известны в этой области работы Э.А.Костандова, N.Dixon, H.Shevrin и других. На основе этих работ строятся концептуальные модели,
77
И. В. СМИРНОВ ___ -
конкурирующие с традиционными психоаналитическими постулатами по эффективности своих практических применений.
Перспективным является также направление, использующее измененные состояния сознания для исследования семантической памяти (S.Grof, Д.Л. Спивак и др.).
В науках о психическом уже созрели все условия для появления таких методов исследования, которые позволили бы получать истинную, объективно характеризуемую информацию, не искаженную сознанием субъекта и не ограниченную искусственными условиями эксперимента. Такие методы дадут возможность исследования неосознаваемых психических процессов инструментальными средствами. Следовательно, возникает новый взгляд на природу и механизмы психических процессов, в том числе патологических. Это дает возможность создания новых средств модификации памяти и поведения, столь необходимых как фундаментальной науке, так и ее практическим приложениям.
Одним из наиболее перспективных построений на этом пути является теория конструктов Келли, на основе которой возник метод психосемантического исследования — репертуарные решетки. К числу других употребляемых в настоящее время психосемантических методов относятся методы, основанные на принципе семантического дифференциала Осгуда, метод незавершенных действий и др. Психосемантический подход, заключающийся в анализе психической деятельности с точки зрения конструкции смыслов в ней, предоставляет исследователю возможность рассматривать расстройства связей и, следовательно, значений отдельных семантических элементов психики и как следствие, и как возможную причину психических и психосоматических нарушений.
Следовательно, инструментарий психоэколога всегда является семантическим: мы оперируем смыслами, измеряя психические явления, и мы оперируем смыслами, изменяя психические явления.
1. Можно ли создать такие инструментальные психосемантические методы, которые могли бы полностью удовлетворять принципу функциональной пробы, и что они могут дать для исследования механизмов психической деятельности и их нарушений?
2. Если принять за основу исследований психосемантический подход, то можно ли рассматривать психосемантические расстройства как типовой патологический процесс?
3. Если психосемантические расстройства являются для пси
78
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
хических нарушений типовым патологическим процессом, то можно ли, воздействуя семантическими факторами на психосемантические расстройства, получить терапевтический (корректирующий) эффект?
На эти вопросы можно найти ответы в книге «Психотехнологии» (Смирнов И.В. и др. М.: Прогресс, 1995). Здесь я кратко изложу суть основных инструментов для исследования психики.
В соответствии с десятью постулатами психоэкологии, изложенными в конце второй главы, для измерения психической деятельности необходимо воздействовать на психику по принципу функциональной пробы, т.е. предъявлять семантические стимулы — слова, образы, запахи и прочие сигналы. Необходимо регистрировать и оценивать любую реакцию, возникающую при восприятии сигнала. Затем нужно сопоставить предъявленные сигналы и полученные реакции. Затем надо думать, а что бы это сопоставление значило.
Таковы исходные посылки для изучения психической деятельности, которые могут позволить получать информацию о ее семантических элементах без учета традиционного разделения на мотивационную, волевую, познавательную сферы. Истоки такого подхода заложил Л.С.Выготский: «...существует динамическая смысловая система, представляющая собой единство аффективных и интеллектуальных процессов,., во всякой идее содержится аффективное отношение человека к действительности, представленной в этой идее.» (1956).
Практически основой любого алгоритма зондирования психики (психозондирования) являются:
1) анализ семантических полей;
2) анализ неосознаваемых реакций;
3) неосознаваемое предъявление тестируемых стимулов;
4) возможность искусственного придания конкретным стимулам нового сигнального значения с целью шкалирования психосемантических элементов относительно этих реперных стимулов (опорных точек отсчета).
Почему при обзоре психосемантических исследований особое внимание привлекают работы, посвященные неосознаваемой психической деятельности?
Во-первых, существуют известные профессиональные (этические и деонтологические) ограничения на степень осведомленности о сущности применяемого метода психодиагностики непро-
79
И.В. СМИРНОВ =======__==
фессионалов и тем более пациентов, психическому здоровью которых эта осведомленность может нанести вполне конкретный ущерб (Общая психодиагностика, под ред.Бодалева А.А., Сталина В.В.).
Во-вторых, при осознаваемых тестирующих стимулах у испытуемого существует реальная возможность произвольно модифицировать ответные реакции и тем самым предопределить искаженную диагностическую интерпретацию результатов.
В-третьих, при осознаваемом предъявлении семантических стимулов, часть из которых заведомо будет очень значима и эмо-циогенна для пациента, неизбежно включится тот самый «цензор» Костандова — все виды психической защиты. Результаты при этом будут отражать особенности именно этой защиты, а вовсе не распределение семантических структур в памяти субъекта. Здесь напрашивается прямая аналогия с ситуацией, наблюдающейся при обследовании больного с явлениями «острого живота»: пальпация живота из-за защитного дефанса брюшной стенки дает информацию только о состоянии этой стенки, но не о состоянии внутренних органов. Результаты, получаемые при психодиагностике на фоне психической защиты, дают мало информации для выяснения механизмов патологического процесса, хотя и имеют самостоятельную научную ценность при изучении механизмов психической защиты.
Не существует психодиагностических приемов, достаточно защищенных от сознательной фальсификации или неосознанной модификации результатов испытуемым или полного отказа от обследования (за исключением процедур, проводимых в специально измененных состояниях сознания).
Опросники, как, например, MMPI, могут быть легко «забаллотированы» как полным отказом от ответов, так и их сознательной или бессознательной фальсификацией, что и отражается в соответствующих шкалах. Этого недостатка не лишены и наиболее современные психосемантические методы, основанные на решетках Келли.
Методы, включающие, наряду с субъективным отчетом, также и объективные критерии (время реакции, физиологические параметры и пр.), тоже могут дать ложные результаты по тем же причинам, особенно при работе с подготовленным испытуемым. Так, при определении мысленно загаданного символа с помощью детектора лжи (Smith) из предъявленных четырех символов удается его идентифицировать только в 73% случаев (Davis), из пяти 80
__________психоэкология
предъявленных — в 64% (Gustafson, Orne), из шести — в 50% (Kugelnass, Lieblich). В специальном исследовании, посвященном перспективам и достижениям в технике детекции лжи (Barland, Raskin), получили коэффициент корреляции 0,85 между пятью экспертными решениями о виновности «воров» и их физиологическими реакциями.
Приведенные данные получены в экспериментах с нетренированными субъектами. У тренированных существуют большие возможности сознательного управления физиологическими функциями, что еще больше может повлиять на результаты. Поэтому есть веские основания считать, что для выяснения механизмов патологических процессов в психике применение неосознаваемых стимулов в семантических методах оправдано.
Как же наиболее эффективно использовать неосознаваемые стимулы для психосемантических исследований?
Ясно, что механическая замена осознаваемых посылок на неосознаваемые невозможна хотя бы потому, что реакции на неосознаваемые стимулы существенно менее детерминированы и поэтому для их выделения из физиологического шума требуются дополнительные ухищрения: статистическое усреднение, фильтрация и мн.др. Кроме того, использовать общепринятые психосемантические методы в процедуре неосознаваемого предъявления стимулов вообще невозможно, так как любой такой метод подразумевает активный выбор, формулировку, поиск ответа и другую сознательную деятельность субъекта. Поэтому, несмотря на соблазн использовать появляющиеся в последнее время семантические словари, тезаурусы личностных черт (А.Г.Шмелев и др.), невербальные (геометрические) семантические универсалии (А. Ю.Артемьева) и многое другое, необходимо иметь совершенно новые технологии психодиагностики.
Существуют методы, использующие принцип семантического обусловливания. Среди их описаний можно выделить основополагающие работы Razran, О.С.Виноградовой и других авторов, анализ исследований которых можно найти в обзоре А.Р.Лурия и О.С.Виноградовой. Простейшим видом семантического обусловливания является условная реакция на словесный раздражитель (Л.А.Шварц).
Для понимания сущности методов семантического обусловливания следует учитывать, что они в большинстве случаев включают генерализованные реакции на слово (Razran). Такие реакции, являющиеся условными реакциями непроизвольного типа, т.е.
4 Смирнов И В 81
И. В. СМИРНОВ________ -___________
соответствующие классическим условным рефлексам, в виде, например, развития кожно-гальванической реакции в ответ на слово, ранее сочетавшееся с безусловным подкреплением, возникают не только в ответ на это слово, но и на другие слова. Иными словами, выработавшаяся условная реакция возникает как на сам условный сигнал (слово, постоянно или только в процессе выработки сочетавшееся с безусловным раздражителем), так и на все слова, в какой-либо мере на него похожие. Схожесть обеспечивается, во-первых, фонетическим или орфографическим (в зависимости от способа предъявления) подобием, и, во-вторых, существованием в памяти человека большого количества сопряженных с данным словом ассоциаций.
«Эти комплексы ассоциативных значений, непроизвольно всплывающих при восприятии данного слова» (А.Р.Лурия), составляют семантическое поле данного слова. Любое слово, за редчайшими исключениями, приобретает свое денотативное (референтное) значение только в контексте, т.е. в сочетании с другими словами (коннотативными). Так, слово «ключ» как омоним имеет по крайней мере три значения: средство открывания чего-либо, родник и дескриптор шифра. Такой омоним становится денотатом только в сочетании с коннотативными словами в соответствующих фразах: «ключ бил из земли», «ключ в замочной скважине», «подобрать ключ к коду».
Если одному из омонимов (каковыми является большинство слов в большинстве языков) присвоить значение условного сигнала, например, сочетая его неоднократно с болевым раздражением, то при регистрации любых компонентов оборонительной реакции они будут обнаружены и при пропуске ноцицептивного подкрепления, т.е. только при предъявлении данного слова. Но, поскольку любое слово фигурирует в памяти в некоем семантическом поле, оборонительная реакция в той или иной мере будет развиваться и при предъявлении других слов из данного семантического поля.
В семантические поля входят наиболее частые в данное время у данной популяции коннотативные поля. Так, денотату «жигули» в наше время сопутствуют коннотаты «машина», «пиво», а не «горы». Этот пример предполагает исключение — наличие иных коннотатов слова «жигули» у людей, живущих в этом районе Поволжья. Из этого примера видно, как совершенно однозначное ранее слово («жигули») как название приобретает новые ситуационные или категориальные значения.
82
психоэкология
Если несколько раз сочетать предъявление слова «жигули» с электроболевым подкреплением, то кожно-гальваническая реакция будет наблюдаться и при пропуске подкрепления. Известно, что амплитуда КГР будет снижаться по мере увеличения количества неподкрепляемых слов. В том случае, если реакцию поддерживают на оптимальном для наблюдения уровне (на каждое не-подкрепляемое слово «жигули» возникает КГР), то такие реакции будут наблюдаться и на слова «машина», «пиво» и другие коннотативные слова, хотя их^вообще не сочетали с действием подкрепляющего раздражителя.
Предъявляя испытуемому все слова из тезауруса, в котором ядром семантического поля является слово “жигули”, можно шкалировать возникающие реакции и обозначать тем самым границы данного семантического поля. Обычно они довольно расплывчаты, т.к. включают непредсказуемый набор ассоциаций. Так, у одного из испытуемых как наиболее значимое (сопровождающееся устойчивыми КГР) слово определится слово «долг», и лишь при расспросе выясним, что при недавнем приобретении автомобиля «жигули» он крупно задолжал. У другого выявится ассоциативная связь этого слова с именем официантки в пивном зале, где испытуемый является завсегдатаем, и т.п.
Такова суть объективных методов исследования многомерных связей слова, начало которым было положено упомянутыми работами Razran, Riess, Л.А.Шварц, О.С.Виноградовой, А.Р.Лурия.
«Взаимопритяжения семантически близкого и взаимотталки-вания семантически далекого материала», по мнению Ж.М.Глоз-ман и др., обеспечивают «временно-пространственную организацию информации в памяти в форме временной или пространственной поляризации материала в семантически связанные группы», не зависящие от исходных условий предъявления слов и их сенсорного опосредования (акустического или визуального). Закономерности организации сложных связей между словами и образования семантических полей показаны в работе О.С.Виног-радовой.
Ее исследование состояло из двух этапов.
Вначале угашали сосудистые компоненты условно-ориентировочных реакций на слова путем повторного их предъявления вплоть до исчезновения фотоплетизмографической реакции в виде сужения сосудов пальца руки. Для этого здоровым школьникам требовалось до 15 повторов каждого слова и до 18 смен слов, причем всегда были слова, которые постоянно оставались
4*
83
И. В. СМИРНОВ________________________________________
значимыми, т.е. сопровождались сужением сосудов пальца (имя, фамилия, слова из школьного лексикона и круга интересов испытуемого),* а также неизвестные испытуемому или необычно произносимые слова. У детей, страдавших олигофренией разной степени выраженности, угашение носило дискретный характер: сразу после первого предъявления наблюдали генерализованное утешение ориентировочной реакции. На втором этапе вырабатывали условную двигательную реакцию на конкретное слово по инструкции типа: «Когда я скажу слово «кошка», нажми на кнопку». После 10-кратного повторения данного слова, ставшего теперь условным раздражителем, вводили дифференцировочные слова, предъявляемые однократно на фоне нейтральных слов. Когда исчезали ориентировочные реакции на дифференцировочные слова (у олигофренов это происходило быстрее), предъявляли «критические» слова, т. е. собственно тестируемые слова. Они делились на две группы:
1) слова, близкие по смыслу к основному раздражителю для слова «кошка» — «кот», «котята», «мурка», «собака», «мышь», «корова», «животное» и пр.;
2) слова, близкие по звучанию к основному раздражителю: для слова «кошка» — «кошелка», «каштан», «крошка», «крышка», «окошко» и т. д.
У всех 12 психически здоровых школьников двигательная и сосудистая реакции возникали только на слово «кошка». После предъявления слов, сходных по звучанию со словом «кошка», сосудистая реакция не возникала. На слова, схожие по смыслу, всегда развивалась сосудистая реакция при отсутствии двигательной. Этот факт, по мнению автора, говорит о преобладании элективных связей между словами у здоровых школьников 11-14 лет (как и у взрослых). У олигофренов наблюдали преимущественно связи по созвучию или оба типа связей. Нечто подобное наблюдали у очень утомленных детей, когда происходила замена связей более высокого порядка на связи по созвучию.
О.С. Виноградова показала в данной работе, что состояние ус-» ловно-интактного здорового испытуемого характеризуется преобладанием смысловых связей между словами над связями по созвучию, при этом соотношения слов в семантических полях ди-г намически флюктуируют в зависимости от функционального со-» стояния испытуемого и контекста среды. В работе О.С. Виноградовой и Н.А.Эйслер использовали одновременную фотоплетизмографию сосудов пальца и области разветвления височной и 84
психоэкология
=^=—
лобной артерий. Авторы утверждают, что ориентировочная реакция сопровождается сужением сосудов пальца и расширением сосудов лба, а оборонительная — сужением и тех и других сосудов. Применяли безусловное болевое подкрепление импульсами электрического тока частотой 100 Гц при длительности импульса 0,2 мсек и напряжении от 40 до 80 В в течение 5 сек. Опыты проводили на 7 студентах. Сначала угашали ориентировочную реакцию без подкрепления, затем угашали ориентировочную реакцию, возникающую на факт подкрепления. Через 18-27 сочетаний слова «скрипка» с отставленным по времени ударом тока формировалась условная оборонительная реакция, регистрируемая в виде одновременно наблюдаемого сужения сосудов пальца и лба. Для выработки оборонительной реакции требовалось от 3 до 4,5 часов.
После этого в процедуру опыта среди нейтральных слов, наряду с подкрепляемым словом «скрипка» включались:
1) слова, сходные по звучанию — «скрепка», «стрижка», «скрытность» и т.п.;
2) слова, прямо связанные с условным сигналом — «струна», «смычок», «скрипач»;
3) отдаленно связанные по смыслу слова—«музыка», «оркестр» и др.
В первом опыте наблюдали три уровня связей с основным слог вом-раздражителем: созвучные словане вызывали оборонительных и ориентировочных реакций (кроме слова «скрепка», которое в силу большой близости слову «скрипка» иногда вызывало ориентировочную реакцию); вторая группа слов вызывала такую же оборонительную реакцию, как и слово-раздражитель, подкрепляемое ударом тока, третья группа слов вызывала ориентировочную реакцию.
В течение следующих опытов угасали оборонительные, а затем и ориентировочные реакции на все слова, кроме слова «скрипка», которое продолжали сочетать с ударом тока. Однако оказалось возможным, меняя подкрепляемое слово, вновь формировать новые иерархии значений, которые, в свою очередь, подвергались постепенной инволюции.
Авторы показали, что сосудистые реакции, служащие критерием наличия связей того или иного характера, являются более дифференцированными, чем словесные реакции испытуемых. Авторы оставляют этот вопрос открытым и ссылаются на работу, В которой это явление объясняют возможностью «бессознательного» замыкания связей.
85
И. В. СМИРНОВ _______________
Анализ этих работ и их аналогов приводит в своей монографии А.Р. Лурия, отмечая, что при слишком интенсивной переделке семантических полей путем частой смены подкрепляемого слова происходит полная дезорганизация сосудистых реакций и на плетизмограмме появляются «дыхательные волны», свидетельствующие о наличии высокого эмоционального напряжения и возможности «срыва». Т.Н.Ушакова и А.М.Раевский модифицировали эксперимент Виноградовой-Эйслер путем введения инструкции, по которой испытуемый должен был отвечать словом «да» в ответ на предъявление слов, наименее связанных с подкрепляемым словом «скрипка». В другой серии испытуемому сообщали, что после слова, наименее связанного со словом «скрипка», последует электрический удар. Анализ результатов показал, что после наименее связанных со словом «скрипка» слов возникали ярко выраженные оборонительные реакции. Это подтверждает возможность существенной модификации семантических полей внешними воздействиями, вт.ч. семантическими стимулами второй сигнальной системы — словами.
По мнению А.Р.Лурия, фатальными для существования целостной замкнутой смысловой системы являются не те повреждения мозга, которые приводят к повреждению отдельных компонентов или операций речевой памяти (морфологической, лексической, фонематической, синтаксической и семантической) — задние отделы мозга, — а те, которые сопровождаются «просоночными состояниями» — глубинные структуры мозга и особенно лобные доли — и вызывают дезорганизацию целенаправленной мнести-ческой деятельности. Этот нейропсихологический аргумент, подтверждающий влияние глубоких структур мозга на семантические поля, следует учесть при изучении механизмов влияния измененных состояний сознания и эмоций на иерархию семантических элементов. А где «целостная замкнутая смысловая система» у Гоши Г., случай которого описан во второй главе?
Tulving понимал семантическую память как тезаурус субъекта, характеризующий его личный опыт о словах и их связях. Он отметил, что семантическая память на входе регистрирует только семантику стимула независимо от его физической и сенсорной модальности. “В настоящее время не подлежит сомнению, что человеческая память, прошлый опыт человека организован по семантическому принципу. В этом смысле не случайно выделение такой семантической рубрики как «семантическая память» (А.Г.Шмелев и др.)
86
психоэкология
Мы уже показали, что изучать семантическую память, судя по данным литературы, можно различными методами. По классификации А.Р. Лурия они делятся на три группы: ассоциативные, методы шкал и объективные. Эта дидактическая градация по сей день верна, т.к. все современные методы исследования семантической памяти построены на этих трех китах (см., например, монографию В.М.Величковского). В связи с этим нетрудно интерпретировать в более привычных понятиях и следующее рассуждение: «язык способен группировать ранее разрозненные референты и объединять их в едином новом топике, относительно которого можно сделать коммент” (Брунер Дж.С.).
«Психологический словарь» (1983) определяет: “Психолингвистическое понятие «семантическое поле» представляет собой совокупность слов вместе с их ассоциациями («ассоциатами»). Имеется несколько попытокэкспериментально определить субъективные семантические поля и связи внутри них с помощью методов ассоциативного эксперимента (Дж.Диз) и условного рефлекса (А.Р.Лурия, О.С.Виноградова)».
Существенным выигрышем такого подхода на практике является то, что результаты исследования представлены в виде вербальных эквивалентов изучаемых психосемантических элементов.
Для полноценного психосемантического анализа, сопряженного с необходимостью оперирования огромным тезаурусом вербальной и иной семантической информации и одновременным анализом в реальном времени больших массивов аналоговой физиологической информации, необходимы компьютеры с предельными для настоящего времени техническими возможностями. На персональном компьютере это можно делать лишь фрагментами.
При наличии инструментальных средств исследования психики стало возможным изучение информационных (семантических) нарушений. Наконец станет возможным закрыть пробел, существующий в патофизиологии высшей нервной деятельности. Г.Н.Крыжановский пишет: «Специфическим для человека патогенным фактором, действующим через вторую сигнальную систему, является слово. Патогенными могут быть раздражители, действующие через первую сигнальную систему; они могут вызвать условно-рефлекторные нарушения чувствительности, движения и пр.». Автор отделяет первичные патогенные факторы (яды, гипоксию, антигены и др.) от вторичных, которые появляются в самой ЦНС после повреждающего воздействия в ходе патологического
87
И. В. СМИРНОВ_______________________________________
процесса. Среди последних автор упоминает длительно действующие психогенные факторы, вызывающие изменения высшей нервной деятельности, невротические состояния и психозы. Автор считает, что все патологические процессы в нервной системе развиваются по двум типам: по типу «полома» и по типу объединения поврежденных и неповрежденных образований в патологическую систему.
Г.Н.Крыжановский выделяет следующие типовые патологические процессы в деятельности нервной системы:
1) Дефицит торможения. Растормаживание. При возбуждении нейрона происходит ослабление тормозных механизмов, имеющее физиологический характер. Растормаживание, имеющее патологический характер — это такое растормаживание, при котором структура становится малоуправляемой. Условием последнего является дефицит торможения (первичный, например, при действии столбнячного токсина, и вторичный, когда чрезмерная активность нейтрализует тормозный контроль). Дефицит торможения и, следовательно, растормаживание имеют место практически при всех формах патологии высшей нервной деятельности и участвуют в формировании генераторов патологически усиленного возбуждения. Каждый отдел ЦНС оказывает на другие, связанные с ним отделы, как возбуждающее, так и тормозящее влияние. Одно из следствий этого принципа в условиях патологии заключается в том, что при повреждении отдела ЦНС возникает не только ослабление функции этого отдела и активизируемых им структур, но и растормаживание тех структур, которые испытывают тормозные влияния со стороны поврежденного образования. Другое следствие состоит в том, что при выпадении (принцип двойственной функциональной посылки Крыжа-новского) тормозных влияний могут появляться и превалировать скрытые (тормозимые) в норме возбуждающие эффекты. Характерным экспериментальным синдромом растормаживания является децеребрационная ригидность (после перерезки ствола мозга между передним и задним четверохолмием по Шеррингтону). При шизофрении и маниакально-депрессивном психозе происходит экспрессия патологических генов (растормаживание измененного генетического аппарата).
2) Денервационный синдром. Комплекс изменений в постсинаптических нейронах, органах и тканях после выпадения функциональных влияний. Нейролептики (бутирофеноны, фенотиазины) вызывают фармакологический денервационный синдром из-88
психоэкология
за блокады дофаминовых рецепторов. Кроме выпадения функций, при денервационном синдроме происходит и растормаживание денервированной структуры. Повышение их чувствительности (закон Кеннона-Розенблюта) имеет место не только в отношении других биологически активных веществ. Возникающее при фармакологической денервации в условиях применения лечебных средств “компенсаторное” увеличение числа рецепторов может привести к рецидиву синдрома, если последний связан с усиленным эффектом нейромедиатора. Так бывает при длительном лечении шизофрении нейролептиками в высоких дозах.
3) Деафферентация. Широко известны клинические наблюдения и экспериментальные исследования, показывающие развитие глубокого торможения при сенсорной депривации.
4) Спинальный шок. Глубокое, но обратимое выпадение двигательных и вегетативных рефлексов ниже уровня перерезки.
5) Нарушения нервной трофики. Нейродистрофический процесс. Развивается вследствие выпадения или нарушения нервных влияний как следствие: а) прекращения функциональной стимуляции в связи с нарушением выделения или действия медиатора; б) нарушения секреции или действия комедиаторов; в) нарушения выделения и действия трофогенов.
К настоящему времени, как мы видим из данной работы Г.Н. Крыжановского, накоплено достаточное количество экспериментальных фактов и клинических наблюдений для того, чтобы выявить среди них общие закономерности и рассмотреть их как определенные типовые процессы.
Однако среди этих процессов всегда присутствует еще один процесс, в котором основным патогенным механизмом является нарушение семантической структуры психики. Это легко допустить, памятуя об известном действии слова как патогенного фактора. Ведь само слово не содержит никаких биологически активных действующих начал, которые могли бы непосредственно инициировать какой-либо из вышеописанных типовых процессов.
Ясно, что в случае повреждающего действия слова любые возникающие при этом патологические проявления первоначально опосредуются семантическими элементами психики, ведь никакого иного акцептора для слова в психике нет!
Важно при этом помнить, что слово как патогенный фактор не обязательно должно являться внешним семантическим воздействием. Например, необязательно наличие какого бы то ни было внешнего раздражителя для того, чтобы ранее развившийся инт-
89
И.В. СМИРНОВ___________________________________________
рапсихический конфликт постоянно травмировал психику и сому пациента. В последнее время стали отдавать предпочтение трактовке патологических механизмов неврозов как информационных нарушений. Однако выделить их в самостоятельный типовой процесс и приблизиться к пониманию механизмов этих нарушений препятствовало отсутствие инструментальных методов исследования семантической структуры психики. Только с появлением таких методов и концептуальных подходов оказалось возможным придать физический смысл «слову как патогенному фактору», «взвесить» слово.
В этом случае закроется значительный пробел между огромным количеством нейрохимических, патофизиологических, нейропсихологических, психиатрических и иных сведений о тех болезнях, когда ничем, кроме информационных нарушений, изменения состояния и поведения больного объяснить не удается, и не менее колоссальным набором умозрительных психологических гипотез и теорий.
Познав механизм таких нарушений, можно наметить пути их коррекции. Для этого среди психоэкологического инструментария должен быть набор технических средств воздействия, позволяющий прицельно влиять на смыслообразование и перестраивать иерархию смыслов.
В чем принципы действия таких средств?
В хорошо известных особенностях нейро- и психофизиологии.
Например, касательно визуальных средств психокоррекции следует учитывать, что в тех случаях, когда воображение и восприятие обеспечиваются одними и теми же механизмами зритель-чой системы, воображение может ускорять протекание перцептивных процессов. Поэтому необходимо попытаться определить гот нижний уровень функционирования зрительной системы, на котором эти механизмы могут быть одинаковыми. Зрительное восприятие может, например, рассматриваться как упорядоченная последовательность процессов переработки информации в направлении от низших к высшим уровням зрительной системы. Основываясь на такой схеме, можно начать с выяснения того, насколько глубоко формирование образа может затрагивать механизмы, обеспечивающие функционирование системы на низших уровнях.
На самом нижнем, сетчаточном уровне, где обнаруживаются самые примитивные механизмы переработки информации, трудно ожидать проявления сколько-нибудь выраженного эффекта 90
_______психоэкология формирования образа. Едва ли можно ожидать, что воображение может как-то сказываться на подкорковых уровнях, где работают механизмы обнаружения изменения по яркости или контрасту. Эффекты воздействия умственного образа на восприятие начинают обнаруживаться только на более высоких уровнях, где происходит распознавание образов (как, например, в зрительной коре). Что же касается высших уровней, то можно уверенно говорить о влиянии умственного образа на восприятие.
На самых высших уровнях перцептивные процессы взаимодействуют с более абстрактными психическими процессами, имеющими отношение к уже имеющемуся, прошлому знанию о физических объектах и их пониманию. Здесь полезно различать форму и функцию умственного образа. Когда человек решает сформировать умственный образ конкретного объекта, то характер этого образа будет зависеть от того, что знает данный человек о данном объекте — о его размере, цвете, форме и т.д. Когда же образ сформирован, он может функционировать в определенных отношениях как реальный объект, вызывая активацию некоторых типов нейронных механизмов на нижних уровнях зрительной системы. Соответственно ограничения, налагаемые этими механизмами на качество восприятия объекта, налагаются и на воображение. Именно так умственные образы могут приобретать характеристики зрительных и использоваться для изменения характера восприятия. Иными словами, технологически корректно оперируя высшими смысловыми структурами, уже составляющими предшествующий опыт биообъекта, нетрудно тем или иным путем замаскировать от критики сознания принципиально новую для человека и неожидаемую информацию и за счет многократных ее предъявлений вставить эту информацию в структуру психики, придав ей определенное значение, а в ряде случаев даже установив связи с имеющимися базовыми ценностями личности. Такой принцип используется в психотехнологии диспарантного видеовоздействия в телевизионном изображении. Это позволяет, минуя сознание субъекта, отвлеченное на слежение за ходом сюжетной линии движущегося изображения, одновременно ввести распределенную во времени и пространстве по всем кадрам (диспарантную) систему образов, необходимую, например, для достижения психотерапевтических целей.
Особенности действия акустических средств психокоррекции также основаны на психосемантических построениях, хотя их техническая реализация совершенно иная. То же относится к ол ьфак-
91
И.В. СМИРНОВ___________________________________________
торным средствам воздействия, хотя из-за сложности реализации они не имеют практического применения. Даже наборы точек акупунктуры, куд^ втыкают иголки при ре^^лексотерапии, по идее безвременно ушедшего профессора Владимира Ивановича Ильина можно рассматривать как пространственно распределенный тактильный семантический код.
Таким образом, весь инструментарий психоэкологии делится на две группы:
1) измерительные методы исследования психических явлений;
2) измеряемые (шкалируемые) методы воздействия на психические явления.
Это чисто дидактическое деление, поскольку даже пассивные диагностические методики имеют элементы воздействия и происходящее в психоэкологии гораздо сложнее, чем описано в этой главе.
«К сожалению, построения живого мира настолько сложны и оригинальны, что смысл их выясняется обыкновенно лишь после того, как физики и техники придут другими путями к другим результатам» (Введенский Н.Е.).
«К сожалению, хорошие вещи, придуманные русскими, используются русскими лишь после того, как их вновь придумают иностранные» (И.В.Смирнов).
92
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
Глава 4. КАК ИЗМЕРЯТЬ ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Как описано выше, все измерительные методы исследования психики по сути своей являются функциональными пробами.
Функциональная проба мозга на наличие скрытой информации осуществляется так:
1) Вы предъявляете человеку строго организованную последовательность семантических стимулов, например, словили образов;
2) Вы регистрируете эквивалентное числу семантических стимулов количество реакций, каждая из которых возникает в ответ на действие каждого стимула, причем в качестве реакций используете либо физиологические параметры (например, связанные с событием вызванные потенциалы головного мозга или ритм сердечных интервалов), либо поведенческие параметры (например, время сложной зрительно-моторной реакции различения при нажатии на кнопку или интегральную баллистограмму);
3) Вы статистически анализируете результаты и соотносите семантически однородной группе стимулов эквивалентные им группы реакций;
4) Вы устанавливаете, что определенная группа реакций (например, соответствующая предъявлению человеку стимулов, связанных с представлениями о наркотиках) статистически достоверно отличается от других групп, и диагностируете тем самым наличие акцентного локуса латентной информации (АЛЛИ), вызванного особым отношением к наркотикам.
Такова принципиальная последовательность обнаружения скрытой информации (АЛЛИ). Ясно, что, если в четвертом пункте в качестве примера будет фигурировать у русского человека АЛЛИ на слова, написанные на турецком языке, то перед вами — турецкий шпион и т.п.
Кроме АЛЛИ, на графике или в таблице вы получаете распределение сфер значимости обследованного человека. Выражаясь бытовым языком, вы измеряете эти сферы значимости и делаете вывод, что на момент обследования ваш субъект наиболее позитивно относился к образу своей жены и негативно — ко всему, что связано с деньгами и долговыми обязательствами. И так далее.
93
И. В. СМИРНОВ ___________________
В мире существует немало методов, основанных на принципе функциональной пробы (например, US Patent № 4699153, сопряженная моторная методика Виноградовой-Лурия и мн.др.), но практического значения в силу ряда технологических недостатков они не имеют, хотя и дают очень интересные с научной точки зрения результаты.
В чем же отличие наших функциональных проб?
В исключительно остроумной технологии вышеуказанных 4 этапов производства такой пробы. Только поэтому стало возможным ввести термин «психотехнологии» и использовать функциональные пробы для практического психозондирования (диагностики).
Кроме описания психосемантического статуса на момент обследования, представляет интерес и динамика результатов в ходе проведения нескольких процедур в процессе лечения больного или контроля функционального состояния здорового человека, что может быть использовано как основной критерий влияния на организм лечебных или патогенных воздействий. Разработанные нами функциональные пробы (варианты процедур психозондирования) могут различаться по методической и технической реализациям, но суть их основана на одних и тех же общих принципах, которые необходимо соблюдать при выполнении вышеописанных четырех технологических этапов:
1. Психозондирование полностью исключает возможность целенаправленного влияния сознания субъекта на процедуру обследования и ее результаты;
2. Субъект до полного завершения процедуры обследования не знает сути ее диагностической направленности (перечня семантических сфер, зондирование которых произведено);
3. Предъявление тестирующих стимулов осуществляется способами, исключающими осознанное восприятие их семантического содержания (необходимо маскирование);
4. Алгоритм процедур психозондирования использует синонимический тезаурус, т.е. каждая семантическая сфера представляется не одним стимулом, а совокупностью его синонимов и близких по смыслу слов или образов, которые 94
психоэкология
априорно семантически связаны между собой для популяции, к которой принадлежит обследуемый;
5. Алгоритм психозондирования включает в себя или вырабатывать в ходе процедуры реперные точки (точки отсчета). К их числу для большинства обследуемых могут относиться с высокой вероятностью: а) особенности реагирования на стимулы, связанные с образом «Я»; б) особенности реагирования на социально (морально, этически) неприемлемую информацию — брань, непристойные образы и пр.;
6. Предъявление семантических стимулов из заданной совокупности всегда рандомизировано путем случайного перебора стимулов, предназначенных для зондирования различающихся семантических сфер;
7. Процедура психозондирования имеет вероятностный характер, использует многомерный анализ статистических данных и содержит правила принятия решения по заданным критериям в отношении конкретных диагностических задач.
Подавляющее большинство средств изучения психики не является средствами измерения, т.е. не только не выдерживает метрологических требований, но и не создает возможностей для того, чтобы эти требования как бы то ни было осмысленно применялись. Это обусловлено тем, что вся информация, вводимая в память субъекта или выводимая из нее тем или иным способом, опосредуется его сознанием, а также сознанием исследователя. Сравнительно редким исключением среди огромной массы “осознаваемых” методов являются те из них, которые хоть как-то снижают модулирующие влияния сознания субъекта, используя маскировку, подпороговое предъявление стимульной информации, искусственное (с помощью медикаментов или гипноза) изменение состояния сознания и пр.
Существующие средства психосемантического анализа также опосредуются сознанием субъекта и в сильной мере подвержены влияниям его случайных прихотей (например, талантливые техники репертуарных решеток рано ушедшего от нас Владимира Ивановича Похилько).
Проблема валидизации психологических методов постоянно муссируется в литературе, что в отношении отдельных методов постепенно приводит к возможности добиться удовлетворитель-
95
И.В, СМИРНОВ _________________________________—
ных дисперсий результатов, особенно при номотетическом подходе. Последний подразумевает ту или иную форму обобщения результатов применения какого-либо метода к большой группе лице целью получения нормативных величин. Что же касается идеографического подхода, когда в лонгитюдных исследованиях используют многократное применение одного метода к одному субъекту, влияние случайных факторов резко возрастает и надежность таких методов стремится к нулю.
Исключением являются методы изучения семантической памяти, основанные на процедуре неосознаваемого ввода стимульной информации. Однако ни один из известных нам методов не является завершенным технологическим процессом, что, по-видимому, и ограничивает рамки их применения научно-исследовательскими задачами.
Сложность развития психосемантических методов усугубляется тем, что при изучении семантической памяти на животных преобладают сугубо этологические методы, при которых изучаемые явления опосредуются естественным или вынужденным поведением биообъекта и только лишь.
Поэтому, чтобы решать задачи психоэкологии, пришлось на основании минимально достаточных концептуальных моделей разработать прямые измерительные методы анализа (психотехнологии). Остановлюсь на этом кратко, поскольку подробное изложение можно найти в моих ранних работах.
Принято считать, что, поскольку вторая сигнальная система у животных отсутствует, они более ограничены в средствах коммуникации, чем человек. Однако многочисленные работы, см.например, обзоры Е.Н.Панова и А.А.Никольского, показывают, что животные располагают значительным тезаурусом сигналов, в т.ч. акустических, которыми они пользуются для коммуникаций. Вокализации животных в последнее время принято считать прототипом вербального языка человека, а при наличии у высших животных элементов рассудочной деятельности (Крушинский Л .В.), вопрос об отсутствии второй сигнальной системы приобретает схоластический характер.
Тем не мёнее, прямые измерения в семантической памяти животных существенно отличаются от таковых у человека. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что большинство физических характеристик сигналов, доступных органам чувств животного, резко отличается не только от характеристик сигналов, которыми оперирует человек, но и от возможностей традиционной аппарату-96
нупли^или1 ия
ры. Так, например, сделать качественную фонограмму нескольких вокализаций лабораторной крысы технически довольно сложно, поскольку динамический диапазон наиболее употребляемых средств аудиозаписи ограничен сверху 16-20 КГц, а спектральный состав вокализаций крысы простирается до 40 КГц (т.е. частота дискретизации звукозаписывающих систем в соответствии с правилом Найквиста должна превышать 80 КГц). Человек не реагирует на микроволны в качестве носителя семантической информации, а крысы на них способны реагировать, и т.д. Даже физиологические характеристики животных, необходимые для некоторых психосемантических методов, могут сильно отличаться от таковых у человека. Например, кожно-гальванической реакции по Фере у большинства лабораторных животных нет, так как отсутствуют необходимые для этой реакции потовые железы (у отдельных собак и крыс на подушечках лап, судя по отдельным данным (Слынько П.П.) они имеются, но нам в сотнях опытов ни разу не удавалось наблюдать на животных КГР по Фере в классическом виде).
Кроме того, практически не изучены физические и семантические характеристики конкретных зоосигналов, в отличие от вербальных сигналов человека. В работе Р.С.Рижинашви-ли и Г.А.Марсалишиили (1982), например, упомянуто, что птенцы испускают при появлении движущегося объекта звуки довольства низкого тона, а по прошествии сенситивного периода — звуки недовольства. Нет уверенности в том, что с помощью технических средств можно полноценно воспроизвести подобные звуки без громоздких побочных исследований. Возможно, именно поэтому при анализе корреляций между исследованиями на животных и на человеке какие бы то ни было сопоставления психических явлений даже не упоминаются (Dubowitz), такие корреляции являются нонсенсом для подавляющего большинства современных психиатров и даже психологов, хотя каждый из последних теоретически обучен основным экспериментам Скиннера и другим зоопси-хологическим и этологическим методикам.
До сих по неясно, какой сенсорный канал доминирует при зоокоммуникациях, поскольку существует большое количество сведений о способностях животных различать сложно модулированные сигналы не только в области известных человеку органов чувств, но и в области магнитных и электрических полей (магнетиты в твердой мозговой оболочке и при-
97
И. В. СМИРНОВ -
даточных пазухах носа), а также исчезающе малых концентраций ольфакторных факторов (Котенкова Е.В.) и др.
Вероятно, поэтому Dixon ограничивает возможные психиатрические модели на животных только этологическими методами, основанными на оценке уровня внутригрупповой изоляции животных по аналогии со снижением коммуникативности у психически больных. Наименее бесспорным с точки зрения моделирования на животных является вопрос о наличии у них эмоций (по мнению Wolf, по крайней мере, у высших позвоночных).
В наших экспериментах на животных мы наблюдали семантические взаимоотношения, при которых уровень значимости сигналов был достаточен для существенного изменения состояния воспринимающей особи. Предположительный механизм таких явлений заключается в своеобразном семантическом резонансе, когда воздействующий сигнал, независимо от своей физической природы, актуализирует либо эквивалентные ему элементы тождественной психосемантической матрицы, либо в силу своей уникальной значимости приводит к актуализации основных матриц танатогенеза.
Для того, чтобы как-то модифицировать состояние и/или поведение биообъекта, сигнал должен попасть в строго соответствующую ему зону памяти (семантическое поле). Только в этом случае он не будет расценен как контекстовый и в соответствии с величиной своей значимости в той или иной мере актуализирует соответствующую ему психосемантическую матрицу, что и проявится в изменении состояния или поведения биообъекта. Во всех остальных случаях сигнал является контекстовым, независимо от физической природы его носителя и его физической мощности.
Восприятие семантической информации обусловлено наличием тождественных или совпадающих по элементам психосемантических матриц, формируемых при предшествующем научении.
Иначе говоря, только наличие в семантической памяти того и Другого биообъекта тождественной информации (одинаковый опыт) позволяет им в полной мере обмениваться сигналами. По мере удаления структуры этих матриц друг от друга эффективность взаимодействия снижается до полного исчезновения при эксперименте на необученных биообъектах. Позже я более подробно объясню это.
Для психики человека в рамках психологических парадигм такое явление описывают как взаимодействие сигнала-денотата с 98
психоэкология
соответствующими ему коннотатами. При этом имеют в виду преимущественно вербальные сигналы, что несущественно. Механизм взаимодействия принципиально одинаков и не зависит ни от физического носителя семантического сигнала, ни от конкретной формы сигнала (вербальной у человека или вокализационной у животного).
С этой точки зрения проблема второй сигнальной системы является достаточно условной и характеризует только количественную разницу в иерархии символов, которыми могут располагать разные виды биообъектов.
С точки зрения здравого смысла сигналы, не являющиеся стимулами адаптивного поведения, должны восприниматься как контекстовые, не сопровождаясь при этом существенными изменениями состояния (иначе жизнь была бы невозможна). В тех случаях, когда мы наблюдаем неадаптивное поведение («смерть сочувствия» по М.М.Хананашвили) или.не обусловленные ноцицептивным фактором изменения состояния, можно думать о наличии тождественных психосемантических матриц, аналогичных патологическим при нарушениях поведения. Существует также вероятность актуализации какой-либо матрицы жизнеобеспечения или танатогенеза при поступлении в память сигнала исключительной значимости. По аналогии приведем пример с хорошо известными аудиогенными судорогами у мышей и крыс (там действуют энергетические, а не семантические стимулы, т.е. не сигналы). Судороги и даже гибель, возникающие при сильном звуковом воздействии у отдельных особей (особенно при наличии генетической предрасположенности у определенных линий животных) ни в коей мере не являются адаптивным поведением. В наших экспериментах уже семантический сигнал с существенно более слабыми энергетическими характеристиками вызывает в сущности то же самое — актуализацию матрицы, не эквивалентной какому-либо адаптивному поведению.
У человека в определенных жизненных ситуациях семантические сигналы, обычно контекстовые, становятся значимыми в силу не учитываемых исследователем причин. Одной из таких причин может служить контекстовое научение, когда физический носитель семантической информации имеет слишком малую мощность или сигнал по иным причинам недоступен пользователю. Под этим я имею в виду все случаи подпорогового неосознаваемого восприятия у человека. Тем не менее, в большинстве психодиагностических и психотерапевтических методов используют именно
99
И. В. СМИРНОВ_______________________
семантические факторы, которые никак не шкалируются в отношении конкретной личности.
Существующие методы основаны в основном на эмпирических представлениях. Исследования сенситивных ситуаций на людях, когда возможен импринтинг и формируются те или иные пси-хосёмантические, в том числе патологические матрицы, практически невозможны. Поэтому мы вынуждены были прибегнуть к экспериментальному моделированию таких матриц на животных для того, чтобы иметь какие бы то ни было реперные точки для последующих измерений. Применительно к человеку это означает необходимость в каждой процедуре психозондирования искусственно создавать акцентный локус латентной информации (АЛЛИ) в качестве репера, относительно значений которого можно измерять (шкалировать) другие сферы значимости.
Но, прежде чем разрабатывать экспериментальные модели, необходимо было создать приемлемые практические средства исследования семантической памяти, технологические этапы и принципы которых описаны выше.
Методы психодиагностики за прошедший век получили значительное развитие, обусловленное потребностями медицины, психологии трудовой деятельности, спорта, а также множества прикладных задач узкоспециального назначения. Многие методы психодиагностики реализованы на компьютерной технике, что позволяет автоматизировать и ускорить процедуру обследования, обработку и интерпретацию данных. При этом в значительной мере ослабляется влияние специалиста, проводящего процедуру, на ее результат.
Наиболее распространенные методы психодиагностики направлены на изучение личностных характеристик, мотивов деятельности и отношений, особенностей социального поведения, отдельных профессиональных способностей, характеристик внимания, памяти и пр. В значительно меньшей степени разработаны подходы к изучению индивидуальных особенностей субъективного опыта'человека. Знание этих особенностей позволяет вскрыть ядро личности и выделить факторы, которые оказали влияние на ее формирование и определили ее актуальный статус. В этом отношении наиболее развиты лишь методы психоанализа, которые широко используются в клинической практике, где имеется возможность тонкой диагностики пограничных состояний. К методам психоанализа приближаются по эффективности разра-100
психоэкология
батываемые в последнее время психосемантические методы, например, репертуарные решетки Похилько-Келли (Франселла Ф., Баннистер Д.)
Однако все эти методы не позволяют осуществлять изучение глубокого и истинного содержания психической деятельности, которое в значительной степени определено содержанием неосознаваемых сфер психики обследуемого человека. Это связано с тем, что тестирующая информация, будучи доступна сознанию, неизбежно находится под его влиянием, то есть как бы редактируется сознанием, реакции обследуемого на тестирующие посылки (вопросы, сигналы, команды и пр.) соответственно вольно или невольно им изменяются. Поэтому получаемые результаты отражают не истинную картину бессознательного, а лишь попытку индивида казаться в глазах экспериментатора лучше, хуже, или соответствовать своему собственному образу «Я», оцениваемому на осознаваемом уровне.
Поскольку основные мотивы поведения, интра- и интерпсихические конфликты, особо значимые эмоциогенные переживания находят отражение в семантической памяти именно на уровне бессознательного, все ищут средства и методы исследования этого уровня. В частности, разработаны и проводятся психоаналитические процедуры, например, в форме наркокатарзиса, в которых пациент под воздействием психофармакологических средств, вызывающих диссолюцию сознания, становится способен в ответ на вербальную провокацию со стороны специалиста раскрыть свои глубинные патологические комплексы. Подобием наркокатарзиса является редко используемая в отечественной психиатрии процедура амитал-кофеинового растормаживания, применяемая с лечебно-диагностическими целями. Эти методы исследования подсознания («развязывающие язык» по типу «сыворотки правды») трудоемки, чреваты медикаментозными осложнениями, а результаты их применения сильно зависят от искусства специалиста и ряда других факторов, что делает неприемлемым широкое их использование.
В силу этих причин различные исследовательские группы активно занимаются поиском более эффективных и приемлемых средств анализа бессознательного. При этом среди предлагаемых средств по определенным признакам выделяется группа методов, которые можно назвать методами психозондирования.
Каковы эти признаки?
В отличие от других, данные методы подразумевают ввод тес-
101
И, В. СМИРНОВ - --- .
тирующей информации непосредственно в исследуемую семантическую зону памяти без каких-либо искажений, исключив критику или иное модулирующее воздействие со стороны сознания. Обязательна также возможность «достать зонд» из изучаемой зоны памяти без помех со стороны сознания, иными словами, получить ответную реакцию, которая никак не могла бы быть модулирована сознанием субъекта.
Эти два условия — ввести тестирующую информацию, минуя сознание, и точно так же, минуя сознание, вывести ответную реакцию — в той или иной мере пытаются учесть при разработке различных методов психозондирования неосознаваемых сфер психики.
Оценивая степень выполнения эти условий, существующие методы психозондирования можно разделить натри группы,.оптимальной из которых с точки зрения целевого диагностического назначения является последняя группа:
1) тестирующую информацию предъявляют на осознаваемом уровне, а реакции, возникающие в ответ на ее воздействие, не осознаются субъектом и, следовательно, не могут быть им искусственно модулированы (сопряженная моторная методика А.Р. Лурия),
2) тестирующую информацию предъявляют на неосознаваемом уровне, а в качестве ответных реакций учитывают осознаваемую деятельность субъекта, которая модулируется этими неосознаваемыми посылками (например, учитывают время реакции нажатия на кнопку в ответ на недифференцированный сенсорный сигнал, которому предшествует неосознаваемая семантическая посылка (Воронин Л.Г., Коновалов В.Ф.),
3) тестирующую информацию предъявляют на неосознаваемом уровне и регистрируют неосознаваемые ответные реакции, например, в виде вызванных потенциалов головного мозга (Кос-тандов Э.А.).
Для практического использования методов психозондирова-ния необходима корректность технологического процесса в процедурах обследования (должны быть стандартизованы условия предъявления стимулов, определены эффективные средства статистического описания реакций, должна иметься обратная связь по результирующим параметрам реакций с семантическими характеристиками тестирующих стимулов и т.д.).
С этой целью мы разработали технологию проведения диагностических процедур, сочетающую достоинства всех перечис-102
психоэкология
ленных групп психозондирования (Смирнов И.В. и др.). При этом использовали такие технические усовершенствования, которые исключали какую-либо «привязку» или ориентацию обследуемого на конкретную диагностическую процедуру для того, чтобы избежать активации механизмов психической защиты.
Принципы алгоритмического построения разработанного метода в общем виде представляют собой совокупность следующих процедур:
— визуальные и/или акустические семантические стимулы (слова, образы), предъявляют испытуемому на уровне, обеспечивающем их восприятие, но исключающем их осознавание, при этом набор этих стимулов подготавливают заранее, исходя из поставленных диагностических задач;
— у обследуемого непрерывно регистрируют избранные физиологические или поведенческие реакции, например, электроэнцефалограмму, выделяя из нее вызванные потенциалы, возникающие в ответ на предъявление стимулов;
— из множества накопленных связанных с событием реакций выделяют те из них, которые по каким-либо характеристикам в соответствии с определенным алгоритмом распознавания достоверно отличаются от остальных;
— по корреляционным соотношениям выделенной совокупности реакций с предъявленной совокупностью семантических стимулов принимают статистически обоснованное решение по предмету диагностики.
В последнее время осуществляются попытки создания аналогичных методов психозондирования неосознаваемых сфер психики. В частности, исследователями из США в 1987 году была разработана «Система для определения вербальных психобиологических коррелятов» (вышеупомянутый US Patent № 4699153, H.Shevrin е.а.). Метод, положенный в ее основу, использует концептуальный аппарат психоанализа, байесовский подход к анализу реакций и требует предварительного проведения психоаналитического обследования. Наши психотехнологии обладают значительно более широкими возможностями за счет использования оригинального алгоритма организации и предъявления семантической информации, эффективных методов фильтрации физиологических сигналов и многомерного статистического анализа их параметров. Кроме того, мы предусмотрели возможность диагностики без регистрации электроэнцефалограммы на основе оценок сложных зрительно-моторных реакций обследуемого в ответ
103
И.В. СМИРНОВ ______^—=____________=______—
на стимулы. Наши процедуры не требуют помещения субъекта в экранированную от электромагнитных полей камеру и могут быть реализованы даже на ноутбуке.
В результате такого обследования могут быть установлены: наличие патологических мотивов (например, суицидального, алкоголизации, гомосексуального, наркотизации и пр.) и их иерархия среди основных исследуемых мотивов поведения. Возможно определение иерархии таких мотивов и у здорового человека, что представляет интерес при решении задач профотбора, профпрог-ноза и оценки надежности работы человека-оператора;
— наличие и семантическое содержание интра- и интерпсихических конфликтов у больных неврозами или людей, переживающих стрессовую ситуацию. У больных неврозами эта информация может быть прямо использована для целей психокоррекции. Получаемые данные могут быть также использованы для оценки социометрических характеристик коллектива, когда необходимо знание истинных (неосознаваемых) отношений между людьми, выполняющими ответственную работу и при этом зависящими друг от друга;
— сведения о «ядре» личности, которые в определенной мере сопрягаются с образом «Я» у данного субъекта и соответствуют глубоко импринтированной в его памяти информации. Это позволяет определить тип аутоидентификации личности и прогнозировать поведение субъекта в различных экстремальных ситуациях;
— актуальное содержание памяти, в котором, в частности, отражаются текущие потребности субъекта.
При разработке новых алгоритмов психозондирования мы всегда руководствуемся следующими практическими требованиями:
1) тестируемые стимулы должны предъявляться на неосознаваемом уровне (за исключением случаев, когда регистрируют неосознаваемые ответные реакции в процедурах неявного тестирования);
2) тестируемые стимулы должны быть заранее организованы в кластеры или это должно быть программно обеспечено в адап-> тивной процедуре; ।
3) должна быть обеспечена возможность регистрации как фи-^ энологических, так и поведенческих неосознаваемых реакций, в том числе реакций на осознаваемые стимулы или неосознаваемых модуляций осознаваемых реакций;
4) должна существовать возможность безусловного подкреп-104
психоэкология
рения того или иного осознаваемого или неосознаваемого стимула для придания ему реперного значения с тем, чтобы стало возможным относительно реакций на реперный стимул шкалировать величины реакций на любые другие стимулы;
5) поскольку осведомленность испытуемого о сущности алгоритма может воспрепятствовать получению независимых результатов —для множества людей (особенно больных психическими заболеваниями) знание факта неосознаваемых манипуляций с их психикой может причинить существенный вред — необходимо легенди-ровать явные диагностические процедуры и камуфлировать неявные процедуры, строго соблюдая профессиональную тайну;
6) процедура должна быть статистической и включать учет текущего состояния субъекта, так как даже если предельно детерминировать внешние условия (одинаково предъявлять однородные незначимые стимулы), процесс реагирования на них будет вероятностным, поскольку психосемантические матрицы флуктуируют во времени за счет адаптации, научения, утомления, спонтанного смыслообразования и мн.др.
Что есть «незначимые» стимулы для человека? Этот вопрос принципиально важен для любых тестирующих алгоритмов.
Если предъявлять человеку некий сенсорный стимул, не являющийся ноцицептивным (т.е. не сигнализирующий об опасности в виде боли, угрозы или повреждения), например, акустический щелчок или какое-нибудь слово, то в ответ на первые предъявления возникнет ориентировочный рефлекс, который можно будет идентифицировать по его физиологическим или поведенческим компонентам. При повторных предъявлениях этого же стимула реакция угасает и возникает вновь, как только изменятся характеристики предъявления стимула или его модальность, а также при произвольной концентрации внимания на предъявляемом стимуле. Это происходит и в том случае, если в качестве стимулов используют слова. При этом, если предъявлять одно и то же слово, то ориентировочная реакция угасает быстрее, а если слова отличаются друг от друга — медленнее. Тем не менее, адаптация развивается, судя по опубликованным работам, и в случае монотонного предъявления разных слов. Однако слова, сами по себе являющиеся знаками для второй сигнальной системы, всегда что-либо значат и по определению должны хоть как-то отличаться по вызываемым ими реакциям от бессмысленных букво-или звукосочетаний.
105
И.В. СМИРНОВ_____________
В связи с этим в литературе возникло представление о «нейтральных», «фоновых», «пассивных», «реперных», «неактивных», «незначимых» словах. Налицо логическое противоречие: с одной стороны, по определению каждое новое слово должно вызывать ориентировочную реакцию, с другой — многочисленные наблюдения и эксперименты показывают, что предъявление длинного ряда слов сопровождается угасанием ориентировочной реакции. Как это объяснить?
Оказывается, когнитивные системы психики способны очень сильно отстраиваться от тщательного анализа новых событий, если эти события несколько раз повторяются с неизменными физическими характеристиками. Так, я перестаю осознавать музыку, которую постоянно слушаю во время подготовки на компьютере этой книги, но если она прекращается, это расценивается как что-то новое, включается ориентировочная реакция и разворачивается полный анализ события, завершающийся поведением (заменой музыкального CD-ROM. Этому простому проявлению апперцепции посвящена масса литературы.
Поскольку слово является «сигналом сигналов» и анализируется специфическими для него когнитивными системами прежде всего семантически, то, при приблизительно равнозначной семантике большинства слов, ориентировочная реакция при их длительном предъявлении действительно угасает. Как только среди этой совокупности «нейтральных» слов появляется, например, собственное имя субъекта, он незамедлительно вздрагивает или иным путем проявляет повышение уровня алертности (изменениями плетизмограммы, дыхания и пр.). Реакция на собственное имя тоже в конце концов угасает. Тем не менее, если на фоне нейтральных слов изредка предъявлять собственное имя или фамилию субъекта, мы часто будем наблюдать ориентировочную реакцию.
Следовательно, мы определили одно «значимое» слово — собственное имя. Такие же слабоугасаемые ориентировочные реакции дают*, кличка, фамилия, уменьшительное имя, иногда слово «мама» и многие другие слова, входящие в семантику ядерных структур личности. Психосемантические эквиваленты этих слов импринтированы сугубо индивидуально и их иногда бывает трудно определить. Важно то, что действительно оказывается возможным на фоне совокупности нейтральных (вернее сказать: равно-и малозначимых слов) выявить группу «активных», «значащих», «эмоциогенных» слов.
106
психоэкология
Итак, мы принимаем постулат о безусловной значимости любого слова, но обязаны установить, что реакции на большинство слов при их повторных предъявлениях становятся неотличимы от реакций на бессмысленные букво- и звукосочетания. Это в целом относится и к словам, принадлежащим «ядерным» образованиям, с той лишь разницей, что угасание при этом происходит медленно, а в некоторых случаях не происходит вовсе.
Когда же встречаются другие столь же значимые слова, которые по сопровождающим их восприятие реакциям резко отличаются от совокупности других слов семантического тезауруса?
Прежде всего в тех случаях, когда мы имеем дело со следами аффекта. Из работ А.Р.Лурия, сделанных им в 20-е годы и основанных на исследованиях школ Крепелина и Юнга, мы находим, что «экспериментальная диагностика скрываемых личностью содержаний сознания перестает казаться невозможной, а методы такой диагностики не сегодня-завтра могут войти в повседневную практику. ...Каждое сильное аффективное состояние сопровождается глубокими нарушениями функций в организме человека (...). Аффект нарушает всю энергетику организма. Атак как корни всякого аффективного состояния сосредоточены, конечно, в деятельности его нервной системы, дающей ответы и на внешние и на внутренние раздражители, то ясно, что максимальные отклонения при аффекте наблюдаются именно в высших нервно-психических процессах: мышлении, скорости и правильности ответов организма, распределении и устойчивости его внимания, закреплении и сохранении его навыков и т.д.». В наше время под «ответами организма» мы можем иметь в виду весь огромный спектр физиологических и поведенческих реакций, для регистрации которых существует развитая технология средств. Но в 20-е годы Александр Романович Лурия вынужден был ограничиться сочетанием возможностей, которые давал при диагностике следов аффекта ассоциативный эксперимент, с возможностями регистрации непроизвольных мышечных реакций. Суть его знаменитой «сопряженной» методики состояла в следующем.
Испытуемому предъявляли ряд слов, в ответ на которые он должен был максимально быстро ответить первым пришедшим в голову словом и нажать на кнопку. «...Прежде всего мы получаем полную возможность объективно отличить нормальную, индифферентную реакцию (хотя бы и несколько замедленную), от реакции аффективной, конфликтной, обнаруживающей следы некоторого возбуждения. Дело в том, что моторная реакция, сопряжен-
107
И.В. СМИРНОВ-ная с нормальным ассоциативным процессом, протекает обычно совершенно правильно и представляет собой простой правиль-ный нажим; моторика же аффективного процесса всегда дает нам признаки резкого возбуждения: кривая нажима становится конфликтной, изломанной, покрытой резкими дрожательными движениями. Наличие этих симптомов уже является достаточным признаком эффективности реакции».
А.Р.Лурия применил сопряженную ассоциативно-моторную методику для диагностики следов аффекта у преступников и показал, что «изучение моторной сферы дает нам здесь возможность непосредственно судить о степени эффективности самого ассоциативного процесса, а, следовательно, и о том, насколько резкие аффективные следы возбуждаются в психике испытуемого данным словом-раздражителем». Из приводимых автором примеров видно, что моторные реакции не зависят от реакций ассоциативных. При этом наблюдаются реакции, совершенно отличающиеся от прочих, на слова, которые так или иначе связаны с когда-то имевшим место аффектом.
Итак, мы определили вторую группу слов, совокупность ответных реакций на которые будет отличаться от таковых на большинство слов тезауруса: это слова, которые ассоциативно связаны с когда-то имевшим место аффектом или сильной эмоциональной реакцией в прошлом. Например (по А.Р.Лурия), при обследовании субъекта в ответ на слово «полотенце» последовала реакция —‘ «холстинное», не отличающаяся по латентному периоду от реакций на все прочие слова. Но моторная реакция при этом была изломанной с наличием множества своеобразных дрожаний. Субъект за 5 суток до обследования вытирал полотенцем окровавленные после убийства руки.
Можно предположить, что при знании испытуемым сущности процедуры или при некоторой специальной тренированности можно контролировать моторные реакции. Но это несущественно для наших задач, тем более, что в распоряжении исследователей имеются куда более совершенные средства регистрации не только неосознаваемых, но одновременно и непроизвольных (т.е. не подлежащих волевому контролю) реакций, каковые и используются в детекторах лжи.
Выделим в этих исследованиях наиболее важное.
Принципиально любой детектор лжи предназначен для определения сознательно скрываемой информации, входящей в компетенцию сознания субъекта. Другими словами, детектор лжи не 108
психоэкология
есть полноценный инструмент для психосемантического анализа, поскольку определяет только малую толику психосемантических элементов, доступную осознанию пользователя). Поэтому с помощью детектора лжи было бы чрезвычайно трудно определить наличие неосознаваемого интрапсихического конфликта и установить его фабулу.
Случай с «полотенцем» показывает совершенно иные возможности диагностировать аффект в неосознаваемой психической сфере: именно с окровавленным куском полотенца убийца и был задержан и, следовательно, ему не было необходимости скрывать этот факт и пытаться как-то модифицировать реакцию на слово «полотенце».
Это значит, что психосемантический эквивалент слова «полотенце» имеет в матрице, соответствующей контексту ситуации убийства, значительно больше ассоциативных связей, чем в матрице, содержащей, например, информацию о домашнем белье.
Это значит, что, предъявив испытуемому все слова из его лексикона, можно было бы выделить совокупность слов, совершенно однозначно связанных с преступлением. Нетрудно представить, что, наряду со словами «убийство», «кровь», «смерть», «труп», «топор» и прочими, мы выделили бы слова из контекста ситуации, которые сами по себе, не будучи в контексте, не несут никакой аффективной нагрузки: «полотенце», «вытирать», «капли», «пол», «комод», «слоники» и др.
В те времена не было технической возможности осуществить это: мы рассчитали, изучив приводимые А.Р.Лурия кимограммы, что даже для сакраментального лексикона Эллочки Щукиной из 17 слов потребовалось бы более трех часов обследования. Важно, что из работ А.Р.Лурия неявно вытекает возможность выявлять особенные слова, которые не только не скрываемы сознательно и намеренно субъектом, но ни разу даже мысленно им не произнесены.
Например, к числу таких слов в разбираемом примере с «полотенцем» предположительно можно отнести, среди прочих, и слово «грех», так как, невзирая на то, считает или не считает преступник убийство греховным, очень высока вероятность попадания этого слова в ту же психосемантическую матрицу, где сгруппированы все эквиваленты контекста вокруг ключевого элемента «убийство». Следовательно, можно предположить, что при предъявлении большого списка слов преступнику можно будет выделить совокупность, которая будет отражать след совершен
109
И. В. СМИРНОВ------------------------------------------
ного убийства, находящийся не в доступной сознанию памяти, а в неосознаваемой психической сфере. Среди таких слов неизбежно встретятся и такие, которые ни сам преступник, ни исследователь не смогут легко интерпретировать на осознаваемом уровне в рамках фабулы преступления. Так, например, выделится слово «крыша», потому что в окно во время убийства была видна крыша соседнего дома, слово «Василий» — потому, что в детстве священник отец Василий учил: «Не убий», и т. п.
Тем не менее, большинство слов статистически сгруппируется вокруг слова «убийство» и позволит воспроизвести его контекст и восстановить недостающие элементы фабулы преступления. Все эти слова будут значимы только в совокупности и лишь некоторые из них — по отдельности. При этом мерой значимости каждого слова будет количество связей с другими словами из этой и других матриц, что можно будет оценить, например, измерив когнитивное время, которое будет затрачено от момента предъявления данного слова до окончания реагировании.
Таким образом мы определили третью группу значимых слов. Эти слова, сами по себе не являющиеся «эмоциогенными», но связанные с пережитым аффектом, вовлекаются в психосемантическую матрицу, формируемую вокруг эквивалентов ключевых слов из второй группы. Поскольку в число таких слов могут попадать очень далекие и неожиданные слова, интерпретация их в контексте решаемой задачи может оказаться непростой. Но сам факт выявления таких слов свидетельствует о возможности диагностировать неосознаваемую психическую сферу, что очень сложно сделать при использовании детектора лжи. Если последний диагностирует скрываемую информацию, то сопряженная методика диагностирует информацию скрытую. Разница в том, что последняя, в отличие от первой, представляет собой, наряду с сознательно скрываемой, еще и никогда не осознаваемую информацию. К ней в большинстве случаев относятся вербальные эквиваленты неосознаваемых мотивов, в т.ч. патологических, причин интра- и интерпсихических конфликтов, комплексов и др.
Я рассматриваю наш метод психозондирования (патент РФ №2002133118) как принципиально иное, чем детектор лжи, техническое решение. Поскольку при этом выявляется, кроме скрываемой, истинная информация, недоступная пользователю (неосознаваемая), можно назвать метод в этой модификации «детектором истины». Поэтому, например, «детектор истины» в отличие от детектора лжи можно успешно использовать для психоанализа.
110
психоэкология
Наконец, четвертой группой слов, реакции на совокупность которых будут статистически отличаться от реакций на совокупность всех прочих слов, являются слова-«табу». К ним до недавнего прошлого относилась прежде всего нецензурная брань и комплекс табуированных слов, специфический для данной популяции и социума. В экспериментальной ситуации, вне контекста их привычного использования, такие слова даже для людей, постоянно их употребляющих, составляют предмет экстремального реагирования и обычно сопровождаются явлениями перцептивной защиты.
Итак, предположительно значимыми словами для субъекта по отличиям возникающих при их восприятии реакций могут быть:
1) слова, сопряженные с «ядерными» образованиями личности и прежде всего с объектами ранней детской социализации — все варианты собственного имени и фамилии, имена близких, вербальные эквиваленты образа матери и собственного «Я» и др.;
2) слова, эквивалентные ключевым психосемантическим элементам для имевшего место в прошлом существенного дискрета состояния субъекта — аффекта или иного эмоционального события;
3) слова, значимые только в совокупности с ключевыми для данной матрицы (например, слово «врач» для ипохондрика само по себе будет непостоянно и мало значимо, но в совокупности со словами, характеризующими его внутреннюю картину болезни — составит постоянно и устойчиво доминирующую психосемантическую матрицу);
4) слова-«табу», среди которых наиболее устойчиво присутствует нецензурная брань.
При внимательном анализе имеющихся данных нетрудно заметить, что существует возможность априори предположить, что реакции на слова из различных групп могут быть совершенно неоднозначными. Так, например, у практически здорового человека в условно-интактном состоянии, не обремененного комплексами и не «хранящего в шкафу труп», высоко вероятно быстрое обнаружение слов из первой и четвертой групп и менее вероятно легкое установление слов третьей и особенно второй групп. У больного же алкоголизмом очень вероятно выделение слов третьей группы, группирующихся в семантический кластер «Алкоголь»: «ларек», «водяра», «закусь», «подворотня» и др.
При этом предположительно и характер этих реакций будет различаться. Так, в ситуации явного тестирования у больного алкоголизмом, который скрывает свой порок, все слова третьей
111
И.В. СМИРНОВ -—--------------—
группы из кластера «Алкоголь» вызовут защитную реакцию, что можно будет наблюдать по кожно-гальванической реакции, расширению сосудов головы и сужению сосудов пальца, удлинению времени сложной зрительно-моторной реакции и пр. Напротив, у такого же больного, но не скрывающего своего страдания, будет наблюл.яться выраженная ориентировочная, но не оборонительная, реакция: среди тех же параметров сосуды головы сузятся.
Традиционное деление реакций, возникающих при предъявлении семантических стимулов, на ориентировочные и оборонительные, в наше время уже недостаточно. На основании имеющихся экспериментальных данных возникает предположение о куда более сложной иерархии реакций организма на семантику стимула.
Теперь проблемы, возникающие при создании новых психосемантических алгоритмов, значительно более сложны, чем те, которые приходилось решать раньше в области традиционной психосемантики. Новые алгоритмы могут быть созданы только на стыке множества внешне разнородных приемов и лишь при использовании сложных адаптивных процедур, реализовать которые можно только с применением компьютерных технологий.
Одной из неприятных проблем при создании каждого нового алгоритма является проблема выбора сфер значимости, которые подлежат зондированию, и представления каждой сферы (кластера) в виде списков конкретных слов, наиболее часто входящих в семантическое поле данного кластера.
Предположим, вы хотите в некоей экспертной ситуации обследовать человека Nemo, о котором вам ничего не известно и кото-рь)й не говорит ни слова. Единственное условие, которое он выполняет, — он не отказывается от процедуры психозондирования и следует инструкциям компьютера. Поскольку вам неизвестен его родной язык, первое, что вы должны определить—национальную принадлежность или родной язык, что не одно и то же.
Как всегда, на первом этапе вы используете программу PSYPAD, разработанную с.н.с. Е.Г.Колеватовым. Эта программа предназначена для подготовки семантических баз данных, то есть перечня кластеров, каждый из которых наполнен десятками слов — синонимов и слов, близкородственных по смыслу данному кластеру. Эти слова образуют единое семантическое поле по А.Р.Лурия.
Для человека Nemo вы готовите длинный список кластеров, которые называете, например, так: АНГЛИЯ, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, КИТАЙ, АНГОЛА и т.д. Кластер АНГЛИЯ вы заполняете 112
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
словами england,
englishmen
english,
britain, mother, father, cheese, pub, scuffle,
и многими другими английскими словами (желатель-
ны идиоматические, сугубо присущие этому языку или этой стра-
не
слова)
КИТАЙ —
. Кластер ИЗРАИЛЬ вы заполняете словами на иврите, иероглифами, РОССИЯ — кириллицей и т.д.:
Затем программа PSYPAD рандомизирует стимулы (статистически равновероятно перемешивает слова и кластеры), назначает маскирующие стимулы (используется обратное тахистоскопическое маскирование), назначает априори репрезентативную выборку нейтральных стимулов (NINC), определяет структуру и особенности реперных (опорных) кластеров, назначает режимы экспозиции и операторской деятельности, вводит или отменяет инструкцию, а также выполняет ряд других полезных операций. В результате вы получаете файл с расширением .ptb — семантическую базу данных, предназначенную для выявления акцентного локуса латентной информации (АЛЛИ), при получении которого далее вы диагностируете родной язык или национальную принадлежность.
Файл семантической базы данных вы запускаете с помощью программы PSYCHOZOND, разработанной с.н.с. П.Ю.Маишевым. Эта программа обеспечивает проведение психозондирования путем предъявления стимульной информации на дисплее и в наушниках. Она также усредняет по кластерам времена сложной зрительно-моторной реакции различения при нажимании кнопки
5 Смирнов ИВ. 1 1 *3
И.В. СМИРНОВ ____—---—-— -----
при каждом предъявлении стимула. В процедуре обычно несколько тысяч стимулов. Вот как выглядит инструкция для набора простейших процедур- каждая из которых может применяться по отдельности или сообща, на одном из наших сайтов:
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБА МОЗГА
на наличие акцентных локусов латентной информации для русских
Функциональная проба мозга на наличие акцентных локусов латентной информации (АЛЛИ) для русских является простейшим психоаналитическим тестом, предназначенным для качественной и количественной оценки удельной значимости одного психосемантического объекта — АЛЛИ.
В мозге хранится информация (жизненный опыт), организованная в сложные семантические структуры. Если извне через восприятие поступает стимул (слово, образ), то в мозге активируется та психосемантическая структура, которая содержит элементы, ассоциированные со стимулом. При этом развивается некоторое изменение состояния и поведения, соответствующее ориентировочной или оборонительной реакциям.
Математический анализ таких реакций (например, времени реакции нажатия на кнопку) позволяетстатистически оценить степень значимости стимула и, следовательно, соответствующей сферы психики. Это близко к «феномену преступного знания» в детекции лжи.
Стимулы предъявляются в маскированном виде для того, чтобы исключить влияние сознания субъекта.
VaK в течение 12-70 минут можно определить наличие наркотической зависимости, суицидальной тенденции, алкоголизма, криминала, сексуальной потребности, их количество и качество.
Одна функциональная проба тестирует один АЛЛИ:
1. НАРКОТИК
2. СЕКС
3. КРИМИНАЛ
4. АЛКОГОЛЬ
5. СУИЦИД.'
Число степеней свободы советского человека равно 6. СЕКС и КРИМИНАЛ разделены для удобства пользования, но составляют одну сферу эскапизма. Шестая сфера значимости не публикуется. 114
психоэкология
Достоверные абсолютные значения Т-критерия (свыше 2.6) означают наличие АЛЛИ. Следует помнить, что причины возникновения АЛЛИ функциональны. Это значит, что у наркомана при отказе от наркотика достоверное значение АЛЛИ «НАРКОТИК» с отрицательным знаком будет качественно и количественно характеризовать тягу и потребность, если же знак положителен, то — аверсию ( Твое лечение идет успешно). Однако АЛЛИ «НАРКОТИК» может спорадически возникать у врача-нарколога, если он молод и пока еще горит энтузиазмом, а также у здорового человека, любимаядочь которого является наркоманкою. Подобное верно в отношении всех других сфер значимости и АЛЛИ.
Если у здорового человека при скрининге обнаруживается АЛЛИ, можно смело допустить наличие скрытой наркозависимости, алкоголизма или прибегнуть к ургентной госпитализации по жизненным показаниям при суициде. При скрининге лучше допустить гипердиагностику.
Однако в дальнейшем необходимо точно установить причины существования АЛЛИ и их стабильность во времени, для чего необходим ToolKit for Mental Probe.
Процедура функциональной пробы мозга на наличие скрытой информации (психозондирование) требует драйверов SB-совме-стимой аудиоплаты DSP4.0H акустического CD-ROM.
CD-ROM производства НИИПсихотехнологий, обеспечивающий прямой доступ в память для активации подсознания, предназначен для стабилизации состояния человека в ходе психозондирования и существенно повышает точность результатов профессионального психозондирования.
Прежде чем пользоваться им и другими продуктами НИИП, выясните, насколько это Вам нужно. Для этого можете прочесть файл kniga.exe нашей монографии «Психотехнологии» (Москва: Прогресс, 1995, 430 с.), посмотреть демонстрационный ролик demozond.exe или попробовать ДЕМО-ВЕРСИЮ на http:// www.psycor. ru.
Если Вы поймете, как работает неосознаваемое подпорого-вое психозондирование и примете решение о приобретении продукта НИИП для проверки лояльности сотрудников Вашей Фирмы, определения причин конфликтов в Вашей семье, анализа Ваших собственных детских комплексов или для Вашей врачебной работы. — пишите нам и заказывайте нужный продукт по адресу: psycor@psycor.ru.
5*
115
И.В.СМИРНОВ _____________—
Откройте наши файлы в отдельной директории.
Создайте .pit на Рабочем столе или запустите name.bat, находясь в темной комнате.
Необходимо надеть наушники, подключив их к акустической плате. Поставьте НАШ или любой музыкальный CD-ROM.
По окончании Процедуры (от 12 до 70 минут) посмотрите на кинескоп — если абсолютное значение строки с названием АЛЛИ превышает 2,6 — это характеризуют наличие скрытой информации, истинное отношение к ней и ее количественную значимость.
Правомочно применять эти фиксаналы только к людям, родной язык которых является русским!
Следующий этап работы — статистический анализ результатов (в вышеупомянутых фиксаналах это встроено в процедуру). Для этого также существует специальная программа, позволяющая анализировать массу статистических критериев и выдающая результаты в виде графиков и таблиц:
116
психоэкология
В протоколе процедуры будут отображены те сферы значимости (кластеры), которые Вы сочли необходимым назначить и создать программой PSYPAD.
В примере с человеком Nemo все просто.
А как быть в случае, если Вас как врача интересует отношение вашего пациента к боли? Казалось бы, нужно соорудить кластер БОЛЬ из множества слов, наиболее употребляемых для характеристики боли в родном языке пациента, и посмотреть, что получится в результате процедуры.
Предположим, вы получите АЛЛИ с позитивным знаком (на графике кластер БОЛЬ будет красным и расположенным справа от любой из возможных осей координат). Это значит, что пациент плохо относится к боли, избегает ее, устраняется, эскапирует, страдает, боится и т.п. Такой результат вполне может устроить Вас как врача — вы по определению своей профессии должны плохо относиться к боли и бороться с ней.
А ну как АЛЛИ, соответствующий кластеру БОЛЬ, окажется направленным влево? Ведь это будет означать любовь к боли, ее желание, стремление к боли, позитивное к ней отношение! Исходя из примитивно-бытовых медицинских представлений, ваш пациент — садист или мазохист. Следовательно, придется разработать еще одну, более сложную семантическую базу данных, и провести еще не одну процедуру психозондирования, чтобы в таком явлении разобраться и не допустить врачебной ошибки.
На самом деле система ценностных ориентаций человека значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому часто при интерпретации результатов психозондирования встречаются сложности, требующие весьма творческого использования программы PSYPAD.
Например, канцерофобия — нередкое явление в психиатрической практике. У многих больных, особенно невротического круга, мы часто видим АЛЛИ с позитивным знаком на кластер CANCER. При этом, однако, у давно болеющих онкологических пациентов в подавляющем большинстве случаев такой АЛЛИ отсутствует (кластер CANCER незначим), а иногда он встречается с негативным знаком (направлен влево)!
Психоаналитическая интерпретация такого явления проста, соответствует здравому смыслу и накопленному врачебному опыту: многие хронически больные люди привыкают к своей болезни, У них формируется болезненная конституция личности, появляется колоссальная ранее несвойственная система ценностей,
117
И.В.СМИРНОВ
включающих позитивное отношение к болезни (тщательный прием лекарств, регулярное посещение врача, усердное исполнение медицинских ритуалов и мн.др.).
Еще один пример неожиданных для неофита сложностей, возникающих при построении семантической базы данных и интерпретации получаемых при психозондировании результатов — поведение кластера NARCOTIC или ALCOHOLy наркозависимых людей или алкоголиков соответственно. Если такой человек находится хотя бы в легкой степени абстиненции — Вы обнаружите выраженный АЛЛИ по соответствующему кластеру с негативным знаком (направлен влево). Это означает наличие сильной соответствующей потребности. После удовлетворения этой потребности АЛЛИ сразу же исчезнет. Вы провели психокоррекцию или иным путем избавили несчастного от его химической зависимости — появится АЛЛИ с позитивным знаком, означающий аверсию, избегание, отторжение всего, что связано с данной зависимостью. Соответственно, если после лечения при динамическом наблюдении Вы в отдельных процедурах усматриваете АЛЛИ с негативным знаком (драйв, патологический мотив, желание, намерение употребить и т.п.) — принимайте врачебные меры.
Наконец, еще один далеко не последний пример сложностей психоэкологии.
Вы по контракту с некоей фирмой проводите профессиональный отбор кандидатов на работу и выявили у 100 обследованных 5 случаев АЛЛИ NARCOTIC. Эти пятеро вовсе необязательно наркоманы: один из них имеет дочь-наркоманку, другой смутно осведомлен о характере испытания и в силу невротичности без всяких оснований опасается обнаружения каких-то скрытых пороков, третий — не является наркоманом, но недавно связался с наркобизнесом, четвертый является по образованию наркологом, а пятый раньше работал в учреждении по борьбе с оборотом наркотических средств.
Во всех случаях скрининга, когда Вы можете провести только одну процедуру психозондирования и не имеете надобности и возможности уточнить этиопатогенез АЛЛИ, вы обязаны интерпретировать АЛЛИ только как особое отношение к конкретному кластеру и не более (диагностика недопустима).
Гуманистические цели нашего общества требуют, однако, допустить элемент гипердиагностики. Поэтому лучше киньте взгляд подозрения на Вашего обследуемого и проведите еще одну или несколько процедур или хотя бы поговорите с ним — вдруг он нуж-118
психоэкология
дается в Вашей психоаналитической или врачебной помощи.
На основании одной не ориентированной на конкретную личность при скрининге (массовом отборе) процедуры никогда не считайте Вашего человека Nemo наркоманом!
Разумеется, это не относится к верифицированному наркоману, который сам пришел к Вам лечиться.
Как же формировать кластеры и отбирать слова для них? Следовательно, как потом интерпретировать результаты психозондирования, чтобы избежать избыточного количества уточняющих процедур и повысить тем самым технологичность процесса?
В начале 80-х годов прошлого века мы собирали десятки людей, принадлежавших одной популяции, и давали им задание написать по сто слов, имеющих отношение к любви. Потом анализировали вероятности написания наиболее часто употребляемых слов и первые тридцать рангов объединяли в кластер ЛЮБОВЬ. Так экспертным путем выделяли семантическое поле (кластер), характерное для данной выборки (которую, не могу не заметить, очень трудно сделать репрезентативной для всей изучаемой популяции). Каждая сфера значимости и эквивалентный ей кластер подвержены сильному влиянию флюктуаций местных культуральных условий, условий раннего развития конкретной личности, действию социальных подвижек и множеству других факторов. Например, кластер РОДИНА у русских за последнее десятилетие претерпел сильные изменения и стал незначим, а кластер ДЕНЬГИ как был незначим, так и остался. Я говорю о результатах, усредненных на больших количествах одинаковых процедур у разных людей.
Важно помнить то, что каждый человек в семантическом плане уникален. «Я человек, и во мне — вся Вселенная!» (У.Уитмен). Поэтому заведомо картина мира психоэколога, строящего семантическую базу для другого человека, иная, чем у этого человека. В какой-то мере выручает опыт практической работы и постоянные мучительные размышления. Но лучше при формировании кластеров и выборе стимулов для них (слов и образов) принимать обследуемого человека как черный ящик, не пытаясь руководствоваться исключительно своей картиной мира и своими представлениями о добре и зле. Дин Кунц описывает творчество человека с синдромом Дауна, который слагал семантические конструкции из журнальных картинок: «В «стихах» не прощупывался сюжет, картинки подбирались без видимой связи, и все же нельзя сказать, что в этой веренице образов не было ни складу, ни ладу.
119
И.В. СМИРНОВ ----
Церковный шпиль, мышка, красавица в изумрудном бальном платье, луг, пестрящий маргаритками, банка ананасового сока, полумесяц, горка блинчиков, с которой стекают капли сиропа, рубины, сверкающие на черном бархате, рыбка с разинутым ртом, смеющийся малыш, монахиня за молитвой, женщина, рыдающая над изуродованным телом любимого на поле боя в какой-то богом забытой стране, цветастая пачка леденцов, вислоухий щенок, еще одна монахиня в черном одеянии и белом крахмальном апостольнике... «Стихи» никогда не оставляли читателя равнодушным. Они нагоняли страх, навевали грусть, заставляли то мучиться, то изумляться. Они отзывались в самых потаенных уголках души, достигали сфер более глубинных, чем подсознание».
Попытки создания семантических словарей, семантических тезаурусов личностных черт (В.И.Похилько), с помощью статистического анализа различных семантических обследований многих людей и математического моделирования, дают результаты не лучшие, чем наши экспертные выборки усредняемых и ранжируемых слов по группам людей.
Технологически эффективнее использовать программу WAE, которая ранжирует слова в конкретной процедуре и отбрасывает все случайные результаты. Применительно к нашим давно разработанным электроэнцефалографическим процедурам (ст.н.с.С.В.Квасовец) аналогичным образом действует программа CILEST. Однако использование такого подхода эффективно только при идеографической работе, когда Вы модифицируете семантическою базу данных на основании каждой вновь проводимой процедуры на каждом конкретном человеке. Этот подход позволяет достичь потрясающей точности психосемантической диагностики любой сферы значимости у конкретного человека и даже достижения его внутренних метаязыковых конструктов. Но это требует большого времени, упорства и энтузиазма.
Для целей психокоррекции необычайно важно то, что при индивидуально-ориентированном психозондировании Вы, в конце концов, провёдя, может быть, десятки разных процедур на одном человеке, получаете совокупность конкретных стимулов, например, слов, которые не имеют, с Вашей точки зрения (точки зрения здравого смысла), ни малейшего смысла.
Однако, воздействуя на данного человека именно этой совокупностью слов в той или иной процедуре неосознаваемого пси-, хозондирования или психокоррекции, Вы по тем или иным пара-» метрам наблюдаете колоссальный эффект воздействия. Он час-120
________ психоэкология
то сопровождается выраженным эмоциональным отреагированием, заметным и при простом наблюдении процедуры. Выражаясь иначе, вы получаете семантический ключ к совокупности особо значимых сфер конкретной личности («ключик к душе»), хотя и не можете объяснить механизма его действия (как в примере Д.Кун-ца). С использованием такого ключа или триггера эффективность любого варианта вашей психотерапии, тем более неосознаваемой психокоррекции, многократно усиливается. Еще раз подчеркиваю — на таком уровне работать очень трудно, хотя эффективно и увлекательно. В работе нашего коллектива пока еще никто не превзошел моего личного чемпионского результата, когда в 1986 г. для проведения психокоррекции одному больному предварительно было сделано 205 диагностических процедур психозондирования (этот пример описан в нашей книжке «Психотехнологии»). Я до сих пор иногда возвращаюсь к результатам многомерного анализа этих процедур, сделанных на хорошо обследованном больном в контролируемых условиях Клиники психиатрии им.С.-С.Корсакова.
Вот психосемантический профиль данного пациента:
На графике усреднены результаты отдельных процедур, где красная кривая (SEM) отражает средние значения времени реакций в ответ на предъявление различных осмысленных значимых слов, а черная кривая — бессмысленных (UNSEM) нейтральных слов, организованных в кластеры, названия которых отложены на горизонтальной оси. Кластеры были сформированы путем стати-
121
И.В.СМИРНОВ —_________________________—
стического выбора наиболее значимых слов из предшествующих процедур у данного пациента.
В кластеры МАХ и MIN вошли слова, имеющие соответственно максимальные и минимальные значения времени реакций по сравнению со словами из всех других кластеров.
Видно, что реакции на слова, входящие в семантический кластер АЛКОГОЛЬ (алкоголь, вино, водка, пиво, магазин и мн.др.), имеют достоверно (альфа менее 0,001) большие значения, чем на слова других кластеров (кроме MIN). Кроме того, присутствует достоверная (альфа менее 0,001) диссоциация времени реакций на слова семантического кластера НИРВАНА (нирвана, отключка, забытье, забвение, покой, кайф, и мн.др.) и на нейтральные слова. То же касается кластера МАХ.
В реакциях больного проявилась иерархия кластеров, отражающая уровни значимости психосемантических матриц, доминирующих в поведении данной личности. Имеет место полное совпадение полученных результатов с концепцией личности данного больного, сложившейся у обследовавших его специалистов. Крайнюю настороженность у нас вызвало то, что среди наиболее предпочитаемой информации располагается кластер СМЕРТЬ. Однако ни прямые, ни косвенные вопросы не выявили тенденции к суициду либо какого бы то ни было особого отношения к смерти и ее атрибутам на уровне сознания больного. Тем не менее, пользуясь предшествующим опытом и представлениями о патогенезе алкоголизма у данной личности, мы допустили элемент гипердиагностики и постулировали наличие скрытого суицидального мотива или аутоагрессии, что косвенно подтверждалось анамнестическими сведениями об употреблении этим пациентом ядохимикатов для изменения состояния сознания.
Анализ распределения сфер значимости в двумерном семантическом пространстве, проводимый с использованием ранее полученных критериев (в т.ч. при искусственном формировании реперных АЛЛИ), показал, что все кластеры, кроме НИРВАНА и МАХ, инициируют механизмы психической защиты. Это проявилось в модуляции времени реакции на следующие после осмысленных бессмысленные нейтральные слова. В кластерах НИРВАНА и МАХ такой модуляции нет или она менее выражена, что и привело к возникновению на графике статистического различия кривых в данной точке (альфа менее 0.01).
Семантическая информация, требующая наибольшего когнитивного времени при ее психосемантическом анализе в условиях 122
психоэкология
неосознаваемого восприятия, располагается в кластерах АЛКОГОЛЬ, МЕДИЦИНА, СЕМЬЯ, MIN, что выражается в статистически наибольших средних по времени реакциях. Когнитивное время складывается из многих факторов. С.С.Галагудзе (1980) указывает, что время вербальной реакции при стрессе возрастает. В классическом сопряженном моторном эксперименте А.Р.Лурия, кроме задержки вербального ответа, наблюдали и увеличение времени реакций с изменением формы моторного реагировании при предъявлении эмоционально значимых слов.
В явлениях, развертывающихся внутри процесса сознательного реагирования, например, при нажатии на кнопку в ответ на стимул, имеет место сложная иерархия взаимоотношений между сознательным намерением нажать на кнопку и «бессознательной церебральной инициативой» (Libet, 1985). При этом каждому произвольному двигательному акту предшествует потенциал готовности, возникающий на бессознательном уровне. Затем окончательное решение действовать принимается на уровне сознания и может быть отменено в течение 100-120 мсек. Логично, что возрастание времени в этом случае происходит за счет увеличения времени принятия решения, которое у здорового человека составляет около 100 мсек (Костандов Э.А. и др., 1974).
Поэтому можно смело утверждать, что кластеры с наибольшими по среднему времени реакциями являются наиболее значимыми в иерархии исследованных матриц и соответствуют аверсивным реакциям «escape». Последнее недвусмысленно проявляется в явлении защиты и иначе объяснено быть не может. Если бы в данном случае речь шла о сознательном реагировании на осознаваемые стимулы, то легко можно было бы заявить, что эти кластеры являются наиболее эмоционально значимыми и что знак возникающих при этом эмоций — резко отрицательный. С помощью неосознаваемых эмоциогенных стимулов и суггестий можно не только и не столько модулировать эмоциональное состояние человека, но даже и научать его (Воронин Л.Г, Коновалов В.Ф.; Петрусинский В.В.).
С позиций используемых в психоэкологии концептов методологически непродуктивно оперировать категориями эмоций в случае неосознаваемых процессов. Уместнее говорить о сферах, или уровнях значимости, имея в виду степень вовлеченности конкретной психосемантической матрицы и соответствующего ей семантического кластера в организацию поведения, в котором эта матрица может принимать участие.
123
И. В. СМИРНОВ =»
Это доказывается так.
Во-первых, при проведении процедур у данного больного результаты сильно варьировали в зависимости от его текущего состояния, в частности, кластер НИРВАНА не всегда давал диссоциацию времени реакции. Тем не менее, при усреднении всех процедур мы ее все же получили. То же касается кластера АЛКОГОЛЬ: не в каждой процедуре его значения были максимальны в сравнении с таковыми на другие кластеры. Однако в целом статус больного характеризовался достоверным преобладанием больших значений времени реакций на кластер АЛКОГОЛЬ по сравнению с прочими.
Поскольку структура личности данного пациента психотичес-ки не искажена, естественно, что текущая совокупность доминирующих в поведении психосемантических матриц большей частью адекватно определяется конкретными условиями среды (за исключением особенностей социальной дезадаптации). Поэтому можно было предположить, что значимость тех или иных матриц будет разной в зависимости от их контекста, т. е. совокупности прочих актуальных в данный момент матриц.
Во-вторых, значимость конкретной матрицы в зависимости от совокупности прочих матриц может быть исследована в специально организованной диагностической процедуре. Простейшим случаем такой процедуры может быть предъявление списков тех же слов, в которых они организованы в новые кластеры. Так из слов всех кластеров, обозначенных на графике, по признакам наибольшего и наименьшего среднего времени реакций были образованы кластеры МАХ и MIN. При их предъявлении ожидали получить соответственно наибольшие и наименьшие по времени реакции. Однако получили прямо противоположное: кластер МАХ, составленный из словес максимальными по времени реакциями, дал в совокупности наименьшее среднее время, и наоборот. Это можно объяснить только одним: совокупность таким образом организованных слов актуализирует некую психосемантическую матрицу, которая, быть может, никогда не существует в реальном поведении данной личности и является лишь искусственно инициированным семантическим измерением, которое не может быть реализовано в целенаправленном поведении из-за исчезающе малой вероятности сочетания именно этих психосемантических элементов или, соответственно, семантических стимулов среды поведения. Поэтому с точки зрения здравого смысла объяснить, почему именно такие сочетания слов имеют в своей совокупнос-124
психоэкология
ти высокие значимости, невозможно. С другой стороны, именно такие сочетания слов в своей совокупности для данного пациента были сверхзначимы на неосознаваемом уровне. В какой-то мере это явление можно рассматривать как аналог патологических пси-хосемантических матриц у психотических больных, когда именно маловероятные матрицы становятся устойчиво доминирующими в поведении.
Существует много технических ухищрений, позволяющих повысить надежность и точность психозондирования. Мне помог изложить их по-русски с.н.с.А.Е.Ткаченко.
Метод психозондирования (один из вариантов компьютерного психосемантического анализа) полностью удовлетворяет всем представлениям о функциональной пробе. В простейшей процедуре обследуемому предъявляют семантические стимулы-слова, время предъявления которых известно, одновременно с этим проводят регистрацию реакций, таких, например, как сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР) различения стимулов. Результатом является сопоставление реакций обследуемого тем или иным заранее известным стимулам. На «выходе» это позволяет оценить систему (в данном случае семантическую память субъекта), учитывая особенности реагирования на группы известных стимулов.
В простешем варианте процедуры психозондирования (СЗМР) отслеживается по характеру исполнения операторской задачи. В ответ на визуальное (на кинескопе компьютера) предъявление стимула тестируемый должен как можно быстрее нажать на кнопку. Время реакции и есть информационный критерий, который будет изменяться в зависимости оттого, какую субъективную значимость несет в себе для исследуемого то или иное стимул-слово.
Как преодолеть влияние сознания обследуемого на результат процедуры? Если предъявляемые стимулы будут легко прочитываться, а время, отведенное на ожидание операторской реакции, будет велико, тестируемый, во-первых, может сознательно исказить результаты теста, например, намеренно ускоряя свои реакции в ответ на определенные стимулы, а, во-вторых, возможна полная дезорганизация деятельности из-за эмоционального отреагирования на некоторые слова-стимулы.
Обычно для получения корректных результатов другие методы требуют от специалиста, проводящего обследование, высоких профессиональныхнавыков, позволяющих теми или иными улов
125
И.В. СМИРНОВ________________________——
ками обходить искажающее влияние сознания. Специалист, как правило, затрачивает на достижение цели много сил и времени, не всегда гарантируя успех мероприятия.
Метод психозондирования полностью независим от профессиональных качеств специалиста, т.к. все «уловки» решены алгоритмически на уровне компьютерной программы. Так, например, слова-стимулы особым образом маскируются, чтобы обследуемый не мог осознать, какое в настоящий момент слово ему предъявляется. Тем не менее слово возбуждает соответствующую зону семантической памяти, — зрительному анализатору оно доступно для восприятия). Операторская деятельность осуществляется в очень жестких условиях — на отреагирование (нажатие кнопки) отводится не более 0,5 секунды. Естественно, в таком временном диапазоне обследуемый не может сколь-нибудь произвольно изменять скорости реакций.
Практически все существующие ныне методы психологического обследования грешат весьма существенным недостатком — не учитывается текущее состояние обследуемого и возможное его изменение в процессе тестирования. Например, человек может утомиться, потерять исходную мотивацию, испытать кратковременный аффект. Все это неизбежно деформирует результат, т.к. методы предполагают изначально более-менее стабильное и ровное состояние субъекта на протяжении тестирования, что неосуществимо.
В психозондировании такой вопрос полностью снимается, т.к. тестовые стимулы, принадлежащие одной исследуемой категории, встречаются на всем временном протяжении теста неоднократно. Особым образом организованная статистическая обработка позволяет нормализовать все флюктуации состояния исследуемого объекта.
Результаты большинства психометрических методик принято достаточно вольно трактовать. Причем считается, что чем полнее, объемнее трактовка, тем ценнее методика. При этом забывают, что трактовка, хоть и базируется на некоторых независимых данных (валидность которых не всегда достаточна), но выводится из опыта интерпретирующего эти данные специалиста. Поэтому вопрос ценности теста, в конечном счете, сводится к тому, насколько заказчик доверяет мнению и опыту проводящего интерпретацию эксперта. При этом формируется как бы негласное соглашение, которое допускает право на ошибку со стороны специалиста (специалист — тоже человек). Такой подход ничем не лучше «гадания 126
психоэкология
по руке». Талантливый хиромант в силу своего опыта может довольно успешно создать «психологический портрет», учитывая только лишь особенности папиллярного узора ладоней.
Психозондирование не допускает вольных трактовок в силу конкретики получаемых данных. В процедуре психозондирования мы ставим перед собой задачу: получить ответ на вопрос — значимы ли стимулы, принадлежащие той или иной семантической зоне памяти, для субъекта, или он к ним безразличен. В результате операционального подхода мы получаем конкретный ответ на поставленный вопрос: либо «да», либо «нет». И основная тонкость метода заключается только в том, как правильно сформулировать и задать вопрос. А это уже напрямую зависит от корректности формулировки поставленной задачи. Любой, кто пытается извлечь максимальную пользу из психозондирования, должен четко представлять, что он хочет получить, а не ограничиваться пожеланиями видеть у себя на столе «психологический портрет как в ММР1».
В некоторых случаях метод психозондирования позволяет, используя некоторые общие тенденции, отнести испытуемого к той или иной группе по общим формальным признакам и выявить для этой группы некие общие черты. Это и будет неким «психологическим портретом» группы, но только в рамках поставленных в процедуре вопросов и только в операциональном смысле без далеко идущих выводов о свойствах личности в целом, о которых никто не вправе судить корректно даже на основании данных, полученных с использованием многофакторных личностных опросников. Отдавая себе отчет в том, что заказчику иной раз бывает необходимо получить информацию и о предположениях специалиста, который опирается на сухие факты, мы можем позволить себе эти предположения высказать, но никогда они не будут представлены как истина в последней инстанции.
Во многом такой подход пугает, т.к. в большинстве случаев люди привыкли использовать вольные трактовки данных различных психометрических методик как объективную информацию. И действительно — развернутая трактовка всеобъемлюще может как бы характеризовать личность. Но печален итог — на основе трактовок, как правило, строятся прогнозы поведения субъекта, формы взаимодействия с ним. Учитывая те недостатки подхода к результатам широко распространенных психометрических тестов, которые были описаны выше, можно предположить, сколь драматичными могут быть ошибки в выборе стратегий поведения и коммуникации в отношении протестированного!
127
И. В. СМИРНОВ ________________ -__________________
Таким образом, вопрос может сводиться к следующему. Если метод психозондирования не позволяет выводить широкие трактовки личности испытуемого, то как формировать стратегию взаимодействия с ним, как прогнозировать его поведение в той или иной ситуации? Ответ очевиден из вышеизложенного. Сначала следует четко сформулировать вопрос, какую сторону личности испытуемого мы хотим исследовать, какие его реакции и в какой ситуации нам наиболее интересны в плане прогноза. Т.е. не «что у него на уме вообще», а «что у него на уме в отношении конкретного факта, события или персонажа в данный момент». И такая постановка задачи будет вознаграждена конкретным и достоверным без лишних ненужных трактовок ответом.
Теперь, когда Вы имеете представление о субстрате исследования (информационное, семантическое пространство психики биологического объекта), о способе получения данных (функциональная проба), об условиях проведения теста (исключение сознательного восприятия стимулов и осознанного реагирования), Вы можете представить возможности метода.
Понятно, что принцип функциональной пробы предполагает использование заранее подготовленного стимула-раздражителя, о свойствах которого Вы имеете четкое представление. Например, Вам заранее известно, что слова «мать», «отец», «семья», «родные» принадлежат особой зоне в психосемантическом пространстве человека, где они наиболее тесно ассоциированы друг с другом и другими близкими по семантике элементами. Этот кластер, назовем его условно «СЕМЬЯ», четко очерчен в социальных группах, передающих из поколение в поколение семейные традиции, например, исповедующих иудаизм, ислам, и менее определен у лиц, воспитанных в европейских традициях. У подавляющего большинства русских на момент написания этой книги (2003 г.) эта сфера значимости полностью дезавуирована (не представляет ценности). Из этого следует очень важный вывод: Вы должны иметь очень четкое представление о социуме, которому принадлежит тестируемый, представлять принятую в этой культуре иерархию психосемантических элементов.
В качестве иллюстрации можно привести следующий пример. В медицине широко используется понятие нормы. Для любого измеряемого показателя выведены границы т.н. нормальных значений. Известны, например, нормальные значения гемоглобина крови, толщины миокарда (сердечной мышцы). Однако измере-128
____ психоэкология ние гемоглобина жителя высокогорных районов покажет результат, выходящий за верхнюю границу нормы для большинства людей, равно как и измерение толщины сердечной мышцы у спортсмена. Если Вы не имеете представлений о социальной группе, которую исследуете, Вы неизбежно совершите ошибку в толковании результатов, квалифицируя полученные данные как болезнь. Последствия этого могут быть весьма плачевными из-за последующего вмешательства, которое не требуется.
Однако не всегда представляется возможным исследовать досконально социальную группу, которой принадлежит тестируемый. В этом случае полученный результат следует воспринимать как данность и не пытаться квалифицировать его как норму или отклонение от нормы.
Ключевым вопросом, предваряющим психосемантическую диагностику, является четкость поставленной задачи. Теперь становится ясным, что задача, поставленная так: «выявить отклонение от нормы» — корректно звучит только в том случае, если Вы имеете четкое представление о микросоциуме, которому принадлежит тестируемый, и исследуете только те семантические составляющие, реагирование на которые более или менее постоянно в популяции. Тогда Вы можете судить о соответствии полученных данных общему «психологическому портрету» социальной группы.
Диагностическая задача должна ставиться только так: выявить особо значимые для человека кластеры (наборы семантических стимулов, принадлежащих одной группе). В одной процедуре Вы можете за час обследования изучить не более 83 кластеров.
Вы выдвигаете гипотезу, например, что обследуемый принадлежит конкретной террористической организации или имеет скрытый мотив совершить противоправное деяние, а затем подтверд-тверждаете или опровергаете ее. В этом и состоит главная возможность психозондирования — подтверждение или опровержение гипотезы о высокой субъективной значимости тех или иных событий, персон, явлений, сфер жизнедеятельности, мотивов, симптомов.
После того, как та или иная гипотеза подтверждена, т.е. выявлены особо значимые для человека события, персоны и т.д., Вы можете составить представление об иерархии, взаимоотношении выявленных значимых семантических сфер. Метод позволяет визуально реконструировать психосемантическое пространство субъекта, в котором как на карте будут расположены его семан-
129
И.В. СМИРНОВ . _ -___ - -
тические сферы. Координатными ориентирами такого пространства будут служить искусственно созданные в процессе процедуры реперные точки отсчета — семантические структуры, субъективная значимость которых жестко детерминирована условиями прохождения процедуры и особенностями операторской деятельности. Таким образом, становится очевидна следующая возможность метода — реконструкция субъективного психосемантического пространства испытуемого, в котором отражена взаимосвязь выявленных значимых компонент.
Наконец, имеется возможность установить причины того, почему те или иные семантические кластеры оказались значимыми для субъекта. Здесь следует придерживаться вышеописанной логики. Вы должны выдвинуть ряд гипотез, почему, например, для человека оказалась значима семантическая категория «СЕМЬЯ». К числу таких гипотез могут быть отнесены следующие: высокий авторитет кого-либо из родителей, принадлежность к конфессии, в которой незыблемо соблюдаются семейные традиции, высокий уровень тревоги по поводу неблагополучия кого-либо из близких, враждебность со стороны семейного окружения и многие другие. Каждая из таких гипотез может быть описана принадлежащими ей по смыслу словами, совокупность которых и создаст необходимый для уточнения стимульный материал (кластер).
Можно существенно сузить круг гипотез, оценив распределение кластеров в индивидуальном психосемантическом пространстве субъекта, т.е. опираясь на данные, которые Вы получите в результате первой обзорной процедуры психозондирования. Так Вы сможете определить, например, что кластер «СЕМЬЯ» характеризуется высокой значимостью для испытуемого и находится в той зоне его психосемантического пространства, где сосредоточены тревожащие компоненты. Значит, вряд ли Вы будете проверять гипотезу о о социокультуральной значимости из-за конфессиональной принадлежности этого человека. Но это уже для профессиональных психоаналитиков.
Необходимым компонентом любой процедуры психозондирования является семантическая база данных (СБД). СБД представляет собой перечень исследуемых на субъективную значимость тем (кластеров). Кластеры включают в себя слова или фразы (стимулы), которые описывают данные темы, метки принадлежности каждого стимула определенной теме, последовательность предъявления стимулов. В широком понимании СБД — смысло-130
психоэкология
вая начинка процедуры психозондирования, те вопросы, которые Вы хотите задать человеку, и получить его истинные ответы.
• Стимул = слово
Тестовые стимулы представляют собой слова или словосочетания, имеющие максимально однозначное толкование для данного испытуемого, отражающие конкретную сферу жизнедеятельности популяции, которой он принадлежит (например, сферы семьи, работы, профессиональных знаний, привычек, зависимостей, сексуальной жизни, могут быть описаны соответствующими словами). Каждый стимул — это одно слово или словосочетание. Все стимулы такого рода (т.е. несущие смысловую нагрузку) относятся к одной категории, называемой SINC. Существуют стимулы иного рода: относящиеся к категории NINC и к категории REPERCO. • Стимул(1) + стимул(2)...+ стимул(п) = кластер
Тестовые стимулы организованы в кластеры (по 5-10 стимулов в каждом кластере), объединяемые единым обобщающим названием темы, которой они принадлежат.
• Кластер(1) + кластер(2)... + кластер(п) = тема
Кластеры, даже имеющие одинаковое название, случайным образом разбросаны в семантической базе данных. Это сделано для того, чтобы нивелировать случайные сдвиги в состоянии обследуемого. Т.е. если такой сдвиг придется на время работы с одним кластером из группы, артефакт (особое, не связанное с семантикой стимула реагирование) можно выявить и удалить из обработки.
Во время математической обработки результаты реакций по одноименным кластерам собираются воедино, образуя тему.
• Тема(1) + тема(2)... +тема(п) = категория SINC
Категория, к которой принадлежат все тестовые стимулы, несущие семантическую нагрузку, в СБД обозначается как «SINC». • KnacTep(NINCI) + KJiacTep(NINC2)„. + KnaCTep(NINCn) =
категория NINC
Другая категория является обобщением всех представленных в СБД бессмысленных наборов рядов цифр (априори считается, что данная информация не должна нести никакой семантической нагрузки). Эта категория обозначается как «NINC». Бессмысленные (не несущие семантическую нагрузку) стимулы также организованы в кластеры.
В семантической базе данных кластеры, относящиеся к категории SINC и кластеры, относящиеся к категории NINC, последовательно чередуются. Это позволяет, учитывая особенности ста-
131
И.В.СМИРНОВ - -________ ______________
тистической обработки, сделать результаты психозондирования независимыми от изменений психофизического состояния испытуемого во время процедуры.
Далее назначаются т.н. маскеры — наборы символов для реализации алгоритма двойного маскирования на этапе предъявления. Обычно это ряды цифр. Назначаются времена экспозиции стимулов и маскеров.
В СБД присутствует ряд вспомогательных элементов, призванных решать некоторые специальные задачи для расширения возможностей психозондирования.
Для организации устойчивой операторской мотивации и формирования реперной зоны (созданного во время процедуры искусственного стресс-фактора, который семантически увязывается со словом, предъявляемым на фоне наказания за ошибочные действия), в последовательность замаскированных стимулов вводятся стимулы иного рода. Это слова, которые экспонируются в осознаваемом режиме. При их появлении тестируемый должен проигнорировать нажатие на клавишу. Такие стимулы ассоциируются по смыслу с негативной оценкой ошибочных действий испытуемого.
Тем самым достигается, помимо должной операторской мотивации во время прохождения процедуры, выработка условной негативно-оборонительной реакции на конкретное слово, которому присваивается значение «REPER». Данная реакция действует только во время прцедуры и угасает очень быстро, если ее не подкреплять.
Участки семантической базы данных, в которых встречаются слова, предъявляемые в осознаваемом режиме, на этапе .математического анализа из обработки удаляются, группируясь в тему, называемую «REPERC0».
На этапе предъявления стимулы последовательно выводятся на кинескоп компьютера в маскированном виде, регистрируются реакции испытуемого. Все события происходят внутри мелькающей рамки зеленого цвета на черном фоне.
Стимулы предъявляются согласно алгоритму двойного маскирования. То есть, время экспозиции стимула составляет приблизительно 30-40 мсек., после чего без паузы в зеленой рамке предъявляется маскер (время его экспозиции порядка 500 мсек.). Таким образом, времени экспозиции стимула недостаточно для его осознания, хотя зрительный анализатор информацию фиксирует. Наличие маскера препятствует формированию следового 132
психоэкология
изображения стимульного слова на сетчатке глаза. Далее следует пауза, после которой воспроизводится следующий цикл.
Временные интервалы (паузы) между предъявлениями стимулов разновелики, что исключает возможность врабатывания в ритм процедуры. Если тестируемый попытается отвлечься и нажимать на кнопку автоматически, не следя затем, что происходит на кинескопе, неизбежно возникают «мимопопадания», сопровождающиеся неприятным сигналом и сообщениями об ошибках.
Субъективно тестируемый воспринимает такой цикл как вспышку зеленой рамки и ряда цифр внутри нее. Заранее обследуемому задается условие операторской деятельности, а именно: «следует нажимать на кнопку как можно быстрее при появлении цифр». Если тестируемый опаздывает с нажатием (производит нажатие во время паузы), на кинескоп выводится ремарка «поздно», если опережает событие, выводится ремарка «рано». Длительность экспозиции ремарок составляет около 2 секунд. Все эти сообщения дублируются голосом в наушниках. А стимул, отреагирование на который не было произведено должным образом, повторно предъявляется в конце текущего кластера.
Временная схема событий одного цикла предъявления стимула в процедуре психозондирования.
1
133
И.В.СМИРНОВ
Сообщения об ошибочных действиях
В ходе процедуры тестируемый обязан игнорировать нажатие на кнопку при появлении в рамке вместо цифр слова. Этот фрагмент процедуры соответствует группе стимулов REPERC0 семантической базы данных. Время экспозиции осознаваемого слова составляет около 2 секунд. В случае совершения ошибки, т.е. произведенного нажатия, выводится ремарка «зря», которая сопровождается длительным неприятным звуком и дублируется голосом. В одной из реализаций психозондирующей процедуры в качестве осознаваемого используется слово, аналогичное ремарке — «зря!». Сочетание его с присвоенной ремаркой в случае совершения ошибки достаточно надежно формирует связь этого семантического элемента с оборонительной реакцией — тестируемый стремится избежать наказаний (при достаточной силе подкрепления — достаточной громкости). Само же слово «зря!» в дальнейшем будет предъявлено как эталонный стимул, реакциям на который можно присвоить известный смысл. Предъявляться это слово будет в группе «REPER» в маскируемом виде во второй половине процедуры, когда реакции на него в результате повторяющихся ошибок будут достаточно выражены.
Одновременно с предъявлением входе процедуры психозондирования, осуществляетсярегистрация неосознаваемых реакций.
В разных вариантах психозондирования регистрируют время реакции нажатия на клавишу «пробел» в ответ на предъявление каждого стимула, или то же при нажатии на специальную кнопку.
134
психоэкология
Время ожидания реакции ограничено и не позволяет искусственно (сознательно) увеличивать или уменьшать это время. Время реакции на каждое нажатие регистрируется с точностью до 1 мсек.
Разброс времен реакций обычно не превышает 150 мсек. Естественно, модулировать свои реакции в этом диапазоне человек сознательно не может.
Схема формирования событий в группе стимулов REPERC0 в зависимости от вариантов операторской деятельности.
135
И. В. СМИРНОВ_____________________________ _
Таким образом, каждому предъявленному в процессе процедуры стимулу будет соответствовать численное значение времени реакции с точностью до 1 мсек. Времена реакций и соответствующие им стимулы записываются в файл в режиме реального времени. Этот файл является субстратом для дальнейшей математической обработки.
Процедура заканчивается кратким речевым сообщением, когда получены корректные результаты по всем стимулам, заранее заготовленным в семантической базе данных.
На стадии обработки сравниваются (в самом упрощенном варианте) две статистические выборки: SINC и NINC (каждая из них — совокупность времен реакций на соответствующие стимулы).
В другом случае, при тестировании двух и более тем, каждая тема из SINC сравнивается с совокупностью NINC. Результат сравнения отображается на графике NINC.
Помимо этого, каждая тема из SINC может сравниваться с совокупностью всех тем — статистической выборкой SINC. Результат сравнения отображается на графике SINC.
И, наконец, каждая тема из SINC может сравниваться со статистической совокупностью REPER. Результат сравнения отображается на графике REPER.
Оптимальными критериями сравнения, с учетом характера происхождения совокупности данных и их статистического распределения, являются критерии непараметрической статистики (здесь — критерий Манна-Уитни).
Превышение этими критериями некоторых пороговых значений позволяет выявить совокупность кластеров (тему), реакция на которую статистически достоверно выпадает из общей совокупности. Другими словами, при предъявлении значимого для испытуемого кластера, его реакции изменяются, а критерии позволяют определить достоверность этих изменений. При превышении критерием пороговой величины определяется достоверность случайности отклонения реакций испытуемого.
Если по одной из групп (тем) значение MU-критерия превысило критическое (красная,линейка напротив соответствующей группы), можно говорить о существовании «проблемной зоны» и безусловной значимости данной темы для обследуемого. Такая ситуация требует пристального внимания психоаналитика.
136
психоэкология
О формировании устойчивой субъективной значимости темы можно говорить в тех случаях, когда в ходе нескольких процедур психозондирования у испытуемого обнаруживаются достоверные отличия одной и той же группы (темы) от других совокупностей. Такая тема, значимость которой обычно подтверждается в нескольких процедурах психозондирования, называется АЛЛИ (акцентный локус латентной информации) и является символьным эквивалентом семантического поля особой значимости в общем информационном пространстве психики субъекта.
Знак MU-критерия (на графике — расположение шкал относительно «условного ноля») указывает на наличие или отсутствие ассоцииатов между семантическим полем темы и зоны тревоги, которая определяется в процедуре значением шкалы REPER. Если знак группы (темы) совпадает со знаком группы (темы) REPER, это говорит о том, что субъективное отношение субъекта к данной сфере ассоциировано с тревогой, и наоборот.
Следует помнить, что интерпретация должна проводиться в контексте тех сведений, которые были получены от испытуемого в процессе предварительного и текущего общения, или тех сведений, которые определяются задачами и условиями психозондирования. Например, тема NARCOTIC может быть значима для действующего наркомана в состоянии абстиненции и незначима в состоянии наркотического опьянения. Эта же тема может быть значима у близкого родственника наркомана, который озабочен фактом его пагубного пристрастия и т.д.
Если не существует возможности получить дополнительные сведения об испытуемом, следует так организовать обследование, чтобы были реализованы расширенные возможности психозондирования.
В простых скрининг-исследованиях тестирование позволяет регистрировать реакции субъекта на слова-стимулы, имеющие отношение к представленным темам за одну процедуру. Всегда следует отдавать себе отчет в том, что в случае выявления значимых тем может потребоваться уточняющее исследование. Цель большинства скрининг-исследований следующая: выявление истинного скрытого отношения к представленным темам по следующим позициям:
137
И. В. СМИРНОВ
9 значимо — незначимо;
• значимо насколько;
• значимо и ассоциировано с тревогой или нет.
В случае выявления тех или иных данных, достойных внимания, внизу графика выводятся соответствующие комментарии, на которые можно опираться при интерпретации:
Протокол психозондирования
SINC
REPER -2,98
DEUS -0,97
FALSUM -0,96
NUMMUS -0,67
NARCOTIC -0,62
PERSECUTIO -0,43
TIMOR -0,27
AFERA -0,13
ALCOHOL -0,03
DEPRESSIO 0,35
PSYCHOSIS 0,47
CRIMINAL 0,47
MORBUS 0,6
138
психоэкология
дСбИЕЗБЮ 0,69
IMPERIUM 1,83
SUICIDE 2,74
REPERCO 12,1
NINC •
REPER -2,71
DEUS -0,72
FALSUM -0,7
NUMMUS -0,41
NARCOTIC -0,35
PERSECUTIO -0,16
TIMOR -0,01
AFERA 0,14
ALCOHOL 0,24
DEPRESSIO 0,61
PSYCHOSIS 0,74
CRIMINAL 0,75
MORBUS 0,87
AGGRESSIO 0,96
IMPERIUM 2,11
SUICIDE 2,93
139
VLB. СМИРНОВ
REPERCO 13,26
REPER 1 1 г
REPER ° 1 1^^
DEUS 1,54 1^^ 8
FALSUM 1,41 )
NUMMUS 1,75 I , , 1 '%,
NARCOTIC 1,68 IHHB
PERSECUTIO TIMOR 1,99 2,13 1 * !
AFERA 2,12 вивв
ALCOHOL 2,32
DEPRESSIO 2,18 1
PSYCHOSIS 2,58 1111111Н111ННН1В
CRIMINAL 2,67 1—
MORBUS 2,68
AGGRESSIO IMPERIUM 2,8 3,74 1
SUICIDE 3,52
REPERC0 8,01
Ошибки
Число ошибок типа "ЗРЯ" в группе REPER СО (V) . >1
Число ошибок типа ‘'РАНО’' по всем группам (Е) {б8
Число ошибок типа "ПОЗДНО" по всем группам (L) ~~ ~ |26
Отношение Е к L (E>L; L>E) * " ‘ " ~E>L
Критическое число ошибок' V=57; Е=420, L-420
140
психоэкология
Оценка шкалы REPER
Значение шкалы REPER в таблице SINC (превышает критическое. даОС1
"RSI”, нет "RS0") КЬ1
Направление шкалы REPER в таблице SINC (влево “RSI-", вправо “RS1+") RS1*
Значение шкалы REPER в таблице NINC (превышает критическое, дап.н
•’RNl”, нет "RNO”)
Направление шкалы REPER в таблице NINC (влево '’RN1-”, вправо *, *
"RN1 + '1) RN1"
Особенность реагирования на внезапно возникший стресс-фактор:
В случае столкновения с внезапно возникшим стрессовым фактором реакции ускоряются В некоторых ситуациях это может приводить к ошибкам в силу недостаточно продуманных решений и действий
Значимые темы в таблице SINC (от большего значения - к меньшему)
Тема Отношение к теме ^Значение
SUICIDE Без выраженной тревоги £,74
Примечание: темы REPER, REPERCO, NINC в таблицу не вносятся
Значимые темы в таблице NINC (от большего значения - к меньшему)
Тема Отношение к теме Значение
SUICIDE Без выраженной тревоги >2,93
Примечание: темы REPER, REPERCO, NINC в таблицу не вносятся
Темы, вызывающие напряжение. Субъективно отторгаемые. (От меньшего значения - к большему) ____
DEUS \Л, 1,54
FALSUM 1,41
NUMMUS 1,75
NARCOTIC 1,68
PERSECUTIO 1,99
TIMOR 2,13
AFERA 2,12
ALCOHOL 2,32
DEPRESSIO 2,18
PSYCHOSIS 2,58
Примечание: Чем меньше"значение темы, тем более выражено особое негативное отношение к ней
Темы, субъективное отношение к которым полярно ________
Не определяется _____
Достоверность результатов (низкая, средняя.
- высокая
высокая)
Заключение:
На момент исследования обследуемый продемонстрировал достаточную мотивацию к операторской деятельности, готовность к мобилизации внутренних ресурсов для адаптации к стрессовым ситуациям. Операторская деятельность выполнялась в обычном режиме без особенностей. Был динамичен и активен, что соот-
141
И. В. СМИРНОВ _
ветствовало высокому уровню бодрствования. Отмечены высокая готовность к выполнению сложной операторской работы и умение быстро реагировать на смену обстановки.
В процессе проведения процедуры удалось выработать условную оборонительную реакцию (характеризуется более быстрой реакцией, чем на другие стимулы) на неосознаваемый стресс-фактор.
Сравнение выработанной реакции с реакциями на стандартные неосознаваемые стимулы позволило выявить несколько тем, которые вызывают напряжение в том случае, если тестируемый соприкасается непосредственно с описанными этими темами сферами жизнедеятельности. Эти темы (в порядке убывания степени тревожности): «ложь», «Бог», «наркотик», «деньги», «судимость», «афера», «страх», «депрессия», «алкоголь», «психоз». Оборонительную реакцию на слова из этих тем можно сопоставить с нежеланием касаться их и/или как можно скорее прекратить разговор на данные темы.
На этом же полюсе из ряда представленных стимулов субъективно значима тема «суицид», отношение к которой расценивается как не вызывающее тревогу (снижение скорости реакции). Необходима тщательная проработка этого вопроса при собеседовании, т.к. подобная картина характеризует субъективное отношение к самоубийству как к избавлению от страданий.
Если психосемантический скрининг спецконтингента в оценке его профессиональной пригодности и надежности и оправдан (Баклаев А.В., Смирнов И.В. Анестезиология и реаниматология, 2002, 2,4-9 с.), то только в случае использования семантических кластеров, ориентированных на специфику обследуемого спецконтингента. Так, при обследовании воинских подразделений мы настраиваем семантические базы данных (СБД) на специфику данной части и ее деятельности, при обследовании школьников учитываем специфику школы или лицея, при решении экспертных задач используем фабулу инкриминируемого деяния и т.п.
Практика многолетнего профессионального психозондирования спецконтингента в жестко контролируемых условиях показала, что полноценные результаты психозондирования достигаются не за счет нагромождения информационных параметров (единичные связанные с событием потенциалы головного мозга, R-R интервал, кожно-гальваническая реакция, сопряженная моторная методика Виноградовой-Лурия и мн.др.) и не за счет избыточно 142
______________ психоэкология
сложного математического аппарата, а исключительно за счет корректного построения СБД.
В этом случае даже простейшая процедура психозондирования способна дать чрезвычайно значимые, сразу же имеющие практическое применение результаты. В отличие от существующих психологических тестов и опросников, такие результаты имеют операциональное значение (истинное отношение человека к конкретной организации, ее лидеру, государственному устройству, конкретному преступлению, синдрому болезни) и могут быть немедленно использованы для лечения больного или для решения других прикладных задач.
СБД, использованная в одном из обследований девиантного социально активного контингента, имела общий характер, рассчитанный на формально здоровую группу людей из русскоязычной популяции. Тем не менее, результаты работы неожиданно сгруппировались таким образом, что из 100 обследованных 41 % имеет достоверно значимые кластеры. Это значит, что у 41 человека имеются акцентные локусы латентной информации (АЛЛИ), характеризующие особую значимость той или иной темы (например, особо негативное или позитивное отношение к наркотику, алкоголю, криминалу и т.д.):
143
И.В. СМИРНОВ_
Для сравнения, по данным военных врачей, полученным при психозондировании призывников, только у 14% из 514 человек выявлены АЛЛИ (Кострица В.Г., Ткаченко А.Е., 1998). В этой работе использовали СБД общего назначения, подобную применяемой в обследовании упомянутого девиантного контингента, и, казалось бы, столь же разношерстный контингент. При обследовании учащихся Морского кадетского корпуса обнаружили минимальную группу риска, не превысившую 8,9%.
Для снижения группы риска хотя бы до 14% возможны два пути. Либо это более тщательный отбор контингента, обязательно включающий психозондирование, либо более сильное идеологическое объединение контингента. Разрабатываемая на нашей Кафедре и в Институте Русская национальная идея для этого и предназначена. В последнем случае многие люди из группы риска, приобретая компоненты пассионарности в результате зажигания общей сильной идеей, смогут справиться со своими проблемами или безболезненно с ними сосуществовать, а их использование в тех или иных работах может быть безбоязненным и эффективным.
В ходе скрининг-обследования больших контингентов обычно выявлются группы с общими характерными признаками.
Группа N
У этих лиц ни одна из представленных к исследованию на субъективную значимость тем не бывает значимой.
Это свидетельствует о том, что лица этой группы не имеют проблем, связанных с состоянием собственного как физического, так и психического здоровья, не обеспокоены состоянием здоровья близких родственников. Этим людям не свойственна агрессивность, и они не имели серьезных психотравмирующих ситуаций, связанных с агрессией по отношению к собственной персоне. Эти лица не имеют скрытых криминальных намерений и не поддерживают устойчивых связей с представителями криминального мира, не были подвержены в ближайшем прошлом действиям мошенников, не имели контактов д органами правосудия в качестве обвиняемых, свидетелей или потерпевших. Не имеют намерений совершить какое-либо мошенничество.
Группа характеризуется спокойным отношением к употреблению спиртных напитков. Не имеют проблем, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотиков. Легко справляются с ситуативными депрессиями и текущими проблемами. Достаточно 144
психоэкология
уверенные в себе персоны, не превозносящие в ранг абсолютных ценностей власть и деньги. Достаточно социализированы и не выделяются из общей массы наличием сверхценных идей. Уступчивы. Способны вливаться в коллектив, не привнося в него сколь-нибудь серьезных проблем. Разумеется, в группе могут встречаться разные характеры, однако квалификация их выходит за рамки поставленной задачи.
Внутри группы можно выделить подгруппы на основании особенностей выполнения операторской деятельности и реагирования на стрессовые стимулы.
Подгруппа NRminus
Характерным для данной подгруппы является принадлежность к группе N и наличие достоверных значимых реакций (характеризуются ускорением операторской деятельности) на неосознаваемые стрессовые стимулы.
К представителям данной подгруппы справедливо применение всех характеристик группы N. В дополнение к указанным характеристикам добавляется следующее.
Представителям подгруппы свойственна высокая перцептивная точность, высокая скорость когнитивных процессов, высокая точность семантического анализа. В целом — хорошо развитые интеллектуальные качества, которые в определенных условиях и при достаточном уровне лидерских амбиций могут быть учтены при продвижении этих лиц на лидерские позиции. Заранее можно быть уверенными в том, что на руководящих постах эти люди способны принимать ответственные грамотные решения, быстро и четко реагировать на смену обстановки, находить оптимальные решения сложных задач. Несомненно, что авторитет таких руководителей среди подчиненных будет высоким.
Особое внимание следует обратить на тех испытуемых, которые показывают крайне малое количество ошибок, и при этом время прохождения процедуры является минимальным. Такой человек способен оптимально и быстро выполнить сложную работу, требующую высокой сосредоточенности и интеллектуальных способностей.
Подгруппа NRCOplus
Характерным для данной подгруппы является принадлежность к группе N, отсутствие достоверных значимых реакций на неосознаваемые стрессовые стимулы и наличие достоверных значи-6 Смирнов И. В -л де
И.В. СМИРНОВ
мыхрвзкций из осознаваемые стрессовые стимулы из группы REPRCO. Код plus в наименовании подгруппы показывает, что операторская деятельность в присутствии осознаваемого стрессового стимула характеризовалось замедлением реагирования.
К представителям данной подгруппы справедливо применение всех характеристик группы N. В дополнение куказанным характеристикам добавляется следующее.
Представители группы проявили стандартные способности к научению, не отличаются сколько-нибудь выраженными личностными качествами. Таких людей нельзя назвать чрезмерно способными и инициативными, им присуща психология «среднего человека», достаточно умного, достаточно способного, но не выделяющегося из большинства. Это — конформные и конгруэнтные люди, никогда не признающие приоритет социальной выгоды перед личной, хотя нередко декларирующие обратное. С людьми такого склада достаточно легко найти общий язык и, используя те или иные уловки, направить их в нужное социальное русло, особенно опираясь на систему поощрений.
Особым образом из подгруппы могут выделяться люди, у которых минимальное количество ошибок при минимальном времени процедуры. Такого рода реакции наблюдаются у больных эпилепсией или у лиц, акцентуированных по эпилептоидному типу. Личность педантическая, напряженная. Вязкая и труднопереклю-I чаемая в общении. Не способна проявлять гибкость в процессе принятия решений. Договориться или воздействовать на такого человека сложно, если он следует какому-либо принятому ранее решению.
Подгруппа NRCOminiis
Характерным для данной подгруппы является принадлежность кгруппе N, отсутствиедостоверныхзначимыхреакций на неосознаваемые стрессовые стимулы и наличие достоверных значимых реакций на осознаваемые стрессовые стимулы из группы REPRCO. Код minus в наименовании подгруппы показывает, что операторская деятельность в присутствии осознаваемого стрессового стимула характеризовалось увеличением скорости реагирования.
К представителям данной подгруппы справедливо применение всех характеристик группы N. В дополнение к указанным характеристикам добавляется следующее.
Такая картина результатов наблюдается у лиц, которые выбирают неоптимальные решения в сложных ситуациях, чаще всего 146
психоэкология
по принципу «бегства» от проблемы. Основная психологическая защита — отрицание. Инфантильный, а точнее — парциально (частично) инфантильный типаж (в профессиональной сфере черты инфантилизма выражены минимально). В нестандартных условиях дезорганизуются и легко достигают состояния поведенческого отчаяния по Айзенку, при котором никакая продуктивная деятельность невозможна. Блокируется способность к любому научению, могут возникать деструктивные мотивы, никак с исходной личностью не связанные. В большинстве случаев такая картина результатов присуща лицам истероидного круга. В этом случае человеку свойственны некоторая демонстративность в поведении, подчас вызывающая раздражение окружающих. Чрезвычайно чувствительны к оценкам своего поведения и декларируемых способностей со стороны начальства и окружающих. Склонны довольно бурно выражать свои эмоции, но отходчивы, легко прощают обиды. Не подвержены влиянию комплекса вины. Таких людей нельзя назвать ответственными и трудолюбивыми. Уделяют большое внимание внешним атрибутам собственной социальной роли, подчас в ущерб качеству исполнения должностных обязанностей.
Управлять таким человеком сложно, но можно достичь определенных успехов, уделяя ему большее внимание, широко применяя поощрения за хорошо сделанную работу. Вместе с тем, всегда надо быть готовым к проявлению нестандартной реакции в случае негативной оценки его действий, профессиональных качеств или внешности.
Подгруппа NRCOoff
Характерным для данной подгруппы является принадлежность к группе N и сочетание отсутствия достоверных значимых реакций на неосознаваемые стрессовые стимулы и отсутствия достоверных значимых реакций на осознаваемые стрессовые стимулы из группы REPRCO.
К представителям данной подгруппы справедливо применение всех характеристик группы N. В дополнение к указанным характеристикам добавляется следующее.
У представителей подгруппы — низкая перцептивная точность, низкая способность дифференцировать семантические стимулы. Что-либо определенное сказать об этих лицах сложно, хотя к ним в полной мере применимы все характеристики основной группы N. Известно только, что у лиц, которые плохо дифференцируют семантические стимулы в процедуре психозондирования, отсут-
И.В. СМИРНОВ, ствуют способности эффективно действовать в сложных ситуациях, требующих принятия быстрых решений. Тем не менее, это не коррелирует с общей медлительностью и низкой работоспособностью.
Группа S
У этих л иц оказывается достоверной хотя бы одна из представленных к исследованию на субъективную значимость тем.
Подгруппа SRminus
Характерным для данной подгруппы является принадлежность к группе S и наличие достоверных значимых реакций (характеризуются ускорением операторской деятельности) на неосознаваемые стрессовые стимулы.
Представителям подгруппы свойственна высокая перцептивная точность, высокая скорость когнитивных процессов, высокая точность семантического анализа. В целом — хорошо развитые интеллектуальные качества, которые в определенных условиях и при достаточном уровне лидерских амбиций могут быть учтены при продвижении этих лиц на лидерские позиции. Заранее можно быть уверенными в том, что на руководящих постах эти люди способны принимать ответственные грамотные решения, быстро | и четко реагировать на смену обстановки, находить оптимальные решения сложных задач. Несомненно, что авторитет таких руководителей среди подчиненных будет высоким.
Подгруппа SRCOplus
Характерным для данной подгруппы является принадлежность к группе S и наличие достоверных значимых реакций на осознаваемые стрессовые стимулы из группы REPRCO. Код plus в наименовании подгруппы показывает, что операторская деятельность в присутствие осознаваемого стрессового стимула характеризовалось замедлением реагирования.
Представители группы проявляют стандартные способности к научению, не отличаются сколько-нибудь выраженными личностными качествами. Таких людей нельзя назвать чрезмерно способными и инициативными, им присуща психология «среднего человека», достаточно умного, достаточно способного, но не выделяющегося из большинства. Это — конформные люди, никогда не признающие приоритет социальной выгоды перед личной, хотя нередко декларирующие обратное. С людьми такого склада дос-148
психоэкология
таточно легко найти общий язык и, используя те или иные уловки, направить их в нужное социальное русло, особенно опираясь на систему поощрений.
Подгруппа SRCOminus
Характерным для данной подгруппы является принадлежность к группе S и наличие достоверных значимых реакций на осознаваемые стрессовые стимулы из группы REPRCO. Код minus в наименовании подгруппы показывает, что операторская деятельность в присутствии осознаваемого стрессового стимула характеризовалось ускорением реагирования.
Такая картина результатов наблюдается у лиц, которые выбирают неоптимальные решения в сложных ситуациях, чаще всего по принципу «бегства» от проблемы. Основная психологическая защита — отрицание. Инфантильный, а точнее — парциально (частично) инфантильный типаж (в профессиональной сфере черты инфантилизма выражены минимально). В нестандартных условиях дезорганизуются и легко достигают состояния поведенческого отчаяния, при котором никакая продуктивная деятельность невозможна. Блокируется способность к любому научению, могут возникать деструктивные мотивы, никак с исходной личностью не связанные. В большинстве случаев такая картина результатов присуща лицам истероидного круга. В этом случае человеку свойственны некоторая демонстративность в поведении, подчас вызывающая раздражение окружающих. Чрезвычайно чувствительны к оценкам своего поведения и декларируемых способностей со стороны начальства и окружающих. Склонны довольно бурно выражать свои эмоции, но отходчивы, легко прощают обиды. Не подвержены влиянию комплекса вины. Таких людей нельзя назвать ответственными и трудолюбивыми. Уделяют большое внимание внешним атрибутам собственной социальной роли, подчас в ущерб качеству исполнения должностных обязанностей.
Подгруппа SRCOoff
Характерным для данной подгруппы является принадлежность к группе S и сочетание отсутствия достоверных значимых реакций на неосознаваемые стрессовые стимулы и отсутствия достоверных значимых реакций на осознаваемые стрессовые стимулы из группы REPRCO.
У представителей подгруппы — низкая перцептивная точность, низкая способность дифференцировать семантические стимулы. Известно только, что у лиц, которые плохо дифференцируют се-
149
И.В. СМИРНОВ
мантические стимулы в процедуре психозондирования, отсутствуют способности эффективно действовать в сложных ситуациях, требующих принятия быстрых решений. Тем не менее, это не коррелирует с общей медлительностью и низкой работоспособностью.
Группа Err
Результаты обследования этих испытуемых недостоверны в виду большого количества ошибок, хотя формально эти испытуемые могут относиться к группам N и S. Тем не менее, отмеченные выше характеристики к ним не применимы. Такое высокое число ошибок возникаету лиц весьма труднообучаемых, ригидных в плане развития интеллектуальных качеств. Новое дело для них дается с трудом. Следует отметить возможность органического заболевания головного мозга, например, последствия черепно-мозговой травмы, атеросклеротического поражения сосудов головного мозга. Разумеется, работоспособность таких людей крайне низка и их нельзя использовать в процессе долгой напряженной работы.
На самом деле групповые различия всегда значительно более сложны, чем описано выше. Понятно, что выяснение субъективных причин обнаруженных семантических компонентов требует дополнительных проверок на основе иного стимульного материала. Это либо добавляет некоторое число дополнительных диагностических процедур к основной — обзорной, либо на основе адаптивного алгоритма удлиняет время обследования в рамках основной процедуры. Адаптивный алгоритм предполагает «самонастройку» психозонда в зависимости от полученных данных на ранних этапах обследования. Т.е. при достоверно выявленных значимых темах, стимульный массив переструктурируется в направлении проверки возможных причин предварительного результата. Т.е. версии в виде соответствующих им слов-стимулов заранее «закладываются» в СБД, но актуализируются только тогда, когда выявляется значимость, которую они призваны раскрывать.
Итак, сведем воедино три основные возможности психозондирования:
1. Подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы о высокой субъективной значимости тех или иных событий, персон, явлений, сфер жизнедеятельности, мотивов.
2. Реконструкция субъективного семантического про-150
психоэкология
странства испытуемого, в котором отражена взаимосвязь выявленных значимых компонент.
3. Выяснение причин (подтверждение одних и опровержение других гипотез) выявленных в обзорной процедуре психозондирования субъективных значимостей.
Из этих возможностей вытекают перспективы практического применения метода. Так, используя первую возможность, проводят скрининг массивов на предмет выделения в них интересующих исследователя групп риска. Это бывает полезно в кадровой работе и в работе служб безопасности.
Вторая возможность находит применение в психотерапии и психоанализе для составления представления о внутренней картине мира пациента.
Третья возможность используется как в целях психотерапии, так и для нужд служб безопасности.
Подробно описать и объяснить нюансы психозондирования в этой книге невозможно, тогда как, пользуясь разработанными нами средствами, их нетрудно усвоить, особенно при обучении на Кафедре психоэкологии РУДН или через Интернет. В психоэкологии нет ничего эффективнее практики, тогда как для теоретических концепций требуется еще очень много размышлений и книг.
Итак:
1) создаем семантическую базу данных под интересующие нас задачи;
2) проводим процедуру психозондирования;
3) обрабатываем и анализируем результаты. На этом этапе возможен диагностический вывод.
В ходе описанной процедуры человек должен нажимать на кнопку всякий раз, когда на кинескопе мелькнет последовательность цифр, маскирующая некоторое слово. Это слово предъявляется на короткое время на том же месте, где затем нарисуются цифры, причем временная диаграмма предъявления хитро синхронизована с частотой развертки кинескопа. Вы можете записать из телевидения любую передачу по нашему поводу и потом с помощью видеомагнитофона точно рассчитать эту диаграмму, которая будет выглядеть примерно так (зависит от кинескопа):
Время экспозиции неосознаваемого слова обычно не превышает 40 мсек. При видео- или киносъемке процедуры Вы также убедитесь в том, что это слово действительно реально предъяв-
151
И.В. СМИРНОВ
ляется на кинескопе, а не только мне кажется. На самом деле оценка валидности любого нового метода психозондирования осуществляется четырьмя путями:
1 — логический анализ совпадения информации, получаемой при процедуре психозондирования, с информацией, добытой тривиально с помощью оперативно-агентурных мероприятий, анамнеза, расспроса близких, изучения домашней обстановки и образа жизни субъекта, применения общепринятых опросников и тестов и т.п.;
2 — экспериментальные исследования — изучение искусственных реперных АЛЛИ, определение собственной фамилии субъекта, анализ его реакций на неосознаваемую табуированную информацию;
3 — сопоставление информации, получаемой в процедурах психозондирования, с информацией, получаемой в диагностических или лечебных процедурах, сопровождающихся диссолюцией сознания (наркопсихотерапия, амитал-кофеиновое растормаживание, инициальные стадии наркоза и пр.);
4 — анализ терапевтической эффективности лечебных мероприятий, в которых в качестве основного действующего фактора использовали полученную при процедурах психозондирования информацию (например, при проведении интенсивной психокоррекции).
152
психоэкология
Первые два пути самоочевидны и понятны из этой книги. Третий путь возможен при проведении амитал-кофеиновых и кетаминовых процедур растормаживания у больных с различными психосемантическими расстройствами. Для этого в реанимационных условиях с помощью автоматического перфузора внутривенно вводят микродозы кетамина до достижения той стадии диссолю-ции сознания, когда еще сохраняется вербальный контакт или рудименты операторской деятельности. Очень сложно поддерживать диссолюцию сознания на таком уровне, чтобы по окончании процедуры возникала ретроградная амнезия. Для этого пришлось разработать специальную методику. Необходимость этого обусловлена тем, что при интервьюировании пациента возможно затрагивание таких сфер его индивидуального опыта, которые являются чрезвычайно значимыми и осознание того, что кто-то другой осведомлен об этом, может усугубить тяжесть состояния субъекта.
В результате интервьюирования пациентов, находящихся в измененном состоянии сознания, всегда получаются сведения, принципиально совпадающие с результатами психозондирования. Так, для больной R, 24 лет, находившейся 18 лет назад в Клинике психиатрии им.С.С.Корсакова с явлениями кахексии и доминирующим симптомом — рвотной реакцией после каждого приема пищи — на основании анализа результатов многих процедур психозондирования была построена диагностическая версия, включавшая в себя интерпретацию омонимических кластеров ЛАГЕРЬ, УЖИН, МУЖЧИНА, СЕКС, ПОЗОР, ГЕННАДИЙ и других. При проведении автоматизированного интервью (вопросы и нереальные провокации со стороны психотерапевта предъявляют с аудиокассеты, винчестера и т.п.) в трех лечебно-диагностических процедурах с использованием кетамина эта больная реагировала бурной вегетативной симптоматикой. Ее вербальные ответы были лаконичны, развернутых смысловых конструкций не было, но смысл ответов целиком соответствовал только исследуемой диагностической гипотезе. В результате возникло предположение о том, что в возрасте чуть менее 20 лет наша пациентка, будучи дежурной по кухне в пионерском лагере, подверглась сексуальной агрессии со стороны мужчины по имени Геннадий, после чего во время ужина возникла однократная рвотная реакция. Через два месяца после этого на фоне общей астении рвота после еды стала возникать все чаще.
Осторожные попытки коснуться болезненной и, возможно, вы
153
И.В. СМИРНОВ
тесненной из сознания темы — ключевого момента этиопатоге-неза, предпринятые разными специалистами высокого уровня, когда больная находилась в интактном состоянии и ясном сознании, были безуспешны.
После проведения однократной процедуры интенсивной психокоррекции с использованием индивидуально значимой информации, полученной в многократных (более 100) процедурах пси-хозондирования и верифицированной в измененном состоянии сознания, рвотные позывы постепенно ослабевали и через несколько дней прекратились. После контрольных обследований больная выписана. В течение многих лет неоднократно по собственному почину приезжала в Клинику. Никаких отклонений ни в психической, ни в соматической сфере нет. Полностью нормализовались состояние и поведение, в том числе в сексуальной сфере. Благополучно родила ребенка (ранее на фоне имеющегося заболевания были выкидыши). Это — уже и четвертый путь оценки диагностической, а также терапевтической значимости информационных критериев, получаемых при анализе результатов психозондирования.
Это все — для науки. На самом деле, знаючи алгоритм предъявления и часто моргая, Вы сможете в ходе процедуры осознанно различать отдельные маскируемые цифрами слова, но не говорите об этом Вашим пациентам.
Организация последовательности стимулов при психозондировании обычно такова:
психоэкология
Заметьте, что некоторые слова предъявляются вполне осмысленно, то есть доступны сознанию. В соответствии с операторской инструкцией или спонтанно Ваш пациент вынужден на некоторые осознаваемые слова нажимать на кнопку и не делать этого при появлении других слов. При ошибках различения слов возникает наказание — неприятная ремарка на кинескопе и отвратительное замечание в наушниках, время процедуры фатально возрастает, а при определенном количестве ошибок процедура считает это отказом от деятельности и прекращает сама себя. Так Вы вырабатываете кластер REPER.
Кластер REPER — искусственно созданный АЛЛИ. Этот кластер очень важен, поскольку является главной точкой отсчета всех остальных результатов. Если при нажатии кнопки на осознаваемое слово, например, «кошка», что делать запрещено инструкцией, человек получает заметную задержку в предъявлении, сообщение об ошибке и неприятный звук, то у него очень быстро вырабатывается увеличение времени реакции нажатия и при неосознаваемых (маскированных) предъявлениях этого слова. Формируется как бы временный, искусственный невротический комплекс (АЛЛИ), имеющий всегда позитивный знак (направлен вправо). То есть, это всегда аверсивная, избегательная реакция. Следовательно, относительно этого искусственного «зла» Вы можете куда как более уверенно, чем в пассивной процедуре без подкрепления, увидеть, что для данного человека является «добром» и насколько (измерить значимость), и что является еще большим «злом».
Поскольку реперный АЛЛИ для практической психоэкологии является одним из важнейших построений не только для психозондирования, но и для целей психокоррекции, почти полностью привожу соответствующий раздел из книги «Психотехнологии» (Смирнов И.В. и др., 1995).
Традиционное для отечественной литературы название метода О.С.Виноградовой (иногда встречается: метод Виноградовой-Лурия) соответствует методу, включающему регистрацию плетиз-мограммы со лба и пальца одновременно и учет различий в реакциях этих двух отведений при предъявлении ряда слов, одно из которых сочетается с ноцицептивным или иным заведомо значимым подкреплением.
Метод основан на явлении, обнаруженном О.С.Виноградовой и Е.Н. Соколовым, которое заключается в неоднородности сосу-
155
И.В. СМИРНОВ.___________________________________
дистых компонентов ориентировочных реакций на лбу и на пальце руки', при действии новых стимулов сосуды лба расширяются, пальца — сужаются, тогда как при болевых воздействиях и тут и там сосуды сужаются.
Авторы ссылаются на результаты измерений кровотока на обнаженной поверхности мозга, полагая, что сосуды поверхности головы и сосуды поверхности головного мозга реагируют одинаково. Действительно, известен феномен централизации кровообращения при действии экстремальных факторов. Но явление, описанное указанными авторами, объяснить централизацией кровообращения нельзя, т.к. подкожные сосуды лба не являются сосудами «центральных» органов. Они, как и сосуды пальца — периферические. Следовательно, механизм явления в другом и нуждается в изучении.
Изначально Razran, Riss и затем Л.А.Шварц обходились без дифференциации получаемых при предъявлении слова реакций на оборонительные и ориентировочные. Так, Л.А.Шварц одновременно с предъявлением слова испытуемому прикладывала к его голове холодную пластинку. Регистрировали плетиз-мограмму другой руки и вырабатывали устойчивую реакцию, например, на слово «дом». Вначале при этом наблюдали плетизмографические реакции и на слово «дым», которые быстро исчезали. При отмене подкрепления рефлекс исчезал через два-три предъявления слова «дом» и восстанавливался так же быстро при подкреплении. Рефлекторную реакцию сосудов наблюдали также при замене слова «дом» на его аналоги в других языках при условии знания оных испытуемым. При искусственном изменении состояния субъекта, вызванном приемом хлоралгидрата, наблюдали растормаживание реакций на «дым» и исчезновение их на синонимы и иноязычные аналоги слова «дом». Л.А.Шварц в данной работе ссылается (без указания библиографических данных) на аналогичные результаты, полученные В.И.Зыковой. Мы видим в результате принципиально те же закономерности, которые впоследствии описала О.С.Виноградова. Отсюда следует:
независимо описанные многими авторами вербальные условные реакции в качестве сигнала (стимула) имеют не только само слово (омоним), но и его сйнонимы или иноязычные аналоги;
— этим условным реакциям свойственно явление генерализации: они развиваются не только при действии того слова, на которое выработаны, но и при действии других слов, которые по смыс-156
психоэкология лу близки к основному (ключевому, сигнальному, ядерному, реперному) или как-то с ним ассоциируются;
— при изменении уровня бодрствования здорового человека или при наличии психических нарушений вместо семантической генерализации наблюдается физическая генерализация: возникают условные реакции на слова, близкие по написанию или звучанию в зависимости от способа предъявления), но не по смыслу. В этом случае не происходит семантической дифференциации стимулов при сохранности физической дифференциации. При дальнейшей диссолюции сознания, как известно, исчезает и физическая дифференциация, а затем любые реакции на сенсорные стимулы угасают.
Отметим, что работы указанных авторов, по сути, были первыми экспериментальными попытками искусственно модулировать семантическую память путем присвоения фиксированной значимости какому-либо слову. При этом само подкрепляемое слово и все слова, также вызывающие физиологические реакции, можно отнести ко второй группе предположительно значимых слов по нашей классификации. Их в этом случае можно рассматривать как ключевые слова искусственно сформированной психосемантической матрицы, т.е. как компоненты экспериментальной модели акцентного локуса латентной информации.
Акцентный локус латентной информации (АЛЛИ) — операциональный термин для обозначения тех совокупностей психосемантических элементов, которые объединяются в единую матрицу и по совокупности реакций на свои вербальные эквиваленты статистически отличаются от всех прочих совокупностей.
Например, если человеку, поссорившемуся со своим начальником, предъявить множество слов помногу раз, регистрировать и усреднять при этом физиологические ответы, то отдельные слова («начальник», «конфликт», «работа») могут давать статистически отличающиеся от всех прочих реакции, но это будет достаточно случайным событием хотя бы потому, что экспериментатор никогда не знает наверняка, какие доступные его опыту вербальные эквиваленты соответствуют внутреннему образу данной ситуации для данного субъекта. С другой стороны, если применить адаптивный алгоритм, который будет перебирать слова и предъявлять их в таких сочетаниях, чтобы на выходе получить статистический критерий максимальной значимости, то будет получен АЛЛИ. В его состав войдут вербальные эквиваленты из самых неожиданных сфер, сами по себе незначимые, но в совокупности
157
И.В. СМИРНОВ__________________________________________
полностью характеризующие психосемантическую матрицу интерперсонального конфликта.
Иными словами, АЛЛИ имманентно включает в себя представление о «семантическом поле», но является более емким понятием и потому более удобным с операциональной точки зрения. Но, в отличие от семантического поля, бывает трудно интерпретировать роль отдельных эквивалентов АЛЛИ, поскольку здесь уже невозможно использовать индивидуальный опыт экспериментатора — он не соответствует неизвестной ему матрице испытуемого. Наиболее удобным в настоящее время является психоаналитический подход.
Кроме того, подход, использующий представления о семантических полях, заведомо ограничен рамками тезауруса экспериментатора, который может ни в коей мере не соответствовать таковым, имеющимся у субъекта. В силу ограничений памяти и быстродействия компьютеров приходится ограничивать количество предъявляемых слов тем пределом, который без ущерба для здоровья достижим с конкретным субъектом.
Для экспериментального исследования семантической памяти, моделирования АЛЛИ и поиска информационно-диагностических критериев для различных больных использовали принцип метода О.С.Виноградовой, а для упрощения аналогий использовали среди прочих те же самые слова, которые применялись в ее работе.
При разработке и отладке алгоритма попутно были решены задачи, позволившие существенно модифицировать исходный метод-прототип, а затем и вовсе отказаться от него как малочувствительного, медленного и ненадежного в части выделения сигнала. Последнее осуществили не путем визуальной экспертной оценки результатов, а с помощью несложной иерархии статистических процедур выделения сигнала из шума с последующей непараметрической обработкой. Что касается ускорения работы алгоритма, то этого удалось достичь использованием более быстрых параметров (вызванных потенциалов и времени реакций) вместо плетизмограммы, КГР и пр. А чувствительность метода подняли путем многократного предъявлении каждого стимула в рандомизированных условиях и статистической оценкой каждой реакции на него.
Существенным отличием, кроме всего этого, является также и то, что в применяемом алгоритме использовали неосознаваемое предъявление стимульной информации (осознаваемый режим 158
психоэкология
был применен только на стадии сопоставления получаемых при этом результатов с результатами тестирования тех же самых слов в репертуарных решетках (Похилько, Келли). В случае неосознаваемого предъявления в визуальном режиме применяли традиционную обратную маскировку или ее комбинацию с прямой маскировкой аналогично методу «25 кадра» Р.Фишера. В случае акустического предъявления эффекта неосознаваемости пытались добиться традиционными приемами (дихотическим предъявлением, компрессией речевого сигнала, отвлечением внимания), но в силу неконтролируемости этих методов от них отказались и разработали специальные алгоритмы и средства, которые описаны в пятой главе.
Кроме воспроизведения методики Виноградовой в ее первозданном виде (за исключением кимографической регистрации плетизмограммы, которую заменили наэлектроплетизмограмму), комплекс реализовывал различные психосемантические алгоритмы, включая обучение условным реакциям. Последнее осуществлялось в адаптивном режиме до тех пор, пока заданный критерий значимости не достигал величины, достаточной дли альфа<0.01. Методика Виноградовой в классическом виде содержит ограничение на количество стимулов, которое определяется прежде всего большими временами развития плетизмографических и других реакций, которые имеют периоды от 1.5 до 7.6 сек, а при действии некоторых психотропных препаратов — до 19 секунд. Поэтому впоследствии мы ее модифицировали (что описано в этой главе).
Результаты экспериментов с осознаваемым и неосознаваемым предъявлением, независимо от вида регистрируемых реакций, модальности подкрепления и модальности предъявления стимулов, убедительно показали реальность выработки условной реакции на вербальный стимул при всех без исключения сочетаниях условий предъявления. Иными словами, мы получили статистически достоверные реакции как на осознаваемый, так и на неосознаваемый раздражитель, как в вегетативной сфере, так и в двигательной. Поскольку возможность выработки двигательной реакции на неосознаваемый раздражитель в литературе подвергается сомнению, мы вынуждены более подробно разобрать этот вопрос.
Lazarus и McCleary показали, что при выработке условной оборонительной реакции на визуально предъявляемые слоги, подкрепляемые ударом электротока, порог их распознавания повы-159
И.В. СМИРНОВ - - -
шалея по сравнению с нейтральными неподкрепляемыми слогами, но при их предъявлении без подкрепления возникала кожно-гальваническая реакция. Это наблюдали и в том случае, если восприятие происходило на уровне ниже порога сознания. Ранее McGinnes назвал это явление перцептивной защитой, установив, что предъявление эмоционально значимых слов (нецензурной брани) даже на уровне ниже порога осознания приводит к повышению порога различения этих слов и развитию кожно-гальванических реакций. Затем McGinnes и Sherman модифицировали методику и стали определять пороги распознавания не самих неосознаваемых стимулов, а индифферентных, которыми маскировали предварительно предъявляемые тестируемые слова. В том случае, если маскировали индифферентное слово, порог распознавания понижался, если нецензурное — повышался. По механизму психологической защиты развивается и субъективное предпочтение при выборе из памяти позитивных или негативных слов (Батова Н.Я.).
Следует отметить, что мы целиком использовали эту идею, предъявляя тестируемые слова перед маскирующими. Время реакции, которое мы регистрировали, фактически определялось модулирующим влиянием семантики тестируемого стимула на восприятие бессмысленного маскирующего слова. Это и позволило получить описанные ниже результаты, которых мы не нашли в литературе.
Г.Б.Милованова показала, что эмоционально значимые образы, предъявленные среди нейтральных, достоверно изменяют частоту сердечных сокращений и кожно-гальванический рефлекс. Firth и Worral получили высоко значимые КГР при предъявлении сексуальных стимулов среди нейтральных. Следует отметить, что большинство исследователей обычно не учитывают в подобных работах привходящих факторов, в частности, фазы активации и релаксации (Махач К., Мантликова Г.), ведущей роли левого полушария у правшей в регуляции условных КГР на вербальный стимул (Hugdard, Brobek), или полном отсутствии такой роли контралатеральных влияний (Hammond, Gordan), различий КГР при запоминании семантического материала в зависимости от доминантности полушарий (Коновалов В.Ф., Сериков И.С.), влияний на КГРуровня тревоги и психотропных препаратов (Райт М.Л. и до.), особенностей КГР у шизофреников и паранояльных психопатов (Bartfai), ритмических колебаний КГР у алкоголиков (Бушов Ю.В, 1983), способности некоторых людей произвольно регули-160
психоэкология
ровать КГР (Авсаркисян А.Н. и др., 1985), и пр. Может быть, именно поэтому сведения, имеющиеся и литературе, очень противоречивы. Smith в обзорной работе также отмечает чрезвычайную противоречивость литературных данных об использовании КГР в качестве индикатора уровня активации и зависимости от интенсивности (в контексте обзора — модальности) стимула.
Л .Г.Воронин и др. показали, что условно- безусловно-рефлекторные реакции могут быть как осознанными, так и неосознанными. Это доказывается авторами на материале анализа многих физиологических реакций, в том числе кожно-гальванических. Однако в работе Frith и Cawthron мы видим отрицание возможности развития КГР в ответ на неприличные слова, предъявляемые ниже порога осознания.
Не исключено, что разногласия в литературе обусловлены методическими и методологическими трудностями и различиями. В связи с этим приведем мнение Л.Г.Воронина и В.Ф.Коновалова о неосознаваемых и осознаваемых реакциях, протекающих без видимых электроэнцефалографических изменений. Эти авторы отмечают, что у одних людей следы эмоционального возбуждения проявляются в ЭЭГ, у других — в КГР, причем «следы ранее выработанных осознанных реакций могут храниться в памяти на неосознаваемом уровне и что эти реакции могут проявляться, не доходя до сознания, и быть более отчетливыми, чем аналогичные осознанные реакции».
В цитируемой работе показано, что с помощью регистрации КГР можно легко идентифицировать собственное имя, но оно интерферирует с именами близких. Отметим также, что авторы считают возможным определить след эмоционального возбуждения по КГР у алкоголиков в 81 -86% случаев, у больных церебральным атеросклерозом — в 50% случаев и у здоровых — в 81-83%.
Позднее, Л.Г. Воронин и др. напишут: «...ориентировочные рефлексы на осознаваемые и неосознаваемые сигналы возникают и развиваются в значительной степени независимо и являются различными реакциями. При этом реакция на неосознаваемый раздражитель формируется в несколько раз медленнее, чем на осознаваемый».
А.Б.Веденяпин и В.С.Ротенберг считают, что КГР отражает не настройку на выполнение задаваемого инструкцией поведенческого акта, а процесс принятия решения при анализе семантической информации. Но, с другой стороны, исследование Janes на 10 здоровых испытуемых показало, что КГР не является однознач-
161
И.В. СМИРНОВ____________________________ - _
ным (unitari) феноменом для семантических стимулов и что они оказывают влияние как на амплитуду КГР, так и скорость восстановления исходного уровня электрокожного сопротивления (т.е., в принятых в нашей стране терминах—на фазическую и тоническую компоненты КГР).
Искусственно приданное вербальным путем «значение» малодифференцированным стимулам (щелчкам, тонам, вспышкам) существенно влияло на характер получаемых при этом КГР (Bernstein). Аналогичные результаты получили Maltzman, Langdon. В этих работах семантическими стимулами модулировали только фазическую компоненту КГР, но кроме нее есть еще и тоническая компонента, которая тоже не является константой и существенно зависит от функционального состояния человека (Кузнецов С.А., Иваницкий А.М. и др.).
Очень близким к используемому нами варианту метода с отменой или предупреждением подкрепления является исследование Maltzman, в котором показано достоверное повышение амплитуды КГР на обусловленный предварительной инструкцией вербальный стимул. Известно также, что влияние новизны стимула на КГР как компоненториентировочной реакции существенно зависит от значимости стимула (Maltzman, Langdon). Это означает, что в случае семантических стимулов возникает новое качество — влияние не столько новизны стимула, сколько его значимости. Об этом же пишет П.В.Симонов. Но, хотя семантика слова и доминирует как детерминанта возникающих при его восприятии реакций, не исключено, что и менее дифференцированные реакции при восприятии по созвучию или написанию являются более сложными, чем простая реакция на физический стимул. Так, Patterson на примере больного с афазией после инсульта показала, что слуховое опознание слова не обязательно опосредуется семантическими сопоставлениями.
Все физиологические реакции, сопутствующие когнитивным процессам, подвержены сильным влияниям интериндивидуальных различий. Так, при использовании теста Роршаха как эмоци-огенного фактора у больных бронхиальной астмой и у здоровых частота сердечных сокращений и КГР изменялись неодинаково (Duboi). У здоровых КГР угашались быстрее при корреляции с более успешным выполнением теста, что свидетельствует о снижении для них змоциогенности задания.
На примере КГР мы проиллюстрировали большое количество противоречий и литературе при наличии огромного массива раз-162
психоэкология
нородных фактов. То же касается попыток использования всех других физиологических и поведенческих реакций для оценки значимости стимула: аудиомоторных (Ljubin, Greguric), сердечно-сосудистых (Станкус А.И., Соколов Е.И.), электромиографических (Brown, Schwartz, Fridlung), графологических (Капустин Э.А.), использующих анализ спектра речи (Ерашенко Е.А., Магалиф А.Ю.). Несомненно, что разнообразие и противоречивость описываемых в литературе сведении по изучаемым нами областям определяется не только сложностью субстрата познания в этой сфере, но и отсутствием унификации, метрологии и методологии исследований (Костандов Э.А., Шостакович Г.С.)
Отдельные исследователи пытаются решить эти проблемы путем совершенствования методов регистрации параметров (например, Разумникова О.М. и Ильюченок РЮ. используют усреднение реакций), создания специальных устройств для оперирования семантическими стимулами (Рапацевич Е.С.), путем оптимизации длины слов при визуальном предъявлении (Samuel), учета возвратного или последовательного характера саккад (Yamamoto) и пр.
Анализ литературы убеждает, что до последнего времени отсутствовала технологически отлаженная совокупность методов регистрации стимуляционных семантически детерминированных реакций. Однако некоторые из существующих методов могут быть с известными ограничениями использованы как средства научного исследования, но не как методы психодиагностики.
Для устранения указанных недостатков мы применили способ предъявления семантических стимулов, строго детерминированный компьютером, и способ статистического выделения реакций и оценки их не случайности в связи с событием (предъявлением стимула). Элементы циклограммы предъявления стимулов вы уже видели на двух последних рисунках. Испытания показали, что при таком способе предъявления и выделения результатов последующая статистическая обработка позволяет получить неоднородное распределение параметров, иерархия которых эквивалентна существующим в психике субъекта АЛЛИ. Так, например, с помощью такого подхода в экспертном исследовании валидности одного из вариантов метода на 20 здоровых мужчинах у 18 из них были установлены собственные фамилии, до того момента экспериментатору неизвестные.
Для целей изучения механизма психических расстройств особый интерес представляла возможность попытаться эксперимен-
те
И. В. СМИРНОВ ______________________ _
тально сформировать АЛЛИ. Кроме того, во-первых, это могло послужить валидизации метода, во-вторых, способствовать выделению реперных критериев отдельных параметров для последующего их применения на больных. Поскольку стихийными экспериментальными моделями АЛЛИ являются все модели неврозов, основанные чаще всего на научении с подкреплением, можно рассматривать больных неврозами как естественную модель и изучать их психосемантический статус. Однако экспериментальная модель подразумевает строго контролируемые условия ее создании и исследования. При этом методы исследования модели должны быть адекватны методам ее создания: мало результативным было бы моделирование вегетативного невроза и последующее исследование этой модели по моторным реакциям. Нам удалось для моделирования АЛЛИ использовать те же программно-аппаратные средства, что и для его исследования.
В общем виде принцип моделирования АЛЛИ таков:
1) субъекту предъявляли рандомизированную последовательность из 20-640 слов в случайном режиме так, чтобы каждое слово было использовано не менее 300 раз. При визуальном предъявлении его длительность составляла 500 мксек и была равна длительности предъявления осмысленного или бессмысленного маскерного слова, которое через 500 мксек появлялось на том же месте дисплея, где и первое (неосознаваемое) слово. В варианте метод а для снижения риска наложения послеобразов на сетчатке глаза дополнительно после каждого стимула применяли локальную засветку экрана. Характеристики такого режима работы дисплея оценивали по результатам скоростной киносъемки. Интервалы между f оедъявленьями изменялись в псевдослучайном режиме от 550 мсек, до 1900 мсек. По инструкции, предъявляемой компьютером при начале процедуры или при неверной операторской деятельности, в ответ на каждое бессмысленное слово испытуемый должен был максимально быстро нажать на кнопку. По устанавливаемой экспериментатором величине априорной вероятности среди бессмысленных буквосочетаний (маскеров) в псевдослучайном порядке предъявляли осмысленные слова, и тогда испытуемый не должен был нажимать кнопку (при ошибках был предусмотрен режим наказания);
2) среди предъявляемых осмысленных слов, на которые в соответствии с инструкцией нельзя было реагировать нажатием кнопки, в псевдослучайном порядке с устанавливаемой экспериментатором априорной вероятностью появлялось слово «кошка», 164
психоэкология
в ответ на которое кнопку нужно было нажать обязательно. В противном случае через 100 мсек следовало подкрепление — интенсивный акустический удар измеренной мощностью 90-110 Дб и длительностью 200 мсек, предъявляемый через изодинамичес-кие магнитные головки мощностью 40 Вт. Этот вариант подкрепления был избран как электробезопасный, не препятствующий визуальному восприятию, не вызывающий необратимых повреждений слухового аппарата и в то же время, по мнению добровольцев, участвующих в эксперименте, — крайне тяжело переносимый. Последнее обстоятельство побуждало всех участников опыта постоянно находиться в состоянии высочайшей операторской активности, стремясь не пропустить ни одного слова «кошка». «Замо-тивированность» испытателей была в этом случае несравненно выше, чем при использовании только операциональной мотивации, задаваемой инструкцией, когда в зависимости от количества ошибок компьютер снижал суммарную расценку денежной выплаты за эксперимент, но не производил подкрепляющих воздействий;
3) в течение всей процедуры, которая длилась от 20 до 180ми-нут и могла быть прервана в любой момент по желанию испытателя, регистрировали время реакции — нажатия на кнопку — при предъявлении каждого бессмысленного слова, все виды ошибок операторской деятельности, физиологические реакции. Среди последних в результате предварительных исследований оставили только вызванные потенциалы головного мозга как наиболее быструю и мало подверженную адаптации реакцию. В ином случае, например, при использовании плетизмограммы по О.С.Виноградовой, для проведения аналогичной процедуры требовалось на порядок большее время. Однако в эксперименте по моделированию АЛЛИ информативная значимость усредненных вызванных потенциалов была мала из-за того, что ограничения компьютера не позволяли учитывать ВП на каждый кластер отдельно, и поэтому приходилось выбирать 2-3 кластера, для которых усредняли ВП. В случае диагностического использования комплекса этот недостаток был частично преодолен путем ограничения количества тестируемых кластеров, а на комплексах с более совершенными компьютерами устранен полностью. Усредненные интервалы времени реакций в нашей постановке у отдельных испытуемых достигали 119.5 мсек, что можно удовлетворительно объяснить только проявлением антиципации на фоне операторской мотивации высочайшей напряженности. Поскольку за 500
165
И.В. СМИРНОВ_____________ - . _
мксек до каждого осознаваемого бессмысленного слова в течение 500 мксек предъявляли неосознаваемое тестируемое слово, а бессмысленные слова программно составлялись on-line из случайной выборки 8 гласных букв, реакция на них фактически являлась реакцией на неосознаваемое слово, которое в данном случае сильно модулировало когнитивные процессы при восприятии бессмысленного слова. Таково было наше априорное мнение и оно полностью подтвердилось результатами эксперимента;
4) совокупность предъявляемых неосознаваемых слов включала полный перечень слов, использованных О.С.Виноградовой (1- подкрепляемое слово «кошка», 2 — слова, близкие ему по смыслу и имеющие разный уровень семантической категоризации, 3 — слова, близкие по написанию, 4 — отдаленные по смыслу и написанию слова, 5 — нейтральные слова), а также табуированные слова и слова из области ядерных структур личности. Статистически эти группы слов были организованы в кластеры, относительно которых усредняли все регистрируемые параметры. В отдельных опытах для контроля консистентности метода эту совокупность слов неявно для испытателя заменяли на другую, не имевшую ни малейшего отношения к слову «кошка» и другим словам из первой совокупности, но при этом подкрепляли по-прежнему осознаваемое слово «кошка»;
5) по окончании процедуры, статистически обработанные данные выводились в банк данных на магнитный носитель и распечатывались в виде протокола;
6) по окончании серии опытов проводили многомерный статистический анализ по результатам каждого отдельного испытателя и по всему массиву.
В результате проведения 207 экспериментов на 32 практически здоровых добровольцах мужского пола в возрасте 16-42 лет, 12 из которых были военнослужащими, для окончательного анализа было отобрано 119 протоколов. Испытателям в этих опытах на неосознаваемом уровне предъявляли список слов N 1, изредка заменяя его в отдельных опытах на список N 2:
Список N1 Список N 2
1. имя собственное имя собственное
2. нецензурная брань нецензурная брань
3. кошка страх
4. каштан работа
5. киска мать
166
психоэкология
6. окошко алкоголь
7. ножка 8. животное 9. ложка 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. успех секс смерть стол женщина бсзакм отец кошелка деньги котята мужчина собака дети стенаучеба корканаркотик мышка семья кот болезнь мурка служба лукошко угроза
В таблице представлены результаты окончательной обработки данных, полученных при предъявлении списка №1 («КОШКА»):
м "'СЛОБО ОСПСТЕННЫЕ БЕССМЫСЛЕННЫЕ ИХ ПАРЫ
X I ° X D т F R
1 иля I 2.82 2.72 1.43 1.19 141 0.48 -0.17
2 HELEH3. | 1.23 1 3.06 | 4.11 j । 2.27 1.47 -119 -0.07
3 | КОШКА I 2.41 : 2.31 i 2.64 i 0.06 -0.41 | -2.73 -154
4 КАШТАН | <74 I -ш [038 <76 -0.02 1-0.65 1 1.32
5 КИСКА 1 051 I -1.24 -118 -127 134 1 -3.15 1.46
6 ОКОШКО I 2.39 0.87 1.63 108 125 I -1.56 | 0.47
7 НОЖКА 10.34 | -181 -0.30 043 -015 1 2.85 10.10
8 ЖИВОТНОЕ 5.14 1 1.74 0.75 0.18 2.82 0.08 | -1.11
9 ЛОЖКА I | 129 | 1.74 -1.34 -0.86 0.53 022 024
10 СТОЛ -2.321 -2.75 0.06 0.10 -179 178 -0.90
11 БСЗАКП -2.23 Г-029 1 1 -135 027 0.09 0.35 I 2.45
12 КОШЕЛКА -0.84 | -2.91 1J55 -021 -1.25 -0.31 <44 |
13 КОТЯТА -207 -103 -0.31 0.07 -1.08 0.10 173 1
14 СОБАКА <91 080 -0.37 -0.83 -1Л4~~] 104 ! -2.27
15 СТЕНА -3.76 1 -109 114 0.50 -3.21 1 0.30 -160
16 КОРКА -1.32 -1.39 ! -2.11 -024 -0.79 0.18 -119
17 ПЫШКА <17 090 | -1.71 -1.49 186 -1.34 <71
18 КОТ -084 1 -2.27 -1% -037 1.12 0.06 -0.21
19 ПУРКА -146 | 1 -175 -1.01 -028 0.43 0.91 0.73
20 ЛУКОШКО I -3.74 1 -0.50 -1.15 -025 i -2.33 1 0.33 2.08
167
И.В. СМИРНОВ-.
Достоверные (для альфа менее 0.05) значения Т-критериев выделены. Каждое значение Т-критерия по соответствующему статистическому параметру каждого слова представляет собой результат сравнения по вертикали с таким же статистическим параметром всех остальных 19 слов списка.
Как видно из таблицы, неосознаваемое слово «кошка», рассматриваемое как ключевой элемент искусственно сформированной матрицы АЛЛИ, характеризуется по контингенту испытателей уникальной совокупностью четырех устойчиво достоверных признаков:
1) большим временем реакции по сравнению с другими несознаваемыми осмысленными словами (за исключением слова «животное»),
2) большей дисперсией времени реакции по сравнению с другими неосознаваемыми осмысленными словами за исключением нецензурного слова и собственного имени;
3) большим временем реакции на следующее за «кошкой» неосознаваемое бессмысленное слово по сравнению с другими неосознаваемыми бессмысленными словами, кроме следующего за нецензурным;
4) малой величиной F-критерия (соотношение дисперсий времен реакций после неосознаваемого осмысленного слова и следующего за ним неосознаваемого бессмысленного).
Эта совокупность уникальна и в других случаях (с контрольными наборами слов) не встречается.
Психосемантические элементы в нашей экспериментальной модели не существуют сами по себе, а существенно модулируются другими элементами и оцениваются только в связи с их внутренней контекстовой совокупностью. Иными словами, даже ожидаемые реперные точки (реакция на имя как ключевой компонент аутоидентификационной ядерной сферы значимости и реакция на нецензурную брань как компонент матриц избегательного и защитного поведения) подвержены существенным флуктуациям в зависимости от того, в каком контексте эти реперные точки рассматриваются. Это полностью согласуется с основными положениями наших концептуальных моделей, которые рассматривают психосемантические матрицы как-многомерные изменчивые информационные структуры, где один и тот же элемент может в зависимости от числа вхождений в Nn-мерных матриц иметь Nn значений.
Слово «животное» также характеризуется особенной совокуп-168
психоэкология
ностыо признаков: максимальным временем реакции в списке и максимальным парным Т-кр'итерием. Это можно интерпретировать как реакцию на категориальный стимул, который сам по себе не вызывает явлений психической защиты и поэтому не приводит к возрастанию времени реакций на последующие (парные) неосознаваемые бессмысленные стимулы.
Напротив, максимально значимые превышения реакций на неосознаваемые бессмысленные слова, следующие после слов «кошка» и нецензурной брани, мы склонны в соответствии с традиционными представлениями (McGinnes, Sherman, Костандов Э.А.) рассматривать как проявление механизмов психической защиты.
С этой точки зрения особо интересным представляется то, что в обоих списках заметны значительно большие количества достоверно отличающихся параметров реакций на осмысленные слова, чем на бессмысленные. Справедливо предположить, что закономерной реакцией на предъявление бессмысленных неосознаваемых слов может быть только реакция перцептивной или иной формы психической защиты, когда статистически значимо реакции на эти слова модулируются предшествующими аверсивными или эскапируемыми стимулами.
Здравый смысл подсказывает, что ожидать сколько-нибудь значимых статистически реакций на сами по себе отдельно взятые бессмысленные слова не приходится. Следует помнить, что эти слова во избежание случайных ассоциаций программно составлялись для каждого нового предъявления по квазислучайно-му закону из рандомизированной последовательности букв. Случайные ассоциации, как мы обнаружили в предварительных опытах с регистрацией КГР, могут встречаться: например, слова «мрин», «рзар», «цоск» среди других детерминированных буквосочетаний такой же длины при визуальном неосознаваемом предъявлении оказались статистически значимыми для 5 из 9 испытуемых. В этом случае уже можно заподозрить не случайность события, но интерпретировать на уровне имеющегося категориального аппарата этимологию таких ассоциаций невозможно без специальных исследований, которых мы не проводили. Необычайно интересны и ценны эксперименты В.В.Налимова, выявившие архетипические зрительные образы, — возможно, имеются некие архетипические языковые корни? В русле гипотез такого направления также интересны представления о языке, изложенные известным русским поэтом Велимиром Хлебниковым («Наша основа»), а также украинской писательницей Докией Гуменной в еепро-
169
И.В. СМИРНОВ ___
изведениях («Родинний альбом», Нью-Йорк, 1971, стр. 24-151; «Благослови мати!», Нью-Йорк, 1966, стр. 80-85; Dokia Humenna. The past is flowig into the future. N.Y. 1978. Published by the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.), о связи архаичной символики, семантики с фонетикой в корнях слов различных европейских языков. Для разрядки сообщу, что Д. Гуменная — бабушка моего хорошего в прошлом коллеги — доцента Е.В.Безносюка.
Наименьшие средние показатели времени реакций и средние дисперсии оказались на нейтральные для данного контекста слова «стол» и «стена», бессмысленное слово «бсзакм». Последнее было включено для контроля консистентности результатов.
Слово «лукошко» также оказалось для данного режима предъявления нейтральным, тогда как слово «окошко» попало в семантический кластер слова «кошка» по времени реакции. Можно предположить, что при таком предъявлении дескрипторами слова являются первые 4-5 букв (звуков).
Наиболее общими выводами из эксперимента по моделированию АЛЛИ были следующие:
1) предложенная модель АЛЛИ адекватна решаемым задачам, поскольку достигнута практическая цель — получены реперные точки для последующих исследований;
2) данная экспериментальная модель позволяет изучать механизмы экстренного формирования АЛЛИ и иерархию доминирующих психосемантических матриц аналогично тому, как это описано в литературе (Виноградова О.С., Ушакова Т.Н., Раевский А.М.);
3) иерархии статистических результатов на группе добровольцев в целом соответствует результатам, ранее полученным упомянутыми авторами при осознаваемом предъявлении, но из-за применения прецизионных условий эксперимента и статистического анализа имеет значительно большую дифференциацию и предоставляет больший простор для дальнейших исследований и интерпретаций;
4) полученные реперные точки позволяют заменить общие представления об ориентировочных и оборонительных реакциях на семантический стимул на более детализированный аппарат категорий: а) алертизирующие стимулы (требующие при психосемантическом анализе большего когнитивного времени и вызывающие увеличение показателей времени реакций), эквивалентные стимулам ориентировочного поведения, повышающим уровень бодрствования и, в случае осознаваемого предъявления, активирующие внимание; б) стимулы, сильно подверженные влиянию 170
психоэкология
контекста (сопровождающиеся большими средними дисперсиями показателей времени реакций); в) аверсивные или эскапируе-мые (ноцицептивные) стимулы, сопровождающиеся статистически достоверными особенностями реагирования на неосознаваемые бессмысленные слова, следующие по порядку пар предъявления заданными стимулами, в сочетании с какими-либо статистическими особенностями реагирования на сами данные осмысленные стимулы); г) нейтральные или предпочитаемые в данном контексте стимулы (сопровождающиеся статистически наименьшими показателями времени реакций).
Как известно, каждое слово выполняет две функции: обозначает определенный предмет или событие и является сообщающим фактором, относящим эти предмет или событие к определенной категории. Эта категория включает в себя большое количество ассоциативных связей внутри сложной семантической сети, которая актуализируется каждым конкретным воспринятым словом. Поэтому, предъявляя человеку какое-либо слово, можно ожидать от него не случайного реагирования, а закономерного, так или иначе связанного со значением предъявленного слова. На этом и основаны ассоциативные методы изучения семантических полей, описанные в литературе, равно как и разработанные нами методы психосемантического анализа, один из которых был использован при экспериментальном моделировании АЛЛИ.
В заключение данного раздела отмечу, что в нашу задачу не входило исследование динамики искусственного АЛЛИ во времени и возможных его поведенческих проявлениях вне условий эксперимента (изменилось ли отношение к кошкам и пр.).
Общими выводами для данной главы могут быть следующие:
1) реально создание средств психосемантического анализа на уровне завершенных технологических процессов, исключающих волевой контроль и участие сознания субъекта;
2) это реально и для исследований психики животных, но на имеющемся техническом уровне приходится ограничиваться косвенными моделями, использующими биогенные семантические сигналы, специально ослабляемые для возможности аналогизи-рования с неосознаваемым восприятием у человека;
3) такие средства впервые позволяют исследовать истинные механизмы психосемантических расстройств, не опосредованные редактирующими и контролирующими функциями зон памяти, доступных пользователю (у человека — сознанию);
171
И.В. СМИРНОВ _
4) в эксперименте показано, что семантические сигналы, предъявляемые на уровне, недоступном пользователю, способны приводить к существенным изменениям состояния и поведения человека, из чего можно сделать предположение об их возможном участии в этиологии психических нарушений;
5) экспериментально выработаны первые статистические реперные критерии, пригодные для прямого измерительного исследования неосознаваемых сфер психики;
6) разработана первая экспериментальная модель акцентного локуса латентной информации, не основанная только на научении, а прямо использующая экстренную перестройку психосемантических матриц с присвоением им доминирующей значимости;
7) экспериментальная модель АЛЛИ может являться лабораторным эквивалентом реально существующих психосемантических расстройств, лежащих в основе психических нарушений или им сопутствующих.
Отметьте, что существуют и другие варианты процедур пси-хозодирования, в том числе — пассивные, когда от человека не требуется никакой операторской деятельности, а некоторые процедуры можно проводить во время сна, в т.ч. наркотического {путем акустического предъявления стимульной информации), а также во время беседы с врачом {в последнем случае приходится регистрировать баллистограмму). Все эти процедуры, особенно та из них, когда в качестве информационного критерия регистрируют электроэнцефалограмму и вызванные потенциалы головного мозга:
технически значительно более сложны, чем вышеописанная процедура с кнопкой.
Несмотря на совершенно разные технические условия, принципы построения всех процедур психозондирования одни и те же. 172
психоэкология
Поэтому мы и называем их — «Психотехнологии» (М.: Прогресс, 1995, Смирнов И.В. и др.).
Каждая процедура, особенно включающая различные режимы подкрепления операторской деятельности, несет в себе компонент психокоррекции—вы можете искусственно формировать АЛЛ И или смещать уже существующие, формируя тем самым структуру ценностей, иерархию мотивов поведения, системы значимостей.
Одной из интересных пассивных процедур является аудиови-деокардиопроцедура. В такой процедуре семантически близкие стимулы предъявляют одновременно в виде образа на кинескопе, слова на кинескопе, слова в наушниках.
Предъявление синхронизовано с ритмом сердца. Оказалось, что достаточно 3-7 R-R интервалов электрокардиограммы, чтобы изменение их длительности отразило семантическую реакцию психики. Изначальна этого никто из нас не ожидал. То, что психические реакции, опосредованные сердцем, гораздо быстрее и эффективнее выделяются, чем с помощью регистрации связанных с событием вызванных потенциалов головного мозга — своеобразное физиологическое открытие. Может быть, неслучайно человек, говоря «душа болит», прикасается к области сердца, а не к голове. Вспомним Архиепископа Луку.
Знаки АЛЛИ при использовании сердечного ритма в качестве основного информационного критерия изменяются на противоположные — при аверсивной реакции длительность R-R интервалов уменьшается (частота сердечных сокращений возрастает). При проведении аудиовидеокардиопроцедуры мы наблюдаем значительный коррекционный эффект: эмоциональный компонент варьирует от релаксации и медитации до рыданий и экстазов.
Я не могу здесь подробно останавливаться на технических подробностях процедур психозондирования, занимающих многие тома наших научно-исследовательских отчетов и составляющих предметы изобретений.
Достаточно отметить, что процедуры психозондирования являются средствами измерения психических явлений, что для человечества принципиально ново.
Кроме того, процедуры психозондирования позволяют выделять метаязыковые семантические конструкты, которые вы используете с целью психокоррекции для конкретного пациента. Шутя, бессмысленные цепочки таких слов я называю «компьютерным заклинанием».
173
И.В. СМИРНОВ
Глава 5. КАК УПРАВЛЯТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ
Конечно, в этой главе речь пойдет не о том, как «управляют» с помощью аминазина или инсулинового шока (это — к учебнику психиатрии).
Я не знаю также, как «зомбируют» людей, о чем часто пишут желтые газеты.
Я знаю только, что в 80-х годах прошлого века наука и техника достигли возможности вводить информацию в психику, минуя сознание. Кроме того, мы научились делать импринтинг на взрослых особях. Что это такое?
Выдающийся русский психиатр С.С.Корсаков установил, что часто в патогенезе психических болезней присутствуют нарушения эмоциональной памяти, которые могут формироваться за один раз. Количество научных работ в этой области огромно. Мгновенные модификации семантической памяти, напоминающие явление импринтинга, имеют огромное значение в патогенезе психических расстройств. Даже из быта известны случаи психических заболеваний, которые внезапно начинали£ь вследствие тяжелой психической травмы. Многие исследователи интуитивно подходят к пониманию роли импринтинга, но взгляд на психосемантические расстройства как на закономерное, типовое для психических нарушений явление не сформировался. Естественной причиной этого было отсутствие измерительных средств исследования психосемантических структур. Поэтому, хотя на уровне здравого смысла самоочевидной является осязательность «программных» нарушений для психических расстройств, истолкованию подвергали прежде всего то, что было доступно наблюдению — поведение больного. С появлением экспериментально-психологических методов стали более точно исследовать психические нарушения, стандартизуя экспериментальную ситуацию, в которой наблюдали процессы принятия решений, целе- и смыслооб-разования, проявления различных форм психической защиты, формы эмоционального реагирования и мн.др. И в этом случае исследование психики было опосредовано через деятельность субъекта.
Любая из современных психиатрических парадигм, касающаяся представлений о механизмах психических нарушений, включает в число наблюдаемых при них изменений поведения те или иные семантические нарушения. Но, поскольку их наличие и осо-174
психоэкология
бенности определяются опосредовано, преобладает интерес к непосредственно наблюдаемым проявлениям, которые и занимают первые места при концептуализации. Это происходит независимо от вида парадигмы: биохимической, нейроанатомической, патопсихологической, полиэтиологической и пр.
Наиболее важными для целей психоэкологии являются известные представления о сильнейшем влиянии культурального контекста на формы психических нарушений (Butcher, Bemis). Изучая влияние социальных факторов на распространенность и течение шизофрении, Н.М.Жариков и Е.Д.Соколова показали, что трудоспособность и сохранность профессиональной квалификации больных находятся в прямой зависимости от уровня их образования. Иначе говоря, суть этой зависимости состоит в том, что при большей наполненности семантической памяти у образованных больных поведенческие проявления нарушенной психосемантической матрицы с более высокой вероятностью купируются сохранными матрицами (хотя бы потому, что этих матриц больше, чем у больных с низким уровнем образования. Социальные факторы могут оказывать патогенетическое и патопластическое действие, которое проявляется в особенностях клиники, течения заболевания, социально-трудовой адаптации больных. «В результате изменения социальных ориентиров или под воздействием общего повышения образовательного уровня сложившаяся ранее база материальных и моральных ценностей стала недостаточной. Бедные меньше всего могут рассчитывать на эффективное лечение, на обладание социальными, финансовыми и духовными ценностями, которые делают жизнь содержательной, и попадают в воронку наркомании, преступности и ранней смерти»» (Стивен Кунц).
Иными словами, речь идет о существенном влиянии семантических стимулов (вербальных и невербальных, получаемых во время социального поведения) и психосемантических элементов (составляющих внутреннюю картину мира больного) на ход патологического процесса.
Человек является информационным существом и живет он в информационном мире. Насколько сильно влияют на нас информационные посылки? Действительно ли, как явствует из бытовых и клинических наблюдений, некоторые особо значимые информационные посылки могут навечно впечатываться в нашу психику и даже повреждать ее?
Я считаю, что в любом психическом нарушении присутствуют
175
И. В. СМИРНОВ_________________________________________
психосемантические расстройства и полагаю, что во многих случаях психосемантические расстройства являются причинными —-этиопатогенетическими — для структуры заболевания.
В психоэкологии мы используем семантические термины расширительно как ту или иную информационную характеристику знаковых отношений в информационной среде (семантической памяти), а не только в узком толковании конструкции «смысла».
Если щелчок услышан когда-то впервые — он автоматически наделяется только одним значением — значением стимула для ориентировочной реакции типа «что такое?», необходимой для экстренного установления связей щелчка с любыми другими изменениями контекста среды или состояния (распознание новой ситуации).
Если щелчок слышится не в первый раз, он попадает именно в ту зону памяти, где хранится психосемантический эквивалент щелчка, который уже имеет связи со всеми психосемантическими эквивалентами контекста среды и состояния, имевших место при всех прежних восприятиях щелчка. В этом случае щелчок наделяется значением контекстового стимула — ориентировочная реакция на него быстро угасает (нет новизны стимула).
Если щелчок совпадает по времени со значительными изменениями состояния (например, его используют как условный сигнал при выработке условного рефлекса), он при последующих восприятиях попадает в другую зону памяти и актуализирует совершенно иную психосемантическую матрицу, которая в данном примере является программой выработанного (условно-рефлекторного) поведения. Щелчок при этом наделяется значением сигнала и приобретает смысл.
Во всех случаях восприятии щелчка можно говорить о семантике щелчка, т.е. о его значении, и лишь в последнем случае (щелчок как сигнал) появляется комплементарный значению смысл.
Под психосемантическими расстройствами имеются в виду не только расстройства смыслообразования, но прежде всего расстройства системы значений. И при психопатиях, когда нарушен только процесс категоризации стимула, и при шизофрении, когда поражен ключевой этап восприятия — этап оценки значимости сигналов (Стрелец В.Б., 1989) — мы имеем дело с психосемантическими расстройствами.
В. В.Пашковский и др. (1985) проводили системный анализ свободных ассоциативных потоков у здоровых и у больных с психическими расстройствами и изучали при этом избирательное из-176
психоэкология
влечение информации из долговременной памяти путем исследования статистического распределения слов при их воспроизведении. У больных с черепно-мозговой травмой ассоциативный поток не отличается от такового у здоровых, а у больных шизофренией он детерминирован паразитной системой связей — жест-Еой статистической системой, столь же мощной, как и система ормальной речи у здоровых.
Согласно модели языковых нарушений (Hoffman, 1986) при мзофрении центральным является повреждение процесса планирования высказывания. При этом вербальный стимул или собственная инициатива больного актуализируют не ту психосемантическую матрицу, которая адекватна социальной среде и условиям данной конкретной деятельности, а патологическую матрицу, которая неадекватна ситуации и либо занимает место нормальной, либо конкурирует с ней. В терминах эмпирического языка это обозначают как в той или иной степени сохранную критику.
Если принять, что значимость стимула — это количество связей его психосемантического эквивалента с другими психосемантическими элементами, мы получаем возможность измерить эту значимость при психозондировании.
Традиционный подход к проблеме значимости как к проблеме качества стимула ограничен малопродуктивными описательными результатами (если стимул сопряжен с ориентировочной реакцией, значит — он новый, если с оборонительной, значит — ноцицептивный, если при исследовании семантических полей стимул попал в одну группу с другим стимулом, значит — общая категории и т.п.). Такой подход не позволяет произвести никаких измерений в психической сфере, т.е. не создает инструмента исследования.
При самом первом восприятии значимость стимула определяется количеством связей его психосемантического эквивалента с элементами, эквивалентными сенсорным стимулам контекста среды и состояния в этот момент. Если в этот момент были актуализированы психосемантические элементы, входящие в матрицу оборонительного поведения, то и данный стимул приобретает с ними большее количество связей, чем с любыми другими элементами, поскольку другие стимулы определяются контекстом среды и рандомизированы по своей значимости относительно матрицы оборонительного поведения. Иначе говоря, количество актуализированных элементов матрицы оборонительного поведения в данный момент больше, чем элементов из любой
7 Смирнов И В 177
И.В. СМИРНОВ
другой матрицы, актуализированных случайно за счет контекстовых влияний.
Психосемантическая матрица может формироваться двумя путями: либо за счет многократного повторения одного и того же поведения, когда все условия контекста случайны по отношению к этому поведению (например, при обучении путем классического обусловливания), либо путем однократного сочетания данного поведения с элементами какой-либо ранее сформированной матрицы, уже имеющими очень большое количество связей с другими элементами других матриц (т.е. очень значимыми).
С точки зрения психоэкологии оба пути важны. Однако первый путь тривиален и действует по принципу «повторение — мать учения», когда многократное предъявление тампэксов на телеэкране сочетают с рекламными о них заявлениями.
Но возможны ли быстрые модификации памяти, когда не требуется многократных повторных предъявлений стимула?
В механизме научения традиционно выделяют обусловливание как особую форму научения, когда предъявляемую стимульную информацию связывают по времени с действием факторов, вынуждающих к поведению или изменению функционального состояния. Необходимость временной сопряженности'стимула и подкрепляющего фактора не является обязательной. Это имеет значение только в этологии, поскольку для разных видов животных скорость обучения различна и требуется обычно несколько сочетаний. Кроме подкрепления, наиболее важными для обучения считают значимость, новизну, эмоциогенность стимула. Р.Ю.Ильюче-нок полагает, что первичный анализ информации осуществляется в миндалевидном комплексе, который оперирует на основе прошлого опыта и генетической памяти в зависимости отзмоци-огенности сигнала, после чего дифференцированно происходит формирование нейтральных или эмоциогенных энграмм памяти. По мнению этого автора, суммирование возбуждений при повторных предъявлениях однородной информации приводит к возникновению доминанты и длительному сохранению следа в надпороговом состоянии. Автор в качестве основного фактора, обеспечивающего формирование и сохранность энграмм памяти, называет эмоциогенность инфлрмя! ши
Некоторые считают даже, что имеет значение не только эмоциональная реакция сама по себе, но и ее модальность (Абуладзе Г.В., Чучулашвили Н.А.). Они провели исследование на крысах в челночной камере с введением скополамина и метацина. Авторы 178
психоэкология
показали, что, влияя холинэргическими веществами на эмоциональный компонент условной реакции двустороннего избегания, можно вызывать глубокие изменения механизма закрепления и воспроизведения памяти.
ТЛ.Нанейшвили считает эмоциональное возбуждение во время обучения основным неспецифическим механизмом, влияющим на исполнение пространственных отсроченных реакций. Эмоциональное возбуждение рассматривают как фактор, влияющий на механизм формирования кратковременной памяти в периоды предъявления условных сигналов и выполнения пищедобыватель-ных инструментальных реакций (Бакурадзе А.Н. и др.).
При использовании обусловливания для научения чрезвычайно важной является вероятность подкрепления, которая даже в строгих экспериментальных условиях не равна единице (Салтыков А.Б. и др.)
Психиатрическое лечение иногда рассматривают как научение, результатом которого является коррекция дезадаптивного поведения (Vodegel).
Однако, кроме медленного формирования психосемантической матрицы при обучении, естествознание располагает наблюдениями, подтверждающими существование быстрой модификации памяти. Хорошо известным явлением такого рода является импринтинг.
Явление запечатления (или запечатлевания) подробно описал K.Lorenz, но еще в 1889 году немецкий исследователь Л.Морган наблюдал реакцию следования за собой куропаток после вылуп-ливания из яиц. Эта реакция следования (“pragang” по Л.Моргану) птиц за любым первым в жизни воспринятым движущимся объектом и была впоследствии названа импринтингом. “Развитие предпочтения к первому предъявленному после рождения или вылупления объекту является поразительным следствием импринтинга” (Понугаева А.Г).
Долгое время после экспериментов Лоренца, которые остаются классическими, исследователи работали с птицами, считая импринтинг специфической именно для птицформой научения из-за более быстрого, чем у млекопитающих, онтогенетического развития (Immelmann). В обзорной работе этого автора подчеркнуто, что стабильность научения вследствие импринтинга может быть результатом высокой морфологической пластичности мозга, которая через некоторое время снижается, и тогда новая информация вызывает лишь биохимические и субмикроскопичес-7* 179
И. В. СМИРНОВ________________________________________
кие перестройки в нервных тканях. Принято считать, что существует некий сенситивный период, близкий к времени вылупливания из яйца, когда только и возможен импринтинг. Этот период обозначен также как период первичного социализирования. Fabricius содержал цыплят после вылупливания в полной темноте, а затем в разное время производил социализирование путем предъявления им движущегося предмета. Наиболее чувствительным был период до 16 часа, сменявшийся пассивно-оборонительной и из-бегательной реакциями, пик которых приходился на 32-й часа после вылупливания. Автор отмечает, что прочность импринтинга прямо зависела от эмоциональности воздействия (полагая, что именно большей эмоциональностью можно объяснить большую прочность импринтинга при использовании объектов, издававших звуки, нежели «молчащих»). Р.С.Рижинашвили и Г.А.Марсалишви-ли также считают, что импринтинг возможен у цыплят только в сенситивном периоде в возрасте до 36 часов, когда птенцы испускают при появлении движущегося объекта «звуки довольства» низкого тона. Затем возникает реакция избегания, заметная по испусканию «звуков недовольства»—дистресс-тонов. Эти исследователи, считая, что в первые три недели гематоэнцефалический барьер не сформирован и внутрибрюшное введение макромолекул и пептидов позволяет им проникнуть в мозг, воспроизводили импринтинг у цыплят-реципиентов путем введения гомогената мозга импринтированных цыплят-доноров (не правда ли, напоминает «сыворотку вынужденного поведения» по аналогии с сывороткой правды?).
Движущиеся предметы более эффективны для импринтинга, чем неподвижные, особенно если их сопровождают высокочастотные световые мелькания (James). К.Э.Фабри и Н.В.Потапина считают, что внешние раздражения, поступающие в мозг на первых этапах постнатального развития, оказывают существенное влияние на дальнейшее развитие нервной деятельности. Авторы запечатлевали у 8-12-часовых цыплят синий движущийся шар диаметром 20 ом, сравнивая результаты с контрольным предъявлением желтого цилиндра близких размеров. С помощью очень строгой методики и остроумной экспериментальной установки ими было показано, что после угашения реакции следования по мере взросления цыплят, вырабатываемые потом двигательные условные рефлексы существенно различались по эффективности научения в зависимости от того, что использовали в качестве сигнального раздражителя: синий шар или желтый цилиндр. В пер-180
психоэкология
вом случае и скорость и прочность научения были значительно выше, что является аргументом в пользу основополагающего для становления высшей нервной деятельности влияния импринтинга.
Scott считает, что волчонка очень легко приручить, отняв его от волчицы до начала «критического» периода, в возрасте до 12 недель — труднее, а затем и невозможно. У собак сенситивный период (критический период первичной социализации) длится с 2,5 до 14 недель, после чего развивается пассивно-оборонительная реакция (Freedman). По другим даййым, у собак этот период, когда возможен импринтинг, длится от 19,5 дней до 12 недель после рождения, после чего реакция на незнакомых животных становится пассивно-оборонительной (Scott, Fuller).
Sluckin считает, что у человека сенситивный период для первичной социализации длится с двух до пяти-шести месяцев, когда ребенок тянется к любому незнакомому человеку и улыбается, что затем сменяется страхом перед незнакомыми лицами. Известно, что в возрасте до пяти-шести месяцев ребенок в условиях госпитализации легко привыкает к матери или лицу, ее заменяющему, причем отрыв от этого лица впоследствии приводит к тяжелым и продолжительным нарушениям психики (Schaffer, Callender) с развитием детского постгоспитального синдрома с последующей психопатизацией.
А.Г.Понугаева и И.Я.Якименко показали, что импринтинг хорошо воспроизводится у морских свинок в возрасте 8-15 дней. Немного таких данных, которые свидетельствуют о возможности импринтинга у млекопитающих.
Этологи при перекрестном воспитании (cross-fostering) шимпанзе человеком довольно успешно обучали их американскому знаковому языку глухих (Gardner). Авторы получили у пяти обезьян в опыте с двойным слепым контролем картину улавливания смысла и использования знаков не только для обозначения конкретных предметов, но и для выражения представлений о более общих категориях. По их мнению, механизмы такого обучения были аналогичны механизмам импринтинга.
Многие исследователи подчеркивают влияние эмоциогеннос-ти стимула при импринтинге на его эффективность. Hess показал, что прочность реакции импринтинга прямо зависит от силы эмоционального возбуждения в момент следования: если преграждать утятам путь в момент следования или наносить им удары электрическим током, то сила запечатления увеличивается (толь-
181
И. В. СМИРНОВ ____________________________________—.
ко в сенситивном периоде). Сила импринтинга зависела не от числа повторений или продолжительности следования, а оттого, какой предмет предъявляли первым: утята, специализированные на деревянный макет, будучи в пруду с сородичами, не только избегали их, но прижимались к макету. Автор считает, что от неподвижного предмета импринтинг невозможен, но осуществим от любого движущегося, даже от футбольного мяча. Этот же автор в другой работе (Hess) показал, что есть много общего между натуральными пищевыми условными рефлексами и импринтингом: корм, запечатленный цыплятами во время сенситивного периода, продолжает ими предпочитаться в последующие 10 дней даже при отсутствии какого бы то ни было подкрепления.
И.С.Бериташвили считает, что «долгосрочная образная память, должно быть, зависит от количества и стойкости активного белка, образуемого при восприятии в постсинаптических участках возбужденных нервных кругов, а образование этого белка-активатора, в свою очередь, должно зависеть... от степени эмоционального возбуждения, ибо чем сильнее и длительнее будет реверберация возбуждения в нейронных кругах в связи с усиленным эмоциональным возбуждением, тем больше образуется активный белок. Значит, образ воспринятого объекта тем дольше сохраняется и воспроизводится, чем сильнее было эмоцирнальное возбуждение при этом восприятии, чем в большем количестве образуется стойкий постсинаптический белок в постсинаптических участках”. При импринтинге ЕАКлейн и Н.В.Гвалия обнаружили как сходство с условно-рефлекторным обучением и в виде количественного возрастания аналогичных фракций синаптосомного белка переднего мозга цыпленка, так и некоторое различие (при импринтинге интимные соотношения белковых фракций были иными). Авторы считают, что при импринтинге синтез белка осуществляется по особому механизму.
При обучении однодневных цыплят пассивному избеганию наблюдали достоверное повышение на 16 % включения фукозы в гликопротеиду срезов переднего мозга в области его правого основания (McCabe, Rose). Это подтверждает гипотезу о нейро-пластических перестройках при импринтинге. Учитывая высокую скорость формирования матрицы импринтинга не исключен и эфаптический механизм (известно, например, что эффективность электротонической передачи между нейронами при стрессиро-вании может возрастать до 221 % (Bulloch)). Гормоны, связанные со стрессом, также существенно влияют на выработку реакции 182
психоэкология
пассивного избегания при однократном сочетании факторов у однодневных цыплят (Gibbs).
Bateson показал, что при одностороннем разрушении интермедиальной области медиально-вентрального гиперстриатума реакция запечатлевания сородича у цыплят полностью восстанавливается независимо от стороны разрушения, а при двустороннем разрушении это зависит от последовательности воздействия. Если сначала разрушали справа, то возникала полная амнезия импринтированной информации, если слева — амнезии не наблюдали. Автор делает вывод отом, чталевый медиальный вентральный гиперстриатум является местом хранения информации импринтинга, а правый передает ее в невыявленную структуру мозга. На основании этого автор считает, что использование двух разных мозговых систем для хранения информации импринтинга целесообразно для хранения образа сородича и обеспечения одновременной возможности модифицировать другие формы поведения.
Важную роль пластических перестроек подтверждает то, что повреждающие воздействия в раннем эмбриогенезе (микроволны и гамма-излучение) существенно влияют на результаты имп-ринтирования у цыплят (Григорьев Ю.Г. и др.). Предположение, что импринтинг обеспечивается особым нейропластическим механизмом формирования и, следовательно, может быть обеспечен отдельной нейрональной системой (Johnson), проверяли этологическими методами. При этом предъявляли 23-часовым цыплятам либо движущуюся красную коробку, либо чучело тропической птицы, и через 2 или 24 часа тестировали предпочтение тест-объектов. Через 2 часа цыплята предпочитали тест-объект, а через 24часа — чучело птицы независимо оттого, какой объект импринтировали. Контрольные цыплята (содержание в рассеянном свете без тест-объектов) также предпочитали чучело. Сделали вывод, что генетическая и видоспецифическая зоны памяти импринтинга различны и могут конкурировать.
Об усилении синтеза белка в нейронах при импринтинге, как считают Solodkin и др., исследовавшие электроэнцефалограмму и электромиограмму в течение 10 часов после импринтинга и псевдоимпринтинга у 4-часовых цыплят, свидетельствует и увеличение представленности парадоксального сна и количества его эпизодов после импринтинга и их достоверное снижение после псевдоимпринтинга.
Возможно, что сенситивный период для импринтинга опреде-
183
И. В. СМИРНОВ ____________
ляется не только эндогенными для новорожденной нервной сис-темы факторами, но и неявными внешними причинами. Так, например, крысята в возрасте от 14 до 50 дней активно поедают содержащие феромоны материнские фекалии, что до 27-дневного возраста (конец периода вскармливания) объясняют компенсацией дефицита деоксихолиновой кислоты. Однако затем этого дефицита уже нет, а потребность в фекалиях, содержащих феромон, сохраняется (Lee, Moltz). Видимо, феромоны могут играть роль специфических сенсорных сигналов для импринтинга реакции узнавания сородича. Внутривидовое зоосоциальное взаимодействие может очень сильно модифицировать формируемую матрицу импринтинга (Squarez, Gallup).
Считают, что у взрослых особей импринтинг если и возможен, то крайне редко. Так, при обучении 7-10-дневных цыплят избеганию электрического тока они, хотя и овладевали указанной задачей, но не сохраняли навыка более 15минут(М|загип). Для 9-днев-ных цыплят уже требуется значительное время при выработке простейшего навыка реакции на место (Vallortigara, Zanforlin). У взрослых крыс для обучения узнаванию объекта с первой попытки после однократного его запоминания требуется до 190 проб (Aggieton).
С одной стороны, запечатленная информация может влиять на сравнительно неуловимые нюансы поведения человека и животных (Spear), являясь как бы контекстуальным фоном поведения. С другой стороны, импринтироваться может несовместимая с нормальной жизнедеятельностью информация.
При внутривидовых конфликтах «животные погибают не от физических воздействий (повреждения кожи, как правило, не опасны для жизни), а от необратимых последствий эмоционального стресса. Остро возникающий постоянный страх может приводить к «внезапной смерти», вызванной резкой дезинтеграцией функций различных органов и систем (функциональные сосудистые расстройства, ишемия миокарда, остановка дыхания, анорексия и др.)» (Вальдман А.В., Пошивалов В.П.).
Эти авторы пишут: «Экспериментальные неврозы у животных могут квалифицироваться и как форма неадаптивного поведения в результате научения или патологической фиксации ритуала. В этологическом плане ритуал — это своеобразное явление в поведении, которое представляет собой ряд сцепленных формализованных инстинктивных последовательностей моторных актов (которые запускаются специфическими «ключевыми» раздражителя-184
психоэкология
ми), приобретших также значение фиксированного средства внутривидовой коммуникации». Авторами показано, что матрицы долгосрочной памяти не корректируются однократным воздействием психотропных веществ, которые влияют только на реализацию поведенческих программ (например, этанол имеет общее антистрессовое действие, что подтверждается повышением его потребления во время эмоционального напряжения). Иными словами, не существует медикаментозных средств коррекции фиксированных патологических энграмм или «патологических систем» (по выражению Г.Н. Крыжановского)
Этологические аспекты затронутой проблемы подррбно представлены в работах В.В. Антонова и К. Лоренца.
В области исследований психического нарастает кризис. «За последнее время в патопсихологии на первый план выступает направленность на психокоррекцию. Делается попытка обоснования психологических рекомендаций для проведения психокоррекции (например, при лечении неврозов, алкоголизма). Однако, для того, чтобы психокоррекционная направленность была эффективной, она должна базироваться на углубленном анализе и квалификации психического состояния больного человека» (Б.В.Зейгар-ник, 1986, стр.7).
Как провести «углубленный анализ» и добыть индивидуально значимую этиопатогенетическую информацию, примерно ясно из предыдущей главы.
По сути дела любые средства, методы и приемы психокоррекции опираются на два ключевых фактора:
— введение тем или иным путем (внушением, разъяснением, переживанием в нарко- или психокатарзисе, обучением в диссоциированном состоянии, импринтингом, созданием искусственных функциональных связей в мозге и др.) корригирующей информации в неосознаваемые зоны памяти, причем для достижения положительного эффекта необязательно, чтобы эта информация впоследствии осознавалась пациентом;
— обеспечение прямого доступа в память путем либо изменения состояния сознания, либо даже его отключения. Введение корригирующей информации в неосознаваемые зоны памяти возможно и при ясном сознании, но ввиду существенного «редактирования» сознанием поступающей информации, что проявляется, в частности, в виде критики разъяснений врача, подмечания недостатков и проявления скепсиса в отношении применяемого
185
И.В.СМИРНОВ
метода, для достижения цели требуются значительное время и большие усилия. Поэтому наибольшее распространение получили методы психокоррекции, использующие направленное изменение или временное разрушение (диссолюцию) сознания.
Многие виды психотерапии: трансовые состояния (по Эриксону), медитация, аутотренинг, гипноз и др., тоже по сути используют изменение состояния сознания для ввода корригирующей информации в память. (Безносюк Е.В., Смирнов И.В.).
Новый подход — модификация памяти — может явиться прочным экспериментальным и теоретическим основанием для разработки конкретных процедур коррекции памяти (и, следовательно, поведения). Однако доминирующий сейчас в этом направлении бихевиоральный подход имеет в своем распоряжении только формальные модели научения, основанные на 1) анализе процессов возбуждения и торможения, 2) контр-обусловливании, 3) эмоциональном угашении, 4) когнитивных методах модификации поведения (Levis).
Сознание как функция психики осуществляет сканирование семантической информации, хранящейся в памяти и поступающей в нее через сенсорные вхЬды.
Важно понимать под категорией «память» не только осознаваемую человеком информацию о каких-либо событиях (бытовое представление о памяти), но прежде всего ту семантическую информацию, которая в структурированном виде, в форме ассоциативных сетей, включающих семантические элементы психики (А.Г.Асмолов), хранится в сферах бессознательного. Большая часть информации, накапливаемой в этих хранилищах в течение жизни, недоступна сознанию и лишь иногда случайно осознается в искаженном виде после сновидений. Именно в неосознаваемых сферах психики располагаются мотивы, в т.ч. патологические, интер- и интрапсихические конфликты, различные патологические комплексы. Это являет собой поприще для психоанализа и других известных научных направлений. Количество работ в области исследований неосознаваемой психической деятельности и в нашей стране неудержимо растет (Бессознательное, 1984, тт. 1-4).
Память человека непрерывна — информация из внешнего мира и изнутри организма поступает в хранилища памяти постоянно даже во сне и наркозе. Процесс накопления информации прекра-186
психоэкология
щается только тогда, когда исчезают связанные с событием вызванные реакции головного мозга (чаще всего для констатации восприятия регистрируют вызванные потенциалы, возникающие в ответ на предъявление стимула). Эти реакции исчезают при сильном угнетении деятельности мозга, например, в глубоком наркозе или в состоянии комы. В этих состояниях восприятие и когнитивные процессы блокированы и в память невозможно ввести какую-либо информацию — психотерапия и психокоррекция неосуществимы.
Во всех других случаях, когда имеются вызванные реакции в ответ на стимул (например, вспышка света перед глазами вызывает закономерный вызванный потенциал в электроэнцефалограмме), восприятие информации происходит независимо то того, каково состоянии сознания. Это доказано многочисленными экспериментально воспроизводимыми фактами, наиболее убедительные из которых относятся к области выработки условных рефлексов во сне и наркозе.
Отсюда следует, что во всех состояниях психики, в которых сохранено восприятие, можно для целей психокоррекции ввести в память какую-либо информацию. Но ведь восприятие возможно и при отсутствии полного сознания или его глубоких изменениях. Следовательно, и в таких состояниях можно осуществить психокоррекционное воздействие.
Зачем это нужно? f
Использование измененных состояний сознания (ИСС) для психокоррекции необходимо прежде всего потому, что в состоянии полного сознания пациент сохраняет полный контроль и критику над поступающей информацией и способен изменять свое отношение к психотерапевтическому воздействию в зависимости от имеющихся социальных и личностных установок. Это в значительной мере ослабляет эффективность самого мощного психокоррекционного механизма — внушения.
Именно поэтому с давних времен наряду с методами разъяснения, убеждения и внушения в бодрствующем состоянии врачи и знахари применяли кустарные или научно обоснованные средства психокоррекции в ИСС.
Что же такое ИСС (ASC — Altered States of Conscious)?
Принято считать, что при отсутствии активной деятельности и выраженных эмоций в бодрствующем состоянии человек пребывает в полном (ясном) сознании. При этом сознание индивидуума с присущими ему генетически и социально скоростью и объемом
187
И.В.СМИРНОВ
сканирует поступающую из памяти семантическую (смысловую) информацию — индивидуум осознает информацию.
Объем и скорость осознания семантической информации у всех разные и не являются постоянными величинами даже у одного и того же субъекта. Например, многие из нас испытывали в своей жизни состояние шперрунга — остановки мыслей, — сидя на скучной лекции и тупо вперясь глазами в пространство. О человеке, находящемся в этом состоянии, друзья шутят: «впал в прострацию, витает в облаках» и т.п. Во время шперрунга сознание сужено.
Напротив, в иные минуты многие из нас испытывают ощущение взлета и творческого подъема, когда становятся способны «объять необъятное» и с необычайной скоростью оперируют разнородными блоками информации, устанавливая между ними неявные связи. Это бывает при «озарении». Такое расширение сознания иногда наблюдается у больных, находящихся в гипомани-акальном состоянии. Его называют люцидным состоянием и описывают как состояние особой ясности и просветленности.
Диапазон расширения сознания мало изучен в сравнении с многочисленными его изменениями в сторону сужения: от полного сознания до полного отсутствия сознания. Все ИСС по своей сути являются диссоциированными состояниями.
ИСС — собирательное понятие, объединяющее все состояния сознания, которые отличаются от условно-интактного. В психотерапии наиболее часто используютте формы ИСС, которые возникают в гипнозе, медитации, аутогенном погружении, при воздействиях психотропными веществами. Этот диапазон очень широк и не включает в себя разве что коматозных состояний, когда объем сознания равен нулю (об «отсутствии» сознания говорят значительно раньше, например, при обмороке). С точки зрения возможностей ввода информации с целью психокоррекции понятие ИСС несовершенно. Гораздо удобнее оперировать психоэкологическими терминами и концептами, исходя из возможностей ввода в память семантической информации.
Ввод семантической (психотерапевтической, суггестивной, корректирующей, дидактической) информации в память субъекта возможен независимо от наличия и степени распада (диссо-люции) сознания. Как уже упоминалось, критерием существования восприятия является наличие вызванных реакций.
Отсюда следует, что критерием возможности ввода семантической информации является различие (градиент) вызванных ре-188 '
психоэкология
акций, возникающих в ответ на предъявление различающихся семантических стимулов. Например, слуховые вызванные потенциалы на щелчки во время второй хирургической стадии наркоза различаются в зависимости от громкости и частотных характеристик щелчков. Однако в это же время вызванные реакции на обращение по имени и совершенно индифферентное слово становятся неразличимы.
Иначе говоря, когнитивные (познавательные) процессы имеют определенный предел, предопределяющий возможности использования ИСС для психотерапии. Этот предел находится там, где исчезают различия вызванных реакций на различающиеся семантические стимулы и эти реакции детерминируются только физическими характеристиками стимулов. При дальнейшей дис-солюции психики и эти различия исчезают (восприятие блокируется и информация не консолидируется в памяти).
Все это имеет место при психолитических воздействиях, когда происходит постепенная диссолюция сознания с последующей блокадой семантической памяти.
При психоделических воздействиях, когда наблюдается расширение сознания или, по крайней мере, появляется возможность установления таких семантических связей, которые нереальны в условно-интактном состоянии, что проявляется в виде галлюцинаций, — ввод семантической информации с психотерапевтическими целями возможен всегда. Однако й здесь имеется предел для этих возможностей. Он заключается в том, что эта информация далеко не всегда попадает по назначению и, невзирая на такое же, как при психолитических воздействиях, снижение или устранение критики у субъекта, совершенно невозможно заранее предугадать, с какими уже имеющимися в семантической памяти информационными блоками вводимая информация будет объединена. У продуктивных больных с бредообразованием попытки психотерапии, особенно включающие суггестию, очень часто приводят к модификации бреда и встраивании суггестий и даже образа некомпетентного психотерапевта в фабулу бреда. У здорового человека во время психоделических воздействий происходит то же самое с той лишь разницей, что психолитические эффекты (например, ощущение распада личности при медленной индукции в наркоз) человека пугают.
Феноменология ИСС, используемых для целей психотерапии, определяется не только тактикой врача и средствами, находящимися в его распоряжении, но и личностью больного. Одни и те же
189
И.В. СМИРНОВ_____________________-______________________
мероприятия могут совершенно по-разному сказываться на феноменологии ИСС у одного и того же пациента в зависимости от его предшествующего состояния и, следовательно, повлиять на эффективность психотерапевтического воздействия.
Не будем останавливаться на описании и анализе тех психотерапевтических приемов, которые применяются при ИСС в гипнозе и аутотренинге. Однако я часто вижу, как применяют те или иные варианты наркогипнотерапии, нарко- или психокатарзиса под разными названиями для лечения разных больных, особенно с алкогольной и наркотической зависимостями.
Наркопсихотерапия — суггестивная психотерапевтическая методика, имеющая много разновидностей и включающая воздействие внушением на фоне ИСС, вызванного введением гипноти-ков, например, барбитуратов, или анестетиков общего действия, например, закиси азота. Имеет преимущества перед внушением в гипнозе из-за возможности применения у малогипнабельных пациентов, но включает риск медикаментозных осложнений.
Наркогипноз (в более общем виде — накорпсихотерапия) имеет много общего с медикаментозными методами психоанализа — психокатарзисом, наркоанализом, наркосинтезом и другими его разновидностями. Истоки наркогипноза лежат в древней истории, когда с различными целями применялись приемы внушения на фоне действия психотропных веществ: производных конопли, пейотля (мескаля), опиумного мака, грибов, содержащих псилоцибин.
Сущностью наркогипноза является введение в гипнотическое состояние на фоне действия психотропных веществ, облегчающих гипнотизацию, с последующими терапевтическими суггестиями или без оных.
Наркопсихотерапия как более емкий метод подразумевает возможность внушения, убеждения и разъяснения и без гипноза, а только за счет использования сниженной критики у пациента при диссолюции сознания, вызванной медикаментозными средствами (М.А.Телешевская, 1969).
Наркогипноз не следует путать с гипнонаркозом, когда внушением в гипнозе достигают анальгезии для производства оперативных вмешательств (обычно в сочетании с анальгетиками и анестетиками). С этим методом можно ознакомиться не у Кашпировского, а в книге A. A. Friedlander «Die Hypnose und die Hypno-narcose» (Stuttgart: Verlag v.F.Enke, Bd.121, 1938).
Принципиально отличается от наркогипноза ЛСД-терапия.
190 *
психоэкология
Это разновидность медикаментозных психоделических методов, включающая введение в организм мощного галлюциногенного препарата — диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД-25). Об этом веществе и его действии существует большое количество публикаций в связи с его немедицинским употреблением наркоманами. Другой вариант психоделической терапии — знаменитое в последние годы «Учение дона Хуана», опубликованное Карлосом Кастанедой как результат самонаблюдений в период обучения у индейского мага. Несмотря на споры по поводу реальности существования этого мага и врачевателя, известны и другие сведения относительно употребления психоделических препаратов, получаемых, например, из пейотля или ядовитых грибов. Речь идет не о неконтролируемом потреблении галлюциногенов с целью получения удовольствия или развлечения (а впоследствии для снятия явлений абстиненции), а о своеобразных народных методах психокоррекции с использованием ИСС.
Судя по имеющимся скудным описаниям, эти методы направлены в основном на самосовершенствование и аутокоррекцию и требуют опытного наставника при обучении. Известным примером из этой области являются также наиболее эзотерические компоненты культа «вуду» — африканских и гаитянских колдунов, использующих искусственно вызываемые у себя (!) ИСС для психотерапевтических целей в отношении пациента.
Принципиальной особенностью психоделических методов, подобных ЛСД-сеансам, является использование ИСС для аутокоррекции, не включающей ауто- или гетеросуггестии. Это роднит психоделические медикаментозные методы с таким направлением, как медитация.
Медитация (от лат. meditatio — сосредоточение) как самостоятельный медицинский психокоррекционный метод формально начала применяться сравнительно недавно. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что в рамках вариантов медитативных психотехник разными авторами описываются состояния, совершенно схожие с ИСС, возникающими при использовании других психотехнических приемов. Так, наиболее распространенные способы медитации напоминают приемы аутогипноза, а вариант, описанный американским исследователем Шри Раджнешем под названием «тратак» и использующий концентрацию взора на глазах партнера-визави, — чрезвычайно схож с приемами фасцинации (один из распространенных способов гипнотизации).
191
И. В. СМИРНОВ_______________________________________
Многие виды медитативных психотехник по своей сущности разделяются на два типа: инсайт-медитация и концентрационная медитация.
Инсайт-медитация (от англ.insight — интуиция, озарение) основана на полном рассредоточении внимания к окружающим объектам и погружении в свободно флуктуирующий мир спонтанно возникающих внутренних образов. Состояние, возникающее при этом, характеризуется релаксацией и имеет много общего с гипноидными фазовыми состояниями. Субъективно это напоминает состояние дремоты и отдыха и отличается лишь тем, что в состоянии медитации человек может произвольно управлять содержанием своих грез. Объективные, вт.ч. физиологические проявления такого медитативного состояния неспецифичны. Будучи родственна приемам «управляемых сновидений» и эйдетическому фантазированию, такая медитация способна дать отдых уставшему человеку и может быть использована как вспомогательный прием в лечении. Обучение инсайт-медитации принципиально не отличается от обучения разнообразным приемам психорелаксации и доступно большинству здоровых и больных людей. Противопоказанием являются случаи патологического фантазирования у детей и бреда.
Инсайт-медитация сама по себе в психотерапии применяется редко из-за отсутствия формального регламента приемов, позволяющих изучить пациента экстренно впадать в медитативное состояние. Это обусловлено тем, что, в отличие от различных психорелаксационных приемов, традиционных для европейской медицины, медитация пришла к нам прежде всего как совокупность эзотерических сведений из области восточных философских и религиозных концепций. Для того, чтобы проникнуться чуждой для своей картины мира философией, европейцу требовалось большое время. Современный врач-психотерапевт в большинстве случаев не имеет в своем распоряжении достаточного набора технических средств и даже лексикона, необходимых для того, чтобы в доступные временные диапазоны обучить одного или нескольких пациентов медитативным психотехникам. Специалисты поэтому предпочитают пользоваться более формализованными приемами, например, аутотренингом, «программированием» в гипнозе, нейролингвистическим программированием, холотропным дыханием и прочими модными ритуалами.
Если опытный медитатор сконцентрирует свое внимание на каком-либо конкретном образе, спонтанно возникшем в созна-192
_ ______________________________психоэкология
нии или вызванном произвольно, то отличие от медитации концентрации будет только в одном: при инсайт-медитации внимание концентрируют на внутреннем объекте, при концентрационной — на внешнем.
В качестве объекта концентрации может быть выбрано что угодно: от облака на небе до конкретной суггестивной формулы («мои руки теплеют» и т.п.).
Медитация, основанная на концентрации внимания на внешнем объекте и полном сосредоточении на нем, очень близка к приемам аутогипноза.
Исходя из исторических корней, иногда говорят о дзен- или йога-медитации. Различие между ними такое: при йога-медитации сосредоточиваются на каком-либо внешнем или внутреннем объекте и затем последовательно применяют определенные приемы концентрации, а при дзен-медитации начинают с монотонного длительного повторения традиционных формул — «мантр». Йога-медитация ближе по техническим приемам к аутогипнозу, дзен-медитация — к аутогенному погружению.
Распространившаяся в последнее время трансцендентальная медитация в западных странах широко используется как для лечения больных алкоголизмом, неврозами и психозами, так и для оптимизации деятельности и поведения в группах. Она позволяет исключить или значительно снизить вероятность интер- и инт-рапсихических конфликтов, способствует зарождению эмпатии (сочувствования, сопереживания) между людьми. Медитация — способ выхода за обыденные границы семантических полей в многомерные психосемантические пространства, т.е. способ расширения сознания и доступа к архетипам. Однако в нашей стране практика медитации пока развивается слабо, хотя делаются попытки предложить медитативные психотехники для космонавтов (И.В.Смирнов, Н.В.Гаврилова), спортсменов (Н.В.Цзен, Ю.В.Пахо-мов, А. В. Алексеев), студентов (Ю.М.Орлов, Н.Д.Творогова, Е.В.Без-носюк).
Как видите, имеется много психотехнических приемов, использующих ИСС (диссоциированные состояния).
Имеется много сведений о возможности куда более быстрых модификаций памяти (импринтинг).
Как же из всей этой эмпирики и эклектики возникает психотехнология?
193
И.В. СМИРНОВ_________ __________
Если использовать известное предположение о наличии «редактора», который контролирует обмен информацией между монитором (осознаваемыми зонами памяти) и глубже расположенными зонами долговременного хранения, из которых перезагру-жается кратковременная память, то видно, что во всех рассмотренных случаях быстрой модификации памяти имеет место либо обход коллатеральными путями «редактора» (например, при неосознаваемых воздействиях), либо проход сквозь него (при диссолюции сознания). Случаи импринтирования условно-интактного состояния (информации, воспринятой непосредственно перед действием электрошока, контузии головного мозга и др.) также можно рассматривать как экстренную загрузку памяти наличной информацией в момент разрушения «редактора» при утрате сознания.
Анализ колоссального количества научной литературы показывает, что явление быстрой модификации памяти реально существует в живой природе и может быть воспроизведено в эксперименте. Однако в психиатрии нет целенаправленных средств модификации памяти (психокоррекции), которые могли бы быть использованы для лечения (за исключением некоторых стихийно применяемых рудиментарных приемов,вроде наркокатарзиса). Кроме того, в рамках парадигмы импринтинга очень мало экспериментов и наблюдений, которые могли бы быть рассмотрены как модели психических нарушений.
«Предел возможностей регуляции энграммы — однократное обучение, ^е. фиксирование информации при первом ее предъявлении» (Ильюченок Р.Ю.). Такое односеансовое обучение используют в эксперименте на животных для изучения механизма фиксации следа памяти и различных форм амнезии. «При образовании условной реакции избегания при односеансовой выработке, т.е. в случае фиксирования информации, биологическая значимость которой определяется сразу, при первом предъявлении ситуации, в условиях, где определенную роль играют эмоциональные реакции, важно такое усиление биологической значимости информации, которое обеспечивает ей доминирование. Это обусловливает при однократном предъявлении ситуации прочную фиксацию следа и его связь с созданной программой воспроизведения. Не исключено, что для фиксации временной связи имеет значение не сама эмоциональная реакция, возникающая в ситуации односеансовой выработки, а какие-то параллельно протекающие или вызываемые этой реакцией процессы» 194
психоэкология
(Р.Ю.Ильюченок). Автор подчеркивает, что для восстановления стойкого воспроизведения нужно не только воспроизвести условную реакцию хоть один раз, но и создать тот же самый эмоциональный фон.
Р.Ю.Ильюченок упорно считает, что важнейшим элементом односеансового обучения является миндалевидный комплекс. Его удаление приводит к невозможности односеансового обучения при сохранении способности к многосеансовому. «У амигдалэк-томированных животных на непосредственное действие аверсивных раздражителей реакции не нарушаются. В то же время изменения частоты сердечных сокращений, вызванные аверсивным раздражением, у амигдалэктомированных животных сохраняется более короткое время, чем у контрольных. Вероятно, укорочение и ослабление следовой реакции на аверсивное раздражение нужно учитывать при анализе причин нарушения выработки условной реакции страха у амигдалэтомированных животных» (Р.Ю.Ильюченок). Автор пришел к выводу о том, что все неспецифические напоминающие воздействия при амнезиях активизируют то эмоциональное состояние, которое имело место при обучении. Естественно, что для разных напоминающих факторов это происходит по-разному. Так, по его мнению, использование аверсивного раздражителя для напоминания после амнезии обусловливает воспроизведение следа памяти не за счет стресса, а за счет воспроизведения того же самого эмоционального состояния. Если вызвать амнезию на односеансовую реакцию с пищевым подкреплением, а для напоминания использовать факторы, вызывающие отрицательную эмоциональную реакцию, восстановления навыка не происходит. В разрабатываемой автором концепции «основное значение придается информационной роли механизмов, обеспечивающих процесс адаптации, роли памяти в создании программы для реализации возможностей организма при взаимодействии его с внешней средой. Представляется, что развитие информационной теории адаптации приблизит нас к пониманию значимости афферентных перестроек, хранению и извлечению информации и объединит в единое целое программное обеспечение регуляторных и рабочих систем организма. Пока остается открытым вопрос о конкретных морфофункциональных системах мозга, определяющих участие регуляторных систем и памяти в процессе адаптации» (там же).
Односеансовое обучение подразумевает выработку навыка (в т.ч. при воздействии суггестивной информации) на фоне действия
195
И.В. СМИРНОВ ________________—
конкретного препэрэтэ или в конкретном состоянии организма. Впоследствии этот навык может быть инициирован к реализации или может быть реализована суггестия тогда и только тогда, когда действует тот же препарат или возникает состояние, на фоне которых осуществляли выработку навыка или вводили суггестию. Этот метод напоминает условно-рефлекторные методы лечения больных алкоголизмом, когда дают спиртное и одновременно вызывают рвоту или другую неприятную реакцию. Как диссоциированное состояние можно рассматривать гипноз, медитацию, наркогипноз, физиологический сон, любые эмоциональные состояния и пр.
Применительно к живым системам кибернетическое понятие памяти включает всю совокупность информации, имеющейся в системе. Существует сложная иерархия хранилищ памяти: от очень мало изменяющейся генетической памяти с предельно длительными сроками хранения информации до быстро меняющейся иконической с недолговечным содержимым (стековая память). «Представляется, что вид памяти определяется не природой фиксации следа, а возможностью доступа к информации для ее считывания. Можно думать, что в так называемой краткосрочной памяти ее краткосрочность обусловлена тем, что след быстро переходит в подпороговое состояние, а это затрудняет его воспроизведение. Таким образом, речь может идти не об исчезновении следа кратковременной памяти, а о быстром переходе его в подпороговое состояние. Причиной этому может быть ряд факторов: ретроактивное торможение, возникающее при интерферирующем воздействии последующих сигналов, недостаточно интенсивное подкрепление; существенны концентрация внимания, установка, степень эмоционального сопровождения и другие факторы. При однократном предъявлении сигнала, не сопровождаемого выраженной эмоциональной реакцией, через короткий промежуток времени происходит как бы потеря информации для организма по механизму забывания. В «промежуточной» памяти сохранение следа в пороговом состоянии удлиняется, но это лишь количественное различие при изменении степени воздействия некоторых из перечисленных факторов. Можно эти временные промежутки разбить еще на более короткие, и тогда мы получим мгновенную, ультракороткую, оперативную и многие другие «виды» памяти. Становится понятным, почему у различных исследователей так называе-196
психоэкология
мая краткосрочная память сохраняется с 10 с. до нескольких часов.
При многократном поступлении тех же сигналов каждый последующий сигнал может подкреплять предыдущий следовый процесс, делая его длительное время перманентным. Возможно, это способствует сохранению следа в надпороговом состоянии и обеспечивает возможность его считывания через большие промежутки времени, что позволяет оценивать это состояние как долговременную память. Длительное сохранение следа возможно и при однократном обучении при наличии выраженной эмоциональной реакции» (Ильюченок Р.Ю.).
Я считаю, что гипотеза о порогах энграмм, предлагаемая этим автором, в кибернетическом смысле недостаточна. Правильнее говорить о возможности доступа к определенным ячейкам памяти. Прямой доступ в память через сознание возможен лишь в очень ограниченном объеме, хотя многочисленные факты свидетельствуют о возможности организации такого доступа даже в самые удаленные хранилища, например, при значительных изменениях состояния сознания. Что же касается физического субстрата для хранения информации, то равновероятны и взаимосвязаны нейрохимические механизмы хранения энграмм, давно муссируемые в многочисленных экспериментальных работах и обзорах (Бородкин Ю.С., Шабанов П.Д.) и современные дериваты представлений о реверберации возбуждения. Среди последних встречаются как теоретические изыскания (математические модели), рассматривающие нейронные сети как домены памяти (Anninos е.а.), так и представления о пакетах волн когерентно работающих нейронов как единице памяти (Лебедев А.Н., 1985). Последняя версия экспериментально разработана значительно слабее первой, которая включает сведения о пластических перестройках в нервной системе при обучении в обогащенной среде, что проявляется в увеличении количества синапсов (Greenough, 1984).
Существуют возможности быстрого (в сравнении с обучением) процесса формирования зон памяти, энграммы которых доступны для воспроизведения только при использовании специфического кода-адреса (сенсорного стимула, химического препарата, эмоционального состояния), например, артифициальные стабильные функциональные связи.
Артифициальные стабильные функциональные связи (АСФС) образуются при сочетании воздействия корригирующей информации с воздействием какого-либо сенсорного сигнала (ритмических
197
И.В. СМИРНОВ_________________________________
световых вспышек, щелчков и пр.). В качестве информации, закладываемой при этом в искусственно формируемую матрицу долго-временной памяти, используют определенные программы поведения или искусственно создаваемые состояния. По утверждению апологетов АСФС, искусственная матрица формируется только на фоне действия неспецифического коннектора — этимизола, который обеспечивает установление связей между разобщенными в условно-интактном состоянии зонами памяти. Это приводит к тому, что, предъявляя впоследствии тот же самый сенсорный сигнал с эквивалентными параметрами, можно инициировать матрицу долговременной памяти и воспроизвести введенную поведенческую программу или программу реализации заданного функционального состояния. На мотивах этого метода был создан в Советском Союзе фантастический кинофильм «Вариант зомби». Сформированная искусственно матрица очень устойчива во времени. Авторы постулируют возможности использования АСФС не только для лечения, но и для психокоррекции поведения и состояния здорового человека с целью оптимизации его деятельности.
В1976 году В.М.Смирнов установил, что при пропускании тока через электроды, введенные в головной мозг больных паркинсонизмом, на контралатеральной стороне исчезает тремор. Если при этом вводили этимизол (20 мг в/м), кофеин или этиразол, то получали двусторонний распад тремора. Кроме того, при сочетании электростимуляции с вербальными командами «не дрожать!» и т.п., получали выраженные условные рефлексы, для проявления которых достаточно было впоследствии одной вербальной команды без электростимуляции. Автор приводит перечень «артифици-альных», т.е. искусственных ощущений, возникающих при электростимуляции мозга, которые могут быть сильнейшими подкрепляющими стимулами для выработки условных рефлексов влечения или избегания. Для формирования артифициальных стабильных функциональных связей (АСФС) автор считает оправданным использование в качестве коннектора между стимулируемыми зонами мозга электрического тока. АСФС, формируемые без вживленных электродов, с использованием естественных сенсорных входов, у больных с паркинсоническим тремором и ригидностью оказались значительно более эффективными. Под АСФС подразумевают искусственное установление связей между участками мозга (зонами памяти?), которые в естественных условиях небыли связаны между собой. После формирования АСФС воздействие на ранее индифферентную по отношению к заданному параметру 198
психоэкология
модифицируемого поведения или состояния зону приводит к тому же результату, что и воздействие на зону, непосредственно связанную с воспроизведением соответствующей энграммы.
Следовательно, можно путем синхронной стимуляции двух зон, одна из которых имеет сенсорный вход, через этот сенсорный вход подключать и искусственно связанную с ней зону, не имеющую такого входа. При наблюдениях больных после стереотаксических операций на головном мозге было замечено, что основным условием формирования различных навязчивых артифициальных состояний является осуществление поведенческого акта в момент экстренного изменения функционального состояния мозга, вызванного электростимуляцией (Бехтерева Н.П., Смирнов В.М.). «При этом происходит патологическая перестройка мозговой организации функциональной системы, реализующей поведенческий акт, с прочной фиксацией появившихся в системе изменений в долгосрочной памяти по механизму импринтинга. С этого момента патологически измененная функциональная система, закрепленная импринтингом в деятельности мозга как некая автономная функциональная единица, не поддается ни расщеплению, ни эффективному контролю со стороны управляющих церебральных систем и вместе с тем способна навязывать мозгу те режимы работы, которые могут быть оптимальными для актуализации ее активности, проявляющейся навязчивым состоянием. Сущность импринтинга, таким образом, заключается в срочном формировании матрицы долгосрочной памяти особой прочности, предпосылка к чему создается возникающим особым состоянием мозга» (там же, с.13). Авторы считают, что «...перестройка может быть осуществлена на основе условно-рефлекторного принципа. В этом случае в качестве подкрепления выступают изменения эмоционально-мотивационного состояния, вызываемые непосредственным воздействием на определенные зоны головного мозга, а в качестве условных раздражителей — любая ситуация внешнего мира или внутренней среды человека» (там же, с. 15). АСФС расценивают как нечто среднее между условными и безусловными рефлексами и относят к классу импринтинга (Смирнов В.М. и др.). В этой же работе авторы отмечают, что седуксен и этиразол, как и этимизол, снижают мышечный тонус, но не являются эффективными для формирования АСФС. В дозе 20 мг в/м этимизол дестабилизирует мышечный тонус у здоровых и больных паркинсонизмом и по «двойному тесту» кратковременной памяти улучшает их психическое состояние. У животных (лаборатор-
199
И. В. СМИРНОВ
ные кролики) сформировать АСФС, управляющую сердечно-со-судистой и дыхательной реакциями, не удалось.
Н.П.Бехтерева также относит феномены, возникающие при электр0СтимуЛЯцИи мозга, к явлению импринтинга и делает вывод о том, что запечатлевание возможно не только на ранних этапах онтогенеза.
В.М.Смирнов и Ю.С.Бородкин (1979), впервые получившие АСФС в 1974 году, подчеркивают, что важнейшим признаком АСФС является селективность канала связи, т.е. наличие в матрице долговременной памяти признаков только того сигнала, на фоне предъявления которого эта матрица (АСФС) сформирована. Авторы указывают, что в принципе необязательно для выработки АСФС воздействовать на мозговые структуры электрическим током (АСФС-1). Можно ввести этимизол, вызывающий дестабилизацию мышечного тонуса в дозе 30 мг в/м, и на пике его действия предъявить серию световых вспышек определенной частоты в течение 3-10 секунд. Последующие в течение сколь угодно долгого времени (Бородкин Ю.С., Шабанов П.Д.,1986) контрольные проверки прочности АСФС-Il показывают, что они сохраняются сколь угодно долго и активируются исключительно при той же частоте предъявления импульсов, при которой были выработаны. Авторы показали, что АСФС-Il можно выработать и через посредство слухового анализатора. Этимизол является уникальным веществом как неспецифический коннектор зон памяти, тж. даже его аналоги, вызывающие сходные поведенческие эффекты (кофеин, этиразол, седуксен), неэффективны в отношении АСФС. С позиций поиска средств управления механизмами памяти авторы показали, что можно стирать энграммы АСФС, особенно АСФС-1, путем синхронной мультиэлектродной стимуляции «дочерних» точек АСФС и хвостатого ядра. Стирание происходит мгновенно и на неограниченно длительное время, не затрагивая при этом других матриц АСФС, запрограммированных на другие частоты. По мнению авторов, при необходимости можно вновь восстановить выключенный участок, т.е. имеет место типичный случай диссоциированного состояния. «Энграмму АСФС мы рассматриваем как элементарное стабильное информационное мне-стическое поле, «вход» в которое пролегает через отделы анализаторов, обеспечивающие выделение частотных характеристик подаваемых сигналов, а «выходом» является система супраспи-нальной регуляции мышечного тонуса, включающая многочисленные кортикальные и субкортикальные звенья. Следовательно, каж-200
психоэкология
дое звено АСФС-1 или система АСФС-Il жестко программирует лишь частотную характеристику импульсного сигнала, хотя ответная реакция при их стимуляции носит комплексный характер. Такая комплексность обеспечивается механизмом интрацентраль-ных отношений, которые формируют систему из нейронов различных структур головного мозга, разряжающихся в полосе определенных частот. Поэтому информационное поле АСФС после его формирования все время находится в активном состоянии, так как, вероятно, оно периодически стимулируется спонтанными импульсами их фонового «шума» соответствующих частот».
Л.В.Бережкова и В.М.Смирнов считают, что АСФС, как феномен долгосрочной памяти, характеризуется специфичным для нее паттерном сверхмедленных колебаний потенциала, который проявляется при активации АСФС и сопровождается эффектами уменьшения проявлений основного заболевания и повышением психической активности. Феноменология сверхмедленных колебаний потенциала подробно описана В.А.Илюхиной с соавт. применительно к электрическим воздействиям на головной мозг, однако в этой работе недостаточно подробно описаны особенности формирования АСФС у животных, на которых проводили исследования (лабораторные кролики).
Импеданс между «закороченными» (при активации АСФС) участками мозга срочно и значительно уменьшается (Bechtereva, Medvedev). Активация матриц АСФС, сформированных не на селективную частоту, а на несколько частот, дает большую выраженность и продолжительность оптимизирующих эффектов (Смирнов В.М. и др.). «При наличии медицинских показаний АСФС формируют с лечебными и диагностическими целями, а у здоровых лиц — для оптимизации психической деятельности при утомлении, астенизации и др.» (Смирнов В.М., Резникова Т.Н.). Они утверждают, что АСФС-Il можно формировать двумя путями: простые матрицы, когда на фоне однократного введения этимизола предъявляют сенсорную стимуляцию и последующие сеансы активации АСФС-Il проводят только с помощью сенсорной стимуляции разной модальности, но равной частоты; и сложные матрицы, когда в структуру АСФС-Il включают фармакологические препараты, например, для невротиков используют транквилизаторы, а для больных с фантомно-болевыми синдромами — анальгетики. Среди всех эффектов АСФС-Il авторы выделяют главные: активация (повышение уровня психической активности, улучшение интеллектуальной и двигательной деятельности, повышение ум-
201
И.В. СМИРНОВ
ственной продуктивности и работоспособности, улучшение процессов памяти и внимания), эмоциональные эффекты (тимолеп-тический, седативный, транквилизирующий, анксиолитический), эффекты мышечного и психического расслабления, вегетативные и сосудистые реакции, снотворные эффекты и др. У здоровых напряженно работающих лиц через 4-7 сеансов активации АСФС-Н объем непосредственной памяти возрос на 42%, оперативной — на 77%, индекс кратковременной памяти — на 92% («двойной тест»), устойчивость внимания повысилась на 50%, пропускная способность зрительного анализатора возросла до 42% (корректурный тест), оптимизировалось эмоциональное состояние, улучшилась способность к обучению, повысилась психическая активность. При последующих сеансах достигнутый эффект стабилизировался. При лечении больных в редких случаях передозировка активаций АСФС-Н вызывала релаксацию, выраженное психическое расслабление («опустошенность» по описаниям больных), появление возбуждения, тревоги и пр. Для устранения этого явления применяли сочетанное воздействие на другие АСФС, изменяли модальность сенсорного стимула. У больных неврозами постепенно и быстро (за 6-8 сеансов) развивался полный клинический эффект в виде исчезновения фобий и приступов страха, снятия тревоги, уменьшения фиксации на болезненных проявлениях, стабилизации спокойного состояния. «Наши концептуальные представления позволяют считать, что в основе матрицы АСФС независимо от способа формирования лежит единое стабильное мнестическое^мозговое информационное распределенное поле, которое в определенных условиях может иметь локальней элемент, приуроченный к той или иной подкорковой структуре» (там же, с.23).
В другой работе также упоминают, правда, без контрольных деталей, о возможности использования АСФС-1 у больных с диагностическими и лечебными целями, а у здоровых с целью оптимизации психического состояния (Смирнов В.М., Махотина Б.Б., 1984). Н.П.Бехтерева (1986) считает, что, несмотря на малое количество данных об использовании АСФС для модификации психического состояния, их можно применять для лечения больных неврозами, особенно фобическими.
После однократной активации АСФС-1 ремиссия превышает два года (Бородкин Ю.С., Зайцев Ю.В., 1985). Нечто подобное известно из психиатрической практики, когда похожий эффект наблюдают при лечении нейролептиками (антагонистами дофа-202
психоэкология
мина) больных шизофренией после предварительного введения агонистов дофамина (апоморфина или амфетамина) (Александровский Ю.А., 1976).
В полном факторном эксперименте, тщательно проводимом мною и А.Н.Журавлевым на крысах и здоровых добровольцах и направленном на изучение АСФС-Il, к сожалению, не удалось воспроизвести ни одного феномена, постулируемого вышеупомянутыми авторами.
Феноменология АСФС по своей сути соответствует явлению импринтинга — запечатлению информации после однократного ее предъявления. Однако импринтинг описан как явление, возникающее только в особый, сенситивный период жизни в первые дни и недели жизни птиц. Но впоследствии выяснилось, что импринтинг вероятен и у взрослых особей, в том числе и у человека. В этом случае обязательно наличие выраженного эмоционального состояния с тем или иным знаком.
Похоже, что многие исследователи независимо друг от друга под разными названиями изучают и описывают один и тот же класс явлений — быструю модификацию памяти. Суть явления импринтинга очень близка к обучению в диссоциированных состояниях. Известные клинические методы — психокатарзис, наркосинтез и др., также, по-видимому, используют те же механизмы и закономерности формирования энграммы памяти.
Среди диссоциированных состояний, в которых возможна более быстрая, чем при традиционном обучении, модификация памяти, можно рассматривать обучение на фоне различных эмоциональных состояний, во время естественного сна, в наркозе.
Неожиданный интерес представляют результаты логического анализа огромной литературы по исследованию ретроградной амнезии, особенно возникающей после действия транскраниального электрошока. Я считаю вероятным участие в генезе этих «амнезий» импринтинга. Иными словами, не исключено запечатление информации, воспринимаемой биообъектом непосредственно до электроконвульсивного воздействия. Эта информация консолидируется в недоступных пользователю зонах семантической памяти и может быть инициирована контекстовыми воздействиями («опора напоминания»), что напоминает воздействие ключевым сенсорным стимулом при АСФС. Общий обзор факторов, уменьшающих экспериментально вызванную амнезию, можно найти в работе Martinez е.а. (1981).
Когда спонтанно исчезают амнезии, возникшие вследствие
203
И. В. СМИРНОВ-контузии, скорее всего также случайно воздействует ретроактивирующий контекстовый стимул, присутствовавший когда-то в момент контузии. Это экспериментально не исследовано и представляет поэтому особенно большие сложности для интерпретации, так как невозможно априори установить, что же именно имп-ринтируется в момент чрезвычайно редкого сильнейшего стресса — вся наличная (преимущественно осознаваемая) память или только система адресации для перезагрузки осознаваемой памяти из неосознаваемой.
Многочисленные случаи возврата страхов у невротиков под влиянием стресса рассматриваются как частный случай восстановления угашенных условных реакций в аналогичных условиях (Кругликов Р.И., Полянская Л.Г., 1979). Авторы считают, что стресс активизирует таксонные, инфантильные структуры памяти, в результате чего поведением начинают управлять несоответствующие наличной ситуации энграммы. В этой эвристической работе высказано предположение о возможности создания принципиально нового вида психотерапии, основанного на модификации памяти с целью эффективной борьбы с фобическими реакциями. П.В.Бундзен и его соавторы пишут (1986), что «...для системы вербальной памяти ^характерными являются процессы информационного автоподкрепления ассоциативно-связанных элементов матрицы памяти. Именно эта особенность функциональной организации вербальной памяти позволяет использовать семантически связанные вербальные сигналы для направленной модуляции состояния энграммы памяти или «систем межсловесных временных связей»» (с.832). Поэтому среди методов модификации «психонервной» памяти в норме и при патологии (биоуправляемые воздействия, АСФС, малотравматические биофизические воздействия — микрополяризация головного мозга, психологические методы — гипно- и ритмопедия и мн.др.) авторы выделяют в своем обзоре метод интенсивного формирования навыков на компьютере, подразумевая под этим воздействие субсенсорными кондиционирующими и осознаваемыми потенцирующими сигналами. Подобное используется для интенсификации процесса обучения (Петрусинский В.В., 1992).
Я считаю, что односеансовое обучение, обучение в диссоциированных состояниях, артифициальные стабильные связи и пр., как и явление импринтинга — один и тот же класс явлений, рассматриваемый в рамках разных научных парадигм.
Диссоциированное обучение, когда навык или условный реф-204
психоэкология
леке проявляется только на фоне действия того препарата, при введении которого они выработаны, возможно, требует несколько больше времени. Так, ТА.Воронина и Т.Л.Гарибова, вырабатывая у крыс условный питьевой рефлекс в Т-образном лабиринте, вводили затем внутрибрюшинно за 30 минут до сеанса феназе-пам в дозе 0,5 или 2,0 мг/кг и опять вырабатывали тот же рефлекс. После трехдневного введения препарата на фоне его действия и после него поведение крыс не отличалось от контрольных. После двухнедельного обучения на фоне феназепама наблюдали значительное нарушение рефлекса у крыс без введения препарата, причем его введение лишь частично устраняло это нарушение, что свидетельствовало о переходном периоде в процессе формирования диссоциированного состояния. Через 2-3 недели обучения при ежедневном введении препарата условный рефлекс у животных отсутствовал, если перед тестированием не вводили препарат. Иными словами, возникала полная амнезия навыка, которая устранялась феназепамом. При контрольном тестировании через 40 дней крысы по-прежнему восстанавливали утраченный навык, если им предварительно вводили феназепам.
Здесь мы видим некоторое отличие, выражающееся в больших сроках научения в диссоциированном состоянии. Однако эти авторы использовали положительное подкрепление, что не сопровождается значительным стрессированием организма, и, может быть, особенности методики дали такие результаты.
После однократного применения психотропных средств и введения какой-либо информации в это время иногда возникает состояние так называемой «разрывной памяти».
Суть его в том, что лингвистическая информация, предъявленная человеку в измененном (диссоциированном) состоянии, практически не воспроизводится или воспроизводится с трудом в интактном состоянии. Если вновь ввести человека в измененное состояние сознания, то предъявленный ранее материал будет без искажений воспроизводиться. «Таким образом, связанная с языком память отчетливо делится как бы на ряд зон, весьма слабо связанных между собой и действующих попеременно, в зависимости от состояний сознания» (Спивак Д.Л.). Схожие данные имеются и в других работах (Jensen, Leight, Weingarteher и мн.др.). В клинике алкоголизма известно явление амнезии в трезвом состоянии, распространяющейся на события, имевшие место после приема больших доз алкоголя, и устранение такой амнезии после повторного приема алкоголя. Это тоже диссоциированное состояние.
205
И.В. СМИРНОВ ______ ____________________________
Таким образом, существуют работы, не связанные с парадигмой импринтинга, но тоже свидетельствующие о реальности быстрых модификаций памяти. Свидетельством могут служить и широко известные явления, вызываемые внушением в гипнозе, когда внутренняя картина мира модифицируется таким образом, что возникают отрицательные галлюцинации, отсроченные импульсивные действия и пр. Однако строгость постановки экспериментов при изучении этих явлений оставляет желать лучшего, а избыточная сложность экспериментальной ситуации позволяет трактовать результаты совершенно полярным образом, поэтому эти свидетельства не рассматриваются в психоэкологии.
Следовательно, если существуют быстрые модификации памяти, выражающиеся в экстренном формировании устойчивой психосемантической матрицы конкретного поведения и не требующие при этом подкрепления, повторения и других необходимых признаков традиционного обучения, со всей очевидностью возникает вопрос о быстрых модификациях памяти в патогенезе психических нарушений.
Как ни странно, даже в имеющейся литературе присутствуют многочисленные факты быстрой модификации памяти, которые уже являются прямыми моделями психических нарушений — только никто не произнес вслух этих слов. Авторы работали в рамках других парадигм и не имели потребности рассматривать наблюдаемые ими явления как эквивалент психических нарушений.
Классический импринтинг, т.е. первое запечатление информации при первом ее предъявлении, вероятно, выполняет роль инициатора семантической памяти, формируя ядро психики, а у человека' впоследствии и ядро личности.
Именно первая импринтированная информация является эталоном и образом для формирования психосемантических матриц всей последующей жизни. Именно к психосемантическим элементам этой первой матрицы возникает максимальное количество связей от всех остальных элементов, что и создает возможность аутоидентификации (выделение признаков “Я” в потоке семантической информации). Эти связи могут быть прямыми, но гораздо больше опосредованных связей.
Поскольку количество связей (или измерений семантического пространства) для первой импринтированной матрицы максимально, она является самой значимой матрицей и в той или иной мере модулирует любое последующее поведение биообъекта. Человеком содержание этой матрицы не осознается без специ-206
психоэкология
альных условий. Психопатологические последствия нарушений ранней детской социализации широко муссируются в литературе (подробный анализ этого вопроса можно найти, например, в монографии Й.Лангмейера и З.Матейчека). Участие психосемантических расстройств периода первичной социализации в патогенезе психических нарушений является очевидным, но практически не учитывается в клинической психиатрии, хотя есть очень много известных работ, показывающих связь дефектов ранней детской социализации с последующими психическими аномалиями и девиациями.
Классические исследования импринтинга выполнены на животных раннего периода жизни.
Но участвуют ли быстрые модификации памяти в формировании устойчивых психосемантических расстройств у взрослых особей? Можно ли его использовать для целей психокоррекции? Иначе говоря, возможен ли импринтинг вне сенситивного периода ранней социализации?
Для решения этого вопроса было разработано несколько экспериментальных моделей.
Как уже было показано во второй главе, участие сознания не является обязательным для восприятия информации и процессов ее семантического структурирования. Наличие сознания также необязательно и для процессов вывода информации из семантической памяти, т.е. для реализации поведения (например, речевого). Существует масса экспериментов по вводу-выводу семантической информации во время сна и наркоза. Известны случаи сноговорения, снохождения, автоматического письма, чтения когда-то слышанных на незнакомом языке текстов и др., когда реализуется высокоструктурированная, сложная и адекватная, но предназначенная для другой ситуации программа деятельности (совершенно по иному механизму возникает логорея у психически больных как процесс выдачи содержимого семантической памяти в неструктурированном виде).
Может быть, правильнее говорить не об отсутствии сознания в таких случаях, а об особых его формах (сужение сознания, уменьшение его объема, измененные состояния сознания, диссоциированные и пр.).
Неосознаваемые семантические воздействия могут быть использованы для быстрой модификации памяти, т.к. воздействующая информация существенно меньше подвергается редакти-
207
И. В. СМИРНОВ_________________________________________
рованию имеющимися в памяти взрослого индивидуума социальным парадигмам, личностным запретам и т.п. Быстрой модификации памяти способствует сенсорная изоляция, что проявляется в нарушениях реконструирования картины мира при воздействии случайных сигналов или сенсорного шума и выражается в различных иллюзиях восприятия вплоть до галлюцинаций и бредообразования при длительной изоляции у человека (Кузнецов О.Н., Лебедев В.И., 1972). При этом во время абстрактной когнитивной деятельности возникают инсайты — озарения, которые отражают деятельность высших психических функций как образно-диалоговой информационной системы. Иногда это сопровождается эйдетическими образами, особенно у небольшой группы всегда имеющихся в популяции лиц, генетически склонных к эйдетизму.
Острые психотические состояния и аффекты также создают условия для быстрой и часто необратимой модификации памяти. Они могут быть как эндогенными, так и ситуационными. Последнее обнаружено, например, при обследовании лиц, подвергну-тыхфизическим пыткам. Сила переживаний при этом, а также при внушенных эмоциях и ощущениях, достигает высокой значимости вплоть до образования физиологических и соматических расстройств. Среди прочего, имеются сведения о внушенном в гипнозе оживлении энграмм когда1-то бывших заболеваний с развитием всех их признаков.
Иными словами, модификация памяти возможна не только в ее доступных осознанию зонах, но и в тех, которые содержат поведенческие программы вегетативного обеспечения. В этом отношении можно рассматривать психосоматические заболевания как следствие консолидации неадекватной энграммы вегетативного обеспечения.
Исходя из всего этого, можно утверждать, что существуют ситуации, когда любая наличная информация, в т.ч. выполняемая в данный момент программа поведения или жизнеобеспечения, может быть импринтирована в различные зоны памяти, включая те, где она уже не будет подлежать коррекции в обычных условиях существования биообъекта (что особенно важно для понимания патогенеза психосоматических заболеваний).
Такие ситуации можно рассматривать как варианты диссоциированного состояния, которое среди своих триггерных стимулов (ключей), инициирующих соответствующую энграмму, может иметь не только специфическое изменение состояния индивиду-208
психоэкология
ума, но и сенсорный сигнал, в том числе контекстовый, и даже какую-либо поведенческую или вегетативную реакцию.
В прагматическом смысле это означает, что существует реальная возможность модификации памяти, как на уровне осознаваемых воспоминаний, так и на уровне неосознаваемых мотиваций и программ жизнеобеспечения (например, в области иммунной памяти)!
На самом деле уже существует множество способов психокоррекции, реализуемых как стихийно, так и вполне целенаправленно врачами, психологами, психоаналитиками. Имеются тривиальные методы, которые варьируют от невинных вариантов до процедур, близких к психокатарзису. Например, известен метод аксиопсихотерапии кризисных состояний, заключающийся в направленном изменении системы индивидуальных ценностей и значений воздействием на очень мощном аффективном фоне корректирующей информации, заранее сопряженной по смыслу с патологическим проявлением у данного больного. Возможность введения определенных лечебных установок через бессознательные сферы психики (т.е. без участия самого больного) могла бы облегчить и ускорить процесс выздоровления. Неосознаваемым вводом семантической информации в условно интактном состоянии пользуются также для ускорения процесса обучения (Петру-синский В.В., 1982).
Логика подсказывает, что все необходимое для быстрой модификации памяти уже известно, существует и незримо присутствует. Не было только технологии, т.е. оптимального сочетания известных компонентов. Поскольку путем логического анализа нельзя было хотя бы приблизительно оценить адекватность сочетания предлагаемых к использованию факторов, а также и верность наших концептуальных построений, пришлось прибегнуть к экспериментальному моделированию на лабораторных животных.
Психосемантические расстройства присутствуют при любых видах психических нарушений и по сути им тождественны. Даже в случае биохимических или травматических повреждений, а также при патологии эмоций, когда когнитивные процессы традиционно считаются первично незатронутыми, ведущую роль в патогенезе этих нарушений имеют и психосемантические расстройства (независимо от причин, повлекших эти расстройства). С этой точки зрения психосемантические расстройства априори являются типовым патологическим процессом.
8 Смирнов И В ОЛО
И.В. СМИРНОВ_________________________=___________— -
Что можно считать психосемантическими расстройствами?
Количество психосемантических элементов, которые в совокупности связей между собой составляют семантическую память, различно для разных людей (это и есть сугубо индивидуальный опыт). Это количество различно у двух людей из одной популяции. Оно существенно влияет на течение болезни (см. работу Н.М.Жарикова и Е.Д.Соколовой). Количественные изменения могут быть типичными для случаев повреждения мозгового субстрата вследствие травмы, отравления, накопления ошибок в белковых молекулах при многократных перезаписях информации.
В концепции непрерывной памяти на настоящем этапе ее существования нет места каким бы то ни было средствам эту память разрушить (за исключением повреждения субстрата — мозга, но в этом случае психические нарушения являются вторичными и рассматриваются в рамках расстройств поведения, связанных с дисфункцией центральной нервной системы (Parsons, Hart). Убедительные случаи стирания зон памяти при сохранении ее физического носителя, как в эксперименте, так и в клинических наблюдениях отсутствуют. Так называемая ретроградная амнезия, вероятно, является следствием не уменьшения числа психосемантических элементов (т.е. стирания памяти), а невозможностью доступа к этим элементам (т.е. воспроизведения).
Следовательно, количественными изменениями нельзя исчерпать представление о психосемантических расстройствах.
Какими же могут быть их качественные изменения?
Сторонники гипотезы пространственно-временной организации нейрональных констелляций как «кода» психической деятельности пишут: «...переход от неустойчивой пространственно-временной организации нейронных популяций при восприятии чистых тонов к устойчивой пространственно-временной организации при восприятии отдельных фонем происходит не резко, а постепенно и связан с усложнением сигнала при постепенном переходе от простого акустического сигнала к сигналу, экологически значимому» (Бехтерева Н.П. и др.). Авторы полагают, что «пространственно-временная организация нейронных популяций» хранит энграмму памяти, только если эта организация устойчива, что, по их мнению, определяется «сложностью» сигнала. Эта избыточная логика приводит к неточным выводам. Простейший пример со щелчком убеждает нас, что акустический стимул с одними и теми же физическими характеристиками (т.е. не усложненный ни в коей мере) в 210
__ __________ психоэкология
одном случае оценивается как контекстовый, в другом — как сигнальный.
Чем же определяется значимость стимула? Ведь его психосемантический эквивалент один и тот же (что с кибернетической точки зрения вероятнее, т.к. существование разных психосемантических эквивалентов для одного сенсорного стимула нерационально). Следовательно, значимость стимула определяется только количеством связей (адресно-командным кодом) психосемантического эквивалента этого стимула с другими психосемантическими элементами.
В первую очередь это — константа для n-мерного измерения матрицы, векторами которого являются связи между элементами, а элементы — суть психосемантические эквиваленты всех воспринятых стимулов контекста среды и состояния.
Во вторую очередь это — переменная величина, возникающая из упомянутой константы при включении дополнительных связей от отдельных элементов к совершенно другим, изначально не входящим в данную матрицу. Последние возникают вследствие того, что даже очень устойчивая матрица (хорошо выработанный навык) при ее актуализации реализует поведение всякий раз в новой среде, что приводит к коррекции исходной матрицы за счет сигналов обратной связи. Естественно, что процесс такой коррекции бесконечен и при постоянном изменении среды, в которой реализуется поведенческий акт, исходная психосемантическая матрица данного поведения может значительно изменяться. По сути это и есть механизм адаптации.
В эксперименте на животных были разработаны методы и экспериментальные модели, в которых семантические взаимодействия можно было наблюдать без необходимости использования аппаратных средств анализа и имитации сигналов, присущих животным. В этих методах в качестве генераторов и детекторов сигнала использовались сами биообъекты.
Для задач психоэкологии существенны вопросы о том, когда, как, при каких условиях формируется патологическая психосемантическая матрица, соответствующая программе неадекватного поведения.
Поэтому попутно пришлось решить чрезвычайно важный вопрос. Этот вопрос состоял в том, что в силу существующих взглядов на элитарное значение второй сигнальной системы логичным было бы предвидеть отсутствие у животных столь мощно управляющего поведением и состоянием фактора, каким является се
И.В. СМИРНОВ
мантический стимул у человека. Из этого следовало бы, что семантическая память других животных устроена по совершенно иным, чем у человека, принципам, и наши исходные концептуальные модели не универсальны для живого мира.
Но, с точки зрения здравого смысла, трудно было бы допустить существование принципиально разных семантических конструкций в представителях одного и того же живого мира. Однако интуитивная уверенность в том, что семантическая память у всех видов устроена принципиально одинаково, должна была быть подкреплена или разрушена экспериментом.
Очевидным казалось предположение о том, что в качестве одного из наиболее значимых сигналов при коммуникациях животных должны выступать ноцицептивные сигналы. «Взаимоотношения между особями в стаде или других сообществах бывают настолько тесными, что гибель одного животного (независимо от причин гибели) может вызвать смерть другой особи. Это явление, в частности, наблюдалось среди диких гусей и получило название «смерти сочувствия»» (Хананашвили М.М.).
В процессе гибели биообъекта наблюдается резкий выброс по всем доступным измерению параметрам: напряженности магнитных, электрических, акустических и других биогенных полей (Докучаев В.И., Смирнов И.В.). Поэтому рассматриваются три гипотезы:
1) эти информационно-энергетические посылки не являются для воспринимающего биообъекта семантическими сигналами (т.е., если он их и воспринимает, то они ничего не значат и оцениваются как контекстовый стимул, вызывающий только ориентировочную реакцию);
2) эти посылки могут быть модулированы какой-либо актуализированной в процессе гибели случайной психосемантической матрицей и вследствие этого приобретают то или иное сигнальное значение, что можно установить по изменению поведения и/ или состояния воспринимающего биообъекта;
3) эти посылки всегда модулированы определенной матрицей или определенной совокупностью психосемантических матриц, что делает продуцируемый семантический сигнал не случайным, а строго детерминированным.
Последняя гипотеза наиболее интересна в связи с возможностями ее приложения к анализу сущности и значимости видоспецифичной психосемантической матрицы, формируемой во время импринтинга в естественных условиях. Эту матрицу можно рас-212
психоэкология
сматривать как аналог информации о ядре личности человека. Последняя гипотеза могла бы быть использована также и для объяснения многих неясных явлений, наблюдаемых при дистантных взаимодействиях биообъектов («смерть сочувствия» у животных, внутрисемейная индукция психических заболеваний и др.), что, в свою очередь, могло бы открыть новую страницу в этиологии психических нарушений.
Ни один из известных видов живых существ, за исключением электрических рыб, не располагает биогенными энергетическими источниками, позволяющими на расстоянии и без механических воздействий влиять на состояние и поведение других особей.
Тем не менее, такие влияния существуют и реализуются за счет семантической модуляции самых различных физических факторов биологического происхождения. Энергия таких факторов сама по себе недостаточна для биотропного воздействия. Семантически модулированные слабые в энергетическом отношении факторы, будучи опосредованы семантической памятью, способны в результате приводить к значительным изменениям жизнедеятельности. Это хорошо известно в отношении человека с его второй сигнальной системой.
Если допустить, что семантическая память всех живых существ устроена одинаково и различается только сложностью иерархии элементов, то необходимо будет признать, что и у животных должны существовать сигналы, которые сами по себе достаточно значимы, чтобы вызывать существенные изменения жизнедеятельности вне времени действия безусловных ноцицептивных факторов. Использование последних для обусловливания, как известно, позволяет любому стимулу присвоить определенное значение и тем самым искусственно сформировать аналог второй сигнальной системы, характеризующейся меньшей, чем у человека, сложностью иерархии элементов.
Обмениваются ли животные такими сигналами, которые также удалены от самого ноцицептивного или иного фактора, как слово у человека от своего значения?
К числу таких сигналов можно отнести:
1) хорошо изученные этологами сигналы зоосоциальных коммуникаций в естественных условиях;
2) сигналы, искусственно формируемые при обусловливании или в других условиях вынужденного поведения;
3) сигналы, наблюдаемые в единичных работах по зоосоциаль-
213
И.В. СМИРНОВ__________________________________________
ним коммуникациям в эксперименте (например, В.П.Симонов в остроумном и изящном эксперименте показал реакцию животного альтруизма и ответ на сигналы страдающей особи своего вида);
4) редко наблюдаемые и недостаточно изученные сигналы, возможно сопровождающие импринтинг, «смерть сочувствия» у лебедей, массовые самоубийства у китов и некоторые другие явления в естественных условиях поведения.
Необходимость эксперимента в данном случае обусловлена единственной возможностью подтвердить или опровергнуть предположение о едином характере психосемантических процессов у человека и животных, поскольку прямое измерение параметров семантической памяти животного в настоящее время затруднено из-за ограниченного набора семантических стимулов, имеющихся в распоряжении экспериментатора.
Логическая концептуальная модель эксперимента включает:
1. Элементы импринтинга в виде предъявления информации наивысшего уровня новизны. Иными словами, в виде семантического воздействия такого вида, который доселе не встречался индивидууму.
2. Элементы импринтинга в форме наивысшего семантического градиента предъявляемой информации относительно фонового уровня. Иными словами, семантическое воздействие должно быть крайне неожиданным для субъекта.
3. Элементы импринтинга, суггестии, односеансового обучения, неосознаваемого обучения и аффективной реакции в форме предъявления предельно индивидуально значимой информации. Иными словами, семантическое воздействие должно быть связано с индивидуальными особенностями биообъекта (личностными особенностями субъекта) и сопряжено с его конкретными аффективными образованиями (доминирующими мотивами и пр.).
4. Высокий уровень стресса. Предпочтительно, чтобы стрессирующим фактором было само семантическое воздействие. Возможно также применение семантизированного ноцицептивного стимула.
5. Исключение редактирования информации, предъявляемой субъекту, путем: а) изменения состояния сознания с помощью медикаментозных диссолюторов сознания, например, кетамина; б) предъявления информации на неосознаваемом уровне, например, с помощью маскировки, диспарантного или дихотического ввода.
214
психоэкология
6. Предъявление ключевой сенсорной информации для обеспечения возможности последующей актуализации импринтируе-мой энграммы. Необходимо предъявлять с фиксированной частотой (элемент АСФС-Il) в течение всей процедуры, включая время существования гипнагогических и гинопомпических состояний, с тем, чтобы ключевой сигнал был зафиксирован и в осознаваемых зонах памяти.
7. Действие неспецифического коннектора (элемент АСФС) для ускорения консолидации энграммы. Предпочтительно использовать хорошо изученный в этом отношении препарат — этимизол.
8. Естественный сон или его ближайший аналог, индуцируемый гипнотиком — например, этомидатом (раденаркон) с продолжением семантической загрузки в течение сна.
9. Относительную сенсорную депривацию для выполнения большинства предыдущих условий.
Таковы основные факторы, которые были выделены и обобщены при логическом анализе существующих парадигм. Часть этих факторов в той или иной форме присутствует во всех парадигмах.
Нужно заметить, что использование ИСС для обеспечения прямого доступа в память является вынужденной мерой, обусловленной отсутствием ясной и однозначной концептуальной модели информационной структуры биообъекта. Уже сейчас реальными представляются новые методы психокоррекции, основанные не только и не столько на диссолюции сознания, сколько на использовании принципиально новых средств ввода корригирующей информации. К их числу относятся методы неосознаваемого ввода-вывода семантической информации (Э.А.Костандов, 1970-1989; A.Dixon, 1979), на основе которых возникают новые методы психокоррекции.
Если обобщить всю вышеизложенную информацию, становится ясно, что, невзирая на внешнее различие методов ввода информации в неосознаваемые сферы памяти, результатом использования всех имеющихся и разрабатываемых методов является модификация памяти и, следовательно, состояния и поведения. Только тем или иным путем модифицируя, изменяя матрицы долговременной памяти, мы достигаем коррекции состояния и (или) поведения.
Из дидактических соображений при разработке технологий психокоррекции мы разделили их на две группы:
1 — интенсивная психокоррекция с использованием ИСС;
2 — неосознаваемая психокоррекция в условно-интактном состоянии.
215
И.В. СМИРНОВ
В общем виде экспериментальная модель дистантных взаимодействий биообъектов представляет собой две группы биообъектов (от 1 до 20 особей в каждой группе), причем состояние первой группы в случайный момент времени изменяют, а состояние второй группы регистрируют и по изменениям наблюдаемых параметров устанавливают наличие или отсутствие реакции на сигналы особей первой группы.
Эксперименты проводили на 47 беспородных собаках, 322 кроликах породы «шиншилла» и «новозеландская», 2023 беспородных и линии Vistar крысах, 20 морских свинках. Пол и возраст животных в большинстве опытов не учитывали. Исходное состояние, время суток и года, условия эксперимента и участие различных экспериментаторов рандомизировали.
Основной фрагмент работ выполнялся в рамках программы ГКНТ СССР и АН СССР от 02 февраля 1980 г. «Исследование семантически модулированных сигналов биологического происхождения», где большое внимание уделяли физическим свойствам семантических сигналов, подразумевая возможность семантической модуляции не только традиционных носителей (акустического, оптического, химического), но и электрического, магнитного и электромагнитного полей (Журавлев А. Н., Смирнов И.В.).
В первом варианте экспериментальной модели животных фиксировали на растяжках или иным путем в экранированных камерах. Внутривенно, внутримышечно или внутрибрюшинно вводили миорелаксанты длительного действия (тубокурарин) в дозах, достаточных для исчезновения спонтанного дыхания и другой мышечной активности, начинали регистрацию физиологических параметров и переводили на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в режиме нормовентиляции.
В случайный момент времени у биообъектов первой группы отключали респиратор, осуществляющий ИВЛ, или заменяли воздух в системе ИВЛ на инертный газ (гелий, азот). На регистрируемых кривых с помощью общепринятых методов сравнивали эпохи анализа до момента изменения режима ИВЛ и после него. Если выявляли какие бы то ни было статистически достоверные (при альфа<0,05) различия в сравниваемых эпохах у биообъектов второй группы, — расценивали это как искомую реакцию при восприятии сигналов от животных первой группы животными второй группы и учитывали этот результат для последующей вторичной статистической обработки.
Второй вариант экспериментальной модели основывали на об-» 216
психоэкология
щепринятых представлениях о влиянии эмоциональных факторов на поведение и восприятие семантических стимулов. Для моделирования эмоций применяли прямое электрическое раздражение зон мозга (В.И.Бадиков).
Этот вариант проводили только на кроликах в возрасте 10-14 месяцев, полагая, что у более старых животных могут быть существенные особенности реагирования при электростимуляции гипоталамуса (Рушкевич Е.Ю.). Под местной анестезией вводили электроды в отрицательные эмоциогенные зоны гипоталамуса и воздействовали электрическими импульсами по стандартной методике для моделирования эмоционального реагирования отрицательной модальности. У другого кролика регистрировали физиологические параметры. Миорелаксацию и ИВЛ в большей части опытов не проводили.
В третьем варианте (проведен только на крысах) животных предварительно обучали инструментальной реакции нажатия на педаль или реакции побежки в челночной камере в строго идентичных условиях компьютерного управляемого эксперимента. По достижении выработки стабильного во времени навыка (при аль-фа<0.01) животных второй группы подвергали миорелаксации, переводили на ИВЛ и регистрировали физиологические параметры, а животным первой группы предъявляли условный сигнал в сочетании с подкреплением электрическим током. Для устранения возможного последействия в результате актуализации иных, чем необходимая, психосемантических матриц, через 1024 мсек непрерывного действия условного сигнала все возможные физические субстраты памяти животного уничтожали путем воздействия СВЧ-полем (для тотальной денатурации мозга использовали заведомо завышенное время аппликации поля, равное 1.4 секунды).
При использовании всех трех вариантов экспериментальной модели были получены крайне разнородные результаты. Выделим из них главное.
Среди всего массива экспериментов, проводимых по первому варианту, наблюдали два рода реакций (реакции, не достигавшие заданного критерия значимости при альфа<0.05, не учитывали).
Либо это были какие-либо изменения одного или нескольких регистрируемых параметров, отражавшиеся, например, в изменении спектрального состава ЭЭГ или аритмии на ЭКГ, либо появление на этих кривых медленных ритмов, модулирующих основную активность.
217
И. В. СМИРНОВ________________________________________
Такие эффекты наблюдали спорадически, вне связи с учитываемыми параметрами, условиями эксперимента, взаимным расположением животных и т.д. При номотетической оценке результатов выяснилось, что они имели место только в 2.9% случаев от общего числа экспериментов по первому варианту. Следовательно, либо явление имело случайный характер, либо в эксперименте присутствовал какой-то неизвестный нам фактор.
В экспериментах, проводимых по второму варианту экспериментальной модели, когда применяли эмоциогенное раздражение зон гипоталамуса, в части серий использовали животных из одного помета, содержавшихся в идентичных условиях. При этом было замечено, что количество достоверных реакций в опытах, где в качестве источника семантически модулированного сигнала и его восприемника использовали близкородственных особей, достоверно отличалось от таковых при случайном выборе животных.
В третьем варианте экспериментальной модели наблюдали схожую картину, но реакции отмечали не у близкородственных особей (этот фактор не учитывали при отборе животных), а у тех особей, которые попарно обучались инструментальному навыку в челночных камерах. Для выявления реакций использовали алгоритм статистического анализа, разработанный А.Б. Салтыковым. Конечный результат использования алгоритма в виде биномиального критерия хи-квадрат был свободен от распределения и независим от исходных параметров, что позволяло выявлять любые, сколь угодно зашумленные реакции в любых аналоговых сигналах. При этом превышение величины биноминального критерия над заданным уровнем значимости (для альфа<0.01) расценивали как наличие искомой реакции независимо от ее визуального проявления.
Использование общепринятых способов выделения сигнала из шума в условиях, когда неизвестны ни характеристики шума, ни особенности сигнала (все регистрируемые физиологические процессы являются сложными случайными нестационарными нелинейными колебательными процессами), неэффективно. Поэтому специально разработали алгоритм, который проверили на имитационных моделях различного рода, использующих иерархически работающие программные генераторы псевдослучайных чисел, обеспечивающие разные комбинации шума с многообразными случайно распределенными сигналами. Проверку валидности алгоритма проводили также на детерминированных биологических моделях. Высокая 218
психоэкология
надежность и простота п-эпохового статистического алгоритма применительно к любым задачам выделения сигнала из шума позволяют эффективно использовать его вот уже третий десяток лет.
Обычно исследуемый сигнал дискретизуют и разделяют на произвольное число эпох анализа до и после сигнальных или ноцицептивных воздействий или каких бы то ни было иных событий, после чего из полученных вариационных рядов исчисляют непараметрические критерии или параметры Т-статистики (среднюю арифметическую, дисперсию и пр.). Затем последовательно сравнивают параметры каждой эпохи с остальными и получают совокупность критериев Стьюдента и Фишера:
analogical
(EK, ECG
Кггипи/"г»11»|нн^|'»|||а ?o?mTcal
N>32 К>32 Н>32 Н»32 Н>32 Н>32 Н>32
5^м±тн
statistical form 2
Существует три варианта получения статистическихТ- и F-кри
териев:
А — когда они исчисляются путем перебора параметров произвольного числа эпох до воздействия („stimulus") и после воз
действия:
"А" ВАРИАНТ КОМБИНАЦИЙ T- к F-КРИТЕРИЕВ
36 Т-крмгеряев+ /1 36 Т-крнгеряев+ /\ +36 F-крмгермев *36 Е-кршериев^|^|
статистика 3 уровня
stimulus |
12345678$ 2 34 5 6 7 8 9
219
И. В. СМИРНОВ
Б — когда они исчисляются при сравнении всех эпох до воздействия между собой и каждой из этих эпохе каждой эпохой после воздействия:
2 ВАРИАНТ КОМБИНАЦИЙ т- и F-КРИТЕРИЕВ
емшешка 3 уровня
В — когда сравнивают все эпохи до воздействия между собой, все эпохи после воздействия между собой, и все эпохи до воздействия со всеми эпохами после воздействия:
3 ВАРИАНТ КОМБИНАЦИЙ Т- и F-КРИТЕРИЕВ
36 Т-критернев* +36 F-крмтермев
сйтиаика 3 уровня
220
психоэкология
Последним этапом алгоритма является вычисление непараметрического и свободного от распределения критерия, например, биноминального критерия хи-квадрат. Результаты, превышающие критические для альфа<0.01 значения, свидетельствуют о статистическом различии совокупности эпох до воздействия от совокупности эпох после воздействия. Характер и специфика различий при этом не учитывается:
Описанная последовательность использования статистических методов была разработана и подробно исследована А.Б.Салты-ковым применительно к самым разным типам исходного сигнала. Результаты испытаний показали высокую эффективность алгоритма при выделении любого сигнала из шума (при том условии, что исследователь не интересуется параметрами сигнала).
Наиболее интересны результаты использования третьего варианта экспериментальной модели. В качестве примера рассмотрим кривые научения 5 пар крыс в одной из серий опытов, каждая из которых составляла от 30 до 80 экспериментов в однородных условиях экспериментальной установки:
221
и. в. иминмов
На приведенных ниже графиках цифре 1 соответствуют кривые научения перципиента (восприемника семантического сигнала), цифре 2 — индуктора. Слева у каждого графика указан номер пары, по вертикали отложены значения биномиального критерия хи-квадрат, по горизонтали — порядковые номера опытов:
ЩШЯ1ШКЯ иЯСТРУПЕНТЯЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 5 ПЯР КРЫС
222
психоэкология
Видно, что в половине экспериментов животные-индукторы, у которых вырабатывали условную реакцию избегания в ответ на световой сигнал, достаточно быстро научались. Животные-перципиенты, не получавшие такого сигнала, научались только реакции избавления, т.е. перебегали на безопасную половину челночной камеры только вследствие воздействия электрическим током. Случайные реакции избегания статистически недостоверны. Эти результаты вполне соответствуют классическим скиннеровским экспериментам.
После завершения фазы научения животных помещали в заземленные экранированные камеры, расстояние между которыми составляло 15 метров. Животные находились в состоянии миорелаксации, вызванной инъекцией тубокурарина, и получали ИВЛ. У животных второй непрерывно регистрировали ЭЭГ и ЭКГ и вводили их в память компьютера. В случайный интервал времени животным-ицдукторам предъявляли световую вспышку и сигнальное воздействие электрическим током. Через 0,5-1,0 сек включали СВЧ-поле, что за 1.4 сек приводило к тотальной денатурации тканей. ЭЭГ и ЭКГ животных-перципиентов обрабатывали с помощью вышеописанного статистического алгоритма:
KpMTEPHU X2 ВПЯ РЯЗМНХ ПЯР К№С
^ ИЕТОЧНиК ЕЯГИЯЛЯ, В-ПРЯЕИИИК,К-НЕПК1ЧЕИНИЕ; ДОСТОВЕРНЕЕ ЗШНЕИНЯ ВЫОЕПЕНЮ
XBRPHRHT вХ1АННЛИ- ОПЬГГРГ^ 3 з г •з к Г
Я ! 1 Б В Я 1 | Б | 1 в
1 - 2 n =40 15.31 643 11.84 56J89 38.97' 57.30
1 II м я 10.76 050 0 007
К - 1 17.48 520 12.40 ° 0 0
к - к 336 125 3:02 0 0 0
223
И.В. СМИРНОВ —-
Считают, что, поскольку вторая сигнальная система у животных отсутствует' они более ограничены в средствах коммуникации, чем человек. Из обзорных работ Е.Н.Панова и А.А.Никольс-кого следует, что животные располагают значительным тезаурусом сигналов, в т.ч. акустических, которыми они пользуются для коммуникаций. Вокализации животных принято считать прототипом вербального языка человека. Однако психосемантические исследования на животных существенно затруднены из-за ограниченной доступности их семантический сигналов экспериментатору. Тем не менее, поскольку для решения поставленных задач требовалось установить диапазоны значимостей семантического стимула, условия его восприятия и консолидации, а также отдельные компоненты процесса импринтинга, мы предприняли традиционный прием: искусственно тем или иным путем придавали значимость либо простому физическому стимулу (вспышка света), либо всему комплексу физических сигналов биологического происхождения. Это в большинстве случаев достигалось опе-рантным (инструментальным) обучением в специально созданном компьютерном комплексе, который с применением адаптивного алгоритма, подстраивающего условия обучения под особенности научения каждого конкретного животного, в автоматическом режиме обеспечивал выработку инструментальной реакции побежки в челночной камере или моторно-вегетативную реакцию без побежки. Применяли как детерминированные условия обучения, так и специально изменяющиеся вероятностные условия обучения. Последние были предварительно моделированы методом Монте-Карло в 500 имитационных экспериментах на компьютере. При выработке указанных реакций всегда использовали одновременно пару или группу животных для того, чтобы исследовать возможные различия реагирования на аппаратный физический стимул и на семантический стимул биологического происхождения. При этом одно животное в качестве условного сигнала получало аппаратный стимул, в ответ на который возникала готовность к действию и само действие (целенаправленное поведение или «поведенческое отчаяние»), а другое животное в синхронный интервал времени могло руководствоваться только сигналами, испускаемыми при этом первой особью (преимущественно вокализациями и побочными акустическими компонентами реагирования). Такие условия эксперимента были выбраны, во-первых, для того, чтобы провести аналогию с неосознаваемыми воздействиями у человека и, во-вторых, для сохранения всего комплекса сти-224
психоэкология
мулов именно биологического происхождения, чтобы можно было оценить влияние дистантных факторов биологического происхождения на процесс формирования психосемантической матрицы, в том числе и патологической.
При обработке данных старались придерживаться идеографического, а не традиционного номотетического подхода и поэтому стремились ограничить при обсуждении результатов использование данных, усредненных по группе биообъектов.
Из вышеприведенных графиков инструментальной деятельности пар крыс-самцов видно, что эффективность выполнения побежки в челночной камере существенно зависит не только от характера условного сигнала (вспышка света для первой особи или ее преимущественно акустические сигналы для второй особи), но и от индивидуальных особенностей животного. Ясно, что при усреднении подобных результатов по данной группе были бы получены кривые совершенно иного вида, ни в коей мере не отражающие индивидуальных особенностей реагирования.
В целом на массиве данных, полученных более чем в полутора тысячах управляемых экспериментов, наблюдали тривиальные результаты инструментального обучения в вероятностной среде 56,3% особей, получающих условный сенсорный стимул аппаратного происхождения. У животных второй группы, которые обучались на стохастичный условный сигнал особей первой группы, достоверные для альфа менее 0.01 результаты инструментальной деятельности наблюдались только как редкие случаи.
Тем не менее, у отдельных особей присутствовали моторные компоненты реагирования (достоверные для альфа менее 0.01 результаты отмечены на упомянутом графике научения черными метками для особей 1 группы и светлыми метками для особей 2 группы), количество которых наводило на мысль о неслучайности этого явления.
Именно поэтому в острых опытах на крысах специально проводили статистический анализ ЭЭГ и ЭКГ животных 2 группы, ранее обучавшихся в челночных камерах. При этом животным первой группы предъявляли известный им сенсорный сигнал и через 1024 мсек на фоне его предъявления — ноцицептивное неизбега-емое подкрепление электрическим током в тех же режимах, в каких оно производилось при обучении. В качестве контроля использовали необученных животных. В таблице вы видите результаты обработки спектрального анализа ЭЭГ и интервалограмм ЭКГ с помощью представленных выше статистических процедур. Един-
225
И.В. СМИРНОВ
ственным случаем, когда отсутствовали достоверные реакции, был случай сочетания контрольных животных, среди которых ни одна особь не подвергалась предварительному обучению. Следует отметить, что в результатах каждого отдельного опыта на этой группе встречались статистически значимые данные, но при обработке по группе они нивелировались (аналогично тому, как это происходило при использовании усреднения результатов по группам в хроническом опыте с обучением).
Максимальное количество достоверных реакций оказалось среди животных первой группы, когда в эксперименте участвовали обученные попарно особи. Особо важно то, что только в этом случае на группе животных однозначно наблюдались изменения ЭКГ, обусловившие статистически значимые величины при обработке массива независимо от того?какие конкретные изменения имели место у отдельной особи. На имеющемся уровне представлений можно интерпретировать наличие реакции на ЭКГ как проявление мощного вегетативного компонента — аналога эмоционального реагирования при восприятии семантического сигнала максимальной значимости. Через много лет этот феномен лег в основу аудиовидеокардиопроцедуры — одной из процедур психозондирования. Вспомните мысли Войно-Ясенецкого!
При интерпретации обнаруженных явлений приняли рабочую гипотезу о том, что восприятие семантической информации обусловлено наличием тождественных или совпадающих по элементам психосемантических матриц, формируемых при научении.
Иначе говоря, только наличие в семантической памяти того и другого биообъекта тождественной информации позволяет им в полной мере обмениваться сигналами. По мере удаления структуры этих матриц друг от друга эффективность взаимодействия снижается до полного исчезновения при эксперименте на необученных особях (графа К-К в таблице).
В случаях попарного использования особей, из которых хотя бы у одной имеется сформированная на условный сигнал психосемантическая матрица, сигналы, возникающие при актуализации такой матрицы (или при экстренном ее формировании у необученного биообъекта во время сочетания условного сигнала с ноцицептивным подкреплением), воспринимаются другой особью также независимо от наличия у нее идентичной матрицы. При этом значимость сигналов такова, что она не приводит к существенным изменениям состояния (по характеристикам ЭКГ), но и не является контекстовой (по характеристикам ЭЭГ). Последнее мы наблю-226
психоэкология
даем в случаях использования пар, среди которых одна особь является необученной (К-1 и К-2).
В описанных экспериментах наблюдали семантические взаимоотношения животных, при которых уровень значимости сигналов был достаточен для существенного изменения состояния особи, которая воспринимала этот сигнал. Не могу не признаться, что в части опытов животные-перципиенты погибали от невыясненных причин. Механизм таких явлений заключается в своеобразном семантическом резонансе, когда воздействующий сигнал, независимо от своей физической природы, актуализирует либо эквивалентные ему элементы тождественной психосемантической матрицы, либо в силу своей уникальной значимости приводит к актуализации основных матриц жизнеобеспечения.
Образно выражаясь, для того, чтобы как-то модифицировать состояние и/или поведение биообъекта, сигнал должен попасть в строго соответствующую ему зону памяти. Только в этом случае он не будет расценен как контекстовый и в соответствии с величиной своей значимости в той или иной мере актуализирует соответствующую ему психосемантическую матрицу, что и проявится в изменении состояния или поведения биообъекта. Во всех остальных случаях сигнал является контекстовым, независимо от физической природы его носителя и его мощности.
В дальнейшем именно эти соображения были использованы для построения процедуры семантического драйвера, необходимой для интенсивной психокоррекции у человека.
Для психики человека в рамках психологических парадигм такое явление описывают как взаимодействие сигнала-денотата с соответствующими ему коннотатами. То, что при этом имеют в виду преимущественно вербальные сигналы, несущественно. Механизм взаимодействия принципиально одинаков и независим ни от физического носителя семантического сигнала, ни от конкретной формы сигнала (вербальной у человека или вокализаци-онной у животного).
С этой точки зрения проблема второй сигнальной системы является достаточно условной и характеризует только количественную разницу в иерархии символов, которыми могут располагать разные виды биообъектов.
Вопрос о роли импринтированной в раннем сенситивном периоде информации в обеспечении зоосоциальных коммуникаций и регуляции поведения отдельной особи хорошо описан в литературе. В вышеприведенных экспериментах эта информация, ко-
227
И.В. СМИРНОВ ^s=^==!S^=s=—==
торая в соответствии с условиями эксперимента имеет максимальную значимость, вероятнее всего, играла некоторую роль, что и проявилось статистически в виде случайных результатов реагирования отдельных особей в отдельных экспериментах. Однако выделить эту роль без привлечения дополнительных методических приемов не представилось возможным. Этот вопрос крайне существенен, так как именно импринтированная в раннем возрасте информация служит ядром для обеспечения процессов памяти в течение всей последующей жизни. Здесь уместно вспомнить широко известные случаи дефектов ранней детской социализации, приводившие к необратимым искажениям психики (отАмалу и Камалу, воспитывавшихся дикими зверями, до психопатий и других нарушений вследствие отрыва от родителей и пр.).
Для изучения механизмов психических расстройств практически важными являются два вопроса:
1) когда, при каких условиях и как формируется патологическая психосемантическая матрица, соответствующая программе неадекватного поведения, и *
2) возможна ли такая патологическая модификация памяти, которая не обусловлена научением?
Косвенный ответ на первый вопросы мы уже имеем. Поскольку в условно-интактном состоянии (у контрольных необученных животных и у разнородных особей) восприятие искусственно инициированного семантического сигнала биологического происхождения является случайным событием и статистически существует только у отл ельных особей при идеографическом анализе (относительно их собственных реперных значений), то достоверное его наличие обученных животных и близкородственных особей можно удовлетворительно объяснить только научением.
С точки зрения здравого смысла сигналы, не являющиеся стимулами адаптивного поведения, должны восприниматься как контекстовые, не сопровождаясь при этом существенными изменениями состояния (иначе жизнь была бы невозможна). Те случаи, когда мы наблюдаем неадаптивное поведение («смерть сочувствия» по М.М.Хананашвили) или не обусловленные ноцицептивным фактором изменения состояния (реакции на ЭКГ в наших опытах), можно думать о наличии тождественных психосемантических матриц, аналогичных патологическим при нарушениях поведения. Кроме такого предположения существует вероятность актуализации какой-либо матрицы жизнеобеспечения при поступлении в память сигнала исключительной значимости. По анало-' 228
психоэкология
гии приведем пример с хорошо известными аудиогенными судорогами у мышей и крыс (но там действуют энергетические, а не семантические стимулы, т.е. не сигналы). Судороги и даже гибель, возникающие при сильном звуковом воздействии у отдельных особей (особенно при наличии генетической предрасположенности у определенных линий животных) ни в коей мере не являются адаптивным поведением. В нашем случае уже семантический сигнал с существенно более слабыми энергетическими характеристиками вызывает в сущности то же самое — актуализацию матрицы, не эквивалентной какому-либо адаптивному поведению.
Одним из двух достаточно удовлетворительных объяснений такого реагирования в наших моделях может служить наличие тождественного индивидуального опыта. Это может быть обусловлено близкородственными отношениями при совместном содержании или совместным обучением животных.
Проведенные эксперименты показали, что при обучении может формироваться психосемантическая матрица, для которой пусковым стимулом является семантический сигнал биологического происхождения. При этом:
1) если у двух особей имеются тождественные матрицы (близкородственные кролики в одном из вариантов экспериментальной модели, описанной нами ранее, и пары обученных в челночных камерах крыс), то семантический сигнал воспринимается как максимально значимый (т.е. они как бы говорят на одном языке, полностью понятном обеим);
2) если у особи, являющейся источником семантического сигнала, имеется специально сформированная психосемантическая матрица, соответствующая поведению этой особи в ноцицептивной среде (обучение избеганию), то использование пусковых для этой матрицы стимулов — условного сигнала и безусловного подкрепления — приводит к актуализации этой матрицы с возникновением семантического сигнала максимальной значимости. Такой сигнал может быть воспринят даже необученной особью, но интерпретируется ею как контекстовый и не вызывает существенных изменений ее состояния (пары крыс, из которых обучена только особь первой группы). Это можно образно представить, как очень страшный крик, но непонятно о чем;
3) если у обученной особи из второй группы имеется специально сформированная матрица поведения в ноцицептивной ситуации (обучение маловероятному избеганию), то эта матрица постоянно является одной из доминирующих в поведении (экви-
229
И.В. СМИРНОВ _____________________________
валент невротической тревоги), что обеспечивает постоянную готовность к селекции слабых семантических сигналов из окружающей среды. Вероятность восприятия недифференцированного сигнала первой (необученной) особи при этом возрастает, что и приводит к его детекции как контекстового;
4) если обе особи не обучены, то семантическое взаимодействие между ними носит случайный характер и наблюдается у отдельных особей, что можно объяснить наличием каких-то непод-дающихся измерению индивидуальных особенностей. В массиве наблюдений эти взаимодействия статистически нивелируются. К тому же известно, что высокая адаптивность поведения («экологическая пластичность») может быть генетически детерминирована (например, серые пасюки Ляпуновой). Помещение таких крыс в экспериментальную ситуацию с возможностью избегания закрытого пространства при криках другой особи показало, что эти крысы в выборе стратегии поведения руководствуются преимущественно семантическими сигналами (Штемберг А.С). Такое поведение непосредственно не связано с двигательной активностью или оборонительным поведением (Симонов П.В. и др.) и очень напоминает высшие семантические акты человека, что, видимо, и позволило П.В. Симонову обозначить эту форму поведения как «животный альтруизм».
В пользу гипотезы о контекстовом восприятии в этих опытах свидетельствует то, что при использовании обученных животных реакции статистически достоверны, в отличие от необученных особей. Это значит, что в определенных условиях ранее контекстовый семантический сигнал может приобретать высокую значимость и актуализировать какую-либо психосемантическую матрицу, что существенно изменяет состояние биообъекта.
Отсюда можно сделать вывод о том, что и у человека в определенных жизненных ситуациях семантические сигналы, обычно контекстовые, становятся значимыми в силу недостаточно учитываемых причин. Одной из таких причин, как мы видели в экспериментах на животных, может служить контекстовое научение, когда физический носитель семантической информации имеет слишком малую мощность или сигнал по иным причинам недоступен пользователю. Под контекстовым научением имеются в виду и все случаи подпорогового восприятия у человека.
В литературе имеется немало свидетельств в пользу существования дистантных взаимодействий, полученных в экспериментах как на животных, так и на людях (В.П.Леутин). Что касается триви-230
психоэкология
альных гипотез, например, патогенного действия слова как сигнального раздражителя, то это хорошо известно. В большинстве психодиагностических и психотерапевтических методов используют именно семантические факторы.
В вышеописанных экспериментах на лабораторных животных я наблюдал воспроизводимые феномены дистантных взаимодействий, действующим фактором которых являлся семантический сигнал биологического происхождения. Все другие доступные измерению источники сигналов и каналы их доставки и восприятия (электромагнитные, гравитационные, механические, в т.ч. акустические, химические и пр.) были исключены условиями эксперимента.
Дистантные взаимодействия биообъектов могут осуществляться вне поля действия известных нам физических законов. Единственным доступным контролю фактором при этом является семантический сигнал биологического происхождения.
Учитывая колоссальное влияние такого семантического фактора на системы жизнеобеспечения воспринимающей особи (вплоть до гибели — «смерть сочувствия?»), я рассматриваю феномен дистантных взаимодействий как прямое экспериментальное подтверждение кажущейся наивно-идеалистической гипотезы Войно-Ясенецкого, основанной как на его вере архиерея, так и на его собственном опыте хирурга: «Если, таким образом, мозг нельзя считать органом чувств и исключительным органом высшего познания, то это в огромной мере подтверждает учение Священного Писания о сердце как органе чувств вообще и особенно высших чувств» (Святитель Лука. — Дух, Душа и Тело. — Киев, 2002, с.44).
Описанная экспериментальная модель является единственным на сегодняшнее время способом научного исследования Духа. До сих пор все духовные явления относили к трансцендентной иррациональной области чуда, основанной исключительно на вере и не требующей каких бы то ни было научных доказательств.
Ну вот, — эти доказательства появились.
Требуются они лично Вам, любезный читатель, или нет, — решайте сами.
Доказательства Бытия Божия, как ни еретически это звучит, требуются Психоэкологии и входят в ее прерогативу.
Информацией является совокупность букв в этой книге. Информацией являются также мои слова, произносимые с кафедры.
231
И.В. СМИРНОВ
Семантической эта информация становится только тогда, когда Вы ее воспринимаете.
Психосемантические элементы Вашей Души беспрерывно воспринимают и анализируют эту информацию, затем Ваше сознание сканирует память, и Вы принимаете решение.
Решение о том, убить или не убить, болеть или выздоравливать, верить или не верить, быть или не быть...
Каждый из нас, как и все в этом мире, является частью Духа и представляет собой Бога.
Совокупное семантическое поле, телесными акцепторами коего мы временно являемся, и есть Мы — Бог, Дух Святой.
В связи с этим утверждением вспомните еще раз случай Гоши Г Психика в привычном понимании этого слова у него — отсутствует. Задумайтесь.
Знаю, что в жизни есть смысл и знаю — в чем этот смысл. «Устав от вечных упований, Устав от радостных пиров, Не зная страхов и желаний, Благословляем мы богов За то, что сердце в человеке Не вечно будет трепетать.
За то, что все вольются реки В единую морскую гладь». *
Я смущаюсь оттого, что робко пишу о Боге. Понимаю, что на меня сначала обрушатся все — ученые будут крутить пальцем у виска, попы — подвергать анафеме. Чернь — ухмыляться.
Но я — знаю.
Существующие представления о быстрой модификации памяти (импринтинг) основаны в основном на бытовых наблюдениях и эмпирических представлениях и лишь в малой мере — на скудных экспериментальных данных. Исследования сенситивных ситуаций у человека, когда возможен импринтинг и формируются те или иные психосемантические, в том числе патологические матрицы, практически очень трудны.
Ясно, что можно разными путями ускорить процесс научения, особенно применяя обусловливание. Так, например, выше я упоминал о возможности искусственного создания акцентного локуса латентной информации (АЛЛИ) в качестве репера (точки отсчета) для психозондирования. Таким же путем в ходе психозонди-232
психоэкология
рования можно быстро вырабатывать устойчиво негативное (или позитивное) отношение к конкретным сферам значимости (наркотики, алкоголь, фобии и пр.).
Однако все такие приемы основаны на научении, скорость и эффективность которого будут близки к кривым Эббингауза и прочим известным закономерностям.
Что же касается импринтинга как феномена навечно залечат-ляемой в памяти информации при ее однократном предъявлении, то возможность пользования этим феноменом открыла бы колоссальные перспективы в создании новых способов лечения многих больных разного профиля.
Возможно ли такое?
В 80-х годах прошлого века мы с моим коллегой А.Н.Журавлевым провели трудоемкие исследования на лабораторных животных, которые показали возможность получения у взрослых животных феноменов, подобных импринтингу по условиям возникновения и своим проявлениям, а также позволили определить основные семантические и физические элементы воздействий, моделирующих таковые у человека, и их последовательность.
Вначале проводили полный факторный эксперимент на массиве 250 беспородных крыс-самцов, возрастом около 6 месяцев, среднего веса около 350 г. На этом этапе определяли особенности различных сочетаний фармакологических, физических и семантических воздействий, их доз и величин. Второй этап также проводили по полному факторному плану с учетом влияния различных сочетаний действующих факторов, оказавшихся значимыми при анализе результатов, полученных на первом этапе. Кроме того, на основании результатов анализа была построена лабораторная модель импринтинга и разработана оптимальная временная последовательность (циклограмма) применения воздействующих факторов.
На первом этапе были сформированы группы из 10 животных. Каждая группа подвергалась одинаковому сочетанию действующих факторов. Имелись также контрольные группы, где тот или иной фактор заменяли на плацебо, и группы из условно-интактных животных, поведенческие реакции которых сравнивали с реакциями животных из основных групп. Все группы во время проведения эксперимента и тестирований содержались в отдельных боксах.
Из химических факторов наибольшие сомнения вызывал этимизол. Это было обусловлено противоречиями описаний в литературе его эффектов как неспецифического коннектора энграмм памяти.
233
И.В. СМИРНОВ ,„
В качестве информационного объекта импринтинга избрали стандартную для экспериментальных условий поведенческую реакцию — апоморфиновую стереотипию у крыс.
Кетамин (кеталар, калипсол) использовали для управляемого изменения состояния психики и поведенческих реакций лабораторных животных во время воздействий, что можно рассматривать как аналог измененных состояний сознания у человека.
В качестве физических факторов консолидации энграммы использовали миниэлектрошок — воздействие слабым электрическим током высокого напряжения, и транскраниальный электрошок, который вызывал характерные изменения деятельности ЦНС: конвульсии, ретроградную амнезию.
Применение этимизола в дозах свыше 80 мг/кг вызывало у животных коматозное состояние и смерть в 25% случаев.
При введении кетамина или апоморфина в дозах от 2 до 10 мг/ кг на фоне действия сублетальных доз этимизола (50-80 мг/кг) наблюдали значительное уменьшение вегетативных нарушений у животных, вызванных одним этимизолом в таких же дозах.
Сочетание этимизола и кетамина в дозах 50 мг/кг и 25 мг/кг соответственно, не вызывало никаких осложнений.
Применение сочетаний апоморфина в дозах от 2 до 5 мг/кг, этимизола в дозах от 10 до 50 мг/кг и стрессирующих воздействий (миниэлектрошок) на фоне апоморфиновой стереотипии вызвало у некоторых животных необратимые изменения в поведении. У таких животных в период их последующего лабораторного содержания (до 3 месяцев) отмечали высокую по отношению к другим животным агрессивность и наблюдали характерную реакцию «ужаса» при любых попытках сенсорных воздействия средней интенсивности.
У одного животного из этой группы проявления апоморфиновой стереотипии устойчиво закрепились и наблюдались вне действия этого препарата или других факторов на протяжении всего периода содержания (около 6 месяцев). Были также исследованы различные варианты сочетания физических факторов на фоне применения этимизола, кетамина и без них.
Кроме того, на фоне действия медикаментов и физических факторов у животных искусственно вызывали поведенческую реакцию (например, внутригрупповую агрессию в ответ на ноцицептивное воздействие), одновременно с этим предъявляя в контексте экспериментальной ситуации другой стимул (например, вспышки света определенной частоты).
234
психоэкология
В таком эксперименте оценивали возможность запечатлева-ния связи вызываемой реакции и контекстового (предполагали — триггерного) стимула для последующего воспроизведения агрессивной реакции при предъявлении только ключевого раздражителя. В качестве триггерного (ключевого) стимула использовали вспышки света частотой 20 Гц.
Предполагалось оценить также консолидирующее действие транскраниального электрошока в зависимости от его интенсивности и продолжительности и по возможности определить оптимум состояний (периодов) при выходе животного из шока, пригодных для эффективного запечатлевания внешней информации.
Применение миниэлектрошока для консолидации энграммы оказалось неэффективным. При последующем тестировании реакций на ключевой раздражитель у животных, подвергнутых миниэлектрошоку во время инициации поведенческой реакции в эксперименте, обнаруживали слабую моторную реакцию, которая иногда достоверно отличалась от реакции на тот же раздражитель у интактных (контрольных) животных.
В случае применения транскраниального электрошока при тестировании животных на предъявление ключевого стимула отчетливо наблюдали отдельные поведенческие реакции, которых не было в контрольной группе, однако эти реакции не являлись проявлениями агрессии и не были схожи с предполагаемо импринти-рованной реакцией.
Введение этимизола в дозах от 5 до 15 мг/кг за 5 часов и кетамина в дозах от 2 до 5 мг/кг за 6 минут, а также транскраниального электрошока в момент реализации реакции агрессии на фоне предъявления ключевого раздражителя, также не давало возможности получить при тестировании отчетливую агрессивную реакцию на ключевой раздражитель. Однако в этом случае при тестировании на ключевой раздражитель у некоторых животных наблюдали периоды выраженного беспокойства, чего никогда не было у интактных животных.
Как оказалось, для надежного запечатлевания информации необходимо соблюсти, по крайней мере, следующие условия:
1. Триггерному (ключевому) стимулу должна быть присвоена определенная семантическая значимость.
2. Информация, предъявляемая животному в момент запечатлевания, должна иметь максимальный семантический градиент (частично достигается применением электрошока).
3. Состояние животного в моментзапечатлевания должно быть
235
И. В. СМИРНОВ=s;==^===^^=._______________________________
близко к максимальному отреагированию и иметь определенную семантическую модальность (отрицательную) — семантический драйвер.
4. Ключевому стимулу к моменту его предъявления при запе-чатлевании должна быть присвоена точно та же семантическая модальность.
5. В момент запечатлевания должна быть полностью реализована именно та реакция (поведенческая программа), которая подлежит запечатлеванию.
На основе этого был построен второй этап эксперимента.
Для исследования семантической организации процедуры запечатлевания животным из экспериментальной группы за 2 часа до начала процедуры вводили внутрибрюшинно этимизол в дозе 2 мг/кг. В качестве ключевого раздражителя использовали комплекс стимулов — сочетание звукового тона 500 Гц с частотой пульсаций в 25 Гц и световых вспышек, синхронных с пульсациями (25 Гц). Такой раздражитель вызывает у интактных крыс ориентировочную реакцию при несущей частоте (т.е. частоте звукового тона) от 50 до 5000 Гц.
Стимулам присваивалась отрицательная семантическая модальность (формирование семантического драйвера) за счет сочетания их предъявлений с прогрессирующим ухудшением физического состояния животных, вызванным введением этимизола. При этом изменяли интенсивность предъявления стимулов, несущие частоты (в интервалах от 50 до 500 Гц), а также периодичность предъявления. Подобные комбинации продолжали предъявлять в течение 20 часов с момента введения этимизола.
Через 2 часа после введения этимизола животным в течение 40 мин. предъявляли звуковой тон с основной гармоникой 50 Гц, который содержал также и основные частотные характеристики ключевого стимула. Интенсивность данного раздражителя варьировали, что вызывало различные поведенческие реакции от ориентировочно-исследовательской до агрессивно-оборонительной. Интенсивность раздражителя нарастала к последней минуте. На 20 минуте животным вводили калипсол (кетамин) внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг. С 40 по 45 минуту через клипсы, прикрепленные кушам животных, подавали пачки импульсов электрического тока с частотой 50 Гц, количеством от 20 до 100 в пачке, длительностью пачки 0.2-0.3 секунды, при интервалах между пачками 0.5-1.0 сек. Импульсы использовали для получения максимального от-236
психоэколргия
реагирования, а также для вызывания у животных поведенческой реакции, подлежащей запечатлеванию — межсамцовой агрессии.
Через 30-60 сек. непрерывного предъявления электрических импульсов у животных возникала взаимная агрессия, при этом состояние животных характеризовалось признаками чрезвычайного стресса.
Импульсы тока сочетались с синхронным предъявлением ключевого стимула (звуковые тоны 500 Гц). Через те же электроды-клипсы в момент максимального проявления взаимной агрессии вызывали электроконвульсивный шоку обеих особей за счет увеличения напряжения до 200 В в течение 10 сек.
Во время шока продолжали предъявлять звуковые тоны, соответствующие ключевому стимулу, одновременно с этим подавали электрические импульсы низкого напряжения. После выхода животных из состояния шока, о чем свидетельствовало появление двигательных реакций в ответ на слабые электрические стимулы, предъявляли от 3 до 20 пачек импульсов в течение 20-60 сек, сочетавшихся с ключевым стимулом. В это время у некоторых животных наблюдали судороги. После прекращения судорог и до момента полного восстановления двигательной активности наблюдали периоды, когда предъявление ключевого стимула вызывало у животных ответную реакцию в виде ритмических сокращений отдельных групп мышц, вокализаций и пр. У одной пары в этот период была зафиксирована взаимная агрессия.
Контрольные животные были разделены на 4 группы: 1) животные, не подвергавшиеся электрошоку; 2) животные, у которых не инициировали запечатлеваемую поведенческую реакцию (меж-самцовая агрессия); 3) интактные животные; 4) животные, у которых на фоне действия медикаментов вызывали поведенческую реакцию, но не применяли остальных воздействий. Были дополнительно проведены серии экспериментов для определения роли используемых факторов.
Животные подвергались тестированию на ключевой стимул через 3, 8, 12, 24 часа после проведения процедуры, а также и в последующие дни по следующей схеме: предъявление стимула из звукового диапазона 50-60 Гц, перерыв 10 мин, предъявление стимула с частотой 500 Гц, перерыв 10 мин, предъявление стимула из диапазона 100-1000 Гц. Стимулы подавались пачками по 40 мсек непрерывно в течение 3 мин. За один сеанс тестирования проходили проверку все группы животных, участвовавших в эксперименте.
237
И.В. СМИРНОВ
В результате тестирований выявили:
1. При наблюдении за интактными животными не обнаруживается никаких реакций на предъявлявшиеся стимулы, за исключением ориентировочно-исследовательской реакции, в течение всего периода тестирований.
2. Животные, прошедшие процедуру с варьируемыми факторами (группы 1,2,4) проявляли запечатленную реакцию на ключевой стимул различно, что зависело от мощности использованных параметров варьируемых факторов в процедуре. Результаты, полученные за весь период тестирования, обрабатывали до получения процентного соотношения числа положительных реакций к общему числу тестирований.
3. Животные основной группы, к которым применяли все описанные выше факторы в установленной последовательности, при каждом тестировании по приведенной схеме давали положительные результаты.
Оказалось, что активное воспроизведение запечатленной поведенческой реакции наступает спустя некоторое время (около 8 часов), а период, предшествующий этому, является латентным периодом реакции.
Тестирование по 4 раза в сутки показало хорошую воспроизводимость агрессивно-оборонительной реакции на предъявление ключевого стимулауживотныхосновной экспериментальной группы.
Вместе с тем выявили суточную цикличность в воспроизведении реакции. Так, во все дни тестирования, ночью с 2 до 4 часов, наблюдали ослабление реакций и их воспроизводимости, необходимость увеличения времени предъявления стимула для инициации реакции до 1-2 мин, увеличение необходимого для инициации числа посылок стимула, вялость в поведении.
На третьи сутки после процедуры реакции также воспроизводились стабильно. К концу третьих суток, наряду с агрессией, вызываемой предъявлением ключевого стимула, у животных развивалось спонтанное агрессивное поведение, которое наблюдали в промежутках между тестированиями во много раз чаще, чем у интактных животных. Однако воспроизводимость реакции при тестированиях сохранялась.
В последующие сутки наблюдали усиление спонтанных проявлений реакции. Так, на четвертые сутки среднее количество спонтанных реакций у каждой пары достигало 4-5 в час, на пятые 5-6 в час. В течение последующих наблюдений регистрировали пример-238
психоэкология
но такую же частоту спонтанной активности.
В основной группе животных с 3-их по 5-е сутки отмечено стирание четкой границы между реакциями на ключевой стимул и спонтанными реакциями, отмечали нарастание подавленности животных после воспроизведения реакции на ключевой стимул: после однократной инициации животные могли в течение 2-6 мин не изменять характерной для агрессивно-оборонительного поведения позы. На шестые сутки апостериорная вероятность воспроизведения реакции на ключевой стимул падала на 25%. В дальнейшем она сохранялась на уровне от 15 до 25% в различное время суток, с тенденцией к снижению в ночное время.
Для дальнейшего наблюдения за изменениями поведения животные основной группы содержались в лабораторных условиях в течение 30 суток после процедуры. В этот период отмечали плавный рост количества спонтанных агрессивных реакций. При спонтанных агрессиях у животных не наблюдали состояний подавленности, характерных для реакций, вызванных действием ключевого стимула. Выявлено, что стрессирование животных с помощью какого-либо неспецифического раздражителя улучшает воспроизведение агрессивно-оборонительной реакции в ответ на предъявление ключевого стимула до 100%. При этом животных подвергали стрессирующему воздействию за 10-15 мин перед тестированием. Также отмечено, что животные легче вступали в конфликт в ответ на предъявление ключевого стимула, если они не испытывали жажды или голода. Частота спонтанной агрессии не имела корреляции с условиями содержания животных.
Можно сделать вывод, что для группы животных, прошедших полнофакторую процедуру, была получена возможность искусственно управлять поведением в течение 6 суток с момента импринтинга поведенческой реакции (программы) за счет инициации запрограммированной девиантной реакции путем подачи ключевого акустического стимула, семантически связанного с этой реакцией, что проявлялось независимо от текущей мотивации отдельных особей и зоосоциальных отношений в популяции.
Было получено стойкое изменение стереотипа поведения у особей данной популяции, приведшее к доминированию агрессивного типа поведения каждой особи, возникновению постоянно сохраняющегося большого числа спонтанных агрессий, не связанных с какими-либо внешними раздражителями или депривацией витальных потребностей, а вызванных запечатлеванием «парадоксальной» поведенческой программы.
239
И.В. СМИРНОВ s
Угасание вызванных реакций на ключевой стимул и возрастание количества спонтанных реакций свидетельствуют о запечатле-вании поведенческой программы и проникновении ее в семантические структуры памяти, ответственные за реализацию поведения, характерного для данного вида животных.
Угасание вызванной реакции в период с 5 на 6 сутки возможно вызвано недостаточностью семантического содержания примененного ключевого стимула, что делало его неспецифичным для данного вида животных.
На основании этих фактов мы решили, что принципиально можно получить в экспериментальных условиях на взрослых особях эффект быстрого встраивания внешней информации в структуру опыта отдельной особи, не прибегая при этом к методам обучения. Эффект проявляется при однократном действии встраиваемой информации за счет специально подобранной совокупности и последовательности воздействий (семантический драйвер). Животные из контрольных групп, находившиеся во время процедуры в аналогичной для возможной реализации обучения ситуации, при тестировании не дали положительных результатов. Однако методологически сам эффект, как и односеансовое обучение и импринтинг (запечатлевание) следует отнести к общему классу явлений, связанных с особенностями функционирования памяти биообъектов в среде семантически организованных физических воздействий.
Необходимо выделить ведущие факторы, способствующие проявлению эффекта встраивания программы, заключающиеся в обеспечении в этот момент такого состояния биобъекта, при котором имеется максимальное эмоциональное отреагирование в ответ на какой-либо внешний или связанный семантически с элементами программы стимул, что обеспечивает приоритет информации, поступающей в данный момент. Импринтируемые стимулы подаются на пике эмоциональной реакции, ключевые стимулы подаются в контексте, параллельно импринтируемым, но независимо от них.
Шоковое воздействие в момент ввода информации, например, в виде транскраниального электрошока, следующего сразу после завершения биообъектом действий, составляющих импринти-руемую поведенческую программу, осуществляемое на фоне эмоционального резонанса, сдздает условия для получения информационного градиента более высокого значения, как в момент шока, так и на фазе выхода из шокового состояния в отношении
240
психоэкология
информации, составляющей компоненты поведенческой программы, импринтируемой биообъекту.
Наличествует сенситивный период, который проявляется в течение 30-80 сек после электрошока (маркером для его выявления может служить прекращение спонтанной судорожной активности и восстановление двигательных функций). Сенситивный период является самой важной особенностью этого вида шокового воздействия. Этот период характерен тем, что при возникновении эмоционального резонанса и предъявлении ключевого стимула наблюдается воспроизведение поведенческой программы или компонентов состояния, сопутствовавшего ее загрузке.
Необходимо создание семантического драйвера, т.е. искусственное сопряжение значения информации, составляющей поведенческую программу, с наиболее значимыми для биообъекта мотивациями. Если для воспроизведения поведенческой программы предполагается наличие ключевого стимула, то последний должен быть введен в структуру семантического драйвера.
Необходимым является существование диссоциации психической деятельности биообъекта в момент эмоционального резонанса и загрузки поведенческой программы, обеспечивающее разрушение стереотипов поведения и контроля их реализации. Диссоциированное состояние может вызываться диссоциативными анестетиками общего действия класса кетамина.
Применение фармакологического препарата—«неспецифического коннектора» — этимизола, также может способствовать встраиванию информации при однократном ее предъявлении. Но, на наш взгляд, в силу существования противоречий в литературе и отсутствия в наших экспериментах предполагаемых эффектов неспецифической коннекции (хотя, может быть, наши опыты были недостаточно прецизионными для этого), эффективность этимизола как фактора коннекции должна быть исследована более тщательно.
Это — основные, полученные в результате экспериментального моделирования на животных, соображения, которые были использованы при разработке методов интенсивной психокоррекции, приемлемых для клинической практики.
В1984 году, после многих лет исследований на животных, один из моих коллег вызвался добровольцем в процедуру интенсивной психокоррекции. Эту процедуру сконструировали, исходя из собственных концептуальных моделей и экспериментов на животных.
На основании использования литературных данных, собственных концептуальных построений и результатов психозондирова-9 Смирнов И в 241
И.В. СМИРНОВ
ния стадия семантического драйвера была организована так, что на фоне условно-интактного состояния пациента начинали воздействие семантической информацией минимальной значимости, постепенно увеличивая эту значимость и достигая ее максимума уже на пике диссолюции сознания:
При этом инициировались эквивалентные этой информации психосемантические матрицы, что во врех случаях сопровождалось резко выраженными эмоциональными реакциями с сильными вегетативным и речедвигательным возбуждением. Все процедуры такого рода удалось проводить так, что наиболее индивидуально значимые воздействия попадали в зону ретроградной амнезии (в ином случае, как мы полагали, осознавание этой информации могло бы причинить вред больному).
Используемая при этом информация не обязательно должна быть организована в связный сценарий и может быть предъявлена дискретно через акустические и визуальные каналы. Дополнительно в качестве контекстового воздействия отрицательной модальности применяли ольфакторные (запахи путресцинов, кадаверинов, птомаинов), тактильные (ощущение холода в неудобной позе при фиксации положения тела) и другие раздражители. Во время той фазы семантического драйвера, которая приходится на условно-интактное состояние, информацию вводят как на осознаваемом уровне (кондиционирующее воздействие), так и на неосознаваемом (потенцирующее воздействие). Все информационные блоки готовят заранее (это требует очень больших трудозатрат и времени) и предъявляют в автоматическом режиме, но руководитель процедуры в любой момент может в режиме «demand» перейти на прямой аудиовизуальный контакт с пациентом в режиме наркопсихотерапии, для чего с.н.с. С.В.Квасовец разработал специальное устройство.
242
психоэкология
Семантический ключ (триггер) организовывали всегда индивидуально, используя либо специально семантизированный простой физический стимул (аналогично световым мельканиям при АСФС-II), либо привычный для пациента семантический комплекс, например, запах и другие атрибуты алкоголя. Этот ключ организовывали так, чтобы информационные посылки в начале его предъявления могли быть ассоциированы с пиком отрицательного воздействия в семантическом драйвере, а в конце логически сопрягались бы с началом положительной фазы.
Что касается использования этимизола, то, учитывая отсутствие в наших экспериментах сколько-нибудь заметного его действия как «неспецифического коннектора», мы ограничились его применением только в нескольких процедурах как мощного дыхательного аналептика.
Семантический шок, включающий воздействие электроконвульсивными импульсами на фоне полной диссолюции сознания, тотальной миорелаксации (тубокурарин) и искусственной вентиляции легких, применяли в единичных случаях и только при наличии психиатрических показаний. В большинстве процедур эту стадию организовывали индивидуально, используя в качестве консолидатора энграммы другие факторы.
Что касается позитивной стадии, то ее начинали на фоне действия ключа и при этом заменяли в автоперфузоре кетамин на этомидат (раденаркон). Информация, предъявляемая в этой стадии, также была организована индивидуально и сопрягалась по смыслу с конкурентными по отношению к патологическим психосемантическими матрицами.
Все процедуры такого рода осуществляли в условиях реанимационного обеспечения при участии большого количества специалистов. Первая процедура была проведена на добровольце (один из моих сотрудников), имеющем незначительную нервную патологию. Больные и их родственники были ознакомлены с сутью метода и давали письменное согласие с планом психокоррекционных мероприятий.
Поскольку каждая процедура готовится индивидуально для каждого пациента, особенно в части конструирования основного действующего фактора — семантической сложно связанной информации разной модальности и значимости, приведем несколько примеров психокоррекции больных, чтобы охарактеризовать различные варианты процедуры — от полнофакторного до включающего лишь единичные компоненты действующих факторов.
И.В. СМИРНОВ____________________________________________
Больной М., русский, холост, 22 года.
Образование незаконченное высшее. Был обследован в период стационарного лечения в Клинике психиатрии им.С.С.Корсакова, диагноз хронический алкоголизм II стадии у психопатической личности.
Результаты психозондирования показали наличие двух АЛЛИ — первый связан с алкогольной зависимостью, второй — с гедонистическими тенденциями.
В ходе подготовки процедуры интенсивной психокоррекции для определения индивидуальных доз препаратов и оптимальных градиентов интенсивности и модальности действующих семантических факторов, а также для дополнительной психодиагностики была проведена процедура кетаминового растормаживания. При этом особое внимание обращали на состояние сердечно-сосудистой системы больного при помощи кардиокомпьютера в процессе процедуры растормаживания. Проводили также суточный холтеровский мониторинг ЭКГ.
При подготовке основной процедуры для организации индивидуально-значимой зрительной информации были использованы фотографии из семейного альбома больного, его собственные рисунки, фотографии квартиры и близких больного; точно также для организации значимой акустической информации были использованы магнитофонные записи фрагментов любимых музыкальных произведений больного, фрагменты записи бесед с больным и его близкими, и сложные лингвистические построения, созданные нашими специалистами.
В соответствии с планом процедуры первый ее этап включал импринтинг аверсии к алкоголю и имплантацию реконструированной шкалы ценностей, второй—импринтинг положительного объекта аутоидентификации с созданием сверхзадачи в форме мотивации достижения цели — быть адекватным своей профессиональной деятельности (пациентбыл студентом мединститута).
Визуальная и акустическая информация логически соответствовала этапам процедуры (например, осознаваемое предъявление изображения бутылки с водкой и неосознаваемое — могилы с крестом) в режиме наложения проекции двух слайдов одновременно с согласованным по содержанию акустическим воздействием.
Ольфакторное воздействие — на первом этапе через носогубную маску подавали аэрозоль кадаверина (трупный запах) и хлорофоса (который больной употреблял ранее при токсикоманичес-244
психоэкология
ких эксцессах), а также испарения спирта попеременно. Затем при имплантации положительного профессионально-ориентированного объекта аутоидентификации — предъявляли аэрозоль для освежения воздуха, запах которого больной постоянно ощущал ранее в помещениях, где с ним проводили диагностические исследования и где формировались положительные установки на необходимость начала новой жизни и успешность лечения.
Проприоцептивное воздействие — во время первого этапа на фоне аверсивных стимулов — миниэлектрошок через электроды в области правого предплечья. Во время положительной стадии включен электроплед, на котором лежал больной в прохладном помещении в течение всей процедуры.
В нарушение плана по медицинским показаниям этимизол был отменен. Процедура проводилась с использованием только одного препарата — кеталара, скорость введения микродоз которого меняли от 2,0 до 10,0 мг/мин с помощью автоматического перфузора через внутривенный катетер.
Через 40 мин после завершения процедуры интенсивной психокоррекции попытка представления больным ситуации, связанной с принятием спиртного, кончилась обмороком. Через неделю после процедуры больной пережил эмоционально насыщенное сновидение, в котором с трудом избегал приема спиртного напитка. Утром после сновидения больной обратился с жалобами на боль в сердце, однако объективных подтверждений нарушения сердечной деятельности не выявили. Этот факт также можно интерпретировать как свидетельство эффективности импринтинга аверсии к алкоголю. В течение нескольких суток больной демонстрирует выраженные изменения состояния в сторону его улучшения: уверен в себе, отмечаются положительные сдвиги по результатам психологических тестов, при психозондировании было обнаружено нивелирование АЛЛИ в психосемантическом профиле, что свидетельствует об отсутствии доминирующих аффективных образований, связанных с патологической мотивацией. По результатам теста MMPI выработано по 7, т.е. по шкалам депрессии и психастении. Обращает внимание резкое изменение профиля оценочных шкал: уменьшение по шкале F и увеличение по шкале К, свидетельствующие о том, что больной в значительно меньшей степени нуждается в психологической помощи, что субъективная оценка собственных проблем и конфликтов стала менее драматичной. Все это указывает на то, что в результате процедуры произошло значительное уменьшение тревожно-деп-
245
И.В. СМИРНОВ __________________________________________
рессивных тенденций, повышение самооценки и ослабление чувства неполноценности.
Результаты тестирования опросником 16PF выявили, что значения по всем основным шкалам находятся в пределах средних, отмечается увеличение по фактору Q1 (радикализм), а также некоторое увеличение по фактору М (воображение), выраженное по сравнению с первым обследованием, в котором этот фактор был значительно снижен. Относительные изменения профиля выражают оптимистическое отношение больного к своему будущему, увлеченность, наличие планов на будущее, т.е. раскрытие перед ним социальной перспективы.
При психиатрическом обследовании заметен выраженный контраст манеры и содержания высказываний больного по сравнению с периодом до лечения.
Из клинического заключения следует, что после психокоррекции больной активен: занят чтением, изучением английского языка, работает физически. Объективные показатели состояния больного позволяют рекомендовать продолжение обучения в институте, дают основания для предположения о стойкой и длительной ремиссии.
Больной В., русский, холост, 32 года. Образование среднее. Был обследован амбулаторно в 1 ММИ им. И.М. Сеченова, диагноз: логоневроз.
Неоднократно, но безуспешно лечился по поводу логоневро-за. Перед процедурой больной тщательно обследован. По результатам психологического обследования проявляет достаточную активность, имеет высокую самооценку, выраженную тенденцию к соперничеству и доминированию. Поведению свойственна последовательность и целенаправленность, снижен контроль за побуждениями. Многократное психозондирование позволило выявить аффективное образование в неосознаваемой сфере, свидетельствующее о наличии выраженной психотравмы в детском возрасте. Удалось вербально характеризовать АЛЛ И и определить семантическое поле аффекта.
В соответствии с планом процедуры первый ее этап был нацелен на имплантацию уверенности в способности самостоятельно справиться с речевым дефектом. Визуальная и акустическая информация были организованы согласно индивидуальным особенностям больного и психокоррекционной задаче. На первом этапе процедуры для создания семантического драйвера и импланта-246
психоэкология
ции аверсии к заиканию применяли миниэлектрошок через электроды, наложенные на область гортани, а также звуковой стрессор силой 120 Дб. Во время процедуры проводили полный конт -роль функционального состояния. Анализ динамики зрительных вызванных потенциалов мозга на световую вспышку показал, что в условно-интактном состоянии вызванный ответ состоит из первичной негативной волны с латентным периодом 66 мсек (N1) и ряда негативных волн с латентным периодом 190 мсек (N2) и 360 мсек (N3). На фоне предъявления семантической субъективно значимой информации отрицательной модальности в структуре ВП сохраняются как ранние, так и поздние компоненты, однако поздние негативные волны значительно увеличены по амплитуде, а также появляется поздняя позитивная волна Р430. Отмеченные изменения поздних компонентов ВП усиливаются по мере нарастания субъективной значимости предъявляемой информации. При развитии измененного состояния сознания ВП характеризуются незначительным уменьшением латентного периода первичной негативной волны (N1=55 мсек), одновременно происходит значительное изменение поздних компонентов ВП (сокращение ЛП N3 с 360 до 310 мсек), что следует рассматривать как феномен облегчения проведения возбуждения в ЦНС. На 7-8 минуте ИСС еще более сокращается латентность первичной негативной волны (N1 = 30 мсек), кроме того, возникает положительный компонент Р430, аналогичный тому, какой наблюдался в условно-интактном состоянии при предъявлении высоко значимой эмоциональной информации. Эти результаты позволяют предположить, что наличие поздних компонентов ВП (Р430) дает возможность оценить уровень активации неспецифических структур ЦНС, вызванной семантически значимой информацией. При развитии сна (после введения 15 мг зтомидата) происходит резкое изменение структуры ВП, и в конечном счете — распад ВП. В дальнейшем, при пробуждении и восстановлении операторской деятельности, происходит реорганизация структуры ВП и приближение по форме к вызванному ответу в условно-интактном состоянии.
Результаты кардиокомпьютерного обследования в ходе процедуры, а также суточная запись ЭКГ характеризовались преходящими функциональными изменениями. После процедуры профиль личности поданным MMPI не изменился, но имелись изменения по некоторым шкалам. Изменился характер речи: появление быстрой речи и отсутствие заикания при эмоциональных вербальных контактах. Заикание возможно в случаях спокойной и замед-
247
И. В. СМИРНОВ________ _
ленной речи, хотя у больного появилось субъективное ощущение контролируемости своей речи, тем не менее дефект полностью не устранен, что можно объяснить недостаточно эффективным семантическим воздействием. Изменения ЭЭГ принципиально схожи с таковыми у предыдущего больного, что с точки зрения анализа механизмов, обеспечивающих эффективность действия проведенной процедуры, представляет особый интерес. Так, по результатам клинического ЭЭГ-обследования после процедуры снизился тонус сосудов коры головного мозга, увеличился альфа-индекс и снизилась частота альфа-ритма. Одновременно произошло усиление тета-ритма. У некоторых больных этот ритм не угашается при стимуляции ритмическим светом, а у больного В. при световой ритмической стимуляции и гипервентиляции тета-ритм усиливается. Отмеченные сдвиги свидетельствуют об определенной перестройке функциональных взаимоотношений коры и подкорковых образований: на фоне некоторого снижения активации коры резко усиливается активность гипоталамо-гипофизар-ных структур. Известно, что гипоталамус и структуры гиппокам-пового круга связаны с мотивацией, эмоциями, памятью. Поэтому полученные результаты можно расценивать как свидетельство пррисходящего переструктурирования хранящихся поведенческих программ и перестройки эмоционально- смысловых факторов, регулирующих поведение.
Больная Н., русская, 32 года, не замужем, образование среднее специальное, диагноз: Астено-ипохондрический синдром. Психопатическое развитие личности истерического круга (история болезни в Клинике им.С.С.Корсакова).
В результате психиатрического обследования отмечено, что больная полностью ориентирована в месте, времени и собственной личности. Речь правильная, соответствует уровню воспитания и образования, в разговоре подробна и недоверчива, постоянно говорит о значимых для нее событиях жизни и о своем соматическом состоянии. Продуктивной психопатологической симптоматики психотического уровня выявить не удается. Настроение, по словам больной, снижено. Формально критична к своему состоянию и высказывает установку на лечение.
Была проведена процедура амитал-кофеинового растормаживания, в течение которой регистрировали ЭЭГ и другие физиологические параметры. В условно-интактном состоянии анализ ЭЭГ показал, что основные ритмы коры больших полушарий угнетены в умеренной степени, выявлена легкая межполушарная асиммет-248
психоэкология
рия со снижением амплитуды потенциалов тета- и дельта-волн слева после первого внутривенного введения. После повторного в/в введения развился типичный для барбитуратов фон активности и двигательные артефакты, до окончания процедуры характер ЭЭГ-активности не изменился, несмотря на полное восстановление психического статуса.
Больная Т., русская, 45 лет, вдова, образование среднее, диагноз: хронический алкоголизм II ст. Выраженный абстинентный синдром (история болезни в Клинике им. С.С.Корсакова).
При психиатрическом обследовании отмечается, что больная в отделении придерживается формально правильного поведения, бесконфликтна, пассивна в общении с окружающими. Предъявляет жалобы на плохой сон, неприятное чувство беспокойства, сниженное настроение, раздражительность, непреодолимое влечение к алкоголю, в своих «грехах» винит себя саму, считает, что «больше этого не повторится, надо только помочь». Лицо одутловатое, маскообразное, с выражением грусти и скорби. Во время беседы непоседлива, тревожна. При разговоре о ее недуге начинает плакать. Расстройств психики психотического уровня не выявлено. В ходе обследования больной была назначена диагностическая процедура растормаживания. Процедуру проводили при введении строго контролируемых микродоз калипсола. Во время процедуры проводили запись ЭЭГ и других параметров. В условно-интактном состоянии биопотенциалы ЭЭГ диффузно угнетены, наблюдается некоторая ирритация, после введения калипсола отмечено усиление тета-активности во всех отведениях. При восстановлении сознания биоэлектрическая активность вернулась к виду, имевшему место в условно-интактном состоянии.
При рассмотрении результатов анализа ЭЭГ по многим процедурам видно, что инициация ИСС с помощью медленного введения микродоз калипсола является более целесообразной, нежели с помощью амитала и кофеина, в силу быстрого возвращения состояния ЦНС к исходному уровню. Следует отметить, что возникающая при введении калипсола активация гипоталамо-гиппокампальных структур, свидетельством которой служит усиление тета-ритма в ЭЭГ, сохраняется после окончания процедуры только при условии наличия консолидирующего фактора.
Больной В., 35 лет, образование неполное среднее, холост, диагноз: хронический алкоголизм II ст. Абстинентный синдром.
По поводу алкоголизма лечится повторно. Основные признаки второй стадии алкоголизма сложились примерно 7 лет назад.
249
И. В. СМИРНОВ ________ _
Соматически всегда был здоров. В 16 лет перенес легкую черепно-мозговую травму. До 25 лет страдал энурезом. Психотические эпизоды в анамнезе отрицает. Лечился от алкоголизма в стационаре АЗЛК и в последующем — амбулаторно. Длительных ремиссий не было, возобновлял пьянство сразу после прекращения лечения. При поступлении предъявлял жалобы на плохой сон по ночам, снижение аппетита, подавленность. Длительное время предметом беспокойства больного служили нарушения в сексуальной сфере: снижение адекватных эрекций, преждевременная эякуляция и оргазм при попытке полового сношения. Последние 3 года половой жизнью не живет.
При психологическом обследовании отмечается недостоверный профиль личности по данным MMPI за счет преувеличения больным тяжести своего состояния. Наибольшие показатели по клиническим шкалам — 7 и 8. Выраженные пики по 2 и 4 шкалам, подъем по 0 шкале свидетельствуют о дисгармоничности лихости больного, сочетании в его характере прямо противоположных ’ тенденций: экстравертированности, импульсивности в поведении, что характерно для личности больных алкоголизмом, и депрессивно-тревожных черт, что связано с наличием у больного дефекта в сексуальной сфере, который является причиной замкнутости больного в некоторых вопросах. Профиль 16PF показывает недостаточный контроль своего поведения и настроения, настороженность и фрустрируемость (снижение по шкале С и подъем по шкалам LnQ4).
Больному проводили психозондирование и подтвердили высокую индивидуальную значимость алкогольной и сексуально-семейной тематики, что проявилось в соответствующих АЛЛИ.
Основную лечебную процедуру проводили по разработанному плану, включающему применение физического консолидатора на стадии семантического ключа — транскраниального электрошока с последующим развитием редуцированного (из-за инфузии миорелаксанта) судорожного приступа. На стадии имплантации положительной информации использовали индивидуально-значимую информацию из сексуальной сферы, также выявленную с помощью психозондирования.
Как и в случае с больным М., проводили комплексное физиологическое наблюдение за состоянием больного в ходе процедуры интенсивной психокоррекции. Динамика показателей ЭЭГ после проведения транскраниального электрошока характеризовалась постепенным восстановлением функций мозга. Проведенное 250
психоэкология
через некоторое время после процедуры повторное обследование с помощью опросников MMPI и PF16 продемонстрировало отсутствие значительных изменений в профиле личности больного. Можно отметить лишь увеличение по шкале 3 и снижение по шкале 8 ММР1, а также возрастание показателей по шкале F и снижение по шкале К. Эти изменения говорят о большой зависимости больного от мнения окружающих, о стремлении к опеке.
В психическом состоянии больного произошли следующие изменения: он стал значительно более спокойным, уравновешенным, восстановился достаточный по длительности и глубине сон. Стал значительно активнее в отделении, много времени проводил в беседах с больными и персоналом. Излагал всем свои планы относительно будущей жизни без пьянства. Вместе с тем, при разговоре с лечащим врачом больной становился тревожным, высказывал сомнения в успешности проведенного лечения, особенно в сфере восстановления потенции. Требовал постоянного подтверждения успешное! и проведенного лечения, назначения дополнительных процедур и лекарств. В отношении алкоголизации категорически высказывался за дальнейшее постоянное воздержание. Не допускал мысли о возобновлении пьянства, настроен на создание семьи, продолжение работы на прежнем месте.
С момента выписки в течение 5 лет наблюдения полностью воздерживался от употребления спиртных напитков.
В приведенном фрагменте мы показали возможность создания множества вариантов индивидуально ориентированных процедур интенсивной психокоррекции, дающих высокий терапевтический эффект. Невзирая на все трудности и дороговизну такого подхода, в этом направлении работают различные исследовательские группы, как в нашей стране, так и за рубежом. Отметим для примера работу А.Я.Гриненко и др. (1988) по комплексному исследованию механизмов коррекции устойчивого патологического состояния зависимости от алкоголя, в которой использовали принци • пы и метод лечения, очень близкие описанным нами в 1987 г.
Все эти методы основаны на возможности ввода-вывода семантической информации «сквозь» сознание при его диссолюции во время медикаментозных и других ИСС.
Однако в соответствии с нашими концептуальными моделями должны существовать способы реализовать такой ввод-вывод и при полном сознании — минуя его.
Как вывести информацию, как получить сведения о психичес-
251
И. В. СМИРНОВ =в__^===в==^==
кой деятельности, минуя сознание, — любезный читатель уяснил из четвертой главы.
Как ввести информацию, не разрушая и не отключая сознание, но минуя его?
Из всех возможных подходов практическое значение имеют только те, которые используют сенсорные регистры через акустический и визуальный каналы восприятия. Конечно, существуют малоизученные возможности воздействия, основанные на семантической модуляции ультразвука при его прямом действии на мозг, феномене «радиозвука», прямом действии сильных магнитных импульсов, мало воспроизводимых явлениях телепатии и др. Я много экспериментировал в этой области и пришел к выводу, что такие воздействия либо небезопасны, либо ненадежны. Поэтому не буду описывать эти возможности.
Итак, рассмотрим визуальные способы.
Все слышали про «25 кадр». Чтобы движущееся изображение в кинематографе не было смазанным или скачущим, необходимо прокручивать киноленту при съемке и воспроизведении с минимальной частотой 24 кадра в секунду. Только тогда мы воспринимаем мелькающие последовательные кадры как слитное движущееся изображение. Если добавить 25 кадр, который представляет собой фотографию с рекламой жареной кукурузы, то мы не будем осознавать этой рекламы при просмотре фильма. Однако известным доказательством того, что мы эту рекламу воспринимаем и что она действует, является статистически достоверное повышение покупаемости жареной кукурузы после просмотра такого фильма.
Этот феномен хорошо изучен в 40-50 г.г. прошлого века и близок по механизму к обратному маскированию.
Обратное маскирование заключается в том, что при тахистос-копическом (очень быстром) предъявлении информации осознается только последнее изображение. Так, если на кинескопе компьютера показать слово на 16 миллисекунд, а затем на этом же месте показать ряд цифр на те же 16 миллисекунд, мы осознаем только цифры и будем уверены, что ничего больше не видели. Однако, если цифры не показывать, мы совершенно свободно осознаем, прочтем замаскированное слово. Циклограмма такого предъявления представлена выше при описании процедуры психозон дирован ия.
Существуют варианты обратного маскирования, а также некоторые другие способы неосознаваемого предъявления, основан-252
_____________________________________ психоэкология ные, например, на парафовеальном восприятии и др. Эти способы нетехнологичны.
Технология предъявления стимульной информации в виде слов или фраз для психозондирования кратко уже описана. А как предъявлять образную видеоинформацию?
Точно так же, используя обратное маскирование. Именно это происходит в аудиовидеокардиопроцедуре, которую мы используем как для психозондирования, так и для психокоррекции. Конечно, требования к программно-аппаратным средствам повышаются. Но при этом предъявляются фрагментированные изображения, не составляющие движущейся последовательности (не эквивалентные кинофильму).
Психоэкология занимается проблемой обеспечения ввода и обработки визуальной графической информации в режиме реального времени. Это опирается на ряд базовых положений, имеющих отношение к таким технологическим и естественнонаучным сферам, как разработка и внедрение аппаратных средств обработки видеоизображения, прикладные программные средства д ля обеспечения машинной графики, нейрофизиология процесса зрительного восприятия, теория процесса распознавания образов, теория информационных семантических систем и психосемантика.
В рамках, интересующих психоэкологию, мой коллега доц.И.-К.Нежданов правомерно рассматривает только те подходы, которые относятся непосредственно к обработке видеоизображения, причем видеоизображения, предназначенного к выводу на растровый дисплей. Как указывается в ряде работ (Greenberg, Marcus,1982; Deken, Stewart, 1985), векторные дисплеи имеют ряд существенных преимуществ. Мы конструируем изображения для растрового дисплея ввиду большей распространенности последних как в быту, так и на производстве.
Большинство интерактивных графических дисплеев построено на основе технологии электронно-лучевой трубки:
253
И.В. СМИРНОВ
Два режима, в которых можно строить изображения на экране. В векторном дисплее (слева) электронный луч непрерывно пробегает расстояние между двумя точками на экране, порождая отрезок, называемый вектором. В растровом дисплее телевизионного типа (справа) электронный луч высвечивает регулярную картину растра горизонтальных строк развертки, при этом, чтобы получилось изображение, интенсивность луча возрастает в пикселях, ближайших к прямым линиям.
254
психоэкология
Электронный луч в электронно-лучевой трубке попадает на экран, покрытый слоем люминофора. Поскольку свет излучается люминофором лишь в течение нескольких миллисекунд, необходимо часто возобновлять все изображение — обычно 30 в 1” и чаще). Воспроизведение изображения осуществляется на основе его цифрового представления, которое содержится в блоке памяти (буфер регенерации).
Векторная графика обладает рядом преимуществ: при ее использовании представление дисплейных примитивов требует мало памяти; сами примитивы четко изображаются и оператор может непрерывно менять изображение в реальном времени. Главным недостатком векторной графики является то, что с ее помощью нельзя изобразить сплошные области: как двумерные, так и трехмерные объекты должны быть представлены в виде «проволочных» каркасов. Более того, если на экране окажется чересчур много примитивов и они не будут успевать обновляться за время, отведенное на один цикл регенерации, то частота циклов снизится и изображение начнет мерцать.
В растровом дисплее луч отклоняется не в соответствии с контурами вычерчиваемого рисунка, но, как и в бытовом телевизоре, вычерчивает регулярный растр. Управлять можно только интенсивностью луча, что как раз и используется в реализации алгоритма диспарантного ввода. В цветном дисплее осуществляется индивидуальное управление интенсивностями трех лучей: для красного, зеленого и синего цветов. Каждый луч возбуждает свою соответствующую точку люминофора в триаде из красной, зеленой и синей точек для каждого пикселя. Примитивы в растровых дисплеях генерируются путем подсвечивания пикселей, ближайших к прямой линии, кривой или границе, заданной конечными точками примитива. Заполнение сплошных областей производится путем подсвечивания всех внутренних пикселей. Поскольку растровые дисплеи имеют фиксированную систему отклонения, они проще и дешевле, в силу чего получили столь широкое распространение. С другой стороны, растровые дисплеи требуют намного большей емкости памяти для буфера регенерации, в котором должны теперь запоминаться значения интенсивности или цвета, требующие как минимум один бит на каждый пиксель на экране (буфер кадров или битовая карта).
Линии и ребра вычерчиваются векторным дисплеем почти таким же способом, каким чертежник пользуется при работе с ли-
255
И.В. СМИРНОВ
нейкой. В отличие от этого растровый дисплей основан на элект-ронной аналогии пуантилизма. При использовании такого метода дискретной выборки могут оказаться заметными отдельные пиксели и, кроме того, примитивы, не являющиеся горизонтальными или вертикальными прямыми, будут иметь неровные, ступенчатые края. Этот эффект, который иногда называют лестничным эффектом или «зазубренностью», является разновидностью общей проблемы наложения частот, возникающей при обработке сигналов. Его можно свести к минимуму двумя путями: во-первых, увеличить разрешающую способность дисплея, во-вторых, изменить интенсивность пикселей, лежащих на границе, чтобы сделать линию или ребро нерезкими. Последнее представляется наиболее интересным, т.к. алгоритмически и программно такой подход имеет аналогию в реализации диспаоантного ввода видеоизображения. когда приходится решать задачи программирования отдельных пикселей, в зависимости от интенсивности луча в близ лежащих пикселях. В дальнейшем, при рассмотрении психо- и нейрофизиологии восприятия образа, это решение будет обосновано, исходя из особенностей строения и функционирования зрительного анализатора.
Существует еще один способ избежать лестничного эффекта (Andries Van Dam, 1984) — это метод фазирования пикселей. При этом подходе каждый пиксел может быть слегка смещен путем сдвига на четверть, половину или три четверти диаметра в горизонтальном или вертикальном направлении. Размер пикселя тоже может корректироваться, чтобы помочь заполнить разрывы.
Что касается базовых подходов программирования событий на экране дисплея с учетом формирования обратной связи, можно остановиться на рассмотрении проблемы синхронизации и взаимозависимости выполнения ряда задач в управляющей системе (в данном случае процессор компьютера). Задачей программных средств в широком понимании является приведение состояния дисплея в соответствие с некоим модельным состоянием, при котором реально протекающий процесс будет сопровождаться преобразованием пикселей, соседствующих с занятыми в формировании осознаваемого видеоизображения, таким образом, что интенсивность электронного луча для каждого преобразуемого пикселя диктуется интенсивностью луча в соседней точке, причем все преобразования определяются характеристиками маскируемого видеоизображения.
Отметим ряд особенностей зрительного анализатора, с учетом 256
психоэкология
которых разработан алгоритм диспарантного ввода. Это характеристики, определяющие нейрофизиологические особенности зрительного анализатора человека.
Острота зрения. Способность глаза воспринимать мелкие детали предметов на большом расстоянии или различать две точки, видимые под минимальным углом, т.е. на минимальном расстоянии друг от друга, определяет остроту зрения. Наименьший угол зрения, под которым глаз может различать две точки, равен одной минуте. Эта величина угла зрения принята за интернациональную единицу остроты зрения. Остроту зрения, при которой глаз может различать две точки с угловым расстоянием 1’, принято считать нормальной и равной 1,0 (единице).
При угле зрения 1 ’ величина изображения на сетчатке равна 0.0045 мм. т.е. 4,5 мкм. Но диаметр тела колбочки тоже равен 0,002-0,0045 мм. Этим соответствием подтверждается мнение о том, что для раздельного ощущения двух точек необходимо такое раздражение светоощущающих рецепторов (колбочек), чтобы два таких элемента были разделены хотя бы одним элементом, на который не падает луч света.
Самая высокая острота зрения обеспечивается только областью центральной зоны сетчатки, по обе стороны от центральной ямки (фовеолы) она быстро снижается и уже на расстоянии более 10° от центральной ямки желтого пятна равна всего 0,2. Такое распределение нормальной остроты зрения в центре и на периферии сетчатки имеет большое значение для клинической практики, в диагностике многих заболеваний. Особенности парафо-веал ьного восприятия иногда используют при неосознаваемых видеовоздействиях.
Разрешающая способность глаза, а следовательно, в известной мере и острота зрения, зависят не только от его нормального строения, но и от ряда других условий:
флюктуации света,
количества квантов, попадающих на светочувствительную часть сетчатки,
клинической рефракции — положения заднего главного фокуса оптической системы глаза в состоянии покоя аккомодации по отношению к сетчатке,
сферической аберрации — искажения изображения, отображаемого на сетчатке, возникающего за счет неравности фокусного расстояния для разных участков сетчатки глаза — центральная часть, через которую проходит оптическая ось, имеет большее
257
И. В. СМИРНОВ
фокусное расстояние, чем более периферические части, хроматической аберрации — эффект боле© сильного преломления света с короткой длиной волны, чем длинноволнового,
дифракции и ряда других.
Например, разрешающая способность глаза выше при попадании на сетчатку 10-15 квантов (фотонов) и частоте мельканий света до 4 периодов в секунду. Самая низкая разрешающая способность глаза соответствует 3-5 квантам, 7-9 периодам, а критическая -1-2 квантам и частоте 30 периодов в секунду.
Следует особо отметить, что отчетливое восприятие глазом предмета зависит не только от характеристики света, — оно слагается из безусловнорефлекторных двигательных актов глаза. Одним из них является дрейф, на который затрачиваются секунды, вторым — тремор с периодом в десятые доли секунды и третьим — скачки (саккады) до 20“ продолжительностью в сотые доли секунды.
Зрительное восприятие невозможно при неизменности освещения (отсутствии мельканий) и неподвижности глаз (отсутствие дрейфа, тремора и скачков), так как в этом случае исчезают импульсы с сетчатки в подкорковые и корковые зрительные центры.
На самом деле это не аксиома. Если воздействовать электрическими импульсами на кожу в области височной артерии, возникают фосфены — хорошо воспринимаемые цветовые мелькания.
Особо необходимо отметить явление бинокулярной диспарантности.
Стереоэффект возникает по той причине, что глаза рассматривают зрительный объект под несколько разными углами, их зрительные оси пересекаются в некоторой точке обозреваемой сцены. Глаза как бы фиксируют эту точку, т.е. проекция этой точки попадает в центр сетчатки каждого глаза. Тогда любая соседняя точка в поле зрения будет проецироваться на сетчатку на некотором удалении от ее центра. В общем случае на двух сетчатках это расстояние различно. Разность этих расстояний (диспарантность) будет меняться при изменении удаленности данной точки пространства относительно фиксируемой точки:
258
психоэкология
Таким образом, стереопсис можно понимать как задачу декодирования информации об удаленности, скрытой в значениях бинокулярной диспарантности. Формально можно было бы реализовать программно алгоритм стереопсиса. Сначала на одном сетчаточном изображении должен быть выбран некоторый участок. Такой же участок должен быть затем идентифицирован на другом изображении. После этого должны быть измерены местоположения этих участков. По разности между измеренными координатами положения вычисляется расстояние до исходного участка обозреваемой сцены.
Два последних шага действительно могут быть легко выполнены средствами тригонометрии. Однако два первых шага — иные. Для выполнения этих шагов требуется, чтобы в каждом глазу были найдены проекции одной и той же точки на обозреваемой реальной сцене. Можно считать, что группа рядом расположенных фоторецепторов в одном глазу видит в направлении линии взора некоторый участок поверхности предмета. Теперь нужно идентифицировать те фоторецепторы другого глаза, которые видят тот же участок поверхности. Из-за наличия бинокулярной диспарантности эта группа фоторецепторов будет расположена не на том месте относительно центра сетчатки, что первая.
Именно в этом состоит трудность задачи. Для наблюдателя обозреваемая сцена — это совокупность поверхностей, которые кажутся хорошо различимыми, поскольку принадлежат к объектам разной формы, расположенным в определенном пространственном отношении друг к другу. Однако на входе зрительной системы имеется всего лишь массив исходных значений интенсивности света, измеряемой от точки к точке. Мозг не может сопоставлять друг с другом два таких распределения интенсивности света, полученные с двух глаз. Данные из области физиологии и психофизики говорят против того, что этот процесс выполняется в зрительной системе. Нужно учесть, что один и тот же участок поверхности вовсе не обязательно будет отражать одинаковое количество света и в тот и в другой глаз. Кроме того, что еще важнее, может случиться, что различные участки протяженной поверхности будут иметь и одинаковую яркость.
Цветовое зрение, подобно остроте зрения, является функцией колбочкового аппарата, и, следовательно, в основном зависит от состояния макулярной области сетчатки. Нормальное формирование цветового зрения зависит от интенсивности света.
Доказано, что свет распространяется волнами различной дли-
259
И.В.СМИРНОВ________________________________________
ны, измеряемой обычно в нанометрах (нм). Участок видимого гла-зом спектра лежит между лучами с длинами волн от 393 до 759 им. Этот видимый спектр можно разделить на участки с различной цветностью. Лучи света с большой длиной волны вызывают ощущение красного, с малой длиной — синего и фиолетового цветов. Длины волн в промежутке между ними вызывают ощущение оранжевого, желтого, зеленого и голубого цветов.
Очень редко можно видеть монохроматический свет, т.е. свет, состоящий из волн одинаковой длины. Почти всегда видимый свет имеет сложный спектральный состав. Дневной свет обычно называют белым. Белый свет включает весь видимый солнечный спектр.
По отношению к световым явлениям все тела природы делятся на светящиеся (т.е. излучающие свет) и несветящиеся. Интенсивность и спектральный состав (т.е. длины волн) излучаемого света зависят от температуры и химического состава накаленных тел.
Несветящиеся тела не излучают света, но отражают падающий на них от световых источников свет или пропускают его через себя. В зависимости от этого все тела делятся на прозрачные и непрозрачные.
Цвет непрозрачного тела определяется длиной тех световых волн, которые от него отражаются, а прозрачного — длиной волн света, проходящего сквозь него, после того как часть его была отражена или поглощена этим телом.
Все цвета природы делятся на ахроматические (белые, черные и все промежуточные между ними серые) и хроматические (все остальные). Хроматические цвета отличаются друг от друга по трем основным признакам: цветовому тону, светлоте и насыщенности.
Цветовой тон — это основное качество каждого хроматического цвета, признак, позволяющий отнести данный цвет по сходству к тому или иному цвету спектра (ахроматические цвета цветового тона не имеют). Глаз человека может различать до 180 цветовых тонов.
Светлота или яркость цвета характеризуется степенью его близости к белому. Яркость — это субъективное наиболее простое ощущение интенсивности Света, доходящего до глаза. Человеческий глаз может отличать до 600 градаций каждого цветового тона по его светлоте, яркости.
Насыщенность хроматического цвета — это степень его отличия от ахроматического такой же светлоты. Это как бы «густота» 260
психоэкология
основного цветового тона и различных примесей к нему. Человеческий глаз может отличать приблизительно 10 градаций различной насыщенности цветовых тонов.
Если перемножить число различимых градаций цветовых тонов, светлоты и насыщенности хроматических цветов (180 600 Ю = 1080000), то оказалось бы, что глаз человека может различать более миллиона цветовых оттенков. В действительности по многим причинам этого нет — глаз человека различает около 13000 цветовых оттенков.
Зрительный анализатор человека обладает синтетической способностью, она заключается в оптическом смешении цветов. Это проявляется, например, тем, что сложный дневной свет ощущается как белый. Оптическое смешение цветов вызывается одновременным возбуждением глаза разными цветами и вместо нескольких составляющих цветов получается один результирующий.
Светоощущение. Эта функция органа зрения является наиболее ранней в филогенезе и характеризуется способностью воспринимать световые раздражения с помощью фоторецепторов и проводящих путей. Почти все живое чувствительно к свету. У простейших представителей животного мида зрительная функция ограничивается лишь ощущением света, падающего на покровы их тела. Там имеются клетки, специально приспособленные в качестве чувствительных к свету рецепторов. Специализированные органы зрения развились из чувствительных к свету клеток. Наши глаза не самые сложные и не самые высокоорганизованные, хотя человеческий мозг является наиболее совершенным в известном нам животном мире.
В сетчатке животных, ведущих дневной образ жизни, имеются преимущественно колбочки, а «ночных» живых существ — преимущественно палочки, поэтому принято считать, что зрение человека и животных является двойственным. Колбочковая система служит аппаратом дневного зрения, палочковая — ночного или сумеречного. Дневная острота зрения и цветоощущение являются функциями центрального зрения, светоощущение — периферического; это объясняется характерной локализацией колбочек и палочек. Функция светоощущения обусловлена обратимой фотохимической реакцией (распад молекул родопсина на свету и их восстановление в темноте), которая происходит быстро на свету и медленнее в темноте.
Доказано, что только очень узкий диапазон волн возбуждает глаз и дает изображение и ощущение цвета. Рецепторы сетчатки
261
И.В. СМИРНОВ-может стимулировать один квант света. Однако ощущение света возможно под воздействием 5-8 квантов. Отдельные рецепторы сетчатки превышают по чувствительности любые световые детекторы, однако только около 10% света (квантов, фотонов) достигают сетчатки. Остальная энергия теряется в структурах глаза — в роговице, влаге, хрусталике, стекловидном теле.
Не доказаны какие бы то ни было отличия и собенности свето-ощущения и зрительного восприятия у людей в состоянии молитвенного экстаза или у психически больных со зрительными галлюцинациями. Общепринято, что это им только кажется.
Светоощущение характеризуется порогом раздражения (восприятие минимального светового потока) и порогом различения (различение минимальной разницы в освещении). Предельная величина порога зрительного раздражения для света с длиной волны 500 нм составляет 510-18 кал/с на 1 см2.
Фотопическое зрение, являющееся результатом деятельности колбочек, осуществляется при внешней освещенности окружающих нас предметов 30 лк и больше. Дневное зрение характеризуется высокой остротой зрения и цветоощущением. При освещенности от 25 до 0,3 лк глаз переходит от фотопического к мезопическому зрению, когда функционируют и колбочки, и палочки.
Освещенность, равная 0.3-0.1 лк. обусловливает мезопичес-кое зрение, т.е. функционирование преимущественно палочек. Наконец, при освещенности ниже 0,01 лк возможно лишь ското-пическое зрение благодаря исключительно работе палочек.
Второй особенностью сумеречного зрения является изменение светлоты (яркости) цветов. При резком понижении освещенности не только не воспринимаются цветовой тон и насыщенность цветов, но изменяется и их светлота. Днем наиболее светлым кажется зеленовато-желтый цвет (556 нм), пои сумеречном освещении — зеленый (510 нм). Это явление носит название феномена Пуркинье. «Теплые» цветовые тона (красный, оранжевый, желтый) в сумерках кажутся более темными, а «холодные» (голубые, синие, зеленые) — более светлыми. При пониженной освещенности дольше всего воспринимаются синий, сине-зеленый, желтый и пурпурномалиновый цвета.
Третья особенность сумеречного зрения — это периферический характер. Вследствие выпадения функции колбочек, обеспечивающих центральное зрение, центральная ямка желтого пятна почти не реагирует на слабый свет и в условиях сумерек вос-262
психоэкология
приятие внешнего мира осуществляется с помощью периферического зрения. Место наибольшей чувствительности периферической сетчатки к свету и восприятию световых проблесков находится в 10?-12’ от центра.
Для представления о таких освещенностях следует вспомнить, что при полнолунии освещенность равна 0,25 лк.
Наиболее интересной и всесторонне важной для человека является четвертая особенность сумеречного зрения — световая и темновая адаптация.
Световая адаптация, т.е. приспособление органа зрения к более высокой освещенности, обычно протекает очень быстро. В ней выделяют две фазы: одна (нервная) продолжительностью 0,05 с и вторая (фотохимическая) — до 60 с. При переходе от темноты к яркому освещению любой интенсивности весь процесс приспособления длится около минуты. Чем ярче свет, тем больше времени требуется для световой адаптации.
Темновая адаптация глаза есть приспособление органа зрения к работе в условиях пониженного освещения. Адаптация колбочек завершается в пределах 7 мин, а палочек — в течение приблизительно часа. Существует тесная связь между фотохимией зрительного пурпура (родопсина) и изменяющейся чувствительностью палочкового аппарата глаз, т.е. интенсивность ощущения в принципе связана с количеством родопсина>«обесцвечиваемо-го» под воздействием света. Если перед исследованием темновой адаптации сделать яркий засвет глаза, например, предложить смотреть на ярко освещенную белую поверхность 10-20 мин, то в сетчатке произойдет значительное изменение молекул зрительного пурпура, и чувствительность глаза к свету будет ничтожной (фотостресс). После перехода к полной темноте чувствительность к свету начнет весьма быстро расти. Способность глаза восстанавливать чувствительность к свету измеряют с помощью специальных приборов — адаптометров. Максимум чувствительности глаза к свету достигается в течение приблизительно 1 — 2 ч. повышаясь по сравнению с первоначальной в 5000 — 10000 раз и более. Нейронная сеть сетчатки выглядит так:
263
И.В. СМИРНОВ
У человека слой рецепторов в сетчатке состоит приблизительно из 120 млн. палочек и 6 млн. колбочек, отличающихся друг от друга по характерным гистологическим признакам. Для колбочек плотность рецепторов (число рецепторов на единицу площади) максимальна в центре фовеолы (центральной ямки), тогда как для палочек наибольшая плотность отмечается в парафовеальной области. В середине фовеа диаметр наружных сегментов колбочек составляет примерно 2 мкм, что соответствует угловому размеру примерно 0,4 мин. Как приятно, что хоть что-то в живой системе можно рассчитать более-менее точно!
С помощью синаптических контактов сигналы передаются с рецепторов на биполярные и горизонтальные клетки. Обработка 264
психоэкология
сигнала в этих клетках отражается в медленных изменениях их мембранных потенциалов. От биполярных клеток сигналы передаются на мембрану дендритов ганглиозных клеток. Эта передача осуществляется либо непосредственно, либо через амакриновые клетки. Как правило, на вход каждой ганглиозной клетки поступают сигналы от нескольких биполярных клеток. Чем дальше находится ганглиозная клетка к периферии сетчатки, тем больше степень конвергенции сигналов. Степень конвергенции сигналов зависит от величины дендритного дерева данной ганглиозной клетки и от пространственного распределения вблизи нее горизонтальных и амакриновых клеток.
Поскольку один фоторецептор обычно соединен с несколькими биполярными клетками, а те в свою очередь образуют контакты с несколькими ганглиозными клетками, то степень дивергенции сигналов в нейронной сети сетчатки также оказывается значительной. Однако если сравнить число рецепторов и ганглиозных клеток (в сетчатке человека эти числа примерно составляют 125 млн. и соответственно 1 млн.), то окажется, что втакой сети более выражена конвергенция сигналов.
Контрастная чувствительность к различным пространственным частотам различна для цветных и черно-белых изображений. Пик контрастной чувствительности черно-белого зрения приходится на пространственную частоту около 5 периодов на градус. Это соответствует высоте единичного знака на алфавитно-цифровом видеодисплее при нормальной дистанции наблюдения. Максимум чувствительности цветового зрения сдвинут к низким пространственным частотам, а на высоких частотах чувствительность понижается, причем к желто-синим изображениям в большей степени, чем к красно-зеленым. Поэтому в цвете легче воспринимаются более крупные объекты, например, экран в целом, чем такие мелкие объекты, как знаки.
Если пространственная частота решетки достаточно высока, ее элементы еще могут восприниматься, но их цвет может быть уже не виден. Например, частая |эешетка из желтых и синих полос неотличима от черно-белой решетки. Черно-белый канал передает высокочастотную пространственную информацию о краях, тонких контурах и мелких деталях, в то время как цвет несет высокочастотную информацию о глобальных аспектах формы. Поэтому цвета легче оценивать на больших поверхностях, а черный и белый — на малых.
При отыскивании какого-либо объекта первым делом необхо-
265
И.В. СМИРНОВ _______________________________
димо найти его глобальные характеристики, такие, как общая форма или цвет. Например, выделенное цветом на экране слово с угловым размером 2° соответствует пространственной частоте 0.25 периодов на градус, к которой каналы цвета вполне чувствительны. Цветовое кодирование целых слов хорошо отвечает механизму зрительного восприятия, но кодирование более мелких объектов, как, например, отдельных знаков на экране, которые соответствуют пространственной частоте около 2 периодов на градус, малоэффективно. Таким образом, цветом лучше кодировать целые слова или фон, чем символы или отдельные знаки. Необходимо отметить также, что большие по величине экраны обеспечивают более высокое качество цвета, поскольку позволяют получить обширные цветовые поверхности. Возможно, что для алфавитно-цифровых дисплеев наилучший компромисс состоит в использовании для цветового кодирования фона, а знакам можно придать высококонтрастный черный или белый цвет.
Поскольку периферия сетчатки не чувствительна к зеленому и красному цветам, их не следует применять на краях дисплея. Желтый и синий — хорошие периферийные цвета, хотя синий не следует использовать для знаков и тонких линий. Пары дополнительных цветов, например, красный-зеленый и синий-желтый представляют собой хорошие комбинации для цветного дисплея.
Для мелких деталей не следует применять насыщенный синий цвет, поскольку центральная часть фовеа относительно нечувствительна к этому цвету. По этой же причине синий цвет предпочитаем для фона. Наконец, поскольку синий цвет хорошо воспринимается на периферии зрительного поля, он является хорошим цветом для фона на большой площади.
В процедурах психозондирования мы используем зеленый и красный цвета.
При таком маскировании изображений следует учитывать психофизиологию высшего уровня (как, например, в тесте Stroop).
Информация, поступающая на вход зрительной системы, представляется двумерным массивом чисел. Каждое число в массиве — это результат измерения количества света, отражаемого от отдельных точек поверхностей трехмерных объектов и попадающего в глаз или телекамеру. В глазу измерение интенсивности света выполняют фоторецепторы (палочки и колбочки), общее число которых превышает 100 миллионов.
Следует отметить, что практически все отмеченные характеристики зрительного анализатора так или иначе определяют вос-266
психоэкология
приятие маскируемого видеоизображения на неосознаваемом уровне. Важно также иметь в виду, что указанные характеристики плавают во времени и зависят от функционального состояния.
Все изложенное выше предполагает возможность расчета линейного размера строки растровой развертки и содержащегося в ней количества пикселей при угле обзора в Г. Такой расчет позволит определить целесообразность преобразования графического изображения путем модификации параметров отдельных дискретных единиц — пикселей растровой развертки.
Для наблюдателя, находящегося на расстоянии X от монитора, при угле обзора в 1 ° линейный размер строки будет исчисляться по формуле:
А = рХ/10800 = 2,9 10 4Х » ЗХ 10 4,
где А — линейный размер строки при угле зрения в Г в той же размерности, что и X—расстояние от глаза до поверхности экрана.
Расчет по формуле для наблюдателя, находящегося на расстоянии 2 м от изображения (среднее расстояние, устанавливаемое для просмотра программ телевизионного приемника) показывает, что линейный размер для угла обзора в Г будет равен 0,6 мм.
Монитор с диагональю 15’° и разрешающей способностью 1024x768 содержит в строке растровой развертки 1024 пикселя, что составляет на 1 мм приблизительно 3,7 дискретных единицы. Таким образом, для человека, смотрящего на экран такого монитора под углом зрения в Г с расстояния в 2 м в линейном размере изображения для такого угла будет содержаться приблизительно 2,2 пикселя, что вполне достаточно для распознавания двух дискрет для остроты зрения, равной единице.
Линейный размер строки для угла обзора в Г с расстояния в 2 м составит 36 мм. В этот размер укладываются приблизительно 80 пикселей, что при определенных условиях распределения перепадов светлоты будет соответствовать пространственной частоте 40 цикл/градус! Это очень высокая пространственная частота, несущая полезную информацию. Причем дискретные элементы, как было показано выше, распознаются раздельно органом зрения даже на достаточном удалении и при небольшом размере растра.
Из сказанного ясно, что даже неподвижный глаз способен к дискретному восприятию пикселей, однако в естественных условиях наблюдается блуждание взора по изображению и ряд других движений (саккады, дрейфы, тремор), при этом отображение дискретов на сетчатке мигрирует, и в области фовеолы с течением
267
И. В. СМИРНОВ
времени возбуждаются различные фоторецепторы, всегда неиз> менно распознающие дискретность изображения.
Фильтрация высокочастотных компонент на участках перепада яркости между пикселями, происходящая на уровне наружных коленчатых тел, не препятствует восприятию дискретности изображения, т.к. целостный образ формируется в вышележащих отделах центральной нервной системы на основе предыдущего опыта и на основе дискретных по времени составляющих изображения, условно говоря, накладывающихся друг на друга.
Таким образом представляется возможным преобразовывать графическую информацию путем изменения параметров дискретных единиц растра развертки. Необходимо определить, об изменении каких параметров идет речь.
Исходя из теории трехкомпонентности цветовосприятия можно предположить, что преобразование пикселей должно осуществляться по трем параметрам:
Цветовой тон — признак, позволяющий отнести данный цвет по сходству к тому или иному цвету спектра (ахроматические цвета цветового тона не имеют). Глаз человека может различать до 180 цветовых тонов.
Светлота, или яркость, цвета характеризуется степенью его близости к белому. Человеческий глаз может отличать до 600 градаций каждого цветового тона по его светлоте, яркости.
Насыщенность хроматического цвета — это степень его отличия от ахроматического такой же светлоты. Человеческий глаз может отличать приблизительно 10 градаций различной насыщенности цветовых тонов.
Методика видеоввода маскированного изображения такова:
268
психоэкология
где i — выраженная в условных относительных единицах характеристика интенсивности электронного луча в пикселе за один период работы системного процессора).
Такой алгоритм с успехом может быть реализован на базе персонального компьютера, имеющего программу VIDEOMIXER, разработанную с.н.с.Е.Г.Колеватовым и с.н.с.П.Ю.Майшевым. Как видно из представленной блок-схемы, ключевым звеном является программный фильтр изменения интенсивности свечения пикселей — это программное средство, позволяющее принудительно вмешиваться в процесс формирования видеоизображения на уровне системного процессора. При этом режимы работы программы принудительно определяются характеристиками маскируемого видеосигнала.
Программным путем маскируемое изображение выравнивается по светлоте до получения изображения в виде тени-контура, подбирается перепад по светлоте между изображением и фоном таким образом, чтобы этот перепад находился на нижней границе восприятия.
Устанавливается зависимость соотношения светлоты фона и изображения.
Далее эта зависимость диктуется дискретным элементам растра маскирующего изображения, которые меняют свои параметры, но на этот раз не светлоту, а цветовой тон и насыщенность хроматического цвета (содружественно или раздельно для каждой конкретной ситуации ввода), из расчета от исходного их состояния в маскирующем изображении. При этом перепад параметров должен соответствовать нижней границе восприятия.
Предполагается, что основному маскирующему изображению отдается приоритет в анализе высшими корковыми центрами зрительного анализатора — исследуются изломы контура, участки большой кривизны, фрагменты с наибольшим количеством пространственных частот, содержащих наибольшие перепады светлоты, цветового тона, насыщенности хроматического цвета. Кроме того, исследуется сюжетная линия, что возбуждает энграммы памяти, соответствующие текущему сюжету и выводящиеся в осознаваемый режим.
При корректно подобранном режиме ввода будут восприниматься и преобразованные пиксели растра, составляющие маскированное изображение. Предполагается, что «сборка» образа так же происходит в высших корковых центрах зрительного анализатора, но на неосознаваемом уровне.
269
И.В. СМИРНОВ_________________________ _
«Сборка» образа осуществляется также за счет того, что в каждом кадре растровой развертки содержится некая доля количества информации о маскируемом изображении. Полностью эта информация проходит пути зрительного анализатора спустя некоторое время, которое необходимо для составления из долей целого.
Количественно такие доли (в %) задаются искусственным путем, так же, как и характеристики изображения (цветовой тон, светлота и насыщенность хроматического цвета).
Для удобства пользователя разработан оригинальный и удобный интерфейс, где во время обработки графического изображения в режиме реального времени указанные параметры могут подвергаться изменению.
Проверка эффективности функционирования алгоритма и программы предполагает проведение ряда экспериментальных исследований.
Экспериментальный этап работьТ призван решить ряд поставленных задач:
• возможно ли преобразование графической информации в соответствии с алгоритмом диспарантного ввода;
• осуществима ли манипуляция скрытым видеоизображением и его дешифровка программно-аппаратными средствами, которые не относятся к специально разработанным для манипуляции с изображением в рамках данного алгоритма;
• имеется ли вероятность распознавания предъявляемой скрытой информации людьми, прошедшими специальную подготовку;
• воспринимается ли скрытая видеоинформация человеком.
При проведении такого исследования Вы можете воспользоваться нашей программно-технической базой или подготовить свою. В нашей работе мы использовали следующее:
1. Программное обеспечение для обработки графической информации (ПСОГИ).
2. Преобразователь речевого спектра (ПРС), посредством ко-
торого осуществляется аудиальный ввод командной директивы на неосознаваемом уровне, с гибкой системой модификации характеристик (глубина модуляции, ширина полосы пропускания звукового сигнала). Представляет собой математический аппарат, способный видоизменять звуковой сигнал (спектральная инверсия) таким образом, что в преобразованной форме смысловое содержание его не улав
270
психоэкология
ливается сознанием, однако содержащаяся в нем информация включается в семантический тезаурус субъекта и воспринимается им, как собственная.
3. Программная среда для регистрации выбора (ПСРВ), посредством которого создается экспериментальная ситуация с необходимостью выбора испытуемым одного объекта из множества. Реализована в виде игрового интерфейса с диалоговым окном, в котором в каждый строго лимитированный промежуток времени испытуемому предлагается определиться в выборе объекта из четырех возможных, различающихся по цвету, расположению и форме.
4. Среда для предъявления стимульной информации на неосознаваемом уровне (СПСИ). Представляет собой средство, позволяющее выводить на кинескоп компьютера стимулы, имеющие вид слов, не воспринимаемых сознанием как слова, однако вызывающие ответные моторные и другие физиологические реакции, как на предъявление этих же слов, но в осознаваемом виде.
5. Устройство преобразования речевого спектра (ПРС), предназначенное для формирования намерения испытуемого в ситуации выбора, обеспечиваемой средой ПСРВ. Представляет собой компьютер, оснащенный звуковой платой, устройством для хранения и воспроизведения аудиоинформации и средой ПРС.
6. Устройство ввода и обработки графической информации в режиме реального времени (ПСОГИ). Представляет собой компьютер, оснащенный платой ввода и преобразования аналогового видеосигнала, подключенный к устройству чтения видеоизображений.
271
И.В. СМИРНОВ
.V
Голосовое предъявление в осознаваемом режиме (3)
/ и
И С(3)
ИС
(2)
(^работка
272
психоэкология
Сопоставление результатов
определение ошималыюго способа предъявления стимульной информации на неосознаваемом уровне для оценки сфер значимости _______ ____тестируемого с использованием ПСОГИ______________
На втором этапе исследования нужно провести испытания ПРС с целью выявления оптимальных режимов работы устройства, т.е. чтобы в преобразованной форме смысловое содержание семантической формы не улавливалось сознанием, однако содержащаяся в ней информация включалась бы в семантический тезаурус субъекта и воспринималась бы им, как собственная. Предполагалось, что в этом случае у испытуемого, поставленного в ситуацию выбора одного объекта из множества, что осуществлялось бы в среде ПСРВ, должно сформироваться намерение выбора, навязанное неосознаваемым вводом командной директивы.
Необходимо вести подсчет навязанных неосознаваемым вводом командной директивы (по направлению выбора, цвету и форме объекта) реализованных намерений, а так же реализованных намерений собственно испытуемого.
Мы проводили испытания на волонтерах. Выборка рандомизирована по полу и возрасту. Всего проведено 197 испытание. Каждому испытуемому предъявлялось 200 серий для выбора объекта. Достоверность неслучайного выбора оценивалась с использованием непараметрического биномиального х2.При этом менялись режимы преобразования семантической формы.
Результаты эксперимента приведены в таблице:
Глубина Средний
модуляции (н=197)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективен ввод командной директивы при глубине модуляции в процессе инверсии спектра, составляющей 25%. В этом режиме работа ПРС наиболее оптимальна.
Третий этап работы заключается в выработке реперной семан-10 Смирнов и В 273
И.В. СМИРНОВ____________________________________________
тической формы. Это достигалось путем негативного подкрепления (интенсивный звуковой сигнал) ошибочного выбора при работе в среде ПСРВ, сопровождавшегося, как правило, ремаркой «ЗРЯ!» (более подробно описано выше). В результате, при достаточном числе ошибочных действий, вырабатывалась стойкая негативная реакция на слово «ЗРЯ!», что влекло за собой отличие в реагировании при предъявлении этого слова в среде СПСИ реперных кластеров от кластеров с другим содержанием.
Выработать репер удалось у 10 испытуемых из 16. Такой результат связан с недостатком времени для устойчивой фиксации семантической формы как особо значимой, а так же недостатком средств для проведения большего количества процедур в средах ПСРВ и СПСИ.
Четвертый этап включает подготовку стимульной информации, организованной в блоки, имеющие реперное слово и ряд других слов бессмысленного содержания, используемых для контроля. Необходимо отметить, что стимульная информация готовится в двух видах: для аудиального прослушивания и для предъявления визуального, но и то и другое в неосознаваемом режиме.
На пятом этапе десять испытуемых, у которых сформировался репер (т.е, искусственно придана значимость ранее незначимому слову), а также шесть испытуемых, у которых репер не формировался, прошли по три процедуры на СР, одна из которых была организована таким образом, что реперное слово подавалось ауди-ально через каждые две минуты, другая аналогичным образом, только с визуальным предъявлением репера посредством ПСО-ГИ, а третья с предъявлением реперного слова в осознаваемом режиме (ситуация интервью-диалога).
Полученные данные сопоставлялись на предмет соответствия реакций, вызываемых стимульной информацией в той или иной форме.
Обработка данных осуществлялась по методу п-эпохового алгоритма, описанного выше.
Статистически нужно обрабатывать несколько совокупностей характеристик интегральной кинематической кривой: совокупность реакций на реперное слово, совокупность реакций на бессмысленные буквосочетания, совокупность реакций на «пустой» белый шум и совокупность реакций на паузы в диалоге.
Результаты эксперимента (расчет непараметрического биномиального х2)приведены в следующей таблице:
274
психоэкология
аудиальный ввод посредством ПРС визуальное предъявление посредством ПСОГИ аудиальное ~~ предъявление в осознаваемом виде 1
ГТ-ый алгоритм Х%9.2 Х2=3.9 f=7-'5 М
Г2-й алгоритм JL2=6.4 . X 1.2 I
|| 3-й алгоритм Х2-=0.9 | Мб-2 х2—6.6 llllll
Из таблицы видно, что СР достоверно выделяет реперную информацию из общей совокупности предъявляемой информации, по крайней мере при использовании двух из имеющихся трех вариантов п-эпохового алгоритма. При этом достоверно значимые реакции определяются при различных видах предъявления информации, что может быть использования для решения прикладных задач различного назначения.
Реализуемый режим регистрации ИС в зависимости от реперной стимуляции представлен на следующей схеме, которая отражает ход одной из тестовых процедур. График, демонстрирующий реакцию испытуемого на реперную стимуляцию, наглядно свидетельствует, что интегральная кинематическая активность человека находится в прямой зависимости от семантического характера предъявляемой стимульной информации. Следует заметить, что предполагается независимость достоверности результатов обследования на предмет выявления значимой информации от сознательно вносимых в ход испытания помех со стороны испытуемого, т.к. в этом случае значимая информация, несмотря ни на что, будет выявлена в силу использования n-эпохового алгоритма статистической обработки полученных данных:
И.В. СМИРНОВ
В результате такого исследования вы обнаружите, что:
• СР достоверно выделяет реперную информацию из общей совокупности предъявляемой информации, при использовании двух из имеющихся трех вариантов n-эпохового алгоритма;
• независимо от способа подачи субьективно-значимого сообщения (аудиально в неосознаваемом режиме, визуально в неосознаваемом режиме, аудиально в осознаваемом режиме (ситуация интервью-диалога)), оно достоверно выделяется по интегральным кинематическим показателям, даже в условиях значительной «зашумленности» сигнала;
• определены оптимальные режимы работы устройств, предназначенных для визуального ввода информации в неосознаваемом режиме;
• реакции испытуемых на реперные неосознаваемые стимулы, выработанные как с использованием устройства ввода и обработки графической информации в режиме реального времени, так и с помощью других устройств, в результате воздействия которых выработка реперной семантической структуры достоверно доказана в предыдущих экспериментальных работах, достоверно различаются.
Это однозначно указывает на то, что применение программно-аппаратного комплекса для вывода и обработки графической информации в режиме реального времени в заданных режимах приводит к формированию реакций заданного характера в ответ на предъявление неосознаваемой стимульной информации.
В экспериментально подобранных режимах видеоинформация на уровне сознания не распознается. Вероятность распознавания скрытой видеоинформации близка к нулю.
Все перечисленные экспериментальные этапы практически означают одно главное — существует техническая возможность диспарантного ввода изображения, при которой это изображение не будет осознаваться, но восприниматься будет.
Иными словами, пикселы «размазанного» по кадрам видеоленты изображения за счет специфики психофизиологии человека подвергаются «сборке» в целостный образ, хранящийся в неосознаваемых сферах психики.
Как-либо детектировать такое скрытое изображение в видеоматериалах можно только двумя путями: очень сложным экспериментом на группе волонтеров, подобно описанному выше, и программным путем.
276
психоэкология
Для желающих на нашем интернетном сайте www.psycor.ru выставлена программа VIDEOSCANER, позволяющая выявлять из любой телевизионной программы или видеоролика скрытое маскированное изображение. Ясно, что никакие другие попытки (например, покадровый просмотр ленты) не позволяют достичь это-
Я рассматриваю диспарантный способ неосознаваемой закладки видеоизображения не только как средство медицинской и психологической коррекции состояния и поведения больного человека, но и как техногенное средство массового поражения. Последнее и имеют обычно в виду под «психотронным оружием». Злоумышленник, имеющий доступ к телевидению, мог бы попытаться внушить что-нибудь народным массам, особенно в ситуации предвыборной борьбы, когда, как в нашем эксперименте, предстоит выбор из множества.
Что касается неосознаваемых воздействий через акустический канал, то некоторые из них хорошо известны в психофизиологии. К их числу можно отнести дихотический ввод, когда в одно ухо тихо подают внушаемые директивы, а в другое — громкие операторские инструкции или музыку. Однако произвольное переключение локуса внимания позволяет человеку полностью осознать внушаемую информацию и воспротивиться ей. Ничего подобного принципу обратного маскирования в акустическом диапазоне невозможно. Но, проведя многочисленные исследования в этой области, стало ясно, что возможно кодирование речи не во временной части, но в пространственной. Иначе говоря, эффективным оказалось «выворачивание наизнанку» спектра речевого сигнала. Так выглядит слово «покой», произнесенное моим голосом:
277
И.В. СМИРНОВ —
Наверху справа вы видите спектрограмму этого слова. После применения программы PS2, осуществляющей спектральную инверсию аудиосигнала, его форма и спектр будут такими:
44-го Г. w как, ЗЯ&ШМВМ.
Субъективно звучание инвертированного слова будет напоминать шум. Обратное преобразование позволяет декодировать из этого шума исходный сигнал.
Так мы получаем простейшую возможность через акустический канал что-либо внушать человеку без изменения состояния его сознания с помощью гипноза и иных ухищрений.
Поскольку существуют индивидуальные особенности акустического восприятия и, вероятно, психосемантического анализа аудиоинформации, иногда приходится подбирать режим спектральной инверсии вручную для конкретного индивидуума. Поэтому, кроме экспериментальной проверки действенности такого способа, подобно описанному выше эксперименту, я использую ряд других приемов.
Универсальным является подбор такого режима инверсии для конкретного слова и конкретного голоса, который позволяет мне распознавать это слово при повторном прослушивании «шума». Вообще в этой области, как и в работе с видеосигналом, существует колоссальное количество технологических мелочей, которые невозможно описать в Этой книге.
Наивысшим этапом экспериментальной проверки, как и в случае с видеосигналом, является статистическое доказательство вынужденного (навязанного, внушенного) поведения, например, 278
психоэкология
детерминированный выбор из множества. Делать это очень трудоемко, но иногда нужно. Удобнее и надежнее проводить такие исследования на группах людей.
Основной целью подобного исследования является изучение возможности управления функциональным состоянием и поведением группы здоровыхлюдей путем воздействия неосознаваемой суггестивной информацией, маскированной конкретным режимом спектральной инверсии. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Исследование возможности экстренно модулировать поведение группы людей.
Эта задача подразумевает немедленное, реализуемое в пределах нескольких секунд, суггестивное влияние на какой-либо поведенческий акт, осуществляемый независимо от контекста среды — выбрать что-либо из множества: (купить или не купить, — купить много или мало и т.п.).
2. Неосознаваемое создание суггестивной парадигмы с неосознаваемой ее актуализацией.
Эта задача включает возможность более длительного, в пределах десятков минут, управления поведением. Если таким путем возможно создавать суггестивную парадигму, она в течение длительного времени будет модулировать поведение группы людей в ситуациях многократного свободного выбора на фоне действия экстренной неосознаваемой посылки. Например, при задании произвольно произносить числа ожидалось статистически значимое предпочтение тех чисел, которые внушались при создании парадигмы, или, в нашей постановке эксперимента, — статистически большие совпадения «свободного» выбора экстренно внушаемого числа с числом парадигмы.
Практическое значение такой задачи означает возможность существенно влиять на поведение группы людей в экстремальной ситуации.
3. Исследование влияния неосознаваемых суггестий на субъективное состояние членов экспериментальной группы.
Эта задача имеет большое значение для фундаментальных изысканий в области неосознаваемого внушения, что обусловлено неясностью многих вопросов: сочетается ли вынужденное (внушенное) поведение с изменением состояния, не возникает ли при этом интрапсихический конфликт и мн.др.
Такая задача может быть иллюстрирована известной поговоркой: сколько ни говори «халва, халва, — во рту слаще не станет».
279
И.В. СМИРНОВ___________________________________________
Именно такая задача включает изучение возможности влиять на субъективное состояние человека неосознаваемыми факторами.
4. Исследования связи эффективности неосознаваемых суггестий и особенностей их реализации с личностными чертами.
Предполагалось, что на характер выполнения внушаемого поведения будут оказывать влияние особенности личности — циклотимия, эпитимия, шизотимия и др. (Г.И.Исаев, Е.В.Безносюк, 1990), изучалась возможность учета при практическом использовании акустической психокоррекции этнических, профессиональных, ситуационных или иных особенностей лиц, составляющих группу.
Указанные четыре задачи в групповом эксперименте были поставлены впервые в 1984 г. Учитывая полную не изученность сферы неосознаваемой модуляции памяти и поведения, я рассматривал эти задачи как первоочередные в большом ряду вопросов, стоящих перед экспериментатором, изучающим бессознател ьное.
Исходя из возможного влияния на результаты эксперимента контекстовых факторов (инструкции для испытуемых, общей обстановки проведения исследования, степени осведомленности и личного отношения экспериментатора и мн.др.), мы предпочли разместить эксперимент в неизвестных нам условиях смежных научно-исследовательских организаций и при условии полного отсутствия осознаваемых предпосылок, определяющих детерминируемый выбор из множества. Эксперимент легендировался как задание, направленное на изучение точности восприятия.
Испытуемым на неосознаваемом уровне предъявляется команда выбрать одну из цифр в интервале от 0 до 9. Время экспозиции неосознаваемого внушения выбора определенной цифры — 15 сек. Затем, в течение 5 сек, предъявляется акустическая посылка, представляющая собой смесь шума, звукового тона и очень тихого бессмысленного речеподобного сигнала. Согласно инструкции, эта посылка содержит зашумленную цифру. Испытуемый должен распознать якобы предъявляемую цифру и зафиксировать свой ответ. Далее указанная последовательность повторяется. Предполагалось, что ответ испытуемого в описанной экспериментальной ситуации должен модулироваться неосознаваемым внушением.
Всего на протяжении одной процедуры каждому испытуемому на неосознаваемом уровне предъявлялось 100 цифр, каждая по 10 раз, причем цифры чередовались в случайном порядке, определенном по таблице случайных чисел.
280
психоэкология
2. Неосознаваемое создание суггестивной парадигмы (поведенческой установки) с неосознаваемой ее актуализацией.
Перед описанной выше процедурой испытуемому несколько раз на осознаваемом уровне предъявлялась одно число — «4»; это предъявление легендировалось как тренировочная демонстрация для ознакомления испытуемых с акустическими характеристиками экспериментальной процедуры. Предполагалось, что в случае возникновения у испытуемых неосознаваемой установки на цифру «4» эта установка проявится в условиях вынужденного выбора.
3. Влияние неосознаваемой суггестии на состояние испытуемых.
До и после каждой процедуры испытуемые заполняли бланк опросника, направленного на изучения ситуативной тревожности (тест Спилбергера). В начале и в конце процедуры испытуемые в виде шумовой паузы заслушивали неосознаваемые внушения, направленные на модуляцию состояния в сторону увеличения или уменьшения напряженности и тревоги. Идентичные экспериментальные задания были записаны на разных сторонах аудиокассеты, с тем отличием, что на одной стороне суггестия была направлена на увеличение, а с другой — на уменьшение тревоги. При неоднократном проведении процедур на одном и том же контингенте стороны кассеты должны были чередоваться.
4. Связь эффективности и особенностей неосознаваемых воздействий с личностными характеристиками.
Полученные в исследовании результаты предполагалось сопоставить с данными обследования испытуемых с помощью многопрофильного личностного опросника (СМИЛ).
Поскольку интересующим нас в исследовании явлением было наличие фактов совпадения или несовпадения называемых испытуемым цифр с цифрами, задаваемыми в неосознаваемых суггестиях, то для обработки естественно было воспользоваться биномиальным критерием хи-квадрат. При полностью случайном выборе испытуемым одной цифры из десяти априорная вероятность совпадения называемой и внушаемой цифр равна 0,1. Соответственно при случайном выборе в 100 случаях количество совпадений должно незначимо отличаться от 10 (нулевая гипотеза). Однако психологическая структура эксперимента сложнее. Очевидным является тот факт, что, помимо вводимых нами суггестий, на выбор испытуемыми цифры влияет предпочитаемость ими того или иного ответа, осознанные установки, сформировавшиеся в ходе эксперимента (чаще всего — давать ответ «0», если возникли затруднения с выбором) — все это приводит к суще-
281
И.В, СМИРНОВ__________________________________________
ственной асимметрии распределения выбираемых цифр. В этом случае логично использовать многозначный биноминальный критерий, учитыддю11 *мй как количество совпадений по каждой цифре, так и частоту ее появления в ответах испытуемого.
В случае анализа результатов с точки зрения второй задачи осуществлялся расчет двузначного биномиального критерия для каждой цифры в отдельности, также с учетом частоты ее присутствия в ответах испытуемого. Поскольку число степеней свободы при двузначном критерии равно 1, то граничным значением, позволяющим отвергнуть нулевую гипотезу о случайном совпадении, является 3.841 для вероятности ошибки 0.05 и 6.635 для вероятности ошибки 0.01. На основании этих же критериев можно определить вероятность случайного выбора испытуемыми ответов (нулевая гипотеза) в совокупности по всем цифрам. В этом случае используется многозначный биномиальный критерий, число степеней свободы для 10 вариантов ответа равно 9. Граничное значение критерия хи-квадрат, позволяющее отвергнуть нулевую гипотезу — 16.919 для вероятности ошибки 0.05 и 21.666 для вероятности ошибки 0.01.
Рассчитанное апостериорное значение критерия равно 442.60.
Рассматривая полученные результаты с точки зрения поставленных в исследовании задач, можно утверждать, что выбор испытуемыми цифр в эксперименте является неслучайным и достоверно, с очень высоким уровнем значимости, зависит от неосознаваемых суггестий. Таким образом, сформулированное нами в задаче 1 предположение о возможности экстренной неосознаваемой модуляции поведения с помощью разработанных нами методов бесспорно подтверждается результатами проведенного исследования.
Гипотеза, выдвинутая в задаче 2, о возможности неосознаваемого создания поведенческой установки, которая проявляется при неосознаваемом же предъявлении связанной с ней информации, также подтверждена: статистически наибольшее количество совпадений наблюдается для цифры «4», установка на которую неосознаваемо формировалась у испытуемых в предварительных стадиях процедуры обследования. Уровень достоверности этого результата также весьма высок. При групповой обработке получены и другие результаты, также достоверные, хотя и в значительно меньшей степени. Так, значимо зависит от суггестий выбор цифр «1» и «5», а при выборе цифр «2» и «8» имеется тенденция к избеганию, т.е. для этих цифр наблюдается 282
IlbnAUJ^JIUI ИЯ
несколько меньшее количество совпадений, чем можно было бы ожидать при случайном выборе. Эти результаты, видимо, могут послужить основанием для лучшего понимания интересующих психоэкологию психофизиологических механизмов и в дальнейших исследованиях помочь в разработке более эффективных алгоритмов. Например, возможно предположение о том, что при неосознаваемом восприятии информации, обработанной по нашим алгоритмам, наиболее дифференцирующую роль в условиях навязанного выбора имеют гласные звуки, и это предположение может привести к целому ряду интересных алгоритмов.
Представленные выше данные отражают результаты групповой обработки. Анализируя распечатки обработки для каждого отдельного испытуемого и для каждой процедуры, видно, что, поскольку количество в ответах отдельных цифр меньше 50, здесь непригодно использование распределения хи-квадрат, и для оценки достоверности по отдельным цифрам следует пользоваться таблицами двузначного биномиального критерия (Рунион, 1982).
Имеется один вариант обработки, который не был описан ранее. Мы предположили, что несознаваемая суггестия может оказывать воздействие на выбор не только непосредственно следующей за ней цифры, но иметь пролонгированный характер влияния, например, модулировать выбор через один цикл предъявления, т.е. через 20 секунд. Исходя из этого, применялся вариант обработки со сдвигом, когда эталонная последовательность сравнивалась с ответами испытуемых, непосредственно следующими за данной суггестией (шаг 0) и с ответами, даваемыми через 10 и 40 секунд (шаг 1 и 2). В целом такой вариант обработки существенно новой информации не дал, хотя у некоторых испытуемых имеются достоверные результаты, полученные при сдвиге. Это дает основание для постановки вопроса об индивидуальных особенностях, связанных со временем «прохождения» информации через подсознание и оказания ею модулирующего влияния на поведение. По крайней мере пришлось учесть это явление пролонгированной модуляции при организации процедур психозондирования.
Результаты обработки отдельных испытуемых достаточно разнородны. Есть люди, вообще не давшие достоверных результатов, хотя таковых немного, а есть испытуемые, совпадение ответов с суггестиями у которых достигало 35%. Исходя из этого, весьма актуальной задачей в плане дальнейшей работы является сопоставление полученных результатов с личностными характе-
283
И.В. СМИРНОВ __________=_____________________________
ристиками испытуемых. Нам были предоставлены организацией, проводившей экспериментальные процедуры, результаты тестирования лишь 13 испытуемых с помощью варианта многопрофильного личностного опросника MMPI.
Рассмотрение этих данных сразу вызывает ряд вопросов. Так, по оценочным шкалам (L,F,K) очевидно негативное отношение испытуемых к обследованию (велико отрицательное значение индекса F-K), а ряд протоколов вообще следует признать недостоверными. Значения некоторых основных шкал свидетельствуют о том же. Например, шкала 8, с учетом добавления шкалы коррекции, у одного испытуемого выходит за рамки 120 Т, а у ряда других испытуемых превышает 100 Т. Это говорит либо о наличии в контингенте испытуемых большого числа гиперклинических случаев шизофрении, что маловероятно, либо, скорее всего, о неквалифицированном проведении обследования. Во всяком случае, от проведения обработки (задача 4) с использованием данного материала мы отказались.
Анализ результатов по задаче 3 показал отсутствие влияния неосознаваемой суггестии на состояние испытуемых (по данным опросника Спилбергера). Этот результат можно рассматривать двояко. Во-первых, можно предположить, что оценка неосознаваемых модуляций состояний с помощью опросников такого рода методически некорректна, так как имеется целый ряд осознаваемых факторов, влияющих на ответы испытуемых, особенно в ситуации неоднократного повторного тестирования с помощью одного опросника. Во-вторых, учитывая результаты личностного тестирования, можно поставить под сомнение и результаты тестирования состояния.
В целом следует отметить, что для постановки задачи 3 необходимо в качестве реперных критериев использовать не только и не столько субъективные опросники, сколько объективные физиологические методы. Впоследствии это и было сделано, например, с помощью аудиовидеокардиопроцедуры.
Такое исследование достигает двух целей. Во-первых, демонстрация принципиальной возможности использования предлагаемых методов для неосознаваемой модификации памяти и поведения. На основании представленных здесь результатов экспериментов на группах здоровых волонтеров (от 16 до 20 человек в группе) можно утверждать, что эта цель достигнута. Показана возможность как экстренной коррекции поведения (в рамках использованной экспериментальной модели), так и неосознаваемого 284
психоэкология
формирования установки, которая может быть инициирована неосознаваемым предъявлением реперной информации. Более того, уже на этой стадии возможно и практическое применение предложенных методов, при условии многократного повторения суггестий и суметом вероятностной природы информационного воздействия.
Во-вторых, получаемые результаты дают основание для реализации исследовательской программы, направленной на модификацию и улучшение алгоритмов обработки акустической информации, на постановку иных экспериментальных моделей, в большей степени приближенных к практическим задачам, наконец, на создание средств, сочетающих возможности неосознаваемой диагностики и коррекции.
Тем не менее, провести исследование возможностей использования неосознаваемой акустической психокоррекции в клинической практике в свое время было необходимо. Неясным было, каковы наиболее эффективные формы организации психокоррекционных фабул: в режиме ауто- или гетеросуггестии, императивные или нет, индивидуализированные или унифицированные и мн.др.
При проведении двойного слепого опыта для исследования эффективности набора фабул на аудиокассетах, которые были организованы с учетом всех мыслимых вариантов, но не включали индивидуально значимой информации (т.е. были унифицированными), было установлено следующее:
— лонгитюдные исследования на группе здоровых студентов с использованием фабул, суть которых не была известна экспериментатору до момента предоставления им обработанных результатов, показали, что характеристики интеллектуальной деятельности (тест Равена, устный счет, числовые ряды) и функционального состояния (тест Спилбергера) достоверно ухудшались у каждого волонтера исключительно при действии только одной фабулы из использованных 32. Эта унифицированная фабула содержала табуируемую информацию в режиме аутосуггестии;
— психологические характеристики всех волонтеров, основанные на результатах обследования личностными методиками (СМИЛ, Мультитест А.Г.Ситникова) и последующей психологической экспертизе полученных результатов показали, что волонтеры с гипертимными и возбудимыми чертами характера испытывали значительные изменения функционального состояния. Эти изменения, видимо, и привели кухудшению интеллектуальной деятель-
285
И.В. СМИРНОВ ________________________________ -
ности. Удалось установить зависимость, описывающую измене, ния реактивной тревоги испытуемых этого типа, которая была получена путем обработки ответов на опросник Спилбергера и самооценки функционального состояния. Графо-аналитический метод обработки этих результатов также позволил сделать вывод о том, что при такой диагностике изменений функционального состояния неосознаваемое суггестивное воздействие субъективно отражается испытуемым и фиксируется в осознанных изменениях состояния.
В то же время испытуемые с тревожными, шизоидными и депрессивными чертами характера, вначале активно включившиеся в эксперимент, вид я в нем возможность глубже разобраться в своих личных проблемах, непосредственно после опытов с предъявлением фабулы, содержащей табуируемую информацию в режиме аутосуггестии, под разными предлогами уклонялись от последую-* щих испытаний и не закончили экспериментальной серии.
Следовательно, среди множества по-разному организованных унифицированных фабул, не включающих индивидуально значимую информацию, наибольшей эффективностью обладают фабулы отрицательной модальности в режиме аутосуггестии.
Действительно, при многократных экспертных экспериментах было замечено, что такие фабулы вызывают заметные изменения состояния и поведения уже через 15-20 минут воздействия. Варианты фабул, включающих позитивное модулирование состояния и поведения, требовали для получения сколько-нибудь заметных изменений в 3-5 раз большего времени воздействия и, кроме того, для некоторых субъектов были малоэффективными.
Важно отметить то, что любой вариант индивидуализации как негативных, так и позитивных фабул, от включения развернутого индивидуально значимого сценария до использования хотя бы имени субъекта, приводил к резкому возрастанию эффективности и негативных, и позитивных фабул.
Использование индивидуально-ориентированных фабул в режиме аутосуггестии позволило не только создавать высокоэффективные фабулы, близкие по целевому назначению к распространяемым в США программам «подпорогового мультипрограммирования», но и достигать значительно большей, по сравнению с этими программами, психокоррекционной эффективности (по оценкам американских экспертов).
Мы накопили достаточный опыт построения суггестивных фабул для психокоррекции функционального состояния здоровых 286
психоэкология
(например, группа женщин из спортивного клуба «Метелица» во время трансантарктического лыжного перехода 1987 г.) и больных с различными психическими, психосоматическими и пограничными расстройствами, некоторый опыт психокоррекции детей-инвалидов с детским церебральным параличом и задержками умственного развития. Имеются единичные и исключительно эффективные случаи купирования инкурабельного болевого синдрома у умирающих больных; а также множество случаев высокоэффективного использования индивидуально ориентированных фабул при самых различных заболеваниях.
Приведем несколько примеров из экспертного исследования возможностей использования акустической неосознаваемой психокоррекции для лечения больных кожными болезнями. Это исследование проведено без нашего участия (проф.Н.К.Хитров, проф.Н.Н.Шинаев и др.), но с разработанной нами минимально индивидуализируемой фабулой.
Полагают, что патогенез дерматозов в самом общем виде включает фиксацию в нейронных аппаратах памяти механизмов формирования дистрофического процесса в онтогенетически родственных по происхождению тканях—нервной и кожной. Эти фиксированные механизмы патогенеза реализуют свое влияние при действии многообразных провоцирующих факторов, лишь выявляя существование данного механизма. Впоследствии через соответствующие нейрохимические системы (гистаминовые, катехоламиновые, антиопиоидные и др.) фиксированная в памяти модель патологического процесса реализуется кожными проявлениями.
Двое больных мужчин и две женщины, стационированные в Клинику кожных болезней ММА им.И.М.Сеченова, были подвергнуты всему комплексу необходимых диагностических обследований.
Воздействие суггестивной фабулы в течение 45 минут ежедневно по 15 сеансов привело к относительно однотипным изменениям состояния всех больных. При этом до 3-го сеанса существенных изменений в состоянии больных не наблюдали, с 3-го до 6-го сеансов закономерно и отчетливо улучшалось психическое состояние (исчезала мнительность, фиксированность мыслей на заболевании, возрастала коммуникабельность) и улучшался ночной сон, который в дальнейшем полностью нормализовывал-ся. С 6-го по 12-й — 15-й сеансы у всех больных наблюдали явный
287
И.В. СМИРНОВ _
позитивный эффект в отношении кожных поражений: исчезали шелушение и расчесы, нивелировалась гиперемия и отечность кожи, позднее исчезали высыпания и зуд. Никаких негативных явлений, в том числе усугубления имеющихся сопутствующих заболеваний, не наблюдали.
Больная К., 32 лет, диагноз: хроническая гангренозная пиодермия; сопутствующие заболевания: двусторонний сальпингоофо-рит, эндометриоз, нейроцеребральная дистония с гипертоническими кризами.
Больна около года. Лечилась химиотерапией по общепринятой схеме. После отмены кортикостероидов кожный процесс резко обострился. Десенсибилизирующая, общая дезинфицирующая и витаминотерапия существенных сдвигов не дали.
Начиная с 3-го сеанса психокоррекции больная засыпала после 15 минут прослушивания фабулы. Значительное улучшение проявлений кожного процесса регистрировали с 6-го сеанса. К 15-му сеансу процесс был ликвидирован.
Больной 3., 37 лет, диагноз: атопический дерматит, сопутствующие заболевания: хронический колит, тревожно-депрессивный синдром.
Диагноз установлен около года назад, но болен с раннего детства. Поступил в Клинику в связи с резким распространением патологического процесса после кишечных промываний серными водами, проявляющимися эритродермией, сухостью, шелушением, расчесами и зудом. Традиционная химиотерапия существенного эффекта не дала.
После 3 сеанса психокоррекции заметно улучшился сон и кожный статус. К 12-му сеансу полностью исчезли зуд и дистрофические изменения кожи.
Больная С., 37 лет, диагноз: очаговый нейродермит, сопутствующие заболевания: хронический персистирующий гепатит.
Нейродермит диагностирован три года назад. Традиционные методы лечения оказались неэффективными.
В условиях стационара достаточно эффективной оказалась рефлексотерапия, но высыпания сохранились и сохранился зуд.
Больная получила 14 сеансов психокоррекции. Со 2-го сеанса нормализовался сон, начиная с 7-го — уменьшилась выраженность зуда, к 12-му сеансу кожные высыпания и зуд исчезли.
288
психоэкология
Больная О., 58 лет, диагноз: хроническая экзема в стадии обострения.
После постановки диагноза 10 лет назад неоднократно лечилась без кардинального эффекта.
Комплексная терапия в стационаре позволила нивелировать процесс лишь на 50%.
После 3-го сеанса психокоррекции нормализовался сон, после 6-го сеанса тяжесть зуда снизилась на 80%, после 10-и сеансов зуд все еще сохранялся, но высыпания полностью исчезли, после 12-го сеанса зуд полностью исчез.
Из этих примеров следует, что психокоррекция, проводимая в сочетании с традиционными методами или без оных, оказывает выраженный терапевтический эффект у больных зудящими дерматозами и даже пиодермией, независимо от возраста, пола, длительности заболевания и пр.
Я до сих пор более 20 лет веду исследовательскую работу «Психомузыка», в рамках которой предпринимаю различные попытки закамуфлировать речевое сообщение, например, суггестивную фабулу, с помощью музыки. Ясно, что простое смешение речи и музыки дает песню. Семантическая нагруженность песни выше, чем музыки. Что есть музыка? Мне удобнее рассматривать ее как эмоциогенную несемантизированную информацию. Как же ее семантизировать?
Очень просто. Для этого исходный речевой сигнал после тщательной обработки вы раскладываете на форманты или фонемы. Затем выбираете полифоническую музыку (это обязательное условие), соответствующую по эмоциогенным возможностям вашей суггестивной фабуле. После этого в любом midi-редакторе заменяете отдельные ноты этой музыки на форманты вашего голоса, соблюдая при этом сохранность музыкальной композиции во времени и не слишком повреждая ее целостность. Это ручная работа, простая в принципе (я его уже изложил), но чрезвычайно кропотливая и трудоемкая. Фактически вы заново пишете музыку на заданную тему. Вы придаете ей смысл — семантизируете музыку. Образец моего творчества широко известен как диск «ОМОФОР» Института психотехнологий.
Первые алгоритмы маскирования речи были реализованы в виде схемотехнических решений, а впоследствии — в виде пакетов программ и специализированных интерфейсов ввода-вывода и обработки акустического сигнала. В результате получили
289
И.В. СМИРНОВ ______________
- ।— - !_ ———gij i а!
средства кодирования речевого сигнала, которые при помощи ряда математических операций превращали исходный речевой сигнал в подобие квазибелого шума, при прослушивании которого никогда не удавалось распознать не только смысл речевого сообщения, но и установить сам факт его наличия. Тем не менее, это было возможно при декодировании «шума», и, кроме того, при экспериментальных проверках оказалось, что головной мозг каким-то образом также способен декодировать эту информацию. При этом она, будучи воспринятой, никогда не осознавалась субъектом. Наблюдали лишь несколько исключений из этого правила: некоторые наши пациенты заявляли, что они видели и слышали во сне кого-то из нас (того, чье кодированное речевое сообщение содержалось на диске), произносившего то-то и то-то )по смыслу это совпадало с содержанием неосознаваемой фабулы).
В США давно и интенсивно разрабатываются очень похожие средства кодирования речи («Discover», 1990, Nov., р.69), которые практически применяются для психокоррекции.
Последнее, что удалось создать в этой области — «ленточная речь» (с.н.с.Е.Г.Колеватов), исследованиями которой мы сейчас занимаемся.
Технические особенности процессов кодирования в существующих методах различаются, но общим остается одно — возможность абсолютного исключения сознания субъекта в когнитивных процессах, инициируемых при восприятии кодированного сообщения.
В этой глгзе я старался предельно кратко описать основные возможности ввода семантической информации помимо участия сознания (разрушив или минуя его). Описанные алгоритмы и методы постоянно совершенствуются, разрабатываются новые. Вы можете ближе познакомиться с практической психоэкологией в нашем сайте www.psycor.ru. Есть очень большой запас идей.
Но, пользуясь техническими приемами маскирования, помните, что сутью всех методов психокоррекции является психотерапия со всеми ее сложностями.
290
психоэкология
Глава 6. ПСИХОЭКОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Сущностью всех методов психокоррекции, включая психотерапевтические методы, является искусственное изменение значимостей семантических элементов психики, например, у больного хроническим алкоголизмом отмена приоритета доминирующего патологического мотива алкоголизации и назначение приоритета мотивации достижения социально приемлемой цели.
В общем виде задачей психокоррекции является искусственное изменение внутренней картины мира, необходимое для повышения адаптивности субъекта, купирования девиантного (отклоняющегося) или делинквентного (преступного) поведения и инициирования поведения и состояния, адекватных среде и ситуации. Большинство психических и психосоматических болезней можно рассматривать как поведение, неадекватное среде и ситуации. Большинство зависимостей (наркотическую, алкогольную и др.) лучше не рассматривать как болезни.
Существующие методы психотерапии, основанные на различных формах научения, разъяснения, убеждения, внушения, подражания и пр., являются стихийно выработанными в процессе эволюции человека средствами психокоррекции.
За исключением случаев, когда психотерапевты используют измененные состояния сознания: гипноз, психофармакологическое воздействие, ритмовоздействие светом, цветом, звуком, инфразвуком, электромагнитными полями (в том числе и в режиме БОС — биологической обратной связи, например — по параметру ЭЭГ, ЧСС, дыхания (И.Г.Чугаев, Е.В. Безносюк, В.И. Пронин, А.Б. Веденяпин, 1987, 1990,1993), другие психотехнические модели, в процессе коррекции обязательно участвует сознание субъекта, которое в значительной мере редактирует вводимую информацию. Это обусловливает недостаточную эффективность методов, не использующих измененные состояния сознания (ИСС).
Те методы, которые используют ИСС, не всегда и не везде могут быть применены из-за технических сложностей. Кроме того, наиболее распространенные методы из этой группы, основанные на внушении и самовнушении, особенно использующие элементы гипноза, медитации или иных ИСС, существенно зависят в своей эффективности от существующей социальной установки. Это убедительно иллюстрируется известными из истории вспышками повышения эффективности таких методов, включая их кустарные дериваты, во время нестабильных социальных ситуаций.
291
И.В. СМИРНОВ
Сказывается также общий интеллектуальный и нравственный потенциал общества. Так, например, в 20-30 г.г. прошлого века русский гипнотизер Н.А. Орнальдо (Смирнов)утраивал известные «гипнотические эпидемии», вызывать которые в наше время столь же эффективно не удалось и Кашпировскому. Тем не менее, в существующей в России популяции тенденции к использованию различных психотехнических приемов в последнее время резко усилились. Интерес к ним носит как прямой ауто- и rejepocyrrec-тивный характер (например, телесеансы Кашпировского используют варианты широко известных суггестивных техник), так и замаскированный различными магическими представлениями (например, телесеансы Чумака по совокупности приемов являются вариантами неошаманизма).
Независимо от того, основаны такие воздействия на каких бы то ни было научных представлениях или они имеют базой примитивную магию или мифологию, эффективность их паритетна.
Это обусловлено единым механизмом действия у любых психотерапевтических приемов, основным и главным акцептором которого является суггестивная парадигма.
Суггестивная парадигма — психосемантическая система (внутренняя картина мира), которая определяет число и сущность физических реалий субъекта.
Если для одних людей существование иных миров и переселения душ реально, то для других — нет. Если в интактном состоянии человек считает реальной возможность летать по воздуху только с помощью технических средств, то в состоянии гипноза он летает уже без посредства оных. Наиболее ярко суггестивная парадигма п|1 эявляется в вере, подвиге, убежденности. Это нравственный закон внутри нас.
Все четыре кита психотерапии — внушение, убеждение, разъяснение, научение, — направлены, независимо от технических приемов, на модификацию суггестивной парадигмы. Можно достичь изменения суггестивной парадигмы и без посредства гипноза или иных ИСС. Так, например, в наше время многие люди считают реальными многочисленные эфемерные (субъективные) и трансцедентные явления от биополей и экстрасенсов до астральных взаимодействий и посмертного существования. Такая парадигма создается уже не экстренным внушением, а постепенной модификацией внутренней картины мира. Крайним проявлением такого процесса являются военный или революционный психоз.
292
психоэкология
Каждый первично социализированный человек имеет откры-тую суггестивную парадигму, что подразумевает возможность как постепенного изменения его внутренней картины мира, так и экстренного. Если первое происходит постоянно под действием внешней среды и является следствием взаимных флуктуаций вероятностной среды и адаптивного к ней поведения (эмпирический опыт), то второе мы наблюдаем лишь в случаях искусственного воздействия на здоровых людей и спонтанного импринтинга при некоторых психических нарушениях.
Редкие известные случаи, когда здоровые лица имеют закрытую суггестивную парадигму, исчерпываются наблюдениями типа «Амалу и Камалу», где не было первичной детской социализации или она была нарушена, и импринтинг ядра личности сформировался на образ не человека, а животного.
У большинства здоровых лиц практически можно как угодно изменять суггестивную парадигму. Примером тому могут служить сравнительно быстрые психические модификации целых народов под влиянием вирулентныххаризматическихлидеров типа Гитлера или Сталина, приводящие к массовым идеологическим и политическим психозам.
Отсюда нетрудно сделать вывод о весьма широких возможностях суггестии (внушения) как средства психокоррекции. Такой вывод давно и неоднократно подтвержден, в т.ч. медицинской практикой и научными экспериментами. Однако отсутствие до последнего времени эффективных инструментальных средств психокоррекции ограничивало эффективность суггестий личными особенностями, навыками и опытом того, кто их производил.
Я наблюдал двух женщин, у одной из которых в результате телесеансов Кашпировского в семидесятилетием возрасте начали расти зубы, а у другой после сеансов Чумака исчезло неизлечимое витилиго. Подобных примеров в литературе очень много — от религиозных стигматов до внушенных ожогов Протопопова. Из них лишь следует, что поскольку высшей управляющей системой в живом организме является психика, то, искусственно изменяя суггестивную парадигму, можно управлять не только комплексом верований, убеждений и представлений, но и соматическими процессами. Бессмысленно пытаться отделить аутосуггестию от гетеросуггестии, сравнивать один психотерапевтический ритуал с другим, — это несущественно. Человек — существо информационное, живущее в информационной среде обитания. Это единая система, и любые ее классификации и разделения имеют только
293
И.В. СМИРНОВ __________________________________________
дидактический характер.
Методика изменения суггестивной парадигмы может быть какой угодно: от вариантов шаманизма на эстраде до сеансов психоаналитика во врачебном кабинете. Очень эффективным способом модификации суггестивной парадигмы является молитва. Неважно, к какому богу она обращена и какими ритуалами сопровождается, лишь бы исходила из сердца.
Я не исключаю вероятность существования неизвестных современной науке реалий, которые так или иначе могут вмешиваться в процессы формирования и существования психики. Так, например, для меня реально квазирезонансное дистантное взаимодействие тождественных психосемантических матриц разных биологических особей (феномены телепатии и прямого знания). Но и в этом случае речь идет все о том же главном механизме: взаимодействии и перегруппировке психосемантических элементов, приводящих к изменению суггестивной парадигмы и модификации внутренней картины мира вплоть до выздоровления или, Напротив, умирания.
На уровне сознания субъекта суггестивная парадигма обычно отражается как вера, убежденность, устойчивое представление, мнение и пр.
На самом деле суггестивная парадигма существует вне и помимо сознания и количественно определяет сознанию число его реалий.
.Таким образом, суггестивная парадигма является одной из основных формообразующих структур личности. Сутью суггестивной парадигмы является ядро личности — образ «Я» — во всей многомерности его отношений с окружающими реалиями.
Эти отношения можно изменять искусственно. Поскольку существующие средства психокоррекции, .включая психотерапию, недостаточно эффективны, обратите особое внимание на перспективное сочетание элементов из нескольких направлений:
а) внушение в гипнозе и других ИСС;
б) обучение в диссоциированном состоянии;
в) артифициальные стабильные связи мозга;
г) односеансовое обучение;
д) электрошоковая и др. амнезия;
е) неосознаваемое предъявление информации;
ж) психо- и наркокатарзис и синтез;
з) психоанализ;
и) импринтинг.
294
психоэкология
В результате на основании логического анализа была алгоритмически разработана принципиальная основа для создания семантического драйвера — загрузчика корректирующей семантической посылки непосредственно в необходимую зону памяти.
Это позволило создать вышеописанные группы психосемантических методов, которые, будучи внешне схожи с некоторыми из известных, уже не являются стихийными, а основаны на строгой внутренней логике.
Методы могут быть реализованы на компьютерной технике и позволяют осуществлять следующее:
— одноактную модификацию психики (интенсивная психокоррекция) путем неосознаваемого ввода корректирующей программы на фоне действия соответствующих лекарственных препаратов и других медицинских факторов (применяется при лечении больных психическими, психосоматическими и пограничными заболеваниями, а также людей с алкогольной или наркотической зависимостями);
— аудиовизуальную психокоррекцию путем неосознаваемого внушения во время любой (игровой или профессиональной) деятельности человека, что используется при лечении больных, для оптимизации функционального состояния здорового человека, интенсивного обучения;
— акустическую психокоррекцию путем неосознаваемого внушения при прослушивании любой акустической информации (речи, музыки или шума радиотрансляции, фонограммы или телефона). Эта группа методов применяется при лечении больных и коррекции состояния здоровых людей (например, специально модулированными фонограммами пользовались для снижения вероятности интер- и интраперсональных конфликтов участницы трансарктической экспедиции спортклуба «Метелица» в 1987 г.).
Ясно, что помимо медицинского назначения, указанные методы могут быть использованы при решении задач социального характера. Так, средства акустической психокоррекции могут оказаться полезными при их использовании во время стихийных бедствий или при ликвидации их последствий, для снижения социальной напряженности и, соответственно, — вероятности террористических актов и массовых беспорядков. В США для близких по сути целей применяются методы воздействия на посетителей крупных супермаркетов для уменьшения числа краж. Кроме того, неосознаваемое внушение, как известно, является
295
И. В. СМИРНОВ __________________________ _
мощным модулирующим фактором, который может быть прямо использован с целью обучения человека произвольно изменять собственное функциональное состояние (аналогично программированию в гипнозе и т.п.).
Оценка разработанных методов с этической и правовой точек зрения показывает, что недостаточная информированность основной массы населения России о сути и позитивных последствиях лечебных или корригирующих манипуляций с глубинными сферами психики может препятствовать широкому открытому применению имеющихся методов. В развитых странах, напротив, работа психоаналитика является престижной, высокооплачиваемой и пользуется максимальным спросом. Можно полагать, что в ближайшем столетии и в нашей стране произойдет сдвиг общественного мнения в сторону приятия и даже активной потребности в более эффективных и гуманных методах не только психокоррекции, но и коррекции социальной. Ясно, например, что использование внушения для снижения вероятности общественных беспорядков является более гуманным средством, чем применение каких бы то ни было специальных средств и тем более силовых приемов.
Целесообразно как можно более широкое медицинское использование имеющихся методов. В части признания их необходимыми также и для социального регулирования целесообразно было бы законодательно регламентировать рамки их применения (аналогично использованию средств специального назначения), и осуществлять постоянный международный контроль (ЮНЕСКО). В январе 2000 года Комитетом по безопасности Госдумы впервые опубликован проект Закона о психоэкологии (деп.В.Н.Лопатин, Е.Г.Русалкина, И.В.Смирнов) под названием «Закон об информационно-психологической безопасности».
Методы психокоррекции могут быть классифицированы следующим образом:
Акустическая психокоррекция — основана на принципиально новых алгоритмах предварительной обработки информации, воспринимаемой человеком (музыки, шума, речевые сообщения). В этой информации неявно присутствуют корректирующие программы. Методы акустической психокоррекции могут быть использованы, во-первых, при работе с персональным компьютером, оснащенным несложным периферийным устройством для 296
психоэкология
вывода акустической информации, хранящейся на винчестере или дисках в виде требуемого набора программ психокоррекции. Корректирующее воздействие при этом может быть осуществлено без прерывания основной работы на компьютере, например, с целью снятия утомления.
Во-вторых, акустическая психокоррекция может быть осуществлена путем прослушивания фонограмм, записанных на любом носителе, которые содержат музыкальную или иную информацию, модулированную в соответствии с требуемыми задачами психокоррекции.
Кроме того, возможно встраивание модулированной фонограммы в любую акустическую программу: радиопередачу, телефонный разговор, трансляцию музыки.
Область применения методов акустической психокоррекции очень широка:
— коррекция состояния и поведения человека-оператора;
— коррекция состояния у больных психическими, психосоматическими и пограничными расстройствами;
— коррекция состояния здорового человека с целью психопрофилактики (снятие стресса, релаксация или активация);
— коррекция поведения, как отдельных людей, так и группы, например, с целью повышения работоспособности или снижения вероятности краж в магазине, а также для купирования массовых беспорядков, терактов и панических реакций;
— ускоренное и не препятствующее другой деятельности обучение человека конкретным навыкам (проект моего коллеги доц-.И.К.Нежданова «Иностранный язык — напролом»).
Экстренная психокоррекция — ряд методов, позволяющих с помощью описанных выше диагностических средств и комплекса воздействующих факторов формировать в мозге человека связь между семантическим стимулом (например, предъявлением слова с определенной частотой) и тем или иным необходимым функциональным состоянием и/или поведением. После формирования этой связи предъявление импринтированного в память стимула будет автоматически вызывать необходимое состояние. Методы экстренной психокоррекции основаны на явлении импринтинга и феномене артифициальных связей в головном мозге.
Область применения методов экстренной психокоррекции широка: от коррекции функционального состояния человека-оператора и оптимизации состояния спортсмена во время соревнований до лечения больных разного профиля.
297
И.В. СМИРНОВ-___________________________________ ~
Психообратная связь (psychofeedback, mental feedback) — ком-плекс методов, включающий сочетание диагностических и воздей-ствующих средств. Представляет собой новый класс систем, основанных на создании обратной связи по психическим (в отличие от биообратной связи) характеристикам. Эти методы позволяют автоматически изменять характер воздействующей или тестирующей информации в зависимости от психических изменений, возникающих при предъявлении этой информации. Техническая реализация этих систем требует использования компьютеров с очень высокой производительностью, тогда как другие описанные выше методы могут быть реализованы на базе персональных компьютеров. Возникающая при использовании психообратной связи замкнутая система «человек-машина» создает принципиально новые возможности для решения задач медицины, психологии и социальной практики. К числу таких систем относится наша ауд ио-видеокардиопроцедура (АВК).
Семантический резонатор — компьютерная система psychofeedback — предназначена для увеличения числа степеней свободы пользователя.
Алгоритмически Семантический резонатор построен на явлении киндлинга — зажигания или раскачки клеток головного мозга. Он использует также феномен распространяющейся депрессии, реакцию усвоения ритма, критическую частоту световых мельканий, связанные с событием вызванные потенциалы и множество других более или менее изученных проявлений деятельности головного мозга как физического субстрата психики.
Исходя из поставленной цели — создание эгалитарного мозга и за счет этого получение прямого доступа к скрытым резервам психики, — все направление работ является не только и не столько исследовательским, сколько креативным. Иначе говоря, предстоит создать то, чему аналогов и прототипов в мировой практике не было. Наиболее близкими по сути являются легенды о богах и предания о чудесах, равно как и другие мечтания человечества о духовном могуществе. Набор средств и методов при решении задач, необходимых для достижения поставленной цели, не является эклектикой или случайным поиском и определен Основными принципами.
Главными из них являются следующие.
1. Многомерная пространственно-временная организация психосемантических сфер, осуществляемая путем полисемантического сенсорного (через органы чувств) воздействия синхрон-298
психоэкологиа
но с прямым семантизированным воздействием на эквивалентные зоны мозга преимущественно импульсными магнитными полями, радиочастотами («радиозвук»), и неповреждающими ультразвуковыми излучателями.
2. Адаптивный алгоритм самонастройки перечисленных средств многомерной пространственно-временной организации психосемантических сфер, основанный на динамическом поиске максимальных значений множества отслеживаемых информационных критериев.
3. Циклограмма процедуры интенсивной психокоррекции, основанная на последовательном использовании семантического диссонацра, семантического драйвера, семантического резонанса, имеющая целью включение скрытых, дополнительных резервов психики человека.
4. Проключение дополнительных, скрытых резервов человеческой психики через семантическое поле Вселенной в существующий уровень Разума (ныне — Высший).
5. Передача высшему разуму дополнительных функций, обеспечивающих Его продвижение.
Для наукоподобия можно было бы написать сто принципов, но более не нужно. Четвертый и пятый принципы, о которых я догадываюсь, предполагают использование некоторых знаний, полученных при технической реализации Семантического резонатора и первых экспериментах с его применением.
Практическая реализация Семантического резонатора состоит в следующем.
1. Регистрируют электрофизиологические и психофизиологические параметры человека в полном объеме (в первую очередь — реакцию усвоения ритма световых семантизированных мельканий).
2. Предъявляют существующий семантический тезаурус (преимущественно в аудиовизуальной форме) с частотой, вызывающей реакцию усвоения ритма.
3. Автоматически программно-аппаратно отбирают наиболее значимые семантические сферы и стимулы (поиск метаязыковых конструктов) для возбуждения киндлинга по реакции усвоения ритма с наибольшей амплитудой и наименьшим временем затухания.
4. Каждый найденный метаязыковый конструкт тестируют по
299
И.В. СМИРНОВ
типу «запрет — разрешение» путем привязки к нему командной директивы для определения эффективности каждого выявленного конструкта как триггерного ключа поведенческой реализации.
5. Привязывают заранее подготовленную целевую командную директиву к абсолютному триггерному ключу и тем самым окончательно реализуют Семантический резонатор.
Каждый этап и компонент Семантического резонатора представляет собой отдельную сложную научно-исследовательскую работу, которую я хотел бы разместить в независимых группах ученых. Соеди нение фрагментов будет произведено только мною. Первым человеком тоже буду я.
Для реализации Семантического резонатора минимально достаточна компьютерная система с полной психообратной связью на базе компьютера класса ONYX-IV.
Существующий уровень техники позволяет реализовать Семантический резонатор в течение 3-8 лет.
Настоящий уровень развития—действующая экспериментальная мрдель (АВК-процедура) — частично реализует один из основных принципов Семантического резонатора — способ многомерной пространственно-временной организации семантических сфер человека.
В создании Семантического резонатора отчасти будут использованы существующие способы психозондирования, интенсивной психокоррекции, системы скрытого допроса, неосознаваемого внушения, явление дистантного взаимодействия высших организмов, а также создаваемые в процессе работы фрагменты, каждый из которых будет отдельным методом практического назначения.
Однако главным в сочетании этих фрагментов является принципиально новое качество, превосходящее сумму слагаемых. Это качество выражается в переходе человека на иной уровень существования, ранее приписываемый Богу.
С научной и с практической точек зрения Семантический резонатор предполагает дать возможность человеку через посредство его сознания, т.е. волевым произвольным путем, резко увеличить способности самоуправления и получить доступ к зонам памяти, обычно недоступным: блокаде болевой чувствительности, морфогенезу в ранах, восстановлению соматических поражений, мгновенному счету и экстренной глобальной памяти и мн.др.
300
психоэкология
ns:
В целом можно уверенно полагать, что использование методов психокоррекции, особенно в режиме акустического неосознаваемого внушения, может открыть новые перспективы в медицинской, педагогической и социальной практике. Последнее представляется крайне важным с точки зрения использования в экстремальных социальных ситуациях: например, для ликвидации массовой паники после природных катастроф, актов террора и стихийных бедствий.
Исходя из всего изложенного, нетрудно увидеть большие перспективы исследований в области разработок инструментальных средств анализа и коррекции семантической памяти — психотехнологий. В настоящее время в России эти разработки сдерживаются отсутствием необходимой материально-технической базы, что грозит утратой приоритета в этой области науки.
Однако уже на нынешнем уровне развития отечественного направления исследований возможны практические приложения методов, разработанных как для психозондирования, так и для психокоррекции. Для проведения работ в этом направлении необходимо привлечение большого числа разнородных специалистов. В какой-то мере это удается осуществлять при обеспечении работ в области психоэкологии путем привлечения различных творческих коллективов и отдельных исследователей, выполняющих фрагменты работ. Обязательным условием для достижения успеха в психоэкологии является понимание и принятие ее квинтэссенции. Главная идея очень проста: психоэкология и ее инструментарий — психотехнологии — порождают технические средства прямого общения с теми иррациональными сферами бытия, которые мы привыкли, веря или не веря, отождествлять с Божественным, Духовным. Мы привыкли садиться в лимузин и с его помощью увеличивать наши возможности перемещения в пространстве. Однако даже тот болт, которым привинчено колесо, является продуктом отдельного сложного технологического процесса. Психоэкология также включает в себя множество на первый взгляд разрозненных технологических процессов и предшествующих им сложнейших научных изысканий. Совокупность всего этого предоставляет конечному пользователю — человеку — возможность существенно увеличить свое духовное могущество. Это уже происходит. Молитва тогда доходит до Бога, когда она исходит из сердца, а не из лукавого ума. В АВК-процедуре мы говорим своим сердцем. Теперь не нужны посредники для общения с Богом (семантическим полем Вселенной, космическим разумом,
301
И. В. СМИРНОВ
миром идей, ноосферой — любезный читатель сам выберет подходящее для него название). АВК-процедура реализуется на аппаратно-программном комплексе класса MindReader 2.0™ в сочетании с нашей фабулой класса «ОМОФОР» на лазерном диске. Нынешние посредники — разнообразные попы — будут еще полезны и могут постепенно осваивать навыки работы с персональным компьютером.
Если зта книга вышла в свет и Вы, любезный читатель, ее все еще читаете, а я все еще телесно существую в этом мире — хочу в следующее издание включить главу о том, как напрямую общаться с Богом. Каковым Вы и Я и все Сущее на самом деле являемся.
По разным причинам я вынужден ограничить изложение кратким представлением концепций, отдельных экспериментальных фактов и клинических наблюдений, опустив множество технически важных деталей, особенно при описании технологии процедур психозондирования. Подробное описание каждого конкретного метода, например, процедуры интенсивной психокоррекции, занимает семь томов научно-исследовательского отчета. Поэтому эта книга по сути является лишь введением в Психоэкологию.
302
психоэкология
Список рекомендуемой литературы
1. АбуладзеГ.В., ИмнадзеЕД. Влияние предварительного болевого стресса на выработку условной реакции «пассивного» избегания у мышей //Журнал высшей нервной деятельности, 1984, т.34, N 6, С.1176-1177.
2. Абуладзе Г.В. Чучулашвили Н.А. Роль эмоций в холинергических механизмах формирования и воспроизведения условного рефлекса двустороннего избегания //Журнал высшей нервной деятельности, 1985, т.35, N 2, С.272-279.
3. Авсаркисян А.Н., БрогестА.Н., Маркман В.Г. и др. Центральное торможение кожно-гальванической реакции у человека //Центральные и периферические механизмы вегетативной нервной системы. Материалы 5 Всес.конф. по физиологии вегетативной нервной системы. Ереван, июль 1982. Ереван, 1985. С.8-11.
4. Адрианов О.С. Многоуровневая организация осознаваемых и неосознаваемых форм высшей нервной деятельности //Вестник АМН СССР, 1986, N 4. С.43-49.
5. АладжаловаН.А., КвасовецС.В.. Спонтанные сдвиги эмоционального состояния при монотонии и декасекундный ритм в потенциях головного мозга //Психол. журнал, 1985, т.6, N 2, С.105-113.
6. Александров И .О., Максимова Н. Е. функциональное значение колебания Р 300 //Психол. журнал, 1985, т.6, N 3, С.86-95.
7. Александровская М.М., Кругликов Р.И. Влияние электрошока на функцию памяти и глионейрональные отношения в головном мозге крыс //Доклады АН СССР, 1971, т. 197, N 5, С. 1216-1217.
8. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. М., Наука, 1976.
9. Антонов В.В. Запечатление и условный рефлекс //Журнал высшей нервной деятельности. 1971, т.21, N4, С.674-680.
10. Арзуманов Ю.Л. Выработка временных связей у человека с помощью неосознаваемых зрительных раздражителей у человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1974, т.24.
11. Ароне Е.К., Васильева В.М., Туинова А.А. Исследование электроэнцефалографических и двигательных показателей восприятия и возможности переноса информации из второй стадии в фазу быстрого сна у человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1985, т.35, N2, С.228-231.
12. Ароне Е.К., Васильева В.М. Электроэнцефалографические
303
И. В. СМИРНОВ
корреляторы различения словесных раздражителей во время естественного нового сна человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1981, т.31, N 4, С.839-842.
13. Артемьева Г.Ю. Психология субъективной семантики. М., МГУ, 1980.
14. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Сила Моя в немощи совершается. М.:2001, С.414.
15. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. М., МГУ, 1984.
16. Вадиков В.И., Смирнов В.М., Судаков К.В. Экспериментальное воспроизведение дублирующего пейсмекерного центра пищевой мотивации //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1978, N 11, С.515-517.
17. Базылевич Т.ф. Моторные вызванные потенциалы в дифференциальной психодиагностике. М., Наука, 1983, С.141.
18. Баклаев А.В., Смирнов И.В. Анестезиология и реаниматология, 2002, 2, 4-9.
19. Бакурадзе А.Н., Нанейшвили Т.Л., Бурджанадзе М.А., Но-селидзе А. Г., Арагвели Р. И., Мачавариани Г. И., Дашниани М. Г. Значение эмоционального возбуждения в механизмах пространственной краткосрочной памяти у низших обезьян //физиологический журнал СССР, 1985, т.71, N 12, С. 1473-1479.
20. Балабанова В.А. Оценка функционального состояния мозга человека при различных уровнях эмоционального напряжения //Методика и техника исследования операторской деятельности. М., 1985, С.40-46. >
21. Балонов Л.Я., Деглин В.Г., Кауфман Д.А. О синдроме хронологического регресса, возникающем при преходящем угнетении функций правых лобных отделов мозга (по данным исследований унилатеральных судорожных припадков) //функциональная асимметрия и адаптация человека. М., МНИИП, 1976, С. 138-140.
22. Батова Н.Я. Запоминание и воспроизведение позитивного и негативного материала как метод изучения эмоциональной сферы (нейропсихологический анализ) //Нейропсихологический анализ межполушарий асимметрии мозга. М., Наука, 1986, С.139-149.
23. Безносюк Е.В., Смирнов И.В. Психокорреция, психопрофилактика, психотерапия //Медицинская психология и психогигиена. М.1, МММ, 1990, С.53.
304
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
24. Безносюк Е.В., Павлов И.С. Отношение больных алкоголизмом к лечению и психотерапия на различных этапах реадапатции // Пограничные состояния в психиатрии. М., 1977.
25. Безносюк Е.В., Евстигнеев А.И., Павлов И.С. О некоторых факторах, влияющих на течение ремиссии у больных алкоголизмом при различных методах лечения //Актуальные вопросы клинической и социальной реабилитации больных алкоголизмом. М., 1979.
26. Безносюк Е.А., Стехлик М., Ордабаева Д.А., Нурмагамбе-това С.А. Опыт комплексного исследования факторов, влияющих на психическое здоровье студентов //Научные исследования и проблемы преподавания психиатрии. М., Наука, 1987.
27. Безносюк Е.В., Михайлов А.Н., СараджаеваО.П. Особенности личности и когнитивных процессов у студентов с пограничными расстройствами субклинического уровня и задачи психокоррекции. Сб.научных трудов. Методы нелекарственной терапии, диагностики и коррекции здоровья. М., ММА им.Сеченова, 1993.
28. Безносюк Е.В., Безносюк Е.Д., Веденяпин А.Б. Саморегуляция функционального состояния ЦНС методом БОС с использованием полимодальной ритмостимуляции. Сб.научных трудов. Методы нелекарственной терапии, диагностики и коррекции здоровья. М., ММА им.Сеченова, 1993.
29. Беленков Н.Ю., Шалковская Л.Н., Гонсалес Б.Л. О различиях поведенческих актов, вызываемых естественным путем и электрической стимуляцией мозга//Журнал высшей нервной деятельности. 1982, т.32, N 1, С.51-57.
30. Бережкова Л.В., Смирнов В.М. Динамика сверхмедленной ритмической активности мозга при формировании и активации артифициальных стабильных функциональных связей //Физиология человека. 1981, т.7, N 5, С.897-908.
31. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л., Медицина, 1988, С.269.
32. Бериташвили И.С. Память позвоночных животных, ее характеристика и происхождение. Тбилиси, Мецниераба, 1968, С.54.
33. Бехтерева Н.П. Биоэлектрическое выражение активации долгосрочной памяти и возможные механизмы этого процесса/ /Физиология человека. 1977, т.З, N 5, С.763-773.
34. Бехтерева Н.П., Бундзен П.В., Гоголицын Ю.Л. Мозговые коды психической деятельности. Л., Наука, 1977, С. 165.
11 Смирнов И. В.
305
И.В. СМИРНОВ
35. Бехтерева Н.П., Гоголицын Ю.Л., Кропотов Ю.Д., Медведев С.В. Нейрофизиологические механизмы мышления. Отражение мыслительной деятельности в импульсной активности нейронов. Л., Наука, 1985. С.272.
36. Бехтерева Н.П., Смирнов В.М. Мозговая организация эмоций человека//Вестник АМН СССР, 1975, N 8, С.8-19.
37. Бобров А. Е. Психофизиологические и медицинские аспекты проблемы изменения личности при алкоголизме // Психол. журнал, 1986, т.7, N 2, С.89-95.
38. Бовин Б.Г. Нейрофизиологическая модель многоальтернативного выбора //Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. М., Наука, 1985, С.55-87.
39. Богина Е.В. Влияние эмоциональной значимости стимула на параметры вызванных потенциалов у подростка с разными эмоциональными характеристиками //Новые исследования по возрастной физиологии. М., 1986, в. 1/26, С.3-5.
40. Бодунов М.В. Типы динамики пространственной синхронизации ЭЭГ и умственное напряжение //Мозг и психическая деятельность. 2 Сов.-фин.симпозиум. Москва, 14-16 апреля 1981, М., 1984, С. 137-141.
41. Бойко Е.И. Время реакции человека. М., Медицина, 1964, С.438.
42. Бородкин Ю.С. Зайцев Ю.В. Р<рль памяти в формировании устойчивого патологического состояния мозга. Возможности фармакологической коррекции //Вестник АМН СССР, 1985, N 9, С.4-9.
43. Бородкин Ю.С., Шабанов П.Д. Нейрохимические механизмы извлечения следов памяти. Л., Наука, 1986, С.150.
44. Брудный А. Бессознательные компоненты процесса понимания//Бессознательное, т.111, Тбилиси: Мецниереба, 1978, С.98-102.
45. Брунер Дж.С. Онтогенез речевых актов//Психолингвистика, М., Прогресс, 1984, С.21-50.
46. Бундзен П.В., Горгет П.М., Малинин А.В. Теоретические основания и пути реализации психофизиологического подхода к оптимизации вербальной памяти //Физиология человека, 1986, т. 12, N5, С.831-843.
47. Бухтояров А.А. Психоэкология реальности. Улан-Удэ, 2000, С.80.
48. Бушов Ю.В. Ритмический кожно-гальванический рефлекс 306
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
у человека //Проблемы нейрокибернетики. Тезисы докладов 8 Всес.конф. по нейрокибернетике. Ростов-на-Дону, 1983, С.142.
49. Вальдман А.В., Костандов Э.А., Мартынихин А.В. Оценка транквилизирующего действия феназепама и мебикара методом усредненных вызванных потенциалов коры головного мозга человека при восприятии эмоционально значимых слов //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1983, т.6, N 1, С.47-49.
50. Вальдман А.В., Пошивалов В.П. Фармакологическая регуляция внутривидового поведения. Л., Медицина, 1984, С.208.
51. Васильева В.М., Славуцкая М.В. Условный рефлекс на время в различные стадии естественного ночного сна у человека // Журнал высшей нервной деятельности. 1974, т.24, N 1, С.49-52.
52. Введенский Н.Е., Физиологическое явление с биологической точки зрения //Сеченов И.М., Павлов И.П., Введенский Н.Е. Физиология нервной системы, т,1, М., Медгиз, 1952, С.574.
53. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., МГУ, 1982, С.336.
54. Виноградова О.С. О некоторых особенностях ориентировочной реакции на раздражители второй сигнальной системы у нормальных и умственно отсталых школьников //Вопр.психол., 1956,N6,С.101-110.
55. Виноградова О.С., Соколов Е.Н. Соотношение реакций сосудов руки и головы в некоторых безусловных рефлексах у человека //Физиологический журнал СССР, 1957, т.43, N 1, С.54-59.
56. Виноградова О.С., Эйслер Н.А. Выявление систем словесной связи при регистрации сосудистых реакций //Вопр.психол., 1959, N 2, С.101-110.
57. Волков И.О., Дембновецкий О.Ф., ГалазюкА.В. Характеристика реакций нейронов слуховой коры кошки на тональную стимуляцию во время нембуталова наркоза и после выхода из него / /Нейрофизиология, 1985, т.17, N 6, С.728-737.
58. Воронина Т.А., Гарибова Т.Л. Возникновение диссоциированного состояния — обратимой амнезии под влиянием феназепама //Бюллетень экспериментальной биоологии и медицины. 1983, N 1, С.49-52.
59. Воронин Л.Г., Громыко Н.М., Коновалов В.Ф. Формирование и хранение неосознанных и осознанных следовых процессов у детей //Журнал высшей нервной деятельности. 1971, т.21, N 3. С.667-673.
и*
307
И.В. СМИРНОВ =
60. ВоронинЛ.Г, Коновалов В.Ф. Электрографические следовые процессы и память. М., Наука, 1976, С.165.
61 ВоронинЛ.Г. Некоторые данные о взаимоотношении осознанных и неосознанных реакций //Журнал высшей нервной деятельности. 1972, Т.22, N 4, С.669-678.
62. Воронин Л.Г, Новиков П.П., Волков Е.В. и др. Формирование и развитие временных связей с учетом неосознаваемых и осознаваемых звуковых раздражителей //Журнал высшей нервной деятельности. 1984, т.34, N 5, С.855-860.
63. Выготский Л.С. Избранные психологические произведения. М., 1956, С.512.
64. ГалагудзеС.С. Влияние эмоционально-интеллектуального напряжения на динамику словесных ассоциаций //Диагностика психических состояний в норме и патологии. Л., Медицина, 1980, С.78-86.
65. (ерзон С.А. О спектре состояний мозга как динамической системы. М., ИТЭФ, Препринт, 1987, N 18. С.6.
66. Гершуни Г.В. ИзучениеАсубсенсорных реакций при деятельности органов чувств //Физиол.ж. СССР, .1947, т.ЗЗ, N 4, С.393-412.
67. Гершуни Г.В. Реакции на неосознаваемые раздражители при нарушениях деятельности органов чувств //Бессознательное, т.З, Тбилиси: Мецниереба, 1978, С.537-553.
68. Глозман Ж.М., Пантелеев А.Ф., Цветкова Л.С., Шипкова К.М. Экспериметальное исследование семантической памяти человека //Вестник МГУ. Психол., 1984, N 2. С.46-53.
69. Григорьев Н.К. К вопросу о понятии «психика» (ред. Психо-л.журн. Деп.ВИНИТИ 30.12786 N 9017-В, 1986, С.11.
70. Григорьев Ю.Г., Бесхлебнова Л.И., Митяева И.Е., Салимов Р.М. Комбинированное действие микроволн и гамма-излучения на импринтинг у цыплят, облученных в раннем эмбриогенезе//Радиобиология, 1984, т.24, в.2, С.204-407.
71. Гримак Л.П., Хачатурьянц Л.С. метод моделирования эмоциональных состояний с постгипнотической реализацией //Новые методы и аппаратура для научных исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. М., Наука, 1973, С.87-97.
Т2. . Гриненко А.Я., Крупицкий Е.М., Палей А.И. и др. Комплексное биохимическое исследование механизмов коррекции устойчивого патологического состояния зависимости от алко-308
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
голя //Физиолгия человека, 1988, т.14, N 8, С.905-915.
73. Громова Е.А., Семенова Т.П., Зыков М.Б., Чубаков A.R, Никонов А.А., Воробьев В.В., Мелехов А.М., Плакхинас Л.А., Катков Ю.А., Нестеров И.В. Эмоциональная память и ее нейрохимические основы //физиологические и биохимические исследования памяти. Пущино: ПЦБИ, 1977, С.45-67.
74. Данилова Н.Н. Функциональные состояния: механизмы и диагностика. М., МГУ, 1985, С.287.
75. Докучаев В.И., Смирнов И.В. О метрологии измерений ква-зистационарных полей биологического происхождения //Проблемы метрологического обеспечения измерений параметров случайных полей и сигналов. М., ВИИОФИ, 1982, С.5-7.
76. Домбакян X. Нормативни данни зазрителни предизвикани потенциали на флаш с оглед приложението им в офталмологич-ната диагностики //Офталмология, 1986, т.34, N 1, С.7-18.
77. Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. М., Наука, 1971, С.386.
78. Жариков Н.М., Соколова Е.Д. Влияние социальных факторов на распространенность и течение шизофрении //Журнал невропатологии и психиатрии, 1989, т.89, N 5, С.63-66.
79. Журавлев А.Н., Смирнов И.В. Измерение суммарного электрического заряда тела как показателя функционального состояния организма //7 Всеоюзная конференция «Измерения в медицине и их метрологическое обеспечение». Тезисы докладов. М., 1986, С.19.
80. Забродин Ю.М., Фришман Е.З. Индивидуальные особенности работы человека в субсенсорном диапазоне: психофизическое исследование//Бессознательное. Тбилиси: Мецниереба., 1978, т.З, С.554-563.
81. Зачепицкий Р.А. Критика современного психоанализа в США и во Франции (обзор литературы) //Журнал неврапатоло-гии и психиатрии. 1986, N 12, С. 1868-1870.
82. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., МГУ, 1986. С.288.
83. Зенков Л.R, Ронкин М.А. функциональная диагностика нервных болезней. М., Медицина, 1982, С.432.
84. Ерашенко Н.А., Магалиф А.Ю. Влияние эффективных нарушений на изменения темпоральных характеристик речи //Методика и техника психофизиологического эксперимента. М., 1987, С.51-75.
85. Иваницкий А.М., Корсаков И.А. Временные характеристи
309
И.В. СМИРНОВ
ки зрительного восприятия //Физиология человека, 1987, N 1, С.23-27.
86. Иваницкий А.М., Корсаков И.А., Матвеева Л.В. Динамика медленной электрической активности коры больших полушарий человека и ошибки восприятия //Журнал высшей нервной деятельности. 1980, т.30, N 3, С.602-605.
87. Иваницкий А.М. Мозговые механизмы оценки сигнала. М., Медицина, 1976, С.263.
88. Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., Корсаков И.А. Информационные процессы мозга и психическая деятельность. М., Наука, 1984, С.200.
89. Ильюченок Р.Ю. Анализ воспроизведения условной реакции //Журнал высшей нервной деятельности. 1974, т.24, N 6, С.1211-1221.
90. Ильюченок Р.Ю., Винницкий И.М., Лоскутова Л.В. идр. Нейрохимические механизмы мозга и память. Новосибирск, Наука, 1977, С.30.
91. Ильюченок Р.Ю., Леутин В.П., Вольф Н.В. и др. Диссоциация воспроизведения условныэОвегетативных и двигательных реакций при ретроградной электросудорожной амнезии //Журнал высшей нервной деятельности., 1975, т.25, N 5, С.981 -986.
92. Ильюченок Р.Ю. Память и адаптация. Новосибирск, Наука, 1979, С. 192.
93. Ильюченок Р.Ю. Исследование значимости информации в механизмах регуляции памяти //Методологические проблемы медицины и биологии. Новосибирск, 1985, С.71-80.
94. Илюхина В.А., Бородкин Ю.С., Лапина И.А. Сверхмедленная управляющая система мозга и память. Л., Наука, 1983, С. 127.
95. Илюхина В.А., Кожушко Н.Ю. Локальные типовые изменения дзета-волн в головном мозге человека при изучении процессов активации внимания //Физиология человека. 1984, т.10, N 5, С.829-840.
96. Исаев Г.И., Безносюк Е.В. Личностно-конституциональный анализ больного человека//Медицинская психология и психогигиена. М., 1ММИ, 1990, С.18-53.
97. Кабанис П.Ж.Ж. Отношение между физической и нравственною природой человека, т.1, СПб, 1865, С. 167.
98. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л., Медицина, 1983, С.311.
310
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
99. Канторович Н.В. Опыт сочетательно-рефлекторной терапии алкоголизма//Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы, сб.З, Л., 1929, С.35-37.
100. Канторович Н.В. Методика условно-рефлекторной электротерапии И Вопросы клиники и лечения психозов, в.З, Фрунзе, 1967, С.8-13.
101. Капустин А.Ю. Методика регистрации нажима при письме//Вопросы психолгии, 1982, N 2. С. 126-129.
102. Квасовец С.В., Суханов О.О. Установка для регистрации пространственной синхронизации фаз волн ЭЭГ //Вопросы психологии, 1982, N 4, С. 138-139.
103. Клейн Е.А., ГвалияН.В. Изменение распределения синап-тосомных белков головного мозга цыпленка в процессе импринтинга//Нейрохимия, 1985, т.4, N 1, С.16-22.
104. Коган Е.А. Особенности нейродинамики некоторых структур головного мозга человека при решении задач зрительного опознания (поданным сверхмедленных колебаний потенциалов). Ростов-на-Дону, РГУ, С. 168.
105. Коновалов В.Ф., Сериков И.С. Кожно-гальваническая реакция как электрографический коррелят процессов запоминания и узнавания разных видов вербальной информации мальчиками и девочками //Физиология человека, 1985, т. 11, N 3, С.421 -429.
106. Корнетов А.Н., Самохвалов В.П., Овсянкин М.И. Синдромы шизофрении и эффективность унилатеральной электросудорожной терапии //Журнал невропатологии и психиатрии. 1985. т.35, N 2, С.249-254.
107. Костандов Э.А., Арзуманов Ю.Л. Вызванные потенциалы коры человека на эмиционально значимые стимулы //ДАН СССР, 1971, т. 199, N 2, С.497-500.
108. Костандов Э.А., Арзуманов Ю.Л. Зависимость условного медленного отрицательного потенциала коры головного мозга человека от мотивации и эмоции //Журнал высшей нервной деятельности, 1972, т.22, N 6, С.679-687.
109. Костандов Э.А., Арзуманов Ю.Л. Полушарная асимметрия волны РЗОО на неосознаваемые эмоциональные слова // Журнал высшей нервной деятельности. 1980, т.30, N3, С.467-475.
110. Костандов Э.А., Арзуманов Ю.Л. Усредненные вызванные потенциалы коры на эмициональные зрительные раздражители у человека//Журнал высшей нервной деятельности, 1971, т.21, N 4, С.811-819.
311
И.в. СМИРНОВ
111. Костандов Э. А., Арзуманов Ю.Л., Тальце М.Ф. Влияние диазепама на образование и воспроизведение условных корковых реакций у человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1985, т.35, N 1, С.52-59.
112. Костандов Т.А., Важнова Т.Н., Генкина О.А. и др. Влияние словесного подкрепления на вызванную корковую активность // Журнал высшей нервной деятельности. 1984, т.34, N 5, С.833-840.
113. Костандов Э.А., Важнова Т.Н. Отражение процесса принятия решения в корковой вызванной электрической активности человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1976, т.26, N 6, С.1123-1130.
114. Костандов Э.А., Генкина О.А., Захарова Н.Н. Динамика корковой вызванной активности в процессе обучения человека различению микроинтервалов времени с помощью обратной связи //Журнал высшей нервной деятельности. 1985, т.35, N 5, С.833-841.
115. Костандов Э.А. Об изучении субсенсорных реакций //Вестник АМН СССР, 1970, N 1, С.53-59.
116. Костандов Э.А. Обратные временные связи и их роль в корковых реакциях человека //Журнал высшей нервной деятельности, 1983, т.ЗЗ, N 2, С.230-240.
117. Костандов Э.А. О нервных механизмах «безотчетных» отрицательных эмоций //Исслед. механизмов нервной деятельности., М., 1984, С.244-252.
118. Костандов Э.А. Сознание и бессознательное как проблема физиологии высшей нервной деятельности человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1984, т.34, N 3, С.401 -411.
119. Костандов Э.А., Рещикова И.Н., Шостакович Г.С. Время принятия решения у человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1974. т.24, N 6, С.1115-1121.
120. Костандов Э.А., Шостакович Г.С. Измерение времени опознания словесных стимулов методом обратной маскировки / /Журнал высшей нервной деятельности. 1970, т.20, N 5, С.1010-1015.
121. Костандов Э.А. Восприятие и эмоции. М., Медицина, 1977, С.247.
122. Костандов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и неосознаваемое восприятие. М., Наука, 1983, С.168.
123. КострицаВ.Г., ТкаченкоА.Е., Известия ТРТУ №4(10), 1998, 54-55.
312
психоэкология
124. Котенков Е.В. Методологические подходы к изучению химической коммуникации млекопитающих. Обонятельные сигналы как механизмы экологической изоляции между видами //Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Сер. Зоология позвоночных. 1988, т.15, С.92-151.
125. Кочубей Б.И. В защиту эмпиризма//Вопросы психологии. 1989, N 2, С.68-72.
126. Кочубей Б.И. Влияние генотипа и среды на индивидуальные особенности ориентировочной реакции человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1985, т.35, N 3, С. 428 — 434.
127. Кругликов Р.И. Основные направления исследований нейрохимических механизмов обучения и памяти //Журнал высшей нервной деятельности. 1986, т.36, N 2, С.226 — 231.
128. 124. Кругликов Р.И., Полянская Л.Г. К генезу амнезий, вызываемых электросудорожным шоком //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1979, N 4, С. 295 — 297.
129. Кругликов Р.И. Принципы детерминизма и деятельность мозга. М.: Наука, 1988, С. 224.
130. Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности. М.: МГУ, 1986, С. 270.
131. Крушинский Л.В., Коржов В.А., Молодкина Л.Н. Влияние электрошока на патологические состояния, вызываемые звуковым раздражителем у крыс //Журнал высшей нервной деятельности. 1958, т.8, N 1, С. 95 — 102.
132. Крыжановский Г.Н. Детерминантные структуры в патологии нервной системы (генераторные механизмы нейропатологи-ческих синдромов). М.: Медицина, 1980, С.40.
133. Крыжановский Г.Н. К методологии исследований в области общей патологии нервной системы //Вестник АМН СССР. 1986, N 4, С. 33 —43.
134. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы //Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1988, N3, С. 70 — 80.
135. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы //Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1989, N 2, С. 63 —71.
136. Крылов И.Н., Волынкина Г.Ю., Суворов Н.Ф. Простейшая форма эмоционально-моторного реагирования человека //Журнал высшей нервной деятельности. 1987, т. 37, N 1, С. 31 — 37.
137. Кудинова М.П. Мыслободский М.С. О зависимости пара-
313
И.В. СМИРНОВ. метров вызванного потенциала мозга человека от состояния внимания //Журнал высшей нервной деятельности. 1968, т. 18, N 6, С. 1027—1934.
138. Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Психология и психопатология одиночества. М.: Медицина, 1972, С. 172.
139. Кузнецов С.А. Диагностика функциональных возможностей оператора по данным кожно-гальванической реакции //Проблемы нейрокибернетики. Тезисы докладов 8 Всес. конференции по нейрокибернетике. Ростов-на-Дону. 1983, С. 158-159.
140. Кучинов А.И., Безносюк Е.В., Тювина Н.А., Морозова В.В. //Психосоматические соотношения. М.1. ММИ, 1990.
141. Лазарев В.В. Факторная структура основных параметров ЭЭГ при интеллектуальной деятельности. Сообщение 2. Топография эмоциональных состояний //Физиология человека. 1989, т. 13, N”1,C. 12-15.
142. Лангмейер Й., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. Прага: Авиценум. 1984, С. 334.
143. Латенков В.П., Губин ГД. Биоритмы и алкоголь. Новосибирск: Наука. 1987, С. 173. *
144. Лебедев А.Н. Кодирование информации в памяти когерентными волнами нейроной активности //Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. М., 1985, С. 6-33.
145. Леутин В.П., Николаева Е.Н. Эмоциогенная интерференция при переработке информации центральной нервной системой в потоке сигналов //Проблемы нейрокибернетики. Тез.докл. 8 Всес. конф, по нейрокибернетике. Ростов-на-Дону, 1983, С 31.
146. Ливанов М.Н., Свидерская Н.Е. Топоскопические иссле-дованияч синхронных биоэлектрических процессоры коры человека//Проблемы нейрофизиологии и нейрокибернетике. Ростов-на-Дону, 1985, С. 7-20.
147. Лоренц К. Кольцо царя Соломона. М., 1970, С. 45.
148. Лунин-Барковский В.Л., Ларионова Н.П., Смирнитская И.А., Чайлахян Л.Д. О хранении информации в коре мозжечка // Современные представления о функциях мозжечка. Труды 5 симпозиума по проблеме структурной и функциональной организации мозжечка, поев. 100-летию со дня рождения Л. А.Орбел и. Ереван, 2-5 июля 1982, Ереван, 1984, С. 390-396.
149. Лурия А.Р., Виноградова О.С. Объективное исследование динамики семантических систем //Семантическая структура слова. М.: Наука, 1971, С. 27-63.
314
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
150. Лурия А.Р. Диагностика следов эффекта //Психология эмоций. Тексты. М.: МГУ, 1984, С. 228-234.
151. Лурия А.Р. Нейропсихологический анализ сложных форм речевой памяти //Физиология человека, 1977, т. 3, N 5, С. 845-852.
152. Лурия А.Р. Естественнонаучные основы психологии. М.: Педагогика, 1978, С. 7-23.
153. Лурия А.Р. Психология в определении следов преступления //Научное слово, 1928, N 3, С. 79-92.
154. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: ГУ, 1979, С. 319.
155. Лурия А.Р. Природа человеческих конфликтов. М.:2002, С. 526.
156. Макаренко Н.В., Адаменко Н.П., Трошихин В.А. Состояние высшей нервной деятельности собак, оживленные после длительных сроков смерти от электротравмы //Журнал высшей нервной деятельности, 1971, т. 21, N 1, С. 61 -68.
157. Малышев В.Н. Дифференциация кодовых элементов вербальных сигналов, составляющих семантические поля //Физиология человека, 1977, т. 3, С. 37-43.
158. Мастеров А.В. Особенности выбора крысами этапных результатов действия //Журнал высшей нервной деятельности, 1975, т. 25, N 5, С. 1091-1093.
159. Мачинская РИ. Электрофизиологическое исследование специфики решения вербальных и пространственных задач /Др. ВНИИ тех. эстет.эргон. М., 1985, т. 29, С. 62.
160. Махач М., Мантликова Г. К вопросу о стандартизации некоторых внутренних источников флуктуации реакций //Вопросы психологии, 1973, N4, С. 155-158.
161. Милованова Г.Б. Интегральная оценка эмоционального состояния человека по его вегетативным функциям //Методика и техника исследований операторской деятельности. М.: Наука, 1985, С. 7-11.
162. Морган Л. Привычка и инстинкт. СПб: изд-во Павленкова, 1899, С.30-31.
163. Мусхелишвили Н.Л., Сергеев В.М. Концептуальная модель функциональной организации мозга (квантово-биологический подход) //Доклады АН СССР, 1982, т. 263, N 1, С. 205-207.
164. Нанейшвили Т.Л. Нейрофизиологические основы пространственной краткосрочной памяти. Тбилиси: Мецниереба, 1985, С. 141.
315
И. В. СМИРНОВ
165. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М., 1976, С. 248.
166. Нелюбова Т.А. К вопросу о гипнопедии //Вопросы клиники и лечения психозов. Фрунзе, 1967, С. 162-170.
167. Николаенко Н.Н. Межполушарная асимметрия ЭЭГ человека после односторонних электросудорожных припадков //Журнал высшей нервной деятельности. 1974, т. 24, N 4, С. 833-835.
168. Никольский А.А. Изменчивость звуковых реакций млекопитающих //Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Зоология позвоночных, 1983, т. 12, С. 151-215.
169. Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М.: Прогресс, 1994.
170. Орехов А.Н., Семенов Д.В. Исследование зависимости между семантическими и процессуальными характеристиками представлений в математизированной синтетической теории психических процессов //Доклады АН УССР. А., 1988, N 9, С. 78-82.
171. Орлов Ю.М., Творогова Н.Д., Безносюк Е.В. Самовоспитание и самосовершенствование. М. 1 ММИ, 1988, С. 40.
172. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. М.-Л., 1951, т. 3, кн. 1, С. 63.
173. Пашковский В.Э., Орлов Ю.К., Ковальчук Ю.И. Системный анализ ассоциативных потоков у здоровых и больных с психическими расстройствами //Журнал высшей нервной деятельности. 1985, т. 35, N 2, С. 238-244.
174. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.: МГУ, 1988, С. 208.
175. Петренко В.Ф. Семантический анализ профессиональных стереотипов// Вопросы психологии. 1986, N 3, С. 133-143.
176. Петрусинский В.В. О возможности интенсификации процесса обучения за счет использования субсенсорной информационно-суггестивной стимуляции //Взаимосвязь осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики в педагогическом процессе. Пермь, 1982, С. 114.
177. Пирогов А.А., Месарош И. Влияние различий в инструкции на динамику амплитуды вызванных потенциалов //Физиология человека. 1979, т. 5, N 1, С. 35-43.
178. Пирумов В.С. Стратегия выживания в социуме. М.: 2003, 500 с.
179. Платонов К. К. Осознанное и неосознанное в свете теории отражения // Бессознательное. Тбилиси: Мецниерба, 1978, т. 3, С. 121-130.
316
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
180. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М.- Наука 1986, С. 255.
181. Плюснина И.З. Критический период запечатлевайия у новорожденных морских свинок //Доклады АН СССР, 1972, т. 207, N 3, С. 753-756.
182. Плюснина И.З., Слоним А.Д. Роль врожденного различения, импринтинга и натуральных условных рефлексов в формировании поведения //Журнал высшей нервной деятельности. 1971, т. 23, в.4, С. 732-737.
183. Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в XX веке. М.: Мысль, 1990, С. 220.
184. Понугаева А.Г. Импринтинг (запечатлевание). Л.: Наука, 1973, С. 102.
185. Понугаева А.Г., Якименко И.Я. Исследование реакции «за-печатлевания» у морских свинок //Сборник материалов 4 научной конференции физиологов, биохимиков и фармакологов Западно-Сибирского объединения. Красноярск, 1969, т. 1, Физиология, С. 363-365.
186. ПоповаЛ.Т, Зенков Л.Р. О синдроме нарушений долговременной семантической памяти при поражении задних отделов левого полушария //Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. М.: Наука, 1986, С. 97-103.
187. Потемкина И.П. Семантическая память и языковые значения //Проблемы бионики, 1984, т. 32, С. 125-130.
188. Похилько В.И., Федотова Е.О. Техника репертуарных решеток в экспериментальной психологии личности //Вопр. психол., 1984, N3, С. 151-157.
189. Пошивалов В.П. Влияние эффектов электрошока на внутривидовое поведение мышей, содержащихся в изоляции //Журнал высшей нервной деятельности. 1981, т. 31, N 4.
190. Пронин В.И., Чугаев И.Г, Безносюк Е.В. Коррекция функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем приборами ритмовоздействия на основе биологической обратной связи //2 Всесоюзная конф. Проблемы создания технических средств диагностики. Львов, 1987.
191. Психологический словарь, 2 изд. М.: Изд.полит.литературы, 1990, С. 494.
192. Пучинская Л.М. Вызванные потенциалы при мысленном представлении итенсивности световых стимулов //Журнал высшей нервной деятельности. 1974, т. 24, N 1, С. 18-24.
317
И.В. СМИРНОВ___________________________________________
193. РазумниковаО.М., ИльюченокР.Ю. Электрофизиологический анализ антиамнезического эффекта активации дофаминергической и нпря прднбргической систем //Журнал высшей нервной деятельности. 1984, т. 34, N 2, С. 323-330.
194. Райт М.Л., Крылов Е.Н., Лешинская И.П. и др. КГР и состояние тревоги (поданным психофармакологических воздействий) //Центральные и периферические механизмы вегетативной нервной системы. Мат. 5 Всес. конференции по физиологии вегетативной нервной системы. Ереван, 1985, С. 153-156.
195. Рапацевич Е.С. Методика формирования понятий //Вопросы психологии. 1973, N 1, С. 137-145.
196. Рижинашвили Р.С., Марсалишвили Г.А. Воспроизведение импринтинга у цыплят-реципиентов под действием гомогенатов мозга импринтированных цыплят-доноров //Журнал высшей нервной деятельности. 1982, т. 32, N 5, С. 989-990.
197. Рожков В.П. Пространственная организация компонентов зрительных вызванных потенциалов и эффективность сенсомоторной реакции //Физиология человека. 1968, т. 12, N 6,123.
198. Ромен А.С. Восприятие и запоминание<речи в период естественного сна при помощи самовнушения //Вопросы психиатрии, в 1, Алма-Ата, 1968, С. 310-311.
199. Ротенберг В.С. Разные формы отношений между сознательным и бессознательным //Вопросы философии, 1978, N 2, С. 70-78.
200. Рушкевич Ю.Е. Эмоциональные проявления при электрическом раздражении ядер гипоталамуса у взрослых и старых крыс //Журнал высшей нервной деятельности, 1989, т. 39, N 2, С. 273-277.
201. Салтыков А.В., Смирнов И.В., Старшов В.П., Салтыкова М.М. Оценка процесса выработки инструментального рефлекса у животных//Журнал высшей нервной деятельности, 1986, т. 36, N 5, С. 987-989.
202. Салтыков А.Б., Смирнов И.В., Старшов В.П. Характеристика процесса поведения в случайных средах //Эмоции и поведение. Системный подход, М., 1984, С. 260.
203. Салтыков А.Б., Ильин В.И., Дронов А.А. Когнитивная деятельность и неосознаваемая ритмическая стимуляция. Психол. журн., 1993, т. 14, N 5, С. 42-47.
204. Салтыков А.Б., Толокнов А.В., Хитрое Н.К. Связь вероятности случайного выполнения условной реакции и возникновения невротического состояния //Нарушение механизмов регуляции и 318
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
их коррекция. Тез. докл. 4 Всес. съезда патофизиологов, т. 1 м 1989, С.55.
205. Симонов П. В. Анисимов С.А. Игровой подход при обработке физиологических данных на примере исследования эмоциональной реакции человека //Журнал высшей нервной деятельности, 1978, т. 28. N 4, С. 675-681.
206. Симонов П.В. Индивидуальные особенности вегетативных реакций на социально значимые стимулы //Центральные и периферические механизмы вегетативной нервной системы. Материалы 5 Всес. конф, по физиологии вегетативной нервной системы, Ереван, июль 1982. Ереван, 1985, С. 175-177.
207. Симонов П.В., Пигарева М.Л., Бразовская Ф.А. Реакции избегания при болевом раздражении другой особи у гиппокам-пэктомированных крыс //Журнал высшей нервной деятельности, 1971, т. 21, в. 4, С. 681-685.
208. Слынько П.П. Потоотделение и проницаемость кожи. Киев: Наукова Думка, 1973, С. 288.
209. Смирнов В.М., Бородкин Ю.С. Артифициальные стабильные функциональные связи. Л: Медицина, 1979, С. 192.
210. Смирнов В.М., Бородкин Ю.С., Богданов Н.Н. Исследование элементарных информационных амнестических полей мозга человека //Физиология человека, 1977, т. 3, N 5, С. 874-880.
211. Смирнов В.М., Махотина Б.Б. О новой форме каудатного торможения при электростимуляции глубоких структур головного мозга человека //Физиологический журнал СССР, 1984, т. 70, N 7, С. 938-943.
212. Смирнов В.М., Медведев С.В., Махотина Б.Б. Новая форма артифициальной стабильной функциональной связи в мозге человека //Физиология человека, 1984, т. 10, N 5, С. Т7\-ТП.
213. Смирнов В.М., Резникова Т.Н. Артифициальные стабильные функциональные связи в механизмах интрацентральной регуляции мозга человека //Ассоциативные системы мозга, Л.: Наука, 1985, С. 274-278.
214. Смирнов В.М., Резникова Т.Н. Артифициальные стабильные функциональные связи как метод исследования и лечения в условиях патологического состояния //Вестник АМН СССР, 1985, N9, С. 18-23.
215. Смирнов В.М., Резникова Т.М., Губачев Ю.М., Дорничев В.М. Мозговые механизмы психофизиологических состояний. Л.: Наука, 1989, С7 148.
319
И. В. СМИРНОВ___________________________________________
216. Смирнов В.М., Резникова Т.Н., Дорничев В.М., Губачев Ю.М. Артифициальные стабильные функциональные связи и ней-рорегуляторная коррекция психовегетативных расстройств // Физиология человека, 1087, т. 13, N 5, С. 715-722.
217. Смирнов И.В., КвасовецС.В., Федоренко В.Н. Принципы психозондирования //Информационные сообщения. Сборник рефератов ВИМИ. Публикация N 11.90.9.39, М., 1990, С. 101-109.
218. Смирнов И.В., Безносюк Е.В. Диагностика и коррекция психосемантическими методами. Сб. науч.трудов «Методы нелекарственной терапии диагностики и коррекции здоровья». ММА им. Сеченова, М., 1993.
219. Смирнов И.В., БезносюкЕ.В. Компьютерный психоанализ и психотерапия. Ж. «Медицинская помощь», N 4, 1994.
220. Смирнов И.В., Безносюк Е.В. Методы неосознаваемой психотерапии, психокоррекции и психосемантического анализа с субсенсорным введением информации. Ж. «Психотерапевт России», N3,1994.
221. Смирнов И.В., Безносюк Е.В. Компьютерные психотехнологии семантического анализа бессознательного. Российский психоаналитический вестник, N 3,1994.
222. Смирнов И.В., Безносюк Е.В., Журавлев А.Н. Психотехнологии. М.:Прогресс, 1995,434 с.
223. Спивак Д.Л. Лингвистика измененных состояний сознания. Л.: Наука, 1986.
224. Станкус А.И., Соколов Е.И. Вариабельность сердечного ритма при информационных нагрузках //Физиология человека, 1984, т. 10, N 5, С. 853-858.
225. Стрелец В.Б. Нарушения физиологических механизмов восприятия, эмоций и мышления при некоторых видах психической патологии //Физиология человека, 1989, т. 15, N 3, С. 135-244.
226. Татко В.Л. Хронометрия процессов переработки информации человеком //Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Сер. Физиология человека и животных, 1989, т. 35, С. 3-144.
227. Тихомиров О.К. Теоретические проблемы исследования бессознательного//Вопросы психологии, 1981, N 2, С. 31-39.
228. Ушакова Т.Н., Раевский А.М. О возможности экстренного установления межсловесных временных связей у человека //Журнал высшей нервной деятельности, 1971, т. 21, N5, С. 1082-1083.
229. Фабри К.З., Потапина Н.В. Изучение отдаленного после-320
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
действия запечатления у цыплят //Журнал эволюционной биохимии м физиологии, 1969, т. 5, N 1, С. 83-89.
230. Федоров В.К. О соотношении короткой и длительной памяти в процессе обучения крыс //Журнал высшей нервной деятельности, 1971, т. 21, N 1, С. 42-46.
231. Филимонова Т.Л. Электрофизиологическое отражение субъективной переработки стимульной информации //Вопросы соотношения биологического и социального в психиатрии. М., 1984, С. 156-163.
232. Финкель Н.В. Вызванные потенциалы головного мозга и механизм процесса различения (обнаружения). М.: МГУ, 1986, С. 22.
233. Фокин В.Ф., Федан В.А. Моторная асимметрия у кошек в норме и при действии унилатерального электрошока//функциональная асимметрия и адаптация человека. М.: МНИИП, 1976, С. 288-291.
234. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. М:: Прогресс, 1987, С. 234.
235. Хананашвили М.М. Экспериментальная патология высшей нервной деятельности. М.: Медицина, 1978, С. 368.
236. Хорн Г. Память, импринтинг и мозг, М.: Мир, 1988, С. 343.
237. Чайченко Г.М. Длительность краткосрочной памяти у крыс //Проблемы общей и молекулярной биологии, 1983, N 2, С. 49-52.
238. Черкес В.А. Мозговые структуры или нейронные сети? Киев: Наукова Думка, 1988, С. 90.
239. Чугаев И.Г., БезносюкЕ.В., Веденяпин А.Б., ЛисицинаК.А. Способ самоуправления уровнем бодрствования путем одновременного применения БОС и ритмовоздействия по параметру ЧСС //Материалы 3 Всесоюзной научно-технической конференции. Проблемы создания технических средств для диагностики и лечения заболевания ССС. Львов, 1990, С. 83.
240. Шарипов А.Р. Исследование взаимосвязи параметров вызванной активности (УНВ и ВП) со временем реакции //Развитие фунд. и прикл. исслед. Секция биол. Л., 1984, С. 80-87.
241. Шварц Л.А. Слово как условный сигнал//Бюлл. эксп. биол. и мед., 1949, т. 27, N 6, С. 212-241.
242. Шварц Л.А. Условные рефлексы на словесные раздражители //Вопр. психол., 1960, N 1, С. 86-96.
243. ШвегждасА., Ванагас В., КирюялисД. Отражение преднас-тройки в зрительном вызванном потенциале на ожидаемую форму светового стимула //физиология человека, 1980, т. 6, N1, С. 35-38.
321
И.В. СМИРНОВ____________ .
244. Швинд И., Умсперкр П., Гашке В. Медленные потенциалы при решении арифметических задач и обратной информации о них //физиология человека, 1985, т. 11, N 3, С. 430-435.
245. Швырков И.Б. Изучение активности нейронов как метод психофизиологического исследования поведения //Нейроны в поведении: системные аспекты. Материалы симпозиума 26-27 января 1983. М., 1986, С. 6-25.
246. Швырков В.Б. Системно-эволюционный подход к изучению мозга, психики и сознания // Психологический журнал, 1988, т. 9, N 1,С. 132-148.
247. Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику: теоретико-методологические основания и психодиагностические возможности, М.: МГУ, 1983, С. 158.
248. Шмелев А.Г., Габидулина С.Э., Похилько В.И. Репертуарная модификация личностного опросника. Деп. ВИНИТИ 01.10.84, N 6480-84, 1984, С. 10.
249. Шмелев А.Г., Похилько В.И. Матричные тесты (психосемантические методы) //Практикум по психодиагностике: дифференциальная психометрия. М.: МГУ, 1984, С. 136-151.
250. Шмелев А.Г., Похилько В.И., Козловская-Тельнова А.Ю. Практикум по экспериментальной психосемантике (тезаурус личностных черт). М.: МГУ, 1988, С. 207.
251. Шмелев А.Г. Сопоставление двух моделей семантической памяти // Вестник ГУ. Сер. 14. Психол., 1978, в. 2, С. 37-46.
252. Шостакович Г.С., Рещикова Т.Н. Влияние отрицательных эмоций на разные звенья зрительно-моторной интеграции у человека //Журнал высшей нервной деятельности. — 1985. — т. 35. — №34, —С. 173-180.
253. Шпатенко Ю.Г., Даниловцев В.В. Связь показателей деятельности с электрофизиологическими показателями обработки информации //Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. — М.: Наука. — 1985. — С. 81-106.
254. Штемберг А.С. Роль предпочтения звуковых и зрительных раздражителей в формировании поведенческих реакций серых крыс //Журнал высшей нервной деятельности. — 1986. — т.36. — N 2.— С.351-358.
255. Шульгина Г.И. Вызванные потенциалы и импульсация нейронов коры в момент реализации условного рефлекса // Журнал высшей нервной деятельности. — 1976. — т. 26. — N 6. — С. 1156-1164.
322
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
256. Adler J.D., Sifft J. Alpha EEG and simple reaction time // Percept.and Mot.Skills. — 1987.1 v.52. N 1. — P. 306.
257. Aggieton J.P. One trial object recognition by rats // Quart.J.Exp.Psychol. -1985. — B37. — N 4. — P.279-294.
258. Alkon D.L. A biophysical basis for molluscan associative learning //Represent.involved neural func.Proc.symp. N.-Y-L. -1982. — P. 147-170.
259. Alkon D.L. Learning in a marin snail //Sci.Amer. — 1983. — v. 249. -N1. — P. 64-74.
260. Amabile G., Fattapposta F., Pierelli F., e.a. Endogenous evoked potentials and vigilance lavals variations //Funct. Neurol. — 1987. — v. 2. -N 4. — P. 523-527.
261. Anninos Ph., Kokkinidis M., Skouras A. Noisy neural nets exhibiting memory domains //J.Theor.Biol. — 1984. — v. 109. — N 4. — P. 581-594.
262. Arnsten A.F.T., Segal D.S., Neville H.J., e.a. Naloxone augments electrophysiological signs of selective attention in man //Nature. — 1983. — v. 304. — N 5928. — P. 725-727.
263. Arthur D.K., Starr A. Task-relevant late positive component of the auditory event-related potential in monkeys resembles P300 in humans//Science. — 1984. 1313. — P.186-188.
264. Barland G.N., Raskin D.C. An avaliation of field techniques in detection of deception //Psychophysiology 1975. — v. 12. — N 3. — 321-330.
265. Bartfai A., Levander S., Edman G. e.a. Skin conductance responses in unledicated recently admitted schizophrenic patients // Psychophysiology. — 1983. — v. 20. — N 2. — P. 180-187.
266. Bateson RRG. The neural basis of imprinting //Biol.Learning, ed. Berlin E.A. — 1984. — P. 325-339.
267. Bechtereva N.P., Bundsen P.V., Gogolitsyn Y.L. e.a. Physiological correlates of states and activities in the central nervous system //Brain and behav. Proc.28 Int.Congr.Physiol.Sci. — Budapest: Oxford. — 1981. — P. 398-404.
268. Bechtereva N.P., Medvedev S.V. Coling of the central nervous system //Proc, of Physiol. Sci. — Budapest 1980. — P. 10-11.
269. Bentin S., McCarthy G., Wood C. Event-related potentials, lexical decision and semantic primary //Electroenc. And Clin. Neurophysiol. — 1985. -v. 60.- N 4. — P. 343-366.
270. Berntson S.J. Exp. Neurology. — 1983. — v. 81. — N 1. — P. 77-78 (цит. по: Природа. — 1984. — N 11. — C. 114).
323
И.В. СМИРНОВ
271. Berstein A.S., Taylor K.W., Weinstein E. The phasic electrodermal responce as a differentiated complex reflecting stimulus significance //Psychophysiology. — 1975. — v. 12. — N 2. — P. 158-169.
272. Bertin S. Visual perception and semantic processing: an electrophysioilogy perspective//Isr. J.Med.Sci. — 1987. — v. 23 — N 1-2. — P. 138-144.
273. Besson M. An event-related potential analysis of incongruity in music and other non-linguistic context //PsychophysoL — 1987. — v. 24. — N 1. —P. 14-25.
274. Besson M. Effect of semantic expectancy upon information retrieval //Psychophysiol. — 1986. — v. 23. — N 4. — P. 425-426.
275. Bloxom B. Considerations in psychometric modeling of response time //Psychometrika. — 1985. — v. 50. — N 4. — P. 383-397.
276. Body J. Event-related potentials in chronometric analysis of primed word recognition with different stimulus oneseff asynchronies //Psychophysiol. — 1986. — v. 23. — N 2. — P. 232-245.
277. Bosco C.M., Gratton G., Kramer A.F., e.a. Information extraction and components of event-related Strain potential // Psychophysiol. — 1986 — v. 23. — N 4. — P. 426.
278. Boysen S.T., Bernston G.G. Visual evoked potentials in the great areas//Electroencephal. and Clin. Neurophysiol. — 1985. —v. 62. —N2. —P. 150-153.
279. Brandeis D., Lehmann D. Event-related potentials of the brain and cognitive processes: approaches and applications // Neurophysiol. — 19?6. — v. 54. — N 1 — P. 150-168.
280. Bruce D.J., Evans C.R. Effects of presenting novel verbal material during slow-wave sleep //Nature. — 1970. — v. 225. — N 5335. — P. 873.
281. Buresova O., Panakhova E., Bures J. Post-trail flicker stimulation interferes with spatial memory in the Morris water maze // Neurosci.Lett. — 1985. — v. 56. — N 3. — P. 359-363.
282. Burgess A. Visual signal detection.Ill Jn Bayesian use of prior knowlege and cross correlation //J.Opt.Soc.Amer. — 1985. — A 2. — N 9.-P. 1498-1507.
283. Braun C., Baribeau J. Vers une Psychophysiologie cogntive: possibilities et limites de la methode des potentiels evoques // J.Psychol.Norm, et Pathol. — 1983. — v. 80. — N 4. P. 451-478.
284. Brown S.-L., Schwardz G.E. Relationships between facial electromyography and subjective experience during affective imagery 324
психоэкология
//Biol.Psychol. — 1980. —v. 11. — N 1. — P. 49-62.
285. Bulloch A.G.M. Stress enchanced electrical Synapse formation between regenerating neurons //Brain Res. — 1985. — v. 343. — N 2. — P. 370-373.
286. Cammann R., Gierov W. Probleme bei der clinischen Nutzung der steady state response//EEG-EMG. — 1985. — v. 16. — Bd.1. — S. 6-9.
287. Campbell B.A., Ampuero M.X. dissociation of autonomic and behavioral components of conditioned fear during development in the rat//Behav.Neurosci. — 1985,- v. 99, N 6, P. 1089-1102.
288. Centa D.M.,Jones G.R. Effects of cognition on the psychophysical function //Percept, and Mot. Skills. — 1985. — v. 61. — N 2. —P. 407-411.
289. Cheesman N., Merikle P.M. Distinguishing concious from unconcious perceptual processes //Can. J. Psychpl. — 1986. — v. 40. — N 4. -P..343-367.
290. Collet L., Duclaux R. Auditory brainstem evoked responces and attention//Acta oto-laryngol. — 1986. —v. 101. -N5-6. — P. 439-441.
291. Cox T. The nature and measurement of stress //Ergonomics. — 1985. — v. 28. — N 8. — P. 1155 — 1163.
292. Davis R.S. Physiological responces as a means of evaluating information. //The manipulation of human behavior, ed. Biderman A.D., Zirner H. — N.Y: Wiley & Sons. — 1961. — P. 142.
293. Davis H.P., Squire L.R. Protein synthesis and memory: a review //Psychol. Bull. — 1984. —v. 96. — N 3. — P. 518-559.
294. Dincheva E., Piperova-Dalbokova D. Contingent negative variation (CNV) and the distruction effect in extraverts and introverts / /Person, and Individ. Differ. — 1984. — v. 5. -N 6. -P. 757-761.
295. Dixon A.K., FischH.U., HuberC., Halser A. Ethological studies in animals and man, their use in psychiatry //Pharmacopsychiatry. -1989. -v. 22. -S.N. 1. — P. 44-50.
296. D[xon P. Attention and interference in the perception of brief visual displays/J.Exp.Psychol. 1 Hum.Percept, and Perform. — 1986. — v. 12. — N2. — P. 133-148.
297. Dixon N.F. Subliminal perception: two nature of a controversy. — L.: McGraw-Hill. — 1971. — 118 P.
298. Dubois N. Utilite des indices neurovegetatifs dans I’etude des regulations emottionelles //Bull.Psychol. — 1981. — v. 34. — N 352. — P. 915-930.
325
Н.В. СМИРНОВ
299. Dubowitz V. Correlation between animal and human studies. Introduction. //Multidisciplinary Approach to Brain Development. — Amsterdam: Elsevir. — 1980. P. 505-507.
300. Elsass P. Continous reaction times in cerebral dysfunction // Acta Neurol. Scand. — 1986. — v. 86. — N 3. — P. 225-246.
301. Elton M.A. A longitudinal investigation of event-related potentials in depression //Biol.Psychiat. — 1984. — v. 19. — N 2. — P. 1635-1649.
302. Erwin R.J. Event-related potential induces of ambigous sentence processing //Brain and Lang. — 1986. — v. 27. — N 2. -P. 224-238.
303. Evans F.J., Gustafson L.A., O’Connel D.N. Verbally induced behavioral responces during sleep //J.Neur. and induced Mental Deseases. — 1970. — v. 150. — N 3. — P. 171-180.
304. Eysenk M.W., Eysenk M.C. Memory scanning, introversionextraversion, and levels of processing //J.Res.Pers. — 1979. -v. 13. — N3. — P. 306-315.
305- Fabricius von E. Some experiments on imprinting phenomena in ducks //Proc. 10th int. Ornithol.Congr. — Uppsala. — 1951. — P. 375-379.
306. Falicki Z., Monieta A. Higher feelings in schizophrenic patients studied by means of the semantic differencial technique // Psychopathol. — 1984. -b. 17. — N 1. — P. 3-8.
307. Farwell L.A., Donchin E. The «brain detector»: P300 in the detection of deception //Psychophysiol. — 1986. -v.23. — N 4. -P. 434.
308. Federico P.-А. Cognitive complexity and cerebral sensory interaction //Person, and Individ. Differ. — 1985f. — v. 6. -N 2. — P. 253-261.
309. Federico P.-А. Individual differences in concept learning and brain event-related potentials //Person, and Individ Differ. — 1985, v. 6,- N 2. — P.243-252.
310. Federico P.-A.Event-related-potentiais (EVP) correlates of cognitive styles, abilities and attitudes //Person.andlndivid. Differ. -1984. — v. 5. — N 5. -P. 575-585.
311. Firth D., Worral N. Electrodermai response to sexual materials //Percept.and Mot.Skills. — 1975. — v. 41. — N 1. -P. 60-62.
312. Fisher B., Rogai L. Eye-yfnd-coordination in man: a reaction time study //Bioi.Cybern. — 1985. — v. 55. — N 4. — P. 253-261.
313. Fieischaker G.R. Autoposis: the status of its system logic // Biosistems. — 1988. — v. 22. — N 1. — P. 37-49.
326
_____________________________ психоэкология
314. Flowers J.H., Lohr D.J. How does familarity affect visualsearch for letter strings? //Percept, and Psychophysiol. — 1985. -v. 37. -n 6. -P. 557-567.
315. Freedman D.G., King J.A., Elliot O. Critical periodin the social development of dogs//Science. — 1961. — N 133. -P. 1016-1017.
316. Freeman W.J. Why neural networks don’t yet fly: inquiry into the neurodinamics of biological intelligence //IEEE Int.Conf.Neural Networks, San Diego, Calif. — N.-Y. — 1988. v. 2. — P. 1-7.
317. Fridlung A.J., ScwardzG.E., Fowler S.C. Pattern recognition of self-reported emotional state from multipiesite facial EMG activity during affective imagery //Psychophysiblogy. — 1984. — v. 21. — N 6. — P. 622-637.
318. Frith C.D., Cawthron P. Skin conductance responces in absency of awareness //Biol.Psychol. — 1980. — v. 11. — N 3-4. — P.276.
319. Halgren E., Smith M..E. Cognitive evoked potentials as modulatory processes in human memory formation and retreival // Hum.Neurobiol. — 1987. — v. 6. — N 2. — P. 129-139.
320. Hammond G.R., Jordan P.M. Bilateral electrodermal activity during performance of cognitive tasks of varying difficulty levels // Physiol.Psychol. — 1983. — v. 11. — N 4. — P. 256-260.
321. Hammond E.J., Meador K., Wilder B.J. Role of the cholinergic system in the generation of human cognitive evoked potentials // Electroencephal.andClin.Neurophysiol. — 1985. — v. 61. — N 2. — P. 32-33.
322. Harpur T. J., Williamson S. E., Farth A. A quantative assessment of resting EEG in psychopathic and nonpsychopathic criminals // Psychophysiology. — 1986. — v. 23. — N 4. — P. 439.
323. Haschke W. EP und ERP: neurophysiologische grundlagen, analyse und schusse //Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. — Jena: Naturwiss.R. — 1985. —v. 34. -N 1., Bd. 104-108.
324. Heider M., Gangberger J., Groll-Knapp E. e.a. Event-related slow (DC) potentials in cortical and subcorical structures of the human brain //Wiss.Z.KarlMarx-Univ. -Leipzig,: Math-Naturwiss.R. -1980. -N3.-Bd.211-220.
325. Heinrisch B., Learning in invertebrates //Biol.Learning, ed. Berlin e.a. — 1984. — P. 135-147.
326. Heinze H.J., Munte T.F., Kunbel H. e.a. Methodische aspekte bei der analyse von farmakaeffecten (diazepam und Koffein) auf die contingent negative reaction //EEG-EMG. — 1985. -v. 16. — N 2. -P. 69-74.
327
И.В. СМИРНОВ _
327. Hess Е.Н. Imprinting //Science. — 1959. — N 130. — Р. 133-141.
328. Hess E.H. Imprinting in birds//Science. — 1964. — N 146. — P. 1128-1139.
329. Heyer K., Briand K. Priming single digit numbers: automatic spreading activaition dissipates as a function of semantic distance // Amer.J.Psychol. — 1986. v. 99. — N 3. -P. 315-340.
330. Hoffman R.E. Verbal hallutinations and language processes in schizophrenia //Behav. and BrainSci. — 1986. — v. 9. — N 3. -P. 503-548.
331. Holender D. Semantic activation without conscious identification in dichotic listening, parafoveal vision and visual masking //Behav and Brain Sci. — 1986. -v. 9. — N 1. — P. 1-66.
332. Hurlbut B.J., Lubar J.F., Statterfield S.M. Auditory elicitation of the P300 event-related evoked potential in the rat //Physiol, and Behav. — 1987. — v. 39. — N 4. — P. 483-487.
333. Immelmann K. The natural history of bird learning // Biol.Learning, ed Berlin e.a. — 1984. — P. 271-288.
334. Israel J.B., Wickens C.D. e.a. The event-related brain potential as an index of display-monitoring workload //Hum.Fact. — 1980. — v. 22. —N 2. —P. 211-224.
335. James H. Flicker: an unconditioned stimulus for imprinting // Canad.J.Psychol. — 1959. — N 13. — P. 59-67.
336. Janes C.L. Electrodermal recovery and stimulus significance //Psychophysiology. — 1982. — v. 19. — N 2. — P. 129-135.
337. Jensen H. Amnestic effects of diazepam: «drug dependence» explained by state-dependent learning //Scan. J.Psychol. — 1982. — N2. — P. 107-111.
338. Johnson M.N., Bolhuis J.J., Horn G. Interaction between acquired preferences and developing preispositions during imprinting //Anim.Behav. — 1985. — v. 33. — N 3. — P. 1000-1006.
339. Johnson R., Pfefferbaum A., Koppel B.S. P300 and long-term memory: latency periodics recognition performance //Psychophysiol. 1985. — v. 22. — N 5. — P. 497-507.
340. Gardner B.T., Gardner R.A. Signs of intelligence in crossfostered chimpanzees //Fil.Trans.Roy.Soc.London. — 1985. — B. 308. — N 1135.-P. 159-176.
341. Gerring R.J., Bower G.H. Emotional influences on word recognition //Bull.Psychonom. — 1982. — v. 19. — N 4. — P. 197-200.
342. Gibbs M.E., De Vaus J., Ng K.T. Effect of stress-related 328
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
hormones on short-term memory //Bahsv.BrainRes. — 1986. — v. 19 — N1. —P. 1-6.
343. Giblin P.T. Methodologiesof affective classification // J.Genet.Psychol. — 1985. — v.146. — N 2. — P.217-226.
344. Gigli G.L., Colognols R.M., Musumesi S.A. Sonno, appendimento e fumhioni intelletive: revisione della letteratura ed ipotesi interpretative //Arch.Psychol.Neurol. e Psychiat. 1985. — v. 46. — N 2. — P.285-304.
345. Gold P.E., Weinberger N.M., Sternberg D.B. Epinephrine-induced learning under anaesthesia: retention performance at several training-testing intervals //Behav.Neurosci. — 1985. — v. 99. — N 5. — P. 1019-1022.
346. Greenough W.T. Structural correlates of information storage in the mammalian brain: a review and hypothesis //Trends Neurosci.-1984. — v. 7. — P. 229-233.
347. Grigg M.M., Kelly M.A., Celesia G.G. Electroencephalographic activity after brain death //Srch.Neurol. — 1987. — v. 44. — N 9. — P. 948-954.
348. Gustafson L.A., Orne M.T. Effects of heightened motivation on the detection of recepcio //J.Appl.Psychol. — 1963. — v. 47. — N 6. — P408.
349. Kitterie F.L. Psychophysics of lateral tachistoscopic presentation //Brain and Cogn. — 1986. -v. 5., N 2. — P. 131-162.
350. Knudsen E.I., Knudsen P.F. The sensitive period for auditory localization in barn owls is limited by age, not by experience // J.Neurosci. — 1986. — v. 6. — N7.- P. 1918-1924.
351. Kok A., Roolijakkers J.A.J. Comparison of event-related potentials of young children and adults of a visual recognition and word reading task //Psychophysiol. — 1985. — v. 22. — N 1. — P. 11 -23.
352. Kok A., Vijver R., Bouma A. Effects of visual field and matchinginstruction on event-related potentals and reaction time // Brain and Cogn. — 1985. — v.4. — N 4. — P. 377-387.
353. Koukkou M., Buttmann H. Electroenzephalographische studien der informationvereibeitung bei akuten und ehemaligen schizophrenen patientes, nevrotikern und psychisch gesunden // Forsch.Bol.Psychiat. 2 Kongr.Disch.Ges.Biol.Psychiat., Duesseldorf, 1982. — Berlin. - 1984. - S. 35-40.
354. Kramer A., Sneider W., Fisk A., e.a. The effects of practice and task structure on components of the event-related brain potentials //Psychophysiol. — 1986. — v. 23. — N 1. — P. 33-47.
329
И.В. СМИРНОВ
355. Rugelmass S., Lieblich I. Effects of realistic stress and procedural interference in experimental lie detection //J. Appl. Psychol. — 1966. — v. 50. — N 3. — P. 211.
356. Kutas M., Hillvard S.A. Event-related potentials in cognitive science //Handb.Neurosci. — N.Y-L. — 1984. — P. 387-409.
357. Laming D. Some principles of sensory analysis//Psychol. Rev. — 1985. — v. 92. — N4. — P. 462-480.
358. Lazarus R.S., McCleary R.A. Autonomic discrimination without awareness: a study of subception //Psychol.Rev. — 1951. — N 58. — P. 113-122.
359. Lee T.M., Moltz H. At what age do rat young stop responding to oaternal, pheromone? //Physiol.and Behav. 1985 v.35, N3. p. 355-359
360. Lehmann D., Skandies W., Spacial analysis of evoked potentials in man //Rev.Proc.Neurobiol. — 1984. — v. 23. — N 3. — P. 227-250.
361. Leight K. Emotional mood sates, stratiques and state dependent in memory //J.Verbal Learn.Behav. — 1981. — N 3. — P. 251-266.
362. Lesser R.R The 1985 revision of guidelines in electroencephalography//Amer. J.EEG Technol. — 1987.- v. 27. — N 2.-P. 103-109.
363. Levinson D.F., Edelber R. Scoring criteria for responce latency and habituation in electrophysiologic research: a critique // Psychophysiology. — 1985. — v. 22. — N 4. — P. 417-426.
364. Levis D.J. Experimental and theoretical foundations of behaviour modification //Int.Hand.Behav.Modif. and Therapy. — N.Y — L. — 1985. — P. 33-56.
365. Libet B. Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action //Behav. and Brain Sci. — 1985. — v. 8. — N 4. — P. 527-566.
366. Ljubin C., Greguric M. Neka Svojstva audiomotornogo refleksa imogucnosti klinickeprimjere//An.Clin.Doln. dr. M.Stojanovic. -1985. -v.24. -N2.-P.129-138.
367. Lorenz K. Der Kumpan in der umwelt des vogels //J.Ornithol. - 1935. — N 83. — S. 137-213, 289-413.
368. Lowitzsch K. Visuell evozierte potentiate (VEP) — praktische durhuhrung und normwerte //EEG-Labor. — 1986. v. 8. — N 4. — R 141-151.
369. McCabe N.R., Rose S.P.R. Passive avoidance training Ззо
психоэкология
increases fucose incorporation into glicoproteins in chick forebrain slices in vitro //Neurochem.Res. — 1985. — v. 10. - N8.-P. 1083-1095.
370. McGinnes E. Emotionality and perceptual defense // Psychol.Rev. — 1949. — N 56. — P. 244-257.
371. McGinnes E., Sherman H. Generalization of perceptual defense //J.Abnorm.Psychol. — 1952. — N 47. — P. 81-85.
372. Maltzman I., Langdon B. Novelty and significance as determiners of the GSR index of the orienting reflex //Physiol.Psychol. — 1982. — v. 10. — N 2. — P. 229-234.
373. Maltzman I. Vincent C., Wolff C. Verbal condidtioning, task instruction and inhibition of the GSR measure of the orienting reflex / /Physiol.Psychol. — 1982. -v. 10. — N 2. — P. 221-228.
374. Mantanus H., Timsit-Wertheim R., Fausneux B. Ya-t-ll une correelation entre les phases de la VCN et le spectre de salivary technique //Science. — 1939. — N 90. — P. 89-90.
375. Nolfese D.L. Electrophisiological correlates of semantic features //J.Psycholing.Res. — 1985. — v. 14. — N 3. — P. 289-299.
376. Osgood C.E., Suci G.J., Tannenbaum P.H. The measurement of meaning. — Urbana: Illinois Press. — 1957. — 342 P.
377. Patterson K. Lexical but nonsemantic spelling? //Cognit. Neuropsychol. — 1986. — v. 3. — N 3. — P. 341 -367.
378. Pfurtscheller G., Schwarz G., List W. Brain death and dielectrical brain activity //Intens.care Med. — 1985. — v. 11. — N 3. — P. 149-153.
379. PitchardW.S., Brandt M.E., O’DellT. e.a. Individual differences in visual event-related potentials: P300 cognitive augumentive/ reducing parallels N100 sensory augumenting/reducing // Int.J.Psychophysiol.-1985.-V.3. — N 1. — P. 49-56.
380. Polish J. Semantic categorization and event-related potentials //Brain and Lang. — 1985b. — v. 27. — N 2. — P. 304-321.
381. Polish J. N400s from sentences, semantic categories, number and letter string //Bull.Psychonom.Soc. — 1985a. — v. 23. — N 4. — P. 361-364.
382. Polt J.M., Hess E.H. Following and imprinting: light and social experience//Science. — 1964.-v. 143. — R 1185-1187.
383. Pribram K.H. Holonomic brain theory //New trends Exp. and Ciin. Psychiat. — 1989. — v. 5. — N 1. — P. 53-78.
384. Quinn W.G. Work in invertebrates on the mechanisms underling learning //Biol.Learning, ed. Berlin e.a. — 1984. — P. 197-246.
331
И.В. СМИРНОВ _
385. Radilova J., Figar S., Radii T. Emotional states influence the visual evoked potentials //Activ.Nerv.Super. — 1984. — v. 26. — N 2. — R 159-160.
386. Radii T., Bohdanecky Z., Radilova J. e.a. Physiological state influences perceptive and cognitive processes //Physiol. Bohemia. -1985,-v. 24.- Suppl.-P. 126-127.
387. Razran G. A quantative study of meaning by conditioned salvary technique//Science. — 1939. — N 90. — P. 89-90.
388. Razran G. Semantic and phonetographic generalization of salivary conditioning to verbal conditioning to verbal stimuli //J. Exp.Psychol. — 1949. — v. 39. — P. 342.
389. Regan D., Spekreijse H. Evoked potentials in vision research 1961-1986 //Vision Res. — 1986. —v. 26. -N9.-P. 1461-1480.
390. Renault B., Lesevre N. Relations entre les composantes endogenes des potentiels evoques (N200 — P300) et le traitement de I’information dans une tache de temps de reaction de choix chez I’homme//Psychol.Frans. — 1980. —v. 25. — N 1. — P.74.
391. Reuter B.M., Linke D.B. Stehen kognitive prozesse in bezieung zur EEG-a-phase eine experimentelle studie zu P200 //EEG-EMG. — 1987.— Bd. 18. —N 2,—S. 58-60.
392. Robertson C. A measure of categorical clustering based upon amodelof recall ordering//Brit J.Mat. and Stat. Psychol.-1985.—v. 38. — N2. — P. 141-151.
393. Rockstroh B., Elbert T, Lutzenberger W. e.a. The effects of slow cortical potentials on response speed //Psychophysiology. — 1982,—v. 19. — N 2. — P. 211-217.
394. Roth N., RosherG., Heine A. Memory recall after “subliminal” stimuli: psychophysiological analysis //Activ.Nerv.Sup.-1988.- v. 30. — N2. — P. 130-132.
395. Ruckin D.S., Sutton S., Kletzman M.L. Slowwaveand P300 in signal detection //Electroenceph.and Clin.Neuurophysiol. — 1980. -v.50. -N1-2.-P. 35-47.
396. Ruckin D.S., Sutton S. Mahaffey D. Functional difference between members of the P300 complex: P4E and P3B // PsechophysioL -1987. -v.24. -N1. -P.87-103.
397. Rugg N. D. The effects of semantic priming and word repetition of event-related potentials //Psychophysiology. — 1985. — v. 22. — N 6. — P. 642-647.
398. Sahley C.L. Behavioral theory and invertebrated learning // Biol.Learning, ed. Berlin e.a. — 1984. — P. 181-196.
332
психоэкология
399. Samuel A.G., van Santen G.P.H., Johnson J.C. Length effects in word perception //J.Exp.Psychol.: Hum.Percept, and Perform. — 1983. —v. 9. — N 2. — R 318-320.
400. Scatter H.R., Callender W.M. Psychologic effects of hospitalization in infancy //Pediatrics. — 1959. — N 24. — P. 528-539.
401. Schandry R., Sparrer B., Elton M. Correlation beyween P300 and GSR in a habituation experiment //Psychophysiol. — 1982. — v. 19. — N 5. — P. 583-585.
402. Schwartz M., Rem M.A. Does the averaged evoked response encode subliminal perception? Discussion on the papers by H.Shervin e.a. //Psychophysiol. — 1975. — v. 12. — N 4. — P. 390-394.
403. Schwartz M., Shagass C. Physiological limits for «subliminal» perception//Science. -1961. — N 133. — P. 1017-1018.
404. Scott J.P. Critical periods in behavioral development // Science. -1962. —v. 138. — N 3544. — P. 949-959.
405. Scott J.P. Animal behaviour. — Chicago. — 1958. — P. 183-190.
406. Scott J.P., Fuller G.L. Genetics and the social behaviour of the dog. — Chicago — L. — 1965. — 101 P.
407. Shaffin R., Herrmann D.J. The similarity diversity of semantic relation //Mem.and.Cogn. — 1984. — v. 12. — N 2. — 134-141.
4O8. ShapellS.A., Pritchard W.S., Brandt M.E. Thespecifityof N400 to semantic nismatches //Psychophysiol. — 1986. — v. 23. — N 4. — P. 460.
409. Shevrin H., Fritzler D.G. Visual evoked potential response correlates of unconscious mental processes//Science. — 1968. — N 161, —P. 295-298.
410. Shevrin H. Neurophysiological correlations of psychodinamic unconscous processes //Бессознательное, т.1. — Тбилиси, Мец-ниереба,-1978, С. 676-691.
411. Shevrin Н., Williams W.J, Marshall R.E. System for assessing verbal psychobiological correlates — US Patent N 4699153. — 1987.
412. Sergent I. Prolegomena to the use of the tachistoscope in neurophysiological research //Brain and Cogn. — 1986. — v. 5. — N 2. —P. 127-130.
413. Silverman A., Baker L.E. An attempt to condition to various responces to subliminal electrostimulation //J. Exp. Psychol. 1935.N18, p.246-254.
414. Simson R., Ritter W., Vaughan H.G. Effects of expectation on negative potentials during visual processing //Electroenceph. and Clin.Neurophisiol. — 1985. — v. 62. — N 1. — P. 25-31.
333
И.В. СМИРНОВ______________
415. Sluckin W. Imprinting and early learning. — L.: Spottiswood. — 1966. — 125 R
416. Smith B.M. The Polygraph //Sci.Amer.- 1967. — v. 216. — N 1. —P. 25.
417. Smith S.M. Background music and context-dependent memory//Am. J.Psychol. — 1985,- v. 98. — N 4. — R 591-603.
418. Solodkin M., Cardona A., Corsi-CabreraM. Paradoxical sleep augumentation after imprinting in the domestic chick //Physiol.and Behav. — 1985. — v. 35. — N 3. — P. 343-348.
419. Spear N.E. Behaviours that indicate memory: levels'of expression //Can.J.Psychol. — 1984. — v. 38. — N 2. — P. 348-357.
420. Squarez S.D., Gallup G.G. Open-field behaviour in chickens: a replication revivted //Behav. Process. — 1985. — v.10. — N 4. — P. 333-340.
421. Srebro R. Localization of cortical activity associated with visual recognition in humans //J.Physiol. (UK). — 1985. — N 360. — P. 247-259.
422. Staddon J.E.R. Animal psychology: the tyranny of anthropocentrism //Perspect.Ethol., v. 8. — N.Y.-L. — 1989. — P. 123-135.
423. Stowe S., Leader J.P. Learning in the isolated metathronic ganglion of the lochust (Loocusta migratoria L.) (Orthoptera) // Comp.Biochem.and Physiol. — 1975. — A52. — N 3. — P. 551-555.
424. Taylor E. Subliminal communication eperors clothes or panacea? //Las Vegas. Nevada 1990,123.
425. Wolf G. Zur Psychobiologie der Emotionen //Z.Psychol. — 1985. — Bd. 193. — N 4. — S. 385-396.
426. Zeller G., Multivariate beziehungsanalysen zu psychologischen parametrn und veranderungen der hirnelectrischen washaktivitat im rahmen visuell er suchprozesse //Z. Psychol. — 1986. — Bd. 194. — N 71. — P. 39-61.
427. ZettlerV.H., Knebel B. Die bedetung elektroenzephalographie fur diagnostik die akuten bewusseinstorungen //Anaesthesiol. und Reanim. 1985.— Bd. 10. — N 1. —S. 9-22.
428. Zing W.K., Wilson WJ? Attention discrimination and arousal during sleep //EEG and Clin. Neurophysiol. — 1966. — v. 20. — N 4. — P. 623-643.
429. Vallortigara G., Zanforlin M. Position arning in chicks // Behav. Process. — 1986. — v. 12. — N 1. — P. 23-32.
430. Vishnubhatla S. Information in the brain is due to tachyon waves / 334
психоэкология
/IEEEProc.lnt.Conf.Cybern.and Soc., Tuscon., Ariz.-N.Y —1985. — P.969-973.
431. Vodegel N. Abnormal behavioural in humans: a theoretical problem in practice //Neth.J.Zool. — 1985. — v.35. — N 1 -2. — P. 238-278.
432. Vorberg D. Unevartete folgen von zufalliger variabilitat: wettlauf-modelle fur den Stroop-versuch //Z.Exp.und Angew.Psychol. — 1985. — Bd. 32. — N 3. — S. 494-521.
433. Yokoi H., Saito M. A mathematical model of human memory //Proc. 37th Annu. Conf. Eng. Med. and Biol. Los Angeles, Calif., 1984, v. 26. — Bethesda: Md. — 1984. — P. 191.
Научное издание.
Смирнов И.В.
Психоэкология
Монография
Рецензент — профессор, д.м.н. ОАШевелев Художественный редактор доцент Е.Г.Русалкина Компьютерная верстка А.Н.Мицилов Технический редактор — доцент И.К.Нежданов
Все имущественные и личные неимущественные права на данное произведение монографию «Психоэкология» принадлежат автору Смирнову И. В., и охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Воспроизведение всего произведения или любой его части, а также иное использование произведения в любой форме и любым способом разрешается только с письменного согласия автора Смирнова И.В., за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
ООО «Издательский Дом «Холодильное дело» 127422, Москва, ул. Костякова, д.12, стр.21, оф.54 при техническом содействии ООО «Спецмонтажстрой-СТ».
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Рыбинский Дом печати» 152901, г. Рыбинск, ул Чкалова, 8