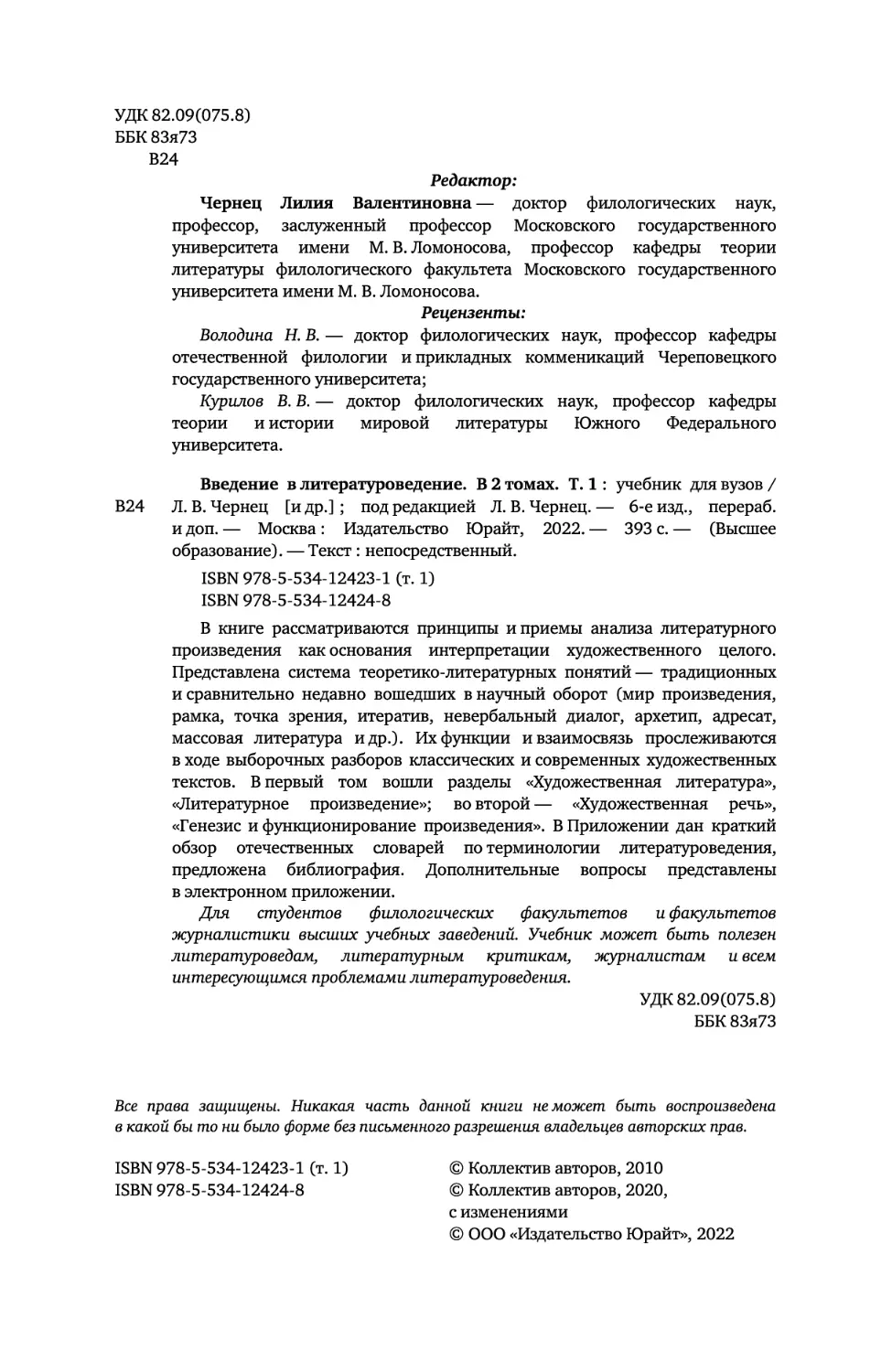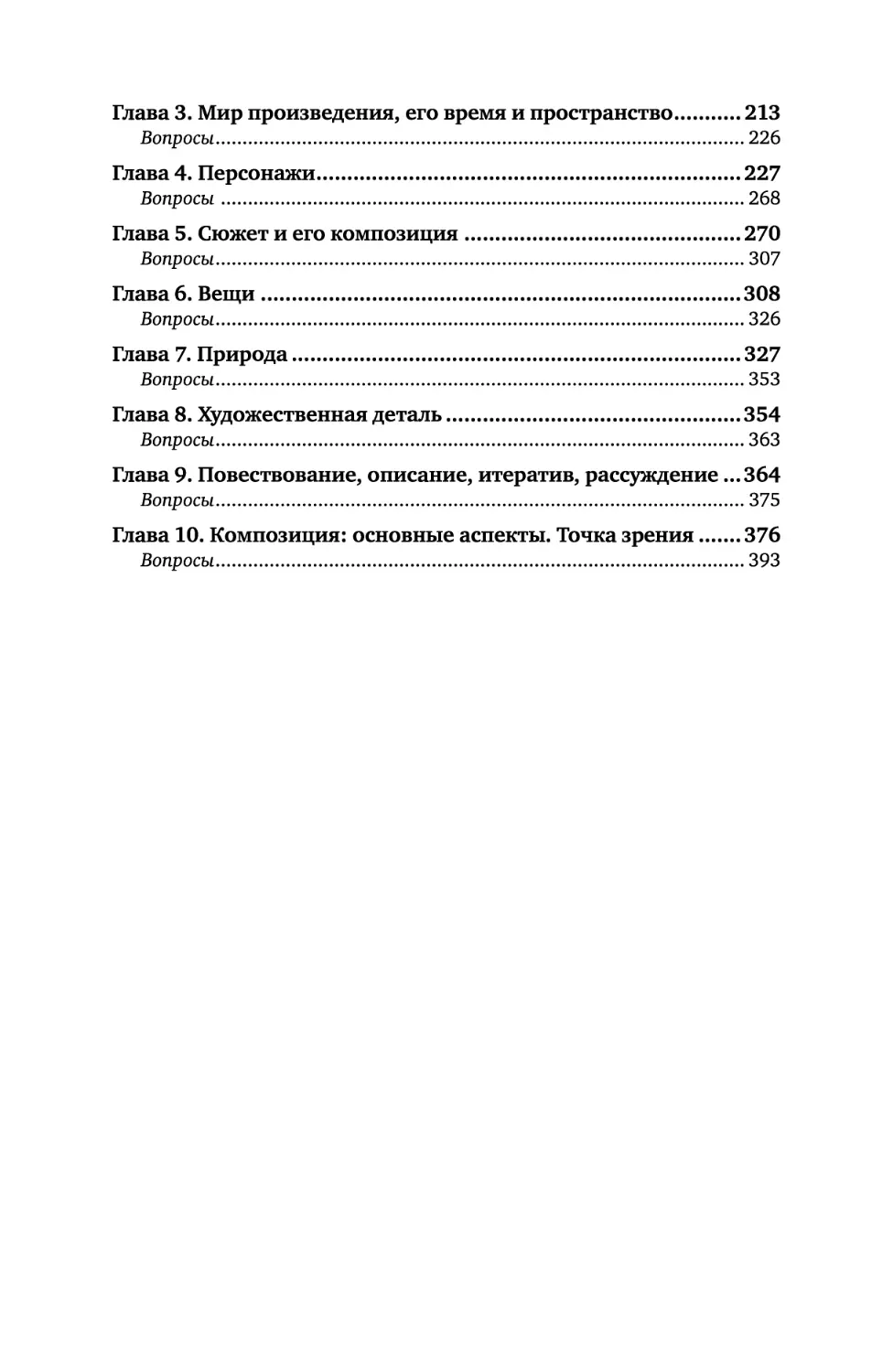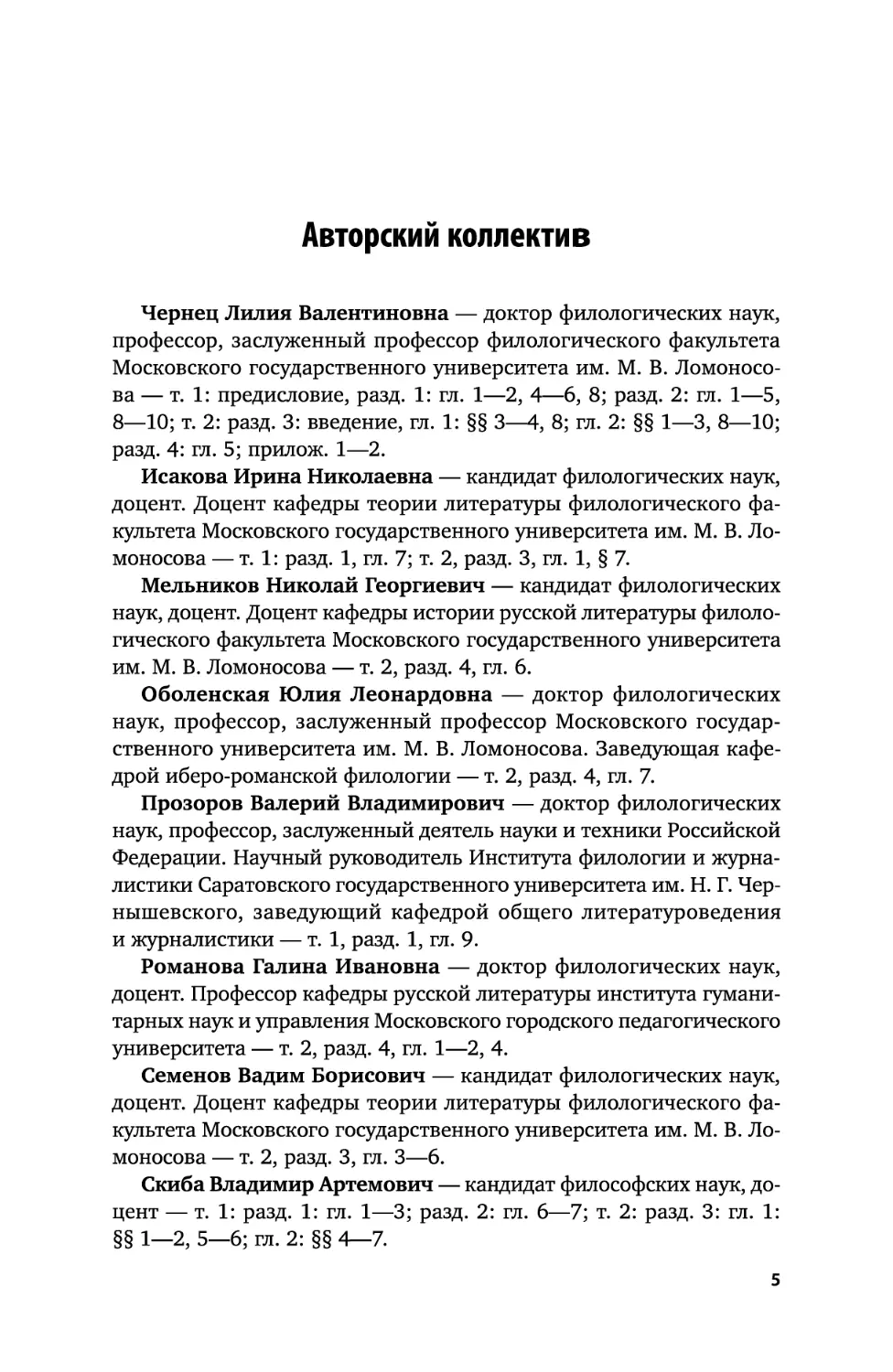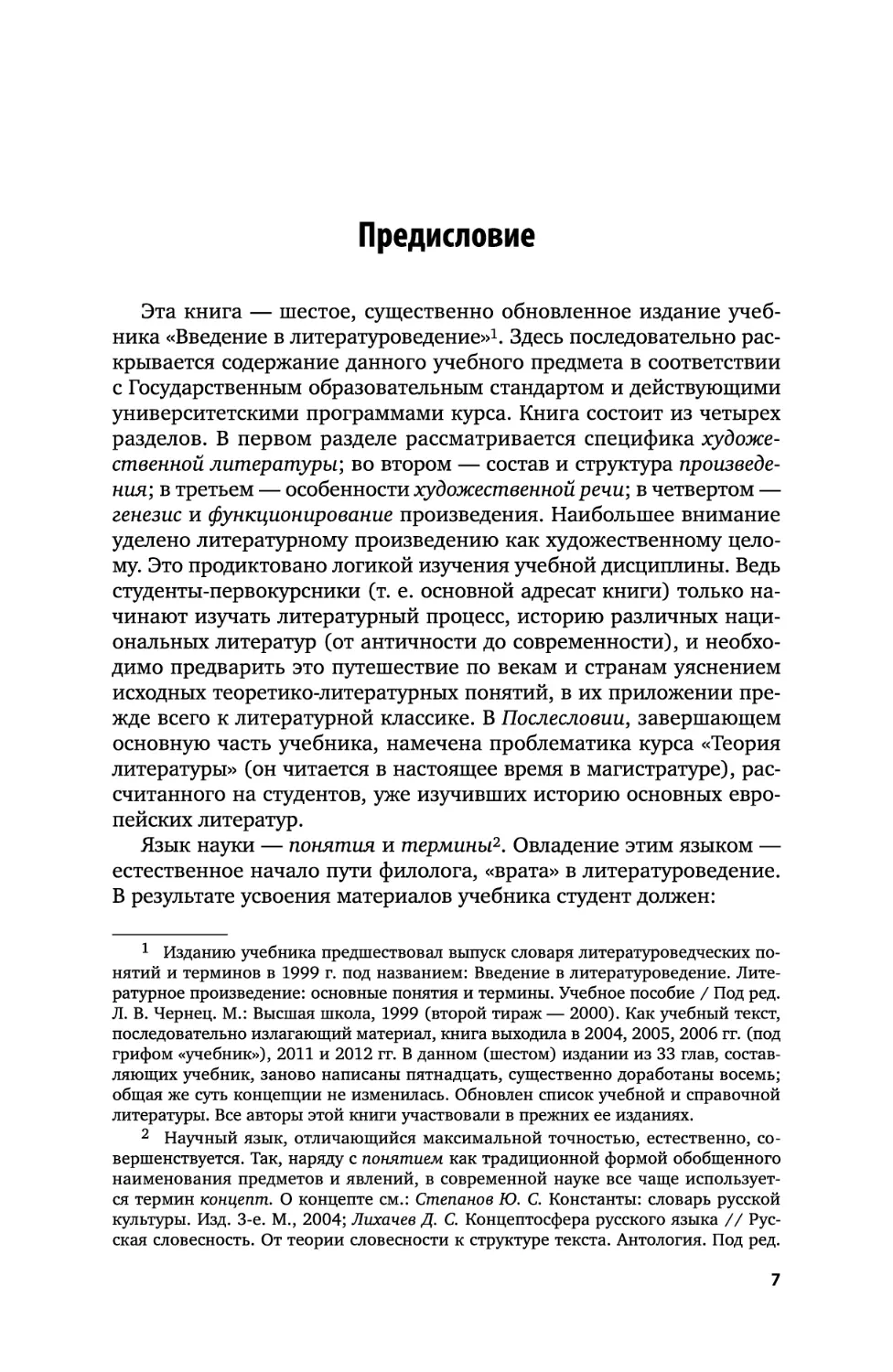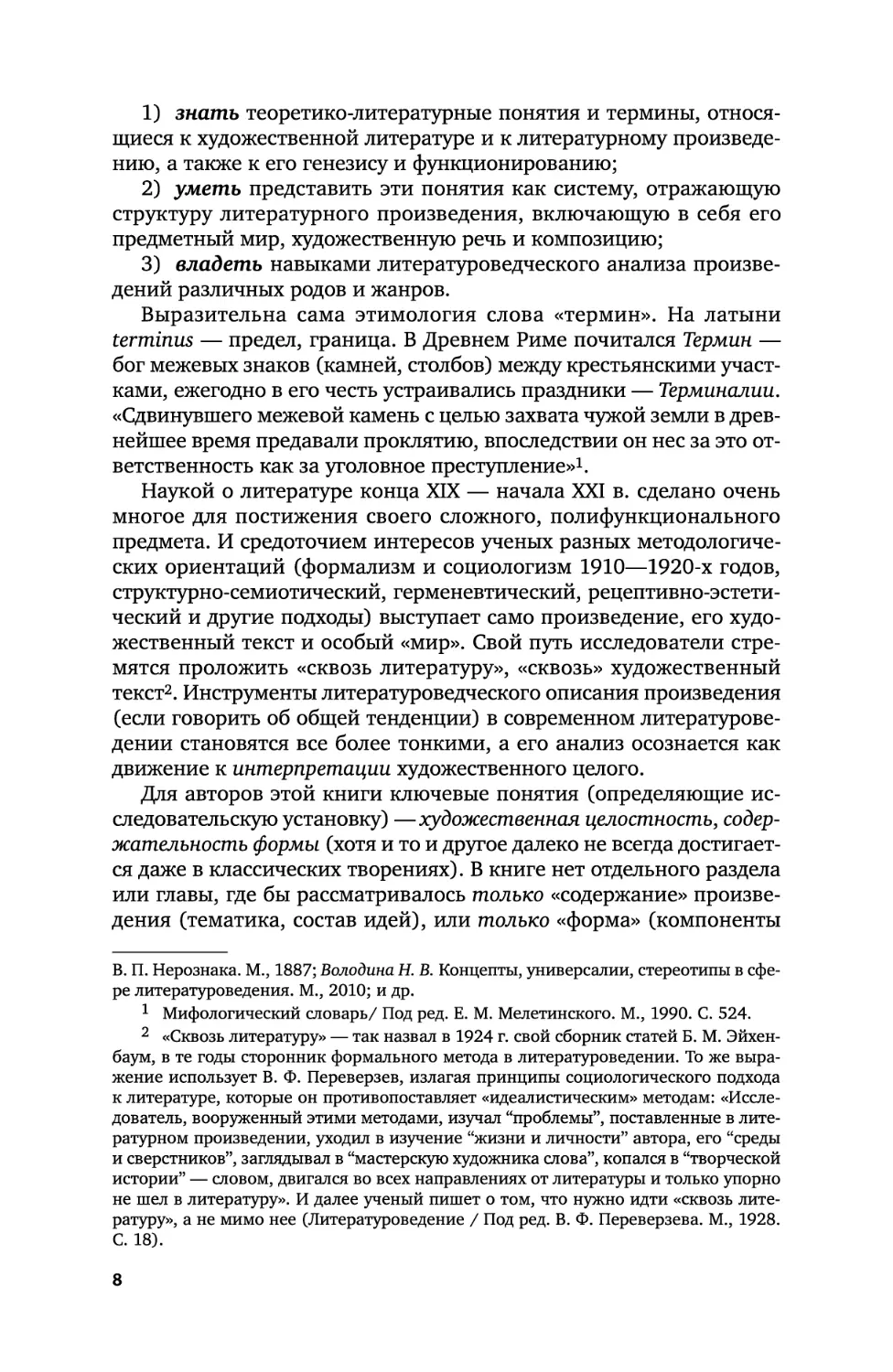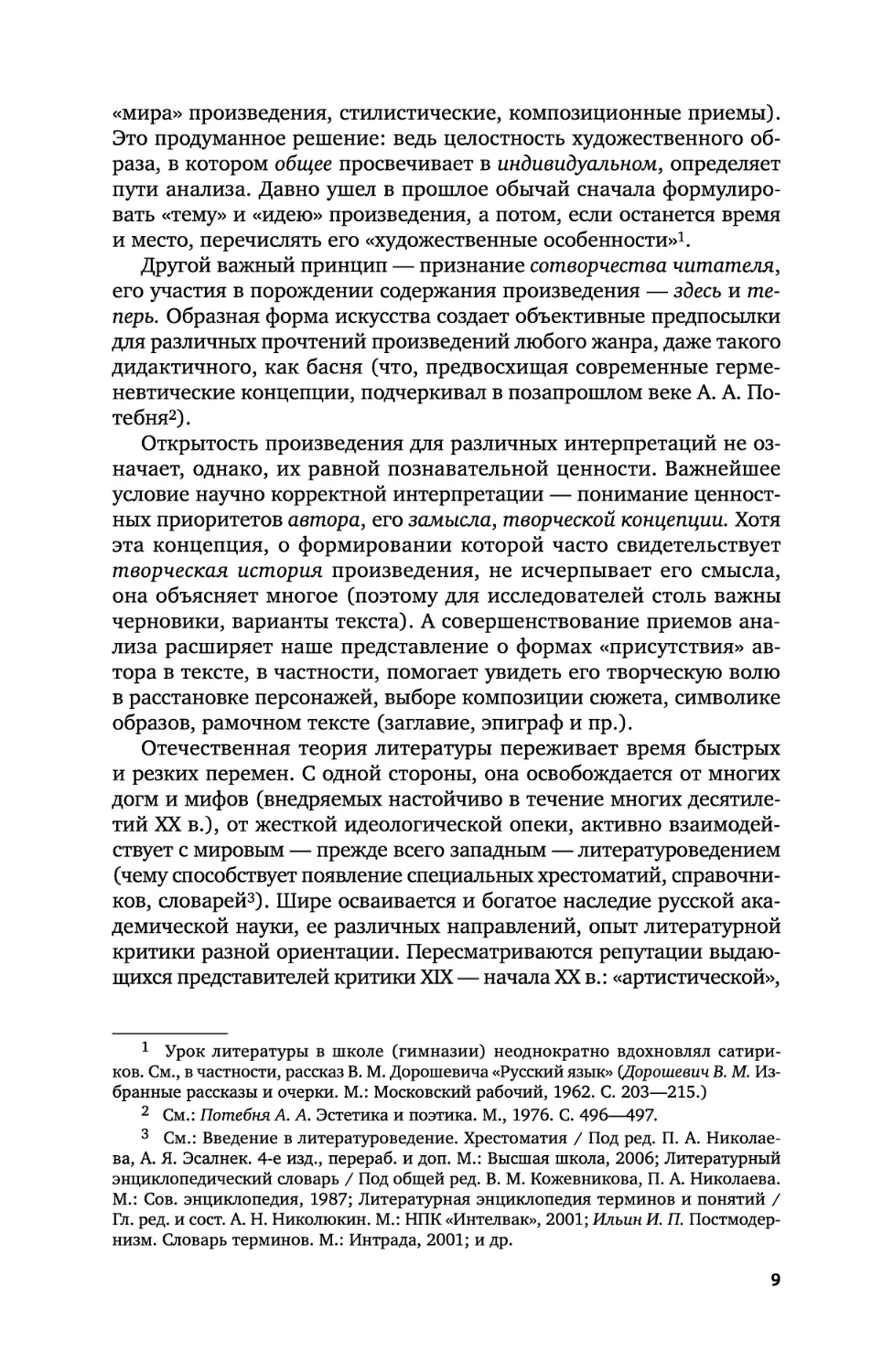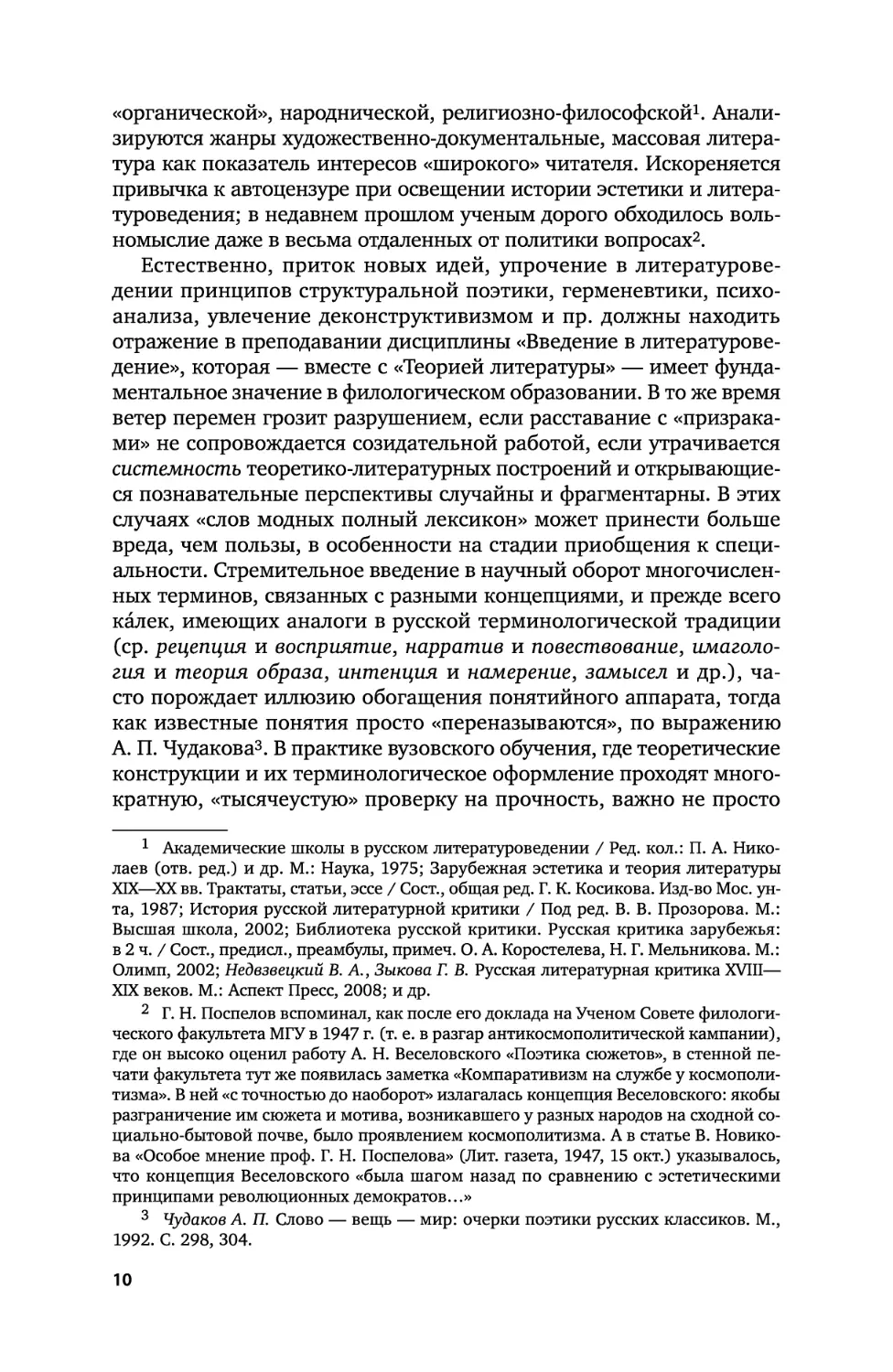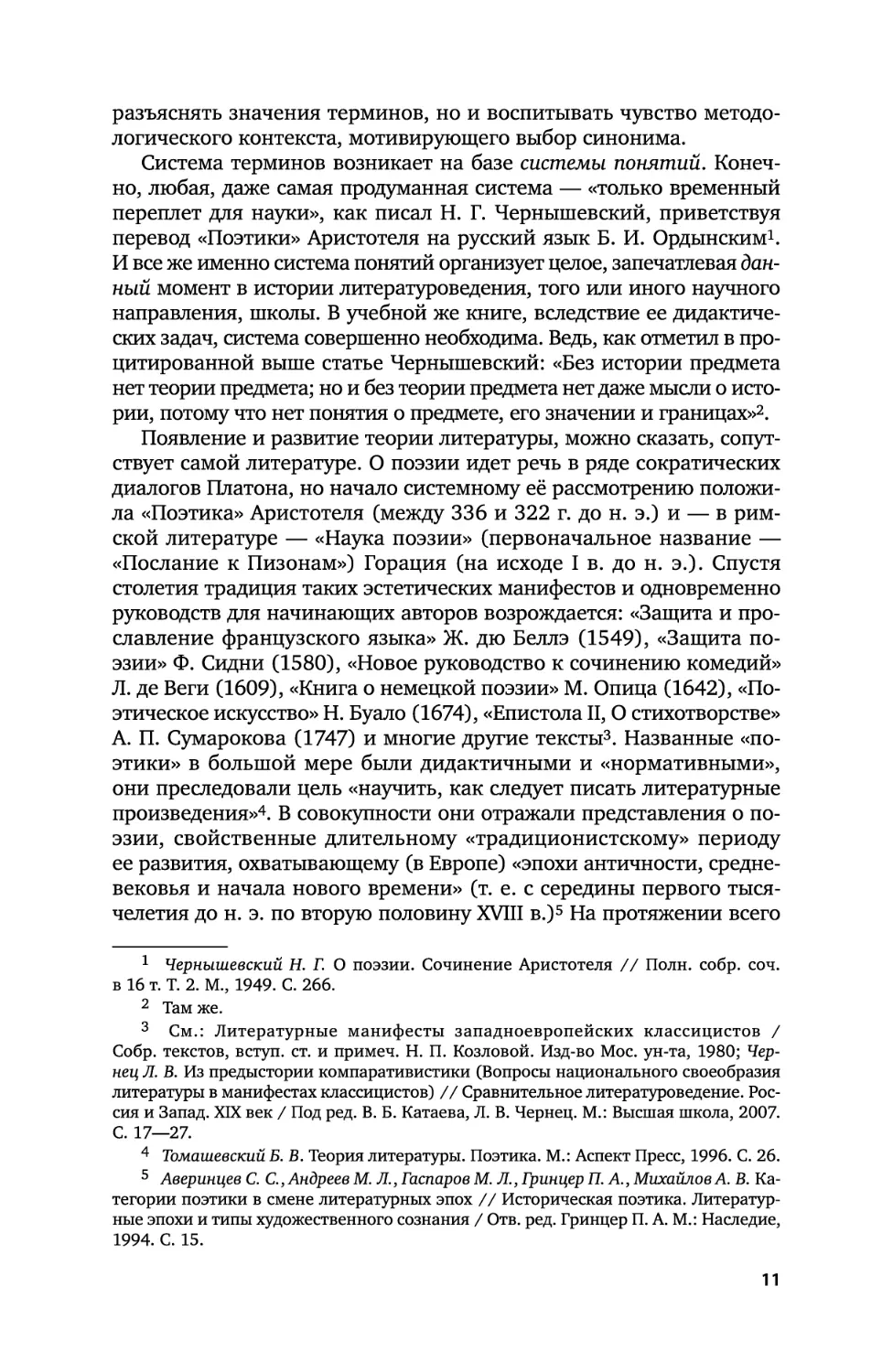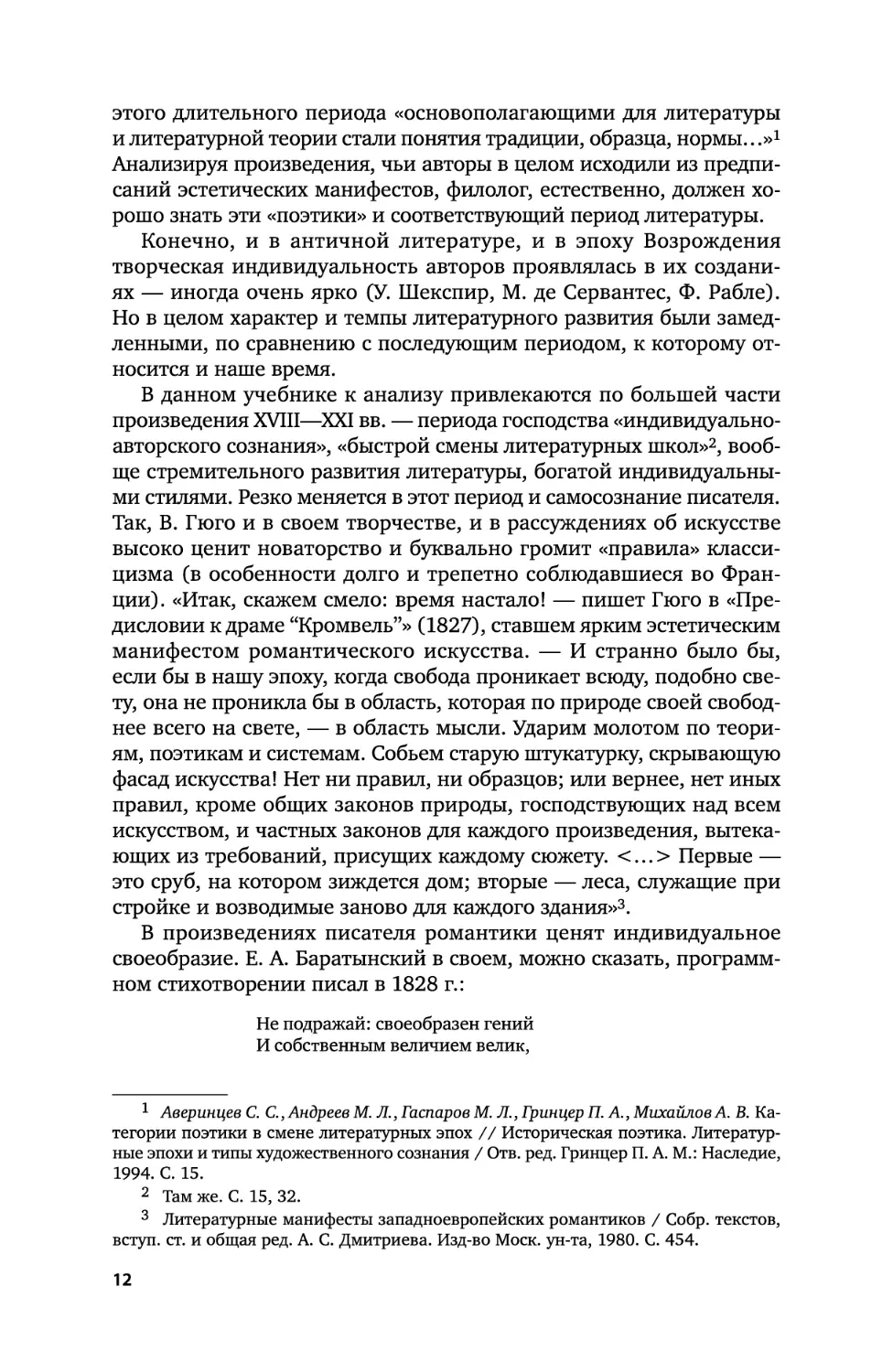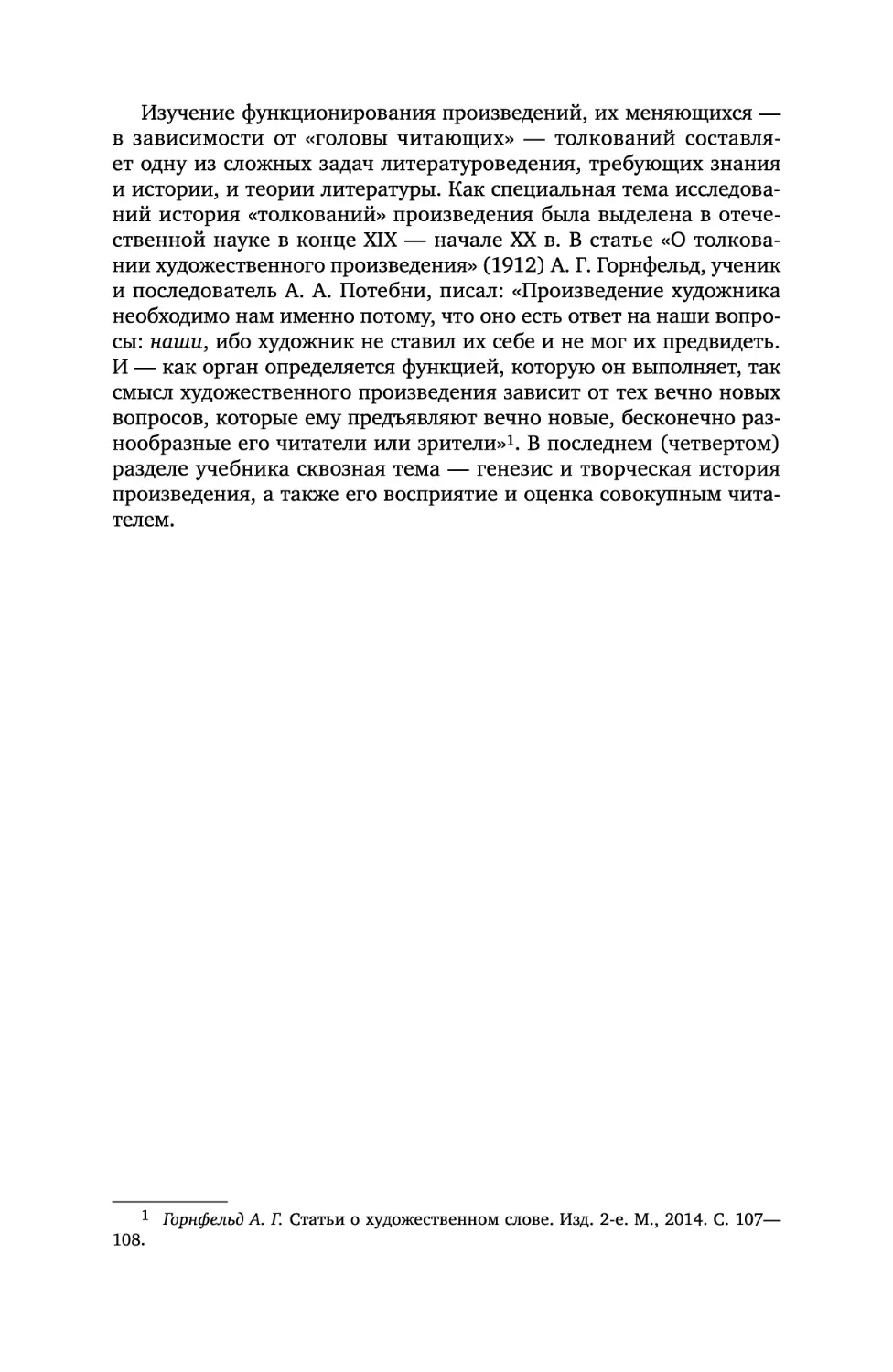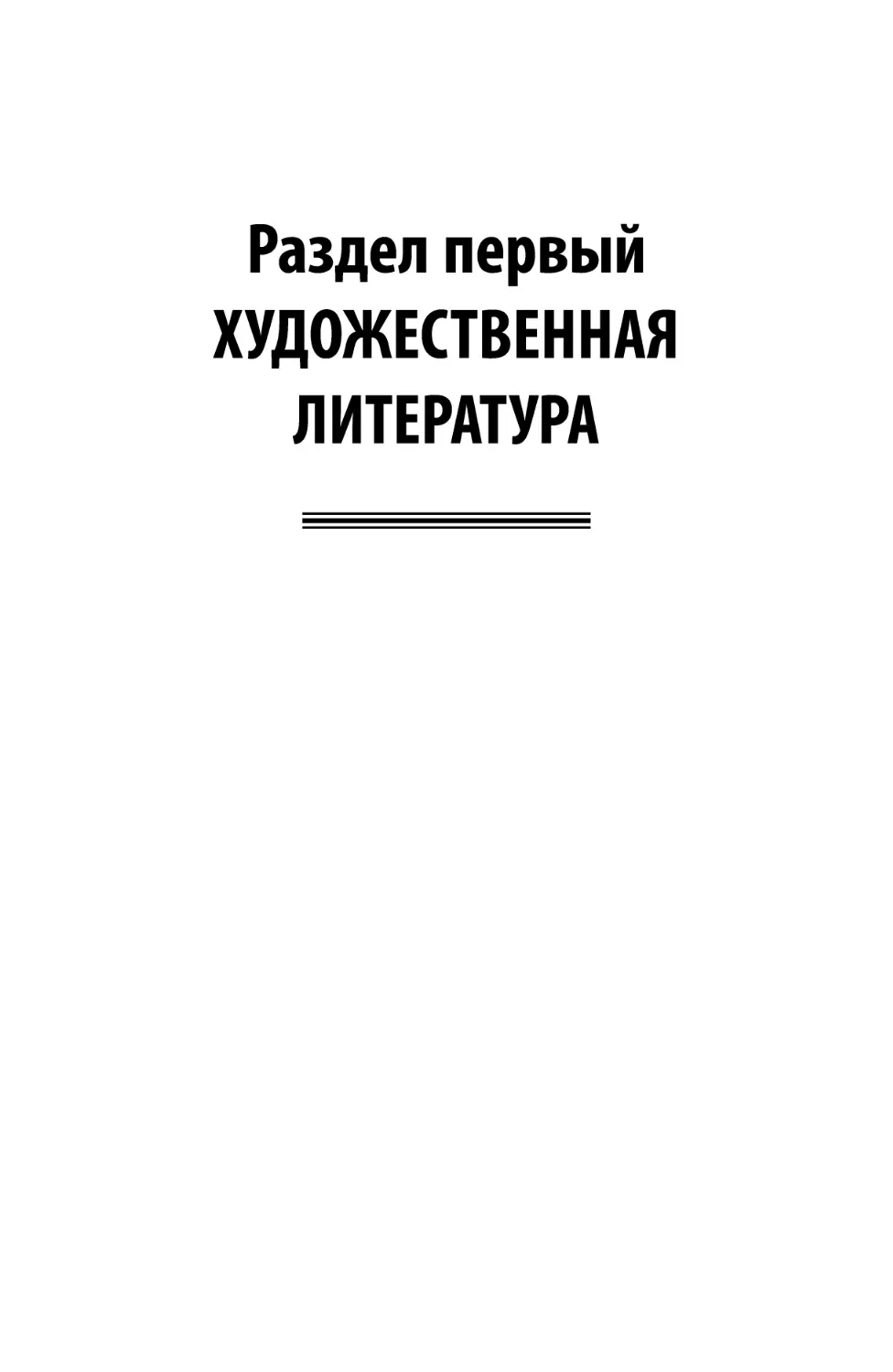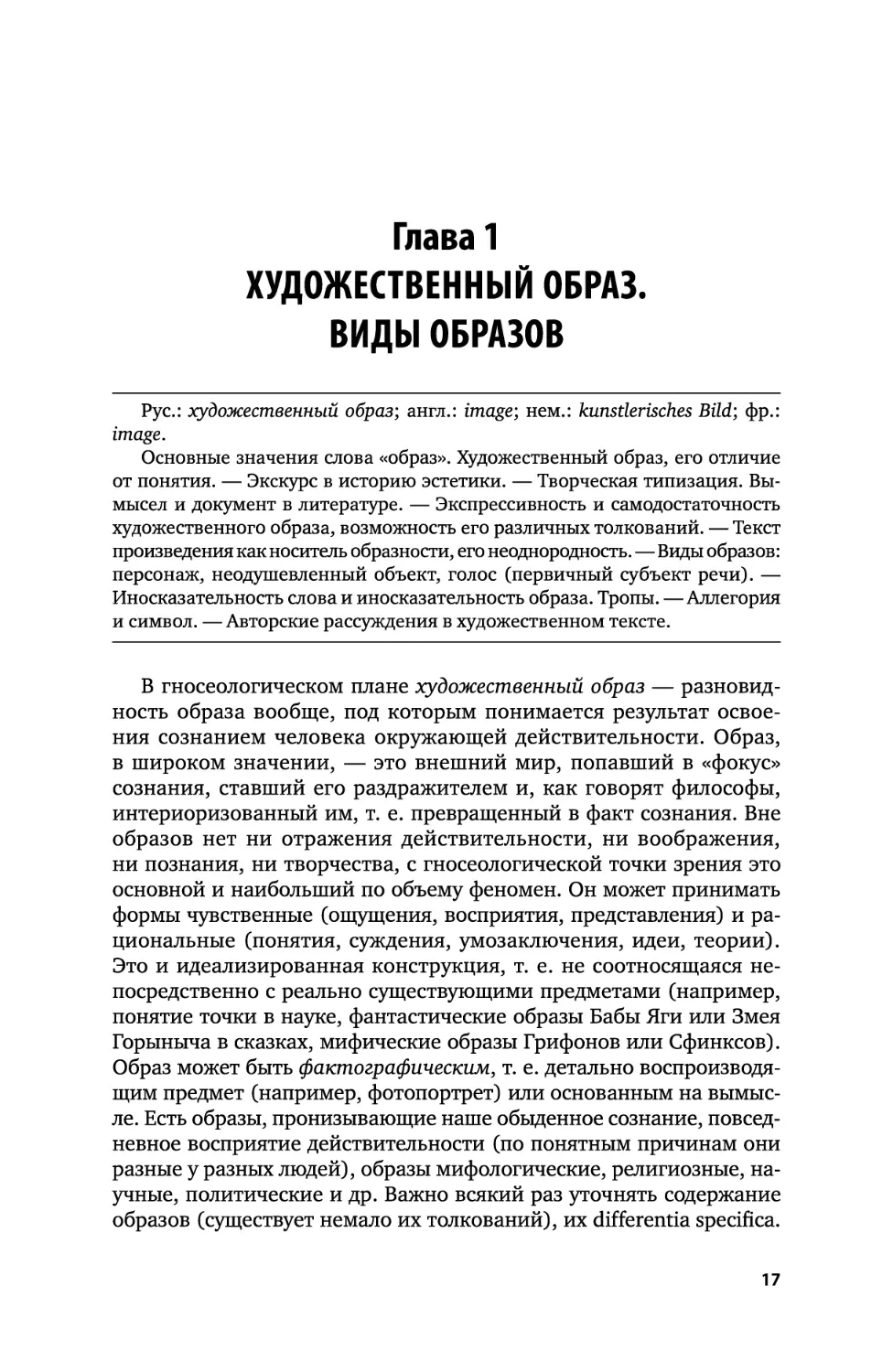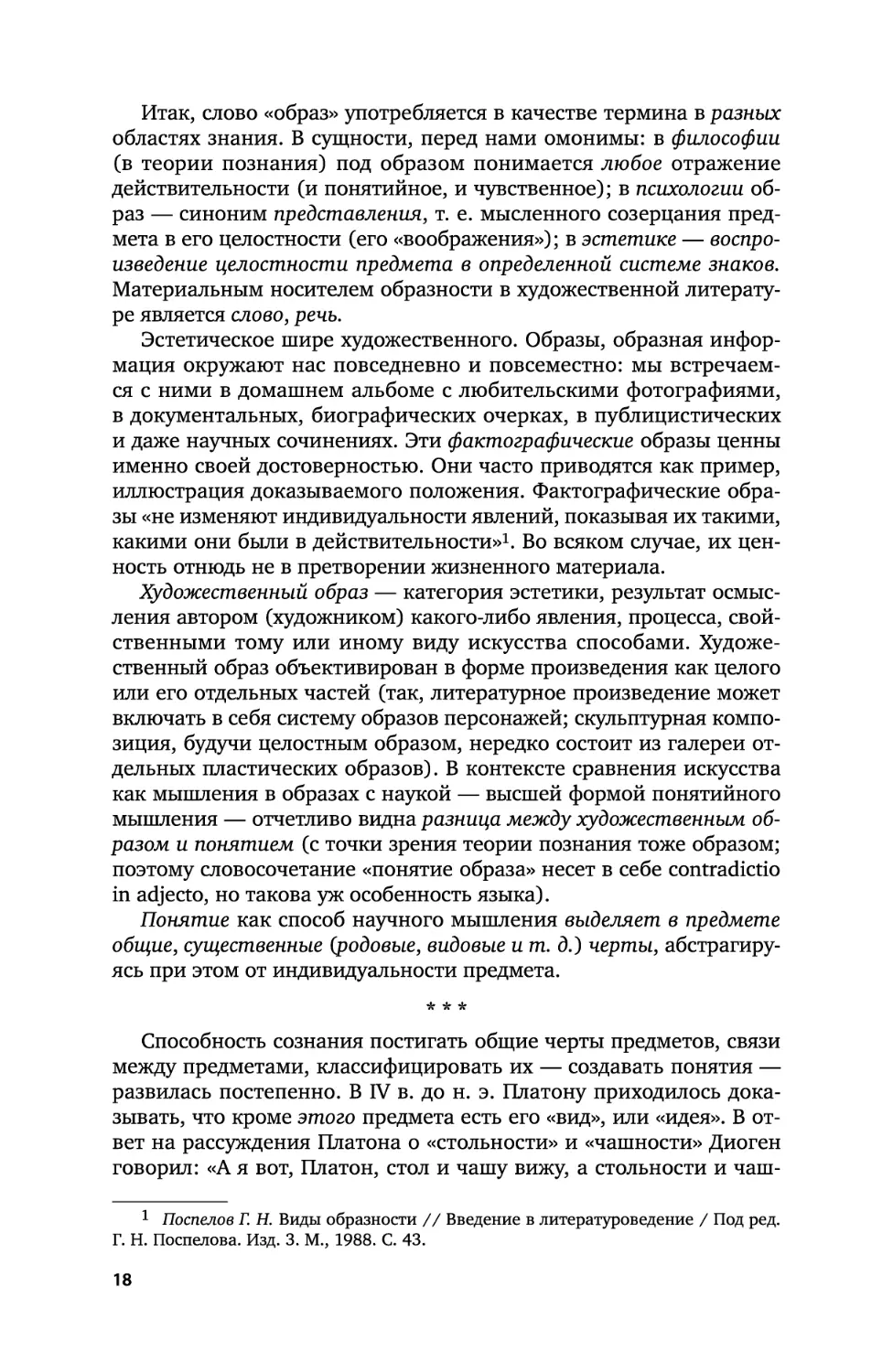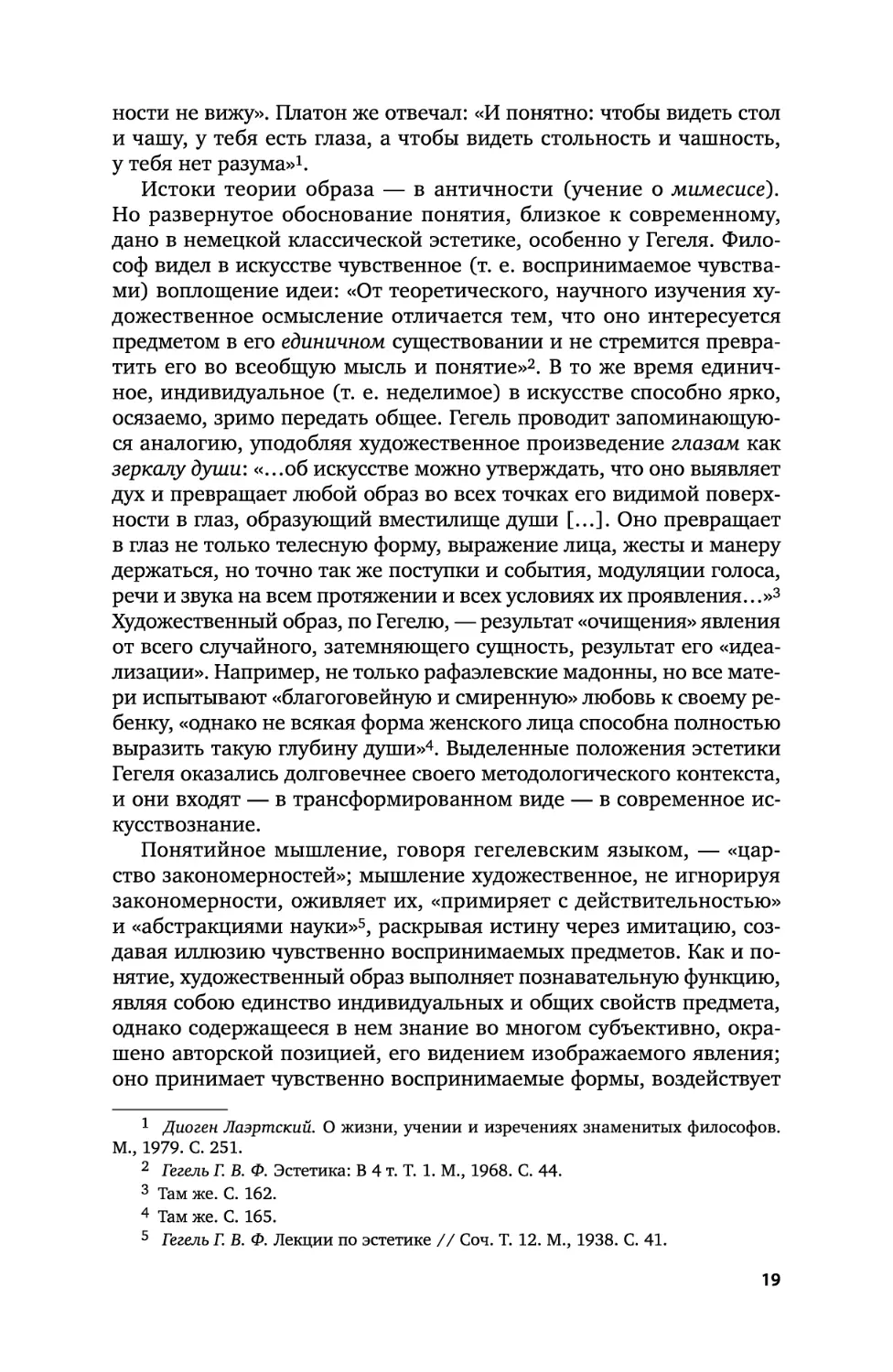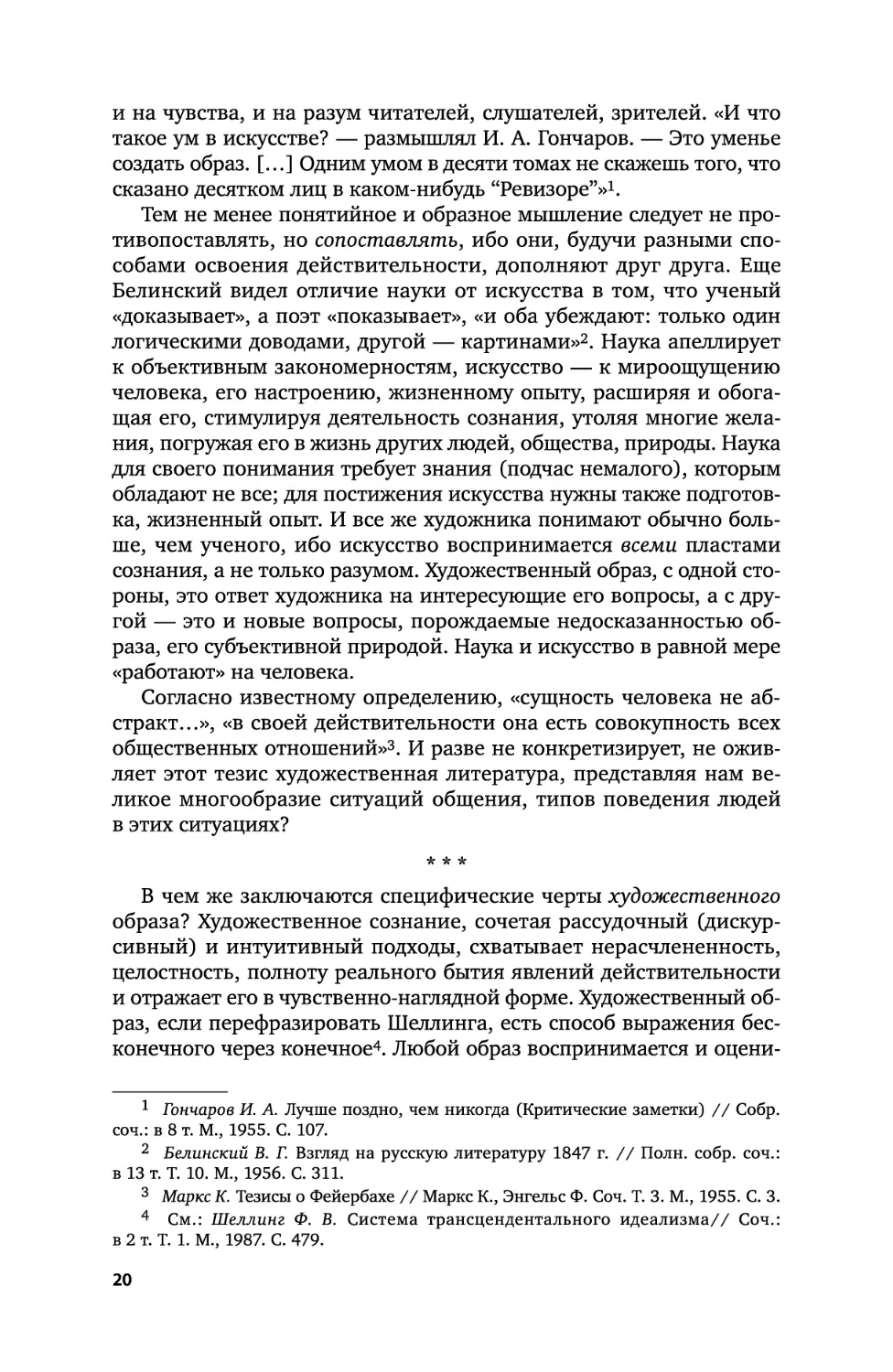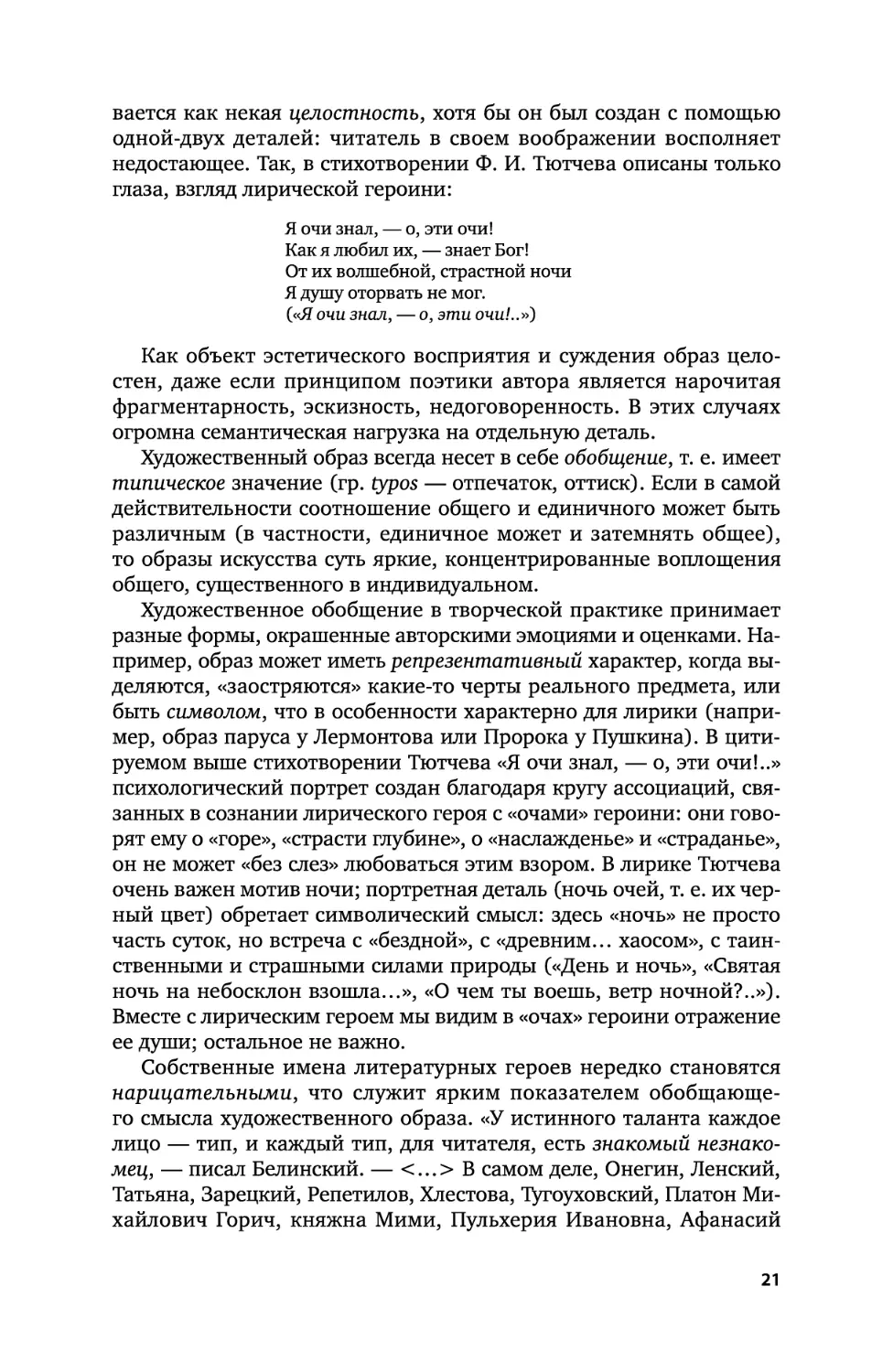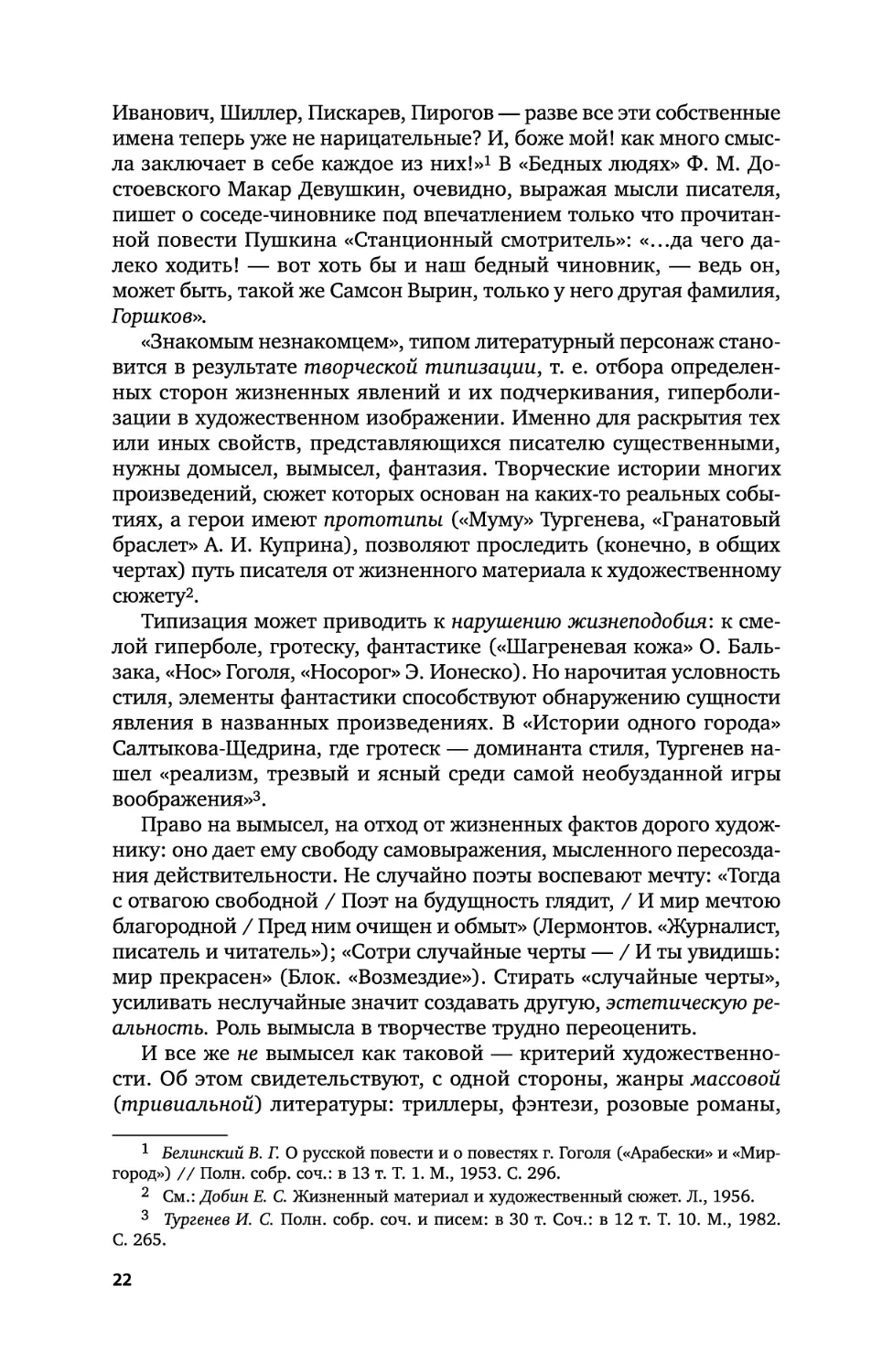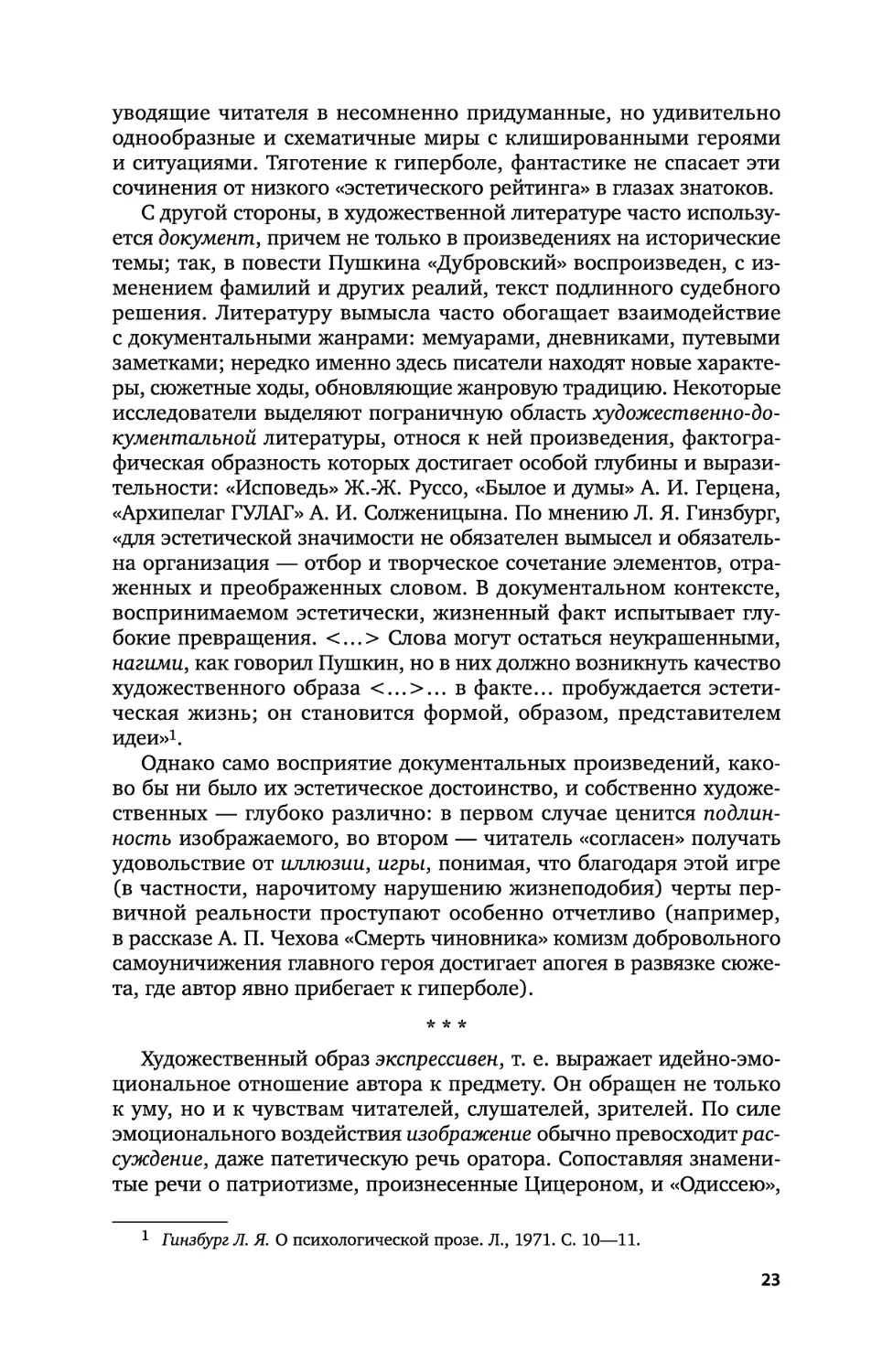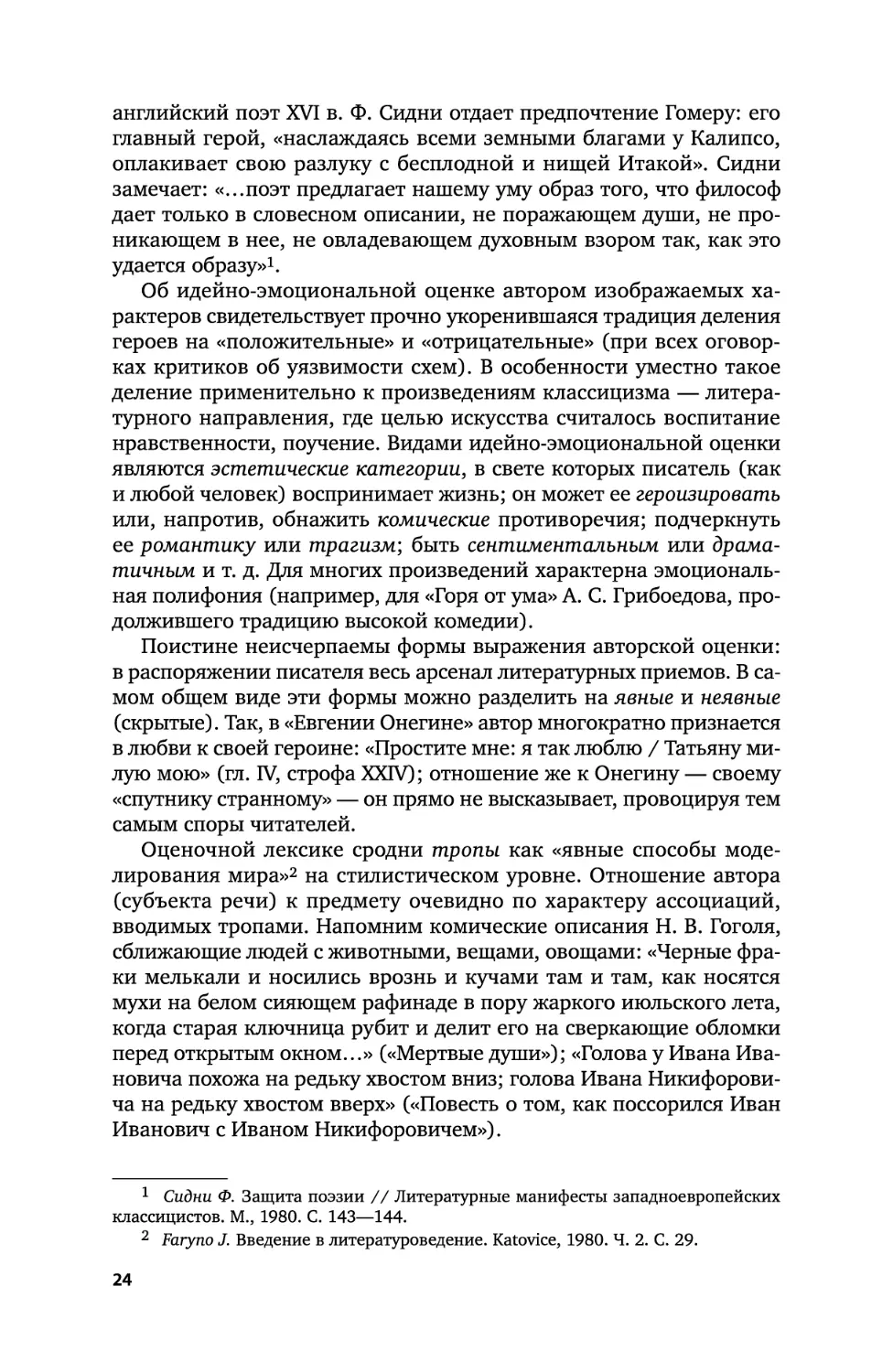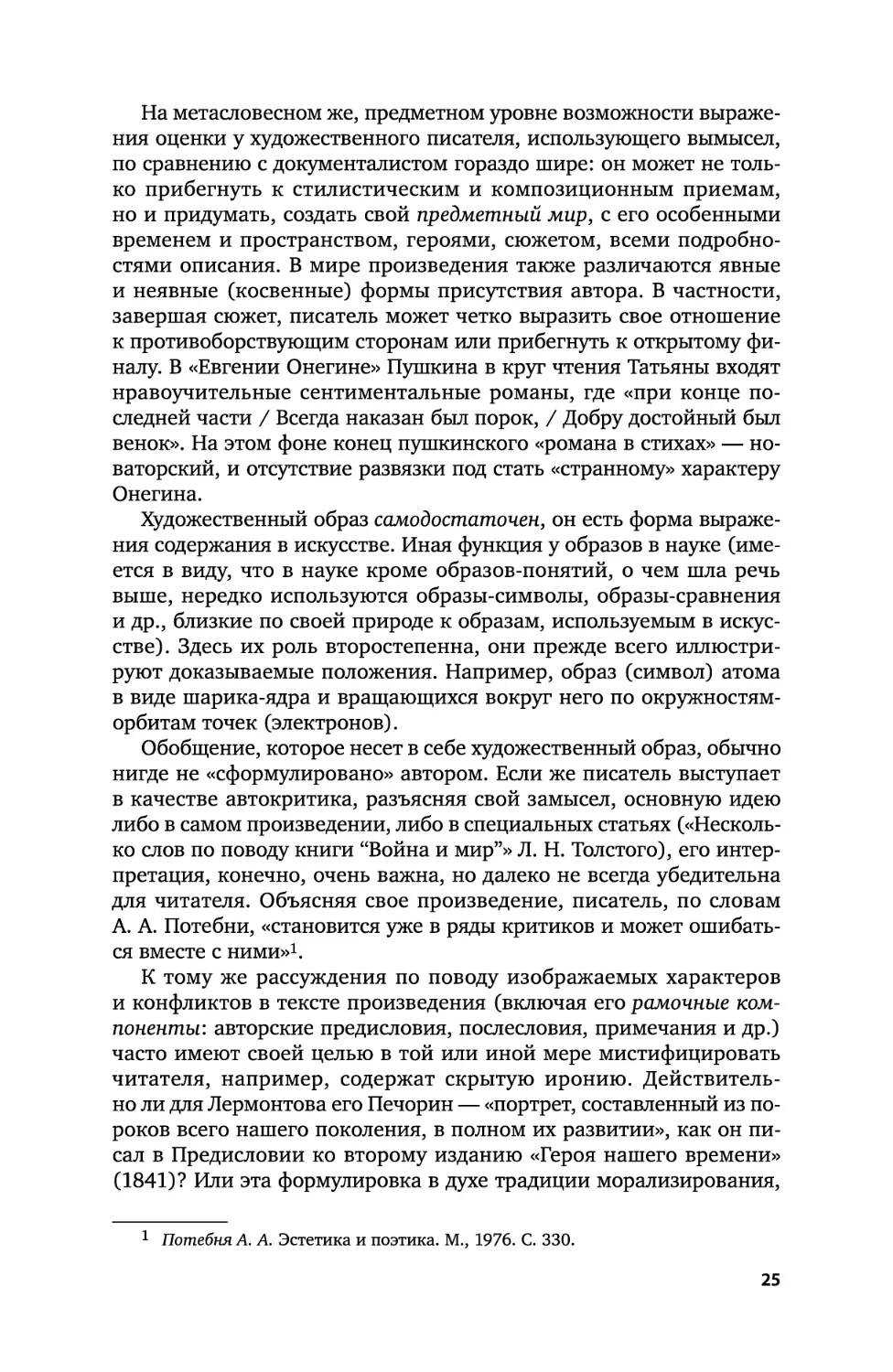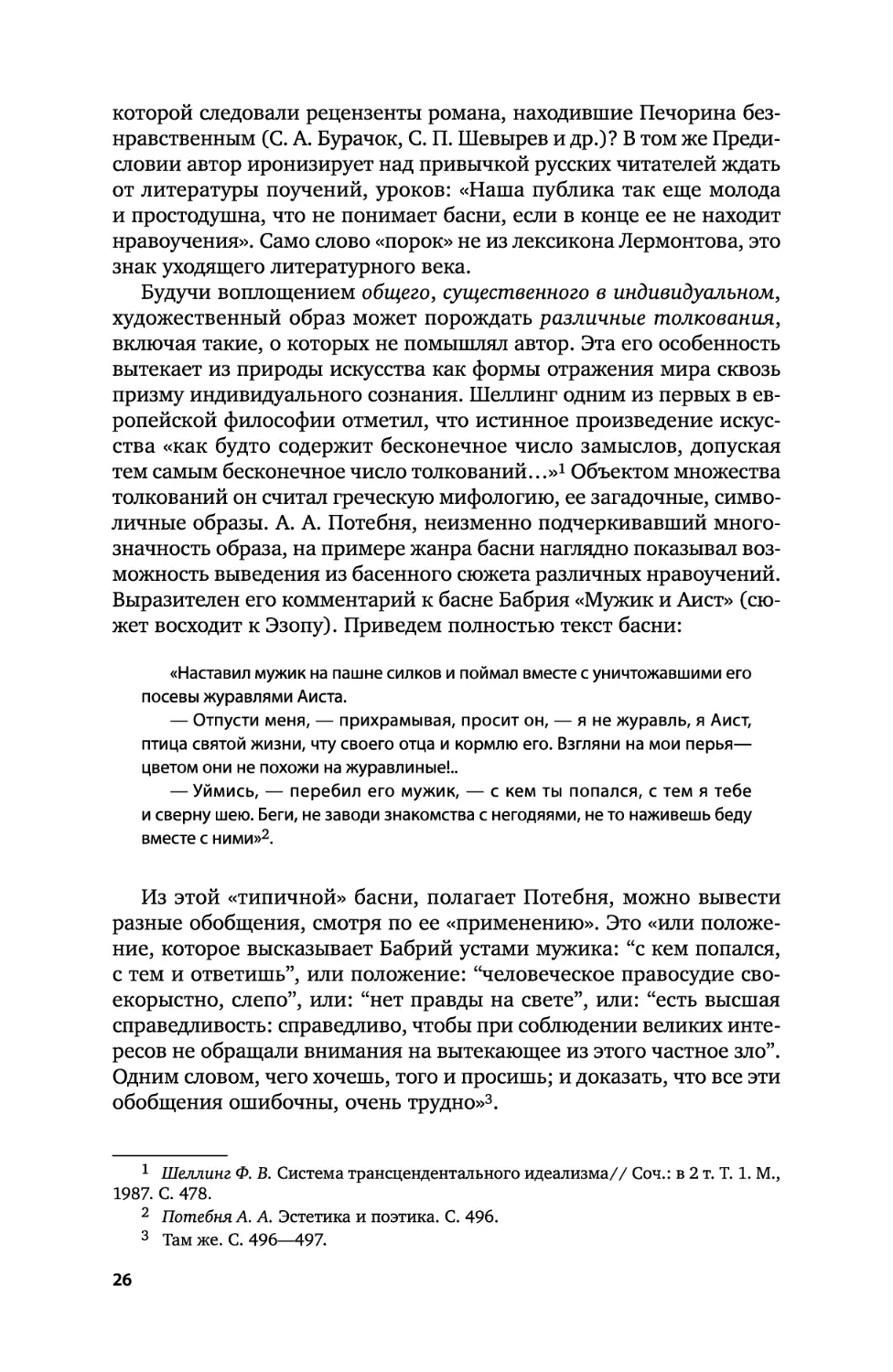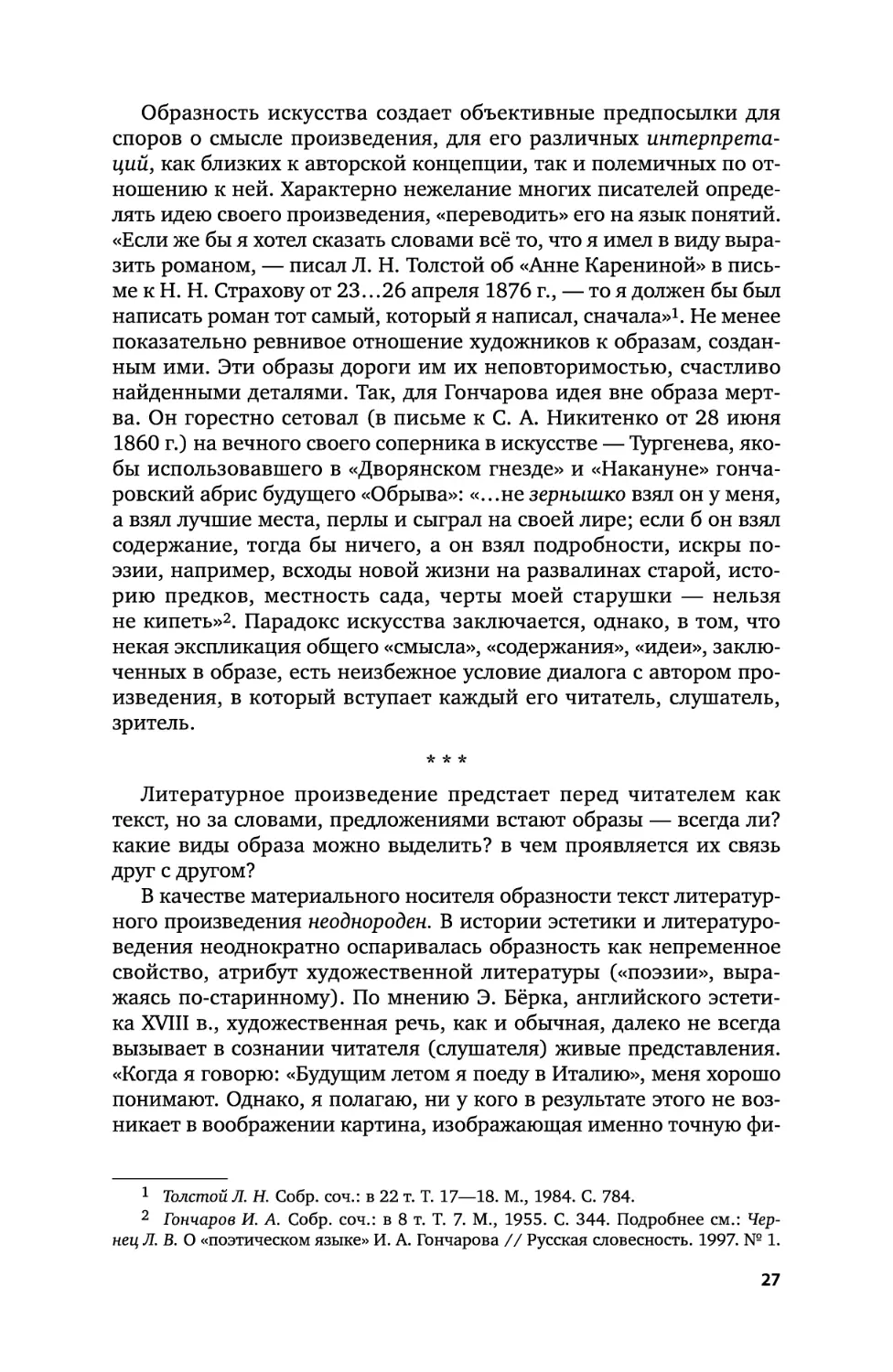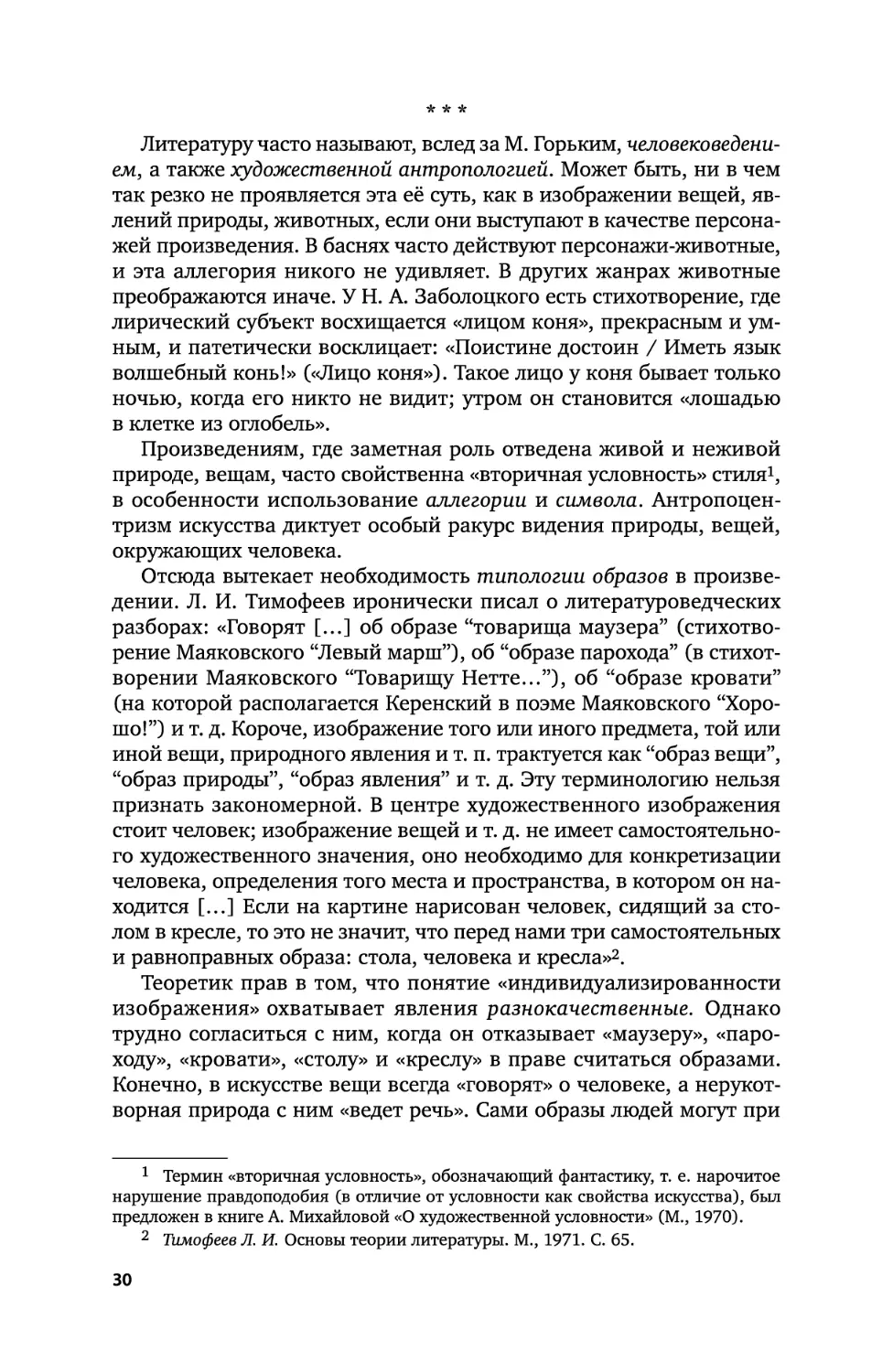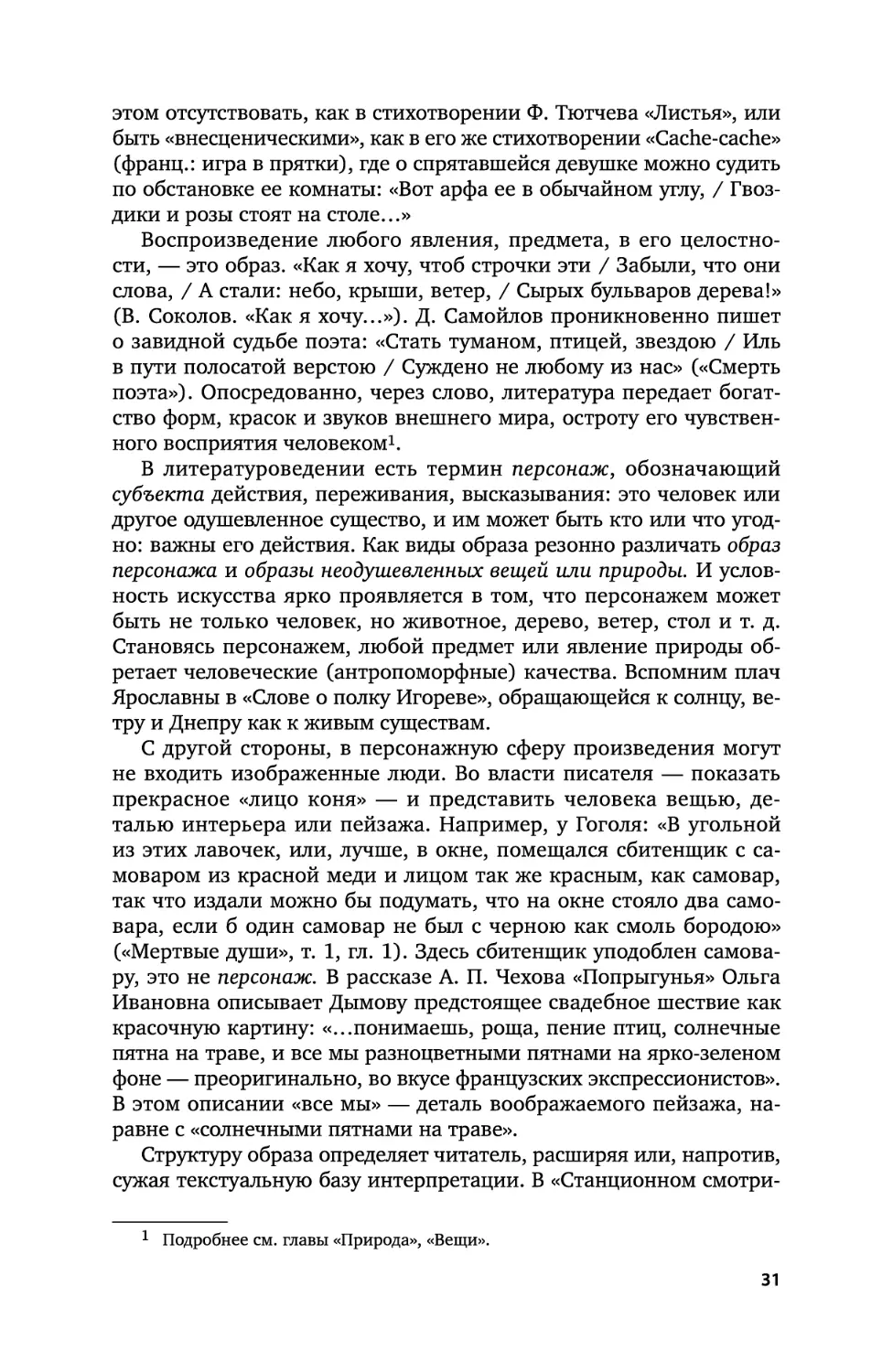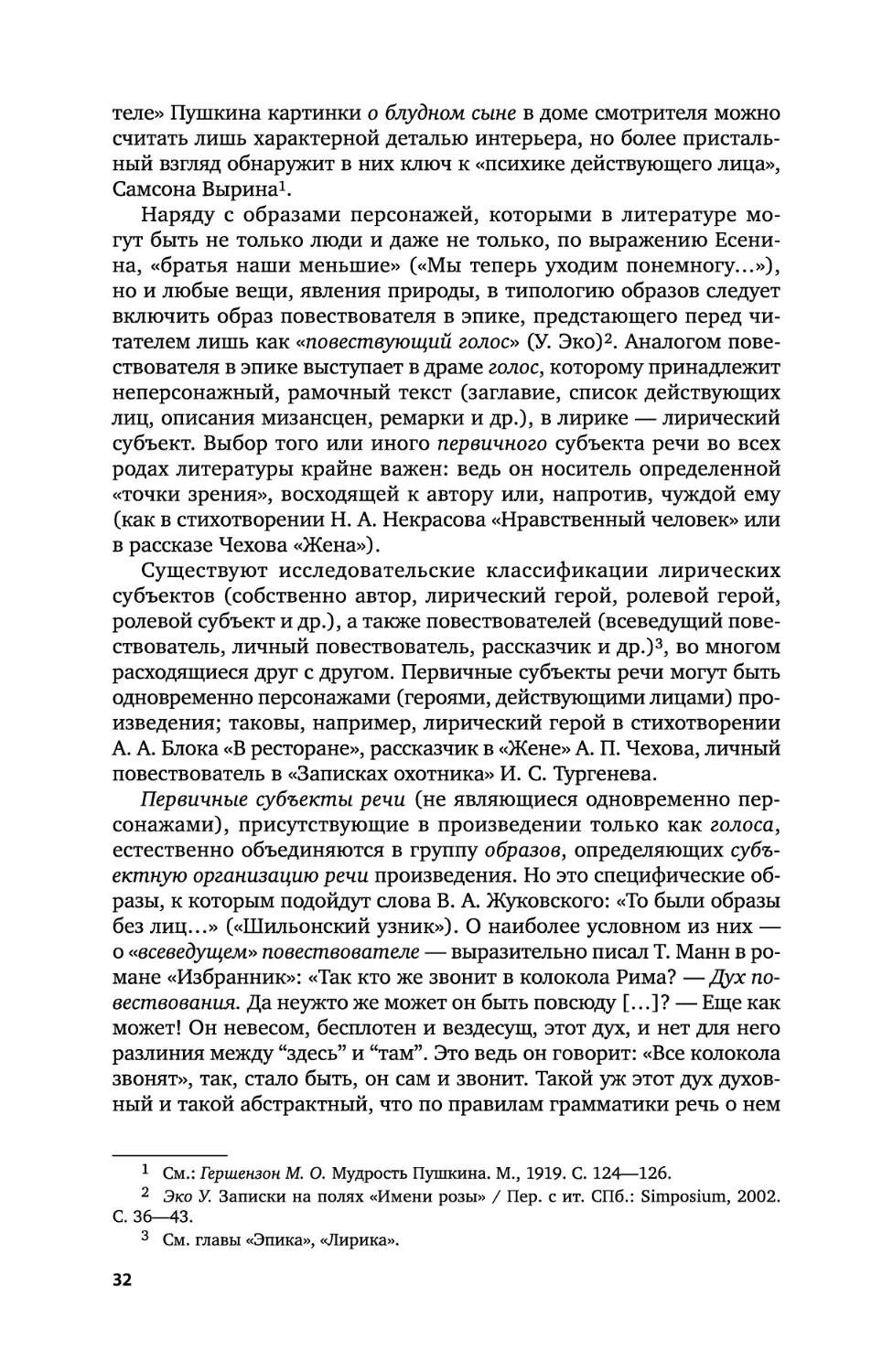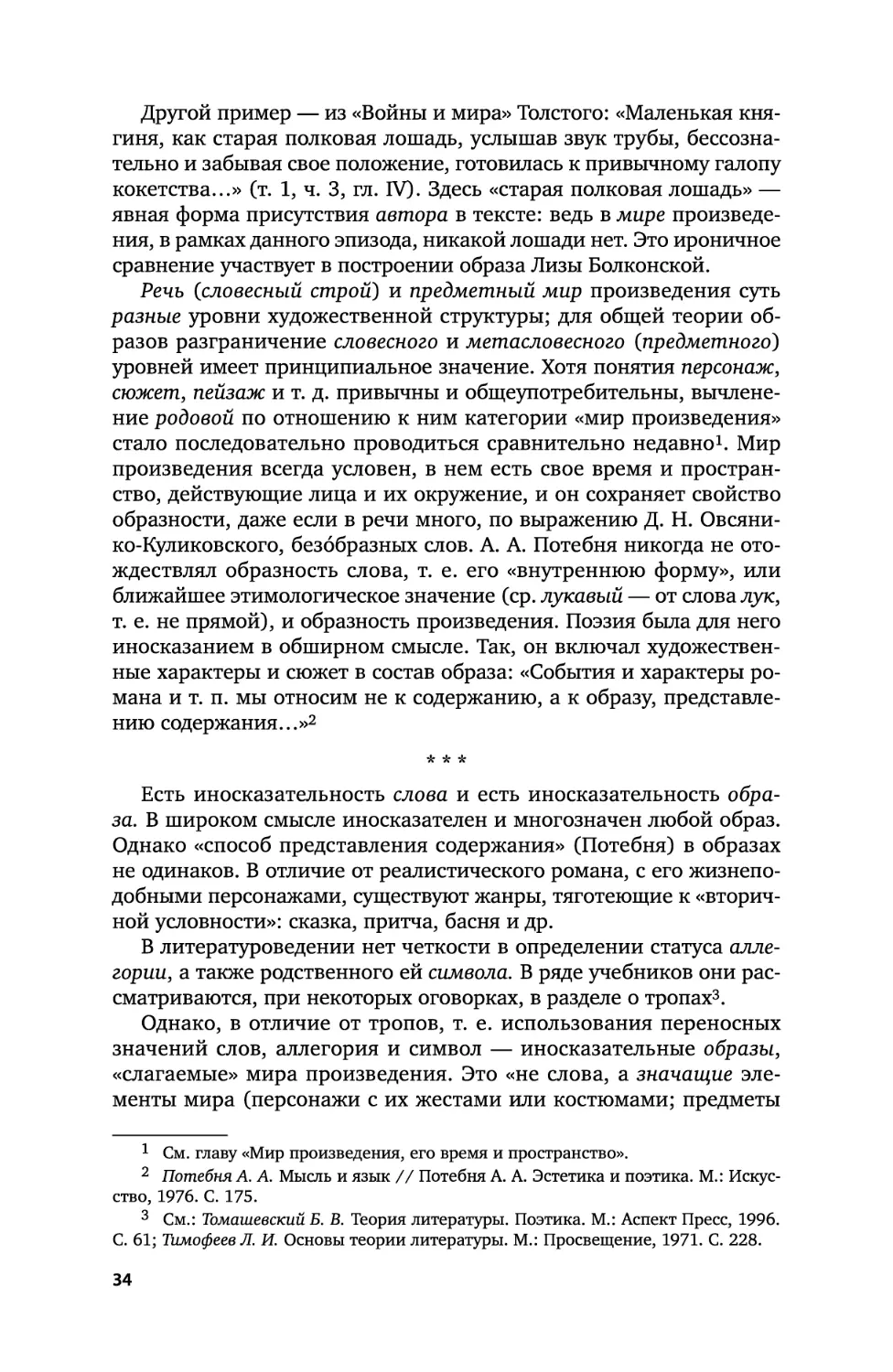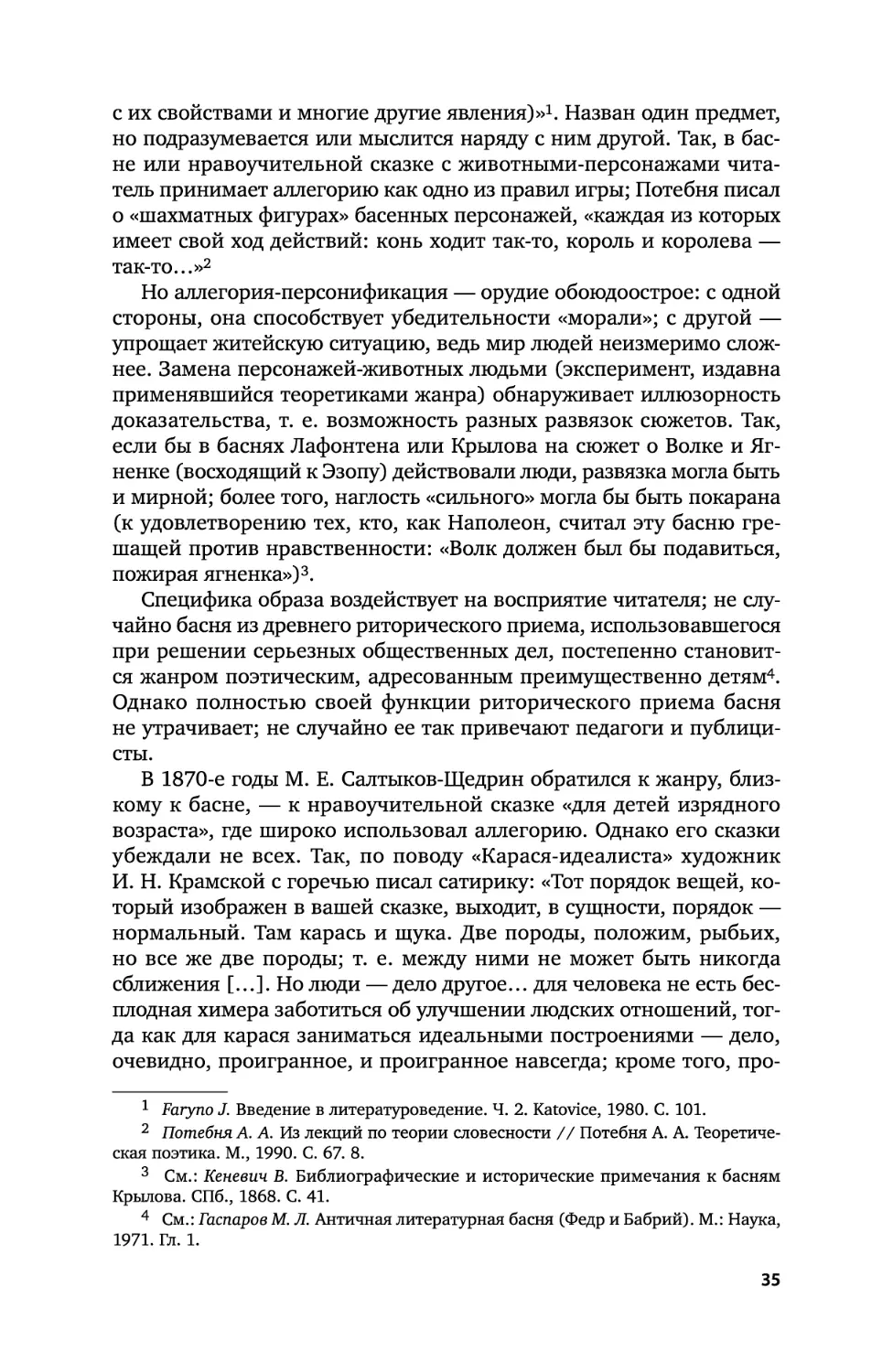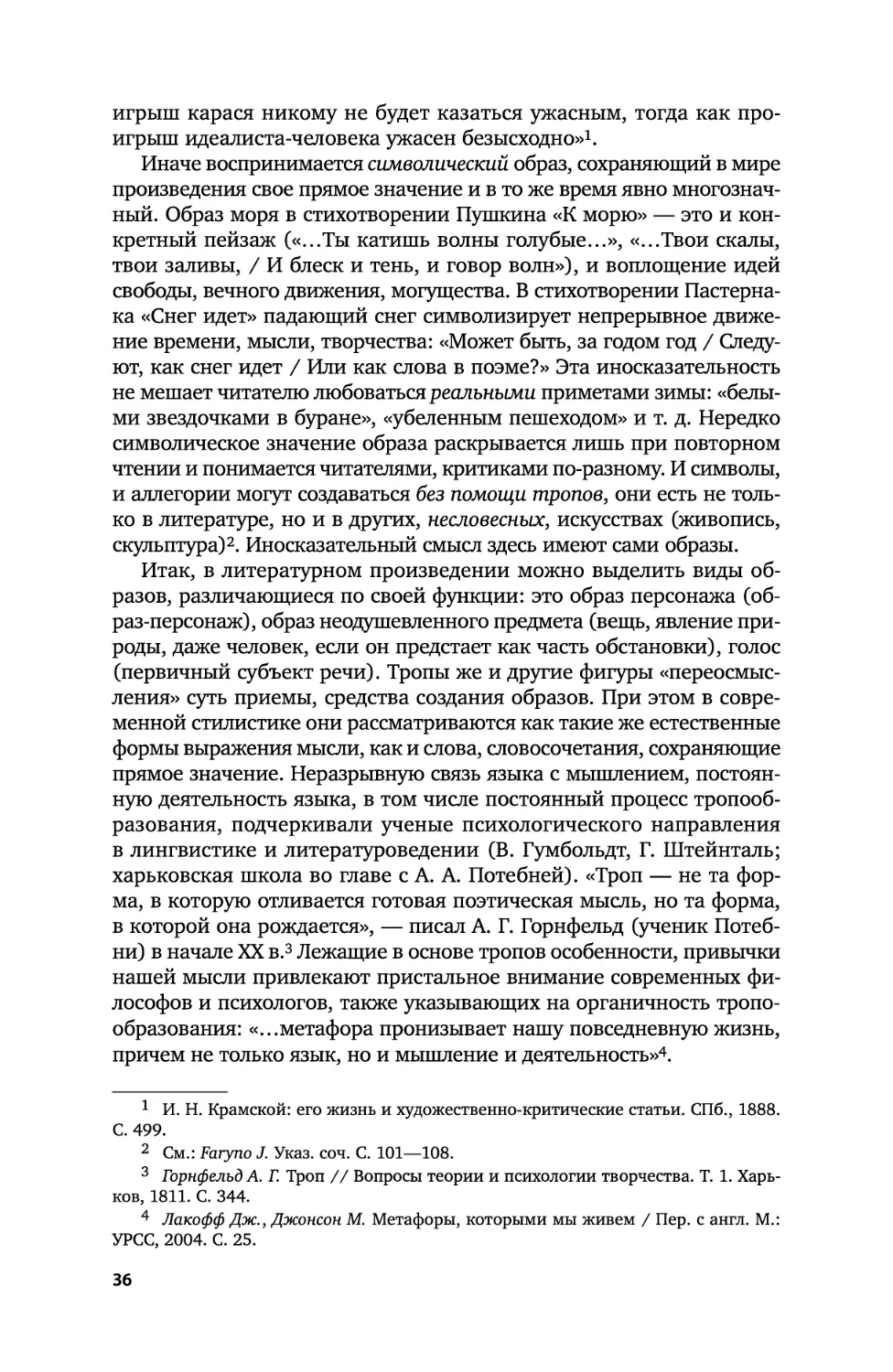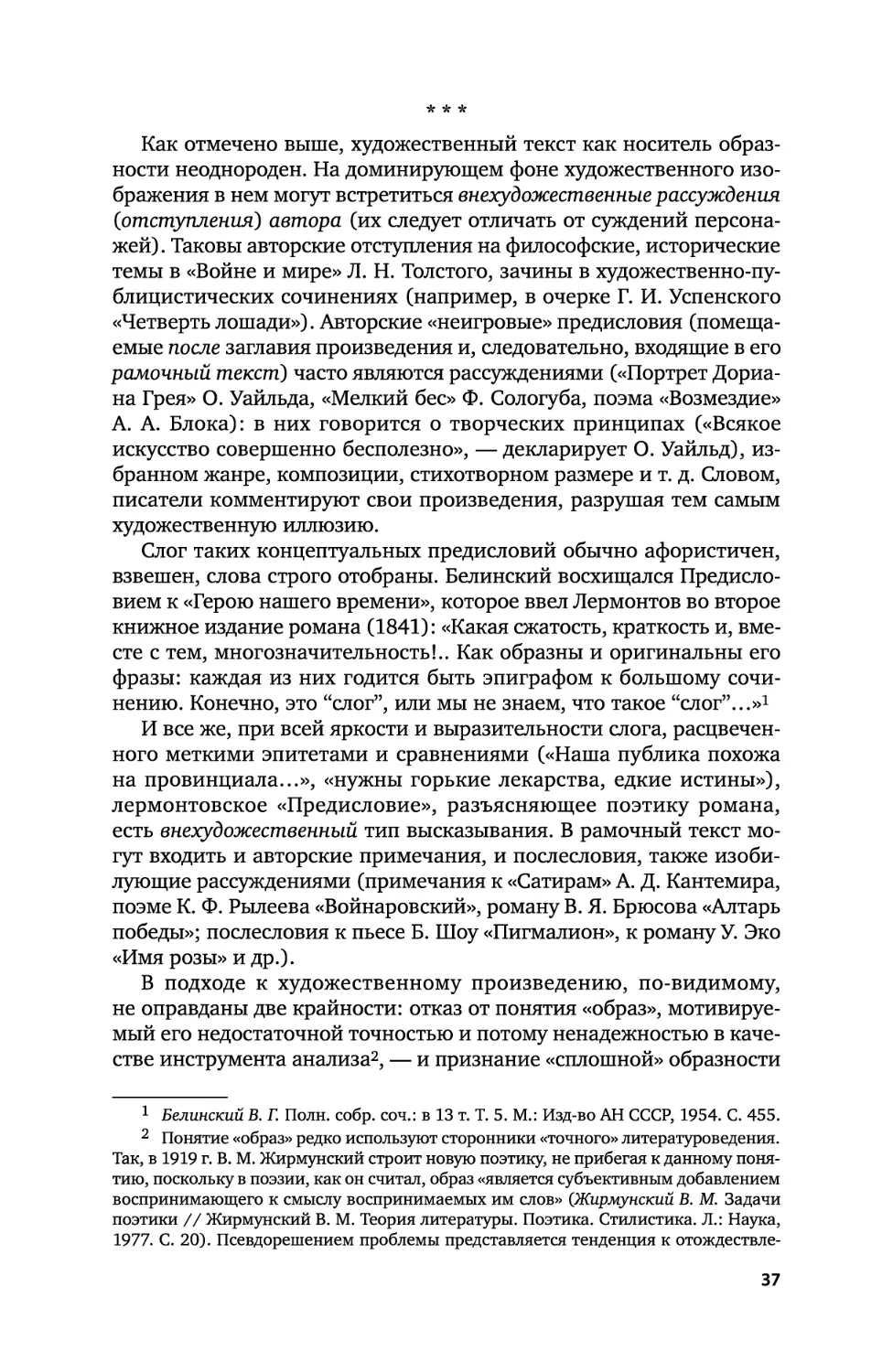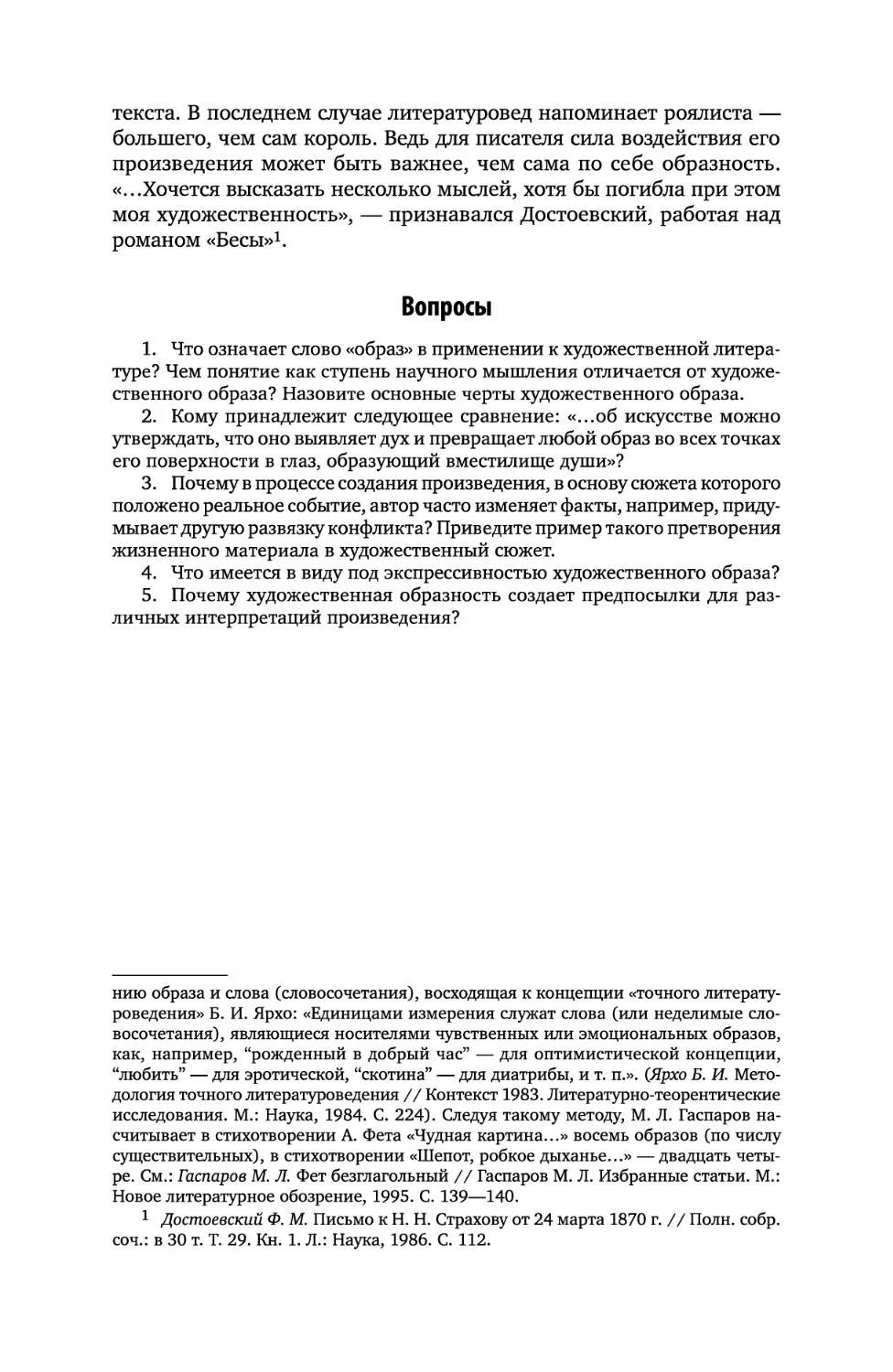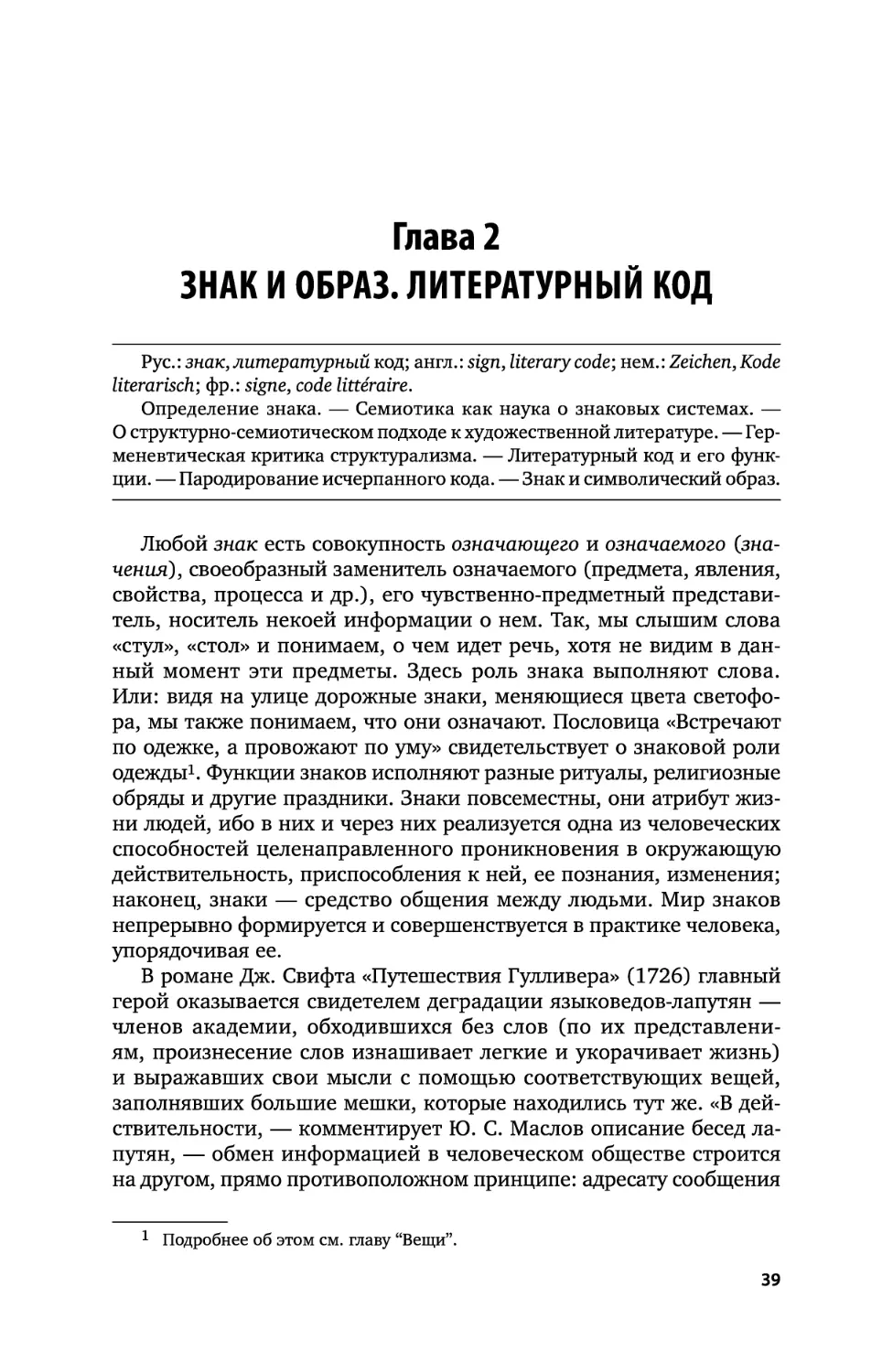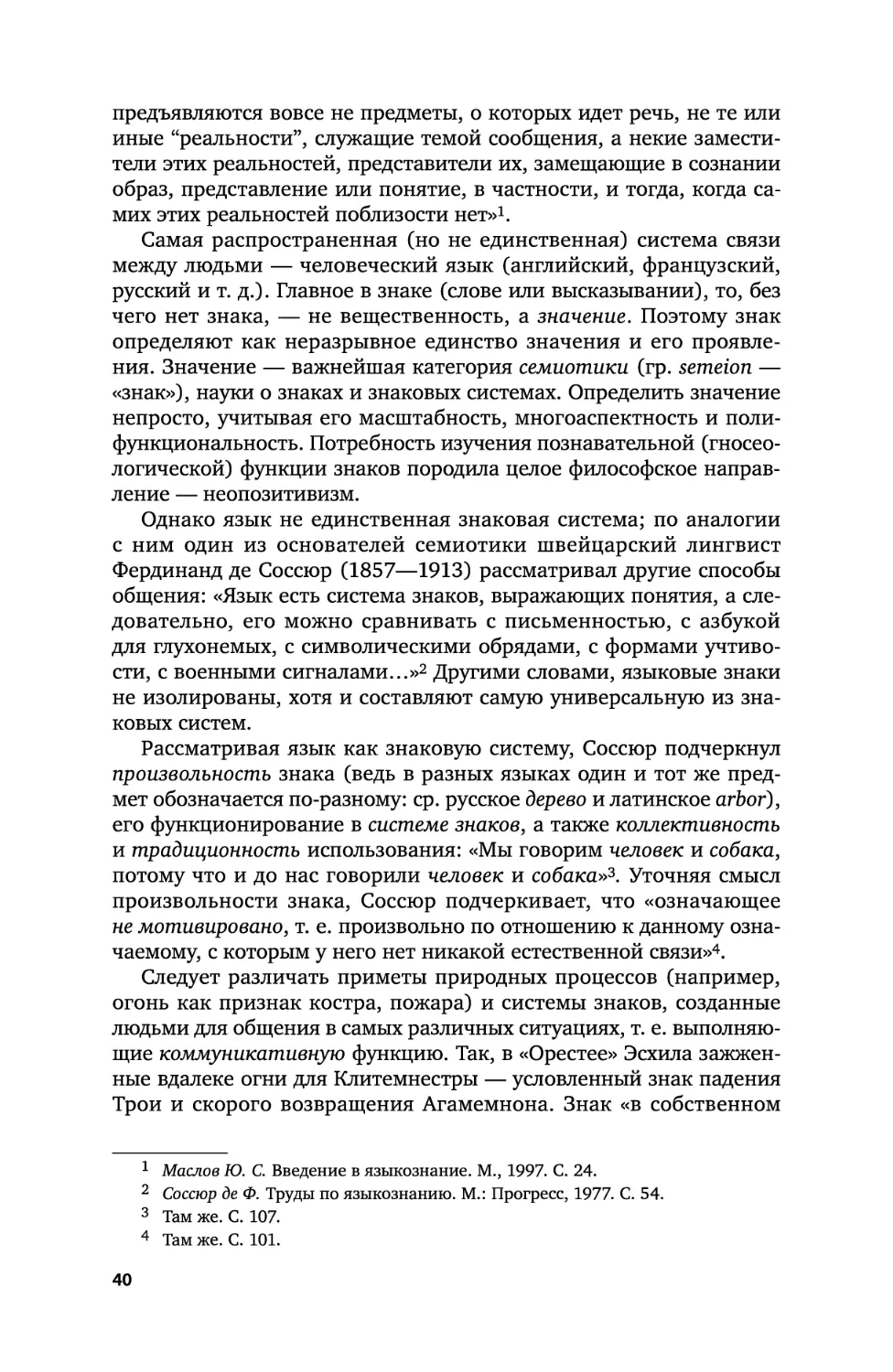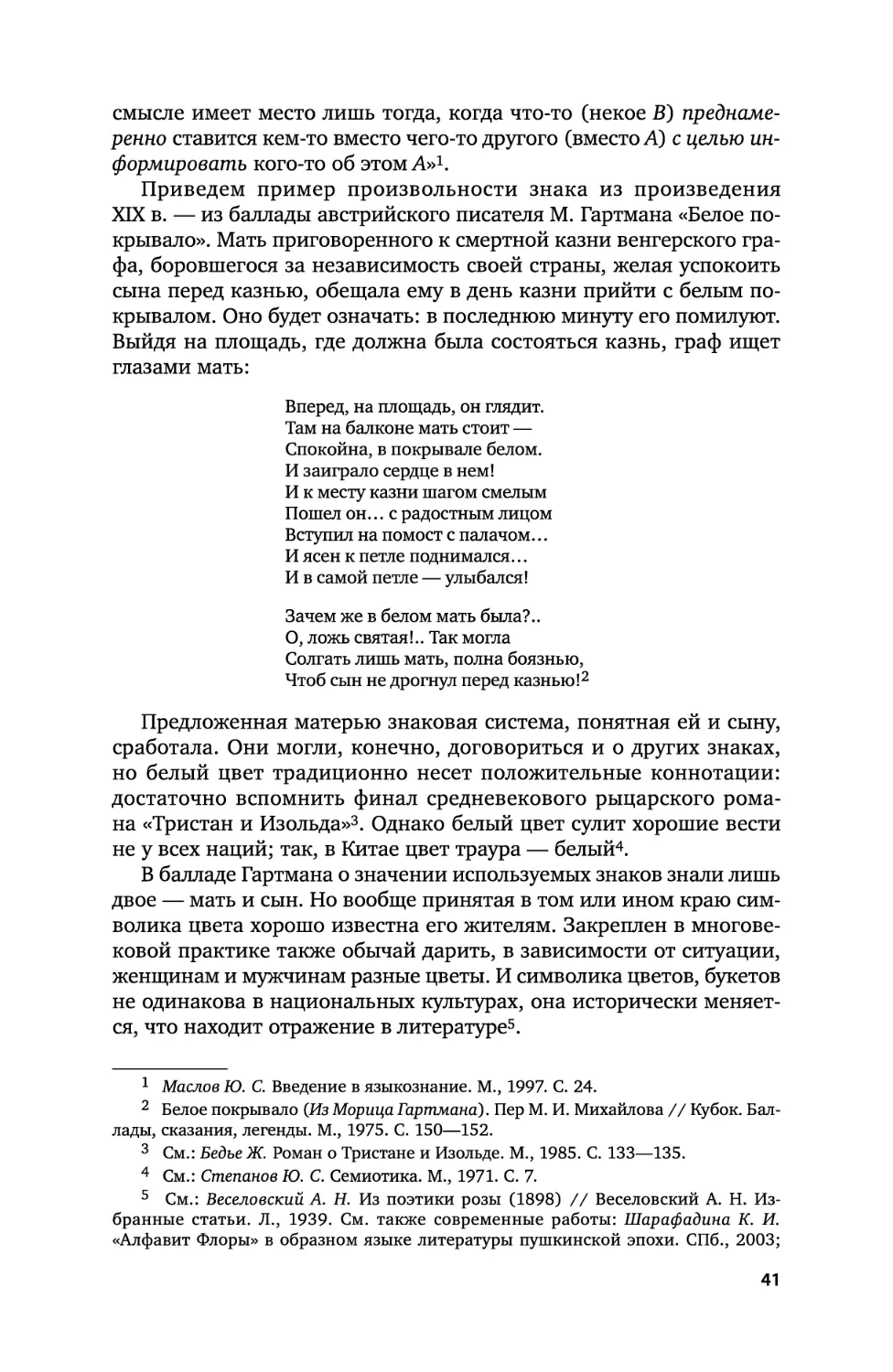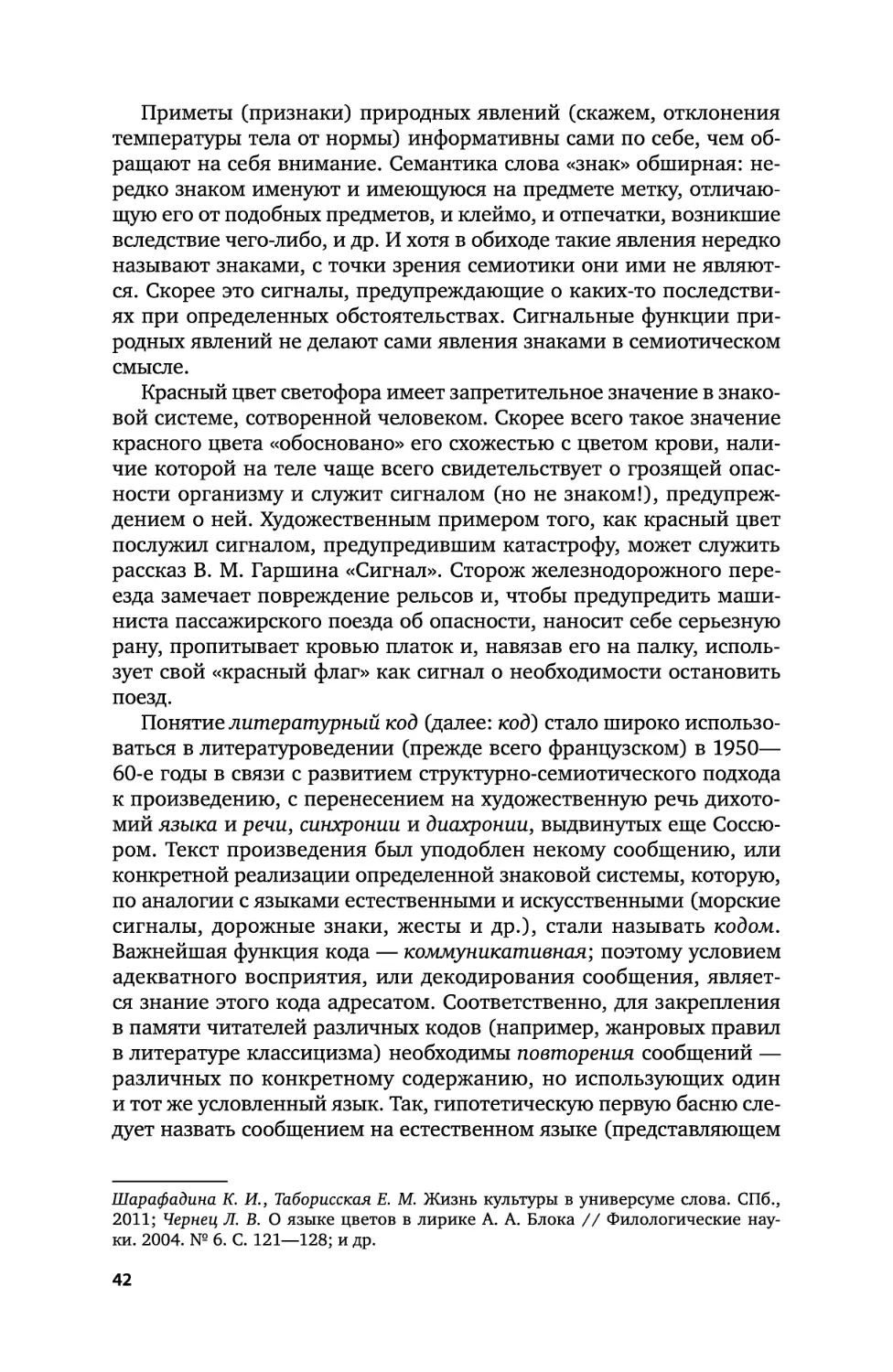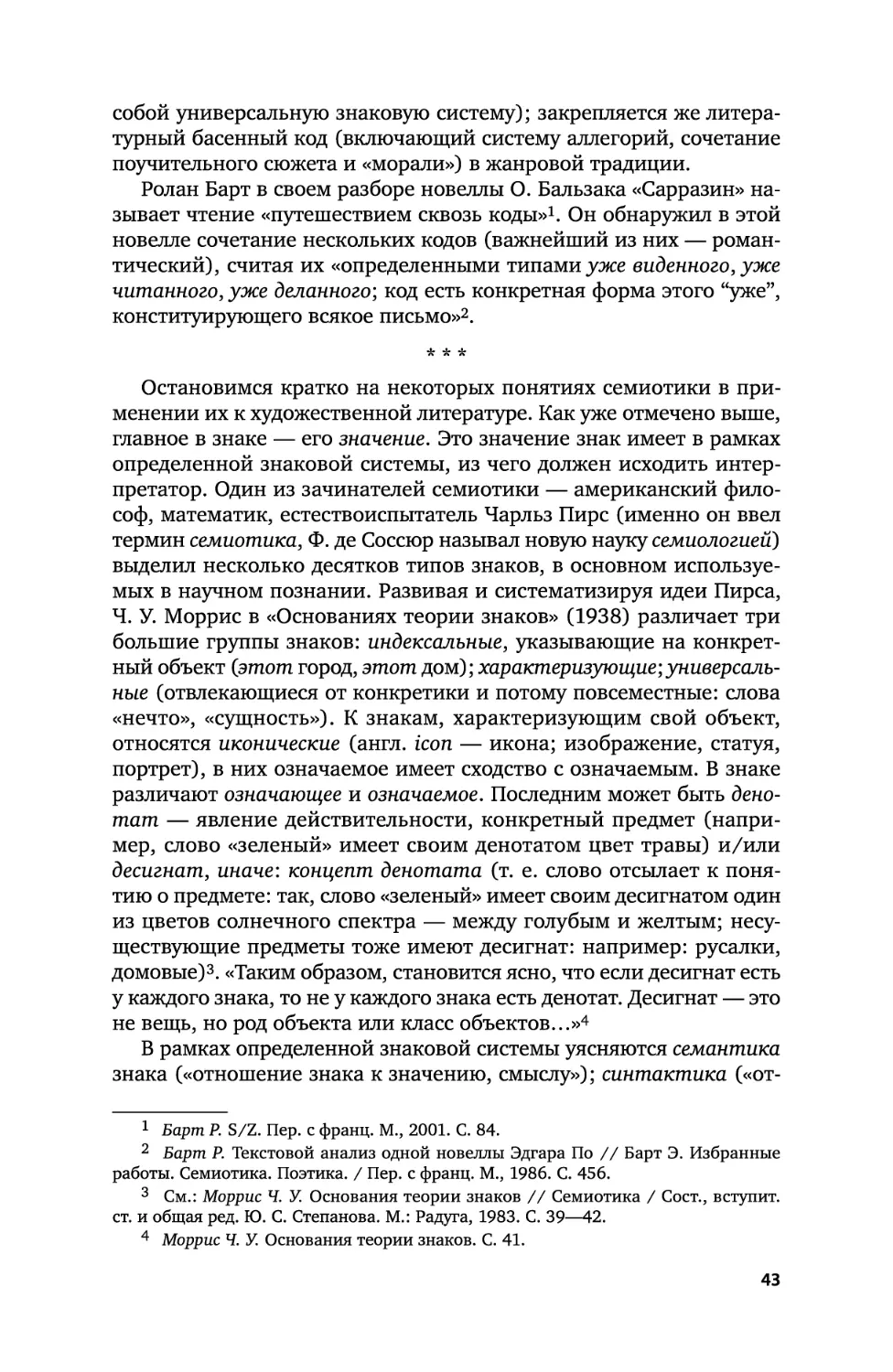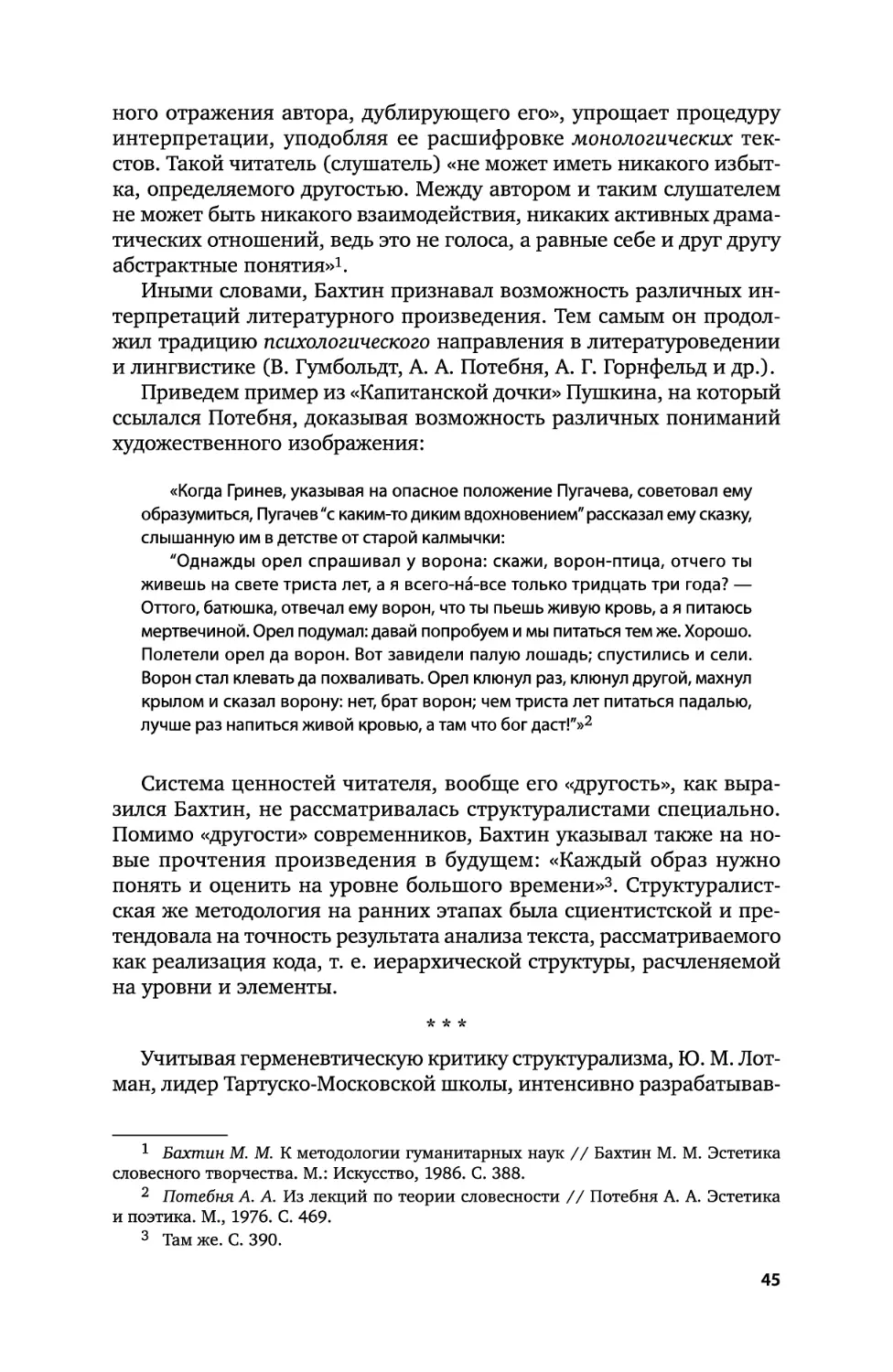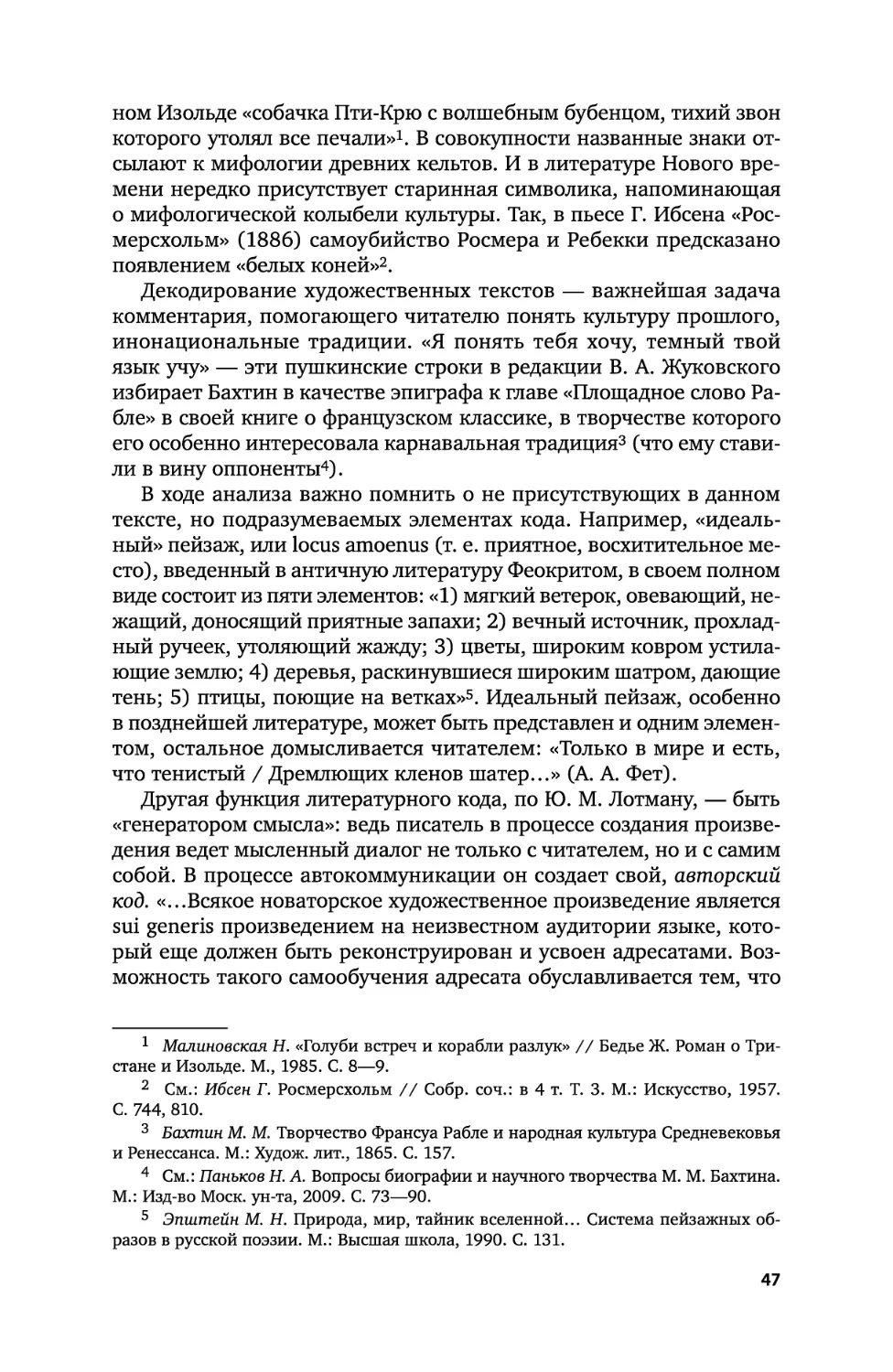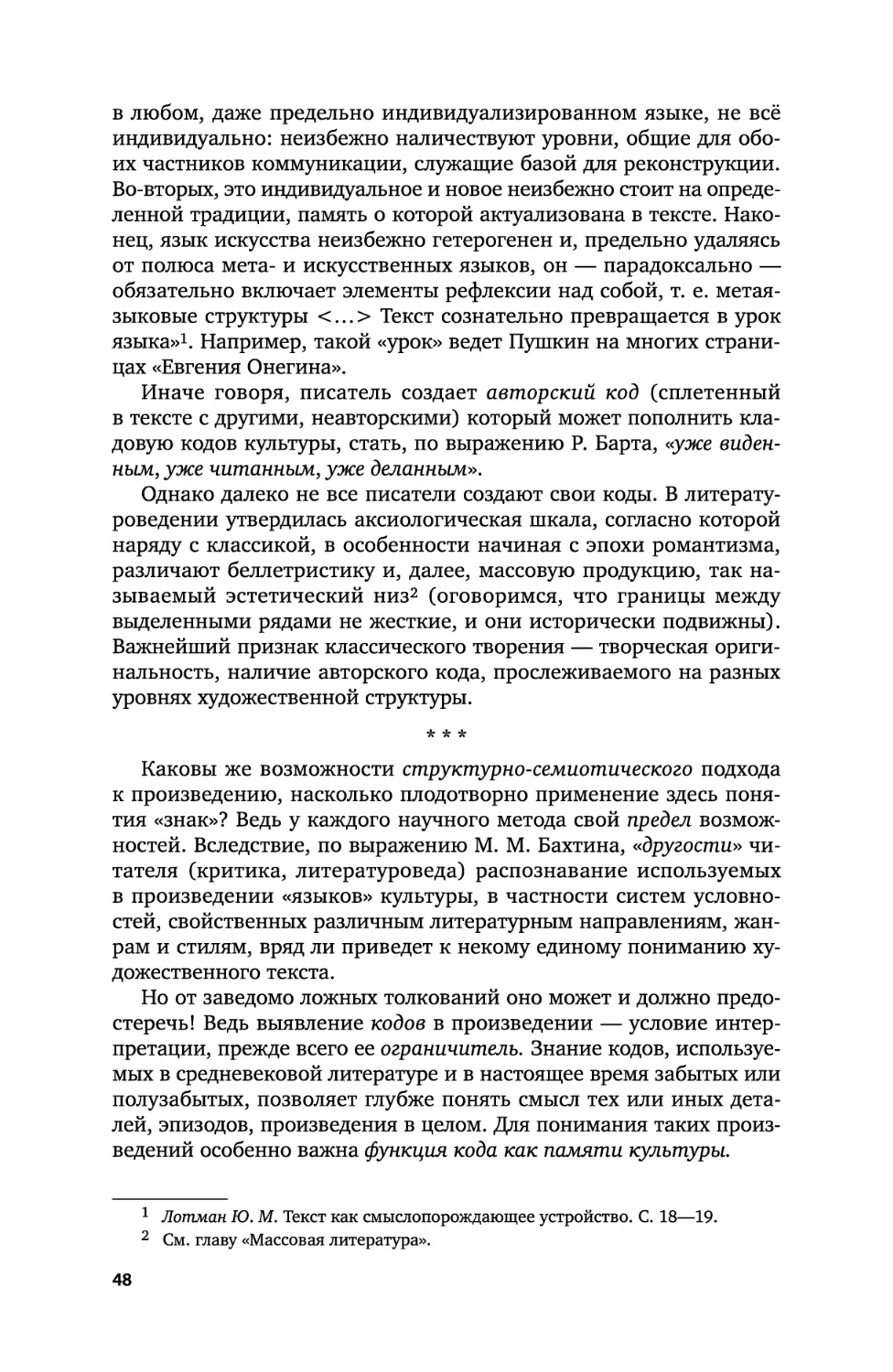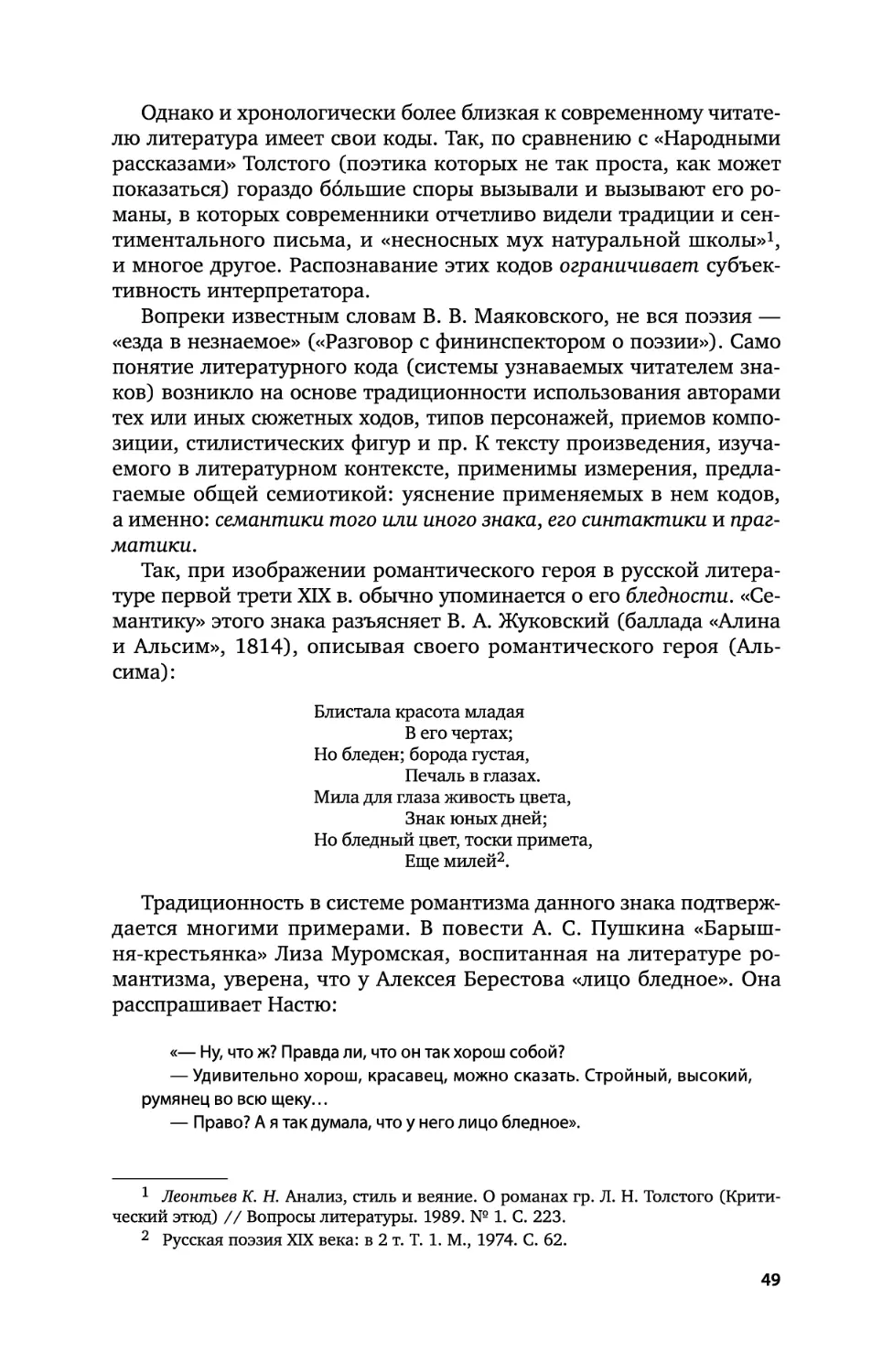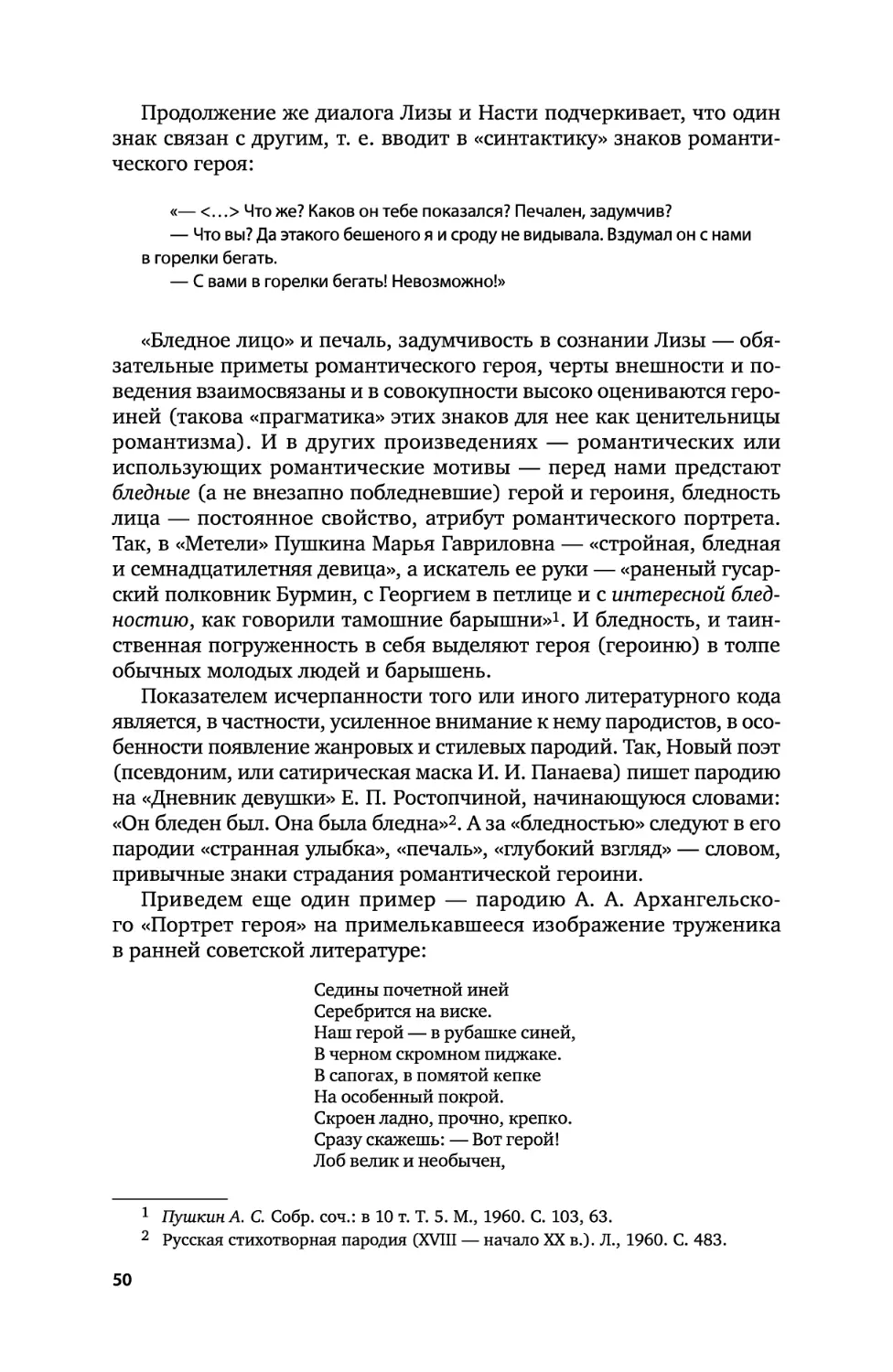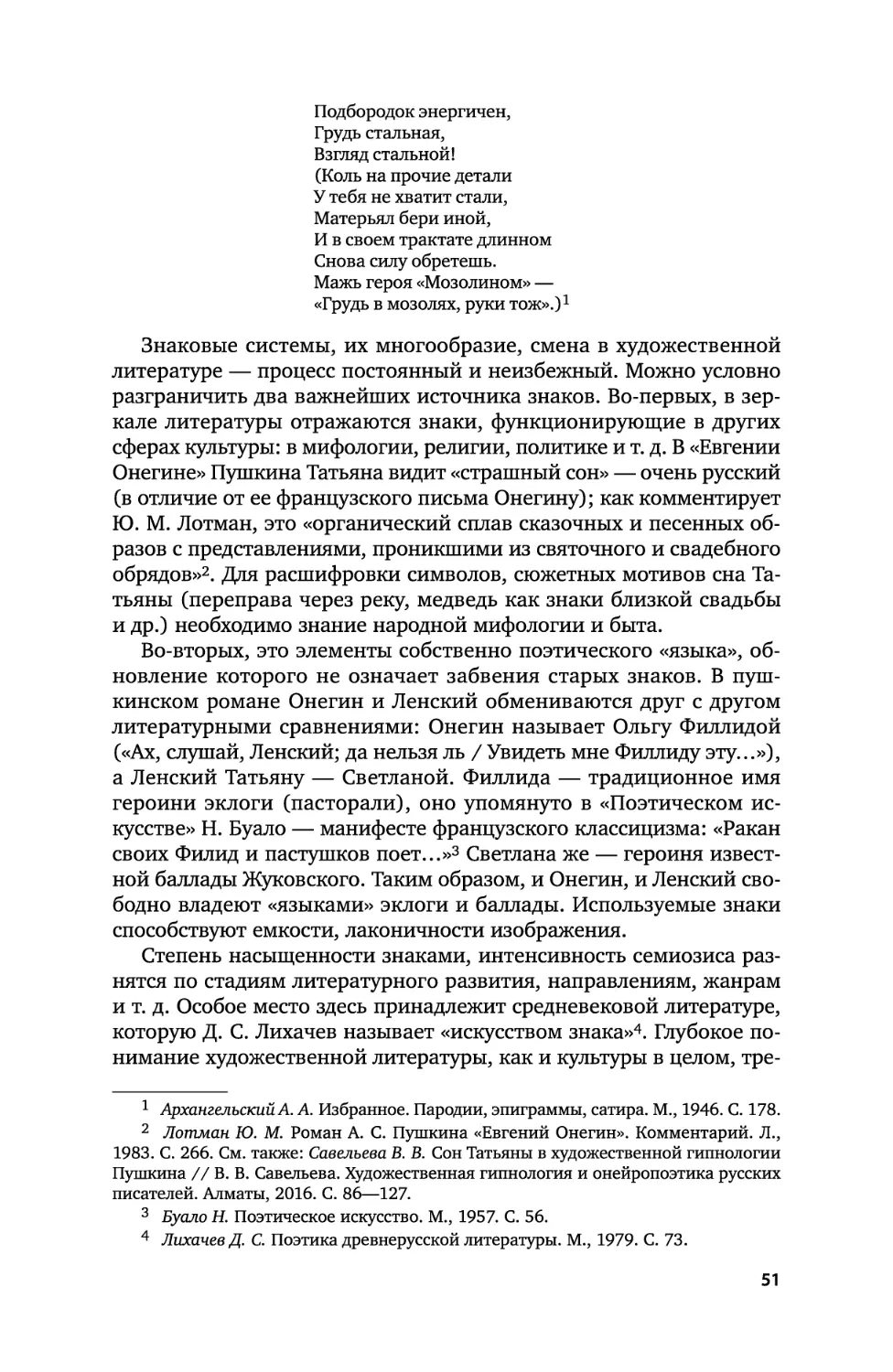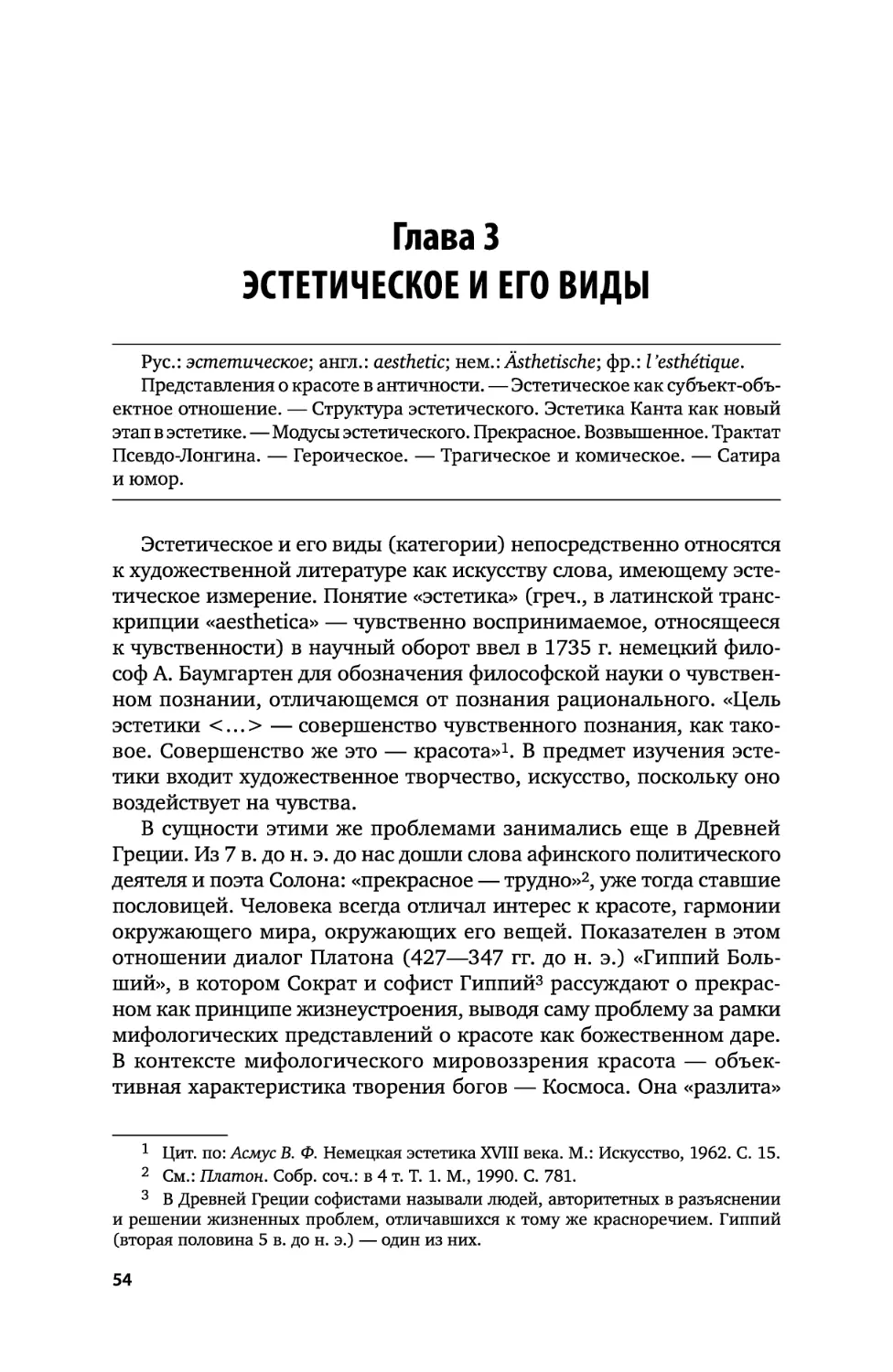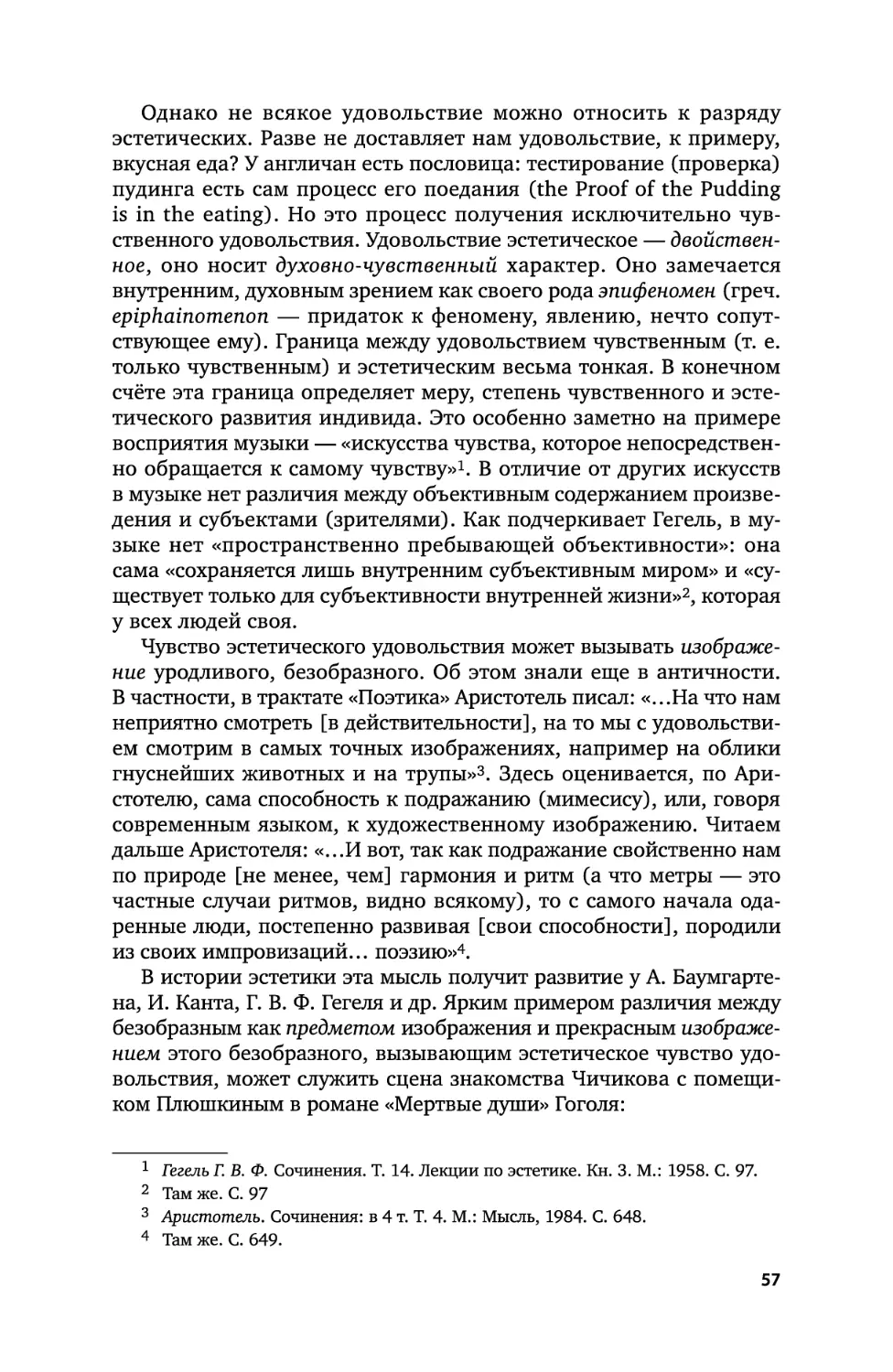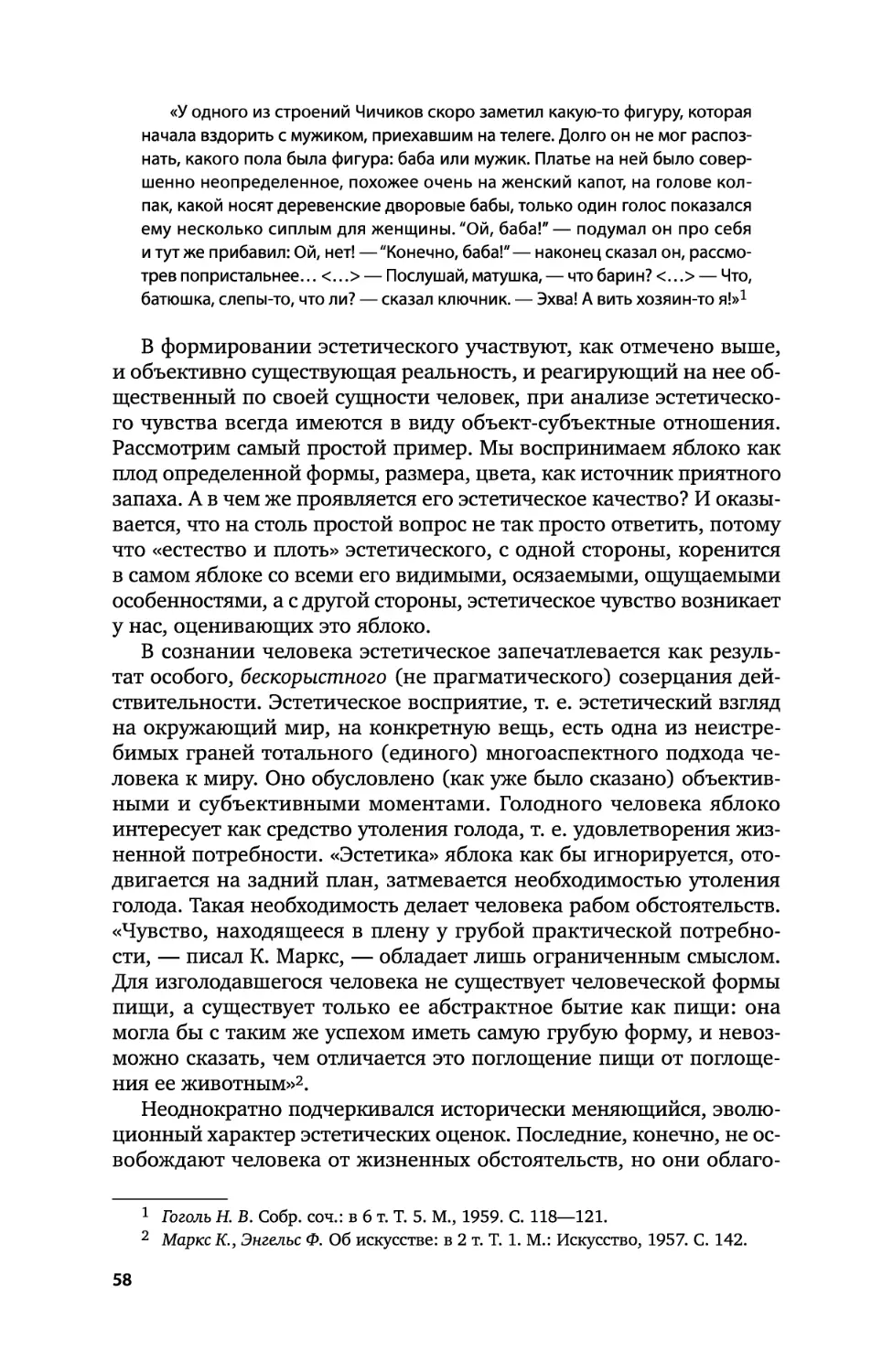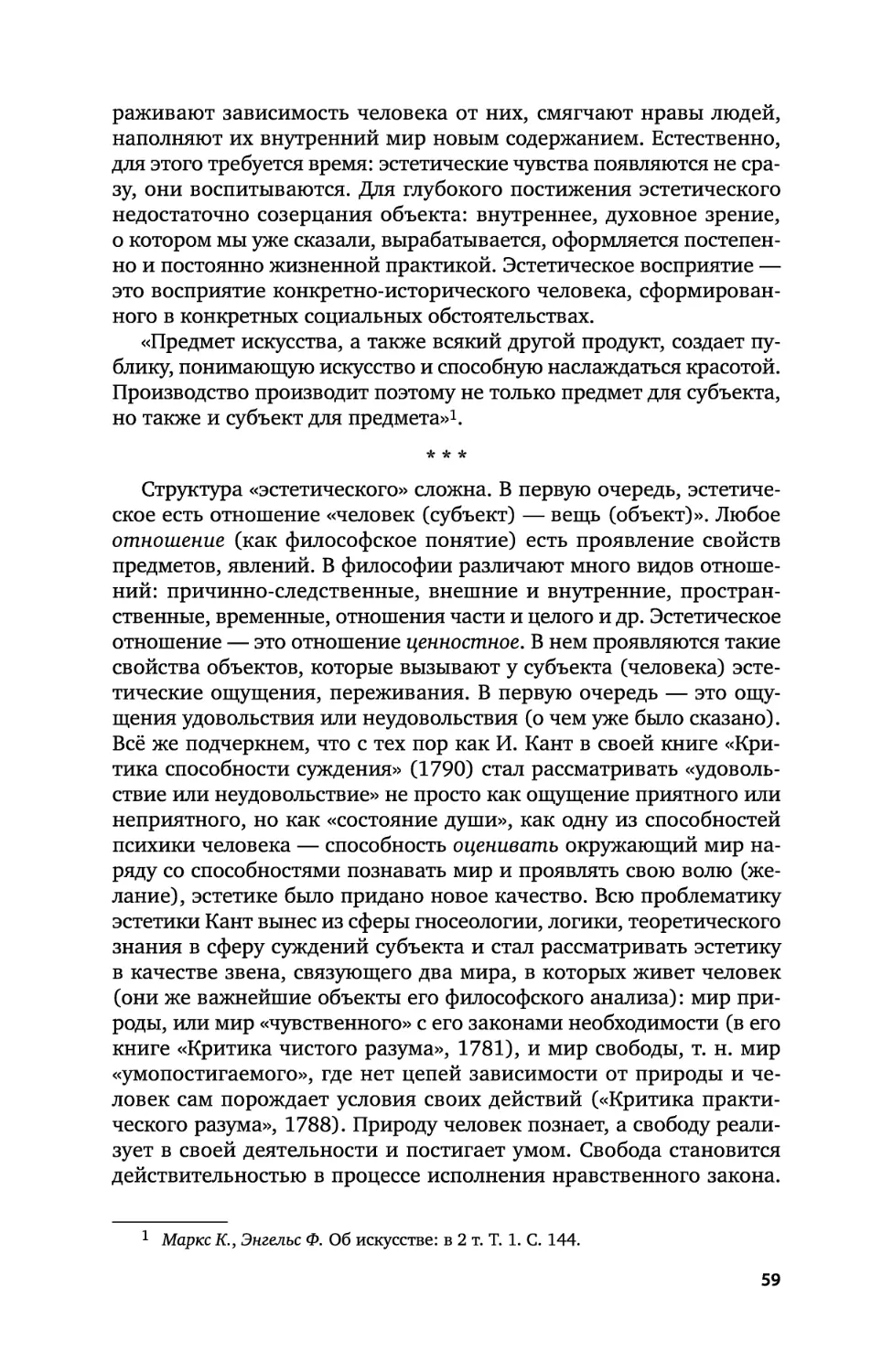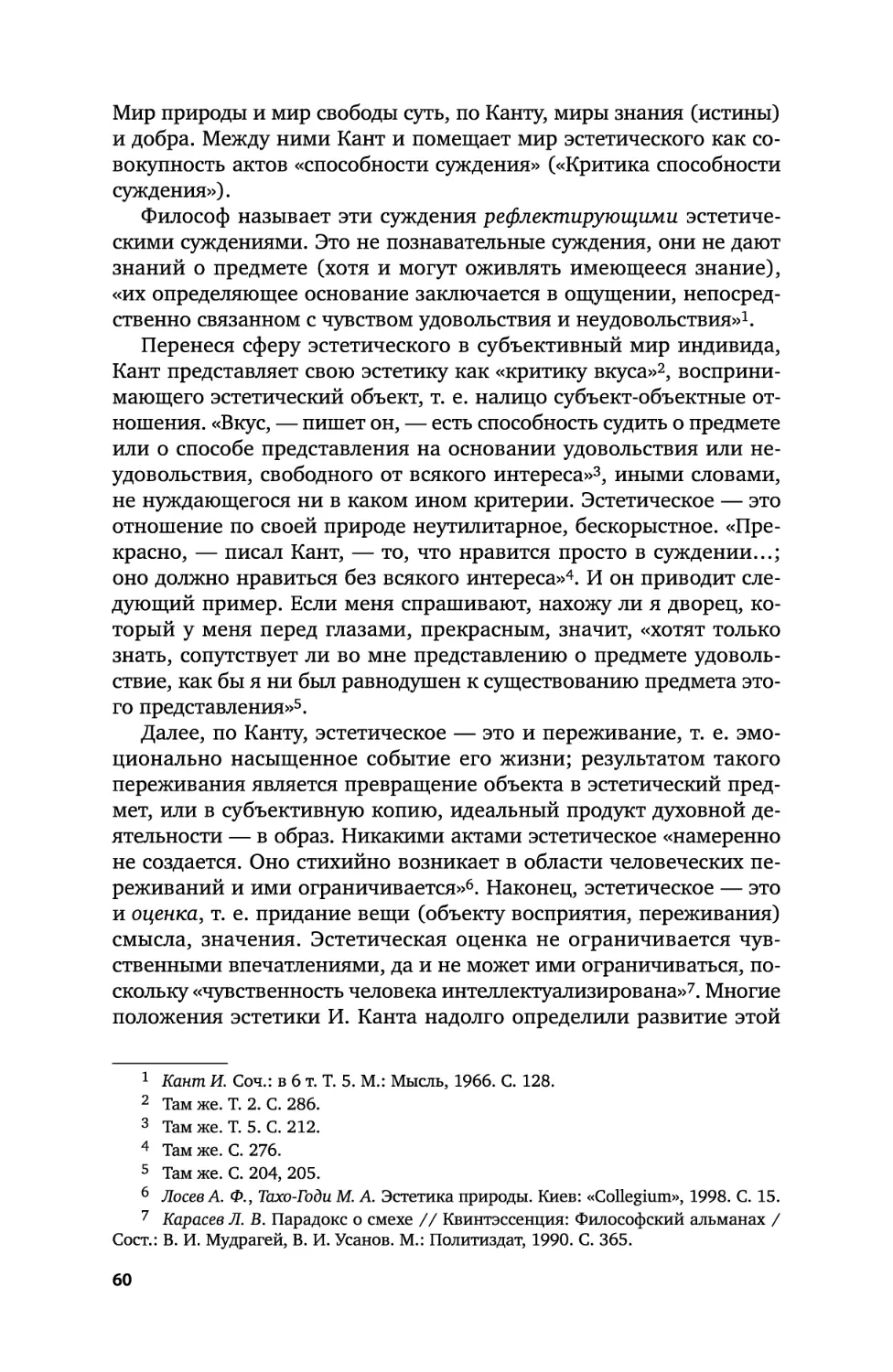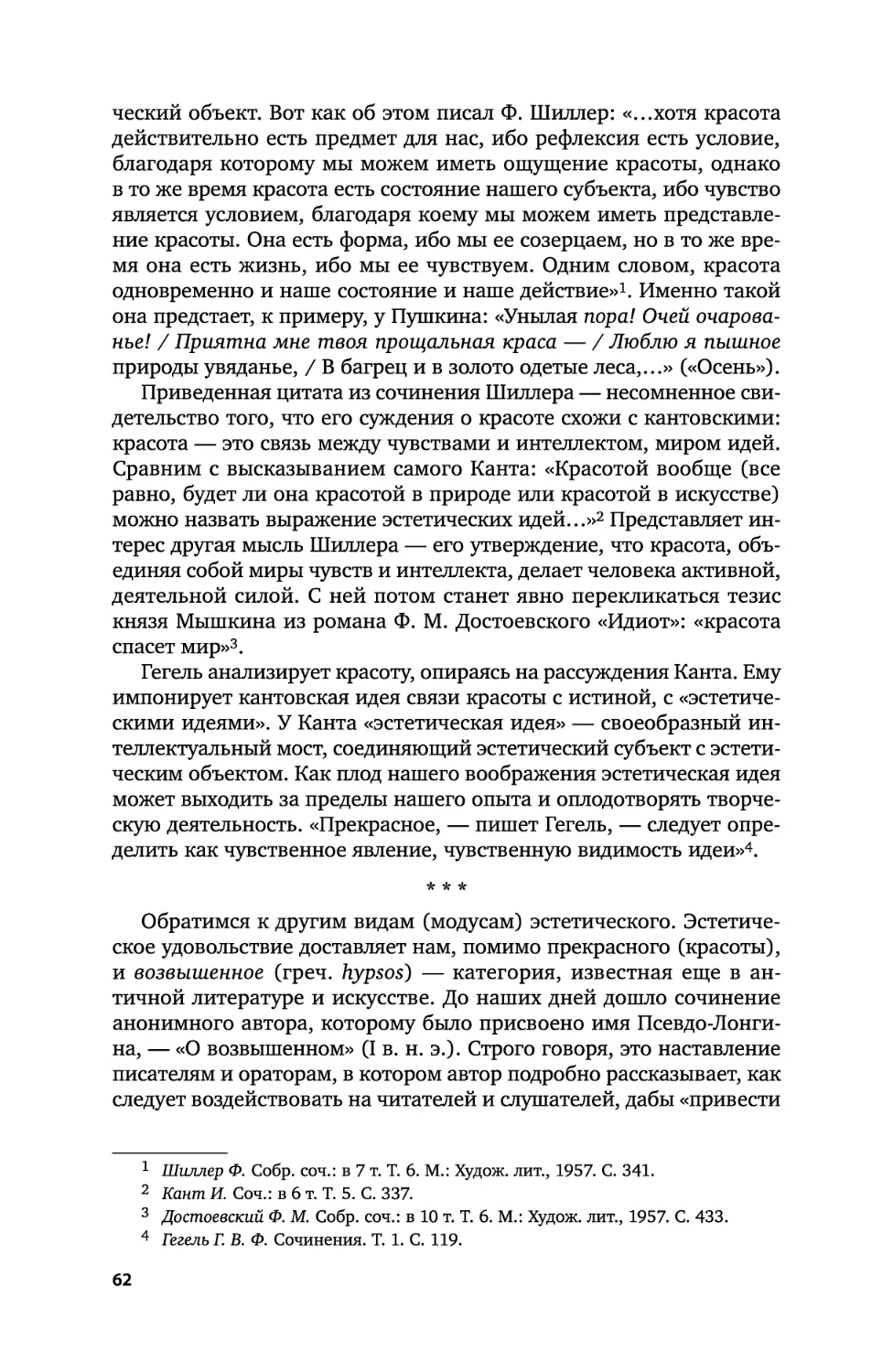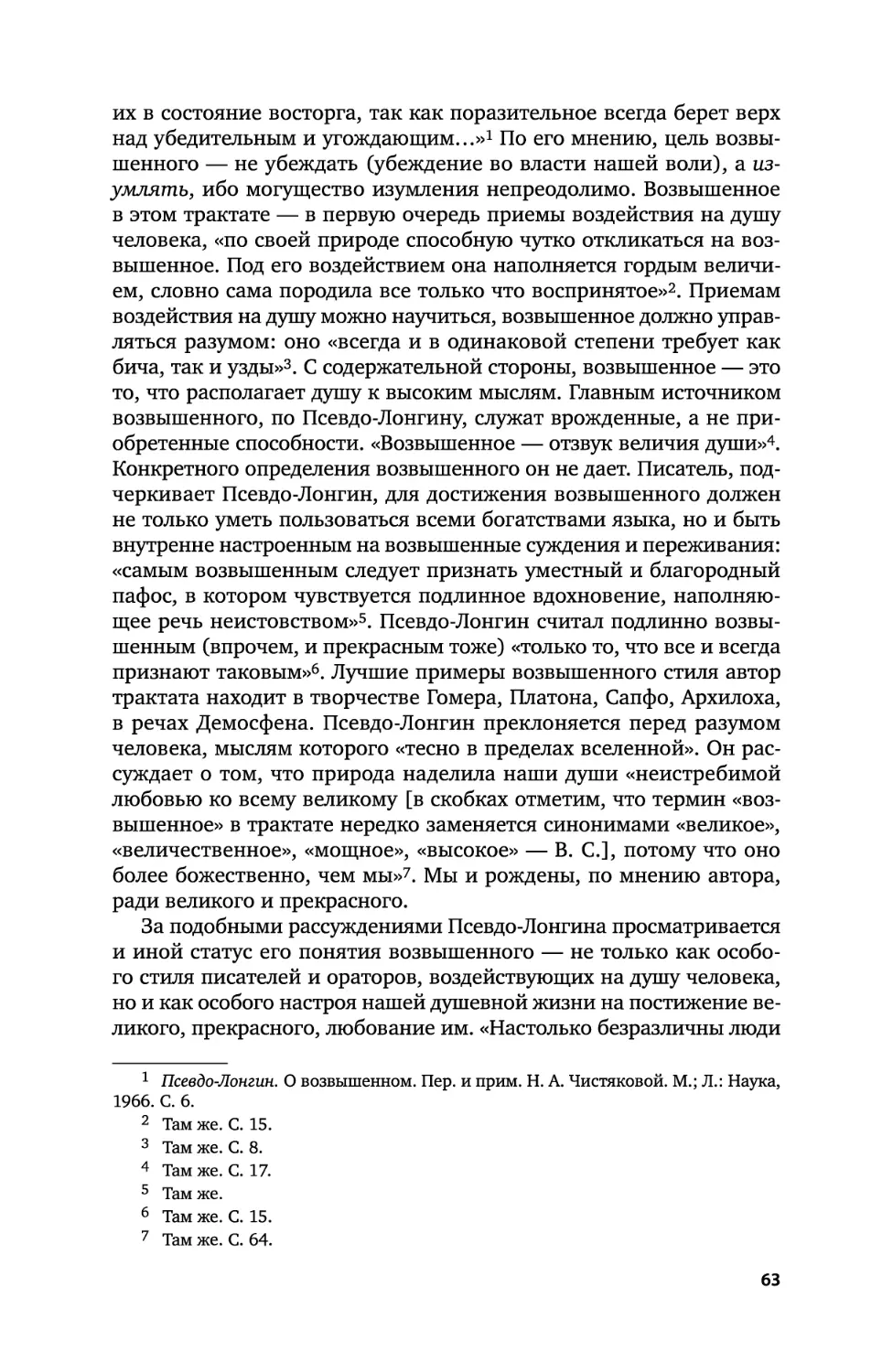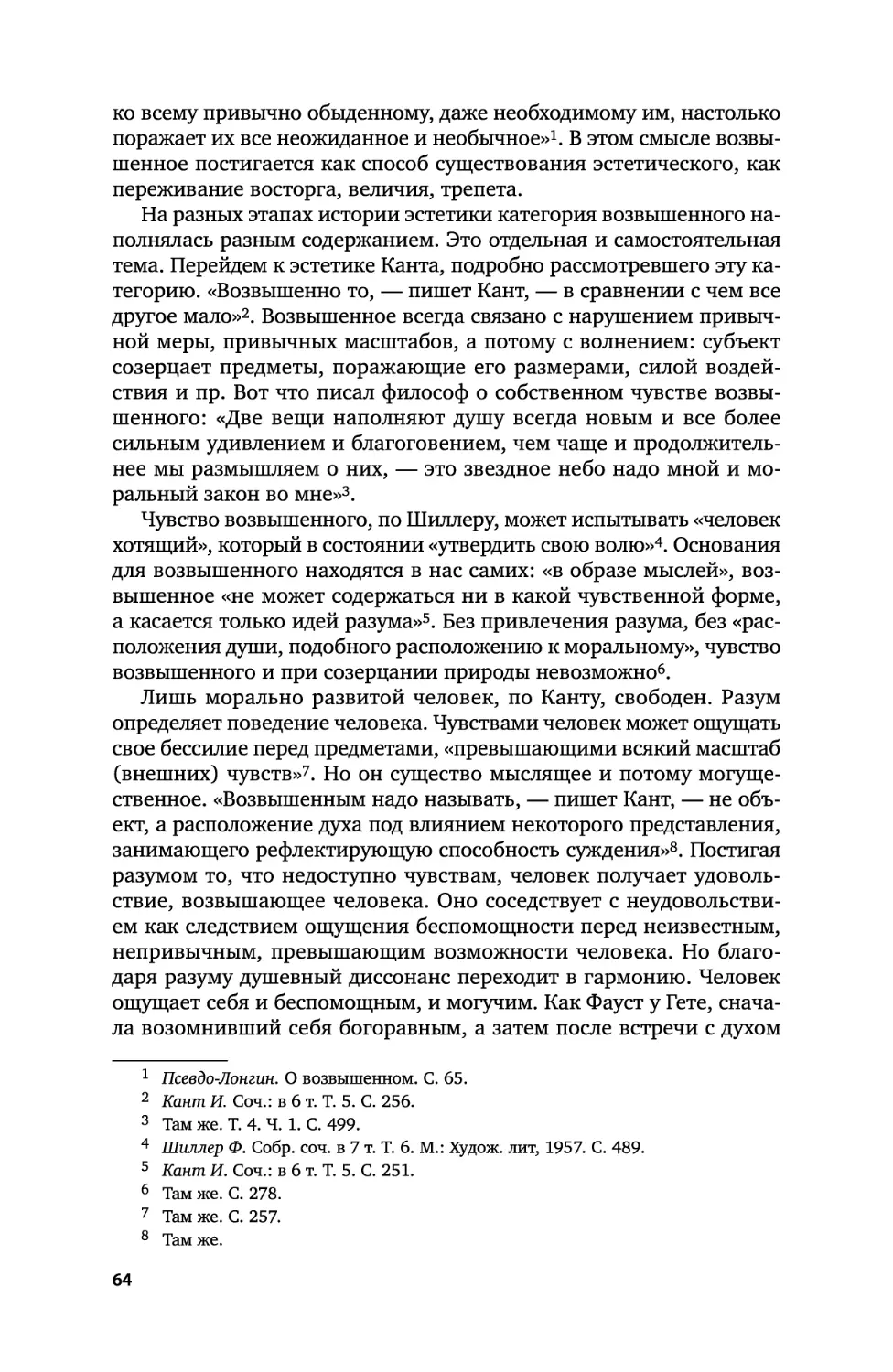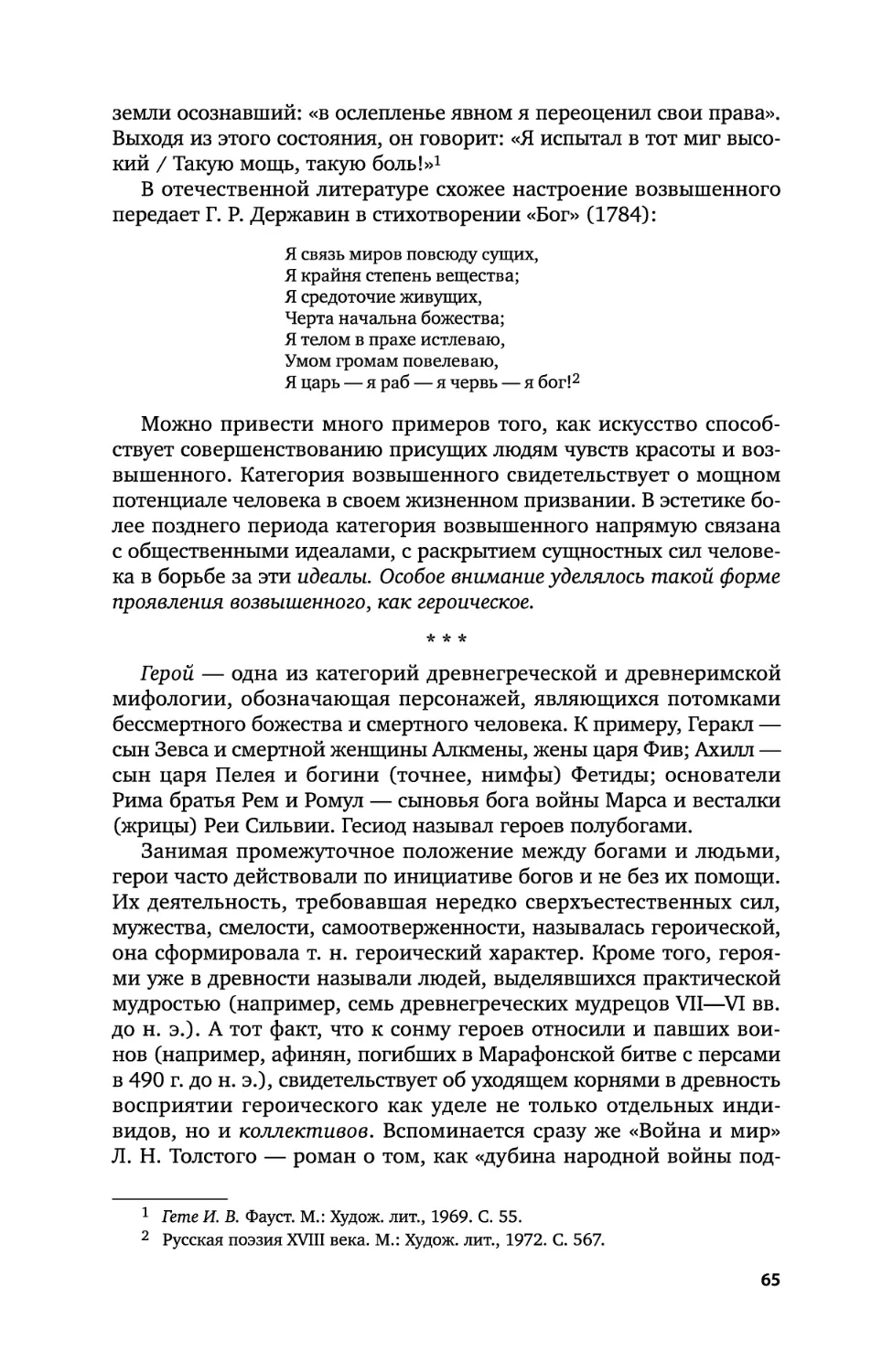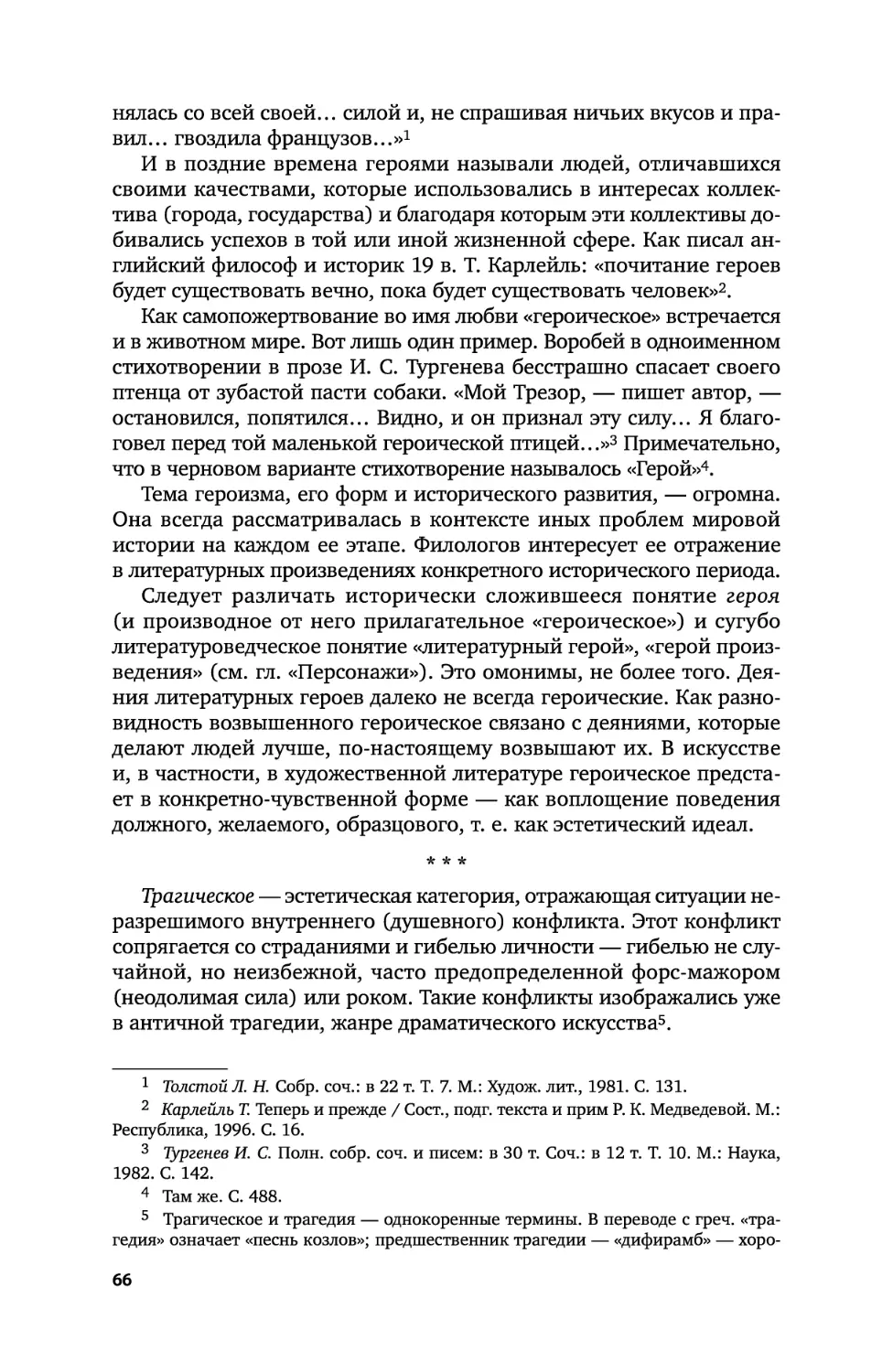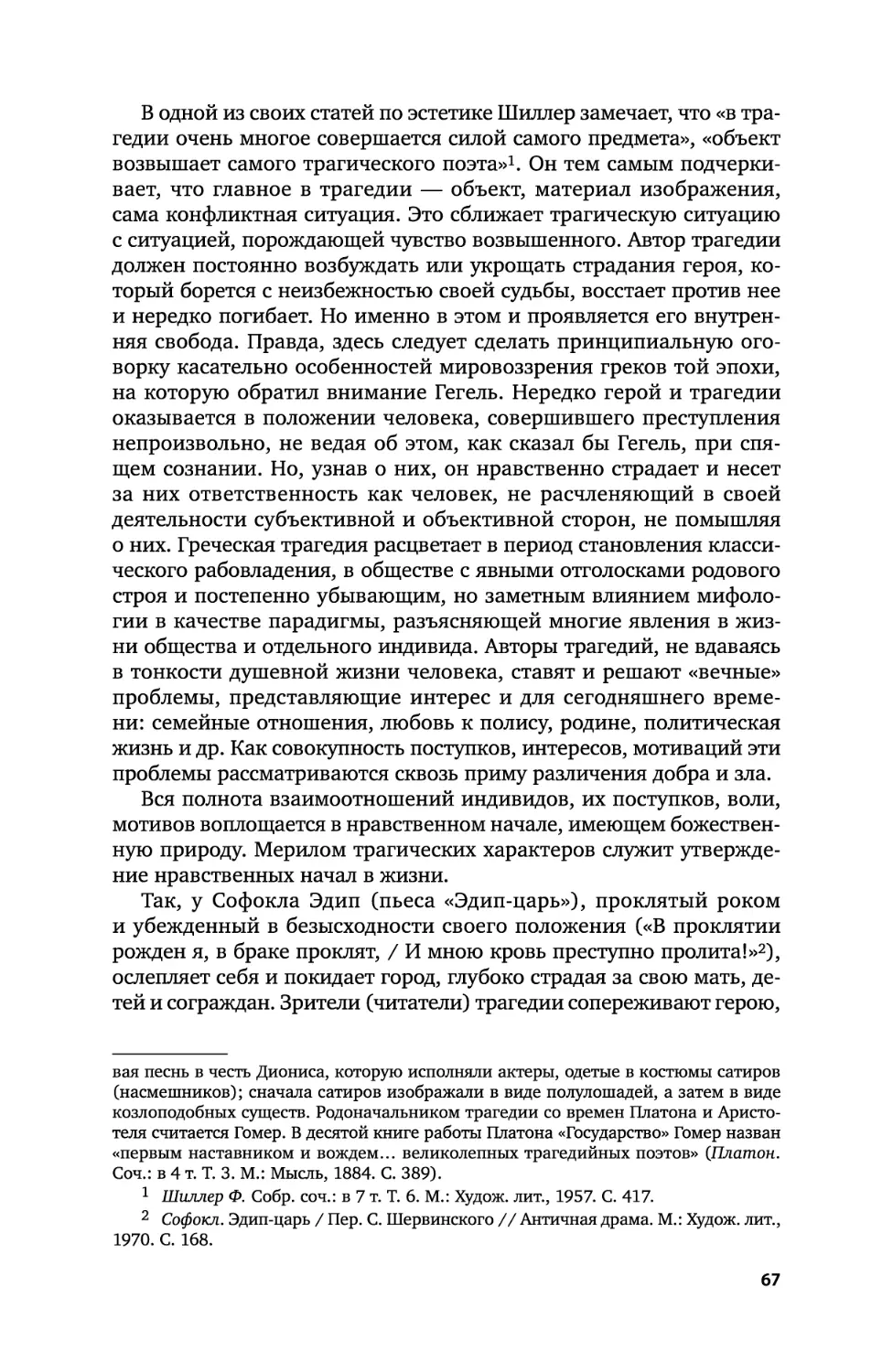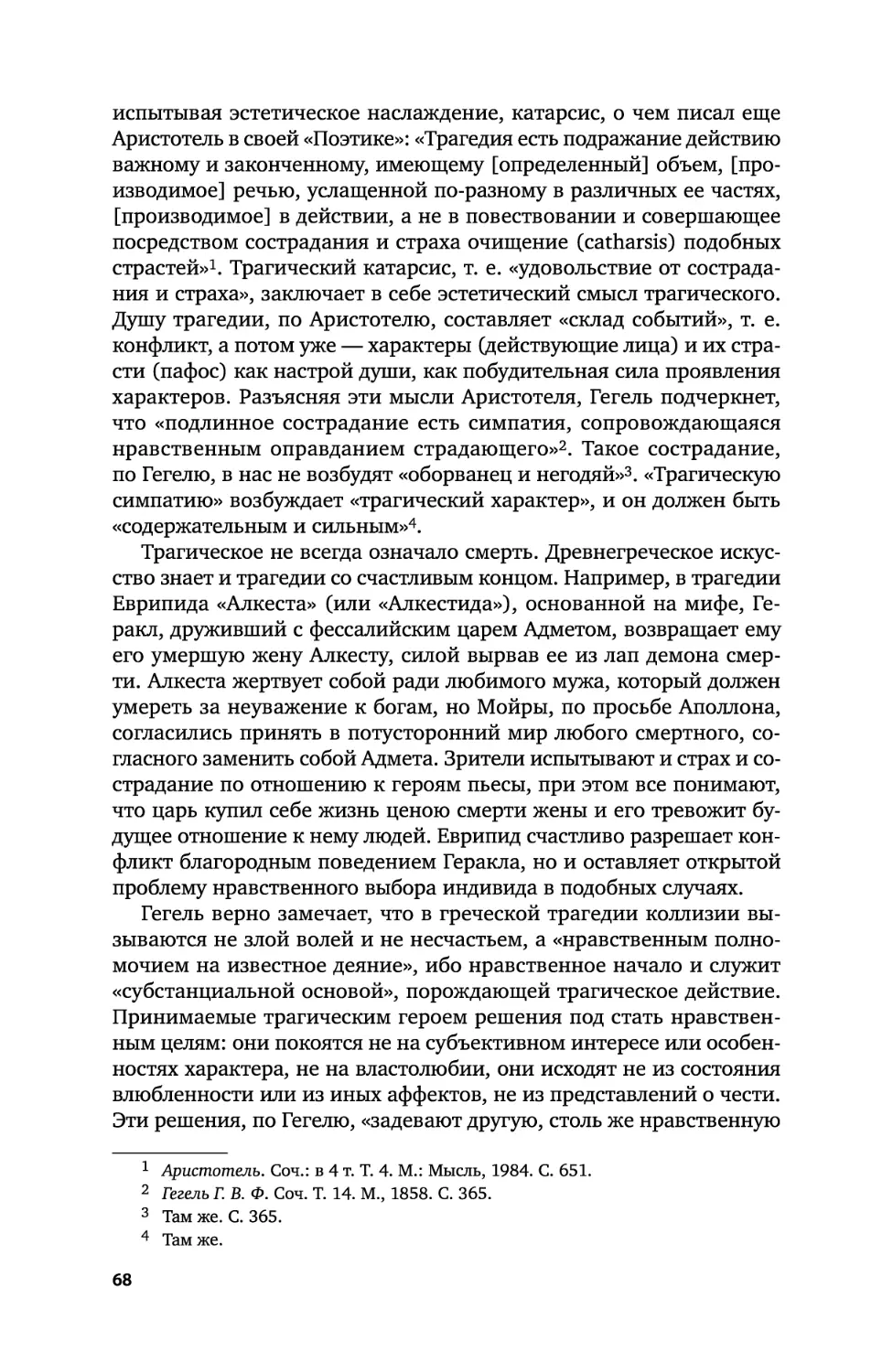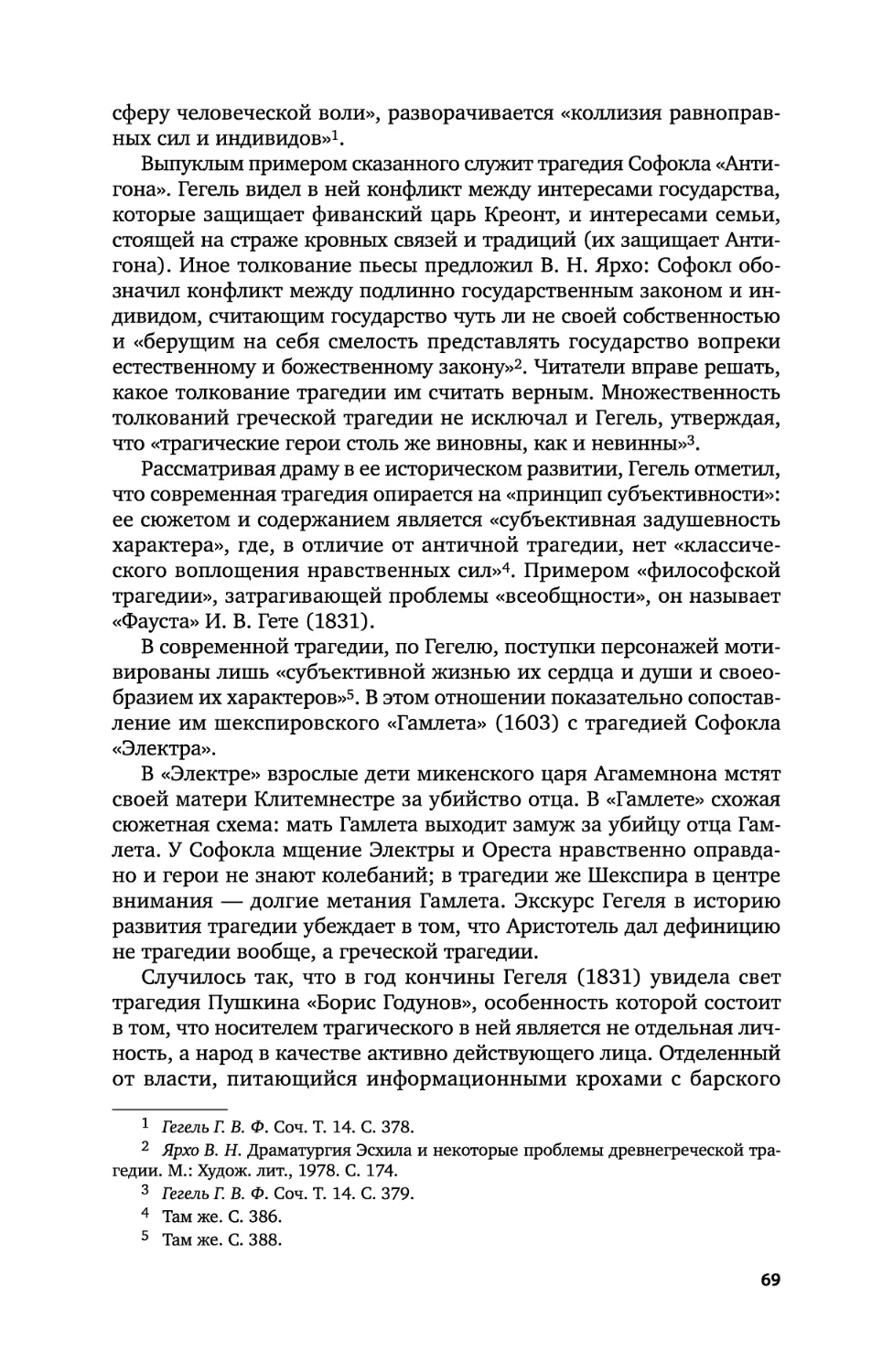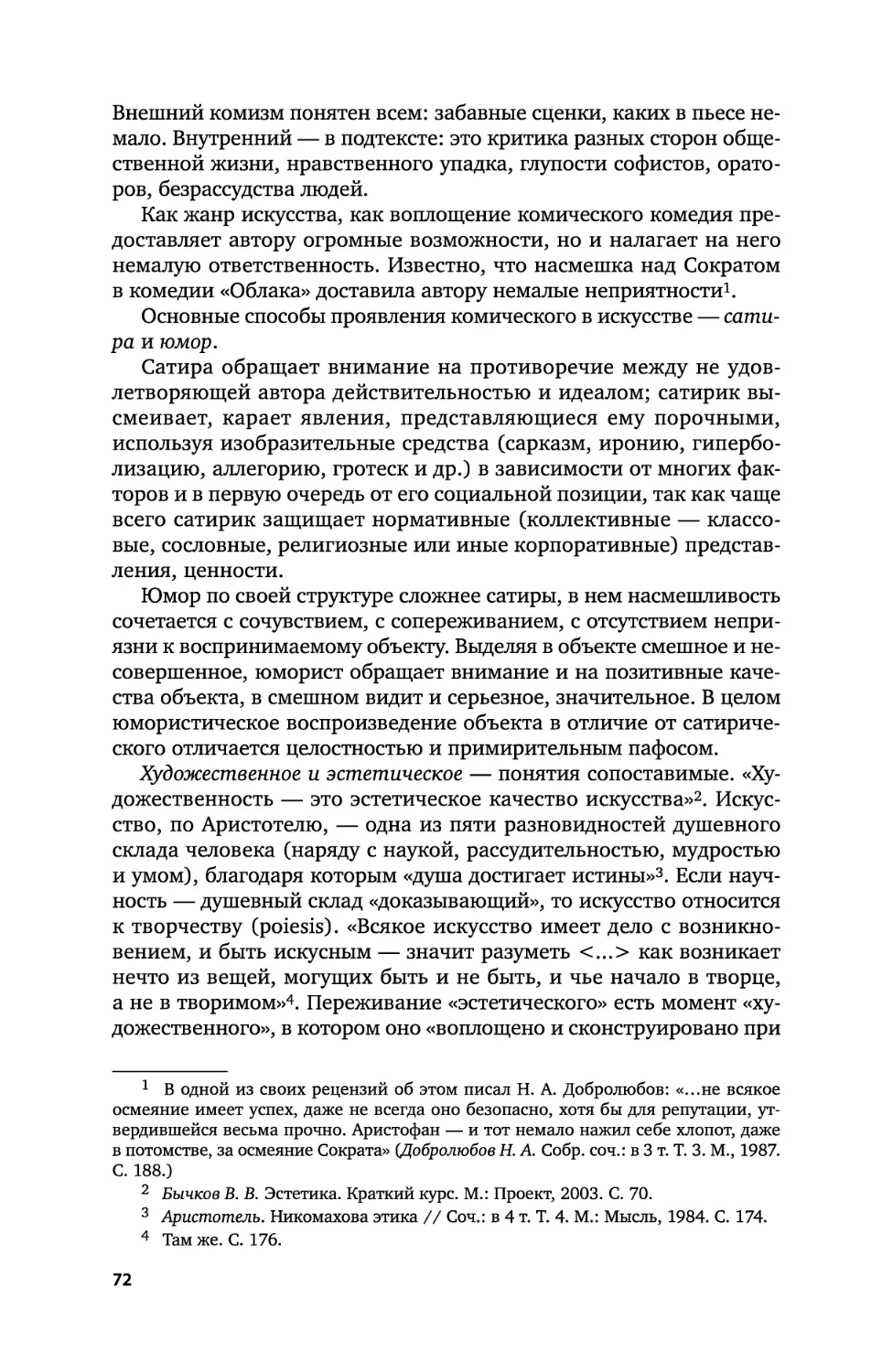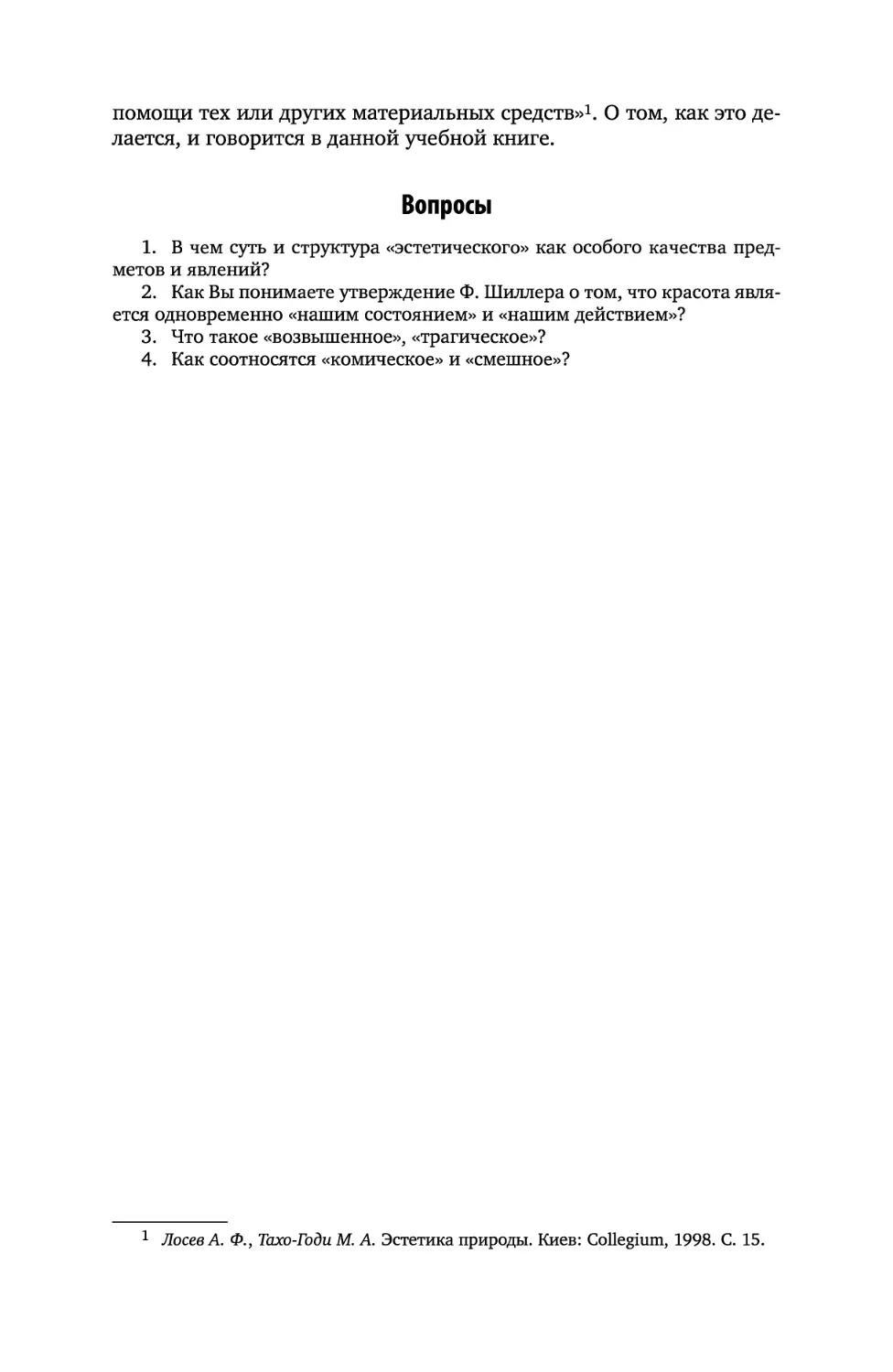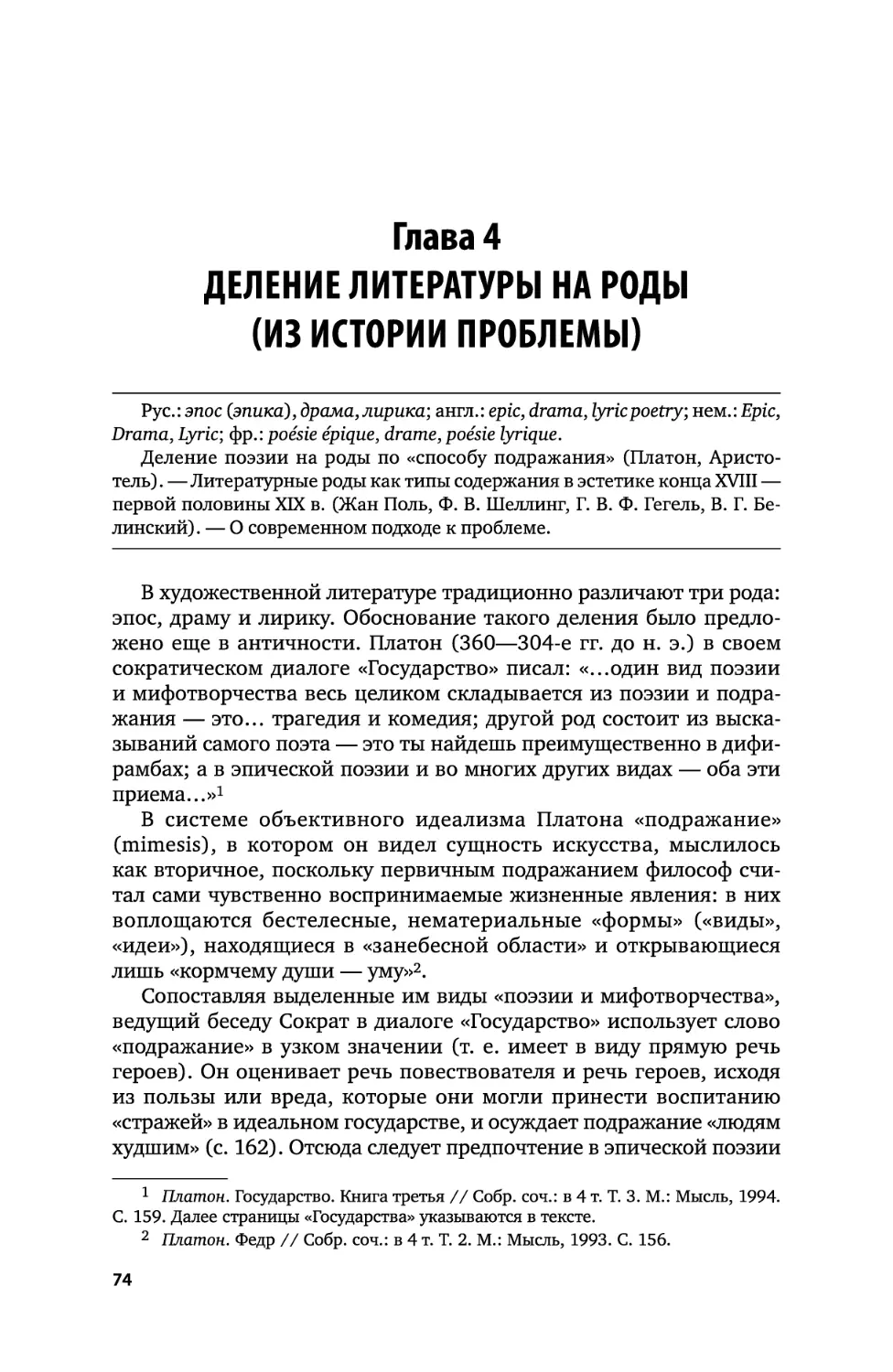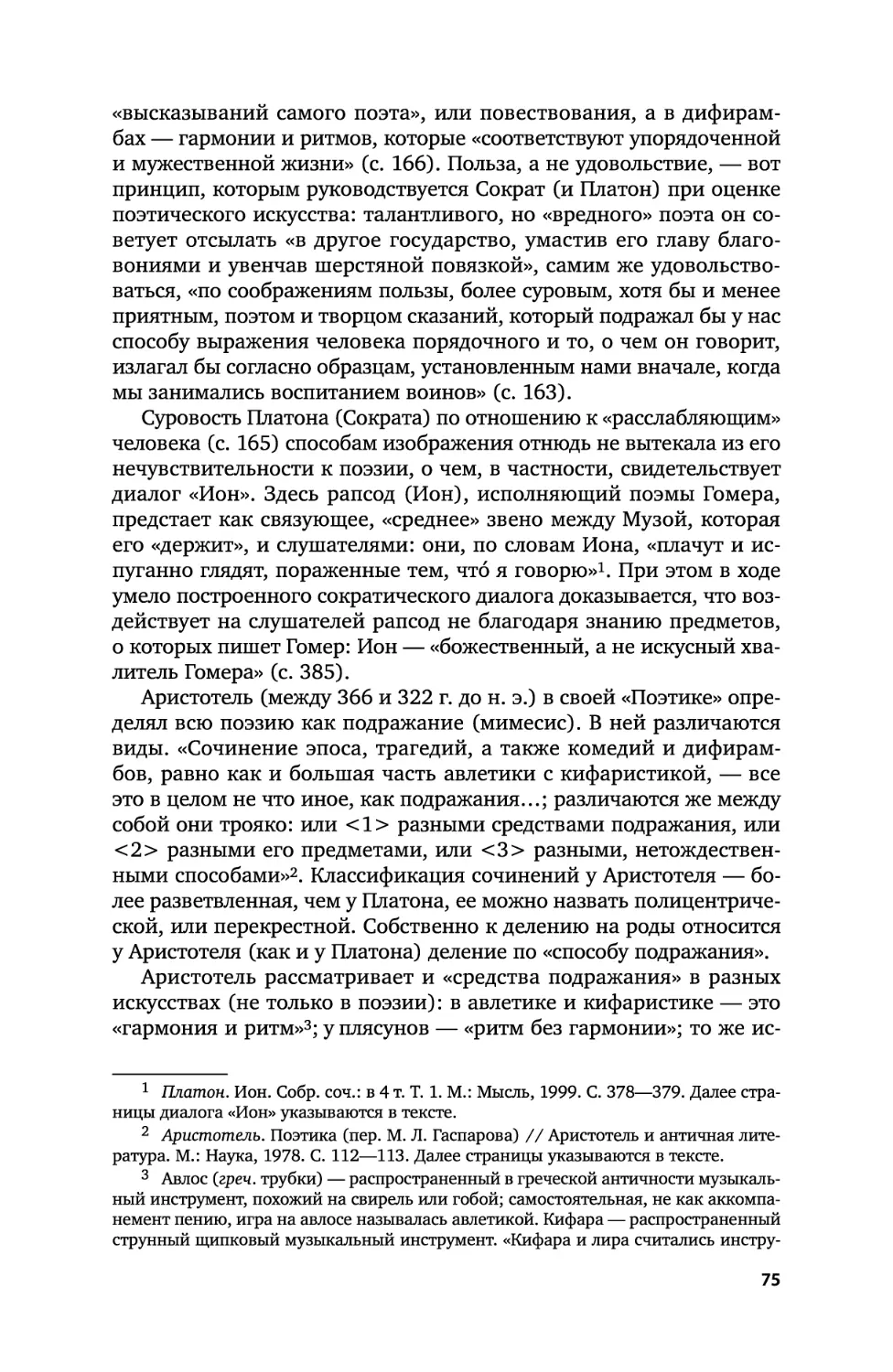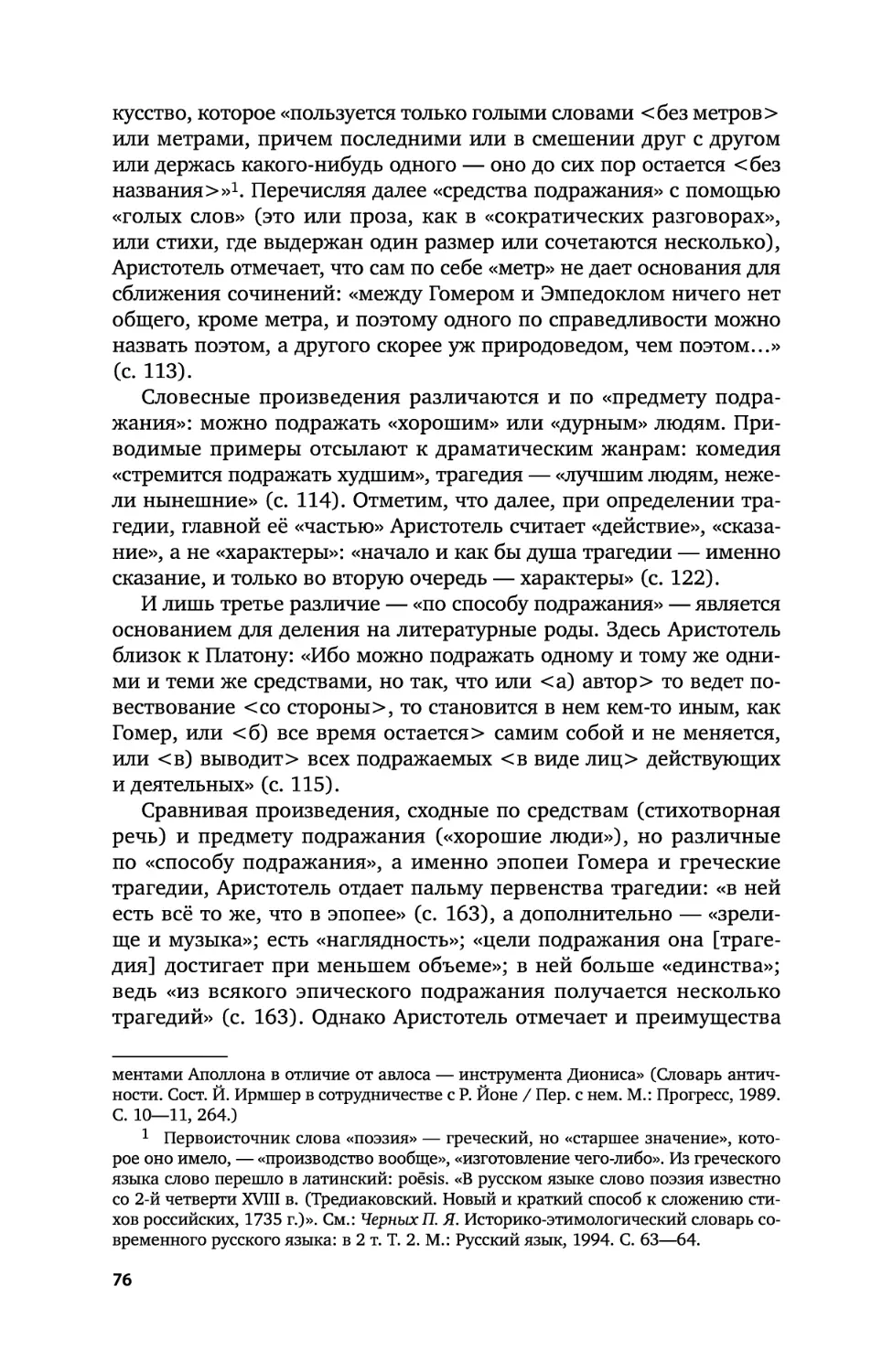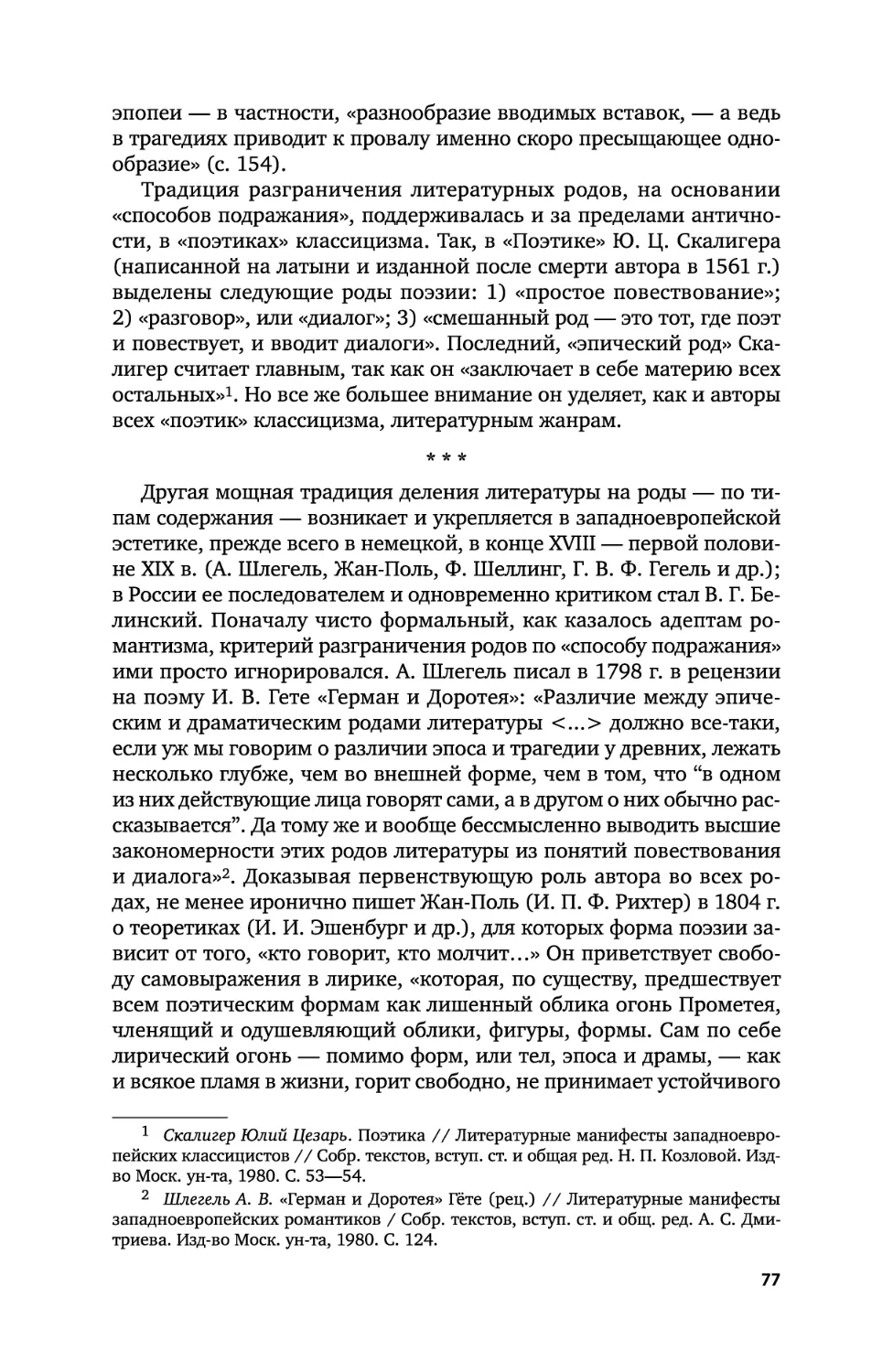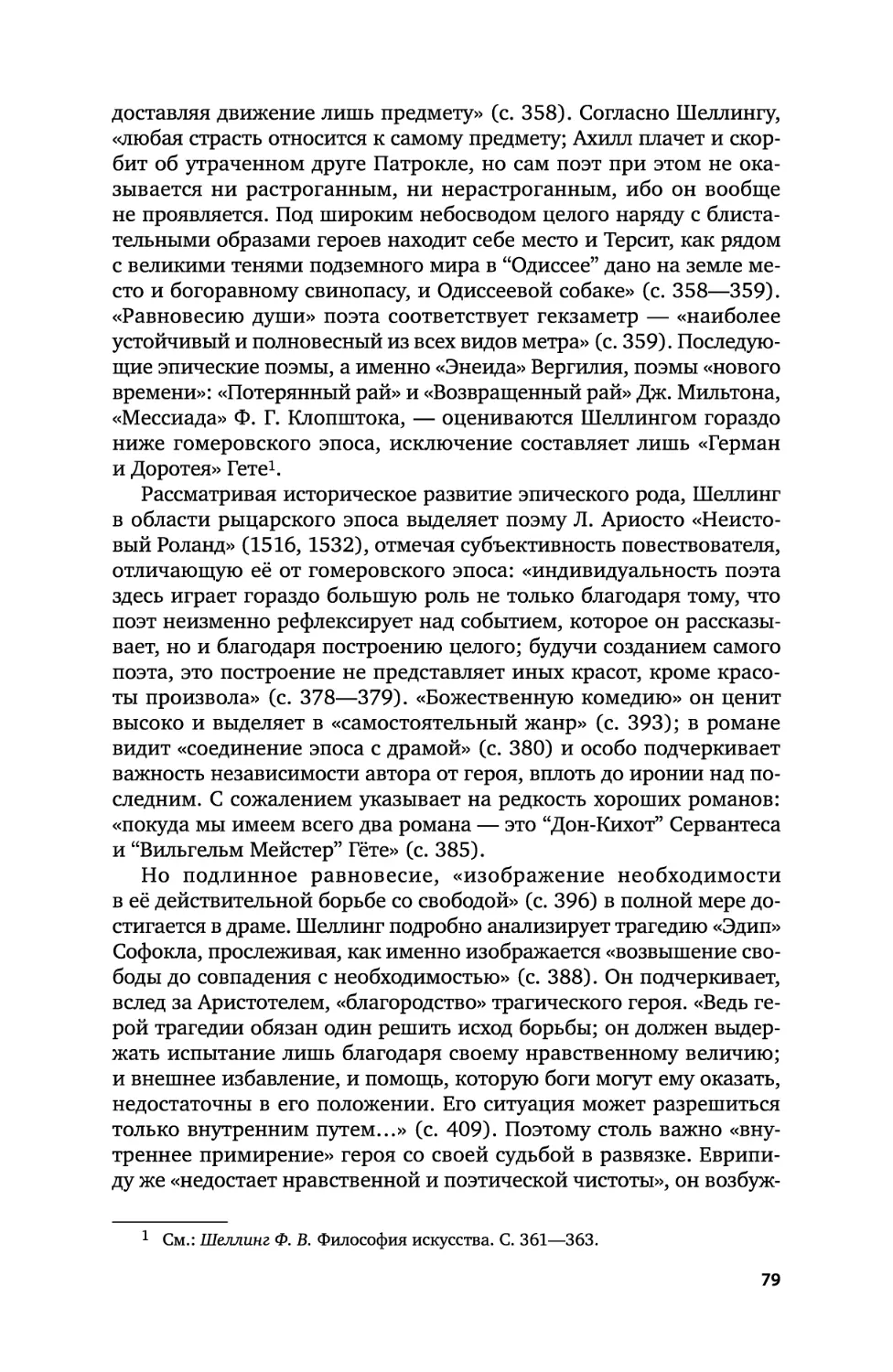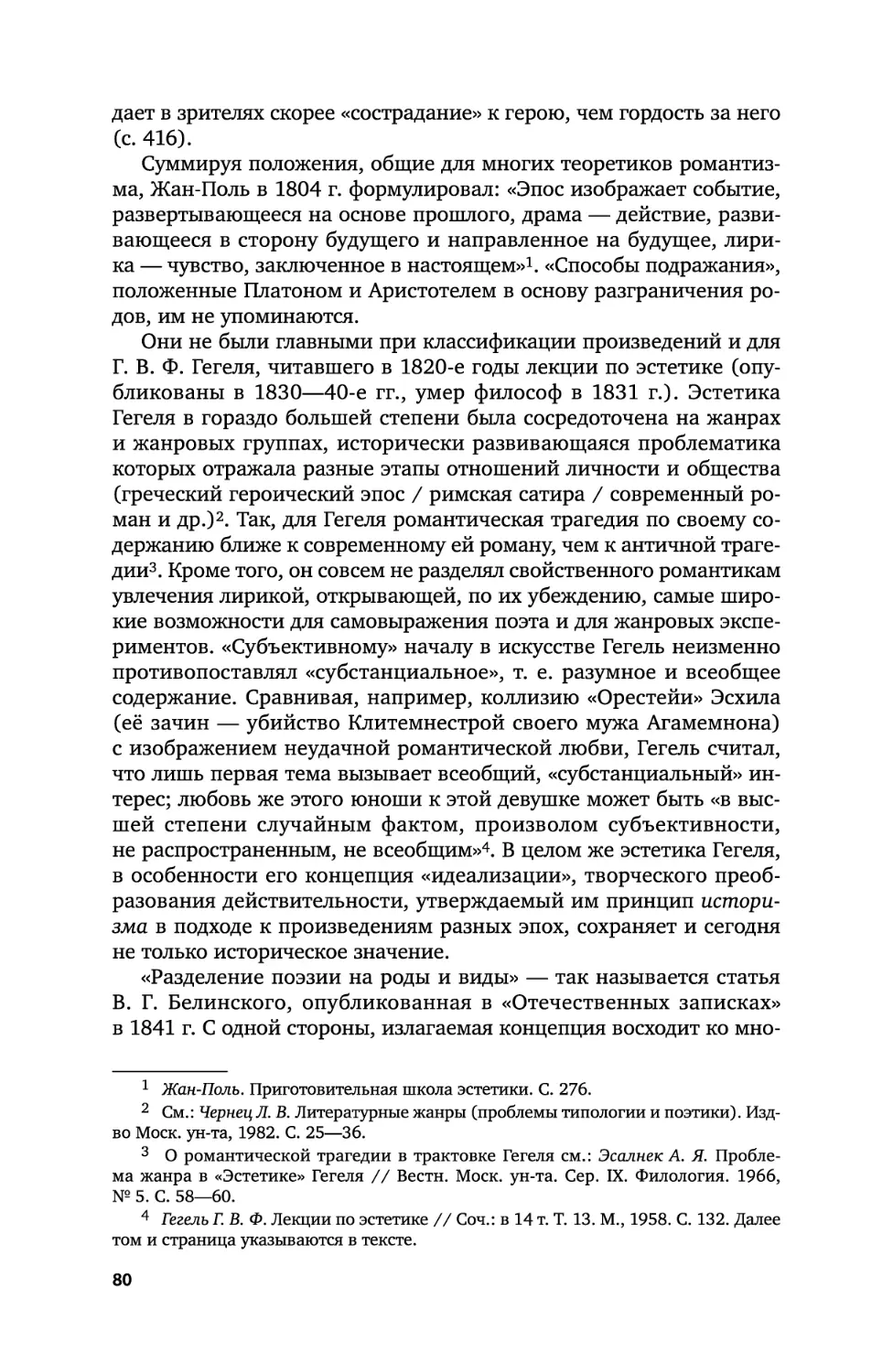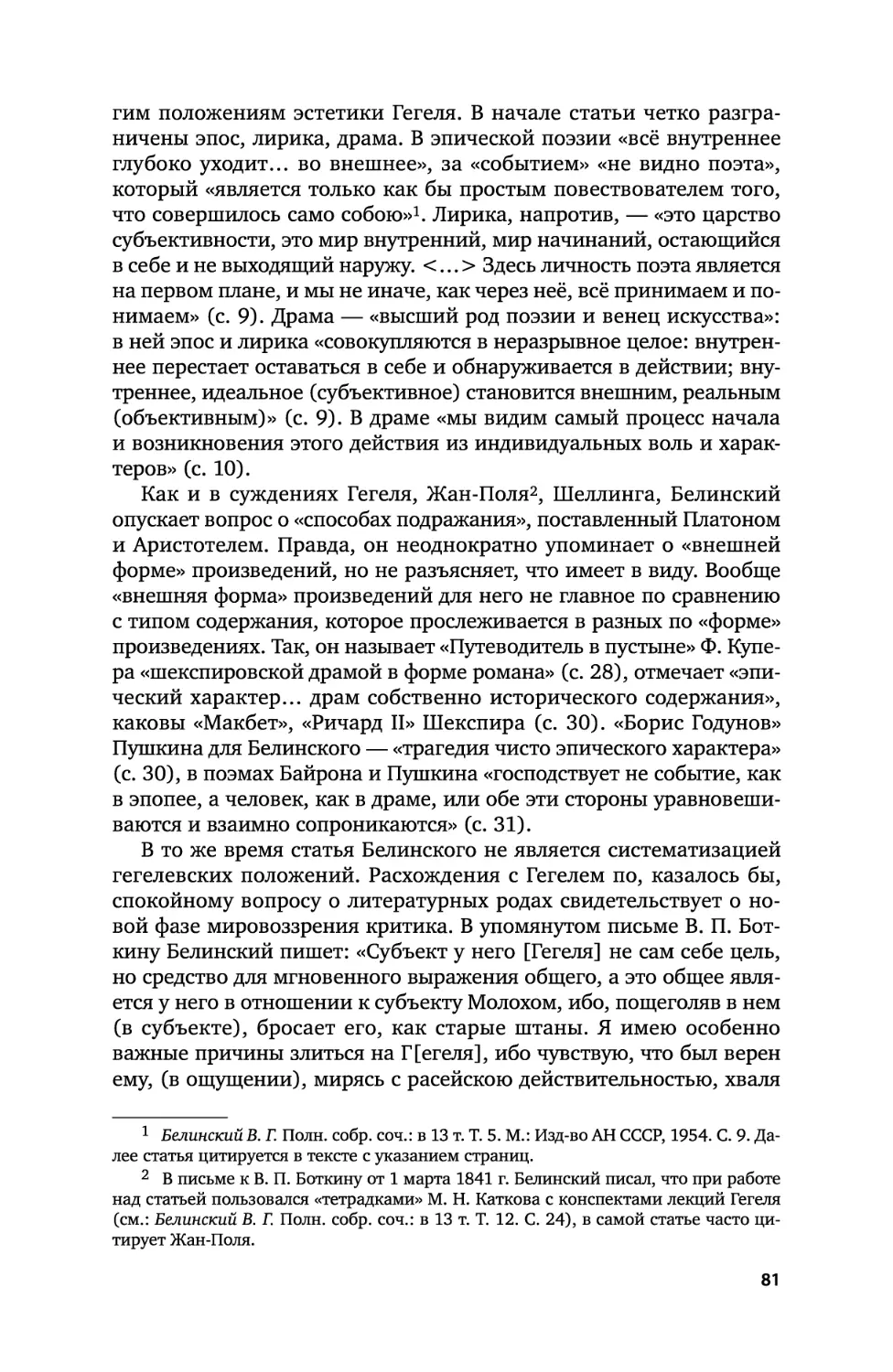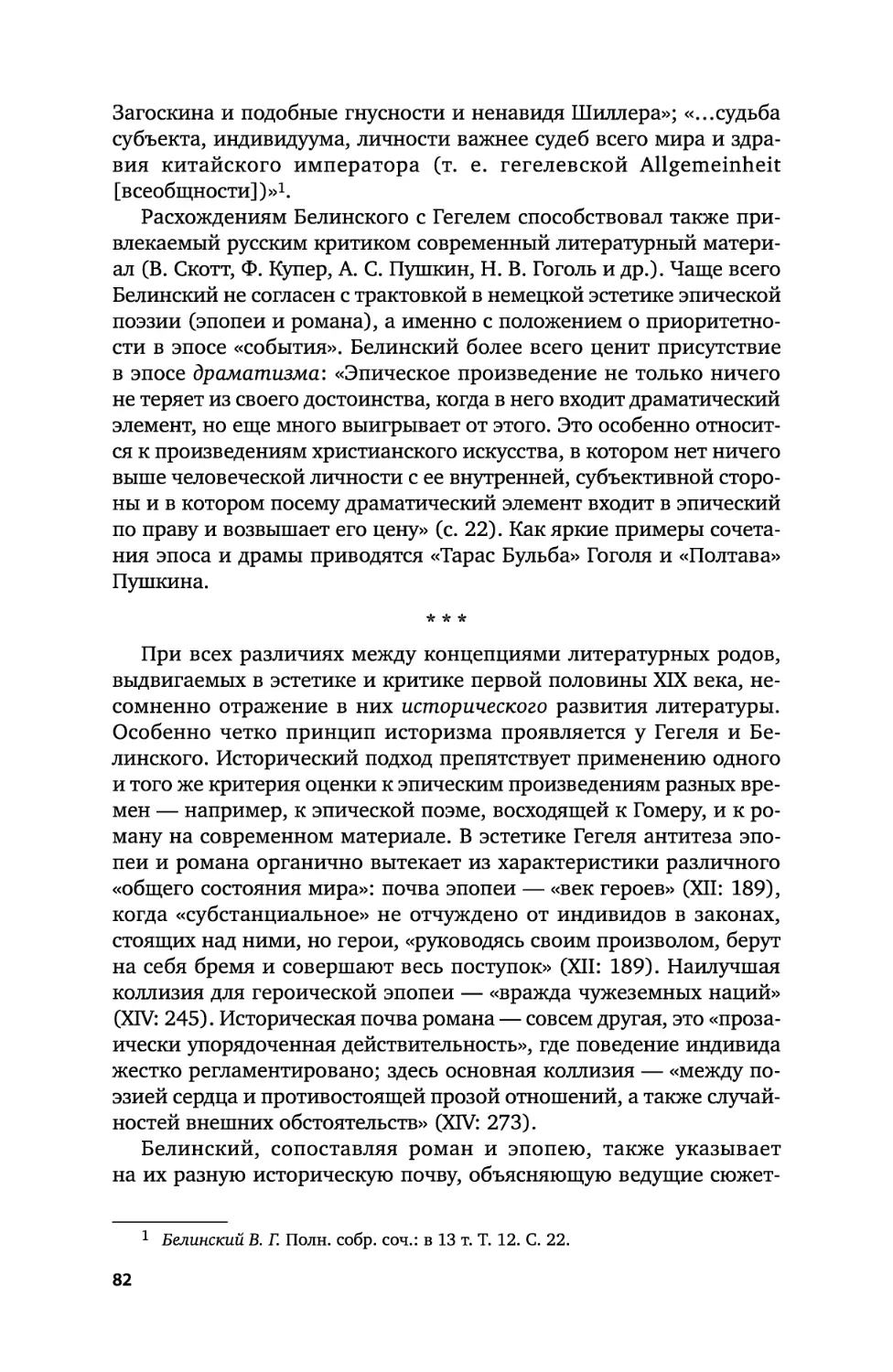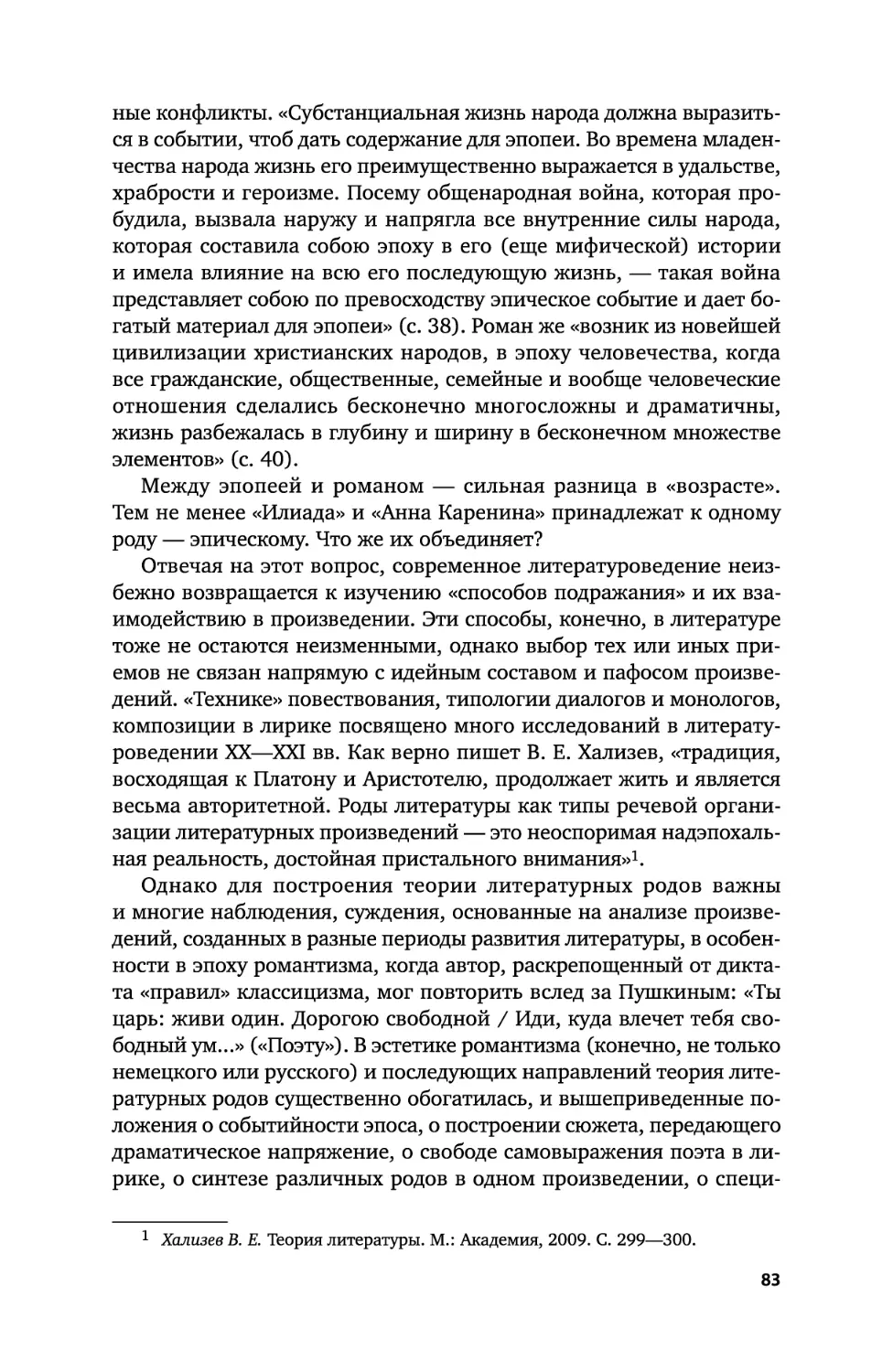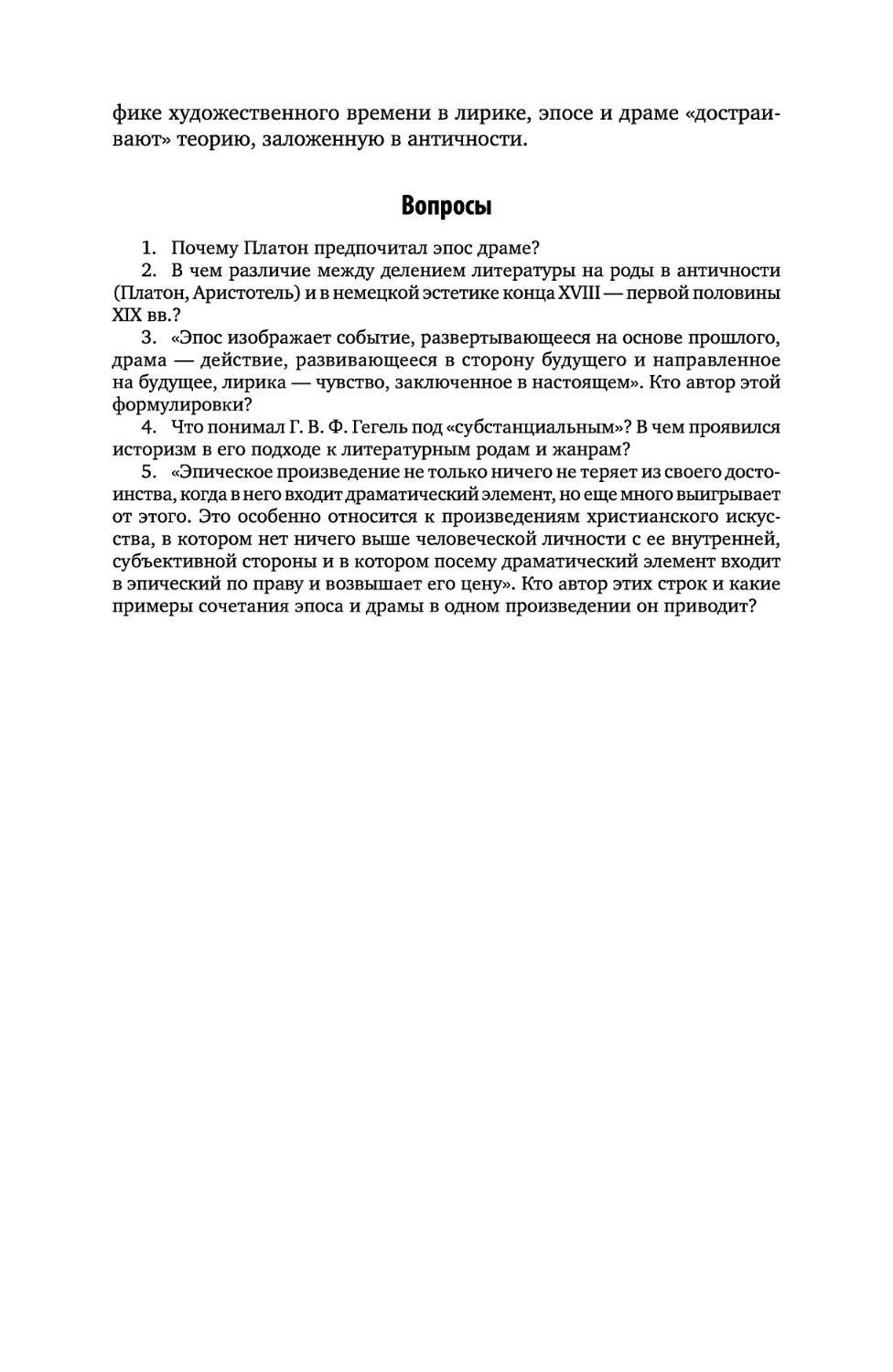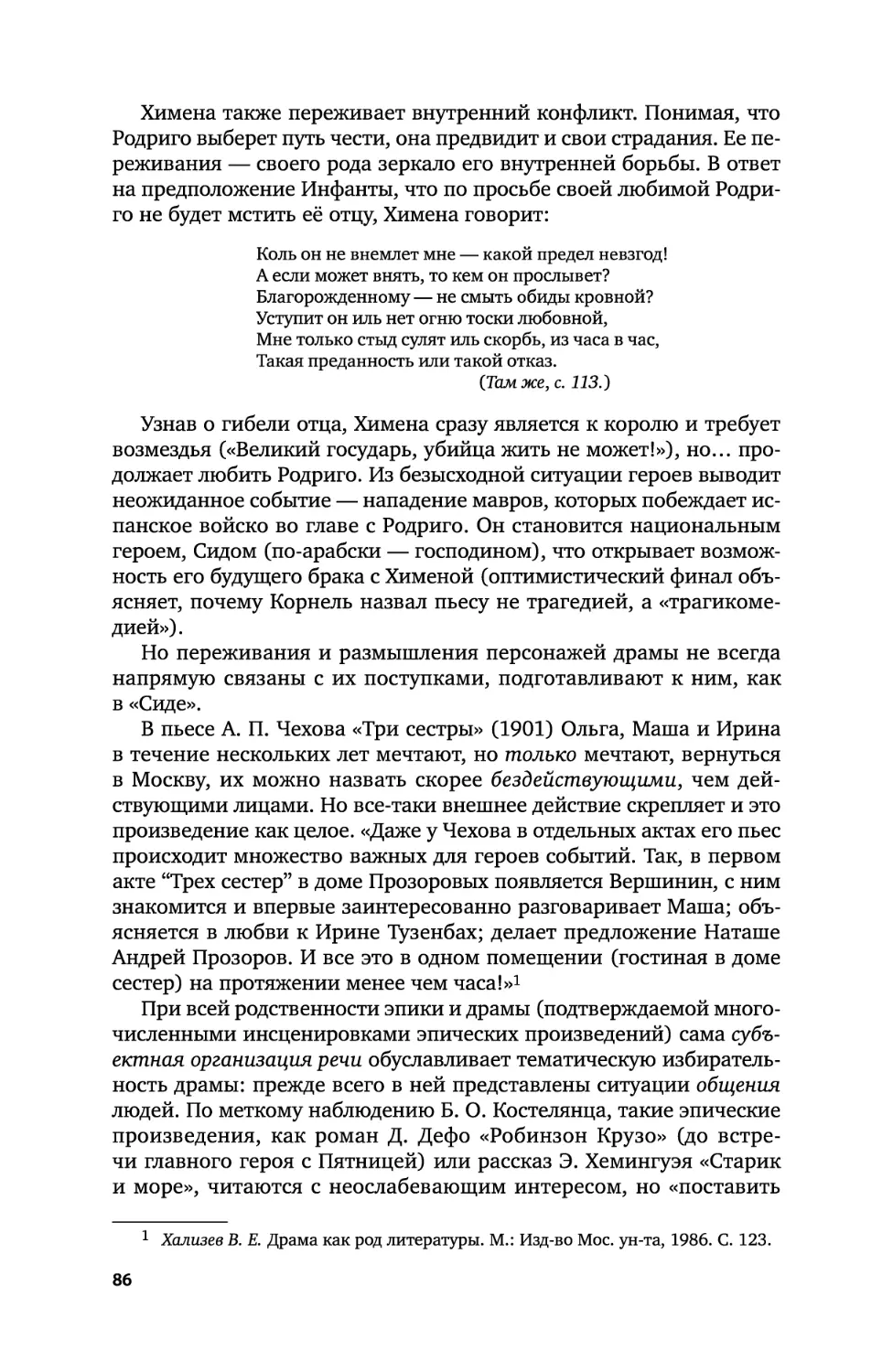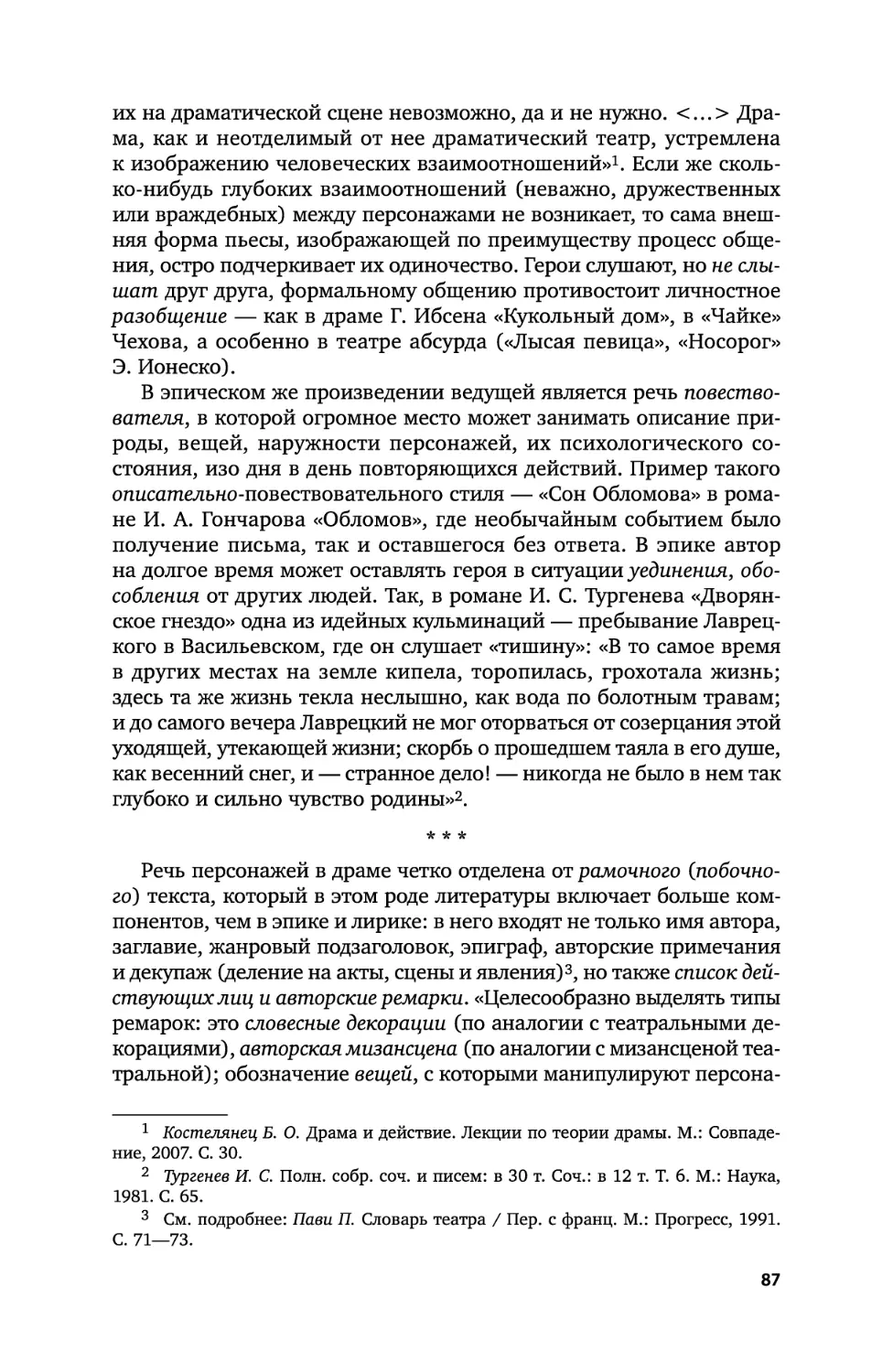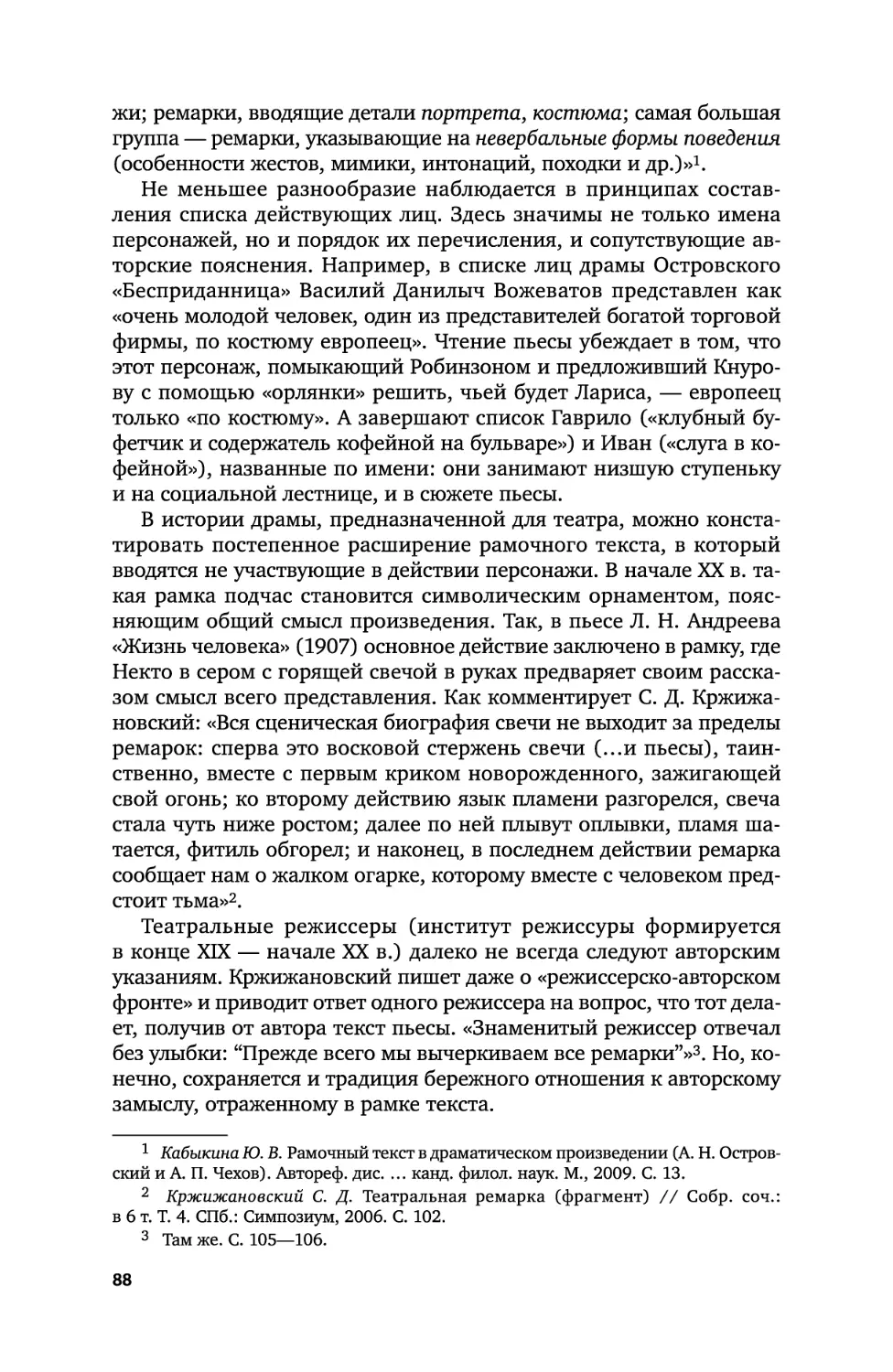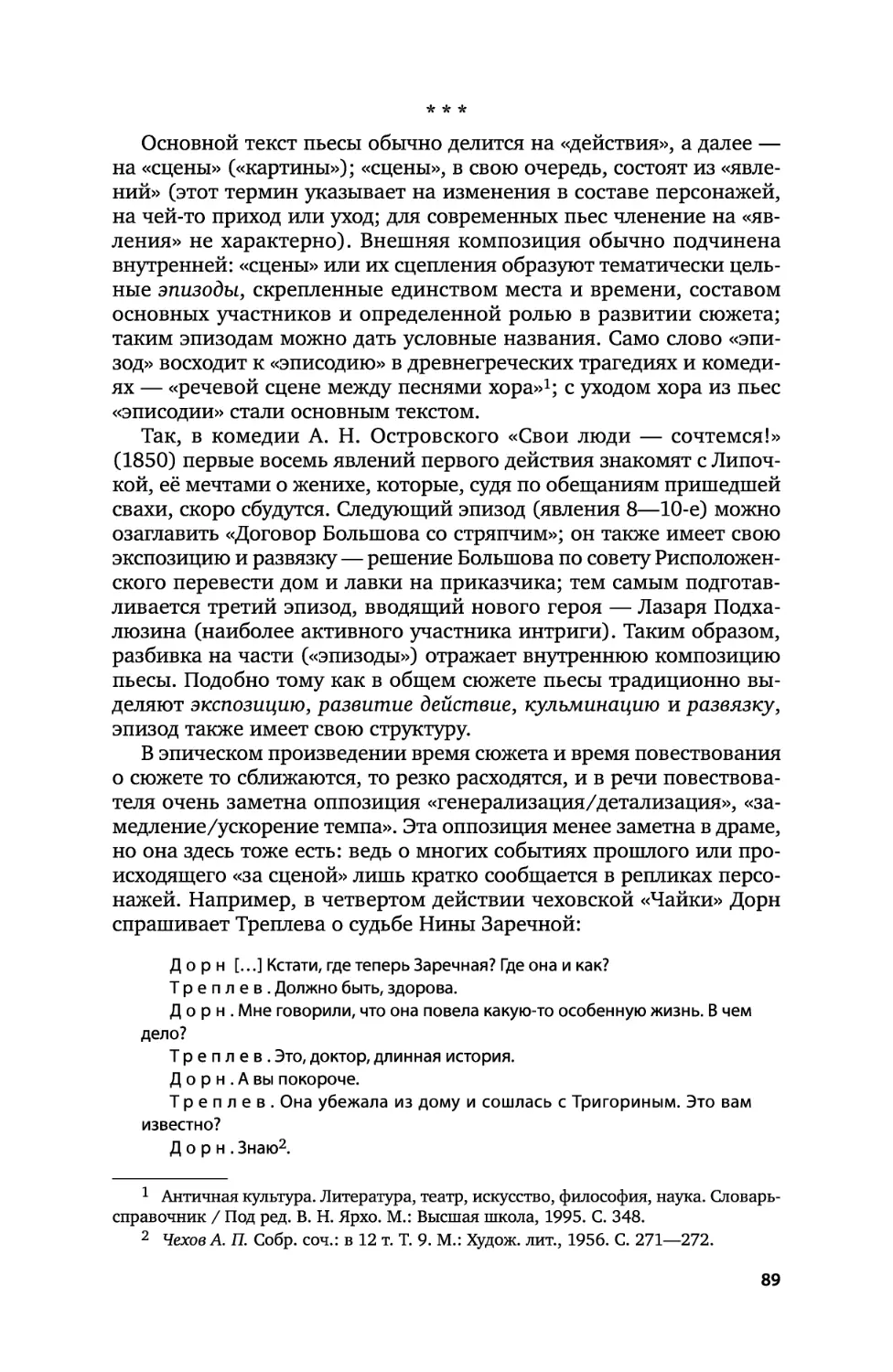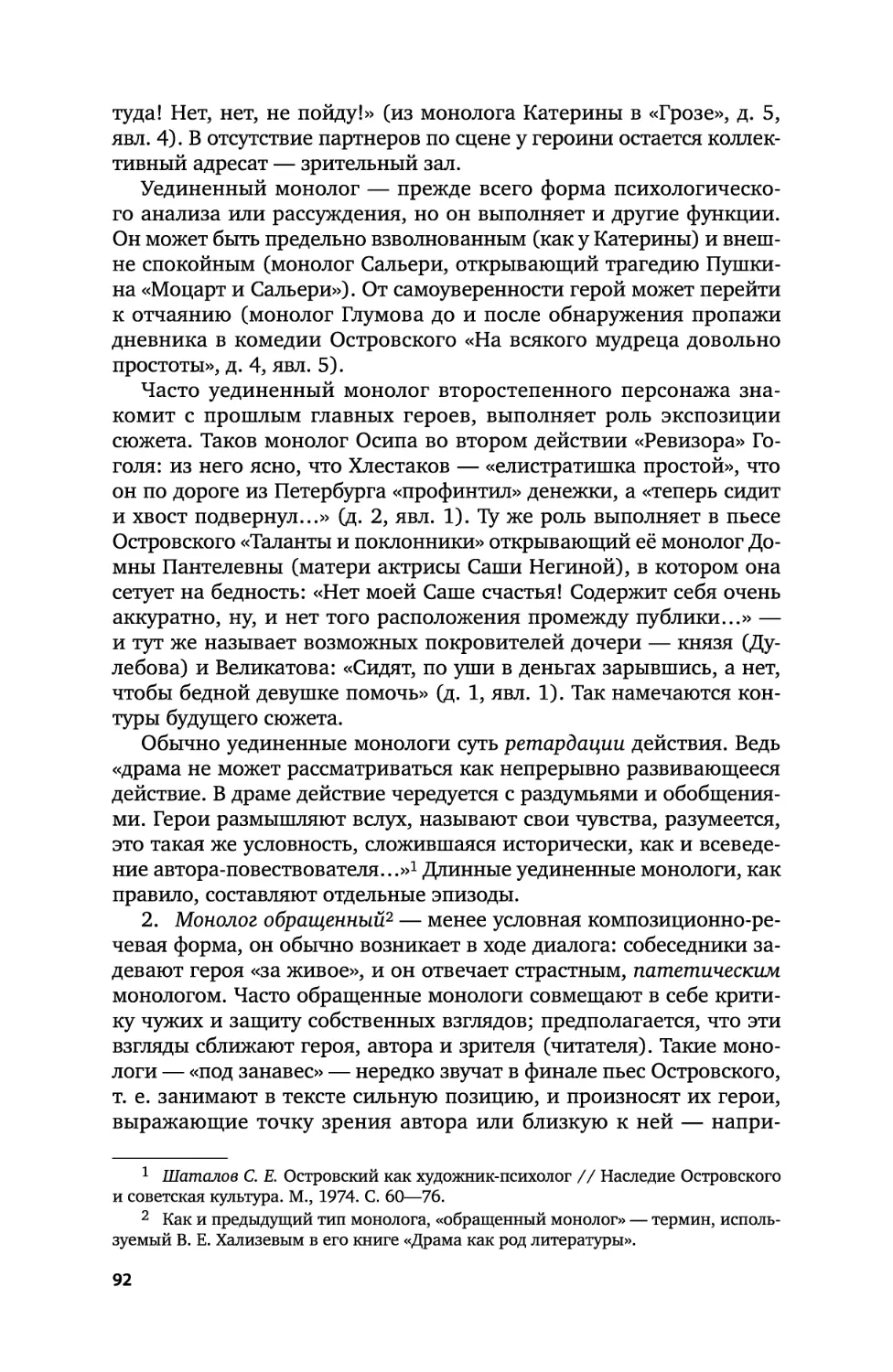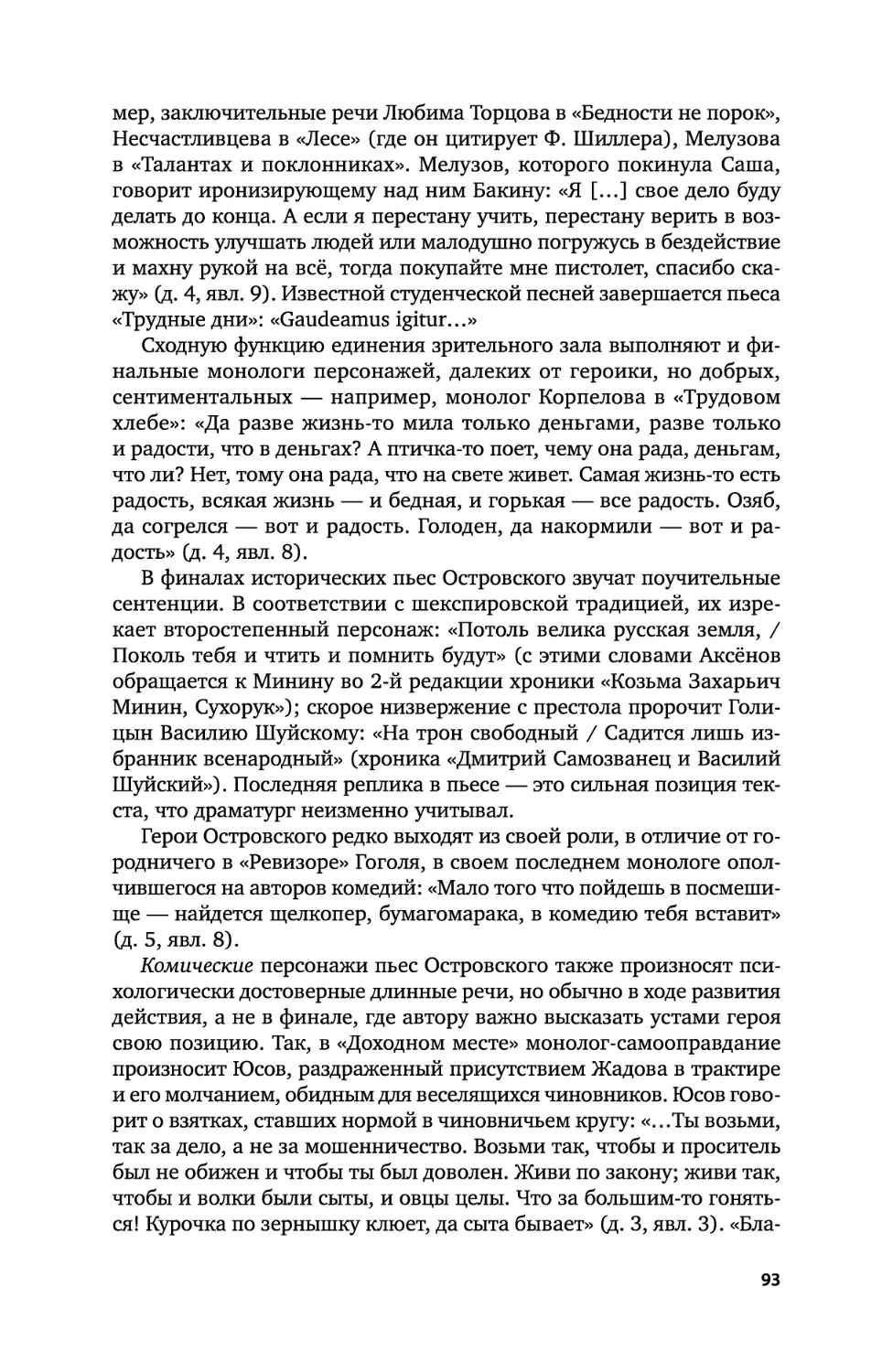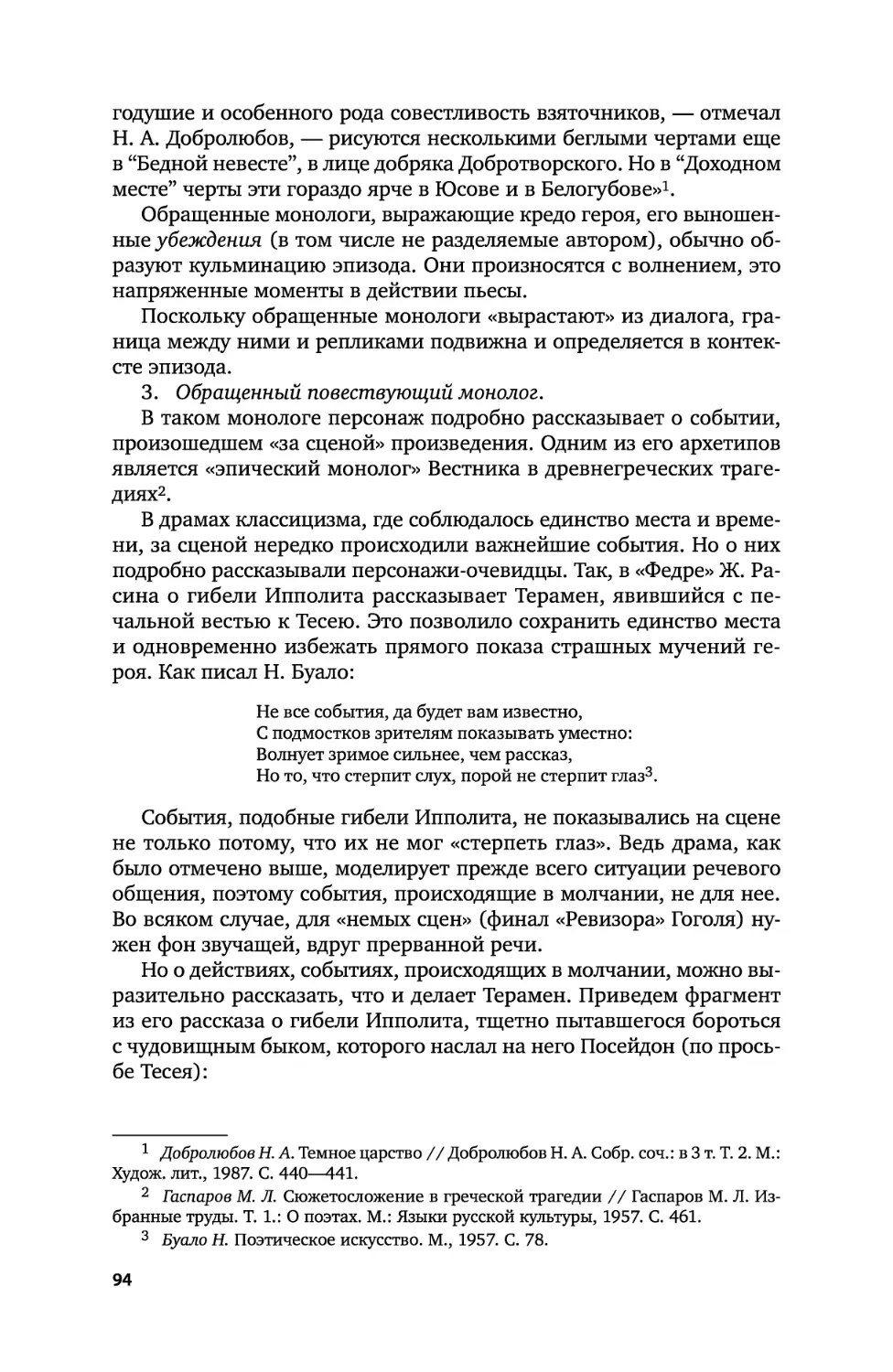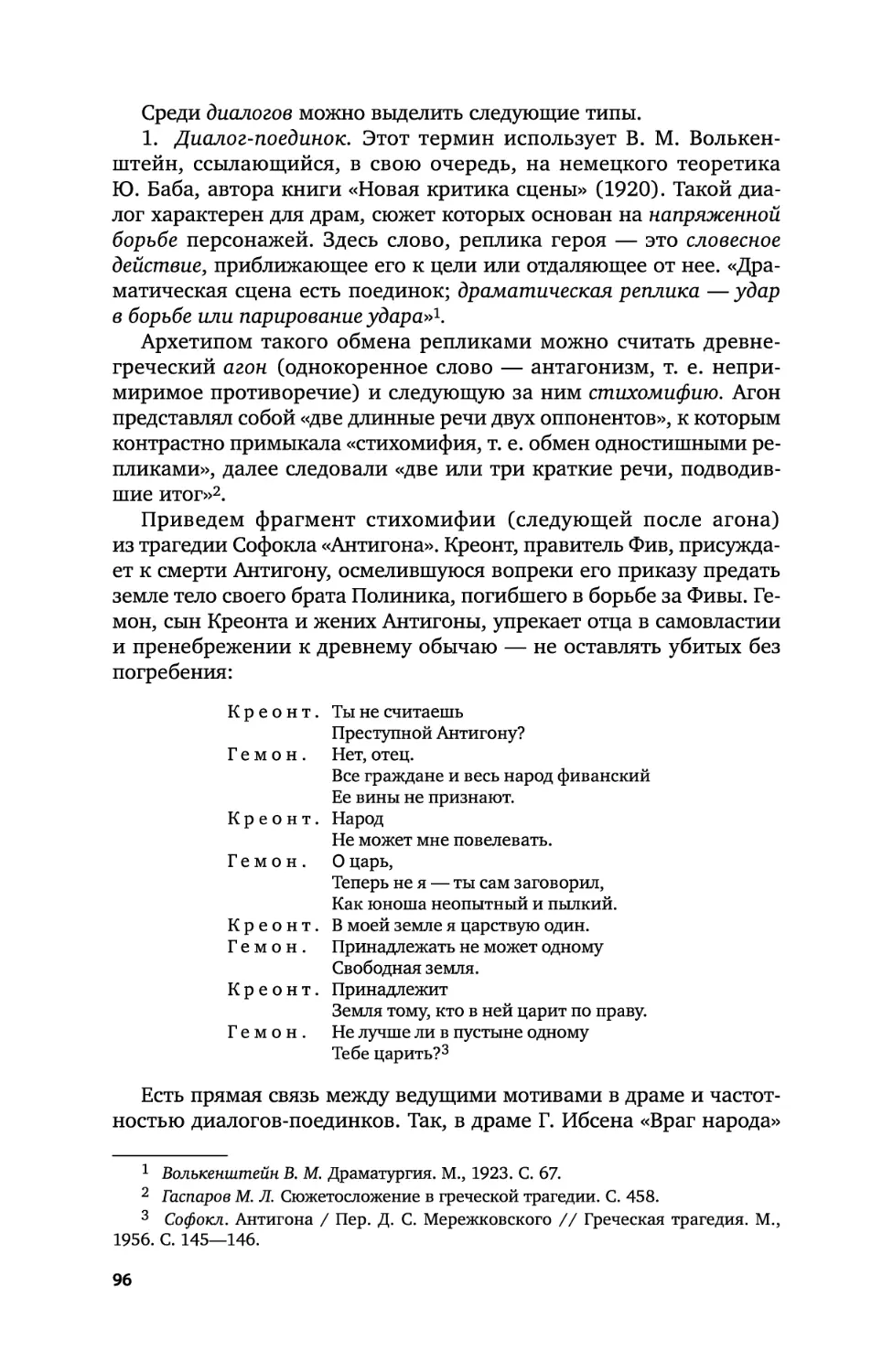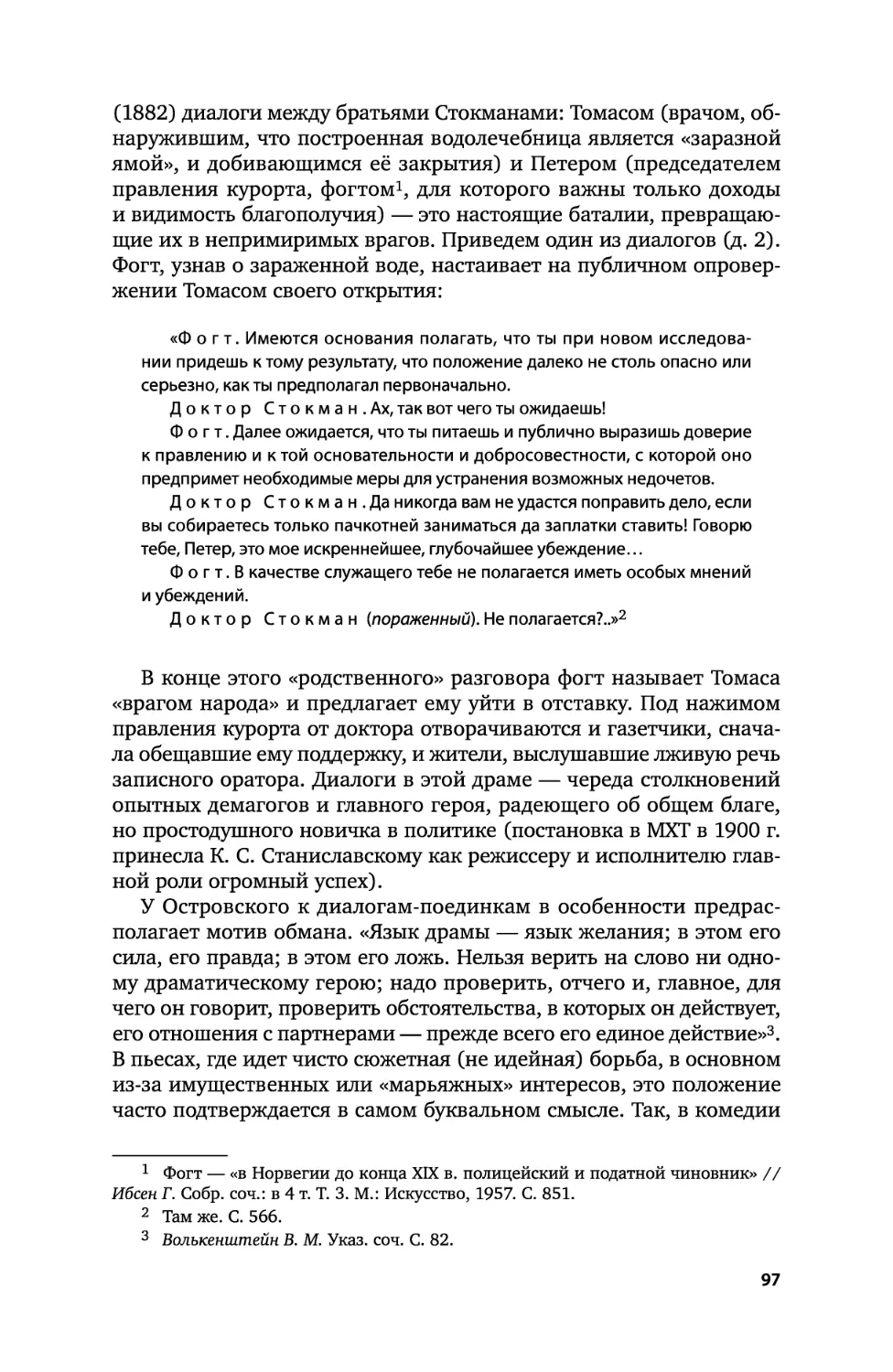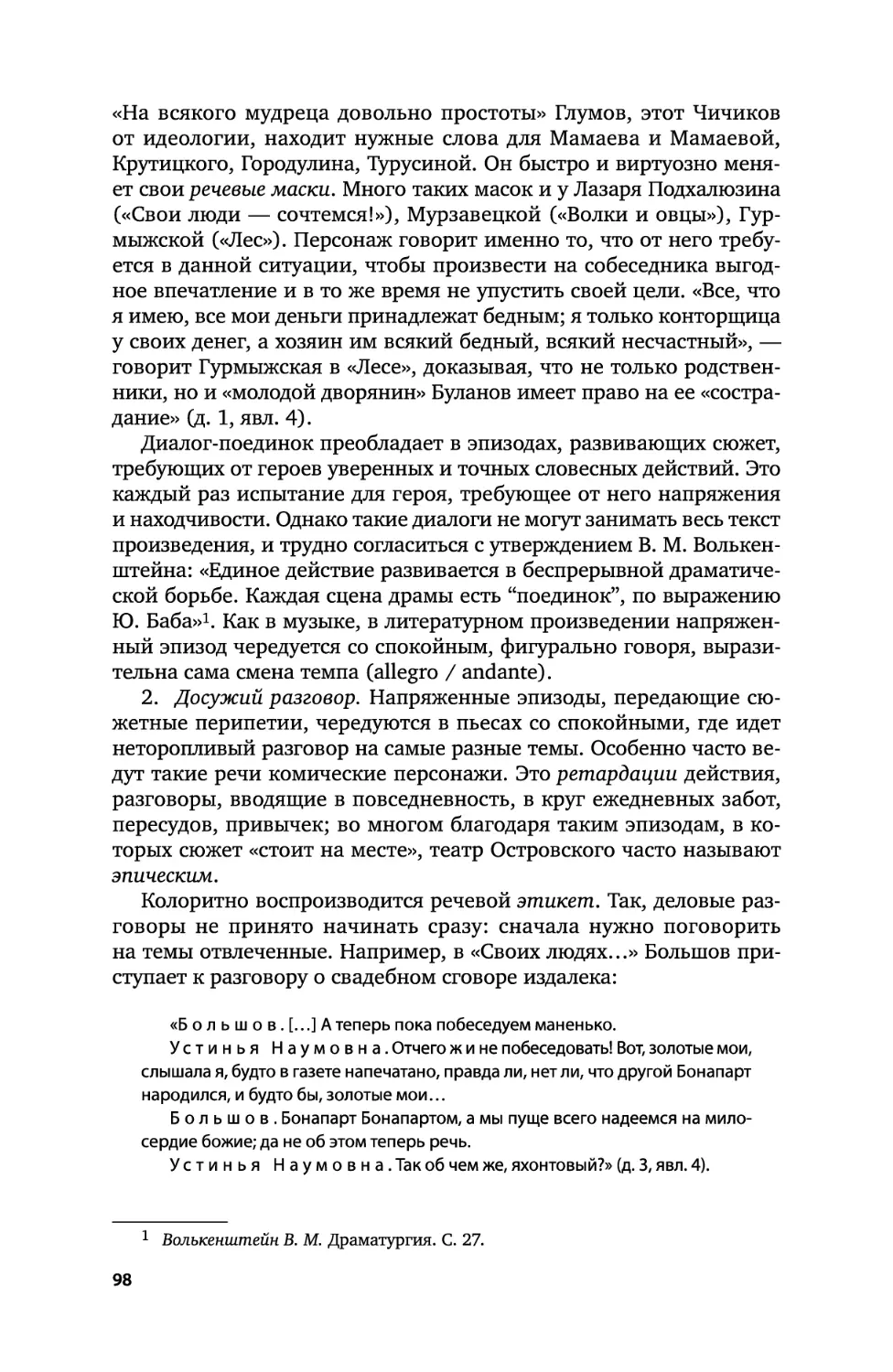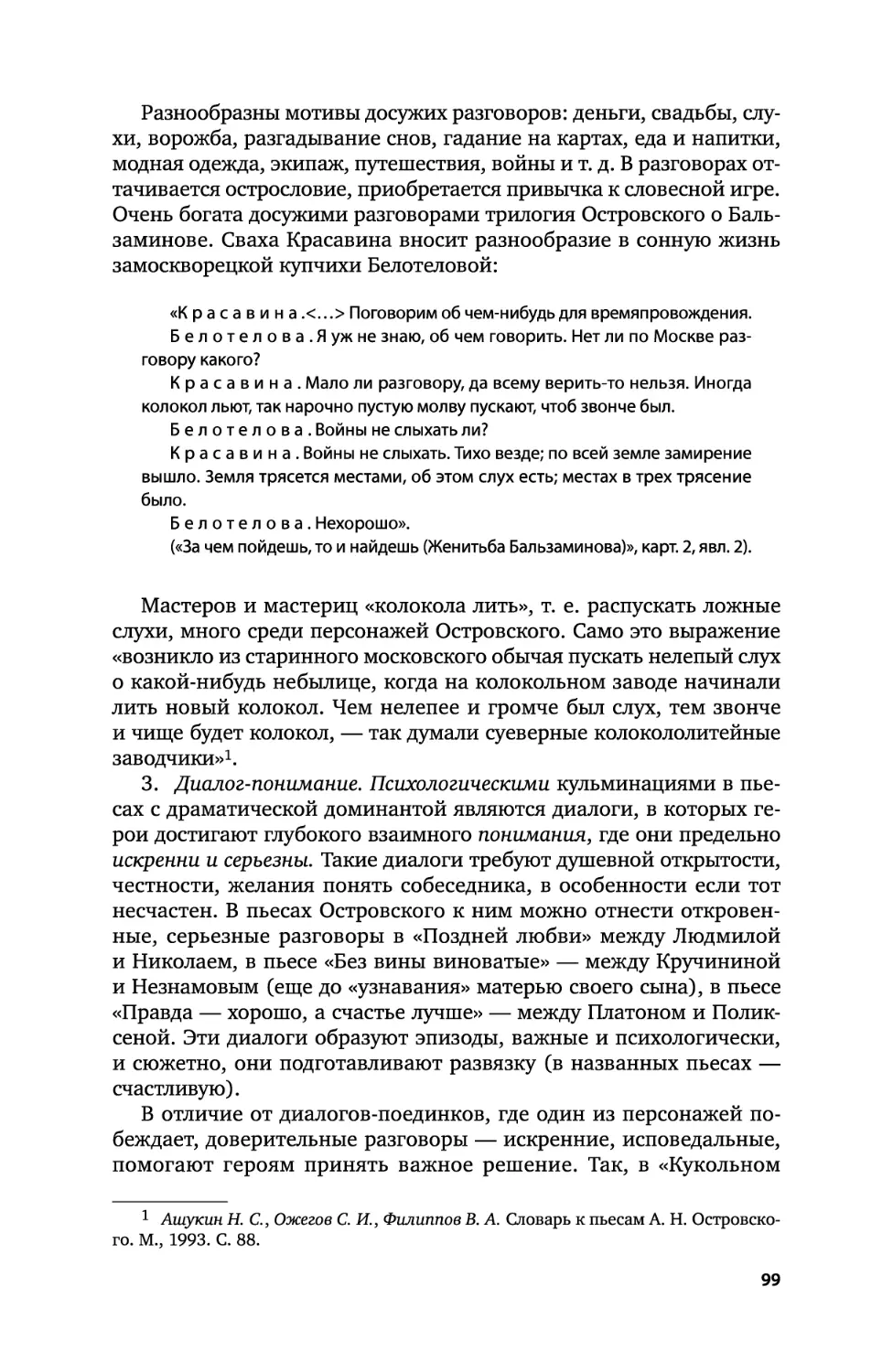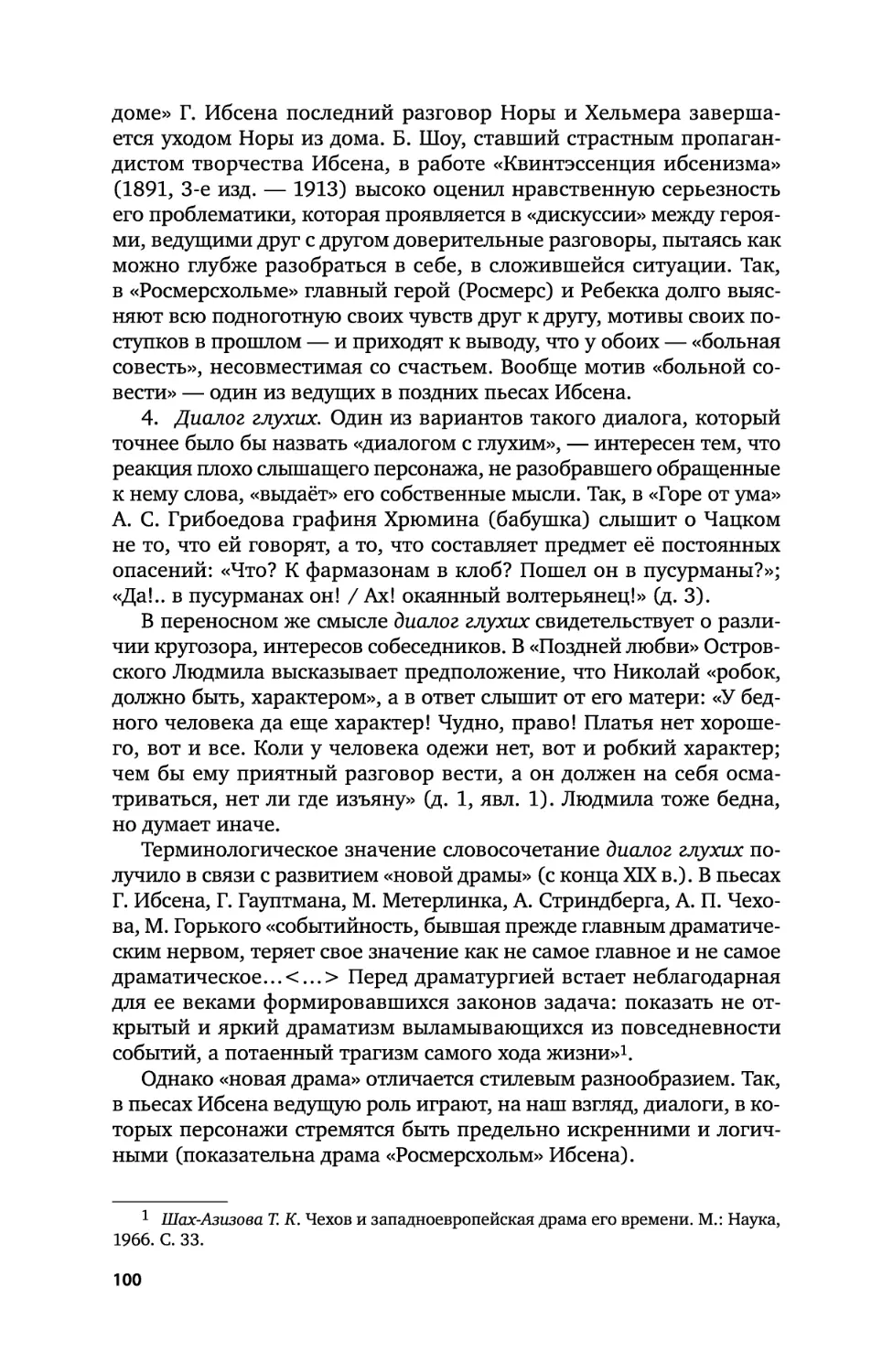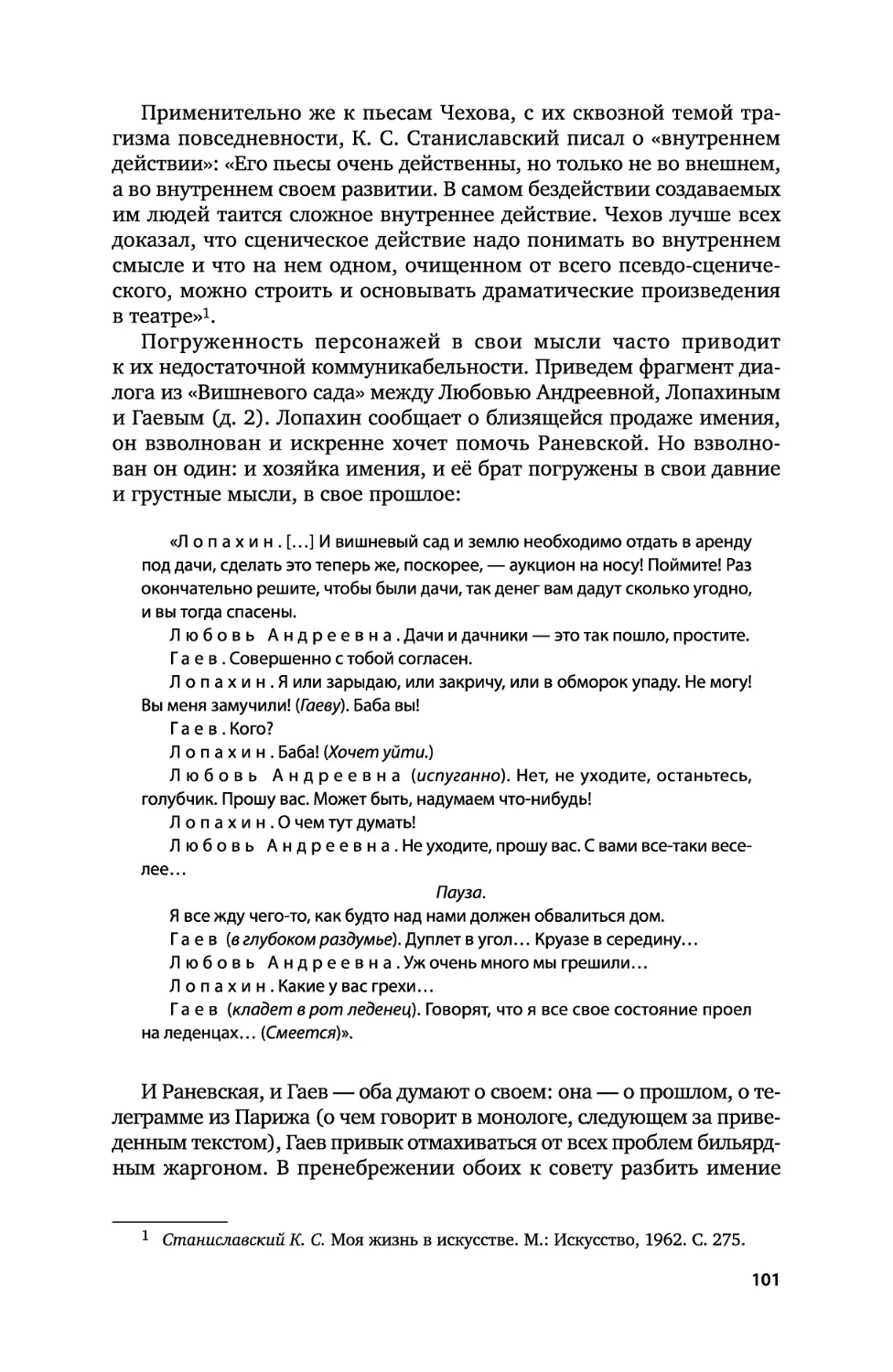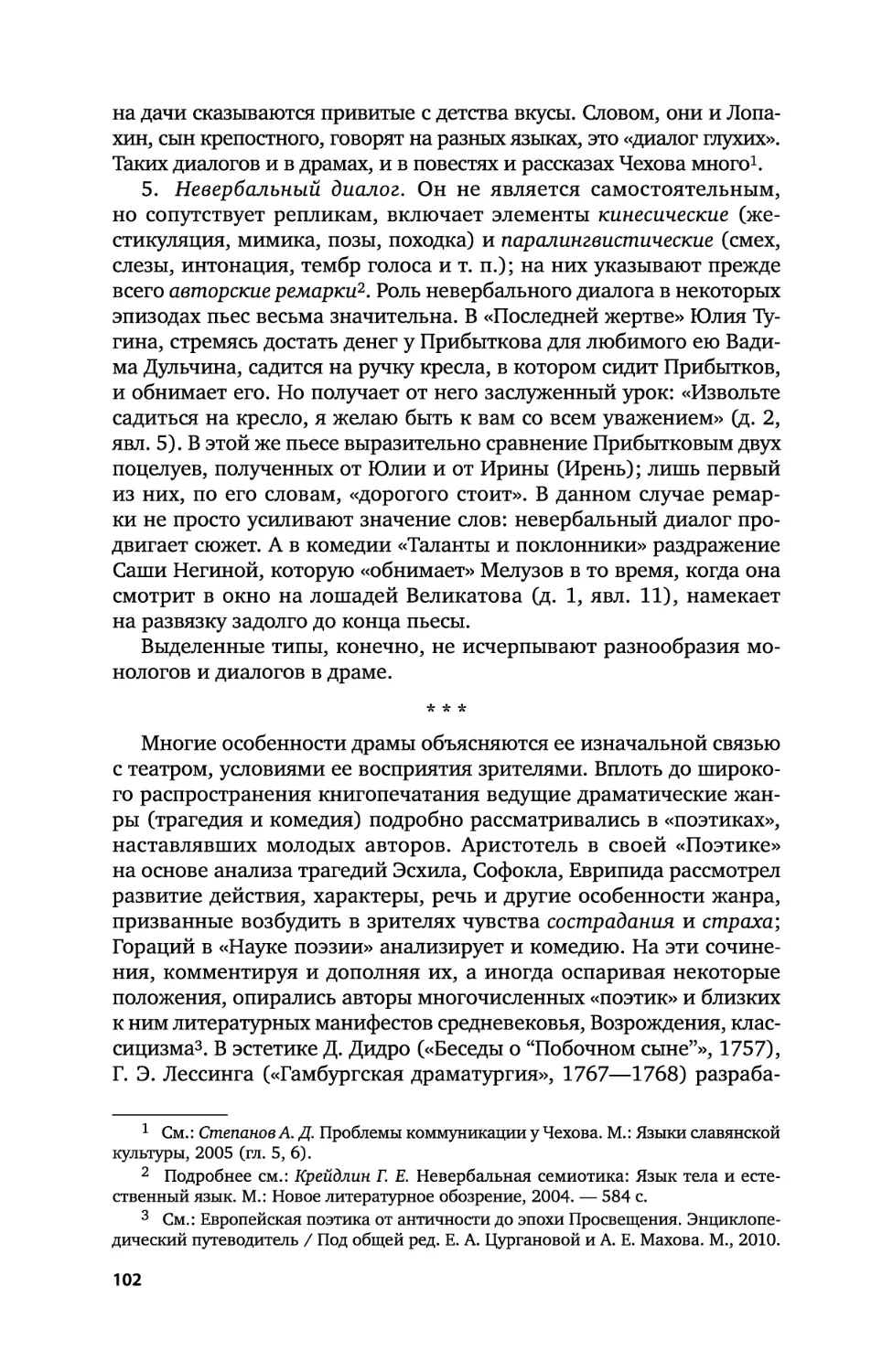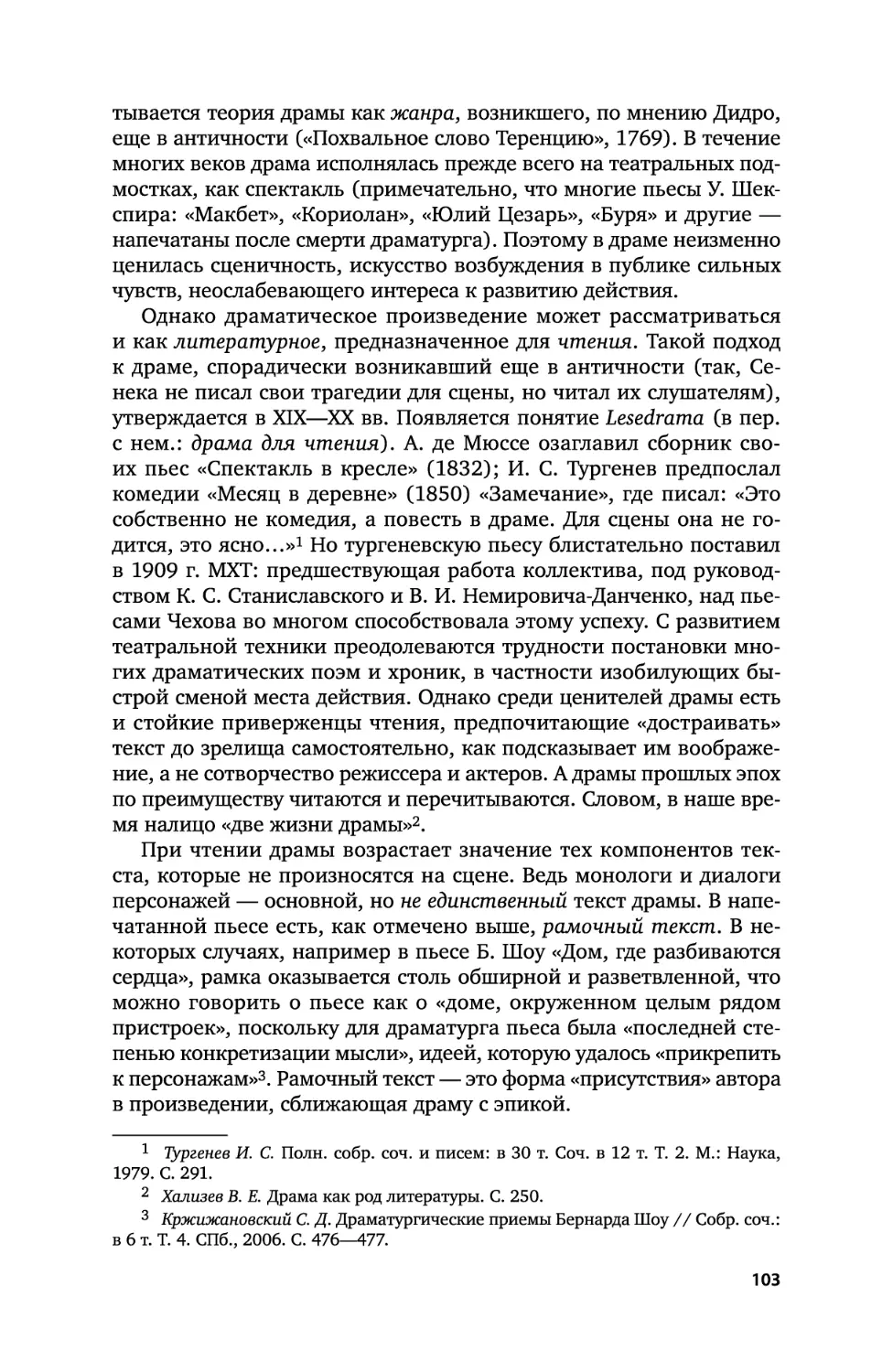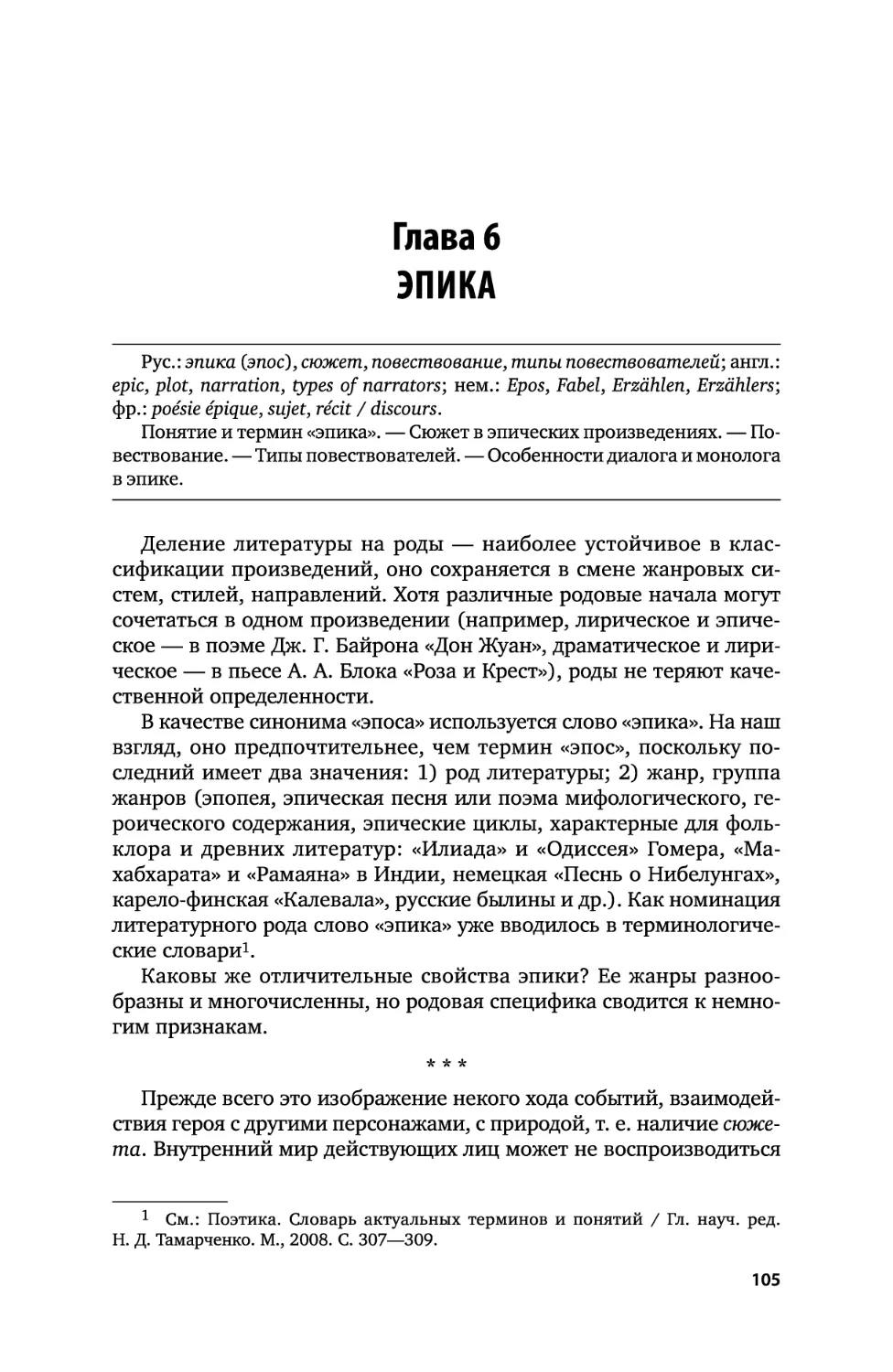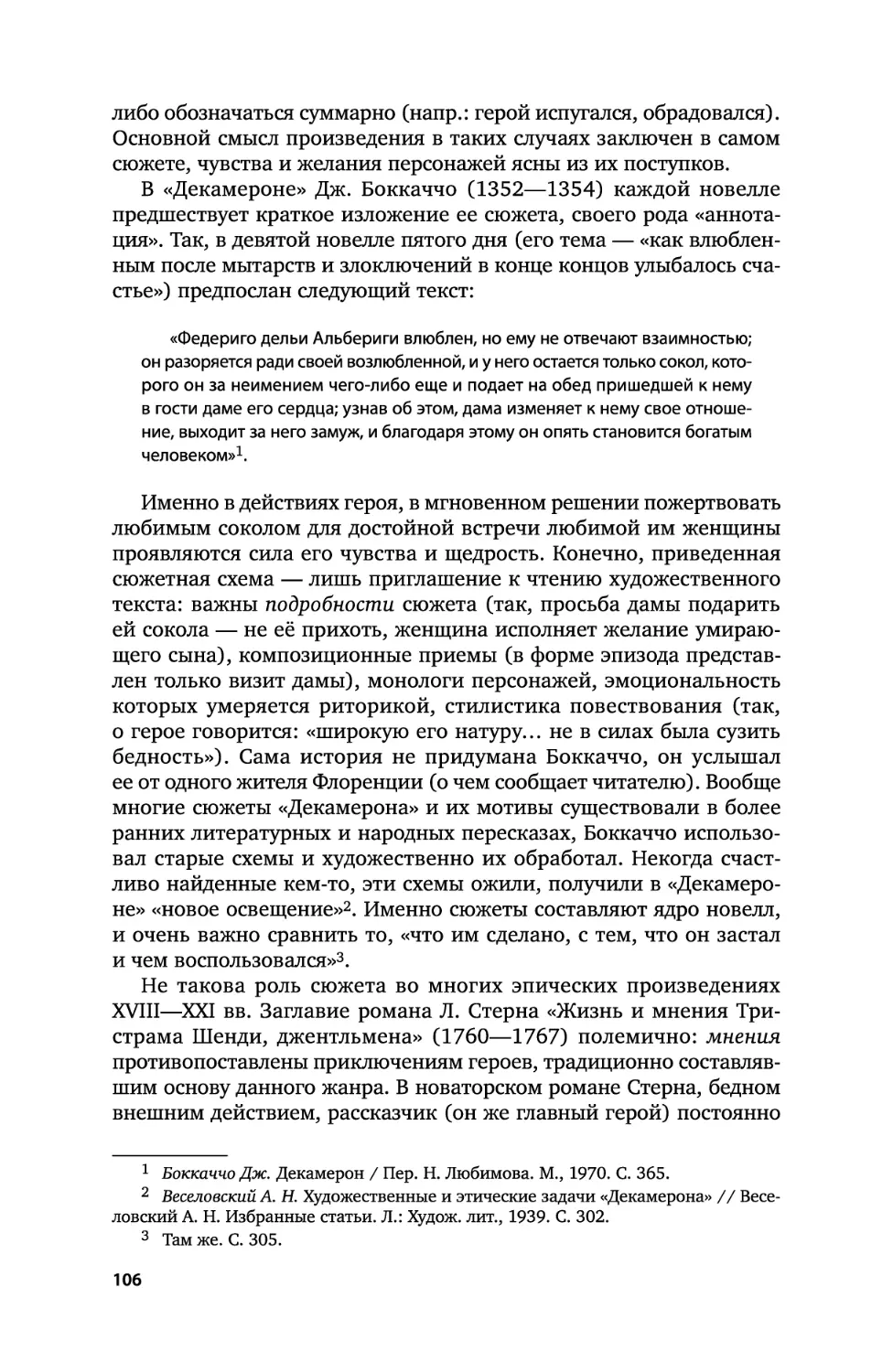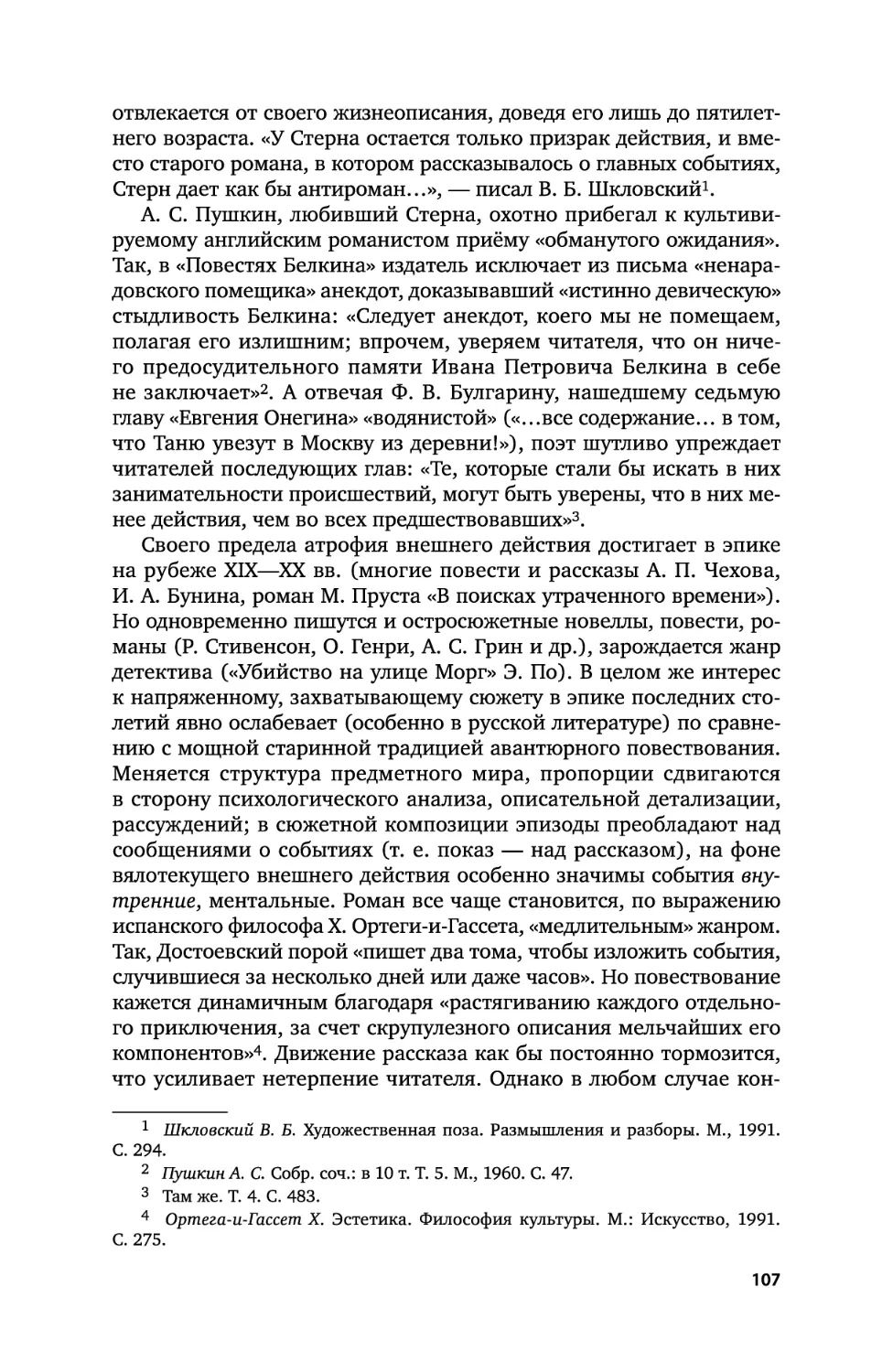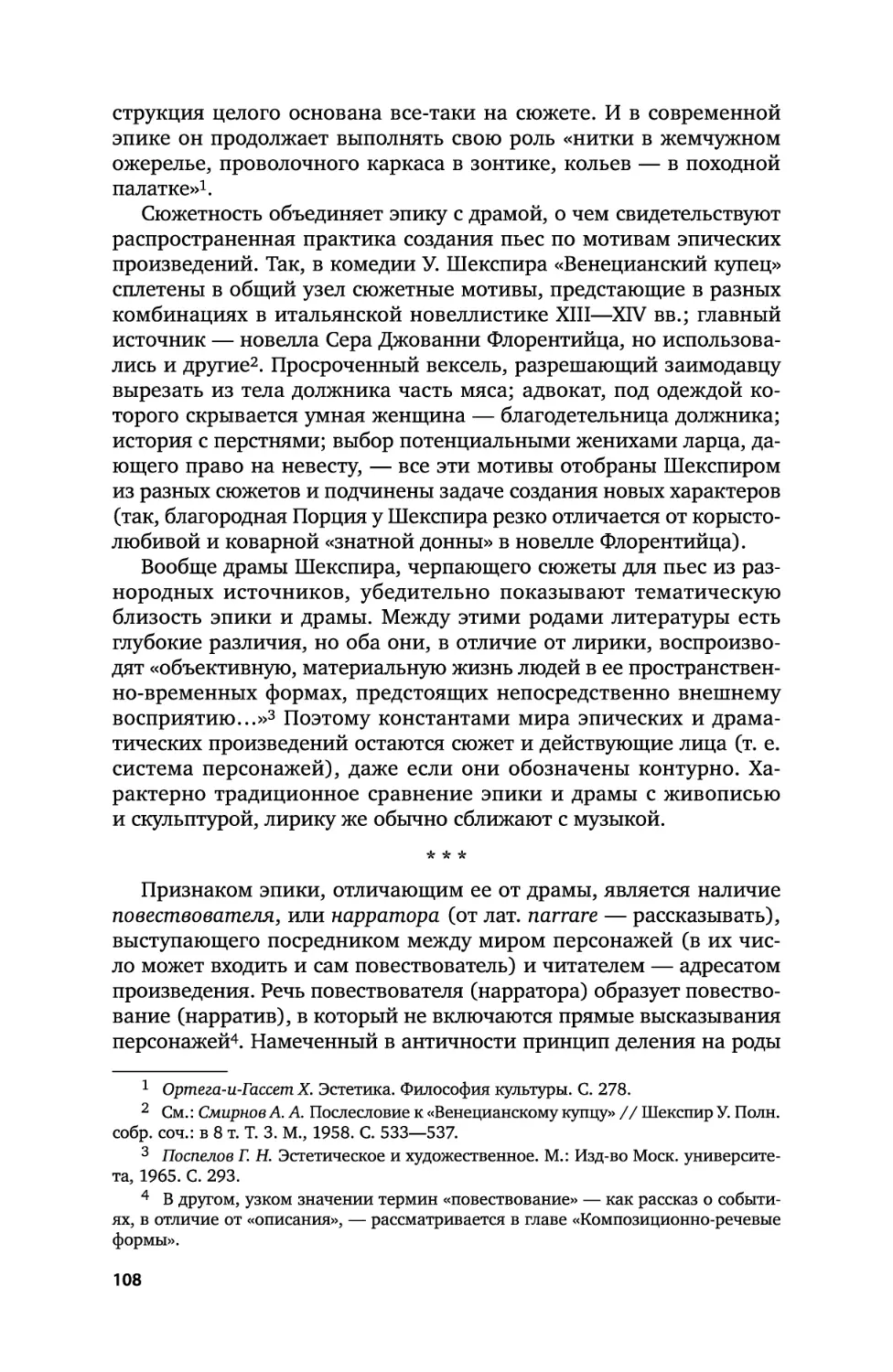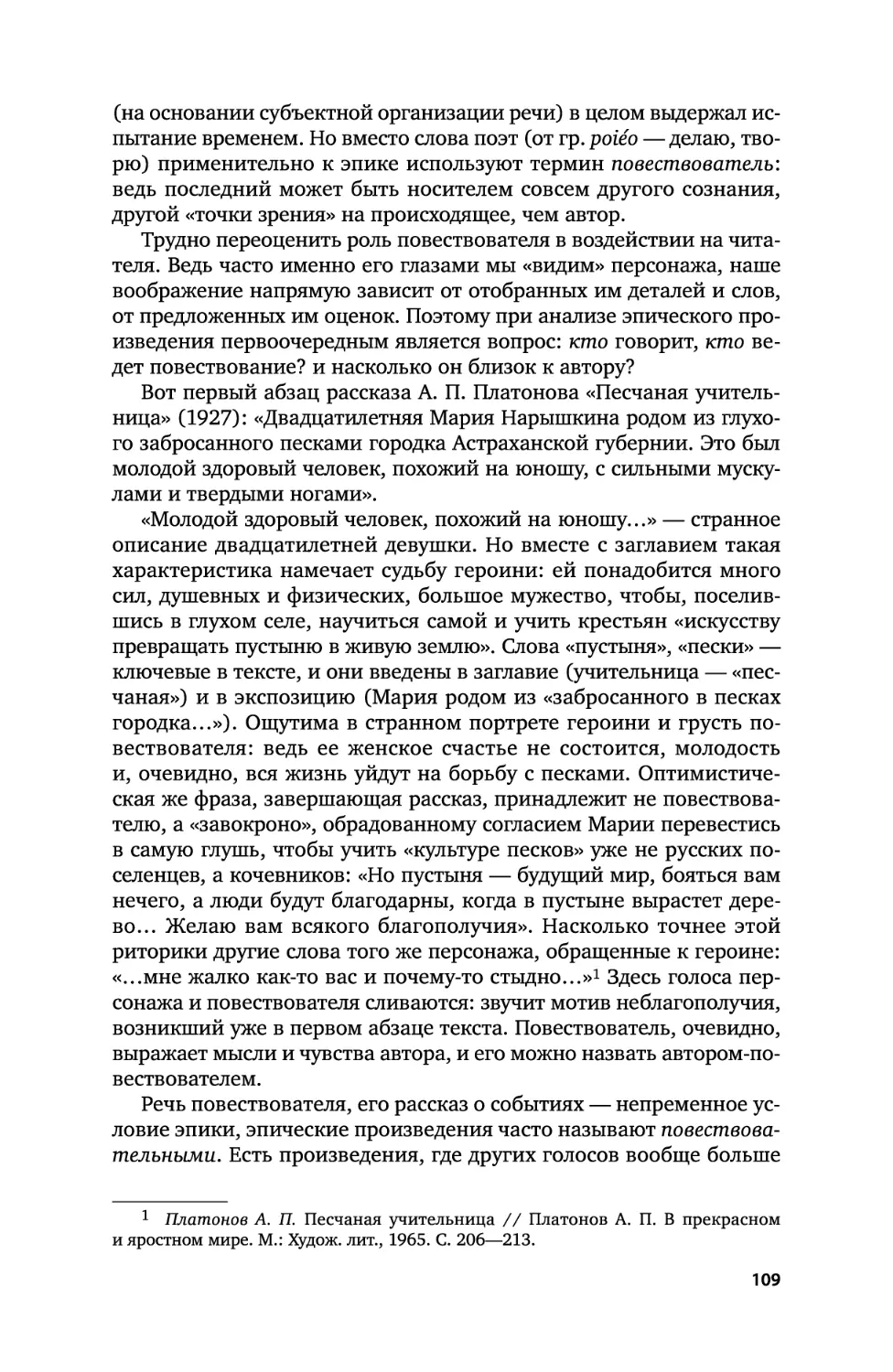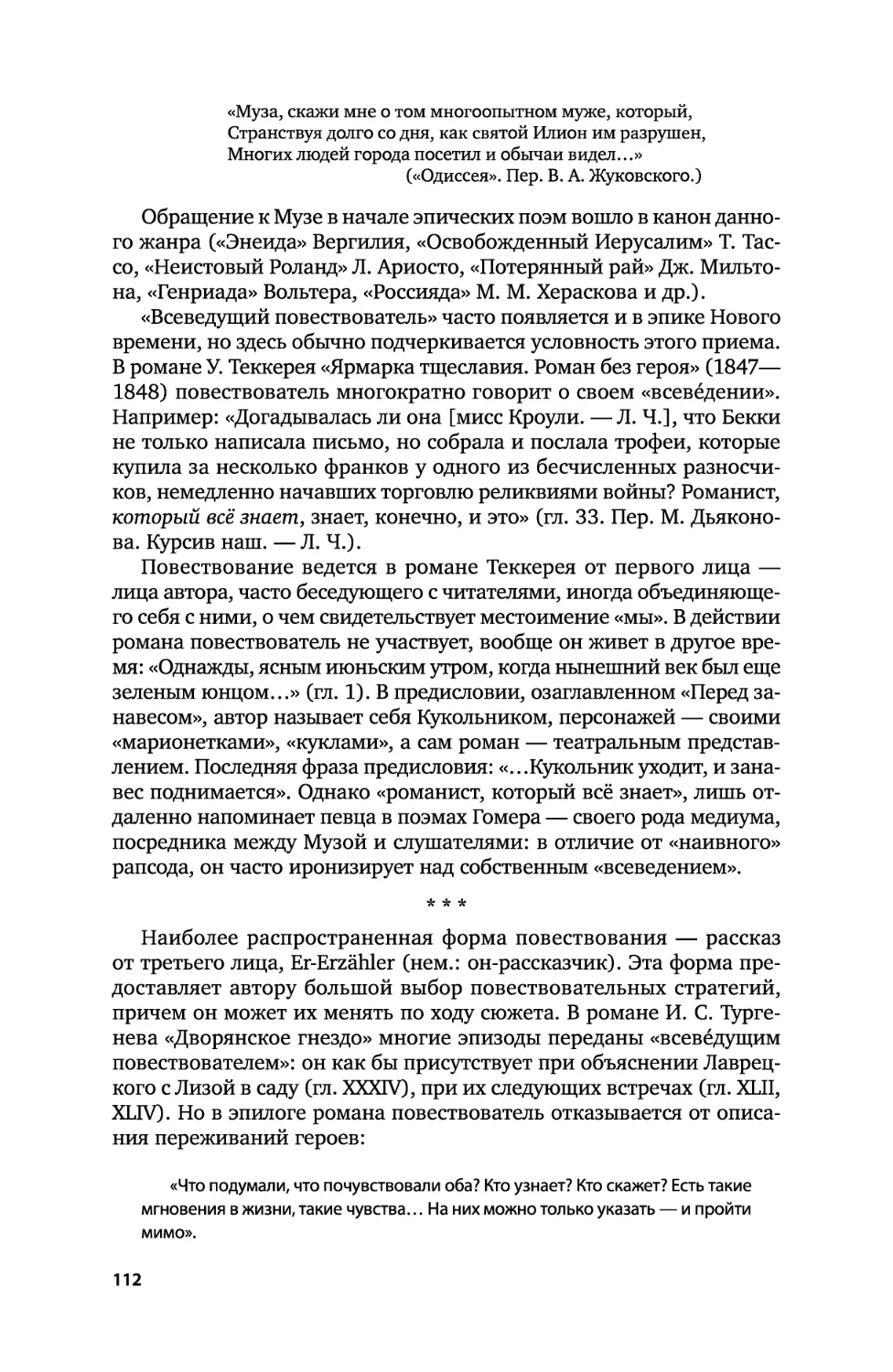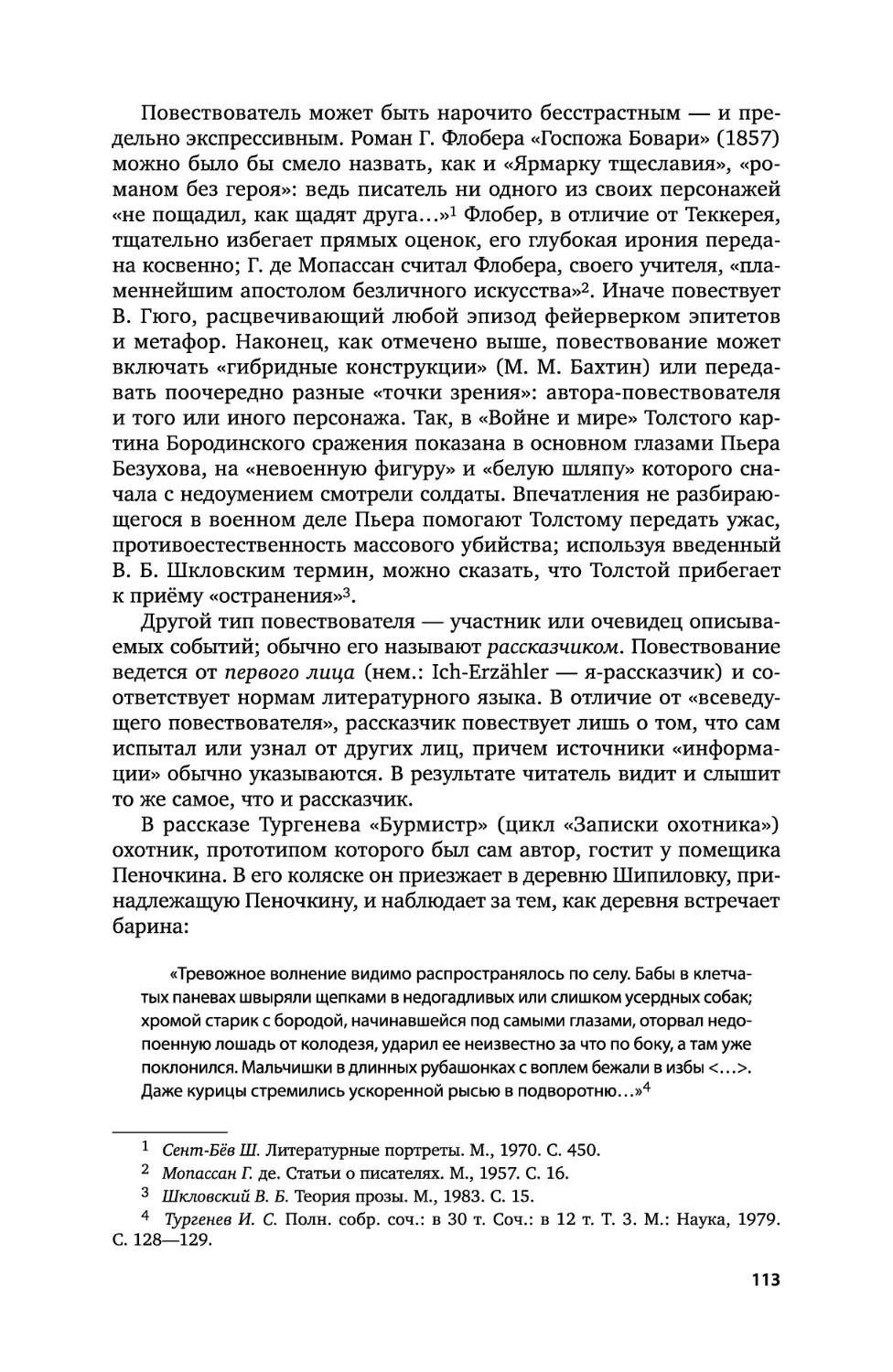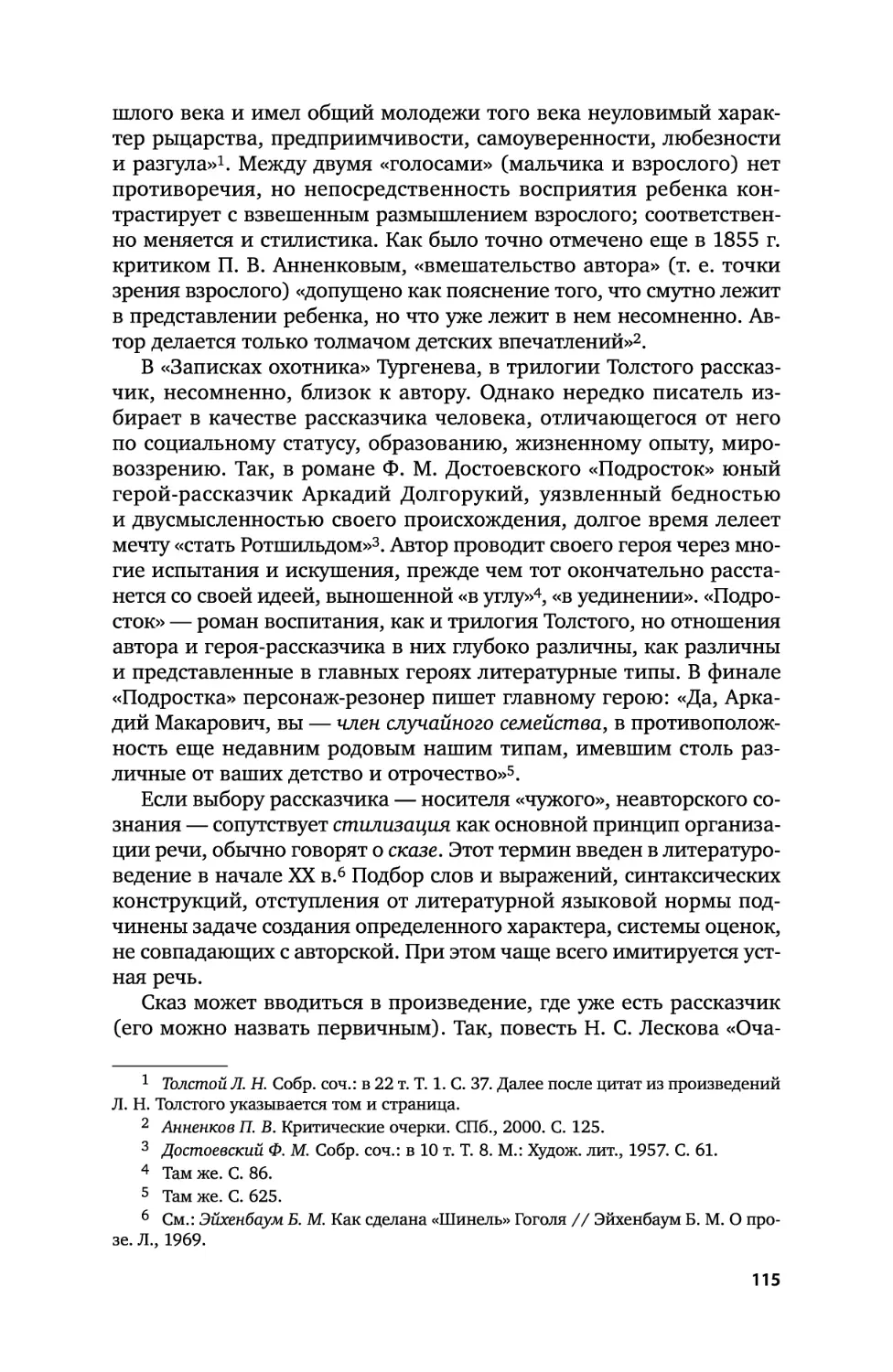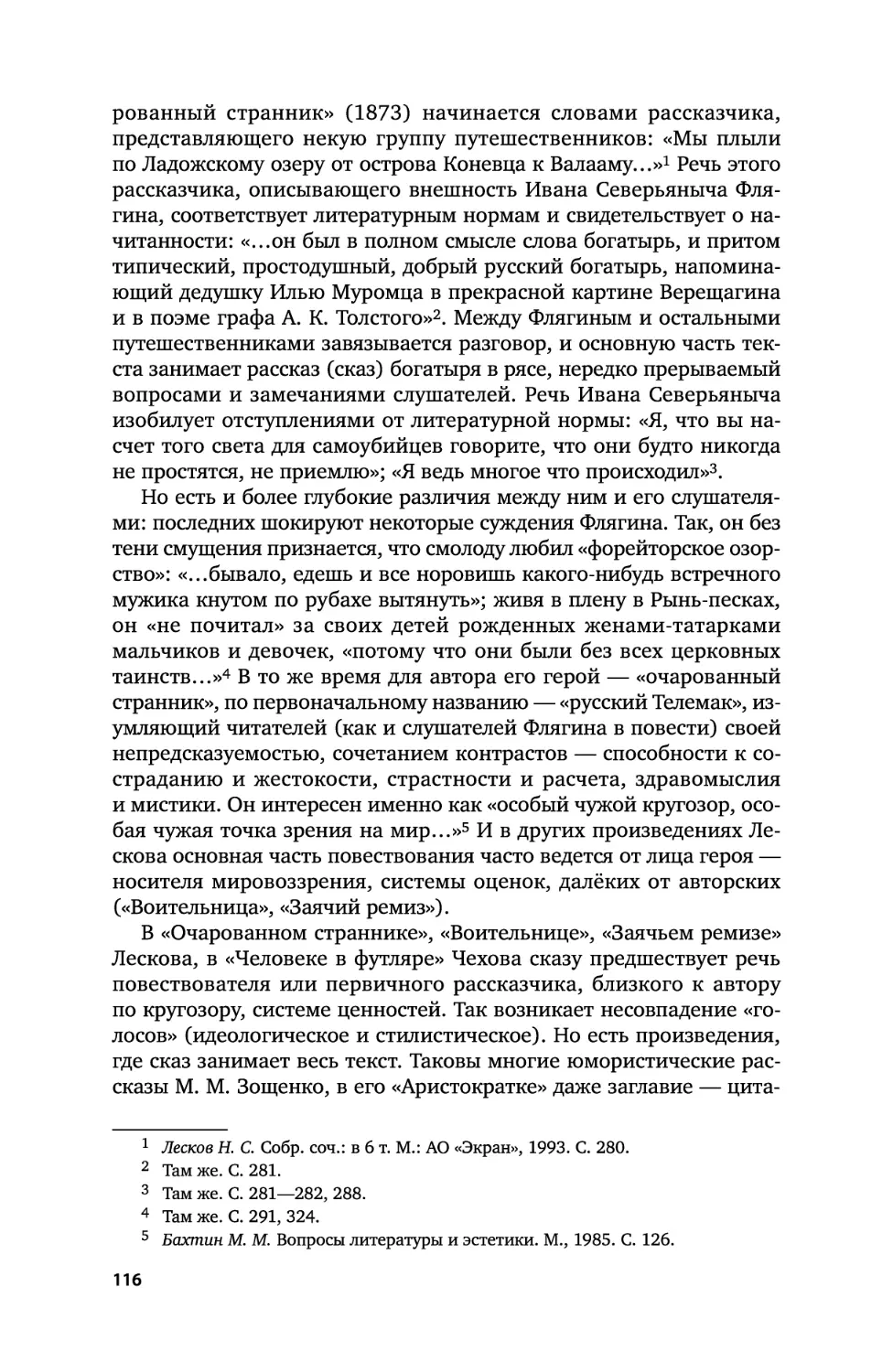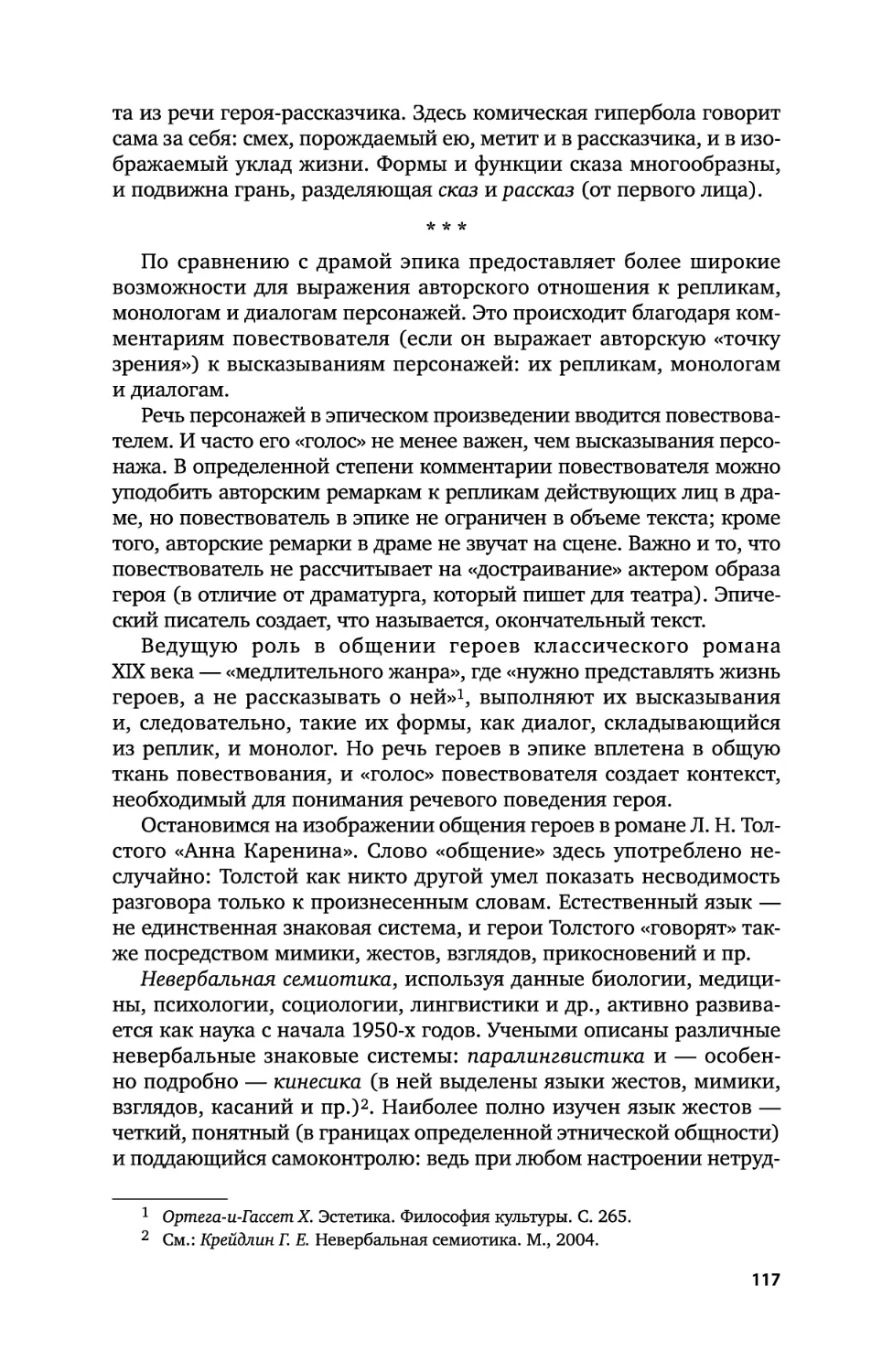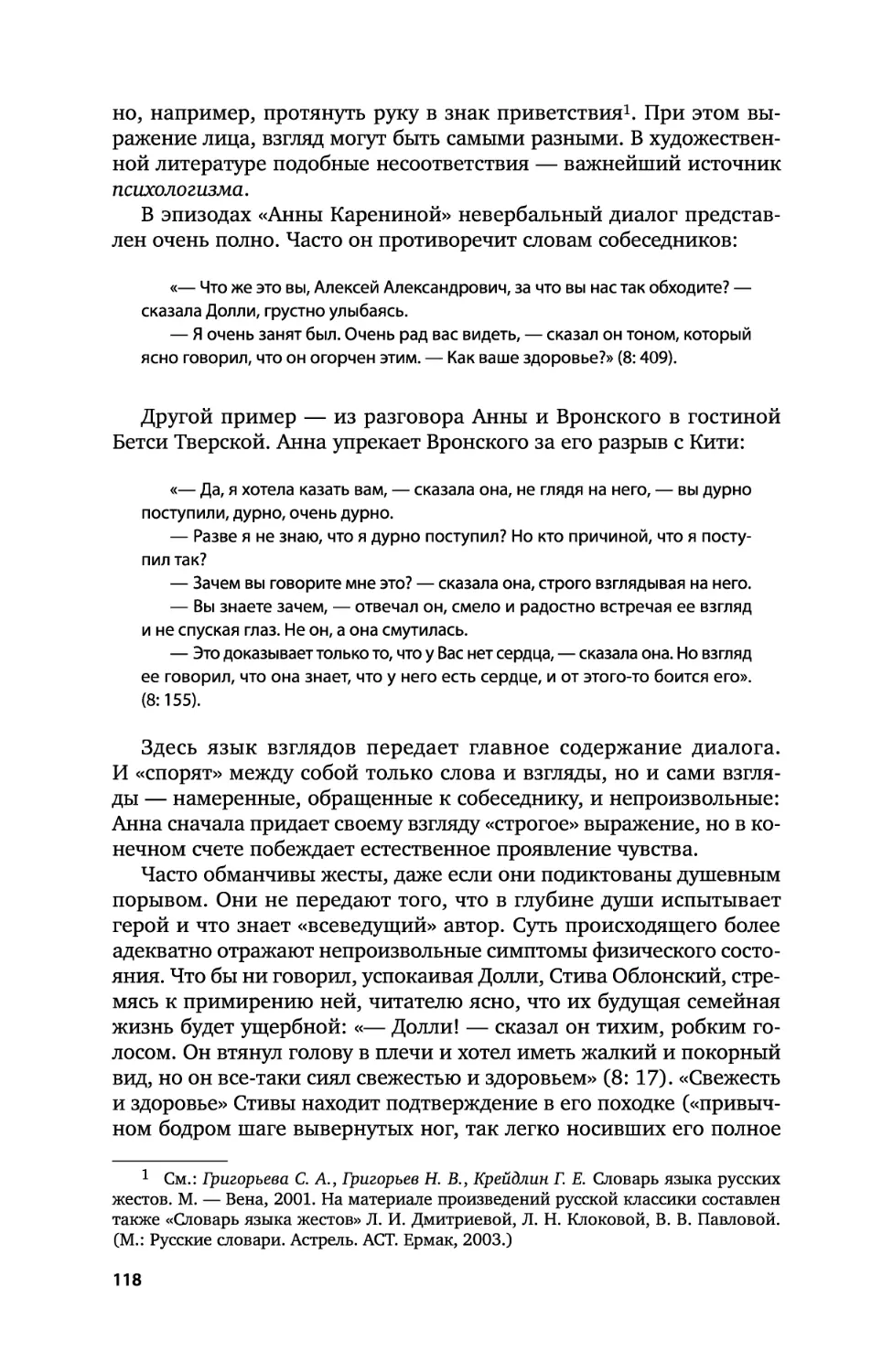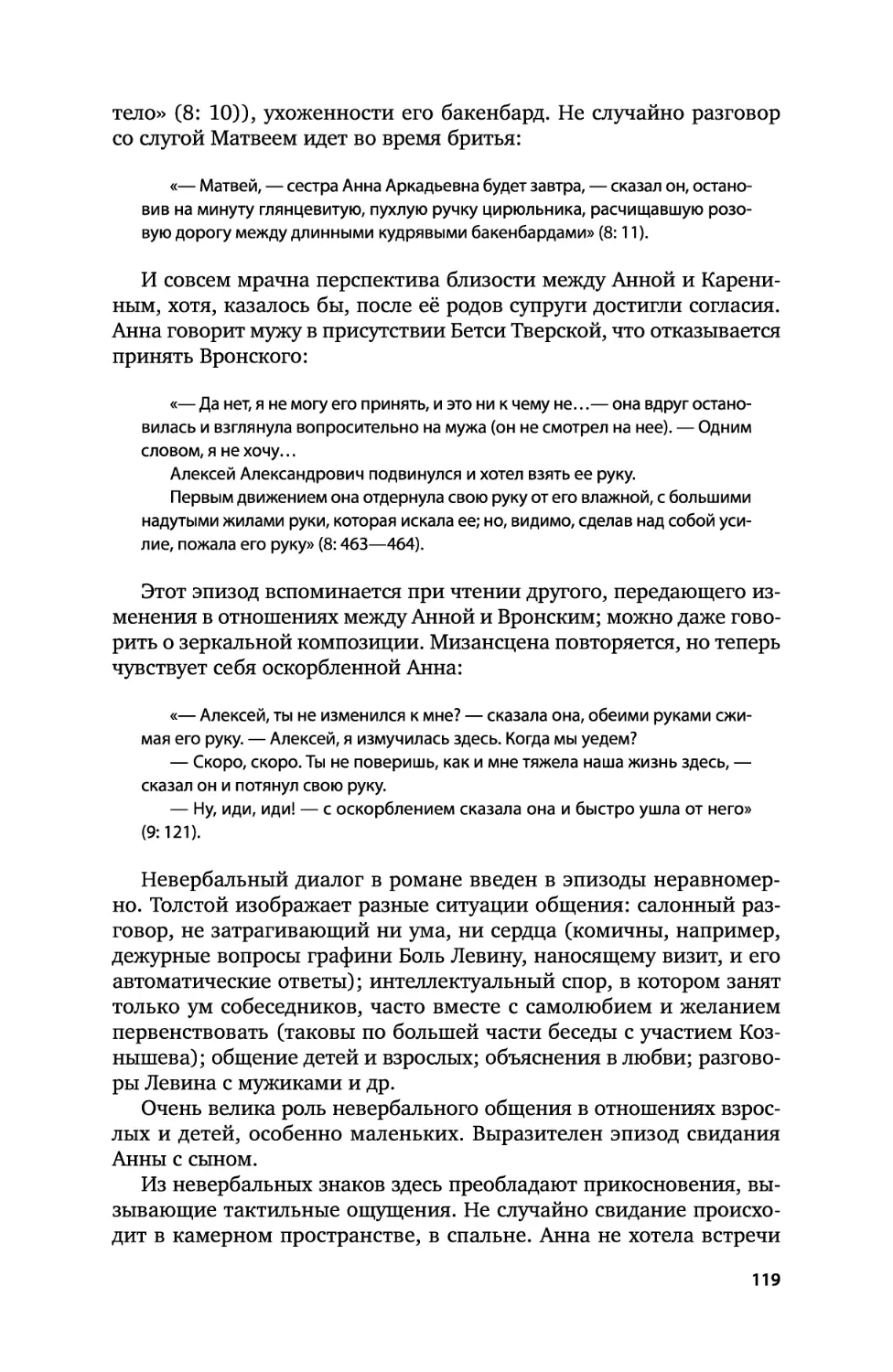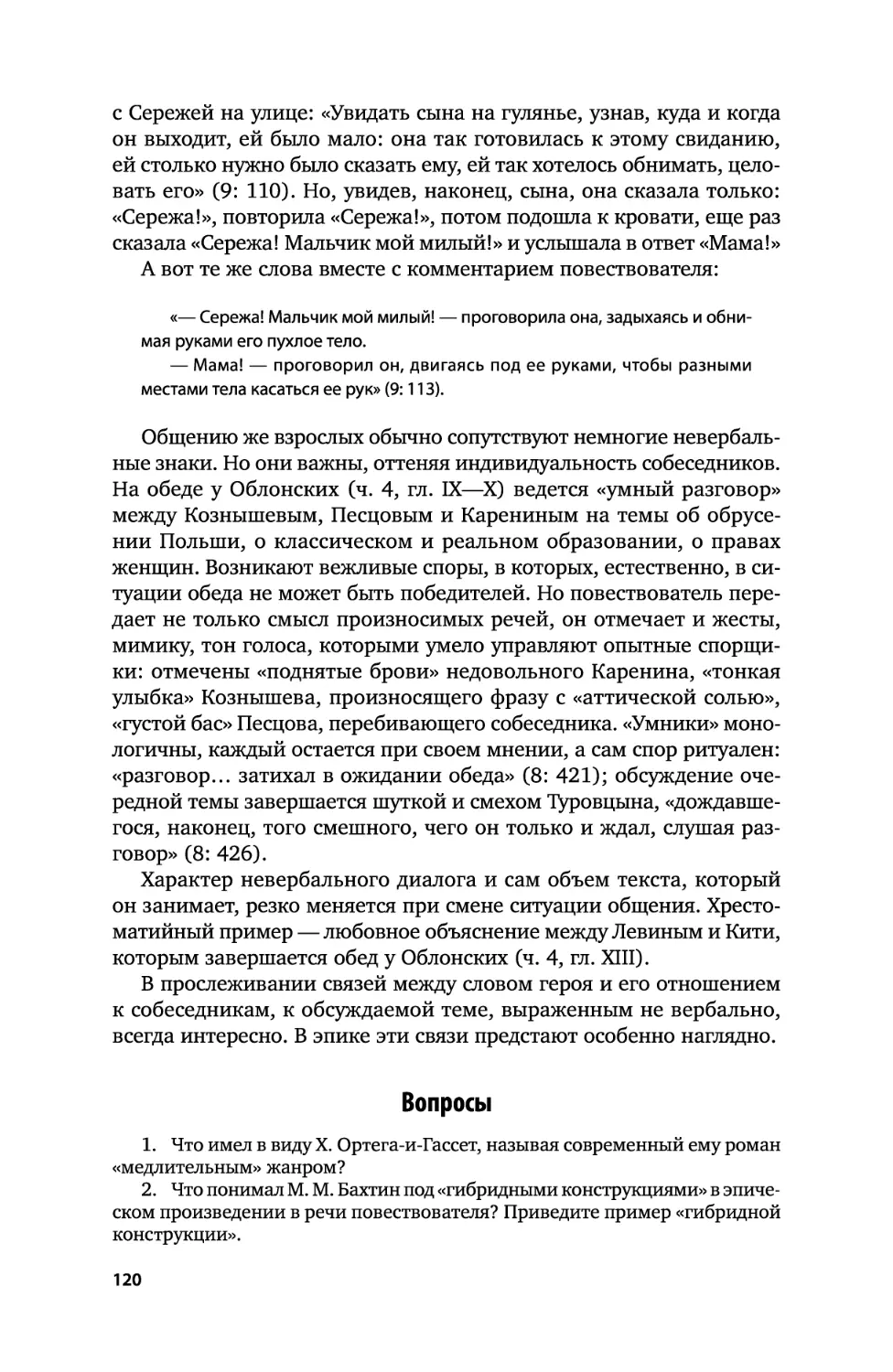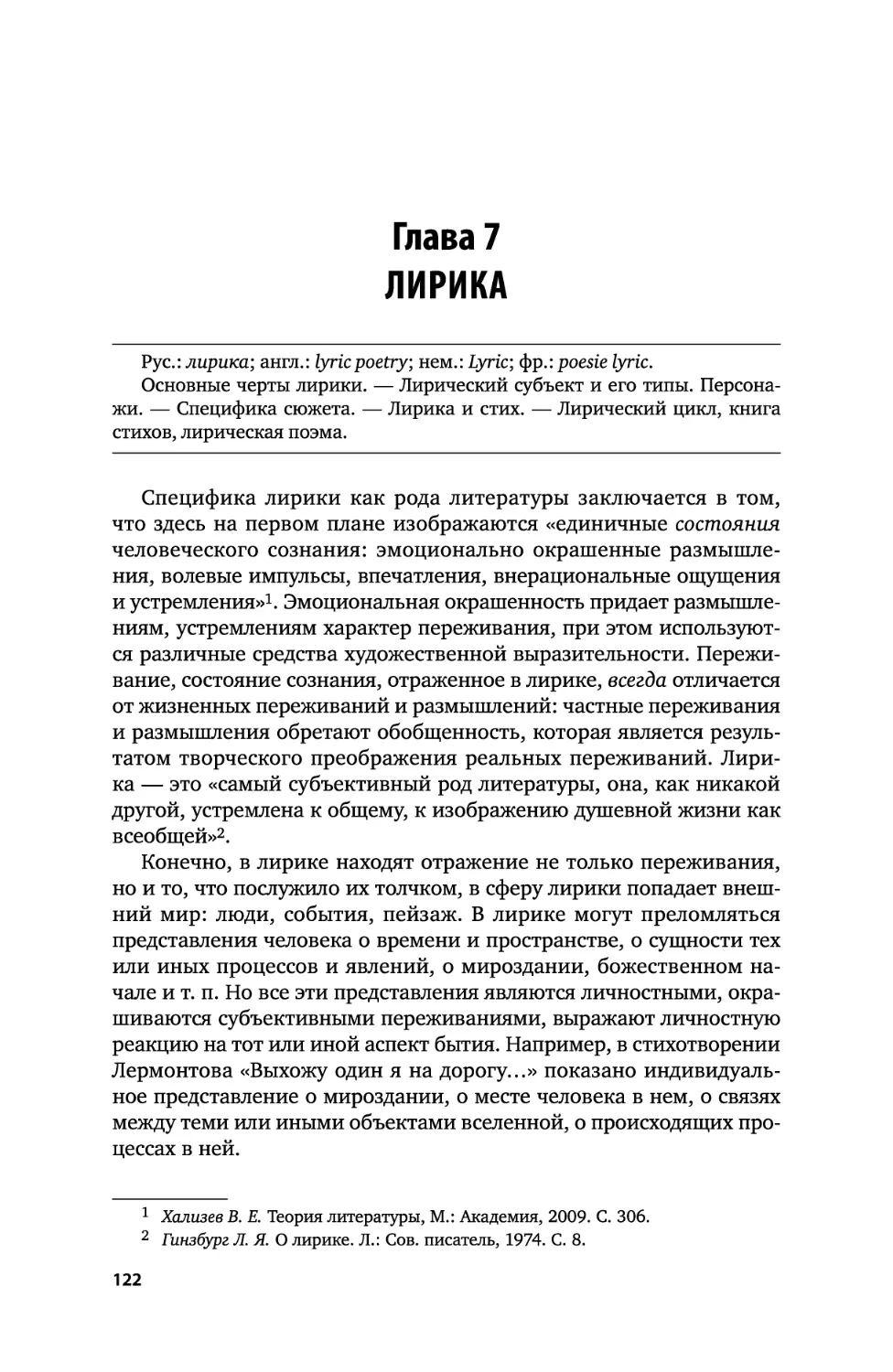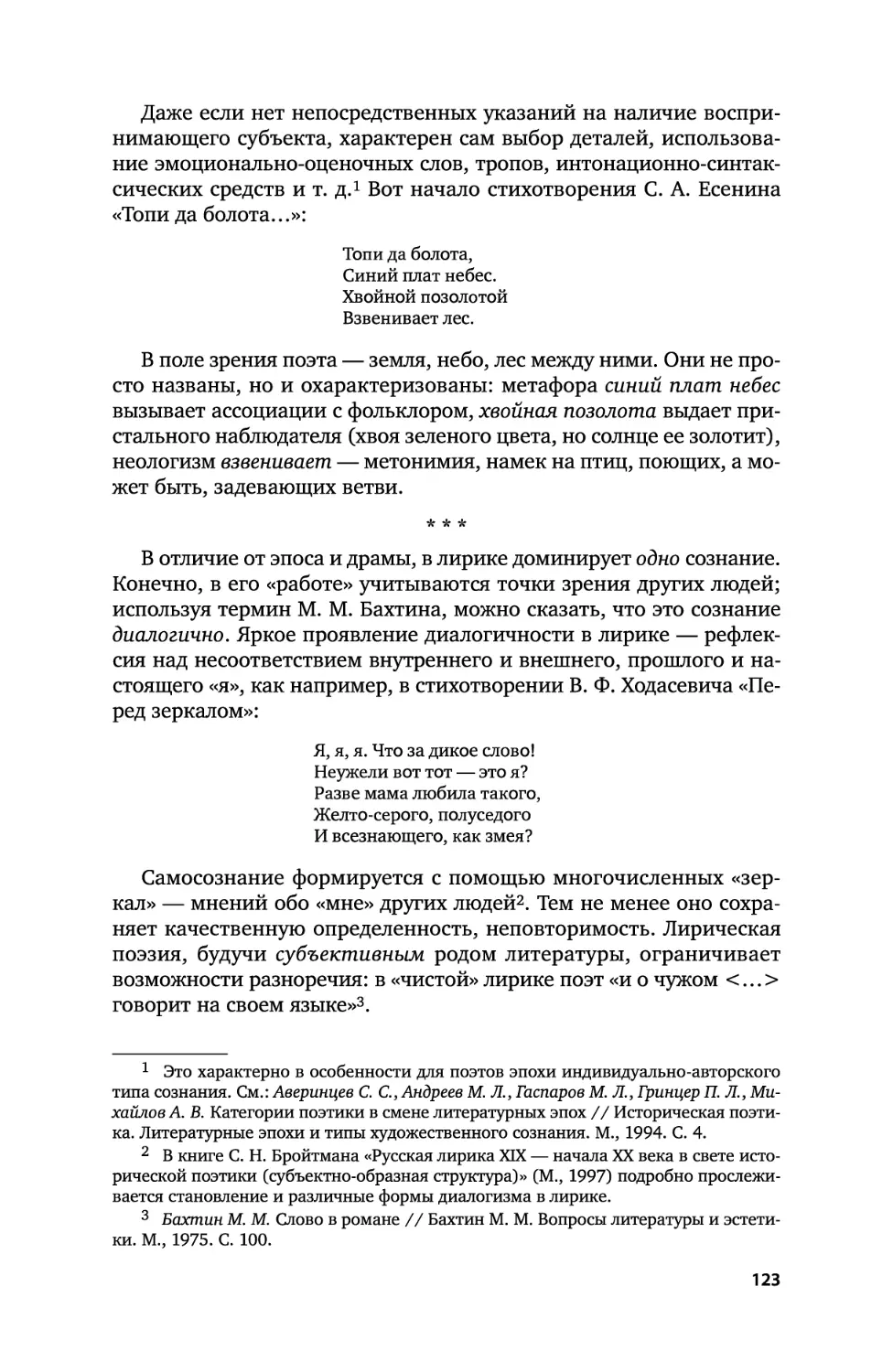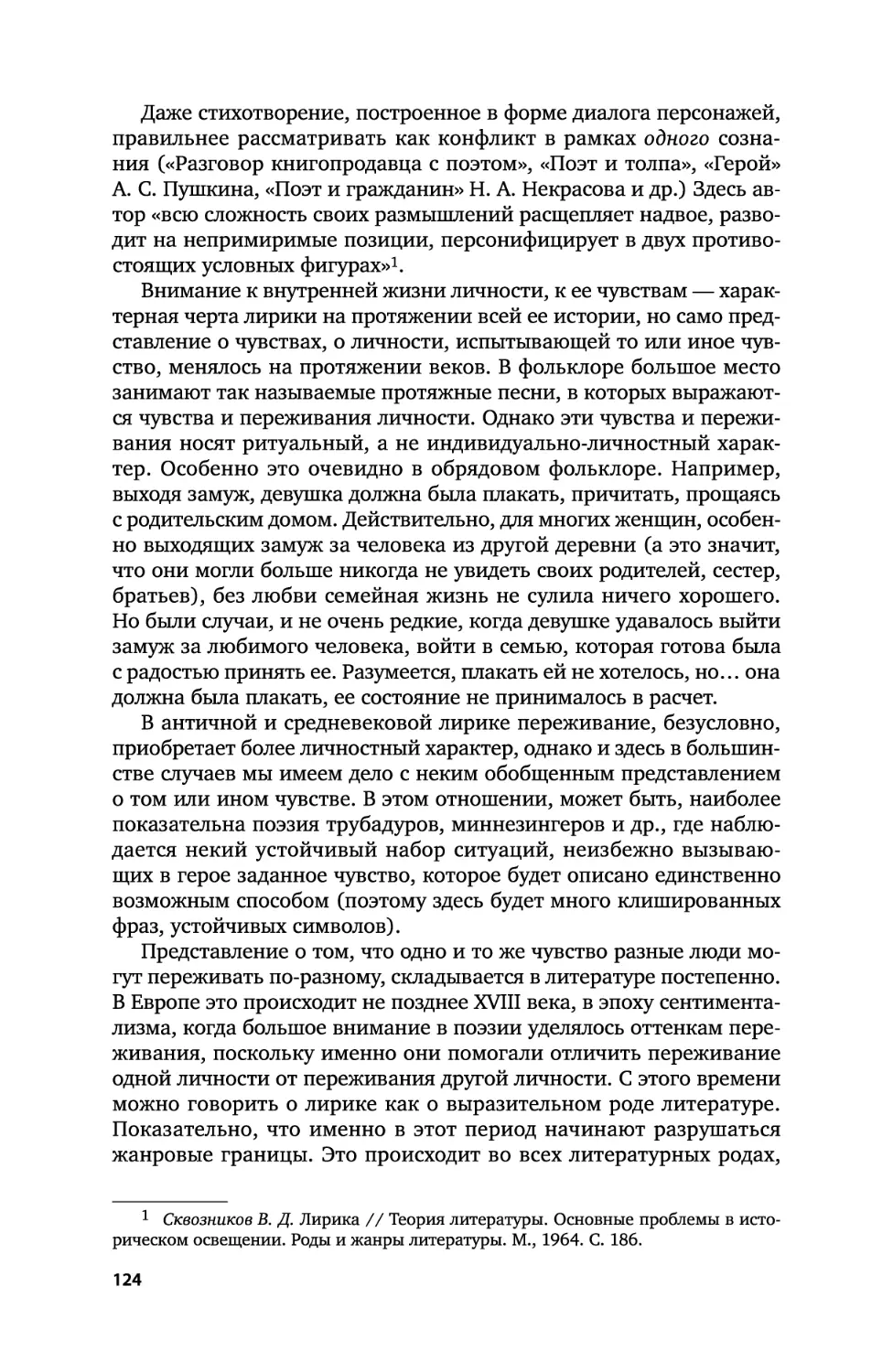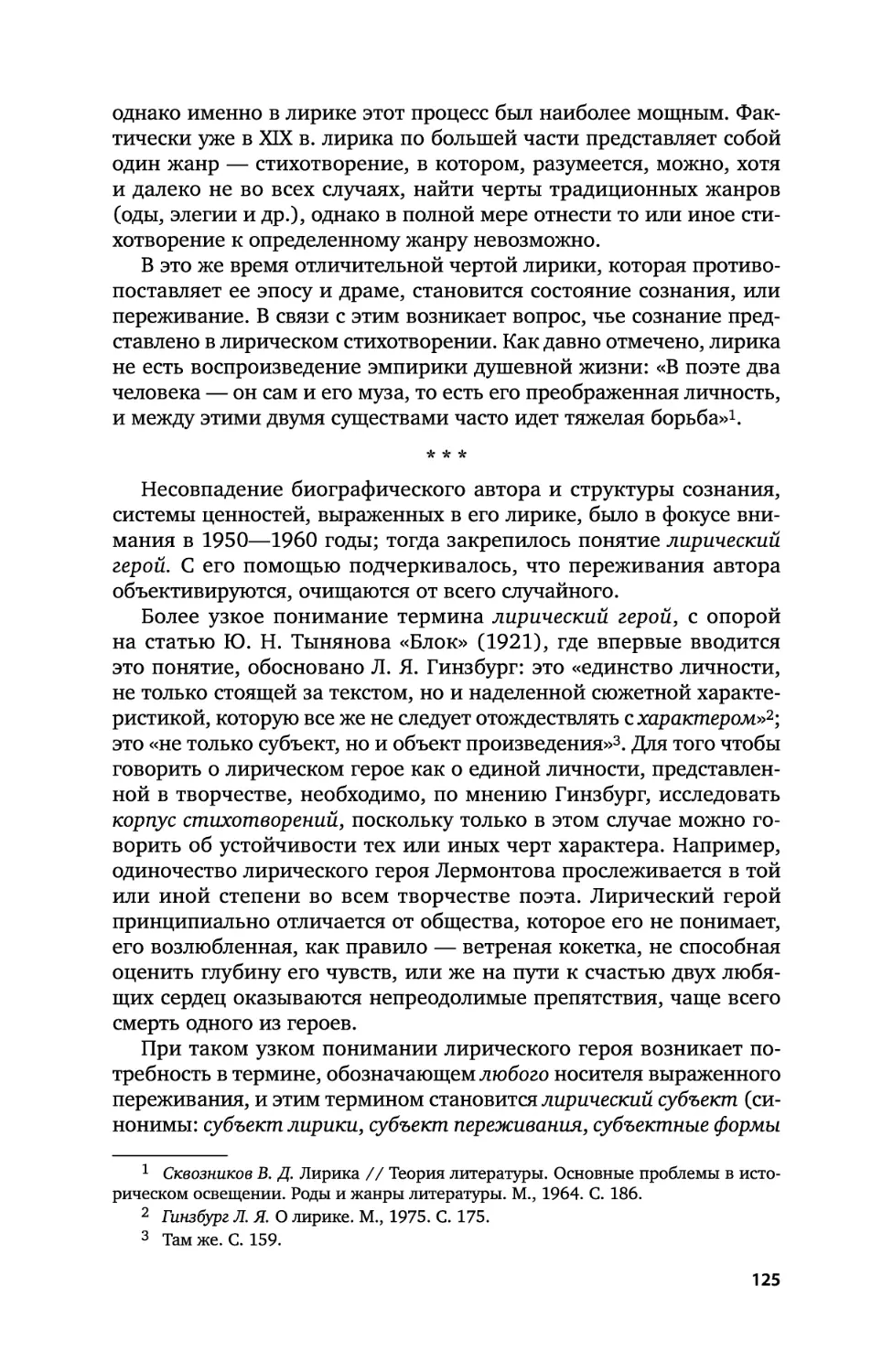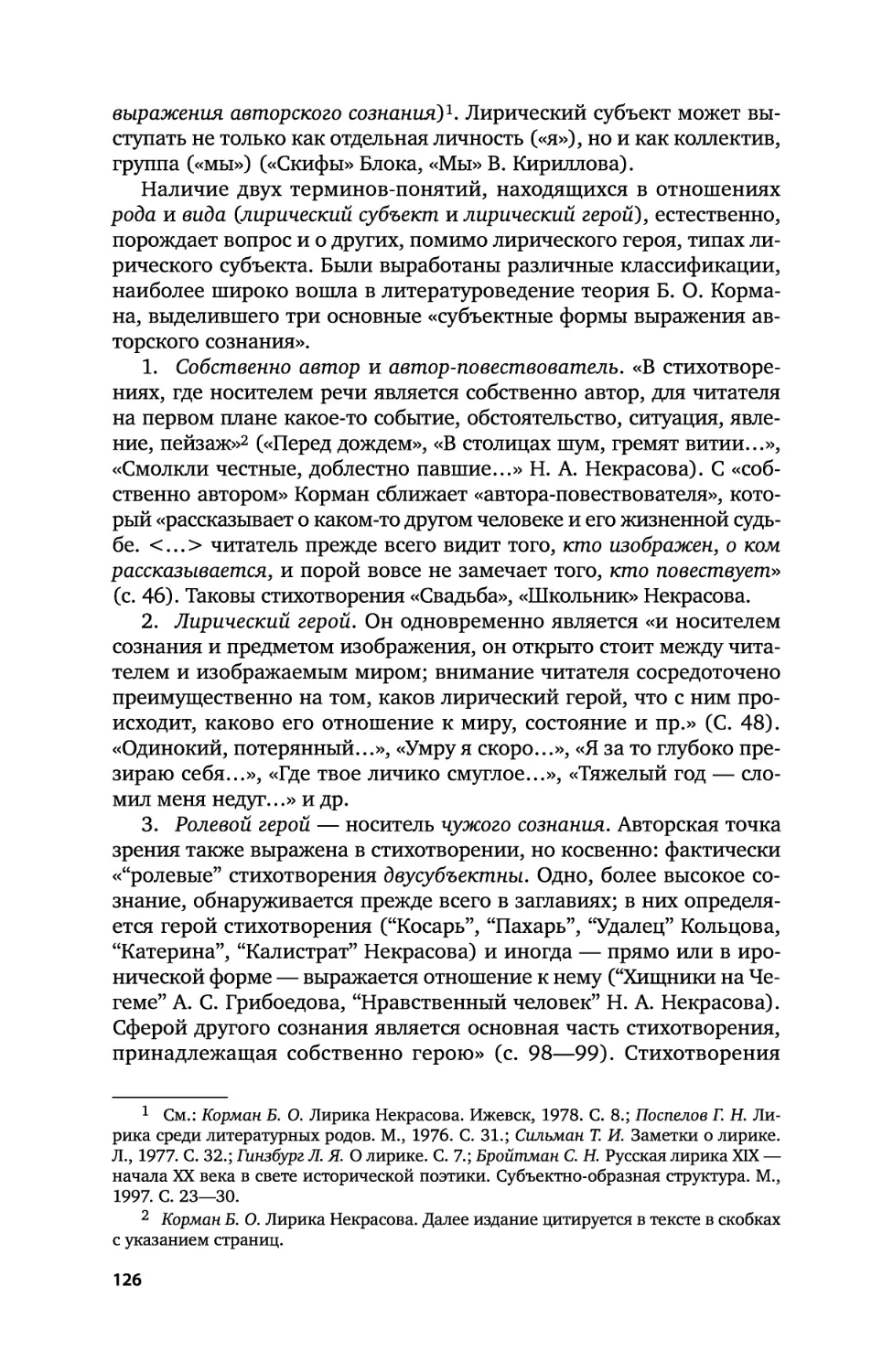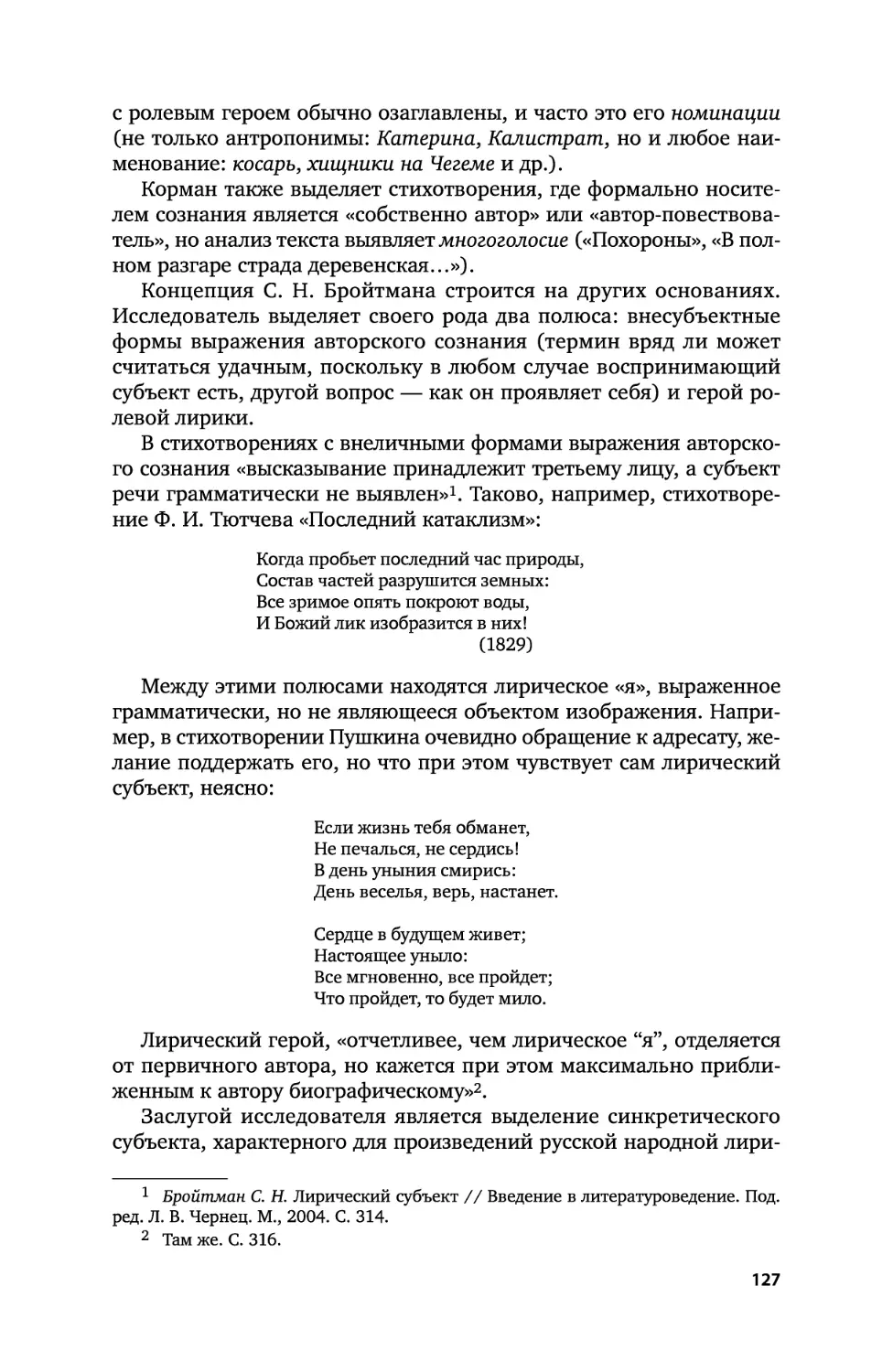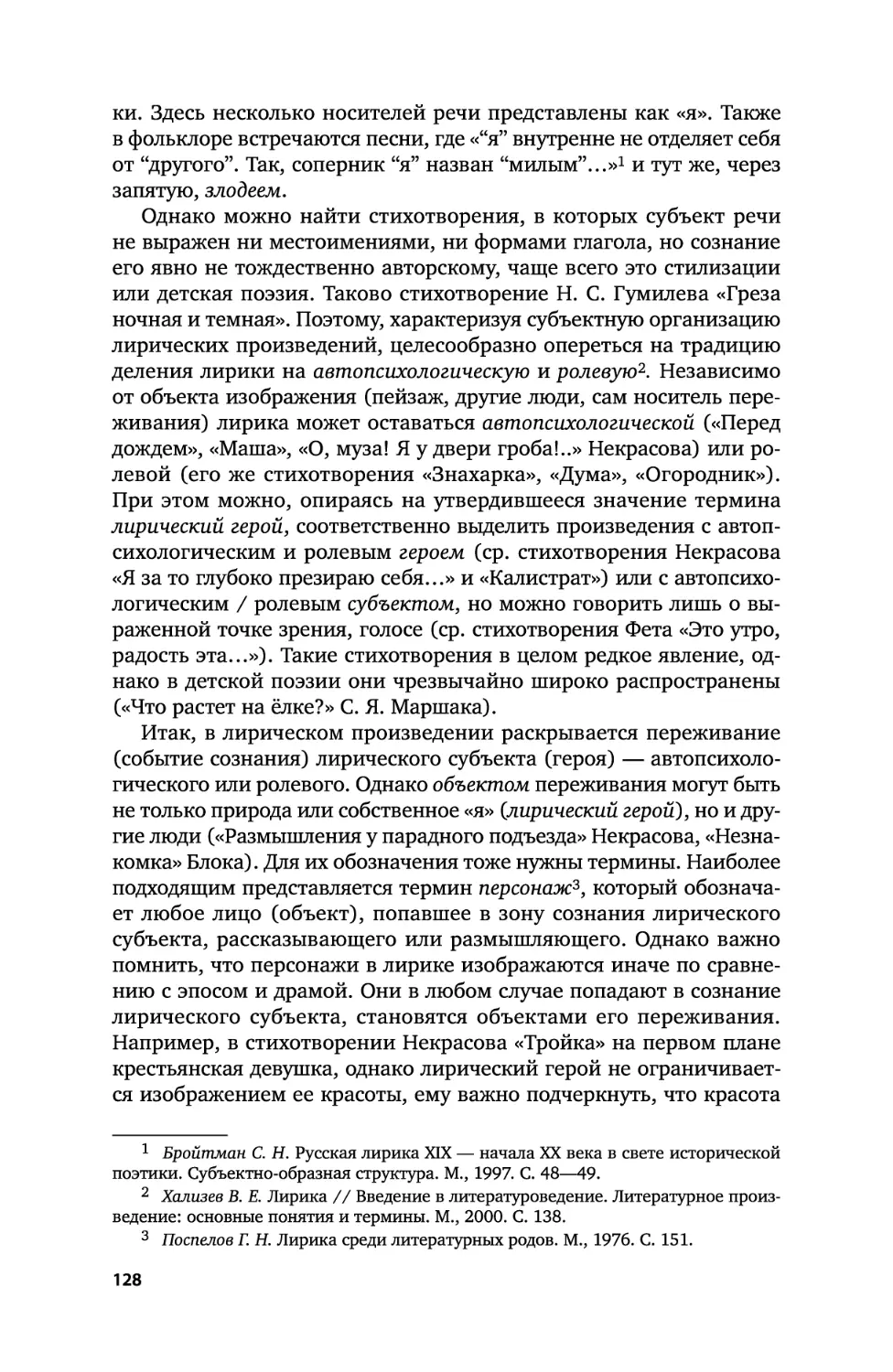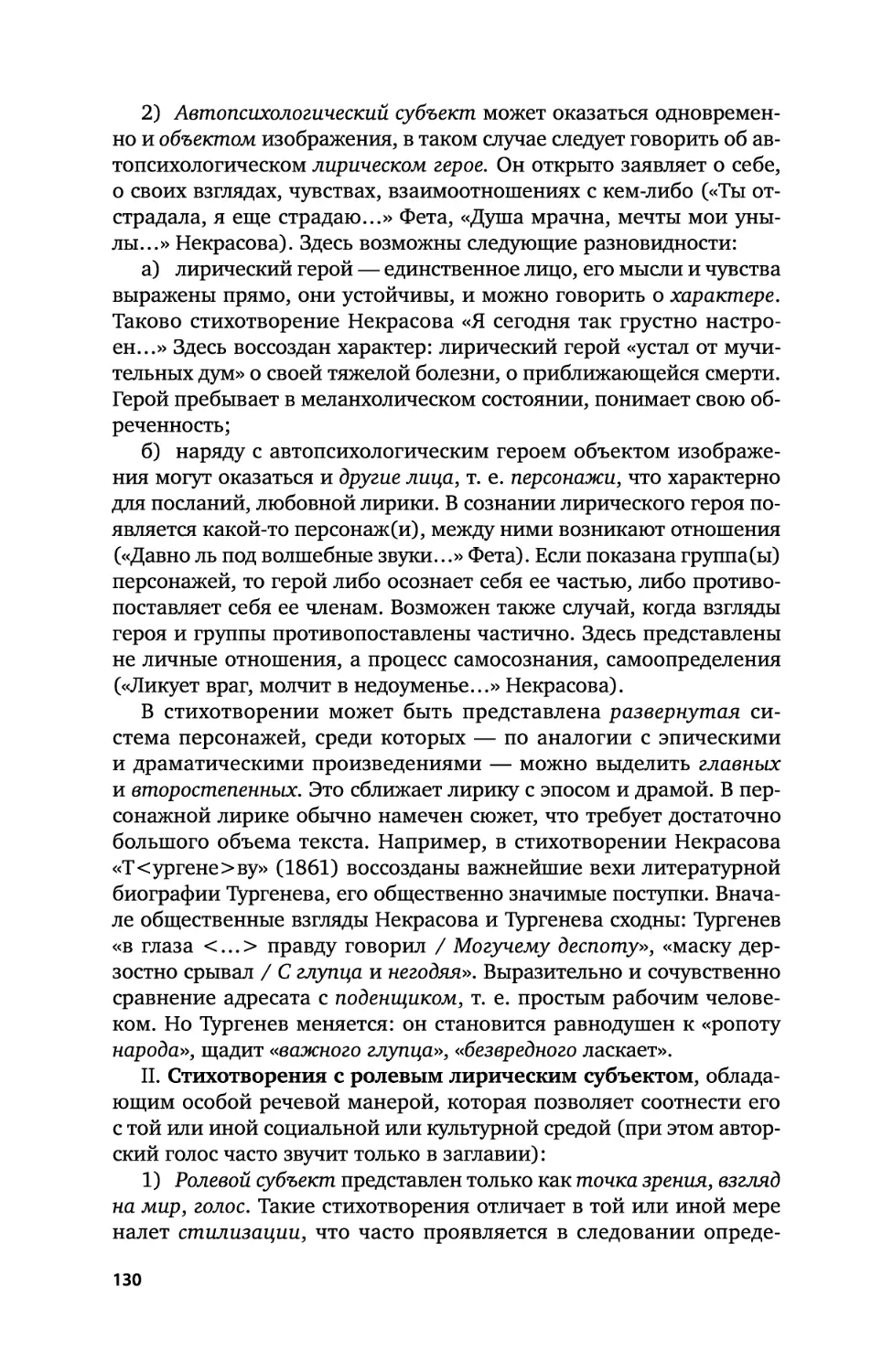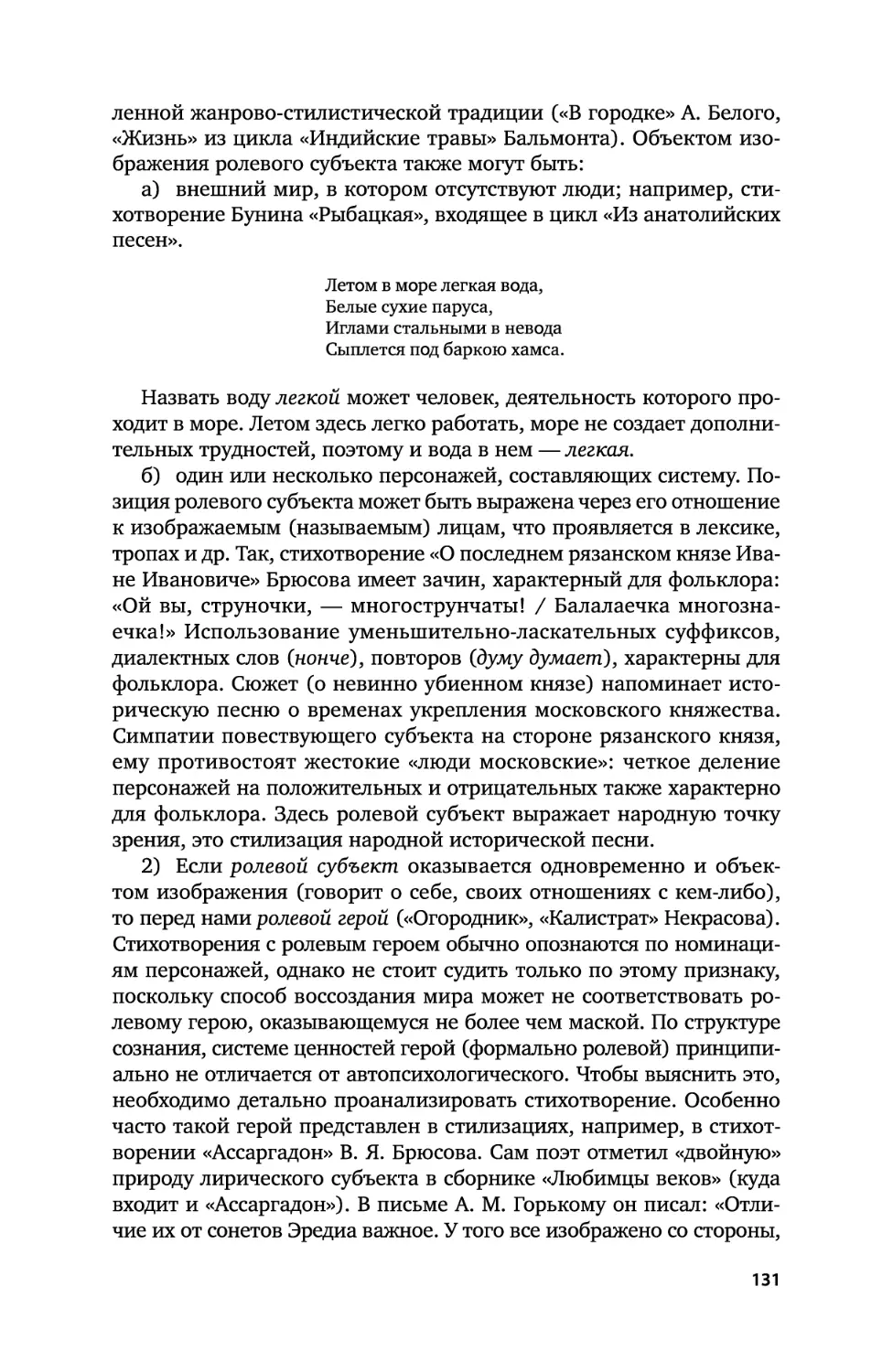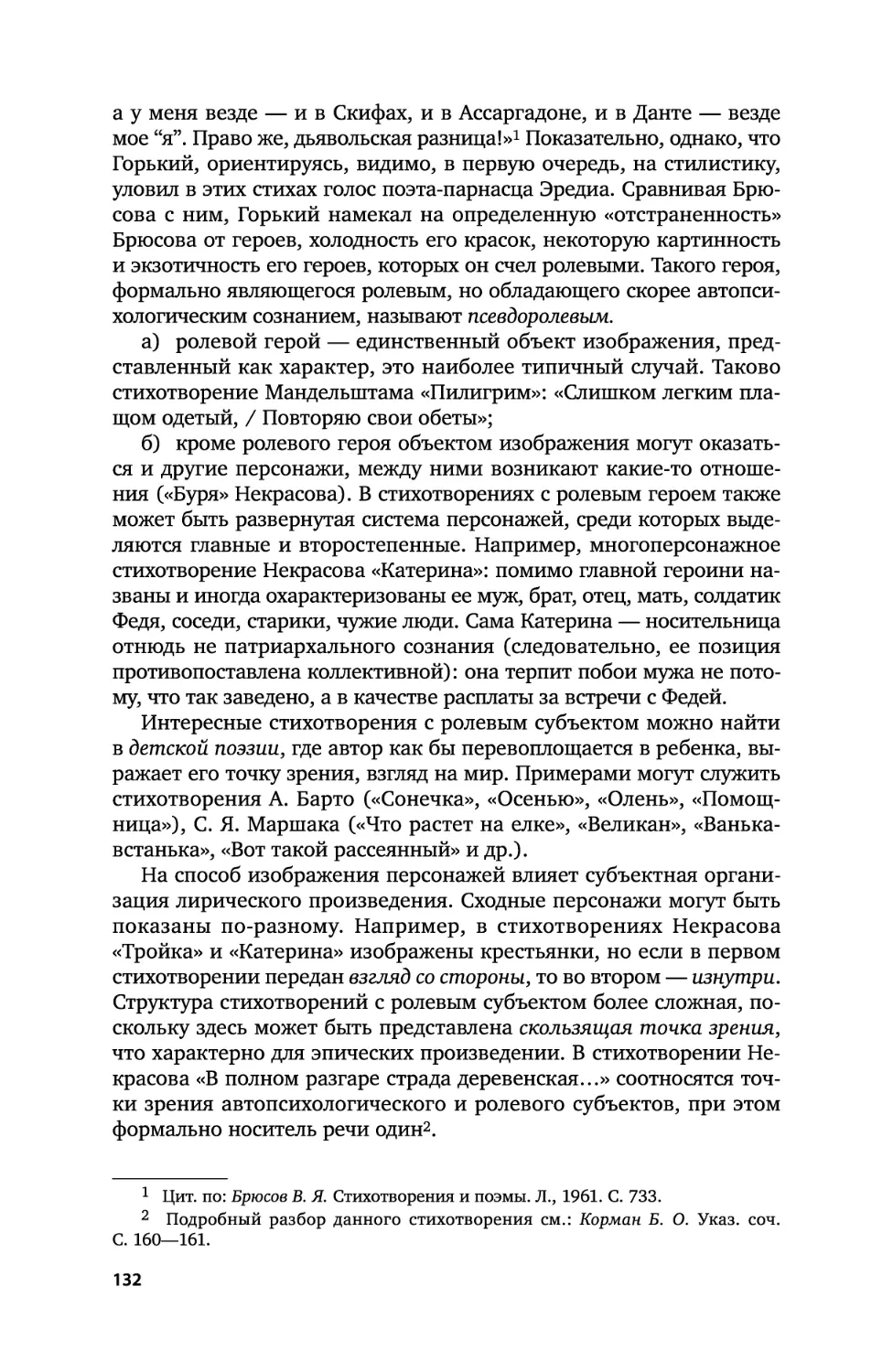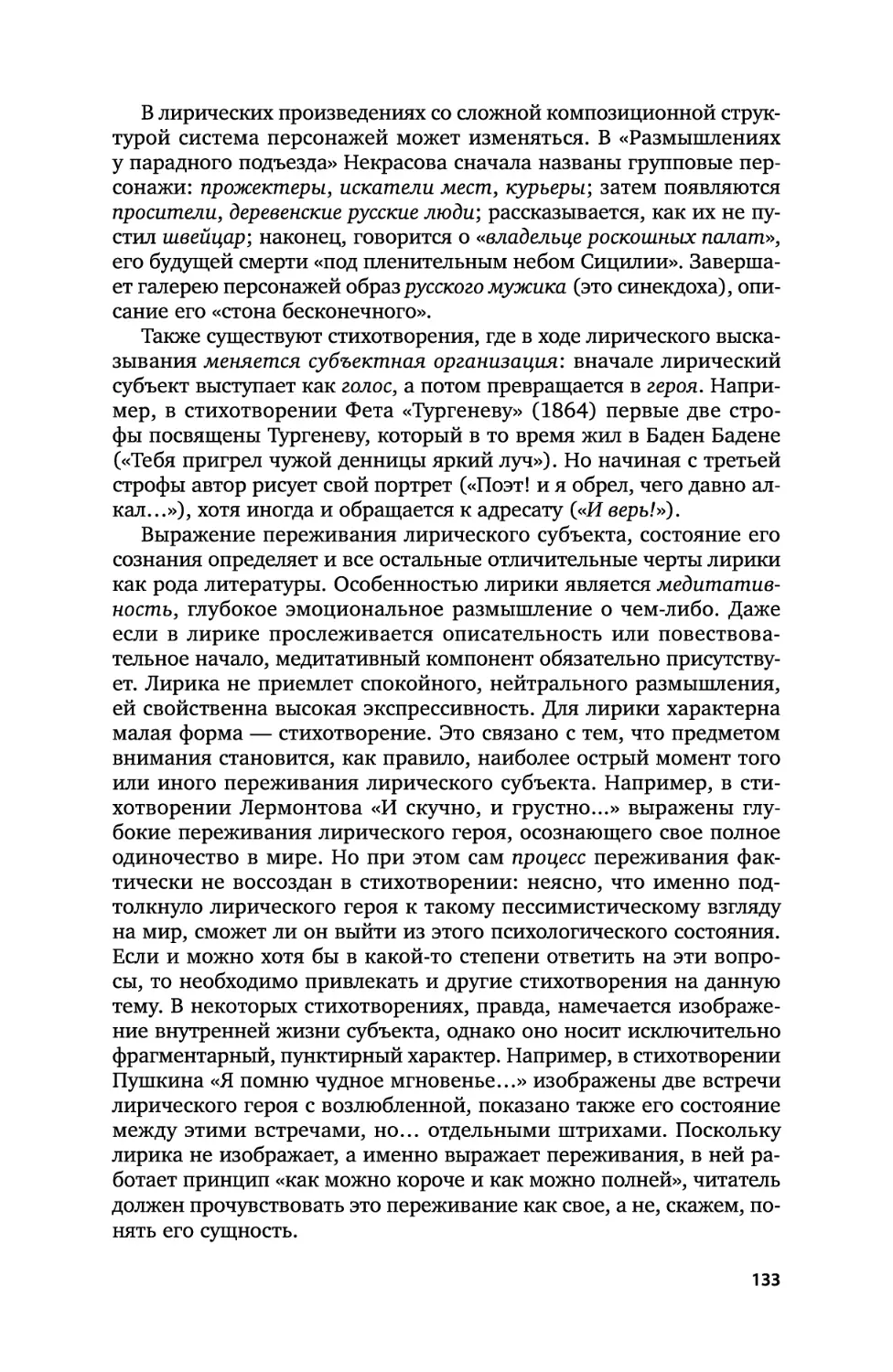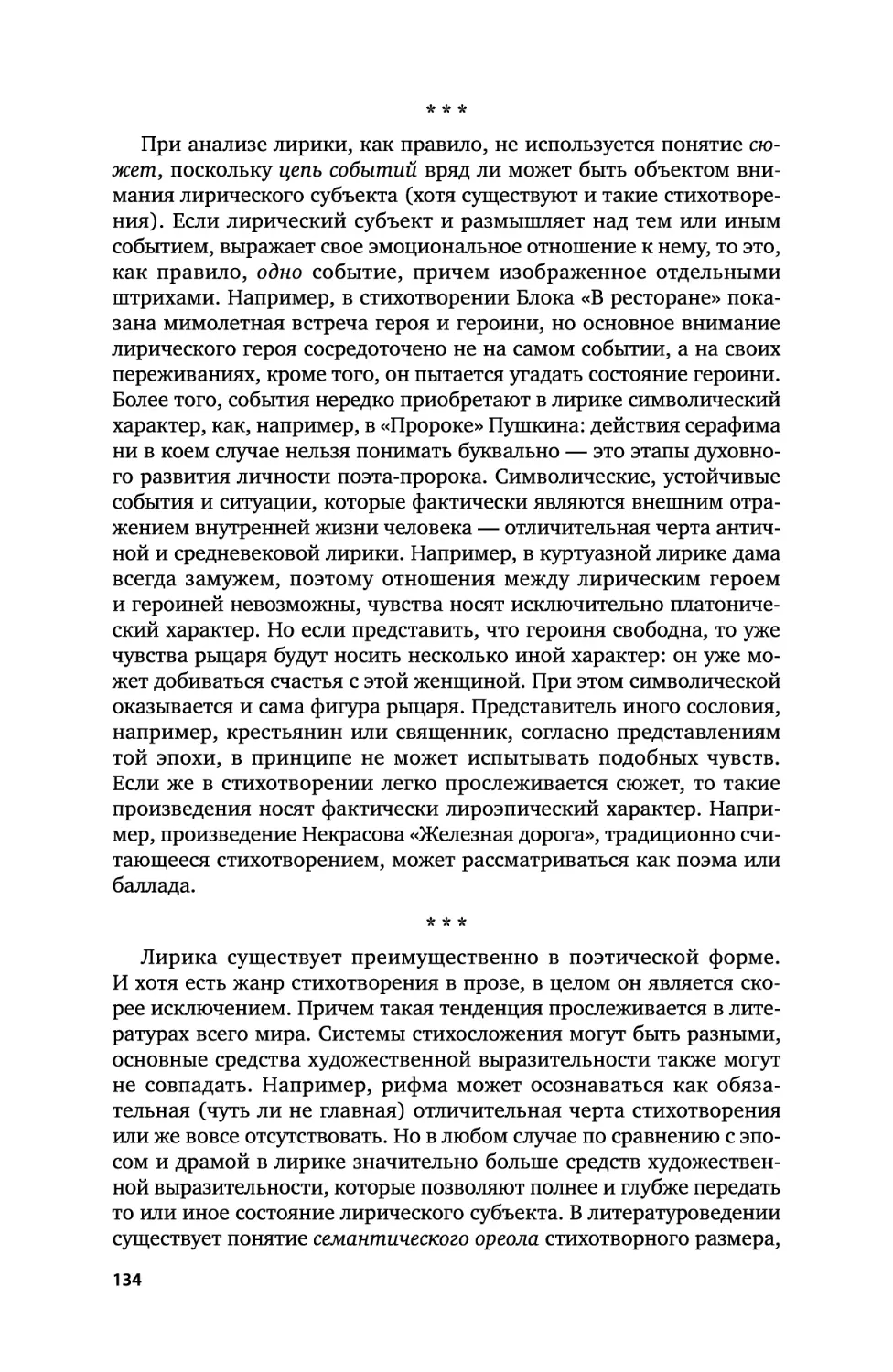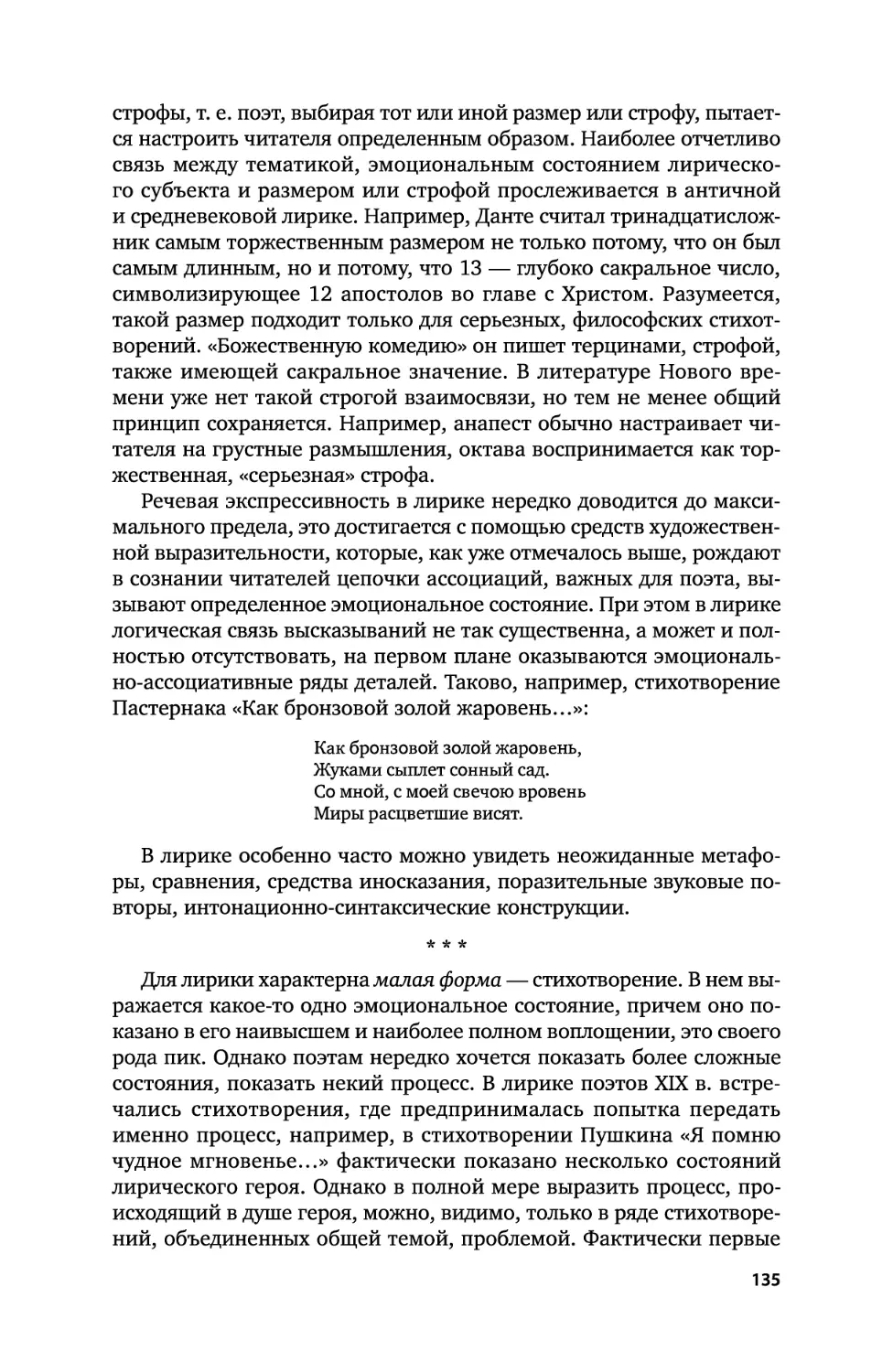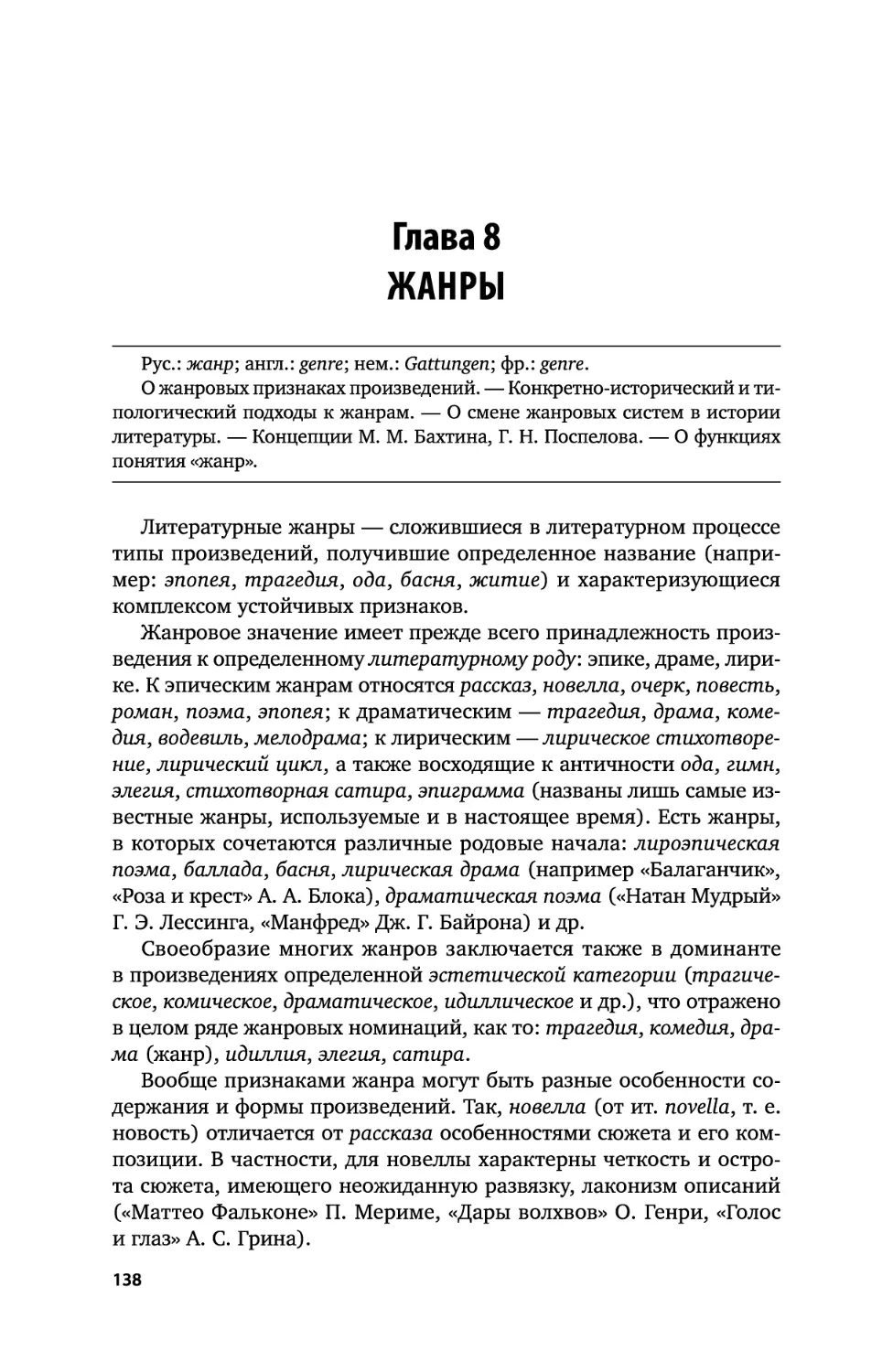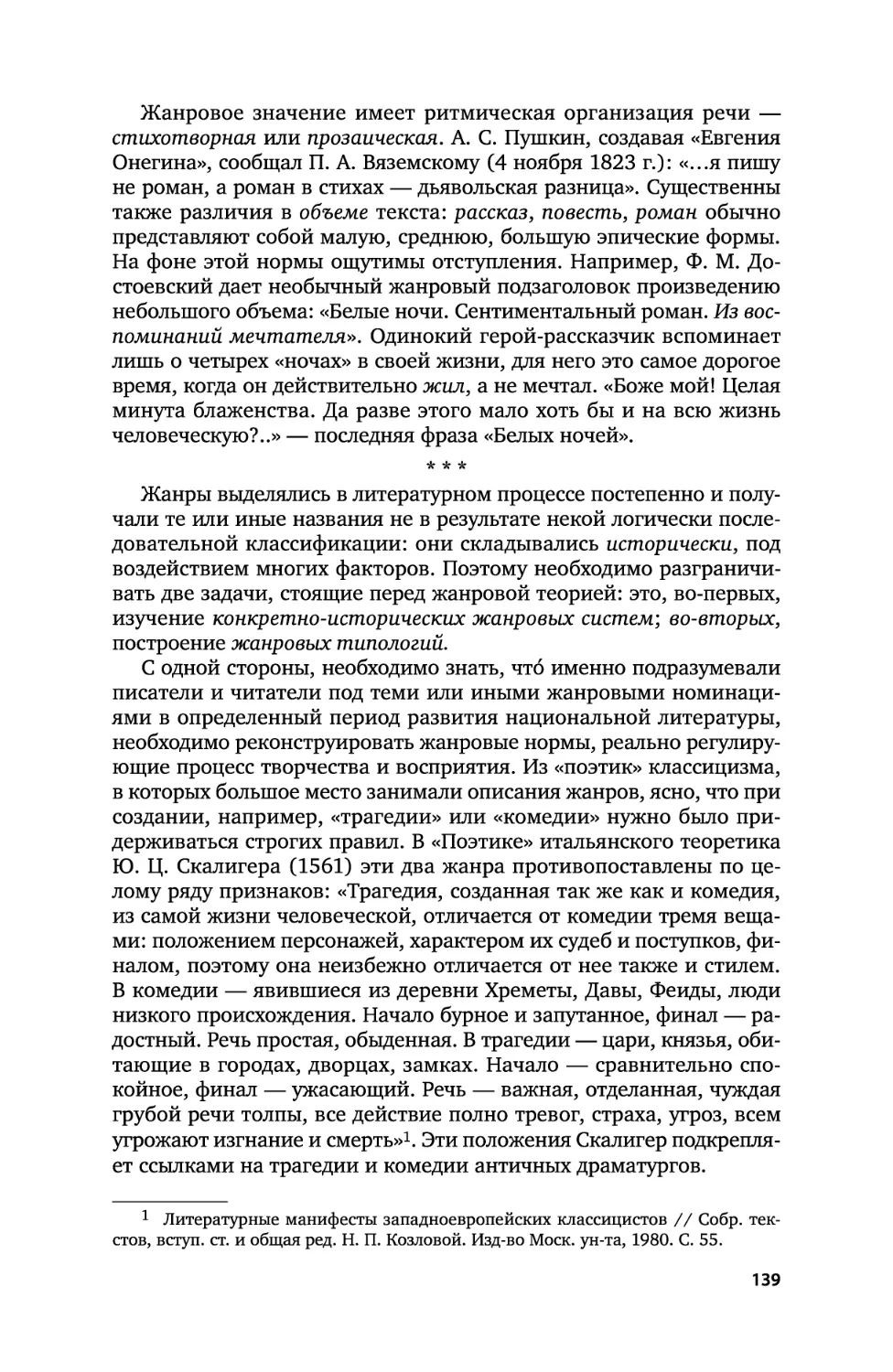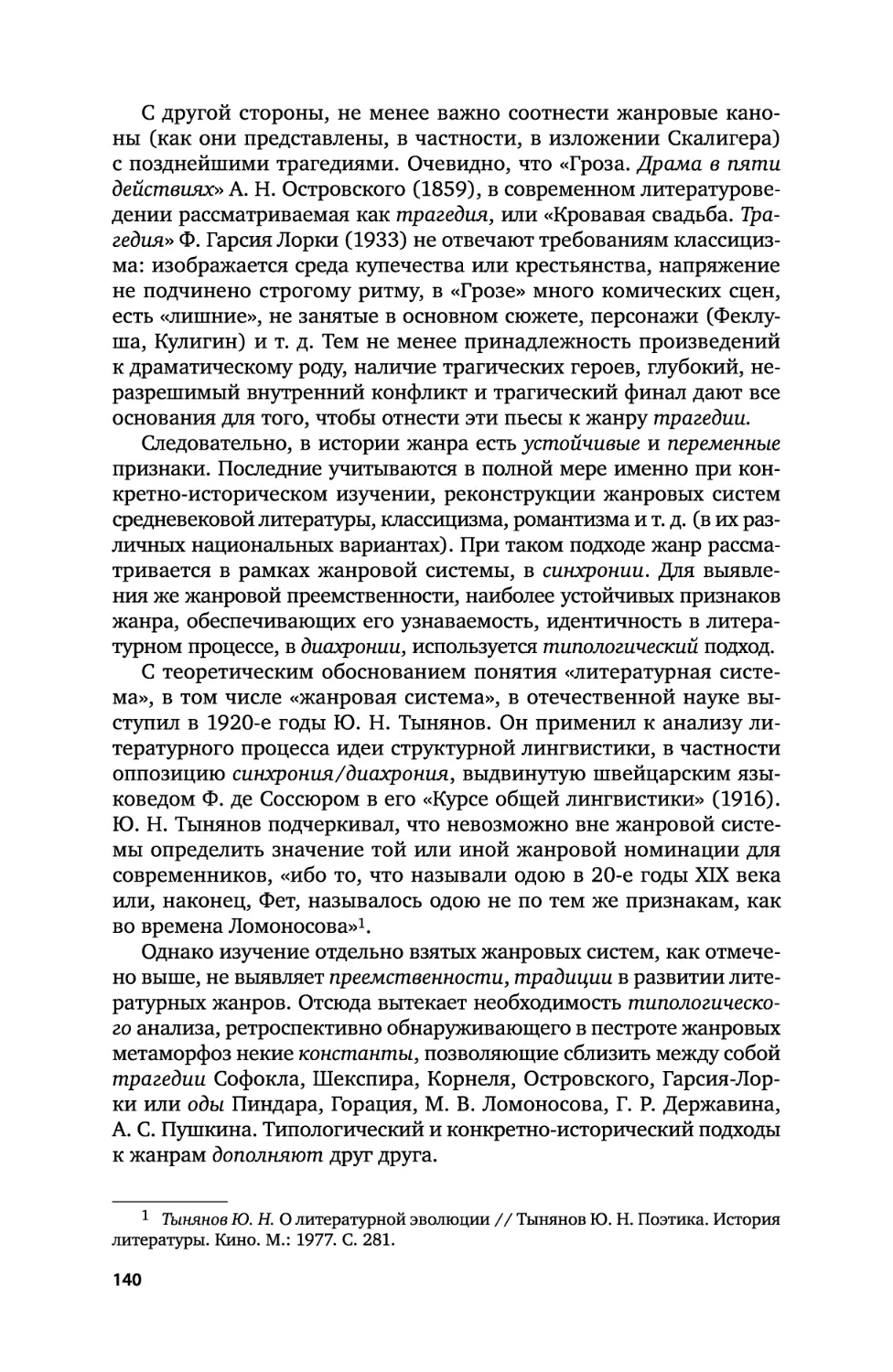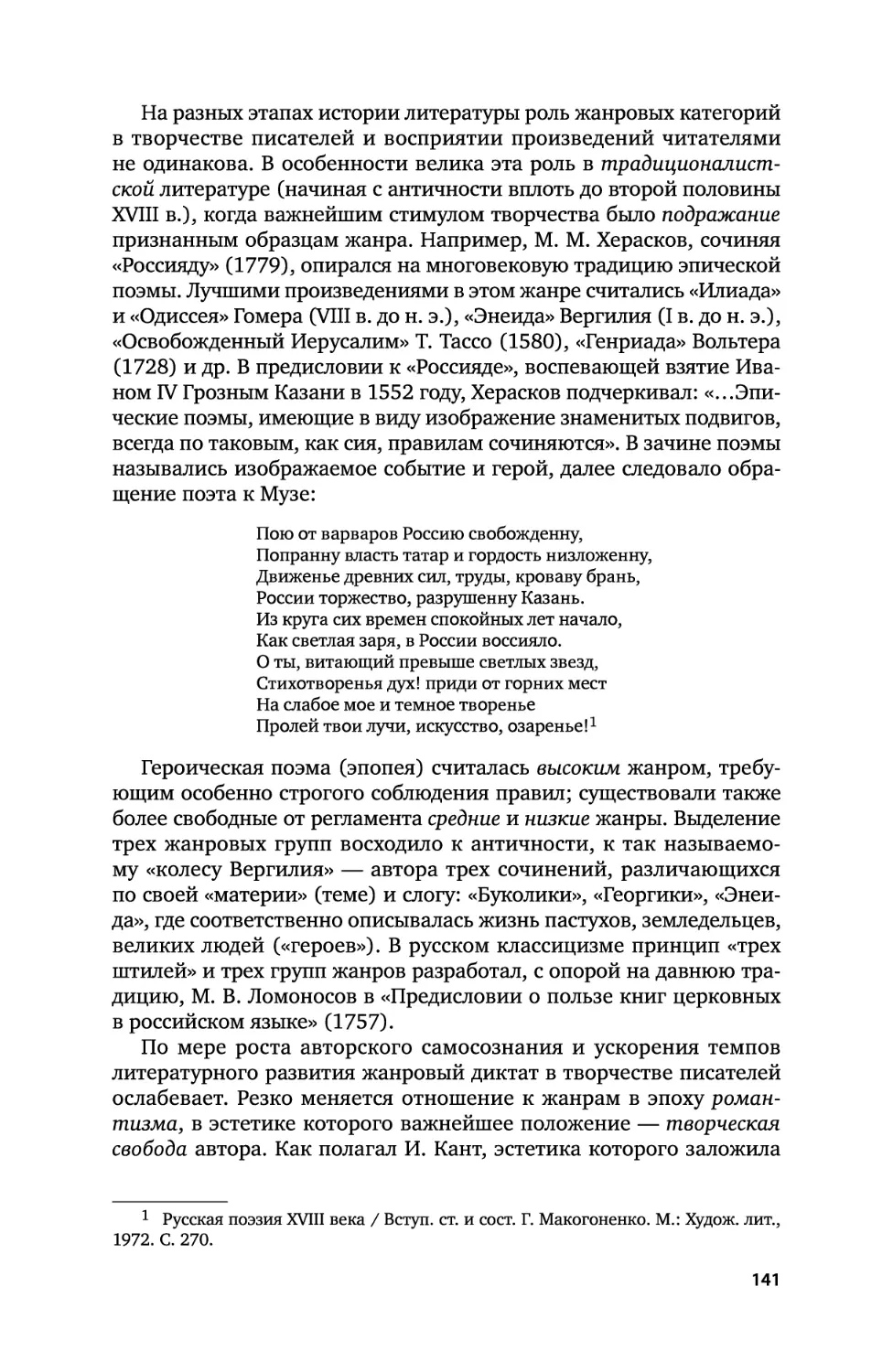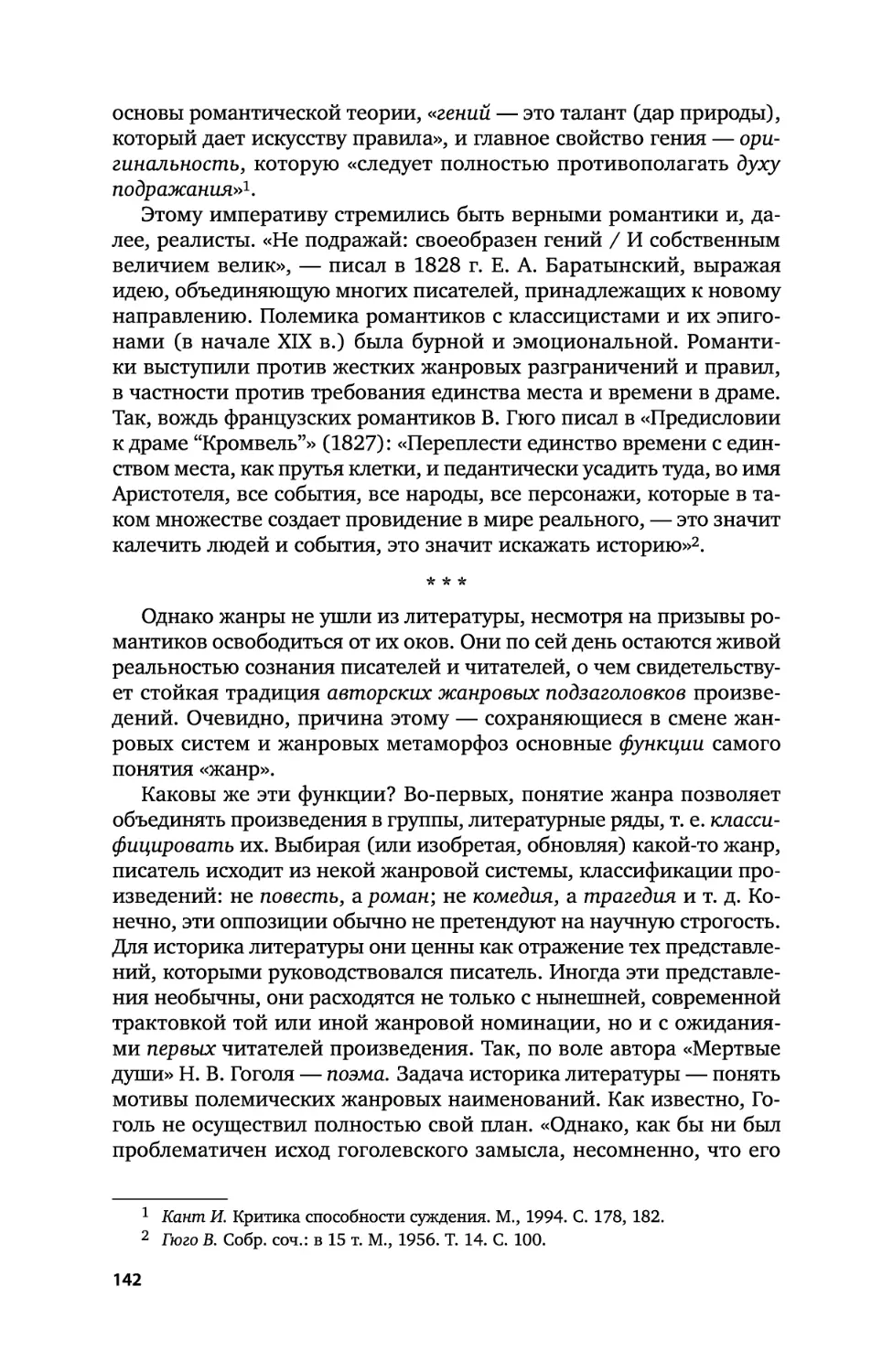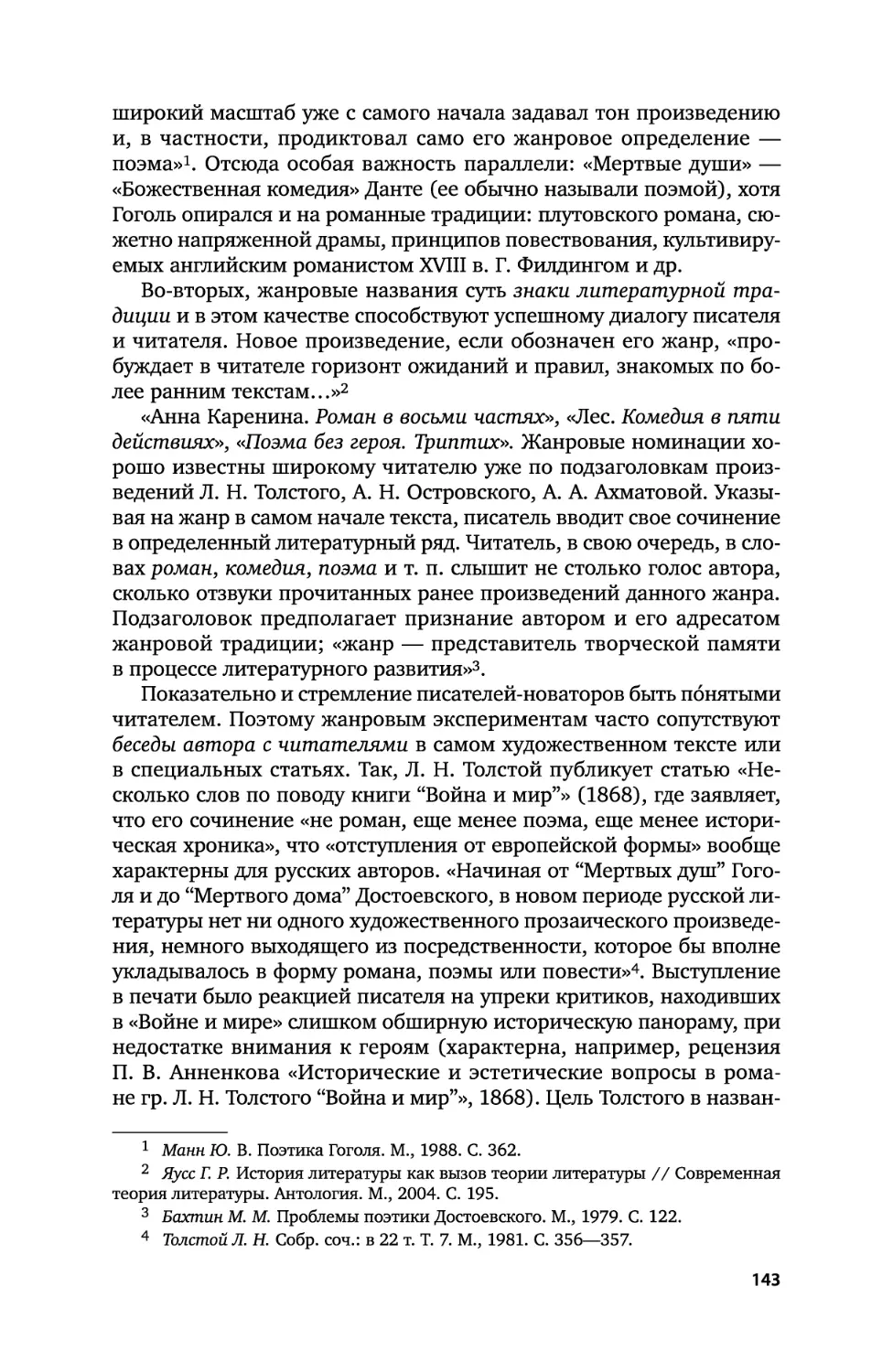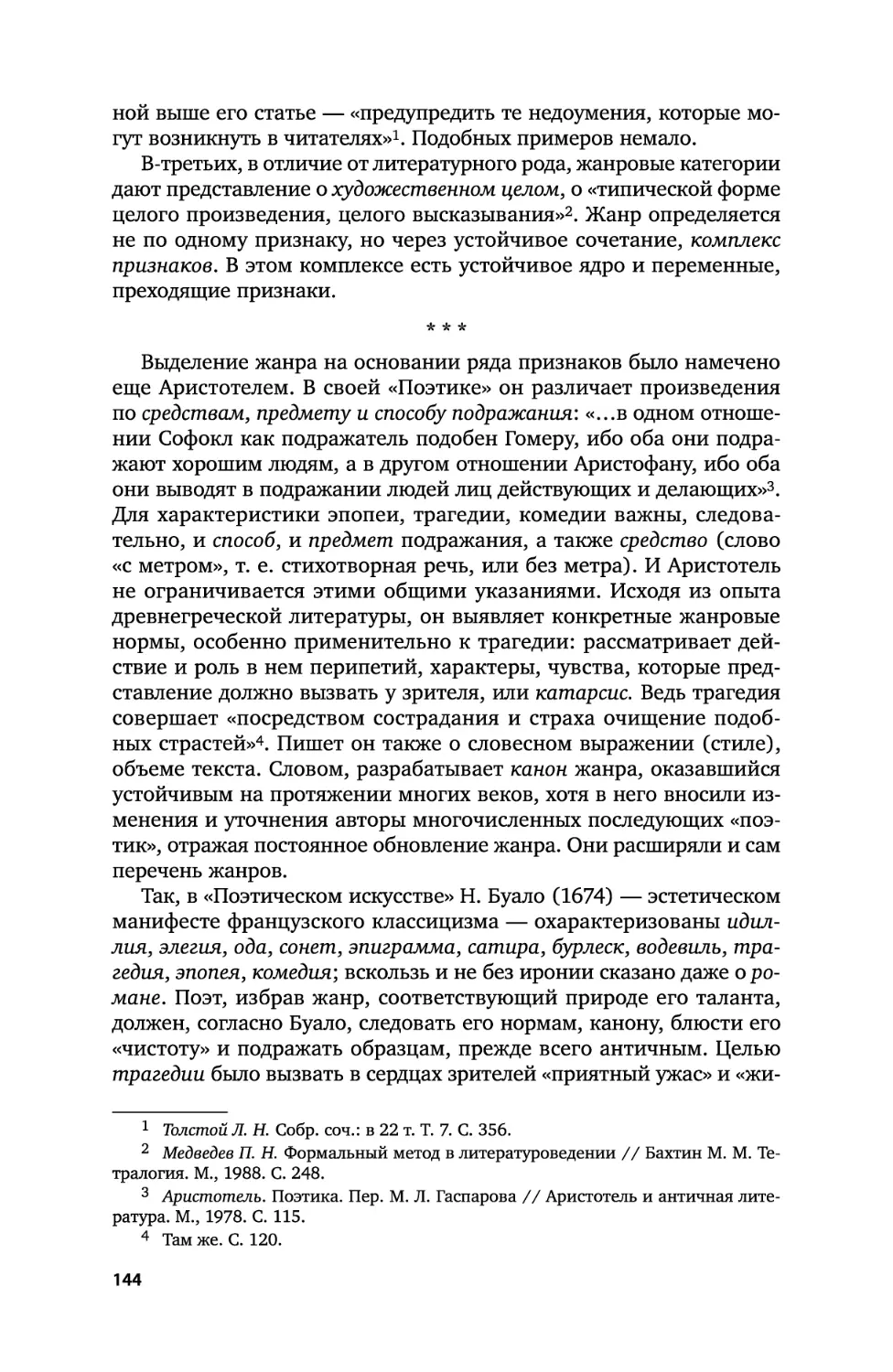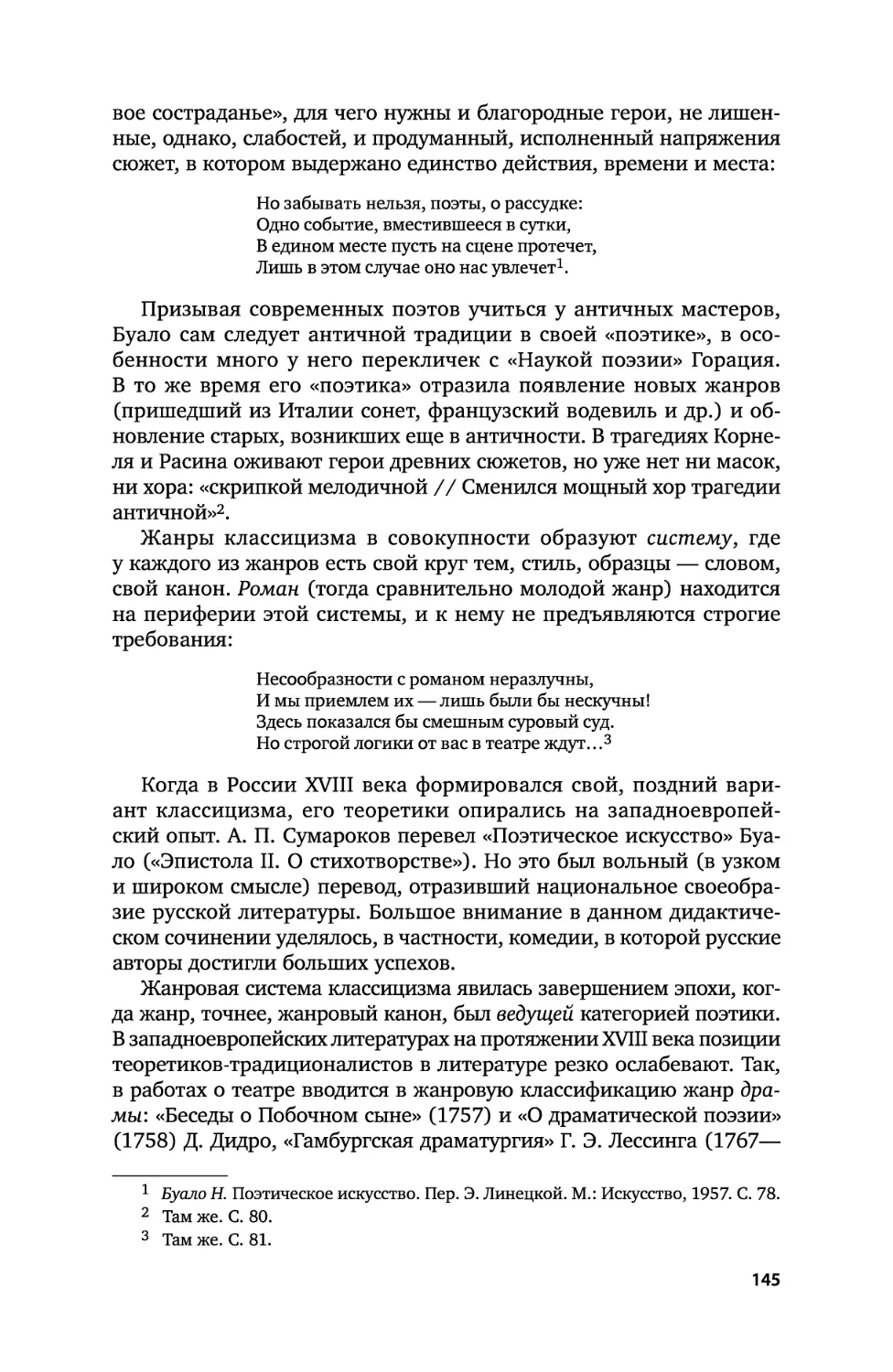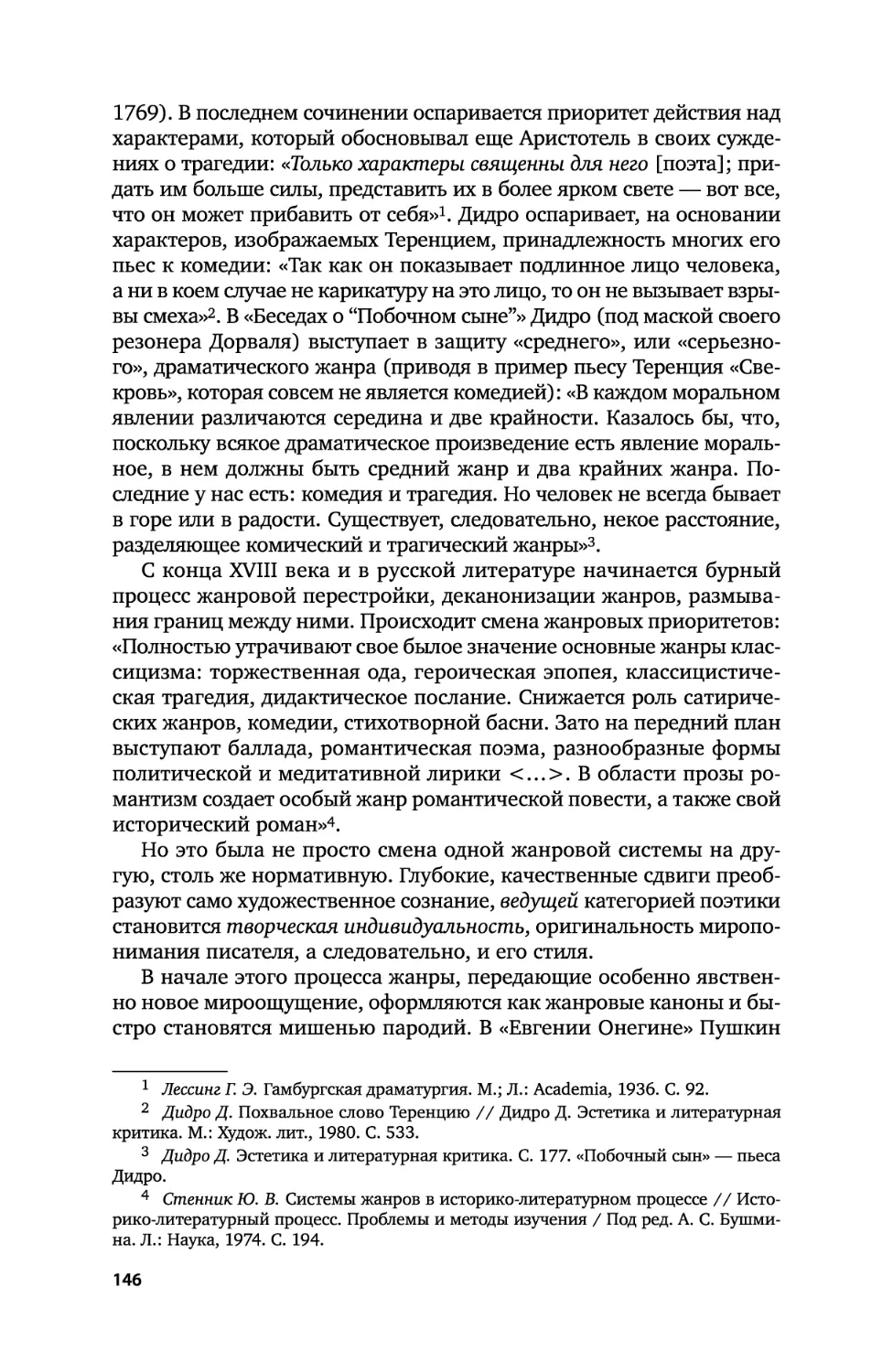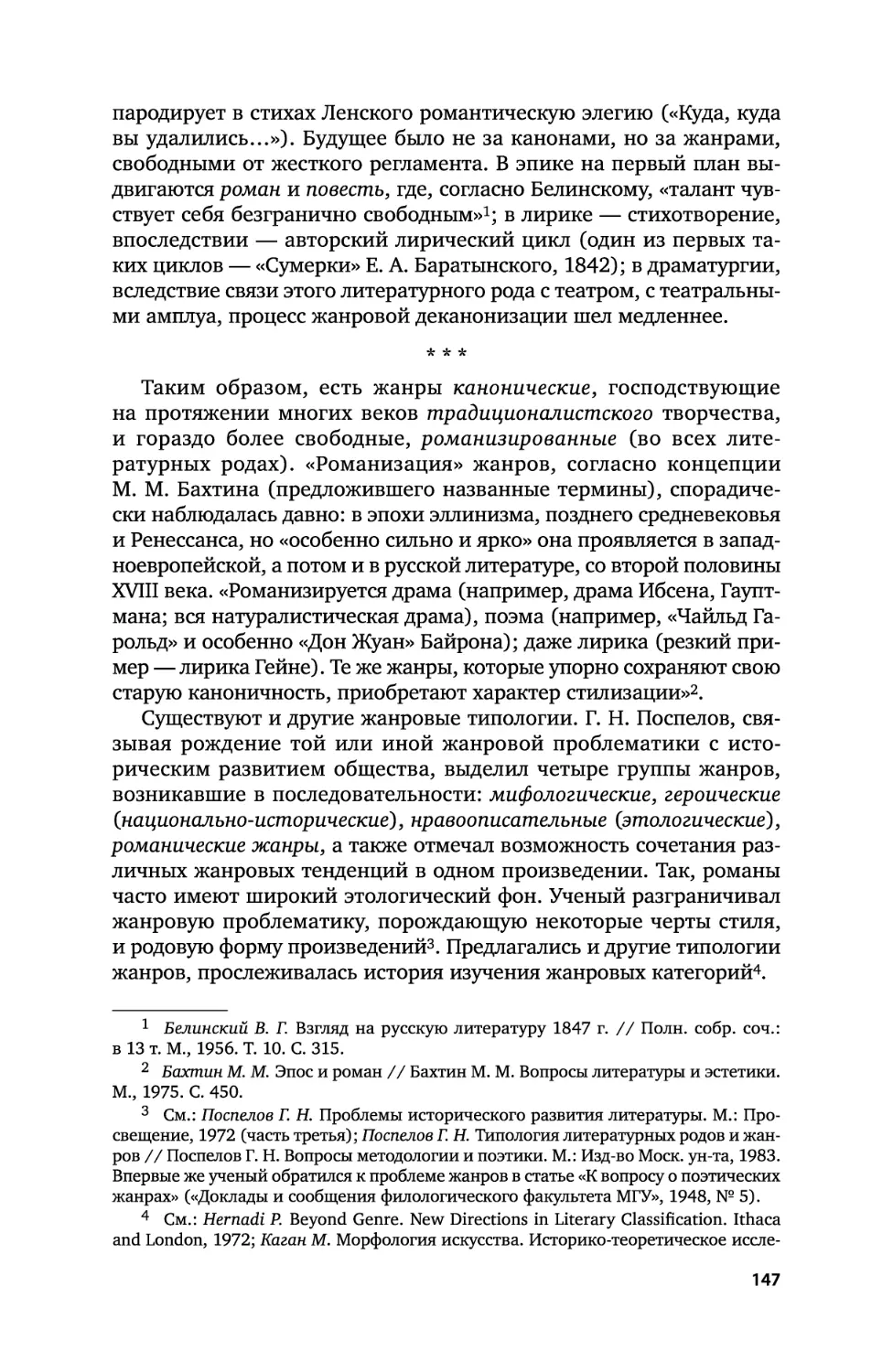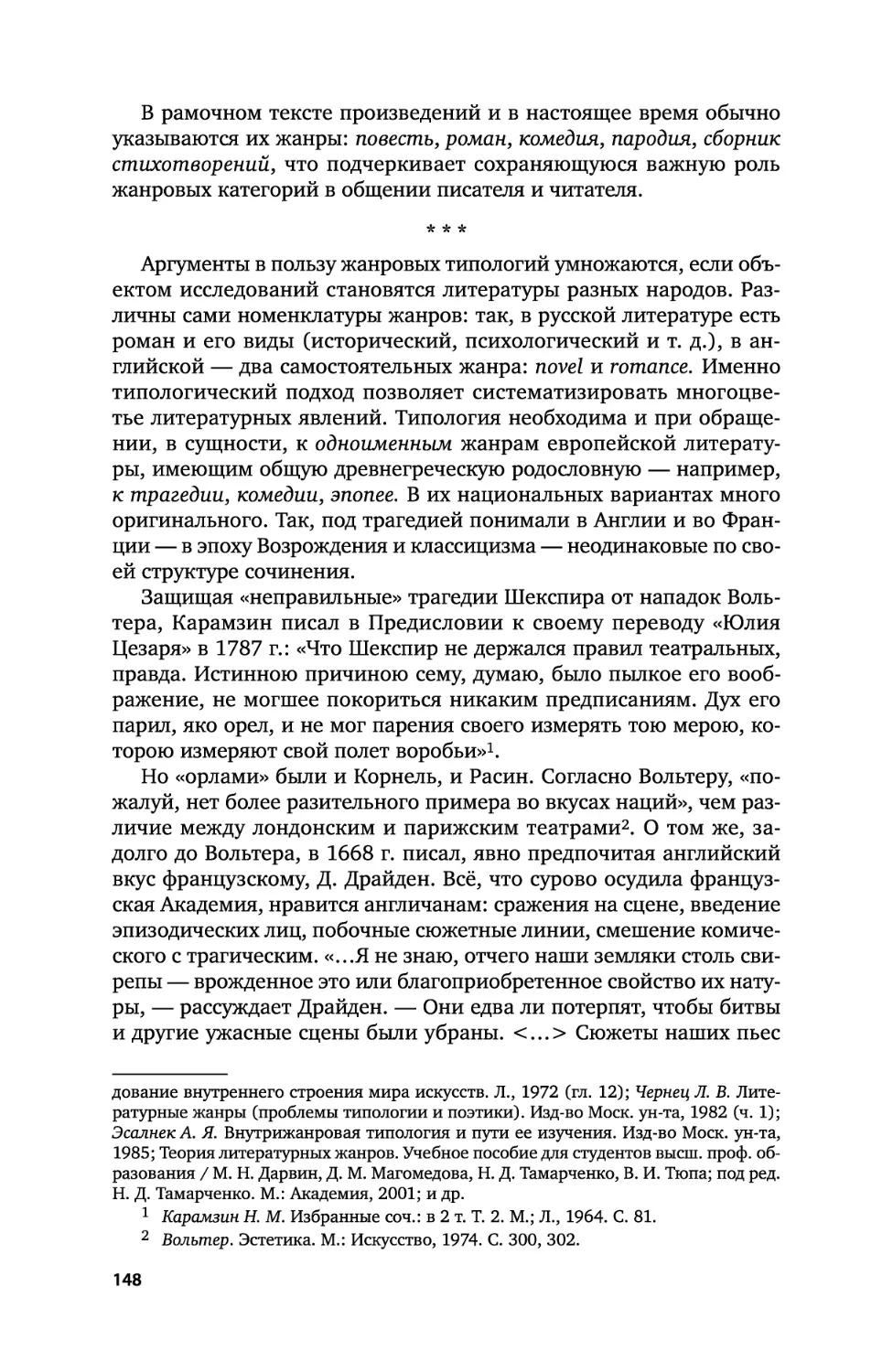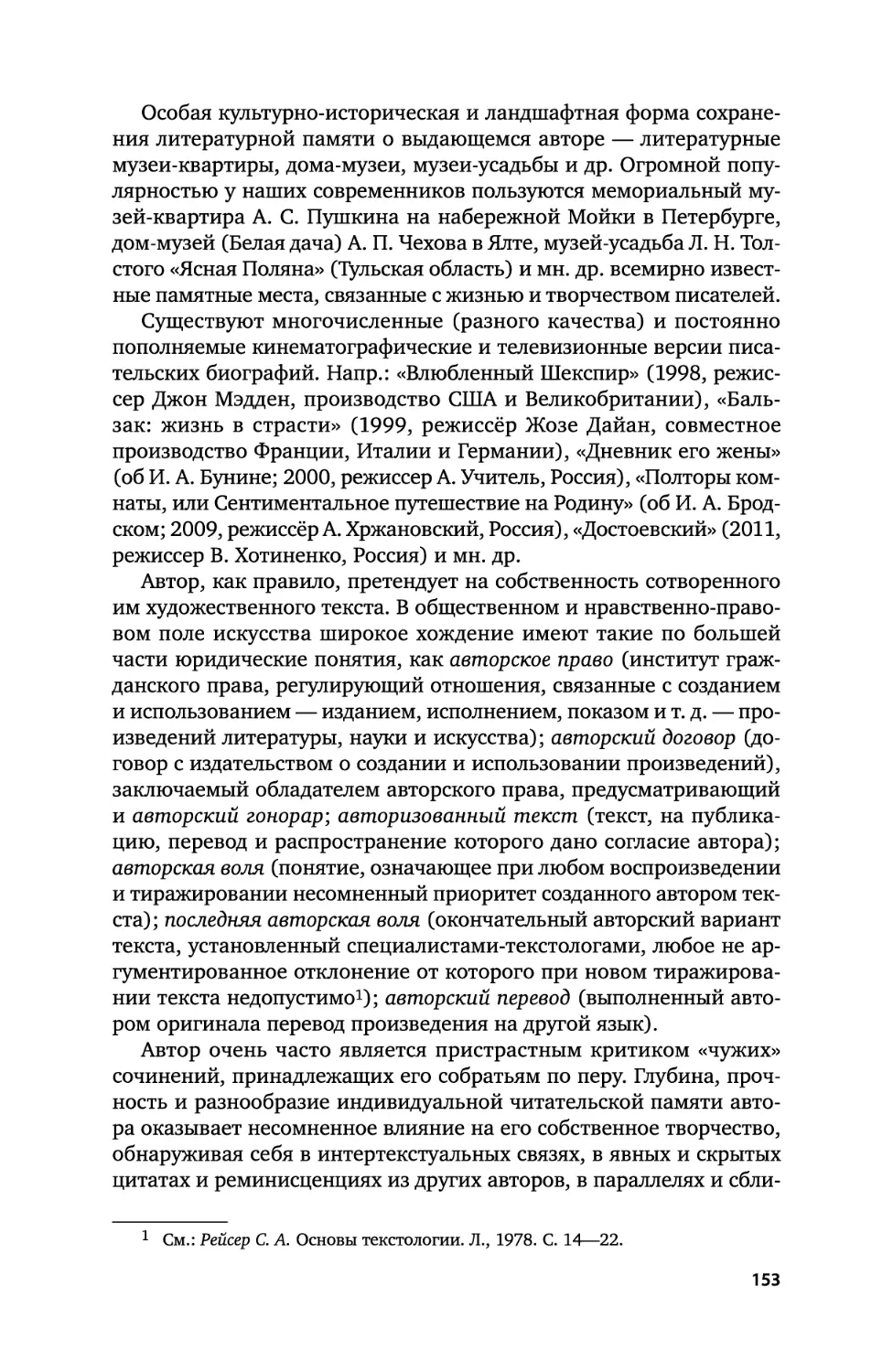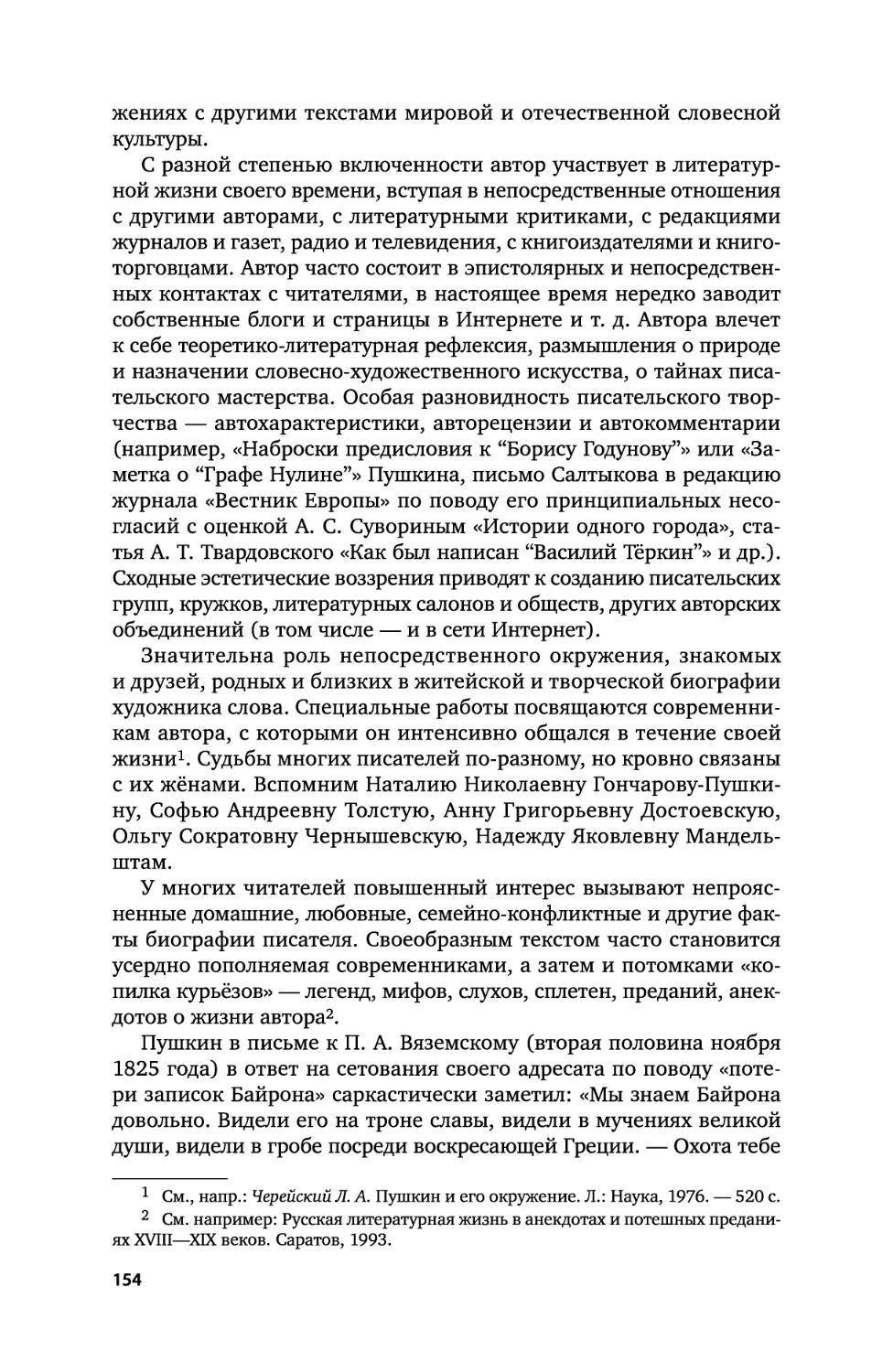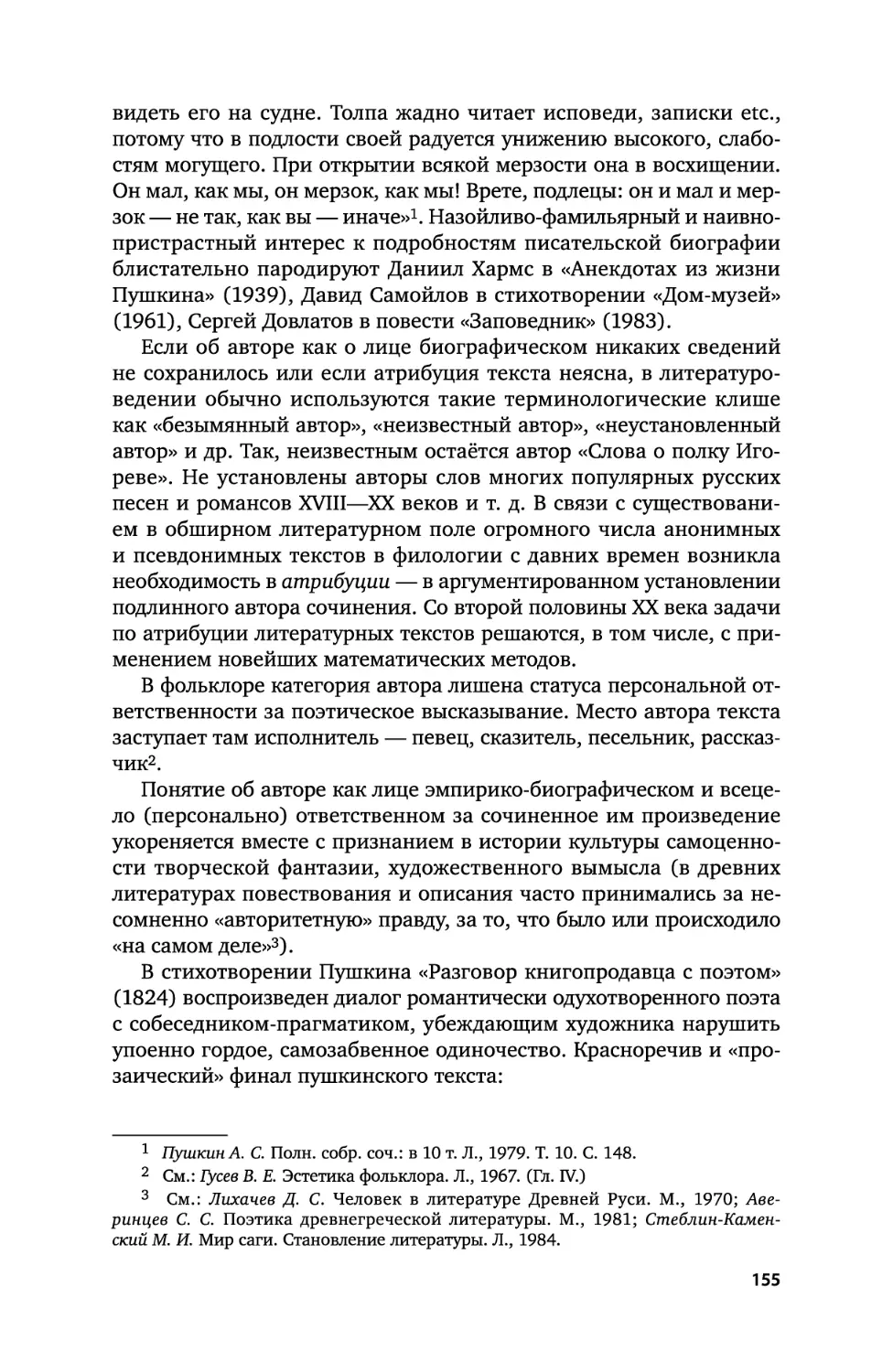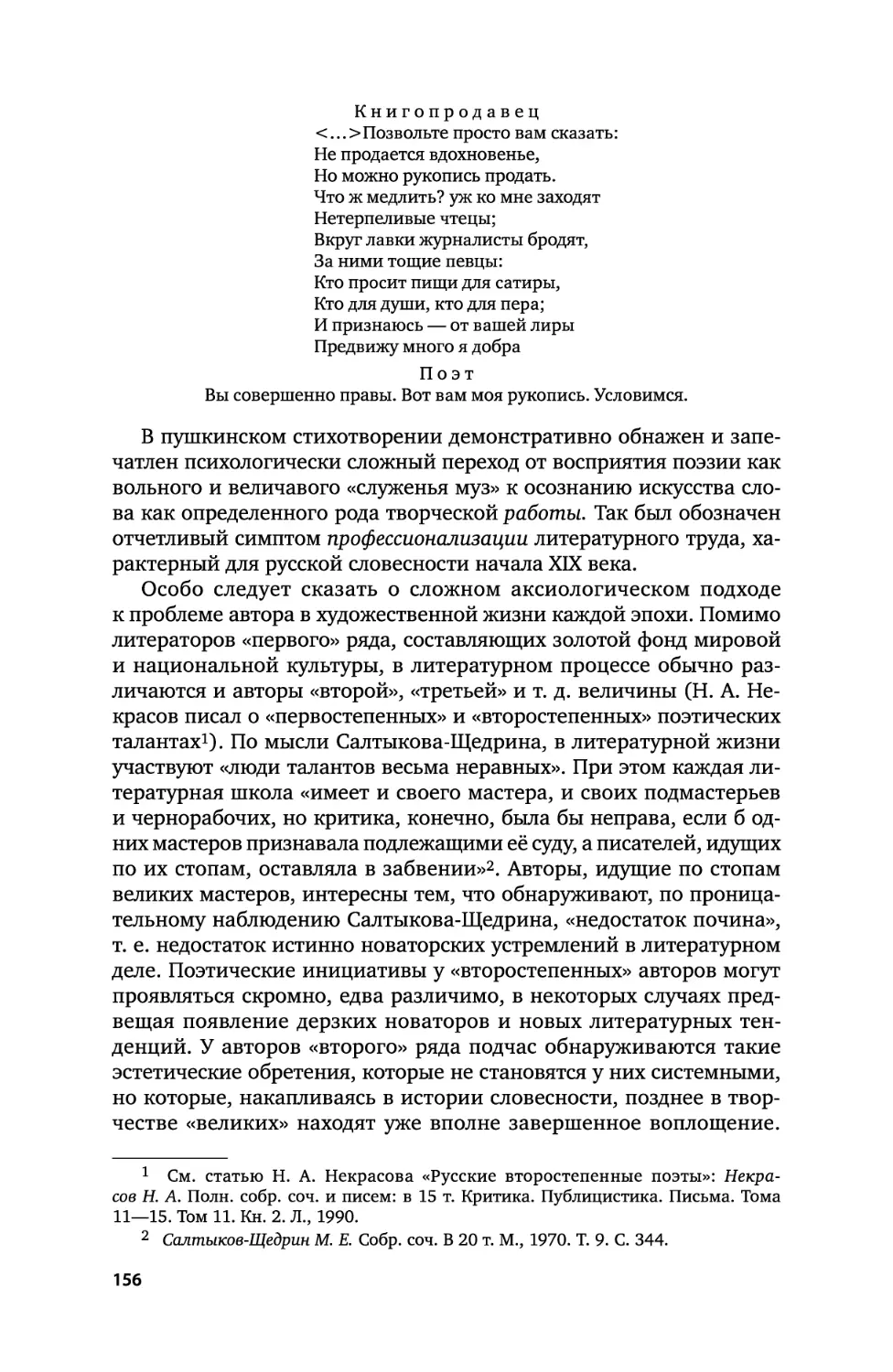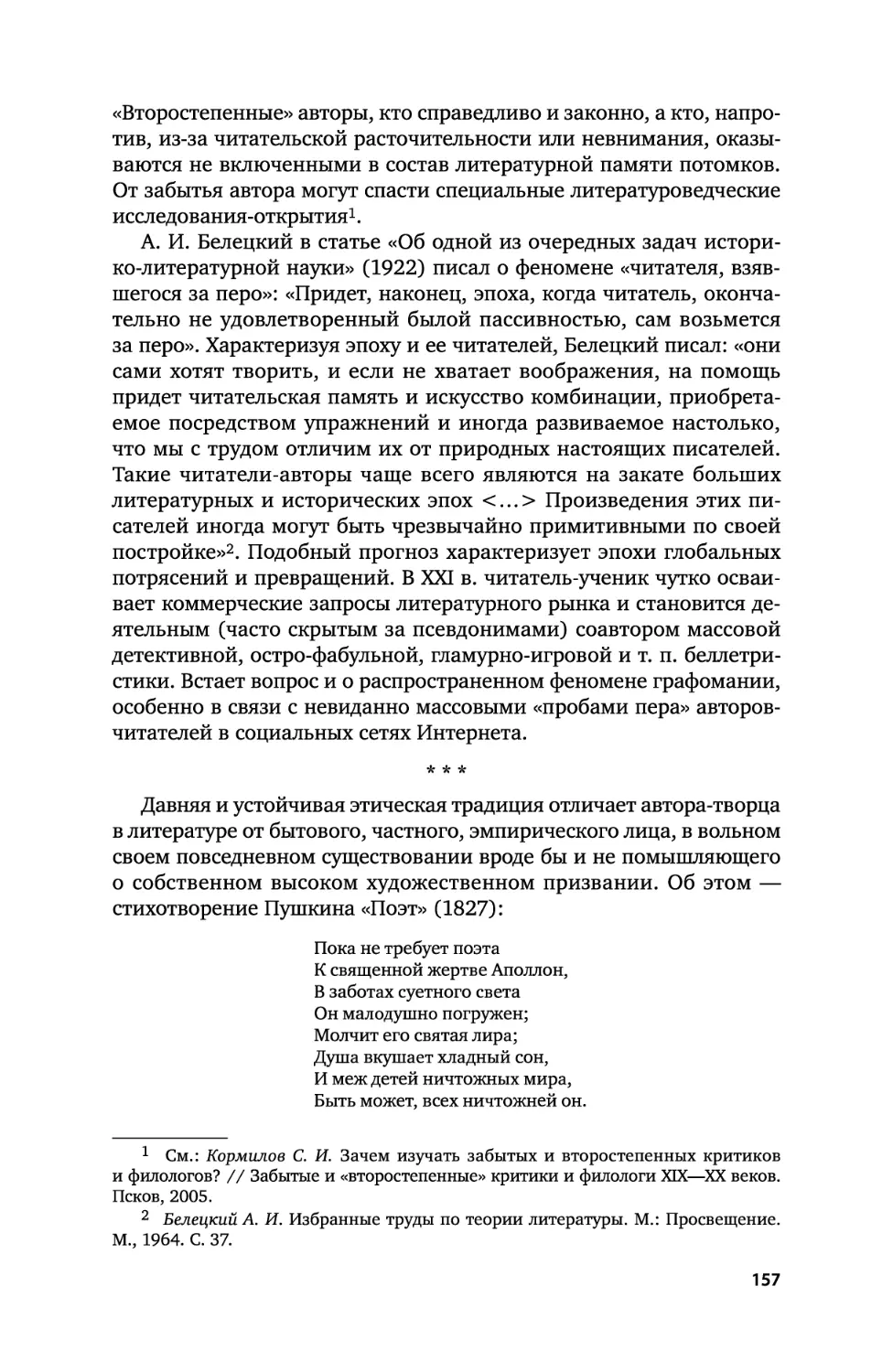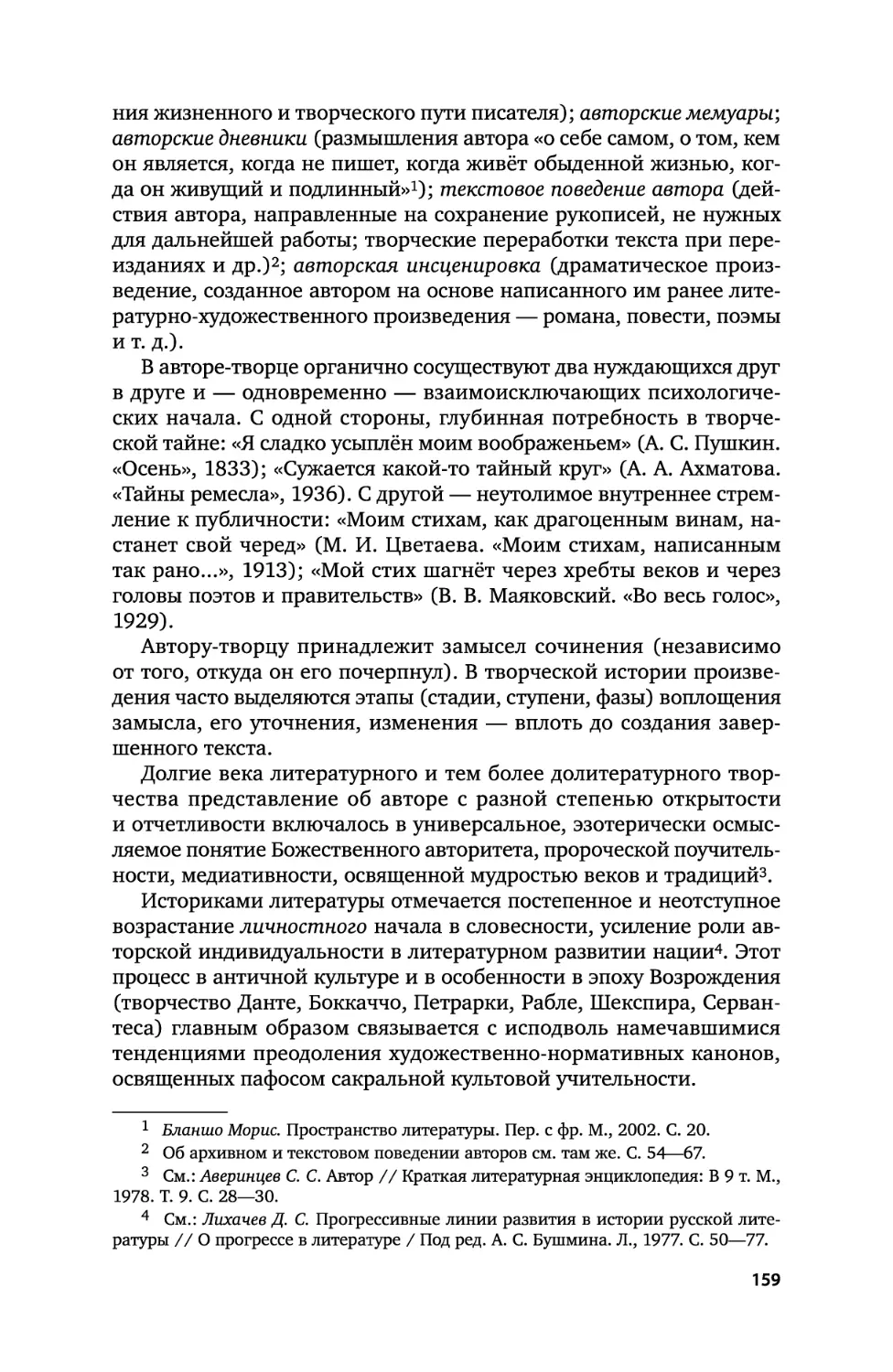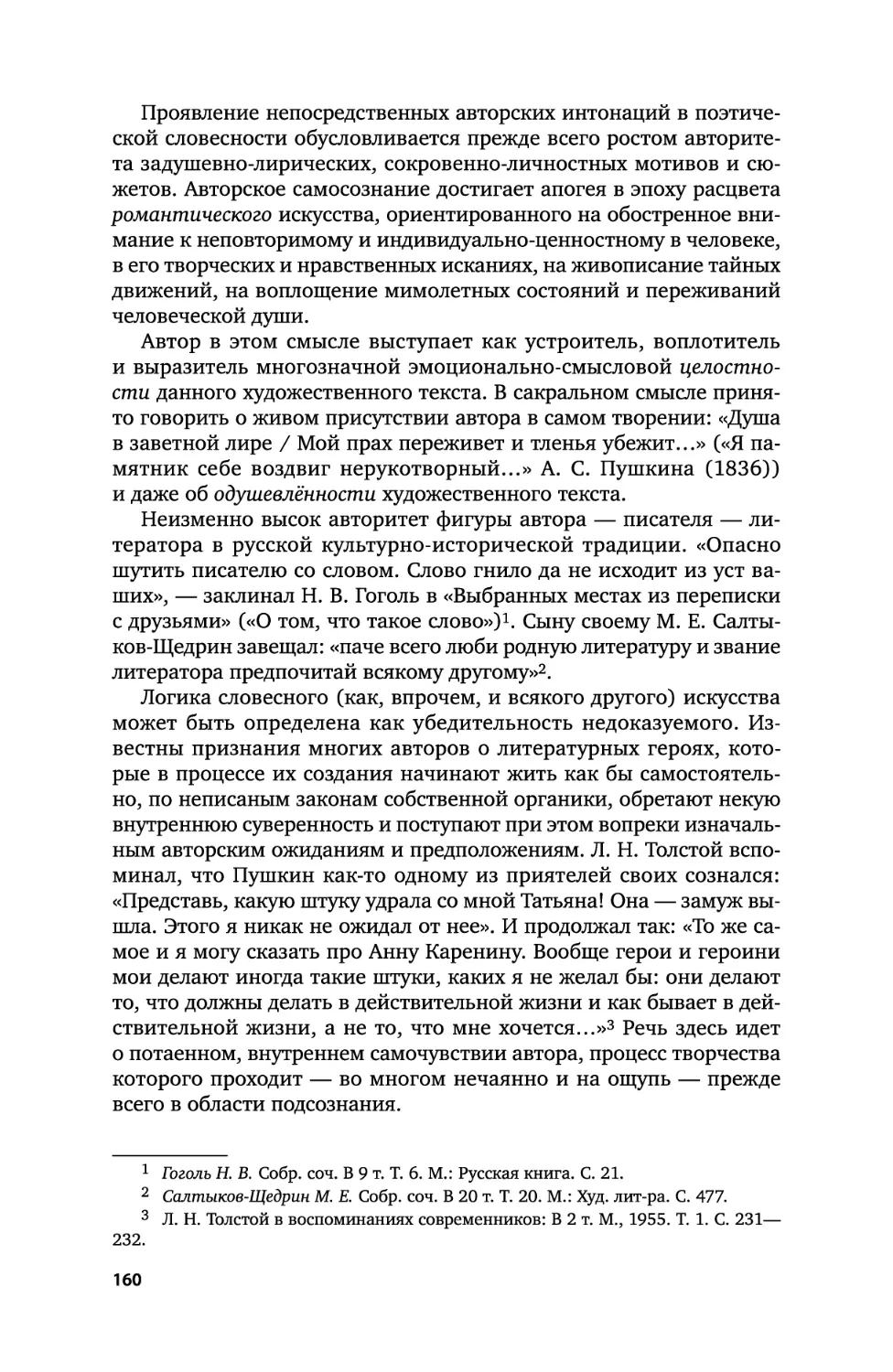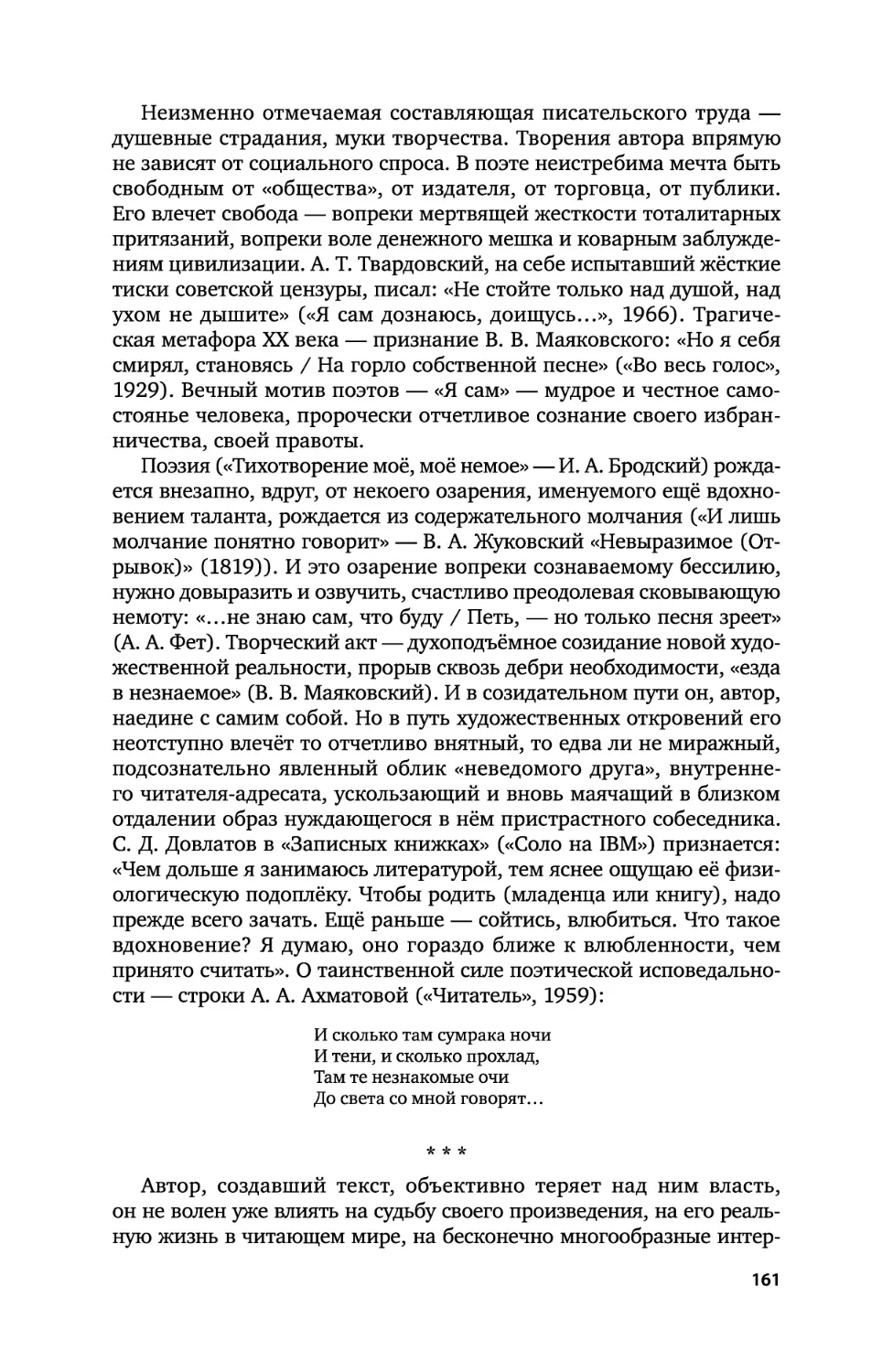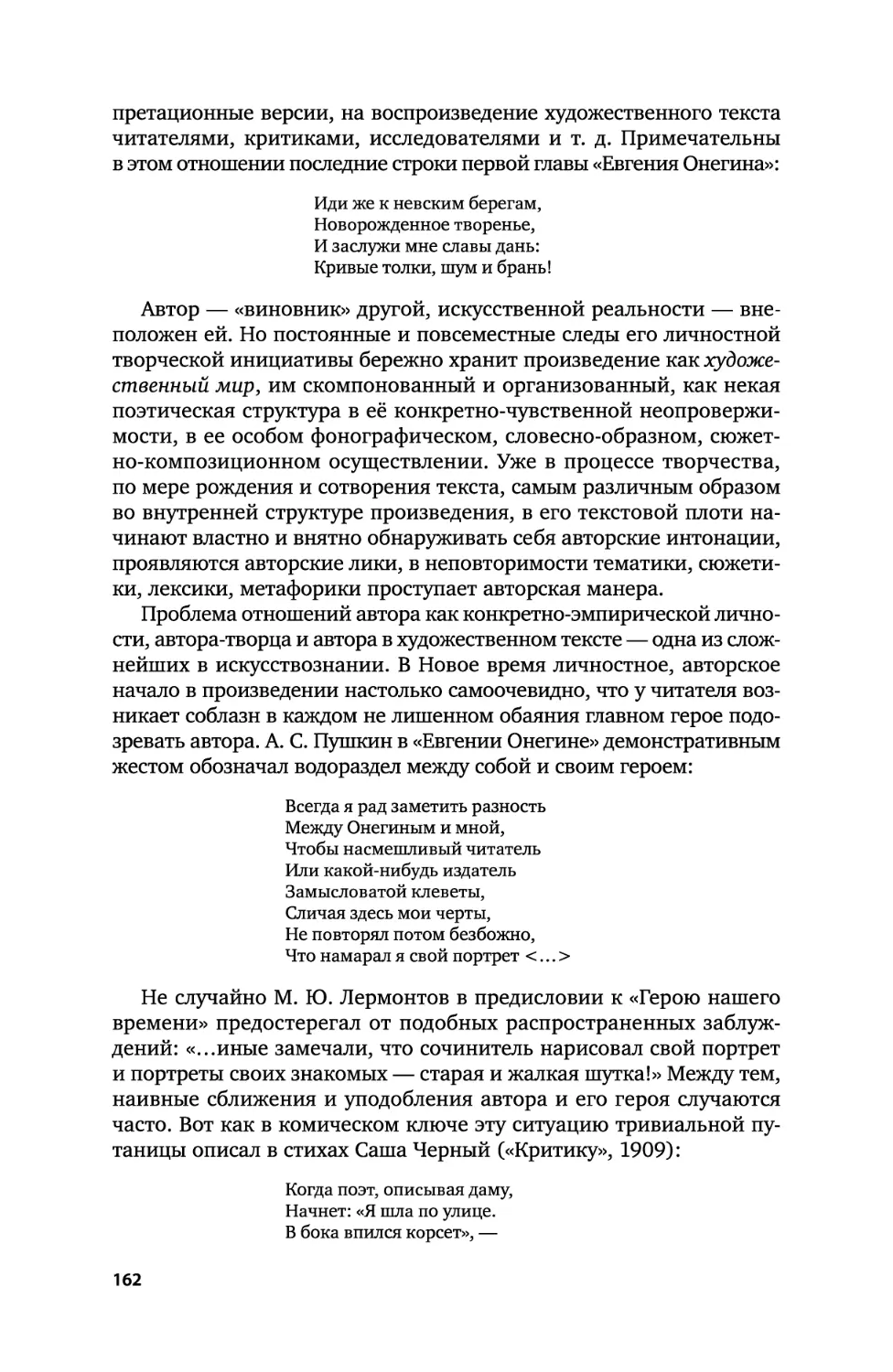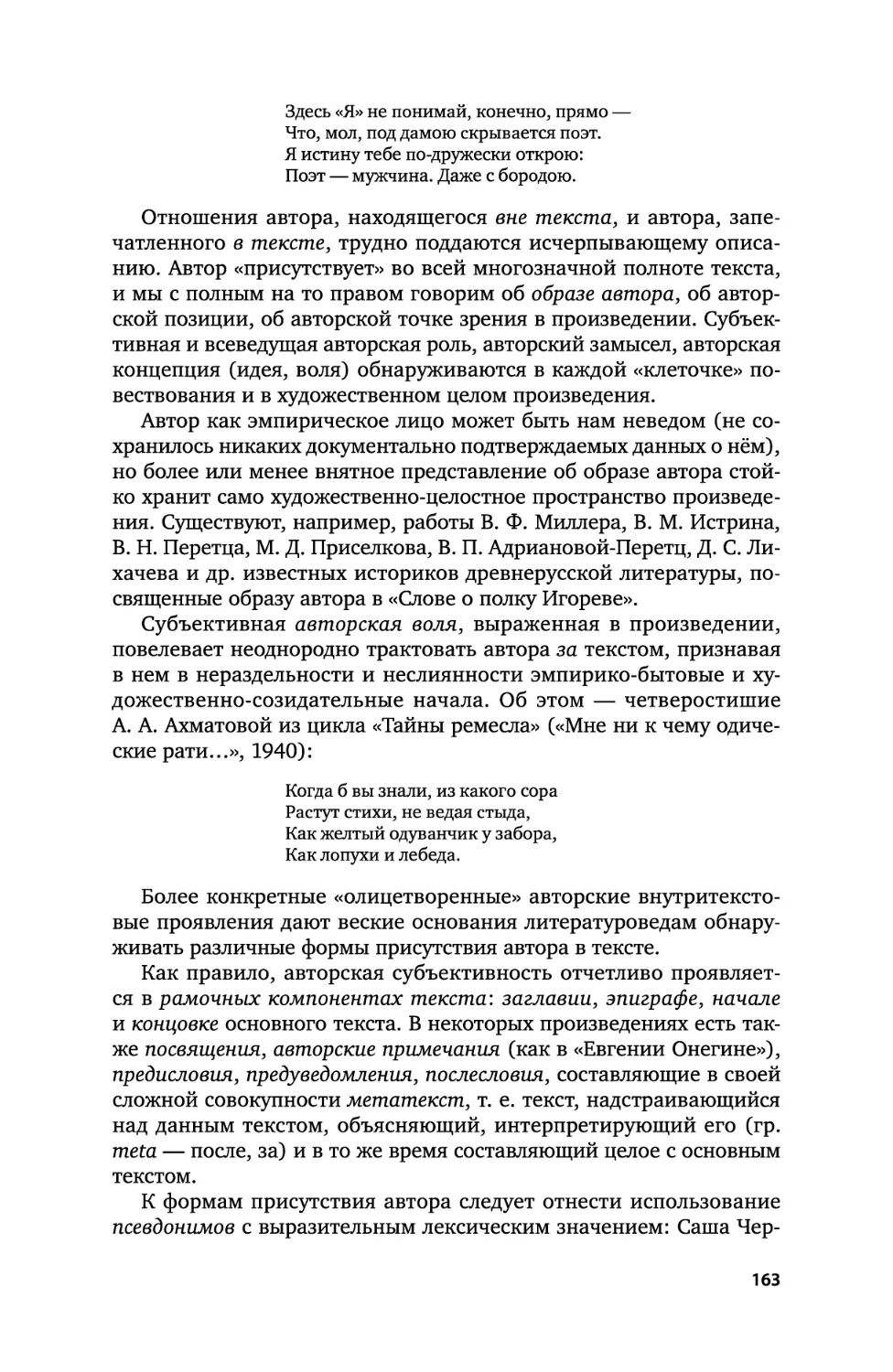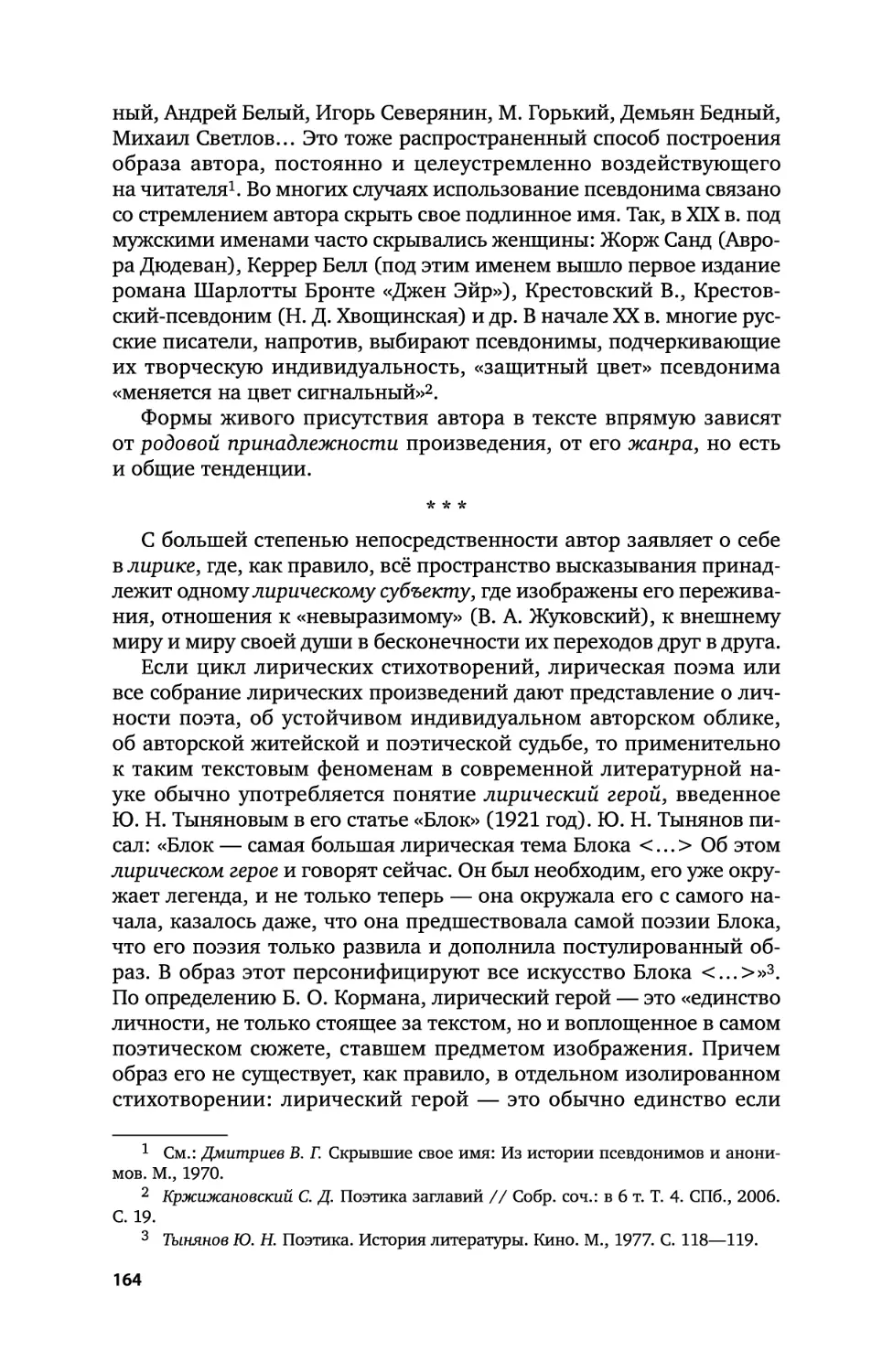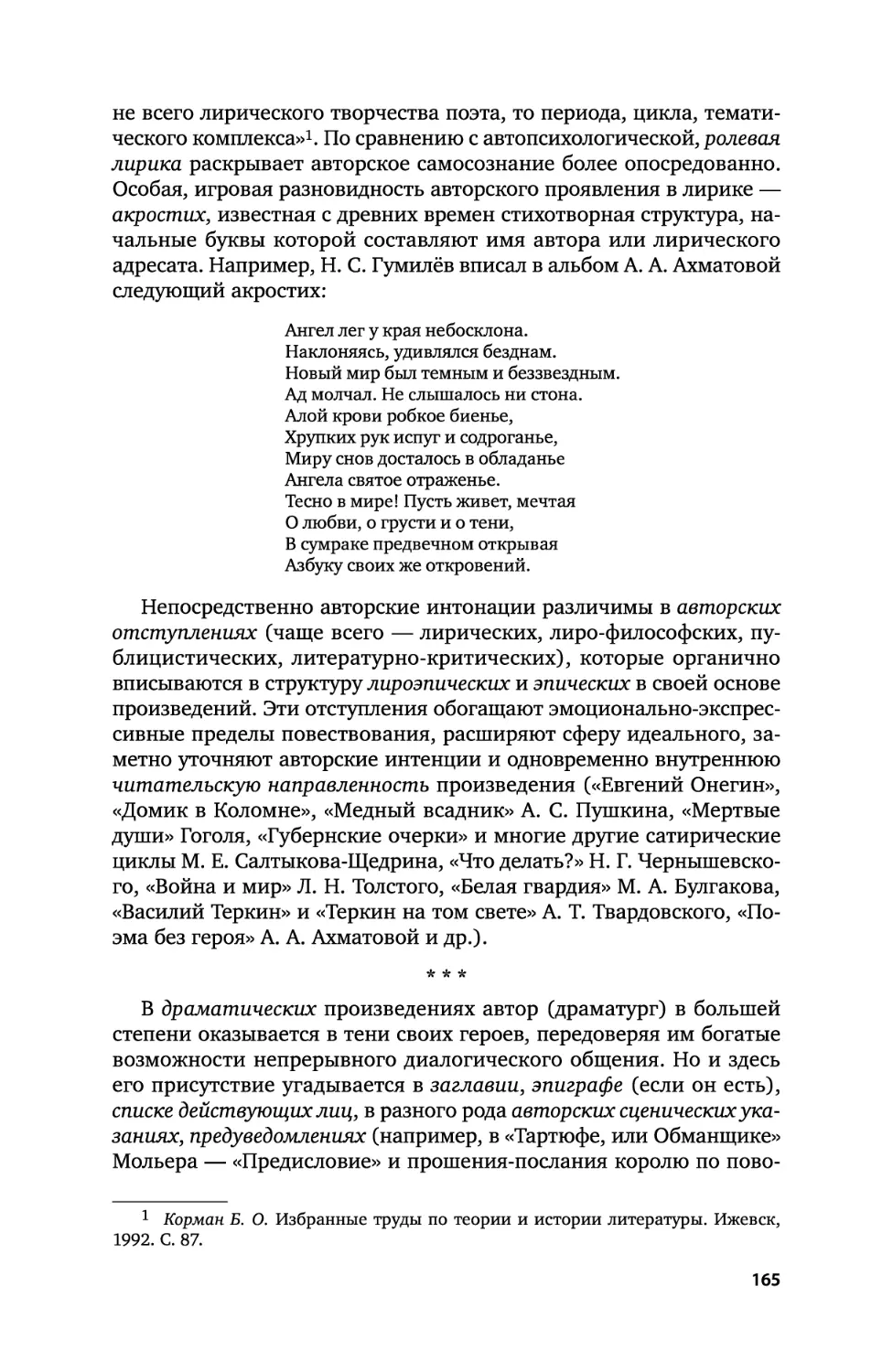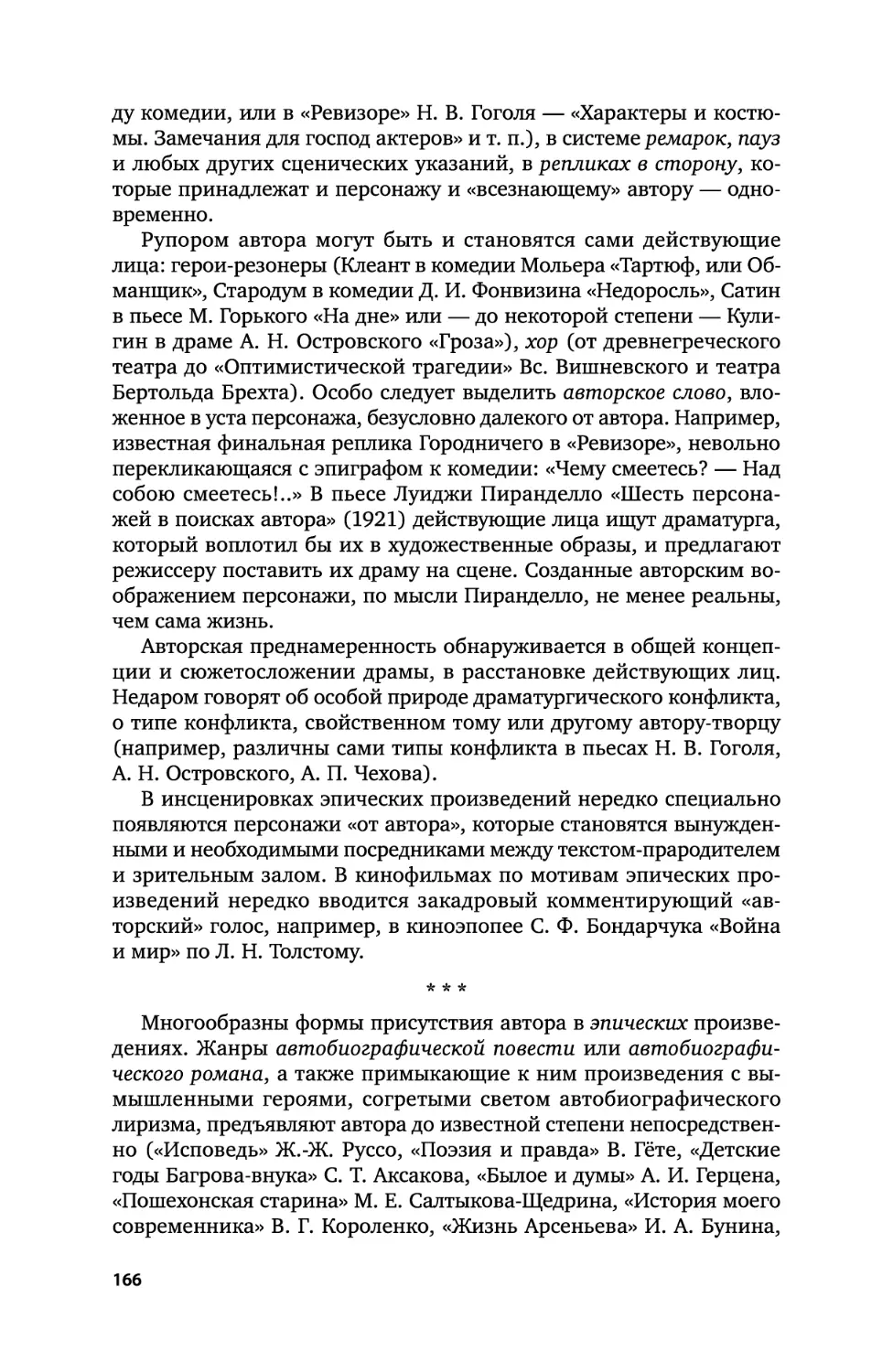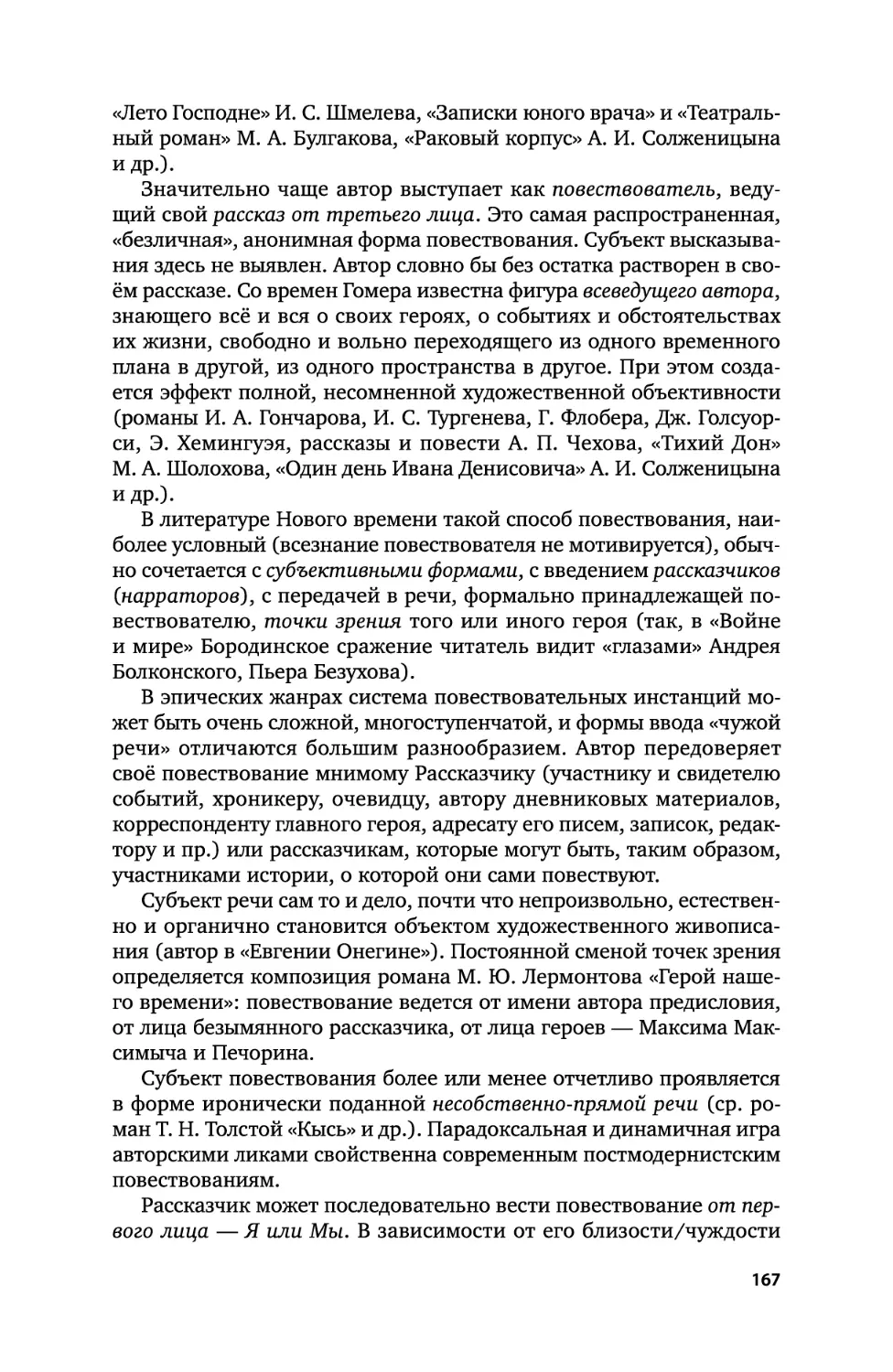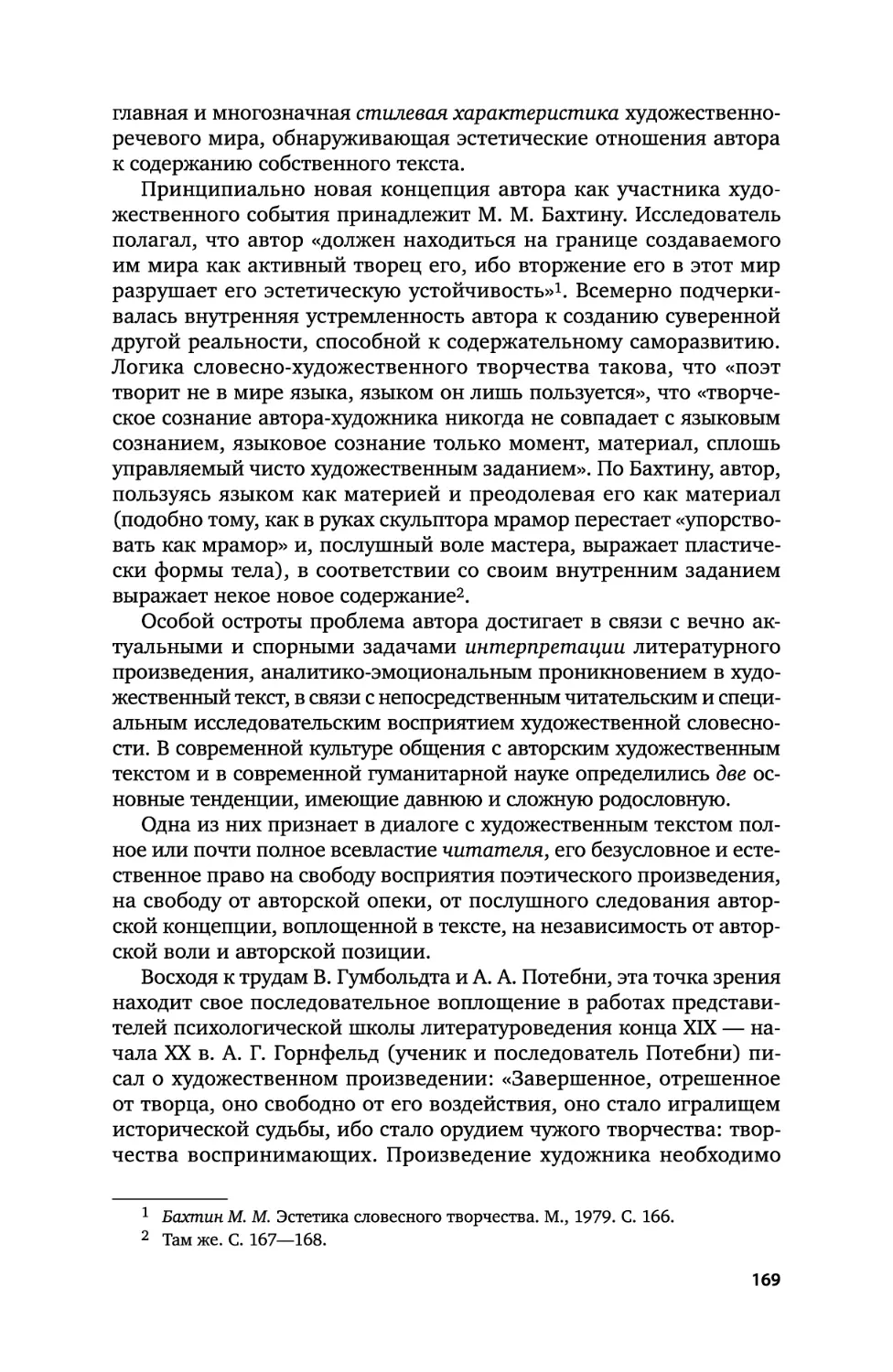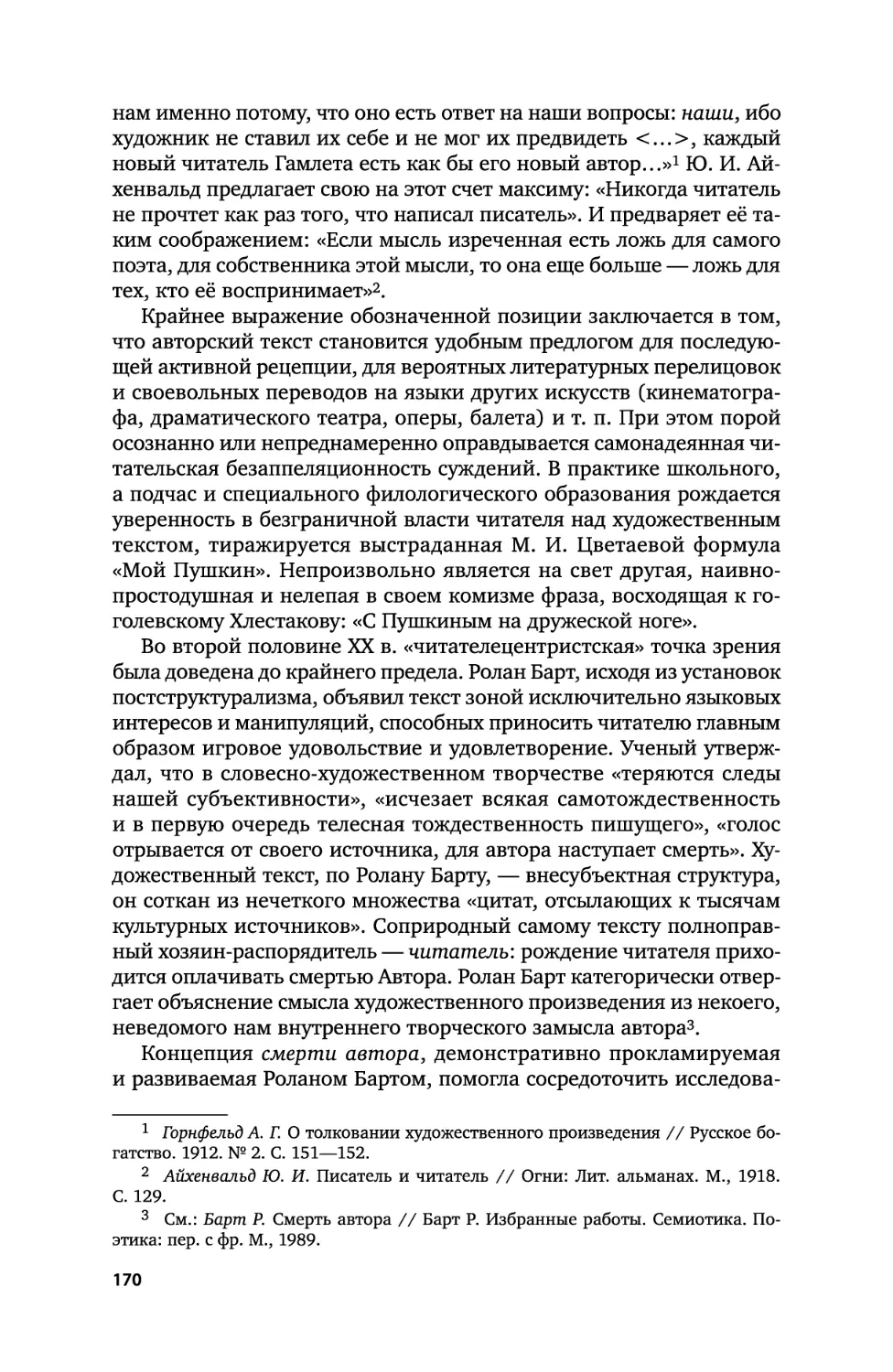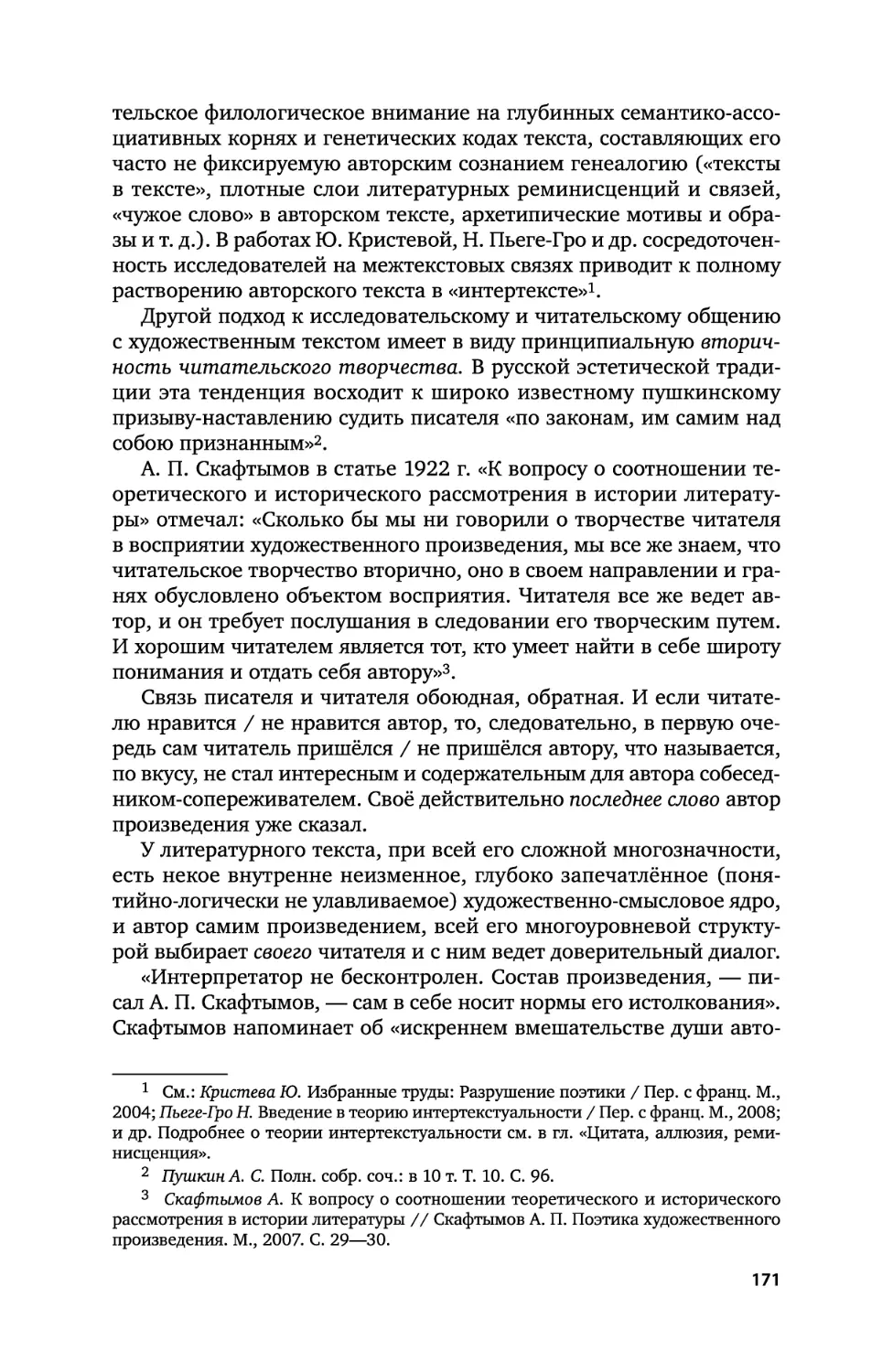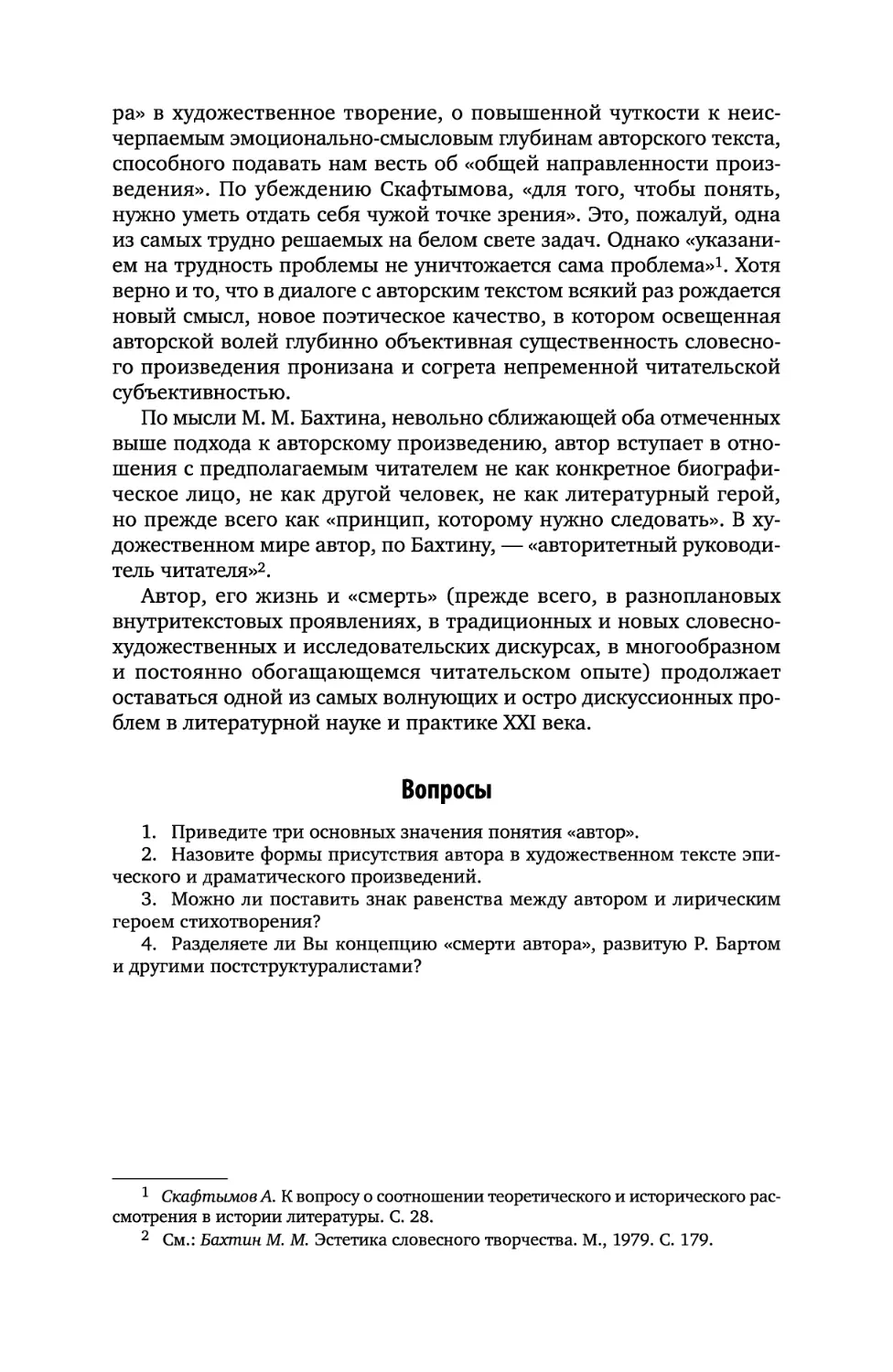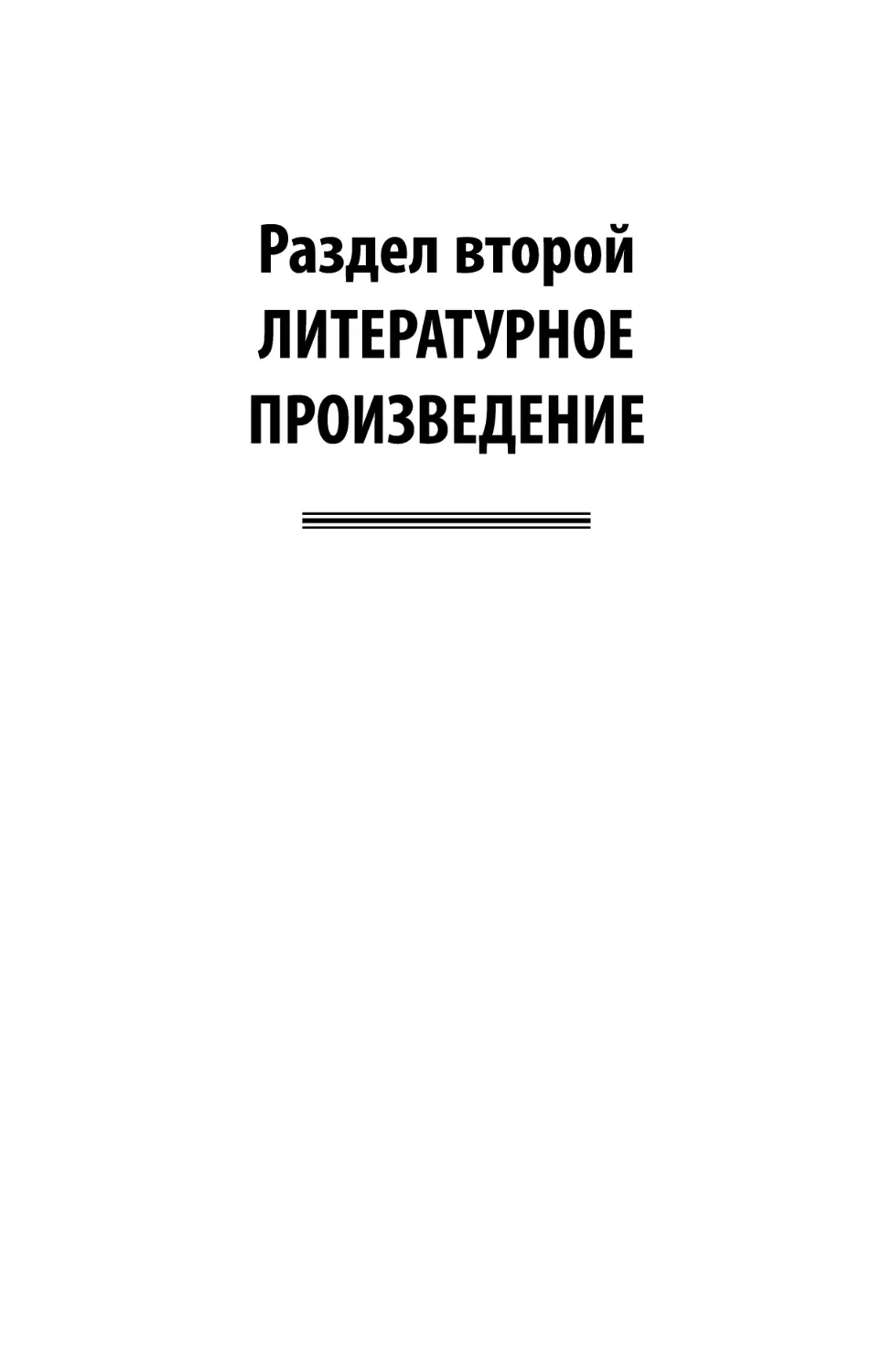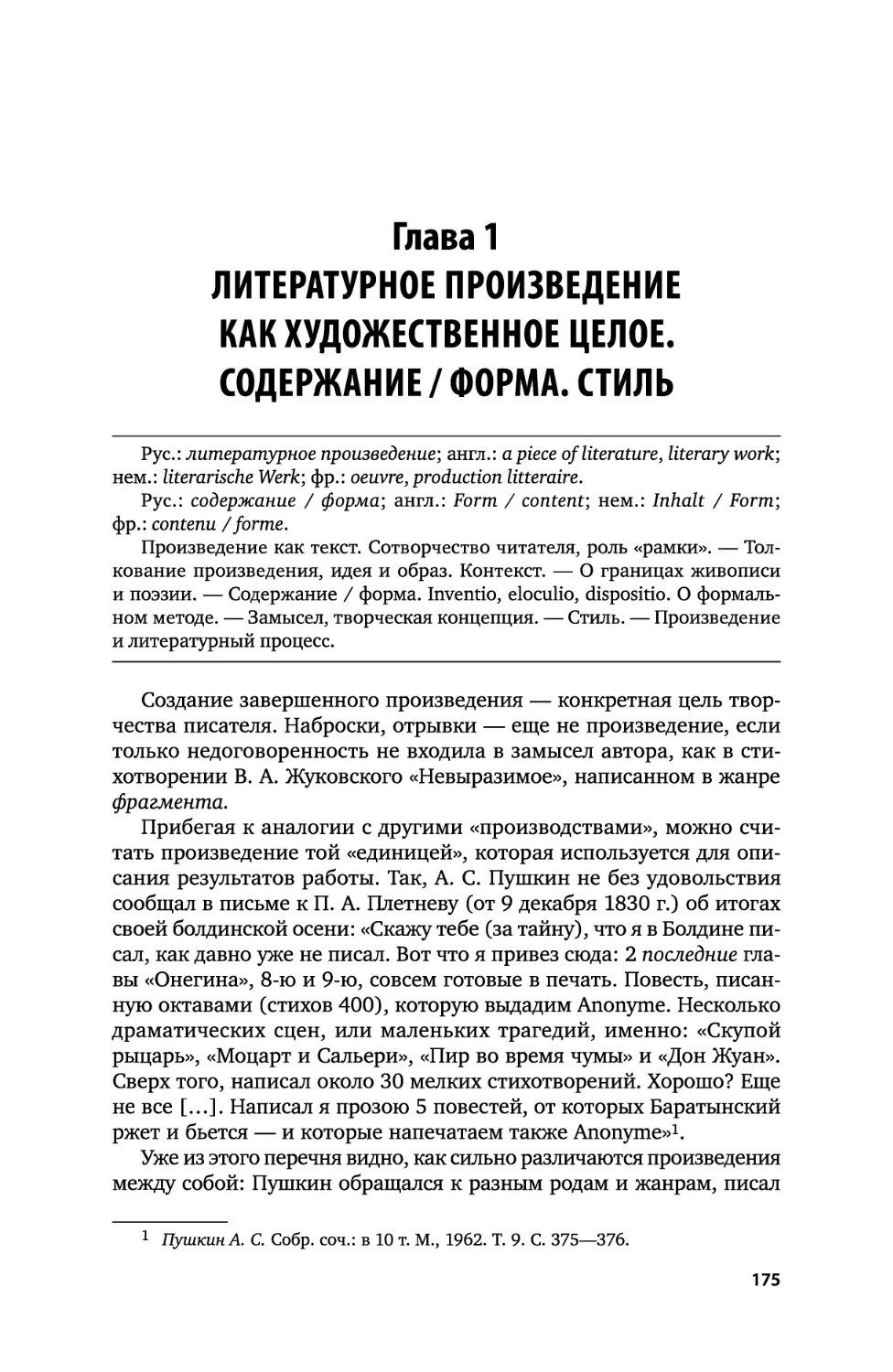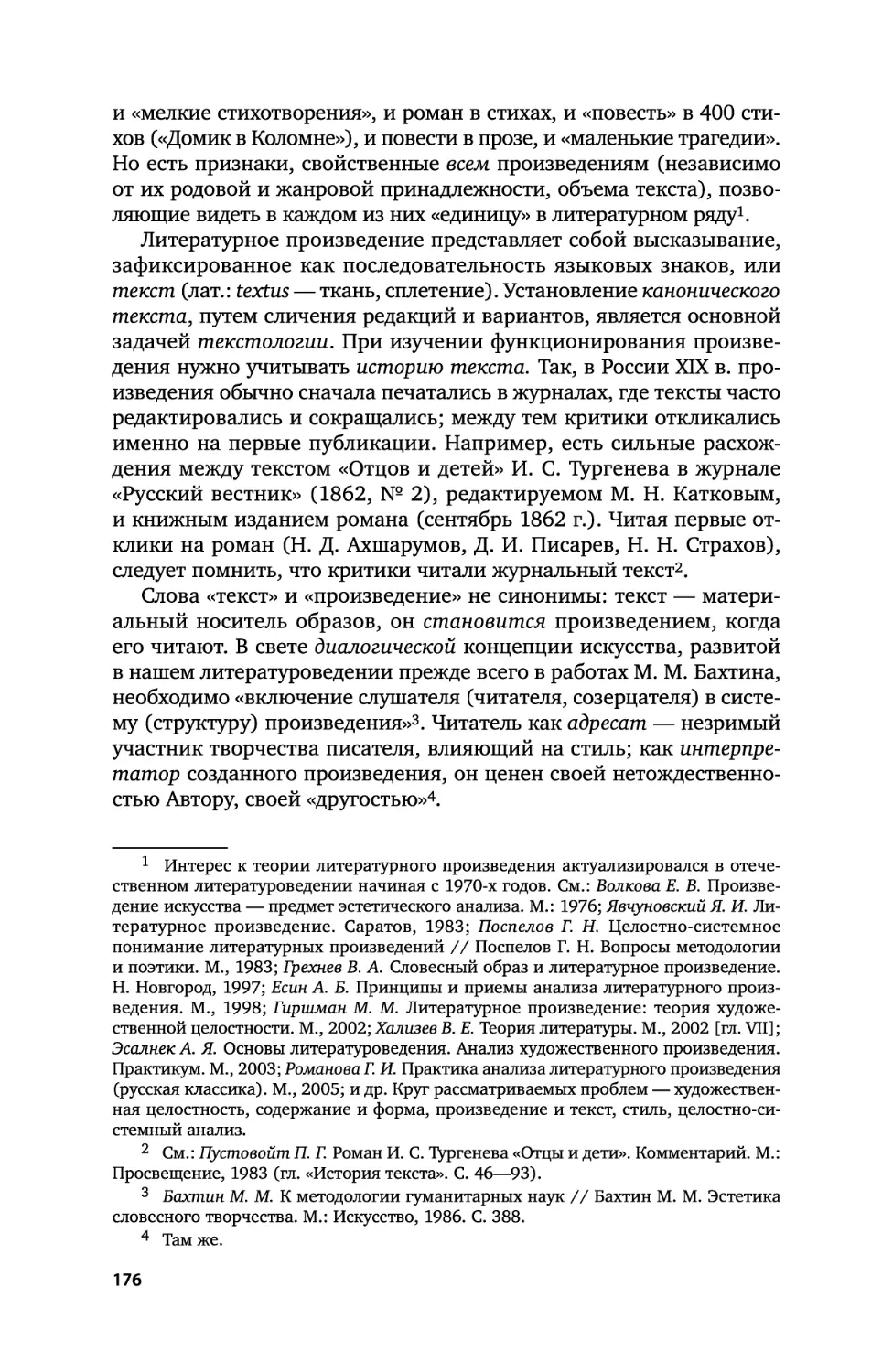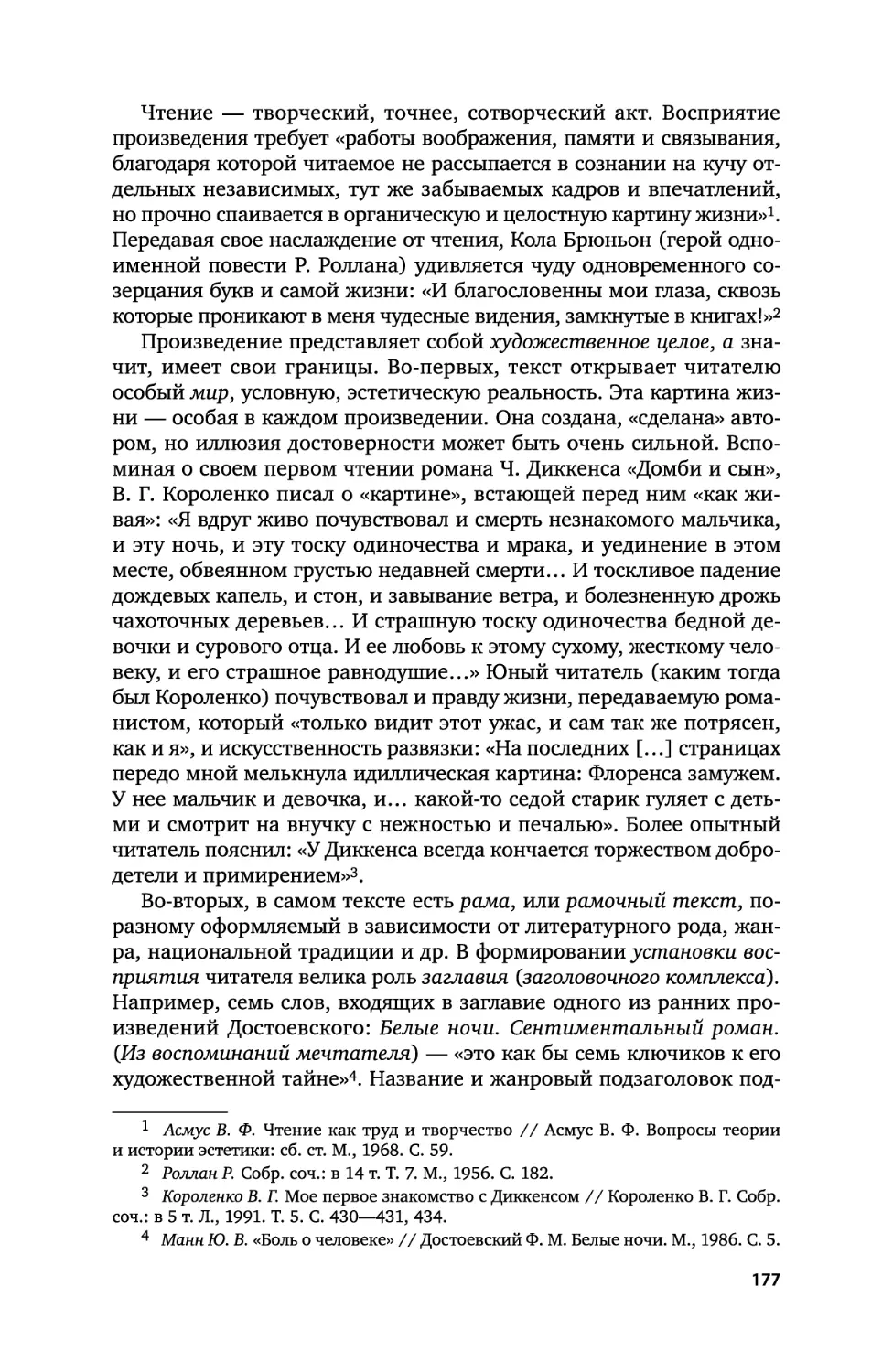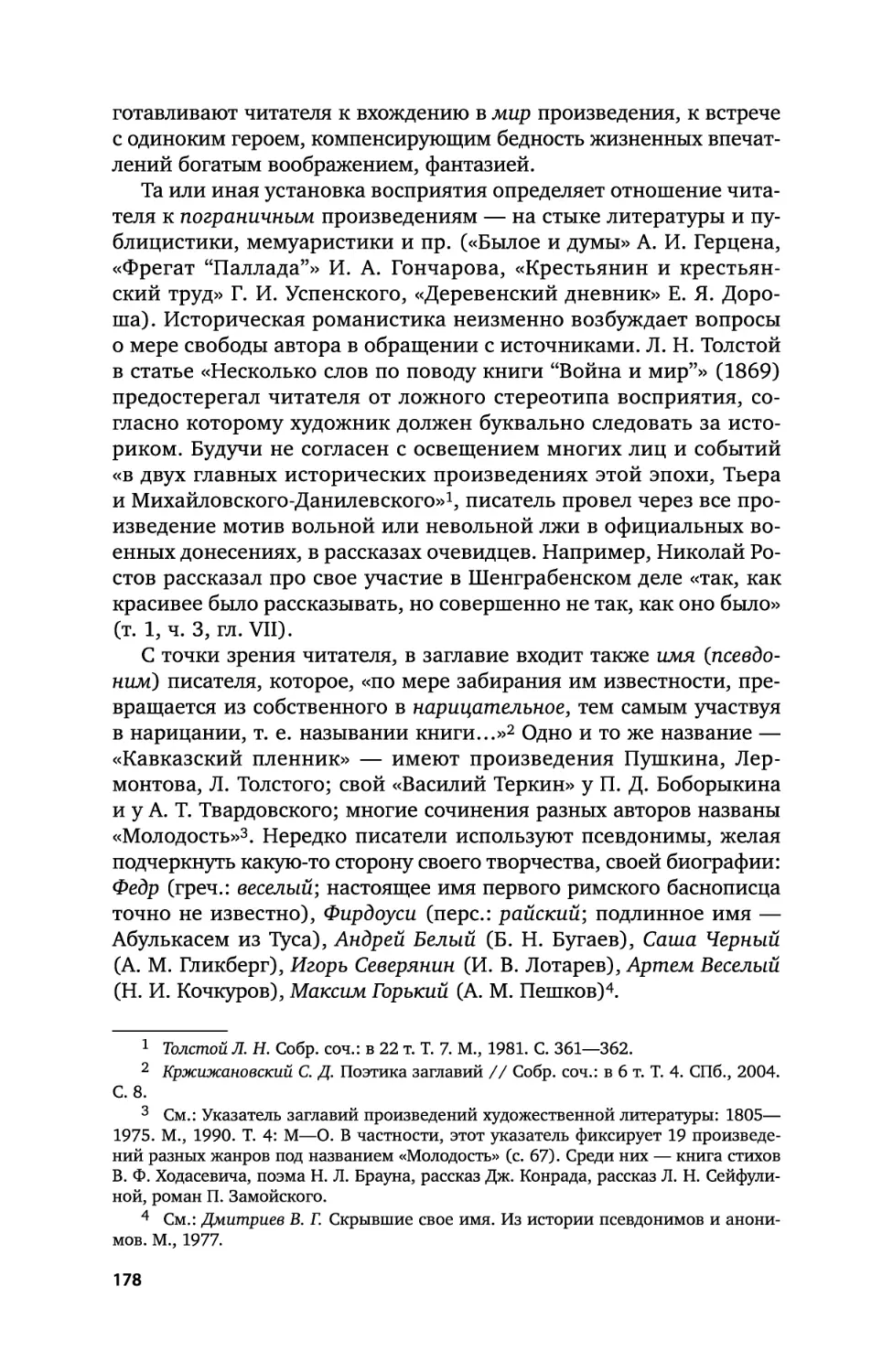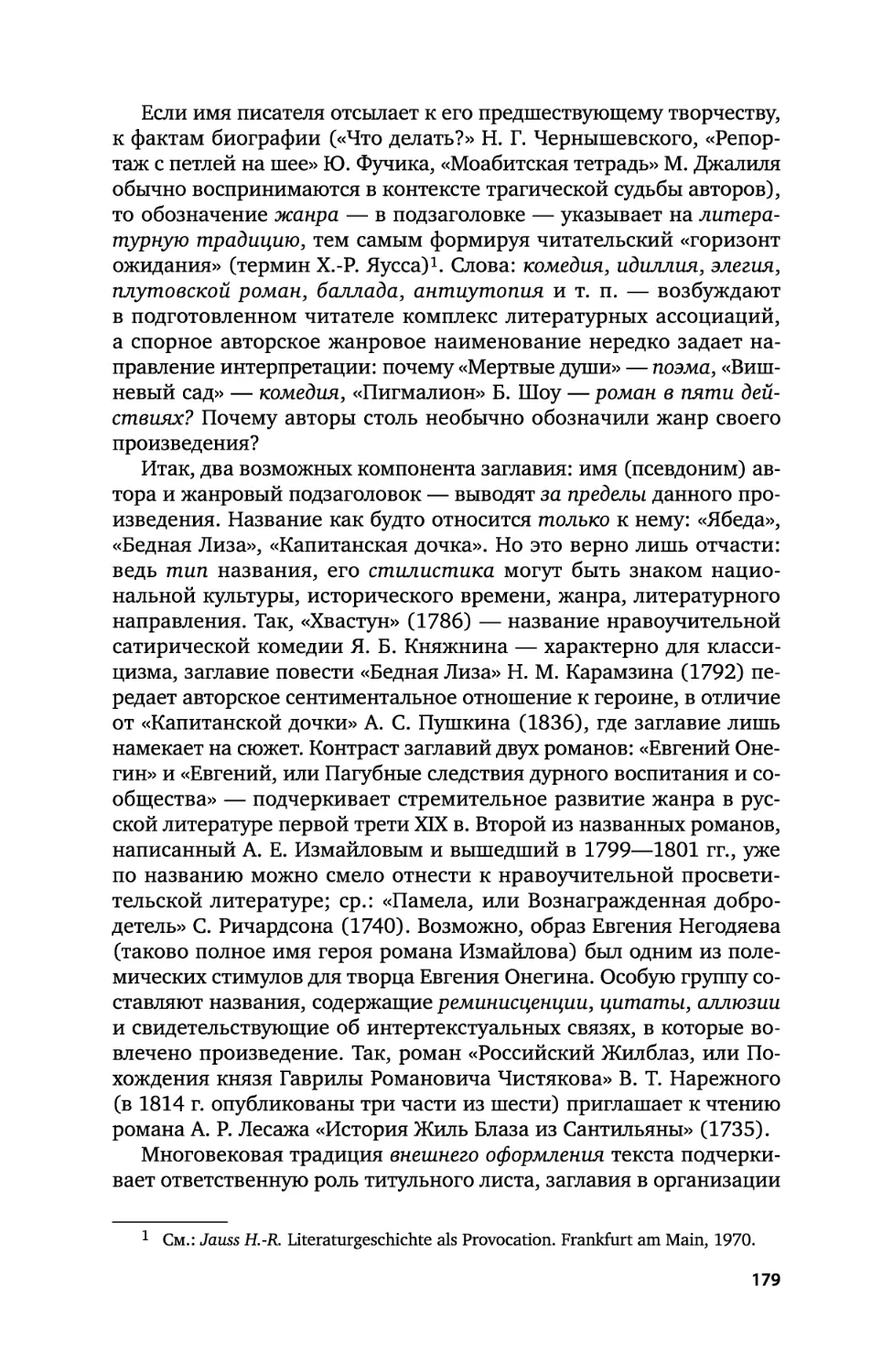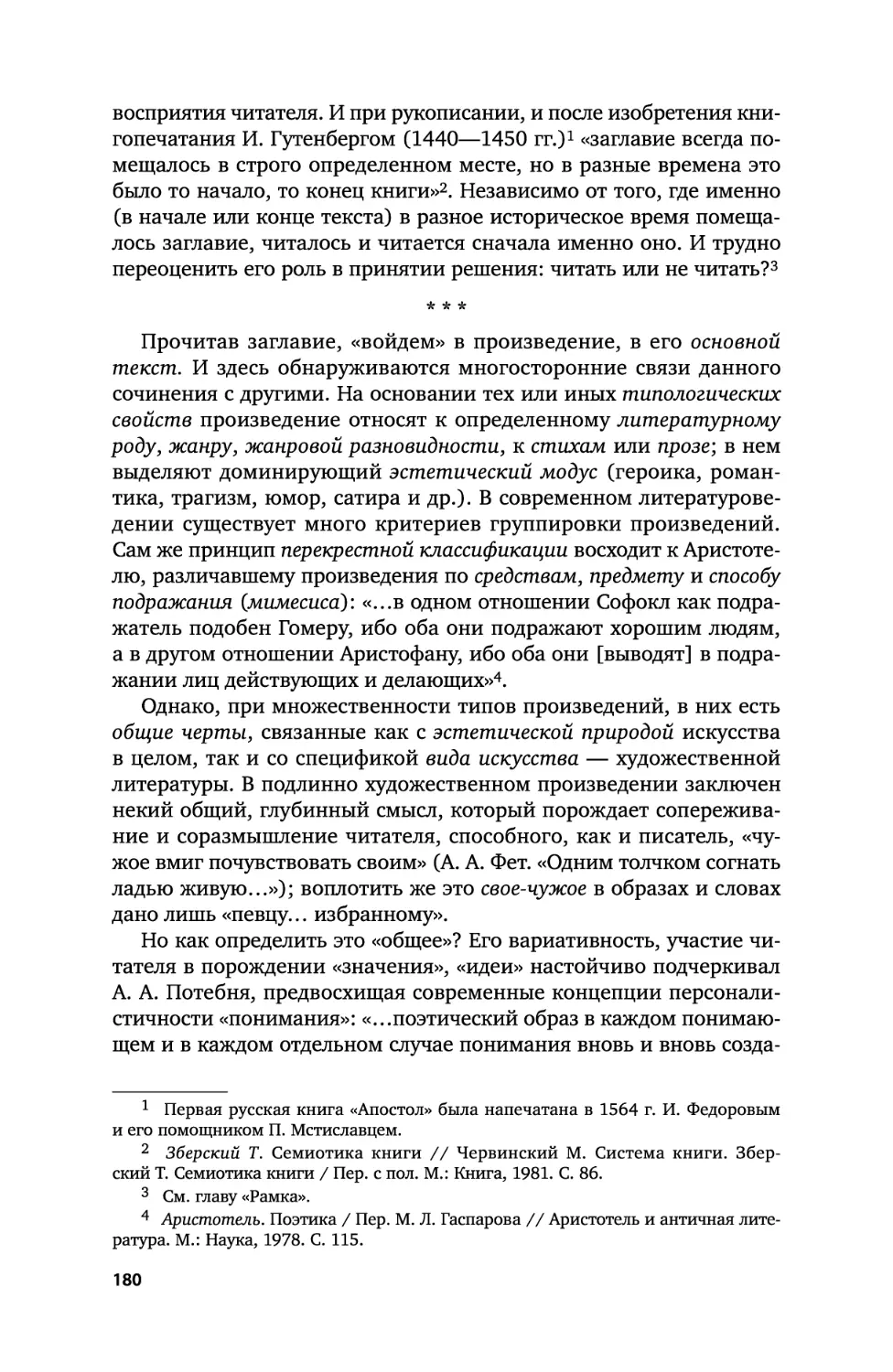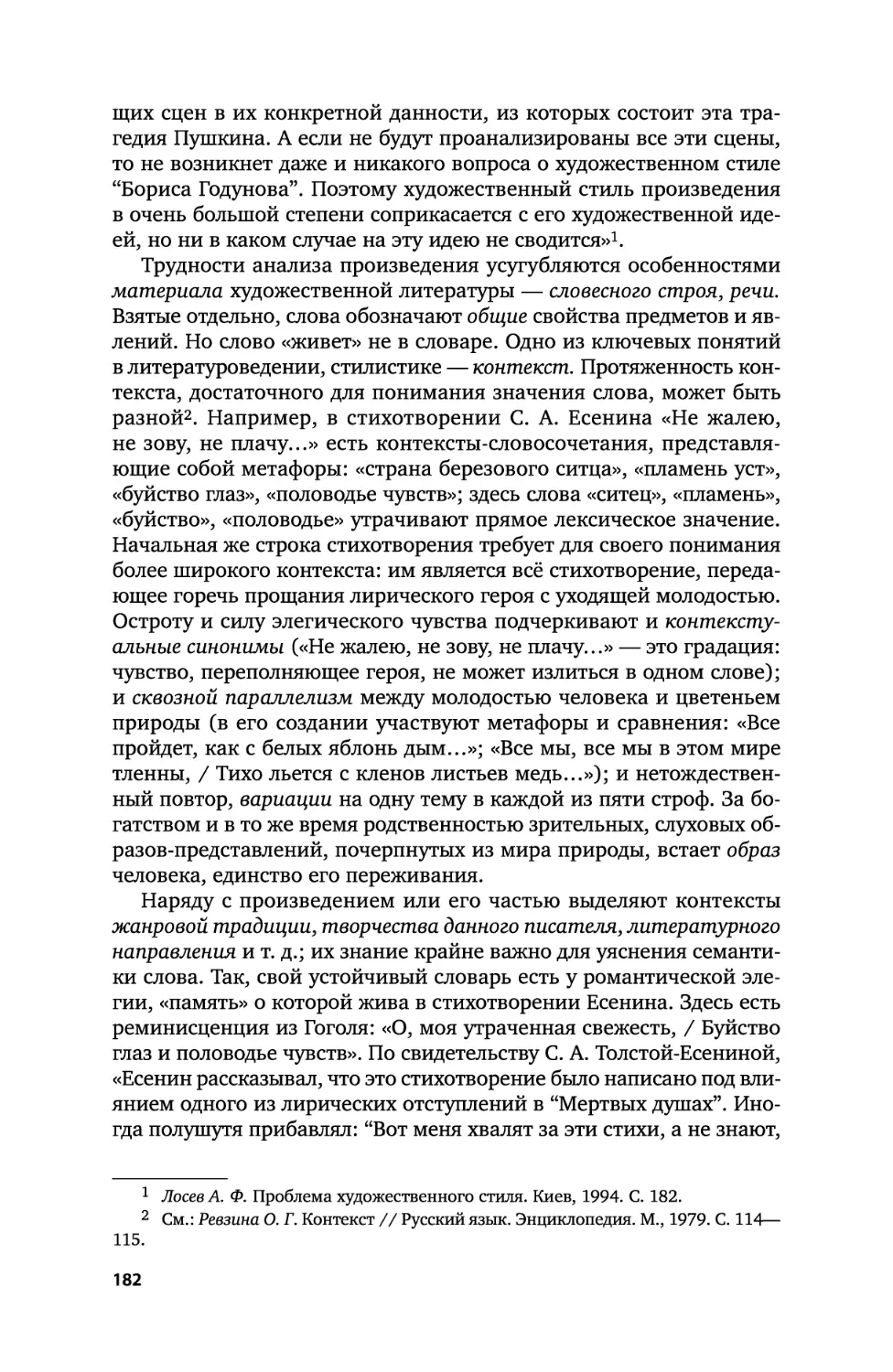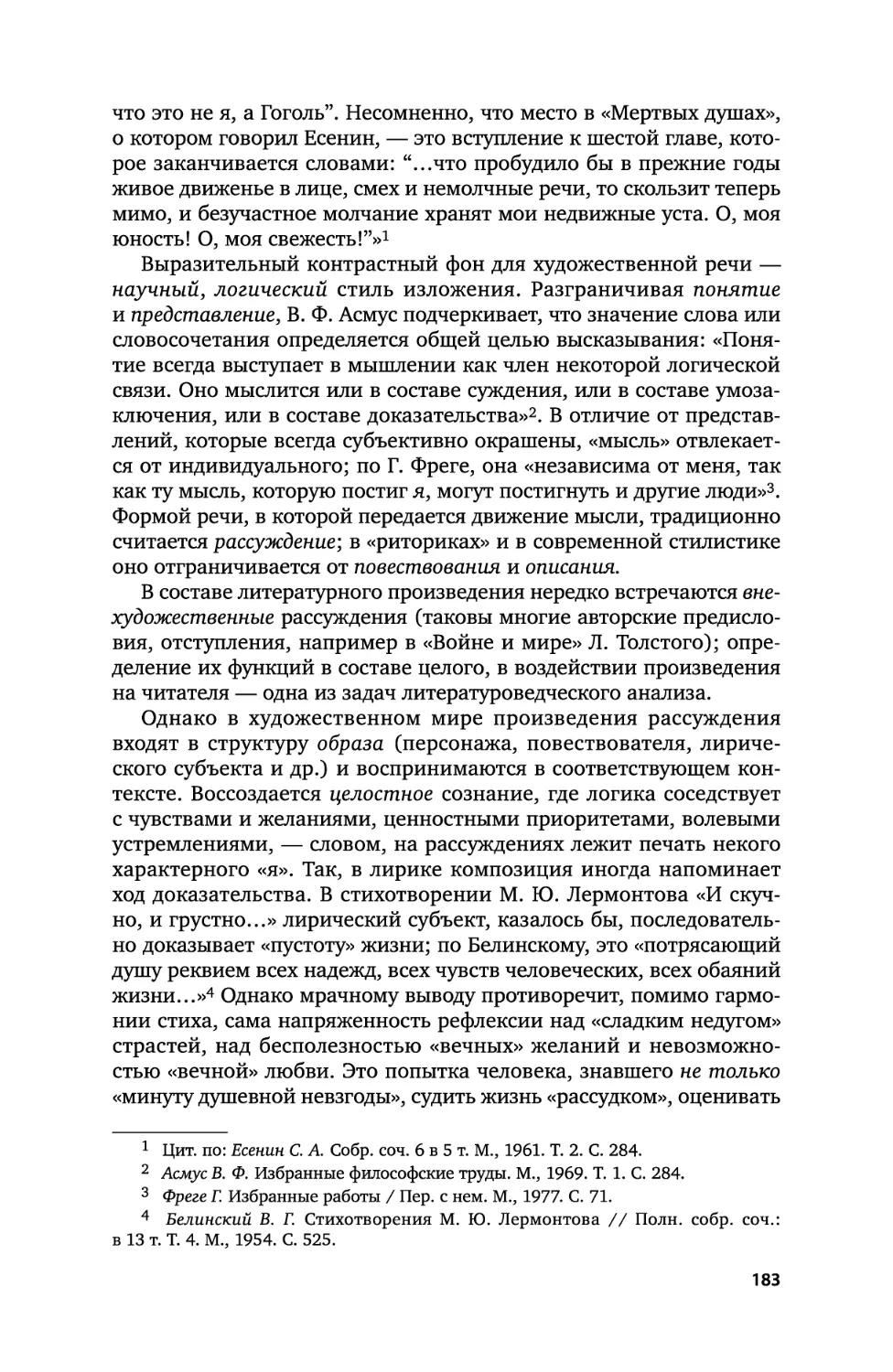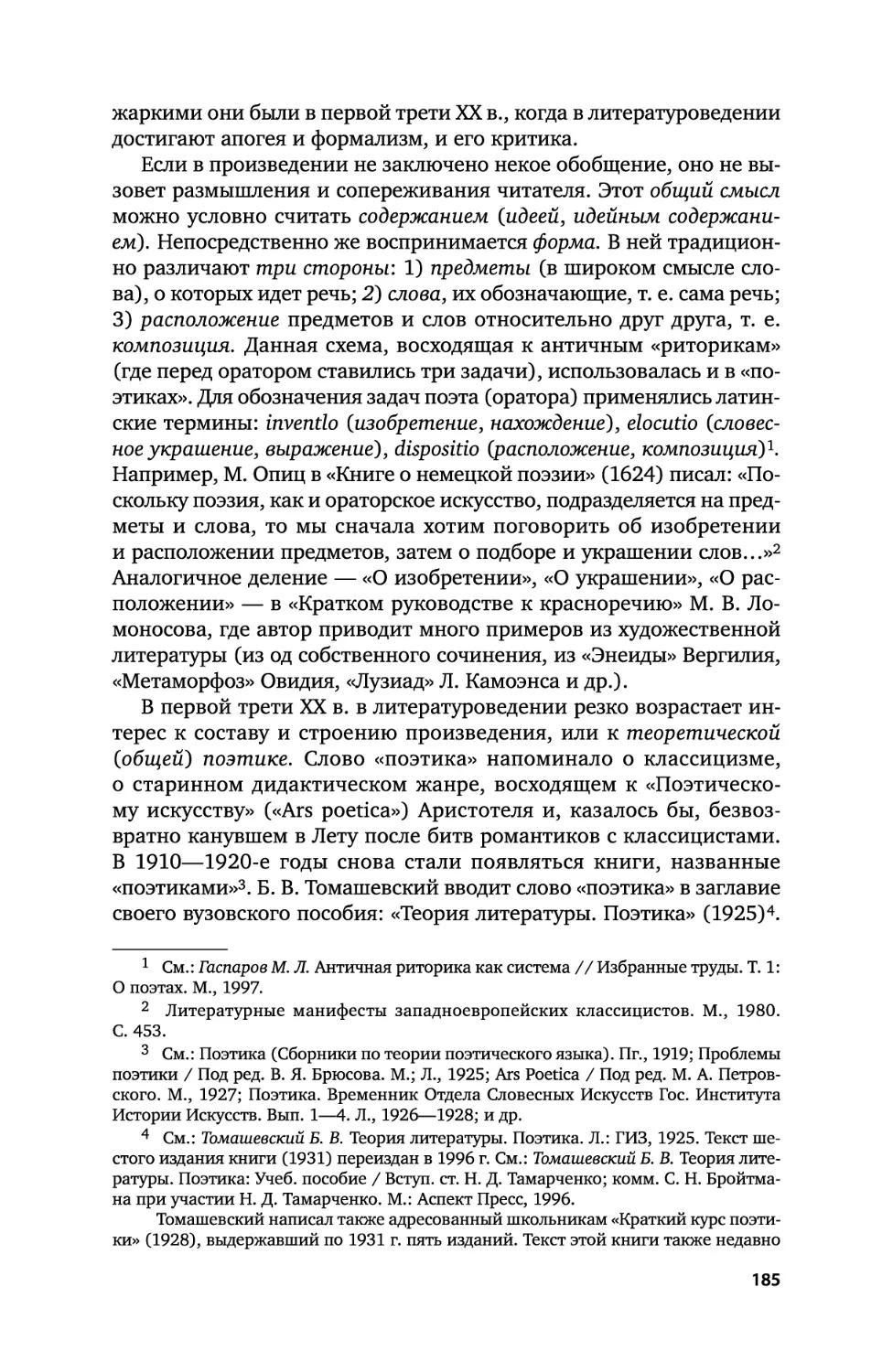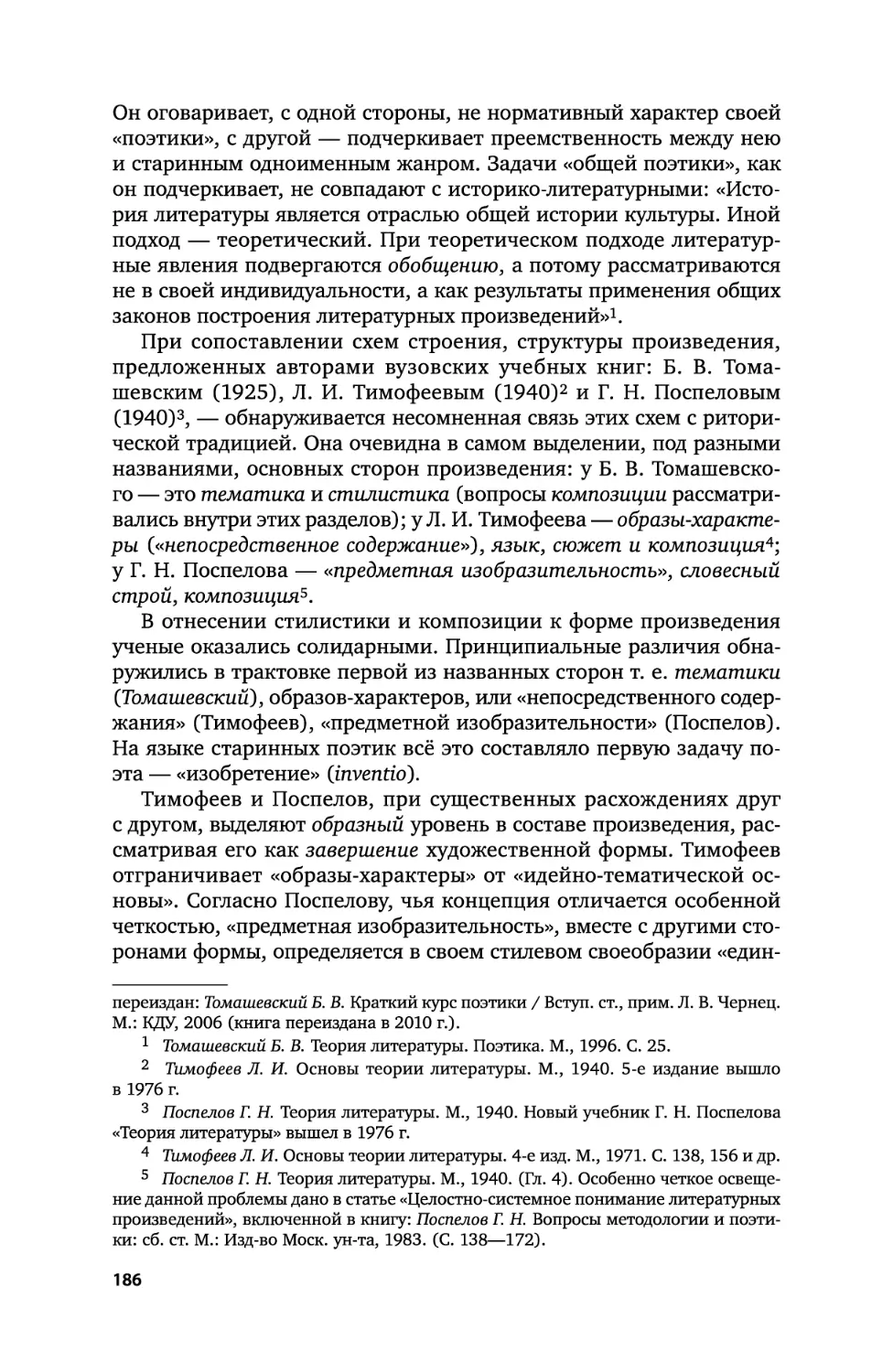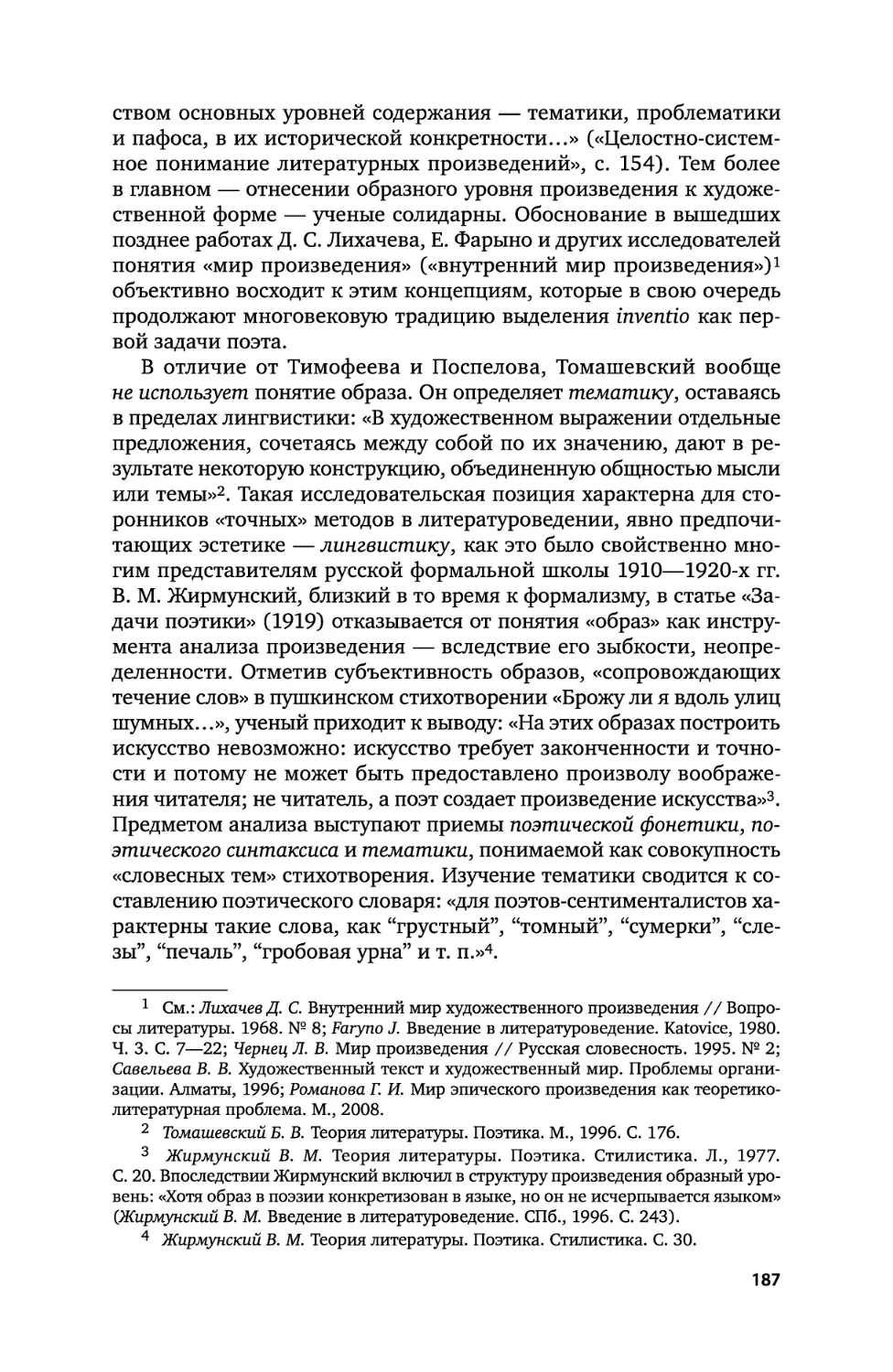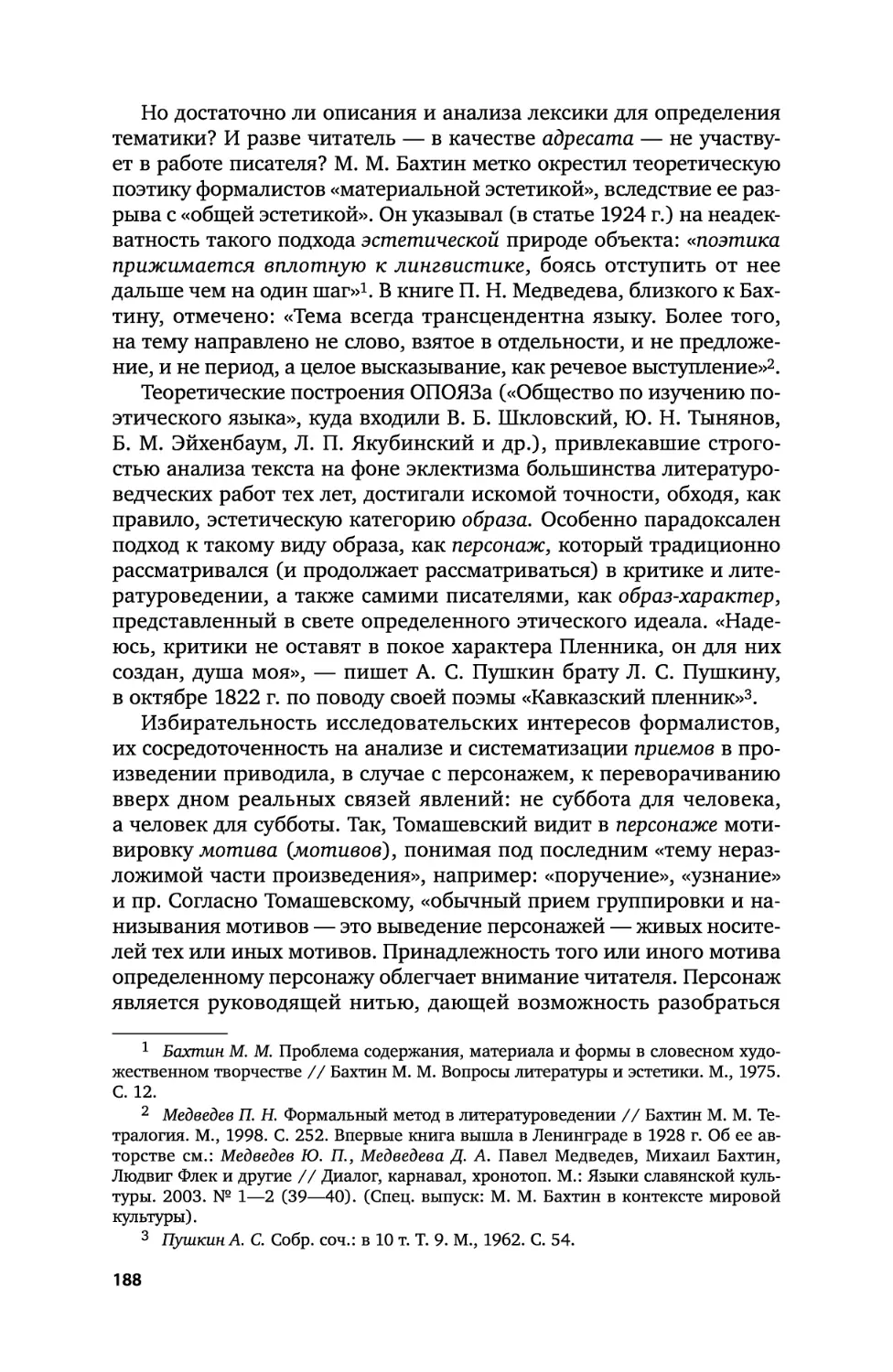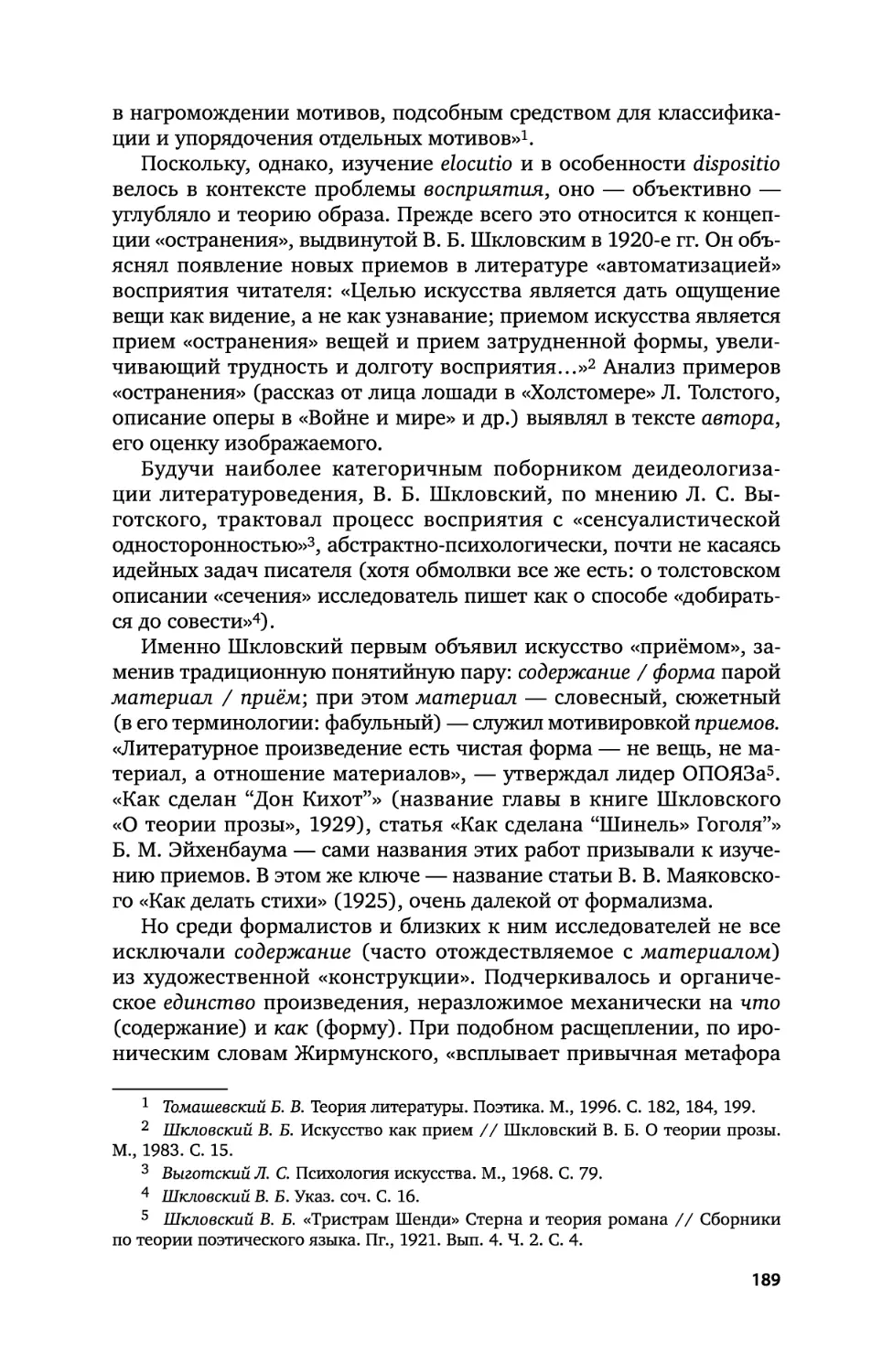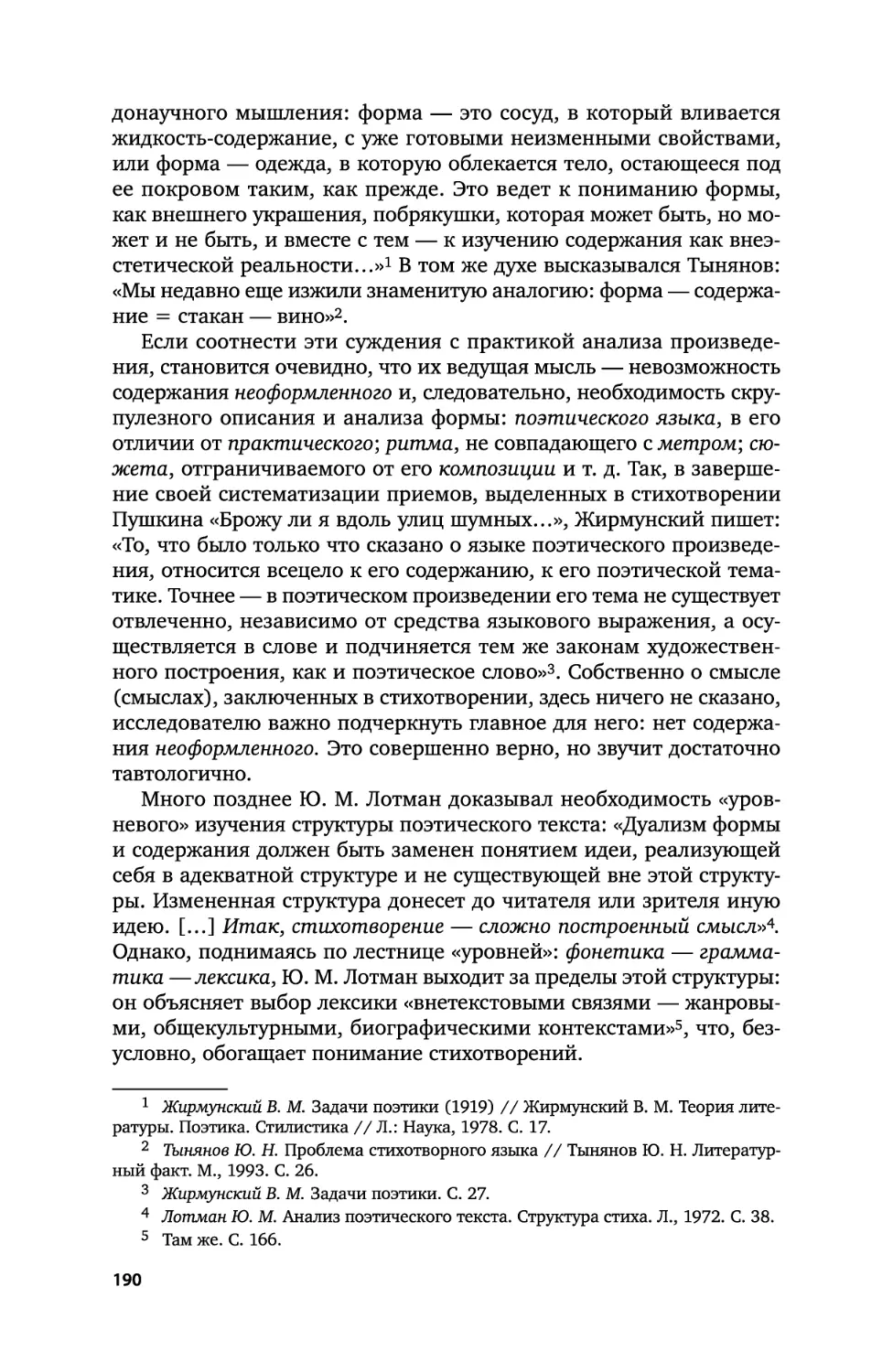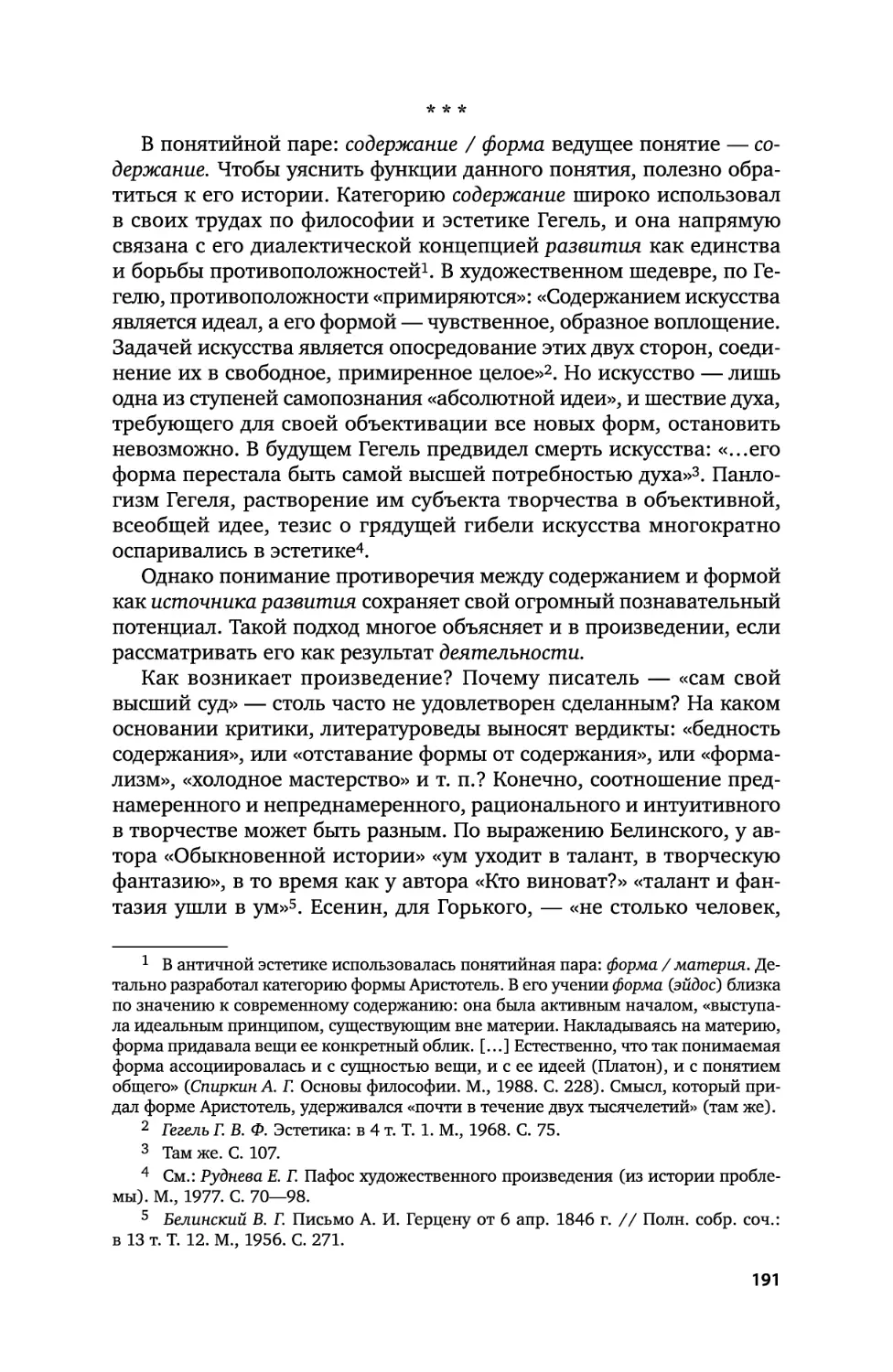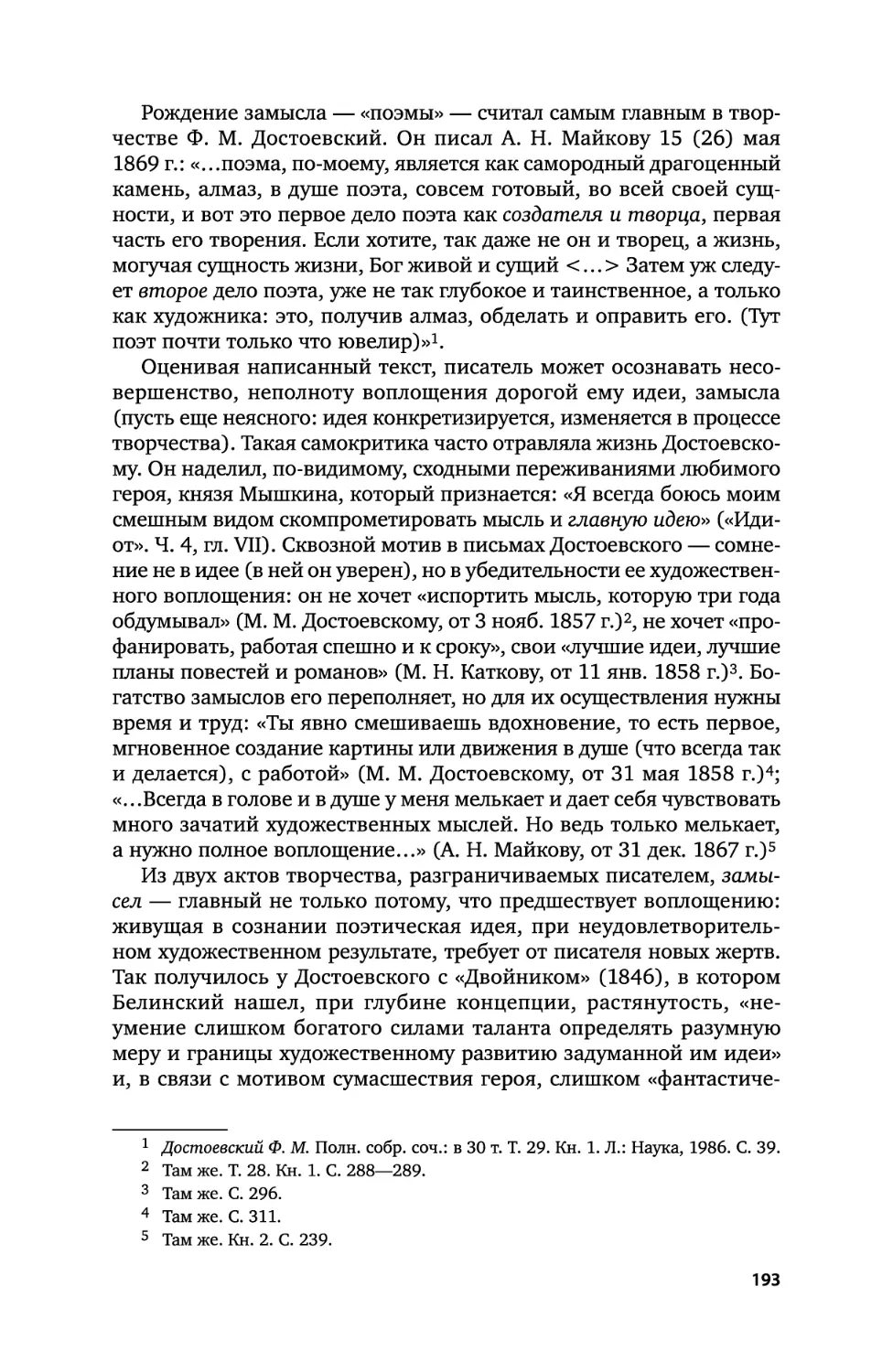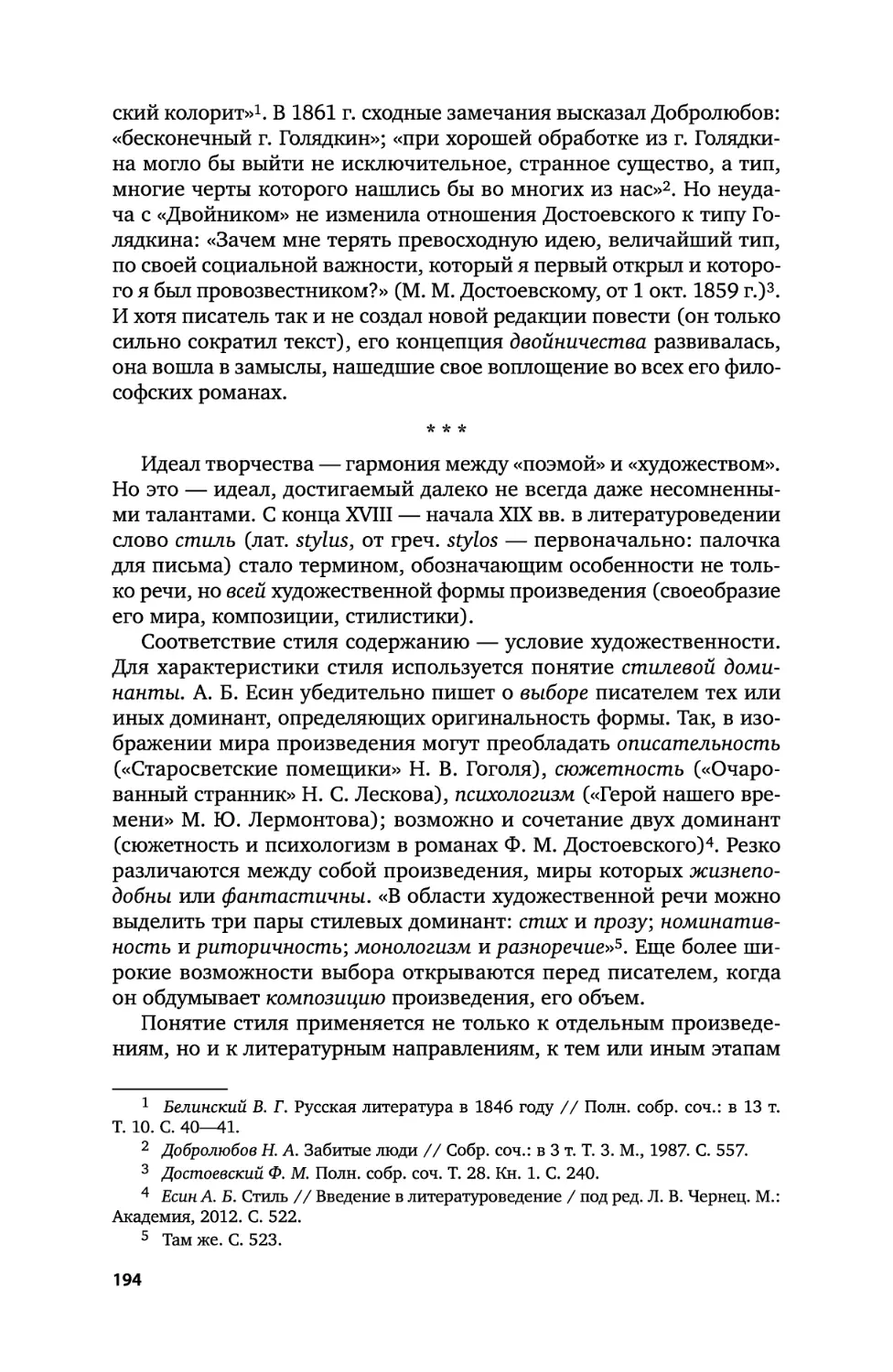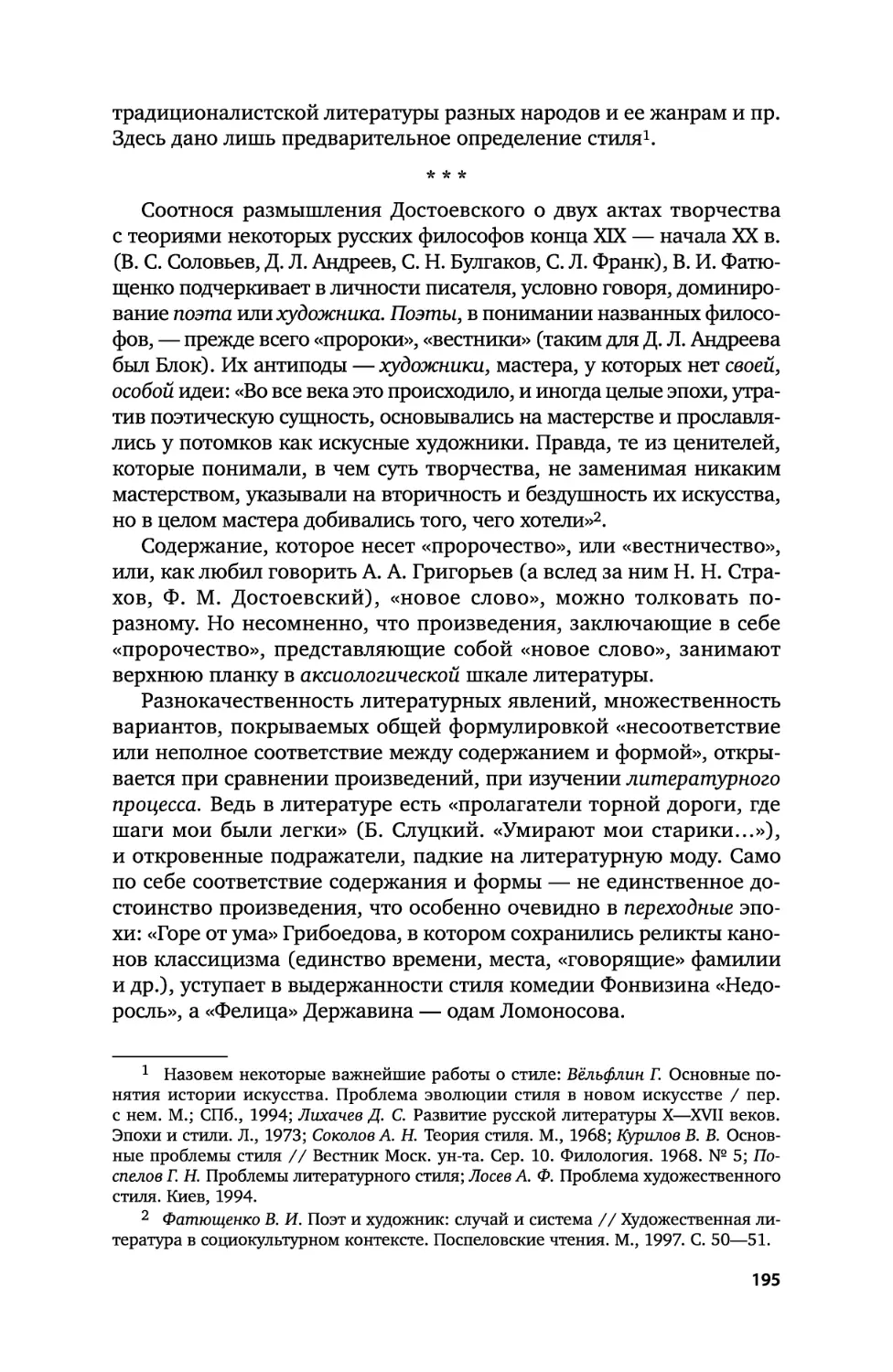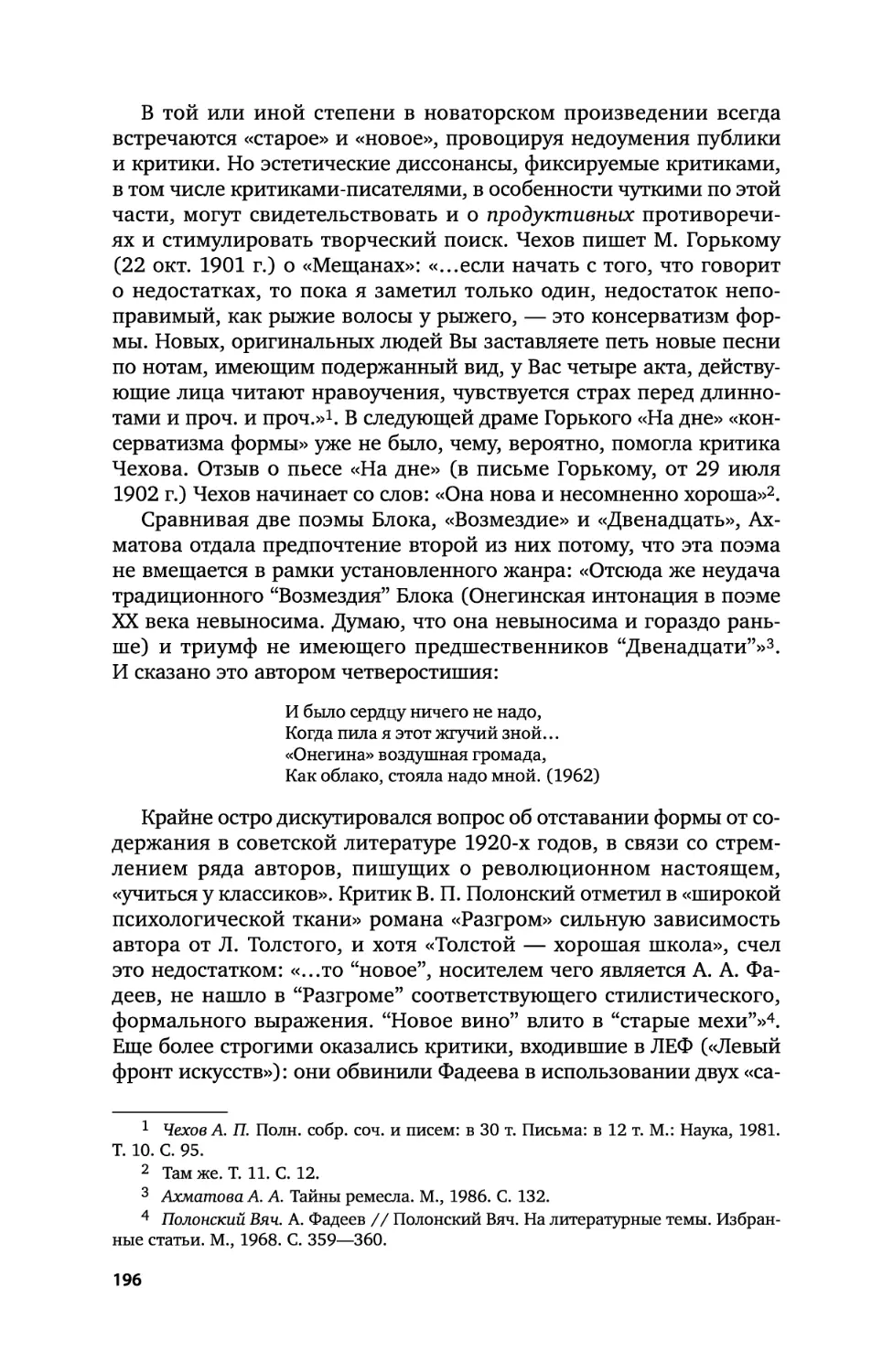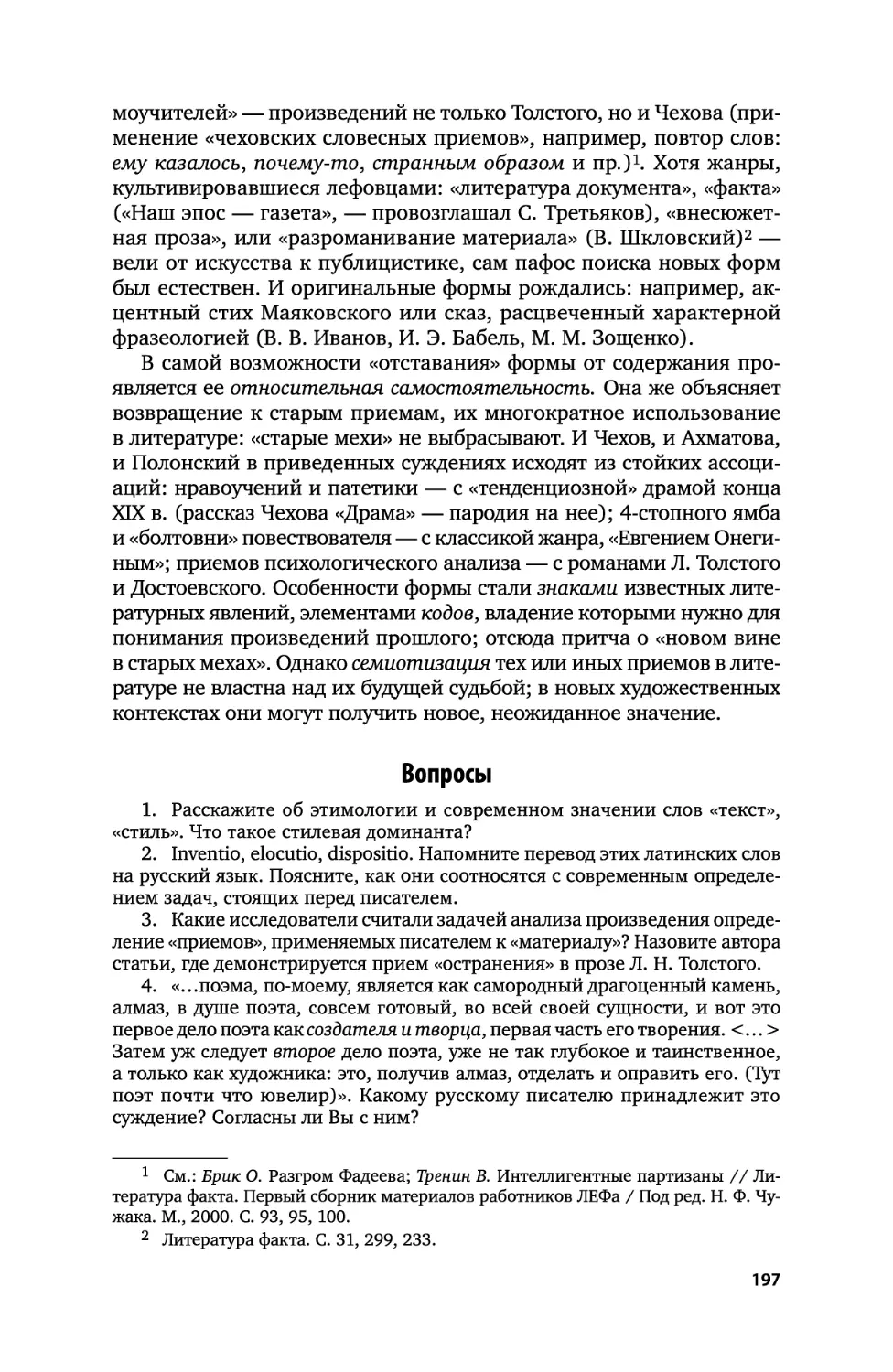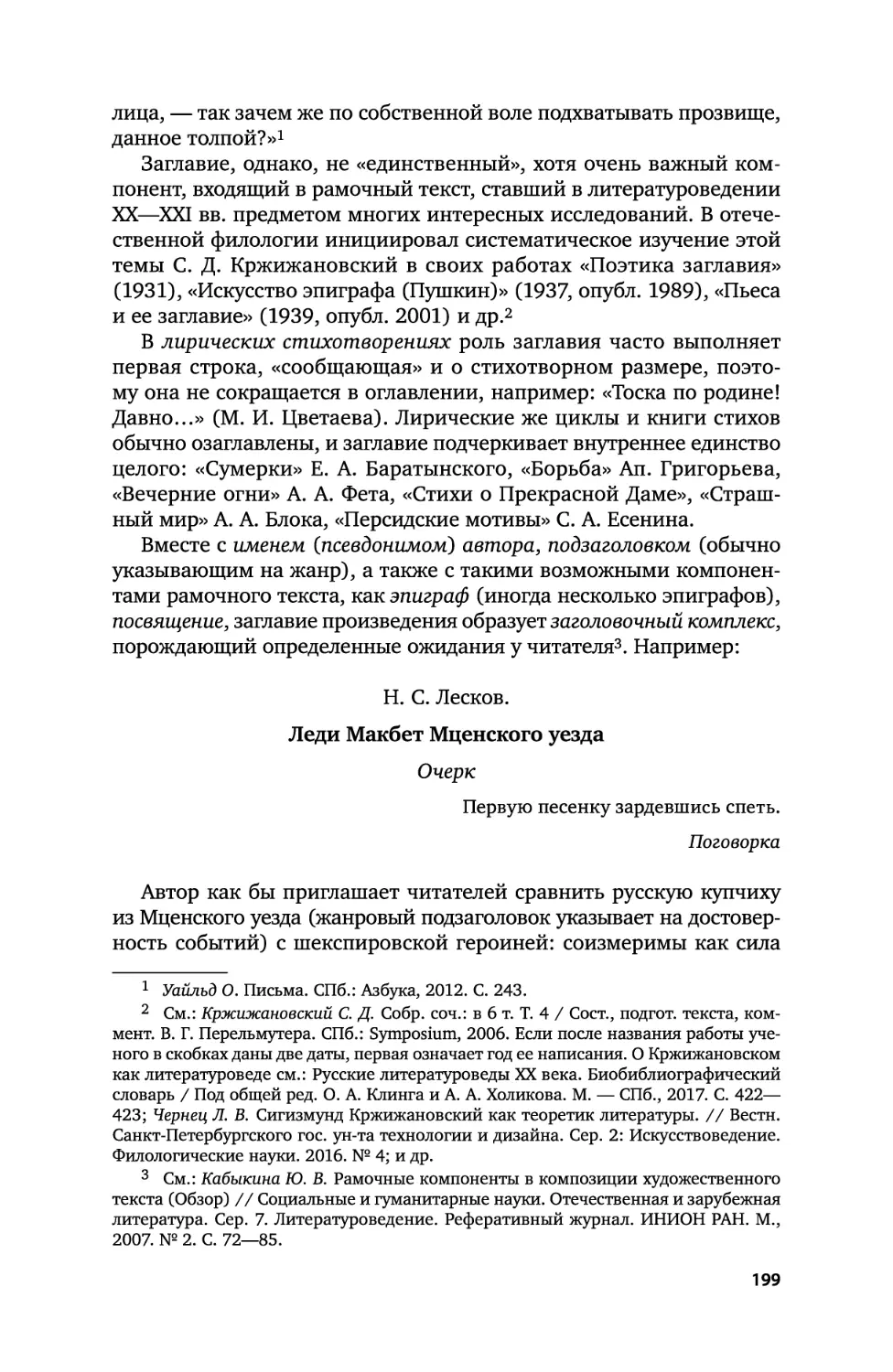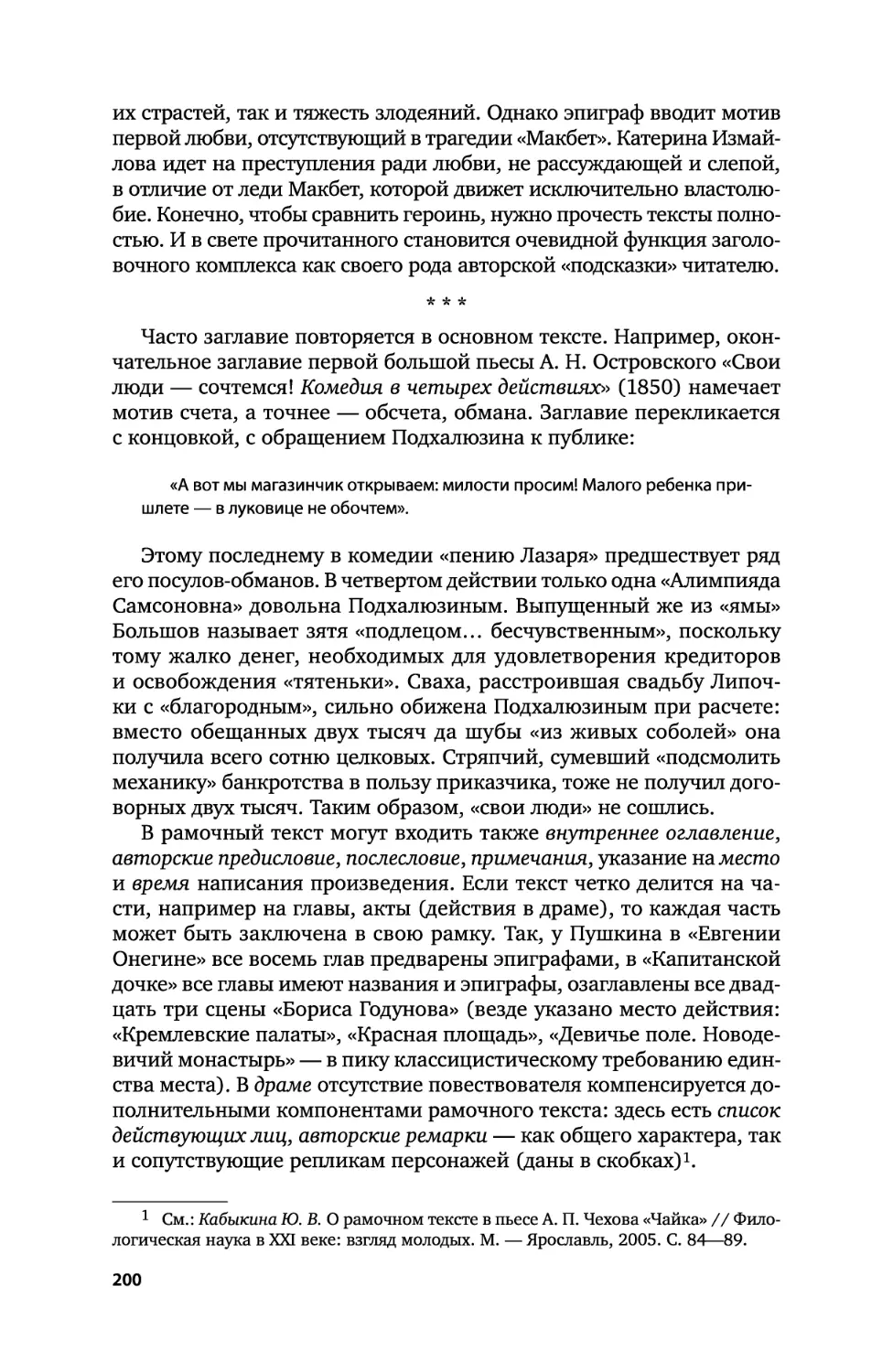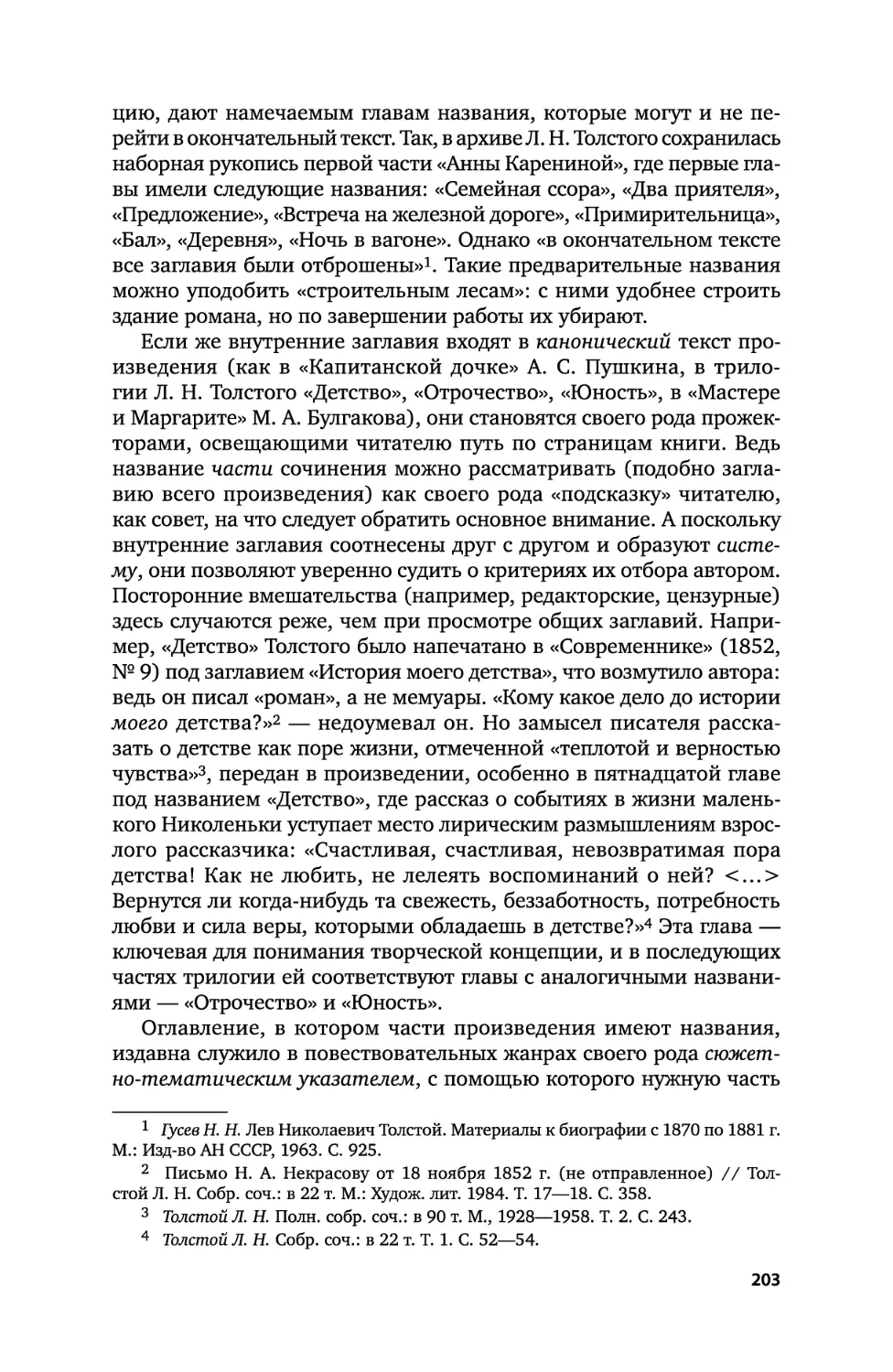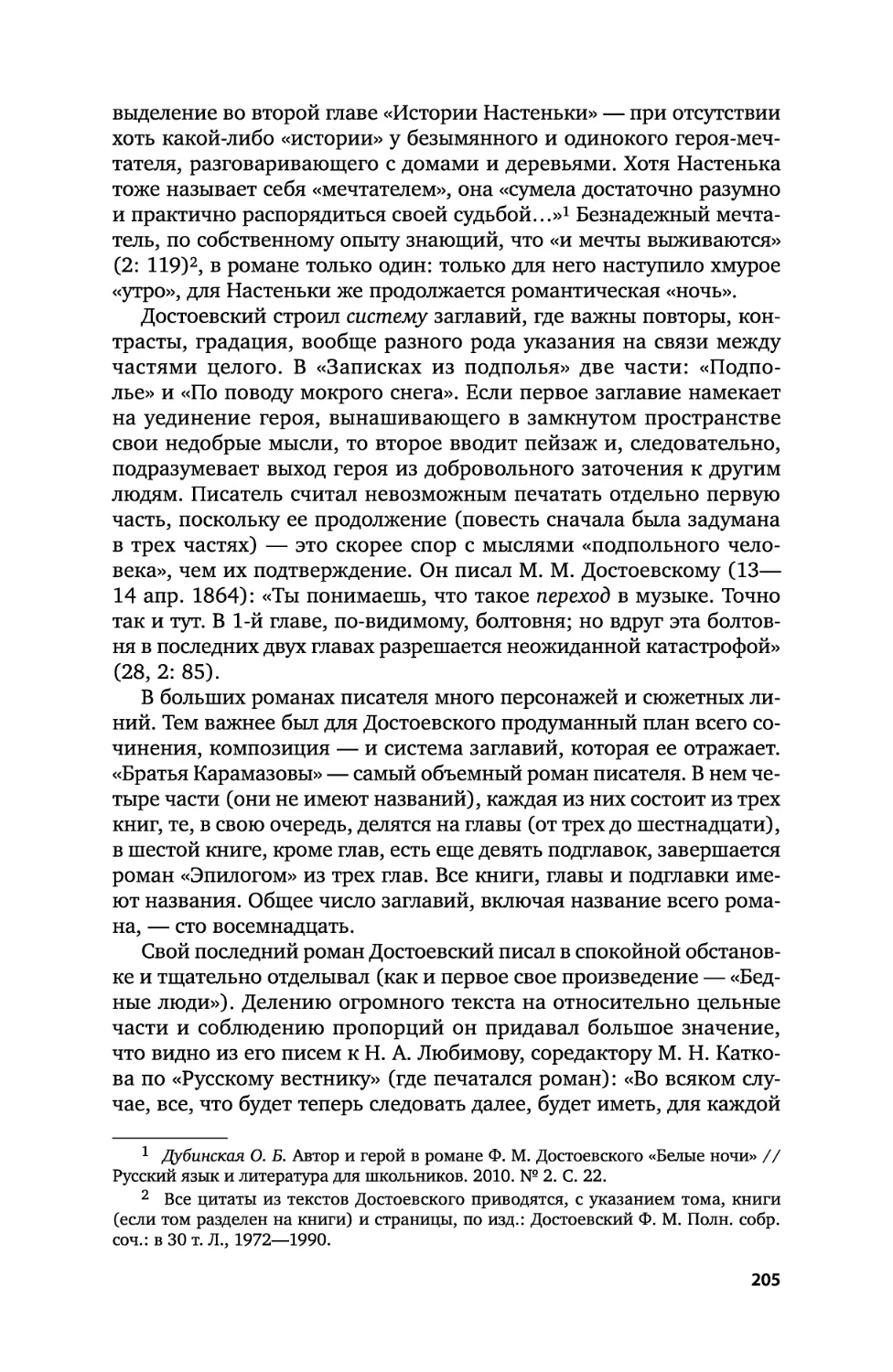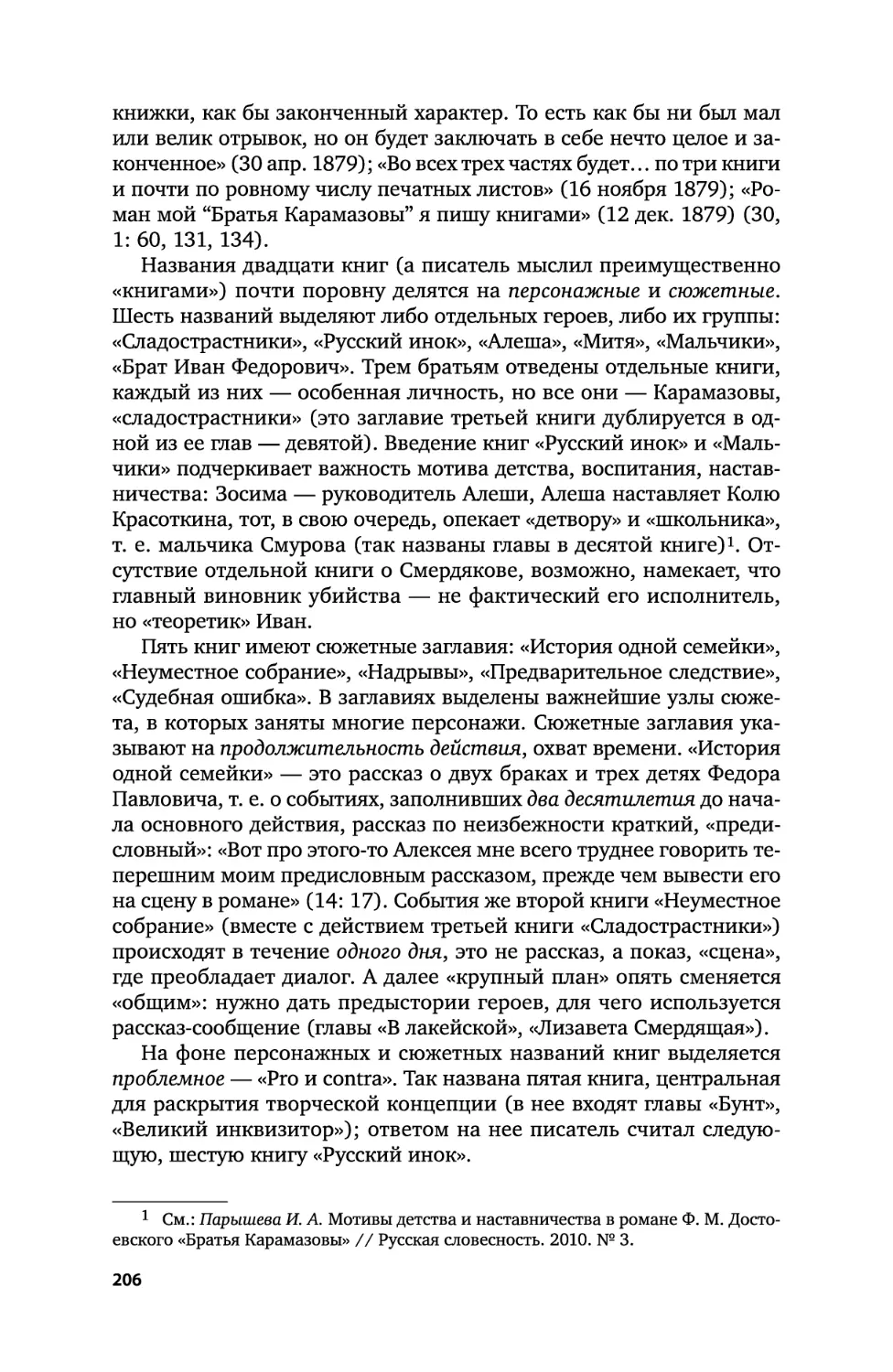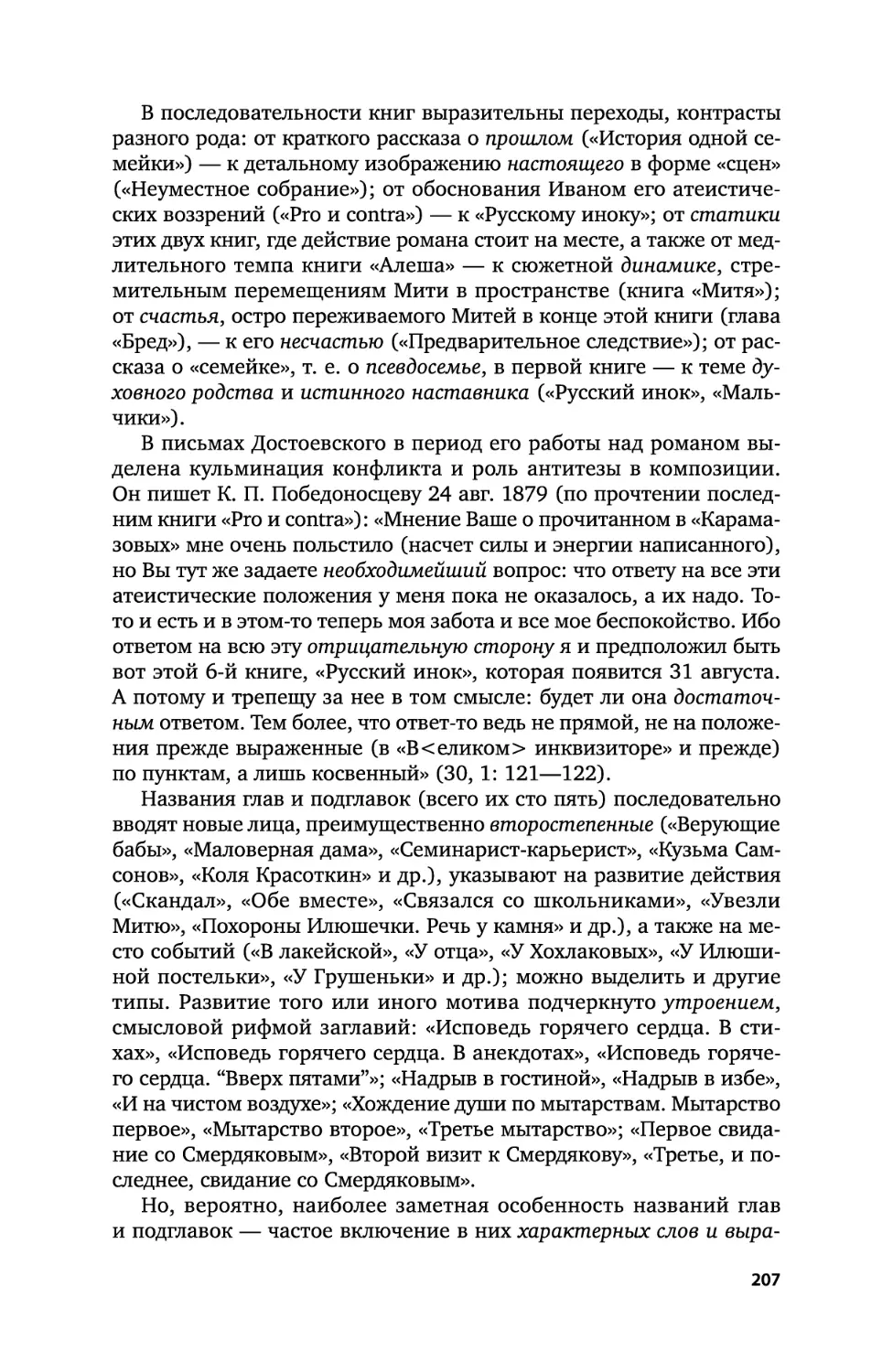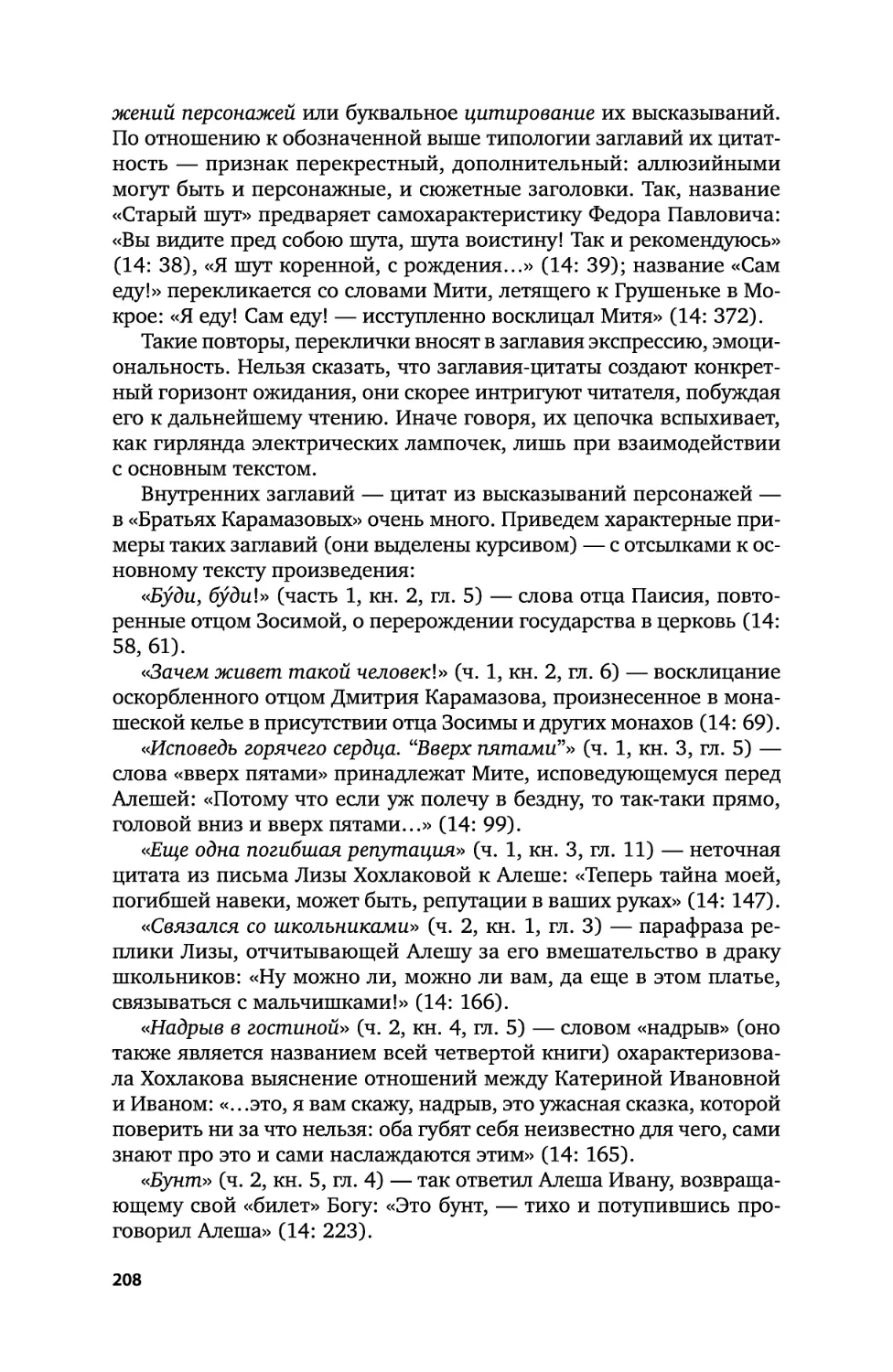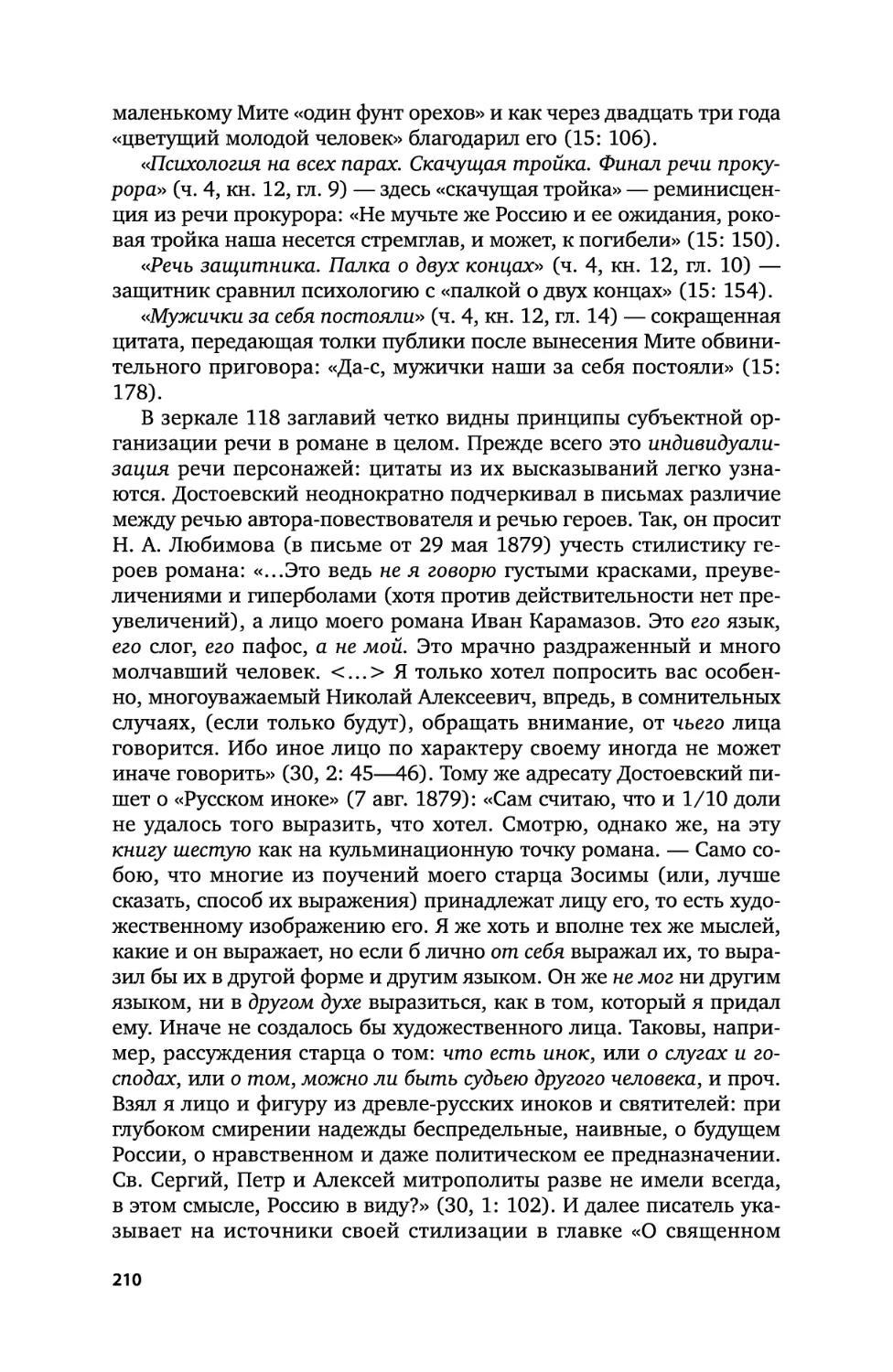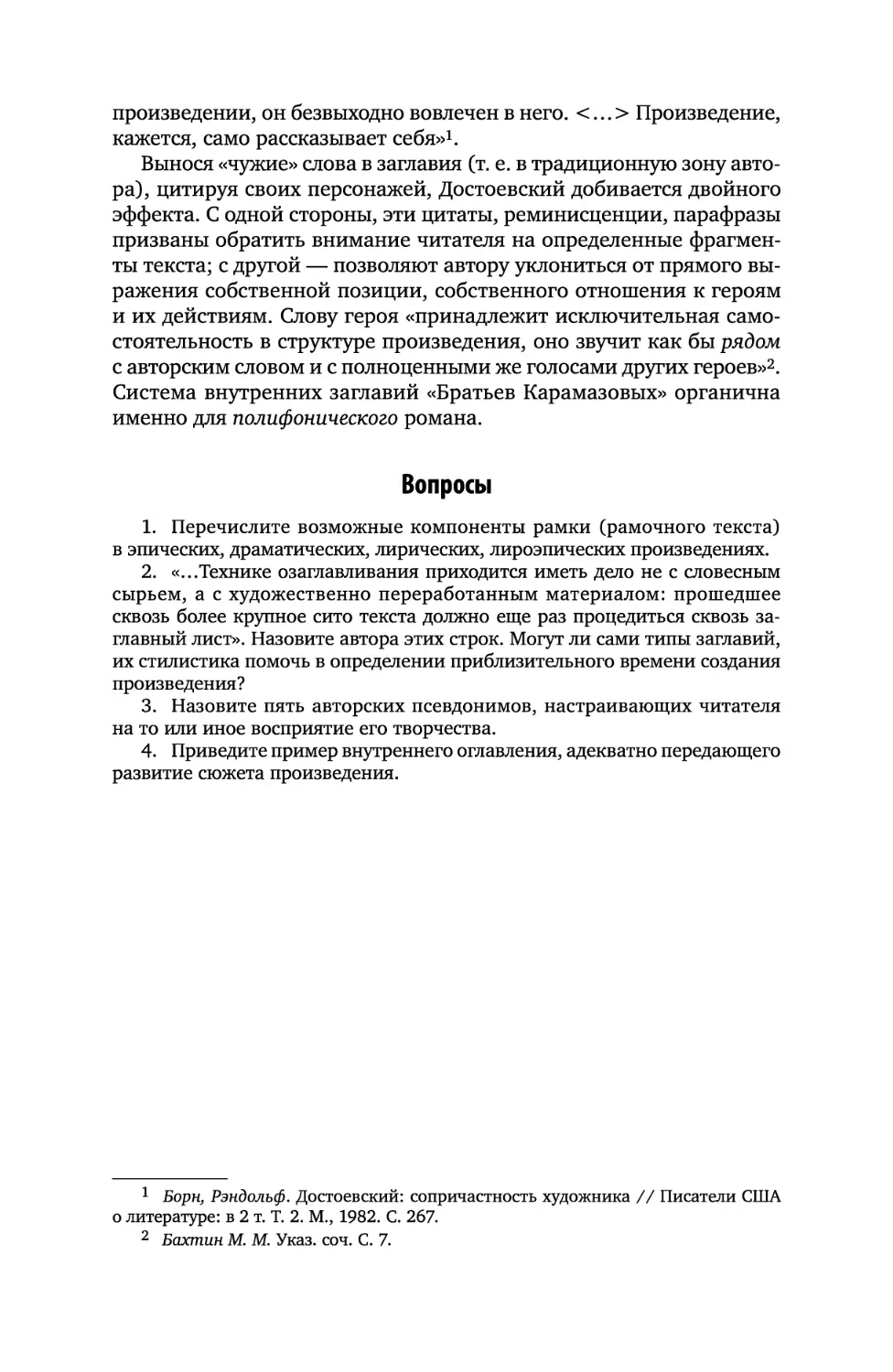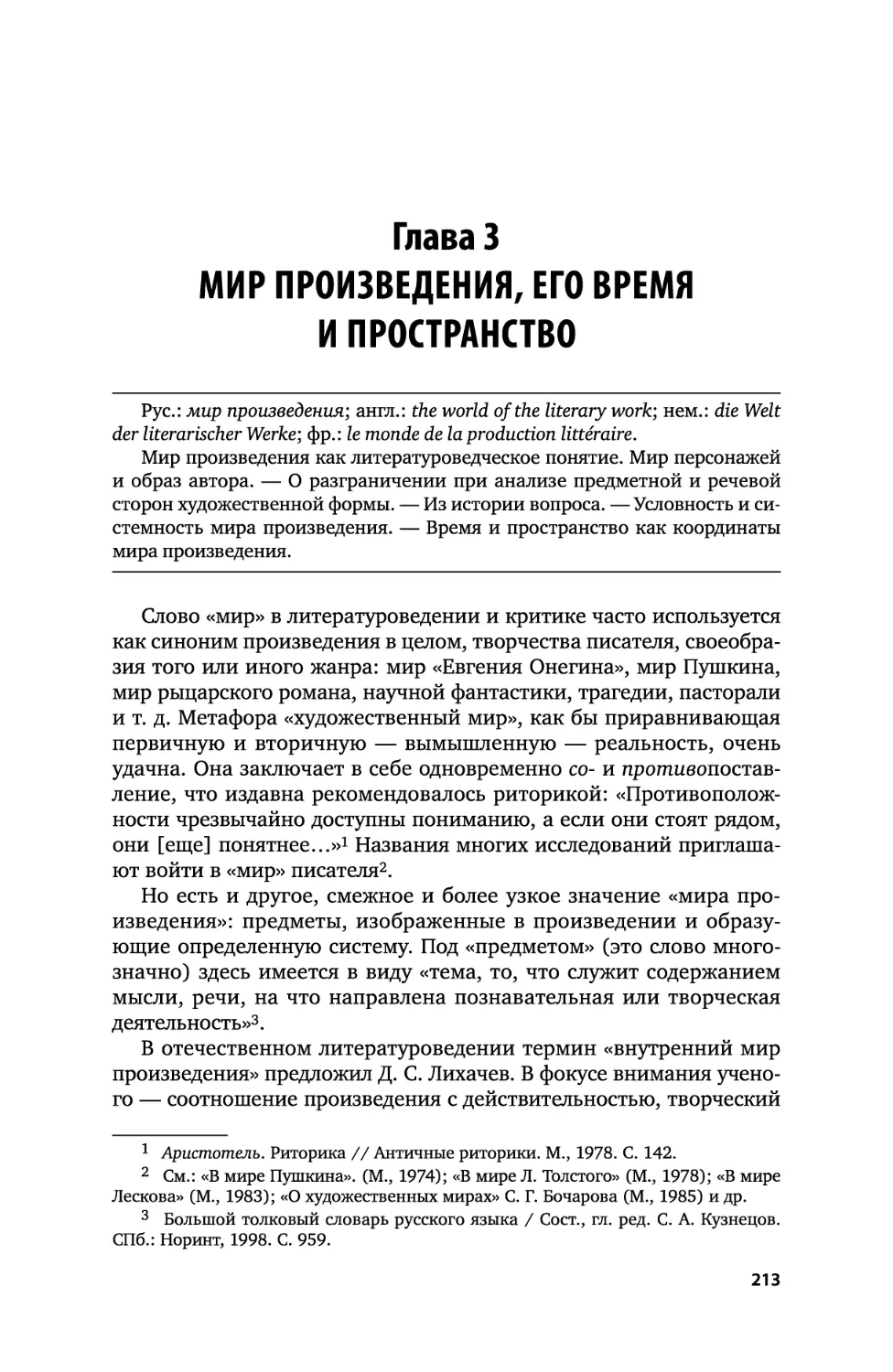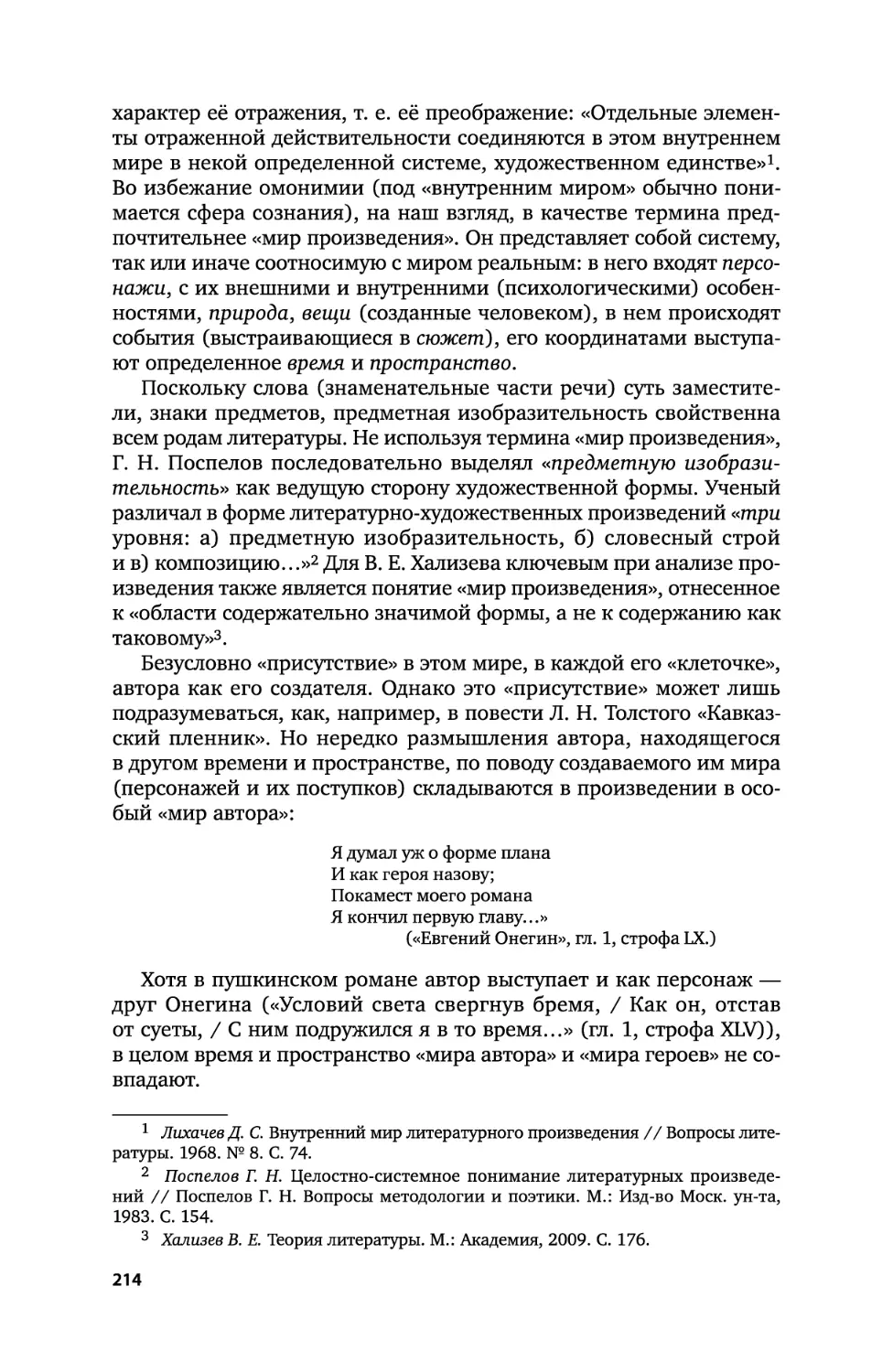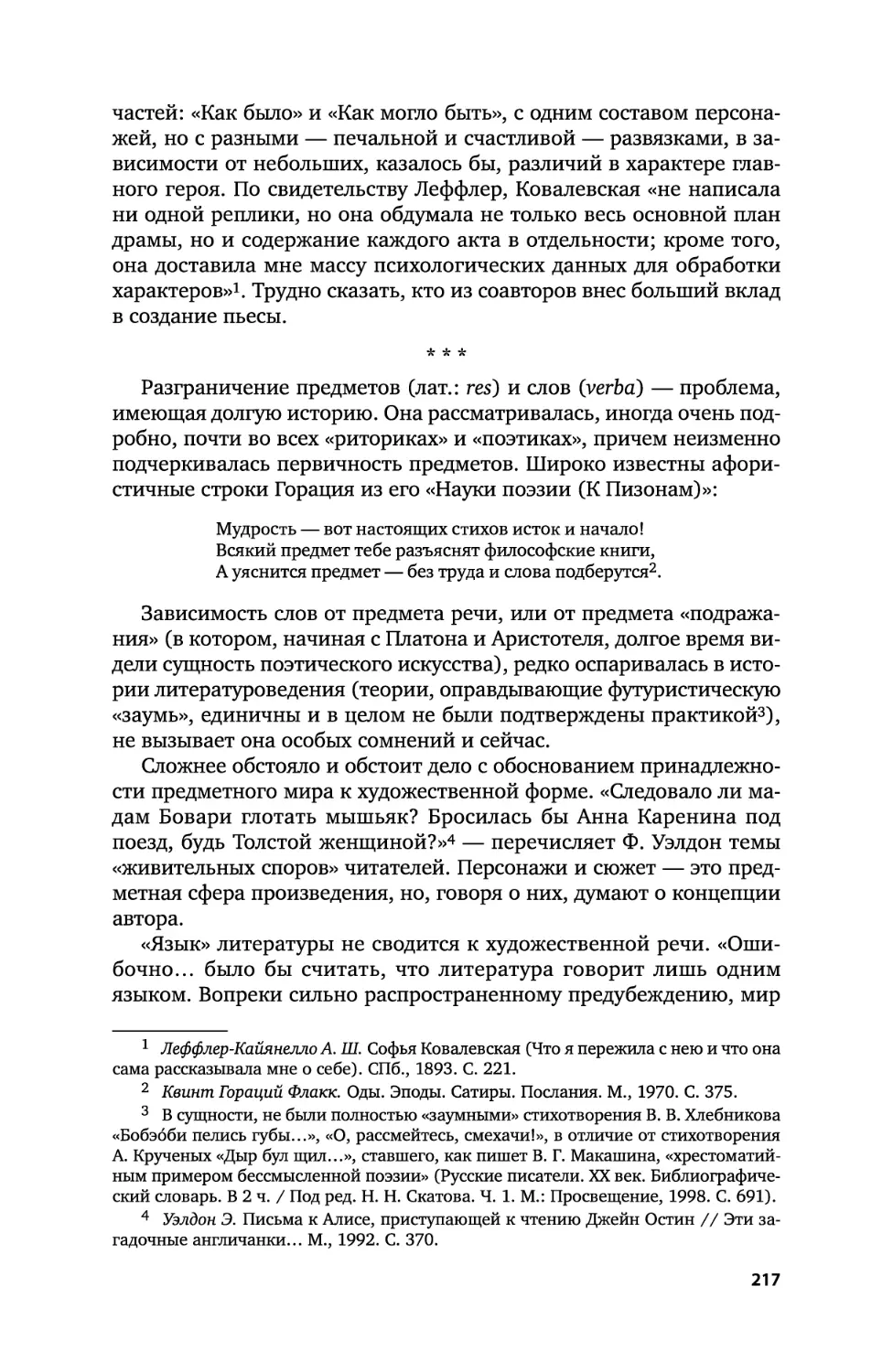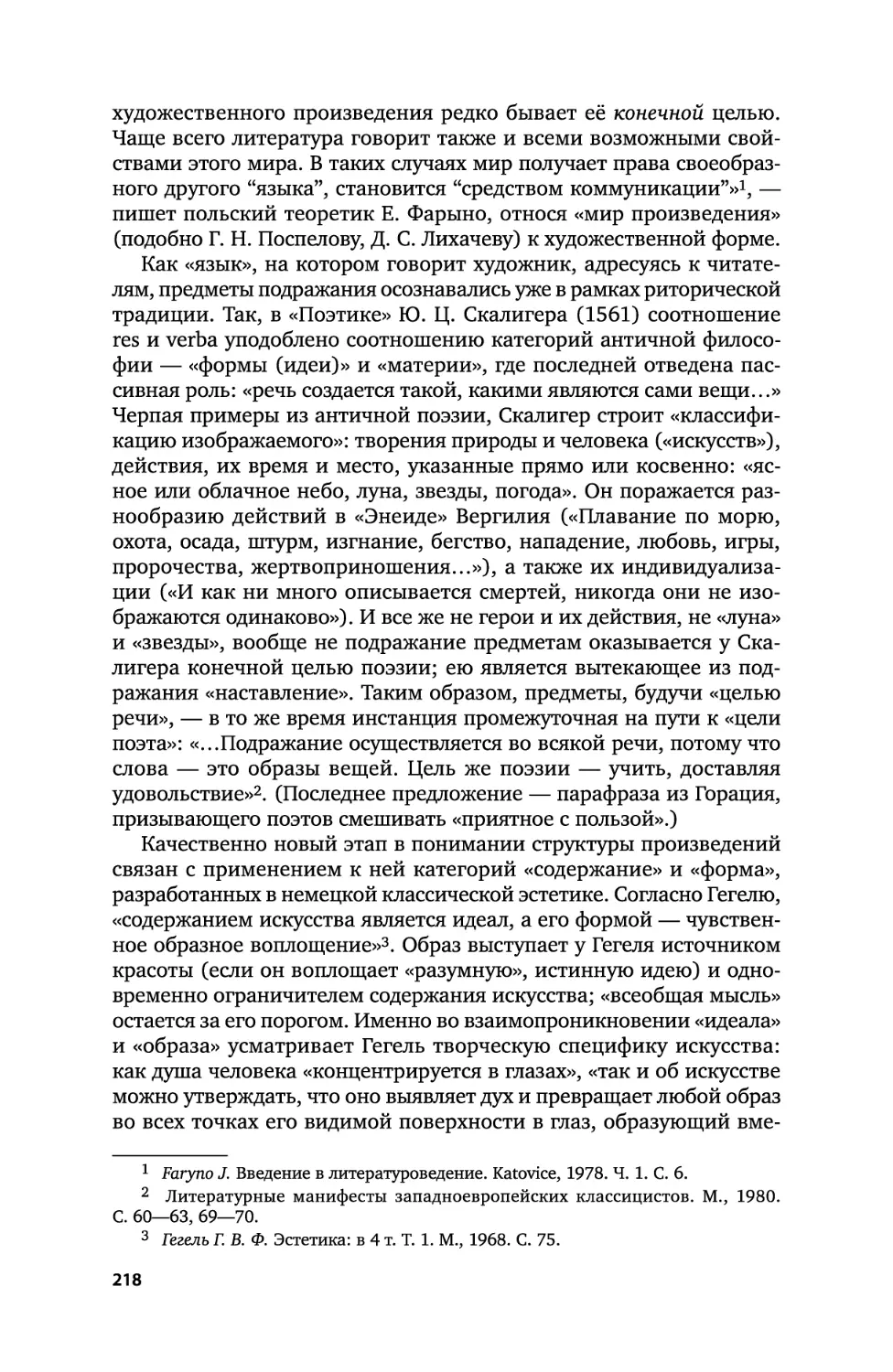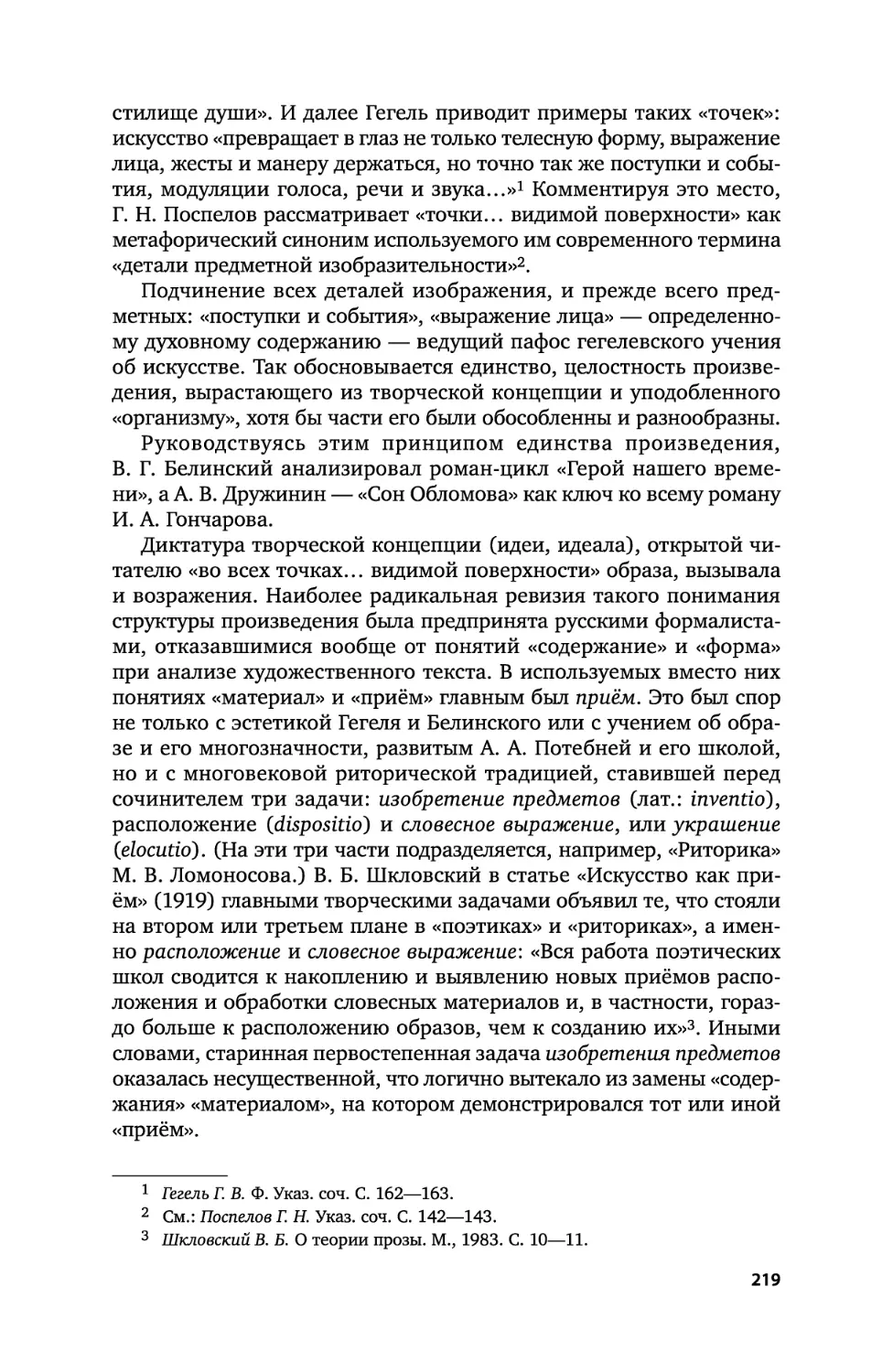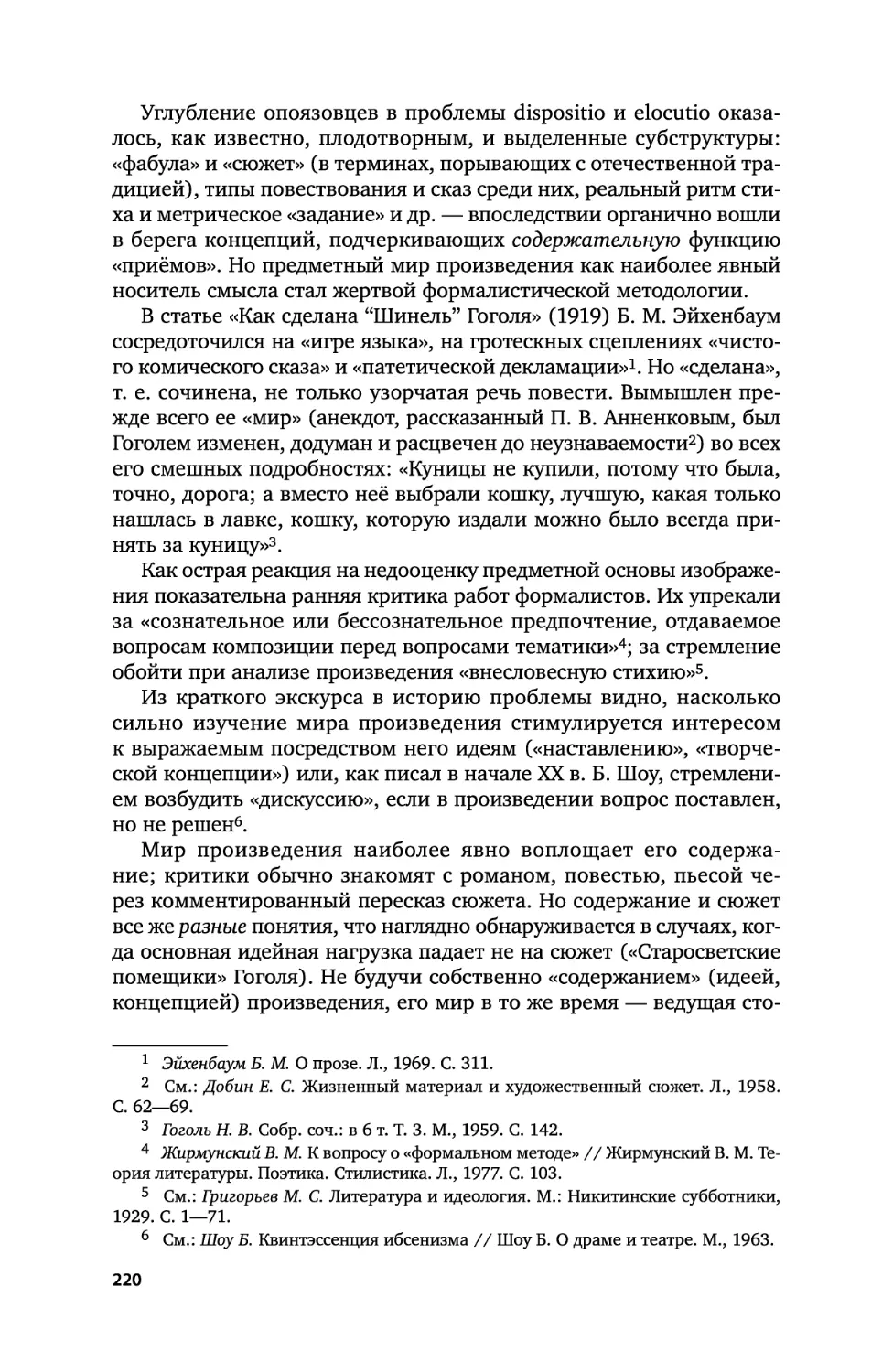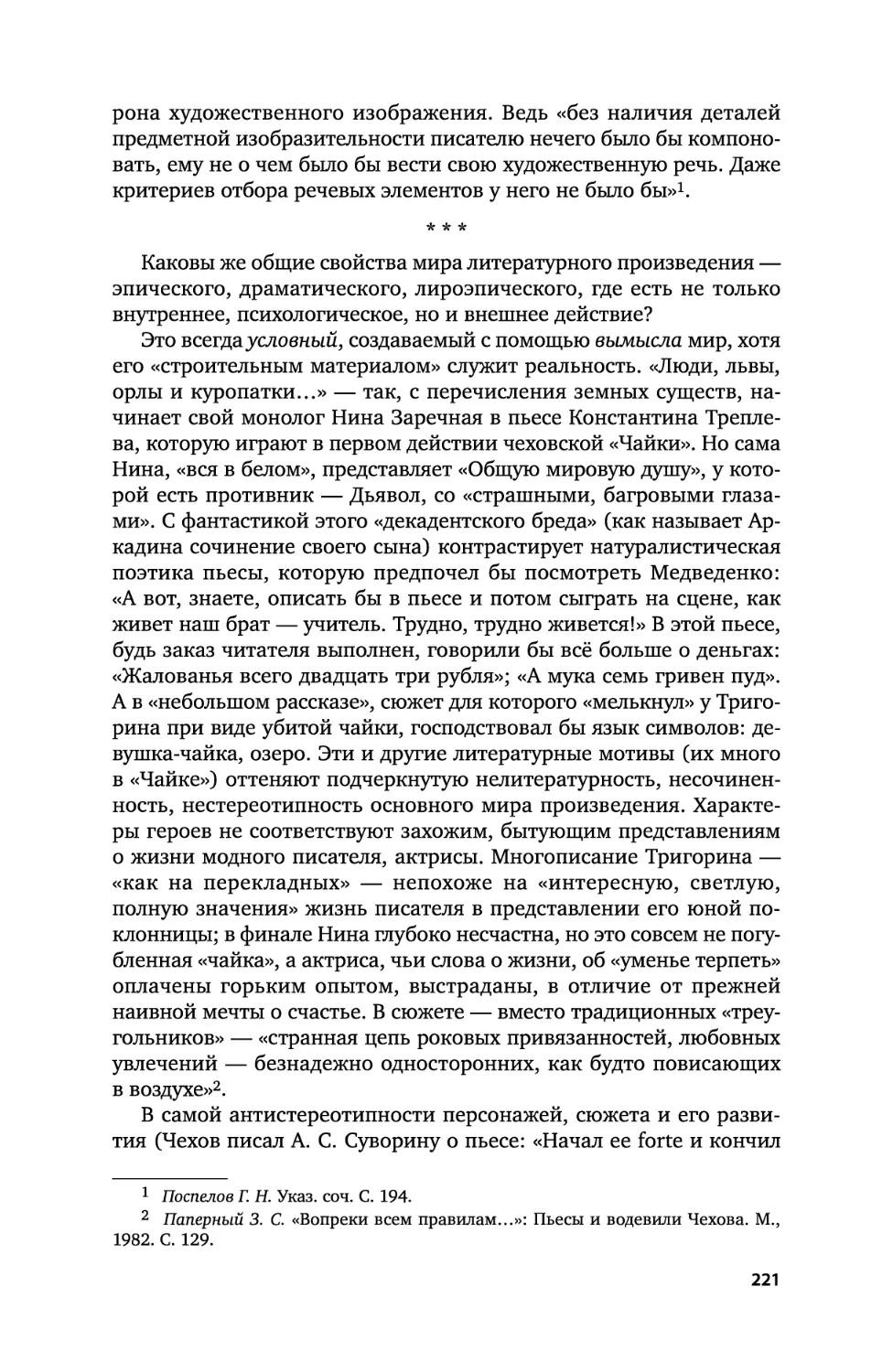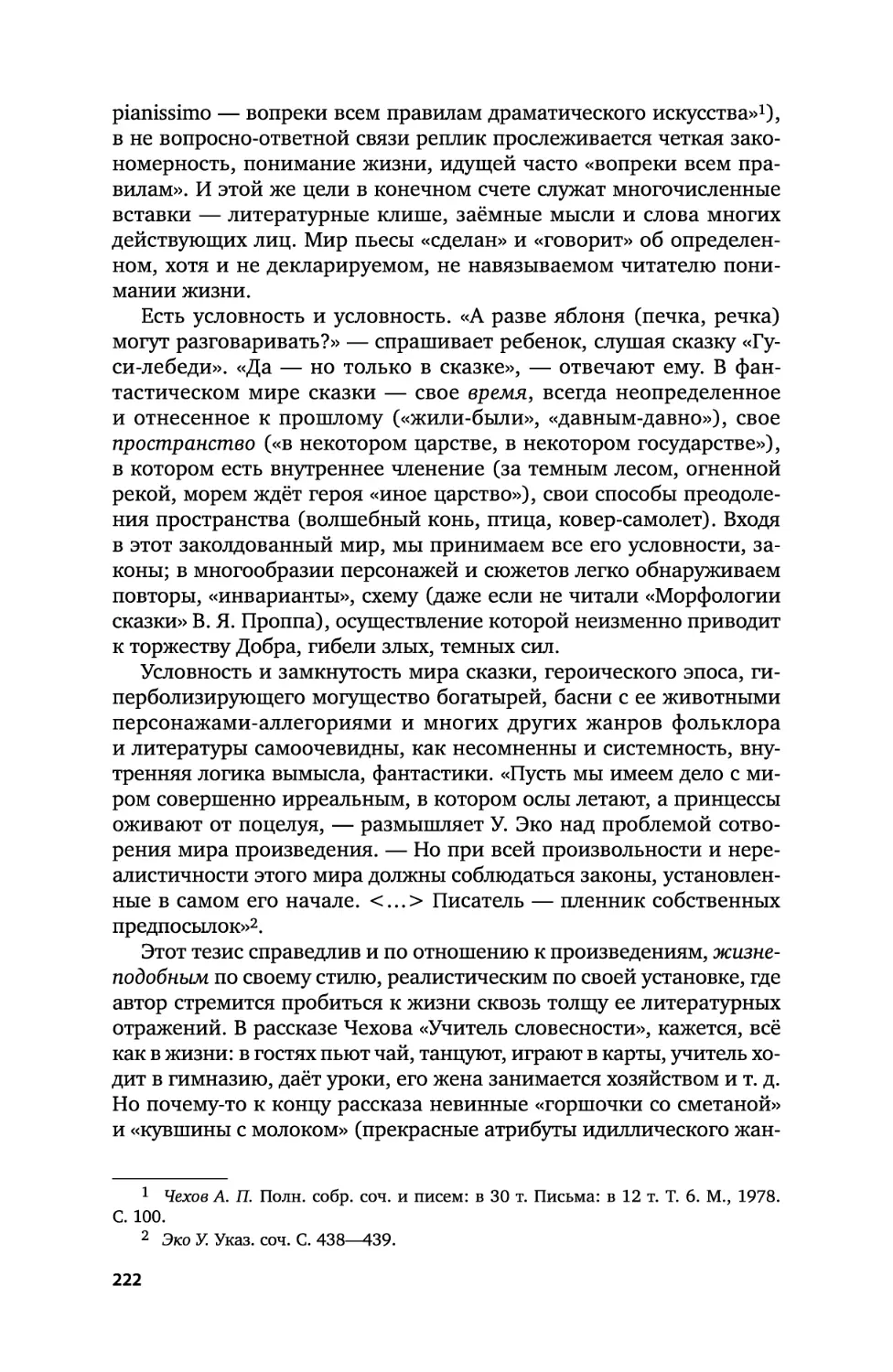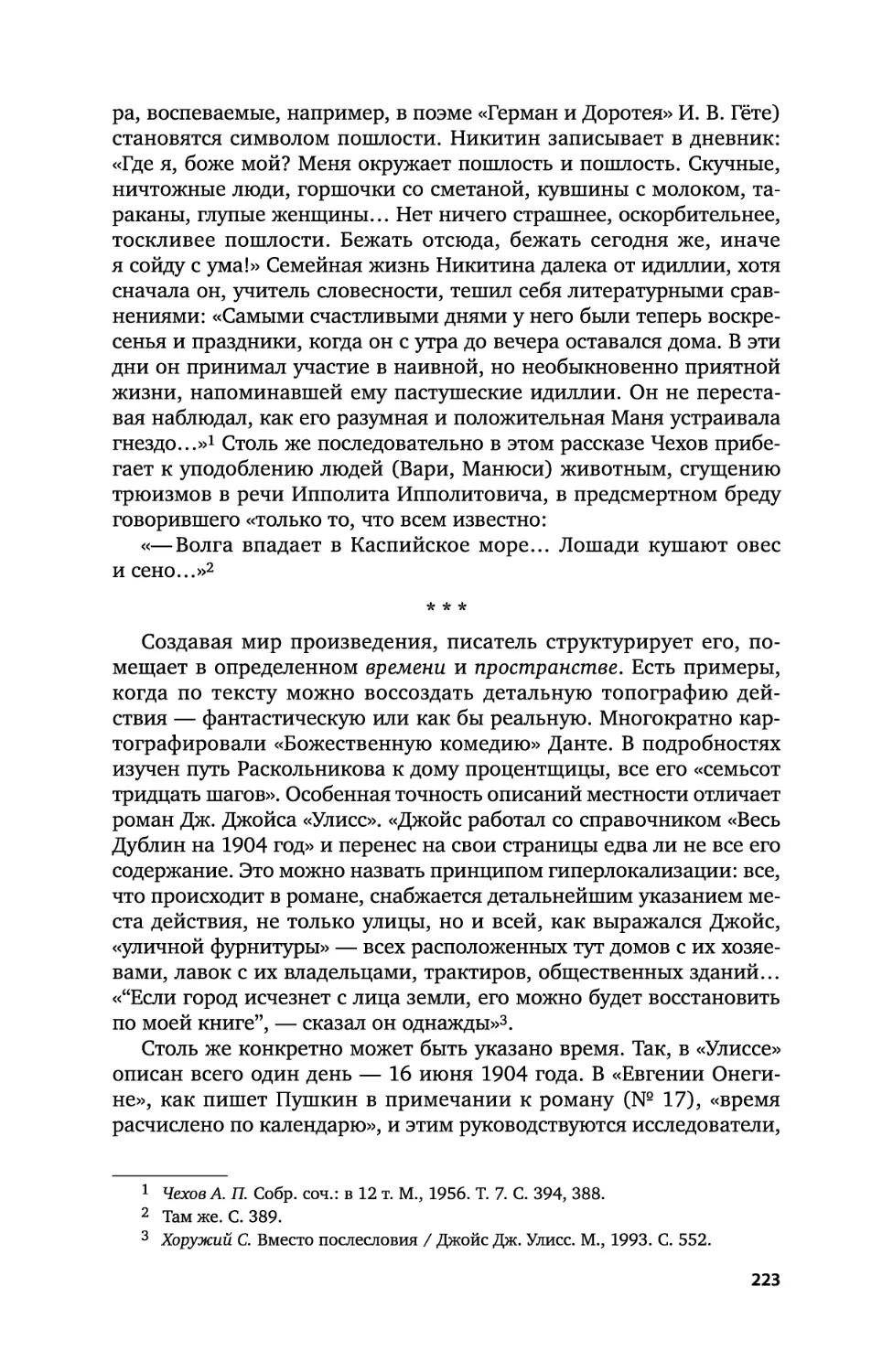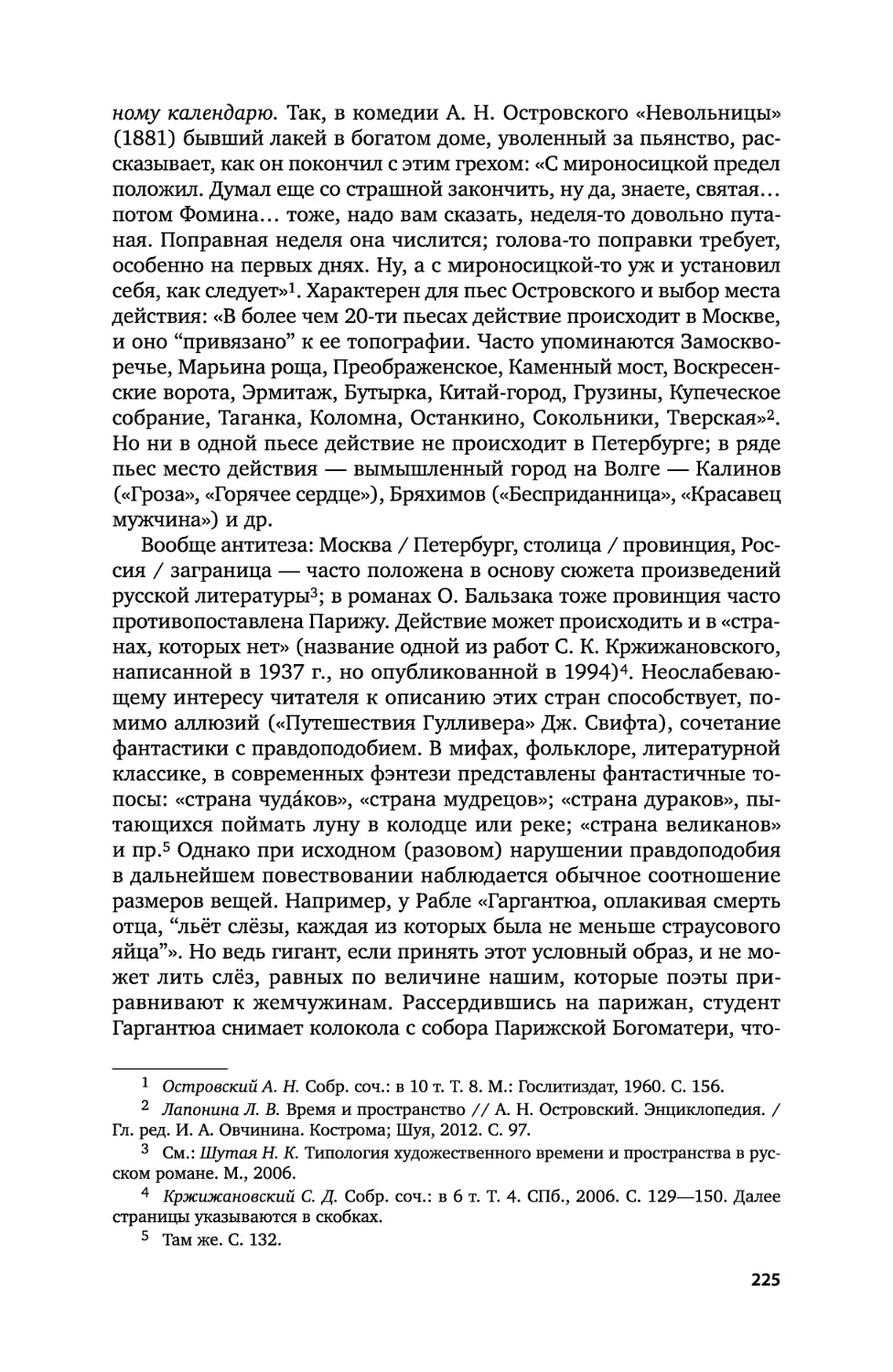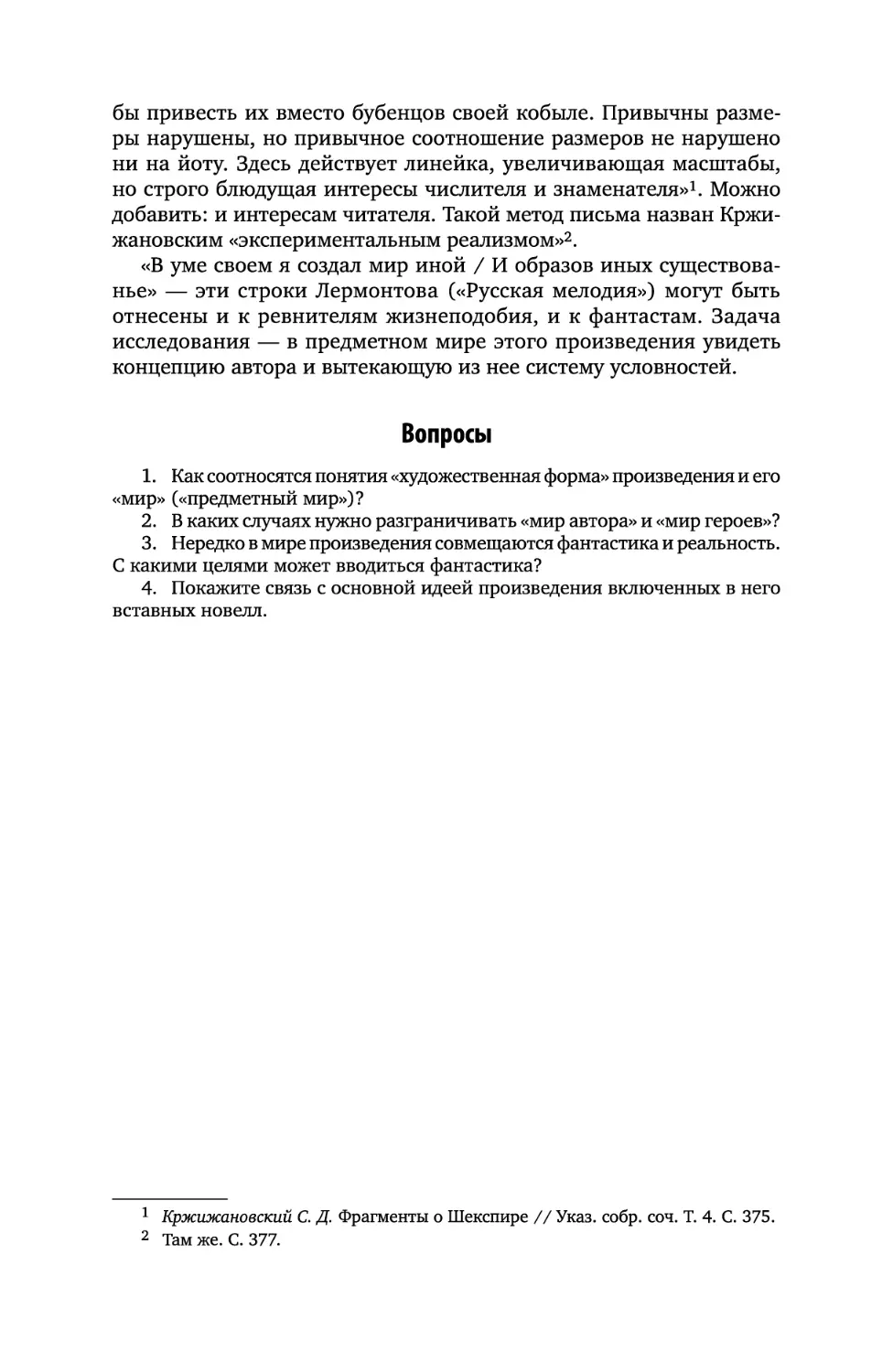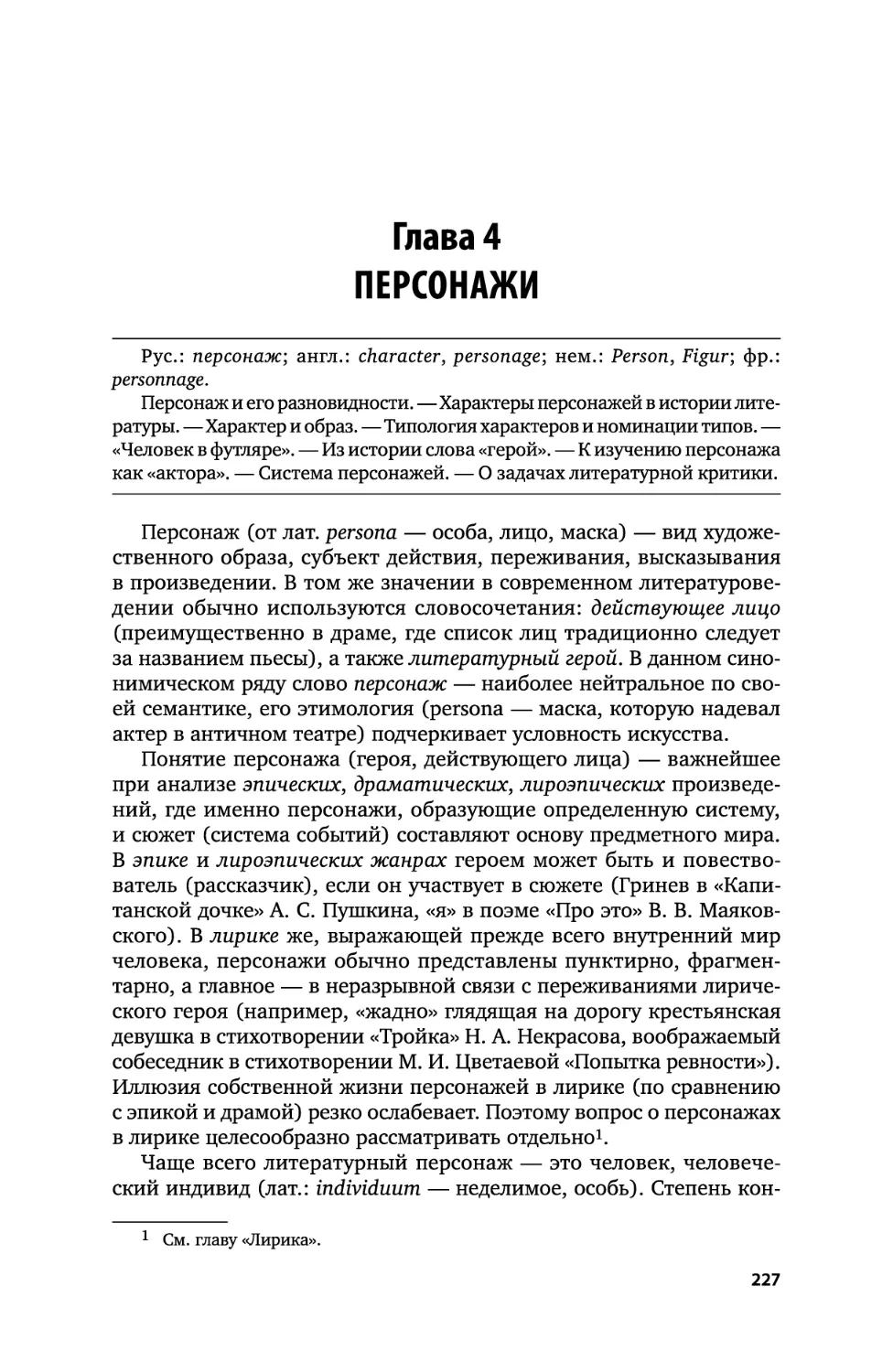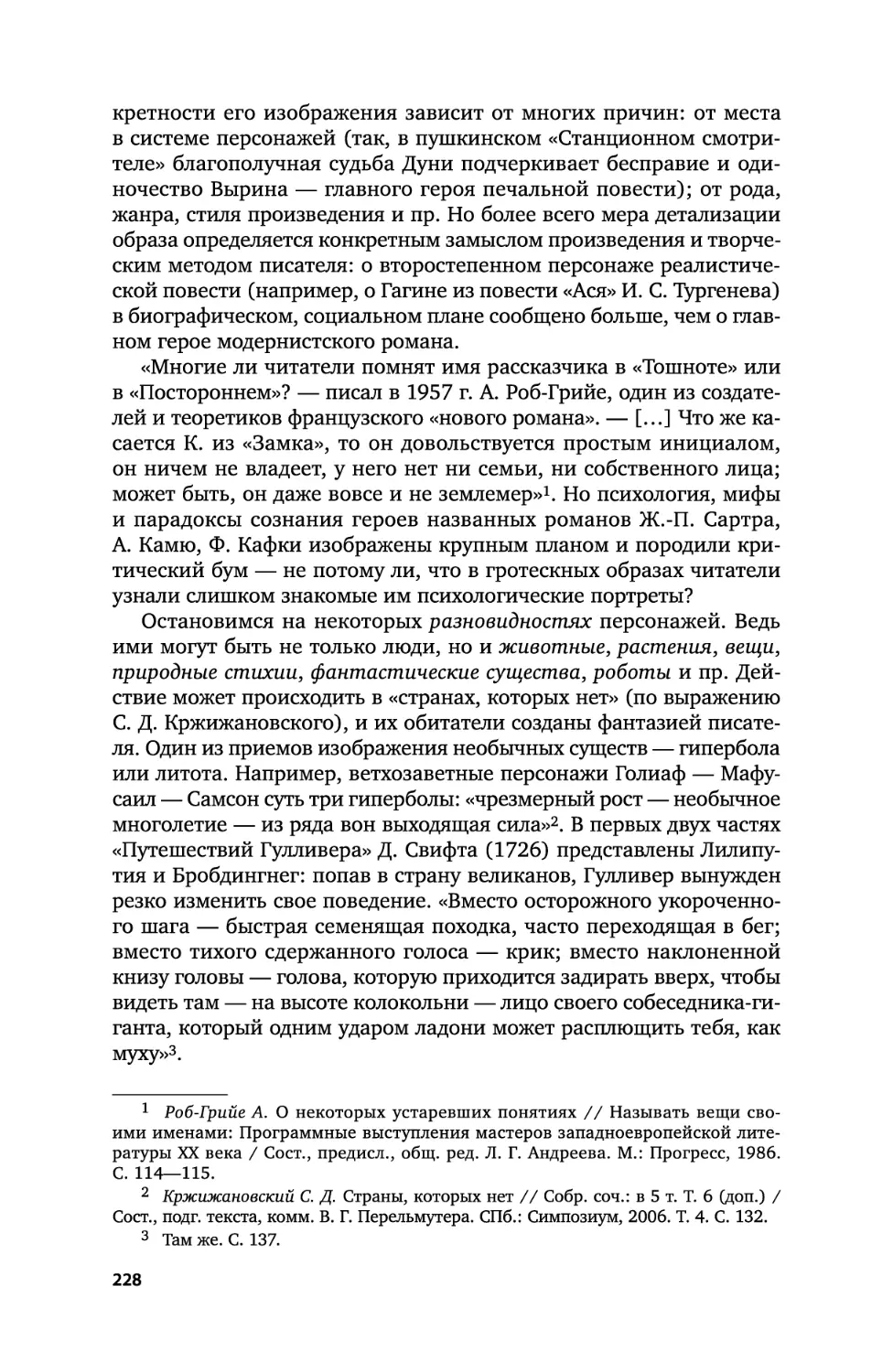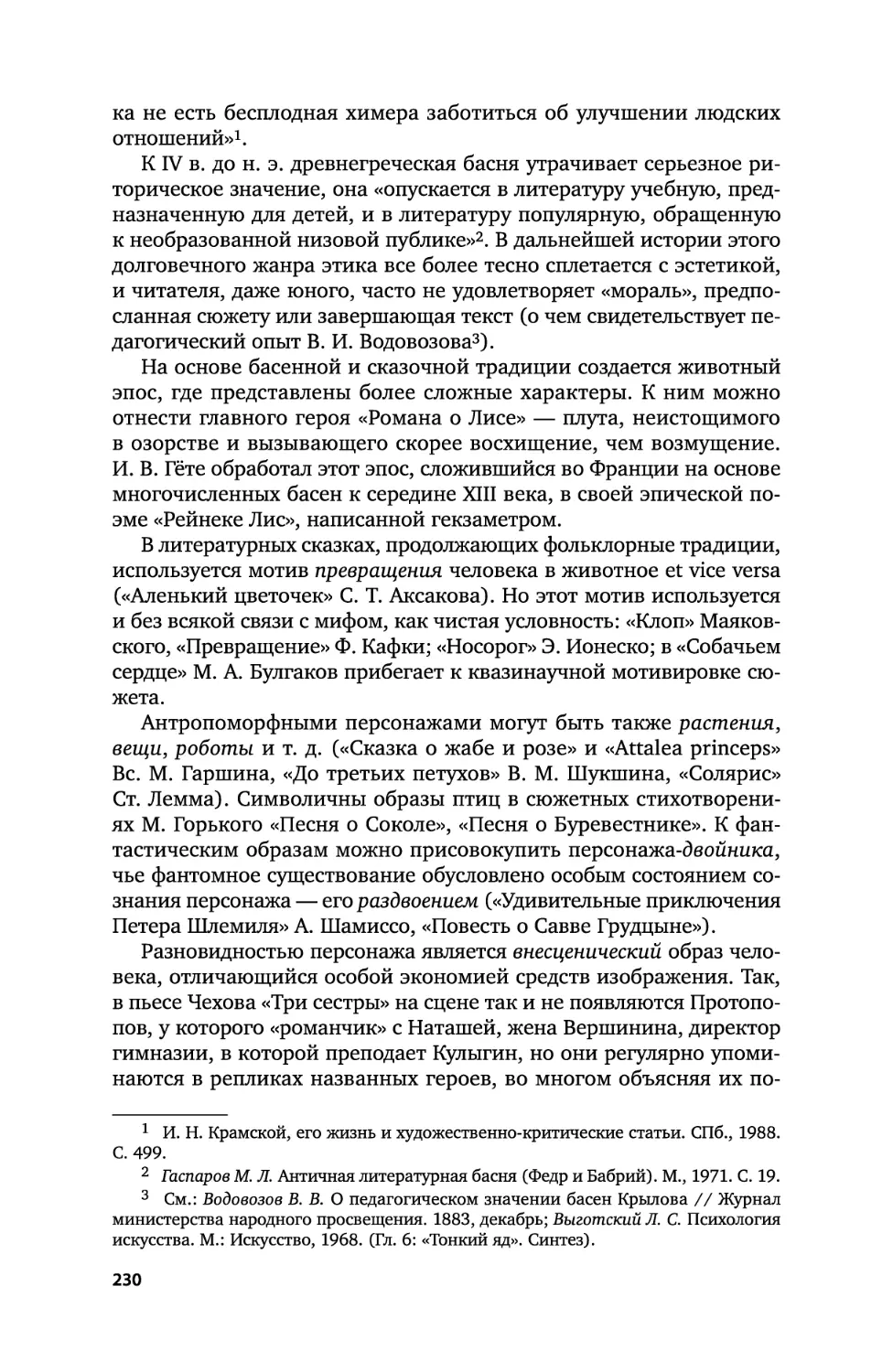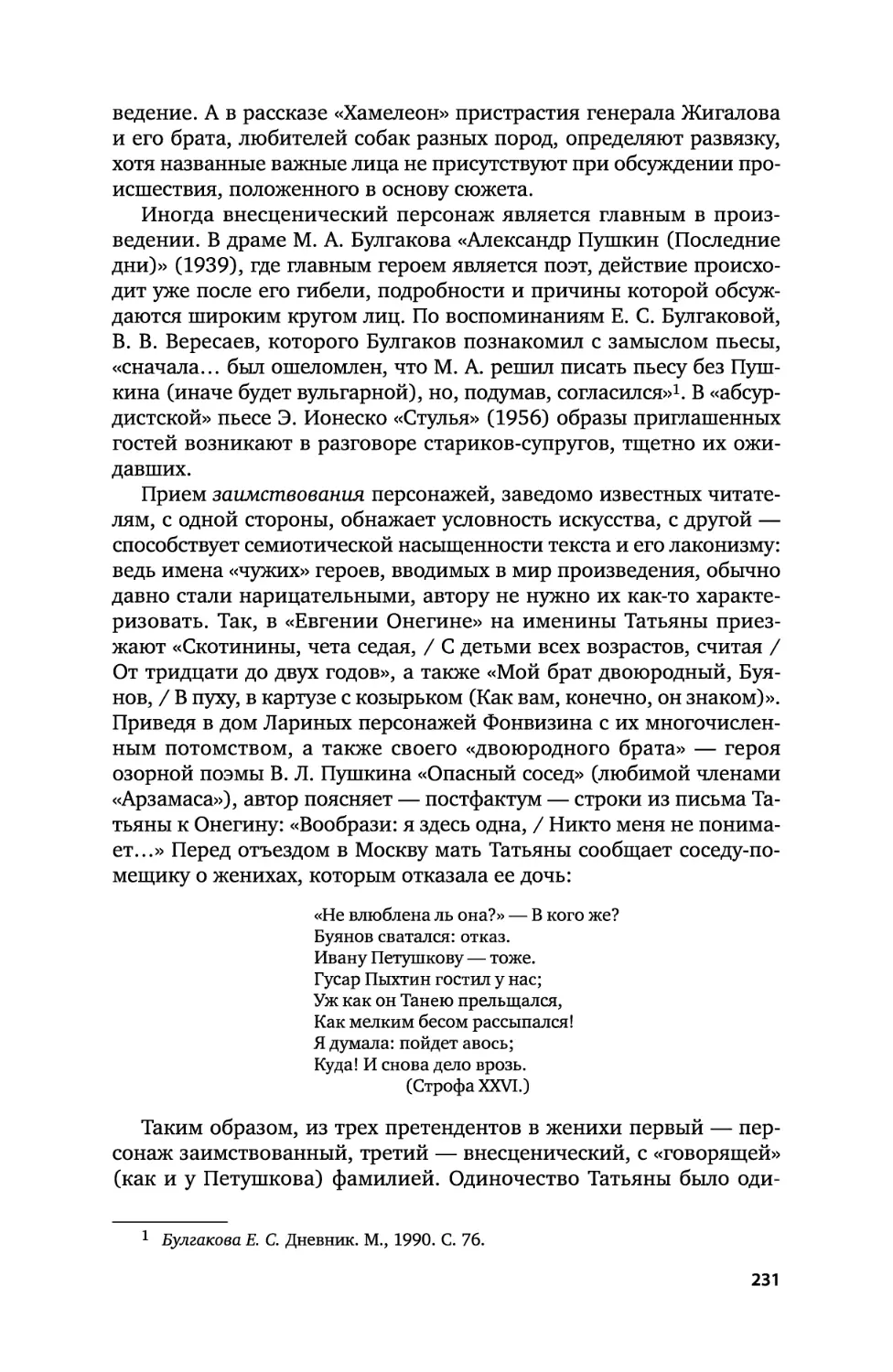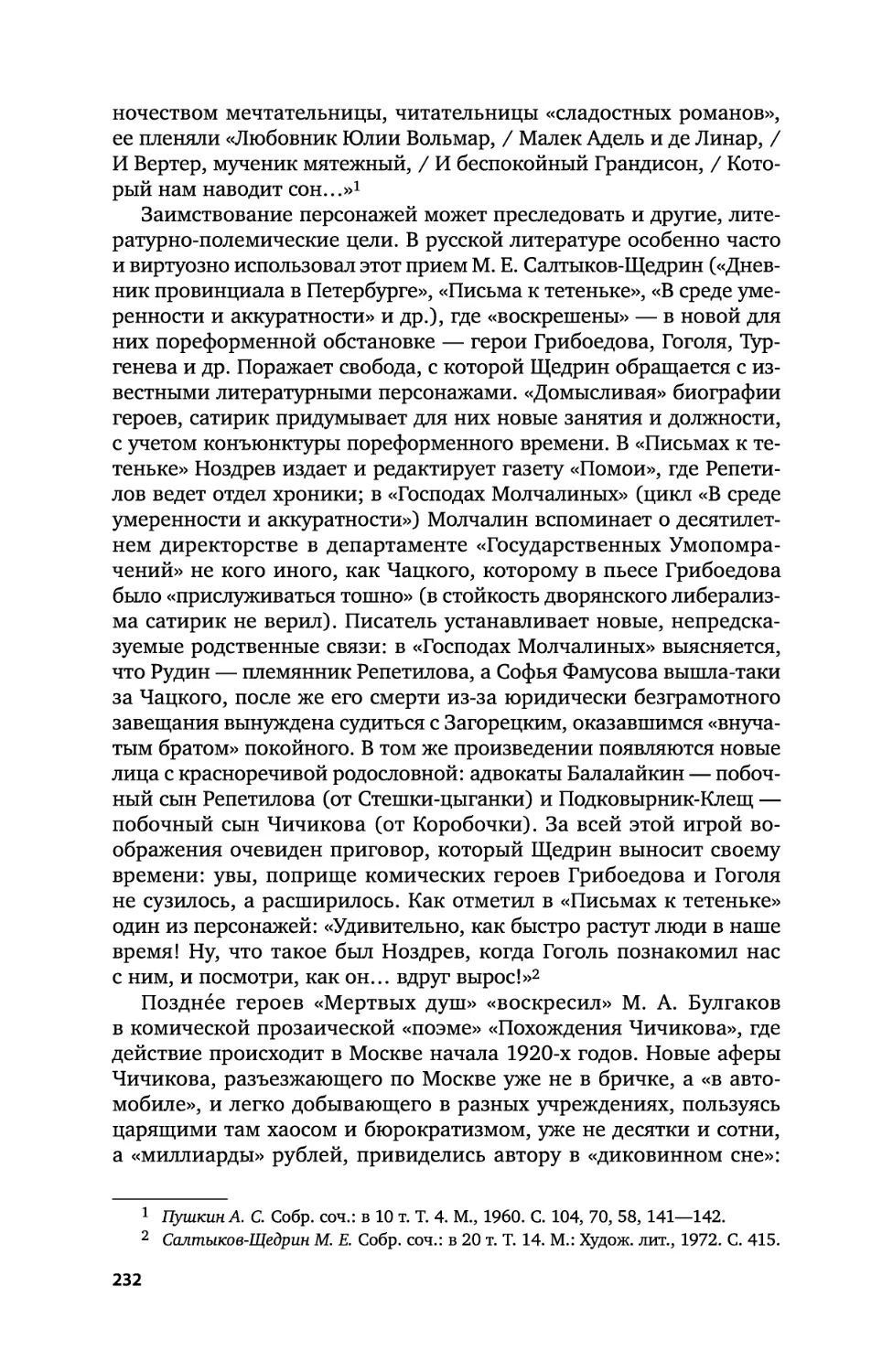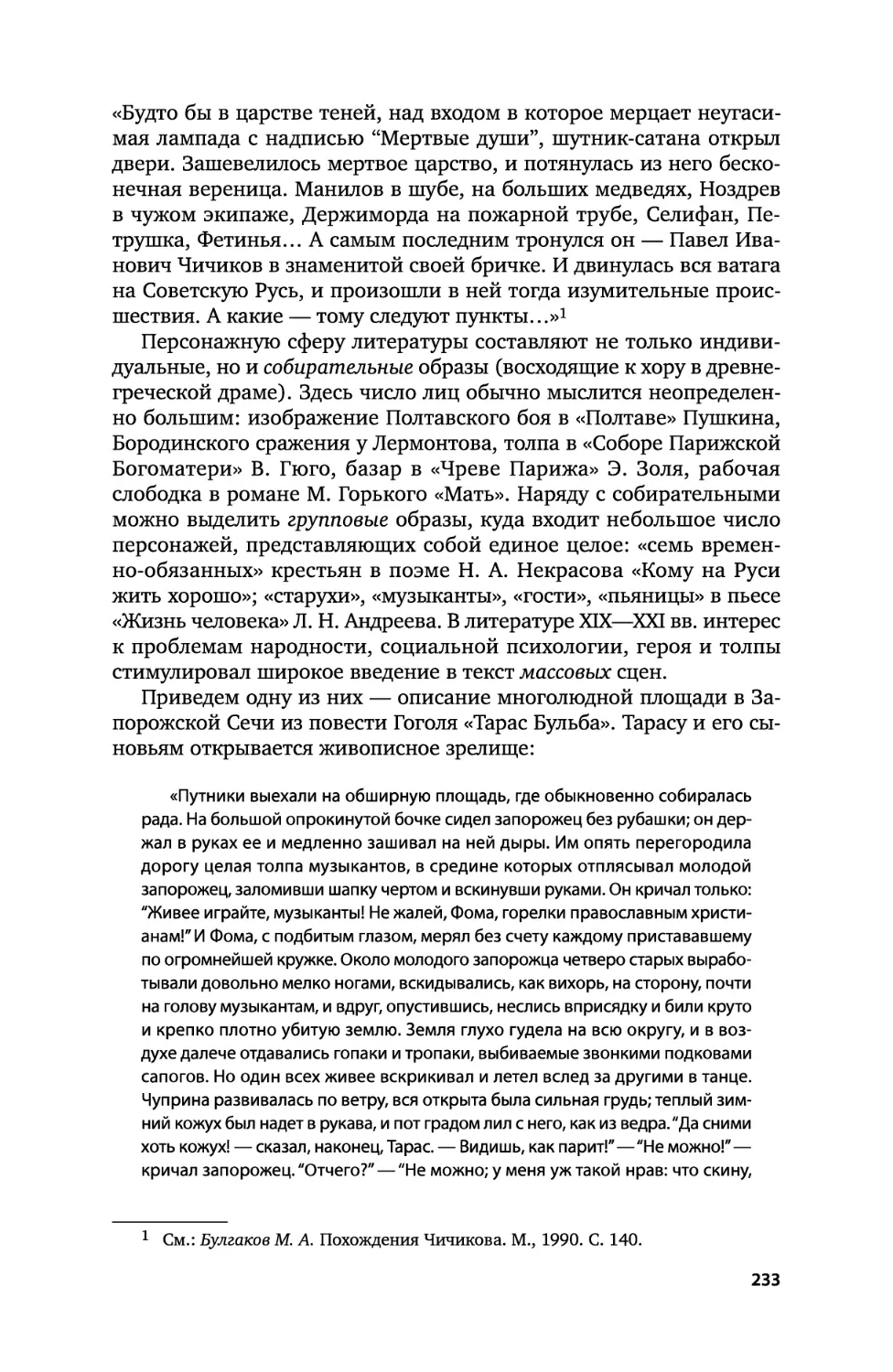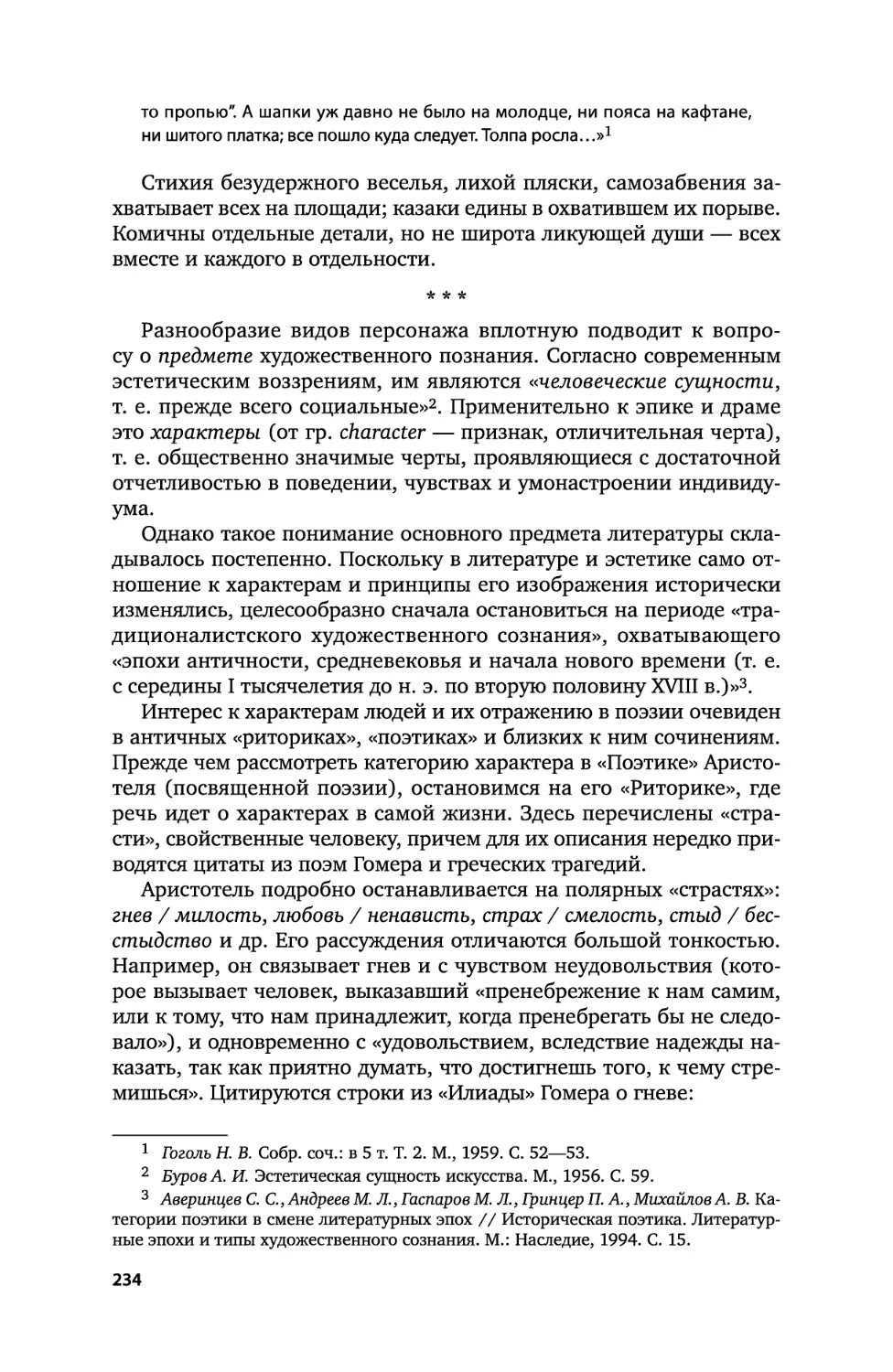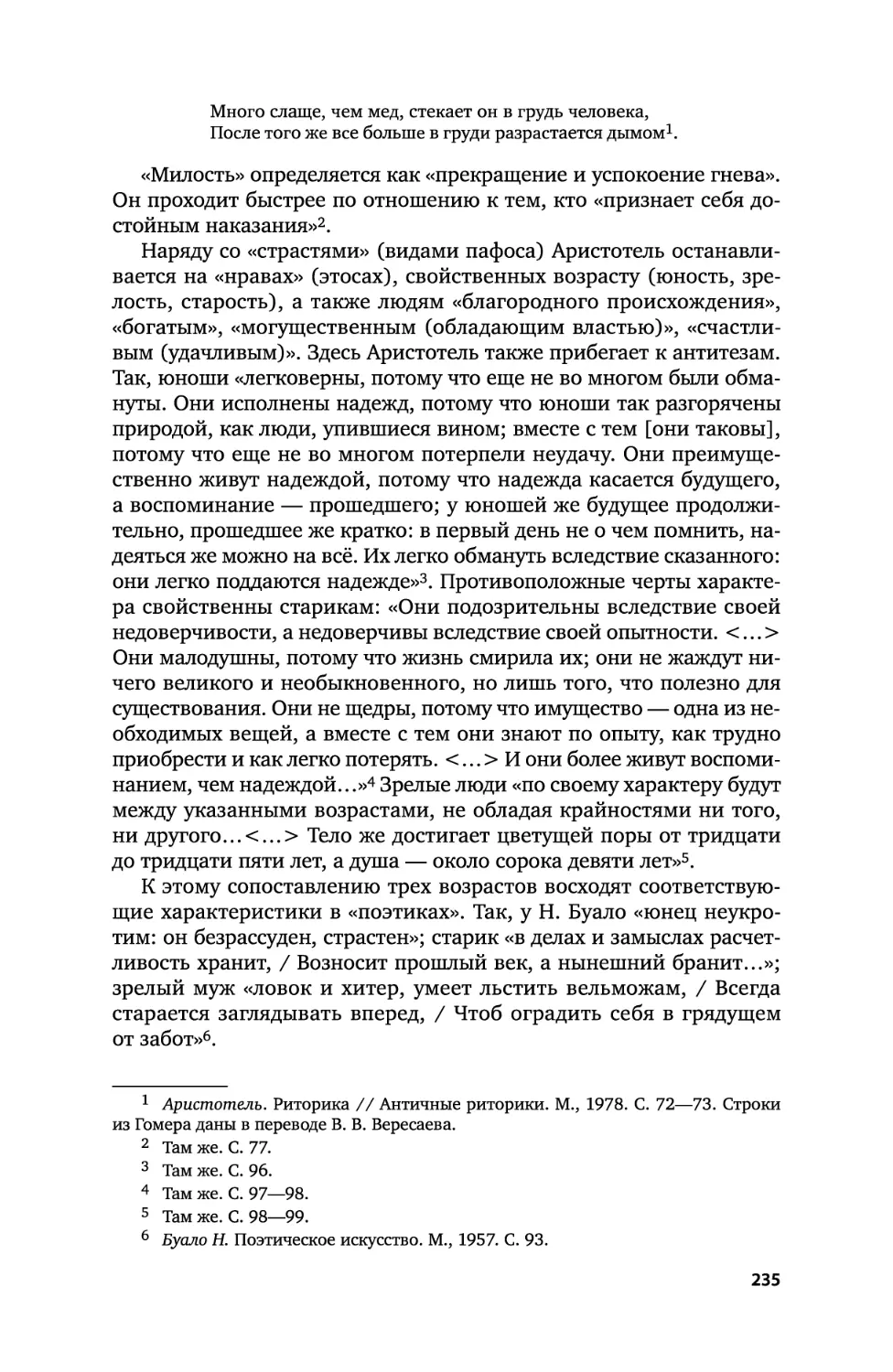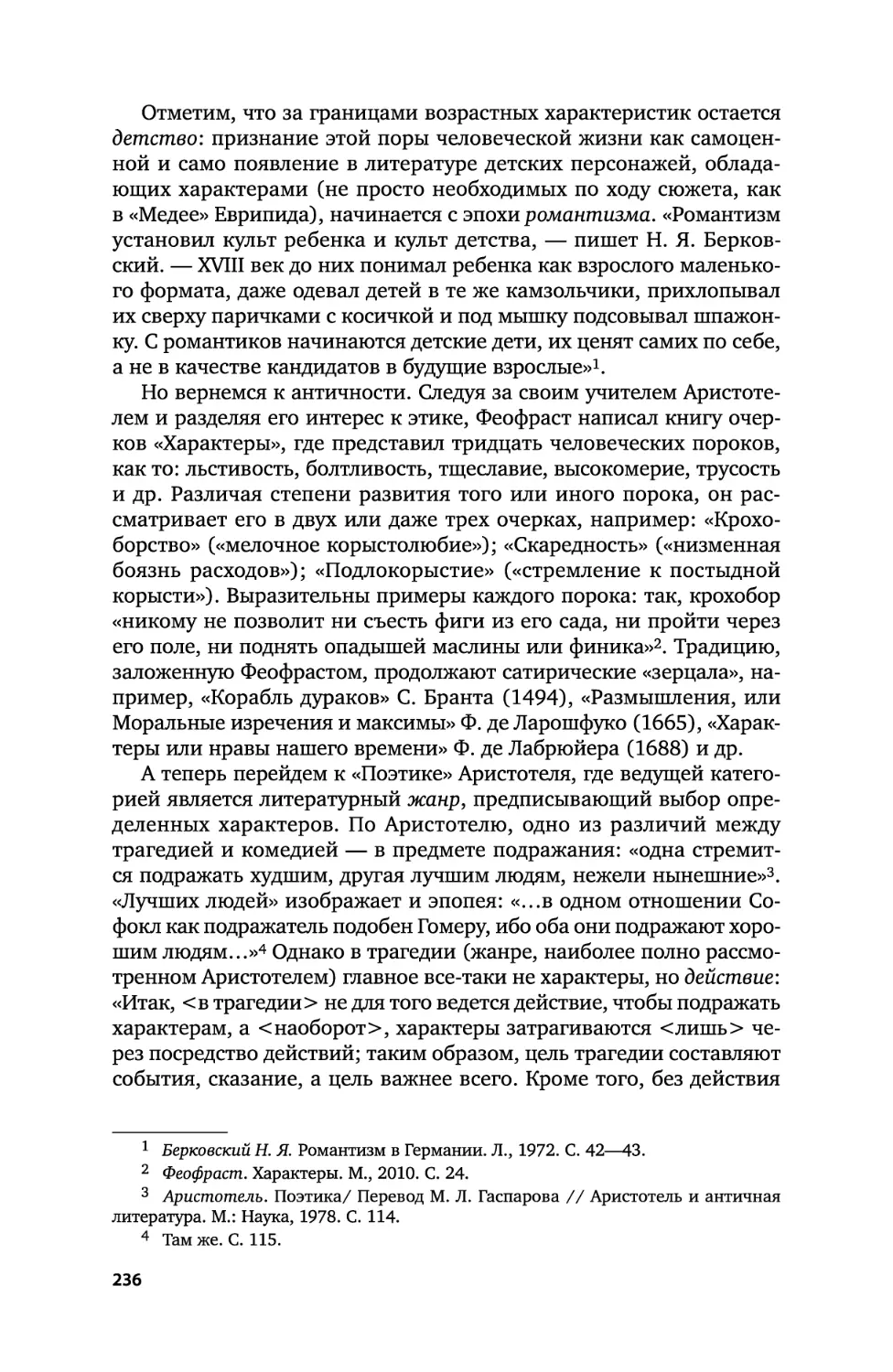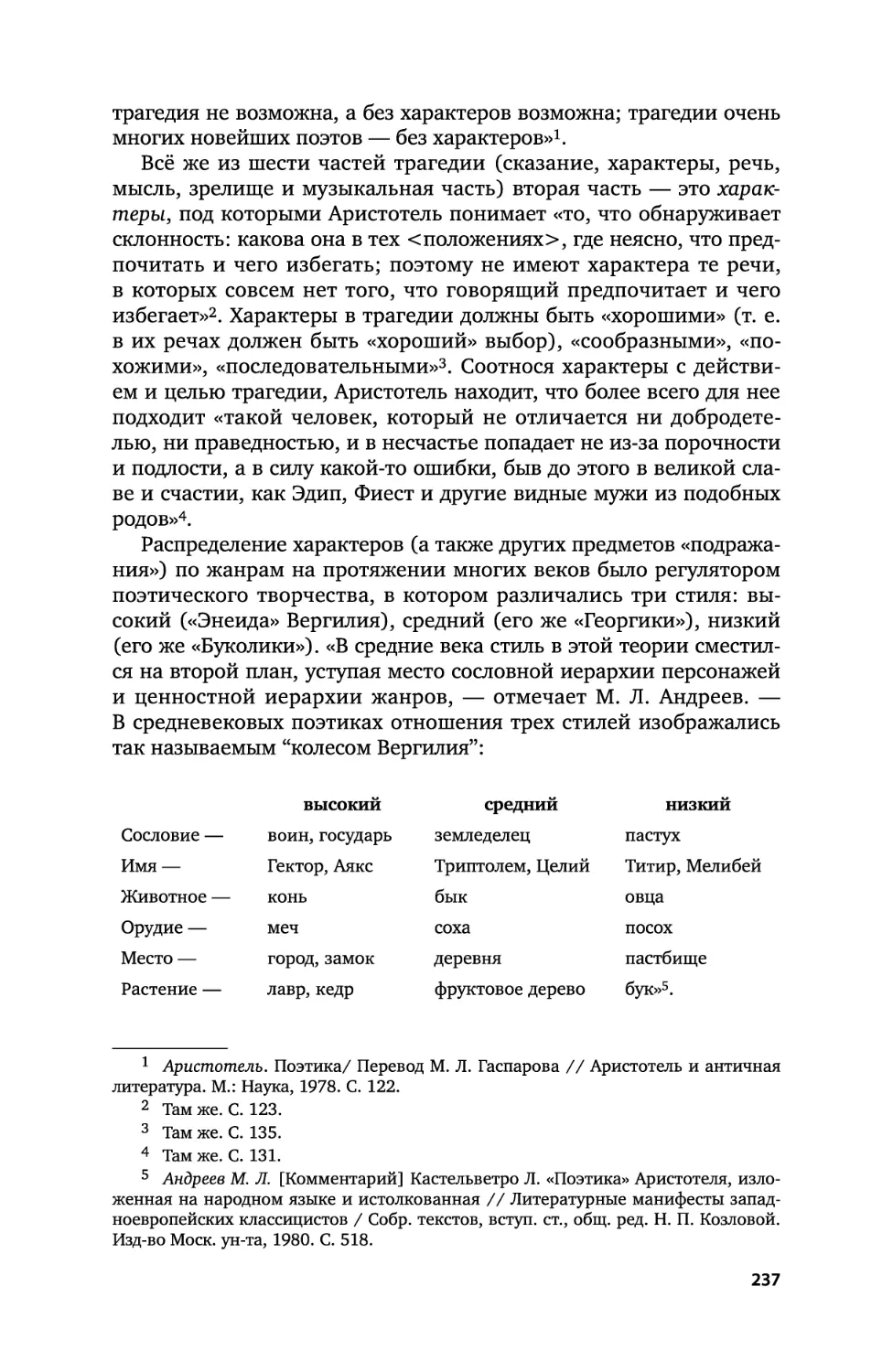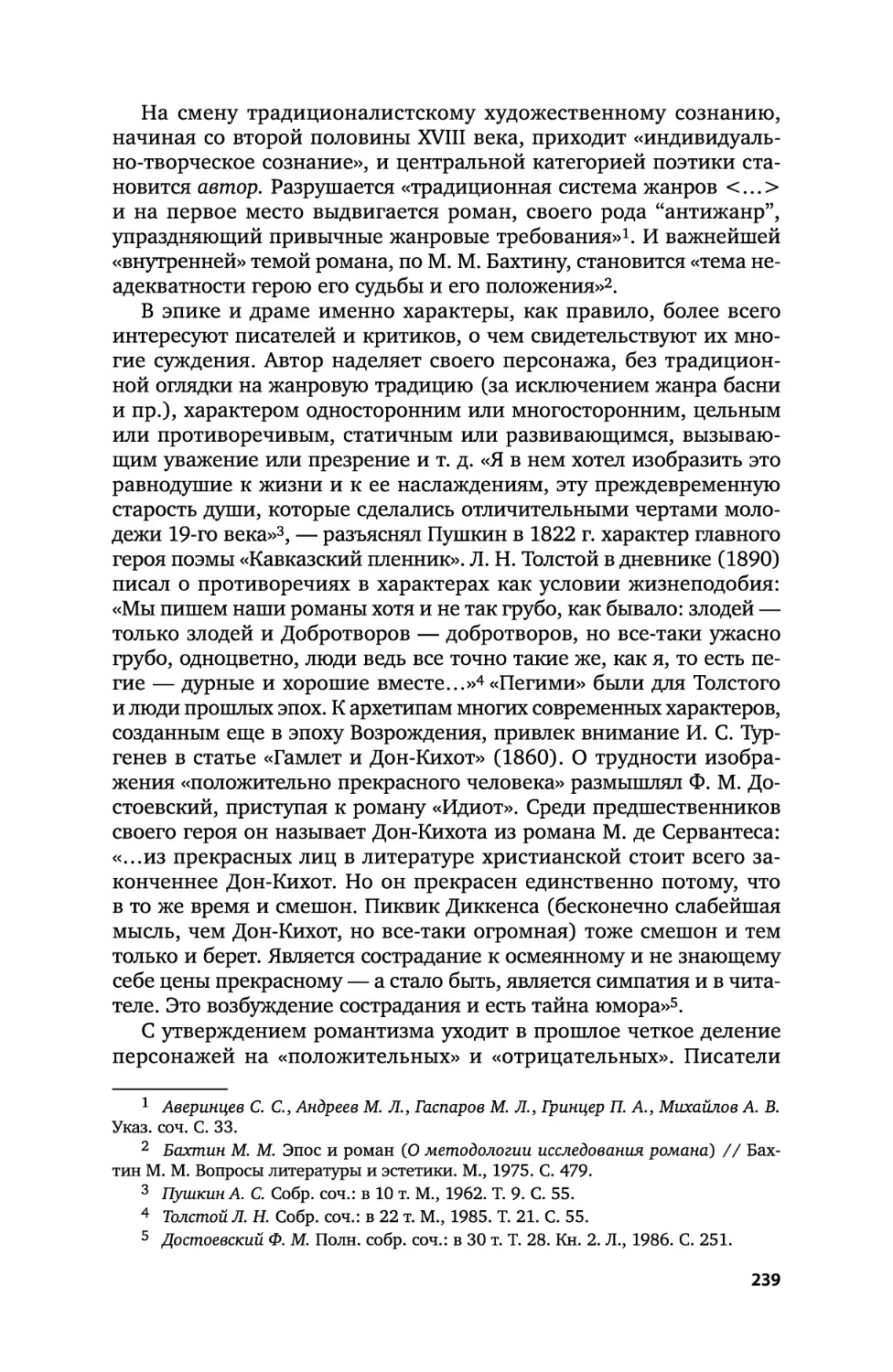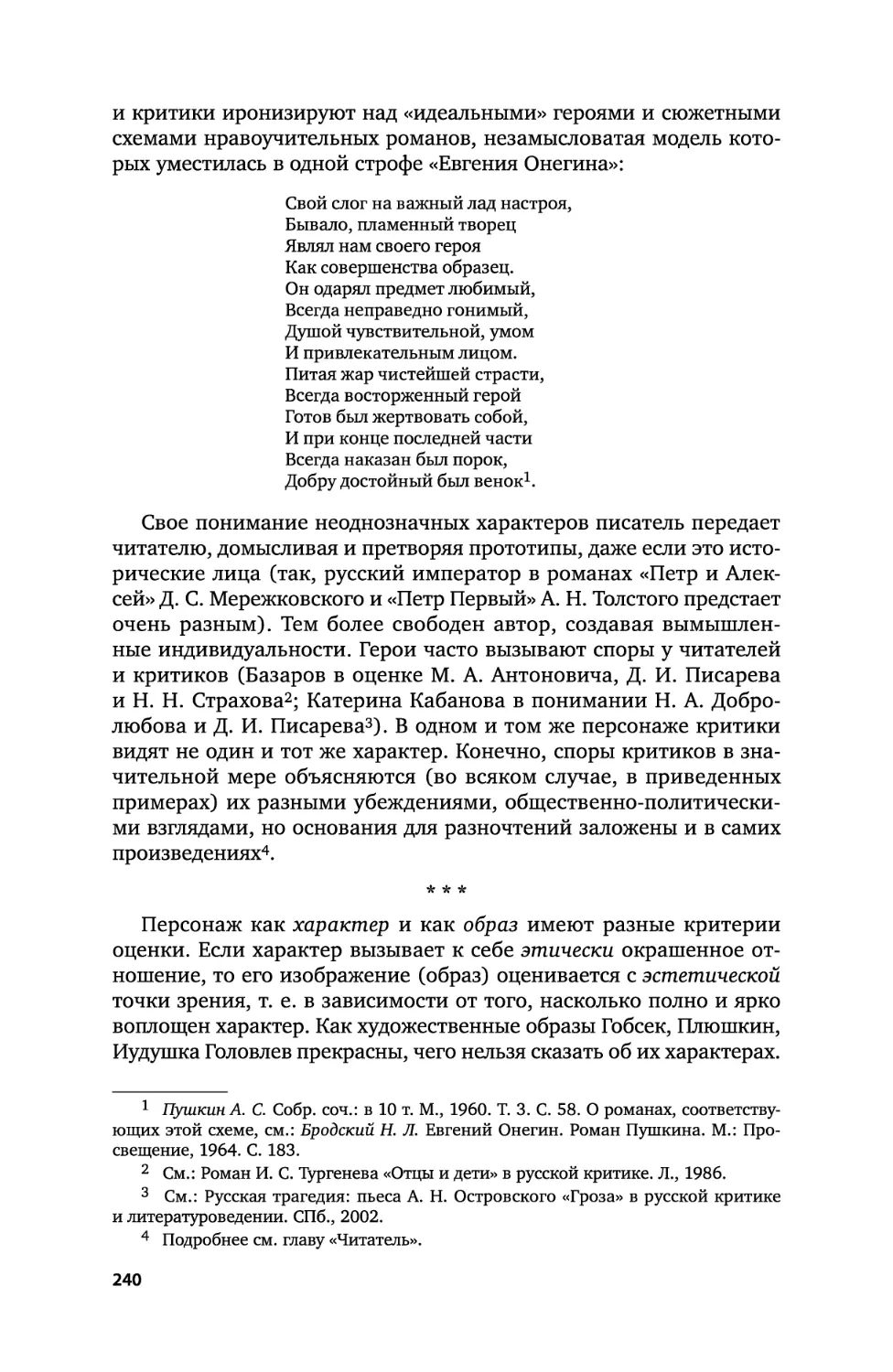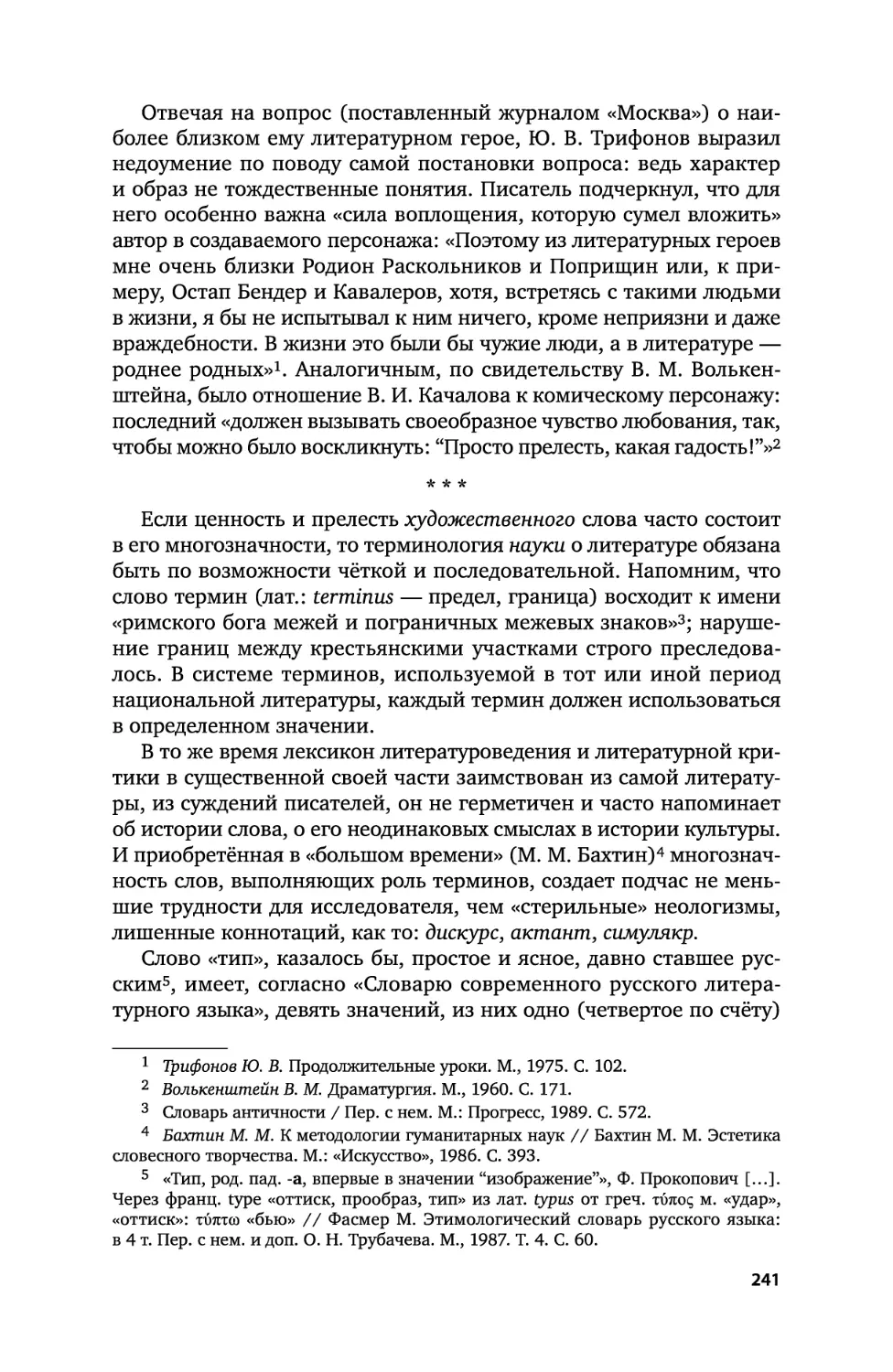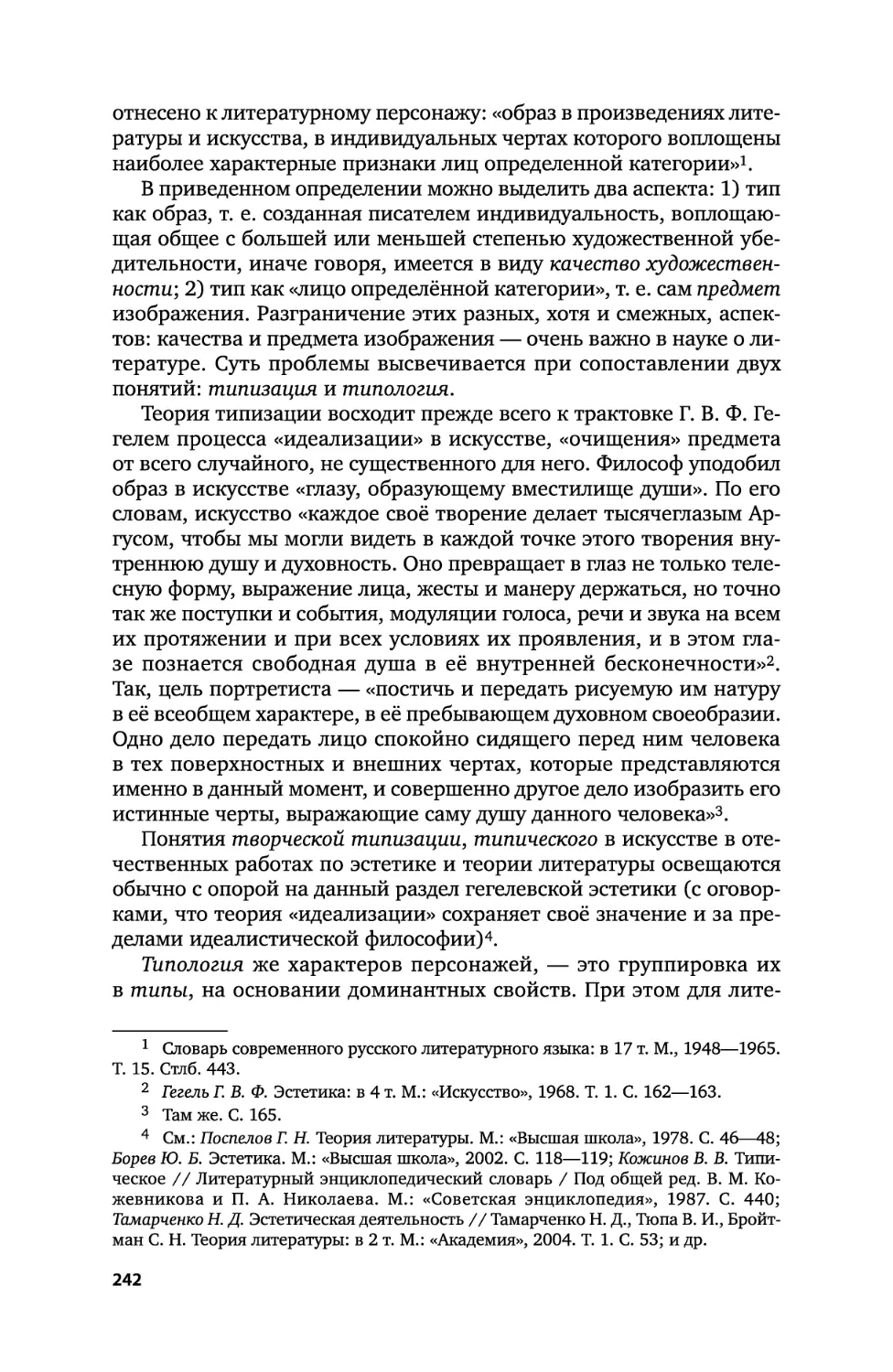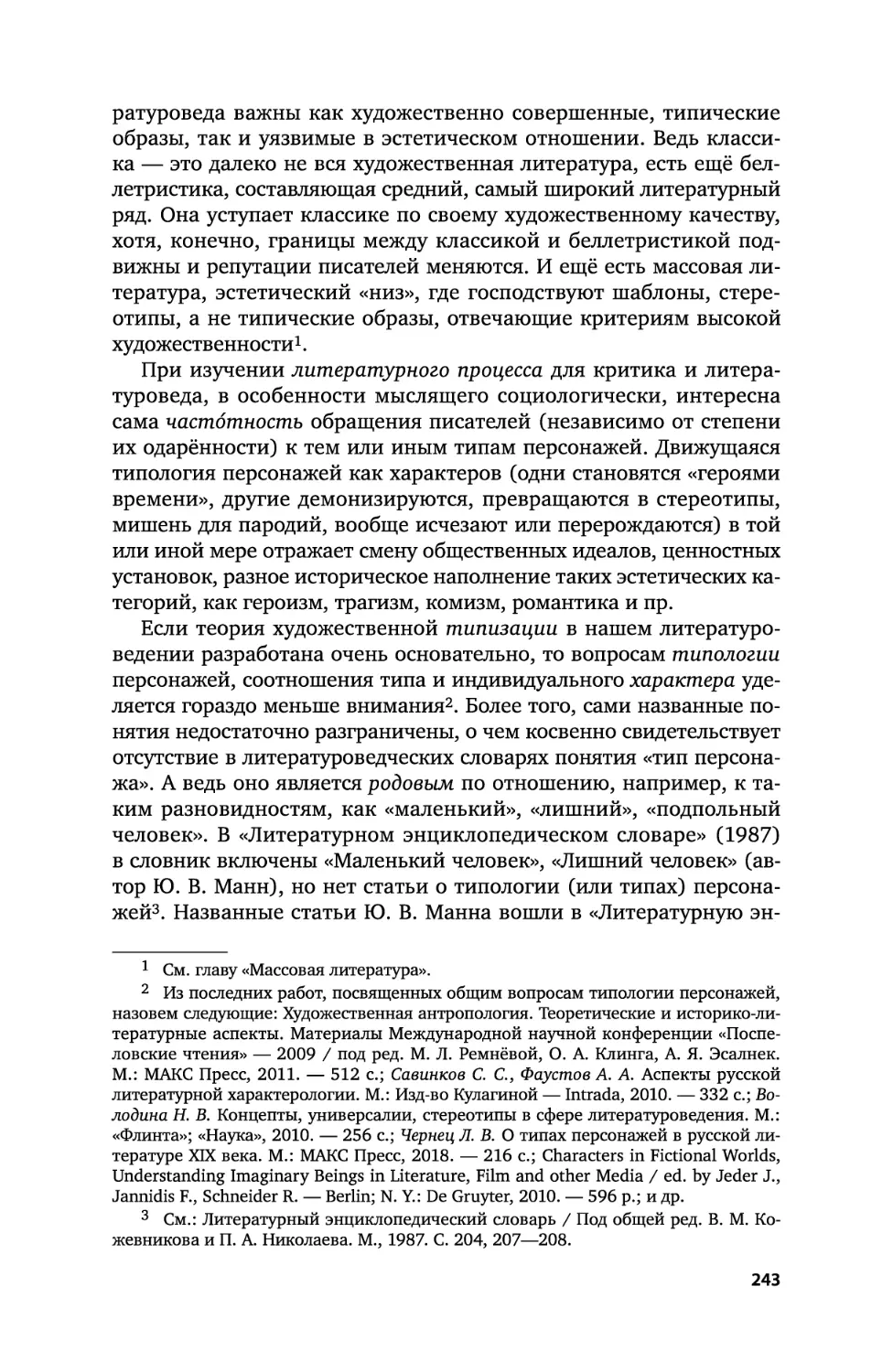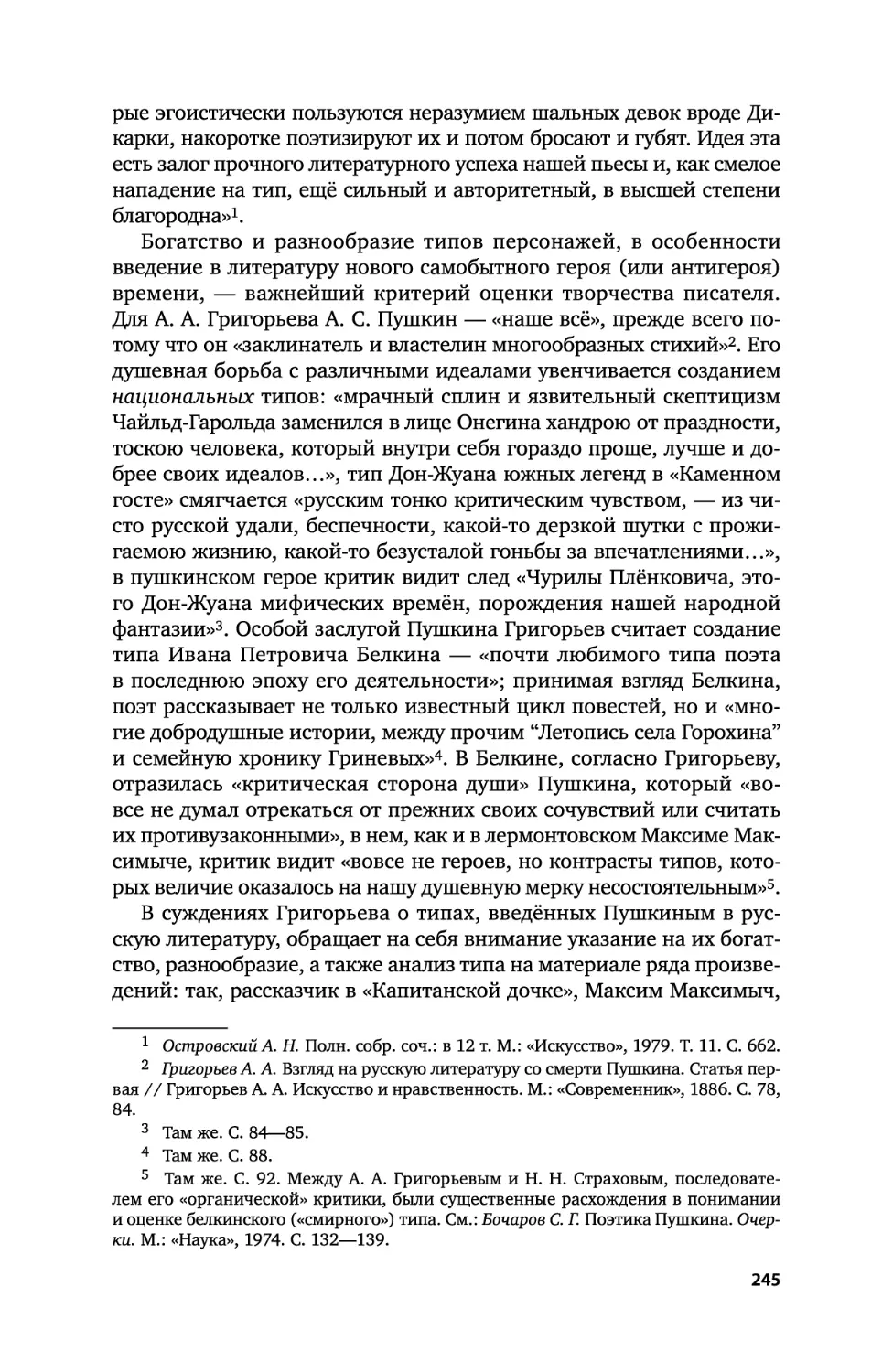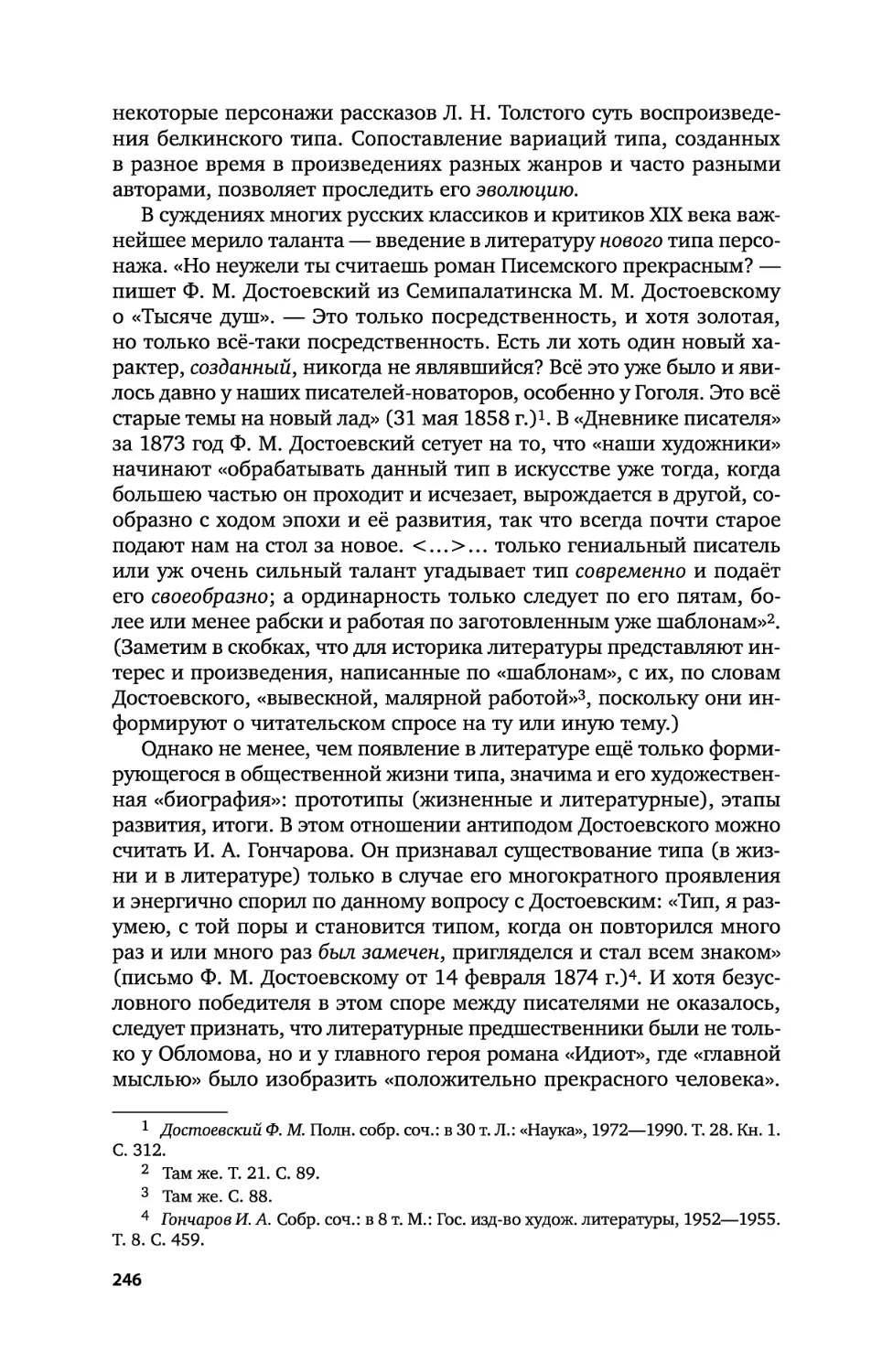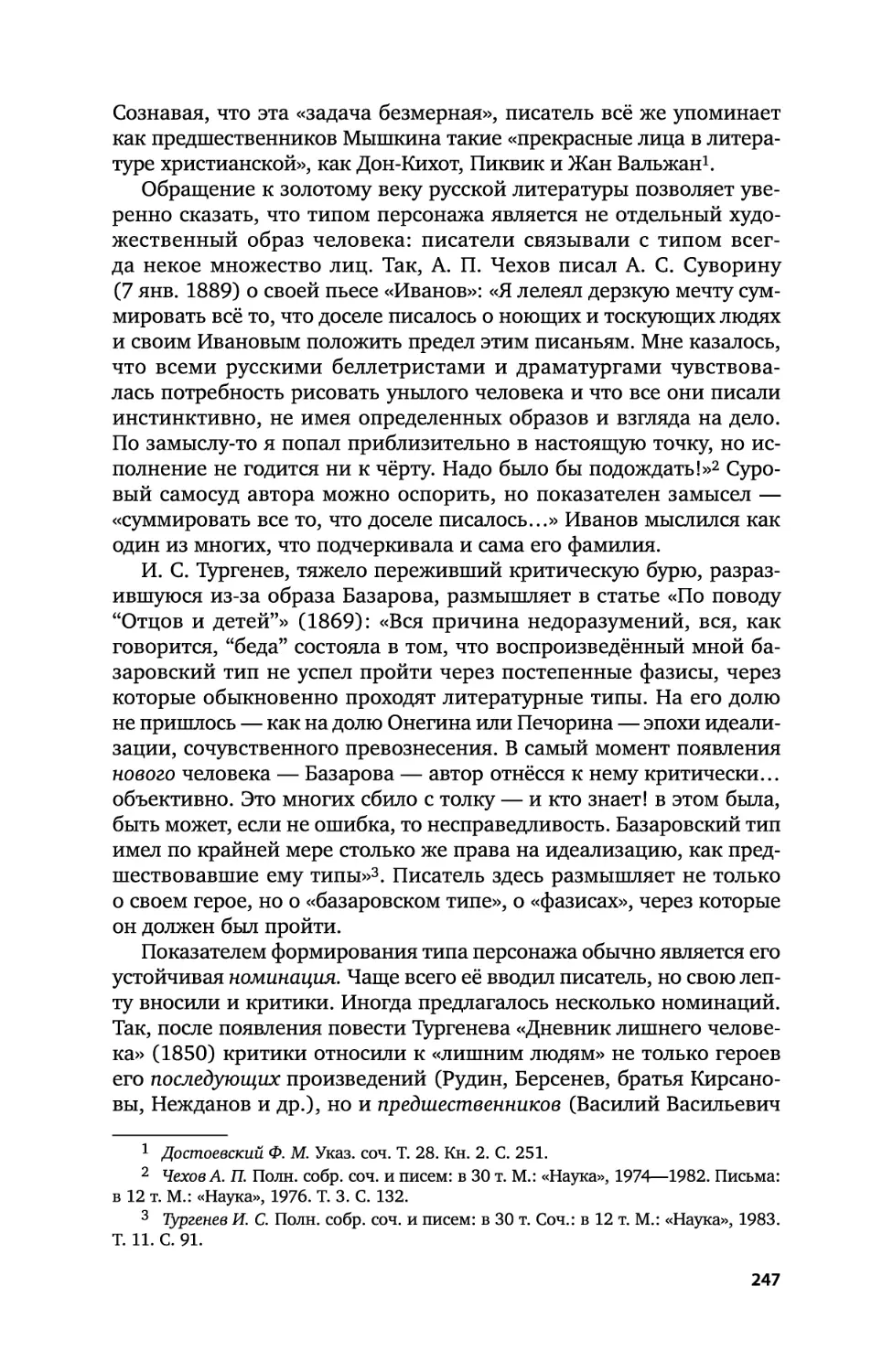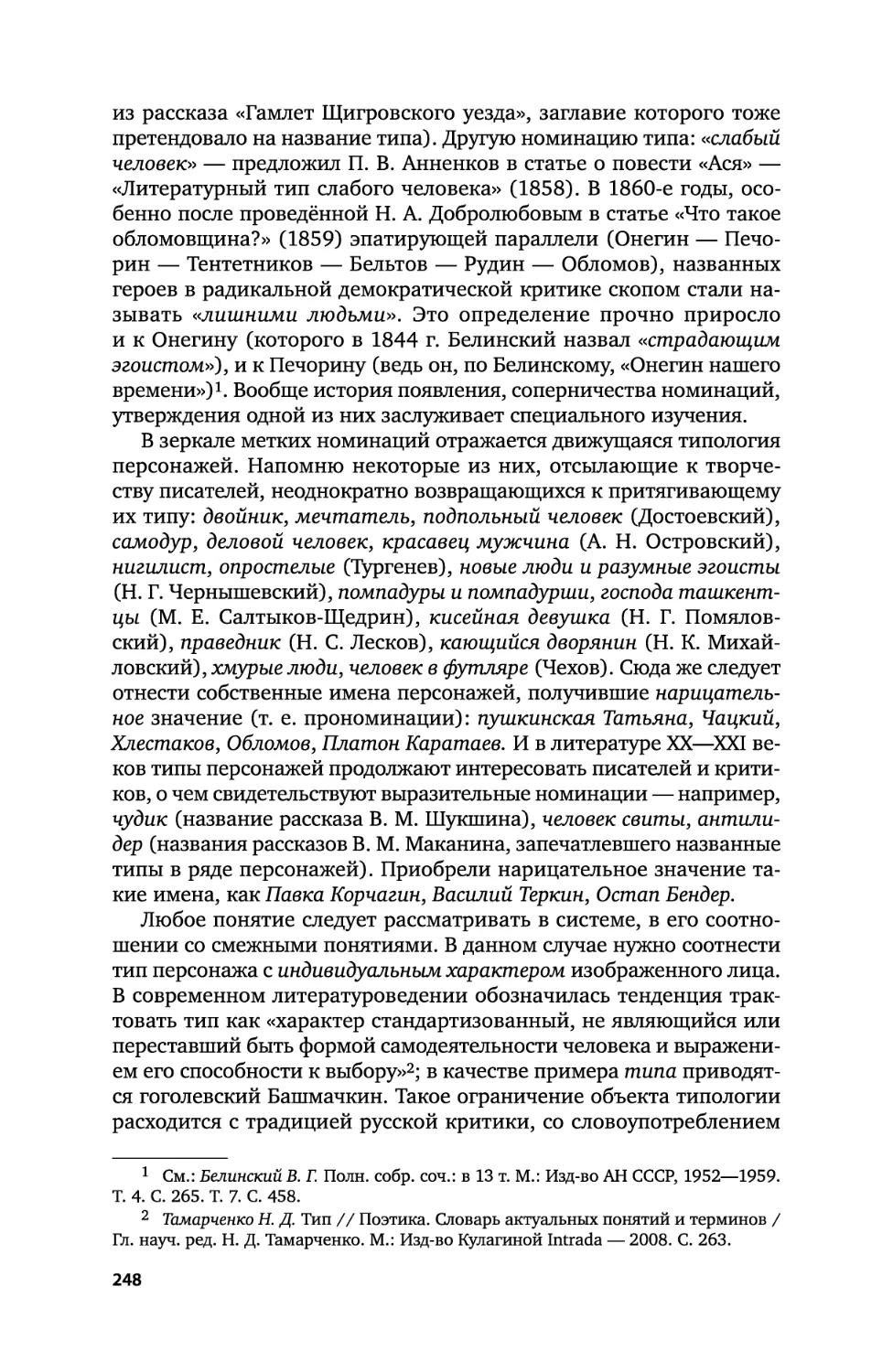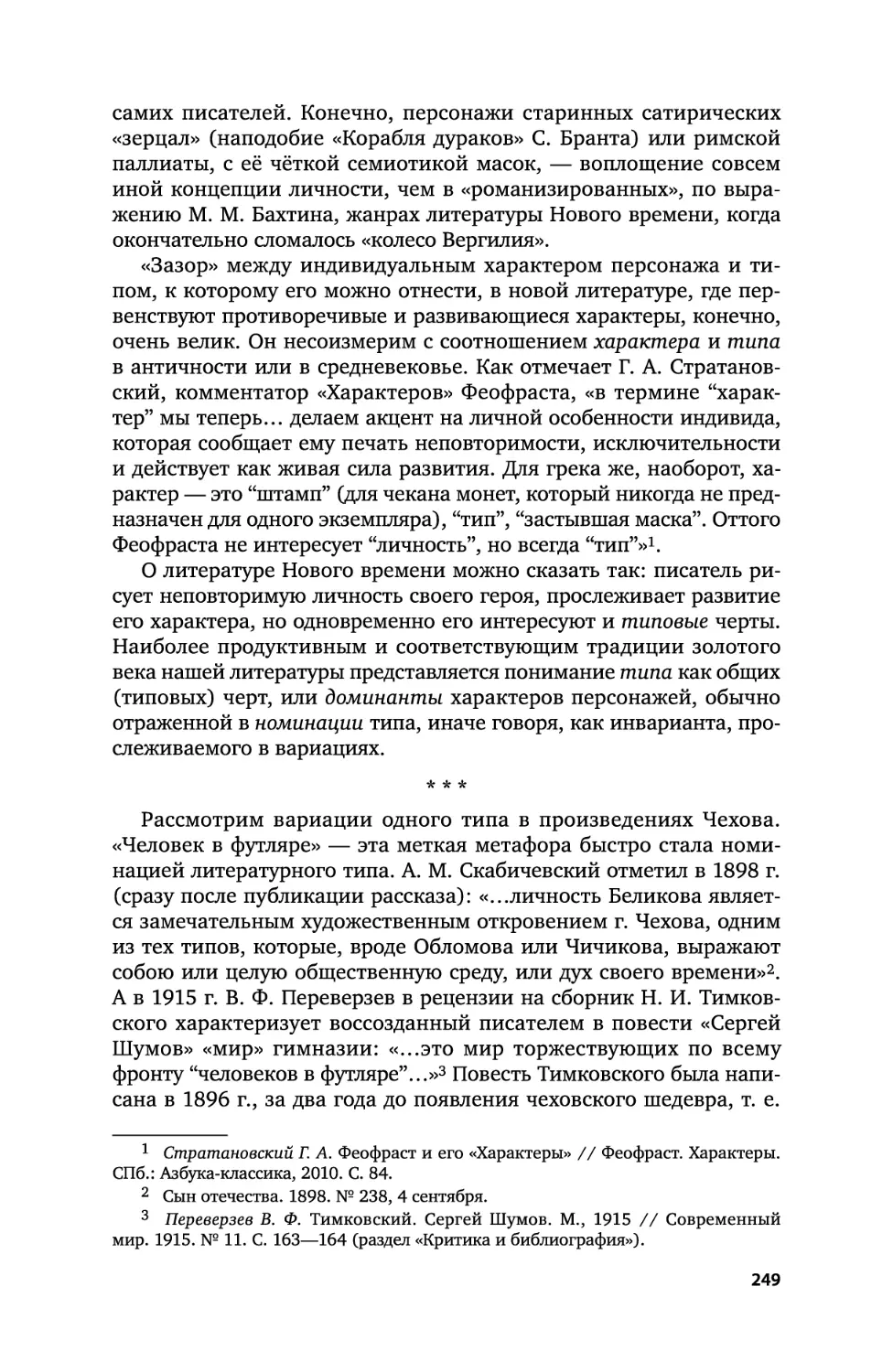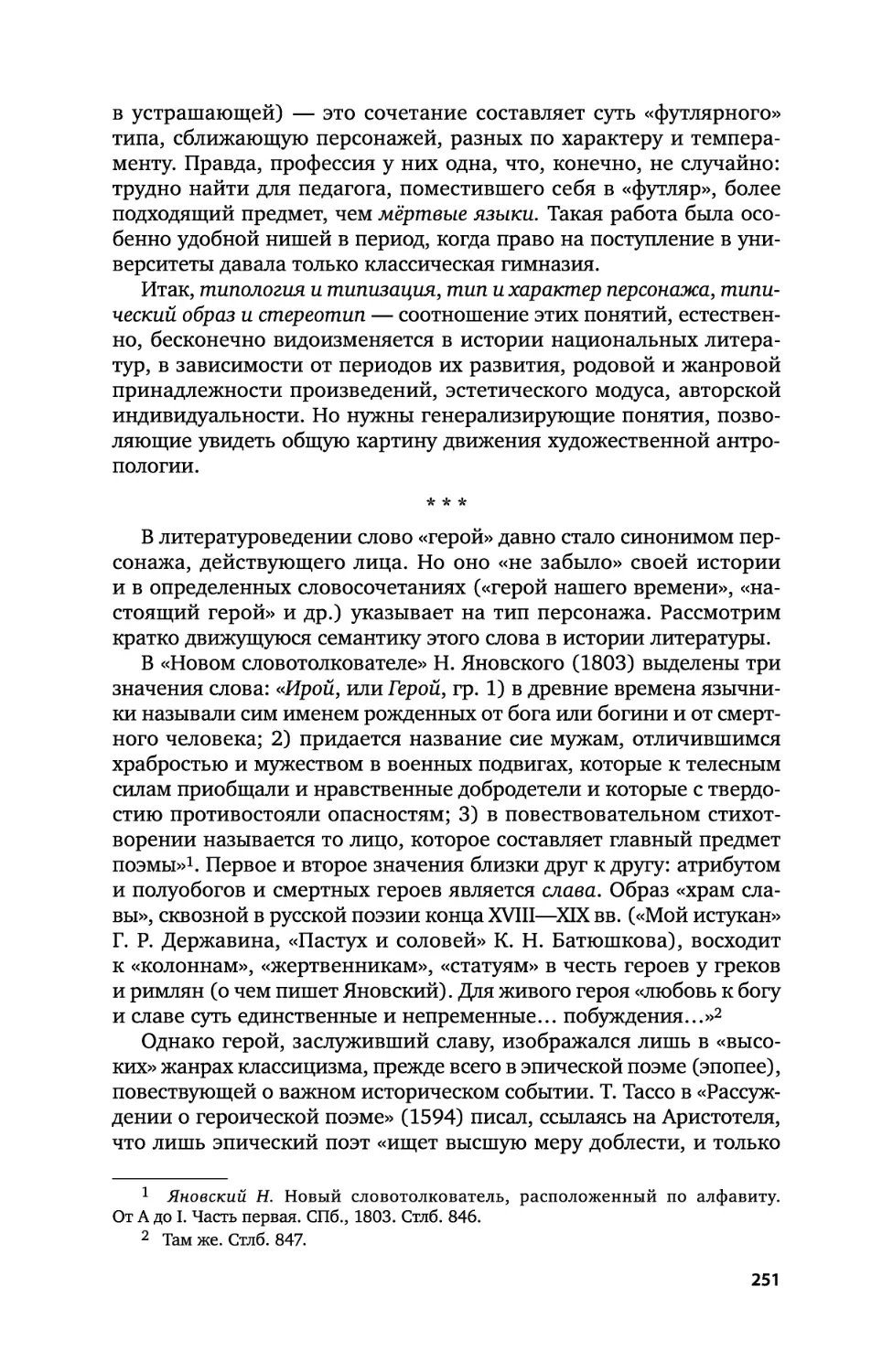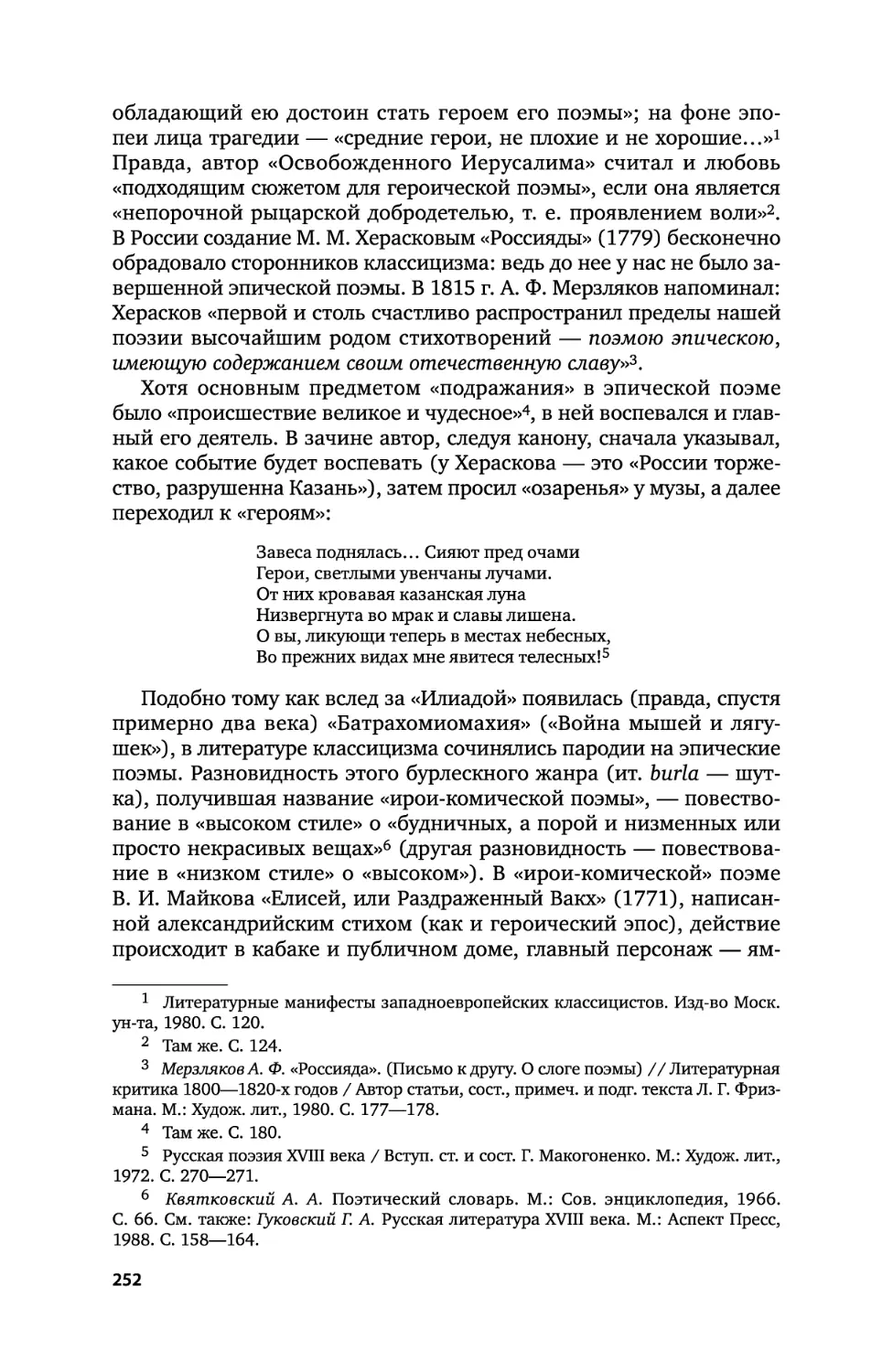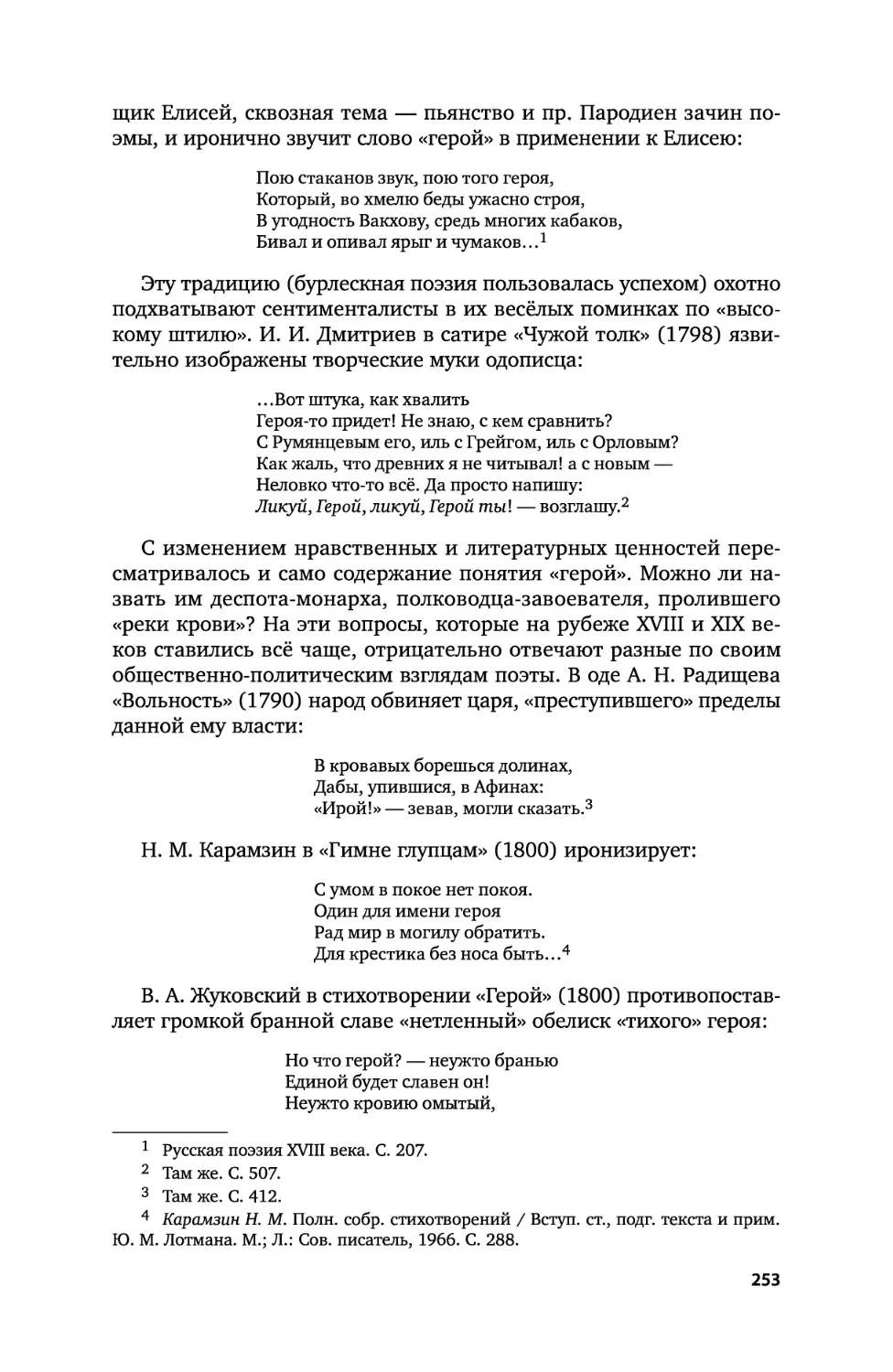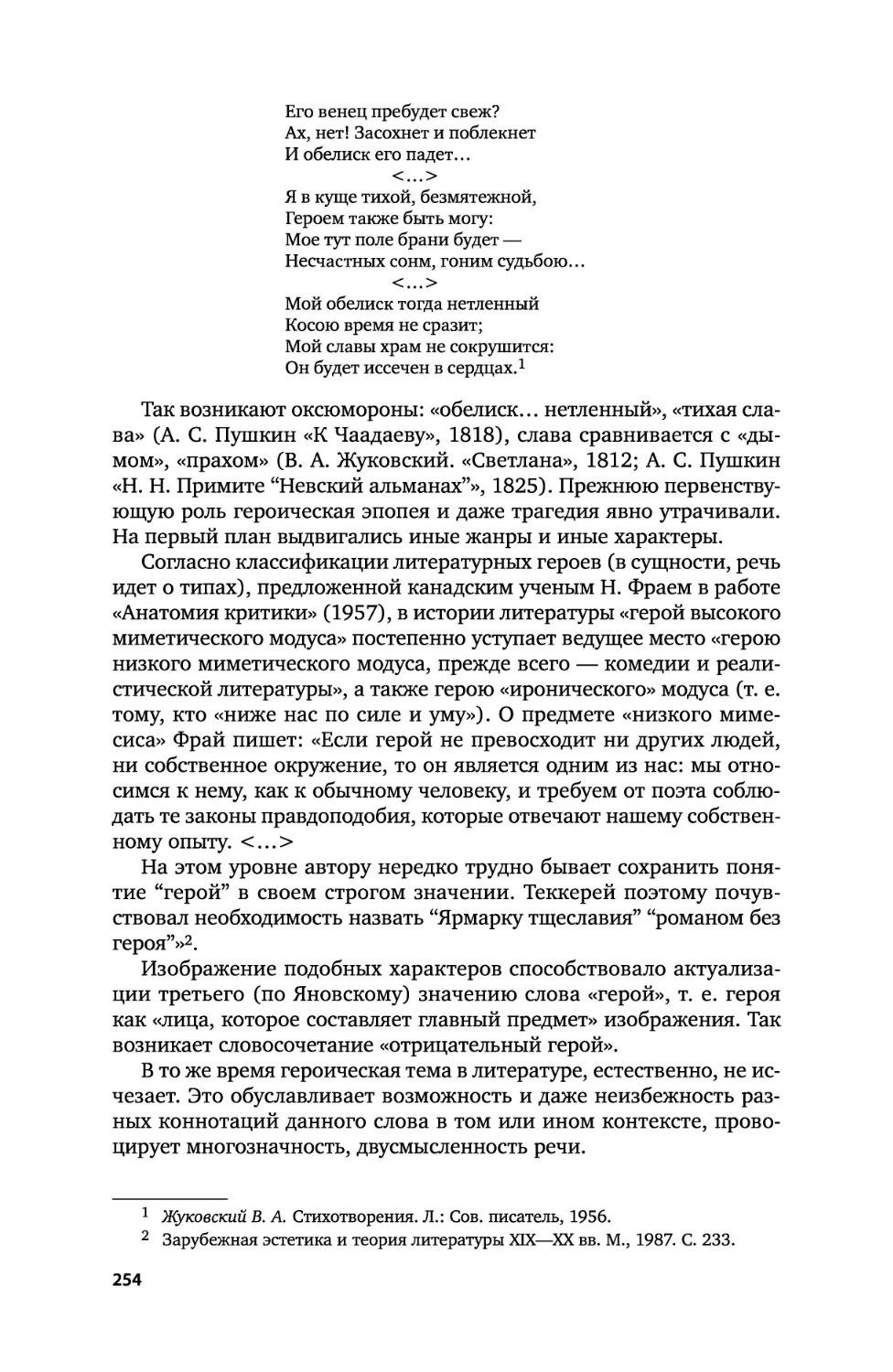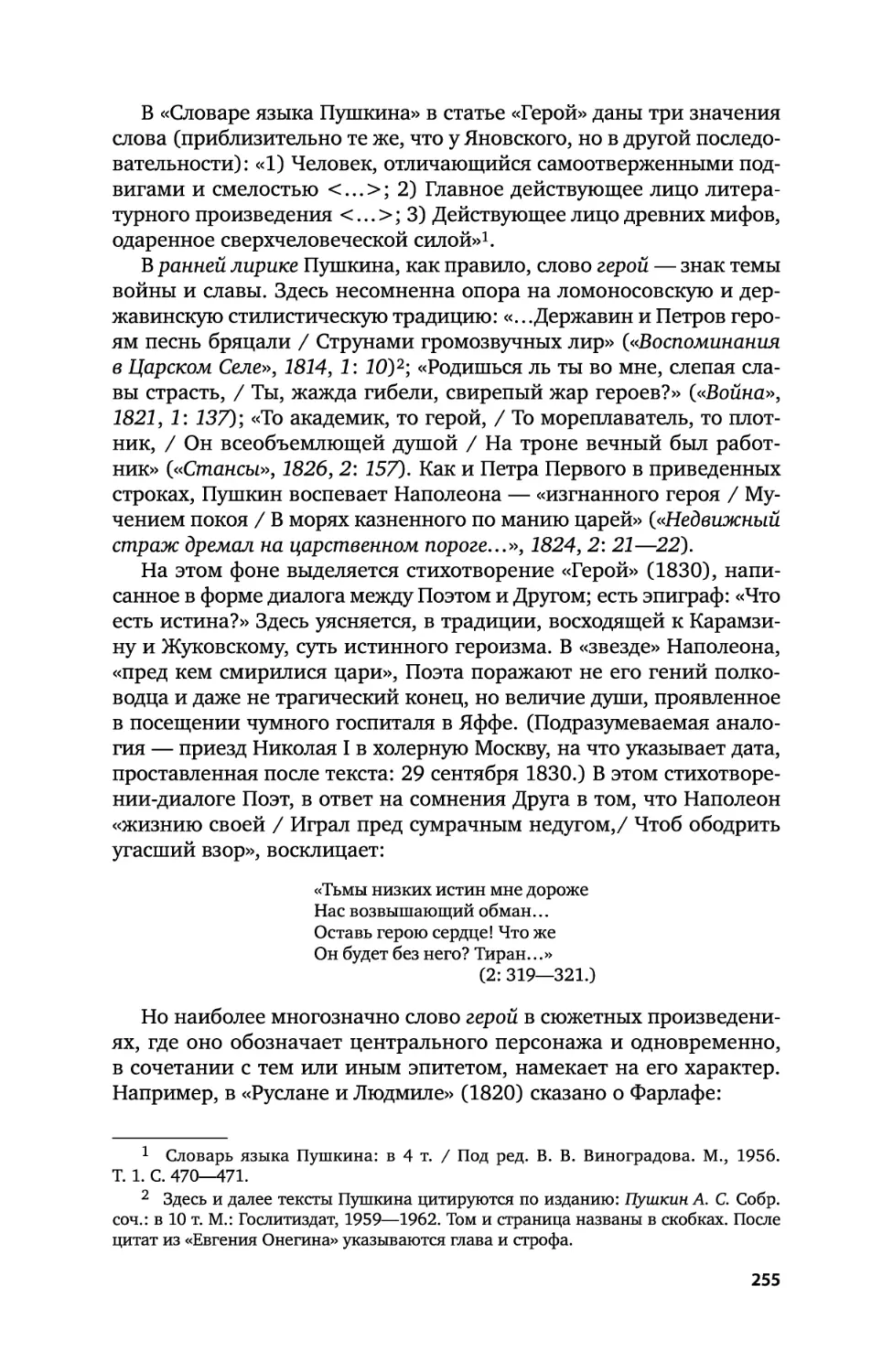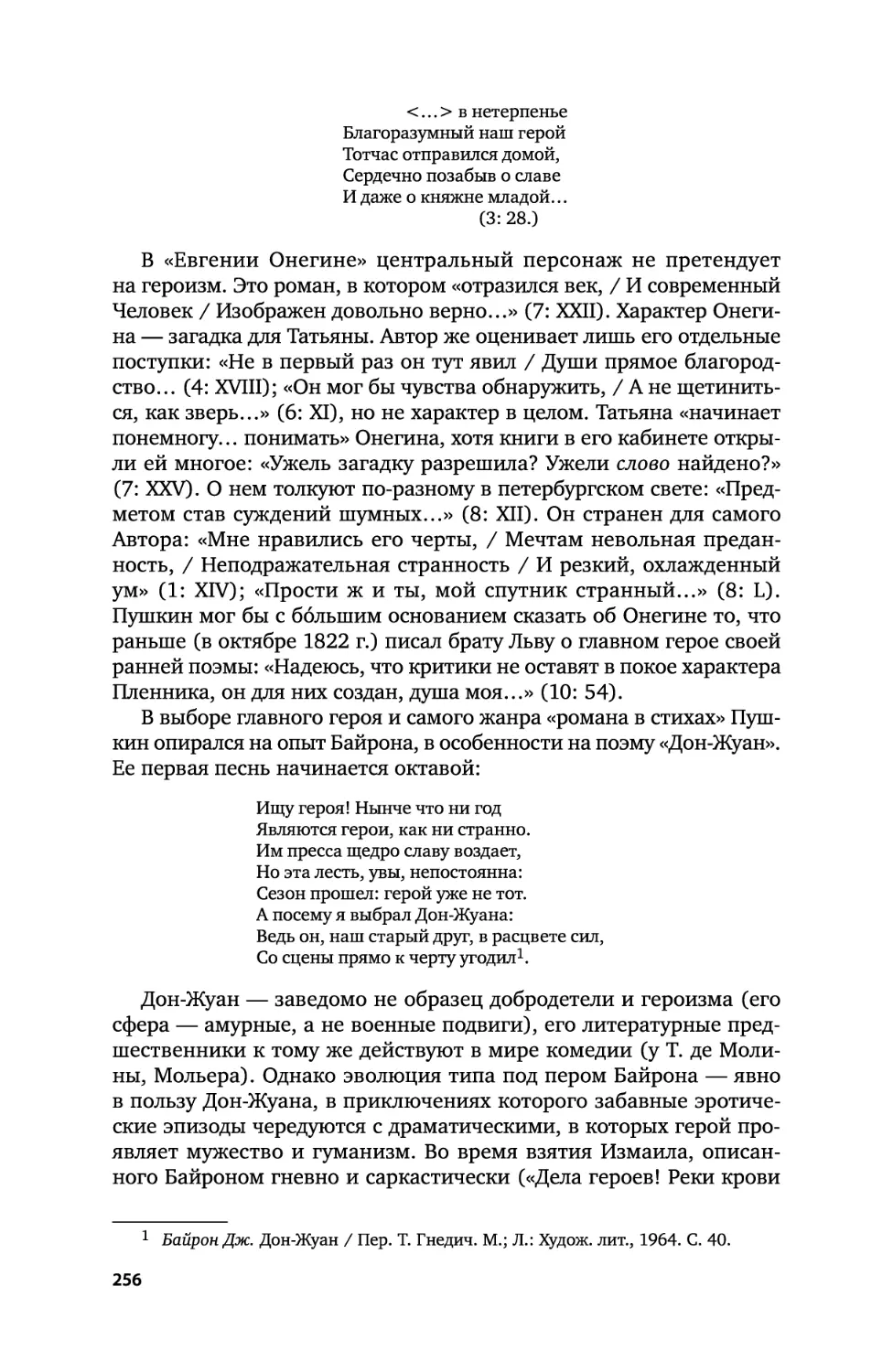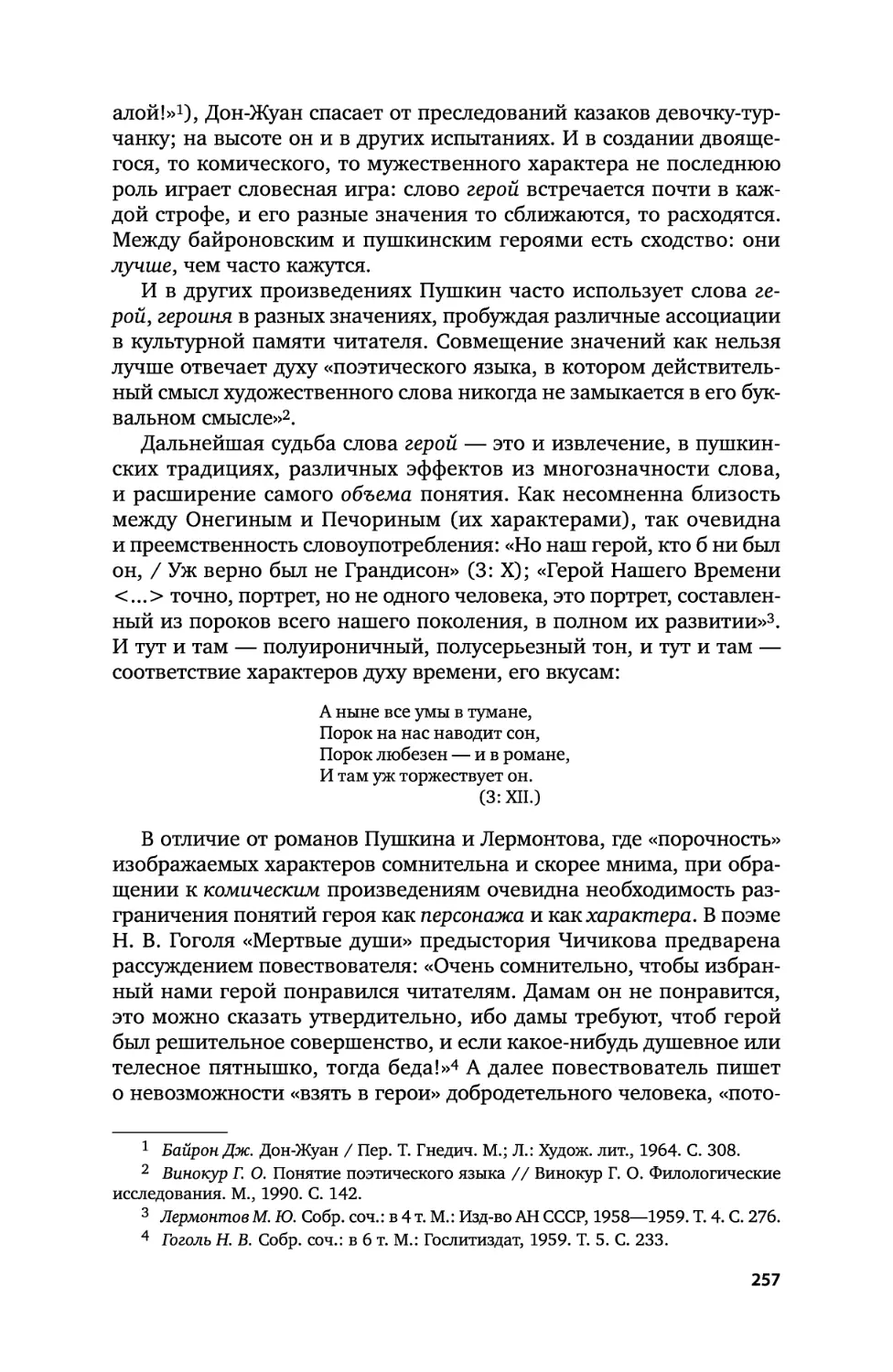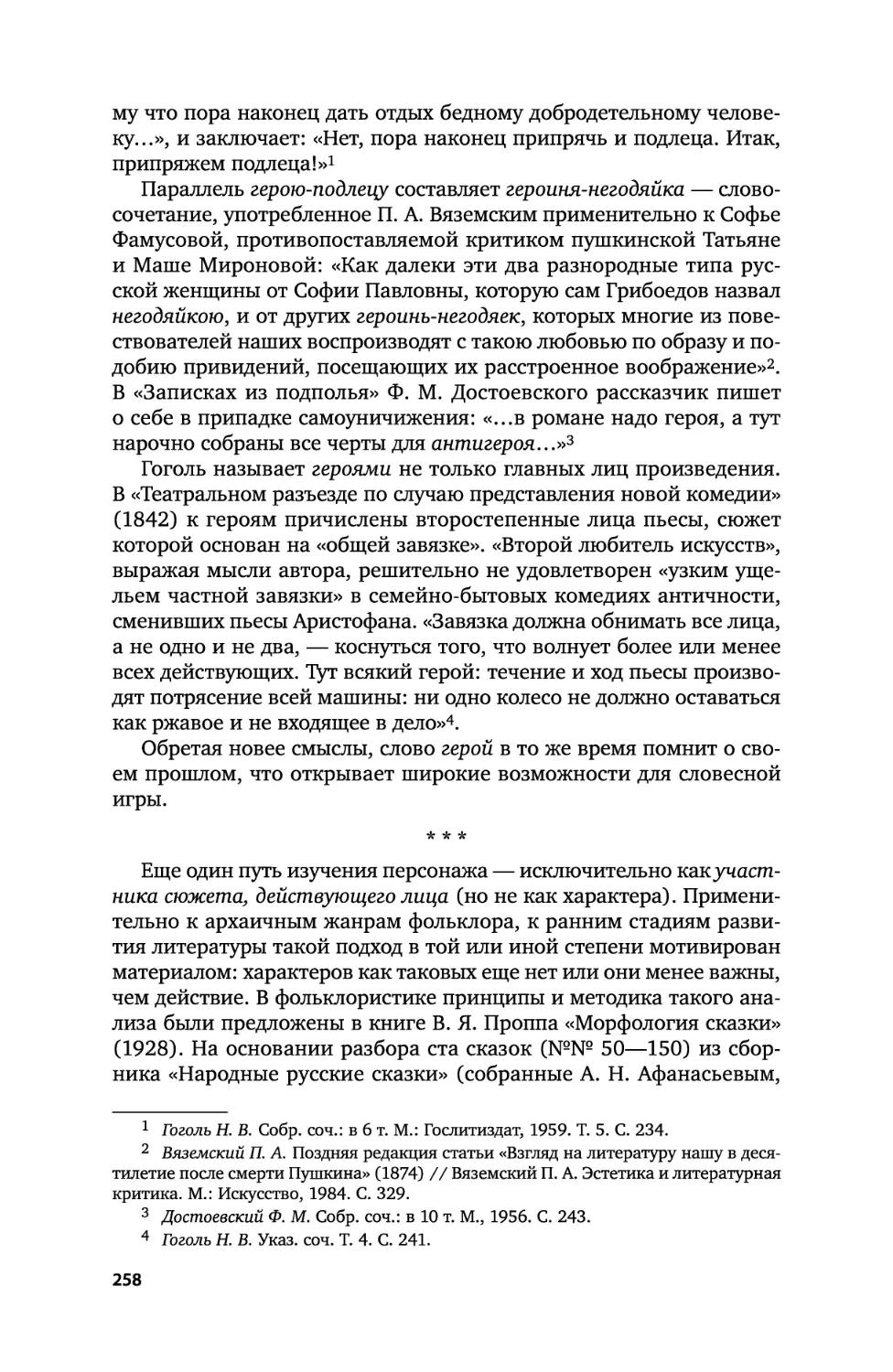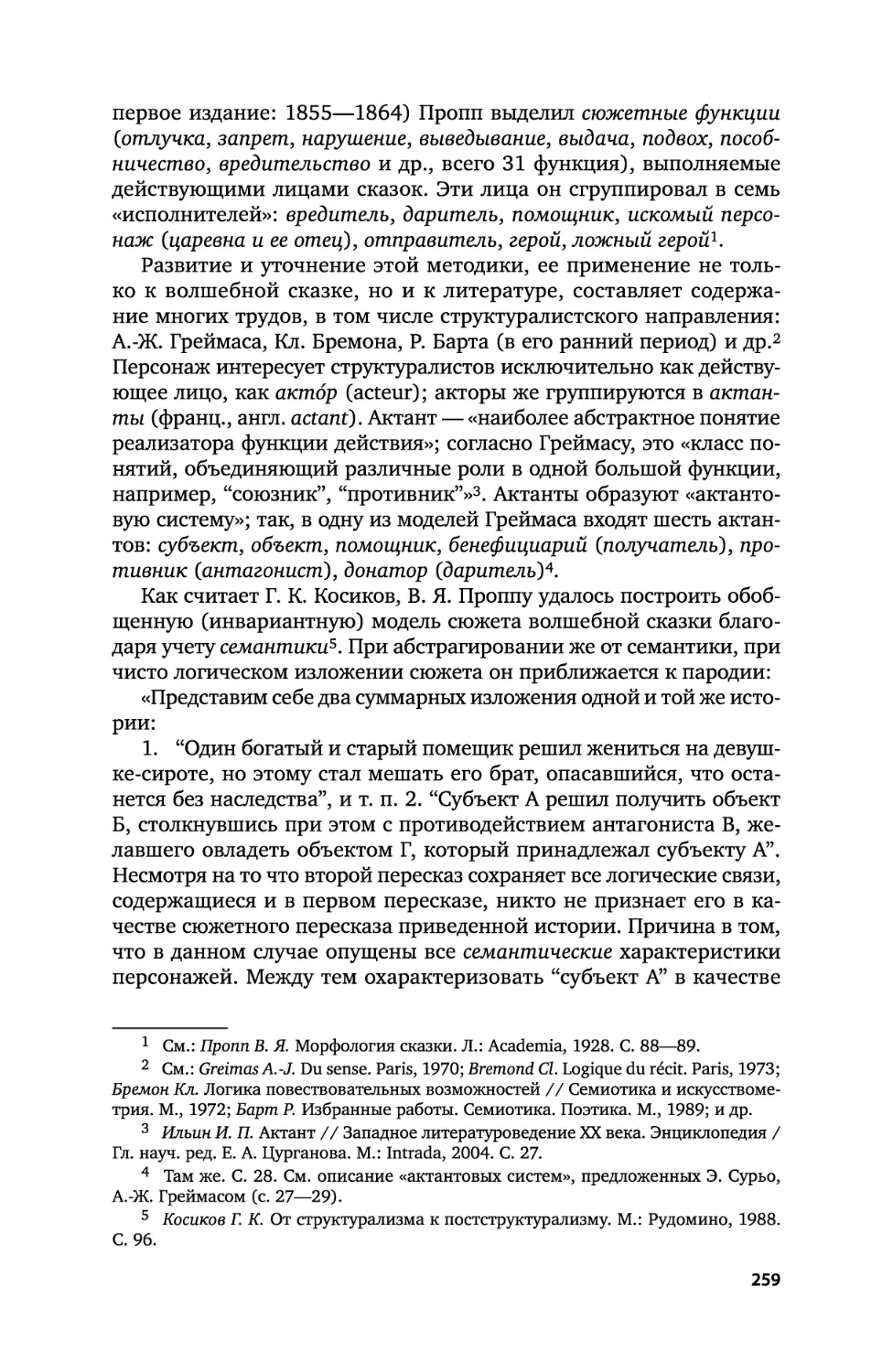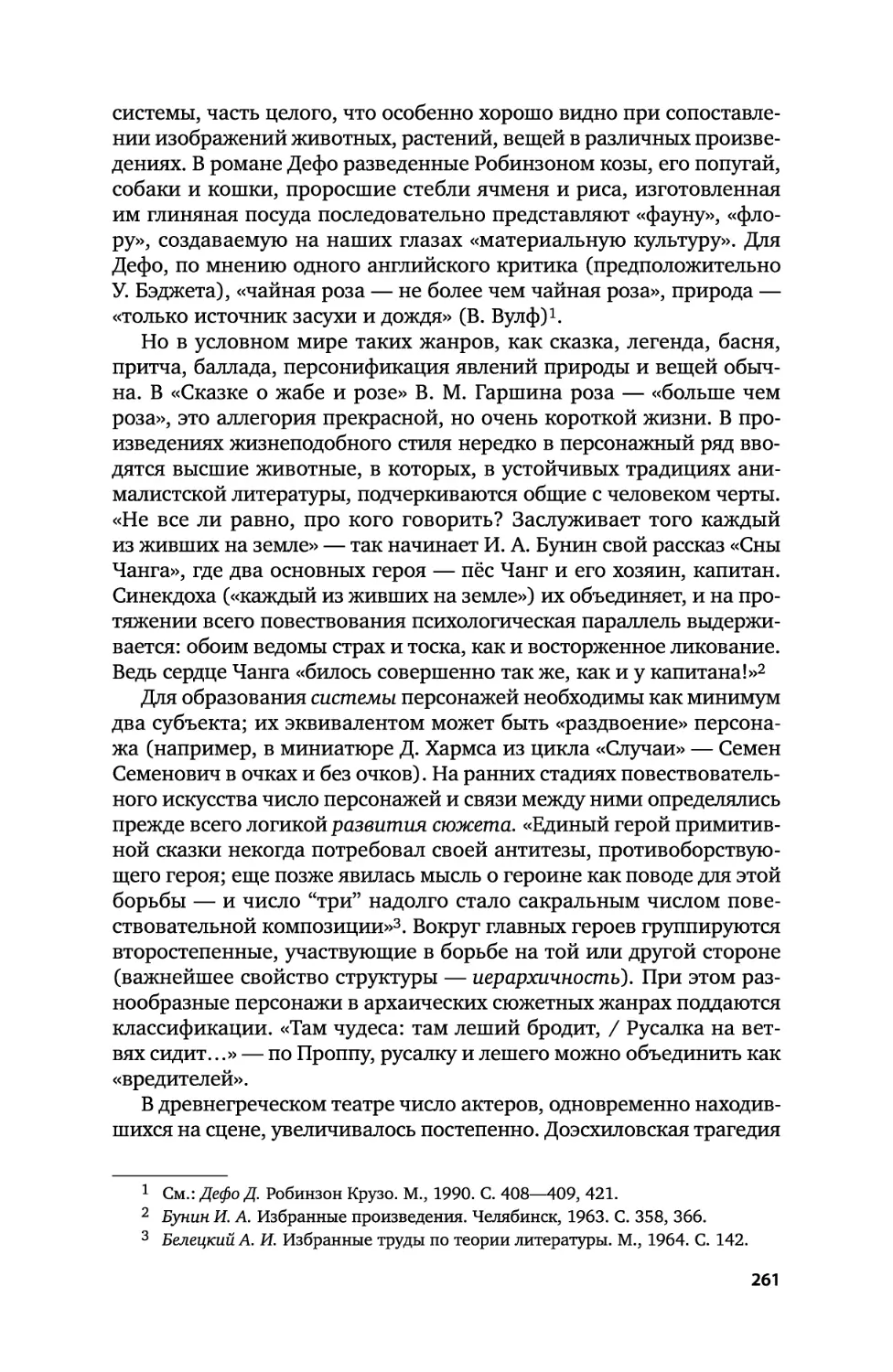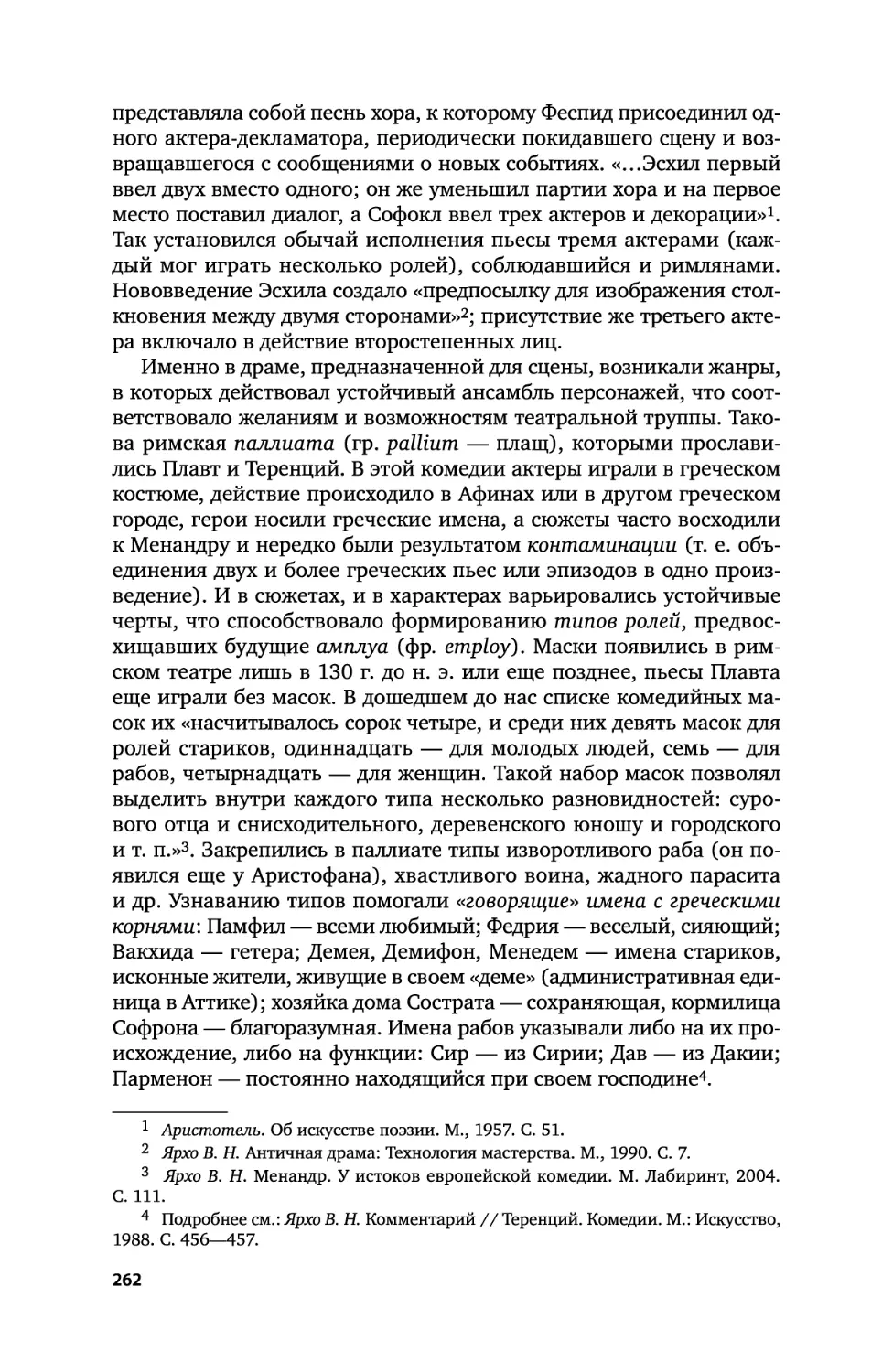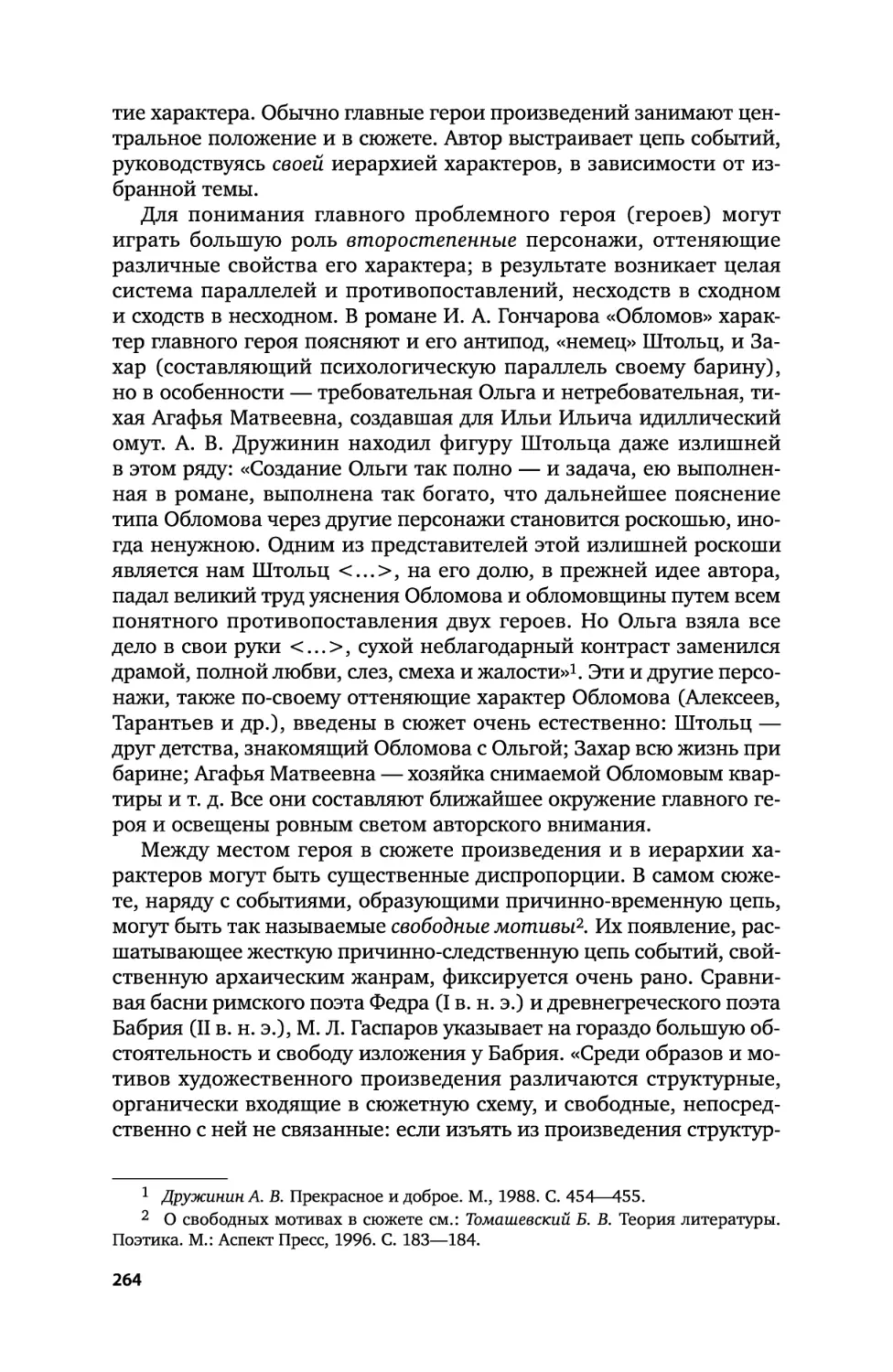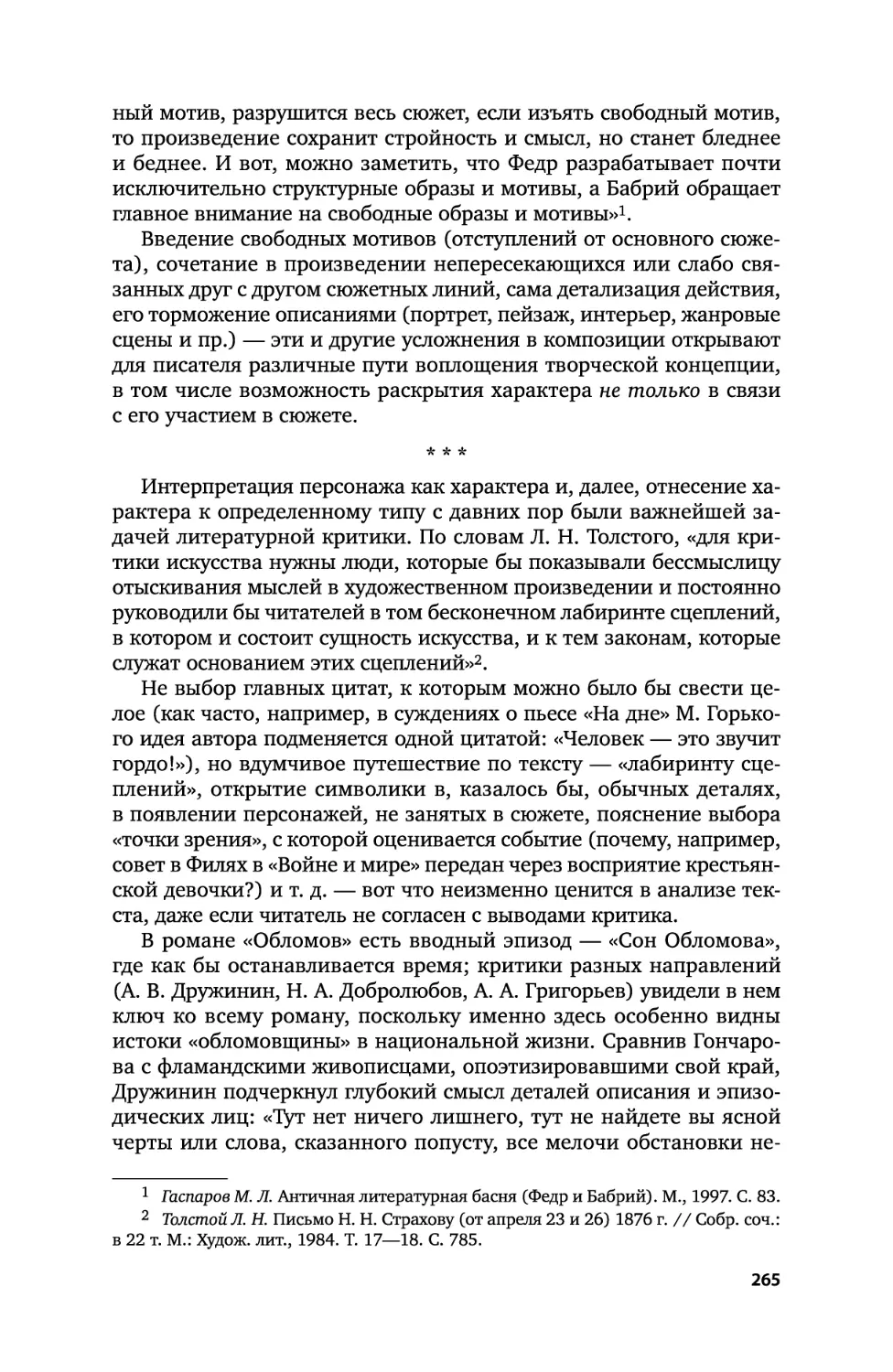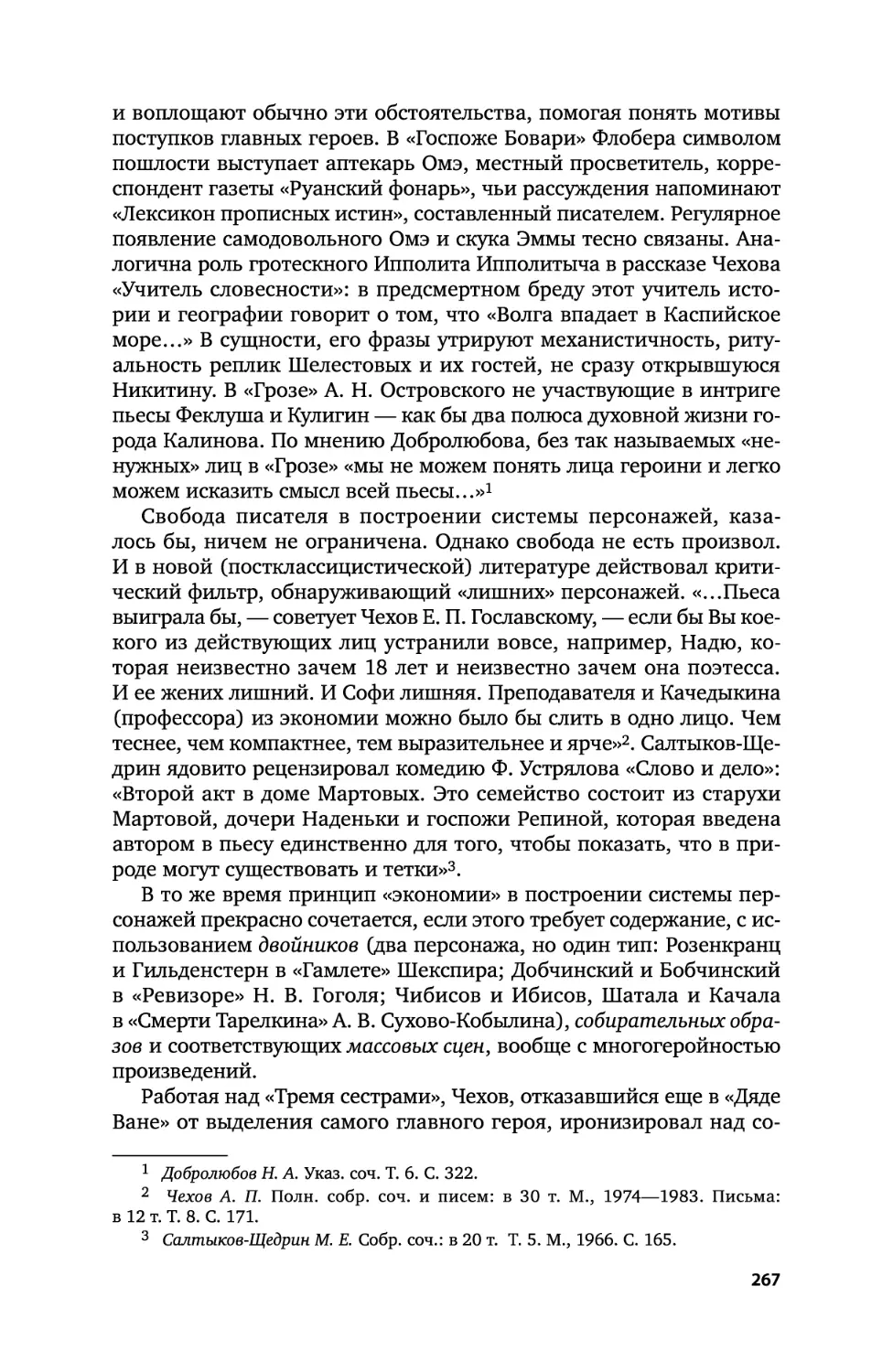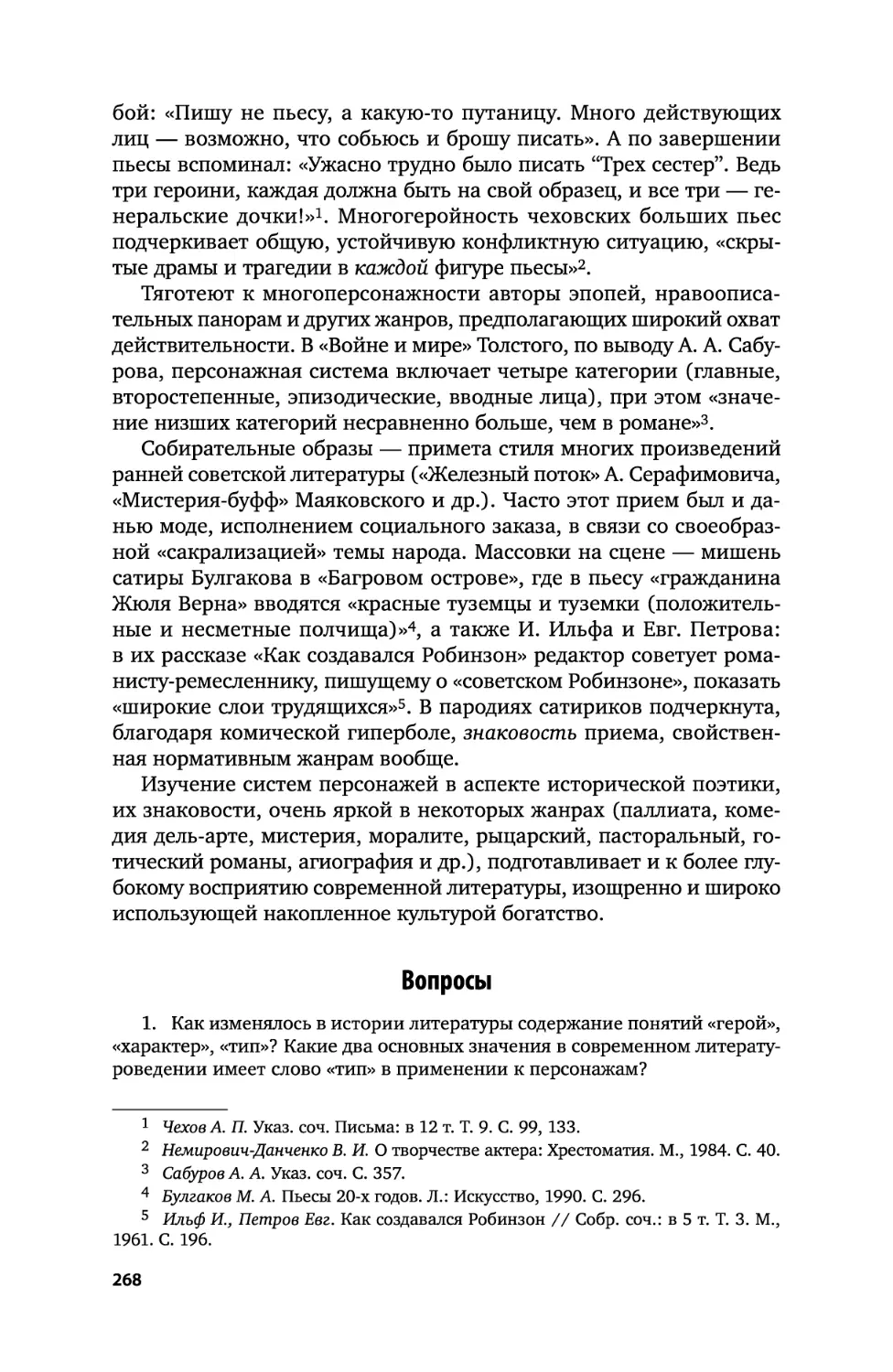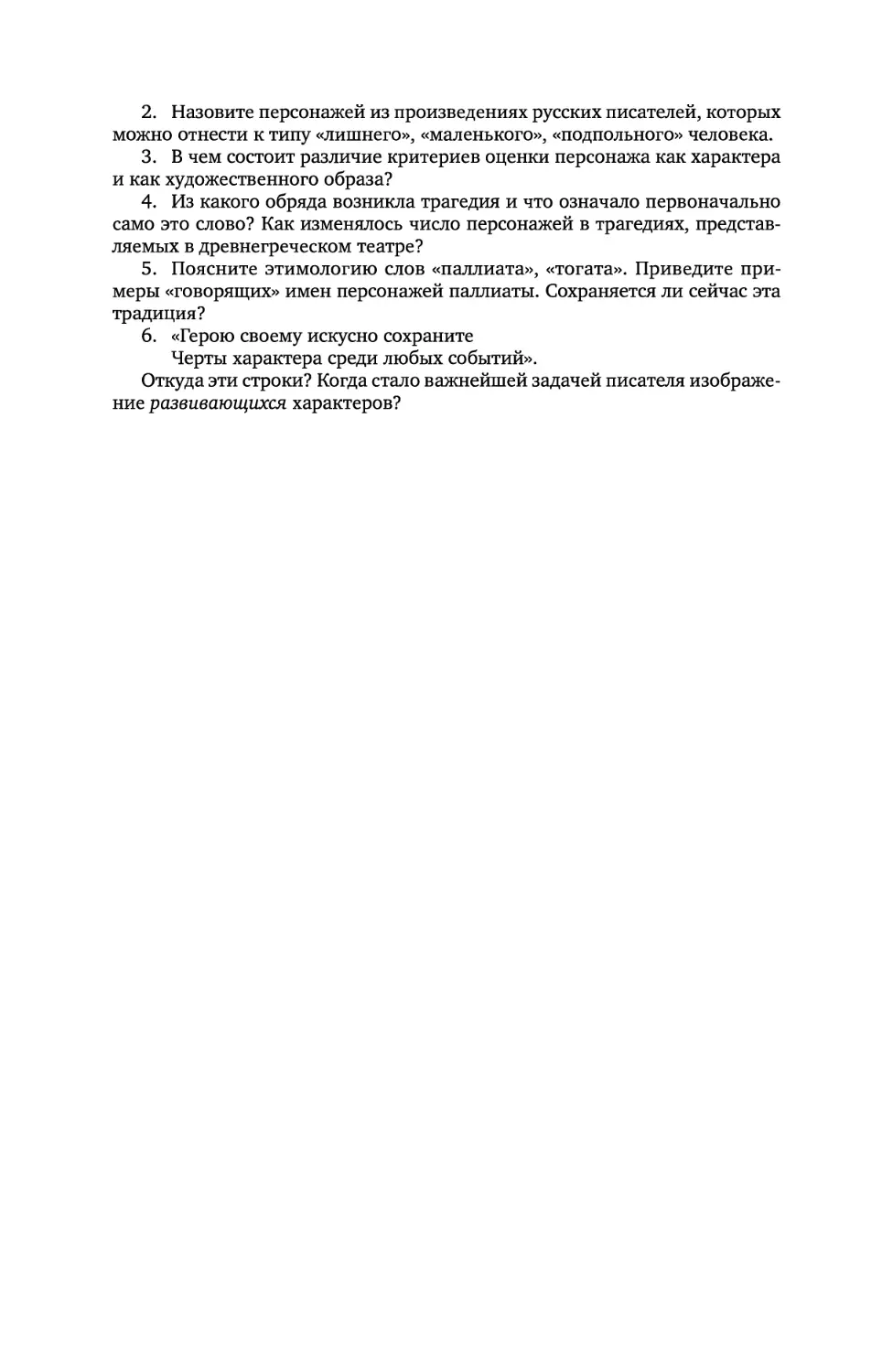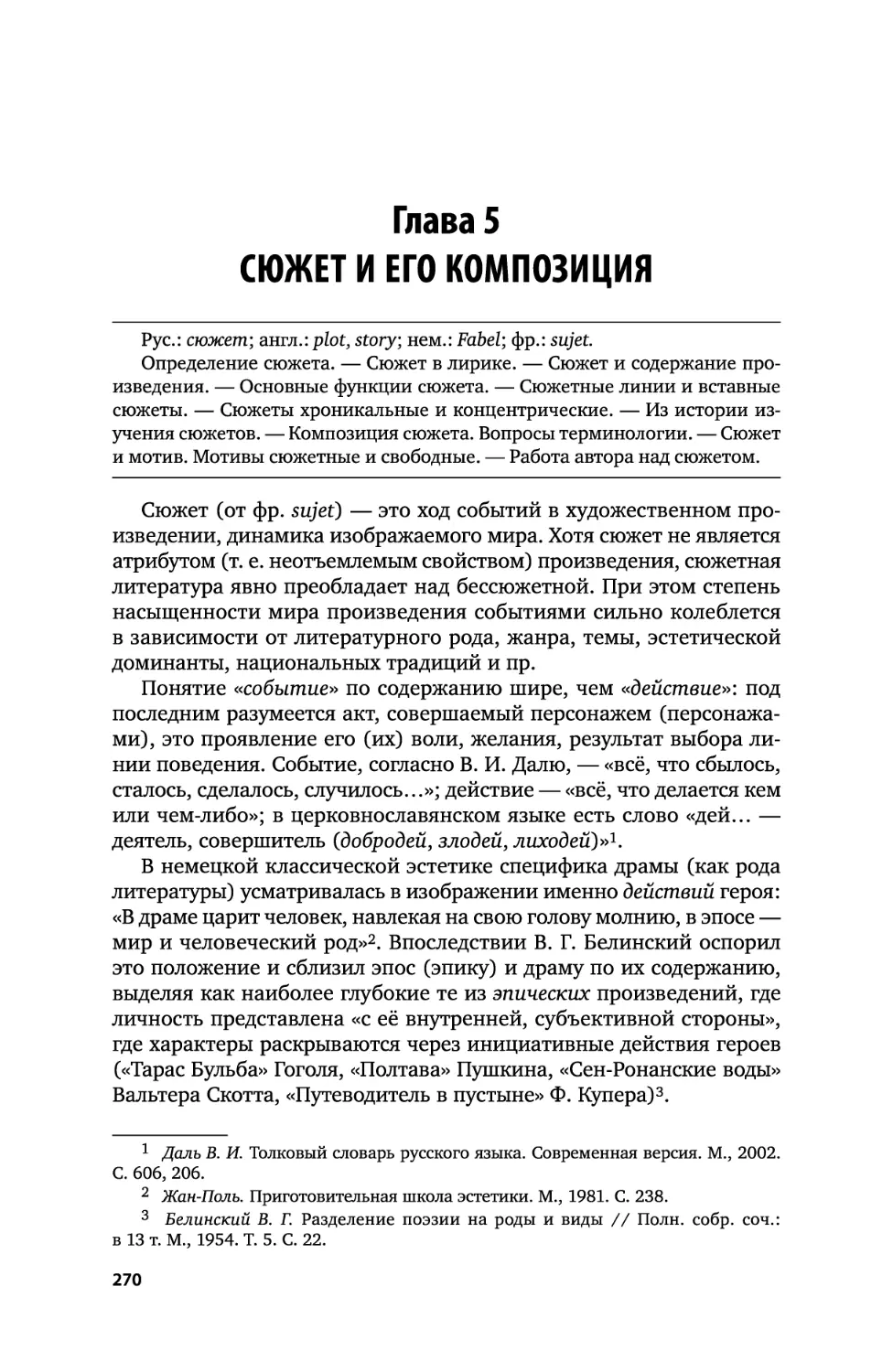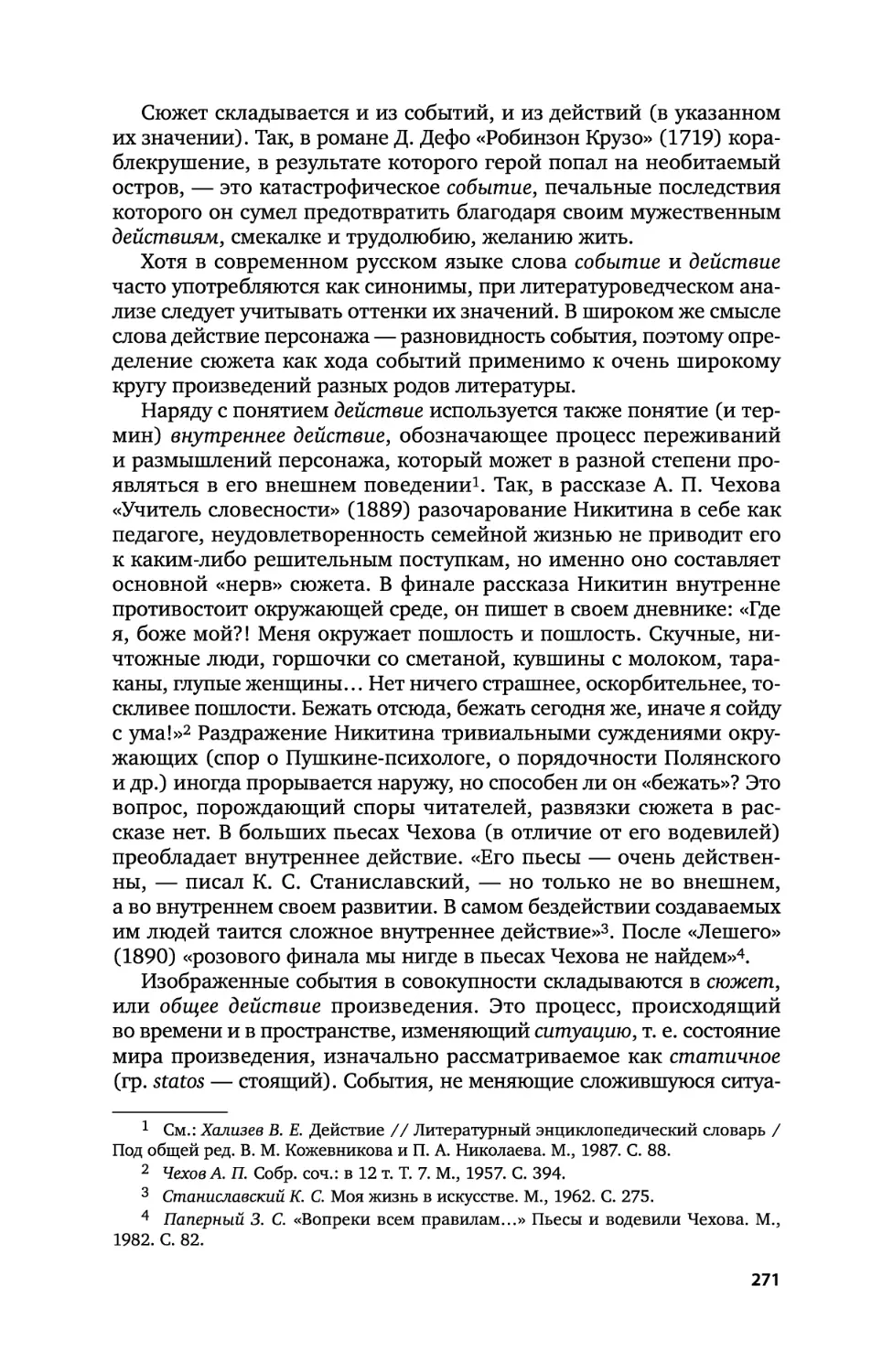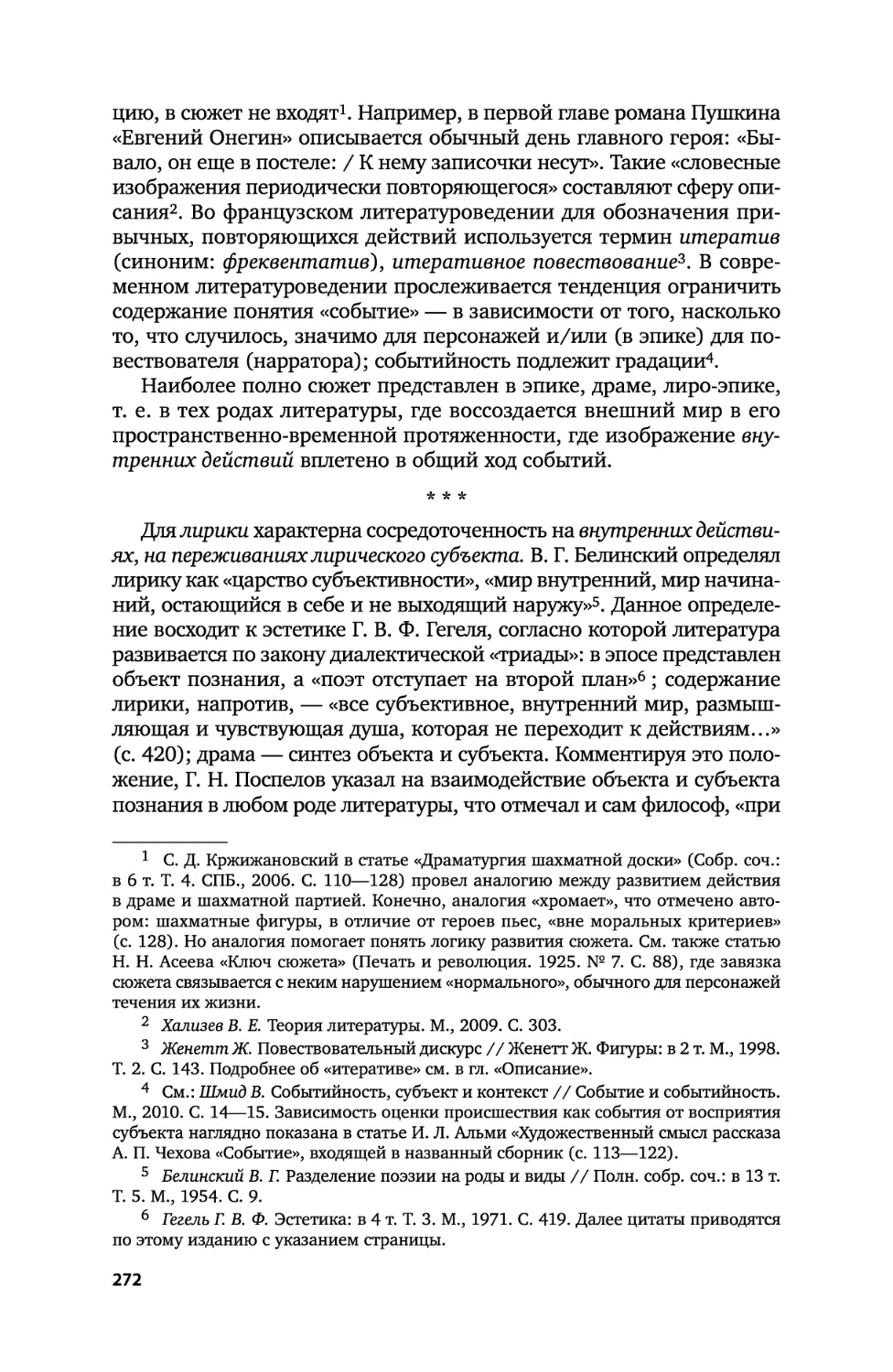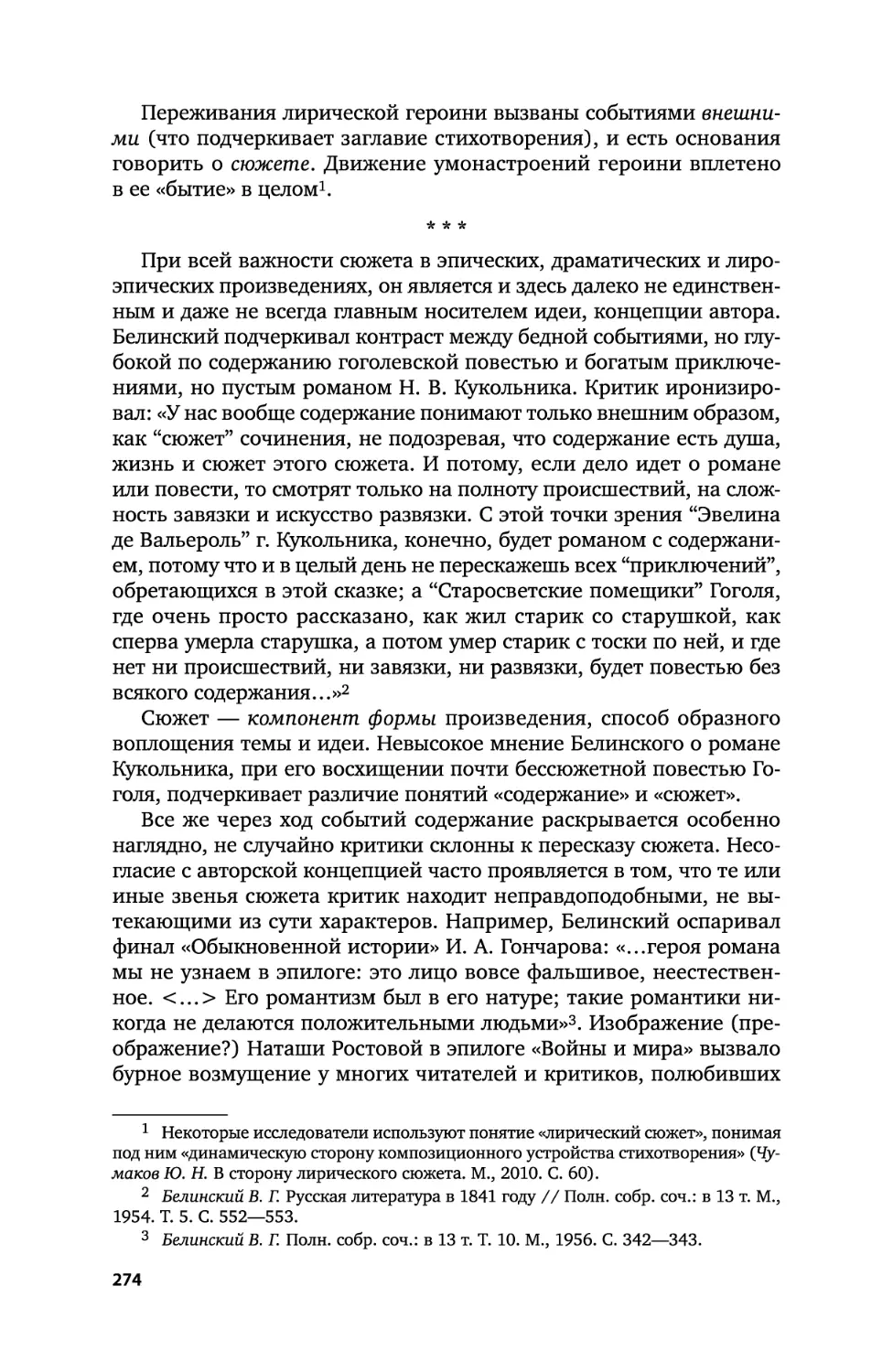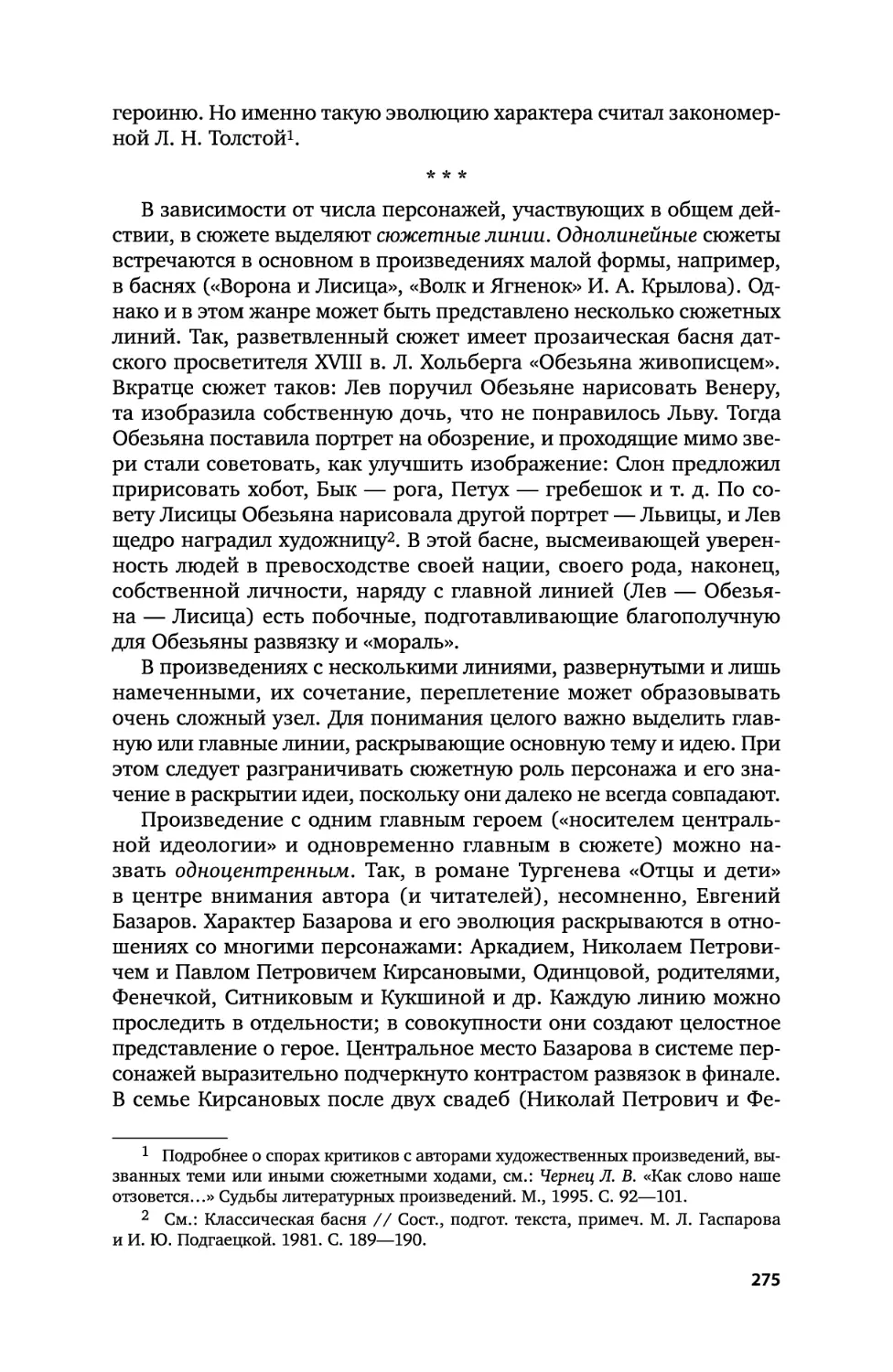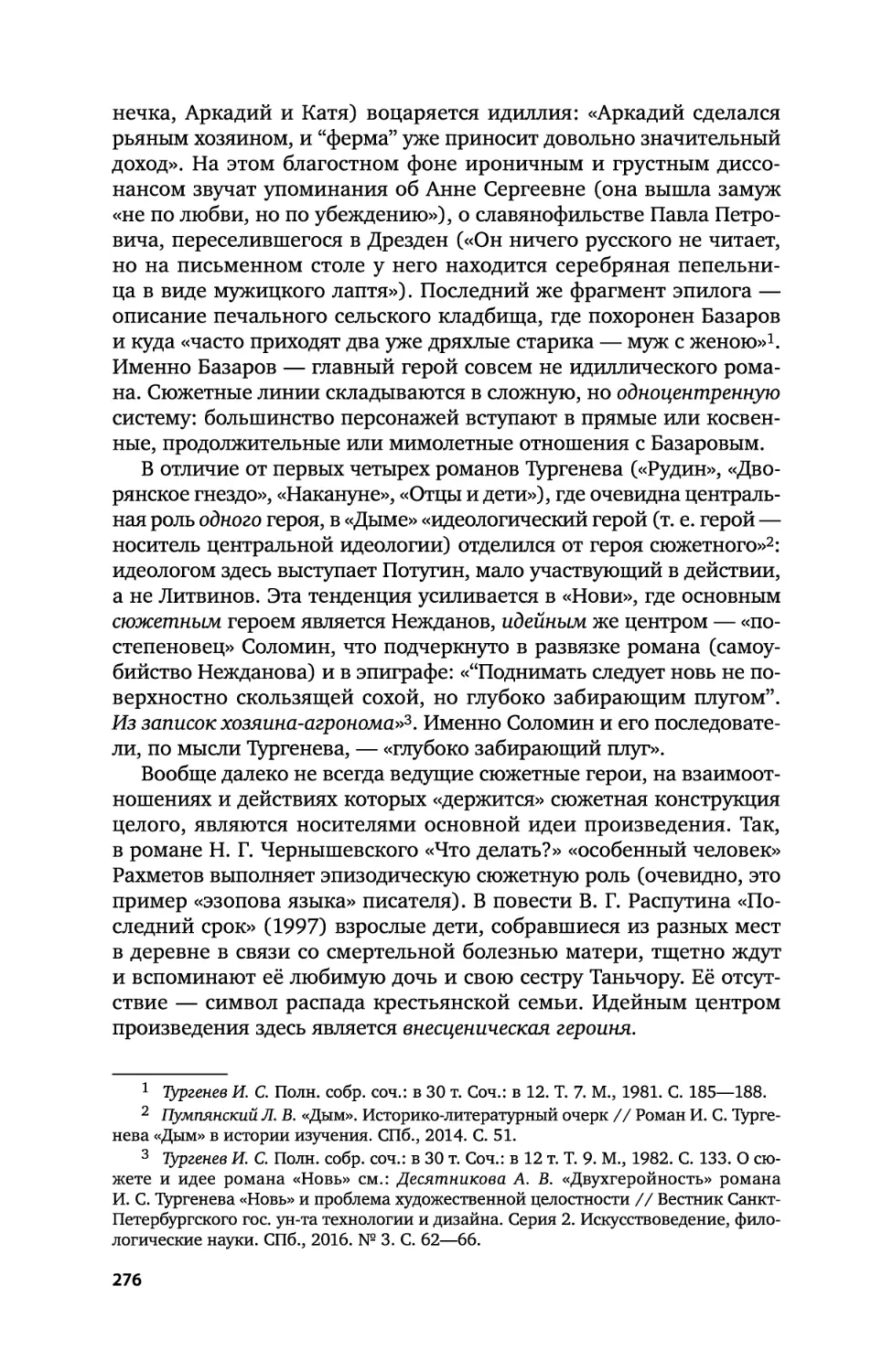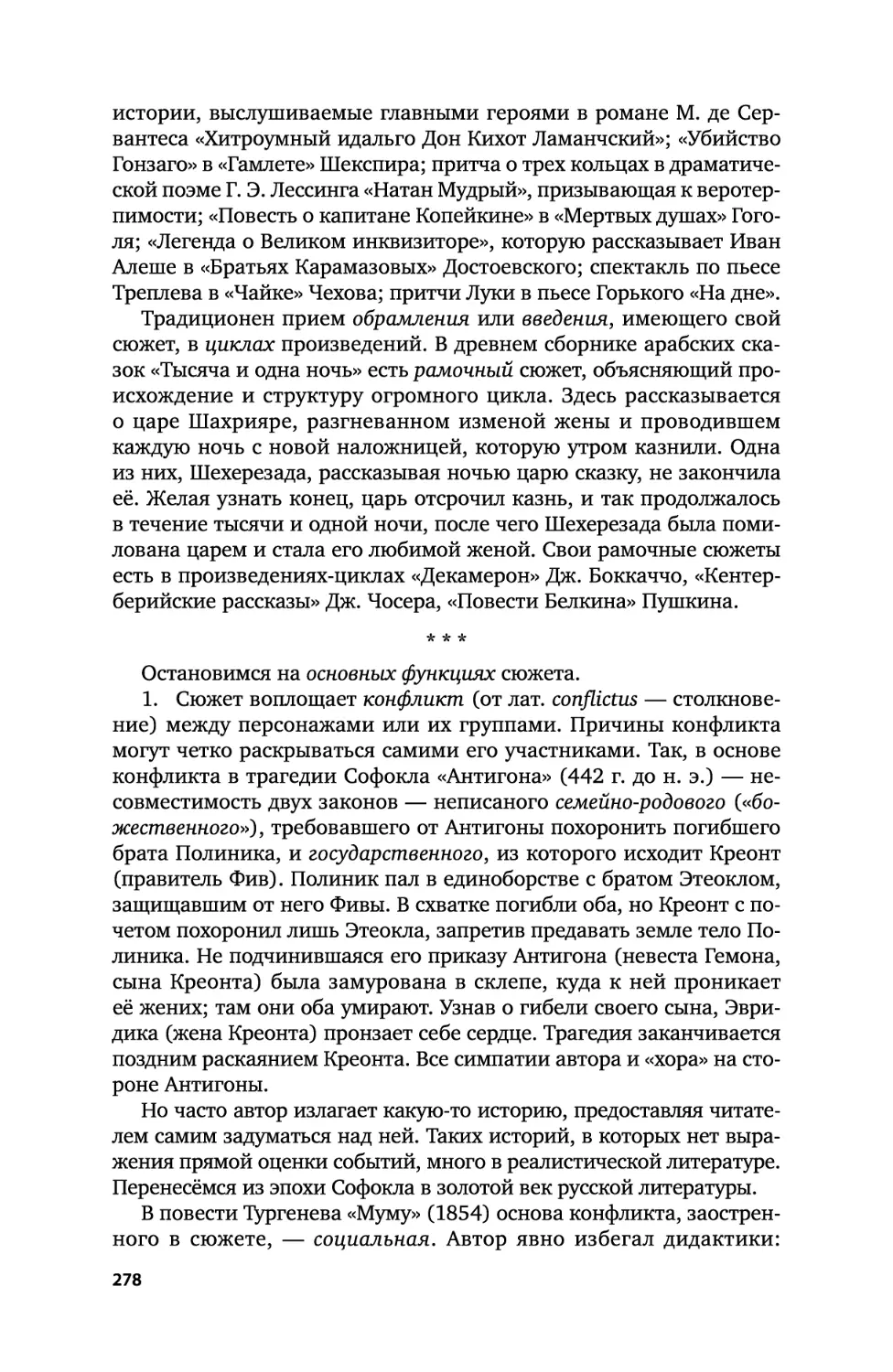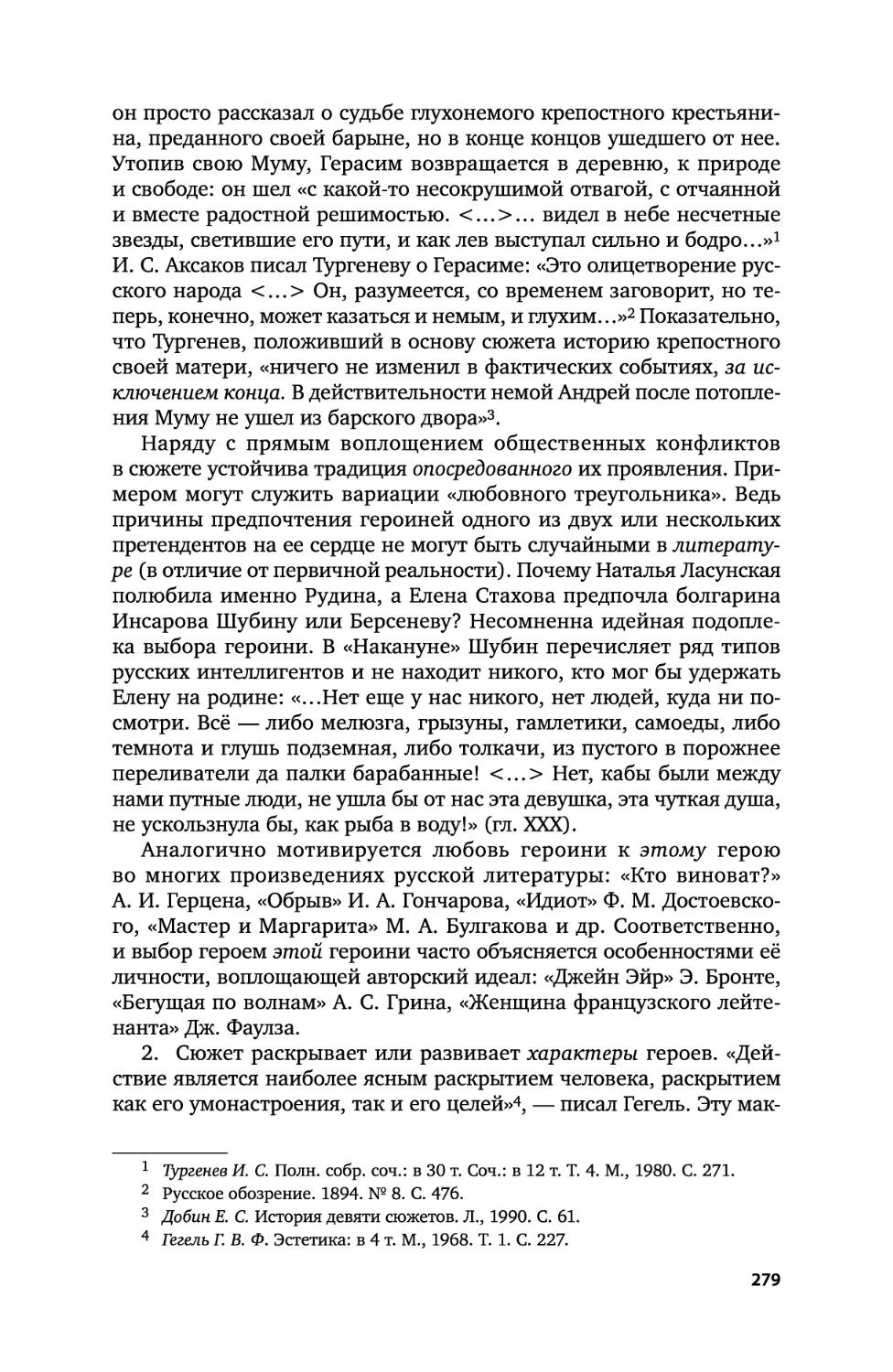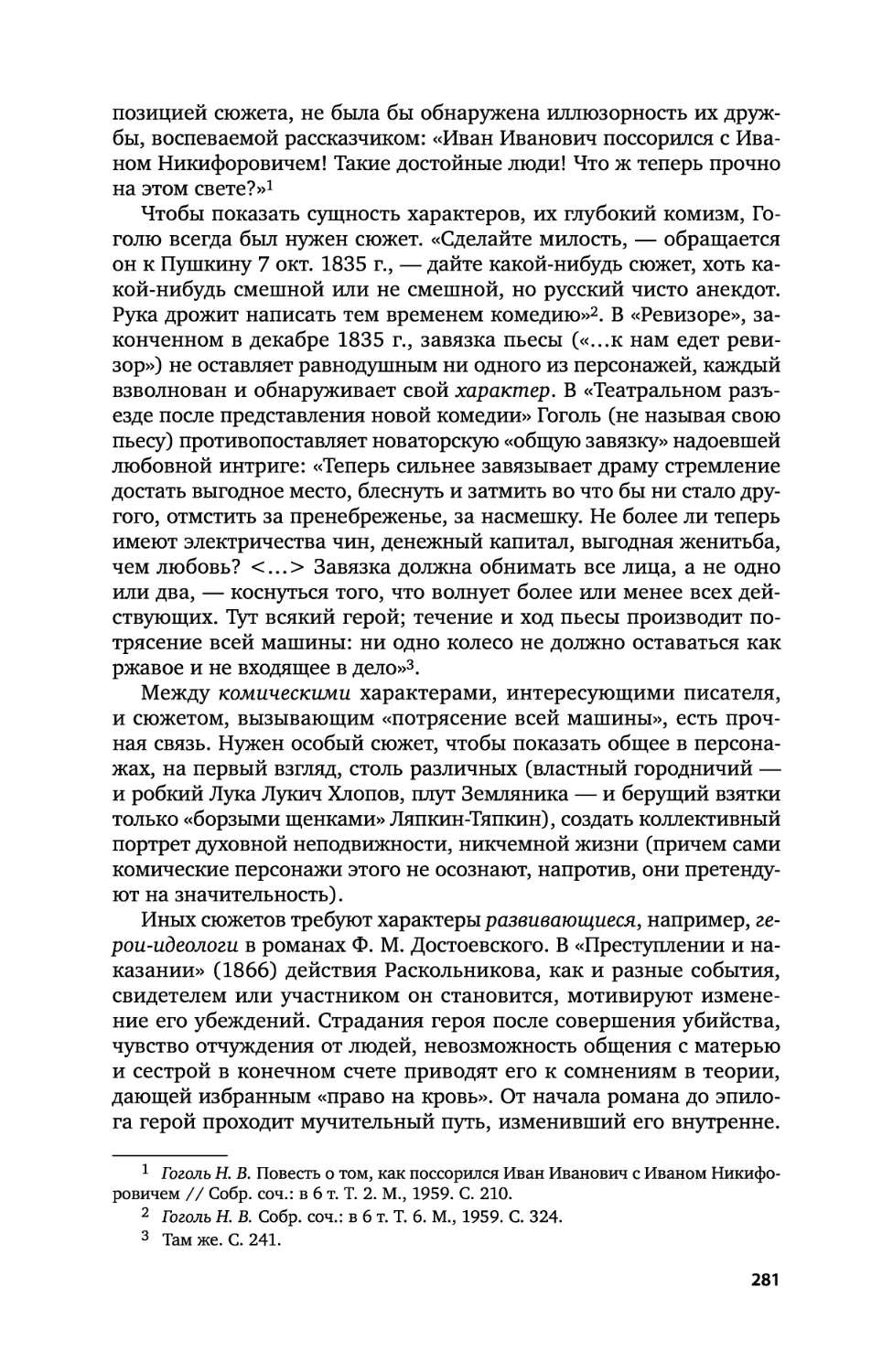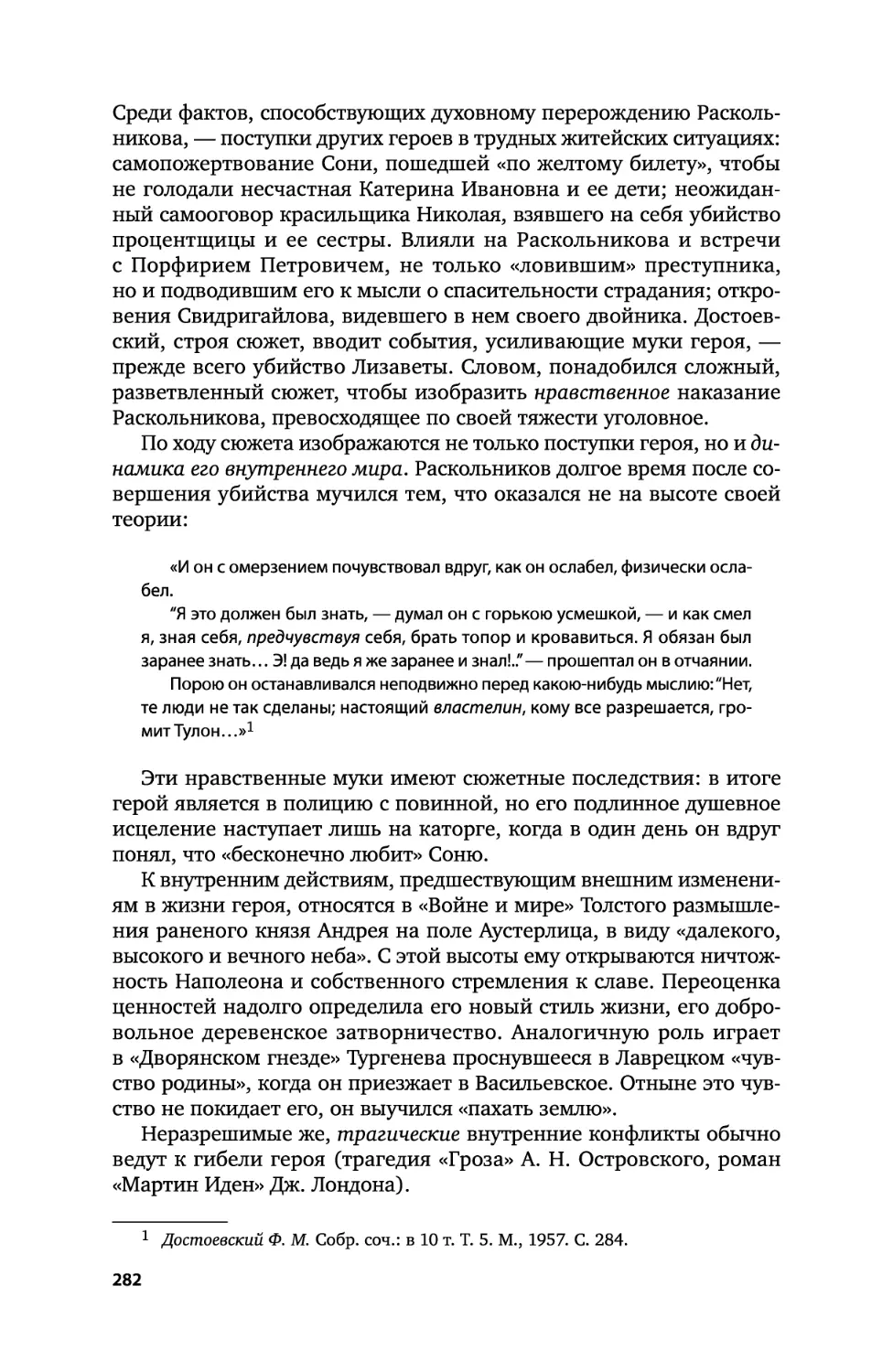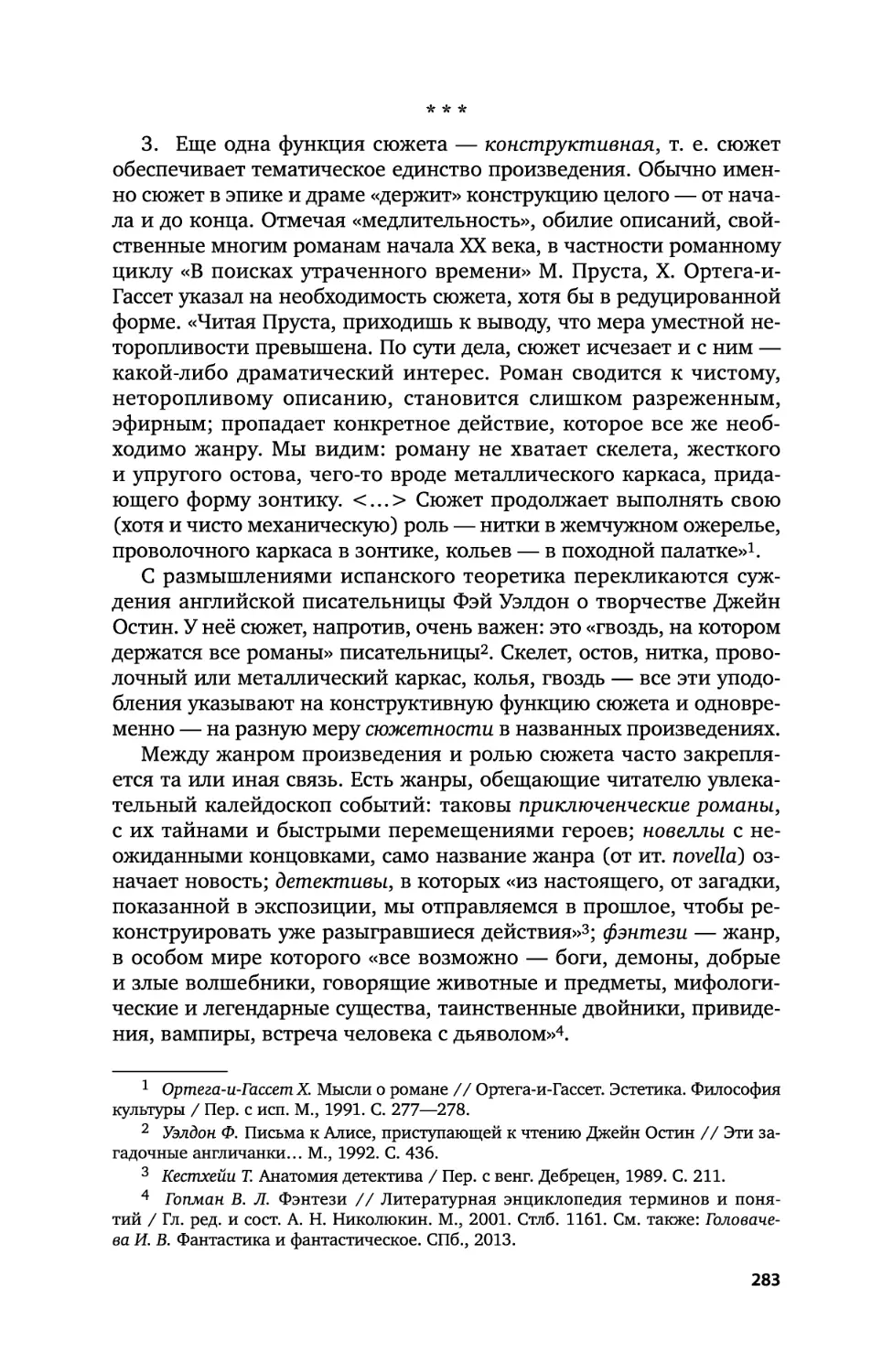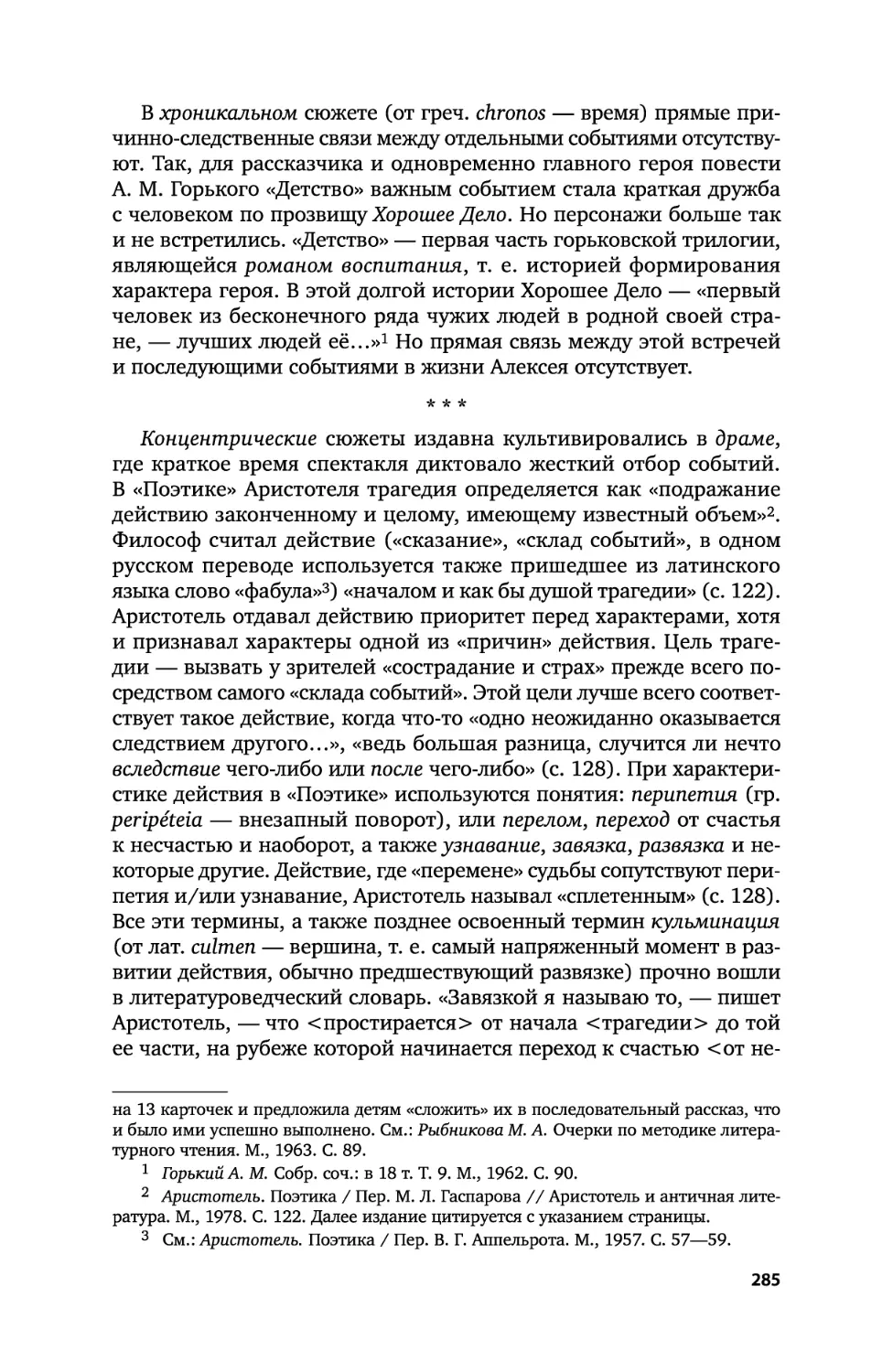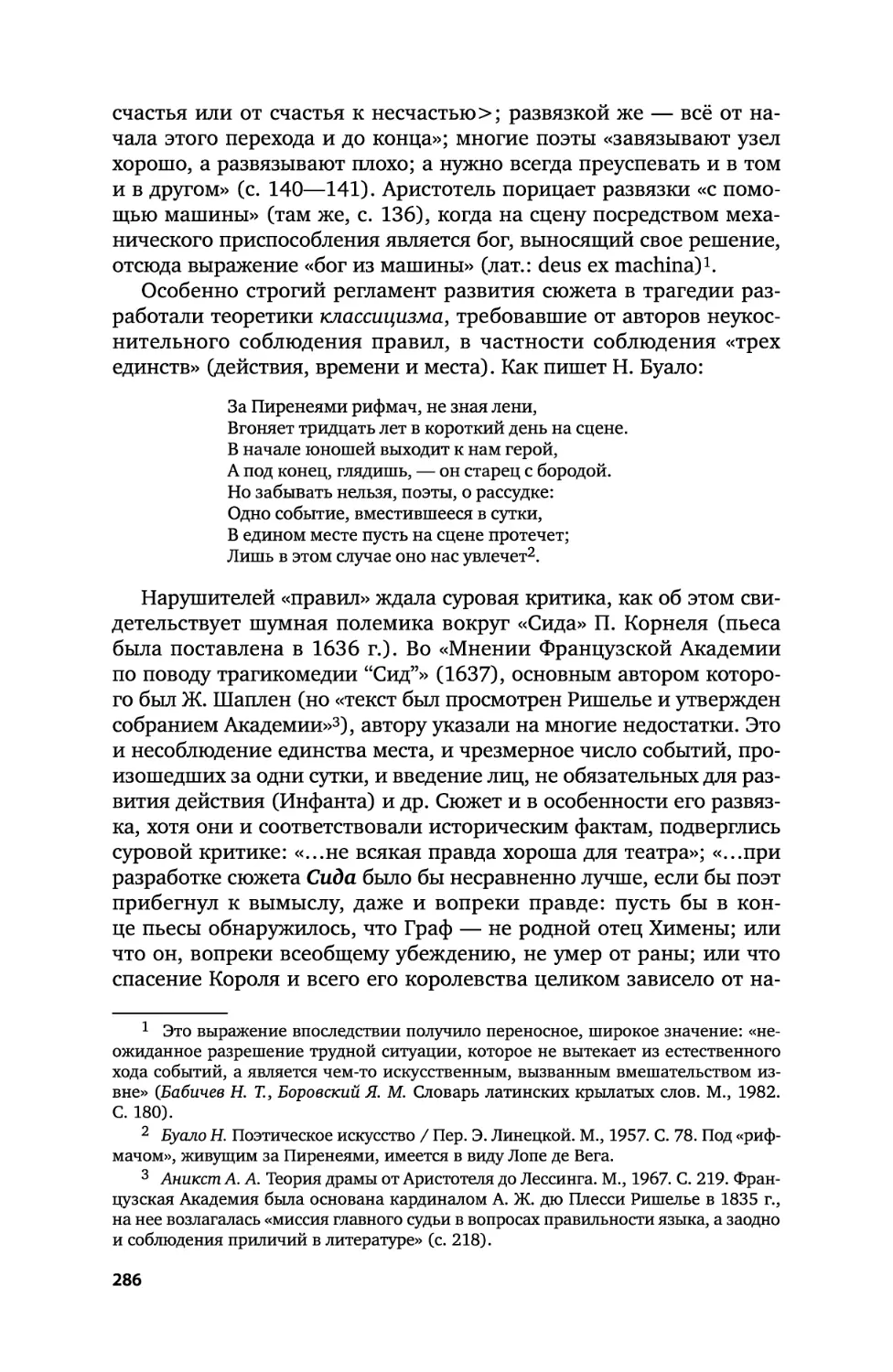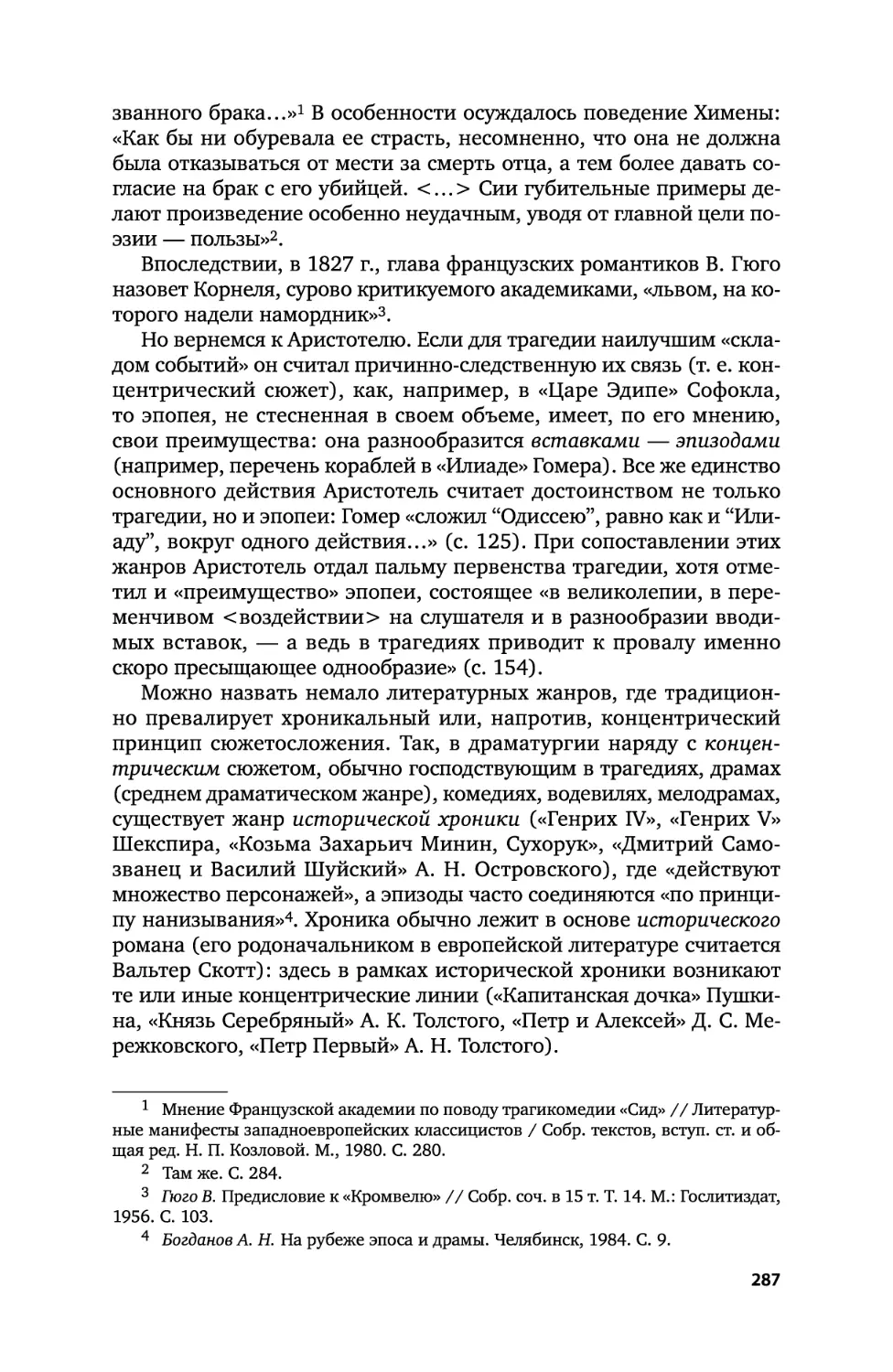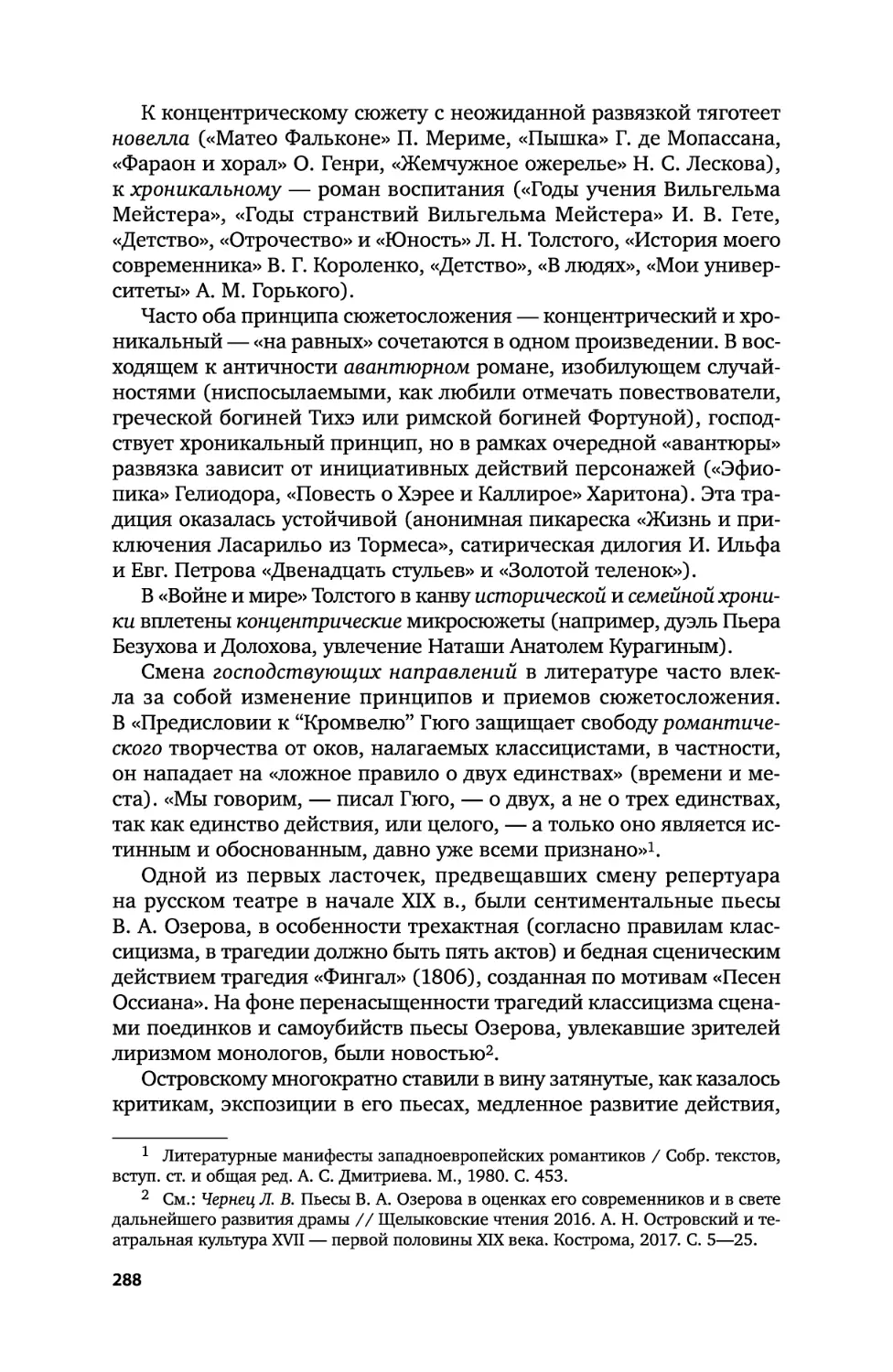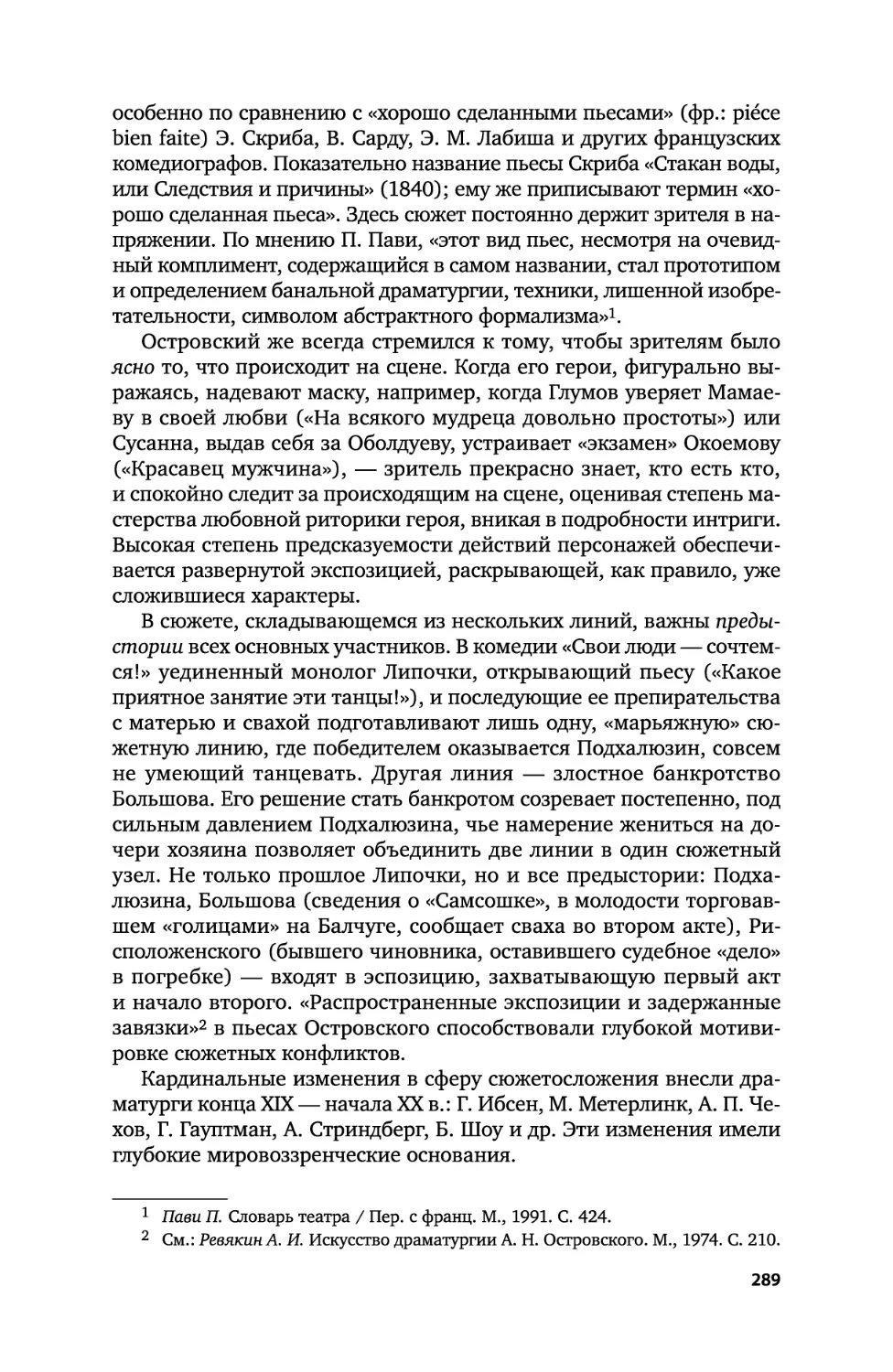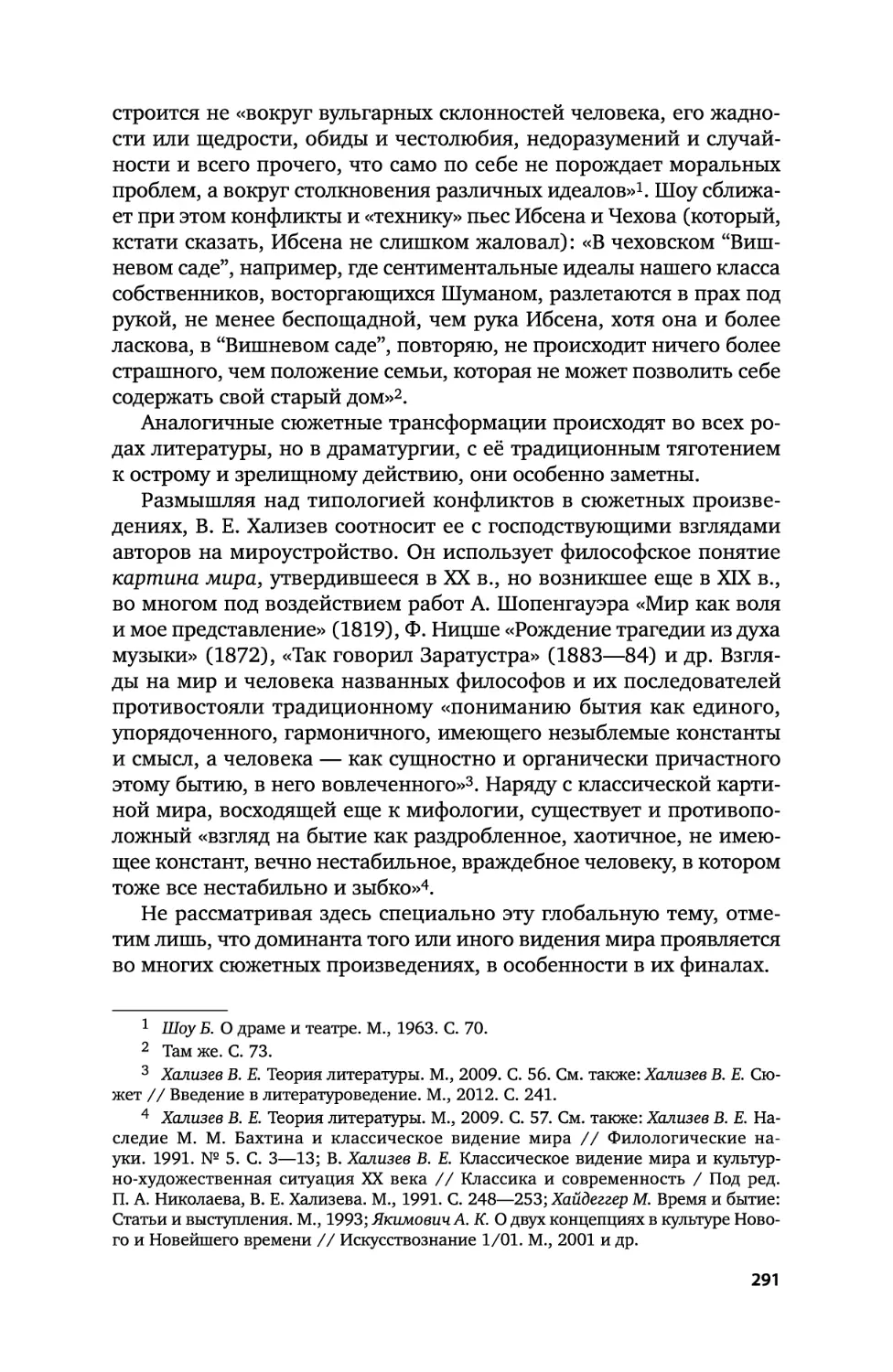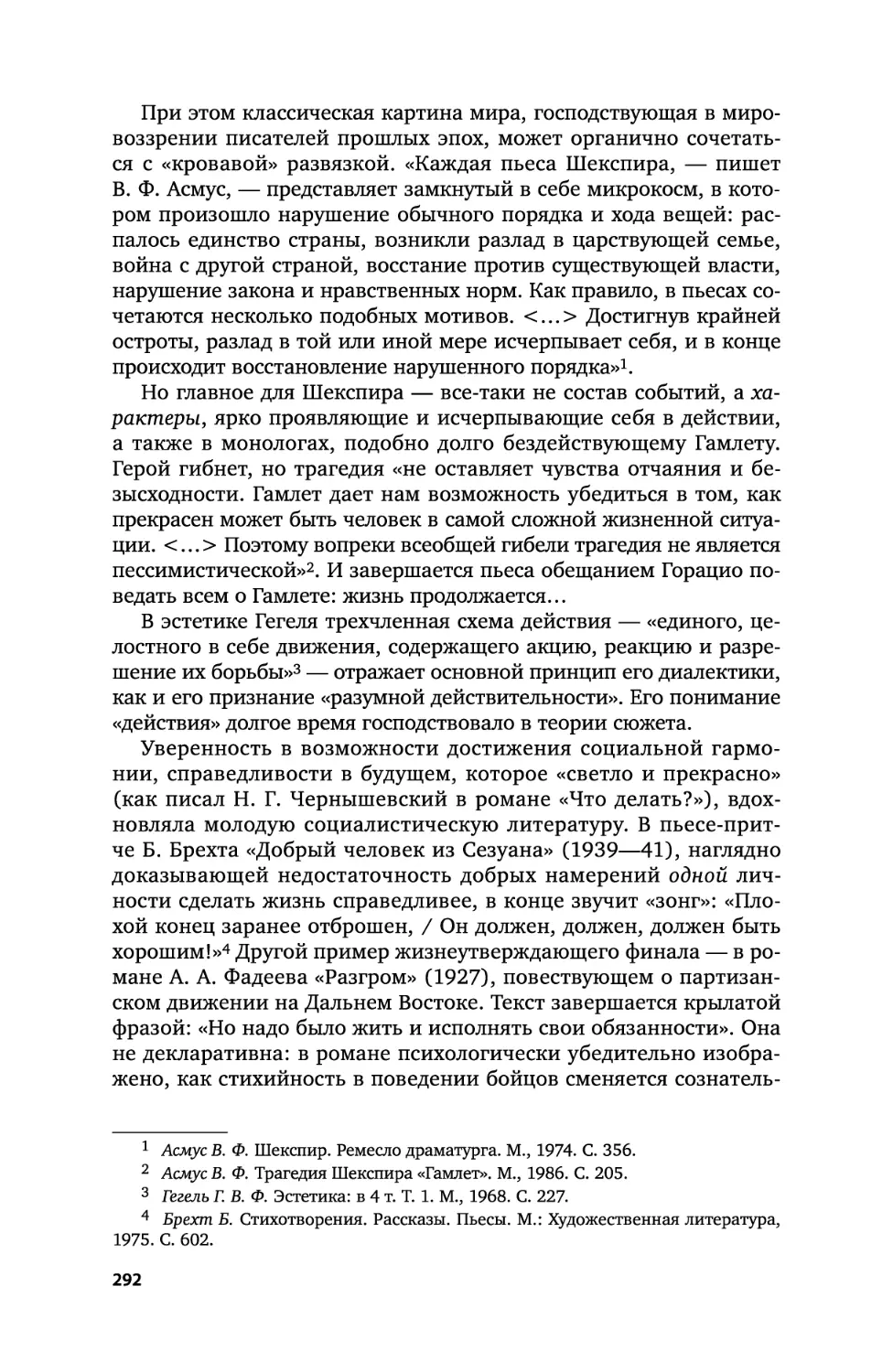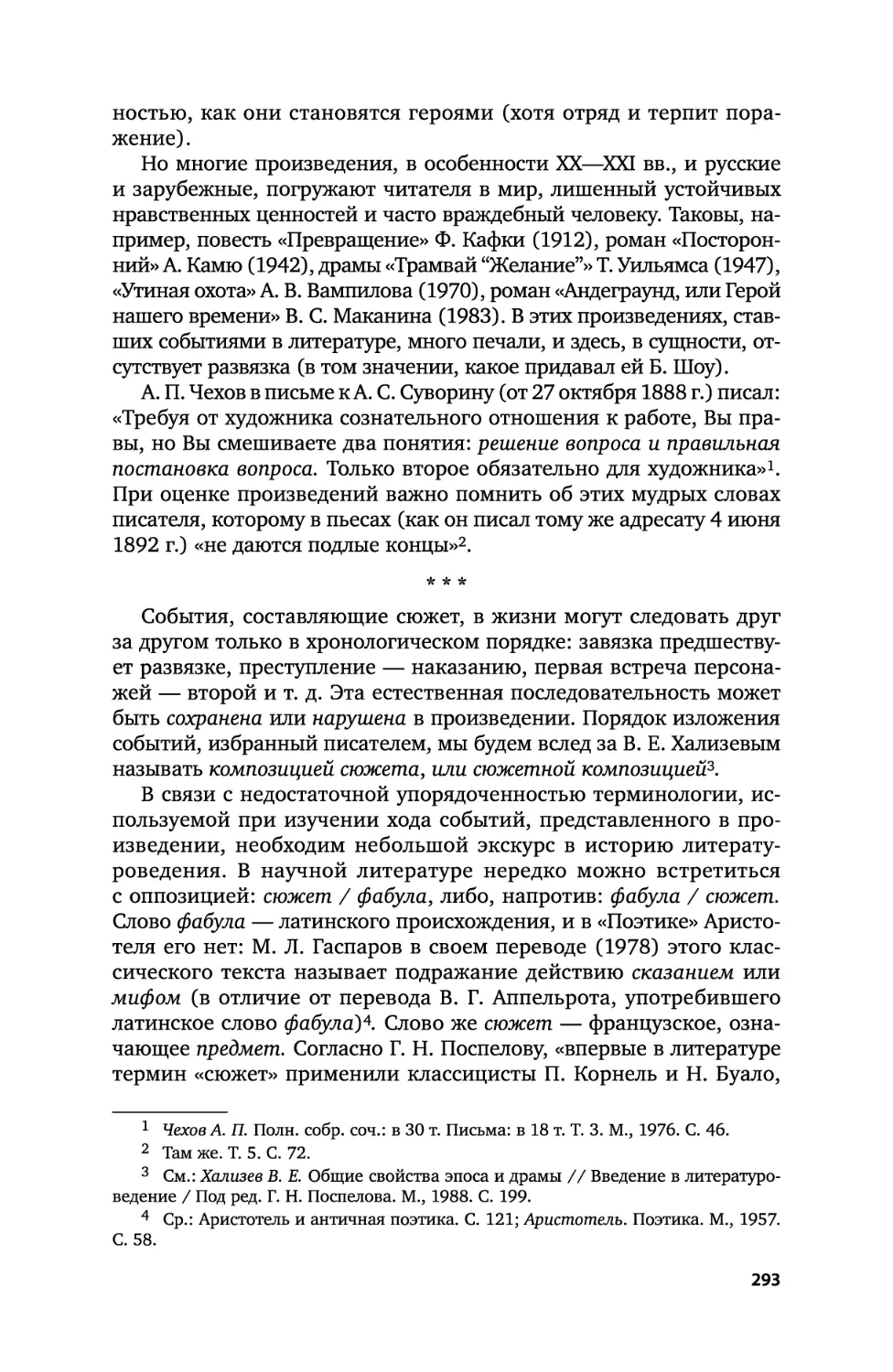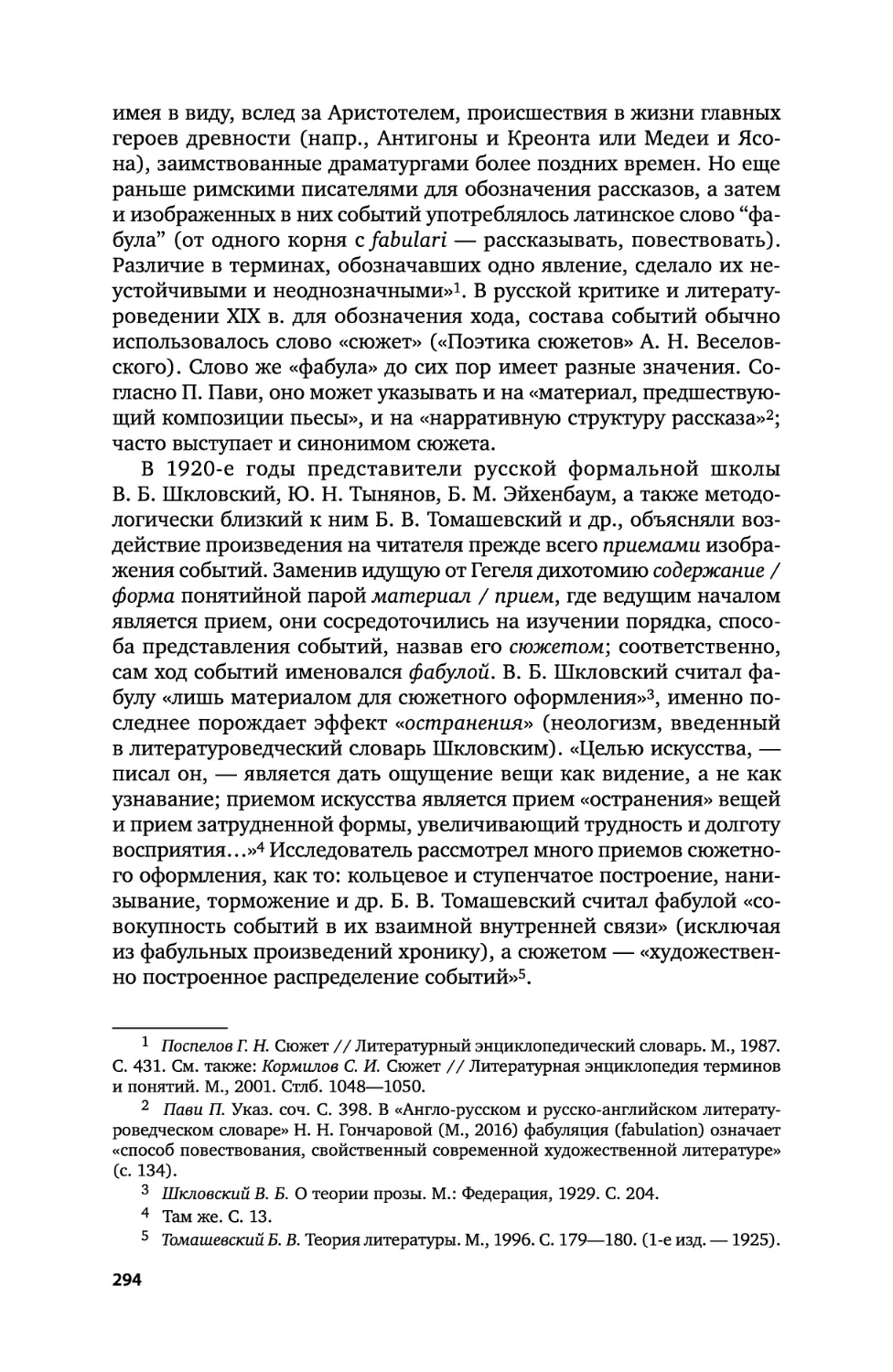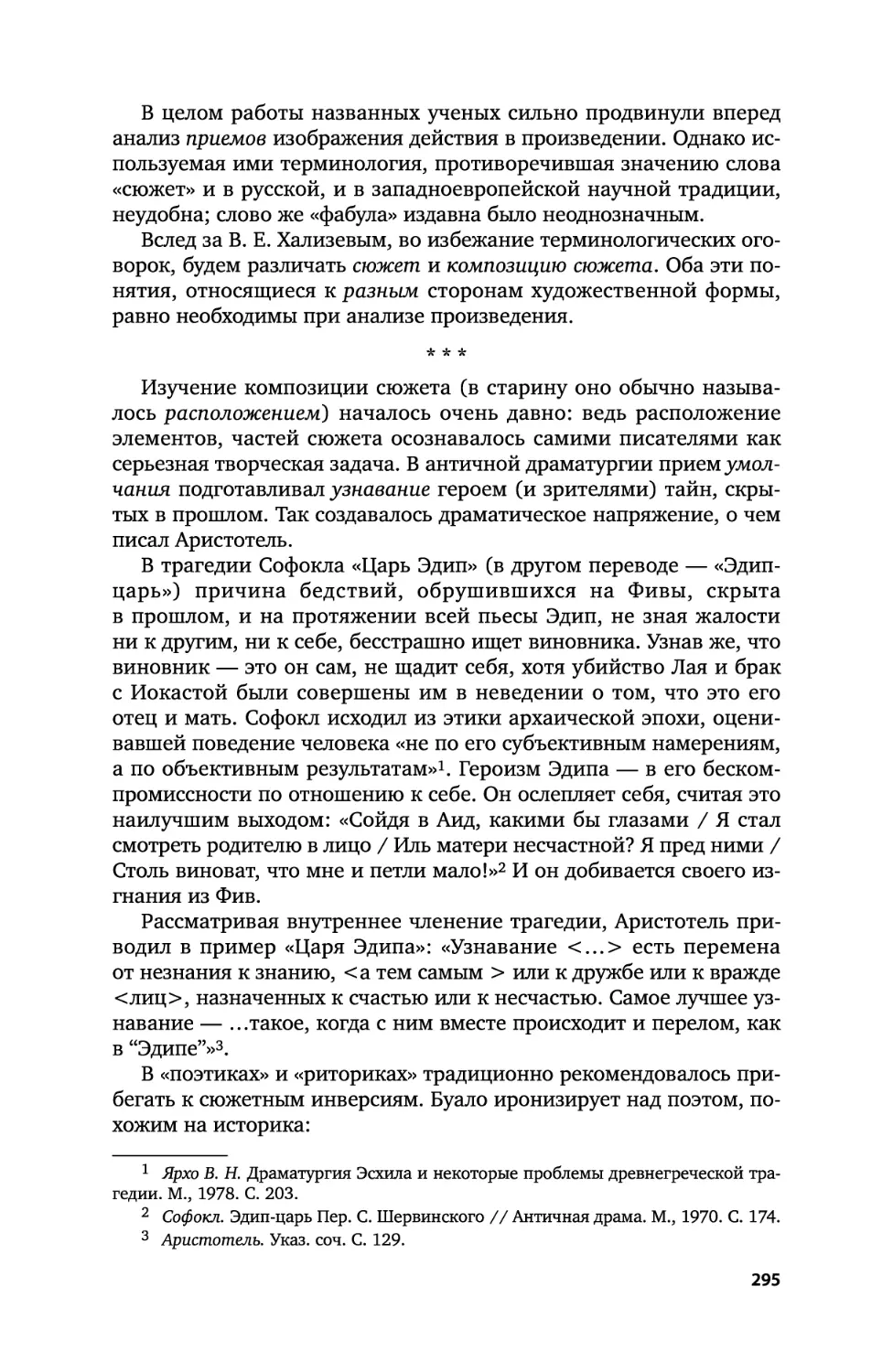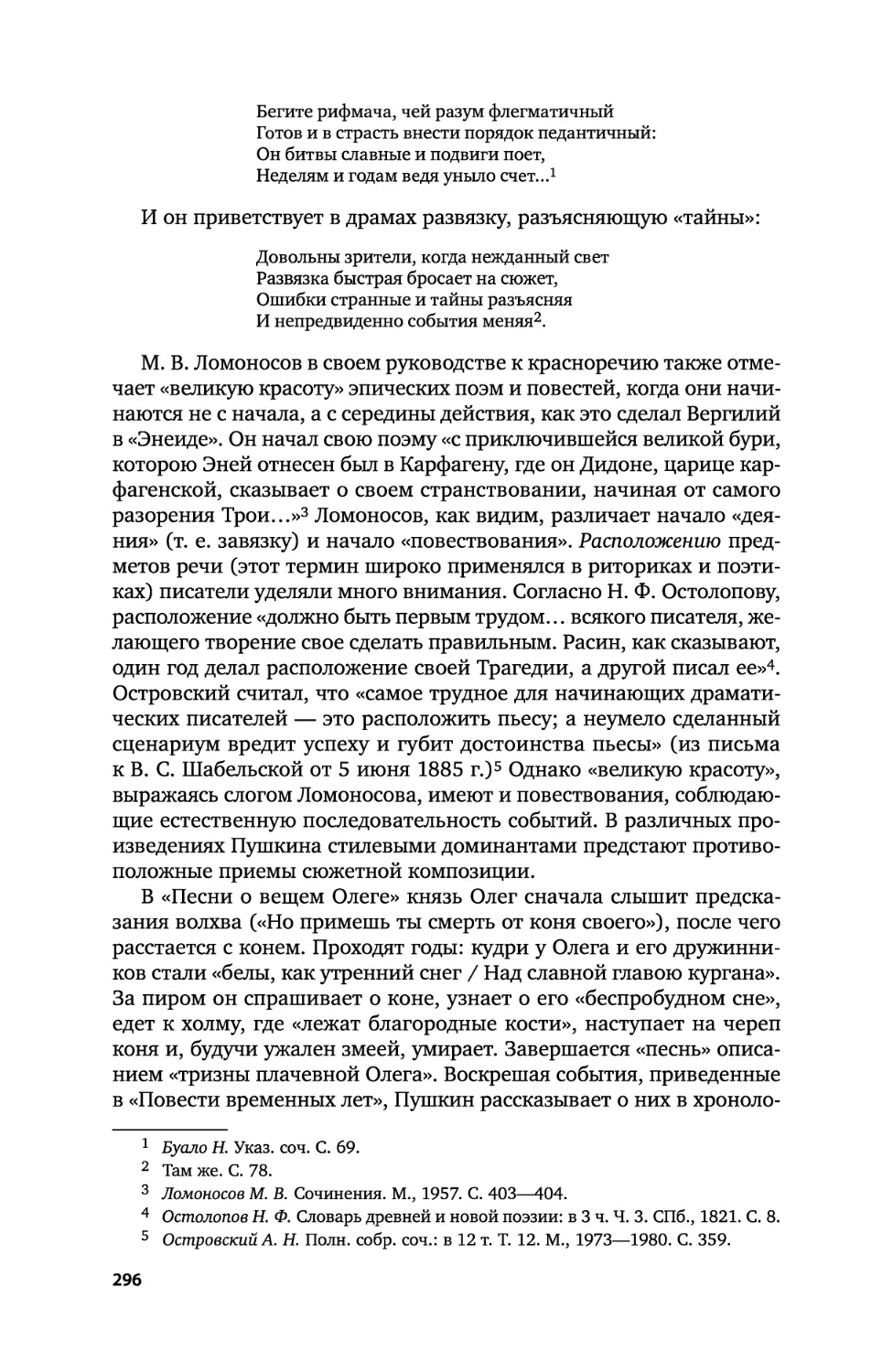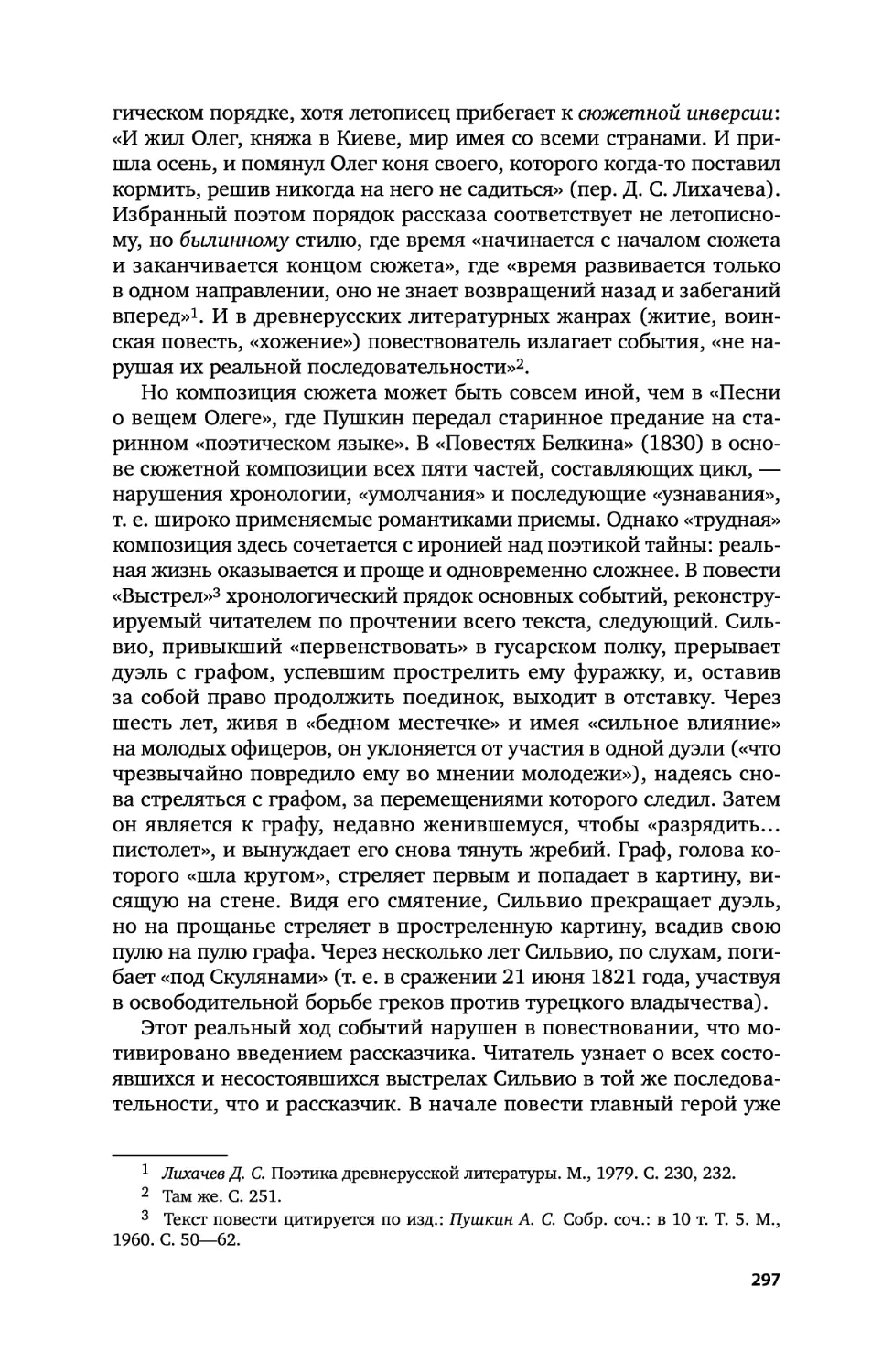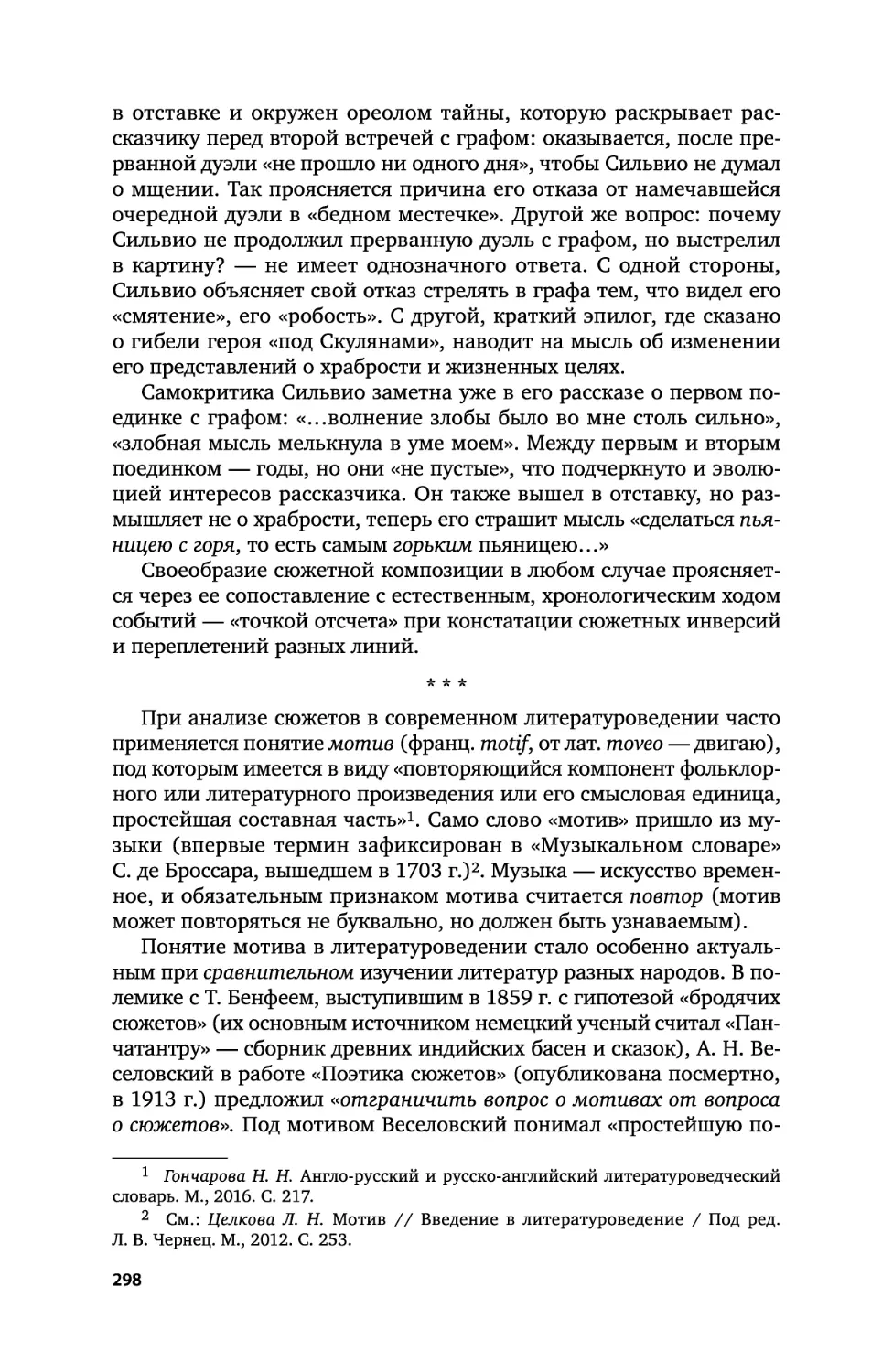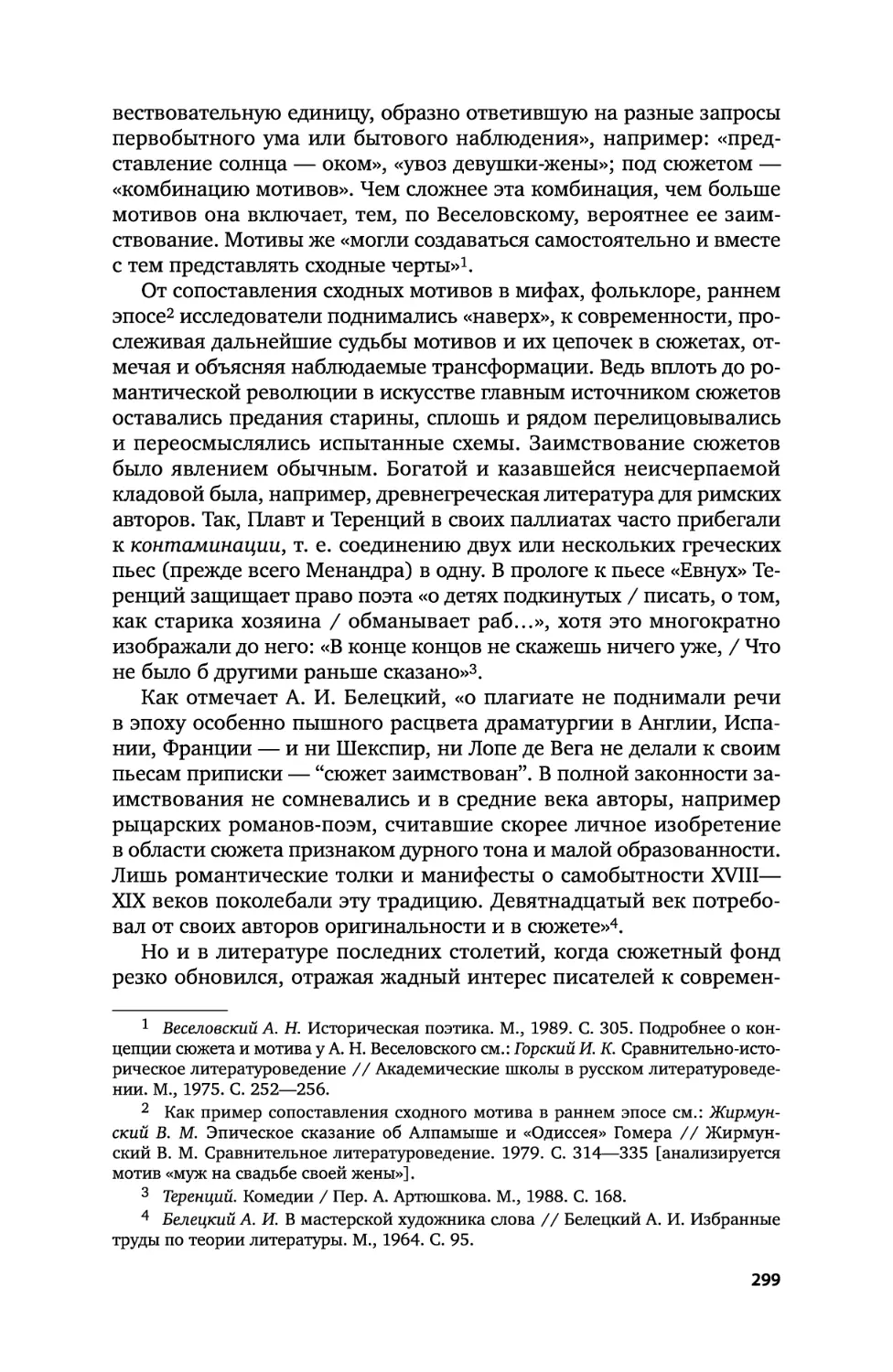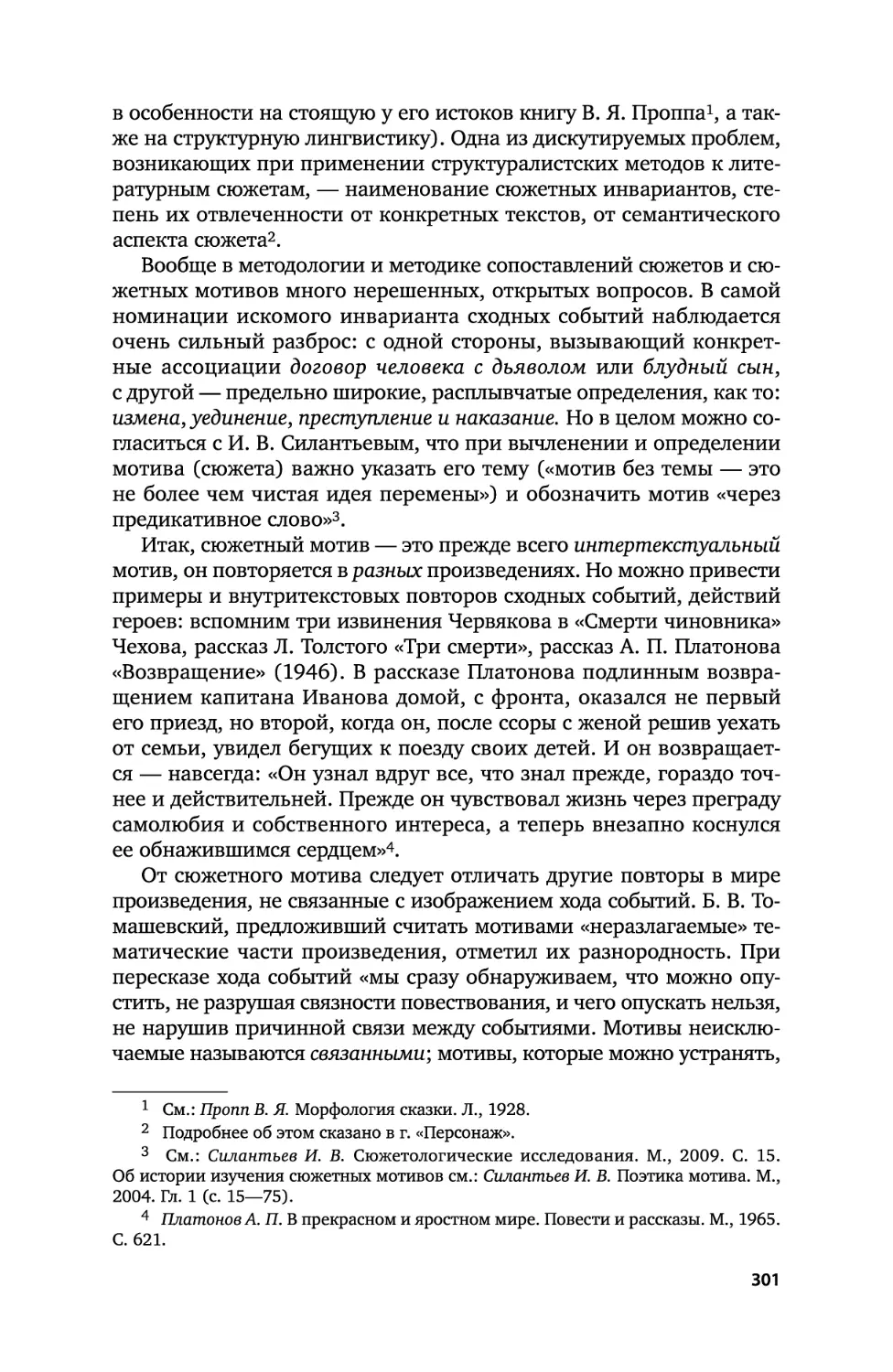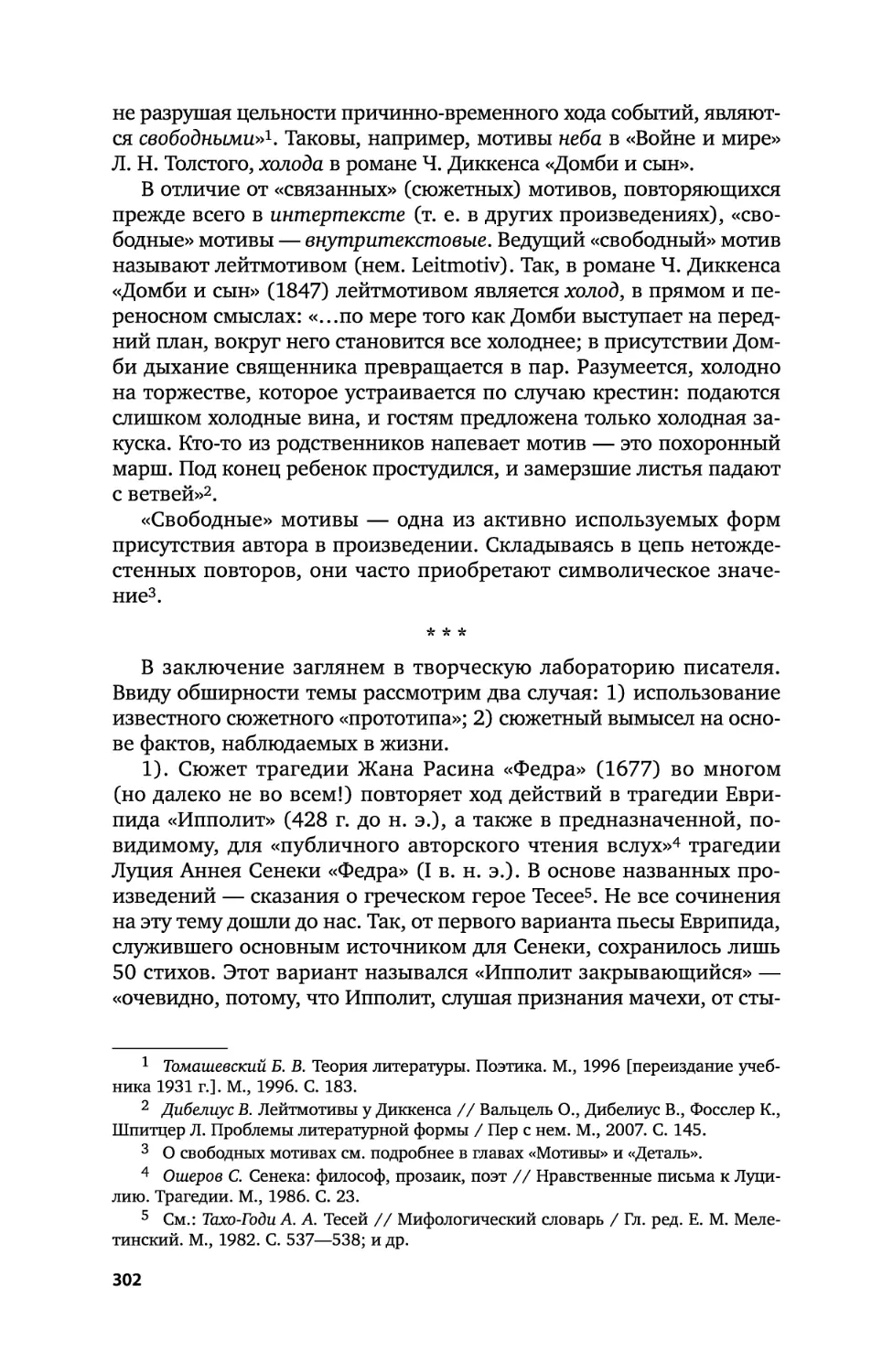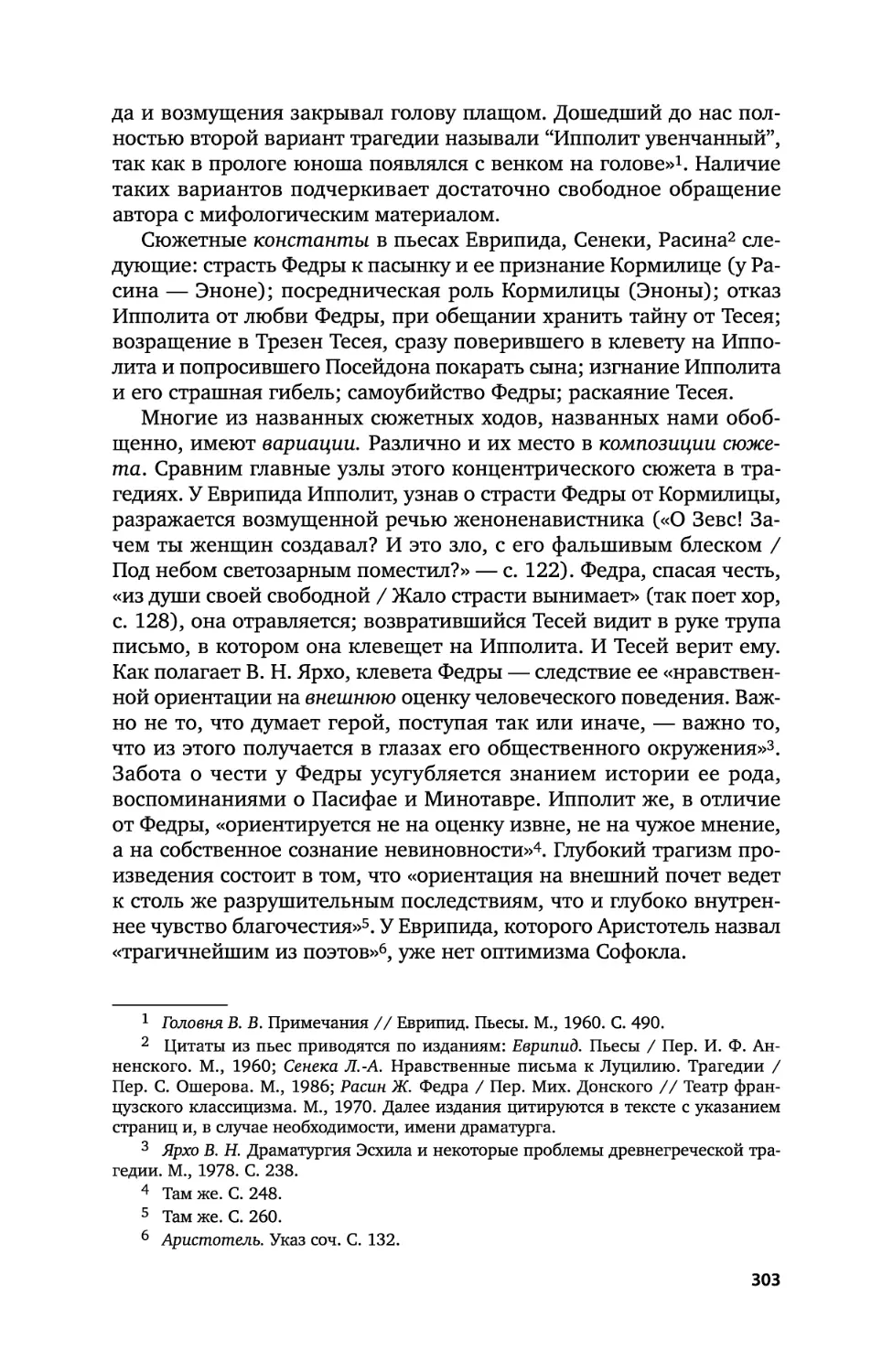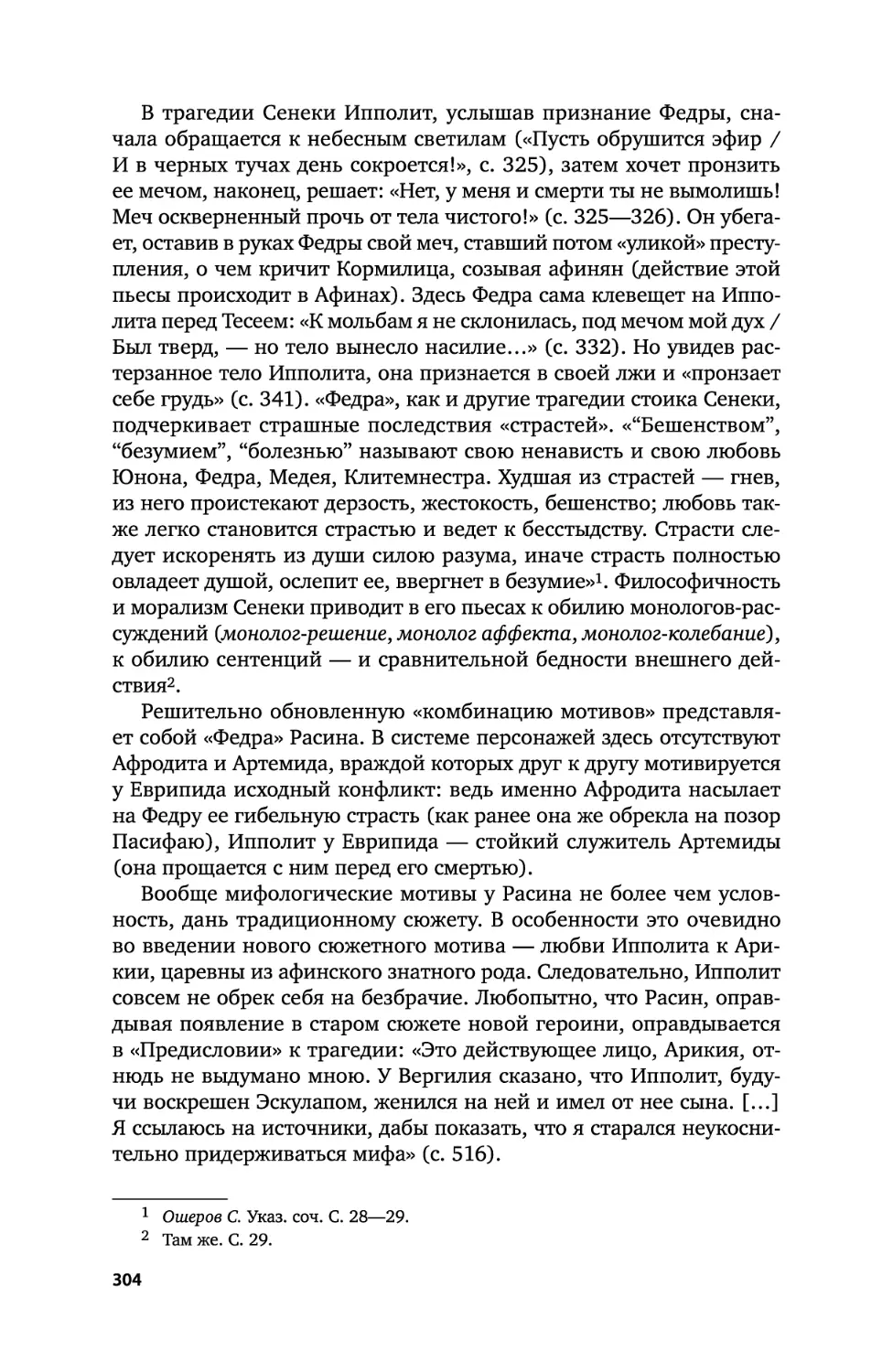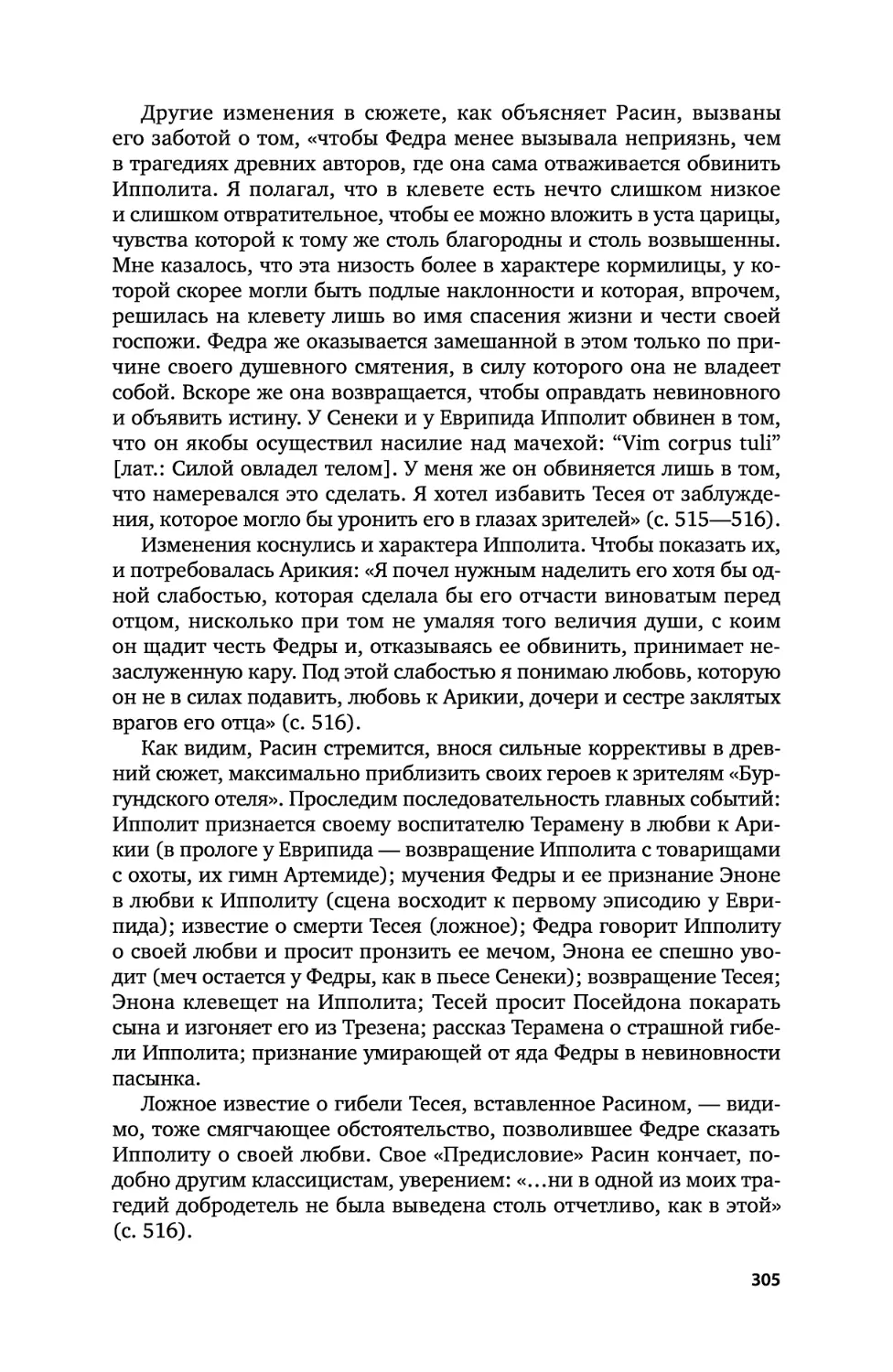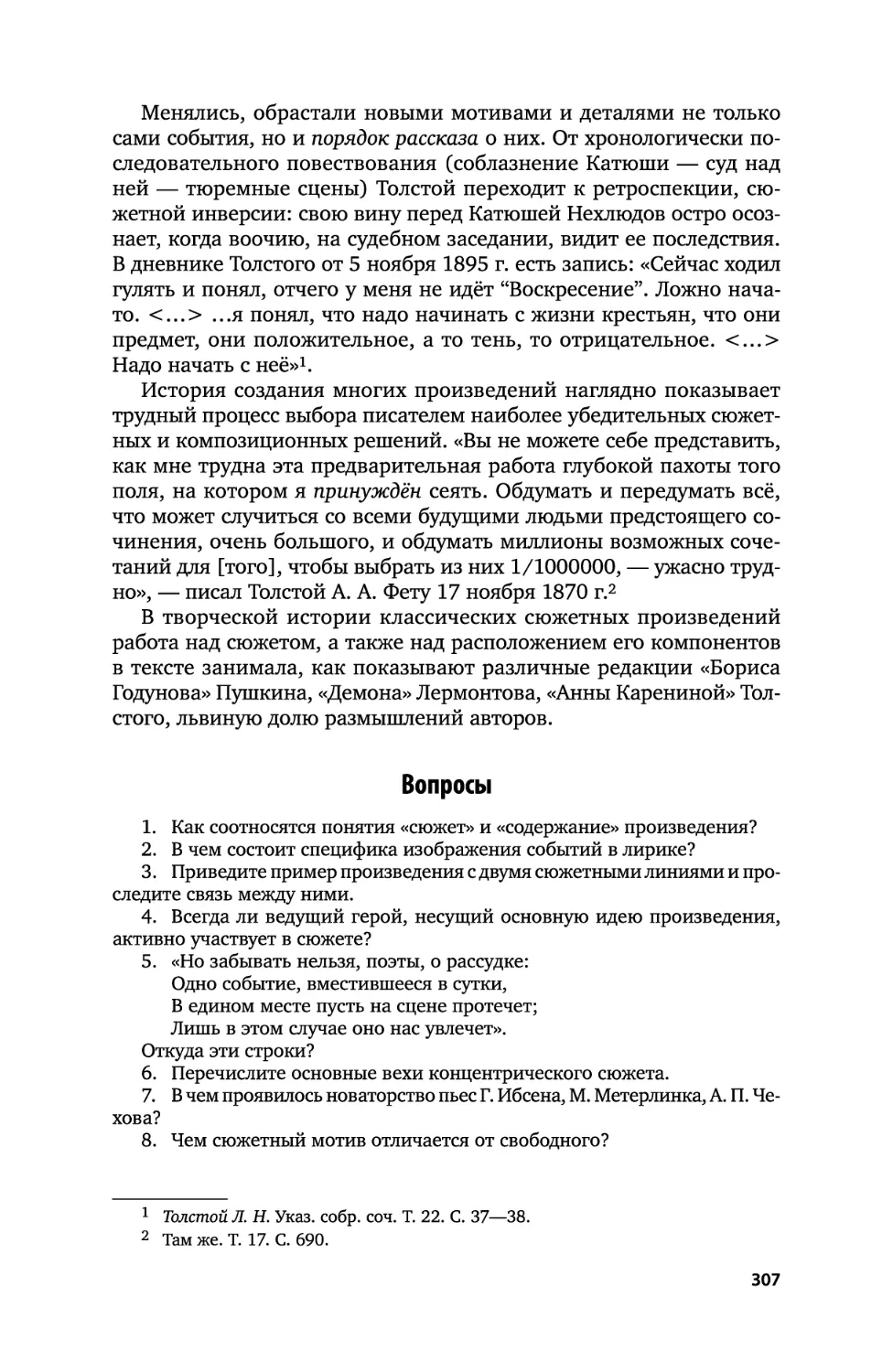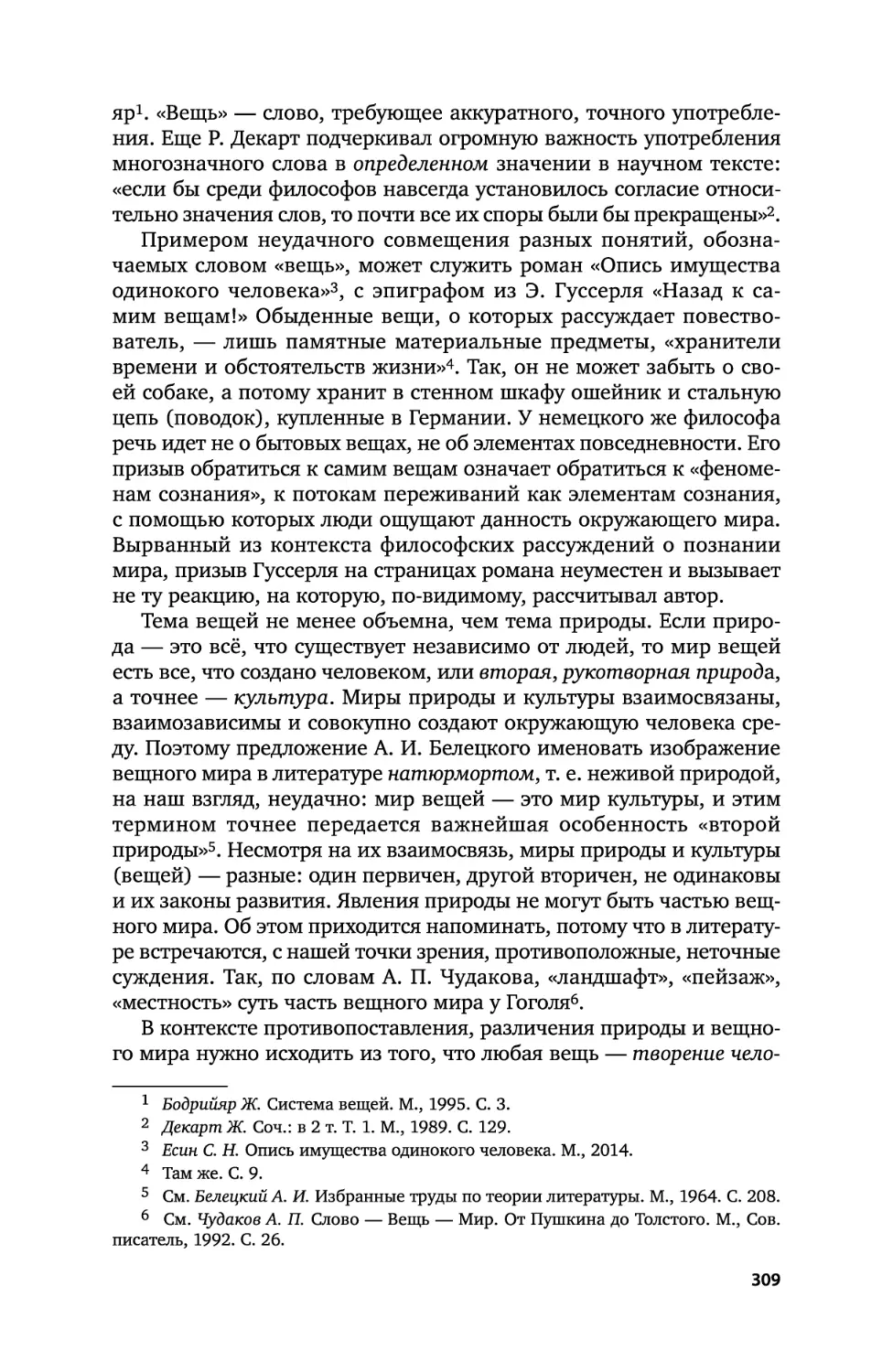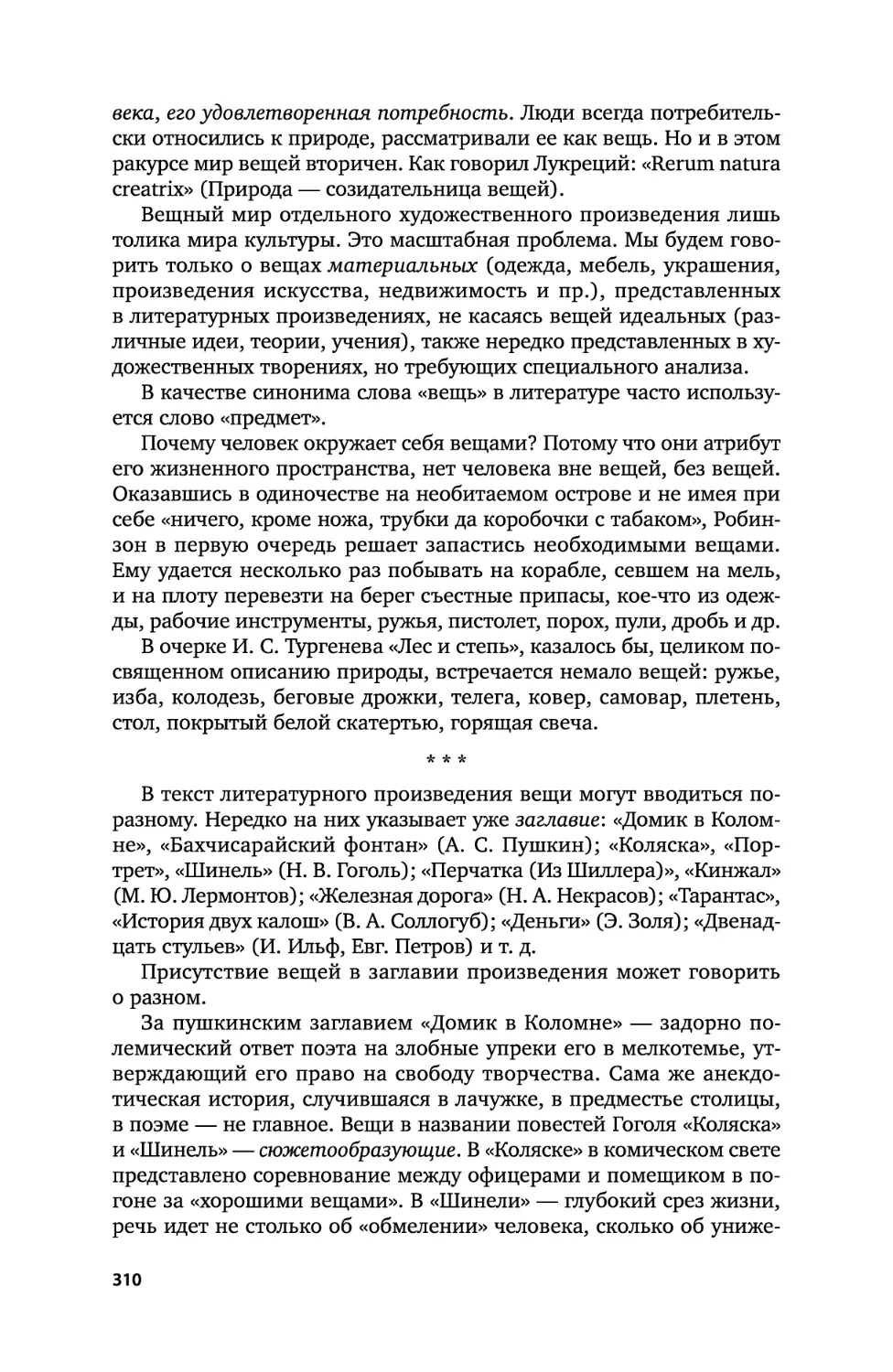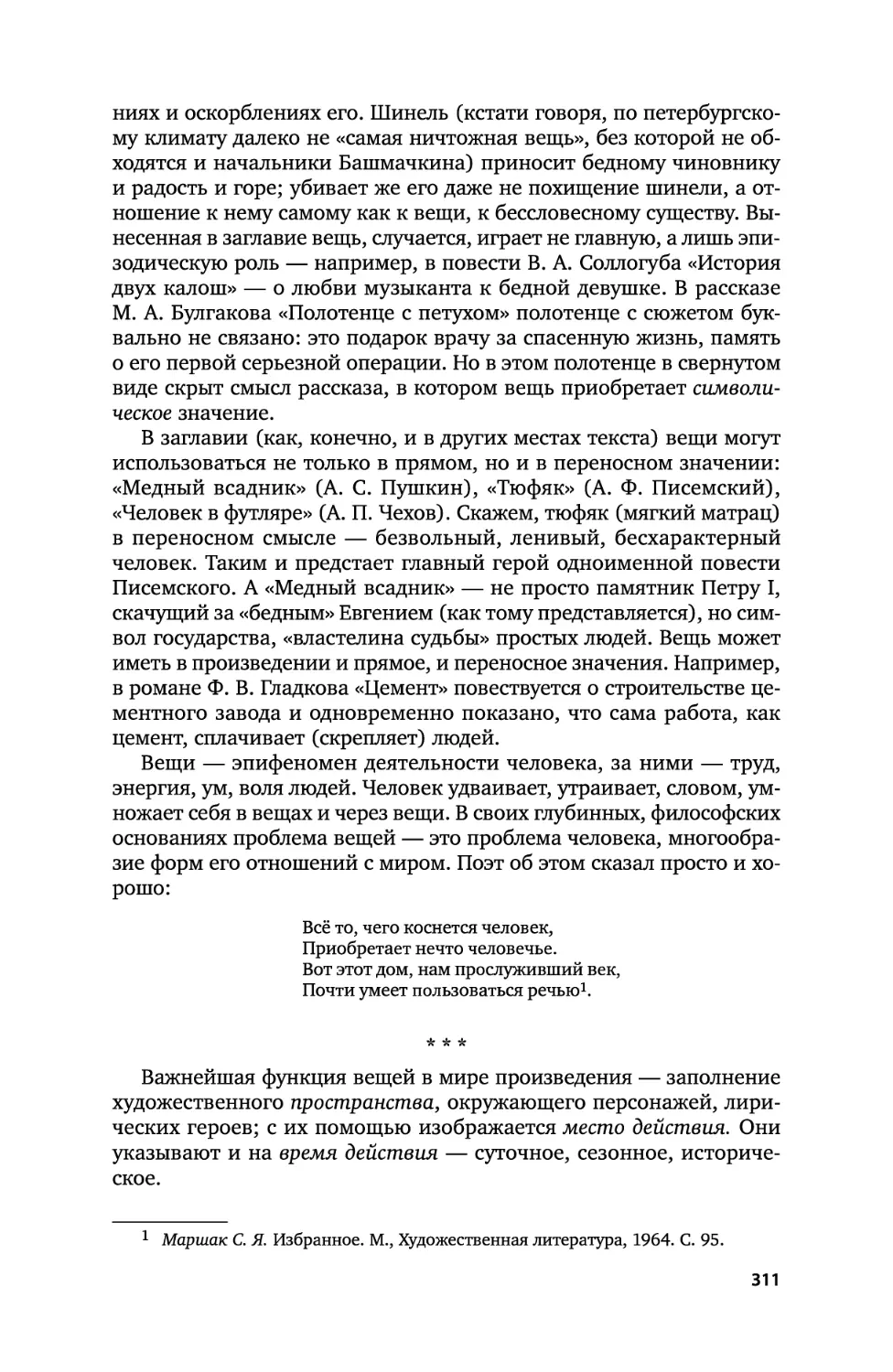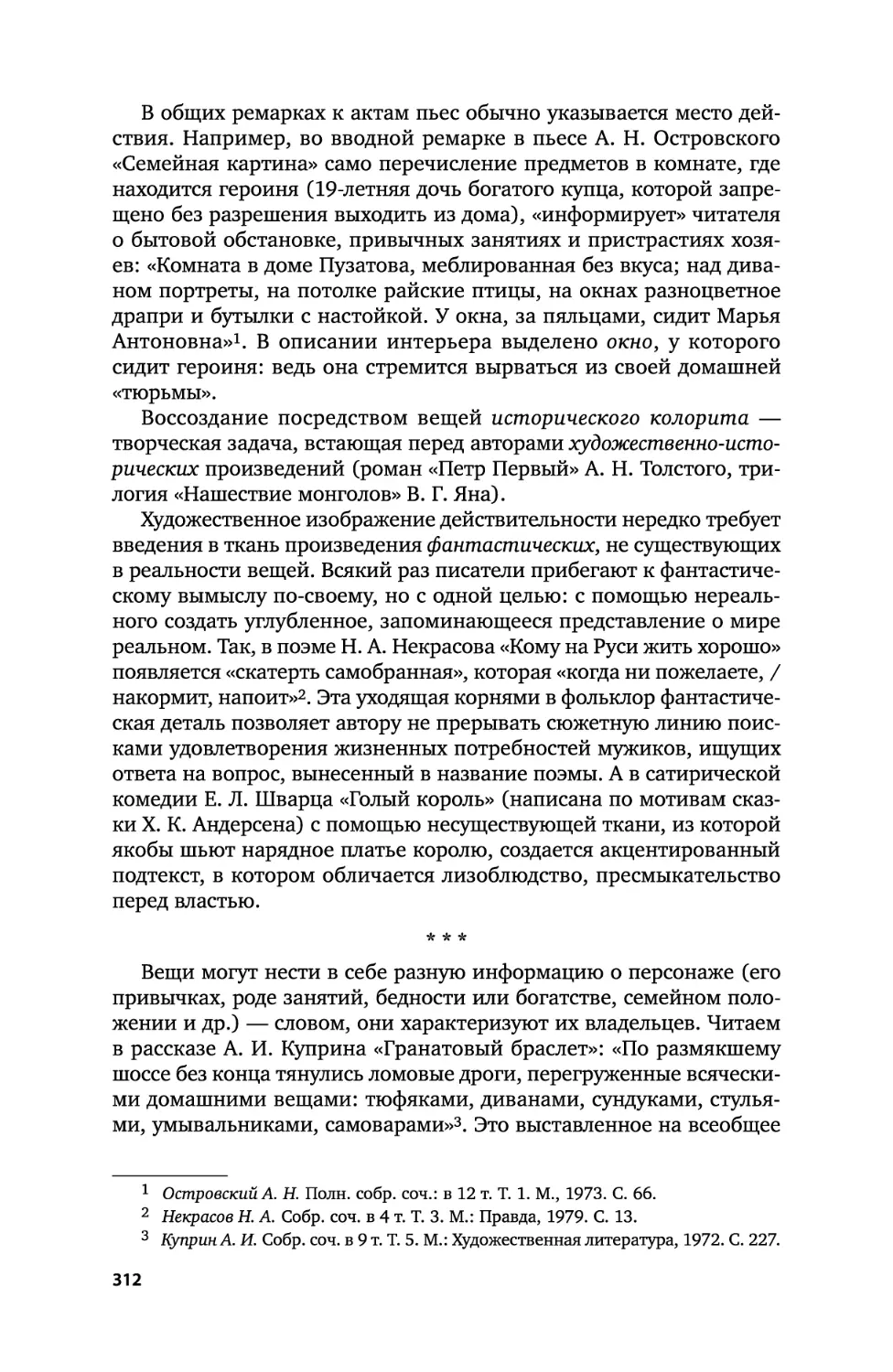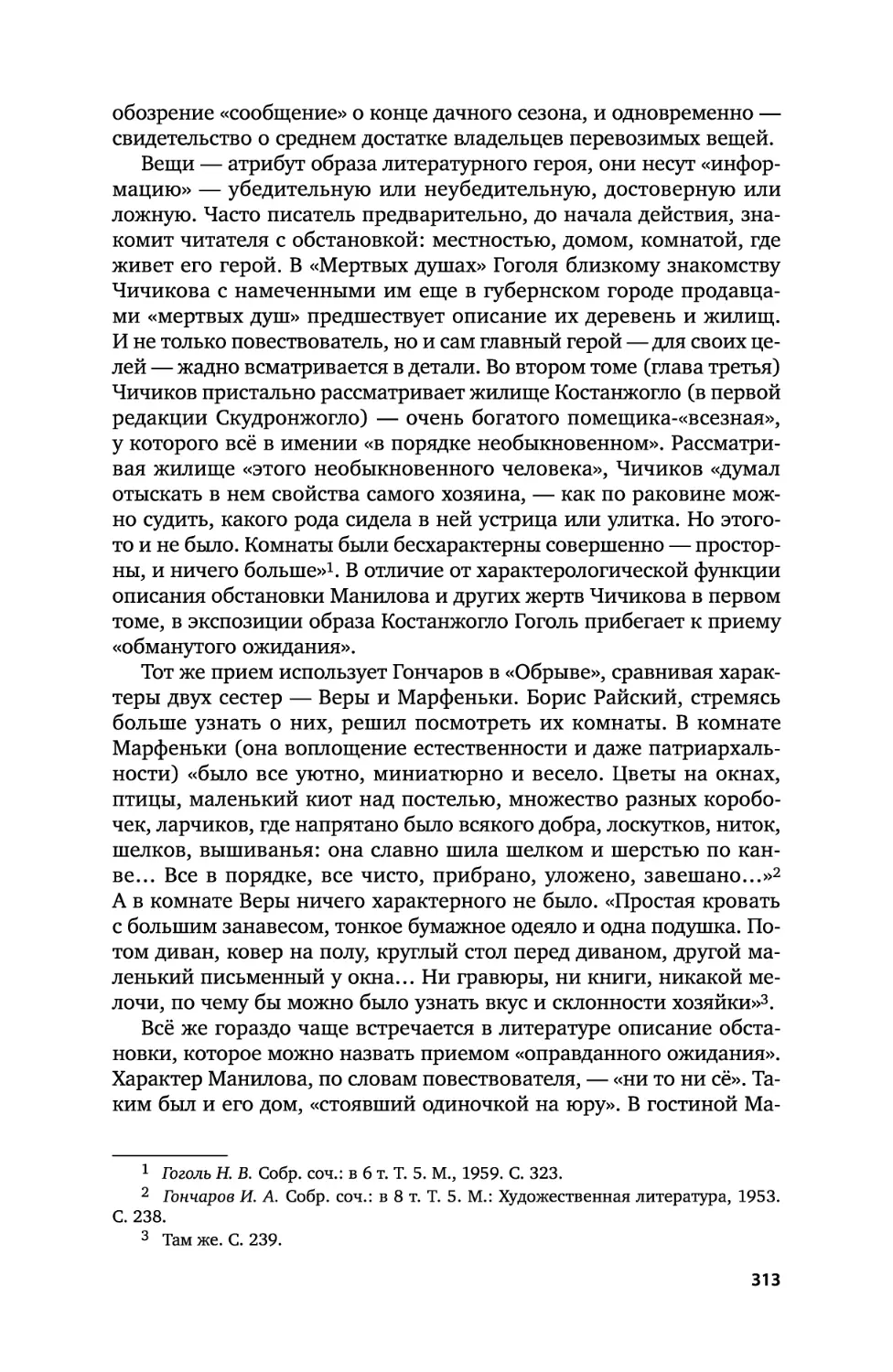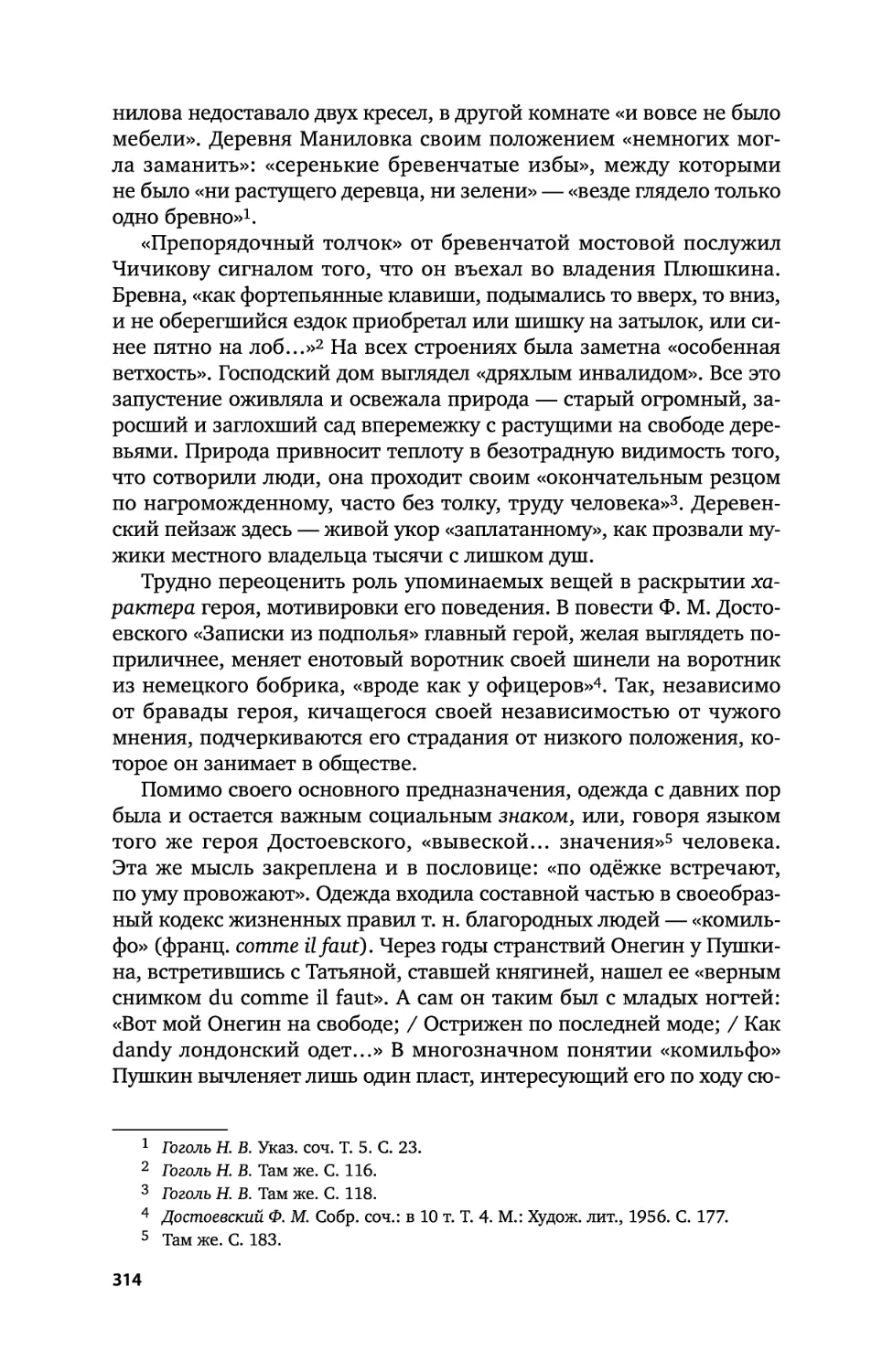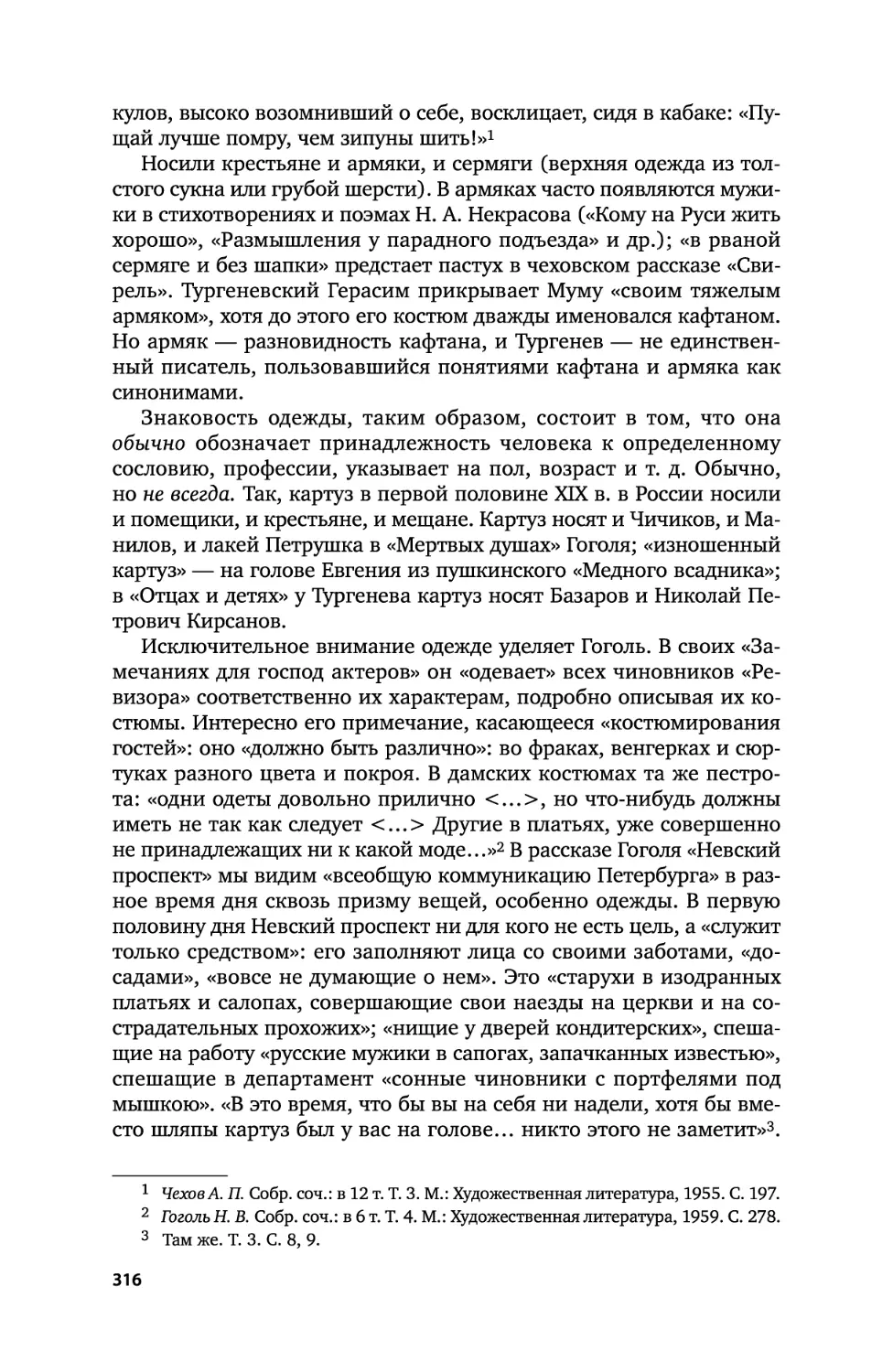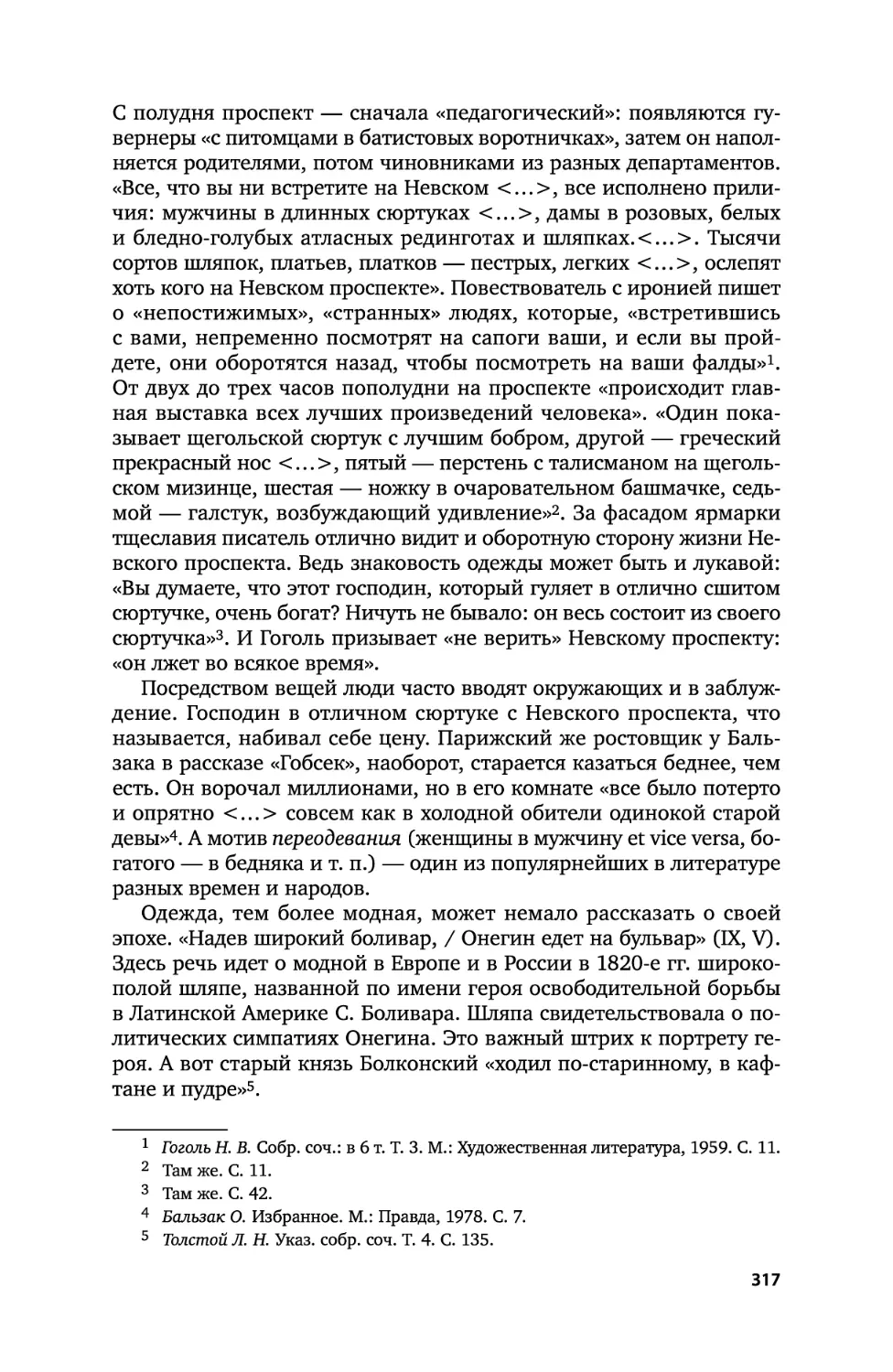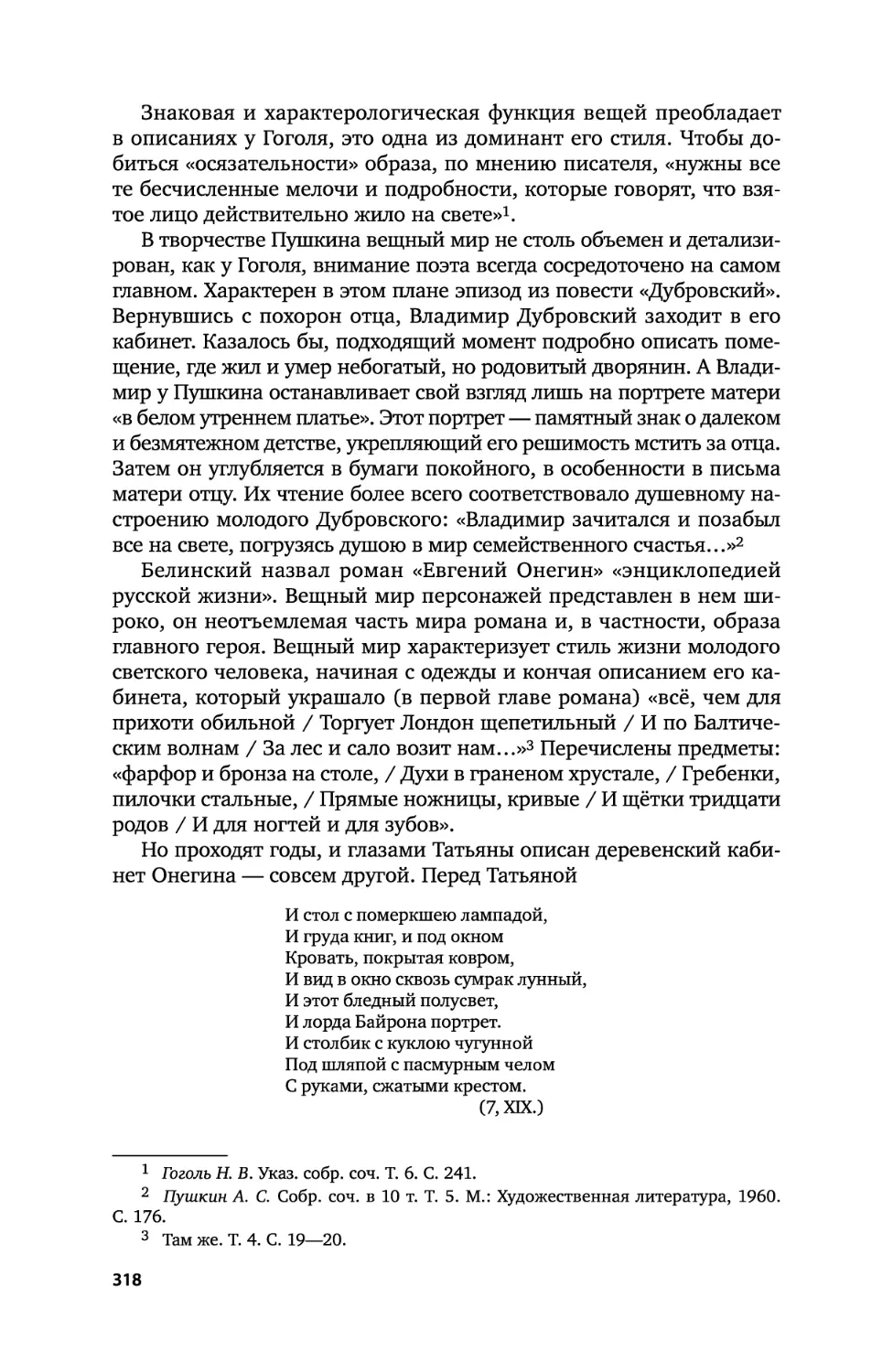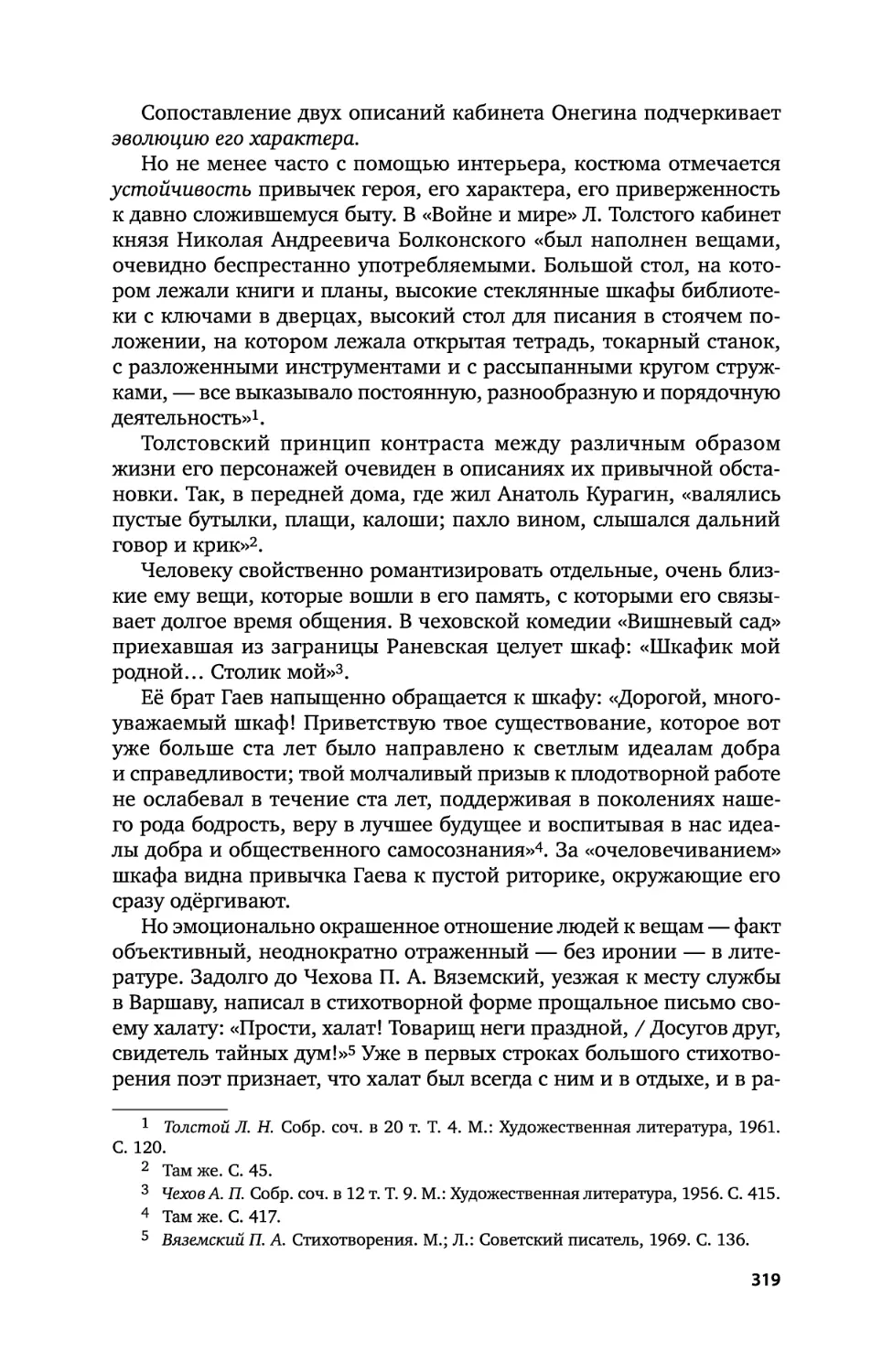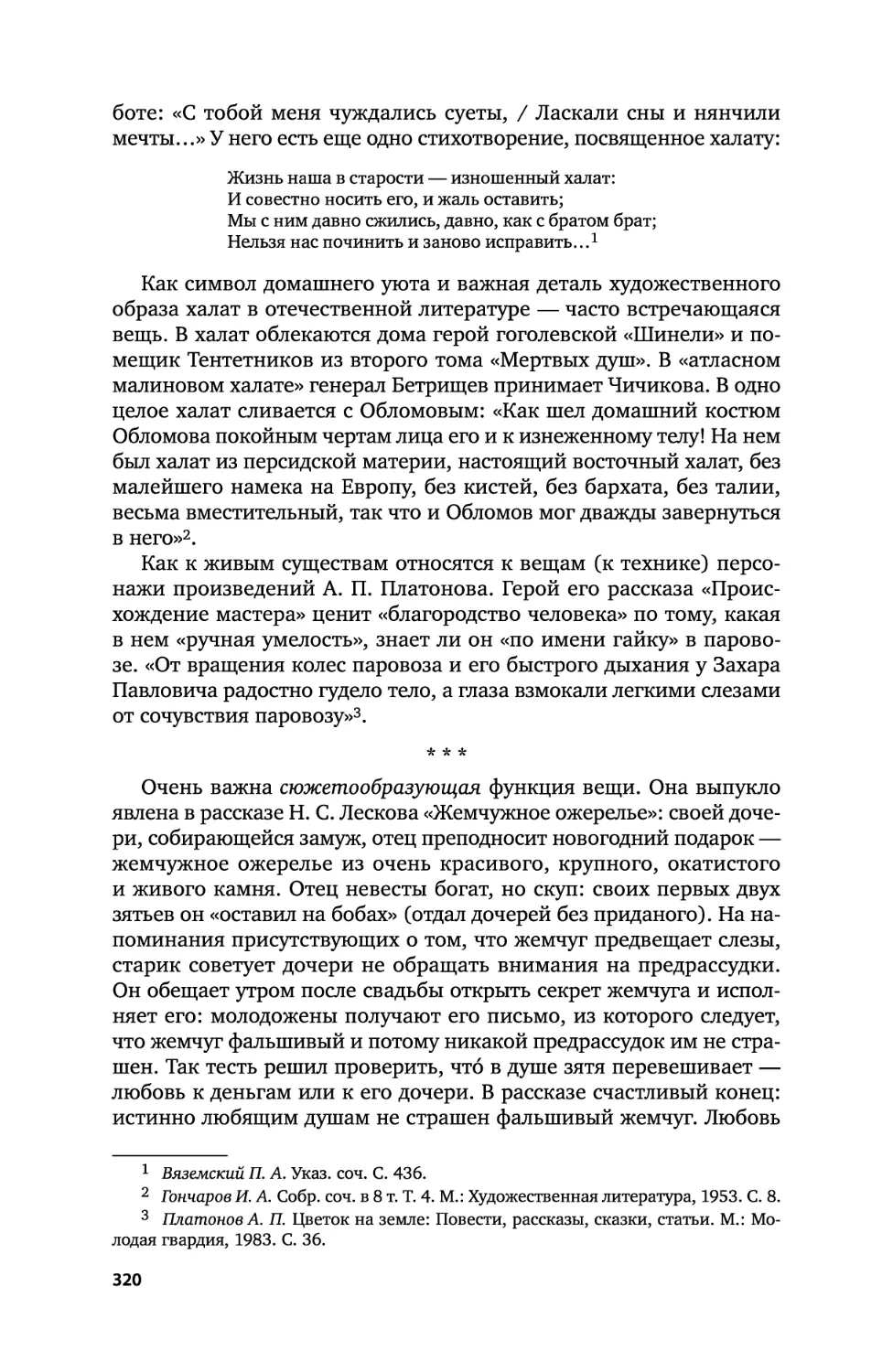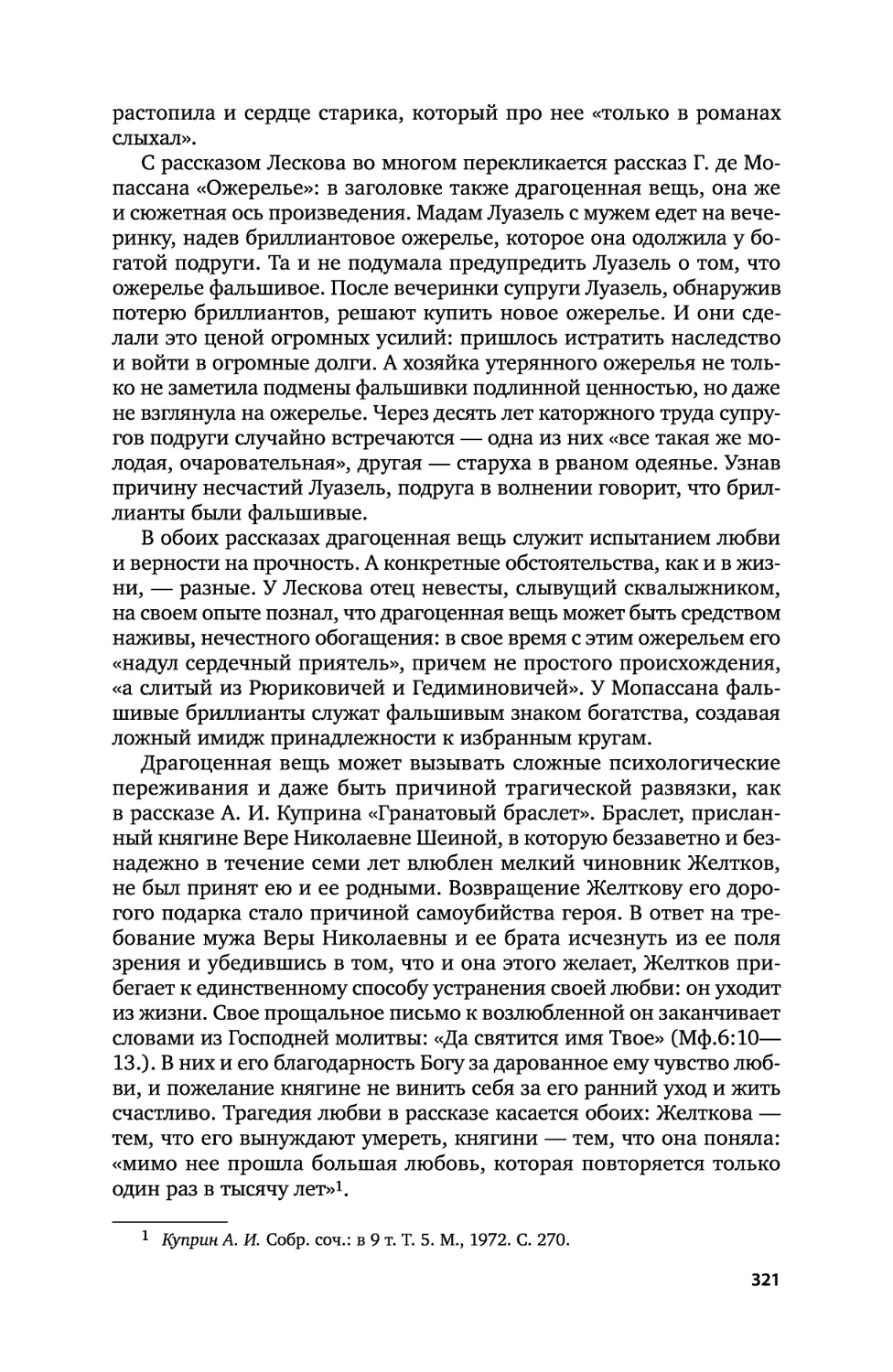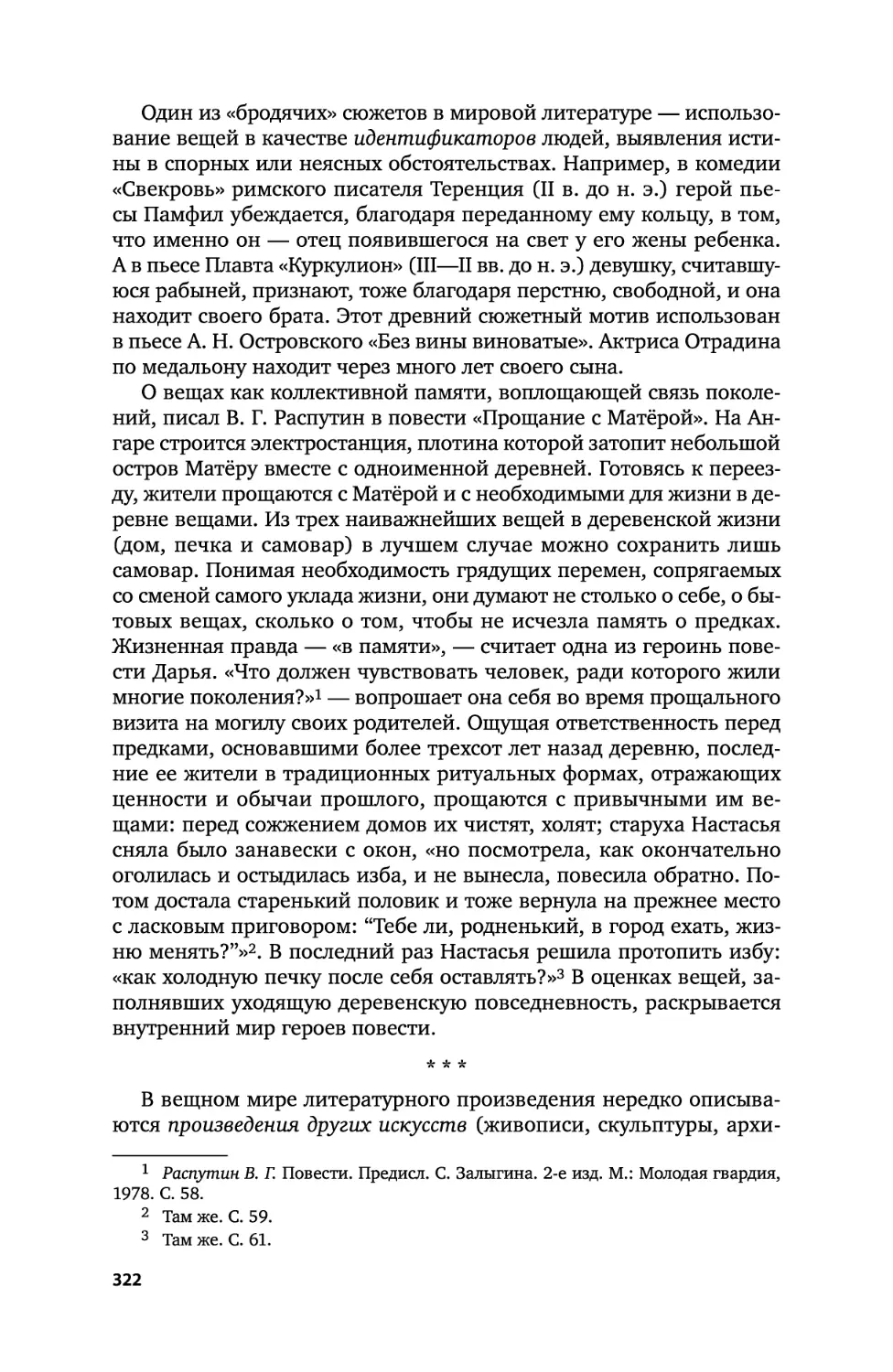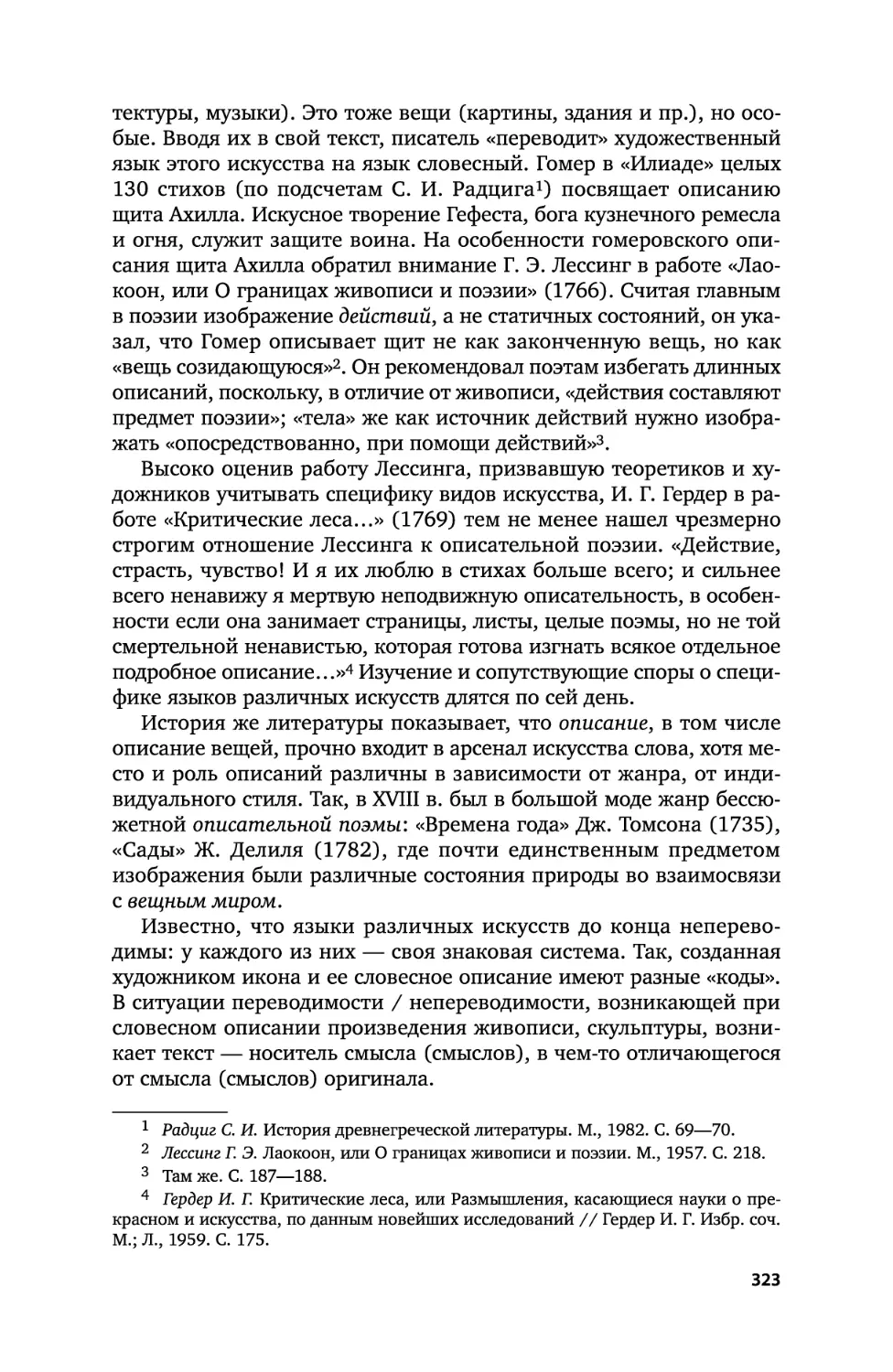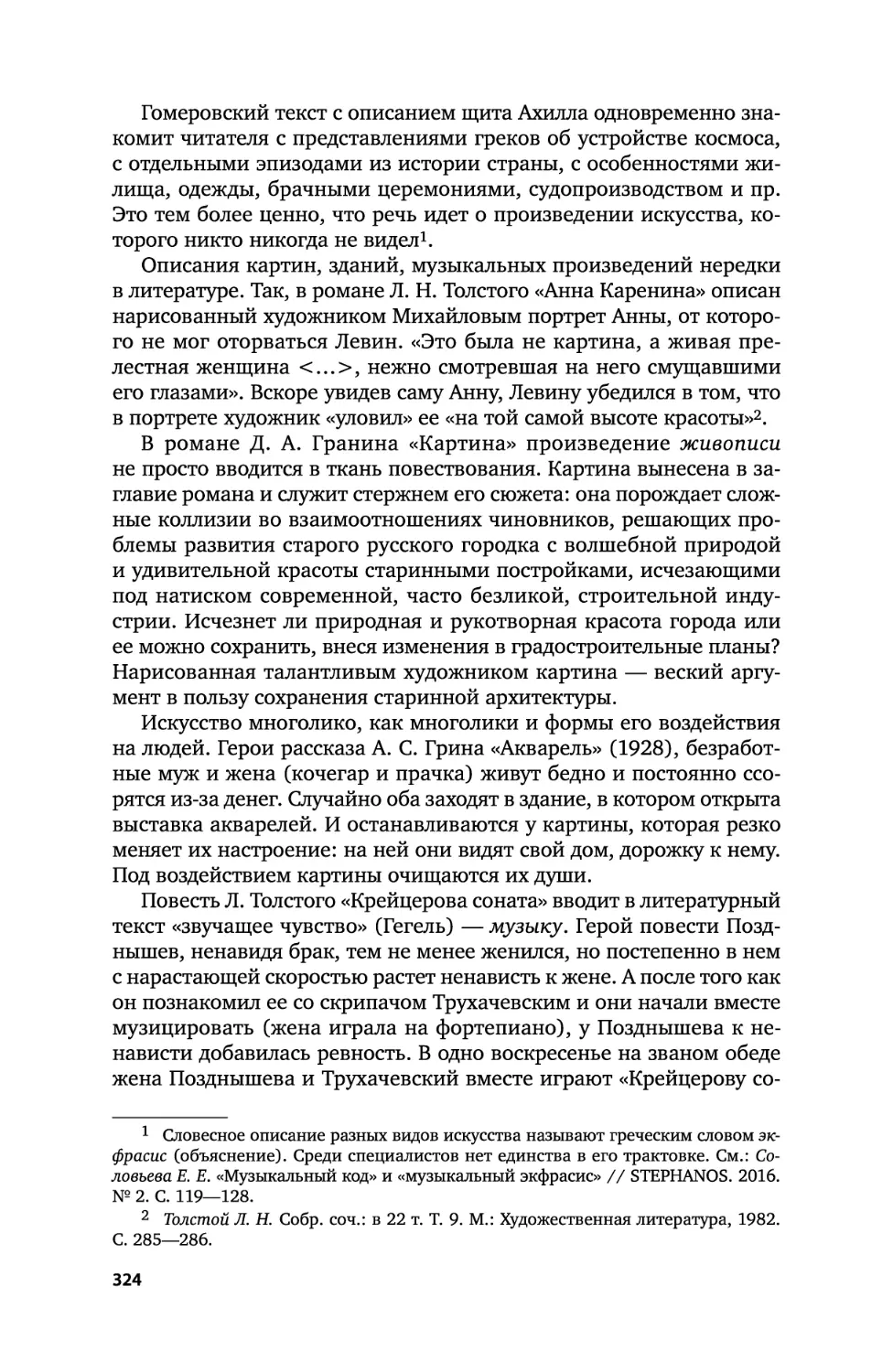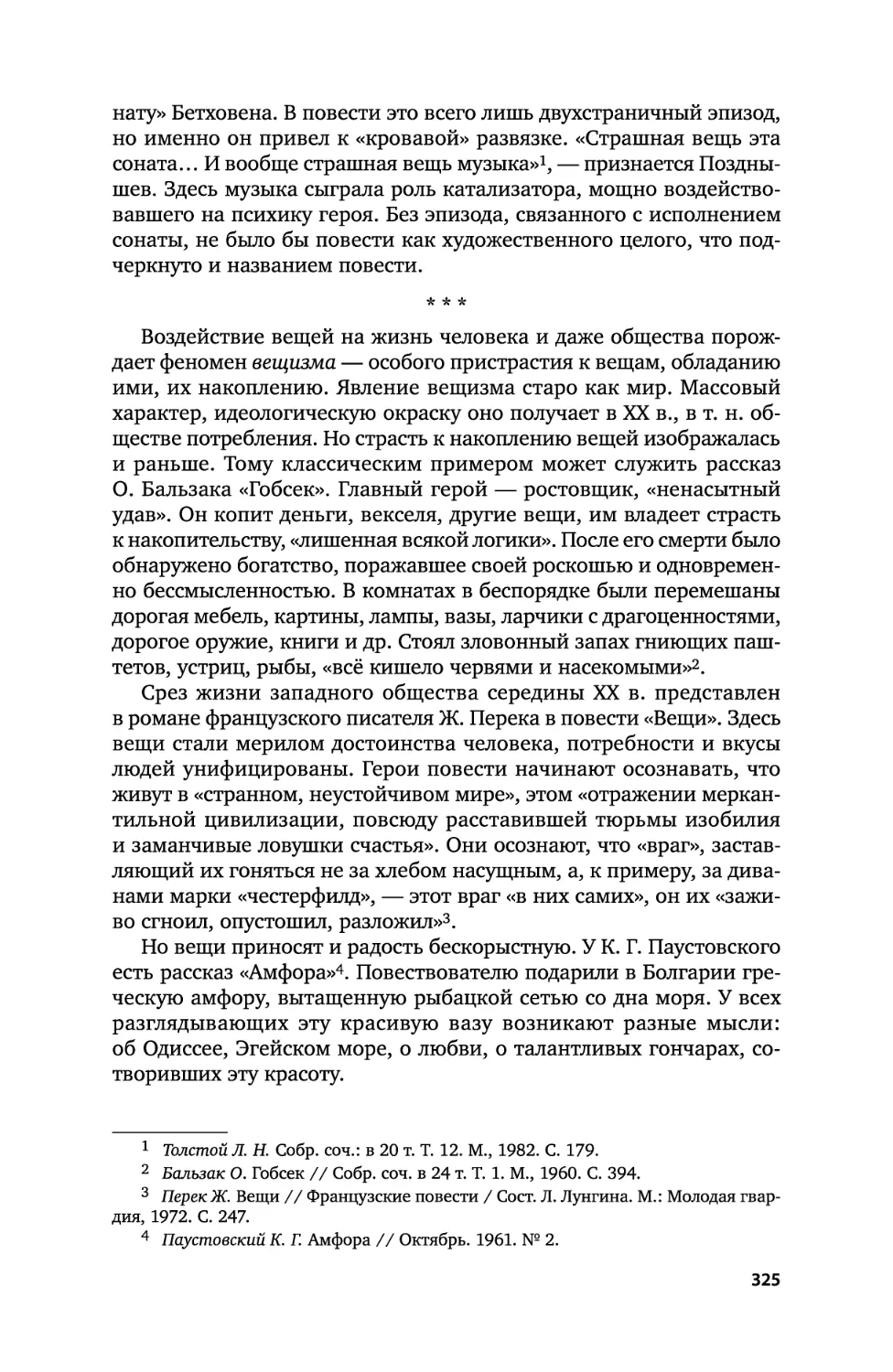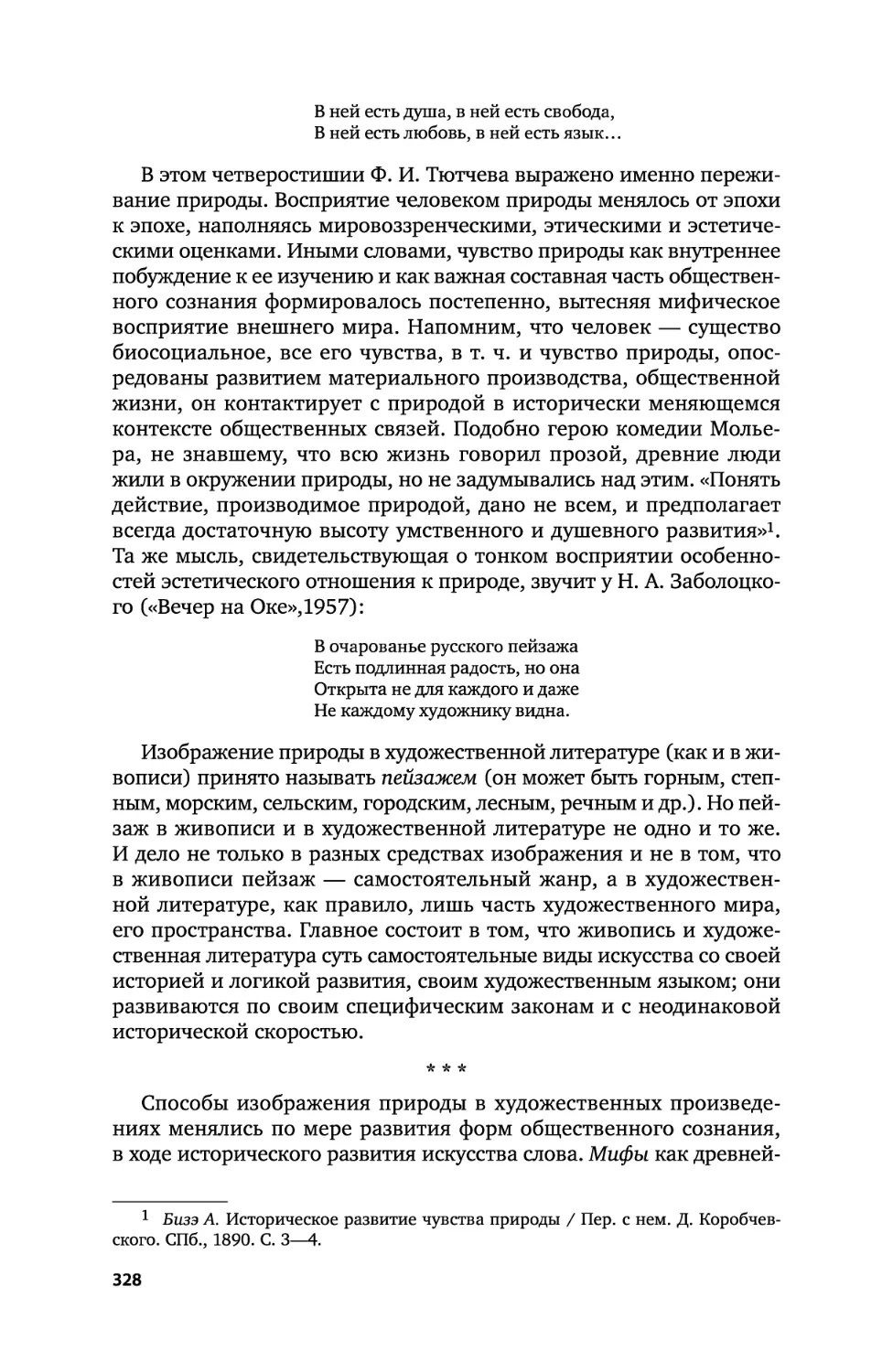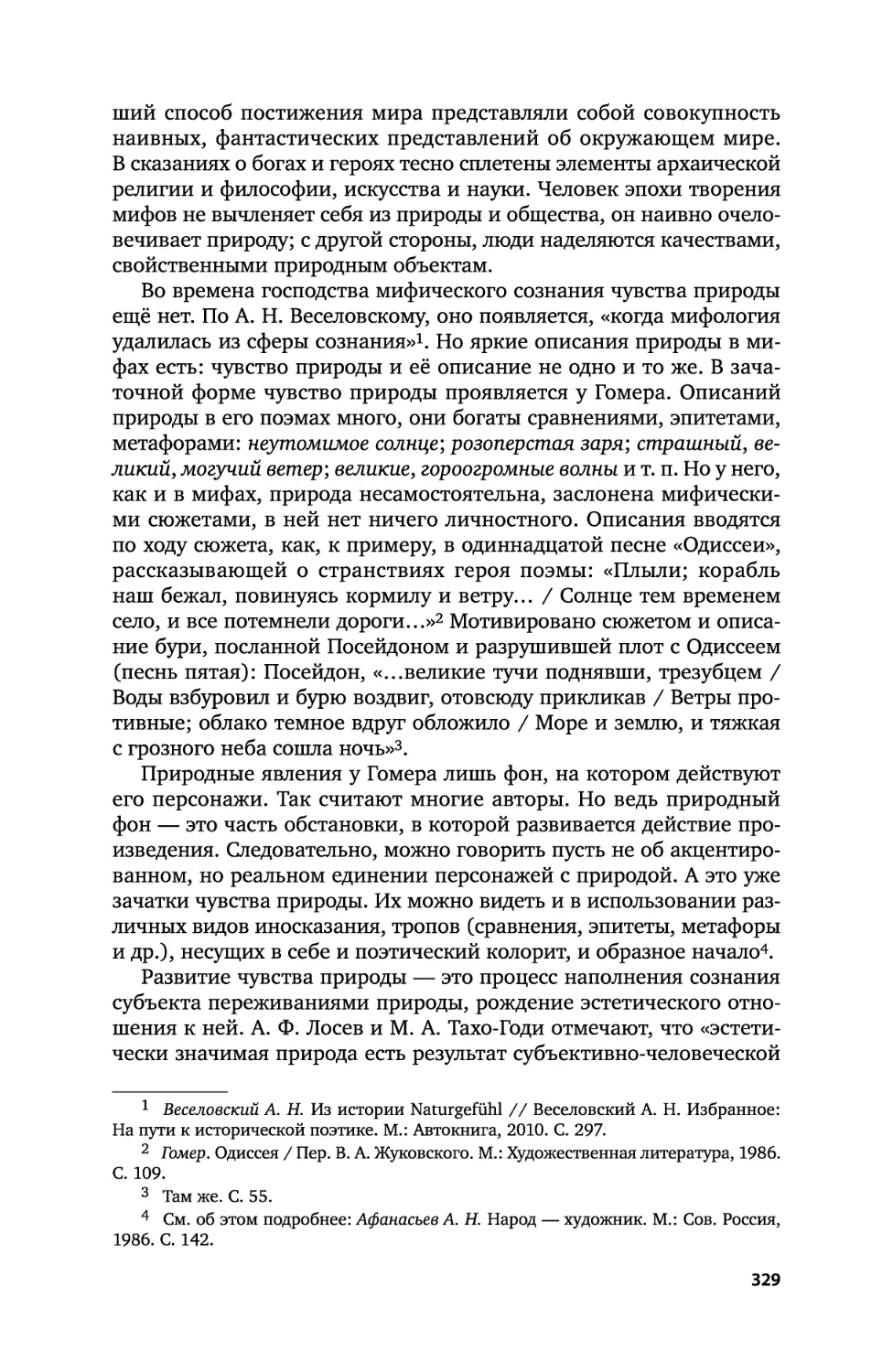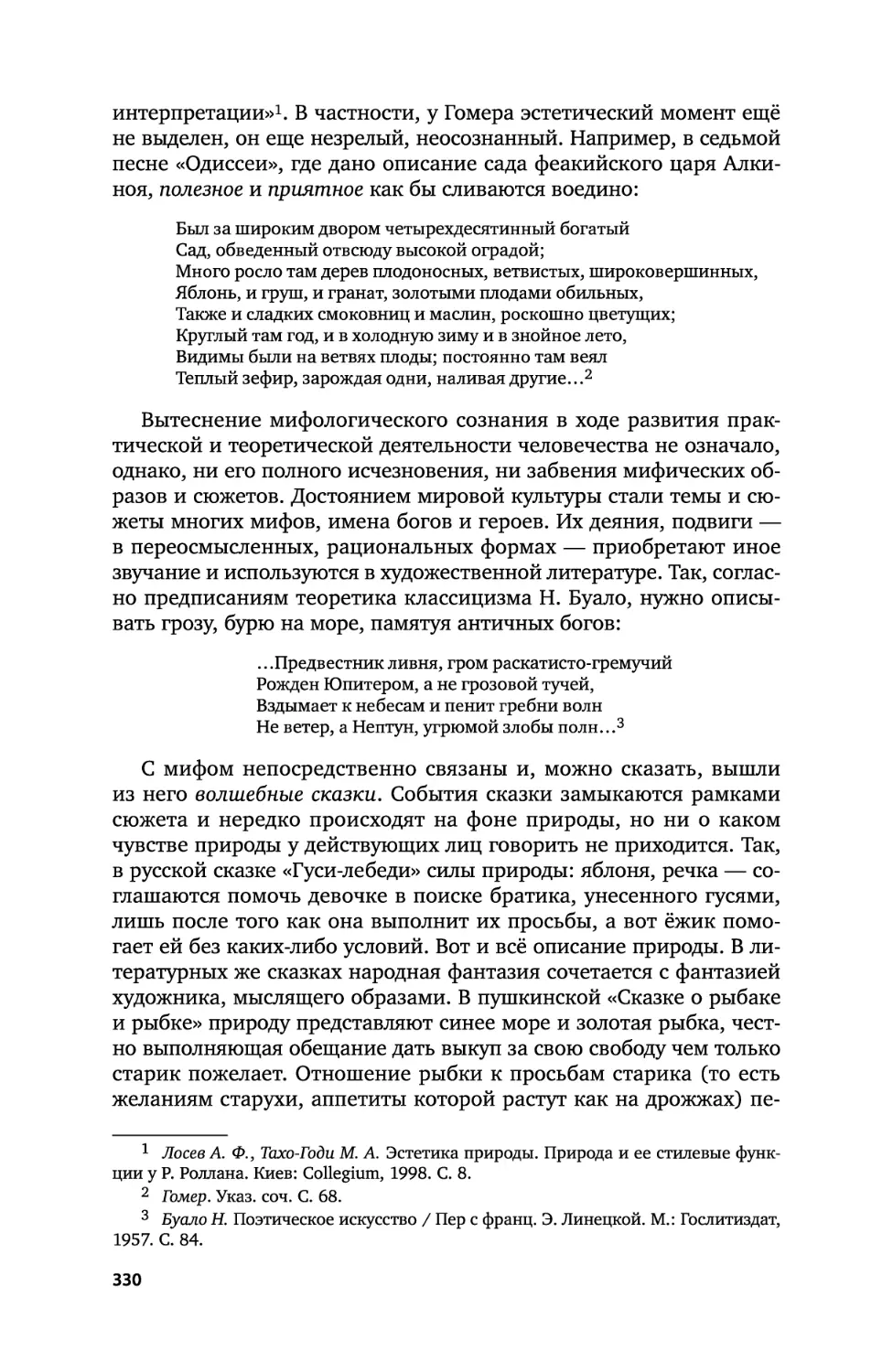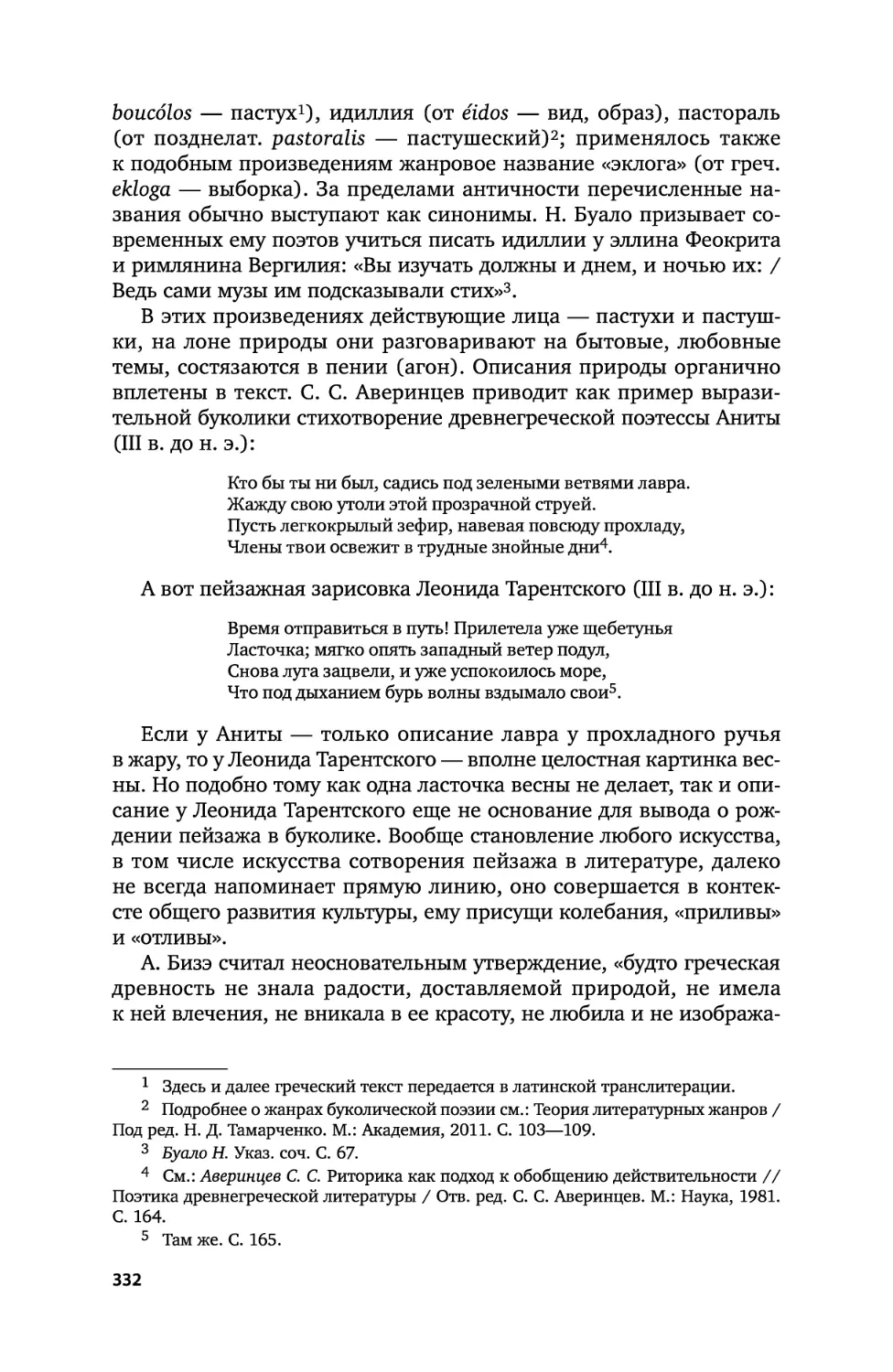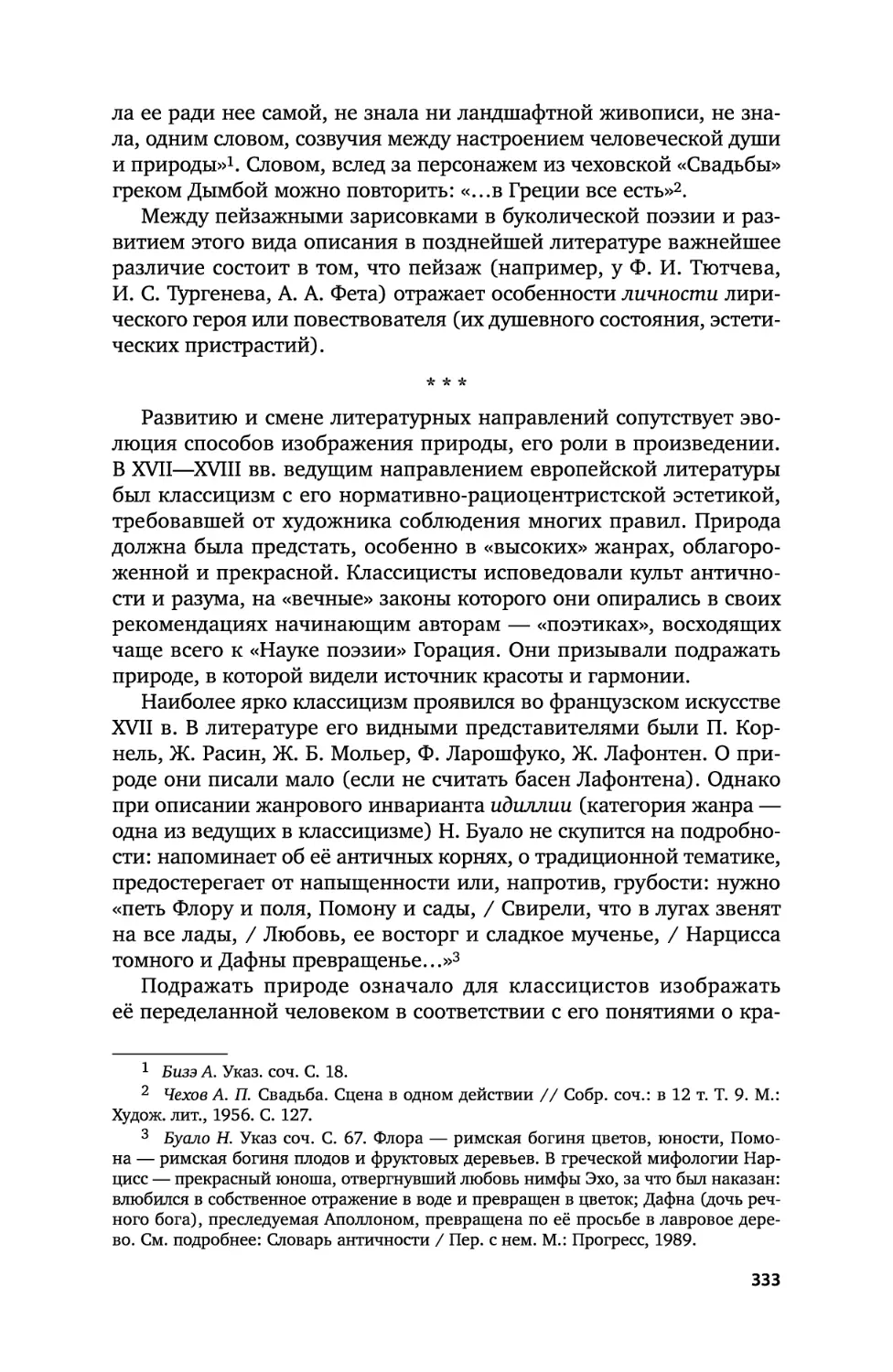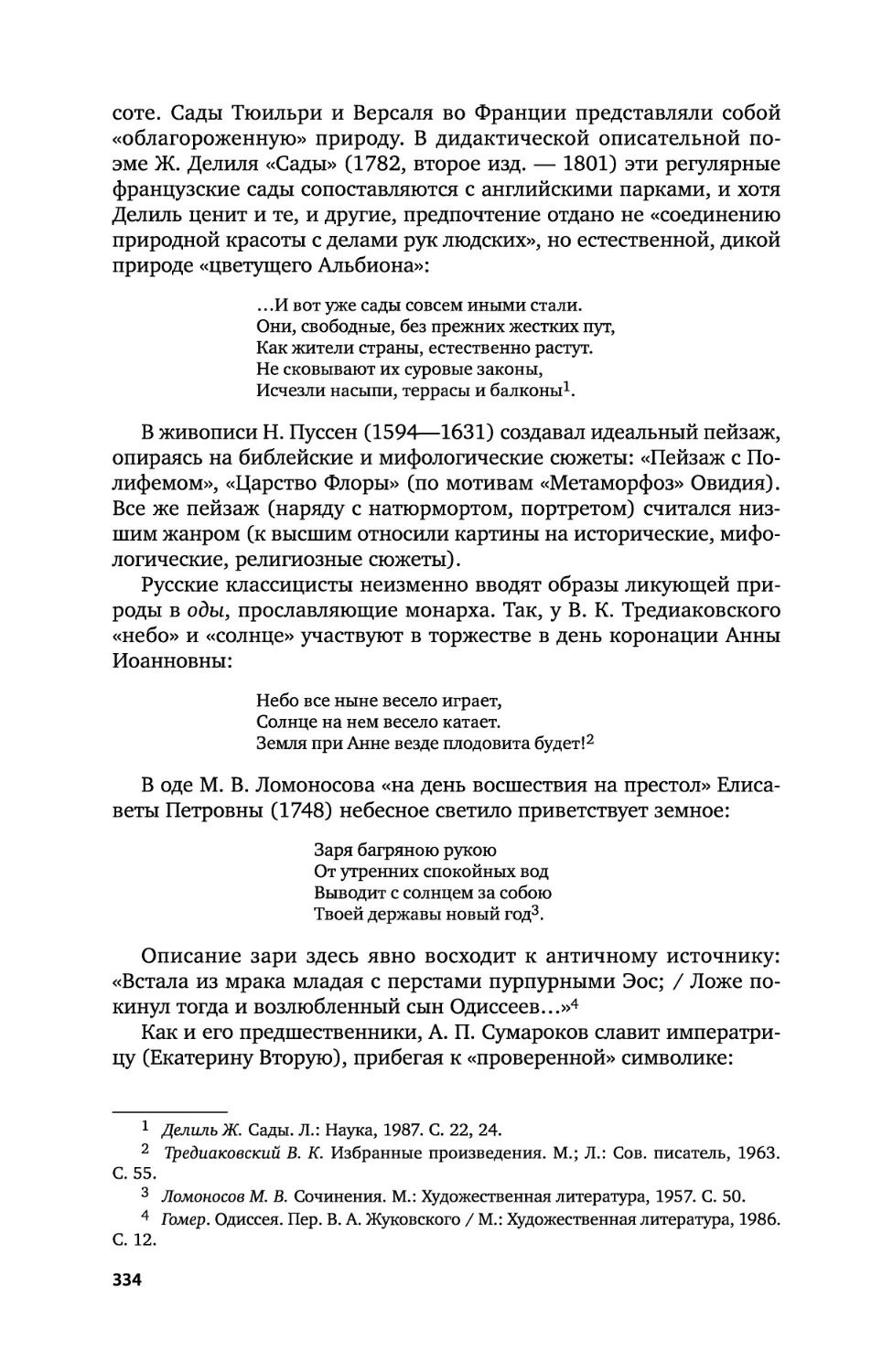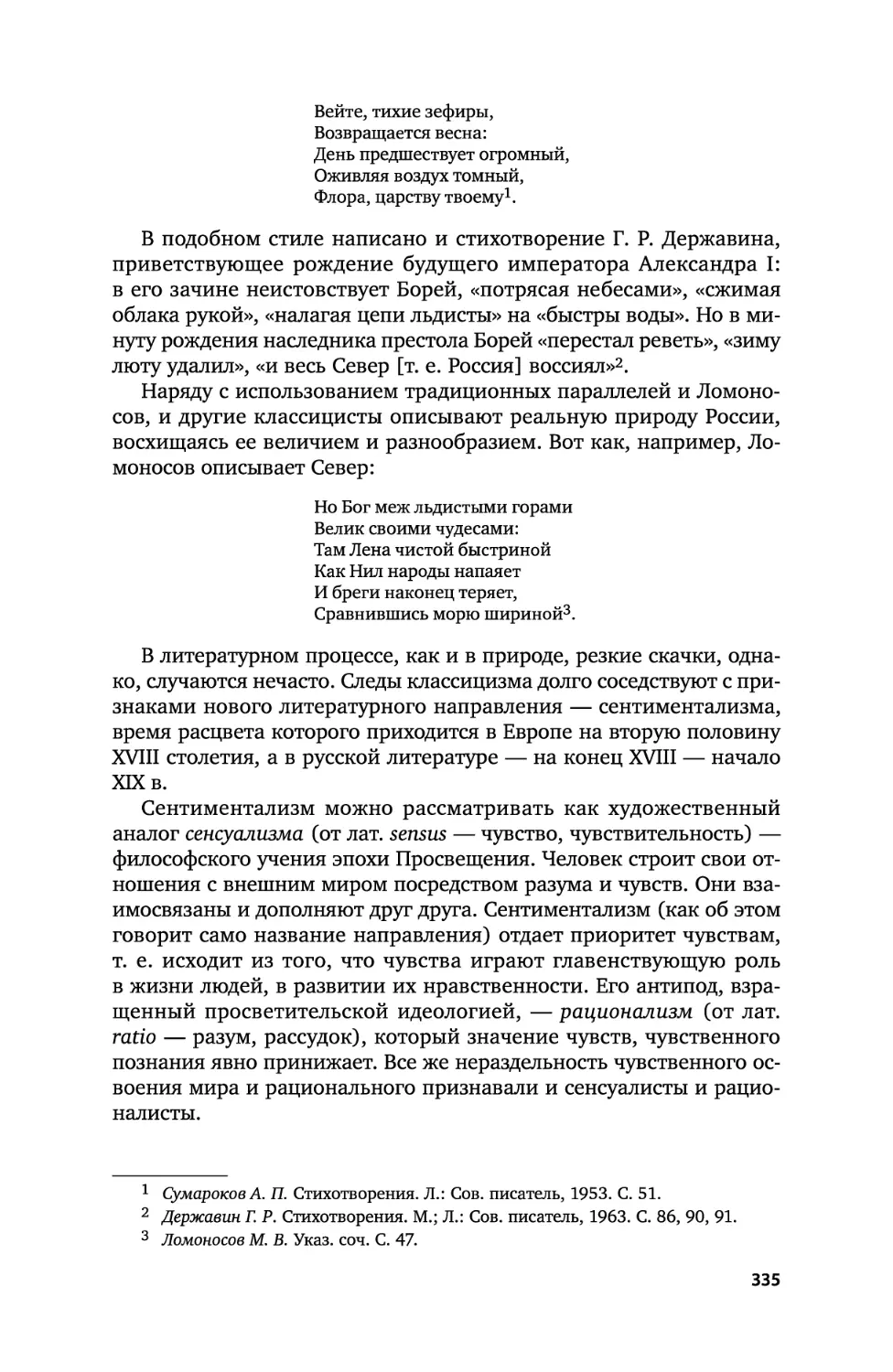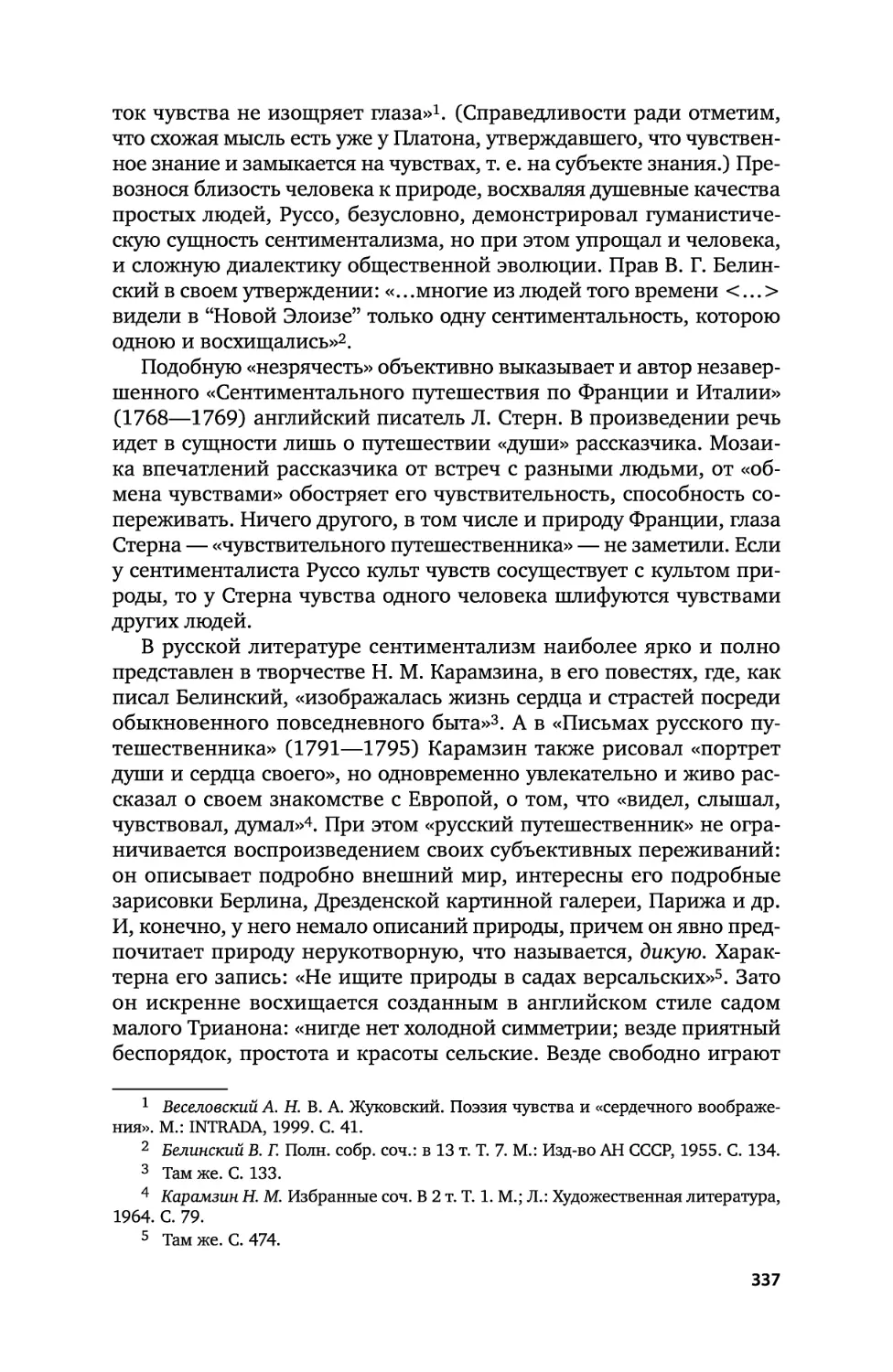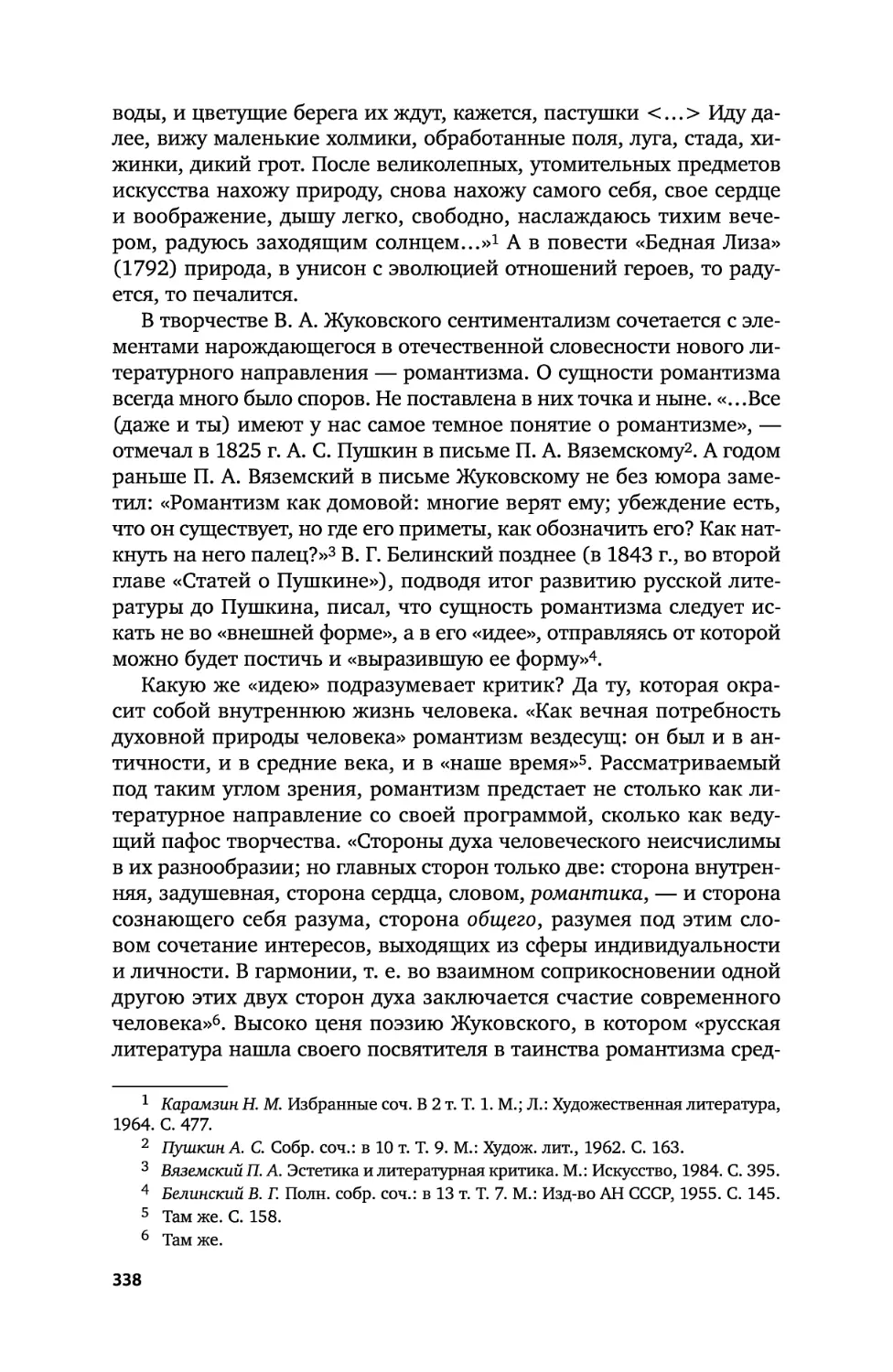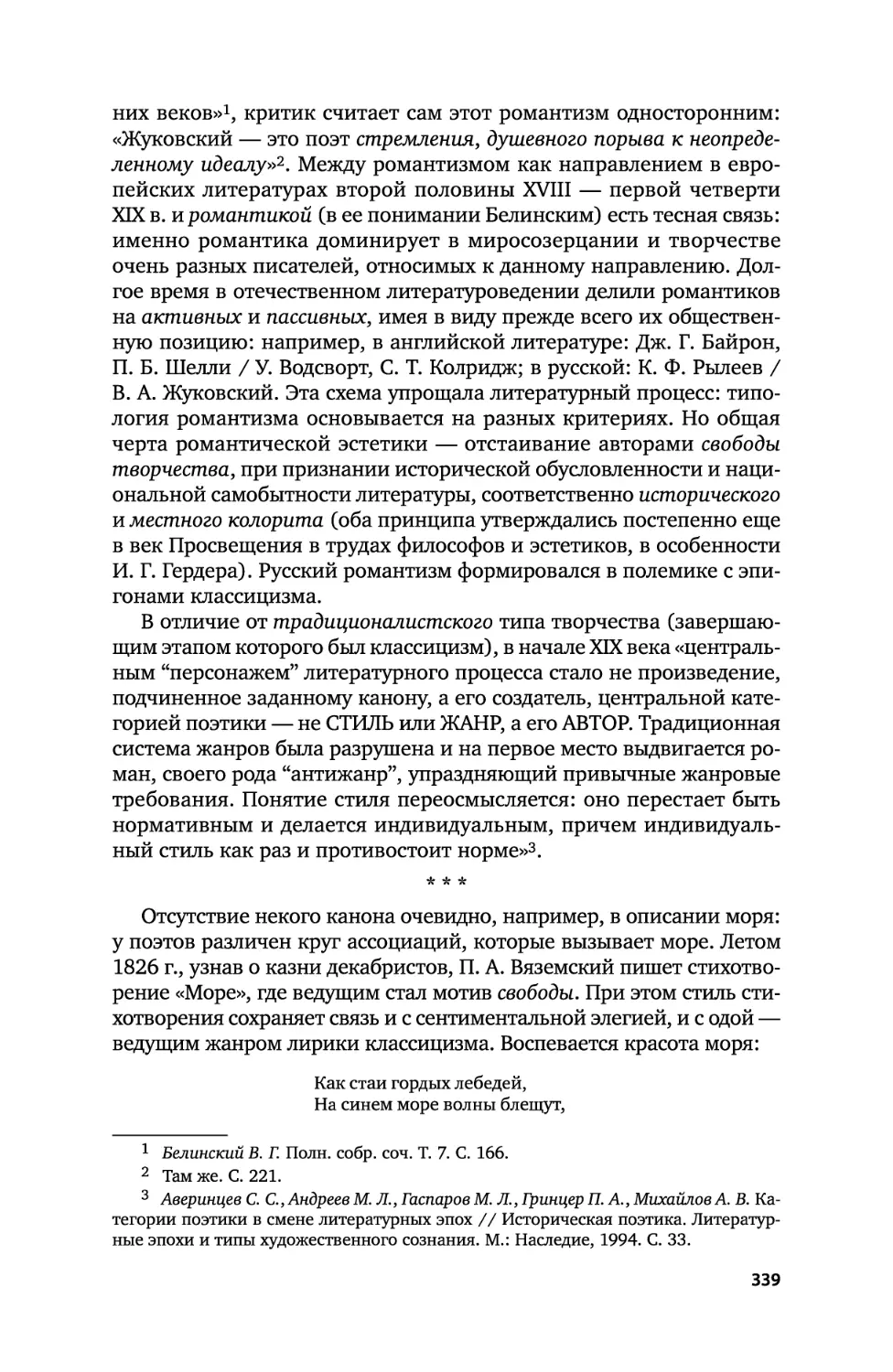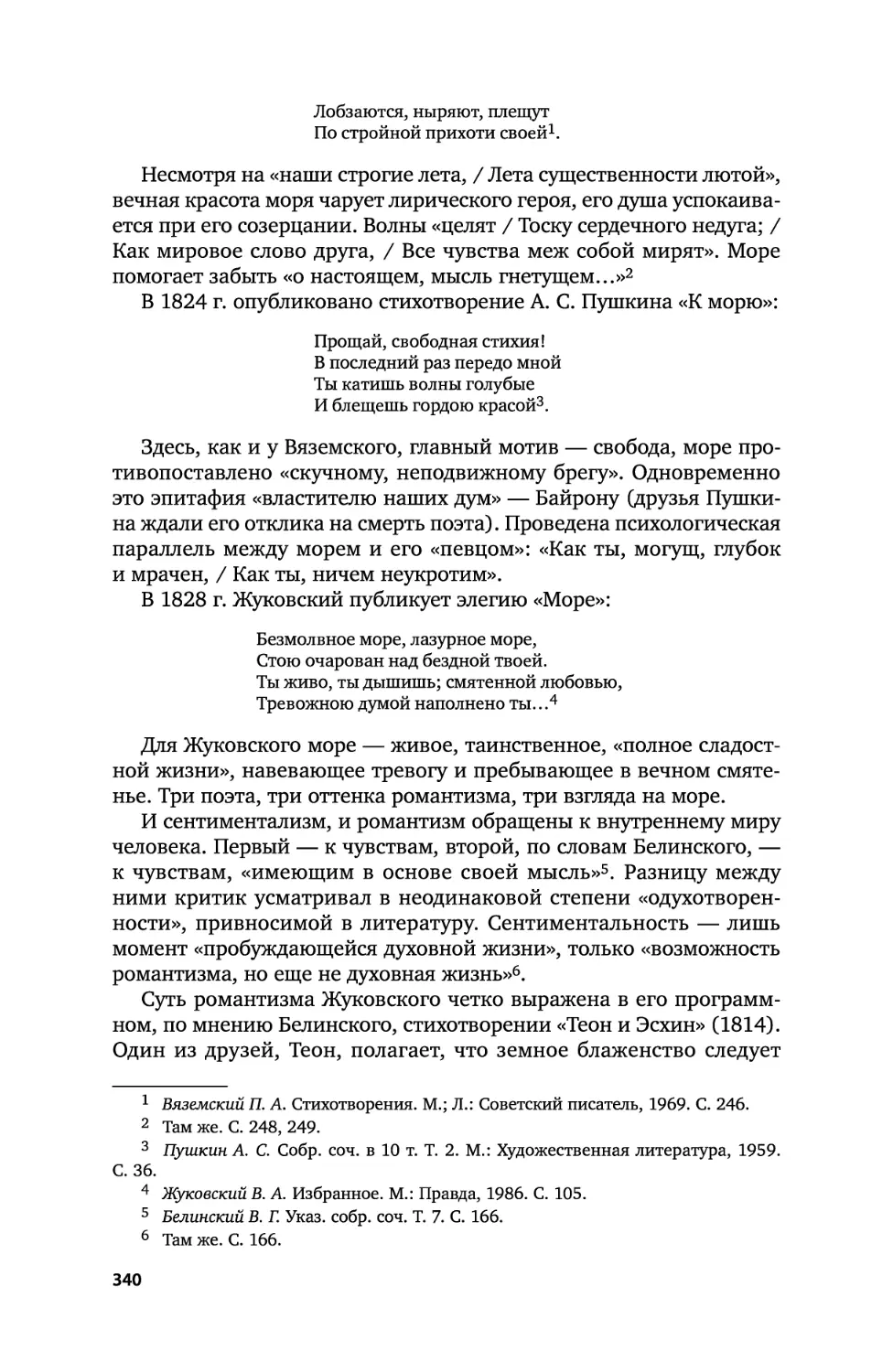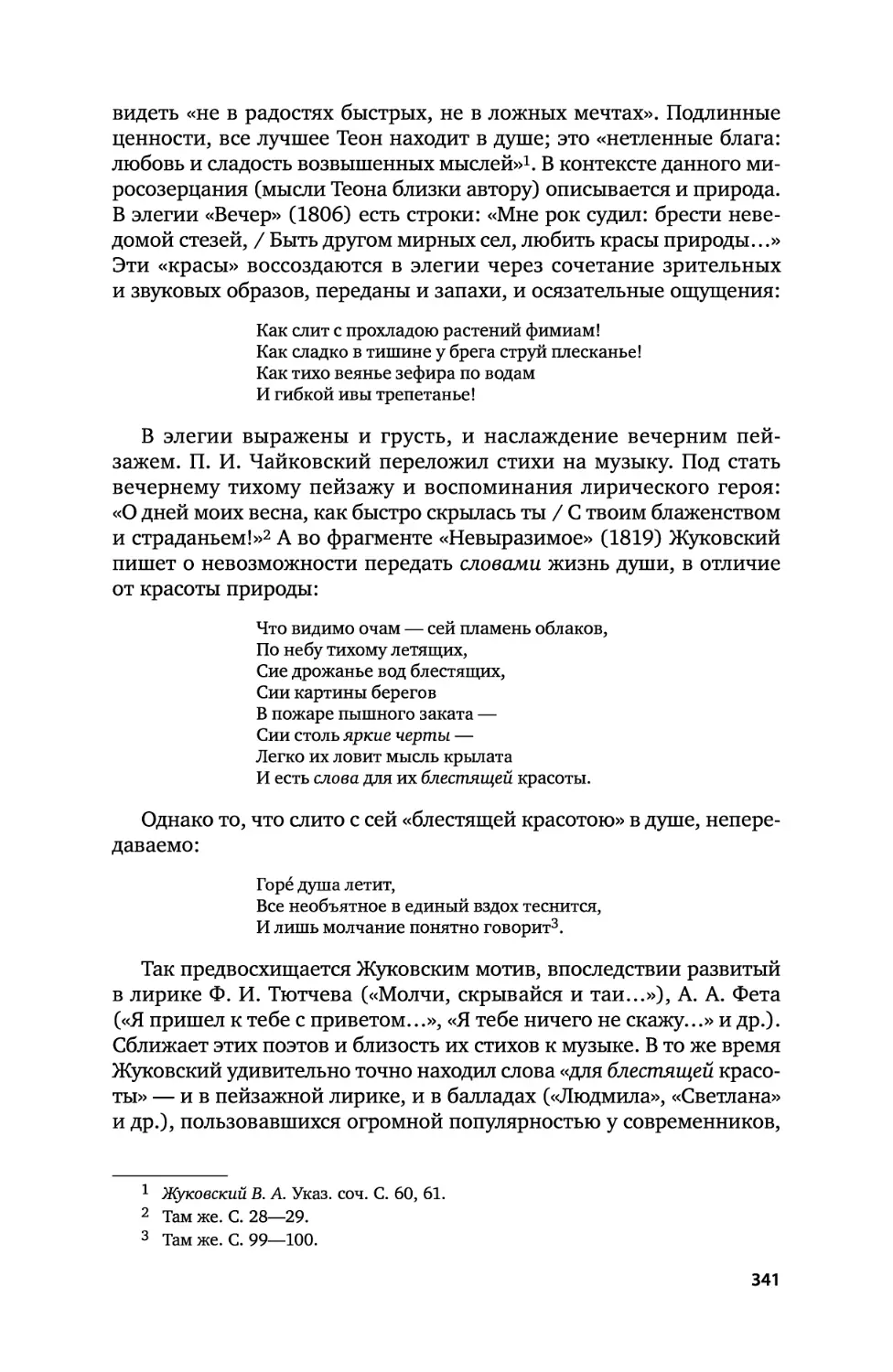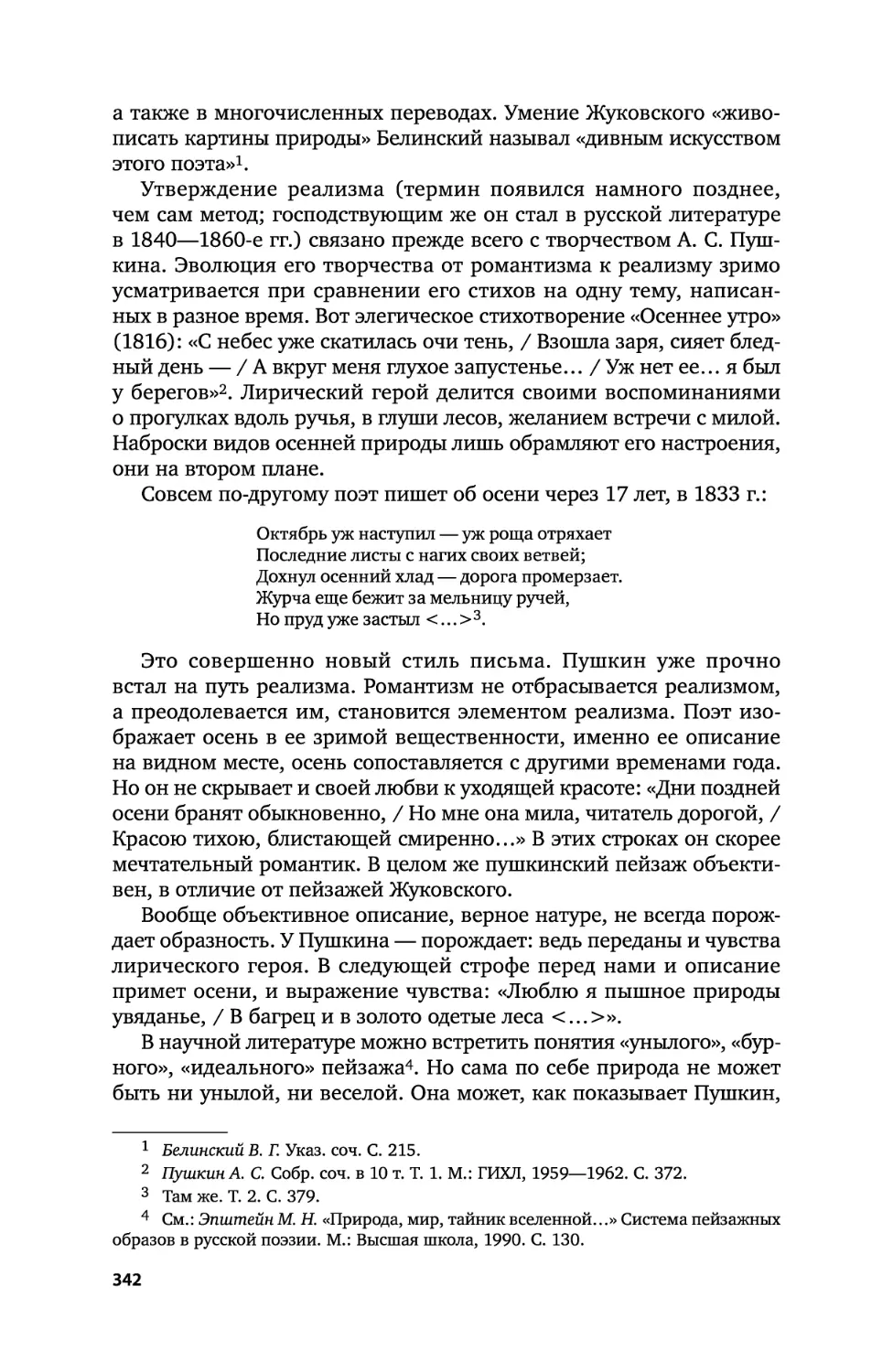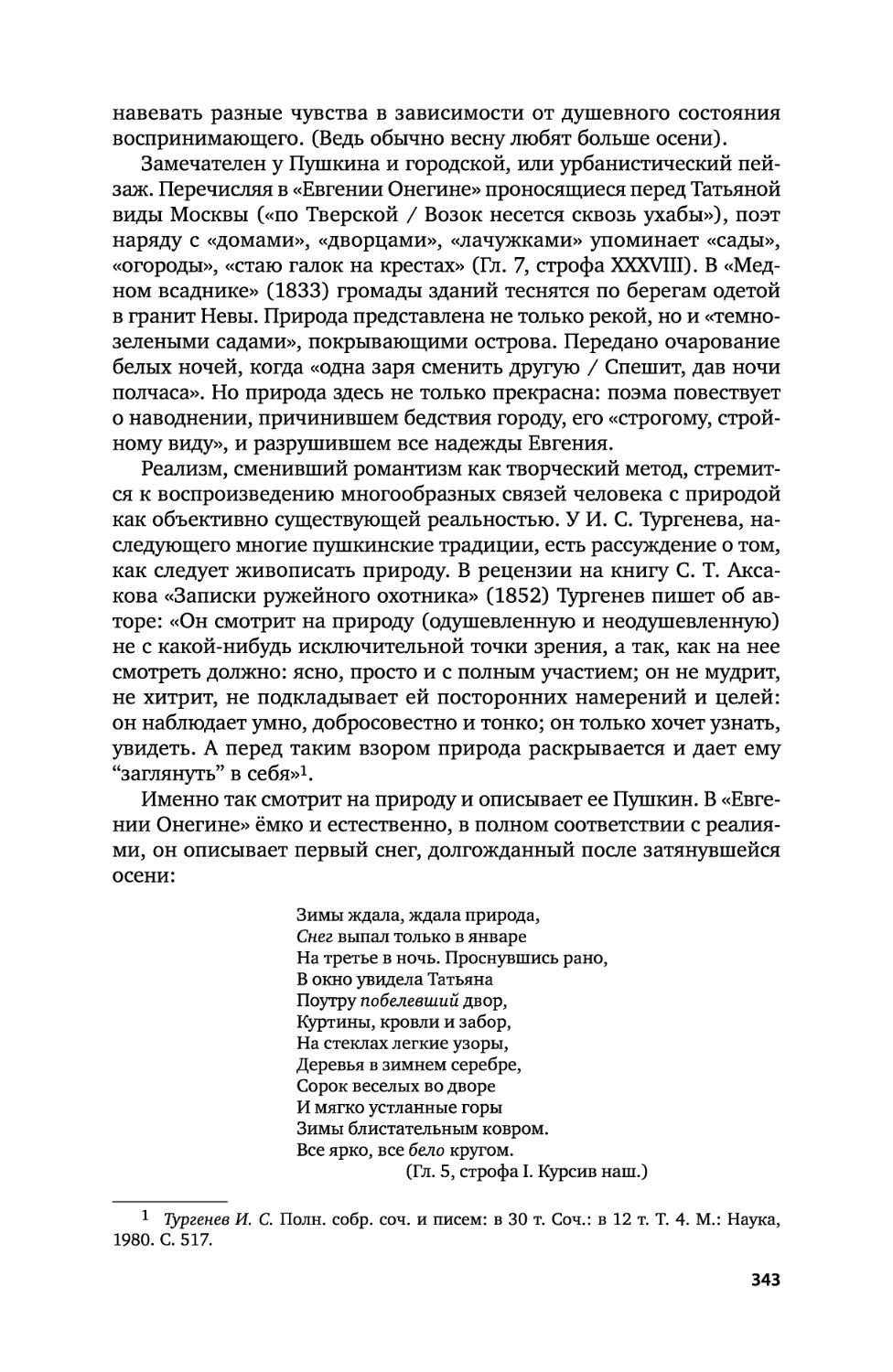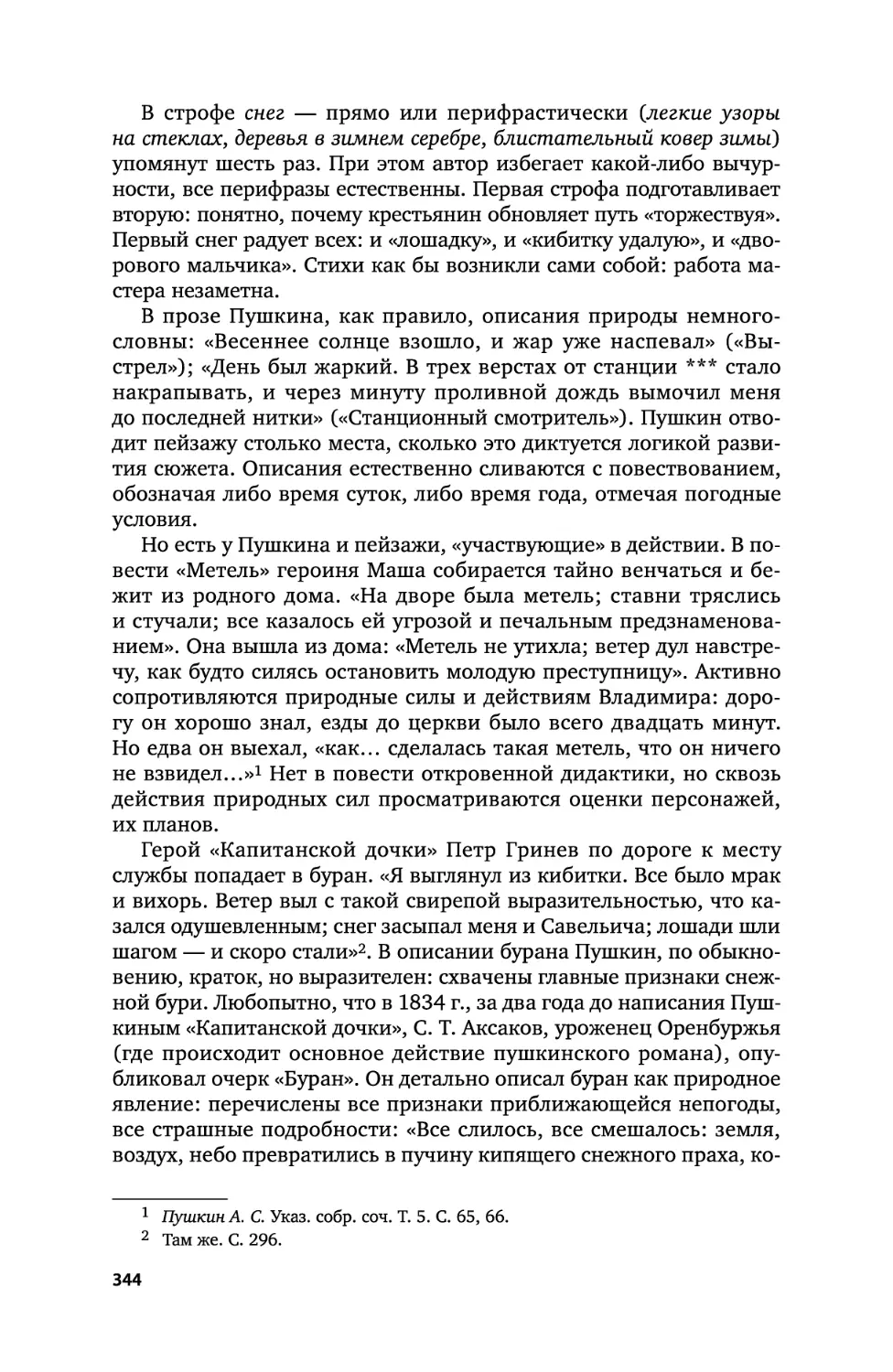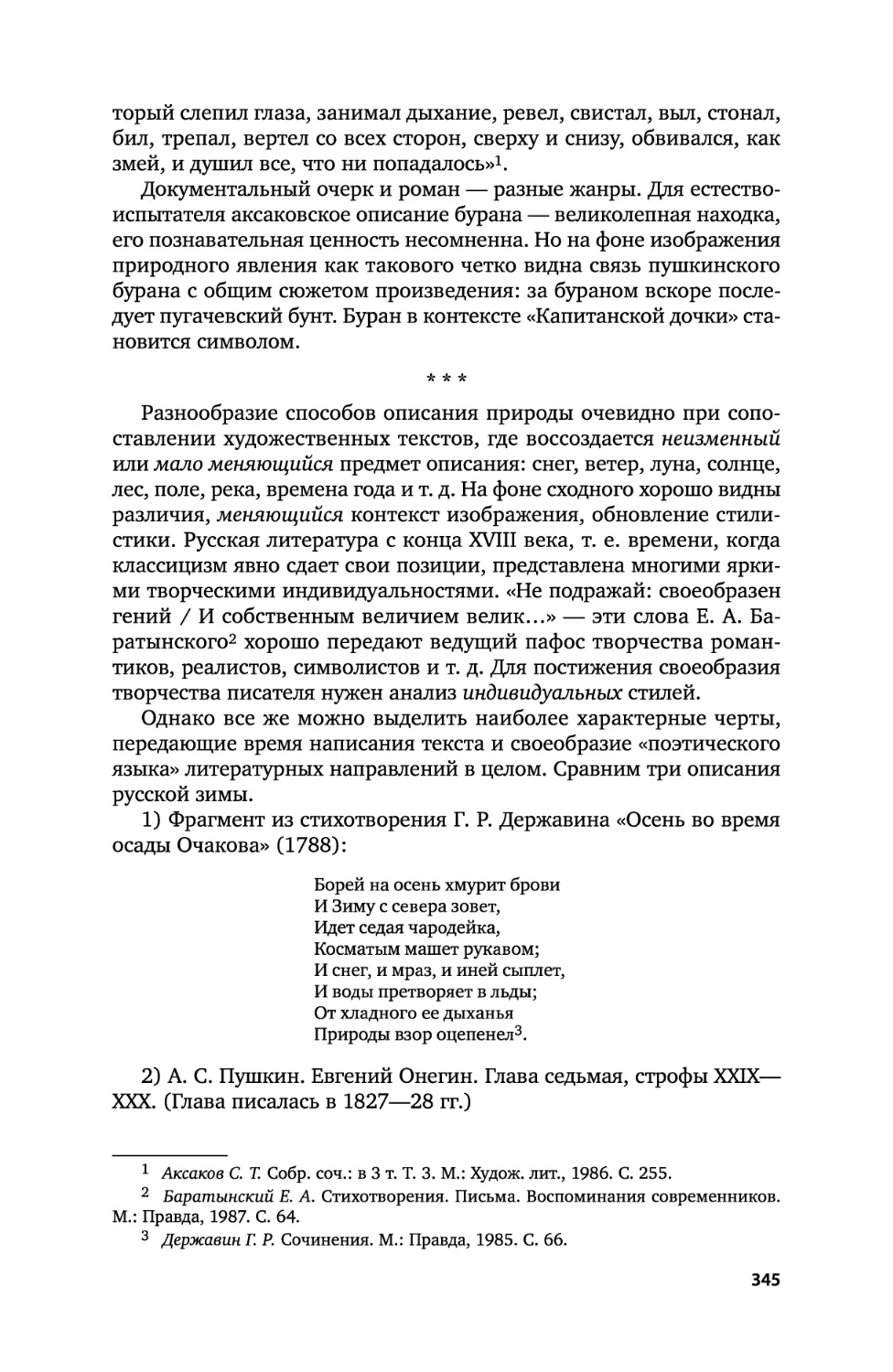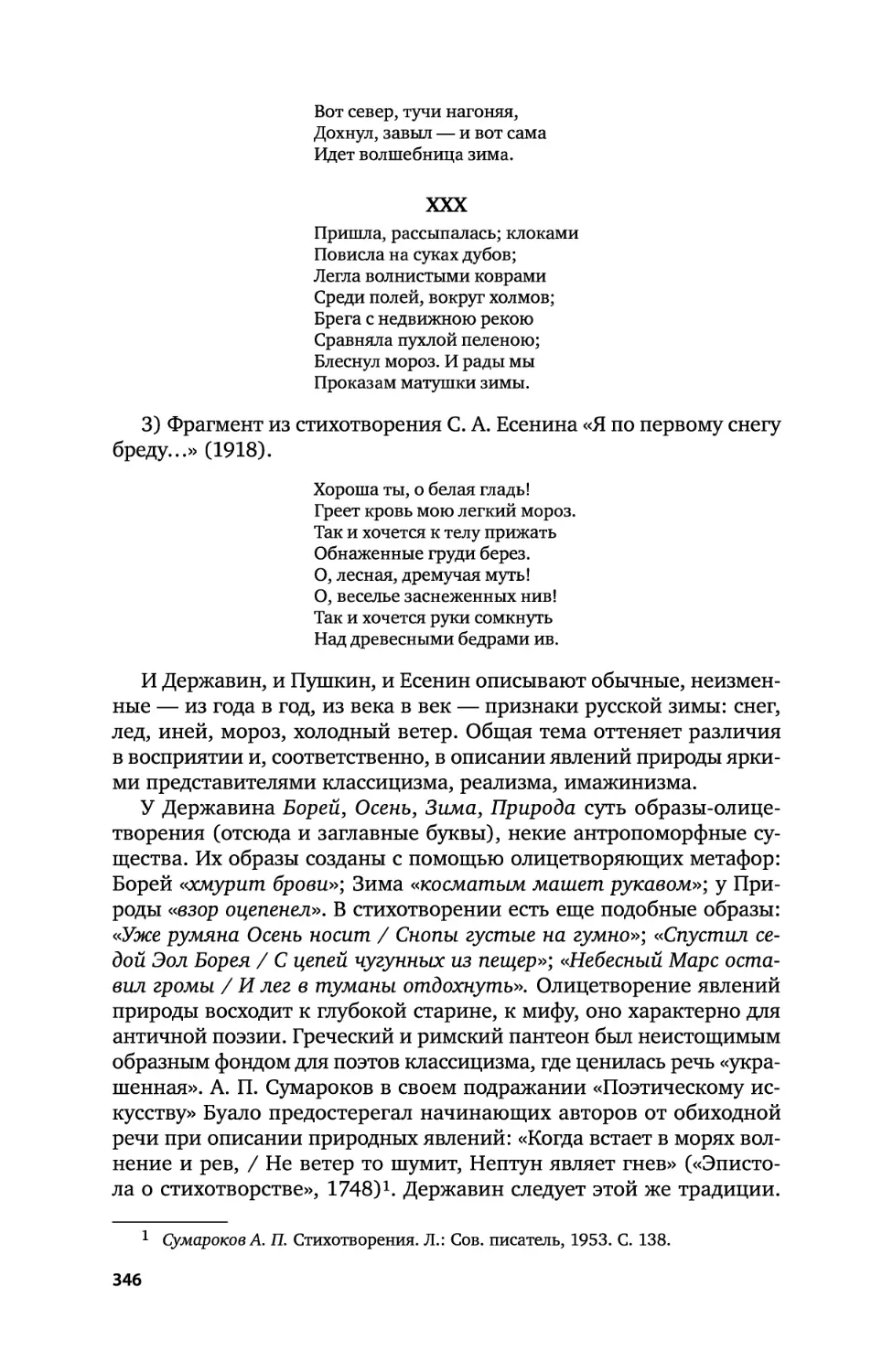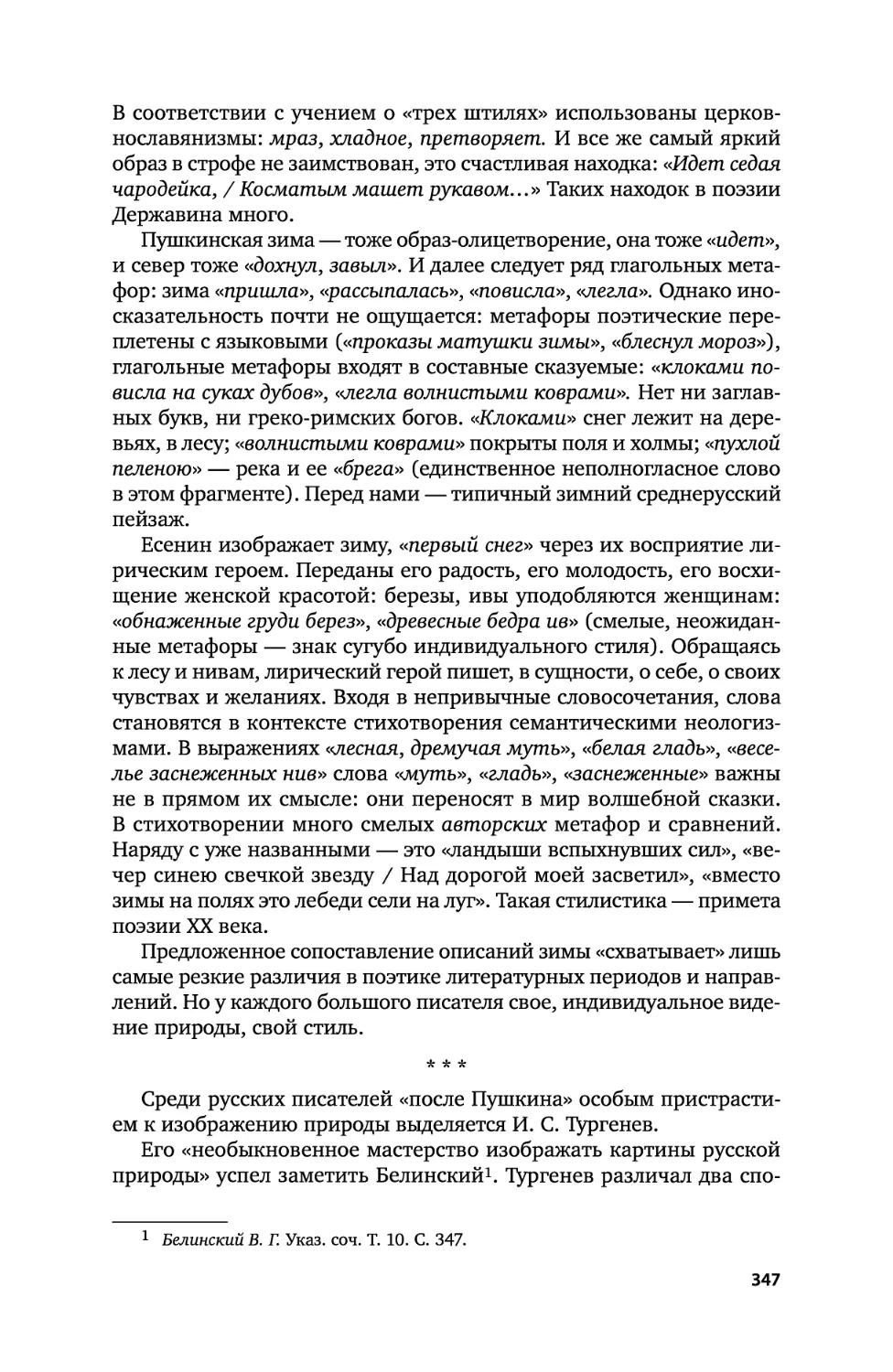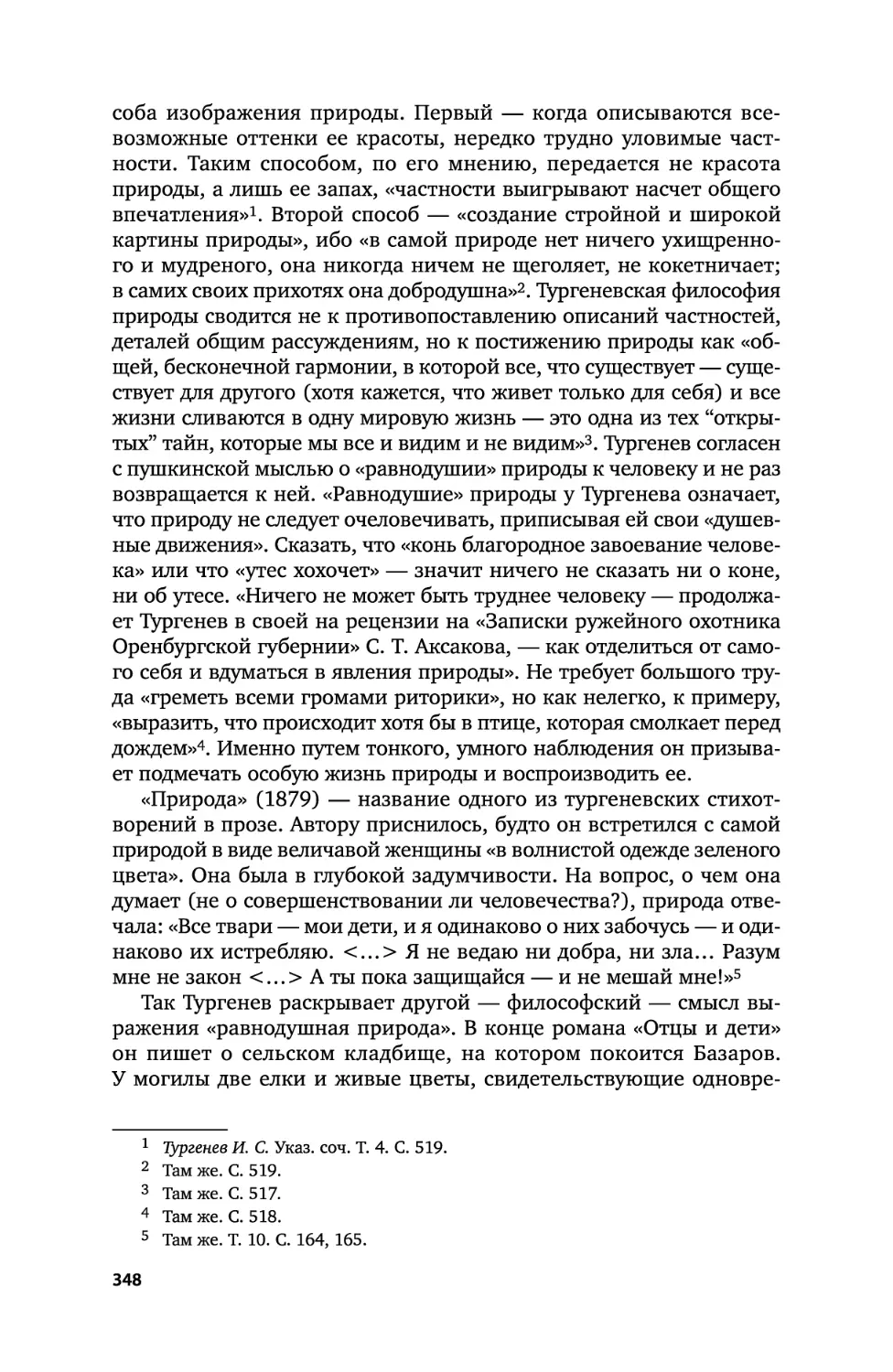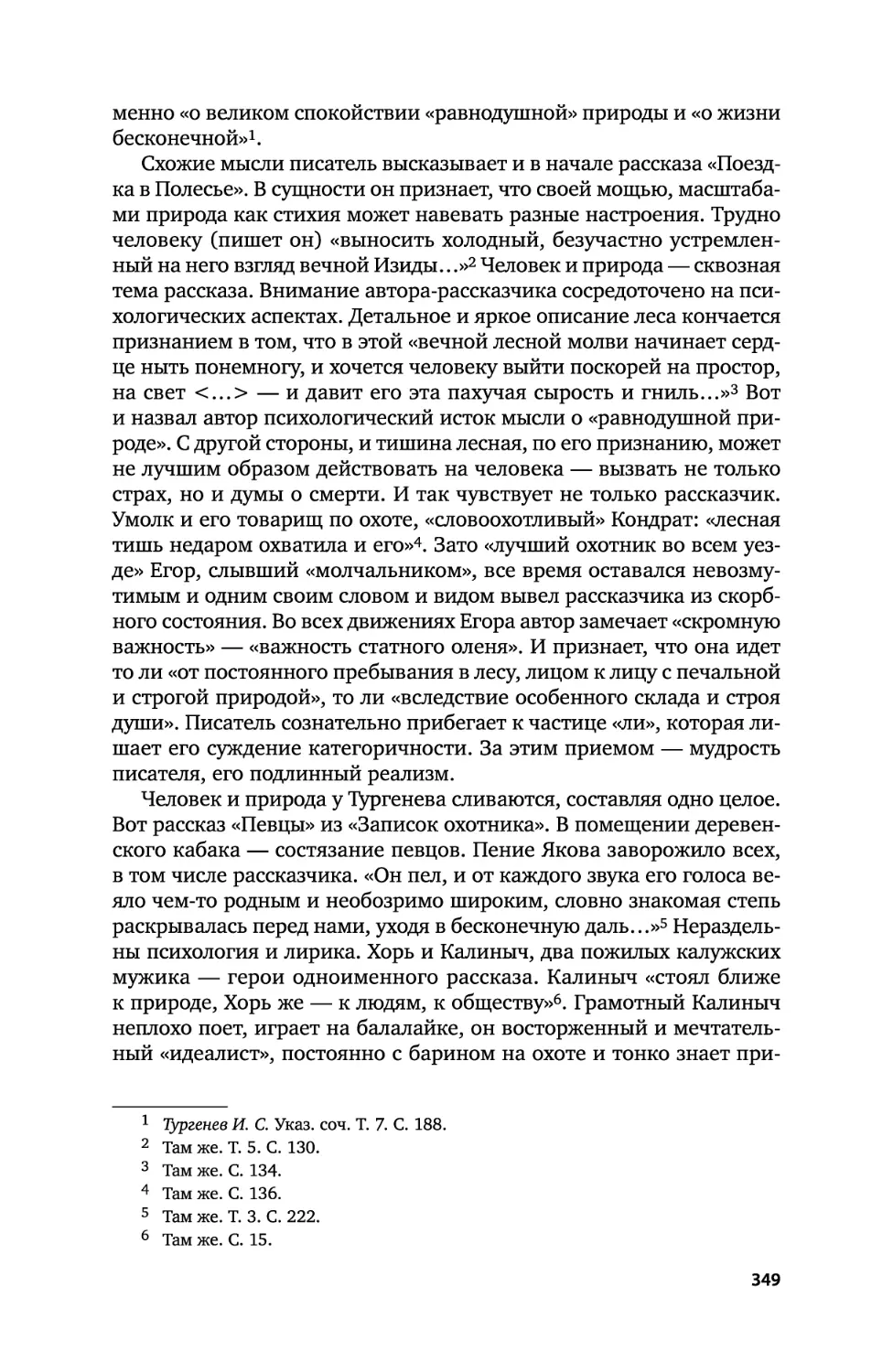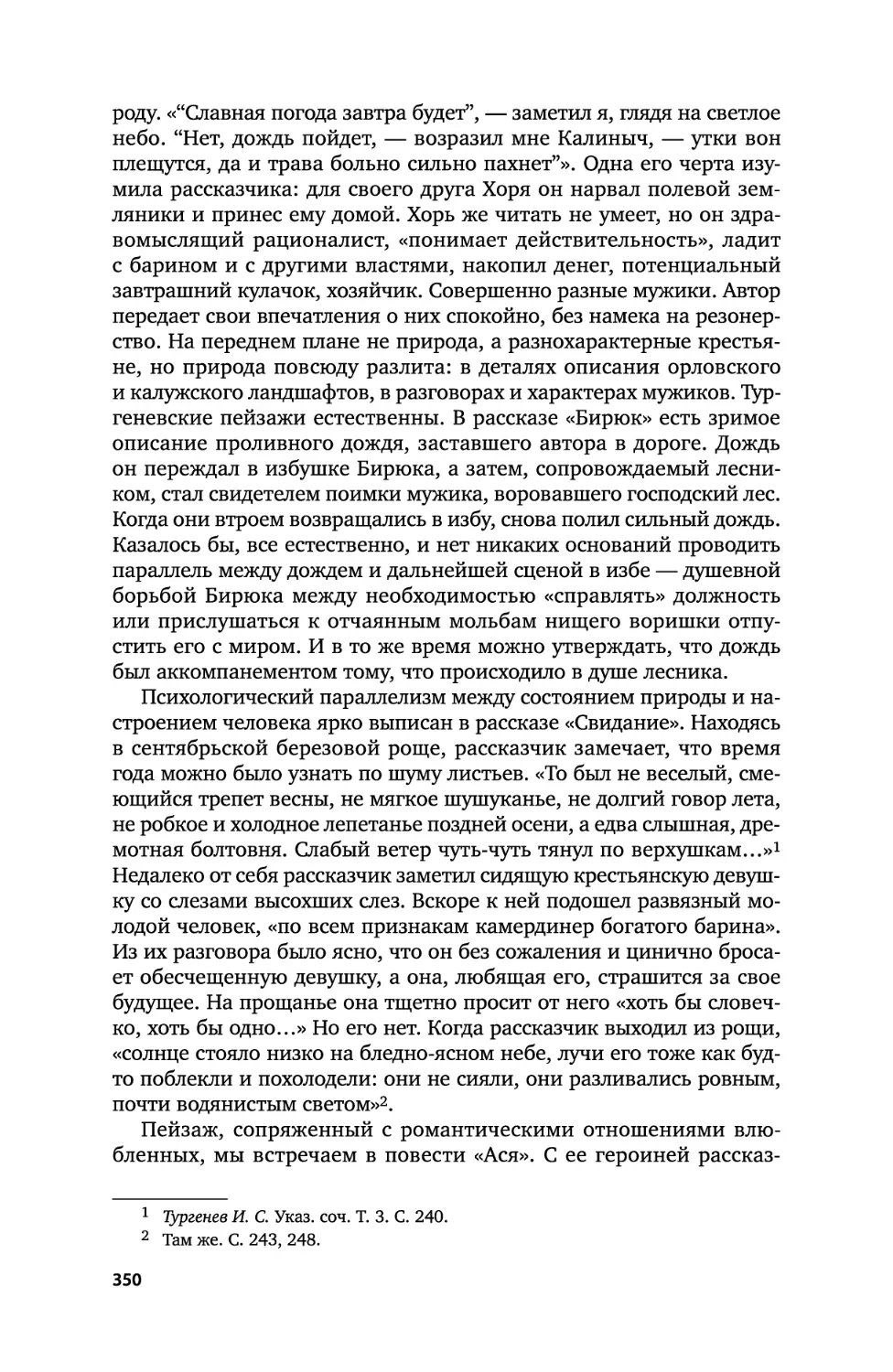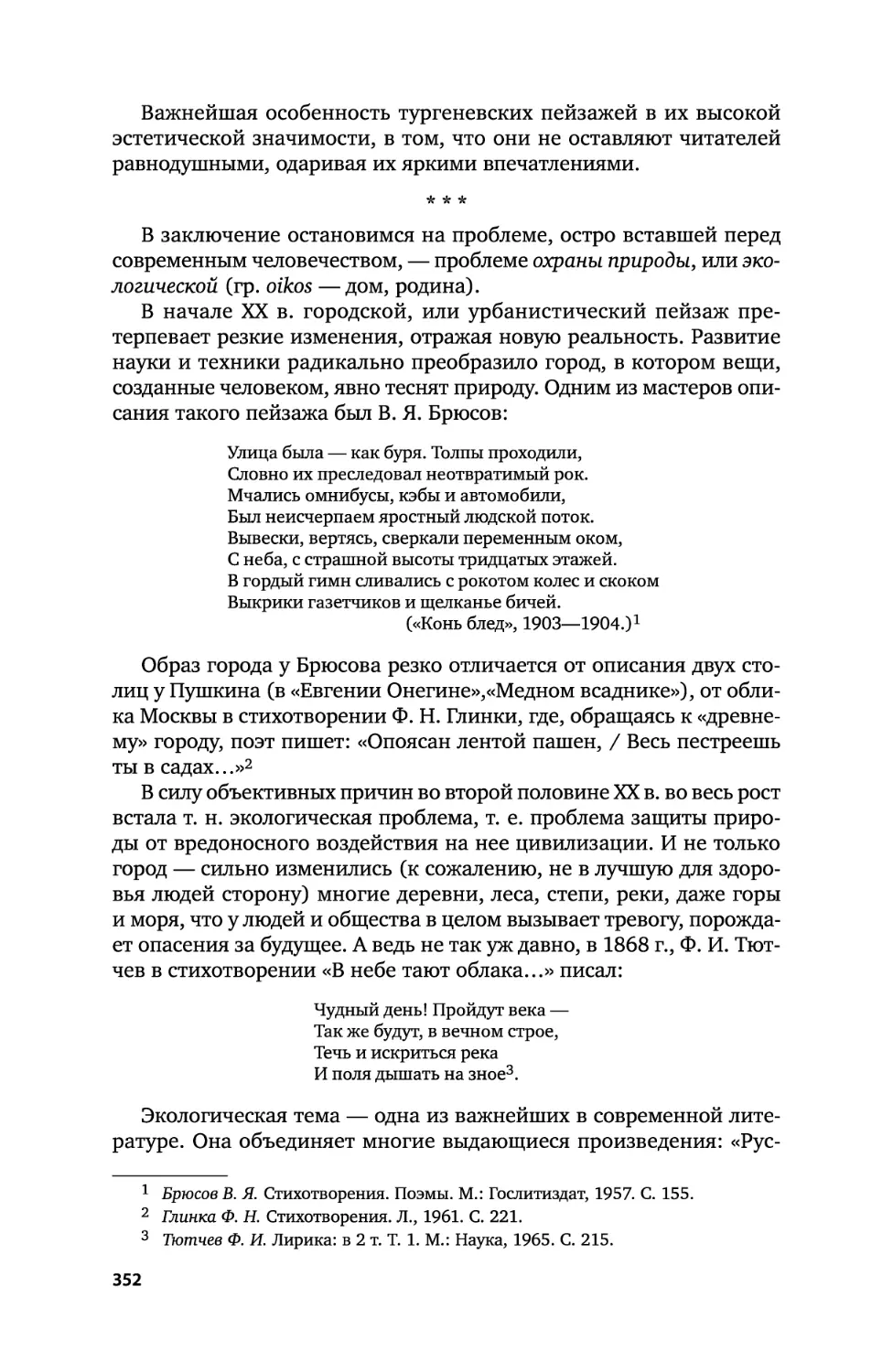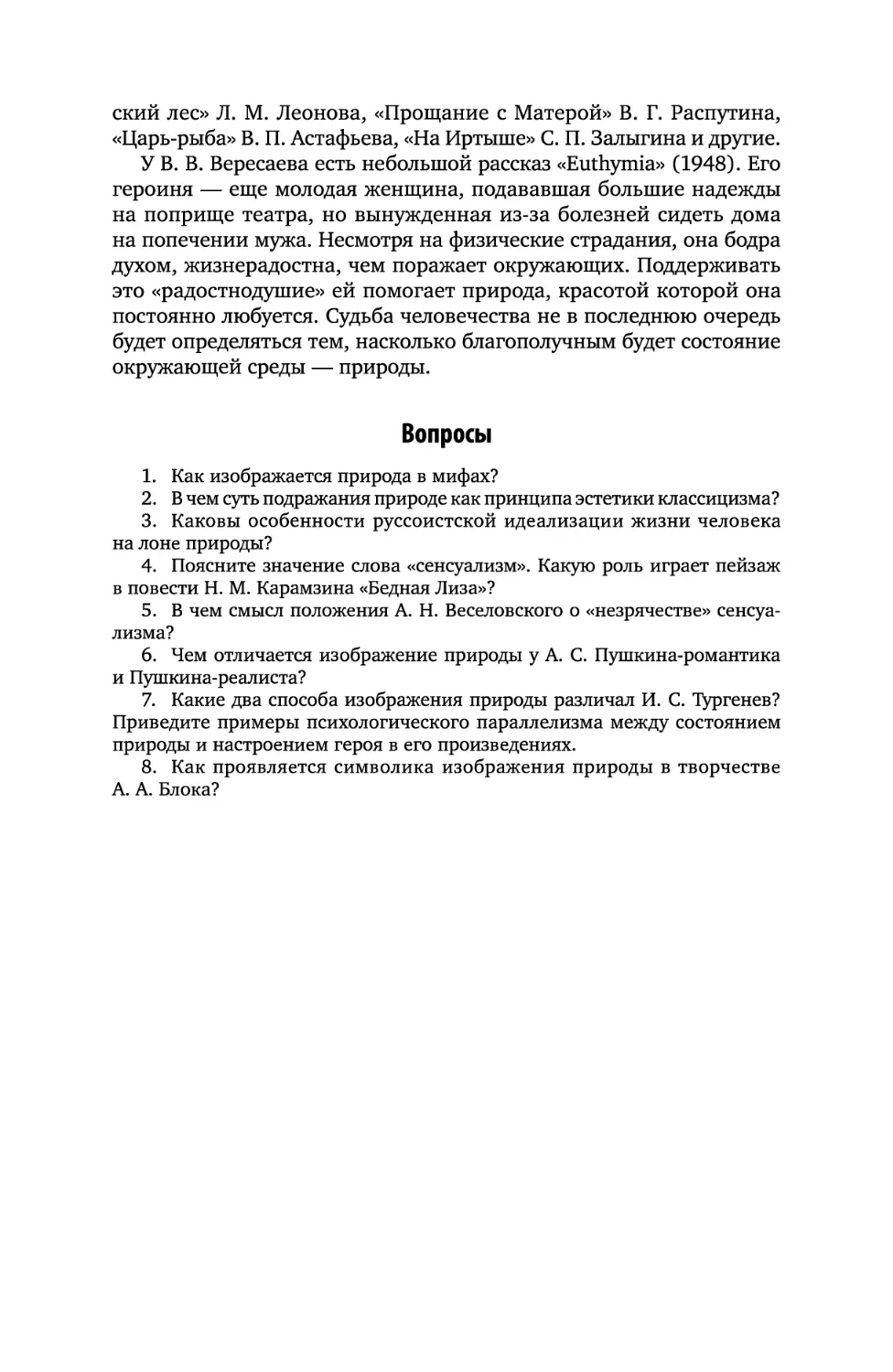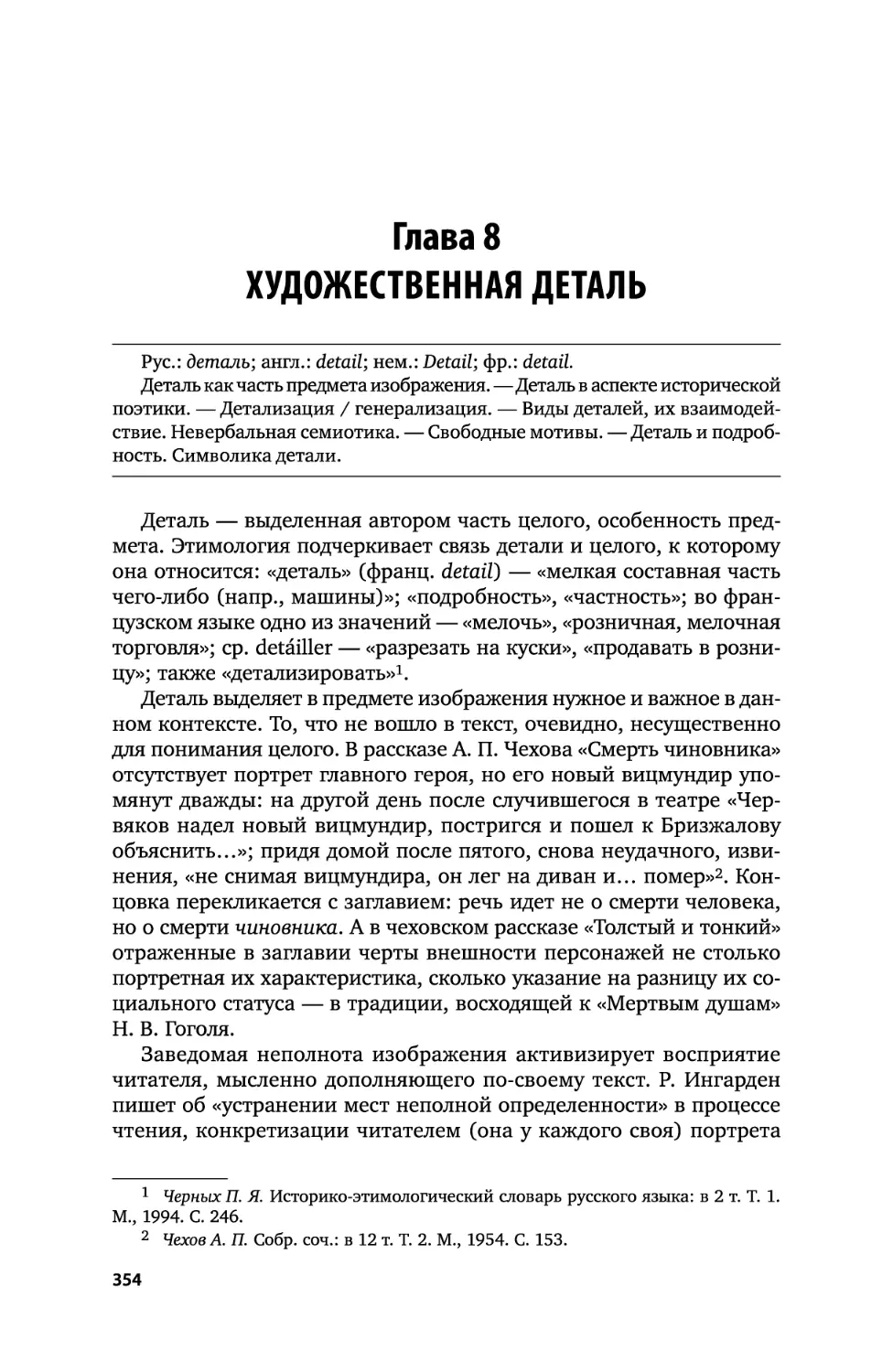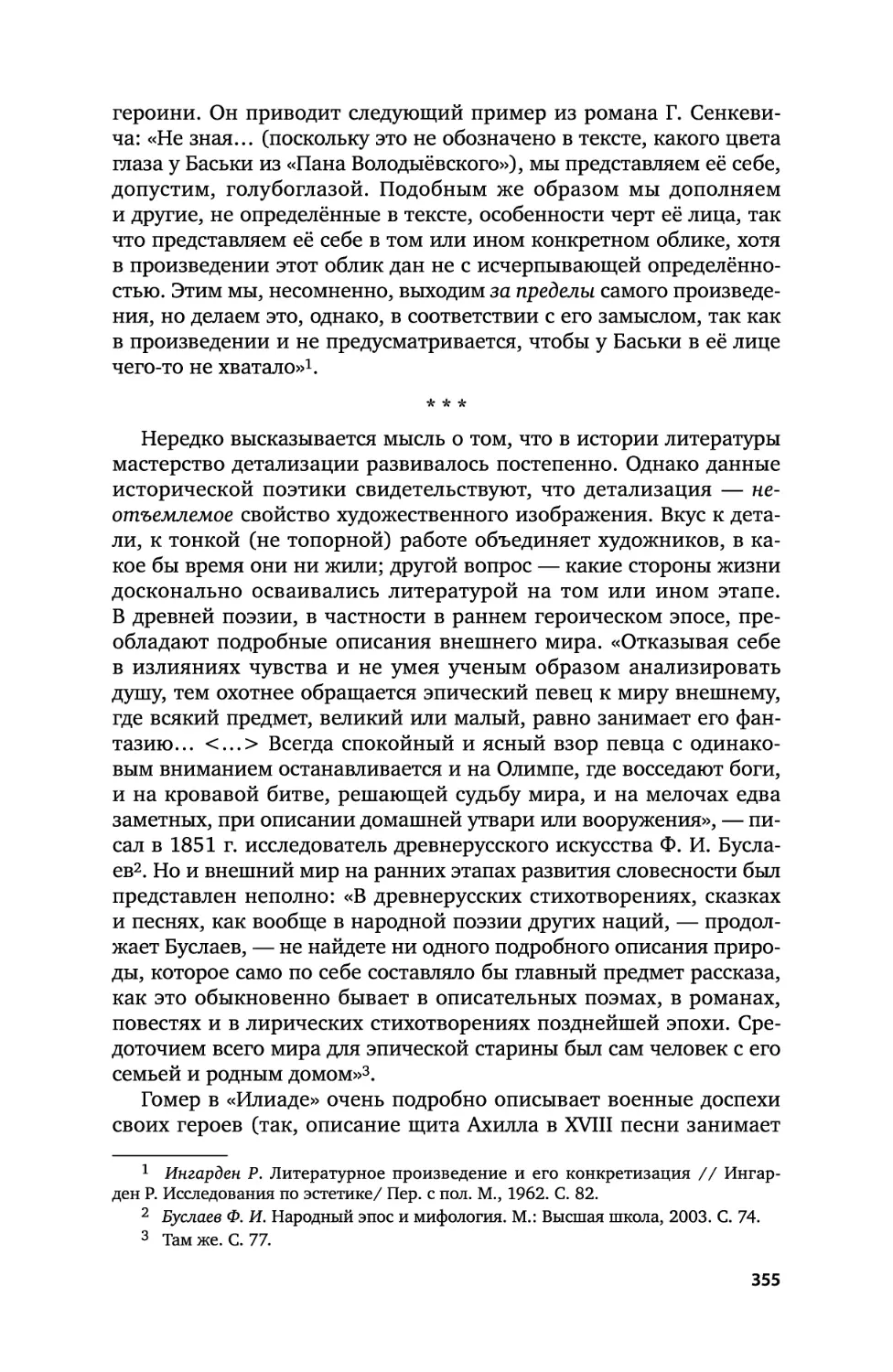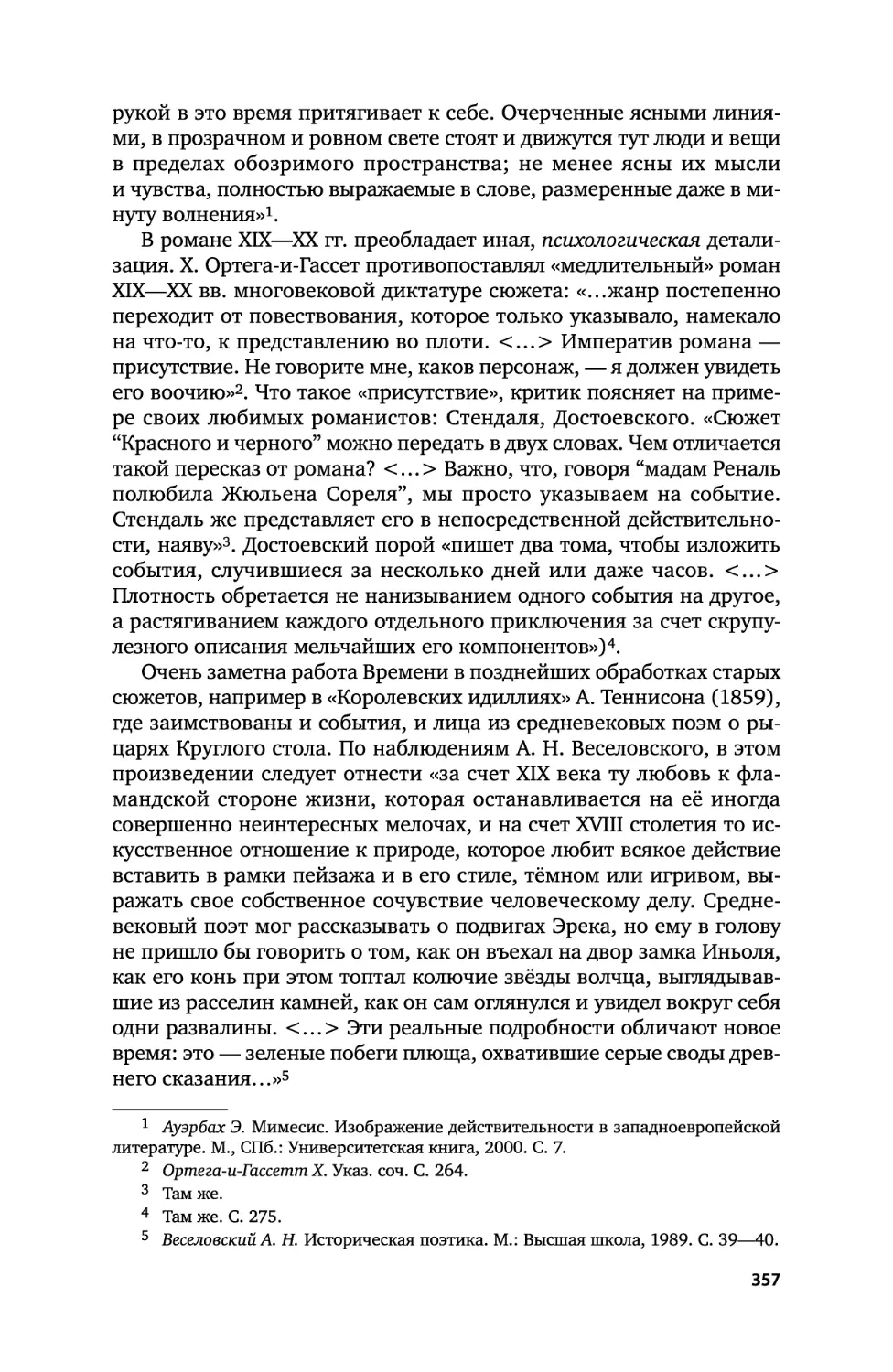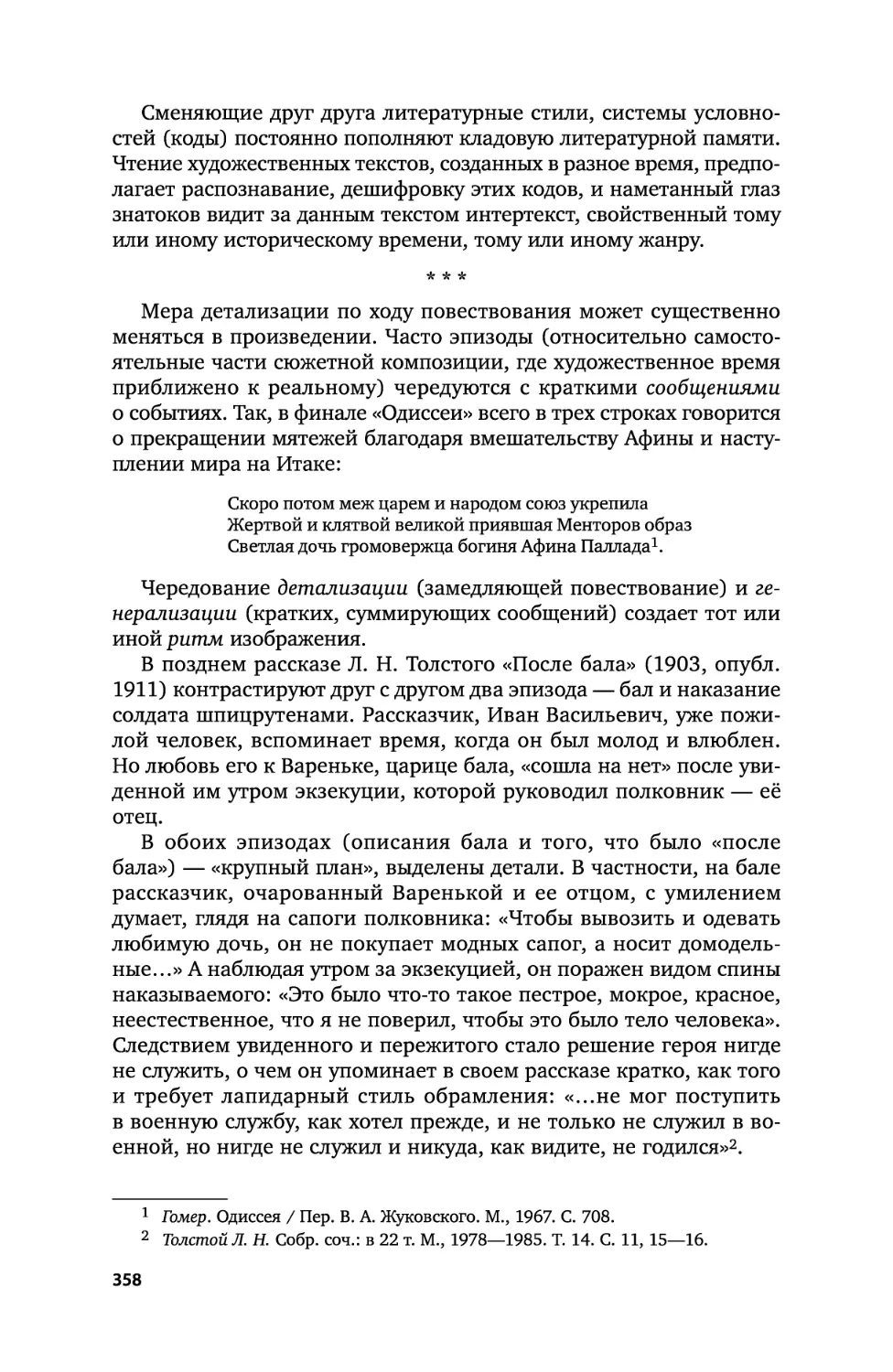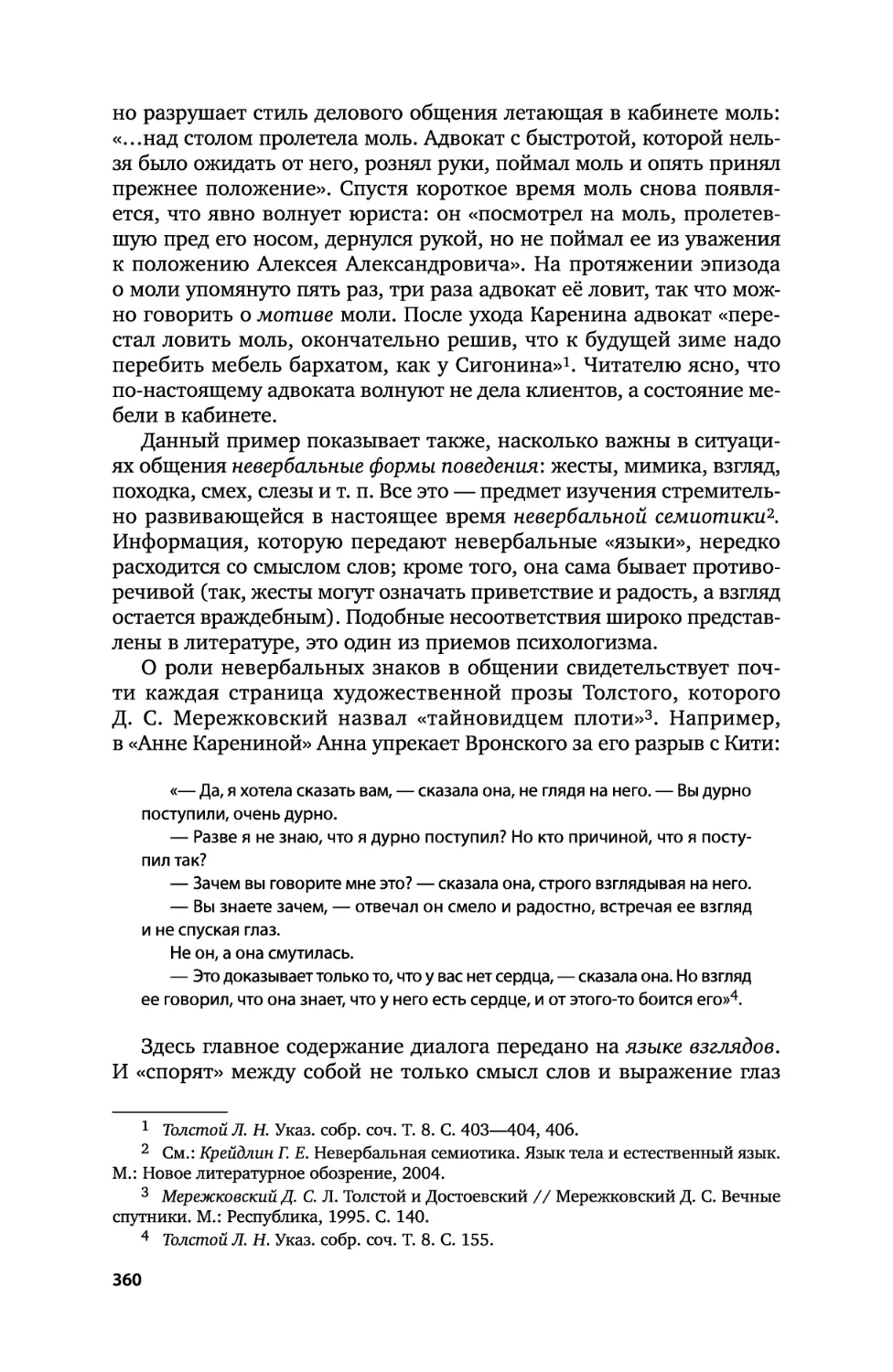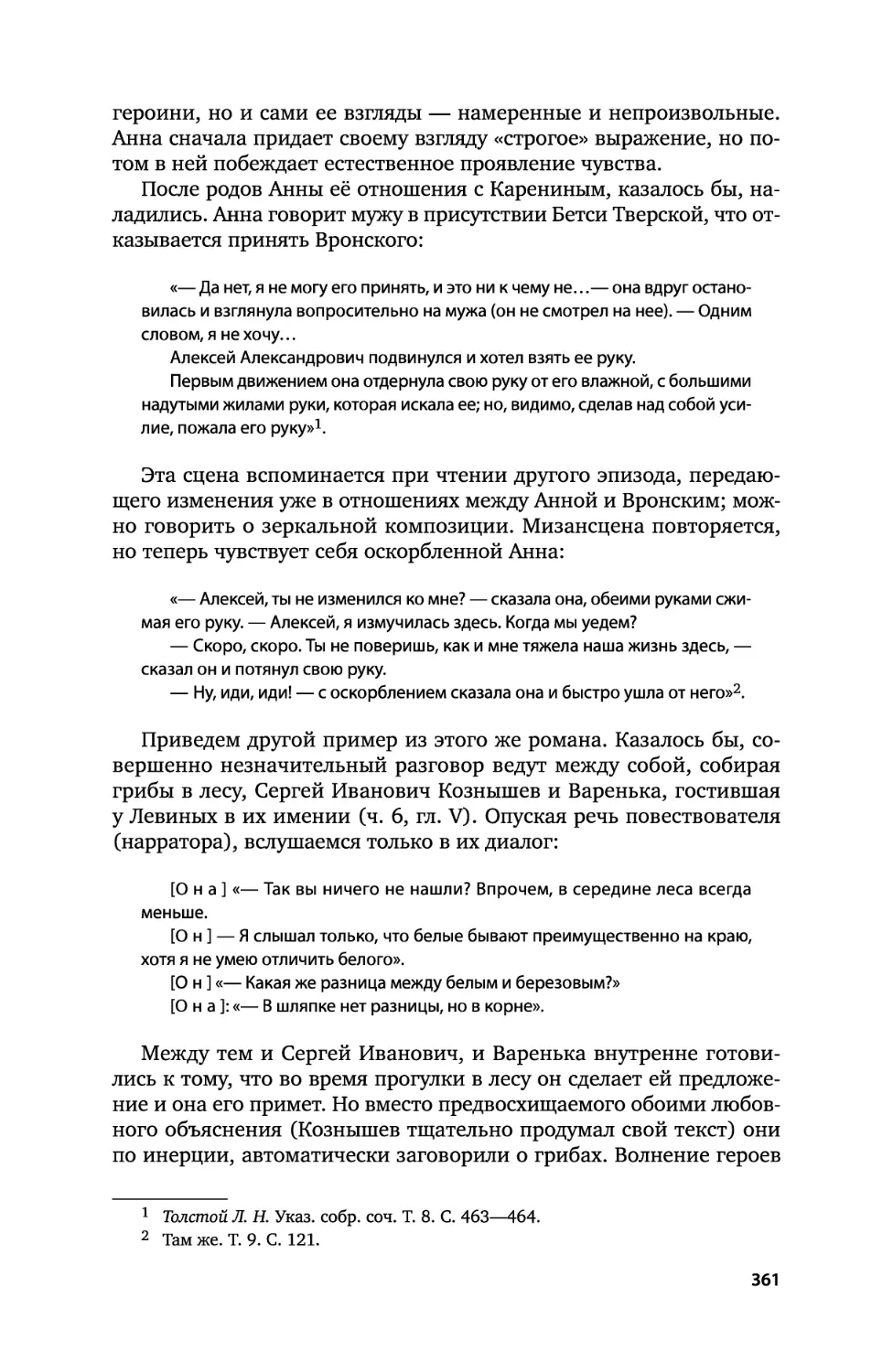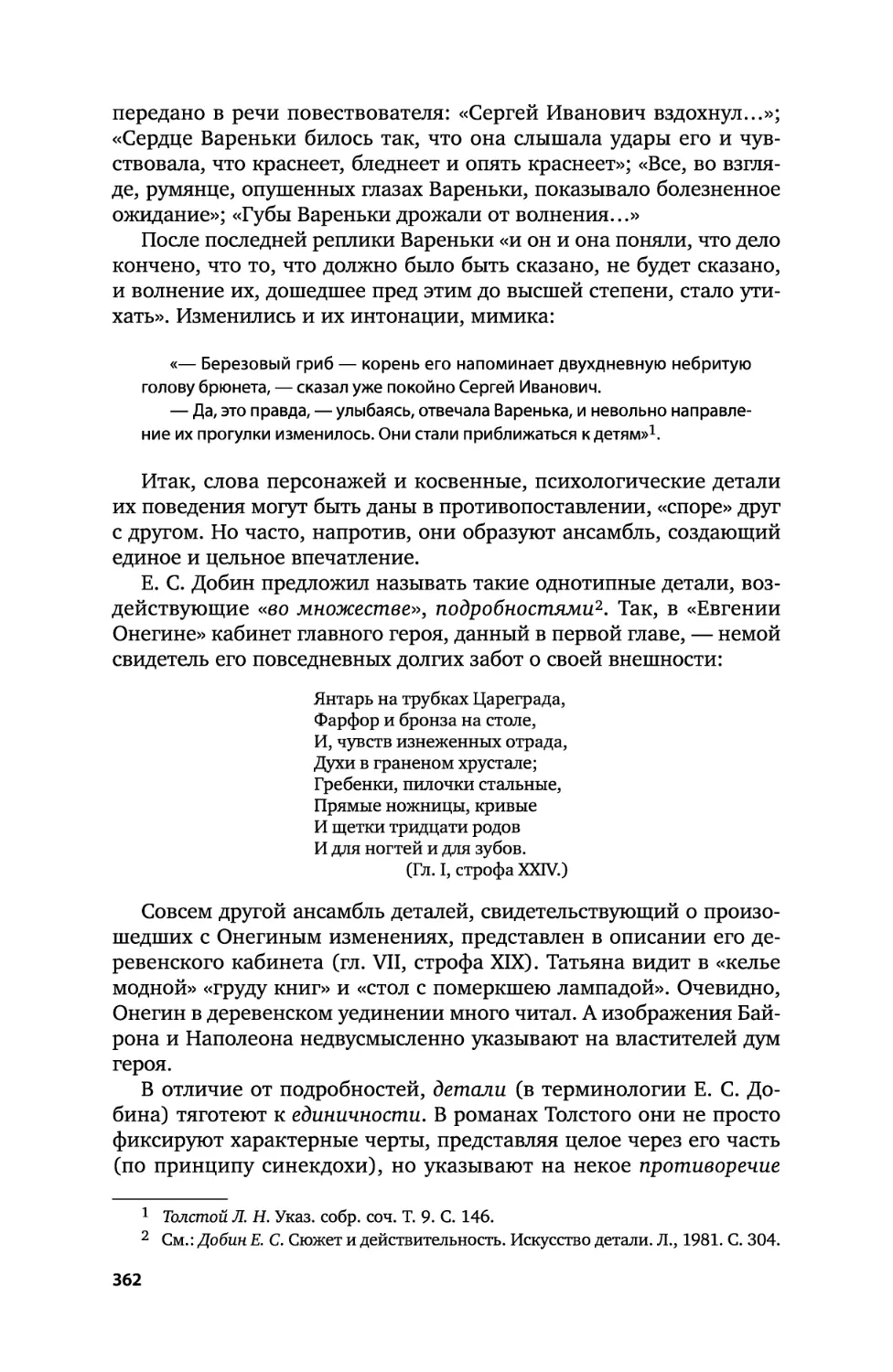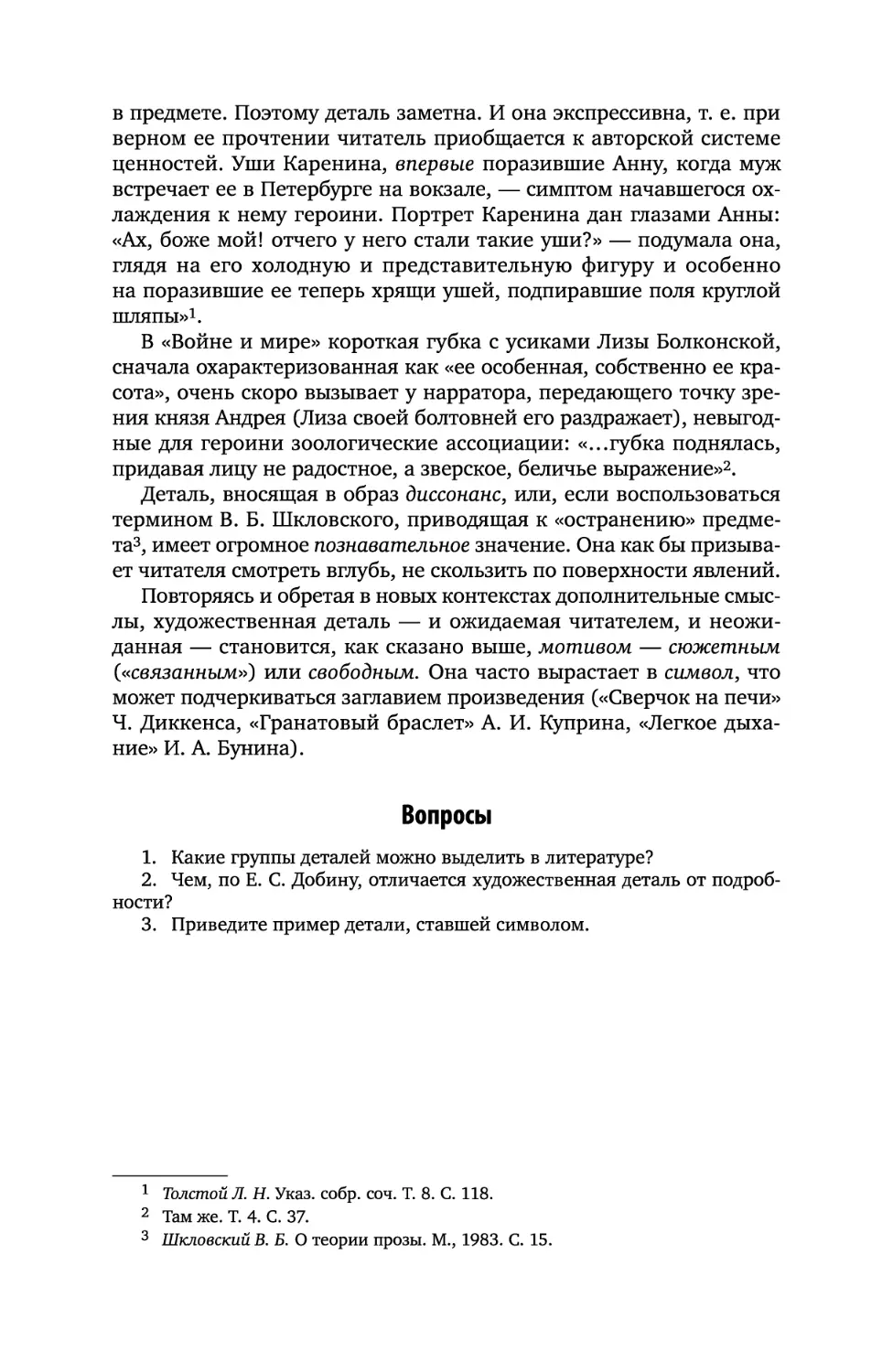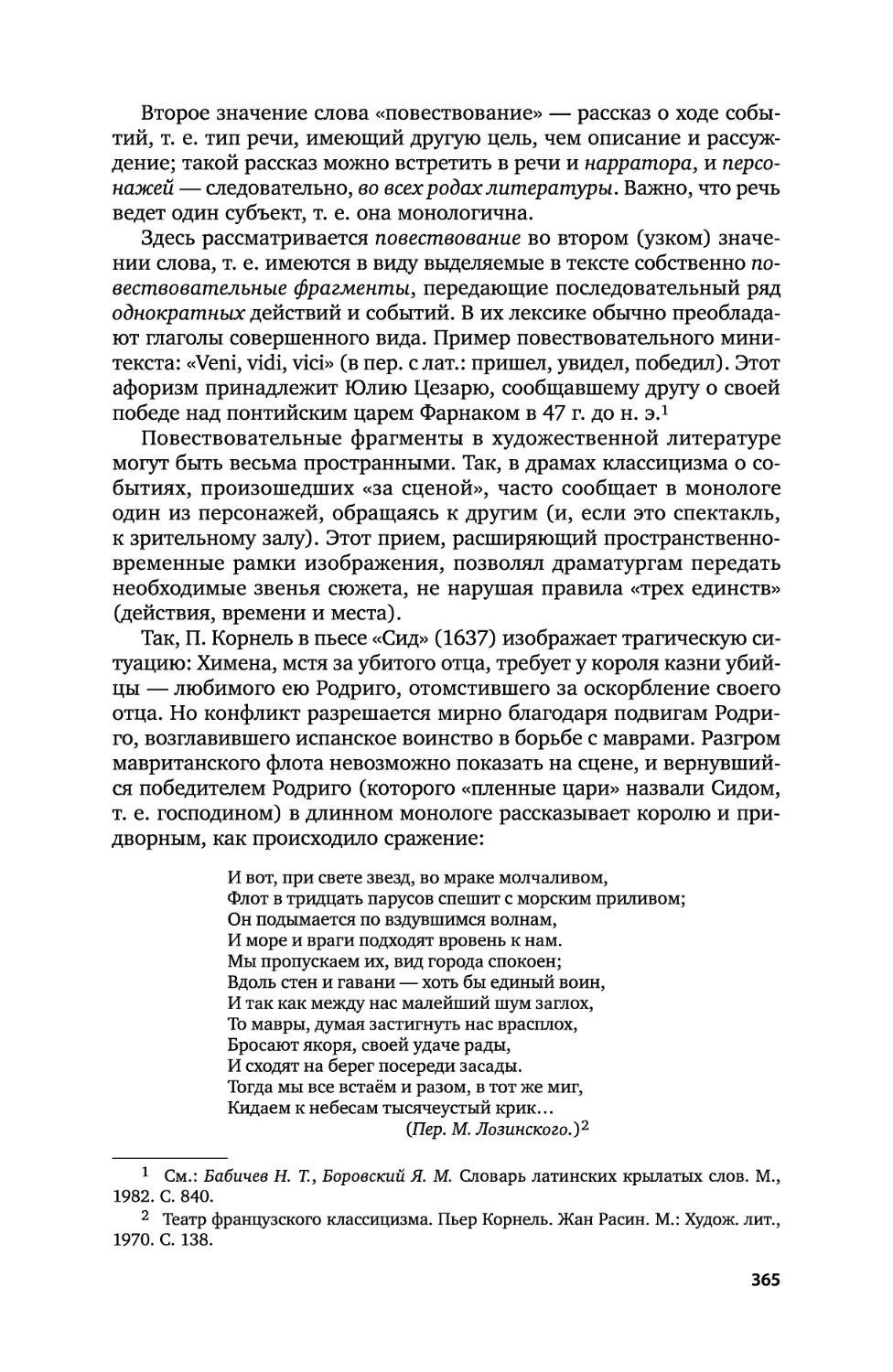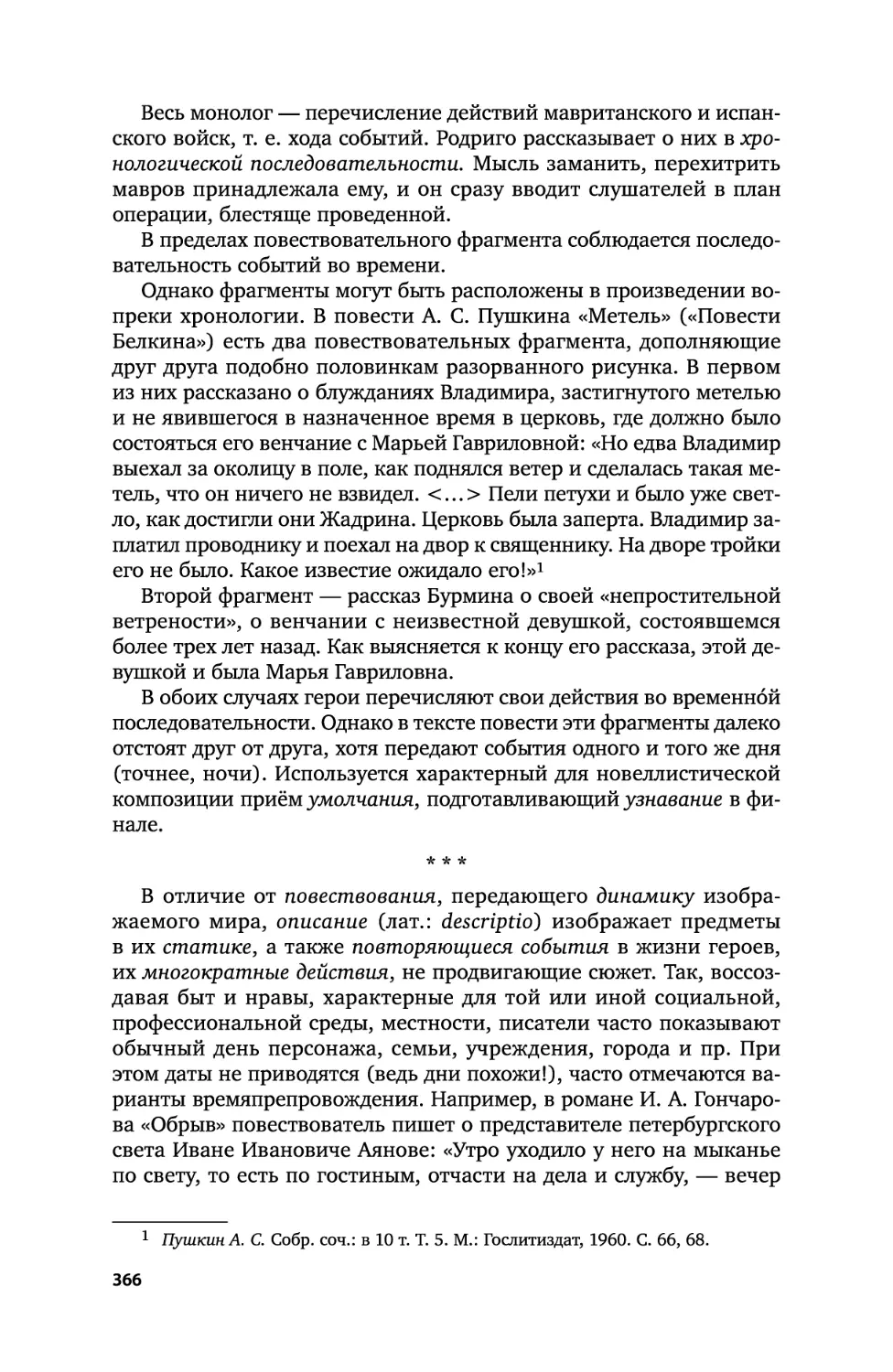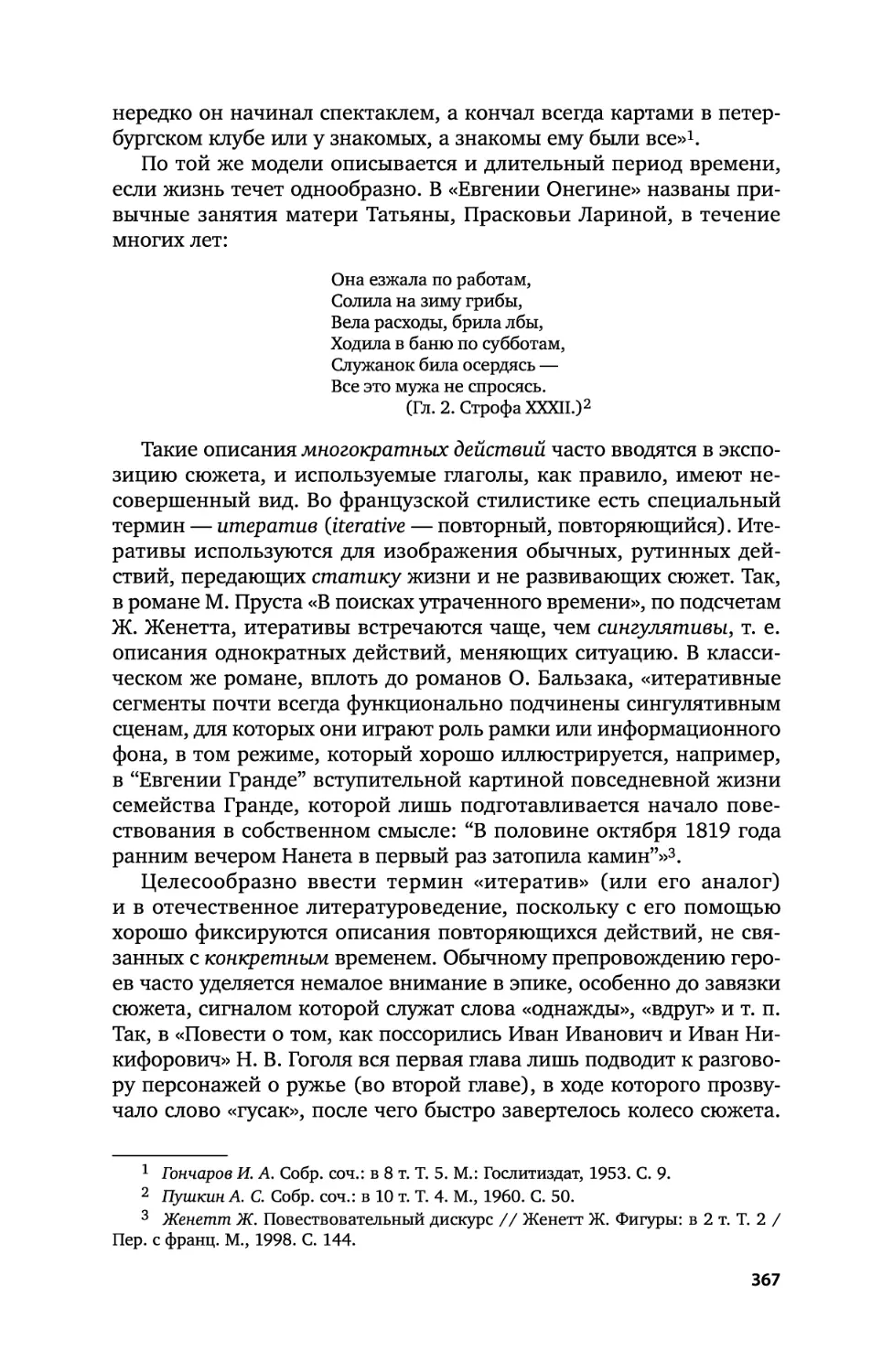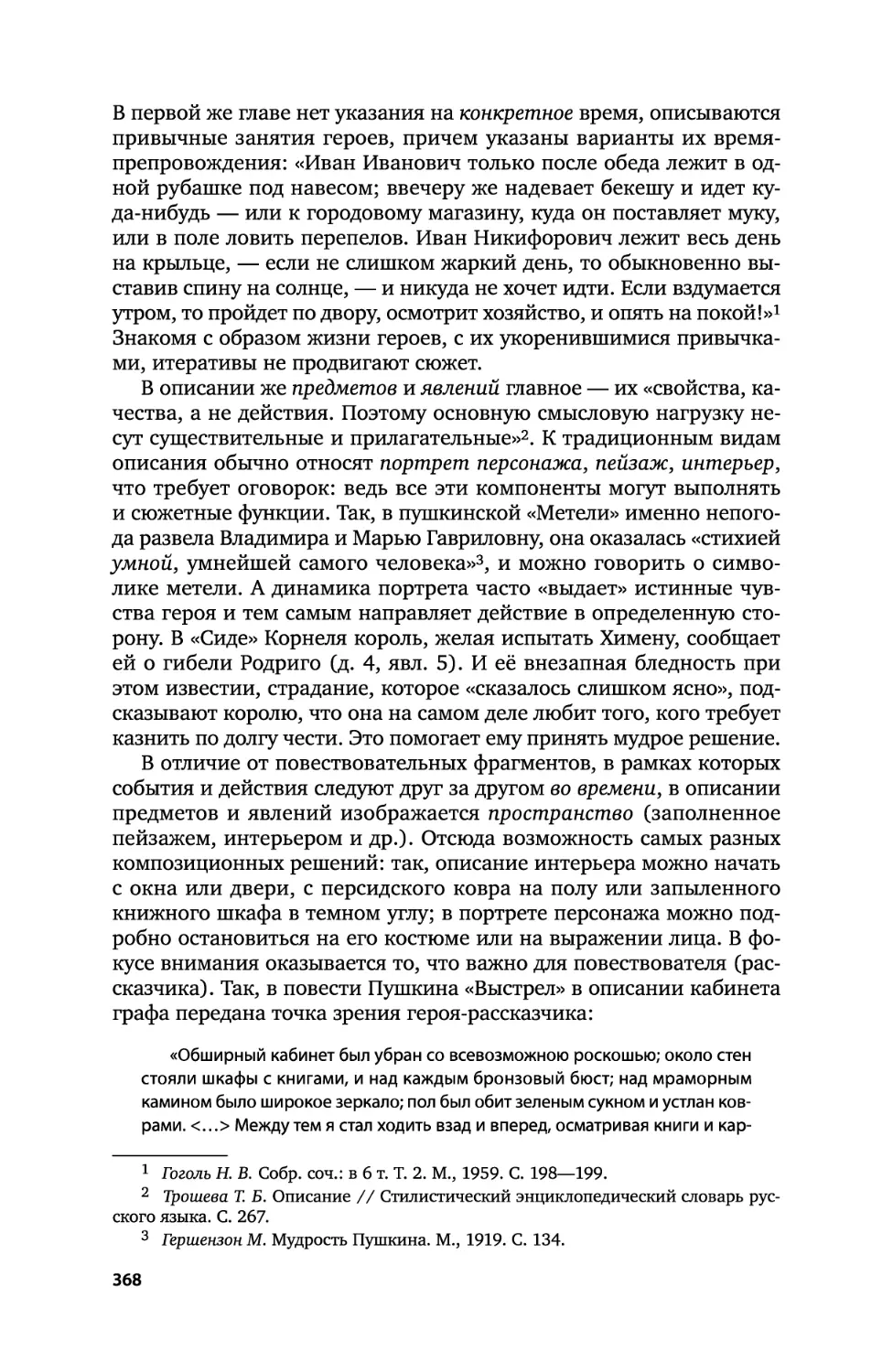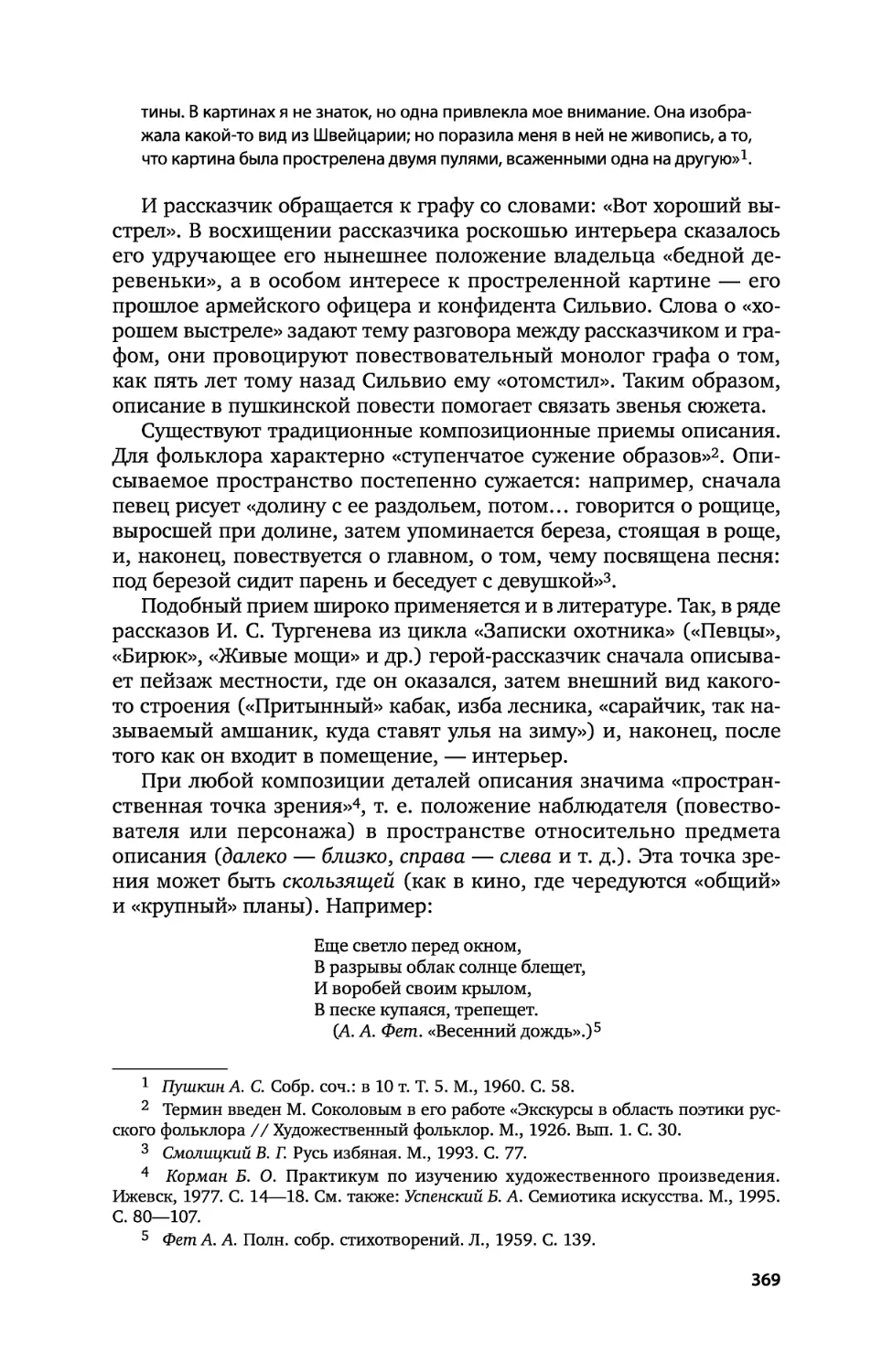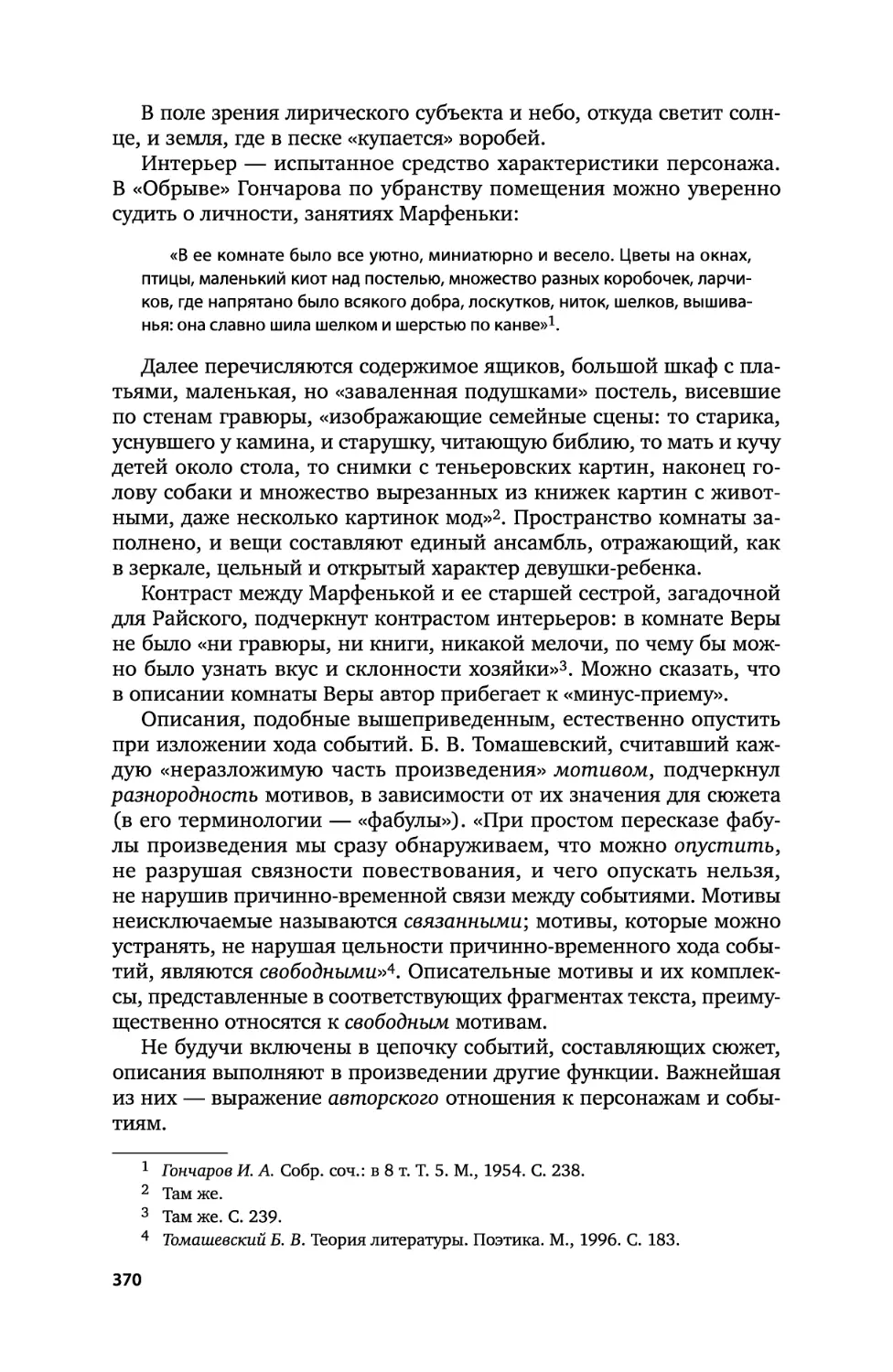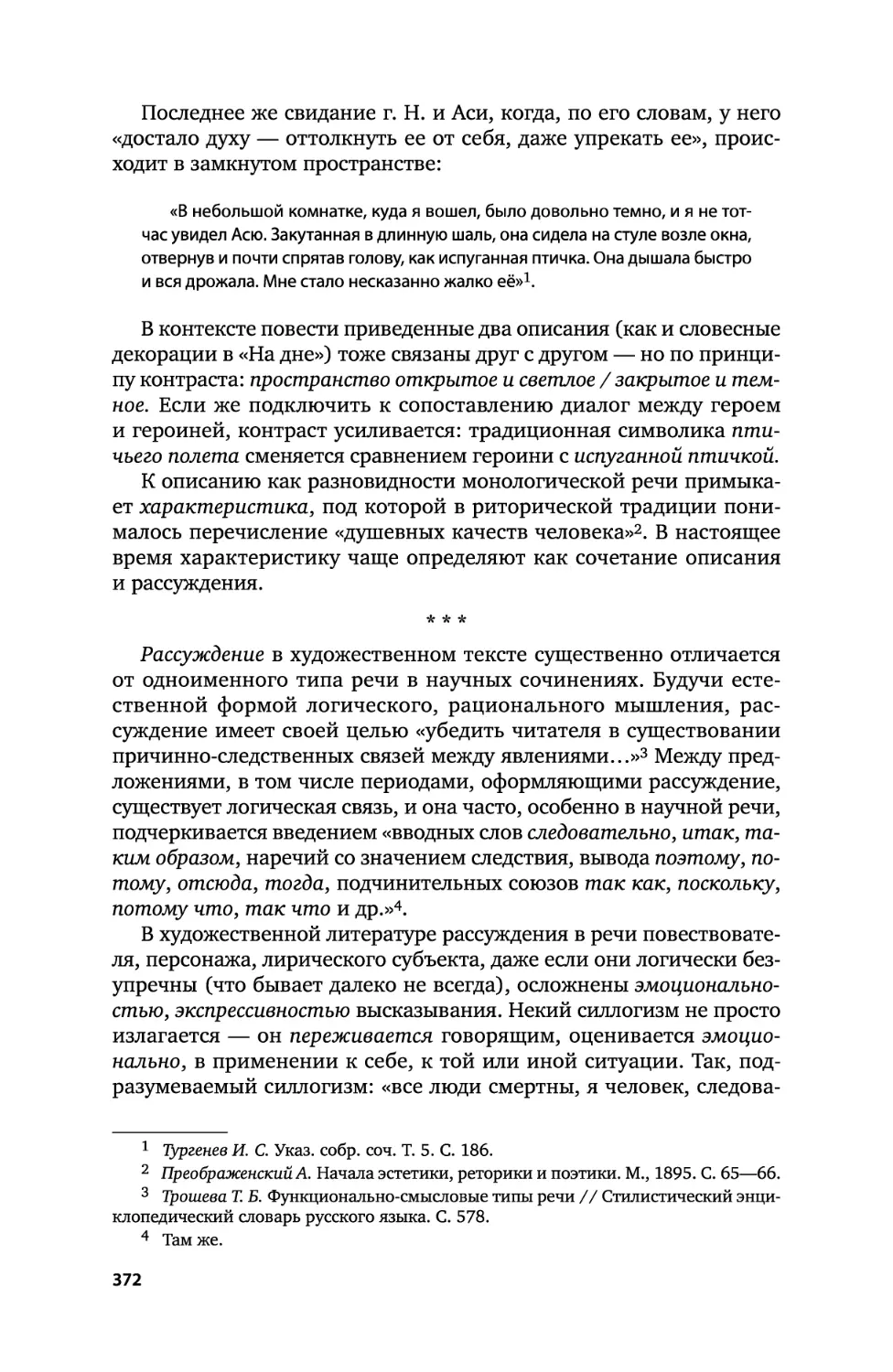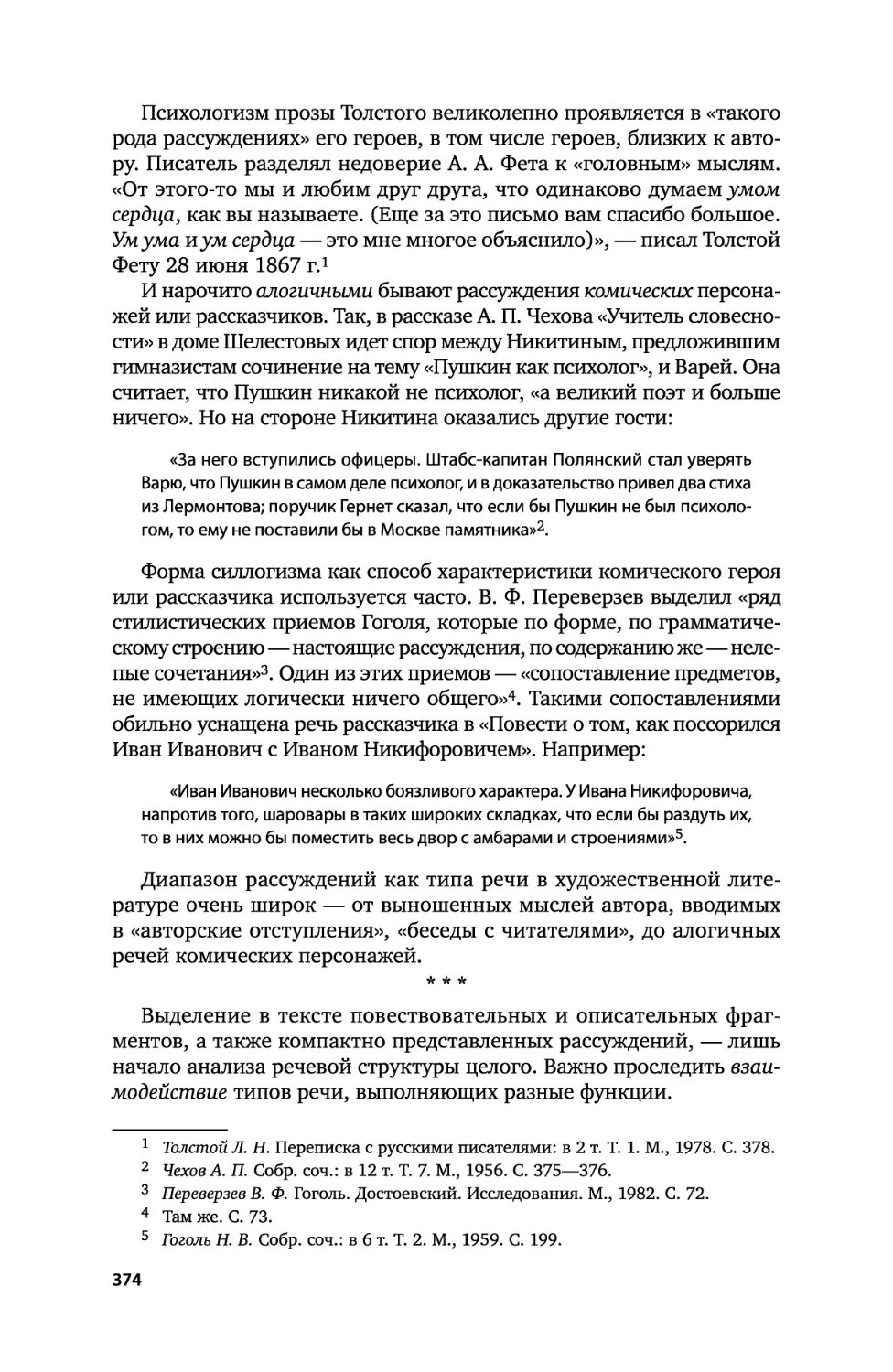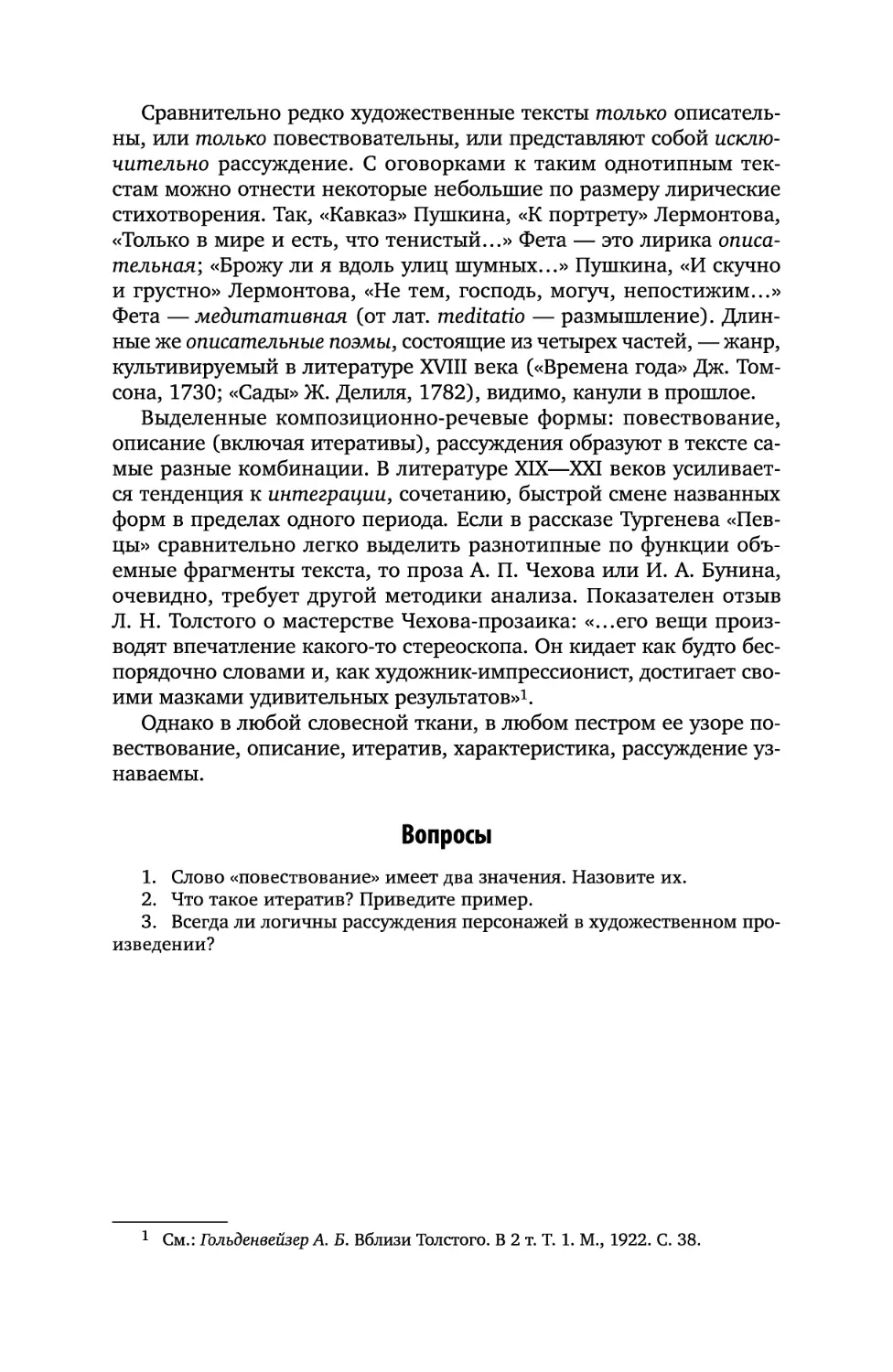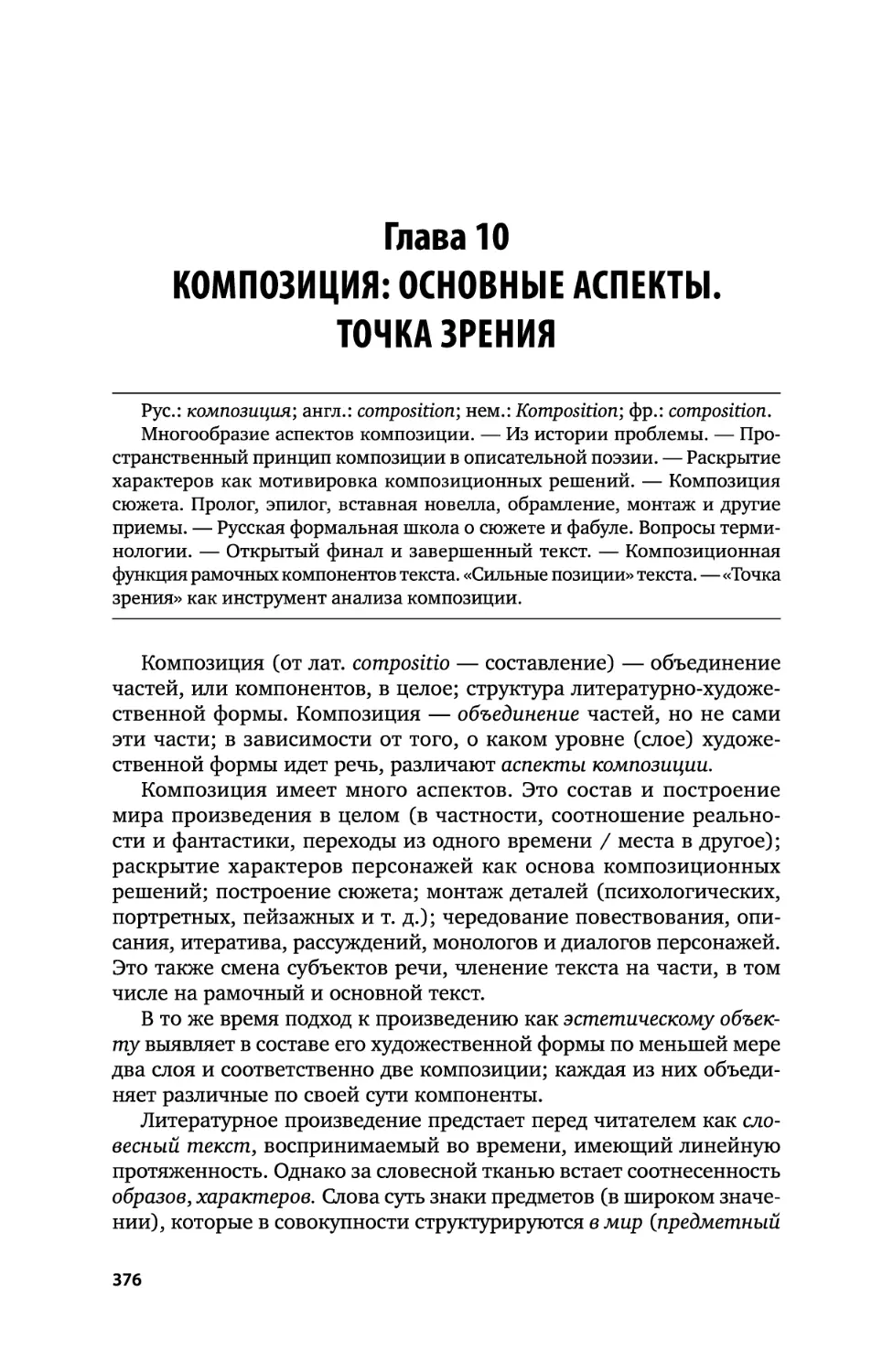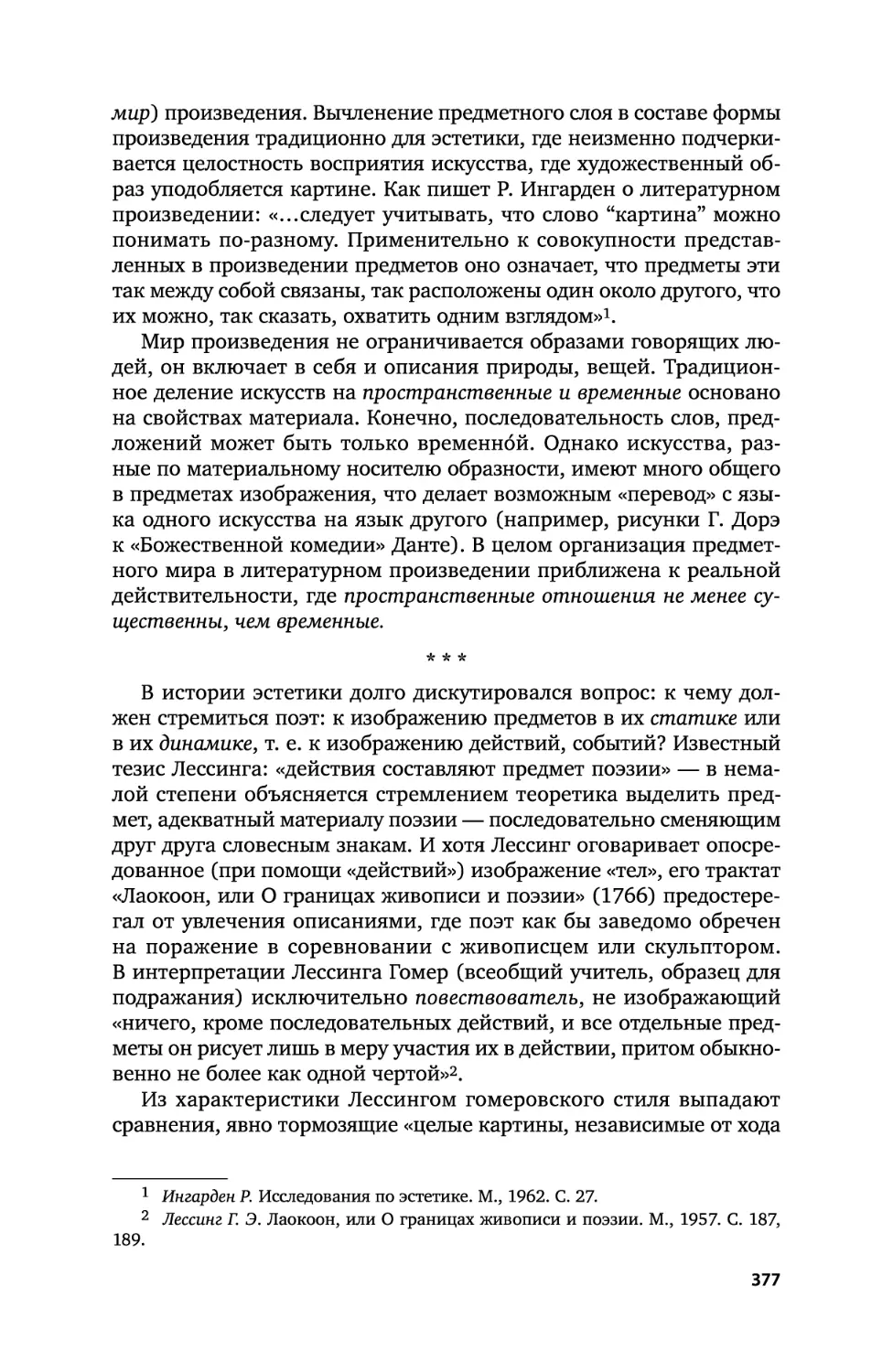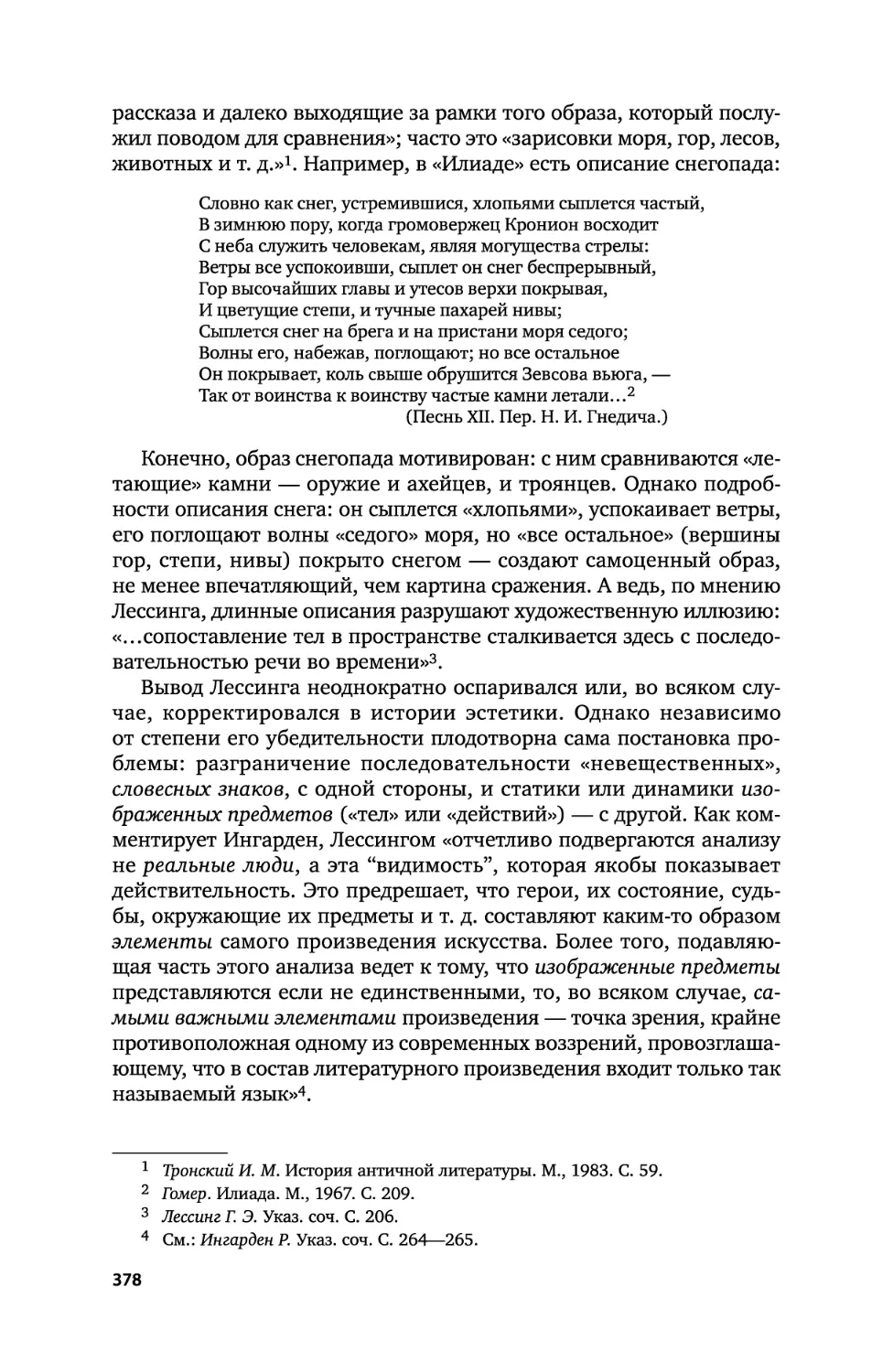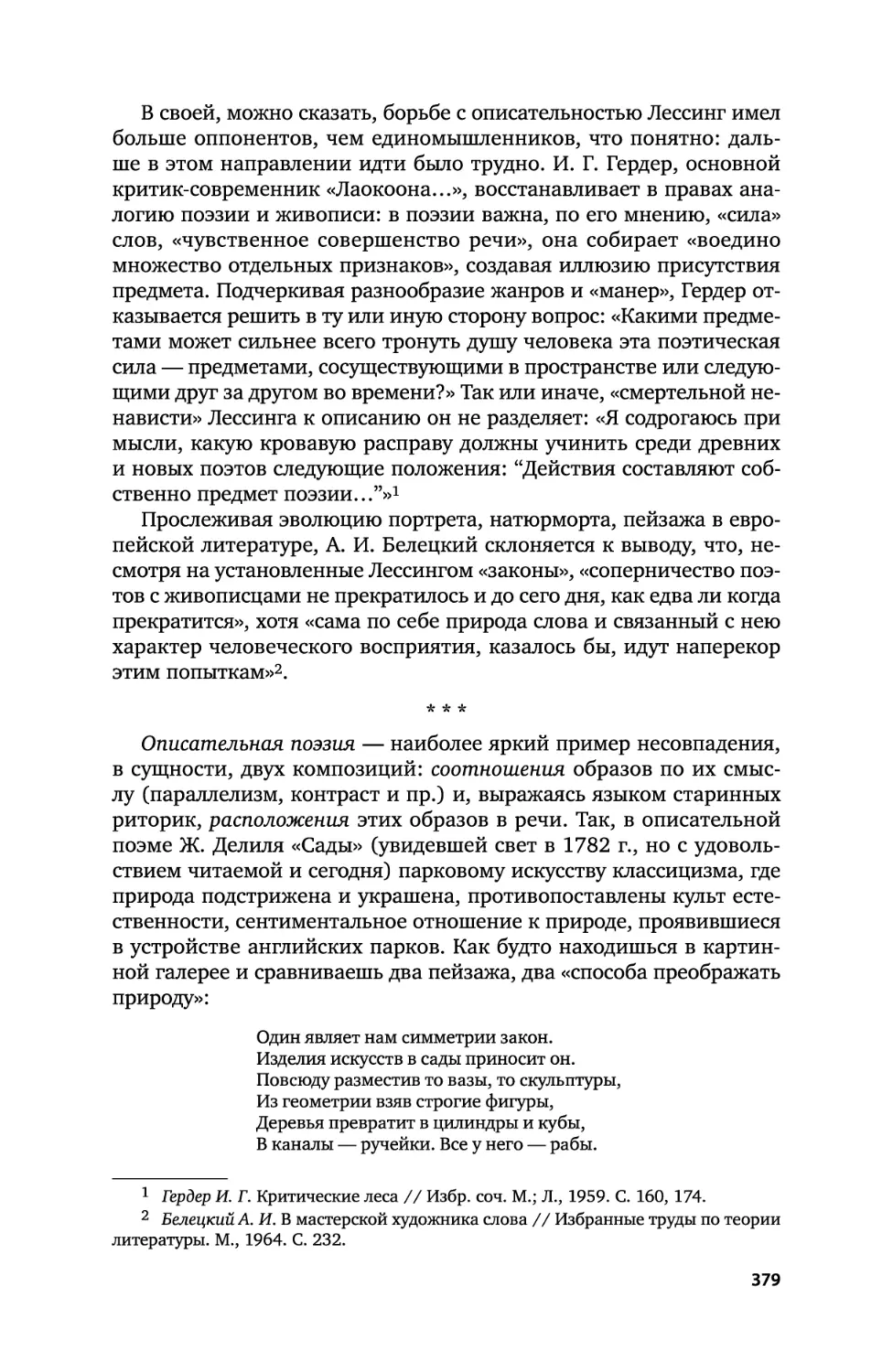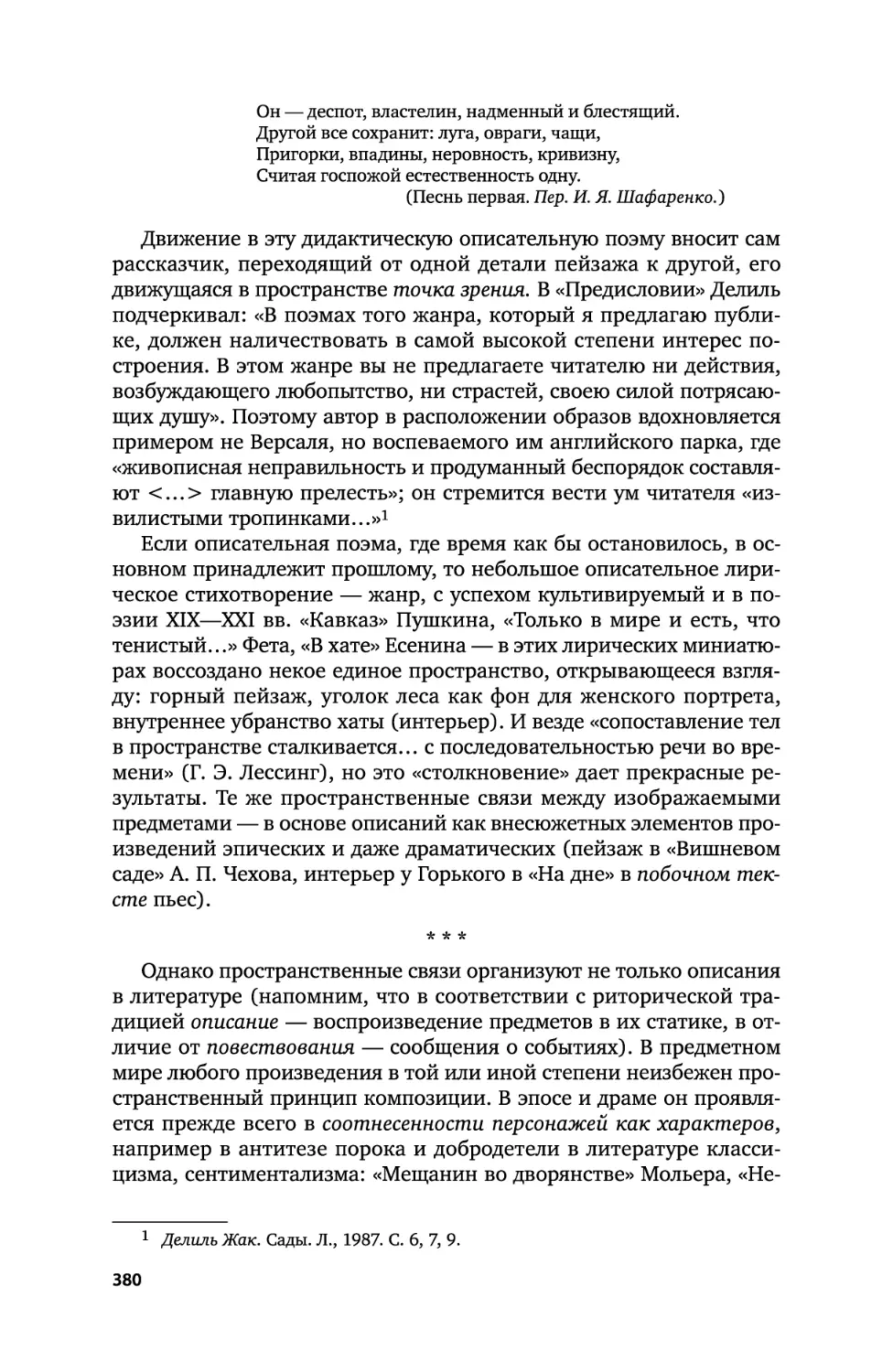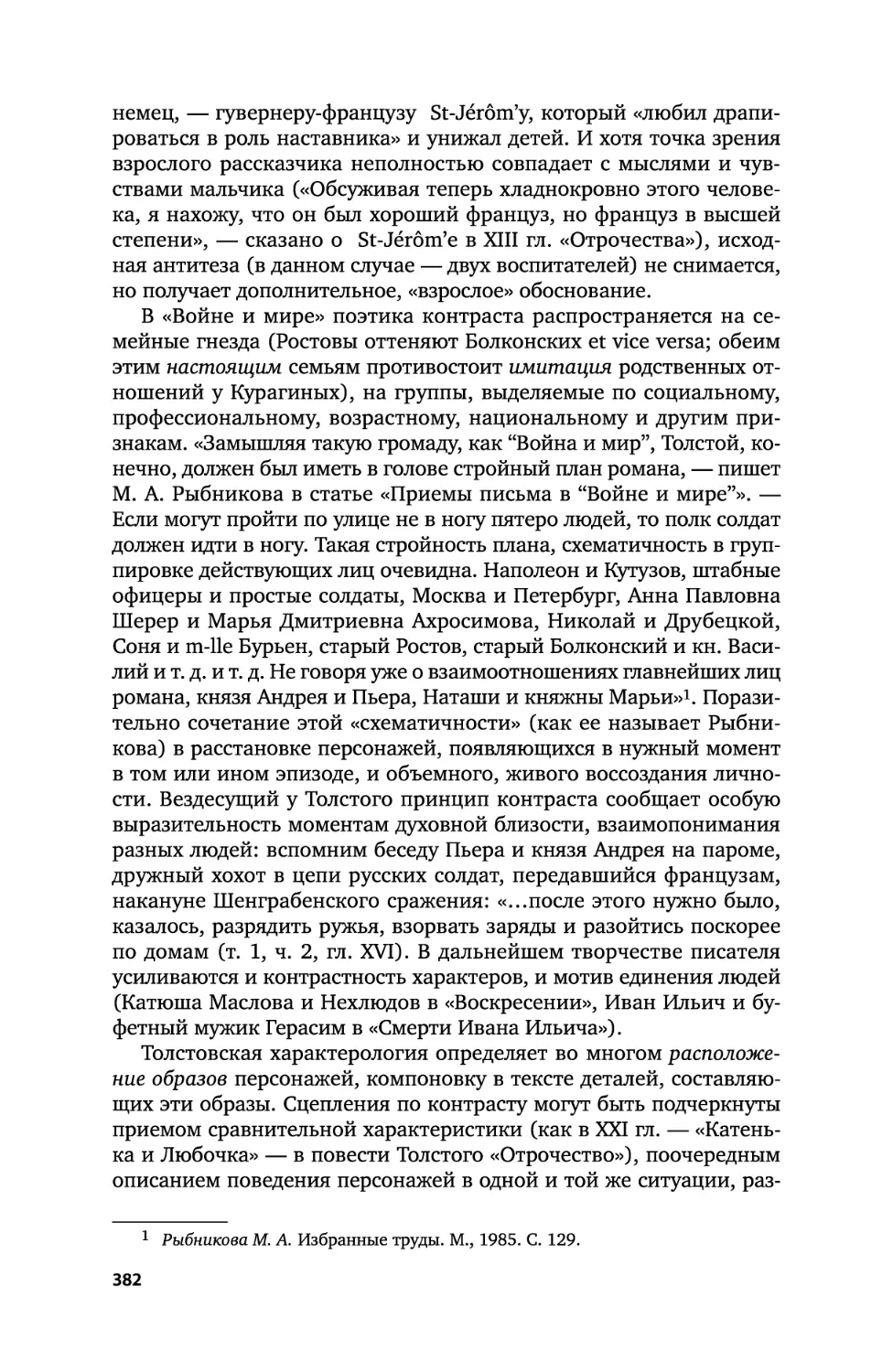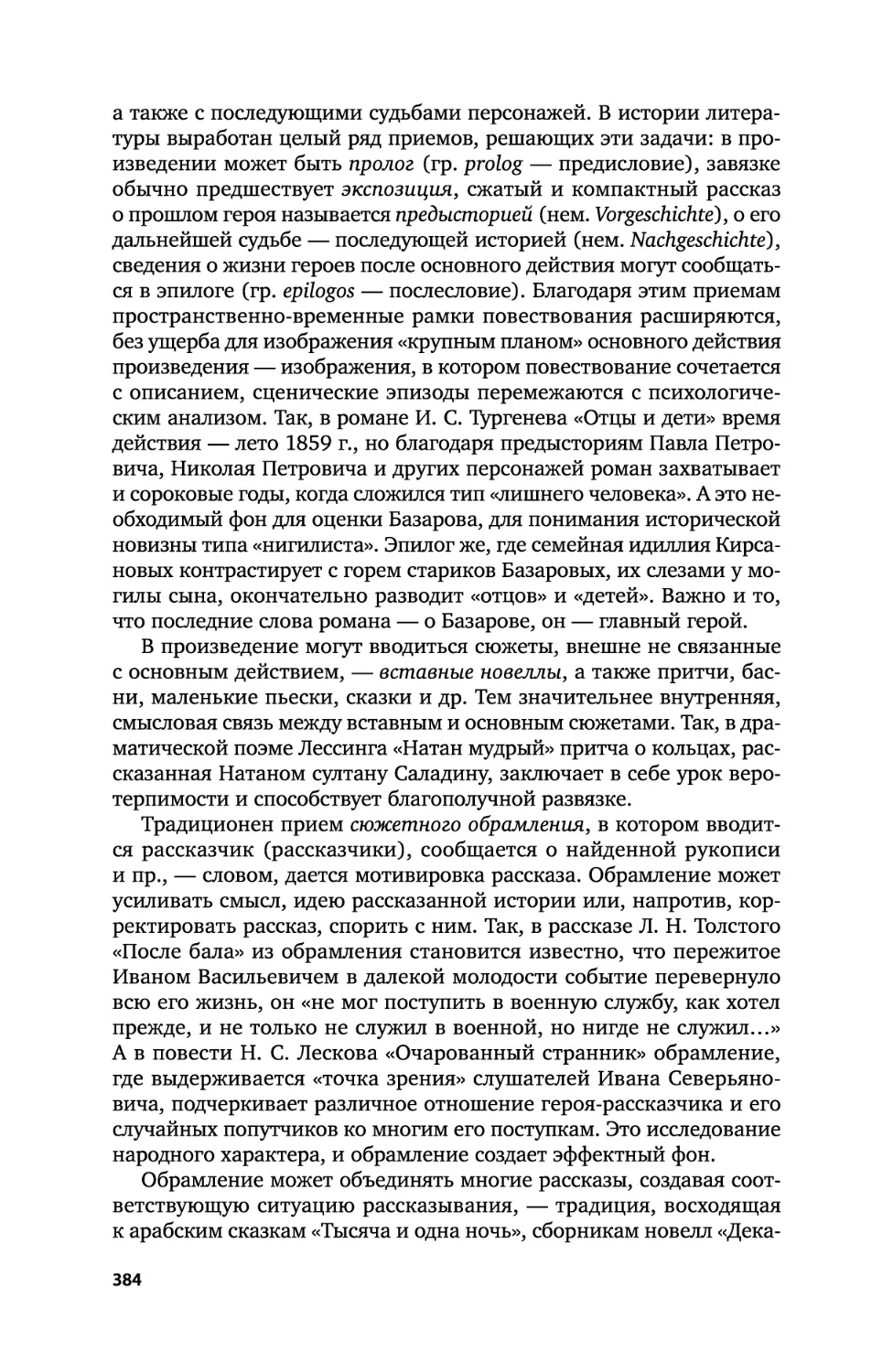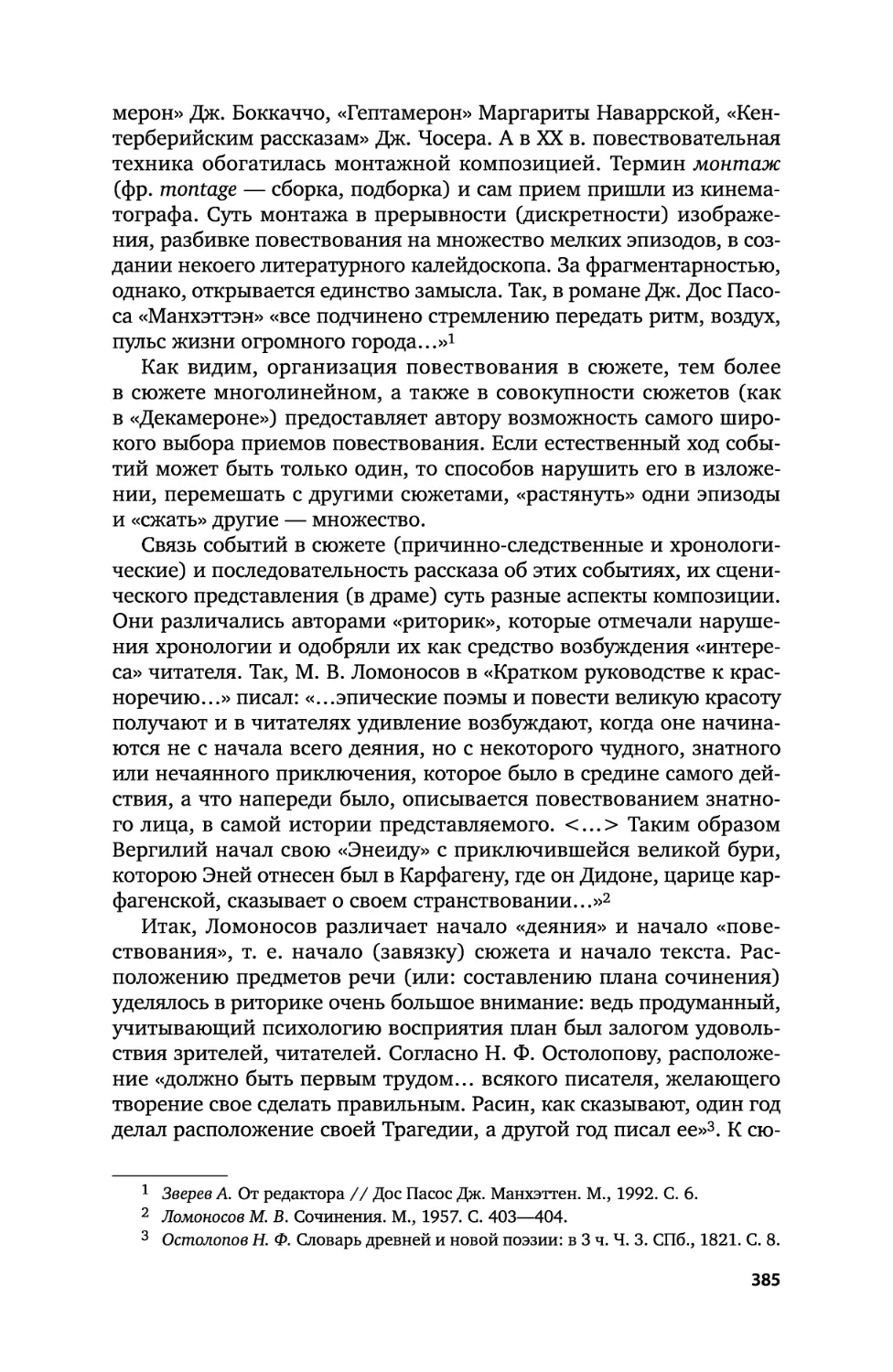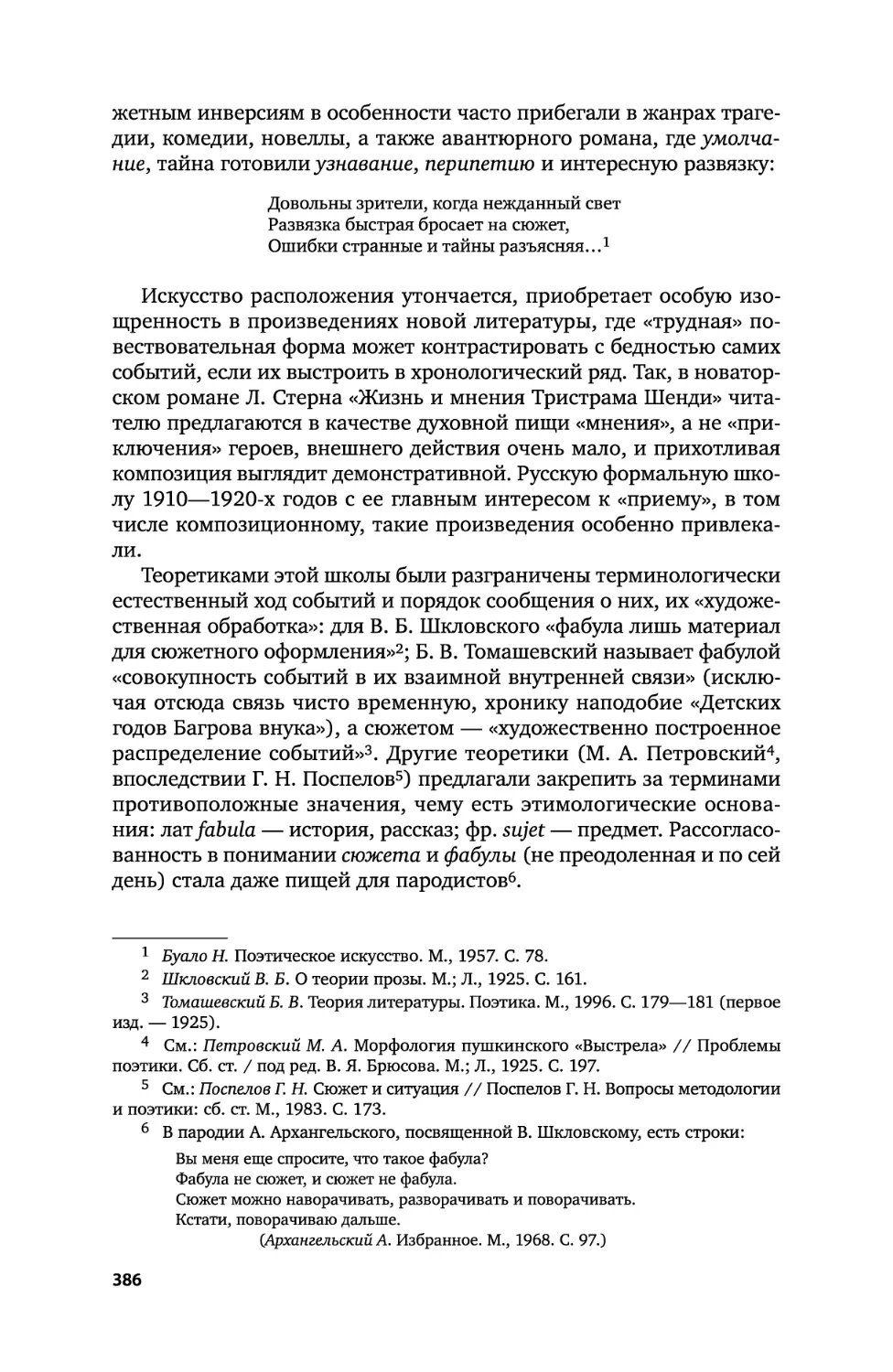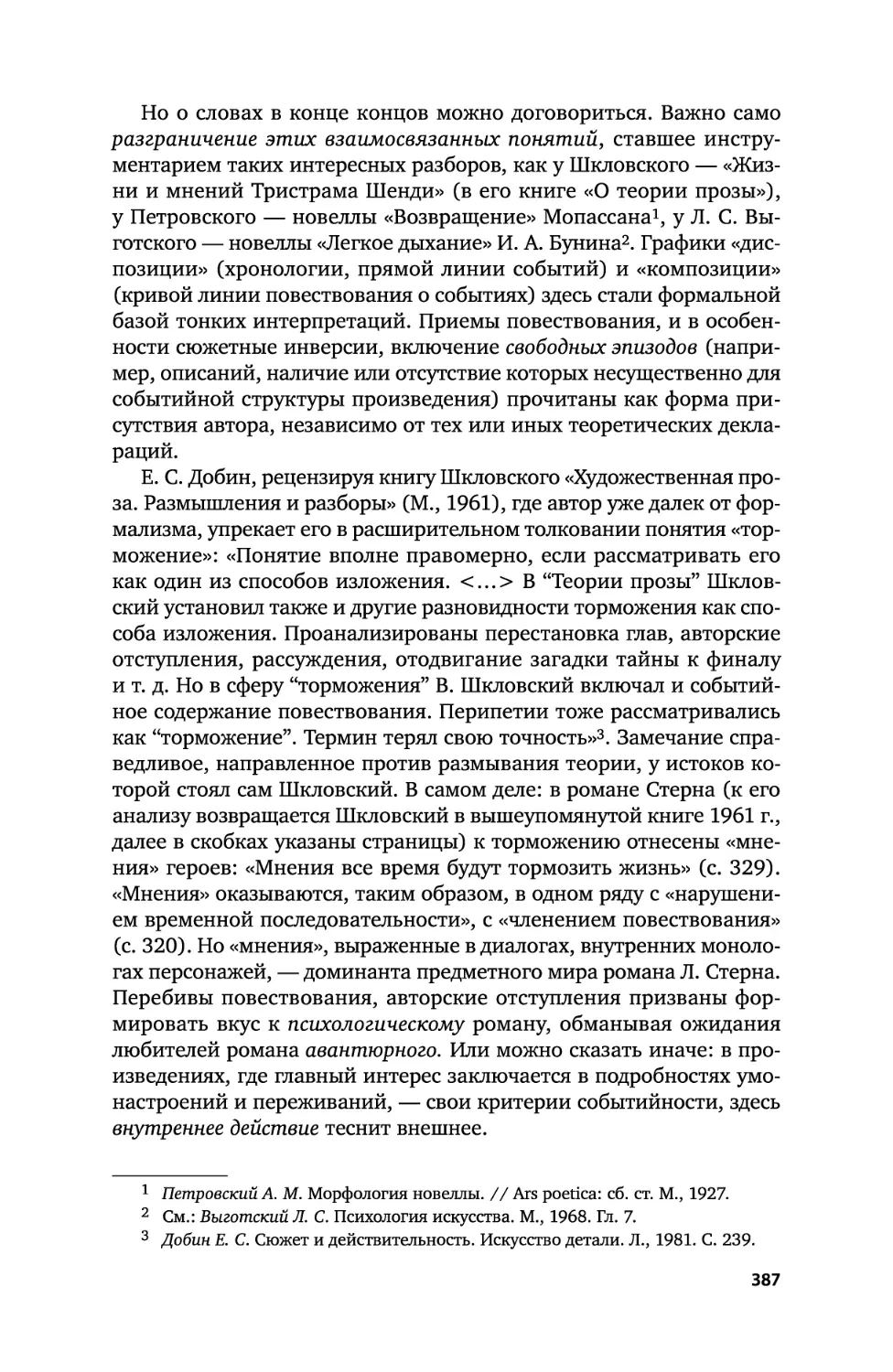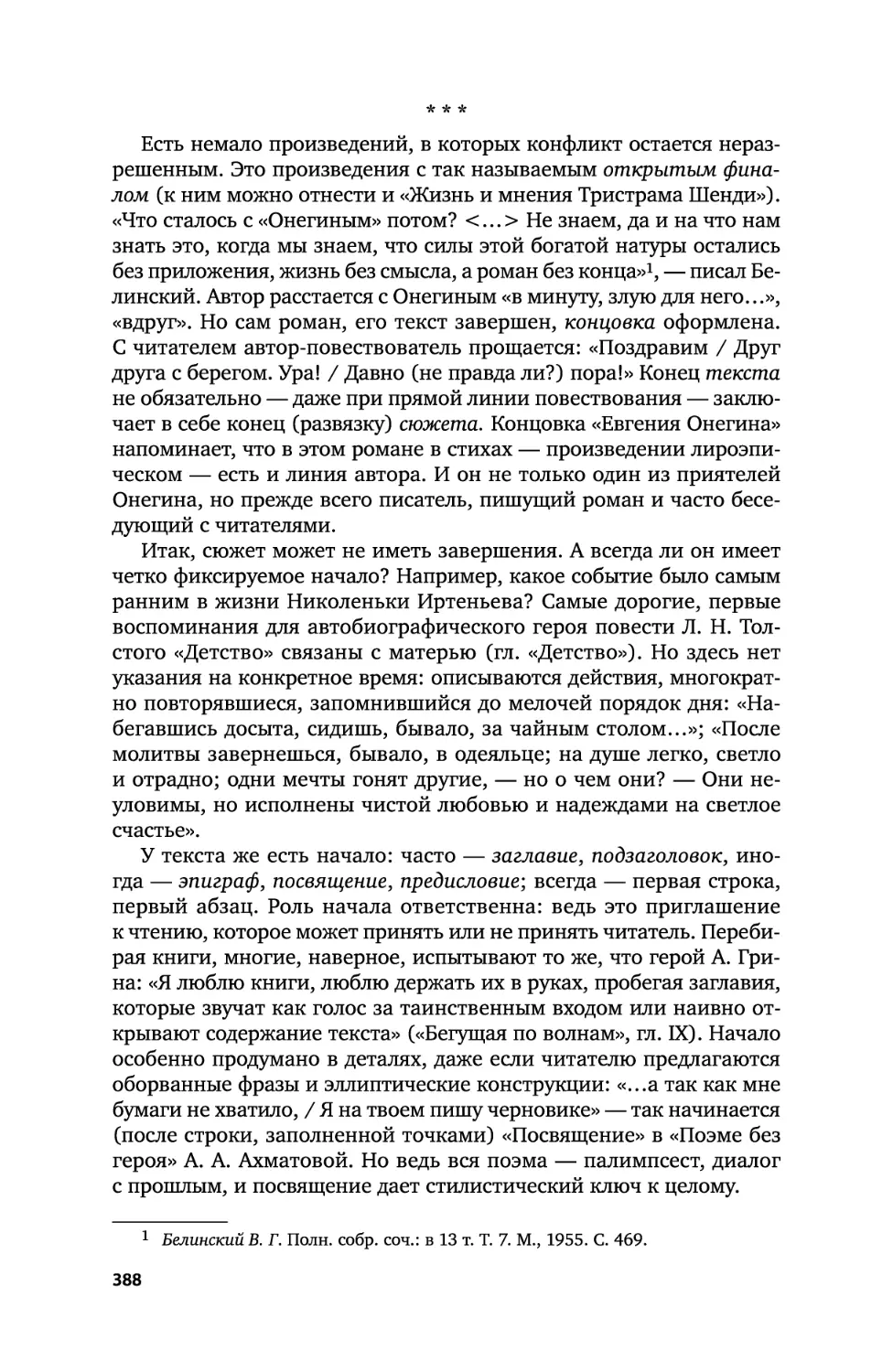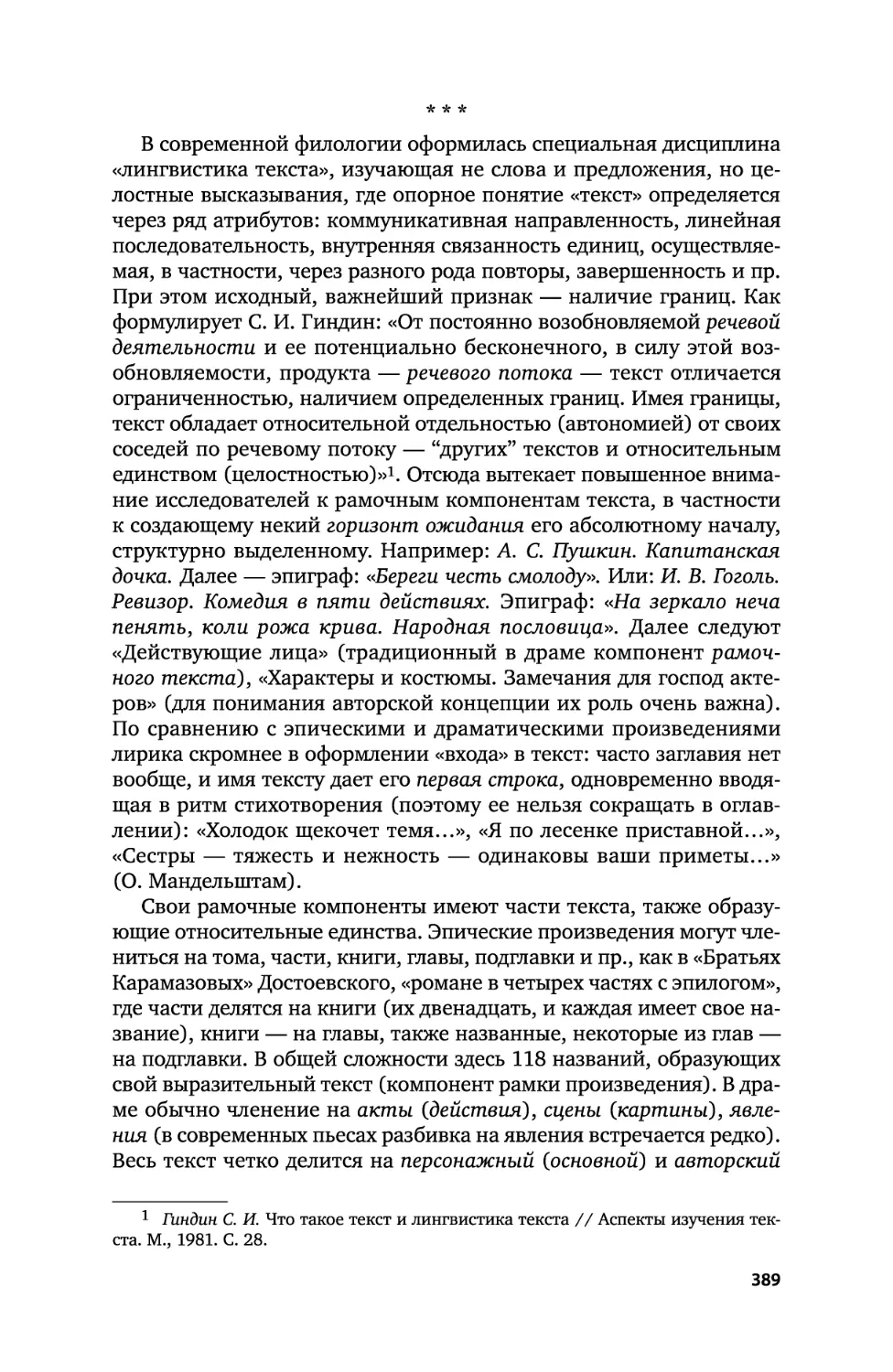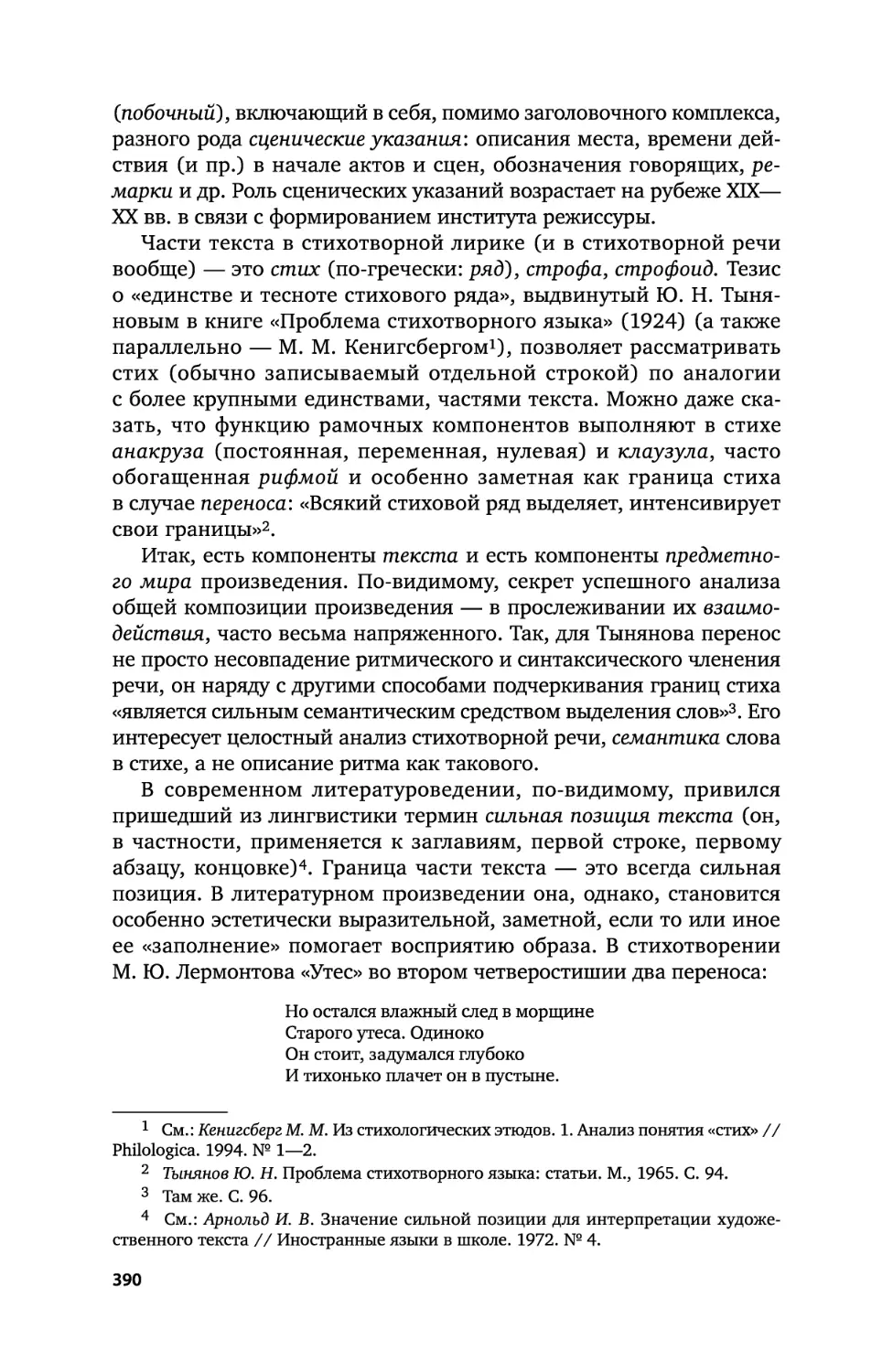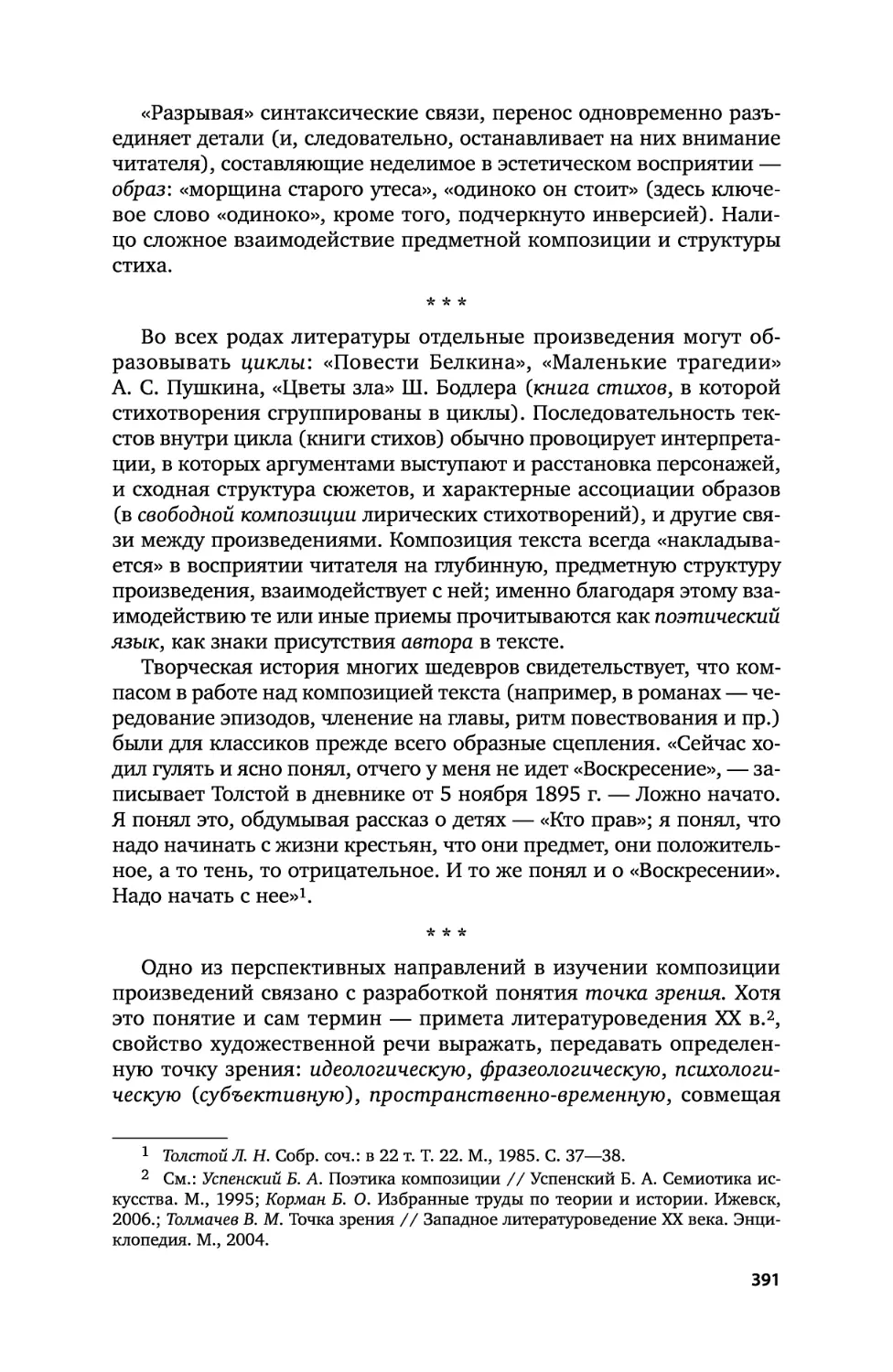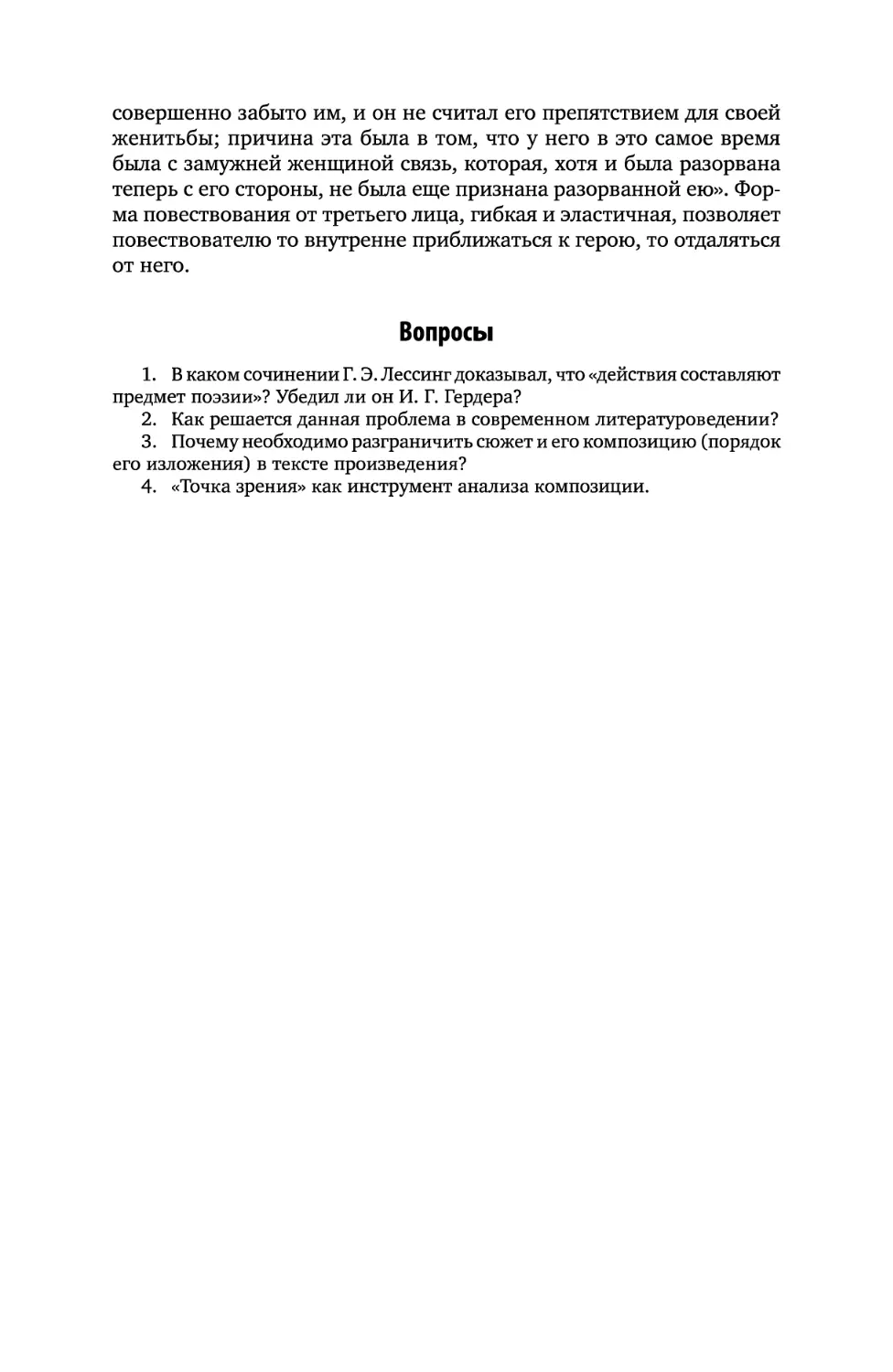Author: Чернец Л.В.
Tags: литературная критика и литературоведение учебники, учебные пособия литературоведение
ISBN: 978-5-534-12423-1
Year: 2022
Text
ВВЕДЕНИЕ
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ТОМ 1
УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ
Под редакцией Л. В. Чернец
6-е издание, переработанное и дополненное
Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по гуманитарным направлениям
Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»
Москва «Юрайт «2022
УДК 82.09(075.8)
ББК 83я73
В24
Редактор:
Чернец Лилия Валентиновна — доктор филологических наук,
профессор, заслуженный профессор Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, профессор кафедры теории
литературы филологического факультета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова.
Рецензенты:
Володина Н. В. — доктор филологических наук, профессор кафедры
отечественной филологии и прикладных комменикаций Череповецкого
государственного университета;
Курилов В. В. — доктор филологических наук, профессор кафедры
теории и истории мировой литературы Южного Федерального
университета.
Введение в литературоведение. В 2 томах. Т. 1 : учебник для вузов /
В24 Л. В. Чернец [и др.] ; под редакцией Л. В. Чернец. — 6-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 393 с. — (Высшее
образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-12423-1 (т. 1)
ISBN 978-5-534-12424-8
В книге рассматриваются принципы и приемы анализа литературного
произведения как основания интерпретации художественного целого.
Представлена система теоретико-литературных понятий— традиционных
и сравнительно недавно вошедших в научный оборот (мир произведения,
рамка, точка зрения, итератив, невербальный диалог, архетип, адресат,
массовая литература и др.). Их функции и взаимосвязь прослеживаются
в ходе выборочных разборов классических и современных художественных
текстов. В первый том вошли разделы «Художественная литература»,
«Литературное произведение»; во второй — «Художественная речь»,
«Генезис и функционирование произведения». В Приложении дан краткий
обзор отечественных словарей по терминологии литературоведения,
предложена библиография. Дополнительные вопросы представлены
в электронном приложении.
Для студентов филологических факультетов и факультетов
журналистики высших учебных заведений. Учебник может быть полезен
литературоведам, литературным критикам, журналистам и всем
интересующимся проблемами литературоведения.
УДК 82.09(075.8)
ББК 83я73
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
ISBN 978-5-534-12423-1 (т. 1) © Коллектив авторов, 2010
ISBN 978-5-534-12424-8 © Коллектив авторов, 2020,
с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2022
Оглавление
Авторский коллектив...................................5
Предисловие...........................................7
Раздел первый
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Глава 1. Художественный образ. Виды образов..........17
Вопросы............................................38
Глава 2. Знак и образ. Литературный код..............39
Вопросы............................................53
Глава 3. Эстетическое и его виды.....................54
Вопросы............................................73
Глава 4. Деление литературы на роды
(из истории проблемы)................................74
Вопросы............................................84
Глава 5. Драма.......................................85
Вопросы...........................................104
Глава 6. Эпика......................................105
Вопросы...........................................120
Глава 7. Лирика.....................................122
Вопросы...........................................137
Глава 8. Жанры......................................138
Вопросы...........................................149
Глава 9. Автор......................................151
Вопросы...........................................172
Раздел второй
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Глава 1. Литературное произведение как художественное
целое. Содержание / форма. Стиль....................175
Вопросы...........................................197
Глава 2. Рамка......................................198
Вопросы...........................................212
3
Глава 3. Мир произведения, его время и пространство...213
Вопросы.............................................226
Глава 4. Персонажи....................................227
Вопросы.............................................268
Глава 5. Сюжет и его композиция.......................270
Вопросы.............................................307
Глава 6. Вещи.........................................308
Вопросы.............................................326
Глава 7. Природа......................................327
Вопросы.............................................353
Глава 8. Художественная деталь........................354
Вопросы.............................................363
Глава 9. Повествование, описание, итератив, рассуждение ...364
Вопросы.............................................375
Глава 10. Композиция: основные аспекты. Точка зрения..376
Вопросы.............................................393
Авторский коллектив
Чернец Лилия Валентиновна — доктор филологических наук,
профессор, заслуженный профессор филологического факультета
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносо-
ва — т. 1: предисловие, разд. 1: гл. 1—2, 4—6, 8; разд. 2: гл. 1—5,
8—10; т. 2: разд. 3: введение, гл. 1: §§ 3—4, 8; гл. 2: §§ 1—3, 8—10;
разд. 4: гл. 5; прилож. 1—2.
Исакова Ирина Николаевна — кандидат филологических наук,
доцент. Доцент кафедры теории литературы филологического фа-
культета Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова — т. 1: разд. 1, гл. 7; т. 2, разд. 3, гл. 1, § 7.
Мельников Николай Георгиевич — кандидат филологических
наук, доцент. Доцент кафедры истории русской литературы филоло-
гического факультета Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова — т. 2, разд. 4, гл. 6.
Оболенская Юлия Леонардовна — доктор филологических
наук, профессор, заслуженный профессор Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова. Заведующая кафе-
дрой иберо-романской филологии — т. 2, разд. 4, гл. 7.
Прозоров Валерий Владимирович — доктор филологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации. Научный руководитель Института филологии и журна-
листики Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского, заведующий кафедрой общего литературоведения
и журналистики — т. 1, разд. 1, гл. 9.
Романова Галина Ивановна — доктор филологических наук,
доцент. Профессор кафедры русской литературы института гумани-
тарных наук и управления Московского городского педагогического
университета — т. 2, разд. 4, гл. 1—2, 4.
Семенов Вадим Борисович — кандидат филологических наук,
доцент. Доцент кафедры теории литературы филологического фа-
культета Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова — т. 2, разд. 3, гл. 3—6.
Скиба Владимир Артемович — кандидат философских наук, до-
цент — т. 1: разд. 1: гл. 1—3; разд. 2: гл. 6—7; т. 2: разд. 3: гл. 1:
§§ 1—2, 5—6; гл. 2: §§ ^7.
5
Эсалнек Асия Яновна — доктор филологических наук, профес-
сор. Заслуженный профессор Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова — т. 2, разд. 4, гл. 3; послесловие.
Предисловие
Эта книга — шестое, существенно обновленное издание учеб-
ника «Введение в литературоведение»1. Здесь последовательно рас-
крывается содержание данного учебного предмета в соответствии
с Государственным образовательным стандартом и действующими
университетскими программами курса. Книга состоит из четырех
разделов. В первом разделе рассматривается специфика художе-
ственной литературы; во втором — состав и структура произведе-
ния; в третьем — особенности художественной речи; в четвертом —
генезис и функционирование произведения. Наибольшее внимание
уделено литературному произведению как художественному цело-
му. Это продиктовано логикой изучения учебной дисциплины. Ведь
студенты-первокурсники (т. е. основной адресат книги) только на-
чинают изучать литературный процесс, историю различных наци-
ональных литератур (от античности до современности), и необхо-
димо предварить это путешествие по векам и странам уяснением
исходных теоретико-литературных понятий, в их приложении пре-
жде всего к литературной классике. В Послесловии, завершающем
основную часть учебника, намечена проблематика курса «Теория
литературы» (он читается в настоящее время в магистратуре), рас-
считанного на студентов, уже изучивших историю основных евро-
пейских литератур.
Язык науки — понятия и термины1 2. Овладение этим языком —
естественное начало пути филолога, «врата» в литературоведение.
В результате усвоения материалов учебника студент должен:
1 Изданию учебника предшествовал выпуск словаря литературоведческих по-
нятий и терминов в 1999 г. под названием: Введение в литературоведение. Лите-
ратурное произведение: основные понятия и термины. Учебное пособие / Под ред.
Л. В. Чернец. М.: Высшая школа, 1999 (второй тираж — 2000). Как учебный текст,
последовательно излагающий материал, книга выходила в 2004, 2005, 2006 гг. (под
грифом «учебник»), 2011 и 2012 гг. В данном (шестом) издании из 33 глав, состав-
ляющих учебник, заново написаны пятнадцать, существенно доработаны восемь;
общая же суть концепции не изменилась. Обновлен список учебной и справочной
литературы. Все авторы этой книги участвовали в прежних ее изданиях.
2 Научный язык, отличающийся максимальной точностью, естественно, со-
вершенствуется. Так, наряду с понятием как традиционной формой обобщенного
наименования предметов и явлений, в современной науке все чаще использует-
ся термин концепт. О концепте см.: Степанов Ю. С. Константы: словарь русской
культуры. Изд. 3-е. М., 2004; Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Рус-
ская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. Под ред.
7
1) знать теоретико-литературные понятия и термины, относя-
щиеся к художественной литературе и к литературному произведе-
нию, а также к его генезису и функционированию;
2) уметь представить эти понятия как систему, отражающую
структуру литературного произведения, включающую в себя его
предметный мир, художественную речь и композицию;
3) владеть навыками литературоведческого анализа произве-
дений различных родов и жанров.
Выразительна сама этимология слова «термин». На латыни
terminus — предел, граница. В Древнем Риме почитался Термин —
бог межевых знаков (камней, столбов) между крестьянскими участ-
ками, ежегодно в его честь устраивались праздники — Терминалии.
«Сдвинувшего межевой камень с целью захвата чужой земли в древ-
нейшее время предавали проклятию, впоследствии он нес за это от-
ветственность как за уголовное преступление»1.
Наукой о литературе конца XIX — начала XXI в. сделано очень
многое для постижения своего сложного, полифункционального
предмета. И средоточием интересов ученых разных методологиче-
ских ориентаций (формализм и социологизм 1910—1920-х годов,
структурно-семиотический, герменевтический, рецептивно-эстети-
ческий и другие подходы) выступает само произведение, его худо-
жественный текст и особый «мир». Свой путь исследователи стре-
мятся проложить «сквозь литературу», «сквозь» художественный
текст* 1 2. Инструменты литературоведческого описания произведения
(если говорить об общей тенденции) в современном литературове-
дении становятся все более тонкими, а его анализ осознается как
движение к интерпретации художественного целого.
Для авторов этой книги ключевые понятия (определяющие ис-
следовательскую установку) —художественная целостность, содер-
жательность формы (хотя и то и другое далеко не всегда достигает-
ся даже в классических творениях). В книге нет отдельного раздела
или главы, где бы рассматривалось только «содержание» произве-
дения (тематика, состав идей), или только «форма» (компоненты
В. П. Нерознака. М., 1887; Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфе-
ре литературоведения. М., 2010; и др.
1 Мифологический словарь/ Под ред. Е. М. Мелетинского. М., 1990. С. 524.
2 «Сквозь литературу» — так назвал в 1924 г. свой сборник статей Б. М. Эйхен-
баум, в те годы сторонник формального метода в литературоведении. То же выра-
жение использует В. Ф. Переверзев, излагая принципы социологического подхода
к литературе, которые он противопоставляет «идеалистическим» методам: «Иссле-
дователь, вооруженный этими методами, изучал “проблемы”, поставленные в лите-
ратурном произведении, уходил в изучение “жизни и личности” автора, его “среды
и сверстников”, заглядывал в “мастерскую художника слова”, копался в “творческой
истории” — словом, двигался во всех направлениях от литературы и только упорно
не шел в литературу». И далее ученый пишет о том, что нужно идти «сквозь лите-
ратуру», а не мимо нее (Литературоведение / Под ред. В. Ф. Переверзева. М., 1928.
С. 18).
8
«мира» произведения, стилистические, композиционные приемы).
Это продуманное решение: ведь целостность художественного об-
раза, в котором общее просвечивает в индивидуальном, определяет
пути анализа. Давно ушел в прошлое обычай сначала формулиро-
вать «тему» и «идею» произведения, а потом, если останется время
и место, перечислять его «художественные особенности»1.
Другой важный принцип — признание сотворчества читателя,
его участия в порождении содержания произведения — здесь и те-
перь. Образная форма искусства создает объективные предпосылки
для различных прочтений произведений любого жанра, даже такого
дидактичного, как басня (что, предвосхищая современные герме-
невтические концепции, подчеркивал в позапрошлом веке А. А. По-
тебня1 2).
Открытость произведения для различных интерпретаций не оз-
начает, однако, их равной познавательной ценности. Важнейшее
условие научно корректной интерпретации — понимание ценност-
ных приоритетов автора, его замысла, творческой концепции. Хотя
эта концепция, о формировании которой часто свидетельствует
творческая история произведения, не исчерпывает его смысла,
она объясняет многое (поэтому для исследователей столь важны
черновики, варианты текста). А совершенствование приемов ана-
лиза расширяет наше представление о формах «присутствия» ав-
тора в тексте, в частности, помогает увидеть его творческую волю
в расстановке персонажей, выборе композиции сюжета, символике
образов, рамочном тексте (заглавие, эпиграф и пр.).
Отечественная теория литературы переживает время быстрых
и резких перемен. С одной стороны, она освобождается от многих
догм и мифов (внедряемых настойчиво в течение многих десятиле-
тий XX в.), от жесткой идеологической опеки, активно взаимодей-
ствует с мировым — прежде всего западным — литературоведением
(чему способствует появление специальных хрестоматий, справочни-
ков, словарей3). Шире осваивается и богатое наследие русской ака-
демической науки, ее различных направлений, опыт литературной
критики разной ориентации. Пересматриваются репутации выдаю-
щихся представителей критики XIX — начала XX в.: «артистической»,
1 Урок литературы в школе (гимназии) неоднократно вдохновлял сатири-
ков. См., в частности, рассказ В. М. Дорошевича «Русский язык» (Дорошевич В. М. Из-
бранные рассказы и очерки. М.: Московский рабочий, 1962. С. 203—215.)
2 См.: Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 496—497.
3 См.: Введение в литературоведение. Хрестоматия / Под ред. П. А. Николае-
ва, А. Я. Эсалнек. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2006; Литературный
энциклопедический словарь / Под общей ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева.
М.: Сов. энциклопедия, 1987; Литературная энциклопедия терминов и понятий /
Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2001; Ильин И. П. Постмодер-
низм. Словарь терминов. М.: Интрада, 2001; и др.
9
«органической», народнической, религиозно-философской1. Анали-
зируются жанры художественно-документальные, массовая литера-
тура как показатель интересов «широкого» читателя. Искореняется
привычка к автоцензуре при освещении истории эстетики и литера-
туроведения; в недавнем прошлом ученым дорого обходилось воль-
номыслие даже в весьма отдаленных от политики вопросах1 2.
Естественно, приток новых идей, упрочение в литературове-
дении принципов структуральной поэтики, герменевтики, психо-
анализа, увлечение деконструктивизмом и пр. должны находить
отражение в преподавании дисциплины «Введение в литературове-
дение», которая — вместе с «Теорией литературы» — имеет фунда-
ментальное значение в филологическом образовании. В то же время
ветер перемен грозит разрушением, если расставание с «призрака-
ми» не сопровождается созидательной работой, если утрачивается
системность теоретико-литературных построений и открывающие-
ся познавательные перспективы случайны и фрагментарны. В этих
случаях «слов модных полный лексикон» может принести больше
вреда, чем пользы, в особенности на стадии приобщения к специ-
альности. Стремительное введение в научный оборот многочислен-
ных терминов, связанных с разными концепциями, и прежде всего
калек, имеющих аналоги в русской терминологической традиции
(ср. рецепция и восприятие, нарратив и повествование, имаголо-
гия и теория образа, интенция и намерение, замысел и др.), ча-
сто порождает иллюзию обогащения понятийного аппарата, тогда
как известные понятия просто «переназываются», по выражению
А. П. Чудакова3. В практике вузовского обучения, где теоретические
конструкции и их терминологическое оформление проходят много-
кратную, «тысячеустую» проверку на прочность, важно не просто
1 Академические школы в русском литературоведении / Ред. кол.: П. А. Нико-
лаев (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1975; Зарубежная эстетика и теория литературы
XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе / Сост., общая ред. Г. К. Косикова. Изд-во Мос. ун-
та, 1987; История русской литературной критики / Под ред. В. В. Прозорова. М.:
Высшая школа, 2002; Библиотека русской критики. Русская критика зарубежья:
в 2 ч. / Сост., предисл., преамбулы, примеч. О. А. Коростелева, Н. Г. Мельникова. М.:
Олимп, 2002; Недвзвецкий В. А., Зыкова Г. В. Русская литературная критика XVIII—
XIX веков. М.: Аспект Пресс, 2008; и др.
2 Г. Н. Поспелов вспоминал, как после его доклада на Ученом Совете филологи-
ческого факультета МГУ в 1947 г. (т. е. в разгар антикосмополитической кампании),
где он высоко оценил работу А. Н. Веселовского «Поэтика сюжетов», в стенной пе-
чати факультета тут же появилась заметка «Компаративизм на службе у космополи-
тизма». В ней «с точностью до наоборот» излагалась концепция Веселовского: якобы
разграничение им сюжета и мотива, возникавшего у разных народов на сходной со-
циально-бытовой почве, было проявлением космополитизма. А в статье В. Новико-
ва «Особое мнение проф. Г. Н. Поспелова» (Лит. газета, 1947, 15 окт.) указывалось,
что концепция Веселовского «была шагом назад по сравнению с эстетическими
принципами революционных демократов...»
3 Чудаков А. П. Слово — вещь — мир: очерки поэтики русских классиков. М.,
1992. С. 298, 304.
10
разъяснять значения терминов, но и воспитывать чувство методо-
логического контекста, мотивирующего выбор синонима.
Система терминов возникает на базе системы понятий. Конеч-
но, любая, даже самая продуманная система — «только временный
переплет для науки», как писал Н. Г. Чернышевский, приветствуя
перевод «Поэтики» Аристотеля на русский язык Б. И. Ордынским1.
И все же именно система понятий организует целое, запечатлевая дан-
ный момент в истории литературоведения, того или иного научного
направления, школы. В учебной же книге, вследствие ее дидактиче-
ских задач, система совершенно необходима. Ведь, как отметил в про-
цитированной выше статье Чернышевский: «Без истории предмета
нет теории предмета; но и без теории предмета нет даже мысли о исто-
рии, потому что нет понятия о предмете, его значении и границах»1 2.
Появление и развитие теории литературы, можно сказать, сопут-
ствует самой литературе. О поэзии идет речь в ряде сократических
диалогов Платона, но начало системному её рассмотрению положи-
ла «Поэтика» Аристотеля (между 336 и 322 г. до н. э.) и — в рим-
ской литературе — «Наука поэзии» (первоначальное название —
«Послание к Пизонам») Горация (на исходе I в. до н. э.). Спустя
столетия традиция таких эстетических манифестов и одновременно
руководств для начинающих авторов возрождается: «Защита и про-
славление французского языка» Ж. дю Беллэ (1549), «Защита по-
эзии» Ф. Сидни (1580), «Новое руководство к сочинению комедий»
Л. де Веги (1609), «Книга о немецкой поэзии» М. Опица (1642), «По-
этическое искусство» Н. Буало (1674), «Епистола II, О стихотворстве»
А. П. Сумарокова (1747) и многие другие тексты3. Названные «по-
этики» в большой мере были дидактичными и «нормативными»,
они преследовали цель «научить, как следует писать литературные
произведения»4. В совокупности они отражали представления о по-
эзии, свойственные длительному «традиционистскому» периоду
ее развития, охватывающему (в Европе) «эпохи античности, средне-
вековья и начала нового времени» (т. е. с середины первого тыся-
челетия до н. э. по вторую половину XVIII в.)5 На протяжении всего
1 Чернышевский Н. Г. О поэзии. Сочинение Аристотеля // Поли. собр. соч.
в 16 т. Т. 2. М., 1949. С. 266.
2 Там же.
3 См.: Литературные манифесты западноевропейских классицистов /
Собр. текстов, вступ. ст. и примеч. Н. П. Козловой. Изд-во Мос. ун-та, 1980; Чер-
нец Л. В. Из предыстории компаративистики (Вопросы национального своеобразия
литературы в манифестах классицистов) // Сравнительное литературоведение. Рос-
сия и Запад. XIX век / Под ред. В. Б. Катаева, Л. В. Чернец. М.: Высшая школа, 2007.
С. 17—27.
4 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 26.
5 Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Ка-
тегории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литератур-
ные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. Гринцер П. А. М.: Наследие,
1994. С. 15.
11
этого длительного периода «основополагающими для литературы
и литературной теории стали понятия традиции, образца, нормы...»!
Анализируя произведения, чьи авторы в целом исходили из предпи-
саний эстетических манифестов, филолог, естественно, должен хо-
рошо знать эти «поэтики» и соответствующий период литературы.
Конечно, и в античной литературе, и в эпоху Возрождения
творческая индивидуальность авторов проявлялась в их создани-
ях — иногда очень ярко (У. Шекспир, М. де Сервантес, Ф. Рабле).
Но в целом характер и темпы литературного развития были замед-
ленными, по сравнению с последующим периодом, к которому от-
носится и наше время.
В данном учебнике к анализу привлекаются по большей части
произведения XVIII—XXI вв. — периода господства «индивидуально-
авторского сознания», «быстрой смены литературных школ»1 2, вооб-
ще стремительного развития литературы, богатой индивидуальны-
ми стилями. Резко меняется в этот период и самосознание писателя.
Так, В. Гюго и в своем творчестве, и в рассуждениях об искусстве
высоко ценит новаторство и буквально громит «правила» класси-
цизма (в особенности долго и трепетно соблюдавшиеся во Фран-
ции). «Итак, скажем смело: время настало! — пишет Гюго в «Пре-
дисловии к драме “Кромвель”» (1827), ставшем ярким эстетическим
манифестом романтического искусства. — И странно было бы,
если бы в нашу эпоху, когда свобода проникает всюду, подобно све-
ту, она не проникла бы в область, которая по природе своей свобод-
нее всего на свете, — в область мысли. Ударим молотом по теори-
ям, поэтикам и системам. Собьем старую штукатурку, скрывающую
фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов; или вернее, нет иных
правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем
искусством, и частных законов для каждого произведения, вытека-
ющих из требований, присущих каждому сюжету. <... > Первые —
это сруб, на котором зиждется дом; вторые — леса, служащие при
стройке и возводимые заново для каждого здания»3.
В произведениях писателя романтики ценят индивидуальное
своеобразие. Е. А. Баратынский в своем, можно сказать, программ-
ном стихотворении писал в 1828 г.:
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик,
1 Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Ка-
тегории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литератур-
ные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. Гринцер П. А. М.: Наследие,
1994. С. 15.
2 Там же. С. 15, 32.
3 Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Собр. текстов,
вступ. ст. и общая ред. А. С. Дмитриева. Изд-во Моск, ун-та, 1980. С. 454.
12
Доратов ли, Шекспиров ли двойник —
Досаден ты — не любят повторений1.
И хотя именно романтизм довольно скоро стал мишенью для
иронии, вследствие рожденных на его почве многочисленных
штампов, провозглашаемый им принцип свободы и оригинально-
сти творчества в последующей литературе утвердился.
Приведенные примеры разных требований к творчеству под-
черкивают огромную важность принципа историзма, а также на-
ционального своеобразия при анализе и оценке литературных
произведений. Исходя только из современных представлений о ху-
дожественном творчестве, исследователь рискует пройти мимо
исторического своеобразия произведения.
Приведем суждения Д. С. Лихачева о составе литературоведения
в целом и о мере точности, необходимой и в этой гуманитарной на-
уке, включающей в себя много наук прикладных, требующих специ-
альных знаний и скрупулезности их применения:
«Если расположить весь куст литературоведческих дисциплин в виде
некой розы, в центре которой будут дисциплины, занимающиеся наиболее
общими вопросами интерпретации литературы, то окажется, что чем дальше
от центра, тем дисциплины будут точнее. Литературоведческая "роза"дисци-
плин имеет некую жесткую периферию и менее жесткую сердцевину. <...>
Если убрать все "нежесткие" дисциплины, то "жесткие" потеряют смысл сво-
его существования; если же, напротив, убрать все "жесткие", точные специ-
альные дисциплины (такие, как изучение истории текста произведений, изу-
чение жизни писателей, стиховедение и пр.), то центральное рассмотрение
литературы не только потеряет точность — оно вообще исчезнет в хаосе про-
извола различных не подкрепленных специальным рассмотрением вопроса
предположений и догадок. Развитие литературоведческих дисциплин должно
быть гармоничным»1 2.
К этим верным суждениям хочется добавить следующее: интер-
претация произведения (т. е. «менее жесткая сердцевина» литера-
туроведения) тоже в значительной степени предсказуема: ведь она
зависит от исторического времени и мировоззрения критика. Pro
captu lectoris sua fata libelli3. В другой своей статье Д. С. Лихачев
замечает: «Кто согласится с интерпретацией творчества Пушкина,
предложенной Писаревым? И вместе с тем, кто отвергнет ее исто-
рическую ценность? Ведь без нее нет Писарева, она типична для Пи-
сарева, для его времени, для культурной жизни России 60-х годов»4.
1 Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников.
М.: «Правда», 1987. С. 64. Жозеф Дора (1734—1780) — французский поэт.
2 Лихачев Д. С. Еще о точности литературоведения // Лихачев Д. С. О филоло-
гии. М.: Высшая школа, 1989. С. 30.
3 Книги имеют свою судьбу в зависимости от головы читающих (лат.)
4 Лихачев Д. С. Принцип историзма в изучении литературы // Лиха-
чев Д. С. О филологии. С. 15.
13
Изучение функционирования произведений, их меняющихся —
в зависимости от «головы читающих» — толкований составля-
ет одну из сложных задач литературоведения, требующих знания
и истории, и теории литературы. Как специальная тема исследова-
ний история «толкований» произведения была выделена в отече-
ственной науке в конце XIX — начале XX в. В статье «О толкова-
нии художественного произведения» (1912) А. Г. Горнфельд, ученик
и последователь А. А. Потебни, писал: «Произведение художника
необходимо нам именно потому, что оно есть ответ на наши вопро-
сы: наши, ибо художник не ставил их себе и не мог их предвидеть.
И — как орган определяется функцией, которую он выполняет, так
смысл художественного произведения зависит от тех вечно новых
вопросов, которые ему предъявляют вечно новые, бесконечно раз-
нообразные его читатели или зрители»1. В последнем (четвертом)
разделе учебника сквозная тема — генезис и творческая история
произведения, а также его восприятие и оценка совокупным чита-
телем.
1 Горнфельд А. Г Статьи о художественном слове. Изд. 2-е. М., 2014. С. 107—
108.
Раздел первый
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Глава 1
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.
ВИДЫ ОБРАЗОВ
Рус.: художественный образ; англ.: image; нем.: kunstlerisches Bild; фр.:
image.
Основные значения слова «образ». Художественный образ, его отличие
от понятия. — Экскурс в историю эстетики. — Творческая типизация. Вы-
мысел и документ в литературе. — Экспрессивность и самодостаточность
художественного образа, возможность его различных толкований. — Текст
произведения как носитель образности, его неоднородность.—Виды образов:
персонаж, неодушевленный объект, голос (первичный субъект речи). —
Иносказательность слова и иносказательность образа. Тропы. —Аллегория
и символ. — Авторские рассуждения в художественном тексте.
В гносеологическом плане художественный образ — разновид-
ность образа вообще, под которым понимается результат освое-
ния сознанием человека окружающей действительности. Образ,
в широком значении, — это внешний мир, попавший в «фокус»
сознания, ставший его раздражителем и, как говорят философы,
интериоризованный им, т. е. превращенный в факт сознания. Вне
образов нет ни отражения действительности, ни воображения,
ни познания, ни творчества, с гносеологической точки зрения это
основной и наибольший по объему феномен. Он может принимать
формы чувственные (ощущения, восприятия, представления) и ра-
циональные (понятия, суждения, умозаключения, идеи, теории).
Это и идеализированная конструкция, т. е. не соотносящаяся не-
посредственно с реально существующими предметами (например,
понятие точки в науке, фантастические образы Бабы Яги или Змея
Горыныча в сказках, мифические образы Грифонов или Сфинксов).
Образ может быть фактографическим, т. е. детально воспроизводя-
щим предмет (например, фотопортрет) или основанным на вымыс-
ле. Есть образы, пронизывающие наше обыденное сознание, повсед-
невное восприятие действительности (по понятным причинам они
разные у разных людей), образы мифологические, религиозные, на-
учные, политические и др. Важно всякий раз уточнять содержание
образов (существует немало их толкований), их differentia specifica.
17
Итак, слово «образ» употребляется в качестве термина в разных
областях знания. В сущности, перед нами омонимы: в философии
(в теории познания) под образом понимается любое отражение
действительности (и понятийное, и чувственное); в психологии об-
раз — синоним представления, т. е. мысленного созерцания пред-
мета в его целостности (его «воображения»); в эстетике — воспро-
изведение целостности предмета в определенной системе знаков.
Материальным носителем образности в художественной литерату-
ре является слово, речь.
Эстетическое шире художественного. Образы, образная инфор-
мация окружают нас повседневно и повсеместно: мы встречаем-
ся с ними в домашнем альбоме с любительскими фотографиями,
в документальных, биографических очерках, в публицистических
и даже научных сочинениях. Эти фактографические образы ценны
именно своей достоверностью. Они часто приводятся как пример,
иллюстрация доказываемого положения. Фактографические обра-
зы «не изменяют индивидуальности явлений, показывая их такими,
какими они были в действительности»1. Во всяком случае, их цен-
ность отнюдь не в претворении жизненного материала.
Художественный образ — категория эстетики, результат осмыс-
ления автором (художником) какого-либо явления, процесса, свой-
ственными тому или иному виду искусства способами. Художе-
ственный образ объективирован в форме произведения как целого
или его отдельных частей (так, литературное произведение может
включать в себя систему образов персонажей; скульптурная компо-
зиция, будучи целостным образом, нередко состоит из галереи от-
дельных пластических образов). В контексте сравнения искусства
как мышления в образах с наукой — высшей формой понятийного
мышления — отчетливо видна разница между художественным об-
разом и понятием (с точки зрения теории познания тоже образом;
поэтому словосочетание «понятие образа» несет в себе contradictio
in adjecto, но такова уж особенность языка).
Понятие как способ научного мышления выделяет в предмете
общие, существенные (родовые, видовые и т. 0.) черты, абстрагиру-
ясь при этом от индивидуальности предмета.
ic ic ic
Способность сознания постигать общие черты предметов, связи
между предметами, классифицировать их — создавать понятия —
развилась постепенно. В IV в. до н. э. Платону приходилось дока-
зывать, что кроме этого предмета есть его «вид», или «идея». В от-
вет на рассуждения Платона о «стольности» и «чашности» Диоген
говорил: «А я вот, Платон, стол и чашу вижу, а стольности и чаш-
1 Поспелов Г. Н. Виды образности // Введение в литературоведение / Под ред.
Г. Н. Поспелова. Изд. 3. М., 1988. С. 43.
18
ности не вижу». Платон же отвечал: «И понятно: чтобы видеть стол
и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть стольность и чашность,
у тебя нет разума»1.
Истоки теории образа — в античности (учение о мимесисе).
Но развернутое обоснование понятия, близкое к современному,
дано в немецкой классической эстетике, особенно у Гегеля. Фило-
соф видел в искусстве чувственное (т. е. воспринимаемое чувства-
ми) воплощение идеи: «От теоретического, научного изучения ху-
дожественное осмысление отличается тем, что оно интересуется
предметом в его единичном существовании и не стремится превра-
тить его во всеобщую мысль и понятие»1 2. В то же время единич-
ное, индивидуальное (т. е. неделимое) в искусстве способно ярко,
осязаемо, зримо передать общее. Гегель проводит запоминающую-
ся аналогию, уподобляя художественное произведение глазам как
зеркалу души: «...об искусстве можно утверждать, что оно выявляет
дух и превращает любой образ во всех точках его видимой поверх-
ности в глаз, образующий вместилище души [...]. Оно превращает
в глаз не только телесную форму, выражение лица, жесты и манеру
держаться, но точно так же поступки и события, модуляции голоса,
речи и звука на всем протяжении и всех условиях их проявления.. .»3
Художественный образ, по Гегелю, — результат «очищения» явления
от всего случайного, затемняющего сущность, результат его «идеа-
лизации». Например, не только рафаэлевские мадонны, но все мате-
ри испытывают «благоговейную и смиренную» любовь к своему ре-
бенку, «однако не всякая форма женского лица способна полностью
выразить такую глубину души»4. Выделенные положения эстетики
Гегеля оказались долговечнее своего методологического контекста,
и они входят — в трансформированном виде — в современное ис-
кусствознание.
Понятийное мышление, говоря гегелевским языком, — «цар-
ство закономерностей»; мышление художественное, не игнорируя
закономерности, оживляет их, «примиряет с действительностью»
и «абстракциями науки»5, раскрывая истину через имитацию, соз-
давая иллюзию чувственно воспринимаемых предметов. Как и по-
нятие, художественный образ выполняет познавательную функцию,
являя собою единство индивидуальных и общих свойств предмета,
однако содержащееся в нем знание во многом субъективно, окра-
шено авторской позицией, его видением изображаемого явления;
оно принимает чувственно воспринимаемые формы, воздействует
1 Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов.
М., 1979. С. 251.
2 Гегель Г В. Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1. М., 1968. С. 44.
3 Там же. С. 162.
4 Там же. С. 165.
5 Гегель Г В. Ф. Лекции по эстетике // Соч. Т. 12. М., 1938. С. 41.
19
и на чувства, и на разум читателей, слушателей, зрителей. «И что
такое ум в искусстве? — размышлял И. А. Гончаров. — Это уменье
создать образ. [...] Одним умом в десяти томах не скажешь того, что
сказано десятком лиц в каком-нибудь “Ревизоре”»1.
Тем не менее понятийное и образное мышление следует не про-
тивопоставлять, но сопоставлять, ибо они, будучи разными спо-
собами освоения действительности, дополняют друг друга. Еще
Белинский видел отличие науки от искусства в том, что ученый
«доказывает», а поэт «показывает», «и оба убеждают: только один
логическими доводами, другой — картинами»1 2. Наука апеллирует
к объективным закономерностям, искусство — к мироощущению
человека, его настроению, жизненному опыту, расширяя и обога-
щая его, стимулируя деятельность сознания, утоляя многие жела-
ния, погружая его в жизнь других людей, общества, природы. Наука
для своего понимания требует знания (подчас немалого), которым
обладают не все; для постижения искусства нужны также подготов-
ка, жизненный опыт. И все же художника понимают обычно боль-
ше, чем ученого, ибо искусство воспринимается всеми пластами
сознания, а не только разумом. Художественный образ, с одной сто-
роны, это ответ художника на интересующие его вопросы, а с дру-
гой — это и новые вопросы, порождаемые недосказанностью об-
раза, его субъективной природой. Наука и искусство в равной мере
«работают» на человека.
Согласно известному определению, «сущность человека не аб-
стракт...», «в своей действительности она есть совокупность всех
общественных отношений»3. И разве не конкретизирует, не ожив-
ляет этот тезис художественная литература, представляя нам ве-
ликое многообразие ситуаций общения, типов поведения людей
в этих ситуациях?
В чем же заключаются специфические черты художественного
образа? Художественное сознание, сочетая рассудочный (дискур-
сивный) и интуитивный подходы, схватывает нерасчлененность,
целостность, полноту реального бытия явлений действительности
и отражает его в чувственно-наглядной форме. Художественный об-
раз, если перефразировать Шеллинга, есть способ выражения бес-
конечного через конечное4. Любой образ воспринимается и оцени-
1 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда (Критические заметки) // Собр.
соч.: в 8 т. М., 1955. С. 107.
2 Белинский В. Г Взгляд на русскую литературу 1847 г. // Поли. собр. соч.:
в 13 т. Т. 10. М., 1956. С. 311.
3 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М., 1955. С. 3.
4 См.: Шеллинг Ф. В. Система трансцендентального идеализма// Соч.:
в 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 479.
20
вается как некая целостность, хотя бы он был создан с помощью
одной-двух деталей: читатель в своем воображении восполняет
недостающее. Так, в стихотворении Ф. И. Тютчева описаны только
глаза, взгляд лирической героини:
Я очи знал, — о, эти очи!
Как я любил их, — знает Бог!
От их волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не мог.
(«Я очи знал, — о, эти очи!..»)
Как объект эстетического восприятия и суждения образ цело-
стен, даже если принципом поэтики автора является нарочитая
фрагментарность, эскизность, недоговоренность. В этих случаях
огромна семантическая нагрузка на отдельную деталь.
Художественный образ всегда несет в себе обобщение, т. е. имеет
типическое значение (гр. typos — отпечаток, оттиск). Если в самой
действительности соотношение общего и единичного может быть
различным (в частности, единичное может и затемнять общее),
то образы искусства суть яркие, концентрированные воплощения
общего, существенного в индивидуальном.
Художественное обобщение в творческой практике принимает
разные формы, окрашенные авторскими эмоциями и оценками. На-
пример, образ может иметь репрезентативный характер, когда вы-
деляются, «заостряются» какие-то черты реального предмета, или
быть символом, что в особенности характерно для лирики (напри-
мер, образ паруса у Лермонтова или Пророка у Пушкина). В цити-
руемом выше стихотворении Тютчева «Я очи знал, — о, эти очи!..»
психологический портрет создан благодаря кругу ассоциаций, свя-
занных в сознании лирического героя с «очами» героини: они гово-
рят ему о «горе», «страсти глубине», о «наслажденье» и «страданье»,
он не может «без слез» любоваться этим взором. В лирике Тютчева
очень важен мотив ночи; портретная деталь (ночь очей, т. е. их чер-
ный цвет) обретает символический смысл: здесь «ночь» не просто
часть суток, но встреча с «бездной», с «древним... хаосом», с таин-
ственными и страшными силами природы («День и ночь», «Святая
ночь на небосклон взошла...», «О чем ты воешь, ветр ночной?..»).
Вместе с лирическим героем мы видим в «очах» героини отражение
ее души; остальное не важно.
Собственные имена литературных героев нередко становятся
нарицательными, что служит ярким показателем обобщающе-
го смысла художественного образа. «У истинного таланта каждое
лицо — тип, и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнако-
мец, — писал Белинский. — <...> В самом деле, Онегин, Ленский,
Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Ми-
хайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий
21
Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов — разве все эти собственные
имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смыс-
ла заключает в себе каждое из них!»1 В «Бедных людях» Ф. М. До-
стоевского Макар Девушкин, очевидно, выражая мысли писателя,
пишет о соседе-чиновнике под впечатлением только что прочитан-
ной повести Пушкина «Станционный смотритель»: «...да чего да-
леко ходить! — вот хоть бы и наш бедный чиновник, — ведь он,
может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия,
Горшков».
«Знакомым незнакомцем», типом литературный персонаж стано-
вится в результате творческой типизации, т. е. отбора определен-
ных сторон жизненных явлений и их подчеркивания, гиперболи-
зации в художественном изображении. Именно для раскрытия тех
или иных свойств, представляющихся писателю существенными,
нужны домысел, вымысел, фантазия. Творческие истории многих
произведений, сюжет которых основан на каких-то реальных собы-
тиях, а герои имеют прототипы («Муму» Тургенева, «Гранатовый
браслет» А. И. Куприна), позволяют проследить (конечно, в общих
чертах) путь писателя от жизненного материала к художественному
сюжету1 2.
Типизация может приводить к нарушению жизнеподобия: к сме-
лой гиперболе, гротеску, фантастике («Шагреневая кожа» О. Баль-
зака, «Нос» Гоголя, «Носорог» Э. Ионеско). Но нарочитая условность
стиля, элементы фантастики способствуют обнаружению сущности
явления в названных произведениях. В «Истории одного города»
Салтыкова-Щедрина, где гротеск — доминанта стиля, Тургенев на-
шел «реализм, трезвый и ясный среди самой необузданной игры
воображения»3.
Право на вымысел, на отход от жизненных фактов дорого худож-
нику: оно дает ему свободу самовыражения, мысленного пересозда-
ния действительности. Не случайно поэты воспевают мечту: «Тогда
с отвагою свободной / Поэт на будущность глядит, / И мир мечтою
благородной / Пред ним очищен и обмыт» (Лермонтов. «Журналист,
писатель и читатель»); «Сотри случайные черты — / И ты увидишь:
мир прекрасен» (Блок. «Возмездие»). Стирать «случайные черты»,
усиливать неслучайные значит создавать другую, эстетическую ре-
альность. Роль вымысла в творчестве трудно переоценить.
И все же не вымысел как таковой — критерий художественно-
сти. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, жанры массовой
(тривиальной) литературы: триллеры, фэнтези, розовые романы,
1 Белинский В. Г. О русской повести и о повестях г. Гоголя («Арабески» и «Мир-
город») // Поли. собр. соч.: в 13 т. Т. 1. М., 1953. С. 296.
2 См.: Добин Е. С. Жизненный материал и художественный сюжет. Л., 1956.
3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. Т. 10. М., 1982.
С. 265.
22
уводящие читателя в несомненно придуманные, но удивительно
однообразные и схематичные миры с клишированными героями
и ситуациями. Тяготение к гиперболе, фантастике не спасает эти
сочинения от низкого «эстетического рейтинга» в глазах знатоков.
С другой стороны, в художественной литературе часто использу-
ется документ, причем не только в произведениях на исторические
темы; так, в повести Пушкина «Дубровский» воспроизведен, с из-
менением фамилий и других реалий, текст подлинного судебного
решения. Литературу вымысла часто обогащает взаимодействие
с документальными жанрами: мемуарами, дневниками, путевыми
заметками; нередко именно здесь писатели находят новые характе-
ры, сюжетные ходы, обновляющие жанровую традицию. Некоторые
исследователи выделяют пограничную область художественно-до-
кументальной литературы, относя к ней произведения, фактогра-
фическая образность которых достигает особой глубины и вырази-
тельности: «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, «Былое и думы» А. И. Герцена,
«Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына. По мнению Л. Я. Гинзбург,
«для эстетической значимости не обязателен вымысел и обязатель-
на организация — отбор и творческое сочетание элементов, отра-
женных и преображенных словом. В документальном контексте,
воспринимаемом эстетически, жизненный факт испытывает глу-
бокие превращения. <...> Слова могут остаться неукрашенными,
нагими, как говорил Пушкин, но в них должно возникнуть качество
художественного образа <...>... в факте... пробуждается эстети-
ческая жизнь; он становится формой, образом, представителем
идеи»1.
Однако само восприятие документальных произведений, како-
во бы ни было их эстетическое достоинство, и собственно художе-
ственных — глубоко различно: в первом случае ценится подлин-
ность изображаемого, во втором — читатель «согласен» получать
удовольствие от иллюзии, игры, понимая, что благодаря этой игре
(в частности, нарочитому нарушению жизнеподобия) черты пер-
вичной реальности проступают особенно отчетливо (например,
в рассказе А. П. Чехова «Смерть чиновника» комизм добровольного
самоуничижения главного героя достигает апогея в развязке сюже-
та, где автор явно прибегает к гиперболе).
rf rf гГ
Художественный образ экспрессивен, т. е. выражает идейно-эмо-
циональное отношение автора к предмету. Он обращен не только
к уму, но и к чувствам читателей, слушателей, зрителей. По силе
эмоционального воздействия изображение обычно превосходит рас-
суждение, даже патетическую речь оратора. Сопоставляя знамени-
тые речи о патриотизме, произнесенные Цицероном, и «Одиссею»,
1 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 10—11.
23
английский поэт XVI в. Ф. Сидни отдает предпочтение Гомеру: его
главный герой, «наслаждаясь всеми земными благами у Калипсо,
оплакивает свою разлуку с бесплодной и нищей Итакой». Сидни
замечает: «...поэт предлагает нашему уму образ того, что философ
дает только в словесном описании, не поражающем души, не про-
никающем в нее, не овладевающем духовным взором так, как это
удается образу»1.
Об идейно-эмоциональной оценке автором изображаемых ха-
рактеров свидетельствует прочно укоренившаяся традиция деления
героев на «положительные» и «отрицательные» (при всех оговор-
ках критиков об уязвимости схем). В особенности уместно такое
деление применительно к произведениям классицизма — литера-
турного направления, где целью искусства считалось воспитание
нравственности, поучение. Видами идейно-эмоциональной оценки
являются эстетические категории, в свете которых писатель (как
и любой человек) воспринимает жизнь; он может ее героизировать
или, напротив, обнажить комические противоречия; подчеркнуть
ее романтику или трагизм; быть сентиментальным или драма-
тичным и т. д. Для многих произведений характерна эмоциональ-
ная полифония (например, для «Горя от ума» А. С. Грибоедова, про-
должившего традицию высокой комедии).
Поистине неисчерпаемы формы выражения авторской оценки:
в распоряжении писателя весь арсенал литературных приемов. В са-
мом общем виде эти формы можно разделить на явные и неявные
(скрытые). Так, в «Евгении Онегине» автор многократно признается
в любви к своей героине: «Простите мне: я так люблю / Татьяну ми-
лую мою» (гл. IV, строфа XXIV); отношение же к Онегину — своему
«спутнику странному» — он прямо не высказывает, провоцируя тем
самым споры читателей.
Оценочной лексике сродни тропы как «явные способы моде-
лирования мира»1 2 на стилистическом уровне. Отношение автора
(субъекта речи) к предмету очевидно по характеру ассоциаций,
вводимых тропами. Напомним комические описания Н. В. Гоголя,
сближающие людей с животными, вещами, овощами: «Черные фра-
ки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся
мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета,
когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки
перед открытым окном...» («Мертвые души»); «Голова у Ивана Ива-
новича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифорови-
ча на редьку хвостом вверх» («Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем»).
1 Сидни Ф. Защита поэзии // Литературные манифесты западноевропейских
классицистов. М., 1980. С. 143—144.
2 Faryno J. Введение в литературоведение. Katovice, 1980. 4. 2. С. 29.
24
На метасловесном же, предметном уровне возможности выраже-
ния оценки у художественного писателя, использующего вымысел,
по сравнению с документалистом гораздо шире: он может не толь-
ко прибегнуть к стилистическим и композиционным приемам,
но и придумать, создать свой предметный мир, с его особенными
временем и пространством, героями, сюжетом, всеми подробно-
стями описания. В мире произведения также различаются явные
и неявные (косвенные) формы присутствия автора. В частности,
завершая сюжет, писатель может четко выразить свое отношение
к противоборствующим сторонам или прибегнуть к открытому фи-
налу. В «Евгении Онегине» Пушкина в круг чтения Татьяны входят
нравоучительные сентиментальные романы, где «при конце по-
следней части / Всегда наказан был порок, / Добру достойный был
венок». На этом фоне конец пушкинского «романа в стихах» — но-
ваторский, и отсутствие развязки под стать «странному» характеру
Онегина.
Художественный образ самодостаточен, он есть форма выраже-
ния содержания в искусстве. Иная функция у образов в науке (име-
ется в виду, что в науке кроме образов-понятий, о чем шла речь
выше, нередко используются образы-символы, образы-сравнения
и др., близкие по своей природе к образам, используемым в искус-
стве). Здесь их роль второстепенна, они прежде всего иллюстри-
руют доказываемые положения. Например, образ (символ) атома
в виде шарика-ядра и вращающихся вокруг него по окружностям-
орбитам точек (электронов).
Обобщение, которое несет в себе художественный образ, обычно
нигде не «сформулировано» автором. Если же писатель выступает
в качестве автокритика, разъясняя свой замысел, основную идею
либо в самом произведении, либо в специальных статьях («Несколь-
ко слов по поводу книги “Война и мир”» Л. Н. Толстого), его интер-
претация, конечно, очень важна, но далеко не всегда убедительна
для читателя. Объясняя свое произведение, писатель, по словам
А. А. Потебни, «становится уже в ряды критиков и может ошибать-
ся вместе с ними»1.
К тому же рассуждения по поводу изображаемых характеров
и конфликтов в тексте произведения (включая его рамочные ком-
поненты: авторские предисловия, послесловия, примечания и др.)
часто имеют своей целью в той или иной мере мистифицировать
читателя, например, содержат скрытую иронию. Действитель-
но ли для Лермонтова его Печорин — «портрет, составленный из по-
роков всего нашего поколения, в полном их развитии», как он пи-
сал в Предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени»
(1841)? Или эта формулировка в духе традиции морализирования,
1 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 330.
25
которой следовали рецензенты романа, находившие Печорина без-
нравственным (С. А. Бурачок, С. П. Шевырев и др.)? В том же Преди-
словии автор иронизирует над привычкой русских читателей ждать
от литературы поучений, уроков: «Наша публика так еще молода
и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит
нравоучения». Само слово «порок» не из лексикона Лермонтова, это
знак уходящего литературного века.
Будучи воплощением общего, существенного в индивидуальном,
художественный образ может порождать различные толкования,
включая такие, о которых не помышлял автор. Эта его особенность
вытекает из природы искусства как формы отражения мира сквозь
призму индивидуального сознания. Шеллинг одним из первых в ев-
ропейской философии отметил, что истинное произведение искус-
ства «как будто содержит бесконечное число замыслов, допуская
тем самым бесконечное число толкований...»1 Объектом множества
толкований он считал греческую мифологию, ее загадочные, симво-
личные образы. А. А. Потебня, неизменно подчеркивавший много-
значность образа, на примере жанра басни наглядно показывал воз-
можность выведения из басенного сюжета различных нравоучений.
Выразителен его комментарий к басне Бабрия «Мужик и Аист» (сю-
жет восходит к Эзопу). Приведем полностью текст басни:
«Наставил мужик на пашне силков и поймал вместе с уничтожавшими его
посевы журавлями Аиста.
— Отпусти меня, — прихрамывая, просит он, — я не журавль, я Аист,
птица святой жизни, чту своего отца и кормлю его. Взгляни на мои перья—
цветом они не похожи на журавлиные!..
— Уймись, — перебил его мужик, — с кем ты попался, с тем я тебе
и сверну шею. Беги, не заводи знакомства с негодяями, не то наживешь беду
вместе с ними»1 2.
Из этой «типичной» басни, полагает Потебня, можно вывести
разные обобщения, смотря по ее «применению». Это «или положе-
ние, которое высказывает Бабрий устами мужика: “с кем попался,
с тем и ответишь”, или положение: “человеческое правосудие сво-
екорыстно, слепо”, или: “нет правды на свете”, или: “есть высшая
справедливость: справедливо, чтобы при соблюдении великих инте-
ресов не обращали внимания на вытекающее из этого частное зло”.
Одним словом, чего хочешь, того и просишь; и доказать, что все эти
обобщения ошибочны, очень трудно»3.
1 Шеллинг Ф. В. Система трансцендентального идеализма// Соч.: в 2 т. Т. 1. М.,
1987. С. 478.
2 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 496.
3 Там же. С. 496—497.
26
Образность искусства создает объективные предпосылки для
споров о смысле произведения, для его различных интерпрета-
ций, как близких к авторской концепции, так и полемичных по от-
ношению к ней. Характерно нежелание многих писателей опреде-
лять идею своего произведения, «переводить» его на язык понятий.
«Если же бы я хотел сказать словами всё то, что я имел в виду выра-
зить романом, — писал Л. Н. Толстой об «Анне Карениной» в пись-
ме к Н. Н. Страхову от 23...26 апреля 1876 г., — то я должен бы был
написать роман тот самый, который я написал, сначала»1. Не менее
показательно ревнивое отношение художников к образам, создан-
ным ими. Эти образы дороги им их неповторимостью, счастливо
найденными деталями. Так, для Гончарова идея вне образа мерт-
ва. Он горестно сетовал (в письме к С. А. Никитенко от 28 июня
1860 г.) на вечного своего соперника в искусстве — Тургенева, яко-
бы использовавшего в «Дворянском гнезде» и «Накануне» гонча-
ровский абрис будущего «Обрыва»: «...не зернышко взял он у меня,
а взял лучшие места, перлы и сыграл на своей лире; если б он взял
содержание, тогда бы ничего, а он взял подробности, искры по-
эзии, например, всходы новой жизни на развалинах старой, исто-
рию предков, местность сада, черты моей старушки — нельзя
не кипеть»1 2. Парадокс искусства заключается, однако, в том, что
некая экспликация общего «смысла», «содержания», «идеи», заклю-
ченных в образе, есть неизбежное условие диалога с автором про-
изведения, в который вступает каждый его читатель, слушатель,
зритель.
rf rf гГ
Литературное произведение предстает перед читателем как
текст, но за словами, предложениями встают образы — всегда ли?
какие виды образа можно выделить? в чем проявляется их связь
друг с другом?
В качестве материального носителя образности текст литератур-
ного произведения неоднороден. В истории эстетики и литературо-
ведения неоднократно оспаривалась образность как непременное
свойство, атрибут художественной литературы («поэзии», выра-
жаясь по-старинному). По мнению Э. Бёрка, английского эстети-
ка XVIII в., художественная речь, как и обычная, далеко не всегда
вызывает в сознании читателя (слушателя) живые представления.
«Когда я говорю: «Будущим летом я поеду в Италию», меня хорошо
понимают. Однако, я полагаю, ни у кого в результате этого не воз-
никает в воображении картина, изображающая именно точную фи-
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 17—18. М., 1984. С. 784.
2 Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 7. М., 1955. С. 344. Подробнее см.: Чер-
нец Л. В. О «поэтическом языке» И. А. Гончарова // Русская словесность. 1997. № 1.
27
гуру говорящего, совершающего путешествие по суше, или по воде,
или обоими способами, иногда верхом на лошади, иногда в экипа-
же, со всеми подробностями путешествия»1. Обнаружив в поэмах
Гомера и Вергилия много мест, не порождающих «ясных» образов
(одно из них — портрет Елены в третьей песни «Илиады»), Бёрк
приходит к выводу, что «поэзия, строго говоря, не является искус-
ством, основанным на подражании»1 2.
Размышления Бёрка предшествовали трактату «Лаокоон, или
О границах живописи и поэзии» (1766) Г. Э. Лессинга, где отме-
чались ограниченные возможности словесной пластики и, соот-
ветственно, описательной поэзии (бывшей в XVIII в. в большой
моде). В целом же область поэзии, по Лессингу, гораздо обширнее,
чем в изобразительных искусствах (живопись, ваяние), где можно
«изобразить лишь один момент действия», поэтому важно выбрать
момент «плодотворный», «наиболее значимый, из которого бы ста-
новились понятными и предыдущие, и последующие моменты».
Предмет же поэзии составляют «действия», «тела» она изображает
«лишь опосредованно, при помощи действий»3. Лессинг подчерки-
вает преимущества поэзии, не ограниченной изображением одного
момента действия: «Так как поэту открыта для подражания вся без-
граничная область совершенства, то внешняя, наружная оболочка,
при наличии которой совершенство становится в ваянии красотой,
может быть для него разве лишь одним из ничтожнейших средств
пробуждения в нас интереса к его образам»4.
Не оспаривая преимуществ поэзии, И. Г. Гердер в 1769 г. вступа-
ет в полемику с Лессингом, защищая, в частности, законность ста-
ринной аналогии между живописью и поэзией: посредством слов
тоже можно создать иллюзию предмета, вызвать у читателя «чув-
ственное представление»5.
В начале XX в. Д. Н. Овсянико-Куликовский выделял в поэзии
особую разновидность «безобразной» лирики. В качестве приме-
ра он приводил стихотворение Пушкина «Я вас любил: любовь
еще, быть может...»: «Законченный лиризм настроения и выраже-
ния в этих чудных стихах не подлежит сомнению и воспринима-
ется нами сразу, без всяких усилий [...] Но где же здесь образы?
Их совсем нет, — не только в смысле образов познавательных,
1 Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышен-
ного и прекрасного. М., 1979. С. 190.
2 Там же. С. 192.
3 Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 187—
188.
4 Там же. С. 96.
5 Гердер И. Г Критические леса, или Размышления, касающиеся науки о пре-
красном и искусства, по данным новейших исследований // Гердер И. Г. Избранные
соч. М.; Л., 1959. С. 160.
28
но и вообще — в смысле отдельных, конкретных представлений».
И далее, имея в виду медитативную лирику, ученый заключал:
«...чистая лирика (словесная) есть творчество, по существу своему
безобразное»1.
Действительно, художественный текст не всегда порождает в со-
знании читателя представление, т. е. «чувственно-наглядный образ
предметов и явлений действительности» (в отличие от восприятия,
представление возникает на основе припоминания, без воздействия
самих предметов на наши органы чувств). Не все художники слова
направляют на читателя такой каскад образов-представлений (зри-
тельных, слуховых, обонятельных, тактильных, моторных и др.),
как И. А. Бунин или В. В. Набоков, Ю. К. Олеша или И. Э. Бабель,
С. А. Есенин или Б. Л. Пастернак; не все и стремятся к такому стилю.
«Но есть ли необходимость выделять из повествования такую де-
таль, которая сама по себе есть произведение искусства и, конечно,
задерживает внимание помимо рассказа? — размышлял Олеша. —
Мы стоим перед вопросом, как вообще писать. В конце концов, рас-
сказ не есть развертывание серии эпитетов и красок... Есть удиви-
тельные рассказы, ничуть не наполненные красками и деталями»1 2.
Что же касается самого Олеши, то он открывает свою «лавку мета-
фор». Вот одно из его метафорических описаний: «...бабочки летят
на свет, — бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет
возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы»3.
А можно писать иначе: просто и лаконично, почти не выдавая
своего, авторского, присутствия. Так перелагал басни Эзопа Л. Тол-
стой для своих «Русских книг для чтения», опуская «мораль» (опыт-
ный педагог, он хотел, чтобы дети сами её вывели) и строго следя
за тем, чтобы в сюжет не проникли какие-либо «свободные» моти-
вы. У Толстого «нет даже эпитетов, характеризующих то или другое
действующее лицо [...]. Все басни начинаются не с характеристики
действующих лиц, не с описания обстановки, а с действия: “Галка
увидела, что голубей хорошо кормят”, “Поймал рыбак рыбку”, “Шли
по лесу два товарища” и т. д.»4. Преобладают сюжетные детали (при
редкости описательных и психологических) и прямые номинации,
почти совсем нет диалога. Толстой ориентируется на басенную тра-
дицию Эзопа и Лессинга, он хочет не столько развлечь детей, сколь-
ко возбудить их мысль.
К словесной пластике поэтическая образность не сводится.
1 Овсянико-Куликовский Д. Н. Теория поэзии и прозы (Теория словесности).
М. — Пг.: Госиздат, 1923. С. 29.
2 Олеша Ю. К. Из записных книжек (1954—1960) // Олеша Ю. К. Повести
и рассказы. М., 1965. С. 529.
3 Там же. С. 530, 532.
4 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1857 по 1881 г.
М., 1963. С. 63.
29
* * *
Литературу часто называют, вслед за М. Горьким, человековедени-
ем, а также художественной антропологией. Может быть, ни в чем
так резко не проявляется эта её суть, как в изображении вещей, яв-
лений природы, животных, если они выступают в качестве персона-
жей произведения. В баснях часто действуют персонажи-животные,
и эта аллегория никого не удивляет. В других жанрах животные
преображаются иначе. У Н. А. Заболоцкого есть стихотворение, где
лирический субъект восхищается «лицом коня», прекрасным и ум-
ным, и патетически восклицает: «Поистине достоин / Иметь язык
волшебный конь!» («Лицо коня»). Такое лицо у коня бывает только
ночью, когда его никто не видит; утром он становится «лошадью
в клетке из оглобель».
Произведениям, где заметная роль отведена живой и неживой
природе, вещам, часто свойственна «вторичная условность» стиля1,
в особенности использование аллегории и символа. Антропоцен-
тризм искусства диктует особый ракурс видения природы, вещей,
окружающих человека.
Отсюда вытекает необходимость типологии образов в произве-
дении. Л. И. Тимофеев иронически писал о литературоведческих
разборах: «Говорят [...] об образе “товарища маузера” (стихотво-
рение Маяковского “Левый марш”), об “образе парохода” (в стихот-
ворении Маяковского “Товарищу Нетте...”), об “образе кровати”
(на которой располагается Керенский в поэме Маяковского “Хоро-
шо!”) и т. д. Короче, изображение того или иного предмета, той или
иной вещи, природного явления и т. п. трактуется как “образ вещи”,
“образ природы”, “образ явления” и т. д. Эту терминологию нельзя
признать закономерной. В центре художественного изображения
стоит человек; изображение вещей и т. д. не имеет самостоятельно-
го художественного значения, оно необходимо для конкретизации
человека, определения того места и пространства, в котором он на-
ходится [...] Если на картине нарисован человек, сидящий за сто-
лом в кресле, то это не значит, что перед нами три самостоятельных
и равноправных образа: стола, человека и кресла»1 2.
Теоретик прав в том, что понятие «индивидуализированности
изображения» охватывает явления разнокачественные. Однако
трудно согласиться с ним, когда он отказывает «маузеру», «паро-
ходу», «кровати», «столу» и «креслу» в праве считаться образами.
Конечно, в искусстве вещи всегда «говорят» о человеке, а нерукот-
ворная природа с ним «ведет речь». Сами образы людей могут при
1 Термин «вторичная условность», обозначающий фантастику, т. е. нарочитое
нарушение правдоподобия (в отличие от условности как свойства искусства), был
предложен в книге А. Михайловой «О художественной условности» (М., 1970).
2 Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1971. С. 65.
30
этом отсутствовать, как в стихотворении Ф. Тютчева «Листья», или
быть «внесценическими», как в его же стихотворении «Cache-cache»
(франц.: игра в прятки), где о спрятавшейся девушке можно судить
по обстановке ее комнаты: «Вот арфа ее в обычайном углу, / Гвоз-
дики и розы стоят на столе...»
Воспроизведение любого явления, предмета, в его целостно-
сти, — это образ. «Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они
слова, / А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева!»
(В. Соколов. «Как я хочу...»). Д. Самойлов проникновенно пишет
о завидной судьбе поэта: «Стать туманом, птицей, звездою / Иль
в пути полосатой верстою / Суждено не любому из нас» («Смерть
поэта»). Опосредованно, через слово, литература передает богат-
ство форм, красок и звуков внешнего мира, остроту его чувствен-
ного восприятия человеком1.
В литературоведении есть термин персонаж, обозначающий
субъекта действия, переживания, высказывания: это человек или
другое одушевленное существо, и им может быть кто или что угод-
но: важны его действия. Как виды образа резонно различать образ
персонажа и образы неодушевленных вещей или природы. И услов-
ность искусства ярко проявляется в том, что персонажем может
быть не только человек, но животное, дерево, ветер, стол и т. д.
Становясь персонажем, любой предмет или явление природы об-
ретает человеческие (антропоморфные) качества. Вспомним плач
Ярославны в «Слове о полку Игореве», обращающейся к солнцу, ве-
тру и Днепру как к живым существам.
С другой стороны, в персонажную сферу произведения могут
не входить изображенные люди. Во власти писателя — показать
прекрасное «лицо коня» — и представить человека вещью, де-
талью интерьера или пейзажа. Например, у Гоголя: «В угольной
из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с са-
моваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар,
так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два само-
вара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою»
(«Мертвые души», т. 1, гл. 1). Здесь сбитенщик уподоблен самова-
ру, это не персонаж. В рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья» Ольга
Ивановна описывает Дымову предстоящее свадебное шествие как
красочную картину: «...понимаешь, роща, пение птиц, солнечные
пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом
фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов».
В этом описании «все мы» — деталь воображаемого пейзажа, на-
равне с «солнечными пятнами на траве».
Структуру образа определяет читатель, расширяя или, напротив,
сужая текстуальную базу интерпретации. В «Станционном смотри-
1 Подробнее см. главы «Природа», «Вещи».
31
теле» Пушкина картинки о блудном сыне в доме смотрителя можно
считать лишь характерной деталью интерьера, но более присталь-
ный взгляд обнаружит в них ключ к «психике действующего лица»,
Самсона Вырина1.
Наряду с образами персонажей, которыми в литературе мо-
гут быть не только люди и даже не только, по выражению Есени-
на, «братья наши меньшие» («Мы теперь уходим понемногу...»),
но и любые вещи, явления природы, в типологию образов следует
включить образ повествователя в эпике, предстающего перед чи-
тателем лишь как «повествующий голос» (У. Эко)1 2. Аналогом пове-
ствователя в эпике выступает в драме голос, которому принадлежит
неперсонажный, рамочный текст (заглавие, список действующих
лиц, описания мизансцен, ремарки и др.), в лирике — лирический
субъект. Выбор того или иного первичного субъекта речи во всех
родах литературы крайне важен: ведь он носитель определенной
«точки зрения», восходящей к автору или, напротив, чуждой ему
(как в стихотворении Н. А. Некрасова «Нравственный человек» или
в рассказе Чехова «Жена»).
Существуют исследовательские классификации лирических
субъектов (собственно автор, лирический герой, ролевой герой,
ролевой субъект и др.), а также повествователей (всеведущий пове-
ствователь, личный повествователь, рассказчик и др.)3, во многом
расходящиеся друг с другом. Первичные субъекты речи могут быть
одновременно персонажами (героями, действующими лицами) про-
изведения; таковы, например, лирический герой в стихотворении
А. А. Блока «В ресторане», рассказчик в «Жене» А. П. Чехова, личный
повествователь в «Записках охотника» И. С. Тургенева.
Первичные субъекты речи (не являющиеся одновременно пер-
сонажами), присутствующие в произведении только как голоса,
естественно объединяются в группу образов, определяющих субъ-
ектную организацию речи произведения. Но это специфические об-
разы, к которым подойдут слова В. А. Жуковского: «То были образы
без лиц...» («Шильонский узник»). О наиболее условном из них —
о «всеведущем» повествователе — выразительно писал Т. Манн в ро-
мане «Избранник»: «Так кто же звонит в колокола Рима? —Дух по-
вествования. Да неужто же может он быть повсюду [...]? — Еще как
может! Он невесом, бесплотен и вездесущ, этот дух, и нет для него
разлиния между “здесь” и “там”. Это ведь он говорит: «Все колокола
звонят», так, стало быть, он сам и звонит. Такой уж этот дух духов-
ный и такой абстрактный, что по правилам грамматики речь о нем
1 См.: Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 124—126.
2 Эко У. Записки на полях «Имени розы» / Пер. с ит. СПб.: Simposium, 2002.
С. 36—43.
3 См. главы «Эпика», «Лирика».
32
может идти только в третьем лице и сказать можно единственно:
“Это он”. И все же он волен сгуститься в лицо, а именно в первое,
и воплотиться в ком-то, кто говорит, и говорит от его лица: “Это
я. Я — дух повествования”...»1
Найти характерность «я» в том или ином первичном субъекте
речи — задача не из легких применительно к современной литера-
туре, особенно к эпическим жанрам, где автор часто сознательно
стремится к неопределенности, зыбкости границ между речью по-
вествователя и персонажей, широко вводит разноречие, использует
«гибридные конструкции» (термин М. М. Бахтина)1 2. Но сложность
задачи соответствует сложности «языка», стиля произведения.
гГ rf rf
К образам нередко относят тропы (метафору, метонимию, си-
некдоху), а также родственные им стилистические приемы, или,
как их называли в «риториках», фигуры «переосмысления» (сравне-
ние, гиперболу, литоту, словесную иронию, перифраз и др.). Одна-
ко иносказательные словосочетания суть стилистические приемы,
«переназвания» предметов, имеющих прямые номинации. «Белые
звездочки в буране» — это снежинки («Снег идет» Пастернака);
в предложении «Пчела за данью полевой / Летит из кельи воско-
вой» («Евгений Онегин», гл. 7, строфа I) речь идет о пчеле, летящей
из улья, а не о монахе, покидающем свою келью. Тропы высвечи-
вают те или иные грани, свойства предметов, тем самым участвуя
в создании образа как эстетического объекта. Но это не самостоя-
тельные образы: они не изменяют тему высказывания, оставаясь
за пределами мира произведения (объекта изображения).
Тропы привносят в предмет, воссоздаваемый с их помощью, не-
ожиданные, иногда трудно совместимые друг с другом ассоциации.
Так, в строках Пастернака из его стихотворения «Весна» метафоры,
сравнения, метонимии в совокупности создают образ звучащего
леса:
Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.
Характерен метонимический перифраз: птицы — пернатые гор-
тани. Пение птиц оказывается в одном ряду со стальным гладиа-
тором органа: в этом перифразе важно опять-таки слуховое (не зри-
тельное) представление. Вносит логическое основание в фейерверк
ассоциаций объект изображения — весенний лес.
1 Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. Т. 6. М., 1960. С. 8.
2 Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстети-
ки. М.: Худож. лит., 1975. С. 117.
33
Другой пример — из «Войны и мира» Толстого: «Маленькая кня-
гиня, как старая полковая лошадь, услышав звук трубы, бессозна-
тельно и забывая свое положение, готовилась к привычному галопу
кокетства...» (т. 1, ч. 3, гл. IV). Здесь «старая полковая лошадь» —
явная форма присутствия автора в тексте: ведь в мире произведе-
ния, в рамках данного эпизода, никакой лошади нет. Это ироничное
сравнение участвует в построении образа Лизы Болконской.
Речь (словесный строй) и предметный мир произведения суть
разные уровни художественной структуры; для общей теории об-
разов разграничение словесного и метасловесного (предметного)
уровней имеет принципиальное значение. Хотя понятия персонаж,
сюжет, пейзаж и т. д. привычны и общеупотребительны, вычлене-
ние родовой по отношению к ним категории «мир произведения»
стало последовательно проводиться сравнительно недавно1. Мир
произведения всегда условен, в нем есть свое время и простран-
ство, действующие лица и их окружение, и он сохраняет свойство
образности, даже если в речи много, по выражению Д. Н. Овсяни-
ко-Куликовского, безобразных слов. А. А. Потебня никогда не ото-
ждествлял образность слова, т. е. его «внутреннюю форму», или
ближайшее этимологическое значение (ср. лукавый — от слова лук,
т. е. не прямой), и образность произведения. Поэзия была для него
иносказанием в обширном смысле. Так, он включал художествен-
ные характеры и сюжет в состав образа: «События и характеры ро-
мана и т. п. мы относим не к содержанию, а к образу, представле-
нию содержания...»1 2
Есть иносказательность слова и есть иносказательность обра-
за. В широком смысле иносказателен и многозначен любой образ.
Однако «способ представления содержания» (Потебня) в образах
не одинаков. В отличие от реалистического романа, с его жизнепо-
добными персонажами, существуют жанры, тяготеющие к «вторич-
ной условности»: сказка, притча, басня и др.
В литературоведении нет четкости в определении статуса алле-
гории, а также родственного ей символа. В ряде учебников они рас-
сматриваются, при некоторых оговорках, в разделе о тропах3.
Однако, в отличие от тропов, т. е. использования переносных
значений слов, аллегория и символ — иносказательные образы,
«слагаемые» мира произведения. Это «не слова, а значащие эле-
менты мира (персонажи с их жестами или костюмами; предметы
1 См. главу «Мир произведения, его время и пространство».
2 Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М.: Искус-
ство, 1976. С. 175.
3 См.: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996.
С. 61; Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М.: Просвещение, 1971. С. 228.
34
с их свойствами и многие другие явления)»1. Назван один предмет,
но подразумевается или мыслится наряду с ним другой. Так, в бас-
не или нравоучительной сказке с животными-персонажами чита-
тель принимает аллегорию как одно из правил игры; Потебня писал
о «шахматных фигурах» басенных персонажей, «каждая из которых
имеет свой ход действий: конь ходит так-то, король и королева —
так-то...»1 2
Но аллегория-персонификация — орудие обоюдоострое: с одной
стороны, она способствует убедительности «морали»; с другой —
упрощает житейскую ситуацию, ведь мир людей неизмеримо слож-
нее. Замена персонажей-животных людьми (эксперимент, издавна
применявшийся теоретиками жанра) обнаруживает иллюзорность
доказательства, т. е. возможность разных развязок сюжетов. Так,
если бы в баснях Лафонтена или Крылова на сюжет о Волке и Яг-
ненке (восходящий к Эзопу) действовали люди, развязка могла быть
и мирной; более того, наглость «сильного» могла бы быть покарана
(к удовлетворению тех, кто, как Наполеон, считал эту басню гре-
шащей против нравственности: «Волк должен был бы подавиться,
пожирая ягненка»)3.
Специфика образа воздействует на восприятие читателя; не слу-
чайно басня из древнего риторического приема, использовавшегося
при решении серьезных общественных дел, постепенно становит-
ся жанром поэтическим, адресованным преимущественно детям4.
Однако полностью своей функции риторического приема басня
не утрачивает; не случайно ее так привечают педагоги и публици-
сты.
В 1870-е годы М. Е. Салтыков-Щедрин обратился к жанру, близ-
кому к басне, — к нравоучительной сказке «для детей изрядного
возраста», где широко использовал аллегорию. Однако его сказки
убеждали не всех. Так, по поводу «Карася-идеалиста» художник
И. Н. Крамской с горечью писал сатирику: «Тот порядок вещей, ко-
торый изображен в вашей сказке, выходит, в сущности, порядок —
нормальный. Там карась и щука. Две породы, положим, рыбьих,
но все же две породы; т. е. между ними не может быть никогда
сближения [...]. Но люди — дело другое... для человека не есть бес-
плодная химера заботиться об улучшении людских отношений, тог-
да как для карася заниматься идеальными построениями — дело,
очевидно, проигранное, и проигранное навсегда; кроме того, про-
1 Faryno J. Введение в литературоведение. 4. 2. Katovice, 1980. С. 101.
2 Потебня А. А. Из лекций по теории словесности // Потебня А. А. Теоретиче-
ская поэтика. М., 1990. С. 67. 8.
3 См.: Кеневич В. Библиографические и исторические примечания к басням
Крылова. СПб., 1868. С. 41.
4 См.: Гаспаров М. Л. Античная литературная басня (Федр и Бабрий). М.: Наука,
1971. Гл. 1.
35
игрыш карася никому не будет казаться ужасным, тогда как про-
игрыш идеалиста-человека ужасен безысходно»1.
Иначе воспринимается символический образ, сохраняющий в мире
произведения свое прямое значение и в то же время явно многознач-
ный. Образ моря в стихотворении Пушкина «К морю» — это и кон-
кретный пейзаж («...Ты катишь волны голубые...», «...Твои скалы,
твои заливы, / И блеск и тень, и говор волн»), и воплощение идей
свободы, вечного движения, могущества. В стихотворении Пастерна-
ка «Снег идет» падающий снег символизирует непрерывное движе-
ние времени, мысли, творчества: «Может быть, за годом год / Следу-
ют, как снег идет / Или как слова в поэме?» Эта иносказательность
не мешает читателю любоваться реальными приметами зимы: «белы-
ми звездочками в буране», «убеленным пешеходом» и т. д. Нередко
символическое значение образа раскрывается лишь при повторном
чтении и понимается читателями, критиками по-разному. И символы,
и аллегории могут создаваться без помощи тропов, они есть не толь-
ко в литературе, но и в других, несловесных, искусствах (живопись,
скульптура)1 2. Иносказательный смысл здесь имеют сами образы.
Итак, в литературном произведении можно выделить виды об-
разов, различающиеся по своей функции: это образ персонажа (об-
раз-персонаж), образ неодушевленного предмета (вещь, явление при-
роды, даже человек, если он предстает как часть обстановки), голос
(первичный субъект речи). Тропы же и другие фигуры «переосмыс-
ления» суть приемы, средства создания образов. При этом в совре-
менной стилистике они рассматриваются как такие же естественные
формы выражения мысли, как и слова, словосочетания, сохраняющие
прямое значение. Неразрывную связь языка с мышлением, постоян-
ную деятельность языка, в том числе постоянный процесс тропооб-
разования, подчеркивали ученые психологического направления
в лингвистике и литературоведении (В. Гумбольдт, Г. Штейнталь;
харьковская школа во главе с А. А. Потебней). «Троп — не та фор-
ма, в которую отливается готовая поэтическая мысль, но та форма,
в которой она рождается», — писал А. Г. Горнфельд (ученик Потеб-
ни) в начале XX в.3 Лежащие в основе тропов особенности, привычки
нашей мысли привлекают пристальное внимание современных фи-
лософов и психологов, также указывающих на органичность тропо-
образования: «...метафора пронизывает нашу повседневную жизнь,
причем не только язык, но и мышление и деятельность»4.
1 И. Н. Крамской: его жизнь и художественно-критические статьи. СПб., 1888.
С. 499.
2 См.: Faryno J. Указ. соч. С. 101—108.
3 Горнфельд А. Г. Троп // Вопросы теории и психологии творчества. Т. 1. Харь-
ков, 1811. С. 344.
4 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Пер. с англ. М.:
УРСС, 2004. С. 25.
36
* * *
Как отмечено выше, художественный текст как носитель образ-
ности неоднороден. На доминирующем фоне художественного изо-
бражения в нем могут встретиться внехудожественные рассуждения
(отступления) автора (их следует отличать от суждений персона-
жей). Таковы авторские отступления на философские, исторические
темы в «Войне и мире» Л. Н. Толстого, зачины в художественно-пу-
блицистических сочинениях (например, в очерке Г. И. Успенского
«Четверть лошади»). Авторские «неигровые» предисловия (помеща-
емые после заглавия произведения и, следовательно, входящие в его
рамочный текст) часто являются рассуждениями («Портрет Дориа-
на Грея» О. Уайльда, «Мелкий бес» Ф. Сологуба, поэма «Возмездие»
А. А. Блока): в них говорится о творческих принципах («Всякое
искусство совершенно бесполезно», — декларирует О. Уайльд), из-
бранном жанре, композиции, стихотворном размере и т. д. Словом,
писатели комментируют свои произведения, разрушая тем самым
художественную иллюзию.
Слог таких концептуальных предисловий обычно афористичен,
взвешен, слова строго отобраны. Белинский восхищался Предисло-
вием к «Герою нашего времени», которое ввел Лермонтов во второе
книжное издание романа (1841): «Какая сжатость, краткость и, вме-
сте с тем, многозначительность!.. Как образны и оригинальны его
фразы: каждая из них годится быть эпиграфом к большому сочи-
нению. Конечно, это “слог”, или мы не знаем, что такое “слог”...»1
И все же, при всей яркости и выразительности слога, расцвечен-
ного меткими эпитетами и сравнениями («Наша публика похожа
на провинциала...», «нужны горькие лекарства, едкие истины»),
лермонтовское «Предисловие», разъясняющее поэтику романа,
есть внехудожественный тип высказывания. В рамочный текст мо-
гут входить и авторские примечания, и послесловия, также изоби-
лующие рассуждениями (примечания к «Сатирам» А. Д. Кантемира,
поэме К. Ф. Рылеева «Войнаровский», роману В. Я. Брюсова «Алтарь
победы»; послесловия к пьесе Б. Шоу «Пигмалион», к роману У. Эко
«Имя розы» и др.).
В подходе к художественному произведению, по-видимому,
не оправданы две крайности: отказ от понятия «образ», мотивируе-
мый его недостаточной точностью и потому ненадежностью в каче-
стве инструмента анализа1 2, — и признание «сплошной» образности
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. Т. 5. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 455.
2 Понятие «образ» редко используют сторонники «точного» литературоведения.
Так, в 1919 г. В. М. Жирмунский строит новую поэтику, не прибегая к данному поня-
тию, поскольку в поэзии, как он считал, образ «является субъективным добавлением
воспринимающего к смыслу воспринимаемых им слов» (Жирмунский В. М. Задачи
поэтики // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука,
1977. С. 20). Псевдорешением проблемы представляется тенденция к отождествле-
37
текста. В последнем случае литературовед напоминает роялиста —
большего, чем сам король. Ведь для писателя сила воздействия его
произведения может быть важнее, чем сама по себе образность.
«...Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом
моя художественность», — признавался Достоевский, работая над
романом «Бесы»1.
Вопросы
1. Что означает слово «образ» в применении к художественной литера-
туре? Чем понятие как ступень научного мышления отличается от художе-
ственного образа? Назовите основные черты художественного образа.
2. Кому принадлежит следующее сравнение: «...об искусстве можно
утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ во всех точках
его поверхности в глаз, образующий вместилище души»?
3. Почему в процессе создания произведения, в основу сюжета которого
положено реальное событие, автор часто изменяет факты, например, приду-
мывает другую развязку конфликта? Приведите пример такого претворения
жизненного материала в художественный сюжет.
4. Что имеется в виду под экспрессивностью художественного образа?
5. Почему художественная образность создает предпосылки для раз-
личных интерпретаций произведения?
нию образа и слова (словосочетания), восходящая к концепции «точного литерату-
роведения» Б. И. Ярхо: «Единицами измерения служат слова (или неделимые сло-
восочетания), являющиеся носителями чувственных или эмоциональных образов,
как, например, “рожденный в добрый час” — для оптимистической концепции,
“любить” — для эротической, “скотина” — для диатрибы, и т. п.». (Ярхо Б. И. Мето-
дология точного литературоведения // Контекст 1983. Литературно-теорентические
исследования. М.: Наука, 1984. С. 224). Следуя такому методу, М. Л. Гаспаров на-
считывает в стихотворении А. Фета «Чудная картина...» восемь образов (по числу
существительных), в стихотворении «Шепот, робкое дыханье...» — двадцать четы-
ре. См.: Гаспаров М. Л. Фет безглагольный // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М.:
Новое литературное обозрение, 1995. С. 139—140.
1 Достоевский Ф. М. Письмо к Н. Н. Страхову от 24 марта 1870 г. // Поли. собр.
соч.: в 30 т. Т. 29. Кн. 1. Л.: Наука, 1986. С. 112.
Глава 2
ЗНАК И ОБРАЗ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОД
Рус.: знак, литературный код; англ.: sign, literary code; нем.: Zeichen,Kode
literarisch; фр.: signe, code litteraire.
Определение знака. — Семиотика как наука о знаковых системах. —
О структурно-семиотическом подходе к художественной литературе. — Гер-
меневтическая критика структурализма. — Литературный код и его функ-
ции. — Пародирование исчерпанного кода. — Знак и символический образ.
Любой знак есть совокупность означающего и означаемого (зна-
чения), своеобразный заменитель означаемого (предмета, явления,
свойства, процесса и др.), его чувственно-предметный представи-
тель, носитель некоей информации о нем. Так, мы слышим слова
«стул», «стол» и понимаем, о чем идет речь, хотя не видим в дан-
ный момент эти предметы. Здесь роль знака выполняют слова.
Или: видя на улице дорожные знаки, меняющиеся цвета светофо-
ра, мы также понимаем, что они означают. Пословица «Встречают
по одежке, а провожают по уму» свидетельствует о знаковой роли
одежды1. Функции знаков исполняют разные ритуалы, религиозные
обряды и другие праздники. Знаки повсеместны, они атрибут жиз-
ни людей, ибо в них и через них реализуется одна из человеческих
способностей целенаправленного проникновения в окружающую
действительность, приспособления к ней, ее познания, изменения;
наконец, знаки — средство общения между людьми. Мир знаков
непрерывно формируется и совершенствуется в практике человека,
упорядочивая ее.
В романе Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» (1726) главный
герой оказывается свидетелем деградации языковедов-лапутян —
членов академии, обходившихся без слов (по их представлени-
ям, произнесение слов изнашивает легкие и укорачивает жизнь)
и выражавших свои мысли с помощью соответствующих вещей,
заполнявших большие мешки, которые находились тут же. «В дей-
ствительности, — комментирует Ю. С. Маслов описание бесед ла-
путян, — обмен информацией в человеческом обществе строится
на другом, прямо противоположном принципе: адресату сообщения
1 Подробнее об этом см. главу “Вещи”.
39
предъявляются вовсе не предметы, о которых идет речь, не те или
иные “реальности”, служащие темой сообщения, а некие замести-
тели этих реальностей, представители их, замещающие в сознании
образ, представление или понятие, в частности, и тогда, когда са-
мих этих реальностей поблизости нет»1.
Самая распространенная (но не единственная) система связи
между людьми — человеческий язык (английский, французский,
русский и т. д.). Главное в знаке (слове или высказывании), то, без
чего нет знака, — не вещественность, а значение. Поэтому знак
определяют как неразрывное единство значения и его проявле-
ния. Значение — важнейшая категория семиотики (гр. semeion —
«знак»), науки о знаках и знаковых системах. Определить значение
непросто, учитывая его масштабность, многоаспектность и поли-
функциональность. Потребность изучения познавательной (гносео-
логической) функции знаков породила целое философское направ-
ление — неопозитивизм.
Однако язык не единственная знаковая система; по аналогии
с ним один из основателей семиотики швейцарский лингвист
Фердинанд де Соссюр (1857—1913) рассматривал другие способы
общения: «Язык есть система знаков, выражающих понятия, а сле-
довательно, его можно сравнивать с письменностью, с азбукой
для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтиво-
сти, с военными сигналами...»1 2 Другими словами, языковые знаки
не изолированы, хотя и составляют самую универсальную из зна-
ковых систем.
Рассматривая язык как знаковую систему, Соссюр подчеркнул
произвольность знака (ведь в разных языках один и тот же пред-
мет обозначается по-разному: ср. русское дерево и латинское arbor),
его функционирование в системе знаков, а также коллективность
и традиционность использования: «Мы говорим человек и собака,
потому что и до нас говорили человек и собака»3. Уточняя смысл
произвольности знака, Соссюр подчеркивает, что «означающее
не мотивировано, т. е. произвольно по отношению к данному озна-
чаемому, с которым у него нет никакой естественной связи»4.
Следует различать приметы природных процессов (например,
огонь как признак костра, пожара) и системы знаков, созданные
людьми для общения в самых различных ситуациях, т. е. выполняю-
щие коммуникативную функцию. Так, в «Орестее» Эсхила зажжен-
ные вдалеке огни для Клитемнестры — условленный знак падения
Трои и скорого возвращения Агамемнона. Знак «в собственном
1 Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1997. С. 24.
2 Соссюр де Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 54.
3 Там же. С. 107.
4 Там же. С. 101.
40
смысле имеет место лишь тогда, когда что-то (некое В) преднаме-
ренно ставится кем-то вместо чего-то другого (вместо А) с целью ин-
формировать кого-то об этом А»1.
Приведем пример произвольности знака из произведения
XIX в. — из баллады австрийского писателя М. Гартмана «Белое по-
крывало». Мать приговоренного к смертной казни венгерского гра-
фа, боровшегося за независимость своей страны, желая успокоить
сына перед казнью, обещала ему в день казни прийти с белым по-
крывалом. Оно будет означать: в последнюю минуту его помилуют.
Выйдя на площадь, где должна была состояться казнь, граф ищет
глазами мать:
Вперед, на площадь, он глядит.
Там на балконе мать стоит —
Спокойна, в покрывале белом.
И заиграло сердце в нем!
И к месту казни шагом смелым
Пошел он... с радостным лицом
Вступил на помост с палачом...
И ясен к петле поднимался...
И в самой петле — улыбался!
Зачем же в белом мать была?..
О, ложь святая!.. Так могла
Солгать лишь мать, полна боязнью,
Чтоб сын не дрогнул перед казнью!1 2
Предложенная матерью знаковая система, понятная ей и сыну,
сработала. Они могли, конечно, договориться и о других знаках,
но белый цвет традиционно несет положительные коннотации:
достаточно вспомнить финал средневекового рыцарского рома-
на «Тристан и Изольда»3. Однако белый цвет сулит хорошие вести
не у всех наций; так, в Китае цвет траура — белый4.
В балладе Гартмана о значении используемых знаков знали лишь
двое — мать и сын. Но вообще принятая в том или ином краю сим-
волика цвета хорошо известна его жителям. Закреплен в многове-
ковой практике также обычай дарить, в зависимости от ситуации,
женщинам и мужчинам разные цветы. И символика цветов, букетов
не одинакова в национальных культурах, она исторически меняет-
ся, что находит отражение в литературе5.
1 Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1997. С. 24.
2 Белое покрывало (Из Морица Гартмана). Пер М. И. Михайлова // Кубок. Бал-
лады, сказания, легенды. М., 1975. С. 150—152.
3 См.: Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде. М., 1985. С. 133—135.
4 См.: Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971. С. 7.
5 См.: Веселовский А. Н. Из поэтики розы (1898) // Веселовский А. Н. Из-
бранные статьи. Л., 1939. См. также современные работы: Шарафадина К. И.
«Алфавит Флоры» в образном языке литературы пушкинской эпохи. СПб., 2003;
41
Приметы (признаки) природных явлений (скажем, отклонения
температуры тела от нормы) информативны сами по себе, чем об-
ращают на себя внимание. Семантика слова «знак» обширная: не-
редко знаком именуют и имеющуюся на предмете метку, отличаю-
щую его от подобных предметов, и клеймо, и отпечатки, возникшие
вследствие чего-либо, и др. И хотя в обиходе такие явления нередко
называют знаками, с точки зрения семиотики они ими не являют-
ся. Скорее это сигналы, предупреждающие о каких-то последстви-
ях при определенных обстоятельствах. Сигнальные функции при-
родных явлений не делают сами явления знаками в семиотическом
смысле.
Красный цвет светофора имеет запретительное значение в знако-
вой системе, сотворенной человеком. Скорее всего такое значение
красного цвета «обосновано» его схожестью с цветом крови, нали-
чие которой на теле чаще всего свидетельствует о грозящей опас-
ности организму и служит сигналом (но не знаком!), предупреж-
дением о ней. Художественным примером того, как красный цвет
послужил сигналом, предупредившим катастрофу, может служить
рассказ В. М. Гаршина «Сигнал». Сторож железнодорожного пере-
езда замечает повреждение рельсов и, чтобы предупредить маши-
ниста пассажирского поезда об опасности, наносит себе серьезную
рану, пропитывает кровью платок и, навязав его на палку, исполь-
зует свой «красный флаг» как сигнал о необходимости остановить
поезд.
Понятие литературный код (далее: код) стало широко использо-
ваться в литературоведении (прежде всего французском) в 1950—
60-е годы в связи с развитием структурно-семиотического подхода
к произведению, с перенесением на художественную речь дихото-
мий языка и речи, синхронии и диахронии, выдвинутых еще Соссю-
ром. Текст произведения был уподоблен некому сообщению, или
конкретной реализации определенной знаковой системы, которую,
по аналогии с языками естественными и искусственными (морские
сигналы, дорожные знаки, жесты и др.), стали называть кодом.
Важнейшая функция кода — коммуникативная; поэтому условием
адекватного восприятия, или декодирования сообщения, являет-
ся знание этого кода адресатом. Соответственно, для закрепления
в памяти читателей различных кодов (например, жанровых правил
в литературе классицизма) необходимы повторения сообщений —
различных по конкретному содержанию, но использующих один
и тот же условленный язык. Так, гипотетическую первую басню сле-
дует назвать сообщением на естественном языке (представляющем
Шарафадина К. И., Таборисская Е. М. Жизнь культуры в универсуме слова. СПб.,
2011; Чернец Л. В. О языке цветов в лирике А. А. Блока // Филологические нау-
ки. 2004. № 6. С. 121—128; и др.
42
собой универсальную знаковую систему); закрепляется же литера-
турный басенный код (включающий систему аллегорий, сочетание
поучительного сюжета и «морали») в жанровой традиции.
Ролан Барт в своем разборе новеллы О. Бальзака «Сарразин» на-
зывает чтение «путешествием сквозь коды»1. Он обнаружил в этой
новелле сочетание нескольких кодов (важнейший из них — роман-
тический), считая их «определенными типами уже виденного, уже
читанного, уже деланного; код есть конкретная форма этого “уже”,
конституирующего всякое письмо»1 2.
•к п п
Остановимся кратко на некоторых понятиях семиотики в при-
менении их к художественной литературе. Как уже отмечено выше,
главное в знаке — его значение. Это значение знак имеет в рамках
определенной знаковой системы, из чего должен исходить интер-
претатор. Один из зачинателей семиотики — американский фило-
соф, математик, естествоиспытатель Чарльз Пирс (именно он ввел
термин семиотика, Ф. де Соссюр называл новую науку семиологией)
выделил несколько десятков типов знаков, в основном используе-
мых в научном познании. Развивая и систематизируя идеи Пирса,
Ч. У. Моррис в «Основаниях теории знаков» (1938) различает три
большие группы знаков: индексалъные, указывающие на конкрет-
ный объект (этот город, этот дом); характеризующие;универсаль-
ные (отвлекающиеся от конкретики и потому повсеместные: слова
«нечто», «сущность»). К знакам, характеризующим свой объект,
относятся иконические (англ, icon — икона; изображение, статуя,
портрет), в них означаемое имеет сходство с означаемым. В знаке
различают означающее и означаемое. Последним может быть дено-
тат — явление действительности, конкретный предмет (напри-
мер, слово «зеленый» имеет своим денотатом цвет травы) и/или
десигнат, иначе: концепт денотата (т. е. слово отсылает к поня-
тию о предмете: так, слово «зеленый» имеет своим десигнатом один
из цветов солнечного спектра — между голубым и желтым; несу-
ществующие предметы тоже имеют десигнат: например: русалки,
домовые)3. «Таким образом, становится ясно, что если десигнат есть
у каждого знака, то не у каждого знака есть денотат. Десигнат — это
не вещь, но род объекта или класс объектов...»4
В рамках определенной знаковой системы уясняются семантика
знака («отношение знака к значению, смыслу»); синтактика («от-
1 Барт Р. S/Z. Пер. с франц. М., 2001. С. 84.
2 Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Э. Избранные
работы. Семиотика. Поэтика. / Пер. с франц. М., 1986. С. 456.
3 См.: Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика / Сост., вступит,
ст. и общая ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983. С. 39—42.
4 Моррис Ч. У. Основания теории знаков. С. 41.
43
ношение знака к знаку»); прагматика («отношение знака к тому,
кто знаками пользуется, к человеку»1, к ценностям интерпретатора).
В терминах семиотики, художественный образ ближе всего
к иконическому знаку. Использование иконических знаков, по срав-
нению, скажем, с математическими формулами, делает произве-
дение искусства понятным многим. Но искусство, даже предельно
жизнеподобное, есть всегда условность, игра, имеющая свои «пра-
вила». По сравнению с фотографией или картой звездного неба ху-
дожественный образ — весьма своеобразный иконический знак.
Он не повторяет — пусть схематично — реальность, не «модели-
рует» ее (если понимать под моделированием строгое следование
структуре оригинала), он есть новая эстетическая реальность, хотя
и созданная на основе реальности первичной. Художественная це-
лостность образа, выступающего как эстетический объект, создает
немалые трудности для структурно-семиотического анализа: ведь
художественный образ многозначен и сопротивляется только одной
дешифровке.
fc rf rf
Методология структурализма на первых порах была сциентист-
ской и претендовала на точность результатов анализа текста, рас-
сматриваемого как реализация кода, т. е. знаковой системы; в рам-
ках этого кода каждый элемент имеет определенное значение.
Структуралисты стремились к созданию научной поэтики, учиты-
вая преимущественно опыт русской формальной школы и амери-
канского «нового критицизма». При этом возможное несовпадение
кодов автора и адресата на раннем этапе развития структурализма
не обсуждалось.
Однако исходная посылка о тождестве кодов коммуникантов про-
тиворечила мощной герменевтической традиции, подчеркивавшей
важность авторского замысла и «пред-рассудка», «пред-понимания»
читателя (М. Хайдеггер, Г. Г. Гадамер)1 2. Вариантом герменевтики
была и коннотативная семиология Р. Барта, выявлявшая «идеоло-
гию» письма3.
В отечественном литературоведении наиболее глубокая крити-
ка структуралистского игнорирования реального читателя дана
в работах М. М. Бахтина. Он исходил из концепции искусства как
диалога разных по своему мировидению субъектов. Один из важ-
нейших постулатов ученого — «включение слушателя (читателя, со-
зерцателя) в систему (структуру) произведения». Согласно Бахтину,
структуралистское понимание читателя (слушателя) как «зеркаль-
1 Моррис Ч. У. Основания теории знаков. С. 42—45.
2 См.: Гадамер Г. Истина и метод / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988. С. 317—324.
3 Барт Р. Нулевая степень письма / Пер. с франц. // Семиотика. М.: Радуга,
1983; Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с франц. М., 1989.
44
ного отражения автора, дублирующего его», упрощает процедуру
интерпретации, уподобляя ее расшифровке монологических тек-
стов. Такой читатель (слушатель) «не может иметь никакого избыт-
ка, определяемого другостью. Между автором и таким слушателем
не может быть никакого взаимодействия, никаких активных драма-
тических отношений, ведь это не голоса, а равные себе и друг другу
абстрактные понятия»1.
Иными словами, Бахтин признавал возможность различных ин-
терпретаций литературного произведения. Тем самым он продол-
жил традицию психологического направления в литературоведении
и лингвистике (В. Гумбольдт, А. А. Потебня, А. Г. Горнфельд и др.).
Приведем пример из «Капитанской дочки» Пушкина, на который
ссылался Потебня, доказывая возможность различных пониманий
художественного изображения:
«Когда Гринев, указывая на опасное положение Пугачева, советовал ему
образумиться, Пугачев "с каким-то диким вдохновением" рассказал ему сказку,
слышанную им в детстве от старой калмычки:
"Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего ты
живешь на свете триста лет, а я всего-на-все только тридцать три года? —
Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь
мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо.
Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели.
Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул
крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью,
лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!"»1 2
Система ценностей читателя, вообще его «другость», как выра-
зился Бахтин, не рассматривалась структуралистами специально.
Помимо «другости» современников, Бахтин указывал также на но-
вые прочтения произведения в будущем: «Каждый образ нужно
понять и оценить на уровне большого времени»3. Структуралист-
ская же методология на ранних этапах была сциентистской и пре-
тендовала на точность результата анализа текста, рассматриваемого
как реализация кода, т. е. иерархической структуры, расчленяемой
на уровни и элементы.
Учитывая герменевтическую критику структурализма, Ю. М. Лот-
ман, лидер Тартуско-Московской школы, интенсивно разрабатывав-
1 Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика
словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 388.
2 Потебня А. А. Из лекций по теории словесности // Потебня А. А. Эстетика
и поэтика. М., 1976. С. 469.
3 Там же. С. 390.
45
шей структуралистские принципы анализа художественного текста,
отмечает в своих работах 1970-х годов не только коммуникативную
функцию кода, используемого писателем. Более того: он оговарива-
ется, что данную функцию лучше всего выполняют искусственные
языки: «для полной гарантии адекватности переданного и полу-
ченного сообщения необходим искусственный (упрощенный) язык
и искусственно-упрощенные коммуниканты: со строго ограничен-
ным объемом памяти и полным вычеркиванием из семиотической
личности ее культурного багажа»1.
Основное внимание ученый теперь уделяет другим функциям
литературных кодов, или, в его терминологии, вторичных по отно-
шению к естественному языку моделирующих систем. Это функции
«конденсатора культурной памяти» и «генератора новых смыслов»1 2.
Для понимания произведений, удаленных от читателя во време-
ни и пространстве, особенно важна функция кода как хранителя па-
мяти культуры. Соответственно, задачей ученого (комментатора,
интерпретатора текста) является уяснение семантики, а также син-
тактики и прагматики текста. Это работа кропотливая, требующая
многих знаний. Необходимо, например, при анализе произведений
отдаленной эпохи изучить систему ее жанров, принятые тогда зна-
чения аллегорий, семиотику портрета, пейзажа и пр. Литературо-
вед, комментирующий такие произведения, может быть уподоблен
переводчику-полиглоту, эрудиту, использующему нужный код, кото-
рый выступает как ограничитель интерпретации.
Например, при чтении первой песни «Ада» в «Божественной ко-
медии» Данте (1313—1321) необходимо знать устойчивые символы
и аллегории, свойственные средневековой культуре. Выход героя
из «сумрачного», «дикого» леса, приближение к холму и восхожде-
ние на него — это путь из «леса» грехов и заблуждений к «спаси-
тельному холму, озаряемому солнцем истины», восхождению героя
на холм препятствуют три зверя: рысь — сладострастие, лев — гор-
дость, волчица — корыстолюбие и т. д.3
Читая роман о Тристане и Изольде, нужно знать традиционную
символику многих образов. Так, золотой волос Изольды, который
«ласточки обронили во дворце короля Марка», предсказывают
смерть героини. Такая же «весть судьбы» послана в ирландской
саге Кухулину: ему «являются ласточки, соединенные искусно
сплетенной звенящей серебряной цепочкой». Другое предсказание
о Стране Блаженства (т. е. стране смерти) — подаренная Триста-
1 Лотман Ю. М. Текст как смыслопорождающее устройство // Лот-
ман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1999. С. 14.
2 Там же. С. 21.
3 См.: Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М. Лозинского // Данте
Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 79; там же см. приме-
чания (с. 546).
46
ном Изольде «собачка Пти-Крю с волшебным бубенцом, тихий звон
которого утолял все печали»1. В совокупности названные знаки от-
сылают к мифологии древних кельтов. И в литературе Нового вре-
мени нередко присутствует старинная символика, напоминающая
о мифологической колыбели культуры. Так, в пьесе Г. Ибсена «Рос-
мерсхольм» (1886) самоубийство Росмера и Ребекки предсказано
появлением «белых коней»1 2.
Декодирование художественных текстов — важнейшая задача
комментария, помогающего читателю понять культуру прошлого,
инонациональные традиции. «Я понять тебя хочу, темный твой
язык учу» — эти пушкинские строки в редакции В. А. Жуковского
избирает Бахтин в качестве эпиграфа к главе «Площадное слово Ра-
бле» в своей книге о французском классике, в творчестве которого
его особенно интересовала карнавальная традиция3 (что ему стави-
ли в вину оппоненты4).
В ходе анализа важно помнить о не присутствующих в данном
тексте, но подразумеваемых элементах кода. Например, «идеаль-
ный» пейзаж, или locus amoenus (т. е. приятное, восхитительное ме-
сто), введенный в античную литературу Феокритом, в своем полном
виде состоит из пяти элементов: «1) мягкий ветерок, овевающий, не-
жащий, доносящий приятные запахи; 2) вечный источник, прохлад-
ный ручеек, утоляющий жажду; 3) цветы, широким ковром устила-
ющие землю; 4) деревья, раскинувшиеся широким шатром, дающие
тень; 5) птицы, поющие на ветках»5. Идеальный пейзаж, особенно
в позднейшей литературе, может быть представлен и одним элемен-
том, остальное домысливается читателем: «Только в мире и есть,
что тенистый / Дремлющих кленов шатер...» (А. А. Фет).
Другая функция литературного кода, по Ю. М. Лотману, — быть
«генератором смысла»: ведь писатель в процессе создания произве-
дения ведет мысленный диалог не только с читателем, но и с самим
собой. В процессе автокоммуникации он создает свой, авторский
код. «...Всякое новаторское художественное произведение является
sui generis произведением на неизвестном аудитории языке, кото-
рый еще должен быть реконструирован и усвоен адресатами. Воз-
можность такого самообучения адресата обуславливается тем, что
1 Малиновская Н. «Голуби встреч и корабли разлук» // Бедье Ж. Роман о Три-
стане и Изольде. М., 1985. С. 8—9.
2 См.: Ибсен Г. Росмерсхольм // Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. М.: Искусство, 1957.
С. 744, 810.
3 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья
и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1865. С. 157.
4 См.: Паньков Н. А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина.
М.: Изд-во Моск, ун-та, 2009. С. 73—90.
5 Эпштейн М. Н. Природа, мир, тайник вселенной... Система пейзажных об-
разов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990. С. 131.
47
в любом, даже предельно индивидуализированном языке, не всё
индивидуально: неизбежно наличествуют уровни, общие для обо-
их частников коммуникации, служащие базой для реконструкции.
Во-вторых, это индивидуальное и новое неизбежно стоит на опреде-
ленной традиции, память о которой актуализована в тексте. Нако-
нец, язык искусства неизбежно гетерогенен и, предельно удаляясь
от полюса мета- и искусственных языков, он — парадоксально —
обязательно включает элементы рефлексии над собой, т. е. метая-
зыковые структуры <... > Текст сознательно превращается в урок
языка»1. Например, такой «урок» ведет Пушкин на многих страни-
цах «Евгения Онегина».
Иначе говоря, писатель создает авторский код (сплетенный
в тексте с другими, неавторскими) который может пополнить кла-
довую кодов культуры, стать, по выражению Р. Барта, «уже виден-
ным, уже читанным, уже деланным».
Однако далеко не все писатели создают свои коды. В литерату-
роведении утвердилась аксиологическая шкала, согласно которой
наряду с классикой, в особенности начиная с эпохи романтизма,
различают беллетристику и, далее, массовую продукцию, так на-
зываемый эстетический низ1 2 (оговоримся, что границы между
выделенными рядами не жесткие, и они исторически подвижны).
Важнейший признак классического творения — творческая ориги-
нальность, наличие авторского кода, прослеживаемого на разных
уровнях художественной структуры.
rf rf гГ
Каковы же возможности структурно-семиотического подхода
к произведению, насколько плодотворно применение здесь поня-
тия «знак»? Ведь у каждого научного метода свой предел возмож-
ностей. Вследствие, по выражению М. М. Бахтина, «другости» чи-
тателя (критика, литературоведа) распознавание используемых
в произведении «языков» культуры, в частности систем условно-
стей, свойственных различным литературным направлениям, жан-
рам и стилям, вряд ли приведет к некому единому пониманию ху-
дожественного текста.
Но от заведомо ложных толкований оно может и должно предо-
стеречь! Ведь выявление кодов в произведении — условие интер-
претации, прежде всего ее ограничитель. Знание кодов, используе-
мых в средневековой литературе и в настоящее время забытых или
полузабытых, позволяет глубже понять смысл тех или иных дета-
лей, эпизодов, произведения в целом. Для понимания таких произ-
ведений особенно важна функция кода как памяти культуры.
1 Лотман Ю. М. Текст как смыслопорождающее устройство. С. 18—19.
2 См. главу «Массовая литература».
48
Однако и хронологически более близкая к современному читате-
лю литература имеет свои коды. Так, по сравнению с «Народными
рассказами» Толстого (поэтика которых не так проста, как может
показаться) гораздо большие споры вызывали и вызывают его ро-
маны, в которых современники отчетливо видели традиции и сен-
тиментального письма, и «несносных мух натуральной школы»1,
и многое другое. Распознавание этих кодов ограничивает субъек-
тивность интерпретатора.
Вопреки известным словам В. В. Маяковского, не вся поэзия —
«езда в незнаемое» («Разговор с фининспектором о поэзии»). Само
понятие литературного кода (системы узнаваемых читателем зна-
ков) возникло на основе традиционности использования авторами
тех или иных сюжетных ходов, типов персонажей, приемов компо-
зиции, стилистических фигур и пр. К тексту произведения, изуча-
емого в литературном контексте, применимы измерения, предла-
гаемые общей семиотикой: уяснение применяемых в нем кодов,
а именно: семантики того или иного знака, его синтактики и праг-
матики.
Так, при изображении романтического героя в русской литера-
туре первой трети XIX в. обычно упоминается о его бледности. «Се-
мантику» этого знака разъясняет В. А. Жуковский (баллада «Алина
и Альсим», 1814), описывая своего романтического героя (Аль-
сима) :
Блистала красота младая
В его чертах;
Но бледен; борода густая,
Печаль в глазах.
Мила для глаза живость цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей1 2.
Традиционность в системе романтизма данного знака подтверж-
дается многими примерами. В повести А. С. Пушкина «Барыш-
ня-крестьянка» Лиза Муромская, воспитанная на литературе ро-
мантизма, уверена, что у Алексея Берестова «лицо бледное». Она
расспрашивает Настю:
«— Ну, что ж? Правда ли, что он так хорош собой?
— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий,
румянец во всю щеку...
— Право? А я так думала, что у него лицо бледное».
1 Леонтьев К. Н. Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого (Крити-
ческий этюд) // Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 223.
2 Русская поэзия XIX века: в 2 т. Т. 1. М., 1974. С. 62.
49
Продолжение же диалога Лизы и Насти подчеркивает, что один
знак связан с другим, т. е. вводит в «синтактику» знаков романти-
ческого героя:
«— <.. .> Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?
— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами
в горелки бегать.
— С вами в горелки бегать! Невозможно!»
«Бледное лицо» и печаль, задумчивость в сознании Лизы — обя-
зательные приметы романтического героя, черты внешности и по-
ведения взаимосвязаны и в совокупности высоко оцениваются геро-
иней (такова «прагматика» этих знаков для нее как ценительницы
романтизма). И в других произведениях — романтических или
использующих романтические мотивы — перед нами предстают
бледные (а не внезапно побледневшие) герой и героиня, бледность
лица — постоянное свойство, атрибут романтического портрета.
Так, в «Метели» Пушкина Марья Гавриловна — «стройная, бледная
и семнадцатилетняя девица», а искатель ее руки — «раненый гусар-
ский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной блед-
ностию, как говорили тамошние барышни»1. И бледность, и таин-
ственная погруженность в себя выделяют героя (героиню) в толпе
обычных молодых людей и барышень.
Показателем исчерпанности того или иного литературного кода
является, в частности, усиленное внимание к нему пародистов, в осо-
бенности появление жанровых и стилевых пародий. Так, Новый поэт
(псевдоним, или сатирическая маска И. И. Панаева) пишет пародию
на «Дневник девушки» Е. П. Ростопчиной, начинающуюся словами:
«Он бледен был. Она была бледна»1 2. А за «бледностью» следуют в его
пародии «странная улыбка», «печаль», «глубокий взгляд» — словом,
привычные знаки страдания романтической героини.
Приведем еще один пример — пародию А. А. Архангельско-
го «Портрет героя» на примелькавшееся изображение труженика
в ранней советской литературе:
Седины почетной иней
Серебрится на виске.
Наш герой — в рубашке синей,
В черном скромном пиджаке.
В сапогах, в помятой кепке
На особенный покрой.
Скроен ладно, прочно, крепко.
Сразу скажешь: — Вот герой!
Лоб велик и необычен,
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 5. М., 1960. С. 103, 63.
2 Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). Л., 1960. С. 483.
50
Подбородок энергичен,
Грудь стальная,
Взгляд стальной!
(Коль на прочие детали
У тебя не хватит стали,
Матерьял бери иной,
И в своем трактате длинном
Снова силу обретешь.
Мажь героя «Мозолином» —
«Грудь в мозолях, руки тож».)1
Знаковые системы, их многообразие, смена в художественной
литературе — процесс постоянный и неизбежный. Можно условно
разграничить два важнейших источника знаков. Во-первых, в зер-
кале литературы отражаются знаки, функционирующие в других
сферах культуры: в мифологии, религии, политике и т. д. В «Евгении
Онегине» Пушкина Татьяна видит «страшный сон» — очень русский
(в отличие от ее французского письма Онегину); как комментирует
Ю. М. Лотман, это «органический сплав сказочных и песенных об-
разов с представлениями, проникшими из святочного и свадебного
обрядов»1 2. Для расшифровки символов, сюжетных мотивов сна Та-
тьяны (переправа через реку, медведь как знаки близкой свадьбы
и др.) необходимо знание народной мифологии и быта.
Во-вторых, это элементы собственно поэтического «языка», об-
новление которого не означает забвения старых знаков. В пуш-
кинском романе Онегин и Ленский обмениваются друг с другом
литературными сравнениями: Онегин называет Ольгу Филлидой
(«Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль / Увидеть мне Филлиду эту...»),
а Ленский Татьяну — Светланой. Филлида — традиционное имя
героини эклоги (пасторали), оно упомянуто в «Поэтическом ис-
кусстве» Н. Буало — манифесте французского классицизма: «Ракан
своих Филид и пастушков поет...»3 Светлана же — героиня извест-
ной баллады Жуковского. Таким образом, и Онегин, и Ленский сво-
бодно владеют «языками» эклоги и баллады. Используемые знаки
способствуют емкости, лаконичности изображения.
Степень насыщенности знаками, интенсивность семиозиса раз-
нятся по стадиям литературного развития, направлениям, жанрам
и т. д. Особое место здесь принадлежит средневековой литературе,
которую Д. С. Лихачев называет «искусством знака»4. Глубокое по-
нимание художественной литературы, как и культуры в целом, тре-
1 Архангельский А. А. Избранное. Пародии, эпиграммы, сатира. М., 1946. С. 178.
2 Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.,
1983. С. 266. См. также: Савельева В. В. Сон Татьяны в художественной гипнологии
Пушкина // В. В. Савельева. Художественная гипнология и онейропоэтика русских
писателей. Алматы, 2016. С. 86—127.
3 Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 56.
4 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 73.
51
бует досконального знания тонкостей ее знаковости, ее бережной
и тщательной дешифровки специалистами-филологами.
Наконец, нельзя не сказать о соотношении знака и символа. Вся-
кий символ включает в себя знаки. Основное различие между сим-
волом и знаком в том, что в самой конструкции символа заложена
идея символизируемого предмета (явления), которая и определяет
само построение символа и логику его интерпретации. Символ го-
раздо содержательнее знака. Его содержательность тем больше, чем
больше его многозначность.
Еще одна особенность символа, отличающая его от знака —
«не символа», в том, что символ не до конца произволен, в нем всег-
да есть какие-то связи между означающим и означаемым. На это
обращал внимание еще Соссюр.
В символе отражаются несколько знаковых систем, замещаются
несколько срезов действительности. По своей сути символ являет
собой место встречи (пересечений) этих нескольких знаковых си-
стем, отсюда его многозначность, диалогическая природа его ин-
терпретации. Потому символ своим строением, своей структурой,
всей совокупностью отраженных в нем частностей действительно-
сти дает целостное представление о символизируемой действитель-
ности, ее образ. Короче говоря, символ — всегда образ, но не всегда
художественный образ. Грань между ними провести не так-то про-
сто. Если образ как таковой ассоциируется с целостностью, много-
сторонностью представления о предмете, то художественный об-
раз — это мастерски выписанная предметность, это идейность, т. е.
наличие идеи (идей), заложенной в предметности, по логике кото-
рой и созидается сама предметность; в каждой детали, не говоря
уже о целостности предмета изображения (т. е. в его единичности)
проступает типическое (общее).
Таким художественным образом предстает памятник Петру I
скульптора Э. М. Фальконе. Он «замещает», символизирует, оли-
цетворяет не только императора, «поднявшего на дыбы» Россию,
но и целую эпоху — устремленность главы государства и всей стра-
ны в будущее, его неудержимость переданы в волевом взгляде, го-
рящих глазах, в вытянутой вперед руке, указующей направление
движения, в позе его лошади, попирающей копытами змею и др.
Детали памятника — «говорящие», знаковые, пронизанные мыс-
лью. Памятник — образ, допускающий разное, диалогическое тол-
кование. В нем нет никакой произвольности. Лосев справедливо
обращает внимание на то, что художественный образ — «это авто-
номно-созерцательная ценность»1.
1 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство,
1976. С. 142.
52
Иными словами, порождаемые художественным образом идеи
выводят сознание субъекта далеко за рамки предмета восприятия
(памятника, картины, литературного произведения и др.), ибо худо-
жественный образ всегда нагружен историческими, философскими,
социальными, религиозными и др. ассоциациями1.
Вопросы
1. Какие черты слова как знака выделял Ф. Соссюр? Почему важно
разграничение синхронического и диахронического подходов к языку как
системе знаков? Назовите другие знаковые системы.
2. Что имеется в виду под семантикой знака, его синтактикой и праг-
матикой в рамках определенной знаковой системы?
3. Представителей герменевтической традиции в литературоведении
не удовлетворяло структуралистское понимание читателя. Почему?
4. Приведите пример, когда знание литературного «кода» способствует
точности интерпретации, предохраняет от ложных толкований.
1 Подробнее об этом см. гл. «Художественный образ. Виды образа».
Глава 3
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ЕГО ВИДЫ
Рус.: эстетическое; англ.: aesthetic; нем.: Asthetische; фр.: I’esthetique.
Представления о красоте в античности. — Эстетическое как субъект-объ-
ектное отношение. — Структура эстетического. Эстетика Канта как новый
этап в эстетике.—Модусы эстетического. Прекрасное. Возвышенное. Трактат
Псевдо-Лонгина. — Героическое. — Трагическое и комическое. — Сатира
и юмор.
Эстетическое и его виды (категории) непосредственно относятся
к художественной литературе как искусству слова, имеющему эсте-
тическое измерение. Понятие «эстетика» (греч., в латинской транс-
крипции «aesthetica» — чувственно воспринимаемое, относящееся
к чувственности) в научный оборот ввел в 1735 г. немецкий фило-
соф А. Баумгартен для обозначения философской науки о чувствен-
ном познании, отличающемся от познания рационального. «Цель
эстетики <... > — совершенство чувственного познания, как тако-
вое. Совершенство же это — красота»1. В предмет изучения эсте-
тики входит художественное творчество, искусство, поскольку оно
воздействует на чувства.
В сущности этими же проблемами занимались еще в Древней
Греции. Из 7 в. до н. э. до нас дошли слова афинского политического
деятеля и поэта Солона: «прекрасное — трудно»1 2, уже тогда ставшие
пословицей. Человека всегда отличал интерес к красоте, гармонии
окружающего мира, окружающих его вещей. Показателен в этом
отношении диалог Платона (427—347 гг. до н. э.) «Гиппий Боль-
ший», в котором Сократ и софист Гиппий3 рассуждают о прекрас-
ном как принципе жизнеустроения, выводя саму проблему за рамки
мифологических представлений о красоте как божественном даре.
В контексте мифологического мировоззрения красота — объек-
тивная характеристика творения богов — Космоса. Она «разлита»
1 Цит. по: Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М.: Искусство, 1962. С. 15.
2 См.: Платон. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М., 1990. С. 781.
3 В Древней Греции софистами называли людей, авторитетных в разъяснении
и решении жизненных проблем, отличавшихся к тому же красноречием. Гиппий
(вторая половина 5 в. до н. э.) — один из них.
54
в нем подобно тому, как в известном стихотворении Ф. И. Тютчева
«Весенняя гроза» (1829) богиня юности Геба «громокипящий кубок
с неба, / Смеясь, на землю пролила»1.
А в стихотворении Г. Р. Державина «Рождение красоты» (1797)
отражено содержание мифа, рассказывающего о сотворении Зевсом
Красоты:
...Ввил в власы пески златые,
Пламя — в щеки и уста,
Небо — в очи голубые,
Пену — в грудь, — и Красота
Вмиг из волн морских родилась,
А взглянула лишь она,
Тотчас буря укротилась,
И настала тишина1 2.
В диалоге Платона «Гиппий Больший» поиск определения красо-
ты ведется на теоретическом уровне. Сократу удается убедить Гип-
пия в том, что прекрасное нельзя свести к отдельным предметам,
живым существам или явлениям: прекрасными могут быть и девуш-
ка, и лира, и петух, и горшок или любой другой сосуд; прекрасное
может быть сделано из золота, из слоновой кости, из камня и т. д.;
прекрасными могут быть и звуки, и речи, и разные занятия (му-
зыкой, ваянием, спортом). Обсуждается и вопрос об относительно-
сти прекрасного. Сократ напоминает Гиппию изречение Гераклита
Эфесского: «Из обезьян прекраснейшая безобразна, если сравнить
ее с человеческим родом»3. Логика рассуждений Сократа и Гип-
пия приводит их к мысли о необходимости рассматривать красоту
не изолированно, а в системе других категорий, отражающих раз-
ные формы бытия материального мира. Наконец, собеседники за-
даются едва ли не главным вопросом эстетики: что делает предметы
прекрасными? И оба признаются, что ответа не нашли, но поиски
определения прекрасного следует продолжать. Вытекающий из диа-
лога вывод о том, что едва ли возможно вербально определить кра-
соту, соответствует и современным представлениям.
Вся история эстетики, начиная с античности и до наших дней,
свидетельствует о том, что поиски дефиниций прекрасного, красо-
ты, самого предмета эстетики растянулись на века. «Трудность по-
нимания эстетических категорий, — пишет современный исследо-
ватель, — в том, что в них фиксируются не только определенные
стороны, связи, закономерности, свойства действительности, искус-
1 Тютчев Ф. И. Лирика: в 2 т. T. 1. М.: Наука, 1965. С. 12.
2 Державин Г. Р. Сочинения. М.: Правда, 1985. С. 191.
3 Платон. Собр. соч.: в 4 т. T. 1. М., 1990. С. 395. Гераклит из Эфеса — древне-
греческий философ, материалист.
55
ства, человеческой практики, образа жизни людей и т. д., но и от-
ношение к ним, их оценка»1.
В заглавие данной главы понятие «эстетическое» вынесено
не случайно. Это родовое понятие, вбирающее в себя все основные
категории эстетики: прекрасное, возвышенное, комическое, трагиче-
ское, называемые обычно модусами эстетического, или способами
его существования. Слово «эстетическое» используется и как при-
лагательное, и как существительное. В первом случае эстетическое
означает всё, что относится к эстетике; можно говорить об эстети-
ческом сознании, эстетическом интересе, эстетической оценке, на-
конец, об эстетических категориях, множество которых составляет
систему.
Как существительное (т. н. субстантиват) понятие «эстетическое»
в сегодняшней науке — основная, фундаментальная категория,
предмет эстетики. Имея в виду гигантский объем содержания этого
понятия, вмещающего в себя все категории эстетики, В. В. Бычков
называет «эстетическое» метакатегорией эстетики (греч. meta —
через, после, за)1 2. Она охватывает собой все типы субъект-объект-
ных отношений, порождающих во внутреннем мире субъекта опре-
деленные эстетические переживания; иначе говоря, эстетические
переживания в субъекте возникают при наличии некого чувствен-
но воспринимаемого объекта.
Как и другие формы общественного сознания (мораль, право
и др.), эстетическое сознание исторически изменяется, развивается;
оно существенно различается в зависимости от природных условий
жизни людей, стадии развития общества, в разных его классах и пр.
В то же время эстетическая оценка субъективна, зависит от лично-
сти воспринимающего субъекта.
Эстетическое — это особое качество любого предмета и явления;
природа этого качества не физическая и не биологическая (среди
наших органов чувств нет специфического органа, анализирующе-
го эстетическое), оно, как говорят философы, идеальное. Его суть
в том, что данный предмет рассматривается не просто как объек-
тивно существующий, но как обладающий эстетическим бытием,
что означает: данный предмет (объект) может вызывать в субъекте
(в человеке) определенные переживания. Эстетическое качество
предмета рождается в сознании человека, где оно «выпадает в оса-
док» в форме ощущения прекрасного (это нам нравится, доставляет
наслаждение).
1 Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Высшая школа, 1984. С. 7.
2 См.: Бычков В. В. Эстетика. Краткий курс. М.: Проект, 2003. С. 66.
56
Однако не всякое удовольствие можно относить к разряду
эстетических. Разве не доставляет нам удовольствие, к примеру,
вкусная еда? У англичан есть пословица: тестирование (проверка)
пудинга есть сам процесс его поедания (the Proof of the Pudding
is in the eating). Но это процесс получения исключительно чув-
ственного удовольствия. Удовольствие эстетическое — двойствен-
ное, оно носит духовно-чувственный характер. Оно замечается
внутренним, духовным зрением как своего рода эпифеномен (греч.
epiphainomenon — придаток к феномену, явлению, нечто сопут-
ствующее ему). Граница между удовольствием чувственным (т. е.
только чувственным) и эстетическим весьма тонкая. В конечном
счёте эта граница определяет меру, степень чувственного и эсте-
тического развития индивида. Это особенно заметно на примере
восприятия музыки — «искусства чувства, которое непосредствен-
но обращается к самому чувству»1. В отличие от других искусств
в музыке нет различия между объективным содержанием произве-
дения и субъектами (зрителями). Как подчеркивает Гегель, в му-
зыке нет «пространственно пребывающей объективности»: она
сама «сохраняется лишь внутренним субъективным миром» и «су-
ществует только для субъективности внутренней жизни»1 2, которая
у всех людей своя.
Чувство эстетического удовольствия может вызывать изображе-
ние уродливого, безобразного. Об этом знали еще в античности.
В частности, в трактате «Поэтика» Аристотель писал: «...На что нам
неприятно смотреть [в действительности], на то мы с удовольстви-
ем смотрим в самых точных изображениях, например на облики
гнуснейших животных и на трупы»3. Здесь оценивается, по Ари-
стотелю, сама способность к подражанию (мимесису), или, говоря
современным языком, к художественному изображению. Читаем
дальше Аристотеля: «...И вот, так как подражание свойственно нам
по природе [не менее, чем] гармония и ритм (а что метры — это
частные случаи ритмов, видно всякому), то с самого начала ода-
ренные люди, постепенно развивая [свои способности], породили
из своих импровизаций... поэзию»4.
В истории эстетики эта мысль получит развитие у А. Баумгарте-
на, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля и др. Ярким примером различия между
безобразным как предметом изображения и прекрасным изображе-
нием этого безобразного, вызывающим эстетическое чувство удо-
вольствия, может служить сцена знакомства Чичикова с помещи-
ком Плюшкиным в романе «Мертвые души» Гоголя:
1 Гегель Г В. Ф. Сочинения. T. 14. Лекции по эстетике. Кн. 3. М.: 1958. С. 97.
2 Там же. С. 97
3 Аристотель. Сочинения: в 4 т. T. 4. М.: Мысль, 1984. С. 648.
4 Тамже. С. 649.
57
«У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая
начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распоз-
нать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совер-
шенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове кол-
пак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался
ему несколько сиплым для женщины. "Ой, баба!"— подумал он про себя
и тут же прибавил: Ой, нет! —"Конечно, баба!"— наконец сказал он, рассмо-
трев попристальнее. ..<...> — Послушай, матушка, — что барин? <.. .> — Что,
батюшка, слепы-то, что ли? — сказал ключник. — Эхва! А вить хозяин-то я!»1
В формировании эстетического участвуют, как отмечено выше,
и объективно существующая реальность, и реагирующий на нее об-
щественный по своей сущности человек, при анализе эстетическо-
го чувства всегда имеются в виду объект-субъектные отношения.
Рассмотрим самый простой пример. Мы воспринимаем яблоко как
плод определенной формы, размера, цвета, как источник приятного
запаха. А в чем же проявляется его эстетическое качество? И оказы-
вается, что на столь простой вопрос не так просто ответить, потому
что «естество и плоть» эстетического, с одной стороны, коренится
в самом яблоке со всеми его видимыми, осязаемыми, ощущаемыми
особенностями, а с другой стороны, эстетическое чувство возникает
у нас, оценивающих это яблоко.
В сознании человека эстетическое запечатлевается как резуль-
тат особого, бескорыстного (не прагматического) созерцания дей-
ствительности. Эстетическое восприятие, т. е. эстетический взгляд
на окружающий мир, на конкретную вещь, есть одна из неистре-
бимых граней тотального (единого) многоаспектного подхода че-
ловека к миру. Оно обусловлено (как уже было сказано) объектив-
ными и субъективными моментами. Голодного человека яблоко
интересует как средство утоления голода, т. е. удовлетворения жиз-
ненной потребности. «Эстетика» яблока как бы игнорируется, ото-
двигается на задний план, затмевается необходимостью утоления
голода. Такая необходимость делает человека рабом обстоятельств.
«Чувство, находящееся в плену у грубой практической потребно-
сти, — писал К. Маркс, — обладает лишь ограниченным смыслом.
Для изголодавшегося человека не существует человеческой формы
пищи, а существует только ее абстрактное бытие как пищи: она
могла бы с таким же успехом иметь самую грубую форму, и невоз-
можно сказать, чем отличается это поглощение пищи от поглоще-
ния ее животным»1 2.
Неоднократно подчеркивался исторически меняющийся, эволю-
ционный характер эстетических оценок. Последние, конечно, не ос-
вобождают человека от жизненных обстоятельств, но они облаго-
1 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. T. 5. М., 1959. С. 118—121.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве: в 2 т. T. 1. М.: Искусство, 1957. С. 142.
58
раживают зависимость человека от них, смягчают нравы людей,
наполняют их внутренний мир новым содержанием. Естественно,
для этого требуется время: эстетические чувства появляются не сра-
зу, они воспитываются. Для глубокого постижения эстетического
недостаточно созерцания объекта: внутреннее, духовное зрение,
о котором мы уже сказали, вырабатывается, оформляется постепен-
но и постоянно жизненной практикой. Эстетическое восприятие —
это восприятие конкретно-исторического человека, сформирован-
ного в конкретных социальных обстоятельствах.
«Предмет искусства, а также всякий другой продукт, создает пу-
блику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой.
Производство производит поэтому не только предмет для субъекта,
но также и субъект для предмета»1.
Структура «эстетического» сложна. В первую очередь, эстетиче-
ское есть отношение «человек (субъект) — вещь (объект)». Любое
отношение (как философское понятие) есть проявление свойств
предметов, явлений. В философии различают много видов отноше-
ний: причинно-следственные, внешние и внутренние, простран-
ственные, временные, отношения части и целого и др. Эстетическое
отношение — это отношение ценностное, В нем проявляются такие
свойства объектов, которые вызывают у субъекта (человека) эсте-
тические ощущения, переживания. В первую очередь — это ощу-
щения удовольствия или неудовольствия (о чем уже было сказано).
Всё же подчеркнем, что с тех пор как И. Кант в своей книге «Кри-
тика способности суждения» (1790) стал рассматривать «удоволь-
ствие или неудовольствие» не просто как ощущение приятного или
неприятного, но как «состояние души», как одну из способностей
психики человека — способность оценивать окружающий мир на-
ряду со способностями познавать мир и проявлять свою волю (же-
лание), эстетике было придано новое качество. Всю проблематику
эстетики Кант вынес из сферы гносеологии, логики, теоретического
знания в сферу суждений субъекта и стал рассматривать эстетику
в качестве звена, связующего два мира, в которых живет человек
(они же важнейшие объекты его философского анализа): мир при-
роды, или мир «чувственного» с его законами необходимости (в его
книге «Критика чистого разума», 1781), и мир свободы, т. н. мир
«умопостигаемого», где нет цепей зависимости от природы и че-
ловек сам порождает условия своих действий («Критика практи-
ческого разума», 1788). Природу человек познает, а свободу реали-
зует в своей деятельности и постигает умом. Свобода становится
действительностью в процессе исполнения нравственного закона.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве: в 2 т. T. 1. С. 144.
59
Мир природы и мир свободы суть, по Канту, миры знания (истины)
и добра. Между ними Кант и помещает мир эстетического как со-
вокупность актов «способности суждения» («Критика способности
суждения»).
Философ называет эти суждения рефлектирующими эстетиче-
скими суждениями. Это не познавательные суждения, они не дают
знаний о предмете (хотя и могут оживлять имеющееся знание),
«их определяющее основание заключается в ощущении, непосред-
ственно связанном с чувством удовольствия и неудовольствия»1.
Перенеся сферу эстетического в субъективный мир индивида,
Кант представляет свою эстетику как «критику вкуса»1 2, восприни-
мающего эстетический объект, т. е. налицо субъект-объектные от-
ношения. «Вкус, — пишет он, — есть способность судить о предмете
или о способе представления на основании удовольствия или не-
удовольствия, свободного от всякого интереса»3, иными словами,
не нуждающегося ни в каком ином критерии. Эстетическое — это
отношение по своей природе неутилитарное, бескорыстное. «Пре-
красно, — писал Кант, — то, что нравится просто в суждении...;
оно должно нравиться без всякого интереса»4. И он приводит сле-
дующий пример. Если меня спрашивают, нахожу ли я дворец, ко-
торый у меня перед глазами, прекрасным, значит, «хотят только
знать, сопутствует ли во мне представлению о предмете удоволь-
ствие, как бы я ни был равнодушен к существованию предмета это-
го представления»5.
Далее, по Канту, эстетическое — это и переживание, т. е. эмо-
ционально насыщенное событие его жизни; результатом такого
переживания является превращение объекта в эстетический пред-
мет, или в субъективную копию, идеальный продукт духовной де-
ятельности — в образ. Никакими актами эстетическое «намеренно
не создается. Оно стихийно возникает в области человеческих пе-
реживаний и ими ограничивается»6. Наконец, эстетическое — это
и оценка, т. е. придание вещи (объекту восприятия, переживания)
смысла, значения. Эстетическая оценка не ограничивается чув-
ственными впечатлениями, да и не может ими ограничиваться, по-
скольку «чувственность человека интеллектуализирована»7. Многие
положения эстетики И. Канта надолго определили развитие этой
1 Кант И. Соч.: в 6 т. T. 5. М.: Мысль, 1966. С. 128.
2 Там же. T. 2. С. 286.
3 Там же. T. 5. С. 212.
4 Тамже. С. 276.
5 Там же. С. 204, 205.
6 Лосев А. Ф., Тахо-Годи М. А. Эстетика природы. Киев: «Collegium», 1998. С. 15.
7 Карасев Л. В. Парадокс о смехе // Квинтэссенция: Философский альманах /
Сост.: В. И. Мудрагей, В. И. Усанов. М.: Политиздат, 1990. С. 365.
60
науки, они были поддержаны и по-своему развиты Ф. Шиллером,
Ф. Шеллингом и многими другими философами.
Характеристику форм существования эстетического, или его
модусов (модификаций) традиционно начинают с прекрасного
(красоты), очевидно, потому что в сознании человека красота из-
древле воспринималась как одна из форм существования мира, вы-
зывающая ощущение приятности, удовольствия. С поисков истоков
красоты, ее сущности, дефиниций началось становление эстети-
ки, которую длительное время (вплоть до XX в.) называли наукой
о прекрасном, его формах и особенностях. Проблема прекрасного
(красоты) во все времена была и остается реальной, так сказать,
онтологической. Тем не менее по-прежнему имеет место неодно-
значное ее решение, сохраняется неопределенность трактовки по-
нятия прекрасного. Дошло до того, что в эстетике XX в. (точнее,
в «эстетиках», поскольку теорий много) вместе с водой выплесну-
ли и ребенка: в трудах по эстетике можно встретить утверждения
типа: «прекрасное как исследовательская категория в современной
эстетике не имеет и не может иметь значения»1.
Рассуждая об эстетическом, мы остановились прежде всего на ка-
тегории прекрасного, ибо прекрасное — основной модус эстетиче-
ского. Это не означает, что между этими понятиями нужно ставить
знак равенства.
Прекрасное всегда категория эстетическая, но в каком смыс-
ле? Скажем, разве прекрасны лохмотья, носимые бурлаками? Они
безобразны, некрасивы сами по себе, некрасивы они, к примеру,
и на картине И. Е. Репина «Бурлаки на Волге». Но они оцениваются
с эстетической точки зрения, ибо прекрасно (красиво) исполнены.
«Красота в природе — это прекрасная вещь, а красота в искусстве —
это прекрасное представление о вещи»1 2.
Прекрасное и красота — понятия синонимические, оба суть раз-
новидности субъект-объектных отношений: объект, характеризую-
щийся совокупностью признаков, свойств (форма, цвет, размеры,
наличие / отсутствие симметрии в линиях, деталях и др.) порожда-
ет у субъекта ощущение, чувство прекрасного. Другими словами,
субъект, созерцая объект, испытывает особое состояние — состо-
яние эстетического созерцания прекрасного (красоты). Тот факт,
что сама красота как совокупность особых качеств, вызывающих
эстетическое чувство, есть принадлежность объекта, — не основа-
ние для суждения о том, что красота характеризует только эстети-
1 Например, в кн.: Кучинъская А. Прекрасное. Миф и действительность /
Пер. с пол. М.: Прогресс, 1977. С. 155.
2 Кант И. Соч.: в 6 т. T. 5. С. 327.
61
ческий объект. Вот как об этом писал Ф. Шиллер: «...хотя красота
действительно есть предмет для нас, ибо рефлексия есть условие,
благодаря которому мы можем иметь ощущение красоты, однако
в то же время красота есть состояние нашего субъекта, ибо чувство
является условием, благодаря коему мы можем иметь представле-
ние красоты. Она есть форма, ибо мы ее созерцаем, но в то же вре-
мя она есть жизнь, ибо мы ее чувствуем. Одним словом, красота
одновременно и наше состояние и наше действие»1. Именно такой
она предстает, к примеру, у Пушкина: «Унылая пора! Очей очарова-
нье! / Приятна мне твоя прощальная краса — / Люблю я пышное
природы увяданье, / В багрец и в золото одетые леса,...» («Осень»).
Приведенная цитата из сочинения Шиллера — несомненное сви-
детельство того, что его суждения о красоте схожи с кантовскими:
красота — это связь между чувствами и интеллектом, миром идей.
Сравним с высказыванием самого Канта: «Красотой вообще (все
равно, будет ли она красотой в природе или красотой в искусстве)
можно назвать выражение эстетических идей...»1 2 Представляет ин-
терес другая мысль Шиллера — его утверждение, что красота, объ-
единяя собой миры чувств и интеллекта, делает человека активной,
деятельной силой. С ней потом станет явно перекликаться тезис
князя Мышкина из романа Ф. М. Достоевского «Идиот»: «красота
спасет мир»3.
Гегель анализирует красоту, опираясь на рассуждения Канта. Ему
импонирует кантовская идея связи красоты с истиной, с «эстетиче-
скими идеями». У Канта «эстетическая идея» — своеобразный ин-
теллектуальный мост, соединяющий эстетический субъект с эстети-
ческим объектом. Как плод нашего воображения эстетическая идея
может выходить за пределы нашего опыта и оплодотворять творче-
скую деятельность. «Прекрасное, — пишет Гегель, — следует опре-
делить как чувственное явление, чувственную видимость идеи»4.
•к •к к
Обратимся к другим видам (модусам) эстетического. Эстетиче-
ское удовольствие доставляет нам, помимо прекрасного (красоты),
и возвышенное (греч. hypsos) — категория, известная еще в ан-
тичной литературе и искусстве. До наших дней дошло сочинение
анонимного автора, которому было присвоено имя Псевдо-Лонги-
на, — «О возвышенном» (I в. н. э.). Строго говоря, это наставление
писателям и ораторам, в котором автор подробно рассказывает, как
следует воздействовать на читателей и слушателей, дабы «привести
1 Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. T. 6. М.: Худож. лит., 1957. С. 341.
2 Кант И. Соч.: в 6 т. T. 5. С. 337.
3 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. T. 6. М.: Худож. лит., 1957. С. 433.
4 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. T. 1. С. 119.
62
их в состояние восторга, так как поразительное всегда берет верх
над убедительным и угождающим...»1 По его мнению, цель возвы-
шенного — не убеждать (убеждение во власти нашей воли), а из-
умлять, ибо могущество изумления непреодолимо. Возвышенное
в этом трактате — в первую очередь приемы воздействия на душу
человека, «по своей природе способную чутко откликаться на воз-
вышенное. Под его воздействием она наполняется гордым величи-
ем, словно сама породила все только что воспринятое»1 2. Приемам
воздействия на душу можно научиться, возвышенное должно управ-
ляться разумом: оно «всегда и в одинаковой степени требует как
бича, так и узды»3. С содержательной стороны, возвышенное — это
то, что располагает душу к высоким мыслям. Главным источником
возвышенного, по Псевдо-Лонгину, служат врожденные, а не при-
обретенные способности. «Возвышенное — отзвук величия души»4.
Конкретного определения возвышенного он не дает. Писатель, под-
черкивает Псевдо-Лонгин, для достижения возвышенного должен
не только уметь пользоваться всеми богатствами языка, но и быть
внутренне настроенным на возвышенные суждения и переживания:
«самым возвышенным следует признать уместный и благородный
пафос, в котором чувствуется подлинное вдохновение, наполняю-
щее речь неистовством»5. Псевдо-Лонгин считал подлинно возвы-
шенным (впрочем, и прекрасным тоже) «только то, что все и всегда
признают таковым»6. Лучшие примеры возвышенного стиля автор
трактата находит в творчестве Гомера, Платона, Сапфо, Архилоха,
в речах Демосфена. Псевдо-Лонгин преклоняется перед разумом
человека, мыслям которого «тесно в пределах вселенной». Он рас-
суждает о том, что природа наделила наши души «неистребимой
любовью ко всему великому [в скобках отметим, что термин «воз-
вышенное» в трактате нередко заменяется синонимами «великое»,
«величественное», «мощное», «высокое» — В. С.], потому что оно
более божественно, чем мы»7. Мы и рождены, по мнению автора,
ради великого и прекрасного.
За подобными рассуждениями Псевдо-Лонгина просматривается
и иной статус его понятия возвышенного — не только как особо-
го стиля писателей и ораторов, воздействующих на душу человека,
но и как особого настроя нашей душевной жизни на постижение ве-
ликого, прекрасного, любование им. «Настолько безразличны люди
1 Псевдо-Лонгин. О возвышенном. Пер. и прим. Н. А. Чистяковой. М.; Л.: Наука,
1966. С. 6.
2 Там же. С. 15.
3 Там же. С. 8.
4 Там же. С. 17.
5 Там же.
6 Там же. С. 15.
7 Там же. С. 64.
63
ко всему привычно обыденному, даже необходимому им, настолько
поражает их все неожиданное и необычное»1. В этом смысле возвы-
шенное постигается как способ существования эстетического, как
переживание восторга, величия, трепета.
На разных этапах истории эстетики категория возвышенного на-
полнялась разным содержанием. Это отдельная и самостоятельная
тема. Перейдем к эстетике Канта, подробно рассмотревшего эту ка-
тегорию. «Возвышенно то, — пишет Кант, — в сравнении с чем все
другое мало»1 2. Возвышенное всегда связано с нарушением привыч-
ной меры, привычных масштабов, а потому с волнением: субъект
созерцает предметы, поражающие его размерами, силой воздей-
ствия и пр. Вот что писал философ о собственном чувстве возвы-
шенного: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более
сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжитель-
нее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и мо-
ральный закон во мне»3.
Чувство возвышенного, по Шиллеру, может испытывать «человек
хотящий», который в состоянии «утвердить свою волю»4. Основания
для возвышенного находятся в нас самих: «в образе мыслей», воз-
вышенное «не может содержаться ни в какой чувственной форме,
а касается только идей разума»5. Без привлечения разума, без «рас-
положения души, подобного расположению к моральному», чувство
возвышенного и при созерцании природы невозможно6.
Лишь морально развитой человек, по Канту, свободен. Разум
определяет поведение человека. Чувствами человек может ощущать
свое бессилие перед предметами, «превышающими всякий масштаб
(внешних) чувств»7. Но он существо мыслящее и потому могуще-
ственное. «Возвышенным надо называть, — пишет Кант, — не объ-
ект, а расположение духа под влиянием некоторого представления,
занимающего рефлектирующую способность суждения»8. Постигая
разумом то, что недоступно чувствам, человек получает удоволь-
ствие, возвышающее человека. Оно соседствует с неудовольстви-
ем как следствием ощущения беспомощности перед неизвестным,
непривычным, превышающим возможности человека. Но благо-
даря разуму душевный диссонанс переходит в гармонию. Человек
ощущает себя и беспомощным, и могучим. Как Фауст у Гете, снача-
ла возомнивший себя богоравным, а затем после встречи с духом
1 Псевдо-Лонгин. О возвышенном. С. 65.
2 Кант И. Соч.: в 6 т. T. 5. С. 256.
3 Там же. T. 4. 4. 1. С. 499.
4 Шиллер Ф. Собр. соч. в 7 т. T. 6. М.: Худож. лит, 1957. С. 489.
5 Кант И. Соч.: в 6 т. T. 5. С. 251.
6 Там же. С. 278.
7 Там же. С. 257.
8 Там же.
64
земли осознавший: «в ослепленье явном я переоценил свои права».
Выходя из этого состояния, он говорит: «Я испытал в тот миг высо-
кий / Такую мощь, такую боль!»1
В отечественной литературе схожее настроение возвышенного
передает Г. Р. Державин в стихотворении «Бог» (1784):
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!1 2
Можно привести много примеров того, как искусство способ-
ствует совершенствованию присущих людям чувств красоты и воз-
вышенного. Категория возвышенного свидетельствует о мощном
потенциале человека в своем жизненном призвании. В эстетике бо-
лее позднего периода категория возвышенного напрямую связана
с общественными идеалами, с раскрытием сущностных сил челове-
ка в борьбе за эти идеалы. Особое внимание уделялось такой форме
проявления возвышенного, как героическое.
it it it
Герой — одна из категорий древнегреческой и древнеримской
мифологии, обозначающая персонажей, являющихся потомками
бессмертного божества и смертного человека. К примеру, Геракл —
сын Зевса и смертной женщины Алкмены, жены царя Фив; Ахилл —
сын царя Пелея и богини (точнее, нимфы) Фетиды; основатели
Рима братья Рем и Ромул — сыновья бога войны Марса и весталки
(жрицы) Реи Сильвии. Гесиод называл героев полубогами.
Занимая промежуточное положение между богами и людьми,
герои часто действовали по инициативе богов и не без их помощи.
Их деятельность, требовавшая нередко сверхъестественных сил,
мужества, смелости, самоотверженности, называлась героической,
она сформировала т. н. героический характер. Кроме того, героя-
ми уже в древности называли людей, выделявшихся практической
мудростью (например, семь древнегреческих мудрецов VII—VI вв.
до н. э.). А тот факт, что к сонму героев относили и павших вои-
нов (например, афинян, погибших в Марафонской битве с персами
в 490 г. до н. э.), свидетельствует об уходящем корнями в древность
восприятии героического как уделе не только отдельных инди-
видов, но и коллективов. Вспоминается сразу же «Война и мир»
Л. Н. Толстого — роман о том, как «дубина народной войны под-
1 Гете И. В. Фауст. М.: Худож. лит., 1969. С. 55.
2 Русская поэзия XVIII века. М.: Худож. лит., 1972. С. 567.
65
нялась со всей своей... силой и, не спрашивая ничьих вкусов и пра-
вил... гвоздила французов...»1
И в поздние времена героями называли людей, отличавшихся
своими качествами, которые использовались в интересах коллек-
тива (города, государства) и благодаря которым эти коллективы до-
бивались успехов в той или иной жизненной сфере. Как писал ан-
глийский философ и историк 19 в. Т. Карлейль: «почитание героев
будет существовать вечно, пока будет существовать человек»1 2.
Как самопожертвование во имя любви «героическое» встречается
и в животном мире. Вот лишь один пример. Воробей в одноименном
стихотворении в прозе И. С. Тургенева бесстрашно спасает своего
птенца от зубастой пасти собаки. «Мой Трезор, — пишет автор, —
остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу... Я благо-
говел перед той маленькой героической птицей...»3 Примечательно,
что в черновом варианте стихотворение называлось «Герой»4.
Тема героизма, его форм и исторического развития, — огромна.
Она всегда рассматривалась в контексте иных проблем мировой
истории на каждом ее этапе. Филологов интересует ее отражение
в литературных произведениях конкретного исторического периода.
Следует различать исторически сложившееся понятие героя
(и производное от него прилагательное «героическое») и сугубо
литературоведческое понятие «литературный герой», «герой произ-
ведения» (см. гл. «Персонажи»). Это омонимы, не более того. Дея-
ния литературных героев далеко не всегда героические. Как разно-
видность возвышенного героическое связано с деяниями, которые
делают людей лучше, по-настоящему возвышают их. В искусстве
и, в частности, в художественной литературе героическое предста-
ет в конкретно-чувственной форме — как воплощение поведения
должного, желаемого, образцового, т. е. как эстетический идеал.
it it it
Трагическое — эстетическая категория, отражающая ситуации не-
разрешимого внутреннего (душевного) конфликта. Этот конфликт
сопрягается со страданиями и гибелью личности — гибелью не слу-
чайной, но неизбежной, часто предопределенной форс-мажором
(неодолимая сила) или роком. Такие конфликты изображались уже
в античной трагедии, жанре драматического искусства5.
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. T. 7. М.: Худож. лит., 1981. С. 131.
2 Карлейль Т Теперь и прежде / Сост., подг. текста и прим Р. К. Медведевой. М.:
Республика, 1996. С. 16.
3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. T. 10. М.: Наука,
1982. С. 142.
4 Там же. С. 488.
5 Трагическое и трагедия — однокоренные термины. В переводе с греч. «тра-
гедия» означает «песнь козлов»; предшественник трагедии — «дифирамб» — хоро-
66
В одной из своих статей по эстетике Шиллер замечает, что «в тра-
гедии очень многое совершается силой самого предмета», «объект
возвышает самого трагического поэта»1. Он тем самым подчерки-
вает, что главное в трагедии — объект, материал изображения,
сама конфликтная ситуация. Это сближает трагическую ситуацию
с ситуацией, порождающей чувство возвышенного. Автор трагедии
должен постоянно возбуждать или укрощать страдания героя, ко-
торый борется с неизбежностью своей судьбы, восстает против нее
и нередко погибает. Но именно в этом и проявляется его внутрен-
няя свобода. Правда, здесь следует сделать принципиальную ого-
ворку касательно особенностей мировоззрения греков той эпохи,
на которую обратил внимание Гегель. Нередко герой и трагедии
оказывается в положении человека, совершившего преступления
непроизвольно, не ведая об этом, как сказал бы Гегель, при спя-
щем сознании. Но, узнав о них, он нравственно страдает и несет
за них ответственность как человек, не расчленяющий в своей
деятельности субъективной и объективной сторон, не помышляя
о них. Греческая трагедия расцветает в период становления класси-
ческого рабовладения, в обществе с явными отголосками родового
строя и постепенно убывающим, но заметным влиянием мифоло-
гии в качестве парадигмы, разъясняющей многие явления в жиз-
ни общества и отдельного индивида. Авторы трагедий, не вдаваясь
в тонкости душевной жизни человека, ставят и решают «вечные»
проблемы, представляющие интерес и для сегодняшнего време-
ни: семейные отношения, любовь к полису, родине, политическая
жизнь и др. Как совокупность поступков, интересов, мотиваций эти
проблемы рассматриваются сквозь приму различения добра и зла.
Вся полнота взаимоотношений индивидов, их поступков, воли,
мотивов воплощается в нравственном начале, имеющем божествен-
ную природу. Мерилом трагических характеров служит утвержде-
ние нравственных начал в жизни.
Так, у Софокла Эдип (пьеса «Эдип-царь»), проклятый роком
и убежденный в безысходности своего положения («В проклятии
рожден я, в браке проклят, / И мною кровь преступно пролита!»* 1 2),
ослепляет себя и покидает город, глубоко страдая за свою мать, де-
тей и сограждан. Зрители (читатели) трагедии сопереживают герою,
вая песнь в честь Диониса, которую исполняли актеры, одетые в костюмы сатиров
(насмешников); сначала сатиров изображали в виде полулошадей, а затем в виде
козлоподобных существ. Родоначальником трагедии со времен Платона и Аристо-
теля считается Гомер. В десятой книге работы Платона «Государство» Гомер назван
«первым наставником и вождем... великолепных трагедийных поэтов» (Платон.
Соч.: в 4 т. T. 3. М.: Мысль, 1884. С. 389).
1 Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. T. 6. М.: Худож. лит., 1957. С. 417.
2 Софокл. Эдип-царь / Пер. С. Шервинского // Античная драма. М.: Худож. лит.,
1970. С. 168.
67
испытывая эстетическое наслаждение, катарсис, о чем писал еще
Аристотель в своей «Поэтике»: «Трагедия есть подражание действию
важному и законченному, имеющему [определенный] объем, [про-
изводимое] речью, услащенной по-разному в различных ее частях,
[производимое] в действии, а не в повествовании и совершающее
посредством сострадания и страха очищение (catharsis) подобных
страстей»1. Трагический катарсис, т. е. «удовольствие от сострада-
ния и страха», заключает в себе эстетический смысл трагического.
Душу трагедии, по Аристотелю, составляет «склад событий», т. е.
конфликт, а потом уже — характеры (действующие лица) и их стра-
сти (пафос) как настрой души, как побудительная сила проявления
характеров. Разъясняя эти мысли Аристотеля, Гегель подчеркнет,
что «подлинное сострадание есть симпатия, сопровождающаяся
нравственным оправданием страдающего»1 2. Такое сострадание,
по Гегелю, в нас не возбудят «оборванец и негодяй»3. «Трагическую
симпатию» возбуждает «трагический характер», и он должен быть
«содержательным и сильным»4.
Трагическое не всегда означало смерть. Древнегреческое искус-
ство знает и трагедии со счастливым концом. Например, в трагедии
Еврипида «Алкеста» (или «Алкестида»), основанной на мифе, Ге-
ракл, друживший с фессалийским царем Адметом, возвращает ему
его умершую жену Алкесту, силой вырвав ее из лап демона смер-
ти. Алкеста жертвует собой ради любимого мужа, который должен
умереть за неуважение к богам, но Мойры, по просьбе Аполлона,
согласились принять в потусторонний мир любого смертного, со-
гласного заменить собой Адмета. Зрители испытывают и страх и со-
страдание по отношению к героям пьесы, при этом все понимают,
что царь купил себе жизнь ценою смерти жены и его тревожит бу-
дущее отношение к нему людей. Еврипид счастливо разрешает кон-
фликт благородным поведением Геракла, но и оставляет открытой
проблему нравственного выбора индивида в подобных случаях.
Гегель верно замечает, что в греческой трагедии коллизии вы-
зываются не злой волей и не несчастьем, а «нравственным полно-
мочием на известное деяние», ибо нравственное начало и служит
«субстанциальной основой», порождающей трагическое действие.
Принимаемые трагическим героем решения под стать нравствен-
ным целям: они покоятся не на субъективном интересе или особен-
ностях характера, не на властолюбии, они исходят не из состояния
влюбленности или из иных аффектов, не из представлений о чести.
Эти решения, по Гегелю, «задевают другую, столь же нравственную
1 Аристотель. Соч.: в 4 т. T. 4. М.: Мысль, 1984. С. 651.
2 Гегель Г. В. Ф. Соч. T. 14. М., 1858. С. 365.
3 Там же. С. 365.
4 Там же.
68
сФеРУ человеческой воли», разворачивается «коллизия равноправ-
ных сил и индивидов»1.
Выпуклым примером сказанного служит трагедия Софокла «Анти-
гона». Гегель видел в ней конфликт между интересами государства,
которые защищает фиванский царь Креонт, и интересами семьи,
стоящей на страже кровных связей и традиций (их защищает Анти-
гона). Иное толкование пьесы предложил В. Н. Ярхо: Софокл обо-
значил конфликт между подлинно государственным законом и ин-
дивидом, считающим государство чуть ли не своей собственностью
и «берущим на себя смелость представлять государство вопреки
естественному и божественному закону»1 2. Читатели вправе решать,
какое толкование трагедии им считать верным. Множественность
толкований греческой трагедии не исключал и Гегель, утверждая,
что «трагические герои столь же виновны, как и невинны»3.
Рассматривая драму в ее историческом развитии, Гегель отметил,
что современная трагедия опирается на «принцип субъективности»:
ее сюжетом и содержанием является «субъективная задушевность
характера», где, в отличие от античной трагедии, нет «классиче-
ского воплощения нравственных сил»4. Примером «философской
трагедии», затрагивающей проблемы «всеобщности», он называет
«Фауста» И. В. Гете (1831).
В современной трагедии, по Гегелю, поступки персонажей моти-
вированы лишь «субъективной жизнью их сердца и души и своео-
бразием их характеров»5. В этом отношении показательно сопостав-
ление им шекспировского «Гамлета» (1603) с трагедией Софокла
«Электра».
В «Электре» взрослые дети микенского царя Агамемнона мстят
своей матери Клитемнестре за убийство отца. В «Гамлете» схожая
сюжетная схема: мать Гамлета выходит замуж за убийцу отца Гам-
лета. У Софокла мщение Электры и Ореста нравственно оправда-
но и герои не знают колебаний; в трагедии же Шекспира в центре
внимания — долгие метания Гамлета. Экскурс Гегеля в историю
развития трагедии убеждает в том, что Аристотель дал дефиницию
не трагедии вообще, а греческой трагедии.
Случилось так, что в год кончины Гегеля (1831) увидела свет
трагедия Пушкина «Борис Годунов», особенность которой состоит
в том, что носителем трагического в ней является не отдельная лич-
ность, а народ в качестве активно действующего лица. Отделенный
от власти, питающийся информационными крохами с барского
1 Гегель Г В. Ф. Соч. T. 14. С. 378.
2 Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой тра-
гедии. М.: Худож. лит., 1978. С. 174.
3 Гегель Г В. Ф. Соч. T. 14. С. 379.
4 Там же. С. 386.
5 Там же. С. 388.
69
стола или слухами, он мечется (впрочем, как и представители вла-
сти), то обращаясь к Годунову: «Властвуй нами! Будь наш отец, наш
царь!», то приветствуя самозванца: «Да здравствуй Димитрий, наш
царь!»1 Но символичен финал: в ответ на призыв боярина привет-
ствовать нового царя Димитрия Ивановича «народ безмолвствует».
it it
Категория комического характеризует в концентрированном
виде умение людей замечать смешное в самых разных жизненных
ситуациях: в поведении людей, в их внешнем виде, их речи, ма-
нерах и т. п. Уже в античности возник особый жанр комедии, ко-
торая, по словам Аристотеля, «есть подражание [людям] худшим,
хотя и не во всей их подлости: ведь смешное есть [лишь] часть без-
образного. В самом деле, смешное есть некоторая ошибка и урод-
ство, но безболезненное и безвредное; так чтобы недалеко [ходить
за примером], смешная маска есть нечто безобразное и искаженное,
но без боли»1 2. Другими словами, комическое есть реакция людей
на различные проявления того, что вызывает отвращение — без-
образное в жизни общества, семьи, отдельного человека. Диапазон
проявления безобразного весьма велик: от грубых, острых форм
(осквернение святынь, предательство интересов государства, убий-
ства, бандитизм, грабеж, несправедливость, трусость) до незначи-
тельных, как замечает Аристотель, «безболезненных и безвредных».
И в жизни и в искусстве комическое есть порождение всяких не-
лепостей, мелких ошибок, безобразных форм поведения, несоот-
ветствия нашим привычным взглядам, идеалам, но такого, которое
не влечет за собой ни страданий, ни тем более смерти.
«Элементы комического, — писал Белинский, — скрывают-
ся в действительности так, как она есть, а не в карикатурах,
не в преувеличениях»3. Их надо уметь видеть: «Чтобы понимать ко-
мическое, надо стоять на высокой степени образованности»4.
Феномен комического — один из древнейших в истории культу-
ры. Разные шутки, остроты, розыгрыши (мистификации, переоде-
вания и др.), сатурналии5, карнавальные игры и другие формы «на-
родной смеховой культуры» (М. М. Бахтин)6 всегда помогали людям
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 4 т. T. 4. М., I960. С. 212, 296.
2 Аристотель. Соч. в 4 т. T. 4. М.: Мысль, 1984. С. 650.
3 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР. T. 4. 1954. С. 596.
4 Белинский В. Г. Русская литература в 1843 году // Белинский В. Г. Поли. собр.
соч. T. VIII. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 90.
5 В Древнем Риме сатурналии — это празднества, напоминавшие о т. н. золо-
том веке правления справедливого и доброго бога земледелия и урожая — Сатурна.
Празднества отличались радостной и раскованной атмосферой, в них участвовали
и господа, и рабы.
6 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневе-
ковья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1965.
70
снимать психический дискомфорт, устранять нелепости, неловкости,
недостатки и тем самым облегчали решение многих жизненных про-
блем. Если все это радовало людей, вызывало смех, доставляло удо-
вольствие, значит, люди испытывали эстетическое удовольствие.
Но есть комическое и комическое; по выражению В. Г. Белинско-
го, оно «или водевиль, или “Горе от ума”»1. В «Театральном разъезде
после представления новой комедии» (1842) Н. В. Гоголя, в заклю-
чительной речи «Автора пьесы», подчеркнута познавательная роль
того смеха, «который весь излетает из светлой природы человека,
излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий род-
ник ее, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то,
что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь
и пустота жизни не испугала бы так человека»1 2. Смех, о котором пи-
сал Гоголь, есть проявление подлинно комического как категории
эстетики, он направлен против разлада между сущностью и явлени-
ем, и он эффективен: ведь «насмешки боится даже тот, который уже
ничего не боится на свете»3.
Когда говорят о том, что комическое и смешное не всегда одно
и то же, подразумевают, что комическое может вызывать смех
и радостный, и горький (смех сквозь слезы), полный негодования,
и иронию (скрытую насмешку).
О комическом довольно много писал Гегель. Признак настоя-
щего комизма он видел в том, что действующие лица прежде всего
«комичны сами по себе», а не только для зрителей. Мастером такого
комизма он называет крупнейшего комедиографа античности Ари-
стофана (446—385 гг. до н. э.). Например, в его комедии «Облака»
(423 г. до н. э.) земледелец Стрепсиад ради избавления от долгов,
накопленных им из-за того, что жил «в уюте, и в навозе, и в безде-
лии», идет к мудрецам в «мыслильню» с целью научиться «кривой
речи», владея которой «всяк всегда везде одержит верх, хотя бы был
кругом неправ»4. Аристофан открыто демонстрирует глупость про-
стодушного мужичка, смеется и иронизирует над «лапшой словес
тончайших», которым обучают софисты, высмеивает чудачества му-
дреца Сократа и др.
В отличие от трагедии комедия «изображает субъективность
в свободном состоянии»5. По Гегелю, персонажи Аристофана за-
няты откровенной субъективной игрой, живут в «мире субъектив-
ной бодрости»6. В его комизме два слоя — внешний и внутренний.
1 Белинский В. Г. Несколько слов о «Современнике» // Поли. собр. соч.: в 13 т.
T. 12. М., 1953. С. 136.
2 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. T. 4. М., 1959. С. 269.
3 Там же. С. 269.
4 Аристофан. Облака // Античная драма. Пер. с древнегреч. и лат. М.: Худож.
лит., 1970. С. 351, 353.
5 Гегель. Указ. соч. T. 14. С. 386.
6 Там же. С. 385.
71
Внешний комизм понятен всем: забавные сценки, каких в пьесе не-
мало. Внутренний — в подтексте: это критика разных сторон обще-
ственной жизни, нравственного упадка, глупости софистов, орато-
ров, безрассудства людей.
Как жанр искусства, как воплощение комического комедия пре-
доставляет автору огромные возможности, но и налагает на него
немалую ответственность. Известно, что насмешка над Сократом
в комедии «Облака» доставила автору немалые неприятности1.
Основные способы проявления комического в искусстве — сати-
ра и юмор.
Сатира обращает внимание на противоречие между не удов-
летворяющей автора действительностью и идеалом; сатирик вы-
смеивает, карает явления, представляющиеся ему порочными,
используя изобразительные средства (сарказм, иронию, гипербо-
лизацию, аллегорию, гротеск и др.) в зависимости от многих фак-
торов и в первую очередь от его социальной позиции, так как чаще
всего сатирик защищает нормативные (коллективные — классо-
вые, сословные, религиозные или иные корпоративные) представ-
ления, ценности.
Юмор по своей структуре сложнее сатиры, в нем насмешливость
сочетается с сочувствием, с сопереживанием, с отсутствием непри-
язни к воспринимаемому объекту. Выделяя в объекте смешное и не-
совершенное, юморист обращает внимание и на позитивные каче-
ства объекта, в смешном видит и серьезное, значительное. В целом
юмористическое воспроизведение объекта в отличие от сатириче-
ского отличается целостностью и примирительным пафосом.
Художественное и эстетическое — понятия сопоставимые. «Ху-
дожественность — это эстетическое качество искусства»1 2. Искус-
ство, по Аристотелю, — одна из пяти разновидностей душевного
склада человека (наряду с наукой, рассудительностью, мудростью
и умом), благодаря которым «душа достигает истины»3. Если науч-
ность — душевный склад «доказывающий», то искусство относится
к творчеству (poiesis). «Всякое искусство имеет дело с возникно-
вением, и быть искусным — значит разуметь <...> как возникает
нечто из вещей, могущих быть и не быть, и чье начало в творце,
а не в творимом»4. Переживание «эстетического» есть момент «ху-
дожественного», в котором оно «воплощено и сконструировано при
1 В одной из своих рецензий об этом писал Н. А. Добролюбов: «...не всякое
осмеяние имеет успех, даже не всегда оно безопасно, хотя бы для репутации, ут-
вердившейся весьма прочно. Аристофан — и тот немало нажил себе хлопот, даже
в потомстве, за осмеяние Сократа» (Добролюбов Н. А. Собр. соч.: в 3 т. T. 3. М., 1987.
С. 188.)
2 Бычков В. В. Эстетика. Краткий курс. М.: Проект, 2003. С. 70.
3 Аристотель. Никомахова этика // Соч.: в 4 т. T. 4. М.: Мысль, 1984. С. 174.
4 Там же. С. 176.
72
помощи тех или других материальных средств»1. О том, как это де-
лается, и говорится в данной учебной книге.
Вопросы
1. В чем суть и структура «эстетического» как особого качества пред-
метов и явлений?
2. Как Вы понимаете утверждение Ф. Шиллера о том, что красота явля-
ется одновременно «нашим состоянием» и «нашим действием»?
3. Что такое «возвышенное», «трагическое»?
4. Как соотносятся «комическое» и «смешное»?
1 Лосев А. Ф., Тахо-Годи М. А. Эстетика природы. Киев: Collegium, 1998. С. 15.
Глава 4
ДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА РОДЫ
(ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ)
Рус.: эпос (эпика), драма,лирика; англ.: epic, drama, lyricpoetry; нем.: Epic,
Drama, Lyric; фр.: poesie epique, drame, poesie lyrique.
Деление поэзии на роды по «способу подражания» (Платон, Аристо-
тель). —Литературные роды как типы содержания в эстетике конца XVIII —
первой половины XIX в. (Жан Поль, Ф. В. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, В. Г. Бе-
линский). — О современном подходе к проблеме.
В художественной литературе традиционно различают три рода:
эпос, драму и лирику. Обоснование такого деления было предло-
жено еще в античности. Платон (360—304-е гг. до н. э.) в своем
сократическом диалоге «Государство» писал: «...один вид поэзии
и мифотворчества весь целиком складывается из поэзии и подра-
жания — это... трагедия и комедия; другой род состоит из выска-
зываний самого поэта — это ты найдешь преимущественно в дифи-
рамбах; а в эпической поэзии и во многих других видах — оба эти
приема...»1
В системе объективного идеализма Платона «подражание»
(mimesis), в котором он видел сущность искусства, мыслилось
как вторичное, поскольку первичным подражанием философ счи-
тал сами чувственно воспринимаемые жизненные явления: в них
воплощаются бестелесные, нематериальные «формы» («виды»,
«идеи»), находящиеся в «занебесной области» и открывающиеся
лишь «кормчему души — уму»1 2.
Сопоставляя выделенные им виды «поэзии и мифотворчества»,
ведущий беседу Сократ в диалоге «Государство» использует слово
«подражание» в узком значении (т. е. имеет в виду прямую речь
героев). Он оценивает речь повествователя и речь героев, исходя
из пользы или вреда, которые они могли принести воспитанию
«стражей» в идеальном государстве, и осуждает подражание «людям
худшим» (с. 162). Отсюда следует предпочтение в эпической поэзии
1 Платон. Государство. Книга третья // Собр. соч.: в 4 т. T. 3. М.: Мысль, 1994.
С. 159. Далее страницы «Государства» указываются в тексте.
2 Платон. Федр // Собр. соч.: в 4 т. T. 2. М.: Мысль, 1993. С. 156.
74
«высказываний самого поэта», или повествования, а в дифирам-
бах — гармонии и ритмов, которые «соответствуют упорядоченной
и мужественной жизни» (с. 166). Польза, а не удовольствие, — вот
принцип, которым руководствуется Сократ (и Платон) при оценке
поэтического искусства: талантливого, но «вредного» поэта он со-
ветует отсылать «в другое государство, умастив его главу благо-
вониями и увенчав шерстяной повязкой», самим же удовольство-
ваться, «по соображениям пользы, более суровым, хотя бы и менее
приятным, поэтом и творцом сказаний, который подражал бы у нас
способу выражения человека порядочного и то, о чем он говорит,
излагал бы согласно образцам, установленным нами вначале, когда
мы занимались воспитанием воинов» (с. 163).
Суровость Платона (Сократа) по отношению к «расслабляющим»
человека (с. 165) способам изображения отнюдь не вытекала из его
нечувствительности к поэзии, о чем, в частности, свидетельствует
диалог «Ион». Здесь рапсод (Ион), исполняющий поэмы Гомера,
предстает как связующее, «среднее» звено между Музой, которая
его «держит», и слушателями: они, по словам Иона, «плачут и ис-
пуганно глядят, пораженные тем, что я говорю»1. При этом в ходе
умело построенного сократического диалога доказывается, что воз-
действует на слушателей рапсод не благодаря знанию предметов,
о которых пишет Гомер: Ион — «божественный, а не искусный хва-
литель Гомера» (с. 385).
Аристотель (между 366 и 322 г. до н. э.) в своей «Поэтике» опре-
делял всю поэзию как подражание (мимесис). В ней различаются
виды. «Сочинение эпоса, трагедий, а также комедий и дифирам-
бов, равно как и большая часть авлетики с кифаристикой, — все
это в целом не что иное, как подражания...; различаются же между
собой они трояко: или <1> разными средствами подражания, или
<2> разными его предметами, или <3> разными, нетождествен-
ными способами»1 2. Классификация сочинений у Аристотеля — бо-
лее разветвленная, чем у Платона, ее можно назвать полицентриче-
ской, или перекрестной. Собственно к делению на роды относится
у Аристотеля (как и у Платона) деление по «способу подражания».
Аристотель рассматривает и «средства подражания» в разных
искусствах (не только в поэзии): в авлетике и кифаристике — это
«гармония и ритм»3; у плясунов — «ритм без гармонии»; то же ис-
1 Платон. Ион. Собр. соч.: в 4 т. T. 1. М.: Мысль, 1999. С. 378—379. Далее стра-
ницы диалога «Ион» указываются в тексте.
2 Аристотель. Поэтика (пер. М. Л. Гаспарова) // Аристотель и античная лите-
ратура. М.: Наука, 1978. С. 112—113. Далее страницы указываются в тексте.
3 Авлос (греч. трубки) — распространенный в греческой античности музыкаль-
ный инструмент, похожий на свирель или гобой; самостоятельная, не как аккомпа-
немент пению, игра на авлосе называлась авлетикой. Кифара — распространенный
струнный щипковый музыкальный инструмент. «Кифара и лира считались инстру-
75
кусство, которое «пользуется только голыми словами <без метров >
или метрами, причем последними или в смешении друг с другом
или держась какого-нибудь одного — оно до сих пор остается <без
названия>»* 1. Перечисляя далее «средства подражания» с помощью
«голых слов» (это или проза, как в «сократических разговорах»,
или стихи, где выдержан один размер или сочетаются несколько),
Аристотель отмечает, что сам по себе «метр» не дает основания для
сближения сочинений: «между Гомером и Эмпедоклом ничего нет
общего, кроме метра, и поэтому одного по справедливости можно
назвать поэтом, а другого скорее уж природоведом, чем поэтом...»
(с. 113).
Словесные произведения различаются и по «предмету подра-
жания»: можно подражать «хорошим» или «дурным» людям. При-
водимые примеры отсылают к драматическим жанрам: комедия
«стремится подражать худшим», трагедия — «лучшим людям, неже-
ли нынешние» (с. 114). Отметим, что далее, при определении тра-
гедии, главной её «частью» Аристотель считает «действие», «сказа-
ние», а не «характеры»: «начало и как бы душа трагедии — именно
сказание, и только во вторую очередь — характеры» (с. 122).
И лишь третье различие — «по способу подражания» — является
основанием для деления на литературные роды. Здесь Аристотель
близок к Платону: «Ибо можно подражать одному и тому же одни-
ми и теми же средствами, но так, что или <а) автор > то ведет по-
вествование <со стороны >, то становится в нем кем-то иным, как
Гомер, или <б) все время остается > самим собой и не меняется,
или <в) выводит> всех подряжаемых <в виде лиц> действующих
и деятельных» (с. 115).
Сравнивая произведения, сходные по средствам (стихотворная
речь) и предмету подражания («хорошие люди»), но различные
по «способу подражания», а именно эпопеи Гомера и греческие
трагедии, Аристотель отдает пальму первенства трагедии: «в ней
есть всё то же, что в эпопее» (с. 163), а дополнительно — «зрели-
ще и музыка»; есть «наглядность»; «цели подражания она [траге-
дия] достигает при меньшем объеме»; в ней больше «единства»;
ведь «из всякого эпического подражания получается несколько
трагедий» (с. 163). Однако Аристотель отмечает и преимущества
ментами Аполлона в отличие от авлоса — инструмента Диониса» (Словарь антич-
ности. Сост. Й. Ирмшер в сотрудничестве с Р. Йоне / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1989.
С. 10—11, 264.)
1 Первоисточник слова «поэзия» — греческий, но «старшее значение», кото-
рое оно имело, — «производство вообще», «изготовление чего-либо». Из греческого
языка слово перешло в латинский: poesis. «В русском языке слово поэзия известно
со 2-й четверти XVIII в. (Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению сти-
хов российских, 1735 г.)». См.: ЧерныхП. Я. Историко-этимологический словарь со-
временного русского языка: в 2 т. T. 2. М.: Русский язык, 1994. С. 63—64.
76
эпопеи — в частности, «разнообразие вводимых вставок, — а ведь
в трагедиях приводит к провалу именно скоро пресыщающее одно-
образие» (с. 154).
Традиция разграничения литературных родов, на основании
«способов подражания», поддерживалась и за пределами антично-
сти, в «поэтиках» классицизма. Так, в «Поэтике» Ю. Ц. Скалигера
(написанной на латыни и изданной после смерти автора в 1561 г.)
выделены следующие роды поэзии: 1) «простое повествование»;
2) «разговор», или «диалог»; 3) «смешанный род — это тот, где поэт
и повествует, и вводит диалоги». Последний, «эпический род» Ска-
лигер считает главным, так как он «заключает в себе материю всех
остальных»1. Но все же большее внимание он уделяет, как и авторы
всех «поэтик» классицизма, литературным жанрам.
Другая мощная традиция деления литературы на роды — по ти-
пам содержания — возникает и укрепляется в западноевропейской
эстетике, прежде всего в немецкой, в конце XVIII — первой полови-
не XIX в. (А. Шлегель, Жан-Поль, Ф. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель и др.);
в России ее последователем и одновременно критиком стал В. Г. Бе-
линский. Поначалу чисто формальный, как казалось адептам ро-
мантизма, критерий разграничения родов по «способу подражания»
ими просто игнорировался. А. Шлегель писал в 1798 г. в рецензии
на поэму И. В. Гете «Герман и Доротея»: «Различие между эпиче-
ским и драматическим родами литературы <...> должно все-таки,
если уж мы говорим о различии эпоса и трагедии у древних, лежать
несколько глубже, чем во внешней форме, чем в том, что “в одном
из них действующие лица говорят сами, а в другом о них обычно рас-
сказывается”. Да тому же и вообще бессмысленно выводить высшие
закономерности этих родов литературы из понятий повествования
и диалога»1 2. Доказывая первенствующую роль автора во всех ро-
дах, не менее иронично пишет Жан-Поль (И. П. Ф. Рихтер) в 1804 г.
о теоретиках (И. И. Эшенбург и др.), для которых форма поэзии за-
висит от того, «кто говорит, кто молчит...» Он приветствует свобо-
ду самовыражения в лирике, «которая, по существу, предшествует
всем поэтическим формам как лишенный облика огонь Прометея,
членящий и одушевляющий облики, фигуры, формы. Сам по себе
лирический огонь — помимо форм, или тел, эпоса и драмы, — как
и всякое пламя в жизни, горит свободно, не принимает устойчивого
1 Скалигер Юлий Цезарь. Поэтика // Литературные манифесты западноевро-
пейских классицистов // Собр. текстов, вступ. ст. и общая ред. Н. П. Козловой. Изд-
во Моск, ун-та, 1980. С. 53—54.
2 Шлегель А. В. «Герман и Доротея» Гёте (рец.) // Литературные манифесты
западноевропейских романтиков / Собр. текстов, вступ. ст. и общ. ред. А. С. Дми-
триева. Изд-во Моск, ун-та, 1980. С. 124.
77
облика, но колышется и пылает одами, дифирамбами, элегиями»1.
(Речь идет не об исторической последовательности возникновения
родов, но об их сущности).
В этой апологии лирики (лирического рода) проявилась та жаж-
да самовыражения автора, которая была свойственна романтизму
и наиболее полно отразилась в стремительной перестройке лири-
ческих жанров1 2. Ведь лирика раньше других родов освободилась
от следования правилам, изложенным в «Книге о немецкой поэзии»
М. Опица (1624), «Поэтическом искусстве» Н. Буало (1674), «Эпи-
столе II, о стихотворстве» А. П. Сумарокова (1748) и других «поэти-
ках» классицизма.
Концепция литературных родов, отразившая новые, роман-
тические веяния, нашла наиболее полное выражение в лекциях
Ф. В. Шеллинга 1802—1805-х гг., которые впоследствии вошли
в его сочинение «Философия искусства» (посмертно опубликовано
в 1859 г.). В основу различения родов здесь положены такие катего-
рии, как субъект / объект, свобода / необходимость, а также время
(прошедшее, настоящее, будущее).
Лирика, по Шеллингу, — «самый субъективный вид поэзии,
в ней по необходимости преобладает свобода. Это вид поэзии, име-
ющей наименее принудительный характер. Ей разрешаются самые
смелые уклонения от обычной последовательности мысли, причем
требуется лишь связь в душе поэта или слушателя, а не связь объ-
ективного, или внешнего характера»3.
В эпосе, напротив, господствует объект — действие, произошед-
шее в прошлом и рассмотренное объективно. Характеризуя прежде
всего поэмы Гомера (в немецкой эстетике именно они служили
классическим примером эпической поэзии), Шеллинг отмечает об-
стоятельность изображения и спокойствие поэта, его «равнодушие
в использовании времени, так что в том времени, которое охваты-
вает эпос, всё находит себе место — самое великое и самое малое,
самое незначительное и самое значительное. <...> Всё одинаково
значительно и незначительно, одинаково велико и ничтожно. Пре-
имущественно этим поэзия и сам поэт как бы делаются в эпосе при-
частными к божественной природе, для которой и большое и малое
одинаковы и которая с таким же спокойствием созерцает... и разру-
шение царств, и разрушение муравьиной кучи» (с. 357—358). Поэту
«некуда спешить, так как и в движении он пребывает в покое, пре-
1 Жан-Полъ. Приготовительная школа эстетики / Вступ. ст., сост., пер. и ком-
мент. А. В. Михайлова. М.: Искусство, 1981. С. 276.
2 См. в частности: Стенник Ю. В. Системы жанров в историко-литературном
процессе // Историко-литературный процесс. Проблемы и методы изучения. Л.: На-
ука, 1974. С. 168—202.
3 Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Мысль, 1961. С. 346. Далее страницы
указываются в скобках.
78
доставляя движение лишь предмету» (с. 358). Согласно Шеллингу,
«любая страсть относится к самому предмету; Ахилл плачет и скор-
бит об утраченном друге Патрокле, но сам поэт при этом не ока-
зывается ни растроганным, ни нерастроганным, ибо он вообще
не проявляется. Под широким небосводом целого наряду с блиста-
тельными образами героев находит себе место и Терсит, как рядом
с великими тенями подземного мира в “Одиссее” дано на земле ме-
сто и богоравному свинопасу, и Одиссеевой собаке» (с. 358—359).
«Равновесию души» поэта соответствует гекзаметр — «наиболее
устойчивый и полновесный из всех видов метра» (с. 359). Последую-
щие эпические поэмы, а именно «Энеида» Вергилия, поэмы «нового
времени»: «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» Дж. Мильтона,
«Мессиада» Ф. Г. Клопштока, — оцениваются Шеллингом гораздо
ниже гомеровского эпоса, исключение составляет лишь «Герман
и Доротея» Гете1.
Рассматривая историческое развитие эпического рода, Шеллинг
в области рыцарского эпоса выделяет поэму Л. Ариосто «Неисто-
вый Роланд» (1516, 1532), отмечая субъективность повествователя,
отличающую её от гомеровского эпоса: «индивидуальность поэта
здесь играет гораздо большую роль не только благодаря тому, что
поэт неизменно рефлексирует над событием, которое он рассказы-
вает, но и благодаря построению целого; будучи созданием самого
поэта, это построение не представляет иных красот, кроме красо-
ты произвола» (с. 378—379). «Божественную комедию» он ценит
высоко и выделяет в «самостоятельный жанр» (с. 393); в романе
видит «соединение эпоса с драмой» (с. 380) и особо подчеркивает
важность независимости автора от героя, вплоть до иронии над по-
следним. С сожалением указывает на редкость хороших романов:
«покуда мы имеем всего два романа — это “Дон-Кихот” Сервантеса
и “Вильгельм Мейстер” Гёте» (с. 385).
Но подлинное равновесие, «изображение необходимости
в её действительной борьбе со свободой» (с. 396) в полной мере до-
стигается в драме. Шеллинг подробно анализирует трагедию «Эдип»
Софокла, прослеживая, как именно изображается «возвышение сво-
боды до совпадения с необходимостью» (с. 388). Он подчеркивает,
вслед за Аристотелем, «благородство» трагического героя. «Ведь ге-
рой трагедии обязан один решить исход борьбы; он должен выдер-
жать испытание лишь благодаря своему нравственному величию;
и внешнее избавление, и помощь, которую боги могут ему оказать,
недостаточны в его положении. Его ситуация может разрешиться
только внутренним путем...» (с. 409). Поэтому столь важно «вну-
треннее примирение» героя со своей судьбой в развязке. Еврипи-
ду же «недостает нравственной и поэтической чистоты», он возбуж-
1 См.: Шеллинг Ф. В. Философия искусства. С. 361—363.
79
дает в зрителях скорее «сострадание» к герою, чем гордость за него
(с. 416).
Суммируя положения, общие для многих теоретиков романтиз-
ма, Жан-Поль в 1804 г. формулировал: «Эпос изображает событие,
развертывающееся на основе прошлого, драма — действие, разви-
вающееся в сторону будущего и направленное на будущее, лири-
ка — чувство, заключенное в настоящем»1. «Способы подражания»,
положенные Платоном и Аристотелем в основу разграничения ро-
дов, им не упоминаются.
Они не были главными при классификации произведений и для
Г. В. Ф. Гегеля, читавшего в 1820-е годы лекции по эстетике (опу-
бликованы в 1830—40-е гг., умер философ в 1831 г.). Эстетика
Гегеля в гораздо большей степени была сосредоточена на жанрах
и жанровых группах, исторически развивающаяся проблематика
которых отражала разные этапы отношений личности и общества
(греческий героический эпос / римская сатира / современный ро-
ман и др.)1 2. Так, для Гегеля романтическая трагедия по своему со-
держанию ближе к современному ей роману, чем к античной траге-
дии3. Кроме того, он совсем не разделял свойственного романтикам
увлечения лирикой, открывающей, по их убеждению, самые широ-
кие возможности для самовыражения поэта и для жанровых экспе-
риментов. «Субъективному» началу в искусстве Гегель неизменно
противопоставлял «субстанциальное», т. е. разумное и всеобщее
содержание. Сравнивая, например, коллизию «Орестейи» Эсхила
(её зачин — убийство Клитемнестрой своего мужа Агамемнона)
с изображением неудачной романтической любви, Гегель считал,
что лишь первая тема вызывает всеобщий, «субстанциальный» ин-
терес; любовь же этого юноши к этой девушке может быть «в выс-
шей степени случайным фактом, произволом субъективности,
не распространенным, не всеобщим»4. В целом же эстетика Гегеля,
в особенности его концепция «идеализации», творческого преоб-
разования действительности, утверждаемый им принцип истори-
зма в подходе к произведениям разных эпох, сохраняет и сегодня
не только историческое значение.
«Разделение поэзии на роды и виды» — так называется статья
В. Г. Белинского, опубликованная в «Отечественных записках»
в 1841 г. С одной стороны, излагаемая концепция восходит ко мно-
1 Жан-Полъ. Приготовительная школа эстетики. С. 276.
2 См.: Чернец Л. В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики). Изд-
во Моск, ун-та, 1982. С. 25—36.
3 О романтической трагедии в трактовке Гегеля см.: Эсалнек А. Я. Пробле-
ма жанра в «Эстетике» Гегеля // Вести. Моск, ун-та. Сер. IX. Филология. 1966,
№ 5. С. 58—60.
4 Гегель Г В. Ф. Лекции по эстетике // Соч.: в 14 т. T. 13. М., 1958. С. 132. Далее
том и страница указываются в тексте.
80
гим положениям эстетики Гегеля. В начале статьи четко разгра-
ничены эпос, лирика, драма. В эпической поэзии «всё внутреннее
глубоко уходит... во внешнее», за «событием» «не видно поэта»,
который «является только как бы простым повествователем того,
что совершилось само собою»1. Лирика, напротив, — «это царство
субъективности, это мир внутренний, мир начинаний, остающийся
в себе и не выходящий наружу. <... > Здесь личность поэта является
на первом плане, и мы не иначе, как через неё, всё принимаем и по-
нимаем» (с. 9). Драма — «высший род поэзии и венец искусства»:
в ней эпос и лирика «совокупляются в неразрывное целое: внутрен-
нее перестает оставаться в себе и обнаруживается в действии; вну-
треннее, идеальное (субъективное) становится внешним, реальным
(объективным)» (с. 9). В драме «мы видим самый процесс начала
и возникновения этого действия из индивидуальных воль и харак-
теров» (с. 10).
Как и в суждениях Гегеля, Жан-Поля1 2, Шеллинга, Белинский
опускает вопрос о «способах подражания», поставленный Платоном
и Аристотелем. Правда, он неоднократно упоминает о «внешней
форме» произведений, но не разъясняет, что имеет в виду. Вообще
«внешняя форма» произведений для него не главное по сравнению
с типом содержания, которое прослеживается в разных по «форме»
произведениях. Так, он называет «Путеводитель в пустыне» Ф. Купе-
ра «шекспировской драмой в форме романа» (с. 28), отмечает «эпи-
ческий характер... драм собственно исторического содержания»,
каковы «Макбет», «Ричард II» Шекспира (с. 30). «Борис Годунов»
Пушкина для Белинского — «трагедия чисто эпического характера»
(с. 30), в поэмах Байрона и Пушкина «господствует не событие, как
в эпопее, а человек, как в драме, или обе эти стороны уравновеши-
ваются и взаимно сопроникаются» (с. 31).
В то же время статья Белинского не является систематизацией
гегелевских положений. Расхождения с Гегелем по, казалось бы,
спокойному вопросу о литературных родах свидетельствует о но-
вой фазе мировоззрения критика. В упомянутом письме В. П. Бот-
кину Белинский пишет: «Субъект у него [Гегеля] не сам себе цель,
но средство для мгновенного выражения общего, а это общее явля-
ется у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем
(в субъекте), бросает его, как старые штаны. Я имею особенно
важные причины злиться на Цегеля], ибо чувствую, что был верен
ему, (в ощущении), мирясь с расейскою действительностью, хваля
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. T. 5. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 9. Да-
лее статья цитируется в тексте с указанием страниц.
2 В письме к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. Белинский писал, что при работе
над статьей пользовался «тетрадками» М. Н. Каткова с конспектами лекций Гегеля
(см.: Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. T. 12. С. 24), в самой статье часто ци-
тирует Жан-Поля.
81
Загоскина и подобные гнусности и ненавидя Шиллера»; «...судьба
субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здра-
вия китайского императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit
[всеобщности]) А
Расхождениям Белинского с Гегелем способствовал также при-
влекаемый русским критиком современный литературный матери-
ал (В. Скотт, Ф. Купер, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и др.). Чаще всего
Белинский не согласен с трактовкой в немецкой эстетике эпической
поэзии (эпопеи и романа), а именно с положением о приоритетно-
сти в эпосе «события». Белинский более всего ценит присутствие
в эпосе драматизма: «Эпическое произведение не только ничего
не теряет из своего достоинства, когда в него входит драматический
элемент, но еще много выигрывает от этого. Это особенно относит-
ся к произведениям христианского искусства, в котором нет ничего
выше человеческой личности с ее внутренней, субъективной сторо-
ны и в котором посему драматический элемент входит в эпический
по праву и возвышает его цену» (с. 22). Как яркие примеры сочета-
ния эпоса и драмы приводятся «Тарас Бульба» Гоголя и «Полтава»
Пушкина.
При всех различиях между концепциями литературных родов,
выдвигаемых в эстетике и критике первой половины XIX века, не-
сомненно отражение в них исторического развития литературы.
Особенно четко принцип историзма проявляется у Гегеля и Бе-
линского. Исторический подход препятствует применению одного
и того же критерия оценки к эпическим произведениям разных вре-
мен — например, к эпической поэме, восходящей к Гомеру, и к ро-
ману на современном материале. В эстетике Гегеля антитеза эпо-
пеи и романа органично вытекает из характеристики различного
«общего состояния мира»: почва эпопеи — «век героев» (XII: 189),
когда «субстанциальное» не отчуждено от индивидов в законах,
стоящих над ними, но герои, «руководясь своим произволом, берут
на себя бремя и совершают весь поступок» (XII: 189). Наилучшая
коллизия для героической эпопеи — «вражда чужеземных наций»
(XIV: 245). Историческая почва романа — совсем другая, это «проза-
ически упорядоченная действительность», где поведение индивида
жестко регламентировано; здесь основная коллизия — «между по-
эзией сердца и противостоящей прозой отношений, а также случай-
ностей внешних обстоятельств» (XIV: 273).
Белинский, сопоставляя роман и эпопею, также указывает
на их разную историческую почву, объясняющую ведущие сюжет-
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. T. 12. С. 22.
82
ные конфликты. «Субстанциальная жизнь народа должна выразить-
ся в событии, чтоб дать содержание для эпопеи. Во времена младен-
чества народа жизнь его преимущественно выражается в удальстве,
храбрости и героизме. Посему общенародная война, которая про-
будила, вызвала наружу и напрягла все внутренние силы народа,
которая составила собою эпоху в его (еще мифической) истории
и имела влияние на всю его последующую жизнь, — такая война
представляет собою по превосходству эпическое событие и дает бо-
гатый материал для эпопеи» (с. 38). Роман же «возник из новейшей
цивилизации христианских народов, в эпоху человечества, когда
все гражданские, общественные, семейные и вообще человеческие
отношения сделались бесконечно многосложны и драматичны,
жизнь разбежалась в глубину и ширину в бесконечном множестве
элементов» (с. 40).
Между эпопеей и романом — сильная разница в «возрасте».
Тем не менее «Илиада» и «Анна Каренина» принадлежат к одному
роду — эпическому. Что же их объединяет?
Отвечая на этот вопрос, современное литературоведение неиз-
бежно возвращается к изучению «способов подражания» и их вза-
имодействию в произведении. Эти способы, конечно, в литературе
тоже не остаются неизменными, однако выбор тех или иных при-
емов не связан напрямую с идейным составом и пафосом произве-
дений. «Технике» повествования, типологии диалогов и монологов,
композиции в лирике посвящено много исследований в литерату-
роведении XX—XXI вв. Как верно пишет В. Е. Хализев, «традиция,
восходящая к Платону и Аристотелю, продолжает жить и является
весьма авторитетной. Роды литературы как типы речевой органи-
зации литературных произведений — это неоспоримая надэпохаль-
ная реальность, достойная пристального внимания»1.
Однако для построения теории литературных родов важны
и многие наблюдения, суждения, основанные на анализе произве-
дений, созданных в разные периоды развития литературы, в особен-
ности в эпоху романтизма, когда автор, раскрепощенный от дикта-
та «правил» классицизма, мог повторить вслед за Пушкиным: «Ты
царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда влечет тебя сво-
бодный ум...» («Поэту»). В эстетике романтизма (конечно, не только
немецкого или русского) и последующих направлений теория лите-
ратурных родов существенно обогатилась, и вышеприведенные по-
ложения о событийности эпоса, о построении сюжета, передающего
драматическое напряжение, о свободе самовыражения поэта в ли-
рике, о синтезе различных родов в одном произведении, о специ-
1 Хализев В. Е. Теория литературы. М.: Академия, 2009. С. 299—300.
83
фике художественного времени в лирике, эпосе и драме «достраи-
вают» теорию, заложенную в античности.
Вопросы
1. Почему Платон предпочитал эпос драме?
2. В чем различие между делением литературы на роды в античности
(Платон, Аристотель) и в немецкой эстетике конца XVIII — первой половины
XIX вв.?
3. «Эпос изображает событие, развертывающееся на основе прошлого,
драма — действие, развивающееся в сторону будущего и направленное
на будущее, лирика — чувство, заключенное в настоящем». Кто автор этой
формулировки?
4. Что понимал Г. В. Ф. Гегель под «субстанциальным»? В чем проявился
историзм в его подходе к литературным родам и жанрам?
5. «Эпическое произведение не только ничего не теряет из своего досто-
инства, когда в него входит драматический элемент, но еще много выигрывает
от этого. Это особенно относится к произведениям христианского искус-
ства, в котором нет ничего выше человеческой личности с ее внутренней,
субъективной стороны и в котором посему драматический элемент входит
в эпический по праву и возвышает его цену». Кто автор этих строк и какие
примеры сочетания эпоса и драмы в одном произведении он приводит?
Глава 5
ДРАМА
Рус.: драма,монолог, диалог; англ.: drama, monologue, dialogue; нем.: Drama,
Monolog, Dialog; фр.: drame, monologue, dialogue.
Отличие драмы от эпики. — Рамочный (побочный) текст. — «Генера-
лизация / детализация» в основном тексте. Эпизоды. — Типы монологов
и диалогов. — Драма и спектакль, драма для чтения (Lesedrama).
Драму сближает с эпическим литературным родом изображение
внешней стороны жизни: здесь есть система персонажей (действу-
ющих лиц) и сюжет, т. е. ход событий, протекающих в определен-
ном пространстве и времени. Естественно, в драме воссоздается
и внутренний мир персонажей, но его изображение обычно связано
с развитием общего действия произведения.
Так, в пьесе П. Корнеля «Сид» (1637) монолог Родриго переда-
ет борьбу чувств в душе героя, оказавшегося в сложной ситуации:
он должен отомстить дону Гомесу, отцу любимой им Химены: дон
Гомес оскорбил его отца, старого дона Дьего, для которого «меч уже
тяжел в борьбе». Решению Родриго вызвать на поединок дона Гоме-
са предшествуют его мучительные раздумья:
Я предан внутренней войне.
Любовь моя и честь в борьбе непримиримой:
Вступиться за отца, отречься от любимой!
Тот к мужеству зовет, та держит руку мне.
Но что б я ни избрал — сменить любовь на горе
Иль прозябать в позоре, —
И там и здесь терзаньям нет конца1.
Родриго преодолевает это состояние внутренней раздвоенности:
Я был в рассудке помрачен:
Отцу обязан я первее, чем любимой;
Умру ли я в бою, умру ль, тоской томимый,
Я с кровью чистою умру, как был рожден.
(Там же, с. 107.)
1 Корнель П. Сид // Театр французского классицизма. Пьер Корнель. Жан Ра-
син. М.: Худож. лит., 1970. С. 106 (пер. М. Лозинского).
85
Химена также переживает внутренний конфликт. Понимая, что
Родриго выберет путь чести, она предвидит и свои страдания. Ее пе-
реживания — своего рода зеркало его внутренней борьбы. В ответ
на предположение Инфанты, что по просьбе своей любимой Родри-
го не будет мстить её отцу, Химена говорит:
Коль он не внемлет мне — какой предел невзгод!
А если может внять, то кем он прослывет?
Благорожденному — не смыть обиды кровной?
Уступит он иль нет огню тоски любовной,
Мне только стыд сулят иль скорбь, из часа в час,
Такая преданность или такой отказ.
(Там же, с. 113.)
Узнав о гибели отца, Химена сразу является к королю и требует
возмездья («Великий государь, убийца жить не может!»), но... про-
должает любить Родриго. Из безысходной ситуации героев выводит
неожиданное событие — нападение мавров, которых побеждает ис-
панское войско во главе с Родриго. Он становится национальным
героем, Сидом (по-арабски — господином), что открывает возмож-
ность его будущего брака с Хименой (оптимистический финал объ-
ясняет, почему Корнель назвал пьесу не трагедией, а «трагикоме-
дией»).
Но переживания и размышления персонажей драмы не всегда
напрямую связаны с их поступками, подготавливают к ним, как
в «Сиде».
В пьесе А. П. Чехова «Три сестры» (1901) Ольга, Маша и Ирина
в течение нескольких лет мечтают, но только мечтают, вернуться
в Москву, их можно назвать скорее бездействующими, чем дей-
ствующими лицами. Но все-таки внешнее действие скрепляет и это
произведение как целое. «Даже у Чехова в отдельных актах его пьес
происходит множество важных для героев событий. Так, в первом
акте “Трех сестер” в доме Прозоровых появляется Вершинин, с ним
знакомится и впервые заинтересованно разговаривает Маша; объ-
ясняется в любви к Ирине Тузенбах; делает предложение Наташе
Андрей Прозоров. И все это в одном помещении (гостиная в доме
сестер) на протяжении менее чем часа!»1
При всей родственности эпики и драмы (подтверждаемой много-
численными инсценировками эпических произведений) сама субъ-
ектная организация речи обуславливает тематическую избиратель-
ность драмы: прежде всего в ней представлены ситуации общения
людей. По меткому наблюдению Б. О. Костелянца, такие эпические
произведения, как роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» (до встре-
чи главного героя с Пятницей) или рассказ Э. Хемингуэя «Старик
и море», читаются с неослабевающим интересом, но «поставить
1 Хализев В. Е. Драма как род литературы. М.: Изд-во Мос. ун-та, 1986. С. 123.
86
их на драматической сцене невозможно, да и не нужно. <...> Дра-
ма, как и неотделимый от нее драматический театр, устремлена
к изображению человеческих взаимоотношений»1. Если же сколь-
ко-нибудь глубоких взаимоотношений (неважно, дружественных
или враждебных) между персонажами не возникает, то сама внеш-
няя форма пьесы, изображающей по преимуществу процесс обще-
ния, остро подчеркивает их одиночество. Герои слушают, но не слы-
шат друг друга, формальному общению противостоит личностное
разобщение — как в драме Г. Ибсена «Кукольный дом», в «Чайке»
Чехова, а особенно в театре абсурда («Лысая певица», «Носорог»
Э. Ионеско).
В эпическом же произведении ведущей является речь повество-
вателя, в которой огромное место может занимать описание при-
роды, вещей, наружности персонажей, их психологического со-
стояния, изо дня в день повторяющихся действий. Пример такого
описательно-повествовательного стиля — «Сон Обломова» в рома-
не И. А. Гончарова «Обломов», где необычайным событием было
получение письма, так и оставшегося без ответа. В эпике автор
на долгое время может оставлять героя в ситуации уединения, обо-
собления от других людей. Так, в романе И. С. Тургенева «Дворян-
ское гнездо» одна из идейных кульминаций — пребывание Лаврец-
кого в Васильевском, где он слушает «тишину»: «В то самое время
в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь;
здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам;
и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой
уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе,
как весенний снег, и — странное дело! — никогда не было в нем так
глубоко и сильно чувство родины»1 2.
it it it
Речь персонажей в драме четко отделена от рамочного (побочно-
го) текста, который в этом роде литературы включает больше ком-
понентов, чем в эпике и лирике: в него входят не только имя автора,
заглавие, жанровый подзаголовок, эпиграф, авторские примечания
и декупаж (деление на акты, сцены и явления)3, но также список дей-
ствующих лиц и авторские ремарки. «Целесообразно выделять типы
ремарок: это словесные декорации (по аналогии с театральными де-
корациями), авторская мизансцена (по аналогии с мизансценой теа-
тральной); обозначение вещей, с которыми манипулируют персона-
1 Костелянец Б. О. Драма и действие. Лекции по теории драмы. М.: Совпаде-
ние, 2007. С. 30.
2 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. T. 6. М.: Наука,
1981. С. 65.
3 См. подробнее: Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. М.: Прогресс, 1991.
С. 71—73.
87
жи; ремарки, вводящие детали портрета, костюма; самая большая
группа — ремарки, указывающие на невербальные формы поведения
(особенности жестов, мимики, интонаций, походки и др.)»1.
Не меньшее разнообразие наблюдается в принципах состав-
ления списка действующих лиц. Здесь значимы не только имена
персонажей, но и порядок их перечисления, и сопутствующие ав-
торские пояснения. Например, в списке лиц драмы Островского
«Бесприданница» Василий Данилыч Вожеватов представлен как
«очень молодой человек, один из представителей богатой торговой
фирмы, по костюму европеец». Чтение пьесы убеждает в том, что
этот персонаж, помыкающий Робинзоном и предложивший Кнуро-
ву с помощью «орлянки» решить, чьей будет Лариса, — европеец
только «по костюму». А завершают список Таврило («клубный бу-
фетчик и содержатель кофейной на бульваре») и Иван («слуга в ко-
фейной»), названные по имени: они занимают низшую ступеньку
и на социальной лестнице, и в сюжете пьесы.
В истории драмы, предназначенной для театра, можно конста-
тировать постепенное расширение рамочного текста, в который
вводятся не участвующие в действии персонажи. В начале XX в. та-
кая рамка подчас становится символическим орнаментом, пояс-
няющим общий смысл произведения. Так, в пьесе Л. Н. Андреева
«Жизнь человека» (1907) основное действие заключено в рамку, где
Некто в сером с горящей свечой в руках предваряет своим расска-
зом смысл всего представления. Как комментирует С. Д. Кржижа-
новский: «Вся сценическая биография свечи не выходит за пределы
ремарок: сперва это восковой стержень свечи (...и пьесы), таин-
ственно, вместе с первым криком новорожденного, зажигающей
свой огонь; ко второму действию язык пламени разгорелся, свеча
стала чуть ниже ростом; далее по ней плывут оплывки, пламя ша-
тается, фитиль обгорел; и наконец, в последнем действии ремарка
сообщает нам о жалком огарке, которому вместе с человеком пред-
стоит тьма»1 2.
Театральные режиссеры (институт режиссуры формируется
в конце XIX — начале XX в.) далеко не всегда следуют авторским
указаниям. Кржижановский пишет даже о «режиссерско-авторском
фронте» и приводит ответ одного режиссера на вопрос, что тот дела-
ет, получив от автора текст пьесы. «Знаменитый режиссер отвечал
без улыбки: “Прежде всего мы вычеркиваем все ремарки”»3. Но, ко-
нечно, сохраняется и традиция бережного отношения к авторскому
замыслу, отраженному в рамке текста.
1 Кабыкина Ю. В. Рамочный текст в драматическом произведении (А. Н. Остров-
ский и А. П. Чехов). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. С. 13.
2 Кржижановский С. Д. Театральная ремарка (фрагмент) // Собр. соч.:
в 6 т. T. 4. СПб.: Симпозиум, 2006. С. 102.
3 Там же. С. 105—106.
88
Основной текст пьесы обычно делится на «действия», а далее —
на «сцены» («картины»); «сцены», в свою очередь, состоят из «явле-
ний» (этот термин указывает на изменения в составе персонажей,
на чей-то приход или уход; для современных пьес членение на «яв-
ления» не характерно). Внешняя композиция обычно подчинена
внутренней: «сцены» или их сцепления образуют тематически цель-
ные эпизоды, скрепленные единством места и времени, составом
основных участников и определенной ролью в развитии сюжета;
таким эпизодам можно дать условные названия. Само слово «эпи-
зод» восходит к «эписодию» в древнегреческих трагедиях и комеди-
ях — «речевой сцене между песнями хора»1; с уходом хора из пьес
«эписодии» стали основным текстом.
Так, в комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!»
(1850) первые восемь явлений первого действия знакомят с Липоч-
кой, её мечтами о женихе, которые, судя по обещаниям пришедшей
свахи, скоро сбудутся. Следующий эпизод (явления 8—10-е) можно
озаглавить «Договор Большова со стряпчим»; он также имеет свою
экспозицию и развязку — решение Большова по совету Рисположен-
ского перевести дом и лавки на приказчика; тем самым подготав-
ливается третий эпизод, вводящий нового героя — Лазаря Подха-
люзина (наиболее активного участника интриги). Таким образом,
разбивка на части («эпизоды») отражает внутреннюю композицию
пьесы. Подобно тому как в общем сюжете пьесы традиционно вы-
деляют экспозицию, развитие действие, кульминацию и развязку,
эпизод также имеет свою структуру.
В эпическом произведении время сюжета и время повествования
о сюжете то сближаются, то резко расходятся, и в речи повествова-
теля очень заметна оппозиция «генерализация/детализация», «за-
медление/ускорение темпа». Эта оппозиция менее заметна в драме,
но она здесь тоже есть: ведь о многих событиях прошлого или про-
исходящего «за сценой» лишь кратко сообщается в репликах персо-
нажей. Например, в четвертом действии чеховской «Чайки» Дорн
спрашивает Треплева о судьбе Нины Заречной:
Дорн [...] Кстати, где теперь Заречная? Где она и как?
Треплев. Должно быть, здорова.
Дорн. Мне говорили, что она повела какую-то особенную жизнь. В чем
дело?
Треплев. Это, доктор, длинная история.
Д о р н . А вы покороче.
Треплев. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам
известно?
Дорн .Знаю1 2.
1 Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука. Словарь-
справочник / Под ред. В. Н. Ярхо. М.: Высшая школа, 1995. С. 348.
2 Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. T. 9. М.: Худож. лит., 1956. С. 271—272.
89
Сочувствие Дорна Нине, её неудачной судьбе делают Трепле-
ва откровенным, и он многое сообщает о ней. Но и его рассказ
«сжимает» историю героини, это обобщение многих событий, сво-
его рода резюме. Например: «Бралась она всё за большие роли,
но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами.
Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо
умирала, но это были только моменты»1. Смена темпа, различная
степень детализации повествования в монологах героев драмы,
если речь идет о прошлом или о происходящем «за сценой», сбли-
жает ее с эпикой.
«Вначале юношей выходит к нам герой, / А под конец, глядишь:
он старец с бородой», — иронизировал Н. Буало в «Поэтическом ис-
кусстве» над Лопе де Вегой1 2. То же можно сказать, но без иронии,
о многих пьесах XIX—XXI вв. Чехов восхищался драмой Островского
«Пучина» (1866) в постановке её Малым театром (1892): «Пьеса уди-
вительная. Последний акт — это нечто такое, чего бы я и за милли-
он не написал. Этот акт — целая пьеса, и когда я буду иметь свой
театр, то буду ставить только этот один акт»3. В «Пучине», жанр ко-
торой обозначен как «сцены московской жизни», между сценами
(их всего четыре) проходят семь, потом пять, потом еще пять лет.
В последней сцене об изменениях к худшему в жизни Кисельникова
свидетельствует уже список «лиц» (Островский со второй половины
1850-х гг. писал эти списки к каждому действию4), где дано опи-
сание его костюма («одет в старое пальто, панталоны в сапогах»)
и жилища («бедная комната с русской печью, за занавеской кровать;
посредине комнаты дощатый стол и скамья»). Мать главного героя
о перенесенных семьей испытаниях говорит кратко. Столь же крат-
ко сказано о неприятном случае, только что произошедшем с Лизой
на бульваре (к ней приставали «шалуны»). Словом, оппозиция «ге-
нерализация / детализация» есть и в драме, хотя проявляется не так
заметно и значительно реже, чем в эпике. Что касается Островско-
го, то «Пучина» — скорее исключение, чем норма в его творчестве.
В 1885 г. в одном из писем он замечает: «...представлять целый ряд
событий, разделенных большими промежутками времени, не долж-
на драма, — это не её дело; её дело — одно событие, один момент,
и чем он короче, тем лучше»5. В «Бесприданнице» (1879) на сцене
показан всего один — последний — день в жизни героини.
1 Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. T. 9. С. 272.
2 Буало Н. Поэтическое искусство. М.: Искусство, 1957. С. 78.
3 Чехов А. П. Письмо А. С. Суворину (3 марта 1892 г.) // Поли. собр. соч. и пи-
сем: в 30 т. Письма: в 12 т. М.: Наука, 1977. T. 5. С. 11.
4 См.: Кабыкина Ю. В. Список действующих лиц // А. Н. Островский. Энцикло-
педия / Гл. ред. И. А. Овчинина. Кострома; Шуя, 2012. С. 418—421.
5 Островский А. Н. О литературе и театре / Вступ. ст и комм. М. П. Лобанова.
М.: Современник, 1986. С. 332.
90
Традиционно вычленяемые в сюжете компоненты (от экспози-
ции до развязки) могут четко следовать друг за другом, как в «Бес-
приданнице». Однако в пьесе может быть несколько сюжетных
линий, образующих «узел», «развязываемый» в финале. Яркий при-
мер — «Волки и овцы» Островского (1875), где искусно сплетены
несколько сюжетных линий1.
В «новой драме» конца XIX — начала XX в. (Г. Ибсен, А. П. Чехов,
ранний М. Горький) в финале возникает «дискуссия» (например:
что предпочтительнее: жёсткая правда или утешительная ложь?),
и она как бы переносится в зрительный зал (см. «Дикую утку» Иб-
сена и «На дне» Горького).
Основной (не рамочный) текст драмы представляет собой че-
редование диалогов, состоящих из реплик персонажей, и моноло-
гов. Ввиду многообразия проблематики и авторских стилей, исто-
рической эволюции драматических жанров трудно предложить
их сколько-нибудь полную классификацию. Все же рассмотрим
некоторые типы монологов и диалогов в драме, с учетом их роли
в сюжете произведения и в организации ритма пьес, в частно-
сти чередования напряженных и относительно спокойных эпизо-
дов (основным, но не единственным материалом являются пьесы
А. Н. Островского)1 2. Сначала назовем типы монологов.
1. Монолог уединенный. Он произносится на сцене «в пол-
ном одиночестве или в атмосфере психологической изоляции
от присутствующих»3. Такие монологи — яркий пример условно-
сти драмы, делающей даже замкнутых персонажей «экстраверта-
ми». Помимо неестественности долгого разговора с самим собой,
условность уединенных монологов в драме проявляется в «цитат-
ности», правильности речи; контрастный фон — «поток сознания»
героя в эпике, например, внутренний монолог засыпающего Нико-
лая Ростова: «На-ташку, наступить, да, да, да. Это хорошо» («Вой-
на и мир», т. 1., ч. 3, гл. 13). Даже находясь в состоянии аффекта,
крайнего душевного смятения, драматические герои говорят понят-
но: их волнение передают легко домысливаемые эллипсы, повто-
ры, эмоционально-риторические интонации: «А об жизни и думать
не хочется. Опять жить? Нет, нет, нет... не надо, нехорошо! И люди
мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду
1 См.: Журавлева А. И. Волки и овцы // А. Н. Островский. Энциклопедия /
Гл. ред. И. А. Овчинина. Кострома; Шуя, 2012. С. 86—90.
2 О типологии монологов и диалогов на материале древнегреческой траге-
дии см.: Гаспаров М. Л. Сюжетосложение греческой трагедии // Гаспаров М. Л. Из-
бранные труды. T. 1. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 449—482. Как показано
в работе М. Л. Гаспарова, некоторые типы монологов и диалогов, выделяемые в дра-
ме Нового времени, имеют очень давнее происхождение.
3 Хализев В. Е. Драма как род литературы. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1986. С. 161.
91
туда! Нет, нет, не пойду!» (из монолога Катерины в «Грозе», д. 5,
явл. 4). В отсутствие партнеров по сцене у героини остается коллек-
тивный адресат — зрительный зал.
Уединенный монолог — прежде всего форма психологическо-
го анализа или рассуждения, но он выполняет и другие функции.
Он может быть предельно взволнованным (как у Катерины) и внеш-
не спокойным (монолог Сальери, открывающий трагедию Пушки-
на «Моцарт и Сальери»). От самоуверенности герой может перейти
к отчаянию (монолог Глумова до и после обнаружения пропажи
дневника в комедии Островского «На всякого мудреца довольно
простоты», д. 4, явл. 5).
Часто уединенный монолог второстепенного персонажа зна-
комит с прошлым главных героев, выполняет роль экспозиции
сюжета. Таков монолог Осипа во втором действии «Ревизора» Го-
голя: из него ясно, что Хлестаков — «елистратишка простой», что
он по дороге из Петербурга «профинтил» денежки, а «теперь сидит
и хвост подвернул...» (д. 2, явл. 1). Ту же роль выполняет в пьесе
Островского «Таланты и поклонники» открывающий её монолог До-
мны Пантелевны (матери актрисы Саши Негиной), в котором она
сетует на бедность: «Нет моей Саше счастья! Содержит себя очень
аккуратно, ну, и нет того расположения промежду публики...» —
и тут же называет возможных покровителей дочери — князя (Ду-
лебова) и Великатова: «Сидят, по уши в деньгах зарывшись, а нет,
чтобы бедной девушке помочь» (д. 1, явл. 1). Так намечаются кон-
туры будущего сюжета.
Обычно уединенные монологи суть ретардации действия. Ведь
«драма не может рассматриваться как непрерывно развивающееся
действие. В драме действие чередуется с раздумьями и обобщения-
ми. Герои размышляют вслух, называют свои чувства, разумеется,
это такая же условность, сложившаяся исторически, как и всеведе-
ние автора-повествователя...»1 Длинные уединенные монологи, как
правило, составляют отдельные эпизоды.
2. Монолог обращенный1 2 — менее условная композиционно-ре-
чевая форма, он обычно возникает в ходе диалога: собеседники за-
девают героя «за живое», и он отвечает страстным, патетическим
монологом. Часто обращенные монологи совмещают в себе крити-
ку чужих и защиту собственных взглядов; предполагается, что эти
взгляды сближают героя, автора и зрителя (читателя). Такие моно-
логи — «под занавес» — нередко звучат в финале пьес Островского,
т. е. занимают в тексте сильную позицию, и произносят их герои,
выражающие точку зрения автора или близкую к ней — напри-
1 Шаталов С. Е. Островский как художник-психолог // Наследие Островского
и советская культура. М., 1974. С. 60—76.
2 Как и предыдущий тип монолога, «обращенный монолог» — термин, исполь-
зуемый В. Е. Хализевым в его книге «Драма как род литературы».
92
мер, заключительные речи Любима Торцова в «Бедности не порок»,
Несчастливцева в «Лесе» (где он цитирует Ф. Шиллера), Мелузова
в «Талантах и поклонниках». Мелузов, которого покинула Саша,
говорит иронизирующему над ним Бакину: «Я [...] свое дело буду
делать до конца. А если я перестану учить, перестану верить в воз-
можность улучшать людей или малодушно погружусь в бездействие
и махну рукой на всё, тогда покупайте мне пистолет, спасибо ска-
жу» (д. 4, явл. 9). Известной студенческой песней завершается пьеса
«Трудные дни»: «Gaudeamus igitur...»
Сходную функцию единения зрительного зала выполняют и фи-
нальные монологи персонажей, далеких от героики, но добрых,
сентиментальных — например, монолог Корпелова в «Трудовом
хлебе»: «Да разве жизнь-то мила только деньгами, разве только
и радости, что в деньгах? А птичка-то поет, чему она рада, деньгам,
что ли? Нет, тому она рада, что на свете живет. Самая жизнь-то есть
радость, всякая жизнь — и бедная, и горькая — все радость. Озяб,
да согрелся — вот и радость. Голоден, да накормили — вот и ра-
дость» (д. 4, явл. 8).
В финалах исторических пьес Островского звучат поучительные
сентенции. В соответствии с шекспировской традицией, их изре-
кает второстепенный персонаж: «Потоль велика русская земля, /
Поколь тебя и чтить и помнить будут» (с этими словами Аксёнов
обращается к Минину во 2-й редакции хроники «Козьма Захарьич
Минин, Сухорук»); скорое низвержение с престола пророчит Голи-
цын Василию Шуйскому: «На трон свободный / Садится лишь из-
бранник всенародный» (хроника «Дмитрий Самозванец и Василий
Шуйский»). Последняя реплика в пьесе — это сильная позиция тек-
ста, что драматург неизменно учитывал.
Герои Островского редко выходят из своей роли, в отличие от го-
родничего в «Ревизоре» Гоголя, в своем последнем монологе опол-
чившегося на авторов комедий: «Мало того что пойдешь в посмеши-
ще — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит»
(д. 5, явл. 8).
Комические персонажи пьес Островского также произносят пси-
хологически достоверные длинные речи, но обычно в ходе развития
действия, а не в финале, где автору важно высказать устами героя
свою позицию. Так, в «Доходном месте» монолог-самооправдание
произносит Юсов, раздраженный присутствием Жадова в трактире
и его молчанием, обидным для веселящихся чиновников. Юсов гово-
рит о взятках, ставших нормой в чиновничьем кругу: «...Ты возьми,
так за дело, а не за мошенничество. Возьми так, чтобы и проситель
был не обижен и чтобы ты был доволен. Живи по закону; живи так,
чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Что за болыпим-то гонять-
ся! Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает» (д. 3, явл. 3). «Бла-
93
годушие и особенного рода совестливость взяточников, — отмечал
Н. А. Добролюбов, — рисуются несколькими беглыми чертами еще
в “Бедной невесте”, в лице добряка Добротворского. Но в “Доходном
месте” черты эти гораздо ярче в Юсове и в Белогубове»1.
Обращенные монологи, выражающие кредо героя, его выношен-
ные убеждения (в том числе не разделяемые автором), обычно об-
разуют кульминацию эпизода. Они произносятся с волнением, это
напряженные моменты в действии пьесы.
Поскольку обращенные монологи «вырастают» из диалога, гра-
ница между ними и репликами подвижна и определяется в контек-
сте эпизода.
3. Обращенный повествующий монолог.
В таком монологе персонаж подробно рассказывает о событии,
произошедшем «за сценой» произведения. Одним из его архетипов
является «эпический монолог» Вестника в древнегреческих траге-
диях1 2.
В драмах классицизма, где соблюдалось единство места и време-
ни, за сценой нередко происходили важнейшие события. Но о них
подробно рассказывали персонажи-очевидцы. Так, в «Федре» Ж. Ра-
сина о гибели Ипполита рассказывает Терамен, явившийся с пе-
чальной вестью к Тесею. Это позволило сохранить единство места
и одновременно избежать прямого показа страшных мучений ге-
роя. Как писал Н. Буало:
Не все события, да будет вам известно,
С подмостков зрителям показывать уместно:
Волнует зримое сильнее, чем рассказ,
Но то, что стерпит слух, порой не стерпит глаз3.
События, подобные гибели Ипполита, не показывались на сцене
не только потому, что их не мог «стерпеть глаз». Ведь драма, как
было отмечено выше, моделирует прежде всего ситуации речевого
общения, поэтому события, происходящие в молчании, не для нее.
Во всяком случае, для «немых сцен» (финал «Ревизора» Гоголя) ну-
жен фон звучащей, вдруг прерванной речи.
Но о действиях, событиях, происходящих в молчании, можно вы-
разительно рассказать, что и делает Терамен. Приведем фрагмент
из его рассказа о гибели Ипполита, тщетно пытавшегося бороться
с чудовищным быком, которого наслал на него Посейдон (по прось-
бе Тесея):
1 Добролюбов Н. А. Темное царство // Добролюбов Н. А. Собр. соч.: в 3 т. T. 2. М.:
Худож. лит., 1987. С. 440—441.
2 Гаспаров М. Л. Сюжетосложение в греческой трагедии // Гаспаров М. Л. Из-
бранные труды. T. 1.: О поэтах. М.: Языки русской культуры, 1957. С. 461.
3 Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 78.
94
Держался Ипполит, но вдруг — сломалась ось!..
О, горе! О, зачем узреть мне довелось
Тот ужас, что теперь мне вечно будет сниться!
Разбилась вдребезги о камни колесница.
Запутался в вожжах несчастный Ипполит.
Упряжка мчится вдаль и за собой влачит
Возничего. Коней сдержать он хочет криком,
Они еще быстрей несутся в страхе диком,
И скоро юноша стал раною сплошной1.
Повествующие монологи, в зависимости от сюжета произведе-
ния, могут занимать в ней значительное место. И после отмены
правила «трех единств» в драму включаются монологи, знакомящие
с событиями, происходящими «за сценой». Ведь в рамках эпизода
обычно сохраняется единство места и времени, но сообщить другим
персонажам (и читателю, зрителю) часто нужно не только о том,
что происходит здесь и теперь. Так, в пьесе М. Горького «На дне»
ночлежники часто вспоминают свою прошлую жизнь, и эти их экс-
курсы, замедляющие действие пьесы, побуждают задуматься над
сцеплением неудавшихся судеб и их причинами.
При всей важности монолога, основную часть текста драмы,
в особенности последних столетий, составляет диалог, в котором
реализуются прежде всего коммуникативные, апеллятивные функ-
ции речи, слово героя становится его действием. В результате «про-
порции между повествованием и речевыми действиями персона-
жей здесь резко смещены в пользу последних»1 2. Между монологами
и диалогами в драме нет четкой границы, ведь большинство моно-
логов — обращенные.
Но часто диалог представляет собой обмен короткими репли-
ками между персонажами. Обычно реплика, как пишет П. Пави,
«имеет смысл только в сцеплении предшествующей и последующей
реплик. Минимальное единство смысла и положения образуется
парами: реплика / контрреплика, слово / контрслово, действие /
реакция. Зритель не следит за нитью слитного и монологического
текста: он интерпретирует каждую реплику в изменяющемся кон-
тексте высказываний. Структурирование совокупности реплик дает
указание относительно ритма пьесы и равнодействующей силы кон-
фликтующих сторон. Набор реплик не помещается только на уров-
не семантических оппозиций фигур; он имеет место и на уровне ин-
тонации, стиля игры и ритма мизансцены. По Брехту, постановка
реплик осуществляется по принципу тенниса...»3
1 Театр французского классицизма. П. Корнель. Ж. Расин. М.: Худож. лит., 1970.
С. 566.
2 Хализев В. Е. Драма как род литературы. С. 42.
3 Пави П. Словарь театра / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1991. С. 287—288.
95
Среди диалогов можно выделить следующие типы.
1. Диалог-поединок. Этот термин использует В. М. Волькен-
штейн, ссылающийся, в свою очередь, на немецкого теоретика
Ю. Баба, автора книги «Новая критика сцены» (1920). Такой диа-
лог характерен для драм, сюжет которых основан на напряженной
борьбе персонажей. Здесь слово, реплика героя — это словесное
действие, приближающее его к цели или отдаляющее от нее. «Дра-
матическая сцена есть поединок; драматическая реплика — удар
в борьбе или парирование удара»1.
Архетипом такого обмена репликами можно считать древне-
греческий агон (однокоренное слово — антагонизм, т. е. непри-
миримое противоречие) и следующую за ним стихомифию. Агон
представлял собой «две длинные речи двух оппонентов», к которым
контрастно примыкала «стихомифия, т. е. обмен одностишными ре-
пликами», далее следовали «две или три краткие речи, подводив-
шие итог»1 2.
Приведем фрагмент стихомифии (следующей после агона)
из трагедии Софокла «Антигона». Креонт, правитель Фив, присужда-
ет к смерти Антигону, осмелившуюся вопреки его приказу предать
земле тело своего брата Полиника, погибшего в борьбе за Фивы. Те-
мой, сын Креонта и жених Антигоны, упрекает отца в самовластии
и пренебрежении к древнему обычаю — не оставлять убитых без
погребения:
Креонт. Ты не считаешь Преступной Антигону?
Ге м о н . Нет, отец. Все граждане и весь народ фиванский Ее вины не признают.
Креонт. Народ Не может мне повелевать.
Ге м о н . О царь, Теперь не я — ты сам заговорил, Как юноша неопытный и пылкий.
Креонт. В моей земле я царствую один.
Ге м о н . Принадлежать не может одному Свободная земля.
Креонт. Принадлежит Земля тому, кто в ней царит по праву.
Ге м о н . Не лучше ли в пустыне одному Тебе царить?3
Есть прямая связь между ведущими мотивами в драме и частот-
ностью диалогов-поединков. Так, в драме Г. Ибсена «Враг народа»
1 Волъкенштейн В. М. Драматургия. М., 1923. С. 67.
2 Гаспаров М. Л. Сюжетосложение в греческой трагедии. С. 458.
3 Софокл. Антигона / Пер. Д. С. Мережковского // Греческая трагедия. М.,
1956. С. 145—146.
96
(1882) диалоги между братьями Стокманами: Томасом (врачом, об-
наружившим, что построенная водолечебница является «заразной
ямой», и добивающимся её закрытия) и Петером (председателем
правления курорта, фогтом1, для которого важны только доходы
и видимость благополучия) — это настоящие баталии, превращаю-
щие их в непримиримых врагов. Приведем один из диалогов (д. 2).
Фогт, узнав о зараженной воде, настаивает на публичном опровер-
жении Томасом своего открытия:
«Фогт. Имеются основания полагать, что ты при новом исследова-
нии придешь к тому результату, что положение далеко не столь опасно или
серьезно, как ты предполагал первоначально.
Доктор Стокман. Ах, так вот чего ты ожидаешь!
Фогт. Далее ожидается, что ты питаешь и публично выразишь доверие
к правлению и к той основательности и добросовестности, с которой оно
предпримет необходимые меры для устранения возможных недочетов.
Доктор Стокман. Да никогда вам не удастся поправить дело, если
вы собираетесь только пачкотней заниматься да заплатки ставить! Говорю
тебе, Петер, это мое искреннейшее, глубочайшее убеждение...
Ф о г т. В качестве служащего тебе не полагается иметь особых мнений
и убеждений.
Доктор Стокман (пораженный). Не полагается?..»1 2
В конце этого «родственного» разговора фогт называет Томаса
«врагом народа» и предлагает ему уйти в отставку. Под нажимом
правления курорта от доктора отворачиваются и газетчики, снача-
ла обещавшие ему поддержку, и жители, выслушавшие лживую речь
записного оратора. Диалоги в этой драме — череда столкновений
опытных демагогов и главного героя, радеющего об общем благе,
но простодушного новичка в политике (постановка в МХТ в 1900 г.
принесла К. С. Станиславскому как режиссеру и исполнителю глав-
ной роли огромный успех).
У Островского к диалогам-поединкам в особенности предрас-
полагает мотив обмана. «Язык драмы — язык желания; в этом его
сила, его правда; в этом его ложь. Нельзя верить на слово ни одно-
му драматическому герою; надо проверить, отчего и, главное, для
чего он говорит, проверить обстоятельства, в которых он действует,
его отношения с партнерами — прежде всего его единое действие»3.
В пьесах, где идет чисто сюжетная (не идейная) борьба, в основном
из-за имущественных или «марьяжных» интересов, это положение
часто подтверждается в самом буквальном смысле. Так, в комедии
1 Фогт — «в Норвегии до конца XIX в. полицейский и податной чиновник» //
Ибсен Г. Собр. соч.: в 4 т. T. 3. М.: Искусство, 1957. С. 851.
2 Там же. С. 566.
3 Волъкенштейн В. М. Указ. соч. С. 82.
97
«На всякого мудреца довольно простоты» Глумов, этот Чичиков
от идеологии, находит нужные слова для Мамаева и Мамаевой,
Крутицкого, Городулина, Турусиной. Он быстро и виртуозно меня-
ет свои речевые маски. Много таких масок и у Лазаря Подхалюзина
(«Свои люди — сочтемся!»), Мурзавецкой («Волки и овцы»), Гур-
мыжской («Лес»), Персонаж говорит именно то, что от него требу-
ется в данной ситуации, чтобы произвести на собеседника выгод-
ное впечатление и в то же время не упустить своей цели. «Все, что
я имею, все мои деньги принадлежат бедным; я только конторщица
у своих денег, а хозяин им всякий бедный, всякий несчастный», —
говорит Гурмыжская в «Лесе», доказывая, что не только родствен-
ники, но и «молодой дворянин» Буланов имеет право на ее «состра-
дание» (д. 1, явл. 4).
Диалог-поединок преобладает в эпизодах, развивающих сюжет,
требующих от героев уверенных и точных словесных действий. Это
каждый раз испытание для героя, требующее от него напряжения
и находчивости. Однако такие диалоги не могут занимать весь текст
произведения, и трудно согласиться с утверждением В. М. Волькен-
штейна: «Единое действие развивается в беспрерывной драматиче-
ской борьбе. Каждая сцена драмы есть “поединок”, по выражению
Ю. Баба»1. Как в музыке, в литературном произведении напряжен-
ный эпизод чередуется со спокойным, фигурально говоря, вырази-
тельна сама смена темпа (allegro / andante).
2. Досужий разговор. Напряженные эпизоды, передающие сю-
жетные перипетии, чередуются в пьесах со спокойными, где идет
неторопливый разговор на самые разные темы. Особенно часто ве-
дут такие речи комические персонажи. Это ретардации действия,
разговоры, вводящие в повседневность, в круг ежедневных забот,
пересудов, привычек; во многом благодаря таким эпизодам, в ко-
торых сюжет «стоит на месте», театр Островского часто называют
эпическим.
Колоритно воспроизводится речевой этикет. Так, деловые раз-
говоры не принято начинать сразу: сначала нужно поговорить
на темы отвлеченные. Например, в «Своих людях...» Большов при-
ступает к разговору о свадебном сговоре издалека:
«Большое.!...] А теперь пока побеседуем маненько.
Устинья Наумовна. Отчего ж и не побеседовать! Вот, золотые мои,
слышала я, будто в газете напечатано, правда ли, нет ли, что другой Бонапарт
народился, и будто бы, золотые мои...
Большов. Бонапарт Бонапартом, а мы пуще всего надеемся на мило-
сердие божие; да не об этом теперь речь.
Устинья Наумовна. Так об чем же, яхонтовый?» (д. 3, явл. 4).
1 Волъкенштейн В. М. Драматургия. С. 27.
98
Разнообразны мотивы досужих разговоров: деньги, свадьбы, слу-
хи, ворожба, разгадывание снов, гадание на картах, еда и напитки,
модная одежда, экипаж, путешествия, войны и т. д. В разговорах от-
тачивается острословие, приобретается привычка к словесной игре.
Очень богата досужими разговорами трилогия Островского о Баль-
заминове. Сваха Красавина вносит разнообразие в сонную жизнь
замоскворецкой купчихи Белотеловой:
«К р а с а в и н а .<...> Поговорим об чем-нибудь для времяпровождения.
Белотелова.Яужне знаю, об чем говорить. Нет ли по Москве раз-
говору какого?
Красавина. Мало ли разговору, да всему верить-то нельзя. Иногда
колокол льют, так нарочно пустую молву пускают, чтоб звонче был.
Белотелова. Войны не слыхать ли?
Красавина. Войны не слыхать. Тихо везде; по всей земле замирение
вышло. Земля трясется местами, об этом слух есть; местах в трех трясение
было.
Белотелова. Нехорошо».
(«За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)», карт. 2, явл. 2).
Мастеров и мастериц «колокола лить», т. е. распускать ложные
слухи, много среди персонажей Островского. Само это выражение
«возникло из старинного московского обычая пускать нелепый слух
о какой-нибудь небылице, когда на колокольном заводе начинали
лить новый колокол. Чем нелепее и громче был слух, тем звонче
и чище будет колокол, — так думали суеверные колокололитейные
заводчики»1.
3. Диалог-понимание. Психологическими кульминациями в пье-
сах с драматической доминантой являются диалоги, в которых ге-
рои достигают глубокого взаимного понимания, где они предельно
искренни и серьезны. Такие диалоги требуют душевной открытости,
честности, желания понять собеседника, в особенности если тот
несчастен. В пьесах Островского к ним можно отнести откровен-
ные, серьезные разговоры в «Поздней любви» между Людмилой
и Николаем, в пьесе «Без вины виноватые» — между Кручининой
и Незнамовым (еще до «узнавания» матерью своего сына), в пьесе
«Правда — хорошо, а счастье лучше» — между Платоном и Полик-
сеной. Эти диалоги образуют эпизоды, важные и психологически,
и сюжетно, они подготавливают развязку (в названных пьесах —
счастливую).
В отличие от диалогов-поединков, где один из персонажей по-
беждает, доверительные разговоры — искренние, исповедальные,
помогают героям принять важное решение. Так, в «Кукольном
1 Ашукин Н. С., Ожегов С. И., Филиппов В. А. Словарь к пьесам А. Н. Островско-
го. М., 1993. С. 88.
99
доме» Г. Ибсена последний разговор Норы и Хельмера заверша-
ется уходом Норы из дома. Б. Шоу, ставший страстным пропаган-
дистом творчества Ибсена, в работе «Квинтэссенция ибсенизма»
(1891, 3-е изд. — 1913) высоко оценил нравственную серьезность
его проблематики, которая проявляется в «дискуссии» между героя-
ми, ведущими друг с другом доверительные разговоры, пытаясь как
можно глубже разобраться в себе, в сложившейся ситуации. Так,
в «Росмерсхольме» главный герой (Росмерс) и Ребекка долго выяс-
няют всю подноготную своих чувств друг к другу, мотивы своих по-
ступков в прошлом — и приходят к выводу, что у обоих — «больная
совесть», несовместимая со счастьем. Вообще мотив «больной со-
вести» — один из ведущих в поздних пьесах Ибсена.
4. Диалог глухих. Один из вариантов такого диалога, который
точнее было бы назвать «диалогом с глухим», — интересен тем, что
реакция плохо слышащего персонажа, не разобравшего обращенные
к нему слова, «выдаёт» его собственные мысли. Так, в «Горе от ума»
А. С. Грибоедова графиня Хрюмина (бабушка) слышит о Чацком
не то, что ей говорят, а то, что составляет предмет её постоянных
опасений: «Что? К фармазонам в клоб? Пошел он в пусурманы?»;
«Да!., в пусурманах он! / Ах! окаянный волтерьянец!» (д. 3).
В переносном же смысле диалог глухих свидетельствует о разли-
чии кругозора, интересов собеседников. В «Поздней любви» Остров-
ского Людмила высказывает предположение, что Николай «робок,
должно быть, характером», а в ответ слышит от его матери: «У бед-
ного человека да еще характер! Чудно, право! Платья нет хороше-
го, вот и все. Коли у человека одежи нет, вот и робкий характер;
чем бы ему приятный разговор вести, а он должен на себя осма-
триваться, нет ли где изъяну» (д. 1, явл. 1). Людмила тоже бедна,
но думает иначе.
Терминологическое значение словосочетание диалог глухих по-
лучило в связи с развитием «новой драмы» (с конца XIX в.). В пьесах
Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Стриндберга, А. П. Чехо-
ва, М. Горького «событийность, бывшая прежде главным драматиче-
ским нервом, теряет свое значение как не самое главное и не самое
драматическое...<...> Перед драматургией встает неблагодарная
для ее веками формировавшихся законов задача: показать не от-
крытый и яркий драматизм выламывающихся из повседневности
событий, а потаенный трагизм самого хода жизни»1.
Однако «новая драма» отличается стилевым разнообразием. Так,
в пьесах Ибсена ведущую роль играют, на наш взгляд, диалоги, в ко-
торых персонажи стремятся быть предельно искренними и логич-
ными (показательна драма «Росмерсхольм» Ибсена).
1 Шах-Азизова Т. К. Чехов и западноевропейская драма его времени. М.: Наука,
1966. С. 33.
100
Применительно же к пьесам Чехова, с их сквозной темой тра-
гизма повседневности, К. С. Станиславский писал о «внутреннем
действии»: «Его пьесы очень действенны, но только не во внешнем,
а во внутреннем своем развитии. В самом бездействии создаваемых
им людей таится сложное внутреннее действие. Чехов лучше всех
доказал, что сценическое действие надо понимать во внутреннем
смысле и что на нем одном, очищенном от всего псевдо-сцениче-
ского, можно строить и основывать драматические произведения
в театре»1.
Погруженность персонажей в свои мысли часто приводит
к их недостаточной коммуникабельности. Приведем фрагмент диа-
лога из «Вишневого сада» между Любовью Андреевной, Лопахиным
и Гаевым (д. 2). Лопахин сообщает о близящейся продаже имения,
он взволнован и искренне хочет помочь Раневской. Но взволно-
ван он один: и хозяйка имения, и её брат погружены в свои давние
и грустные мысли, в свое прошлое:
«Л о п а х и н .[...] И вишневый сад и землю необходимо отдать в аренду
под дачи, сделать это теперь же, поскорее, — аукцион на носу! Поймите! Раз
окончательно решите, чтобы были дачи, так денег вам дадут сколько угодно,
и вы тогда спасены.
Любовь Андреевна. Дачи и дачники — это так пошло, простите.
Гаев. Совершенно с тобой согласен.
Лопахин.Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу!
Вы меня замучили! (Гаеву). Баба вы!
Гаев. Кого?
Лопахин. Баба! (Хочет уйти.)
Любовь Андреевна (испуганно). Нет, не уходите, останьтесь,
голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь!
Лопахин.О чем тут думать!
Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки весе-
лее...
Пауза.
Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.
Гаев (в глубоком раздумье). Дуплет в угол... Круазе в середину...
Любовь Андреевна . Уж очень много мы грешили...
Лопахин. Какие у вас грехи...
Гаев (кладет в рот леденец). Говорят, что я все свое состояние проел
на леденцах... (Смеется)».
И Раневская, и Гаев — оба думают о своем: она — о прошлом, о те-
леграмме из Парижа (о чем говорит в монологе, следующем за приве-
денным текстом), Гаев привык отмахиваться от всех проблем бильярд-
ным жаргоном. В пренебрежении обоих к совету разбить имение
1 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1962. С. 275.
101
на дачи сказываются привитые с детства вкусы. Словом, они и Лопа-
хин, сын крепостного, говорят на разных языках, это «диалог глухих».
Таких диалогов и в драмах, и в повестях и рассказах Чехова много1.
5. Невербальный диалог. Он не является самостоятельным,
но сопутствует репликам, включает элементы кинесические (же-
стикуляция, мимика, позы, походка) и паралингвистические (смех,
слезы, интонация, тембр голоса и т. п.); на них указывают прежде
всего авторские ремарки1 2. Роль невербального диалога в некоторых
эпизодах пьес весьма значительна. В «Последней жертве» Юлия Ту-
гина, стремясь достать денег у Прибыткова для любимого ею Вади-
ма Дульчина, садится на ручку кресла, в котором сидит Прибытков,
и обнимает его. Но получает от него заслуженный урок: «Извольте
садиться на кресло, я желаю быть к вам со всем уважением» (д. 2,
явл. 5). В этой же пьесе выразительно сравнение Прибытковым двух
поцелуев, полученных от Юлии и от Ирины (Ирень); лишь первый
из них, по его словам, «дорогого стоит». В данном случае ремар-
ки не просто усиливают значение слов: невербальный диалог про-
двигает сюжет. А в комедии «Таланты и поклонники» раздражение
Саши Негиной, которую «обнимает» Мелузов в то время, когда она
смотрит в окно на лошадей Великатова (д. 1, явл. 11), намекает
на развязку задолго до конца пьесы.
Выделенные типы, конечно, не исчерпывают разнообразия мо-
нологов и диалогов в драме.
Многие особенности драмы объясняются ее изначальной связью
с театром, условиями ее восприятия зрителями. Вплоть до широко-
го распространения книгопечатания ведущие драматические жан-
ры (трагедия и комедия) подробно рассматривались в «поэтиках»,
наставлявших молодых авторов. Аристотель в своей «Поэтике»
на основе анализа трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида рассмотрел
развитие действия, характеры, речь и другие особенности жанра,
призванные возбудить в зрителях чувства сострадания и страха;
Гораций в «Науке поэзии» анализирует и комедию. На эти сочине-
ния, комментируя и дополняя их, а иногда оспаривая некоторые
положения, опирались авторы многочисленных «поэтик» и близких
к ним литературных манифестов средневековья, Возрождения, клас-
сицизма3. В эстетике Д. Дидро («Беседы о “Побочном сыне”», 1757),
Г. Э. Лессинга («Гамбургская драматургия», 1767—1768) разраба-
1 См.: Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской
культуры, 2005 (гл. 5, 6).
2 Подробнее см.: Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и есте-
ственный язык. М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 584 с.
3 См.: Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. Энциклопе-
дический путеводитель / Под общей ред. Е. А. Цургановой и А. Е. Махова. М., 2010.
102
тывается теория драмы как жанра, возникшего, по мнению Дидро,
еще в античности («Похвальное слово Теренцию», 1769). В течение
многих веков драма исполнялась прежде всего на театральных под-
мостках, как спектакль (примечательно, что многие пьесы У. Шек-
спира: «Макбет», «Кориолан», «Юлий Цезарь», «Буря» и другие —
напечатаны после смерти драматурга). Поэтому в драме неизменно
ценилась сценичность, искусство возбуждения в публике сильных
чувств, неослабевающего интереса к развитию действия.
Однако драматическое произведение может рассматриваться
и как литературное, предназначенное для чтения. Такой подход
к драме, спорадически возникавший еще в античности (так, Се-
нека не писал свои трагедии для сцены, но читал их слушателям),
утверждается в XIX—XX вв. Появляется понятие Lesedrama (в пер.
с нем.: драма для чтения). А. де Мюссе озаглавил сборник сво-
их пьес «Спектакль в кресле» (1832); И. С. Тургенев предпослал
комедии «Месяц в деревне» (1850) «Замечание», где писал: «Это
собственно не комедия, а повесть в драме. Для сцены она не го-
дится, это ясно...»1 Но тургеневскую пьесу блистательно поставил
в 1909 г. МХТ: предшествующая работа коллектива, под руковод-
ством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, над пье-
сами Чехова во многом способствовала этому успеху. С развитием
театральной техники преодолеваются трудности постановки мно-
гих драматических поэм и хроник, в частности изобилующих бы-
строй сменой места действия. Однако среди ценителей драмы есть
и стойкие приверженцы чтения, предпочитающие «достраивать»
текст до зрелища самостоятельно, как подсказывает им воображе-
ние, а не сотворчество режиссера и актеров. А драмы прошлых эпох
по преимуществу читаются и перечитываются. Словом, в наше вре-
мя налицо «две жизни драмы»1 2.
При чтении драмы возрастает значение тех компонентов тек-
ста, которые не произносятся на сцене. Ведь монологи и диалоги
персонажей — основной, но не единственный текст драмы. В напе-
чатанной пьесе есть, как отмечено выше, рамочный текст. В не-
которых случаях, например в пьесе Б. Шоу «Дом, где разбиваются
сердца», рамка оказывается столь обширной и разветвленной, что
можно говорить о пьесе как о «доме, окруженном целым рядом
пристроек», поскольку для драматурга пьеса была «последней сте-
пенью конкретизации мысли», идеей, которую удалось «прикрепить
к персонажам»3. Рамочный текст — это форма «присутствия» автора
в произведении, сближающая драму с эпикой.
1 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч. в 12 т. T. 2. М.: Наука,
1979. С. 291.
2 Хализев В. Е. Драма как род литературы. С. 250.
3 Кржижановский С. Д. Драматургические приемы Бернарда Шоу // Собр. соч.:
в 6 т. T. 4. СПб., 2006. С. 476—477.
103
Вопросы
1. 2. 3. Влияет ли субъектная организация речи в драме на выбор сюжетов? Перечислите основные компоненты рамочного текста в драме. Значима ли последовательность перечисления персонажей в «списке
действующих лиц»?
4. Какие типы монологов и диалогов используются в драме?
5. Что такое «агон» и «стихомифия»?
Глава 6
ЭПИКА
Рус.: эпика (эпос), сюжет, повествование, типы повествователей; англ.:
epic, plot, narration, types of narrators; нем.: Epos, Fabel, Erzahlen, Erzahlers;
фр.: poesie epique, sujet, recit / discours.
Понятие и термин «эпика». — Сюжет в эпических произведениях. — По-
вествование. — Типы повествователей. — Особенности диалога и монолога
в эпике.
Деление литературы на роды — наиболее устойчивое в клас-
сификации произведений, оно сохраняется в смене жанровых си-
стем, стилей, направлений. Хотя различные родовые начала могут
сочетаться в одном произведении (например, лирическое и эпиче-
ское — в поэме Дж. Г. Байрона «Дон Жуан», драматическое и лири-
ческое — в пьесе А. А. Блока «Роза и Крест»), роды не теряют каче-
ственной определенности.
В качестве синонима «эпоса» используется слово «эпика». На наш
взгляд, оно предпочтительнее, чем термин «эпос», поскольку по-
следний имеет два значения: 1) род литературы; 2) жанр, группа
жанров (эпопея, эпическая песня или поэма мифологического, ге-
роического содержания, эпические циклы, характерные для фоль-
клора и древних литератур: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Ма-
хабхарата» и «Рамаяна» в Индии, немецкая «Песнь о Нибелунгах»,
карело-финская «Калевала», русские былины и др.). Как номинация
литературного рода слово «эпика» уже вводилось в терминологиче-
ские словари1.
Каковы же отличительные свойства эпики? Ее жанры разноо-
бразны и многочисленны, но родовая специфика сводится к немно-
гим признакам.
Прежде всего это изображение некого хода событий, взаимодей-
ствия героя с другими персонажами, с природой, т. е. наличие сюже-
та. Внутренний мир действующих лиц может не воспроизводиться
1 См.: Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред.
Н. Д. Тамарченко. М., 2008. С. 307—309.
105
либо обозначаться суммарно (напр.: герой испугался, обрадовался).
Основной смысл произведения в таких случаях заключен в самом
сюжете, чувства и желания персонажей ясны из их поступков.
В «Декамероне» Дж. Боккаччо (1352—1354) каждой новелле
предшествует краткое изложение ее сюжета, своего рода «аннота-
ция». Так, в девятой новелле пятого дня (его тема — «как влюблен-
ным после мытарств и злоключений в конце концов улыбалось сча-
стье») предпослан следующий текст:
«Федериго дельи Альбериги влюблен, но ему не отвечают взаимностью;
он разоряется ради своей возлюбленной, и у него остается только сокол, кото-
рого он за неимением чего-либо еще и подает на обед пришедшей к нему
в гости даме его сердца; узнав об этом, дама изменяет к нему свое отноше-
ние, выходит за него замуж, и благодаря этому он опять становится богатым
человеком»1.
Именно в действиях героя, в мгновенном решении пожертвовать
любимым соколом для достойной встречи любимой им женщины
проявляются сила его чувства и щедрость. Конечно, приведенная
сюжетная схема — лишь приглашение к чтению художественного
текста: важны подробности сюжета (так, просьба дамы подарить
ей сокола — не её прихоть, женщина исполняет желание умираю-
щего сына), композиционные приемы (в форме эпизода представ-
лен только визит дамы), монологи персонажей, эмоциональность
которых умеряется риторикой, стилистика повествования (так,
о герое говорится: «широкую его натуру... не в силах была сузить
бедность»). Сама история не придумана Боккаччо, он услышал
ее от одного жителя Флоренции (о чем сообщает читателю). Вообще
многие сюжеты «Декамерона» и их мотивы существовали в более
ранних литературных и народных пересказах, Боккаччо использо-
вал старые схемы и художественно их обработал. Некогда счаст-
ливо найденные кем-то, эти схемы ожили, получили в «Декамеро-
не» «новое освещение»1 2. Именно сюжеты составляют ядро новелл,
и очень важно сравнить то, «что им сделано, с тем, что он застал
и чем воспользовался»3.
Не такова роль сюжета во многих эпических произведениях
XVIII—XXI вв. Заглавие романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Три-
страма Шенди, джентльмена» (1760—1767) полемично: мнения
противопоставлены приключениям героев, традиционно составляв-
шим основу данного жанра. В новаторском романе Стерна, бедном
внешним действием, рассказчик (он же главный герой) постоянно
1 Боккаччо Дж. Декамерон / Пер. Н. Любимова. М., 1970. С. 365.
2 Веселовский А. Н. Художественные и этические задачи «Декамерона» // Весе-
ловский А. Н. Избранные статьи. Л.: Худож. лит., 1939. С. 302.
3 Там же. С. 305.
106
отвлекается от своего жизнеописания, доведя его лишь до пятилет-
него возраста. «У Стерна остается только призрак действия, и вме-
сто старого романа, в котором рассказывалось о главных событиях,
Стерн дает как бы антироман...», — писал В. Б. Шкловский1.
А. С. Пушкин, любивший Стерна, охотно прибегал к культиви-
руемому английским романистом приёму «обманутого ожидания».
Так, в «Повестях Белкина» издатель исключает из письма «ненара-
довского помещика» анекдот, доказывавший «истинно девическую»
стыдливость Белкина: «Следует анекдот, коего мы не помещаем,
полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ниче-
го предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе
не заключает»1 2. А отвечая Ф. В. Булгарину, нашедшему седьмую
главу «Евгения Онегина» «водянистой» («...все содержание... в том,
что Таню увезут в Москву из деревни!»), поэт шутливо упреждает
читателей последующих глав: «Те, которые стали бы искать в них
занимательности происшествий, могут быть уверены, что в них ме-
нее действия, чем во всех предшествовавших»3.
Своего предела атрофия внешнего действия достигает в эпике
на рубеже XIX—XX вв. (многие повести и рассказы А. П. Чехова,
И. А. Бунина, роман М. Пруста «В поисках утраченного времени»).
Но одновременно пишутся и остросюжетные новеллы, повести, ро-
маны (Р. Стивенсон, О. Генри, А. С. Грин и др.), зарождается жанр
детектива («Убийство на улице Морг» Э. По). В целом же интерес
к напряженному, захватывающему сюжету в эпике последних сто-
летий явно ослабевает (особенно в русской литературе) по сравне-
нию с мощной старинной традицией авантюрного повествования.
Меняется структура предметного мира, пропорции сдвигаются
в сторону психологического анализа, описательной детализации,
рассуждений; в сюжетной композиции эпизоды преобладают над
сообщениями о событиях (т. е. показ — над рассказом), на фоне
вялотекущего внешнего действия особенно значимы события вну-
тренние, ментальные. Роман все чаще становится, по выражению
испанского философа X. Ортеги-и-Гассета, «медлительным» жанром.
Так, Достоевский порой «пишет два тома, чтобы изложить события,
случившиеся за несколько дней или даже часов». Но повествование
кажется динамичным благодаря «растягиванию каждого отдельно-
го приключения, за счет скрупулезного описания мельчайших его
компонентов»4. Движение рассказа как бы постоянно тормозится,
что усиливает нетерпение читателя. Однако в любом случае кон-
1 Шкловский В. Б. Художественная поза. Размышления и разборы. М., 1991.
С. 294.
2 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. T. 5. М., 1960. С. 47.
3 Там же. T. 4. С. 483.
4 Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.
С. 275.
107
струкция целого основана все-таки на сюжете. И в современной
эпике он продолжает выполнять свою роль «нитки в жемчужном
ожерелье, проволочного каркаса в зонтике, кольев — в походной
палатке»1.
Сюжетность объединяет эпику с драмой, о чем свидетельствуют
распространенная практика создания пьес по мотивам эпических
произведений. Так, в комедии У. Шекспира «Венецианский купец»
сплетены в общий узел сюжетные мотивы, предстающие в разных
комбинациях в итальянской новеллистике XIII—XIV вв.; главный
источник — новелла Сера Джованни Флорентийца, но использова-
лись и другие1 2. Просроченный вексель, разрешающий заимодавцу
вырезать из тела должника часть мяса; адвокат, под одеждой ко-
торого скрывается умная женщина — благодетельница должника;
история с перстнями; выбор потенциальными женихами ларца, да-
ющего право на невесту, — все эти мотивы отобраны Шекспиром
из разных сюжетов и подчинены задаче создания новых характеров
(так, благородная Порция у Шекспира резко отличается от корысто-
любивой и коварной «знатной донны» в новелле Флорентийца).
Вообще драмы Шекспира, черпающего сюжеты для пьес из раз-
нородных источников, убедительно показывают тематическую
близость эпики и драмы. Между этими родами литературы есть
глубокие различия, но оба они, в отличие от лирики, воспроизво-
дят «объективную, материальную жизнь людей в ее пространствен-
но-временных формах, предстоящих непосредственно внешнему
восприятию...»3 Поэтому константами мира эпических и драма-
тических произведений остаются сюжет и действующие лица (т. е.
система персонажей), даже если они обозначены контурно. Ха-
рактерно традиционное сравнение эпики и драмы с живописью
и скульптурой, лирику же обычно сближают с музыкой.
Признаком эпики, отличающим ее от драмы, является наличие
повествователя, или нарратора (от лат. паггаге — рассказывать),
выступающего посредником между миром персонажей (в их чис-
ло может входить и сам повествователь) и читателем — адресатом
произведения. Речь повествователя (нарратора) образует повество-
вание (нарратив), в который не включаются прямые высказывания
персонажей4. Намеченный в античности принцип деления на роды
1 Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. С. 278.
2 См.: Смирнов А. А. Послесловие к «Венецианскому купцу» // Шекспир У. Поли,
собр. соч.: в 8 т. T. 3. М., 1958. С. 533—537.
3 Поспелов Г. Н. Эстетическое и художественное. М.: Изд-во Моск, университе-
та, 1965. С. 293.
4 В другом, узком значении термин «повествование» — как рассказ о событи-
ях, в отличие от «описания», — рассматривается в главе «Композиционно-речевые
формы».
108
(на основании субъектной организации речи) в целом выдержал ис-
пытание временем. Но вместо слова поэт (от гр. poieo — делаю, тво-
рю) применительно к эпике используют термин повествователь:
ведь последний может быть носителем совсем другого сознания,
другой «точки зрения» на происходящее, чем автор.
Трудно переоценить роль повествователя в воздействии на чита-
теля. Ведь часто именно его глазами мы «видим» персонажа, наше
воображение напрямую зависит от отобранных им деталей и слов,
от предложенных им оценок. Поэтому при анализе эпического про-
изведения первоочередным является вопрос: кто говорит, кто ве-
дет повествование? и насколько он близок к автору?
Вот первый абзац рассказа А. П. Платонова «Песчаная учитель-
ница» (1927): «Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухо-
го забросанного песками городка Астраханской губернии. Это был
молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными муску-
лами и твердыми ногами».
«Молодой здоровый человек, похожий на юношу...» — странное
описание двадцатилетней девушки. Но вместе с заглавием такая
характеристика намечает судьбу героини: ей понадобится много
сил, душевных и физических, большое мужество, чтобы, поселив-
шись в глухом селе, научиться самой и учить крестьян «искусству
превращать пустыню в живую землю». Слова «пустыня», «пески» —
ключевые в тексте, и они введены в заглавие (учительница — «пес-
чаная») и в экспозицию (Мария родом из «забросанного в песках
городка...»). Ощутима в странном портрете героини и грусть по-
вествователя: ведь ее женское счастье не состоится, молодость
и, очевидно, вся жизнь уйдут на борьбу с песками. Оптимистиче-
ская же фраза, завершающая рассказ, принадлежит не повествова-
телю, а «завокроно», обрадованному согласием Марии перевестись
в самую глушь, чтобы учить «культуре песков» уже не русских по-
селенцев, а кочевников: «Но пустыня — будущий мир, бояться вам
нечего, а люди будут благодарны, когда в пустыне вырастет дере-
во... Желаю вам всякого благополучия». Насколько точнее этой
риторики другие слова того же персонажа, обращенные к героине:
«...мне жалко как-то вас и почему-то стыдно...»1 Здесь голоса пер-
сонажа и повествователя сливаются: звучит мотив неблагополучия,
возникший уже в первом абзаце текста. Повествователь, очевидно,
выражает мысли и чувства автора, и его можно назвать автором-по-
вествователем.
Речь повествователя, его рассказ о событиях — непременное ус-
ловие эпики, эпические произведения часто называют повествова-
тельными. Есть произведения, где других голосов вообще больше
1 Платонов А. П. Песчаная учительница // Платонов А. П. В прекрасном
и яростном мире. М.: Худож. лит., 1965. С. 206—213.
109
нет: например, в рассказах о животных («Булька», «Булька и кабан»
из «Третьей русской книги для чтения» Л. Н. Толстого). В романе
Д. Дефо «Робинзон Крузо» рассказ главного героя о его одинокой
(до встречи с Пятницей) жизни на острове занимает большую
часть текста; кроме Робинзона, здесь есть только внесценические
лица, живущие в его памяти. Бывают и повествования, где есть
система персонажей, но реплик у них нет, их чувства и мысли
передает повествователь (например, рассказ X. Кортасара «Лента
Мебиуса»1).
Обычно же речь эпического произведения — «смешанная» (Пла-
тон), в современном литературоведении ее называют полисубъ-
ектной: повествователь вводит высказывания персонажей. Однако
формальная принадлежность речи тому или иному субъекту еще
не означает ее подлинной, содержательной индивидуализации.
В эпических жанрах фольклора и древних литератур почти не ис-
пользуется косвенная речь, но диалоги и монологи героев, если
отвлечься от сюжетной прагматики, очень похожи друг на друга.
В «Одиссее» Гомера (песнь вторая) «Телемак столь же обстоятелен
и рассудителен в своих жалобах на женихов матери, как и жени-
хи в своих оправданиях и угрозах...: одни говорят кротко, другие
негодуя, но только этой окраской, а не складом, не выбором слов
и отличаются речи героев от речи самого сказителя»1 2. В эллинисти-
ческом романе, испытавшем сильное влияние риторики, все герои
удивительно красноречивы.
Иные, центробежные тенденции характерны для стилистики
эпических жанров последних столетий. Возникает «художественно
организованное социальное разноречие, иногда разноязычие, и ин-
дивидуальная разноголосица»3. Это разноречие в эпике — не только
следствие индивидуализации речевых характеристик действующих
лиц (как в синхронно развивающейся драме), но и результат про-
никновения «чужого слова», т. е. слова персонажа, в речь пове-
ствователя. В ней образуются «гибридные конструкции», которые
формально принадлежат «одному говорящему», но реально в них
«смешаны два высказывания, две речевые манеры, два стиля, “два
языка”, два смысловых и ценностных кругозора» (там же, с. 118).
В потоке повествования спорадически возникают «особые зоны ге-
роев» (там же, с. 129).
В «Войне и мире» Л. Н. Толстого автор-повествователь описывает
чувства Сони, к которой обратилась графиня Ростова (мать), умо-
ляя ее вернуть Николаю данное им слово жениться на ней:
1 См.: Кортасар X. Рассказы / Пер. с исп. СПб.: Амфора, 1999. С. 258—282.
2 Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М., 1964. С. 184—185.
3 Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстети-
ки. М.: Худож. лит., 1975. С. 76.
110
«И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви
к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше
и правил, и добродетели, и религии...» (т. 4, ч. 1, гл. VIII).
Здесь автор-повествователь объясняет — за Соню — ее ду-
шевное состояние, называя вещи своими именами: кроткая Соня
вряд ли выразилась бы так определенно, она лишь «почувствова-
ла» смятение. Однако Nicolas (а не Николенька, Николушка, как
его называют другие члены семьи) — слово из лексикона Сони, она
любит именно Nicolas, а не настоящего Николая Ростова, чьи «меч-
тания о Соне имели в себе что-то веселое, игрушечное» (там же,
гл. VII). Nicolas — так она называет Николая и когда они в Отрад-
ном на святках едут на тройках: «Как видно, Nicolas, — сказал го-
лос Сони» (т. 2, ч. 4, гл. X), и когда она пишет письмо, оказавшееся
для нее роковым: «...я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным
и знать, что несмотря ни на что, никто сильнее не может вас лю-
бить, как ваша Соня» (т. 4, ч. 1, гл. VII). Nicolas — «зона» героини
в речи повествователя, «двуголосое» слово, которое «служит одно-
временно двум говорящим и выражает одновременно две различ-
ных интенции: прямую интенцию говорящего персонажа и пре-
ломленную — авторскую» (там же, с. 137—138). В данном случае
переданы и влюбленность Сони в Николая, и ирония автора-пове-
ствователя над ее патетикой.
Речь повествователя — ведущая в эпике, она окаймляет, коммен-
тирует высказывания персонажей. Включая в себя «зоны героев»,
она не растворяется в них: между различными голосами возникают
диалогические отношения.
Термин «повествователь» обозначает родовое понятие. В литера-
туроведении выделяют различные типы повествователей. Наиболее
старинный из них — всеведущий повествователь. Не являясь участ-
ником или свидетелем описываемых событий, он тем не менее до-
сконально знает всё. Таков Гомер в «Илиаде»: ему ведомо и то, чем
заняты противоборствующие стороны (ахейцы и троянцы), и то,
что совершается на Олимпе. Ему известно, например, что Андрома-
ха, в отличие от Приама и Гекубы, не следила со стен Трои за ходом
единоборства Ахилла и Гектора, но ткала одежду «в отдаленнейшем
тереме дома», услышав же «крики и вопли на башне, // Вздрог-
нула вся и челнок из руки на помост уронила...» (песнь XXII, пер.
Н. И. Гнедича). Свое знание и вдохновение рапсод получил от Музы
(богини), с обращения к которой начинаются обе поэмы Гомера:
«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...»
(«Илиада». Пер. Н. И. Гнедича.)
111
«Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
Многих людей города посетил и обычаи видел...»
(«Одиссея». Пер. В. А. Жуковского.)
Обращение к Музе в начале эпических поэм вошло в канон данно-
го жанра («Энеида» Вергилия, «Освобожденный Иерусалим» Т. Тас-
со, «Неистовый Роланд» Л. Ариосто, «Потерянный рай» Дж. Мильто-
на, «Генриада» Вольтера, «Россияда» М. М. Хераскова и др.).
«Всеведущий повествователь» часто появляется и в эпике Нового
времени, но здесь обычно подчеркивается условность этого приема.
В романе У. Теккерея «Ярмарка тщеславия. Роман без героя» (1847—
1848) повествователь многократно говорит о своем «всевёдении».
Например: «Догадывалась ли она [мисс Кроули. —Л. Ч.], что Бекки
не только написала письмо, но собрала и послала трофеи, которые
купила за несколько франков у одного из бесчисленных разносчи-
ков, немедленно начавших торговлю реликвиями войны? Романист,
который всё знает, знает, конечно, и это» (гл. 33. Пер. М. Дьяконо-
ва. Курсив наш. — Л. Ч.).
Повествование ведется в романе Теккерея от первого лица —
лица автора, часто беседующего с читателями, иногда объединяюще-
го себя с ними, о чем свидетельствует местоимение «мы». В действии
романа повествователь не участвует, вообще он живет в другое вре-
мя: «Однажды, ясным июньским утром, когда нынешний век был еще
зеленым юнцом...» (гл. 1). В предисловии, озаглавленном «Перед за-
навесом», автор называет себя Кукольником, персонажей — своими
«марионетками», «куклами», а сам роман — театральным представ-
лением. Последняя фраза предисловия: «...Кукольникуходит, и зана-
вес поднимается». Однако «романист, который всё знает», лишь от-
даленно напоминает певца в поэмах Гомера — своего рода медиума,
посредника между Музой и слушателями: в отличие от «наивного»
рапсода, он часто иронизирует над собственным «всеведением».
Наиболее распространенная форма повествования — рассказ
от третьего лица, Er-Erzahler (нем.: он-рассказчик). Эта форма пре-
доставляет автору большой выбор повествовательных стратегий,
причем он может их менять по ходу сюжета. В романе И. С. Турге-
нева «Дворянское гнездо» многие эпизоды переданы «всевёдущим
повествователем»: он как бы присутствует при объяснении Лаврец-
кого с Лизой в саду (гл. XXXIV), при их следующих встречах (гл. XLII,
XLIV). Но в эпилоге романа повествователь отказывается от описа-
ния переживаний героев:
«Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие
мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать — и пройти
мимо».
112
Повествователь может быть нарочито бесстрастным — и пре-
дельно экспрессивным. Роман Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1857)
можно было бы смело назвать, как и «Ярмарку тщеславия», «ро-
маном без героя»: ведь писатель ни одного из своих персонажей
«не пощадил, как щадят друга...»1 Флобер, в отличие от Теккерея,
тщательно избегает прямых оценок, его глубокая ирония переда-
на косвенно; Г. де Мопассан считал Флобера, своего учителя, «пла-
меннейшим апостолом безличного искусства»1 2. Иначе повествует
В. Гюго, расцвечивающий любой эпизод фейерверком эпитетов
и метафор. Наконец, как отмечено выше, повествование может
включать «гибридные конструкции» (М. М. Бахтин) или переда-
вать поочередно разные «точки зрения»: автора-повествователя
и того или иного персонажа. Так, в «Войне и мире» Толстого кар-
тина Бородинского сражения показана в основном глазами Пьера
Безухова, на «невоенную фигуру» и «белую шляпу» которого сна-
чала с недоумением смотрели солдаты. Впечатления не разбираю-
щегося в военном деле Пьера помогают Толстому передать ужас,
противоестественность массового убийства; используя введенный
В. Б. Шкловским термин, можно сказать, что Толстой прибегает
к приёму «остранения»3.
Другой тип повествователя — участник или очевидец описыва-
емых событий; обычно его называют рассказчиком. Повествование
ведется от первого лица (нем.: Ich-Erzahler — я-рассказчик) и со-
ответствует нормам литературного языка. В отличие от «всеведу-
щего повествователя», рассказчик повествует лишь о том, что сам
испытал или узнал от других лиц, причем источники «информа-
ции» обычно указываются. В результате читатель видит и слышит
то же самое, что и рассказчик.
В рассказе Тургенева «Бурмистр» (цикл «Записки охотника»)
охотник, прототипом которого был сам автор, гостит у помещика
Пеночкина. В его коляске он приезжает в деревню Шипиловку, при-
надлежащую Пеночкину, и наблюдает за тем, как деревня встречает
барина:
«Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетча-
тых паневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак;
хромой старик с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недо-
поенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже
поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы <...>.
Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню...»4
1 Сентп-Бёв Ш. Литературные портреты. М., 1970. С. 450.
2 Мопассан Г. де. Статьи о писателях. М., 1957. С. 16.
3 Шкловский В. Б. Теория прозы. М., 1983. С. 15.
4 Тургенев И. С. Поли. собр. соч.: в 30 т. Соч.: в 12 т. T. 3. М.: Наука, 1979.
С. 128—129.
113
Далее охотник становится очевидцем безобразной сцены, уси-
ливающей его первые грустные впечатления: пожилой мужик, стоя
вместе с младшим сыном на коленях перед Пеночкиным, жалуется
на бурмистра Софрона, который его семью «разоряет», «двух сы-
новей... без очереди в некруты отдал, а теперя и третьего отнима-
ет». Окончательно же убеждают рассказчика в тяжелом положении
крестьян слова мужика из соседней деревни о Софроне: «Зверь —
не человек...»1 Концовка, таким образом, перекликается с заглавием
произведения: именно бурмистр — главный герой (или антигерой).
Способ повествования от первого лица характерен для автобио-
графических в своей основе произведений: «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо,
«Детство», «В людях», «Мои университеты» М. Горького, «Другие бе-
рега» В. В. Набокова.
К ним примыкают и повествования автопсихологические: так,
в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» хро-
ника жизни Николеньки Иртеньева не совпадает со многими фак-
тами биографии писателя, но налицо внутренняя, психологическая
близость автора и главного героя. При этом между описываемыми
событиями и рассказом о них всегда существует временная дистан-
ция. Она неизбежна в эпике даже в том случае, когда повествова-
тель соблюдает принцип единства времени (например, в рамках
эпизода): ведь рассказывается всегда о том, что уже произошло.
Однако заметной эта дистанция становится тогда, когда она ведет
к смене временных планов и, соответственно, к углублению или
даже изменению «точки зрения» на происходящее.
В «Детстве» Толстого — два временных плана, и переходы от од-
ного к другому отражены даже в названиях глав. Так, в главе «Папа»
воспроизводятся впечатления десятилетнего Николеньки, когда
он в кабинете отца слушал его беседу с приказчиком Яковом, а за-
тем узнал новость: он и брат Володя едут «нынче в ночь» в Москву
из деревни. Мальчик наблюдателен и определяет «по выражению
лица и пальцев Якова», что тому «доставило... большое удоволь-
ствие» разрешение барина использовать для нужд имения отца
деньги, предназначенные для деревни матушки. Известие же о пе-
реезде в Москву и расставании с матушкой вызвало в Николеньке
противоречивые чувства: «Мне очень, очень жалко стало матушку,
и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня».
Веселило мальчика и предположение: «Ежели мы точно сегодня
едем, то, верно, классов не будет; это славно! — думал я»1 2. Воссоз-
дается, таким образом, чисто детская психология.
Совсем по-другому, глазами взрослого, дана характеристика
отца в главе «Что за человек был мой отец»: «Он был человек про-
1 Тургенев И. С. Поли. собр. соч.: в 30 т. Соч.: в 12 т. T. 3. С. 136—137.
2 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. T. 1. М.: Худож. лит., 1978. С. 21.
114
шлого века и имел общий молодежи того века неуловимый харак-
тер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности
и разгула»1. Между двумя «голосами» (мальчика и взрослого) нет
противоречия, но непосредственность восприятия ребенка кон-
трастирует с взвешенным размышлением взрослого; соответствен-
но меняется и стилистика. Как было точно отмечено еще в 1855 г.
критиком П. В. Анненковым, «вмешательство автора» (т. е. точки
зрения взрослого) «допущено как пояснение того, что смутно лежит
в представлении ребенка, но что уже лежит в нем несомненно. Ав-
тор делается только толмачом детских впечатлений»1 2.
В «Записках охотника» Тургенева, в трилогии Толстого рассказ-
чик, несомненно, близок к автору. Однако нередко писатель из-
бирает в качестве рассказчика человека, отличающегося от него
по социальному статусу, образованию, жизненному опыту, миро-
воззрению. Так, в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» юный
герой-рассказчик Аркадий Долгорукий, уязвленный бедностью
и двусмысленностью своего происхождения, долгое время лелеет
мечту «стать Ротшильдом»3. Автор проводит своего героя через мно-
гие испытания и искушения, прежде чем тот окончательно расста-
нется со своей идеей, выношенной «в углу»4, «в уединении». «Подро-
сток» — роман воспитания, как и трилогия Толстого, но отношения
автора и героя-рассказчика в них глубоко различны, как различны
и представленные в главных героях литературные типы. В финале
«Подростка» персонаж-резонер пишет главному герою: «Да, Арка-
дий Макарович, вы — член случайного семейства, в противополож-
ность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь раз-
личные от ваших детство и отрочество»5.
Если выбору рассказчика — носителя «чужого», неавторского со-
знания — сопутствует стилизация как основной принцип организа-
ции речи, обычно говорят о сказе. Этот термин введен в литературо-
ведение в начале XX в.6 Подбор слов и выражений, синтаксических
конструкций, отступления от литературной языковой нормы под-
чинены задаче создания определенного характера, системы оценок,
не совпадающих с авторской. При этом чаще всего имитируется уст-
ная речь.
Сказ может вводиться в произведение, где уже есть рассказчик
(его можно назвать первичным). Так, повесть Н. С. Лескова «Оча-
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. T. 1. С. 37. Далее после цитат из произведений
Л. Н. Толстого указывается том и страница.
2 Анненков П. В. Критические очерки. СПб., 2000. С. 125.
3 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. T. 8. М.: Худож. лит., 1957. С. 61.
4 Там же. С. 86.
5 Там же. С. 625.
6 См.: Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. М. О про-
зе. Л., 1969.
115
рованный странник» (1873) начинается словами рассказчика,
представляющего некую группу путешественников: «Мы плыли
по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму...»1 Речь этого
рассказчика, описывающего внешность Ивана Северьяныча Фля-
гина, соответствует литературным нормам и свидетельствует о на-
читанности: «...он был в полном смысле слова богатырь, и притом
типический, простодушный, добрый русский богатырь, напомина-
ющий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина
и в поэме графа А. К. Толстого»1 2. Между Флягиным и остальными
путешественниками завязывается разговор, и основную часть тек-
ста занимает рассказ (сказ) богатыря в рясе, нередко прерываемый
вопросами и замечаниями слушателей. Речь Ивана Северьяныча
изобилует отступлениями от литературной нормы: «Я, что вы на-
счет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда
не простятся, не приемлю»; «Я ведь многое что происходил»3.
Но есть и более глубокие различия между ним и его слушателя-
ми: последних шокируют некоторые суждения Флягина. Так, он без
тени смущения признается, что смолоду любил «форейторское озор-
ство»: «...бывало, едешь и все норовишь какого-нибудь встречного
мужика кнутом по рубахе вытянуть»; живя в плену в Рынь-песках,
он «не почитал» за своих детей рожденных женами-татарками
мальчиков и девочек, «потому что они были без всех церковных
таинств...»4 В то же время для автора его герой — «очарованный
странник», по первоначальному названию — «русский Телемак», из-
умляющий читателей (как и слушателей Флягина в повести) своей
непредсказуемостью, сочетанием контрастов — способности к со-
страданию и жестокости, страстности и расчета, здравомыслия
и мистики. Он интересен именно как «особый чужой кругозор, осо-
бая чужая точка зрения на мир...»5 И в других произведениях Ле-
скова основная часть повествования часто ведется от лица героя —
носителя мировоззрения, системы оценок, далёких от авторских
(«Воительница», «Заячий ремиз»).
В «Очарованном страннике», «Воительнице», «Заячьем ремизе»
Лескова, в «Человеке в футляре» Чехова сказу предшествует речь
повествователя или первичного рассказчика, близкого к автору
по кругозору, системе ценностей. Так возникает несовпадение «го-
лосов» (идеологическое и стилистическое). Но есть произведения,
где сказ занимает весь текст. Таковы многие юмористические рас-
сказы М. М. Зощенко, в его «Аристократке» даже заглавие — цита-
1 Лесков Н. С. Собр. соч.: в 6 т. М.: АО «Экран», 1993. С. 280.
2 Там же. С. 281.
3 Там же. С. 281—282, 288.
4 Там же. С. 291, 324.
5 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1985. С. 126.
116
та из речи героя-рассказчика. Здесь комическая гипербола говорит
сама за себя: смех, порождаемый ею, метит и в рассказчика, и в изо-
бражаемый уклад жизни. Формы и функции сказа многообразны,
и подвижна грань, разделяющая сказ и рассказ (от первого лица).
ж * %
По сравнению с драмой эпика предоставляет более широкие
возможности для выражения авторского отношения к репликам,
монологам и диалогам персонажей. Это происходит благодаря ком-
ментариям повествователя (если он выражает авторскую «точку
зрения») к высказываниям персонажей: их репликам, монологам
и диалогам.
Речь персонажей в эпическом произведении вводится повествова-
телем. И часто его «голос» не менее важен, чем высказывания персо-
нажа. В определенной степени комментарии повествователя можно
уподобить авторским ремаркам к репликам действующих лиц в дра-
ме, но повествователь в эпике не ограничен в объеме текста; кроме
того, авторские ремарки в драме не звучат на сцене. Важно и то, что
повествователь не рассчитывает на «достраивание» актером образа
героя (в отличие от драматурга, который пишет для театра). Эпиче-
ский писатель создает, что называется, окончательный текст.
Ведущую роль в общении героев классического романа
XIX века — «медлительного жанра», где «нужно представлять жизнь
героев, а не рассказывать о ней»1, выполняют их высказывания
и, следовательно, такие их формы, как диалог, складывающийся
из реплик, и монолог. Но речь героев в эпике вплетена в общую
ткань повествования, и «голос» повествователя создает контекст,
необходимый для понимания речевого поведения героя.
Остановимся на изображении общения героев в романе Л. Н. Тол-
стого «Анна Каренина». Слово «общение» здесь употреблено не-
случайно: Толстой как никто другой умел показать несводимость
разговора только к произнесенным словам. Естественный язык —
не единственная знаковая система, и герои Толстого «говорят» так-
же посредством мимики, жестов, взглядов, прикосновений и пр.
Невербальная семиотика, используя данные биологии, медици-
ны, психологии, социологии, лингвистики и др., активно развива-
ется как наука с начала 1950-х годов. Учеными описаны различные
невербальные знаковые системы: паралингвистика и — особен-
но подробно — кинесика (в ней выделены языки жестов, мимики,
взглядов, касаний и пр.)1 2. Наиболее полно изучен язык жестов —
четкий, понятный (в границах определенной этнической общности)
и поддающийся самоконтролю: ведь при любом настроении нетруд-
1 Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. С. 265.
2 См.: Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. М., 2004.
117
но, например, протянуть руку в знак приветствия1. При этом вы-
ражение лица, взгляд могут быть самыми разными. В художествен-
ной литературе подобные несоответствия — важнейший источник
психологизма.
В эпизодах «Анны Карениной» невербальный диалог представ-
лен очень полно. Часто он противоречит словам собеседников:
«— Что же это вы, Алексей Александрович, за что вы нас так обходите? —
сказала Долли, грустно улыбаясь.
— Я очень занят был. Очень рад вас видеть, — сказал он тоном, который
ясно говорил, что он огорчен этим. — Как ваше здоровье?» (8:409).
Другой пример — из разговора Анны и Вронского в гостиной
Бетси Тверской. Анна упрекает Вронского за его разрыв с Кити:
«— Да, я хотела казать вам, — сказала она, не глядя на него, — вы дурно
поступили, дурно, очень дурно.
— Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто причиной, что я посту-
пил так?
— Зачем вы говорите мне это? — сказала она, строго взглядывая на него.
— Вы знаете зачем, — отвечал он, смело и радостно встречая ее взгляд
и не спуская глаз. Не он, а она смутилась.
— Это доказывает только то, что у Вас нет сердца, — сказала она. Но взгляд
ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то боится его».
(8:155).
Здесь язык взглядов передает главное содержание диалога.
И «спорят» между собой только слова и взгляды, но и сами взгля-
ды — намеренные, обращенные к собеседнику, и непроизвольные:
Анна сначала придает своему взгляду «строгое» выражение, но в ко-
нечном счете побеждает естественное проявление чувства.
Часто обманчивы жесты, даже если они подиктованы душевным
порывом. Они не передают того, что в глубине души испытывает
герой и что знает «всеведущий» автор. Суть происходящего более
адекватно отражают непроизвольные симптомы физического состо-
яния. Что бы ни говорил, успокаивая Долли, Стива Облонский, стре-
мясь к примирению ней, читателю ясно, что их будущая семейная
жизнь будет ущербной: «— Долли! — сказал он тихим, робким го-
лосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный
вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем» (8: 17). «Свежесть
и здоровье» Стивы находит подтверждение в его походке («привыч-
ном бодром шаге вывернутых ног, так легко носивших его полное
1 См.: Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г Е. Словарь языка русских
жестов. М. — Вена, 2001. На материале произведений русской классики составлен
также «Словарь языка жестов» Л. И. Дмитриевой, Л. Н. Клоковой, В. В. Павловой.
(М.: Русские словари. Астрель. ACT. Ермак, 2003.)
118
тело» (8: 10)), ухоженности его бакенбард. Не случайно разговор
со слугой Матвеем идет во время бритья:
«— Матвей, — сестра Анна Аркадьевна будет завтра, — сказал он, остано-
вив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розо-
вую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами» (8:11).
И совсем мрачна перспектива близости между Анной и Карени-
ным, хотя, казалось бы, после её родов супруги достигли согласия.
Анна говорит мужу в присутствии Бетси Тверской, что отказывается
принять Вронского:
«— Да нет, я не могу его принять, и это ни к чему не...— она вдруг остано-
вилась и взглянула вопросительно на мужа (он не смотрел на нее). — Одним
словом, я не хочу...
Алексей Александрович подвинулся и хотел взять ее руку.
Первым движением она отдернула свою руку от его влажной, с большими
надутыми жилами руки, которая искала ее; но, видимо, сделав над собой уси-
лие, пожала его руку» (8:463—464).
Этот эпизод вспоминается при чтении другого, передающего из-
менения в отношениях между Анной и Вронским; можно даже гово-
рить о зеркальной композиции. Мизансцена повторяется, но теперь
чувствует себя оскорбленной Анна:
«— Алексей, ты не изменился к мне? — сказала она, обеими руками сжи-
мая его руку. — Алексей, я измучилась здесь. Когда мы уедем?
— Скоро, скоро. Ты не поверишь, как и мне тяжела наша жизнь здесь, —
сказал он и потянул свою руку.
— Ну, иди, иди! — с оскорблением сказала она и быстро ушла от него»
(9:121).
Невербальный диалог в романе введен в эпизоды неравномер-
но. Толстой изображает разные ситуации общения: салонный раз-
говор, не затрагивающий ни ума, ни сердца (комичны, например,
дежурные вопросы графини Боль Левину, наносящему визит, и его
автоматические ответы); интеллектуальный спор, в котором занят
только ум собеседников, часто вместе с самолюбием и желанием
первенствовать (таковы по большей части беседы с участием Коз-
нышева); общение детей и взрослых; объяснения в любви; разгово-
ры Левина с мужиками и др.
Очень велика роль невербального общения в отношениях взрос-
лых и детей, особенно маленьких. Выразителен эпизод свидания
Анны с сыном.
Из невербальных знаков здесь преобладают прикосновения, вы-
зывающие тактильные ощущения. Не случайно свидание происхо-
дит в камерном пространстве, в спальне. Анна не хотела встречи
119
с Сережей на улице: «Увидать сына на гулянье, узнав, куда и когда
он выходит, ей было мало: она так готовилась к этому свиданию,
ей столько нужно было сказать ему, ей так хотелось обнимать, цело-
вать его» (9: 110). Но, увидев, наконец, сына, она сказала только:
«Сережа!», повторила «Сережа!», потом подошла к кровати, еще раз
сказала «Сережа! Мальчик мой милый!» и услышала в ответ «Мама!»
А вот те же слова вместе с комментарием повествователя:
«— Сережа! Мальчик мой милый! — проговорила она, задыхаясь и обни-
мая руками его пухлое тело.
— Мама! — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными
местами тела касаться ее рук» (9:113).
Общению же взрослых обычно сопутствуют немногие невербаль-
ные знаки. Но они важны, оттеняя индивидуальность собеседников.
На обеде у Облонских (ч. 4, гл. IX—X) ведется «умный разговор»
между Кознышевым, Песцовым и Карениным на темы об обрусе-
нии Польши, о классическом и реальном образовании, о правах
женщин. Возникают вежливые споры, в которых, естественно, в си-
туации обеда не может быть победителей. Но повествователь пере-
дает не только смысл произносимых речей, он отмечает и жесты,
мимику, тон голоса, которыми умело управляют опытные спорщи-
ки: отмечены «поднятые брови» недовольного Каренина, «тонкая
улыбка» Кознышева, произносящего фразу с «аттической солью»,
«густой бас» Песцова, перебивающего собеседника. «Умники» моно-
логичны, каждый остается при своем мнении, а сам спор ритуален:
«разговор... затихал в ожидании обеда» (8: 421); обсуждение оче-
редной темы завершается шуткой и смехом Туровцына, «дождавше-
гося, наконец, того смешного, чего он только и ждал, слушая раз-
говор» (8: 426).
Характер невербального диалога и сам объем текста, который
он занимает, резко меняется при смене ситуации общения. Хресто-
матийный пример — любовное объяснение между Левиным и Кити,
которым завершается обед у Облонских (ч. 4, гл. XIII).
В прослеживании связей между словом героя и его отношением
к собеседникам, к обсуждаемой теме, выраженным не вербально,
всегда интересно. В эпике эти связи предстают особенно наглядно.
Вопросы
1. Что имел в виду X. Ортега-и-Гассет, называя современный ему роман
«медлительным» жанром?
2. Что понимал М. М. Бахтин под «гибридными конструкциями» в эпиче-
ском произведении в речи повествователя? Приведите пример «гибридной
конструкции».
120
3. Назовите основные типы повествователя в эпическом произведении.
Приведите примеры.
4. Какова роль изображения невербального диалога персонажей в ро-
манах Л. Н. Толстого?
Глава 7
ЛИРИКА
Рус.: лирика; англ.: lyric poetry; нем.: Lyric; фр.: poesie lyric.
Основные черты лирики. — Лирический субъект и его типы. Персона-
жи. — Специфика сюжета. — Лирика и стих. — Лирический цикл, книга
стихов, лирическая поэма.
Специфика лирики как рода литературы заключается в том,
что здесь на первом плане изображаются «единичные состояния
человеческого сознания: эмоционально окрашенные размышле-
ния, волевые импульсы, впечатления, внерациональные ощущения
и устремления»1. Эмоциональная окрашенность придает размышле-
ниям, устремлениям характер переживания, при этом используют-
ся различные средства художественной выразительности. Пережи-
вание, состояние сознания, отраженное в лирике, всегда отличается
от жизненных переживаний и размышлений: частные переживания
и размышления обретают обобщенность, которая является резуль-
татом творческого преображения реальных переживаний. Лири-
ка — это «самый субъективный род литературы, она, как никакой
другой, устремлена к общему, к изображению душевной жизни как
всеобщей»1 2.
Конечно, в лирике находят отражение не только переживания,
но и то, что послужило их толчком, в сферу лирики попадает внеш-
ний мир: люди, события, пейзаж. В лирике могут преломляться
представления человека о времени и пространстве, о сущности тех
или иных процессов и явлений, о мироздании, божественном на-
чале и т. п. Но все эти представления являются личностными, окра-
шиваются субъективными переживаниями, выражают личностную
реакцию на тот или иной аспект бытия. Например, в стихотворении
Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» показано индивидуаль-
ное представление о мироздании, о месте человека в нем, о связях
между теми или иными объектами вселенной, о происходящих про-
цессах в ней.
1 Хализев В. Е. Теория литературы, М.: Академия, 2009. С. 306.
2 Гинзбург Л. Я. О лирике. Л.: Сов. писатель, 1974. С. 8.
122
Даже если нет непосредственных указаний на наличие воспри-
нимающего субъекта, характерен сам выбор деталей, использова-
ние эмоционально-оценочных слов, тропов, интонационно-синтак-
сических средств и т. д.1 Вот начало стихотворения С. А. Есенина
«Топи да болота...»:
Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.
В поле зрения поэта — земля, небо, лес между ними. Они не про-
сто названы, но и охарактеризованы: метафора синий плат небес
вызывает ассоциации с фольклором, хвойная позолота выдает при-
стального наблюдателя (хвоя зеленого цвета, но солнце ее золотит),
неологизм взвенивает — метонимия, намек на птиц, поющих, а мо-
жет быть, задевающих ветви.
В отличие от эпоса и драмы, в лирике доминирует одно сознание.
Конечно, в его «работе» учитываются точки зрения других людей;
используя термин М. М. Бахтина, можно сказать, что это сознание
диалогично. Яркое проявление диалогичности в лирике — рефлек-
сия над несоответствием внутреннего и внешнего, прошлого и на-
стоящего «я», как например, в стихотворении В. Ф. Ходасевича «Пе-
ред зеркалом»:
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вот тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Самосознание формируется с помощью многочисленных «зер-
кал» — мнений обо «мне» других людей1 2. Тем не менее оно сохра-
няет качественную определенность, неповторимость. Лирическая
поэзия, будучи субъективным родом литературы, ограничивает
возможности разноречия: в «чистой» лирике поэт «и о чужом <... >
говорит на своем языке»3.
1 Это характерно в особенности для поэтов эпохи индивидуально-авторского
типа сознания. См.: Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. Л., Ми-
хайлов А. В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэти-
ка. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 4.
2 В книге С. Н. Бройтмана «Русская лирика XIX — начала XX века в свете исто-
рической поэтики (субъектно-образная структура)» (М., 1997) подробно прослежи-
вается становление и различные формы диалогизма в лирике.
3 Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстети-
ки. М., 1975. С. 100.
123
Даже стихотворение, построенное в форме диалога персонажей,
правильнее рассматривать как конфликт в рамках одного созна-
ния («Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт и толпа», «Герой»
А. С. Пушкина, «Поэт и гражданин» Н. А. Некрасова и др.) Здесь ав-
тор «всю сложность своих размышлений расщепляет надвое, разво-
дит на непримиримые позиции, персонифицирует в двух противо-
стоящих условных фигурах»1.
Внимание к внутренней жизни личности, к ее чувствам — харак-
терная черта лирики на протяжении всей ее истории, но само пред-
ставление о чувствах, о личности, испытывающей то или иное чув-
ство, менялось на протяжении веков. В фольклоре большое место
занимают так называемые протяжные песни, в которых выражают-
ся чувства и переживания личности. Однако эти чувства и пережи-
вания носят ритуальный, а не индивидуально-личностный харак-
тер. Особенно это очевидно в обрядовом фольклоре. Например,
выходя замуж, девушка должна была плакать, причитать, прощаясь
с родительским домом. Действительно, для многих женщин, особен-
но выходящих замуж за человека из другой деревни (а это значит,
что они могли больше никогда не увидеть своих родителей, сестер,
братьев), без любви семейная жизнь не сулила ничего хорошего.
Но были случаи, и не очень редкие, когда девушке удавалось выйти
замуж за любимого человека, войти в семью, которая готова была
с радостью принять ее. Разумеется, плакать ей не хотелось, но... она
должна была плакать, ее состояние не принималось в расчет.
В античной и средневековой лирике переживание, безусловно,
приобретает более личностный характер, однако и здесь в большин-
стве случаев мы имеем дело с неким обобщенным представлением
о том или ином чувстве. В этом отношении, может быть, наиболее
показательна поэзия трубадуров, миннезингеров и др., где наблю-
дается некий устойчивый набор ситуаций, неизбежно вызываю-
щих в герое заданное чувство, которое будет описано единственно
возможным способом (поэтому здесь будет много клишированных
фраз, устойчивых символов).
Представление о том, что одно и то же чувство разные люди мо-
гут переживать по-разному, складывается в литературе постепенно.
В Европе это происходит не позднее XVIII века, в эпоху сентимента-
лизма, когда большое внимание в поэзии уделялось оттенкам пере-
живания, поскольку именно они помогали отличить переживание
одной личности от переживания другой личности. С этого времени
можно говорить о лирике как о выразительном роде литературе.
Показательно, что именно в этот период начинают разрушаться
жанровые границы. Это происходит во всех литературных родах,
1 Сквозников В. Д. Лирика // Теория литературы. Основные проблемы в исто-
рическом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964. С. 186.
124
однако именно в лирике этот процесс был наиболее мощным. Фак-
тически уже в XIX в. лирика по большей части представляет собой
один жанр — стихотворение, в котором, разумеется, можно, хотя
и далеко не во всех случаях, найти черты традиционных жанров
(оды, элегии и др.), однако в полной мере отнести то или иное сти-
хотворение к определенному жанру невозможно.
В это же время отличительной чертой лирики, которая противо-
поставляет ее эпосу и драме, становится состояние сознания, или
переживание. В связи с этим возникает вопрос, чье сознание пред-
ставлено в лирическом стихотворении. Как давно отмечено, лирика
не есть воспроизведение эмпирики душевной жизни: «В поэте два
человека — он сам и его муза, то есть его преображенная личность,
и между этими двумя существами часто идет тяжелая борьба»1.
•«
Несовпадение биографического автора и структуры сознания,
системы ценностей, выраженных в его лирике, было в фокусе вни-
мания в 1950—1960 годы; тогда закрепилось понятие лирический
герой. С его помощью подчеркивалось, что переживания автора
объективируются, очищаются от всего случайного.
Более узкое понимание термина лирический герой, с опорой
на статью Ю. Н. Тынянова «Блок» (1921), где впервые вводится
это понятие, обосновано Л. Я. Гинзбург: это «единство личности,
не только стоящей за текстом, но и наделенной сюжетной характе-
ристикой, которую все же не следует отождествлять с характером»1 2;
это «не только субъект, но и объект произведения»3. Для того чтобы
говорить о лирическом герое как о единой личности, представлен-
ной в творчестве, необходимо, по мнению Гинзбург, исследовать
корпус стихотворений, поскольку только в этом случае можно го-
ворить об устойчивости тех или иных черт характера. Например,
одиночество лирического героя Лермонтова прослеживается в той
или иной степени во всем творчестве поэта. Лирический герой
принципиально отличается от общества, которое его не понимает,
его возлюбленная, как правило — ветреная кокетка, не способная
оценить глубину его чувств, или же на пути к счастью двух любя-
щих сердец оказываются непреодолимые препятствия, чаще всего
смерть одного из героев.
При таком узком понимании лирического героя возникает по-
требность в термине, обозначающем любого носителя выраженного
переживания, и этим термином становится лирический субъект (си-
нонимы: субъект лирики, субъект переживания, субъектные формы
1 Сквозников В. Д. Лирика // Теория литературы. Основные проблемы в исто-
рическом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964. С. 186.
2 Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1975. С. 175.
3 Там же. С. 159.
125
выражения авторского сознания)1. Лирический субъект может вы-
ступать не только как отдельная личность («я»), но и как коллектив,
группа («мы») («Скифы» Блока, «Мы» В. Кириллова).
Наличие двух терминов-понятий, находящихся в отношениях
рода и вида (лирический субъект и лирический герой), естественно,
порождает вопрос и о других, помимо лирического героя, типах ли-
рического субъекта. Были выработаны различные классификации,
наиболее широко вошла в литературоведение теория Б. О. Корма-
на, выделившего три основные «субъектные формы выражения ав-
торского сознания».
1. Собственно автор и автор-повествователь. «В стихотворе-
ниях, где носителем речи является собственно автор, для читателя
на первом плане какое-то событие, обстоятельство, ситуация, явле-
ние, пейзаж»1 2 («Перед дождем», «В столицах шум, гремят витии...»,
«Смолкли честные, доблестно павшие...» Н. А. Некрасова). С «соб-
ственно автором» Корман сближает «автора-повествователя», кото-
рый «рассказывает о каком-то другом человеке и его жизненной судь-
бе. <...> читатель прежде всего видит того, кто изображен, о ком
рассказывается, и порой вовсе не замечает того, кто повествует»
(с. 46). Таковы стихотворения «Свадьба», «Школьник» Некрасова.
2. Лирический герой. Он одновременно является «и носителем
сознания и предметом изображения, он открыто стоит между чита-
телем и изображаемым миром; внимание читателя сосредоточено
преимущественно на том, каков лирический герой, что с ним про-
исходит, каково его отношение к миру, состояние и пр.» (С. 48).
«Одинокий, потерянный...», «Умру я скоро...», «Я за то глубоко пре-
зираю себя...», «Где твое личико смуглое...», «Тяжелый год — сло-
мил меня недуг...» и др.
3. Ролевой герой — носитель чужого сознания. Авторская точка
зрения также выражена в стихотворении, но косвенно: фактически
«“ролевые” стихотворения двусубъектны. Одно, более высокое со-
знание, обнаруживается прежде всего в заглавиях; в них определя-
ется герой стихотворения (“Косарь”, “Пахарь”, “Удалец” Кольцова,
“Катерина”, “Калистрат” Некрасова) и иногда — прямо или в иро-
нической форме — выражается отношение к нему (“Хищники на Че-
геме” А. С. Грибоедова, “Нравственный человек” Н. А. Некрасова).
Сферой другого сознания является основная часть стихотворения,
принадлежащая собственно герою» (с. 98—99). Стихотворения
1 См.: Корман Б. О. Лирика Некрасова. Ижевск, 1978. С. 8.; Поспелов Г. Н. Ли-
рика среди литературных родов. М., 1976. С. 31.; Силъман Т. И. Заметки о лирике.
Л., 1977. С. 32.; Гинзбург Л. Я. О лирике. С. 7.; Бройтпман С. Н. Русская лирика XIX —
начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М.,
1997. С. 23—30.
2 Корман Б. О. Лирика Некрасова. Далее издание цитируется в тексте в скобках
с указанием страниц.
126
с ролевым героем обычно озаглавлены, и часто это его номинации
(не только антропонимы: Катерина, Калистрат, но и любое наи-
менование: косарь, хищники на Чегеме и др.).
Корман также выделяет стихотворения, где формально носите-
лем сознания является «собственно автор» или «автор-повествова-
тель», но анализ текста выявляет многоголосие («Похороны», «В пол-
ном разгаре страда деревенская...»).
Концепция С. Н. Бройтмана строится на других основаниях.
Исследователь выделяет своего рода два полюса: внесубъектные
формы выражения авторского сознания (термин вряд ли может
считаться удачным, поскольку в любом случае воспринимающий
субъект есть, другой вопрос — как он проявляет себя) и герой ро-
левой лирики.
В стихотворениях с внеличными формами выражения авторско-
го сознания «высказывание принадлежит третьему лицу, а субъект
речи грамматически не выявлен»1. Таково, например, стихотворе-
ние Ф. И. Тютчева «Последний катаклизм»:
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!
(1829)
Между этими полюсами находятся лирическое «я», выраженное
грамматически, но не являющееся объектом изображения. Напри-
мер, в стихотворении Пушкина очевидно обращение к адресату, же-
лание поддержать его, но что при этом чувствует сам лирический
субъект, неясно:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
Лирический герой, «отчетливее, чем лирическое “я”, отделяется
от первичного автора, но кажется при этом максимально прибли-
женным к автору биографическому»1 2.
Заслугой исследователя является выделение синкретического
субъекта, характерного для произведений русской народной лири-
1 Брошпман С. Н. Лирический субъект // Введение в литературоведение. Под.
ред. Л. В. Чернец. М., 2004. С. 314.
2 Там же. С. 316.
127
ки. Здесь несколько носителей речи представлены как «я». Также
в фольклоре встречаются песни, где «“я” внутренне не отделяет себя
от “другого”. Так, соперник “я” назван “милым”...»1 и тут же, через
запятую, злодеем.
Однако можно найти стихотворения, в которых субъект речи
не выражен ни местоимениями, ни формами глагола, но сознание
его явно не тождественно авторскому, чаще всего это стилизации
или детская поэзия. Таково стихотворение Н. С. Гумилева «Греза
ночная и темная». Поэтому, характеризуя субъектную организацию
лирических произведений, целесообразно опереться на традицию
деления лирики на автопсихологическую и ролевую1 2. Независимо
от объекта изображения (пейзаж, другие люди, сам носитель пере-
живания) лирика может оставаться автопсихологической («Перед
дождем», «Маша», «О, муза! Я у двери гроба!..» Некрасова) или ро-
левой (его же стихотворения «Знахарка», «Дума», «Огородник»).
При этом можно, опираясь на утвердившееся значение термина
лирический герой, соответственно выделить произведения с автоп-
сихологическим и ролевым героем (ср. стихотворения Некрасова
«Я за то глубоко презираю себя...» и «Калистрат») или с автопсихо-
логическим / ролевым субъектом, но можно говорить лишь о вы-
раженной точке зрения, голосе (ср. стихотворения Фета «Это утро,
радость эта...»). Такие стихотворения в целом редкое явление, од-
нако в детской поэзии они чрезвычайно широко распространены
(«Что растет на ёлке?» С. Я. Маршака).
Итак, в лирическом произведении раскрывается переживание
(событие сознания) лирического субъекта (героя) — автопсихоло-
гического или ролевого. Однако объектом переживания могут быть
не только природа или собственное «я» (лирический герой), но и дру-
гие люди («Размышления у парадного подъезда» Некрасова, «Незна-
комка» Блока). Для их обозначения тоже нужны термины. Наиболее
подходящим представляется термин персонаж3, который обознача-
ет любое лицо (объект), попавшее в зону сознания лирического
субъекта, рассказывающего или размышляющего. Однако важно
помнить, что персонажи в лирике изображаются иначе по сравне-
нию с эпосом и драмой. Они в любом случае попадают в сознание
лирического субъекта, становятся объектами его переживания.
Например, в стихотворении Некрасова «Тройка» на первом плане
крестьянская девушка, однако лирический герой не ограничивает-
ся изображением ее красоты, ему важно подчеркнуть, что красота
1 Брошпман С. Н. Русская лирика XIX — начала XX века в свете исторической
поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 48—49.
2 Хализев В. Е. Лирика // Введение в литературоведение. Литературное произ-
ведение: основные понятия и термины. М., 2000. С. 138.
3 Поспелов Г. Н. Лирика среди литературных родов. М., 1976. С. 151.
128
эта будет загублена, т. е. в образе девушки отражаются представле-
ния лирического субъекта о тяжелой женской доле, в особенности
крестьянской. В качестве синонима к термину, конечно, можно ис-
пользовать слово герой (героиня) (в современном литературоведе-
нии персонаж и герой — синонимы), но важно помнить об их «объ-
ектном» статусе. В стихотворении Блока «О доблестях, о подвигах,
о славе...» есть «я» —лирический герой, чей монолог составляет
весь текст, и «ты» — героиня, о которой он вспоминает. Так возни-
кает система персонажей (героев). В нее могут входить не только
я и ты, мы и они, но многие лица (группы лиц), как в блоковской
«Незнакомке».
При анализе эпических произведений проводится четкое разли-
чие между субъектной организацией (повествователь, рассказчик)
и системой персонажей. При этом рассказчик (имеется в виду по-
вествование от первого лица) не только знакомит с некоей исто-
рией, но и является ее участником, т. е. персонажем; повествова-
тель же к системе персонажей не имеет отношения, присутствует
только как «голос». Применительно к лирике необходимо также про-
вести разграничение между субъектной организацией и системой
персонажей, в которую входит или не входит лирический субъект.
Таким образом, субъектная организация и система персонажей —
разные понятия. При этом система персонажей, как и образная
структура стихотворения в целом, напрямую зависит от типа лири-
ческого субъекта.
Учитывая различные типы субъектной организации и постро-
ение системы персонажей, лирику можно разделить, по крайней
мере, на четыре группы:
I. Стихотворения с автопсихологическим лирическим субъек-
том:
1) автопсихологический субъект представлен как точка зрения,
«голос» («В столицах шум, гремя витии...» Некрасова или «Это утро,
радость эта...» Фета). (В дальнейшем для краткости этот тип лири-
ческого субъекта будем называть голосом). Объектом же изображе-
ния могут быть:
а) внешний мир, в котором отсутствуют люди, хотя могут быть
показаны следы их деятельности. Таковы пейзажные стихотворения
(«Чудная картина...» Фета, «Южный голос луны» Бальмонта, «Пол-
ночный звон степной пустыни» Бунина);
б) один или несколько персонажей, образующих систему. Если
изображено несколько групп, то обычно они как-то сопоставлены,
между ними могут возникнуть отношения. Такая система персона-
жей представлена в стихотворении Некрасова «Смолкли честные,
доблестно павшие...» Отношение автопсихологического субъекта
к изображаемым, называемым персонажам проявляется в прямоо-
ценочной лексике, тропах («честные, доблестно павшие»).
129
2) Автопсихологический субъект может оказаться одновремен-
но и объектом изображения, в таком случае следует говорить об ав-
топсихологическом лирическом герое. Он открыто заявляет о себе,
о своих взглядах, чувствах, взаимоотношениях с кем-либо («Ты от-
страдала, я еще страдаю...» Фета, «Душа мрачна, мечты мои уны-
лы...» Некрасова). Здесь возможны следующие разновидности:
а) лирический герой — единственное лицо, его мысли и чувства
выражены прямо, они устойчивы, и можно говорить о характере.
Таково стихотворение Некрасова «Я сегодня так грустно настро-
ен...» Здесь воссоздан характер: лирический герой «устал от мучи-
тельных дум» о своей тяжелой болезни, о приближающейся смерти.
Герой пребывает в меланхолическом состоянии, понимает свою об-
реченность;
б) наряду с автопсихологическим героем объектом изображе-
ния могут оказаться и другие лица, т. е. персонажи, что характерно
для посланий, любовной лирики. В сознании лирического героя по-
является какой-то персонаж (и), между ними возникают отношения
(«Давно ль под волшебные звуки...» Фета). Если показана группа(ы)
персонажей, то герой либо осознает себя ее частью, либо противо-
поставляет себя ее членам. Возможен также случай, когда взгляды
героя и группы противопоставлены частично. Здесь представлены
не личные отношения, а процесс самосознания, самоопределения
(«Ликует враг, молчит в недоуменье...» Некрасова).
В стихотворении может быть представлена развернутая си-
стема персонажей, среди которых — по аналогии с эпическими
и драматическими произведениями — можно выделить главных
и второстепенных. Это сближает лирику с эпосом и драмой. В пер-
сонажной лирике обычно намечен сюжет, что требует достаточно
большого объема текста. Например, в стихотворении Некрасова
«Т<ургене>ву» (1861) воссозданы важнейшие вехи литературной
биографии Тургенева, его общественно значимые поступки. Внача-
ле общественные взгляды Некрасова и Тургенева сходны: Тургенев
«в глаза <... > правду говорил / Могучему деспоту», «маску дер-
зостно срывал / С глупца и негодяя». Выразительно и сочувственно
сравнение адресата с поденщиком, т. е. простым рабочим челове-
ком. Но Тургенев меняется: он становится равнодушен к «ропоту
народа», щадит «важного глупца», «безвредного ласкает».
II. Стихотворения с ролевым лирическим субъектом, облада-
ющим особой речевой манерой, которая позволяет соотнести его
с той или иной социальной или культурной средой (при этом автор-
ский голос часто звучит только в заглавии):
1) Ролевой субъект представлен только как точка зрения, взгляд
на мир, голос. Такие стихотворения отличает в той или иной мере
налет стилизации, что часто проявляется в следовании опреде-
130
ленной жанрово-стилистической традиции («В городке» А. Белого,
«Жизнь» из цикла «Индийские травы» Бальмонта). Объектом изо-
бражения ролевого субъекта также могут быть:
а) внешний мир, в котором отсутствуют люди; например, сти-
хотворение Бунина «Рыбацкая», входящее в цикл «Из анатолийских
песен».
Летом в море легкая вода,
Белые сухие паруса,
Иглами стальными в невода
Сыплется под баркою хамса.
Назвать воду легкой может человек, деятельность которого про-
ходит в море. Летом здесь легко работать, море не создает дополни-
тельных трудностей, поэтому и вода в нем — легкая.
б) один или несколько персонажей, составляющих систему. По-
зиция ролевого субъекта может быть выражена через его отношение
к изображаемым (называемым) лицам, что проявляется в лексике,
тропах и др. Так, стихотворение «О последнем рязанском князе Ива-
не Ивановиче» Брюсова имеет зачин, характерный для фольклора:
«Ой вы, струночки, — многострунчаты! / Балалаечка многозна-
ечка!» Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов,
диалектных слов (нонче), повторов (думу думает), характерны для
фольклора. Сюжет (о невинно убиенном князе) напоминает исто-
рическую песню о временах укрепления московского княжества.
Симпатии повествующего субъекта на стороне рязанского князя,
ему противостоят жестокие «люди московские»: четкое деление
персонажей на положительных и отрицательных также характерно
для фольклора. Здесь ролевой субъект выражает народную точку
зрения, это стилизация народной исторической песни.
2) Если ролевой субъект оказывается одновременно и объек-
том изображения (говорит о себе, своих отношениях с кем-либо),
то перед нами ролевой герой («Огородник», «Калистрат» Некрасова).
Стихотворения с ролевым героем обычно опознаются по номинаци-
ям персонажей, однако не стоит судить только по этому признаку,
поскольку способ воссоздания мира может не соответствовать ро-
левому герою, оказывающемуся не более чем маской. По структуре
сознания, системе ценностей герой (формально ролевой) принципи-
ально не отличается от автопсихологического. Чтобы выяснить это,
необходимо детально проанализировать стихотворение. Особенно
часто такой герой представлен в стилизациях, например, в стихот-
ворении «Ассаргадон» В. Я. Брюсова. Сам поэт отметил «двойную»
природу лирического субъекта в сборнике «Любимцы веков» (куда
входит и «Ассаргадон»). В письме А. М. Горькому он писал: «Отли-
чие их от сонетов Эредиа важное. У того все изображено со стороны,
131
а у меня везде — ив Скифах, и в Ассаргадоне, и в Данте — везде
мое “я”. Право же, дьявольская разница!»1 Показательно, однако, что
Горький, ориентируясь, видимо, в первую очередь, на стилистику,
уловил в этих стихах голос поэта-парнасца Эредиа. Сравнивая Брю-
сова с ним, Горький намекал на определенную «отстраненность»
Брюсова от героев, холодность его красок, некоторую картинность
и экзотичность его героев, которых он счел ролевыми. Такого героя,
формально являющегося ролевым, но обладающего скорее автопси-
хологическим сознанием, называют псевдоролевым.
а) ролевой герой — единственный объект изображения, пред-
ставленный как характер, это наиболее типичный случай. Таково
стихотворение Мандельштама «Пилигрим»: «Слишком легким пла-
щом одетый, / Повторяю свои обеты»;
б) кроме ролевого героя объектом изображения могут оказать-
ся и другие персонажи, между ними возникают какие-то отноше-
ния («Буря» Некрасова). В стихотворениях с ролевым героем также
может быть развернутая система персонажей, среди которых выде-
ляются главные и второстепенные. Например, многоперсонажное
стихотворение Некрасова «Катерина»: помимо главной героини на-
званы и иногда охарактеризованы ее муж, брат, отец, мать, солдатик
Федя, соседи, старики, чужие люди. Сама Катерина — носительница
отнюдь не патриархального сознания (следовательно, ее позиция
противопоставлена коллективной): она терпит побои мужа не пото-
му, что так заведено, а в качестве расплаты за встречи с Федей.
Интересные стихотворения с ролевым субъектом можно найти
в детской поэзии, где автор как бы перевоплощается в ребенка, вы-
ражает его точку зрения, взгляд на мир. Примерами могут служить
стихотворения А. Барто («Сонечка», «Осенью», «Олень», «Помощ-
ница»), С. Я. Маршака («Что растет на елке», «Великан», «Ванька-
встанька», «Вот такой рассеянный» и др.).
На способ изображения персонажей влияет субъектная органи-
зация лирического произведения. Сходные персонажи могут быть
показаны по-разному. Например, в стихотворениях Некрасова
«Тройка» и «Катерина» изображены крестьянки, но если в первом
стихотворении передан взгляд со стороны, то во втором — изнутри.
Структура стихотворений с ролевым субъектом более сложная, по-
скольку здесь может быть представлена скользящая точка зрения,
что характерно для эпических произведении. В стихотворении Не-
красова «В полном разгаре страда деревенская...» соотносятся точ-
ки зрения автопсихологического и ролевого субъектов, при этом
формально носитель речи один1 2.
1 Цит. по: Брюсов В. Я. Стихотворения и поэмы. Л., 1961. С. 733.
2 Подробный разбор данного стихотворения см.: Корман Б. О. Указ. соч.
С. 160—161.
132
В лирических произведениях со сложной композиционной струк-
турой система персонажей может изменяться. В «Размышлениях
у парадного подъезда» Некрасова сначала названы групповые пер-
сонажи: прожектеры, искатели мест, курьеры; затем появляются
просители, деревенские русские люди; рассказывается, как их не пу-
стил швейцар; наконец, говорится о «владельце роскошных палат»,
его будущей смерти «под пленительным небом Сицилии». Заверша-
ет галерею персонажей образ русского мужика (это синекдоха), опи-
сание его «стона бесконечного».
Также существуют стихотворения, где в ходе лирического выска-
зывания меняется субъектная организация: вначале лирический
субъект выступает как голос, а потом превращается в героя. Напри-
мер, в стихотворении Фета «Тургеневу» (1864) первые две стро-
фы посвящены Тургеневу, который в то время жил в Баден Бадене
(«Тебя пригрел чужой денницы яркий луч»). Но начиная с третьей
строфы автор рисует свой портрет («Поэт! и я обрел, чего давно ал-
кал...»), хотя иногда и обращается к адресату («И верь/»).
Выражение переживания лирического субъекта, состояние его
сознания определяет и все остальные отличительные черты лирики
как рода литературы. Особенностью лирики является медитатив-
ностъ, глубокое эмоциональное размышление о чем-либо. Даже
если в лирике прослеживается описательность или повествова-
тельное начало, медитативный компонент обязательно присутству-
ет. Лирика не приемлет спокойного, нейтрального размышления,
ей свойственна высокая экспрессивность. Для лирики характерна
малая форма — стихотворение. Это связано с тем, что предметом
внимания становится, как правило, наиболее острый момент того
или иного переживания лирического субъекта. Например, в сти-
хотворении Лермонтова «И скучно, и грустно...» выражены глу-
бокие переживания лирического героя, осознающего свое полное
одиночество в мире. Но при этом сам процесс переживания фак-
тически не воссоздан в стихотворении: неясно, что именно под-
толкнуло лирического героя к такому пессимистическому взгляду
на мир, сможет ли он выйти из этого психологического состояния.
Если и можно хотя бы в какой-то степени ответить на эти вопро-
сы, то необходимо привлекать и другие стихотворения на данную
тему. В некоторых стихотворениях, правда, намечается изображе-
ние внутренней жизни субъекта, однако оно носит исключительно
фрагментарный, пунктирный характер. Например, в стихотворении
Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» изображены две встречи
лирического героя с возлюбленной, показано также его состояние
между этими встречами, но... отдельными штрихами. Поскольку
лирика не изображает, а именно выражает переживания, в ней ра-
ботает принцип «как можно короче и как можно полней», читатель
должен прочувствовать это переживание как свое, а не, скажем, по-
нять его сущность.
133
•к * *
При анализе лирики, как правило, не используется понятие сю-
жет, поскольку цепь событий вряд ли может быть объектом вни-
мания лирического субъекта (хотя существуют и такие стихотворе-
ния). Если лирический субъект и размышляет над тем или иным
событием, выражает свое эмоциональное отношение к нему, то это,
как правило, одно событие, причем изображенное отдельными
штрихами. Например, в стихотворении Блока «В ресторане» пока-
зана мимолетная встреча героя и героини, но основное внимание
лирического героя сосредоточено не на самом событии, а на своих
переживаниях, кроме того, он пытается угадать состояние героини.
Более того, события нередко приобретают в лирике символический
характер, как, например, в «Пророке» Пушкина: действия серафима
ни в коем случае нельзя понимать буквально — это этапы духовно-
го развития личности поэта-пророка. Символические, устойчивые
события и ситуации, которые фактически являются внешним отра-
жением внутренней жизни человека — отличительная черта антич-
ной и средневековой лирики. Например, в куртуазной лирике дама
всегда замужем, поэтому отношения между лирическим героем
и героиней невозможны, чувства носят исключительно платониче-
ский характер. Но если представить, что героиня свободна, то уже
чувства рыцаря будут носить несколько иной характер: он уже мо-
жет добиваться счастья с этой женщиной. При этом символической
оказывается и сама фигура рыцаря. Представитель иного сословия,
например, крестьянин или священник, согласно представлениям
той эпохи, в принципе не может испытывать подобных чувств.
Если же в стихотворении легко прослеживается сюжет, то такие
произведения носят фактически лироэпический характер. Напри-
мер, произведение Некрасова «Железная дорога», традиционно счи-
тающееся стихотворением, может рассматриваться как поэма или
баллада.
Лирика существует преимущественно в поэтической форме.
И хотя есть жанр стихотворения в прозе, в целом он является ско-
рее исключением. Причем такая тенденция прослеживается в лите-
ратурах всего мира. Системы стихосложения могут быть разными,
основные средства художественной выразительности также могут
не совпадать. Например, рифма может осознаваться как обяза-
тельная (чуть ли не главная) отличительная черта стихотворения
или же вовсе отсутствовать. Но в любом случае по сравнению с эпо-
сом и драмой в лирике значительно больше средств художествен-
ной выразительности, которые позволяют полнее и глубже передать
то или иное состояние лирического субъекта. В литературоведении
существует понятие семантического ореола стихотворного размера,
134
строфы, т. е. поэт, выбирая тот или иной размер или строфу, пытает-
ся настроить читателя определенным образом. Наиболее отчетливо
связь между тематикой, эмоциональным состоянием лирическо-
го субъекта и размером или строфой прослеживается в античной
и средневековой лирике. Например, Данте считал тринадцатислож-
ник самым торжественным размером не только потому, что он был
самым длинным, но и потому, что 13 — глубоко сакральное число,
символизирующее 12 апостолов во главе с Христом. Разумеется,
такой размер подходит только для серьезных, философских стихот-
ворений. «Божественную комедию» он пишет терцинами, строфой,
также имеющей сакральное значение. В литературе Нового вре-
мени уже нет такой строгой взаимосвязи, но тем не менее общий
принцип сохраняется. Например, анапест обычно настраивает чи-
тателя на грустные размышления, октава воспринимается как тор-
жественная, «серьезная» строфа.
Речевая экспрессивность в лирике нередко доводится до макси-
мального предела, это достигается с помощью средств художествен-
ной выразительности, которые, как уже отмечалось выше, рождают
в сознании читателей цепочки ассоциаций, важных для поэта, вы-
зывают определенное эмоциональное состояние. При этом в лирике
логическая связь высказываний не так существенна, а может и пол-
ностью отсутствовать, на первом плане оказываются эмоциональ-
но-ассоциативные ряды деталей. Таково, например, стихотворение
Пастернака «Как бронзовой золой жаровень...»:
Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.
В лирике особенно часто можно увидеть неожиданные метафо-
ры, сравнения, средства иносказания, поразительные звуковые по-
вторы, интонационно-синтаксические конструкции.
it it it
Для лирики характерна малая форма — стихотворение. В нем вы-
ражается какое-то одно эмоциональное состояние, причем оно по-
казано в его наивысшем и наиболее полном воплощении, это своего
рода пик. Однако поэтам нередко хочется показать более сложные
состояния, показать некий процесс. В лирике поэтов XIX в. встре-
чались стихотворения, где предпринималась попытка передать
именно процесс, например, в стихотворении Пушкина «Я помню
чудное мгновенье...» фактически показано несколько состояний
лирического героя. Однако в полной мере выразить процесс, про-
исходящий в душе героя, можно, видимо, только в ряде стихотворе-
ний, объединенных общей темой, проблемой. Фактически первые
135
циклы возникают уже в творчестве поэтов XIX в., например, так на-
зываемый «панаевский» цикл Некрасова или «денисьевский» цикл
Тютчева. Однако принципиально, что это неавторские циклы1, т. е.
авторы не осознавали эти стихотворения как некое единство. Чи-
татели же нередко начинают неосознанно объединять эти стихот-
ворения, поэтому такие циклы исследователи называют читатель-
скими. В дальнейшем поэты, уже в XX в., осознанно объединяют
стихотворения в цикл, более того, задумывают написать тот или
иной цикл. При этом одновременно поэт может работать над двумя
разными циклами, как например, Б. Л. Пастернак, который одно-
временно работает над циклами «Сестра моя жизнь» (1917—1920)
и «Темы и вариации» (1917—1918). Лирические циклы могут в даль-
нейшем объединяться в книги стихов, которые могут в конечном
счете включать в себя фактически все стихотворения поэта. Важ-
но, что особый статус этого единства осознавался и самим поэтом.
В предисловии к первому изданию Блок подчёркивал единство сво-
его замысла: «Каждое стихотворение необходимо для образования
главы (т. е. цикла); из нескольких глав составляется книга; каждая
книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу назвать «романом
в стихах...»1 2
Помимо цикла стихов и книги стихов в лирике начала XX в. фор-
мируется особый жанр —лирическая поэма. Обычно поэму опреде-
ляют как жанр эпический (героическая поэма, например, «Полтава»
Пушкина) или лироэпический (например, «Демон» или «Мцыри»
Лермонтова). Героическая поэма — более ранний жанр, следова-
тельно, она эволюционирует к лирической поэме, в которой поми-
мо развитой сюжетной линии, системы персонажей (в целом их су-
щественно меньше, чем в эпической поэме) прослеживается еще
и лирическое начало, выражающееся в первую очередь в том, что
автор не скрывает, а нередко и всячески подчеркивает свое эмоцио-
нальное отношение к героям и событиям. Читатель фактически ви-
дит события и персонажей не самих по себе, а именно в восприятии
автора: события и персонажи нередко помогают понять авторское
психоэмоциональное восприятие мира в целом, реакцию на все, что
происходит в нем. В начале XX века в поэме резко усиливается ли-
рическое начало, фактически лирическая поэма гораздо больше на-
поминает разросшееся лирическое стихотворение или лирический
цикл, в котором более четко прослеживается единство. Как отмеча-
ют исследователи, поэму «от лирического стихотворения отличает
объём, а от лирического цикла большая целостность поэтическо-
1 Подробнее о циклах см.: Дарвин М. Н. Русский лирический цикл: Проблемы
истории и теории. Красноярск, 1988; Фоменко И. В. Лирический цикл: становление
жанра, поэтика. Тверь, 1992. С. 97.
2 БлокА. А. Собр. соч.: в 8 т. T. 1. М., 1960, с. 559.
136
го организма»1, «для поэтики лирической поэмы характерна зыб-
кость сюжетных линий, отсутствие исторической достоверности,
аллегоричность, смена настроений, взаимодействие лирических
состояний, сплошной лирический монолог»1 2. Поэма объединяется
не столько сюжетом, который может быть размыт, как например,
в «Двенадцати» Блока, «Реквиеме» Ахматовой, сколько общим на-
строением. Главы могут выделяться не столько на основе происхо-
дящих в них событий, сколько на основе единого настроения, эмо-
ционального состояния. Однако в отличие от цикла стихов и даже
книги стихов лирическая поэма в большей степени выражает имен-
но процессуальный характер внутреннего состояния автора.
Вопросы
1. Кто ввел термин «лирический герой»?
2. В чем различие между автопсихологической и ролевой лирикой?
Приведите примеры ролевой лирики.
3. Как менялись принципы публикации лирических стихотворений
на протяжении XVIII — начала XIX вв. в русской литературе?
4. Чем можно объяснить теснейшую связь лирики и стиха?
1 Карпов А. С. Русская советская поэма 1917—1941. М., 1989. С. 69.
2 Долгополов Л. К. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX — начала XX века.
М.; Л., 1964. С. 139.
Глава 8
ЖАНРЫ
Рус.: жанр; англ.: genre; нем.: Gattungen; фр.: genre.
О жанровых признаках произведений. — Конкретно-исторический и ти-
пологический подходы к жанрам. — О смене жанровых систем в истории
литературы. — Концепции М. М. Бахтина, Г. Н. Поспелова. — О функциях
понятия «жанр».
Литературные жанры — сложившиеся в литературном процессе
типы произведений, получившие определенное название (напри-
мер: эпопея, трагедия, ода, басня, житие) и характеризующиеся
комплексом устойчивых признаков.
Жанровое значение имеет прежде всего принадлежность произ-
ведения к определенному литературному роду: эпике, драме, лири-
ке. К эпическим жанрам относятся рассказ, новелла, очерк, повесть,
роман, поэма, эпопея; к драматическим — трагедия, драма, коме-
дия, водевиль, мелодрама; к лирическим — лирическое стихотворе-
ние, лирический цикл, а также восходящие к античности ода, гимн,
элегия, стихотворная сатира, эпиграмма (названы лишь самые из-
вестные жанры, используемые и в настоящее время). Есть жанры,
в которых сочетаются различные родовые начала: лироэпическая
поэма, баллада, басня, лирическая драма (например «Балаганчик»,
«Роза и крест» А. А. Блока), драматическая поэма («Натан Мудрый»
Г. Э. Лессинга, «Манфред» Дж. Г. Байрона) и др.
Своеобразие многих жанров заключается также в доминанте
в произведениях определенной эстетической категории (трагиче-
ское, комическое, драматическое, идиллическое и др.), что отражено
в целом ряде жанровых номинаций, как то: трагедия, комедия, дра-
ма (жанр), идиллия, элегия, сатира.
Вообще признаками жанра могут быть разные особенности со-
держания и формы произведений. Так, новелла (от ит. novella, т. е.
новость) отличается от рассказа особенностями сюжета и его ком-
позиции. В частности, для новеллы характерны четкость и остро-
та сюжета, имеющего неожиданную развязку, лаконизм описаний
(«Маттео Фальконе» П. Мериме, «Дары волхвов» О. Генри, «Голос
и глаз» А. С. Грина).
138
Жанровое значение имеет ритмическая организация речи —
стихотворная или прозаическая. А. С. Пушкин, создавая «Евгения
Онегина», сообщал П. А. Вяземскому (4 ноября 1823 г.): «...я пишу
не роман, а роман в стихах — дьявольская разница». Существенны
также различия в объеме текста: рассказ, повесть, роман обычно
представляют собой малую, среднюю, большую эпические формы.
На фоне этой нормы ощутимы отступления. Например, Ф. М. До-
стоевский дает необычный жанровый подзаголовок произведению
небольшого объема: «Белые ночи. Сентиментальный роман. Из вос-
поминаний мечтателя». Одинокий герой-рассказчик вспоминает
лишь о четырех «ночах» в своей жизни, для него это самое дорогое
время, когда он действительно жил, а не мечтал. «Боже мой! Целая
минута блаженства. Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь
человеческую?..» — последняя фраза «Белых ночей».
ж * %
Жанры выделялись в литературном процессе постепенно и полу-
чали те или иные названия не в результате некой логически после-
довательной классификации: они складывались исторически, под
воздействием многих факторов. Поэтому необходимо разграничи-
вать две задачи, стоящие перед жанровой теорией: это, во-первых,
изучение конкретно-исторических жанровых систем; во-вторых,
построение жанровых типологий.
С одной стороны, необходимо знать, что именно подразумевали
писатели и читатели под теми или иными жанровыми номинаци-
ями в определенный период развития национальной литературы,
необходимо реконструировать жанровые нормы, реально регулиру-
ющие процесс творчества и восприятия. Из «поэтик» классицизма,
в которых большое место занимали описания жанров, ясно, что при
создании, например, «трагедии» или «комедии» нужно было при-
держиваться строгих правил. В «Поэтике» итальянского теоретика
Ю. Ц. Скалигера (1561) эти два жанра противопоставлены по це-
лому ряду признаков: «Трагедия, созданная так же как и комедия,
из самой жизни человеческой, отличается от комедии тремя веща-
ми: положением персонажей, характером их судеб и поступков, фи-
налом, поэтому она неизбежно отличается от нее также и стилем.
В комедии — явившиеся из деревни Хреметы, Давы, Феиды, люди
низкого происхождения. Начало бурное и запутанное, финал — ра-
достный. Речь простая, обыденная. В трагедии — цари, князья, оби-
тающие в городах, дворцах, замках. Начало — сравнительно спо-
койное, финал — ужасающий. Речь — важная, отделанная, чуждая
грубой речи толпы, все действие полно тревог, страха, угроз, всем
угрожают изгнание и смерть»1. Эти положения Скалигер подкрепля-
ет ссылками на трагедии и комедии античных драматургов.
1 Литературные манифесты западноевропейских классицистов // Собр. тек-
стов, вступ. ст. и общая ред. Н. П. Козловой. Изд-во Моск, ун-та, 1980. С. 55.
139
С другой стороны, не менее важно соотнести жанровые кано-
ны (как они представлены, в частности, в изложении Скалигера)
с позднейшими трагедиями. Очевидно, что «Гроза. Драма в пяти
действиях» А. Н. Островского (1859), в современном литературове-
дении рассматриваемая как трагедия, или «Кровавая свадьба. Тра-
гедия» Ф. Гарсия Лорки (1933) не отвечают требованиям классициз-
ма: изображается среда купечества или крестьянства, напряжение
не подчинено строгому ритму, в «Грозе» много комических сцен,
есть «лишние», не занятые в основном сюжете, персонажи (Феклу-
ша, Кулигин) и т. д. Тем не менее принадлежность произведений
к драматическому роду, наличие трагических героев, глубокий, не-
разрешимый внутренний конфликт и трагический финал дают все
основания для того, чтобы отнести эти пьесы к жанру трагедии.
Следовательно, в истории жанра есть устойчивые и переменные
признаки. Последние учитываются в полной мере именно при кон-
кретно-историческом изучении, реконструкции жанровых систем
средневековой литературы, классицизма, романтизма и т. д. (в их раз-
личных национальных вариантах). При таком подходе жанр рассма-
тривается в рамках жанровой системы, в синхронии. Для выявле-
ния же жанровой преемственности, наиболее устойчивых признаков
жанра, обеспечивающих его узнаваемость, идентичность в литера-
турном процессе, в диахронии, используется типологический подход.
С теоретическим обоснованием понятия «литературная систе-
ма», в том числе «жанровая система», в отечественной науке вы-
ступил в 1920-е годы Ю. Н. Тынянов. Он применил к анализу ли-
тературного процесса идеи структурной лингвистики, в частности
оппозицию синхрония/диахрония, выдвинутую швейцарским язы-
коведом Ф. де Соссюром в его «Курсе общей лингвистики» (1916).
Ю. Н. Тынянов подчеркивал, что невозможно вне жанровой систе-
мы определить значение той или иной жанровой номинации для
современников, «ибо то, что называли одою в 20-е годы XIX века
или, наконец, Фет, называлось одою не по тем же признакам, как
во времена Ломоносова»1.
Однако изучение отдельно взятых жанровых систем, как отмече-
но выше, не выявляет преемственности, традиции в развитии лите-
ратурных жанров. Отсюда вытекает необходимость типологическо-
го анализа, ретроспективно обнаруживающего в пестроте жанровых
метаморфоз некие константы, позволяющие сблизить между собой
трагедии Софокла, Шекспира, Корнеля, Островского, Гарсия-Лор-
ки или оды Пиндара, Горация, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина,
А. С. Пушкина. Типологический и конкретно-исторический подходы
к жанрам дополняют друг друга.
1 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История
литературы. Кино. М.: 1977. С. 281.
140
На разных этапах истории литературы роль жанровых категорий
в творчестве писателей и восприятии произведений читателями
не одинакова. В особенности велика эта роль в традиционалист-
ской литературе (начиная с античности вплоть до второй половины
XVIII в.), когда важнейшим стимулом творчества было подражание
признанным образцам жанра. Например, М. М. Херасков, сочиняя
«Россияду» (1779), опирался на многовековую традицию эпической
поэмы. Лучшими произведениями в этом жанре считались «Илиада»
и «Одиссея» Гомера (VIII в. до н. э.), «Энеида» Вергилия (I в. до н. э.),
«Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо (1580), «Генриада» Вольтера
(1728) и др. В предисловии к «Россияде», воспевающей взятие Ива-
ном IV Грозным Казани в 1552 году, Херасков подчеркивал: «...Эпи-
ческие поэмы, имеющие в виду изображение знаменитых подвигов,
всегда по таковым, как сия, правилам сочиняются». В зачине поэмы
назывались изображаемое событие и герой, далее следовало обра-
щение поэта к Музе:
Пою от варваров Россию свобожденну,
Попранну власть татар и гордость низложенну,
Движенье древних сил, труды, кроваву брань,
России торжество, разрушенну Казань.
Из круга сих времен спокойных лет начало,
Как светлая заря, в России воссияло.
О ты, витающий превыше светлых звезд,
Стихотворенья дух! приди от горних мест
На слабое мое и темное творенье
Пролей твои лучи, искусство, озаренье!1
Героическая поэма (эпопея) считалась высоким жанром, требу-
ющим особенно строгого соблюдения правил; существовали также
более свободные от регламента средние и низкие жанры. Выделение
трех жанровых групп восходило к античности, к так называемо-
му «колесу Вергилия» — автора трех сочинений, различающихся
по своей «материи» (теме) и слогу: «Буколики», «Георгики», «Энеи-
да», где соответственно описывалась жизнь пастухов, земледельцев,
великих людей («героев»). В русском классицизме принцип «трех
штилей» и трех групп жанров разработал, с опорой на давнюю тра-
дицию, М. В. Ломоносов в «Предисловии о пользе книг церковных
в российском языке» (1757).
По мере роста авторского самосознания и ускорения темпов
литературного развития жанровый диктат в творчестве писателей
ослабевает. Резко меняется отношение к жанрам в эпоху роман-
тизма, в эстетике которого важнейшее положение — творческая
свобода автора. Как полагал И. Кант, эстетика которого заложила
1 Русская поэзия XVIII века / Вступ. ст. и сост. Г. Макогоненко. М.: Худож. лит.,
1972. С. 270.
141
основы романтической теории, «гений — это талант (дар природы),
который дает искусству правила», и главное свойство гения — ори-
гинальность, которую «следует полностью противополагать духу
подражания»1.
Этому императиву стремились быть верными романтики и, да-
лее, реалисты. «Не подражай: своеобразен гений / И собственным
величием велик», — писал в 1828 г. Е. А. Баратынский, выражая
идею, объединяющую многих писателей, принадлежащих к новому
направлению. Полемика романтиков с классицистами и их эпиго-
нами (в начале XIX в.) была бурной и эмоциональной. Романти-
ки выступили против жестких жанровых разграничений и правил,
в частности против требования единства места и времени в драме.
Так, вождь французских романтиков В. Гюго писал в «Предисловии
к драме “Кромвель”» (1827): «Переплести единство времени с един-
ством места, как прутья клетки, и педантически усадить туда, во имя
Аристотеля, все события, все народы, все персонажи, которые в та-
ком множестве создает провидение в мире реального, — это значит
калечить людей и события, это значит искажать историю»1 2.
Однако жанры не ушли из литературы, несмотря на призывы ро-
мантиков освободиться от их оков. Они по сей день остаются живой
реальностью сознания писателей и читателей, о чем свидетельству-
ет стойкая традиция авторских жанровых подзаголовков произве-
дений. Очевидно, причина этому — сохраняющиеся в смене жан-
ровых систем и жанровых метаморфоз основные функции самого
понятия «жанр».
Каковы же эти функции? Во-первых, понятие жанра позволяет
объединять произведения в группы, литературные ряды, т. е. класси-
фицировать их. Выбирая (или изобретая, обновляя) какой-то жанр,
писатель исходит из некой жанровой системы, классификации про-
изведений: не повесть, а роман; не комедия, а трагедия и т. д. Ко-
нечно, эти оппозиции обычно не претендуют на научную строгость.
Для историка литературы они ценны как отражение тех представле-
ний, которыми руководствовался писатель. Иногда эти представле-
ния необычны, они расходятся не только с нынешней, современной
трактовкой той или иной жанровой номинации, но и с ожидания-
ми первых читателей произведения. Так, по воле автора «Мертвые
души» Н. В. Гоголя — поэма. Задача историка литературы — понять
мотивы полемических жанровых наименований. Как известно, Го-
голь не осуществил полностью свой план. «Однако, как бы ни был
проблематичен исход гоголевского замысла, несомненно, что его
1 Кант И. Критика способности суждения. М., 1994. С. 178, 182.
2 Гюго В. Собр. соч.: в 15 т. М., 1956. T. 14. С. 100.
142
широкий масштаб уже с самого начала задавал тон произведению
и, в частности, продиктовал само его жанровое определение —
поэма»1. Отсюда особая важность параллели: «Мертвые души» —
«Божественная комедия» Данте (ее обычно называли поэмой), хотя
Гоголь опирался и на романные традиции: плутовского романа, сю-
жетно напряженной драмы, принципов повествования, культивиру-
емых английским романистом XVIII в. Г. Филдингом и др.
Во-вторых, жанровые названия суть знаки литературной тра-
диции и в этом качестве способствуют успешному диалогу писателя
и читателя. Новое произведение, если обозначен его жанр, «про-
буждает в читателе горизонт ожиданий и правил, знакомых по бо-
лее ранним текстам...»1 2
«Анна Каренина. Роман в восьми частях», «Лес. Комедия в пяти
действиях», «Поэма без героя. Триптих». Жанровые номинации хо-
рошо известны широкому читателю уже по подзаголовкам произ-
ведений Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, А. А. Ахматовой. Указы-
вая на жанр в самом начале текста, писатель вводит свое сочинение
в определенный литературный ряд. Читатель, в свою очередь, в сло-
вах роман, комедия, поэма и т. п. слышит не столько голос автора,
сколько отзвуки прочитанных ранее произведений данного жанра.
Подзаголовок предполагает признание автором и его адресатом
жанровой традиции; «жанр — представитель творческой памяти
в процессе литературного развития»3.
Показательно и стремление писателей-новаторов быть понятыми
читателем. Поэтому жанровым экспериментам часто сопутствуют
беседы автора с читателями в самом художественном тексте или
в специальных статьях. Так, Л. Н. Толстой публикует статью «Не-
сколько слов по поводу книги “Война и мир”» (1868), где заявляет,
что его сочинение «не роман, еще менее поэма, еще менее истори-
ческая хроника», что «отступления от европейской формы» вообще
характерны для русских авторов. «Начиная от “Мертвых душ” Гого-
ля и до “Мертвого дома” Достоевского, в новом периоде русской ли-
тературы нет ни одного художественного прозаического произведе-
ния, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне
укладывалось в форму романа, поэмы или повести»4. Выступление
в печати было реакцией писателя на упреки критиков, находивших
в «Войне и мире» слишком обширную историческую панораму, при
недостатке внимания к героям (характерна, например, рецензия
П. В. Анненкова «Исторические и эстетические вопросы в рома-
не гр. Л. Н. Толстого “Война и мир”», 1868). Цель Толстого в назван-
1 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1988. С. 362.
2 Яусс Г. Р. История литературы как вызов теории литературы // Современная
теория литературы. Антология. М., 2004. С. 195.
3 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 122.
4 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. T. 7. М., 1981. С. 356—357.
143
ной выше его статье — «предупредить те недоумения, которые мо-
гут возникнуть в читателях»1. Подобных примеров немало.
В-третьих, в отличие от литературного рода, жанровые категории
дают представление о художественном целом, о «типической форме
целого произведения, целого высказывания»1 2. Жанр определяется
не по одному признаку, но через устойчивое сочетание, комплекс
признаков. В этом комплексе есть устойчивое ядро и переменные,
преходящие признаки.
Выделение жанра на основании ряда признаков было намечено
еще Аристотелем. В своей «Поэтике» он различает произведения
по средствам, предмету и способу подражания: «...в одном отноше-
нии Софокл как подражатель подобен Гомеру, ибо оба они подра-
жают хорошим людям, а в другом отношении Аристофану, ибо оба
они выводят в подражании людей лиц действующих и делающих»3.
Для характеристики эпопеи, трагедии, комедии важны, следова-
тельно, и способ, и предмет подражания, а также средство (слово
«с метром», т. е. стихотворная речь, или без метра). И Аристотель
не ограничивается этими общими указаниями. Исходя из опыта
древнегреческой литературы, он выявляет конкретные жанровые
нормы, особенно применительно к трагедии: рассматривает дей-
ствие и роль в нем перипетий, характеры, чувства, которые пред-
ставление должно вызвать у зрителя, или катарсис. Ведь трагедия
совершает «посредством сострадания и страха очищение подоб-
ных страстей»4. Пишет он также о словесном выражении (стиле),
объеме текста. Словом, разрабатывает канон жанра, оказавшийся
устойчивым на протяжении многих веков, хотя в него вносили из-
менения и уточнения авторы многочисленных последующих «поэ-
тик», отражая постоянное обновление жанра. Они расширяли и сам
перечень жанров.
Так, в «Поэтическом искусстве» Н. Буало (1674) — эстетическом
манифесте французского классицизма — охарактеризованы идил-
лия, элегия, ода, сонет, эпиграмма, сатира, бурлеск, водевиль, тра-
гедия, эпопея, комедия; вскользь и не без иронии сказано даже о ро-
мане. Поэт, избрав жанр, соответствующий природе его таланта,
должен, согласно Буало, следовать его нормам, канону, блюсти его
«чистоту» и подражать образцам, прежде всего античным. Целью
трагедии было вызвать в сердцах зрителей «приятный ужас» и «жи-
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. T. 7. С. 356.
2 Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении // Бахтин М. М. Те-
тралогия. М., 1988. С. 248.
3 Аристотель. Поэтика. Пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная лите-
ратура. М., 1978. С. 115.
4 Там же. С. 120.
144
вое состраданье», для чего нужны и благородные герои, не лишен-
ные, однако, слабостей, и продуманный, исполненный напряжения
сюжет, в котором выдержано единство действия, времени и места:
Но забывать нельзя, поэты, о рассудке:
Одно событие, вместившееся в сутки,
В едином месте пусть на сцене протечет,
Лишь в этом случае оно нас увлечет1.
Призывая современных поэтов учиться у античных мастеров,
Буало сам следует античной традиции в своей «поэтике», в осо-
бенности много у него перекличек с «Наукой поэзии» Горация.
В то же время его «поэтика» отразила появление новых жанров
(пришедший из Италии сонет, французский водевиль и др.) и об-
новление старых, возникших еще в античности. В трагедиях Корне-
ля и Расина оживают герои древних сюжетов, но уже нет ни масок,
ни хора: «скрипкой мелодичной // Сменился мощный хор трагедии
античной»1 2.
Жанры классицизма в совокупности образуют систему, где
у каждого из жанров есть свой круг тем, стиль, образцы — словом,
свой канон. Роман (тогда сравнительно молодой жанр) находится
на периферии этой системы, и к нему не предъявляются строгие
требования:
Несообразности с романом неразлучны,
И мы приемлем их — лишь были бы нескучны!
Здесь показался бы смешным суровый суд.
Но строгой логики от вас в театре ждут.. .3
Когда в России XVIII века формировался свой, поздний вари-
ант классицизма, его теоретики опирались на западноевропей-
ский опыт. А. П. Сумароков перевел «Поэтическое искусство» Буа-
ло («Эпистола II. О стихотворстве»). Но это был вольный (в узком
и широком смысле) перевод, отразивший национальное своеобра-
зие русской литературы. Большое внимание в данном дидактиче-
ском сочинении уделялось, в частности, комедии, в которой русские
авторы достигли больших успехов.
Жанровая система классицизма явилась завершением эпохи, ког-
да жанр, точнее, жанровый канон, был ведущей категорией поэтики.
В западноевропейских литературах на протяжении XVIII века позиции
теоретиков-традиционалистов в литературе резко ослабевают. Так,
в работах о театре вводится в жанровую классификацию жанр дра-
мы: «Беседы о Побочном сыне» (1757) и «О драматической поэзии»
(1758) Д. Дидро, «Гамбургская драматургия» Г. Э. Лессинга (1767—
1 Буало Н. Поэтическое искусство. Пер. Э. Линецкой. М.: Искусство, 1957. С. 78.
2 Там же. С. 80.
3 Там же. С. 81.
145
1769). В последнем сочинении оспаривается приоритет действия над
характерами, который обосновывал еще Аристотель в своих сужде-
ниях о трагедии: «Только характеры священны для него [поэта]; при-
дать им больше силы, представить их в более ярком свете — вот все,
что он может прибавить от себя»1. Дидро оспаривает, на основании
характеров, изображаемых Теренцием, принадлежность многих его
пьес к комедии: «Так как он показывает подлинное лицо человека,
а ни в коем случае не карикатуру на это лицо, то он не вызывает взры-
вы смеха»1 2. В «Беседах о “Побочном сыне”» Дидро (под маской своего
резонера Дорваля) выступает в защиту «среднего», или «серьезно-
го», драматического жанра (приводя в пример пьесу Теренция «Све-
кровь», которая совсем не является комедией): «В каждом моральном
явлении различаются середина и две крайности. Казалось бы, что,
поскольку всякое драматическое произведение есть явление мораль-
ное, в нем должны быть средний жанр и два крайних жанра. По-
следние у нас есть: комедия и трагедия. Но человек не всегда бывает
в горе или в радости. Существует, следовательно, некое расстояние,
разделяющее комический и трагический жанры»3.
С конца XVIII века и в русской литературе начинается бурный
процесс жанровой перестройки, деканонизации жанров, размыва-
ния границ между ними. Происходит смена жанровых приоритетов:
«Полностью утрачивают свое былое значение основные жанры клас-
сицизма: торжественная ода, героическая эпопея, классицистиче-
ская трагедия, дидактическое послание. Снижается роль сатириче-
ских жанров, комедии, стихотворной басни. Зато на передний план
выступают баллада, романтическая поэма, разнообразные формы
политической и медитативной лирики <...>. В области прозы ро-
мантизм создает особый жанр романтической повести, а также свой
исторический роман»4.
Но это была не просто смена одной жанровой системы на дру-
гую, столь же нормативную. Глубокие, качественные сдвиги преоб-
разуют само художественное сознание, ведущей категорией поэтики
становится творческая индивидуальность, оригинальность миропо-
нимания писателя, а следовательно, и его стиля.
В начале этого процесса жанры, передающие особенно явствен-
но новое мироощущение, оформляются как жанровые каноны и бы-
стро становятся мишенью пародий. В «Евгении Онегине» Пушкин
1 Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.; Л.: Academia, 1936. С. 92.
2 Дидро Д. Похвальное слово Теренцию // Дидро Д. Эстетика и литературная
критика. М.: Худож. лит., 1980. С. 533.
3 Дидро Д. Эстетика и литературная критика. С. 177. «Побочный сын» — пьеса
Дидро.
4 Стенник Ю. В. Системы жанров в историко-литературном процессе // Исто-
рико-литературный процесс. Проблемы и методы изучения / Под ред. А. С. Бушми-
на. Л.: Наука, 1974. С. 194.
146
пародирует в стихах Ленского романтическую элегию («Куда, куда
вы удалились...»). Будущее было не за канонами, но за жанрами,
свободными от жесткого регламента. В эпике на первый план вы-
двигаются роман и повесть, где, согласно Белинскому, «талант чув-
ствует себя безгранично свободным»1; в лирике — стихотворение,
впоследствии — авторский лирический цикл (один из первых та-
ких циклов — «Сумерки» Е. А. Баратынского, 1842); в драматургии,
вследствие связи этого литературного рода с театром, с театральны-
ми амплуа, процесс жанровой деканонизации шел медленнее.
-к if if
Таким образом, есть жанры канонические, господствующие
на протяжении многих веков традиционалистского творчества,
и гораздо более свободные, романизированные (во всех лите-
ратурных родах). «Романизация» жанров, согласно концепции
М. М. Бахтина (предложившего названные термины), спорадиче-
ски наблюдалась давно: в эпохи эллинизма, позднего средневековья
и Ренессанса, но «особенно сильно и ярко» она проявляется в запад-
ноевропейской, а потом и в русской литературе, со второй половины
XVIII века. «Романизируется драма (например, драма Ибсена, Гаупт-
мана; вся натуралистическая драма), поэма (например, «Чайльд Га-
рольд» и особенно «Дон Жуан» Байрона); даже лирика (резкий при-
мер — лирика Гейне). Те же жанры, которые упорно сохраняют свою
старую каноничность, приобретают характер стилизации»1 2.
Существуют и другие жанровые типологии. Г. Н. Поспелов, свя-
зывая рождение той или иной жанровой проблематики с исто-
рическим развитием общества, выделил четыре группы жанров,
возникавшие в последовательности: мифологические, героические
(национально-исторические), нравоописательные (этологические),
романические жанры, а также отмечал возможность сочетания раз-
личных жанровых тенденций в одном произведении. Так, романы
часто имеют широкий этологический фон. Ученый разграничивал
жанровую проблематику, порождающую некоторые черты стиля,
и родовую форму произведений3. Предлагались и другие типологии
жанров, прослеживалась история изучения жанровых категорий4.
1 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г. // Поли. собр. соч.:
в 13 т. М., 1956. T. 10. С. 315.
2 Бахтин М. М. Эпос и роман // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.
М., 1975. С. 450.
3 См.: Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. М.: Про-
свещение, 1972 (часть третья); Поспелов Г. Н. Типология литературных родов и жан-
ров // Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1983.
Впервые же ученый обратился к проблеме жанров в статье «К вопросу о поэтических
жанрах» («Доклады и сообщения филологического факультета МГУ», 1948, № 5).
4 См.: Hernadi Р. Beyond Genre. New Directions in Literary Classification. Ithaca
and London, 1972; Каган M. Морфология искусства. Историко-теоретическое иссле-
147
В рамочном тексте произведений и в настоящее время обычно
указываются их жанры: повесть, роман, комедия, пародия, сборник
стихотворений, что подчеркивает сохраняющуюся важную роль
жанровых категорий в общении писателя и читателя.
ж * %
Аргументы в пользу жанровых типологий умножаются, если объ-
ектом исследований становятся литературы разных народов. Раз-
личны сами номенклатуры жанров: так, в русской литературе есть
роман и его виды (исторический, психологический и т. д.), в ан-
глийской — два самостоятельных жанра: novel и romance. Именно
типологический подход позволяет систематизировать многоцве-
тье литературных явлений. Типология необходима и при обраще-
нии, в сущности, к одноименным жанрам европейской литерату-
ры, имеющим общую древнегреческую родословную — например,
к трагедии, комедии, эпопее. В их национальных вариантах много
оригинального. Так, под трагедией понимали в Англии и во Фран-
ции — в эпоху Возрождения и классицизма — неодинаковые по сво-
ей структуре сочинения.
Защищая «неправильные» трагедии Шекспира от нападок Воль-
тера, Карамзин писал в Предисловии к своему переводу «Юлия
Цезаря» в 1787 г.: «Что Шекспир не держался правил театральных,
правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его вооб-
ражение, не могшее покориться никаким предписаниям. Дух его
парил, яко орел, и не мог парения своего измерять тою мерою, ко-
торою измеряют свой полет воробьи»1.
Но «орлами» были и Корнель, и Расин. Согласно Вольтеру, «по-
жалуй, нет более разительного примера во вкусах наций», чем раз-
личие между лондонским и парижским театрами* 1 2. О том же, за-
долго до Вольтера, в 1668 г. писал, явно предпочитая английский
вкус французскому, Д. Драйден. Всё, что сурово осудила француз-
ская Академия, нравится англичанам: сражения на сцене, введение
эпизодических лиц, побочные сюжетные линии, смешение комиче-
ского с трагическим. «...Я не знаю, отчего наши земляки столь сви-
репы — врожденное это или благоприобретенное свойство их нату-
ры, — рассуждает Драйден. — Они едва ли потерпят, чтобы битвы
и другие ужасные сцены были убраны. <...> Сюжеты наших пьес
дование внутреннего строения мира искусств. Л., 1972 (гл. 12); Чернец Л. В. Лите-
ратурные жанры (проблемы типологии и поэтики). Изд-во Моск, ун-та, 1982 (ч. 1);
Эсалнек А. Я. Внутрижанровая типология и пути ее изучения. Изд-во Моск, ун-та,
1985; Теория литературных жанров. Учебное пособие для студентов высш. проф. об-
разования / М. Н. Дарвин, Д. М. Магомедова, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа; под ред.
Н. Д. Тамарченко. М.: Академия, 2001; и др.
1 Карамзин Н. М. Избранные соч.: в 2 т. T. 2. М.; Л., 1964. С. 81.
2 Вольтер. Эстетика. М.: Искусство, 1974. С. 300, 302.
148
сотканы на местных станках, и в них мы наследуем флетчерское
или шекспировское разнообразие и величие образов»1. Заслугой
английского театра Драйден считает разработку жанра трагикоме-
дии.
Русские пьесы XVIII — начала XIX в., сочиняемые, казалось бы,
по французским лекалам и названные трагедиями, весьма далеки
от канона Буало, высоко почитаемого авторами. Так, в большин-
стве «трагедий» А. П. Сумарокова («Ярополк и Демиза», «Вышес-
лав», «Димитрий Самозванец») — счастливая развязка, наруша-
лось и единство действия. А в трагедии В. А. Озерова «Дмитрий
Донской» развязка — победа русских над татарами и примирение
недавних соперников в любви — князей Дмитрия Донского и Ми-
хаила Тверского. Главной в этих пьесах была идея служения госу-
дарству, а не любовная тема, что, с исторической точки зрения, по-
нятно. Ведь в России, как подчеркивает Ю. В. Стенник, еще только
зарождались «представления о свободе человеческой личности и са-
моценности индивидуума, которые для Запада, пережившего бур-
ную эпоху Возрождения, были естественны и характерны»1 2. Вообще
трагедии русского классицизма близки к «героическим комедиям»3.
При сопоставлении английских, французских, русских трагедий
(точнее, пьес, названных трагедиями их авторами) очевидно, что
сближают их немногие признаки.
Но сравнивать родственные жанры литератур разных народов
можно и с другой целью — понять, в чем состоит их национальная
оригинальность, как проявляется национальный менталитет; анти-
теза свое / чужое — сквозная в компаративистике. Для уяснения
констант национальной культуры такие сопоставления очень важ-
ны. В компаративистике, может быть, с особенной наглядностью
видно, как оба подхода к жанрам — типологический и конкретно-
исторический — дополняют друг друга.
Вопросы
1. Как соотносятся конкретно-исторический и типологический подходы
к литературным жанрам? Почему при изучении жанров нельзя ограничиться
описанием жанровых систем определенных периодов литературы?
2. «Жанр — представитель творческой памяти в процессе литературного
развития». Какому ученому принадлежит это суждение и на каких примерах
он подчеркивает «творческую память» писателя, выразившуюся в выборе
жанра?
1 Драйден Дж. Эссе о драматической поэзии // Литературные манифесты за-
падноевропейских классицистов. Изд-во Моск, ун-та, 1980. С. 228, 230.
2 Стенник Ю. В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классицизма. Л.:
Наука, 1982. С. 39.
3 Там же. С. 142.
149
3. Что составляет, согласно Г. Н. Поспелову, жанровую проблематику
этологических (нравоописательных) жанров? Приведите примеры.
4. Всегда ли читатель согласен с авторским жанровым определением
произведения?
Глава 9
АВТОР
Рус.: автор; англ.: author; ием.-.Autor; фр.: auteur.
Основные значения понятия «автор». — Автор во внехудожественной
реальности. — Автор как творец словесно-художественного текста. —
Внутритекстовое бытие автора. — Автор в лирике и лиро-эпосе. — Автор
в драматических произведениях. — Автор в эпических произведениях. —
Два принципиально разных подхода к проблеме взаимоотношений автора
и читателя в художественном тексте.
Автор (от лат. au(c)tor — виновник, основатель, учредитель, со-
чинитель, покровитель) — одно из наиболее универсальных ключе-
вых понятий современной литературной (шире — филологической)
науки. Этим понятием сегодня определяется субъект любого —
чаще всего письменно оформленного — высказывания (автор
философского трактата, научного труда, бизнес-плана, литератур-
но-критической статьи, оперного либретто, газетной заметки, офи-
циального доклада, мемуаров, школьного сочинения, электронного
письма и т. п.). В литературоведении автор — субъект, создавший
словесно-художественное произведение.
Синонимический ряд к подобному значению слова «автор» вклю-
чает в себя такие понятия, как «писатель», «сочинитель», «литера-
тор», «поэт», «прозаик», «драматург», «беллетрист», «мастер слова»,
«художник слова» и др. Одним из главных антонимов к слову «ав-
тор» является «плагиатор» (ложный или мнимый автор), т. е. тот,
кто умышленно выдаёт чужое произведение за своё.
В зарубежной и отечественной науке о литературе традиционно
различаются:
1) автор во внехудожественной реальности — личность, суще-
ствующая в первично-эмпирической, бытовой и исторической жиз-
ни; индивидуальность, принадлежащая своей эпохе и социальной
среде;
2) автор-творец — создатель словесно-художественных текста,
мастер слова, «эстетически деятельный субъект» (М. М. Бахтин);
3) автор во внутритекстовом воплощении, имплицитный ав-
тор, его более или менее внятные проявления в самой структуре
словесно-художественного текста, разновидности его внутритек-
стового бытия.
151
•к -к -к
Автор в первом значении — писатель как персона, как неповто-
римое лицо, как реальная личность в разнообразии её повседнев-
ного жизнепроявления, человек, вступающий нередко в противо-
речивые, драматически сложные отношения с властью, с цензурой,
с собратьями по перу, с читающей публикой.
Широкий смысловой диапазон включает в себя понятие «автор-
ский дебют». Истории литературы известны счастливые первые
литературные выступления молодых авторов. Например, высокое
и скорое признание в среде авторитетных литераторов своего вре-
мени получил первый роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди».
У больших художников случаются и неудачные дебюты: в ответ
на язвительные отзывы литературных критиков Н. В. Гоголь сжига-
ет свою первую книгу — поэму «Ганс Кюхельгартен».
Говорят об авторской независимости (от власти и публики)
и об авторском конформизме, об откровенной, реже открыто декла-
рируемой ангажированности автора. Судьбы независимых авторов
в тоталитарных государствах очень часто складываются трагиче-
ски. Среди жертв сталинского произвола немало писателей разных
поколений. Биография писателя как литературный текст — рас-
пространенный, чаще всего рассчитанный на широкую аудиторию
вид исторической, художественной, научной прозы (вступительные
и др. статьи, очерки, эссе, монографии, повести, кино- и телесце-
нарии), посвященный более или менее обстоятельным жизнеопи-
саниям известных литераторов в связи с культурой и бытом эпохи,
в контексте конкретно-исторического времени. Много талантливых
биографических версий жизни и творчества писателей опублико-
вано в серии «Жизнь замечательных людей».
Известен также специальный литературоведческий жанр науч-
ной биографии писателя (например, четырехтомный труд С. А. Ма-
кашина, посвященный жизнеописанию М. Е. Салтыкова-Щедрина1,
научная биография Н. Г. Чернышевского в четырёх томах, принад-
лежащая перу А. А. Демченко1 2, научная биография М. А. Булгакова,
созданная М. О. Чудаковой3 и др.). Издаются многотомные биогра-
фические и биобиблиографические словари писателей4.
1 См.: Макашин С. Салтыков-Щедрин. Биография. М., 1951; Макашин С. Сал-
тыков-Щедрин на рубеже 1850—1860-х годов. М., 1972; Макашин С. Салтыков-Ще-
дрин. Середина пути. 1860-е годы. М., 1984; Макашин С. Салтыков-Щедрин. Послед-
ние годы. 1875—1889. Биография. М., 1989.
2 Демченко А. А. Н. Г. Чернышевский: Научн. биография. (В 4-х частях). 4.1. Са-
ратов, 1978; 4. 2. Саратов, 1984; 4. 3. Саратов, 1992; 4. 4. Саратов, 1994.
3 Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд. М., 1988.
4 См., напр.: Русские писатели. XIX век. Биобиблиографический словарь.
В 2-х частях. Под ред. П. А. Николаева. М.: «Просвещение» — «Учеб, лит-ра». 2-е изд.,
1996; и др.
152
Особая культурно-историческая и ландшафтная форма сохране-
ния литературной памяти о выдающемся авторе — литературные
музеи-квартиры, дома-музеи, музеи-усадьбы и др. Огромной попу-
лярностью у наших современников пользуются мемориальный му-
зей-квартира А. С. Пушкина на набережной Мойки в Петербурге,
дом-музей (Белая дача) А. П. Чехова в Ялте, музей-усадьба Л. Н. Тол-
стого «Ясная Поляна» (Тульская область) и мн. др. всемирно извест-
ные памятные места, связанные с жизнью и творчеством писателей.
Существуют многочисленные (разного качества) и постоянно
пополняемые кинематографические и телевизионные версии писа-
тельских биографий. Напр.: «Влюбленный Шекспир» (1998, режис-
сер Джон Мэдден, производство США и Великобритании), «Баль-
зак: жизнь в страсти» (1999, режиссёр Жозе Дайан, совместное
производство Франции, Италии и Германии), «Дневник его жены»
(об И. А. Бунине; 2000, режиссер А. Учитель, Россия), «Полторы ком-
наты, или Сентиментальное путешествие на Родину» (об И. А. Брод-
ском; 2009, режиссёр А. Хржановский, Россия), «Достоевский» (2011,
режиссер В. Хотиненко, Россия) и мн. др.
Автор, как правило, претендует на собственность сотворенного
им художественного текста. В общественном и нравственно-право-
вом поле искусства широкое хождение имеют такие по большей
части юридические понятия, как авторское право (институт граж-
данского права, регулирующий отношения, связанные с созданием
и использованием — изданием, исполнением, показом и т. д. — про-
изведений литературы, науки и искусства); авторский договор (до-
говор с издательством о создании и использовании произведений),
заключаемый обладателем авторского права, предусматривающий
и авторский гонорар; авторизованный текст (текст, на публика-
цию, перевод и распространение которого дано согласие автора);
авторская воля (понятие, означающее при любом воспроизведении
и тиражировании несомненный приоритет созданного автором тек-
ста); последняя авторская воля (окончательный авторский вариант
текста, установленный специалистами-текстологами, любое не ар-
гументированное отклонение от которого при новом тиражирова-
нии текста недопустимо1); авторский перевод (выполненный авто-
ром оригинала перевод произведения на другой язык).
Автор очень часто является пристрастным критиком «чужих»
сочинений, принадлежащих его собратьям по перу. Глубина, проч-
ность и разнообразие индивидуальной читательской памяти авто-
ра оказывает несомненное влияние на его собственное творчество,
обнаруживая себя в интертекстуальных связях, в явных и скрытых
цитатах и реминисценциях из других авторов, в параллелях и сбли-
1 См.: Рейсер С. А. Основы текстологии. Л., 1978. С. 14—22.
153
жениях с другими текстами мировой и отечественной словесной
культуры.
С разной степенью включенности автор участвует в литератур-
ной жизни своего времени, вступая в непосредственные отношения
с другими авторами, с литературными критиками, с редакциями
журналов и газет, радио и телевидения, с книгоиздателями и книго-
торговцами. Автор часто состоит в эпистолярных и непосредствен-
ных контактах с читателями, в настоящее время нередко заводит
собственные блоги и страницы в Интернете и т. д. Автора влечет
к себе теоретико-литературная рефлексия, размышления о природе
и назначении словесно-художественного искусства, о тайнах писа-
тельского мастерства. Особая разновидность писательского твор-
чества — автохарактеристики, авторецензии и автокомментарии
(например, «Наброски предисловия к “Борису Годунову5’» или «За-
метка о “Графе Нулине”» Пушкина, письмо Салтыкова в редакцию
журнала «Вестник Европы» по поводу его принципиальных несо-
гласий с оценкой А. С. Сувориным «Истории одного города», ста-
тья А. Т. Твардовского «Как был написан “Василий Тёркин”» и др.).
Сходные эстетические воззрения приводят к созданию писательских
групп, кружков, литературных салонов и обществ, других авторских
объединений (в том числе — ив сети Интернет).
Значительна роль непосредственного окружения, знакомых
и друзей, родных и близких в житейской и творческой биографии
художника слова. Специальные работы посвящаются современни-
кам автора, с которыми он интенсивно общался в течение своей
жизни1. Судьбы многих писателей по-разному, но кровно связаны
с их жёнами. Вспомним Наталию Николаевну Гончарову-Пушки-
ну, Софью Андреевну Толстую, Анну Григорьевну Достоевскую,
Ольгу Сократовну Чернышевскую, Надежду Яковлевну Мандель-
штам.
У многих читателей повышенный интерес вызывают непрояс-
ненные домашние, любовные, семейно-конфликтные и другие фак-
ты биографии писателя. Своеобразным текстом часто становится
усердно пополняемая современниками, а затем и потомками «ко-
пилка курьёзов» — легенд, мифов, слухов, сплетен, преданий, анек-
дотов о жизни автора1 2.
Пушкин в письме к П. А. Вяземскому (вторая половина ноября
1825 года) в ответ на сетования своего адресата по поводу «поте-
ри записок Байрона» саркастически заметил: «Мы знаем Байрона
довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой
души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе
1 См., напр.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л.: Наука, 1976. — 520 с.
2 См. например: Русская литературная жизнь в анекдотах и потешных предани-
ях XVIII—XIX веков. Саратов, 1993.
154
видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc.,
потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабо-
стям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении.
Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мер-
зок — не так, как вы — иначе»1. Назойливо-фамильярный и наивно-
пристрастный интерес к подробностям писательской биографии
блистательно пародируют Даниил Хармс в «Анекдотах из жизни
Пушкина» (1939), Давид Самойлов в стихотворении «Дом-музей»
(1961), Сергей Довлатов в повести «Заповедник» (1983).
Если об авторе как о лице биографическом никаких сведений
не сохранилось или если атрибуция текста неясна, в литературо-
ведении обычно используются такие терминологические клише
как «безымянный автор», «неизвестный автор», «неустановленный
автор» и др. Так, неизвестным остаётся автор «Слова о полку Иго-
реве». Не установлены авторы слов многих популярных русских
песен и романсов XVIII—XX веков и т. д. В связи с существовани-
ем в обширном литературном поле огромного числа анонимных
и псевдонимных текстов в филологии с давних времен возникла
необходимость в атрибуции — в аргументированном установлении
подлинного автора сочинения. Со второй половины XX века задачи
по атрибуции литературных текстов решаются, в том числе, с при-
менением новейших математических методов.
В фольклоре категория автора лишена статуса персональной от-
ветственности за поэтическое высказывание. Место автора текста
заступает там исполнитель — певец, сказитель, песельник, рассказ-
чик1 2.
Понятие об авторе как лице эмпирико-биографическом и всеце-
ло (персонально) ответственном за сочиненное им произведение
укореняется вместе с признанием в истории культуры самоценно-
сти творческой фантазии, художественного вымысла (в древних
литературах повествования и описания часто принимались за не-
сомненно «авторитетную» правду, за то, что было или происходило
«на самом деле»3).
В стихотворении Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом»
(1824) воспроизведен диалог романтически одухотворенного поэта
с собеседником-прагматиком, убеждающим художника нарушить
упоенно гордое, самозабвенное одиночество. Красноречив и «про-
заический» финал пушкинского текста:
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: в 10 т. Л., 1979. T. 10. С. 148.
2 См.: Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967. (Гл. IV.)
3 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970; Аве-
ринцев С. С. Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981; Стеблин-Камен-
ский М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.
155
Книгопродавец
<... >Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что ж медлить? уж ко мне заходят
Нетерпеливые чтецы;
Вкруг лавки журналисты бродят,
За ними тощие певцы:
Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И признаюсь — от вашей лиры
Предвижу много я добра
Поэт
Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.
В пушкинском стихотворении демонстративно обнажен и запе-
чатлен психологически сложный переход от восприятия поэзии как
вольного и величавого «служенья муз» к осознанию искусства сло-
ва как определенного рода творческой работы. Так был обозначен
отчетливый симптом профессионализации литературного труда, ха-
рактерный для русской словесности начала XIX века.
Особо следует сказать о сложном аксиологическом подходе
к проблеме автора в художественной жизни каждой эпохи. Помимо
литераторов «первого» ряда, составляющих золотой фонд мировой
и национальной культуры, в литературном процессе обычно раз-
личаются и авторы «второй», «третьей» и т. д. величины (Н. А. Не-
красов писал о «первостепенных» и «второстепенных» поэтических
талантах1). По мысли Салтыкова-Щедрина, в литературной жизни
участвуют «люди талантов весьма неравных». При этом каждая ли-
тературная школа «имеет и своего мастера, и своих подмастерьев
и чернорабочих, но критика, конечно, была бы неправа, если б од-
них мастеров признавала подлежащими её суду, а писателей, идущих
по их стопам, оставляла в забвении»1 2. Авторы, идущие по стопам
великих мастеров, интересны тем, что обнаруживают, по проница-
тельному наблюдению Салтыкова-Щедрина, «недостаток почина»,
т. е. недостаток истинно новаторских устремлений в литературном
деле. Поэтические инициативы у «второстепенных» авторов могут
проявляться скромно, едва различимо, в некоторых случаях пред-
вещая появление дерзких новаторов и новых литературных тен-
денций. У авторов «второго» ряда подчас обнаруживаются такие
эстетические обретения, которые не становятся у них системными,
но которые, накапливаясь в истории словесности, позднее в твор-
честве «великих» находят уже вполне завершенное воплощение.
1 См. статью Н. А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»: Некра-
сов Н. А. Поли. собр. соч. и писем: в 15 т. Критика. Публицистика. Письма. Тома
11—15. Том 11. Кн. 2. Л., 1990.
2 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. В 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 344.
156
«Второстепенные» авторы, кто справедливо и законно, а кто, напро-
тив, из-за читательской расточительности или невнимания, оказы-
ваются не включенными в состав литературной памяти потомков.
От забытья автора могут спасти специальные литературоведческие
исследования-открытия1.
А. И. Белецкий в статье «Об одной из очередных задач истори-
ко-литературной науки» (1922) писал о феномене «читателя, взяв-
шегося за перо»: «Придет, наконец, эпоха, когда читатель, оконча-
тельно не удовлетворенный былой пассивностью, сам возьмется
за перо». Характеризуя эпоху и ее читателей, Белецкий писал: «они
сами хотят творить, и если не хватает воображения, на помощь
придет читательская память и искусство комбинации, приобрета-
емое посредством упражнений и иногда развиваемое настолько,
что мы с трудом отличим их от природных настоящих писателей.
Такие читатели-авторы чаще всего являются на закате больших
литературных и исторических эпох <... > Произведения этих пи-
сателей иногда могут быть чрезвычайно примитивными по своей
постройке»1 2. Подобный прогноз характеризует эпохи глобальных
потрясений и превращений. В XXI в. читатель-ученик чутко осваи-
вает коммерческие запросы литературного рынка и становится де-
ятельным (часто скрытым за псевдонимами) соавтором массовой
детективной, остро-фабульной, гламурно-игровой и т. п. беллетри-
стики. Встает вопрос и о распространенном феномене графомании,
особенно в связи с невиданно массовыми «пробами пера» авторов-
читателей в социальных сетях Интернета.
«
Давняя и устойчивая этическая традиция отличает автора-творца
в литературе от бытового, частного, эмпирического лица, в вольном
своем повседневном существовании вроде бы и не помышляющего
о собственном высоком художественном призвании. Об этом —
стихотворение Пушкина «Поэт» (1827):
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
1 См.: Кормилов С. И. Зачем изучать забытых и второстепенных критиков
и филологов? // Забытые и «второстепенные» критики и филологи XIX—XX веков.
Псков, 2005.
2 Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М.: Просвещение.
М., 1964. С. 37.
157
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел. <... >
Сущность автора-творца определяется в первую очередь его осо-
бой позицией «вненаходимости» (М. М. Бахтин) по отношению как
к формо-содержательному единству словесно-художественного про-
изведения, так и к той первичной реальности (природной, социаль-
ной, бытовой, исторической и т. д.), отталкиваясь от которой или
подражая которой, автор создает вымышленный им поэтический
мир. Автор-творец выступает уже как созидатель собственных тек-
стов. Он является главным, всё определяющим источником новой
эстетической реальности, её демиургом. Как размышлял К. Н. Ба-
тюшков в программной статье «Нечто о поэте и поэзии» (1815): «на-
добно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия
склонились к одному предмету, и сей предмет должен быть — Ис-
кусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека»1.
С автором-творцом органично соединяются представления
о рождении поэтического текста, о произведении текста на свет.
Авторский труд, его различные этапы и стороны отражены в та-
ких понятиях, как авторская рукопись; авторская корректура
(правка гранок или верстки, которая выполняется самим автором
по договоренности с редакцией или издательством); личный архив
писателя (рукописное по преимуществу наследие писателя, хра-
нящееся по его завещанию в литературных музеях и архивохра-
нилищах); личная библиотека писателя (она даёт представление
об отношении автора к печатным изданиям, которые прошли через
его руки и оказали воздействие на его творчество; известны лите-
ратуроведческие описания библиотек В. А. Жуковского, А. С. Пуш-
кина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. Горького и др.); авторский
комментарий (примечания, принадлежащие автору произведения,
поясняющие текст в целом или отдельные его фрагменты и явля-
ющиеся для издателя и читателя непременной частью текста);
ретроспективная автоинтерпретация (авторское истолкование
уже созданного текста1 2, например, поздние развёрнутые оценки
Н. В. Гоголем комедии «Ревизор»); записные книжки автора (запи-
си разного объёма, предшествующие самому процессу творчества
или сопровождающие его, содержащие наброски сюжетов, отдель-
ные мысли, наблюдения, выражения, детали и зарисовки «про за-
пас»); эпистолярное наследие автора (письма как источник изуче-
1 Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. Часть 1. Проза // Батюш-
ков К. Н. Соч. В 2 т. Т. 1. М.: Худ. лит-ра, 1989. С. 32.
2 См.: Чудакова М. О. Рукопись и книга: Рассказ об архивоведении, текстоло-
гии, хранилищах рукописей писателей. М., 1986. С. 42—46.
158
ния жизненного и творческого пути писателя); авторские мемуары;
авторские дневники (размышления автора «о себе самом, о том, кем
он является, когда не пишет, когда живёт обыденной жизнью, ког-
да он живущий и подлинный»1); текстовое поведение автора (дей-
ствия автора, направленные на сохранение рукописей, не нужных
для дальнейшей работы; творческие переработки текста при пере-
изданиях и др.)1 2; авторская инсценировка (драматическое произ-
ведение, созданное автором на основе написанного им ранее лите-
ратурно-художественного произведения — романа, повести, поэмы
ит. д.).
В авторе-творце органично сосуществуют два нуждающихся друг
в друге и — одновременно — взаимоисключающих психологиче-
ских начала. С одной стороны, глубинная потребность в творче-
ской тайне: «Я сладко усыплён моим воображеньем» (А. С. Пушкин.
«Осень», 1833); «Сужается какой-то тайный круг» (А. А. Ахматова.
«Тайны ремесла», 1936). С другой — неутолимое внутреннее стрем-
ление к публичности: «Моим стихам, как драгоценным винам, на-
станет свой черед» (М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным
так рано...», 1913); «Мой стих шагнёт через хребты веков и через
головы поэтов и правительств» (В. В. Маяковский. «Во весь голос»,
1929).
Автору-творцу принадлежит замысел сочинения (независимо
от того, откуда он его почерпнул). В творческой истории произве-
дения часто выделяются этапы (стадии, ступени, фазы) воплощения
замысла, его уточнения, изменения — вплоть до создания завер-
шенного текста.
Долгие века литературного и тем более долитературного твор-
чества представление об авторе с разной степенью открытости
и отчетливости включалось в универсальное, эзотерически осмыс-
ляемое понятие Божественного авторитета, пророческой поучитель-
ности, медиативности, освященной мудростью веков и традиций3.
Историками литературы отмечается постепенное и неотступное
возрастание личностного начала в словесности, усиление роли ав-
торской индивидуальности в литературном развитии нации4. Этот
процесс в античной культуре и в особенности в эпоху Возрождения
(творчество Данте, Боккаччо, Петрарки, Рабле, Шекспира, Серван-
теса) главным образом связывается с исподволь намечавшимися
тенденциями преодоления художественно-нормативных канонов,
освященных пафосом сакральной культовой учительности.
1 Бланшо Морис. Пространство литературы. Пер. с фр. М., 2002. С. 20.
2 Об архивном и текстовом поведении авторов см. там же. С. 54—67.
3 См.: Аверинцев С. С. Автор // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.,
1978. Т. 9. С. 28—30.
4 См.: Лихачев Д. С. Прогрессивные линии развития в истории русской лите-
ратуры // О прогрессе в литературе / Под ред. А. С. Бушмина. Л., 1977. С. 50—77.
159
Проявление непосредственных авторских интонаций в поэтиче-
ской словесности обусловливается прежде всего ростом авторите-
та задушевно-лирических, сокровенно-личностных мотивов и сю-
жетов. Авторское самосознание достигает апогея в эпоху расцвета
романтического искусства, ориентированного на обостренное вни-
мание к неповторимому и индивидуально-ценностному в человеке,
в его творческих и нравственных исканиях, на живописание тайных
движений, на воплощение мимолетных состояний и переживаний
человеческой души.
Автор в этом смысле выступает как устроитель, воплотитель
и выразитель многозначной эмоционально-смысловой целостно-
сти данного художественного текста. В сакральном смысле приня-
то говорить о живом присутствии автора в самом творении: «Душа
в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит...» («Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный...» А. С. Пушкина (1836))
и даже об одушевлённости художественного текста.
Неизменно высок авторитет фигуры автора — писателя — ли-
тератора в русской культурно-исторической традиции. «Опасно
шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ва-
ших», — заклинал Н. В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки
с друзьями» («О том, что такое слово»)1. Сыну своему М. Е. Салты-
ков-Щедрин завещал: «паче всего люби родную литературу и звание
литератора предпочитай всякому другому»1 2.
Логика словесного (как, впрочем, и всякого другого) искусства
может быть определена как убедительность недоказуемого. Из-
вестны признания многих авторов о литературных героях, кото-
рые в процессе их создания начинают жить как бы самостоятель-
но, по неписаным законам собственной органики, обретают некую
внутреннюю суверенность и поступают при этом вопреки изначаль-
ным авторским ожиданиям и предположениям. Л. Н. Толстой вспо-
минал, что Пушкин как-то одному из приятелей своих сознался:
«Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна! Она — замуж вы-
шла. Этого я никак не ожидал от нее». И продолжал так: «То же са-
мое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини
мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают
то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в дей-
ствительной жизни, а не то, что мне хочется...»3 Речь здесь идет
о потаенном, внутреннем самочувствии автора, процесс творчества
которого проходит — во многом нечаянно и на ощупь — прежде
всего в области подсознания.
1 Гоголь Н. В. Собр. соч. В 9 т. Т. 6. М.: Русская книга. С. 21.
2 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. В 20 т. Т. 20. М.: Худ. лит-ра. С. 477.
3 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 231—
232.
160
Неизменно отмечаемая составляющая писательского труда —
душевные страдания, муки творчества. Творения автора впрямую
не зависят от социального спроса. В поэте неистребима мечта быть
свободным от «общества», от издателя, от торговца, от публики.
Его влечет свобода — вопреки мертвящей жесткости тоталитарных
притязаний, вопреки воле денежного мешка и коварным заблужде-
ниям цивилизации. А. Т. Твардовский, на себе испытавший жёсткие
тиски советской цензуры, писал: «Не стойте только над душой, над
ухом не дышите» («Я сам дознаюсь, доищусь...», 1966). Трагиче-
ская метафора XX века — признание В. В. Маяковского: «Но я себя
смирял, становясь / На горло собственной песне» («Во весь голос»,
1929). Вечный мотив поэтов — «Я сам» — мудрое и честное само-
стоянье человека, пророчески отчетливое сознание своего избран-
ничества, своей правоты.
Поэзия («Тихотворение моё, моё немое» — И. А. Бродский) рожда-
ется внезапно, вдруг, от некоего озарения, именуемого ещё вдохно-
вением таланта, рождается из содержательного молчания («И лишь
молчание понятно говорит» — В. А. Жуковский «Невыразимое (От-
рывок)» (1819)). И это озарение вопреки сознаваемому бессилию,
нужно довыразить и озвучить, счастливо преодолевая сковывающую
немоту: «...не знаю сам, что буду / Петь, — но только песня зреет»
(А. А. Фет). Творческий акт — духоподъёмное созидание новой худо-
жественной реальности, прорыв сквозь дебри необходимости, «езда
в незнаемое» (В. В. Маяковский). И в созидательном пути он, автор,
наедине с самим собой. Но в путь художественных откровений его
неотступно влечёт то отчетливо внятный, то едва ли не миражный,
подсознательно явленный облик «неведомого друга», внутренне-
го читателя-адресата, ускользающий и вновь маячащий в близком
отдалении образ нуждающегося в нём пристрастного собеседника.
С. Д. Довлатов в «Записных книжках» («Соло на IBM») признается:
«Чем дольше я занимаюсь литературой, тем яснее ощущаю её физи-
ологическую подоплёку. Чтобы родить (младенца или книгу), надо
прежде всего зачать. Ещё раньше — сойтись, влюбиться. Что такое
вдохновение? Я думаю, оно гораздо ближе к влюбленности, чем
принято считать». О таинственной силе поэтической исповедально-
сти — строки А. А. Ахматовой («Читатель», 1959):
И сколько там сумрака ночи
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят...
•к 'к 'к
Автор, создавший текст, объективно теряет над ним власть,
он не волен уже влиять на судьбу своего произведения, на его реаль-
ную жизнь в читающем мире, на бесконечно многообразные интер-
161
претационные версии, на воспроизведение художественного текста
читателями, критиками, исследователями и т. д. Примечательны
в этом отношении последние строки первой главы «Евгения Онегина»:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!
Автор — «виновник» другой, искусственной реальности — вне-
положен ей. Но постоянные и повсеместные следы его личностной
творческой инициативы бережно хранит произведение как художе-
ственный мир, им скомпонованный и организованный, как некая
поэтическая структура в её конкретно-чувственной неопровержи-
мости, в ее особом фонографическом, словесно-образном, сюжет-
но-композиционном осуществлении. Уже в процессе творчества,
по мере рождения и сотворения текста, самым различным образом
во внутренней структуре произведения, в его текстовой плоти на-
чинают властно и внятно обнаруживать себя авторские интонации,
проявляются авторские лики, в неповторимости тематики, сюжети-
ки, лексики, метафорики проступает авторская манера.
Проблема отношений автора как конкретно-эмпирической лично-
сти, автора-творца и автора в художественном тексте — одна из слож-
нейших в искусствознании. В Новое время личностное, авторское
начало в произведении настолько самоочевидно, что у читателя воз-
никает соблазн в каждом не лишенном обаяния главном герое подо-
зревать автора. А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» демонстративным
жестом обозначал водораздел между собой и своим героем:
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет <... >
Не случайно М. Ю. Лермонтов в предисловии к «Герою нашего
времени» предостерегал от подобных распространенных заблуж-
дений: «...иные замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет
и портреты своих знакомых — старая и жалкая шутка!» Между тем,
наивные сближения и уподобления автора и его героя случаются
часто. Вот как в комическом ключе эту ситуацию тривиальной пу-
таницы описал в стихах Саша Черный («Критику», 1909):
Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице.
В бока впился корсет», —
162
Здесь «Я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт — мужчина. Даже с бородою.
Отношения автора, находящегося вне текста, и автора, запе-
чатленного в тексте, трудно поддаются исчерпывающему описа-
нию. Автор «присутствует» во всей многозначной полноте текста,
и мы с полным на то правом говорим об образе автора, об автор-
ской позиции, об авторской точке зрения в произведении. Субъек-
тивная и всеведущая авторская роль, авторский замысел, авторская
концепция (идея, воля) обнаруживаются в каждой «клеточке» по-
вествования и в художественном целом произведения.
Автор как эмпирическое лицо может быть нам неведом (не со-
хранилось никаких документально подтверждаемых данных о нём),
но более или менее внятное представление об образе автора стой-
ко хранит само художественно-целостное пространство произведе-
ния. Существуют, например, работы В. Ф. Миллера, В. М. Истрина,
В. Н. Перетца, М. Д. Приселкова, В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Ли-
хачева и др. известных историков древнерусской литературы, по-
священные образу автора в «Слове о полку Игореве».
Субъективная авторская воля, выраженная в произведении,
повелевает неоднородно трактовать автора за текстом, признавая
в нем в нераздельности и неслиянности эмпирико-бытовые и ху-
дожественно-созидательные начала. Об этом — четверостишие
А. А. Ахматовой из цикла «Тайны ремесла» («Мне ни к чему одиче-
ские рати...», 1940):
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Более конкретные «олицетворенные» авторские внутритексто-
вые проявления дают веские основания литературоведам обнару-
живать различные формы присутствия автора в тексте.
Как правило, авторская субъективность отчетливо проявляет-
ся в рамочных компонентах текста: заглавии, эпиграфе, начале
и концовке основного текста. В некоторых произведениях есть так-
же посвящения, авторские примечания (как в «Евгении Онегине»),
предисловия, предуведомления, послесловия, составляющие в своей
сложной совокупности метатекст, т. е. текст, надстраивающийся
над данным текстом, объясняющий, интерпретирующий его (гр.
meta — после, за) и в то же время составляющий целое с основным
текстом.
К формам присутствия автора следует отнести использование
псевдонимов с выразительным лексическим значением: Саша Чер-
163
ный, Андрей Белый, Игорь Северянин, М. Горький, Демьян Бедный,
Михаил Светлов... Это тоже распространенный способ построения
образа автора, постоянно и целеустремленно воздействующего
на читателя1. Во многих случаях использование псевдонима связано
со стремлением автора скрыть свое подлинное имя. Так, в XIX в. под
мужскими именами часто скрывались женщины: Жорж Санд (Авро-
ра Дюдеван), Керрер Белл (под этим именем вышло первое издание
романа Шарлотты Бронте «Джен Эйр»), Крестовский В., Крестов-
ский-псевдоним (Н. Д. Хвощинская) и др. В начале XX в. многие рус-
ские писатели, напротив, выбирают псевдонимы, подчеркивающие
их творческую индивидуальность, «защитный цвет» псевдонима
«меняется на цвет сигнальный»1 2.
Формы живого присутствия автора в тексте впрямую зависят
от родовой принадлежности произведения, от его жанра, но есть
и общие тенденции.
С большей степенью непосредственности автор заявляет о себе
в лирике, где, как правило, всё пространство высказывания принад-
лежит одному лирическому субъекту, где изображены его пережива-
ния, отношения к «невыразимому» (В. А. Жуковский), к внешнему
миру и миру своей души в бесконечности их переходов друг в друга.
Если цикл лирических стихотворений, лирическая поэма или
все собрание лирических произведений дают представление о лич-
ности поэта, об устойчивом индивидуальном авторском облике,
об авторской житейской и поэтической судьбе, то применительно
к таким текстовым феноменам в современной литературной на-
уке обычно употребляется понятие лирический герой, введенное
Ю. Н. Тыняновым в его статье «Блок» (1921 год). Ю. Н. Тынянов пи-
сал: «Блок — самая большая лирическая тема Блока <...> Об этом
лирическом герое и говорят сейчас. Он был необходим, его уже окру-
жает легенда, и не только теперь — она окружала его с самого на-
чала, казалось даже, что она предшествовала самой поэзии Блока,
что его поэзия только развила и дополнила постулированный об-
раз. В образ этот персонифицируют все искусство Блока <...>»3.
По определению Б. О. Кормана, лирический герой — это «единство
личности, не только стоящее за текстом, но и воплощенное в самом
поэтическом сюжете, ставшем предметом изображения. Причем
образ его не существует, как правило, в отдельном изолированном
стихотворении: лирический герой — это обычно единство если
1 См.: Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя: Из истории псевдонимов и анони-
мов. М., 1970.
2 Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. СПб., 2006.
С. 19.
3 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 118—119.
164
не всего лирического творчества поэта, то периода, цикла, темати-
ческого комплекса»1. По сравнению с автопсихологической, ролевая
лирика раскрывает авторское самосознание более опосредованно.
Особая, игровая разновидность авторского проявления в лирике —
акростих, известная с древних времен стихотворная структура, на-
чальные буквы которой составляют имя автора или лирического
адресата. Например, Н. С. Гумилёв вписал в альбом А. А. Ахматовой
следующий акростих:
Ангел лег у края небосклона.
Наклоняясь, удивлялся безднам.
Новый мир был темным и беззвездным.
Ад молчал. Не слышалось ни стона.
Алой крови робкое биенье,
Хрупких рук испуг и содроганье,
Миру снов досталось в обладанье
Ангела святое отраженье.
Тесно в мире! Пусть живет, мечтая
О любви, о грусти и о тени,
В сумраке предвечном открывая
Азбуку своих же откровений.
Непосредственно авторские интонации различимы в авторских
отступлениях (чаще всего — лирических, лиро-философских, пу-
блицистических, литературно-критических), которые органично
вписываются в структуру лироэпических и эпических в своей основе
произведений. Эти отступления обогащают эмоционально-экспрес-
сивные пределы повествования, расширяют сферу идеального, за-
метно уточняют авторские интенции и одновременно внутреннюю
читательскую направленность произведения («Евгений Онегин»,
«Домик в Коломне», «Медный всадник» А. С. Пушкина, «Мертвые
души» Гоголя, «Губернские очерки» и многие другие сатирические
циклы М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Что делать?» Н. Г. Чернышевско-
го, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Белая гвардия» М. А. Булгакова,
«Василий Теркин» и «Теркин на том свете» А. Т. Твардовского, «По-
эма без героя» А. А. Ахматовой и др.).
•к 'к 'к
В драматических произведениях автор (драматург) в большей
степени оказывается в тени своих героев, передоверяя им богатые
возможности непрерывного диалогического общения. Но и здесь
его присутствие угадывается в заглавии, эпиграфе (если он есть),
списке действующих лиц, в разного рода авторских сценических ука-
заниях, предуведомлениях (например, в «Тартюфе, или Обманщике»
Мольера — «Предисловие» и прошения-послания королю по пово-
1 Корман Б. О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск,
1992. С. 87.
165
ду комедии, или в «Ревизоре» Н. В. Гоголя — «Характеры и костю-
мы. Замечания для господ актеров» и т. п.), в системе ремарок, пауз
и любых других сценических указаний, в репликах в сторону, ко-
торые принадлежат и персонажу и «всезнающему» автору — одно-
временно.
Рупором автора могут быть и становятся сами действующие
лица: герои-резонеры (Клеант в комедии Мольера «Тартюф, или Об-
манщик», Стародум в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», Сатин
в пьесе М. Горького «На дне» или — до некоторой степени — Кули-
гин в драме А. Н. Островского «Гроза»), хор (от древнегреческого
театра до «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского и театра
Бертольда Брехта). Особо следует выделить авторское слово, вло-
женное в уста персонажа, безусловно далекого от автора. Например,
известная финальная реплика Городничего в «Ревизоре», невольно
перекликающаяся с эпиграфом к комедии: «Чему смеетесь? — Над
собою смеетесь!..» В пьесе Луиджи Пиранделло «Шесть персона-
жей в поисках автора» (1921) действующие лица ищут драматурга,
который воплотил бы их в художественные образы, и предлагают
режиссеру поставить их драму на сцене. Созданные авторским во-
ображением персонажи, по мысли Пиранделло, не менее реальны,
чем сама жизнь.
Авторская преднамеренность обнаруживается в общей концеп-
ции и сюжетосложении драмы, в расстановке действующих лиц.
Недаром говорят об особой природе драматургического конфликта,
о типе конфликта, свойственном тому или другому автору-творцу
(например, различны сами типы конфликта в пьесах Н. В. Гоголя,
А. Н. Островского, А. П. Чехова).
В инсценировках эпических произведений нередко специально
появляются персонажи «от автора», которые становятся вынужден-
ными и необходимыми посредниками между текстом-прародителем
и зрительным залом. В кинофильмах по мотивам эпических про-
изведений нередко вводится закадровый комментирующий «ав-
торский» голос, например, в киноэпопее С. Ф. Бондарчука «Война
и мир» по Л. Н. Толстому.
«
Многообразны формы присутствия автора в эпических произве-
дениях. Жанры автобиографической повести или автобиографи-
ческого романа, а также примыкающие к ним произведения с вы-
мышленными героями, согретыми светом автобиографического
лиризма, предъявляют автора до известной степени непосредствен-
но («Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, «Поэзия и правда» В. Гёте, «Детские
годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Былое и думы» А. И. Герцена,
«Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «История моего
современника» В. Г. Короленко, «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина,
1бб
«Лето Господне» И. С. Шмелева, «Записки юного врача» и «Театраль-
ный роман» М. А. Булгакова, «Раковый корпус» А. И. Солженицына
И др.).
Значительно чаще автор выступает как повествователь, веду-
щий свой рассказ от третьего лица. Это самая распространенная,
«безличная», анонимная форма повествования. Субъект высказыва-
ния здесь не выявлен. Автор словно бы без остатка растворен в сво-
ём рассказе. Со времен Гомера известна фигура всеведущего автора,
знающего всё и вся о своих героях, о событиях и обстоятельствах
их жизни, свободно и вольно переходящего из одного временного
плана в другой, из одного пространства в другое. При этом созда-
ется эффект полной, несомненной художественной объективности
(романы И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Г. Флобера, Дж. Голсуор-
си, Э. Хемингуэя, рассказы и повести А. П. Чехова, «Тихий Дон»
М. А. Шолохова, «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына
и др.).
В литературе Нового времени такой способ повествования, наи-
более условный (всезнание повествователя не мотивируется), обыч-
но сочетается с субъективными формами, с введением рассказчиков
(нарраторов), с передачей в речи, формально принадлежащей по-
вествователю, точки зрения того или иного героя (так, в «Войне
и мире» Бородинское сражение читатель видит «глазами» Андрея
Болконского, Пьера Безухова).
В эпических жанрах система повествовательных инстанций мо-
жет быть очень сложной, многоступенчатой, и формы ввода «чужой
речи» отличаются большим разнообразием. Автор передоверяет
своё повествование мнимому Рассказчику (участнику и свидетелю
событий, хроникеру, очевидцу, автору дневниковых материалов,
корреспонденту главного героя, адресату его писем, записок, редак-
тору и пр.) или рассказчикам, которые могут быть, таким образом,
участниками истории, о которой они сами повествуют.
Субъект речи сам то и дело, почти что непроизвольно, естествен-
но и органично становится объектом художественного живописа-
ния (автор в «Евгении Онегине»). Постоянной сменой точек зрения
определяется композиция романа М. Ю. Лермонтова «Герой наше-
го времени»: повествование ведется от имени автора предисловия,
от лица безымянного рассказчика, от лица героев — Максима Мак-
симыча и Печорина.
Субъект повествования более или менее отчетливо проявляется
в форме иронически поданной несобственно-прямой речи (ср. ро-
ман Т. Н. Толстой «Кысь» и др.). Парадоксальная и динамичная игра
авторскими ликами свойственна современным постмодернистским
повествованиям.
Рассказчик может последовательно вести повествование от пер-
вого лица — Я или Мы. В зависимости от его близости/чуждости
167
к кругозору автора, использования того или иного словесно-об-
разного ряда некоторые исследователи выделяют личного (или
перволичного) повествователя («Капитанская дочка» А. С. Пушки-
на, «Записки охотника» И. С. Тургенева) и собственно персонифи-
цированного (ролевого) рассказчика с его характерным, узорчатым,
подчас затейливо стилизованным сказом («Вечера на хуторе близ
Диканьки» Н. В. Гоголя, многие произведения В. И. Даля, Н. С. Ле-
скова, А. М. Ремизова, М. М. Зощенко, П. П. Бажова, В. И. Белова1).
В эпической литературно-эпистолярной форме (повесть или ро-
ман в письмах и т. п.) роль повествователя делят между собой участ-
ники переписки («Бедные люди» Ф. М. Достоевского) или роль эта
всецело присваивается адресанту («Письма к тетеньке» М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина) .
Особый тип повествования создаётся в лоне сатирической ли-
тературы Нового времени с её иронически, саркастически изо-
бражаемыми повествователями — «полугероями, полуавторами»1 2
(например, язвительно-озорной диалог Рассказчика и его напарни-
ка-приятеля Глумова в сатирическом романе М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина «Современная идиллия»).
В любом случае объединяющим началом эпического текста яв-
ляется авторское сознание, проливающее свет на целое и на все
«составляющие» художественного текста. «...Цемент, который свя-
зывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого
производит иллюзию отражения жизни, — писал Л. Н. Толстой, —
есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нрав-
ственного отношения автора к предмету»3.
Итак, в эпических произведениях авторское начало проступает
по-разному: это и внешне нейтральное и универсальное «всеведе-
ние» автора, распространяемое на всё текстовое пространство, это
и авторская точка зрения на воссоздаваемую поэтическую реаль-
ность, сдержанный или внятно-отчётливый авторский комментарий
по ходу сюжета, прямая, косвенная или несобственно-прямая ха-
рактеристика героев, описание природного и вещного мира, и т. д.
•к 'к 'к
Образ автора как семантико-стилевая категория эпического
и лирического произведения последовательно и целеустремленно
осмыслен В. В. Виноградовым в контексте разработанной им тео-
рии функциональных стилей4. Образ автора понимался ученым как
1 См.: Корман Б. О. Избранные труды по теории и истории литературы. С. 181—
182.
2 См.: Мысляков В. Искусство сатирического повествования: Проблема рассказ-
чика у Салтыкова-Щедрина. Саратов, 1966. С. 27.
3 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: в 90 т. М., 1951. Т. 30. С. 19.
4 См.: Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.
168
главная и многозначная стилевая характеристика художественно-
речевого мира, обнаруживающая эстетические отношения автора
к содержанию собственного текста.
Принципиально новая концепция автора как участника худо-
жественного события принадлежит М. М. Бахтину. Исследователь
полагал, что автор «должен находиться на границе создаваемого
им мира как активный творец его, ибо вторжение его в этот мир
разрушает его эстетическую устойчивость»1. Всемерно подчерки-
валась внутренняя устремленность автора к созданию суверенной
другой реальности, способной к содержательному саморазвитию.
Логика словесно-художественного творчества такова, что «поэт
творит не в мире языка, языком он лишь пользуется», что «творче-
ское сознание автора-художника никогда не совпадает с языковым
сознанием, языковое сознание только момент, материал, сплошь
управляемый чисто художественным заданием». По Бахтину, автор,
пользуясь языком как материей и преодолевая его как материал
(подобно тому, как в руках скульптора мрамор перестает «упорство-
вать как мрамор» и, послушный воле мастера, выражает пластиче-
ски формы тела), в соответствии со своим внутренним заданием
выражает некое новое содержание1 2.
Особой остроты проблема автора достигает в связи с вечно ак-
туальными и спорными задачами интерпретации литературного
произведения, аналитико-эмоциональным проникновением в худо-
жественный текст, в связи с непосредственным читательским и специ-
альным исследовательским восприятием художественной словесно-
сти. В современной культуре общения с авторским художественным
текстом и в современной гуманитарной науке определились две ос-
новные тенденции, имеющие давнюю и сложную родословную.
Одна из них признает в диалоге с художественным текстом пол-
ное или почти полное всевластие читателя, его безусловное и есте-
ственное право на свободу восприятия поэтического произведения,
на свободу от авторской опеки, от послушного следования автор-
ской концепции, воплощенной в тексте, на независимость от автор-
ской воли и авторской позиции.
Восходя к трудам В. Гумбольдта и А. А. Потебни, эта точка зрения
находит свое последовательное воплощение в работах представи-
телей психологической школы литературоведения конца XIX — на-
чала XX в. А. Г. Горнфельд (ученик и последователь Потебни) пи-
сал о художественном произведении: «Завершенное, отрешенное
от творца, оно свободно от его воздействия, оно стало игралищем
исторической судьбы, ибо стало орудием чужого творчества: твор-
чества воспринимающих. Произведение художника необходимо
1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 166.
2 Там же. С. 167—168.
169
нам именно потому, что оно есть ответ на наши вопросы: наши, ибо
художник не ставил их себе и не мог их предвидеть <...>, каждый
новый читатель Гамлета есть как бы его новый автор...»1 Ю. И. Ай-
хенвальд предлагает свою на этот счет максиму: «Никогда читатель
не прочтет как раз того, что написал писатель». И предваряет её та-
ким соображением: «Если мысль изреченная есть ложь для самого
поэта, для собственника этой мысли, то она еще больше — ложь для
тех, кто её воспринимает»1 2.
Крайнее выражение обозначенной позиции заключается в том,
что авторский текст становится удобным предлогом для последую-
щей активной рецепции, для вероятных литературных перелицовок
и своевольных переводов на языки других искусств (кинематогра-
фа, драматического театра, оперы, балета) и т. п. При этом порой
осознанно или непреднамеренно оправдывается самонадеянная чи-
тательская безаппеляционность суждений. В практике школьного,
а подчас и специального филологического образования рождается
уверенность в безграничной власти читателя над художественным
текстом, тиражируется выстраданная М. И. Цветаевой формула
«Мой Пушкин». Непроизвольно является на свет другая, наивно-
простодушная и нелепая в своем комизме фраза, восходящая к го-
голевскому Хлестакову: «С Пушкиным на дружеской ноге».
Во второй половине XX в. «читателецентристская» точка зрения
была доведена до крайнего предела. Ролан Барт, исходя из установок
постструктурализма, объявил текст зоной исключительно языковых
интересов и манипуляций, способных приносить читателю главным
образом игровое удовольствие и удовлетворение. Ученый утверж-
дал, что в словесно-художественном творчестве «теряются следы
нашей субъективности», «исчезает всякая самотождественность
и в первую очередь телесная тождественность пишущего», «голос
отрывается от своего источника, для автора наступает смерть». Ху-
дожественный текст, по Ролану Барту, — внесубъектная структура,
он соткан из нечеткого множества «цитат, отсылающих к тысячам
культурных источников». Соприродный самому тексту полноправ-
ный хозяин-распорядитель — читатель: рождение читателя прихо-
дится оплачивать смертью Автора. Ролан Барт категорически отвер-
гает объяснение смысла художественного произведения из некоего,
неведомого нам внутреннего творческого замысла автора3.
Концепция смерти автора, демонстративно прокламируемая
и развиваемая Роланом Бартом, помогла сосредоточить исследова-
1 Горнфельд А. Г. О толковании художественного произведения // Русское бо-
гатство. 1912. № 2. С. 151—152.
2 Айхенвалъд Ю. И. Писатель и читатель // Огни: Лит. альманах. М., 1918.
С. 129.
3 См.: Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. По-
этика: пер. с фр. М., 1989.
170
тельское филологическое внимание на глубинных семантико-ассо-
циативных корнях и генетических кодах текста, составляющих его
часто не фиксируемую авторским сознанием генеалогию («тексты
в тексте», плотные слои литературных реминисценций и связей,
«чужое слово» в авторском тексте, архетипические мотивы и обра-
зы и т. д.). В работах Ю. Кристевой, Н. Пьеге-Гро и др. сосредоточен-
ность исследователей на межтекстовых связях приводит к полному
растворению авторского текста в «интертексте»1.
Другой подход к исследовательскому и читательскому общению
с художественным текстом имеет в виду принципиальную вторич-
ностъ читательского творчества. В русской эстетической тради-
ции эта тенденция восходит к широко известному пушкинскому
призыву-наставлению судить писателя «по законам, им самим над
собою признанным»1 2.
А. П. Скафтымов в статье 1922 г. «К вопросу о соотношении те-
оретического и исторического рассмотрения в истории литерату-
ры» отмечал: «Сколько бы мы ни говорили о творчестве читателя
в восприятии художественного произведения, мы все же знаем, что
читательское творчество вторично, оно в своем направлении и гра-
нях обусловлено объектом восприятия. Читателя все же ведет ав-
тор, и он требует послушания в следовании его творческим путем.
И хорошим читателем является тот, кто умеет найти в себе широту
понимания и отдать себя автору»3.
Связь писателя и читателя обоюдная, обратная. И если читате-
лю нравится / не нравится автор, то, следовательно, в первую оче-
редь сам читатель пришёлся / не пришёлся автору, что называется,
по вкусу, не стал интересным и содержательным для автора собесед-
ником-сопереживателем. Своё действительно последнее слово автор
произведения уже сказал.
У литературного текста, при всей его сложной многозначности,
есть некое внутренне неизменное, глубоко запечатлённое (поня-
тийно-логически не улавливаемое) художественно-смысловое ядро,
и автор самим произведением, всей его многоуровневой структу-
рой выбирает своего читателя и с ним ведет доверительный диалог.
«Интерпретатор не бесконтролен. Состав произведения, — пи-
сал А. П. Скафтымов, — сам в себе носит нормы его истолкования».
Скафтымов напоминает об «искреннем вмешательстве души авто-
1 См.: Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Пер. с франц. М.,
2004; Пъеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Пер. с франц. М., 2008;
и др. Подробнее о теории интертекстуальности см. в гл. «Цитата, аллюзия, реми-
нисценция».
2 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: в 10 т. Т. 10. С. 96.
3 Скафтымов А. К вопросу о соотношении теоретического и исторического
рассмотрения в истории литературы // Скафтымов А. П. Поэтика художественного
произведения. М., 2007. С. 29—30.
171
ра» в художественное творение, о повышенной чуткости к неис-
черпаемым эмоционально-смысловым глубинам авторского текста,
способного подавать нам весть об «общей направленности произ-
ведения». По убеждению Скафтымова, «для того, чтобы понять,
нужно уметь отдать себя чужой точке зрения». Это, пожалуй, одна
из самых трудно решаемых на белом свете задач. Однако «указани-
ем на трудность проблемы не уничтожается сама проблема»1. Хотя
верно и то, что в диалоге с авторским текстом всякий раз рождается
новый смысл, новое поэтическое качество, в котором освещенная
авторской волей глубинно объективная существенность словесно-
го произведения пронизана и согрета непременной читательской
субъективностью.
По мысли М. М. Бахтина, невольно сближающей оба отмеченных
выше подхода к авторскому произведению, автор вступает в отно-
шения с предполагаемым читателем не как конкретное биографи-
ческое лицо, не как другой человек, не как литературный герой,
но прежде всего как «принцип, которому нужно следовать». В ху-
дожественном мире автор, по Бахтину, — «авторитетный руководи-
тель читателя»1 2.
Автор, его жизнь и «смерть» (прежде всего, в разноплановых
внутритекстовых проявлениях, в традиционных и новых словесно-
художественных и исследовательских дискурсах, в многообразном
и постоянно обогащающемся читательском опыте) продолжает
оставаться одной из самых волнующих и остро дискуссионных про-
блем в литературной науке и практике XXI века.
Вопросы
1. Приведите три основных значения понятия «автор».
2. Назовите формы присутствия автора в художественном тексте эпи-
ческого и драматического произведений.
3. Можно ли поставить знак равенства между автором и лирическим
героем стихотворения?
4. Разделяете ли Вы концепцию «смерти автора», развитую Р. Бартом
и другими постструктуралистами?
1 Скафтымов А. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рас-
смотрения в истории литературы. С. 28.
2 См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 179.
Раздел второй
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Глава 1
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ.
СОДЕРЖАНИЕ / ФОРМА. СТИЛЬ
Рус.: литературное произведение; англ.: apiece of literature, literary work;
нем.: literarische Werk; фр.: oeuvre, production litteraire.
Рус.: содержание / форма; англ.: Form / content; нем.: Inhalt / Form;
фр.: contenu /forme.
Произведение как текст. Сотворчество читателя, роль «рамки». — Тол-
кование произведения, идея и образ. Контекст. — О границах живописи
и поэзии. — Содержание / форма. Inventio, eloculio, dispositio. О формаль-
ном методе. — Замысел, творческая концепция. — Стиль. — Произведение
и литературный процесс.
Создание завершенного произведения — конкретная цель твор-
чества писателя. Наброски, отрывки — еще не произведение, если
только недоговоренность не входила в замысел автора, как в сти-
хотворении В. А. Жуковского «Невыразимое», написанном в жанре
фрагмента.
Прибегая к аналогии с другими «производствами», можно счи-
тать произведение той «единицей», которая используется для опи-
сания результатов работы. Так, А. С. Пушкин не без удовольствия
сообщал в письме к П. А. Плетневу (от 9 декабря 1830 г.) об итогах
своей болдинской осени: «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине пи-
сал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние гла-
вы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писан-
ную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme. Несколько
драматических сцен, или маленьких трагедий, именно: «Скупой
рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан».
Сверх того, написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще
не все [...]. Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский
ржет и бьется — и которые напечатаем также Anonyme»1.
Уже из этого перечня видно, как сильно различаются произведения
между собой: Пушкин обращался к разным родам и жанрам, писал
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М., 1962. Т. 9. С. 375—376.
175
и «мелкие стихотворения», и роман в стихах, и «повесть» в 400 сти-
хов («Домик в Коломне»), и повести в прозе, и «маленькие трагедии».
Но есть признаки, свойственные всем произведениям (независимо
от их родовой и жанровой принадлежности, объема текста), позво-
ляющие видеть в каждом из них «единицу» в литературном ряду1.
Литературное произведение представляет собой высказывание,
зафиксированное как последовательность языковых знаков, или
текст (лат.: textus — ткань, сплетение). Установление канонического
текста, путем сличения редакций и вариантов, является основной
задачей текстологии. При изучении функционирования произве-
дения нужно учитывать историю текста. Так, в России XIX в. про-
изведения обычно сначала печатались в журналах, где тексты часто
редактировались и сокращались; между тем критики откликались
именно на первые публикации. Например, есть сильные расхож-
дения между текстом «Отцов и детей» И. С. Тургенева в журнале
«Русский вестник» (1862, № 2), редактируемом М. Н. Катковым,
и книжным изданием романа (сентябрь 1862 г.). Читая первые от-
клики на роман (Н. Д. Ахшарумов, Д. И. Писарев, Н. Н. Страхов),
следует помнить, что критики читали журнальный текст1 2.
Слова «текст» и «произведение» не синонимы: текст — матери-
альный носитель образов, он становится произведением, когда
его читают. В свете диалогической концепции искусства, развитой
в нашем литературоведении прежде всего в работах М. М. Бахтина,
необходимо «включение слушателя (читателя, созерцателя) в систе-
му (структуру) произведения»3. Читатель как адресат — незримый
участник творчества писателя, влияющий на стиль; как интерпре-
татор созданного произведения, он ценен своей нетождественно-
стью Автору, своей «другостью»4.
1 Интерес к теории литературного произведения актуализировался в отече-
ственном литературоведении начиная с 1970-х годов. См.: Волкова Е. В. Произве-
дение искусства — предмет эстетического анализа. М.: 1976; Явчуновский Я. И. Ли-
тературное произведение. Саратов, 1983; Поспелов Г. Н. Целостно-системное
понимание литературных произведений // Поспелов Г. Н. Вопросы методологии
и поэтики. М., 1983; Грехнев В. А. Словесный образ и литературное произведение.
Н. Новгород, 1997; Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произ-
ведения. М., 1998; Гиршман М. М. Литературное произведение: теория художе-
ственной целостности. М., 2002; Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2002 [гл. VII];
Эсалнек А. Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения.
Практикум. М., 2003; Романова Г. И. Практика анализа литературного произведения
(русская классика). М., 2005; и др. Круг рассматриваемых проблем — художествен-
ная целостность, содержание и форма, произведение и текст, стиль, целостно-си-
стемный анализ.
2 См.: Пустовойт П. Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Комментарий. М.:
Просвещение, 1983 (гл. «История текста». С. 46—93).
3 Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика
словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 388.
4 Там же.
176
Чтение — творческий, точнее, сотворческий акт. Восприятие
произведения требует «работы воображения, памяти и связывания,
благодаря которой читаемое не рассыпается в сознании на кучу от-
дельных независимых, тут же забываемых кадров и впечатлений,
но прочно спаивается в органическую и целостную картину жизни»1.
Передавая свое наслаждение от чтения, Кола Брюньон (герой одно-
именной повести Р. Роллана) удивляется чуду одновременного со-
зерцания букв и самой жизни: «И благословенны мои глаза, сквозь
которые проникают в меня чудесные видения, замкнутые в книгах!»1 2
Произведение представляет собой художественное целое, а зна-
чит, имеет свои границы. Во-первых, текст открывает читателю
особый мир, условную, эстетическую реальность. Эта картина жиз-
ни — особая в каждом произведении. Она создана, «сделана» авто-
ром, но иллюзия достоверности может быть очень сильной. Вспо-
миная о своем первом чтении романа Ч. Диккенса «Домби и сын»,
В. Г. Короленко писал о «картине», встающей перед ним «как жи-
вая»: «Я вдруг живо почувствовал и смерть незнакомого мальчика,
и эту ночь, и эту тоску одиночества и мрака, и уединение в этом
месте, обвеянном грустью недавней смерти... И тоскливое падение
дождевых капель, и стон, и завывание ветра, и болезненную дрожь
чахоточных деревьев... И страшную тоску одиночества бедной де-
вочки и сурового отца. И ее любовь к этому сухому, жесткому чело-
веку, и его страшное равнодушие...» Юный читатель (каким тогда
был Короленко) почувствовал и правду жизни, передаваемую рома-
нистом, который «только видит этот ужас, и сам так же потрясен,
как и я», и искусственность развязки: «На последних [...] страницах
передо мной мелькнула идиллическая картина: Флоренса замужем.
У нее мальчик и девочка, и... какой-то седой старик гуляет с деть-
ми и смотрит на внучку с нежностью и печалью». Более опытный
читатель пояснил: «У Диккенса всегда кончается торжеством добро-
детели и примирением»3.
Во-вторых, в самом тексте есть рама, или рамочный текст, по-
разному оформляемый в зависимости от литературного рода, жан-
ра, национальной традиции и др. В формировании установки вос-
приятия читателя велика роль заглавия (заголовочного комплекса).
Например, семь слов, входящих в заглавие одного из ранних про-
изведений Достоевского: Белые ночи. Сентиментальный роман.
(Из воспоминаний мечтателя) — «это как бы семь ключиков к его
художественной тайне»4. Название и жанровый подзаголовок под-
1 Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В. Ф. Вопросы теории
и истории эстетики: сб. ст. М., 1968. С. 59.
2 Роллан Р. Собр. соч.: в 14 т. Т. 7. М., 1956. С. 182.
3 Короленко В. Г. Мое первое знакомство с Диккенсом // Короленко В. Г. Собр.
соч.: в 5 т. Л., 1991. Т. 5. С. 430—431, 434.
4 Манн Ю. В. «Боль о человеке» // Достоевский Ф. М. Белые ночи. М., 1986. С. 5.
177
готавливают читателя к вхождению в мир произведения, к встрече
с одиноким героем, компенсирующим бедность жизненных впечат-
лений богатым воображением, фантазией.
Та или иная установка восприятия определяет отношение чита-
теля к пограничным произведениям — на стыке литературы и пу-
блицистики, мемуаристики и пр. («Былое и думы» А. И. Герцена,
«Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова, «Крестьянин и крестьян-
ский труд» Г. И. Успенского, «Деревенский дневник» Е. Я. Доро-
ша). Историческая романистика неизменно возбуждает вопросы
о мере свободы автора в обращении с источниками. Л. Н. Толстой
в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”» (1869)
предостерегал читателя от ложного стереотипа восприятия, со-
гласно которому художник должен буквально следовать за исто-
риком. Будучи не согласен с освещением многих лиц и событий
«в двух главных исторических произведениях этой эпохи, Тьера
и Михайловского-Данилевского»1, писатель провел через все про-
изведение мотив вольной или невольной лжи в официальных во-
енных донесениях, в рассказах очевидцев. Например, Николай Ро-
стов рассказал про свое участие в Шенграбенском деле «так, как
красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было»
(т. 1, ч. 3, гл. VII).
С точки зрения читателя, в заглавие входит также имя (псевдо-
ним) писателя, которое, «по мере забирания им известности, пре-
вращается из собственного в нарицательное, тем самым участвуя
в нарицании, т. е. назывании книги...»1 2 Одно и то же название —
«Кавказский пленник» — имеют произведения Пушкина, Лер-
монтова, Л. Толстого; свой «Василий Теркин» у П. Д. Боборыкина
и у А. Т. Твардовского; многие сочинения разных авторов названы
«Молодость»3. Нередко писатели используют псевдонимы, желая
подчеркнуть какую-то сторону своего творчества, своей биографии:
Федр (греч.: веселый; настоящее имя первого римского баснописца
точно не известно), Фирдоуси (перс.: райский; подлинное имя —
Абулькасем из Туса), Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), Саша Черный
(А. М. Гликберг), Игорь Северянин (И. В. Лотарев), Артем Веселый
(Н. И. Кочкуров), Максим Горький (А. М. Пешков)4.
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 7. М., 1981. С. 361—362.
2 Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. СПб., 2004.
С. 8.
3 См.: Указатель заглавий произведений художественной литературы: 1805—
1975. М., 1990. Т. 4: М—О. В частности, этот указатель фиксирует 19 произведе-
ний разных жанров под названием «Молодость» (с. 67). Среди них — книга стихов
В. Ф. Ходасевича, поэма Н. Л. Брауна, рассказ Дж. Конрада, рассказ Л. Н. Сейфули-
ной, роман П. Замойского.
4 См.: Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя. Из истории псевдонимов и анони-
мов. М., 1977.
178
Если имя писателя отсылает к его предшествующему творчеству,
к фактам биографии («Что делать?» Н. Г. Чернышевского, «Репор-
таж с петлей на шее» Ю. Фучика, «Моабитская тетрадь» М. Джалиля
обычно воспринимаются в контексте трагической судьбы авторов),
то обозначение жанра — в подзаголовке — указывает на литера-
турную традицию, тем самым формируя читательский «горизонт
ожидания» (термин Х.-Р. Яусса)1. Слова: комедия, идиллия, элегия,
плутовской роман, баллада, антиутопия и т. п. — возбуждают
в подготовленном читателе комплекс литературных ассоциаций,
а спорное авторское жанровое наименование нередко задает на-
правление интерпретации: почему «Мертвые души» — поэма, «Виш-
невый сад» — комедия, «Пигмалион» Б. Шоу — роман в пяти дей-
ствиях? Почему авторы столь необычно обозначили жанр своего
произведения?
Итак, два возможных компонента заглавия: имя (псевдоним) ав-
тора и жанровый подзаголовок — выводят за пределы данного про-
изведения. Название как будто относится только к нему: «Ябеда»,
«Бедная Лиза», «Капитанская дочка». Но это верно лишь отчасти:
ведь тип названия, его стилистика могут быть знаком нацио-
нальной культуры, исторического времени, жанра, литературного
направления. Так, «Хвастун» (1786) — название нравоучительной
сатирической комедии Я. Б. Княжнина — характерно для класси-
цизма, заглавие повести «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792) пе-
редает авторское сентиментальное отношение к героине, в отличие
от «Капитанской дочки» А. С. Пушкина (1836), где заглавие лишь
намекает на сюжет. Контраст заглавий двух романов: «Евгений Оне-
гин» и «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и со-
общества» — подчеркивает стремительное развитие жанра в рус-
ской литературе первой трети XIX в. Второй из названных романов,
написанный А. Е. Измайловым и вышедший в 1799—1801 гг., уже
по названию можно смело отнести к нравоучительной просвети-
тельской литературе; ср.: «Памела, или Вознагражденная добро-
детель» С. Ричардсона (1740). Возможно, образ Евгения Негодяева
(таково полное имя героя романа Измайлова) был одним из поле-
мических стимулов для творца Евгения Онегина. Особую группу со-
ставляют названия, содержащие реминисценции, цитаты, аллюзии
и свидетельствующие об интертекстуальных связях, в которые во-
влечено произведение. Так, роман «Российский Жилблаз, или По-
хождения князя Гаврилы Романовича Чистякова» В. Т. Нарежного
(в 1814 г. опубликованы три части из шести) приглашает к чтению
романа А. Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1735).
Многовековая традиция внешнего оформления текста подчерки-
вает ответственную роль титульного листа, заглавия в организации
1 См.: Jauss H.-R. Literaturgeschichte als Provocation. Frankfurt am Main, 1970.
179
восприятия читателя. И при рукописании, и после изобретения кни-
гопечатания И. Гутенбергом (1440—1450 гг.)1 «заглавие всегда по-
мещалось в строго определенном месте, но в разные времена это
было то начало, то конец книги»1 2. Независимо от того, где именно
(в начале или конце текста) в разное историческое время помеща-
лось заглавие, читалось и читается сначала именно оно. И трудно
переоценить его роль в принятии решения: читать или не читать?3
«
Прочитав заглавие, «войдем» в произведение, в его основной
текст. И здесь обнаруживаются многосторонние связи данного
сочинения с другими. На основании тех или иных типологических
свойств произведение относят к определенному литературному
роду, жанру, жанровой разновидности, к стихам или прозе; в нем
выделяют доминирующий эстетический модус (героика, роман-
тика, трагизм, юмор, сатира и др.). В современном литературове-
дении существует много критериев группировки произведений.
Сам же принцип перекрестной классификации восходит к Аристоте-
лю, различавшему произведения по средствам, предмету и способу
подражания (мимесиса): «...в одном отношении Софокл как подра-
жатель подобен Гомеру, ибо оба они подражают хорошим людям,
а в другом отношении Аристофану, ибо оба они [выводят] в подра-
жании лиц действующих и делающих»4.
Однако, при множественности типов произведений, в них есть
общие черты, связанные как с эстетической природой искусства
в целом, так и со спецификой вида искусства — художественной
литературы. В подлинно художественном произведении заключен
некий общий, глубинный смысл, который порождает сопережива-
ние и соразмышление читателя, способного, как и писатель, «чу-
жое вмиг почувствовать своим» (А. А. Фет. «Одним толчком согнать
ладью живую...»); воплотить же это свое-чужое в образах и словах
дано лишь «певцу... избранному».
Но как определить это «общее»? Его вариативность, участие чи-
тателя в порождении «значения», «идеи» настойчиво подчеркивал
А. А. Потебня, предвосхищая современные концепции персонали-
стичности «понимания»: «...поэтический образ в каждом понимаю-
щем и в каждом отдельном случае понимания вновь и вновь созда-
1 Первая русская книга «Апостол» была напечатана в 1564 г. И. Федоровым
и его помощником П. Мстиславцем.
2 Зберский Т. Семиотика книги // Червинский М. Система книги. Збер-
ский Т. Семиотика книги / Пер. с пол. М.: Книга, 1981. С. 86.
3 См. главу «Рамка».
4 Аристотель. Поэтика / Пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная лите-
ратура. М.: Наука, 1978. С. 115.
180
ет себе значение»1. Отказываясь именно поэтому от «разъяснения
идей» конкретного произведения, Потебня считал саму «идею»
обязательной «стороной» образа, уподобленного им «внутрен-
ней форме» слова, которая направляет мысль. Так, жалованье —
не просто понятие платы, «но действие любви»1 2. Толкование же об-
раза, выведение «идеи» — условие художественного восприятия:
«...умственное стремление человека удовлетворяется не образом
самим по себе, но идеею, то есть совокупностью мыслей, пробуж-
даемых образом и относимых к нему как к источнику...»3 В этом
суждении уязвимо сведение идеи к «совокупности мыслей», при
умолчании о чувствах (сближение творчества писателя с познава-
тельной деятельностью было ахиллесовой пятой потебнианства4).
Но в главном А. А. Потебня прав. Популяризируя данное положение,
Д. Н. Овсянико-Куликовский (его ученик и последователь) писал:
«Если [...] мы отнесемся к рассказу просто как к описанию случая
(хотя бы и выдуманного), то рассказ потеряет для нас значение об-
раза, а вместе с тем — и свой смысл»5.
Итак, чтению неизбежно сопутствует толкование произведения,
выведение некой «идеи». Но эта «идея» потому и загадочна, пробле-
матична, что в самом произведении неотделима от образа, образ-
ного мира. Показать общее в индивидуальном — задача эстетическо-
го анализа.
Хотя отдельное, поочередное рассмотрение «идейного содержа-
ния» и «художественных особенностей» давно себя скомпромети-
ровало, его рецидивы, к сожалению, встречаются. Изолированное
рассмотрение «содержания» и «формы» противоречит природе ху-
дожественного образа — не иллюстративного, но самодостаточ-
ного и многозначного. А. Ф. Лосев с огорчением пишет о потерях,
неизбежных на этом неверном пути: «...в наших учебниках и ру-
ководствах можно прочитать, что художественная идея “Бориса
Годунова” есть борьба и роковой исход двух сил, царящих в психи-
ке Годунова — гуманного, честного и опытного правителя, — с од-
ной стороны, и кровавого преступника — с другой. В более общем
смысле это — трагедия соотношения единоличного самодержца
и обездоленной, униженной народной массы. Тем не менее, даже
самый подробный рассказ об этой художественной идее пушкин-
ской трагедии, самый точный ее анализ не заменит тех потрясаю-
1 Потебня А. А. Из записок по теории словесности // Потебня А. А. Эстетика
и поэтика. М., 1976. С. 331.
2 Там же. С. 175.
3 Там же. С. 183.
4 См.: Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. (Гл. II: Искусство как
познание).
5 Овсянико-Куликовский Д. Н. Теория поэзии и прозы (Теория словесности).
Изд. 5. М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 3.
181
щих сцен в их конкретной данности, из которых состоит эта тра-
гедия Пушкина. А если не будут проанализированы все эти сцены,
то не возникнет даже и никакого вопроса о художественном стиле
“Бориса Годунова”. Поэтому художественный стиль произведения
в очень большой степени соприкасается с его художественной иде-
ей, но ни в каком случае на эту идею не сводится»1.
Трудности анализа произведения усугубляются особенностями
материала художественной литературы — словесного строя, речи.
Взятые отдельно, слова обозначают общие свойства предметов и яв-
лений. Но слово «живет» не в словаре. Одно из ключевых понятий
в литературоведении, стилистике — контекст. Протяженность кон-
текста, достаточного для понимания значения слова, может быть
разной1 2. Например, в стихотворении С. А. Есенина «Не жалею,
не зову, не плачу...» есть контексты-словосочетания, представля-
ющие собой метафоры: «страна березового ситца», «пламень уст»,
«буйство глаз», «половодье чувств»; здесь слова «ситец», «пламень»,
«буйство», «половодье» утрачивают прямое лексическое значение.
Начальная же строка стихотворения требует для своего понимания
более широкого контекста: им является всё стихотворение, переда-
ющее горечь прощания лирического героя с уходящей молодостью.
Остроту и силу элегического чувства подчеркивают и контексту-
альные синонимы («Не жалею, не зову, не плачу...» — это градация:
чувство, переполняющее героя, не может излиться в одном слове);
и сквозной параллелизм между молодостью человека и цветеньем
природы (в его создании участвуют метафоры и сравнения: «Все
пройдет, как с белых яблонь дым...»; «Все мы, все мы в этом мире
тленны, / Тихо льется с кленов листьев медь...»); и нетождествен-
ный повтор, вариации на одну тему в каждой из пяти строф. За бо-
гатством и в то же время родственностью зрительных, слуховых об-
разов-представлений, почерпнутых из мира природы, встает образ
человека, единство его переживания.
Наряду с произведением или его частью выделяют контексты
жанровой традиции, творчества данного писателя, литературного
направления и т. д.; их знание крайне важно для уяснения семанти-
ки слова. Так, свой устойчивый словарь есть у романтической эле-
гии, «память» о которой жива в стихотворении Есенина. Здесь есть
реминисценция из Гоголя: «О, моя утраченная свежесть, / Буйство
глаз и половодье чувств». По свидетельству С. А. Толстой-Есениной,
«Есенин рассказывал, что это стихотворение было написано под вли-
янием одного из лирических отступлений в “Мертвых душах”. Ино-
гда полушутя прибавлял: “Вот меня хвалят за эти стихи, а не знают,
1 Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994. С. 182.
2 См.: Ревзина О. Г. Контекст // Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. С. 114—
115.
182
что это не я, а Гоголь”. Несомненно, что место в «Мертвых душах»,
о котором говорил Есенин, — это вступление к шестой главе, кото-
рое заканчивается словами: “...что пробудило бы в прежние годы
живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь
мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя
юность! О, моя свежесть!”»1
Выразительный контрастный фон для художественной речи —
научный, логический стиль изложения. Разграничивая понятие
и представление, В. Ф. Асмус подчеркивает, что значение слова или
словосочетания определяется общей целью высказывания: «Поня-
тие всегда выступает в мышлении как член некоторой логической
связи. Оно мыслится или в составе суждения, или в составе умоза-
ключения, или в составе доказательства»1 2. В отличие от представ-
лений, которые всегда субъективно окрашены, «мысль» отвлекает-
ся от индивидуального; по Г. Фреге, она «независима от меня, так
как ту мысль, которую постиг я, могут постигнуть и другие люди»3.
Формой речи, в которой передается движение мысли, традиционно
считается рассуждение; в «риториках» и в современной стилистике
оно отграничивается от повествования и описания.
В составе литературного произведения нередко встречаются вне-
художественные рассуждения (таковы многие авторские предисло-
вия, отступления, например в «Войне и мире» Л. Толстого); опре-
деление их функций в составе целого, в воздействии произведения
на читателя — одна из задач литературоведческого анализа.
Однако в художественном мире произведения рассуждения
входят в структуру образа (персонажа, повествователя, лириче-
ского субъекта и др.) и воспринимаются в соответствующем кон-
тексте. Воссоздается целостное сознание, где логика соседствует
с чувствами и желаниями, ценностными приоритетами, волевыми
устремлениями, — словом, на рассуждениях лежит печать некого
характерного «я». Так, в лирике композиция иногда напоминает
ход доказательства. В стихотворении М. Ю. Лермонтова «И скуч-
но, и грустно...» лирический субъект, казалось бы, последователь-
но доказывает «пустоту» жизни; по Белинскому, это «потрясающий
душу реквием всех надежд, всех чувств человеческих, всех обаяний
жизни...»4 Однако мрачному выводу противоречит, помимо гармо-
нии стиха, сама напряженность рефлексии над «сладким недугом»
страстей, над бесполезностью «вечных» желаний и невозможно-
стью «вечной» любви. Это попытка человека, знавшего не только
«минуту душевной невзгоды», судить жизнь «рассудком», оценивать
1 Цит. по: Есенин С. А. Собр. соч. 6 в 5 т. М., 1961. Т. 2. С. 284.
2 Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. Т. 1. С. 284.
3 Фреге Г. Избранные работы / Пер. с нем. М., 1977. С. 71.
4 Белинский В. Г. Стихотворения М. Ю. Лермонтова // Поли. собр. соч.:
в 13 т. Т. 4. М., 1954. С. 525.
183
ее «с холодным вниманьем». Сущность жизни нерассудочна — разве
это не важнейший из смыслов стихотворения?
«
С давних пор проводились параллели между словесным описа-
нием и портретом, пейзажем, интерьером в изобразительных ис-
кусствах. «...Живопись — немая поэзия, а поэзия — говорящая
живопись». Это изречение древнегреческого поэта Симонида оспа-
ривает Лессинг в своем трактате «Лаокоон, или О границах живопи-
си и поэзии» (1766) Ч Эффектное изречение Симонида, по Лессингу,
не передает специфики художественной литературы, или «поэзии»,
как её тогда называли (описание видимых предметов — лишь одна
из ее возможностей); тем не менее сопоставление искусств в этом
плане правомерно. Можно, хотя с оговорками, найти в «живописи»
(под ней Лессинг понимал и собственно живопись, и скульптуру)
аналог повествования: автор «Лаокоона...» признает, что «живопись
может изображать также и действия, но только опосредствован-
но, при помощи тел»1 2. Как это сделать лучше, Лессинг показывает
на примере стонущего, но не кричащего Лаокоона в греческой скуль-
птурной группе: избранный «единственный момент и единственная
точка зрения на этот момент должны быть возможно плодотворнее.
Но плодотворно то, что оставляет свободное поле воображению»3.
Иногда на картине рисуют ряд последовательных моментов
(например, «клейма» икон, передающие сюжет жития). В отличие
от словесных описаний и даже повествований, возможность по-
добного «перевода» рассуждений сомнительна. Показательно и то,
что на восприятие картины, скульптуры, музыкального опуса вли-
яют их названия, т. е. слова: «Над вечным покоем» И. И. Левитана,
«Мыслитель» О. Родена, «Патетическая соната» Л. ван Бетховена.
«Литература, — подчеркивает В. Е. Хализев, — является единствен-
ным искусством, свободно и широко осваивающим человеческую
мысль, которая иными видами художественной деятельности вос-
производится лишь косвенно»4. При этом художественная литера-
тура остается видом искусства, формой эстетического сознания,
и ее образы, «невещественность» которых отметил Лессинг5, глубо-
ко родственны образам других искусств.
•к 'к 'к
Применение к литературному произведению понятийной пары
содержание / форма вызывало и вызывает споры. В особенности
1 Лессинг Г. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 67.
2 Там же. С. 188.
3 Там же. С. 91.
4 Введение в литературоведение / Под ред. Г. Н. Поспелова. М., 1988. С. 76—77.
5 Лессинг Г. Указ. соч. С. 128.
184
жаркими они были в первой трети XX в., когда в литературоведении
достигают апогея и формализм, и его критика.
Если в произведении не заключено некое обобщение, оно не вы-
зовет размышления и сопереживания читателя. Этот общий смысл
можно условно считать содержанием (идеей, идейным содержани-
ем). Непосредственно же воспринимается форма. В ней традицион-
но различают три стороны: 1) предметы (в широком смысле сло-
ва), о которых идет речь; 2) слова, их обозначающие, т. е. сама речь;
3) расположение предметов и слов относительно друг друга, т. е.
композиция. Данная схема, восходящая к античным «риторикам»
(где перед оратором ставились три задачи), использовалась и в «по-
этиках». Для обозначения задач поэта (оратора) применялись латин-
ские термины: inventlo (изобретение, нахождение), elocutio (словес-
ное украшение, выражение), dispositio (расположение, композиция)1.
Например, М. Опиц в «Книге о немецкой поэзии» (1624) писал: «По-
скольку поэзия, как и ораторское искусство, подразделяется на пред-
меты и слова, то мы сначала хотим поговорить об изобретении
и расположении предметов, затем о подборе и украшении слов...»1 2
Аналогичное деление — «О изобретении», «О украшении», «О рас-
положении» — в «Кратком руководстве к красноречию» М. В. Ло-
моносова, где автор приводит много примеров из художественной
литературы (из од собственного сочинения, из «Энеиды» Вергилия,
«Метаморфоз» Овидия, «Лузиад» Л. Камоэнса и др.).
В первой трети XX в. в литературоведении резко возрастает ин-
терес к составу и строению произведения, или к теоретической
(общей) поэтике. Слово «поэтика» напоминало о классицизме,
о старинном дидактическом жанре, восходящем к «Поэтическо-
му искусству» («Ars poetica») Аристотеля и, казалось бы, безвоз-
вратно канувшем в Лету после битв романтиков с классицистами.
В 1910—1920-е годы снова стали появляться книги, названные
«поэтиками»3. Б. В. Томашевский вводит слово «поэтика» в заглавие
своего вузовского пособия: «Теория литературы. Поэтика» (1925)4.
1 См.: Гаспаров М. Л. Античная риторика как система // Избранные труды. Т. 1:
О поэтах. М., 1997.
2 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
С. 453.
3 См.: Поэтика (Сборники по теории поэтического языка). Пг., 1919; Проблемы
поэтики / Под ред. В. Я. Брюсова. М.; Л., 1925; Ars Poetica / Под ред. М. А. Петров-
ского. М., 1927; Поэтика. Временник Отдела Словесных Искусств Гос. Института
Истории Искусств. Вып. 1—4. Л., 1926—1928; и др.
4 См.: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Л.: ГИЗ, 1925. Текст ше-
стого издания книги (1931) переиздан в 1996 г. См.: Томашевский Б. В. Теория лите-
ратуры. Поэтика: Учеб, пособие / Вступ. ст. Н. Д. Тамарченко; комм. С. Н. Бройтма-
на при участии Н. Д. Тамарченко. М.: Аспект Пресс, 1996.
Томашевский написал также адресованный школьникам «Краткий курс поэти-
ки» (1928), выдержавший по 1931 г. пять изданий. Текст этой книги также недавно
185
Он оговаривает, с одной стороны, не нормативный характер своей
«поэтики», с другой — подчеркивает преемственность между нею
и старинным одноименным жанром. Задачи «общей поэтики», как
он подчеркивает, не совпадают с историко-литературными: «Исто-
рия литературы является отраслью общей истории культуры. Иной
подход — теоретический. При теоретическом подходе литератур-
ные явления подвергаются обобщению, а потому рассматриваются
не в своей индивидуальности, а как результаты применения общих
законов построения литературных произведений»1.
При сопоставлении схем строения, структуры произведения,
предложенных авторами вузовских учебных книг: Б. В. Тома-
шевским (1925), Л. И. Тимофеевым (1940)* 1 2 и Г. Н. Поспеловым
(1940)3, — обнаруживается несомненная связь этих схем с ритори-
ческой традицией. Она очевидна в самом выделении, под разными
названиями, основных сторон произведения: у Б. В. Томашевско-
го — это тематика и стилистика (вопросы композиции рассматри-
вались внутри этих разделов); у Л. И. Тимофеева — образы-характе-
ры («непосредственное содержание»), язык, сюжет и композиция4;
у Г. Н. Поспелова — «предметная изобразительность», словесный
строй, композиция5.
В отнесении стилистики и композиции к форме произведения
ученые оказались солидарными. Принципиальные различия обна-
ружились в трактовке первой из названных сторон т. е. тематики
(Томашевский), образов-характеров, или «непосредственного содер-
жания» (Тимофеев), «предметной изобразительности» (Поспелов).
На языке старинных поэтик всё это составляло первую задачу по-
эта — «изобретение» (inventio).
Тимофеев и Поспелов, при существенных расхождениях друг
с другом, выделяют образный уровень в составе произведения, рас-
сматривая его как завершение художественной формы. Тимофеев
отграничивает «образы-характеры» от «идейно-тематической ос-
новы». Согласно Поспелову, чья концепция отличается особенной
четкостью, «предметная изобразительность», вместе с другими сто-
ронами формы, определяется в своем стилевом своеобразии «един-
переиздан: Томашевский Б. В. Краткий курс поэтики / Вступ. ст., прим. Л. В. Чернец.
М.: КДУ, 2006 (книга переиздана в 2010 г.).
1 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 25.
2 Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1940. 5-е издание вышло
в 1976 г.
3 Поспелов Г. Н. Теория литературы. М., 1940. Новый учебник Г. Н. Поспелова
«Теория литературы» вышел в 1976 г.
4 Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. 4-е изд. М., 1971. С. 138, 156 и др.
5 Поспелов Г. Н. Теория литературы. М., 1940. (Гл. 4). Особенно четкое освеще-
ние данной проблемы дано в статье «Целостно-системное понимание литературных
произведений», включенной в книгу: Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэти-
ки: сб. ст. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1983. (С. 138—172).
186
ством основных уровней содержания — тематики, проблематики
и пафоса, в их исторической конкретности...» («Целостно-систем-
ное понимание литературных произведений», с. 154). Тем более
в главном — отнесении образного уровня произведения к художе-
ственной форме — ученые солидарны. Обоснование в вышедших
позднее работах Д. С. Лихачева, Е. Фарыно и других исследователей
понятия «мир произведения» («внутренний мир произведения»)1
объективно восходит к этим концепциям, которые в свою очередь
продолжают многовековую традицию выделения inventio как пер-
вой задачи поэта.
В отличие от Тимофеева и Поспелова, Томашевский вообще
не использует понятие образа. Он определяет тематику, оставаясь
в пределах лингвистики: «В художественном выражении отдельные
предложения, сочетаясь между собой по их значению, дают в ре-
зультате некоторую конструкцию, объединенную общностью мысли
или темы»1 2. Такая исследовательская позиция характерна для сто-
ронников «точных» методов в литературоведении, явно предпочи-
тающих эстетике — лингвистику, как это было свойственно мно-
гим представителям русской формальной школы 1910—1920-х гг.
В. М. Жирмунский, близкий в то время к формализму, в статье «За-
дачи поэтики» (1919) отказывается от понятия «образ» как инстру-
мента анализа произведения — вследствие его зыбкости, неопре-
деленности. Отметив субъективность образов, «сопровождающих
течение слов» в пушкинском стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц
шумных...», ученый приходит к выводу: «На этих образах построить
искусство невозможно: искусство требует законченности и точно-
сти и потому не может быть предоставлено произволу воображе-
ния читателя; не читатель, а поэт создает произведение искусства»3.
Предметом анализа выступают приемы поэтической фонетики, по-
этического синтаксиса и тематики, понимаемой как совокупность
«словесных тем» стихотворения. Изучение тематики сводится к со-
ставлению поэтического словаря: «для поэтов-сентименталистов ха-
рактерны такие слова, как “грустный”, “томный”, “сумерки”, “сле-
зы”, “печаль”, “гробовая урна” и т. п.»4.
1 См.: Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопро-
сы литературы. 1968. № 8; Faryno J. Введение в литературоведение. Katovice, 1980.
4. 3. С. 7—22; Чернец Л. В. Мир произведения // Русская словесность. 1995. № 2;
Савельева В. В. Художественный текст и художественный мир. Проблемы органи-
зации. Алматы, 1996; Романова Г. И. Мир эпического произведения как теоретико-
литературная проблема. М., 2008.
2 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 176.
3 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
С. 20. Впоследствии Жирмунский включил в структуру произведения образный уро-
вень: «Хотя образ в поэзии конкретизован в языке, но он не исчерпывается языком»
(Жирмунский В. М. Введение в литературоведение. СПб., 1996. С. 243).
4 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 30.
187
Но достаточно ли описания и анализа лексики для определения
тематики? И разве читатель — в качестве адресата — не участву-
ет в работе писателя? М. М. Бахтин метко окрестил теоретическую
поэтику формалистов «материальной эстетикой», вследствие ее раз-
рыва с «общей эстетикой». Он указывал (в статье 1924 г.) на неадек-
ватность такого подхода эстетической природе объекта: «поэтика
прижимается вплотную к лингвистике, боясь отступить от нее
дальше чем на один шаг»1. В книге П. Н. Медведева, близкого к Бах-
тину, отмечено: «Тема всегда трансцендентна языку. Более того,
на тему направлено не слово, взятое в отдельности, и не предложе-
ние, и не период, а целое высказывание, как речевое выступление»1 2.
Теоретические построения ОПОЯЗа («Общество по изучению по-
этического языка», куда входили В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тынянов,
Б. М. Эйхенбаум, Л. П. Якубинский и др.), привлекавшие строго-
стью анализа текста на фоне эклектизма большинства литературо-
ведческих работ тех лет, достигали искомой точности, обходя, как
правило, эстетическую категорию образа. Особенно парадоксален
подход к такому виду образа, как персонаж, который традиционно
рассматривался (и продолжает рассматриваться) в критике и лите-
ратуроведении, а также самими писателями, как образ-характер,
представленный в свете определенного этического идеала. «Наде-
юсь, критики не оставят в покое характера Пленника, он для них
создан, душа моя», — пишет А. С. Пушкин брату Л. С. Пушкину,
в октябре 1822 г. по поводу своей поэмы «Кавказский пленник»3.
Избирательность исследовательских интересов формалистов,
их сосредоточенность на анализе и систематизации приемов в про-
изведении приводила, в случае с персонажем, к переворачиванию
вверх дном реальных связей явлений: не суббота для человека,
а человек для субботы. Так, Томашевский видит в персонаже моти-
вировку мотива (мотивов), понимая под последним «тему нераз-
ложимой части произведения», например: «поручение», «узнание»
и пр. Согласно Томашевскому, «обычный прием группировки и на-
низывания мотивов — это выведение персонажей — живых носите-
лей тех или иных мотивов. Принадлежность того или иного мотива
определенному персонажу облегчает внимание читателя. Персонаж
является руководящей нитью, дающей возможность разобраться
1 Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном худо-
жественном творчестве // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
С. 12.
2 Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении // Бахтин М. М. Те-
тралогия. М., 1998. С. 252. Впервые книга вышла в Ленинграде в 1928 г. Об ее ав-
торстве см.: Медведев Ю. П., Медведева Д. А. Павел Медведев, Михаил Бахтин,
Людвиг Флек и другие // Диалог, карнавал, хронотоп. М.: Языки славянской куль-
туры. 2003. № 1—2 (39—40). (Спец, выпуск: М. М. Бахтин в контексте мировой
культуры).
3 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9. М., 1962. С. 54.
188
в нагромождении мотивов, подсобным средством для классифика-
ции и упорядочения отдельных мотивов»1.
Поскольку, однако, изучение elocutio и в особенности dispositio
велось в контексте проблемы восприятия, оно — объективно —
углубляло и теорию образа. Прежде всего это относится к концеп-
ции «остранения», выдвинутой В. Б. Шкловским в 1920-е гг. Он объ-
яснял появление новых приемов в литературе «автоматизацией»
восприятия читателя: «Целью искусства является дать ощущение
вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является
прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, увели-
чивающий трудность и долготу восприятия...»1 2 Анализ примеров
«остранения» (рассказ от лица лошади в «Холстомере» Л. Толстого,
описание оперы в «Войне и мире» и др.) выявлял в тексте автора,
его оценку изображаемого.
Будучи наиболее категоричным поборником деидеологиза-
ции литературоведения, В. Б. Шкловский, по мнению Л. С. Вы-
готского, трактовал процесс восприятия с «сенсуалистической
односторонностью»3, абстрактно-психологически, почти не касаясь
идейных задач писателя (хотя обмолвки все же есть: о толстовском
описании «сечения» исследователь пишет как о способе «добирать-
ся до совести»4).
Именно Шкловский первым объявил искусство «приёмом», за-
менив традиционную понятийную пару: содержание / форма парой
материал / приём; при этом материал — словесный, сюжетный
(в его терминологии: фабульный) — служил мотивировкой приемов.
«Литературное произведение есть чистая форма — не вещь, не ма-
териал, а отношение материалов», — утверждал лидер ОПОЯЗа5.
«Как сделан “Дон Кихот”» (название главы в книге Шкловского
«О теории прозы», 1929), статья «Как сделана “Шинель» Гоголя”»
Б. М. Эйхенбаума — сами названия этих работ призывали к изуче-
нию приемов. В этом же ключе — название статьи В. В. Маяковско-
го «Как делать стихи» (1925), очень далекой от формализма.
Но среди формалистов и близких к ним исследователей не все
исключали содержание (часто отождествляемое с материалом)
из художественной «конструкции». Подчеркивалось и органиче-
ское единство произведения, неразложимое механически на что
(содержание) и как (форму). При подобном расщеплении, по иро-
ническим словам Жирмунского, «всплывает привычная метафора
1 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 182, 184, 199.
2 Шкловский В. Б. Искусство как прием // Шкловский В. Б. О теории прозы.
М., 1983. С. 15.
3 Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. С. 79.
4 Шкловский В. Б. Указ. соч. С. 16.
5 Шкловский В. Б. «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа // Сборники
по теории поэтического языка. Пг., 1921. Вып. 4. 4. 2. С. 4.
189
донаучного мышления: форма — это сосуд, в который вливается
жидкость-содержание, с уже готовыми неизменными свойствами,
или форма — одежда, в которую облекается тело, остающееся под
ее покровом таким, как прежде. Это ведет к пониманию формы,
как внешнего украшения, побрякушки, которая может быть, но мо-
жет и не быть, и вместе с тем — к изучению содержания как внеэ-
стетической реальности...»1 В том же духе высказывался Тынянов:
«Мы недавно еще изжили знаменитую аналогию: форма — содержа-
ние = стакан — вино»1 2.
Если соотнести эти суждения с практикой анализа произведе-
ния, становится очевидно, что их ведущая мысль — невозможность
содержания неоформленного и, следовательно, необходимость скру-
пулезного описания и анализа формы: поэтического языка, в его
отличии от практического; ритма, не совпадающего с метром; сю-
жета, отграничиваемого от его композиции и т. д. Так, в заверше-
ние своей систематизации приемов, выделенных в стихотворении
Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», Жирмунский пишет:
«То, что было только что сказано о языке поэтического произведе-
ния, относится всецело к его содержанию, к его поэтической тема-
тике. Точнее — в поэтическом произведении его тема не существует
отвлеченно, независимо от средства языкового выражения, а осу-
ществляется в слове и подчиняется тем же законам художествен-
ного построения, как и поэтическое слово»3. Собственно о смысле
(смыслах), заключенных в стихотворении, здесь ничего не сказано,
исследователю важно подчеркнуть главное для него: нет содержа-
ния неоформленного. Это совершенно верно, но звучит достаточно
тавтологично.
Много позднее Ю. М. Лотман доказывал необходимость «уров-
невого» изучения структуры поэтического текста: «Дуализм формы
и содержания должен быть заменен понятием идеи, реализующей
себя в адекватной структуре и не существующей вне этой структу-
ры. Измененная структура донесет до читателя или зрителя иную
идею. [...] Итак, стихотворение — сложно построенный смысл»4.
Однако, поднимаясь по лестнице «уровней»: фонетика — грамма-
тика — лексика, Ю. М. Лотман выходит за пределы этой структуры:
он объясняет выбор лексики «внетекстовыми связями — жанровы-
ми, общекультурными, биографическими контекстами»5, что, без-
условно, обогащает понимание стихотворений.
1 Жирмунский В. М. Задачи поэтики (1919) // Жирмунский В. М. Теория лите-
ратуры. Поэтика. Стилистика //Л.: Наука, 1978. С. 17.
2 Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю. Н. Литератур-
ный факт. М., 1993. С. 26.
3 Жирмунский В. М. Задачи поэтики. С. 27.
4 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л., 1972. С. 38.
5 Там же. С. 166.
190
•к 'к 'к
В понятийной паре: содержание / форма ведущее понятие — со-
держание. Чтобы уяснить функции данного понятия, полезно обра-
титься к его истории. Категорию содержание широко использовал
в своих трудах по философии и эстетике Гегель, и она напрямую
связана с его диалектической концепцией развития как единства
и борьбы противоположностей1. В художественном шедевре, по Ге-
гелю, противоположности «примиряются»: «Содержанием искусства
является идеал, а его формой — чувственное, образное воплощение.
Задачей искусства является опосредование этих двух сторон, соеди-
нение их в свободное, примиренное целое»1 2. Но искусство — лишь
одна из ступеней самопознания «абсолютной идеи», и шествие духа,
требующего для своей объективации все новых форм, остановить
невозможно. В будущем Гегель предвидел смерть искусства: «...его
форма перестала быть самой высшей потребностью духа»3. Панло-
гизм Гегеля, растворение им субъекта творчества в объективной,
всеобщей идее, тезис о грядущей гибели искусства многократно
оспаривались в эстетике4.
Однако понимание противоречия между содержанием и формой
как источника развития сохраняет свой огромный познавательный
потенциал. Такой подход многое объясняет и в произведении, если
рассматривать его как результат деятельности.
Как возникает произведение? Почему писатель — «сам свой
высший суд» — столь часто не удовлетворен сделанным? На каком
основании критики, литературоведы выносят вердикты: «бедность
содержания», или «отставание формы от содержания», или «форма-
лизм», «холодное мастерство» и т. п.? Конечно, соотношение пред-
намеренного и непреднамеренного, рационального и интуитивного
в творчестве может быть разным. По выражению Белинского, у ав-
тора «Обыкновенной истории» «ум уходит в талант, в творческую
фантазию», в то время как у автора «Кто виноват?» «талант и фан-
тазия ушли в ум»5. Есенин, для Горького, — «не столько человек,
1 В античной эстетике использовалась понятийная пара: форма /материя. Де-
тально разработал категорию формы Аристотель. В его учении форма (эйдос) близка
по значению к современному содержанию: она была активным началом, «выступа-
ла идеальным принципом, существующим вне материи. Накладываясь на материю,
форма придавала вещи ее конкретный облик. [...] Естественно, что так понимаемая
форма ассоциировалась и с сущностью вещи, и с ее идеей (Платон), и с понятием
общего» (Спиркин А. Г. Основы философии. М., 1988. С. 228). Смысл, который при-
дал форме Аристотель, удерживался «почти в течение двух тысячелетий» (там же).
2 Гегель Г В. Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 1. М., 1968. С. 75.
3 Там же. С. 107.
4 См.: Руднева Е. Г. Пафос художественного произведения (из истории пробле-
мы). М., 1977. С. 70—98.
5 Белинский В. Г. Письмо А. И. Герцену от 6 апр. 1846 г. // Поли. собр. соч.:
в 13 т. Т. 12. М., 1956. С. 271.
191
сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии»1.
Маяковский же создал одно из своих лучших стихотворений, «Сер-
гею Есенину», выполняя, как сам считал, «социальный заказ»1 2.
При всей вариативности и загадочности «рождения» произведе-
ния, здесь есть закономерности. Обобщая «разные практики», М. Ар-
наудов (исследователь психологии творчества) выделяет в создании
произведения две стадии: «замысел и развитие»3. И сколь рази-
тельно бы ни отличалось воплощение от замысла, какое бы время
их ни разделяло («.. .Минута — и стихи свободно потекут» — у Пуш-
кина; годы и даже десятилетия — у многих романистов), именно
замысел есть «ядро, проформа, из которой в дальнейшем выводится
целое произведение» (с. 435). Арнаудов подчеркивает нерассудоч-
ность, спонтанность и целостность замысла — «единства до частей»
(с. 462), нередко — до появления слов, сюжета. По словам Шиллера,
это «та смутная, но могучая общая целостная идея, которая предше-
ствует всему техническому»4. Ахматова писала о создании «Поэмы
без героя»: «...я сразу услышала и увидела ее всю, какая она сейчас
(кроме войны, разумеется), но понадобилось двадцать лет, чтобы
из первого наброска выросла вся поэма»5.
Возникновение и переживание замысла в воображении считал
самым ответственным этапом творчества Белинский, при этом
он разграничивал содержание (творческую концепцию) и сюжет
(содержание событий). «Обыкновенности» и даже «истертости» со-
бытий в лермонтовской «Бэле» и в «Отелло» Шекспира он противо-
поставлял выношенные авторами «живые образы» действующих
лиц: «Разве не было написано тысячи повестей, романов, драм, со-
держание которых — муж или любовник, убивающий из ревности
невинную жену иди любовницу? Но из всей этой тысячи только од-
ного «Отелло» знает мир и одному ему удивляется. Значит: содер-
жание не во внешней форме, не в сцеплении случайностей, а в за-
мысле художника, в тех образах, в тех тенях и переливах красот,
которые представлялись ему еще прежде, нежели он взялся за перо,
словом — в творческой концепции. Художественное создание долж-
но быть вполне готово в душе художника прежде, нежели он возь-
мется за перо: написать для него уже — второстепенный труд»6.
1 Горький А. Сергей Есенин // Собр. соч.: в 18 т. Т. 18. М., 1963. С. 306.
2 Маяковский В. В. Как делать стихи? // Поли. собр. соч.: в 13 т. Т. 12. М., 1959.
С. 87.
3 Арнаудов М. Психология литературного творчества / Пер. с болг. М., 1970.
С. 434. Далее страница указывается в тексте.
4 Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. Т. 7. М., 1957. С. 560.
5 Ахматова А. А. Проза о поэме // Ахматова А. А. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1990.
С. 251.
6 Белинский В. Г. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова // Поли,
собр. соч. Т. 4. С. 219.
192
Рождение замысла — «поэмы» — считал самым главным в твор-
честве Ф. М. Достоевский. Он писал А. Н. Майкову 15 (26) мая
1869 г.: «...поэма, по-моему, является как самородный драгоценный
камень, алмаз, в душе поэта, совсем готовый, во всей своей сущ-
ности, и вот это первое дело поэта как создателя и творца, первая
часть его творения. Если хотите, так даже не он и творец, а жизнь,
могучая сущность жизни, Бог живой и сущий <... > Затем уж следу-
ет второе дело поэта, уже не так глубокое и таинственное, а только
как художника: это, получив алмаз, обделать и оправить его. (Тут
поэт почти только что ювелир)»1.
Оценивая написанный текст, писатель может осознавать несо-
вершенство, неполноту воплощения дорогой ему идеи, замысла
(пусть еще неясного: идея конкретизируется, изменяется в процессе
творчества). Такая самокритика часто отравляла жизнь Достоевско-
му. Он наделил, по-видимому, сходными переживаниями любимого
героя, князя Мышкина, который признается: «Я всегда боюсь моим
смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею» («Иди-
от». Ч. 4, гл. VII). Сквозной мотив в письмах Достоевского — сомне-
ние не в идее (в ней он уверен), но в убедительности ее художествен-
ного воплощения: он не хочет «испортить мысль, которую три года
обдумывал» (М. М. Достоевскому, от 3 нояб. 1857 г.)1 2, не хочет «про-
фанировать, работая спешно и к сроку», свои «лучшие идеи, лучшие
планы повестей и романов» (М. Н. Каткову, от 11 янв. 1858 г.)3. Бо-
гатство замыслов его переполняет, но для их осуществления нужны
время и труд: «Ты явно смешиваешь вдохновение, то есть первое,
мгновенное создание картины или движения в душе (что всегда так
и делается), с работой» (М. М. Достоевскому, от 31 мая 1858 г.)4;
«.. .Всегда в голове и в душе у меня мелькает и дает себя чувствовать
много зачатий художественных мыслей. Но ведь только мелькает,
а нужно полное воплощение...» (А. Н. Майкову, от 31 дек. 1867 г.)5
Из двух актов творчества, разграничиваемых писателем, замы-
сел — главный не только потому, что предшествует воплощению:
живущая в сознании поэтическая идея, при неудовлетворитель-
ном художественном результате, требует от писателя новых жертв.
Так получилось у Достоевского с «Двойником» (1846), в котором
Белинский нашел, при глубине концепции, растянутость, «не-
умение слишком богатого силами таланта определять разумную
меру и границы художественному развитию задуманной им идеи»
и, в связи с мотивом сумасшествия героя, слишком «фантастиче-
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. 29. Кн. 1. Л.: Наука, 1986. С. 39.
2 Там же. Т. 28. Кн. 1. С. 288—289.
3 Там же. С. 296.
4 Тамже. С. 311.
5 Там же. Кн. 2. С. 239.
193
ский колорит»1. В 1861 г. сходные замечания высказал Добролюбов:
«бесконечный г. Голядкин»; «при хорошей обработке из г. Голядки-
на могло бы выйти не исключительное, странное существо, а тип,
многие черты которого нашлись бы во многих из нас»1 2. Но неуда-
ча с «Двойником» не изменила отношения Достоевского к типу Го-
лядкина: «Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип,
по своей социальной важности, который я первый открыл и которо-
го я был провозвестником?» (М. М. Достоевскому, от 1 окт. 1859 г.)3.
И хотя писатель так и не создал новой редакции повести (он только
сильно сократил текст), его концепция двойничества развивалась,
она вошла в замыслы, нашедшие свое воплощение во всех его фило-
софских романах.
•к 'к 'к
Идеал творчества — гармония между «поэмой» и «художеством».
Но это — идеал, достигаемый далеко не всегда даже несомненны-
ми талантами. С конца XVIII — начала XIX вв. в литературоведении
слово стиль (лат. stylus, от греч. stylos — первоначально: палочка
для письма) стало термином, обозначающим особенности не толь-
ко речи, но всей художественной формы произведения (своеобразие
его мира, композиции, стилистики).
Соответствие стиля содержанию — условие художественности.
Для характеристики стиля используется понятие стилевой доми-
нанты. А. Б. Есин убедительно пишет о выборе писателем тех или
иных доминант, определяющих оригинальность формы. Так, в изо-
бражении мира произведения могут преобладать описателъностъ
(«Старосветские помещики» Н. В. Гоголя), сюжетность («Очаро-
ванный странник» Н. С. Лескова), психологизм («Герой нашего вре-
мени» М. Ю. Лермонтова); возможно и сочетание двух доминант
(сюжетность и психологизм в романах Ф. М. Достоевского)4. Резко
различаются между собой произведения, миры которых жизнепо-
добны или фантастичны. «В области художественной речи можно
выделить три пары стилевых доминант: стих и прозу; номинатив-
ностъ и риторичность; монологизм и разноречие»5. Еще более ши-
рокие возможности выбора открываются перед писателем, когда
он обдумывает композицию произведения, его объем.
Понятие стиля применяется не только к отдельным произведе-
ниям, но и к литературным направлениям, к тем или иным этапам
1 Белинский В. Г. Русская литература в 1846 году // Поли. собр. соч.: в 13 т.
Т. 10. С. 40—41.
2 Добролюбов Н. А. Забитые люди // Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. М., 1987. С. 557.
3 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 240.
4 Есин А. Б. Стиль // Введение в литературоведение / под ред. Л. В. Чернец. М.:
Академия, 2012. С. 522.
5 Там же. С. 523.
194
традиционалистской литературы разных народов и ее жанрам и пр.
Здесь дано лишь предварительное определение стиля1.
«
Соотнося размышления Достоевского о двух актах творчества
с теориями некоторых русских философов конца XIX — начала XX в.
(В. С. Соловьев, Д. Л. Андреев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк), В. И. Фатю-
щенко подчеркивает в личности писателя, условно говоря, доминиро-
вание поэта или художника. Поэты, в понимании названных филосо-
фов, — прежде всего «пророки», «вестники» (таким для Д. Л. Андреева
был Блок). Их антиподы — художники, мастера, у которых нет своей,
особой идеи: «Во все века это происходило, и иногда целые эпохи, утра-
тив поэтическую сущность, основывались на мастерстве и прославля-
лись у потомков как искусные художники. Правда, те из ценителей,
которые понимали, в чем суть творчества, не заменимая никаким
мастерством, указывали на вторичность и бездушность их искусства,
но в целом мастера добивались того, чего хотели»1 2.
Содержание, которое несет «пророчество», или «вестничество»,
или, как любил говорить А. А. Григорьев (а вслед за ним Н. Н. Стра-
хов, Ф. М. Достоевский), «новое слово», можно толковать по-
разному. Но несомненно, что произведения, заключающие в себе
«пророчество», представляющие собой «новое слово», занимают
верхнюю планку в аксиологической шкале литературы.
Разнокачественность литературных явлений, множественность
вариантов, покрываемых общей формулировкой «несоответствие
или неполное соответствие между содержанием и формой», откры-
вается при сравнении произведений, при изучении литературного
процесса. Ведь в литературе есть «пролагатели торной дороги, где
шаги мои были легки» (Б. Слуцкий. «Умирают мои старики...»),
и откровенные подражатели, падкие на литературную моду. Само
по себе соответствие содержания и формы — не единственное до-
стоинство произведения, что особенно очевидно в переходные эпо-
хи: «Горе от ума» Грибоедова, в котором сохранились реликты кано-
нов классицизма (единство времени, места, «говорящие» фамилии
и др.), уступает в выдержанности стиля комедии Фонвизина «Недо-
росль», а «Фелица» Державина — одам Ломоносова.
1 Назовем некоторые важнейшие работы о стиле: Вёлъфлин Г. Основные по-
нятия истории искусства. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / пер.
с нем. М.; СПб., 1994; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков.
Эпохи и стили. Л., 1973; Соколов А. Н. Теория стиля. М., 1968; Курилов В. В. Основ-
ные проблемы стиля // Вестник Моск, ун-та. Сер. 10. Филология. 1968. № 5; По-
спелов Г. Н. Проблемы литературного стиля; Лосев А. Ф. Проблема художественного
стиля. Киев, 1994.
2 Фатющенко В. И. Поэт и художник: случай и система // Художественная ли-
тература в социокультурном контексте. Поспеловские чтения. М., 1997. С. 50—51.
195
В той или иной степени в новаторском произведении всегда
встречаются «старое» и «новое», провоцируя недоумения публики
и критики. Но эстетические диссонансы, фиксируемые критиками,
в том числе критиками-писателями, в особенности чуткими по этой
части, могут свидетельствовать и о продуктивных противоречи-
ях и стимулировать творческий поиск. Чехов пишет М. Горькому
(22 окт. 1901 г.) о «Мещанах»: «...если начать с того, что говорит
о недостатках, то пока я заметил только один, недостаток непо-
правимый, как рыжие волосы у рыжего, — это консерватизм фор-
мы. Новых, оригинальных людей Вы заставляете петь новые песни
по нотам, имеющим подержанный вид, у Вас четыре акта, действу-
ющие лица читают нравоучения, чувствуется страх перед длинно-
тами и проч, и проч.»1. В следующей драме Горького «На дне» «кон-
серватизма формы» уже не было, чему, вероятно, помогла критика
Чехова. Отзыв о пьесе «На дне» (в письме Горькому, от 29 июля
1902 г.) Чехов начинает со слов: «Она нова и несомненно хороша»1 2.
Сравнивая две поэмы Блока, «Возмездие» и «Двенадцать», Ах-
матова отдала предпочтение второй из них потому, что эта поэма
не вмещается в рамки установленного жанра: «Отсюда же неудача
традиционного “Возмездия” Блока (Онегинская интонация в поэме
XX века невыносима. Думаю, что она невыносима и гораздо рань-
ше) и триумф не имеющего предшественников “Двенадцати”»3.
И сказано это автором четверостишия:
И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной...
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной. (1962)
Крайне остро дискутировался вопрос об отставании формы от со-
держания в советской литературе 1920-х годов, в связи со стрем-
лением ряда авторов, пишущих о революционном настоящем,
«учиться у классиков». Критик В. П. Полонский отметил в «широкой
психологической ткани» романа «Разгром» сильную зависимость
автора от Л. Толстого, и хотя «Толстой — хорошая школа», счел
это недостатком: «...то “новое”, носителем чего является А. А. Фа-
деев, не нашло в “Разгроме” соответствующего стилистического,
формального выражения. “Новое вино” влито в “старые мехи”»4.
Еще более строгими оказались критики, входившие в ЛЕФ («Левый
фронт искусств»): они обвинили Фадеева в использовании двух «са-
1 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. М.: Наука, 1981.
Т. 10. С. 95.
2 Там же. Т. 11. С. 12.
3 Ахматова А. А. Тайны ремесла. М., 1986. С. 132.
4 Полонский Вяч. А. Фадеев // Полонский Вяч. На литературные темы. Избран-
ные статьи. М., 1968. С. 359—360.
196
моучителей» — произведений не только Толстого, но и Чехова (при-
менение «чеховских словесных приемов», например, повтор слов:
ему казалось, почему-то, странным образом и пр.)1. Хотя жанры,
культивировавшиеся лефовцами: «литература документа», «факта»
(«Наш эпос — газета», — провозглашал С. Третьяков), «внесюжет-
ная проза», или «разроманивание материала» (В. Шкловский)1 2 —
вели от искусства к публицистике, сам пафос поиска новых форм
был естествен. И оригинальные формы рождались: например, ак-
центный стих Маяковского или сказ, расцвеченный характерной
фразеологией (В. В. Иванов, И. Э. Бабель, М. М. Зощенко).
В самой возможности «отставания» формы от содержания про-
является ее относительная самостоятельность. Она же объясняет
возвращение к старым приемам, их многократное использование
в литературе: «старые мехи» не выбрасывают. И Чехов, и Ахматова,
и Полонский в приведенных суждениях исходят из стойких ассоци-
аций: нравоучений и патетики — с «тенденциозной» драмой конца
XIX в. (рассказ Чехова «Драма» — пародия на нее); 4-стопного ямба
и «болтовни» повествователя — с классикой жанра, «Евгением Онеги-
ным»; приемов психологического анализа — с романами Л. Толстого
и Достоевского. Особенности формы стали знаками известных лите-
ратурных явлений, элементами кодов, владение которыми нужно для
понимания произведений прошлого; отсюда притча о «новом вине
в старых мехах». Однако семиотизация тех или иных приемов в лите-
ратуре не властна над их будущей судьбой; в новых художественных
контекстах они могут получить новое, неожиданное значение.
Вопросы
1. Расскажите об этимологии и современном значении слов «текст»,
«стиль». Что такое стилевая доминанта?
2. Inventio, elocutio, dispositio. Напомните перевод этих латинских слов
на русский язык. Поясните, как они соотносятся с современным определе-
нием задач, стоящих перед писателем.
3. Какие исследователи считали задачей анализа произведения опреде-
ление «приемов», применяемых писателем к «материалу»? Назовите автора
статьи, где демонстрируется прием «остранения» в прозе Л. Н. Толстого.
4. «.. .поэма, по-моему, является как самородный драгоценный камень,
алмаз, в душе поэта, совсем готовый, во всей своей сущности, и вот это
первое дело поэта как создателя и творца, первая часть его творения. <... >
Затем уж следует второе дело поэта, уже не так глубокое и таинственное,
а только как художника: это, получив алмаз, отделать и оправить его. (Тут
поэт почти что ювелир)». Какому русскому писателю принадлежит это
суждение? Согласны ли Вы с ним?
1 См.: Брик О. Разгром Фадеева; Тренин В. Интеллигентные партизаны // Ли-
тература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н. Ф. Чу-
жака. М., 2000. С. 93, 95, 100.
2 Литература факта. С. 31, 299, 233.
197
Глава 2
РАМКА
Рус.: рамка (рамочный текст); англ.: paratext; фр.: paratexte; нем.: Rdhmen
Text.
Рамочный текст и его компоненты, роль заглавия для читателя. — Пере-
клички между рамочным и основным текстом. — Имя автора, жанровый
подзаголовок. — Роль заглавий и оглавления в творческой истории произве-
дений. — Система внутренних заглавий в произведениях Ф. М. Достоевского.
Литературное произведение — это текст (лат.: textus — ткань,
сплетение), т. е. высказывание, зафиксированное как последова-
тельность языковых знаков. Различают основной и рамочный текст,
или рамку, которая всегда графически выделяет основной текст или
его часть (например, действие в драме или главу в романе). Рамоч-
ный текст представляет собой совокупность компонентов: имя или
псевдоним автора, заглавие, подзаголовок, эпиграф, посвящение,
деление на части (декупаж), а также авторские предисловия, при-
мечания и пр. Состав рамочного текста зависит от литературного
рода и жанра, к которому относится произведение, от националь-
ной традиции и, конечно, от авторского замысла.
В формировании установки восприятия читателя крайне важен
такой компонент рамочного текста, как заглавие: ведь оно сразу
может заинтересовать или, напротив, оттолкнуть потенциального
читателя. Заглавия могут быть дидактичными или загадочными,
длинными или предельно краткими, символическими или остро-
сюжетными, рассчитанными на детское, наивное восприятие или
на опытного библиофила.
Авторы обычно ответственно относятся к выбору заглавия.
О. Уайльд писал своему другу М. Бирбому (май 1897 г.) по поводу
заглавия его новой книги: «“Счастливый лицемер” — чудесная, за-
мечательная книга, хотя мне и не понравилась циническая прямота
заглавия. Название, которое дает автор своему труду, будь то сти-
хотворение или картина, — а ведь всякое произведение искусства
есть либо стихотворение, либо картина, а в лучших из них соче-
тается и то и другое, — есть отголосок греческого хора. Это един-
ственное место в произведении, где художник говорит от первого
198
лица, — так зачем же по собственной воле подхватывать прозвище,
данное толпой?»1
Заглавие, однако, не «единственный», хотя очень важный ком-
понент, входящий в рамочный текст, ставший в литературоведении
XX—XXI вв. предметом многих интересных исследований. В отече-
ственной филологии инициировал систематическое изучение этой
темы С. Д. Кржижановский в своих работах «Поэтика заглавия»
(1931), «Искусство эпиграфа (Пушкин)» (1937, опубл. 1989), «Пьеса
и ее заглавие» (1939, опубл. 2001) и др.1 2
В лирических стихотворениях роль заглавия часто выполняет
первая строка, «сообщающая» и о стихотворном размере, поэто-
му она не сокращается в оглавлении, например: «Тоска по родине!
Давно...» (М. И. Цветаева). Лирические же циклы и книги стихов
обычно озаглавлены, и заглавие подчеркивает внутреннее единство
целого: «Сумерки» Е. А. Баратынского, «Борьба» Ап. Григорьева,
«Вечерние огни» А. А. Фета, «Стихи о Прекрасной Даме», «Страш-
ный мир» А. А. Блока, «Персидские мотивы» С. А. Есенина.
Вместе с именем (псевдонимом) автора, подзаголовком (обычно
указывающим на жанр), а также с такими возможными компонен-
тами рамочного текста, как эпиграф (иногда несколько эпиграфов),
посвящение, заглавие произведения образует заголовочный комплекс,
порождающий определенные ожидания у читателя3. Например:
Н. С. Лесков.
Леди Макбет Мценского уезда
Очерк
Первую песенку зардевшись спеть.
Поговорка
Автор как бы приглашает читателей сравнить русскую купчиху
из Мценского уезда (жанровый подзаголовок указывает на достовер-
ность событий) с шекспировской героиней: соизмеримы как сила
1 Уайльд О. Письма. СПб.: Азбука, 2012. С. 243.
2 См.: Кржижановский С. Д. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4 / Сост., подгот. текста, ком-
мент. В. Г. Перельмутера. СПб.: Symposium, 2006. Если после названия работы уче-
ного в скобках даны две даты, первая означает год ее написания. О Кржижановском
как литературоведе см.: Русские литературоведы XX века. Биобиблиографический
словарь / Под общей ред. О. А. Клинга и А. А. Холикова. М. — СПб., 2017. С. 422—
423; Чернец Л. В. Сигизмунд Кржижановский как теоретик литературы. // Вести.
Санкт-Петербургского гос. ун-та технологии и дизайна. Сер. 2: Искусствоведение.
Филологические науки. 2016. № 4; и др.
3 См.: Кабыкина Ю. В. Рамочные компоненты в композиции художественного
текста (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная
литература. Сер. 7. Литературоведение. Реферативный журнал. ИНИОН РАН. М.,
2007. № 2. С. 72—85.
199
их страстей, так и тяжесть злодеяний. Однако эпиграф вводит мотив
первой любви, отсутствующий в трагедии «Макбет». Катерина Измай-
лова идет на преступления ради любви, не рассуждающей и слепой,
в отличие от леди Макбет, которой движет исключительно властолю-
бие. Конечно, чтобы сравнить героинь, нужно прочесть тексты полно-
стью. И в свете прочитанного становится очевидной функция заголо-
вочного комплекса как своего рода авторской «подсказки» читателю.
«
Часто заглавие повторяется в основном тексте. Например, окон-
чательное заглавие первой большой пьесы А. Н. Островского «Свои
люди — сочтемся! Комедия в четырех действиях» (1850) намечает
мотив счета, а точнее — обсчета, обмана. Заглавие перекликается
с концовкой, с обращением Подхалюзина к публике:
«А вот мы магазинчик открываем: милости просим! Малого ребенка при-
шлете — в луковице не обочтем».
Этому последнему в комедии «пению Лазаря» предшествует ряд
его посулов-обманов. В четвертом действии только одна «Алимпияда
Самсоновна» довольна Подхалюзиным. Выпущенный же из «ямы»
Большов называет зятя «подлецом... бесчувственным», поскольку
тому жалко денег, необходимых для удовлетворения кредиторов
и освобождения «тятеньки». Сваха, расстроившая свадьбу Липоч-
ки с «благородным», сильно обижена Подхалюзиным при расчете:
вместо обещанных двух тысяч да шубы «из живых соболей» она
получила всего сотню целковых. Стряпчий, сумевший «подсмолить
механику» банкротства в пользу приказчика, тоже не получил дого-
ворных двух тысяч. Таким образом, «свои люди» не сошлись.
В рамочный текст могут входить также внутреннее оглавление,
авторские предисловие, послесловие, примечания, указание наместо
и время написания произведения. Если текст четко делится на ча-
сти, например на главы, акты (действия в драме), то каждая часть
может быть заключена в свою рамку. Так, у Пушкина в «Евгении
Онегине» все восемь глав предварены эпиграфами, в «Капитанской
дочке» все главы имеют названия и эпиграфы, озаглавлены все двад-
цать три сцены «Бориса Годунова» (везде указано место действия:
«Кремлевские палаты», «Красная площадь», «Девичье поле. Новоде-
вичий монастырь» — в пику классицистическому требованию един-
ства места). В драме отсутствие повествователя компенсируется до-
полнительными компонентами рамочного текста: здесь есть список
действующих лиц, авторские ремарки — как общего характера, так
и сопутствующие репликам персонажей (даны в скобках)1.
1 См.: Кабыкина Ю. В. О рамочном тексте в пьесе А. П. Чехова «Чайка» // Фило-
логическая наука в XXI веке: взгляд молодых. М. — Ярославль, 2005. С. 84—89.
200
В целом рамочный текст — традиционная зона автора. Ее мож-
но рассматривать как прямое, поверх мира героев, обращение ав-
тора к адресату, как авторский метатекст, поясняющий основной
текст, выделяющий в нем главное. С. Д. Кржижановский подчерки-
вает особую роль заголовочного комплекса произведения, побуж-
дающую авторов к тщательному отбору слов: «книжная речь, лако-
низирующая фразеологию жизни, дающая её в отжиме, достигает
этого путем логического и художественного отбора. Таким образом,
технике озаглавливания приходится иметь дело не с словесным
сырьем, а с художественно переработанным материалом: прошед-
шее сквозь более крупное сито текста должно еще раз процедиться
сквозь заглавный лист. Ясно: такого рода искусство, направленное
на искусство, дохудожествление художества требует большого изо-
щрения и сложного мастерства»1.
‘V -л- -л-
Для читателя в заголовочный комплекс входит и имя (псевдо-
ним') писателя, которое, «по мере забирания им известности, пре-
вращается из собственного в нарицательное, тем самым участвуя
в нарицании, т. е. назывании книги...»1 2 Одно и то же название —
«Кавказский пленник» — имеют поэмы Пушкина, Лермонтова,
«быль» Л. Толстого; таких случаев немало. Нередко писатели ис-
пользуют псевдонимы, желая подчеркнуть какую-то сторону своего
творчества: Федр (гр.: веселый; настоящее имя первого римского
баснописца точно не известно), Фирдоуси (перс.: райский; подлин-
ное имя — Абулькасем из Туса), Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), Саша
Черный (А. М. Гликберг), Игорь Северянин (И. В. Лотарев), Максим
Горький (А. М. Пешков), Демьян Бедный (Е. А. Придворов). Если
традиционно в русской литературе наиболее частой причиной ис-
пользования псевдонима, в особенности писательницами, было
стремление скрыть свое имя, то в начале XX века «защитный цвет
его меняется на цвет сигнальный»3.
Имя известного писателя отсылает к его предшествующему твор-
честву, иногда к фактам биографии (например, «Записки из Мертво-
го дома» Ф. М. Достоевского); обозначение жанра (в подзаголовке)
указывает на литературную традицию. Слова: комедия, идиллия,
плутовской роман, антиутопия и т. п. — возбуждают в подготов-
ленном читателе комплекс литературных ассоциаций, а спорное
авторское жанровое наименование нередко задает направление
интерпретации: почему пушкинский «Медный всадник» — петер-
бургская повесть, а «Двойник» Достоевского — петербургская по-
эма?
1 Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий. С. 24.
2 Там же. С. 8.
3 Там же. С. 19.
201
Два компонента заглавия: имя (псевдоним) автора и жанровый
подзаголовок — выводят за пределы данного произведения. На-
звание как будто относится только к нему (если отвлечься от од-
ноименных): «Красное и черное», «Доктор Живаго». Но это верно
лишь отчасти: ведь сам тип заглавия, его стилистика могут быть
знаком национальной культуры, исторического времени, жанра, ли-
тературного направления. Так, многие произведения классицизма
имеют заглавия, обнажающие дидактическую цель автора: сатира
А. Д. Кантемира «На зависть и гордость дворян злонравных. Фила-
рет и Евгений», комедия В. И. Лукина «Мот, любовью исправлен-
ный», роман А. Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия
дурного воспитания и сообщества» (фамилия героя, которую чита-
тель узнает в основном тексте, — Негодяев). Особую группу состав-
ляют названия, содержащие реминисценции, цитаты, аллюзии: так,
роман «Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо своим названием напоминает
о грустной истории философа Пьера Абеляра и его возлюбленной
Элоизы, о «Письмах Элоизы и Абеляра» (XII в.).
Многовековая традиция внешнего оформления текста подчерки-
вает ответственную роль заглавия в организации восприятия чи-
тателя. И при рукописании, и после изобретения книгопечатания
И. Гутенбергом в середине XV в. (в России первая книга, «Апостол»,
издана в 1654 г. Иваном Федоровым) заглавие графически всегда
выделялось. Прослеживается тенденция к сокращению длинных за-
главий-аннотаций. Например, роман С. Ричардсона, известный сей-
час под названием «Кларисса» (входивший в круг чтения Татьяны
Лариной), полностью назывался так: «Кларисса, или История юной
барышни, охватывающая важнейшие вопросы частной жизни и по-
казывающая, в особенности, бедствия, проистекающие из дурного
поведения как родителей, так и детей в отношении к браку» (1748).
-л- -л-
Заглавие мобилизует литературный опыт читателя и подготавли-
вает к встрече с основным текстом. Поэтому очень важно найти
удачный вариант заглавия. Изучая творческую историю произве-
дения, можно убедиться, как смена вариантов заглавия отражает
формирование авторской концепции. Например, одна из лучших
пьес Островского сначала называлась «Жертва века», затем — «По-
печители», в итоге же получила заглавие «Последняя жертва». Со-
ответственно, в центре внимания были разные персонажи: сначала
Дульчин, затем — Прибытков и Дульчин, в окончательном тексте —
Юлия Тугина. «Подросток» Ф. М. Достоевского в начале работы имел
название «Беспорядок»; окончательное заглавие выделяет главного
героя и напоминает о традиции романа воспитания.
Творческая история многих произведений большой формы, пре-
жде всего романов, показывает, что авторы, продумывая компози-
202
цию, дают намечаемым главам названия, которые могут и не пе-
рейти в окончательный текст. Так, в архиве Л. Н. Толстого сохранилась
наборная рукопись первой части «Анны Карениной», где первые гла-
вы имели следующие названия: «Семейная ссора», «Два приятеля»,
«Предложение», «Встреча на железной дороге», «Примирительница»,
«Бал», «Деревня», «Ночь в вагоне». Однако «в окончательном тексте
все заглавия были отброшены»1. Такие предварительные названия
можно уподобить «строительным лесам»: с ними удобнее строить
здание романа, но по завершении работы их убирают.
Если же внутренние заглавия входят в канонический текст про-
изведения (как в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина, в трило-
гии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», в «Мастере
и Маргарите» М. А. Булгакова), они становятся своего рода прожек-
торами, освещающими читателю путь по страницам книги. Ведь
название части сочинения можно рассматривать (подобно загла-
вию всего произведения) как своего рода «подсказку» читателю,
как совет, на что следует обратить основное внимание. А поскольку
внутренние заглавия соотнесены друг с другом и образуют систе-
му, они позволяют уверенно судить о критериях их отбора автором.
Посторонние вмешательства (например, редакторские, цензурные)
здесь случаются реже, чем при просмотре общих заглавий. Напри-
мер, «Детство» Толстого было напечатано в «Современнике» (1852,
№ 9) под заглавием «История моего детства», что возмутило автора:
ведь он писал «роман», а не мемуары. «Кому какое дело до истории
моего детства?»1 2 — недоумевал он. Но замысел писателя расска-
зать о детстве как поре жизни, отмеченной «теплотой и верностью
чувства»3, передан в произведении, особенно в пятнадцатой главе
под названием «Детство», где рассказ о событиях в жизни малень-
кого Николеньки уступает место лирическим размышлениям взрос-
лого рассказчика: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора
детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? <...>
Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность
любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве?»4 Эта глава —
ключевая для понимания творческой концепции, и в последующих
частях трилогии ей соответствуют главы с аналогичными названи-
ями — «Отрочество» и «Юность».
Оглавление, в котором части произведения имеют названия,
издавна служило в повествовательных жанрах своего рода сюжет-
но-тематическим указателем, с помощью которого нужную часть
1 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 г.
М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 925.
2 Письмо Н. А. Некрасову от 18 ноября 1852 г. (не отправленное) // Тол-
стой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит. 1984. Т. 17—18. С. 358.
3 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: в 90 т. М., 1928—1958. Т. 2. С. 243.
4 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 1. С. 52—54.
203
было легко найти. Например, ранний анонимный испанский роман
«Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» (1554)
делится на части: «Рассказ первый. Ласаро повествует о своей жиз-
ни и о том, чей он сын»; «Рассказ второй. Как Ласаро устроился
у священника и что с ним случилось»; «Рассказ третий. Как Ласаро
устроился у дворянина и что с ним случилось», «Как Ласаро устро-
ился у монаха ордена Милости и что с ним случилось»1 и т. д. Ис-
следователи допускают, что «разделение повести на главы-рассказы
(tratatos), и развернутые названия глав <...> принадлежат не ав-
тору “Ласарильо”, а его добровольным “редакторам” и издателям»1 2.
Но это предположение лишь подчеркивает традиционность подоб-
ного оформления плутовского романа.
Оглавление всегда помогает ориентироваться в сюжете произве-
дения (в особенности это заметно в детской, приключенческой ли-
тературе), но данная его функция далеко не единственная. В лите-
ратуре последних столетий система внутренних заглавий отражает
индивидуальную поэтику автора и одновременно — усложнившуюся
поэтику повествовательных жанров, где события — лишь часть изо-
бражаемого потока жизни.
‘V -л- -л-
Достоевский снабдил оглавлением, расцвеченным названиями
частей, целый ряд своих художественных произведений: «Белые
ночи. Сентиментальный роман. (Из воспоминаний мечтателя»)
(1848), «Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвест-
ного» (1859), «Записки из Мертвого дома» (1861), «Зимние замет-
ки о летних впечатлениях» (1863), «Записки из подполья. Повесть»
(1864), «Вечный муж. Рассказ» (1870), «Бесы. Роман в трех частях»
(1871—1872), а также вошедшие в «Дневник писателя» рассказ
«Мальчик у Христа на елке» (1876) и «Кроткая. Фантастический
рассказ» (1876). Таким образом, оглавление в своем последнем
большом произведении «Братья Карамазовы. Роман в четырех ча-
стях с эпилогом» (1879—1880) он составлял, имея огромный опыт.
Умение писателя отразить творческую концепцию в рамочном
мини-тексте ярко проявилось уже в «Белых ночах», где к «семи сло-
вам названия романа», дающим «как бы семь ключиков к его ху-
дожественной тайне»3, следует присовокупить девять слов, из кото-
рых состоят названия пяти глав. Вот эти названия: «Ночь первая»,
«Ночь вторая», «Ночь третья», «Ночь четвертая», «Утро». Вырази-
тельны переход от четырех «ночей» (ночь — ключевое слово в ро-
мантическом лексиконе) к унылому «утру», а также графическое
1 См.: Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения / Пер. К. Дер-
жавина // Плутовской роман. М.: Худож. лит., 1975.
2 Еремина С. Примечания // Плутовской роман. С. 504.
3 Манн Ю. В. «Боль о человеке» // Достоевский Ф. М. Белые ночи. М., 1986. С. 5.
204
выделение во второй главе «Истории Настеньки» — при отсутствии
хоть какой-либо «истории» у безымянного и одинокого героя-меч-
тателя, разговаривающего с домами и деревьями. Хотя Настенька
тоже называет себя «мечтателем», она «сумела достаточно разумно
и практично распорядиться своей судьбой...»1 Безнадежный мечта-
тель, по собственному опыту знающий, что «и мечты выживаются»
(2: 119)1 2, в романе только один: только для него наступило хмурое
«утро», для Настеньки же продолжается романтическая «ночь».
Достоевский строил систему заглавий, где важны повторы, кон-
трасты, градация, вообще разного рода указания на связи между
частями целого. В «Записках из подполья» две части: «Подпо-
лье» и «По поводу мокрого снега». Если первое заглавие намекает
на уединение героя, вынашивающего в замкнутом пространстве
свои недобрые мысли, то второе вводит пейзаж и, следовательно,
подразумевает выход героя из добровольного заточения к другим
людям. Писатель считал невозможным печатать отдельно первую
часть, поскольку ее продолжение (повесть сначала была задумана
в трех частях) — это скорее спор с мыслями «подпольного чело-
века», чем их подтверждение. Он писал М. М. Достоевскому (13—
14 апр. 1864): «Ты понимаешь, что такое переход в музыке. Точно
так и тут. В 1-й главе, по-видимому, болтовня; но вдруг эта болтов-
ня в последних двух главах разрешается неожиданной катастрофой»
(28, 2: 85).
В больших романах писателя много персонажей и сюжетных ли-
ний. Тем важнее был для Достоевского продуманный план всего со-
чинения, композиция — и система заглавий, которая ее отражает.
«Братья Карамазовы» — самый объемный роман писателя. В нем че-
тыре части (они не имеют названий), каждая из них состоит из трех
книг, те, в свою очередь, делятся на главы (от трех до шестнадцати),
в шестой книге, кроме глав, есть еще девять подглавок, завершается
роман «Эпилогом» из трех глав. Все книги, главы и подглавки име-
ют названия. Общее число заглавий, включая название всего рома-
на, — сто восемнадцать.
Свой последний роман Достоевский писал в спокойной обстанов-
ке и тщательно отделывал (как и первое свое произведение — «Бед-
ные люди»). Делению огромного текста на относительно цельные
части и соблюдению пропорций он придавал большое значение,
что видно из его писем к Н. А. Любимову, соредактору М. Н. Катко-
ва по «Русскому вестнику» (где печатался роман): «Во всяком слу-
чае, все, что будет теперь следовать далее, будет иметь, для каждой
1 Дубинская О. Б. Автор и герой в романе Ф. М. Достоевского «Белые ночи» //
Русский язык и литература для школьников. 2010. № 2. С. 22.
2 Все цитаты из текстов Достоевского приводятся, с указанием тома, книги
(если том разделен на книги) и страницы, по изд.: Достоевский Ф. М. Поли. собр.
соч.: в 30 т. Л., 1972—1990.
205
книжки, как бы законченный характер. То есть как бы ни был мал
или велик отрывок, но он будет заключать в себе нечто целое и за-
конченное» (30 апр. 1879); «Во всех трех частях будет... по три книги
и почти по ровному числу печатных листов» (16 ноября 1879); «Ро-
ман мой “Братья Карамазовы” я пишу книгами» (12 дек. 1879) (30,
1: 60, 131, 134).
Названия двадцати книг (а писатель мыслил преимущественно
«книгами») почти поровну делятся на персонажные и сюжетные.
Шесть названий выделяют либо отдельных героев, либо их группы:
«Сладострастники», «Русский инок», «Алеша», «Митя», «Мальчики»,
«Брат Иван Федорович». Трем братьям отведены отдельные книги,
каждый из них — особенная личность, но все они — Карамазовы,
«сладострастники» (это заглавие третьей книги дублируется в од-
ной из ее глав — девятой). Введение книг «Русский инок» и «Маль-
чики» подчеркивает важность мотива детства, воспитания, настав-
ничества: Зосима — руководитель Алеши, Алеша наставляет Колю
Красоткина, тот, в свою очередь, опекает «детвору» и «школьника»,
т. е. мальчика Смурова (так названы главы в десятой книге)1. От-
сутствие отдельной книги о Смердякове, возможно, намекает, что
главный виновник убийства — не фактический его исполнитель,
но «теоретик» Иван.
Пять книг имеют сюжетные заглавия: «История одной семейки»,
«Неуместное собрание», «Надрывы», «Предварительное следствие»,
«Судебная ошибка». В заглавиях выделены важнейшие узлы сюже-
та, в которых заняты многие персонажи. Сюжетные заглавия ука-
зывают на продолжительность действия, охват времени. «История
одной семейки» — это рассказ о двух браках и трех детях Федора
Павловича, т. е. о событиях, заполнивших два десятилетия до нача-
ла основного действия, рассказ по неизбежности краткий, «преди-
словный»: «Вот про этого-то Алексея мне всего труднее говорить те-
перешним моим предисловным рассказом, прежде чем вывести его
на сцену в романе» (14: 17). События же второй книги «Неуместное
собрание» (вместе с действием третьей книги «Сладострастники»)
происходят в течение одного дня, это не рассказ, а показ, «сцена»,
где преобладает диалог. А далее «крупный план» опять сменяется
«общим»: нужно дать предыстории героев, для чего используется
рассказ-сообщение (главы «В лакейской», «Лизавета Смердящая»).
На фоне персонажных и сюжетных названий книг выделяется
проблемное — «Pro и contra». Так названа пятая книга, центральная
для раскрытия творческой концепции (в нее входят главы «Бунт»,
«Великий инквизитор»); ответом на нее писатель считал следую-
щую, шестую книгу «Русский инок».
1 См.: Парышева И. А. Мотивы детства и наставничества в романе Ф. М. Досто-
евского «Братья Карамазовы» // Русская словесность. 2010. № 3.
206
В последовательности книг выразительны переходы, контрасты
разного рода: от краткого рассказа о прошлом («История одной се-
мейки») — к детальному изображению настоящего в форме «сцен»
(«Неуместное собрание»); от обоснования Иваном его атеистиче-
ских воззрений («Pro и contra») — к «Русскому иноку»; от статики
этих двух книг, где действие романа стоит на месте, а также от мед-
лительного темпа книги «Алеша» — к сюжетной динамике, стре-
мительным перемещениям Мити в пространстве (книга «Митя»);
от счастья, остро переживаемого Митей в конце этой книги (глава
«Бред»), — к его несчастью («Предварительное следствие»); от рас-
сказа о «семейке», т. е. о псевдо семье, в первой книге — к теме ду-
ховного родства и истинного наставника («Русский инок», «Маль-
чики»).
В письмах Достоевского в период его работы над романом вы-
делена кульминация конфликта и роль антитезы в композиции.
Он пишет К. П. Победоносцеву 24 авг. 1879 (по прочтении послед-
ним книги «Pro и contra»): «Мнение Ваше о прочитанном в «Карама-
зовых» мне очень польстило (насчет силы и энергии написанного),
но Вы тут же задаете необходимейший вопрос: что ответу на все эти
атеистические положения у меня пока не оказалось, а их надо. То-
то и есть и в этом-то теперь моя забота и все мое беспокойство. Ибо
ответом на всю эту отрицательную сторону я и предположил быть
вот этой 6-й книге, «Русский инок», которая появится 31 августа.
А потому и трепещу за нее в том смысле: будет ли она достаточ-
ным ответом. Тем более, что ответ-то ведь не прямой, не на положе-
ния прежде выраженные (в «В<еликом> инквизиторе» и прежде)
по пунктам, а лишь косвенный» (30, 1: 121—122).
Названия глав и подглавок (всего их сто пять) последовательно
вводят новые лица, преимущественно второстепенные («Верующие
бабы», «Маловерная дама», «Семинарист-карьерист», «Кузьма Сам-
сонов», «Коля Красоткин» и др.), указывают на развитие действия
(«Скандал», «Обе вместе», «Связался со школьниками», «Увезли
Митю», «Похороны Плюшечки. Речь у камня» и др.), а также на ме-
сто событий («В лакейской», «У отца», «У Хохлаковых», «У Илюши-
ной постельки», «У Грушеньки» и др.); можно выделить и другие
типы. Развитие того или иного мотива подчеркнуто утроением,
смысловой рифмой заглавий: «Исповедь горячего сердца. В сти-
хах», «Исповедь горячего сердца. В анекдотах», «Исповедь горяче-
го сердца. “Вверх пятами”»; «Надрыв в гостиной», «Надрыв в избе»,
«И на чистом воздухе»; «Хождение души по мытарствам. Мытарство
первое», «Мытарство второе», «Третье мытарство»; «Первое свида-
ние со Смердяковым», «Второй визит к Смердякову», «Третье, и по-
следнее, свидание со Смердяковым».
Но, вероятно, наиболее заметная особенность названий глав
и подглавок — частое включение в них характерных слов и выра-
207
жений персонажей или буквальное цитирование их высказываний.
По отношению к обозначенной выше типологии заглавий их цитат-
ность — признак перекрестный, дополнительный: аллюзийными
могут быть и персонажные, и сюжетные заголовки. Так, название
«Старый шут» предваряет самохарактеристику Федора Павловича:
«Вы видите пред собою шута, шута воистину! Так и рекомендуюсь»
(14: 38), «Я шут коренной, с рождения...» (14: 39); название «Сам
еду!» перекликается со словами Мити, летящего к Грушеньке в Мо-
крое: «Я еду! Сам еду! — исступленно восклицал Митя» (14: 372).
Такие повторы, переклички вносят в заглавия экспрессию, эмоци-
ональность. Нельзя сказать, что заглавия-цитаты создают конкрет-
ный горизонт ожидания, они скорее интригуют читателя, побуждая
его к дальнейшему чтению. Иначе говоря, их цепочка вспыхивает,
как гирлянда электрических лампочек, лишь при взаимодействии
с основным текстом.
Внутренних заглавий — цитат из высказываний персонажей —
в «Братьях Карамазовых» очень много. Приведем характерные при-
меры таких заглавий (они выделены курсивом) — с отсылками к ос-
новному тексту произведения:
«Буди, буди'.» (часть 1, кн. 2, гл. 5) — слова отца Паисия, повто-
ренные отцом Зосимой, о перерождении государства в церковь (14:
58, 61).
«Зачем живет такой человек'.» (ч. 1, кн. 2, гл. 6) — восклицание
оскорбленного отцом Дмитрия Карамазова, произнесенное в мона-
шеской келье в присутствии отца Зосимы и других монахов (14: 69).
«Исповедь горячего сердца. “Вверх пятами”» (ч. 1, кн. 3, гл. 5) —
слова «вверх пятами» принадлежат Мите, исповедующемуся перед
Алешей: «Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо,
головой вниз и вверх пятами...» (14: 99).
«Еще одна погибшая репутация» (ч. 1, кн. 3, гл. 11) — неточная
цитата из письма Лизы Хохлаковой к Алеше: «Теперь тайна моей,
погибшей навеки, может быть, репутации в ваших руках» (14: 147).
«Связался со школьниками» (ч. 2, кн. 1, гл. 3) — парафраза ре-
плики Лизы, отчитывающей Алешу за его вмешательство в драку
школьников: «Ну можно ли, можно ли вам, да еще в этом платье,
связываться с мальчишками!» (14: 166).
«Надрыв в гостиной» (ч. 2, кн. 4, гл. 5) — словом «надрыв» (оно
также является названием всей четвертой книги) охарактеризова-
ла Хохлакова выяснение отношений между Катериной Ивановной
и Иваном: «...это, я вам скажу, надрыв, это ужасная сказка, которой
поверить ни за что нельзя: оба губят себя неизвестно для чего, сами
знают про это и сами наслаждаются этим» (14: 165).
«Бунт» (ч. 2, кн. 5, гл. 4) — так ответил Алеша Ивану, возвраща-
ющему свой «билет» Богу: «Это бунт, — тихо и потупившись про-
говорил Алеша» (14: 223).
208
«Великий инквизитор» (ч. 2, кн. 5, гл. 5) — заглавие поэмы Ивана
(14: 224).
«С умным человеком и поговорить любопытно» (ч. 2, кн. 5,
гл. 7) — слова Смердякова, сказанные Ивану перед отъездом того
в Чермашню (14: 254). Об их зловещем подтексте думает Иван
по дороге: «...что он этим хотел сказать? — вдруг так и захватило
ему дух» (14: 255).
«Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зоси-
мы, составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Кара-
мазовым» (ч. 2, кн. 6, гл. 2) — название, как и почти все другие
в книге «Русский инок», представляет собой стилизацию богослов-
ских текстов, т. е. сохранен стиль речи отца Зосимы.
«Такая минутка» (ч. 3, кн. 7, гл. 2) — выражение Ракитина, зло-
радствующего по поводу «поспешного тления» тела Зосимы и веду-
щего Алешу к Грушеньке (14: 310); о «такой минуте» в этой же гла-
ве говорит и Грушенька, думающая о своем: она ждет эстафету
из Мокрого (14: 323).
«Луковка» (ч. 3, кн. 7, гл. 3) — т. е. притча о луковке, которую рас-
сказывает Грушенька (14: 318—319); Алеша пользуется той же сим-
воликой, отвечая на ее сердечную исповедь: «...луковку я тебе по-
дал, одну самую малую луковку, только, только!..» (14: 323).
«Золотые прииски» (ч. 3, кн. 8, гл. 3) — слова Хохлаковой, пред-
ложившей Мите вместо трех тысяч, которые он у нее просит взай-
мы, отправиться на «золотые прииски», где наживет «миллионы»
(14: 348).
«Показание свидетелей. Дитё» (ч. 3, кн. 9, гл. 8) — слово «дитё»
Митя произносит в своем символическом сне (14: 456); в остроге
он вспоминает об этом сне: «Зачем мне тогда приснилось дитё в та-
кую минуту?» (15: 31).
«Больная ножка» (ч. 4, кн. 11, гл. 2) — неточная цитата из стихов
Ракитина о Хохлаковой: «Эта ножка, эта ножка / Разболелася не-
множко...» (15: 16); вскоре стихи появятся в петербургской газете
«Слухи».
«Бесенок» (ч. 4, кн. 11, гл. 3) — так называет Лизу Иван (15: 38).
«Гимн и секрет» (ч. 4, кн. 11, гл. 4) — Митя в ожидании суда го-
ворит Алеше о «трагическом гимне Богу» на каторге и раскрывает
«секрет», т. е. план Ивана устроить ему побег (15: 31, 34).
«Не ты, не ты!» (ч. 4, кн. 11, гл. 5) — ответ Алеши Ивану на его
вопрос об убийце отца: «Убил отца не ты!» (15: 40).
«Это он говорил!» (ч. 4, кн. 11, гл. 10) — чуть измененные сло-
ва Ивана, признающегося Алеше, что знал о смерти Смердякова
от черта: «Знал ли я? Да, он мне сказал. Он сейчас еще мне гово-
рил...» (15: 85).
«Медицинская экспертиза и один фунт орехов» (ч. 4, кн. 12,
гл. 3) — на суде доктор Герценштубе вспоминает, как он подарил
209
маленькому Мите «один фунт орехов» и как через двадцать три года
«цветущий молодой человек» благодарил его (15: 106).
«Психология на всех парах. Скачущая тройка. Финал речи проку-
рора» (ч. 4, кн. 12, гл. 9) — здесь «скачущая тройка» — реминисцен-
ция из речи прокурора: «Не мучьте же Россию и ее ожидания, роко-
вая тройка наша несется стремглав, и может, к погибели» (15: 150).
«Речь защитника. Палка о двух концах» (ч. 4, кн. 12, гл. 10) —
защитник сравнил психологию с «палкой о двух концах» (15: 154).
«Мужички за себя постояли» (ч. 4, кн. 12, гл. 14) — сокращенная
цитата, передающая толки публики после вынесения Мите обвини-
тельного приговора: «Да-с, мужички наши за себя постояли» (15:
178).
В зеркале 118 заглавий четко видны принципы субъектной ор-
ганизации речи в романе в целом. Прежде всего это индивидуали-
зация речи персонажей: цитаты из их высказываний легко узна-
ются. Достоевский неоднократно подчеркивал в письмах различие
между речью автора-повествователя и речью героев. Так, он просит
Н. А. Любимова (в письме от 29 мая 1879) учесть стилистику ге-
роев романа: «...Это ведь не я говорю густыми красками, преуве-
личениями и гиперболами (хотя против действительности нет пре-
увеличений), а лицо моего романа Иван Карамазов. Это его язык,
его слог, его пафос, а не мой. Это мрачно раздраженный и много
молчавший человек. <...> Я только хотел попросить вас особен-
но, многоуважаемый Николай Алексеевич, впредь, в сомнительных
случаях, (если только будут), обращать внимание, от чьего лица
говорится. Ибо иное лицо по характеру своему иногда не может
иначе говорить» (30, 2: 45—46). Тому же адресату Достоевский пи-
шет о «Русском иноке» (7 авг. 1879): «Сам считаю, что и 1/10 доли
не удалось того выразить, что хотел. Смотрю, однако же, на эту
книгу шестую как на кульминационную точку романа. — Само со-
бою, что многие из поучений моего старца Зосимы (или, лучше
сказать, способ их выражения) принадлежат лицу его, то есть худо-
жественному изображению его. Я же хоть и вполне тех же мыслей,
какие и он выражает, но если б лично от себя выражал их, то выра-
зил бы их в другой форме и другим языком. Он же не мог ни другим
языком, ни в другом духе выразиться, как в том, который я придал
ему. Иначе не создалось бы художественного лица. Таковы, напри-
мер, рассуждения старца о том: что есть инок, или о слугах и го-
сподах, или о том, можно ли быть судьею другого человека, и проч.
Взял я лицо и фигуру из древле-русских иноков и святителей: при
глубоком смирении надежды беспредельные, наивные, о будущем
России, о нравственном и даже политическом ее предназначении.
Св. Сергий, Петр и Алексей митрополиты разве не имели всегда,
в этом смысле, Россию в виду?» (30, 1: 102). И далее писатель ука-
зывает на источники своей стилизации в главке «О священном
210
писании в жизни отца Зосимы»: «Это глава восторженная и поэти-
ческая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского,
а наивность изложения — из книги странствий инока Парфения»
(30, 1: 103).
Но индивидуализация речи героев — общая черта реалистиче-
ского стиля. Своеобразие стилистики романа Достоевского в значи-
тельной мере определяется тем, что он часто вводит слова героев
в речь повествователя. В результате возникает, по М. М. Бахтину,
«двуголосие»: «Чужие слова, введенные в нашу речь, неизбежно
принимают в себя новое, наше понимание и нашу оценку, то есть
становятся двуголосыми»1. К тому же «наша речь» в «Братьях Ка-
рамазовых» лукава: повествование якобы ведется от лица некого
жителя Скотопригоньевска, однако его «точка зрения» крайне раз-
мыта. Сам рассказчик весьма невысоко ценит себя как хроникера.
Так, в начале двенадцатой книги «Судебная ошибка» (глава «Роко-
вой день») он предупреждает читателей: «Скажу вперед, и скажу
с настойчивостью: я далеко не считаю себя в силах передать все то,
что произошло на суде, и не только в надлежащей полноте, но даже
и в надлежащем порядке. <...> Я мог принять второстепенное
за главнейшее, даже совсем упустить самые резкие необходимей-
шие черты...» (15: 89). А в других своих рассказах, особенно в пре-
дысториях, хроникер просто передает слухи, например, о смерти
первой жены Федора Павловича сообщает различные версии: она
«как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по одним сказаниям —
от тифа, а по другим — будто бы с голоду» (14: 9). «Всеведущего»
повествователя в романе нет.
Можно сказать, что в своем последнем произведении Достоев-
ский виртуозно демонстрирует искусство повествования, основан-
ное на принципе, выбранном при создании первого романа. В пись-
ме к М. М. Достоевскому (от 1 февр. 1846) автор «Бедных людей»
иронизировал над критиками: «Не понимают, как можно писать
таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя;
я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин,
а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может» (28, 1: 117).
Но в «Братьях Карамазовых», в отличие от «Бедных людей», романа
эпистолярного, автор имеет возможность скрыться за двумя «шир-
мами» — персонажа (точнее, персонажей) и рассказчика, и широ-
ко пользуется ими. Как отметил американский критик Р. Борн
в 1917 г., новаторство Достоевского особенно заметно на фоне клас-
сических романов В. Скотта, Ч. Диккенса, О. Бальзака, У. Теккекрея,
Э. Троллопа, при чтении которых «вы никогда не забываете об авто-
ре в роли повествователя». Читая же «великого русского художника,
вы начисто забываете о режиссере. Писатель растворяется в своем
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979. С. 226.
211
произведении, он безвыходно вовлечен в него. <... > Произведение,
кажется, само рассказывает себя»1.
Вынося «чужие» слова в заглавия (т. е. в традиционную зону авто-
ра), цитируя своих персонажей, Достоевский добивается двойного
эффекта. С одной стороны, эти цитаты, реминисценции, парафразы
призваны обратить внимание читателя на определенные фрагмен-
ты текста; с другой — позволяют автору уклониться от прямого вы-
ражения собственной позиции, собственного отношения к героям
и их действиям. Слову героя «принадлежит исключительная само-
стоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы рядом
с авторским словом и с полноценными же голосами других героев»1 2.
Система внутренних заглавий «Братьев Карамазовых» органична
именно для полифонического романа.
Вопросы
1. Перечислите возможные компоненты рамки (рамочного текста)
в эпических, драматических, лирических, лироэпических произведениях.
2. «...Технике озаглавливания приходится иметь дело не с словесным
сырьем, а с художественно переработанным материалом: прошедшее
сквозь более крупное сито текста должно еще раз процедиться сквозь за-
главный лист». Назовите автора этих строк. Могут ли сами типы заглавий,
их стилистика помочь в определении приблизительного времени создания
произведения?
3. Назовите пять авторских псевдонимов, настраивающих читателя
на то или иное восприятие его творчества.
4. Приведите пример внутреннего оглавления, адекватно передающего
развитие сюжета произведения.
1 Борн, Рэндольф. Достоевский: сопричастность художника // Писатели США
о литературе: в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 267.
2 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 7.
Глава 3
МИР ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЕГО ВРЕМЯ
И ПРОСТРАНСТВО
Рус.: мир произведения; англ.: the world of the literary work; нем.: die Welt
der literarischer Werke; фр.: le monde de la production litteraire.
Мир произведения как литературоведческое понятие. Мир персонажей
и образ автора. — О разграничении при анализе предметной и речевой
сторон художественной формы. — Из истории вопроса. — Условность и си-
стемность мира произведения. — Время и пространство как координаты
мира произведения.
Слово «мир» в литературоведении и критике часто используется
как синоним произведения в целом, творчества писателя, своеобра-
зия того или иного жанра: мир «Евгения Онегина», мир Пушкина,
мир рыцарского романа, научной фантастики, трагедии, пасторали
и т. д. Метафора «художественный мир», как бы приравнивающая
первичную и вторичную — вымышленную — реальность, очень
удачна. Она заключает в себе одновременно со- и противопостав-
ление, что издавна рекомендовалось риторикой: «Противополож-
ности чрезвычайно доступны пониманию, а если они стоят рядом,
они [еще] понятнее...»1 Названия многих исследований приглаша-
ют войти в «мир» писателя1 2.
Но есть и другое, смежное и более узкое значение «мира про-
изведения»: предметы, изображенные в произведении и образу-
ющие определенную систему. Под «предметом» (это слово много-
значно) здесь имеется в виду «тема, то, что служит содержанием
мысли, речи, на что направлена познавательная или творческая
деятельность»3.
В отечественном литературоведении термин «внутренний мир
произведения» предложил Д. С. Лихачев. В фокусе внимания учено-
го — соотношение произведения с действительностью, творческий
1 Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1978. С. 142.
2 См.: «В мире Пушкина». (М., 1974); «В мире Л. Толстого» (М., 1978); «В мире
Лескова» (М., 1983); «О художественных мирах» С. Г. Бочарова (М., 1985) и др.
3 Большой толковый словарь русского языка / Сост., гл. ред. С. А. Кузнецов.
СПб.: Норинт, 1998. С. 959.
213
характер её отражения, т. е. её преображение: «Отдельные элемен-
ты отраженной действительности соединяются в этом внутреннем
мире в некой определенной системе, художественном единстве»1.
Во избежание омонимии (под «внутренним миром» обычно пони-
мается сфера сознания), на наш взгляд, в качестве термина пред-
почтительнее «мир произведения». Он представляет собой систему,
так или иначе соотносимую с миром реальным: в него входят персо-
нажи, с их внешними и внутренними (психологическими) особен-
ностями, природа, вещи (созданные человеком), в нем происходят
события (выстраивающиеся в сюжет), его координатами выступа-
ют определенное время и пространство.
Поскольку слова (знаменательные части речи) суть заместите-
ли, знаки предметов, предметная изобразительность свойственна
всем родам литературы. Не используя термина «мир произведения»,
Г. Н. Поспелов последовательно выделял «предметную изобрази-
тельность» как ведущую сторону художественной формы. Ученый
различал в форме литературно-художественных произведений «три
уровня: а) предметную изобразительность, б) словесный строй
и в) композицию...»1 2 Для В. Е. Хализева ключевым при анализе про-
изведения также является понятие «мир произведения», отнесенное
к «области содержательно значимой формы, а не к содержанию как
таковому»3.
Безусловно «присутствие» в этом мире, в каждой его «клеточке»,
автора как его создателя. Однако это «присутствие» может лишь
подразумеваться, как, например, в повести Л. Н. Толстого «Кавказ-
ский пленник». Но нередко размышления автора, находящегося
в другом времени и пространстве, по поводу создаваемого им мира
(персонажей и их поступков) складываются в произведении в осо-
бый «мир автора»:
Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу...»
(«Евгений Онегин», гл. 1, строфа LX.)
Хотя в пушкинском романе автор выступает и как персонаж —
друг Онегина («Условий света свергнув бремя, / Как он, отстав
от суеты, / С ним подружился я в то время...» (гл. 1, строфа XLV)),
в целом время и пространство «мира автора» и «мира героев» не со-
впадают.
1 Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения // Вопросы лите-
ратуры. 1968. № 8. С. 74.
2 Поспелов Г. Н. Целостно-системное понимание литературных произведе-
ний // Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики. М.: Изд-во Моск, ун-та,
1983. С. 154.
3 Хализев В. Е. Теория литературы. М.: Академия, 2009. С. 176.
214
Особенно отчетливо различие между «мирами» автора и его ге-
роев проявляется в художественно-исторических жанрах, например
в «Тарасе Бульбе» Н. В. Гоголя. Так, о Тарасе сказано: «Бульба был
упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли
возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Евро-
пы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими кня-
зьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами
монгольских хищников...» (гл. 1). Повествователь с сочувствием
пишет о жене Тараса, просидевшей без сна всю ночь над изголовьем
своих сыновей: «В самом деле, она была жалка, как всякая женщина
того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую
горячку страсти, в первую горячку юности, — и уже суровый прель-
ститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества.
Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем
не бывало слуху» (гл. 1).
Однако выделение специального «мира автора», отличающегося
от «мира героя»1, резонно лишь в некоторых случаях. Но и очевид-
ные, и почти незаметные формы оценки автором персонажей и со-
бытий, вообще «образ автора» как творца мира произведения всегда
есть, только нужно уметь его обнаружить.
-к -к ‘V
При определении объема понятия важно определить границы
мира в художественном целом. Входят ли в состав «мира» и отра-
женные предметы, и обозначающие их слова? При анализе произве-
дения эти уровни художественной формы различаются. Мир (ина-
че: предметный мир, предметная изобразительность) — сторона
художественной формы, мысленно отграничиваемая от словесного
строя: ведь если понятие обозначает «всё» в произведении, оно из-
быточно.
В словесно-предметной структуре художественного изображе-
ния именно предметы «обеспечивают» целостность восприятия,
их мысленное выделение в потоке речи определяет избранную авто-
ром «единицу образности». Так, фраза «Островом называется часть
суши, со всех сторон окруженная водой» — законченное суждение,
явно взятое из учебного текста. В рассказе Чехова «Душечка» это
действительно цитата из учебника по географии, которую произ-
носит гимназист Саша и вслед за ним «душечка» Ольга Семеновна.
Но художественной деталью фраза становится только вместе с ком-
ментарием повествователя к словам Ольги Семеновны: «— Остро-
вом называется часть суши... — повторила она, и это было первое
1 См.: Тамарченко Н. Д. «Мир героя» как эстетическая категория // Теория ли-
тературы: в 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко: в 2 т. Т. 1; Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И.,
Бройтпман С. Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. Учебное
пособие. М.: Академия, 2004. С. 176—179.
215
её мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких
лет молчания и пустоты в мыслях»1.
Но можно ли представить мир произведения в отрыве от его сло-
весного воплощения? Ведь речь идет о литературе — искусстве слова.
Конечно, в литературоведении это всего лишь аналитический прием.
Но его законность подчеркивается практикой художественного пере-
вода: на иностранном языке переданы прежде всего свойства мира
произведения. А о родстве искусств, имеющих предметно-изобрази-
тельную основу, свидетельствуют «переводы» литературного произве-
дения на «языки» живописи, скульптуры, графики, немого кино и др.
Возможность мысленного вычленения мира из художественного
словесного текста подтверждается и творческой историей многих
произведений: автор часто «перебирает» разные варианты описа-
ний предмета, в выборе которого не сомневается1 2. «Не марать так,
как я мараю, я не могу, и твердо знаю, что это маранье идет в вели-
кую пользу», — писал Л. Н. Толстой 16—18 августа 1876 г. П. И. Бар-
теневу (который вел первое отдельное издание «Войны и мира»,
предпринятое уже после журнальной публикации произведения)3.
Конечно, художественный образ — это единство предмета и сло-
весного текста о нем, но судя и по признаниям самих писателей,
и по принципам, приемам литературоведческого анализа, состав-
ляющие это единство уровни нужно различать.
Вот что рассказывает о создании романа «Имя розы» (1980), дей-
ствие которого происходит в бенедиктинском аббатстве XIV века,
его автор Умберто Эко: «Я осознал, что в работе над романом,
по крайней мере на первой стадии, слова не участвуют. Работа над
романом — мероприятие космологическое, как то, которое описа-
но в книге Бытия... <...> То есть для рассказывания прежде всего
необходимо сотворить некий мир, как можно лучше обустроив его
и продумав в деталях. <... > Первый год работы я потратил на со-
творение мира. Реестры всевозможных книг — всё, что могло быть
в средневековой библиотеке. Столбцы имен. Кипы досье на множе-
ство персонажей, большинство которых в сюжет не попало. Я дол-
жен был знать в лицо всех обитателей монастыря, даже тех, которые
в книге не показываются»4. Между тем роман «Имя розы», истори-
ческий и одновременно пародирующий современные детективы,
отличается стилистической изощренностью.
Другой пример — соавторство С. В. Ковалевской и шведской
писательницы А. Ш. Леффлер, написавших интересную по своей
концепции пьесу «Борьба за счастье» (1887). Пьеса состоит из двух
1 Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 8. М.: Гослитиздат, 1956. С. 361.
2 См.: Рейсер С. А. Основы текстологии. Л.: Просвещение, 1978. С. 35—41.
3 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 17. С. 667.
4 Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы / Пер. с ит. М.,
1989. С. 437—438.
216
частей: «Как было» и «Как могло быть», с одним составом персона-
жей, но с разными — печальной и счастливой — развязками, в за-
висимости от небольших, казалось бы, различий в характере глав-
ного героя. По свидетельству Леффлер, Ковалевская «не написала
ни одной реплики, но она обдумала не только весь основной план
драмы, но и содержание каждого акта в отдельности; кроме того,
она доставила мне массу психологических данных для обработки
характеров»1. Трудно сказать, кто из соавторов внес больший вклад
в создание пьесы.
•к •к •к
Разграничение предметов (лат.: res) и слов (yerba) — проблема,
имеющая долгую историю. Она рассматривалась, иногда очень под-
робно, почти во всех «риториках» и «поэтиках», причем неизменно
подчеркивалась первичность предметов. Широко известны афори-
стичные строки Горация из его «Науки поэзии (К Пизонам)»:
Мудрость — вот настоящих стихов исток и начало!
Всякий предмет тебе разъяснят философские книги,
А уяснится предмет — без труда и слова подберутся1 2.
Зависимость слов от предмета речи, или от предмета «подража-
ния» (в котором, начиная с Платона и Аристотеля, долгое время ви-
дели сущность поэтического искусства), редко оспаривалась в исто-
рии литературоведения (теории, оправдывающие футуристическую
«заумь», единичны и в целом не были подтверждены практикой3),
не вызывает она особых сомнений и сейчас.
Сложнее обстояло и обстоит дело с обоснованием принадлежно-
сти предметного мира к художественной форме. «Следовало ли ма-
дам Бовари глотать мышьяк? Бросилась бы Анна Каренина под
поезд, будь Толстой женщиной?»4 — перечисляет Ф. Уэлдон темы
«живительных споров» читателей. Персонажи и сюжет — это пред-
метная сфера произведения, но, говоря о них, думают о концепции
автора.
«Язык» литературы не сводится к художественной речи. «Оши-
бочно... было бы считать, что литература говорит лишь одним
языком. Вопреки сильно распространенному предубеждению, мир
1 Леффлер-Кайянелло А. Ш. Софья Ковалевская (Что я пережила с нею и что она
сама рассказывала мне о себе). СПб., 1893. С. 221.
2 Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 375.
3 В сущности, не были полностью «заумными» стихотворения В. В. Хлебникова
«Бобэоби пелись губы...», «О, рассмейтесь, смехачи!», в отличие от стихотворения
А. Крученых «Дыр бул щил...», ставшего, как пишет В. Г. Макашина, «хрестоматий-
ным примером бессмысленной поэзии» (Русские писатели. XX век. Библиографиче-
ский словарь. В 2 ч. / Под ред. Н. Н. Скатова. 4. 1. М.: Просвещение, 1998. С. 691).
4 Уэлдон Э. Письма к Алисе, приступающей к чтению Джейн Остин // Эти за-
гадочные англичанки... М., 1992. С. 370.
217
художественного произведения редко бывает её конечной целью.
Чаще всего литература говорит также и всеми возможными свой-
ствами этого мира. В таких случаях мир получает права своеобраз-
ного другого “языка”, становится “средством коммуникации”»1, —
пишет польский теоретик Е. Фарыно, относя «мир произведения»
(подобно Г. Н. Поспелову, Д. С. Лихачеву) к художественной форме.
Как «язык», на котором говорит художник, адресуясь к читате-
лям, предметы подражания осознавались уже в рамках риторической
традиции. Так, в «Поэтике» Ю. Ц. Скалигера (1561) соотношение
res и verba уподоблено соотношению категорий античной филосо-
фии — «формы (идеи)» и «материи», где последней отведена пас-
сивная роль: «речь создается такой, какими являются сами вещи...»
Черпая примеры из античной поэзии, Скалигер строит «классифи-
кацию изображаемого»: творения природы и человека («искусств»),
действия, их время и место, указанные прямо или косвенно: «яс-
ное или облачное небо, луна, звезды, погода». Он поражается раз-
нообразию действий в «Энеиде» Вергилия («Плавание по морю,
охота, осада, штурм, изгнание, бегство, нападение, любовь, игры,
пророчества, жертвоприношения...»), а также их индивидуализа-
ции («И как ни много описывается смертей, никогда они не изо-
бражаются одинаково»). И все же не герои и их действия, не «луна»
и «звезды», вообще не подражание предметам оказывается у Ска-
лигера конечной целью поэзии; ею является вытекающее из под-
ражания «наставление». Таким образом, предметы, будучи «целью
речи», — в то же время инстанция промежуточная на пути к «цели
поэта»: «...Подражание осуществляется во всякой речи, потому что
слова — это образы вещей. Цель же поэзии — учить, доставляя
удовольствие»1 2. (Последнее предложение — парафраза из Горация,
призывающего поэтов смешивать «приятное с пользой».)
Качественно новый этап в понимании структуры произведений
связан с применением к ней категорий «содержание» и «форма»,
разработанных в немецкой классической эстетике. Согласно Гегелю,
«содержанием искусства является идеал, а его формой — чувствен-
ное образное воплощение»3. Образ выступает у Гегеля источником
красоты (если он воплощает «разумную», истинную идею) и одно-
временно ограничителем содержания искусства; «всеобщая мысль»
остается за его порогом. Именно во взаимопроникновении «идеала»
и «образа» усматривает Гегель творческую специфику искусства:
как душа человека «концентрируется в глазах», «так и об искусстве
можно утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ
во всех точках его видимой поверхности в глаз, образующий вме-
1 Faryno J. Введение в литературоведение. Katovice, 1978. Ч. 1. С. 6.
2 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
С. 60—63, 69—70.
3 Гегель Г. В. Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 1. М., 1968. С. 75.
218
стилище души». И далее Гегель приводит примеры таких «точек»:
искусство «превращает в глаз не только телесную форму, выражение
лица, жесты и манеру держаться, но точно так же поступки и собы-
тия, модуляции голоса, речи и звука...»1 Комментируя это место,
Г. Н. Поспелов рассматривает «точки... видимой поверхности» как
метафорический синоним используемого им современного термина
«детали предметной изобразительности»1 2.
Подчинение всех деталей изображения, и прежде всего пред-
метных: «поступки и события», «выражение лица» — определенно-
му духовному содержанию — ведущий пафос гегелевского учения
об искусстве. Так обосновывается единство, целостность произве-
дения, вырастающего из творческой концепции и уподобленного
«организму», хотя бы части его были обособленны и разнообразны.
Руководствуясь этим принципом единства произведения,
В. Г. Белинский анализировал роман-цикл «Герой нашего време-
ни», а А. В. Дружинин — «Сон Обломова» как ключ ко всему роману
И. А. Гончарова.
Диктатура творческой концепции (идеи, идеала), открытой чи-
тателю «во всех точках... видимой поверхности» образа, вызывала
и возражения. Наиболее радикальная ревизия такого понимания
структуры произведения была предпринята русскими формалиста-
ми, отказавшимися вообще от понятий «содержание» и «форма»
при анализе художественного текста. В используемых вместо них
понятиях «материал» и «приём» главным был приём. Это был спор
не только с эстетикой Гегеля и Белинского или с учением об обра-
зе и его многозначности, развитым А. А. Потебней и его школой,
но и с многовековой риторической традицией, ставившей перед
сочинителем три задачи: изобретение предметов (лат.: invention,
расположение (disposition и словесное выражение, или украшение
(elocutio). (На эти три части подразделяется, например, «Риторика»
М. В. Ломоносова.) В. Б. Шкловский в статье «Искусство как при-
ём» (1919) главными творческими задачами объявил те, что стояли
на втором или третьем плане в «поэтиках» и «риториках», а имен-
но расположение и словесное выражение: «Вся работа поэтических
школ сводится к накоплению и выявлению новых приёмов распо-
ложения и обработки словесных материалов и, в частности, гораз-
до больше к расположению образов, чем к созданию их»3. Иными
словами, старинная первостепенная задача изобретения предметов
оказалась несущественной, что логично вытекало из замены «содер-
жания» «материалом», на котором демонстрировался тот или иной
«приём».
1 Гегель Г В. Ф. Указ. соч. С. 162—163.
2 См.: Поспелов Г Н. Указ. соч. С. 142—143.
3 Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1983. С. 10—11.
219
Углубление опоязовцев в проблемы dispositio и elocutio оказа-
лось, как известно, плодотворным, и выделенные субструктуры:
«фабула» и «сюжет» (в терминах, порывающих с отечественной тра-
дицией), типы повествования и сказ среди них, реальный ритм сти-
ха и метрическое «задание» и др. — впоследствии органично вошли
в берега концепций, подчеркивающих содержательную функцию
«приёмов». Но предметный мир произведения как наиболее явный
носитель смысла стал жертвой формалистической методологии.
В статье «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1919) Б. М. Эйхенбаум
сосредоточился на «игре языка», на гротескных сцеплениях «чисто-
го комического сказа» и «патетической декламации»1. Но «сделана»,
т. е. сочинена, не только узорчатая речь повести. Вымышлен пре-
жде всего ее «мир» (анекдот, рассказанный П. В. Анненковым, был
Гоголем изменен, додуман и расцвечен до неузнаваемости1 2) во всех
его смешных подробностях: «Куницы не купили, потому что была,
точно, дорога; а вместо неё выбрали кошку, лучшую, какая только
нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда при-
нять за куницу»3.
Как острая реакция на недооценку предметной основы изображе-
ния показательна ранняя критика работ формалистов. Их упрекали
за «сознательное или бессознательное предпочтение, отдаваемое
вопросам композиции перед вопросами тематики»4; за стремление
обойти при анализе произведения «внесловесную стихию»5.
Из краткого экскурса в историю проблемы видно, насколько
сильно изучение мира произведения стимулируется интересом
к выражаемым посредством него идеям («наставлению», «творче-
ской концепции») или, как писал в начале XX в. Б. Шоу, стремлени-
ем возбудить «дискуссию», если в произведении вопрос поставлен,
но не решен6.
Мир произведения наиболее явно воплощает его содержа-
ние; критики обычно знакомят с романом, повестью, пьесой че-
рез комментированный пересказ сюжета. Но содержание и сюжет
все же разные понятия, что наглядно обнаруживается в случаях, ког-
да основная идейная нагрузка падает не на сюжет («Старосветские
помещики» Гоголя). Не будучи собственно «содержанием» (идеей,
концепцией) произведения, его мир в то же время — ведущая сто-
1 Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969. С. 311.
2 См.: Добин Е. С. Жизненный материал и художественный сюжет. Л., 1958.
С. 62—69.
3 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М., 1959. С. 142.
4 Жирмунский В. М. К вопросу о «формальном методе» // Жирмунский В. М. Те-
ория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 103.
5 См.: Григорьев М. С. Литература и идеология. М.: Никитинские субботники,
1929. С. 1—71.
6 См.: Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.
220
рона художественного изображения. Ведь «без наличия деталей
предметной изобразительности писателю нечего было бы компоно-
вать, ему не о чем было бы вести свою художественную речь. Даже
критериев отбора речевых элементов у него не было бы»1.
•/V -л- -л-
Каковы же общие свойства мира литературного произведения —
эпического, драматического, лироэпического, где есть не только
внутреннее, психологическое, но и внешнее действие?
Это всегда условный, создаваемый с помощью вымысла мир, хотя
его «строительным материалом» служит реальность. «Люди, львы,
орлы и куропатки...» — так, с перечисления земных существ, на-
чинает свой монолог Нина Заречная в пьесе Константина Трепле-
ва, которую играют в первом действии чеховской «Чайки». Но сама
Нина, «вся в белом», представляет «Общую мировую душу», у кото-
рой есть противник — Дьявол, со «страшными, багровыми глаза-
ми». С фантастикой этого «декадентского бреда» (как называет Ар-
кадина сочинение своего сына) контрастирует натуралистическая
поэтика пьесы, которую предпочел бы посмотреть Медведенко:
«А вот, знаете, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как
живет наш брат — учитель. Трудно, трудно живется!» В этой пьесе,
будь заказ читателя выполнен, говорили бы всё больше о деньгах:
«Жалованья всего двадцать три рубля»; «А мука семь гривен пуд».
А в «небольшом рассказе», сюжет для которого «мелькнул» у Триго-
рина при виде убитой чайки, господствовал бы язык символов: де-
вушка-чайка, озеро. Эти и другие литературные мотивы (их много
в «Чайке») оттеняют подчеркнутую нелитературность, несочинен-
ность, нестереотипность основного мира произведения. Характе-
ры героев не соответствуют захожим, бытующим представлениям
о жизни модного писателя, актрисы. Многописание Тригорина —
«как на перекладных» — непохоже на «интересную, светлую,
полную значения» жизнь писателя в представлении его юной по-
клонницы; в финале Нина глубоко несчастна, но это совсем не погу-
бленная «чайка», а актриса, чьи слова о жизни, об «уменье терпеть»
оплачены горьким опытом, выстраданы, в отличие от прежней
наивной мечты о счастье. В сюжете — вместо традиционных «треу-
гольников» — «странная цепь роковых привязанностей, любовных
увлечений — безнадежно односторонних, как будто повисающих
в воздухе»1 2.
В самой антистереотипности персонажей, сюжета и его разви-
тия (Чехов писал А. С. Суворину о пьесе: «Начал ее forte и кончил
1 Поспелов Г. Н. Указ. соч. С. 194.
2 Паперный 3. С. «Вопреки всем правилам...»: Пьесы и водевили Чехова. М.,
1982. С. 129.
221
pianissimo — вопреки всем правилам драматического искусства»1),
в не вопросно-ответной связи реплик прослеживается четкая зако-
номерность, понимание жизни, идущей часто «вопреки всем пра-
вилам». И этой же цели в конечном счете служат многочисленные
вставки — литературные клише, заёмные мысли и слова многих
действующих лиц. Мир пьесы «сделан» и «говорит» об определен-
ном, хотя и не декларируемом, не навязываемом читателю пони-
мании жизни.
Есть условность и условность. «А разве яблоня (печка, речка)
могут разговаривать?» — спрашивает ребенок, слушая сказку «Гу-
си-лебеди». «Да — но только в сказке», — отвечают ему. В фан-
тастическом мире сказки — свое время, всегда неопределенное
и отнесенное к прошлому («жили-были», «давным-давно»), свое
пространство («в некотором царстве, в некотором государстве»),
в котором есть внутреннее членение (за темным лесом, огненной
рекой, морем ждёт героя «иное царство»), свои способы преодоле-
ния пространства (волшебный конь, птица, ковер-самолет). Входя
в этот заколдованный мир, мы принимаем все его условности, за-
коны; в многообразии персонажей и сюжетов легко обнаруживаем
повторы, «инварианты», схему (даже если не читали «Морфологии
сказки» В. Я. Проппа), осуществление которой неизменно приводит
к торжеству Добра, гибели злых, темных сил.
Условность и замкнутость мира сказки, героического эпоса, ги-
перболизирующего могущество богатырей, басни с ее животными
персонажами-аллегориями и многих других жанров фольклора
и литературы самоочевидны, как несомненны и системность, вну-
тренняя логика вымысла, фантастики. «Пусть мы имеем дело с ми-
ром совершенно ирреальным, в котором ослы летают, а принцессы
оживают от поцелуя, — размышляет У. Эко над проблемой сотво-
рения мира произведения. — Но при всей произвольности и нере-
алистичное™ этого мира должны соблюдаться законы, установлен-
ные в самом его начале. <...> Писатель — пленник собственных
предпосылок»1 2.
Этот тезис справедлив и по отношению к произведениям, жизне-
подобным по своему стилю, реалистическим по своей установке, где
автор стремится пробиться к жизни сквозь толщу ее литературных
отражений. В рассказе Чехова «Учитель словесности», кажется, всё
как в жизни: в гостях пьют чай, танцуют, играют в карты, учитель хо-
дит в гимназию, даёт уроки, его жена занимается хозяйством и т. д.
Но почему-то к концу рассказа невинные «горшочки со сметаной»
и «кувшины с молоком» (прекрасные атрибуты идиллического жан-
1 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. Т. 6. М., 1978.
С. 100.
2 Эко У. Указ. соч. С. 438—439.
222
ра, воспеваемые, например, в поэме «Герман и Доротея» И. В. Гёте)
становятся символом пошлости. Никитин записывает в дневник:
«Где я, боже мой? Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные,
ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, та-
раканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее,
тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе
я сойду с ума!» Семейная жизнь Никитина далека от идиллии, хотя
сначала он, учитель словесности, тешил себя литературными срав-
нениями: «Самыми счастливыми днями у него были теперь воскре-
сенья и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти
дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной
жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он не переста-
вая наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала
гнездо...»1 Столь же последовательно в этом рассказе Чехов прибе-
гает к уподоблению людей (Вари, Манюси) животным, сгущению
трюизмов в речи Ипполита Ипполитовича, в предсмертном бреду
говорившего «только то, что всем известно:
«—Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес
и сено...»1 2
it it it
Создавая мир произведения, писатель структурирует его, по-
мещает в определенном времени и пространстве. Есть примеры,
когда по тексту можно воссоздать детальную топографию дей-
ствия — фантастическую или как бы реальную. Многократно кар-
тографировали «Божественную комедию» Данте. В подробностях
изучен путь Раскольникова к дому процентщицы, все его «семьсот
тридцать шагов». Особенная точность описаний местности отличает
роман Дж. Джойса «Улисс». «Джойс работал со справочником «Весь
Дублин на 1904 год» и перенес на свои страницы едва ли не все его
содержание. Это можно назвать принципом гиперлокализации: все,
что происходит в романе, снабжается детальнейшим указанием ме-
ста действия, не только улицы, но и всей, как выражался Джойс,
«уличной фурнитуры» — всех расположенных тут домов с их хозяе-
вами, лавок с их владельцами, трактиров, общественных зданий...
«“Если город исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить
по моей книге”, — сказал он однажды»3.
Столь же конкретно может быть указано время. Так, в «Улиссе»
описан всего один день — 16 июня 1904 года. В «Евгении Онеги-
не», как пишет Пушкин в примечании к роману (№ 17), «время
расчислено по календарю», и этим руководствуются исследователи,
1 Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1956. Т. 7. С. 394, 388.
2 Там же. С. 389.
3 Хоружий С. Вместо послесловия / Джойс Дж. Улисс. М., 1993. С. 552.
223
определяя возраст героев и хронологию событий: Онегин родил-
ся в 1795 г., Ленский — в 1803 г., именины Татьяны праздновали
12 января 1821 г., а последняя встреча Татьяны и Онегина прихо-
дится на март 1825 г.1 И в пушкинском романе все это очень важно.
Мир произведения может члениться, дробиться на подсистемы,
структурированные по-разному, различные по степени детализа-
ции изображаемого, переносящие читателя в прошлое или в буду-
щее, погружающие его в до мелочей известный ему быт или в некий
фантастический топос. Как часть в целое входят в мир произведе-
ния вставные новеллы, детально описанные эпизоды, где время
как бы останавливает свой бег, сны героев, их собственные сочине-
ния — например, «Повесть о капитане Копейкине» в составе поэмы
Гоголя «Мертвые души», эпизод с Фомушкой и Фимушкой в «Дыме»
Тургенева, сны Веры Павловны в романе «Что делать?» Чернышев-
ского, «Легенда о великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых»
Достоевского, роман Мастера о Понтии Пилате в «Мастере и Мар-
гарите» Булгакова.
Нередко привычные для повествователя или персонажей систе-
мы отсчета времени и пространства сразу погружают современного
читателя в мир, давно прошедший или далеко отстоящий от него.
Это тема требует специального изучения, обращения к разным
эпохам и национальным традициям1 2. Приведем лишь несколько
примеров, подчеркивающих знаковую функцию самих номинаций
пространства и времени, т. е. координат мира, в котором проис-
ходит действие произведения. Так, в «Мастере и Маргарите» чере-
дуются современность и далекий «весенний месяц нисан», когда
казнят Иешуа (гл. 2). А в романе О. Бальзака «Шуаны, или Бретань
в 1779 году», где повествуется о последней вспышке роялистско-
го мятежа накануне учреждения консульства во Франции, время
действия обозначено так: «В один из первых дней VIII года в на-
чале вандемьера, или, по обычному календарю, в конце сентября
1779 года, человек сто крестьян и довольно большое число горо-
жан шли утром из Фужера в Майенну...»3 Номинации: нисан, ван-
демьер — как бы переносят читателя в отдаленное от него время
и место.
В произведениях русской литературы XIX в. часто персонажи из-
меряют время не обычными датами: время измеряется по церков-
1 См.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Герой нашего времени»: Коммен-
тарий. Л., 1983. С. 18—23.
2 Назовем некоторые культурологические исследования, вводящие в тему: Гуре-
вич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984; Баткин Л. М. Ита-
льянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978; Бахтин М. М. Фор-
мы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.
М., 1975.
3 Бальзак О. Шуаны или Бретань в 1799 году. Правда, 1955.
224
ному календарю. Так, в комедии А. Н. Островского «Невольницы»
(1881) бывший лакей в богатом доме, уволенный за пьянство, рас-
сказывает, как он покончил с этим грехом: «С мироносицкой предел
положил. Думал еще со страшной закончить, нуда, знаете, святая...
потом Фомина... тоже, надо вам сказать, неделя-то довольно пута-
ная. Поправная неделя она числится; голова-то поправки требует,
особенно на первых днях. Ну, а с мироносицкой-то уж и установил
себя, как следует»1. Характерен для пьес Островского и выбор места
действия: «В более чем 20-ти пьесах действие происходит в Москве,
и оно “привязано” к ее топографии. Часто упоминаются Замоскво-
речье, Марьина роща, Преображенское, Каменный мост, Воскресен-
ские ворота, Эрмитаж, Бутырка, Китай-город, Грузины, Купеческое
собрание, Таганка, Коломна, Останкино, Сокольники, Тверская»1 2.
Но ни в одной пьесе действие не происходит в Петербурге; в ряде
пьес место действия — вымышленный город на Волге — Калинов
(«Гроза», «Горячее сердце»), Бряхимов («Бесприданница», «Красавец
мужчина») и др.
Вообще антитеза: Москва / Петербург, столица / провинция, Рос-
сия / заграница — часто положена в основу сюжета произведений
русской литературы3; в романах О. Бальзака тоже провинция часто
противопоставлена Парижу. Действие может происходить и в «стра-
нах, которых нет» (название одной из работ С. К. Кржижановского,
написанной в 1937 г., но опубликованной в 1994)4. Неослабеваю-
щему интересу читателя к описанию этих стран способствует, по-
мимо аллюзий («Путешествия Гулливера» Дж. Свифта), сочетание
фантастики с правдоподобием. В мифах, фольклоре, литературной
классике, в современных фэнтези представлены фантастичные то-
посы: «страна чудаков», «страна мудрецов»; «страна дураков», пы-
тающихся поймать луну в колодце или реке; «страна великанов»
и пр.5 Однако при исходном (разовом) нарушении правдоподобия
в дальнейшем повествовании наблюдается обычное соотношение
размеров вещей. Например, у Рабле «Гаргантюа, оплакивая смерть
отца, “льёт слёзы, каждая из которых была не меньше страусового
яйца”». Но ведь гигант, если принять этот условный образ, и не мо-
жет лить слёз, равных по величине нашим, которые поэты при-
равнивают к жемчужинам. Рассердившись на парижан, студент
Гаргантюа снимает колокола с собора Парижской Богоматери, что-
1 Островский А. Н. Собр. соч.: в 10 т. Т. 8. М.: Гослитиздат, 1960. С. 156.
2 Лапонина Л. В. Время и пространство // А. Н. Островский. Энциклопедия. /
Гл. ред. И. А. Овчинина. Кострома; Шуя, 2012. С. 97.
3 См.: Шутая Н. К. Типология художественного времени и пространства в рус-
ском романе. М., 2006.
4 Кржижановский С. Д. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. СПб., 2006. С. 129—150. Далее
страницы указываются в скобках.
5 Там же. С. 132.
225
бы привесть их вместо бубенцов своей кобыле. Привычны разме-
ры нарушены, но привычное соотношение размеров не нарушено
ни на йоту. Здесь действует линейка, увеличивающая масштабы,
но строго блюдущая интересы числителя и знаменателя»1. Можно
добавить: и интересам читателя. Такой метод письма назван Кржи-
жановским «экспериментальным реализмом»1 2.
«В уме своем я создал мир иной / И образов иных существова-
нье» — эти строки Лермонтова («Русская мелодия») могут быть
отнесены и к ревнителям жизнеподобия, и к фантастам. Задача
исследования — в предметном мире этого произведения увидеть
концепцию автора и вытекающую из нее систему условностей.
Вопросы
1. Как соотносятся понятия «художественная форма» произведения и его
«мир» («предметный мир»)?
2. В каких случаях нужно разграничивать «мир автора» и «мир героев»?
3. Нередко в мире произведения совмещаются фантастика и реальность.
С какими целями может вводиться фантастика?
4. Покажите связь с основной идеей произведения включенных в него
вставных новелл.
1 Кржижановский С. Д. Фрагменты о Шекспире // Указ. собр. соч. Т. 4. С. 375.
2 Там же. С. 377.
Глава 4
ПЕРСОНАЖИ
Рус.: персонаж; англ.: character, personage; нем.: Person, Figur; фр.:
personnage.
Персонаж и его разновидности. —Характеры персонажей в истории лите-
ратуры. —Характер и образ. —Типология характеров и номинации типов. —
«Человек в футляре». — Из истории слова «герой». — К изучению персонажа
как «актора». — Система персонажей. — О задачах литературной критики.
Персонаж (от лат. persona — особа, лицо, маска) — вид художе-
ственного образа, субъект действия, переживания, высказывания
в произведении. В том же значении в современном литературове-
дении обычно используются словосочетания: действующее лицо
(преимущественно в драме, где список лиц традиционно следует
за названием пьесы), а также литературный герой. В данном сино-
нимическом ряду слово персонаж — наиболее нейтральное по сво-
ей семантике, его этимология (persona — маска, которую надевал
актер в античном театре) подчеркивает условность искусства.
Понятие персонажа (героя, действующего лица) — важнейшее
при анализе эпических, драматических, лироэпических произведе-
ний, где именно персонажи, образующие определенную систему,
и сюжет (система событий) составляют основу предметного мира.
В эпике и лироэпических жанрах героем может быть и повество-
ватель (рассказчик), если он участвует в сюжете (Гринев в «Капи-
танской дочке» А. С. Пушкина, «я» в поэме «Про это» В. В. Маяков-
ского). В лирике же, выражающей прежде всего внутренний мир
человека, персонажи обычно представлены пунктирно, фрагмен-
тарно, а главное — в неразрывной связи с переживаниями лириче-
ского героя (например, «жадно» глядящая на дорогу крестьянская
девушка в стихотворении «Тройка» Н. А. Некрасова, воображаемый
собеседник в стихотворении М. И. Цветаевой «Попытка ревности»).
Иллюзия собственной жизни персонажей в лирике (по сравнению
с эпикой и драмой) резко ослабевает. Поэтому вопрос о персонажах
в лирике целесообразно рассматривать отдельно1.
Чаще всего литературный персонаж — это человек, человече-
ский индивид (лат.: individuum — неделимое, особь). Степень кон-
1 См. главу «Лирика».
227
кретности его изображения зависит от многих причин: от места
в системе персонажей (так, в пушкинском «Станционном смотри-
теле» благополучная судьба Дуни подчеркивает бесправие и оди-
ночество Вырина — главного героя печальной повести); от рода,
жанра, стиля произведения и пр. Но более всего мера детализации
образа определяется конкретным замыслом произведения и творче-
ским методом писателя: о второстепенном персонаже реалистиче-
ской повести (например, о Гагине из повести «Ася» И. С. Тургенева)
в биографическом, социальном плане сообщено больше, чем о глав-
ном герое модернистского романа.
«Многие ли читатели помнят имя рассказчика в «Тошноте» или
в «Постороннем»? — писал в 1957 г. А. Роб-Грийе, один из создате-
лей и теоретиков французского «нового романа». — [...] Что же ка-
сается К. из «Замка», то он довольствуется простым инициалом,
он ничем не владеет, у него нет ни семьи, ни собственного лица;
может быть, он даже вовсе и не землемер»1. Но психология, мифы
и парадоксы сознания героев названных романов Ж.-П. Сартра,
А. Камю, Ф. Кафки изображены крупным планом и породили кри-
тический бум — не потому ли, что в гротескных образах читатели
узнали слишком знакомые им психологические портреты?
Остановимся на некоторых разновидностях персонажей. Ведь
ими могут быть не только люди, но и животные, растения, вещи,
природные стихии, фантастические существа, роботы и пр. Дей-
ствие может происходить в «странах, которых нет» (по выражению
С. Д. Кржижановского), и их обитатели созданы фантазией писате-
ля. Один из приемов изображения необычных существ — гипербола
или литота. Например, ветхозаветные персонажи Голиаф — Мафу-
саил — Самсон суть три гиперболы: «чрезмерный рост — необычное
многолетие — из ряда вон выходящая сила»1 2. В первых двух частях
«Путешествий Гулливера» Д. Свифта (1726) представлены Лилипу-
тия и Бробдингнег: попав в страну великанов, Гулливер вынужден
резко изменить свое поведение. «Вместо осторожного укороченно-
го шага — быстрая семенящая походка, часто переходящая в бег;
вместо тихого сдержанного голоса — крик; вместо наклоненной
книзу головы — голова, которую приходится задирать вверх, чтобы
видеть там — на высоте колокольни — лицо своего собеседника-ги-
ганта, который одним ударом ладони может расплющить тебя, как
муху»3.
1 Роб-Грийе А. О некоторых устаревших понятиях // Называть вещи сво-
ими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской лите-
ратуры XX века / Сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. М.: Прогресс, 1986.
С. 114—115.
2 Кржижановский С. Д. Страны, которых нет // Собр. соч.: в 5 т. Т. 6 (доп.) /
Сост., подг. текста, комм. В. Г. Перельмутера. СПб.: Симпозиум, 2006. Т. 4. С. 132.
3 Там же. С. 137.
228
Есть жанры, в которых говорят и действуют животные, напри-
мер басня, сказка о животных. Ограничивает ли эта условность по-
знавательные возможности произведений? Как показывает история
басни, к детям (главному адресату этого жанра) она пришла не сра-
зу. Долгое время басня была риторическим приемом, склонявшим
слушателей к тому или иному решению. А. А. Потебня подчеркивал
важную роль басни как средства убеждения «там, где дело идет о ве-
щах вовсе нешуточных — о судьбе человека, человеческих обществ,
где не до шуток и не до празднословия»1. Например, на вопрос жи-
телей одной местности в Древней Греции, следует ли дать правите-
лю с неограниченной властью еще и телохранителей, поэт Стесихор
ответил басней: «...лошадь одна владела пастбищем; когда же при-
шел олень и начал портить пастбище, то лошадь, желая отомстить
оленю, спросила какого-то человека, не может ли он посодейство-
вать ей в этом; он отвечал, что может, если возьмет узду и сам сядет
на нее, с копьем в руках. Когда лошадь согласилась на это и он сел
на нее, то вместо того, чтобы отомстить оленю, лошадь сама попала
в рабство. Так и вы, сказал Стесихор, берегитесь, как бы, желая ото-
мстить врагам, не попасть в такое же положение...»1 2
Чтобы убедить слушателей, басня (притча) «не должна оста-
навливаться на характеристике действующих лиц», поэтому, со-
гласно Потебне, животные персонажи здесь очень кстати: они по-
добны «шахматным фигурам», «каждая из которых имеет свой ход
действий»3. Введение персонажей-животных — признак односто-
ронней типизации: лиса хитра, волк жаден, осел упрям, глуп и пр.
В отличие от мифа, где природное и культурное еще не разграниче-
ны (Зевс, например, мог обернуться быком, лебедем), «в басне жи-
вотные выступают как отличные от человека существа», но дубли-
рующие его поведение, подменяющие людей как «некий условный
и, главное, обобщающий, типизирующий код»4.
Однако прозрачная басенная аллегория (хитрая лиса — хитрый
человек) всё же упрощает житейскую ситуацию, и замена «шах-
матных фигур» более сложными характерами это обнаруживает.
Так, И. Н. Крамской писал М. Е. Салтыкову-Щедрину по поводу его
сказки «Карась-идеалист»: «Тот порядок вещей, который изобра-
жен в вашей сказке, выходит, порядок нормальный. Там — карась
и щука. Две породы, пожалуй, рыбьих, но все же две породы; т. е.
между ними не может быть никогда сближения. <...> для челове-
1 Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. М., 1990. С. 56—57.
2 Аристотель. Риторика // Античные риторики / Собр. текстов, ст., комм.,
общ. ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978. С. 105.
3 Потебня А. А. Указ соч. С. 65, 62.
4 Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневеково-
го животного эпоса. М., 1987. С. 21—22.
229
ка не есть бесплодная химера заботиться об улучшении людских
отношений»1.
К IV в. до н. э. древнегреческая басня утрачивает серьезное ри-
торическое значение, она «опускается в литературу учебную, пред-
назначенную для детей, и в литературу популярную, обращенную
к необразованной низовой публике»1 2. В дальнейшей истории этого
долговечного жанра этика все более тесно сплетается с эстетикой,
и читателя, даже юного, часто не удовлетворяет «мораль», предпо-
сланная сюжету или завершающая текст (о чем свидетельствует пе-
дагогический опыт В. И. Водовозова3).
На основе басенной и сказочной традиции создается животный
эпос, где представлены более сложные характеры. К ним можно
отнести главного героя «Романа о Лисе» — плута, неистощимого
в озорстве и вызывающего скорее восхищение, чем возмущение.
И. В. Гёте обработал этот эпос, сложившийся во Франции на основе
многочисленных басен к середине XIII века, в своей эпической по-
эме «Рейнеке Лис», написанной гекзаметром.
В литературных сказках, продолжающих фольклорные традиции,
используется мотив превращения человека в животное et vice versa
(«Аленький цветочек» С. Т. Аксакова). Но этот мотив используется
и без всякой связи с мифом, как чистая условность: «Клоп» Маяков-
ского, «Превращение» Ф. Кафки; «Носорог» Э. Ионеско; в «Собачьем
сердце» М. А. Булгаков прибегает к квазинаучной мотивировке сю-
жета.
Антропоморфными персонажами могут быть также растения,
вещи, роботы и т. д. («Сказка о жабе и розе» и «Attalea princeps»
Вс. М. Гаршина, «До третьих петухов» В. М. Шукшина, «Солярис»
Ст. Лемма). Символичны образы птиц в сюжетных стихотворени-
ях М. Горького «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике». К фан-
тастическим образам можно присовокупить персонажа-двойника,
чье фантомное существование обусловлено особым состоянием со-
знания персонажа — его раздвоением («Удивительные приключения
Петера Шлемиля» А. Шамиссо, «Повесть о Савве Грудцыне»).
Разновидностью персонажа является внесценический образ чело-
века, отличающийся особой экономией средств изображения. Так,
в пьесе Чехова «Три сестры» на сцене так и не появляются Протопо-
пов, у которого «романчик» с Наташей, жена Вершинина, директор
гимназии, в которой преподает Кулыгин, но они регулярно упоми-
наются в репликах названных героев, во многом объясняя их по-
1 И. Н. Крамской, его жизнь и художественно-критические статьи. СПб., 1988.
С. 499.
2 Гаспаров М. Л. Античная литературная басня (Федр и Бабрий). М., 1971. С. 19.
3 См.: Водовозов В. В. О педагогическом значении басен Крылова // Журнал
министерства народного просвещения. 1883, декабрь; Выготский Л. С. Психология
искусства. М.: Искусство, 1968. (Гл. 6: «Тонкий яд». Синтез).
230
ведение. А в рассказе «Хамелеон» пристрастия генерала Жигалова
и его брата, любителей собак разных пород, определяют развязку,
хотя названные важные лица не присутствуют при обсуждении про-
исшествия, положенного в основу сюжета.
Иногда внесценический персонаж является главным в произ-
ведении. В драме М. А. Булгакова «Александр Пушкин (Последние
дни)» (1939), где главным героем является поэт, действие происхо-
дит уже после его гибели, подробности и причины которой обсуж-
даются широким кругом лиц. По воспоминаниям Е. С. Булгаковой,
В. В. Вересаев, которого Булгаков познакомил с замыслом пьесы,
«сначала... был ошеломлен, что М. А. решил писать пьесу без Пуш-
кина (иначе будет вульгарной), но, подумав, согласился»1. В «абсур-
дистской» пьесе Э. Ионеско «Стулья» (1956) образы приглашенных
гостей возникают в разговоре стариков-супругов, тщетно их ожи-
давших.
Прием заимствования персонажей, заведомо известных читате-
лям, с одной стороны, обнажает условность искусства, с другой —
способствует семиотической насыщенности текста и его лаконизму:
ведь имена «чужих» героев, вводимых в мир произведения, обычно
давно стали нарицательными, автору не нужно их как-то характе-
ризовать. Так, в «Евгении Онегине» на именины Татьяны приез-
жают «Скотинины, чета седая, / С детьми всех возрастов, считая /
От тридцати до двух годов», а также «Мой брат двоюродный, Буя-
нов, / В пуху, в картузе с козырьком (Как вам, конечно, он знаком)».
Приведя в дом Лариных персонажей Фонвизина с их многочислен-
ным потомством, а также своего «двоюродного брата» — героя
озорной поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (любимой членами
«Арзамаса»), автор поясняет — постфактум — строки из письма Та-
тьяны к Онегину: «Вообрази: я здесь одна, / Никто меня не понима-
ет...» Перед отъездом в Москву мать Татьяны сообщает соседу-по-
мещику о женихах, которым отказала ее дочь:
«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! И снова дело врозь.
(Строфа XXVI.)
Таким образом, из трех претендентов в женихи первый — пер-
сонаж заимствованный, третий — внесценический, с «говорящей»
(как и у Петушкова) фамилией. Одиночество Татьяны было оди-
1 Булгакова Е. С. Дневник. М., 1990. С. 76.
231
ночеством мечтательницы, читательницы «сладостных романов»,
ее пленяли «Любовник Юлии Вольмар, / Малек Адель и де Линар, /
И Вертер, мученик мятежный, / И беспокойный Грандисон, / Кото-
рый нам наводит сон...»1
Заимствование персонажей может преследовать и другие, лите-
ратурно-полемические цели. В русской литературе особенно часто
и виртуозно использовал этот прием М. Е. Салтыков-Щедрин («Днев-
ник провинциала в Петербурге», «Письма к тетеньке», «В среде уме-
ренности и аккуратности» и др.), где «воскрешены» — в новой для
них пореформенной обстановке — герои Грибоедова, Гоголя, Тур-
генева и др. Поражает свобода, с которой Щедрин обращается с из-
вестными литературными персонажами. «Домысливая» биографии
героев, сатирик придумывает для них новые занятия и должности,
с учетом конъюнктуры пореформенного времени. В «Письмах к те-
теньке» Ноздрев издает и редактирует газету «Помои», где Репети-
лов ведет отдел хроники; в «Господах Молчалиных» (цикл «В среде
умеренности и аккуратности») Молчалин вспоминает о десятилет-
нем директорстве в департаменте «Государственных Умопомра-
чений» не кого иного, как Чацкого, которому в пьесе Грибоедова
было «прислуживаться тошно» (в стойкость дворянского либерализ-
ма сатирик не верил). Писатель устанавливает новые, непредска-
зуемые родственные связи: в «Господах Молчалиных» выясняется,
что Рудин — племянник Репетилова, а Софья Фамусова вышла-таки
за Чацкого, после же его смерти из-за юридически безграмотного
завещания вынуждена судиться с Загорецким, оказавшимся «внуча-
тым братом» покойного. В том же произведении появляются новые
лица с красноречивой родословной: адвокаты Балалайкин — побоч-
ный сын Репетилова (от Стешки-цыганки) и Подковырник-Клещ —
побочный сын Чичикова (от Коробочки). За всей этой игрой во-
ображения очевиден приговор, который Щедрин выносит своему
времени: увы, поприще комических героев Грибоедова и Гоголя
не сузилось, а расширилось. Как отметил в «Письмах к тетеньке»
один из персонажей: «Удивительно, как быстро растут люди в наше
время! Ну, что такое был Ноздрев, когда Гоголь познакомил нас
с ним, и посмотри, как он... вдруг вырос!»1 2
Позднее героев «Мертвых душ» «воскресил» М. А. Булгаков
в комической прозаической «поэме» «Похождения Чичикова», где
действие происходит в Москве начала 1920-х годов. Новые аферы
Чичикова, разъезжающего по Москве уже не в бричке, а «в авто-
мобиле», и легко добывающего в разных учреждениях, пользуясь
царящими там хаосом и бюрократизмом, уже не десятки и сотни,
а «миллиарды» рублей, привиделись автору в «диковинном сне»:
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 4. М., 1960. С. 104, 70, 58, 141—142.
2 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. Т. 14. М.: Худож. лит., 1972. С. 415.
232
«Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугаси-
мая лампада с надписью “Мертвые души”, шутник-сатана открыл
двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него беско-
нечная вереница. Манилов в шубе, на больших медведях, Ноздрев
в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Пе-
трушка, Фетинья... А самым последним тронулся он — Павел Ива-
нович Чичиков в знаменитой своей бричке. И двинулась вся ватага
на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные проис-
шествия. А какие — тому следуют пункты...»1
Персонажную сферу литературы составляют не только индиви-
дуальные, но и собирательные образы (восходящие к хору в древне-
греческой драме). Здесь число лиц обычно мыслится неопределен-
но большим: изображение Полтавского боя в «Полтаве» Пушкина,
Бородинского сражения у Лермонтова, толпа в «Соборе Парижской
Богоматери» В. Гюго, базар в «Чреве Парижа» Э. Золя, рабочая
слободка в романе М. Горького «Мать». Наряду с собирательными
можно выделить групповые образы, куда входит небольшое число
персонажей, представляющих собой единое целое: «семь времен-
но-обязанных» крестьян в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо»; «старухи», «музыканты», «гости», «пьяницы» в пьесе
«Жизнь человека» Л. Н. Андреева. В литературе XIX—XXI вв. интерес
к проблемам народности, социальной психологии, героя и толпы
стимулировал широкое введение в текст массовых сцен.
Приведем одну из них — описание многолюдной площади в За-
порожской Сечи из повести Гоголя «Тарас Бульба». Тарасу и его сы-
новьям открывается живописное зрелище:
«Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась
рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он дер-
жал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила
дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой
запорожец, заломивши шапку чертом и вскинувши руками. Он кричал только:
"Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христи-
анам!" И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему
по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых вырабо-
тывали довольно мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти
на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись вприсядку и били круто
и крепко плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воз-
духе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами
сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце.
Чуприна развивалась по ветру, вся открыта была сильная грудь; теплый зим-
ний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. "Да сними
хоть кожух! — сказал, наконец, Тарас. — Видишь, как парит!"—"Не можно!"—
кричал запорожец. "Отчего?" — "Не можно; у меня уж такой нрав: что скину,
1 См.: Булгаков М. А. Похождения Чичикова. М., 1990. С. 140.
233
то пропью". А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане,
ни шитого платка; все пошло куда следует.Толпа росла...»1
Стихия безудержного веселья, лихой пляски, самозабвения за-
хватывает всех на площади; казаки едины в охватившем их порыве.
Комичны отдельные детали, но не широта ликующей души — всех
вместе и каждого в отдельности.
‘V -л-
Разнообразие видов персонажа вплотную подводит к вопро-
су о предмете художественного познания. Согласно современным
эстетическим воззрениям, им являются «человеческие сущности,
т. е. прежде всего социальные»1 2. Применительно к эпике и драме
это характеры (от гр. character — признак, отличительная черта),
т. е. общественно значимые черты, проявляющиеся с достаточной
отчетливостью в поведении, чувствах и умонастроении индивиду-
ума.
Однако такое понимание основного предмета литературы скла-
дывалось постепенно. Поскольку в литературе и эстетике само от-
ношение к характерам и принципы его изображения исторически
изменялись, целесообразно сначала остановиться на периоде «тра-
диционалистского художественного сознания», охватывающего
«эпохи античности, средневековья и начала нового времени (т. е.
с середины I тысячелетия до н. э. по вторую половину XVIII в.)»3.
Интерес к характерам людей и их отражению в поэзии очевиден
в античных «риториках», «поэтиках» и близких к ним сочинениям.
Прежде чем рассмотреть категорию характера в «Поэтике» Аристо-
теля (посвященной поэзии), остановимся на его «Риторике», где
речь идет о характерах в самой жизни. Здесь перечислены «стра-
сти», свойственные человеку, причем для их описания нередко при-
водятся цитаты из поэм Гомера и греческих трагедий.
Аристотель подробно останавливается на полярных «страстях»:
гнев / милость, любовь / ненависть, страх / смелость, стыд / бес-
стыдство и др. Его рассуждения отличаются большой тонкостью.
Например, он связывает гнев и с чувством неудовольствия (кото-
рое вызывает человек, выказавший «пренебрежение к нам самим,
или к тому, что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не следо-
вало»), и одновременно с «удовольствием, вследствие надежды на-
казать, так как приятно думать, что достигнешь того, к чему стре-
мишься». Цитируются строки из «Илиады» Гомера о гневе:
1 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. М., 1959. С. 52—53.
2 Буров А. И. Эстетическая сущность искусства. М., 1956. С. 59.
3 Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Ка-
тегории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литератур-
ные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 15.
234
Много слаще, чем мед, стекает он в грудь человека,
После того же все больше в груди разрастается дымом1.
«Милость» определяется как «прекращение и успокоение гнева».
Он проходит быстрее по отношению к тем, кто «признает себя до-
стойным наказания»1 2.
Наряду со «страстями» (видами пафоса) Аристотель останавли-
вается на «нравах» (этосах), свойственных возрасту (юность, зре-
лость, старость), а также людям «благородного происхождения»,
«богатым», «могущественным (обладающим властью)», «счастли-
вым (удачливым)». Здесь Аристотель также прибегает к антитезам.
Так, юноши «легковерны, потому что еще не во многом были обма-
нуты. Они исполнены надежд, потому что юноши так разгорячены
природой, как люди, упившиеся вином; вместе с тем [они таковы],
потому что еще не во многом потерпели неудачу. Они преимуще-
ственно живут надеждой, потому что надежда касается будущего,
а воспоминание — прошедшего; у юношей же будущее продолжи-
тельно, прошедшее же кратко: в первый день не о чем помнить, на-
деяться же можно на всё. Их легко обмануть вследствие сказанного:
они легко поддаются надежде»3. Противоположные черты характе-
ра свойственны старикам: «Они подозрительны вследствие своей
недоверчивости, а недоверчивы вследствие своей опытности. <... >
Они малодушны, потому что жизнь смирила их; они не жаждут ни-
чего великого и необыкновенного, но лишь того, что полезно для
существования. Они не щедры, потому что имущество — одна из не-
обходимых вещей, а вместе с тем они знают по опыту, как трудно
приобрести и как легко потерять. <... > И они более живут воспоми-
нанием, чем надеждой.. .»4 Зрелые люди «по своему характеру будут
между указанными возрастами, не обладая крайностями ни того,
ни другого...<...> Тело же достигает цветущей поры от тридцати
до тридцати пяти лет, а душа — около сорока девяти лет»5.
К этому сопоставлению трех возрастов восходят соответствую-
щие характеристики в «поэтиках». Так, у Н. Буало «юнец неукро-
тим: он безрассуден, страстен»; старик «в делах и замыслах расчет-
ливость хранит, / Возносит прошлый век, а нынешний бранит...»;
зрелый муж «ловок и хитер, умеет льстить вельможам, / Всегда
старается заглядывать вперед, / Чтоб оградить себя в грядущем
от забот»6.
1 Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1978. С. 72—73. Строки
из Гомера даны в переводе В. В. Вересаева.
2 Там же. С. 77.
3 Там же. С. 96.
4 Там же. С. 97—98.
5 Там же. С. 98—99.
6 Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 93.
235
Отметим, что за границами возрастных характеристик остается
детство: признание этой поры человеческой жизни как самоцен-
ной и само появление в литературе детских персонажей, облада-
ющих характерами (не просто необходимых по ходу сюжета, как
в «Медее» Еврипида), начинается с эпохи романтизма. «Романтизм
установил культ ребенка и культ детства, — пишет Н. Я. Берков-
ский. — XVIII век до них понимал ребенка как взрослого маленько-
го формата, даже одевал детей в те же камзольчики, прихлопывал
их сверху паричками с косичкой и под мышку подсовывал шпажон-
ку. С романтиков начинаются детские дети, их ценят самих по себе,
а не в качестве кандидатов в будущие взрослые»1.
Но вернемся к античности. Следуя за своим учителем Аристоте-
лем и разделяя его интерес к этике, Феофраст написал книгу очер-
ков «Характеры», где представил тридцать человеческих пороков,
как то: льстивость, болтливость, тщеславие, высокомерие, трусость
и др. Различая степени развития того или иного порока, он рас-
сматривает его в двух или даже трех очерках, например: «Крохо-
борство» («мелочное корыстолюбие»); «Скаредность» («низменная
боязнь расходов»); «Подлокорыстие» («стремление к постыдной
корысти»). Выразительны примеры каждого порока: так, крохобор
«никому не позволит ни съесть фиги из его сада, ни пройти через
его поле, ни поднять опадышей маслины или финика»1 2. Традицию,
заложенную Феофрастом, продолжают сатирические «зерцала», на-
пример, «Корабль дураков» С. Бранта (1494), «Размышления, или
Моральные изречения и максимы» Ф. де Ларошфуко (1665), «Харак-
теры или нравы нашего времени» Ф. де Лабрюйера (1688) и др.
А теперь перейдем к «Поэтике» Аристотеля, где ведущей катего-
рией является литературный жанр, предписывающий выбор опре-
деленных характеров. По Аристотелю, одно из различий между
трагедией и комедией — в предмете подражания: «одна стремит-
ся подражать худшим, другая лучшим людям, нежели нынешние»3.
«Лучших людей» изображает и эпопея: «...в одном отношении Со-
фокл как подражатель подобен Гомеру, ибо оба они подражают хоро-
шим людям...»4 Однако в трагедии (жанре, наиболее полно рассмо-
тренном Аристотелем) главное все-таки не характеры, но действие:
«Итак, <в трагедии > не для того ведется действие, чтобы подражать
характерам, а < наоборот >, характеры затрагиваются <лишь> че-
рез посредство действий; таким образом, цель трагедии составляют
события, сказание, а цель важнее всего. Кроме того, без действия
1 Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1972. С. 42—43.
2 Феофраст. Характеры. М., 2010. С. 24.
3 Аристотель. Поэтика/ Перевод М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная
литература. М.: Наука, 1978. С. 114.
4 Там же. С. 115.
236
трагедия не возможна, а без характеров возможна; трагедии очень
многих новейших поэтов — без характеров»1.
Всё же из шести частей трагедии (сказание, характеры, речь,
мысль, зрелище и музыкальная часть) вторая часть — это харак-
теры, под которыми Аристотель понимает «то, что обнаруживает
склонность: какова она в тех <положениях>, где неясно, что пред-
почитать и чего избегать; поэтому не имеют характера те речи,
в которых совсем нет того, что говорящий предпочитает и чего
избегает»2. Характеры в трагедии должны быть «хорошими» (т. е.
в их речах должен быть «хороший» выбор), «сообразными», «по-
хожими», «последовательными»3. Соотнося характеры с действи-
ем и целью трагедии, Аристотель находит, что более всего для нее
подходит «такой человек, который не отличается ни добродете-
лью, ни праведностью, и в несчастье попадает не из-за порочности
и подлости, а в силу какой-то ошибки, быв до этого в великой сла-
ве и счастии, как Эдип, Фиест и другие видные мужи из подобных
родов»4.
Распределение характеров (а также других предметов «подража-
ния») по жанрам на протяжении многих веков было регулятором
поэтического творчества, в котором различались три стиля: вы-
сокий («Энеида» Вергилия), средний (его же «Георгики»), низкий
(его же «Буколики»). «В средние века стиль в этой теории сместил-
ся на второй план, уступая место сословной иерархии персонажей
и ценностной иерархии жанров, — отмечает М. Л. Андреев. —
В средневековых поэтиках отношения трех стилей изображались
так называемым “колесом Вергилия”:
высокий средний низкий
Сословие — воин, государь земледелец пастух
Имя — Гектор, Аякс Триптолем, Целий Титир, Мелибей
Животное — конь бык овца
Орудие — меч соха посох
Место — город, замок деревня пастбище
Растение — лавр, кедр фруктовое дерево бук»5.
1 Аристотель. Поэтика/ Перевод М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная
литература. М.: Наука, 1978. С. 122.
2 Там же. С. 123.
3 Там же. С. 135.
4 Там же. С. 131.
5 Андреев М. Л. [Комментарий] Кастельветро Л. «Поэтика» Аристотеля, изло-
женная на народном языке и истолкованная // Литературные манифесты запад-
ноевропейских классицистов / Собр. текстов, вступ. ст., общ. ред. Н. П. Козловой.
Изд-во Моск, ун-та, 1980. С. 518.
237
Однако и в рамках традиционалистской поэтики, призывающей
поэтов прежде всего подражать классикам жанра, литература по-
степенно изменялась. Это проявлялось и в рождении новых жанров,
в особенности романа с его вымышленными героями, и во всё боль-
шем внимании к характерам.
В «Поэтике» Буало (1674) подчеркивается важность индивидуали-
зации характера. Даже в высоких жанрах должны быть представле-
ны герои с различными характерами:
Герой, в ком мелко все, лишь для романа годен,
Пусть будет он у вас отважен, благороден,
Но все ж без слабостей он никому не мил:
Нам дорог вспыльчивый, стремительный Ахилл;
Он плачет от обид — нелишняя подробность,
Чтоб мы поверили в его правдоподобность;
Нрав Агамемнона высокомерен, горд;
Эней благочестив и в вере предков тверд:
Герою своему искусно сохраните
Черты характера среди любых событий1.
Решительный поворот в сторону характеров как главному пред-
мету познания и изображения наступает в эпоху Просвещения.
«Представление о человеке как главной теме поэзии сейчас кажется
вполне тривиальным, — пишет А. Е. Махов; — однако утверждалось
оно в поэтике с трудом и вопреки авторитету Аристотеля, для кото-
рого фабула — главное в трагедии...»1 2
В драме, двумя полюсами которой издавна были трагедия и коме-
дия (т. е. высокий и низкий жанры), оформляется «средний» драмати-
ческий жанр. Д. Дидро пишет в этом жанре свои пьесы («Побочный
сын», 1757, «Отец семейства», 1758), сопровождая их пояснительны-
ми статьями. В «Беседах о “Побочном сыне”» (1757) обосновывается
введение в жанровую систему «среднего», или «серьезного», драма-
тического жанра. Ведь «в каждом моральном явлении различаются
середина и две крайности. <...> Преимущество серьезного жанра
в том, что, занимая место между двумя другими жанрами, он имеет
возможность подняться до одного или спуститься до другого»3. Реши-
тельно утверждает верховенство характера над действиями Г. Э. Лес-
синг. В «Гамбургской драматургии» (1767—1768) он считает возмож-
ным, ради выпуклого изображения характеров, даже «отступать
от исторической истины. Во всем, что не относится до характеров,
он может отступать, насколько хочет. Только характеры священны
для него; придать им больше силы, представить их в более ярком све-
те — вот все, что он может прибавить от себя»4.
1 Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 81.
2 Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. М.: 2010. С. 39.
3 Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 177—178.
4 Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.-Л., 1936. С. 92.
238
На смену традиционалистскому художественному сознанию,
начиная со второй половины XVIII века, приходит «индивидуаль-
но-творческое сознание», и центральной категорией поэтики ста-
новится автор. Разрушается «традиционная система жанров <... >
и на первое место выдвигается роман, своего рода “антижанр”,
упраздняющий привычные жанровые требования»1. И важнейшей
«внутренней» темой романа, по М. М. Бахтину, становится «тема не-
адекватности герою его судьбы и его положения»1 2.
В эпике и драме именно характеры, как правило, более всего
интересуют писателей и критиков, о чем свидетельствуют их мно-
гие суждения. Автор наделяет своего персонажа, без традицион-
ной оглядки на жанровую традицию (за исключением жанра басни
и пр.), характером односторонним или многосторонним, цельным
или противоречивым, статичным или развивающимся, вызываю-
щим уважение или презрение и т. д. «Я в нем хотел изобразить это
равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную
старость души, которые сделались отличительными чертами моло-
дежи 19-го века»3, — разъяснял Пушкин в 1822 г. характер главного
героя поэмы «Кавказский пленник». Л. Н. Толстой в дневнике (1890)
писал о противоречиях в характерах как условии жизнеподобия:
«Мы пишем наши романы хотя и не так грубо, как бывало: злодей —
только злодей и Добротворов — добротворов, но все-таки ужасно
грубо, одноцветно, люди ведь все точно такие же, как я, то есть пе-
гие — дурные и хорошие вместе...»4 «Пегими» были для Толстого
и люди прошлых эпох. К архетипам многих современных характеров,
созданным еще в эпоху Возрождения, привлек внимание И. С. Тур-
генев в статье «Гамлет и Дон-Кихот» (1860). О трудности изобра-
жения «положительно прекрасного человека» размышлял Ф. М. До-
стоевский, приступая к роману «Идиот». Среди предшественников
своего героя он называет Дон-Кихота из романа М. де Сервантеса:
«...из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего за-
конченнее Дон-Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что
в то же время и смешон. Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая
мысль, чем Дон-Кихот, но все-таки огромная) тоже смешон и тем
только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему
себе цены прекрасному — а стало быть, является симпатия и в чита-
теле. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора»5.
С утверждением романтизма уходит в прошлое четкое деление
персонажей на «положительных» и «отрицательных». Писатели
1 Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В.
Указ. соч. С. 33.
2 Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бах-
тин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 479.
3 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М., 1962. Т. 9. С. 55.
4 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1985. Т. 21. С. 55.
5 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. 28. Кн. 2. Л., 1986. С. 251.
239
и критики иронизируют над «идеальными» героями и сюжетными
схемами нравоучительных романов, незамысловатая модель кото-
рых уместилась в одной строфе «Евгения Онегина»:
Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок1.
Свое понимание неоднозначных характеров писатель передает
читателю, домысливая и претворяя прототипы, даже если это исто-
рические лица (так, русский император в романах «Петр и Алек-
сей» Д. С. Мережковского и «Петр Первый» А. Н. Толстого предстает
очень разным). Тем более свободен автор, создавая вымышлен-
ные индивидуальности. Герои часто вызывают споры у читателей
и критиков (Базаров в оценке М. А. Антоновича, Д. И. Писарева
и Н. Н. Страхова1 2; Катерина Кабанова в понимании Н. А. Добро-
любова и Д. И. Писарева3). В одном и том же персонаже критики
видят не один и тот же характер. Конечно, споры критиков в зна-
чительной мере объясняются (во всяком случае, в приведенных
примерах) их разными убеждениями, общественно-политически-
ми взглядами, но основания для разночтений заложены и в самих
произведениях4.
-л- -л-
Персонаж как характер и как образ имеют разные критерии
оценки. Если характер вызывает к себе этически окрашенное от-
ношение, то его изображение (образ) оценивается с эстетической
точки зрения, т. е. в зависимости от того, насколько полно и ярко
воплощен характер. Как художественные образы Гобсек, Плюшкин,
Иудушка Головлев прекрасны, чего нельзя сказать об их характерах.
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М., 1960. Т. 3. С. 58. О романах, соответству-
ющих этой схеме, см.: Бродский Н. Л. Евгений Онегин. Роман Пушкина. М.: Про-
свещение, 1964. С. 183.
2 См.: Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в русской критике. Л., 1986.
3 См.: Русская трагедия: пьеса А. Н. Островского «Гроза» в русской критике
и литературоведении. СПб., 2002.
4 Подробнее см. главу «Читатель».
240
Отвечая на вопрос (поставленный журналом «Москва») о наи-
более близком ему литературном герое, Ю. В. Трифонов выразил
недоумение по поводу самой постановки вопроса: ведь характер
и образ не тождественные понятия. Писатель подчеркнул, что для
него особенно важна «сила воплощения, которую сумел вложить»
автор в создаваемого персонажа: «Поэтому из литературных героев
мне очень близки Родион Раскольников и Поприщин или, к при-
меру, Остап Бендер и Кавалеров, хотя, встретясь с такими людьми
в жизни, я бы не испытывал к ним ничего, кроме неприязни и даже
враждебности. В жизни это были бы чужие люди, а в литературе —
роднее родных»1. Аналогичным, по свидетельству В. М. Волькен-
штейна, было отношение В. И. Качалова к комическому персонажу:
последний «должен вызывать своеобразное чувство любования, так,
чтобы можно было воскликнуть: “Просто прелесть, какая гадость!”»1 2
‘V -л- -л-
Если ценность и прелесть художественного слова часто состоит
в его многозначности, то терминология науки о литературе обязана
быть по возможности чёткой и последовательной. Напомним, что
слово термин (лат.: terminus — предел, граница) восходит к имени
«римского бога межей и пограничных межевых знаков»3; наруше-
ние границ между крестьянскими участками строго преследова-
лось. В системе терминов, используемой в тот или иной период
национальной литературы, каждый термин должен использоваться
в определенном значении.
В то же время лексикон литературоведения и литературной кри-
тики в существенной своей части заимствован из самой литерату-
ры, из суждений писателей, он не герметичен и часто напоминает
об истории слова, о его неодинаковых смыслах в истории культуры.
И приобретённая в «большом времени» (М. М. Бахтин)4 многознач-
ность слов, выполняющих роль терминов, создает подчас не мень-
шие трудности для исследователя, чем «стерильные» неологизмы,
лишенные коннотаций, как то: дискурс, актант, симулякр.
Слово «тип», казалось бы, простое и ясное, давно ставшее рус-
ским5, имеет, согласно «Словарю современного русского литера-
турного языка», девять значений, из них одно (четвертое по счёту)
1 Трифонов Ю. В. Продолжительные уроки. М., 1975. С. 102.
2 Волъкенштейн В. М. Драматургия. М., 1960. С. 171.
3 Словарь античности / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1989. С. 572.
4 Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика
словесного творчества. М.: «Искусство», 1986. С. 393.
5 «Тип, род. пад. -а, впервые в значении “изображение”», Ф. Прокопович [...].
Через франц, type «оттиск, прообраз, тип» из лат. typus от греч. W7io<; м. «удар»,
«оттиск»: W71T0D «бью» // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка:
в 4 т. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1987. Т. 4. С. 60.
241
отнесено к литературному персонажу: «образ в произведениях лите-
ратуры и искусства, в индивидуальных чертах которого воплощены
наиболее характерные признаки лиц определенной категории»1.
В приведенном определении можно выделить два аспекта: 1) тип
как образ, т. е. созданная писателем индивидуальность, воплощаю-
щая общее с большей или меньшей степенью художественной убе-
дительности, иначе говоря, имеется в виду качество художествен-
ности; 2) тип как «лицо определённой категории», т. е. сам предмет
изображения. Разграничение этих разных, хотя и смежных, аспек-
тов: качества и предмета изображения — очень важно в науке о ли-
тературе. Суть проблемы высвечивается при сопоставлении двух
понятий: типизация и типология.
Теория типизации восходит прежде всего к трактовке Г. В. Ф. Ге-
гелем процесса «идеализации» в искусстве, «очищения» предмета
от всего случайного, не существенного для него. Философ уподобил
образ в искусстве «глазу, образующему вместилище души». По его
словам, искусство «каждое своё творение делает тысячеглазым Ар-
гусом, чтобы мы могли видеть в каждой точке этого творения вну-
треннюю душу и духовность. Оно превращает в глаз не только теле-
сную форму, выражение лица, жесты и манеру держаться, но точно
так же поступки и события, модуляции голоса, речи и звука на всем
их протяжении и при всех условиях их проявления, и в этом гла-
зе познается свободная душа в её внутренней бесконечности»1 2.
Так, цель портретиста — «постичь и передать рисуемую им натуру
в её всеобщем характере, в её пребывающем духовном своеобразии.
Одно дело передать лицо спокойно сидящего перед ним человека
в тех поверхностных и внешних чертах, которые представляются
именно в данный момент, и совершенно другое дело изобразить его
истинные черты, выражающие саму душу данного человека»3.
Понятия творческой типизации, типического в искусстве в оте-
чественных работах по эстетике и теории литературы освещаются
обычно с опорой на данный раздел гегелевской эстетики (с оговор-
ками, что теория «идеализации» сохраняет своё значение и за пре-
делами идеалистической философии)4.
Типология же характеров персонажей, — это группировка их
в типы, на основании доминантных свойств. При этом для лите-
1 Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М., 1948—1965.
Т. 15. Стлб. 443.
2 Гегель Г В. Ф. Эстетика: в 4 т. М.: «Искусство», 1968. Т. 1. С. 162—163.
3 Там же. С. 165.
4 См.: Поспелов Г Н. Теория литературы. М.: «Высшая школа», 1978. С. 46—48;
Борее Ю. Б. Эстетика. М.: «Высшая школа», 2002. С. 118—119; Кожинов В. В. Типи-
ческое // Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В. М. Ко-
жевникова и П. А. Николаева. М.: «Советская энциклопедия», 1987. С. 440;
Тамарченко Н. Д. Эстетическая деятельность // Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройт-
ман С. Н. Теория литературы: в 2 т. М.: «Академия», 2004. Т. 1. С. 53; и др.
242
ратуроведа важны как художественно совершенные, типические
образы, так и уязвимые в эстетическом отношении. Ведь класси-
ка — это далеко не вся художественная литература, есть ещё бел-
летристика, составляющая средний, самый широкий литературный
ряд. Она уступает классике по своему художественному качеству,
хотя, конечно, границы между классикой и беллетристикой под-
вижны и репутации писателей меняются. И ещё есть массовая ли-
тература, эстетический «низ», где господствуют шаблоны, стере-
отипы, а не типические образы, отвечающие критериям высокой
художественности1.
При изучении литературного процесса для критика и литера-
туроведа, в особенности мыслящего социологически, интересна
сама частотность обращения писателей (независимо от степени
их одарённости) к тем или иным типам персонажей. Движущаяся
типология персонажей как характеров (одни становятся «героями
времени», другие демонизируются, превращаются в стереотипы,
мишень для пародий, вообще исчезают или перерождаются) в той
или иной мере отражает смену общественных идеалов, ценностных
установок, разное историческое наполнение таких эстетических ка-
тегорий, как героизм, трагизм, комизм, романтика и пр.
Если теория художественной типизации в нашем литературо-
ведении разработана очень основательно, то вопросам типологии
персонажей, соотношения типа и индивидуального характера уде-
ляется гораздо меньше внимания1 2. Более того, сами названные по-
нятия недостаточно разграничены, о чем косвенно свидетельствует
отсутствие в литературоведческих словарях понятия «тип персона-
жа». А ведь оно является родовым по отношению, например, к та-
ким разновидностям, как «маленький», «лишний», «подпольный
человек». В «Литературном энциклопедическом словаре» (1987)
в словник включены «Маленький человек», «Лишний человек» (ав-
тор Ю. В. Манн), но нет статьи о типологии (или типах) персона-
жей3. Названные статьи Ю. В. Манна вошли в «Литературную эн-
1 См. главу «Массовая литература».
2 Из последних работ, посвященных общим вопросам типологии персонажей,
назовем следующие: Художественная антропология. Теоретические и историко-ли-
тературные аспекты. Материалы Международной научной конференции «Поспе-
ловские чтения» — 2009 / под ред. М. Л. Ремневой, О. А. Клинга, А. Я. Эсалнек.
М.: МАКС Пресс, 2011. — 512 с.; Савинков С. С., Фаустов А. А. Аспекты русской
литературной характерологии. М.: Изд-во Кулагиной — Intrada, 2010. — 332 с.; Во-
лодина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения. М.:
«Флинта»; «Наука», 2010. — 256 с.; Чернец Л. В. О типах персонажей в русской ли-
тературе XIX века. М.: МАКС Пресс, 2018. — 216 с.; Characters in Fictional Worlds,
Understanding Imaginary Beings in Literature, Film and other Media / ed. by Jeder J.,
Jannidis F., Schneider R. — Berlin; N. Y.: De Gruyter, 2010. — 596 p.; и др.
3 См.: Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В. М. Ко-
жевникова и П. А. Николаева. М., 1987. С. 204, 207—208.
243
циклопедию терминов и понятий» (2001), где представлены также
«Благородный дикарь» и «Естественный человек», но обобщающей
статьи о типе персонажа опять-таки нет. Статья же «Тип» (занимаю-
щая четыре строки) воспроизводит вышеприведенное определение
из «Словаря современного литературного языка», где понятия об-
раза и типа персонажа не разграничены1. Таким образом, очевидны
лакуны в словниках энциклопедических изданий. В системе терми-
нов, используемых при анализе персонажной сферы литературных
произведений (образ, персонаж, герой, действующее лицо, актор /
актант, характер, тип, типический характер, система персона-
жей и др.), лексема «тип» — самая многозначная1 2. Преодолению
терминологической нечёткости и неизбежных утомительных лого-
махий может способствовать введение в литературоведческий те-
заурус термина «тип персонажа», обозначающее некое множество,
группу персонажей, в характерах которых прослеживается общая
доминанта. Иными словами, тип персонажа следует рассматривать
как инвариант, узнаваемый в конкретных персонажах — его вари-
ациях, но в чистом виде нигде не представленный.
Однако и в творчестве одного писателя, тем более в литературном
процессе, тип персонажа не остается неизменным — в особенности
в литературе последних столетий, где преобладают многосторон-
ние и развивающиеся характеры. Можно говорить, соответственно,
об эволюции самого типа персонажа, его зарождении, раскрытии
своего потенциала, особой актуальности, — но также и об уходе
в тень, перерождении, превращении в стереотип, неожиданном
воскрешении. Словом, сама типология персонажей — движущаяся.
О смене ведущих типов персонажей, героев и антигероев времени,
много размышляли сами русские классики. Герои пьес А. Н. Остров-
ского, которых критики разных направлений часто сближали как
типы, либо ценя, либо упрекая за это драматурга, — благодарный
материал для анализа соотношения типа и характера.
В письме к Н. Я. Соловьеву (11 октября 1879 г.) по поводу их об-
щей пьесы «Дикарка» Островский ободрял своего молодого соавтора:
«Каждое время имеет свои идеалы, и обязанность каждого честного
писателя (во имя вечной правды) разрушать идеалы прошедшего, ког-
да они отжили, опошлились и сделались фальшивыми. Так на моей
памяти отжили идеалы Байрона и наши Печорины, теперь отживают
идеалы 40-х годов, эстетические дармоеды вроде Ашметьева, кото-
1 См.: Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост.
А. Н. Николюкин. М., 2001. Стлб. 1074.
2 См.: Чернец Л. В. Персонажная сфера литературных произведений: понятия
и термины // Художественная антропология: Теоретические и историко-литера-
турные аспекты. Материалы Международной научной конференции «Поспеловские
чтения — 2009» / Под ред. М. Л. Ремневой, О. А. Клинга, А. Я. Эсалнек. М., 2011.
С. 22—35 ; Чернец Л. В. О типах персонажей в русской литературе XIX века. М., 2018.
244
рые эгоистически пользуются неразумием шальных девок вроде Ди-
карки, накоротке поэтизируют их и потом бросают и губят. Идея эта
есть залог прочного литературного успеха нашей пьесы и, как смелое
нападение на тип, ещё сильный и авторитетный, в высшей степени
благородна»1.
Богатство и разнообразие типов персонажей, в особенности
введение в литературу нового самобытного героя (или антигероя)
времени, — важнейший критерий оценки творчества писателя.
Для А. А. Григорьева А. С. Пушкин — «наше всё», прежде всего по-
тому что он «заклинатель и властелин многообразных стихий»1 2. Его
душевная борьба с различными идеалами увенчивается созданием
национальных типов: «мрачный сплин и язвительный скептицизм
Чайльд-Гарольда заменился в лице Онегина хандрою от праздности,
тоскою человека, который внутри себя гораздо проще, лучше и до-
брее своих идеалов...», тип Дон-Жуана южных легенд в «Каменном
госте» смягчается «русским тонко критическим чувством, — из чи-
сто русской удали, беспечности, какой-то дерзкой шутки с прожи-
гаемою жизнию, какой-то безусталой гоньбы за впечатлениями...»,
в пушкинском герое критик видит след «Чурилы Плёнковича, это-
го Дон-Жуана мифических времён, порождения нашей народной
фантазии»3. Особой заслугой Пушкина Григорьев считает создание
типа Ивана Петровича Белкина — «почти любимого типа поэта
в последнюю эпоху его деятельности»; принимая взгляд Белкина,
поэт рассказывает не только известный цикл повестей, но и «мно-
гие добродушные истории, между прочим “Летопись села Горохина”
и семейную хронику Гриневых»4. В Белкине, согласно Григорьеву,
отразилась «критическая сторона души» Пушкина, который «во-
все не думал отрекаться от прежних своих сочувствий или считать
их противузаконными», в нем, как и в лермонтовском Максиме Мак-
симыче, критик видит «вовсе не героев, но контрасты типов, кото-
рых величие оказалось на нашу душевную мерку несостоятельным»5.
В суждениях Григорьева о типах, введённых Пушкиным в рус-
скую литературу, обращает на себя внимание указание на их богат-
ство, разнообразие, а также анализ типа на материале ряда произве-
дений: так, рассказчик в «Капитанской дочке», Максим Максимыч,
1 Островский А. Н. Поли. собр. соч.: в 12 т. М.: «Искусство», 1979. Т. 11. С. 662.
2 Григорьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья пер-
вая // Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М.: «Современник», 1886. С. 78,
84.
3 Там же. С. 84—85.
4 Там же. С. 88.
5 Там же. С. 92. Между А. А. Григорьевым и Н. Н. Страховым, последовате-
лем его «органической» критики, были существенные расхождения в понимании
и оценке белкинского («смирного») типа. См.: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очер-
ки. М.: «Наука», 1974. С. 132—139.
245
некоторые персонажи рассказов Л. Н. Толстого суть воспроизведе-
ния белкинского типа. Сопоставление вариаций типа, созданных
в разное время в произведениях разных жанров и часто разными
авторами, позволяет проследить его эволюцию.
В суждениях многих русских классиков и критиков XIX века важ-
нейшее мерило таланта — введение в литературу нового типа персо-
нажа. «Но неужели ты считаешь роман Писемского прекрасным? —
пишет Ф. М. Достоевский из Семипалатинска М. М. Достоевскому
о «Тысяче душ». — Это только посредственность, и хотя золотая,
но только всё-таки посредственность. Есть ли хоть один новый ха-
рактер, созданный, никогда не являвшийся? Всё это уже было и яви-
лось давно у наших писателей-новаторов, особенно у Гоголя. Это всё
старые темы на новый лад» (31 мая 1858 г.)1. В «Дневнике писателя»
за 1873 год Ф. М. Достоевский сетует на то, что «наши художники»
начинают «обрабатывать данный тип в искусстве уже тогда, когда
большею частью он проходит и исчезает, вырождается в другой, со-
образно с ходом эпохи и её развития, так что всегда почти старое
подают нам на стол за новое. <...>... только гениальный писатель
или уж очень сильный талант угадывает тип современно и подаёт
его своеобразно; а ординарность только следует по его пятам, бо-
лее или менее рабски и работая по заготовленным уже шаблонам»1 2.
(Заметим в скобках, что для историка литературы представляют ин-
терес и произведения, написанные по «шаблонам», с их, по словам
Достоевского, «вывескной, малярной работой»3, поскольку они ин-
формируют о читательском спросе на ту или иную тему.)
Однако не менее, чем появление в литературе ещё только форми-
рующегося в общественной жизни типа, значима и его художествен-
ная «биография»: прототипы (жизненные и литературные), этапы
развития, итоги. В этом отношении антиподом Достоевского можно
считать И. А. Гончарова. Он признавал существование типа (в жиз-
ни и в литературе) только в случае его многократного проявления
и энергично спорил по данному вопросу с Достоевским: «Тип, я раз-
умею, с той поры и становится типом, когда он повторился много
раз и или много раз был замечен, пригляделся и стал всем знаком»
(письмо Ф. М. Достоевскому от 14 февраля 1874 г.)4. И хотя безус-
ловного победителя в этом споре между писателями не оказалось,
следует признать, что литературные предшественники были не толь-
ко у Обломова, но и у главного героя романа «Идиот», где «главной
мыслью» было изобразить «положительно прекрасного человека».
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л.: «Наука», 1972—1990. Т. 28. Кн. 1.
С. 312.
2 Там же. Т. 21. С. 89.
3 Там же. С. 88.
4 Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1952—1955.
Т. 8. С. 459.
246
Сознавая, что эта «задача безмерная», писатель всё же упоминает
как предшественников Мышкина такие «прекрасные лица в литера-
туре христианской», как Дон-Кихот, Пиквик и Жан Вальжан1.
Обращение к золотому веку русской литературы позволяет уве-
ренно сказать, что типом персонажа является не отдельный худо-
жественный образ человека: писатели связывали с типом всег-
да некое множество лиц. Так, А. П. Чехов писал А. С. Суворину
(7 янв. 1889) о своей пьесе «Иванов»: «Я лелеял дерзкую мечту сум-
мировать всё то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих людях
и своим Ивановым положить предел этим писаньям. Мне казалось,
что всеми русскими беллетристами и драматургами чувствова-
лась потребность рисовать унылого человека и что все они писали
инстинктивно, не имея определенных образов и взгляда на дело.
По замыслу-то я попал приблизительно в настоящую точку, но ис-
полнение не годится ни к чёрту. Надо было бы подождать!»1 2 Суро-
вый самосуд автора можно оспорить, но показателен замысел —
«суммировать все то, что доселе писалось...» Иванов мыслился как
один из многих, что подчеркивала и сама его фамилия.
И. С. Тургенев, тяжело переживший критическую бурю, разраз-
ившуюся из-за образа Базарова, размышляет в статье «По поводу
“Отцов и детей”» (1869): «Вся причина недоразумений, вся, как
говорится, “беда” состояла в том, что воспроизведённый мной ба-
заровский тип не успел пройти через постепенные фазисы, через
которые обыкновенно проходят литературные типы. На его долю
не пришлось — как на долю Онегина или Печорина — эпохи идеали-
зации, сочувственного превознесения. В самый момент появления
нового человека — Базарова — автор отнёсся к нему критически...
объективно. Это многих сбило с толку — и кто знает! в этом была,
быть может, если не ошибка, то несправедливость. Базаровский тип
имел по крайней мере столько же права на идеализацию, как пред-
шествовавшие ему типы»3. Писатель здесь размышляет не только
о своем герое, но о «базаровском типе», о «фазисах», через которые
он должен был пройти.
Показателем формирования типа персонажа обычно является его
устойчивая номинация. Чаще всего её вводил писатель, но свою леп-
ту вносили и критики. Иногда предлагалось несколько номинаций.
Так, после появления повести Тургенева «Дневник лишнего челове-
ка» (1850) критики относили к «лишним людям» не только героев
его последующих произведений (Рудин, Берсенев, братья Кирсано-
вы, Нежданов и др.), но и предшественников (Василий Васильевич
1 Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 28. Кн. 2. С. 251.
2 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. М.: «Наука», 1974—1982. Письма:
в 12 т. М.: «Наука», 1976. Т. 3. С. 132.
3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. М.: «Наука», 1983.
Т. 11. С. 91.
247
из рассказа «Гамлет Щигровского уезда», заглавие которого тоже
претендовало на название типа). Другую номинацию типа: «слабый
человек» — предложил П. В. Анненков в статье о повести «Ася» —
«Литературный тип слабого человека» (1858). В 1860-е годы, осо-
бенно после проведённой Н. А. Добролюбовым в статье «Что такое
обломовщина?» (1859) эпатирующей параллели (Онегин — Печо-
рин — Тентетников — Бельтов — Рудин — Обломов), названных
героев в радикальной демократической критике скопом стали на-
зывать «лишними людьми». Это определение прочно приросло
и к Онегину (которого в 1844 г. Белинский назвал «страдающим
эгоистом»), и к Печорину (ведь он, по Белинскому, «Онегин нашего
времени»)1. Вообще история появления, соперничества номинаций,
утверждения одной из них заслуживает специального изучения.
В зеркале метких номинаций отражается движущаяся типология
персонажей. Напомню некоторые из них, отсылающие к творче-
ству писателей, неоднократно возвращающихся к притягивающему
их типу: двойник, мечтатель, подпольный человек (Достоевский),
самодур, деловой человек, красавец мужчина (А. Н. Островский),
нигилист, опростелые (Тургенев), новые люди и разумные эгоисты
(Н. Г. Чернышевский), помпадуры и помпадурши, господа ташкент-
цы (М. Е. Салтыков-Щедрин), кисейная девушка (Н. Г. Помялов-
ский), праведник (Н. С. Лесков), кающийся дворянин (Н. К. Михай-
ловский), хмурые люди, человек в футляре (Чехов). Сюда же следует
отнести собственные имена персонажей, получившие нарицатель-
ное значение (т. е. прономинации): пушкинская Татьяна, Чацкий,
Хлестаков, Обломов, Платон Каратаев. И в литературе XX—XXI ве-
ков типы персонажей продолжают интересовать писателей и крити-
ков, о чем свидетельствуют выразительные номинации — например,
чудик (название рассказа В. М. Шукшина), человек свиты, антили-
дер (названия рассказов В. М. Маканина, запечатлевшего названные
типы в ряде персонажей). Приобрели нарицательное значение та-
кие имена, как Павка Корчагин, Василий Теркин, Остап Бендер.
Любое понятие следует рассматривать в системе, в его соотно-
шении со смежными понятиями. В данном случае нужно соотнести
тип персонажа с индивидуальным характером изображенного лица.
В современном литературоведении обозначилась тенденция трак-
товать тип как «характер стандартизованный, не являющийся или
переставший быть формой самодеятельности человека и выражени-
ем его способности к выбору»1 2; в качестве примера типа приводят-
ся гоголевский Башмачкин. Такое ограничение объекта типологии
расходится с традицией русской критики, со словоупотреблением
1 См.: Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1952—1959.
Т. 4. С. 265. Т. 7. С. 458.
2 Тамарченко Н. Д. Тип // Поэтика. Словарь актуальных понятий и терминов /
Гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной Intrada — 2008. С. 263.
248
самих писателей. Конечно, персонажи старинных сатирических
«зерцал» (наподобие «Корабля дураков» С. Бранта) или римской
паллиаты, с её чёткой семиотикой масок, — воплощение совсем
иной концепции личности, чем в «романизированных», по выра-
жению М. М. Бахтина, жанрах литературы Нового времени, когда
окончательно сломалось «колесо Вергилия».
«Зазор» между индивидуальным характером персонажа и ти-
пом, к которому его можно отнести, в новой литературе, где пер-
венствуют противоречивые и развивающиеся характеры, конечно,
очень велик. Он несоизмерим с соотношением характера и типа
в античности или в средневековье. Как отмечает Г. А. Стратанов-
ский, комментатор «Характеров» Феофраста, «в термине “харак-
тер” мы теперь... делаем акцент на личной особенности индивида,
которая сообщает ему печать неповторимости, исключительности
и действует как живая сила развития. Для грека же, наоборот, ха-
рактер — это “штамп” (для чекана монет, который никогда не пред-
назначен для одного экземпляра), “тип”, “застывшая маска”. Оттого
Феофраста не интересует “личность”, но всегда “тип”»1.
О литературе Нового времени можно сказать так: писатель ри-
сует неповторимую личность своего героя, прослеживает развитие
его характера, но одновременно его интересуют и типовые черты.
Наиболее продуктивным и соответствующим традиции золотого
века нашей литературы представляется понимание типа как общих
(типовых) черт, или доминанты характеров персонажей, обычно
отраженной в номинации типа, иначе говоря, как инварианта, про-
слеживаемого в вариациях.
-л- -л-
Рассмотрим вариации одного типа в произведениях Чехова.
«Человек в футляре» — эта меткая метафора быстро стала номи-
нацией литературного типа. А. М. Скабичевский отметил в 1898 г.
(сразу после публикации рассказа): «...личность Беликова являет-
ся замечательным художественным откровением г. Чехова, одним
из тех типов, которые, вроде Обломова или Чичикова, выражают
собою или целую общественную среду, или дух своего времени»1 2.
А в 1915 г. В. Ф. Переверзев в рецензии на сборник Н. И. Тимков-
ского характеризует воссозданный писателем в повести «Сергей
Шумов» «мир» гимназии: «...это мир торжествующих по всему
фронту “человеков в футляре”...»3 Повесть Тимковского была напи-
сана в 1896 г., за два года до появления чеховского шедевра, т. е.
1 Стратановский Г. А. Феофраст и его «Характеры» // Феофраст. Характеры.
СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 84.
2 Сын отечества. 1898. № 238, 4 сентября.
3 Переверзев В. Ф. Тимковский. Сергей Шумов. М., 1915 // Современный
мир. 1915. № 11. С. 163—164 (раздел «Критика и библиография»).
249
чеховская номинация типа применена к персонажам, созданным
до Чехова. К этому же типу, но на поздней стадии его эволюции,
В. А. Келдыш относит Передонова, героя «Мелкого беса» Ф. К. Соло-
губа (1902): «После Чехова наиболее последовательное и закончен-
ное выражение “футлярной темы” мы найдем именно у Сологуба»1.
Но Беликов не единственный, хотя, по-видимому, наиболее яр-
кий, представитель данного типа в произведениях Чехова: к нему
можно отнести и других героев, в частности Федора Ильича Кулы-
гина из пьесы «Три сестры» (1900), хотя черты «футлярного» типа
в нем менее заметны: они смягчены его природной добротой.
Что главное в Беликове как типе персонажа? Очевидно, сочета-
ние страха перед жизнью (это и терзающий его шум в гимназии,
и свободная мысль, и предстоящая женитьба) и агрессивности, ко-
торой окрашена вся его должность педагога. «Как бы чего не вы-
шло» — эти его слова повторяются в рассказе восемь раз.
В отличие от Беликова или Пришибеева Кулыгин не гротескный
образ. Но в его мыслях и поведении господствует шаблон, циркуляр,
он постоянно оглядывается на директора гимназии, что раздражает
его жену Машу. Когда заходит речь об её участии в концерте в поль-
зу погорельцев, он «вздыхает», так как не знает, одобрит ли это ди-
ректор — «хороший человек, даже очень хороший, но у него такие
взгляды...» (с. 376)1 2. Он сбрил себе усы в подражание директору:
«— Так принято, это modus vivendi. Директор у нас с выбритыми
усами, и я тоже, как стал инспектором, побрился. Никому не нра-
вится, а мне всё равно. Я доволен» (с. 387).
Но то, что Кулыгин очень хорошо знает, — это латинские афориз-
мы, которые он произносит в каждом действии, к месту и не к ме-
сту, неизменно поучая других и перемешивая их с советами по хо-
зяйству: «—.. .Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы...
Персидским порошком или нафталином... Римляне были здоровы,
потому что умели трудиться, умели и отдыхать, у них была mens
sana in corpore sana. Жизнь их текла по известным формам. Наш
директор говорит: “Главное во всякой жизни — это её форма...”»
(с. 348). Это «готовые слова», принадлежащие не ему, и за ними
можно спрятаться. Он часто сообщает окружающим, что «весел»,
«доволен», «счастлив». Повторы звучат как заклинание, и возни-
кает сомнение: действительно ли это так? Ведь Кулыгин замечает
увлечение Маши Вершининым. Но латынь, «ut consecutivum», ко-
торое он преподает, смягчает жизненные невзгоды, помогает ему
не слишком страдать. Против бед он вооружён... латынью.
Мысль, скованная догматами, и навязывание своей модели пове-
дения другим людям (у Кулыгина — в мягкой форме, у Беликова —
1 Келдыш В. А. О «Мелком бесе» // Сологуб Ф. К. Мелкий бес. Томск, 1990. С. 8.
2 Текст пьесы приводится с указанием страниц по изд.: Чехов А. П. Собр. соч.:
в 12 т. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1954—1957. Т. 9.
250
в устрашающей) — это сочетание составляет суть «футлярного»
типа, сближающую персонажей, разных по характеру и темпера-
менту. Правда, профессия у них одна, что, конечно, не случайно:
трудно найти для педагога, поместившего себя в «футляр», более
подходящий предмет, чем мёртвые языки. Такая работа была осо-
бенно удобной нишей в период, когда право на поступление в уни-
верситеты давала только классическая гимназия.
Итак, типология и типизация, тип и характер персонажа, типи-
ческий образ и стереотип — соотношение этих понятий, естествен-
но, бесконечно видоизменяется в истории национальных литера-
тур, в зависимости от периодов их развития, родовой и жанровой
принадлежности произведений, эстетического модуса, авторской
индивидуальности. Но нужны генерализирующие понятия, позво-
ляющие увидеть общую картину движения художественной антро-
пологии.
В литературоведении слово «герой» давно стало синонимом пер-
сонажа, действующего лица. Но оно «не забыло» своей истории
и в определенных словосочетаниях («герой нашего времени», «на-
стоящий герой» и др.) указывает на тип персонажа. Рассмотрим
кратко движущуюся семантику этого слова в истории литературы.
В «Новом словотолкователе» Н. Яновского (1803) выделены три
значения слова: «Ирой, или Герой, гр. 1) в древние времена язычни-
ки называли сим именем рожденных от бога или богини и от смерт-
ного человека; 2) придается название сие мужам, отличившимся
храбростью и мужеством в военных подвигах, которые к телесным
силам приобщали и нравственные добродетели и которые с твердо-
стию противостояли опасностям; 3) в повествовательном стихот-
ворении называется то лицо, которое составляет главный предмет
поэмы»1. Первое и второе значения близки друг к другу: атрибутом
и полуобогов и смертных героев является слава. Образ «храм сла-
вы», сквозной в русской поэзии конца XVIII—XIX вв. («Мой истукан»
Г. Р. Державина, «Пастух и соловей» К. Н. Батюшкова), восходит
к «колоннам», «жертвенникам», «статуям» в честь героев у греков
и римлян (о чем пишет Яновский). Для живого героя «любовь к богу
и славе суть единственные и непременные... побуждения...»1 2
Однако герой, заслуживший славу, изображался лишь в «высо-
ких» жанрах классицизма, прежде всего в эпической поэме (эпопее),
повествующей о важном историческом событии. Т. Тассо в «Рассуж-
дении о героической поэме» (1594) писал, ссылаясь на Аристотеля,
что лишь эпический поэт «ищет высшую меру доблести, и только
1 Яновский Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту.
От А до I. Часть первая. СПб., 1803. Стлб. 846.
2 Там же. Стлб. 847.
251
обладающий ею достоин стать героем его поэмы»; на фоне эпо-
пеи лица трагедии — «средние герои, не плохие и не хорошие...»1
Правда, автор «Освобожденного Иерусалима» считал и любовь
«подходящим сюжетом для героической поэмы», если она является
«непорочной рыцарской добродетелью, т. е. проявлением воли»1 2.
В России создание М. М. Херасковым «Россияды» (1779) бесконечно
обрадовало сторонников классицизма: ведь до нее у нас не было за-
вершенной эпической поэмы. В 1815 г. А. Ф. Мерзляков напоминал:
Херасков «первой и столь счастливо распространил пределы нашей
поэзии высочайшим родом стихотворений — поэмою эпическою,
имеющую содержанием своим отечественную славу»3.
Хотя основным предметом «подражания» в эпической поэме
было «происшествие великое и чудесное»4, в ней воспевался и глав-
ный его деятель. В зачине автор, следуя канону, сначала указывал,
какое событие будет воспевать (у Хераскова — это «России торже-
ство, разрушенна Казань»), затем просил «озаренья» у музы, а далее
переходил к «героям»:
Завеса поднялась... Сияют пред очами
Герои, светлыми увенчаны лучами.
От них кровавая казанская луна
Низвергнута во мрак и славы лишена.
О вы, ликующи теперь в местах небесных,
Во прежних видах мне явитеся телесных!5
Подобно тому как вслед за «Илиадой» появилась (правда, спустя
примерно два века) «Батрахомиомахия» («Война мышей и лягу-
шек»), в литературе классицизма сочинялись пародии на эпические
поэмы. Разновидность этого бурлескного жанра (ит. burla — шут-
ка), получившая название «ирои-комической поэмы», — повество-
вание в «высоком стиле» о «будничных, а порой и низменных или
просто некрасивых вещах»6 (другая разновидность — повествова-
ние в «низком стиле» о «высоком»). В «ирои-комической» поэме
В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771), написан-
ной александрийским стихом (как и героический эпос), действие
происходит в кабаке и публичном доме, главный персонаж — ям-
1 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Изд-во Моск,
ун-та, 1980. С. 120.
2 Там же. С. 124.
3 Мерзляков А. Ф. «Россияда». (Письмо к другу. О слоге поэмы) //Литературная
критика 1800—1820-х годов / Автор статьи, сост., примеч. и подг. текста Л. Г. Фриз-
мана. М.: Худож. лит., 1980. С. 177—178.
4 Там же. С. 180.
5 Русская поэзия XVIII века / Вступ. ст. и сост. Г. Макогоненко. М.: Худож. лит.,
1972. С. 270—271.
6 Квятковский А. А. Поэтический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1966.
С. 66. См. также: Гуковский Г А. Русская литература XVIII века. М.: Аспект Пресс,
1988. С. 158—164.
252
щик Елисей, сквозная тема — пьянство и пр. Пародиен зачин по-
эмы, и иронично звучит слово «герой» в применении к Елисею:
Пою стаканов звук, пою того героя,
Который, во хмелю беды ужасно строя,
В угодность Вакхову, средь многих кабаков,
Бивал и опивал ярыг и чумаков.. Л
Эту традицию (бурлескная поэзия пользовалась успехом) охотно
подхватывают сентименталисты в их весёлых поминках по «высо-
кому штилю». И. И. Дмитриев в сатире «Чужой толк» (1798) язви-
тельно изображены творческие муки одописца:
.. .Вот штука, как хвалить
Героя-то придет! Не знаю, с кем сравнить?
С Румянцевым его, иль с Грейгом, иль с Орловым?
Как жаль, что древних я не читывал! а с новым —
Неловко что-то всё. Да просто напишу:
Ликуй, Герой, ликуй, Герой ты1 — возглашу.1 2
С изменением нравственных и литературных ценностей пере-
сматривалось и само содержание понятия «герой». Можно ли на-
звать им деспота-монарха, полководца-завоевателя, пролившего
«реки крови»? На эти вопросы, которые на рубеже XVIII и XIX ве-
ков ставились всё чаще, отрицательно отвечают разные по своим
общественно-политическим взглядам поэты. В оде А. Н. Радищева
«Вольность» (1790) народ обвиняет царя, «преступившего» пределы
данной ему власти:
В кровавых борешься долинах,
Дабы, упившися, в Афинах:
«Ирой!» — зевав, могли сказать.3
Н. М. Карамзин в «Гимне глупцам» (1800) иронизирует:
С умом в покое нет покоя.
Один для имени героя
Рад мир в могилу обратить.
Для крестика без носа быть...4
В. А. Жуковский в стихотворении «Герой» (1800) противопостав-
ляет громкой бранной славе «нетленный» обелиск «тихого» героя:
Но что герой? — неужто бранью
Единой будет славен он!
Неужто кровию омытый,
1 Русская поэзия XVIII века. С. 207.
2 Там же. С. 507.
3 Там же. С. 412.
4 Карамзин Н. М. Поли. собр. стихотворений / Вступ. ст., подг. текста и прим.
Ю. М. Лотмана. М.; Л.: Сов. писатель, 1966. С. 288.
253
Его венец пребудет свеж?
Ах, нет! Засохнет и поблекнет
И обелиск его падет...
Я в куще тихой, безмятежной,
Героем также быть могу:
Мое тут поле брани будет —
Несчастных сонм, гоним судьбою...
Мой обелиск тогда нетленный
Косою время не сразит;
Мой славы храм не сокрушится:
Он будет иссечен в сердцах.1
Так возникают оксюмороны: «обелиск... нетленный», «тихая сла-
ва» (А. С. Пушкин «К Чаадаеву», 1818), слава сравнивается с «ды-
мом», «прахом» (В. А. Жуковский. «Светлана», 1812; А. С. Пушкин
«Н. Н. Примите “Невский альманах”», 1825). Прежнюю первенству-
ющую роль героическая эпопея и даже трагедия явно утрачивали.
На первый план выдвигались иные жанры и иные характеры.
Согласно классификации литературных героев (в сущности, речь
идет о типах), предложенной канадским ученым Н. Фраем в работе
«Анатомия критики» (1957), в истории литературы «герой высокого
миметического модуса» постепенно уступает ведущее место «герою
низкого миметического модуса, прежде всего — комедии и реали-
стической литературы», а также герою «иронического» модуса (т. е.
тому, кто «ниже нас по силе и уму»). О предмете «низкого миме-
сиса» Фрай пишет: «Если герой не превосходит ни других людей,
ни собственное окружение, то он является одним из нас: мы отно-
симся к нему, как к обычному человеку, и требуем от поэта соблю-
дать те законы правдоподобия, которые отвечают нашему собствен-
ному опыту. <...>
На этом уровне автору нередко трудно бывает сохранить поня-
тие “герой” в своем строгом значении. Теккерей поэтому почув-
ствовал необходимость назвать “Ярмарку тщеславия” “романом без
героя”»1 2.
Изображение подобных характеров способствовало актуализа-
ции третьего (по Яновскому) значению слова «герой», т. е. героя
как «лица, которое составляет главный предмет» изображения. Так
возникает словосочетание «отрицательный герой».
В то же время героическая тема в литературе, естественно, не ис-
чезает. Это обуславливает возможность и даже неизбежность раз-
ных коннотаций данного слова в том или ином контексте, прово-
цирует многозначность, двусмысленность речи.
1 Жуковский В. А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1956.
2 Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. М., 1987. С. 233.
254
В «Словаре языка Пушкина» в статье «Герой» даны три значения
слова (приблизительно те же, что у Яновского, но в другой последо-
вательности): «1) Человек, отличающийся самоотверженными под-
вигами и смелостью <...>; 2) Главное действующее лицо литера-
турного произведения <...>; 3) Действующее лицо древних мифов,
одаренное сверхчеловеческой силой»1.
В ранней лирике Пушкина, как правило, слово герой — знак темы
войны и славы. Здесь несомненна опора на ломоносовскую и дер-
жавинскую стилистическую традицию: «...Державин и Петров геро-
ям песнь бряцали / Струнами громозвучных лир» («Воспоминания
в Царском Селе», 1814, 1: 10)1 2; «Родишься ль ты во мне, слепая сла-
вы страсть, / Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?» («Война»,
1821, 1: 137); «То академик, то герой, / То мореплаватель, то плот-
ник, / Он всеобъемлющей душой / На троне вечный был работ-
ник» («Стансы», 1826, 2\ 157). Как и Петра Первого в приведенных
строках, Пушкин воспевает Наполеона — «изгнанного героя / Му-
чением покоя / В морях казненного по манию царей» («Недвижный
страж дремал на царственном пороге...», 1824, 2: 21—22).
На этом фоне выделяется стихотворение «Герой» (1830), напи-
санное в форме диалога между Поэтом и Другом; есть эпиграф: «Что
есть истина?» Здесь уясняется, в традиции, восходящей к Карамзи-
ну и Жуковскому, суть истинного героизма. В «звезде» Наполеона,
«пред кем смирилися цари», Поэта поражают не его гений полко-
водца и даже не трагический конец, но величие души, проявленное
в посещении чумного госпиталя в Яффе. (Подразумеваемая анало-
гия — приезд Николая I в холерную Москву, на что указывает дата,
проставленная после текста: 29 сентября 1830.) В этом стихотворе-
нии-диалоге Поэт, в ответ на сомнения Друга в том, что Наполеон
«жизнию своей / Играл пред сумрачным недугом,/ Чтоб ободрить
угасший взор», восклицает:
«Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...»
(2: 319—321.)
Но наиболее многозначно слово герой в сюжетных произведени-
ях, где оно обозначает центрального персонажа и одновременно,
в сочетании с тем или иным эпитетом, намекает на его характер.
Например, в «Руслане и Людмиле» (1820) сказано о Фарлафе:
1 Словарь языка Пушкина: в 4 т. / Под ред. В. В. Виноградова. М., 1956.
Т. 1. С. 470—471.
2 Здесь и далее тексты Пушкина цитируются по изданию: Пушкин А. С. Собр.
соч.: в 10 т. М.: Гослитиздат, 1959—1962. Том и страница названы в скобках. После
цитат из «Евгения Онегина» указываются глава и строфа.
255
<... > в нетерпенье
Благоразумный наш герой
Тотчас отправился домой,
Сердечно позабыв о славе
И даже о княжне младой...
(3: 28.)
В «Евгении Онегине» центральный персонаж не претендует
на героизм. Это роман, в котором «отразился век, / И современный
Человек / Изображен довольно верно...» (7: XXII). Характер Онеги-
на — загадка для Татьяны. Автор же оценивает лишь его отдельные
поступки: «Не в первый раз он тут явил / Души прямое благород-
ство... (4: XVIII); «Он мог бы чувства обнаружить, / А не щетинить-
ся, как зверь...» (6: XI), но не характер в целом. Татьяна «начинает
понемногу... понимать» Онегина, хотя книги в его кабинете откры-
ли ей многое: «Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено?»
(7: XXV). О нем толкуют по-разному в петербургском свете: «Пред-
метом став суждений шумных...» (8: XII). Он странен для самого
Автора: «Мне нравились его черты, / Мечтам невольная предан-
ность, / Неподражательная странность / И резкий, охлажденный
ум» (1: XIV); «Прости ж и ты, мой спутник странный...» (8: L).
Пушкин мог бы с большим основанием сказать об Онегине то, что
раньше (в октябре 1822 г.) писал брату Льву о главном герое своей
ранней поэмы: «Надеюсь, что критики не оставят в покое характера
Пленника, он для них создан, душа моя...» (10: 54).
В выборе главного героя и самого жанра «романа в стихах» Пуш-
кин опирался на опыт Байрона, в особенности на поэму «Дон-Жуан».
Ее первая песнь начинается октавой:
Ищу героя! Нынче что ни год
Являются герои, как ни странно.
Им пресса щедро славу воздает,
Но эта лесть, увы, непостоянна:
Сезон прошел: герой уже не тот.
А посему я выбрал Дон-Жуана:
Ведь он, наш старый друг, в расцвете сил,
Со сцены прямо к черту угодил1.
Дон-Жуан — заведомо не образец добродетели и героизма (его
сфера — амурные, а не военные подвиги), его литературные пред-
шественники к тому же действуют в мире комедии (у Т. де Моли-
ны, Мольера). Однако эволюция типа под пером Байрона — явно
в пользу Дон-Жуана, в приключениях которого забавные эротиче-
ские эпизоды чередуются с драматическими, в которых герой про-
являет мужество и гуманизм. Во время взятия Измаила, описан-
ного Байроном гневно и саркастически («Дела героев! Реки крови
1 Байрон Дж. Дон-Жуан / Пер. Т. Гнедич. М.; Л.: Худож. лит., 1964. С. 40.
256
алой!»1), Дон-Жуан спасает от преследований казаков девочку-тур-
чанку; на высоте он и в других испытаниях. И в создании двояще-
гося, то комического, то мужественного характера не последнюю
роль играет словесная игра: слово герой встречается почти в каж-
дой строфе, и его разные значения то сближаются, то расходятся.
Между байроновским и пушкинским героями есть сходство: они
лучше, чем часто кажутся.
И в других произведениях Пушкин часто использует слова ге-
рой, героиня в разных значениях, пробуждая различные ассоциации
в культурной памяти читателя. Совмещение значений как нельзя
лучше отвечает духу «поэтического языка, в котором действитель-
ный смысл художественного слова никогда не замыкается в его бук-
вальном смысле»1 2.
Дальнейшая судьба слова герой — это и извлечение, в пушкин-
ских традициях, различных эффектов из многозначности слова,
и расширение самого объема понятия. Как несомненна близость
между Онегиным и Печориным (их характерами), так очевидна
и преемственность словоупотребления: «Но наш герой, кто б ни был
он, / Уж верно был не Грандисон» (3: X); «Герой Нашего Времени
<...> точно, портрет, но не одного человека, это портрет, составлен-
ный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии»3.
И тут и там — полуироничный, полусерьезный тон, и тут и там —
соответствие характеров духу времени, его вкусам:
А ныне все умы в тумане,
Порок на нас наводит сон,
Порок любезен — ив романе,
И там уж торжествует он.
(3: XII.)
В отличие от романов Пушкина и Лермонтова, где «порочность»
изображаемых характеров сомнительна и скорее мнима, при обра-
щении к комическим произведениям очевидна необходимость раз-
граничения понятий героя как персонажа и как характера. В поэме
Н. В. Гоголя «Мертвые души» предыстория Чичикова предварена
рассуждением повествователя: «Очень сомнительно, чтобы избран-
ный нами герой понравился читателям. Дамам он не понравится,
это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой
был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или
телесное пятнышко, тогда беда!»4 А далее повествователь пишет
о невозможности «взять в герои» добродетельного человека, «пото-
1 Байрон Дж. Дон-Жуан / Пер. Т. Гнедич. М.; Л.: Худож. лит., 1964. С. 308.
2 Винокур Г. О. Понятие поэтического языка // Винокур Г. О. Филологические
исследования. М., 1990. С. 142.
3 Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. М.: Изд-во АН СССР, 1958—1959. Т. 4. С. 276.
4 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 5. С. 233.
257
му что пора наконец дать отдых бедному добродетельному челове-
ку...», и заключает: «Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак,
припряжем подлеца!»1
Параллель герою-подлецу составляет героиня-негодяйка — слово-
сочетание, употребленное П. А. Вяземским применительно к Софье
Фамусовой, противопоставляемой критиком пушкинской Татьяне
и Маше Мироновой: «Как далеки эти два разнородные типа рус-
ской женщины от Софии Павловны, которую сам Грибоедов назвал
негодяйкою, и от других героинъ-негодяек, которых многие из пове-
ствователей наших воспроизводят с такою любовью по образу и по-
добию привидений, посещающих их расстроенное воображение»1 2.
В «Записках из подполья» Ф. М. Достоевского рассказчик пишет
о себе в припадке самоуничижения: «...в романе надо героя, а тут
нарочно собраны все черты для антигероя...»3
Гоголь называет героями не только главных лиц произведения.
В «Театральном разъезде по случаю представления новой комедии»
(1842) к героям причислены второстепенные лица пьесы, сюжет
которой основан на «общей завязке». «Второй любитель искусств»,
выражая мысли автора, решительно не удовлетворен «узким уще-
льем частной завязки» в семейно-бытовых комедиях античности,
сменивших пьесы Аристофана. «Завязка должна обнимать все лица,
а не одно и не два, — коснуться того, что волнует более или менее
всех действующих. Тут всякий герой: течение и ход пьесы произво-
дят потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться
как ржавое и не входящее в дело»4.
Обретая новее смыслы, слово герой в то же время помнит о сво-
ем прошлом, что открывает широкие возможности для словесной
игры.
Еще один путь изучения персонажа — исключительно как участ-
ника сюжета, действующего лица (но не как характера). Примени-
тельно к архаичным жанрам фольклора, к ранним стадиям разви-
тия литературы такой подход в той или иной степени мотивирован
материалом: характеров как таковых еще нет или они менее важны,
чем действие. В фольклористике принципы и методика такого ана-
лиза были предложены в книге В. Я. Проппа «Морфология сказки»
(1928). На основании разбора ста сказок (№№ 50—150) из сбор-
ника «Народные русские сказки» (собранные А. Н. Афанасьевым,
1 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 5. С. 234.
2 Вяземский П. А. Поздняя редакция статьи «Взгляд на литературу нашу в деся-
тилетие после смерти Пушкина» (1874) // Вяземский П. А. Эстетика и литературная
критика. М.: Искусство, 1984. С. 329.
3 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. М., 1956. С. 243.
4 Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 4. С. 241.
258
первое издание: 1855—1864) Пропп выделил сюжетные функции
(отлучка, запрет, нарушение, выведывание, выдача, подвох, пособ-
ничество, вредительство и др., всего 31 функция), выполняемые
действующими лицами сказок. Эти лица он сгруппировал в семь
«исполнителей»: вредитель, даритель, помощник, искомый персо-
наж (царевна и ее отец), отправитель, герой, ложный герой1.
Развитие и уточнение этой методики, ее применение не толь-
ко к волшебной сказке, но и к литературе, составляет содержа-
ние многих трудов, в том числе структуралистского направления:
А.-Ж. Греймаса, Кл. Бремона, Р. Барта (в его ранний период) и др.1 2
Персонаж интересует структуралистов исключительно как действу-
ющее лицо, как актор (acteur); акторы же группируются в актан-
ты (франц., англ, actant). Актант — «наиболее абстрактное понятие
реализатора функции действия»; согласно Греймасу, это «класс по-
нятий, объединяющий различные роли в одной большой функции,
например, “союзник”, “противник”»3. Актанты образуют «актанто-
вую систему»; так, в одну из моделей Греймаса входят шесть актан-
тов: субъект, объект, помощник, бенефициарий (получатель), про-
тивник (антагонист), донатор (даритель)4.
Как считает Г. К. Косиков, В. Я. Проппу удалось построить обоб-
щенную (инвариантную) модель сюжета волшебной сказки благо-
даря учету семантики5. При абстрагировании же от семантики, при
чисто логическом изложении сюжета он приближается к пародии:
«Представим себе два суммарных изложения одной и той же исто-
рии:
1. “Один богатый и старый помещик решил жениться на девуш-
ке-сироте, но этому стал мешать его брат, опасавшийся, что оста-
нется без наследства”, и т. п. 2. “Субъект А решил получить объект
Б, столкнувшись при этом с противодействием антагониста В, же-
лавшего овладеть объектом Г, который принадлежал субъекту А”.
Несмотря на то что второй пересказ сохраняет все логические связи,
содержащиеся и в первом пересказе, никто не признает его в ка-
честве сюжетного пересказа приведенной истории. Причина в том,
что в данном случае опущены все семантические характеристики
персонажей. Между тем охарактеризовать “субъект А” в качестве
1 См.: Пропп В. Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928. С. 88—89.
2 См.: Greimas A.-J. Du sense. Paris, 1970; Bremond Cl. Logique du recit. Paris, 1973;
Бремон Кл. Логика повествовательных возможностей // Семиотика и искусствоме-
трия. М., 1972; Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989; и др.
3 Ильин И. П. Актант // Западное литературоведение XX века. Энциклопедия /
Гл. науч. ред. Е. А. Цурганова. М.: Intrada, 2004. С. 27.
4 Там же. С. 28. См. описание «актантовых систем», предложенных Э. Сурьо,
А.-Ж. Греймасом (с. 27—29).
5 Косиков Г. К. От структурализма к постструктурализму. М.: Рудомино, 1988.
С. 96.
259
“богатого старика”, а “объекту Б” приписать свойства “быть деви-
цей” и “быть сиротой” — значит сказать очень многое. Нам сразу
становится понятно, почему “субъект А” может и готов претендо-
вать на руку девушки, почему старик и девушка оказались в поле
зрения и интереса друг к другу и т. п. Коротко говоря, наряду с ло-
гическим существует семантическое измерение сюжета, задающее,
во-первых, “характеры” персонажей, их положение (например,
на социальной или возрастной лестнице, в системе родственных
отношений и т. п.), а во-вторых, вытекающие отсюда мотивиров-
ки их поступков. Мотивировки — это цели и желания персонажей,
их стремление изменить наличную ситуацию, восполнить недоста-
чу чего-либо или, наоборот, приобрести новые ценности. Содержа-
ние мотивировок (и литературы в целом) имеет не формально-логи-
ческую, а социокультурную природу»1.
Из сказанного совсем не следует вывод о ненужности обнару-
жения в многообразии повествовательных текстов повторяющихся
общих моделей, т. е. решать задачу, которую ставили перед собой
названные исследователи. Но это особая, сложная и не чисто лите-
ратуроведческая тема, заслуживающая специального рассмотрения
(здесь она только обозначена).
В мире эпических и драматических произведений читатель
обычно встречается с системой персонажей. Даже в произведени-
ях, главная тема которых — человек наедине с дикой, девствен-
ной природой («Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Маугли» Р. Киплинга),
персонажная сфера, как правило, не исчерпывается одним героем.
Роман Дефо густо населен вначале и в конце, а в воспоминаниях
и мечтах Робинзона-отшельника живут разные лица: отец, предо-
стерегавший сына от моря; погибшие спутники, с участью которых
он часто сравнивает свою; корзинщик, за работой которого он на-
блюдал в детстве; желанный товарищ — «живой человек, с кото-
рым я мог бы разговаривать». В основной части романа роль этих
и других внесценических лиц, вскользь упоминаемых, очень важна:
ведь Робинзон на своем острове и одинок, и не одинок, поскольку
он олицетворяет совокупный человеческий опыт, трудолюбие, пред-
приимчивость своих современников и соотечественников, включая
самого Дефо («фонтан энергии», как его называли биографы1 2).
Как и любая система, персонажная сфера произведения характе-
ризуется через составляющие ее элементы (персонажи) и структу-
ру — «относительно устойчивый способ (закон) связи элементов»3.
Статус персонажа тот или иной образ получает именно как элемент
1 Косиков Г. К. Указ. соч. С. 92—93.
2 Урнов Д. М. Робинзон и Гулливер. М., 1973. С. 19.
3 Введение в философию: в 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 125.
260
системы, часть целого, что особенно хорошо видно при сопоставле-
нии изображений животных, растений, вещей в различных произве-
дениях. В романе Дефо разведенные Робинзоном козы, его попугай,
собаки и кошки, проросшие стебли ячменя и риса, изготовленная
им глиняная посуда последовательно представляют «фауну», «фло-
ру», создаваемую на наших глазах «материальную культуру». Для
Дефо, по мнению одного английского критика (предположительно
У. Бэджета), «чайная роза — не более чем чайная роза», природа —
«только источник засухи и дождя» (В. Вулф)1.
Но в условном мире таких жанров, как сказка, легенда, басня,
притча, баллада, персонификация явлений природы и вещей обыч-
на. В «Сказке о жабе и розе» В. М. Гаршина роза — «больше чем
роза», это аллегория прекрасной, но очень короткой жизни. В про-
изведениях жизнеподобного стиля нередко в персонажный ряд вво-
дятся высшие животные, в которых, в устойчивых традициях ани-
малистской литературы, подчеркиваются общие с человеком черты.
«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый
из живших на земле» — так начинает И. А. Бунин свой рассказ «Сны
Чанга», где два основных героя — пёс Чанг и его хозяин, капитан.
Синекдоха («каждый из живших на земле») их объединяет, и на про-
тяжении всего повествования психологическая параллель выдержи-
вается: обоим ведомы страх и тоска, как и восторженное ликование.
Ведь сердце Чанга «билось совершенно так же, как и у капитана!»1 2
Для образования системы персонажей необходимы как минимум
два субъекта; их эквивалентом может быть «раздвоение» персона-
жа (например, в миниатюре Д. Хармса из цикла «Случаи» — Семен
Семенович в очках и без очков). На ранних стадиях повествователь-
ного искусства число персонажей и связи между ними определялись
прежде всего логикой развития сюжета. «Единый герой примитив-
ной сказки некогда потребовал своей антитезы, противоборствую-
щего героя; еще позже явилась мысль о героине как поводе для этой
борьбы — и число “три” надолго стало сакральным числом пове-
ствовательной композиции»3. Вокруг главных героев группируются
второстепенные, участвующие в борьбе на той или другой стороне
(важнейшее свойство структуры — иерархичность). При этом раз-
нообразные персонажи в архаических сюжетных жанрах поддаются
классификации. «Там чудеса: там леший бродит, / Русалка на вет-
вях сидит...» — по Проппу, русалку и лешего можно объединить как
«вредителей».
В древнегреческом театре число актеров, одновременно находив-
шихся на сцене, увеличивалось постепенно. Доэсхиловская трагедия
1 См.: ДефоД. Робинзон Крузо. М., 1990. С. 408—409, 421.
2 Бунин И. А. Избранные произведения. Челябинск, 1963. С. 358, 366.
3 Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М., 1964. С. 142.
261
представляла собой песнь хора, к которому Феспид присоединил од-
ного актера-декламатора, периодически покидавшего сцену и воз-
вращавшегося с сообщениями о новых событиях. «...Эсхил первый
ввел двух вместо одного; он же уменьшил партии хора и на первое
место поставил диалог, а Софокл ввел трех актеров и декорации»1.
Так установился обычай исполнения пьесы тремя актерами (каж-
дый мог играть несколько ролей), соблюдавшийся и римлянами.
Нововведение Эсхила создало «предпосылку для изображения стол-
кновения между двумя сторонами»1 2; присутствие же третьего акте-
ра включало в действие второстепенных лиц.
Именно в драме, предназначенной для сцены, возникали жанры,
в которых действовал устойчивый ансамбль персонажей, что соот-
ветствовало желаниям и возможностям театральной труппы. Тако-
ва римская паллиата (гр. pallium — плащ), которыми прослави-
лись Плавт и Теренций. В этой комедии актеры играли в греческом
костюме, действие происходило в Афинах или в другом греческом
городе, герои носили греческие имена, а сюжеты часто восходили
к Менандру и нередко были результатом контаминации (т. е. объ-
единения двух и более греческих пьес или эпизодов в одно произ-
ведение). И в сюжетах, и в характерах варьировались устойчивые
черты, что способствовало формированию типов ролей, предвос-
хищавших будущие амплуа (фр. employ). Маски появились в рим-
ском театре лишь в 130 г. до н. э. или еще позднее, пьесы Плавта
еще играли без масок. В дошедшем до нас списке комедийных ма-
сок их «насчитывалось сорок четыре, и среди них девять масок для
ролей стариков, одиннадцать — для молодых людей, семь — для
рабов, четырнадцать — для женщин. Такой набор масок позволял
выделить внутри каждого типа несколько разновидностей: суро-
вого отца и снисходительного, деревенского юношу и городского
и т. п.»3. Закрепились в паллиате типы изворотливого раба (он по-
явился еще у Аристофана), хвастливого воина, жадного парасита
и др. Узнаванию типов помогали «говорящие» имена с греческими
корнями: Памфил — всеми любимый; Федрия — веселый, сияющий;
Вакхида — гетера; Демея, Демифон, Менедем — имена стариков,
исконные жители, живущие в своем «деме» (административная еди-
ница в Аттике); хозяйка дома Сострата — сохраняющая, кормилица
Софрона — благоразумная. Имена рабов указывали либо на их про-
исхождение, либо на функции: Сир — из Сирии; Дав — из Дакии;
Парменон — постоянно находящийся при своем господине4.
1 Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 51.
2 Ярхо В. Н. Античная драма: Технология мастерства. М., 1990. С. 7.
3 Ярхо В. Н. Менандр. У истоков европейской комедии. М. Лабиринт, 2004.
С. 111.
4 Подробнее см.: Ярхо В. Н. Комментарий // Теренций. Комедии. М.: Искусство,
1988. С. 456—457.
262
Назовем еще один жанр с устойчивыми амплуа — итальянскую
комедию масок (commedia del’arte, буквально: «профессиональ-
ный театр»). Она возникла в середине XVI в. по «инициативе акте-
ров, выработавших удивительную способность к импровизации»1.
Пьеса игралась на основе сценария, в котором кратко излагался
сюжет; текст же своей роли актер придумывал сам. Ансамбль де-
лился на три группы: 1) слуги (первый и второй Дзанни, Бригелла,
Арлекин, Серветта); 2) господа — объекты сатиры (Панталоне —
глупый, жадный и влюбчивый старик, испанец Капитан — бахвал
и трус, Доктор — лжеученый); 3) влюбленные, игравшие без масок.
«Борьба за счастливую любовь этой молодой пары составляла глав-
ное содержание сценического действия»1 2. Этот веселый демокра-
тичный жанр, передававший дух карнавала, пользовался успехом
вплоть до середины XVII в. и оказал сильное влияние на дальнейшее
развитие театра.
Сам же институт амплуа, сформировавшийся в классицисти-
ческом театре, сохранялся долго, о чем напоминают комедии
А. Н. Островского («Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины вино-
ватые»), где с изрядной долей иронии воссозданы амплуа трагика
и комика, «первого любовника» и др. В определенной мере данное
понятие, возникшее на стыке драматургии и театра, не изжило себя
и сегодня3.
В эпических произведениях система персонажей может быть
очень сложной и разветвленной. В «Илиаде» Гомера воспевается
не только гневный Ахилл («Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева
сына...»), но и множество героев и покровительствующих им бо-
гов, вовлеченных в Троянскую войну. По некоторым подсчетам,
в «Войне и мире» Л. Н. Толстого — около шестисот действующих
лиц4, а в «Человеческой комедии» О. Бальзака — около двух тысяч5.
Появление этих лиц в большинстве случаев мотивировано сюжетом.
Однако сюжетная связь — не единственный тип связи между
персонажами; в литературе, простившейся с мифологической ко-
лыбелью, он обычно не главный. Система персонажей — это опре-
деленное соотношение характеров. Чаще всего сюжетные роли ге-
роев более или менее соответствуют их значимости как характеров.
В новой европейской литературе (классической) сюжет особенно
ценится за то, что он выпукло раскрывает или мотивирует разви-
1 Бояджиев Г. Н. Театр эпохи Возрождения // История зарубежного театра.
Часть 1. / Под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой. М.: Просвещение, 1981. С. 118.
2 Там же. С. 122.
3 См. определение амплуа и описания некоторых из них (инженю, резонер, су-
бретка и пр.): Пави П. Словарь театра / Пер с фр. М., 1991. С. 12,123, 286, 335—336.
4 См.: Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Проблематика и поэтика. М.,
1959. С. 355.
5 Грифцов Б. А. Психология писателя. М., 1988. С. 323.
263
тие характера. Обычно главные герои произведений занимают цен-
тральное положение и в сюжете. Автор выстраивает цепь событий,
руководствуясь своей иерархией характеров, в зависимости от из-
бранной темы.
Для понимания главного проблемного героя (героев) могут
играть большую роль второстепенные персонажи, оттеняющие
различные свойства его характера; в результате возникает целая
система параллелей и противопоставлений, несходств в сходном
и сходств в несходном. В романе И. А. Гончарова «Обломов» харак-
тер главного героя поясняют и его антипод, «немец» Штольц, и За-
хар (составляющий психологическую параллель своему барину),
но в особенности — требовательная Ольга и нетребовательная, ти-
хая Агафья Матвеевна, создавшая для Ильи Ильича идиллический
омут. А. В. Дружинин находил фигуру Штольца даже излишней
в этом ряду: «Создание Ольги так полно — и задача, ею выполнен-
ная в романе, выполнена так богато, что дальнейшее пояснение
типа Обломова через другие персонажи становится роскошью, ино-
гда ненужною. Одним из представителей этой излишней роскоши
является нам Штольц <...>, на его долю, в прежней идее автора,
падал великий труд уяснения Обломова и обломовщины путем всем
понятного противопоставления двух героев. Но Ольга взяла все
дело в свои руки <...>, сухой неблагодарный контраст заменился
драмой, полной любви, слез, смеха и жалости»1. Эти и другие персо-
нажи, также по-своему оттеняющие характер Обломова (Алексеев,
Тарантьев и др.), введены в сюжет очень естественно: Штольц —
друг детства, знакомящий Обломова с Ольгой; Захар всю жизнь при
барине; Агафья Матвеевна — хозяйка снимаемой Обломовым квар-
тиры и т. д. Все они составляют ближайшее окружение главного ге-
роя и освещены ровным светом авторского внимания.
Между местом героя в сюжете произведения и в иерархии ха-
рактеров могут быть существенные диспропорции. В самом сюже-
те, наряду с событиями, образующими причинно-временную цепь,
могут быть так называемые свободные мотивы1 2. Их появление, рас-
шатывающее жесткую причинно-следственную цепь событий, свой-
ственную архаическим жанрам, фиксируется очень рано. Сравни-
вая басни римского поэта Федра (I в. н. э.) и древнегреческого поэта
Бабрия (II в. н. э.), М. Л. Гаспаров указывает на гораздо большую об-
стоятельность и свободу изложения у Бабрия. «Среди образов и мо-
тивов художественного произведения различаются структурные,
органически входящие в сюжетную схему, и свободные, непосред-
ственно с ней не связанные: если изъять из произведения структур-
1 Дружинин А. В. Прекрасное и доброе. М., 1988. С. 45-4—455.
2 О свободных мотивах в сюжете см.: Томашевский Б. В. Теория литературы.
Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 183—184.
264
ный мотив, разрушится весь сюжет, если изъять свободный мотив,
то произведение сохранит стройность и смысл, но станет бледнее
и беднее. И вот, можно заметить, что Федр разрабатывает почти
исключительно структурные образы и мотивы, а Бабрий обращает
главное внимание на свободные образы и мотивы»1.
Введение свободных мотивов (отступлений от основного сюже-
та), сочетание в произведении непересекающихся или слабо свя-
занных друг с другом сюжетных линий, сама детализация действия,
его торможение описаниями (портрет, пейзаж, интерьер, жанровые
сцены и пр.) — эти и другие усложнения в композиции открывают
для писателя различные пути воплощения творческой концепции,
в том числе возможность раскрытия характера не только в связи
с его участием в сюжете.
•к -к -к
Интерпретация персонажа как характера и, далее, отнесение ха-
рактера к определенному типу с давних пор были важнейшей за-
дачей литературной критики. По словам Л. Н. Толстого, «для кри-
тики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу
отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно
руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений,
в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые
служат основанием этих сцеплений»1 2.
Не выбор главных цитат, к которым можно было бы свести це-
лое (как часто, например, в суждениях о пьесе «На дне» М. Горько-
го идея автора подменяется одной цитатой: «Человек — это звучит
гордо!»), но вдумчивое путешествие по тексту — «лабиринту сце-
плений», открытие символики в, казалось бы, обычных деталях,
в появлении персонажей, не занятых в сюжете, пояснение выбора
«точки зрения», с которой оценивается событие (почему, например,
совет в Филях в «Войне и мире» передан через восприятие крестьян-
ской девочки?) и т. д. — вот что неизменно ценится в анализе тек-
ста, даже если читатель не согласен с выводами критика.
В романе «Обломов» есть вводный эпизод — «Сон Обломова»,
где как бы останавливается время; критики разных направлений
(А. В. Дружинин, Н. А. Добролюбов, А. А. Григорьев) увидели в нем
ключ ко всему роману, поскольку именно здесь особенно видны
истоки «обломовщины» в национальной жизни. Сравнив Гончаро-
ва с фламандскими живописцами, опоэтизировавшими свой край,
Дружинин подчеркнул глубокий смысл деталей описания и эпизо-
дических лиц: «Тут нет ничего лишнего, тут не найдете вы ясной
черты или слова, сказанного попусту, все мелочи обстановки не-
1 Гаспаров М. Л. Античная литературная басня (Федр и Бабрий). М., 1997. С. 83.
2 Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову (от апреля 23 и 26) 1876 г. // Собр. соч.:
в 22 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 17—18. С. 785.
265
обходимы, все законны и прекрасны. Онисим Суслов, на крыльцо
которого можно было попасть не иначе, как ухватись одной рукой
за траву, а другою за кровлю избы, — любезен нам и необходим
в этом деле уяснения»1. Григорьев видел в «Сне Обломова» «зерно,
из которого родился весь “Обломов”»; именно здесь «автор стано-
вится истинным поэтом...»1 2 Добролюбов в своем анализе «обломов-
щины» также обращается к тексту «Сна», в котором для него самое
важное — воспитание Илюши. «...Гнусная привычка получать удов-
летворение своих желаний не от собственных усилий, а от других,
развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое
состояние нравственного рабства»3.
Один из критериев глубины интерпретации произведения —
умение увидеть целое, понимание расстановки персонажей. В. Г. Бе-
линский в разборе «Героя нашего времени» Лермонтова видел связь
между пятью частями этого романа-цикла, с их разными героями
и сюжетами, в «одной мысли» — в психологической загадке харак-
тера Печорина. Все остальные лица, «каждое столько интересное
само по себе, так полно образованное — становятся вокруг одного
лица, составляют с ним группу, которой средоточие есть это одно
лицо, вместе с вами смотрят на него, кто с любовию, кто с нена-
вистию...» Рассмотрев «Бэлу» и «Максима Максимыча», критик
отмечает, что Печорин «не есть герой этих повестей, но без него
не было бы этих повестей: он герой романа, которого эти две по-
вести только части»4.
В свете той или иной концепции произведения, охватывающей
его в целом, определяется значение персонажа как характера. При
этом оказывается, что приблизительно равная занятость в сюжете
не означает сходного статуса характеров. В «Венецианском купце»
Шекспира Шейлок намного превосходит — по многозначности об-
раза — своего должника Антонио, как и остальных лиц. В «Войне
и мире» Толстого Тихон Щербатый несопоставим с Платоном Ка-
ратаевым — символом «роевой жизни», мысленным судьей Пьера
в эпилоге (хотя в сюжете и Щербатый, и Каратаев — эпизодические
лица). Главный проблемный герой может быть спрятан в глубине
повествования («особенный человек» Рахметов в тайнописи романа
Чернышевского «Что делать?»).
Неучастие персонажа в основном действии произведения — не-
редко своеобразный знак его важности как выразителя обществен-
ного мнения, символа. В художественном реализме, с его внима-
нием к социально-историческим обстоятельствам, такие лица
1 Дружинин А. В. Прекрасное и вечное. С. 451.
2 Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 194—195.
3 Добролюбов Н. А. Собр. соч.: в 9 т. М., 1962. Т. 4. С. 318.
4 Белинский В. Г Собр. соч.: в 9 т. М., 1978. Т. 3. С. 84, 108.
266
и воплощают обычно эти обстоятельства, помогая понять мотивы
поступков главных героев. В «Госпоже Бовари» Флобера символом
пошлости выступает аптекарь Омэ, местный просветитель, корре-
спондент газеты «Руанский фонарь», чьи рассуждения напоминают
«Лексикон прописных истин», составленный писателем. Регулярное
появление самодовольного Омэ и скука Эммы тесно связаны. Ана-
логична роль гротескного Ипполита Ипполитыча в рассказе Чехова
«Учитель словесности»: в предсмертном бреду этот учитель исто-
рии и географии говорит о том, что «Волга впадает в Каспийское
море...» В сущности, его фразы утрируют механистичность, риту-
альность реплик Шелестовых и их гостей, не сразу открывшуюся
Никитину. В «Грозе» А. Н. Островского не участвующие в интриге
пьесы Феклуша и Кулигин — как бы два полюса духовной жизни го-
рода Калинова. По мнению Добролюбова, без так называемых «не-
нужных» лиц в «Грозе» «мы не можем понять лица героини и легко
можем исказить смысл всей пьесы...»1
Свобода писателя в построении системы персонажей, каза-
лось бы, ничем не ограничена. Однако свобода не есть произвол.
И в новой (постклассицистической) литературе действовал крити-
ческий фильтр, обнаруживающий «лишних» персонажей. «...Пьеса
выиграла бы, — советует Чехов Е. П. Гославскому, — если бы Вы кое-
кого из действующих лиц устранили вовсе, например, Надю, ко-
торая неизвестно зачем 18 лет и неизвестно зачем она поэтесса.
И ее жених лишний. И Софи лишняя. Преподавателя и Качедыкина
(профессора) из экономии можно было бы слить в одно лицо. Чем
теснее, чем компактнее, тем выразительнее и ярче»1 2. Салтыков-Ще-
дрин ядовито рецензировал комедию Ф. Устрялова «Слово и дело»:
«Второй акт в доме Мартовых. Это семейство состоит из старухи
Мартовой, дочери Наденьки и госпожи Репиной, которая введена
автором в пьесу единственно для того, чтобы показать, что в при-
роде могут существовать и тетки»3.
В то же время принцип «экономии» в построении системы пер-
сонажей прекрасно сочетается, если этого требует содержание, с ис-
пользованием двойников (два персонажа, но один тип: Розенкранц
и Гильденстерн в «Гамлете» Шекспира; Добчинский и Бобчинский
в «Ревизоре» Н. В. Гоголя; Чибисов и Ибисов, Шатала и Качала
в «Смерти Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина), собирательных обра-
зов и соответствующих массовых сцен, вообще с многогеройностью
произведений.
Работая над «Тремя сестрами», Чехов, отказавшийся еще в «Дяде
Ване» от выделения самого главного героя, иронизировал над со-
1 Добролюбов Н. А. Указ. соч. Т. 6. С. 322.
2 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. М., 1974—1983. Письма:
в 12 т. Т. 8. С. 171.
3 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. Т. 5. М., 1966. С. 165.
267
бой: «Пишу не пьесу, а какую-то путаницу. Много действующих
лиц — возможно, что собьюсь и брошу писать». А по завершении
пьесы вспоминал: «Ужасно трудно было писать “Трех сестер”. Ведь
три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — ге-
неральские дочки!»1. Многогеройность чеховских больших пьес
подчеркивает общую, устойчивую конфликтную ситуацию, «скры-
тые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы»1 2.
Тяготеют к многоперсонажности авторы эпопей, нравоописа-
тельных панорам и других жанров, предполагающих широкий охват
действительности. В «Войне и мире» Толстого, по выводу А. А. Сабу-
рова, персонажная система включает четыре категории (главные,
второстепенные, эпизодические, вводные лица), при этом «значе-
ние низших категорий несравненно больше, чем в романе»3.
Собирательные образы — примета стиля многих произведений
ранней советской литературы («Железный поток» А. Серафимовича,
«Мистерия-буфф» Маяковского и др.). Часто этот прием был и да-
нью моде, исполнением социального заказа, в связи со своеобраз-
ной «сакрализацией» темы народа. Массовки на сцене — мишень
сатиры Булгакова в «Багровом острове», где в пьесу «гражданина
Жюля Верна» вводятся «красные туземцы и туземки (положитель-
ные и несметные полчища)»4, а также И. Ильфа и Евг. Петрова:
в их рассказе «Как создавался Робинзон» редактор советует рома-
нисту-ремесленнику, пишущему о «советском Робинзоне», показать
«широкие слои трудящихся»5. В пародиях сатириков подчеркнута,
благодаря комической гиперболе, знаковость приема, свойствен-
ная нормативным жанрам вообще.
Изучение систем персонажей в аспекте исторической поэтики,
их знаковости, очень яркой в некоторых жанрах (паллиата, коме-
дия дель-арте, мистерия, моралите, рыцарский, пасторальный, го-
тический романы, агиография и др.), подготавливает и к более глу-
бокому восприятию современной литературы, изощренно и широко
использующей накопленное культурой богатство.
Вопросы
1. Как изменялось в истории литературы содержание понятий «герой»,
«характер», «тип»? Какие два основных значения в современном литерату-
роведении имеет слово «тип» в применении к персонажам?
1 Чехов А. П. Указ. соч. Письма: в 12 т. Т. 9. С. 99, 133.
2 Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера: Хрестоматия. М., 1984. С. 40.
3 Сабуров А. А. Указ. соч. С. 357.
4 Булгаков М. А. Пьесы 20-х годов. Л.: Искусство, 1990. С. 296.
5 Ильф И., Петров Евг. Как создавался Робинзон // Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. М.,
1961. С. 196.
268
2. Назовите персонажей из произведениях русских писателей, которых
можно отнести к типу «лишнего», «маленького», «подпольного» человека.
3. В чем состоит различие критериев оценки персонажа как характера
и как художественного образа?
4. Из какого обряда возникла трагедия и что означало первоначально
само это слово? Как изменялось число персонажей в трагедиях, представ-
ляемых в древнегреческом театре?
5. Поясните этимологию слов «паллиата», «тогата». Приведите при-
меры «говорящих» имен персонажей паллиаты. Сохраняется ли сейчас эта
традиция?
6. «Герою своему искусно сохраните
Черты характера среди любых событий».
Откуда эти строки? Когда стало важнейшей задачей писателя изображе-
ние развивающихся характеров?
Глава 5
СЮЖЕТ И ЕГО КОМПОЗИЦИЯ
Рус.: сюжет; англ.: plot, story; нем.: Fabel; фр.: sujet.
Определение сюжета. — Сюжет в лирике. — Сюжет и содержание про-
изведения. — Основные функции сюжета. — Сюжетные линии и вставные
сюжеты. — Сюжеты хроникальные и концентрические. — Из истории из-
учения сюжетов. — Композиция сюжета. Вопросы терминологии. — Сюжет
и мотив. Мотивы сюжетные и свободные. — Работа автора над сюжетом.
Сюжет (от фр. sujet) — это ход событий в художественном про-
изведении, динамика изображаемого мира. Хотя сюжет не является
атрибутом (т. е. неотъемлемым свойством) произведения, сюжетная
литература явно преобладает над бессюжетной. При этом степень
насыщенности мира произведения событиями сильно колеблется
в зависимости от литературного рода, жанра, темы, эстетической
доминанты, национальных традиций и пр.
Понятие «событие» по содержанию шире, чем «действие»: под
последним разумеется акт, совершаемый персонажем (персонажа-
ми), это проявление его (их) воли, желания, результат выбора ли-
нии поведения. Событие, согласно В. И. Далю, — «всё, что сбылось,
сталось, сделалось, случилось...»; действие — «всё, что делается кем
или чем-либо»; в церковнославянском языке есть слово «дей... —
деятель, совершитель (добродей, злодей, лиходей)»1.
В немецкой классической эстетике специфика драмы (как рода
литературы) усматривалась в изображении именно действий героя:
«В драме царит человек, навлекая на свою голову молнию, в эпосе —
мир и человеческий род»1 2. Впоследствии В. Г. Белинский оспорил
это положение и сблизил эпос (эпику) и драму по их содержанию,
выделяя как наиболее глубокие те из эпических произведений, где
личность представлена «с её внутренней, субъективной стороны»,
где характеры раскрываются через инициативные действия героев
(«Тарас Бульба» Гоголя, «Полтава» Пушкина, «Сен-Ронанские воды»
Вальтера Скотта, «Путеводитель в пустыне» Ф. Купера)3.
1 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2002.
С. 606, 206.
2 Жан-Полъ. Приготовительная школа эстетики. М., 1981. С. 238.
3 Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Поли. собр. соч.:
в 13 т. М., 1954. Т. 5. С. 22.
270
Сюжет складывается и из событий, и из действий (в указанном
их значении). Так, в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо» (1719) кора-
блекрушение, в результате которого герой попал на необитаемый
остров, — это катастрофическое событие, печальные последствия
которого он сумел предотвратить благодаря своим мужественным
действиям, смекалке и трудолюбию, желанию жить.
Хотя в современном русском языке слова событие и действие
часто употребляются как синонимы, при литературоведческом ана-
лизе следует учитывать оттенки их значений. В широком же смысле
слова действие персонажа — разновидность события, поэтому опре-
деление сюжета как хода событий применимо к очень широкому
кругу произведений разных родов литературы.
Наряду с понятием действие используется также понятие (и тер-
мин) внутреннее действие, обозначающее процесс переживаний
и размышлений персонажа, который может в разной степени про-
являться в его внешнем поведении1. Так, в рассказе А. П. Чехова
«Учитель словесности» (1889) разочарование Никитина в себе как
педагоге, неудовлетворенность семейной жизнью не приводит его
к каким-либо решительным поступкам, но именно оно составляет
основной «нерв» сюжета. В финале рассказа Никитин внутренне
противостоит окружающей среде, он пишет в своем дневнике: «Где
я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ни-
чтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тара-
каны, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, то-
скливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду
с ума!»1 2 Раздражение Никитина тривиальными суждениями окру-
жающих (спор о Пушкине-психологе, о порядочности Полянского
и др.) иногда прорывается наружу, но способен ли он «бежать»? Это
вопрос, порождающий споры читателей, развязки сюжета в рас-
сказе нет. В больших пьесах Чехова (в отличие от его водевилей)
преобладает внутреннее действие. «Его пьесы — очень действен-
ны, — писал К. С. Станиславский, — но только не во внешнем,
а во внутреннем своем развитии. В самом бездействии создаваемых
им людей таится сложное внутреннее действие»3. После «Лешего»
(1890) «розового финала мы нигде в пьесах Чехова не найдем»4.
Изображенные события в совокупности складываются в сюжет,
или общее действие произведения. Это процесс, происходящий
во времени и в пространстве, изменяющий ситуацию, т. е. состояние
мира произведения, изначально рассматриваемое как статичное
(гр. states — стоящий). События, не меняющие сложившуюся ситуа-
1 См.: Хализев В. Е. Действие // Литературный энциклопедический словарь /
Под общей ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. М., 1987. С. 88.
2 Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 7. М., 1957. С. 394.
3 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962. С. 275.
4 Паперный 3. С. «Вопреки всем правилам...» Пьесы и водевили Чехова. М.,
1982. С. 82.
271
цию, в сюжет не входят1. Например, в первой главе романа Пушкина
«Евгений Онегин» описывается обычный день главного героя: «Бы-
вало, он еще в постеле: / К нему записочки несут». Такие «словесные
изображения периодически повторяющегося» составляют сферу опи-
сания1 2. Во французском литературоведении для обозначения при-
вычных, повторяющихся действий используется термин итератив
(синоним: фреквентатив), итеративное повествование3. В совре-
менном литературоведении прослеживается тенденция ограничить
содержание понятия «событие» — в зависимости от того, насколько
то, что случилось, значимо для персонажей и/или (в эпике) для по-
вествователя (нарратора); событийность подлежит градации4.
Наиболее полно сюжет представлен в эпике, драме, лиро-эпике,
т. е. в тех родах литературы, где воссоздается внешний мир в его
пространственно-временной протяженности, где изображение вну-
тренних действий вплетено в общий ход событий.
Для лирики характерна сосредоточенность на внутренних действи-
ях, на переживаниях лирического субъекта. В. Г. Белинский определял
лирику как «царство субъективности», «мир внутренний, мир начина-
ний, остающийся в себе и не выходящий наружу»5. Данное определе-
ние восходит к эстетике Г. В. Ф. Гегеля, согласно которой литература
развивается по закону диалектической «триады»: в эпосе представлен
объект познания, а «поэт отступает на второй план»6; содержание
лирики, напротив, — «все субъективное, внутренний мир, размыш-
ляющая и чувствующая душа, которая не переходит к действиям...»
(с. 420); драма — синтез объекта и субъекта. Комментируя это поло-
жение, Г. Н. Поспелов указал на взаимодействие объекта и субъекта
познания в любом роде литературы, что отмечал и сам философ, «при
1 С. Д. Кржижановский в статье «Драматургия шахматной доски» (Собр. соч.:
в 6 т. Т. 4. СПБ., 2006. С. 110—128) провел аналогию между развитием действия
в драме и шахматной партией. Конечно, аналогия «хромает», что отмечено авто-
ром: шахматные фигуры, в отличие от героев пьес, «вне моральных критериев»
(с. 128). Но аналогия помогает понять логику развития сюжета. См. также статью
Н. Н. Асеева «Ключ сюжета» (Печать и революция. 1925. № 7. С. 88), где завязка
сюжета связывается с неким нарушением «нормального», обычного для персонажей
течения их жизни.
2 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2009. С. 303.
3 Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М., 1998.
Т. 2. С. 143. Подробнее об «итеративе» см. в гл. «Описание».
4 См.: Шмид В. Событийность, субъект и контекст // Событие и событийность.
М., 2010. С. 14—15. Зависимость оценки происшествия как события от восприятия
субъекта наглядно показана в статье И. Л. Альми «Художественный смысл рассказа
А. П. Чехова «Событие», входящей в названный сборник (с. 113—122).
5 Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Поли. собр. соч.: в 13 т.
Т. 5. М., 1954. С. 9.
6 Гегель Г В. Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 3. М., 1971. С. 419. Далее цитаты приводятся
по этому изданию с указанием страницы.
272
всем объективизме своей общей теории искусства»1. Но есть и дру-
гое понимание объекта и субъекта: это две стороны существования
людей: их бытие и сознание. В лирике изображается прежде всего
сфера сознания, и медитативность (франц, meditation — размыш-
ление) является преобладающей формой выражения содержания.
Преобладающей, но не единственной: существует описательно-изо-
бразительная лирика (например, пейзажная) и «изобразительно-по-
вествовательная, воспроизводящая явления бытия в их изменчиво-
сти и противоречивости»1 2; в той или иной мере этим видам лирики
обычно свойственна сюжетность. Однако произведение сохраняет ли-
рический характер, если «повествование оказывается очень коротким
по объему текста и, при своей краткости, ощутимо экспрессивным,
а через всё это — скрыто, подспудно медитативным»3.
Таковы «Песня последней встречи» (1911) А. А. Ахматовой, «Мар-
бург» (1915) Б. Л. Пастернака, «Хорошее отношение к лошадям» (1918)
В. В. Маяковского, «Арбуз» (1924) Э. Г. Багрицкого. Общее в них —
изображение некого события, вызвавшего переживания лирическо-
го героя (героини). Сами события представлены контурно: в центре
внимания — их психологический смысл, символические детали. Так,
в «Песне последней встречи» Ахматовой переданы волнение, расте-
рянность, горе лирической героини после «последней встречи» (т. е.
расставания) с любимым. Но о причинах разрыва ничего не сказано:
важно лишь то, что горе огромно. Психологический параллелизм, вы-
держанный в фольклорных традициях, вводит тему смерти:
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки,
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!
Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...»
Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели встречи
Равнодушно-желтым огнем4.
1 Поспелов Г. Н. Теория литературы. М., 1978. С. 95.
2 Там же. С. 110.
3 Там же. См. также: Поспелов Г. Н. Лирика среди литературных родов. М., 1976.
(Раздел «Повествовательная лирика», с. 157—177).
4 Ахматова А. А. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 28.
273
Переживания лирической героини вызваны событиями внешни-
ми (что подчеркивает заглавие стихотворения), и есть основания
говорить о сюжете. Движение умонастроений героини вплетено
в ее «бытие» в целом1.
ж
При всей важности сюжета в эпических, драматических и лиро-
эпических произведениях, он является и здесь далеко не единствен-
ным и даже не всегда главным носителем идеи, концепции автора.
Белинский подчеркивал контраст между бедной событиями, но глу-
бокой по содержанию гоголевской повестью и богатым приключе-
ниями, но пустым романом Н. В. Кукольника. Критик иронизиро-
вал: «У нас вообще содержание понимают только внешним образом,
как “сюжет” сочинения, не подозревая, что содержание есть душа,
жизнь и сюжет этого сюжета. И потому, если дело идет о романе
или повести, то смотрят только на полноту происшествий, на слож-
ность завязки и искусство развязки. С этой точки зрения “Эвелина
де Вальероль” г. Кукольника, конечно, будет романом с содержани-
ем, потому что и в целый день не перескажешь всех “приключений”,
обретающихся в этой сказке; а “Старосветские помещики” Гоголя,
где очень просто рассказано, как жил старик со старушкой, как
сперва умерла старушка, а потом умер старик с тоски по ней, и где
нет ни происшествий, ни завязки, ни развязки, будет повестью без
всякого содержания...»1 2
Сюжет — компонент формы произведения, способ образного
воплощения темы и идеи. Невысокое мнение Белинского о романе
Кукольника, при его восхищении почти бессюжетной повестью Го-
голя, подчеркивает различие понятий «содержание» и «сюжет».
Все же через ход событий содержание раскрывается особенно
наглядно, не случайно критики склонны к пересказу сюжета. Несо-
гласие с авторской концепцией часто проявляется в том, что те или
иные звенья сюжета критик находит неправдоподобными, не вы-
текающими из сути характеров. Например, Белинский оспаривал
финал «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова: «...героя романа
мы не узнаем в эпилоге: это лицо вовсе фальшивое, неестествен-
ное. <...> Его романтизм был в его натуре; такие романтики ни-
когда не делаются положительными людьми»3. Изображение (пре-
ображение?) Наташи Ростовой в эпилоге «Войны и мира» вызвало
бурное возмущение у многих читателей и критиков, полюбивших
1 Некоторые исследователи используют понятие «лирический сюжет», понимая
под ним «динамическую сторону композиционного устройства стихотворения» (Чу-
маков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М., 2010. С. 60).
2 Белинский В. Г. Русская литература в 1841 году // Поли. собр. соч.: в 13 т. М.,
1954. Т. 5. С. 552—553.
3 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. Т. 10. М., 1956. С. 342—343.
274
героиню. Но именно такую эволюцию характера считал закономер-
ной Л. Н. Толстой1.
В зависимости от числа персонажей, участвующих в общем дей-
ствии, в сюжете выделяют сюжетные линии. Однолинейные сюжеты
встречаются в основном в произведениях малой формы, например,
в баснях («Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок» И. А. Крылова). Од-
нако и в этом жанре может быть представлено несколько сюжетных
линий. Так, разветвленный сюжет имеет прозаическая басня дат-
ского просветителя XVIII в. Л. Хольберга «Обезьяна живописцем».
Вкратце сюжет таков: Лев поручил Обезьяне нарисовать Венеру,
та изобразила собственную дочь, что не понравилось Льву. Тогда
Обезьяна поставила портрет на обозрение, и проходящие мимо зве-
ри стали советовать, как улучшить изображение: Слон предложил
пририсовать хобот, Бык — рога, Петух — гребешок и т. д. По со-
вету Лисицы Обезьяна нарисовала другой портрет — Львицы, и Лев
щедро наградил художницу1 2. В этой басне, высмеивающей уверен-
ность людей в превосходстве своей нации, своего рода, наконец,
собственной личности, наряду с главной линией (Лев — Обезья-
на — Лисица) есть побочные, подготавливающие благополучную
для Обезьяны развязку и «мораль».
В произведениях с несколькими линиями, развернутыми и лишь
намеченными, их сочетание, переплетение может образовывать
очень сложный узел. Для понимания целого важно выделить глав-
ную или главные линии, раскрывающие основную тему и идею. При
этом следует разграничивать сюжетную роль персонажа и его зна-
чение в раскрытии идеи, поскольку они далеко не всегда совпадают.
Произведение с одним главным героем («носителем централь-
ной идеологии» и одновременно главным в сюжете) можно на-
звать одноцентренным. Так, в романе Тургенева «Отцы и дети»
в центре внимания автора (и читателей), несомненно, Евгений
Базаров. Характер Базарова и его эволюция раскрываются в отно-
шениях со многими персонажами: Аркадием, Николаем Петрови-
чем и Павлом Петровичем Кирсановыми, Одинцовой, родителями,
Фенечкой, Ситниковым и Кукшиной и др. Каждую линию можно
проследить в отдельности; в совокупности они создают целостное
представление о герое. Центральное место Базарова в системе пер-
сонажей выразительно подчеркнуто контрастом развязок в финале.
В семье Кирсановых после двух свадеб (Николай Петрович и Фе-
1 Подробнее о спорах критиков с авторами художественных произведений, вы-
званных теми или иными сюжетными ходами, см.: Чернец Л. В. «Как слово наше
отзовется...» Судьбы литературных произведений. М., 1995. С. 92—101.
2 См.: Классическая басня // Сост., подгот. текста, примеч. М. Л. Гаспарова
и И. Ю. Подгаецкой. 1981. С. 189—190.
275
нечка, Аркадий и Катя) воцаряется идиллия: «Аркадий сделался
рьяным хозяином, и “ферма” уже приносит довольно значительный
доход». На этом благостном фоне ироничным и грустным диссо-
нансом звучат упоминания об Анне Сергеевне (она вышла замуж
«не по любви, но по убеждению»), о славянофильстве Павла Петро-
вича, переселившегося в Дрезден («Он ничего русского не читает,
но на письменном столе у него находится серебряная пепельни-
ца в виде мужицкого лаптя»). Последний же фрагмент эпилога —
описание печального сельского кладбища, где похоронен Базаров
и куда «часто приходят два уже дряхлые старика — муж с женою»1.
Именно Базаров — главный герой совсем не идиллического рома-
на. Сюжетные линии складываются в сложную, но одноцентренную
систему: большинство персонажей вступают в прямые или косвен-
ные, продолжительные или мимолетные отношения с Базаровым.
В отличие от первых четырех романов Тургенева («Рудин», «Дво-
рянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети»), где очевидна централь-
ная роль одного героя, в «Дыме» «идеологический герой (т. е. герой —
носитель центральной идеологии) отделился от героя сюжетного»1 2:
идеологом здесь выступает Потугин, мало участвующий в действии,
а не Литвинов. Эта тенденция усиливается в «Нови», где основным
сюжетным героем является Нежданов, идейным же центром — «по-
степеновец» Соломин, что подчеркнуто в развязке романа (самоу-
бийство Нежданова) и в эпиграфе: «“Поднимать следует новь не по-
верхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом”.
Из записок хозяина-агронома»3. Именно Соломин и его последовате-
ли, по мысли Тургенева, — «глубоко забирающий плуг».
Вообще далеко не всегда ведущие сюжетные герои, на взаимоот-
ношениях и действиях которых «держится» сюжетная конструкция
целого, являются носителями основной идеи произведения. Так,
в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» «особенный человек»
Рахметов выполняет эпизодическую сюжетную роль (очевидно, это
пример «эзопова языка» писателя). В повести В. Г. Распутина «По-
следний срок» (1997) взрослые дети, собравшиеся из разных мест
в деревне в связи со смертельной болезнью матери, тщетно ждут
и вспоминают её любимую дочь и свою сестру Таньчору. Её отсут-
ствие — символ распада крестьянской семьи. Идейным центром
произведения здесь является внесценическая героиня.
1 Тургенев И. С. Поли. собр. соч.: в 30 т. Соч.: в 12. Т. 7. М., 1981. С. 185—188.
2 Пумпянский Л. В. «Дым». Историко-литературный очерк // Роман И. С. Турге-
нева «Дым» в истории изучения. СПб., 2014. С. 51.
3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч.: в 30 т. Соч.: в 12 т. Т. 9. М., 1982. С. 133. О сю-
жете и идее романа «Новь» см.: Десятникова А. В. «Двухгеройность» романа
И. С. Тургенева «Новь» и проблема художественной целостности // Вестник Санкт-
Петербургского гос. ун-та технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение, фило-
логические науки. СПб., 2016. № 3. С. 62—66.
276
В произведении может быть несколько равноправных сюжетных
линий, связанных друг с другом. Многолинейный сюжет предо-
ставляет писателю богатые возможности подчеркнуть контраст
или, напротив, сходство конфликтов. В сатирической комедии
А. Н. Островского «Волки и овцы» (1875) в тугой узел связаны ли-
нии: Мурзавецкая — ее племянник Аполлон — Купавина; Мурза-
вецкая — Глафира — Лыняев; Беркутов — Купавина — Мурзавец-
кая и др. Различна тактика, но не стратегия «волков»: Мурзавецкая
шантажирует Купавину, владелицу богатого имения; Беркутов рас-
крывает, но не предает огласке, козни Мурзавецкой и, женясь на Ку-
павиной, приобретает её имение; Глафира бежит от Мурзавецкой
в объятия Лыняева, приручает этого закоренелого холостяка. В каж-
дой из линий есть свой «волк» и своя «овца». Но «волки» — разные.
Мурзавецкая, «волчица» по отношению к бывшим крепостным,
а также к Купавиной, оказывается «овцой» в умелых руках Берку-
това. Три интриги развиваются параллельно и имеют общую раз-
вязку1.
Но в системе персонажей могут быть различные центры, не свя-
занные или почти не связанные друг с другом сюжетно. Равноправ-
ные по значимости, сходные по теме линии развиваются парал-
лельно, побуждая читателя задуматься о причинах контраста судеб
героев. Таким двухцентренным романом, где сюжетные линии
почти не пересекаются, является «Анна Каренина» Л. Н. Толстого:
главные для автора герои, Анна и Левин, лишь один раз, без каких-
либо сюжетных последствий, встречаются друг с другом. Такая сю-
жетная структура была непривычной для современников Толстого.
Об этом свидетельствует письмо к писателю одного из его друзей,
ученого и педагога С. А. Рачинского (от 6 янв. 1878 г.), не нашедше-
го в романе «архитектуры»1 2, а также печатный отзыв А. В. Станке-
вича: «Толстой обещал в своем произведении один роман, а дал —
два»3. Писатель отвечал Рачинскому (в письме от 27 янв. 1878 г.):
«Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нель-
зя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь
постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве)
лиц, а на внутренней связи»4.
Помимо основных и побочных (второстепенных) линий, в произ-
ведение могут вводиться вставные сюжеты, а также выполняющий
аналогичную функцию «театр в театре». Таковы многочисленные
1 Подробнее см.: Чернец Л. В. О типах персонажей в русской литературе
XIX века. М., 2018. С. 110—121.
2 Цит. по: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии
с 1870 по 1881 год. М., 1963. С. 300.
3 Станкевич А. В. Каренина и Левин // Вести. Европы. 1878. № 4.
4 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 18. М., 1985. С. 820. Слово «фабула» здесь
синонимично «сюжету».
277
истории, выслушиваемые главными героями в романе М. де Сер-
вантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; «Убийство
Гонзаго» в «Гамлете» Шекспира; притча о трех кольцах в драматиче-
ской поэме Г. Э. Лессинга «Натан Мудрый», призывающая к веротер-
пимости; «Повесть о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» Гого-
ля; «Легенда о Великом инквизиторе», которую рассказывает Иван
Алеше в «Братьях Карамазовых» Достоевского; спектакль по пьесе
Треплева в «Чайке» Чехова; притчи Луки в пьесе Горького «На дне».
Традиционен прием обрамления или введения, имеющего свой
сюжет, в циклах произведений. В древнем сборнике арабских ска-
зок «Тысяча и одна ночь» есть рамочный сюжет, объясняющий про-
исхождение и структуру огромного цикла. Здесь рассказывается
о царе Шахрияре, разгневанном изменой жены и проводившем
каждую ночь с новой наложницей, которую утром казнили. Одна
из них, Шехерезада, рассказывая ночью царю сказку, не закончила
её. Желая узнать конец, царь отсрочил казнь, и так продолжалось
в течение тысячи и одной ночи, после чего Шехерезада была поми-
лована царем и стала его любимой женой. Свои рамочные сюжеты
есть в произведениях-циклах «Декамерон» Дж. Боккаччо, «Кентер-
берийские рассказы» Дж. Чосера, «Повести Белкина» Пушкина.
Остановимся на основных функциях сюжета.
1. Сюжет воплощает конфликт (от лат. conflictus — столкнове-
ние) между персонажами или их группами. Причины конфликта
могут четко раскрываться самими его участниками. Так, в основе
конфликта в трагедии Софокла «Антигона» (442 г. до н. э.) — не-
совместимость двух законов — неписаного семейно-родового («бо-
жественного»), требовавшего от Антигоны похоронить погибшего
брата Полиника, и государственного, из которого исходит Креонт
(правитель Фив). Полиник пал в единоборстве с братом Этеоклом,
защищавшим от него Фивы. В схватке погибли оба, но Креонт с по-
четом похоронил лишь Этеокла, запретив предавать земле тело По-
линика. Не подчинившаяся его приказу Антигона (невеста Гемона,
сына Креонта) была замурована в склепе, куда к ней проникает
её жених; там они оба умирают. Узнав о гибели своего сына, Эври-
дика (жена Креонта) пронзает себе сердце. Трагедия заканчивается
поздним раскаянием Креонта. Все симпатии автора и «хора» на сто-
роне Антигоны.
Но часто автор излагает какую-то историю, предоставляя читате-
лем самим задуматься над ней. Таких историй, в которых нет выра-
жения прямой оценки событий, много в реалистической литературе.
Перенесёмся из эпохи Софокла в золотой век русской литературы.
В повести Тургенева «Муму» (1854) основа конфликта, заострен-
ного в сюжете, — социальная. Автор явно избегал дидактики:
278
он просто рассказал о судьбе глухонемого крепостного крестьяни-
на, преданного своей барыне, но в конце концов ушедшего от нее.
Утопив свою Муму, Герасим возвращается в деревню, к природе
и свободе: он шел «с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной
и вместе радостной решимостью. <...>... видел в небе несчетные
звезды, светившие его пути, и как лев выступал сильно и бодро...»1
И. С. Аксаков писал Тургеневу о Герасиме: «Это олицетворение рус-
ского народа <... > Он, разумеется, со временем заговорит, но те-
перь, конечно, может казаться и немым, и глухим.. .»1 2 Показательно,
что Тургенев, положивший в основу сюжета историю крепостного
своей матери, «ничего не изменил в фактических событиях, за ис-
ключением конца. В действительности немой Андрей после потопле-
ния Муму не ушел из барского двора»3.
Наряду с прямым воплощением общественных конфликтов
в сюжете устойчива традиция опосредованного их проявления. При-
мером могут служить вариации «любовного треугольника». Ведь
причины предпочтения героиней одного из двух или нескольких
претендентов на ее сердце не могут быть случайными в литерату-
ре (в отличие от первичной реальности). Почему Наталья Ласунская
полюбила именно Рудина, а Елена Стахова предпочла болгарина
Инсарова Шубину или Берсеневу? Несомненна идейная подопле-
ка выбора героини. В «Накануне» Шубин перечисляет ряд типов
русских интеллигентов и не находит никого, кто мог бы удержать
Елену на родине: «...Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни по-
смотри. Всё — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо
темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее
переливатели да палки барабанные! <...> Нет, кабы были между
нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа,
не ускользнула бы, как рыба в воду!» (гл. XXX).
Аналогично мотивируется любовь героини к этому герою
во многих произведениях русской литературы: «Кто виноват?»
А. И. Герцена, «Обрыв» И. А. Гончарова, «Идиот» Ф. М. Достоевско-
го, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова и др. Соответственно,
и выбор героем этой героини часто объясняется особенностями её
личности, воплощающей авторский идеал: «Джейн Эйр» Э. Бронте,
«Бегущая по волнам» А. С. Грина, «Женщина французского лейте-
нанта» Дж. Фаулза.
2. Сюжет раскрывает или развивает характеры героев. «Дей-
ствие является наиболее ясным раскрытием человека, раскрытием
как его умонастроения, так и его целей»4, — писал Гегель. Эту мак-
1 Тургенев И. С. Поли. собр. соч.: в 30 т. Соч.: в 12 т. Т. 4. М., 1980. С. 271.
2 Русское обозрение. 1894. № 8. С. 476.
3 Добин Е. С. История девяти сюжетов. Л., 1990. С. 61.
4 Гегель Г. В. Ф. Эстетика: в 4 т. М., 1968. Т. 1. С. 227.
279
симу подтверждают произведения, где два или несколько героев
оказываются в сходной ситуации, но поступают по-разному. В тра-
гедии «Антигона» Софокла решение главной героини похоронить
Полиника понятно её сестре Йемене, сочувствующей ей. Однако
она не присоединяется к Антигоне, страшась гнева Креонта. Она
говорит сестре:
Мы женщинами рождены, и нам
С мужчинами не спорить, — помни это.
Над нами сильный властвует всегда,
Во всем — ив худшем — мы ему покорны,
И потому Подземных умоляю
Я, подневольная, о снисхожденье.
Я буду подчиняться тем, кто властен:
Нет смысла совершать, что выше сил1.
Когда позднее, после приговора Креонта, вынесенного Антиго-
не, Йемена выражает готовность умереть вместе с сестрой, та на-
поминает: «Но мне не мил, кто любит на словах»1 2. Мужество Анти-
гоны противопоставлено робости Исмены, и благодаря введению
на сцену третьего актера Софокл раскрывает не только основной
конфликт, но и побочный — между сестрами.
В комедии Р. Б. Шеридана «Школа злословия» (1777) сложная
интрига (от лат. intricare — запутывать) обнаруживает суть харак-
теров двух братьев, имеющих разную репутацию. Джозеф Сэрфес,
вызывающий почти всеобщее восхищение, и мот, вертопрах Чарльз
в финале пьесы предстают в истинном свете, благодаря приему qui
pro quo (в пер. с лат.: один вместо другого). Вернувшийся из Индии
их разбогатевший дядя Оливер Сэрфес испытывает обоих, выясня-
ет, любят ли племянники его самого или только ждут наследства.
Лицемерный Джозеф, близкий по типу к мольеровскому Тартюфу,
с треском проваливается на этом «экзамене». Чарльз же, хотя и под-
тверждает свою репутацию шалопая и мота (он продает фамиль-
ные портреты некому маклеру, под маской которого скрывался дядя
Оливер), покорил сердце дяди тем, что не захотел расстаться имен-
но с его портретом. Как звуки рая слушал Оливер грубоватые отка-
зы Чарльза продать его портрет по дорогой цене: «Нет, дудки! <... >
Старик был очень добр со мной, и я буду хранить его портрет, пока
у меня есть комната, где его приютить»; «Не дразните меня, госпо-
дин маклер. Я вам сказал, что не расстанусь с ним, и кончено»3.
У юмористов и сатириков сюжет часто выявляет комические про-
тиворечия в характерах. Если бы Гоголь не рассказал о ссоре Ивана
Ивановича с Иваном Никифоровичем, ограничившись одной экс-
1 Софокл. Трагедии. М., 1979. С. 143.
2 Там же. С. 160.
3 Шеридан Р. Драматические произведения. М., 1956. С. 315.
280
позицией сюжета, не была бы обнаружена иллюзорность их друж-
бы, воспеваемой рассказчиком: «Иван Иванович поссорился с Ива-
ном Никифоровичем! Такие достойные люди! Что ж теперь прочно
на этом свете?»1
Чтобы показать сущность характеров, их глубокий комизм, Го-
голю всегда был нужен сюжет. «Сделайте милость, — обращается
он к Пушкину 7 окт. 1835 г., — дайте какой-нибудь сюжет, хоть ка-
кой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот.
Рука дрожит написать тем временем комедию»1 2. В «Ревизоре», за-
конченном в декабре 1835 г., завязка пьесы («...к нам едет реви-
зор») не оставляет равнодушным ни одного из персонажей, каждый
взволнован и обнаруживает свой характер, В «Театральном разъ-
езде после представления новой комедии» Гоголь (не называя свою
пьесу) противопоставляет новаторскую «общую завязку» надоевшей
любовной интриге: «Теперь сильнее завязывает драму стремление
достать выгодное место, блеснуть и затмить во что бы ни стало дру-
гого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь
имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба,
чем любовь? <... > Завязка должна обнимать все лица, а не одно
или два, — коснуться того, что волнует более или менее всех дей-
ствующих. Тут всякий герой; течение и ход пьесы производит по-
трясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как
ржавое и не входящее в дело»3.
Между комическими характерами, интересующими писателя,
и сюжетом, вызывающим «потрясение всей машины», есть проч-
ная связь. Нужен особый сюжет, чтобы показать общее в персона-
жах, на первый взгляд, столь различных (властный городничий —
и робкий Лука Лукич Хлопов, плут Земляника — и берущий взятки
только «борзыми щенками» Ляпкин-Тяпкин), создать коллективный
портрет духовной неподвижности, никчемной жизни (причем сами
комические персонажи этого не осознают, напротив, они претенду-
ют на значительность).
Иных сюжетов требуют характеры развивающиеся, например, ге-
рои-идеологи в романах Ф. М. Достоевского. В «Преступлении и на-
казании» (1866) действия Раскольникова, как и разные события,
свидетелем или участником он становится, мотивируют измене-
ние его убеждений. Страдания героя после совершения убийства,
чувство отчуждения от людей, невозможность общения с матерью
и сестрой в конечном счете приводят его к сомнениям в теории,
дающей избранным «право на кровь». От начала романа до эпило-
га герой проходит мучительный путь, изменивший его внутренне.
1 Гоголь Н. В. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифо-
ровичем // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2. М., 1959. С. 210.
2 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. М., 1959. С. 324.
3 Там же. С. 241.
281
Среди фактов, способствующих духовному перерождению Расколь-
никова, — поступки других героев в трудных житейских ситуациях:
самопожертвование Сони, пошедшей «по желтому билету», чтобы
не голодали несчастная Катерина Ивановна и ее дети; неожидан-
ный самооговор красильщика Николая, взявшего на себя убийство
процентщицы и ее сестры. Влияли на Раскольникова и встречи
с Порфирием Петровичем, не только «ловившим» преступника,
но и подводившим его к мысли о спасительности страдания; откро-
вения Свидригайлова, видевшего в нем своего двойника. Достоев-
ский, строя сюжет, вводит события, усиливающие муки героя, —
прежде всего убийство Лизаветы. Словом, понадобился сложный,
разветвленный сюжет, чтобы изобразить нравственное наказание
Раскольникова, превосходящее по своей тяжести уголовное.
По ходу сюжета изображаются не только поступки героя, но и ди-
намика его внутреннего мира. Раскольников долгое время после со-
вершения убийства мучился тем, что оказался не на высоте своей
теории:
«И он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел, физически осла-
бел.
"Я это должен был знать, — думал он с горькою усмешкой, — и как смел
я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был
заранее знать... Э! да ведь я же заранее и знал!.."— прошептал он в отчаянии.
Порою он останавливался неподвижно перед какою-нибудь мыслию:"Нет,
те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому все разрешается, гро-
мит Тулон...»1
Эти нравственные муки имеют сюжетные последствия: в итоге
герой является в полицию с повинной, но его подлинное душевное
исцеление наступает лишь на каторге, когда в один день он вдруг
понял, что «бесконечно любит» Соню.
К внутренним действиям, предшествующим внешним изменени-
ям в жизни героя, относятся в «Войне и мире» Толстого размышле-
ния раненого князя Андрея на поле Аустерлица, в виду «далекого,
высокого и вечного неба». С этой высоты ему открываются ничтож-
ность Наполеона и собственного стремления к славе. Переоценка
ценностей надолго определила его новый стиль жизни, его добро-
вольное деревенское затворничество. Аналогичную роль играет
в «Дворянском гнезде» Тургенева проснувшееся в Лаврецком «чув-
ство родины», когда он приезжает в Васильевское. Отныне это чув-
ство не покидает его, он выучился «пахать землю».
Неразрешимые же, трагические внутренние конфликты обычно
ведут к гибели героя (трагедия «Гроза» А. Н. Островского, роман
«Мартин Иден» Дж. Лондона).
1 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. Т. 5. М., 1957. С. 284.
282
-л- -л- -л-
3. Еще одна функция сюжета — конструктивная, т. е. сюжет
обеспечивает тематическое единство произведения. Обычно имен-
но сюжет в эпике и драме «держит» конструкцию целого — от нача-
ла и до конца. Отмечая «медлительность», обилие описаний, свой-
ственные многим романам начала XX века, в частности романному
циклу «В поисках утраченного времени» М. Пруста, X. Ортега-и-
Гассет указал на необходимость сюжета, хотя бы в редуцированной
форме. «Читая Пруста, приходишь к выводу, что мера уместной не-
торопливости превышена. По сути дела, сюжет исчезает и с ним —
какой-либо драматический интерес. Роман сводится к чистому,
неторопливому описанию, становится слишком разреженным,
эфирным; пропадает конкретное действие, которое все же необ-
ходимо жанру. Мы видим: роману не хватает скелета, жесткого
и упругого остова, чего-то вроде металлического каркаса, прида-
ющего форму зонтику. <... > Сюжет продолжает выполнять свою
(хотя и чисто механическую) роль — нитки в жемчужном ожерелье,
проволочного каркаса в зонтике, кольев — в походной палатке»1.
С размышлениями испанского теоретика перекликаются суж-
дения английской писательницы Фэй Уэлдон о творчестве Джейн
Остин. У неё сюжет, напротив, очень важен: это «гвоздь, на котором
держатся все романы» писательницы1 2. Скелет, остов, нитка, прово-
лочный или металлический каркас, колья, гвоздь — все эти уподо-
бления указывают на конструктивную функцию сюжета и одновре-
менно — на разную меру сюжетности в названных произведениях.
Между жанром произведения и ролью сюжета часто закрепля-
ется та или иная связь. Есть жанры, обещающие читателю увлека-
тельный калейдоскоп событий: таковы приключенческие романы,
с их тайнами и быстрыми перемещениями героев; новеллы с не-
ожиданными концовками, само название жанра (от ит. novella) оз-
начает новость; детективы, в которых «из настоящего, от загадки,
показанной в экспозиции, мы отправляемся в прошлое, чтобы ре-
конструировать уже разыгравшиеся действия»3; фэнтези — жанр,
в особом мире которого «все возможно — боги, демоны, добрые
и злые волшебники, говорящие животные и предметы, мифологи-
ческие и легендарные существа, таинственные двойники, привиде-
ния, вампиры, встреча человека с дьяволом»4.
1 Ортега-и-Гассет X. Мысли о романе // Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия
культуры / Пер. с исп. М., 1991. С. 277—278.
2 Уэлдон Ф. Письма к Алисе, приступающей к чтению Джейн Остин // Эти за-
гадочные англичанки... М., 1992. С. 436.
3 Кестхейи Т. Анатомия детектива / Пер. с венг. Дебрецен, 1989. С. 211.
4 Гопман В. Л. Фэнтези // Литературная энциклопедия терминов и поня-
тий / Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001. Стлб. 1161. См. также: Головаче-
ва И. В. Фантастика и фантастическое. СПб., 2013.
283
Однако внешняя событийность неоднократно была в литературе
и предметом пародирования. Сигналом обновления романа стали
произведения с такими полемическими заглавиями, как «Жизнь
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767) Л. Стер-
на, его же «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»
(1768), «Путешествие вокруг моей комнаты» (1802) Ксавье де Ме-
стра. Хотя заглавие книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» (1790) звучит традиционно, уже начало текста
подчеркивает огромную роль в ней размышлений автора-путеше-
ственника над увиденным: «Я взглянул окрест меня — душа моя
страданиями человечества уязвлена стала»1.
Различают два основных вида сюжетов: хроникальный и кон-
центрический, Различия между ними наглядно разъясняет В. Е. Ха-
лизев. В хроникальном сюжете «события находятся друг с другом
лишь во временной связи (Б произошло после А). В других случаях
между событиями, помимо временных, имеются причинно-след-
ственные связи (Б произошло вследствие А). Так, во фразе Король
умер, и умерла королева воссоздаются связи первого типа. Во фра-
зе же Король умер, и королева умерла от горя перед нами связь дру-
гого типа»1 2. Второй вид сюжета вслед за Хализевым будем называть
концентрическим. Между хроникальным и концентрическим сюже-
тами нет четкой границы, речь идет о преобладании того или иного
принципа.
При анализе концентрического сюжета невозможно или трудно
опустить, не нарушив логики, отдельное событие. В рассказе Че-
хова «Смерть чиновника» завязкой сюжета является чиханье экзе-
кутора Червякова, обрызгавшего генерала Бризжалова. Этот казус
обусловил дальнейшие действия Червякова, почитающего «чин».
С каждым новым извинением растут раздражение генерала и ис-
пуг Червякова. Развязка — смерть персонажа, которая, по замыс-
лу юмориста, должна не опечалить, но рассмешить читателя: ведь
это смерть чиновника, что подчеркивает слово «виц-мундир» в по-
следней фразе: «Придя машинально домой, не снимая виц-мундира,
он лег на диван и... помер»3. Причинно-следственная связь событий
в данном рассказе совпадает с хронологической композицией по-
вествования и сменой мест действия4.
1 Русская проза XVIII века. М., 1971. С. 399.
2 Хализев В. Е. Общие свойства эпоса и драмы // Введение в литературоведе-
ние / Под ред. Г. Н. Поспелова. М., 1988. С. 205.
3 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 18 т. Т. 2. М.: Наука, 1975.
С. 166.
4 Поучителен опыт методиста М. А. Рыбниковой, на материале «Смерти чинов-
ника» познакомившей школьников с азами сюжетосложения: она разрезала текст
284
В хроникальном сюжете (от греч. chronos — время) прямые при-
чинно-следственные связи между отдельными событиями отсутству-
ют. Так, для рассказчика и одновременно главного героя повести
А. М. Горького «Детство» важным событием стала краткая дружба
с человеком по прозвищу Хорошее Дело, Но персонажи больше так
и не встретились. «Детство» — первая часть горьковской трилогии,
являющейся романом воспитания, т. е. историей формирования
характера героя. В этой долгой истории Хорошее Дело — «первый
человек из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стра-
не, — лучших людей её...»1 Но прямая связь между этой встречей
и последующими событиями в жизни Алексея отсутствует.
•к -к
Концентрические сюжеты издавна культивировались в драме,
где краткое время спектакля диктовало жесткий отбор событий.
В «Поэтике» Аристотеля трагедия определяется как «подражание
действию законченному и целому, имеющему известный объем»* 1 2.
Философ считал действие («сказание», «склад событий», в одном
русском переводе используется также пришедшее из латинского
языка слово «фабула»3) «началом и как бы душой трагедии» (с. 122).
Аристотель отдавал действию приоритет перед характерами, хотя
и признавал характеры одной из «причин» действия. Цель траге-
дии — вызвать у зрителей «сострадание и страх» прежде всего по-
средством самого «склада событий». Этой цели лучше всего соответ-
ствует такое действие, когда что-то «одно неожиданно оказывается
следствием другого...», «ведь большая разница, случится ли нечто
вследствие чего-либо или после чего-либо» (с. 128). При характери-
стике действия в «Поэтике» используются понятия: перипетия (гр.
peripeteia — внезапный поворот), или перелом, переход от счастья
к несчастью и наоборот, а также узнавание, завязка, развязка и не-
которые другие. Действие, где «перемене» судьбы сопутствуют пери-
петия и/или узнавание, Аристотель называл «сплетенным» (с. 128).
Все эти термины, а также позднее освоенный термин кульминация
(от лат. culmen — вершина, т. е. самый напряженный момент в раз-
витии действия, обычно предшествующий развязке) прочно вошли
в литературоведческий словарь. «Завязкой я называю то, — пишет
Аристотель, — что < простирается > от начала < трагедии > до той
ее части, на рубеже которой начинается переход к счастью сот йе-
на 13 карточек и предложила детям «сложить» их в последовательный рассказ, что
и было ими успешно выполнено. См.: Рыбникова М. А. Очерки по методике литера-
турного чтения. М., 1963. С. 89.
1 Горький А. М. Собр. соч.: в 18 т. Т. 9. М., 1962. С. 90.
2 Аристотель. Поэтика / Пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная лите-
ратура. М., 1978. С. 122. Далее издание цитируется с указанием страницы.
3 См.: Аристотель. Поэтика / Пер. В. Г. Аппельрота. М., 1957. С. 57—59.
285
счастья или от счастья к несчастью >; развязкой же — всё от на-
чала этого перехода и до конца»; многие поэты «завязывают узел
хорошо, а развязывают плохо; а нужно всегда преуспевать и в том
и в другом» (с. 140—141). Аристотель порицает развязки «с помо-
щью машины» (там же, с. 136), когда на сцену посредством меха-
нического приспособления является бог, выносящий свое решение,
отсюда выражение «бог из машины» (лат.: deus ex machina)1.
Особенно строгий регламент развития сюжета в трагедии раз-
работали теоретики классицизма, требовавшие от авторов неукос-
нительного соблюдения правил, в частности соблюдения «трех
единств» (действия, времени и места). Как пишет Н. Буало:
За Пиренеями рифмач, не зная лени,
Вгоняет тридцать лет в короткий день на сцене.
В начале юношей выходит к нам герой,
А под конец, глядишь, — он старец с бородой.
Но забывать нельзя, поэты, о рассудке:
Одно событие, вместившееся в сутки,
В едином месте пусть на сцене протечет;
Лишь в этом случае оно нас увлечет1 2.
Нарушителей «правил» ждала суровая критика, как об этом сви-
детельствует шумная полемика вокруг «Сида» П. Корнеля (пьеса
была поставлена в 1636 г.). Во «Мнении Французской Академии
по поводу трагикомедии “Сид”» (1637), основным автором которо-
го был Ж. Шаплен (но «текст был просмотрен Ришелье и утвержден
собранием Академии»3), автору указали на многие недостатки. Это
и несоблюдение единства места, и чрезмерное число событий, про-
изошедших за одни сутки, и введение лиц, не обязательных для раз-
вития действия (Инфанта) и др. Сюжет и в особенности его развяз-
ка, хотя они и соответствовали историческим фактам, подверглись
суровой критике: «...не всякая правда хороша для театра»; «...при
разработке сюжета Сида было бы несравненно лучше, если бы поэт
прибегнул к вымыслу, даже и вопреки правде: пусть бы в кон-
це пьесы обнаружилось, что Граф — не родной отец Химены; или
что он, вопреки всеобщему убеждению, не умер от раны; или что
спасение Короля и всего его королевства целиком зависело от на-
1 Это выражение впоследствии получило переносное, широкое значение: «не-
ожиданное разрешение трудной ситуации, которое не вытекает из естественного
хода событий, а является чем-то искусственным, вызванным вмешательством из-
вне» (Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. М., 1982.
С. 180).
2 Буало Н. Поэтическое искусство / Пер. Э. Липецкой. М., 1957. С. 78. Под «риф-
мачом», живущим за Пиренеями, имеется в виду Лопе де Вега.
3 Аникстп А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967. С. 219. Фран-
цузская Академия была основана кардиналом А. Ж. дю Плесси Ришелье в 1835 г.,
на нее возлагалась «миссия главного судьи в вопросах правильности языка, а заодно
и соблюдения приличий в литературе» (с. 218).
286
званного брака...»1 В особенности осуждалось поведение Химены:
«Как бы ни обуревала ее страсть, несомненно, что она не должна
была отказываться от мести за смерть отца, а тем более давать со-
гласие на брак с его убийцей. <... > Сии губительные примеры де-
лают произведение особенно неудачным, уводя от главной цели по-
эзии — пользы»1 2.
Впоследствии, в 1827 г., глава французских романтиков В. Гюго
назовет Корнеля, сурово критикуемого академиками, «львом, на ко-
торого надели намордник»3.
Но вернемся к Аристотелю. Если для трагедии наилучшим «скла-
дом событий» он считал причинно-следственную их связь (т. е. кон-
центрический сюжет), как, например, в «Царе Эдипе» Софокла,
то эпопея, не стесненная в своем объеме, имеет, по его мнению,
свои преимущества: она разнообразится вставками — эпизодами
(например, перечень кораблей в «Илиаде» Гомера). Все же единство
основного действия Аристотель считает достоинством не только
трагедии, но и эпопеи: Гомер «сложил “Одиссею”, равно как и “Или-
аду”, вокруг одного действия...» (с. 125). При сопоставлении этих
жанров Аристотель отдал пальму первенства трагедии, хотя отме-
тил и «преимущество» эпопеи, состоящее «в великолепии, в пере-
менчивом < воздействии > на слушателя и в разнообразии вводи-
мых вставок, — а ведь в трагедиях приводит к провалу именно
скоро пресыщающее однообразие» (с. 154).
Можно назвать немало литературных жанров, где традицион-
но превалирует хроникальный или, напротив, концентрический
принцип сюжетосложения. Так, в драматургии наряду с концен-
трическим сюжетом, обычно господствующим в трагедиях, драмах
(среднем драматическом жанре), комедиях, водевилях, мелодрамах,
существует жанр исторической хроники («Генрих IV», «Генрих V»
Шекспира, «Козьма Захарьич Минин, Сухорук», «Дмитрий Само-
званец и Василий Шуйский» А. Н. Островского), где «действуют
множество персонажей», а эпизоды часто соединяются «по принци-
пу нанизывания»4. Хроника обычно лежит в основе исторического
романа (его родоначальником в европейской литературе считается
Вальтер Скотт): здесь в рамках исторической хроники возникают
те или иные концентрические линии («Капитанская дочка» Пушки-
на, «Князь Серебряный» А. К. Толстого, «Петр и Алексей» Д. С. Ме-
режковского, «Петр Первый» А. Н. Толстого).
1 Мнение Французской академии по поводу трагикомедии «Сид» // Литератур-
ные манифесты западноевропейских классицистов / Собр. текстов, вступ. ст. и об-
щая ред. Н. П. Козловой. М., 1980. С. 280.
2 Там же. С. 284.
3 Гюго В. Предисловие к «Кромвелю» // Собр. соч. в 15 т. Т. 14. М.: Гослитиздат,
1956. С. 103.
4 Богданов А. Н. На рубеже эпоса и драмы. Челябинск, 1984. С. 9.
287
К концентрическому сюжету с неожиданной развязкой тяготеет
новелла («Матео Фальконе» П. Мериме, «Пышка» Г. де Мопассана,
«Фараон и хорал» О. Генри, «Жемчужное ожерелье» Н. С. Лескова),
к хроникальному — роман воспитания («Годы учения Вильгельма
Мейстера», «Годы странствий Вильгельма Мейстера» И. В. Гете,
«Детство», «Отрочество» и «Юность» Л. Н. Толстого, «История моего
современника» В. Г. Короленко, «Детство», «В людях», «Мои универ-
ситеты» А. М. Горького).
Часто оба принципа сюжетосложения — концентрический и хро-
никальный — «на равных» сочетаются в одном произведении. В вос-
ходящем к античности авантюрном романе, изобилующем случай-
ностями (ниспосылаемыми, как любили отмечать повествователи,
греческой богиней Тихэ или римской богиней Фортуной), господ-
ствует хроникальный принцип, но в рамках очередной «авантюры»
развязка зависит от инициативных действий персонажей («Эфио-
пика» Гелиодора, «Повесть о Хэрее и Каллирое» Харитона). Эта тра-
диция оказалась устойчивой (анонимная пикареска «Жизнь и при-
ключения Ласарильо из Тормеса», сатирическая дилогия И. Ильфа
и Евг. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»).
В «Войне и мире» Толстого в канву исторической и семейной хрони-
ки вплетены концентрические микросюжеты (например, дуэль Пьера
Безухова и Долохова, увлечение Наташи Анатолем Курагиным).
Смена господствующих направлений в литературе часто влек-
ла за собой изменение принципов и приемов сюжетосложения.
В «Предисловии к “Кромвелю” Гюго защищает свободу романтиче-
ского творчества от оков, налагаемых классицистами, в частности,
он нападает на «ложное правило о двух единствах» (времени и ме-
ста). «Мы говорим, — писал Гюго, — о двух, а не о трех единствах,
так как единство действия, или целого, — а только оно является ис-
тинным и обоснованным, давно уже всеми признано»1.
Одной из первых ласточек, предвещавших смену репертуара
на русском театре в начале XIX в., были сентиментальные пьесы
В. А. Озерова, в особенности трехактная (согласно правилам клас-
сицизма, в трагедии должно быть пять актов) и бедная сценическим
действием трагедия «Фингал» (1806), созданная по мотивам «Песен
Оссиана». На фоне перенасыщенности трагедий классицизма сцена-
ми поединков и самоубийств пьесы Озерова, увлекавшие зрителей
лиризмом монологов, были новостью1 2.
Островскому многократно ставили в вину затянутые, как казалось
критикам, экспозиции в его пьесах, медленное развитие действия,
1 Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Собр. текстов,
вступ. ст. и общая ред. А. С. Дмитриева. М., 1980. С. 453.
2 См.: Чернец Л. В. Пьесы В. А. Озерова в оценках его современников и в свете
дальнейшего развития драмы // Щелыковские чтения 2016. А. Н. Островский и те-
атральная культура XVII — первой половины XIX века. Кострома, 2017. С. 5—25.
288
особенно по сравнению с «хорошо сделанными пьесами» (фр.: р!ёсе
bien faite) Э. Скриба, В. Сарду, Э. М. Лабиша и других французских
комедиографов. Показательно название пьесы Скриба «Стакан воды,
или Следствия и причины» (1840); ему же приписывают термин «хо-
рошо сделанная пьеса». Здесь сюжет постоянно держит зрителя в на-
пряжении. По мнению П. Пави, «этот вид пьес, несмотря на очевид-
ный комплимент, содержащийся в самом названии, стал прототипом
и определением банальной драматургии, техники, лишенной изобре-
тательности, символом абстрактного формализма»1.
Островский же всегда стремился к тому, чтобы зрителям было
ясно то, что происходит на сцене. Когда его герои, фигурально вы-
ражаясь, надевают маску, например, когда Глумов уверяет Мамае-
ву в своей любви («На всякого мудреца довольно простоты») или
Сусанна, выдав себя за Оболдуеву, устраивает «экзамен» Окоемову
(«Красавец мужчина»), — зритель прекрасно знает, кто есть кто,
и спокойно следит за происходящим на сцене, оценивая степень ма-
стерства любовной риторики героя, вникая в подробности интриги.
Высокая степень предсказуемости действий персонажей обеспечи-
вается развернутой экспозицией, раскрывающей, как правило, уже
сложившиеся характеры.
В сюжете, складывающемся из нескольких линий, важны преды-
стории всех основных участников. В комедии «Свои люди — сочтем-
ся!» уединенный монолог Липочки, открывающий пьесу («Какое
приятное занятие эти танцы!»), и последующие ее препирательства
с матерью и свахой подготавливают лишь одну, «марьяжную» сю-
жетную линию, где победителем оказывается Подхалюзин, совсем
не умеющий танцевать. Другая линия — злостное банкротство
Большова. Его решение стать банкротом созревает постепенно, под
сильным давлением Подхалюзина, чье намерение жениться на до-
чери хозяина позволяет объединить две линии в один сюжетный
узел. Не только прошлое Липочки, но и все предыстории: Подха-
люзина, Большова (сведения о «Самсошке», в молодости торговав-
шем «голицами» на Балчуге, сообщает сваха во втором акте), Ри-
сположенского (бывшего чиновника, оставившего судебное «дело»
в погребке) — входят в эспозицию, захватывающую первый акт
и начало второго. «Распространенные экспозиции и задержанные
завязки»1 2 в пьесах Островского способствовали глубокой мотиви-
ровке сюжетных конфликтов.
Кардинальные изменения в сферу сюжетосложения внесли дра-
матурги конца XIX — начала XX в.: Г. Ибсен, М. Метерлинк, А. П. Че-
хов, Г. Гауптман, А. Стриндберг, Б. Шоу и др. Эти изменения имели
глубокие мировоззренческие основания.
1 Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. М., 1991. С. 424.
2 См.: Ревякин А. И. Искусство драматургии А. Н. Островского. М., 1974. С. 210.
289
Несомненны различия в поэтике названных драматургов. Ибсен
ценил в пьесах драматизм, и ретроспективная композиция «Куколь-
ного дома», «Дикой утки», «Росмерсхольма», «Строителя Сольнеса»
и других его пьес, в особенности поздних, нагнетала от действия
к действию напряжение, связанное с раскрытием тайны. В этом
отношении Ибсен продолжал традицию «хорошо сделанных пьес»,
при серьезности проблематики и глубоком психологизме камерных
диалогов.
Ранние пьесы М. Метерлинка: «Слепые», «Там, внутри», «Пелеас
и Мелисанда» и др. — статичны, в них почти ничего не происходит,
герои часто молчат, но красноречиво само их молчание. Метерлинк
любил противопоставлять гиперболической, по его мнению, сюжет-
ности драм прошлого иной стиль жизни современного человека
и мечтал о «неподвижном театре». Из пьес Шекспира он выделял
«Гамлета». «Я восхищаюсь Отелло, но мне не кажется, что он жи-
вет ежедневной, величавой жизнью Гамлета, у которого есть время
жить, потому что он не совершает поступков. Ревность Отелло по-
ражающая. Но, быть может, заблуждение думать, что именно в эти
моменты, когда нами овладевает такая или ей подобная страсть,
мы живем настоящей жизнью?» — писал он в эссе «Сокровище сми-
ренных» (1896) к
В новаторских пьесах Чехова действие, как резюмирует Т. К. Шах-
Азизова, «утратило свою притягательную яркость. События не пора-
жают своим контрастом с буднями и не взрывают их. Что бы в пре-
делах пьесы ни происходило — жизнь в широком, чеховском
её понимании от этого не меняется»1 2. А галерея персонажей, среди
которых нет «злодеев», побуждает размышлять о причинах мно-
гих неудавшихся судеб. В. Е. Хализев противопоставляет локаль-
ным конфликтам, разрешаемым в развязках большинства русских
пьес XIX в., «устойчивые конфликтные состояния»3, изображаемые
в «Чайке», «Дяде Ване», «Трех сестрах» и «Вишневом саде». И эти
состояния не снимаются развязкой.
Суммируя достижения драматургов-новаторов рубежа XIX—
XX вв., Б. Шоу в работе «Квинтэссенция ибсенизма» (1891) выделил
некоторые их общие черты: в пьесах «затронуты и обсуждены про-
блемы, характеры и поступки героев, имеющие непосредственное
значение для самой аудитории»4; эти проблемы, требующие реше-
ния, порождают новую драматургическую технику: место развязки
заменяет «дискуссия» (как в «Кукольном доме» Ибсена). Конфликт
1 Метерлинк М. Сокровище смиренных. Томск, 1994. С. 62.
2 Шах-Азизова Т. К. Чехов и западноевропейская драма его времени. М., 1966.
С. 36.
3 Хализев В. Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирова-
ние). М., 1986. С. 148.
4 Шоу Б. О драме и театре. М., 1963. С. 67.
290
строится не «вокруг вульгарных склонностей человека, его жадно-
сти или щедрости, обиды и честолюбия, недоразумений и случай-
ности и всего прочего, что само по себе не порождает моральных
проблем, а вокруг столкновения различных идеалов»1. Шоу сближа-
ет при этом конфликты и «технику» пьес Ибсена и Чехова (который,
кстати сказать, Ибсена не слишком жаловал): «В чеховском “Виш-
невом саде”, например, где сентиментальные идеалы нашего класса
собственников, восторгающихся Шуманом, разлетаются в прах под
рукой, не менее беспощадной, чем рука Ибсена, хотя она и более
ласкова, в “Вишневом саде”, повторяю, не происходит ничего более
страшного, чем положение семьи, которая не может позволить себе
содержать свой старый дом»1 2.
Аналогичные сюжетные трансформации происходят во всех ро-
дах литературы, но в драматургии, с её традиционным тяготением
к острому и зрелищному действию, они особенно заметны.
Размышляя над типологией конфликтов в сюжетных произве-
дениях, В. Е. Хализев соотносит ее с господствующими взглядами
авторов на мироустройство. Он использует философское понятие
картина мира, утвердившееся в XX в., но возникшее еще в XIX в.,
во многом под воздействием работ А. Шопенгауэра «Мир как воля
и мое представление» (1819), Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа
музыки» (1872), «Так говорил Заратустра» (1883—84) и др. Взгля-
ды на мир и человека названных философов и их последователей
противостояли традиционному «пониманию бытия как единого,
упорядоченного, гармоничного, имеющего незыблемые константы
и смысл, а человека — как сущностно и органически причастного
этому бытию, в него вовлеченного»3. Наряду с классической карти-
ной мира, восходящей еще к мифологии, существует и противопо-
ложный «взгляд на бытие как раздробленное, хаотичное, не имею-
щее констант, вечно нестабильное, враждебное человеку, в котором
тоже все нестабильно и зыбко»4.
Не рассматривая здесь специально эту глобальную тему, отме-
тим лишь, что доминанта того или иного видения мира проявляется
во многих сюжетных произведениях, в особенности в их финалах.
1 Шоу Б. О драме и театре. М., 1963. С. 70.
2 Там же. С. 73.
3 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2009. С. 56. См. также: Хализев В. Е. Сю-
жет // Введение в литературоведение. М., 2012. С. 241.
4 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2009. С. 57. См. также: Хализев В. Е. На-
следие М. М. Бахтина и классическое видение мира // Филологические на-
уки. 1991. № 5. С. 3—13; В. Хализев В. Е. Классическое видение мира и культур-
но-художественная ситуация XX века // Классика и современность / Под ред.
П. А. Николаева, В. Е. Хализева. М., 1991. С. 248—253; Хайдеггер М. Время и бытие:
Статьи и выступления. М., 1993; Якимович А. К. О двух концепциях в культуре Ново-
го и Новейшего времени // Искусствознание 1/01. М., 2001 и др.
291
При этом классическая картина мира, господствующая в миро-
воззрении писателей прошлых эпох, может органично сочетать-
ся с «кровавой» развязкой. «Каждая пьеса Шекспира, — пишет
В. Ф. Асмус, — представляет замкнутый в себе микрокосм, в кото-
ром произошло нарушение обычного порядка и хода вещей: рас-
палось единство страны, возникли разлад в царствующей семье,
война с другой страной, восстание против существующей власти,
нарушение закона и нравственных норм. Как правило, в пьесах со-
четаются несколько подобных мотивов. <...> Достигнув крайней
остроты, разлад в той или иной мере исчерпывает себя, и в конце
происходит восстановление нарушенного порядка»1.
Но главное для Шекспира — все-таки не состав событий, а ха-
рактеры, ярко проявляющие и исчерпывающие себя в действии,
а также в монологах, подобно долго бездействующему Гамлету.
Герой гибнет, но трагедия «не оставляет чувства отчаяния и бе-
зысходности. Гамлет дает нам возможность убедиться в том, как
прекрасен может быть человек в самой сложной жизненной ситуа-
ции. <... > Поэтому вопреки всеобщей гибели трагедия не является
пессимистической»1 2. И завершается пьеса обещанием Горацио по-
ведать всем о Гамлете: жизнь продолжается...
В эстетике Гегеля трехчленная схема действия — «единого, це-
лостного в себе движения, содержащего акцию, реакцию и разре-
шение их борьбы»3 — отражает основной принцип его диалектики,
как и его признание «разумной действительности». Его понимание
«действия» долгое время господствовало в теории сюжета.
Уверенность в возможности достижения социальной гармо-
нии, справедливости в будущем, которое «светло и прекрасно»
(как писал Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?»), вдох-
новляла молодую социалистическую литературу. В пьесе-прит-
че Б. Брехта «Добрый человек из Сезуана» (1939—41), наглядно
доказывающей недостаточность добрых намерений одной лич-
ности сделать жизнь справедливее, в конце звучит «зонг»: «Пло-
хой конец заранее отброшен, / Он должен, должен, должен быть
хорошим!»4 Другой пример жизнеутверждающего финала — в ро-
мане А. А. Фадеева «Разгром» (1927), повествующем о партизан-
ском движении на Дальнем Востоке. Текст завершается крылатой
фразой: «Но надо было жить и исполнять свои обязанности». Она
не декларативна: в романе психологически убедительно изобра-
жено, как стихийность в поведении бойцов сменяется сознатель-
1 Асмус В. Ф. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974. С. 356.
2 Асмус В. Ф. Трагедия Шекспира «Гамлет». М., 1986. С. 205.
3 Гегель Г В. Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 1. М., 1968. С. 227.
4 Брехт Б. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. М.: Художественная литература,
1975. С. 602.
292
ностью, как они становятся героями (хотя отряд и терпит пора-
жение) .
Но многие произведения, в особенности XX—XXI вв., и русские
и зарубежные, погружают читателя в мир, лишенный устойчивых
нравственных ценностей и часто враждебный человеку. Таковы, на-
пример, повесть «Превращение» Ф. Кафки (1912), роман «Посторон-
ний» А. Камю (1942), драмы «Трамвай “Желание”» Т. Уильямса (1947),
«Утиная охота» А. В. Вампилова (1970), роман «Андеграунд, или Герой
нашего времени» В. С. Маканина (1983). В этих произведениях, став-
ших событиями в литературе, много печали, и здесь, в сущности, от-
сутствует развязка (в том значении, какое придавал ей Б. Шоу).
А. П. Чехов в письме кА. С. Суворину (от 27 октября 1888 г.) писал:
«Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы пра-
вы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная
постановка вопроса. Только второе обязательно для художника»1.
При оценке произведений важно помнить об этих мудрых словах
писателя, которому в пьесах (как он писал тому же адресату 4 июня
1892 г.) «не даются подлые концы»1 2.
События, составляющие сюжет, в жизни могут следовать друг
за другом только в хронологическом порядке: завязка предшеству-
ет развязке, преступление — наказанию, первая встреча персона-
жей — второй и т. д. Эта естественная последовательность может
быть сохранена или нарушена в произведении. Порядок изложения
событий, избранный писателем, мы будем вслед за В. Е. Хализевым
называть композицией сюжета, или сюжетной композицией3.
В связи с недостаточной упорядоченностью терминологии, ис-
пользуемой при изучении хода событий, представленного в про-
изведении, необходим небольшой экскурс в историю литерату-
роведения. В научной литературе нередко можно встретиться
с оппозицией: сюжет / фабула, либо, напротив: фабула / сюжет.
Слово фабула — латинского происхождения, и в «Поэтике» Аристо-
теля его нет: М. Л. Гаспаров в своем переводе (1978) этого клас-
сического текста называет подражание действию сказанием или
мифом (в отличие от перевода В. Г. Аппельрота, употребившего
латинское слово фабула)4. Слово же сюжет — французское, озна-
чающее предмет. Согласно Г. Н. Поспелову, «впервые в литературе
термин «сюжет» применили классицисты П. Корнель и Н. Буало,
1 Чехов А. П. Поли. собр. соч.: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 3. М., 1976. С. 46.
2 Там же. Т. 5. С. 72.
3 См.: Хализев В. Е. Общие свойства эпоса и драмы // Введение в литературо-
ведение / Под ред. Г. Н. Поспелова. М., 1988. С. 199.
4 Ср.: Аристотель и античная поэтика. С. 121; Аристотель. Поэтика. М., 1957.
С. 58.
293
имея в виду, вслед за Аристотелем, происшествия в жизни главных
героев древности (напр., Антигоны и Креонта или Медеи и Ясо-
на), заимствованные драматургами более поздних времен. Но еще
раньше римскими писателями для обозначения рассказов, а затем
и изображенных в них событий употреблялось латинское слово “фа-
була” (от одного корня cfabulari — рассказывать, повествовать).
Различие в терминах, обозначавших одно явление, сделало их не-
устойчивыми и неоднозначными»1. В русской критике и литерату-
роведении XIX в. для обозначения хода, состава событий обычно
использовалось слово «сюжет» («Поэтика сюжетов» А. Н. Веселов-
ского). Слово же «фабула» до сих пор имеет разные значения. Со-
гласно П. Пави, оно может указывать и на «материал, предшествую-
щий композиции пьесы», и на «нарративную структуру рассказа»1 2;
часто выступает и синонимом сюжета.
В 1920-е годы представители русской формальной школы
В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, а также методо-
логически близкий к ним Б. В. Томашевский и др., объясняли воз-
действие произведения на читателя прежде всего приемами изобра-
жения событий. Заменив идущую от Гегеля дихотомию содержание /
форма понятийной парой материал / прием, где ведущим началом
является прием, они сосредоточились на изучении порядка, спосо-
ба представления событий, назвав его сюжетом; соответственно,
сам ход событий именовался фабулой. В. Б. Шкловский считал фа-
булу «лишь материалом для сюжетного оформления»3, именно по-
следнее порождает эффект «остранения» (неологизм, введенный
в литературоведческий словарь Шкловским). «Целью искусства, —
писал он, — является дать ощущение вещи как видение, а не как
узнавание; приемом искусства является прием «остранения» вещей
и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу
восприятия...»4 Исследователь рассмотрел много приемов сюжетно-
го оформления, как то: кольцевое и ступенчатое построение, нани-
зывание, торможение и др. Б. В. Томашевский считал фабулой «со-
вокупность событий в их взаимной внутренней связи» (исключая
из фабульных произведений хронику), а сюжетом — «художествен-
но построенное распределение событий»5.
1 Поспелов Г. Н. Сюжет // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
С. 431. См. также: Кормилов С. И. Сюжет // Литературная энциклопедия терминов
и понятий. М., 2001. Стлб. 1048—1050.
2 Пави П. Указ. соч. С. 398. В «Англо-русском и русско-английском литерату-
роведческом словаре» Н. Н. Гончаровой (М., 2016) фабуляция (fabulation) означает
«способ повествования, свойственный современной художественной литературе»
(с. 134).
3 Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 204.
4 Там же. С. 13.
5 Томашевский Б. В. Теория литературы. М., 1996. С. 179—180. (1-е изд. —1925).
294
В целом работы названных ученых сильно продвинули вперед
анализ приемов изображения действия в произведении. Однако ис-
пользуемая ими терминология, противоречившая значению слова
«сюжет» и в русской, и в западноевропейской научной традиции,
неудобна; слово же «фабула» издавна было неоднозначным.
Вслед за В. Е. Хализевым, во избежание терминологических ого-
ворок, будем различать сюжет и композицию сюжета. Оба эти по-
нятия, относящиеся к разным сторонам художественной формы,
равно необходимы при анализе произведения.
Изучение композиции сюжета (в старину оно обычно называ-
лось расположением) началось очень давно: ведь расположение
элементов, частей сюжета осознавалось самими писателями как
серьезная творческая задача. В античной драматургии прием умол-
чания подготавливал узнавание героем (и зрителями) тайн, скры-
тых в прошлом. Так создавалось драматическое напряжение, о чем
писал Аристотель.
В трагедии Софокла «Царь Эдип» (в другом переводе — «Эдип-
царь») причина бедствий, обрушившихся на Фивы, скрыта
в прошлом, и на протяжении всей пьесы Эдип, не зная жалости
ни к другим, ни к себе, бесстрашно ищет виновника. Узнав же, что
виновник — это он сам, не щадит себя, хотя убийство Лая и брак
с Иокастой были совершены им в неведении о том, что это его
отец и мать. Софокл исходил из этики архаической эпохи, оцени-
вавшей поведение человека «не по его субъективным намерениям,
а по объективным результатам»1. Героизм Эдипа — в его беском-
промиссности по отношению к себе. Он ослепляет себя, считая это
наилучшим выходом: «Сойдя в Аид, какими бы глазами / Я стал
смотреть родителю в лицо / Иль матери несчастной? Я пред ними /
Столь виноват, что мне и петли мало!»1 2 И он добивается своего из-
гнания из Фив.
Рассматривая внутреннее членение трагедии, Аристотель при-
водил в пример «Царя Эдипа»: «Узнавание <...> есть перемена
от незнания к знанию, <а тем самым > или к дружбе или к вражде
<лиц>, назначенных к счастью или к несчастью. Самое лучшее уз-
навание — ...такое, когда с ним вместе происходит и перелом, как
в “Эдипе”»3.
В «поэтиках» и «риториках» традиционно рекомендовалось при-
бегать к сюжетным инверсиям. Буало иронизирует над поэтом, по-
хожим на историка:
1 Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой тра-
гедии. М., 1978. С. 203.
2 Софокл. Эдип-царь Пер. С. Шервинского // Античная драма. М., 1970. С. 174.
3 Аристотель. Указ. соч. С. 129.
295
Бегите рифмача, чей разум флегматичный
Готов и в страсть внести порядок педантичный:
Он битвы славные и подвиги поет,
Неделям и годам ведя уныло счет...1
И он приветствует в драмах развязку, разъясняющую «тайны»:
Довольны зрители, когда нежданный свет
Развязка быстрая бросает на сюжет,
Ошибки странные и тайны разъясняя
И непредвиденно события меняя1 2.
М. В. Ломоносов в своем руководстве к красноречию также отме-
чает «великую красоту» эпических поэм и повестей, когда они начи-
наются не с начала, а с середины действия, как это сделал Вергилий
в «Энеиде». Он начал свою поэму «с приключившейся великой бури,
которою Эней отнесен был в Карфагену, где он Дидоне, царице кар-
фагенской, сказывает о своем странствовании, начиная от самого
разорения Трои...»3 Ломоносов, как видим, различает начало «дея-
ния» (т. е. завязку) и начало «повествования». Расположению пред-
метов речи (этот термин широко применялся в риториках и поэти-
ках) писатели уделяли много внимания. Согласно Н. Ф. Остолопову,
расположение «должно быть первым трудом... всякого писателя, же-
лающего творение свое сделать правильным. Расин, как сказывают,
один год делал расположение своей Трагедии, а другой писал ее»4.
Островский считал, что «самое трудное для начинающих драмати-
ческих писателей — это расположить пьесу; а неумело сделанный
сценариум вредит успеху и губит достоинства пьесы» (из письма
к В. С. Шабельской от 5 июня 1885 г.)5 Однако «великую красоту»,
выражаясь слогом Ломоносова, имеют и повествования, соблюдаю-
щие естественную последовательность событий. В различных про-
изведениях Пушкина стилевыми доминантами предстают противо-
положные приемы сюжетной композиции.
В «Песни о вещем Олеге» князь Олег сначала слышит предска-
зания волхва («Но примешь ты смерть от коня своего»), после чего
расстается с конем. Проходят годы: кудри у Олега и его дружинни-
ков стали «белы, как утренний снег / Над славной главою кургана».
За пиром он спрашивает о коне, узнает о его «беспробудном сне»,
едет к холму, где «лежат благородные кости», наступает на череп
коня и, будучи ужален змеей, умирает. Завершается «песнь» описа-
нием «тризны плачевной Олега». Воскрешая события, приведенные
в «Повести временных лет», Пушкин рассказывает о них в хроноло-
1 Буало Н. Указ. соч. С. 69.
2 Там же. С. 78.
3 Ломоносов М. В. Сочинения. М., 1957. С. 403—404.
4 Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии: в 3 ч. 4. 3. СПб., 1821. С. 8.
5 Островский А. Н. Поли. собр. соч.: в 12 т. Т. 12. М., 1973—1980. С. 359.
296
гическом порядке, хотя летописец прибегает к сюжетной инверсии:
«И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И при-
шла осень, и помянул Олег коня своего, которого когда-то поставил
кормить, решив никогда на него не садиться» (пер. Д. С. Лихачева).
Избранный поэтом порядок рассказа соответствует не летописно-
му, но былинному стилю, где время «начинается с началом сюжета
и заканчивается концом сюжета», где «время развивается только
в одном направлении, оно не знает возвращений назад и забеганий
вперед»1. И в древнерусских литературных жанрах (житие, воин-
ская повесть, «хожение») повествователь излагает события, «не на-
рушая их реальной последовательности»1 2.
Но композиция сюжета может быть совсем иной, чем в «Песни
о вещем Олеге», где Пушкин передал старинное предание на ста-
ринном «поэтическом языке». В «Повестях Белкина» (1830) в осно-
ве сюжетной композиции всех пяти частей, составляющих цикл, —
нарушения хронологии, «умолчания» и последующие «узнавания»,
т. е. широко применяемые романтиками приемы. Однако «трудная»
композиция здесь сочетается с иронией над поэтикой тайны: реаль-
ная жизнь оказывается и проще и одновременно сложнее. В повести
«Выстрел»3 хронологический прядок основных событий, реконстру-
ируемый читателем по прочтении всего текста, следующий. Силь-
вио, привыкший «первенствовать» в гусарском полку, прерывает
дуэль с графом, успевшим прострелить ему фуражку, и, оставив
за собой право продолжить поединок, выходит в отставку. Через
шесть лет, живя в «бедном местечке» и имея «сильное влияние»
на молодых офицеров, он уклоняется от участия в одной дуэли («что
чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи»), надеясь сно-
ва стреляться с графом, за перемещениями которого следил. Затем
он является к графу, недавно женившемуся, чтобы «разрядить...
пистолет», и вынуждает его снова тянуть жребий. Граф, голова ко-
торого «шла кругом», стреляет первым и попадает в картину, ви-
сящую на стене. Видя его смятение, Сильвио прекращает дуэль,
но на прощанье стреляет в простреленную картину, всадив свою
пулю на пулю графа. Через несколько лет Сильвио, по слухам, поги-
бает «под Скулянами» (т. е. в сражении 21 июня 1821 года, участвуя
в освободительной борьбе греков против турецкого владычества).
Этот реальный ход событий нарушен в повествовании, что мо-
тивировано введением рассказчика. Читатель узнает о всех состо-
явшихся и несостоявшихся выстрелах Сильвио в той же последова-
тельности, что и рассказчик. В начале повести главный герой уже
1 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 230, 232.
2 Там же. С. 251.
3 Текст повести цитируется по изд.: Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 5. М.,
1960. С. 50—62.
297
в отставке и окружен ореолом тайны, которую раскрывает рас-
сказчику перед второй встречей с графом: оказывается, после пре-
рванной дуэли «не прошло ни одного дня», чтобы Сильвио не думал
о мщении. Так проясняется причина его отказа от намечавшейся
очередной дуэли в «бедном местечке». Другой же вопрос: почему
Сильвио не продолжил прерванную дуэль с графом, но выстрелил
в картину? — не имеет однозначного ответа. С одной стороны,
Сильвио объясняет свой отказ стрелять в графа тем, что видел его
«смятение», его «робость». С другой, краткий эпилог, где сказано
о гибели героя «под Скулянами», наводит на мысль об изменении
его представлений о храбрости и жизненных целях.
Самокритика Сильвио заметна уже в его рассказе о первом по-
единке с графом: «...волнение злобы было во мне столь сильно»,
«злобная мысль мелькнула в уме моем». Между первым и вторым
поединком — годы, но они «не пустые», что подчеркнуто и эволю-
цией интересов рассказчика. Он также вышел в отставку, но раз-
мышляет не о храбрости, теперь его страшит мысль «сделаться пья-
ницею с горя, то есть самым горьким пьяницею...»
Своеобразие сюжетной композиции в любом случае проясняет-
ся через ее сопоставление с естественным, хронологическим ходом
событий — «точкой отсчета» при констатации сюжетных инверсий
и переплетений разных линий.
При анализе сюжетов в современном литературоведении часто
применяется понятие мотив (франц, motif, от лат. moveo — двигаю),
под которым имеется в виду «повторяющийся компонент фольклор-
ного или литературного произведения или его смысловая единица,
простейшая составная часть»1. Само слово «мотив» пришло из му-
зыки (впервые термин зафиксирован в «Музыкальном словаре»
С. де Броссара, вышедшем в 1703 г.)1 2. Музыка — искусство времен-
ное, и обязательным признаком мотива считается повтор (мотив
может повторяться не буквально, но должен быть узнаваемым).
Понятие мотива в литературоведении стало особенно актуаль-
ным при сравнительном изучении литератур разных народов. В по-
лемике с Т. Бенфеем, выступившим в 1859 г. с гипотезой «бродячих
сюжетов» (их основным источником немецкий ученый считал «Пан-
чатантру» — сборник древних индийских басен и сказок), А. Н. Ве-
селовский в работе «Поэтика сюжетов» (опубликована посмертно,
в 1913 г.) предложил «отграничить вопрос о мотивах от вопроса
о сюжетов». Под мотивом Веселовский понимал «простейшую по-
1 Гончарова Н. Н. Англо-русский и русско-английский литературоведческий
словарь. М., 2016. С. 217.
2 См.: Целкова Л. Н. Мотив // Введение в литературоведение / Под ред.
Л. В. Чернец. М., 2012. С. 253.
298
вествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы
первобытного ума или бытового наблюдения», например: «пред-
ставление солнца — оком», «увоз девушки-жены»; под сюжетом —
«комбинацию мотивов». Чем сложнее эта комбинация, чем больше
мотивов она включает, тем, по Веселовскому, вероятнее ее заим-
ствование. Мотивы же «могли создаваться самостоятельно и вместе
с тем представлять сходные черты»1.
От сопоставления сходных мотивов в мифах, фольклоре, раннем
эпосе1 2 исследователи поднимались «наверх», к современности, про-
слеживая дальнейшие судьбы мотивов и их цепочек в сюжетах, от-
мечая и объясняя наблюдаемые трансформации. Ведь вплоть до ро-
мантической революции в искусстве главным источником сюжетов
оставались предания старины, сплошь и рядом перелицовывались
и переосмыслялись испытанные схемы. Заимствование сюжетов
было явлением обычным. Богатой и казавшейся неисчерпаемой
кладовой была, например, древнегреческая литература для римских
авторов. Так, Плавт и Теренций в своих паллиатах часто прибегали
к контаминации, т. е. соединению двух или нескольких греческих
пьес (прежде всего Менандра) в одну. В прологе к пьесе «Евнух» Те-
ренций защищает право поэта «о детях подкинутых / писать, о том,
как старика хозяина / обманывает раб...», хотя это многократно
изображали до него: «В конце концов не скажешь ничего уже, / Что
не было б другими раньше сказано»3.
Как отмечает А. И. Белецкий, «о плагиате не поднимали речи
в эпоху особенно пышного расцвета драматургии в Англии, Испа-
нии, Франции — и ни Шекспир, ни Лопе де Вега не делали к своим
пьесам приписки — “сюжет заимствован”. В полной законности за-
имствования не сомневались и в средние века авторы, например
рыцарских романов-поэм, считавшие скорее личное изобретение
в области сюжета признаком дурного тона и малой образованности.
Лишь романтические толки и манифесты о самобытности XVIII—
XIX веков поколебали эту традицию. Девятнадцатый век потребо-
вал от своих авторов оригинальности и в сюжете»4.
Но и в литературе последних столетий, когда сюжетный фонд
резко обновился, отражая жадный интерес писателей к современ-
1 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 305. Подробнее о кон-
цепции сюжета и мотива у А. Н. Веселовского см.: Горский И. К. Сравнительно-исто-
рическое литературоведение // Академические школы в русском литературоведе-
нии. М., 1975. С. 252—256.
2 Как пример сопоставления сходного мотива в раннем эпосе см.: Жирмун-
ский В. М. Эпическое сказание об Алпамыше и «Одиссея» Гомера // Жирмун-
ский В. М. Сравнительное литературоведение. 1979. С. 314—335 [анализируется
мотив «муж на свадьбе своей жены»].
3 Теренций. Комедии / Пер. А. Артюшкова. М., 1988. С. 168.
4 Белецкий А. И. В мастерской художника слова // Белецкий А. И. Избранные
труды по теории литературы. М., 1964. С. 95.
299
ности, многие старые сюжетные мотивы и сюжеты сохраняют свою
притягательность. При этом в старые меха вливают новое вино.
Внимание исследователей привлекают как истоки, так и транс-
формация сюжетов и мотивов, о чем свидетельствует, в частно-
сти, создание «Словаря-указателя сюжетов и мотивов русской
литературы»1. При этом авторов интересует не столько отличие
мотива от сюжета как «комбинации мотивов» (что было важным
для А. Н. Веселовского, доказывающего самозарождение мотивов),
сколько повторяемость, сходство и сюжетов, и мотивов в истории
литературы и фольклора. «В литературной практике, — пишут
В. И. Тюпа и Е. К. Ромодановская, — многие традиционные мотивы
могут быть развернуты в целые сюжеты, а традиционные сюжеты,
напротив, “свернуты” в один мотив. Напротив, во множестве произ-
ведений мировой литературы мы встречаемся как с сюжетом блуд-
ного сына, явно или (чаще) не явно воспроизводящим событий-
ную канву притчи из Евангелия от Луки, так и с мотивом блудного
сына, актуализирующим ту же притчу в читательском сознании без
воспроизведения ее сюжета в тексте. Обилие подобных примеров
убеждает в искусственности отмежевания словаря мотивов от сло-
варя сюжетов... »1 2
Итак, важнейший признак мотива — это его повторяемость (уз-
наваемость). Исследователей литературного процесса — а именно
он представлен, через совокупность сюжетов и мотивов, в назван-
ном словаре — интересует их повтор в разных, часто разделенных
веками произведениях, иначе говоря, интертекстуалъный повтор.
Естественно, для указания на сходство мотивов (сюжетов) в очень
разных по своему конкретному сюжету и жанру произведениях по-
требовался достаточно абстрактный язык описания. Так, мотив «до-
говор человека с дьяволом» проходит через многие века, объединя-
ет «Повесть о Савве Грудцыне», пьесу «Маг-чудодей» П. Кальдерона,
трагедию «Фауст» Гете, повесть «Удивительные приключения Пете-
ра Шлемилля» А. Шамиссо, «Портрет» Гоголя, роман «Шагреневая
кожа» О. Бальзака, «Бесы» Ф. М. Достоевского, «Мастера и Марга-
риту» М. А. Булгакова3.
Формированию «языка» описания выделенных мотивов способ-
ствовало развитие структурализма (с опорой на фольклористику,
1 См.: Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Эксперимен-
тальное издание / Отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск. Вып. 1—3. 2006—
2009.
2 Тюпа В. И., Ромодановская Е. К. Словарь мотивов как научная проблема (вме-
сто предисловия) // От сюжета к мотиву. Новосибирск, 1996. С. А—5.
3 См.: Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Вып. 1. Но-
восибирск, 2006. С. 87—91; Легенда о докторе Фаусте / Комм. В. М. Жирмунского.
М.; Л., 1958; Багно В. Е. Договор человека с дьяволом в «Повести о Савве Грудцыне»
и испанской драматургии Золотого века // Багно В. Е. Россия и Испания. Общая
граница. СПб., 2006. С. 170—182.
300
в особенности на стоящую у его истоков книгу В. Я. Проппа1, а так-
же на структурную лингвистику). Одна из дискутируемых проблем,
возникающих при применении структуралистских методов к лите-
ратурным сюжетам, — наименование сюжетных инвариантов, сте-
пень их отвлеченности от конкретных текстов, от семантического
аспекта сюжета1 2.
Вообще в методологии и методике сопоставлений сюжетов и сю-
жетных мотивов много нерешенных, открытых вопросов. В самой
номинации искомого инварианта сходных событий наблюдается
очень сильный разброс: с одной стороны, вызывающий конкрет-
ные ассоциации договор человека с дьяволом или блудный сын,
с другой — предельно широкие, расплывчатые определения, как то:
измена, уединение, преступление и наказание. Но в целом можно со-
гласиться с И. В. Силантьевым, что при вычленении и определении
мотива (сюжета) важно указать его тему («мотив без темы — это
не более чем чистая идея перемены») и обозначить мотив «через
предикативное слово»3.
Итак, сюжетный мотив — это прежде всего интертекстуалъный
мотив, он повторяется в разных произведениях. Но можно привести
примеры и внутритекстовых повторов сходных событий, действий
героев: вспомним три извинения Червякова в «Смерти чиновника»
Чехова, рассказ Л. Толстого «Три смерти», рассказ А. П. Платонова
«Возвращение» (1946). В рассказе Платонова подлинным возвра-
щением капитана Иванова домой, с фронта, оказался не первый
его приезд, но второй, когда он, после ссоры с женой решив уехать
от семьи, увидел бегущих к поезду своих детей. И он возвращает-
ся — навсегда: «Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точ-
нее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду
самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся
ее обнажившимся сердцем»4.
От сюжетного мотива следует отличать другие повторы в мире
произведения, не связанные с изображением хода событий. Б. В. То-
машевский, предложивший считать мотивами «неразлагаемые» те-
матические части произведения, отметил их разнородность. При
пересказе хода событий «мы сразу обнаруживаем, что можно опу-
стить, не разрушая связности повествования, и чего опускать нельзя,
не нарушив причинной связи между событиями. Мотивы неисклю-
чаемые называются связанными; мотивы, которые можно устранять,
1 См.: Пропп В. Я. Морфология сказки. Л., 1928.
2 Подробнее об этом сказано в г. «Персонаж».
3 См.: Силантьев И. В. Сюжетологические исследования. М., 2009. С. 15.
Об истории изучения сюжетных мотивов см.: Силантьев И. В. Поэтика мотива. М.,
2004. Гл. 1 (с. 15—75).
4 Платонов А. П. В прекрасном и яростном мире. Повести и рассказы. М., 1965.
С. 621.
301
не разрушая цельности причинно-временного хода событий, являют-
ся свободными»1. Таковы, например, мотивы неба в «Войне и мире»
Л. Н. Толстого, холода в романе Ч. Диккенса «Домби и сын».
В отличие от «связанных» (сюжетных) мотивов, повторяющихся
прежде всего в интертексте (т. е. в других произведениях), «сво-
бодные» мотивы — внутритекстовые. Ведущий «свободный» мотив
называют лейтмотивом (нем. Leitmotiv). Так, в романе Ч. Диккенса
«Домби и сын» (1847) лейтмотивом является холод, в прямом и пе-
реносном смыслах: «...по мере того как Домби выступает на перед-
ний план, вокруг него становится все холоднее; в присутствии Дом-
би дыхание священника превращается в пар. Разумеется, холодно
на торжестве, которое устраивается по случаю крестин: подаются
слишком холодные вина, и гостям предложена только холодная за-
куска. Кто-то из родственников напевает мотив — это похоронный
марш. Под конец ребенок простудился, и замерзшие листья падают
с ветвей»1 2.
«Свободные» мотивы — одна из активно используемых форм
присутствия автора в произведении. Складываясь в цепь нетожде-
стенных повторов, они часто приобретают символическое значе-
ние3.
•if •if •if
В заключение заглянем в творческую лабораторию писателя.
Ввиду обширности темы рассмотрим два случая: 1) использование
известного сюжетного «прототипа»; 2) сюжетный вымысел на осно-
ве фактов, наблюдаемых в жизни.
1). Сюжет трагедии Жана Расина «Федра» (1677) во многом
(но далеко не во всем!) повторяет ход действий в трагедии Еври-
пида «Ипполит» (428 г. до н. э.), а также в предназначенной, по-
видимому, для «публичного авторского чтения вслух»4 трагедии
Луция Аннея Сенеки «Федра» (I в. н. э.). В основе названных про-
изведений — сказания о греческом герое Тесее5. Не все сочинения
на эту тему дошли до нас. Так, от первого варианта пьесы Еврипида,
служившего основным источником для Сенеки, сохранилось лишь
50 стихов. Этот вариант назывался «Ипполит закрывающийся» —
«очевидно, потому, что Ипполит, слушая признания мачехи, от сты-
1 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996 [переиздание учеб-
ника 1931 г.]. М., 1996. С. 183.
2 Дибелиус В. Лейтмотивы у Диккенса // Вальцель О., Дибелиус В., Фосслер К.,
Шпитцер Л. Проблемы литературной формы / Пер с нем. М., 2007. С. 145.
3 О свободных мотивах см. подробнее в главах «Мотивы» и «Деталь».
4 Ошеров С. Сенека: философ, прозаик, поэт // Нравственные письма к Луци-
лию. Трагедии. М., 1986. С. 23.
5 См.: Тахо-Годи А. А. Тесей // Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Меле-
тинский. М., 1982. С. 537—538; и др.
302
да и возмущения закрывал голову плащом. Дошедший до нас пол-
ностью второй вариант трагедии называли “Ипполит увенчанный”,
так как в прологе юноша появлялся с венком на голове»1. Наличие
таких вариантов подчеркивает достаточно свободное обращение
автора с мифологическим материалом.
Сюжетные константы в пьесах Еврипида, Сенеки, Расина1 2 сле-
дующие: страсть Федры к пасынку и ее признание Кормилице (у Ра-
сина — Эноне); посредническая роль Кормилицы (Эноны); отказ
Ипполита от любви Федры, при обещании хранить тайну от Тесея;
возращение в Трезен Тесея, сразу поверившего в клевету на Иппо-
лита и попросившего Посейдона покарать сына; изгнание Ипполита
и его страшная гибель; самоубийство Федры; раскаяние Тесея.
Многие из названных сюжетных ходов, названных нами обоб-
щенно, имеют вариации. Различно и их место в композиции сюже-
та. Сравним главные узлы этого концентрического сюжета в тра-
гедиях. У Еврипида Ипполит, узнав о страсти Федры от Кормилицы,
разражается возмущенной речью женоненавистника («О Зевс! За-
чем ты женщин создавал? И это зло, с его фальшивым блеском /
Под небом светозарным поместил?» — с. 122). Федра, спасая честь,
«из души своей свободной / Жало страсти вынимает» (так поет хор,
с. 128), она отравляется; возвратившийся Тесей видит в руке трупа
письмо, в котором она клевещет на Ипполита. И Тесей верит ему.
Как полагает В. Н. Ярхо, клевета Федры — следствие ее «нравствен-
ной ориентации на внешнюю оценку человеческого поведения. Важ-
но не то, что думает герой, поступая так или иначе, — важно то,
что из этого получается в глазах его общественного окружения»3.
Забота о чести у Федры усугубляется знанием истории ее рода,
воспоминаниями о Пасифае и Минотавре. Ипполит же, в отличие
от Федры, «ориентируется не на оценку извне, не на чужое мнение,
а на собственное сознание невиновности»4. Глубокий трагизм про-
изведения состоит в том, что «ориентация на внешний почет ведет
к столь же разрушительным последствиям, что и глубоко внутрен-
нее чувство благочестия»5. У Еврипида, которого Аристотель назвал
«трагичнейшим из поэтов»6, уже нет оптимизма Софокла.
1 Головня В. В. Примечания // Еврипид. Пьесы. М., I960. С. 490.
2 Цитаты из пьес приводятся по изданиям: Еврипид. Пьесы / Пер. И. Ф. Ан-
ненского. М., 1960; Сенека Л.-А. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии /
Пер. С. Ошерова. М., 1986; Расин Ж. Федра / Пер. Мих. Донского // Театр фран-
цузского классицизма. М., 1970. Далее издания цитируются в тексте с указанием
страниц и, в случае необходимости, имени драматурга.
3 Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой тра-
гедии. М., 1978. С. 238.
4 Тамже. С. 248.
5 Там же. С. 260.
6 Аристотель. Указ соч. С. 132.
303
В трагедии Сенеки Ипполит, услышав признание Федры, сна-
чала обращается к небесным светилам («Пусть обрушится эфир /
И в черных тучах день сокроется!», с. 325), затем хочет пронзить
ее мечом, наконец, решает: «Нет, у меня и смерти ты не вымолишь!
Меч оскверненный прочь от тела чистого!» (с. 325—326). Он убега-
ет, оставив в руках Федры свой меч, ставший потом «уликой» престу-
пления, о чем кричит Кормилица, созывая афинян (действие этой
пьесы происходит в Афинах). Здесь Федра сама клевещет на Иппо-
лита перед Тесеем: «К мольбам я не склонилась, под мечом мой дух /
Был тверд, — но тело вынесло насилие...» (с. 332). Но увидев рас-
терзанное тело Ипполита, она признается в своей лжи и «пронзает
себе грудь» (с. 341). «Федра», как и другие трагедии стоика Сенеки,
подчеркивает страшные последствия «страстей». «“Бешенством”,
“безумием”, “болезнью” называют свою ненависть и свою любовь
Юнона, Федра, Медея, Клитемнестра. Худшая из страстей — гнев,
из него проистекают дерзость, жестокость, бешенство; любовь так-
же легко становится страстью и ведет к бесстыдству. Страсти сле-
дует искоренять из души силою разума, иначе страсть полностью
овладеет душой, ослепит ее, ввергнет в безумие»1. Философичность
и морализм Сенеки приводит в его пьесах к обилию монологов-рас-
суждений (монолог-решение, монолог аффекта, монолог-колебание),
к обилию сентенций — и сравнительной бедности внешнего дей-
ствия1 2.
Решительно обновленную «комбинацию мотивов» представля-
ет собой «Федра» Расина. В системе персонажей здесь отсутствуют
Афродита и Артемида, враждой которых друг к другу мотивируется
у Еврипида исходный конфликт: ведь именно Афродита насылает
на Федру ее гибельную страсть (как ранее она же обрекла на позор
Пасифаю), Ипполит у Еврипида — стойкий служитель Артемиды
(она прощается с ним перед его смертью).
Вообще мифологические мотивы у Расина не более чем услов-
ность, дань традиционному сюжету. В особенности это очевидно
во введении нового сюжетного мотива — любви Ипполита к Ари-
кии, царевны из афинского знатного рода. Следовательно, Ипполит
совсем не обрек себя на безбрачие. Любопытно, что Расин, оправ-
дывая появление в старом сюжете новой героини, оправдывается
в «Предисловии» к трагедии: «Это действующее лицо, Арикия, от-
нюдь не выдумано мною. У Вергилия сказано, что Ипполит, буду-
чи воскрешен Эскулапом, женился на ней и имел от нее сына. [...]
Я ссылаюсь на источники, дабы показать, что я старался неукосни-
тельно придерживаться мифа» (с. 516).
1 Ошеров С. Указ. соч. С. 28—29.
2 Там же. С. 29.
304
Другие изменения в сюжете, как объясняет Расин, вызваны
его заботой о том, «чтобы Федра менее вызывала неприязнь, чем
в трагедиях древних авторов, где она сама отваживается обвинить
Ипполита. Я полагал, что в клевете есть нечто слишком низкое
и слишком отвратительное, чтобы ее можно вложить в уста царицы,
чувства которой к тому же столь благородны и столь возвышенны.
Мне казалось, что эта низость более в характере кормилицы, у ко-
торой скорее могли быть подлые наклонности и которая, впрочем,
решилась на клевету лишь во имя спасения жизни и чести своей
госпожи. Федра же оказывается замешанной в этом только по при-
чине своего душевного смятения, в силу которого она не владеет
собой. Вскоре же она возвращается, чтобы оправдать невиновного
и объявить истину. У Сенеки и у Еврипида Ипполит обвинен в том,
что он якобы осуществил насилие над мачехой: “Vim corpus tuli”
[лат.: Силой овладел телом]. У меня же он обвиняется лишь в том,
что намеревался это сделать. Я хотел избавить Тесея от заблужде-
ния, которое могло бы уронить его в глазах зрителей» (с. 515—516).
Изменения коснулись и характера Ипполита. Чтобы показать их,
и потребовалась Арикия: «Я почел нужным наделить его хотя бы од-
ной слабостью, которая сделала бы его отчасти виноватым перед
отцом, нисколько при том не умаляя того величия души, с коим
он щадит честь Федры и, отказываясь ее обвинить, принимает не-
заслуженную кару. Под этой слабостью я понимаю любовь, которую
он не в силах подавить, любовь к Арикии, дочери и сестре заклятых
врагов его отца» (с. 516).
Как видим, Расин стремится, внося сильные коррективы в древ-
ний сюжет, максимально приблизить своих героев к зрителям «Бур-
гундского отеля». Проследим последовательность главных событий:
Ипполит признается своему воспитателю Терамену в любви к Ари-
кии (в прологе у Еврипида — возвращение Ипполита с товарищами
с охоты, их гимн Артемиде); мучения Федры и ее признание Эноне
в любви к Ипполиту (сцена восходит к первому эписодию у Еври-
пида); известие о смерти Тесея (ложное); Федра говорит Ипполиту
о своей любви и просит пронзить ее мечом, Энона ее спешно уво-
дит (меч остается у Федры, как в пьесе Сенеки); возвращение Тесея;
Энона клевещет на Ипполита; Тесей просит Посейдона покарать
сына и изгоняет его из Трезена; рассказ Терамена о страшной гибе-
ли Ипполита; признание умирающей от яда Федры в невиновности
пасынка.
Ложное известие о гибели Тесея, вставленное Расином, — види-
мо, тоже смягчающее обстоятельство, позволившее Федре сказать
Ипполиту о своей любви. Свое «Предисловие» Расин кончает, по-
добно другим классицистам, уверением: «...ни в одной из моих тра-
гедий добродетель не была выведена столь отчетливо, как в этой»
(с. 516).
305
Даже если эти слова — дежурный гимн во славу добродетели,
то они все же объясняют основную тенденцию, прослеживаемую
в работе Расина над античным материалом.
2. Обратимся теперь к творчеству писателя, стремящегося най-
ти в самой жизни то «зерно», из которого можно вырастить сюжет,
образно передающий суть авторской концепции.
Л. Н. Толстой в июне 1887 г. услышал от Анатолия Федоровича
Кони, гостившего в Ясной Поляне, историю присяжного заседате-
ля, узнавшего в подсудимой женщину из народа, которую он в про-
шлом обесчестил. Присяжный, увидевший ее через много лет,
стал мучиться угрызениями совести и решил жениться. Толстого
взволновал этот случай. Сначала он предложил Кони самому на-
писать очерк для «Посредника», а потом, почти через год, попро-
сил уступить ему сюжет1. Под пером автора «Исповеди» (писалась
с 1879 по 1881 г.), которому «не только опротивела...», но «потеряла
всякий смысл» жизнь его круга, «действия же трудящегося народа,
творящего жизнь, представились... единым настоящим делом»1 2,
данный случай стал основой сюжета романа, получившего симво-
лическое название «Воскресение».
Прошло много лет (после рассказа Кони), было создано шесть
редакций текста, прежде чем произведение было закончено и опу-
бликовано (в 1899 г.). От истории, изложенной Кони, Толстой по-
заимствовал встречу на судебном заседании бывшего обольстите-
ля, а ныне присяжного, с его жертвой. Но Розалия Они (так звали
подсудимую) была совсем не похожа на Катюшу Маслову: судили
её за воровство, и она с радостью согласилась на замужество (свадь-
ба не состоялась, потому что невеста умерла от тифа). Рассказ Кони
явился той спичкой, которая зажгла воображение Толстого, создав-
шего и сложные характеры главных героев («Люди как реки...» —
это сказано в «Воскресении» о Нехлюдове), и продолжившего ход
событий: Нехлюдова волнует в романе судьба не одной Катюши.
Его посещения тюрем, деревни, светских знакомых и высших су-
дебных инстанций, поездка в Сибирь — всё это расширяло тема-
тику романа, вводило в сюжет новые сюжетные линии. Произведе-
ние превращалось (если использовать крылатые слова Белинского)
в «энциклопедию русской жизни» — на исходе XIX века. Изменилась
задуманная было благополучная развязка отношений главных геро-
ев: вариант с их свадьбой и переселением в Лондон был отброшен.
Работа над сюжетом не прекратилась даже тогда, когда текст был
сдан в печать: Толстой ввел упоминание о ста рублях, которые Не-
хлюдов дал Катюше после сближения с ней (это стало потом для
него мучительным воспоминанием).
1 См.: Гудзий Н. К. Как работал Толстой. М., 1936. С. 79. В книге подробно из-
ложена творческая история романа «Воскресение» (с. 78—212).
2 Толстой Л. Н. Исповедь // Собр. соч.: в 22 т. Т. 16. М., 1983. С. 146.
306
Менялись, обрастали новыми мотивами и деталями не только
сами события, но и порядок рассказа о них. От хронологически по-
следовательного повествования (соблазнение Катюши — суд над
ней — тюремные сцены) Толстой переходит к ретроспекции, сю-
жетной инверсии: свою вину перед Катюшей Нехлюдов остро осоз-
нает, когда воочию, на судебном заседании, видит ее последствия.
В дневнике Толстого от 5 ноября 1895 г. есть запись: «Сейчас ходил
гулять и понял, отчего у меня не идёт “Воскресение”. Ложно нача-
то. <...> ...я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они
предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное. <...>
Надо начать с неё»1.
История создания многих произведений наглядно показывает
трудный процесс выбора писателем наиболее убедительных сюжет-
ных и композиционных решений. «Вы не можете себе представить,
как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того
поля, на котором я принуждён сеять. Обдумать и передумать всё,
что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего со-
чинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных соче-
таний для [того], чтобы выбрать из них 1/1000000, — ужасно труд-
но», — писал Толстой А. А. Фету 17 ноября 1870 г.1 2
В творческой истории классических сюжетных произведений
работа над сюжетом, а также над расположением его компонентов
в тексте занимала, как показывают различные редакции «Бориса
Годунова» Пушкина, «Демона» Лермонтова, «Анны Карениной» Тол-
стого, львиную долю размышлений авторов.
Вопросы
1. Как соотносятся понятия «сюжет» и «содержание» произведения?
2. В чем состоит специфика изображения событий в лирике?
3. Приведите пример произведения с двумя сюжетными линиями и про-
следите связь между ними.
4. Всегда ли ведущий герой, несущий основную идею произведения,
активно участвует в сюжете?
5. «Но забывать нельзя, поэты, о рассудке:
Одно событие, вместившееся в сутки,
В едином месте пусть на сцене протечет;
Лишь в этом случае оно нас увлечет».
Откуда эти строки?
6. Перечислите основные вехи концентрического сюжета.
7. В чем проявилось новаторство пьес Г. Ибсена, М. Метерлинка, А. П. Че-
хова?
8. Чем сюжетный мотив отличается от свободного?
1 Толстой Л. Н. Указ. собр. соч. Т. 22. С. 37—38.
2 Там же. Т. 17. С. 690.
307
Глава 6
ВЕЩИ
Рус.: вещь; англ.: thing; нем.: Sache, Ding; фр.: chose.
О понятии «вещь». Вещи и природа в литературе. — Вещь в заглавии про-
изведения. — Роль вещей в изображении пространства и времени. — Знако-
вая и характерологическая функция вещей. — Сюжетообразующая функция
вещей. — Произведения искусства как вещи. — Вещизм.
Слово «вещь» отягощено множеством смыслов. Древнегреческий
мыслитель Протагор (V в. до н. э.) утверждал: «Человек — мера всех
вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же,
что они не существуют»1. Понятию вещи он придавал емкое, даже
глобальное значение. У него «вещь» — всеобъемлющая философ-
ская категория. Не меньший масштаб понятие вещи имеет в по-
эме римского мыслителя и поэта Тита Лукреция Кара (I в. до н. э.)
«О природе вещей», в которой речь идет о первичных субстанциях
всего сущего в мире (атомы и пустота), о бесконечности материи
во Вселенной, об устройстве и развитии мира, о человеке и науках
ит. д.
Слово «вещь» используется во многих словосочетаниях, самых
неожиданных контекстах, его богатая семантика позволяет такое
делать. Приведем лишь несколько примеров. В «Евгении Онегине»
А. С. Пушкин пишет: «Но Бог помог — стал ропот ниже, / И скоро
силою вещей / Мы очутилися в Париже, / А русский царь главой
царей»1 2. Здесь «сила вещей» — сила сложившихся обстоятельств,
сила логики развития событий. В 1862 г. критик А. А. Григорьев
публикует статью «По поводу нового издания старой вещи. “Горе
от ума”»3. Григорьев представляет комедию А. С. Грибоедова как
«старую вещь», как хорошо известное читателям произведение.
В конечном счете, вещей «столько, что в языке не хватает слов,
чтобы их именовать», — замечает французский философ Ж. Бодрий-
1 Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М., Мысль, 1990. С. 720.
2 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 4. М., 1960. С. 194. Далее после цитат из «Ев-
гения Онегина» в скобках указываются две цифры: арабская — номер главы; рим-
ская — номер строфы.
3 См.: Григорьев А. А. Театральная критика. Л., 1985. С. 212.
308
яр1. «Вещь» — слово, требующее аккуратного, точного употребле-
ния. Еще Р. Декарт подчеркивал огромную важность употребления
многозначного слова в определенном значении в научном тексте:
«если бы среди философов навсегда установилось согласие относи-
тельно значения слов, то почти все их споры были бы прекращены»1 2.
Примером неудачного совмещения разных понятий, обозна-
чаемых словом «вещь», может служить роман «Опись имущества
одинокого человека»3, с эпиграфом из Э. Гуссерля «Назад к са-
мим вещам!» Обыденные вещи, о которых рассуждает повество-
ватель, — лишь памятные материальные предметы, «хранители
времени и обстоятельств жизни»4. Так, он не может забыть о сво-
ей собаке, а потому хранит в стенном шкафу ошейник и стальную
цепь (поводок), купленные в Германии. У немецкого же философа
речь идет не о бытовых вещах, не об элементах повседневности. Его
призыв обратиться к самим вещам означает обратиться к «феноме-
нам сознания», к потокам переживаний как элементам сознания,
с помощью которых люди ощущают данность окружающего мира.
Вырванный из контекста философских рассуждений о познании
мира, призыв Гуссерля на страницах романа неуместен и вызывает
не ту реакцию, на которую, по-видимому, рассчитывал автор.
Тема вещей не менее объемна, чем тема природы. Если приро-
да — это всё, что существует независимо от людей, то мир вещей
есть все, что создано человеком, или вторая, рукотворная природе,
а точнее — культура. Миры природы и культуры взаимосвязаны,
взаимозависимы и совокупно создают окружающую человека сре-
ду. Поэтому предложение А. И. Белецкого именовать изображение
вещного мира в литературе натюрмортом, т. е. неживой природой,
на наш взгляд, неудачно: мир вещей — это мир культуры, и этим
термином точнее передается важнейшая особенность «второй
природы»5. Несмотря на их взаимосвязь, миры природы и культуры
(вещей) — разные: один первичен, другой вторичен, не одинаковы
и их законы развития. Явления природы не могут быть частью вещ-
ного мира. Об этом приходится напоминать, потому что в литерату-
ре встречаются, с нашей точки зрения, противоположные, неточные
суждения. Так, по словам А. П. Чудакова, «ландшафт», «пейзаж»,
«местность» суть часть вещного мира у Гоголя6.
В контексте противопоставления, различения природы и вещно-
го мира нужно исходить из того, что любая вещь — творение чело-
1 Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. С. 3.
2 Декарт Ж. Соч.: в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 129.
3 Есин С. Н. Опись имущества одинокого человека. М., 2014.
4 Там же. С. 9.
5 См. Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М., 1964. С. 208.
6 См. Чудаков А. П. Слово — Вещь — Мир. От Пушкина до Толстого. М., Сов.
писатель, 1992. С. 26.
309
века, его удовлетворенная потребность. Люди всегда потребитель-
ски относились к природе, рассматривали ее как вещь. Но и в этом
ракурсе мир вещей вторичен. Как говорил Лукреций: «Rerum natura
creatrix» (Природа — созидательница вещей).
Вещный мир отдельного художественного произведения лишь
толика мира культуры. Это масштабная проблема. Мы будем гово-
рить только о вещах материальных (одежда, мебель, украшения,
произведения искусства, недвижимость и пр.), представленных
в литературных произведениях, не касаясь вещей идеальных (раз-
личные идеи, теории, учения), также нередко представленных в ху-
дожественных творениях, но требующих специального анализа.
В качестве синонима слова «вещь» в литературе часто использу-
ется слово «предмет».
Почему человек окружает себя вещами? Потому что они атрибут
его жизненного пространства, нет человека вне вещей, без вещей.
Оказавшись в одиночестве на необитаемом острове и не имея при
себе «ничего, кроме ножа, трубки да коробочки с табаком», Робин-
зон в первую очередь решает запастись необходимыми вещами.
Ему удается несколько раз побывать на корабле, севшем на мель,
и на плоту перевезти на берег съестные припасы, кое-что из одеж-
ды, рабочие инструменты, ружья, пистолет, порох, пули, дробь и др.
В очерке И. С. Тургенева «Лес и степь», казалось бы, целиком по-
священном описанию природы, встречается немало вещей: ружье,
изба, колодезь, беговые дрожки, телега, ковер, самовар, плетень,
стол, покрытый белой скатертью, горящая свеча.
•if •if •if
В текст литературного произведения вещи могут вводиться по-
разному. Нередко на них указывает уже заглавие: «Домик в Колом-
не», «Бахчисарайский фонтан» (А. С. Пушкин); «Коляска», «Пор-
трет», «Шинель» (Н. В. Гоголь); «Перчатка (Из Шиллера)», «Кинжал»
(М. Ю. Лермонтов); «Железная дорога» (Н. А. Некрасов); «Тарантас»,
«История двух калош» (В. А. Соллогуб); «Деньги» (Э. Золя); «Двенад-
цать стульев» (И. Ильф, Евг. Петров) и т. д.
Присутствие вещей в заглавии произведения может говорить
о разном.
За пушкинским заглавием «Домик в Коломне» — задорно по-
лемический ответ поэта на злобные упреки его в мелкотемье, ут-
верждающий его право на свободу творчества. Сама же анекдо-
тическая история, случившаяся в лачужке, в предместье столицы,
в поэме — не главное. Вещи в названии повестей Гоголя «Коляска»
и «Шинель» — сюжетообразующие. В «Коляске» в комическом свете
представлено соревнование между офицерами и помещиком в по-
гоне за «хорошими вещами». В «Шинели» — глубокий срез жизни,
речь идет не столько об «обмелении» человека, сколько об униже-
310
ниях и оскорблениях его. Шинель (кстати говоря, по петербургско-
му климату далеко не «самая ничтожная вещь», без которой не об-
ходятся и начальники Башмачкина) приносит бедному чиновнику
и радость и горе; убивает же его даже не похищение шинели, а от-
ношение к нему самому как к вещи, к бессловесному существу. Вы-
несенная в заглавие вещь, случается, играет не главную, а лишь эпи-
зодическую роль — например, в повести В. А. Соллогуба «История
двух калош» — о любви музыканта к бедной девушке. В рассказе
М. А. Булгакова «Полотенце с петухом» полотенце с сюжетом бук-
вально не связано: это подарок врачу за спасенную жизнь, память
о его первой серьезной операции. Но в этом полотенце в свернутом
виде скрыт смысл рассказа, в котором вещь приобретает символи-
ческое значение.
В заглавии (как, конечно, и в других местах текста) вещи могут
использоваться не только в прямом, но и в переносном значении:
«Медный всадник» (А. С. Пушкин), «Тюфяк» (А. Ф. Писемский),
«Человек в футляре» (А. П. Чехов). Скажем, тюфяк (мягкий матрац)
в переносном смысле — безвольный, ленивый, бесхарактерный
человек. Таким и предстает главный герой одноименной повести
Писемского. А «Медный всадник» — не просто памятник Петру I,
скачущий за «бедным» Евгением (как тому представляется), но сим-
вол государства, «властелина судьбы» простых людей. Вещь может
иметь в произведении и прямое, и переносное значения. Например,
в романе Ф. В. Гладкова «Цемент» повествуется о строительстве це-
ментного завода и одновременно показано, что сама работа, как
цемент, сплачивает (скрепляет) людей.
Вещи — эпифеномен деятельности человека, за ними — труд,
энергия, ум, воля людей. Человек удваивает, утраивает, словом, ум-
ножает себя в вещах и через вещи. В своих глубинных, философских
основаниях проблема вещей — это проблема человека, многообра-
зие форм его отношений с миром. Поэт об этом сказал просто и хо-
рошо:
Всё то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечье.
Вот этот дом, нам прослуживший век,
Почти умеет пользоваться речью1.
•if •if •if
Важнейшая функция вещей в мире произведения — заполнение
художественного пространства, окружающего персонажей, лири-
ческих героев; с их помощью изображается место действия. Они
указывают и на время действия — суточное, сезонное, историче-
ское.
1 Маршак С. Я. Избранное. М., Художественная литература, 1964. С. 95.
311
В общих ремарках к актам пьес обычно указывается место дей-
ствия. Например, во вводной ремарке в пьесе А. Н. Островского
«Семейная картина» само перечисление предметов в комнате, где
находится героиня (19-летняя дочь богатого купца, которой запре-
щено без разрешения выходить из дома), «информирует» читателя
о бытовой обстановке, привычных занятиях и пристрастиях хозя-
ев: «Комната в доме Пузатова, меблированная без вкуса; над дива-
ном портреты, на потолке райские птицы, на окнах разноцветное
драпри и бутылки с настойкой. У окна, за пяльцами, сидит Марья
Антоновна»1. В описании интерьера выделено окно, у которого
сидит героиня: ведь она стремится вырваться из своей домашней
«тюрьмы».
Воссоздание посредством вещей исторического колорита —
творческая задача, встающая перед авторами художественно-исто-
рических произведений (роман «Петр Первый» А. Н. Толстого, три-
логия «Нашествие монголов» В. Г. Яна).
Художественное изображение действительности нередко требует
введения в ткань произведения фантастических, не существующих
в реальности вещей. Всякий раз писатели прибегают к фантастиче-
скому вымыслу по-своему, но с одной целью: с помощью нереаль-
ного создать углубленное, запоминающееся представление о мире
реальном. Так, в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
появляется «скатерть самобранная», которая «когда ни пожелаете, /
накормит, напоит»1 2. Эта уходящая корнями в фольклор фантастиче-
ская деталь позволяет автору не прерывать сюжетную линию поис-
ками удовлетворения жизненных потребностей мужиков, ищущих
ответа на вопрос, вынесенный в название поэмы. А в сатирической
комедии Е. Л. Шварца «Голый король» (написана по мотивам сказ-
ки X. К. Андерсена) с помощью несуществующей ткани, из которой
якобы шьют нарядное платье королю, создается акцентированный
подтекст, в котором обличается лизоблюдство, пресмыкательство
перед властью.
Вещи могут нести в себе разную информацию о персонаже (его
привычках, роде занятий, бедности или богатстве, семейном поло-
жении и др.) — словом, они характеризуют их владельцев. Читаем
в рассказе А. И. Куприна «Гранатовый браслет»: «По размякшему
шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всячески-
ми домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стулья-
ми, умывальниками, самоварами»3. Это выставленное на всеобщее
1 Островский А. Н. Поли. собр. соч.: в 12 т. Т. 1. М., 1973. С. 66.
2 Некрасов Н. А. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. М.: Правда, 1979. С. 13.
3 Куприн А. И. Собр. соч. в 9 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1972. С. 227.
312
обозрение «сообщение» о конце дачного сезона, и одновременно —
свидетельство о среднем достатке владельцев перевозимых вещей.
Вещи — атрибут образа литературного героя, они несут «инфор-
мацию» — убедительную или неубедительную, достоверную или
ложную. Часто писатель предварительно, до начала действия, зна-
комит читателя с обстановкой: местностью, домом, комнатой, где
живет его герой. В «Мертвых душах» Гоголя близкому знакомству
Чичикова с намеченными им еще в губернском городе продавца-
ми «мертвых душ» предшествует описание их деревень и жилищ.
И не только повествователь, но и сам главный герой — для своих це-
лей — жадно всматривается в детали. Во втором томе (глава третья)
Чичиков пристально рассматривает жилище Костанжогло (в первой
редакции Скудронжогло) — очень богатого помещика-«всезная»,
у которого всё в имении «в порядке необыкновенном». Рассматри-
вая жилище «этого необыкновенного человека», Чичиков «думал
отыскать в нем свойства самого хозяина, — как по раковине мож-
но судить, какого рода сидела в ней устрица или улитка. Но этого-
то и не было. Комнаты были бесхарактерны совершенно — простор-
ны, и ничего больше»1. В отличие от характерологической функции
описания обстановки Манилова и других жертв Чичикова в первом
томе, в экспозиции образа Костанжогло Гоголь прибегает к приему
«обманутого ожидания».
Тот же прием использует Гончаров в «Обрыве», сравнивая харак-
теры двух сестер — Веры и Марфеньки. Борис Райский, стремясь
больше узнать о них, решил посмотреть их комнаты. В комнате
Марфеньки (она воплощение естественности и даже патриархаль-
ности) «было все уютно, миниатюрно и весело. Цветы на окнах,
птицы, маленький киот над постелью, множество разных коробо-
чек, ларчиков, где напрятано было всякого добра, лоскутков, ниток,
шелков, вышиванья: она славно шила шелком и шерстью по кан-
ве... Все в порядке, все чисто, прибрано, уложено, завешано...»1 2
А в комнате Веры ничего характерного не было. «Простая кровать
с большим занавесом, тонкое бумажное одеяло и одна подушка. По-
том диван, ковер на полу, круглый стол перед диваном, другой ма-
ленький письменный у окна... Ни гравюры, ни книги, никакой ме-
лочи, по чему бы можно было узнать вкус и склонности хозяйки»3.
Всё же гораздо чаще встречается в литературе описание обста-
новки, которое можно назвать приемом «оправданного ожидания».
Характер Манилова, по словам повествователя, — «ни то ни сё». Та-
ким был и его дом, «стоявший одиночкой на юру». В гостиной Ма-
1 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. М., 1959. С. 323.
2 Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1953.
С. 238.
3 Там же. С. 239.
313
нилова недоставало двух кресел, в другой комнате «и вовсе не было
мебели». Деревня Маниловка своим положением «немногих мог-
ла заманить»: «серенькие бревенчатые избы», между которыми
не было «ни растущего деревца, ни зелени» — «везде глядело только
одно бревно»1.
«Препорядочный толчок» от бревенчатой мостовой послужил
Чичикову сигналом того, что он въехал во владения Плюшкина.
Бревна, «как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз,
и не оберегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или си-
нее пятно на лоб...»1 2 На всех строениях была заметна «особенная
ветхость». Господский дом выглядел «дряхлым инвалидом». Все это
запустение оживляла и освежала природа — старый огромный, за-
росший и заглохший сад вперемежку с растущими на свободе дере-
вьями. Природа привносит теплоту в безотрадную видимость того,
что сотворили люди, она проходит своим «окончательным резцом
по нагроможденному, часто без толку, труду человека»3. Деревен-
ский пейзаж здесь — живой укор «заплатанному», как прозвали му-
жики местного владельца тысячи с лишком душ.
Трудно переоценить роль упоминаемых вещей в раскрытии ха-
рактера героя, мотивировки его поведения. В повести Ф. М. Досто-
евского «Записки из подполья» главный герой, желая выглядеть по-
приличнее, меняет енотовый воротник своей шинели на воротник
из немецкого бобрика, «вроде как у офицеров»4. Так, независимо
от бравады героя, кичащегося своей независимостью от чужого
мнения, подчеркиваются его страдания от низкого положения, ко-
торое он занимает в обществе.
Помимо своего основного предназначения, одежда с давних пор
была и остается важным социальным знаком, или, говоря языком
того же героя Достоевского, «вывеской... значения»5 человека.
Эта же мысль закреплена и в пословице: «по одёжке встречают,
по уму провожают». Одежда входила составной частью в своеобраз-
ный кодекс жизненных правил т. н. благородных людей — «комиль-
фо» (франц, сотте ilfaut). Через годы странствий Онегин у Пушки-
на, встретившись с Татьяной, ставшей княгиней, нашел ее «верным
снимком du comme il faut». А сам он таким был с младых ногтей:
«Вот мой Онегин на свободе; / Острижен по последней моде; / Как
dandy лондонский одет...» В многозначном понятии «комильфо»
Пушкин вычленяет лишь один пласт, интересующий его по ходу сю-
1 Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 5. С. 23.
2 Гоголь Н. В. Там же. С. 116.
3 Гоголь Н. В. Там же. С. 118.
4 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. Т. 4. М.: Худож. лит., 1956. С. 177.
5 Там же. С. 183.
314
жета романа: «Лихая мода, наш тиран, / Недуг новейших россиян»
(5, XLII).
«Сотте il faut» «было одним из самых пагубных, ложных поня-
тий, привитых мне воспитанием и обществом»1, — писал Л. Н. Тол-
стой в повести «Юность». Писатель демонстрирует ложность «ко-
мильфотной» жизненной позиции, высокомерие её приверженцев,
ни на чем не основанное. Университетский курс, на котором учит-
ся рассказчик, делится на студентов «комильфо» и «не комильфо»:
первые презирают вторых. Объективно между этими «лагерями»
видна разница в воспитании, манерах поведения, в степени знания
французского языка, в одежде и др. Но главное — в уровне «бла-
госостояния». Рассказчик, пытающийся сблизиться с приятелями
«не комильфо», открывает для себя, что «главной причиной невоз-
можности сближения были мое двадцатирублевое сукно на сюрту-
ке, дрожки и голландская рубашка»1 2.
Есть вещи, имеющие в произведении (как и в жизни) сакраль-
ное значение. Так, в «Войне и мире» княжна Марья, провожая князя
Андрея в армию, благословляет его и дает ему «овальный старин-
ный образок Спасителя с черным ликом, в серебряной ризе, на се-
ребряной цепочке мелкой работы»3. Для воина знамя всегда было
и остается символом чести, доблести, победы. Увидев «лежавшего
навзничь с брошенным подле него древком знамени» Болконского,
Наполеон произносит: «Вот прекрасная смерть»4.
Но вернемся к одежде — знаку богатства или бедности: Пьер
Безухов появляется в салоне Шерер «в светлых панталонах по тог-
дашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке»5. Понятно,
что молодой человек далеко не бедный. Вспоминается пушкинское:
«Но панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет» (1,
XXVI). Знаком же принадлежности к крестьянскому сословию было,
например, крестьянское пальто из грубого сукна, именуемое зипу-
ном. У И. С. Никитина есть такие строки: «Спит на печи подгуляв-
ший старик, / Спит в зипунишке и в старых лаптях, / Рваная шапка
комком в головах»6. «Серыми зипунами» (по принципу метонимии)
называет Достоевский все сословие трудового крестьянства: «Позо-
вите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего
им надо...»7 В рассказе Чехова «Капитанский мундир» портной Мер-
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1978.
С. 285.
2 Там же. С. 331.
3 Там же. Т. 4. С. 146.
4 Там же. С. 394.
5 Там же. С. 15—16.
6 Русская поэзия XIX века. Т. 2. М.: Художественная литература, 1974. С. 446.
7 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 21.
315
кулов, высоко возомнивший о себе, восклицает, сидя в кабаке: «Пу-
щай лучше помру, чем зипуны шить!»1
Носили крестьяне и армяки, и сермяги (верхняя одежда из тол-
стого сукна или грубой шерсти). В армяках часто появляются мужи-
ки в стихотворениях и поэмах Н. А. Некрасова («Кому на Руси жить
хорошо», «Размышления у парадного подъезда» и др.); «в рваной
сермяге и без шапки» предстает пастух в чеховском рассказе «Сви-
рель». Тургеневский Герасим прикрывает Муму «своим тяжелым
армяком», хотя до этого его костюм дважды именовался кафтаном.
Но армяк — разновидность кафтана, и Тургенев — не единствен-
ный писатель, пользовавшийся понятиями кафтана и армяка как
синонимами.
Знаковость одежды, таким образом, состоит в том, что она
обычно обозначает принадлежность человека к определенному
сословию, профессии, указывает на пол, возраст и т. д. Обычно,
но не всегда. Так, картуз в первой половине XIX в. в России носили
и помещики, и крестьяне, и мещане. Картуз носят и Чичиков, и Ма-
нилов, и лакей Петрушка в «Мертвых душах» Гоголя; «изношенный
картуз» — на голове Евгения из пушкинского «Медного всадника»;
в «Отцах и детях» у Тургенева картуз носят Базаров и Николай Пе-
трович Кирсанов.
Исключительное внимание одежде уделяет Гоголь. В своих «За-
мечаниях для господ актеров» он «одевает» всех чиновников «Ре-
визора» соответственно их характерам, подробно описывая их ко-
стюмы. Интересно его примечание, касающееся «костюмирования
гостей»: оно «должно быть различно»: во фраках, венгерках и сюр-
туках разного цвета и покроя. В дамских костюмах та же пестро-
та: «одни одеты довольно прилично <...>, но что-нибудь должны
иметь не так как следует <...> Другие в платьях, уже совершенно
не принадлежащих ни к какой моде...»1 2 В рассказе Гоголя «Невский
проспект» мы видим «всеобщую коммуникацию Петербурга» в раз-
ное время дня сквозь призму вещей, особенно одежды. В первую
половину дня Невский проспект ни для кого не есть цель, а «служит
только средством»: его заполняют лица со своими заботами, «до-
садами», «вовсе не думающие о нем». Это «старухи в изодранных
платьях и салопах, совершающие свои наезды на церкви и на со-
страдательных прохожих»; «нищие у дверей кондитерских», спеша-
щие на работу «русские мужики в сапогах, запачканных известью»,
спешащие в департамент «сонные чиновники с портфелями под
мышкою». «В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы вме-
сто шляпы картуз был у вас на голове... никто этого не заметит»3.
1 Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1955. С. 197.
2 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1959. С. 278.
3 Там же. Т. 3. С. 8, 9.
316
С полудня проспект — сначала «педагогический»: появляются гу-
вернеры «с питомцами в батистовых воротничках», затем он напол-
няется родителями, потом чиновниками из разных департаментов.
«Все, что вы ни встретите на Невском <...>, все исполнено прили-
чия: мужчины в длинных сюртуках <...>, дамы в розовых, белых
и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках.<...>. Тысячи
сортов шляпок, платьев, платков — пестрых, легких <...>, ослепят
хоть кого на Невском проспекте». Повествователь с иронией пишет
о «непостижимых», «странных» людях, которые, «встретившись
с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и если вы прой-
дете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды»1.
От двух до трех часов пополудни на проспекте «происходит глав-
ная выставка всех лучших произведений человека». «Один пока-
зывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий
прекрасный нос <...>, пятый — перстень с талисманом на щеголь-
ском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седь-
мой — галстук, возбуждающий удивление»1 2. За фасадом ярмарки
тщеславия писатель отлично видит и оборотную сторону жизни Не-
вского проспекта. Ведь знаковость одежды может быть и лукавой:
«Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом
сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего
сюртучка»3. И Гоголь призывает «не верить» Невскому проспекту:
«он лжет во всякое время».
Посредством вещей люди часто вводят окружающих и в заблуж-
дение. Господин в отличном сюртуке с Невского проспекта, что
называется, набивал себе цену. Парижский же ростовщик у Баль-
зака в рассказе «Гобсек», наоборот, старается казаться беднее, чем
есть. Он ворочал миллионами, но в его комнате «все было потерто
и опрятно <...> совсем как в холодной обители одинокой старой
девы»4. А мотив переодевания (женщины в мужчину et vice versa, бо-
гатого — в бедняка и т. п.) — один из популярнейших в литературе
разных времен и народов.
Одежда, тем более модная, может немало рассказать о своей
эпохе. «Надев широкий боливар, / Онегин едет на бульвар» (IX, V).
Здесь речь идет о модной в Европе и в России в 1820-е гг. широко-
полой шляпе, названной по имени героя освободительной борьбы
в Латинской Америке С. Боливара. Шляпа свидетельствовала о по-
литических симпатиях Онегина. Это важный штрих к портрету ге-
роя. А вот старый князь Болконский «ходил по-старинному, в каф-
тане и пудре»5.
1 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1959. С. 11.
2 Там же. С. 11.
3 Там же. С. 42.
4 Бальзак О. Избранное. М.: Правда, 1978. С. 7.
5 Толстой Л. Н. Указ. собр. соч. Т. 4. С. 135.
317
Знаковая и характерологическая функция вещей преобладает
в описаниях у Гоголя, это одна из доминант его стиля. Чтобы до-
биться «осязательности» образа, по мнению писателя, «нужны все
те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взя-
тое лицо действительно жило на свете»1.
В творчестве Пушкина вещный мир не столь объемен и детализи-
рован, как у Гоголя, внимание поэта всегда сосредоточено на самом
главном. Характерен в этом плане эпизод из повести «Дубровский».
Вернувшись с похорон отца, Владимир Дубровский заходит в его
кабинет. Казалось бы, подходящий момент подробно описать поме-
щение, где жил и умер небогатый, но родовитый дворянин. А Влади-
мир у Пушкина останавливает свой взгляд лишь на портрете матери
«в белом утреннем платье». Этот портрет — памятный знак о далеком
и безмятежном детстве, укрепляющий его решимость мстить за отца.
Затем он углубляется в бумаги покойного, в особенности в письма
матери отцу. Их чтение более всего соответствовало душевному на-
строению молодого Дубровского: «Владимир зачитался и позабыл
все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья...»1 2
Белинский назвал роман «Евгений Онегин» «энциклопедией
русской жизни». Вещный мир персонажей представлен в нем ши-
роко, он неотъемлемая часть мира романа и, в частности, образа
главного героя. Вещный мир характеризует стиль жизни молодого
светского человека, начиная с одежды и кончая описанием его ка-
бинета, который украшало (в первой главе романа) «всё, чем для
прихоти обильной / Торгует Лондон щепетильный / И по Балтиче-
ским волнам / За лес и сало возит нам...»3 Перечислены предметы:
«фарфор и бронза на столе, / Духи в граненом хрустале, / Гребенки,
пилочки стальные, / Прямые ножницы, кривые / И щётки тридцати
родов / И для ногтей и для зубов».
Но проходят годы, и глазами Татьяны описан деревенский каби-
нет Онегина — совсем другой. Перед Татьяной
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет.
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом
С руками, сжатыми крестом.
(7, XIX.)
1 Гоголь Н. В. Указ. собр. соч. Т. 6. С. 241.
2 Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1960.
С. 176.
3 Там же. Т. 4. С. 19—20.
318
Сопоставление двух описаний кабинета Онегина подчеркивает
эволюцию его характера.
Но не менее часто с помощью интерьера, костюма отмечается
устойчивость привычек героя, его характера, его приверженность
к давно сложившемуся быту. В «Войне и мире» Л. Толстого кабинет
князя Николая Андреевича Болконского «был наполнен вещами,
очевидно беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на кото-
ром лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиоте-
ки с ключами в дверцах, высокий стол для писания в стоячем по-
ложении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок,
с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом струж-
ками, — все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную
деятельность»1.
Толстовский принцип контраста между различным образом
жизни его персонажей очевиден в описаниях их привычной обста-
новки. Так, в передней дома, где жил Анатоль Курагин, «валялись
пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слышался дальний
говор и крик»1 2.
Человеку свойственно романтизировать отдельные, очень близ-
кие ему вещи, которые вошли в его память, с которыми его связы-
вает долгое время общения. В чеховской комедии «Вишневый сад»
приехавшая из заграницы Раневская целует шкаф: «Шкафик мой
родной... Столик мой»3.
Её брат Гаев напыщенно обращается к шкафу: «Дорогой, много-
уважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот
уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра
и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе
не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в поколениях наше-
го рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеа-
лы добра и общественного самосознания»4. За «очеловечиванием»
шкафа видна привычка Гаева к пустой риторике, окружающие его
сразу одёргивают.
Но эмоционально окрашенное отношение людей к вещам — факт
объективный, неоднократно отраженный — без иронии — в лите-
ратуре. Задолго до Чехова П. А. Вяземский, уезжая к месту службы
в Варшаву, написал в стихотворной форме прощальное письмо сво-
ему халату: «Прости, халат! Товарищ неги праздной, / Досугов друг,
свидетель тайных дум!»5 Уже в первых строках большого стихотво-
рения поэт признает, что халат был всегда с ним и в отдыхе, и в ра-
1 Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1961.
С. 120.
2 Там же. С. 45.
3 Чехов А. П. Собр. соч. в 12 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1956. С. 415.
4 Тамже. С. 417.
5 Вяземский П. А. Стихотворения. М.; Л.: Советский писатель, 1969. С. 136.
319
боте: «С тобой меня чуждались суеты, / Ласкали сны и нянчили
мечты...» У него есть еще одно стихотворение, посвященное халату:
Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить;
Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат;
Нельзя нас починить и заново исправить...1
Как символ домашнего уюта и важная деталь художественного
образа халат в отечественной литературе — часто встречающаяся
вещь. В халат облекаются дома герой гоголевской «Шинели» и по-
мещик Тентетников из второго тома «Мертвых душ». В «атласном
малиновом халате» генерал Бетрищев принимает Чичикова. В одно
целое халат сливается с Обломовым: «Как шел домашний костюм
Обломова покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем
был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без
малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии,
весьма вместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться
в него»1 2.
Как к живым существам относятся к вещам (к технике) персо-
нажи произведений А. П. Платонова. Герой его рассказа «Проис-
хождение мастера» ценит «благородство человека» по тому, какая
в нем «ручная умелость», знает ли он «по имени гайку» в парово-
зе. «От вращения колес паровоза и его быстрого дыхания у Захара
Павловича радостно гудело тело, а глаза взмокали легкими слезами
от сочувствия паровозу»3.
Очень важна сюжетообразующая функция вещи. Она выпукло
явлена в рассказе Н. С. Лескова «Жемчужное ожерелье»: своей доче-
ри, собирающейся замуж, отец преподносит новогодний подарок —
жемчужное ожерелье из очень красивого, крупного, окатистого
и живого камня. Отец невесты богат, но скуп: своих первых двух
зятьев он «оставил на бобах» (отдал дочерей без приданого). На на-
поминания присутствующих о том, что жемчуг предвещает слезы,
старик советует дочери не обращать внимания на предрассудки.
Он обещает утром после свадьбы открыть секрет жемчуга и испол-
няет его: молодожены получают его письмо, из которого следует,
что жемчуг фальшивый и потому никакой предрассудок им не стра-
шен. Так тесть решил проверить, что в душе зятя перевешивает —
любовь к деньгам или к его дочери. В рассказе счастливый конец:
истинно любящим душам не страшен фальшивый жемчуг. Любовь
1 Вяземский П. А. Указ. соч. С. 436.
2 Гончаров И. А. Собр. соч. в 8 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1953. С. 8.
3 Платонов А. П. Цветок на земле: Повести, рассказы, сказки, статьи. М.: Мо-
лодая гвардия, 1983. С. 36.
320
растопила и сердце старика, который про нее «только в романах
слыхал».
С рассказом Лескова во многом перекликается рассказ Г. де Мо-
пассана «Ожерелье»: в заголовке также драгоценная вещь, она же
и сюжетная ось произведения. Мадам Луазель с мужем едет на вече-
ринку, надев бриллиантовое ожерелье, которое она одолжила у бо-
гатой подруги. Та и не подумала предупредить Луазель о том, что
ожерелье фальшивое. После вечеринки супруги Луазель, обнаружив
потерю бриллиантов, решают купить новое ожерелье. И они сде-
лали это ценой огромных усилий: пришлось истратить наследство
и войти в огромные долги. А хозяйка утерянного ожерелья не толь-
ко не заметила подмены фальшивки подлинной ценностью, но даже
не взглянула на ожерелье. Через десять лет каторжного труда супру-
гов подруги случайно встречаются — одна из них «все такая же мо-
лодая, очаровательная», другая — старуха в рваном одеянье. Узнав
причину несчастий Луазель, подруга в волнении говорит, что брил-
лианты были фальшивые.
В обоих рассказах драгоценная вещь служит испытанием любви
и верности на прочность. А конкретные обстоятельства, как и в жиз-
ни, — разные. У Лескова отец невесты, слывущий сквалыжником,
на своем опыте познал, что драгоценная вещь может быть средством
наживы, нечестного обогащения: в свое время с этим ожерельем его
«надул сердечный приятель», причем не простого происхождения,
«а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей». У Мопассана фаль-
шивые бриллианты служат фальшивым знаком богатства, создавая
ложный имидж принадлежности к избранным кругам.
Драгоценная вещь может вызывать сложные психологические
переживания и даже быть причиной трагической развязки, как
в рассказе А. И. Куприна «Гранатовый браслет». Браслет, прислан-
ный княгине Вере Николаевне Шеиной, в которую беззаветно и без-
надежно в течение семи лет влюблен мелкий чиновник Желтков,
не был принят ею и ее родными. Возвращение Желткову его доро-
гого подарка стало причиной самоубийства героя. В ответ на тре-
бование мужа Веры Николаевны и ее брата исчезнуть из ее поля
зрения и убедившись в том, что и она этого желает, Желтков при-
бегает к единственному способу устранения своей любви: он уходит
из жизни. Свое прощальное письмо к возлюбленной он заканчивает
словами из Господней молитвы: «Да святится имя Твое» (Мф.6:10—
13.). В них и его благодарность Богу за дарованное ему чувство люб-
ви, и пожелание княгине не винить себя за его ранний уход и жить
счастливо. Трагедия любви в рассказе касается обоих: Желткова —
тем, что его вынуждают умереть, княгини — тем, что она поняла:
«мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только
один раз в тысячу лет»1.
1 Куприн А. И. Собр. соч.: в 9 т. Т. 5. М., 1972. С. 270.
321
Один из «бродячих» сюжетов в мировой литературе — использо-
вание вещей в качестве идентификаторов людей, выявления исти-
ны в спорных или неясных обстоятельствах. Например, в комедии
«Свекровь» римского писателя Теренция (II в. до н. э.) герой пье-
сы Памфил убеждается, благодаря переданному ему кольцу, в том,
что именно он — отец появившегося на свет у его жены ребенка.
А в пьесе Плавта «Куркулион» (III—II вв. до н. э.) девушку, считавшу-
юся рабыней, признают, тоже благодаря перстню, свободной, и она
находит своего брата. Этот древний сюжетный мотив использован
в пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые». Актриса Отрадина
по медальону находит через много лет своего сына.
О вещах как коллективной памяти, воплощающей связь поколе-
ний, писал В. Г. Распутин в повести «Прощание с Матёрой». На Ан-
гаре строится электростанция, плотина которой затопит небольшой
остров Матёру вместе с одноименной деревней. Готовясь к переез-
ду, жители прощаются с Матёрой и с необходимыми для жизни в де-
ревне вещами. Из трех наиважнейших вещей в деревенской жизни
(дом, печка и самовар) в лучшем случае можно сохранить лишь
самовар. Понимая необходимость грядущих перемен, сопрягаемых
со сменой самого уклада жизни, они думают не столько о себе, о бы-
товых вещах, сколько о том, чтобы не исчезла память о предках.
Жизненная правда — «в памяти», — считает одна из героинь пове-
сти Дарья. «Что должен чувствовать человек, ради которого жили
многие поколения?»1 — вопрошает она себя во время прощального
визита на могилу своих родителей. Ощущая ответственность перед
предками, основавшими более трехсот лет назад деревню, послед-
ние ее жители в традиционных ритуальных формах, отражающих
ценности и обычаи прошлого, прощаются с привычными им ве-
щами: перед сожжением домов их чистят, холят; старуха Настасья
сняла было занавески с окон, «но посмотрела, как окончательно
оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. По-
том достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место
с ласковым приговором: “Тебе ли, родненький, в город ехать, жиз-
ню менять?”»1 2. В последний раз Настасья решила протопить избу:
«как холодную печку после себя оставлять?»3 В оценках вещей, за-
полнявших уходящую деревенскую повседневность, раскрывается
внутренний мир героев повести.
В вещном мире литературного произведения нередко описыва-
ются произведения других искусств (живописи, скульптуры, архи-
1 Распутин В. Г. Повести. Предисл. С. Залыгина. 2-е изд. М.: Молодая гвардия,
1978. С. 58.
2 Там же. С. 59.
3 Там же. С. 61.
322
тектуры, музыки). Это тоже вещи (картины, здания и пр.), но осо-
бые. Вводя их в свой текст, писатель «переводит» художественный
язык этого искусства на язык словесный. Гомер в «Илиаде» целых
130 стихов (по подсчетам С. И. Радцига1) посвящает описанию
щита Ахилла. Искусное творение Гефеста, бога кузнечного ремесла
и огня, служит защите воина. На особенности гомеровского опи-
сания щита Ахилла обратил внимание Г. Э. Лессинг в работе «Лао-
коон, или О границах живописи и поэзии» (1766). Считая главным
в поэзии изображение действий, а не статичных состояний, он ука-
зал, что Гомер описывает щит не как законченную вещь, но как
«вещь созидающуюся»1 2. Он рекомендовал поэтам избегать длинных
описаний, поскольку, в отличие от живописи, «действия составляют
предмет поэзии»; «тела» же как источник действий нужно изобра-
жать «опосредствованно, при помощи действий»3.
Высоко оценив работу Лессинга, призвавшую теоретиков и ху-
дожников учитывать специфику видов искусства, И. Г. Гердер в ра-
боте «Критические леса...» (1769) тем не менее нашел чрезмерно
строгим отношение Лессинга к описательной поэзии. «Действие,
страсть, чувство! И я их люблю в стихах больше всего; и сильнее
всего ненавижу я мертвую неподвижную описательность, в особен-
ности если она занимает страницы, листы, целые поэмы, но не той
смертельной ненавистью, которая готова изгнать всякое отдельное
подробное описание...»4 Изучение и сопутствующие споры о специ-
фике языков различных искусств длятся по сей день.
История же литературы показывает, что описание, в том числе
описание вещей, прочно входит в арсенал искусства слова, хотя ме-
сто и роль описаний различны в зависимости от жанра, от инди-
видуального стиля. Так, в XVIII в. был в большой моде жанр бессю-
жетной описательной поэмы: «Времена года» Дж. Томсона (1735),
«Сады» Ж. Делиля (1782), где почти единственным предметом
изображения были различные состояния природы во взаимосвязи
с вещным миром.
Известно, что языки различных искусств до конца неперево-
димы: у каждого из них — своя знаковая система. Так, созданная
художником икона и ее словесное описание имеют разные «коды».
В ситуации переводимости / непереводимости, возникающей при
словесном описании произведения живописи, скульптуры, возни-
кает текст — носитель смысла (смыслов), в чем-то отличающегося
от смысла (смыслов) оригинала.
1 Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М., 1982. С. 69—70.
2 Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 218.
3 Там же. С. 187—188.
4 Гердер И. Г. Критические леса, или Размышления, касающиеся науки о пре-
красном и искусства, по данным новейших исследований // Гердер И. Г. Избр. соч.
М.; Л., 1959. С. 175.
323
Гомеровский текст с описанием щита Ахилла одновременно зна-
комит читателя с представлениями греков об устройстве космоса,
с отдельными эпизодами из истории страны, с особенностями жи-
лища, одежды, брачными церемониями, судопроизводством и пр.
Это тем более ценно, что речь идет о произведении искусства, ко-
торого никто никогда не видел1.
Описания картин, зданий, музыкальных произведений нередки
в литературе. Так, в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» описан
нарисованный художником Михайловым портрет Анны, от которо-
го не мог оторваться Левин. «Это была не картина, а живая пре-
лестная женщина <...>, нежно смотревшая на него смущавшими
его глазами». Вскоре увидев саму Анну, Левину убедился в том, что
в портрете художник «уловил» ее «на той самой высоте красоты»1 2.
В романе Д. А. Гранина «Картина» произведение живописи
не просто вводится в ткань повествования. Картина вынесена в за-
главие романа и служит стержнем его сюжета: она порождает слож-
ные коллизии во взаимоотношениях чиновников, решающих про-
блемы развития старого русского городка с волшебной природой
и удивительной красоты старинными постройками, исчезающими
под натиском современной, часто безликой, строительной инду-
стрии. Исчезнет ли природная и рукотворная красота города или
ее можно сохранить, внеся изменения в градостроительные планы?
Нарисованная талантливым художником картина — веский аргу-
мент в пользу сохранения старинной архитектуры.
Искусство многолико, как многолики и формы его воздействия
на людей. Герои рассказа А. С. Грина «Акварель» (1928), безработ-
ные муж и жена (кочегар и прачка) живут бедно и постоянно ссо-
рятся из-за денег. Случайно оба заходят в здание, в котором открыта
выставка акварелей. И останавливаются у картины, которая резко
меняет их настроение: на ней они видят свой дом, дорожку к нему.
Под воздействием картины очищаются их души.
Повесть Л. Толстого «Крейцерова соната» вводит в литературный
текст «звучащее чувство» (Гегель) — музыку. Герой повести Позд-
нышев, ненавидя брак, тем не менее женился, но постепенно в нем
с нарастающей скоростью растет ненависть к жене. А после того как
он познакомил ее со скрипачом Трухачевским и они начали вместе
музицировать (жена играла на фортепиано), у Позднышева к не-
нависти добавилась ревность. В одно воскресенье на званом обеде
жена Позднышева и Трухачевский вместе играют «Крейцерову со-
1 Словесное описание разных видов искусства называют греческим словом эк-
фрасис (объяснение). Среди специалистов нет единства в его трактовке. См.: Со-
ловьева Е. Е. «Музыкальный код» и «музыкальный экфрасис» // STEPHANOS. 2016.
№ 2. С. 119—128.
2 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1982.
С. 285—286.
324
нату» Бетховена. В повести это всего лишь двухстраничный эпизод,
но именно он привел к «кровавой» развязке. «Страшная вещь эта
соната... И вообще страшная вещь музыка»1, — признается Поздны-
шев. Здесь музыка сыграла роль катализатора, мощно воздейство-
вавшего на психику героя. Без эпизода, связанного с исполнением
сонаты, не было бы повести как художественного целого, что под-
черкнуто и названием повести.
'к 'к 'к
Воздействие вещей на жизнь человека и даже общества порож-
дает феномен вещизма — особого пристрастия к вещам, обладанию
ими, их накоплению. Явление вещизма старо как мир. Массовый
характер, идеологическую окраску оно получает в XX в., в т. н. об-
ществе потребления. Но страсть к накоплению вещей изображалась
и раньше. Тому классическим примером может служить рассказ
О. Бальзака «Гобсек». Главный герой — ростовщик, «ненасытный
удав». Он копит деньги, векселя, другие вещи, им владеет страсть
к накопительству, «лишенная всякой логики». После его смерти было
обнаружено богатство, поражавшее своей роскошью и одновремен-
но бессмысленностью. В комнатах в беспорядке были перемешаны
дорогая мебель, картины, лампы, вазы, ларчики с драгоценностями,
дорогое оружие, книги и др. Стоял зловонный запах гниющих паш-
тетов, устриц, рыбы, «всё кишело червями и насекомыми»1 2.
Срез жизни западного общества середины XX в. представлен
в романе французского писателя Ж. Перека в повести «Вещи». Здесь
вещи стали мерилом достоинства человека, потребности и вкусы
людей унифицированы. Герои повести начинают осознавать, что
живут в «странном, неустойчивом мире», этом «отражении меркан-
тильной цивилизации, повсюду расставившей тюрьмы изобилия
и заманчивые ловушки счастья». Они осознают, что «враг», застав-
ляющий их гоняться не за хлебом насущным, а, к примеру, за дива-
нами марки «честерфилд», — этот враг «в них самих», он их «зажи-
во сгноил, опустошил, разложил»3.
Но вещи приносят и радость бескорыстную. У К. Г. Паустовского
есть рассказ «Амфора»4. Повествователю подарили в Болгарии гре-
ческую амфору, вытащенную рыбацкой сетью со дна моря. У всех
разглядывающих эту красивую вазу возникают разные мысли:
об Одиссее, Эгейском море, о любви, о талантливых гончарах, со-
творивших эту красоту.
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 20 т. Т. 12. М., 1982. С. 179.
2 Бальзак О. Гобсек // Собр. соч. в 24 т. Т. 1. М., 1960. С. 394.
3 Перек Ж. Вещи // Французские повести / Сост. Л. Лунгина. М.: Молодая гвар-
дия, 1972. С. 247.
4 Паустовский К. Г. Амфора // Октябрь. 1961. № 2.
325
Вещь — это огромная территория разных смыслов. Это неисчер-
паемая тема, здесь намечены лишь её некоторые стороны.
Вопросы
1. Приведите пример, как изображаемые вещи указывают на время
и место действия в произведении.
2. Назовите основные способы введения вещей в текст произведения
и укажите на их функции. Может ли вещь стать двигателем сюжета?
3. Расскажите о роли вещей в мире «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.
Глава 7
ПРИРОДА
Рус.: природа; англ.: nature; нем.: Natur; фр.: nature.
Понятие природы. Чувство природы и его эволюция. — Пейзаж и мифо-
логия. — Пейзаж в античной поэзии. — От классицизма к реализму. — Три
описания зимы. — И. С. Тургенев как пейзажист. — Экологическая пробле-
матика в современной литературе.
Человек живет в природе как естественной данности, что назы-
вается, с первого дня творения; он постоянно с ней взаимодейству-
ет, приспосабливаясь к ней и изменяя ее. Исследование человеком
природы, постижение ее особенностей, тайн, закономерностей —
процесс длительный и далеко не завершенный. Природа воздей-
ствует на человека, многому научая его, расширяя его горизонты,
шлифуя его опыт. Но и люди изменяют природу.
В широком смысле природа — это весь существующий мир в его
многообразии. В культурологии природу сейчас определяют не как
понятие, а как исторически изменяющийся концепт. И понятие,
и концепт представляют собой мыслительную конструкцию, отра-
жающую свойства, признаки изучаемого объекта, однако концепт
вбирает в себя помимо того, что составляет содержание понятия,
субъективные переживания, эмоции, ассоциации, вызываемые дан-
ным объектом. Термин «концепт» не замещает понятие, а скорее
«поглощает» его. «Концепт» — конструкция более мягкая, с боль-
шим содержанием и смысловым полем, она диалогична по своей
природе. Использование термина «концепт» целесообразно в слу-
чаях, когда речь идет об объяснении весьма масштабных и слож-
ных объектов, понятийный аппарат которых, верно схватывая их,
так сказать, физическую природу, по разным причинам оставляет
за скобками их метафизическую сущность1. Концепт «природа»
можно определить так: это конденсированное содержание истори-
чески меняющегося понятия природы вкупе с исторически меняю-
щимися переживаниями людей, порождаемыми природой.
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
1 Подробнее о концепте см.: Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской куль-
туры. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Академический Проект, 2004. С. 42—55.
327
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
В этом четверостишии Ф. И. Тютчева выражено именно пережи-
вание природы. Восприятие человеком природы менялось от эпохи
к эпохе, наполняясь мировоззренческими, этическими и эстетиче-
скими оценками. Иными словами, чувство природы как внутреннее
побуждение к ее изучению и как важная составная часть обществен-
ного сознания формировалось постепенно, вытесняя мифическое
восприятие внешнего мира. Напомним, что человек — существо
биосоциальное, все его чувства, в т. ч. и чувство природы, опос-
редованы развитием материального производства, общественной
жизни, он контактирует с природой в исторически меняющемся
контексте общественных связей. Подобно герою комедии Молье-
ра, не знавшему, что всю жизнь говорил прозой, древние люди
жили в окружении природы, но не задумывались над этим. «Понять
действие, производимое природой, дано не всем, и предполагает
всегда достаточную высоту умственного и душевного развития»1.
Та же мысль, свидетельствующая о тонком восприятии особенно-
стей эстетического отношения к природе, звучит у Н. А. Заболоцко-
го («Вечер на Оке»,1957):
В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.
Изображение природы в художественной литературе (как и в жи-
вописи) принято называть пейзажем (он может быть горным, степ-
ным, морским, сельским, городским, лесным, речным и др.). Но пей-
заж в живописи и в художественной литературе не одно и то же.
И дело не только в разных средствах изображения и не в том, что
в живописи пейзаж — самостоятельный жанр, а в художествен-
ной литературе, как правило, лишь часть художественного мира,
его пространства. Главное состоит в том, что живопись и художе-
ственная литература суть самостоятельные виды искусства со своей
историей и логикой развития, своим художественным языком; они
развиваются по своим специфическим законам и с неодинаковой
исторической скоростью.
'к 'к 'к
Способы изображения природы в художественных произведе-
ниях менялись по мере развития форм общественного сознания,
в ходе исторического развития искусства слова. Мифы как древней-
1 Бизэ А. Историческое развитие чувства природы / Пер. с нем. Д. Коробчев-
ского. СПб., 1890. С. 3—4.
328
ший способ постижения мира представляли собой совокупность
наивных, фантастических представлений об окружающем мире.
В сказаниях о богах и героях тесно сплетены элементы архаической
религии и философии, искусства и науки. Человек эпохи творения
мифов не вычленяет себя из природы и общества, он наивно очело-
вечивает природу; с другой стороны, люди наделяются качествами,
свойственными природным объектам.
Во времена господства мифического сознания чувства природы
ещё нет. По А. Н. Веселовскому, оно появляется, «когда мифология
удалилась из сферы сознания»1. Но яркие описания природы в ми-
фах есть: чувство природы и её описание не одно и то же. В зача-
точной форме чувство природы проявляется у Гомера. Описаний
природы в его поэмах много, они богаты сравнениями, эпитетами,
метафорами: неутомимое солнце; розоперстая заря; страшный, ве-
ликий, могучий ветер; великие, гороогромные волны и т. п. Но у него,
как и в мифах, природа несамостоятельна, заслонена мифически-
ми сюжетами, в ней нет ничего личностного. Описания вводятся
по ходу сюжета, как, к примеру, в одиннадцатой песне «Одиссеи»,
рассказывающей о странствиях героя поэмы: «Плыли; корабль
наш бежал, повинуясь кормилу и ветру... / Солнце тем временем
село, и все потемнели дороги...»1 2 Мотивировано сюжетом и описа-
ние бури, посланной Посейдоном и разрушившей плот с Одиссеем
(песнь пятая): Посейдон, «...великие тучи поднявши, трезубцем /
Воды взбуровил и бурю воздвиг, отовсюду прикликав / Ветры про-
тивные; облако темное вдруг обложило / Море и землю, и тяжкая
с грозного неба сошла ночь»3.
Природные явления у Гомера лишь фон, на котором действуют
его персонажи. Так считают многие авторы. Но ведь природный
фон — это часть обстановки, в которой развивается действие про-
изведения. Следовательно, можно говорить пусть не об акцентиро-
ванном, но реальном единении персонажей с природой. А это уже
зачатки чувства природы. Их можно видеть и в использовании раз-
личных видов иносказания, тропов (сравнения, эпитеты, метафоры
и др.), несущих в себе и поэтический колорит, и образное начало4.
Развитие чувства природы — это процесс наполнения сознания
субъекта переживаниями природы, рождение эстетического отно-
шения к ней. А. Ф. Лосев и М. А. Тахо-Годи отмечают, что «эстети-
чески значимая природа есть результат субъективно-человеческой
1 Веселовский А. Н. Из истории Naturgefuhl // Веселовский А. Н. Избранное:
На пути к исторической поэтике. М.: Автокнига, 2010. С. 297.
2 Гомер. Одиссея / Пер. В. А. Жуковского. М.: Художественная литература, 1986.
С. 109.
3 Там же. С. 55.
4 См. об этом подробнее: Афанасьев А. Н. Народ — художник. М.: Сов. Россия,
1986. С. 142.
329
интерпретации»1. В частности, у Гомера эстетический момент ещё
не выделен, он еще незрелый, неосознанный. Например, в седьмой
песне «Одиссеи», где дано описание сада феакийского царя Алки-
ноя, полезное и приятное как бы сливаются воедино:
Был за широким двором четырехдесятинный богатый
Сад, обведенный отвсюду высокой оградой;
Много росло там дерев плодоносных, ветвистых, широковершинных,
Яблонь, и груш, и гранат, золотыми плодами обильных,
Также и сладких смоковниц и маслин, роскошно цветущих;
Круглый там год, и в холодную зиму и в знойное лето,
Видимы были на ветвях плоды; постоянно там веял
Теплый зефир, зарождая одни, наливая другие...1 2
Вытеснение мифологического сознания в ходе развития прак-
тической и теоретической деятельности человечества не означало,
однако, ни его полного исчезновения, ни забвения мифических об-
разов и сюжетов. Достоянием мировой культуры стали темы и сю-
жеты многих мифов, имена богов и героев. Их деяния, подвиги —
в переосмысленных, рациональных формах — приобретают иное
звучание и используются в художественной литературе. Так, соглас-
но предписаниям теоретика классицизма Н. Буало, нужно описы-
вать грозу, бурю на море, памятуя античных богов:
...Предвестник ливня, гром раскатисто-гремучий
Рожден Юпитером, а не грозовой тучей,
Вздымает к небесам и пенит гребни волн
Не ветер, а Нептун, угрюмой злобы полн...3
С мифом непосредственно связаны и, можно сказать, вышли
из него волшебные сказки. События сказки замыкаются рамками
сюжета и нередко происходят на фоне природы, но ни о каком
чувстве природы у действующих лиц говорить не приходится. Так,
в русской сказке «Гуси-лебеди» силы природы: яблоня, речка — со-
глашаются помочь девочке в поиске братика, унесенного гусями,
лишь после того как она выполнит их просьбы, а вот ёжик помо-
гает ей без каких-либо условий. Вот и всё описание природы. В ли-
тературных же сказках народная фантазия сочетается с фантазией
художника, мыслящего образами. В пушкинской «Сказке о рыбаке
и рыбке» природу представляют синее море и золотая рыбка, чест-
но выполняющая обещание дать выкуп за свою свободу чем только
старик пожелает. Отношение рыбки к просьбам старика (то есть
желаниям старухи, аппетиты которой растут как на дрожжах) пе-
1 Лосев А. Ф., Тахо-Годи М. А. Эстетика природы. Природа и ее стилевые функ-
ции у Р. Роллана. Киев: Collegium, 1998. С. 8.
2 Гомер. Указ. соч. С. 68.
3 Буало Н. Поэтическое искусство / Пер с франц. Э. Линецкой. М.: Гослитиздат,
1957. С. 84.
330
редано через описание моря. Пять раз приходит старик с просьба-
ми к рыбке — и пять раз меняется состояние моря. В первый раз
(просьба о «новом корыте») море «слегка разыгралось»; во второй
(просьба об избе) — «помутилось синее море»; в третий (старуха
хочет «быть столбовою дворянкой») — «не спокойно синее море»;
в четвертый (старуха хочет быть «вольною царицей») — «почер-
нело синее море»; в пятый (старуха хочет быть «владычицей мор-
скою») — «на море черная буря: / Так и вздулись сердитые волны, /
Так и ходят, так воем и воют»1. Чем большей услуги просит у рыбки
старик, повинующийся старухе, тем сильнее волнуется море.
Пейзаж, подобно чувству природы, постепенно вызревает в худо-
жественной практике. Эту мысль еще в XIX в. высказывал А. Бизэ:
«...эстетические воззрения на природу, так же как теоретическое
мировоззрение, постоянно изменяются, каждый век видит природу
по-своему»1 2. Более полувека тому назад А. И. Белецкий призывал
перестать спорить о том, в каком веке или в какой исторический
период (античность? Средневековье? Возрождение?) люди начали
эстетически осваивать природу. В частности, он писал: «Эстетиче-
ское восприятие природы многим произведениям, например, рус-
ского устного творчества, богатого переживаниями первобытного
анимизма, растительной и небесной символикой, конечно, чуждо;
но ведь эти произведения — “песни”, “сказки”, “былины”, рассма-
триваемые нами как нечто одновременное, на самом деле создава-
лись века, в различных социальных группах и захвачены разными
поэтическими стилями. А потому не удивительно найти среди рус-
ских народных песен и такие, где отношение к природе носит уже
отпечаток известного сентиментализма, хоть природа и остается
в традиционной роли первого члена параллели (природа — чело-
век). Среди так называемых разбойничьих и удалых великорусских
песен не редкость сентиментально-патетические обращения к при-
роде такого, например, типа: “Дорогой ты мой камешек, возлю-
бленный! / Залежался ты, мой камень, на крутой горе, / На крутой
горе, на сырой земле! / Не в атласе лежишь ты и не в бархате, /
И не в той-то лежишь дорогой камке — / Ты лежишь, камень, про-
тив солнышка, / Против солнышка, против красного, / Против ба-
тюшки светла месяца...”»3
В античной литературе возникают тематически родственные
жанры малых произведений о пастушеской жизни, сами названия
которых указывают на изображение природы: буколика (от греч.:
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М.: Гослитиздат, 1960. Т. 3. С. 339—343.
2 Бизэ А. Указ. соч. С. 7.
3 Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М.: Просвещение,
1964. С. 223.
331
boucolos — пастух1), идиллия (от eidos — вид, образ), пастораль
(от позднелат. pastoralis — пастушеский)1 2; применялось также
к подобным произведениям жанровое название «эклога» (от греч.
ekloga — выборка). За пределами античности перечисленные на-
звания обычно выступают как синонимы. Н. Буало призывает со-
временных ему поэтов учиться писать идиллии у эллина Феокрита
и римлянина Вергилия: «Вы изучать должны и днем, и ночью их: /
Ведь сами музы им подсказывали стих»3.
В этих произведениях действующие лица — пастухи и пастуш-
ки, на лоне природы они разговаривают на бытовые, любовные
темы, состязаются в пении (агон). Описания природы органично
вплетены в текст. С. С. Аверинцев приводит как пример вырази-
тельной буколики стихотворение древнегреческой поэтессы Аниты
(III в. до н. э.):
Кто бы ты ни был, садись под зелеными ветвями лавра.
Жажду свою утоли этой прозрачной струей.
Пусть легкокрылый зефир, навевая повсюду прохладу,
Члены твои освежит в трудные знойные дни4.
А вот пейзажная зарисовка Леонида Тарентского (III в. до н. э.):
Время отправиться в путь! Прилетела уже щебетунья
Ласточка; мягко опять западный ветер подул,
Снова луга зацвели, и уже успокоилось море,
Что под дыханием бурь волны вздымало свои5.
Если у Аниты — только описание лавра у прохладного ручья
в жару, то у Леонида Тарентского — вполне целостная картинка вес-
ны. Но подобно тому как одна ласточка весны не делает, так и опи-
сание у Леонида Тарентского еще не основание для вывода о рож-
дении пейзажа в буколике. Вообще становление любого искусства,
в том числе искусства сотворения пейзажа в литературе, далеко
не всегда напоминает прямую линию, оно совершается в контек-
сте общего развития культуры, ему присущи колебания, «приливы»
и «отливы».
А. Бизэ считал неосновательным утверждение, «будто греческая
древность не знала радости, доставляемой природой, не имела
к ней влечения, не вникала в ее красоту, не любила и не изобража-
1 Здесь и далее греческий текст передается в латинской транслитерации.
2 Подробнее о жанрах буколической поэзии см.: Теория литературных жанров /
Под ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Академия, 2011. С. 103—109.
3 Буало Н. Указ. соч. С. 67.
4 См.: Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности //
Поэтика древнегреческой литературы / Отв. ред. С. С. Аверинцев. М.: Наука, 1981.
С. 164.
5 Там же. С. 165.
332
ла ее ради нее самой, не знала ни ландшафтной живописи, не зна-
ла, одним словом, созвучия между настроением человеческой души
и природы»1. Словом, вслед за персонажем из чеховской «Свадьбы»
греком Дымбой можно повторить: «...в Греции все есть»1 2.
Между пейзажными зарисовками в буколической поэзии и раз-
витием этого вида описания в позднейшей литературе важнейшее
различие состоит в том, что пейзаж (например, у Ф. И. Тютчева,
И. С. Тургенева, А. А. Фета) отражает особенности личности лири-
ческого героя или повествователя (их душевного состояния, эстети-
ческих пристрастий).
'к 'к 'к
Развитию и смене литературных направлений сопутствует эво-
люция способов изображения природы, его роли в произведении.
В XVII—XVIII вв. ведущим направлением европейской литературы
был классицизм с его нормативно-рациоцентристской эстетикой,
требовавшей от художника соблюдения многих правил. Природа
должна была предстать, особенно в «высоких» жанрах, облагоро-
женной и прекрасной. Классицисты исповедовали культ антично-
сти и разума, на «вечные» законы которого они опирались в своих
рекомендациях начинающим авторам — «поэтиках», восходящих
чаще всего к «Науке поэзии» Горация. Они призывали подражать
природе, в которой видели источник красоты и гармонии.
Наиболее ярко классицизм проявился во французском искусстве
XVII в. В литературе его видными представителями были П. Кор-
нель, Ж. Расин, Ж. Б. Мольер, Ф. Ларошфуко, Ж. Лафонтен. О при-
роде они писали мало (если не считать басен Лафонтена). Однако
при описании жанрового инварианта идиллии (категория жанра —
одна из ведущих в классицизме) Н. Буало не скупится на подробно-
сти: напоминает об её античных корнях, о традиционной тематике,
предостерегает от напыщенности или, напротив, грубости: нужно
«петь Флору и поля, Помону и сады, / Свирели, что в лугах звенят
на все лады, / Любовь, ее восторг и сладкое мученье, / Нарцисса
томного и Дафны превращенье...»3
Подражать природе означало для классицистов изображать
её переделанной человеком в соответствии с его понятиями о кра-
1 Бизэ А. Указ. соч. С. 18.
2 Чехов А. П. Свадьба. Сцена в одном действии // Собр. соч.: в 12 т. Т. 9. М.:
Худож. лит., 1956. С. 127.
3 Буало Н. Указ соч. С. 67. Флора — римская богиня цветов, юности, Помо-
на — римская богиня плодов и фруктовых деревьев. В греческой мифологии Нар-
цисс — прекрасный юноша, отвергнувший любовь нимфы Эхо, за что был наказан:
влюбился в собственное отражение в воде и превращен в цветок; Дафна (дочь реч-
ного бога), преследуемая Аполлоном, превращена по её просьбе в лавровое дере-
во. См. подробнее: Словарь античности / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1989.
333
соте. Сады Тюильри и Версаля во Франции представляли собой
«облагороженную» природу. В дидактической описательной по-
эме Ж. Делиля «Сады» (1782, второе изд. — 1801) эти регулярные
французские сады сопоставляются с английскими парками, и хотя
Делиль ценит и те, и другие, предпочтение отдано не «соединению
природной красоты с делами рук людских», но естественной, дикой
природе «цветущего Альбиона»:
.. .И вот уже сады совсем иными стали.
Они, свободные, без прежних жестких пут,
Как жители страны, естественно растут.
Не сковывают их суровые законы,
Исчезли насыпи, террасы и балконы1.
В живописи Н. Пуссен (1594—1631) создавал идеальный пейзаж,
опираясь на библейские и мифологические сюжеты: «Пейзаж с По-
лифемом», «Царство Флоры» (по мотивам «Метаморфоз» Овидия).
Все же пейзаж (наряду с натюрмортом, портретом) считался низ-
шим жанром (к высшим относили картины на исторические, мифо-
логические, религиозные сюжеты).
Русские классицисты неизменно вводят образы ликующей при-
роды в оды, прославляющие монарха. Так, у В. К. Тредиаковского
«небо» и «солнце» участвуют в торжестве в день коронации Анны
Иоанновны:
Небо все ныне весело играет,
Солнце на нем весело катает.
Земля при Анне везде плодовита будет!1 2
В оде М. В. Ломоносова «на день восшествия на престол» Елиса-
веты Петровны (1748) небесное светило приветствует земное:
Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год3.
Описание зари здесь явно восходит к античному источнику:
«Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос; / Ложе по-
кинул тогда и возлюбленный сын Одиссеев...»4
Как и его предшественники, А. П. Сумароков славит императри-
цу (Екатерину Вторую), прибегая к «проверенной» символике:
1 Делиль Ж. Сады. Л.: Наука, 1987. С. 22, 24.
2 Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1963.
С. 55.
3 Ломоносов М. В. Сочинения. М.: Художественная литература, 1957. С. 50.
4 Гомер. Одиссея. Пер. В. А. Жуковского / М.: Художественная литература, 1986.
С. 12.
334
Вейте, тихие зефиры,
Возвращается весна:
День предшествует огромный,
Оживляя воздух томный,
Флора, царству твоему1.
В подобном стиле написано и стихотворение Г. Р. Державина,
приветствующее рождение будущего императора Александра I:
в его зачине неистовствует Борей, «потрясая небесами», «сжимая
облака рукой», «налагая цепи льдисты» на «быстры воды». Но в ми-
нуту рождения наследника престола Борей «перестал реветь», «зиму
люту удалил», «и весь Север [т. е. Россия] воссиял»1 2.
Наряду с использованием традиционных параллелей и Ломоно-
сов, и другие классицисты описывают реальную природу России,
восхищаясь ее величием и разнообразием. Вот как, например, Ло-
моносов описывает Север:
Но Бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами:
Там Лена чистой быстриной
Как Нил народы напаяет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной3.
В литературном процессе, как и в природе, резкие скачки, одна-
ко, случаются нечасто. Следы классицизма долго соседствуют с при-
знаками нового литературного направления — сентиментализма,
время расцвета которого приходится в Европе на вторую половину
XVIII столетия, а в русской литературе — на конец XVIII — начало
XIX в.
Сентиментализм можно рассматривать как художественный
аналог сенсуализма (от лат. sensus — чувство, чувствительность) —
философского учения эпохи Просвещения. Человек строит свои от-
ношения с внешним миром посредством разума и чувств. Они вза-
имосвязаны и дополняют друг друга. Сентиментализм (как об этом
говорит само название направления) отдает приоритет чувствам,
т. е. исходит из того, что чувства играют главенствующую роль
в жизни людей, в развитии их нравственности. Его антипод, взра-
щенный просветительской идеологией, — рационализм (от лат.
ratio — разум, рассудок), который значение чувств, чувственного
познания явно принижает. Все же нераздельность чувственного ос-
воения мира и рационального признавали и сенсуалисты и рацио-
налисты.
1 Сумароков А. П. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1953. С. 51.
2 Державин Г. Р. Стихотворения. М.; Л.: Сов. писатель, 1963. С. 86, 90, 91.
3 Ломоносов М. В. Указ. соч. С. 47.
335
Родиной сентиментализма является Англия. В получивших ши-
рокую известность поэтических произведениях Т. Грея («Элегия,
написанная на сельском кладбище», 1751, в рус. пер. В. А. Жуков-
ского — «Сельское кладбище»), Д. Томсона (описательная поэма
«Времена года», 1726—1730), Э. Юнга (религиозно-дидактическая
поэма «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бес-
смертии», 1742—1745) утверждалось благотворное воздействие
природы на внутренний мир человека; в своих размышлениях
о жизни и смерти поэты неизменно обращались к природе, деталь-
ное описание которой приобрело особую утонченность. Чаще всего
изображался деревенский пейзаж, навевающий меланхолию, в эле-
гии Грея этому способствует описание кладбища. Приведем начало
элегии в блистательном переводе В. А. Жуковского:
Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой1.
Идеализация жизни на лоне природы характерна для француз-
ского сентиментализма в лице Ж. Ж. Руссо. Лишь наедине с при-
родой человек, по Руссо, приобретает качества, которые делают его
свободным, счастливым, уравновешенным по своему характеру.
Природа учит, воспитывает человека, она едва ли не демиург его
нравственности, человеколюбия, его движения вперед. В романе
Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) жители деревушки в швей-
царском кантоне Вале «до того бескорыстны... что не принимают
вознаграждения за свои расходы, а челядь за услуги». Нищих там
«нет и в помине!» Друг с другом «они обходятся по-братски»,<...>
«батраки садятся за стол вместе с хозяевами — свобода царит в до-
мах и в республике, и семья является прообразом государства»1 2.
Пейзажные зарисовки Руссо обязательно сопряжены с душевны-
ми движениями: «.. .на горных высотах, где воздух чист и прозрачен,
все испытывают одно и то же чувство, хотя и не всегда могут объяс-
нить его, — здесь дышится привольнее; тело становится как бы лег-
че, мысль яснее; страсти не так жгучи, желания спокойнее. Размыш-
ления принимают какой-то значительный и возвышенный характер,
под стать величественному пейзажу, и порождают блаженную уми-
ротворенность, свободную от всего злого, всего чувственного»3.
Руссо идеализирует естественные связи между людьми, основанные
на чувствах. А. Н. Веселовский не без оснований считал, что «избы-
1 Русская поэзия XIX века. Т. 1. М.: Художественная литература, 1974. С. 11.
2 Руссо Ж. Ж. Избранные сочинения в 3 т. Т. II. М.: Художественная литература,
1961. С. 55, 56.
3 Там же. С. 53.
336
ток чувства не изощряет глаза»1. (Справедливости ради отметим,
что схожая мысль есть уже у Платона, утверждавшего, что чувствен-
ное знание и замыкается на чувствах, т. е. на субъекте знания.) Пре-
вознося близость человека к природе, восхваляя душевные качества
простых людей, Руссо, безусловно, демонстрировал гуманистиче-
скую сущность сентиментализма, но при этом упрощал и человека,
и сложную диалектику общественной эволюции. Прав В. Г. Белин-
ский в своем утверждении: «.. .многие из людей того времени <... >
видели в “Новой Элоизе” только одну сентиментальность, которою
одною и восхищались»1 2.
Подобную «незрячесть» объективно выказывает и автор незавер-
шенного «Сентиментального путешествия по Франции и Италии»
(1768—1769) английский писатель Л. Стерн. В произведении речь
идет в сущности лишь о путешествии «души» рассказчика. Мозаи-
ка впечатлений рассказчика от встреч с разными людьми, от «об-
мена чувствами» обостряет его чувствительность, способность со-
переживать. Ничего другого, в том числе и природу Франции, глаза
Стерна — «чувствительного путешественника» — не заметили. Если
у сентименталиста Руссо культ чувств сосуществует с культом при-
роды, то у Стерна чувства одного человека шлифуются чувствами
других людей.
В русской литературе сентиментализм наиболее ярко и полно
представлен в творчестве Н. М. Карамзина, в его повестях, где, как
писал Белинский, «изображалась жизнь сердца и страстей посреди
обыкновенного повседневного быта»3. А в «Письмах русского пу-
тешественника» (1791—1795) Карамзин также рисовал «портрет
души и сердца своего», но одновременно увлекательно и живо рас-
сказал о своем знакомстве с Европой, о том, что «видел, слышал,
чувствовал, думал»4. При этом «русский путешественник» не огра-
ничивается воспроизведением своих субъективных переживаний:
он описывает подробно внешний мир, интересны его подробные
зарисовки Берлина, Дрезденской картинной галереи, Парижа и др.
И, конечно, у него немало описаний природы, причем он явно пред-
почитает природу нерукотворную, что называется, дикую. Харак-
терна его запись: «Не ищите природы в садах версальских»5. Зато
он искренне восхищается созданным в английском стиле садом
малого Трианона: «нигде нет холодной симметрии; везде приятный
беспорядок, простота и красоты сельские. Везде свободно играют
1 Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображе-
ния». М.: INTRADA, 1999. С. 41.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. Т. 7. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 134.
3 Там же. С. 133.
4 Карамзин Н. М. Избранные соч. В 2 т. Т. 1. М.; Л.: Художественная литература,
1964. С. 79.
5 Там же. С. 474.
337
воды, и цветущие берега их ждут, кажется, пастушки <...> Иду да-
лее, вижу маленькие холмики, обработанные поля, луга, стада, хи-
жинки, дикий грот. После великолепных, утомительных предметов
искусства нахожу природу, снова нахожу самого себя, свое сердце
и воображение, дышу легко, свободно, наслаждаюсь тихим вече-
ром, радуюсь заходящим солнцем...»1 А в повести «Бедная Лиза»
(1792) природа, в унисон с эволюцией отношений героев, то раду-
ется, то печалится.
В творчестве В. А. Жуковского сентиментализм сочетается с эле-
ментами нарождающегося в отечественной словесности нового ли-
тературного направления — романтизма. О сущности романтизма
всегда много было споров. Не поставлена в них точка и ныне. «...Все
(даже и ты) имеют у нас самое темное понятие о романтизме», —
отмечал в 1825 г. А. С. Пушкин в письме П. А. Вяземскому1 2. А годом
раньше П. А. Вяземский в письме Жуковскому не без юмора заме-
тил: «Романтизм как домовой: многие верят ему; убеждение есть,
что он существует, но где его приметы, как обозначить его? Как нат-
кнуть на него палец?»3 В. Г. Белинский позднее (в 1843 г., во второй
главе «Статей о Пушкине»), подводя итог развитию русской лите-
ратуры до Пушкина, писал, что сущность романтизма следует ис-
кать не во «внешней форме», а в его «идее», отправляясь от которой
можно будет постичь и «выразившую ее форму»4.
Какую же «идею» подразумевает критик? Да ту, которая окра-
сит собой внутреннюю жизнь человека. «Как вечная потребность
духовной природы человека» романтизм вездесущ: он был и в ан-
тичности, и в средние века, и в «наше время»5. Рассматриваемый
под таким углом зрения, романтизм предстает не столько как ли-
тературное направление со своей программой, сколько как веду-
щий пафос творчества. «Стороны духа человеческого неисчислимы
в их разнообразии; но главных сторон только две: сторона внутрен-
няя, задушевная, сторона сердца, словом, романтика, — и сторона
сознающего себя разума, сторона общего, разумея под этим сло-
вом сочетание интересов, выходящих из сферы индивидуальности
и личности. В гармонии, т. е. во взаимном соприкосновении одной
другою этих двух сторон духа заключается счастие современного
человека»6. Высоко ценя поэзию Жуковского, в котором «русская
литература нашла своего посвятителя в таинства романтизма сред-
1 Карамзин Н. М. Избранные соч. В 2 т. T. 1. М.; Л.: Художественная литература,
1964. С. 477.
2 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. T. 9. М.: Худож. лит., 1962. С. 163.
3 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 395.
4 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. T. 7. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 145.
5 Там же. С. 158.
6 Там же.
338
них веков»1, критик считает сам этот романтизм односторонним:
«Жуковский — это поэт стремления, душевного порыва к неопреде-
ленному идеалу»1 2. Между романтизмом как направлением в евро-
пейских литературах второй половины XVIII — первой четверти
XIX в. и романтикой (в ее понимании Белинским) есть тесная связь:
именно романтика доминирует в миросозерцании и творчестве
очень разных писателей, относимых к данному направлению. Дол-
гое время в отечественном литературоведении делили романтиков
на активных и пассивных, имея в виду прежде всего их обществен-
ную позицию: например, в английской литературе: Дж. Г. Байрон,
П. Б. Шелли / У. Водсворт, С. Т. Колридж; в русской: К. Ф. Рылеев /
В. А. Жуковский. Эта схема упрощала литературный процесс: типо-
логия романтизма основывается на разных критериях. Но общая
черта романтической эстетики — отстаивание авторами свободы
творчества, при признании исторической обусловленности и наци-
ональной самобытности литературы, соответственно исторического
и местного колорита (оба принципа утверждались постепенно еще
в век Просвещения в трудах философов и эстетиков, в особенности
И. Г. Гердера). Русский романтизм формировался в полемике с эпи-
гонами классицизма.
В отличие от традиционалистского типа творчества (завершаю-
щим этапом которого был классицизм), в начале XIX века «централь-
ным “персонажем” литературного процесса стало не произведение,
подчиненное заданному канону, а его создатель, центральной кате-
горией поэтики — не СТИЛЬ или ЖАНР, а его АВТОР. Традиционная
система жанров была разрушена и на первое место выдвигается ро-
ман, своего рода “антижанр”, упраздняющий привычные жанровые
требования. Понятие стиля переосмысляется: оно перестает быть
нормативным и делается индивидуальным, причем индивидуаль-
ный стиль как раз и противостоит норме»3.
Отсутствие некого канона очевидно, например, в описании моря:
у поэтов различен круг ассоциаций, которые вызывает море. Летом
1826 г., узнав о казни декабристов, П. А. Вяземский пишет стихотво-
рение «Море», где ведущим стал мотив свободы. При этом стиль сти-
хотворения сохраняет связь и с сентиментальной элегией, и с одой —
ведущим жанром лирики классицизма. Воспевается красота моря:
Как стаи гордых лебедей,
На синем море волны блещут,
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 166.
2 Там же. С. 221.
3 Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Ка-
тегории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литератур-
ные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 33.
339
Лобзаются, ныряют, плещут
По стройной прихоти своей1.
Несмотря на «наши строгие лета, / Лета существенности лютой»,
вечная красота моря чарует лирического героя, его душа успокаива-
ется при его созерцании. Волны «целят / Тоску сердечного недуга; /
Как мировое слово друга, / Все чувства меж собой мирят». Море
помогает забыть «о настоящем, мысль гнетущем...»1 2
В 1824 г. опубликовано стихотворение А. С. Пушкина «К морю»:
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой3.
Здесь, как и у Вяземского, главный мотив — свобода, море про-
тивопоставлено «скучному, неподвижному брегу». Одновременно
это эпитафия «властителю наших дум» — Байрону (друзья Пушки-
на ждали его отклика на смерть поэта). Проведена психологическая
параллель между морем и его «певцом»: «Как ты, могущ, глубок
и мрачен, / Как ты, ничем неукротим».
В 1828 г. Жуковский публикует элегию «Море»:
Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо, ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.. .4
Для Жуковского море — живое, таинственное, «полное сладост-
ной жизни», навевающее тревогу и пребывающее в вечном смяте-
нье. Три поэта, три оттенка романтизма, три взгляда на море.
И сентиментализм, и романтизм обращены к внутреннему миру
человека. Первый — к чувствам, второй, по словам Белинского, —
к чувствам, «имеющим в основе своей мысль»5. Разницу между
ними критик усматривал в неодинаковой степени «одухотворен-
ности», привносимой в литературу. Сентиментальность — лишь
момент «пробуждающейся духовной жизни», только «возможность
романтизма, но еще не духовная жизнь»6.
Суть романтизма Жуковского четко выражена в его программ-
ном, по мнению Белинского, стихотворении «Теон и Эсхин» (1814).
Один из друзей, Теон, полагает, что земное блаженство следует
1 Вяземский П. А. Стихотворения. М.; Л.: Советский писатель, 1969. С. 246.
2 Там же. С. 248, 249.
3 Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1959.
С. 36.
4 Жуковский В. А. Избранное. М.: Правда, 1986. С. 105.
5 Белинский В. Г. Указ. собр. соч. Т. 7. С. 166.
6 Там же. С. 166.
340
видеть «не в радостях быстрых, не в ложных мечтах». Подлинные
ценности, все лучшее Теон находит в душе; это «нетленные блага:
любовь и сладость возвышенных мыслей»1. В контексте данного ми-
росозерцания (мысли Теона близки автору) описывается и природа.
В элегии «Вечер» (1806) есть строки: «Мне рок судил: брести неве-
домой стезей, / Быть другом мирных сел, любить красы природы...»
Эти «красы» воссоздаются в элегии через сочетание зрительных
и звуковых образов, переданы и запахи, и осязательные ощущения:
Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!
В элегии выражены и грусть, и наслаждение вечерним пей-
зажем. П. И. Чайковский переложил стихи на музыку. Под стать
вечернему тихому пейзажу и воспоминания лирического героя:
«О дней моих весна, как быстро скрылась ты / С твоим блаженством
и страданьем!»1 2 А во фрагменте «Невыразимое» (1819) Жуковский
пишет о невозможности передать словами жизнь души, в отличие
от красоты природы:
Что видимо очам — сей пламень облаков,
По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката —
Сии столь яркие черты —
Легко их ловит мысль крылата
И есть слова для их блестящей красоты.
Однако то, что слито с сей «блестящей красотою» в душе, непере-
даваемо:
Горё душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит3.
Так предвосхищается Жуковским мотив, впоследствии развитый
в лирике Ф. И. Тютчева («Молчи, скрывайся и таи...»), А. А. Фета
(«Я пришел к тебе с приветом...», «Я тебе ничего не скажу...» и др.).
Сближает этих поэтов и близость их стихов к музыке. В то же время
Жуковский удивительно точно находил слова «для блестящей красо-
ты» — ив пейзажной лирике, и в балладах («Людмила», «Светлана»
и др.), пользовавшихся огромной популярностью у современников,
1 Жуковский В. А. Указ. соч. С. 60, 61.
2 Там же. С. 28—29.
3 Там же. С. 99—100.
341
а также в многочисленных переводах. Умение Жуковского «живо-
писать картины природы» Белинский называл «дивным искусством
этого поэта»1.
Утверждение реализма (термин появился намного позднее,
чем сам метод; господствующим же он стал в русской литературе
в 1840—1860-е гг.) связано прежде всего с творчеством А. С. Пуш-
кина. Эволюция его творчества от романтизма к реализму зримо
усматривается при сравнении его стихов на одну тему, написан-
ных в разное время. Вот элегическое стихотворение «Осеннее утро»
(1816): «С небес уже скатилась очи тень, / Взошла заря, сияет блед-
ный день — / А вкруг меня глухое запустенье... / Уж нет ее... я был
у берегов»1 2. Лирический герой делится своими воспоминаниями
о прогулках вдоль ручья, в глуши лесов, желанием встречи с милой.
Наброски видов осенней природы лишь обрамляют его настроения,
они на втором плане.
Совсем по-другому поэт пишет об осени через 17 лет, в 1833 г.:
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл <... >3.
Это совершенно новый стиль письма. Пушкин уже прочно
встал на путь реализма. Романтизм не отбрасывается реализмом,
а преодолевается им, становится элементом реализма. Поэт изо-
бражает осень в ее зримой вещественности, именно ее описание
на видном месте, осень сопоставляется с другими временами года.
Но он не скрывает и своей любви к уходящей красоте: «Дни поздней
осени бранят обыкновенно, / Но мне она мила, читатель дорогой, /
Красою тихою, блистающей смиренно...» В этих строках он скорее
мечтательный романтик. В целом же пушкинский пейзаж объекти-
вен, в отличие от пейзажей Жуковского.
Вообще объективное описание, верное натуре, не всегда порож-
дает образность. У Пушкина — порождает: ведь переданы и чувства
лирического героя. В следующей строфе перед нами и описание
примет осени, и выражение чувства: «Люблю я пышное природы
увяданье, / В багрец и в золото одетые леса <...>».
В научной литературе можно встретить понятия «унылого», «бур-
ного», «идеального» пейзажа4. Но сама по себе природа не может
быть ни унылой, ни веселой. Она может, как показывает Пушкин,
1 Белинский В. Г. Указ. соч. С. 215.
2 Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1959—1962. С. 372.
3 Там же. Т. 2. С. 379.
4 См.: Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной...» Система пейзажных
образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990. С. 130.
342
навевать разные чувства в зависимости от душевного состояния
воспринимающего. (Ведь обычно весну любят больше осени).
Замечателен у Пушкина и городской, или урбанистический пей-
заж. Перечисляя в «Евгении Онегине» проносящиеся перед Татьяной
виды Москвы («по Тверской / Возок несется сквозь ухабы»), поэт
наряду с «домами», «дворцами», «лачужками» упоминает «сады»,
«огороды», «стаю галок на крестах» (Гл. 7, строфа XXXVIII). В «Мед-
ном всаднике» (1833) громады зданий теснятся по берегам одетой
в гранит Невы. Природа представлена не только рекой, но и «темно-
зелеными садами», покрывающими острова. Передано очарование
белых ночей, когда «одна заря сменить другую / Спешит, дав ночи
полчаса». Но природа здесь не только прекрасна: поэма повествует
о наводнении, причинившем бедствия городу, его «строгому, строй-
ному виду», и разрушившем все надежды Евгения.
Реализм, сменивший романтизм как творческий метод, стремит-
ся к воспроизведению многообразных связей человека с природой
как объективно существующей реальностью. У И. С. Тургенева, на-
следующего многие пушкинские традиции, есть рассуждение о том,
как следует живописать природу. В рецензии на книгу С. Т. Акса-
кова «Записки ружейного охотника» (1852) Тургенев пишет об ав-
торе: «Он смотрит на природу (одушевленную и неодушевленную)
не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а так, как на нее
смотреть должно: ясно, просто и с полным участием; он не мудрит,
не хитрит, не подкладывает ей посторонних намерений и целей:
он наблюдает умно, добросовестно и тонко; он только хочет узнать,
увидеть. А перед таким взором природа раскрывается и дает ему
“заглянуть” в себя»1.
Именно так смотрит на природу и описывает ее Пушкин. В «Евге-
нии Онегине» ёмко и естественно, в полном соответствии с реалия-
ми, он описывает первый снег, долгожданный после затянувшейся
осени:
Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых во дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.
(Гл. 5, строфа I. Курсив наш.)
1 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. Т. 4. М.: Наука,
1980. С. 517.
343
В строфе снег — прямо или перифрастически (легкие узоры
на стеклах, деревья в зимнем серебре, блистательный ковер зимы)
упомянут шесть раз. При этом автор избегает какой-либо вычур-
ности, все перифразы естественны. Первая строфа подготавливает
вторую: понятно, почему крестьянин обновляет путь «торжествуя».
Первый снег радует всех: и «лошадку», и «кибитку удалую», и «дво-
рового мальчика». Стихи как бы возникли сами собой: работа ма-
стера незаметна.
В прозе Пушкина, как правило, описания природы немного-
словны: «Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал» («Вы-
стрел»); «День был жаркий. В трех верстах от станции * * * стало
накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня
до последней нитки» («Станционный смотритель»). Пушкин отво-
дит пейзажу столько места, сколько это диктуется логикой разви-
тия сюжета. Описания естественно сливаются с повествованием,
обозначая либо время суток, либо время года, отмечая погодные
условия.
Но есть у Пушкина и пейзажи, «участвующие» в действии. В по-
вести «Метель» героиня Маша собирается тайно венчаться и бе-
жит из родного дома. «На дворе была метель; ставни тряслись
и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменова-
нием». Она вышла из дома: «Метель не утихла; ветер дул навстре-
чу, как будто силясь остановить молодую преступницу». Активно
сопротивляются природные силы и действиям Владимира: доро-
гу он хорошо знал, езды до церкви было всего двадцать минут.
Но едва он выехал, «как... сделалась такая метель, что он ничего
не взвидел...»1 Нет в повести откровенной дидактики, но сквозь
действия природных сил просматриваются оценки персонажей,
их планов.
Герой «Капитанской дочки» Петр Гринев по дороге к месту
службы попадает в буран. «Я выглянул из кибитки. Все было мрак
и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что ка-
зался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли
шагом — и скоро стали»1 2. В описании бурана Пушкин, по обыкно-
вению, краток, но выразителен: схвачены главные признаки снеж-
ной бури. Любопытно, что в 1834 г., за два года до написания Пуш-
киным «Капитанской дочки», С. Т. Аксаков, уроженец Оренбуржья
(где происходит основное действие пушкинского романа), опу-
бликовал очерк «Буран». Он детально описал буран как природное
явление: перечислены все признаки приближающейся непогоды,
все страшные подробности: «Все слилось, все смешалось: земля,
воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, ко-
1 Пушкин А. С. Указ. собр. соч. Т. 5. С. 65, 66.
2 Там же. С. 296.
344
торый слепил глаза, занимал дыхание, ревел, свистал, выл, стонал,
бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как
змей, и душил все, что ни попадалось»1.
Документальный очерк и роман — разные жанры. Для естество-
испытателя аксаковское описание бурана — великолепная находка,
его познавательная ценность несомненна. Но на фоне изображения
природного явления как такового четко видна связь пушкинского
бурана с общим сюжетом произведения: за бураном вскоре после-
дует пугачевский бунт. Буран в контексте «Капитанской дочки» ста-
новится символом.
Разнообразие способов описания природы очевидно при сопо-
ставлении художественных текстов, где воссоздается неизменный
или мало меняющийся предмет описания: снег, ветер, луна, солнце,
лес, поле, река, времена года и т. д. На фоне сходного хорошо видны
различия, меняющийся контекст изображения, обновление стили-
стики. Русская литература с конца XVIII века, т. е. времени, когда
классицизм явно сдает свои позиции, представлена многими ярки-
ми творческими индивидуальностями. «Не подражай: своеобразен
гений / И собственным величием велик...» — эти слова Е. А. Ба-
ратынского1 2 хорошо передают ведущий пафос творчества роман-
тиков, реалистов, символистов и т. д. Для постижения своеобразия
творчества писателя нужен анализ индивидуальных стилей.
Однако все же можно выделить наиболее характерные черты,
передающие время написания текста и своеобразие «поэтического
языка» литературных направлений в целом. Сравним три описания
русской зимы.
1) Фрагмент из стихотворения Г. Р. Державина «Осень во время
осады Очакова» (1788):
Борей на осень хмурит брови
И Зиму с севера зовет,
Идет седая чародейка,
Косматым машет рукавом;
И снег, и мраз, и иней сыплет,
И воды претворяет в льды;
От хладного ее дыханья
Природы взор оцепенел3.
2) А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава седьмая, строфы XXIX—
XXX. (Глава писалась в 1827—28 гг.)
1 Аксаков С. Т. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1986. С. 255.
2 Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников.
М.: Правда, 1987. С. 64.
3 Державин Г. Р. Сочинения. М.: Правда, 1985. С. 66.
345
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.
XXX
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
3) Фрагмент из стихотворения С. А. Есенина «Я по первому снегу
бреду...» (1918).
Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз.
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.
О, лесная, дремучая муть!
О, веселье заснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.
И Державин, и Пушкин, и Есенин описывают обычные, неизмен-
ные — из года в год, из века в век — признаки русской зимы: снег,
лед, иней, мороз, холодный ветер. Общая тема оттеняет различия
в восприятии и, соответственно, в описании явлений природы ярки-
ми представителями классицизма, реализма, имажинизма.
У Державина Борей, Осень, Зима, Природа суть образы-олице-
творения (отсюда и заглавные буквы), некие антропоморфные су-
щества. Их образы созданы с помощью олицетворяющих метафор:
Борей «хмурит брови»; Зима «косматым машет рукавом»; у При-
роды «взор оцепенел». В стихотворении есть еще подобные образы:
«Уже румяна Осень носит / Снопы густые на гумно»; «Спустил се-
дой Эол Борея / С цепей чугунных из пещер»; «Небесный Марс оста-
вил громы / И лег в туманы отдохнуть». Олицетворение явлений
природы восходит к глубокой старине, к мифу, оно характерно для
античной поэзии. Греческий и римский пантеон был неистощимым
образным фондом для поэтов классицизма, где ценилась речь «укра-
шенная». А. П. Сумароков в своем подражании «Поэтическому ис-
кусству» Буало предостерегал начинающих авторов от обиходной
речи при описании природных явлений: «Когда встает в морях вол-
нение и рев, / Не ветер то шумит, Нептун являет гнев» («Эписто-
ла о стихотворстве», 1748)1. Державин следует этой же традиции.
1 Сумароков А. П. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1953. С. 138.
346
В соответствии с учением о «трех штилях» использованы церков-
нославянизмы: мраз, хладное, претворяет. И все же самый яркий
образ в строфе не заимствован, это счастливая находка: «Идет седая
чародейка, / Косматым машет рукавом...» Таких находок в поэзии
Державина много.
Пушкинская зима — тоже образ-олицетворение, она тоже «идет»,
и север тоже «дохнул, завыл». И далее следует ряд глагольных мета-
фор: зима «пришла», «рассыпалась», «повисла», «легла». Однако ино-
сказательность почти не ощущается: метафоры поэтические пере-
плетены с языковыми («проказы матушки зимы», «блеснул мороз»},
глагольные метафоры входят в составные сказуемые: «клоками по-
висла на суках дубов», «легла волнистыми коврами». Нет ни заглав-
ных букв, ни греко-римских богов. «Клоками» снег лежит на дере-
вьях, в лесу; «волнистыми коврами» покрыты поля и холмы; «пухлой
пеленою» — река и ее «брега» (единственное неполногласное слово
в этом фрагменте). Перед нами — типичный зимний среднерусский
пейзаж.
Есенин изображает зиму, «первый снег» через их восприятие ли-
рическим героем. Переданы его радость, его молодость, его восхи-
щение женской красотой: березы, ивы уподобляются женщинам:
«обнаженные груди берез», «древесные бедра ив» (смелые, неожидан-
ные метафоры — знак сугубо индивидуального стиля). Обращаясь
к лесу и нивам, лирический герой пишет, в сущности, о себе, о своих
чувствах и желаниях. Входя в непривычные словосочетания, слова
становятся в контексте стихотворения семантическими неологиз-
мами. В выражениях «лесная, дремучая муть», «белая гладь», «весе-
лье заснеженных нив» слова «муть», «гладь», «заснеженные» важны
не в прямом их смысле: они переносят в мир волшебной сказки.
В стихотворении много смелых авторских метафор и сравнений.
Наряду с уже названными — это «ландыши вспыхнувших сил», «ве-
чер синею свечкой звезду / Над дорогой моей засветил», «вместо
зимы на полях это лебеди сели на луг». Такая стилистика — примета
поэзии XX века.
Предложенное сопоставление описаний зимы «схватывает» лишь
самые резкие различия в поэтике литературных периодов и направ-
лений. Но у каждого большого писателя свое, индивидуальное виде-
ние природы, свой стиль.
'к 'к 'к
Среди русских писателей «после Пушкина» особым пристрасти-
ем к изображению природы выделяется И. С. Тургенев.
Его «необыкновенное мастерство изображать картины русской
природы» успел заметить Белинский1. Тургенев различал два спо-
1 Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 10. С. 347.
347
соба изображения природы. Первый — когда описываются все-
возможные оттенки ее красоты, нередко трудно уловимые част-
ности. Таким способом, по его мнению, передается не красота
природы, а лишь ее запах, «частности выигрывают насчет общего
впечатления»1. Второй способ — «создание стройной и широкой
картины природы», ибо «в самой природе нет ничего ухищренно-
го и мудреного, она никогда ничем не щеголяет, не кокетничает;
в самих своих прихотях она добродушна»1 2. Тургеневская философия
природы сводится не к противопоставлению описаний частностей,
деталей общим рассуждениям, но к постижению природы как «об-
щей, бесконечной гармонии, в которой все, что существует — суще-
ствует для другого (хотя кажется, что живет только для себя) и все
жизни сливаются в одну мировую жизнь — это одна из тех “откры-
тых” тайн, которые мы все и видим и не видим»3. Тургенев согласен
с пушкинской мыслью о «равнодушии» природы к человеку и не раз
возвращается к ней. «Равнодушие» природы у Тургенева означает,
что природу не следует очеловечивать, приписывая ей свои «душев-
ные движения». Сказать, что «конь благородное завоевание челове-
ка» или что «утес хохочет» — значит ничего не сказать ни о коне,
ни об утесе. «Ничего не может быть труднее человеку — продолжа-
ет Тургенев в своей на рецензии на «Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова, — как отделиться от само-
го себя и вдуматься в явления природы». Не требует большого тру-
да «греметь всеми громами риторики», но как нелегко, к примеру,
«выразить, что происходит хотя бы в птице, которая смолкает перед
дождем»4. Именно путем тонкого, умного наблюдения он призыва-
ет подмечать особую жизнь природы и воспроизводить ее.
«Природа» (1879) — название одного из тургеневских стихот-
ворений в прозе. Автору приснилось, будто он встретился с самой
природой в виде величавой женщины «в волнистой одежде зеленого
цвета». Она была в глубокой задумчивости. На вопрос, о чем она
думает (не о совершенствовании ли человечества?), природа отве-
чала: «Все твари — мои дети, и я одинаково о них забочусь — и оди-
наково их истребляю. <...> Я не ведаю ни добра, ни зла... Разум
мне не закон <...> А ты пока защищайся — и не мешай мне!»5
Так Тургенев раскрывает другой — философский — смысл вы-
ражения «равнодушная природа». В конце романа «Отцы и дети»
он пишет о сельском кладбище, на котором покоится Базаров.
У могилы две елки и живые цветы, свидетельствующие одновре-
1 Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 4. С. 519.
2 Там же. С. 519.
3 Там же. С. 517.
4 Тамже. С. 518.
5 Там же. Т. 10. С. 164, 165.
348
менно «о великом спокойствии «равнодушной» природы и «о жизни
бесконечной»1.
Схожие мысли писатель высказывает и в начале рассказа «Поезд-
ка в Полесье». В сущности он признает, что своей мощью, масштаба-
ми природа как стихия может навевать разные настроения. Трудно
человеку (пишет он) «выносить холодный, безучастно устремлен-
ный на него взгляд вечной Изиды.. .»1 2 Человек и природа — сквозная
тема рассказа. Внимание автора-рассказчика сосредоточено на пси-
хологических аспектах. Детальное и яркое описание леса кончается
признанием в том, что в этой «вечной лесной молви начинает серд-
це ныть понемногу, и хочется человеку выйти поскорей на простор,
на свет <...> — и давит его эта пахучая сырость и гниль...»3 Вот
и назвал автор психологический исток мысли о «равнодушной при-
роде». С другой стороны, и тишина лесная, по его признанию, может
не лучшим образом действовать на человека — вызвать не только
страх, но и думы о смерти. И так чувствует не только рассказчик.
Умолк и его товарищ по охоте, «словоохотливый» Кондрат: «лесная
тишь недаром охватила и его»4. Зато «лучший охотник во всем уез-
де» Егор, слывший «молчальником», все время оставался невозму-
тимым и одним своим словом и видом вывел рассказчика из скорб-
ного состояния. Во всех движениях Егора автор замечает «скромную
важность» — «важность статного оленя». И признает, что она идет
то ли «от постоянного пребывания в лесу, лицом к лицу с печальной
и строгой природой», то ли «вследствие особенного склада и строя
души». Писатель сознательно прибегает к частице «ли», которая ли-
шает его суждение категоричности. За этим приемом — мудрость
писателя, его подлинный реализм.
Человек и природа у Тургенева сливаются, составляя одно целое.
Вот рассказ «Певцы» из «Записок охотника». В помещении деревен-
ского кабака — состязание певцов. Пение Якова заворожило всех,
в том числе рассказчика. «Он пел, и от каждого звука его голоса ве-
яло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь
раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль...»5 Нераздель-
ны психология и лирика. Хорь и Калиныч, два пожилых калужских
мужика — герои одноименного рассказа. Калиныч «стоял ближе
к природе, Хорь же — к людям, к обществу»6. Грамотный Калиныч
неплохо поет, играет на балалайке, он восторженный и мечтатель-
ный «идеалист», постоянно с барином на охоте и тонко знает при-
1 Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 7. С. 188.
2 Там же. Т. 5. С. 130.
3 Там же. С. 134.
4 Там же. С. 136.
5 Там же. Т. 3. С. 222.
6 Там же. С. 15.
349
роду. «“Славная погода завтра будет”, — заметил я, глядя на светлое
небо. “Нет, дождь пойдет, — возразил мне Калиныч, — утки вон
плещутся, да и трава больно сильно пахнет”». Одна его черта изу-
мила рассказчика: для своего друга Хоря он нарвал полевой зем-
ляники и принес ему домой. Хорь же читать не умеет, но он здра-
вомыслящий рационалист, «понимает действительность», ладит
с барином и с другими властями, накопил денег, потенциальный
завтрашний кулачок, хозяйчик. Совершенно разные мужики. Автор
передает свои впечатления о них спокойно, без намека на резонер-
ство. На переднем плане не природа, а разнохарактерные крестья-
не, но природа повсюду разлита: в деталях описания орловского
и калужского ландшафтов, в разговорах и характерах мужиков. Тур-
геневские пейзажи естественны. В рассказе «Бирюк» есть зримое
описание проливного дождя, заставшего автора в дороге. Дождь
он переждал в избушке Бирюка, а затем, сопровождаемый лесни-
ком, стал свидетелем поимки мужика, воровавшего господский лес.
Когда они втроем возвращались в избу, снова полил сильный дождь.
Казалось бы, все естественно, и нет никаких оснований проводить
параллель между дождем и дальнейшей сценой в избе — душевной
борьбой Бирюка между необходимостью «справлять» должность
или прислушаться к отчаянным мольбам нищего воришки отпу-
стить его с миром. И в то же время можно утверждать, что дождь
был аккомпанементом тому, что происходило в душе лесника.
Психологический параллелизм между состоянием природы и на-
строением человека ярко выписан в рассказе «Свидание». Находясь
в сентябрьской березовой роще, рассказчик замечает, что время
года можно было узнать по шуму листьев. «То был не веселый, сме-
ющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета,
не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дре-
мотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам...»1
Недалеко от себя рассказчик заметил сидящую крестьянскую девуш-
ку со слезами высохших слез. Вскоре к ней подошел развязный мо-
лодой человек, «по всем признакам камердинер богатого барина».
Из их разговора было ясно, что он без сожаления и цинично броса-
ет обесчещенную девушку, а она, любящая его, страшится за свое
будущее. На прощанье она тщетно просит от него «хоть бы словеч-
ко, хоть бы одно...» Но его нет. Когда рассказчик выходил из рощи,
«солнце стояло низко на бледно-ясном небе, лучи его тоже как буд-
то поблекли и похолодели: они не сияли, они разливались ровным,
почти водянистым светом»1 2.
Пейзаж, сопряженный с романтическими отношениями влю-
бленных, мы встречаем в повести «Ася». С ее героиней рассказ-
1 Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 240.
2 Там же. С. 243, 248.
350
чик — он же герой — впервые встречается высоко в горах, в доме,
где она и ее брат остановились. Своеобразной подсветкой началу
любви служит прекрасный вид, открывающийся из дома, где жили
Ася и Гагин: «Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зеле-
ными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката
<...> меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая
прозрачность воздуха...»1 Последнее же rendez-vous, поставившее
точку в любви, по контрасту с первым проходило в темной комнате.
«Бежин луг» — рассказ о дневной и ночной июльской природе
и о крестьянских детях, стерегущих табун. Завораживающий пей-
заж с постоянно меняющимися в зависимости от погоды цветами,
запахами, звуками... Природа живет своей жизнью. Своей жиз-
нью заняты и мальчики, повседневно и незаметно впитывающие
эту природу, они присматривают за лошадьми, готовят себе ужин
и ведут нескончаемые разговоры о домовом, нечистой силе, русал-
ках, волках, разных слухах и пр. Заблудившегося гостя-охотника
они встретили настороженно, немного поговорили с ним и больше
на него не обращали внимания. Рассказчик вроде бы в одиночестве.
Но он наблюдает за природой и украдкой, притворившись спящим,
с огромным интересом слушает ребячьи разговоры, открывает
для себя их душевный мир. В описаниях июльского утра и вечера
в рассказах «Бежин луг» и «Лес и степь» нет никаких повторений.
Писатель каждый раз находит свежие краски, нюансы. Читаем «Бе-
жин луг»: «С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пы-
лает пожаром: она разливается кротким румянцем...» Читаем «Лес
и степь»: «А летнее июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал,
как отрадно бродить на заре по кустам?.. Вы раздвинете мокрый
куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух
весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»...»1 2
«Лес и степь» — это гимн русской природе, автор множеством
восклицательных и вопросительных знаков, подбором слов переда-
ет восторг от увиденного: звездного неба, влажного ветерка, шума
деревьев, игры света и тени, видов, открывающихся с дороги и т. д.
Например: «Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепе-
чут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; мо-
гучий дуб стоит как боец, подле красивой липы <... > Далее, да-
лее, глубже в лес... Лес глохнет... Неизъяснимая тишина западает
в душу; да и кругом так дремотно и тихо...»3 С не меньшим мастер-
ством, изяществом и осязательностью описывает Тургенев «безгра-
ничную, необозримую степь»4.
1 Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 5. С. 154.
2 Там же. Т. 3. С. 355.
3 Там же. С. 357.
4 Тамже. С. 359.
351
Важнейшая особенность тургеневских пейзажей в их высокой
эстетической значимости, в том, что они не оставляют читателей
равнодушными, одаривая их яркими впечатлениями.
В заключение остановимся на проблеме, остро вставшей перед
современным человечеством, — проблеме охраны природы, или эко-
логической (гр. oikos — дом, родина).
В начале XX в. городской, или урбанистический пейзаж пре-
терпевает резкие изменения, отражая новую реальность. Развитие
науки и техники радикально преобразило город, в котором вещи,
созданные человеком, явно теснят природу. Одним из мастеров опи-
сания такого пейзажа был В. Я. Брюсов:
Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый рок.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком,
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей.
В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.
(«Конь блед», 1903—1904.)1
Образ города у Брюсова резко отличается от описания двух сто-
лиц у Пушкина (в «Евгении Онегине»,«Медном всаднике»), от обли-
ка Москвы в стихотворении Ф. Н. Глинки, где, обращаясь к «древне-
му» городу, поэт пишет: «Опоясан лентой пашен, / Весь пестреешь
ты в садах...»1 2
В силу объективных причин во второй половине XX в. во весь рост
встала т. н. экологическая проблема, т. е. проблема защиты приро-
ды от вредоносного воздействия на нее цивилизации. И не только
город — сильно изменились (к сожалению, не в лучшую для здоро-
вья людей сторону) многие деревни, леса, степи, реки, даже горы
и моря, что у людей и общества в целом вызывает тревогу, порожда-
ет опасения за будущее. А ведь не так уж давно, в 1868 г., Ф. И. Тют-
чев в стихотворении «В небе тают облака...» писал:
Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное3.
Экологическая тема — одна из важнейших в современной лите-
ратуре. Она объединяет многие выдающиеся произведения: «Рус-
1 Брюсов В. Я. Стихотворения. Поэмы. М.: Гослитиздат, 1957. С. 155.
2 Глинка Ф. Н. Стихотворения. Л., 1961. С. 221.
3 Тютчев Ф. И. Лирика: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1965. С. 215.
352
ский лес» Л. М. Леонова, «Прощание с Матерой» В. Г. Распутина,
«Царь-рыба» В. П. Астафьева, «На Иртыше» С. П. Залыгина и другие.
У В. В. Вересаева есть небольшой рассказ «Euthymia» (1948). Его
героиня — еще молодая женщина, подававшая большие надежды
на поприще театра, но вынужденная из-за болезней сидеть дома
на попечении мужа. Несмотря на физические страдания, она бодра
духом, жизнерадостна, чем поражает окружающих. Поддерживать
это «радостнодушие» ей помогает природа, красотой которой она
постоянно любуется. Судьба человечества не в последнюю очередь
будет определяться тем, насколько благополучным будет состояние
окружающей среды — природы.
Вопросы
1. Как изображается природа в мифах?
2. В чем суть подражания природе как принципа эстетики классицизма?
3. Каковы особенности руссоистской идеализации жизни человека
на лоне природы?
4. Поясните значение слова «сенсуализм». Какую роль играет пейзаж
в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»?
5. В чем смысл положения А. Н. Веселовского о «незрячестве» сенсуа-
лизма?
6. Чем отличается изображение природы у А. С. Пушкина-романтика
и Пушкина-реалиста?
7. Какие два способа изображения природы различал И. С. Тургенев?
Приведите примеры психологического параллелизма между состоянием
природы и настроением героя в его произведениях.
8. Как проявляется символика изображения природы в творчестве
А. А. Блока?
Глава 8
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ
Рус.: деталь; англ.: detail; нем.: Detail; фр.: detail.
Деталь как часть предмета изображения. —Деталь в аспекте исторической
поэтики. — Детализация / генерализация. — Виды деталей, их взаимодей-
ствие. Невербальная семиотика. — Свободные мотивы. — Деталь и подроб-
ность. Символика детали.
Деталь — выделенная автором часть целого, особенность пред-
мета. Этимология подчеркивает связь детали и целого, к которому
она относится: «деталь» (франц, detail) — «мелкая составная часть
чего-либо (напр., машины)»; «подробность», «частность»; во фран-
цузском языке одно из значений — «мелочь», «розничная, мелочная
торговля»; ср. detailler — «разрезать на куски», «продавать в розни-
цу»; также «детализировать»1.
Деталь выделяет в предмете изображения нужное и важное в дан-
ном контексте. То, что не вошло в текст, очевидно, несущественно
для понимания целого. В рассказе А. П. Чехова «Смерть чиновника»
отсутствует портрет главного героя, но его новый вицмундир упо-
мянут дважды: на другой день после случившегося в театре «Чер-
вяков надел новый вицмундир, постригся и пошел к Бризжалову
объяснить...»; придя домой после пятого, снова неудачного, изви-
нения, «не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер»1 2. Кон-
цовка перекликается с заглавием: речь идет не о смерти человека,
но о смерти чиновника. А в чеховском рассказе «Толстый и тонкий»
отраженные в заглавии черты внешности персонажей не столько
портретная их характеристика, сколько указание на разницу их со-
циального статуса — в традиции, восходящей к «Мертвым душам»
Н. В. Гоголя.
Заведомая неполнота изображения активизирует восприятие
читателя, мысленно дополняющего по-своему текст. Р. Ингарден
пишет об «устранении мест неполной определенности» в процессе
чтения, конкретизации читателем (она у каждого своя) портрета
1 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка: в 2 т. Т. 1.
М., 1994. С. 246.
2 Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 2. М., 1954. С. 153.
354
героини. Он приводит следующий пример из романа Г. Сенкеви-
ча: «Не зная... (поскольку это не обозначено в тексте, какого цвета
глаза у Баськи из «Пана Володыёвского»), мы представляем её себе,
допустим, голубоглазой. Подобным же образом мы дополняем
и другие, не определённые в тексте, особенности черт её лица, так
что представляем её себе в том или ином конкретном облике, хотя
в произведении этот облик дан не с исчерпывающей определённо-
стью. Этим мы, несомненно, выходим за пределы самого произведе-
ния, но делаем это, однако, в соответствии с его замыслом, так как
в произведении и не предусматривается, чтобы у Баськи в её лице
чего-то не хватало»1.
it it it
Нередко высказывается мысль о том, что в истории литературы
мастерство детализации развивалось постепенно. Однако данные
исторической поэтики свидетельствуют, что детализация — не-
отъемлемое свойство художественного изображения. Вкус к дета-
ли, к тонкой (не топорной) работе объединяет художников, в ка-
кое бы время они ни жили; другой вопрос — какие стороны жизни
досконально осваивались литературой на том или ином этапе.
В древней поэзии, в частности в раннем героическом эпосе, пре-
обладают подробные описания внешнего мира. «Отказывая себе
в излияниях чувства и не умея ученым образом анализировать
душу, тем охотнее обращается эпический певец к миру внешнему,
где всякий предмет, великий или малый, равно занимает его фан-
тазию... <...> Всегда спокойный и ясный взор певца с одинако-
вым вниманием останавливается и на Олимпе, где восседают боги,
и на кровавой битве, решающей судьбу мира, и на мелочах едва
заметных, при описании домашней утвари или вооружения», — пи-
сал в 1851 г. исследователь древнерусского искусства Ф. И. Бусла-
ев1 2. Но и внешний мир на ранних этапах развития словесности был
представлен неполно: «В древнерусских стихотворениях, сказках
и песнях, как вообще в народной поэзии других наций, — продол-
жает Буслаев, — не найдете ни одного подробного описания приро-
ды, которое само по себе составляло бы главный предмет рассказа,
как это обыкновенно бывает в описательных поэмах, в романах,
повестях и в лирических стихотворениях позднейшей эпохи. Сре-
доточием всего мира для эпической старины был сам человек с его
семьей и родным домом»3.
Гомер в «Илиаде» очень подробно описывает военные доспехи
своих героев (так, описание щита Ахилла в XVIII песни занимает
1 Ингарден Р. Литературное произведение и его конкретизация // Ингар-
ден Р. Исследования по эстетике/ Пер. с пол. М., 1962. С. 82.
2 Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология. М.: Высшая школа, 2003. С. 74.
3 Там же. С. 77.
355
136 стихов), многочисленные единоборства, из которых ни одно
не повторяет другого. И в «Илиаде», и в «Одиссее» широко исполь-
зуется прием ретардации: «Относясь с любовью к своему рассказу,
поэт сам как бы любуется им. Каждая мелочь тут ему дорога»1. Яр-
кий пример — сцена узнавания в «Одиссее». Героя, вернувшегося
на Итаку под видом странника, узнает старая служанка Евриклея
по хорошо знакомому ей рубцу на его ноге:
<... > Сияющий таз, для мытья ей служивший
Ног, принесла Евриклея; и, свежей водою две трети
Таз наполнив, ее долила кипятком, Одиссей же
Сел к очагу, но лицом обернулся он к тени, понеже
Думал, что, за ногу взявши его, Евриклея знакомый
Может увидеть рубец, и тогда вся откроется разом
Тайна. Но только она подошла к господину, рубец ей
Бросился прямо в глаза. <... >
Далее следует рассказ о том, как возник этот рубец — след раны,
полученной в юности на охоте, когда он гостил у своего деда Авто-
ликона, — рассказ обстоятельный, приковывающий к себе «внима-
ние слушателя на всё то время, пока он слушает...»1 2 Отступление
занимает 74 стиха, после чего повествователь возвращается к эпи-
зоду узнавания:
Эту-то рану узнала старушка, ощупав руками
Ногу; отдернула руки она в изумленье; упала
В таз, опустившись, нога; от удара ее зазвенела
Медь, покачнулся водою наполненный таз; пролилася
На пол вода. И веселье и горе проникли старушку,
Очи от слез затуманились, ей не покорствовал голос.
Сжав Одиссею рукой подбородок, она возгласила:
«Ты Одиссей! Ты мое золотое дитя! И тебя я
Прежде, пока не ощупала этой ноги, не узнала!»3
Мы как бы видим этот покачнувшийся таз, разлитую воду, смя-
тение Евриклеи, переданное (что характерно для ранних стадий
литературы) не через описание ее чувств, но через внешние их про-
явления: «очи от слез затуманились, ей не покорствовал голос».
Свой исторический обзор техник повествования немецкий ученый
Э. Ауэрбах открывает комментарием к данному эпизоду: «более
чем достаточно уделяется времени и места описанию утвари, дви-
жений, жестов, описанию размеренному, ни одного звена не опу-
скающему из виду; даже в драматический момент узнавания чита-
теля непременно извещают, что Одиссей старую служанку, чтобы
помешать ей говорить, правой рукой ухватывает за горло, а другой
1 Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М., 1982. С. 69.
2 Ауербах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской
литературе / Пер. с нем. М., СПб.: Университетская книга, 2000. С. 8.
3 Гомер. Одиссея / Пер. В. А. Жуковского. М.: Худ. литература, 1967. С. 650—651.
356
рукой в это время притягивает к себе. Очерченные ясными линия-
ми, в прозрачном и ровном свете стоят и движутся тут люди и вещи
в пределах обозримого пространства; не менее ясны их мысли
и чувства, полностью выражаемые в слове, размеренные даже в ми-
нуту волнения»1.
В романе XIX—XX гг. преобладает иная, психологическая детали-
зация. X. Ортега-и-Гассет противопоставлял «медлительный» роман
XIX—XX вв. многовековой диктатуре сюжета: «...жанр постепенно
переходит от повествования, которое только указывало, намекало
на что-то, к представлению во плоти. <...> Императив романа —
присутствие. Не говорите мне, каков персонаж, — я должен увидеть
его воочию»1 2. Что такое «присутствие», критик поясняет на приме-
ре своих любимых романистов: Стендаля, Достоевского. «Сюжет
“Красного и черного” можно передать в двух словах. Чем отличается
такой пересказ от романа? <... > Важно, что, говоря “мадам Реналь
полюбила Жюльена Сореля”, мы просто указываем на событие.
Стендаль же представляет его в непосредственной действительно-
сти, наяву»3. Достоевский порой «пишет два тома, чтобы изложить
события, случившиеся за несколько дней или даже часов. <...>
Плотность обретается не нанизыванием одного события на другое,
а растягиванием каждого отдельного приключения за счет скрупу-
лезного описания мельчайших его компонентов»)4.
Очень заметна работа Времени в позднейших обработках старых
сюжетов, например в «Королевских идиллиях» А. Теннисона (1859),
где заимствованы и события, и лица из средневековых поэм о ры-
царях Круглого стола. По наблюдениям А. Н. Веселовского, в этом
произведении следует отнести «за счет XIX века ту любовь к фла-
мандской стороне жизни, которая останавливается на её иногда
совершенно неинтересных мелочах, и на счет XVIII столетия то ис-
кусственное отношение к природе, которое любит всякое действие
вставить в рамки пейзажа и в его стиле, тёмном или игривом, вы-
ражать свое собственное сочувствие человеческому делу. Средне-
вековый поэт мог рассказывать о подвигах Эрека, но ему в голову
не пришло бы говорить о том, как он въехал на двор замка Иньоля,
как его конь при этом топтал колючие звёзды волчца, выглядывав-
шие из расселин камней, как он сам оглянулся и увидел вокруг себя
одни развалины. <... > Эти реальные подробности обличают новое
время: это — зеленые побеги плюща, охватившие серые своды древ-
него сказания...»5
1 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской
литературе. М., СПб.: Университетская книга, 2000. С. 7.
2 Ортега-и-Гассетт X. Указ. соч. С. 264.
3 Там же.
4 Тамже. С. 275.
5 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. С. 39—40.
357
Сменяющие друг друга литературные стили, системы условно-
стей (коды) постоянно пополняют кладовую литературной памяти.
Чтение художественных текстов, созданных в разное время, предпо-
лагает распознавание, дешифровку этих кодов, и наметанный глаз
знатоков видит за данным текстом интертекст, свойственный тому
или иному историческому времени, тому или иному жанру.
Мера детализации по ходу повествования может существенно
меняться в произведении. Часто эпизоды (относительно самосто-
ятельные части сюжетной композиции, где художественное время
приближено к реальному) чередуются с краткими сообщениями
о событиях. Так, в финале «Одиссеи» всего в трех строках говорится
о прекращении мятежей благодаря вмешательству Афины и насту-
плении мира на Итаке:
Скоро потом меж царем и народом союз укрепила
Жертвой и клятвой великой приявшая Менторов образ
Светлая дочь громовержца богиня Афина Паллада1.
Чередование детализации (замедляющей повествование) и ге-
нерализации (кратких, суммирующих сообщений) создает тот или
иной ритм изображения.
В позднем рассказе Л. Н. Толстого «После бала» (1903, опубл.
1911) контрастируют друг с другом два эпизода — бал и наказание
солдата шпицрутенами. Рассказчик, Иван Васильевич, уже пожи-
лой человек, вспоминает время, когда он был молод и влюблен.
Но любовь его к Вареньке, царице бала, «сошла на нет» после уви-
денной им утром экзекуции, которой руководил полковник — её
отец.
В обоих эпизодах (описания бала и того, что было «после
бала») — «крупный план», выделены детали. В частности, на бале
рассказчик, очарованный Варенькой и ее отцом, с умилением
думает, глядя на сапоги полковника: «Чтобы вывозить и одевать
любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодель-
ные...» А наблюдая утром за экзекуцией, он поражен видом спины
наказываемого: «Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное,
неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека».
Следствием увиденного и пережитого стало решение героя нигде
не служить, о чем он упоминает в своем рассказе кратко, как того
и требует лапидарный стиль обрамления: «...не мог поступить
в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в во-
енной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился»1 2.
1 Гомер. Одиссея / Пер. В. А. Жуковского. М., 1967. С. 708.
2 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1978—1985. Т. 14. С. 11, 15—16.
358
Но «после бала» было не одно утро — прошла целая жизнь, ко-
торая могла бы стать сюжетом объемного романа. О ней сказано
в одной фразе.
Классификация деталей повторяет структуру предметного мира:
образ героя складывается из особенностей его внешности, поступ-
ков, переживаний; выделяют также детали сюжета, обстановки
(пейзаж, интерьер) и пр. При литературоведческом описании сти-
ля произведения родственные детали часто объединяют. Соглас-
но А. Б. Есину, можно выделить три группы: детали сюжетные,
описательные, психологические. Преобладание тех или иных дета-
лей порождает соответствующее свойство, или доминанту, стиля:
сюжетность («Тарас Бульба» Гоголя); описателъностъ («Мертвые
души»); психологизм («Преступление и наказание» Достоевского).
Эти свойства «могут сочетаться друг с другом: например, психо-
логизм и сюжетность — в романах Достоевского, описательность
и психологизм — в поздних рассказах и пьесах Чехова»1.
Подобно слову, живущему полной жизнью в тексте, в высказы-
вании, деталь раскрывает свои значения в её комбинациях, сцепле-
ниях с другими деталями. Важно понять принципы сочетания дета-
лей, характерные для стиля автора, их со- и противопоставления.
Л. Н. Толстой писал Н. Н. Страхову (апрель 1876) о том, что видит
задачу искусства в руководстве читателей в «том бесконечном ла-
биринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусств, и к тем
законам, которые служат основанием этих сцеплений»1 2.
к к к
Повторяющаяся деталь, не продвигающая сюжет (ход событий),
образует в произведении «свободный мотив» (Б. В. Томашевский)3.
Как правило, свободные мотивы раскрывают отношение автора
к изображаемому.
В «Анне Карениной» есть эпизод посещения Карениным «знаме-
нитого петербургского адвоката» (ч. 4, гл. V), от которого он хотел
узнать, какова практика ведения дел о разводе. Между сановным по-
сетителем и адвокатом идет беседа на правовую тему. Плавная речь
юриста, перечисляющего «случаи» и «подразделения», при которых
возможен развод, уснащена профессионализмами, синтаксически
выверена и своим автоматизмом контрастирует с его смеющимися
«серыми умными глазами». Для Каренина же разговор мучителен,
о чем говорит его «покрасневшее пятнами лицо». Но окончатель-
1 Есин А. Б. Стиль // Введение в литературоведение / Под ред. Л. В. Чернец.
М., 2010. С. 522.
2 Толстой Л. Н. Указ. собр. соч. T. 17—18. С. 785.
3 См. главу «Сюжет и его композиция».
359
но разрушает стиль делового общения летающая в кабинете моль:
«...над столом пролетела моль. Адвокат с быстротой, которой нель-
зя было ожидать от него, рознял руки, поймал моль и опять принял
прежнее положение». Спустя короткое время моль снова появля-
ется, что явно волнует юриста: он «посмотрел на моль, пролетев-
шую пред его носом, дернулся рукой, но не поймал ее из уважения
к положению Алексея Александровича». На протяжении эпизода
о моли упомянуто пять раз, три раза адвокат её ловит, так что мож-
но говорить о мотиве моли. После ухода Каренина адвокат «пере-
стал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо
перебить мебель бархатом, как у Сигонина»1. Читателю ясно, что
по-настоящему адвоката волнуют не дела клиентов, а состояние ме-
бели в кабинете.
Данный пример показывает также, насколько важны в ситуаци-
ях общения невербальные формы поведения: жесты, мимика, взгляд,
походка, смех, слезы и т. п. Все это — предмет изучения стремитель-
но развивающейся в настоящее время невербальной семиотики1 2.
Информация, которую передают невербальные «языки», нередко
расходится со смыслом слов; кроме того, она сама бывает противо-
речивой (так, жесты могут означать приветствие и радость, а взгляд
остается враждебным). Подобные несоответствия широко представ-
лены в литературе, это один из приемов психологизма.
О роли невербальных знаков в общении свидетельствует поч-
ти каждая страница художественной прозы Толстого, которого
Д. С. Мережковский назвал «тайновидцем плоти»3. Например,
в «Анне Карениной» Анна упрекает Вронского за его разрыв с Кити:
«— Да, я хотела сказать вам, — сказала она, не глядя на него. — Вы дурно
поступили, очень дурно.
— Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто причиной, что я посту-
пил так?
— Зачем вы говорите мне это? — сказала она, строго взглядывая на него.
— Вы знаете зачем, — отвечал он смело и радостно, встречая ее взгляд
и не спуская глаз.
Не он, а она смутилась.
— Это доказывает только то, что у вас нет сердца, — сказала она. Но взгляд
ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то боится его»4.
Здесь главное содержание диалога передано на языке взглядов.
И «спорят» между собой не только смысл слов и выражение глаз
1 Толстой Л. Н. Указ. собр. соч. Т. 8. С. 403—404, 406.
2 См.: Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык.
М.: Новое литературное обозрение, 2004.
3 Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский // Мережковский Д. С. Вечные
спутники. М.: Республика, 1995. С. 140.
4 Толстой Л. Н. Указ. собр. соч. Т. 8. С. 155.
360
героини, но и сами ее взгляды — намеренные и непроизвольные.
Анна сначала придает своему взгляду «строгое» выражение, но по-
том в ней побеждает естественное проявление чувства.
После родов Анны её отношения с Карениным, казалось бы, на-
ладились. Анна говорит мужу в присутствии Бетси Тверской, что от-
казывается принять Вронского:
«— Да нет, я не могу его принять, и это ни к чему не...— она вдруг остано-
вилась и взглянула вопросительно на мужа (он не смотрел на нее). — Одним
словом, я не хочу...
Алексей Александрович подвинулся и хотел взять ее руку.
Первым движением она отдернула свою руку от его влажной, с большими
надутыми жилами руки, которая искала ее; но, видимо, сделав над собой уси-
лие, пожала его руку»1.
Эта сцена вспоминается при чтении другого эпизода, передаю-
щего изменения уже в отношениях между Анной и Вронским; мож-
но говорить о зеркальной композиции. Мизансцена повторяется,
но теперь чувствует себя оскорбленной Анна:
«— Алексей, ты не изменился ко мне? — сказала она, обеими руками сжи-
мая его руку. — Алексей, я измучилась здесь. Когда мы уедем?
— Скоро, скоро. Ты не поверишь, как и мне тяжела наша жизнь здесь, —
сказал он и потянул свою руку.
— Ну, иди, иди! — с оскорблением сказала она и быстро ушла от него»1 2.
Приведем другой пример из этого же романа. Казалось бы, со-
вершенно незначительный разговор ведут между собой, собирая
грибы в лесу, Сергей Иванович Кознышев и Варенька, гостившая
у Левиных в их имении (ч. 6, гл. V). Опуская речь повествователя
(нарратора), вслушаемся только в их диалог:
[Она] «— Так вы ничего не нашли? Впрочем, в середине леса всегда
меньше.
[Он] — Я слышал только, что белые бывают преимущественно на краю,
хотя я не умею отличить белого».
[О н ]«— Какая же разница между белым и березовым?»
[Она]:«— В шляпке нет разницы, но в корне».
Между тем и Сергей Иванович, и Варенька внутренне готови-
лись к тому, что во время прогулки в лесу он сделает ей предложе-
ние и она его примет. Но вместо предвосхищаемого обоими любов-
ного объяснения (Кознышев тщательно продумал свой текст) они
по инерции, автоматически заговорили о грибах. Волнение героев
1 Толстой Л. Н. Указ. собр. соч. Т. 8. С. 463—464.
2 Там же. Т. 9. С. 121.
361
передано в речи повествователя: «Сергей Иванович вздохнул...»;
«Сердце Вареньки билось так, что она слышала удары его и чув-
ствовала, что краснеет, бледнеет и опять краснеет»; «Все, во взгля-
де, румянце, опушенных глазах Вареньки, показывало болезненное
ожидание»; «Губы Вареньки дрожали от волнения...»
После последней реплики Вареньки «и он и она поняли, что дело
кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано,
и волнение их, дошедшее пред этим до высшей степени, стало ути-
хать». Изменились и их интонации, мимика:
«— Березовый гриб — корень его напоминает двухдневную небритую
голову брюнета, — сказал уже покойно Сергей Иванович.
— Да, это правда, — улыбаясь, отвечала Варенька, и невольно направле-
ние их прогулки изменилось. Они стали приближаться к детям»1.
Итак, слова персонажей и косвенные, психологические детали
их поведения могут быть даны в противопоставлении, «споре» друг
с другом. Но часто, напротив, они образуют ансамбль, создающий
единое и цельное впечатление.
Е. С. Добин предложил называть такие однотипные детали, воз-
действующие «во множестве», подробностями1 2. Так, в «Евгении
Онегине» кабинет главного героя, данный в первой главе, — немой
свидетель его повседневных долгих забот о своей внешности:
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
(Гл. I, строфа XXIV.)
Совсем другой ансамбль деталей, свидетельствующий о произо-
шедших с Онегиным изменениях, представлен в описании его де-
ревенского кабинета (гл. VII, строфа XIX). Татьяна видит в «келье
модной» «груду книг» и «стол с померкшею лампадой». Очевидно,
Онегин в деревенском уединении много читал. А изображения Бай-
рона и Наполеона недвусмысленно указывают на властителей дум
героя.
В отличие от подробностей, детали (в терминологии Е. С. До-
бина) тяготеют к единичности. В романах Толстого они не просто
фиксируют характерные черты, представляя целое через его часть
(по принципу синекдохи), но указывают на некое противоречие
1 Толстой Л. Н. Указ. собр. соч. Т. 9. С. 146.
2 См.: Добин Е. С. Сюжет и действительность. Искусство детали. Л., 1981. С. 304.
362
в предмете. Поэтому деталь заметна. И она экспрессивна, т. е. при
верном ее прочтении читатель приобщается к авторской системе
ценностей. Уши Каренина, впервые поразившие Анну, когда муж
встречает ее в Петербурге на вокзале, — симптом начавшегося ох-
лаждения к нему героини. Портрет Каренина дан глазами Анны:
«Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?» — подумала она,
глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно
на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой
шляпы»1.
В «Войне и мире» короткая губка с усиками Лизы Болконской,
сначала охарактеризованная как «ее особенная, собственно ее кра-
сота», очень скоро вызывает у нарратора, передающего точку зре-
ния князя Андрея (Лиза своей болтовней его раздражает), невыгод-
ные для героини зоологические ассоциации: «...губка поднялась,
придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выражение»1 2.
Деталь, вносящая в образ диссонанс, или, если воспользоваться
термином В. Б. Шкловского, приводящая к «остранению» предме-
та3, имеет огромное познавательное значение. Она как бы призыва-
ет читателя смотреть вглубь, не скользить по поверхности явлений.
Повторяясь и обретая в новых контекстах дополнительные смыс-
лы, художественная деталь — и ожидаемая читателем, и неожи-
данная — становится, как сказано выше, мотивом — сюжетным
(«связанным») или свободным. Она часто вырастает в символ, что
может подчеркиваться заглавием произведения («Сверчок на печи»
Ч. Диккенса, «Гранатовый браслет» А. И. Куприна, «Легкое дыха-
ние» И. А. Бунина).
Вопросы
1. Какие группы деталей можно выделить в литературе?
2. Чем, по Е. С. Добину, отличается художественная деталь от подроб-
ности?
3. Приведите пример детали, ставшей символом.
1 Толстой Л. Н. Указ. собр. соч. Т. 8. С. 118.
2 Там же. Т. 4. С. 37.
3 Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1983. С. 15.
Глава 9
ПОВЕСТВОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ, ИТЕРАТИВ,
РАССУЖДЕНИЕ
Рус.: повествование; англ.: narration, report; нем.: Erhzahlen, Bericht; фр.:
discourse, recit.
Рус.: описание; англ.: description; нем.: Beschreibung; фр.: description.
Рус.: рассуждение; англ.: argument, discussion, reasonnement; нем.:
Uberlegung, Erwagung; фр.: consideration, discussion, raisonnement.
Композиционно-речевые формы. Повествование. — Описание. — Итера-
тив. —Характеристика. — Рассуждение. Алогизм в комических рассуждени-
ях. — Взаимодействие композиционно-речевых форм.
Композиционно-речевые формы (термин введен В. В. Виногра-
довым1), или функционально-смысловые типы речи1 2, — понятие,
широко используемое при анализе монологической речи как в ху-
дожественной литературе, так и в научных, публицистических тек-
стах. В художественных произведениях традиционно различают по-
вествование (в узком значении слова), описание, рассуждение. Они
рассматривались в «поэтиках» и особенно в «риториках», начиная
с античности; в настоящее время наблюдается оживление интереса
к функциональной стилистике.
Слово «повествование» имеет два значения. Первое — ведёние
речи повествователем (нарратором) — посредником между ми-
ром героев и читателем-адресатом3. За исключением прямой речи
персонажей и рамочных компонентов, весь текст эпического про-
изведения представляет собой повествование, или нарратив (лат.:
nar ratio}, в котором можно выделить части, фрагменты, различные
по своей функции. Ведь повествователь не только повествует, т. е.
рассказывает о событиях, но и описывает место действия, портреты
персонажей, пейзаж и пр.; в его речи могут быть и длинные рассуж-
дения, логичные и подчеркнуто алогичные.
1 См.: Виноградов В. В. О языке художественной прозы // Виноградов В. В. Из-
бранные труды. М., 1989. С. 70.
2 См.: Трошева Т. Б. Функционально-смысловые типы речи // Стилистический
энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. Н. Кожиной. М., 2003.
С. 577—580.
3 О широком значении слова «повествование» и о типах повествователей
см. в главе «Эпика».
364
Второе значение слова «повествование» — рассказ о ходе собы-
тий, т. е. тип речи, имеющий другую цель, чем описание и рассуж-
дение; такой рассказ можно встретить в речи и нарратора, и персо-
нажей — следовательно, во всех родах литературы. Важно, что речь
ведет один субъект, т. е. она монологична.
Здесь рассматривается повествование во втором (узком) значе-
нии слова, т. е. имеются в виду выделяемые в тексте собственно по-
вествовательные фрагменты, передающие последовательный ряд
однократных действий и событий. В их лексике обычно преоблада-
ют глаголы совершенного вида. Пример повествовательного мини-
текста: «Veni, vidi, vici» (в пер. с лат.: пришел, увидел, победил). Этот
афоризм принадлежит Юлию Цезарю, сообщавшему другу о своей
победе над понтийским царем Фарнаком в 47 г. до н. э.1
Повествовательные фрагменты в художественной литературе
могут быть весьма пространными. Так, в драмах классицизма о со-
бытиях, произошедших «за сценой», часто сообщает в монологе
один из персонажей, обращаясь к другим (и, если это спектакль,
к зрительному залу). Этот прием, расширяющий пространственно-
временные рамки изображения, позволял драматургам передать
необходимые звенья сюжета, не нарушая правила «трех единств»
(действия, времени и места).
Так, П. Корнель в пьесе «Сид» (1637) изображает трагическую си-
туацию: Химена, мстя за убитого отца, требует у короля казни убий-
цы — любимого ею Родриго, отомстившего за оскорбление своего
отца. Но конфликт разрешается мирно благодаря подвигам Родри-
го, возглавившего испанское воинство в борьбе с маврами. Разгром
мавританского флота невозможно показать на сцене, и вернувший-
ся победителем Родриго (которого «пленные цари» назвали Сидом,
т. е. господином) в длинном монологе рассказывает королю и при-
дворным, как происходило сражение:
И вот, при свете звезд, во мраке молчаливом,
Флот в тридцать парусов спешит с морским приливом;
Он подымается по вздувшимся волнам,
И море и враги подходят вровень к нам.
Мы пропускаем их, вид города спокоен;
Вдоль стен и гавани — хоть бы единый воин,
И так как между нас малейший шум заглох,
То мавры, думая застигнуть нас врасплох,
Бросают якоря, своей удаче рады,
И сходят на берег посереди засады.
Тогда мы все встаём и разом, в тот же миг,
Кидаем к небесам тысячеустый крик...
(Пер. М. Лозинского.)1 2
1 См.: Бабичев Н. Т, Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. М.,
1982. С. 840.
2 Театр французского классицизма. Пьер Корнель. Жан Расин. М.: Худож. лит.,
1970. С. 138.
365
Весь монолог — перечисление действий мавританского и испан-
ского войск, т. е. хода событий. Родриго рассказывает о них в хро-
нологической последовательности. Мысль заманить, перехитрить
мавров принадлежала ему, и он сразу вводит слушателей в план
операции, блестяще проведенной.
В пределах повествовательного фрагмента соблюдается последо-
вательность событий во времени.
Однако фрагменты могут быть расположены в произведении во-
преки хронологии. В повести А. С. Пушкина «Метель» («Повести
Белкина») есть два повествовательных фрагмента, дополняющие
друг друга подобно половинкам разорванного рисунка. В первом
из них рассказано о блужданиях Владимира, застигнутого метелью
и не явившегося в назначенное время в церковь, где должно было
состояться его венчание с Марьей Гавриловной: «Но едва Владимир
выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая ме-
тель, что он ничего не взвидел. <...> Пели петухи и было уже свет-
ло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир за-
платил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки
его не было. Какое известие ожидало его!»1
Второй фрагмент — рассказ Бурмина о своей «непростительной
ветрености», о венчании с неизвестной девушкой, состоявшемся
более трех лет назад. Как выясняется к концу его рассказа, этой де-
вушкой и была Марья Гавриловна.
В обоих случаях герои перечисляют свои действия во временной
последовательности. Однако в тексте повести эти фрагменты далеко
отстоят друг от друга, хотя передают события одного и того же дня
(точнее, ночи). Используется характерный для новеллистической
композиции приём умолчания, подготавливающий узнавание в фи-
нале.
if if if
В отличие от повествования, передающего динамику изобра-
жаемого мира, описание (лат.: description изображает предметы
в их статике, а также повторяющиеся события в жизни героев,
их многократные действия, не продвигающие сюжет. Так, воссоз-
давая быт и нравы, характерные для той или иной социальной,
профессиональной среды, местности, писатели часто показывают
обычный день персонажа, семьи, учреждения, города и пр. При
этом даты не приводятся (ведь дни похожи!), часто отмечаются ва-
рианты времяпрепровождения. Например, в романе И. А. Гончаро-
ва «Обрыв» повествователь пишет о представителе петербургского
света Иване Ивановиче Аянове: «Утро уходило у него на мыканье
по свету, то есть по гостиным, отчасти на дела и службу, — вечер
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 5. М.: Гослитиздат, 1960. С. 66, 68.
366
нередко он начинал спектаклем, а кончал всегда картами в петер-
бургском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все»1.
По той же модели описывается и длительный период времени,
если жизнь течет однообразно. В «Евгении Онегине» названы при-
вычные занятия матери Татьяны, Прасковьи Лариной, в течение
многих лет:
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.
(Гл. 2. Строфа XXXII.)1 2
Такие описания многократных действий часто вводятся в экспо-
зицию сюжета, и используемые глаголы, как правило, имеют не-
совершенный вид. Во французской стилистике есть специальный
термин — итератив (iterative — повторный, повторяющийся). Ите-
ративы используются для изображения обычных, рутинных дей-
ствий, передающих статику жизни и не развивающих сюжет. Так,
в романе М. Пруста «В поисках утраченного времени», по подсчетам
Ж. Женетта, итеративы встречаются чаще, чем сингулятивы, т. е.
описания однократных действий, меняющих ситуацию. В класси-
ческом же романе, вплоть до романов О. Бальзака, «итеративные
сегменты почти всегда функционально подчинены сингулятивным
сценам, для которых они играют роль рамки или информационного
фона, в том режиме, который хорошо иллюстрируется, например,
в “Евгении Гранде” вступительной картиной повседневной жизни
семейства Гранде, которой лишь подготавливается начало пове-
ствования в собственном смысле: “В половине октября 1819 года
ранним вечером Нанета в первый раз затопила камин”»3.
Целесообразно ввести термин «итератив» (или его аналог)
и в отечественное литературоведение, поскольку с его помощью
хорошо фиксируются описания повторяющихся действий, не свя-
занных с конкретным временем. Обычному препровождению геро-
ев часто уделяется немалое внимание в эпике, особенно до завязки
сюжета, сигналом которой служат слова «однажды», «вдруг» и т. п.
Так, в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович и Иван Ни-
кифорович» Н. В. Гоголя вся первая глава лишь подводит к разгово-
ру персонажей о ружье (во второй главе), в ходе которого прозву-
чало слово «гусак», после чего быстро завертелось колесо сюжета.
1 Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М.: Гослитиздат, 1953. С. 9.
2 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 4. М., 1960. С. 50.
3 Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. Т. 2 /
Пер. с франц. М., 1998. С. 144.
367
В первой же главе нет указания на конкретное время, описываются
привычные занятия героев, причем указаны варианты их время-
препровождения: «Иван Иванович только после обеда лежит в од-
ной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бекешу и идет ку-
да-нибудь — или к городовому магазину, куда он поставляет муку,
или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день
на крыльце, — если не слишком жаркий день, то обыкновенно вы-
ставив спину на солнце, — и никуда не хочет идти. Если вздумается
утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на покой!»1
Знакомя с образом жизни героев, с их укоренившимися привычка-
ми, итеративы не продвигают сюжет.
В описании же предметов и явлений главное — их «свойства, ка-
чества, а не действия. Поэтому основную смысловую нагрузку не-
сут существительные и прилагательные»1 2. К традиционным видам
описания обычно относят портрет персонажа, пейзаж, интерьер,
что требует оговорок: ведь все эти компоненты могут выполнять
и сюжетные функции. Так, в пушкинской «Метели» именно непого-
да развела Владимира и Марью Гавриловну, она оказалась «стихией
умной, умнейшей самого человека»3, и можно говорить о симво-
лике метели. А динамика портрета часто «выдает» истинные чув-
ства героя и тем самым направляет действие в определенную сто-
рону. В «Сиде» Корнеля король, желая испытать Химену, сообщает
ей о гибели Родриго (д. 4, явл. 5). И её внезапная бледность при
этом известии, страдание, которое «сказалось слишком ясно», под-
сказывают королю, что она на самом деле любит того, кого требует
казнить по долгу чести. Это помогает ему принять мудрое решение.
В отличие от повествовательных фрагментов, в рамках которых
события и действия следуют друг за другом во времени, в описании
предметов и явлений изображается пространство (заполненное
пейзажем, интерьером и др.). Отсюда возможность самых разных
композиционных решений: так, описание интерьера можно начать
с окна или двери, с персидского ковра на полу или запыленного
книжного шкафа в темном углу; в портрете персонажа можно под-
робно остановиться на его костюме или на выражении лица. В фо-
кусе внимания оказывается то, что важно для повествователя (рас-
сказчика). Так, в повести Пушкина «Выстрел» в описании кабинета
графа передана точка зрения героя-рассказчика:
«Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен
стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным
камином было широкое зеркало; пол был обит зеленым сукном и устлан ков-
рами. <...> Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и кар-
1 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 2. М., 1959. С. 198—199.
2 Трошева Т. Б. Описание // Стилистический энциклопедический словарь рус-
ского языка. С. 267.
3 Гершензон М. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 134.
368
тины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изобра-
жала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то,
что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую»1.
И рассказчик обращается к графу со словами: «Вот хороший вы-
стрел». В восхищении рассказчика роскошью интерьера сказалось
его удручающее его нынешнее положение владельца «бедной де-
ревеньки», а в особом интересе к простреленной картине — его
прошлое армейского офицера и конфидента Сильвио. Слова о «хо-
рошем выстреле» задают тему разговора между рассказчиком и гра-
фом, они провоцируют повествовательный монолог графа о том,
как пять лет тому назад Сильвио ему «отомстил». Таким образом,
описание в пушкинской повести помогает связать звенья сюжета.
Существуют традиционные композиционные приемы описания.
Для фольклора характерно «ступенчатое сужение образов»1 2. Опи-
сываемое пространство постепенно сужается: например, сначала
певец рисует «долину с ее раздольем, потом... говорится о рощице,
выросшей при долине, затем упоминается береза, стоящая в роще,
и, наконец, повествуется о главном, о том, чему посвящена песня:
под березой сидит парень и беседует с девушкой»3.
Подобный прием широко применяется и в литературе. Так, в ряде
рассказов И. С. Тургенева из цикла «Записки охотника» («Певцы»,
«Бирюк», «Живые мощи» и др.) герой-рассказчик сначала описыва-
ет пейзаж местности, где он оказался, затем внешний вид какого-
то строения («Притынный» кабак, изба лесника, «сарайчик, так на-
зываемый амшаник, куда ставят улья на зиму») и, наконец, после
того как он входит в помещение, — интерьер.
При любой композиции деталей описания значима «простран-
ственная точка зрения»4, т. е. положение наблюдателя (повество-
вателя или персонажа) в пространстве относительно предмета
описания {далеко — близко, справа — слева и т. д.). Эта точка зре-
ния может быть скользящей (как в кино, где чередуются «общий»
и «крупный» планы). Например:
Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купался, трепещет.
(А. А. Фет. «Весенний дождь».)5
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 5. М., 1960. С. 58.
2 Термин введен М. Соколовым в его работе «Экскурсы в область поэтики рус-
ского фольклора // Художественный фольклор. М., 1926. Вып. 1. С. 30.
3 Смолицкий В. Г. Русь избяная. М., 1993. С. 77.
4 Корман Б. О. Практикум по изучению художественного произведения.
Ижевск, 1977. С. 14—18. См. также: Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995.
С. 80—107.
5 Фет А. А. Поли. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 139.
369
В поле зрения лирического субъекта и небо, откуда светит солн-
це, и земля, где в песке «купается» воробей.
Интерьер — испытанное средство характеристики персонажа.
В «Обрыве» Гончарова по убранству помещения можно уверенно
судить о личности, занятиях Марфеньки:
«В ее комнате было все уютно, миниатюрно и весело. Цветы на окнах,
птицы, маленький киот над постелью, множество разных коробочек, ларчи-
ков, где напрятано было всякого добра, лоскутков, ниток, шелков, вышива-
нья: она славно шила шелком и шерстью по канве»1.
Далее перечисляются содержимое ящиков, большой шкаф с пла-
тьями, маленькая, но «заваленная подушками» постель, висевшие
по стенам гравюры, «изображающие семейные сцены: то старика,
уснувшего у камина, и старушку, читающую библию, то мать и кучу
детей около стола, то снимки с теньеровских картин, наконец го-
лову собаки и множество вырезанных из книжек картин с живот-
ными, даже несколько картинок мод»1 2. Пространство комнаты за-
полнено, и вещи составляют единый ансамбль, отражающий, как
в зеркале, цельный и открытый характер девушки-ребенка.
Контраст между Марфенькой и ее старшей сестрой, загадочной
для Райского, подчеркнут контрастом интерьеров: в комнате Веры
не было «ни гравюры, ни книги, никакой мелочи, по чему бы мож-
но было узнать вкус и склонности хозяйки»3. Можно сказать, что
в описании комнаты Веры автор прибегает к «минус-приему».
Описания, подобные вышеприведенным, естественно опустить
при изложении хода событий. Б. В. Томашевский, считавший каж-
дую «неразложимую часть произведения» мотивом, подчеркнул
разнородность мотивов, в зависимости от их значения для сюжета
(в его терминологии — «фабулы»). «При простом пересказе фабу-
лы произведения мы сразу обнаруживаем, что можно опустить,
не разрушая связности повествования, и чего опускать нельзя,
не нарушив причинно-временной связи между событиями. Мотивы
неисключаемые называются связанными; мотивы, которые можно
устранять, не нарушая цельности причинно-временного хода собы-
тий, являются свободными»4. Описательные мотивы и их комплек-
сы, представленные в соответствующих фрагментах текста, преиму-
щественно относятся к свободным мотивам.
Не будучи включены в цепочку событий, составляющих сюжет,
описания выполняют в произведении другие функции. Важнейшая
из них — выражение авторского отношения к персонажам и собы-
тиям.
1 Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М., 1954. С. 238.
2 Там же.
3 Там же. С. 239.
4 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 183.
370
В драматургии XX века, наследующей черты чеховской поэти-
ки, разрастается рамочный текст — в основном за счет описаний.
В пьесе М. Горького «На дне» основному (персонажному) тексту
первого акта предшествует длинное описание ночлежки. Его цель —
не только познакомить читателя с местом действия и расположени-
ем персонажей на сцене, но и передать гнетущее автора чувство
боли за унижение людей, живущих в таких условиях:
«Подвал, похожий на пещеру. Потолок — тяжелые, каменные своды, закоп-
ченные, с обвалившейся штукатуркой. <...> Посреди ночлежки — большой
стол, две скамьи, табурет, все — некрашеное и грязное. <...»>1.
Сходным по своей эмоциональной доминанте описанием места
действия предваряется и третий акт. Изображается открытое про-
странство, но оно мало чем отличается от замкнутого:
«"Пустырь"— засоренное разным хламом и заросшее бурьяном дворо-
вое место. В глубине его — высокий кирпичный брандмауер. Он закрывает
небо. <...»>1 2.
Так тема «дна», заявленная в заглавии, становится мотивом и об-
ретает символическое значение: ночлежка — это тюрьма, «небо» за-
крыто для героев. Тюремную песню «Солнце всходит и заходит...»
ночлежники поют в начале пьесы и в финале.
Выделяя основные вехи сюжета, можно не упоминать, где имен-
но произошло, например, любовное объяснение героя и героини
или их расставание. Однако пристальное чтение убеждает, что сво-
бодные мотивы «не свободны» от содержательных функций: выбор
той или иной обстановки, места действия эмоционально «аранжи-
рует» повествование, передает авторское отношение к событиям.
В повести Тургенева «Ася» фоном зарождающихся романтиче-
ских чувств между героиней и героем-рассказчиком выступает пре-
красный рейнский пейзаж:
«Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоен-
ную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами — небо, земля
и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском»3.
Далее следует диалог:
«— Посмотрите, как хорошо! — сказал я, невольно понизив голос.
— Да, хорошо! — так же тихо отвечала она, не смотря на меня. —
Если б мы с вами были птицы, — как бы мы взвились, как бы полетели...
Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы»4.
1 Горький А. М. Собр. соч.: в 18 т. Т. 16. М., 1963. С. 87.
2 Там же. С. 119.
3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. Т. 5. М., 1980.
С. 176.
4 Там же.
371
Последнее же свидание г. Н. и Аси, когда, по его словам, у него
«достало духу — оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее», проис-
ходит в замкнутом пространстве:
«В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тот-
час увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна,
отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро
и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко её»1.
В контексте повести приведенные два описания (как и словесные
декорации в «На дне») тоже связаны друг с другом — но по принци-
пу контраста: пространство открытое и светлое / закрытое и тем-
ное. Если же подключить к сопоставлению диалог между героем
и героиней, контраст усиливается: традиционная символика пти-
чьего полета сменяется сравнением героини с испуганной птичкой.
К описанию как разновидности монологической речи примыка-
ет характеристика, под которой в риторической традиции пони-
малось перечисление «душевных качеств человека»1 2. В настоящее
время характеристику чаще определяют как сочетание описания
и рассуждения.
if if if
Рассуждение в художественном тексте существенно отличается
от одноименного типа речи в научных сочинениях. Будучи есте-
ственной формой логического, рационального мышления, рас-
суждение имеет своей целью «убедить читателя в существовании
причинно-следственных связей между явлениями...»3 Между пред-
ложениями, в том числе периодами, оформляющими рассуждение,
существует логическая связь, и она часто, особенно в научной речи,
подчеркивается введением «вводных слов следовательно, итак, та-
ким образом, наречий со значением следствия, вывода поэтому, по-
тому, отсюда, тогда, подчинительных союзов так как, поскольку,
потому что, так что и др.»4.
В художественной литературе рассуждения в речи повествовате-
ля, персонажа, лирического субъекта, даже если они логически без-
упречны (что бывает далеко не всегда), осложнены эмоционально-
стью, экспрессивностью высказывания. Некий силлогизм не просто
излагается — он переживается говорящим, оценивается эмоцио-
нально, в применении к себе, к той или иной ситуации. Так, под-
разумеваемый силлогизм: «все люди смертны, я человек, следова-
1 Тургенев И. С. Указ. собр. соч. Т. 5. С. 186.
2 Преображенский А. Начала эстетики, реторики и поэтики. М., 1895. С. 65—66.
3 Трошева Т Б. Функционально-смысловые типы речи // Стилистический энци-
клопедический словарь русского языка. С. 578.
4 Там же.
372
тельно...» окрашивается под пером поэтов в разные эмоциональные
тона. В стихотворении Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»
(1829) мысль лирического героя о своей грядущей смерти, пре-
следующая его и на «улицах шумных», и в «многолюдном храме»,
и «средь юношей безумных», не воспринимается трагически, в по-
следней строфе он приветствует вечно обновляющуюся жизнь:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять1.
Стихотворение же Е. А. Баратынского «Смерть» (1828) начи-
нается строкой «Смерть дщерью тьмы не назову я...» Лирический
субъект размышляет о том, что смерть необходима в природе, что
она смиряет «буйство бытия». И не без сарказма пишет о равенстве
людей перед смертью:
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба1 2.
Такие стихотворения называют «лирикой мысли», но их содер-
жание никогда не сводится только к мысли, только к логическому
ее развитию.
Нередко рассуждения литературных героев страдают логически-
ми изъянами, и одна из важнейших причин тому — противодей-
ствие желаний доводам рассудка. В «Войне и мире» Л. Н. Толстого
повествователь передает, не скрывая своей иронии, размышления
Пьера Безухова о том, как ему лучше провести остаток вечера:
«"Хорошо бы было поехать к Курагину" — подумал он. Но тотчас же он
вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина.
Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными,
ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспут-
ную жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что
данное слово ничего не значит, потому что еще прежде чем князю Андрею,
он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец он подумал, что все
эти честные слова — такие условные вещи, не имеющие никакого опреде-
ленного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или
он умрет, или случится с ним такое необыкновенное, что не будет уже ни чест-
ного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения, уничтожая все его решения
и предположения, часто приходили к Пьеру. Он поехал к Курагину»3.
1 Пушкин А. С. Указ. собр. соч. Т. 2. С. 265.
2 Русская поэзия XIX века. Т. 1. М., 1974. С. 365.
3 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 20 т. Т. 4. М., 1961. С. 44—45.
373
Психологизм прозы Толстого великолепно проявляется в «такого
рода рассуждениях» его героев, в том числе героев, близких к авто-
ру. Писатель разделял недоверие А. А. Фета к «головным» мыслям.
«От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом
сердца, как вы называете. (Еще за это письмо вам спасибо большое.
Ум ума и ум сердца — это мне многое объяснило)», — писал Толстой
Фету 28 июня 1867 г.1
И нарочито алогичными бывают рассуждения комических персона-
жей или рассказчиков. Так, в рассказе А. П. Чехова «Учитель словесно-
сти» в доме Шелестовых идет спор между Никитиным, предложившим
гимназистам сочинение на тему «Пушкин как психолог», и Варей. Она
считает, что Пушкин никакой не психолог, «а великий поэт и больше
ничего». Но на стороне Никитина оказались другие гости:
«За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять
Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха
из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психоло-
гом, то ему не поставили бы в Москве памятника»1 2.
Форма силлогизма как способ характеристики комического героя
или рассказчика используется часто. В. Ф. Переверзев выделил «ряд
стилистических приемов Гоголя, которые по форме, по грамматиче-
скому строению—настоящие рассуждения, по содержанию же—неле-
пые сочетания»3. Один из этих приемов — «сопоставление предметов,
не имеющих логически ничего общего»4. Такими сопоставлениями
обильно уснащена речь рассказчика в «Повести о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Например:
«Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича,
напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их,
то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строениями»5.
Диапазон рассуждений как типа речи в художественной лите-
ратуре очень широк — от выношенных мыслей автора, вводимых
в «авторские отступления», «беседы с читателями», до алогичных
речей комических персонажей.
•if •if •if
Выделение в тексте повествовательных и описательных фраг-
ментов, а также компактно представленных рассуждений, — лишь
начало анализа речевой структуры целого. Важно проследить взаи-
модействие типов речи, выполняющих разные функции.
1 Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: в 2 т. Т. 1. М., 1978. С. 378.
2 Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 7. М., 1956. С. 375—376.
3 Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982. С. 72.
4 Там же. С. 73.
5 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 2. М., 1959. С. 199.
374
Сравнительно редко художественные тексты только описатель-
ны, или только повествовательны, или представляют собой исклю-
чительно рассуждение. С оговорками к таким однотипным тек-
стам можно отнести некоторые небольшие по размеру лирические
стихотворения. Так, «Кавказ» Пушкина, «К портрету» Лермонтова,
«Только в мире и есть, что тенистый...» Фета — это лирика описа-
тельная; «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Пушкина, «И скучно
и грустно» Лермонтова, «Не тем, господь, могуч, непостижим...»
Фета —медитативная (от лат. meditatio — размышление). Длин-
ные же описательные поэмы, состоящие из четырех частей, — жанр,
культивируемый в литературе XVIII века («Времена года» Дж. Том-
сона, 1730; «Сады» Ж. Делиля, 1782), видимо, канули в прошлое.
Выделенные композиционно-речевые формы: повествование,
описание (включая итеративы), рассуждения образуют в тексте са-
мые разные комбинации. В литературе XIX—XXI веков усиливает-
ся тенденция к интеграции, сочетанию, быстрой смене названных
форм в пределах одного периода. Если в рассказе Тургенева «Пев-
цы» сравнительно легко выделить разнотипные по функции объ-
емные фрагменты текста, то проза А. П. Чехова или И. А. Бунина,
очевидно, требует другой методики анализа. Показателен отзыв
Л. Н. Толстого о мастерстве Чехова-прозаика: «...его вещи произ-
водят впечатление какого-то стереоскопа. Он кидает как будто бес-
порядочно словами и, как художник-импрессионист, достигает сво-
ими мазками удивительных результатов»1.
Однако в любой словесной ткани, в любом пестром ее узоре по-
вествование, описание, итератив, характеристика, рассуждение уз-
наваемы.
Вопросы
1. Слово «повествование» имеет два значения. Назовите их.
2. Что такое итератив? Приведите пример.
3. Всегда ли логичны рассуждения персонажей в художественном про-
изведении?
1 См.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. В 2 т. Т. 1. М., 1922. С. 38.
Глава 10
КОМПОЗИЦИЯ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Рус.: композиция; англ.: composition; нем.: Komposition; фр.: composition.
Многообразие аспектов композиции. — Из истории проблемы. — Про-
странственный принцип композиции в описательной поэзии. — Раскрытие
характеров как мотивировка композиционных решений. — Композиция
сюжета. Пролог, эпилог, вставная новелла, обрамление, монтаж и другие
приемы. — Русская формальная школа о сюжете и фабуле. Вопросы терми-
нологии. — Открытый финал и завершенный текст. — Композиционная
функция рамочных компонентов текста. «Сильные позиции» текста.—«Точка
зрения» как инструмент анализа композиции.
Композиция (от лат. compositio — составление) — объединение
частей, или компонентов, в целое; структура литературно-художе-
ственной формы. Композиция — объединение частей, но не сами
эти части; в зависимости от того, о каком уровне (слое) художе-
ственной формы идет речь, различают аспекты композиции.
Композиция имеет много аспектов. Это состав и построение
мира произведения в целом (в частности, соотношение реально-
сти и фантастики, переходы из одного времени / места в другое);
раскрытие характеров персонажей как основа композиционных
решений; построение сюжета; монтаж деталей (психологических,
портретных, пейзажных и т. д.); чередование повествования, опи-
сания, итератива, рассуждений, монологов и диалогов персонажей.
Это также смена субъектов речи, членение текста на части, в том
числе на рамочный и основной текст.
В то же время подход к произведению как эстетическому объек-
ту выявляет в составе его художественной формы по меньшей мере
два слоя и соответственно две композиции; каждая из них объеди-
няет различные по своей сути компоненты.
Литературное произведение предстает перед читателем как сло-
весный текст, воспринимаемый во времени, имеющий линейную
протяженность. Однако за словесной тканью встает соотнесенность
образов, характеров. Слова суть знаки предметов (в широком значе-
нии), которые в совокупности структурируются в мир (предметный
376
мир) произведения. Вычленение предметного слоя в составе формы
произведения традиционно для эстетики, где неизменно подчерки-
вается целостность восприятия искусства, где художественный об-
раз уподобляется картине. Как пишет Р. Ингарден о литературном
произведении: «...следует учитывать, что слово “картина” можно
понимать по-разному. Применительно к совокупности представ-
ленных в произведении предметов оно означает, что предметы эти
так между собой связаны, так расположены один около другого, что
их можно, так сказать, охватить одним взглядом»1.
Мир произведения не ограничивается образами говорящих лю-
дей, он включает в себя и описания природы, вещей. Традицион-
ное деление искусств на пространственные и временные основано
на свойствах материала. Конечно, последовательность слов, пред-
ложений может быть только временной. Однако искусства, раз-
ные по материальному носителю образности, имеют много общего
в предметах изображения, что делает возможным «перевод» с язы-
ка одного искусства на язык другого (например, рисунки Г. Дорэ
к «Божественной комедии» Данте). В целом организация предмет-
ного мира в литературном произведении приближена к реальной
действительности, где пространственные отношения не менее су-
щественны, чем временные.
к it к
В истории эстетики долго дискутировался вопрос: к чему дол-
жен стремиться поэт: к изображению предметов в их статике или
в их динамике, т. е. к изображению действий, событий? Известный
тезис Лессинга: «действия составляют предмет поэзии» — в нема-
лой степени объясняется стремлением теоретика выделить пред-
мет, адекватный материалу поэзии — последовательно сменяющим
друг друга словесным знакам. И хотя Лессинг оговаривает опосре-
дованное (при помощи «действий») изображение «тел», его трактат
«Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766) предостере-
гал от увлечения описаниями, где поэт как бы заведомо обречен
на поражение в соревновании с живописцем или скульптором.
В интерпретации Лессинга Гомер (всеобщий учитель, образец для
подражания) исключительно повествователь, не изображающий
«ничего, кроме последовательных действий, и все отдельные пред-
меты он рисует лишь в меру участия их в действии, притом обыкно-
венно не более как одной чертой»1 2.
Из характеристики Лессингом гомеровского стиля выпадают
сравнения, явно тормозящие «целые картины, независимые от хода
1 Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 27.
2 Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 187,
189.
377
рассказа и далеко выходящие за рамки того образа, который послу-
жил поводом для сравнения»; часто это «зарисовки моря, гор, лесов,
животных и т. д.»1. Например, в «Илиаде» есть описание снегопада:
Словно как снег, устремившися, хлопьями сыплется частый,
В зимнюю пору, когда громовержец Кронион восходит
С неба служить человекам, являя могущества стрелы:
Ветры все успокоивши, сыплет он снег беспрерывный,
Гор высочайших главы и утесов верхи покрывая,
И цветущие степи, и тучные пахарей нивы;
Сыплется снег на брега и на пристани моря седого;
Волны его, набежав, поглощают; но все остальное
Он покрывает, коль свыше обрушится Зевсова вьюга, —
Так от воинства к воинству частые камни летали.. .1 2
(Песнь XII. Пер. Н. И. Гнедича.)
Конечно, образ снегопада мотивирован: с ним сравниваются «ле-
тающие» камни — оружие и ахейцев, и троянцев. Однако подроб-
ности описания снега: он сыплется «хлопьями», успокаивает ветры,
его поглощают волны «седого» моря, но «все остальное» (вершины
гор, степи, нивы) покрыто снегом — создают самоценный образ,
не менее впечатляющий, чем картина сражения. А ведь, по мнению
Лессинга, длинные описания разрушают художественную иллюзию:
«...сопоставление тел в пространстве сталкивается здесь с последо-
вательностью речи во времени»3.
Вывод Лессинга неоднократно оспаривался или, во всяком слу-
чае, корректировался в истории эстетики. Однако независимо
от степени его убедительности плодотворна сама постановка про-
блемы: разграничение последовательности «невещественных»,
словесных знаков, с одной стороны, и статики или динамики изо-
браженных предметов («тел» или «действий») — с другой. Как ком-
ментирует Ингарден, Лессингом «отчетливо подвергаются анализу
не реальные люди, а эта “видимость”, которая якобы показывает
действительность. Это предрешает, что герои, их состояние, судь-
бы, окружающие их предметы и т. д. составляют каким-то образом
элементы самого произведения искусства. Более того, подавляю-
щая часть этого анализа ведет к тому, что изображенные предметы
представляются если не единственными, то, во всяком случае, са-
мыми важными элементами произведения — точка зрения, крайне
противоположная одному из современных воззрений, провозглаша-
ющему, что в состав литературного произведения входит только так
называемый язык»4.
1 Тройский И. М. История античной литературы. М., 1983. С. 59.
2 Гомер. Илиада. М., 1967. С. 209.
3 Лессинг Г. Э. Указ. соч. С. 206.
4 См.: Ингарден Р. Указ. соч. С. 264—265.
378
В своей, можно сказать, борьбе с описательностью Лессинг имел
больше оппонентов, чем единомышленников, что понятно: даль-
ше в этом направлении идти было трудно. И. Г. Гердер, основной
критик-современник «Лаокоона...», восстанавливает в правах ана-
логию поэзии и живописи: в поэзии важна, по его мнению, «сила»
слов, «чувственное совершенство речи», она собирает «воедино
множество отдельных признаков», создавая иллюзию присутствия
предмета. Подчеркивая разнообразие жанров и «манер», Гердер от-
казывается решить в ту или иную сторону вопрос: «Какими предме-
тами может сильнее всего тронуть душу человека эта поэтическая
сила — предметами, сосуществующими в пространстве или следую-
щими друг за другом во времени?» Так или иначе, «смертельной не-
нависти» Лессинга к описанию он не разделяет: «Я содрогаюсь при
мысли, какую кровавую расправу должны учинить среди древних
и новых поэтов следующие положения: “Действия составляют соб-
ственно предмет поэзии...”»1
Прослеживая эволюцию портрета, натюрморта, пейзажа в евро-
пейской литературе, А. И. Белецкий склоняется к выводу, что, не-
смотря на установленные Лессингом «законы», «соперничество поэ-
тов с живописцами не прекратилось и до сего дня, как едва ли когда
прекратится», хотя «сама по себе природа слова и связанный с нею
характер человеческого восприятия, казалось бы, идут наперекор
этим попыткам»1 2.
Описательная поэзия — наиболее яркий пример несовпадения,
в сущности, двух композиций: соотношения образов по их смыс-
лу (параллелизм, контраст и пр.) и, выражаясь языком старинных
риторик, расположения этих образов в речи. Так, в описательной
поэме Ж. Делиля «Сады» (увидевшей свет в 1782 г., но с удоволь-
ствием читаемой и сегодня) парковому искусству классицизма, где
природа подстрижена и украшена, противопоставлены культ есте-
ственности, сентиментальное отношение к природе, проявившиеся
в устройстве английских парков. Как будто находишься в картин-
ной галерее и сравниваешь два пейзажа, два «способа преображать
природу»:
Один являет нам симметрии закон.
Изделия искусств в сады приносит он.
Повсюду разместив то вазы, то скульптуры,
Из геометрии взяв строгие фигуры,
Деревья превратит в цилиндры и кубы,
В каналы — ручейки. Все у него — рабы.
1 Гердер И. Г. Критические леса // Избр. соч. М.; Л., 1959. С. 160, 174.
2 Белецкий А. И. В мастерской художника слова // Избранные труды по теории
литературы. М., 1964. С. 232.
379
Он — деспот, властелин, надменный и блестящий.
Другой все сохранит: луга, овраги, чащи,
Пригорки, впадины, неровность, кривизну,
Считая госпожой естественность одну.
(Песнь первая. Пер. И. Я. Шафаренко.)
Движение в эту дидактическую описательную поэму вносит сам
рассказчик, переходящий от одной детали пейзажа к другой, его
движущаяся в пространстве точка зрения. В «Предисловии» Делиль
подчеркивал: «В поэмах того жанра, который я предлагаю публи-
ке, должен наличествовать в самой высокой степени интерес по-
строения. В этом жанре вы не предлагаете читателю ни действия,
возбуждающего любопытство, ни страстей, своею силой потрясаю-
щих душу». Поэтому автор в расположении образов вдохновляется
примером не Версаля, но воспеваемого им английского парка, где
«живописная неправильность и продуманный беспорядок составля-
ют <...> главную прелесть»; он стремится вести ум читателя «из-
вилистыми тропинками...»1
Если описательная поэма, где время как бы остановилось, в ос-
новном принадлежит прошлому, то небольшое описательное лири-
ческое стихотворение — жанр, с успехом культивируемый и в по-
эзии XIX—XXI вв. «Кавказ» Пушкина, «Только в мире и есть, что
тенистый...» Фета, «В хате» Есенина — в этих лирических миниатю-
рах воссоздано некое единое пространство, открывающееся взгля-
ду: горный пейзаж, уголок леса как фон для женского портрета,
внутреннее убранство хаты (интерьер). И везде «сопоставление тел
в пространстве сталкивается... с последовательностью речи во вре-
мени» (Г. Э. Лессинг), но это «столкновение» дает прекрасные ре-
зультаты. Те же пространственные связи между изображаемыми
предметами — в основе описаний как внесюжетных элементов про-
изведений эпических и даже драматических (пейзаж в «Вишневом
саде» А. П. Чехова, интерьер у Горького в «На дне» в побочном тек-
сте пьес).
it it it
Однако пространственные связи организуют не только описания
в литературе (напомним, что в соответствии с риторической тра-
дицией описание — воспроизведение предметов в их статике, в от-
личие от повествования — сообщения о событиях). В предметном
мире любого произведения в той или иной степени неизбежен про-
странственный принцип композиции. В эпосе и драме он проявля-
ется прежде всего в соотнесенности персонажей как характеров,
например в антитезе порока и добродетели в литературе класси-
цизма, сентиментализма: «Мещанин во дворянстве» Мольера, «Не-
1 Делиль Жак. Сады. Л., 1987. С. 6, 7, 9.
380
доросль» Д. И. Фонвизина (в комедиях классицизма соблюдалось
«равновесие», т. е. точное соответствие отрицательных персонажей
положительным»1), «Памела, или Вознагражденная добродетель»
С. Ричардсона, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера.
Эволюция и многосторонность характеров, свойственные в осо-
бенности психологическому роману, не уничтожают, однако, их глу-
бинных констант, мотивирующих общую расстановку персонажей
в произведении: по принципам антитезы и/или подобия. При этом
антитеза характеров в изображении — во всяком случае, главных
героев, несущих основную проблематику, — обычно умеряется,
смягчается их подобием, мотивом общечеловеческого. В «Идиоте»
Ф. М. Достоевского большинству героев свойственна раздвоенность
(за исключением Льва Мышкина), то или иное сочетание «горды-
ни» и «смирения», что обнаруживает единство замысла, творческой
концепции романа. «Частями», соединенными в целое («картину»),
выступают, таким образом, персонажи как характеры. Это тоже
композиция произведения, его персонажной сферы, непосредствен-
но воплощающей «содержание». Здесь один компонент «получает
свою значимость лишь при внутреннем охвате всего целого одно-
временно, когда они, выступая рядом, дают друг другу и фон, и ре-
льеф, и необходимые оттенки»1 2. Свой разбор системы персонажей
Скафтымов назвал: «Тематическая композиция романа “Идиот”».
В «лабиринте сцеплений»3, который представляет собой пер-
сонажная сфера произведений Л. Н. Толстого, ариадниной нитью
служат прежде всего сцепления по контрасту, которые во многом
определяют появление определенных персонажей на «сцене» про-
изведения в тот или иной момент развития сюжета; т. е. необходи-
мость раскрытия характеров, их сопоставления мотивируют те или
иные композиционные решения. Заявленная обычно в начале про-
изведения антитеза характеров — одна из доминант толстовского
стиля, и она выдерживается до конца, несмотря на «текучесть» мно-
гих характеров, перегруппировки лиц по ходу сюжета. Так, в авто-
биографической трилогии Николенька Иртеньев, чувствительный
и постоянно рефлектирующий, противопоставлен брату Володе
(как бы олицетворяющему норму поведения, принятую в данной
среде); Катенька — Любочке; друг Николеньки Нехлюдов — Дуб-
кову, приятелю Володи; «дядька» Карл Иваныч, добрый и смешной
1 Москвичева Г. В. Русский классицизм. М., 1986. С. 137.
2 Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 32.
3 «Лабиринт сцеплений» — ставшее крылатым выражение Л. Н. Толстого из его
письма к Н. Н. Страхову (от 23 и 26 апр. 1876 г.): «...для критики искусства нужны
люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном
произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабирин-
те сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые
служат основанием этих сцеплений» (Собр. соч.: в 22 т. М., 1984. Т. 17—18. С. 785).
381
немец, — гувернеру-французу St-Jerom’y, который «любил драпи-
роваться в роль наставника» и унижал детей. И хотя точка зрения
взрослого рассказчика неполностью совпадает с мыслями и чув-
ствами мальчика («Обсуживая теперь хладнокровно этого челове-
ка, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей
степени», — сказано о St-Jerom’e в XIII гл. «Отрочества»), исход-
ная антитеза (в данном случае — двух воспитателей) не снимается,
но получает дополнительное, «взрослое» обоснование.
В «Войне и мире» поэтика контраста распространяется на се-
мейные гнезда (Ростовы оттеняют Болконских et vice versa; обеим
этим настоящим семьям противостоит имитация родственных от-
ношений у Курагиных), на группы, выделяемые по социальному,
профессиональному, возрастному, национальному и другим при-
знакам. «Замышляя такую громаду, как “Война и мир”, Толстой, ко-
нечно, должен был иметь в голове стройный план романа, — пишет
М. А. Рыбникова в статье «Приемы письма в “Войне и мире”». —
Если могут пройти по улице не в ногу пятеро людей, то полк солдат
должен идти в ногу. Такая стройность плана, схематичность в груп-
пировке действующих лиц очевидна. Наполеон и Кутузов, штабные
офицеры и простые солдаты, Москва и Петербург, Анна Павловна
Шерер и Марья Дмитриевна Ахросимова, Николай и Друбецкой,
Соня и т-11е Бурьен, старый Ростов, старый Болконский и кн. Васи-
лий и т. д. и т. д. Не говоря уже о взаимоотношениях главнейших лиц
романа, князя Андрея и Пьера, Наташи и княжны Марьи»1. Порази-
тельно сочетание этой «схематичности» (как ее называет Рыбни-
кова) в расстановке персонажей, появляющихся в нужный момент
в том или ином эпизоде, и объемного, живого воссоздания лично-
сти. Вездесущий у Толстого принцип контраста сообщает особую
выразительность моментам духовной близости, взаимопонимания
разных людей: вспомним беседу Пьера и князя Андрея на пароме,
дружный хохот в цепи русских солдат, передавшийся французам,
накануне Шенграбенского сражения: «...после этого нужно было,
казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее
по домам (т. 1, ч. 2, гл. XVI). В дальнейшем творчестве писателя
усиливаются и контрастность характеров, и мотив единения людей
(Катюша Маслова и Нехлюдов в «Воскресении», Иван Ильич и бу-
фетный мужик Герасим в «Смерти Ивана Ильича»).
Толстовская характерология определяет во многом расположе-
ние образов персонажей, компоновку в тексте деталей, составляю-
щих эти образы. Сцепления по контрасту могут быть подчеркнуты
приемом сравнительной характеристики (как в XXI гл. — «Катень-
ка и Любочка» — в повести Толстого «Отрочество»), поочередным
описанием поведения персонажей в одной и той же ситуации, раз-
1 Рыбникова М. А. Избранные труды. М., 1985. С. 129.
382
бивкой на главы, подглавки и пр. Читатели «Войны и мира», по на-
блюдениям Рыбниковой, «все время облегчены сравнениями и со-
поставлениями. «Николай покраснел, как только вошел в гостиную.
Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напро-
тив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту
Мими куклу, он знал еще молодою девицей с не испорченным еще
носом...» и т. д. Самые сцены романа расположены всегда так, что
тона идут, дополняя друг друга, перекликаясь и перемежаясь»1.
Однако Толстой далеко не всегда помогает подобными компо-
зиционными приемами читателю: антитеза Тихон Щербатый —
Платон Каратаев возникает, хотя эти персонажи введены в разные
сюжетные линии, и Щербатого мы видим глазами Пети Ростова
(«...Петя понял на мгновенье, что Тихон этот убил человека, ему
сделалось неловко»), а о Каратаеве судим вместе с Пьером. Такие
антитезы и параллели (напр., параллель Щербатый — Долохов)
не сразу заметны в ткани повествования и часто открываются чи-
тателю лишь при втором и последующих чтениях1 2.
В целом же раскрытие характеров персонажей можно считать
одним из самых важных оснований композиционных решений пи-
сателя.
Сюжет (система событий, действие произведения) упорядочи-
вает мир произведения в его временной протяженности. Функции
сюжета многообразны: воплощение конфликтов, раскрытие харак-
теров, мотивировка их развития, введение новых лиц и пр. Последо-
вательность событий не может не быть временной и в концентри-
ческом сюжете (при котором преобладают причинно-следственные
связи), и в хрониках, и при сочетании обоих этих принципов сюже-
тосложения. Классическая схема концентрического сюжета вклю-
чает завязку, развитие действия, кульминацию, развязку; хро-
никальный сюжет состоит из цепи эпизодов (часто включающих
концентрические микросюжеты).
Однако повествование, как известно, далеко не всегда послуш-
но следует за хронологией. Построение рассказа всецело во власти
писателя. А в произведениях с несколькими сюжетными линия-
ми ему нужно решить, как чередовать эпизоды, в которых заняты
те или иные герои. Еще одна проблема текстуальной композиции
связана с введением прошлого в основное действие произведения,
с ознакомлением читателя с обстоятельствами, предшествующими
завязке (или просто началу действия, если сюжет хроникальный),
1 Рыбникова М. А. Избранные труды. М., 1985. С. 134.
2 О связях между персонажами в «Войне и мире» см.: Камянов В. И. Поэтиче-
ский мир эпоса. О романе Л. Н. Толстого «Война и мир». М., 1978. (С. 159—168 —
о Тихоне Щербатом и Долохове).
383
а также с последующими судьбами персонажей. В истории литера-
туры выработан целый ряд приемов, решающих эти задачи: в про-
изведении может быть пролог (гр. prolog — предисловие), завязке
обычно предшествует экспозиция, сжатый и компактный рассказ
о прошлом героя называется предысторией (нем. Vorgeschichte), о его
дальнейшей судьбе — последующей историей (нем. Nachgeschichte),
сведения о жизни героев после основного действия могут сообщать-
ся в эпилоге (гр. epilogos — послесловие). Благодаря этим приемам
пространственно-временные рамки повествования расширяются,
без ущерба для изображения «крупным планом» основного действия
произведения — изображения, в котором повествование сочетается
с описанием, сценические эпизоды перемежаются с психологиче-
ским анализом. Так, в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» время
действия — лето 1859 г., но благодаря предысториям Павла Петро-
вича, Николая Петровича и других персонажей роман захватывает
и сороковые годы, когда сложился тип «лишнего человека». А это не-
обходимый фон для оценки Базарова, для понимания исторической
новизны типа «нигилиста». Эпилог же, где семейная идиллия Кирса-
новых контрастирует с горем стариков Базаровых, их слезами у мо-
гилы сына, окончательно разводит «отцов» и «детей». Важно и то,
что последние слова романа — о Базарове, он — главный герой.
В произведение могут вводиться сюжеты, внешне не связанные
с основным действием, — вставные новеллы, а также притчи, бас-
ни, маленькие пьески, сказки и др. Тем значительнее внутренняя,
смысловая связь между вставным и основным сюжетами. Так, в дра-
матической поэме Лессинга «Натан мудрый» притча о кольцах, рас-
сказанная Натаном султану Саладину, заключает в себе урок веро-
терпимости и способствует благополучной развязке.
Традиционен прием сюжетного обрамления, в котором вводит-
ся рассказчик (рассказчики), сообщается о найденной рукописи
и пр., — словом, дается мотивировка рассказа. Обрамление может
усиливать смысл, идею рассказанной истории или, напротив, кор-
ректировать рассказ, спорить с ним. Так, в рассказе Л. Н. Толстого
«После бала» из обрамления становится известно, что пережитое
Иваном Васильевичем в далекой молодости событие перевернуло
всю его жизнь, он «не мог поступить в военную службу, как хотел
прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил...»
А в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» обрамление,
где выдерживается «точка зрения» слушателей Ивана Северьяно-
вича, подчеркивает различное отношение героя-рассказчика и его
случайных попутчиков ко многим его поступкам. Это исследование
народного характера, и обрамление создает эффектный фон.
Обрамление может объединять многие рассказы, создавая соот-
ветствующую ситуацию рассказывания, — традиция, восходящая
к арабским сказкам «Тысяча и одна ночь», сборникам новелл «Дека-
384
мерой» Дж. Боккаччо, «Гептамерон» Маргариты Наваррской, «Кен-
терберийским рассказам» Дж. Чосера. А в XX в. повествовательная
техника обогатилась монтажной композицией. Термин монтаж
(фр. montage — сборка, подборка) и сам прием пришли из кинема-
тографа. Суть монтажа в прерывности (дискретности) изображе-
ния, разбивке повествования на множество мелких эпизодов, в соз-
дании некоего литературного калейдоскопа. За фрагментарностью,
однако, открывается единство замысла. Так, в романе Дж. Дос Пасо-
са «Манхэттэн» «все подчинено стремлению передать ритм, воздух,
пульс жизни огромного города...»1
Как видим, организация повествования в сюжете, тем более
в сюжете многолинейном, а также в совокупности сюжетов (как
в «Декамероне») предоставляет автору возможность самого широ-
кого выбора приемов повествования. Если естественный ход собы-
тий может быть только один, то способов нарушить его в изложе-
нии, перемешать с другими сюжетами, «растянуть» одни эпизоды
и «сжать» другие — множество.
Связь событий в сюжете (причинно-следственные и хронологи-
ческие) и последовательность рассказа об этих событиях, их сцени-
ческого представления (в драме) суть разные аспекты композиции.
Они различались авторами «риторик», которые отмечали наруше-
ния хронологии и одобряли их как средство возбуждения «интере-
са» читателя. Так, М. В. Ломоносов в «Кратком руководстве к крас-
норечию...» писал: «...эпические поэмы и повести великую красоту
получают и в читателях удивление возбуждают, когда оне начина-
ются не с начала всего деяния, но с некоторого чудного, знатного
или нечаянного приключения, которое было в средине самого дей-
ствия, а что напереди было, описывается повествованием знатно-
го лица, в самой истории представляемого. <...> Таким образом
Вергилий начал свою «Энеиду» с приключившейся великой бури,
которою Эней отнесен был в Карфагену, где он Дидоне, царице кар-
фагенской, сказывает о своем странствовании...»1 2
Итак, Ломоносов различает начало «деяния» и начало «пове-
ствования», т. е. начало (завязку) сюжета и начало текста. Рас-
положению предметов речи (или: составлению плана сочинения)
уделялось в риторике очень большое внимание: ведь продуманный,
учитывающий психологию восприятия план был залогом удоволь-
ствия зрителей, читателей. Согласно Н. Ф. Остолопову, расположе-
ние «должно быть первым трудом... всякого писателя, желающего
творение свое сделать правильным. Расин, как сказывают, один год
делал расположение своей Трагедии, а другой год писал ее»3. К сю-
1 Зверев А. От редактора // Дос Пасос Дж. Манхэттен. М., 1992. С. 6.
2 Ломоносов М. В. Сочинения. М., 1957. С. 403—404.
3 Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии: в 3 ч. 4. 3. СПб., 1821. С. 8.
385
жетным инверсиям в особенности часто прибегали в жанрах траге-
дии, комедии, новеллы, а также авантюрного романа, где умолча-
ние, тайна готовили узнавание, перипетию и интересную развязку:
Довольны зрители, когда нежданный свет
Развязка быстрая бросает на сюжет,
Ошибки странные и тайны разъясняя.. Л
Искусство расположения утончается, приобретает особую изо-
щренность в произведениях новой литературы, где «трудная» по-
вествовательная форма может контрастировать с бедностью самих
событий, если их выстроить в хронологический ряд. Так, в новатор-
ском романе Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» чита-
телю предлагаются в качестве духовной пищи «мнения», а не «при-
ключения» героев, внешнего действия очень мало, и прихотливая
композиция выглядит демонстративной. Русскую формальную шко-
лу 1910—1920-х годов с ее главным интересом к «приему», в том
числе композиционному, такие произведения особенно привлека-
ли.
Теоретиками этой школы были разграничены терминологически
естественный ход событий и порядок сообщения о них, их «художе-
ственная обработка»: для В. Б. Шкловского «фабула лишь материал
для сюжетного оформления»1 2; Б. В. Томашевский называет фабулой
«совокупность событий в их взаимной внутренней связи» (исклю-
чая отсюда связь чисто временную, хронику наподобие «Детских
годов Багрова внука»), а сюжетом — «художественно построенное
распределение событий»3. Другие теоретики (М. А. Петровский4,
впоследствии Г. Н. Поспелов5) предлагали закрепить за терминами
противоположные значения, чему есть этимологические основа-
ния: лат fabula — история, рассказ; фр. sujet — предмет. Рассогласо-
ванность в понимании сюжета и фабулы (не преодоленная и по сей
день) стала даже пищей для пародистов6.
1 Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 78.
2 Шкловский В. Б. О теории прозы. М.; Л., 1925. С. 161.
3 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 179—181 (первое
изд. —1925).
4 См.: Петровский М. А. Морфология пушкинского «Выстрела» // Проблемы
поэтики. Сб. ст. / под ред. В. Я. Брюсова. М.; Л., 1925. С. 197.
5 См.: Поспелов Г. Н. Сюжет и ситуация // Поспелов Г. Н. Вопросы методологии
и поэтики: сб. ст. М., 1983. С. 173.
6 В пародии А. Архангельского, посвященной В. Шкловскому, есть строки:
Вы меня еще спросите, что такое фабула?
Фабула не сюжет, и сюжет не фабула.
Сюжет можно наворачивать, разворачивать и поворачивать.
Кстати, поворачиваю дальше.
(Архангельский А. Избранное. М., 1968. С. 97.)
386
Но о словах в конце концов можно договориться. Важно само
разграничение этих взаимосвязанных понятий, ставшее инстру-
ментарием таких интересных разборов, как у Шкловского — «Жиз-
ни и мнений Тристрама Шенди» (в его книге «О теории прозы»),
у Петровского — новеллы «Возвращение» Мопассана1, у Л. С. Вы-
готского — новеллы «Легкое дыхание» И. А. Бунина1 2. Графики «дис-
позиции» (хронологии, прямой линии событий) и «композиции»
(кривой линии повествования о событиях) здесь стали формальной
базой тонких интерпретаций. Приемы повествования, и в особен-
ности сюжетные инверсии, включение свободных эпизодов (напри-
мер, описаний, наличие или отсутствие которых несущественно для
событийной структуры произведения) прочитаны как форма при-
сутствия автора, независимо от тех или иных теоретических декла-
раций.
Е. С. Добин, рецензируя книгу Шкловского «Художественная про-
за. Размышления и разборы» (М., 1961), где автор уже далек от фор-
мализма, упрекает его в расширительном толковании понятия «тор-
можение»: «Понятие вполне правомерно, если рассматривать его
как один из способов изложения. <...> В “Теории прозы” Шклов-
ский установил также и другие разновидности торможения как спо-
соба изложения. Проанализированы перестановка глав, авторские
отступления, рассуждения, отодвигание загадки тайны к финалу
и т. д. Но в сферу “торможения” В. Шкловский включал и событий-
ное содержание повествования. Перипетии тоже рассматривались
как “торможение”. Термин терял свою точность»3. Замечание спра-
ведливое, направленное против размывания теории, у истоков ко-
торой стоял сам Шкловский. В самом деле: в романе Стерна (к его
анализу возвращается Шкловский в вышеупомянутой книге 1961 г.,
далее в скобках указаны страницы) к торможению отнесены «мне-
ния» героев: «Мнения все время будут тормозить жизнь» (с. 329).
«Мнения» оказываются, таким образом, в одном ряду с «нарушени-
ем временной последовательности», с «членением повествования»
(с. 320). Но «мнения», выраженные в диалогах, внутренних моноло-
гах персонажей, — доминанта предметного мира романа Л. Стерна.
Перебивы повествования, авторские отступления призваны фор-
мировать вкус к психологическому роману, обманывая ожидания
любителей романа авантюрного. Или можно сказать иначе: в про-
изведениях, где главный интерес заключается в подробностях умо-
настроений и переживаний, — свои критерии событийности, здесь
внутреннее действие теснит внешнее.
1 Петровский А. М. Морфология новеллы. // Ars poetica: сб. ст. М., 1927.
2 См.: Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. Гл. 7.
3 Добин Е. С. Сюжет и действительность. Искусство детали. Л., 1981. С. 239.
387
ж ж ж
Есть немало произведений, в которых конфликт остается нераз-
решенным. Это произведения с так называемым открытым фина-
лом (к ним можно отнести и «Жизнь и мнения Тристрама Шенди»).
«Что сталось с «Онегиным» потом? <... > Не знаем, да и на что нам
знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались
без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца»1, — писал Бе-
линский. Автор расстается с Онегиным «в минуту, злую для него...»,
«вдруг». Но сам роман, его текст завершен, концовка оформлена.
С читателем автор-повествователь прощается: «Поздравим / Друг
друга с берегом. Ура! / Давно (не правда ли?) пора!» Конец текста
не обязательно — даже при прямой линии повествования — заклю-
чает в себе конец (развязку) сюжета. Концовка «Евгения Онегина»
напоминает, что в этом романе в стихах — произведении лироэпи-
ческом — есть и линия автора. И он не только один из приятелей
Онегина, но прежде всего писатель, пишущий роман и часто бесе-
дующий с читателями.
Итак, сюжет может не иметь завершения. А всегда ли он имеет
четко фиксируемое начало? Например, какое событие было самым
ранним в жизни Николеньки Иртеньева? Самые дорогие, первые
воспоминания для автобиографического героя повести Л. Н. Тол-
стого «Детство» связаны с матерью (гл. «Детство»). Но здесь нет
указания на конкретное время: описываются действия, многократ-
но повторявшиеся, запомнившийся до мелочей порядок дня: «На-
бегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом...»; «После
молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло
и отрадно; одни мечты гонят другие, — но о чем они? — Они не-
уловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое
счастье».
У текста же есть начало: часто — заглавие, подзаголовок, ино-
гда — эпиграф, посвящение, предисловие; всегда — первая строка,
первый абзац. Роль начала ответственна: ведь это приглашение
к чтению, которое может принять или не принять читатель. Переби-
рая книги, многие, наверное, испытывают то же, что герой А. Гри-
на: «Я люблю книги, люблю держать их в руках, пробегая заглавия,
которые звучат как голос за таинственным входом или наивно от-
крывают содержание текста» («Бегущая по волнам», гл. IX). Начало
особенно продумано в деталях, даже если читателю предлагаются
оборванные фразы и эллиптические конструкции: «...а так как мне
бумаги не хватило, / Я на твоем пишу черновике» — так начинается
(после строки, заполненной точками) «Посвящение» в «Поэме без
героя» А. А. Ахматовой. Но ведь вся поэма — палимпсест, диалог
с прошлым, и посвящение дает стилистический ключ к целому.
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 13 т. Т. 7. М., 1955. С. 469.
388
ж ж ж
В современной филологии оформилась специальная дисциплина
«лингвистика текста», изучающая не слова и предложения, но це-
лостные высказывания, где опорное понятие «текст» определяется
через ряд атрибутов: коммуникативная направленность, линейная
последовательность, внутренняя связанность единиц, осуществляе-
мая, в частности, через разного рода повторы, завершенность и пр.
При этом исходный, важнейший признак — наличие границ. Как
формулирует С. И. Гиндин: «От постоянно возобновляемой речевой
деятельности и ее потенциально бесконечного, в силу этой воз-
обновляемости, продукта — речевого потока — текст отличается
ограниченностью, наличием определенных границ. Имея границы,
текст обладает относительной отдельностью (автономией) от своих
соседей по речевому потоку — “других” текстов и относительным
единством (целостностью)»1. Отсюда вытекает повышенное внима-
ние исследователей к рамочным компонентам текста, в частности
к создающему некий горизонт ожидания его абсолютному началу,
структурно выделенному. Например: А. С. Пушкин. Капитанская
дочка. Далее — эпиграф: «Береги честь смолоду». Или: И. В. Гоголь.
Ревизор. Комедия в пяти действиях. Эпиграф: «На зеркало неча
пенять, коли рожа крива. Народная пословица». Далее следуют
«Действующие лица» (традиционный в драме компонент рамоч-
ного текста), «Характеры и костюмы. Замечания для господ акте-
ров» (для понимания авторской концепции их роль очень важна).
По сравнению с эпическими и драматическими произведениями
лирика скромнее в оформлении «входа» в текст: часто заглавия нет
вообще, и имя тексту дает его первая строка, одновременно вводя-
щая в ритм стихотворения (поэтому ее нельзя сокращать в оглав-
лении): «Холодок щекочет темя...», «Я по лесенке приставной...»,
«Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...»
(О. Мандельштам).
Свои рамочные компоненты имеют части текста, также образу-
ющие относительные единства. Эпические произведения могут чле-
ниться на тома, части, книги, главы, подглавки и пр., как в «Братьях
Карамазовых» Достоевского, «романе в четырех частях с эпилогом»,
где части делятся на книги (их двенадцать, и каждая имеет свое на-
звание), книги — на главы, также названные, некоторые из глав —
на подглавки. В общей сложности здесь 118 названий, образующих
свой выразительный текст (компонент рамки произведения). В дра-
ме обычно членение на акты (действия), сцены (картины), явле-
ния (в современных пьесах разбивка на явления встречается редко).
Весь текст четко делится на персонажный (основной) и авторский
1 Гиндин С. И. Что такое текст и лингвистика текста // Аспекты изучения тек-
ста. М., 1981. С. 28.
389
(побочный), включающий в себя, помимо заголовочного комплекса,
разного рода сценические указания: описания места, времени дей-
ствия (и пр.) в начале актов и сцен, обозначения говорящих, ре-
марки и др. Роль сценических указаний возрастает на рубеже XIX—
XX вв. в связи с формированием института режиссуры.
Части текста в стихотворной лирике (и в стихотворной речи
вообще) — это стих (по-гречески: ряд), строфа, строфоид. Тезис
о «единстве и тесноте стихового ряда», выдвинутый Ю. Н. Тыня-
новым в книге «Проблема стихотворного языка» (1924) (а также
параллельно — М. М. Кенигсбергом1), позволяет рассматривать
стих (обычно записываемый отдельной строкой) по аналогии
с более крупными единствами, частями текста. Можно даже ска-
зать, что функцию рамочных компонентов выполняют в стихе
анакруза (постоянная, переменная, нулевая) и клаузула, часто
обогащенная рифмой и особенно заметная как граница стиха
в случае переноса: «Всякий стиховой ряд выделяет, интенсивирует
свои границы»1 2.
Итак, есть компоненты текста и есть компоненты предметно-
го мира произведения. По-видимому, секрет успешного анализа
общей композиции произведения — в прослеживании их взаимо-
действия, часто весьма напряженного. Так, для Тынянова перенос
не просто несовпадение ритмического и синтаксического членения
речи, он наряду с другими способами подчеркивания границ стиха
«является сильным семантическим средством выделения слов»3. Его
интересует целостный анализ стихотворной речи, семантика слова
в стихе, а не описание ритма как такового.
В современном литературоведении, по-видимому, привился
пришедший из лингвистики термин сильная позиция текста (он,
в частности, применяется к заглавиям, первой строке, первому
абзацу, концовке)4. Граница части текста — это всегда сильная
позиция. В литературном произведении она, однако, становится
особенно эстетически выразительной, заметной, если то или иное
ее «заполнение» помогает восприятию образа. В стихотворении
М. Ю. Лермонтова «Утес» во втором четверостишии два переноса:
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.
1 См.: Кенигсберг М. М. Из стихологических этюдов. 1. Анализ понятия «стих» //
Philologica. 1994. № 1—2.
2 Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка: статьи. М., 1965. С. 94.
3 Там же. С. 96.
4 См.: Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации художе-
ственного текста // Иностранные языки в школе. 1972. № 4.
390
«Разрывая» синтаксические связи, перенос одновременно разъ-
единяет детали (и, следовательно, останавливает на них внимание
читателя), составляющие неделимое в эстетическом восприятии —
образ: «морщина старого утеса», «одиноко он стоит» (здесь ключе-
вое слово «одиноко», кроме того, подчеркнуто инверсией). Нали-
цо сложное взаимодействие предметной композиции и структуры
стиха.
к к к
Во всех родах литературы отдельные произведения могут об-
разовывать циклы: «Повести Белкина», «Маленькие трагедии»
А. С. Пушкина, «Цветы зла» Ш. Бодлера (книга стихов, в которой
стихотворения сгруппированы в циклы). Последовательность тек-
стов внутри цикла (книги стихов) обычно провоцирует интерпрета-
ции, в которых аргументами выступают и расстановка персонажей,
и сходная структура сюжетов, и характерные ассоциации образов
(в свободной композиции лирических стихотворений), и другие свя-
зи между произведениями. Композиция текста всегда «накладыва-
ется» в восприятии читателя на глубинную, предметную структуру
произведения, взаимодействует с ней; именно благодаря этому вза-
имодействию те или иные приемы прочитываются как поэтический
язык, как знаки присутствия автора в тексте.
Творческая история многих шедевров свидетельствует, что ком-
пасом в работе над композицией текста (например, в романах — че-
редование эпизодов, членение на главы, ритм повествования и пр.)
были для классиков прежде всего образные сцепления. «Сейчас хо-
дил гулять и ясно понял, отчего у меня не идет «Воскресение», — за-
писывает Толстой в дневнике от 5 ноября 1895 г. — Ложно начато.
Я понял это, обдумывая рассказ о детях — «Кто прав»; я понял, что
надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положитель-
ное, а то тень, то отрицательное. И то же понял и о «Воскресении».
Надо начать с нее»1.
k k к
Одно из перспективных направлений в изучении композиции
произведений связано с разработкой понятия точка зрения. Хотя
это понятие и сам термин — примета литературоведения XX в.1 2,
свойство художественной речи выражать, передавать определен-
ную точку зрения: идеологическую, фразеологическую, психологи-
ческую (субъективную'), пространственно-временную, совмещая
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 22. М., 1985. С. 37—38.
2 См.: Успенский Б. А. Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика ис-
кусства. М., 1995; Корман Б. О. Избранные труды по теории и истории. Ижевск,
2006.; Толмачев В. М. Точка зрения // Западное литературоведение XX века. Энци-
клопедия. М., 2004.
391
или не совмещая названные ее типы1, — существовало всегда. Как
инструмент анализа композиции точка зрения применима прежде
всего к произведениям, где есть система рассказчиков (например,
повесть Пушкина «Выстрел», «Герой нашего времени» Лермонто-
ва) или (что представляет более трудный для анализа случай) по-
вествование от третьего лица окрашивается попеременно в тона
восприятия разных персонажей. В «Воскресении» Толстого значима
не только последовательность эпизодов, образующих начало рома-
на: от Катюши Масловой, ее предыстории — к Нехлюдову, вино-
внику ее падения. Выразительна связь между третьей главой (утро
Нехлюдова) и первыми двумя, посвященными Катюше, подчерки-
ваемая в третьей главе точкой зрения, выраженной в повествова-
нии. Ведь Нехлюдов Катюшу давно забыл, она не присутствует в его
сознании. Между тем детализация портрета, костюма, интерьера
свидетельствует о постоянном учете повествователем точки зрения
таких, как Катюша: «Дмитрий Иванович Нехлюдов... лежал еще
на своей высокой, пружинной с высоким тюфяком, смятой постели
и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутю-
женными складочками на груди, курил папиросу». Фразеологиче-
ски это наблюдение принадлежит человеку круга Нехлюдова, зна-
ющему толк в принадлежностях туалета — «незаметных, простых,
прочных и ценных», но идеологически оно направлено против ге-
роя. Само внимание повествователя к обряду одевания Нехлюдова
демонстративно: «Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие
первые попались под руку, — когда-то это было ново и забавно, те-
перь совершенно все равно...» Привычное, не замечаемое героем
должно быть замечено читателем, побывавшим в первой главе ро-
мана в губернской тюрьме. И только после подробного описания
роскошной обстановки, сложившегося уклада дома Нехлюдова
(где есть горничная, где к завтраку подле прибора хозяину кладут
письма, свежие газеты и журналы, включая французские), Толстой
«снисходит» к своему герою и переносит читателя в его внутрен-
ний мир, в его унылые, полные угрызений совести размышления
о возможной женитьбе и о собственности. Теперь повествование
ведется с субъективной точки зрения героя (иначе говоря: в его пер-
спективе), хотя повествователь время от времени дополняет мысли
Нехлюдова своими ядовитыми замечаниями: «А между тем, кроме
той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой
молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важ-
ная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сей-
час сделать предложения. Причина эта заключалась не в том, что
он десять лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее, это было
1 Данная типология точек зрения используется в вышеназванной работе
Б. А. Успенского (с. 15).
392
совершенно забыто им, и он не считал его препятствием для своей
женитьбы; причина эта была в том, что у него в это самое время
была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана
теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею». Фор-
ма повествования от третьего лица, гибкая и эластичная, позволяет
повествователю то внутренне приближаться к герою, то отдаляться
от него.
Вопросы
1. В каком сочинении Г. Э. Лессинг доказывал, что «действия составляют
предмет поэзии»? Убедил ли он И. Г. Гердера?
2. Как решается данная проблема в современном литературоведении?
3. Почему необходимо разграничить сюжет и его композицию (порядок
его изложения) в тексте произведения?
4. «Точка зрения» как инструмент анализа композиции.