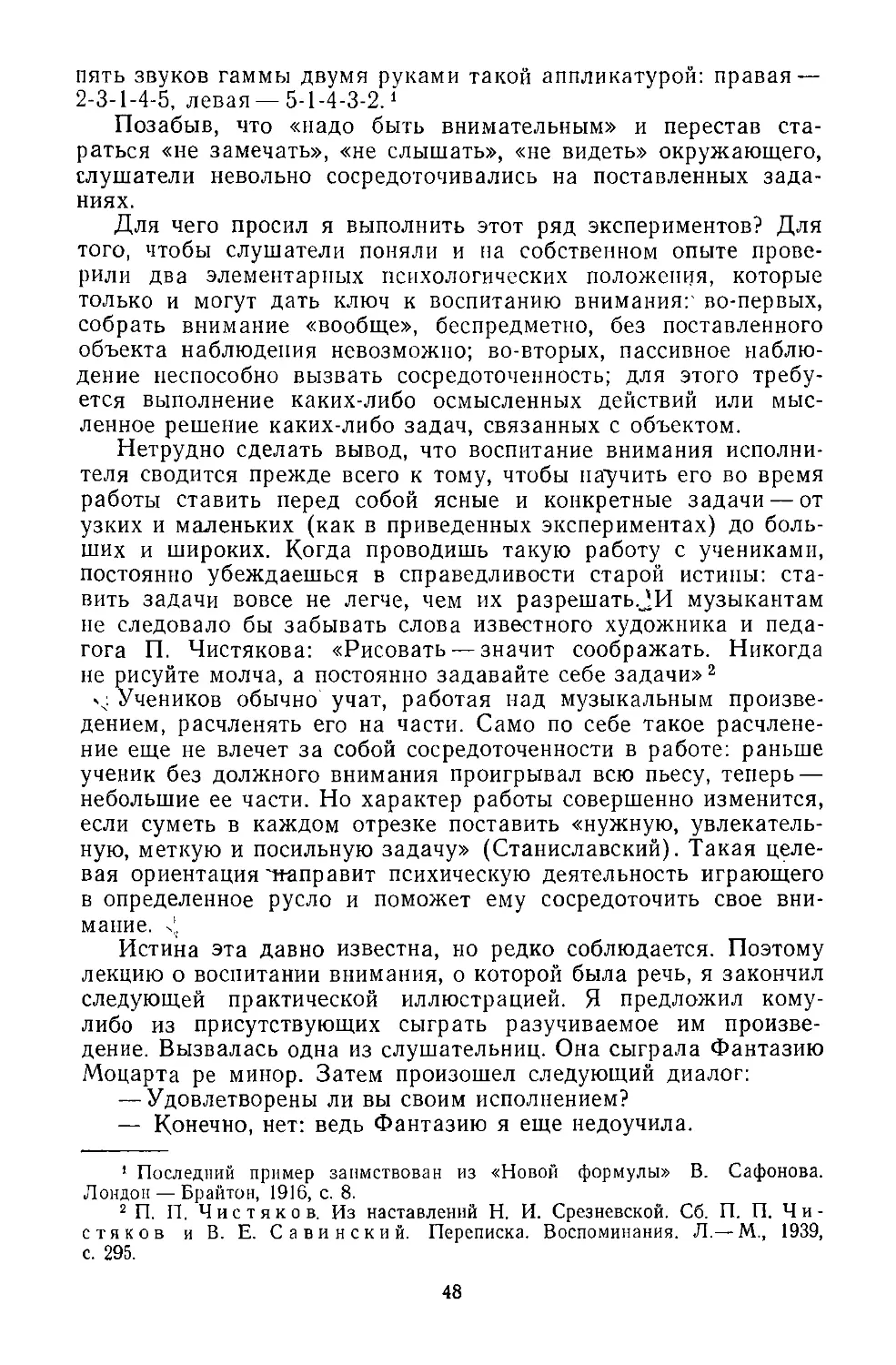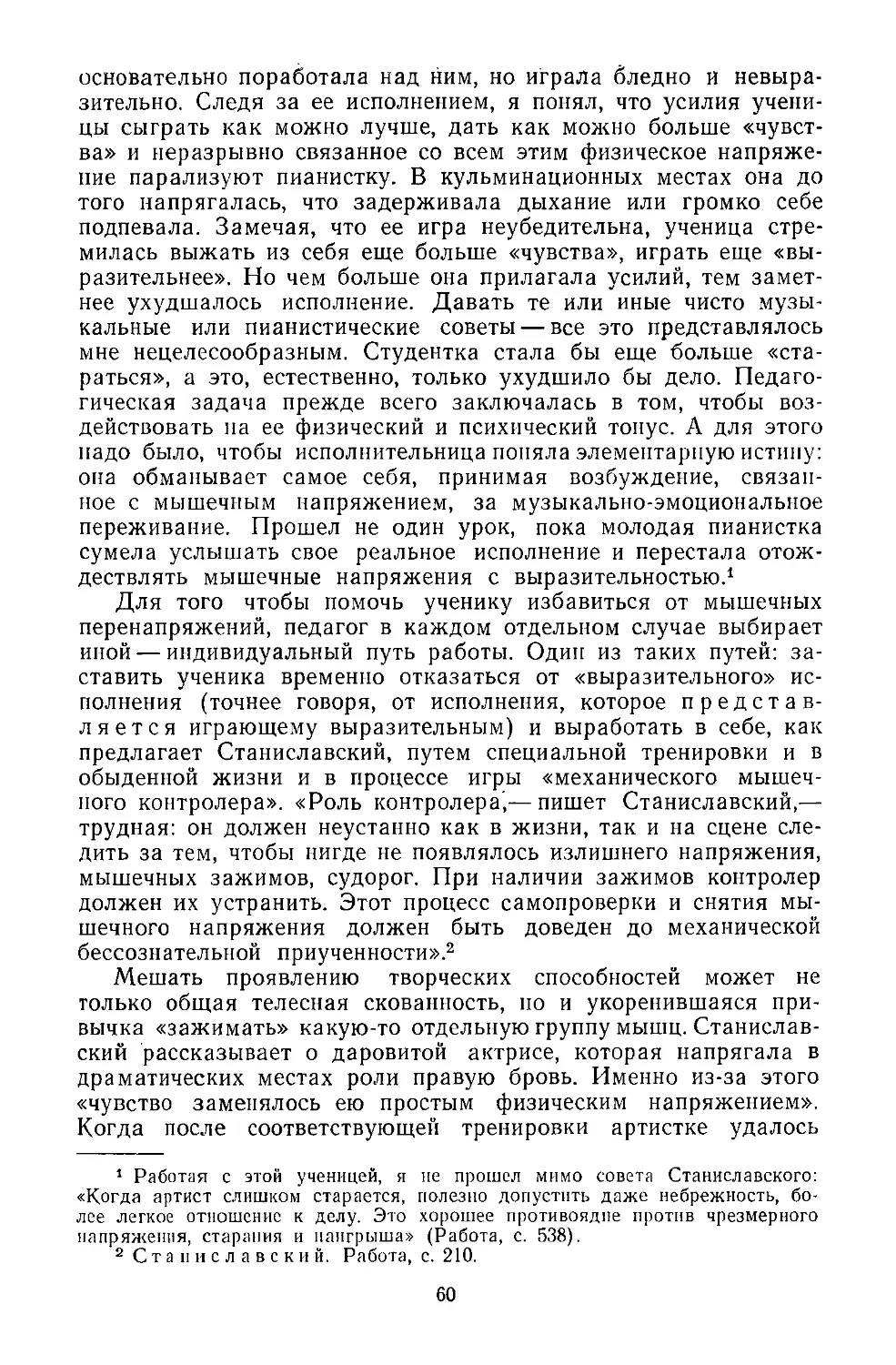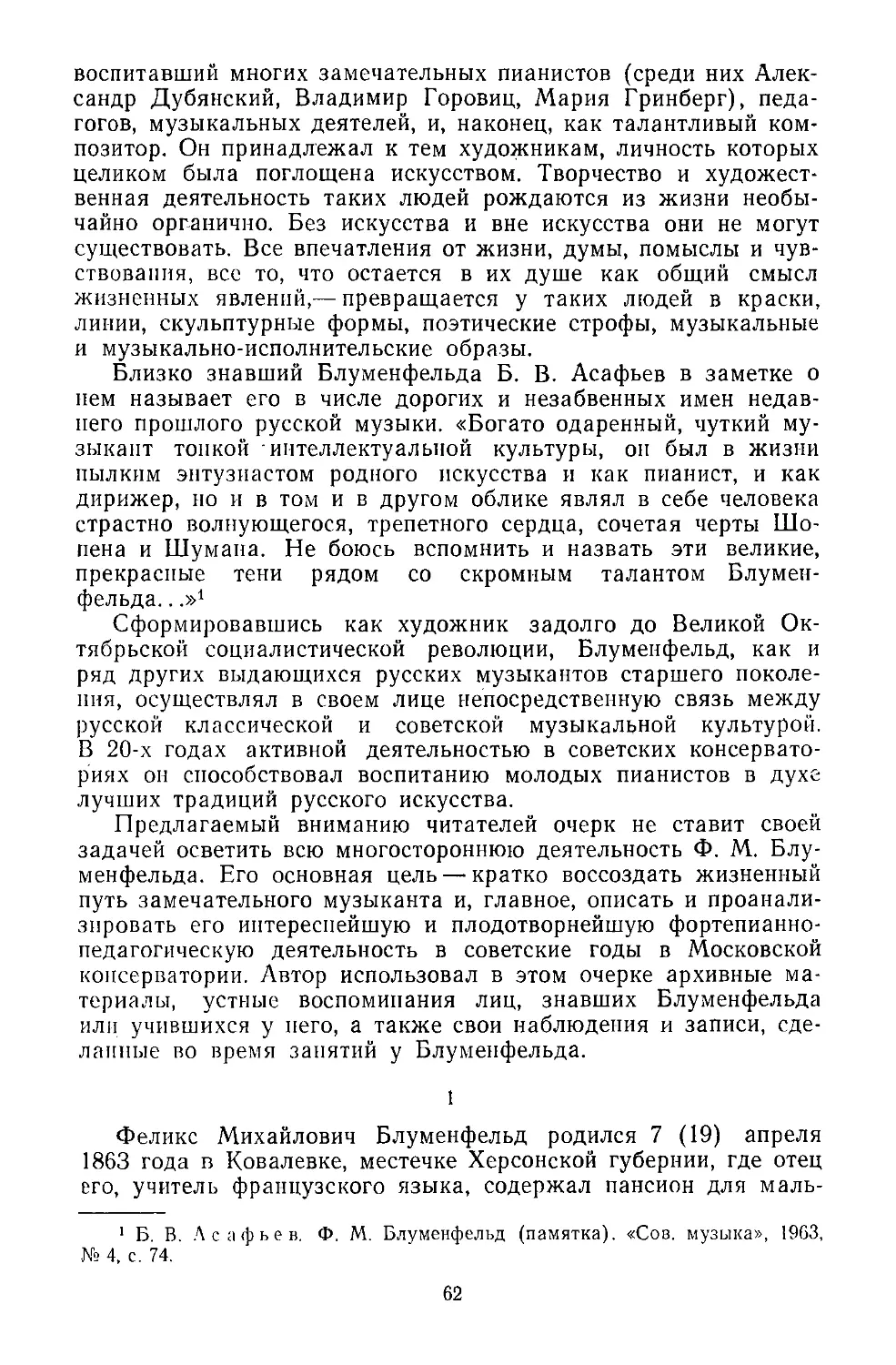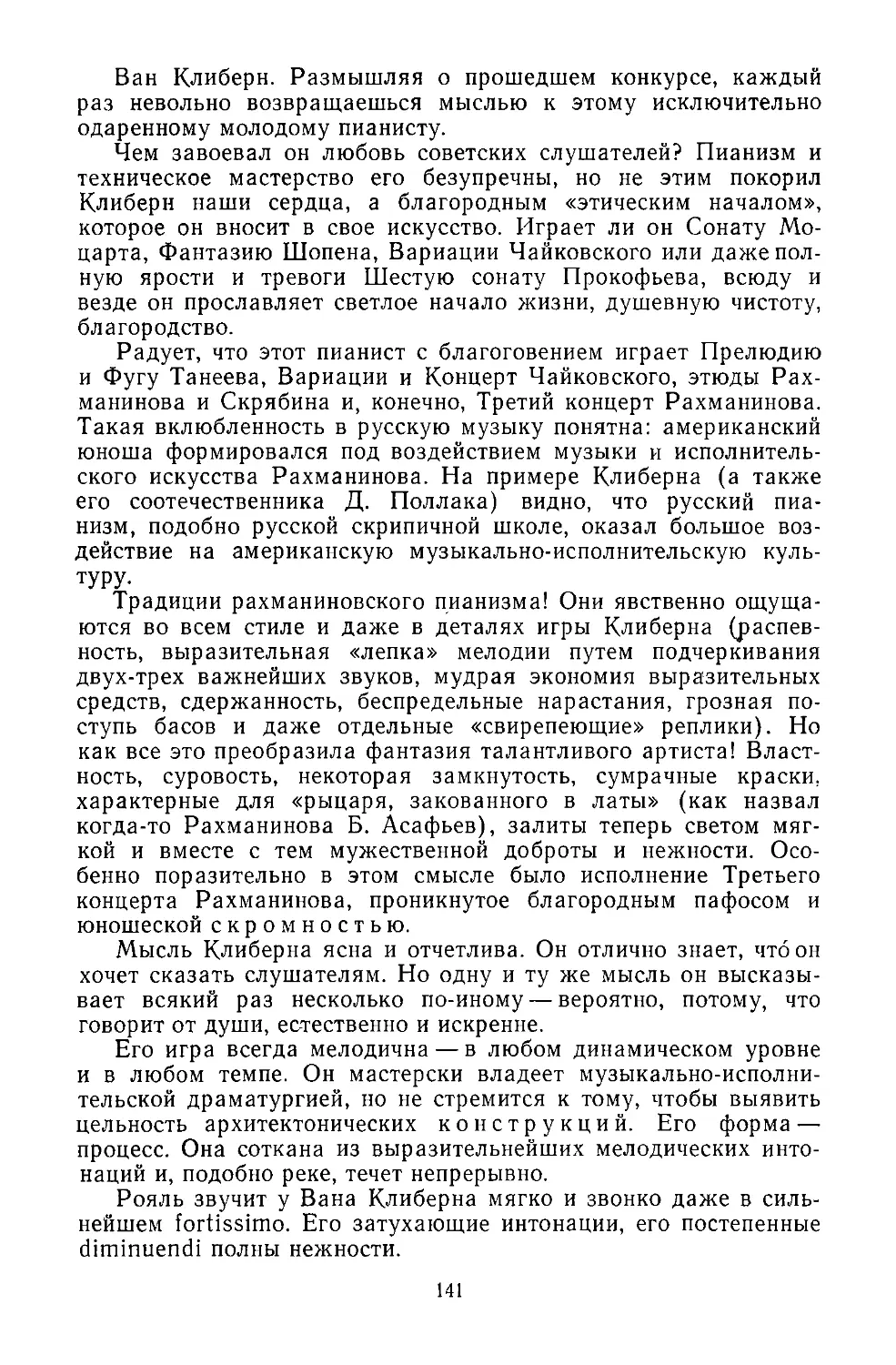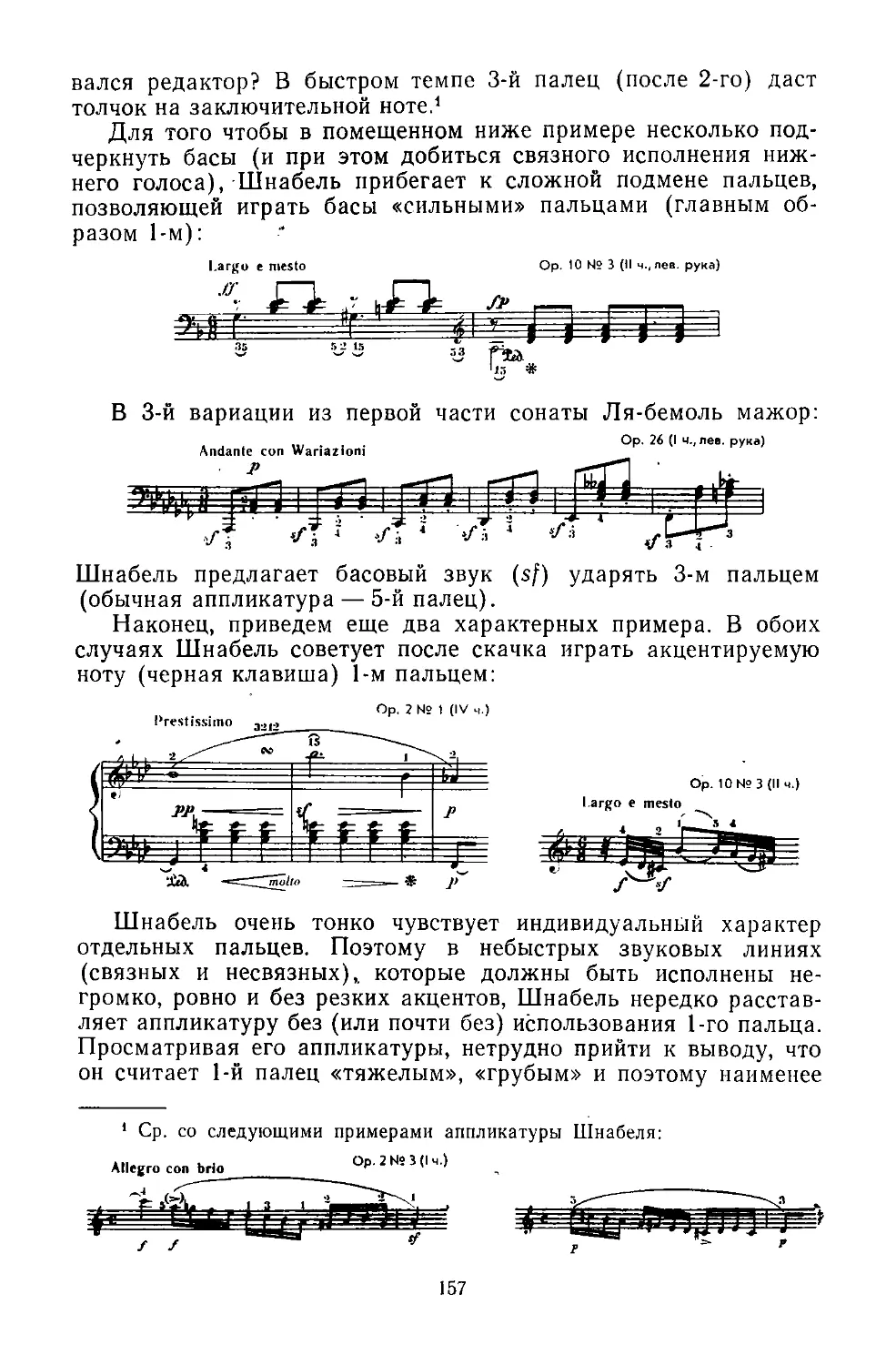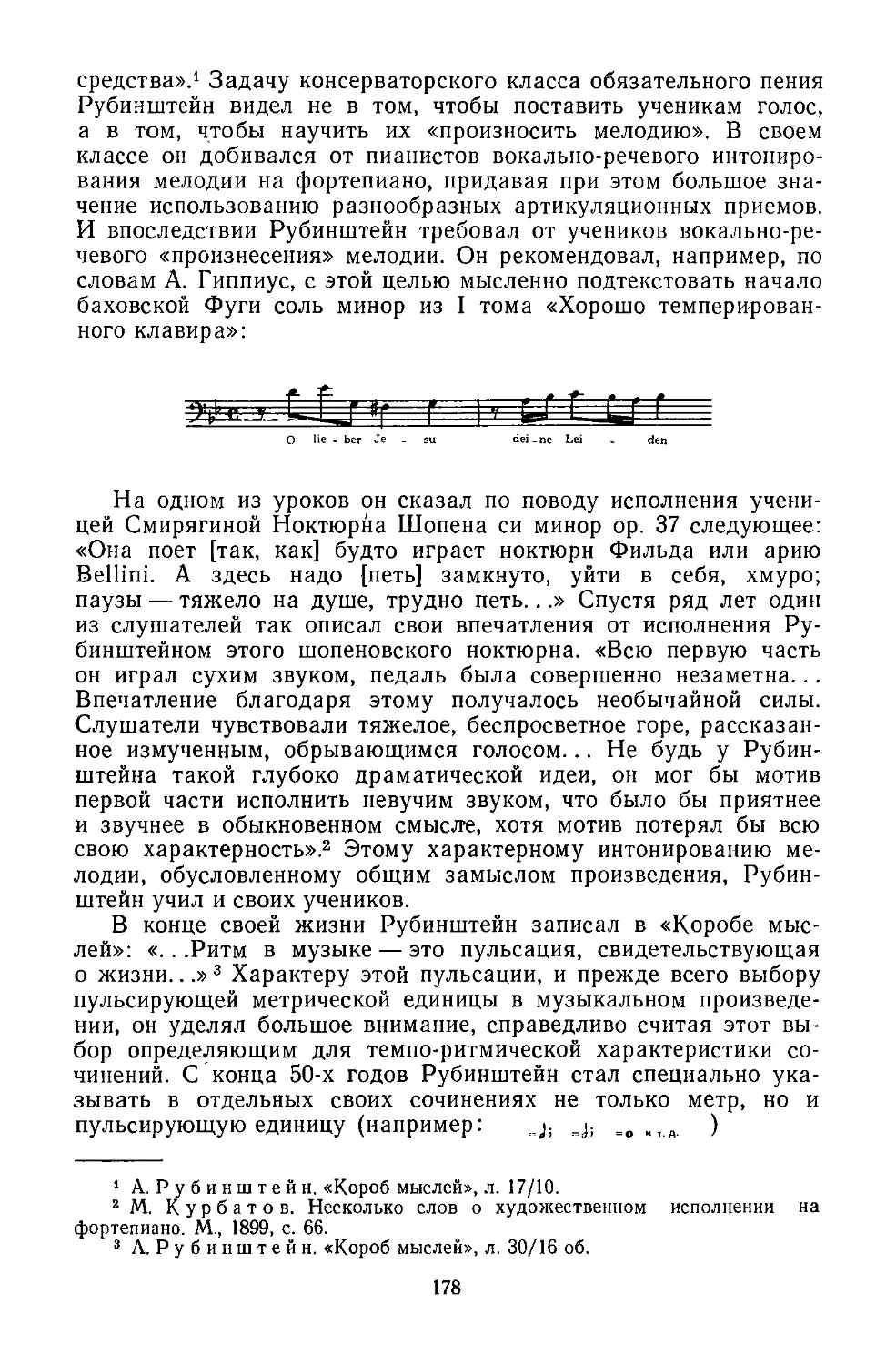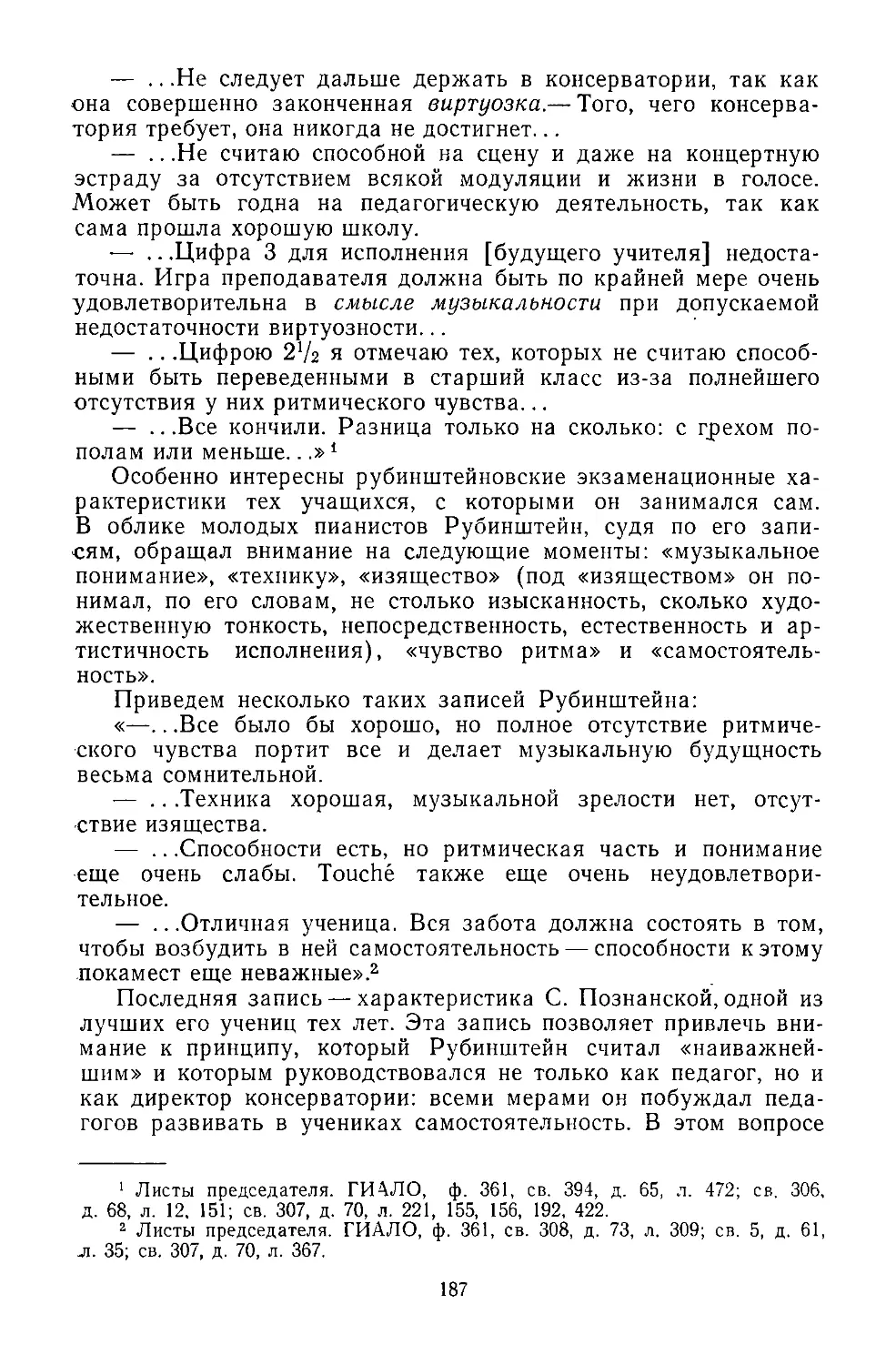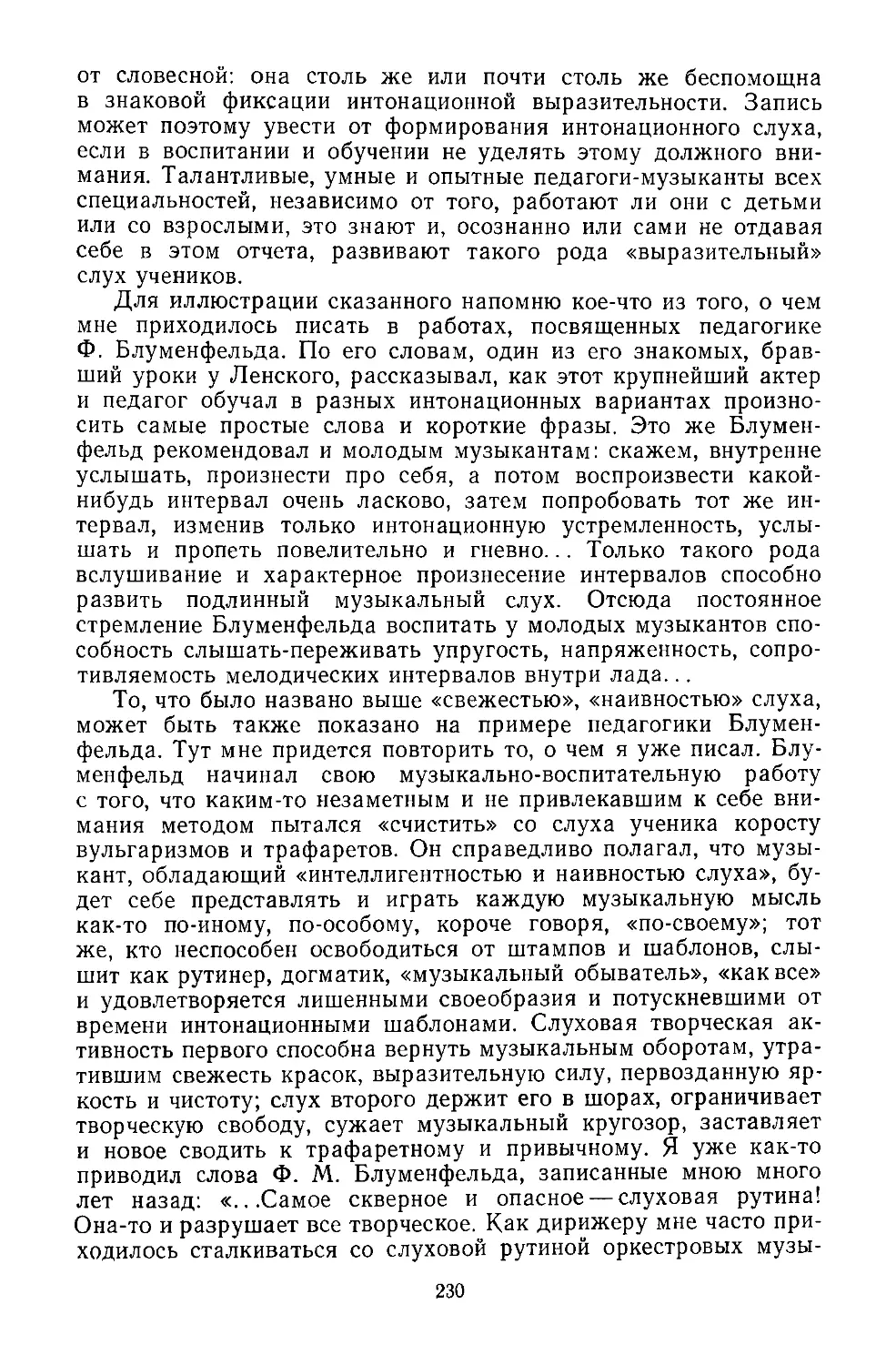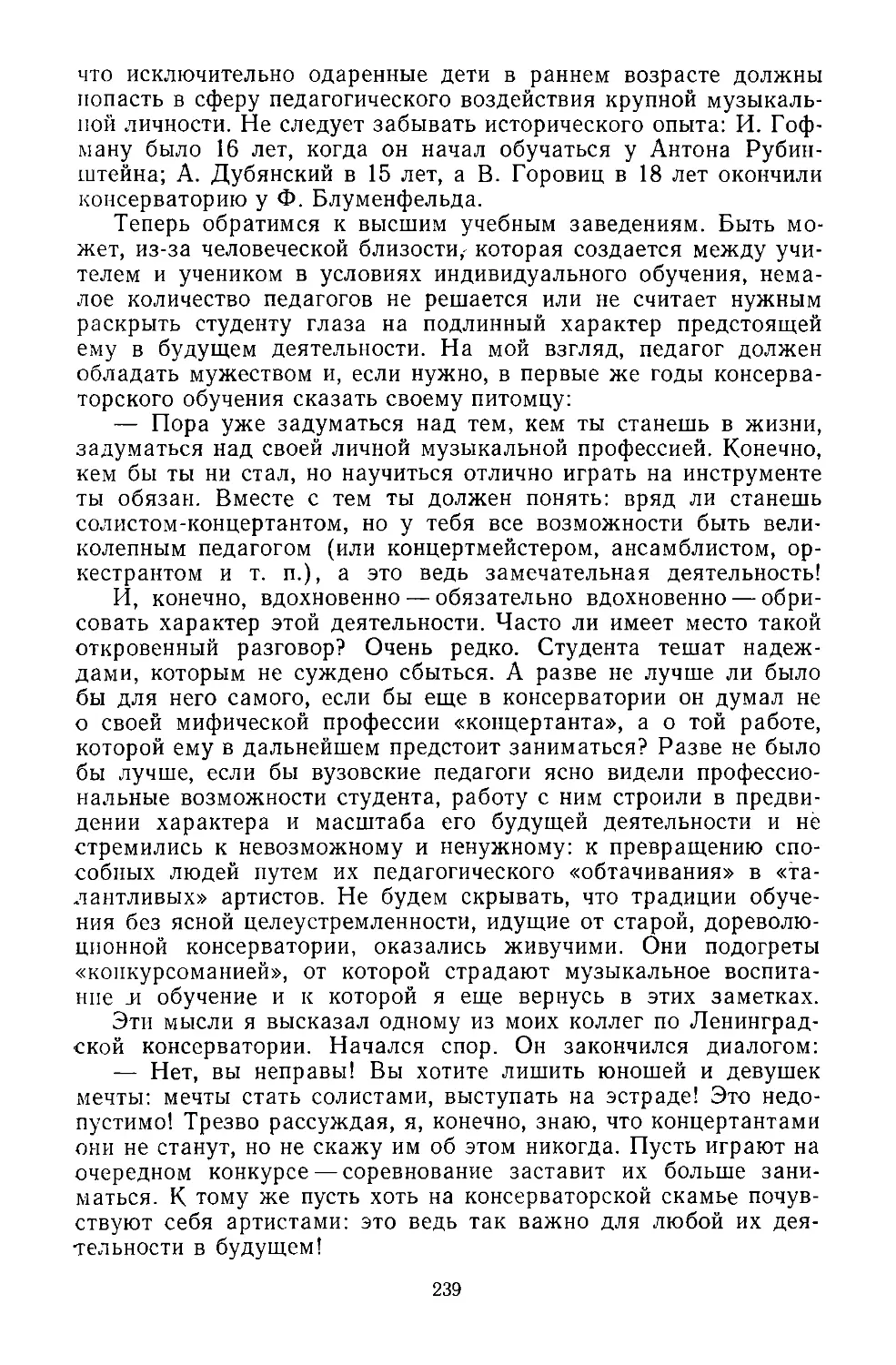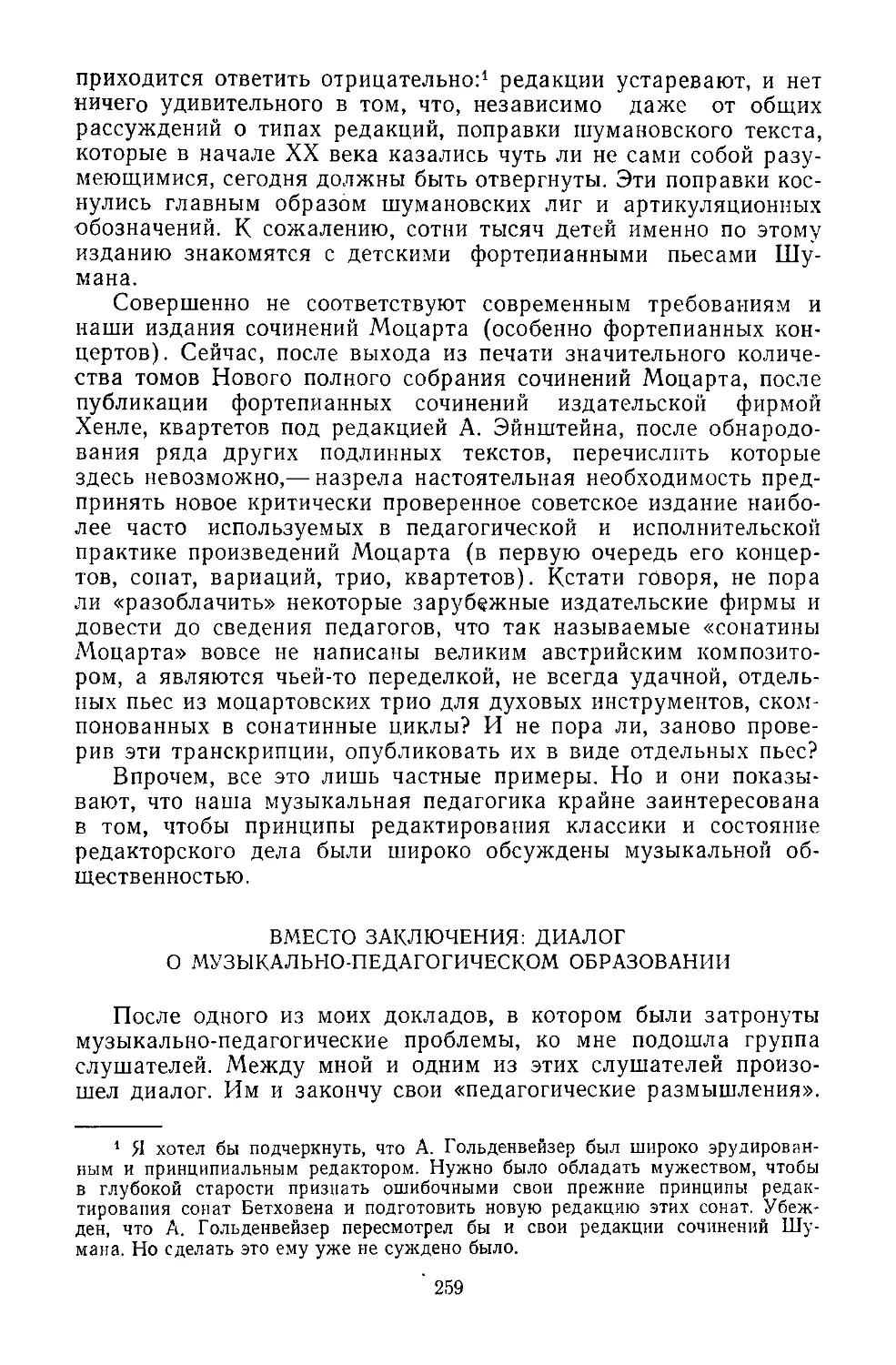Author: Баренбойм Л.А.
Tags: эстетика педагогика музыка фортепиано издательство музыка исполнительство
Year: 1974
Text
УЗЫКАЛЬНАЯ
ПЕДАГОГИКА
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
Л. А. БАРЕНБОЙМ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПЕДАГОГИКА
И
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МУЗЫКА»
Ленинградское отделение • 1974
ОТ АВТОРА
В 1969 году издательство «Музыка»-опублико-
вало мою книгу «Вопросы фортепианной педагогики
и исполнительства». В ней была помещена часть
очерков и статей, написанных в послевоенные годы
и печатавшихся в журналах и сборниках. Из более
ранних работ была включена лишь одна — фраг-
менты из очерка «Некоторые вопросы воспитания
музыканта-исполнителя и система Станиславского»
(1939).
Все эти статьи и очерки вошли и в книгу «Му-
зыкальная педагогика и исполнительство». Но сверх
того — новые работы, написанные после 1969 года.
Так как они посвящены не только вопросам пиа-
низма, но и более широким общим проблемам му-
зыкальной педагогики и исполнительства, то сбор-
ник пришлось выпустить под новым названием.
Статьи и очерки расположены в хронологиче-
ском порядке. В конце каждой статьи указано, где
и когда она была напечатана. В собранные здесь
работы не внесено сколько-нибудь существенных из-
менений— ни в содержание, ни в стиль изложения,
ни в композицию. Единственное исключение —
очерк, посвященный педагогике Ф. М. Блумен-
фельда. В эту работу, написанную в конце 40-х
годов, вмонтированы материалы из более поздней
статьи «В фортепианном классе Блуменфельда».
90101-650
642-73 •
© Издательство «Музыка», 1974 г.
026(01)-74
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
И СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО1
I. О ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ ШКОЛАХ
в театральной и музыкальной педагогике
На первый взгляд те течения фортепианной педагогики, кото-
рые получили название психотехнической школы,1 2 не имеют то-
чек соприкосновения с системой воспитания актера, разработан-
ной К. С. Станиславским. Более глубокое изучение позволяет,
однако, усмотреть общий психологический принцип, положенный
в основу этих направлений музыкальной и театральной педаго-
гики. Его можно изложить, используя известные формулировки
Станиславского: «подсознательное — через сознательное, непро-
извольное — через произвольное»; «подсознательное творчество
природы — через сознательную психотехнику артиста».
Еще в конце прошлого века М. Курбатов в очень интересной,
но не получившей к сожалению, широкой известности брошюре,
посвященной вопросам фортепианного искусства, писал: «Вполне
понятно стремление. .. проанализировать и объяснить другим
фортепианные приемы. . . Однако дело чрезвычайно затрудняется
тем обстоятельством, что художественными приемами следует
пользоваться бессознательно. . . добиваясь правильных движений
при помощи слуха: стоит только обратить внимание на движе-
ние руки, и сейчас же это движение становится деланным, пред-
намеренным».3
1 Фрагменты из неопубликованной кандидатской диссертации, написанной
в 1939 г., вскоре после выхода в свет труда К- С. Станиславского «Работа ак-
тера над собой». Диссертация была защищена на заседании Ученого совета
Московской консерватории в октябре 1940 г.
2 Термин этот принадлежит Г. Когану и использован им «в весьма ус-
ловном смысле — за неимением лучшего» (Г. Коган. Современные проблемы
теории пианизма. «Пролетарский музыкант», 1930, № 1, с. 28). Станиславский
также называет свою систему психотехнической. Надо подчеркнуть, что тер-
мину «психотехника», которым пользуюсь в этом очерке и я, фортепианная и
театральная педагогика придает смысл, отличающийся от принятого в психо-
логической науке. В последней «психотехникой» обычно называют прикладную
психологию, которая возникла в целях профессионального отбора и широко
пользуется так называемой тестовой методикой.
3 М. Курбатов. Несколько слов о художественном исполнении на фор-
тепиано. М-, 1899, с. 52—53.
1* 3
В 1905 году Ф. Штейнгаузен в своем труде «Die physiologi-
schen Fehler und die Umgestaltung der Klaviertechnik», который
является важной вехой в развитии теории фортепианной игры,
указывал, что «художник бессознательно выискивает самые луч-
шие и целесообразные движения, чтобы с их помощью воплотить
идеал, парящий перед его внутренним оком»; что «напрасны все
старания искусственно превратить в сознательный процесс все
то, что по природным законам происходит бессознательно»; что
«закономерность и полная бессознательность — существо всех
процессов движения».1
Согласившись с положениями М. Курбатова и Ф. Штейнгау-
зена, фортепианная педагогика могла сделать один из следую-
щих выводов: либо отказаться от какого-либо воздействия на
выбор целесообразных приемов и на воспитание техники играю-
щего, положившись на случай, на неизведанные силы природы;
либо искать обходные, окольные пути воспитания, не превращая
«в сознательный процесс все то, что по природным законам про-
исходит бессознательно». Наконец, мог быть и третий вывод, ко-
торый сделай — в противоречии с самим собой — Штейнгаузен:
все же учить тело движениям, пытаясь... осознавать то, что «по
природным законам происходит бессознательно».1 2
Первый из этих выводов не мог быть плодотворным: форте-
пианная педагогика перестала бы выполнять свою функцию, если
бы доверилась случаю, ждала бы милостей от природы человека
вместо того, чтобы ею управлять. Третий вывод означал бы —
в полном противорёчии с логикой — возвращение к исходным по-
зициям анатомо-физиологической школы. Прогрессивным мог
быть только второй из этих выводов: если на некоторые процес-
сы невозможно воздействовать непосредственно, надо искать
окольные подходы к цели, кружные пути сознательного управле-
ния подсознательными процессами.
Этим путем и пошли передовая фортепианно-педагогиче-
ская теория и практика. М. Березовский — один из авторов, пы-
тавшихся теоретически обосновать новое направление форте-
пианной педагогики,— писал, что «в сложных движениях недо-
статочно одного только сознания; кроме сознания, мы должны
отыскивать какие-то другие нервно-психические силы, а также
должны уметь соответственным образом управлять этими си-
лами при выполнении нашим телом сложных движений. Именно
1 Ф. Штейнгаузен. Техника игры на фортепиано. М., 1926, с. 10,
33, 35.
2 М. Курбатов оказался последовательнее. Он указывал па значение
в фортепианной игре тяжести и силы падения руки. Но при этом заметил:
«Переходить к приемам фортепианной игры... я не намерен... Как я уже го-
ворил не раз, техника исполнения вполне хороша только в том случае, когда
музыкант пользуется своими приемами бессознательно; поэтому приемы игры,
вырабатываемые сознательно, становятся неправильными, как только мы на
них обращаем внимание» (М. Курбатов. Цит. книга, с. 57).
4
в музыке, а в особенности в технике игры на фортепиано, пси-
хика подсознания несомненно играет важную роль».1 Итак, надо
научиться окольными путями управлять «психикой подсознания»
при выполнении нашим телом сложных движений — таков ис-
ходный тезис рассматриваемого течения фортепианной педаго-
гики. Эта формулировка совпадает с основным положением
системы Станиславского: «У нас нет прямых путей подхода к об-
ласти подсознания, и потому мы должны пользоваться косвен-
ными».1 2 Отсюда лозунг системы: «подсознательное — через соз-
нательное».3
Представители психотехнического направления фортепианной
педагогики предлагают различные методы воспитания техники
пианиста по принципу «подсознательное — через сознательное».
Но в одном они сходятся: важнейшим средством, помогающим
исполнителю найти нужные технические приемы, являются целе-
направленность и целеустремленность действия.
Об этом пишет Ф. Бузони: «Для технического совершенство-
вания требуются в меньшей степени физические упражнения,
а в гораздо большей психически ясное представление о задаче —
истина, которая может быть ясна не всякому фортепианному
педагогу, но которая известна каждому пианисту, достигшему
своей цели путем самовоспитания и размышлений».4 Об этом же
говорит И. Гофман: «Придайте четкость звуковой картине в ва-
шем представлении — пальцы должны будут повиноваться».5
То же положение развивает и В. Бардас: «В работе над техни-
кой надо руководствоваться фантазией и умением истолковать
нотную запись, умением представить себе звучность — прообраз
этой записи».6
Заметим попутно, что фортепианная педагогика ищет практи-
ческие приемы, которые могли бы помочь играющему «психиче-
ски ясно представить задачу». Вот некоторые из таких приемов:
а) осознание того, как построен трудный пассаж (ибо, как пи-
сал А. Шнабель, «познать и наметить трудности — это значит
овладеть ими, упорядочить и преодолеть их»7), б) варианты, по-
могающие понять структуру технической последовательности
(например, исполнение гармонической фигурации «сомкнутыми
аккордами»8 или варианты, обрисовывающие контуры пасса-
1 М. Березовский. Психология техники игры на фортепиано. Сб.
«Психология техники игры на фортепиано». М., 1928, с. 12.
2 К. Станиславский. Работа актера над собой. М., 1938, с. 151.
В дальнейшем: Станиславский. Работа.
3 Там же, с. 47.
4 F. Busoni. Von der Einheit der Musik. Berlin, 1922,л§. 262.
5 И. Гофман. Фортепианная игра. Вопросы и ответы. М., 1938, с. 27.
6 В. Бардас. Психология техники игры на фортепиано. Сб. «Психоло-
гия техники игры на фортепиано», с. 87.
7 А. Шнабель. Предисловие к цит. статье В. Бардаса, с. 47.
8 См., например, вариант Ф. Бузони к прелюдии Соль мажор в его ре-
дакции I тома «Хорошо темперированного клавира» Баха.
жа); в) членение технической последовательности, которое спо-
собствует осознанию ее структуры и быстрейшей автоматиза-
ции;1 г) формулировка технической задачи, способная оказать
воздействие на психику играющего (вот один из примеров-—сло-
ва В. Бардаса о скачках: «намеченную отдаленную клавишу нуж-
но «взять», а не «попасть» в нее... Выражение «взять» заклю-
чает в себе представление о достижимости, а выражение
«попадать» заключает в себе представление о риске при по-
падании, а стало быть, не совсем легкое достижение цели»1 2).
Принцип «подсознательное — через сознательное» использо-
ван и воспитателями спортсменов. Примером может служить ме-
тод обучения гребле Ферберна, известного английского тренера.3
Будучи учеником, Ферберн с группой товарищей решил подшу-
тить над тренером и столкнуть его в воду. Воспользовавшись
его обыкновением править рулем лодки стоя, гребцы во время
тренировки попытались «взять так резко удар, чтобы педагог
от толчка упал в воду». Несмотря на все усилия, это им не уда-
лось. Но, к их величайшему удивлению, тренер заметил, что со-
вершенно для него неожиданно они стали отлично грести. «Вот
тут-то я и понял,— пишет Ферберн,— что мы, стараясь «вытянуть»
из-под него лодку, действительно с силой «загребли» воду лопат-
ками». Стремление к цели помогло гребцам найти нужный техни-
ческий прием. Большинство тренеров твердит новичкам о техни-
ческих приемах. Ученику приходится поневоле следить за положе-
нием своего тела, и тем самым он отвлекается от самой
работы. Далее Ферберн рассказывает, что тренер Томас пре-
восходно подготовил одну кембриджскую «восьмерку», неодно-
кратно занимавшую на гонках первые места. После этого он
стал обучать новые команды тем движениям, которыми пользо-
валась первая «восьмерка». Однако команды стали грести хуже.
Томас не мог понять, в чем причина его педагогических неудач
и что привело к успеху его первую команду. Причина успеха пер-
вых учеников Томаса, полагает Ферберн, заключалась в том, что
тренеру удалось воспитать у гребцов стремление к цели и волю
к победе. Впоследствии Томас стал обучать стилю гребли; его
«мысль перешла от движений лодки на показ гребцам стиля».
Этот путь и привел учеников Томаса к неудачам. Воспитание
устремленности к цели вместо обучения движениям — таков пси-
хотехнический принцип, который Ферберн положил в основу
своей методики обучения гребле. . .
Вернемся к психотехническим школам в области искусства.
Между ними имеются не только черты сходства, но и существен-
1 См. прим. Ф. Бузони к фуге ми минор из I тома «Хорошо темпериро-
ванного клавира».
2 В. Б а р д а с. Цит. статья, с. 58.
3 Метод Ферберна описан в его письме к Р. Трейлу. «Физкультура и
спорт», 1937, № 7, с. 11—12. Внимание мое на это письмо обратил проф.
И. Браудо.
6
ные различия. В теоретических работах пианистов — за отдель-
ными исключениями — речь идет о путях сознательного управле-
ния непроизвольными психическими процессами лишь при воспи-
тании техники. Как правило, в этих трудах не рассматриваются
методы, которые помогли бы воспитанию творческого воображе-
ния, творческого внимания, творческого эстрадного самочувст-
вия. . .
Вопросы эти, как известно, были поставлены Станиславским.
Но было бы неверно полагать, что только им и только в обла-
сти театральной педагогики. Пусть робко и наивно, но о них го-
ворят и отдельные фортепианные методисты. В этом плане тре-
бует к себе более пристального внимания уже упоминавшаяся
брошюра М. Курбатова, вышедшая за четыре десятка лет до
«Работы актера над собой». Даже беглое знакомство с этой
книжкой позволяет усмотреть в ней ряд идей, предвосхищающих
принципы Станиславского.
Курбатов, как и Станиславский, сторонник «искусства пере-
живания». Правда, пианист этим термином не пользуется. Но вот
что он пишет: «Идеальное исполнение — это серьезно продуман-
ная и глубоко прочувствованная мысль композитора, усвоенная
до того, что сделалась личным достоянием исполнителя, и вос-
произведенная им на инструменте именно так, как она звучит
в его представлении в данный момент». Или в другом месте:
«Исполнитель должен иметь строго выработанный проект испол-
нения. .. и вполне искреннее, изменяющееся сообразно настрое-
нию данной минуты исполнение».
Подобно Станиславскому, Курбатов считает необходимым
воспитать у учащихся «чувство правды и веру». Само собой ра-
зумеется, что Курбатов не пользуется этой формулировкой. Но
в книге его среди прочего сказано: «Искренность исполнения при-
дает (художественному произведению.— Л. Б.)... силу, жизнен-
ность»; «идеальное исполнение требует безусловной искренности
душевных движений и настроений». . .
Родственны педагогическим идеям Станиславского и слова
Курбатова о том, «что работа над собой.. . над умением сосредо-
точиваться есть в то же время и работа над искусством», что
«добиться... полной сосредоточенности... крайне трудно», но
что «эта способность несомненно поддается развитию». Близки
системе Станиславского и положения Курбатова о том, что мы-
шечные напряжения тормозят работу воображения и, наоборот,
ощущение телесной свободы дает простор не только технике, но
и полету фантазии исполнителя.
Курбатов — и тут опять соприкосновение со Станислав-
ским — понимает, какое значение в обучении искусству имеет
проблема «сознательного» и «подсознательного». Как уже ука-
зывалось, задолго до выхода работы Штейнгаузена Курбатов
подчеркнул опасность «осознанных движений» и обратил вни-
мание на роль слуха для выработки технических навыков. И вме-
7
сте с тем он ищет — не только в области техники!—сознательных
путей проникновения в тот девственный сад, «через который до
сих пор бессознательно перелетала талантливость на своих мощ-
ных крыльях».1
Наконец, Курбатова сближает со Станиславским еще одно:
он считает, что область обучения музыкально-исполнительскому
искусству должна быть расширена, что она, кроме всего про-
чего, должна включать в себя воспитание «культуры внимания»,
«силы и воли характера», высокой этичности... Курбатов ука-
зывает, что даже очень талантливые художники, обучая других,
могут передать лишь внешнюю сторону искусства, «а самую
суть. . .— неясно, неопределенно». Развивая эту мысль, он с го-
речью и некоторым недоумением пишет: «Да ведь действительно,
как объяснить другому степень своего внимания? Как научить
другого необычайной сосредоточенности во время занятий? Их
самих научила их талантливость, личная требовательность. .,
а ученику разве передать это возможно? Ведь это относится уже
к области психологии, к воспитанию силы и воли характера,
а не к обучению фортепианной игре».1 2
Не для отождествления идей Курбатова и Станиславского на-
писаны эти строки: такое отождествление было бы ошибочно уже
по одному тому, что там, где Курбатов только робко ставит во-
просы, Станиславский их разрешает или ищет путей их разре-
шения. Я хотел лишь показать, что исходные позиции некоторых
течений театральной и музыкальной педагогики оказываются
близкими друг другу и что эта близость в значительной мере
обусловлена тем стремлением передать правду человеческих пе-
реживаний, которое в конечном счете и направило эти поиски
новых методов обучения.. .
Система Станиславского широко и смело подходит к непро-
извольным психическим процессам, которыми художник во что
бы то ни стало должен научиться управлять. Станиславский счи-
тает, что надо проникнуть в тайны художественного творчества,
познать необходимые для этого способности и научиться па них
воздействовать. Ошибочно думать, будто Станиславский ума-
ляет роль сознания в творчестве. Система — во всяком случае
в том виде, в каком она изложена в книге «Работа актера над
собой»— придает сознанию огромную роль в творческом процес-
се. «Наша подсознательная творческая сила,—-пишет Станислав-
ский,— не может обойтись без своего рода инженера — без
сознательной психотехники».3 Методика Станиславского свиде-
тельствует о глубокой вере ее автора в силу человеческого ин-
теллекта. Станиславский стремится найти возможности управ-
лять теми сторонами человеческой психики, к изучению которых
1 М. Курбатов. Цит. книга, с. 13, 17, 16, 20, 43, 6.
2 Там же, с. 41.
3 Станиславский. Работа, с. 47.
8
прежняя театральная педагогика (как, впрочем, и педагогика
музыкальная) подходила с опаской, считая их таинственными и
непознаваемыми.
За единичными исключениями психотехнические фортепиан-
ные школы ищут путей, которые позволили бы управлять непро-
извольными техническими процессами лишь при овладении тех-
никой игры на инструменте. Станиславский же' хочет покорить
воле не только «аппарат воплощения», но в первую очередь
«творческий аппарат переживания»; пытается найти методы, ко-
торые дали бы возможность влиять на «сценические чувства»,
сосредоточенность, воображение, эстрадное самочувствие и са-
мообладание. Таким образом система стремится оказать воздей-
ствие на те стороны творческого процесса, к которым теория
фортепианной игры только начала подходить. Между тем воспи-
тание этих творческих способностей для музыкально-исполни-
тельской педагогики не менее важно, чем для театральной.
Не может ли замечательный опыт Станиславского помочь и
нам, музыкантам? Ведь между театром и музыкой имеются не
только различия, но и некоторые черты сходства. Оба искус-
ства — временные. Музыка, как и драматургия, нуждается в ис-
полнителе— творческом посреднике межйу драматургом и зри-
телем, композитором и слушателем,— который специфическими
средствами своего искусства воплотит художественное произве-
дение. Не окажутся ли кое в чем близкими законы творчества и
творческого воспитания в театральном и музыкальном исполни-
тельских искусствах? Разве не прав А. Шнабель, сказавший,
что «препоны, часто встречающиеся на пути развития, оказыва-
ются общими для всех сложных, хотя бы и различных, форм
духовной деятельности, внешнее проявление которых соединя-
ется с движениями, и для всех чувств, связанных с определен-
ным пластическим оформлением?»1
Еще в 1919 году М. Чехов, излагая взгляды Станиславского,
писал: «Система не есть специально «театральная» теория, не
есть нечто такое, что может быть понятно и полезно только «ак-
теру». Нет, система есть теория «творчества» вообще и нужна и
полезна она всякому артисту, в частности и «актеру». Живопи-
сец, скульптор, музыкант в одинаковой мере вправе предъявлять
к системе те же требования, которые теперь предъявляет пока
только еще один актер».1 2
Надо, однако, опасаться механически переносить теорию ак-
терского творчества в область другого искусства, оставляя без
внимания его своеобразие. «Материалом» актерского искусства
являются сам актер, его тело, мимика, жестикуляция, речь;
«материалом» музыкально-исполнительского искусства — звук
1 А. Шнабель. Предисловие к цит. статье Бардаса, с. 17.
2М. Чехов. О системе К. С. Станиславского. «Горн», 1919, № 2—3,
с. 72.
9
и ритм. Актер накапливает опыт для развития творческого вооб-
ражения в повседневной жизни; музыкант нуждается еще в спе-
циальном музыкальном опыте. По сравнению с актером, высту-
пающим в спектакле, у музыканта-исполнителя более трудный и
сложный вид эстрадного общения с аудиторией.
Система Станиславского, как всякое крупное явление куль-
туры, многообразна и многогранна. К изучению и использованию
ее могут обратиться актер, режиссер, театровед, психолог, музы-
кант-исполнитель... Каждый — со своей точки зрения: не теряя
из внимания системы в целом, он ограничится использованием
определенных ее разделов.
В этой работе я подхожу к методике Станиславского с пози-
ции педагога, обучающего музыкальному исполнительскому ис-
кусству. Это ограничение позволяет сосредоточить внимание на
педагогических проблемах, лишь попутно касаясь других вопро-
сов, не имеющих прямого отношения к теме очерка.
II. О СВЯЗИ МЕЖДУ ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Станиславский был неправ, считая, что его система воспита-,
ния актера относится «не к отдельной эпохе и ее людям, а к ор-
ганической природе всех людей артистического склада, всех на-
циональностей, всех эпох»;1 что его педагогические принципы
равно обязательны «для всех — молодых или старых, левого или
правого направления, женщин или мужчин, талантливых и по-
средственных».1 2 Указать на это заблуждение Станиславского, по-
лагавшего, что существуют «абсолютно истинные» методы воспи-
тания и что они определяются природой человека, помогают
слова... самого же Станиславского: «В разные эпохи разного
рода материалы входили в творчество актера. Для водевиля до-
статочно было поверхностных наблюдений. Для условной траге-
дии Озерова достаточно было, при известном темпераменте ак-
тера и внешней технике, некоторой начитанности в героическом
вкусе. Для психологического оживления посредственной русской
драмы в 60—90-х годах XIX века (если не считать произведений
Островского) актеры могли ограничиться опытом, почерпнутым
в своем кругу и в близком им слое общества. Но когда Чехов на-
писал «Чайку», проникнутую влиянием новой эпохи, прежний ма-
териал оказался недостаточным, потребовалось вникнуть глубже
в жизнь всего общества и человечества, в котором нарождались
веяния более сложные и более тонкие».3 Тут Станиславский, ко-
нечно, прав: «новые веяния» повлекли за собой пересмотр форм
1 Станиславский. Работа, с. 15.
2 К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. М., 1928, с. 709.
В дальнейшем: Станисла вский. Моя жизнь.
3 Станиславский. Работа, с. 382.
10
актерского творчества, теории актерского мастерства, педагоги-
ческих установок и методов.
Педагогические принципы художников, обучающих искусству,
в конечном счете определяются их эстетическими идеалами и по-
ниманием сущности и задач творчества — актерского или музы-
кально-исполнительского. Не природа человека вызывает ту или
иную теорию творчества и обусловленную ею методику препода-
вания: человеческая психика заключает в себе широкие возмож-
ности для возникновения разных, подчас и противоположных си-
стем обучения и воспитания.
«Парадокс об актере» Дидро, подытоживший многолетний
спор об основных принципах психологии исполнительского твор-
чества и в свою очередь вызвавший в XIX веке новую волну ди-
скуссии,1 непримиримо противопоставлял две точки зрения: игра
актера — переживание и игра актера — «чистейшее подражание,
заранее вытверженный урок, патетическая гркмаса, великолеп-
ное обезьянство».1 2 Постановка вопроса о том, должен или не
должен актер переживать на сцене чувства изображаемого лица,
предполагала единое и абсолютное решение проблемы. Между
тем «непримиримая» антиномия парадокса Дидро разрешима и
получает свое объяснение — об этом'справедливо писал психо-
лог Л. Выготский — «как живое и конкретное историческое про-
тиворечие различных форм актерского творчества, менявшихся
от эпохи к эпохе и от театра к театру».3
Естественно, что представители «искусства представления» и
«искусства переживания» часто не находили общего языка,
когда говорили о методах воспитания исполнителя — актера или
музыканта. Педагогические приемы, положенные в основу обу-
чения актера комедии масок (который подчеркивал, что на сцене
не жизнь, а игра, и изображал не живого человека, а схематизи-
рованную фигуру), не могли совпадать с приемами Станислав-
1 Дискуссия о том, надо ли артисту «претворяться» или «притворяться»,
пользуясь главным образом примерами актерской игры, ставила проблемы,
имеющие отношение не только к творчеству актера, по и к музыкальному
исполнительскому искусству. Вспомним, что не только актеры, но и музы-
канты высказывались по поводу поднятых в дискуссии вопросов. Например,
Ф. Э. Бах писал: «Музыкант может захватить слушателя только в том слу-
чае, если он сам увлечен; отсюда необходимость проникнуться всеми теми
аффектами, которые он стремится вызвать в своих слушателях». Иной точки
зрения придерживался Глинка: «Один раз, когда-нибудь, в особенном вдохно-
вении мне случается спеть вещь совсем согласно моему идеалу. Я уловляю
все оттенки этого счастливого раза, счастливого если хотите — «оттиска» или
«экземпляра исполнения» и стереотипирую все эти подробности раз и навсегда.
Потом уже каждый раз только отливаю исполнение в заранее готовую форму.
Оттого я могу казаться в высшем экстазе, когда внутренне я нисколько не
увлечен». (А. Серов. Воспоминания о М. И. Глинке. Сб. «Серовы». П.,
1914, с. 229).
2 Дидро. Парадокс об актере. М., 1922, с. 10.
3 Л. С. Выготский. К вопросу о психологии творчества актера (при-
ложение к кн. П М. Якобсона «Психология сценических чувств актера. М.—Л.,
1936, с. 201).
11
ского, ставившего своей целью воспитать актера совсем другого
типа (актера, который способен передать высшую художествен-
ную правду, «жизнь человеческого духа»).
Несходство педагогических методов Листа («который ни-
когда не обучал по точно сформулированным готовым правилам»
и который готов был принять интересную индивидуальную трак-
товку учеником музыкального произведения даже в том случае,
если она не совпадала с его собственной) 1 и Лешетицкого (кото-
рый подчас требовал от исполнителя фразировки по определен-
ным правилам и считал нужным брать Btfex учеников «в жест-
кие ежовые рукавицы»)* 2 в конечном счете находит свое объясне-
ние в различии их музыкально-эстетических воззрений.
Было бы ошибочно, отмечая зависимость методов исполни-
тельской педагогики от художественных идеалов, проводить знак
равенства между принципами и приемами воспитания исполни-
теля и эстетическими нормами. '
Нередко методы работы педагога находятся в противоречии
с его же художественными установками. Если, например, он ста-
вит своей задачей воспитать исполнителя, который сумеет сво-
бодно и импровизационно передать поэтический образ музыкаль-
ного произведения, но при этом натаскивает ученика, заставляет
его механически копировать свое исполнение («играй, как я»),—
между художественным идеалом и методами воспитания созда-
ются непреодолимые противоречия. Педагог актерского мастер-
ства, требующий от ученика искренности, эмоциональной выра-
зительности и индивидуального своеобразия, но обучающий его
методом подражания типичным для человеческих чувств мими-
ческим выражениям, уводит его в сторону от намеченных целей
и идеалов.3
Отдельные педагогические приемы и методы могут перера-
стать эстетические нормы, которые их породили, и входить в раз-
ные, иной раз и противоречащие друг другу системы воспитания.
Так, например, метод воспитания техники по принципу «ясное
осознание цели» используется в различных, порой и противопо-
ложных по своим художественным устремлениям школах. Прак-
тическим приемом «технического членения» пользуется не толь-
ко Бузони, но и его ученик Петри,4 эстетические принципы кото-
рого во многом не совпадают с принципами его учителя.
Авторитарный принцип художественного воспитания, осно-
ванный на безоговорочном подчинении власти педагога, был ха-
рактерен для различных течений музыкально-исполнительской
‘См. L. Ramann. Franz Liszt, В. II Abt. II. Leipzig, Breitkopf und
Hartel, 1894, S. 104, 106.
2 См. С. M. Майк а пар. Годы учения. М,— Л., 1938, с. 184.
3 Пример заимствован из книги П. М. Якобсона. Психология сцени-
ческих чувств актера. М.— Л., 1936, с. 193.
1 См. Chopin. 12 Etilden, herausgegeben von Egon Petri. Berlin, Verlag
Lintupsky und Spektor, 1924.
12
педагогики XVIII и частично XIX веков. Обусловлен он был не
только эстетическими идеалами, но и влияниями догматических
общепедагогических теорий. Передовые идеи Руссо, а затем Пе-
сталоцци, Дистервега, Ушинского и других очень медленно про-
никали в музыкально-исполнительскую педагогику, которая ше
желала отказываться от привычных и овеянных традицией схо-
ластических взглядов на взаимоотношения педагога и ученика.
Однако противоречия между идеалами романтического исполни-
тельского искусства и школьными догмами, то есть в первую оче-
редь эстетические принципы, создали почву для проникновения
новых педагогических идей в практику музыкально-исполнитель-
ского обучения.
Значение художественно-педагогической школы определяется
ценностью и прогрессивностью той художественной цели, к кото-
рой она ведет ученика, и соответствием между этой целью, с од-
ной стороны, и педагогическими принципами, приемами, мето-
дами обучения и воспитания-—с другой. Педагогические идеи
Станиславского тесно связаны с его художественными принци-
пами. Система отличается гармоничной согласованностью цели и
пути, идеала и метода подведения к нему. Взгляды Станислав-
ского на задачи обучения исполнительскому искусству, на взаи-
моотношения педагога и ученика, критика им различных мето-
дов преподавания — все это имеет важное значение и для музы-
кально-исполнительской педагогики. Нетрудно заметить, что Ста-
ниславский и передовые советские музыкально-исполнительские
школы идут тут нередко одной и той же или близкой по направ-
лению дорогой. Это находит свое объяснение в том, что «стрем-
ление найти художественную правду», которое во многом опреде-
лило педагогические воззрения Станиславского, является основ-
ным эстетическим принципом и нашей музыкально-исполнитель-
ской педагогики.
Художественная правда, творческая искренность лежат в ос-
нове и эстетической и педагогической концепций Станиславского.
Если основным смыслом искусства является «служение и выяв-
ление жизни»,1 если высшей задачей искусства — достижение
художественной правды, то всеопределяющим педагогическим
принципом должно быть воспитание «чувства правды и веры».
Понятие художественной правды, по мнению Станиславского,
не может, а главное, не должно быть определено с исчерпы-
вающей точностью.1 2 Такая точность, если бы она и была воз-
можна, усыпила бы то, что до последней степени нужно худож-
никам: любопытство, пытливость, творческое побуждение, на-
правленное на поиски «истины страстей»; она, такая точность,
1 Беседы К- С. Станиславского, записанные К. Е. Антаровой. М., 1939.
В дальнейшем: Станиславский. Беседы.
2 «Я утверждаю, что такое сознание вредно» (Станиславский. Ра-
бота, с. 325).
13
создала бы у некоторых маловзыскательных людей успокоение:
им казалось бы, что «они уже все знают о художественном в об-
ласти творчества». Станиславский лишь намечает путь, который
может привести к «истине страстей» в исполнительском ис-
кусстве: глубочайшее проникновение в авторскую идею и такое
«вживание» в передаваемый образ, при котором актер сущест-
вует, живет, чувствует, мыслит одинаково с ролью. Отсебятины,
добавления — если речь идет о гениальных и монолитных произ-
ведениях— уводят артиста с верного пути: «На живом организме
прекрасной пьесы образуется дикое мясо, которое мертвит кусок
или всю пьесу».1 Только поняв авторский текст и его «домыс-
лив», актер познает чувство правды и веру.
Путь, ведущий к художественной правде, один и тот же для
обоих исполнительских искусств: театрального и музыкального.
Только проникнув в авторскую поэтическую идею и домыслив
авторскую запись, музыкант-исполнитель сумеет сродниться с ав-
торским замыслом и — если он владеет средствами воплоще-
ния— передать его. с таким темпераментом, убедительностью и
непринужденностью, как будто он излагает свои идеи, свои чув-
ства, свои мысли. Исполнительство — «большое творчество и
подлинное искусство».1 2 Музыканту, как и актеру, необходимо «по-
верить чужому вымыслу и искренне зажить им»,3 «вложить в чу-
жой текст свой подтекст», «пропустить через себя весь мате-
риал», «переработать его в себе, оживить и дополнить своим
воображением».4 Так зарождается художественная правда —
«истина страстей».
Начальный этап работы над музыкальным произведением ха-
рактеризуется в основном тем, что оно противостоит исполни-
телю как вне его стоящий объект. Это еще «игра», а не «испол-
нение». Между «игрой» и «исполнением» — качественное разли-
чие. Интерпретатор должен проникнуться авторской мыслью и
чувством, внутренне согласиться с композитором. В процессе
освоения его замысла артист создает в воображении свой образ.
«Приняв за правду» все то, что он создал в воображении, и по-
чувствовав необходимость того, что он делает, играющий начи-
1 Станиславский. Работа,"С. 325, 315, 242.
2 Там же, с. 103. Ср. со словами Р. Вагнера: «Говорю — полусознательно
то, что думаю, а именно: что, в сущности говоря, только исполнитель яв-
ляется настоящим художником. Все наше поэтическое творчество, вся ком-
позиторская работа наша — это только нёкоторое хочу, а не могу. Лишь
исполнение дает это могу, дает — искусство^ (Р. Вагнер. Письма. Днев-
ники. Обращение к друзьям, т. IV. П., 1911, с. 22).
3 «Такое творчество на чужую тему нередко труднее, чем создание соб-
ственного вымысла» (Станиславский. Работа, с. 103). Ср. со словами
Бузони: «Это почти сверхчеловеческая задача откинуть собственные чувства
для того, чтобы перевоплотиться в чувства самых разных индивидуальностей
и отсюда изучать их творение» (F. Busoni. Von der Einheit der Musik. Цит.
изд., S. 71).
4 Станиславский. Работа, с. 103.
14
нает говорить от своего имени, начинает исполнять. Искренняя
убежденность — основа исполнительского творчества, как и ос-
нова всякой творческой деятельности человека. «Нельзя творить
то, чему сам не веришь, что считаешь неправдой».1 Нельзя убе-
дить другого в том, в чем не убежден сам.
III. ОБ ОСНОВНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
Поиски путей, которые позволили бы воспитать «творческую
искренность», привели Станиславского к ряду истин. Хотя они
известны передовой музыкально-исполнительской педагогике, но
не приняты или не всегда правильно поняты широкими кругами
педагогов.
Задача педагога состоит в том, чтобы научить ученика пони-
мать искусство и владеть им. Другими словами — ввести ученика
в мир искусства, разбудить его творческие способности и воору-
жить техникой. Эта цель может быть осуществлена тогда, когда
обучающийся разучивает произведение искусства (роль, музы-
кальное сочинение) и работает над специальными упражнения-
ми, развивающими те или иные стороны' «аппарата пережива-
ния» и «аппарата воплощения». Если педагог занят только тем,
чтобы показать, как надо сыграть пьесу, ему не подвести уче-
ника к творчеству. Работа над музыкальными произведениями
сама по себе не может являться целью. Каждое поставленное
задание должно помочь учащемуся приобрести какое-то новое
качество...
Творчеству научить нельзя. Но можно научить творче-
ски работать. Этим сложным процессом работы исполнителя
над собой педагог может и должен активно руководить.
По мысли Станиславского, надо осудить такие убийственные
для воспитания «чувства правды и веры» и, следовательно, для
искусства, педагогические, методы, как натаскивание, подража-
ние, копирование. Даже самому себе опасно подражать; даже
повторение самого себя подобно попытке «воскресить увядший
цветок» вместо того, чтобы «вырастить новый взамен увядшего».1 2
Но еще более вредно копировать то, что сделано другим. В ис-
кусстве «скопированное» и «сделанное» недолговечно, увядает,
как «цветы, воткнутые детьми в песок их «садиков». Лишенные
корней растения не находят себе пищу в земле и умирают».3
Приведенные мысли ни среди музыкантов, ни среди деяте-
лей театра споров как будто не вызывают. И все же положения
эти нуждаются в конкретизации и анализе.
1 Станиславский. Работа, с. 274.
2 Там же, с. 367.
3 С. Б и р м а н. Труд актера. М., 1939, с. 8.
15
Разберемся прежде всего в том, что такое натаскивание,
а что — копирование; действительно ли они неразрывно связаны
друг с другом?
При натаскивании педагог обращается к подражательным
способностям ученика. Обучающий расчленяет обычно художе-
ственное произведение на части, играет их и заставляет ученика
подражать себе. С уровнем развития своего воспитанника он
не считается; не заботится он и о том, чтобы ребенок или подро-
сток понял и почувствовал смысл и закономерность того, что де-
лает. Полученный результат не закрепляется обобщением. Поэ-
тому не только каждый новый случай, но даже повторение
ранее решенной задачи оказывается для ученика чем-то «неизве-
данным», которое он должен каждый раз открывать заново. На-
таскивание, таким образом,— поверхностный и формальный
метод педагогической работы. Он, повторяю, не приводит к об-
общениям и не помогает ученику познать закономерности испол-
нительского искусства.
Педагог, натаскивающий ученика, подобен фальшивомонет-
чику. Ложь ученического исполнения он пытается прикрыть ми-
шурой внешней правдивости. Но ложь, как бы опа ни была
украшена, остается ложью. Натаскивание влечет за собой не-
осмысленное, а потому вредное копирование. Педагог пытается
миновать сложный и обычно длительный процесс музыкально-
эстетического воспитания и идет, как ему кажется, кратчайшим
путем — учит играть данное произведение. Но исполнительская
педагогика не геометрия: путь напрямик оказывается самым
длинным и нередко самым худшим, окольные дороги — самыми
близкими и самыми правильными.
По Станиславскому, педагога, натаскивающего ученика, мож-
но сравнить с человеком, который двигает часовую стрелку паль-
цем вместо того, чтобы, заведя пружину часов специальным
ключом, заставить сами стрелки указывать время.
При натаскивании используется копирование, но копирование
вовсе не следует отождествлять с натаскиванием. Не могу со-
гласиться с широко распространенным мнением и полагаю, что
показ и использование подражания — важные педагогические
средства, от которых исполнительская педагогика не может и не
должна отказываться. В последнее время «подражание» стало
в некоторых педагогических кругах одиозным понятием. Даже
начинающему обучаться музыке ребенку и тому не рекомендуют
подражать — вредно, мол, для его «индивидуальности». Забы-
вают, что подражание является одной из характерных для де-
тей форм поведения, которая помогает им познать и приспосо-
биться к внешнему миру и способствует поэтому их развитию.
Забывают и другое: все или почти все великие композиторы и
исполнители, писатели и артисты, живописцы и скульпторы во
время своего формирования испытывали влияние других творче-
ских индивидуальностей и нередко подражали им. Разве копи-
16
ровапис или подражание метало им обрести «свое», «индиви-
дуальное»? Л может быть. . . помогало?
Описывая свое «артистическое детство», «артистическое отро-
чество» и «артистическую юность», Станиславский рассказывает,
что в эти периоды он подражал ряду выдающихся актеров. Ду-
маю, что это способствовало, а не мешало развитию его художе-
ственной личности. Неразумно отрицать, что подражание может
порой стать для ученика силой, содействующей формированию и
развитию его индивидуальности.
Педагоги, протестующие против показа и копирования, часто
опираются на мнение Станиславского. Но Станиславский-теоре-
тик находился здесь в противоречии со Станиславским-практи-
ком: сам он прибегал к этой форме педагогической работы. Пе-
дагогическая интуиция подсказывала ему правильное решение
проблемы.1 Он заблуждался, полагая, что с помощью показа
можно научить только «внешнему» и что этим методом невоз-
можно подвести ученика к творчеству. Не всегда показ влечет
за собой «пассивное копирование»: хорошо скопировать вовсе
не просто; ведь это требует активного вслушивания, осознан-
ного или неосознанного слухового анализа. Но допустим, что
сначала ученик воспринял лишь нечто внешнее, не смог понять
суть показанного. И это в конечном итоге может помочь ему
порой понять поэтический образ произведения. Показ, который
активизирует, «подталкивает» творческую фантазию ученика,
способен принести неоценимую пользу. . .
Эти рассуждения подводят к одному из основных противо-
речий исполнительской педагогики: к вопросу о педагогическом
воздействии и сохранении индивидуальности ученика, к пробле-
ме «педагог и ученик». В схематической форме противоречие это
может быть изложено так: исполнительскому искусству надо
обучать (актера надо научить «понимать и владеть искусст-
вом») ; исполнительское искусство — творчество (исполнитель-
ство — «большое творчество и подлинное искусство»); творче-
ству научить невозможно; следовательно, и исполнительскому
искусству, нельзя обучить («научить играть вообще никого
нельзя»).2 Круг замкнулся: исполнительскому искусству надо
обучать, по нельзя обучить!
Откажемся от парадоксальной формы изложения и сформу-
лируем основные антиномии исполнительской педагогики в сле-
дующих пунктах.
1. Исполнитель передает слушателю или зрителю свои чув-
ства, свои мысли, свой образ. Верность самому себе, своей
1 У Станиславского,— пишет Л. Леонидов,— «есть замечательная способ-
ность— он может сидеть и анализировать; ио как только он начинает что-
нибудь показывать,— все его теории летят в сторону, они больше не суще-
ствуют» (Л. Леонидов. Творческая встреча с молодыми актерами. М.,
1938, с. 15).
- Станиславский. Моя жизнь, с. 35; Работа, с. 103, Беседы, с. 19.
2 Зака! № 1730 17
индивидуальности, своим эмоциям — решающее условие творче-
ской искренности. «Артист может переживать только свои соб-
ственные эмоции. Или вы хотите, чтобы актер брал откуда-то
все новые и новые чужие чувствования и самую душу для каж-
дой исполняемой им роли? Можно взять на подержание платье,
часы, но нельзя взять у другого человека или у роли чувства...
мое чувство принадлежит неотъемлемо мне, а ваше — вам...
Нарушение этого закона равносильно убийству артистом испол-
няемого им образа, лишению его трепещущей, живой, человече-
ской души, которая одна дает жизнь мертвой роли».1
2. Репродуктивное искусство требует от исполнителя своеоб-
разного «слияния» с драматургическим или музыкальным произ-
ведением, которое он интерпретирует. Исполнение роли озна-
чает: «Я существую, я живу, я чувствую одинаково с ролью».1 2
Музыкант-исполнитель, по мнению Бузони, должен выполнить
«сверхчеловеческую задачу» для того, чтобы «перевоплотиться»
в чувства самых разных индивидуальностей».3
3. Ученик, который готовится стать исполнителем, изучает
искусство. Педагог должен активно руководить этим изучением.
Он прививает свои эстетические принципы и, будучи художни-
ком, не может не стремиться к этому. Обучение исполнитель-
скому искусству — вовсе не мирный и благодушный процесс. На-
против, он нередко представляет собой очень сложную психоло-
гическую борьбу, в которой педагог руководит, направляет и,
если нужно, изменяет.
4. Натаскивание не должно иметь места в педагогической ра-
боте. Этим методом можно научить внешнему и приблизитель-
ному. Подделать можно лишь оболочку. Но, с другой стороны,
непосредственное обучение «переживанию» и проникновению
в сущность произведения невозможно; нельзя заставить другого
«жить и чувствовать по чужому велению».4
Перед нами клубок противоречий; если исполнитель может
переживать только собственные эмоции, если в этом залог
«творческой искренности», то как совместить это с необходимо-
стью «перевоплощаться в чувства самых разных индивидуально-
стей»? Первое положение находится в противоречии со вторым.
Но оно противоречит и третьему: если в исполнительском искус-
стве такую важную роль играет индивидуальная творческая не-
повторимость, как совместить сохранение индивидуальности уче-
ника с педагогическим воздействием, с необходимостью, если
это нужно, изменять и перевоспитывать? Наконец,— тут сталки-
1 Станиславский. Работа, с. 353—354.
2 Там же, с. 315.
3 Ср. со словами М. Щепкина: актеру «предстоит невыразимый труд;
он должен начать с того, чтобы уничтожить себя, свою личность, всю свою
особенность и сделаться тем лицом, какое ему дал автор» (М. Щепкин.
Записки и письма. П., 1914, с. 180).
4 Станиславский. Работа, с. 343.
18
ваются третье и четвертое положения,— как осуществить педаго-
гическое воздействие, как привить определенные эстетические
принципы, если нельзя учить с помощью натаскивания и меха-
нического копирования и невозможно заставить другого чело-
века «жить и чувствовать по чужому велению»?
Эти противоречия не раз привлекали к себе внимание педаго-
гов-художников. Но размышления об этих антиномиях прини-
мали нередко разный характер: то облекались в достаточно от-
четливую форму логических противопоставлений, то ощущались
как некие смутные, не вполне ясные, но глубоко волнующие во-
просы обучения исполнительству. Пытливые педагоги, главным
образом в своей практической деятельности, искали разрешения
этих «вечных проблем».
Так, например, Т. Лешетицкий, несомненно задумывавшийся
над этими противоречиями, считал необходимым активно педа-
гогически воздействовать на ученика, а если нужно, то и подчи-
нить его индивидуальность своей. «Большие таланты не меньше
маленьких дарований нуждаются в дисциплине»,— говорил он
ученикам, давая им педагогические советы.— «Не бойтесь ни-
когда убить природную художественную индивидуальность уче-
ника этой дисциплиной. Чем крупнее оказывался талант учени-
ка, тем больше брал я его в жесткие ежовые рукавицы. Самая
лучшая кровная арабская лошадь, оставшись без хорошего, уме-
ющего ее объезжать наездника, перебьет себе ноги».1
В 1930 году в западноевропейской литературе была сделана
попытка найти выход из этих педагогических противоречий
с иных позиций. К. А. Мартинсен в своей во многих отношениях
интереснейшей книге,1 2 исходя из идеи об «индивидуальной зву-
котворящей воле» как решающем факторе музыкально-исполни-
тельского творчества, стремился разрешить две проблемы: педа-
гог и ученик, с одной стороны, и ученик (исполнитель) — компо-
зитор, с другой. Мартинсен, как он указывает, искал путей, кото-
рые позволили бы воспитать индивидуальную творческую
неповторимость ученика. «Индивидуальные различия звукотво-
рящей воли — вот та основа, на которой построена эта книга».3
Индивидуальность, по мнению Мартинсена,— это неизменная
психическая конституция человека, данная ему природой. Эта
психическая данность обладает изначальной эстетической уст-
ремленностью и не подлежит изменению. В исполнительском
искусстве Мартинсен придает решающее значение верности ху-
дожника творческой индивидуальности: «Чем больше художник
находит самого себя, тем глубже становится его переживание,
тем убедительнее становится его исполнение великих произведе-
1 С. М. Майкапа р. Годы учения, с. 84.
2 Carl-Adolf Martienssen. Die individuelle Klaviertechnik... Leipzig,
Breitkopf und Hartel, 1930.
3 Martienssen. Цит. книга, с. 228.
2*
19
ний человечества. Переживают в конце концов самого себя».1
Индивидуальность, по его мнению, не остается без внешних вли-
яний, но они воздействуют лишь в том случае, если находят
соответствующие отклики в самой личности художника. Воля и
сердце артиста свободны. Душа его примет лишь то, что ей со-
ответствует, и ищет лишь там, где она хочет...
Итак, «индивидуальная звукотворящая воля» — независимая
и не подлежащая изменению категория. Естественно, что это за-
ставило Мартинсена задуматься над тем, «каким образом пе-
дагог, несмотря на эти основные требования, сможет оставаться
руководителем». Выход, по его мнению,— в «свободной педаго-
гике». «Органически свободный рост индивидуума,— пишет
он,— является основным требованием общей педагогики наших
дней; требование это распространяется также и на музыкальное
воспитание, в особенности на фортепианную педагогику». По
Мартинсену, начиная заниматься с ребенком, педагог должен
в хаотической бесформенности еще не сложившейся индивиду-
альности своего воспитанника найти черты его природной эсте-
тической устремленности. Как это сделать? «Постоянно застав-
лять ученика экспериментировать, пробовать, зазвучит ли пьеса
лучше в том случае, когда она исполнена так, или тогда, когда
сыграна иначе». Таким путем педагог сможет решить, полагает
Мартинсен, к какому из трех пианистических типов относится
учащийся: к статическому (или классическому), экстатическому
(или романтическому) и экспансивному (или экспрессионист-
скому). Когда «индивидуальность» определена, педагог должен
«предоставить ученику найти свое собственное «я», предоставить
ученику выработать свое собственное „я”».1 2 Мартинсен предосте-
регает педагога: не надо посягать на то, чтобы воспитать в опре-
деленном направлении' органическое художественное «я» уче-
ника. Такое посягательство не может не привести к катастрофе,
«Знатоку истории, знатоку человеческого сердца,— восклицает
Мартинсен,— известно, какие катастрофические последствия вле-
чет за собой стремление фанатиков «истины» посеять свою
«истину» в душах тех, которые неспособны воспринять эту „ис-
тину”».3 Итак, созерцай, изучай, выявляй, организуй, развивай,
но не влияй и не изменяй — такова педагогическая формула
Мартипсена-теоретика.4
1 Martienssen. Цит. книга, с. 236. В дальнейшем я частично исполь-
зую материал моей статьи о книге Мартинсена (см. Л. Б а р е н б о и м. Сов-
ременная теория «индивидуальной» фортепианной педагогики К. Мартинсена.
«Сов. музыка», 1933, № 4).
2 Martienssen. Цит. книга, с. 85, 86, 189, 236.
3 Там же, с. 87.
4 Любопытно, что, как только Мартинсен переходит к практике, он за-
бывает о «свободной педагогике» и замечает, что задачей современной педа-
гогики «является мудрое сочетание руководства и свободного развития, оков
и свободы» (с. 186). Касаясь первых шагов начального обучения, Мартинсен
предлагает вести ученика отнюдь не по свободному, а пс совершенно точ-
20
Лешетицкий, как указывалось, считает, что убить индивиду-
альность ученика педагогическим воздействием невозможно.
Мартинсен же стоит на других позициях: он механистически раз-
решает противоречие и, не замечая диалектической сопряженно-
сти обеих его частей, отбрасывает одну сторону антиномии —
активное педагогическое воздействие.
Механистическое разрешение Мартинсеном проблемы «педа-
гог и ученик» тем резче бросается в глаза, что находится в несо-
ответствии не только с его же высказываниями о практике форте-
пианной педагогической работы, но и с тем, как он теоретически
решает проблему «исполнитель — композитор». Здесь Мартинсен-
художник берет верх и подсказывает Мартинсену-теоретику диа-
лектическое понимание антиномии, во многом совпадающее
с эстетическими и педагогическими принципами Станиславского.
«Произведение искусства,— пишет Мартинсен,— может быть
пережито и воссоздано в индивидуальной форме, или же оно
вообще не будет пережито и воссоздано. Это относится — и мы
это подчеркиваем — как к начальным, так и к высшим ступеням
обучения».1
Но если переживать и творить можно только в «индивидуаль-
ной форме», если «всегда, без всяких исключений», надо «поль-
зоваться собственным чувством», как совместить этот принцип
с основной задачей исполнителя — верностью авторской мысли,
идее, образу, верностью роли? «С одной стороны стоит сверх-
личная сущность произведения, с другой — индивидуальность
исполнителя; может ли это привести к единству»?* 1 2 Как Ста-
ниславский в своей области, так и Мартинсен в своей придает
решению этой проблемы огромное значение.
Механистическое разрешение рассматриваемого противоречия
просто: если отказаться от «верности исполнителя самому себе»,
тем самым станешь на позиции «объективного исполнителя»,
для которого идеал искусства — формально точное выполнение
написанных знаков;3 если отказаться от «верности автору»,
нок!у и определенному пути так называемой «статической звукотворящей
воли».
1 Martienssen. Цит. книга, с. 235. Такова же исходная позиция Ста-
ниславского: «Всегдй действуйте от своего лица человека-актера. От себя ни-
куда не уйдешь. Если же отречься от своего я, то потеряешь почву, а это са-
мое страшное. Потеря себя на сцене является тем моментом, после которого
сразу кончается переживание и начинается наигрыш. Поэтому сколько бы вы
ни играли, что бы ни изображали, всегда без всяких исключений, вы должны
будете пользоваться собственным чувством» (Станиславский. Работа,
с. 354).
2 Martienssen. Цит. книга, с. 229.
3 Вспомним, как возмущался «объективным исполнением» Бузони: «За-
дача исполнителя — снова оживить окаменелые знаки и привести их в движе-
ние. Но законодатели требуют, чтобы исполнитель передавал эту мертвенность
знаков, и считают передачу тем совершеннее, чем больше она придерживается
знаков» (Ф. Бузони. Эскиз повой эстетики музыкального искусства. Пере-
вод В. Коломийцева. СПб., 1912, с. 25).
21
легко скатиться к «анархическому исполнению» и к «самопо-
казу».1
Пытаясь разрешить вопрос «педагог и ученик», Мартинсен
пошел по механистическому пути; в разрешении же противоре-
чия «ученик (исполнитель) — композитор» он выбирает иную
дорогу. Задача исполнителя, замечает он, так глубоко проник-
нуть в «души великих произведений фортепианной литературы»,
чтобы в этом проникновении, в этих поисках авторского образа
«найти собственную душу». «Чем глубже ученик сумеет проник-
нуть в законы художественного произведения, тем больше сущ-
ность произведения будет видоизменять и придавать новые черты
его технике;1 2 с другой стороны, обогащенная техника позволит
ученику проникнуть в произведение искусства и облегчит ему эту
задачу».3
Правильный принцип, правильное диалектическое разреше-
ние противоречия! Но обосновать свою мысль Мартинсен не
пытается, да и не может, так как она находится в логическом
противоречии с его пониманием «индивидуальности». Если «лич-
ность»— изначально данная и неизменная категория, то вер-
ность исполнителя себе может оказаться противоречащей вер-
ности автору и верности образу. Если же, наоборот, индивидуаль-
ность понимать не как статичную, а как динамичную категорию,
не как независимое, данное природой «я», а как изменяющуюся
и развивающуюся величину, все становится на свои места:
в процессе творческого (но не внешнего, механического) про-
никновения в чужой образ становится возможным расширение
интеллектуальных и эмоциональных границ личности. Благодаря
обогащению и связанному с этим изменению личности чужой
образ перестает быть чуждым образом, и исполнитель стано-
вится в силах объединить личное, «индивидуально неповтори-
мое», с идеями, мыслями и чувствами автора. Так получают
возможность сочетаться оба положения — сохранение индиви-
дуального начала и верность образу: познавая «чужое», обрета-
ешь себя, свое «личное» и тем самым находишь путь к творче-
ски искренней и верной интерпретации музыкального произведе-
ния или роли.
1 Мартинсен, как и Станиславский, резко выступает против «самопо-
каза»: «Со всей определенностью надо высказать следующее положение: субъ-
ективное проникновение в художественное произведение не имеет ничего
общего с субъективной чувственной мечтательностью, противостоящей про-
изведению искусства. Исполнитель, в душе которого возникала когда-либо
мысль: «Я хочу показать, что я могу из этого произведения сделать»,— не
художник и никогда не будет художником» (М artienssen. Цит. книга,
с. 236).
2 Не надо забывать, что, по Мартинсену, «индивидуальная техника» и
«индивидуальная звукотворящая воля» неразрывны и что, говоря о технике,
он часто, как и в данной цитате, имеет в виду не только «аппарат воплоще-
ния», но и «аппарат переживания».
3 Martienssen. Цит,-книга, с. 236.
22
Эта возможность, однако, не безгранична. По мысли Стани-
славского, необходимость «слить» свое «я» с ролью (или, до-
бавлю, с музыкальным произведением) в какой-то мере ограни-
чивает диапазон творчества даже самого даровитого исполни-
теля: актер не может вместить в себе «все чувства всех ролей
мирового репертуара», а «те роли, которые не вместятся», ни-
когда не удастся хорошо сыграть.1 Однако, как справедливо
указывает В. Асмус, проблема «творческого ограничения» ис-
полнителя в постановке ее Станиславским диалектична, «ибо не-
преложные даже для самого даровитого артиста границы его
способности перевоплощения одновременно являются показате-
лями и мерой присущей ему широты и богатства его внутрен-
него содержания».1 2
Итак, «индивидуальность» — это не только природные за-
датки. Она представляет собой сложную и изменяющуюся кате-
горию, которая складывается из всего того, что было воспринято,
усвоено, запечатлено, впитано и переработано «душевным аппа-
ратом». Такая трактовка этого понятия дает ключ и к разреше-
нию проблемы «педагог — ученик». Лишь тот, кто способен на-
учить ученика понимать искусство и владеть им и кто в этом
видит свою задачу, сумеет помочь ученику найти свое «я». Не
в «свободном выращивании» ученика (метод «Wachsenlassen» —
выявляй, развивай, но не изменяй) и не в самовластии педа-
гога, а в планомерном воспитании, ведущем к собственному
творчеству, видят Станиславский и передовая советская музы-
кально-исполнительская педагогика разрешение противоречия
между «индивидуальной неповторимостью» и необходимостью
менять, перевоспитывать и переделывать. Подлинный педагог
подводит ученика к усвоению и ассимилированию определенных
эстетических взглядов не навязыванием своих идей, не прика-
зом «жить и чувствовать, как я», а окольными и всегда индиви-
дуальными путями. Благодаря этому тенденция педагога смо-
жет «превратиться в собственную идею, претвориться в чувство,
стать искренним стремлением, второй натурой артиста».3
Система воспитания, ведущая к творчеству, отвергает, таким
образом, те формальные методы обучения, которые можно оха-
рактеризовать так: «сделать» — это главное; но не обязательно
почувствовать и понять, почему и для чего надо «сделать».
Система творческого воспитания противостоит авторитарной
исполнительской педагогике, которая ставит своей целью сотво-
рить ученика по образу и подобию учителя; противостоит она и
методам «свободного выращивания» ученика.
Система творческого воспитания важнейшее значение при-
дает окольным путям воспитания, которые в педагогической ра-
1 Станиславский. Работа, с. 354.
2 В. Асмус. Эстетические принципы системы Станиславского. «Театр»,
1939, № 5, с. 23.
3 Станиславский. Моя жизнь, с. 432.
23
боте нередко оказываются единственно возможными. Основной
лозунг психотехнических школ — «подсознательное — через соз-
нательное» — подчеркивает важность этих кружных путей вос-
питания.
Система творческого воспитания требует индивидуализации
путей работы с учеником. Она несовместима с методом «всех
стричь под одну мерку». Каждую личность характеризует непо-
вторимое сочетание ряда врожденных и приобретенных свойств
и качеств, и, только используя естественные особенности уче-
ника, педагог может осуществить воздействие и воспитать худо-
жественную индивидуальность. Как при работе с начинающим,
так и при работе с подвинутым учеником, педагог никогда не
начинает воспитания и обучения искусству на пустом месте, ни-
когда не осуществляет «первого толчка». Педагог исходит из на-
личного опыта ученика и, развивая и, если нужно, изменяя ц
перевоспитывая, этот опыт использует.
Система творческого воспитания предполагает соблюдение
педагогом важнейшего принципа воспитательной работы — свое-
временности. Исполнитель, как и всякий художник, должен
пройти через ряд последовательных стадий развития. Переско-
чить через естественные фазы художественного роста невоз-
можно. Бутон цветка, раскрытый нетерпеливой рукой человека,
а не органическим ростом растения, вянет и гибнет. Многие не-
достатки учеников, которые педагог пытается исправлять, отно-
сясь к ним с преувеличенной серьезностью и строгостью, вызва-
ны трудностью роста; подобно стеблевым листьям растения,
они постепенно отпадут сами собой. Нетерпеливым педагогам,
спешащим развить аппарат переживания и воплощения и тре-
бующим «роз в конце мая», следует помнить, что артистическое
развитие человека протекает постепенно и последовательно:
«медленно переключается из одной сферы творчества в другую
вся гамма восприятий, и человек как бы заново рождается в ис-
кусстве».1 Скольким педагогам хочется ежечасно напоминать муд-
рые слова Гёте: «Я друг растений, я люблю розу... но я не на-
столько безумен, чтобы требовать от моего сада роз уже теперь,
в конце мая. Я доволен, если теперь найду на розовых кустах
первые зеленые листочки; доволен, если вижу, что в течение
недель листок за листком прибавляется па стебле; я доволен,
если в мае вижу бутон, и я счастлив, когда, наконец, июнь дарит
мне розу во всем ее великолепии, со всем ее ароматом».1 2
Система творческого воспитания предполагает понимание пе-
дагогом давно известной истины: воспитать желание и умение
приобретать знания и навыки несравнимо важнее, чем обучить
каким-то знаниям и известному числу навыков. Овладеть осно-
вами своего искусства учащийся может только путем собствен-
1 Станиславский. Беседы, с. 53.
2 И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте. М., 1934, с. 60.
24
пых деятельных усилий. Педагог, который преподносит ученику
все в раскрытом виде, не приучает .ученика искать, не воспиты-
вает творческой пытливости.
Система творческого воспитания предполагает, что сам пе-
дагог увлечен искусством и ставит себе задачей увлечь и зажечь
учащегося. Учитель, действующий страхом, не сможет осущест-
вить свою задачу. Раздраженный воспитатель, вносящий в ра-
боту беспокойство и трепет вместо обаяния и радости, обычно
оказывается творчески бессильным.1
Система творческого воспитания предполагает понимание
взаимосвязи между замыслом и техникой. Намерение само по
себе не имеет никакой ценности, оно получает смысл лишь в опо-
средствованном, реализованном виде — актерской игры, музы-
кального исполнения. С другой стороны, имеется и обратная за-
висимость: исполнительское умение повышает уровень понима-
ния и прочувствования. Слова Бузони «чем больше средств
в распоряжении художника, тем больше он найдет им примене-
ния»1 2 являются выражением именно этой мысли, а не проповедо-
ванием формализма. Станиславский полагал в первый период
работы над «системой», что приемов внутренней техники доста-
точно и что для выявления своих переживаний «актеру нужно
овладеть на сцене творческим самочувствием, а все остальное
придет само собой».3 Впоследствии он осознал свое заблужде-
ние и понял, что творчество «не в одной внутренней работе во-
ображения, но и во внешнем воплощении своих творческих меч-
таний», что надо добиться «теснейшей», непосредственной связи
между нашей телесной и духовной природой, для того чтобы че-
рез одну воздействовать на другую». Но этого мало: чем более
тонкие душевные переживания должен выявить исполнитель, тем
более отзывчив и разработан должен быть его технический аппа-
рат. Задача расширения кругозора ученика, подготовка «аппа-
рата переживания» к творчеству, не должна заслонять собой
приобретения технического мастерства. «Артист нашего тол-
ка,— замечает Станиславский,-—должен гораздо больше чем
в других направлениях искусства, позаботиться не только о внут-
реннем аппарате, создающем процесс переживания, но и о внеш-
нем, телесном аппарате, верно передающем результаты творче-
ской работы чувства — его внешнюю форму».4
Система творческого воспитания свое острие направляет про-
тив трафаретов, мертвящих искусство. Штамп, фетишизирую-
щий какие-то способы выразительности в отрыве от породившей
их художественной сущности, несовместим с «чувством правды»,
обедняет эмоциональный мир исполнителя, убивает творческие
1 См. Станиславский. Беседы, с. 44.
2 Г. В u s о n i. Цит. книга, с. 105.
3 Станиславский. Моя жизнь, с. 533.
4 Станиславе» и и. Работа, с. 124, 321, 574.
25
порывы. Борьба педагога со штампами — необходимейшее ус-
ловие творческого воспитания в искусстве.
Система творческого воспитания не только не умаляет значе-
ния педагога (ученик—все, педагог — ничто), но, наоборот, рас-
ширяет рамки и масштаб его работы. Тем самым она предъяв-
ляет к личности педагога, его знаниям, умению, кругозору и по-
ведению огромные требования. Педагог не только обучает
основам искусства, но, воспитывая «душевный аппарат», стано-
вится художественным и этическим руководителем ученика. Он,
педагог, обязан научить своего воспитанника слушать и слышать,
смотреть и видеть, наблюдать и делать отбор, «понимать смысл
наблюдаемых явлений», «переработать в себе воспринятые чув-
ствования». Со всей страстностью большого художника Стани-
славский доказывает старую, по всегда важную мысль: чтобы
«жить для искусства», нужен беспредельно широкий кругозор,
желание и умение «вникать в смысл окружающей жизни, напря-
гать свой ум, пополняя его недостающими знаниями, пересмат-
ривать свои воззрения», «вести содержательную, интересную,
красивую, разнообразную, волнующую и возвышающую жизнь».1
Пробудить творческую искренность молодого художника, как
уже указывалось, является важнейшей задачей педагога, а одип
из путей, который позволяет это осуществить,— воспитание этич-
ности.1 2 Вот почему надо научить исполнителя работать «над
доброжелательством к людям», выпроваживать «за двери за-
висть, сомнение, неуверенность, страх», «улавливать в каждом
человеке какую-то ценность». «Чем ниже ваши чувства и мыс-
ли,— говорил Станиславский студийцам,— тем больше вы ви-
дите вокруг себя плохого, потому что до хорошего надо вам
еще подыматься, а плохое вы без усилия увидели».3
Наконец, система творческого воспитания призывает к борьбе
с беспочвенностью и бессистемностью, к научной проверке прак-
тических методов.4 Наряду с этим система напоминает о старой
истине: умение играть еще не есть умение преподавать. Забве-
ние этого часто приводит к катастрофическим результатам в по-
вседневной музыкально-педагогической практике. «Я не умел
учить других,— пишет Станиславский,— а умел лишь сам
играть. .. я принес в театр полный мешок всяких проб, приемов,
методов, которые лежали в беспорядке, неразработанными, не-
систематизированными, и мне ничего не оставалось делать, как
наудачу засовывать руку в мешок и тащить оттуда что попа-
дется». 5 6
1 Станиславский. Работа, с. 382.
2 Как известно, Станиславский мечтал написать книгу об этике худож-
ника и даже считал такую книгу самой нужной (см. Станиславский.
Беседы. Предисловие Л. Гуревич).
3 Станиславский. Беседы, с. 117, 427, 112.
‘ «Практические приемы не проверялись научным исследованием»,— с со-
жалением указывает Станиславский (Моя жизнь, с. 114).
6 Станиславский. Моя жизнь, с. 362—363.
26
IV. О ВОСПИТАНИИ У ИСПОЛНИТЕЛЯ
ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА
Исполнитель — будь он музыкант или актер — должен обла-
дать рядом качеств: творческой страстностью, иначе говоря,
творческой способностью ярко, эмоционально, страстно воспри-
нимать художественное произведение; сосредоточенностью; рель-
ефным представлением («видением» или внутренним слыша-
нием); гибким воображением; пылким и сильным желанием во-
плотить и передать воплощенное другим; творческим эстрадным
самочувствием; высоким интеллектуальным уровнем; общей и
специальной, связанной со спецификой данного искусства, куль-
турой; техническим мастерством.
Все перечисленное теснейшим образом переплетается друг
с другом. Недостаток в развитии или отсутствие одного из ком-
понентов неизбежно отразится на исполнительском творчестве.
Это ставит перед педагогом, формирующим исполнителя-пиа-
ниста и стремящимся развить перечисленные способности и ка-
чества, четыре друг с другом сплавленные и друг от друга не
отделимые задачи.
Во-первых он должен привить ученику общую культуру, раз-
вить наблюдательность, воспитать общественное сознание,
этичность. Назовем эту задачу формированием человека («по-
нимаю, знаю, чувствую, разбираюсь и оцениваю»).
Во-вторых, педагог должен ввести ученика в мир музыки,
«открыть» ему ее эстетическую и познавательную ценность, при-
вить музыкальную культуру, воспитать слух. Речь идет, следо-
вательно, о формировании музыканта («слышу», «чувствую»,
«понимаю»).
В-третьих, педагог должен руководить воспитанием пиани-
стического мастерства, обучить умению высказываться средст-
вами своего инструмента. Иными словами — позаботиться о фор-
мировании пианиста («могу и умею воплотить»).
В-четвертых, педагог должен воспитать специфические ис-
полнительские качества: способность «воспламеняться», прони-
каясь музыкой; волю к воплощению музыки, к общению со
слушателем и к воздействию на слушателя. Можно назвать все
это формированием исполнителя («загораюсь», «хочу вопло-
щать», «хочу передать другим и воздействовать на других»).
Каждая их этих задач лишь весьма условно может быть выч-
ленена из целостного процесса воспитания и обучения музы-
канта-исполнителя. Так, «загораюсь» и «хочу воплотить» нахо-
дятся в непосредственной зависимости от «слышу» и «могу»;
в свою очередь, «могу», как не раз указывалось, получает им-
пульс от «слышу» и «хочу» и т. п. И все же можно и должно го-
ворить об отдельных педагогических задачах: эти задачи — в ка-
кой-то мере абстракции — позволяют глубже вникнуть в методы
и пути музыкально-исполнительской педагогики.
27
Всегда ли привлечено внимание к этим задачам? Обратимся
к повседневной практике и опишем имеющие иногда место ме-
тоды работы с учениками-пианистами.
Вы на классном ученическом концерте. Перед вами проходит
ряд молодых талантливых исполнителей. Играют как будто «хо-
рошо»: не к чему придраться, все па месте, ни одной шерохова-
тости. Но вы не удовлетворены: всем существом вы чувствуете,
что это не искусство, ибо содержание музыкального произведе-
ния остается нераскрытым. К тому же исполнение лишено не-
посредственности. Живая музыка покрыта музейной пылью. Вы
вспоминаете, как Станиславский описал формально выполнен-
ную актером роль и узнаете те же черты: ученики холодно,
внешне доносят музыкальный текст; в одних местах они отчека-
нивают технически сложный пассаж, в других выполняют дина-
мические, артикуляционные и агогические знаки. Но как они
равнодушны, даже наиболее талантливые! Они выполняют, но
не исполняют. Они, собственно говоря, ничего не стремятся вам,
слушателям, сказать. Их равнодушие убивает искусство, как
вода гасит огонь.
Войдите в класс, посмотрите, как проводятся занятия. Уче-
ники приучены внимательно относиться к авторскому тексту.
Педагог бережно руководит воспитанием их технического ма-
стерства. Все это как будто хорошо, но педагог воспитывает
внимательное отношение к авторской букве, а не к авторской
мысли, он добивается формального выполнения текста, а не ис-
полнения того, что скрыто «между строк», что должно быть оду-
хотворено творческим воображением. Педагог не удовлетворен
игрой своих учеников. И тогда он начинает их натаскивать:
«лакировкой» он пытается прикрыть пустоту их исполнения. Но
ученики не «загораются»; они холодны и не стремятся передать
музыкально-поэтический образ произведения, ибо они его не
поняли. Результат: внешняя отделанность, прикрывающая мерт-
вящее равнодушие. Что пользы в таком «добродетельном» ис-
полнении? Оно мертвенно-уныло: ни биения- сердца, ни живого
дыхания!
Безукоризненная и точная передачастекста — таков идеал пе-
дагогов, которые работают описанным методом. С ними прихо-
дится спорить не о путях воспитания и обучения, а о сущности
исполнительского искусства. Другие — таких большинство — со-
глашаются с тем, что исполнитель должен проникнуть в сущ-
ность музыкального произведения и воплотить его с такой
убеждающей силой, как будто он, исполнитель, излагает свои
переживания, говорит от своего имени. Но педагоги эти счи-
тают, что сначала надо наладить «основу», то есть обучить ис-
полнительской технике, музыкальной грамотности и культуре.
Лишь тогда, когда ученик всему этому научится, можно ввести
его в исполнительское творчество. Но когда ученик «всему это-
му» научится? Педагогу школы кажется возможным «разре-
28
шить» исполнительское творчество в училище; педагогу учи-
лища— в вузе, педагогу вуза — по окончании консерватории.
Когда строится дом, нередко говорят представители этого пе-
дагогического направления, сначала надо заложить фундамент;
осуществить вдохновенный проект архитектора можно только
на прочной базе. Спору нет, фундамент необходим. Но воспита-
ние и обучение — это не постройка здания. «Строительный» ме-
тод оказывается здесь ненадежным и даже опасным. Стоит при-
слушаться к словам Станиславского, который, «в полную проти-
воположность некоторым преподавателям», считает нужным
«начинающих учеников, делающих. .. первые шаги па подмост-
ках», по возможности сразу подводить к исполнительскому твор-
честву.1
В последние годы все'реже приходится встречаться в повсе-
дневной педагогической практике с системой занятий, сводя-
щейся главным образом или исключительно к воспитанию тех-
ники. «Сначала пальцы, потом голова», — вот исходная формула
этого педагогического направления. Результат известен: мысли
и чувства не поспевают за быстро бегущими пальцами. Как и
актер, заботящийся лишь о внешней виртуозности, исполнитель-
музыкант играет быстро и «эффектно», но неясно по мысли и
непрочувствованно. Он имеет чем сказать, но ему нечего ска-
зать.
К столь же отрицательным результатам приходит педагог,
заботящийся о музыкальном и общекультурном развитии уче-
ника, но не уделяющий внимания формированию его техники.
В этом случае ученик играет невнятно и невыразительно: ему
нечем сказать, хотя и есть что сказать.
Продолжим посещение классных концертов. Перед нами —
новая плеяда способных учеников. Эти—неравнодушны! Они
стремятся что-то сказать и играют «артистично» и темпера-
ментно. Но и это не искусство! Художественный образ, переда-
ваемый учеником, беден, упрощен, лишен глубины, трехмерности.
Ощущая неубедительность своей интерпретации, молодой пианист
невольно стремится чем-то восполнить недочеты своего исполне-
ния. Он старается играть ярко, «интересно», и это ведет к са-
мопоказу, внешней темпераментности, красивости, вычурности,
иногда и к отсебятине. Исполнитель все время занят одной за-
ботой: доходит ли его исполнение до слушателей.
Присмотримся к работе педагога. Он борется с равнодуш-
ной, «корректной» и вялой игрой; хочет добиться яркого, бле-
стящего и увлекательного исполнения. Но каким путем? Путем
«подделки» эффектов артистического исполнения. Выразитель-
ность исполнения при этом вырастает не из сущности музы-
кально-поэтического образа, а как бы накладывается на произ-
ведение извне. Отсюда примитивизм, ходульность музыкального
1 Станиславский. Работа, с. 549.
29
образа, «подправленного» накатом чувств и внешней артистич-
ностью. ..
Нередки в педагогической практике и иные случаи: внима-
ние обучающего — прекрасного музыканта и художника — на-
правлено только на музыку, которую ему страстно хочется услы-
шать в идеальном и ярком воплощении. Недочеты в игре уче-
ника его раздражают. Он, педагог, не задумывается и не
пытается понять, чем вызваны неудачи исполнения, что мешает
ученику «раскрыться»; не замечает чутко реагирующего душев-
ного аппарата ученика, свертывающегося от грубого прикосно-
вения. Порой в противоречии с декларируемыми принципами
педагог подавляет исполнительскую волю и инициативу ученика,
вызывая робость и осторожничание, гибельное для репродуктив-
ного творчества. Примером может служить педагогическая дея-
тельность М. Балакирева.1
При всех различиях описанные педагогические направления
объединяет общий недостаток: всюду выпадает важнейшее зве-
но— воспитание, формирующее исполнительское творчество.
В одном случае педагог откладывает воспитание душевного ап-
парата, ведущего к творчеству, на последующий этап; в другом,
не умея привить ученику музыкальную культуру, направляет ис-
полнительскую волю по ложному пути; в третьем — не только
не развивает, но, не сознавая этого, глушит артистическую волю
играющего.
Таким образом, во всех этих случаях остается неразрешен-
ной задача «формирования исполнителя». Иное дело — у Ста-
ниславского. В его системе воспитание исполнительских способ-
ностей становится центральным вопросом педагогической ра-
1 Методами своей педагогической работы Балакирев порой глушил испол-
нительскую «волю» учеников.
М. Волконская рассказывает, как проходил ее первый урок с Балакире-
вым. «Я стала играть. Сонату (до минор, ор. 13 Бетховена.— Л. Б.), как и
все, что я играла, я знала наизусть, и после вступительных аккордов, дойдя
до темы, ни разу не подняла глаз к пюпитру.
— Довольно... — услышала я голос Милия Алексеевича. Это «довольно»...
было произнесено, когда я не вполне дошла до конца второй страницы.
Я удивленно остановилась.
— Довольно,— резко повторил Балакирев,— пустите меня (он левой ру-
кой просто и вместе властно отстранил меня)...
— Вот что написано...— Могучими и вместе мягкими ударами он взял
начальные аккорды и после блестящего пассажа, оканчивающего их, стал иг-
рать то, что я только что играла; потом вдруг оборвал и со словами: — а вот
как вы играете,— снова начал играть пьесу. Он играл отвратительно, выделы-
вая какие-то необычайные движения кистями рук, ударяя там, где не следует,
понижая и повышая звук без смысла, и хотя я видела, что это жестокая
и злая пародия на мою игру, мгновениями я чувствовала, что что-то есть по-
хожее на то, как я играю. Это было особенно больно и стыдно...»
«С достопамятного первого урока М. А. моя уверенность в себе была
скомкана в самом корне. Я робела (и с годами все больше), если мне при-
ходилось играть при ком бы то ни было» (М. Волконская. За 38 лет.
«Русская старина», 1913, № 1, с. 91—92, № 3, с. 518).
30
боты. Станиславский не только это декларирует, но и ищет прак-
тические методы для такого воспитания.
Три психологических принципа помогли Станиславскому
найти ключ к воспитанию творческой страстности, сосредоточен-
ности, воображения, исполнительской воли и эстрадного само-
обладания.
Первый (о нем уже была речь)—«подсознательное — через
сознательное». Этот принцип направляет мысль Станиславского
на поиски наиболее «доступных и сговорчивых» элементов пси
хики, подчиняющихся воле человека. Такими «элементами»
в первую очередь, являются ум,1 «зрительные видения» и слу-
ховые представления;1 2 они подчиняются педагогическому воз-
действию и вместе с тем способны возбудить «несговорчивое» и
«не терпящее приказаний» чувство.
Второй принцип (он тесно связан с первым и из него выте-
кает) : использование взаимосвязи между различными сторо-
нами психики ученика. «Эта зависимость, взаимодействие и тес-
ная связь одной творческой силы с другими очень важны в па-
шем деле, и было бы ошибкой не воспользоваться ими для
наших практических целей».3 Благодаря этой взаимосвязи, уп-
ражнения, направленные на развитие одних «элементов», одно-
временно являются упражнениями и для других. Так, говоря
о тренировке внимания, Станиславский замечает: «Делайте та-
кие же упражнения, как и по развитию воображения. Они оди-
наково действительны и для внимания».4 Каждая способность,
являясь «манком», возбудителем для ряда других, позволяет,
ухватившись за нее, развить и остальные. Воображение может,
скажем, разбудить внимание и поднять «градус творческого на-
грева». Но начальным звеном может быть и внимание. Тогда
последовательность будет выглядеть так: внимание — вообра-
жение—«творческий нагрев». Наконец, если «творческое горе-
ние» возникло самопроизвольно в процессе увлечения художест-
венным произведением, оно «потянет» за собой сосредоточен-
ность и творческую фантазию. Индивидуальными различиями
обусловливается порядок звеньев в этих последовательностях.
Поэтому так важно знать, «что чем вызывается». «Надо быть
садовником в своей душе, который знает, из каких семян что
вырастает».5
1 «Он сговорчивее всех, послушнее, чем другие двигатели, он охотно по-
винуется приказу» (Станиславский. Работа, с. 469).
2 «Зрение наиболее отзывчиво при восприятии впечатлений. Слух также
очень чуток. Вот почему легче всего воздействовать на наши чувства через
глаз и ухо. Известно, что у некоторых живописцев внутреннее зрение на-
столько отчетливо, что они могут писать портреты отсутствующих. У некото-
рых музыкантов внутренний слух настолько совершенен, что они могут мыс-
ленно прослушать симфонию» (Станиславский. Работа, с. 339).
3 Станиславский. Работа, с. 469.
4 Там же, с. 187.
5 Там же, с. 380.
31
Наконец, третий принцип. Он заключается в том, что отдель-
ные психические способности становятся «манками» друг для
друга и вместе с тем возбудителями творческого самочувствия
только при одном непременном условии: если каждая проводи-
мая работа, каждое упражнение, каждое «творческое действие»
доведены исполнителем до конца, до предела. Художник, по
мысли Станиславского, должен научиться этой «предельности
выполнения» буквально во всем, что он делает. «Мудрость, ко-
торую всем надо вложить в привычку каждого дня, заключается
в том, чтобы делать все, за что бы вы ни взялись, до конца».1
«Приблизительность», «вообще», «кое-как», «как-нибудь» недо-
пустимы в. искусстве, нетерпимы и при работе над развитием
внимания, воображения и воли. Только предельная отточенность
каждого элемента аппарата переживания и воплощения спо-
собна подвести к подлинному исполнительскому творчеству.
«Вы не заметили, — говорит Станиславский студийцам, — одной
чрезвычайно важной детали, которая является очень большой и
важной новостью. Она заключается в самом ничтожном добав-
лении, а именно: я заставлял вас исполнять и доделывать все
творческие действия до самого последнего исчерпывающего пре-
дела. .. В этой предельной законченности выполнения приемов
психотехники и заключается чрезвычайно важное добавление и
к тому, что вам уже известно в области творчества».1 2
Таковы психолого-педагогические принципы, положенные
Станиславским в основу практических методов воспитания «ду-
шевного аппарата переживания».
V. О ВОСПИТАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ,
ТВОРЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ И ЭСТРАДНОГО САМОЧУВСТВИЯ
Окинем взглядом пройденный путь:
1. Мы установили, что в основе системы Станиславского и
психотехнических направлений музыкально-исполнительской пе-
дагогики лежит один, и тот же принцип: «подсознательное —
через сознательное». Вместе с тем мы обнаружили, что музы-
канты используют этот принцип главным образом при воспита-
нии техники («аппарата воплощения»), театральная же психо-
техническая школа — и для формирования аппарата пережи-
вания.
2. Мы обратили внимание на то, что методы исполнительской
педагогики в значительной мере определяются эстетическими
идеалами тех или иных школ. Это, в частности, позволило
прийти к выводу: и Станиславский и некоторые музыкально-ис-
полнительские школы в ряде случ'аев идут до известной степени
1 С т а и и с л а в с к и й. Беседы, с. 128.
2 Станиславский. Работа, с. 547—548.
32
сходными путями, потому что ищут одного и того же — худо-
жественной правды.
3. Мы показали основные антиномии исполнительской педа-
гогики и проследили за тем, как эти противоречия разрешаются
Станиславским и некоторыми музыкально-исполнительскими
школами.
4. Мы описали некоторые фортепианно-педагогические на-
правления, которые недооценивают роль творческой активности
учеников в процессе обучения и которые— в отдельных слу-
чаях— осознанно или неосознанно даже тормозят развитие их
исполнительской воли и их стремления к творческому самовыяв-
лению. Мы противопоставили этим школам методику Стани-
славского, который столько внимания уделяет специальному вос-
питанию творческого «душевного аппарата» учеников.
Мы расчистили путь. Теперь наша задача сводится к тому,
чтобы проследить за тем, какими методами можно воспитать
и развить отдельные способности, необходимые для исполнитель-
ского— в первую очередь музыкально-исполнительского — твор-
чества.
Подготовка «душевного аппарата» к исполнительскому твор-
честву в конечном счете имеет в виду воспитание способности
«воспламеняться» и «хотеть», «увлекаться» и «желать»; другими
словами — эмоционального отклика на искусство и страстной
потребности воплощать и передавать другим исполнительские
замыслы.1
Горячая эмоциональная отзывчивость на музыкальное (или
драматургическое) произведение не только не находится в про-
тиворечии с интеллектуальным его осмыслением, но, наоборот,
получает почву благодаря умному логическому анализу, который
способен «выманить» нужную гамму чувств. Надуманность, твор-
чество от ума гасит творческое пламя; обдуманность, творчество
с умом возбуждает эмоциональные творческие силы. Творческая
взволнованность, которая возникает при первом контакте ода-
ренного исполнителя с музыкальным шедевром и возбуждает
его желание воплощать,— это еще не творческое «горение».2
1 В статье «О системе К. С. Станиславского» актер М. Чехов писал:
«Если бы художники всех времен и народов воскресли и пожелали обме-
няться впечатлениями прожитой жизни, очень возможно, что они не смогли
бы сговориться и понять один другого пи в чем, кроме одного только...
Это— одно понятное им, испытанное и пережитое всеми ими одинаково, было
бы не что иное, как желание творческой деятельности, жела-
ние художественного самовыявления... Условимся видеть
в .этом желании, таланте, назовите как хотите, неприкосновенную основу твор-
ческой души» («Горн», 1919, № 2—3, с. 72—73).
. 2 Но и искра «восторгания» необходима художнику. Вот почему, обра-
щаясь к студийцам, Станиславский говорит: «Вы каждый день должны быть
во что-нибудь, в кого-нибудь влюблены: в картину, в роль, в цветок, в ро-
33
Для того чтобы искра сочувствия превратилась в пламя подлин-
ной творческой увлеченности, необходимо не только более глу-
бокое эмоциональное «погружение» в произведение, но и его
всестороннее обдумывание.
Повторяю: горячий эмоциональный отклик на искусство (ко-
торый не имеет, разумеется, ничего общего с истеричностью,
с «лжечувством») и возникновение под влиянием этого отклика
воли к воплощению — таковы основы исполнительской одарен-
ности. Без способности воспламениться под воздействием взвол-
новавшего образа нет исполнительского творчества, — незави-
симо от того, появляется ли эта способность только в процессе
подготовки к исполнительскому творчеству (как это имеет место
в «искусстве представления») или же и во время публичного ис-
полнения на эстраде (как в «искусстве переживания»). Опреде-
ление природы дарования актера как «возбудимость, богатство,
энергия и подлинность чувств, способность не только красоч-
ный образ, но и всякую мысль, всякую идею переживать эмоци-
онально и придавать этим переживаниям действенный раз-
бег, страстную устремленность»,1 такое определение приложимо
и к дарованию музыканта-исполнителя.* 1 2
Влюбленность в искусство у людей одаренных проявляется
часто уже в раннем детстве. Она бывает иной раз столь сильна,
что становится стимулом к усердной работе и ведет к предель-
ной сосредоточенности. Репин рассказывает, что в раннем дет-
стве ему как-то зимой «до страсти захотелось нарисовать
куст розы: темную зелень листьев и яркие розовые цветы, даже
с бутонами»; что он «впился» в подаренные ему краски и, не от-
манс, в женщину, профиль которой вы увидели случайно и он напомнил
вам Афродиту и помог населить вам сегодня ваш творческий круг новыми
сияющими образами, в пейзаж, в футбол, дающий вам эмоцию энергии; во
что хотите, но ваш дух должен быть всегда приподнят, чтобы окружающая
вас обывательская жизнь имела в вас взрывчатое вещество» (Станислав-
ский. Беседы, с. 120).
1 Л. Г у р е в и ч. Творчество актера. М., 1927, с. 32.
2 О «творческой страстности» не раз говорили крупнейшие художники.
Так, например, Вахтангов считал, что творческой работой можно заниматься
только в том случае, если есть «внутренний огонь... серебряные колокольчики
в душе» (Е. Вахтангов. Записки, письма, статьи, с. 308). Лист говорил
«о живом дыхании могучей силы чувства; одна лишь эта сила придает кра-
соту формам и вызывает желание их воспроизвести» (цит. по кн.: L. R а -
mann F. Liszt, В. II, Abt. II, 1894, S. 103). Лешетицкий считал, что «флег-
матичный ученик, даже если он обладает всеми остальными способностями,
может привести в отчаяние педагога; игра такого ученика никогда не про-
изведет впечатления на слушателей. Лучше уже избыток темперамента. При-
глушить его легче. Бестемпераментный пианист не чувствует исполняемого».
(М. В г ее. Die Grundlage der Methode Leschetizky. Mainz, 1903, S. 63).
Леонидов полагал, что многие актеры «все очень хорошо знают». Они, ска-
жем, знают, как приготовить яичницу: надо взять два яйца, разбить их, вы-
лить на сковороду, посолить.. . Все это они выполняют, но яичницы не полу-
чается, потому что сковорода холодная (из доклада А. П о п о в а па конфе-
ренции режиссеров. «Сов. искусство», 1939, № 51).
34
рываясь от стола, целыми днями рисовал.1 В том же возрасте
и любовь к музыке Листа была настолько страстной, что он, по
натуре резвый мальчик, стараясь провести больше времени
у рояля, стал избегать своих маленьких товарищей.1 2 Увлечен-
ность искусством и стремление к творчеству побуждают ярко
одаренных детей искать наиболее совершенное решение задач,
которые возникают в работе над художественным произведе-
нием. В этих случаях юные художники порой прибегают к сред-
ствам, которые иной взрослый может расценивать как шалость.
Лист, например, не смог взять своей еще маленькой рукой
в пьесе Гуммеля дециму; после долгих поисков он решил помочь
себе... носом. Шопен, желая сыграть аккорды в широком рас-
положении, принялся в детском возрасте растягивать руки ме-
ханическими средствами, вкладывая специальные приспособле-
ния между пальцами.3
Но педагогу, воспитывающему исполнителя, редко прихо-
дится иметь" дело с исключительно талантливыми натурами,
чаще—попросту с музыкальными детьми и подростками. Вос-
питуема ли у них способность «увлекаться — хотеть»? Если
в душе ученика тлеет огонек отзывчивости на музыку, огонек
этот можно раздуть. Педагогическое воздействие может уси-
лить эмоциональный отклик ученика на музыку, обогатить па-
литру его чувств, поднять температуру его «творческого нагре-
ва». Но воспитание «творческой страстности», как и вообще вос-
питание эмоций, можно осуществить лишь окольными путями.
Надо помнить, — Станиславский не перестает об этом гово-
рить,— что «воля-чувство» пугливо и не терпит приказаний.
Нельзя начать «ни с того, ни с сего ревновать, волноваться, гру-
стить» или «творчески гореть». У человека пет непосредственной
власти над чувством. Педагог, раздраженный «бесчувственно-
стью» ученика, может, конечно, приказать ему «чувствовать»,
«увлекаться», «гореть», «ощущать», но это может привести лишь
1 И. Репин. Далекое близкое. М., 1937, с. 64 и 67.
2 См. L Ramann. Franz Liszt, В. I. Leipzig, 1880, S. 19.
3 См. F. N i e c k s. Friderich Chopin, В. I. Leipzig, 1890. S. 57.
Увлеченность, стремление к творчеству и высокая требовательность к ма-
стерству проявляются порой у детей и меньшего дарования. Приведу пример
из своей педагогической практики. Боря Ж- в 7-летнем возрасте увлеченно
разучивал Фантазию ре минор Моцарта. Хроматическая последовательность
перед возвращением темы в ре миноре оказалась для него трудной. Мальчик
не хотел удовлетвориться «приблизительным» исполнением и страстно искал.
Придя как-то на урок и радостно сообщив мне, что «пассаж выходит», он уве-
ренно заявил: «Теперь всегда получится; я ведь раньше играл это место „без
дороги". Когда я иду к вам на урок, я должен ведь пройти много улиц и
переулков; я не могу прийти к вам „без дороги", перескочить к вам. Так и
здесь». Мальчик сел за рояль и, играя хроматическую последовательность,
при каждом повторении (через октаву) ноты ре тихонько приговаривал на-
звание улицы или площади: «Пушкинская»... «Советская»... «Столешни-
ков»...— и при появлении темы—«пришел». Своеобразно открыв «принцип
членения», мальчик справился с быстром пассажем.
35
к лжечувству. Педагог, действующий методом приказа и наси-
лия, подобен тому режиссеру, который, как рассказывает Ста-
ниславский, применял своеобразную «методику» для- высекания
«творческого огня»: он просто-напросто садился на актера вер-
хом, «изо всех сил давил его, крича во все горло: «Еще, еще!
Сильней! .. Живите, переживайте! Чувствуйте!» 1
«Увлеченность-хотение» нельзя вызвать произвольно, но этот
эмоциональный комплекс можно «выманить», развивая и воспи-
тывая ряд способностей. К ним в первую очередь надо отнести
творческое воображение, творческое внимание и творческое эст-
радное самочувствие. Сверх этого, по мысли Станиславского,
необходимо умение освобождать себя от излишних мышечных
напряжений, вредно отзывающихся не только на «аппарате во-
площения», но и на общем творческом самочувствии молодого
художника.
Воспитание творческого воображения имеет целью развитие
его инициативности,1 2 гибкости, ясности и рельефности.
Зрительные образы профана (его «видения») — неотчетливы,
слуховые представления — расплывчаты. Иное дело у исполни-
теля-художника: воображаемый образ (в результате работы,
проведенной над произведением) проясняется, становится рель-
ефным, «осязаемым»; «видения» приобретают четкие контуры,
«слышания» — ясность каждой детали. Точность и* выпуклость
представлений в значительной мере определяют качество худо-
жественного творчества. Способность рельефно представлять
себе художественный образ характерна не только для исполни-
телей (актеров или музыкантов), но и для писателей, компози-
торов, живописцев, скульпторов... Так, Достоевский относи-
тельно одного из своих героев говорил: «Это лицо — живое: весь
как будто стоит передо мной».3 А вот слова Гуно: «Я слышу
пение моих героев с такой же ясностью, с какой вижу окру-
жаюшие меня предметы, и эта ясность повергает меня в род
блаженства».4 Прежде чем писать картину, Делакруа видел
ее со всей ясностью: он «внутренним зрением» представлял себе
композицию, колорит, освещение, гармонию нюансов.5 Крам-
ской писал, что во время работы над «Христом» герой картины
1 Станиславский. Моя жизнь, с. 533—534.
2 «Есть воображение с инициативой, которое работает самостоятельно.
Оно разовьется без особых усилий и будет работать настойчиво, неустанно,
наяву и во сне. Есть воображение, которое лишено инициативы, но зато
легко схватывает то, что ему подсказывают, и затем продолжает самостоя-
тельно развивать подсказанное» (Станиславский. Работа, с. 119).
3 Достоевский. Биография, письма, с 261. Цит. по сб. И. И. Лап-
шина «Художественное творчество». П., 1922, с. 119.
4 С. В е 11 a i g u е. Gounod. Цит. по указ. выше. сб. И. И. Лапшина,
с. 119/
5 Эжен Делакруа. Из Дневника. Сб. «Мастера искусства об искус-
стве», т. II. М., 1936, с. 311 и др.
36
неотступно, в течение ряда лет, стоял перед его внутренним взо-
ром. «Бывало, вечерком, уйдешь гулять, и долго по полям бро-
дишь, и вот видишь фигуру. На утре, усталый, измученный, ис-
страдавшийся, сидит один между камнями, печальными, холод-
ными камнями, руки судорожно и крепко, крепко сжаты,
пальцы впились, ноги поранены и голова опущена. Крепко
задумался, давно молчит, так давно, что губы как будто запек-
лись, глаза не замечают предметов, и только время от времени
брови шевелятся, повинуясь законам мускульного движения...
Страшно станет. Сколько раз плакал я перед этой фи-
гурой». 1
Только в том случае, если воображение художника отлича-
ется ясностью и рельефностью, оно способно стать «манком»,
возбудителем творческой страстности. Для творчества нужна де-
тализация представлений, доведенная до последнего предела.1 2
Подробности воображаемой картины, постепенно вырисовываю-
щиеся в представлении артиста, только и могут вызвать яркую
эмоцию.^Вот один из примеров. Станиславский предлагает сту-
дийцу перенестись в воображении в свою комнату, мысленно
подняться по лестнице, позвонить у входной двери, подумать
о ручке двери, которую надо нажать, увидеть стоящие в ком-
нате предметы. Затем говорит ему:
«—Попробуйте пройтись по комнате и пожить в ней. Отчего
вы поморщились?
— Я нашел на столе письмо, вспомнил, что я еще на него ни-
чего не ответил, и мне стало стыдно».3
Не только для продуктивного или репродуктивного художе-
ственного творчества, но и для полноценного восприятия искус-
ства необходимо обладать воображением. Так, по мысли Де-
лакруа, зрители, рассматривающие произведения живописи,
также нуждаются в фантазии; в противном случае они «ясно
видят все предметы на картине, но самого тонкого в ней не
видят».4 Это относится и к чтению художественной литера-
туры и — быть может, еще в большей мере — к слушанию му-
зыки.
В системе подготовки актера воспитанию воображения, по
Станиславскому, должно быть отведено ведущее место. «Надо
развить его или уходить со сцены».5 Эти слова могут быть отне-
сены и к исполнителю-музыканту. И в драматургическом произ-
ведении многое остается недосказанным; своим творческим
1 И. Н. Крамской. Письма, т. I. Л., 1937, с. 121.
2 «Нам нужна непрерывная линия не простых, а иллюстративных предла-
гаемых обстоятельств» (Станиславский. Работа, с. 133).
3 Станиславский. Работа, с. 126 (разрядка моя.— Л. Б.).
4 Эжен Делакруа. Из Дневника. Сб. «Мастера искусства об ис-
кусстве», т. II, с. 380,; см. также с. 358.
5 Станиславский. Работа, с. 118.
37
вымыслом актер должен углубить текст и развить лаконичные
характеристики автора. В не меньшей, если не в большей, сте-
пени воображение необходимо для понимания и воплощения
музыкального сочинения: ведь оно записано условными зна-
ками, не имеющими абсолютного значения — относительна за-
пись метроритма, темпа, динамики, агогики, артикуляции и даже
(если исключить запись для клавишных инструментов) звуко-
вой высоты. К тому же в фортепианной музыке начиная при-
близительно с 20-х годов прошлого века благодаря предпола-
гавшейся педали реальная длительность звучания, которую имел
в виду композитор, может нередко и пе совпадать с записанной
(скажем, бас, вотированный в виде шестнадцатой, в действи-
тельности должен тянуться несколько тактов, а аккорд или
отдельный тон продолжать звучать и в тот момент, когда в но-
тах указаны паузы). Нотная графика имеет иногда несходный
смысл не только в разных художественных стилях, но даже и
у одного и того же композитора в разные периоды его твор-
чества. Замороженные в нотной символике авторские чувства,
мысли и образы исполнитель должен растопить теплотой своего
воображения, питающегося опытом, знаниями и интуицией. Для
ученика, воображение которого мало развито, в нотном тексте
сказано очень мало; он не умеет еще читать «между строк».
Когда же И. Гофман пишет, что в нотном тексте «все сказано»,
он имеет, по-видимому, в виду музыканта, который обладает
культурой и творческим воображением; для такого исполнителя,
способного увидеть скрытый за мертвыми знаками поэтический
смысл и понять его, в нотной записи действительно сказано
очень много.
Продуктивность творческого воображения, как указывалось,
определяется не только способностью гибко и инициативно со-
четать и комбинировать — в соответствии с поэтической иде-
ей— художественный материал, но и находится в зависимости
от опыта и культуры. В силу этого воспитание воображения му-
зыканта представляет, быть может, большие трудности, чем
актера. Актер ежечасно получает материал для своей творче-
ской работы, питающий его фантазию: он видит человеческие
поступки, проявления страстей.. . Для музыканта этого недоста-
точно: как и всякий художник, он должен уметь видеть, слышать
отбирать; но в своем искусстве он оперирует лишь звуками и
ритмами. Повседневная жизнь обычно не дает ему готового му-
зыкального материала для воображения. Он нуждается в по-
стоянном приобретении специального музыкального опыта; он
должен уметь слушать, слышать и делать отбор. Необходимей-
шим условием для воспитания творческого воображения музы-
канта является достаточно высокий уровень слуховой культуры.
Надо обладать развитым внутренним слухом, а воспитать его,
как известно, значительно труднее, чем «внутреннее зрение»
актера.
38
Одним из способов развития воображения является работа
над музыкальным произведением без инструмента.1 Метод этот
не нов: им пользовались еще Лист, Антон Рубинштейн, Бюлов
и др. Гофман указывал «четыре способа разучивания музыкаль-
ного произведения: 1) за фортепиано с нотами, 2) без форте-
пиано с нотами, 3) за фортепиано, но без нот, 4) без форте-
пиано и без нот». Он считал, что «второй и четвертый способы
наиболее утомительны для ума, но зато развивают память и то,
что мы называем «охватом», что является фактором большого
значения».1 2 Польза работы над произведениями без инстру-
мента заключается, во-первых, в том, что «аппарат воплощения»
не ведет исполнителя по проторенной тропе и благодаря этому
музыкальное воображение может проявиться с большей гиб-
костью и свободой; во-вторых, в том, что исполнителю — при
серьезном и честном отношении к работе — приходится проду-
мывать и вслушиваться в детали, которые могут остаться незаме-
ченными при работе за инструментом. В этом смысле описанный
метод разучивания напоминает упражнения с воображае-
мыми предметами, рекомендуемые Станиславским. Если пред-
ложить актеру выпить из воображаемого стакана, ему придется
с большой точностью представить себе всю цепь своих поступ-
ков. Работа с воображаемыми предметами важна для актера
именно потому, что «при реальных предметах многие действия
инстинктивно, по жизненной механичности, сами собой проска-
кивают, так что играющие не успевают уследить за ними... При
«беспредметном действии» волей-неволей приходится приковы-
вать внимание к самой маленькой составной части большого
действия».3
В развитии творческого воображения исполнителя большую
роль могут сыграть сопоставления и сравнения. Вводимые этим
путем новые представления, понятия и образы становятся воз-
будителями фантазии. Музыкально-исполнительская педагогика
пользовалась и продолжает пользоваться этим методом ра-
боты с учениками.'.Примеры, которые приводятся, помогут ра-
зобраться в психологической природе этого педагогического
приема.
Объясняя ученику сущность шопеновского tempo rubato, Лист
подводит его к окну и говорит: «Видите ветки, как они покачи-
ваются? Листья, как они колышутся? Корень и ствол держат
крепко: вот это и есть tempo rubato».4
Бюлов, опираясь на программность Rondo a capriccio Бетхо-
вена ор. 129, Соль мажор, делает следующее замечание
1 Нужно ли напоминать, что метод этот, само собой разумеется, не ис-
ключает работы за инструментом. Замысел ведь должен быть реализован.
2 И. Гофман, Игра на фортепиано. Вопросы и ответы, с. 84.
Станиславский. Работа, с. 291—292.
4 L. Ramann. Цит. книга, В. II, Abt.II, S. 105.
39
к тактам 150—161: «В этом месте как будто разбрасывают по
столу бумаги, между которыми ищут потерянный грош».1
В примечании к IV вариации из финала бетховенской сонаты
ор. 109, Ми мажор, Бюлов пишет: «Вспомните слова Гёте из
первого монолога Фауста:
Wie Himmelskrafte auf- und niedersteigen
Und sich die goldnen Eimer reichen!1 2
Они послужат лучшим руководством для вдохновенного испол-
нения этого полифонического (имитационного) шедевра». Бю-
лов добавляет, что его совет не должен быть истолкован как
внесение программности в беспрограммую музыку.3
По поводу самого начала двухголосной инвенции Си-бемоль
мажор Баха педагог замечает ученику: представь себе совер-
шенно ровную, неподвижную и спокойную гладь озера, по кото-
рому расходятся круги от брошенного камешка — си-бемоля
в басу.
С той же целью — для того, чтобы подтолкнуть творческое
воображение ученика — педагог говорит ученику, разучиваю-
щему трехголосную инвенцию фа минор Баха, приблизительно
следующее: «Эпиграфом к инвенции можно было бы взять ба-
ховские слова «Я много выстрадал». Свою картину Бах «выпи-
сал» здесь на темно-коричневом фоне. Вспомните колориты кар-
тин многих старинных художников! Темно-коричневые тона
больше подходят к этой пьесе, чем светлые и яркие».
Ф. Блуменфельд (и независимо от него К. Игумнов) сопо-
ставлял звуковые краски заключительной вариации из сонаты
Бетховена ор. 109, Ми мажор с меркнущими и темнеющими то-
нами солнечного заката. «Но, — обычно добавлял Блумен-
фельд, — сумейте, обязательно сумейте вспомнить все переливы
закатных колоритов от густо-бордовых до бледно-розовых».
Наконец, педагог может всколыхнуть воображение играю-
щего сопоставлением одной музыки с другой, одних эпизодов
музыкального произведения с другими. Работая, скажем, с уче-
ником над финалом сонаты Бетховена ор. 2, фа минор, можно
навести его на мысль, что ля-мажорное трио в этой части —
«воспоминание» о главной партии первой части сонаты.
1 Beethovens Werke fiir Pianoforte Solo... in kritischer und instructiver
Ausgabe... von Dr. Hans von Billow. В. V., Stuttgart, Verlag der
J. G. Cotta’schen Buchhandlung, 1872, S. 226.
2 H. Холодковский перевел эти строки так:
Как силы горные в сосудах золотых
Разносят всюду жизнь божественной рукою.
В свободном переводе передан общий поэтический смысл этих строк.
Но Бюлов имеет здесь в виду не только это, но и конкретный образ. По-
этому приводится буквальный прозаический перевод: «Как силы небесные,
подымаясь п опускаясь, передают друг другу златые ковши».
3 Beethovens Werke... цит, изд. В. V, S. 89.
40
Было бы, конечно, неправильно рассматривать сравнения как
«программы», которые играющий должен изобразить, исполняя
музыкальное произведение. Смысл сопоставлений совсем в ином:
они заставляют работать музыкальное воображение ученика.
Вводимые сопоставления возбуждают его эмоциональную сферу
и благодаря этому помогают творчески осмыслить музыкальный
образ. Психологическая схема этого процесса в несколько упро-
щенном виде может быть изображена так: вводимый образ,
допустим зрительный, напоминает о той или иной пережитой
эмоции (скажем, о гневе); подобная же эмоция определяет и
характер исполняемого музыкального отрывка; конкретное и яр-
кое сопоставление «выманивает» нужную эмоцию, которая «пе-
реносится» на исполняемый музыкальный отрывок, помогает
лучше понять-почувствовать его и стимулирует работу вообра-
женияУ'Воспользовавшись математической терминологией, мож-
но было бы сказать, что воздействие оказывает общий член
(эмоция) в музыкальном образе и в сопоставлении: если ис-
пользованный для сравнения образ представить как формулу
А + В, где А—-программная часть образа, а В — связанная
с этой программностью эмоция, то музыкальный образ, рожден-
ный сопоставлением, можно обозначить формулой Bi + С, где
Bi — близкая эмоция, а С — музыкальный материал. Само со-
бой разумеется, что программная часть сопоставления, выпол-
нившая свою роль, в конечном счете отбрасывается как шелуха.
Вспомним некоторые из приведенных примеров. Разве
в Рондо Бетховена Бюлов стремился заставить пианиста «изо-
бразить» звуками разбрасывание бумаг по столу? Конечно, нет.
Сравнение понадобилось только для того, чтобы напомнить ис-
полнителю гамму чувств взволнованного человека, тщетно что-
либо ищущего. Гладь озера и легкие круги по воде от брошен-
ного камешка (начало инвенции Си-бемоль мажор) должны вы-
звать эмоцию «спокойствия». А сравнение с красками заката
(в финале Сонаты ор. 109)—предсумеречные чувствования.
Вот почему так важно, чтобы сопоставления были эмоцио-
нально действенными и впечатляющими. В этом смысле любо-
пытен пример «горячего», «теплого» и «холодного» сопоставле-
ния, приводимый С. Бирман:
«Счистить — холодно, соскрести — тепло, содрать — верно, по-
тому что горячо...»1
Не всегда сравнение стимулирует работу воображения и
возбуждает творческую страстность. Иной раз сопоставление,
само по себе удачное, скользит по поверхности и не оказывает
воздействия на исполнителя. Педагог должен уметь пользо-
ваться сравнениями. Яркая и рельефная деталь часто придает
сопоставлению действенный характер, конкретное объясняет об-
щее. .
1 С. Б и р м а н. Труд актера. М., 1939, с. 44.
41
Выйдем за границы музыкальной педагогики и обратимся
к нескольким примерам. «Я согнал влетевшего в цветок шме-
ля»,—фраза эта неспособна вызвать яркое представление у чи-
тателя. Поэтому Л. Толстой переделывает ее: «Я согнал впив-
шегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мох-
натого шмеля».1 К фразе Григоровича «бросил монетку в окно»
Тургенев добавляет: «и она, звякнув, покатилась».1 2 В обоих
примерах детали, указывающие на характерное действие
(«впившегося», «заснувшего», «покатилась») или на чувственно
воспринимаемую сторону образа («сладко и вяло заснувшего»,
«мохнатого», «звякнув»), придают ему впечатляющую силу. Для
того чтобы разбудить у актрисы «ощущение весны», Вахтангов
даст ей коробок спичек и просит почувствовать в нем птичку,
ласкать его, гладить, искать губами клюв. «Бросьте его», — го-
ворит он. «Не могу»,— отвечает актриса и прижимает коробок
к себе.3 Через деталь («почувствовать птичку») Вахтангов вы-
манивает целое («ощутить весну»).
То же и в музыкально-исполнительской педагогике. Вот один
из примеров. Нередко ученикам советуют представить себе эле-
менты фортепианного изложения в исполнении оркестровых ин-
струментов. Для чего? Не для того, конечно, чтобы призвать
к невозможному: фортепиано не станет звучать ни как гобой,
ни как альт, ни как литавры. Однако сопоставления эти спо-
собны разбудить фантазию исполнителя и повлечь за собой
поиски своеобразной фортепианной звучности, чем-то напомина-
ющей то ли тембр, то ли манеру исполнения на оркестровом
инструменте. Но не всегда ученик способен представить себе
звучность того или другого струнного, духового или ударного
инструмента. И тут нередко помогает напоминание о той или
другой типичной и своеобразной звуковой детали: то ли о ха-
рактерном при staccato на деревянных духовых ударе струи
воздуха («па-па-па-па»,— как, скажем, в последних тактах раз-
работки из I части бетховенской сонаты ор. 2, № 1, фа минор),
то ли о штрихах струнных инструментов, то ли...
, Но педагог не может всем этим ограничиться. Сопоставле-
ния, которые он приводит, пусть и помогут в том или ином слу-
чае, но еще не развивают творческой инициативы, которая столь
необходима художнику. А между тем исполнителю, обладаю-
щему инициативным воображением, сама жизнь дает тот мате-
риал, который ему нужен: случайно брошенное восклицание,
прочитанный рассказ, просмотренный театральный спектакль,
прослушанный концерт — все это способно заставить работать
его фантазию. Поэтому так важно научить ученика не только
использовать предложенное педагогом, но и самому искать нуж-
1 Литературная энциклопедия, т. VIII. М., 1934, с. 179.
2 М. Ш а г и н я н. Беседы об искусстве. М., 1937, с. 65.
3 Протоколы репетиций Вахтангова в кн.: «Вахтангов. Записки,
письма, статьи», с. 266.
42
ное сравнение, нужный образ. Станиславский прибегает с этой
целью к методу наводящих вопросов. Если воображение ученика
бездействует, педагог задает ученику простой вопрос. Он вы-
нужден что-либо на него ответить. Если он ответил наобум,
Станиславский не принимает ответа, доказывает его несостоя-
тельность и требует нового. Для того чтобы дать ответ, удовлет-
воряющий педагога, ученик вынужден расшевелить свое вообра-
жение и вызвать в своем представлении то, о чем его спраши-
вают. Если ему не удается произвольно вызвать «видения», он
может «подойти к вопросу от ума, от ряда последовательных
суждений». Станиславский подчеркивает, что «работа вообра-
жения очень часто подготовляется и направляется такого рода
сознательной, умственной деятельностью». Как только ученик
что-то вспомнил или представил себе, создается «короткий мо-
мент мечтания»л-Вслед за этим с помощью нового вопроса пе-
дагог повторяет тот же процесс.1
И в музыкальной педагогике может быть использован этот
метод, развивающий инициативу воображения.
Мне пришлось как-то работать с ученицей над финалом
сопаты Бетховена ор. 2, Ля мажор. Начало темы
она играла без всякого смысла. Между нами произошел следу-
ющий диалог.1 2
— В вашем исполнении вступительное ля-мажорное трезву-
чие— ненужный привесок, не связанный с темой, мертвый груз.
Неубедителен и нисходящий ход ми — соль-диез. Каков харак-
тер этих тактов?
Ученица молчит: потом отвечает первое, что ей приходит
в голову:
— Это место не имеет существенного значения: виртуозное
украшение перед началом, пассаж и скачок.
— В таком случае, раз эти такты «не имеют существен-
ного значения», вряд ли что изменится, если исполнить их,
скажем, так... (и я показываю разные варианты: пропускаю
вступительное трезвучие; играют партию правой руки в «пере-
вернутом виде» — сначала нисходящее трезвучие, потом скачок
рверх).
1 См. Станиславский. Работа, с. 140.
2 Привожу его по своему «педагогическому дневнику». Запись была сде-
лана сейчас же после урока.
43
— Конечно, я неправа. Характер этому месту придает восхо-
дящее, а потом нисходящее движение.
— Пусть так. Ну, а если я приведу такое сопоставление: под-
брасывают камень или мяч, а затем эти предметы падают. Вот
вам восходящее и нисходящее движение. Убедителен ли мой
пример? Соответствует ли он смыслу и характеру музыки?
•—Да, только... не камень; скорее мяч... Впрочем, и мяч
не подойдет. Подбрасывания нет, есть взлет... Как бы это ска-
зать? Нечто, взлетающее на мгновение, повисает в воздухе, за-
тем опускается. Не сразу, а постепенно, словно на парашюте.
Знаете, «оно» гаснет, гаснет постепенно, как огни в театре перед
спектаклем.
— Допустим. Но что же, собственно говоря, погасает? Ведь
ни мяч, ни камень погаснуть не могут.
— Конечно. Это нечто загорающееся, воспламеняющееся,
светящееся; может быть... падающая звезда, оставляющая
в воздухе след, постепенно пропадающий...
— Но как тогда быть с восходящим ля-мажорным ходом?
— В нем — взлет, вспышка, гаснущая во время скачка ми —
соль-диез.
— Вы натолкнули меня на сопоставление. Может быть, и
у вас оно мелькнет. Взвивающееся, вспыхивающее и медленно
гаснущее, оставляя в воздухе постепенно исчезающий след?
Ученица долго думает, молчит. Потом замечает:
— Может быть, взвивающаяся ракета, фейерверк?
Я не стал уточнять и прекратил диалог. Но любопытно,
как повлияло это «выманивание» ответа на ученицу. На следую-
щем уроке она сообщила, что попыталась сравнить «взлет и па-
дение» в сонате со «взлетом» в пьесе Шумана «Вещая птица» и
что «нашла разницу». Сопоставления (далеко не всегда, правда,
удачные) продолжались и в дальнейшем...
•. Наконец, если речь идет о музыкально-исполнительском во-
ображении, не надо забывать о советах Станиславского ничего
не делать в искусстве механически и формально. Механическая,
бессмысленная работа самым пагубным образом сказывается на
творческой фантазии — она притупляет ее. От ученика, который
несколько десятков раз механично проиграл музыкальное про-
изведение, потребуются огромные усилия, чтобы сойти с прото-
ренной дорожки и заставить работать свое воображение. Вот
почему развитие творческого воображения находится в прямой
зависимости и от метода работы исполнителя над произведе-
нием, и от воспитания его внимания.,,!
В задачу этой работы, само собой разумеется, не входит ни
анализ, ни даже перечисление методов развития музыкально-
исполнительского воображения. Хочу, однако, высказать несколь-
ко соображений по поводу ритмической стороны музыкального
воображения, развить которую особенно трудно. К воспитанию
«ритмического воображения» надо приступать с первых шагов
44
обучения. Однако некоторые педагоги, не осознавая этого, мето-
дами своей работы часто мешают развитию ритмических способ-
ностей учеников. Отдельные педагоги, как это ни странно, не
отдают себе отчета в том, что запись ритмической стороны
музыки схематична и носит скорее арифметический, чем художе-
ственный характер. Другие понимают это, но не делают нужных
методических выводов: они полагают, что надо научить ученика
вносить в предварительно прочно усваиваемую метроритмиче-
скую схему метронарушающие поправки. Опасный путь! Исход-
ная позиция должна быть иной: ведь сама запись метроритма
есть «поправка» по сравнению с подлинным музыкальным рит-
мом, и ученик должен усвоить не арифметическую схему с «мет-
ронарушающими исправлениями», а живой музыкальный ритм,
схема которого изображена в нотной записи. Эта на первый
взгляд едва уловимая разница в исходной позиции весьма су-
щественна. В свое время, опираясь на взгляды ряда передовых
фортепианных школ и на свою практику, я предлагал на пер-
вом этапе обучения не начинать с изучения нотной записи;
в противном случае, писал я, «нотные знаки — обозначения
звуков — станут для ученика лишь символами словесных назва-
ний и клавиш». Но не в этом, полагаю я сейчас, главная опас-
ность раннего обучения нотам. Беда заключается в другом: уче-
ник приучается понимать арифметические обозначения дли-
тельностей как нечто абсолютно точное, и именно это лишает
его порой возможности горячо, эмоционально и непосредственно
воспринимать и исполнять пьесы, которые он разучивает. Когда
же ученик приобретет известный музыкальный и музыкально-
исполнительский опыт и когда благодаря этому будет заложен
фундамент для развития живого музыкально-ритмического чув-
ства, он, не отдавая себе в этом отчета, легко преодолеет услов-
ность нотной записи ритма. Ритмическая символика не только
не будет мешать развитию его творческого воображения, но на-
оборот, станет «манком» для такого развития.
Сосредоточенное внимание, то есть способность направлять и
длительно концентрировать на чем-либо психическую деятель-
ность,— необходимейшая предпосылка творческой работы. Ста-
ниславский многократно повторяет, что «центр человеческого
творчества — внимание»;1 что «творчество есть прежде всего
полная сосредоточенность нашей духовной и физической при-
роды»;1 2 что «талант — это именно и есть удлиненный период
внимания».3 Ту же мысль высказывают и музыканты: «Если дан-
ное лицо неспособно к... длительной сосредоточенности, слож-
1 Станиславский. Беседы, с. 61.
2 Станиславский. Моя жизнь, с. 519.
3 Станиславский. Беседы, с. 128.
45
ный путь к овладению столь трудным инструментом, как
скрипка, является простой потерей времени».1 Станиславский
подчеркивает, что концентрированное внимание предполагает
умение работать, не замечая окружающего^В виде иллюстрации
он приводит индусскую притчу. Магараджа решил назначить ми-
нистром того, кто сможет, идя по стене вокруг города, пронести
большой сосуд с молоком, не пролив ни капли. Многие пыта-
лись выполнить эту задачу, но безуспешно. По пути их отвле-
кали, и они проливали молоко. Но вот нашелся человек, обла-
давший таким устойчивым вниманием, что пи крики, ни стрельба,
ни хитрости не смогли отвлечь его глаз от переполненного
сосуда.
«— Ты слышал крики? — спросил его магараджа.
— Нет.
— Ты видел, как тебя пугали?
— Нет. Я смотрел на молоко.
— Ты слышал выстрелы?
— Нет, повелитель, я смотрел на молоко».1 2
Вот что такое настоящее внимание! — восклицает Станислав-
ский. Ум же человека с рассеянным вниманием «вихреподобен»
и представляет собой гору обломков из начатых, неоконченных
и брошенных мыслей.3
у! Внимание часто сравнивают со светом: при рассеянном вни-
мании, как и при рассеянном свете, большая площадь будет
сравнительно слабо освещена; сосредоточенное же внимание,
подобно рефлектору, концентрирует тот же свет на небольшой
площади, ярко освещая каждую деталь. Для творчески ода-
ренных людей характерна исключительная собранность внима-
ния. Пресловутая житейская рассеянность ученых, поэтов, му-
зыкантов, изобретателей является оборотной стороной цепкой
«хватки» внимания, пристальной сосредоточенности на объекте
научной или художественной деятельности.
Естественно, что в процессе обучения будущего художника
воспитанию внимания должно быть уделено значительное ме-
сто. Но, как замечают психологи, несравненно легче указать
идеал внимания, чем дать практическое руководство к его осу-
ществлению. Ч
Как-то раз я начал лекцию для педагогов-пианистов па тему
«Воспитание внимания ученика-исполнителя» следующим экс-
периментом. По аналогии с тем, что делал Станиславский, я
предложил слушателям, нс задавая мне предварительно никаких
вопросов, в течение тридцати секунд «быть внимательными».
Я вынул часы, потребовал полной тишины, дал сигнал к на-
чалу эксперимента и стал следить за временем. С величайшим
1 Л. Ауэр. Моя школа игры па скрипке. Л., 1929, с. 15.
2 Станиславский. Работа, с. 179.
3 См. Станиславский. Беседы, с. 83.
46
усилием просидели слушатели в полной тишине полминуты, ко-
торая показалась им, как они потом говорили, нескончаемой.
После эксперимента мне был задан недоуменный вопрос:
—А к чему мы, собственно говоря, должны были быть вни-
мательны?
Аудитория поняла азбучную психологическую истину: нельзя
быть внимательным «вообще»; для сосредоточения нужен объ-
ект, иначе никакие усилия воли не вызовут собранности вни-
мания.
Последовал диалог:
— А к чему вы заставляете быть внимательными ваших уче-
ников?
— Как к чему? К этюдам, к пьесам, которые они играют;
наконец, к гаммам и упражнениям, на которых они трениру-
ются.
Тогда я предложил одному из слушателей сесть за рояль и
сосредоточенно сыграть до-мажорную гамму.
— Вы были внимательны? Смогли думать только о том, что
делали?
Игравший чистосердечно признался, что это оказалось труд-
нее, чем он полагал, и что он не смог, выполняя задание, от-
влечься от окружающего.
— Как вы думаете, почему это оказалось столь сложным?
— Вероятно потому, что поставленная вами задача неинте-
ресна.
— Сделайте задачу интересной... Передо мной часы. Я их
видел множество раз, и они не вызывают у меня никакого инте-
реса. Но я начинаю сосредоточенно их рассматривать, поставив
своей задачей изучить каждую деталь. Я обнаруживаю, что на
циферблате нет цифры 6; «впервые» вижу раскраску отдельных
частей часов — желтый ободок у стекла, следом идущие темные
полосы, светлый винт; «впервые» замечаю, что большая стрелка
прикреплена над маленькой, что стрелки' не только разной вели-
чины, но и разной формы, и т. д. Я не узнаю своих часов, и они
вызывают у меня известный интерес... Итак, попробуйте вни-
мательно, с интересом сыграть до-мажорную гамму.
— Нет, на людях это мне сделать не удастся.
Тогда я предложил ряду слушателей выполнить поочередно
следующие конкретные задания: одному — сыграть до-мажорную
гамму в восходящем движении очень медленно, добиваясь п о-
степенного (обязательно постепенного!) усиления звучности;
другому — сыграть ту же гамму идеально ровно; третьему —
в той же гамме поочередно играть каждой рукой по две поты
то staccato, то legato (скажем, две ноты staccato левой, в пра-
вой в это время legato, потом legato — в левой, staccato —
в правой и т. д.); четвертому — сыграть до-мажорную гамму
в восходящем движении правой рукой — pianissimo, левой —
mezzo forte, в нисходящем — наоборот; пятому — сыграть первые
47
пять звуков гаммы двумя руками такой аппликатурой: правая —
2-3-1-4-5, левая — 5-1-4-3-2.1
Позабыв, что «надо быть внимательным» и перестав ста-
раться «не замечать», «не слышать», «не видеть» окружающего,
слушатели невольно сосредоточивались на поставленных зада-
ниях.
Для чего просил я выполнить этот ряд экспериментов? Для
того, чтобы слушатели поняли и на собственном опыте прове-
рили два элементарных психологических положения, которые
только и могут дать ключ к воспитанию внимания:' во-первых,
собрать внимание «вообще», беспредметно, без поставленного
объекта наблюдения невозможно; во-вторых, пассивное наблю-
дение неспособно вызвать сосредоточенность; для этого требу-
ется выполнение каких-либо осмысленных действий или мыс-
ленное решение каких-либо задач, связанных с объектом.
Нетрудно сделать вывод, что воспитание внимания исполни-
теля сводится прежде всего к тому, чтобы научить его во время
работы ставить перед собой ясные и конкретные задачи — от
узких и маленьких (как в приведенных экспериментах) до боль-
ших и широких. Когда проводишь такую работу с учениками,
постоянно убеждаешься в справедливости старой истины: ста-
вить задачи вовсе не легче, чем их разрешать.^И музыкантам
не следовало бы забывать слова известного художника и педа-
гога П. Чистякова: «Рисовать — значит соображать. Никогда
не рисуйте молча, а постоянно задавайте себе задачи»1 2
Учеников обычно учат, работая над музыкальным произве-
дением, расчленять его на части. Само по себе такое расчлене-
ние еще не влечет за собой сосредоточенности в работе: раньше
ученик без должного внимания проигрывал всю пьесу, теперь —
небольшие ее части. Но характер работы совершенно изменится,
если суметь в каждом отрезке поставить «нужную, увлекатель-
ную, меткую и посильную задачу» (Станиславский). Такая целе-
вая ориентация'направит психическую деятельность играющего
в определенное русло и поможет ему сосредоточить свое вни-
мание.
Истина эта давно известна, но редко соблюдается. Поэтому
лекцию о воспитании внимания, о которой была речь, я закончил
следующей практической иллюстрацией. Я предложил кому-
либо из присутствующих сыграть разучиваемое им произве-
дение. Вызвалась одна из слушательниц. Она сыграла Фантазию
Моцарта ре минор. Затем произошел следующий диалог:
— Удовлетворены ли вы своим исполнением?
— Конечно, нет: ведь Фантазию я еще недоучила.
1 Последний пример заимствован из «Новой формулы» В. Сафонова.
Лондон — Брайтон, 1916, с. 8.
2 П. П. Чистяков. Из наставлений Н. И. Срезневской. Сб. П. П. Чи-
стяков и В. Е. Савинский. Переписка. Воспоминания. Л,—М., 1939,
с. 295.
48
— Что же именно вы «недоучили»? Над чем вы предпола-
гаете еще поработать?
— Над стилем Моцарта.
— Слишком общо и неопределенно. Позабудем пока о «сти-
ле Моцарта». Обратитесь к вступительным тактам Фантазии.
Попробуйте ясно и конкретно сформулировать, над чем, по ва-
шему мнению, надлежит работать именно в этом отрезке Фанта-
зии? Используйте формулу, предложенную Станиславским:
«я добиваюсь того-то и того-то», «я хочу то-то и то-то»... Итак,
чего вы будете добиваться в этом отрывке?
— Этими вступительными тактами я хочу настроить слуша-
телей, вызвать у них ожидание последующего.
— Пусть так. Но эту большую общую психологическую за-
дачу оставим под конец работы. Начнем с более простых, узких
и конкретных задач.
— Тогда так: я прежде всего хочу добиться мягкого legato
и звуковой ровности.
— Вот и отлично. Приступайте к работе. Но ни на мгнове-
ние не забывайте о своей задаче. Приложите всю свою волю,
чтобы выполнить задачу!
Слушательница сосредоточенно играет первые несколько
тактов. Затем внимание ее рассеивается. Это сразу же сказы-
вается на исполнении. Я останавливаю ее:
— Вам хватило внимания только на первые два такта.
— Я действительно отвлеклась и подумала о другом. Разве
это было слышно?
— Конечно. Начните еще раз и попытайтесь провести свою
задачу до конца отрывка.
Пианистка приступила к повторению вступительных тактов.
Мне несколько раз приходилось ее останавливать, так как вни-
мание ее рассеивалось. Наконец после пятого повторения за-
дача была выполнена.
Вслед за этим не без моей помощи был сформулирован ряд
узких, а затем и более широких задач:
— Хочу услышать задержания и разрешения задержаний
(в тактах 7—8 вступления).
— Хочу добиться действительно п о с т е п е н н о г ©'усиления
звучности к 7-му такту.
— Хочу выполнить затухание в последующих тактах.
— Хочу объединить все эти задачи и сыграть вступление
ровно, legato, слушая задержания, выполняя постепенное нара-
стание и постепенное ослабление звучности...
— Хочу придать вступлению свободный и импровизационный
характер...
Этот «показательный урок» закончить не удалось, так как
пианистка, по ее словам, «очень устала». А ведь работали мы
лишь около получаса! Усталость ее естественна: полчаса такой
сосредоточенной работы (тем более в присутствии большого
3 Заказ № 1730
49
количества слушающих) — большая психическая нагрузка, осо-
бенно еще и потому, что не было привычки к такой работе.
А между тем некоторые учащиеся с легкостью и почти безо
всякой умственной усталости работают без перерыва 4—5 часов.
После этого странным — но лишь на первый взгляд — может
показаться то обстоятельство, что такого «рекорда» многочасо-
вой работы без умственной усталости не могут порой достичь
подлинно творчески одаренные исполнители. Гофман, как из-
вестно, советует заниматься не более двух часов подряд с пяти-
минутными паузами после каждого получаса. Мотивирован этот
совет так: «Работа только тогда успешна, когда она совершает-
ся с полным умственным вниманием, которое может быть сох-
ранено только в течение определенного времени... Как бы долго
эта сосредоточенность ни продолжалась, когда она исчерпы-
вается, дальнейшая работа начинает походить на развертывание
свитка, который мы только что с большим трудом свернули».1
v Итак, как это ни неожиданно (но только для неопытного
педагога!), в основе воспитания внимания исполнителя прежде
всего лежит весьма «простое» положение: надо научить играю-
щего ставить перед собой конкретные задачи, эти задачи опре-
делять и добиваться их выполнения.
Но одного этого недостаточно. Сверх того Станиславский
предусматривает специальную тренировку внимания. Вот не-
сколько примеров упражнений для воспитания внимания актера:
1. Рассматривать рисунок обоев, картину и т. п.
2. Сосредоточиться на рисовании простых фигур — круга,
квадрата.
3. Из массы звуков, голосов следить за одним.
4. Двое читают вслух; переносить внимание с одного на дру-
гого.
5. Сосредоточиться на каком-либо слове, мысли, вычислении;
окружающие поочередно задают вопросы; отвечать, а затем
продолжать развивать свою мысль.
6. Сосредоточиться на чтении, в то время как окружающие
рассматривают тебя, разговаривают и т. д.1 2
Эти упражнения на концентрацию, переключение и распре-
деление внимания требуют обязательного ежедневного систе-
матического их повторения. Они окажут неоценимую пользу не
только актеру. Однако музыкант-исполнитель нуждается еще
в специальных упражнениях аналогичного типа для тренировки
внимания па звукоритмических объектах. В виде эксперимента
1 И. Го ф м а н. Игра на фортепиано. Вопросы и ответы, с. 82.
2 Как известно, Станиславский не успел составить задуманный им «За-
дачник по классу тренинга и муштры». В книге «Работа актера над собой»
практические упражнения на внимание почти не приводятся. Помещенные
примеры заимствованы из статьи М. Чехова, посвященной практическим
упражнениям по системе Станиславского. (См. М. Чехов. О работе актера
над собой. «Горн», 1919, № 4).
50
(его несовершенство оговариваю) я пытался с отдельными уче-
никами проводить такой тренаж внимания. Вот несколько при-
меров.
1. Закрыть глаза и в течение некоторого времени сосредото-
читься только на слуховых восприятиях (не музыкальных);
затем перечислить воспринятые слуховые впечатления.
2. Дослушать извлеченный в среднем или низком регистре
фортепианный звук до его полного затухания.
3. Представить себе этот же звук внутренним слухом и так-
же «дослушать» его до момента воображаемого затухания.
4. Играя (или только представляя в своем воображении)
медленную мелодию с предельной сосредоточенностью, следить
за переходом одного звука в другой...
Внимание исполнителя, как всякого человека, тренируется
и без специальных упражнений, непроизвольно. Но лишь при
одном непременном условии: при серьезном, ответственном от-
ношении ко всему окружающему и к своей работе. «Если уче-
ник или артист, — пишет Станиславский, — относится созна-
тельно к своему делу —дома, в школе и на сцене, если он в до-
статочной мере дисциплинирован в этом отношении и всегда
внутренне собран, то он может быть спокоен: его внимание по-
лучит необходимую тренировку на текущей работе и без спе-
циальных упражнений».1
К числу способностей, которые имеют порой решающее зна-
чение для успеха исполнительской деятельности, относится
творческое эстрадное самочувствие. Если под влиянием волне-
ния актер или музыкант думает о том, «как бы не забыть»,
«как бы не ошибиться» и... «как бы скорее уйти с эстрады»,
разве может идти речь об исполнительском творчестве? При та-
ком самочувствии исполнитель в лучшем случае внешне проде-
монстрирует, «отбарабанит» то, чего он не чувствует; в худ-
шем-— начисто провалит интерпретацию роли или музыкаль-
ного произведения.
Станиславский с тонкой психологической наблюдательностью
описывает мучительное и противоестественноё состояние, пере-
живаемое актером на сцене: «Когда человек-артист выходит на
сцену перед тысячной толпой, то он от испуга, конфуза, застен-
чивости, ответственности, трудностей теряет самообладание.
В эти минуты он не может по-человечески говорить, смотреть,
слушать, мыслить, хотеть, чувствовать, ходить, действовать».1 2
Волнение музыканта-исполнителя ничем не отличается от опи-
санного самочувствия актера: сознание ответственности, непри-
вычная обстановка, боязнь провала — все это дезорганизует
1 Станиславский. Работа, с. 188.
2 Там же, с. 497.
3*
51
«аппарат переживания» и «аппарат воплощения» и, естествен-
но, парализует творческие способности.
Но не всякое эстрадное волнение влечет за собой потерю
самообладания. Станиславский проводит грань между «волне-
нием от сущности», то есть волнением, вызванным увлечением
сущностью исполняемого, и волнением — боязнью. Волнение от
сущности создает подъем творческих сил, волнение от страха
перед публикой убивает исполнительское творчество.
Само собой понятно, что в систему подготовки исполнителя
должно входить воспитание творческого эстрадного самочувст-
вия. Но... воспитуемо ли оно? Попытки убедить ученика «не
волноваться», «не бояться», как известно, не только бесполезны,
но и вредны, так как фиксируют внимание на эстрадном волне-
нии. Отдельные педагоги, в том числе и весьма авторитетные,
не раз высказывали мнение, что эстрадное самообладание вос-
питать невозможно. «Никаким способом, — пишет Л. Ауэр —...
невозможно излечить или хотя бы временно парализовать в тех
кто ему подвержен, тот вид нервозности, который называется
„боязнью эстрады"» *. Но, может быть, здесь повторяется старое
заблуждение: когда чего-либо не знают, считают это непозна-
ваемым, когда не умеют чего-либо сделать, считают, что это не-
возможно сделать?
С присущей ему страстностью Станиславский «стал искать
иного... состояния артиста на сцене, — благотворного, а не вред-
ного для творческого процесса». Вера в силу разума пронизывает
его смелую научную гипотезу: «Раз что гениям дана от природы
способность получать творческое самочувствие в полной степени,
то, быть может, обыкновенные лица добьются приблизительно
такого же состояния после большой работы над собой».* 2 В по-
исках путей, которые помогли бы воспитать творческое эстрад-
ное самочувствие, Станиславский обнаруживает тесную зависи-
мость сценического самообладания от произвольного сосредото-
ченного внимания.
Спросите исполнителей-музыкантов, чего они, собственно го-
воря, боятся, выступая публично? Ответ в огромном большин-
стве случаев бывает точен и конкретен. Оказывается, что одного
исполнителя преследует боязнь забыть, другой опасается тех-
нических неполадок, третий (играющий па смычковом или духо-
вом инструменте) тревожится об интонации, четвертый (певец)
боится «потерять голос» и т. п. Но чем вызван этот страх, эти
опасения и нарушения? Ведь в обычной обстановке всего этого
не было. Причину неполадок в работе памяти и технического
аппарата, которые сопутствуют эстрадному волнению, надо
прежде всего искать в обострении сознательного контроля над
автоматически налаженными процессами. Чувство ответственно-
’ Л. Ауэр. Моя школа игры па скрипке, с. 157.
2 Станиславский. Моя жизнь, с. 514, 516.
52
сти заставляет пианиста, скрипача или вокалиста, помимо их
воли, подвергать проверке перед выступлением1 и на самой
эстраде те стороны исполнительского процесса, которые отлич-
но протекали и без специальной направленности на них внима-
ния. «Какой аккорд в левой руке?» — приходит на ум пианисту.
Автоматически налаженные процессы этим дезорганизуются, и
он забывает, что надо дальше играть. «Попаду ли я на соответ-
ствующую клавишу?» — думает другой исполнитель. Он пере-
стает при этом «доверять» своей руке и попадает мимо. В дей-
ствие вступает, пользуясь термином В. Бардаса, «сверхконт-
роль»: с одной стороны, исполнителя непроизвольно и неудержимо
охватывает стремление осознать автоматически налажен-
ные психические процессы; с другой же стороны, он утрачивает
способность произвольно направлять внимание на то, на что
нужно. «Сверхконтроль» не только не улучшает исполнения,
но обычно резко его ухудшает. Вот почему музыканты и актеры,
педагоги и психологи ставят воспитание эстрадного само-
обладания в тесную связь с воспитанием произвольного внима-
ния. Исполнитель должен избавиться от мешающего его дея-
тельности «сверхконтроля».
Но как этого добиться? На первый взгляд музыкант В. Бар-
дас и деятель театра Станиславский предлагают один и тот же
метод: ввести «замещающие» (или «отвлекающие») представ-
ления. Смысл этого понятия могут объяснить следующие при-
меры. Станиславский, как известно, одно время специально сле-
дил на сцене за тем, чтобы его мускулатура не была излишне
напряжена. И тут он обнаружил, что «публичные упражнения,
приковывая внимание к ощущениям тела («замещающие пред-
ставления».— Л. Б.), тем самым отвлекали меня от того, что
происходило за рампой, в зрительном зале, за черной страшной
дырой сценического портала. Отвлекаясь, я переставал бояться
публики и минутами забывал о том, что я на сцене».1 2 Или дру-
гой пример. Группу сидевших на сцене студийцев Станислав-
ский спросил: «У кого это каблук отвалился» («замещающее
представление». — Л. Б.)-, они принялись рассматривать свою и
чужую обувь и, отдаваясь этому делу со всем вниманием, пере-
стали замечать, что в это время происходило в зрительном
зале.3 И, наконец, последний пример. Педагог начинает лек-
цию; он испытывает сильнейшую головную боль; но, углубив-
шись в изложение материала («замещающее представление») и
увлекшись им, перестает испытывать болевые ощущения; они
вновь возникают после окончания лекции.
1 Вспомним неудержимое желание многих учащихся в день концерта бес-
конечное количество раз повторять подготовленные к выступлению произве-
дения.
2 Станиславский. Моя жизнь, с. 518.
3 См. Станиславский. Работа, с. 159.
53
Какие же психические «заместители» могут помочь исполни-
телю отвлечься от чувства страха и от сверхконтроля? В. Бар-
дас предлагает пользоваться для этой цели случайными психи-
ческими «заместителями»: «можно, например, прибегнуть к по-
мощи сознательно подобранного контрастного представления»;
можно «направить внимание на второстепенные явления, — на-
пример, на какую-либо легкую фигуру в аккомпанементе».1 Та-
ким образом, если согласиться с Бардасом, то «спасение» мож-
но найти, идя по такому пути: в наиболее сложных для памяти
или для технического воплощения местах пианист начинает ду-
мать о чем-либо «контрастном» или «второстепенном», в одном
случае... о прочитанной недавно книге, в другом — о малосу-
щественной для художественного образа несложной фигурации
в аккомпанементе. Если даже допустить, что внимание играю-
щего в соответствующих местах будет полностью поглощено
содержанием прочитанной книги и несложной фигурацией и что
автоматизм «вывезет», сможет ли артист, думая о посторонних
вещах, проникнуться исполняемой музыкой, воплотить художе-
ственный образ и убедительно передать его слушателям? Слу-
чайные «замещающие представления» отвлекают от искусства
и от исполнительского творчества, хотя в отдельных слу-
чаях и могут вывести исполнителя из катастрофического поло-
жения.
Станиславский идет по иному пути. Он считает, что единст-
венно возможным «замещающим представлением» может быть
только полное — без малейшего отвлечения — сосредоточение
внимания на самом произведении искусства; непрерывная и не-
устанная концентрация внимания на развитии художественного
образа. Предельная сосредоточенность такого рода «выманит»
увлеченность, творческое самочувствие и поможет сохранить
самообладание на эстраде.
Такая собранность и сосредоточенность в значительной мере
зависят от метода художественно-педагогической работы с уче-
ником1 2 и от его собственной повседневной систематической тре-
нировки своего внимания. Но несмотря на все это, паническое
волнение иной раз все сметает на своем пути, в том числе
и волю к сосредоточенности. На практике приходится сталки-
ваться с двумя категориями учащихся. Одним процесс «вхожде-
ния» в произведение дается сравнительно легко. Достаточно им
заставить себя перед началом исполнения продумать характер
пьесы, темп, метроритм, извлечь первые звуки, и музыкальное
произведение как бы само собой притягивает их внимание; без
особых усилий, непрерывной лентой развертывают они испол-
1 В. Б а р д а с. Цит. статья, с. 68.
2 Как часто ученик не в силах сосредоточиться потому, что ему не на чем
сосредоточиться!
54
няемое сочинение.1 Другие — таких большинство — нуждаются
в специальных «приспособлениях», которые помогли бы им со-
средоточиться, вникнуть и увлечься исполняемой музыкой. Та-
кими «приспособлениями» могут быть конкретные художест-
венные задачи-действия, расставленные в отдельных местах про-
изведения. Эти задачи, которые одновременно являются и
«замещающими представлениями» и «манками» для творчества,
точно ориентиры, указывают путь вниманию и не дают ему
свернуть в сторону. Само собой разумеется, задачи-действия
должны быть непосредственно связаны с воплощаемым музы-
кально-поэтическим образом, а не являться чем-то «контраст-
ным» или «второстепенным». Расплывчатые задачи, дающие в
общих чертах характеристику образа, в данном случае совер-
шенно непригодны. Лишь конкретные задачи могут вызвать
целесообразные действия. В свою очередь, только задайи-дей-
ствия смогут и на эстраде привлечь к себе внимание исполни-
теля — предотвратить опасный «сверхконтроль» и помочь обре-
сти нужное творческое состояние. Задачи эти должны быть за-
ранее точно намечены. Играющему следует привыкнуть ими
пользоваться, а это требует специальной тренировки.
Я использовал этот метод работы с рядом учеников и неод-
нократно убеждался в том, сколь он полезен для воспитания эст-
радной сосредоточенности и самообладания. Опишу один из
моих педагогических экспериментов. В классе обучалась спо-
собная студентка В. Но на концертах она нередко играла весь-
ма неустойчиво — то забудет текст, то скомкает пассаж, то
ускорит темп. И вот я решил испробовать в работе с ней описан-
ный метод задач-действия. Ученица разучивала два произведе-
ния, которые ей предстояло исполнить на студенческом концер-
те— Токкату и фугу ре минор Баха в обработке Таузига и пер-
вую часть Сонаты Си-бемоль мажор Шуберта. Над этими
пьесами, очень тщательно разученными, проводилась следующая
работа: совместно с ученицей намечались конкретные задачи-
действия, и на выполнении их она должна была сосредото-
читься. Перед каждым исполнением той и другой пьесы я застав-
лял молодую пианистку сосредоточиться и представить себе со
всей отчетливостью поставленные нами задачи. Добиться этого
было нелегко. Но затраченные усилия были вознаграждены:
на концертах студентка, которая обычно играла неуверенно
1 Но и этой категории играющих следует напоминать совет Антона Ру-
бинштейна: «Прежде чем ваши пальцы коснутся клавиш, вы должны начать
пьесу мысленно, то есть вы должны определить в уме темп, характер, туше и
прежде всего звуки первых нот, до того, как начинается ваша действительная
игра» (И. Гофман. Фортепианная игра. Вопросы и ответы, с. 40). Это на-
поминает «душевный грим», который рекомендует Станиславский: «При под-
готовке к спектаклю достаточно лишь тронуть отдельные основные моменты
роли или этюда, главные этапы пьесы, не развивая до конца всех задач и
кусков пьесы» (Станиславский. Работа, с. 505).
55
и растерянно, исполнила выученные пьесы сосредоточенно, со-
бранно и спокойно. Это отметили и мои коллеги, не знавшие
о проводимом эксперименте. Я поставил перед собой вопрос,
объясняются ли эстрадные успехи ученицы проводимой мною
специальной подготовительной работой или же они вызваны ка-
кими-либо иными причинами, мне неведомыми. Чтобы получить
ответ, я поступил так: работая с ученицей над следующим про-
изведением, подготовлявшимся к публичному исполнению, я не
провел специальной подготовки к концерту, не использовал ме-
тод задач-действий. Каков же был результат? Исполнение уче-
ницы на очередном концерте снова стало неуверенным и бес-
покойным. Как педагог я огорчался из-за неудачного выступле-
ния ученицы, но как экспериментатор — радовался!
Станиславский ставит эстрадное самообладание в зависи-
мость от морального облика исполнителя. «Надо разъяснять, —
пишет он, •— что все эти волнения... исходят из самолюбия,
тщеславия и гордости, из боязни оказаться хуже других».1 Ту
же мысль высказывают и музыканты. В ответ на вопрос, как
бороться с «нервозностью» на эстраде, И. Гофман среди про-
чего указывает: «Вы должны научиться забывать свое драго-
ценное «я», а также «я» ваших слушателей и отношение
к вам.. ,»1 2
Принято иногда считать, что эстрадное самообладание тре-
бует умения «забывать о слушателе» и что величайшая соб-
ранность играющего позволяет ему «совсем не замечать» ауди-
торию. «Представь себе, — порой советует педагог ученику перед
публичным выступлением, — что в зале никого нет, что тебя
никто не слушает». Педагог добивается, чтобы исполнитель за-
был о том, что он... исполнитель, забыл о том, что он посред-
ник между автором и слушателями. Неверная и вредная уста-
новка! Исполнитель не может и не должен «забывать о публи-
ке». Артистизм — это способность общаться со слушателями.
А общение предполагает взаимную связь: исполнитель-музы-
кант, как и актер, лектор, докладчик, не только воздействует на
аудиторию, но и испытывает на себе ее влияние.
Вспоминается занятие с молодыми писателями в литкружке,
описанное М. Шагинян. Молодая девушка читала свое первое
произведение. Рассказ казался ей удачным и интересным, иона
начала читать уверенно и смело. Члены кружка слушали ее вни-
мательно. Никто не проронил во время чтения ни слова. Но в
общении со слушателями писательница почувствовала их реак-
цию. «Голос авторши... сам себе как бы давал оценку: сперва
это был очень довольный, радостный, хотя и трепетный голос,
1 Станиславский. Беседы, с. 73.
2 И. Гофман. Цит. книга, с. 117.
56
потом он силился быть довольным, то есть обнаружил стрем-
ление в авторе заглушить собственную тревогу, дальше окупал,
и чтение кончилось торопливо, даже как будто с пропусками».1
Когда рассказ был прочитан, молодая писательница поняла,
что ее произведение неудачно. А между тем раньше, до прочте-
ния рассказа перед слушателями, он казался ей отличным. Что
же, собственно говоря, изменилось? Общение с аудиторией за-
ставило писательницу другими глазами взглянуть на свое про-
изведение.
Характер общения со слушателями исполнителя-музыканта
существенно отличается от общения актера. По мысли Стани-
славского, актер не должен общаться с публикой непосредст-
венно: окруженный сценическими аксессуарами артист непос-
редственно общается со своим партнером, косвенно — со зрите-
лем.1 2 Исполнитель-музыкант обращается, подобно рассказчику,
прямо к слушателям; его художественное общение с аудиторией
лишено промежуточных и посредствующих звеньев. Прямое об-
щение с публикой музыканта или чтеца в психологическом от-
ношении значительно сложнее, чем косвенное общение с ауди-
торией актера — через партнеров и с помощью сценических
аксессуаров. Характерно, что многие выдающиеся актеры (Ермо-
лова, Ленский, Хмелев и др.), которые свободно себя чувство-
вали в атмосфере спектакля, панически боялись непосредствен-
ного общения со зрителями с концертной эстрады.3 * * * * В
Одна из задач педагога, обучающего исполнителя, сводится
к тому, чтобы воспитать желание общаться со слушателями
и одновременно развить способности, необходимые для такого
1 М. Ш а г и н я и. Беседы об искусстве, с. 31.
2 Актерскому самопоказу Станиславский одно время противопоставлял
«четвертую стену». Еще в 1935 г.'он писал: «Я буду в следующей пьесе ра-
ботать так. Репетиция будет происходить среди четырех стен... Я не скажу,
которая из четырех стен будет открытой, и они (актеры.— Л. Б.) придут на
спектакль (об этом я мечтаю) и, гримируясь, не будут знать, где тут будет
стена открыта». (Станиславский. Работа с актером. «Сов. театр», 1936,
№ 1, с. 5). «Четвертая стена» также уводит от искусства, как и самопоказ.
В книге «Работа актера над собой» Станиславский не мечтает больше о «чет-
вертой стене»: «Я на минуту представил себе положение бедного актера, иг-
рающего перед пустым залом... и почувствовал, что такой спектакль не до-
играешь до конца» (Станиславский. Работа, с. 401).
3 «В концертах я не могу участвовать от волнения: без парика, грима,
костюма, роли, без декорации я чувствую себя перед зрителем голым, те-
ряюсь; свет рампы и все элементы, оформляющие спектакль, забронировы-
вают меня — я там у себя дома, а зрительного зала я боюсь, боюсь этой
массы глаз, на меня устремленных, мне делается вдруг невыносимо жутко...
В то время как, будучи загримированным и в костюме театральном, играя
вместе с партнером, — я хозяин на сцене» (Хмелев. Ответ на анкету, со-
ставленную театральной секцией ГАХН. Цит. по кн.: П. М. Якобсон. Пси-
хология сценических чувств актера, с. 176). Ср. со словами Шопена, обращен-
ными к Листу: «Я не способен давать концерты; толпа меня пугает, меня
душит ее учащенное дыхание, парализуют любопытные взгляды, я немею пе-
ред чужими лицами...» (Ф. Лист. Шопен, М., 1936, с. 86).
57
общения. Но воспитание «воли к общению» и «чувства об-
щения» может быть осуществлено — на начальном этапе обу-
чения во всяком случае — только косвенно, путем развития
эмоциональной отзывчивости на музыку. Яркое, эмоционально
насыщенное восприятие музыки обычно влечет за собой жела-
ние передать переживаемое другим. Убежден в том, что с пер-
вых же шагов работы с учеником должно начаться воспитание
правильной музыкально-исполнительской установки: испол-
няю— значит переживаю образную музыкальную речь и ее
воплощаю. Из этого развивается в процессе воспитания новая
исполнительская установка: исполняю — это значит переживаю,
воплощаю, передаю, убеждаю, общаюсь.
Вот две психологические установки: первая — играю «вооб-
ще», ни к кому при этом не обращаюсь, разве лишь к себе;
вторая — передаю, убеждаю и общаюсь с другими. Различие
между ними огромно, и оно сказывается на артистической воле,
на эстрадном самочувствии и в итоге на качестве исполнения.
Предвижу недоуменный вопрос: неужели такого рода из-
менение психологической установки способно повлиять на твор-
ческое самочувствие и сказаться на исполнении? Отрывок из
мемуаров М. Чехова поможет ответить на поставленный вопрос.
«У Вахтангова была особая способность показывать. Два
не сравнимых между собой психологических состояния пережи-
вает человек, если он только показывает или если выпол-
няет сам. У человека показывающего есть известная уверен-
ность, есть легкость и нет той ответственности, которая лежит
на человеке делающем. Благодаря этому показывать всегда
легче, чем делать самому, и показ почти всегда удается. Вах-
тангов владел психологией показа в совершенстве. Однажды,
играя со мной на бильярде, он демонстрировал мне свою уди-
вительную способность. Мы оба играли неважно и довольно
редко клали в лузы наши шары. Но вот Вахтангов сказал:
«Теперь я буду тебе показывать, как нужно играть на бильяр-
де» и, переменив психологию, он с легкостью и мастерством по-
ложил подряд три или четыре шара. Затем^он прекратил экспе-
римент и продолжал играть по-прежнему, изредка попадая
шарами в цель».1 Пусть в этих словах есть некоторая доля преу-
величения. И все же приведенный эпизод рельефно показывает
то огромное значение, какое имеет «перемена психологии».
Один из видных советских пианистов рассказывал мне, как
он репетирует в домашней обстановке новую программу, с кото-
рой ему предстоит вскоре выступать. То, что он делает, со сто-
роны может показаться детской забавой, ребячеством, чудаче-
ством. Он выходит из другой комнаты («артистической»)
к роялю, представляет себе, что находится в концертном зале,
раскланивается перед аудиторией и начинает играть программу.
1 М. Ч ехо в. Путь актера. М., 1928, с. 90—91.
58
При этом, по его словам, он всеми фибрами души «чувствует»
публику Большого зала Московской консерватории, перед ко-
торой ему предстоит выступить. Достаточно бывает ему сыграть
перед воображаемой аудиторией всю программу или отдельные
музыкальные произведения, и он уже знает, что звучит убеди-
тельно, а что нет; как реагируют слушатели на его исполнение
той или другой пьесы. После нескольких таких репетиций он вы-
ходит на эстраду в «форме», с полной уверенностью. Иное само-
чувствие испытывал этот пианист раньше, до того как нашел
свой метод подготовки к эстраде: он боялся выступлений с новой
программой.. Л
Вопрос о парализующем воздействии мышечного напряже-
ния на творческую деятельность, который поставил Станислав-
ский, важен и для музыкально-исполнительской педагогики.
Физические перенапряжения обычно попадают в поле внимания
педагога-музыканта лишь тогда, когда они дезорганизуют
«аппарат воплощения» и вызывают технические неполадки.
Высказывания Станиславского помогают шире взглянуть на
вопрос о мышечных фиксациях: телесные «зажимы», даже в том
случае, если они явственно не сказываются на технике пиани-
ста, сковывают его душевные переживания и творческое во-
ображение. «Пока существует физическое напряжение, — пи-
шет Станиславский об актере, — не может быть речи о пра-
вильном, тонком чувствовании и о нормальной душевной жизни
роли».1 2
В фортепианно-педагогической практике известны многочис-
ленные случаи, когда мускульные перенапряжения учащегося
отрицательно сказываются на его эмоциональной сфере; в свою
очередь, неестественный характер музыкального переживания
(обычно всякого рода эмоциональные преувеличения) усили-
вает мышечные напряжения. Эмоциональное возбуждение «от
сущности» исполняемого, не получая разрешения в игровых
движениях пианиста, вызывает спазматические мышечные сок-
ращения, которые поглощают эмоциональную энергию играю-
щего. В свою очередь, эти мышечные «зажимы» пагубно ска-
зываются и на «аппарате переживания» и на «аппарате вопло-
щения».
Студентка К. принесла мне как-то на урок Балладу Шопена.
Исполнительница понимала характер и структуру произведения,
1 Ср. со словами М. Чехова: «Можно пользоваться, например, советами
и указаниями лица, которому доверяешь, именем которого дорожишь, пу-
тем. . . отдачи себя его влиянию. Я, например, часто пользуюсь указаниями
А. И. Чабана, не беспокоя при этом его самого. Я мысленно сажаю его
в зрительный зал во время спектакля или репетиций и предоставляю ему дей-
ствовать па меня. Я чувствую при этом, как меняется моя игра, как облаго-
раживается опа и какая четкость выступает в моих жестах, словах и целых
кусках роли» (М. Чехов. Цит. книга, с. 170).
2 Станиславский. Работа, с. 207.
59
основательно поработала над ним, но играла бледно и невыра-
зительно. Следя за ее исполнением, я понял, что усилия учени-
цы сыграть как можно лучше, дать как можно больше «чувст-
ва» и неразрывно связанное со всем этим физическое напряже-
ние парализуют пианистку. В кульминационных местах она до
того напрягалась, что задерживала дыхание или громко себе
подпевала. Замечая, что ее игра неубедительна, ученица стре-
милась выжать из себя еще больше «чувства», играть еще «вы-
разительнее». Но чем больше она прилагала усилий, тем замет-
нее ухудшалось исполнение. Давать те или иные чисто музы-
кальные или пианистические советы — все это представлялось
мне нецелесообразным. Студентка стала бы еще больше «ста-
раться», а это, естественно, только ухудшило бы дело. Педаго-
гическая задача прежде всего заключалась в том, чтобы воз-
действовать на ее физический и психический тонус. А для этого
надо было, чтобы исполнительница поняла элементарную истину:
она обманывает самое себя, принимая возбуждение, связан-
ное с мышечным напряжением, за музыкально-эмоциональное
переживание. Прошел не один урок, пока молодая пианистка
сумела услышать свое реальное исполнение и перестала отож-
дествлять мышечные напряжения с выразительностью.1
Для того чтобы помочь ученику избавиться от мышечных
перенапряжений, педагог в каждом отдельном случае выбирает
иной — индивидуальный путь работы. Один из таких путей: за-
ставить ученика временно отказаться от «выразительного» ис-
полнения (точнее говоря, от исполнения, которое представ-
ляется играющему выразительным) и выработать в себе, как
предлагает Станиславский, путем специальной тренировки и в
обыденной жизни и в процессе игры «механического мышеч-
ного контролера». «Роль контролера,— пишет Станиславский,—
трудная: он должен неустанно как в жизни, так и на сцене сле-
дить за тем, чтобы нигде не появлялось излишнего напряжения,
мышечных зажимов, судорог. При наличии зажимов контролер
должен их устранить. Этот процесс самопроверки и снятия мы-
шечного напряжения должен быть доведен до механической
бессознательной приученности».1 2
Мешать проявлению творческих способностей может не
только общая телесная скованность, по и укоренившаяся при-
вычка «зажимать» какую-то отдельную группу мышц. Станислав-
ский рассказывает о даровитой актрисе, которая напрягала в
драматических местах роли правую бровь. Именно из-за этого
«чувство заменялось ею простым физическим напряжением».
Когда после соответствующей тренировки артистке удалось
1 Работая с этой ученицей, я не прошел мимо совета Станиславского:
«Когда артист слишком старается, полезно допустить даже небрежность, бо-
лее легкое отношение к делу. Это хорошее противоядие против чрезмерного
напряжения, старания и наигрыша» (Работа, с. 538).
2 Станиславский. Работа, с. 210.
60
освободиться от этого частичного мышечного напряжения,
«внутреннее чувство получило свободный выход наружу» и игра
ее стала ярче и выразительнее.1 Аналогичный случай был и в
моей фортепианно-педагогической практике. Одаренный маль-
чик Д. в кульминационных местах пьесы обычно «подпирал»
языком щеку; это пагубно сказывалось на его творческой фан-
тазии и на игре. Как только удалось устранить этот недочет,
мальчик стал играть естественнее и выразительнее.
В заключение хочу напомнить о задачах, которые были
поставлены в этом очерке. Само собой разумеется, что я не
стремился ни разрешить, ни даже поставить все важнейшие
вопросы воспитания музыканта-исполнителя. Я лишь попы-
тался, пользуясь материалами Станиславского, наметить некото-
рые проблемы, а в отдельных случаях указать возможные пути
их разрешения. Основная цель моей работы — привлечь внима-
ние к вопросам, которые часто недооцениваются: имею в виду
методы развития способностей, предопределяющих возмож-
ность исполнительского творчества. Прежде чем изложенные
здесь идеи и мысли, подсказанные психотехнической школой
театральной педагогики, заинтересуют широкую педагогическую
массу, предстоит борьба с косностью, узостью взглядов, обвет-
шалыми догмами, а главное, с педагогическим самопоказом, ко-
торый столь же пагубно сказывается на обучении и воспита-
нии, как исполнительский самопоказ на самом искусстве интер-
претации. Труды Станиславского — в первую очередь «Работа
актера над собой» — помогут нашей передовой музыкальной
педагогике, перефразируя его же слова, бороться с ошибочными
методами подготовки исполнителя и с установившимися лож-
ными понятиями о сущности исполнительского творчества.
ФОРТЕПИАННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ Ф. М. БЛУМЕНФЕЛЬДА
В течение полувека Феликс Михайлович Блуменфельд с ры-
царским благородством и честностью, страстно и самозабвенно
отдавал свое огромное дарование служению отечественному
музыкальному искусству. Он оставил значительный след в исто-
рии русской музыкальной культуры и как блестящий пиа-
нист— пропагандист многих фортепианных произведений рус-
ских композиторов, — и как дирижер, руководивший первыми
постановками ряда русских опер, и как вдохновенный педагог,
1 Станиславский. Работа, с. 208—209.
61
воспитавший многих замечательных пианистов (среди них Алек-
сандр Дубинский, Владимир Горовиц, Мария Гринберг), педа-
гогов, музыкальных деятелей, и, наконец, как талантливый ком-
позитор. Он принадлежал к тем художникам, личность которых
целиком была поглощена искусством. Творчество и художест-
венная деятельность таких людей рождаются из жизни необы-
чайно органично. Без искусства и вне искусства они не могут
существовать. Все впечатления от жизни, думы, помыслы и чув-
ствования, все то, что остается в их душе как общий смысл
жизненных явлений,— превращается у таких людей в краски,
линии, скульптурные формы, поэтические строфы, музыкальные
и музыкально-исполнительские образы.
Близко знавший Блуменфельда Б. В. Асафьев в заметке о
нем называет его в числе дорогих и незабвенных имен недав-
него прошлого русской музыки. «Богато одаренный, чуткий му-
зыкант тонкой интеллектуальной культуры, он был в жизни
пылким энтузиастом родного искусства и как пианист, и как
дирижер, но и в том и в другом облике являл в себе человека
страстно волнующегося, трепетного сердца, сочетая черты Шо-
пена и Шумана. Не боюсь вспомнить и назвать эти великие,
прекрасные тени рядом со скромным талантом Блумен-
фельда. . -»1
Сформировавшись как художник задолго до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, Блуменфельд, как и
ряд других выдающихся русских музыкантов старшего поколе-
ния, осуществлял в своем лице непосредственную связь между
русской классической и советской музыкальной культурой.
В 20-х годах активной деятельностью в советских консервато-
риях он способствовал воспитанию молодых пианистов в духе
лучших традиций русского искусства.
Предлагаемый вниманию читателей очерк не ставит своей
задачей осветить всю многостороннюю деятельность Ф. М. Блу-
менфельда. Его основная цель — кратко воссоздать жизненный
путь замечательного музыканта и, главное, описать и проанали-
зировать его интереснейшую и плодотворнейшую фортепианно-
педагогическую деятельность в советские годы в Московской
консерватории. Автор использовал в этом очерке архивные ма-
териалы, устные воспоминания лиц, знавших Блуменфельда
или учившихся у пего, а также свои наблюдения и записи, сде-
ланные во время занятий у Блуменфельда.
1
Феликс Михайлович Блуменфельд родился 7 (19) апреля
1863 года в Ковалевке, местечке Херсонской губернии, где отец
его, учитель французского языка, содержал пансион для маль-
1 Б. В. Асафьев. Ф. М. Блуменфельд (памятка). «Сов. музыка», 1963,
№ 4. с. 74.
62
чиков. Семья Блуменфельда вскоре после рождения сына Фе-
ликса переехала в Елизаветград (ныне Кировоград). Его музы-
кальные способности проявились очень рано: в пятилетием воз-
расте он не только с легкостью подбирал по слуху двумя руками
мелодии с аккомпанементом, но — по собственной инициативе и
без чьей-либо помощи — выучился читать ноты. Раннему музы-
кальному развитию одаренного ребенка способствовала обста-
новка в семье: старшие братья — Сигизмунд и Станислав —
были очень музыкальны, играли на фортепиано и пели.1 «Смело
можно сказать,— писал впоследствии Феликс Михайлович,—
что со дня моего рождения я купался в музыке».1 2 О музыкаль-
ной атмосфере в семье Блуменфельдов рассказывал и М. П. Му-
соргский, посетивший Елизаветград с певицей Д. М. Леоновой
в 1879 году. Делясь со Стасовым своими дорожными впечатле-
ниями, Мусоргский писал о знакомстве «с очень милым семей-
ством Блуменфельд, весьма передовым в музыкальных делах и
зорко следящим за музыкальной литературой; все наши музи-
кусы там доподлинно известны, и беседа наша летела как бы
в самом Питере».3
В раннем детстве Блуменфельд брал уроки у старшего брата,
Станислава, а с десяти лет приступил к систематическим
занятиям под руководством Густава Вильгельмовича Нейгауза.4
Впоследствии Феликс Михайлович говорил и писал, что он мно-
гим обязан Г. В. Нейгаузу в своем пианистическом совершен-
ствовании.
Занятия с Г. В. Нейгаузом продолжались сравнительно не-
долго— всего три года. С двенадцатилетнего возраста и до по-
ступления в 1881 году в Петербургскую консерваторию (т. е.
до восемнадцати лет) Блуменфельд совершенствовался в фор-
тепианном искусстве самостоятельно, без педагогического руко-
водства. Та музыкальная любознательность, которая была ха-
рактерна для него на протяжении всей его жизни, проявлялась
и в отроческие годы: молодой пианист жадно прочитывал сотни
страниц музыкальной литературы, особенно увлекаясь Шопеном
и доходившими до Елизаветграда новыми сочинениями петер-
бургских композиторов.
Окончив елизаветградское земское семиклассное училище и
сдав затем в Полтаве экзамены за курс военной гимназии,5
1 Станислав Блуменфельд (1850—1898) стал впоследствии педагогом и
основал в Киеве музыкальную школу; другой брат — Сигизмунд (1852—1920),
принимавший деятельное участие в Беляевском кружке, пользовался извест-
ностью как певец, композитор романсов и пианист.
2 Из биографической анкеты Ф. М. Блуменфельда, написанной для сло-
варя А. С. Фаминцына. Рукописный отдел ГПБ им. Салтыкова-Щедрина.
3М. П. Мусоргский. Письма и документы. Собрал и приготовил
к печати А. Н. Римский-Корсаков. М., 1932, с. 401.
4 Отца Генриха Густавовича Нейгауза.
5 По архивным материалам, хранящимся в ЦГИАЛ, ф. 497, оп. 5, д. 339,
л. 148.
63
Блуменфельд осенью 1880 года поступила Рижский политехни-
кум: видимо, дальнейший жизненный путь тогда еще не был ему
ясен. Летом 1881 года в Крыму произошла знаменательная
встреча Блуменфельда с Н. А. Римским-Корсаковым, запомнив-
шаяся и юноше и великому русскому композитору. В «Летописи»
Римский-Корсаков вспоминает: «День этот памятен мне тем, что
вечером на возвратном пути от Анастасьевых, близ Ай-Даниля,
в коляску нашу подсел старший Фортунато с товарищем своим
Феликсом Михайловичем Блуменфельдом, молодым человеком
лет 18, которого он тут же познакомил с нами. Наш милый
новый знакомый оказался бойким, подающим надежды пиани-
стом и щедро одаренной музыкальной натурой. В продолжение
нескольких дней мы постоянно видались с ним у Фортунато
в гостинице „Россия”»
Вскоре после этой встречи, в сентябре 1881 года, Блумен-
фельд, оставив мало интересовавший его политехникум, посту-
пил в Петербургскую консерваторию по классу рояля.
В первой половине 80-х годов имя его часто упоминается в
письмах В. В. Стасова, восторгавшегося дарованием молодого
музыканта. Так, в 1882 году критик писал С. В. Фортунато:
«Феликс в большом почете у всей нашей музыкальной компа-
нии: аккомпанирует как никто в целом Петербурге (после Му-
соргского), в консерватории идет, говорят, очень хорошо в классе
Штейна. Вообще он так музыкален, как немногие. Мы на
него не нарадуемся».1 2
Спустя несколько месяцев Стасов писал той же корреспон-
дентке (С. В. Фортунато): «Ничего не могу сказать тебе нового,
Софья, кроме как про Блуменфельда. Этот пошел теперь громад-
ными шагами вперед как композитор. В короткое время сочи-
нил несколько романсов, и все превосходных. Особенно один
на тему, заданную мною. Это на слова Пушкина «Заклина-
ние». .. Тут он вложил такую страстность, чувство, красоту, лю-
бовь, живописность — что, кроме Бородина, никто у нас во всей
русской школе не сочинял подобных романсов.. ,»3 В архивных
материалах сохранились отзывы о консерваторских экзамена-
ционных выступлениях Блуменфельда. Знаменательно, что в
этих отзывах, наряду с характеристиками музыкальных способ-
ностей юноши (например, в 1882 г. —«чрезвычайно талантлив
и подает прекрасные надежды» или в 1883 г. — «очень музы-
кальная натура»), отмечаются обращавшие и тогда на себя
внимание черты личности молодого художника. В 1885 году на
выпускном экзамене, на котором он был удостоен золотой ме-
дали, Блуменфельд получил такую характеристику: «Выдаю-
1 Н. А. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни.
М., 1955, с. 144.
2 В. В. С т а с о в. Письма к родным, т. II, М., 1958, с. 126.
3 Там же, с. 127.
64
щийся во всех отношениях; сверх того, в высокой степени обая-
тельная и симпатичная личность».1
Двадцатидвухлетний Блуменфельд окончил Петербургскую
консерваторию по классу Ф. Ф. Штейна.1 2 Но как исполнитель и
художник он сформировался не только в его классе. Феликс
Михайлович не мог учиться в консерватории у Рубинштейна, так
как в начале 80-х годов Антон Григорьевич там не преподавал.
Но могучее, титаническое искусство Рубинштейна, сочетавшее
в себе, по отзывам современников, «силу львиную и нежность
голубиную», оказало на Феликса Михайловича, как он впо-
следствии рассказывал, решающее воздействие. Блуменфельд
всю жизнь с пламенным восторгом говорил о Рубинштейне. Не
следует забывать, что в 80-х годах — в годы артистического
созревания Блуменфельда — проходила исключительно интен-
сивная деятельность великого русского пианиста: исторические
концерты, цикл лекций-концертов по истории фортепианной ли-
тературы, многочисленные и разнообразные выступления в ка-
мерных ансамблях, дирижирование симфоническими концер-
тами Русского музыкального- общества. Сила воздействия
искусства А. Г. Рубинштейна, по рассказам современников (и
в том числе самого Блуменфельда), была огромна. Пианизм
Антона Григорьевича помогал пытливым умам находить отве-
ты на волновавшие их вопросы музыкально-исполнительского
искусства. Рубинштейн сознавал свое влияние на талантливого
юношу и весьма ценил его артистическое дарование. Об этом
свидетельствует хотя бы тот факт, что Рубинштейн выбрал
Блуменфельда для совместного с ним исполнения своей Фан-
тазии для двух роялей. В неопубликованном письме к сестре
А. Рубинштейн, обычно скупой на похвалы, писал, что «в Пе-
тербурге есть молодой талантливый человек Блуменфельд» и
что он «очень хорош по фортепианной части».3 Ч
Но одновременно с влиянием исполнительского искусства
А. Рубинштейна пианизм Блуменфельда складывался и под
воздействием фортепианных произведений русских композиторов,
его современников, — главным образом Балакирева и Лядова.
Не случайно «Исламей» Балакирева, наряду с некоторыми
пьесами Лядова (Вариациями на темы Глинки и на польскую
1 Экзаменационные листы председателя за 1885 г. ГИАЛО, ф. 361, оп. 59,
св. 302, л. 110.
2 Имя Федора Федоровича Штейна (1819—1893) почти забыто. А в свое
время он пользовался огромной известностью. Еще ребенком Штейн, кон-
цертируя, объездил европейские страны, поражая своим искусством импро-
визации. В 1872 г. Штейн с успехом дебютировал в Петербурге в качестве
ансамблиста. С этого же года начинается его педагогическая деятельность в Пе-
тербургской консерватории, где он стал одним из ведущих профессоров фор-
тепианной игры.
3 Письмо к С. Г. Рубинштейн от 5 октября (23 сентября) 1893 г. (Госу-
дарственный дом-музей П. И. Чайковского в Клину, архив А. Рубинштейна.
Ч 1 № 49).
65
тему, «Про старину»), принадлежал к числу любимых произве-
дений Блуменфельда.
По окончании консерватории деятельность Феликса Михай-
ловича протекала в различных направлениях. Одна сторона
этой деятельности — концертные пианистические выступления,
особенно интенсивные в годы, предшествовавшие его работе в
Мариинском театре. Пресса тех лет сообщала об успешных вы-
ступлениях молодого пианиста не только в Петербурге, но и в
Москве, Варшаве, Вильно, Ялте и других городах. В Петер-
бурге имя Ф. М. Блуменфельда мы встречаем как в программах
симфонических собраний- (выступления с концертами Рубин-
штейна, Чайковского, Римского-Корсакова, Листа, Шопена,
Гензельта, со своим Концертным аллегро), так и в программах
камерных концертов (исполнение фортепианной партии в ансамб-
лях Бетховена, Шумана, Брамса, Рубинштейна, Направника).
Блуменфельд был первым исполнителем многих фортепианных
пьес русских композиторов (например, пьес Лядова, Глазунова,
Щербачева, Аренского, Направника и других авторов).
К концу 80-х годов относится одна из первых рецензий о
пианистическом искусстве молодого артиста. Блуменфельд ис-
полнил в Москве сочинения русских композиторов, в том числе
фортепианный концерт Римского-Корсакова. Авторитетный му-
зыкальный критик. С. Н. Кругликов, высоко оценивая это новое
сочинение и отмечая, что весь концерт вырос из чудесной на-
родной рекрутской песни «Собирайтесь-ка, братцы, ребятушки»
и родствен музыке «Снегурочки», писал: «Блуменфельд как
нельзя более отвечал задаче — исполнить такой концерт. Техни-
ка молодого виртуоза отличная, уверенная, игра умная, всегда
музыкальная, согретая хорошим чувством». 1
Мужественность, ширь и мощь, поразительное владение кра-
сочной гаммой фортепиано, умение «осязать» тончайшие дина-
мические градации звучности, певучий тон, беспредельная вир-
туозность, а главное — глубокое психологическое проникновение
в сущность интерпретируемого и героико-лирический стиль
игры, лишенной мелочной детализации,— таковы некоторые
черты исполнительского искусства зрелого Блуменфельда. Осо-
бенно удавались ему произведения русских композиторов и Шо-
пена. В. В. Стасов, нежно любивший Блуменфельда, постоянно
заставлял его играть Шопена, и особенно часто — до-диез-минор-
ное скерцо великого польского комйозитора.
Яркую картину воспроизведения Феликсом Михайловичем
музыки Шопена нарисовал Б. В. Асафьев. «Для Блуменфельда
Шопен прежде всего — поэт, романтик, лирик. Проще всего опи-
сать игру Блуменфельда, то есть в данном случае исполнение
им Шопена, можно в одной фразе: играл так, как читал стихи
1 С. Кругликов. Два первых симфонических собрания Русского му-
зыкального общества. «Артист», 1889, ноябрь (курсив мой.— Л, Б.).
66
Мицкевича, и шопеновская музыка звучала в его пальцах, как
стихи великого польского поэта, романтика в полном смысле,
лирика неизбывной душевной силы... Когда за роялем Блумен-
фельд переходил к Шопену — начинался гипноз: действительность
вокруг насыщалась эпохой Мицкевича и Шопена, вспыхивало
сквозь музыку пламя Польши, великой славянской страны, с ее
вековечным страданием и борьбой за право быть самой собою!
В передаче Блуменфельда Шопен насквозь и до конца, до мель-
чайших мигов его музыки и отразившейся в ней жизни его ро-
дины и его собственной личности — поляк, как и Мицкевич по-
ляк, поляк — неистовый романтик с пламенным сердцем, с чув-
ствами, мятежно, трепетно-отзывчиво настроенными. То, что
уже было порой в исполнении Балакирева,— набатное в шопе-
новской музыке,— в музицировании Блуменфельда, в роскоши
фортепианных красок, свойственной его игре, становилось «поэ-
мой о звонах»... А параллельно культ чувства, культ любви и
женской лукавой ласки; возрождались пленительные видения
польских девушек и женщин примечательной эпохи вокруг и
около 30-го года прошлого века. В игре Блуменфельда никогда
нельзя было почувствовать офранцуженного Шопена — Шопена
в обстановка парижских высокоинтеллектуальных салонов и
в кругу Жорж Санд. Довлела славянская культура чувства и —
что особенно ценно — народная, сельская, поместная Польша,
лирика ее природы, ее быта в песенности, ибо в пальцах Блу-
менфельда мелодии Шопена прежде всего насыщались песен-
ным душевным строем, в них слышался родной мир, и родная
земля, и боль за нее. Ноктюрн до минор я никогда не слышал
содержательнее, чем в его передаче. Вторая баллада и Этюд
ля минор (стремительнейший горный поток! — разумею Этюд
ор. 25 № И). Четвертая баллада и все экспромты, мазурки,
прелюды (в особенности «из бурных») — сколько поэм, лири-
ческих новелл, поэтических импровизаций, тонких домыслов и
блестящей артистической «игры с жизнью, любовью и смертью»
открывалось в интонировании Блуменфельда!» 1
Феликс Михайлович был изумительным ансамблистом и ак-
компаниатором. В ансамблевых выступлениях он был поистине
велик, вел за собой ансамбль, управляя им, вдохновлял своей
игрой. О его мастерском сопровождении пения Шаляпина Стасов
писал: «Феликс Блуменфельд, аккомпанирующий Федору Боль-
шому картинно, поэтично, страстно, изящно, глубоко,— таких
аккомпаниаторов я видел во всю свою жизнь только трех:
Антон Рубинштейн, Мусоргский и вот теперь — Феликс!»1 2
О художественной тонкости Блуменфельда-аккомпаниатора
свидетельствуют и следующие слова Б. В. Асафьева: «.. .чаро-
1 Б. Асафьев. Шопен в воспроизведении русских композиторов. «Сов.
музыка», 1946, № 1, с. 38—39.
2 И. Репин и В. Стасов. Переписка, т, III. М., 1950, с. 143.
67
вал своим чутким и изысканным по тону сопровождением шаля-
пинского пения Феликс Михайлович Блуменфельд. Не забуду,
как совершеннейшей передачей постлюдии шумановского ро-
манса «Вы, злые, злые песни» он взял верх в своем соревнова-
нии с Шаляпиным. Все оцепенели, когда замолкла музыка!»1
Многие музыканты в свое время удивлялись, почему Блу-
менфельд отказался от широкой концертной пианистической
деятельности. Падеревский когда-то говорил ему: «Ведь вы
можете держать весь мир в ваших лапах!». Приведя эти слова
польского артиста, Г. Нейгауз замечает: «Я объясняю это тем,
что его дарование было слишком широко и разносторонне, что,
вероятно, оркестр привлекал его еще больше, чем фортепиано,
а неизбежная для концертирующего пианиста постоянная и
упорная тренировка пе представляла для него достаточного ин-
тереса».1 2
Свою дирижерскую деятельность Феликс Михайлович начал
в 1895 году в Мариинском театре в Петербурге с выполнения
обязанностей «репетитора с певцами» (т. е. концертмейстера).
Пригласивший его па эту работу Э. Ф. Направник писал по
этому поводу в докладной записке в дирекцию театров: «.. .я
предложил эту должность («репетитора русской оперы».—Л. Б.)
пользующемуся известностью как отличный пианист, аккомпа-
ниатор и музыкант старшему преподавателю СПб. консервато-
рии Феликсу Блуменфельду».3
Пианистический талант Феликса Михайловича проявился и
в его концертмейстерской деятельности в театре. Рассказывая
о своей совместной с Блуменфельдом работе в театре, дирижер
Д. И. Похитонов вспоминает такой эпизод: «Как-то на спевке
«Ивана Сусанина» Блуменфельд сел за рояль в польском акте,
начинающемся с полонеза. Что это был за полонез! Направник
перестал дирижировать и смотрел, как Блуменфельд все фигу-
рации шестнадцатыми исполнял двойными терциями. Вся
спевка приобрела концертный характер. Хор был в восторге и
бурно аплодировал виртуозу».4
Первое дирижерское выступление Феликса Михайловича
в Мариинском театре состоялось осенью 1898 года: под его
управлением была впервые в этом театре поставлена опера
А. Рубинштейна «Фераморс». Рецензируя этот спектакль, Ц. Кюи
писал: «Следует горячо приветствовать первый дебют Ф. Блу-
менфельда за дирижерским пюпитром в русской опере. Дебют
прошел совсем удачно. Можно рассчитывать, что при редких
музыкальных способностях Блуменфельда и при надлежащей
1 Б. В. А с а ф ь е в. Н. А. Римский-Корсаков. М., 1944, с. 78.
2 Г. Нейгауз. Из воспоминаний. «Сов. музыка», 1963, № 4, с. 78.
3 Личное дело Ф. М. Блуменфельда, хранящееся в ЦГИАЛ, ф. 497, оп. 5,
д. 339, л. 18.
4 Д. И. Похитонов. Из прошлого русской оперы. Л., 1949, с. 113.
68
практике из него выработается прекрасный дирижер; а уж как
мы нуждаемся в лишнем хорошем русском дирижере!»1
Блуменфельд отдался концертмейстерской, а вскоре и дири-
жерской деятельности в театре со всем присущим ему увле-
чением. Через несколько лет после своего дебюта в Мариин-
ском театре он писал: «Занятий по опере так много, и они
настолько сложны, что и профессуру и другие занятия... при-
шлось забросить. Кроме того, побочные занятия, мне кажется,
не могут не отразиться на деятельности дирижера в отрица-
тельном смысле: наше дело требует, кроме способностей и зна-
ния, полной свежести и бодрости сил! А как это трудно при не-
обходимости работать чуть ли не 14 часов в сутки».1 2
Э. Направник —в ту пору главный дирижер театра — после
премьер обычно передавал русские оперы Блуменфельду. Впо-
следствии — имеется в виду первое десятилетие нынешнего
века — деятельность Феликса Михайловича в качестве опер-
ного дирижера расцвела: в Мариинском театре он руководил
рядом первоклассных оперных представлений, в том числе пер-
вой постановкой «Сервилии», «Сказания о граде Китеже» Рим-
ского-Корсакова и вагнеровскими спектаклями. Вспоминая об
оперно-дирижерской деятельности Блуменфельда, Б. В. Асафьев
пишет: «Он увлекал своим исполнением «Зигфрида»... отлично
передавал бурный рост страсти Зигфрида и Брунгильды. Но
особенно ценным было для русской культуры соприкосновение
Феликса Михайловича с русским оперным репертуаром и по-
степенное внедрение в пего. Не забыть ни «Снегурочки» Рим-
ского-Корсакова в его мягко-акварельной передаче томности и
нежности красок русской весны, ни «Моцарта и Сальери», ни
ликующей премьеры «Бориса Годунова» Мусоргского — Рим-
ского-Корсакова с участием Шаляпина, ни первых спектаклей
„Сказания о граде Китеже”».3
В 1908 году Блуменфельд с триумфальным успехом дирижи-
ровал парижскими спектаклями «Бориса Годунова» Мусоргского.
Письма Феликса Михайловича к Н. А. Римскому-Корсакову
свидетельствуют о том творческом подъеме, с каким дирижер
пропагандировал за рубежом русское искусство.4
Наряду с работой в оперном театре он выступал и как сим-
фонический дирижер, главным образом в Русских симфониче-
ских концертах. Феликсу Михайловичу, горячо полюбившему
творчество Скрябина, принадлежит заслуга первого — и притом
проникновенного и потрясшего слушателей — исполнения в Пе-
тербурге ряда симфонических произведений Скрябина (Поэма
1 Ц. Кю и. Избранные статьи. Л., 1952, с. 492.
2 Из докладной записки «репетитора и капельмейстера» Ф. Блуменфельда,
хранящейся в ЦГИАЛ, ф. 497, оп. 5, д. 339, л. 35.
3 Б. В. Асафьев. Цит. выше «Памятка». «Сов. музыка», 1963, № 4,
с. 76.
4 Письма хранятся в Рукописном отделе ГПБ им. Салтыкова-Щедрина.
69
экстаза, Третья симфония и др.). Узнав в Швейцарии из от-
зывов прессы и писем о замечательном исполнении Блумен-
фельдом Третьей симфонии, Скрябин писал ему: «Дорогой Фе-
ликс Михайлович, прими мою искреннюю и глубокую благо-
дарность за прекрасное исполнение моей симфонии, о котором
я узнал из многих газет, а также из писем некоторых друзей. Ты
совершил чудо, исполнив ее, имея лишь две репетиции. Это
почти невероятно».1
Композиторское образование Феликс Михайлович завершил
под руководством Н. А. Римского-Корсакова, оказавшего на
Блуменфельда — наряду с А. Рубинштейном — громадное влия-
ние. Феликс Михайлович на протяжении всей жизни сохранил
к своему учителю чувство нежной влюбленности, сочетавшееся
с восторженным и почтительным пиететом. Сочинять Блумен-
фельд начал рано, и в начале 90-х годов его симфонические
и камерные произведения нередко звучали в петербургских кон-
цертах. Открытый композиторский дебют Феликса Михайло-
вича относится к 1886 году: в Русских симфонических концертах,
организованных М. П. Беляевым, были исполнены его Скерцо
для оркестра и романс «Заклинание». Перу Блуменфельда при-
надлежит большое количество произведений, в том числе сим-
фония «Памяти дорогих усопших», Концертное аллегро, струн-
ный квартет, фортепианные пьесы и романсы. В. В. Стасов
в своем труде «Искусство XIX века» (1901), говоря о «добрых
традициях самостоятельной русской школы», которые сохра-
няются в творчестве учеников Римского-Корсакова, в числе
главнейших' между ними называет Блуменфельда. Из его про-
изведений Стасов выделяет следующие: «энергический и увле-
кательный Allegro de concert для фортепиано с оркестром,
grande Mazurka для оркестра, множество пьес для фортепиано,
ноктюрнов, мазурок, этюдов, прелюдий, и в том числе прелест-
ная Suite lyrique, и вместе множество романсов, полных поэзии,
нередко и драматического выражения».1 2
Блуменфельд не принадлежал к числу художников с само-
бытной и яркой композиторской индивидуальностью. Однако
многие его романсы (например, «Заклинание», цикл «Весна»,
«Степи аккерманские») и фортепианные пьесы (например, кра-
сочные «Звоны» — с колоколами, колокольчиками, погребаль-
ным и торжественным звоном, ряд этюдов, сюита «У воды» и
др.) полны подкупающей искренности и прелести, а в мастерски
сделанной фортепианной транскрипции Концертного вальса
Глазунова явно ощущается радость виртуозного — в самом вы-
соком смысле этого слова — владения инструментом.
Перечисляя виды деятельности Феликса Михайловича,
нельзя не отметить, что он — активнейший участник музыкаль-
1 «Музыкальный современник», 1916, № 4—5, с. 76.
2 В. В. Ст а сов. Избр. соч., т. III. М., 1952, с. 751.
70
ных собраний в Петербурге: «беляевских пятниц», собраний
у В. В. и Д. В. Стасовых, вечеров у Бородина, музицирований
у Римского-Корсакова. В воспоминаниях В. Ястребцева, в ме-
муарной литературе о Бородине и В. В. Стасове постоянно
встречается упоминание о великолепном музыканте и изуми-
тельном аккомпаниаторе Блуменфельде. Его активной роли
в этих музыкальных кружках способствовало поразительное
умение читать с листа в темпе сложнейшие партитуры, притом
не только напечатанные, но и рукописные. Эта феноменальная
способность приводила в восторг Римского-Корсакова. О ней
же говорил и Рахманинов: «Однажды Беляев пригласил меня
к себе, и меня попросили играть. Я только что написал Фан-
тазию для двух роялей (ор. 5). За второй рояль посадили Фе-
ликса (Блуменфельда). Только он один умел так пре-
восходно читать с листа».1
Педагогическая деятельность Феликса Михайловича нача-
лась в 1885 году в Петербургской консерватории, В течение мно-
гих лет он был руководителем классов фортепианной игры и
камерного ансамбля. Его педагогическая работа была временно
прервана лишь в марте 1905 года, когда во время известных
консерваторских событий этого года он вместе с Глазуновым,
Лядовым и Вержбиловичем в знак протеста против увольне-
ния Н. А. Римского-Корсакова и в знак солидарности с ним
ушел из консерватории. В ноябре 1905 года, после возвращения
в Петербургскую консерваторию Римского-Корсакова, Блумен-
фельд снова приступил к педагогической деятельности в кон-
серватории и оставался ее профессором до 1918 года.
Учившийся у него в фортепианном классе А. В. Гаук в вос-
поминаниях пишет: «То, что я увидел в его классе, превзошло
все мои ожидания. Прежде всего он приучал к самостоятель-
ности и старался всеми средствами выявить творческое лицо
ученика... Нельзя было ограничиться рамками задаваемого,
а следовало самостоятельно находить пути к лучшему разреше-
нию художественных задач. Блуменфельд учил нас слушать
себя, контролировать, следить за результатами выполнения
своих намерений. Это чувство постоянного контроля впослед-
ствии сыграло большую роль в моей дирижерской работе.. .
В качестве технических упражнений на фортепиано Блуменфельд
советовал играть переложения этюдов Шопена, сделанные
с блестящим мастерством Л. Годовским. Для других пьес мы
должны были сами выдумывать различные упражнения, кото-
рые способствовали бы развитию техники. Кроме того, Блу-
менфельд требовал, чтобы мы играли в транспорте... Обая-
тельный человек и глубокий музыкант, он умел двумя-тремя
словами исчерпывающе вскрыть суть вопроса и навести ученика
1 А. и Е. С у а н. Воспоминания о Рахманинове. Сб. «Сов. музыка», 1945,
№ 4 (разрядка моя.—Л. Б.).
71
на правильный путь... Самым любимым учеником Блумен-
фельда был его племянник Г. Г. Нейгауз, наш выдающийся
пианист и педагог. Упоминая о нем, Блуменфельд всегда оза-
рялся улыбкой...» 1
Тяжелая болезнь Блуменфельда и голод в Петербурге выну-
дили его в конце лета 1918 года переехать на юг—сначала
в Екатеринослав (ныне Днепропетровск), а затем в Киев. Здесь
он возглавил Высший музыкально-драматический институт
имени Н. В. Лысенко. Спустя некоторое время он начал вести
большую педагогическую работу в качестве профессора по клас-
сам фортепиано, дирижирования и чтения партитур в Киевской
консерватории, а в 1920 году был избран ее директором. Тогда,
уже немолодой человек, Феликс Михайлович горячо и активно
поддерживал молодежь в ее борьбе за реорганизацию консер-
ватории. Вспоминая об этом времени, Г. Нейгауз писал: «В Ки-
еве, в годы гражданской войны, когда почти не бывало сим-
фонических концертов, мы сыграли с Феликсом Михайловичем
в зале консерватории в двух концертах в собственном перело-
жении для двух фортепиано много фрагментов из «Кольца ни-
белунга», а в другой раз — Поэму экстаза и «Прометея» Скря-
бина, причем «Прометей» был исполнен в программе дважды и
в третий раз (!) на бис».1 2
В 1922 году, по приглашению К. Н. Игумнова — в те годы
директора Московской консерватории, Феликс Михайлович при-
ступил к фортепианно-педагогической работе в Московской
консерватории.
21 января 1931 года Блуменфельд скоропостижно скончался.
«Смерть захватила его врасплох,—писал Б. В. Асафьев в «Па-
мятке»,— он еще целиком отдавал себя жизни, не мысля о раз-
луке с ней. Его интеллект, острый и весь всегда в полете, не
уступал натиску обыденности. Феликс Михайлович ушел от нас,
ничуть нс теряя бодрости, ни капли напрасно не пролив из
своего запаса удивительной художественной энергии, и он на-
долго останется в памяти всех знавших его как прямой и цель-
ный образ лучистого артиста, всеми своими свойствами убеж-
дающего людей в правде, излучаемой музыкой».
2
В Московскую консерваторию Блуменфельд вступил масти-
тым художником, прошедшим большой, яркий музыкальный и
жизненный путь. Годы его давали уже себя знать, морщины
легли на лицо, здоровье пошатнулось. Но он был из числа
счастливцев, которые до конца дней своих не знают душевной
1 Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 211—212.
2 Г. Нейгауз. Цит. выше статья, с. 79.
72
дряхлости и холода чувств. И в старости он сохранил бурную
восторженность, способность экстатически восхищаться искус-
ством и бескорыстно радоваться творческой силе людей. Каза-
лось, что именно о нем была кем-то сочинена байка, расска-
занная К. Паустовским: о людях высокой душевной чуткости
и человечности, теплота рук которых, отражающая их сердеч-
ную теплоту, способна заставить тугой бутон цветка распус-
титься во всем своем великолепии. Внутреннее совершенство
этого замечательного человека и музыканта наложило, как это
нередко бывает, свой отпечаток на его внешность. Высокий и
статный, с великолепно посаженной головой, он был изящен
и красив той благородной красотой, которая отражает глубокие
внутренние достоинства, силу мысли и широту чувств.
В занятиях Блуменфельда с учениками 1 всегда проявлялась
высокая артистичность — черта, без которой работа самого
знающего и добросовестнейшего учителя фортепианной игры не-
редко становится скучной и серой. Все, что Феликс Михайло-
вич говорил и показывал, советы, которые он давал ученикам,
избираемые нм пути педагогической работы — все это нельзя
было отделить от самой стихии искусства и было продиктовано
его романтической влюбленностью в музыку и тончайшим про-
никновением в се сущность. Не на поверхности музыки, а в ее
глубинах его проницательному слуху открывались миры и ра-
дости, недоступные людям невнимательным. Музыка была для
него «святая святых», куда он умел благоговейно, а иногда и
бурно вводить своих питомцев с первых же шагов работы
с ними. Опуская школьные азы, он сразу же направлял моло-
дых людей к творческим поискам. По-видимому, он был убеж-
ден в том, что сама атмосфера, царившая в классе, заставит
учащихся самостоятельно работать над восполнением элемен-
тарных пробелов своего развития или предварительного обу-
чения. А эта атмосфера всегда была накаленной — иногда ясной,
а порой и грозовой. Блуменфельд мог обнять и расцеловать
игравшего ученика, но мог обрушить на него поток гнева.
Уроки длились порой до переутомления: Феликс Михайлович
не щадил ни себя, ни нас. Но сколько бы они ни продолжа-
лись, он-то всегда оставался в состоянии артистического
подъема.
Каким путем дать читателю представление о педагогическом
искусстве Блуменфельда? Описать, обратившись к материалу,
запечатлевшемуся в памяти, и к своим старым дневникам, кон-
кретные указания и замечания Блуменфельда по поводу испол-
нения учениками того или другого музыкального произведения? * Е.
1 В Московской консерватории в классе Ф. М. Блуменфельда обучались
А. Аронова, В. Белов, А. Бернар, Е. Брюхачева, Б. Вайншенкер, М. Гринберг,
Е. Лобанова, Ф. Мознаим, И. Неймарк, Т. Петрушевская, М. Раухвергер,
А. Руббах, М. Соколов, Р. Хавкина, А. Цфасман, С. Шлифштейн, Г. Эдельман,
Л. Эльперин, Е. Якобсон и автор этих строк.
73
Идти по этому пути казалось мне нецелесообразным. Почему
именно? Отвечая на этот вопрос, хочу привлечь внимание к од-
ной особенности Блуменфельда.
Чуткие художники всегда слышат приметы времени, и они,
приметы эти, постепенно накладывают свой отпечаток на чув-
ства, мысли и деятельность таких людей. Искусство находится
поэтому в непрерывном обновлении. Как круги на воде от бро-
шенного камня, изменения, коснувшись одной области искус-
ства, распространяются и на другую. Новое в композиторском
творчестве неизбежно отзовется и на творчестве исполнителей
и на деятельности педагогов-артистов. За примерами далеко
ходить не надо: вспомним, как характерные признаки нашей
эпохи незаметно вплетались в искусство Софроницкого, одного
из самых глубоких и тонких советских пианистов, и как от
десятилетия к десятилетию изменялась его интерпретация клас-
сических и романтических фортепианных произведений.
К таким же отзывчивым на зовы времени людям принадле-
жал и Феликс Михайлович. Он умер свыше трех десятков лет
назад. Но я убежден, что, доживи он до наших дней, его необы-
чайно чуткое ухо вобрало бы в себя впечатления от современ-
ной музыки, от музыки позднего Прокофьева и Шостаковича,
Хиндемита и Бриттена, Бартока и Орфа, и он стал бы — быть
может, и неосознанно — по-иному, чем это делал в 20-х годах,
подходить к трактовке многих музыкальных сочинений. Вот
почему рассказывать о такого рода конкретных указаниях моего
учителя не представлялось мне первоочередной задачей, хотя
такие характеристики и могли бы иметь историко-познаватель-
ное значение для понимания эстетических взглядов и устремле-
ний Блуменфельда в определенный период его деятельности. Но
разве помогли бы такие описания современной педагогической
практике? Думаю, что нет.
Вот почему для этого очерка выбран другой путь: обоб-
щенное (но с конкретными примерами) освещение важнейших
сторон педагогики Феликса Михайловича, и особенно тех из
них, которые представляются мне актуальными для наших
дней.
О задачах исполнительского творчества. Ме-
тоды фортепианно-педагогической работы Блуменфельда в ко-
нечном счете определялись его взглядами на сущность и задачи
исполнительского творчества. А взгляды эти начали склады-
ваться у Феликса Михайловича еще в период его художествен-
ного формирования. Уже тогда он впитал прогрессивные мысли
русских музыкантов на общественно-просветительскую роль ар-
тиста-исполнителя.
Великая Октябрьская социалистическая революция заста-
вила Блуменфельда задуматься над рядом новых для него во-
просов. Он сумел понять значение тех грандиозных сдвигов, ко-
торые на его глазах происходили в стране, и осмыслить те
74
новые задачи, которые были поставлены жизнью перед совет-
ским артистом, получившим аудиторию, какую не знал в прош-
лом ни один художник.
Феликс Михайлович не выступал с докладами, не писал ста-
тей. Но из бесед с ним, из его немногословных замечаний и из
всего его поведения становилась совершенно ясной сущность его
взглядов на исполнительское искусство. Он считал, что высокая
миссия советского артиста-исполнителя заключается в том,
чтобы нести музыку в широкие слои народа. Для этого прежде
всего надо «сделать музыку понятной», доступной и убедитель-
ной для массовой аудитории. Он учил ценить восприятие слу-
шателей,1 имея при этом в виду не замкнутый кружок музыкан-
тов-профессионалов, а широкую аудиторию, в общении с кото-
рой растет, развивается и воспитывается молодой советский
артист. «Непонятно!», «Не понимаю!»—подобно известному «Не
верю!» Станиславского — было предельным осуждением игры
ученика в устах Блуменфельда. «А уж если я не понимаю, то
слушатель и подавно не поймет»,— часто добавлял он.
Характерен следующий эпизод, относящийся в 20-м годам.
Это было время, когда только начиналась концертная практика
студентов консерваторий в рабочих клубах. Один из учеников
Блуменфельда уклонялся от выступлений в рабочей аудитории,
мотивируя свое поведение тем, что его, дескать, «не поймут».
Узнав об этом, Феликс Михайлович страшно возмутился. Он
говорил ученику:
«Сумейте, сумейте так сыграть, чтобы вас поняли, сумейте
так исполнить, чтобы аудитория вас чутко слушала и отозва-
лась на вашу игру. А вы уметь не умеете и притом не хотите
этому учиться».
Итак, демократический принцип — «сделать музыку понят-
ной» — определял взгляды Блуменфельда на исполнительское
творчество.
Но как осуществить этот принцип? Каким путем достигнуть
того, чтобы содержание музыки было понято и нашло отклик
в широких кругах слушателей?
Для этого исполнение должно быть психологически содер-
жательным, цельным, ясным, колоритным, искренним и правди-
вым. Пианист должен суметь вылепить — именно вылепить —
образ произведения, показав его многоэлементность, объем-
ность, придав ему почти физическую «видимость» и ощутимость.
Играющий должен настолько сродниться с созданным образом,
чтобы довести его до аудитории с таким темпераментом, «вол-
нением от сущности», с такой убедительностью и непринужден-
ностью, как будто он, исполнитель, излагает свои чувства, свои
мысли, свои идеи.
1 Но само собой разумеется, не угождать плохому вкусу слушателей
броским и внешне эффектным исполнением.
75
Вот этой «лепке» исполнительского образа и умению арти-
стично и искренне воспроизводить его перед другими и учил
Блуменфельд.
О вслушивании в музыку. Пианист сможет «сделать
музыку понятной» только в том случае, если сам поймет ее со-
держание. Достичь этого можно лишь одним путем: научившись
вслушиваться в музыку. Осознавая это, Блуменфельд прежде
всего добивался предельной активизации интонационного слуха
ученика.
Если бы в 20-е годы нас, воспитанников Блуменфельда, спро-
сили, чему именно он нас обучает, мы были бы, вероятно,
в большом затруднении: всем существом своим мы понимали,
что учимся очень многому, но затруднились бы, вероятно, от-
ветить— чему именно. Одно мы знали твердо: каждый урок его,
как бы суровы пи были его замечания, приносил нам с собой
ни с чем не сравнимую творческую радость и был праздником
для каждого из нас. В то время нам порой казалось, что все
это было обусловлено исключительным личным артистическим
обаянием нашего требовательного учителя.
Лишь позже настало время для анализа. И тогда многие из
нас пришли к мысли, что хотя учил нас Феликс Михайлович
многому, но опирался при этом на один—в музыкальной педа-
гогике важнейший — принцип: разными путями и разными сред-
ствами он способствовал формированию нашего слуха. Он хо-
тел, чтоб слух наш стал остер, чуток, умен и гибок; чтобы раз-
вилось наше слуховое воображение — основа любой творческой
музыкальной деятельности, будь то деятельность исполнителя
или композитора, педагога или ученого. На протяжении всех
лет пребывания в его классе он, повторяю, учил вслушиваться
в музыку и воспитывал не только «слышащие уши», но также
«слышащие глаза» и «слышащие пальцы».
Художники не раз писали, что «видеть» и «увидеть» — не
синонимы, что можно ясно видеть все предметы, нарисованные
на полотне, и вместе с тем картины как произведения искус-
ства не увидеть. Музыканты также неоднократно указывали,
что слушать это еще не значит услышать, что можно «рас-
слышать» все звуки музыкального произведения, но не «услы-
шать» музыку как произведение искусства. Талантливый рус-
ский теоретик пианизма М. Курбатов в своей интересной работе
«Несколько слов о художественном исполнении на фортепиано»,
вышедшей в конце прошлого века, подчеркивал важность для
исполнителя «внимания слуха». Он вкладывал в эти слова
нечто значительно большее, чем внимательное слушание звуков,
а именно: сосредоточенное слушание-переживание художествен-
ного образа. К этому же вопросу неоднократно привлекал вни-
мание Б. В. Асафьев. «Музыку, — писал он, — слушают многие,
а слышат немногие, в особенности инструментальную... Слы-
шать так, чтобы ценить искусство, это уже... умственный
76
труд, умозрение».1 Такое сосредоточенное слушание, которое
становится «умственным трудом, умозрением», нужно и для
слушателя. Но для музыканта-профессионала, кем бы он ни
был — композитором, исполнителем или музыковедом, такое
«внимание слуха» необходимо в гораздо большей мере.
Блуменфельд прекрасно понимал это и ценил только тех
учеников, которые развивали в себе способность «вслушива-
ния-переживания-понимания» музыки. В классе он часто по-
вторял:
— Не слышите! Надо услышать! Прежде всего услышать!
Научитесь вслушиваться в то, что вы играете! Когда я говорю:
«Не понимаете, что играете», я имею в виду: «Не слышите, что
делаете». И, наоборот, когда вы не вслушиваетесь, вы не пони-
м-аете, не чувствуете музыки.
По мысли Блуменфельда, вслушивание в «события», проис-
ходящие в музыке, понимание музыки и переживание ее — это
нерасторжимые, взаимосвязанные и взаимозависимые стороны
одного и того же процесса. Сам Блуменфельд обладал фено-
менальным музыкальным слухом. Слух его, улавливавший тон-
чайшие звуковысотные, тембровые и динамические оттенки, был
предельно отточен: он «слышал глазами» потную запись любой
сложности. Его внутренний слух обладал одной психологиче-
ской особенностью, о которой он сам говорил следующее: «Я не
могу представить себе то или другое звучание, — будь то мело-
дический голос, гармоническая последовательность или полифо-
ническое сплетение, — если не вижу всего этого глазами. В тех
случаях, когда мне надо вспомнить какое-нибудь звучание, я
мысленно смотрю в воображаемые ноты и тогда с предельной
ясностью все слышу».
В архиве автора этих строк сохранилась любопытная запись
беседы с Блуменфельдом о слухе, датированная 7 сентября
1928 года: «Абсолютный слух,— сказал тогда Феликс Михай-
лович,-— для всякого музыканта весьма желателен, но для ком-
позитора он необходим. Без абсолютного слуха композитор не
сможет ощутить краску тональности. У Бетховена все произве-
дения, написанные в одной и той же тональности, по характеру
своему близки друг другу. Достаточно только для примера
сравнить Сонату соч. 2 № 1 с «Эгмонтом» — оба произведения
в фа миноре. У Вагнера нередко каждое действующее лицо
имеет свою любимую тональность. Нечто подобное встречается
и у Вебера. Для меня самая веселая и радостная тональность —
Ля мажор. Возможно, что это — от «Снегурочки», которую я так
люблю. Фа мажор — мещанский строй. До мажор — мужествен-
ная и бодрая тональность. Моя любимейшая тональность —
фа-диез минор... И все же абсолютный слух не есть признак
1 Б. Асафьев (И. Глебов). Музыкальная форма как процесс. Книга 2-я,
Интонация. М., 1947, с. 8.
77
музыкальности. Музыкальность связана с другого рода слу-
хом. ..»
После нескольких уроков ученикам его класса становились
ясными те большие требования, которые предъявлялись Блу-
менфельдом к их слуху.
Он с уважением относился к абсолютному и хорошо разви-
тому относительному слуху, очень ценил умение определять и
записывать звуковую высоту мелодических последовательностей
или аккордов. Но все это он считал «элементарным музыкаль-
ным слухом». Подлинно «высший» музыкальный слух должен
был, по его мнению, включать в себя два важнейших момента:
во-первых, тонкое слуховое различение-переживание элементов
музыкальной ткани в их одновременности (т. е. по вертикали)
и в их последовательном течении (т. е. по горизонтали) и, во-
вторых, рельефный и гибкий внутренний слух, то есть способ-
ность представлять себе музыку и оперировать своими слухо-
выми представлениями.
С чего же начинал Феликс Михайлович воспитание такого
музыкального слуха ученика?
Нередко с первых же уроков Блуменфельд, как-то неза-
метно и обычно специально об этом ничего не говоря, прини-
мался «очищать» слух своего воспитанника от шаблонов и штам-
пов, тормозящих развитие его художественного воображения.
Как-то на одном из занятий он сказал своей новой ученице:
— Слух у вас как будто неплохой. Но, — он стал, задумы-
ваясь, подбирать слова,—.. .еще недостаточно... интеллигент-
ный и недостаточно... наивный.
Скупой на слова, Блуменфельд не разъяснил своей мысли,
предоставив ученице сначала недоумевать, а потом самой
прийти к выводам
Тут надо заметить, что Феликс Михайлович нередко при-
бегал к такого рода методу работы: он не расшифровывал
своих замечаний, порой «странных». Следуя традициям Антона
Рубинштейна, он лишь направлял ученика, расширяя его кру-
гозор, подталкивал его мысль. Но, придавая большое значение
самообучению и самовоспитанию, Феликс Михайлович предо-
ставлял самому ученику догадываться о скрытом внутреннем
смысле своих коротких реплик и самому решать, какими пу-
тями идти к указанной цели.
Но если новой ученице его замечание о слухе могло пока-
заться неясным, то нам, проучившимся у него ряд лет и про-
шедшим практику слухового воспитания, было понятно, что
именно он разумеет, говоря об «интеллигентности и наивности
слуха». Пианист, обладающий таким слухом, внутренне пред-
ставляет себе (и поэтому играет!) каждый музыкальный обо-
рот, каждую музыкальную мысль свежо, умно и как-то «по-
своему», в то время как исполнитель, лишенный этого важного
качества, слышит как «музыкальный обыватель», слышит «как
78
все» и довольствуется ходкими интонационными штампами. Пер-
вый способен бесконечное количество раз вслушиваться в му-
зыку, «выстрадать» каждую музыкальную мысль и в резуль-
тате услышать ее несколько по-иному, чем ее привыкли слы-
шать; второй, не обременяя себя слуховой активностью
довольствуется обветшалыми стандартами, и слух его закостене-
вает. Фантазия первого возвращает потускневшим от времени
оборотам их силу, первозданную свежесть и внутреннюю чис-
тоту; неинтеллигентный и вульгарный слух второго направляет
его музыкальные представления по хоженой дороге. Даже, каза-
лось бы, в обветшалой музыке первый слышит нечто новое;
второй даже новое стремится свести к старому и привычному.
Итак, подлинный музыкант должен обладать, по Блуменфельду,
мудростью, свежестью и «простодушием» слуха, и тогда, если
он исполнитель, его игра будет хватать за сердце.
Здесь в виде иллюстрации к сказанному позволю себе обра-
титься к воспоминанию о первом уроке, полученном мною
у Блуменфельда и запомнившемся на долгие годы.
На это занятие я принес Фантазию фа минор Шопена—
произведение, которое до этого неоднократно и как будто «с ус-
пехом» играл перед публикой в Одессе, где обучался до поступ-
ления в Московскую консерваторию. Как мне теперь представ-
ляется, играл я тогда Фантазию, по-видимому, грамотно,
с юношеским увлечением и эстрадной броскостью, но не умел
расслышать и поэтому проходил мимо интонационных богатств
и тонкостей этой пьесы.
И вот первый урок у Феликса Михайловича.
После маршеобразного вступления он остановил меня, вы-
сказал— скорее жестом и мимикой, чем словами,— неодобрение
и в течение двух-трех часов(!!) работал со мной над этим от-
рывком из Фантазии. Он дирижировал, наигрывал, напевал,
сердился, кряхтел, удивлялся, улыбался, силясь «перелить»
в мой слух и в мои пальцы свое слышание. На протяжении
всего урока он оставался неудовлетворенным моей игрой и
каждый раз приговаривал:
— Нет, нет, не слышите, не слы-ши-те, вслушайтесь!
Привыкший к похвалам, я робел и никак не мог понять, чего
же именно я не слышал, во что должен вслушаться. Фантазию
я знал настолько хорошо, что с легкостью мог бы по слуху
записать весь нотный текст, протранспонировать его на инстру-
менте в другую тональность. Чего же я «не слышал»?
Урок закончился советом Феликса Михайловича:
— Попробуйте-ка дома вслушаться в это вступление.. . без
рояля, «про себя».
Подавленный происшедшим и еще почти ничего не поняв,
я бродил по улицам Москвы и старался «услышать-понять»,
чем же разнится моя трактовка вступления от блуменфельдов-
ской?
79
Прошло несколько мучительных дней. Я следовал совету
Феликса Михайловича, не играл Фантазию, а только мысленно
вслушивался в музыку. Движения пальцев не уводили меня
по привычной колее, и я начал постепенно прозревать...
Так или иначе, но на первом же уроке Блуменфельд дал
ощутительный толчок развитию моего слуха. Но, конечно, не
сразу, а лишь спустя некоторое время я сумел понять, чего он
тогда от меня добивался.
Увлеченный (во вступлении к Фантазии) самим маршеоб-
разным движением и красочным сопоставлением регистров, я,
по-видимому, совершал на уроке одну из следующих учениче-
ских ошибок: либо соблюдал мерный ритм и не слышал инто-
национных и колористических тонкостей, либо вслушивался
в эти детали, но терял ровность движения. Объединить же оба
эти начала я еще не умел.
И Блуменфельд на какое-то время, условно говоря, разде-
лил задачу. Он прежде всего направил мое слуховое внимание
на интонационно-ритмические и колористические подробности.
Он хотел, чтобы я ясно «понял слухом» ряд выразительных
тонкостей:
во-первых, расслышал, что шестнадцатые в пунктирном ритме
вовсе не одинаковы по длительности и, в зависимости от выра-
зительного смысла того или другого отрывка, то чуть-чуть длин-
нее, то чуть-чуть короче, то тяжелее, то легче, то несколько
маркированы, то «скользят» без акцентов;
во-вторых, вслушивался в тембро-динамические соотношения
голосов, особенно — в аккордовой фактуре;
в-третьих, я должен был услышать оркестровые краски этого
отрывка Фантазии (по характеристике Блуменфельда — «суро-
вые, а не тоскливо-смягченные колориты, то глухие, то более
звонкие»).
Когда же он убедился, что все это я слышу и воплощаю на
инструменте, он потребовал, чтобы я научился вслушиваться
в эти детали в определенном темпе — в темпе спокойно-мерного
маршевого движения. . .
Так Феликс Михайлович начал активизировать мой слух и
счищать с него коросту вульгаризмов.
Спустя несколько лет после описанного урока мне довелось
показать Блуменфельду опубликованный в начале 20-х годов
сборник статей Ф. Бузони «Von der Einheit der Musik», который
я вместе с М. Раухвергером, соучеником по классу, переводил
тогда на русский язык по заказу издательства. Внимание Фе-
ликса Михайловича привлек небольшой очерк итальянского
пианиста под названием «Рутина». Речь в нем идет о том, что
рутина процветает в театре, оркестре, у виртуозов, а также
в «художественных школах» — учреждениях, часто организуемых
для того, чтобы поддержать учителей; что рутина — это «усвое-
ние нескольких ремесленных правил и применение их без раз-
80
бора ко всем представляющимся случаям»; что рутина «раз-
рушает все творческое».1
Несколько раз прочитав статью и отдав должное музыкаль-
ному и литературному таланту ее автора, которого он высоко
ставил, Феликс Михайлович сказал приблизительно следующее:
— А для музыканта самое скверное и опасное — это слухо-
вая рутина! Она-то и «разрушает все творческое». Как дири-
жеру, мне часто приходилось сталкиваться со слуховой рутиной
оркестровых музыкантов, а как педагогу — со слуховой рутиной
молодых пианистов, в чем часто бывают повинны учителя-дог-
матики!
Тут по какой-то мне неведомой ассоциации Блуменфельд
стал говорить о «рутинном корректорском слухе» и высмеивать
такой слух. Вспомнил, как один из его коллег — кажется, по
Петербургской консерватории — ровно ничего не понял в ис-
кусстве какого-то замечательного иностранного пианиста только
потому, что этот вдохновенный артист в некоторых пьесах Шо-
пена брал не те басы, которые были указаны в клиндвортовской
редакции, почитавшейся этим, по выражению Блуменфельда,
«добродетельным ханжой» чуть ли не как «священное писание».
В моем дневнике за 1928 год имеются слова, сказанные
тогда моим учителем. Они не потеряли актуальности и в наши
дни. Привожу их текстуально так, как я их тогда записал:
«„Рутинный корректорский слух" часто встречается у педа-
гогов, которые убеждены в том, что лишь им ведомо, как надо
сыграть ту или иную пьесу. Я на них не злюсь, но потешаюсь,
слушая их рассуждения. . . Мне жаль их. «Не тот бас», «не тот
ритм», «не тот нюанс», «нс тот темп» — все это нередко лишает
их возможности наслаждаться музыкой. А их непоколебимая,
почти фанатическая убежденность в правоте своей скверно ска-
зывается на слухе молодых музыкантов, которых они обучают.
Лица молодых людей становятся надменно-постными, и им ка-
жется, что они попали в «касту избранных», посвященную в не-
кие тайны искусства».
Руководя развитием слуховой активности учеников, Блумен-
фельд советовал им воспитывать в себе умение воспринимать
музыку внутренним слухом, разучивая произведение без инстру-
мента. Для начала такой слуховой тренировки он предлагал
обратиться к медленной и простой по фактуре музыке. Так,
спустя примерно месяц после начала моего обучения у Блумен-
фельда, он как-то заставил меня тут же у него дома (сам он
ушел), не притрагиваясь к клавишам, выучить наизусть в тече-
ние одного-полутора часов фа-мажорное Adagio из Сонаты
1 См. F. Busoni. Von der Einheit der Musik. Max Hesses Verlag, Ber-
lin, 1922, S. 167—169.
4 Заказ № 1730 81
Гайдна До мажор. Работая с другим учащимся, обладавшим
развитым слухом, над до-дпез-минорным Интермеццо Брамса
соч. 117, Феликс Михайлович добивался того, чтобы играющий,
почти не прибегая к фортепиано, научился слышать варианты
гармонизации и фортепианной «инструментовки», окружающие
неизменную мелодию и придающие ей разную выразительность
Один из студентов обратил как-то внимание Блуменфельда
на то, что аналогичный метод разучивания без инструмента
рекомендует и Иосиф Гофман. На это Феликс Михайлович от-
ветил:
— Удивительного в этом ничего нет. Источник-то у нас об-
щий — советы Антона Рубинштейна.
Для чего прибегал Феликс Михайлович к такому способу
работы? Думаю, что метод этот,— которым, кроме Антона Ру-
бинштейна, пользовались такие большие артисты, как Лист,
Бюлов, Гофман, но который не получил, вероятно из-за своей
трудности, широкого распространения,— преследовал цель мак-
симально активизировать слуховую сферу ученика; укрепить
слуховую сторону памяти и развить слуховое воображение. Ме-
тод этот, чем-то напоминающий рекомендуемые Станиславским
приемы актерской работы с воображаемыми предметами, спо-
собен принести ответственно относящемуся к своему делу пиа-
нисту неоценимую пользу. И прежде всего вот почему: техни-
ческий аппарат не сковывает творческое слуховое воображение,
насильственно не направляет его по хоженому пути.
Блуменфельд никогда специально не занимался теорией фор-
тепианной педагогики, мало говорил о своих методах педаго-
гической работы, возникавших из практики артистического му-
зицирования и занятий с молодыми пианистами. Не излагал он
в систематизированном виде и взгляды свои на роль внутрен-
него музыкального слуха в исполнительском искусстве. Но из
отдельных его реплик, из весьма лаконичных замечаний, из его
удивительно выразительной и поэтому заразительной мимики
и жестикуляции, из всего его поведения внимательным и способ-
ным к обобщениям ученикам чуть раньше или чуть позже ста-
новилась ясной та роль, которую он придавад формированию их
слуха.
Вспоминаю такой случай. В класс Блуменфельда хотел по-
ступить молодой пианист, занимавшийся также сочинением му-
зыки. Он сыграл Феликсу Михайловичу свою небольшую пьесу
под названием «Лирическая поэма». Блуменфельд стал выска-
зывать свои соображения о прослушанной музыке. При этом
какая-то модуляционная последовательность в поэме показалась
Блуменфельду нелогичной. Он тут же сыграл отрывок из про-
изведения молодого композитора в другой гармонизации. Но,
как выяснилось из дальнейшей беседы с автором поэмы, тот
82
не услышал гармонического новшества. Это так возмутило Фе-
ликса Михайловича, что, не желая слушать «пианистический
репертуар» молодого человека, он решительно отказал юноше
в приеме в свой класс. Когда огорченный учащийся ушел, Блу-
менфельд объяснил нам причину своего отказа и высказал
мысли, которые я хорошо запомнил:
— Какой же он музыкант, если не слышит даже собствен-
ную музыку! Сочиняя, он подбирает музыку на фортепиано, а
не слышит ее наперед. И пианистом он будет таким же. Под-
линный музыкант слышит музыку внутренним слухом, и его
слышащие пальцы ее воспроизводят. А есть пианисты — и их
немало,— которые «болтают» глухими пальцами, не слыша за-
ранее или только смутно, «силуэтно» представляя себе, что они
собираются «сказать» своими руками.
Это «слышание наперед», то есть развитый внутренний му-
зыкальный слух, представлялось Блуменфельду обязательней-
шим предварительным условием и необходимейшим исходным
пунктом успешной музыкальной деятельности.1 При этом Блу-
менфельд никогда не рассматривал внутренний музыкальный
слух как способность, которая дана человеку «от природы».
Опытный педагог, он понимал, конечно, роль врожденных слу-
ховых задатков, но считал, что внутренний слух можно и дол-
жно развивать беспредельно и что развитие это опирается на
слуховой опыт.
Вместе с тем его отношение к наличию этой способности
было весьма категоричным: он полагал, что она ничем не может
быть компенсирована и что ученику, не сумевшему развить свой
слух, не следует заниматься музыкой как профессией. Не вос-
питав в себе слухового представления и воображения, невоз-
можно не то что творчески, но просто грамотно прочесть нотный
текст. Один из учеников принес как-то на урок сонату Бетхо-
вена с ошибкой: в басу была неверная нота. Прервав играю-
щего, Феликс Михайлович стал раздраженно его поучать:
— Зрение вас всегда подведет и не восполнит слухового вни-
мания. Одно из двух: или научитесь слушая слышать, или вам
придется бросить музыкальные занятия.
Главное в блуменфельдовской методике развития слуха за-
ключалось в том, что во всей — буквально во всей — своей
1 Тут обнаруживается сходство взглядов на музыкальный слух Блумеп-
фсльда и Асафьева, к которому мы еще вернемся. Последний также указывал
на два «ответвления» исполнительской культуры — сотворческой композитор-
ству или механически репродуцирующей нотную запись. «Между этими гра-
нями множество оттенков, и все же основных разрядов исполнителей два:
одни слушают и понимают музыку внутренним слухом, интонируя ее в себе
до воспроизведения, то есть до того, как они ее слушают извне: из-под паль-
цев своих или в оркестре; другие изучают произведение глазами, анализируя
его конструкцию, и слышат только тогда, когда оно звучит в голосах или
инструменте. Одни знают наперед, что услышат, другие всегда гадают»
(Б. Асафьев, Интонация, с. 92).
4*
83
педагогической работе он обращался к слуховому восприятию
и к слуховому осмысливанию. Вне апеллирования к слуху он не
умел и не хотел обучать фортепианно-исполнительскому ис-
кусству.
При этом в основе его методики лежало несколько основ-
ных положений.
Во-первых, ничего не делать механически и формально. Раз-
витие слуховой активности ставилось в прямую зависимость от
метода ежедневной работы пианиста и связывалось со способом
разучивания музыкальных произведений. Неосмысленная и
равнодушная игра, по мнению Блуменфельда, рано или поздно
самым пагубным образом скажется на слухе, затормозит его
развитие и притупит слуховое внимание.
И тут возникал вопрос о темпе вслушивания в музыку в про-
цессе ее изучения. Как-то раз я застал Феликса Михайловича
с «Жаном Кристофом» Ромена Роллана в руках. Он протянул
мне книгу, указал отчеркнутое место и велел прочесть его. Вот
эти строки: «Нынешние люди читают быстро и плохо, и им уже
неведома чудесная сила, которая излучается из прекрасных
книг, если их пить медленно».
— Ив занятиях музыкой,— сказал Блуменфельд,— то же
самое. Тут, конечно, дело обстоит по-иному, так как музыка
должна течь в определенной скорости. Но очень многие, разу-
чивая музыку, не умеют ее «пить медленно». Медленный темп
нужен не столько для техники, сколько для того, чтобы было
время вслушаться во все изгибы и тонкости музыки.
Во-вторых, Блуменфельд требовал от учеников не то что не-
которой слуховой сосредоточенности; он настаивал на макси-
мальной слуховой активности. Он добивался того, чтобы вслу-
шивание в музыкальное произведение было выполнено не «во-
обще», не «кое-как», не «как-нибудь», не «приблизительно», а
непременно до исчерпывающей грани. Его требовательность
в этом отношении была бескомпромиссной, и ни на какие послаб-
ления и уступки он не шел. Впрочем, не только в области слу-
хового воспитания, но всегда, всюду и везде он требовал (как
этого требовали и многие другие крупнейшие художники), чтобы
всякое «творческое действие» было непременно доведено до
конца, до предела, возможного в данный период развития уче-
ника.
И, наконец, в-третьих, внимание к слуховому развитию ска-
зывалось и в выборе репертуара для ученика. Правда, мы не-
редко сами высказывали Феликсу Михайловичу свои пожела-
ния, и он порой с нами соглашался. Но бывало и совсем по-дру-
гому. Он надолго, очень надолго задумывался, видимо, не
только вспоминая различные пьесы по их названиям, но и вслу-
шиваясь в каждую из них. И лишь после такой длительной па-
узы он называл какое-либо произведение и решительно настаи-
вал на том, чтобы именно эту музыку ученик разучил. В ту
84
пору многим из нас этот выбор казался случайным. Лишь потом
я понял: Феликс Михайлович руководствовался в меньшей сте-
пени техническими трудностями произведения, а в большей —
его интонационными особенностями и подбирал репертуар, со-
образуясь с уровнем и характером слухового развития ученика.
О конкретных формах воспитания слуха в классе Блумен-
фельда речь пойдет дальше. Здесь же позволю себе небольшое
отступление...
Воспитание слуховой активности должно было способство-
вать усилению эмоционального отклика учащегося на музыку,
поднятию температуры его «творческого нагрева», обогащению
его переживаний. Естественно, что совершенствование музы-
кального слуха проводилось при этом в неразрывной и тесней-
шей взаимосвязи с воспитанием исполнительского темперамента
и исполнительской воли пианиста.
Блуменфельд понимал, что важнейшими компонентами ис-
полнительской одаренности являются способность остро чув-
ствовать, реагировать, отзываться на искусство и настойчивая
потребность выражать и воплощать, зарождающаяся под воз-
действием этого эмоционального отзыва; что без дара душевно
переживать произведение искусства и без горячего стремления
«рассказать» другим об этом нет исполнительского творчества.
В основе блуменфельдовского метода формирования пиа-
ниста лежал принцип, по всей видимости, глубоко им проду-
манный. Горячая влюбленность в искусство, творческая страст-
ность и артистическая воля к воплощению — вот те качества,
которые в тесном взаимодействии со слуховой активностью надо
развивать в ученике. И, создавая вокруг себя атмосферу «увле-
ченности», «влюбленности» в искусство, Феликс Михайлович
раздвигал кругозор учащихся, раскрывал перед ними познава-
тельное, этическое и эстетическое значение искусства, понима-
ние общественной миссии артиста-просветителя. Попадая в ат-
мосферу класса Блуменфельда, юноша или девушка, до этого,
быть может, воспринимавшие искусство поверхностно, не по-
нимавшие связи искусства и жизни, любившие виртуозный
«шик» или страдавшие самовлюбленностью, через несколько ме-
сяцев буквально преображались.
Каким путем достигал Феликс Михайлович такого преобра-
жения своих воспитанников, а часто и коренной ломки их пси-
хологии? На это можно ответить только так: он зажигал лю-
бовью к искусству благодаря воздействию своей личности, бла-
годаря художественному величию своей личности, благодаря
собственной искренней увлеченности и творческой страстности,
благодаря своей нравственной чистоте. Что бы мы ни делали,
в мыслях своих мы держали перед ним отчет и осознанно или
неосознанно ориентировались на его оценку, ощущали его реак-
цию па паше поведение — в искусстве и в жизни. Быть может,
мы подражали ему, но, подражая, в общении с ним и в творче-
85
ском труде обогащали свою индивидуальность и в результате
научались смотреть на мир, на жизнь и на искусство своими
глазами.
О характерности музыкального образа. В по-
следний— московский — период деятельности Блуменфельд за-
нимался с классом раза три в неделю. Само собой разумеется,
что ученики стремились присутствовать на всех занятиях. Это
не только давало возможность прослушать и детально ознако-
миться с большим количеством фортепианных пьес, но и позво-
ляло понять те общие требования, которые предъявлялись Блу-
менфельдом к исполнению музыкальных произведений. Воспи-
тательное, благотворное влияние этих коллективных слушаний
уроков Феликса Михайловича было поистине огромно.
Вспоминается такой эпизод. Один из только что поступив-
ших в класс учеников принес на урок пьесу-фантазию Шумана
«Смятенные грезы» («Traumeswirren»). Зная, что Феликс Ми-
хайлович высоко ценит пианистическое мастерство и не признает
неряшливого, «приблизительного» исполнения, юноша тща-
тельно разучил эту технически нелегкую пьесу. Играл он бойко
и уверенно, отчеканивая быстрые последовательности, отчет-
ливо произнося каждую ноту и точно попадая левой рукой на
басовые звуки. Это было технически отделанное, но формаль-
ное, бездушное исполнение. Укоризненно посмотрев на играв-
шего, Блуменфельд сказал:
— Добродетельно выучено, ни одной шероховатости. Но
кому это нужно? Ни о чем вы не говорите, ничего не рассказы-
ваете. Вы, собственно говоря, ничего и не хотите сказать дру-
гим. Ни грез, ни сновидений, ни смятения, ни фантастики.
Он закрыл ноты и не стал работать над формально разучен-
ной пьесой.
Это был хороший урок для всех присутствовавших. Ученики
приучались слышать разницу между формальным (пусть техни-
чески отточенным) исполнением н' образной интерпретацией;
приучались понимать бессмысленность и бесцельность «кор-
ректно-добродетельной», бессодержательной игры на фортепи-
ано; приучались задумываться над характером той музыки, ко-
торую разучивали и которую им предстояло исполнить перед
учителем.
Приведенный эпизод не был случайным в педагогике Блу-
менфельда: технически отшлифованное, но неясное по мысли,
не прочувствованное и бедное по содержанию исполнение всегда
получало решительную отповедь.
Так же резко осуждалась Блуменфельдом и другая разно-
видность формального исполнения: внешне отделанная, разукра-
шенная «нюансами» фортепианная игра. Одной из своих учениц
Феликс Михайлович предложил разучить пьесу Рахманинова,
которую годом раньше он проходил с другим студентом. Уче-
ница попросила рассказать ей, что именно «показывал» в этой
86
пьесе Блуменфельд. Формально усвоив эти указания, молодая
пианистка разучила пьесу с «нюансами» Блуменфельда и в та-
ком виде сыграла ее на уроке. Реакция была, конечно, самая
отрицательная:
— Ужасно глупо играете, все время «украшаете» музыку.
Нельзя играть музыку «с нюансами».
Когда выяснилось, что пьеса исполняется «по Блумен-
фельду», он, смеясь, сказал:
— Не в родстве ли вы с теми ученицами Петербургской
консерватории, которые приходили с нотами в руках на кон-,
церты Рубинштейна и записывали его «нюансы» и педализацию?
Они пытались, пользуясь своими записями, играть «по-рубин-
штейновски», а в действительности играли глупее глупого.
Феликс Михайлович не формулировал выводов. Но студен-
там, умевшим обобщать то, что они слышали на уроках, эти
выводы были ясны. В искусстве имеет ценность лишь содержа-
тельное, искреннее и правдивое исполнение. Только такому ис-
полнению «поверят» слушатели. Лишь в процессе вслушивания,
познания и прочувствования разучиваемой музыки исполнитель
находит путь к творчески искренней и правдивой передаче про-
изведения. Гримом и лакировкой, внешней отделкой и «нало-
жением» нюансов не удастся прикрыть пустоту и мертвящее
равнодушие интерпретации.
Блуменфельд остро ненавидел и некоторые другие виды
внешне приукрашенного исполнения. Он не переносил ложной
патетики — обычной манеры игры тех, кто стремился к само-
показу, внешней темпераментности и подменял глубокие мысли
и чувства, заложенные в музыкальном произведении, нервным
возбуждением. Слушая такое исполнение, Блуменфельд выходил
из себя. Горе ученику, если интерпретация его хоть чем-нибудь
напоминала тех трагиков, о которых в театральном мире ост-
рили: «Своим голосом покроет канонаду он шутя; то шакалом
он завоет, то заплачет, как дитя».
Столь же неприязненно было отношение Блуменфельда
к созерцательно-расплывчатой, пассивно-сентиментальной игре,
к «вообще музыкальной», «вообще поэтической» манере испол-
нения. Прослушав как-то раз так исполненную ученицей пьесу
Чайковского, Блуменфельд сказал:
•— Вот совсем так, как вы, пели и играли до революции
дилетантствующие дамы из высокопоставленного общества в ла-
заретах для господ офицеров. В солдатских госпиталях они не
выступали. Их бы там высмеяли. И поделом!
Итак, в классе Блуменфельда осуждалось и технически от-
шлифованное, но лишенное содержательности исполнение («кор-
ректно-добродетельное исполнение»); и отделанная динамиче-
скими, агогическими и артикуляционными оттенками, но внут-
ренне не прочувствованная и неискренняя игра («приукрашен-
ное исполнение»); и проявление внешней темпераментности
87
и пафоса, не вытекающее из интерпретируемой музыки («на-
игранное исполнение»); и, наконец, расплывчато-бездейственная,
«вообще музыкальная» игра. Всему этому противопоставлялся
иной стиль игры, основанный на выявлении объективной худо-
жественной характерности каждого создаваемого образа.
— Не существует музыкального произведения, не имеющего
характера,— сказал как-то Блуменфельд.
Эти слова не означали, конечно, что, по его мнению, не бы-
вает композиторов, пишущих бессодержательную, лишенную
характерности музыку, или исполнителей, играющих бессодер-
жательно и не умеющих воссоздать характер музыкального
произведения. Феликс Михайлович имел в виду другое: такие
произведения и такая интерпретация не имеют права имено-
ваться высоким словом Музыка.
В словах Блуменфельда о том, что каждый композитор пи-
шет музыку в определенном «характере», а каждый подлинный
исполнитель воспроизводит этот «характер», слышны были от-
звуки известного высказывания А. Рубинштейна, которое Фе-
ликс Михайлович не раз вспоминал: «Я убежден, что всякий
сочинитель пишет не только в каком-нибудь тоне, в каком-ни-
будь размере или в каком-нибудь ритме ноты, но вкладывает
известное душевное настроение, то есть программу, в свое со-
чинение, с уверенностью, что исполнитель и слушатель сумеют
ее угадать».1
Работа Блуменфельда с учениками над музыкальным произ-
ведением, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы,
во-первых, научить их слышать и понимать индивидуально-
неповторимое содержание каждой изучаемой пьесы; во-вторых,
чтобы в увлечении (обязательно в увлечении!) этим содержа-
нием и в процессе его всестороннего обдумывания они сумели
«вылепить» характерный образ, понятный широкой ауди-
тории.
3
Указания Блуменфельда, направлявшие работу ученика над
музыкальным произведением, менялись в зависимости от содер-
жания, стиля и жанра разучиваемой пьесы. Новому, только
что поступившему в класс студенту вначале могло даже пока-
заться, что в занятиях отсутствует система. Но это было не так.
Все частные указания Блуменфельда исходили из его общих
принципов создания и воплощения пианистом исполнительского
замысла. К этим принципам привели Феликса Михайловича
изумительная художественная интуиция и многолетняя пиани-
стическая и дирижерская практика.
Об отношении к авторскому тексту. Блуменфельд
‘А. Рубинштейн. Музыка и ее представители. М., 1891, с. 17.
88
добивался от учеников предельно внимательного отношения
к авторской записи, справедливо считая тщательное обдумыва-
ние текста тем фундаментом, на котором строится вся творче-
ская работа исполнителя.
Но до того, как начать осмысление всех деталей текста, его
надо прочесть, именно прочесть, а не разобрать по складам.
Смысл этого требования Блуменфельда, как мне теперь пред-
ставляется, заключался не только и, может быть, не столько
в том, чтобы заставить учащегося сразу же охватить произве-
дение как некое целое, сколько в другом: воспитать желание и,
конечно, умение читать ноты с той же или почти с той же лег-
костью, с какой культурный человек читает текст словесный.
Итак, не разбирать, а прочитать!
А затем начать тщательное обдумывание. Блуменфельд со-
ветовал всегда отличать авторскую запись от редакторской. Сам
он относился к редакторским указаниям по-разному: в одних
случаях — с безразличием («можно и так»), в других — с ин-
тересом (например, к бузониевским редакциям произведений
Баха), в-третьих — с явно выраженной антипатией и даже воз-
мущением (например, к редакциям Клипдворта). Почти всегда
он предпочитал, чтобы учащийся разучивал музыку по ориги-
нальным авторским редакциям. Незамеченные в авторском
тексте лиги, динамические или артикуляционные знаки, невы-
держанная, то есть недослушанная, нота, не говоря уже о не-
правильностях в прочтении нот или метроритма, вызывали бур-
ную реакцию Блуменфельда. При этом решительно осуждалось
формальное выполнение авторских указаний. Эти указания надо
было понять и услышать. Учащийся должен был задуматься
над тем, почему автор так, а не иначе записал свою мысль, на
что именно он хотел направить внимание исполнителя, поставив
тот или другой знак.
Один из учеников, исполняя на уроке Этюд Шопена До ма-
жор, соч. 10 № 1, в самом начале пьесы перенес до—до
(в лев. р.) на октаву вниз, то есть сыграл басовую партию так,
как она записана в репризе.
— Вы не поняли мысли Шопена,— объяснял Феликс Ми-
хайлович ученику его ошибку.— Шопен обычно экономит свои
выразительные средства. И в этом этюде он умно приберегает
использование до контроктавы для ударного момента, для куль-
минации в репризе. Вот и в до-диез-мииорном полонезе уче-
ница как-то раз перенесла октаву до-диез (в третьем такте)
вниз, не поняв, что нота до-диез контроктавы должна появиться
в следующем такте и необходима Шопену для колорита, для
красочности.
На полях нот другого ученика, разучивавшего Четвертую со-
нату Анатолия Александрова, Блуменфельд выписал различ-
ные знаки акцентировки, расставленные автором: —, >, ^
s f, rf.
89
Педагог привлек внимание учащегося к тому, что компози-
тор вкладывает в каждый из этих знаков, указывающих на
необходимость подчеркнуть тот или иной звук или звуковую по-
следовательность, разный смысл; знак акцента может отно-
ситься и к динамике, и к артикуляции, и к ритмике или одно-
временно ко всем категориям выразительных средств. После
этих объяснений Блуменфельд попросил ученика, вслушиваясь
в характер музыки, определить, в каких случаях автор поль-
зуется той или иной формой записи и какое именно смысловое
значение придает композитор каждому знаку. Обращаясь за-
тем к классу, он заметил:
— Вот так всегда и везде нужно задумываться и вслуши-
ваться в каждый авторский знак. Не забывайте при этом, что
один и тот же знак у Бетховена, Шопена, Шумана, Рахмани-
нова, Листа или Скрябина может иметь различные смысловые
оттенки, которые надо уметь уловить. Впрочем, и у одного и
того же композитора в различных пьесах — дажелз одной и той
же пьесе — то или другое обозначение может носить разный
характер.
Блуменфельд, предельно требовательный в отношении точ-
ности выполнения авторских намерений, обращал внимание
учащихся па то, что динамические, ритмические, темповые и
артикуляционные элементы нотной записи указывают лишь на-
правление авторской мысли и лишены абсолютности. Он в рав-
ной степени осуждал как невнимательное отношение к тексту,
так и формальное прочтение нотной записи. При этом он по-
нимал, что «замороженные» в нотной символике чувства, мысли
и идеи композитора исполнитель сможет «растопить» лишь теп-
лотой своего творческого воображения, опирающегося на ак-
тивность слуха, музыкальный и жизненный опыт, специальные
знания и общую культуру. Ученик, творческое воображение ко-
торого не развито, не сможет домыслить авторскую запись, про-
честь «между строк», услышать за холодными и мертвыми нот-
ными обозначениями выразительную и содержательную музы-
кальную речь. Таких учащихся Феликс Михайлович аттестовал
весьма нелестно.
На уроках Блуменфельда воспитание разных видов музы-
кального слуха — мелодического, гармонического, полифониче-
ского, фактурного, тембрового, динамического, «горизонталь-
ного»—проводилось в их неразрывном единстве и, само собой
разумеется, в тесной связи с обучением исполнительским выра-
зительным средствам. В очерке же, посвященном блуменфель-
довскому методу обучения, приходится расчленять изложение
материала и каждую из сторон его педагогики рассматривать
отдельно.
О мелодическом слухе и об интонировании
мелодии. Тут Феликс Михайлович привлекал внимание своих
питомцев к нескольким моментам.
90
Прежде всего — к вслушиванию в «жизнь» одного фортепи-
анного звука, к его протяженности от зарождения и до прекра-
щения. Мне хорошо запомнились его замечания, смысл которых
сводился к следующему. Певец, скрипач, кларнетист и все ис-
полнители, кроме органистов, клавесинистов и пианистов, могут
сфилировать взятый звук, усилить или ослабить его, изменить
его колорит и т. п., словом, «сказать» или «пропеть» его по-раз-
ному. Пианисты же могут лишь взять звук определенной силы
и краски и следить за его естественным постепенным затуханием
и за его окончанием. Но даже в этих, казалось бы, узких преде-
лах— неисчислимое количество градаций. То звук тянется, то
угасает быстро; то он плавно и пластично переходит в другой
(сфера legato); то быстро обрывается (сфера staccato). Какое
количество тончайших артикуляционных оттенков! И все эти
особенности «жизни» одного звука надо уметь расслышать
внутренним слухом, расслышать и «пережить».
Или другой момент. Блуменфельд направлял слуховое вни-
мание учеников на характер произнесения простейших попевок.
Он указывал, что нотная запись мотивов, как и буквенная
запись слов, бессильна передать их выразительный интонацион-
ный смысл.
Феликс Михайлович говорил приблизительно следующее:
— Можно на сотни разных ладов произнести даже такие
короткие слова, как «я», «ты», «да», «нет» и т. д. И надо их
услышать по-разному, как это умеют делать хорошие актеры:
в этих словах — то удивление, то насмешка, то утверждение, то
властность, то злоба, то нежность... Один оперный певец, обу-
чавшийся драматическому искусству у Ленского, рассказывал,
как этот замечательный актер обучал своих воспитанников по-
разному произносить простейшие слова и простейшие сочетания
слов. И это давало свои плоды! Вот и вы поступайте так же:
произнесите про себя терцию нежно-нежно, а потом сыграйте
так на рояле; теперь пропойте про себя ту же терцию, даже
не меняя ее ритма, властно; теперь — как-нибудь по иному.
Только такое вслушивание в интервалы мелодии позволит вам
так ее сыграть, чтобы высечь искру волнения у слушателей, и
тогда они пойдут за вами... В искусстве нет запретных интона-
ций: не всегда они должны быть «красивыми», они могут быть
и жесткими, и даже резкими — все дело в ситуации...
И еще одно замечание. В высказываниях передовых пред-
ставителей русской эстетической мысли XIX века не раз подчер-
кивалась ведущая роль вокально-распевных и вокально-речевых
моментов в инструментальном исполнительском искусстве.
Н. Чернышевский лаконично изложил это положение в словах:
«.. .высочайшая похвала артисту: „В звуках его инструмента
слышится человеческий голос*1».1 Серов писал, что «всякая
1 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. II. М., 1949, с. 63.
91
музыка, естественно говоря, есть пение (или то,- что к нему при-
надлежит, его дополняет, обрамляет)».1
Блуменфельд формировался как художник под воздействием
этих взглядов. К тому же в молодости он испытал сильнейшее
влияние великого «певца на фортепиано»—Антона Рубинштейна.
Б. В. Асафьев в «Памятке» рассказывает, что, когда Блумен-
фельд играл, атмосфера напитывалась ощущением «струй-
ное™», а «молоточиость» исчезала бесследно. «Это у меня от
Антона Григорьевича»,— уверял Феликс Михайлович (курсив
мой.— Л. Б.). Как дирижер и несравненный мастер аккомпане-
мента Блуменфельд большую часть своей творческой жизни
провел в тесном художественном общении с выдающимися рус-
скими певцами (в их числе — Ф. Шаляпин и И. Ершов). «Спо-
собность вокализировать инструментальные интонации,— заме-
чает Б. В. Асафьев,— была у Блуменфельда, возможно, связана
с чутким искусством аккомпаниатора. Помню, что, когда Шаля-
пин однажды спел у Стасова «шумановско-гейневское стихотво-
рение» «Вы, злые, злые, песни» — и спел гениально, был миг
всеобщего трепета и восторгов, но сейчас же все стихло, ибо
Блуменфельд так песенно-просто-выразительно продолжал «вы-
сказанное», играя знаменитую постлюдию, что все внимание тут
же переключилось на завершительное пение рояля».1 2
Естественно, что певучесть фортепианной игры была одним
из руководящих принципов педагогического метода Феликса
Михайловича. Кстати говоря, под «пением на фортепиано» во-
все не понималась игра «сверхмягким» звуком и «сверхлегат-
ными» приемами. Сыграть певуче—это означало сохранить
в инструментальном исполнении идею вокальности, то есть ха-
рактер выразительности, присущий поющему человеческому го-
лосу. Работая с учениками над вокализацией инструменталь-
ного исполнения, Блуменфельд всегда стремился воспитать
у них очень важное качество — слышание-переживание упру-
гости, сопротивляемости, напряженности мелодических интерва-
лов, иными словами, то переживание, которое возникает у пиа-
нистов, когда, интонируя мелодию, они «сопоставляют слухом»
различные — то есть большие или меньшие — расстояния между
звуками. Думается, что, если бы Блуменфельда спросили, как
добиться «пения на фортепиано», он начал бы свой ответ со сле-
дующего: певучести исполнения,— сказал бы, вероятно, он,—
можно достичь в том случае, если развить в себе способность
вслушиваться и переживать вокальную («весомую», по терми-
нологии Б. Асафьева) напряженность и упругость мелодических
интервалов. Пианист должен для этого играть «умными» или,
иначе говоря, «слышащими» пальцами. Феликс Михайлович, как
1 А. Н. Серов, Критические статьи, т. IV. СПб., 1895, стлб. 1587.
2 Б. Асафьев. Шопен в воспроизведении русских композиторов. «Сов.
музыка», 1946, № 1, с. 39.
92
уже отмечалось, очень ценил такие «умные пальцы», «предчув-
ствующие» звуковую высоту тонов и интервальные соотношения
между ними.
Поясним это примером работы Блуменфельда с учеником
над следующими тактами из Largo си-минорной Сонаты Шо-
пена:
[Largol^--^------------
At-
faxjl LzQ Г:. В
Блуменфельд, играя мелодию и показывая движением руки
большой интервал, стремился вызвать у ученика ощущение
«объемности» и напряженности интервала октавы.
В другом случае, добиваясь, чтобы в финале ля-мажорной
Сонаты Бетховена соч. 2 № 2 ученица почувствовала разную
сопротивляемость и напряженность двух больших интервалов
после троекратно повторенного тона ми:
[Grazloso]
Блуменфельд в конце концов попросил игравшую спеть («хотя
бы приблизительно»,— сказал он) эту инструментального скла-
да интонацию. Вслед за этим он заставил ученицу «почувство-
вать в самой руке, в движении руки» большие интервалы,
сыграв их как бы легато.
И еще один пример. Показывая ученице начало Ноктюрна
соль минор Шопена:
Феликс Михайлович стремился, чтобы и пальцы ее «услышали»
тот разный по внутреннему напряжению характер, который
имеют встречающиеся в этом отрывке интервалы — секунды,
нисходящая квинта, поднимающаяся нона...
Кстати говоря, сказанное относилось не только к медленной,
но и к быстрой музыке. Пассаж — в частности, шопеновский —
Блуменфельд запрещал выколачивать, то есть играть его громко
и медленно «крепкими» пальцами. Он рекомендовал разучи-
вать пассажи в таком темпе, чтобы дать себе время хорошо
в них вслушаться и ощутить в пальцах их мелодический рельеф.
Примеров работы Блуменфельда над тем, чтобы ученик ощу-
тил напряженность («весомость») в произнесении интервалов
мелодии, можно было бы привести великое множество. В любом
случае Блуменфельд добивался, чтобы пианист постиг то особое
93
мускульное ощущение интервала, которое знакомо каждому
поющему человеку, способному ощутить г> своем голосе напря-
женность расстояний между звуками.
Однако эта напряженность не является чем-то неизменным:
один и тот же интервал в разном контексте — в частности, в за-
висимости от ладового положения интервала — должен, по мысли
Блуменфельда, интонироваться по-разному. Блуменфельд, как
рассказывал автору этих строк И. М. Рензин, указывал, что
многие певцы не понимают необходимости в одних случаях под-
черкнуть напряженность (он говорил — «трудность») интервала,
в других — скрыть эту «трудность», не обнаружить усилия, с ко-
торым преодолевается интервал, и добиться легкости звучания.
Певцы, не слышащие и не понимающие этого, все верхние ноты
обычно подчеркивают («гвоздят») или «филируют», движение
мелодии вверх всегда сопровождают crescendo, вниз — dimi-
nuendo.
— И пианисты,— говорил Блуменфельд,— добиваясь певуче-
сти, нередко подражают таким неумным певцам.1
Вокальной основе интонирования пианистом мелодии Блу-
менфельд придавал очень большое значение. Но это еще не то
пение, которого требовал от своих учеников Блуменфельд.
Спеть, в его понимании, означало правдиво, убедительно и рель-
ефно передать характер интонируемой мелодии в ее целост-
ности.
Бывало, на уроке Блуменфельд, положив на клавиатуру
свои огромные мягкие и тяжелые руки, «споет» на фортепиано
мелодию. Достаточно ему было чуть-чуть «тронуть» мелодию,
только что невыразительно и безобразно исполненную учеником,
несколькими динамическими, артикуляционными или ритмиче-
скими штрихами — и в ней слышалась жизнь, художественный
образ. Только вслушивайся и постигай, если умеешь слушать и
примечать!
Блуменфельд «лепил» мелодии скупыми средствами, смело
и темпераментно, мужественно и пластично. В этих рельефно
«вылепленных» мелодиях слышались то скорбь, то затаенная
страсть, то душевная мука, то просветленная радость, то иро-
ния или сарказм, то настороженность, то ликование, то негодо-
вание— словом, всегда характер, мысль, воля, переживание.
Это поражавшее учеников Блуменфельда искусство двумя-
тремя штрихами рельефно выявить характер интонируемой ме-
лодии сложилось у него, как уже отмечалось, под воздействием
«пения на фортепиано» Антона Рубинштейна и в совместной
работе с Шаляпиным. А Шаляпин,— вспоминается меткое заме-
чание Направника,— «поет, словно Рубинштейн играет».
1 По словам проф. И.. М. Рензина, Блуменфельд приводил ему убеди-
тельные примеры разного интонирования интервалов из первого монолога
Сальери в опере Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери».
94
Этому характерному образному «пению па фортепиано» и
учил Блуменфельд. Он не признавал и не понимал «певучести
ради певучести». Его раздражала распространенная в школь-
ном обучении манера произнесения мелодии, при которой, вне
зависимости от ее характера, движение вверх сопровождается
нарастанием звучности, вниз — замиранием. Неизменное приме-
нение такой, казалось бы, естественной динамики, по мысли
Блуменфельда, приводит лишь к бесхарактерному пению, ибо
любая мелодия вне зависимости от ее содержания в этом случае
интонируется на один лад.
Блуменфельд учил «не мельчить» мелодическую линию, петь
ее «па большом дыхании». Цельность в интонировании мелодии
достигалась сочетанием разных выразительных средств: круп-
ным динамическим штрихом, «вбиравшим» в себя все мелкие
динамические или артикуляционные нюансы, опорными точками,
подчеркивавшими главное в произносимой мелодии, рельеф-
ными цезурами, ограничивавшими большие мелодические от-
резки, темпоритмом, придававшим текучесть мелодическому
звуковому потоку.
На одном из уроков ученица проинтонировала первые 8 так-
тов Этюда Шопена соч. 10 № 9 фа минор приблизительно так:
Исполнительница измельчила мелодию и лишила ее харак-
терной выразительности. Блуменфельд не мог с этим согла-
ситься. Он слышал в этой музыке встревоженную — и потому
прерывистую — «мелодическую речь» сильного и мужественного
человека.
— Перестаньте стонать,— сказал он ученице, карикатурно
имитируя ее исполнение первого такта.
Тогда студентка сыграла так:
— Плохо, очень плохо, теперь у вас крик и экзальтация.
Блуменфельд стал добиваться, чтобы ученица «совсем ровно»
произнесла эти расчлененные интонации и достигла выражения
взволнованности не мелкой динамикой, а паузами-дыханиями и
прерывистой артикуляцией.
95
Затем он стал учить игравшую слушать и «ощущать в руке»
различную «весомость» интервалов — сексты (такт 2) и октавы
(такт 6) в их взаимосравнении. Наконец он потребовал, чтобы
ученица сняла ненужные diminuendi в 3-м («никакого затиха-
ния звучности; у Шопена crescendo, затем con forza») и в 7-м
тактах и почувствовала единый мелодический поток в каждом
из четырех тактов.
Показывая ученице, Блуменфельд необычайно цельно произ-
носил эту взволнованную речь, интонируя ее приблизительно
так: 1
Вторую, ми-бемоль-мажорную тему Первой баллады Шо-
пена, часто распадающуюся в исполнении неопытных пианистов
на отдельные интонационные «молекулы», Блуменфельд объеди-
нял следующим образом: во-первых, он снимал мелкие динами-
ческие нюансы в отдельных мелодических попевках и почти за-
тушевывал между ними цезуры; во-вторых, звуком и ритмом он
чуть выделял -вершину мелодии, не ослабляя звука и в послед-
них тактах; в третьих,— и это самое важное,— он делал боль-
шое diminuendo во второй половине 8-го такта и рельефной
цезурой разъединял эти ноты от последующего повторения
темы. В нотной записи это может быть зафиксировано прибли-
зительно так:
Блуменфельд всегда требовал от учеников содержатель-
ности и искренности в интонировании мелодии. Он боролся
со всякого рода трафаретами, мертвящими искусство и убиваю-
1 Длинной чертой обозначено динамически ровное интонирование — без
crescendo н diminuendo; кульминационные звуки мелодии в этих фразах
(ля-бемоль и до) едва заметно ритмически оттягивались.
96
щими творчество. Даже в исполнении «истертых» фортепиан-
ных формул надо было уметь находить особые характерные
детали, придающие им тот или иной выразительный смысл.
Здесь нельзя не вспомнить слов Асафьева: «Механизировав-
шиеся, „окостенелые” интонации, элементы музыкальной речи
(гаммы, арпеджио, различного рода пассажи), которые стали
привычно связующими, заполняющими, «проходящими» соче-
таниями звуков, требуют особого рода трактовки, акцентировки
и окружения, чтобы вновь сделаться „носителями смысла”».1 Та-
кой, в каждом случае иной, «трактовки, акцентировки и окру-
жения» «изношенных» от частого употребления звуковых после-
довательностей и добивался от играющих Блуменфельд. Он сви-
репел, если пианист «говорил» штампами, фетишизирующими
какие-то способы выражения в отрыве от породившей их сущ-
ности. В этом смысле к Блуменфельду можно полностью от-
нести слова Вахтангова: «Педагог — это человек, который уби-
вает ложь».1 2
О гармоническом слухе. Хорошо развитый гармони-
ческий слух свидетельствует, как известно, об относительно вы-
соком уровне музыкального развития, и Блуменфельд очень вы-
соко ценил такой слух. Хотя он об этом специально не говорил,
но практика его работы с молодыми пианистами свидетельство-
вала о том, что оп различал, условно говоря, низшую и высшую
стадии развития гармонического слуха музыкантов.
Начнем с первого. Ученики обязаны были так «запоминать
слухом» гармонизацию, чтобы суметь, если в этом встретится
необходимость, с достаточной легкостью сыграть без нот, опи-
раясь лишь на слуховую память, отрывки из разучиваемой
пьесы в другой гармонической фактуре: скажем, «сомкнуть»
гармоническую фигурацию в аккорды (такое изложение дает
обычно рельефное представление о гармоническом плане!) или,
наоборот, аккордовые последовательности сыграть в виде гармо-
нической фигурации; изменить расположение аккордов на кла-
виатуре; перенести мелодию, допустим, из правой руки в левую,
а гармонизацию — из левой в правую, и т. п.
Трудно приходилось ученику на уроке, если он испытывал
затруднения и не мог этого выполнить; из уст Блуменфельда сы-
пались укоризненные, а иногда и уничижительные эпитеты.
И ученики, не обладавшие развитым гармоническим слухом или
ранее не приученные к подбиранию музыки по слуху (и потому
хуже «слышавшие» фортепианную клавиатуру), зная, что рано
или поздно Феликс Михайлович может потребовать, чтобы они
«сымпровизировали» гармоническую фактуру по-иному, чем она
записана у композитора,— нередко специально занимались под-
биранием разнохарактерной гармонической фактуры. Трудно
1 Б. Асафьев. Интонация, с. 18.
2 Е. Вахтангов. Записки, письма, статьи. М., 1939, с. 320.
97
переоценить пользу, которую они получали от такого рода до-
машней тренировки!
Теперь о другой, более высокой стадии в развитии слуха —
о «стилистическом» гармоническом слухе. Впрочем, сам Феликс
Михайлович, насколько я помню, никогда этим термином, услов-
ность которого я оговариваю, не пользовался.
О чем же, если иметь в виду его педагогику, идет речь?
Обратимся к гармоническому языку выдающихся композито-
ров прошлого, скажем Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена. Они
нередко прибегали к гармониям и модуляционным построениям,
которые слуху их современников должны были казаться очень
свежими, новыми и глубоко впечатляющими. Проходили деся-
тилетия за десятилетиями... Создавалась и звучала иная му-
зыка, и слух — в первую очередь гармонический — слушателей
и некоторых музыкантов притупился: он перестал ощущать
выразительную силу «простых» гармоний композиторов прош-
лого.
Зная и наблюдая все это, Блуменфельд рассуждал, вероят-
но, так: если стилевые особенности гармонического языка ком-
позиторов прошлого стали для молодого исполнителя буднич-
ными, если исполнитель потерял способность удивляться и радо-
ваться гармоническим находкам этих великих музыкантов, как
же он сможет «сделать музыку понятной» для своих слушате-
лей, как сможет увлечь их?
При такой постановке вопроса как же воспитывать музы-
кальный слух молодых пианистов?
Феликс Михайлович нам об этом почти ничего не говорил.
Но сам он обладал таким тонким «стилистическим» гармони-
ческим слухом, так искренне умел восхищаться «чудеснейшими
гармониями и модуляциями» Баха, Моцарта и других компози-
торов прошлого, что мы нередко заражались его восторгом и
начинали как-то по-новому вслушиваться в эту музыку.
Но вот, незадолго до того как я окончил консерваторию, на
одном из уроков произошел характерный эпизод, который по-
мог мне разобраться во взглядах моего учителя.
Своими замечаниями и мимикой Феликс Михайлович обра-
тил мое внимание на какую-то «простую» гармоническую после-
довательность в Сонате си минор Шопена. Он ею восхищался,
как ребенок, переживающий трепетное чувство яркости впервые
увиденного или услышанного. Я с ним не спорил, но по выраже-
нию моего лица он, видимо, попял, что я не разделяю его во-
сторга. Его это огорчило:
— У вас... неправильная «настройка слуха». Он направлен
у вас на современную гармонию, на гармонию Скрябина, Про-
кофьева и Александрова (незадолго до этого я разучил сонаты
этих композиторов.— Л. Б.), и вы перестали поэтому удивляться
и радоваться прелести шопеновских гармоний. Вы должны
«перестроить» свой слух!
98
Признаюсь, я недоумевал: никаких путей, как это сделать,
как совершить эту «перестройку», Блуменфельд мне не реко-
мендовал.
И лишь в конце урока он вспомнил, по-видимому, о своей
реплике и дал мне совет, глубину и мудрость которого я понял
лишь спустя некоторое время:
— Обратитесь за помощью к Гуммелю!
— ?!
— Ну конечно же, к Гуммелю, предшественнику Шопена.
Возьмите его пьесы и концерты, поиграйте их, погрузитесь
в эту музыку, вслушайтесь в примитивный гармонический язык.
Гуммеля. . . А потом вернитесь к Шопену, и вы начнете вос-
торгаться свежестью его гармоний, как ими восхищаюсь я.
Идите к Шопену от Гуммеля и Беллини, а не от Скрябина и
Прокофьева!
О фактурном слухе и ясной передаче фактуры.
Игра гармонических последовательностей в различных фактур-
ных вариантах (о чем говорилось выше), кроме всего прочего,
способствовала развитию нашего «фактурного слуха» — очень
важной, по мнению Блуменфельда, стороны музыкального слуха.
Он настойчиво добивался от своих воспитанников вслушива-
ния во все составные элементы музыкальной ткани. Гармония
в ее разном фактурном изложении, полифония и отдельные под-
голоски, фортепианная «инструментовка» и регистровка — все
эти взаимосвязанные элементы музыки, по мысли Блуменфельда,
оттеняют выразительность основной мелодии увеличивают
или ослабляют ее впечатляющую силу, придают ей тот или иной
эмоционально-смысловой колорит, содействуют ее развитию и
способствуют созданию художественного образа во всей его
полноте и многоплановости.
Фортепианный текст Феликс Михайлович рассматривал как
многострочную партитуру, которая должна быть исполнена пиа-
нистом настолько ясно и рельефно, чтобы слушатель понял,
что в ней основное, а что побочное, где главные «герои», а где
второстепенные персонажи или красочный фон. Обращаясь
к классу, он как-то сказал:
— Не думайте, что только плохие пианисты играют так, что
все элементы музыкальной ткани у них слипаются и образуют
безликую, бескрасочную и аморфную звуковую массу. Пу сквер-
ных дирижеров, которые не слышат отдельных голосов, кра-
сок, динамики и равнодушно «отмахивают» такты, оркест-
ранты играют «скучным звуком», и изложенное в партитуре
произведение превращается в бесформенное серое тембровое
пятно.
Блуменфельд рекомендовал студентам посещать репетиции
хороших дирижеров и использовать их метод дифференцирован-
ной работы с отдельными оркестровыми группами при разучи-
вании фортепианных произведений.
99
Нерасчлененного исполнения фортепианной фактуры Блумен-
фельд не выносил и даже в компактном аккордовом изложении
обычно требовал от учащихся дифференциации отдельных эле-
ментов. Остановит он, бывало, ученика, не слышавшего или не
умевшего передать «партитурность» фортепианной ткани, и, по-
казывая, обращает внимание на выразительный смысл тех или
других голосов. А то начнет спрашивать:
— Что в этих аккордах самое важное? Бас? Верхний го-
лос? Средние голоса? Слитность всех голосов?
И ученику надо было во все это вслушиваться и так овла-
деть независимостью пальцев, чтобы суметь отделить главное
от побочного и создать звуковую перспективу.
Поэтому «досталось» от Блуменфельда ученику, подчерки-
вавшему верхний голос в следующем месте Первой баллады
Шопена:
и не расслышавшему и не показавшему тематическую интона-
цию: си, до-диез, до-диез, ля (а не си, ми, ми, ля).1
Вообще учащиеся обязаны были всегда «узнавать» темати-
ческие попевки, в каких бы голосах они ни появлялись. В кон-
цертных фортепианных переложениях Блуменфельд вписывал
иногда незамеченные или пропущенные транскриптором тема-
тические интонации в средних голосах. Например, следующий
отрывок из «Смерти Изольды» Вагнера — Листа он советовал,
в соответствии с вагнеровской партитурой, играть так:
Для того чтобы рельефно «вылепить» все элементы му-
зыкальной ткани, надо было научиться вести одновременно
1 Кстати, небезынтересно здесь отметить, что до-диез Блуменфельд реко-
мендовал играть сразу двумя пальцами — 3-м и 4-м.
100
несколько голосов, создавать звуковую перспективу и пользо-
ваться красочными возможностями фортепиано.
В любой фортепианной музыке — не только полифониче-
ской— от играющего требовалось внимание к интонированию
каждого голоса или подголоска.
— Куда идет средний голос? — спрашивал обычно Блумен-
фельд. — Следите за ним, не теряйте его.
Нужно было вслушиваться в течение одновременно звуча-
щих различных мелодических линий и каждой из них — с по-
мощью динамики, ритма, артикуляции и цезур — дать свою
интонационно-смысловую характеристику, подчиняющуюся, ко-
нечно, целостному исполнительскому замыслу.
Так, например, в конце экспозиции первой части си-минор-
ной Сонаты Шопена Блуменфельд вписал в ноты ученика сле-
дующие, приведенные ниже в скобках, исполнительские указа-
ния, которые должны были способствовать отчетливому выяв-
лению всей подголосочной фактуры:
Не совпадающие по времени цезуры в различных мелодиче-
ских линиях Блуменфельд считал важным средством для выпук-
лой передачи голосоведения, и притом не только в произведе-
ниях Баха, но и в других стилях. Он добивался, например, от
ученика предельно точного выполнения цезур (вне зависимости
от объединяющей всю звучность педали) в следующих тактах
из ре-минорной Прелюдии соч. 23 № 3 Рахманинова:
[Tempo di minuetto]
При исполнении второй темы в соль-минорной Балладе Шо-
пена
101
Meno mosso
Блуменфельд обычно замечал ученикам:
— Вслушивайтесь прежде всего в пустые кварты и квинты,
из которых «рождается» тема. А затем обязательно ведите
здесь два голоса и мелодизированный аккомпанемент. Благо-
даря подголоску пустые кварты еще продолжают звучать. Вто-
рой голос перестает петь только тогда, когда мелодия подни-
мется к своей вершине.
Рисуя картину, живописец пользуется линейной и воздушно-
световой перспективой; по мере удаления предметов от перед-
него плана уменьшаются их размеры, смягчаются коптуры, те-
ряется яркость их окраски и густота теней, и этим создается
впечатление глубины и пространства. Пианист также должен
уметь создавать перспективу. Одним из важнейших средств для
этого являются звуковые пропорции. Блуменфельд требовал от
своих учеников, чтобы они «активно слушали» звуковые соот-
ношения элементов фортепианной фактуры и учились переда-
вать эти соотношения во всех их тонкостях. Характерно, напри-
мер, какой тонкости в овладении звуковыми пропорциями он
добивался от ученика, разучившего Этюд Шопена соч. 10 № 6
ми-бемоль минор. «Человеческий голос», поющий сосредоточен-
ную и полную томления (но не сентиментальности!) элегиче-
скую мелодию; бас, указывающий направление гармонических
переходов и создающий фон; подголосочная мелодическая ли-
ния, сопровождающая почти на протяжении всего этюда верх-
ний голос; наконец, непрерывное хроматически обостренное
движение шестнадцатых — для всех этих элементов надо было
найти «свой звук».
В работе над звуковой перспективой басам уделялось специ-
альное внимание. Блуменфельд любил глубокие и густые басы,
считал басовую партию одним из важнейших компонентов му-
зыкальной ткани, служащим фундаментом гармонии и красоч-
ным фоном для всего построения. В классе часто раздавались
реплики:
102
— Слушайте бас! Гуще басы!1
Как члену жюри одного из конкурсов дирижеров Блумен-
фельду пришлось присутствовать на репетиции оркестра, прово-
дившейся молодым дирижером. Последний не обратил внима-
ния на то, что контрабасы дважды не вступили и не сыграли
своей партии. Феликс Михайлович стал громко петь басы. Ди-
рижер обернулся, но ничего не понял. После репетиции Блумен-
фельд говорил ученикам:
— Этот молодой дирижер — плохой музыкант: он не слышит
и не обращает внимания на басы.
В тех случаях, когда какой-нибудь аккорд в фортепианной
пьесе (в партии левой руки или в партиях обеих рук) испол-
нялся арпеджиато, Блуменфельд требовал, чтобы бас был
взят несколько громче остальных нот и ни в коем случае не
позже мелодической ноты. Горе ученику, если при арпеджиро-
вании аккорда левой рукой у него «вылезала» нота, взятая пер-
вым пальцем, и «не звучал» мизинец.
Делясь впечатлениями после концерта какого-то молодого
пианиста, Феликс Михайлович заметил, что в исполнении арти-
ста «не было воздуха». Смысл его высказывания сводился
к следующему. Для того чтобы «все звучало», фортепианная
ткань «не слипалась» и была звуковая перспектива, нужен «воз-
дух», «воздушная атмосфера». Не надо бояться «пустых» пауз,
дыхания, цезур, звуковых просветов — и не только в мелодии,
но и во всей ткани. Подлинные артисты с замечательным искус-
ством пользуются этим выразительным средством. Иное дело
ученики. Они стремятся заполнить все перерывы звучания, за-
штриховать все «пустоты», задерживая клавиши пальцами или
оставляя педаль. Фальшь может и не получиться, но музыка
«перестает дышать», звучание становится вязким. Без «воздуш-
ного пространства» — таков был вывод Блуменфельда — пиа-
нисту не создать звуковой перспективы. Особое значение прида-
валось «фактурному слуху» при разучивании полифонической
музыки.
Тут следует сказать несколько слов о том, каким путем Фе-
ликс Михайлович добивался от учеников умения со всей ясно-
стью передавать голосоведение в полифонических пьесах. Для
этого от играющего прежде всего требовалось внимание к ин-
тонированию каждого голоса: надо было во что бы то ни стало
сохранить в многоголосной ткани интонационно-смысловые ин-
дивидуальные характеристики каждого голоса и достичь этого
с помощью артикуляции, цезур, динамики, акцентировки и аго-
гики.
— Как только характеристика одного голоса подчинится ха-
рактеристике другого, — говорил Блуменфельд, — полифониче-
1 Ср. с замечаниями А. Рубинштейна. Сб. «На уроках Антона Рубин-
штейна». Л., 1964, с. 63.
103
ская фактура потеряет отчетливость и превратится в нерасчле-
пенную звуковую массу.
Как-то раз я показал Феликсу Михайловичу вычерченную
мною «страшную схему» (так я ее тогда назвал) исполнения
полифонии, схему, в которой артикуляция, лиги, акцентировка
и динамика в различных голосах не совпадали друг с другом.
Я начертил тогда приблизительно следующее:
Сопрано .Ш Л О Д И
Тено₽ ШтаЛ]-^-
6ас -Г f-----р Г -Г-----------
non legato
— Одними лишь пальцами, — сказал Блуменфельд, рас-
смеявшись,— ни в коем случае не удастся осмысленно и выра-
зительно исполнить такую фактуру.
И тут же поправился:
— Впрочем, если пальцы «слышат», — тогда другое дело!
Никаких специальных упражнений для развития полифони-
ческого слуха Блуменфельд не давал. Иногда он рекомендовал,
играя баховскую фугу, поочередно пропускать то бас, то тенор,
то альт и восполнить эти голоса их выразительным пропева-
нием.
О тембро-динамическом слухе и о красочной
игре. Пианисты в зависимости от характера своего искусства
пользуются в интерпретации весьма разнообразными красками:
одни чаще всего пишут «маслом», другие обращаются к аква-
рели, третьи не выходят из рамок черно-белых колоритов, и их
искусство напоминает рисунки графиков. Столь же своеобразна
и динамика пианистов: широкого или узкого диапазонов,
волнообразная или террасообразная... Краски и динамика в их
тесной взаимосвязи принадлежат к числу важнейших исполни-
тельских выразительных средств пианиста. Нет ничего тоскли-
вее и томительнее, чем игра на рояле тех исполнителей, кото-
рые лишены тембро-динамического слухового воображения. Та-
кие пианисты, каким бы тонким приемам звукоизвлечения они
пи были обучены, не способны увлечь за собой аудиторию.
Во всем этом Блуменфельд отлично отдавал себе отчет, и
воспитание тончайшего слухового внимания к качеству звука и
к фортепианным колоритам занимало исключительно большое
место в его педагогике.
С первых же уроков Блуменфельд учил слушать и извле-
кать «протяжный», «тянущийся» звук. Он воспитывал, как он
сам говорил, «вокальное отношение к фортепианному звуку» и
противопоставлял такое звукоизвлечепие «молоточпости» и
104
ударности. Надо было научиться «следить» за каждым форте-
пианным звуком на протяжении всей его «жизни». Умение точ-
но рассчитать силу, с какой следует извлечь длинные звуки,
так их извлечь, чтобы не заглушить эти звуки- движением более
коротких нот, Блуменфельд считал важной стороной фортепиан-
ной звуковой техники. «Не тянется», «не звучит», — такие заме-
чания часто раздавались на уроках нашего учителя. Даже
тогда, когда длинный звук реально не мог тянуться на форте-
пиано,— например в высоком регистре,— надо было так ис-
полнить окружение этого тона, словно он продолжал звучать.
Если у композитора и не были указаны «тянущиеся звуки», но
Блуменфельду представлялось, что в другой — оркестровой —
инструментовке они были бы автором выписаны, — ученик дол-
жен был так воссоздать музыкальную ткань, как будто эти
звуки действительно продолжают длиться.
Можно привести два характерных в этом отношении при-
мера. В 47-м такте фа-мажорного Этюда Шопена соч. 10 № 8
Блуменфельд проставлял в нотах учеников знак рр, а в преды-
дущем такте зачеркивал проставленное в ряде изданий cres-
cendo. Он говорил, что при такой нюансировке (особенно, если
тонко и тихо извлечь басовую октаву в 47-м такте) создается
впечатление, будто органный пункт ля, взятый в 41-м такте,
продолжает все время звучать.
В Фантазии Шопена (в заключительных тактах перед си-ма-
жорным эпизодом) в ноты ученика вписывались следующие по-
метки.
-3
Блуменфельд хотел, чтобы соль-бемоль «как бы тянулось» и
на его фоне «где-то вдалеке» (рррр!) замирали звуки бури.1
Связной (легатной) фортепианной игре Блуменфельд прида-
вал огромное значение. С большим интересом относясь к бузо-
пиевской редакции «Хорошо темперированного клавира», он
приходил, однако, в крайнее недоумение по поводу замечаний
1 Так же понималось Феликсом Михайловичем окончание Фантазии: на
протяжении всего Allegro assai рекомендовалось слушать ми-бемоль (послед-
ний звук Adagio). Этим, между прочим, подчеркивалась смысловая близость
двух эпизодов. Блуменфельд говорил, что именно так играл эти эпизоды
А. Рубинштейн.
105
Бузони о non legat’HOM характере, присущем будто бы «при-
роде фортепиано». На одном из уроков, проходя с учеником
сонату Бетховена, Блуменфельд заметил, что пассажи должны
быть исполнены так, как этого требовал композитор: «смычком
по клавишам». При этом имелось в виду характерное замечание
Бетховена, записанное на одной из его рукописей: «В пасса-
жах должна быть такая связность нот, чтобы нельзя было ус-
лышать удара пальцев: пассаж должен быть сыгран так, как
будто бы по клавишам провели смычком». Само собой разуме-
ется, придавая большое значение игре легато, Феликс Михайло-
вич отлично понимал роль стаккатного «штриха» как важней-
шего выразительного средства.
Блуменфельд добивался от учеников разнообразия в града-
циях фортепианной звучности. Надо было овладеть и крайними
гранями звучности: сильнейшим fortissimo и тончайшим pianis-
simo. Но мощное fortissimo должно было быть обязательно мяг-
ким и компактным, «без стука», a pianissimo — всегда «нестись».
Говоря об этом, он нередко показывал учащимся недопустимые
крайние точки фортепианной звучности: громкую звучность, вы-
ходящую за пределы музыкальных звуков и превращающуюся
в шум и стук, и полное беззвучие («нуль звуков») при излишне
медленном погружении пальцев в клавиатуру. Все богатство
фортепианных красок расположено между этими полярными
точками.
Бескрасочной «белой» звучности Блуменфельд не признавал
даже как преходящего эффекта.
— Как бы тихо ни играл пианист, — поучал он нас, — его
pianissimo должно быть сочным и полнокровным.
На одном из уроков он вспомнил по этому поводу Шаля-
пина, певшего в «Русалке» Даргомыжского предельно тихо:
«Стыдилась бы при всем народе так оскорблять отца родного».
А между тем каждый звук и каждое слово слышны были на
весь зал, так как Шаляпин «тихо-тихо произносил музыку, а не
шептал ее».
В другой раз он так охарактеризовал игру ученика:
— Темень у вас такая, что ничего не видно и не слышно, ни-
чего нельзя различить. А надо бы вам знать умные слова Лопе
де Вега:
Когда на глади полотна
Художник ночь изображает,
Хоть луч один он оставляет,
Чтоб эта ночь была видна.
Влюбленный в неисчислимо многообразные колористические
и динамические оттенки фортепианной звучности, Блуменфельд
не терпел серого, монотонного звука. Пианист должен уметь
«писать» фортепианным звуком, как живописец — красками,
владеть всеми оттенками фортепианной звучности, извлекать
не только тихие и громкие, но и темные, густые, мрачные,
106
глубокие, прозрачные, яркие, светлые звуки. В высказываниях
какого-то критика Феликс Михайлович прочел, что оттенки
красок, составляющие полную палитру живописца и восприни-
маемые зрением, точно подсчитаны и что их не больше, чем
восемьсот девятнадцать. В связи с этим Блуменфельд вспомнил,
что какой-то иностранный методист установил количество воз-
можных градаций фортепианного звука. Зло и едко издевался
и иронизировал он над этим, утверждая, что внутри определен-
ных границ красочные градации фортепианного звука беско-
нечны и неисчислимы.
— Впрочем, — добавил он, — я думаю, что то же и в жи-
вописи, и не верю в восемьсот девятнадцать красок, о которых
пишет критик.
Качеству фортепианного звука Феликс Михайлович, повто-
ряю, уделял исключительно, большое внимание. Он утверж-
дал, — сознательно, конечно, преувеличивая, — что одним лишь
тембром звука исполнитель, в том числе и пианист, может поко-
рить слушателя, и вспоминал при этом известную певицу Н. Ко-
шиц, самый тембр голоса которой вызывал у него слезы уми-
ления.
Блуменфельд учил слушать фортепиано как выразительный
«язык тембров», развивал тембровое воображение учащихся
и требовал, чтобы весь рояль звучал «в красках» — «масляных»
или «сухих», ярких или блеклых. Один из его излюбленных
методов воспитания тембро-динамического слухового вообра-
жения заключался в том, что он, много лет проведший за пуль-
том оперного дирижера, советовал ученикам представлять
себе отрывки фортепианных произведений — в зависимости
от их характера — в исполнении струнного или духового
инструмента, большого симфонического или камерного орке-
стра, струнного или духового ансамбля, мужского, женского
или смешанного хора.
Так, например, следующее место из Adagio Сонаты ре ми-
нор ор. 31 № 2 Бетховена
107
Феликс Михайлович рекомендовал мысленно вообразить себе
в исполнении валторн и литавр.
На одном из занятий произошел такой эпизод. Блумен-
фельд никак не мог добиться, чтобы ученик нашел нужную
звучность в самом начале ми-мажорной части Полонеза Шопена
Ля-бемоль мажор (арпеджированные ми-мажорные аккорды).
Молодой пианист играл грубо. Феликс Михайлович вышел из
себя:
— Перестаньте дубасить! Это место исполняет ведь не полк
гренадер на трубах и барабанах, а двенадцать юных дев в бело-
снежных одеяниях на двенадцати арфах!
И что бы вы думали? Ученик сразу же заиграл по-другому:
он представил себе нужную звуковую краску.
Для того чтобы помочь ученику вообразить себе внутренним
слухом звучность того или другого инструмента и чтобы это
«слышание» не было расплывчатым, приобрело точность и вы-
пуклость, Блуменфельд часто напоминал па уроке характерные
звуковые особенности того или другого инструмента (штрихи
у струнных, удары струи воздуха у деревянных, не вполне од-
новременное звучание двух валторн и т. д.).
Хорошо помню такой случай. Юная и не учившаяся в кон-
серваторском классе Феликса Михайловича ученица сыграла
ему первую часть Сонаты Соль мажор ор. 14 Бетховена. В от-
рывке из разработки (начало которой здесь приводится)
Блуменфельд предложил ей вообразить, что мелодическую ли-
нию ведут виолончели на фоне тремоло струнных. Заметив, что
это сопоставление не разбудило фантазии исполнительницы, он
стал, опираясь па ее слуховой опыт, напоминать ей характер-
ные штрихи виолончелей — чередование legato и detache. И этот
показ штрихов помог ему расшевелить ее слуховое воображе-
ние.
Само собой разумеется, что воображаемая оркестровка или
воображаемая хоровая аранжировка нужна была не для того,
чтобы подражать звучности тех или других инструментов или
голосов, а только для того, чтобы всколыхнуть фантазию, ак-
тивизировать внутренний слух ученика и этим помочь реализо-
108
вать на фортепиано характерную особенность или манеру ис-
полнения на том или другом инструменте или хора. В поисках
заданной оркестровой или хоровой звучности ученик находил
разнообразные фортепианные краски.
Иногда, правда не часто, Блуменфельд стремился всколых-
нуть красочно-динамический внутренний слух ученика каким-
либо зрительным образным сопоставлением. Так, молодому
пианисту, игравшему пьесу Дебюсси, он сказал:
— А вы представьте себе пепельную, дымчатую звучность:
стелется туман, рельефность и резкость очертаний исчезают...
Порой же, не прибегая ни к каким сравнениям, Блумен-
фельд привлекал слуховое внимание к специфическим фортепи-
анным краскам, например к колоритному сгущению и разреже-
нию звучности в следующем месте из первой части Сонаты Ля
мажор ор. 101 Бетховена
или к характерной бетховенской «инструментовке» в Ариетте из
ор. 111.
Иногда Блуменфельд показывал особые фортепианные кра-
ски, например, как из гулкого звукового потока, объединенного
педалью (в конце соль-минорной Баллады Шопена), «выплы-
вает» гармония:1
1 Педализация Ф. М. Блуменфельда представляется спорной, так как за-
тушевывает характерную паузу Перед аккордом.
109
или как колористическая педализация в следующем месте из
фа-минорной Баллады Шопена подчеркивает характерную темб-
ровую выразительность — затухание звука соль-бемоль:
В отдельных случаях Блуменфельд в колористических целях
несколько изменял фортепианную фактуру. Так, например,
в Мефисто-вальсе Листа он рекомендовал ученикам один из сле-
дующих двух вариантов «инструментовки» приводимого ниже
отрывка:
Педализации, и особенно красочной педализации, Блумеи-
фельд придавал огромное значение. Формально «чистую» пе-
даль, нередко лишающую фортепианную звучность ее осно-
вы-— баса, Феликс Михайлович считал не меньшим злом, чем
«грязную» педаль. Он едко высмеивал некоторых педагогов,
расставляющих знаки педализации по каким-то схоластическим
правилам, но не слышащих педализации и не любящих вырази-
тельную «речь» фортепианных тембров. Впрочем, к возможности
точно записать в потном тексте педализацию он вообще отно-
сился скептически и полагал, что можно лишь наметить общий
план педализации, а выполнение этого плана определяется ря-
дом постоянно меняющихся факторов: и звучностью, извлечен-
ной пальцами играющего, и темпом исполнения, и звуковыми
особенностями того или другого инструмента, и акустикой по-
мещения. Беспедалыюй игры Блуменфельд не любил. Он реко-
мендовал пользоваться ею лишь изредка как специальной кра-
110
ской, дающей «сухой колорит» и резко очерченный рисунок.
«Педаль — душа фортепиано», — повторял он в классе формули-
ровку Антона Рубинштейна, обращая внимание на многообраз-
ную роль педализации в фортепианной игре. По мысли Фе-
ликса Михайловича, педаль не только дает возможность свя-
зать то, что невозможно соединить пальцами, объединить звуки
в гармонический комплекс и подчеркнуть ритмически-опорные
точки, но и смягчает звуковые контуры, способствуя преодоле-
нию «молоточности» звучания, помогает найти оттенки коло-
рита и создать обволакивающую «звуковую атмосферу».
О «горизонтальном слухе» и целостном испол-
нении. Для того чтобы самому понять и передать другим, как
развивается музыка, пианист должен воспитать в себе своеоб-
разную слуховую способность воспринимать музыку, испол-
няемую в данный момент, в сопоставлении с теми «событиями»,
которые происходили в ней раньше и которые произойдут
в дальнейшем. Такого рода вслушивание в музыку «по горизон-
тали» Блуменфельд всячески активизировал как на уроке с уче-
никами, так и в четырехручном музицировании с ними.
Как-то раз после окончания консерватории я навестил его.
В руках у меня он заметил тетрадку «Инвенций» Баха и, узнав,
что одна из моих маленьких учениц разучивает двухголосную
инвенцию Си бемоль мажор, принялся просматривать ноты
этой пьесы. Потом подошел к роялю, наиграл начало средней
части инвенции
и принялся меня расспрашивать:
— А вы научили свою ученицу «сличать слухом» это место
с изложением темы в начале инвенции? Или с последующим со-
кращенным проведением темы? Ведь ваша воспитанница пой-
мет мелодическую выразительность децимы фа — ля, если в ее
слуховой памяти остался след от октавы си-бемоль — си-бе-
моль (такт 1). А потом эта децима «сравнивается слухом» с ок-
тавой до — до (в такте 12). Учите ли вы всему этому вашу вос-
питанницу?
Работая как-то с ' ученицей над следующим отрывком из
второй части (Largo е mesto) Сонаты Бетховена соч. 10 № 3
Феликс Михайлович сказал ей:
— Вы поймете выразительный смысл этой гармонии и поя-
вившегося ми-бемоля только в том случае, если «вспомните
111
слухом» аналогичную последовательность в начале этой части;
вспомните, что там после повторяющегося си-бемоля звучит
совсем другая гармония: соль, си-бемоль, до-диез, ми. Надо
научиться сличать слухом: раньше было так-то, а теперь так-то;
сличать и слушать, к чему это привело, как изменяются от-
тенки выразительности.
В другом случае на уроке исполнялась Прелюдия Ля мажор
Шопена. Феликс Михайлович призывал ученицу соотнести слу-
хом второй восьмитакт с первым. В частности, он требовал,
чтобы молодая.пианистка «поняла слухом» поворотный гармони-
ческий пункт в тактах 11—12 и, играя его, помнила о гармо-
ниях в тактах 3—4.
— Антон Рубинштейн,— сказал он тогда,— великолепно от-
тенял эту модуляцию динамикой, часто заменяя шопеновское
crescendo затиханием звучности, приблизительно так:
— Впрочем,— добавил он,— дело, конечно, не в динамике.
Важно тем или иным способом оттенить модуляционный ход.
А для этого надо в него вслушаться, вспомнив при этом первые
такты.
Наконец, последний пример. Кто-то из учеников исполнил
в классе Прелюдию до-диез минор Шопена. Блуменфельд доби-
вался, чтобы играющий понял роль, которую играет в этой
пьесе звук ля в последних тактах, и «сопоставил слухом заклю-
чительный вывод всей прелюдии» с тремя предыдущими кадан-
сами. Вспоминая, как сам Блуменфельд в молодые годы играл
эту прелюдию, Б. В. Асафьев писал: «Получалось постепенное
мелодико-гармоническое напластывание через все движение
прелюда к заключительному кадансу, уже расширенному появ-
лением тона ля (нона!); это звучание, и неожиданное, и, вместе
с тем, закономерно подготовленное тремя предшествовавшими
„полуконцовками1*,— вызывало дрожь!»1
Подытоживая требования Блуменфельда к слуху исполни-
теля, уместно вспомнить слова Б. Асафьева, характеризующие
«интонационное слуховое внимание» музыканта: «Активность
слуха состоит в том, чтобы, «интонируя каждый миг восприни-
маемой музыки внутренним слухом»... связывать его с пред-
шествующим и последующим звучанием и в то же время уста-
навливать его соотношения «арками», на расстояниях, пока не
1 Б. Асафьев. Шопен в воспроизведении русских композиторов. «Сов.
музыка», 1946, № 1, с. 40.
112
ощутится его устойчивость или «недовыясненность»... Очень
трудно словесно излагать это состояние слушания, но каждому
музыканту оно знакомо в большей или меньшей степени».1
В том, что требования к музыкальному слуху Блуменфельда
и Асафьева совпадают, нет ничего неожиданного. Блуменфельд
оставил, по словам Асафьева, глубокий след в его жизни, и
обоих замечательных, хотя во многом очень разных музыкантов
связывала глубокая дружеская симпатия.1 2
Определяющая особенность педагогического метода Блумен-
фельда — воспитание активного музыкального слуха ученика —
позволяла создавать условия для формирования ряда важных
психологических черт и навыков молодых пианистов и, в част-
ности, их технического мастерства, сосредоточенности и воли.
В конечном счете воспитание способности «активного вслуши-
вания в музыку» вело к творческой самостоятельности и спо-
собствовало развитию заложенных в учениках творческих сил.
Тут надо иметь в виду, что Блуменфельд никогда не требовал
от учеников подражания и не прибегал к педагогической «кос-
метике». Более того, всем существом своим он ненавидел, как
уже отмечалось, такой путь обучения и весьма энергично выра-
жал свое недовольство теми студентами, которые, проявляя
творческую робость и пассивность, старались узнать или уга-
дать его мысли только для того, чтобы избавиться от необходи-
мости самим до чего-либо додумываться.
В последнее время печать не раз привлекала внимание педа-
гогов к тому, что овладение учащимися знаниями и навыками
само по себе еще не влечет за собой развития их музыкального
мышления и творческой инициативы. Взаимосвязь между усвое-
нием музыкальных знаний и исполнительских навыков, с одной
стороны, и музыкальным развитием, с другой,— независимо от
того, имеем ли мы дело с ребенком, отроком или подростком,—
вовсе не так прямолинейна и проста, как порой кажется некото-
рым педагогам: обучение может идти по касательной к разви-
тию и не оказывать на него существенного влияния; догматиче-
ское обучение, приводящее к усвоению и зазубриванию неких
музыкальных шаблонов, может затормозить развитие и иска-
лечить мышление ученика; наконец, обучение, проводимое ум-
ным педагогом с широким кругозором, может стимулировать
развитие творческой личности в том и только в том случае, если
специально направлено к этой цели и, следовательно, если ме-
тоды занятий ориентированы не на механическую тренировку,
а на развитие мыслительных и творческих способностей.
Не знаю, задумывался ли Блуменфельд над теоретическими
положениями музыкально-исполнительской педагогики. Но так
1 Б. А с а ф ь е в. Интонация, с. 131.
2 В упоминавшейся выше статье о Ф. М. Блуменфельде Б. Асафьев на-
зывает Феликса Михайловича своим «дорогим другом и учителем».
5 Заказ Ns 1730 113
или иначе, осознанно или интуитивно, он еще в годы преподава-
ния в Петербургской консерватории пришел к пониманию той ос-
новной задачи, которая стоит перед педагогом: создавать пред-
посылки для творческого развития ученика. Важнейшей из
этих предпосылок Феликс Михайлович, судя по его педагогиче-
ской работе, считал активизацию музыкального слуха своих
воспитанников.
И выразительно-характерное интонирование мелодии, и рель-
ефная «лепка» всей ткани, и звуковая перспектива, и красоч-
ность, и «горизонтальное» вслушивание-сопоставление служили
одной цели: образному воплощению произведения, взятого
в своем единстве. Блуменфельд почти никогда не говорил с уче-
никами о целостности музыкально-исполнительского образа. Но
вся педагогическая работа вела именно к такому органически
цельному охвату учащимися разучиваемой пьесы. Он стремился
научить молодого пианиста передавать художественную форму
произведения как воплощение содержания, а не как конструк-
тивную схему. Для этого в первую очередь надо было «расслы-
шать» и использовать «центростремительные силы», заложен-
ные в произведении. В понятие «центростремительные силы»
Блуменфельд вкладывал примерно тот же смысл, какой имел
в виду К. Н. Игумнов, говоря об «интонационных точках тяготе-
ния», которые «влекут к себе» и «на которых все строится»;1
или С. В. Рахманинов, рассказывая М. Шагинян о «вершинной
точке произведения», которая «в зависимости от самой вещи
может быть и в конце ее, и в середине, может быть громкой
или тихой», но к которой «исполнитель должен уметь подойти...
с абсолютным расчетом, абсолютной точностью».1 2 Блуменфельд
не переносил «мелко расчлененного» исполнения и добивался
монументальности, размаха и драматургически целостного раз-
вития образа. Он учил, пользуясь всем арсеналом исполнитель-
ских средств пианиста, так воплощать произведение, чтобы ма-
лое вбиралось большим; большее — еще более значительным;
чтобы частные задачи подчинялись центральным. Однажды
Блуменфельд слушал исполнение Квинтета Шумана учащи-
мися. Один из исполнителей спросил Феликса Михайловича
в связи с каким-то замечанием последнего, как достичь цель-
ности исполнения. Лаконичный ответ Блуменфельда гласил:
— Этого не скажешь, да и в каждом случае это делается
как-то по-разному. Главное: характерность, центростремитель-
ные силы, экономия средств и непрерывное течение музыки.
1 Цит. по статье А. В. Вицинского «Анализ работы пианиста над произ-
ведением» (Известия АПН РСФСР, вып. 25. М., 1950, с. 204).
2 М. Шагинян. Воспоминания о С. В. Рахманинове. Сб. «Воспомина-
ния о Рахманинове», под ред. 3. Апетян, т. 2. М., 1957, с. 201.
114
4
О технике. Блуменфельд понимал подчиненное место тех-
ники в искусстве. Но он знал и другое: исполнительский замы-
сел приобретает общественную значимость лишь в мастерском
воплощении. И чем более глубокое содержание должен выра-
зить исполнитель, тем более отзывчиво и разработанно должно
быть его техническое умение. Для Феликса Михайловича тех-
ника никогда не была основой искусства, но он любил и ценил
мужественное, сильное и яркое виртуозное мастерство. Он тре-
бовал от учеников постоянного технического совершенствования
своего исполнения. Никто не посмел бы в присутствии Блумен-
фельда играть «приблизительно», «неточно», технически неот-
шлифованно.
Но специально о технике или о технических приемах форте-
пианной игры на уроках Блуменфельда говорилось редко. Он
полагал, что пианист находит нужный технический прием в не-
разрывной и органической связи со своим художественным за-
мыслом и что само содержание исполняемого произведения
в конечном итоге обусловливает и характер пианистических
движений.
Незадолго до смерти Блуменфельда один из его учеников
прочел ему отрывок из письма Крамского, в котором тот писал:
«Не технические задачи двигают технику, а преследование оли-
цетворения представлений».1 Блуменфельд сказал:
— Вот и я так думаю и так делаю, но никогда не смог бы
это так хорошо выразить!
По мысли Блуменфельда, исполнитель сможет найти нужные
ему для воплощения музыки технические средства лишь при
соблюдении по крайней мере двух условий: во-первых, если
приобретет чувство мышечной свободы и, во-вторых, если вос-
питает в себе инициативное, гибкое и рельефное музыкально-
слуховое воображение.
В вопросе о парализующем воздействии излишнего мышеч-
ного напряжения исполнителя на всю его творческую деятель-
ность взгляды Блуменфельда были очень близки к воззрениям
Станиславского. Как и он, Феликс Михайлович считал, что те-
лесная перенапряженность и мускульные фиксации не только
отрицательно сказываются на технике играющего, но и тормо-
зят работу его творческого воображения. Блуменфельд полагал,
что, пока существует излишнее физическое напряжение, не мо-
жет быть речи о правильном и тонком музыкальном пережива-
нии и естественном и органичном воплощении музыкального
произведения.
Блуменфельд редко показывал технические приемы; гораздо
чаще обращал внимание па воспитание ощущения свободной
1 Цит. по изд.: И. Н. Крамской. Письма, т. I. Л., 1937, с. 340.
5*
115
и вместе с тем организованной (не пассивной!) руки. Учащийся
должен был уметь «свободно положить руки на клавиатуру»,
почувствовать свои руки «тяжелыми», глубоко погружающи-
мися в клавиши, или — легкими, «окрыленными», которые «ни-
чего не стоит сдуть с клавиатуры». Достичь всего этого помо-
гали не только самоконтроль, не только понимание соответст-
вия мышечного тонуса и характера исполняемой музыки (на
это Блуменфельд всегда направлял внимание учеников), но
и наблюдение за «дыханием рук» педагога, за идеально свобод-
ными, пластичными и выразительными движениями его больших
и мягких рук, то как бы совершенно «бескостных», то подтя-
нутых и собранных.
Однажды в классе произошел такой случай. Прервав уче-
ника, сухим и ударным звуком интонировавшего мелодию нок-
тюрна Шопена, Блуменфельд мягким и сочным тоном «спел
на фортепиано» отрывок из исполнявшейся пьесы. Между уче-
ником и учителем произошел следующий диалог:
— Не может у меня так получиться,— сказал огорченно
ученик.— Руки плохие, поэтому и рояль не поёт. У вас, Феликс
Михайлович, пальцы с мягкими подушечками, а у меня пальцы
костлявые и сухие.
—Ничего вы не понимаете,— рассердился Блуменфельд.—
Разве дело в пальцах? или в руках? Дело в том, чтобы почув-
ствовать мышечную свободу и научиться управлять своими ру-
ками.
С этими словами, желая убедить ученика, он взял лежавший
на пюпитре рояля карандаш и, играя мелодию карандашом,
«спел» ее таким же, как и раньше, полным и мягким звуком.
В тех случаях, когда Блуменфельд специально обращал вни-
мание на технические приемы, его советы были большей частью
направлены на то, чтобы помочь ученику самостоятельно найти
нужные движения. Вот, в виде примера, некоторые из замеча-
ний Блуменфельда о технических приемах:
— Тут (в Этюде Шопена соч. 10 № 2) все дело в положении
кисти. Попробуйте найти такое положение, при котором вам
будет удобно играть.
— Прежде чем вы ударяете аккорд, ощутите его в своей руке.
Нет, не так: вы заранее подготовили форму кисти, и поэтому
аккорд прозвучал сухо. А я прошу только ощутить аккорд.
— Вы найдете нужный мягкий звук, которым надо испол-
нить этот пассаж, только в том случае, если будете держать
пальцы ближе к клавишам.
—• Здесь (в до-диез-минорном Этюде Шопена соч. 10 № 4,
такты 33—34, левая рука) нельзя перед акцентом, падающим на
начало каждой четверти, приподымать руку. Сыграйте повто-
ряющиеся звуки, соскальзывая пальцами с черной клавиши и,
не меняя положения руки, подымите выше лишь палец, ударяю-
щий акцентированную ноту.
116
Один из учеников Блуменфельда начал вести педагогиче-
скую работу с детьми. В связи с этим он спросил Феликса Ми-
хайловича, как, по его мнению, организовать руки ребенка, на-
чинающего обучаться фортепианной игре. Последовал ответ:
— Я не обучал детей и поэтому не могу дать конкретного со-
вета. Но я убежден в одном: нельзя требовать, чтобы кончики
пальцев стояли на клавиатуре на одной прямой линии, как этого
добиваются некоторые учителя. Наоборот, следует как можно
раньше научить ребенка класть руки, на клавиатуру по-шопе-
новски.
Блуменфельд имел в виду, что Шопен «ставил руки» своих
учеников на следующие два пятизвучия:
правую руку
левую
Делал он это для того, чтобы играющие ощутили естествен-
ное положение руки, при котором короткие крайние пальцы ле-
жат на белых, а длинные средние — на черных клавишах.
Советы Блуменфельда, направлявшие работу учащихся над
техническим совершенствованием, вытекали, по существу говоря,
из следующих принципов: слухового осознания задачи, понима-
ния строения пассажа и медленной, но обязательно мелодизиро-
ванной игры.
Остановимся на каждом из этих моментов.
В классе исполнялась фа-дрез-минорная Прелюдия из пер-
вого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха. Учащийся
играл прелюдию, по мнению Феликса Михайловича, недоста-
точно четко. Блуменфельд потребовал, чтобы играющий «про-
говорил» начало этой пьесы:
та ти.ка.та.ка ти.ка.та-ка ти.ка fa-кй
Ученику был дан совет: в домашней работе чередовать про-
игрывание и «проговаривание». Для чего нужно было это «про-
говаривание»? Для того, чтобы ученик получил более рельеф-
ное представление о том, с какой четкостью в конечном ре-
зультате должна быть «произнесена» пьеса Баха.
Ученику, игравшему ля-минорный Этюд Шопена соч. 10 № 2,
Блуменфельд сказал:
— Играете неровно не потому, что у вас пальцы плохие, а
потому, что не слышите ровности и не стремитесь поэтому ее до-
биться. Надо услышать, а потом выполнить, выполнить обяза-
тельно с предельной точностью, не давая себе никаких по-
блажек.
Другому ученику, разучивавшему ля-минорный Этюд Пага-
нини— Листа, было велено послушать, с каким виртуозным
117
мастерством играет это произведение один из московских пиа-
нистов. Это должно было обострить слуховое осознание задачи
и сказаться на технике ученика.
К расположению пассажа на клавиатуре, другими словами
к структуре пассажа, Блуменфельд часто привлекал внимание
своих учеников. Вот несколько примеров из его указаний в этю-
дах Шопена.
В следующем отрывке из до-диез-минорного Этюда Шопена
соч. 10 № 4 надлежало осознать, что между последними нотами
каждой четверти и первыми нотами последующей — октава:
Блуменфельд возмущался пианистом Гальстоном, предлагав-
шим разучивать до-мажорный Этюд Шопена соч. 10 № 1 таким
вариантом:
— Если играть вариантами,— говорил Феликс Михайло-
вич,— то лучше и умнее так:
или так:
s-—
я ।
Принципиальная разница между первым вариантом и двумя
другими ясна: первый разрушает структуру, второй и третий —
помогают ее осознать.
К разучиванию «методом вариантов» Феликс Михайлович
относился с известной осторожностью. Ритмических вариантов,
уродующих музыку, он вообще не признавал. Он прибегал
иногда к вариантам, способствующим пониманию играющим
строения пассажа (например, разучивание арпеджировапных
пассажей сомкнутыми аккордами). Чаще всего он обращался
к вариантам, ведущим от простого к сложному (но не наобо-
118
рот!): поняв, из чего складывается трудность, надо было уп-
ростить техническую последовательность и овладеть каждым
элементом отдельно.
Механический способ разучивания, заключающийся по боль-
шей части в медленном, громком и бессмысленном проигрыва-
нии пьесы, Блуменфельд люто ненавидел и противопоставлял
ему другой метод: небыструю игру, при которой все пассажи ис-
полняются как мелодические последовательности.
Однажды у входа в класс Феликса Михайловича кто-то за-
держал. Двери класса были приоткрыты, и в коридор доноси-
лось медленное и тупое «выколачивание» учеником Этюда-кар-
тины Рахманинова соч. 33, ми-бемоль минор. Разъяренный Блу-
менфельд влетел в класс и стал резко выговаривать игравшему
за то, что тот «истощает свой слух». Сев за рояль, Феликс Ми-
хайлович стал показывать, как надо учить: он играл в умерен-
ном темпе и довольно громко, но не только не разрывал звуков,
а, наоборот, рельефно оттенял ритмом и динамикой каждый из-
гиб звуковых последовательностей, мелодизировал пассажи.
Возможно, что здесь надо искать объяснения того, почему
Блуменфельд предпочитал этюды Мошковского этюдам Черни.
Технические последовательности в его этюдах мало мелодичны,
между тем как пассажи Мошковского по характеру своему
предрасполагают ученика к мелодизированной игре. Впрочем,
Блуменфельд, вообще-то говоря, считал, что нет необходимости
играть излишне большое число этюдов, а лучше выбрать (или
самому для себя сочинить) ограниченное количество действи-
тельно нужных «технических формул» и тренироваться, поль-
зуясь этими формулами. Как-то разговор зашел о технике. Блу-
менфельд стал вспоминать, как его самого в детстве заставляли
совершенствовать свою технику.
— Голову мою загружали ворохом этюдов и экзерсисов,
а достаточно было бы, вероятно, сравнительно небольшого
числа определенных и только для меня необходимых упражне-
ний. ..
Блуменфельд редко давал ученикам специальные упражне-
ния, но требовал, чтобы они систематически занимались техни-
ческой тренировкой. Сам он любил по утрам «размять» руки и
с этой целью играл сочиняемые им всякий раз заново всевоз-
можные экзерсисы на скачки, аккорды и растяжения. Он со-
ветовал ученикам научиться самим составлять для себя упраж-
нения.1
Из рекомендованных им упражнений характерны следующие:
1) упражнение на «мягкое растяжение» и на гибкость:
1 Не следует забывать, что подавляющее большинство учеников посту-
пало в класс Блуменфельда с хорошей музыкальной и пианистической подго-
товкой. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что Феликс Михайлович
предоставлял им полную самостоятельность в отношении технической тре-
нировки.
119
Это упражнение играется так: перед каждой квинтой руку
следует повернуть в сторону, противоположную направлению
интервала.1
2) упражнения на выделение голосов в аккордах. Например:
3) упражнение на скольжение пальцев. Например, связное
исполнение одним первым пальцем правой руки нисходящей
хроматической гаммы.
Об аппликатуре. Расстановке пальцев и распределению
рук Блуменфельд уделял большое внимание. Его указания и
сохранившиеся в нотах учеников аппликатурные пометки поз-
воляют судить о его принципах в этом вопросе.
Феликс Михайлович воспитывал учеников в убеждении, что
лучшей является та аппликатура, которая помогает пианисту
реализовать свои художественные намерения и при этом способ-
ствует удобству движений. Аппликатура в редакциях Клиндворта
была мишенью для постоянных насмешек Блуменфельда. При-
держиваясь догм, заимствованных из устаревших фортепианных
школ, Клиндворт, по мысли Феликса Михайловича, не считался
ни с художественным смыслом произведений, ни с «дыханием
рук» пианиста, ни с педализацией. Блуменфельд советовал своим
ученикам раз и навсегда забыть эти формально-схоластические
догмы. В противовес им рекомендовалось в нужных случаях ис-
пользовать и пятипальцевую аппликатуру, и скольжение паль-
цев, и, наконец, «перебрасывание руки» и «перекрещивание
пальцев» (вместо подкладывания 1-го пальца).
Так, например, в соль-бемоль-мажорном Этюде Шопена
соч. 10 № 5 давался совет для достижения легкости и предпи-
санного композитором delicato использовать пятипальцевую ап-
пликатуру:
Lvivace]
в---------------------
1 Автором этого упражнения, по-видимому, является А. Виллуан, учитель
братьев А. и Н. Рубинштейнов (см. А. Виллуан. Упражнения Рубинштей-
нов. М., б/г., с. 98, № 15).
120
Быструю трехоктавную до-мажорную гамму (почти glis-
sando) в конце Сонаты Скарлатти До мажор1 также рекомен-
довалось играть всеми пятью пальцами.
Во второй части (Prestissimo volando) Четвертой сонаты
Скрябина Блуменфельд вписывал в нотный текст свою аппли-
катуру («перебрасывание руки»):
При расстановке аппликатуры надо было считаться с индиви-
дуальными особенностями каждого пальца. В кантилене Блу-
менфельд считал нужным, если это оказывалось возможным,
реже употреблять «непевучий» 1-й палец. Наоборот, для «воз-
гласов» и акцентов этот палец оказывался наиболее подходя-
щим, как, например, в до-диез-минорном Этюде Шопена
соч. 10 № 4 (начало репризы):
В следующем отрывке из сонаты Листа
[Quasi adagio]
Блуменфельд требовал предельной ровности в тихом звучании
(«идеальное pianissimo, ни малейшей шероховатости») и сове-
товал для достижения этого использовать аппликатуру подмены
пальцев.
В некоторых случаях, чтобы добиться нужного эффекта, Фе-
ликс Михайлович рекомендовал играть несколько раз подряд
одним и тем же пальцем. Вот его аппликатура в 3-й вариации
из ми-мажорной Сонаты Бетховена соч. 109:
№ 42 по изданию под ред. А. Б. Гольденвейзера.
121
Иногда аппликатура Блуменфельда помогала играющему
лучше осознать структуру технической последовательности. На-
пример, в заключительных тактах до-мажорного Этюда Шопена
соч. 10 № 7 ученики с относительно большими руками должны
были брать квинты 3-м и 5-м пальцами (в отличие от секст,
которые играются 2-м и 5-м пальцами):
Технически сложные места Блуменфельд нередко облегчал,
перераспределяя звуковой материал между партиями обеих рук.
Привожу пример такого перераспределения из фа-минорной
Баллады Шопена:
Но распределение рук, хотя бы в малейшей степени нару-
шавшее художественный смысл исполнявшегося произведения,
не допускалось Блуменфельдом. Он не разрешал, например,
пользоваться широко принятым облегченным вариантом в пос-
леднем арпеджированном аккорде фа-мажорного Этюда Шо-
пена соч. 10 № 8 — перенесением верхнего фа в партию левой
руки.
— Это задержит последний аккорд,— говорил он,— приве-
дет к ненужному замедлению и лишит заключение этюда необ-
ходимой решительности.
Не разрешалось также затактовую октаву в начале до-ми-
норной Сонаты Бетховена соч. 111 исполнять правой рукой, так
как в этом случае играющий, по мнению Блуменфельда, «утра-
тит ощущение характерного смелого скачка».
122
5
В предыдущих разделах очерка шла речь главным образом
о том, чему обучал Блуменфельд и что он воспитывал в своих
учениках. Остановимся теперь на методах его педагогического
воздействия, другими словами, на том, как он обучал и воспи-
тывал.
Показывал ли Феликс Михайлович на рояле, разъяснял ли
свою мысль словами, «дирижировал» ли исполнением молодого
пианиста, высмеивал ли не понравившуюся ему игру ученика,
восхищался ли искренне произнесенной музыкальной фразой,
найденной тонкой фортепианной краской или мастерски целост-
ным воплощением музыкального произведения — все это было
полно необычайной эмоциональной заразительности. «Надо
было слышать,— вспоминает Б. В. Асафьев,— как Феликс Ми-
хайлович стремился на уроках, не будучи в состоянии оста-
ваться спокойно наблюдающим педагогом, перелить в пальцы
ученика свое ощущение жизни музыки».1
В любой области обучения и воспитания эмоциональная за-
разительность— сильное средство воздействия. В музыкально-
исполнительской педагогике это средство приобретает особо
важное значение в силу двух причин: во-первых, в силу самой
специфики музыки, потому что вне прочувствования и пережи-
вания, то есть внеэмоционально, познать и понять содержание
музыки невозможно; во-вторых, в силу самой специфики испол-
нительского искусства, потому что вне умения заражать других
своими чувствами и мыслями невозможно артистическое испол-
нение.
Блуменфельд, как уже отмечалось, обладал тем высшим пе-
дагогическим артистизмом, без которого обучение искусству не-
редко превращается в обучение ремеслу. Холодная рассудитель-
ность никогда не была его сферой. Ему необходим был огонь,
жарко пылающее пламя. Он накалял атмосферу и разжигал
даже самых инертных. Всё, буквально всё, что делал на уроке
Блуменфельд, свидетельствовало о его душевной молодости и
горячности чувств, «выражало» и именно поэтому «заражало».
Его мимика, взгляд, жестикуляция, интонация голоса обладали,
как у выдающихся актеров, обаянием и впечатляющей силой.
Некоторое представление о выразительном характере его ми-
мики может дать известная серия снимков Станиславского,
смотрящего репетицию спектакля. Как и у него, выражение со-
средоточенного лица Блуменфельда все время менялось в за-
висимости от того, что он показывал ученику или как воспри-
нимал музыку. А его лучистый взгляд, придававший тому, что
он делал или говорил, неисчислимые смысловые оттенки! В его
1 Б. В. Асафьев. Цит. выше «Памятка» (курсив мой.— Л. Б.).—
«Сов. музыка», 1963, № 4, с. 74.
123
глазах были все тончайшие переливы человеческих чувств,
кроме одного — холодного равнодушия. При этой (пользуясь
терминологией Немировича-Данченко) «заразительности нервов»
Блуменфельда иногда достаточно было немногословного заме-
чания и скупого жеста с его стороны, чтобы ученикам как-то
сразу становились ясными и содержание музыкального произ-
ведения, и требования учителя.
Феликс Михайлович прибегал иногда к дирижерскому ме-
тоду работы с учеником. Не прерывая играющего, он начинал
дирижировать и своей жестикуляцией и мимикой помогал уче-
нику найти выразительный темп, ритм и другие характерные
черты образа. Этот метод, отнюдь не приучавший ученика
всегда играть под «дирижерскую палочку», часто оказывался
очень действенным: исполнение оживало, творческое воображе-
ние получало толчок и начинало самостоятельно развивать
подсказанное педагогом. Блуменфельд пользовался этим мето-
дом и на самом начальном этапе работы с учеником над музы-
кальным произведением, стремясь помочь играющему охватить
пьесу в ее целостности.
Бывало и так. Блуменфельд укажет ученикам, к чему надо
прийти в конечном итоге работы над произведением, вознесет
на такие высоты, до которых ученики и не доходили, разохотит
и раззадорит во что бы то ни стало достичь этих высот, а вот
как добиться желаемых результатов,— не скажет ни слова:
ищите, мол, сами. И ученики искали, искали в творческих му-
ках, но этим стимулировалась их воля к труду.
«Заразительность нервов» Блуменфельда была настолько
сильна и обладала таким «последействием», что многие из его
учеников прибегали к своеобразному методу домашней репети-
ционной работы над пьесой: мысленно представив себе, что иг-
рают перед Феликсом Михайловичем, они испытывали благо-
творное влияние его личности.
Работая с учеником, Блуменфельд часто прибегал к пока-
зу— яркому, выразительному, впечатляющему и поэтому нео-
бычайно заразительному. Б. В. Асафьев рассказывает об одном
из уроков Блуменфельда в петербургский период его жизни:
«Еще помню эпизод с утончением и углублением Метнера на
уроке с даровитейшим Сашей Дубянским: Феликс Михайлович
брюзжал, крякал, ворочался на кресле, словно ему мучительно
нездоровилось, и вдруг, не выдержав, сорвался с места и... на-
сытил ноты, не меняя ни звука, такой интонационной жутью,
что от музыки повеяло гётевскими видениями с самых углуб-
ленных страниц второй части „Фауста”».1
Конечно, ученики стремились ему подражать. Но это копи-
рование не было и не могло быть пассивным процессом: чтобы
приблизиться к игре Блуменфельда, надо было прежде всего
1 Б. В. Асафьев. Цит. выше статья о Блуменфельде.
124
расслышать все то, что он показывал, и уже одно это требовало
сильнейшей сосредоточенности слуха, то есть активности.
В конце 20-х годов один из теоретиков фортепианной педа-
гогики выступал против исполнительского показа ученику, мо-
тивируя свою мысль тем, что показ приводит к подражанию и
может вредно сказаться на «индивидуальности» ученика. Спро-
сили мнение Блуменфельда по этому поводу. Он зло высмеял
эту точку зрения:
— Постоянно хлопочет о «сохранении индивидуальности» и
носится с ней как с писаной торбой тот, кто индивидуальностью
не обладает. Индивидуальная манера исполнения артиста фор-
мируется в процессе его жизненного и художественного опыта.
А что до показа,— то уже так заведено, что призывают «не по-
казывать» педагоги, не умеющие этого делать.
Блуменфельд, был, конечно, прав. Яркий и впечатляющий
показ, способный возбудить и взволновать творческое вообра-
жение ученика, полезен, больше того — необходим в музыкаль-
но-исполнительской педагогике. Такой показ ничего общего
с натаскиванием не имеет. Пусть он и влечет за собой элементы
подражания, но он ведет учеников вперед, к ранее недоступ-
ному и в конце концов к самостоятельным творческим иска-
ниям. Не следует забывать, что все крупнейшие мастера ис-
кусств во время своего обучения кому-либо подражали или
что-либо копировали. Благодаря этому, а не вопреки этому они
развивали свою художественную индивидуальность и создавали
впоследствии оригинальные произведения или находили свой
исполнительский стиль. В этой связи надо напомнить слова
Крамского: «Я думаю, впрочем, что оригинальность в искусстве
с первых шагов всегда несколько подозрительна и скорее ука-
зывает на узость и ограниченность, чем на широкий и разносто-
ронний талант. Глубокая и чуткая натура вначале не может не
увлекаться всем, что сделано хорошего раньше; такие натуры
подражают».1
В нередких случаях, работая с учеником, Блуменфельд об-
ращался к музыкальным сопоставлениям. Феноменальная па-
мять, за которую он еще в молодые годы получил шутливое
прозвище в петербургских музыкальных кругах — «ходячая нот-
ная библиотека», позволяла ему с легкостью цитировать бук-
вально всю музыкальную литературу — фортепианную, симфо-
ническую, оперную, камерную. К этому цитированию он прибе-
гал не в формальных целях, не для выискивания «влияний» и
установления сходства отдельных музыкальных оборотов в про-
изведениях разных композиторов. Сравнивая близкую по харак-
теру музыку, он помогал учащимся глубже постичь содержание
разучиваемого произведения и понять особенности выразитель-
ных средств, используемых тем или другим автором.
1 И. Н. Крамской. Письма, т. II. Л., 1937, с. 94.
125
Так, например, проходя с учеником Largo или Adagio из со-
нат Бетховена, Блуменфельд напоминал другие медленные
части бетховенской или моцартовской музыки и заставлял уча-
щегося вслушиваться и улавливать оттенки разного содержания
в проигранных ему отрывках. Вспоминаются и другие сопостав-
ления: пьес Рахманинова — с его романсами, сонат Моцарта —
с его операми, этюдов Скрябина — с этюдами Шопена, сонат
Скрябина — с его симфоническими произведениями и т. д.
Часто сравнивались отдельные детали — аналогичные или
контрастные. Например, в фа-минорной Фантазии Шопена Блу-
менфельд сопоставлял стремительно несущуюся гаммообраз-
ную «лавину», прорезываемую фанфарными призывами
(такты 64—68), с хроматическим нисходящим ходом (слышны
«акценты-крики») в конце этого произведения (такты 17—15
с конца); эти же отрывки сличались с низвергающейся гаммой
из финала Сонаты Бетховена соч. 2 № 1 (такты 20—21). Или
другой пример: сравнивались разные по смыслу заключитель-
ные такты в той же Фантазии, с одной стороны, и в си-бемоль-
минорной Сонате и фа-диез-минорном Полонезе Шопена —
с другой.
Словесными характеристиками содержания музыкальных
произведений Блуменфельд пользовался не часто и, пожалуй,
с какой-то осторожностью. Только впоследствии ученикам стала
понятна причина этой осторожности. Прибегая к аналогиям из
жизни, природы, поэзии, живописи и «оформляя» свои эмоции
и- мысли в словесные характеристики, Феликс Михайлович каж-
дый раз как будто задумывался над тем, нужно ли переводить
на язык слов ясное и раскрытое в звуках содержание музыкаль-
ного произведения. Не обеднит ли это содержание пьесы?
Может быть, в силу этих сомнений Блуменфельд большей
частью вводил словесные характеристики не в начале разучи-
вания произведения, а в конце, когда играющий уже «вслу-
шался» в основные черты художественного образа.
Характеристики и аналогии Феликса Михайловича были
предельно лаконичны и полностью раскрывались лишь в атмос-
фере той эмоциональной заразительности, с какой они произ-
носились. Скажет, бывало, Блуменфельд с какой-то неповтори-
мой выразительностью: «Закат, вспомните панораму предвечер-
него неба в лучах заходящего солнца, вспомните бледнеющие
краски заката» (в заключительной вариации из Сонаты Бетхо-
вена соч. 109, Ми мажор),— и как-то по-особенному чуть-чуть
склонит голову и поведет рукой; или устремится вперед и про-
никновенно повторит несколько раз: «Солнце, солнце, восходит
солнце!» (в конце Сонаты Бетховена соч. ПО, Ля-бемоль ма-
жор), а затем добавит трепетно, но тихо-тихо, как бы про себя,
пушкинский стих: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
Или, исполненный внутреннего восторга, произнесет: «Проник-
нитесь здесь величием и мужеством человеческого духа» (о пер-
126
вой части Сонаты Бетховена соч. 111, до минор). И ученики
«слышали» в бетховенской музыке чувства и мысли, вызван-
ные меркнущими и темнеющими колоритами затухающего дня;
«слышали» радостную устремленность в светлое будущее чело-
века, приветствующего солнце, ослепительно залившее небос-
клон; «слышали» твердую поступь сильного мужественного и
героического человека. А то, работая над пьесой Рахманинова,
Блуменфельд напомнит ученику левитановский пейзаж, двумя-
тремя словами раскроет обаятельную прелесть родной русской
природы — и ученик прозревал: слышал и воплощал музыкаль-
ную лиричность рахманиновской музыки.
Над каждым разучиваемым с учеником произведением Блу-
менфельд обычно работал с большой тщательностью. Он редко
ограничивался указаниями общего характера. Большей частью
он обращал внимание играющего на каждый штрих, на каж-
дую деталь, никогда не забывая при этом о целостном худо-
жественном образе. При таком методе классной работы он ус-
певал пройти с каждым из учащихся сравнительно немного про-
изведений. Вместе с тем Блуменфельд считал, что художником
сможет стать лишь тот, кто накопит большой музыкально-ис-
полнительский опыт. А опыт этот можно приобрести лишь пу-
тем разучивания большого количества пьес, и сделать это обя-
заны сами ученики. Поэтому последним,— особенно тем из них,
в артистические способности которых Феликс Михайлович ве-
рил,— давались иногда количественно громадные задания: вы-
учить 4 баллады Шопена1 или подготовить 9 этюдов-картин
Рахманинова соч. 33 и т. п. Учащийся разучивал все это,
а Блуменфельд проходил с ним только некоторые из подготов-
ленных пьес. Он как-то сказал по этому поводу:
— Если хотите артистически исполнить одну балладу Шо-
пена, умейте сыграть все четыре. А с другой стороны, одна до-
сконально пройденная в классе баллада научит многому из
того, что нужно для артистического исполнения остальных.
Репертуар, исполнявшийся в классе Блуменфельда, был
весьма обширным и разнообразным и хорошо усваивался уче-
никами, так как они присутствовали, как уже указывалось, на
всех занятиях своего учителя. Наряду с лучшими произведе-
ниями западноевропейских композиторов на уроках звучали
фортепианные творения русской школы — Балакирева, Мусорг-
ского, Лядова, Глазунова, Скрябина, Рахманинова, а также
советская фортепианная музыка — главным образом сочинения
Мясковского, Ан. Александрова и Прокофьева. В последний —
московский — период своей педагогической деятельности Блу-
менфельд придавал шопеновским и рахманиновским произведе-
ниям особенно важное значение в деле воспитания музыкаль-
1 Такое задание Блуменфельд дал своей ученице Марин Гринберг.
127
ного вкуса и пианистических качеств: почти все его уче-
ники прошли школу этюдов Шопена и этюдов-картин Рахма-
нинова.
Блуменфельду несвойственны были узкопуританские взгляды
на искусство. Он искренне радовался талантливой музыкальной
шутке и мог восторженно говорить о понравившемся ему остро-
умном танце. Но «салонные» произведения решительно изгоня-
лись им из репертуара не только в московский, но вообще во
все периоды его педагогической деятельности.
Артистический опыт убедил Блуменфельда в том, что испол-
нитель должен обладать рядом волевых качеств — самодисцип-
линой, внутренней и внешней собранностью, способностью «дей-
ствовать» в нужный момент. Методами своей педагогической
работы Феликс Михайлович стремился воспитать в учениках
эти черты.
Сам Блуменфельд являл пример собранности и подтянутости
и решительно требовал этого от своих учеников как на уроке,
так и во время эстрадных выступлений.
— Вы сидите за инструментом и играете так, как будто вы
в утреннем халате,— это было высшее порицание в устах Блу-
менфельда.
На одном из концертов его класса произошел следующий
эпизод. Один из одаренных студентов исполнял какое-то слож-
ное и длинное музыкальное произведение. Играл он превос-
ходно, но ему не хватило выдержки: совершенно неожиданно
в середине исполняемой пьесы он встал и ушел с эстрады. Блу-
менфельд был взбешен. Направившись в артистическую, он
настойчиво потребовал, чтобы игравший немедленно вернулся
на эстраду и доиграл произведение:
— На эстраду! Идите на эстраду! Понимаю, это трудно. Но
это нужно для вас. Если вы тут же, сейчас же не пересилите
свой страх, не заставите себя выйти и доиграть, вы никогда
не сможете выступать перед публикой, артиста из вас не
выйдет.
Один из учеников Блуменфельда, недостаточно его знавший,
явился однажды к нему домой на урок в воротничке, но без
галстука. Учащийся должен был исполнить си-бемоль-минорную
Сонату Шопена. Феликс Михайлович усадил ученика за рояль,
но долго чего-то выжидал, не приступая к занятиям. Наконец
не выдержал, решительно встал, принес свой галстук и, ни слова
не говоря, стал его повязывать совершенно растерявшемуся
юноше.
— Нельзя же играть сонату Шопена в таком виде, без гал-
стука,— смущаясь сам, пояснил он свои действия.
На уроках предъявлялось обязательное требование: любое
указание педагога,— шла ли речь об аппликатуре, динамике,
артикуляции, голосоведении, краске, ритме,— должно было быть
выполнено немедленно, и притом не в «приблизительной» форме,
128
а точно. Новички порой робко пытались заметить, что они «под-
готовят дома», «поработают сами»... Но Блуменфельд не при-
знавал никаких отговорок, настаивал на немедленном выполне-
нии его указаний и бросал гневные реплики:
— Если вы поняли, что нужно сделать, выполните это сейчас
же, немедленно, тут же на уроке, здесь же в классе. Понять —
это одно, суметь сделать — другое.
Это было подчас нелегко осуществить. Но это развивало во-
левые качества: умение в кратчайший срок приспособиться
к поставленным требованиям и быстро перестроить исполнитель-
ские выразительные средства.
Никто из учащихся не знал заранее, когда Блуменфельд бу-
дет с ним заниматься. Это создавало в классе к моменту при-
хода Блуменфельда взволнованную атмосферу. По каким-то,
одному ему известным, мотивам,— тогда они казались случай-
ными,— он вызывал того или другого ученика. С одним студен-
том Феликс Михайлович занимался, бывало, два, а то и три раза
в неделю, а другого прослушивал раза два в месяц. Только
впоследствии мы поняли, что в этом распределении уроков была
большая мудрость: «ожидание вызова» заставляло всех рабо-
тать и быть всегда подтянутыми и готовыми к художественным
«действиям»; сверх того, это позволяло Блуменфельду одним —
более зрелым — учащимся давать время, чтобы самостоятельно
довести разучивание до относительного совершенства, а других
проверять часто.
Приходится нередко наблюдать два принципиально разных
типа занятий с учениками. Одни педагоги ориентируются на наи-
менее подготовленных или посредственных учащихся, приспосаб-
ливаются к уровню их знаний и понимания, потакают им.. Дру-
гой метод работы — лишь он допустим в высшей школе, какой
является консерватория,— предполагает проведение занятий на
достаточно высокой для учащихся ступени трудности. Только
такой метод ведет молодых музыкантов к высотам искусства,
способен всколыхнуть их воображение, вызвать у них вопросы,
заставить спорить и, главное, дать толчок к самостоятельной
творческой работе. Феликс Михайлович всегда шел по этому
второму — «трудному» — пути, не сворачивая с него ни при ка-
ких обстоятельствах. Каждый из студентов класса постоянно
ощущал ту «космическую» дистанцию, которая отделяла его от
уровня понимания и владения искусством, на котором находился
Блуменфельд. Учеников поражала — или, точнее было бы ска-
зать, потрясала — широта музыкальной эрудиции, феноменаль-
ная память и глубина артистического проникновения Блумен-
фельда в музыку. И это «потрясение» и восхищение вело к плодо-
творной мобилизации творческих сил, помогало решать задачи,
выполнение которых требовало огромных усилий, подхлес-
тывало фантазию, волю и работоспособность его воспитанников:
они стремились хоть на полшажка приблизиться к той высокой
129
ступени, на которой стоял этот замечательный художник и че-
ловек. ..
Правда, справедливости ради, надо указать и другое. Руко-
водя работой менее подвинутых или менее ярких по дарованию
учеников и ставя перед ними сложнейшие художественные за-
дачи, Блуменфельд не всегда считался с их возможностями,
с уровнем развития и особенностями их психики. В своих требо-
ваниях к учащимся он обычно не шел ни на какие — даже вре-
менные— компромиссы, ни на какие уступки. Это приводило
к тому, что у отдельных учеников развивалась гипертрофирован-
ная робость. Хорошо, если педагог ставит перед учеником за-
дачи, выполнение которых требует от последнего больших уси-
лий. Это мобилизует силы. Но если поставленный идеал так
далек от возможностей учащегося, что начинает казаться ему
недостижимым,— вместо плодотворного подъема энергии может
наступить опасная депрессия. Не отдавая себе в том отчета,
Блуменфельд вызывал у отдельных учащихся чувство музыкаль-
но-исполнительской неполноценности, робость и осторожничанье.
Иной раз, чтобы поддержать молодого пианиста, приходится
прибегать к «педагогической хитрости». Ученика заставляешь
поверить, что он почти достиг результата, почти научился выра-
зительно воплощать образ. И хотя он еще далек от цели, убеж-
даешь его в противном, для того чтобы он достиг цели, ибо
малодушие тормозит его совершенствование. К такого рода
«педагогической хитрости», столь необходимой в занятиях с не-
которыми учащимися, Феликс Михайлович никогда не прибегал.
Впрочем, высказав это замечание, тут же ловишь себя на
мысли: а нужно ли на вузовском уровне сужать задачи, которые
ставятся перед учеником? Не является ли в консерваториях блу-
менфельдовский путь наилучшим? Разве не справедлива мысль,
принадлежащая, если не ошибаюсь, К. Станиславскому: лучше
ставить себе и ученику трудную задачу и добиться в ней непол-
ного, частичного успеха, чем взвесить и рассчитать свои силы
и в меру их обеднить задачу?
Воспитательное воздействие Блуменфельда на учеников не
ограничивалось общением с ними в классной обстановке. Не-
редко у него дома собирались группы учащихся, с которыми он
музицировал и которым рассказывал,— как всегда, лаконично
и образно,— о своих встречах с великими людьми — с Антоном
Рубинштейном, Римским-Корсаковым, Лядовым, Скрябиным,
Глазуновым, Рахманиновым, Шаляпиным, Ершовым, Бузони,
Гофманом. Заходила речь о явлениях жизни и искусства. Резко
осуждалась позиция отдельных представителей старой интелли-
генции— ретроградов («брюзжащих старичков» — так называл
их, независимо от возраста, Блуменфельд), которые все и вся
порицали, были вечно недовольны, не умели и не хотели видеть
великих преобразований, происходивших в молодой Советской
стране. Внимательно следя за развитием советской культуры,
130
Феликс Михайлович делился с учениками своими наблюдениями.
Он восхищался целеустремленной поэзией Маяковского, мощ-
ным голосом воспевшего лучшие черты нового человека. В го-
рячо сочувственных тонах высказывался Блуменфельд о про-
грессивных статьях Иг. Глебова (Асафьева) «Кризис личного
творчества» и «Композиторы, поспешите», в которых музыканты
призывались творить ради окружающей их жизни и писать му-
зыку, способную захватить сердца широких народных масс.
Суждения Блуменфельда о явлениях жизни и искусства, тесно
сплетавшихся в его сознании, отличались откровенностью, пря-
мотой, честностью и смелостью. Все неискреннее, нечестное, ма-
нерное или неумное в человеческом поведении или в искусстве
получало от Блуменфельда немногословный, но решительный
отпор.
Отмечу здесь характерную черту в художественном и нрав-
ственном облике Блуменфельда: его умение непосредственно,
без всякой предвзятости воспринимать — а порой и увлекаться —
самыми разнообразными явлениями в искусстве, порой ему и не
близкими; его способность со всей искренностью радоваться
успехам другого — будь то удачное исполнение экзаменацион-
ной программы студентом другого класса, сочинение каким-либо
композитором впечатляющего музыкального произведения, яр-
кое выступление какого-либо артиста. В таких случаях лицо
Феликса Михайловича расцветало чудесной молодой улыбкой, и
он был способен на любой восторженный поступок: мог под-
няться при переполненной аудитории на эстраду, чтобы расце-
ловать студента, проникновенно сыгравшего Четвертую со-
нату Скрябина,1 или вместе с молодежью исступленно аплоди-
ровать понравившемуся ему приезжему артисту.
Дома у Блуменфельда беседы с учениками обычно чередова-
лись с музицированием. В этих беседах принимал иногда учас-
тие живший этажом выше Блуменфельда его племянник Генрих
Густавович Нейгауз. «Играли в четыре руки»,— эти слова пере-
дают лишь внешнюю сторону. Не «игрой» надо было бы это
назвать, а «вниканием», «проникновением», «восторганием» —
каким-то выразительным словом, объединяющим все эти поня-
тия.
Правая нога, а частично и правая рука Блуменфельда были
уже в эти годы парализованы. Тем не менее он был не только
руководителем, но и восторженным участником таких музици-
рований. Изредка — и такие вечера запечатлелись в памяти уче-
ников на всю жизнь — Блуменфельд садился за рояль и с при-
сущим ему артистизмом и образностью исполнял сцены из лю-
бимых опер, камерные и вокальные произведения: «Сказание
о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова и «Любовь
1 Как это имело место после выступления талантливого А. Дьякова, уче-
ника К- Н. Игумнова.
131
поэта» Шумана, вокальный квинтет из глинкинского «Руслана»
и «Гадкий утенок» Прокофьева, отрывки из Трио Танеева и
сцены из «Кольца нибелунга». Больные рука и нога мешали:
он задевал иногда соседние клавиши, неточно педализировал.
Но разве ученики слышали это, разве могли останавливать на
этом свое внимание? С блестящими глазами, затаив дыхание,
они окружали своего незабвенного учителя и слушали произве-
дения музыкального искусства в его несравненной интерпре-
тации. ..1
И музицирование самого Блуменфельда, и музицирование
учеников в его присутствии, и его рассказы о выдающихся рус-
ских музыкантах прошлого, и его лаконичные реплики по по-
воду тех или иных явлений тогдашней художественной жизни —
все это оказывало огромное воспитательное воздействие. Не сле-
дует забывать, что это было время обостренной идеологической
борьбы в советском музыкальном искусстве. В этот период зна-
чение Блуменфельда — воспитателя молодежи — было огромно:
как и ряд других представителей старейшего поколения совет-
ских артистов, он внушал любовь и уважение к лучшим тради-
циям русского искусства. Именно поэтому его фортепианно-пе-
дагогическая деятельность сыграла столь плодотворную роль
в развитии молодой советской пианистической культуры. В па-
мяти же учеников Блуменфельда навсегда сохранились те вы-
сокие эстетические принципы, то чудесное увлечение искусством
и уважение к художественному мастерству, которым вооружил
своих воспитанников этот замечательный учитель-художник.
Свыше трех десятков лет назад Блуменфельд дал в Москов-
ской консерватории последний в своей жизни фортепианный
урок. Но принципы, положенные им в основу обучения (в зна-
чительной степени сказавшиеся на деятельности другого выдаю-
1 В рассказе Б. В. Асафьева описывается художественная атмосфера,
создававшаяся во время музицирования Блуменфельда. Рассказ этот поможет
понять и силу воздействия Блуменфельда-педагога. «Памятными для меня
бывали часы... когда удавалось разохотить Блуменфельда на «эпические
сказы" из „Нибелунга" Вагнера: иначе нельзя было назвать „прочтение" им
фрагментов из вагнеровских клавиров. На пюпитр ставился один из клавиров,
скажем „Зигфрида",— это „для памяти", говорил дорогой Феликс,— играл же
он наизусть, видя внутренним взором партитуру,— и начиналось волшебство:
он же мгновенно импровизировал... свою транскрипцию, свободную от ус-
ловностей оперной сценической передачи... Блуменфельд... повествовал, вер-
нее, вычитывал „из Вагнера" песнь... о прекрасном, величавом, сильном че-
ловечестве, о прямодушных, непокорных страстях, о наивном чувстве при-
роды и о людском коварстве, о светлом, солнечном герое и его первозданной
любви. Вдруг делался краткий перерыв, и музыка переводила нас, затихших
слушателей, в атмосферу „средневекового любовного романа"... звучали,
пламенно и порывисто... волны мелодики „Тристана". Кажется, Феликс Ми-
хайлович так и не записал „своего клавираусцуга" этой оперы, а переложе-
ние его было прекрасным, сочетая в себе удобства пианистического порядка
с композиторским ощущением динамики и формы. Во многом оно было
близко передаче „Тристана" знаменитым дирижером Мотлем» (цит. выше
статья о Блуменфельде).
132
щегося музыканта — Г. Нейгауза), ни в малейшей мере не по-
теряли своего действенного значения и для нынешнего этапа
в развитии советской фортепианной педагогики.
Текст составлен по двум статьям о Ф. М. Блуменфельде,
опубликованным в сб.: «Вопросы музыкально-исполни-
тельского искусства», вып. 2. М., 1958; «Вопросы фор-
тепианного исполнительства», вып. 1. М., 1965.
ПОСЛЕ КОНКУРСА
.. .Второй тур конкурса пианистов подходил к концу. Л. Вла-
сенко, очень способный и отлично обученный пианист, исполнил
си-минорную Сонату Листа. Молодой артист играл выразительно,
но, ясно, цельно и технически безупречно. Я высказал свое мне-
ние сидевшему рядом знакомому — человеку преклонного воз-
раста, страстному любителю музыки и постоянному посетителю
концертов. Он промолчал.
— Помните ли,— спросил он, когда мы вышли из зала,—
как великолепно играл в свое время эту сонату Флиер? Испол-
нение Власенко поразительно похоже на исполнение его учителя.
Но нет в нем той пламенности чувств, которая увлекала нас
в свое время у Флиера. Власенко играет сонату безукориз-
ненно. Все сорняки выполоты. Но где горячность и непосред-
ственность? Я наблюдал, к сожалению, ту же картину и на кон-
курсе скрипачей. Исполнение Концерта Чайковского в ряде
случаев представляло собой слепок с замечательной интерпре-
тации Ойстраха. От наших молодых исполнителей я ждал
своего слова, своего раскрытия музыкальных произведений;
я ждал творческих дерзаний и готов был бы простить ошибки
и преувеличения. Что же я услышал? Подражание учителям!
— Но ведь это так естественно,— возразил я.— Молодые
люди увлекаются искусством своих педагогов и подражают им.
В таких случаях я всегда вспоминаю художника Крамского. Он
писал, что талантливые художники в начале своего творческого
пути не могут не увлекаться всем тем хорошим, что было сде-
лано раньше. Вот эта увлеченность и заставляет их подражать.
Подражание служит трамплином, отталкиваясь от которого, мо-
лодой художник развивает свою индивидуальность.
— Вам виднее,— ответил мой знакомый, и в его голосе я
услышал иронические нотки.— Но мне, профану, кажется, что
некоторые наши молодые артисты подражают, если позволено
будет так сказать, не от увлеченности, а, наоборот, от недоста-
точной любви к музыке, от недостатка увлеченности. Они дело-
вито и холодно копируют то, что считают эталоном «правиль-
ного» и безупречного исполнения.
133
— Это явное преувеличение!
— Весьма возможно. Но почему вы — педагоги, критики,
теоретики — не замечаете того, что многие молодые пианисты
играют как-то удивительно одинаково и скорее правильно и де-
ловито, чем поэтично. Исключения редки. Мы, слушатели, лю-
бим непосредственность, искренность, сердечность... В кулуарах
концертных залов мы с недоумением спрашиваем друг друга:
откуда эта скованность чувств и мыслей у ряда молодых ар-
тистов, которые вышли на концертную эстраду лишь в конце
40-х и в 50-е годы? Ведь люди их поколения проявляют столько
смелости, столько дерзаний в других областях нашей жизни!
Сгущаю краски? Но не лучше ли с преувеличенной резкостью
сказать о наметившихся недостатках, чем вообще замалчивать
их?
Пусть в приведенных словах моего собеседника была излиш-
няя категоричность. Но их продиктовала большая любовь к со-
ветскому искусству, заинтересованность в его дальнейшей
судьбе. Не следует ли прислушаться к мнению многих рядовых
любителей музыки? Ведь в конечном итоге мой собеседник верно
определил те опасные тенденции, которые, к сожалению, на-
метились в последние годы в нашем исполнительском ис-
кусстве.
Пианисты, начавшие свой творческий путь в 20-е и 30-е годы
обладают некоторыми общими чертами. Эти черты обусловлены
общностью их идейно-эстетического мировоззрения, типичного
для советских художников. Но какое многообразие индивиду-
альностей! Как по-разному решали и решают они многие общие
и частные задачи музыкальной интерпретации! Одного пианиста
можно назвать рассказчиком, обращающимся непосредственно
к аудитории и без всякого нажима раскрывающим характер
исполняемой музыки; другого — драматургом, сталкивающим
«действующие персонажи»: третьего — живописцем; четвер-
того— мастером музыкально-речевой выразительности; пятый
ведет за собой аудиторию властностью воли и мысли; шестой...
Сколь отлично друг от друга искусство В. Софроницкого и
М. Юдиной, Л. Оборина и Г. Гинзбурга, Э. Гилельса и С. Рих-
тера, я. Зака и М. Гринберг, П. Серебрякова и Н. Перельмана,
Ю. Брюшкова и Т. Гутмана, В. Разумовской и В. Нильсена,
М. Хальфина и А. Иохелеса... Эти пианисты внесли различ-
ный— и по значению и по объему — вклад в наше исполнитель-
ское искусство. Но у каждого из них свой «артистический по-
черк», свои характерные черты.
Этого, к сожалению, не скажешь о большинстве молодых
пианистов, пришедших на концертную эстраду в послевоенное
время. Среди них — много одаренных артистов, отлично владею-
щих инструментом. Но, за редкими исключениями, игра одного
очень напоминает игру другого.
134
Причин тому немало. В последние годы в нашей музыкаль-
ной педагогике распространилась неправильная тенденция: уча-
щимся— детям и подросткам—прививают представление, будто
существует какая-то «единственно правильная» трактовка того
или иного музыкального произведения, будто к этой «единст-
венно правильной» трактовке и нужно стремиться. Такой путь,
конечно, «упрощает» педагогический процесс, но он уводит мо-
лодежь от искусства, уводит от творческих поисков. Хорошо
сказал Г. Нейгауз: «Почти беспредельная возможность играть
по-разному... хорошо и прекрасно... — явление, приводя-
щее меня всегда в восхищение».1 Но всегда ли осознание этой
бесспорной истины, пользуясь словами того же Г. Нейгауза,
«смягчает ригоризм педагогических требований»?
Как часто слух педагогов «резонирует» только на одну ма-
неру игры и даже только на одну — «единственно правиль-
ную»— интерпретацию музыкального произведения! Все иное
объявляется еретическим или «спорным» (в это понятие вкла-
дывается осуждающий смысл). Стоит способному ученику дет-
ской школы, училища или консерватории исполнить какую-то
пьесу несколько по-иному, чем обычно принято, как его начи-
нают поучать: «неправильное исполнение», «дилетантизм», «не
по-баховски», «не по-шопеновски», «не по-скрябински», «не этого
хотел композитор» и т. п. Некоторым любителям ссылок на
авторитеты («Есипова здесь играла медленнее», «Нейгауз здесь
делает crescendo»), заботящимся о том, чтобы игра их учеников
соответствовала «приличиям», можно напомнить известный
афоризм: в искусстве не то хорошо, что правильно, а то пра-
вильно, что хорошо...
Молодежь восприимчива, и догматические рассуждения пе-
дагогов оказывают на нее воздействие, порой очень сильное. На
занятиях по истории и теории пианизма я продемонстрировал
как-то группе студентов одно и то же произведение Баха в ис-
полнении трех пианистов, имена которых не были мною названы.
Одним из этих артистов был видный исполнитель музыки Баха,
опиравшийся в своей интерпретации на многолетнее и глубокое
изучение закономерностей баховского стиля. Но именно его
исполнение оказалось почти единодушно осужденным студен-
тами: «Совсем не по-баховски,— говорили они,— разве можно
так свободно, с такой импровизационной непринужденностью
играть Баха?!»
Как ни странно, но иногда большие, даровитейшие худож-
ники, в своем искусстве проявляющие подлинную творческую
смелость, рассуждая об исполнении другого артиста, выказы-
вают непонятную узость взглядов и суждений. Приведу при-
мер, имеющий непосредственное отношение к прошедшему кон-
курсу.
См. фрагмент из его книги: «Сов. музыка», 1958, № 4.
135
Ряд материалов (в том числе личные встречи с Ф. Блумен-
фельдом) позволил мне с достаточной достоверностью восста-
новить общую картину и некоторые детали исполнения Антоном
Рубинштейном Фантазии Шопена. Каково же было мое изумле-
ние, когда я услышал в интерпретации этого произведения Ва-
ном: Клиберном тот же общий план и ту же трактовку отдель-
ных деталей. Совпадения были разительны: видимо, рубинштей-
новские традиции каким-то путем (возможно, через ученицу
Сафонова Р. Бесси-Левину, у которой учился Ван Клиберн)
дошли до молодого американского пианиста. Но именно эту
трактовку Фантазии, наряду с другими пьесами, С. Рихтер
объявил «очень спорной». Правда, он добавил, что считает Кли-
берна «гениально одаренным пианистом» и поэтому готов
«простить» ему все (значит, и «спорную» трактовку Фантазии).
Но С. Рихтер не преминул указать, что Клиберн играет «са-
мого себя», а не «замысел композитора, воплощенный в нотном
тексте».1 Достаточно было, оказывается, исполнить Фантазию
Шопена (других пьес, о которых пишет С. Рихтер, я здесь не
касаюсь) не так, как играют это произведение в последние годы
в Москве, а в традициях рубинштейновского пиа-
низма, и интерпретация была объявлена «спорной», не соот-
ветствующей авторскому замыслу. С. Рихтер отпустил Клиберну
его «грехи». А что если бы в таких же непривычных традициях
сыграл Фантазию другой пианист, талантливый, но не столь
«гениально одаренный»? Неужели обязательно нужно было бы
возвращать его к привычной нейгаузовской трактовке?
За последние годы по ряду причин в нашу музыкально-ис-
полнительскую педагогику проникли элементы ригоризма. По-
этому важно напомнить сегодня несколько старых, но к сожале-
нию, нередко забываемых истин. Задачи педагога, обучающего
исполнительскому искусству, очень широки: он «открывает»
ученику эстетическую, познавательную и этическую сущ-
ность музыки, прививает музыкальную культуру, руководит
развитием мастерства, воспитывает волю к воплощению музыки
и воздействию на слушателей, развивает наблюдательность
к окружающим жизненным явлениям. Но все, что делает педа-
гог, в конечном итоге должно помочь раскрытию личности мо-
лодого исполнителя, разбудить его фантазию, направить к са-
мостоятельным творческим исканиям. Педагог не выполнит
этой основной задачи, если требует от ученика формально-безу-
коризненного выполнения авторской буквы, но забывает о духе
музыки, о том, что скрыто за записью, «между строк»; если
больше занят тем, как ученик говорит, а не тем, что он гово-
рит; если стремится создать своего воспитанника по образу и
подобию своему или, что еще хуже, по образу и подобию не-
1 С. Рихтер. Радостные впечатления. «Сов. культура», 15 апреля
1958 г.
136
коего исполнителя, искусство которого считает «правильным»;
если он не использует индивидуально-различных путей работы
с учеником и всех стрижет под одну гребенку; если воспитывает
ученика в тепличной атмосфере, окружает излишней опекой,
преподносит все в раскрытом виде и тем самым не приучает
к творческой пытливости; если не проводит ученика через ряд
последовательных стадий развития, а заставляет перескакивать
через естественные фазы художественного роста (как часто это
имеет место в школах-десятилетках!); если не прививает уче-
нику ненависти к штампам и трафаретам, мертвящим искус-
ство. ..
В обязательную программу третьего тура конкурса пианис-
тов входило Рондо Д. Кабалевского. В статье, посвященной
итогам конкурса, Д. Кабалевский справедливо замечает, что
каждый из участников последнего тура по-разному играл эту
пьесу и что он «с радостным удивлением услышал 9 различных
рондо».1 (Следует напомнить, что в обязательную программу
третьего тура входил и си-бемоль-мажорный Концерт Чайков-
ского. Но мы, к сожалению, не услышали 9 разных концертов).
Вывод, к которому пришел Кабалевский, прослушав свое произ-
ведение, представляется очень важным. «Как помогает,— пишет
он,— выявлению индивидуальности молодых музыкантов испол-
нение ими музыки, для которой еще нет установившихся тради-
ций и привычных норм интерпретации».
Задумываются ли над этим наши педагоги и молодые испол-
нители? Отдают ли они себе отчет в той роли, которую играет
разучивание современной советской и прогрессивной зарубеж-
ной музыки для воспитания творческого воображения? Помнят
ли они, что исполнительский стиль любой эпохи всегда
складывался под влиянием современного творчества,
в поисках интерпретации произведений современных ком-
позиторов?
Есть известный психологический эксперимент: испытуемым,
обладающим различным уровнем культуры, предлагают рас-
сказать содержание показанной картины; наименее развитые
опишут только нарисованные на картине предметы; наиболее
развитые привлекут для своего рассказа значительно больший
материал, почерпнутый из повседневной жизни, самое же опи-
сание предметов займет у них меньшее место. И в исполнитель-
ском искусстве творческую фантазию сможет проявить тот, кто
обладает большим музыкальным опытом, больше знает
разнохарактерной музыки, разучил большее количество
музыкальных произведений. Педагог не сможет развить вообра-
жение ученика, работая с ним длительное время над очень огра-
1 Д. Кабалевский. Весна музыки. «Литературная газета», 17 апреля
1958 г.
137
ничснным репертуаром. Накопление опыта (количественная
сторона дела!) играет здесь порой решающую роль. Вновь и
вновь приходится повторять азбучные истины: как важно про-
ходить с учеником большой и разнохарактерный репертуар; как
важно восстановить старую традицию — проводить занятия
в присутствии всего класса; как важно привить любовь к му-
зицированию... Доколе мы будем только говорить об
этом?!
И еще одно важное замечание. Не только педагог по специ-
альности воспитывает фантазию молодого исполнителя. Ее
может развить или... притупить и музыкант-теоретик, и музы-
кант-историк, и педагог общеобразовательных дисциплин. Ха-
рактеристики-штампы, -начетничество, трафаретная фразеоло-
гия, к которым — не будем этого скрывать — приучают порой
учащихся на разных занятиях, далеко не безвредны для раз-
вития личности и творческого музыкального воображения мо-
лодых исполнителей...
Предвижу критические замечания: не призывает ли автор
к субъективистскому произволу и своеволию в исполнительском
искусстве, не отрицает ли он необходимости изучения стилевых
закономерностей и авторского замысла, записанного в нотном
тексте, не об этом ли свидетельствует его иронический тон при
цитировании реплик педагогов — «играет не по-баховски», «иг-
рает не по-шопеновски» и т. п.?
Конечно, нет! Я выступаю лишь против тех, кто не основы-
вает свою педагогическую работу на следующем принципе:
объективная' сущность произведения может быть раскрыта ис-
полнителем только в различных индивидуальных ва-
риантах. Это положение не ново. Передовые русские и зарубеж-
ные музыкальные школы всегда стояли на этих позициях. С ка-
кой иронией, например, М. Курбатов, ученик Сафонова, еще
в прошлом веке излагал точку зрения сторонников «безлично-
правильного» исполнения: «Как?’—говорят представители этого
взгляда,—• Величайшее произведение гениального художника мы
должны сделать своим личным достижением, должны неизбеж-
но вложить свои черты характера, недостатки и этим ослаб-
лять и портить художественную красоту произведения? Нет...
пускай произведение говорит само за себя! Смешно требовать
большего и вкладывать в такие произведения еще что-то свое
личное!»1 Как странно слышать в наши дни рецидивы таких
взглядов!
Несомненно, серьезное изучение стилевых закономерно-
стей и авторских указаний является основой, на которой
должна воспитываться творческая фантазия исполнителя. Но
прошедший конкурс показал, что этих глубоких объективных
1 М. Курбатов. Несколько слов о художественном исполнении на фор-
тепиано. М., 1899, с. 15.
138
знаний (особенно в отношении музыки XVIII в.) не хватает
многим пианистам — нашим и зарубежным.
Участники конкурса должны были. сыграть на первом туре
прелюдию и фугу Баха и сонату Моцарта. За редкими исклю-
чениями исполнение этой .музыки (в особенности Моцарта)
было каким-то мертвенным. Слушаешь и диву даешься: играют
«хорошо» (ни к чему не придерешься, все на месте, все выпол-
нено, ни одной шероховатости), а впечатления — никакого. Всем
существом протестуешь против внешней отделанности, которая,
подобно выструганной палке, не приносит ни свежих побегов,
ни цветов. А между тем так играли даже талантливые пиа-
нисты. И они пошли по пути стилизации, то есть по пути пред-
намеренного и искусственного воспроизведения внешних фор-
мальных особенностей баховского и моцартовского стилей. Как
это ни покажется на первый взгляд парадоксальным, но стили-
зация в большинстве случаев вызвана весьма поверхностным
знакомством с подлинными стилевыми закономерностями. Когда
познаешь вызвавшие их жизненные силы, пробуждается творче-
ское воображение и смелость; когда же знаешь только внешнюю
сторону явления и только «правильно» (?!) выполняешь все
темповые, артикуляционные, агогические и динамические знаки,
творческое пламя гаснет.
В том, что наше молодое поколение исполнителей плохо зна-
комо с вопросами стиля, значительная доля вины лежит и на
нас, музыкантах, занимающихся историей и теорией исполни-
тельского искусства. Мы очень мало, а главное недостаточно
конкретно, разрабатываем эти проблемы. У нас нет еще тру-
дов, посвященных анализу исполнительских указаний Бетхо-
вена, Шопена, Листа, Брамса, Чайковского, Мусоргского, Скря-
бина, Рахманинова и многих других. Известной перестройки
в этом направлении требуют программы и методика занятий по
курсам истории и теории исполнительского искусства, дисципли-
нам, которые в свете проблем, поставленных конкурсом, должны
приобрести несравненно большее значение в деле воспитания
молодых исполнителей. Курсы эти (несколько перегруженные
теперь фактическими сведениями) в большей степени, чем до
сих пор, должны учить молодежь глубже «задумываться» над
исполнительскими проблемами...
Наши музыкальные издательства долгое время не знако-
мили педагогов и исполнителей ни с лучшими трудами зарубеж-
ных музыкантов, посвященными изучению законов стиля, ни
с наиболее интересными редакциями произведений классики,
осуществленными крупнейшими зарубежными исполнителями
(например, А. Шнабелем), ни с той большой текстологической
работой (в частности, над произведениями Баха и Моцарта),
которая была проведена западноевропейскими музыковедами
за последние десятилетия. Не пора ли музыкальным издатель-
ствам подумать об этом?
139
Опасная тенденция обучать учеников «объективно-правиль-
ному исполнению», сказавшаяся в нашей педагогике в по-
слевоенные годы, в известной мере обусловлена и той тер-
нистой дорогой, которую должен пройти молодой исполнитель
для того, чтобы добиться права на концертную деятель-
ность.
Ярко одаренным исполнителям, окончившим консерватории,
следовало бы предоставлять для широкой общественной про-
верки выступления в сольных и симфонических концертах в раз-
личных городах. Но такой «естественный отбор» начинающих
артистов у нас не практикуется. Станет молодой музыкант лау-
реатом какого-либо конкурса или фестиваля, и путь к концерт-
ной эстраде ему открыт. (Заметим, кстати, что концертные ор-
ганизации мало интересуются, как играет тот или иной лауреат
через некоторое время после конкурса.)
Было бы вполне понятно, если бы конкурс являлся одним
из путей к концертной деятельности, но пока это единствен-
ный возможный путь. И молодой исполнитель больше думает
о предстоящем конкурсе, чем о высокой просветительской мис-
сии артиста.
Начинаются отборы и прослушивания. Множество автори-
тетных людей дают молодому человеку ворох советов (нередко
противоречивых). Под этим грузом указаний — надо ведь обла-
дать большой волей и опытом, чтобы суметь отбросить ненуж-
ное! — он никнет.
Конкурс приближается. Молодой человек «оттачивает» свое
мастерство, играет все точнее и безупречнее, но нередко его
своеобразие и артистическое обаяние в процессе тренировки и
педагогической муштры исчезают. Жаль, еще ни в одном кон-
курсном проспекте не было сказано: жюри отдаст предпочтение
поэтическому и вдохновенному исполнению перед «точным» и
«правильным»...
Нередко добропорядочный ученик находит в отборочных
комиссиях больше сторонников, чем смелый молодой артист,
обладающий своей индивидуальностью. Мне представляется, на-
пример, что отбор нашей «команды» пианистов к прошедшему
конкурсу имени Чайковского был проведен, выражаясь спортив-
ным языком, «не самым лучшим образом». Разве такие города,
как Ленинград, Киев, Ереван, Тбилиси и другие, не могут само-
стоятельно отбирать своих представителей на конкурсы? Если
же нужен общесоюзный отбор, то не следует ли включать в от-
борочные комиссии равное количество представителей крупней-
ших музыкальных центров страны и притом не только педаго-
гов по данной исполнительской специальности? Преобладание
сложившихся вкусов и предпочтение, отдаваемое традиционному
исполнению, приводят к тому, что молодые артисты, стремя-
щиеся проложить себе дорогу к концертной деятельности, начи-
нают играть «безупречно», но и... безлично.
140
Ван Клиберн. Размышляя о прошедшем конкурсе, каждый
раз невольно возвращаешься мыслью к этому исключительно
одаренному молодому пианисту.
Чем завоевал он любовь советских слушателей? Пианизм и
техническое мастерство его безупречны, но не этим покорил
Клиберн наши сердца, а благородным «этическим началом»,
которое он вносит в свое искусство. Играет ли он Сонату Мо-
царта, Фантазию Шопена, Вариации Чайковского или даже пол-
ную ярости и тревоги Шестую сонату Прокофьева, всюду и
везде он прославляет светлое начало жизни, душевную чистоту,
благородство.
Радует, что этот пианист с благоговением играет Прелюдию
и Фугу Танеева, Вариации и Концерт Чайковского, этюды Рах-
манинова и Скрябина и, конечно, Третий концерт Рахманинова.
Такая вклюбленность в русскую музыку понятна: американский
юноша формировался под воздействием музыки и исполнитель-
ского искусства Рахманинова. На примере Клиберна (а также
его соотечественника Д. Поллака) видно, что русский пиа-
низм, подобно русской скрипичной школе, оказал большое воз-
действие на американскую музыкально-исполнительскую куль-
туру.
Традиции рахманиновского пианизма! Они явственно ощуща-
ются во всем стиле и даже в деталях игры Клиберна (распев-
ность, выразительная «лепка» мелодии путем подчеркивания
двух-трех важнейших звуков, мудрая экономия выразительных
средств, сдержанность, беспредельные нарастания, грозная по-
ступь басов и даже отдельные «свирепеющие» реплики). Но
как все это преобразила фантазия талантливого артиста! Власт-
ность, суровость, некоторая замкнутость, сумрачные краски,
характерные для «рыцаря, закованного в латы» (как назвал
когда-то Рахманинова Б. Асафьев), залиты теперь светом мяг-
кой и вместе с тем мужественной доброты и нежности. Осо-
бенно поразительно в этом смысле было исполнение Третьего
концерта Рахманинова, проникнутое благородным пафосом и
юношеской скромностью.
Мысль Клиберна ясна и отчетлива. Он отлично знает, что он
хочет сказать слушателям. Но одну и ту же мысль он высказы-
вает всякий раз несколько по-иному — вероятно, потому, что
говорит от души, естественно и искренне.
Его игра всегда мелодична — в любом динамическом уровне
и в любом темпе. Он мастерски владеет музыкально-исполни-
тельской драматургией, но не стремится к тому, чтобы выявить
цельность архитектонических конструкций. Его форма —
процесс. Она соткана из выразительнейших мелодических инто-
наций и, подобно реке, течет непрерывно.
Рояль звучит у Вана Клиберна мягко и звонко даже в силь-
нейшем fortissimo. Его затухающие интонации, его постепенные
diminuendi полны нежности.
141
Он до мозга костей пронизан ритмом. Чтобы «жить» в ритме,
ему не приходится, как иным пианистам, возводить «метриче-
ские каркасы», впивающиеся в живую музыкальную ткань и
мертвящие музыку. Его темпо-ритм поразительно гибок. Кли-
берн оперирует с ним, как с упругим резиновым тросом — рас-
тягивает, сжимает и выгибает его. Школьные правила о «един-
стве темпа» в каждой метрической клеточке — не для него, и
вместе с тем он соблюдает единство общего движения. Он ни-
когда не берет предельно быстрых темпов. Но если это про-
диктовано характером музыки, даже самые сдержанные темпы
звучат у него пламенно, ибо он все выпевает (вспомним финал
Апассионаты, Фугу Танеева) ...
Вскоре после окончания конкурса я встретил любителя му-
зыки, о котором была речь в начале статьи. Мы поговорили об
игре участников второго и третьего туров; отметили очень высо-
кий уровень выступавших; отдали должное объективному и
справедливому решению жюри; оценили по заслугам отличное
пианистическое мастерство питомцев советской школы; вспом-
нили о «теме радости», присущей искусству поразительно ода-
ренного Лю Ши-куня...
— Четыре года до следующего конкурса,— заметил мой со-
беседник,— срок не столь уж длительный... Хотелось бы пред-
ставить себе, из кого будет состоять наша «команда» на вто-
ром конкурсе...
— Сегодня этого не скажешь. Вероятно, многие участники
будущего соревнования еще дети. Но я убежден, что к этому
конкурсу наши школы сумеют подготовить «команду», в кото-
рую войдут артисты «хорошие и разные». Уверен я и в другом:
все эти разные артисты будут говорить от сердца сердцу, от
души душе...
Журнал «Советская музыка», 1958, № 7.
АППЛИКАТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ
А. ШНАБЕЛЯ
Аппликатура в моей редакции очень
часто определялась целью заставить уча-
щегося остановиться и немного поразмыс-
лить. Иногда эта аппликатура была очень
трудна—как указание, что в данном месте
рекомендуется быть особенно вниматель-
ным. При более легком аппликатурном ва-
рианте от внимания ученика могло бы ус-
кользнуть значение какого-либо важного,
но скрытого элемента.
Л. Шнабель
Один известный пианист-транскриптор прошлых лет нередко
записывал в своих концертных переложениях для фортепиано
ряд аппликатурных вариантов. Некоторые из них казались иг-
рающим очень странными. Острословы говорили, что одну из
этих аппликатур он расставлял для себя, другую — для друзей,
третью — для учеников, четвертую — для врагов. «Уж не рас-
ставлял ли и Шнабель свою аппликатуру для недругов?» —
спросил автора этих строк один из наших видных пианистов.
Вопрос этот, заданный не то в серьезном, не то в шутливом
тоне, вызван был тем, что аппликатурные указания Шнабеля,
одного из крупнейших пианистов первой половины нашего века,
в его редакции фортепианных сонат Бетховена во многом отли-
чаются от широко распространенной в школьной практике и
в инструктивных изданиях системы расстановки пальцев. По-
этому пианисту, впервые знакомящемуся с аппликатурой
А. Шнабеля, они нередко кажутся нелогичными, бессистем-
ными и неудобными, а порой вызывают недоумение.
Нелюбознательные или зараженные бациллой догматизма
пианисты, поверхностно ознакомившись со шнабелевским мето-
дом расстановки пальцев, делают скороспелый вывод: «стран-
ные» аппликатуры австрийского пианиста — результат его при-
хоти. Естественно, они проходят мимо его советов.
Пытливые же исполнители поступают по-иному: они много-
кратно проигрывают сонаты Бетховена шнабелевской апплика-
турой и, задумываясь над ней, в конце концов познают сокро-
венный смысл его удивительно логичной и во многих отноше-
ниях новаторской системы расстановки пальцев.
1
Познание основных аппликатурных закономерностей Шна-
беля, как правило, дается пианисту не сразу, и вначале внима-
ние его обычно привлекают лишь аппликатурные средства,
которыми пользуется редактор бетховенских сонат. Эти аппли-
катурные приемы многообразны и выходят за рамки тех пальце-
вых последовательностей, которые применяются в учебной прак-
тике и в педагогических изданиях.
143
Отметим некоторые из наиболее важных аппликатурных
приемов Шнабеля.
Прежде всего обратим внимание на перекладывание и под-
кладывание 2-го, 3-го, 4-го и 5-го пальцев. Наиболее простым
примером такого «перекрещивания» пальцев может служить
следующий:
Ор. 26 (I ч.)
Andante con Variazioni
Как известно, такого рода аппликатура, которой широко
пользовались клавиристы и которая нередко встречается в ста-
ринных клавирных школах, было «воскрешена» Шопеном и Лис-
том, а затем — в конце прошлого и начале нынешнего века —
вновь использована Бузони. Шнабель очень смело пользуется
пальцевыми «перекрещиваниями», о чем свидетельствуют сле-
дующие примеры:
Ор. 27 № 2 (I ч.)
Adavio sostenuto
Очень часто Шнабель использует подмену пальцев на одной
и той же клавише. Наиболее простые примеры такой подмены
можно найти почти на каждой странице его издания. Отметим
лишь наиболее сложные случаи использования такой апплика-
туры. К ним, например, можно отнести одновременную подмену
в аккорде нескольких пальцев:
несколько раз повторяющиеся подмены пальцев в относительно
подвижном темпе:
Andante con Variazioni
144
или троекратную подмену пальцев па одной и той же клавише:1
Нередко Шнабель обращается к скольжению пальцев. Вот
несколько наиболее простых примеров скольжения с черной
клавиши на белую:
Ор. 28 (IV ч.)
Но в редакции сонат встречаются и более сложные случаи
скольжения («скольжение-скачок») — 1-го пальца на большую
секунду и даже на малую терцию с черной клавиши на белую;
1-го и 5-го пальцев с белой клавиши на соседнюю белую. Пред-
ставление о такого рода аппликатурах могут дать следующие
примеры:
1 См. также первый нотный пример на с. 157.
6 Заказ № 1730
145
Adagio grazioso
Op. 31 № 1 (II ч., лев. рука)
Adagio sostenuto
Op. 27 № 2 (1 ч.)
В ряде случаев Шнабель прибегает к скачкам, ударяя кряду
одним и тем же пальцем несколько клавишей. Он применяет
этот прием и в медленном
Op. 13 (II ч.)
Adagio cantabilc
Встречается в редакции сонат распределение на две руки
нотного текста, написанного композитором для одной руки.
Шнабель крайне редко и всегда очень тактично и умно пользу-
ется этим приемом. Так, например, в первой части Сонаты Ля-
мажор ор. № 2 в быстрых последовательностях ломаных октав
редактор вносит существенное — по сравнению с общеприня-
тым— изменение в распределение рук. Достаточно сравнить
шнабелевскую аппликатуру
Allegro vfvace Op. 2 № 2 (I ч.)
146
и станет ясно, насколько первая аппликатура удобнее; к тому
же (и это весьма существенно) она позволяет сыграть пассаж
с большим блеском. Распределение рук у Шнабеля представля-
ется более целесообразным потому, что и в нисходящем и в вос-
ходящем пассажах направление движения правой руки вдоль
клавиатуры и направление каждой ломаной октавы совпадают.
Пианист, который задумается над арсеналом аппликатурных
средств, использованных Шнабелем в его редакции, обратит,
вероятно, внимание еще на один момент. Иногда Шнабель
смело использует пятипалую аппликатуру, как, например, в та-
кого рода быстрых фигурах:
6;
147
В других же случаях редактор специально ограничивает ко-
личество используемых пальцев. Вот примеры нередко встреча-
ющихся у него аппликатур без 1-го пальца:1
Adagio cantabilc
dolcimmo non Secio
Op. 13 (l| ч., лев. рука)
Op. 31WS 2 ГГЧ.)
2
Для какой цели служат Шнабелю перечисленные приемы —
перекрещивания, подмены, скольжения и скачки пальцев, пяти-
палая аппликатура и, в других случаях, нарочитый отказ от
использования некоторых пальцев?
На этот основной вопрос нашей статьи ответ будет дан
позже. Пока же обратим внимание на то обстоятельство, что
многие аппликатуры Шнабеля опираются на определенные фор-
тепианно-технические приемы, которб1е сами по себе представ-
ляют интерес и заслуживают рассмотрения.
Попробуем «прочесть» и познать эти приемы, обратившись
к аппликатурам Шнабеля.
Расставляя пальцы, Шнабель всегда сообразуется с регист-
ром, в котором расположена та или иная звуковая последова-
тельность. Он по возможности старается не пользоваться 1-м
пальцем в середине клавиатуры, а также избегает применять
этот палец в низком регистре (имеется в виду правая рука)
и в высоком регистре (речь идет о левой). Легко заметить,
что многие шнабелевские аппликатуры предполагают пронацию
руки (т. е. некоторый наклон в сторону 1-го пальца), положе-
ние 1-го пальца ниже клавиатуры и минимальное отведение
кисти.
. Приведем несколько примеров:
1 В этих и ряде последующих нотных примеров аппликатура, поставлен-
ная в квадратных скобках, не принадлежит Шнабрлю; она заимствована из
других редакций бетховенских сонат и приводится для сопоставления
148
Allegro
Op. 10 №2(1 ч.)
Andanle ' , Op. 28 (II ч.)
Allegro Op. 31 №2 (1ч.)
Шнабель предпочитает аппликатуру, которая влечет за со-
бой собранное положение пальцев (пальцы как бы сложены
«в горсточку»)Такое положение способствует естественности
движений рук, а нередко придает пальцам большую силу.
Именно поэтому он неоднократно рекомендует в быстрых по-
следовательностях, в трелях; а иногда и в кантиленах не ис-
пользовать соседние пальцы на смежных клавишах:
Allegro vivace
Op. 27 № 1 (IV ч.)
Наконец, отметим, что шнабелевские аппликатуры требуют
от пианиста большой гибкости и пластичности движений кисти
и всей руки и вместе с тем способствуют достижению этой элас-
тичности и плавности. В частности, этому способствуют часто
рекомендуемые им аппликатуры, при использовании которых
149
пальцы то собираются «в горсточку», то расходятся; ладонь
же благодаря этому как будто то суживается, то расширяется
(или, точнее, распластывается) и преимущественно находится
в движении. Впрочем, многие аппликатуры Шнабеля выполни-
мы лишь в том случае, если звенья руки меняют свое положе-
ние и находятся в пластичном движении, а не в состоянии ста-
тичной фиксации.1 Обратим внимание на ту эластичность дви-
жений, которая требуется при исполнении, скажем, шнабелев-
ской аппликатурой следующих отрывков из сонат Бетховена:
3
Вот теперь следует ответить на поставленный выше вопрос:
к какой основной цели стремился редактор сонат Бетховена,
указывая ту или иную аппликатуру?
1 Совсем недавно я прочел следующее высказывание Шнабеля: «Я не
верю в игру только пальцами. О пальцах можно сказать то же, что и о но-
гах лошади. Если бы не двигалось все ее тело, не было бы никакого движе-
ния вперед, лошадь всегда оставалась бы на месте... Вернусь на минуту
к пальцам. Не следует пользоваться ими, как молоточками. Этот способ игры
требует слишком долгой тренировки, слишком напряженного внимания. Диф-
ференциация движений становится очень трудной и ненадежной... Гибкость,
расслабление руки, координация всех действий в соответствии с требованиями
выразительного музыкального исполнения обещают лучшие результаты
(с меньшей затратой сил) по сравнению с теми, которых можно достигнуть
при неподвижной руке» (А. Шнабель. Моя жизнь и музыка. Исполнитель-
ское искусство зарубежных стран, вып. 3 под ред. Г. Эдельмана. М., 1967,
с. 144). '
150
В предисловии к своему изданию бетховенских сонат Шна-
бель пишет: «Некоторые аппликатуры этого издания вызовут,
вероятно, удивление; для объяснения непривычных аппликатур
следует указать, что выбор их направлен был не только на
удобство рук, но в гораздо большей степени исходил, из жела-
ния обеспечить или по меньшей мере разъяснить музыкальную
выразительность того или иного места...»
Аппликатуры Шнабеля в первую очередь помогают выпол-
нить те или иные музыкально-исполнительские задачи — фрази-
ровочные, артикуляционные, динамические, ритмические и аго-
гические, а в отдельных случаях его «аппликатуры-жесты» по-
могают понять, почувствовать и воплотить общий характер
того или иного музыкального отрывка.
Обратимся к аппликатурам, направленным на решение пере-
численных задач.
Начнем с аппликатур, способствующих выполнению артику-
ляции и мотивного членения.
Большое количество весьма изобретательных аппликатур,
позволяющих достичь идеального legato без помощи педали,
читатель с легкостью найдет на многих страницах рассматри-
ваемой редакции. Отметим лишь то, что нередко ускользает от
внимания играющего.
В связных последовательностях, которые должны быть ис-
полнены легко и тихо, Шнабель избегает подкладывать 1-й
палец на относительно сильной метрической доле:
Он тонко подметил, что удар 1-го пальца на относительно силь-
ной доле такта нередко расчленяет звуковую линию и лишает
151
ее связности и динамической ровности;1 на слабой же доле
играющий значительно осторожнее пользуется этим пальцем.
В приводимом ниже примере Шнабель указывает апплика-
туру, которая дает возможность достичь идеального legato
в верхнем голосе
Adagio sostenuto Ор‘ 27 2 I1 ч1
между звуками фа-диез и соль, несмотря на то что они извле-
каются одним и тем же пальцем (5-м). Добиться связности по-
могает движение руки к ноте соль, которое вызвано тем,-что
нота ре сначала ударяется 4-м, а затем 3-м пальцами. В сказан-
ном легко убедиться, сыграв этот пример аппликатурой, обозна-
ченной во всех изданиях (на ре дважды 3-й палец), а затем
аппликатурой Шнабеля.
Остановимся еще на одном — уже приводившемся — при-
мере аппликатуры Шнабеля (см. первый пример на стр. 150).
При аппликатуре, обозначенной в квадратных скобках, играю-
щий невольно расчленяет эту последовательность в партии левой
руки на группы из четырех шестнадцатых. Аппликатура Шна-
беля позволяет объединить эту линию, сыграть ее связно, ровно,
без толчков и к тому же ррр (как предписывает редактор).
Шнабель нередко играет отрывистые (staccato) или несвязан-
ные (non legato) звуковые линии такой аппликатурой, которая
не позволяет связывать звуки. При этом в ряде случаев он
ударяет несколько клавишей подряд одним и тем же пальцем,
как, например, в следующих отрывках:
1 Ср. со следующими словами Шнабеля: «Характерно, что традиционная
аппликатура гаммы До мажор (на фортепиано), которой все еще придержи-
ваются с величайшим благоговением, использует большой, самый сильный па-
лец правой руки на субдоминанте, а большой палец левой — на доминанте...
Это, конечно, практично. Но музыкально — только для левой руки, при-
чем совершенно случайно... Правая рука должна была бы компенсировать
свое невыгодное положение: героически пожертвовать пятым пальцем и ис-
полнять гамму только четырьмя пальцами, с большим пальцем на ноте соль.
Если играть, следуя традиционной аппликатуре, одной правой рукой или, что
еще хуже, в унисон с левой, то субдоминанта, взятая самым сильным паль-
цем, может прозвучать с акцентом, музыкально ей не присущим. Это нару-
шает гармоническую систему, созданную веками, и делает музыку жертвой
стандартизации». (А. Шнабель. Моя жизнь и музыка, цит. изд. с. 137).
152
Allegro con brid
Op. 22 (I я., лев. рука)
Allegro con brio
Op. 26 (I 4.)
Этого типа аппликатуры не новы. Они изредка встречаются
у Шопена и у Листа. Шнабель изобретает такого рода аппли-
катуры с большой находчивостью. Это может быть показано
на следующем примере:
Ор. 27 № 2 (II ч.)
Allegretto
Для того чтобы пианист не мог связать звуки нижнего го-
лоса и выполнил предписанное staccato, Шнабель рекомендует
играть их 1-м пальцем; а для того чтобы играющий был лишен
возможности объединить мотивы в верхнем голосе, редактор со-
ветует ударять до и си-бемоль 3-м пальцем.
Нередко Шнабель стремится привлечь внимание пианиста
к лигам, расчленяющим звуковую последовательность (напри-
мер, к артикуляционным лигам, аналогичным штрихам на струн-
ных или дыханию на духовых инструментах), и помочь ему
их воспроизвести (точнее говоря, исключить возможность не-
выполнения этих лиг). С этой целью он воскрешает мотивную
аппликатуру, встречавшуюся в старинных клавирных тракта-
тах:
Ор. 22 (III ч.)
Menuctto
Шнабель очень свободно оперирует такого типа апплика-
турой. В ряде случаев ее было бы точнее назвать не мотивной,
а артикуляционной:
153
Allegro vivace
Op. 28 (III ч.)
Иногда аппликатуры Шнабеля в соответствии с авторскими
лигами разделяют мелодическую линию, а его педальные обоз-
начения указывают, что реального просвета (люфтпаузы) меж-
ду лигами не должно быть (как при смене штрихов на струн-
ных инструментах):
Ор. 7 (II ч.)
1 argo, con gran espresslone
Это позволяет исполнителю без люфтпаузы очень тонко по-
казать расчлененность звуковой последовательности.
Шнабель нередко применяет мотивную аппликатуру и в по-
следовательности звуков staccato:
Allegro vivace Op. 27 № 1 (III ч.)
Poco animate Op- 28 A1 4
Г 4 ?]
В первом из этих примеров мотивы отделяются друг от
друга благодря тому, что последний звук предыдущего мотива
и первый звук нового ударяются одним и тем же пальцем.
Во втором примере использование аппликатуры, указанной
в большинстве изданий, приводит к разделению отрывка по по-
лутактам. Расстановка же пальцев Шнабелем, при которой
каждый мотив (второй мотив начинается с 8-й шестнадцатой)
укладывается в одну позицию руки, направлена на смысловое
членение.
Когда в одной и той же звуковой последовательности из-
меняются лиги, Шнабель нередко изменяет и аппликатуру, как,
например:
154
Presto agitato
Op. 27 № 2 (ill ч.)
В этом плане очень интересны приводимые ниже примеры
из финала Сонаты Ми-бемоль мажор ор. 7. Аналогичные по
строению быстрые мелодические
играть их fortissimo) редактор
расчленять п’о-разпому: в одном
педали:
линии (Шнабель предлагает
рекомендует произносить и
случае — non legato и без
Росо allegretto е grazioso
Ор. 7 (IV ч.)
в другом — legato, объединяя лигой каждые восемь нот:
в третьем — legato, но объединяя лигой каждые четыре ноты:
В соответствии с этим Шнабель и расставляет пальцы.
В первом случае скачок в быстром темпе 1-го пальца в начале
каждой повторяющейся фигуры указывает на характер артику-
лирования (дает «зачин» такому артикулированию) и в извест-
ном смысле помогает благодаря этому сыграть все ноты поп
legato; во втором случае редактор стремится связно объеди-
нить восемь звуков, и это заставляет его применить совсем
иную аппликатуру; наконец, в третьем случае расчленению на
группы по четыре ноты способствуют скачки 5-го пальца.
Обратимся теперь к другой группе аппликатурных приме-
ров— к аппликатурам, помогающим играющему выполнить ди-
намику: акценты, ровную последовательность звуков без уда-
рений, звуковые нарастания и спады.
Для того чтобы помочь играющему подчеркнуть акцентами
отдельные звуки или аккорды, Шнабель поступает обычно так:
прибегает к аппликатурам, приводящим к толчку; использует
наиболее сильные пальцы (обычно 1-й или 3-й); сочетает «ап-
пликатуру толчка» с аппликатурой сильных пальцев.
155
Приведем ряд примеров.
Если исполнить помещенный ниже отрывок (финал Сонаты
до-диез минор) указанной Шнабелем аппликатурой
толчок руки при переходе от ре-диез к ми (быстрый темп!)
неизбежен. Этот толчок помогает выполнить предписанное sf.
А вот другой пример:
Allegro Ор. 14 N5 1 (I ч.)
Обычно ноту ми (в терциях ми — соль и ми — соль-диез) берут
3-м пальцем. Зачем же, спрашивается, терцию, которая должна
быть исполнена sf, ударять двумя самыми слабыми пальцами?
Быстрое перемещение руки (если играть аппликатурой Шна-
беля) приводит к толчку, что влечет за собой акцент. Этим
искупается некоторое неудобство: на акцентированном интер-
вале используются слабые пальцы.
Иллюстрирует это же положение и пример из Сонаты Ре-
мажор:
Ор. 28 (I ч., лев. рука)
неудобная на первый взгляд аппликатура приводит к тому, что
акцентированный аккорд (sf) ударяется толчком руки.
Первые такты сонаты Соль мажор ор. 31 исполняются piano:
Ор. 31 № 1 (I ч.)
Allegro vivace
При повторении экспозиции в этих же тактах стоит знак forte.
К тому же Шнабель, видимо, хочет во втором случае подчерк-
нуть последнюю ноту мотива. Поэтому в примечании к указан-
ным тактам он пишет, что аппликатура в скобках над нотой соль
относится только к повторению экспозиции. Чем руководство-
156
вался редактор? В быстром темпе 3-й палец (после 2-го) даст
толчок на заключительной ноте.1
Для того чтобы в помещенном ниже примере несколько под-
черкнуть басы (и при этом добиться связного исполнения ниж-
него голоса), Шнабель прибегает к сложной подмене пальцев,
позволяющей играть басы «сильными» пальцами (главным об-
разом 1-м):
Largo е mesto
Ор. 10 № 3 (II ч., лев. рука)
В 3-й вариации из первой части сонаты Ля-бемоль мажор:
Шнабель предлагает басовый звук (sf) ударять 3-м пальцем
(обычная аппликатура — 5-й палец).
Наконец, приведем еще два характерных примера. В обоих
случаях Шнабель советует после скачка играть акцентируемую
ноту (черная клавиша) 1-м пальцем:
Ор. 10 № 3 (II ч.)
Шнабель очень тонко чувствует индивидуальный характер
отдельных пальцев. Поэтому в небыстрых звуковых линиях
(связных и несвязных),, которые должны быть исполнены не-
громко, ровно и без резких акцентов, Шнабель нередко расстав-
ляет аппликатуру без (или почти без) использования 1-го пальца.
Просматривая его аппликатуры, нетрудно прийти к выводу, что
он считает 1-й палец «тяжелым», «грубым» и поэтому наименее
1 Ср. со следующими примерами аппликатуры Шнабеля:
Allegro con brio Ор. 2Н5 3(!ч.)
157
подходящим для тонкого интонирования мелодии. Приведем
примеры:1
Adagio grazioso Op. 31 № 1 (i ч.)
Op. 13 (II ч.)
Adagio can tablie
При спаде звучности в сфере piano и pianissimo Шнабель
стремится избежать такого положения руки, которое может при-
вести к толчку и к вызванному толчком непреднамеренному ак-
центу. С этой целью он так. подбирает аппликатуру, чтобы
пальцы заранее находились над нужными клавишами и чтобы
эта позиция руки была подготовлена плавным движением. За-
чем, например, смена пальцев на ноте ре-диез в помещенном
ниже примере?
Ор. 27 № 2 (III ч.)
Presto agitato
Ведь ре-диез и си не должны быть связаны, и в аналогичных
случаях Шнабель обычно предписывает аппликатуру, которая
разделяет звуки? Динамическое указание редактора — piu р —
все объясняет. Для того чтобы выполнить это предписание, рука,
по мысли Шнабеля, должна быть заранее переведена в нужную
позицию.
Или зачем, спрашивается, столь усложненная аппликатура
в следующем отрывке из первой части Сонаты до-диез минор?
1 См. также нотныё примеры: последний на с. 148.
158
Op. 27 № 2 (I 4.)
Adagio sostenuto
(===——>
И эта аппликатура помогает выполнить предписанное дина-
мическое указание. Стремясь достичь diminuendo в верхнем го-
лосе, Шнабель так использует аппликатуру, чтобы пальцы могли
быть плавно подведены к клавишам см и ми.
Вот еще пример аналогичной аппликатуры:
Даже в тех простых случаях, когда обычно специально не за-
думываются над расстановкой пальцев, Шнабель изобретает
удивительно «умную» аппликатуру. На первый взгляд, напри-
мер, безразлично, брать ли в этом отрывке аппликатуру Шна-
беля или аппликатуру, указанную в большинстве редакций
(в квадратных скобках):
Ор. 27 № 2 (I ч.)
Но достаточно несколько раз проиграть этот отрывок той и
другой аппликатурой, чтобы понять смысл аппликатуры Шна-
беля: она позволяет плавно подвести 1-й палец к клавишам фа-
диез и ми, избежать невольного акцента на этих звуках и до-
биться ровного diminuendo.
К таким же простым и на первый взгляд «само собой разу-
меющимся» аппликатурам принадлежат.те, которые помогают
исполнителю ясно показать элементы фактуры.
Приведем три примера.
Аппликатура, расставленная Шнабелем в начале второй
части Сонаты Ля мажор, позволяет достичь предписанного
редактором legato и tenuto sempre в трех верхних голосах и бла-
159
годаря этому рельефно противопоставить звучность этих голосов
отрывистой последовательности звуков в басу:
Largo appassionato
Op. 2 № 2 (II ч.)
Играющему представляется, что иными пальцами этот отры-
вок и не сыграть. А между тем ни в одной из известных нам
редакций такой аппликатуры нет: всюду кварту соль — до-диез
(в партии левой руки) рекомендуется играть 3-м и 1-м пальцами.
В следующем примере аппликатура Шнабеля лишает играю-
щего возможности неправильно выполнить бетховенское пред-
писание и соединить, как. это нередко бывает в ученическом ис-
полнении, фа-диез и соль:
Наконец, в помещенном ниже примере из той же сонаты не-
трудно выделить средний голос, так как он поручен «сильным»
пальцам (2-му и 3-му):
Ор. 14 № 1 (I ч.)
Шнабель, как уже отмечалось, широко пользуется сменой
пальцев на одной и той же клавише. Нередко такого типа аппли-
катуры преследуют ритмическую цель.
Как известно, чувство ритма опирается на моторику. Ритми-
зированное движение, вызванное сменой пальцев на клавише,
может обострить ощущение метрического пульса. Так, например,
в следующем отрывке из Сонаты Ми мажор ритмизированная
смена пальцев на клавише фа-диез дает дополнительную опору
ритмическому чувству
Оо. 14№ I Пч.)
160
играющего (и, само собой разумеется, позволяет лучше ощутить
тянущийся длинный звук).
Вот еще один пример такой аппликатуры:
Ор, 26 (I ч.)
Какой цели служит подмена пальцев иа нотах соль и фа-диез
в следующем примере?
В других редакциях сонаты рекомендуются аппликатурные, вари-
анты, помещенные в квадратных скобках. Одна из задач, кото-
рую решает аппликатура Шнабеля, заключается в следующем:
она способствует достижению связности в верхних голосах. Но
для этого достаточно было бы сменить пальцы на одной кла-
више (на фа-диез — 3 5). Однако такая аппликатура может на-
рушить плавное течение музыки. Подмена же, предложенная
Шнабелем, чуть-чуть оттягивая два звука (соль и фа-диез), вно-
сит в движение музыки тонкий агогический нюанс, и этот нюанс
придает музыке ту непринужденность (commodo), которой реко-
мендует добиться редактор.
Мы привлекли внимание к тем аппликатурам Шнабеля, кото-
рые помогают пианисту выполнить отдельные исполнительские
намерения — расчленить мотивы, связать или разъединить по-
следовательность звуков, добиться динамических нюансов, ясно
показать элементы .фактуры, передать метро-ритм и агогические
отклонения.
Остановимся теперь на «жестикуляционных аппликатурах»
Шнабеля, иными словами, на тех аппликатурах, которые
вызывают жест руки, соответствующий характеру музыки. Такие
«жестикуляционные аппликатуры» помогают пианисту лучше по-
чувствовать общий эмоциональный характер того или иного му-
зыкального отрывка. При этом «жестикуляционная аппликатура»
обычно одновременно является «мотивной», «артикуляционной»,
«динамической», «фактурной», «ритмической» или «агогической».
Обратимся к примерам.
Смена пальцев в приводившемся уже отрывке из второй
части Сонаты ор. 31 № 1 (см. первый пример на стр. 145) влечет
161
за собой определенную жестикуляцию («жест протяженности»).
А жестикуляция эта помогает пианисту лучше вслушаться и «пе-
режить» длительно тянущийся звук.
В примере, приведенном ниже, смены пальцев почти на каж-
дой клавише служат не только ритмической цели:
Allegro
(— =:) тр
Гибкие и пластичные жесты руки, обусловленные этой аппли-
катурой, помогают исполнителю почувствовать нежный и гра-
циозный характер музыки, отмеченный редактором ремаркой
amabile (приятно).
Но в иных случаях музыка требует предельной скупости
жестов. Шнабель подбирает тогда соответствующую апплика-
туру. Так, например, в следующем отрывке Шнабель расставил
идеальную с точки зрения общего характера музыки (удар, за
которым следует покой) аппликатуру (никаких подмен или под-
Выразительный смысл этой аппликатуры познается играю-
щим из сопоставления с аппликатурами, которые рекомендуются
в других редакциях.
В тех случаях, когда в музыке имеются взлеты, Шнабель ука-
зывает соответствующую «жестикуляционную аппликатуру», как,
например, в следующем отрывке:
Allegro nia non troppo
Уже в первом мотиве аппликатура Шнабеля вызывает «жест
полетности» (рука — в движении вверх по клавиатуре, собирается
и расправляется кисть, 2-й палец движется вверх с фа-диез на
162
до-диез, 5-й — с ре на ля) и соответственно настраивает играю-
щего. Это «ощущение полетности» сохраняется и в дальнейшем.
И эту аппликатуру Шнабеля легче понять, если сопоставить
с аппликатурами, указанными в других редакциях.
4
Таковы, как мне представляется, основные аппликатурные
принципы Шнабеля. Они оформились, конечно, в результате дли-
тельных поисков наиболее рациональной с художественной точки
зрения расстановки пальцев.
Что же заставило Шнабеля столь пытливо изобретать новые
аппликатуры, восхищающие нас своей мудростью и красотой?
Ответ на этот вопрос надо искать в характерных чертах его пиа-
нистического искусства. Не ставя себе здесь задачи дать анализ
его исполнительского стиля, отметим лишь одну особенность его
игры: тончайшая отделка всех, вплоть до самых мельчайших, де-
талей (кристальная ясность фразировки и артикуляции, точность
динамической нюансировки — особенно, в градациях тихих зву-
чаний, индивидуальная характеристика всех элементов фактуры)
никогда не приводила к раздробленности. Образы, создаваемые
Шнабелем, отличались удивительной цельностью. Он достигал
этого, по-видимому, тем, что ъ процессе исполнения внимание его
было в основном направлено на общий замысел, выполнение же
деталей было «автоматизировано» благодаря соответственно по-
добранным аппликатурам. Эти аппликатуры не позволяли не
выполнить тех или иных частных исполнительских задач. Без
специального внимания пианиста руки его «сами собой» по зара-
нее продуманному плану фразировали, выполняли динамиче-
ские (а иногда и агогические) нюансы, расчленяли музыкаль-
ную ткань и т. п. Это давало возможность артисту с огромной
внутренней сосредоточенностью передавать концепцию целого,
«рисовать» большими штрихами.
Каждый такой штрих состоял из множества линий и точек,
о которых исполнителю уже не приходилось думать. Таким об-
разом, примененные аппликатуры позволяли пианисту «эконо-
мить свое внимание» и сосредоточивать его на самом главном —
на общем течении музыки и на драматургической цельности.
Аппликатуры Шнабеля родились из особенностей его пиа-
низма. Однако его аппликатурные принципы выходят за рамки
его исполнительского стиля, и проходить мимо них мы не имеем
права.1
Вопросы музыкально-исполнительского искусства»
(3-й сб.), М„ 1962.
1 Вероятно, Шнабель не задумывался над тем, совпадают ли его аппли-
катурные принципы с бетховенскими. Не думал над этим и я, подготовляя
этот очерк к публикации в 1962 г. Но вот недавно внимание мое привлекла
163
РУБИНШТЕЙНОВСКИЕ ТРАДИЦИИ
И НАША СОВРЕМЕННОСТЬ'
В 1958 году, вскоре после первого конкурса имени П. И. Чай-
ковского, автор этих строк выступил на страницах журнала «Со-
ветская музыка» со статьей,2 в которой обратил внимание па то,
что в нашу музыкально-исполнительскую педагогику стали про-
никать элементы ригоризма и догматизма; что объективная сущ-
ность произведения может быть раскрыта исполнителем только
в различных индивидуальных вариантах; что исполнительский
стиль эпохи всегда складывается под влиянием современного
музыкального творчества... Статья, в которой отмечалось, что
среди младшего поколения наших артистов много одареннейших
людей, но за редкими исключениями игра одного как две капли
воды походит на игру другого, — заканчивалась словами:
«. . .убежден, что к следующему конкурсу имени Чайковского
наши школы сумеют подготовить «команду», в которую войдут
артисты «хорошие и разные». Уверен я и в другом: все эти раз-
ные артисты будут говорить от сердца сердцу, от души душе».
Второй конкурс имени Чайковского не за горами, и хочется
верить, что слова по поводу нашей «команды» оправдаются.
Вместе с тем в преддверии конкурса, быть может, стоит вер-
нуться к высказанным мыслям, развить их и показать, что они
опираются на прогрессивные традиции нашего музыкально-ис-
полнительского искусства, и в первую очередь на заветы, остав-
ленные величайшим артистом второй половины XIX века Анто-
ном Рубинштейном.
АРТИСТ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ценность и силу воздействия исполнительского искусства не-
возможно понять и объяснить, рассматривая это искусство вне
времени. Задумываясь над судьбами людей творческого труда
и над собственной участью, Рубинштейн сделал в «Коробе мыс-
лей» следующую запись: «Бывают люди, которые слишком рано
статья Г. Грундмана и П. Миса об аппликатуре Бетховена, в которой исполь-
зованы почти все сохранившиеся аппликатурные указания композитора (в сб.
Herbert Grundma nn und Paul Mies. Studien zum Klavierspiel Beethovens
und seiner Zeitgenossen. H. Bouvier u. C° Verlag, Bonn, 1966). И что же
оказалось? В ряде случаев Бетховен помечал аппликатуру, по характеру
своему очень близкую шнабелевской! Опираясь на материалы, приведенные
в статье Н. Фишмана «Людвиг ван Бетховен о фортепианном исполнитель-
стве и педагогике» (в сб. «Вопросы фортепианной педагогики», вып. 1. М.,
1963), на этот же примечательный факт обратил внимание Н. Копчевский во
вступительной статье к советскому изданию фортепианных сонат Бетховена
под ред. А. Шнабеля.
1 Из заметок, опубликованных в журнале «Сов. музыка», 1961, № 12.
В них использован материал т. II моей монографии об Антоне Рубинштейне.
2 См. статью «После конкурса», помещенную в этом сборнике.
164
явились на свет со своим образом мыслей, и такие, которые яви-
лись слишком поздно: первые — мученики, последние — неудач-
ники. Явиться на свет в надлежащее время — вот в чем штука.
Только немногим это удается»!1
Удалось ли это самому Рубинштейну? Был ли он сыном или
пасынком своего времени? Если обратиться к его произведениям,
нетрудно обнаружить, что здесь он нередко — но далеко не
всегда! — оказывался пасынком. Не то в области пианистиче-
ского искусства: тут он был современным в самом лучшем и вы-
соком смысле этого слова. В этой связи нельзя не вспомнить ска-
занного Рубинштейном еще в первой половине 60-х годов: «Вос-
произведение — новое творение... Великий артист всегда играет
современника... Великий артист делает музыку близкой совре-
меннику, [он] знает его волнения».* 2
В чем выразилась эта соврёменность фортепианного искус-
ства Рубинштейна в 80-х годах, в период широкого размаха его
артистической деятельности? Черты современности сказались не
только в том, что он сумел в своем исполнительском творчестве
с огромной силой передать трагизм своего времени, но и в дру-
гом: в тяжелые годы, когда немало художников отступило от
заветов 60-х годов и на знаменах своих написало такие «лозунги
времени», как «оправдание бессилия», «олимпийское безмя-
тежье», «лирическое прекраснодушие» и «малые дела», когда
писания иных литераторов напоминали, пользуясь словами
Короленко, «взволнованное чирикание воробьев во время затме-
ния»,— в эти годы Рубинштейн своими артистическими дея-
ниями («исторические концерты») и, главное, характером своих
драматически напряженных, мужественных исполнительских об-
разов продолжал, как в былые годы, внушать современникам
веру в великую силу смелой человеческой личности.
Неоднократно отмечалась просветительская направленность
пианистического искусства Рубинштейна. Это, конечно, верно, но
требует разъяснения, так как характер этого просветительства
понимался и понимается порой слишком узко. Заключалось оно
не только в том, что Рубинштейн творчески «разъяснял» великие
творения музыки и приобщал к ней широкие круги слушателей,
но, как уже отмечалось, еще и в другом: в современности рубин-
штейновского пианизма, то есть в отражении в нем прогрессив-
ных дум современников, во влиянии его на умы современников
и, наконец, в том, что пианизм Рубинштейна противостоял ме-
щанскому, мелкому и «усталому» творчеству ряда художников
80-х годов. Рубинштейн не скрывал, что смысл искусства он ви-
дел в глубоком влиянии его на жизнь. Однажды он написал, что
публика будет относиться к искусству с равнодушием или
пренебрежительной снисходительностью, пока оно будет играть
* А. Рубинштейн. «Короб мыслей», л. 118. РО ГПБ.
2 См. Л. Б а р е н б о й м. А. Рубинштейн, т. I. Л., 1957, с. 338.
165
только роль «развлечения, удовольствия и времяпрепровожде-
ния», иными словами, пока будет считаться «чем-то не входящим
серьезно в жизнь».1 Прогрессивная современность рубинштей-
новского пианистического искусства позволила ему «серьезно
войти в жизнь». Понимая это, Рубинштейн сказал о себе гордые
слова: «Роан говорит: «Roi ne puis, Prince ne daignee, Rohan je
suis». Я говорю: «Dieu ne puis, Roi ne daigne, Artiste je suis».1 2
ЛИЧНОСТЬ АРТИСТА И ЕГО искусство
Во множестве писем, мемуаров, дневников, заметок, статей и
стихов запечатлены голоса писателей, поэтов, художников, му-
зыкантов, ученых и безвестных слушателей, рассказывающих
о той роли, которую сыграло в их жизни рубинштейновское пиа-
нистическое искусство, и о том впечатлении, которое оно на них
произвело.
Исполнением Пятого концерта Бетховена Рубинштейн дал
Ромену Роллану, как тот писал, самое глубокое за всю его
жизнь постижение Бетховена.3 По словам Ф. Бузони, одна лишь
рубинштейновская интерпретация до-минорного Ноктюрна Шо-
пена научила его большему, чем могли бы научить все педагоги-
ческие курсы фортепианной игры.4 Под впечатлением одного из
исторических концертов С. Надсон писал: «Рубинштейн действи-
тельно бог, когда он за роялем. Это что-то до того грандиозное
и величественное, что словами не передать: точно в первый раз
Альпы увидел».5 Пианист и теоретик пианизма М. Курбатов при-
знавался, что на концертах Рубинштейна и благодаря этим
концертам он находил ответы па волновавшие его проблемы му-
зыкальной эстетики.6 Музыкальный критик и революционный
деятель С. П. Казанский пришел к заключению, что концерты
Рубинштейна «дают массу материала для выявления отношения
музыки к другим искусствам и к жизни, то есть для основного
вопроса музыкальной эстетики».7 А. Н. Апухтин придерживался
мнения, что ни в одной сфере художественного творчества ему
не доводилось за всю его жизнь встречать столь гениальной на-
туры, как Рубинштейн-пианист.8 Рахманинов на склоне своих
1 «Короб мыслей», л. 24.
2 «Королем не могу быть, князем не хочу, я — Роан» (фр.). «Богом не
могу быть, королем не хочу, я — артист» (фр.). «Короб мыслей», л. 2.
3 См. Ромен Роллан. Собр. соч. в 14 томах, т. XIV. М., 1958, с. 588.
4 См. Fz. S с h n а р р. Busonis personliche Beziehungen zu Anton Rubin-
stein. ’’Zeitschrift fur Musik“, 1932, B. 99, H. 12, S. 1054.
5 С.Я. Надсон. Прозд. Дневники. Письма. СПб., 1912, с. 612.
6 См. М. Курбатов. Несколько слов о художественном исполнении
на фортепиано. М., 1899, с. 4—5.
7 [С. П ] К [а з а н с к и й]. А. Г. Рубинштейн и его исторические концерты
(«Русская мысль», 1886, кн. II, с. 178).
8 См. письмо П. Л. Вакселя к Н. Ф. Финдейзепу 7 ноября 1909 г. Отдел
рукописей ГПБ, арх. Фиидейзена, письма, л. 5—6.
166
лет заметил: «.. .Как мало исполнителей, хотя бы приближаю-
щихся к великому Рубинштейну».1 С. И. Танеев писал А. С. Арен-
скому: «На меня игра Антона Григорьевича производит совер-
шенно особенное действие... Не могу удержаться, чтобы не ска-
зать, что, слушая игру Антона Григорьевича, я испытываю нечто
такое, чего при других обстоятельствах мне никогда не приходи-
лось испытывать: какое-то жгучее чувство красоты, если так
можно выразиться, красоты, которая не успокаивает, а скорее
раздражает: я чувствую, как одна нота за другой точно меня
насквозь прожигает: наслаждение так глубоко, так интенсивно,
что оно как бы переходит в страдание».1 2
В чем же, пользуясь формулировками его современников,
«тайна», «секрет» исполнительского гения Рубинштейна, чем
объяснить столь потрясающее воздействие его искусства на слу-
шателей, на чем покоилась его великая власть над аудиторией?
Бесполезно искать ответа на эти вопросы в характеристиках от-
дельных сторон рубинштейновского пианизма. Их, эти ответы,
можно найти, лишь обратившись к личности артиста — титани-
ческой и разносторонней, глубоко мыслящей и остро чувствую-
щей, замкнутой и общительной, решительной и колеблющейся,
сосредоточенной и беспокойной, ищущей и заблуждающейся, от-
зывчивой и вспыльчивой, но всегда правдивой и наделенной
великим даром замечать то, что под покровом обыденности ус-
кользало от других. Эти и многие другие черты индивидуаль-
ности Рубинштейна в силу ряда причин с наибольшей силой и
полнотой проявились не в его творчестве, не в его сочинениях,
а в его сотворчестве, в его исполнительском — и прежде всего
пианистическом — искусстве. Шведский критик А. Линдгрен
в афористической форме очень метко определил «секрет» испол-
нительского гения Рубинштейна. «Бюлов,— писал критик,— че-
ловек больших способностей, Рубинштейн же — больше этого:
он просто-напросто — человек!».3
Рубинштейновское пианистическое искусство далеко выходит
за рамки обычной, пусть великолепной и впечатляющей, игры
на фортепиано. Его искусство — явление морального, этического
порядка. Волшебство воздействия Рубинштейна на аудиторию
возникало прежде всего благодаря поразительной правдивости,
искренности и естственности создававшихся им образов, свобод-
ных от вычурности, манерности, аффектации, гиперболичности и
светской элегантности. А это постижение и выражение внутрен-
ней правды музыки становилось возможным благодаря тому, что
великий артист обладал чистой душой, не омраченной и не за-
1 С. Рахманинов. Связь музыки с народным творчеством. Сб.
«С. Рахманинов. Письма». М., 1955, с. 560.
2 С. И. Т а н е е в. Материалы и документы, т. I. М., 1952, с. 80—81.
3 A[dolf] L[indgren], Anton Rubinstein. "Svensk Musiktidning“, 1884, N 8,
p. 58.
167
пятнанной мелкими чувствами и помыслами, и мог поэтому рас-
пахнуть свою душу перед тысячами слушателей, отвечая извеч-
ной людской потребности в правде.
Все то, чем жил и что вбирал в себя Рубинштейн, все то, во
что он всматривался и вслушивался, оставляло глубокие следы
в его мыслях и гулко отзывалось в его сердце. Будь иначе, он не
был бы великим артистом, и его исполнение на фортепиано
нельзя было бы назвать, пользуясь его же формулировкой, «дви-
жением души».
Рубинштейн понимал, какое сильное влияние оказывает на
аудиторию этическая сторона искусства и этическая сила худож-
ника. Вот что он писал: «Бывают художники, которые обнару-
живают изумительные достижения, даже непогрешимы в своем
искусстве, но влияние которых на публику ограничено или сов-
сем ничтожно. Другие, чье творчество, напротив, обладает очень
многими недостатками, восхищают, однако, публику. Похоже на
то, что публика, воспринимая художественное творение, подчи-
няется какой-то магической силе, что личность художника имеет
значительный вес при оценке его искусства, что существует еще
некий моральный магнетизм».1
Этот «моральный магнетизм» самого Рубинштейна и оказы-
вал на слушателей то неизгладимое воздействие, о котором
в восторженных тонах говорили столь разные люди, как Ромен
Роллан и Бузони, Надсон и Падеревский, Гаршин и Рахмани-
нов, Апухтин и Кюи, Репин и Танеев. . . Этот «моральный магне-
тизм» и вызывал то «жгучее чувство красоты, которая не успо-
каивает, а скорее раздражает» (Танеев). Этот «моральный маг-
нетизм» заставлял каждого из слушателей рубинштейновских
концертов заглянуть в свою душу, вникнуть в свою человече-
скую сущность и в то же время почувствовать себя частью боль-
шого человеческого коллектива, дышащего одним дыханием
с великим артистом.
«МУЗЕЙНЫЙ СТРАЖ» ИЛИ «СОАВТОР»
В начале 70-х годов Г. Бюлов изложил свой «символ веры»,
в основу которого положил «глубочайший респект» перед произ-
ведением искусства, ответственное и серьезное отношение к слу-
шателям концертов. Свои «требования» к исполнительскому ис-
кусству Бюлов разделил на три пункта. Первый из них сводился
к тому, чтобы играть «объективно-корректно», опираясь на скру-
пулезнейший анализ и на «воссоздание» (под последним пони-
малось прочтение между строк тех исполнительских ремарок,
которые автор счел менее существенными и потому не проста-
вил) . Во втором пункте речь шла об «объективно-красивом» ис-
полнении, иными словами, о том, чтобы считаться с акустиче-
1 «Короб мыслей», л. 24.
168
скими законами инструмента и с законами благозвучия. Нако-
нец—третий пункт бюловского credo гласил: следует играть
«субъективно-интересно», придать исполнению характер непо-
средственной свободной речи, но не выходить при этом из огра-
ничительных рамок добросовестнейшего соблюдения первых двух
постулатов.1
Как это не похоже на взгляды Рубинштейна! И Рубинштейн
стоял на позиции «глубочайшего респекта» перед произведе-
ниями великих авторов. Но могло ли это «уважение» — в его по-
нимании!—повлечь за собой «объективно-корректное» исполне-
ние? Или—-«объективно-красивое»? Или, наконец,—п р и в н е -
сение в интерпретацию «субъективно-интересного»? Могло ли
«воссоздание» — в его понимании! — означать воскрешение про-
пущенных автором нюансов? А это расчленение на «пункты-тре-
бования»? Как чуждо все это было Рубинштейну!
Под «глубочайшим респектом» он понимал совсем иное, чем
Бюлов: необходимость вдохнуть в музыкальное сочинение жизнь,
воскресить его для современников, а это означало сдуть с него
музейную пыль и, вникнув в самое существо, прочесть глазами
современника. Не «исполнить», не «передать» (термины, столь не
любимые Рубинштейном) музыкальное произведение, а воспро-
извести его, то есть, «расслышав» отраженный в нем душевный
мир и драматизм конфликтов, вылепить людские характеры,
влить в жилы воссозданных живую горячую кровь своего сердца,
заставить их дышать, говорить, чувствовать, думать, действо-
вать! И вместе с тем выказать по отношению ко всему «вылеп-
ленному» из звуков и ритмов свое отношение, поведать свои
идеи, возникшие как результат постижения авторского замысла
и ощущения пульса современности! Таков «символ веры» Рубин-
штейна. . .
Оставаясь верным идее произведения, вникая в авторские
мысли и не позволяя себе никакого произвола, Рубинштейн
вместе с тем лепил свои исполнительские образы с той смело-
стью и с той свободой, которые создавали впечатление, будто
то, что он играет, вышло из-под его, рубинштейновского, пера.
Б. Асафьев, много и тщательно расспрашивавший чутких слу-
шателей концертов Рубинштейна о его игре, пришел к следую-
щему выводу об одной из основных ее особенностей: «.. .Здесь
(у Рубинштейна.— Л. Б.) это свое переносилось на весь мир
музыки так, что словно она, музыка, становилась лирическим
созданием одного поэта, одной всепроникновенной души, хотя и
сохраняя особенности быть музыкой Шумана, Шопена и других
великих».1 2
1 См. Н. v. Billow. Karl Tausig. ’’Signale fur die musikalische Welt”,
1871, N 35, S. 551—552.
2Б. Асафьев. Антон Григорьевич Рубинштейн. Сб. «Сов. музыка»,
1946, № 6, с. 4.
169
Верность идее, заложенной в сочинении, внимание к автор-
скому замыслу и одновременно полнейшая артистическая неза-
висимость—такова та позиция соавторства, на которой стоял
Рубинштейн. Эта позиция нередко представляется противоречи-
вой, опасной, а то и немыслимой,— но лишь педантам или тем,
кто связан с артистическим искусством узами случайности. Надо
понять: печатью подлинной жизненности отмечены лишь те ис-
полнительские образы, создавая которые артист «отнимает»
у композитора известную долю авторства!
В начале 90-х годов Рубинштейн посетил в Париже видного
французского педагога Луи Дьемера и выразил желание послу-
шать одного из его учеников. Выбор пал на пятнадцатилетнего
Альфреда Корто. Мальчик сыграл Сонату ор. 53 Бетховена
(«Appassionata»). Рубинштейн не вымолвил ни слова. Затем
разорвал напряженную тишину какой-то репликой на посторон-
нюю тему. «Мое сердце,— рассказывает А. Корто,— сжалось.
Прощай, музыка! Расстроенный, дрожа от волнения, я про-
щаюсь со старым львом и направляюсь к двери. Тут Рубин-
штейн хватает меня за рукав, кладет руку на мое плечо, смот-
рит мне прямо в глаза и многозначительно говорит: „Малыш,
никогда не забывай то, что я тебе сейчас скажу: Бетховена
нельзя играть, просто играть; его нужно всякий раз заново от-
крывать”».1
И сам Рубинштейн все, что он исполнял, «заново открывал»,
то есть заново воскрешал к жизни, не реставрируя и не стили-
зуя. Становясь «соавтором» интерпретируемой им музыки, он
придавал ей черты чего-то ошеломляюще нового. В доме Рим-
ского-Корсакова заговорили как-то об игре ученицы Рубин-
штейна С. Познанской. Римский-Корсаков высоко оценил талант
этой пианистки, но вместе с тем заметил: «.. .И все-таки Познан-
ская... еще не Рубинштейн: тот создает, между тем она пока
только подражает ему; ей не хватает при исполнении рубин-
штейновской творческой силы и всесторонности».1 2
В наши дни, когда широко распространилось «хорошее»,
«правильное», «точное» исполнение на фортепиано (но не часто
можно встретить творческую интерпретацию), сказанное приоб-
ретает значительную актуальность. Не пора ли понять и широ-
кой массе музыкантов-педагогов, и молодым исполнителям ста-
рую истину, давно известную большим артистам: без своего лич-
ного отношения к произведению нет музыкального искусства,
нет исполнительского творчества, оно увядает и никнет!
Но порой этот собственный взгляд артиста на произведение
публика концертного зала принимает не сразу: она хочет слы-
шать одну Патетическую сонату Бетховена, одну Фантазию Шо-
1 G avo ty. Alfred Cortot. Frankfurt/Main, 1955. S. 13.
2 В. В. Ястребцев. Мои воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове,
т. I, Л., 1959, с. 42.
170
пена, одну Восьмую сонату Прокофьева, хотя бы и в исполнении
разных пианистов. И Рубинштейну в начале его творческого
пути также нередко приходилось своим исполнением переубеж-
дать публику и критику. Не то было в последующие годы: ру-
бинштейновская интерпретация начала представляться един-
ственно возможным «объективным» раскрытием композиторского
замысла...
Журнал «Советская музыка», 1961, № 12.
РУБИНШТЕЙН-ПЕДАГОГ1
Систематически фортепианно-педагогической деятельностью
Рубинштейн занимался в своей жизни дважды: в 1862—1867 и
в 1887—1891 годах, в период первого и второго директорства
в Петербургской консерватории. Отдельные стороны его работы
в фортепианном классе в конце 80-х и начале 90-х годов полу-
чили отражение в литературе. Сведения же о его работе с пиа-
нистами в 60-х годах ограничивались следующими словами Ла-
роша:«Он принял на себя еще многолюдный фортепианный класс,
попасть в который было заветным мечтанием всех консерватор-
ских пианистов, до малейшего включительно... В этом классе...
Рубинштейн лез из кожи и немало «чудил»: заставлял, например,
«Tagliche Studien»1 2 Черни играть во всех 12 тонах с одной и той
же аппликатурой и т. п. Ученики и ученицы гордились претерпе-
ваемыми ими мытарствами и продолжали внушать зависть своим
товарищам».3 Архивные материалы, и особенно «Дневники»
Е. и К. Логиновых,4 позволяют значительно расширить наши
представления о первом периоде систематической фортепианно-
педагогической работы Рубинштейна. По всему видно, что Ру-
бинштейн, обладавший уже в эти годы огромным фортепианно-
исполнительским опытом, в занятиях с пианистами пытливо
искал, применял различные методы работы, нередко экспери-
ментировал. В ряде моментов характер его обучения остался и
впоследствии таким же, каким был в 60-х годах, но кое в чем
существенно изменился. В частности, в последующие годы
1 Статья составлена по материалам моей монографии. Л. Б а р е н б о й м.
Антон Григорьевич Рубинштейн, т. I, Л., 1957; т. II, Л., 1962.
2 «Ежедневные упражнения» (нем.).
3 Г. А. Ларош. Собрание музыкально-критических статей, т. II, ч. I.
М., 1922, с. 46,
4 Записи уроков в «Дневниках» (рукопись, принадлежащая К. П. До-
стоевской) нередко наивны, разбросаны среди всякого рода других сведений
(см. об этом Л. Баренбойм. Антон Григорьевич Рубинштейн, т. I, с. 8).
В сочетании с другими источниками эти «Дневники» проливают свет на ряд
важных сторон преподавания Рубинштейна. Цитаты, приводимые без указа-
ния источника, взяты из «Дневников» Логиновых.
171
Рубинштейн никогда не уделял так много внимания детальной
работе над пианистическим мастерством.
В фортепианном классе Рубинштейна обучалось около два-
дцати учеников и учениц, которым он ежедневно отдавал 4—
5 часов.1 В состав класса входили подвинутые взрослые ученики
и десяти-двенадцатилетние дети. К числу наиболее способных
учащихся принадлежали Л. Гомилиус, Г. Кросс, С. Смирягина,
А. Спасская, М. Терминская. Помощником Рубинштейна был
А. И. Виллуан, занимавшийся с учениками младшего возраста.
Ученики старших курсов обязаны были посещать все занятия
Рубинштейна, и он часто вовлекал в беседу и активную работу
не только игравшего ученика, но и всех присутствующих.
Воспитанию личности учеников, расширению их кругозора и
жизненных интересов, разъяснению смысла и задач искусства
Рубинштейн уделял серьезнейшее внимание.
На одном из уроков произошел такой случай. Ученица сы-
грала сонату Бетховена. Рубинштейн остался недоволен испол-
нением. Ничего не говоря о сонате, он спросил ученицу, для чего
она учится музыке и понимает ли, что такое музыка. Исполни-
тельница сонаты смущенно сказала: «Музыка так прелестна,
очаровательна, si charmante».1 2 Антон Григорьевич... рассер-
дился и спросил других. Мы все потупились и поникли глазами.
Лудвиг [Гомилиус] сказал, что хочет стать артистом. «Но за-
чем?»... Он (Рубинштейн.— Л. Б.) сыграл нам что-то страшное,
кажется, Бетховена, и мы будто увидели страшные видения. По-
том спросил, передразнивая Женю и картавя: «Это прелестно,
мило, charmant?» Потом сказал, что артист открывает людям
свои м’ечты, принуждает их думать, он миссионер...» Последние
слова — «артист — это миссионер» — Рубинштейн часто повто-
рял в классе. Через ряд лет — и опять-таки в связи с исполне-
нием Бетховена — он так определил роль артиста: «Кто испол-
няет сонаты Бетховена, должен себя чувствовать миссионером,
обращающим язычников на путь истины; должен в себе чувство-
вать жреца, провозглашающего святое слово!! Задача высо-
кая — не и нелегкая!..»3
Эта высокая миссия требует, по мысли Рубинштейна, чтобы
будущие художники обогащали себя жизненными впечатлениями
и расширяли свой кругозор. Поэтому он настаивал, чтобы они
«учились видеть, слышать, чувствовать и думать», «не вели бы
сонной жизни». Об этом же он говорил и В. Чекуановой (своей
будущей жене), обучавшейся тогда пению. На одном из уроков
1 См. черновик ответа Совета профессоров Петербургской консерватории
на статью В. Т-ской. ГНАЛО, ф. 408, св. 7, д. 58.
2 так прелестна (фр).
3 Программы концертов А. Г. Рубинштейна. СПб, 1886, с. 18. Эта ано-
нимно изданная брошюра составлена петербургским журналистом Эд. Гольд-
штейном, которому Рубинштейн продиктовал пояснения к ряду программ.
172
он сказал своим ученикам: «Умейте примечать, и жизнь научит
вас воспроизводить музыку».
Рубинштейн придавал принципиальное значение репертуару
для воспитания пианистов. Он настаивал на том, чтобы ученики
разучивали произведения высокой идейно-образной содержа-
тельности, могущие «открыть им возвышенный горизонт музы-
кального искусства».1 Другие консерваторские педагоги-пиа-
нисты (например, Ф. Лешетицкий, А. Дрейшок) часто прохо-
дили с учениками бессодержательные, внешне эффектные пьесы.
Впоследствии, предлагая одному из своих учеников играть са-
лонные произведения, Лешетицкий так обосновывал свою пози-
цию: «На этих вещах... вы научитесь владеть различными фор-
тепианными красками, не отвлекаясь внутренним содержанием
музыки».1 2 Рубинштейн такого метода работы не признавал: он
считал его чреватым серьезными опасностями для формирова-
ния личности будущего артиста. В ответ на просьбу одной из
учениц разрешить ей выучить оперную фантазию Тальберга по-
следовала реплика Рубинштейна: «Нам с этим вздорным госпо-
дином не по пути!».
Любопытно привести в сопоставлении перечень произведе-
ний, исполненных на вечерах консерватории в 1864/65 учебном
году учениками Рубинштейна, с одной стороны, и учениками
Ф. Лешетицкого, А. Дрейшока, А. Герке и П. Петерсена —
с другой:
Ученики Рубинштейна
Бах. Прелюдия и фуга es-moll
Бах. Ария с вариациями
Бетховен. Соната f-moll (ор.?)
Бетховен. Соната В-dur ор. 106
Мендельсон. Песня без слов
Мендельсон. Серьезные вариации
Шопен. Этюды ор. 10
Шопен. Ноктюрн
Шопен. Скерцо h-moll
Шопен. Фантазия f-moll
Шуман. Карнавал
Вагнер — Лист. Песня и] ях из
оперы «Летучий голландец»
Ученики других педагогов
Вебер. Соната
Геллер. Saltarella
Геллер. Прелюдия
Гензельт. Этюд.
Дрейшок. Рапсодия
Дрейшок. Babillarde
Келер. Этюды
Рейнеке. Экспромт для 2-х ф-п.
Тальберг. Скерцо
Судя по сохранившимся архивным материалам, в фортепиан-
ном классе Рубинштейна чаще всего звучала музыка Баха, Бет-
ховена, Шопена, Шумана. Работе над сочинениями Баха, осо-
бенно над его полифонией, Рубинштейн уделял огромное внима-
ние. На экзаменах все его ученики обязаны были исполнить по
одной прелюдии и фуге из «Хорошо темперированного клавира».
1 Письмо Совету профессоров Петербургской консерватории от 21 октября
[2 ноября] 1866 T. (А. Рубинштейн. Избр. письма, под ред. Л. Баренбойма.
М„ 1954).
2 С. М а й к а п а р. Годы учения. М.— Л., 1938, с. 166.
173
Задавая ученикам на летние вакации разучить по нескольку
прелюдий и фуг Баха, Рубинштейн так объяснял им мотивы, за-
ставившие его дать это задание: «Вы все дурно играете Баха —
слишком много нервов и чувства. Это поэзия прошлого столетия,
а не нынешнего нервного. Да, да, да, поэзия, поэзия. Вы постиг-
нете в ней толк, когда разучите по десять фуг. И для техники
[это] полезно».
Таким образом, сохранившаяся в нашей фортепианной педа-
гогике традиция широкого использования в работе с учениками
баховской полифонии заложена была еще в 60-х годах Рубин-
штейном.
Отдельные замечания Рубинштейна на уроках позволяют по-
нять те общие требования в отношении характера исполнения
музыки, которые он предъявлял своим ученикам. «Играть надо
просто, но с чувством», «Играйте без расслабленности», «Ос-
тавьте патетику и слезливость», «Без преувеличения!», «Не раз-
влекайте нас», «Боже, как тоскливо!», «Нет характера, всюду
всегда одно и то же», «Бесконечно проще — le trop est 1’ennemi
du bien»,1 «Вы кривите душой, а не играете», «Нет тепла»,
«Правды, жажду правды, а у вас притворство» — такого рода
замечания часто раздавались в классе Рубинштейна.
Он не выносил нарочитости, надуманности, актерства, аффек-
тации, сентиментальности, надрыва. Всему этому он противопо-
ставлял искреннее и простое воспроизведение характера музыки,
согретое задушевностью и пылкостью чувств. Большая часть
приведенных реплик Рубинштейна высказана в процессе работы
с учениками над музыкой Шопена. Видимо, уже тогда Рубин-
штейн выступал против широко распространившейся сентимен-
тально-салонной манеры исполнения произведений великого
польского композитора.
Искусство интерпретации музыки Рубинштейн всегда рас-
сматривал как творческий процесс. В те годы он различал поня-
тия: «исполнять музыку» и «передавать (или воспроизводить)
музыку».1 2 Термином «исполнение» он обозначал формально точ-
ную, но неодухотворенную игру. Под «передачей» или «воспроиз-
ведение^» музыки он понимал такое вчувствование и проникно-
вение в произведение, которое позволило бы «воспроизвести
перед слушателями идеи его».3 Характерно, что Рубинштейн го-
ворил о воспроизведении идей произведения, а не идей автора.
1 «Чрезмерное — враг хорошего» (фр.). Эти слова Рубинштейн часто по-
вторял на занятиях.
2 Впоследствии Рубинштейн изменил эти формулировки и различал «фор-
тепианную игру» и «фортепианное исполнение». В «Коробе мыслей» он запи-
сал: «Игра на фортепиано — движение пальцев; исполнение на фортепиано —
движение души. Теперь чаще всего мы слышим первое». (А. Рубинштейн.
«Короб мыслей», л. 45/24).
3 А. Рубинштейн. О музыке в России. «Век», 1861, № 1.
174
Видимо, ои понимал возможное различие между субъектив-
ным намерением композитора и объективным содержанием сочи-
нения.
Исходя из своего понимания проблемы «автор и исполни-
тель», Рубинштейн в работе с учениками придерживался пози-
ции, которая в суммарном изложении может быть сведена к сле-
дующему: во-первых, ученику следует с предельной точностью
и тщательностью изучить авторский текст; во-вторых, это изу-
чение должно носить творческий характер; ученик обязан по-
нять, что в потной записи есть своеобразная «недоговоренность»,
что многие замечания композитора"указывают лишь направле-
ние, по которому должен идти исполнитель; в-третьих, задача
исполнителя сводится к тому, чтобы верно передать «идеи про-
изведения», но эти идеи могут быть воспроизведены в индиви-
дуальных вариантах.
Рубинштейн, вероятно, не излагал в классе эти принципы
в виде цельной программы. Но она вытекала из его отдельных
замечаний по поводу отношения к авторскому тексту и к «испол-
нительским редакциям», по поводу характера нотной записи, на-
конец, по поводу права пианиста создавать индивидуальный ис-
полнительский образ, передающий «идеи произведения».
Он не любил редакций нотного текста, особенно тех, в кото-
рых сказывалось субъективное прочтение авторского текста ре-
дактором. Одна из учениц принесла на урок Патетическую со-
нату Бетховена в чьей-то редакции. Рубинштейн заметил: «Опять
instruktive Ausgabe, опять revidiert, опять mit Bezeichnung des
[Fingersatzes].1 У трех нянек дитя без глазу». Видимо, в ответ на
недоумение учеников он пояснил свои слова: «Артисту довольно
нот самого сочинителя, ученику прибавляются суждения учи-
теля; к чему третья [нянька] (т. е. редактор.— Л. Б.) навязывает
свои мнения?»
Иными словами, Рубинштейн не признавал посредничества
между композитором и исполнителем в лице редактора, который
вносит в авторский текст субъективное толкование, сковываю-
щее фантазию играющего. По поводу черниевской редакции
«Хорошо темперированного клавира» он заметил: «Верно, Бах
не записал оттенков и темпа, дойдите своим умом. Играйте
много Баха. А у Черни [играйте] этюды и экзерсисы».
Взгляды Рубинштейна на «инструктивно-педагогические» п
«исполнительские» редакции в исходных моментах не изменились
и впоследствии. В ответ на предложение издателя В. Зенфа про-
редактировать произведения классиков Рубинштейн писал: «Ин-
дивидуальный взгляд на понимание и на характер исполнения
произведений классиков, присоединенный к уже имеющимся, мо-
1 «Инструктивное издание... пересмотренное... с указанием [аппликатуры]
(нем.). Слово Fingersatzes написано неразборчиво.
175
жет лишь возбудить сомнения публики, занимающейся музыкой,
и разногласия среди художников; на мой взгляд, это принесет
скорее вред, чем пользу нашему искусству».1
Рубинштейн неизменно обращал внимание учеников на необ-
ходимость осмысленного прочтения отдельных элементов нотной
записи, добиваясь того, чтобы точность выполнения того или
иного обозначения сочеталась с пониманием его относительного
характера.
Так, например, на уроках нередко шла речь о лигах, и Рубин-
штейн разъяснял ученикам многообразие выразительного значе-
ния лиг: «Смычком вверх и вниз, лига — штрих скрипок», «Ды-
шите после лиги, пианисты не любят дышать, вздохните полной
грудью», «Лига, но на одной педали», «Не снимайте руку на
лиге, только палец», «Здесь между дугами [лигами] кошта [за-
пятая], а не точка».
Ученики, обучавшиеся у Рубинштейна в различные периоды
его жизни, указывали, что он очень часто обращался к играв-
шему с вопросами о характере музыки, которая была только что
исполнена или которую предстояло сыграть. К этому методу ра-
боты он неоднократно прибегал и в 60-х годах. Ответы учеников
редко удовлетворяли его, большей частью потому, что представ-
лялись ему слишком общими. Тогда он прибегал к дополнитель-
ным наводящим вопросам.
Приведем пример. Ученица определила характер финала ка-
кой-то сонаты как «веселый». Рубинштейн потребовал уточне-
ния: «Веселый или радостный? Светлая радость или грустная?
Может быть, восторженная радость? торжественная? Ликова-
ние? Радостные возгласы или веселый смех? Вы одна радуетесь
или с вами весь мир, все люди? Вы когда-нибудь радовались
или только беспричинно веселились?»1 2
Наводящими вопросами Рубинштейн хотел максимально ак-
тивизировать мысль и чувства ученика. Ясность художественных
намерений должна была стать, по его мысли, основой работы
ученика над созданием исполнительского образа музыкального
произведения.3
Кроме нахождения «путеводной нити» (общего характера)
произведения, от учащихся требовалось знание выразительных
средств, которыми пользовался композитор: тонального плана,
1 Письмо к Б. Зенфу 7 (19) марта 1883 г. (см. А. Г. Рубинштейн.
Избр. письма, под ред. Л. А. Баренбойма, с. 82).
2 Отрывок из «Дневников» Логиновых нами отредактирован. В подлин-
нике он выглядит так: «.. .она сказала — веселый. Он сказал — веселый или
радостный? Она сказала, что [нрзб.]. Он: светлая или грустная, восторженная,
торжественная, ликование, возгласы или смех, вы или вместе, tout le monde,
alie Leute, радовались или только веселились — почему — не знаю...»
3 Впоследствии Рубинштейн писал: «Я убежден, что всякий сочинитель
пишет не только в каком-нибудь тоне, в каком-нибудь размере и в каком-
нибудь ритме ноты, но вкладывает известное душевное настроение, т. е. про-
176
модуляционных отклонений, голосоведения, особенностей фак-
туры и т. и. Для того чтобы ученики поняли смысловое значение
тех или иных композиционных приемов, Рубинштейн прибегал
изредка к такому методу: он видоизменял нотный текст (после-
довательность тональностей, элементы фактуры) и привлекал
внимание слушателей к тому, как при этом меняется характер
музыки. Так, например, он сыграл ученице конец разработки
I части Сонаты Бетховена Фа мажор ор. 10 № 2 с измененной
модуляцией и начал главную партию в репризе в таком же виде,
в каком она проходит в экспозиции. Видимо, он хотел, чтобы
ученица оценила прелесть ложной экспозиции в Ре мажоре.
Стремясь, вероятно, заставить ученицу услышать звуковой ко-
лорит в первых тактах Ноктюрна до минор Шопена (широкая
фактура, гулкие басы), Рубинштейн сыграл ей начало этой
пьесы и в другом варианте: «с другим аккомпанементом, как
в сонате Моцарта» (соната Моцарта была до этого сыграна дру-
гой ученицей).
Рубинштейн уделял много внимания обучению учеников вы-
разительному интонированию мелодии, чему должен был помочь
класс пения, обязательный для всех исполнителей.1 Введение
этого класса не было случайной прихотью Рубинштейна: во
время своего второго директорства он снова включил в план
занятий обязательное обучение пению, на этот раз только для
пианистов.
В 60-х годах на фортепианных уроках он неоднократно за-
ставлял учеников петь. В «Дневниках» Логиновых имеется инте-
ресная запись: «Наш Антон мудрит — приказал всем к завтру
петь романсы Шумана и Алябьева. . . С. начала петь только на-
пев без слов; мы закрывали лица, чтобы не смеяться. Он велел
[петь] со словами. С. путала. Заставил Л.. . Сказал: «Пианисты
не умеют играть со словами, а надо [играть] будто со словами,
„dire la melodie**».* 1 2
Много лет спустя Рубинштейн так разъяснил часто употреб-
лявшееся им еще в 60-х годах выражение «dire la melodie» или
«dire la romance»3 «Тонкое исполнение песни — трудная задача.
Француз применяет меткий оборот речи: «dire la romance», но
как часто мы встречаем певцов и певиц, которые при исполнении
песен ставят своей главной задачей показать свои голосовые
грамму, в свое сочинение, с уверенностью, что исполнитель и слушатель су-
меют ее угадать. Иногда он дает своему сочинению одно общее название,
т. е. путеводную нить исполнителю и слушателю; больше и не требуется, по-
тому что обстоятельную программу настроения словами не выразишь» (Му-
зыка и ее представители. М., 1891, с. 14).
1 А. И. Пузыревский и Л. А. Саккетти. Очерк пятидесятилетней
деятельности СПб консерватории. СПб., 1912, с. 28.
2 «произносить мелодию» (фр.).
3 «произносить романс» (фр.).
Заказ № 1730
177
средства».1 Задачу консерваторского класса обязательного пения
Рубинштейн видел не в том, чтобы поставить ученикам голос,
а в том, чтобы научить их «произносить мелодию». В своем
классе он добивался от пианистов вокально-речевого интониро-
вания мелодии на фортепиано, придавая при этом большое зна-
чение использованию разнообразных артикуляционных приемов.
И впоследствии Рубинштейн требовал от учеников вокально-ре-
чевого «произнесения» мелодии. Он рекомендовал, например, по
словам А. Гиппиус, с этой целью мысленно подтекстовать начало
баховской Фуги соль минор из I тома «Хорошо темперирован-
ного клавира»:
О lie - ber Je - su dei-ne Lei . den
На одном из уроков он сказал по поводу исполнения учени-
цей Смирягиной Ноктюрна Шопена си минор ор. 37 следующее:
«Она поет [так, как] будто играет ноктюрн Фильда или арию
Bellini. А здесь надо [петь] замкнуто, уйти в себя, хмуро;
паузы — тяжело на душе, трудно петь...» Спустя ряд лет один
из слушателей так описал свои впечатления от исполнения Ру-
бинштейном этого шопеновского ноктюрна. «Всю первую часть
он играл сухим звуком, педаль была совершенно незаметна...
Впечатление благодаря этому получалось необычайной силы.
Слушатели чувствовали тяжелое, беспросветное горе, рассказан-
ное измученным, обрывающимся голосом... Не будь у Рубин-
штейна такой глубоко драматической идеи, он мог бы мотив
первой части исполнить певучим звуком, что было бы приятнее
и звучнее в обыкновенном смысле, хотя мотив потерял бы всю
свою характерность».1 2 Этому характерному интонированию ме-
лодии, обусловленному общим замыслом произведения, Рубин-
штейн учил и своих учеников.
В конце своей жизни Рубинштейн записал в «Коробе мыс-
лей»: «...Ритм в музыке — это пульсация, свидетельствующая
о жизни...»3 Характеру этой пульсации, и прежде всего выбору
пульсирующей метрической единицы в музыкальном произведе-
нии, он уделял большое внимание, справедливо считая этот вы-
бор определяющим для темпо-ритмической характеристики со-
чинений. С конца 50-х годов Рубинштейн стал специально ука-
зывать в отдельных своих сочинениях не только метр, но и
пульсирующую единицу (например: ,j; =о итд )
1 А. Рубинштейн. «Короб мыслей», л. 17/10.
2 М. Курбатов. Несколько слов о художественном исполнении на
фортепиано. М., 1899, с. 66.
3 А. Р у б и н ш т е й н. «Короб мыслей», л. 30/16 об.
178
В классе он неизменно обращался к ученикам с вопросом:
«На сколько дирижируете?» или «На сколько считаете?» Харак-
терно, что выбранный играющим «пульс» в ряде случаев ка-
зался ему слишком мелким, и он рекомендовал его удвоить
или утроить.
Отдельные дошедшие до нас замечания Рубинштейна на уро-
ках дают представление о его советах ученикам в отношении
создания целостного исполнительского образа. Решающими
в этом вопросе он, видимо, считал соблюдение темпового един-
ства во всей пьесе или на протяжении большого отрезка музыки
и в особенности умение «подготовить и показать самое важное»
в произведении, отодвинув на второй план менее существенное.
Вот некоторые из его советов: «Подготовьте эту фразу, задер-
житесь на ней, а все, что было до этого, играйте неприметно»;
«Проходите мимоходом, идите к главному, а у вас все главное,
зацепились за что-то, а важное не говорите, забыли».
Рубинштейн уделял техническому мастерству учеников ог-
ромное внимание и настаивал на том, чтобы они специально за-
нимались технической тренировкой. «Техника не механика,—
говорил он,— нужно играть механические упражнения, но не
[следует] играть их механически». Рубинштейн никогда не на-
стаивал, чтобы ученики сидели за роялем с тем наклоном туло-
вища к инструменту, с каким сидел он сам. Правда, он говорил
об известных преимуществах этой посадки, но добавлял при этом,
что каждый пианист должен сам для себя найти «удобную, кра-
сивую и спокойную посадку». В классе неоднократно шла речь и
о фортепианно-технических приемах. Рубинштейн утверждал, что
характер движений рук играющего и его технические навыки
чрезвычайно многообразны и в значительной степени обуслов-
лены настроением исполняемой музыки.
Для учеников своего класса Рубинштейн составлял специаль-
ные упражнения на пальцевую беглость, скачки, октавы, ак-
корды, на различные виды артикуляции и т. п. Судя по несколь-
ким упражнениям, записанным Логиновыми, Рубинштейн давал
ученикам простейшие фортепианно-технические формулы и ре-
комендовал играть их в разных темпах, звуком разной силы,
разными артикуляционными вариантами, транспонируя во все
тональности. Так, например, следующие четыре позиционные
фигуры:
ученики должны были разучивать в разных тональностях такими
способами:
1) играть legato, non legato, portamento, staccato и staccatis-
7*
179
simo, сочетая артикуляционные варианты с изменениями темпа
(от очень медленного до быстрого и возвращаясь в медленный)
и звучности;
2) разучивать так, чтобы вариантные задания для каждой
из рук не совпадали (скажем, правая — рр, legato е leggiero, ле-
вая — mf, staccato е marcato);
3) расчленить техническую группу лигами (по две или че-
тыре ноты); при этом играть и такими вариантами, в которых
лиги в правой и левой руках не совпадали бы;
4) играть позиционные формулы трезвучия в разнообразных
вариантах с педалью.
Принципиальное отличие этих упражнений от широко рас-
пространенных в те годы экзерсисов, построенных на тех же
формулах, заключалось в следующем: Рубинштейн не позволял
играть эти упражнения механически, а ставил перед учениками
на простейшем материале сложные артикуляционные, динамиче-
ские и колористические задачи.
Кроме приведенных упражнений, ученикам предлагалось иг-
рать с аналогичными вариантами всевозможные гаммы и арпед-
жио, а также разучивать во всех тональностях, не изменяя ап-
пликатуры, упражнения Черни ор. 337.
В первые два года педагогической деятельности в консерва-
тории Рубинштейн ежемесячно проводил специальные занятия,
посвященные фортепианной технике. На этих занятиях ученики,
независимо от уровня подвинутости, играли всевозможные уп-
ражнения, гаммы, арпеджио и инструктивные этюды. По словам
А. Спасской, главная особенность метода Рубинштейна на та-
кого рода уроках заключалась в следующем: он заставлял уча-
щихся играть упражнения, гаммы, арпеджио и этюды на двух
роялях в унисон. Совместная игра должна была приучить
их к организованности и ритмической дисциплинированности
при исполнении быстрых технических последовательностей.1
Среди советов Рубинштейна относительно метода самостоя-
тельной работы над музыкальным произведением обращает на
себя внимание следующий: «Когда учите, не играйте с душой,
а работайте с душой». Рубинштейн, видимо, хотел дать учени-
кам понять, что многократное проигрывание той или иной пьесы
в полную душевную силу исполнителя может эмоционально ис-
тощить его и в конечном счете привести к тому, что исполнитель
перестанет ярко и свежо переживать содержание пьесы. Иными
словами, первая часть рубинштейновского совета призывала
учеников во время разучивания произведения не растрачивать
эмоциональные силы, экономно и бережно расходовать их. Вто-
рой частью изречения («когда учите. .. работайте с душой») Ру-
1 См. А. Спасская. Советы по музыкальной педагогике. СПб., 1896,
с. III и IV.
180
бинштейн хотел сказать, что в процессе разучивания пьесы ду-
шевные силы ученика должны быть сосредоточены на самом
разучивании, которое не сводится к механической работе, а тре-
бует душевного увлечения.
Рубинштейн не признавал метода работы над произведением,
при котором играющий на каком-либо этапе разучивания меха-
нически выколачивает каждую ноту произведения, больше забо-
тясь о «крепких пальцах», чем об осмысленном интонировании
музыки. Сам Рубинштейн, как он рассказывал в классе, прибе-
гал в те годы к другому методу занятий: «Я люблю работать
вполголоса, медленно, piano и без нервов». Учащимся он давал
такой совет: «Учить надо всегда sotto voce, иногда pieno voce,
никогда — sine voce», разъясняя при этом свой термин «sine
voce» следующим образом: «Когда человек без голоса поет, он
кричит». Таким образом, в противоположность принятым тогда
в фортепианной педагогике методам, он рекомендовал чаще
всего разучивать произведение в сфере piano и никогда не уби-
вать мелодическую связь между звуками выкриками отдель-
ных нот.
Отдельные технически трудные места Рубинштейн предлагал
разучивать так: «Подумать, что мешает хорошо сыграть, а по-
том — по способу Фильда». Способ этот, по разъяснению Рубин-
штейна, состоял в том, что Фильд несколько сотен раз повторял
одно и то же трудное место, а чтобы не сбиться со счета, пере-
кладывал нарезанные бумажки из одной коробки в другую.
Подчеркнем, что Рубинштейн давал совет учить «по методу
Фильда» после того, как ученик обдумает, «что мешает хорошо
сыграть», иными словами, после того, как проанализирует, в чем
заключается трудность того или иного места.
Записи Логиновых позволяют бегло коснуться еще одного
вопроса — воспитания Рубинштейном некоторых специальных
профессиональных навыков.
Рубинштейн настаивал на том, чтобы ученики умели в любой
момент без всякого предварительного разыгрывания или специ-
ального повторения исполнить в классе любую пьесу из пройден-
ного за длительный промежуток времени репертуара, который
они были обязаны удерживать в памяти. Не следует при этом
забывать, что каждый ученик Рубинштейна разучивал огромное
количество произведений и что обычно на каждом уроке уча-
щиеся получали новые и новые репертуарные задания.
В классе неоднократно шла речь о том, что пианист должен
уметь так сосредоточиться, чтобы с первого звука исполняемой
пьесы «войти» в музыку и содержательно ее воспроизвести. Не-
редко Рубинштейн прерывал игру после первых же исполненных
тактов вопросом: «Вы уже играете? Я этого не слышу». Впо-
следствии, по словам А. Гиппиус, он говорил: «Первые такты
как раз наиболее важные, от них зависит первое впечатление,
которое имеет решающее значение».
181
Считая, что пианисту-профессионалу необходимо уметь чи-
тать с листа, транспонировать, импровизировать, сделать клави-
раусцуг, сочинить каденцию к концерту, Рубинштейн требовал
всего этого от своих учеников. Он удивлялся и даже приходил
в ярость, видя, что большинство учащихся плохо выполняет его
требования. Со второго года своей работы в консерватории, по-
няв, что гневом дела не поправишь, он начал давать ученикам
легкие задания по чтению с листа, транспонированию и импро-
визации, постепенно их усложняя.
Имеющиеся данные не дают возможности всесторонне оха-
рактеризовать фортепианно-педагогическую деятельность Ру-
бинштейна в 60-е годы. Но и то сравнительно немногое, что из-
вестно о его фортепианных занятиях, позволяет сделать следую-
щий вывод: рубинштейновские прогрессивные эстетические и
методические принципы явились основой, на которой расцвела
русская фортепианная педагогика последующего времени, в том
числе и замечательная школа его брата, Н. Рубинштейна.
2
В течение двадцати лет, прошедших со времени ухода Рубин-
штейна в 1867 году из Петербургской консерватории, он не вел
систематической фортепианно-педагогической работы. Правда,
в начале 70-х годов, живя в Вене, он обучал в течение некоторого
времени Л. Брейтнера (ставшего впоследствии видным пианис-
том и педагогом) и нескольких других юношей; во время турне
по США — четырех американских пианистов, следовавших за
ним в его странствиях по стране, а в начале 80-х годов дал не-
сколько уроков ученику своего покойного брата А. Зилоти, кото-
рый, по-видимому, не сумел понять А. Рубинштейна. Но все это
не носило характера регулярной педагогической деятельности.
Обычно Рубинштейн давал обращавшимся к нему одаренным
молодым людям несколько советов, а затем направлял их к дру-
гим педагогам. Так, по словам А. Соловцова, его отцу, пришед-
шему в середине 70-х годов к Рубинштейну с просьбой взять его
в ученики, великий артист сказал: «Я сейчас уроков не даю, да
и педагог я плохой. Молодому пианисту, который хочет учиться
у одного из крупнейших фортепианных педагогов, я могу посо-
ветовать обратиться к одному из следующих трех музыкантов:
к Бюлову, к Лешетицкому или к моему брату. К Листу я вам
сейчас ехать не рекомендую: это вам еще рано — у Листа могут
учиться только почти законченные пианисты».1
Возглавив в 1887 году Петербургскую консерваторию, Рубин-
штейн не предполагал заниматься фортепианной педагогикой.
1 Из рукописи А. Соловцова «Об игре А. Рубинштейна», любезно предо-
ставленной мне автором.
182
В разработанных им «Положениях по С.-Петербургской консер-
ватории» один из параграфов гласил: «Ни директор, ни инспек-
тор не должны быть в то же время преподавателями консерва-
тории; но они могут, если пожелают, читать лекции ученикам по
музыкальным предметам в часы, свободные от занятий».1 Когда
же после ухода из консерватории нескольких педагогов ряд мо-
лодых пианистов остался без руководителей, Рубинштейн стал
заниматься с некоторыми из них. В официальных документах
Рубинштейн не числился профессором фортепианной игры; он
лишь временно вел педагогическую работу с учениками «упразд-
ненных классов». Но эти «временные» занятия продолжались
в течение всех лет его второго директорства.
К числу его наиболее даровитых учеников принадлежали
С. Познанская, Е. Голлидей, С. Якимовская, Л. Кашперова.
Первые трое, проучившись в его классе около четырех лет, бле-
стяще окончили весной 1891 года консерваторию. Это был един-
ственный в эти годы выпуск учеников Рубинштейна. Л. Кашпе-
рова, одновременно обучавшаяся композиции в классе Н. Со-
ловьева, сдала выпускной экзамен по фортепиано экстерном
через некоторое время после ухода Рубинштейна. Ученики Ру-
бинштейна по окончании консерватории успешно концертиро-
вали. Особенно широкую известность сумела в короткий срок за-
воевать С. Познанская. Но, выйдя в середине 90-х годов замуж,
она почти перестала выступать публично.
В своем фортепианном классе Рубинштейн давал уроки и
приезжавшим в Петербург молодым пианистам, не состоявшим
учениками консерватории. Так, у него в течение ряда лет обу-
чалась ирландка Л. Нихия, некоторое количество уроков взял
И. Сливинский и др. На рубинштейновских занятиях обычно
присутствовало несколько десятков молодых музыкантов, в том
числе и лица, не являвшиеся его учениками. Некоторые из
присутствовавших — Е. Вессель, С. Друккер, А. Гиппиус, Л. Мак-
Артур (Нихия)—вели записи указаний и замечаний Рубин-
штейна.
Когда Рубинштейн в 1891 году поселился в Дрездене, к нему
нередко приезжали за советами его петербургские ученики.
Здесь же у него спорадически обучались и воспитанники других
пианистических школ, как, например, Р. Фогт-Сударская,
М. Урусова и др. Систематические занятия в 90-х годах Рубин-
штейн проводил лишь с одним молодым пианистом — И. Гофма-
ном, который проучился у него два года.
Прежде чем дать характеристику работы Рубинштейна
с учениками-пианистами в последние годы его жизни, необхо-
димо остановиться на некоторых его общих музыкально-педа-
гогических принципах.
1 «Положения по С.-Петербургской консерватории», § 3. ГНАЛО, ф. 408,
св. 26, д. 267.
183
Придя вторично в Петербургскую консерваторию, ее новый
директор заставил повысить уровень экзаменационных требова-
ний по всем специальностям и ввел испытания, результаты ко-
торых давали возможность судить о подготовленности ученика
к самостоятельной, без помощи педагога работе. Для того
чтобы добиться объективности в экзаменационных оценках, Ру-
бинштейн включил в «Положения по С.-Петербургской консер-
ватории» § 44, в котором сказано: «Фамилии экзаменующихся,
равно и фамилии их профессоров, не сообщаются экзаменаци-
онной комиссии. Каждый экзаменующийся обозначается в спис-
ках особым нумером, после которого следует программа испол-
няемых пьес... В партитуре и партиях также не обозначается
фамилия сочинителя, а выставляется особый, ему раньше дан-
ный нумер». К тому же, по предложению Рубинштейна, для
облегчения сравнительного суждения об учениках они должны
были на проверочных и выпускных испытаниях сверх своей
программы исполнить одну общую для всех пьесу, которая за-
ранее назначалась экзаменационной комиссией.
Рубинштейн требовал от педагога большой осмотрительно-
сти в выставлении оценок, рассматривая «экзаменационные
баллы» как одну из крайне важных форм воспитания молодых
музыкантов путем поощрения или порицания. Его выводили из
себя педагоги, которые не умели или не хотели считаться с мас-
штабом дарования, умением и темпом продвижения учащегося
и которые, не задумываясь о будущем, спешили обрадовать
юношей и девушек преувеличенно высокой оценкой их успехов.
Нетребовательность гибельно сказывается на искусстве, на мо-
лодежи и на консерватории — такова, суммируя его многочис-
ленные высказывания, одна из идей, которыми руководство-
вался в те годы Рубинштейн, будучи директором. «Отметки,—
рассказывает С. Майкапар,— Рубинштейн ставил очень сдер-
жанно. Получившие от него четверку были вполне довольны,
так как уже этот балл означал вполне хорошее исполнение.
Отличное, законченное исполнение оценивалось им отметкой
4’/2, пятерку же ставил он за исключительно выдающееся ху-
дожественное исполнение единичных наиболее одаренных уче-
ников консерватории».1
Желая проверить общее музыкальное дарование тех учени-
ков, игру которых он оценивал пятеркой, Рубинштейн нередко
заставлял их на экзамене или на ученическом вечере импрови-
зировать на заданную тему. Ф. Блуменфельду, по его рас-
сказу,1 2 Рубинштейн предложил на одном из экзаменов тут же
что-либо сочинить на тему из песен Шуберта. Такой же случай
1 С. М. М а й к а п а р. Годы учения, с. 78.
2 Ф. М. Блуменфельд окончил Петербургскую консерваторию в 1885 г.
Но Рубинштейн изредка посещал экзамены в консерватории в период между
своим первым и вторым директорством.
184
описывает в мемуарах М. Пресман: Рубинштейн, посетив спе-
циально для него организованный вечер учеников Московской
консерватории, предложил А. Корещенко сыграть фортепиан-
ную импровизацию, положив в ее основу тему баховской скри-
пичной фуги.1
На экзаменах по теоретическим дисциплинам Рубинштейн
высказывал нескрываемое осуждение схоластики и формали-
стики. Как-то на испытаниях по элементарной теории музыки,
в курс которой в те годы включалось много лишних сведений,
разыгралась такая сценка. В конце экзамена Рубинштейн спро-
сил ученика: какая нота на тринадцатой линейке снизу в басо-
вом ключе? Ученик не смог ответить. Этого только и ждал Ру-
бинштейн. Последовала реплика, произнесенная трагическим
тоном «Я — тоже — этого не знаю!» 1 2
Не для того, конечно, чтобы запугать ученика, разыграл Ру-
бинштейн эту сценку. Он хотел обратить внимание педагога на
бесполезность включения в курс сведений и задач, которые для
практики не нужны.
Руководство экзаменами и обсуждение ученических выступ-
лений в концертах Рубинштейн рассматривал как одну из ос-
новных обязанностей директора музыкального учебного заведе-
ния. Со свойственной ему манерой подтрунивания над самим
собой он писал матери, что проводит «все свое время в прослу-
шивании гамм и проверке голосов».3 И действительно: прохо-
дили ли экзамены пианистов, певцов, оркестрантов или компо-
зиторов, устраивались ли ученические концерты, проводились ли
испытания по теории или истории музыки, шла ли проверка
знаний в научных классах,— Рубинштейн успевал бывать всюду
и, при всей благожелательности, не щадил в своей критике ни
учащихся, ни педагогов. Последних Рубинштейн стремился при-
вести-к единомыслию и единодушию, но не в конечной оценке
игры или знаний того или иного учащегося, а в понимании
принципов, которые надо класть в основу оценок.
Рубинштейн проявлял нетерпимость к трем категориям эк-
заменаторов: к «скучающим», к «болтающим» («.. .болтовня
для меня невыносима...»4) и к «придирающимся». Великого ар-
тиста, свободного от малейшего педантизма, выводили из себя
те педагоги, которые слушали и оценивали игру ученика с од-
ной лишь позиции: совпадает или не совпадает его исполнитель-
ское толкование с представлением об интерпретируемом сочи-
нении самого экзаменатора. По рассказу Ф. Блуменфельда,
1 См. М. Л. П р е с м а н. Уголок музыкальной Москвы восьмидесятых
годов («Воспоминания о С. В. Рахманинове», сб. I. М., 1957, с. 201).
2 См. Jazeps V i t о 1 s. Manas drives atminas сб. ’’Latbiesu musika”.
Riga, 1958, 292. 1pp.
3 Письмо к матери от 19 сентября [1 октября] 1887 г. РО ЛГК.
4 А. Рубинштейн. «Короб мыслей», л. 49/26.
185
как-то раз после исполнения молодым пианистом I части бет-
ховенской сонаты один из педагогов (кажется, Фан-Арк), бро-
сил реплику: «Взял слишком быстрый темп». Последовал раз-
драженный ответ Рубинштейна: «Не могу понять, откуда вам
это известно. Ведь он только начал играть I часть и не сыграл
еще остальных частей сонаты!».
Сам Рубинштейн на экзаменах и ученических концертах яв-
лял пример величайшей сббранности. С огромной сосредоточен-
ностью, интересом и благожелательностью прослушивал он от
первой до последней ноты выступление каждого ученика, всегда
обращая внимание на удачные моменты исполнения и не при-
давая значения мелким неполадкам. Реагировал он па выступ-
ления учеников или на их экзаменационные ответы непосред-
ственно и бурно, особенно в тех случаях, когда хотел выразить'
одобрение. А. П. Молас, присутствовавший на выпускном экза-
мене Ф. Блуменфельда, в неопубликованных мемуарах расска-
зывает, что едва пианист проиграл свою программу, как Ру-
бинштейн громко провозгласил: «Пять!»1 С. Майкапар также
рассказывает о характерных, на весь зал звучавших рубинштей-
новских одобрительных восклицаниях после понравившихся ему
выступлений учеников.
Рубинштейн ввел правило, согласно которому каждый из
членов испытательной комиссии записывал на отдельных листах
свое мнение об экзаменовавшемся ученике и выставлял свой
балл. Обсуждение сводилось к тому, что прочитывались пись-
менные отзывы и баллы; баллы суммировались, и выводилась
средняя оценка. В архивных материалах консерватории сохра-
нилось большое количество «листов председателя экзаменаци-
онной комиссии», заполненных отзывами директора и его отмет-
ками. Рубинштейн никогда не записывал своих соображений по
поводу исполнения отдельных пьес. Его отзывы содержат обыч-
но лаконичную и обобщенную характеристику учащегося, а так-
же краткий прогноз его профессиональных возможностей; в ряде
же случаев — наблюдения и замечания общего порядка.
Вот несколько примеров таких быстро записанных и,
конечно, стилистически не отделанных рубинштейновских от-
зывов;
«—.. .Не берусь судить, ничего не понимая, о методе пения.
Мне кажется, что голос хороший, но школы нет. Если цифра
что-нибудь обозначает, то З’/г для нынешнего экзамена доволь-
но,— но, должно быть, не по ее вине. А нужно бы ее научить по
педагогическому курсу других учить, и тогда она заслужит, мо-
жет быть, больше.
—...Голос [есть], верный успех, остальное—вечное сожале-
ние ...
1 См. А. П. Молас. Мои воспоминания о Могучей кучке. ЦГАЛИ,,
ф. 805, ед. хр. 2, л. 5.
186
— .. .Не следует дальше держать в консерватории, так как
она совершенно законченная виртуозка.— Того, чего консерва-
тория требует, она никогда не достигнет...
— .. .Не считаю способной на сцену и даже на концертную
эстраду за отсутствием всякой модуляции и жизни в голосе.
Может быть годна на педагогическую деятельность, так как
сама прошла хорошую школу.
— .. .Цифра 3 для исполнения [будущего учителя] недоста-
точна. Игра преподавателя должна быть по крайней мере очень
удовлетворительна в смысле музыкальности при допускаемой
недостаточности виртуозности...
— .. .Цифрою 2]/г я отмечаю тех, которых не считаю способ-
ными быть переведенными в старший класс из-за полнейшего
отсутствия у них ритмического чувства...
— .. .Все кончили. Разница только на сколько: с грехом по-
полам или меньше...» 1
Особенно интересны рубинштейновские экзаменационные ха-
рактеристики тех учащихся, с которыми он занимался сам.
В облике молодых пианистов Рубинштейн, судя по его запи-
сям, обращал внимание на следующие моменты: «музыкальное
понимание», «технику», «изящество» (под «изяществом» он по-
нимал, по его словам, не столько изысканность, сколько худо-
жественную тонкость, непосредственность, естественность и ар-
тистичность исполнения), «чувство ритма» и «самостоятель-
ность».
Приведем несколько таких записей Рубинштейна:
«—.. .Все было бы хорошо, но полное отсутствие ритмиче-
ского чувства портит все и делает музыкальную будущность
весьма сомнительной.
— .. .Техника хорошая, музыкальной зрелости нет, отсут-
ствие изящества.
— .. .Способности есть, но ритмическая часть и понимание
еще очень слабы. Touche также еще очень неудовлетвори-
тельное.
— .. .Отличная ученица. Вся забота должна состоять в том,
чтобы возбудить в ней самостоятельность — способности к этому
покамест еще неважные».1 2
Последняя запись — характеристика С. Познанской, одной из
лучших его учениц тех лет. Эта запись позволяет привлечь вни-
мание к принципу, который Рубинштейн считал «наиважней-
шим» и которым руководствовался не только как педагог, но и
как директор консерватории: всеми мерами он побуждал педа-
гогов развивать в учениках самостоятельность. В этом вопросе
1 Листы председателя. ГИЛЛО, ф. 361, св. 394, д. 65, л. 472; св. 306,
д. 68, л. 12, 151; св. 307, д. 70, л. 221, 155, 156, 192, 422.
2 Листы председателя. ГИАЛО, ф. 361, св. 308, д. 73, л. 309; св. 5, д. 61,
л. 35; св. 307, д. 70, л. 367.
187
Рубинштейн стоял на позиции, которая характерна для многих
больших художников и сводится к следующему: искусству дол-
жно обучать, но ему невозможно научить — ему можно лишь
научиться.
По настоянию Рубинштейна в консерватории введены были
два экзамена («переходный в высшее отделение» и «оконча-
тельный»), программы к которым ученики обязаны были разу-
чить без помощи педагога. В конечном счете Художественный
совет по предложению Рубинштейна принял, как гласит прото-
кол, следующий «способ подготовления учеников к выпускным
экзаменам, а именно: программу поверочного экзамена выпол-
нять самостоятельно, без руководства профессора, так как та-
ким образом ученики, выказавшие неумелость самостоятельно
работать, будут отстранены от публичного экзамена»1 (иными
словами, не смогут окончить консерваторию).
Рубинштейн следил за тем, чтобы за время обучения уча-
щиеся приобретали навыки и знания, необходимые для про-
фессиональной работы по окончании консерватории. Он пони-
мал, что без практической деятельности еще в учебном заведе-
нии подготовка музыкантов-профессионалов невозможна. По-
этому— если коснуться только учащихся фортепианных клас-
сов— Рубинштейн уделял так много внимания организации их
аккомпаниаторской и педагогической работы. Для того чтобы
предоставить этим учащимся возможность практиковаться в ак-
компанементе, Рубинштейн ввел следующее правило: на вече-
рах и экзаменах, не говоря уже о классных занятиях, аккомпа-
нировать должны были исключительно учащиеся-пианисты (или,
в отдельных случаях, по своему желанию — сами педагоги); по-
сторонним лицам в консерватории аккомпанировать не разре-
шалось.1 2 Разве не следовало бы и в наши дни вернуться, хотя
бы частично, к этому мудрому правилу, введенному Рубин-
штейном?
Во время своего второго директорства Рубинштейн особенно
интересовался подготовкой «учителей музыки». По его инициа-
тиве «специальная комиссия преподающих игру на фортепиано»
приняла решение о формах обучения и экзаменов для пиани-
стов, которые кончают консерваторию по педагогическому от-
делению.
«.. .Ученик,— говорится в постановлении комиссии,— на чет-
вертый год [обучения] поступает в педагогический класс, где
слушает лекции о методике преподавания и сам занимается
элементарным преподаванием под руководством профессора пе-
дагогического класса игры на фортепиано». Для окончания кон-
1 Протокол заседания Художественного совета от 18 января 1890 г.
ГНАЛО, ф. 361, оп. 11, д. 155, л. 188 об. (курсив мой.—Л. Б.).
2 См. добавления к «Положениям» по С.-Петербургской консерватории»,
сделанные Рубинштейном в 1889 г. РО ГПБ, ф. Н. И. Абрамычева.
188
серватории с дипломом «учителя музыки» была установлена
программа, состоявшая из трех разделов. Сдающий выпускные
испытания должен был, во-первых, показать двух или трех удо-
влетворительно им обученных учеников; во-вторых, самостоя-
тельно подготовить к исполнению ряд произведений «в доказа-
тельство своего знакомства с главнейшими стилями фортепиан-
ной литературы»; в-третьих, сделать педагогическую редакцию
несложного музыкального произведения.1 Лиц, которые хотели
закончить консерваторию экстерном, Рубинштейн допускал к эк-
заменам лишь после того, как они в течение года проходили
курс музыкальной литературы и под наблюдением профессоров
обучили нескольких учеников.1 2
Вернемся теперь к фортепианно-педагогической деятельности
Рубинштейна. Как уже отмечалось, приняв в 60-х годах в свой
фортепианный класс большую группу учеников, Рубинштейн
возложил на себя миссию учителя фортепианной игры, заботя-
щегося о всех сторонах воспитания и обучения своих питомцев:
он влиял на их личность и составлял для них фортепианные
упражнения; обучал их импровизации и проводил уроки, посвя-
щенные игре гамм, арпеджио и инструктивных этюдов; зани-
мался с ними чтением с листа и требовал умения сделать транс-
крипцию или сочинить каденцию к концерту. Он уделял огром-
ное внимание воспитанию профессионального мастерства. В тот
период он не опасался деспотического воздействия на своих уче-
ников — как на пианистов, так и на композиторов. А. Рубец,
обучавшийся в 60-х годах в классе инструментовки Рубин-
штейна, спустя много лет писал: «С Антоном Григорьевичем
бывали часто очень эффектные сцены. Принесешь, бывало, за-
данную первую часть какой-нибудь сонаты, одобрительно ки-
вает головой, играет художественно-прекрасно эту вещь и
вдруг остановится на известном месте и скажет: «Вот тут я
с вами не согласен». И сейчас сымпровизирует, запишет и ска-
жет: «Продолжайте так». Все окружающие его ученики прихо-
дят в восторг и умиление, и я сам умилен, но тем не менее
с горячностью говорю ему: «Все это так. Но это несчастный
Рубец, а это великий художник Рубинштейн, и все что я буду
продолжать,— будет отрыжка Рубинштейна...»3 Однако с мне-
нием учеников Рубинштейн не считался, и аналогичные сцены
происходили тогда и в его фортепианном классе.
В конце своей жизни Рубинштейн работал с учениками-пиа-
нистами по-другому. Его основные эстетические и фортепианно-
исполнительские принципы, по-видимому, не претерпели сущест-
1 См. протокол заседания комиссии преподающих игру на фортепиано
от 11 ноября 1887 г. ГИАЛО, ф. 361, оп. 11, д. 155, л. 117—118.
2 Запись Рубинштейна на «листе председателя экзаменационной комис-
сии». ГИАЛО, ф. 361, св. 307, д. 70, л. 155.
3 Неопубликованное письмо А. Рубца к С. И. Танееву от 17 апреля
1906 г. ЦГАЛИ, ф. 880, on. 1, ед. хр. 434, л. 8 об.
189
венных изменений. Но система преподавания стала иной. Те-
перь он только направлял ученика, расширял его кругозор,
развивал воображение, помогал раскрыть в исполняемой му-
зыке этические и эстетические ценности, указывал далекие вер-
шины, на которые надо было подняться. Но как добиться наме-
ченной цели, какими путями к ней идти,— решить это он пре-
доставлял самим ученикам. «Уроков» в привычном и узком
смысле этого слова Рубинштейн теперь не давал. По-видимому,
изменить метод своей фортепианно-педагогической работы за-
ставили Рубинштейна несколько причин.
Во-первых, он не считал нужным отдавать свои силы и время
кропотливой учительской работе. В эти годы он высказал
в своем дневнике следующую мысль: выдающийся художник
должен прежде всего заниматься своим творчеством, а в педа-
гогике— ограничить свою работу советами, широкого порядка
указаниями и не считаться с требованиями учеников и особенно
учениц, жаждущих получить от него, как от любого учителя-
профессионала, прежде всего «уроки».1
Во-вторых, жизненный и художественный опыт привел Ру-
бинштейна к выводу, что в работе со взрослыми и способными
учениками его новая система занятий, не всегда дающая же-
ланный эффект сразу, в конечном итоге является самой целе-
сообразной. Он не обучал теперь учеников игре на фортепиано;
он воспитывал у них то мужество, которое столь необходимо
для творческой работы. Все бережнее стал относиться Рубин-
штейн к индивидуальности своих питомцев, все внимательнее —
к развитию у них самостоятельности, все больше значения стал
придавать самообучению и самовоспитанию. Он проявлял не-
примиримость к натаскиванию, лишающему учеников возмож-
ности обобщать полученные педагогические указания. «К черту
всю эту педагогику! — кричал он, по словам А. Гиппиус, на од-
ном из уроков.— Вы должны быть самостоятельнее!» Если же
речь шла о высокоодаренном ученике, то в этих случаях, по его
мнению, «тепличный режим» особенно опасен. После одного из
занятий с И. Гофманом Рубинштейн сказал Л. Вольф, присут-
ствовавшей на уроке: «В этом возрасте, если обладаешь гени-
альными способностями, надо уже самостоятельно работать...
Отец должен оставить юношу одного, он слишком ребячлив для
своего возраста».1 2 А после двух лет занятий с Гофманом он за-
претил своему ученику приходить к нему на уроки. Удивленный
и огорченный юноша задал вопрос: «Почему?» Последовал от-
вет: «Я рассказал вам все, что знаю о фортепианной игре
в подлинном смысле этого слова и о музыкальном исполнении...
1 А. Р у б и н ш т е й н. «Короб мыслей», л.. 75/39.
2 Е. Stargardt — Wolff. Wegbereiter grosser Musiker. Unter Ver-
wendung der Tageblatter, Briefe und vielen personlicnen Erinnerungen von Her-
mann und Louise Wolff. Berlin — Wisbaden, 1954, S. 49.
190
Если же вы не усвоили этого до сих пор,— ну, тогда убирайтесь
к черту!» Конечно, в этом случае Рубинштейн имел дело с ис-
ключительным музыкальным дарованием. Но и в работе с дру-
гими учениками, обладавшими значительно меньшими способ-
ностями, Рубинштейн придерживался близкой установки. Бу-
дучи человеком деспотичным и проявляя эту черту своего
характера в административной работе, он не был в последние
годы своей жизни деспотичным педагогом. Больше того, он ос-
терегался сильного воздействия своей личности на ученика. Он
понимал, что передать ученику свою индивидуальность, то есть
именно то, что делает его, Рубинштейна, великим артистом, он
не сможет, а излишней повелительностью и личным показом
добьется только того, что ученики будут стараться подражать
его манере играть.1
Наконец, в третьих, Рубинштейн изменил систему своей пе-
дагогической работы еще и потому, что стал придавать большое
значение усвоению учениками-пианистами общих закономерно-
стей музыкальных стилей. Поэтому, например, он нередко с уче-
никами своего класса на протяжении некоторого периода про-
ходил произведения одного композитора, и занятия его приоб-
ретали тогда характер семинара, посвященного тому или другому
стилю.
Итак, работая с молодыми пианистами, Рубинштейн ставил
перед ними определенные задачи и требования, но никогда не
занимался мелочным отшлифовыванием, лакировкой и показом
подробностей. Основная идея его педагогики заключалась в том,
чтобы вести ученика без помочей и по возможности скорее стать
«лишним».
Одно из требований, которое предъявлял Рубинштейн к уче-
нику, заключалось в предельно внимательном отношении к каж-
дому знаку нотного текста, бережному выполнению всего пред-
писанного автором. Иными словами, Рубинштейн призывал
учеников к сосредоточенному, объективному изучению текста
музыкального произведения. «Он всегда заставлял меня,— рас-
сказывает И. Гофман,— приносить с собой ноты, настаивая на
том, чтобы я играл все в точности так, как написано! Глазами,
прикованными к нотным страницам, Рубинштейн следил за
каждой нотой моей игры. Он, несомненно, был педантом, бук-
воедом, как бы это ни казалось невероятным, особенно если
принять во внимание вольности, которые он допускал, когда
сам играл те же произведения! Однажды я скромно обратил
его внимание на этот кажущийся парадокс; он ответил: «Когда
будете в моем возрасте, можете поступать, как я,— если су-
меете». Гофман, по-видимому, сознательно придал своим форму-
лировкам остроту: ни педантом, ни буквоедом Рубинштейн, ко-
нечно, не был, ибо в конечном счете он воспитывал внимание
1 См. А. Р у б и н ш т е й н. «Короб мыслей», л. 120/59 об.
191
к мысли и ее выражению, а не к записанной букве. При этом
он добивался глубокого понимания того, что находится «между
строк», на что авторская запись только намекает и что необхо-
димо оживить с помощью творческого воображения. Не лишне
отметить, что в начале работы над произведением он требовал
от учеников постижения композиционной логики произведения,
и в первую очередь гармонической логики. «Особенно будьте
внимательны к басам,— говорил он при этом.— Ясность гармо-
нии целиком и полностью зависит от басов» (А. Гиппиус).
Рассматривая внимание как необходимую предпосылку для
творческой работы, Рубинштейн требовал от учеников предель-
ной сосредоточенности во время исполнения музыки. Метод,
рекомендуемый им для развития творческой собранности, был,
казалось бы, очень прост. Он заключался в том, чтобы приучить
себя никогда не играть механически, без сознательной концен-
трации внимания на интерпретируемой музыке. В частности, Ру-
бинштейн считал крайне важным уметь «войти» в исполняемую
пьесу до того, как начинаешь играть. Для такой психологиче-
ской настройки (Станиславский называл ее «душевным гри-
мом») необходимо научиться, по мнению Рубинштейна, волевым
усилием представлять себе звуко-ритмический и эмоциональный
образ произведения, которое надо исполнить. Если Рубинштейн
замечал, что ученик начал играть не сосредоточившись, он
обычно сразу же, будь это на уроке, на экзамене или на кон-
церте, прерывал его и спрашивал: «Это вы начали играть или
рояль сам заиграл?» После этого он предлагал немного подо-
ждать, собраться, вызвать в своем воображении первые звуки
произведения и снова начать играть.1 На одном из уроков Ру-
бинштейн сказал Гофману: «...Раньше, чем ваши пальцы кос-
нутся клавиш, вы должны начать пьесу в уме, то есть предста-
вить себе мысленно темп, характер туше, и прежде всего способ
взятия первых звуков — все это до того, как начать играть фак-
тически. Да, между прочим, каков характер этой пьесы? Что
она — драматична, трагична, лирична, романтична, юмори-
стична, героична, возвышенна, мистична?» Иногда Рубинштейн
весьма своеобразным способом помогал ученику сосредото-
читься и «выманить» из своей эмоциональной памяти нужное
настроение: до исполнения учеником принесенной на урок пьесы
Рубинштейн сам садился за рояль и начинал импровизировать
в духе этой пьесы, а иногда и на ее темы; закончив играть, он
предлагал ученику сразу же начать исполнение разученного
произведения, как бы продолжив его импровизацию.
На указаниях, которые Рубинштейн делал ученикам, сказы-
валось его резко осуждающее отношение к трем фортепианно-
исполнительским стилям, получившим известное распростране-
ние в конце прошлого века: чувствительно-манерному, возбуж-
1 См. С. М. Майка пар. Годы учения, с. 75—76.
192
денно-аффектированному и псевдоакадемическому. И. Сливин-
ский позволил себе на одном из уроков сделать в начале пьесы
Шумана «Grillen» столь любимый в те годы многими пиани-
стами агогический нюанс: pesante—accelerando—allegro. Стоило
послушать, по словам Я. Витола, как издевался Рубинштейн
над этой манерой игры, как передразнивал и вышучивал Сли-
винского, как, имитируя его игру, сумел придать начальной
фразе сверхкомический характер.1 Столь же нетерпим был Ру-
бинштейн к чувствительному rubato или к неодновременному
удару левой и правой .руками клавишей, которые композитор
предписал брать одновременно. На одном из уроков Рубин-
штейн сказал Гофману: «Знаете ли вы, почему фортепианная
игра так трудна? Потому, что она таит в себе опасность стать
либо аффектированной, либо манерной; если же удается счаст-
ливо миновать обе эти западни, тогда перед ней возникает но-
вая угроза — оказаться сухой! Истина лежит между этими тре-
мя бедами!»
Герман Вольф в одном из писем заметил, что таких педаго-
гов, как Рубинштейн, никогда не было и что только на его за-
нятиях с учениками можно полностью познать его личность.
Г. Бюлова, на уроках которого Г. Вольф неоднократно присут-
ствовал, он относил к проницательным, саркастичным, крити-
кующим и строгим учителям. Рубинштейна же — к преисполнен-
ным поэзии, вдохновенным, вдохновляющим и остроумным про-
поведникам.1 2
С кем бы Рубинштейн ни занимался, он прежде всего терпе-
ливо выслушивал исполняемую пьесу от начала и до последней
ноты. Правда, выражение его лица при этом ежесекундно ме-
нялось, пальцы нервно сжимались, разжимались или «играли»
на крышке рояля. Его поведение было столь впечатляюще-выра-
зительно, что присутствовавшим становилось ясно, как именно
он хотел бы, чтобы сочинение было исполнено. Но он не преры-
вал играющего и обычно воздерживался от каких бы то ни было
замечаний. После прослушивания он лишь в редких случаях
показывал за инструментом, как следует, по его мнению, играть
тот или иной отрывок. Не только Гофману, но и другим учени-
кам он почти никогда не играл разучиваемой пьесы целиком:
он опасался сотворить своих учеников по образу и подобию
своему. На вопросы о технических приемах, методах разучива-
ния какого-либо места, об аппликатуре он отвечал неохотно, не-
редко отделываясь от назойливых учеников шуткой. Широко
известен ответ Рубинштейна Гофману, спросившему его отно-
сительно расстановки пальцев в каком-то сложном пассаже:
«Играйте его хоть носом, лишь бы хорошо звучало!» Подтекст
этой реплики означал, что ученик должен сам суметь себе
1 См. Jazeps Vitals. Manas dzives atminas, 291. 1pp.
2 См. E. Stargardt — Wolff. Wegbereiter grosser Musiker, S. 49.
193
помочь. Гофман заканчивает рассказ об этом эпизоде следую-
щими словами: «Играйте хоть носом!» Да, но если я расшибу
его до крови, где я возьму метафорический носовой платок?
В моем воображении! — И он был прав».
На занятиях с учениками Рубинштейн чаще всего прибегал
к «методу окольных путей», стремясь намеками, наводящими
вопросами, сопоставлениями и аналогиями расшевелить инициа-
тиву и разбудить музыкальную фантазию играющего. «Единст-
венный в своем роде метод его преподавания был таков,— пи-
сал Гофман,— что всякий другой учитель показался бы мне
похожим на школьного педанта. Рубинштейн избрал метод кос-
венного наставления посредством наводящих сравнений и
только в редких случаях касался музыкальных вопросов в стро-
гом смысле слова. Таким путем он стремился пробудить во мне
конкретно-музыкальное чутье как параллель к его обобще-
ниям. ..»
Некоторое представление о характере наводящих замечаний
Рубинштейна могут дать приводимые в виде примеров не-
сколько его реплик, записанных присутствовавшими на его за-
нятиях музыкантами. Нельзя, однако, забывать, что на учени-
ков оказывали воздействие не только сказанные Рубинштейном
слова, но и интонация его голоса, мимика и жестикуляция. Вот
ряд его реплик:
— Начало «Фантазии» Шумана: «Эту первую мысль надо
так произнести, продекламировать, как будто вы обращаетесь
ко всему человечеству, ко всему миру».
— Один из номеров «Симфонических этюдов» Шумана:
«Ваше исполнение — акварель, а здесь надо писать маслом».
— Дуэт из «Дон-Жуана» Моцарта — Листа: «Вы превра-
тили Церлину в драматическую особу. Надо играть наивно,
а вы так исполняете, будто поет донна Анна. Это должно зву-
чать весело и в то же время страстно, а все вместе — легко и
шутливо». Рубинштейн сыграл отрывок дуэта, имитируя кокет-
ство деревенской девушки не только звуками, по и своей ми-
микой. «Вот она подняла на него глаза, а вот потупила взор.
Нет, у вас — светская дама, а тут — крестьянка в белых
чулках».
— Вступление к Первой балладе Шопена: «Вот что означает
это вступление: слушайте, я расскажу всем вам печальную по-
весть. Должна быть слышна речь, надо играть декламационно».
— Прелюд № 4 ми минор Шопена: «Это целая поэма. Левая
рука — человеческая жизнь, повседневная, монотонная; ее надо
играть ровно, piano и гармонически очень ясно. Правая рука —
страдание и горе, достигающие кульминации в stretto. В конце
концов —это реквием».
— Скерцо из Сонаты Си-бемоль мажор Шуберта: «Венский
юмор. Улыбнитесь, ну улыбнитесь же наконец. Да, но не гу-
бами, пальцами своими улыбнитесь...»
194
В годы преподавания Рубинштейна в Петербургской консер-
ватории, когда ученики нередко приносили одно и то же произ-
ведение по нескольку раз, его указания часто весьма сущест-
венно менялись. На одном уроке он предлагал одно, на другом
отстаивал другое. Стремясь приучить к импровизационно-непо-
средственному интонированию музыки, он, по словам А. Гип-
пиус, порой говорил ученикам: «Когда светит солнце, играйте
это место forte, когда падает снег или идет дождь, играйте его
piano. А вот этот пассаж можно закончить большим crescendo,
когда льет дождь,— ах нет, лучше в хорошую погоду, и т. д.».
Занимаясь с Гофманом, Рубинштейн не позволял ему дважды
приносить на уроки одно и тоже сочинение, мотивируя свое за-
прещение тем, что юного пианиста может смутить вторжение но-
ной концепции, которую ему, Рубинштейну, захочется изложить
относительно истолкования данного сочинения.
Создал ли Рубинштейн, деятельность которого составляет
эпоху в истории пианизма, свою школу фортепианной педаго-
гики? Этот вопрос не раз обсуждался на страницах русской и
зарубежной прессы. Если судить только по количеству крупных
пианистов, обученных непосредственно Рубинштейном, то можно
прийти к выводу, что школы он не создал. Но это не так. Ру-
бинштейн оставил нам в наследство нечто большее, чем школа
в буквальном и общепринятом смысле этого слова: почти никто
из русских педагогов фортепианной игры его времени и бли-
жайших последующих лет не избежал сильного воздействия не
только его исполнительского искусства, но и его передовых пе-
дагогических принципов. А многие традиции рубинштейновской
педагогики и по сей день живут в фортепианных школах наших
крупнейших художников.
Сб. «На уроках Антона Рубинштейна». Л., 1964.
О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
МОЛОДОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
Размышления после Второго
Международного конкурса
имени П. И. Чайковского
Личность исполнителя воспитывается, конечно, всем тем, что
окружает юного музыканта и с чем он сталкивается: влиянием
среды, семьи и общественных организаций, воздействием педа-
гогов разных дисциплин и профессиональной практикой...
В статье все эти вопросы не могут быть, естественно, освещены.
В ней привлечено внимание лишь к некоторым проблемам фор-
мирования личности молодых исполнителей, главным образом
195
в занятиях педагогов, непосредственно обучающих исполнитель-
скому искусству в различных звеньях музыкального образова-
ния— в школе, училище, консерватории.
1
Со времени Второго Международного конкурса имени
П. И. Чайковского прошло 'Несколько месяцев. Конкурсу пред-
шествовал ряд прослушиваний наших молодых музыкантов, го-
товившихся к этому ответственному соревнованию,— в учебных
заведениях, на республиканских и всесоюзных отборочных ис-
пытаниях. На отборах и на самом конкурсе выявились одарен-
ные исполнители. Наиболее яркие из них решением жюри кон-
курса были расставлены по ступеням лауреатской лесенки. На
этой лесенке внушительное место заняли воспитанники совет-
ских исполнительских школ. Остается, казалось бы, только ра-
доваться победам.
Между тем многих из нас не покидает чувство известной
тревоги, особенно если речь идет о наших молодых пианистах.
Напомню некоторые факты. Спустя несколько дней после за-
крытия Первого конкурса имени Чайковского Министерство
культуры СССР созвало совещание приехавших на конкурс
педагогов ряда консерваторий. На этом совещании впервые
было обращено внимание на некоторые принципиальные недо-
статки в искусстве молодых исполнителей. Вскоре появились
высказывания на эту тему в нашей прессе.1 На комсомольском
собрании Московской консерватории состоялась дискуссия на
тему «Мешают ли конкурсы учебе?»1 2 На страницах газет, жур-
налов и трудов музыкальных вузов в период между первым и
вторым конкурсами имени Чайковского были опубликованы
статьи о воспитании самостоятельности у молодых исполните-
лей, о развитии индивидуальности учеников, о традициях и но-
ваторстве в музыкально-исполнительской педагогике.3
1 См., например, статьи: К. Аджемов. Из записок слушателя («Сов.
музыка», 1958, № 6); Л. Баренбойм. Размышления о прошедшем конкурсе
(«Сов. музыка», 1958, № 7); 3. Вартанян. После конкурса («Сов. куль-
тура», 1958, № 61): Э. Капп. О воспитании исполнительской молодежи
(«Сов. культура», 1958, № 68).
2 См. М Нестьева. Мешают ли конкурсы учебе? («Сов. музыка»,
1958, № 8).
3 См., например, статьи: М. Воскресенский. Заметки молодого му-
зыканта («Сов. музыка», 1959, № 8); А. Н и к о л а е в. О подготовке испол-
нителей («Сов. музыка», 1960, № 6); М. Т э р и а н. О подготовке оркестровых
музыкантов («Сов. музыка», 1960, № 7); Л. Ройзман. О воспитании пиа-
ниста-исполнителя («Сов. музыка», 1960, № 11); Л. Баренбойм. Рубин-
штейновские традиции и наша современность («Сов. музыка», 1961, № 12);
А. Готлиб. Воспитание творческой самостоятельности («Сов. музыка», 1962,
№ 1); Т. Гайдамович. Искать и творить («Сов. музыка», 1962, № 2);
М. Фейгин. Выявление и развитие индивидуальности ученика в форте-
196
Во время Второго конкурса имени Чайковского музыканты-
педагоги, съехавшиеся в столицу из разных городов Союза, не
переставали делиться друг с другом в кулуарах Большого зала
Московской консерватории тревожащими их мыслями. Не за-
молкают разговоры на эти темы и в наших учебных заведе-
ниях. ..
Нам представляется, что пора широко обсудить волнующие
наших исполнителей и педагогов вопросы. Мы смело и искренне
говорим в последнее время о тех или иных недостатках, прояв-
ляющихся в развитии нашего театрального искусства, кино, ли-
тературы, живописи, музыкального творчества; но становимся
почему-то робкими, когда дело касается музыкально-исполни-
тельского искусства и педагогики. Между тем о беспокоящих
нас явлениях надо сказать прямо и откровенно. Умалчивание,
недоговоренность, а тем более равнодушное и пассивное наблю-
дение за имеющимися недостатками недостойно нас, деятелей
советской музыки, кровно заинтересованных в судьбах нашего
исполнительского искусства. Уж лучше для пользы дела не-
сколько обострить постановку вопроса.
Так что же, в конечном счете, вселяет в нас тревогу?
2
Обобщая свои впечатления, оставшиеся после прослушива-
ний на отборах, на конкурсе и в концертах наших пианистов
самого молодого поколения, невольно приходишь к следующему
выводу. Спору нет, наша талантливая молодежь обладает, как
правило, великолепным профессионализмом. Молодые пианисты
нередко играют мастерски — и в виртуозном отношении, и
с точки зрения академических требований. Им привита музы-
кальная культура. Все у них отточено, отделано, отшлифовано,
отполировано до предела. Рояль, как правило, звучит красиво,
мягко и мощно. Их искусство нередко поражает и даже восхи-
щает. Но за редкими,— к сожалению, весьма редкими исключе-
ниями,— не волнует, не трогает, не возвышает, не будоражит
мысли — словом, не призывает к сопереживаниям и размышле-
ниям. Эмоциональная палитра молодых артистов не выходит за
пределы немногих красок, и играют они как-то удивительно
одинаково, точно видят перед собой один «идеальный образец»
и этот образец стремятся скопировать. Напомним азбучную ис-
тину: в искусстве копирование даже «идеальных образцов» не-
терпимо— оно ведет к штампам. Не ставя перед собой задачу,
опираясь на объективное содержание музыкального произведе-
ния, найти свою индивидуально-неповторимую его трактовку,
пианном классе (Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Труды
Гос. музыкально-педагогического института им. Гнесиных, вып. П. М., 1961).
197
молодые художники вольно или невольно отказываются от твор-
ческого начала в исполнительском искусстве. Конечно, идти по
проторенной дорожке легче, и многим кажется, что это лучший
путь дойти до «цели» — занять свое место на конкурсном пьеде-
стале почета. Но, следуя по проторенной дорожке и больше ду-
мая о пьедестале, чем об искусстве, вырастешь в безликого ко-
пировщика, а не в артиста: не разовьешь, даже если ты талант-
лив, свою личность, не воспитаешь в себе художественную
«одержимость» и «художественное подвижничество»; не. достиг-
нешь высот в искусстве и не вызовешь художественной радости
в сердцах слушателей...
Впрочем, некоторые из наших молодых исполнителей так
хорошо научены казаться «подлинными», что неопытный слуша-
тель не сразу различит, где оригинал и где копия. «Копия»,
чинная, благополучная и добродетельная, в которой «все на
месте» и не к чему придраться, какое-то время имеет успех.
Это-то и оказывается опасным: не так легко внушить молодым
людям сомнение в ценности их публичных успехов.
Итак, «одинаковость» наших молодых пианистов и наличие
в их игре штампов — вот что в первую очередь внушает тревогу.
Симптомы этой одинаковости начали проявляться уже довольно
давно. О них была речь и в статьях, появившихся после Пер-
вого Международного конкурса имени П. И. Чайковского, в том
числе и в очерке автора этих строк. К сожалению, высказанная
нами тогда надежда, что на следующем конкурсе наша «коман-
да» будет состоять из пианистов хороших и разных, не вполне
оправдалась.
Шаблоны, которым кое-кто следует слепо и без размышле-
ний, и однообразие начали в последнее время привлекать к себе
критическое внимание советской общественности не только в на-
шем музыкально-исполнительском искусстве. Этой теме посвя-
тили свои выступления многие видные деятели театра, живописи,
кино, литературы и науки. Так, по мнению ряда кинорежиссе-
ров, главным недостатком нашего киноискусства продолжает
еще оставаться «унылое единообразие» большинства картин, вы-
пускаемых на экран. «И не в этом ли главный грех многих на-
ших благополучных схематических картин,— писал недавно
С. Герасимов,— что в них, собственно говоря, разыгрывается
игра в поддавки, где все — автор сценария, режиссер, актеры и,
наконец, сам зритель — точно знают, какой ход нужно сделать,
чтобы игра продолжалась на обусловленных началах и чтобы
никто из участников не оказался в обиде».1 На эти же моменты
обратил внимание и И. Ильинский: «...Пожалуй, самая распро-
страненная болезнь сегодняшних театров — их нивелировка .друг
под друга, безрадостная похожесть... Стираются грани, исче-
1 С. Герасимов. Наше кино способно на большее. «Правда», 11 ап-
реля 1962 г.
198
зают отличия, трудно говорить о своеобразии режиссерских и
актерских манер. Спектакль, поставленный в одном театре,
с полным основанием может принадлежать еще двум-трем...»1
Еще два года назад Б. Бабочкин заметил: «Если бы сейчас по-
явился истинный гений театра... то всю свою взрывчатую силу
он должен был бы направить на то, чтоб высмеять и уничто-
жить актерские штампы».1 2 Напомню, что и Ю. Завадского, как
он недавно указывал, «все больше волнует и занимает проблема
разнообразия форм и приемов в искусстве. Проблема почерка,
стиля художника, когда при разности игры, оформления, режис-
серского решения спектакля общий творческий результат устрем-
лен к одной — высшей цели».3 Профессор В. В. Парии привлек
внимание к тому, какой вред складу мышления людей (я доба-
вил бы: в первую очередь молодых и неопытных людей) при-
несло провозглашение в биологической науке одного мнения,
одной точки зрения, одной научной гипотезы, одного научного
домысла последней инстанцией истины.4
И в музыкознании в последние годы появлялись,— да, впро-
чем, иногда и продолжают появляться,— работы как две капли
воды похожие друг на друга — по мыслям, изложению, компо-
зиции; работы, в которых имеется все, кроме оригинального
подхода и решения той или иной проблемы.
Таким образом, в различных областях нашей культуры при-
ходится сталкиваться с явлениями одного и того же порядка.
Нужно ли напоминать, что значительная доля вины ложится и
на нашу критику: в прошлые годы она нередко славословием
подменяла анализ, не разоблачала встречавшиеся художествен-
ные и научные трафареты и штампы, не призывала с уважением
принимать проявление индивидуального своеобразия в творче-
стве даровитых людей. Не только некоторые театры и некоторые
направления в науке, но в известной степени и наше музыкаль-
но-исполнительское искусство, педагогика и музыкальное обра-
зование оказались вне подлинной критики или, точнее, в атмо-
сфере пышного и безудержного захваливания.
Именно во всем этом надо искать причину тех недостатков
в игре наших молодых пианистов, которые исподволь накопля-
лись в течение ряда лет, но привлекли к себе внимание лишь
в последние годы.
Нет, не оскудела даровитыми исполнителями и великолеп-
ными педагогами наша страна. Но прав был С. В. Образцов,
который недавно сказал: «Таланты есть всегда. Но случается,
1 И. Ильинский. Если быть откровенным. «Литературная газета»,
12 апреля 1962 г.
2 Б. Бабочкин. Заметки об искусстве актера. «Октябрь», 1960, № 4.
3 Ю. Завадский. Разнообразие форм, единство целей. «Литературная
газета», 24 февраля 1962 г.
4 В. Пар ин. Авторитет фактов. См. «Литературная газета», 24 фев-
раля, 1962 г.
199
что те или иные обстоятельства мешают их раз-
витию».1 Недостатки, имеющиеся в игре нашей одареннейшей
молодежи, не ее вина, а ее беда, и задача наших музыкальных
критиков и, конечно, педагогов — открыть ей глаза, увлечь и, не
захваливая ее, направить на творческие поиски самостоятель-
ного пути в исполнительском искусстве.
3
В «Записях для себя» В. Вересаева имеются следующие
строки: «Вот перед окнами вашего кабинета — церковка. Зашел
к вам художник, увидел ее. «Какая замечательная церковь! Как
чувствуется в ней глубокое смирение русского народа, его про-
светленно-христианская примиренность с горькою своею судь-
бою! Это нужно зарисовать». Вы смотрите на его картину:
верно! Как на ладони вся христианская душа долготерпеливого
русского народа.
Зашел потом другой художник. «Какая характерная цер-
ковь! Как тут отражено глубочайшее, в сущности, равнодушие
русского народа ко всем небесным делам! В готике — какой там
могучий порыв к небу, все устремлено высоко вверх, к богу!
А посмотрите на эти купола: широкие как репа, основания и
то-о-ненькие хвостики к небу. Там, дескать, нам делать нечего.
Тут нужно устраивать жизнь, на земле!.. Это нужно зарисо-
вать!» Зарисовал, и вы видите: действительно, жизнь следует
устраивать на земле.
Третий художник пришел. «Какое великолепие! Посмотрите
на эти фиолетовые тона, как они играют на золоте куполов!
Нет, это нужно зарисовать!»
Вам тогда приходит мысль: по-видимому, правда, церковка
моя замечательная. Нужно сфотографировать. Сфотографиро-
вали. И — ничего! Ни христианского долготерпения, ни прене-
брежения к небу, ни красивой игры фиолетовых тонов. Все это
от себя внесли художники, каждый из них заставил нас взгля-
нуть на явление его глазами».1 2
Великолепно сказано! Подлинный художник всегда застав-
ляет читателя, зрителя или слушателя взглянуть на явление его,
художника, глазами. Поначалу представляется, что сказанное —
широко известная истина, которую, собственно говоря, никто и
не пытался опровергать. Все это так, но лишь до тех пор, пока
имеется в виду продуктивное искусство,— иными словами,
явление жизни, отражаемое в искусстве, а не произведе-
ние, истолковываемое исполнителем. Когда же речь заходит
о репродуктивном искусстве и особенно о музыкально-ис-
1 С. Образцов. Существует одно большое искусство. «Сов. культура»,
5 июня 1962 г. (разрядка моя.—Л. Б.).
2 В. Вересаев. Записи для себя. «Новый мир», 1960, № 1, с. 154.
200
полнительском, со стороны отдельных педагогов раздаются воз-
ражения, направленные, по существу говоря, против творческого
начала в интерпретации. Само собой разумеется, что неуваже-
ние к авторскому тексту или произвол в отношении объектив-
ного содержания музыкального произведения недопустимы, и
никто за них не ратует. Но никогда не следует забывать, что
богатство музыки — в многообразии исполнительских тракто-
вок. Направляясь на концерт того или иного артиста, мы вовсе
не хотим услышать (если только не закостенели в педагогиче-
ском догматизме) сонату Бетховена, Листа или Прокофьева
в «объективной трактовке». Нас интересует субъективный
«взгляд» на эту музыку, то есть ее индивидуальное творческое
прочтение Э. Гилельсом или С. Рихтером, М. Гринберг или
А. Фишер, В. Клиберном или Дж. Огдоном. И каждый из этих
артистов действительно по-своему «расскажет» нам сонату,
которую он исполняет: ведь перед нами не только превосходные
пианисты, но и яркие и разнохарактерные индивидуальности,
или, точнее: потому-то перед нами и превосходные пианисты, что
каждый из них обладает своей яркой индивидуальностью.
И право же, заметим попутно, праздное занятие решать «кон-
курсный» вопрос (к которому нередко, к сожалению, обра-
щаются недостаточно квалифицированные слушатели, а также
музыканты, менее любящие свое дело, чем ажиотаж), кто же
из названных или из неназванных артистов подобного масштаба
«выше». «Исполнитель только тогда хорош,— справедливо за-
метил член жюри прошедшего конкурса имени П. И. Чайков-
ского Гр. Пятигорский,— когда его нельзя сравнивать,
когда он личность».
Итак, с какой бы стороны ни подходить к поставленному во-
просу, мы возвращаемся с следующему исходному тезису: ис-
полнительское искусство, как и продуктивное искусство, требует
творческой личности, ищущей, смелой, не боящейся, если
современность этого требует, разрушить трафареты и штампы.
Все ли мы делаем теперь для того, чтобы в процессе обуче-
ния и формирования молодого музыканта выявить его индиви-
дуальность (а не нивелировать ее!), помочь ей раскрыться, сде-
лать ее более яркой? Не мешает ли что-либо и сегодня воспита-
нию творческой личности молодого артиста?
Пытаясь ответить на эти вопросы (и отнюдь не претендуя
при этом на полноту ответов), придется обратиться к некото-
рым сторонам нашей музыкально-исполнительской педагогики,
нашего музыкального образования и организации нашей кон-
цертной жизни.
4
Такого масштаба представительные творческие состязания,
как конкурсы имени Чайковского, по справедливости становятся
общественными явлениями исключительного значения не только
201
у нас, но и в международной музыкальной жизни. Эти конкурсы
помогают открыть широкую дорогу новым выдающимся талан-
там, способствуют творческому общению музыкантов разных
стран: молодых, участников соревнования, и старших, членов
жюри и гостей; привлекают внимание публики к музыкальному
искусству и тем расширяют круг любителей музыки; дают
возможность сопоставить различные творческие направления
в исполнительском искусстве и задуматься над путями его раз-
вития.
Таким образом, конкурсы имени Чайковского — праздники
музыкального искусства. Но укоренившиеся у нас за ряд по-
следних лет методы подготовки участников как к этому, так и
к другим ответственным международным конкурсам, бесчислен-
ные «промежуточные» конкурсы и отборы, слишком частые кон-
курсные соревнования внутри музыкальных учебных заведений,
словом, то, что нередко называют «конкурсоманией» (а сту-
денты, прибегая к не слишком симпатичному для автора этих
строк жаргону, зло именуют «конкурсной показухой»),— все это
отрицательным образом влияет на формирование нашей моло-
дежи. Прежде всего это сказывается на воспитании личности
музыкантов: независимо от субъективных намерений педагога
юноше или девушке часто внушается не столько любовь к ис-
кусству и к просветительской миссии артиста, сколько интерес
к «спортивным» достижениям в искусстве. Концертная эстрада
в глазах молодого исполнителя перестает быть в таких случаях
высокой общественной трибуной и превращается в спортивную
арену. Вот он и стремится сыграть так, чтобы «взять премию»,
а для этого, по его представлениям, следует сыграть столь «точ-
но», «верно», «крепко», и «законченно», чтобы удовлетворить
самые взыскательные требования всех членов «судейской кол-
легии».
Не могу не рассказать о характерном случае: весьма даро-
витый и умный студент, несмотря на настояния своего педагога,
администрации и общественных организаций вуза, в котором он
учился, решительно отказывался принять участие в ответствен-
ном конкурсе. «Почему?» — настойчиво добивались у него от-
вета. «Я слишком люблю музыку,— ответил молодой человек,—
а вызубривание и повторение одних и тех же сочинений в тече-
ние длительного времени уведет меня от нее!» Пусть этот моло-
дой человек и не вполне прав. Но в глубине души я убежден,
что именно из такого рода «строптивых» студентов в будущем
сформируются этически честные и безраздельно преданные ис-
кусству артисты, а значит — подлинные и достойные лауреаты
конкурсов!
Боясь быть ложно понятым, хочу уточнить свою мысль.
Я отнюдь не снимаю со счетов положительной стороны
конкурсных соревнований, в отдельных случаях даже в детских
музыкальных школах. Такие соревнования заставляют ученика
202
или студента настойчиво работать, закаляют его волю, воспиты-
вают артистическую смелость. Я лишь призываю к тому, чтобы
не преувеличивать значение такого рода соревнований, с долж-
ным тактом прибегать к этим формам воспитания и отбора мо-
лодых музыкантов и, главное, не слишком часто к ним обра-
щаться. Характерно, что Антон Рубинштейн (положивший
начало организации широких, международных музыкальных кон-
курсов), тщательно изучив конкурсную систему экзаменов, при-
нятую в Парижской консерватории, не согласился ни с этим
методом испытаний, ни с исполнением на этих испытаниях раз-
ными учащимися одних и тех же произведений. Он пришел
к выводу, что на определенном этапе развития молодого испол-
нителя, и прежде всего в учебном заведении, конкурсы вредны:
они сосредоточивают все внимание учащихся на их собственной
личности, сужают их кругозор и мешают планомерному и ин-
дивидуально направленному обучению и воспитанию.
В практике работы многих наших учебных заведений стала,
к сожалению, привычной такого рода картина. На каком-то
этапе обучения талантливых или просто способных подростков
и юношей, которые мало еще слышали музыки, плохо ее знают,
да и вообще не обладают широкими познаниями, начинают го-
товить к очередному «большому конкурсу», а следовательно,
к прослушиваниям в стенах учебного заведения и к отборам —
городским, республиканским, а иногда и всесоюзным. Предпо-
лагаемый участник конкурса получает определенную, преду-
смотренную этим конкурсом программу. Разучивание этой
программы под непосредственным и, я сказал бы, «сверхактив-
нейшим» руководством педагога длится порой весьма продолжи-
тельный срок, иной раз года по два. Подчеркнем, что в таких
случаях весьма незрелому еще молодому исполнителю часто
приходится работать не над теми произведениями, которые не-
обходимы для его развития как музыканта, а над теми, которые
нужно сыграть на конкурсе.
Педагог, занимаясь с учеником, сам этого не замечая, не-
редко превращается (или, точнее говоря, вырождается) в тре-
нера. Но тренер, столь нужный в спорте, в искусстве, как пра-
вило, приносит даровитому ученику больше вреда, чем пользы.
Тренер только и делает, что «тренирует»; а истинный педагог
учит искусству, системе работы над собой, над мастерством, над
произведением, а затем предоставляет ученику плыть самостоя-
тельно, становясь, если это нужно, его советчиком, а в отдель-
ных случаях — «режиссером». Пелена нередко застилает глаза
педагогу-тренеру (им становится порой, как это ни печально,
вынужденный обстоятельствами отличный педагог-музыкант), и
ему начинает казаться, что достаточно дать ученику сотню-дру-
гую уроков и показать, «как надо играть» то или иное сочине-
ние, и исполнение «будущего лауреата» станет ярким, интерес-
ным и впечатляющим. Печальное заблуждение! Такой нетерпе-
203
ливый педагог-торопыга своим назойливым вмешательством
в естественный процесс развития ученика способен лишь подго-
товить исполнителя, отученного от самостоятельного мышления
и добросовестно выполняющего проштудированную инструкцию,
а не пытливого художника с живой творческой инициативой и
фантазией.
Впрочем, к крайнему сожалению, на многих отборах «пер-
вым ученикам» отдается предпочтение перед ищущим, но не-
ровно играющим молодым артистом. Не убежден, что пианист
типа, скажем, Дж. Огдона легко пробил бы себе дорогу на не-
которых предварительных отборах к конкурсам: ему поставили
бы в укор «странное» и необычное исполнение сонаты Чайков-
ского или «Исламея» Балакирева и... закрыли бы путь к даль-
нейшим соревнованиям. А вот когда ученик играет «безупречно»
и так, «как принято» (если речь идет об отборе к «большому
конкурсу», то так, как стало принято играть в последние годы
в Москве), но неинтересно, он на этих предварительных сорев-
нованиях как в самом учебном заведении, так и за его преде-
лами, обычно «проходит». Да и педагога удостаивают похва-
лами— ведь он показал (!!) «отличную» педагогическую ра-
боту— научил ученика безукоризненно играть. Когда я слушаю
такого натруженного «первого ученика», мне становится как-fo
не по себе, очень стыдно и хочется воскликнуть: бедный юно-
ша— он стал объектом самопоказа педагога. Нельзя при всем
этом забывать и о цепной реакции: отбор на всякого рода про-
слушиваниях безукоризненно играющих «первых учеников», а
не «строптивых» молодых артистов, самым пагубным образом
сказывается и на вкусах публики, и на воспитании играющей
молодежи: эталон-то не тот!
Вернемся теперь к нашему подростку или юноше, готовя-
щемуся к очередному «большому» конкурсу. Если он прошел
предварительный отбор, ему предстоит еще не один раз испол-
нять все ту же программу, которая ему порядочно надоела,
на всякого рода дальнейших прослушиваниях. Эти неисчисли-
мые прослушивания губительно отзываются на молодом испол-
нителе.
Всякий раз он и его педагог будут получать различного рода
советы, часто противоположные, и, вольно или невольно прислу-
шиваясь к ним, неопытный исполнитель будет продолжать «от-
делывать» свою интерпретацию. О каких творческих поисках,
о каком развитии индивидуальности молодого артиста может
идти при этом речь!
Ну, а если наш предполагаемый ученик или студент не стал
лауреатом на очередном «большом» конкурсе? В этом случае,
особенно если он талантлив, вся конкурсная эпопея начинается
сызнова: его настойчиво и упорно готовят к следующему оче-
редному конкурсу; он начинает играть все точнее и точнее, все
крепче и крепче, все безукоризненнее и безукоризненнее; а аро-
204
мат его индивидуального дарования при этом как-то совсем не-
заметно испаряется...
Слышу возражения: «все это несколько преувеличено»,
«в действительности это не совсем так». Не стану спорить —
пусть «несколько преувеличено», пусть «не совсем так».
Но разве жизненная правда в той розовой идиллии, авторы ко-
торой ни о чем не тревожатся, потому что недостаточно любят
наше искусство, а не в этой картине, рисуя которую я, быть
может, несколько сгустил краски? Разве в пылу подготовки
к конкурсам некоторыми педагогами не забыта старая истина,
которую' не раз повторяли большие художники: в музыкальной
педагогике нет универсальных отмычек, отпирающих все замки;
здесь к каждому ученику, особенно если он даровит, необходимо
найти свой ключ!
Многие опытные и умные педагоги ясно отдают себе отчет
в том, сколь вредна для формирования личности играющего из-
лишне ранняя, а нередко и многократная подготовка талантли-
вых, но в широком плане незрелых учеников к конкурсам. Но
и эти педагоги вынуждены готовить своих учеников к кон-
курсам, хотя знают, что спокойная и планомерная работа при-
несет несравнимо большую пользу их питомцам. Что же, соб-
ственно говоря, вынуждает их так поступать? Ряд моментов,
из которых главный — опасение за артистическую будущность
своего воспитанника.
Один из наших ведущих педагогов-пианистов сокрушенно
сказал автору этих строк: «Ну что же поделаешь? Если до окон-
чания консерватории мой ученик (речь шла об очень даровитом
молодом человеке) не станет лауреатом, дорога на концертную
эстраду окажется для него закрытой: ни одна концертная орга-
низация не предоставит ему возможности выступать; ему при-
дется заняться другим видом музыкальной деятельности, ска-
жем, педагогикой; большая педагогическая нагрузка не позво-
лит ему творчески развиваться, и его талант постепенно угаснет.
Вот и приходится готовить его к конкурсам».
Действительно, в последние годы одно лишь звание «лауре-
ата» или, на худой конец, «дипломанта» какого-нибудь конкурса
открывает молодому исполнителю путь к широкой концертной
деятельности. Концертные организации проявляют безразличие
к самостоятельным поискам и выдвижению молодых артистов:
зачем, видимо рассуждают они, проявлять собственную инициа-
тиву, когда легче и... спокойнее пригласить «апробированного»
тем или другим авторитетным жюри исполнителя? Положение
в корне изменилось бы, если бы, скажем, по рекомендации
учебных заведений, авторитетных музыкантов-исполнителей и
критиков или печати, филармонии периодически и планомерно
организовывали дебюты молодых и еще неведомых аудитории
артистов в ответственных и широко посещаемых публикой кон-
цертах; если бы музыканты — ответственные представители кон-
205
цертных организаций — посещали выпускные экзамены в учеб-
ных заведениях и отбирали заинтересовавших их исполнителей;
если бы наши крупные дирижеры — такие, как Е. Мравинский,
Н. Рахлин, А. Гаук, К- Кондрашин и другие,— предоставляли
бы возможность в своих концертах, как это постоянно делал
в далеком прошлом Антон Рубинштейн-дирижер, выступать еще
не получившим известность молодым талантливым исполните-
лям. .. Словом, положение в корне изменилось бы, если бы кон-
курсы перестали быть чуть ли не единственной дорогой, ведущей
на концертные подмостки. Вместе с тем широкая исполнитель-
ская деятельность молодого человека до всяких конкурсов спо-
собствовала бы формированию его артистической индивидуаль-
ности.
Таков один из аспектов поставленной в этой статье про-
блемы формирования личности молодого исполнителя.
Журнал «Советская музыка», 1962, № 9.
ЕЩЕ РАЗ О ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
О «БАНАЛЬНОЙ ИСТИНЕ»:
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО — ТВОРЧЕСТВО
Как часто, к сожалению, педагоги различных звеньев музы-
кального образования, воспитывая у юных и молодых исполни-
телей уважение к авторской мысли и к объективной сущности
музыкального произведения, теряют в погоне за «правильно-
стью» исполнения важнейший ориентир в своей работе: забы-
вают или не понимают, что исполнительское искусство, кото-
рому они учат,— творчество.
Подлинно действенное исполнение как бы вбирает в себя
два момента:| время, которое отражено в музыкальном произве-
дении^ и время, в котором живет интерпретатор. Ведь каждая
эпоха понимает, раскрывает и исполняет великие произведения
искусства по-иному: поколение людей, прошедшее новый исто-
рический путь и обогащенное новым историческим опытом, на-
ходит в великих творениях прошлого нечто ранее незамеченное
или неизвестное. Как и все живое, исполнительское искусство
не может двигаться вперед, не обновляясь. С течением времени
одно понимание, одна трактовка музыкального или драматиче-
ского произведения нередко сменяется другой. Недавно Ю. За-
вадский писал: «Я мечтаю когда-нибудь и совсем по-новому по-
ставить «Вишневый сад» Чехова. Хочу, чтобы пьеса была
овеяна, пронизана музыкой Шостаковича,— по-моему, современ-
206
нейшего из современных композиторов. И чтобы спектакль (не
только, конечно, за счет музыки) получился насквозь современ-
ным— таким, каким может прозвучать Чехов сегодня из уст
сегодняшнего русского актера для сегодняшнего
зрителя».1 Педагога, зараженного бациллой догматизма, возму-
тит, вероятно, этот замысел, и он будет расценен как попытка
исказить Чехова. А ведь в этом замысле проявилось самое вы-
сокое уважение к автору: его творение рассматривается не как
музейный экспонат, а как нечто живое, органически входящее
в современную жизнь. И, право же, все это относится не только
к театру, но и к музыке! Играет ли пианист фугу Баха, сонату
Бетховена, пьесу Шумана или концерт Чайковского,— если он
живой и подлинный артист, он делится со слушателем и своими
думами о современности: это скажется как в отборе репертуара,
так и в характере его прочтения, отвечающего требованиям об-
щества.
Если педагог забывает о творческом начале, лежащем в ос-
нове исполнительского искусства, в его работу проникает дог-
матизм. Догматизм этот, который" нередко с юных лет приви-
вается ученикам, лишает их творческой смелости, притупляет
у них желание найти свое решение художественной проблемы и
не позволяет им даже приблизиться к пониманию того, что под-
линный художник вовсе не «охранитель законов», а творец,
который, опираясь на традиции и их развивая, создает нечто но-
вое, ранее не существовавшее, другими людьми, может быть, и
не предполагавшееся, даже не считавшееся возможным.
ИЗВЕЧНЫЙ СПОР О ТОЧНОСТИ И ВОЛЬНОСТИ
Спор о степени объективной точности и субъективной воль-
ности в исполнительском искусстве — не новый спор, и начался
он с той давней поры, когда исполнительская деятельность му-
зыканта отделилась от композиторской. В исторические пе-
риоды, когда артисты пренебрегали объективным содержанием
произведения, из уст композиторов порой раздавались по адресу
исполнителей гневные реплики, которые нельзя не признать
справедливыми. Но некоторые композиторы (например, Равель,
Стравинский) в своем гневе переходили границы и выступали
в таких случаях с опасными заявлениями: они не хотят, чтобы
их произведения «интерпретировали». Такие заявления порож-
дают исполнителей типа дирижера Р. Крафта, которого нам не-
давно довелось слышать: они, быть может, и выполняют тексто-
вые «предписания» автора, но одновременно убивают живое
начало в его музыке.
1 Ю. Завадский. Разнообразие форм, единство целей. «Известия»,
1962, № 142.
207
Любопытно, какими, на первый взгляд, неожиданными сто-
ронами спор об объективной точности и субъективной вольно-
сти оборачивается порой в наши дни в практике обучения моло-
дежи.
На одном из прослушиваний во время недавнего конкурса
имени Чайковского мне довелось услышать реплики двух сидев-
ших рядом со мной девочек-старшеклассниц, обучавшихся, как
потом выяснилось, в одной из специальных музыкальных школ.
Слушая игру нескольких даровитых молодых пианистов, де-
вочки эти, не умея и не желая вникнуть в замысел исполнителей,
обменивались замечаниями только одного порядка: все время
оказывалось, что участники конкурса играют и не «по-баховски»,
и не «по-моцартовски», и не «по-рахманиновски», и не «по-ли-
стовски». В перерыве я разговорился с моими молодыми сосед-
ками.
— Да откуда это вам так хорошо известно, как надо играть
«по-баховски» и как «по-моцартовски»?
— Мы учимся,— последовал ответ,—в такой-то школе,
у нас в классе и на вечерах часто играют Баха и Моцарта;
к тому же учительница показывала и говорила, как надо иг-
рать исполнявшиеся пьесы. А пианисты X и Y играли совсем
по-другому. Следовательно, они играли нехорошо, не по-ав-
торски.
Это были, конечно, детские рассуждения. Но в них в наив-
ной форме нашло отражение то, что с большой настойчивостью
и безапелляционностью внушают своим ученикам, а иногда и
студентам многие педагоги: во-первых, что может быть уста-
новлено раз и навсегда, на веки вечные, как следует играть,
«повинуясь воле автора», ту или иную пьесу Шуберта, Моцарта,
Чайковского, Танеева или Прокофьева; во-вторых, что они, пе-
дагоги, эту бесспорную истину познали и что ученикам надо
лишь следовать по указанному им пути; в-третьих, что учени-
кам надлежит слушать артистов, приложив к уху этакий «слу-
ховой микроскоп», с помощью которого можно решить вопрос,
«правильно» или «неправильно» выполнена каждая деталь,
каждый нюанс, каждый штрих.
Вот так воспитывают «первых учеников», «выполнителей»
педагогических предписаний, а не артистов! Тот педагог, кото-
рый пришел к выводу, что найденное им решение художествен-
ной проблемы — единственно правильное, который убедил себя,
что познал авторскую волю Баха и Моцарта, Бетховена и Шу,-
берта, Шопена и Шумана, Чайковского и Прокофьева,— словом,
тот педагог, который стал «всезнайкой» и уверовал, что непогре-
шим,— не может быть творческим художественным руководите-
лем и воспитателем молодежи. Если такой педагог обладает
даром внушения, его ученикам будет казаться, что искать-то,
собственно говоря, нечего, что надо только постичь найденное
педагогом. Не мешает в этой связи напомнить, что «авторской
208
волей» многие педагоги, сами того не замечая, объявляют то,
что они, педагоги, попросту говоря, любят и что унаследовали
от своих учителей; что творческие люди, какой бы большой ху-
дожественный опыт у них ни был, всегда хоть чуть-чуть «не
уверены» в познанном и именно поэтому двигаются вперед; что
в обучении искусству добивается подлинной (а не показной!)
победы не тот педагог, который убеждает себя и других, что
«все знает», а тот, который указывает ученику пути творческих
поисков, развивает фантазию, воображение, и, пользуясь не раз
повторявшейся в последнее время в печати формулировкой,
«учит мыслить».
ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ ЗНАНИЯХ
Сказанное может показаться односторонним и быть поэтому
превратно понято, если не подчеркнуть роль, какую играют
объективные знания в формировании личности молодого
музыканта. Школа должна, конечно, научить мыслить, искать и
помочь раскрытию индивидуальности. Но для этого она обязана
привести своего воспитанника к освоению культуры прошлого и
настоящего. Это основа, на которой только и может сформиро-
ваться творческая личность ученика. «Свое», «индивидуальное»,
питается знаниями, культурой и изучением жизни. Это, конечно,
трюизм. Но о нем нередко забывают те педагоги, которые, воз-
действуя на эмоциональную сферу ученика (что, вообще-то
говоря, очень важно в музыкально-исполнительской педаго-
гике) и надеясь на его спасительную интуицию, не ставят зада-
чей или не могут вооружить своего воспитанника нужными зна-
ниями.
Обучать в исполнительском классе «беззаконию», надеясь,
что оно приведет к развитию творческой фантазии ребенка или
юноши, само собой разумеется, бессмысленно и вредно. Обучать
можно и должно только «законам», не забывая, однако, что
догматичная «правильность» и «точность» столь же опасны в ис-
кусстве, как и анархическая вольность. Большой художник, ко-
нечно, не «законник», но глубоко и творчески познать законы
искусства он обязан!
В последнее время из статьи в статью перекочевывает мет-
кое речение: студент не сосуд, который нужно наполнить зна-
ниями, а светильник, который надо зажечь. Это меткая, образ-
ная и очень актуальная формулировка! Однако нельзя забы-
вать, что светильник молодого исполнителя, быть может, и
загорится на мгновение от эмоционального пламени педагога,
но сразу же погаснет, если в светильнике не будет горючего.
А этим горючим являются знания и культура. Есть догматиче-
ские знания — они убивают творчество: но есть «живые знания»,
приобретаемые в муках творческого труда, а не в тихой заводи
школярства. Без них факел не загорится, и молодому худож-
8 Заказ № 1730
209
нику нечем будет тогда осветить свой путь в новый мир, в «не-
ведомое» и «непознанное».
Далеко не всегда имеет место «неизбывное» или почти «не-
примиримое» противоречие между художественной школой и яр-
кой индивидуальностью. Все зависит от кругозора педагога и
от того, чему и как он учит. Если педагог считает свои эстети-
ческие вкусы единственно возможными; если рассматривает ис-
полнение ученика только «в микроскоп» (подчеркиваю слово
«только», ибо «микроскоп» также бывает нужен порой); если
учит, главным образом, эмоциональному накалу («переживай,
как я»),— противоречия между такой школой и индивидуально-
стью неизбежны. Но этот конфликт не возникнет, если педагог
понимает, что объективная сущность музыкального произведения
может быть раскрыта почти безгранично по-разному; если рас-
сматривает исполнение ученика не только «в микроскоп», но и
«в телескоп»; если свое, субъективное, не выдает за объектив-
ное; если обучает пониманию объективных законов искусства,
пониманию стилевых закономерностей, музыкальной логике и
при этом обладает таким широким кругозором, который позво-
ляет ему признать, что в искусстве установленные правила и
принятая логика могут быть порой нарушены. И характерно,
что именно из уст больших музыкантов-педагогов, исполнитель-
ское искусство которых отличалось большой свободой, много-
кратно раздавались призывы разрабатывать вопросы теории
и истории исполнительского искусства, изучать закономер-
ности стилей, особенности музыкального языка, исполнитель-
ских указаний и фактуры в произведениях великих компози-
торов.
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ «САМОПОКАЗЕ»
Несколько слов о «педагогическом самопоказе», иными сло-
вами, о стремлении отдельных педагогов так «обряжать» своих
воспитанников, чтобы они выглядели в данный момент лучше,
чем они есть на самом деле, а сами педагоги заслужили бы
славу мастеров своего дела.
Это явление не новое. Немало осуждающих слов по поводу
подобного «метода» работы высказывали крупнейшие педагоги
и методисты ряда поколений. Не желая набрасывать тень на
огромную массу наших превосходнейших и честнейших педаго-
гов, отдающих всю душу ученикам, нельзя, однако, пройти мимо
того факта, что «педагогический самопоказ» расцвел в различ-
ных звеньях музыкального образования. * Причину этого не-
трудно понять: качество педагогической работы нередко оцени-
валось в минувшие годы, а подчас оценивается и сегодня, либо
количеством «отличных» отметок, заработанных учениками,
либо количеством подготовленных победителей конкурсных со-
210
ревнований. Первоклассный педагог может обучить десятки от-
личных исполнителей, педагогов, концертмейстеров, — все равно
его работа не получит той высокой оценки, какой она заслужи-
вает, если он не подготовил «лауреата». К тому же далеко не
во всех школах, училищах и консерваториях руководители отде-
лов, кафедр, факультетов и всего учебного заведения изучают
работу педагогов и имеют возможность судить о ней по са-
мому существу ее, а не полагаясь лишь на ее внешние
результаты. В этой атмосфере распускаются ядовитые цветы
«педагогического самопоказа» и начинает порой звучать вред-
нейшая, если серьезно в нее вдуматься, формулировка: «в моем
классе все получают только отличные оценки» (а ведь правди-
вее было бы сказать по-иному: «в моем классе исполнение уче-
ников выглядит так, что все получают только отличные
оценки»).
Сколько гневных слов обрушила в последнее время наша
печать на это мерзкое слово «выглядеть»! «Хорошо выглядят»
завышенные оценки: они дают высокий процент успеваемости;
«хорошо выглядят» наспех сделанные вещи; они позволяют ра-
портовать о высоких показателях работы... Речь идет о разных
формах работы напоказ, которая столько бед принесла нам не
только в области культуры. В педагогике, в частности музы-
кальной, работа напоказ особенно опасна. И дело тут в первую
очередь не в музыкально-профессиональной стороне вопроса,
а в нравственной, в формировании личности будущего дея-
теля искусства.
Несколько времени назад И. Ильинский в откровенной и
прямой статье остро поставил вопрос: «Откуда этот цинизм
у нашей актерской молодежи?»1 Не мешало бы и нам, музы-
кантам, задуматься над тем же: откуда этот цинизм у некото-
рой части нашей музыкальной молодежи?
Ответ на этот вопрос во многом совпадает с тем, который
дал И. Ильинский. Если педагог на словах стремится вселить
в душу своего воспитанника веру в высокую просветительскую
миссию искусства и художника, а свою работу с учеником
строит «напоказ», он, педагог, сам, быть может, этого не созна-
вая, удобряет почву, на которой вырастут сорняки ханжества и
цинизма. Ученики —будь то дети, или взрослые — очень наблю-
дательны, и личность их формируется не столько под влиянием
слов, сколько под воздействием наших поступков.
Мы обязаны воспитывать у учеников гражданскую честность,
гражданскую активность и гражданское мужество. И, конечно,
не только встречающийся в нашей практике «педагогический
самопоказ» нравственно калечит их душу. Если руководитель
школы, в которой учится ребенок или юноша, из художника вы-
1 См. И. Ильинский. Если быть откровенным. «Литературная газета».
12 апреля 1962 г.
8* 211
рождается в чиновника, заботящегося о внешнем благополучии
во вверенном ему учреждении и о благопристойных «сводках»
и отчетах,— это когда-нибудь может отразиться на нравствен-
ном облике молодого музыканта и, следовательно, на его искус-
стве. Если молодежь видит, скажем, что очень даровитый ис-
полнитель забыл о высокой миссии советского художника, стал
угождать низменным инстинктам аудитории и несмотря на это
легко получает залы и завоевывает какую-то немалочисленную
часть слушателей, а мы, старшее поколение, не бьем в набат,
не разоблачаем это псевдоискусство, не повторяем изо дня
в день справедливых слов Гёте о том, что «техника в соедине-
нии с пошлостью — это самый страшный враг искусства»,— мы
наносим этим нашим воспитанникам нравственную травму. Если
молодежь видит, как ловко скроенные книжки и брошюры по
искусству, в которых высокое понятие современности подме-
няется конъюнктурной однодневкой, порой легко проходят из-
дательский путь и доходят до массовой аудитории, а мы сохра-
няем при этом равнодушие стороннего наблюдателя,— мы нрав-
ственно развращаем этих молодых людей...
Я не вышел за рамки поставленной темы: этическое воспи-
тание будущего музыканта — основа, на которой формируется
его художественная индивидуальность.
О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Нельзя не привлечь внимание к той роли, которую играет
самостоятельность в становлении творческого облика молодого
музыканта-исполнителя. Этот вопрос волнует в последнее время
деятелей искусств и науки. Статьи о воспитании у учащихся
школ и высших учебных заведений самостоятельности мышле-
ния не сходят со страниц нашей общей и специальной прессы.
Творческое мышление и творческое воображение развиваются
у молодого человека — будь он исполнитель или музыковед,
композитор или режиссер, писатель или математик,— только
в самостоятельных поисках, в самостоятельном сопоставлении
явлений, в самостоятельном отборе и оценке. А это обычно со-
провождается у молодежи не только ценными находками, но
ошибками и срывами. Этих промахов, иногда действительных,
а порой мнимых, мы боимся пуще огня. Не будем скрывать, по-
чему именно: из опасения, как бы эти промахи не запятнали
нашего педагогического лица. Вот мы и начинаем все разже-
вывать, «нянчиться» с учеником, за него работать; начинаем
обстругивать педагогическим рубанком исполнение, дипломную
работу, научную статью или диссертацию ученика. Из-за этого
ученик лишается самой большой радости — радости проявле-
ния инициативы, творческого начала и собственной ответствен-
ности.
212
Конечно, самостоятельность можно пробудить только у да-
ровитых или очень способных людей. Если у нашего воспитан-
ника нет призвания к музыкально-исполнительской деятельно-
сти, если в нем не тлеет хотя бы едва заметный творческий ого-
нек, который можно раздуть, педагогические усилия окажутся
тщетными.
Мы стали как-то забывать о значении таланта и призвания
в искусстве, педагогике, науке. Не будем бояться посредствен-
ного или бездарного исполнителя, педагога, руководителя или
организатора называть посредственным или бездарным, а та-
лантливого— талантливым! Л. Леонову принадлежат справед-
ливые слова: «Нельзя безнаказанно снимать „святость" с искус-
ства, утверждать, что здесь всякий может, если подналечь...
Но, кроме так называемого упорного труда, нужна одна спе-
циальная вещь, именуемая талантом»!1 Деятели, работающие
в области точных знаний (там результаты работы нагляднее и
осязаемее, чем в искусстве и в гуманитарных науках), это по-
няли, и сибирские ученые, как известно, выступили с девизом —
«будем искать таланты». Под этим девизом проходят детские
математические олимпиады, приемные испытания в вузы, под-
бор научных кадров и руководителей.
Я коснулся этого вопроса еще и потому, что с выискиванием
даровитых детей и юношей дело обстоит у нас совсем не так
благополучно, как это кажется на первый взгляд. «Дорогу та-
ланту»— еще не стало нашим лозунгом. В частности, это отно-
сится к специальным детским музыкальным школам. Известный
педагог П. С. Столярский в свое время часами бродил по рабо-
чим районам Одессы и, заходя в школы, детские сады, а то и
просто следя за играми детей во дворах, искал даровитых ребят
с таким рвением и тщательностью, с каким ищут алмазы. Ищем
ли мы сегодня талантливых детей с таким же рвением и тща-
тельностью среди всех слоев населения, в том числе в колхоз-
ной и рабочей среде? Не полагаемся ли мы порой на самотек,
а в последний момент,— больше боясь ответственности не за то,
что не нашли таланты, а за то, что не выполнили нормы при-
ема,— начинаем принимать в учебное заведение людей с по-
средственными способностями?
Но вернемся к воспитанию самостоятельности молодых ис-
полнителей.
Если мы действительно хотим развивать творческую само-
стоятельность молодых исполнителей, мы не сможем не оста-
новиться на вопросе об учебной перегрузке. Верную мысль вы-
сказал недавно академик А. Минц: в средней школе, когда идет
формирование организма ребенка и подростка, перегрузка со-
вершенно недопустима; в высшей же школе перегрузка неиз-
бежна и не страшна. Если молодой человек любит музыку, если
1 См. «Леонид Леонов о писательском труде». «Знамя», 1961, № 4, с. 184
213
музыкально-исполнительское искусство — его призвание, дело
его жизни, он должен раз и навсегда понять, что творческая
деятельность ни в какие регламенты часов не укладывается и
не может уложиться. У художника и ученого не бывает и, ве-
роятно, не может быть рабочего дня, в привычном значении
этого понятия.
Важно, однако, чтобы в этом нерегламентированном рабочем
дне молодого человека значительное место действительно зани-
мал творческий труд. А это настоятельно требует досуга. Не об
отдыхе идет речь, а о творческом досуге, о творческой
тишине, когда человек остается наедине с самим собой, со свои-
ми думами и планами, когда он размышляет, когда никто его не
теребит и никто ему не мешает. «Лирика...» — презрительно
скажет кто-нибудь из тех, кто не знает творческого труда, но на-
ходится около искусства или науки. Пусть так! Но без этой
«лирики» не смогут развиться ни творческая самостоятельность,
ни воображение, ни фантазия. Поэтому вопрос о свободном по-
сещении лекций, а в отдельных случаях и семинаров, студентами
консерваторий приобретает сейчас значительную актуальность.
С настоятельной рекомендацией свободного посещения лекций
в вузах (в сочетании с повышенной требовательностью к знани-
ям студентов) выступили в последнее время на страницах печати
многие видные деятели нашей культуры. Свободное посе-
щение лекций, кстати говоря, приведет к значительному улучше-
нию их качества и к большей ответственности лектора: на мало-
содержательных и неинтересных лекциях аудитории будут пусты.
Противники предоставления студентам права свободного по-
сещения лекций мотивируют свои возражения обычно тем, что
это может привести к отсеву студентов. Никакой беды в этом!
Беда скорее в том, что нерадивых и не подходящих для вуза по
своим способностям студентов изо всех сил тянут к финишу. Один
из профессоров Ленинградского университета рассказал о слу-
чайно подслушанном разговоре двух студенток разных курсов.
Первокурсница очень волновалась, опасаясь, как бы ее не от-
числили из университета, если она не сдаст в срок зачеты и эк-
замены. Старшекурсница, успокаивая ее, привела «образный»
пример: «Не бойся, университет — это вроде трамвая: трудно
попасть на площадку, если много народу, а уж если попал —
тебя обязательно довезут до конца». Доводят до финиша и
в консерваториях!
А не будет ли лучше для искусства, для консерваторий и для
самих учащихся, случайно забредших на огонек искусства и не
отвечающих вузовским требованиям, если они проучившись, ска-
жем, год, найдут более целесообразное применение своим си-
лам? Предложение, с которым выступил в последнее время ряд
деятелей высшей школы, представляется целесообразным. Речь
идет о том, чтобы увеличить контингент приема на первый курс
и признать нормальным отсев при переходе на второй. И, право
214
же, нельзя опять-таки не согласиться с академиком А. Минцем,
который писал: «Здесь не должно быть застывших норм. Лучше
идти по неверному пути один год, чем всю жизнь. Но в настоя-
щее время считается, что те вузы плохо работают, где велик от-
сев студентов. А на мой взгляд, именно в этих вузах профессора
и преподаватели наиболее бережно относятся к определению
призвания и способностям молодежи».1
Впрочем, когда молодой исполнитель поймет, что в учебном
заведении никто не будет его «тянуть» с курса на курс, что он
должен полагаться только на себя,— его воля и способности
к труду укрепятся, а отсев будет не так велик.
Школярство и перегрузка убивают в детях и молодых людях
свежесть восприятия. А ведь талант — это и есть свежесть вос-
приятия и продиктованная этой свежестью самостоятельность.
В детстве нам свойственны радостное ощущение яркости наблю-
даемого и удивительная пытливость. Как важно и вместе с тем
как трудно, обучая ребенка, девушку, юношу и прививая им
культуру, не притупить, а тем более не загасить трепетную све-
жесть восприятия и стремления по-своему подойти к явлениям
искусства!
Речь шла до сих пор о том, что мешает воспитанию само-
стоятельности у молодых исполнителей. Обратимся теперь к не-
которым моментам, стимулирующим развитие творческой само-
стоятельности.
В наши дни требует к себе особого внимания музицирование.
Наша музыкальная действительность благодаря радио, телеви-
дению и особенно благодаря записи музыки на пластинки и на
магнитофонные ленты коренным образом изменилась даже по
сравнению с недавним прошлым. Чтобы познакомиться с тем
или другим произведением, нет необходимости самим его сыг-
рать. Достаточно включить проигрыватель или магнитофон...
Но есть существенное различие между восприятием записан-
ной или кем-то исполненной музыки и активным, «собственно-
ручным» ее воспроизведением. Наличие кабинетов звукозаписи,
проигрывателей и магнитофонов привело к тому, что музициро-
вание, широко развитое в годы, когда училось мое поколение,
сейчас захирело. Из-за того, что молодые люди мало или вовсе
не музицируют, они не научаются читать с листа. И, наоборот,
из-за того, что они в значительном большинстве своем дурно чи-
тают ноты, они довольствуются пассивным восприятием запи-
санной музыки.
Как вырваться из этого заколдованного круга? Во-первых,
следует с самых ранних этапов обучения обращать внимание на
развитие навыков чтения с листа: иными словами, специально
заниматься с детьми и молодыми людьми этим делом не от слу-
чая к случаю, а повседневно. Во-вторых, необходимо воспиты-
- - \
у А. Минц. Школа, призвание, вуз. «Известия», 1962, № 219.
215
вать волю и интерес к музицированию. Достичь этого можно
только одним путем, и этот путь знали многие крупные худож-
ники, например Ф. М. Блуменфельд: з’аразить учащихся своим
примером, музицируя вместе с ними. Никогда не следует
забывать, что музицирование — одна из дорог, ведущая к само-
стоятельности.
Не следует забывать и о другой дороге, о которой мне при-
ходилось уже писать: работа ученика над современным репер-
туаром, для исполнения которого еще нет установившихся норм
и сформировавшихся традиций. Не имея возможности при разу-
чивании нового и еще не игранного произведения повторить при-
нятое и привычное, молодой исполнитель вынужден искать свою
трактовку, свое толкование, свою интерпретацию. Понимают ли
наши педагоги, учащиеся и молодые артисты, сколь важна ра-
бота над современной советской и передовой зарубежной музы-
кой для воспитания творческой самостоятельности? ..
Велики, очень велики достижения нашего исполнительства и
педагогики, но весьма серьезны и недостатки в воспитании моло-
дых исполнителей, и эти недостатки внушают тревогу. Об этих
недостатках я уже не в первый раз говорю потому, что люблю
советское искусство, люблю нашу замечательную молодежь и
верю, что общими усилиями эти недостатки будут преодолены.
Журнал «Советская музьма», 1963, № 9.
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
О чем пойдет здесь речь? О музыкальной педагогике как
о теории или как о практике музыкального воспитания и обуче-
ния? Об общем музыкальном воспитании или об обучении игре
на инструменте? О музыкальном обучении любителя или про-
фессионала? О детях, отроках или взрослых? Об обучении му-
зыкальной композиции или исполнительскому искусству, теории
музыки или ее истории?
Музыкальная педагогика — понятие широкое, и оно, конечно,
не исчерпывается всем перечисленным. Впрочем, я и не соби-
раюсь касаться различных ее видов, форм, разделов. Речь здесь
пойдет о нескольких общих вопросах музыкальной педагогики и,
естественно, о тех из них, которые кажутся мне сегодня животре-
пещущими и актуальными. Если по ходу дела я и остановлюсь
на фортепианной педагогике, наиболее мне близкой, то лишь как
на иллюстрации к общим положениям. ..
И тут я вступлю в спор с самим собой. Сознание мое сверлит
мысль:
216
— Разве о некоторых из вопросов, которые будут затронуты
в этой статье, ты уже не писал на страницах «Советской му-
зыки»? Да и не только ты, но и ряд других авторов! Спорили
с тобой и с другими? Возражали в печати? Нет, не спорили и не
возражали. Отразилось ли на практике то, за что вы ратовали?
Вероятно, в очень малой степени или вовсе не отразилось. Так
нужно ли еще раз, пусть и в ином ракурсе, останавливать вни-
мание на новых задачах и недостатках нашей музыкальной пе-
дагогики?
— Ты призываешь к равнодушию?—отвечаю я искушаю-
щему меня «демону пессимизма».— Равнодушие — и педаго-
гика!? Равнодушие — и работа с детьми и молодежью!? Нет,
я стою на том, что всякая мысль, высказанная в печати или
с трибуны, если мысль эта правильна и своевременна, раньше
или позже даст свои плоды, принесет практические результаты.
Сама жизнь, внушение жизни должны этому помочь и помогут.
— Пиши, пиши! Но не забудь, скажем, о таком факте. Вот
уже не один раз наши виднейшие музыкальные деятели резко
выступали в печати против «потока пошлости, примитивизма и
даже уродства»,1 который под маркой музыкально-эстрадных
жанров проникает в эфир и сказывается на общем музыкальном
и культурном уровне страны. Пойди включи приемник или теле-
визор! Ты и сегодня нередко попадешь в тот же мирок музыкаль-
ного мещанства! Не спорят, но и не выполняют благих поже-
ланий. ..
— Да, сегодня не выполняют. Но раздадутся еще голоса,
хор голосов, и радио- и телепропаганда плохой эстрадной му-
зыки, столь мешающие нашей работе с детьми и с молодежью,
прекратятся, обязательно прекратятся. Сомнений в этом быть
не может! Что же касается нашей музыкальной педагогики, то,
прекрасно отдавая себе отчет в том, что ей есть чем гордиться
(и, конечно, не только и даже не столько числом победителей на
всевозможных конкурсах), я не буду касаться ее бесспорных
достижений. На новом этапе перед музыкальной педагогикой
встают новые задачи. К некоторым из них я и хочу привлечь
внимание, а для этого без утайки и умалчиваний сказать об
опасностях и недостатках...
ОБ ОДНОЙ АЗБУЧНОЙ ИСТИНЕ
Ребенок, любящий петь и подбирать песенки на инструменте,
поступает в музыкальную школу. Проходят годы. И вот на оче-
редном испытании он «бойко», «крепко» «активно» играет не-
сколько пьес. В экзаменационной ведомости проставляется высо-
1 См. А. В. Свешников. Размышления вслух. «Сов. культура», 1965,
№ 1$0.
217
кая оценка и делается запись: «Играет живо, сделал большие
успехи». Правда, гладкая или, наоборот, разукрашенная завитуш-
ками игра его в первом случае скучна, как обструганные дере-
вяшки, а в другом — приторна. Это никого по смущает — ведь
все так хорошо «сделано». Слушающим неведомо, что ученик
потерял интерес к музыке, перестал любить ее. Знает это лишь
тот, кто учит ребенка, но то ли не придает этому значения, то ли
надеется, что со временем все наладится само собой. Раньше, па
пороге школьных лет, ребенок безо всякого принуждения усажи-
вался за рояль, что-то играл по слуху и сочинял; распевал пе-
сенки и внимательно слушал музыку в радиопередачах. Теперь
он «бойко» играет, но от влюбленности в музыку, от интереса
к ней не осталось и следа. Его обучали так, что он вглядывался
и изучал «деревья», но потерял способность наслаждаться кра-
сотой «леса». ..
Когда же мы наконец поймем, что перед нами педагогический
брак и что содеян он — пользуюсь давним выражением Б. Асафь-
ева — «обучателем» игры на фортепиано, скрипке, хорового пе-
ния и т. п., «обучателем» навыкам ремесла, а не истинным пе-
дагогом-музыкантом!
Видимо, некоторые азбучные истины нужно время от вре-
мени напоминать: основа основ любой музыкально-педагогиче-
ской работы в том-то и заключается, чтобы влюбить ученика
в искусство, научить его — именно научить!—восхищаться не-
повторимыми, ни с чем другим не сопоставимыми чертами му-
зыкального произведения — то ли «Дедом-Морозом» Шумана, то
ли сонатой Моцарта, то ли фугой Шостаковича. «Бегите от «су-
харей» и схоластов,— говорил в свое время режиссер А. По-
пов.— Искусство — это сгорание, подвиг. В тихой заводи не ро-
дилось ни одного подлинно художественного произведения».1
А ведь «тихая заводь» и благополучно-ремесленная деятель-
ность в ней «обучателей» равно опасны (а в иных случаях и гу-
бительны) как для ученика общеобразовательной школы, изу-
чающего музыку и поющего в хоре, так и для профессионала,
заканчивающего аспирантуру!
В наши дни особенно важно разжечь у обучающихся огонек
«влюбленности» в серьезную музыку и непрестанно раздувать
этот огонек. Почему же именно в наши дни? На то свои глубо-
кие причины.
Благодаря радио, телевидению и долгоиграющим пластинкам
количество музыкальных впечатлений, которое получает теперь
ребенок или взрослый, не может идти ни в какое сравнение
с тем, какое он получал в сравнительно недалеком прошлом. Но
как ни радостен сам по себе тот факт, что огромная масса на-
рода приобщается к музыке, было бы неверно не замечать дру-
1 А. Попов. Бегите от «сухарей» и «схоластов». «Сов. культура», 9 ок-
тября 1962 г.
218
гой, вовсе не столь радостной, стороны дела: вследствие этой
доступности музыка становится для многих слушателей чем-то
обыденным и будничным.1
Вот включен радиоприемник или поставлена пластинка. За-
звучала в великолепном исполнении симфония Бетховена или
Шостаковича. А слушатель, не вникая в существо этой заде-
вающей за живое и хватающей за сердце музыки, под разда-
ющиеся звуки болтает, ест, готовит обед... С музыкального
искусства тем самым снимается покров необычного и значитель-
ного. «Мы лишили искусство святости, мы сделали слишком об-
щедоступным это дело». Эти слова сказаны Л. Леоновым.1 2 Быть
может, эта формулировка и лишена точности, но в основе своей
она справедлива.
В радио- и телепередачах часто приучают к нарочито невни-
мательному и — я бы не побоялся сказать — антимузыкальному
восприятию музыки. В самом деле, во время исполнения симфо-
нии или сонаты нередко убирается звучность, и на фоне еле
слышной музыки раздается громкий голос диктора или лектора-
музыковеда, что-то поясняющего (подчеркну: речь идет не
о разборе по фрагментам музыкального произведения, не об ил-
люстративной музыке, не о мелодекламации и не о коротких
тактичных репликах). Скажи после всего этого школьнику, что
музыка должна быть окружена тишиной и что во время испол-
нения не должно быть произнесено ни слова; или — что еще су-
щественней— приучи вслушиваться в процесс развития му-
зыки, во взаимосвязь музыкальных оборотов, в логику разра-
ботки материала!
В сложившихся благодаря новым техническим средствам
воспроизведения музыки условиях ее восприятия особенно важ-
но воспитать должное отношение к ней («влюбленность!»).
А этого педагог сможет добиться только в том случае, если уме-
ет воспользоваться таким «оружием», как увлекательность.
Существует еще одно обстоятельство, с которым нельзя не
считаться. В наши дни, как никогда раньше, легкая музыка за-
нимает в музыкальном быту огромное место. Немалое число лю-
дей любит ее, и, если иметь в виду образцы высокого качества,
а не «макулатуру», которая звучит подчас даже в детских радио-
и телепередачах, ничего плохого в этом нет. Слушать эту му-
зыку приятно и нетрудно. Она отвлекает от житейских тревог и
неприятностей, успокаивает, служит для отдыха и развлечения.
С первого же прослушивания легко запомнить мелодию и харак-
терный ритм той или иной песенки или танца, воспроизвести их.
Это доставляет удовольствие, иногда убаюкивает. Можно про-
слушать пьесу целиком, а можно — и отдельные особо понра-
1 Этой теме была посвящена статья М. Ройтерштейна «Нужна координа-
ция». «Сов. музыка», 1966, № 4.
2 «Леонид Леонов о писательском труде». «Знамя», 1961, № 4, с. 184.
219
вившиеся фрагменты. Восприятие этой музыки не требует спе-
циального напряжения, сосредоточенного непрерывного вслуши-
вания и мыслительной работы. ..
Никогда до начала музыкальных радиопередач (т. е. при-
мерно с 1928 г.) и широкого распространения пластинок (при-
мерно с середины 30-х гг.) музыка легкого жанра не занимала
такого значительного места в музыкальном быту. С этим не мо-
жет не считаться музыкальная педагогика. Слух привыкает
«скользить» по произведению, выхватывая отдельные полюбив-
шиеся обороты. Это в известной степени притупляет музыкаль-
ное восприятие слушателя: ведь для того, чтобы вслушаться и
понять серьезную музыку, следить за постепенно раскрываю-
щейся звуковой панорамой, нужен умственный труд, привычка
преодолевать слуховую инерцию...
Вот для чего (и, конечно, не только для этого) на всех сту-
пенях обучения нам, как воздух, нужна музыкальная педаго-
гика, способная помочь ученику заразиться и воспламениться
серьезным искусством, приучить к свежести и непредвзятости
музыкального восприятия.
.. .И тут, кроме великих педагогов-музыкантов, в памяти
всплывает фигура словесника и историка Льва Николаевича
Поливанова, в том ее виде, в каком она описана,— нет, точнее,
выгравирована или вылеплена,— Андреем Белым в его воспо-
минаниях.1 Убежден, что в страницы этой книги, посвященные
Поливанову, должен вслушаться и вчитаться педагог любой
специальности, особенно же педагог, обучающий искусству. Но и
здесь не могу не привести двух фрагментов.
Изучается Шекспир в старшем классе. «.. .Будьте уверены:
после этого урока воспитанник... будет в годах урывать все сво-
бодное время, чтобы отдаться чтению Шекспира и проблеме те-
атра. .. Ему уже заодно будет подана великая воспитательная
роль театра,— с визгом, с криком, с брыком длинных подскаки-
вающих ног, с Росси, детали игры которого будут поданы учени-
кам. .. После такого разбора и даже воспроизведения жестов
Росси,— кончено: весь класс... по законам Овидиевой метамор-
фозы превращен в «шекспиристов»; отныне — Шекспир, Малый
театр, Ермолова, гастроли Муне-Сюлли вытеснили приготовление
уроков... Был урок объяснения роли Шекспира; произошло со-
бытие, выгравировавшее в целом классе неугасающую любовь
к театру; и — навсегда».
А вот и некоторые выводы: «Воспоминания о Поливанове от-
того так трудны, что они сводятся... к воспоминаниям эффек-
тов возжжения им в нас, «воспитанниках», разного рода «люб-
вей»; градация этих «любвей» — градация классов; в каждом
на что-нибудь открывались глаза...»
1 См. Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М,—Л., 1930,
с. 260-292.
220
Все это происходило в конце прошлого столетия. Но не со-
держится ли в приведенных отрывках ответ на вопрос, постав-
ленный совсем недавно членом-корреспондентом Академии педа-
гогических наук В. Сухомлинским: «Дети любят читать Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, но вот начинается «про-
хождение» произведений этих писателей на уроке, и интерес под-
ростка к книге часто начинает гаснуть. В чем дело?»1 Как здесь
не вспомнить — в который раз!-—ставшие крылатыми слова Плу-
тарха: ученик-—это не сосуд, который следует наполнить зна-
ниями, а светильник, который надо возжечь!
А если говорить о музыкальной педагогике, то в силу самой
специфики музыки, без зажженного и возвышающего душу све-
тильника не воспитать ни любителя, ни профессионала: пусть
содержание искусства звуков и не исчерпывается одной лишь
его эмоциональной стороной, но ведь без проникновения в эмо-
циональный мир музыки ее и не поймешь!
Тут я слышу голос рассудительного и недовольного чита-
теля:
— Все это так. Спору нет, вы указали на важную задачу му-
зыкальной педагогики. Можно привести, конечно, и примеры му-
зыкантов, обладающих исключительным педагогическим талан-
том. Но все же каковы те конкретные методические пути, идя
по которым можно вызвать у ученика — ребенка и взрослого —
любовь к искусству?
В этих заметках я не предполагал этого касаться, тем более
что методы музыкального воспитания ребенка и взрослого, лю-
бителя и профессионала, начинающего и подвинутого во многом
отличны друг от друга. И все же совсем уйти от поставленного
вопроса я не хотел бы.
Надо сразу же сказать: значительнейшая доля успеха нахо-
дится в зависимости от личности педагога — от его увлеченно-
сти музыкой; отзывчивости на красоту; проницательного внима-
ния к тому, что таится в глубине вещей, а не на их поверхности;
от его своеобычности и умения думать не по стандарту; от его
воли и добросовестности — иными словами, от способности пре-
одолевать «сопротивление материала» и ненависти к равнодуш-
ной и небрежной работе по формуле «сойдет и так»...
Мы перестали в последнее время с должным вниманием и
уважением относиться к педагогическому таланту, по
сущности своей неброскому, а как-то стали подымать
на щит то, что я назвал бы педагогической удачливостью. По-
видимому, Шопен-педагог не пользовался бы сегодня нашим
благоволением: удачливой-то его работа ведь не была.
Но вернемся к личности педагога. Все то, что о ней говори-
лось, не ново, и о том, что «воспитательная сила изливается
*В. Су хо м л и иски й. Парадоксы обучения. «Литературная газета»,
16 сентября 1965 г.
221
только из живого источника человеческой личности», говорил
еще Ушинский. Б. Асафьев же, говоря о музыке, ставил вопрос
еще определеннее и резче: «Только тот, кто поистине одержим
стихией искусства и насыщен им, имеет право развивать вос-
приятие искусства в других».1
Ну, а если не «одержим» и не «насыщен»? Бросить педагоги-
ческую работу на том основании, что выше своего уровня не
прыгнешь? Конечно, никакие статьи, доклады, методические кон-
ференции, пособия, программы сами по себе не научат педагога
увлекательно работать. Но они могут побудить его заняться с а -
мовоспитанием, а это само по себе уже не так мало.
Что же касается самих методов воспитания, то тут не следует
проходить мимо известного, но часто на практике забываемого
положения: эмоции — в данном случае «влюбленность» в му-
зыку— невозможно воспитать ни нажимом, ни приказом, ни на-
вязыванием своей точки зрения или своих переживаний. Неопыт-
ный учитель, уподобляясь человеку, объясняющему краски сле-
пому, может, конечно, попытаться напрямик, «в лоб» заставить
своего воспитанника восхищаться музыкой и переживать ее. Но
кто же не знает, что это не принесет плодов, а в иных случаях
уведет от музыки?
Тут действуют преимущественно окольные пути и, ко-
нечно, постоянство усилий, которое отличает всякую ум-
ную педагогическую работу.
В одном случае педагог прибегнет к анализу, поведет своего
воспитанника, пользуясь словами Л. Толстого, по «лабиринту
сцеплений, в котором состоит сущность искусства», и привлечет
внимание к «законам, которые служат основанием для этих сцеп-
лений». Прибегая к логике, учитель укажет своему питомцу путь
постепенного постижения художественного творения и, переходя
с ним со ступеньки на ступеньку, поможет приблизиться к миру
композитора и понять, что искусство нередко проявляется в тон-
чайших и еле приметных усилениях и ослаблениях. Это тот ме-
тод «наблюдения искусства», наблюдения за свершающимися
в музыкальном произведении изменениями и преобразованиями,
к использованию которого еще в 20-е годы призывал педагогов
Б. Асафьев. Да, поверяя алгеброй гармонию, учитель способен
воспитать и эмоциональное переживание.
В другом случае—а может быть, и не в другом, а одновре-
менно с первым — педагог попросту обратится к воспитанию вни-
мания ученика и приучит к неторопливой работе. Не к медлен-
ной игре, а к спокойному и сосредоточенному вслушиванию, ко-
торое не позволило бы слуху проскочить мимо значительного и
существенного. И снова награда — одухотворенное переживание
музыки.
1 Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и обра-
зовании, под ред. Е. М. Орловой. М.— Л., 1965, с. 33 (разрядка моя.— Л. Б.).
222
В третьем случае педагог, обладающий даром образно и без
вульгарности говорить о музыке, прибегнет к сопоставлениям,
к сличениям разной музыки, а может быть, «вымыслом» прольет
немного света на истинное содержание произведения...
В четвертом случае постарается заразить своего воспитан-
ника собственным исполнением, дирижированием, подпева-
нием, ритмическим притопыванием... Смотришь-—и эмоциональ-
ный мир воспитанника расцвел.
В пятом, шестом, седьмом... случаях импровизационно найдет
именно то, что нужно данному ученику в данной ситуации...
Прервем это перечисление и обратимся к тем, кто учит ис-
полнительскому искусству безразлично профессионалов или
любителей, детей или взрослых людей. Мне уже не раз прихо-
дилось писать (и поэтому не буду здесь развивать эту тему), что
педагог — независимо от того, проходит ли он со своим питом-
цем маленькую прелюдию Баха или сложную сонату Бетхо-
вена,— не имеет права терять важнейший ориентир в своей ра-
боте: воспитывая уважение к авторской мысли и к объективной
сущности произведения, забывать, что учит-то он в конечном
счете творчеству, учит исполнению, а не только «выполнению».
А без этого понимания ведь не «влюбишь» своего ученика в му-
зыку.
Здесь, пожалуй, следует подчеркнуть, что в сказанном нет
и крупицы неуважения к ремеслу, которым также надо научить
восхищаться. Ремеслом надо владеть, и слово это вовсе не оскор-
бительное или бранное. К тому же умелец, как принято было
в прошлые времена называть человека, в совершенстве освоив-
шего ремесло, владел ведь и элементами творчества.
О СБЛИЖЕНИИ «КОМПОЗИТОРСКОГО»
И «ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО» НАЧАЛ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Должен ли каждый обучающийся хоть в самой минималь-
ной степени владеть умением импровизировать и сочинять
простейшую музыку, практически знать, как она создается и
даже записывается? Сама постановка вопроса некоторым по-
кажется утопичной. Однако это не так.
Известно, что в XVIII веке и в более ранние времена музы-
канты — не только профессионалы, но и «просвещенные любите-
ли»— и исполняли, и импровизировали, и сочиняли музыку. Ис-
полнитель был одновременно и композитором; создатель музыки
был в то же время и интерпретатором. Музыкант вводил в уже
сочиненную музыку — особенно в концерты и вариации — длин-
ные импровизационные фиоритуры, вступления-связки, каденции,
изменения в фактуру и т. п. Если иметь в виду широкие круги
223
музыкантов, то в первые годы XIX века началось разделение
форм деятельности: исполнители, из импровизаторов превратив-
шиеся в интерпретаторов, начали делать свое дело, компози-
торы— свое. На протяжении десятилетий исполнители и боль-
шинство «любителей» в массе своей все дальше и дальше ухо-
дили от сочинения музыки. Пропасть между интерпретатором
и творцом музыки становилась все шире и шире. Заметим по-
путно, что аналогичное разделение труда характерно и для дру-
гих видов музыкальной деятельности. Еще в конце прошлого и
в начале нынешнего столетий теоретик музыки и композитор
чаще всего совмещались в одном лице. Ныне же музыковеды
не владеют обычно даже простейшими элементами композитор-
ского мастерства, разве лишь сочиняют фугу в классе полифо-
нии. Еще несколько десятилетий назад пианистов обучали в кон-
серваториях инструментовке, и они, пусть примитивно, науча-
лись чтению партитур, умели сделать простейшую оркестровку
и фортепианное переложение несложной партитуры. Теперь даже
этого нет...
А между тем все великие артисты — имею в виду тех, кто вно-
сил нечто новое в исполнительство,— либо были композиторами,
либо владели композиторским ремеслом. Примеры общеизве-
стны, и их нет нужды здесь повторять. С другой же стороны,
даже самое малое и примитивное собственное сочинительство на
любом этапе обучения от школьного до вузовского плодотвор-
нейше сказывается на том, как дети и взрослые относятся к му-
зыке и как ее интерпретируют. Познать сопротивление музы-
кального материала, который сам же и создаешь,— великое
дело!
Процесс разделения композиторской и исполнительской дея-
тельности в известном смысле носит односторонний характер. Он
в несравненно большей степени затронул исполнителей и в мень-
шей— сочинителей музыки: композитор обязательно учится иг-
рать на каком-либо инструменте (на фортепиано во всяком
случае); исполнитель же сочинять и импровизировать не обу-
чается ни в школах, ни в училищах, ни в консерваториях.
Если даже способному ребенку, который несколько лет про-
учился музыке, надо, скажем, присочинить простенький акком-
панемент к песенке, он нередко оказывается совершенно беспо-
мощным.
Не зашел ли процесс специализации слишком далеко и не
стал ли пагубным образом сказываться на музыкальном воспи-
тании и обучении? Разделение труда музыкантов было вызвано
глубокими социальными и историческими причинами, и никто,
конечно, не предлагает повернуть историю вспять и обучать те-
перь музыке так, как это практиковалось в XVIII веке. Но не
следует ли искать некоторых путей сближения исполнительской
и композиторской педагогики? И в первую очередь обучать иг-
рающих на каком-либо инструменте простейшим формам сочи-
224
нения музыки?1 Такое обучение сыграет огромную роль в общем
музыкальном развитии ребенка, пусть даже это и отнимет неко-
торое время от тренировки и несколько задержит техническое
продвижение ученика.
Высказанные мысли не новы, но они не были в нашей музы-
кальной педагогике претворены в жизнь и оказались забытыми.
Еще в 20-е годы с аналогичными идеями выступали музыкаль-
ные деятели и у нас, и за рубежом.
У нас — Б. Асафьев, чьи высказывания, опубликованные
в 1926 году, в период бурной перестройки музыкального воспита-
ния и обучения в молодой Советской республике и интенсивных
поисков новых форм музыкально-педагогической работы, не по-
теряли своей жизненной важности и сегодня. Вот некоторые из
них.
«„Композиторство” не должно ограничиваться специализаци-
ей и замкнутым кругом людей особенно одаренных. Это злейшая
ошибка старой музыкальной педагогики... Разве певец, ведущий
подголосок в народном хоре и вызвавший одобрение слушателей
ловким „вывертом" голоса или изобретенным им тут же новым
вариантом подголоска,— не „инстинктивный" композитор? Впол-
не естественно предположить, что у большинства людей имеются
в потенции задатки композиторского дара...»
«Единственным выходом, по существу оздоравливающим му-
зыкальный детский инстинкт, является вызывание творческого
дара: способности изобретения и комбинирования материала.
Никто на „ремесло" композитора не покушается... Воспитывать
же музыкально-творческие навыки следует, во-первых потому,
что каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искус-
ства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и це-
нить все хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интен-
сивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает».
Дальше Б. Асафьев развивает мысль о необходимости стиму-
лировать у детей способности к импровизации. Он обращает вни-
мание на то, как бывает обычно оживлен ребенок, когда говорит
о чем-то, им самим увиденном и пережитом, или рассказывает
им сочиненную сказку, и как, наоборот, внутренне скован и «офи-
циален», когда повторяет нечто заученное против его желания и
не заинтересовавшее его. «Так происходит и в музыке. Е1оэтому
1 В несколько иной связи и имея в виду вузовское обучение об этом же
справедливо писал Я. Мильштейн: «И надо ли говорить о том, сколь важным
представляется нам сближение композиторов и исполнителей еще со школь-
ной скамьи. Следует предоставить композиторам возможность получить полно-
ценное исполнительское образование... а исполнителей приблизить к компо-
зиторскому обучению (факультативные курсы, творческие встречи т. д.). По-
вторяю: все наши усилия должны быть направлены не на разъединение, а на
соединение двух некогда нераздельных музыкальных организмов». (Я. Миль-
штейн. Истоки артистизма и мастерства. «Сов. культура», 13 октября
1964 г.).
225
как только у детей накопится некоторое достаточное количество
слуховых впечатлений, необходимо попробовать с ними импро-
визировать».1
Почему все это не привилось у нас — во всяком случае
в массовой музыкальной педагогике? По многим причинам,
о которых речь впереди, но вовсе не потому, что идеи эти уто-
пичны. Одну из этих причин назову сейчас: не была разработана
практическая методика, которая позволила бы осуществить та-
кое музыкальное воспитание, и не были подготовлены соответ-
ствующие учебные пособия.
Под практической! мелодикой я вовсе не разумею нечто точно
регламентированное, раз и навсегда установленное и чуть ли не
распределенное по отдельным урокам. Имею в виду другое: ори-
ентировочно намеченные практические методы работы, гибкие,
меняющиеся и требующие проявления педагогической инициа-
тивы, но опирающиеся на твердые музыкально-педагогические
принципы. В таком понимании практическая методика, основан-
ная на идеях, почти совпадавших с асафьевскими, была разрабо-
тана К. Орфом и сотрудничавшими с ним педагогами. Исходный
тезис К. Орфа мог бы принадлежать и Асафьеву: «...Я стре-
мился активизировать музицирование учеников путем импрови-
зации и создания набросков собственной музыки».1 2 Методика
музыкального воспитания К. Орфа, использовавшая некоторые
положения Э. Жак-Далькроза, выросла из его педагогических
экспериментов, которые были им начаты в 1924 году и прерваны
в годы фашизма («...все идеи, развитые в Шульверке,— писал
впоследствии К. Орф,— были смыты политической волной как
нежелательные...»). До этого вынужденного перерыва была из-
дана в 1932 году первая версия Шульверка. Но в своем оконча-
тельном виде орфовская методика и учебный материал к ней
были оформлены в пяти основных томах Шульверка, которые
были опубликованы в 1950—1954 годах. Система эта получила
с того времени широчайшее распространение, а сам «Шульверк»
с изменениями, вызванными соответствующей национальной му-
зыкой, вышел в свет в американском, английском, бразильском,
греческом, датском, испанском, нидерландском, португальском,
французском, шведском и японском вариантах.
Какие пути музыкального воспитания и обучения предлагает
Орф? Хотя на русском языке специальных работ о его методике
нет,3 в рамках этой статьи нет возможности ее подробно анали-
1 Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и обра-
зовании, с. 72, 98 и 100.
2 Carl Orff. Das Schulwerk — Riickblick und Ausblick (Orff-Institut, Jahr-
buch 1963, B. Schott’s Sohne, Mainz, 1964, S. 14).
3 «Шульверку» посвящены, правда несколько страниц, в очень хорошей
книге О. Леонтьевой об Орфе. Но автор не ставил перед собой задачу де-
тально осветить музыкально-педагогические вопросы и, естественно, сосредо-
точил внимание на основных музыкальных композициях Орфа.
226
зировать. Ограничусь поэтому самым кратким тезисным изложе-
нием его путей «элементарного музыкального обучения». При
этом я буду опираться не столько на опубликованные материалы,
сколько на беседу с К. Орфом группы советских музыкантов,
в числе которых был и я.
Вот какие мысли пылко и с огромной внутренней убежден-
ностью развивал перед нами Орф:
1. Надо поставить ученика в такие условия, в которых он
оказывается вынужденным сам «творить» музыку. Один из та-
ких методов — дать ребенку (слух которого обычно воспитан на
современных песне и танце, звучащих по радио, в телепередачах
и т. п.) инструмент с непривычным для него простейшим звуко-
рядом (допустим, пентатоническим) и предоставить ему возмож-
ность «сочинять» на нем свои мелодические обороты в процессе
индивидуального, а еще важнее — коллективного музицирования.
2. Техника игры на фортепиано, скрипке, виолончели, клар-
нете и других такого рода инструментах сложна. На начальном
этапе она отнимает у ребенка все его внимание, энергию и эмо-
ционально сковывает его. Поэтому, до того как начать обучение
на сложных музыкальных инструментах, он должен быть с до-
школьного возраста приучен к коллективному музицированию
на элементарных инструментах, почти не требующих специаль-
ной выучки. Инструменты эти должны сочетать предельную про-
стоту и очень высокие акустические качества. (Такие инстру-
менты, созданные К. Орфом в сотрудничестве с известным
инструментоведом К. Заксом, звучат действительно обворожи-
тельно!)
3. Следует опираться, особенно на начальном этапе, на самое
простое — на «элементарную музыку». Уже само это понятие
определяет правильный путь воспитания. «Элементарная му-
зыка» никогда не была и не могла быть чистой музыкой. Она
всегда была неразрывно связана с жестом, танцем, пантомимой
и словом. Ее нужно самому создавать и быть не столько ее
«слушателем», сколько «участником». Должно обратиться к эле-
ментарным инструментам, элементарным движениям, элемен-
тарным текстам, элементарным музыкальным оборотам и фор-
мам. Орфовская система исходит из убеждения, что почти не
бывает детей, вовсе лишенных музыкальности, и что, найдя со-
ответствующие пути, можно почти каждого привлечь к музыке.
4. Детская «элементарная музыка» должна опираться на свой
национальный фольклорный материал. Впрочем, детский фольк-
лор разных народов во многом близок друг другу. Фольклор
всегда варьируется и изменяется, без этого он ветшает и гибнет;
он настоятельно требует творческих модификаций. Пьеска, напи-
санная Шубертом или Шуманом, должна быть сыграна ребен-
ком в том виде, в каком она записана автором. На фольклорном
же материале дети могут проявить свою творческую изобрета-
тельность.
227
5. В массовой музыкальной педагогике переходить от освое-
ния одних «элементов» музыки к другим следует в большинстве
случаев очень постепенно. Долгое творческое изучение «простей-
шего» в его разных вариантах (в том числе и инструментально-
колористических) будет служить фундаментом для дальнейшего
музыкального развития ребенка. На этом принципе и построены
все пять томов «Шульверка», первый из которых целиком вы-
держан в пятиступенном ладу;
6. Развитие творческих способностей ученика в одной об-
ласти обязательно отразится и на другой. Пусть ребенок и не
станет музыкантом. Но творческая инициатива, заложенная на
музыкальных занятиях, скажется на всем том, что он будет де-
лать в дальнейшем, став рабочим или ученым, врачом или инже-
нером.1
Никто не предлагает слепо следовать по пути, проложенному
Орфом, хотя мне этот путь представляется весьма заманчивым.
Но и сам «Шульверк», и методика занятий на его основе заслу-
живают серьезного изучения, приспособления к национальным
особенностям нашей музыки, проверки в условиях широко по-
ставленных музыкально-педагогических экспериментов.
Должны быть проверены и доводы противников этой системы,
и особенно три из них: во-первых, тех, кто считает, что орфов-
ский инструментарий (ксилофоны, металлофоны, блокфлейты и
другие) может увести детей от «певучести»; во-вторых, тех, кто
утверждает, что элементарные инструменты воспитывают у уча-
щихся представление о легкости музицирования и что в даль-
нейшем, при переходе к сложным инструментам, в обучении воз-
никают чисто психологические сложности; в-третьих, тех, кто
полагает, что дети излишне длительное время получают ограни-
ченные определенными рамками «элементарной музыки» и по-
этому недостаточно разнообразные музыкальные впечатления и
что этим может быть сужен их музыкальный кругозор.
Так или иначе, но орфовская система музыкального воспита-
ния разработала конкретные пути сближения «композиторского»
и «исполнительского» начал в музыкальной педагогике. Могут ли
быть другие пути такого сближения? Вероятно, могут быть, но их
нужно заново создавать и не следует — еще раз подчеркиваю —
проходить мимо уже открытого и сделанного.
Что же касается самого этого сближения, то ряд фактов сви-
детельствует о том, что вопрос этот привлекает к себе все боль-
шее и большее внимание. В частности, было бы неверно прохо-
дить мимо одного примечательного обстоятельства: некоторые
композиторы создают детские и юношеские произведения, в ко-
1 По воспоминаниям Д. Менделеева, выдающийся математик П. Чебышев
говорил ему, что «учительница музыки своими уроками более всех иных учи-
телей сделала из него то, чем он был в своей плодотворной жизненной дея-
тельности».
228
торых то в одном, то в другом месте остаются незаполнен-
ными или частично заполненными отдельные такты; молодому
исполнителю предлагается по материалу пьесы заполнить
пустоты.
ОБ «ЭЛЕМЕНТАРНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ»
Вне зависимости от того, идет ли речь о любителе или про-
фессионале, начинающем или подвинутом ученике, пианисте
или скрипаче, исполнителе или композиторе, в поле внимания и
в кругу забот педагога должно быть развитие комплекса способ-
ностей, навыков и умений, который необходим для всякого че-
ловека, обучающегося музыке. Назовем его «элементарным му-
зыкальным комплексом» и попытаемся определить, из каких
основных компонентов он должен состоять.1
Не претендуя на исчерпывающую полноту, я выделил бы сле-
дующие пять компонентов: переживание музыки, музыкальный
слух, чувство музыкального ритма, умение сосредоточенно «на-
блюдать» за течением музыки, навыки и умения читать музыку.
О воспитании у ученика эмоционального отклика на музыку
была уже речь в начале статьи.
Несколько замечаний о слухе. Много верного и справедли-
вого говорилось и писалось о воспитании звуковысотного слуха,
ладового чувства, тембрового слуха, музыкально-слуховых пред-
ставлений, «слышащих глазах» (Б. М. Теплов), «слышащих ру-
ках» (С. И. Савшинский)... Здесь следует, пожалуй, напомнить
лишь о направленности слухового воспитания в классе рояля или
скрипки, на уроках сольфеджио или на занятиях по пению: имею
в виду, во-первых, формирование интонационного музыкального
слуха и, во-вторых, воспитание «свежести», «наивности» музы-
кально-слухового восприятия.
Бернард Шоу когда-то сказал, что запись речи совершенно
беспомощна, когда надо передать интонацию; что есть, напри-
мер, несколько десятков способов по-разному сказать самое
простое слово «да» и «нет» и только один-единственный способ
их написать. Музыкальная запись не отличается в этом смысле
1 Само собой разумеется, что в него прежде всего входит музыкальность.
Психолог Б. М. Теплов, великолепная работа которого «Психология музы-
кальных способностей» еще недостаточно оценена широкими кругами музы-
кантов, дал очень точное общее определение музыкальности как качественно
своеобразного сочетания способностей, необходимых для успешного занятия
музыкальной деятельностью (включая сюда и слушательскую) в отличие от
всякой иной; а затем отметил, что «центром музыкальности» является спо-
собность эмоционального отклика на музыку, сочетающегося с тонким слухо-
вым ее восприятием. То, что я называю «элементарным музыкальным ком-
плексом», включает, однако, не только определенные способности, но и
некоторые навыки и умения, которые, естественно, с этими способно-
стями связаны.
229
от словесной: она столь же или почти столь же беспомощна
в знаковой фиксации интонационной выразительности. Запись
может поэтому увести от формирования интонационного слуха,
если в воспитании и обучении не уделять этому должного вни-
мания. Талантливые, умные и опытные педагоги-музыканты всех
специальностей, независимо от того, работают ли они с детьми
или со взрослыми, это знают и, осознанно или сами не отдавая
себе в этом отчета, развивают такого рода «выразительный»
слух учеников.
Для иллюстрации сказанного напомню кое-что из того, о чем
мне приходилось писать в работах, посвященных педагогике
Ф. Блуменфельда. По его словам, один из его знакомых, брав-
ший уроки у Ленского, рассказывал, как этот крупнейший актер
и педагог обучал в разных интонационных вариантах произно-
сить самые простые слова и короткие фразы. Это же Блумен-
фельд рекомендовал и молодым музыкантам: скажем, внутренне
услышать, произнести про себя, а потом воспроизвести какой-
нибудь интервал очень ласково, затем попробовать тот же ин-
тервал, изменив только интонационную устремленность, услы-
шать и пропеть повелительно и гневно... Только такого рода
вслушивание и характерное произнесение интервалов способно
развить подлинный музыкальный слух. Отсюда постоянное
стремление Блуменфельда воспитать у молодых музыкантов спо-
собность слышать-переживать упругость, напряженность, сопро-
тивляемость мелодических интервалов внутри лада...
То, что было названо выше «свежестью», «наивностью» слуха,
может быть также показано на примере педагогики Блумен-
фельда. Тут мне придется повторить то, о чем я уже писал. Блу-
менфельд начинал свою музыкально-воспитательную работу
с того, что каким-то незаметным и не привлекавшим к себе вни-
мания методом пытался «счистить» со слуха ученика коросту
вульгаризмов и трафаретов. Он справедливо полагал, что музы-
кант, обладающий «интеллигентностью и наивностью слуха», бу-
дет себе представлять и играть каждую музыкальную мысль
как-то по-иному, по-особому, короче говоря, «по-своему»; тот
же, кто неспособен освободиться от штампов и шаблонов, слы-
шит как рутинер, догматик, «музыкальный обыватель», «как все»
и удовлетворяется лишенными своеобразия и потускневшими от
времени интонационными шаблонами. Слуховая творческая ак-
тивность первого способна вернуть музыкальным оборотам, утра-
тившим свежесть красок, выразительную силу, первозданную яр-
кость и чистоту; слух второго держит его в шорах, ограничивает
творческую свободу, сужает музыкальный кругозор, заставляет
и новое сводить к трафаретному и привычному. Я уже как-то
приводил слова Ф. М. Блуменфельда, записанные мною много
лет назад: «...Самое скверное и опасное — слуховая рутина!
Она-то и разрушает все творческое. Как дирижеру мне часто при-
ходилось сталкиваться со слуховой рутиной оркестровых музы-
230
кантов, а как педагогу — со слуховой рутиной молодых пианис-
тов, в чем часто бывают повинны педагоги-догматики!»
Тут я слышу недовольную реплику читателя:
— О чем вы говорите? О тех тонкостях слухового воспитания,
которое можно развить на высшей стадии обучения? А по мне,
пусть бы ученик пел чисто: уже одним этим я буду удовлетворен.
Вот мой ответ:
— Все это не так, и удовлетвориться тем, что ученик чисто
споет выученный номер из учебника сольфеджио, нельзя. В том-
то и дело, что этими «тонкостями» (как названо сказанное об
интонационном слухе и о «непредвзятости» слухового восприя-
тия) должна быть «пронизана» вся работа по воспитанию слуха.
Без этого ученик не сумеет в конечном счете ни чисто и осмыс-
ленно петь с листа, ни выразительно произнести музыку
голосом или на инструменте.
— Вы, видимо, настаиваете на том, чтобы такое воспитание
велось не только на занятиях по сольфеджио, но и в классе
рояля, скрипки, кларнета?
— Да, конечно, и притом с первых шагов обучения и на про-
тяжении всего пути работы с учеником. Впрочем, это тоже азбуч-
ная истина.
— Но где же методика такой работы?
— Вот это замечание по существу. Тут-то действительно сде-
лано еще мало. Вот почему, обучая ребенка, например, игре
на фортепиано, педагог в первые месяцы занимается развитием
слуха (пением и подбиранием), а затем прекращает эту ра-
боту.
О чувстве музыкального ритма и его воспитании написано
много верного, высказан ряд дельных и полезных советов.1 Но
о двух моментах, как мне представляется, нередко забывают:
во-первых, о выразительном значении самой метрической пуль-
сации и, во-вторых, о том, как важно научить пониманию-про-
чувствованию исторически изменявшихся и меняющихся вре-
менных музыкальных категорий. Поясню эти два тезиса.1 2
Один из видных зарубежных музыковедов, Рудольф Штег-
лих, который много внимания уделяет в своих трудах музыкаль-
1 К сожалению, широкие круги наших педагогов незнакомы с теми прак-
тическими положениями Э. Жак-Далькроза, которые изложены в его послед-
них трудах. Одно время у нас по недоразумению обвиняли Далькроза чуть
ли не в формализме. Погрешил здесь и такой тонкий исследователь, как
Б. Теплов, который опирался в своем суждении на одну, может быть и не-
точную, формулировку замечательного швейцарского педагога в его ранней
работе (см. Б. М. Теплов. Психология музыкальных способностей,
с. 284—285).
2 Здесь я частично использую послесловие мое к книге Е. и П. Бадура-
Скода «Интерпретация Моцарта». М., 1972.
231
ному ритму, присутствовал как-то на уроке с начинающим уче-
ником. Учительница, поинтересовавшись, подбирал ли ребенок
музыку на фортепиано, и получив утвердительный ответ, попро-
сила его что-либо сыграть. Тот сыграл с естественными метро-
ритмическими акцентами популярную немецкую детскую песенку
«Hanschen klein, geht allein»:
сыграл в темпе Andante так, как и напевал ее, представляя
себе — в соответствии с текстом — идущего маленького Ганса.
Недостаточно ритмически подчеркнутое, по мнению учительницы,
исполнение не удовлетворило ее, и она потребовала одинакового
или почти одинакового скандирования каждой ноты. Так убива-
лось с первых же шагов обучения то естественное элементарное
ритмическое чувство, которое позволило музыкальному ребенку
живо ощутить иерархию тактовых ударов и выразительно спеть
и сыграть песенку. «С маленьким Гансом,— замечает Р. Штег-
лих,— обошлись на фортепианном уроке не лучше, чем с каким-
нибудь моцартовским Andante в концертном зале».1
Конечно, о сильных, слабых, относительно сильных и отно-
сительно слабых долях часто говорят и пишут. Но нередко за-
бывают, что эта равномерная пульсация с ее разнохарактерными
акцентами-—вовсе не «арифметика»; что эти тончайшие и не
поддающиеся сознательному расчету взаимосвязи и регулиро-
вание опорных и неопорных моментов уже сами по себе при-
дают музыке определенную выразительность; что, наконец, на-
рушение этой чуткой иерархии метроритмических акцентов или
их нивелировка неизбежно скажутся на каждой произнесенной
музыкальной мысли. Сама по себе метрическая пульсация, взя-
тая и вне зависимости от указанной иерархии долей, может так-
же носить разный характер: то это тяжелая поступь, то легкий
шаг, то острые и резкие «уколы», то плавные и мягкие удары, то
глубокое, а то поверхностное дыхание, то еле ощутимые бие-
ния. ..
Учим ли мы все это переживать? Воспитываем ли в этом
направлении ритмическое чувство ученика? Далеко не всегда.
Несколько слов об исторически меняющемся метроритме.
Чувство музыкального ритма, как не раз указывалось психо-
логами, имеет в своей основе моторную и эмоциональную при-
роду. Вот почему все то, что связано с осознанием, воспроизве-
дением и восприятием в музыке временных отношений, может
быть пережито и прочувствовано, но не может быть полностью
понято с помощью логических рассуждений. Вмешательство со-
знания во все тонкости темпо-ритмического процесса и попытки
1 R. Steglich. Tut Mozart nicht zuleide (Acta Mozartina, 7. Jahrgang.
1950, Heft 2, S. 22).
232
его проанализировать к добру не приводят. Асафьев, отметив-
ший, «что ритм — это то, что дает движение (жизнь) музыке»,
и указавший, что «происхождение ритма в нашем дыхании,
в подъеме и падении, в напряжении и успокоении, в достигании
и отдыхе»,— был прав, сказав, что ритм легко ощутить, но
трудно осознать и определить.1
По-видимому, каждый исторический период вносит в пережи-
вание музыкального ритма нечто свое, и это сказывается, ко-
нечно, с особенной рельефностью в танцах: в музыковедческих
работах неоднократно отмечалось, что музыкально-ритмическое
движение в «эпоху» менуэта с его плавной поступью и степен-
ными поклонами было иным, чем в «эпоху» вальса с его сколь-
жениями и поступательным кружением. XX столетие принесло
с собой новую музыкально-ритмическую пульсацию. Вокруг нас
звучат эстрадные ансамбли и оркестры, джазы; порой даже ба-
ховская и генделевская музыка оказывается трансформирован-
ной для голосов в сопровождении джазовых инструментов. В ис-
полнении этих коллективов звуковой поток обычно бывает четко
расчленен весьма частыми мерными, однообразными метрорит-
мическими ударами, среди которых трудно отличить опорные
точки от неопорных, сильные доли от слабых — каждое биение
опорно, каждый удар тяжел. Человек, привыкший к этой ритми-
ческой расчлененности, нередко переносит ее на музыку другой
эпохи и другого содержания. Ему порой нелегко бывает пере-
жить, воспринять и воспроизвести неисчислимое множество раз-
личных видов музыкально-ритмического движения, которые мы
нередко определяем словами, лишний раз свидетельствующими
о моторной и эмоциональной основах ритмического чувства: мы
говорим, скажем, о том, что музыкальное движение носит ха-
рактер активный, плавный, порывистый, спокойный, широкий,
прерывистый, легкий, тяжелый, гибкий, взволнованный, чекан-
ный, текучий, упругий, суровый, окрыленный, застывший...
И тут снова приходится напомнить, что схватить характер
музыкально-ритмического движения, то есть понять и воспроиз-
вести его, можно одним путем — сопережив его, войдя в эмоцио-
нальное единение с творцом музыки и как бы соучаствуя в ее
создании. Вот почему для музыканта, как хорошо сказал Асафь-
ев, «нет музыки как содержания вне дыхания, управляемого
естественным ритмом» и вот почему для него ритм — «не фо-
нари на шоссе с их монотонной мерностью».1 2
Теперь о воспитании способности и умения «наблюдать» за
течением музыки, следить за «музыкальной формой как процес-
1 См. Игорь Глебов (Б. В. Асафьев). Путеводитель по концертам,
вып. I, П., 1919, с. 61.
2 Б. В. Асафьев. Музыкальная форма как процесс. Книга 2-я, Интона-
ция. М.— Л., 1947, с. 91 и 92.
233
сом». Почему я выделяю этот вопрос? Он, конечно, неразрывно
связан с воспитанием музыкального переживания, музыкаль-
ного слуха и чувства музыкального ритма. Вычленяю же я его
только потому, что ему обычно не уделяется в музыкальной пе-
дагогике должного внимания.
О воспитании чувства музыкальной формы частично шла
речь, когда рассматривался вопрос о тонком логическое ана-
лизе, способном в ряде случаев вызвать у ученика яркое музы-
кальное переживание. Добавлю, что воспитание способности
чутко следить за процессом развития музыкального произведе-
ния находится в прямой зависимости по крайней мере от трех
моментов — от воспитания внимания, музыкальной памяти и
той способности, которую педагоги-практики иногда называют
«перспективным», а иногда «горизонтальным» слухом. Что име-
ется здесь в виду? Способность и умение воспринимать музыку,
которая звучит в данный момент, в своеобразном «сопоставле-
нии» с теми событиями, которые происходили в ней раньше и
которые произойдут в дальнейшем. Эту важную сторону вос-
приятия музыки нужно всемерно развивать на всех без исключе-
ния занятиях.
О том, что умению и навыкам читать музыку — то есть петь
или играть с листа — надо систематически обучать с детских лет
(особенно тогда, когда ученик сталкивается с трудностями),
вспоминают обычно от случая к случаю. В повседневной прак-
тике— школьной, училищной и консерваторской — дело это пре-
доставлено самотеку. А между тем наши молодые музыканты,
особенно пианисты, в большинстве своем не только партитуру,
но и двухстрочное фортепианное изложение читают плохо. Мы
взираем на это с непростительным равнодушием. Иногда воз-
мущаемся и негодуем, порой бросаем реплику: «Не дано это
ему от природы!», а большей частью ограничиваемся констата-
цией неприятного факта. Может быть, умение бегло читать
ноты не столь уж нужно музыкантам и любителям? Никто этого
не считает, понимая, что плохое чтение, кроме всего прочего,
затрудняет самостоятельное ознакомление с неисчерпаемым ми-
ром музыки и сужает музыкальный кругозор.
В чем же причины создавшегося положения? Их много, но
здесь я укажу только две: во-первых, почти не разработана ме-
тодика постепенного и систематического обучения чтению с листа
и, во-вторых, в последнее время начал пропадать интерес к са-
мостоятельному музицированию.
То обстоятельство, что некоторые музыканты, казалось бы
без всякой специальной тренировки (но сколько же они музици-
руют!), блестяще читают партитуру или клавир, вовсе не озна-
чает, что «это дано им от рождения» и что менее способные
люди при систематической работе не могут добиться значитель-
234
ных успехов. Практический опыт отдельных педагогов показы-
вает, что всех можно научить вполне прилично читать музыку.
В последнее время из нашей и зарубежной литературы узнаешь,'
что работа над созданием такой методики уже началась (во
всяком случае, при обучении пианистов). Лед тронулся, но...
Какие бы способы обучения чтению с листа ни были разрабо-
таны, непреложно одно: для того чтобы научиться читать му-
зыку, надо ее читать (психология и практика давно уже дока-
зали, что способности развиваются только в такой деятельности,
которая невозможна без наличия этих способностей).
Тут мы подошли к музицированию — оно ныне требует к себе
особого внимания, и, конечно, не только потому, что связано
с воспитанием навыков чтения нот с листа. Я уже говорил, что
звукопись — пластинки, магнитофонные ленты, передачи по ра-
дио и телевидению — коренным образом изменили наш музы-
кальный быт, что технические средства дали возможность огром-
ной массе слушателей приобщаться к музыке. Но было бы не-
разумно не замечать негативной стороны дела: те же средства
приучают и любителя и профессионала довольствоваться пас-
сивным восприятием музыки.
Разве этого достаточно? Разве нет существенного различия
между прослушиванием записанной или даже тут же кем-то дру-
гим исполненной музыки и активным личным участием в вос-
произведении этой музыки, пусть и несовершенным? Разве в наш
век отпала необходимость в инструментальном и хоровом люби-
тельском музицировании? Разве без такого музицирования воз-
можно развитие широкой музыкальной культуры, не говоря уже
о профессиональном обучении?
Послушаем, как отвечал на эти вопросы Б. Асафьев в годы,
когда еще не было музыкальных радиопередач и когда только-
только начали распространяться пластинки: «.. .Непомерно уве-
личившееся количество концертов еще не сможет само по себе
создать сознательного слушателя. Для этого необходимо выз-
вать в слушателе инстинкт исполнителя. Надо, чтобы возмож-
но большее число людей активно, хоть в самой
меньшей мере, но активно соучаствовало в вос-
произведении музыки. Только тогда, когда такой человек
ощутит изнутри материал, которым оперирует музыка, яснее
почувствует он течение музыки вовне».1 Спустя несколько деся-
тилетий к этому вопросу вернулся Шостакович: «.. .Человек,
умеющий играть на каком-нибудь инструменте, глубже пости-
гает музыку, лучше познает мысль композитора. Поэтому нужно
всячески развивать домашнее музицирование».1 2
1 Б. В. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и об-
разовании, с. 23 (разрядка моя.— Л. Б.).
2 Д. Д. Шостакович. Знать и любить музыку. М., 1958, с. 14 (раз-
рядка моя — Л. Б.).
235
Но встречаются, как оказывается, музыковеды, которые при-
держиваются иной точки зрения и без аргументации выступают
против любительского музицирования! Вот, например, какие по
меньшей мере «странные» идеи пропагандирует С. Хентова.1 Сна-
чала она пишет, что «научиться исполнять музыкальное произве-
дение так, чтобы это доставляло удовольствие даже самому ис-
полнителю, дано далеко не каждому». По ее мнению, «дворян-
ские барышни» потому вынуждены были учиться «бренчать на
фортепиано»,1 2 что «далеко не каждая могла завести у себя музы-
кальный салон», а «радио и магнитофона у нее также не было».
И, наконец, вывод: «А сейчас? Есть ли необходимость каждому
юноше, каждой девушке... обучаться навыкам музыкального
самообслуживания? Надо ли уметь плохо играть «Аппассио-
нату», если можно поставить на проигрыватель пластинку...
Видимо, современному человеку нужно иное — воспитанная
потребность в том, чтобы поставить на проигры-
ватель такую пластинку, чтобы везти ее с собой
в самую дальнюю даль. И вот эту-то потребность действи-
тельно можно и должно воспитать в каждом» (разрядка моя.—
Л. Б.).
Какое узкое и неверное понимание целей музыкального про-
свещения! Какая опасная пропаганда пассивных форм восприя-
тия музыки! И это после асафьевских призывов в каждом слу-
шателе вызвать инстинкт исполнителя, научить его «лично уча-
ствовать в воспроизведении музыки»; после слов Шостаковича
о том, что «прогресс звукозаписи не должен мешать домашнему
музицированию»! (которое автор цитируемой выше статьи наз-
вал... «музыкальным самообслуживанием»).
Наша беда, что мы выпускаем ничтожно малое количество
легкой нотной литературы (и, в частности, аранжировок) для
детского и любительского музицирования; что наши компози-
торы почти совсем не пишут нетрудные пьесы для небольших
ансамблей разного состава; что у нас мало печатается неслож-
ных четырехручных переложений современных произведений.
1 См. С. Хентова. Музыку в каждый дом. «Известия», 1966, № 197.
2 Заметим попутно, что в прошлом игре на фортепиано обучались не
только «дворянские барышни», но и девицы из семей разночинцев и интелли-
гентов. Хорошо известно, что в музыкальных учебных заведениях, в том числе
в консерваториях, обучалось много девушек, которые в профессионалы не
выходили — то ли способностей и сил не хватало, то ли жизненные обстоя-
тельства мешали. Принято было считать, что подобные «барышни» никакой
роли в развитии музыкальной культуры не сыграли и что они лишь «засо-
ряли» музыкальные школы. Я придерживаюсь иной точки зрения: эти неудав-
шиеся музыкантши в дальнейшей своей жизни нередко способствовали раз-
витию домашнего музицирования и в дворянских, и в купеческих, и в разно-
чинных семьях. А семейное музицирование — дело немаловажное, ибо оно
(конечно, вместе со многим другим) создает среду, в которой расцветает
музыкальная культура страны. Так что не следует в презрительном тоне пи-
сать о «барышнях, бренчавших на фортепиано».
236
В этом смысле нам есть чему поучиться у зарубежных, в част-
ности у венгерских и чешских музыкантов и издателей.
Все здесь сказанное отражается на культуре чтения музыки.
Из-за кабинетов звукозаписи и фонотек музицирование, столь
развитое в годы, когда училось мое поколение, сейчас захирело.
Это обстоятельство привело в свою очередь к тому, что молодые
музыканты и любители, мало или вовсе не музицируя, не науча-
ются читать с листа. А дурно читая ноты, они не хотят музици-
ровать и довольствуются слушанием «законсервированной» му-
зыки. Пришла пора разорвать этот замкнутый круг во что бы
то ни стало. И выход один — повседневно, с детских лет воспи-
тывать волю и интерес к музицированию.
В этой части статьи шла речь о воспитании качеств, назван-
ных мной «элементарным музыкальным комплексом» и одина-
ково необходимых как профессионалу, так и любителю, как на-
чинающему так и подвинутому. Характерно, что музыканты раз-
ных стран приходят порой в своих педагогических поисках если
и не к аналогичным, то к очень близким выводам. Когда эти
строки были уже написаны, в мои руки попала маленькая за-
метка профессора Эбергардта Прейсснера, в течение многих
лет возглавлявшего «Моцартеум». Его словами я хочу закончить
этот раздел статьи: «Человек приобщающийся к музыкальному
искусству, любому ее виду и на любой ступени — как низшей, так
и высшей,— должен всякий раз уметь начать с элементарного
(к «элементарному», по словам Э. Прейсснера, следует отнести:
«пение с листа, игру с листа, совместное ансамблевое и хоровое
музицирование, импровизацию, ритмику, мелодическую изобре-
тательность и умение гармонизовать».— Л. Б.)... Если прене-
брегают этим законом, то это ведет к печальным последстви-
ям — педагогическому застою, техническому регрессу, безвыра-
зительности, опустошенности... »*
О ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Педагог-музыкант, как, впрочем, и любой другой педагог, ра-
ботает на будущее. Вложенная им в свой труд энергия даст
плоды лишь спустя некоторое время. Естественно, что содержа-
ние и методы музыкально-педагогической работы должны во
многом определяться ясным пониманием того, к чему готовишь
ученика, и предвидением хотя бы в самых общих чертах харак-
тера его возможной в будущем музыкальной деятельности.1 2 Это
1 Е, Preussner. Was ist musische Erziehung (Osterreichische Musik-
zeitschrift, 1963, September, S. 3).
2 Кстати говоря, не следует забывать, что один из видов музыкальной
деятельности — слушание музыки и что значительное число обучающихся пе-
дагоги готовят именно к этой «слушательской деятельности».
237
предугадывание опирается на изучение индивидуальных особен-
ностей воспитанника в их развитии и, одновременно, на жизнен-
ный и профессиональный опыт самого педагога. Нельзя учить
«вообще», не задумываясь о конце обучения, о той конечной
точке, к которой есть возможность и к которой следует подвести
ученика. Конечно, в своем предвидении педагог может и оши-
биться — иной раз потому, что не сумел распознать чего-то очень
существенного в своем питомце или оказался ослепленным его
внешними техническими ресурсами; иной раз потому, что жизнь
изменила путь развития его ученика. Но так или иначе, а без
целенаправленности педагогическая работа оказывается в ко-
нечном счете недостаточно продуктивной.
Скажу прямо: такой целенаправленности не хватает, к сожа-
лению, многим педагогам-музыкантам. В самом деле, обратим-
ся к непрофессиональным музыкальным учебным заведениям —
к районным детским музыкальным школам, музыкальным круж-
кам, курсам для взрослых, народным консерваториям. Здесь не-
редко всех — и очень одаренных, и менее способных, и слабых —
учат одинаково! Не в том смысле, конечно, что все играют оди-
наковый по трудности репертуар (хотя бывает и такое), а в от-
ношении общей направленности работы: всех, независимо от их
данных, обучают как будущих профессионалов, или, точнее, как
будущих солистов-виртуозов. «Пусть хорошо сыграет разучи-
ваемые пьесы, об остальном и думать не хочу»,— таков ход рас-
суждений ряда педагогов-ремесленников. И учат детей и взрос-
лых суррогату артистичности, суррогату виртуозности. Игра
в четыре руки? Музицирование? Широкий и большой репертуар?
Подбирание? Импровизация? Чтение нот? Но ведь это отнимает
время от «основного» — разучивания нескольких пьес к экза-
мену или концерту. Общее музыкальное воспитание и просвеще-
ние? Этим пусть занимается педагог-теоретик. Так педагог
музыки превращается в учителя игры на том или другом
инструменте.
Дело, конечно, не только в том; чтобы ребенка средних музы-
кальных способностей или взрослого, не желающего стать музы-
кантом-профессионалом, вести по-иному, чем будущего солиста.
Верная педагогическая целенаправленность должна проявиться
и в обучении исключительно одаренных детей, каких, как изве-
стно, не часто встретишь и в специальных музыкальных школах.
Тут эта целенаправленность скажется в выборе единственно
правильного метода работы: путь должен быть пройден семи-
мильными шагами. В этом случае, если воспользоваться очень
точной формулировкой Г. Нейгауза, «законы развития, а следо-
вательно, какого-то постепенного накопления, остаются в силе,
но проявляются совершенно иначе, чем думают педагоги, имею-
щие преимущественно дело с середняками».1 Попутно замечу,
1 Г. Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. М., 1958, с. 130.
238
что исключительно одаренные дети в раннем возрасте должны
попасть в сферу педагогического воздействия крупной музыкаль-
ной личности. Не следует забывать исторического опыта: И. Гоф-
ману было 16 лет, когда он начал обучаться у Антона Рубин-
штейна; А. Дубянский в 15 лет, а В. Горовиц в 18 лет окончили
консерваторию у Ф. Блуменфельда.
Теперь обратимся к высшим учебным заведениям. Быть мо-
жет, из-за человеческой близости,- которая создается между учи-
телем и учеником в условиях индивидуального обучения, нема-
лое количество педагогов не решается или не считает нужным
раскрыть студенту глаза на подлинный характер предстоящей
ему в будущем деятельности. На мой взгляд, педагог должен
обладать мужеством и, если нужно, в первые же годы консерва-
торского обучения сказать своему питомцу:
— Пора уже задуматься над тем, кем ты станешь в жизни,
задуматься над своей личной музыкальной профессией. Конечно,
кем бы ты ни стал, но научиться отлично играть на инструменте
ты обязан. Вместе с тем ты должен понять: вряд ли станешь
солистом-концертантом, но у тебя все возможности быть вели-
колепным педагогом (или концертмейстером, ансамблистом, ор-
кестрантом и т. п.), а это ведь замечательная деятельность!
И, конечно, вдохновенно — обязательно вдохновенно — обри-
совать характер этой деятельности. Часто ли имеет место такой
откровенный разговор? Очень редко. Студента тешат надеж-
дами, которым не суждено сбыться. А разве не лучше ли было
бы для него самого, если бы еще в консерватории он думал не
о своей мифической профессии «концертанта», а о той работе,
которой ему в дальнейшем предстоит заниматься? Разве не было
бы лучше, если бы вузовские педагоги ясно видели профессио-
нальные возможности студента, работу с ним строили в предви-
дении характера и масштаба его будущей деятельности и не
стремились к невозможному и ненужному: к превращению спо-
собных людей путем их педагогического «обтачивания» в «та-
лантливых» артистов. Не будем скрывать, что традиции обуче-
ния без ясной целеустремленности, идущие от старой, дореволю-
ционной консерватории, оказались живучими. Они подогреты
«копкурсоманией», от которой страдают музыкальное воспита-
ние л обучение и к которой я еще вернусь в этих заметках.
Эти мысли я высказал одному из моих коллег по Ленинград-
ской консерватории. Начался спор. Он закончился диалогом:
— Нет, вы неправы! Вы хотите лишить юношей и девушек
мечты: мечты стать солистами, выступать на эстраде! Это недо-
пустимо! Трезво рассуждая, я, конечно, знаю, что концертантами
они не станут, но не скажу им об этом никогда. Пусть играют на
очередном конкурсе — соревнование заставит их больше зани-
маться. К тому же пусть хоть на консерваторской скамье почув-
ствуют себя артистами: это ведь так важно для любой их дея-
тельности в будущем!
239
— Справедливы только ваши последние слова: познать арти-
стическое самочувствие полезно, больше того — необходимо лю-
бому студенту консерватории. Будет ли он артистом или не будет,
но познание это скажется в любой его последующей работе. Что
же касается мечты, то все тут зависит от нас с вами: разве мы не
сумеем найти слова и примеры, которые заставят нашего питомца
мечтать о деятельности педагога, мечтать о профессии концерт-
мейстера? Ведь сами-то мы верим в увлекательность этих про-
фессий! Или и сами мы хотим любого человека со средними
исполнительскими способностями обязательно превратить в «лау-
реата»?!
о «спешащей педагогике»
Медленная моя работа подчинена зако-
нам искусства, а не халтуры, не тщеславия,
не жадности.
Бабель
Чем в первую очередь вызваны недостатки музыкальной педа-
гогики, о которых была речь в этих заметках? В чем причина
того, что многие замечательные музыкально-педагогические на-
чинания в детском музыкальном воспитании и обучении 20-х и
начала 30-х годов заглохли или захирели и в массовом масштабе
оказались неосуществленными? Первопричина, на мой взгляд,—
в широко распространившейся педагогической поспешности, то-
ропливости, суетливости...
«Служенье муз не терпит суеты...» Эти пушкинские строки
вспомнились мне недавно, когда я смотрел — в целом очень инте-
ресную— ленинградскую телепередачу — соревнование коллекти-
вов старшеклассников («Турнир СК»). На этот раз состязание
было посвящено искусству. Юношам и девушкам прочитали,
а затем роздали тексты двух стихотворений — И. Кобзева «Лю-
бовь» и В. Луговского «Майская ночь». Соревновавшимся дали
5 (!) минут на размышление: они должны были решить, какое
из этих лирических стихотворений поэтичнее, и обосновать свой
выбор. Быстро проглядев текст и пошушукавшись, каждый из
коллективов единодушно отдал пальму первенства весьма по-
средственным строкам Кобзева и отверг отличные стихи Лугов-
ского. Проводивший турнир литературовед и жюри конкурса
были раздосадованы, огорчены и, видимо, даже потрясены этим
выбором. Ребят в мягкой форме укоряли.
А укорять надо было не участников литературного «сраже-
ния», а устроителей турнира: они предложили несовместную
с искусством форму соревнования. Ведь в любые стихи нужно
спокойно вслушаться, без спешки их продумать, вкусить
их, насладиться ими, суметь приблизиться к поэтическому миру
автора, и лишь затем вынести суждение — принять или отверг-
240
путь. А вместо этого, позабыв о том, что суеты и спешки не
терпит не только труд творца, но и труд воспринимающего ис-
кусство и судящего о нем, организаторы турнира невольно по-
вели старшеклассников по касательной к искусству. Спору нет,
в такого рода соревнованиях должна воспитываться быстрота
мышления, находчивость, сообразительность, способность быстро
решить математическую задачу, быстро узнать знакомое сочине-
ние и т. п., но только не верхоглядство — поспешное восприятие
и торопливая оценка произведения искусства.1
На организации описанного телетурнира косвенно сказалась
одна из ошибок нашего эстетического воспитания: мы нередко
вырабатываем привычку скользить по поверхности явления и не
направляем внимание на его художественную сущность, не учим
восхищаться достойным восхищения и возмущаться достойным
возмущения. Но разве в спешке и суете этому научишь?
В наш век быстрых изменений материального мира, киберне-
тических машин и космических скоростей возникает неосознан-
ное — и очень опасное! — искушение перенести эту быстроту на
воспитание и обучение в области искусства. По-видимому, опасе-
ние, как бы быстрота жизненных темпов не привела к поверхно-
стному оглядыванию произведения искусства, беспокоит не
только меня, и недавно в литературоведческой статье было при-
влечено внимание к сказанным еще в прошлом веке словам ве-
ликого американского писателя и философа Г. Д. Торо: «Книги
(только ли книги! — Л. Б.) надо читать так же сосредоточенно
и неторопливо, как они создавались».1 2
Но имеет ли все сказанное отношениекобучению искус-
ству? Да, самое прямое — к созданию, к восприятию и к обуче-
нию искусству. Музыкальная педагогика также не терпит суеты,
торопливости, спешки; и ей нужно время и покой, чтобы дать
сделанному отстояться и чтобы началось естественное развитие
и рост. С этим нередко не считаются. Как часто педагог стре-
мится (а может быть, его вынуждают стремиться?) к тому,
чтобы работа его как можно скорее принесла заметные всем
плоды, чтобы ее как можно раньше показать, продемонстриро-
вать! Как часто — я повторяю давние негодующие слова
Б. Асафьева — «фактически все занятия (музыкой в общеобразо-
вательной школе.— Л. Б.) ограничиваются постоянной подготов-
1 Кстати отмечу, что с поспешностью суждений приходится порой стал-
киваться и в профессиональной среде. Признаюсь: я всегда испытываю ка-
кую-то внутреннюю неловкость, когда после однократного или даже двукрат-
ного прослушивания большого нового музыкального произведения слышу
уверенные и развернутые критические суждения о нем. Особенно остро ощуща-
ешь эту неловкость, когда прослушиваешь значительное и талантливое сочи-
нение (плохое и банальное распознаешь быстрее!). Тут бы уйти, подумать,
еще раз вслушаться, проиграть дома партитуру, еще раз насладиться и «вку-
сить», а от тебя ждут... речи, выступления.
2 Ср. со словами Р. Роллана, приведенными на с. 84.
9 Заказ Ns 1730 241
кой к выступлениям» и «последние являются самоцелью, а не
естественным следствием методической планомерной работы!»1
Как часто педагог, бесконечно обстругивая одни и те же пьесы
и наводя на них глянец, хочет побыстрее получить за свои за-
траты полновесную прибыль —хотя бы в виде похвал за пока-
занную педагогическую работу! Педагог в таких случаях —
мне придется повторить сопоставление, которое я уже приводил
в другом месте,— уподобляется тому ребенку-несмышленышу,
который, торопя время, тянет руками вверх стебель цветка,
чтобы он скорее вырос, и расправляет пальчиками лепестки бу-
тона, чтобы они скорее раскрылись, не понимая, что здесь тре-
буется совсем другое: окапывать и поливать корни и выпалывать
сорняки. Вот все это я и называю «спешащей» музыкальной
педагогикой, педагогикой, которая торопится добиться броских
результатов.2
Тут я слышу реплики педагогов:
— Мы рады были бы работать по-иному, но нет этой возмож-
ности. От нас требуют показов, выступлений, подготовки к сорев-
нованиям, олимпиадам, конкурсам. Никто нам не позволит по-
другому работать.
Да, педагоги правы. Педагогический «самопоказ» в огромном
большинстве случаев вызван не их тщеславием, а требованиями,
которые им предъявляют, мерилом, которым измеряется каче-
ство их труда, и, наконец, тем, что ко всему этому они привыкли
и стали принимать как должное. Количество, цифра — вот кри-
терий оценок. Педагог подготовил несколько «лауреатов» рай-
онного соревнования музыкальных школ. Ученики его сыграли
все пьесы из «Альбома для юношества» Шумана (качество ис-
полнения в счет не идет), выучили столько-то пьес советских
композиторов... И работа педагога на виду, о нем говорят: по-
казал отличную педагогическую работу. А другой ничего или
очень мало «показал», но творчески воспитал своих питомцев,
привил любовь к музыке и музицированию, развил слух, органи-
зовал технический аппарат, вел работу спокойно и без нажима,
понимая, что нужно ждать и что плоды придут со временем. Вот
эту незаметную поверхностному взгляду работу ценить не умеют,
ибо кое-кто из тех, кто руководит учебными заведениями, не все-
гда сам умеет хорошо делать педагогическое дело и размыш-
лять, а судить по цифре легче и проще. Разве не прав был
С. Образцов, который некоторое время назад писал: «Общим
стилем и общей бедой (педагогической работы.— Л. Б.) является
1 Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и об-
разовании, с. 68.
' 2 В предыдущем разделе статьи я писал, что исключительно музыкально
одаренные люди могут и должны шагать в своем развитии в семимильных
сапогах и что строгая и неуклонная педагогическая постепенность здесь со-
вершенно неуместна. Нужно ли разъяснять, что этот путь сильных ничего
общего со «спешащей педагогикой» не имеет?
242
погоня за всякими цифровыми показателями. В спорте это при-
водит к чемпиономании, а в других областях, и особенно в эсте-
тическом воспитании,— к лауреатомании».1 И в результате один
«лауреатенмейстер» (как иронически стали называть в послед-
нее время учителя, умеющего броско работать) ценится выше
десятков скромных педагогов-тружеников, без суеты, спешки и
саморекламы отлично воспитывающих и обучающих! Нор-
мально ли это?
Совсем недавно я получил письмо от двух молодых педагогов
периферийного музыкального училища, несколько лет назад
окончивших фортепианный факультет Ленинградской консерва-
тории. В годы обучения они увлекались музыкальной педагоги-
кой, инициативно и с увлечением занимались со своими питом-
цами. Вот что они теперь пишут (цитирую отрывок письма до-
словно) : «.. .От нас требуют продукции, немедленной продук-
ции, показов и подготовки к очередному соревнованию... К тому
же у каждого из нас огромная нагрузка — чуть ли не 50 часов
в неделю... У нас нет возможности обучать как надо, как нам
хочется, как нас учили. Не бросить ли нам педагогическую ра-
боту и напроситься в аккомпаниаторы? Совесть, по крайней
мере, будет чиста. Как нам быть? ..»
Милые вы мои молодые коллеги! Творческая работа требует
мужества и бесстрашия, а ведь истинный педагогический труд —
творчество. Знаю, мы все виноваты перед вами — в педагогиче-
ских учебных заведениях (а значит, и в консерваториях) муже-
ство надо прививать, а мы не сумели это сделать. Нужно муже-
ство, чтобы не торопить время и терпеливо ждать, пока по-
сеянное вами даст всходы. Нужно мужество, чтобы признаться
себе и другим в своих неудачах и искать другие педагогические
пути. Нужно мужество не принимать к сердцу несправедливые
укоры и вместе с тем учиться хорошему и у тех, кто вас осуж-
дает. И, наконец, самое главное: нужно мужество, чтобы смело
противопоставить свой голос мнению других, иной раз ваших
старших товарищей и руководителей. Конечно, здесь нужен такт,
выдержка... Поймите: уверенные суждения многих из тех, кто
вас критикует и требует «продукции», «показов» и т. п., сложи-
лись в давние годы, когда руководитель школы из художника
нередко вырождался в чиновника, больше заботившегося о бла-
гопристойных «сводках», отчетах и «показателях», чем о пользе
дела; когда боялись художественного, научного и, конечно же,
педагогического своеобразия. Все это в прошлом. Кому же, как
не вам, молодым педагогам, разрушать эти обветшалые сужде-
ния, прокладывать пути новому и прогрессивному в музыкаль-
ной педагогике и вернуть этим свежесть тем традициям, которые
заложены были еще в 20-х и начале 30-х годов, а затем частично
1 С. Образцов. От проспекта до стадиона. «Литературная газета»,
23 декабря 1965 г.
9* 243
утрачены. Да, для всего этого нужно мужество! Где взять силы?
Только в одном: быть уверенным в своей правоте...
«Спешащая педагогика» вызвана к жизни, кроме всего про-
чего, «конкурсоманией» и конкурсной атмосферой в музыкаль-
ных учебных учреждениях всех ступеней — от кружка в общеоб-
разовательной школе до консерватории.
Со второй половины прошлого десятилетия, то есть с того
времени, когда конкурсы стали играть все большую роль в музы-
кальной жизни ряда стран, мне довелось неоднократно высту-
пать в печати и докладах с анализом положительных и отрица-
тельных сторон музыкально-исполнительских состязаний. Это
позволяет мне в своих заметках сказать об этом с предельным
лаконизмом.
Конечно, такого типа внушительные творческие соревнования,
как конкурсы имени Чайковского и еще два-три международ-
ных конкурса, становятся праздничными событиями большого,
а иной раз и огромного значения. Недооценивать их положитель-
ную роль в жизни страны, в которой они проводятся, и в меж-
дународной музыкальной жизни было бы ошибкой. Однако мас-
совое распространение конкурсов как стимулирующего метода
в музыкальной педагогике и слишком широкое участие моло-
дежи в сонме всяких соревнований таит в себе большую опас-
ность: «шумиха-мишуриха» (словечки Дж. Пристли) в связи и
вокруг конкурсов и преждевременная «слава» победителей рай-
онных, городских, областных и тому подобных музыкальных
турниров самым пагубным образом сказываются на личности
обучающихся музыке и молодых артистов; вольно или невольно
детям и молодым людям прививается тщеславие, внушается ува-
жение к «спортивным» достижениям в искусстве, к стандартному
конкурсному репертуару и некой стандартной «безупречности»
исполнения, а не воспитывается любовь к самой музыке в ее
бесконечном разнообразии, и, если дело идет о профессионале,
к благородной просветительской миссии артиста...
Меня обрадовал тот факт, что аналогичную точку зрения вы-
сказал деятель театрального искусства, и вместо дальнейшего
пересказа своих статей приведу слова С. Образцова. «Поощрять
занятия детей искусством с помощью всяких конкурсов на луч-
ший рисунок, лучшее чтение стихов, лучшее исполнение танца,
с моей точки зрения, очень опасно. Даже взрослый писатель, пи-
шущий роман о скромности советского человека в расчете на по-
лучение государственной премии, напишет фальшивки... Писать
натюрморт на межрайонный конкурс изокружков — это значит
любить не цвет, не форму, не кусок солнца на скатерти, а гра-
моту горсовета. Я уже вижу, какой художник вырастет из этого
мальчика и какую картину предложит он жюри для выставки
в Манеже...»1
1 С. Образцов. Цит. статья.
244
В этой конкурсной атмосфере педагоги бывают нередко вы-
нуждены меньше внимания, чем следовало бы, уделять «некон-
курсабельным» (словечко-то какое 'Придумали!) детям и юношам,
то есть тем, кто станет в последующие годы, скажем, музыкаль-
ным воспитателем, педагогом, концертмейстером, оркестрантом
или просто слушателем и от которого будет зависеть музыкаль-
ная культура страны. Впрочем, «спешащая» педагогика не любит
заглядывать в дали дальние, а занята сиюминутными делами.
И, наконец, еще одно обстоятельство, влекущее за собой пе-
дагогическую спешку и торопливость. Педагоги порой непомерно
загружены: чрезмерно большим числом учеников и учебных ча-
сов, подготовкой к занятиям, разными нужными и вовсе беспо-
лезными методическими «мероприятиями», всякого рода совеща-
ниями и заседаниями (часто плохо подготовленными и поэтому
чрезмерно продолжительными); если же речь идет о консервато-
риях,— то еще научной, концертной, композиторской, рецензент-
ской работой. Где же тут, в этом беге и суете, взять время, чтобы
оглядеться и поразмыслить над тем, нужно ли идти по протоп-
танному пути, по которому вели когда-то самого педагога? Не
только у художника и ученого, но и у педагога не может быть
рабочего дня в том смысле, какой привычно вкладывается в это
понятие, дня, который благополучно завершается по пословице —
«кончил дело, гуляй смело». Всякая творческая работа (а сюда
надо отнести также воспитание и обучение, хотя эта деятель-
ность и не дает осязаемой, материальной продукции) настоя-
тельно требует досуга. Речь, конечно, идет не о «лени вдохновен-
ной», не о dolce far niente и не о праздном отдыхе, а совсем
о другом: о творческом досуге — о времени, когда педагог в ти-
шине остается наедине с самим собой, со своими думами и со-
мнениями; когда никто его не теребит и не мешает окинуть мыс-
ленным взором путь, по которому он идет; когда он сам безо
всяких понуканий размышляет и ищет новое. Меня упрекнут,
вероятно, в наивности, но я все же выскажу то, во что твердо
верю: педагог, который научился, получил возможность и привык
размышлять над своим трудом, не пойдет без оглядки по про-
торенной тропе «спешащей» музыкальной педагогики.
О ПЕДАГОГЕ-ДОГМАТИКЕ
И О «СОМНЕВАЮЩЕМСЯ» ПЕДАГОГЕ
Если воспитатель никогда не сомнева-
ется в разумности своих действий — какой
же он воспитатель?
А. Шаров. «Януш. Корчак, и наши дети»
Педагога-музыканта подстерегает на жизненном пути ряд
«опасностей». Одна из них — самая страшная — обусловлена са-
мой спецификой его деятельности. Передавая из поколения
в поколение общеэстетические и музыкальные традиции, которые
245
педагог впитал с молоком матери и вобрал в себя в период соб-
ственного формирования, легко проглядеть, что именно в этих
традициях потеряло жизненную силу, поблекло, начало отми-
рать; можно пройти мимо тех перемен в окружающем мире, ко-
торые требуют иного содержания, форм и методов музыкально-
педагогической работы. Не потому ли Чехов для своего «чело-
века в футляре» избрал именно педагога? Впрочем, это только
присказка....
Нет, пожалуй, другой профессии, которая в такой степени от-
ражалась бы на личности человека, как профессия педагога, и
притом сказывалась бы у разных людей столь резко по-разному.
Быть может, у музыкантов-педагогов это дает себя знать с осо-
бой рельефностью.
Одних учителей музыки — тех, что изо дня в день и из года
в год разучивают со своими питомцами одни и те же песни или
пьесы из своего «педагогического репертуара» и проповедуют
одни и те же бесспорные истины,— педагогическая работа, я не
побоюсь резкого слова, «оглупляет». Со временем такие учителя,
сами того не замечая, становятся самоуверенными догматиками,
убежденными в том, что им доподлинно все известно: известно,
как сыграть «согласно с авторской волей» Моцарта «по-моцар-
товски», а Шуберта «по-шубертовски»; известно, как исполнить
то или другое артикуляционное или динамическое предписание;
известен тот «единственный» путь, который приводит к разви-
тию слуха ученика, или тот «единственный» метод, который по-
зволяет поставить голос или развить технику; известен... Сло-
вом, они обо всем досконально осведомлены и нередко ссылаются
при этом на авторитеты: так-то говорили Есипова, Блуменфельд,
Ауэр, Нейгауз, Штриммер... Если эти педагоги-всезнайки, вы-
дающие свои суждения за нечто объективное, обладают даром
педагогического внушения, то и ученикам их начинает казаться,
что художественная истина вовсе не синяя птица, которая не-
уловима и дается в руки только смелым и ищущим, а нечто не-
изменное, «тутошнее», и нужно ее, эту истину, только взять из
рук учителя. По всякому поводу, а иногда и без повода, эти пе-
дагоги поучают своих коллег и выносят безапелляционные при-
говоры, забывая или не зная давнюю истину: решительный при-
говор чаще свидетельствует не о знаниях, а только о притяза-
ниях на знания.
Что может помочь таким педагогам? Как лечить их? Крити-
кой? Вряд ли: давно уже замечено, что нет никого упрямее пе-
дагога-догматика, которого гладят против шерстки. Так как же
быть? Я верю в исключительную силу искусства и... передаю
поэтому слово Расулу Гамзатову:
Всезнающих людей на свете нет,
Есть только те, что мнят себя всезнающими.
Порой мне страшен их авторитет,
Взгляд осуждающий и глас карающий.
246
Всего не знал ни Пушкин, ни Сократ,
Все знает в целом мир, большой и многолюдный,
Но судят мир порою те, что мнят
Себя носителями истин абсолютных.
Музыкально-педагогическая работа может сказаться на пси-
хологическом облике воспитывающего и обучающего совсем по-
иному: может окрылить и поднять его,— но только в том случае,
если ему дан дар «сомневаться».
Тут я снова слышу реплику моего невидимого оппонента:
— Что же это за педагог, если он не уверен в своих дей-
ствиях?
Нет, я вовсе не имею в виду человека слабого и нерешитель-
ного. Такому педагогом не быть! Речь идет о другом: о педагоге
ищущем, свободная и не подчиняющаяся догмам творческая
мысль которого активизируется благодаря «сомнениям»; об учи-
теле, который хоть чуть-чуть не уверен в познанном и не боится
поделиться «сомнениями» со своим питомцем (если, конечно, воз-
раст учеников позволяет идти по этому пути); о воспитателе, ко-
торый именно благодаря всему .этому пробуждает творческую
фантазию других, а вовсе не заботится о подготовке «первых
учеников».
Несколько времени назад была опубликована превосходная
статья М. Шагинян «Об учителе»,1 где справедливо говорилось,
что учителя — «люди отдачи»: «Это есть свойство людей, про-
фессия которых покоится на... непрерывной отдаче другим того,
что у этих других пока отсутствует, но до зарезу необходимо
им для жизни... Тот, кто отдает эту пищу, отдает с наслажде-
нием, поскольку в отдаче находит самого себя и дело своей
жизни».
«Людьми отдачи» могут быть и те педагоги, которые зара-
жены бациллой ригоризма, и те учителя, которые ищут, потом
порой отказываются от найденного и начинают свои поиски
сызнова. И те и другие нередко отдают свою душу, знания вос-
питанникам. Но первые вследствие этой «отдачи» внутренне
опустошаются, становятся духовно беднее и как за соломинку
хватаются поэтому за традиции, пусть устаревшие или устаре-
вающие, за «неизмененные» правила и догмы. Вторых же —
«сомневающихся» и способных к плодотворной переоценке цен-
ностей — учительская деятельность обогащает: их знания и
умения — музыкальные, педагогические, психологические — не-
прерывно обновляются, и их дар «отдачи» поэтому не ис-
сякает.
Да, истинными педагогами с детьми и взрослыми, в обще-
образовательной и музыкальной школах, в училище и консерва-
тории могут быть только те, в ком хотя бы тлеет творческий ого-
нек. Готовим ли мы именно таких учителей?
1 «Известия», 1963, № 244.
247
О МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ
Самым лучшим писателем для детей,,
высшим идеалом писателя для них может
быть только поэт.
В. Белинский
Вопрос о том, какое место должен занять классический и со-
временный репертуар в работе с учениками, в принципе давно
уже решен советской музыкальной педагогикой: все пишут и го-
ворят о соблюдении разумного сочетания произведений компози-
торов-классиков и прогрессивных авторов XX века. Правда, за-
метим попутно, на практике это «разумное сочетание» пони-
мается нередко весьма по-разному.
Недавно Д. Кабалевский в связи с прошедшей в Интерлохене
конференцией, организованной Интернациональным обществом
по музыкальному воспитанию (ИСМЕ), справедливо писал
о двух крайностях, с которыми приходится иметь дело в прак-
тике музыкально-педагогической работы в ряде стран: «Одна из
этих крайностей — боязнь современной музыки, как якобы спо-
собной расшатать основы классической музыкальной логики, ис-
портить учащимся не только их музыкальный вкус, но даже руки,
голос... Вторая крайность — это стремление некоторых компози-
торов-авангардистов. .. доказать, что фольклор и классика будто
бы воспитывают юных музыкантов в духе консерватизма и не-
способности воспринимать «настоящее» новое искусство». Сто-
ронники таких взглядов при этом современными компози-
торами «не считают ни Прокофьева, ни Шостаковича, ни Бар-
тока, ни Кодая, ни Хиндемита, ни Онеггера, ни Барбера, ни
Бриттена, ни Орфа.. -»1
А теперь, после общей постановки проблемы, зададимся не-
сколькими вопросами: готовим ли мы детей к пониманию музыки
названных и не названных Д. Кабалевским прогрессивных совре-
менных композиторов? В какой мере репертуар, проходимый
с учениками, позволяет это сделать? Идет ли нынешняя му-
зыкально-педагогическая литература в ногу со «взрослой» му-
зыкой?
Убедительно ответить на эти вопросы без обращения к исто-
рии музыкально-педагогической литературы (хотя бы только
фортепианной), на наш взгляд, невозможно. Конечно, во всей
ее полноте такая история еще ждет своего исследователя. Но
в самых общих чертах проследить за основными тенденциями,
характеризующими ее развитие, можно и должно уже се-
годня.
Как известно, в первой половине XVIII века и в более ранние
годы в подавляющем большинстве случаев звучала преимуще-
1 Дм. Кабалевский. Композиторы мира—детям мира. «Сов. куль-
тура», 1 ноября 1966 г.
248
ственно современная музыка (о культовой речь здесь не идет).
Специальной музыки для детей это время еще не знает. Те посо-
бия и легкие пьесы, которые использовались при обучении детей
и взрослых, кровными узами связаны со всем стилем и харак-
тером тогдашней музыкальной литературы. Композитор, исполни-
тель и педагог почти всегда совмещались в одном лице, и это ска-
зывалось на музыкально-педагогической литературе. Куперен,
Рамо, Скарлатти — я называю лишь нескольких крупнейших ху-
дожников— во многих своих клавирных сочинениях нередко раз-
решали в неразрывном единстве художественные и педагогиче-
ские задачи. В гениальной «инструктивной» клавирной музыке
И. С. Баха это, пожалуй, наиболее приметно. Можно ли здесь от-
членить художественные идеи и поиски новых форм (не забу-
дем, что «инвенция» — это изобретение, выдумка) от чисто педа-
гогических задач, от обучения композиторскому и исполнитель-
скому искусствам?
И во второй половине века музыкально-педагогическая лите-
ратура по своей стилистике идет вровень с современной музы-
кой. В середине столетия произошел стилевой перелом, и му-
зыкальное мышление, скажем, Ф. Э. Баха отличается от мышле-
ния его отца. Сказывается ли это на музыке, предназначенной
для обучения? Сказывается немедленно, и Ф. Э. Бах подготав-
ливает будущих слушателей и исполнителей своей музыки не
только своим методическим трактатом, но и среди всего прочего
теми пьесами, которые к нему приложены и которые написаны
в новом стиле. Тогда же, во второй половине столетия, не без
прямого или косвенного воздействия идей французских просве-
тителей и Песталоцци, которые привлекли внимание к некото-
рым чертам детской психологии, зарождается жанр детской ин-
струментальной пьесы. Лучшие образцы таких сочинений (к ним,
бесспорно, должны быть отнесены многочисленные клавирные
пьески с характерными подзаголовками Тюрка) по своему языку
идут, почти не отставая, вровень с передовым музыкальным
творчеством века.
Иное положение начинает складываться в первые десятиле-
тия XIX столетия. Правда, по поводу ряда учебных пособий (ска-
жем, Школы Клементи) и первых инструктивно-виртуозных этю-
дов (Клементи, Крамер) нельзя еще сказать, что они плетутся
в арьергарде музыкально-исторического движения. Однако в этот
период ни один великий композитор почти не обращается уже
к написанию фортепианно-педагогической музыки. А так как
фортепиано получает все большее распространение и потреб-
ность в таком репертуаре усиливается, происходит то, что и не
могло не произойти: прорывается поток малосодержательных
пьес, «настоянных» на каких-то внешних чертах классицизма и
раннего романтизма, и формально скомпонованных эпигонских
детских сонатин. Все эти опусы для юношества «не отстают»
от произведений для взрослых. Но каких? Второсортных салон-
249
но-виртуозных сочинений, которые повсеместно зазвучали в те
годы на эстраде. Огромнейшая дистанция отделяет этот инструк-
тивно-педагогический репертуар от музыки передовых худож-
ников.
Не этот ли разрыв заставил Бетховена в последние дни его
жизни вспомнить о традициях прошлого столетия и замыслить
«Фортепианную школу»? 1 Не по этой ли причине и Шопен при-
ступил к написанию «Фортепианной школы» в конце 40-х годов?
Ни тому, ни другому не отпущено было времени для осуществле-
ния своих замыслов. Но самый факт характерен и назидателен:
великие музыканты видят настоятельную потребность в разреше-
нии музыкально-педагогических задач и обращаются к сочине-
нию инструктивной музыки!
Шуману — вот кому суждено было своим поэтичнейшим
«Альбомом для юношества» (1848) (в нем нашли отражение его
образный мир, индивидуальные интонации, понимание психоло-
гии ребенка и его мысли о музыкально-эстетическом воспита-
нии) 1 2 сблизить дух и выразительные средства педагогической
литературы с содержанием и формой современной музыки, с язы-
ком романтиков.
По тому же самому пути пошел и П. И. Чайковский в своем
замечательном Альбоме (1878), заложив основы русской детской
фортепианной музыки. Жаль, что другое, направление русской
музыки тех лет — имею в виду Мусоргского—отразило мир ре-
бенка только в сфере вокальной литературы. Как нам не хва-
тало и особенно сегодня не хватает детских инструментальных
пьес, опирающихся на речевые интонации, на вокально-речевую
декламационность! Как облегчила бы такая музыка путь ребенка
к современным композиторам разных поколений — от Шостако-
вича и до Слонимского!
Сборники Шумана и Чайковского и, может быть, ряд неслож-
ных пьес Грига — вот, за единичными исключениями, то немно-
гое из детской фортепианно-педагогической литературы XIX
века, что продолжает жить и восхищать нас — детей и взрос-
лых — и поныне. (Я имею, конечно, в виду музыку сотворен-
ную, а не скомпонованную, и не называю поэтому мно-
гие полезные пьесы, которые погоды, однако, не делают).
Видный немецкий исследователь в области музыкальной пе-
дагогики и соавтор одной из популярных современных школ
игры на скрипке Эрих Дофлейн мог с полным правом отметить,
что на протяжении XIX века все меньшее и меньшее число круп-
ных композиторов, творчество которых не потеряло своего
1 Он сказал: «Я мыслю ее совсем по-иному, чем это теперь принято»
(цит. по переводу главы из последней книги Ромена Роллана о Бетховене,
опубликованному в «Сов. музыке», 1947, № 3, с. 83).
2 Не следует, кстати говоря, забывать о первоначальном намерении Шу-
мана чередовать в Альбоме пьесы и педагогические афоризмы.
250
значения и сегодня, обращалось к сочинению хорошей легкой ин-
струментальной музыки для начинающих.1 Тот же автор, харак-
теризуя историю скрипичной музыкально-педагогической литера-
туры, обратил внимание на такой факт: Людвиг Шпор, выпу-
стивший в 1832 году свою известную «Школу игры на скрипке»,
был последним видным композитором XIX века, в специально
написанном большом учебном пособии которого еще сохрани-
лись связи с музыкально-творческим стилем его времени. По-
следующие скрипичные школы, вплоть до школ А. Мозера —
И. Иоахима и Ф. Кюхлера (начало XX в.), полностью потеряли
контакт с современной музыкой. Сказанное может быть отнесено
и к многочисленным фортепианным школам, и к несметному ко-
личеству «бесстильных» инструктивных пьес для рояля, публико-
вавшихся во второй половине прошлого и в начале нынешнего
столетия в разных странах.
В конце первого десятилетия нашего века наступил новый
этап в истории инструментальной музыки для детей, связанный
с творчеством Б. Бартока. Инструментальное детское творчество
этого удивительно чуткого музыканта до сих пор не получило
в наших широких педагогических кругах должной оценки. На
протяжении своей жизни Барток неоднократно обращался к со-
чинению инструктивной фортепианной музыки, начав с «10 лег-
ких фортепианных пьес» (1908) и с 4 тетрадей обработок вен-
герских и словацких народных песен «Детям для фортепиано»
(1908—1909) и закончив эту работу 6 тетрадями «Микрокос-
моса», опубликованными между 1926 и 1937 годами. Э. Дофлейн,
посвятивший, кстати говоря, специальную работу роли Бартока
в музыкальной педагогике,1 2 полагает, что «Микрокосмос» — свое-
образная энциклопедия, в которой получили отражение совре-
менные пианистические, композиторские и педагогические за-
дачи,— не только равен по своему значению вкладу в инструк-
тивную фортепианную музыку Баха и Шумана, но в одном
отношении даже превосходит этот вклад: первые две тетради
содержат множество пьес для самых первых шагов обучения^.
Пусть в оценке Дофлейна есть известное преувеличение, пусть
«Микрокосмос» ведет не ко всему многообразию современной
фортепианной музыки, а в большей мере — к бартоковскому
пианизму, все же общая оценка роли Бартока в истории детской
фортепианной музыки XX века определена правильно. Не сле-
дует к тому же забывать, что своим современным прочте-
нием музыкального фольклора Барток стимулировал и других
авторов использовать народные песни и танцы в произведениях
педагогического репертуара.
1 См. Erich D о f 1 е i n. Padagogik in der Musik в энциклопедии „Musik
in Geschichte und Gegenwart", B. 10. Некоторый фактический материал отсюда
использован мною в этом разделе статьи.
2 Bartok und Musikpadagogik. ’’Musik der Zeit“, 1953, Heft 3.
251
Несколько позже Бартока к детской музыке обратились еще
два крупнейших композитора нашего времени — П. Хиндемит
(скажем, в его детских струнных ансамблях ор. 44) и К- Орф,
который сочиняет пьесы для коллективного детского музициро-
вания на специальных инструментах.
Все это, однако, еще не снимает проблемы огромной важности
(к ней в той или иной форме обращаются в последние годы
многие педагоги): речь идет о пропасти, которая еще продол-
жает отделять интонационный язык инструктивной музыкальной
литературы, используемой в педагогической практике, от языка
прогрессивной современной музыки. Быть может, этому способ-
ствует одно обстоятельство, само по себе весьма положитель-
ное,— увеличивающийся в наши дни интерес к музыкальному на-
следию далекого прошлого и все более широкое использование
этого наследия в педагогической работе.
Пришло время вернуться к поставленному выше вопросу
о том, в какой мере, скажем, стиль фортепианных пьес, написан-
ных советскими авторами с педагогической целью, позволяет
подготовить обучающихся к восприятию лучших произведений
современной музыки.
Популярные и поныне пьесы советских композиторов самого
старшего поколения — скажем, Майкапара и Гедике,— хотя и об-
ладают рядом полезных качеств, но по образному содержанию
и стилистике устарели или, скажу осторожнее, устаревают.
Пьесы эти, в которых обнаруживаются понимание их авторами
фортепианно-технических проблем, знание детской психологии и
хороший вкус, не обладают, однако, теми высокими художествен-
ными достоинствами, которые позволили бы им, подобно класси-
ческой инструктивной музыке Баха, детским пьесам Шумана
и Чайковского, жить «вечно». Вместе с тем они, эти пьесы, да-
леки от мира современного советского ребенка и — еще раз это
подчеркиваю — от современного музыкального творчества^
Я отдаю себе отчет в том, что моя точка зрения не у всех
еще найдет сегодня поддержку. Ее не разделят пи те педагоги,
которые привыкли за многие годы своей работы к такого рода
репертуару, ни те композиторы, которые продолжают — в силу
своей косности и недостаточной одаренности — сочинять в «нейт-
ральном» стиле и для «осовременивания» обостряют гармонию
вставными секундами.
х/ Устаревают и многие сборники для начинающих. В частности,
это относится и к тому сборнику, одним из составителей кото-
рого был я. Широкое использование русского крестьянского
фольклора, впервые широко представленного в такого рода учеб-
ных пособиях, для своего времени было, как мне представляется,
явлением положительным. Однако и самый выбор песен и тан-
цев, и — главное — их обработка, которую по стилю я назвал бы
«добартоковской», не отвечают сегодняшним требованиям
жизни.
252
Значительную роль в сближении нашей детской инструмен-
тальной музыки с современными произведениями для взрослых
сыграл превосходный сборник С. Прокофьева «Детская музыка»
(1935). Решению той же задачи способствовали и многие пьесы
Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна и ряда других наших
композиторов разных поколений, перечисление имен которых за-
няло бы много строк и закончилось бы, вероятно, именами моло-
дых ленинградцев — Слонимского, Цытовича, Гаврилина^-.
Однако наша инструментальная и, в частности, фортепианная
детская музыка еще ждет своего реформатора — реформатора
такого значения и масштаба, каким был для своего времени
Бела Барток. Кто им станет? Конечно, тот, кто, с одной стороны,
в простом и легком сумеет индивидуальными выразительными
средствами передать внутренний мир самого ребенка и окру-
жающую его действительность, и, с другой стороны — сможет
установить при этом плодотворные связи между детской и совре-
менной «взрослой» музыкой. Возможно, им станет композитор,
который, подобно Чуковскому в литературе, будет опираться на
наблюдения за песенным и стихотворным творчеством самих де-
тей, за их говором...
Возможно, это будет кто-нибудь из представителей компози-
торской молодежи, а возможно, Д. Кабалевский, чьей форте-
пианной школы мы все с таким нетерпением ждем. А быть мо-
жет, здесь нужна коллективная работа, подобная той, которая
начата Венским научно-исследовательским музыкально-педагоги-
ческим институтом.1
Все сказанное ни в малейшей степени не умаляет, конечно,
того хорошего, что уже сделано в области советской — и, в част-
ности, фортепианной — музыки для детей и что должно уже се-
годня значительно шире, чем это имело место до сих пор, войти
в педагогический репертуар.
Будем откровенны: далеко не все педагоги отдают себе отчет
в том, какую огромную роль могут и должны сыграть произве-
дения современной музыки в воспитании музыкального мышле-
ния и фортепианной техники детей и юношей. Поэтому сейчас
можно встретить педагогов, порой весьма квалифицированных и
опытных, которые неохотно включают в репертуар учащихся про-
изведения, написанные современными авторами. Ход их рассуж-
дений всегда один и тот же: игре на том или другом инструменте
ученик Школы, а то и училища, должен научиться на произве-
дениях детского и юношеского репертуара, написанных компо-
зиторами-классиками и уже апробированных, а затем, на каком-
то другом этапе, пусть берется и за современную музыку; за
годы обучения, скажем, в фортепианном классе ученик успевает
разучить столь малое количество пьес, что лучше пройти с ним,
допустим, инвенции Баха, сонаты Гайдна, пьесы Чайковского
1 См. К. Б л а у к о п ф. Наши поиски. «Сов. музыка», 1968, № 2.
253
и Грига, чем музыкальные произведения, написанные в наши
дни и еще на практике не проверенные.
В чем ошибочность этих рассуждений? Не в том, конечно, что
музыкальная классика должна занимать значительное место
в репертуаре учащихся; и, само собой разумеется, не в конста-
тации того печального факта, что за годы обучения дети, как
правило, разучивают весьма и весьма' немного музыкальных
произведений. Тут дело в другом: не будучи в силах преодолеть
инертность своего консервативного слуха и понять язык совре-
менной музыкальной пьесы и, с другой стороны, не решаясь
пойти в своей работе по нехоженой тропе, педагоги эти не за-
мечают или не хотят замечать той ничем другим не компенси-
руемой пользы, какую приносит ученику разучивание новой со-
временной пьесы. В чем именно? Прежде всего в том, что
в лучших своих образцах музыка эта отражает нынешнюю
жизнь, передает присущими ей интонационными средствами ин-
тересы, чаяния, мысли, переживания, близкие современным де-
тям или подросткам.
Но сверх этого верного и широко известного положения сле-
дует привлечь внимание и к тому, что работа над произведением,
традиции исполнения которого еще не сформировались, по-
тому-то и особенно полезна, что ни педагог, ни ученикдне имеет
возможности опереться на «образцы» интерпретации.^ В классе
хорошего и инициативного педагога это обстоятельство может
помочь созданию атмосферы творческих поисков и «сомнений»,
о которых уже была речь: можно,— рассуждает педагог вместе
со своим воспитанником,— сыграть так, а можно и этак; можно
взять такой-то темп, а может быть, лучше сыграть чуть медлен-
нее или, наоборот, чуть быстрее; можно сыграть с педалью, но,
быть может, лучше оттенит характер музыки суховатая звуч-
ность и т. д. и т. и.
Впрочем, я готов согласиться с тем, кто возразит мне и ска-
жет, что такого рода творческие «сомнения», поиски и пробы
могут иметь место и при работе над широко известным класси-
ческим произведением. Могут возникнуть — больше того, дол-
жны возникнуть,— но далеко не всегда возникают: привычка,
сила инерции, предписания редакторов, традиции (к слову го-
воря, подчас весьма узкие и опирающиеся не на интерпретацию
крупного художника, а на бытующий стиль исполнения в данной
школе или данном училище)-—-все это тормозит проявление
творческой инициативы педагога и ученика. В этом смысле разу-
чивание музыки, которая еще не исполнялась или практика и
манера истолкования которой еще не сложились, открывает пе-
ред играющим и его руководителем широкие возможности, ибо
они оказываются вынужденными искать свои пути интерпрета-
ции. Хотелось бы подчеркнуть, что сказанное в равной степени
относится и к произведению, предназначенному для зрелого ис-
полнителя, и к несложной пьесе, разучиваемой в детской школе.
254
Итак, повторяю еще раз: на любом этапе обучения музыкаль-
ному искусству классика должна быть весьма широко представ-
лена в репертуаре учеников, и не только в классах игры на ка-
ком-либо инструменте или сольного пения, но и на хоровых за-
нятиях (к слову заметим, что в последние годы наши детские
школьные хоры лишь изредка обращаются к музыкальному на-
следию). Без практического усвоения разных по стилю образцов
музыкальной классики не понять и современной музыки. С дру-
гой же стороны, без знания современной музыки не найти и убе-
дительной для современного восприятия трактовки музыкальной
классики.
Педагог, обладающий широтой взглядов, отдает себе, ко-
нечно, отчет в том, что жизнеспособное музыкальное произведе-
ние в каждую эпоху приоткрывается какими-то новыми своими
сторонами и что объективное содержание его может быть рас-
крыто только в индивидуальных вариантах или оно вовсе не бу-
дет раскрыто. Сознает он и другое: умышленное «осовременива-
ние» или преднамеренное «индивидуальное прочтение» произве-
дения к добру не приводит. Но не менее пагубна и забота о не-
прикосновенности интерпретационных традиции, запечатленных
в редакциях нотного текста, в звукозаписях или в изустных рас-
сказах.
Истинный педагог, понимая, какое значение имеет в музы-
кальном искусстве артистическая свобода интерпретации, вме-
сте с тем направляет внимание ученика на тщательнейшее изу-
чение текста музыкального произведения и, независимо от того,
идет ли речь о ребенке или взрослом, любителе или профессио-
нале, воспитывает чувство ответственности перед музыкальным
произведением и его автором. Предпосылкой для такого воспи-
тания является подлинный текст (Urtext) произведения. Он дол-
жен быть в руках ученика.
Должен быть, но часто ли бывает? Иными словами, имеют
ли возможность широкие круги педагогов опереться на такой
текст? Поставив так вопрос, я затрагиваю широкую тему — о ре-
дакциях музыкальных произведений, тему, которая почти вовсе
не подвергалась в последнее время обсуждению в нашей печати,
хотя издательства выпускают редакции, заслуживающие не
только одобрения, но и осуждения.
Как известно, начиная лишь с первой половины прошлого
века исполнители стали широко включать в свой репертуар сочи-
нения, написанные композиторами прошлых поколений. Одно-
временно с этим начался другой процесс: все больше ограничи-
вались права исполнителя. Об этом, в частности, свидетельствует
известное высказывание Бетховена, в котором он противопостав-
ляет время, когда исполнителям разрешалось или даже реко-
мендовалось вносить импровизационные варианты в интерпрети-
руемую музыку, нынешнему веку или, точнее, своим принципам,
согласно которым все написанное в тексте должно быть сыграно
255
в точности. Сужение «прав» исполнителей сказалось и на нотной
записи: весьма скупые исполнительские указания в произведе-
ниях композиторов XVIII столетия сменяются все более подроб-
ными и точными предписаниями. В этом нетрудно убедиться, со-
поставив, скажем, нотные записи Моцарта и Бетховена. У пер-
вого — скупые и лаконичные динамические, артикуляционные и
темповые указания; у второго — стремление к детализации и
уточнению (вплоть до метрономных предписаний). Существен-
ные изменения претерпела и нотная запись самого Бетховена на
протяжении его жизни: в первых opus’ax его исполнительские
пометки все же еще немногочисленны, в последних — выписаны
с большой тщательностью и подробностью. Если композиторы
XVIII века нередко предоставляли исполнителям право свободно
«разукрашивать» свои произведения, то Шопен с большой тща-
тельностью выписывает свои мелизмы и фиоритуры. Это стрем-
ление композиторов во избежание исполнительского своеволия
максимально уточнять нотные записи характерно и для после-
дующих десятилетий.
По-видимому, именно более подробные и точные записи ком-
позиторами своих пожеланий в нотном тексте вызвали к жизни
новый «жанр» — редакции произведений тех композиторов, кото-
рые, как считалось, недостаточно подробно зафиксировали свои
исполнительские указания или которые вовсе их не записали.
После смерти композитора музыканты последующих поколений
принимались за «уточнение» и за «расшифровку» его нотных
текстов. Во второй четверти прошлого века началось такого рода
редактирование сочинений Баха, Генделя, Моцарта, затем Бет-
ховена, потом Шопена, Шумана и т. д. и т. п. Но если компози-
торы уточняли свои пожелания и свои указания, то многие
редакторы, не переставая твердить о своей «объективности» и
«верности автору», порой так ретушировали, подправляли и под-
новляли картину нотной записи (вспомним для примера Г. Ри-
мана и его последователей), что даже искушенному музыканту
трудно становилось познать оригинал. В первом десятилетии ны-
нешнего века нотные издания, в которых делались попытки рас-
толковать, как именно надо исполнять Гайдна, Моцарта, Бет-
ховена, Шопена, Шумана и многих других авторов, почти
выдворили из педагогического обихода оригинальные компози-
торские тексты. Возникло положение, которое один из зарубеж-
ных музыковедов остроумно назвал «заболачиванием источни-
ков».
Впрочем, в эту эскизно набросанную картину должны быть
внесены некоторые уточнения. На протяжении XIX и XX веков
появлялись два типа редакций: во-первых, текстологические,
в которых делались более или менее удачные попытки восста-
новить подлинный авторский текст (чаще всего такие редакции
публиковались в полном собрании сочинений композитора), и,
во-вторых, «разъясняющие». Последние, в свою очередь, можно
256
условно разделить на две группы. К первой относятся нотные
издания, в которых крупные артисты записывали свою исполни-
тельскую трактовку произведения и давали советы играющим;
ко второй — «специфические» инструктивно-педагогические ре-
дакции, которым несть числа. «Разъясняющие» редакции лиш-
ний раз подтверждают проверенное жизнью суждение: то, что
музыканты одной эпохи считают «истинным» раскрытием ком-
позиторской мысли, люди другого времени подчас рассматри-
вают как искажение авторских намерений...
Реакция на «заболачивание источников» началась за рубе-
жом еще в конце первой четверти нашего столетия. С каждым
годом публиковалось все больше Urtext’oB, в которых делались
попытки (не всегда удачные, некоторые из них были про-
диктованы меркантильными соображениями; Urtext’bi входили
в моду!) познакомить педагогов и учащихся с подлинной автор-
ской записью музыкальных произведений безо всяких редактор-
ских добавлений или изменений. Приблизительно тогда же (или
несколько раньше) стали публиковать смешанного типа редак-
ции: с помощью разных шрифтов стремились отделить авторские
указания от редакторских. Несколько позже начали выходить из
печати факсимиле композиторских рукописей...
А теперь о нашей издательской практике. Здесь не место да-
вать подробный анализ выпущенных нотных изданий в той или
иной редакции. Но одно замечание общего характера высказать
необходимо.
У нас издается и переиздается немалое количество «разъяс-
няющих» редакций разного характера и разного качества. Но за
единичными исключениями вовсе не публикуются Urtext’bi в их
чистом, не тронутом рукой редактора виде. В лучшем случае
в свет выходят издания, в которых редакторские добавления,
внесенные в самый текст, тем или иным способом
(шрифт, скобки) отделены от авторских. Что же касается инст-
руктивно-педагогических изданий, то общий вывод, к которому
приходишь после их просмотра, таков: не доверяют редакторы
ни педагогу, ни ученику; опасаются, как бы они не проявили
своеволия и не отклонились от прописей...
Я придерживаюсь иной точки зрения, хотя и знаю, что не
у всех она найдет поддержку: с детского возраста ученик должен
быть приучен работать над музыкальным произведением по
подлинным авторским текстам, которые, если иметь в виду му-
зыку XVIII и начала XIX веков, содержат сравнительно немного
исполнительских пометок или — как у Баха — почти вовсе их не
содержат. Единственное добавление, которое может (но не все-
гда должно) быть внесено в «чистый» авторский текст,— это
аппликатура, более подробная для малоподвинутых учеников и
более скупая для опытных.
Перефразируя слова Н. Акимова, сказавшего как-то, что
«при самом непредвзятом прочтении сама трагедия «Гамлет»
257
Шекспира нам гораздо ближе, чем любая сценическая интер-
претация этого произведения, относящаяся к XIX веку»,— я, ве-
роятно, не ошибусь, если замечу, что сочинение Моцарта или
Шумана, прочитанное по подлинному тексту, окажется нам го-
раздо ближе, чем редакционная его трактовка даже 20-летней
давности. Но, кроме всего прочего, разучивание музыки по изда-
ниям без редакторских подсказок может позволить умному и
знающему педагогу воспитать у ученика качества, в равной сте-
пени необходимые и любителю и профессионалу: способность
без мелочной опеки самостоятельно искать варианты интерпре-
тации, опираясь только на'пометки автора; желание и умение
додумывать, догадываться, а не только «правильно» выполнять
знаки интерпретации, расставленные редактором.
Тут, конечно, мой монолог прерывают возмущенные возгласы
редакторов:
— Вы витаете в небесах! Вы рассуждаете об уважении к ав-
торскому тексту и о воспитании самостоятельности ученика,
а между тем нередко сами педагоги недостаточно музыкально
образованны, чтобы без помощи редактора грамотно прочесть
пьесу. Если не указать им и ученикам направление работы, это
может во многих случаях привести к дилетантизму. Разве редак-
тору, музыканту более опытному, нельзя разъяснить авторскую
мысль?
— Почему же «нельзя»? В иных случаях это даже должно
сделать! Но зачем же записывать эти советы в самом нотном
тексте? Почему не воспользоваться интересным опытом некото-
рых зарубежных редакторов: к Urtext’y того или другого произ-
ведения или сборника пьес прилагается вкладыш, в котором ре-
дактор, прибегая и к нотным примерам, показывает возможную
или возможные интерпретационные версии, нередко опираясь на
мелодический, полифонический или гармонический анализ. Тот,
кто знаком с такими, скажем, изданиями, как «Инвенции и сим-
фонии» Баха под редакцией Людвига Ландсгофа или серия ба-
ховских клавирных произведений под редакцией Лайоша Хер-
пади, согласится, вероятно, со мной.1
А теперь прервем общие рассуждения и посмотрим, по каким
текстам наши учащиеся играют, скажем, такие широко бытую-
щие в педагогической практике фортепианные произведения, как
Альбом для юношества Шумана или концерты Моцарта.
Альбом Шумана — как, впрочем,' и другие его сочинения —
вот уже много десятилетий переиздается в редакции А. Гольден-
вейзера. Удовлетворяет ли сегодня эта редакция, особенно после
публикации факсимиле шумановской рукописи? На этот вопрос
1 Хотелось бы попутно заметить, что наряду с Urtext’aMH следовало бы
издавать и редакции, которые сделаны крупными артистами и в которых
отражен их исполнительский опыт. Для зрелых музыкантов такие редак-
ции оказываются весьма поучительными.
258
приходится ответить отрицательно:1 редакции устаревают, и нет
ничего удивительного в том, что, независимо даже от общих
рассуждений о типах редакций, поправки шумановского текста,
которые в начале XX века казались чуть ли не сами собой разу-
меющимися, сегодня должны быть отвергнуты. Эти поправки кос-
нулись главным образом шумановских лиг и артикуляционных
обозначений. К сожалению, сотни тысяч детей именно по этому
изданию знакомятся с детскими фортепианными пьесами Шу-
мана.
Совершенно не соответствуют современным требованиям и
наши издания сочинений Моцарта (особенно фортепианных кон-
цертов). Сейчас, после выхода из печати значительного количе-
ства томов Нового полного собрания сочинений Моцарта, после
публикации фортепианных сочинений издательской фирмой
Хенле, квартетов под редакцией А. Эйнштейна, после обнародо-
вания ряда других подлинных текстов, перечислить которые
здесь невозможно,— назрела настоятельная необходимость пред-
принять новое критически проверенное советское издание наибо-
лее часто используемых в педагогической и исполнительской
практике произведений Моцарта (в первую очередь его концер-
тов, сопат, вариаций, трио, квартетов). Кстати говоря, не пора
ли «разоблачить» некоторые зарубежные издательские фирмы и
довести до сведения педагогов, что так называемые «сонатины
Моцарта» вовсе не написаны великим австрийским композито-
ром, а являются чьей-то переделкой, не всегда удачной, отдель-
ных пьес из моцартовских трио для духовых инструментов, ском-
понованных в сонатинные циклы? И не пора ли, заново прове-
рив эти транскрипции, опубликовать их в виде отдельных пьес?
Впрочем, все это лишь частные примеры. Но и они показы-
вают, что наша музыкальная педагогика крайне заинтересована
в том, чтобы принципы редактирования классики и состояние
редакторского дела были широко обсуждены музыкальной об-
щественностью.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ДИАЛОГ
О МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
После одного из моих докладов, в котором были затронуты
музыкально-педагогические проблемы, ко мне подошла группа
слушателей. Между мной и одним из этих слушателей произо-
шел диалог. Им и закончу свои «педагогические размышления».
1 Я хотел бы подчеркнуть, что А. Гольденвейзер был широко эрудирован-
ным и принципиальным редактором. Нужно было обладать мужеством, чтобы
в глубокой старости признать ошибочными свои прежние принципы редак-
тирования сонат Бетховена и подготовить новую редакцию этих сонат. Убеж-
ден, что А. Гольденвейзер пересмотрел бы и свои редакции сочинений Шу-
мана. Но сделать это ему уже не суждено было.
259
— Что же, в конечном итоге, поддерживает престиж музы-
кального учебного заведения и определяет его лицо: вышедшие
из его стен именитые композиторы, исполнители, исследователи
или подготовленные педагоги, оркестранты, хоровики, концерт-
мейстеры? ..
— Ответ в общей форме давно известен: и то и другое в оди-
наковой степени важно. Судьбы искусства зависят от появления
новых ярких и даровитых композиторов и исполнителей, но в то
же время оно не может существовать и захиреет без широкой му-
зыкально-просветительской и музыкально-педагогической работы,
требующей прежде всего хорошо подготовленных, образованных
и самоотверженных педагогов. К сожалению, достоинства учеб-
ного заведения определяются ныне лишь по одному показа-
телю — по «героям». Не скрою, что сегодня я стал бы измерять
заслуги училища или консерватории, опираясь в первую очередь
не на число лауреатов, профессоров, докторов, народных арти-
стов, вышедших из его стен, а на качество подготовленных им
педагогов, которым суждено воспитывать и обучать сотни и ты-
сячи детей и молодых людей.
— Но почему же именно сегодня вы делаете акцент на
эту сторону деятельности учебных заведений?
— Равновесия ради! В нынешнее время в наших музыкаль-
но-профессиональных учебных заведениях внимание фиксируется
главным образом на славе, на конкурсах, на концертных триум-
фах и эстрадном успехе. Создается атмосфера, в кот.о-
рой не может расцвести музыкально-педагоги-
ческое образование. Я говорю о нравственной атмосфере:
ведь истинным педагогом может стать лишь тот, кто думает не
только о себе; кто способен понять другого и волноваться его
волнениями и заботами; кто рекомендацию на педагогическую
работу воспринимает как высокое доверие, а не как кару, вы-
павшую на долю неудачника. Конечно, если сосредоточить свое
внимание только на пьедестале почета, если израсходовать всю
свою энергию на бесконечные конкурсные испытания, если потра-
тить всю молодость на достижение недостижимого,— не броская
и не сразу дающая результаты (но высокопочетная!) деятель-
ность педагога покажется жестоким ударом судьбы. Ни курсы
методики, ни педагогическая практика, ни словесные заклинания
в этой обстановке нужных результатов дать не могут. Пройдут
годы, оглянется человек и в ужасе увидит: молодость, а то и
жизнь ушла не на то, на что должна была уйти. Нет, что ни
говорите, общая атмосфера в учебном заведении — вот от чего
зависят успех музыкально-педагогического образования и фор-
мирование педагогов по призванию.
— Но разве не всегда в музыкальных учебных заведениях
царила атмосфера, которую вы осуждаете?
— Не всегда. Обратитесь, скажем, к 20-м годам. В этот пе-
риод получили музыкальное образование многие выдающиеся
260
деятели советского искусства — композиторы, исполнители, ис-
следователи. И в то же время важнейшей своей задачей учебные
заведения считали тогда подготовку просветителей и педагогов.
Этому вопросу посвящались специальные конференции музы-
кальных деятелей, статьи в общей и специальной прессе;
в центре внимания музыкальной общественности были «школы
музыкального просвещения». Вот об этой нравственной атмос-
фере и об утраченных традициях стоило бы вспомнить в канун
50-летия Октябрьской революции.
— Значит, все дело только в этой атмосфере?
— Нет, ею вопрос, конечно, не исчерпывается. Речь должна
идти и о другом: о методах и организации педагогического обра-
зования (и, в частности, о психологическом обучении будущих
педагогов), о развитии музыкально-педагогической науки, о му-
зыкально-педагогических поисках и экспериментах... Но ведь
все это, как вы сами понимаете, должно быть темой специаль-
ной статьи или доклада...
Журнал «Советская музыка». 1967, № 6, 9, 12.
О БЕТХОВЕНСКОЙ ПЕДАЛИЗАЦИИ
1
Вскоре после выхода в свет книги Г. Нейгауза «Об искус-
стве фортепианной игры» была опубликована моя рецензия на
этот труд.1 Очень высоко оценив литературную работу нашего
замечательного артиста и педагога, я высказал несколько крити-
ческих замечаний, и среди них одно, связанное с отношением
к бетховенским педальным обозначениям. Речь шла о речитативе
из первой части сонаты ор. 31 № 2. Шнабель, как известно, на-
стаивал на соблюдении бетховенской педализации — одной пе-
дали на весь речитатив и последующую паузу. Нейгауз назвал
такую педализацию «нелепой». Я встал на защиту Шнабеля или,
точнее, бетховенской звуковой идеи. В предисловии ко второму
изданию своей книги Нейгауз возразил мне: он считал педаль
Шнабеля «нелепой» потому, что «доминантовое» соль и «тониче-
ское» фа звучат одновременно, иными словами потому, что
австрийский пианист «выдерживает педаль на одну четверть
больше, чем надо, и держит ее во время паузы, вследствие чего
на последней ноте речитатива — фа — получается грязь».
Спустя короткое время я встретил Нейгауза в Ленинградской
консерватории.
— Как это вы не понимаете,— сказал мне Генрих Густаво-
вич,— что Бетховен не мог, не мог написать такой педали и сме-
шать «доминантовое» с «тоническим»!
1 См. журнал «Сов. музыка», 1959, № 5.
261
— А педаль в рондо из ор. 53, где Бетховен сливает «тониче-
ское» и «доминантовое», «мажорное» и «минорное»?
— Если Бетховен и предписал такую педализацию, если это
не описка, то только потому, что был глух, глух, war taubl!
Внутренний слух, видимо, подвел его... А Шнабель ведь не был
глухим, должен был услышать эту невыносимую грязь...
— Но ведь Гайдн не был глухим?
— ? !
Мы зашли с Генрихом Густановичем в класс, и я показал ему
педальные указания Гайдна в его поздней сонате C-dur:
И эти примеры (о них речь впереди) не убедили моего собе-
седника (тем более что нот под рукой не было). Каждый из
нас остался при своем мнении.
Придя домой, я обратился к двум изданиям сонат Гайдна.
В одном, в Urtext’e, педаль была обозначена так, как указано
в приведенных нотных примерах. Что же касается другого изда-
ния, то здесь я столкнулся с прелюбопытнейшим образчиком
«исправления» авторской педализации. В 1946 году Музгиз пере-
печатал по имевшимся издательским доскам редакцию сонат
Гайдна, сделанную каким-то иностранным пианистом (каким
именно, не указано; по-видимому, Ламондом). Редактору нашего
издания Л. Калтату гайдновские педальные указания показа-
лись настолько нелепыми, что английские слова «open pedal»
(то есть — с «открытой педалью») он перевел... «без педали»
(при этом волнообразная линия, начертанная рукой Гайдна,
была сохранена).1
В те годы я не знал, что подобная же «грязная» педаль, как
у Гайдна и Бетховена, встречается и у некоторых других ком-
1 См. I том названного издания, с. 216 и 21G.
262
позиторов конца XVIII и начала XIX века, даже у Гуммеля/
предпочитавшего, как известно, беспедальную игру. Вот пример
педализации, который заимствован из Adagio, помещенного в его
«Школе»:
Обо всем этом я рассказал теперь, когда среди нас уже пет
ни Генриха Густавовича Нейгауза, ни Льва Львовича Калтата,
вовсе не для того, чтобы хоть в чем-нибудь упрекнуть их. Мне
хотелось лишь привести пример того, как музыканты, свыкшиеся
и сроднившиеся с определенными слуховыми представлениями,
доверяют своей интуиции и традициям, в которых были воспи-
таны, в большей мере, чем достоверным историческим фактам.
Чем же иначе можно объяснить, что опытный редактор, смыслу
вопреки, английское «open pedal» перевел «без педали»! Правда,
здесь надо сделать существенную оговорку: историческим фак-
там не доверяют часто еще и потому, что они в достаточной мере
не исследованы и не разъяснены и, может быть, именно поэтому
кажутся «нелепыми» и «немыслимыми».
2
В последние десятилетия возрос интерес музыковедов и арти-
стов к историческим проблемам, прямо или косвенно связанным
со стильной интерпретацией музыки прошлого: к изучению ин-
струментов, на которых когда-то играли, к исследованию испол-
нительских указаний композиторов далеких времен и тогдашней
исполнительской практики. Внимание к этим вопросам прояв-
ляют музыканты, придерживающиеся подчас разных точек зре-
ния на то, как использовать в современной исполнительской
практике исторический материал: и те крайние «объективисты»,
которые ратуют за возвращение к старинным или старым ин-
струментам и за восстановление, за «реставрацию» в некоей сте-
рильной чистоте принципов и особенностей тогдашнего испол-
нения; и те, кто впечатляющую силу воздействия на слушателей
ставит выше «абсолютной» исторической достоверности, но вме-
сте с тем убеждены в том, что (тут я пользуюсь формулировкой
Г. Грундмана и П. Миса, которую полностью разделяю) «исто-
рическое надо знать, если хочешь достигнуть высоко-эстетиче-
ского».
263
Говоря об интересе и внимании к «историческому», я имею
в виду не только специальные музыковедческие работы, но и
стремление ряда музыкантов практически познать инструменты
прежних времен и артистически овладеть игрой на них. Один из
примеров такого освоения — деятельность австрийского пианиста
Йорга Демуса, обычно концертирующего на современных ин-
струментах, но записавшего на- пластинки исполнение произве-
дений Моцарта, Бетховена, Шуберта и Шумана на реставриро-
ванных роялях Антона Вальтера, Вильямса Стодарта, Нанетты
Штрейхер-Штейн, Конрада Графа и других.1 В отдельных слу-
чаях пианисты стремятся играть на инструментах, которые по
общему характеру своей звучности напоминали бы фортепиано
конца XVIII и начала XIX века. По такому пути пошел, напри-
мер, Глен Гульд в своих последних записях инвенций Баха и
ранних сонат Ботховена: он играет их на специально приспособ-
ленном рояле Стейнвея.
Исследователи, занимавшиеся проблемами исполнительского
искусства, прежде всего обратились к изучению объективных
исторических основ интерпретации произведений И. С. Баха, его
современников и предшественников. Что же касается музыки не-
сколько более позднего периода, то проблемы ее исполнения дол-
гое время не привлекали к себе специального внимания. И вовсе
не потому, что считались недостаточно интересными или малосу-
щественными, а совсем по другой причине: представлялось, что
тут-то все или почти все ясно, понятно, известно, и поэтому очень
многое принималось как бесспорное, для всех очевидное, не нуж-
дающееся ни в проверке, ни в доказательствах.
В частности, если говорить о клавирной и фортепианной му-
зыке, это должно быть отнесено и к самому инструменту: так
как клавесинная музыка исполняется в наши дни на совсем ином
в принципиальном отношении клавишном инструменте, то спра-
ведливо предполагалось, что здесь-то и возникают серьезные ис-
полнительские проблемы; что же касается клавишно-молоточко-
вых инструментов XVIII и начала XIX века, то на их акустиче-
ские и конструктивные отличия от современных роялей обра-
щалось мало внимания. А между тем, как мне приходилось уже
писать, «каждый из клавишно-струнных инструментов, бытовав-
ших на протяжении последних столетий,— не только клавикорд,
клавесин и фортепиано (как тип определенной инструментальной
конструкции), но и фортепиано конца XVIII века, бетховенское
фортепиано, фортепиано середины прошлого века и, наконец,
современные «бехштейны» и «стейнвеи» — это в известном смы-
сле разные инструменты, и каждый из них, обладавший своими
акустическими особенностями, отвечал тем или другим эстети-
1 См. пластинки, выпущенные граммофонной фирмой „Harmonia Mundi’’
в 1966—1967 годах под номерами НМ 17064, НМ 30828, НМ 30833, НМ 30834,
НМ 30813.
264
ческим требованиям и позволял воплотить определенный звуко-
вой идеал».1
Английский музыковед А. Кинг был прав, отметив в 1955
году, что «углубленное изучение теории и практики первой по-
ловины XVIII столетия не захватило время после 1760 года,
хотя эпоха, последовавшая за так называемым веком генерал-
баса, ставит столь же трудные проблемы»1 2 Эти «трудные проб-
лемы» стали с особой интенсивностью разрабатываться теперь,
в пятидесятые и шестидесятые годы. Именно в это время вышел
из печати ряд исследований, посвященных изучению исполни-
тельской практики и исполнительских указаний композиторов
второй половины XVIII — начала XIX века. Назовем статьи
Р. Штеглиха и книгу Е. и П. Бадура-Скода об интерпретации
произведений Моцарта, статьи Г. Келлера, О. Йонаса, А. Крей-
ца, Г. Унферихта, Э. Циммермана и П. Миса о моцартовской
артикуляции, двухтомную работу Ф. Ротшильда об утраченных
традициях (в том числе и исполнительских), исследования
П. Миса, Н. Фишмана, А. Аронова о проблемах исполнитель-
ского прочтения музыки Бетховена.
К этого же типа трудам должна быть отнесена и книга
двух бетховеноведов Г. Грундмана и П. Миса «Studien zum Kla-
vierspiel Beethovens und seiner Zeitgenossen» (1966) состоящая
из трех очерков — о бетховенской педали, о legato у Моцарта
и Бетховена и о бетховенской аппликатуре. С переводом первого
из этих очерков читатели уже ознакомились.3 Очерк этот носит
не только исторический, но в известном смысле и практический
характер. Авторы достаточно убедительно отвечают на два во-
проса: во-первых, какие эстетические идеи лежали в основе
бетховенских педальных предписаний, и, во-вторых, возможно
ли осуществить их на современном рояле. Конечный вывод
Г. Грундмана и П. Миса представляется глубоко продуманным
и верным: «Только изучение указаний Бетховена и знакомство
со звучанием тогдашних инструментов может привести... к ис-
полнению, которое в одинаковой степени соответствует как ис-
торическому, так и эстетическому фактору, как установивше-
муся в бетховенское время, так и изменяющемуся в ходе раз-
вития звучности и стиля».
3
За несколько месяцев до выхода в свет исследования
Г. Грундмана и П. Миса было опубликовано несколько статей
о бетховенской педали, с которыми авторы книги познакоми-
1 Л. Баренбойм. Как исполнять Моцарта? В кп.: Е. и П. Бадура-
Скода. Интерпретация Моцарта. М., 1972.
2 A. Hayatt King. Mozart in Retrospect. Oxford University Press. Lon-
don — New York — Toronto, 1955, p. 42.
3 Г. Грудман и П. Мне. Как Бетховен пользовался педалью. «Музы-
кальное исполнительство», сб. 6. М., 1970.
265
лись, как они указывают, уже после того, как их работа была
сдана в печать. Две из этих статей — «Регистровая педализация
у Гайдна и Бетховена» Фр. Эйбнера и «Выполнение бетховен-
ских педальных предписаний на современном фортепиано»
Г. Ярецкого — представляют значительный интерес.1 Эйбнер и
Ярецкий во многом приходят к тем же выводам, что и авторы
очерка «Как Бетховен пользовался педалью». Вместе с тем они
освещают и некоторые другие стороны проблемы, а также ис-
пользуют материалы, дополняющие труд Грундмана и Миса.
Прибегая к регистровой педализации, нередко приводившей
к смешению разных гармоний, использовал ли Бетховен опыт
других музыкантов? Или такая педализация — дело новаторское
и предшественников у него не было? Если же он опирался на
традиции, то на какие именно? На практику исполнителей, обус-
ловленную в известном отношении самим инструментом и исто-
рией его развития? На опыт композиторов, отводивших регист-
ровой педализации определенную композиционную роль?
Таковы наиболее важные вопросы, поставленные в статье
Эйбнера. Он доказывает, что Бетховен использовал и практику
исполнителей, и опыт композиторов.
Эйбнер ссылается на работу Фр. Эрнста «Бах и форте-
пиано».1 2 По словам Эрнста, в середине XVIII века в Германии
были распространены небольшие фортепиано Г. Зильбермана,
не имевших отдельных глушителей для каждой клавиши. На
этих инструментах, обладавших тихим звуком, либо вовсе не
было демпферов, либо была общая для всех клавиш демпфер-
ная планка. В те годы исполнителю по временам приходилось
использовать для глушения отдельных звуков ладони рук. Из
инструмента Зильбермана возникло раннее столообразное фор-
тепиано с обособленными глушителями для каждой клавиши.
Такие фортепиано были оснащены, подобно клавесинам и ор-
ганам, рядом регистров. Среди них важную роль играл демф-
ферный регистр. Сначала он включался рукой с помощью спе-
циальной кнопки, затем нажимом колена (вспомним письмо
Моцарта от 17 октября 1777 года, в котором он говорит о та-
кого рода механизме) и, наконец, нажимом ступни.
Самой собой разумеется, что до тех пор, пока демпферный
регистр включался и выключался рукой, не могло быть речи
о педализации в нашем понимании этого термина: отрезок му-
зыки, также и такой, который порой заключал в себе разные
гармонии, исполнялся, если прибегнуть к сегодняшней термино-
логии, «на одной педали», а если быть более точным, в одном —
демпферном — регистре. Напомнив слова Ф. Э. Баха о том,
что «звучность фортепиано с поднятыми демпферами — прият-
1 Обе статьи помещены в журнале „Osterreichische Musikzeitschrift",
1965, N 4.
2 Ft. Ernst. Bach und das Pianoforte. ”Das Musikinstrument". Frankfurt
a. Main, o. J.
266
нейшая и, если в связи с призвуками суметь соблюсти необхо-
димую осторожность, — привлекательнейшая для фантазиро-
вания», Эрнст замечает: «Цитируя эти слова, нужно ясно пред-
ставить себе, что инструмент на этой стадии (то есть в шести-
десятые годы XVIII века. — Л. Б.) не обладал ни коленным
рычагом, ни педалью, с помощью которых стало возможным
приводить в действие демпферное устройство по желанию в
нужное время... Она (цитата эта. — Л. Б.) доказывает, что
на старых фортепиано играли с неприглушенным регистром и
что это приводило, к призвукам и гулу».1
Из всего этого Эйбнер делает ряд выводов, из которых два
представляются мне особенно интересными. Во-первых: когда
Ф. Э. Бах писал о «необходимой осторожности», он вовсе не
имел в виду ту «осторожность», которую можно соблюсти се-
годня, поднимая глушители с помощью педальной лапки. При
включении и выключении демферов ручным механизмом такого
рода осторожная «педализация» попросту невозможна. Слова
Ф. Э. Баха об «осторожности» должны быть отнесены к са-
мому «фантазированию», то есть к композиторским моментам.
И, во-вторых: было бы ошибочным предполагать, что с того
времени, когда ручной механизм был в конце концов заменен
педалью, перестали использовать подъем демпферов как свое-
образную красочную регистровку.
Таким образом, не подлежит сомнению, что Бетховен, при-
бегая к очень тонкой регистровой педализации, использовал
звуковые эффекты, известные уже во времена Ф. Э. Баха и
обусловленные тогдашней конструкцией беспедального форте-
пиано с демпферным регистром. Я написал об очень тонкой
регистровой педализации, вспомнив, как чарующе мягко зву-
чит она на инструментах бетховенского времени, на которых
мне пришлось играть в венском Музее музыкальных инстру-
ментов. Впрочем, об этом звуковом очаровании говорят все без
исключения музыковеды и исполнители, практически знающие
эти рояли. В этой связи приведу слова Грундмана и Миса из
предисловия к их книге, относящиеся, конечно, не только к пе-
дализации:
«На докладе П. Миса „Клавирная музыка венских класси-
ков и клавиры той эпохи”, прочитанного в Немецком нацио-
нальном музее в Нюрнберге, в качестве иллюстраций исполня-
лись отрывки из Первой сонаты Гайдна, произведений Моцарта
и сонаты ор. 109 Бетховена. В зависимости от времени их
создания, эти произведения исполнялись на клавесине Карла Ав-
густа Гребнера (Дрезден, 1782), на молоточковом рояле Антона
Вальтера (Вена, 1790) и на молоточковом рояле Джона Брод-
вуда (Лондон, 1815). Для сравнения использовался рояль
фирмы Стейнвей (Гамбург). Слушатели были поражены, на-
1 Цит. по статье Эйбнера, с. 191.
267
сколько естественнее звучали эти сочинения на инструментах,
для которых были написаны; насколько легче было найти вер-
ный темп и верную динамику; в какой степени возмещало свое-
образное звучание старых инструментов некоторую слабость
звука и некоторую резкость в верхнем регистре... Звучность и
произведение создавали единство, которое производило исклю-
чительно сильное впечатление».
Вернемся к статье Эйбнера. Он обратил внимание и на сле-
дующее обстоятельство: регистровая педаль, направленная на
решение композиционных задач и представляющаяся нам сегод-
ня специфическим выразительным средством Бетховена, встреча-
ется уже у Гайдна. Эйбнер иллюстрирует это теми же двумя
гайдновскими педальными обозначениями, о которых я когда-то
напомнил Нейгаузу (см. примеры на с. 262).
Первый из этих примеров заимствован из разработки (такты
73—74). В ней — ряд модуляций, и тематический материал про-
водится в разных тональнь1х «ситуациях». Для того чтобы от-
тенить в композиционном отношении очень важные такты
в As-dur’e (композиционная роль этих тактов становится ясной
в их соотношении с последующим E-dur’oM и со всем дальней-
шим развитием, ведущим к репризе), Гайдн прибегает к двум
теснейшим образом взаимосвязанным средствам: во-первых,
к «артикуляционной модуляции» (термин И. А. Браудо)—рас-
члененность, характерная для темы (паузы, staccato):
Allegro
сменяется связностью (четверти вместо восьмых, legato); во-
вторых, к регистровой педализации, придающей этим тактам
новую звуковую окраску и превращающей две первые паузы
в звучащие паузы.
Нечто аналогичное происходит и в репризе. И здесь начи-
ная с такта 120 (см. пример на с. 262) тематический материал
излагается (в партии левой руки) в ритмически и артикуляци-
онно измененном по сравнению с экспозицией виде: сплошное
legato безо всяких пауз, четверти вместо затактовых восьмых,
высокий регистр, трехголосное изложение. И снова весь этот
композиционный эффект оттеняется звуковой краской — регист-
ровой педализацией, сливающей звучность воедино.
Ко всему сказанному следует добавить, что Гайдн, по-види-
мому, осознанно использует подобные контрастные средства
(включая сюда и регистровую педаль) именно в этой сонате:
ведь здесь нет никакого тематического противопоставления
между главной и побочной партиями, больше того, побочная
повторяет начальные такты главной.
В статье Г. Ярецкого, помещенной в том же номере «Osterrei-
268
chische Musikzeitschrift», что и статья Эйбнера, речь идет о дру-
гих сторонах рассматриваемой проблемы. При этом автор уде-
ляет внимание лишь таким педальным обозначениям Бетховена,
которые композитор расставлял, не считаясь с образующимися
диссонирующими созвучиями и смешением разных гармоний.
Ярецкий полемизирует с теми, кто убежден в неэстетичности
подобного смешения, и полагает, что Бетховен в ряде случаев
был вынужден прибегнуть к этой педализации только для того,
чтобы сохранить звучание длинных басовых органных пунктов.
В частности, он оспаривает мнение Иозефа Дихлера; послед-
ний, приведя отрывок из второй части сонаты ор. 101:
указал, что композитор хотел здесь только одного — продлить
органный пункт Des. Стремиться же к раздражающим слух
диссонирующим созвучиям он не мог, и это звуковое смешение
было вызвано необходимостью.1
Действительно, такая педализация на органном пункте встре-
чается у Бетховена нередко, например, в финале сонаты ор. 53,
в As-dur’HOM разделе из багатели ор. 33 № 7, в концерте G-dur,
ор. 58 — в коде первой части и в финале, начиная с тактов 80
и 299. Однако точку зрения Дихлера опровергают только что
упомянутые примеры из концерта G-dur. Органные пункты вы-
держиваются здесь не только в партии фортепиано, но и в ор-
кестровом сопровождении — в первой части бас G тянут виолон-
чели и контрабасы, в финале басы D и G звучат у виолонче-
лей. Поэтому, если бы Бетховен не стремился к смешению всех
звуков и, благодаря этому эффекту, к своеобразному единству
в каждом из этих отрывков, он мог оставить органный пункт
только у оркестровых инструментов.
Но основную свою задачу Ярецкий видит не в полемике по
относительно частному вопросу, а в другом: он стремится про-
следить за складывавшимся в XIX и XX веках отношением
к бетховенской педализации. Обратимся к этим разделам
статьи, дополнив их материалом, мимо которого Ярецкий про-
шел и который вносит некоторые поправки в его построение.
Как известно, по поводу педализации Бетховена во второй
части концерта c-moll, ор. 37, К. Черни в своей «Школе для
1 Josef Di chi er. Der Weg zum kunstlerischen Klavierspiel. Verlag Dob-
linger, Wien — Munchen, 1948, S. 69.
269
фортепиано» op. 500 говорит, что авторская педализация не-
выполнима на роялях его времени (они обладали более силь-
ным звуком, чем бетховенские), и рекомендует брать новую
педаль «при каждой значительной смене гармонии». По мнению
Ярецкого, пианисты последующих поколений — до Шнабеля —
следовали совету Черни. К самому тонкому смешению гармо-
нически разнородных звучаний относились как к чему-то не-
терпимому и недопустимому. Таков стал всеобщий звуковой
идеал.
Всеобщий ли? Тут Ярецкий заблуждается. Так, Бюлов
в огромном большинстве случаев вовсе не боялся этих звуковых
«наплывов» в музыке Бетховена. Любопытно, что педагог С. Ле-
берт, редактировавший фортепианные произведения Бетховена
в издании Cotta до ор. 53, не посчитался ни с одним педальным
указанием композитора. А выдающийся художник Г. Бюлов
(выпустивший фортепианные сочинения Бетховена в том же
издательстве начиная с сонаты С-dur, ор. 53) сохранил эти
обозначения (за исключением рондо из ор. 53), привлек к ним
внимание и в ряде случаев разъяснил. Вот три примера таких
разъяснений.
«„Sempre pedale” — это категорическое требование компози-
тора. Des и С должны, таким образом, слиться друг с другом;
образующаяся благодаря этому неясность эстетически оправ-
дана» (к последним тактам перед кодой первой части сонаты
ор. 57).
«Композитор предписал, чтобы органный пункт Des звучал
в течение четырех тактов. Это влечет за собой затушевывание
голосов, образующих канон; однако, как часто бывает, сле-
дует пожертвовать менее существенным ради главного. А глав-
ным является здесь чувственно воспринимаемый звуковой эф-
фект» (ко второй части сонаты ор. 101, см. пример на с. 269).
«.. .Надо попытаться воспроизвести звуковой эффект, подоб-
ный тому, который достигается на педальной арфе при помощи
„sons harmoniques” (флажолетные звуки). Бесспорно, что на
эраровском или бехштейновском роялях такой эксперимент воз-
можен. Композитор предписал непрерывную педаль на послед-
них пяти тактах: взаимосвязанные гармонии должны расплы-
ваться в воздушном эфире. Отвлеченные, чисто музыкальные
интересы следует подчинить динамически-поэтическому впечат-
лению» (к последним тактам багатели ор. 126 № 3).
Приведенные замечания Бюлова могут служить подтверж-
дением того, что во второй половине XIX века далеко не все
музыканты игнорировали педальные указания Бетховена, счи-
тая их невыполнимыми на более звучных, по сравнению с бет-
ховенскими, роялях.
И все же в конечном итоге Ярецкий прав, указывая,
что Шнабель был первым в XX веке выдающимся интерпрета-
тором бетховенской музыки, который настаивал на соблюдении
270
всех без исключения авторских педальных предписаний и,
добавлю, сам в своем искусстве сумел показать их глубокий вы-
разительный смысл.
Здесь уместно привести в извлечениях ' высказывания по
этому поводу Шнабеля: «Что касается Бетховена, то эффект от
выполнения его педальных указаний один и тот же — и на
старых, и на новых инструментах...». «.. .Просто и в искусстве
педализации он творил нечто неожиданное, фантастическое,
смелое. Часто получается эффект, который в наши дни можно
назвать импрессионистской звучностью». «И если не выполнять
педальные указания Бетховена, музыка изменится».
«Рассуждения о различиях между старинными и современ-
ными фортепиано имеют стойкую традицию. Они снова и снова
возобновляются, чтобы попытаться оправдать отмену столь яс-
ных бетховенских ремарок в отнош&нии педализации. Одновре-
менно пытаются „оправдать” и автора; дескать, если бы он
был знаком с современным роялем, то, конечно, изменил бы
свои указания. Столь же упорно распространяются ловкие вы-
думки по поводу того, что только глухоте Бетховена мы обя-
заны несколькими якобы жестко звучащими тактами в его
поздних сочинениях.
Что касается бетховенских педальных указаний, то, как я
уже сказал, не имеет значения, на каком инструменте вы
играете. Могу добавить: даже современники Бетховена избе-
гали пользоваться ими. Уверен, по тем же причинам, что и
в наши дни.
А вот насчет глухоты — весьма изумляет, отчего она по-
влияла всего лишь на несколько тактов?»1
Если Шнабель в пылу полемики и перегнул палку, то, на
мой взгляд, только в одном: в характеристике результатов пе-
дализации на старых и на-новых инструментах. Сам он, неукос-
нительно выполняя все бетховенские педальные указания на
современном рояле, прибегал, однако, в отдельных местах (на-
пример, в рондо из ор. 53) к легкой вибрации педали, и это
позволяло ему чуть-чуть очищать звучность.
Что же касается утверждения Шнабеля о том, что бетховен-
ская педализация приводит порой к эффекту, «который в наши
дни можно назвать импрессионистской звучностью», то очень
близкой точки зрения придерживался и Эдвин Фишер, полагав-
ший, что Бетховен использовал порой педаль там, где хотел
«передать смутное душевное настроение и одновременно напи-
сать живописный пейзаж». Ярецкий противопоставляет такому
пониманию бетховенской педализации мнение — «несравненно
более глубокое», как он пишет,— видного австрийского музы-
коведа Генриха Шенкера, высказанное в его редакции бетховен-
1 А. Шнабель. Моя жизнь и музыка. Сб. «Исполнительское искусство
зарубежных стран», вып. 3. М., 1967, с. 143.
271
ских сонат.1 Шенкер рассматривает бетховенскую педализацию
«как своего рода legatissimo педали, которое можно сравнить
с игрой legato», и видит смысл такой педализации в намерении
композитора внутренне связывать относительно большие отрезки
музыки.
4
В великолепно аргументированной статье Грундмана и Миса
имеется одно положение, которое кажется мне спорным, а быть
может, недостаточно точно изложенным. Не вызывает никаких
сомнений, что Бетховену его педальные обозначения представ-
лялись исключительно важными; что он, как и другие музы-
канты его времени, во многом использовал педаль совсем по-
иному, чем композиторы и пианисты последующих эпох; что
в годы его жизни не знали, возможно, ряда функций педали,
которые сегодня нам кажутся «само собой разумеющимися»;
наконец, что, пользуясь терминологией Грундмана и Миса, конт-
растная педаль, арпеджио-педаль, педаль, задерживающая
звуки и мотивно обусловленная педаль почитались Бетховеном
особо существенными, а педаль, усиливающая звучность, и свя-
зующая педаль стояли для него на втором плане. Но выписы-
вал ли Бетховен педаль во всех случаях, где ему представля-
лось, что ее нужно брать, и где он сам брал педаль? Или же
он отмечал ее только в особых случаях, предполагая, что во
многих других педализация «ясна сама собой»?
Как известно (и об этом напомнили Грундман и Мис),
Черни сказал, что Бетховен «пользовался педалью очень
часто, гораздо чаще чем обозначено в его произведениях»
(разрядка моя.— Л. Б.). Авторы статьи относятся к этому вы-
сказыванию Черни двойственно: с одной стороны, они как будто
готовы ему поверить («Это возможно»), а с другой, считают
утверждение бетховенского ученика весьма сомнительным.
«.. .Это несколько шаткое утверждение Черни,— пишут они,—
не должно привести к тому, чтобы постоянное использование
педали скрывало подлинные звуковые намерения Бетховена»
(курсив мой.— Л. Б.). Конечно, педализировать надо так, чтобы
звуковые замыслы Бетховена не пострадали, и в частности,
был бы достаточно рельефен контраст между педальным и
беспедальным звучанием. Однако, на наш взгляд, нет никаких
оснований брать под сомнение слова Черни. Я бы даже сказал
по-другому: самый характер педальных обозначений Бетховена
заставляет думать, что он любил педальную звучность и ис-
пользовал ее значительно чаще, чем записал в нотном\ тексте;
это предположение, возникающее при изучении бетховенских
указаний, подтверждается свидетельством Черни.
1 Речь идет о следующем издании: Beethovens Klaviersonaten, herausge-
geben von H. Schenker — E. Ratz. Wiener Urtext Ausgabe, Universal-Edition.
272
Конечно, на современном рояле надо расширять бетховен-
ские педальные обозначения с осторожностью. Но столь же
бесспорно, что их должно, обязательно должно расширять.
Излишне осторожная позиция Грундмана и Миса кажется
мне менее убедительной, чем точка зрения Шнабеля:
«Во всех своих фортепианных сочинениях, на тысячах стра-
ниц Бетховен пометил всего лишь тридцать или немногим боль-
ше указаний педали. Они находятся только в тех местах, в от-
ношении которых автор знал, что „нормальный" исполнитель
счел бы здесь использование педали предосудительным, грехов-
ным. .. „Обычная" педализация, фактически никогда не указы-
ваемая Бетховеном, не что иное, как часть инструмента, неотъ-
емлемая часть фортепианной игры. На фортепиано играют ру-
ками и ногами».1
Грундман и Мис справедливо считают, что «лишь бетховен-
ские указания отражают его намерения». Но далеко не все на-
мерения Бетховена, думается мне, отражены в его указаниях!
Музыкальное исполнительство. (6-й сб.), М., 1970.
ПО СТРАНИЦАМ КНИГ
ЗАРУБЕЖНЫХ АРТИСТОВ XX ВЕКА
Я всегда был против употребления
слова «артист» как показателя блестя-
щего исполнения, независимо от на-
правления, избранного музыкантом. Ар-
тист— это тот, кто посвятил свою жизнь
искусству.
А. Шнабель
С 1962 года издательство «Музыка» начало публикацию
серии книг под общим заголовком «Исполнительское искусство
зарубежных стран». Вслед за первым выпуском, о котором была
речь на страницах «Советской музыки»,1 2 вышли в свет еще
три книжки.3 С мемуарами и автобиографиями, с размышле-
ниями о музыке, исполнительском искусстве и формировании
исполнителей, с общими и частными замечаниями об интер-
претации отдельных произведений перед советскими читате-
лями выступила плеяда выдающихся артистов нашего столе-
тия: композиторы (Джордже Энеску, одновременно являвший-
ся концертантом, и Морис Равель, дававший советы молодым
1 А. Ш н а б е л ь. Моя жизнь и музыка. См. цит. изд., с. 143.
2 Л. Баренбойм. Исполнительское искусство зарубежных стран. «Сов.
музыка», 1964, № 2.
3 Исполнительское искусство зарубежных стран. Составитель и редактор
Г. Эдельман, вып. 2., М., «Музыка», 1966; вып. 3. М., «Музыка», 1967;
вып. 4. М., «Музыка», 1969.
Ю Заказ № 1730 273
артистам «что надо было делать, но главным образом, чего...
не следовало делать» в его произведениях), дирижеры (Бруно
Вальтер, Вильгельм Фуртвенглер, Отто Клемперер), пианисты
(Феруччо Бузони, Артур Шнабель, Джеральд Мур) и певица
(Мариан Андерсон). Анонсированы два последующих выпуска,
посвященных дирижерам (Артуро Тосканини и Игорю Марке-
вичу) и виолончелисту (Григорию Пятигорскому)...
Искусство названных музыкантов нам хорошо известно:
одних помним по выступлениям в концертах, других знаем по
записям. И это накладывает отпечаток на восприятие опублико-
ванных работ: мы невольно соотносим их с исполнительским ис-
кусством знакомых художников...
Серия «Исполнительское искусство зарубежных стран» соз-
дана по почину Г. Эдельмана, и справедливость требует воз-
дать должное его инициативе и работе в качестве составителя
и редактора. Из огромного числа опубликованных за рубежом
книг, брошюр, статей и очерков он отобрал самое содержатель-
ное и яркое; тщательно отредактировал переводы иноязычных
текстов, подчас весьма сложных; к ряду очерков приложил до-
полнительный материал, характеризующий или отдельные пе-
риоды, или какие-то стороны деятельности артиста; снабдил
очерки и книги содержательными введениями или послесло-
виями, которые либо написал сам, либо извлек из иностранных
источников (упомяну обаятельную и тонкую статью Томаса
Манна «Бруно Вальтеру к семидесятилетию со дня рождения»),
либо поручил написать крупнейшим советским или зарубежным
музыкантам (Д. Ойстраху—о Дж. Энеску, Н. Рождественской—
о Дж. Муре, Э. Реблингу — о В. Фуртвенглере); лаконично
прокомментировал то и только то, что должно было быть разъ-
яснено; подобрал отличный иллюстративный материал. В этой
нелегкой, но не всегда заметной неискушенному читателю ра-
боте сказалась широкая гуманитарная культура Г. Эдельмана и,
думается^ его артистический и педагогический талант и опыт.
Трудно переоценить воспитательное значение вышедших
книг, особенно для нашей молодежи: как и труды выдающихся
отечественных артистов (Г. Г. Нейгауза, С. Е. Фейнберга,
А. М. Пазовского и многих других) рецензируемая серия лиш-
ний раз убеждает читателя в том, что выдающиеся артисты
(речь идет не о тех «превосходно играющих» и «превосходно
поющих» концертантах, которых в наш век конкурсов нередко
незаслуженно высоко подымают на щит)—всегда интересные
и широко мыслящие личности, умеющие умным и горячим сло-
вом бороться за осуществление передовых художественных прин-
ципов и гуманистических идеалов.
В каждой из вошедших в отдельные выпуски работ явст-
венно проступает своеобразие личности их авторов.
Энеску говорит о своем исполнительском искусстве сдер-
жанно, скупо и не склонен подвергать его на страницах воспо-
274
минаний анализу. Может быть потому, что не любит афиширо-
вать то, что делает? А может быть потому, что не сам писал
свои воспоминания, а только авторизовал записи Бернара Га-
воти? Энеску чуть-чуть ироничен, особенно тогда, когда говорит
о своей концертной деятельности. Для усиления выразительно-
сти кое-что намеренно преувеличивает. Любит меткие реплики,
острие которых часто направлено против выспренности и пус-
тословия.
Поэтичные и конкретные интерпретационные ремарки Мура
позволяют воссоздать портрет его — умного и интенсивно чув-
ствующего искусство музыканта, художественное credo кото-
рого может быть изложено его же словами: «Вся музыка — вот
она здесь, в нотах, и говорит сама за себя, если только мы
предоставляем ей такую возможность» (вып. 2, с. 108). Мур вы-
зывает ассоциацию, быть может, и несколько неожиданную —
с Маршаком: та же поэзия порядка и внутренняя убежденность,
что именно упорядоченность лежит в основе самого высокого и
поэтичного; та же заботливость об отчетливости мысли и ее
интонационного произнесения; та же ненависть к хитроумию;
то же внимание к самому простому, мимо которого часто про-
ходят, не замечая, что оно-то и лежит в основе истинно пре-
красного; и, наконец, та же широта взгляда большого худож-
ника, понимающего, что многие пути, а не один, ведут к со-
вершенству.
Фуртвенглер предстает человеком, одаренным философского
склада мышлением. Он подвергает глубокому анализу острые
и сложные проблемы современной музыкальной жизни. В част-
ности, в проницательном докладе «Музыкант и его публика»,
опубликованном в 1955 году посмертно, он определяет, во мно-
гом очень метко, причины, которые привели к возникшему раз-
рыву между «теперешними авангардистскими музыкантами» и
настоящей «широкой» публикой, и предвидит последствия этого
разрыва для судеб западноевропейской музыки.
Эпиграфом к советам, которые Равель давал пианисту Вла-
до Перльмютеру (он разучил всю равелевскую фортепианную
музыку под руководством композитора), могли бы послужить
слова французского композитора, сказанные по частному
поводу: «.. .очень мягко, ничего не подчеркивая». Равель многому
учит, но умеет избежать назойливой поучительности. Советует
то, что любит сам: подчиняться требованиям, поставленной пе-
ред собой задачи. Точные, порой афористические формулировки.
Целомудрие чувств и никаких преувеличений. Во всем — фран-
цузский дух; тонкий интеллектуализм, пластичность, незлоби-
вая и умная насмешливость, esprit caustique. Равелевские,
частные указания-намеки («/?, но напряженно»; «не искать вы-
разительности в каждой ноте»; «будь внимательнее, малыш,
ведь скончалась инфанта, а не павана» и т. п.) призваны
только к одному: расшевелить фантазию исполнителя и помочь
10*
275
ему самому доискаться до «правды», самому прийти к обобще-
ниям.
Лекции Шнабеля подтверждают старую истину: мудрые
люди — добрые люди. То тут, то там — блестки доброго юмора
и находчивости. Так и вспоминаешь историка В. Ключевского,
заметившего, что «самый дорогой дар природы — веселый, нас-
мешливый и добрый ум». Впрочем, Шнабель умеет негодовать
и возмущаться, особенно теми, кто в жизни или искусстве «про-
являет невероятные старания, чтобы словесными ухищрениями
прикрыть пустоту» (вып. 3, с. 117). Одна особенность его мыш-
ления представляется, на первый взгляд, парадоксальной: чем
наивнее, ординарнее, а иногда и попросту глупее вопрос неиску-
шенного студента, тем обычно глубже и проницательнее ответ
лектора-артиста.
В литературных работах Клемперера — лаконизм и воля.
Никаких излишеств, и даже для характеристики людей он при-
бегает не столько к описаниям и рассуждениям, сколько к из-
ложению фактов. О себе говорит крайне скупо. В основе
всего — подспудная мысль: правду, только правду; не хочу и не
буду уподобляться тем, кто расцвечивает события, кто вольно
или невольно их искажает; не стану донимать читателя своей
личностью...
И, наконец, Бруно Вальтер! Его книга настолько значитель-
ное литературное произведение, что заслуживает специального
рассмотрения вне рамок этой статьи. В «Теме с вариациями»
многое привлекает к себе внимание читателя. Но прежде
всего — личность автора: его скромность и искренность (даже
тогда, когда он рассказывает о своих триумфах или рисует
автопортрет), этичность и гражданственность, мужество и доб-
рота. Углубляется ли Вальтер в прошлое, описывает ли города
и страны, делает ли портретные зарисовки людей, с которыми
дружил или только встречался (редко найдешь упоминание
о человеке без его внешней и психологической характерис-
тики!),— обо всем этом он размышляет. Эти размышления так
интересны потому, что на протяжении всей своей жизни выдаю-
щийся артист, интенсивно и эмоционально остро все восприни-
мавший, умел видеть не только глазами, но умом и сердцем;
потому, что увиденное и услышанное стало чем-то его собствен-
ным, глубоко личным; наконец и потому, что он щедро тратил
душевные силы на живое общение с людьми и дружеские споры
(«когда высказывания, в противоположность „окончательности"
написанного, несут в себе... „благодать опровержимости”1). От-
рывок из великолепной рецензии Н. Стрельникова о концертах
Вальтера — дирижера в Ленинграде (1927 г.) очень точно пе-
редает и то общее впечатление, которое остается после прочте-
ния его литературного труда: «... Вся его художественная фи-
1 Вып. 4, с. 148.
276
зиономия слагается из замечательного равновесия всех момен-
тов исполнительства. Его исполнительский облик — продукт гар-
монического соединения строгой выдержки замысла с необы-
чайной теплотой и искренностью чувства... Он-—дирижер-поэт
и энтузиаст, отмеченный печатью своеобразной и необыкновенно
привлекательной, мягкой индивидуальности» (вып. 4, с. 358).
Итак, в каждом труде свои особенности, свои темы, своя
форма. Но отойдем от прочитанного на известную дистанцию.
Детали потеряют четкость, и — быть может, неожиданно для
нас самих — начнет вырисовываться сходство проблем, беспо-
коящих разных артистов, а порой единство их взглядов. Речь
идет, во-первых, о человеческом облике артиста, о характерных
особенностях исполнительского искусства и о деятельности кон-
цертанта в XX веке; во-вторых, о путях формирования исполни-
теля; в-третьих, о некоторых выразительных средствах интерпре-
тационного искусства. Это «общее» иногда проявляется явно,
иногда скрыто в подтексте и не может быть подтверждено пря-
мой цитатой, иногда проскальзывает в отдельных замечаниях
частного характера...
Когда-то актер Мих. Чехов писал: «Если бы художники всех
времен и народов воскресли и пожелали обменяться впечатле-
ниями прожитой жизни, очень возможно, что они не смогли бы
сговориться и понять один другого ни в чем, кроме одного
только... Это — одно понятное им, испытанное и пережитое
всеми одинаково, было бы не что иное, как желание творческой
деятельности, желание художественного самовыявления...»' Да,
это так! И артистов, авторов рецензируемых работ, в первую
очередь объединяет горячая эмоциональная отзывчивость на
искусство и страстная потребность проявить себя в нем, «влюб-
ленность» в музыку и в музыкальную творческую деятельность.
' Именно эту черту художника имеет в виду Д. Ойстрах во
вступительной статье к воспоминаниям Д. Энеску, когда пишет:
«...Но, главное, что буквально излучал Энеску,— это ог-
ромная радость общения с искусством» (вып. 2, стр. 6).
Таков, собственно говоря, подтекст всех опубликованных ра-
бот. В прямой же форме о решающей роли творческой страст-
ности говорит Шнабель, возмущавшийся тем, что в американ-
ской музыкальной жизни нередко насаждается шаблон, штамп
и мода, которые убивают в человеке способность «воспламе-
няться» и «хотеть». «Любовь,— пишет он,— должна быть от-
правной точкой, любовь к музыке. Это одно из самых твердых
моих убеждений: любовь всегда дает некоторое знание, тогда
как знание очень редко порождает что-либо подобное любви»
(вып. 3, с. 140). Отсюда — педагогические выводы, быть может,
1 М. Чехов. О системе К. С Станиславского. «Горн», 1919, № 2—3,
с. 72.
277
и не новые, но не так уже часто воплощаемые на практике:
«... Я старался .бы высвободить в ребенке творческий порыв и
настойчивость. Как можно больше возбудить в нем любовь
к тому, что его просят делать... Будь я диктатор, я изъял бы
из словаря термин «упражнение» и заменил его „музицирова-
нием“» (вып. 3, с. 178).
Личность артиста и его искусство — вот тема, которая при-
влекает к себе пристальное внимание музыкантов, представлен-
ных в отдельных выпусках рецензируемой серии. Тема эта ши-
рока и имеет множество аспектов. На страницах книг идет речь
о таких сторонах личности художника, как смелость, своеобра-
зие, широта кругозора, этичность (нередко и о взаимосвязи
этих черт); указывается на те опасности для индивидуальности
и деятельности артиста, которые несут с собой стандарт, рутина,
подчинение чужой указке, цинизм. Личность, по мысли выдаю-
щихся музыкантов,— нечто меняющееся и, в соответствующей
ситуации, обогащающееся; сила и своеобычие индивидуальности
проявляется в творческих поисках и преображениях. «От...
артиста,— говорит А. Шнабель,— мы ждем дальнейшего разви-
тия на протяжении его деятельности... Развитие означает из-
менение, прогресс» (вып. 3, с. 148).
Рассказывая об обстановке «подчинения» и «повиновения»,
насаждавшейся в былые годы чиновным руководством Берлин-
ской оперы, Бруно Вальтер останавливается на тех бедах, ко-
торые таились в этой бюрократической системе для личности
художника и для искусства. «Повиноваться обязывали ис-
кусство, или — чтобы не пользоваться слишком эфирной абст-
ракцией — артистов. Артистов можно было сделать подчинен-
ными и командовать ими посредством распоряжений, но как раз
не в той сфере, в которой им, собственно, надлежало действо-
вать: не в сфере служения искусству, потому что без свободы
искусство перестает быть искусством. Несмотря на всю види-
мость, даже если между дирижером и оркестром возникнут
взаимоотношения начальника и подчиненных, они не дадут ни-
каких художественных результатов: только повинуясь, ни
один гобоист не мог бы красиво сыграть свое соло — и его соб-
ственная душа должна придать музицированию очарование,
и на нее, свободную, должен воздействовать дирижер...»
(вып. 4, с. 134). Именно тогда, в Берлине, Бруно Вальтер при-
шел к выводу, которым руководствовался на протяжении всей
своей артистической жизни: «Я сказал себе, что при столкнове-
нии систем (бюрократических.— Л. Б.) и личностей шансы на
победу отдельного человека не так уж скудны; нет такой неудач-
ной системы, в рамках которой целеустремленная воля не доби-
лать бы удачного результата» (вып. 4, с. 136).
Выдающиеся дирижеры, пианисты, инструменталисты,— все
они во главу угла ставят художественную смелость, способность
артиста — будь он опытный мастер или формирующийся моло-
278
дой концертант — оставаться самим собой в своем искусстве
и во всей своей творческой деятельности. «Подражайте,— го-
ворил Равель своим ученикам,— и если, подражая, вы остане-
тесь самими собой, значит вам есть что сказать» (вып. 3, с. 50).
А Клемперер, тот в одной, почти афористической фразе высту-
пает с «программным заявлением» о роли смелости в жизни ху-
дожника: «Если хочешь стать дирижером, то, самое главное,
как мне кажется, не следует постоянно говорить да, а надо
при случае быть в состоянии сказать нет» (вып. 3, с. 216).
Ему вторит Шнабель, проявляющий резкую антипатию к той
манере исполнения, которую, пользуясь шахматной терминоло-
гией, можно было бы назвать игрой без риска, приводящей
к ничейному результату. Характеризуя своего талантливого
юного ученика, он пишет: «У него есть воображение и сме-
лость. Он экспериментирует и не страшится провала. В наше
время это довольно редкое качество. Смелость уступает место
погоне за безопасностью» (вып. 3, с. 147).
Эта смелость, которая меньше всего походит на проявление
необоснованного своеволия, неотделима от развития личности
в человеке. Конечно, бесстрашие мысли, решительность дей-
ствий и честность поведения артиста обусловлены многими фак-
торами. Среди них важнейшие — широта кругозора и культуры,
и об этом напомнил в статье о Бруно Вальтере Томас Манн,
приведя слова Бетховена (из письма к Гертелю): «Не сущест-
вует трактата, который для меня оказался бы слишком ученым.
Ни в малейшей степени не претендуя на собственную ученость,
я с детства, однако, стремился постигнуть идеи лучших и мудрых
людей каждой эпохи. Позор артисту, который не считает это
своей обязанностью, хотя бы в меру своих сил» (вып. 4, с. 10).
Широта духовной культуры — а она была (перефразирую
слова Т. Манна) не только «обязанностью», но и «любовью и
радостью» для всех представленных в сборниках художников —
нечто большее и высшее, чем эрудированность. Приобрести эту
культуру немыслимо без пытливости мысли, и без способности
проявлять ту дозу продуктивного критицизма, которая необхо-
дима для самоусовершенствования и поступательного движения.
Шнабель говорит об этом прямо и недвусмысленно. Вопросы,
заданные ему на лекциях, свидетельствовали, по его словам,
о том, что студенты усвоили веру в существование безопасного
пути к мудрости, «доверие к методам, книгам, правилам, кото-
рые приведут к разрешению проблем и все упорядочат». Во-
просы студентов указывали на их убежденность, что в жизни
и в искусстве имеется «одно решение, один тип опыта» (вып.
3, с. 156). Поколебать эту веру и эту убежденность — такова
была основная цель, к которой стремился Шнабель. На одной
из лекций он сказал, что не испытает разочарования, если бе-
седы его приведут к известному скептицизму мышления. Заклю-
чил же он занятия следующими словами: «Очень буду рад, если
279
мне удалось создать у вас впечатление, что во всем высказан-
ном в этих двенадцати лекциях есть одна ведущая идея, один
принцип и одна вера, а также одна доктрина. .. .Больше всего
мне хотелось... вдохновить вас в ваших стараниях приблизиться
к высшим ценностям и вдохнуть в вас веру в собственные спо-
собности к опытам и суждениям» (вып. 3, с. 188).
Но разве и в основе книги Бруно Вальтера (он назвал ее
«Тема с вариациями»!) не звучит одна родственная шнабелев-
ской тема? О самовоспитании художника, вышедшего из обыва-
тельской среды и сумевшего — благодаря таланту, этичности и
дару подвергать все, с чем он сталкивается, неиссушающему
анализу — широко раздвинуть свой кругозор и закалить волю
и характер. Интеллектуальная культура и ею вскормленная во-
левая стойкость позволили Бруно Вальтеру с первых же шагов
самостоятельной артистической деятельности противостоять
шаблону, филистерству, бездумному следованию обветшалым
традициям и откровенному пренебрежению к этическим нор-
мам. В этой связи в памяти всплывает самоуничижительный,
но в то же время полный внутреннего достоинства рассказ
Бруно Вальтера о его работе в Бреславльском оперном те-
атре, директор которого отличался-—да позволено будет такое
словосочетание — «воинствующим равнодушием», в то время
как в театре царили неряшливость, лень, цинизм и панибрат-
ство. Исповедь Бруно Вальтера заканчивается самобичующим,
но в конечном счете оказавшимся для автора плодотворным
аналитическим выводом: «Однако неужели я был только а р -
т и стом, неужели не должен был жить подлинной
жизнью? Разве не сливаются искусство и жизнь так, что
немыслимо разграничить их, и слабые стороны человеческого
характера становятся слабыми сторонами творческой индивиду-
альности?» (вып. 4, с. 118).
Но если немыслимо закалить молодого музыканта, не ставя
перед ним для самостоятельного разрешения трудных задач (на
которых он может порой и потерпеть неудачу), то правилен ли
столь знакомый путь исполнительской педагогики, создающей
тепличную атмосферу для воспитанников и убежденной в своем
всесилии непосредственно, «в лоб» сформировать артиста? Раз-
мышляют об этом многие авторы, и больше всех — Шнабель.
Его позиция определенна: педагог только и может, что открыть
перед учеником дверь; пройти же в нее тот должен сам. Вот
почему, в частности, работая с подвинутыми молодыми пианис-
тами, Шнабель поступал так, как Антон Рубинштейн с Гофма-
ном: не слушал пьесу больше, чем на одном уроке. «Они хотят
услышать мои критические соображения и совет. Ответствен-
ность за свою трактовку они берут на себя» (вып. 3, с. 150
курсив мой.— Л. Б.).1 Шнабель убежден, что причиной преуве-
1 Напомним в этой связи о письме, которое Никит написал рецензенту,
обвинившему его в том, что он участвовал в искажении великого произве-
280
личенного количества занятии с учениками является педагоги.
ческий пессимизм — неверие в их силы и в дх способность са-
мостоятельно развиваться и доводить до конца начатую ра-
боту. А может быть,— добавлю я — не только пессимизм, но и
страх, страх за свою репутацию?
Авторы рассматриваемых работ стремятся, опираясь на ар.
тистический опыт, определить принципиальные особенности ис-
полнительского искусства. Освещая проблемы с разных сторон,
они в конечном счете приходят к сходным выводам. В этом
смысле особенно примечательны статьи Фуртвенглера. QH де.
лает попытку наметить коренное психологическое различие
между трудом композитора и исполнителя и, основываясь на
этом, ответить на вопрос, в чем же таится решающая проблема
интерпретации. Композитор и исполнитель в своей творческой
работе идут в противоположных направлениях. Отправная точка
первого — «ничто, хаос; конец — получившее облик произве-
дение», к которому создатель его приходит в результате импро-
визационных поисков. Иное дело — исполнитель: «Он должен
идти назад, а не вперед... должен, наперекор движению жизни;
пробиваться от внешнего к внутреннему». Для него изначаль-
ное— вовсе не целостное произведение, а те детали, которые он
прочитывает в нотном тексте и пытается затем расставить в оп-
ределенной временной последовательности. То, что их объеди-
няло— «витающее над ними видение целого», исполнитель
нередко рассматривает «как нечто излишнее, чего доброго и во-
обще не существующее» (вып. 2, с. 170). Для того, чтобы уви-
деть (или точнее, услышать) «весь мир, в котором его созда-
тель разместил отдельные темы и мотивы», исполнитель-худож-
ник должен суметь пройти обратным курсом, то есть извне во
внутрь, весь «маршрут», которым следовал композитор, а по.
том... потом вернуться и повторить этот путь в том направлении,
в каком шел композитор в его импровизационных исканиях ор-
ганически целостного. «Что происходит при исполнении, при вос-
создании произведения, никто не выразил глубже и красивее>
чем Вагнер в легенде о ковке меча Зигфрида. Никакое свари-
вание отдельных частей — даже самыми умелыми кузнецами_________
не воссоединит разбитое вдребезги. Только из расплавленной
массы, как бы вернувшейся к первооснове, можно вылепить це-
лое, восстановить произведение в его первоначальном облике,
создать его действительно заново» (вып. 2, с. 171). Вот в чем
принципиальное отличие между большим артистом и «хорошим
исполнителем»: первый стремится органически воссоздать вто-
рой — с тем или другим умением и вкусом — пригнать и’ раз.
местить готовые детали!
дения, позволив молодому пианисту (им был Шнабель) играть слишком
медленно одну из частей Первого концерта Брамса. Никиш утверждал право
молодого музыканта играть по-своему, пусть и неправильно, и этим объяс-
нил причину, почему он не остановил Шнабеля (см. вып. 3, с. 156).
281
К тем же выводам приходят и другие выдающиеся музы-
канты, пусть их формулировки и не столь точны и образны, как
фуртвенглеровские. Так, Энеску как-то спросили: не кажется ли
ему, что, играя сонаты Брамса, он становится автором испол-
няемых произведений. По его словам, из осторожности и скром-
ности он не ответил так: «Да... всего пять минут назад я был
самим Брамсом...». Но поразмыслив, он пришел к выводу, что
вовсе «не святотатство — перевоплощаться в создателя шедевра,
смешивать себя с ним: напротив, это плодотворная иллюзия,
позволяющая лучше отождествить себя с волшебником, сми-
ренным интерпретатором которого ты являешься» (вып. 2,'с. 18).
Тут я позволю себе выйти за рамки статей сборников и по-
ставить вопрос: должно ли учить молодых исполнителей идти
по пути, намеченному Фуртвенглером? Или, сузив проблему
(а может быть, напротив, расширив ее), спросить: возможно ли
подвести ученика, начинающего обучаться музыке, к творче-
скому воссозданию исполняемой пьесы, пользуясь словами
Фуртвенглера, «из расплавленной массы»? Не эта ли проблема,
которая представляется недальновидным музыкантам утопич-
ной, должна стать сегодня одной из основных в музыкальной
педагогике? Здесь не место отвечать на этот вопрос. Но заду-
мываясь над ним, следует только напомнить, что все великие
исполнители прошли — во всяком случае в период формиро-
вания — через школу сочинения музыки, пусть и не все
стали композиторами. По мнению Шнабеля, обстоятельства
привели к «неудачному разделению» разных функций музы-
канта (см. вып. 3, с. 136), но еще «вполне возможен свежий
побег былой многосторонности» (вып. 3, с. 152). Каким будет
этот побег,— предсказать трудно. Но не к нему ли ведут по-
пытки педагогов разных стран включить в систему музыкального
воспитания обучение элементарному музыкальному твор-
честву? Не этот ли путь расширит, в частности, и число интер-
претаторов, которые сумеют «из расплавленной массы» воссоз-
дать монолитные музыкальные произведения?
Современная музыкальная жизнь принесла с собой множе-
ство новых проблем, больших и малых, которые оказывают воз-
действие на исполнительское искусство,.Отклики на эти острые
вопросы встречаются почти во всех рассматриваемых литератур-
ных работах. По-видимому, все авторы придерживаются пози-
ции Фуртвенглера: «ясное понимание действующих сил совре-
менности (речь идет о музыкальной культуре.— Л. Б.)—вот под-
линная задача сегодняшнего дня» (вып. 2, с. 172).
Одна из этих сил — звучание музыки в механической записи.
Все, все без исключения отдают этой форме существования му-
зыки должное, и никто не отрицает огромной роли, скажем, гра-
мофонных пластинок для широкой популяризации музыки. Но
вслед за этой констатацией начинаются сомнения и опасения, об-
ращается внимание на ту сложную и во многом противоречи-
282
вую ситуацию, к которой привела и еще может привести гегемо-
ния механической записи музыки.
Сначала возникает сравнительно узкий вопрос. Фуртвенглер
формулирует его так: «является ли музыка, воссозданная меха-
ническим путем, той же самой музыкой, которую ранее с живым
чувством исполняли живые музыканты?» (там же). Справед-
ливо отмечается ряд акустических искажений или, если угодно,
изменений (соотношение голосов, тембры, динамика), которые
наличествуют сегодня даже в самой лучшей записи и при самом
лучшем воспроизведении и которые сказываются не только в ча-
стностях, но в конечном итоге воздействуют и на целое. Мы пере-
стали улавливать это акустическое преображение музыки и «как
правило уже не осознаем, сколь по-иному звучат теперь на гра-
мофонных пластинках симфонии Бетховена по сравнению с тем,
как они звучали, когда их исполняли только живые оркестры»
(вып. 2, с. 173). Все это так, но нетрудно и возразить Фуртвенг-
леру: то, что невыполнимо средствами техники сегодня, будет,
вероятно, осуществлено завтра. Бруно Вальтер отдает себе в этом
отчет, правда, когда говорит о кино: «Придет ли время, когда
механическим путем запечатленные действия утратят привкус
содержимого консервной коробки? Большие таланты, занятые
открытиями в области кино и развитием этого искусства, сумеют
ответить нам» (вып. 4, с. 254).
Но главная причина, корень-то всех опасений и беспокойств —
не в акустических дефектах. «Привкус консервной банки» — не
столько технический, сколько психологический феномен. И основ-
ной вопрос сводится к различию между живым контактом ар-
тиста с внимающей ему аудиторией и совсем иной связью—пла-
стинки с единичным или единичными слушателями, пусть этих
слушателей и будет миллион. Если пластинки, магнитофонные
ленты и радио заменят живые контакты, то к чему придет кон-
цертная жизнь? Останется ли в ней надобность? Глен Гульд,
как известно, сделал крайний вывод — будущее принадлежит
только механической записи. Поэтому он прекратил или почти
прекратил открытую концертную деятельность.
Для авторов рецензируемых работ, написанных задолго до
высказываний Г. Гульда, подобная позиция совершенно непри-
емлема. Больше того, в их рассуждениях нередко слышен про-
тест против такого рода нигилистической точки зрения.
Шнабель, который долгие годы отказывался делать записи
для пластинок, говорит: «Ведь существует общение между
людьми, своеобразная «вибрация». На концерте взаимодейст-
вуют слушатели и исполнители, а когда звучит пластинка—при-
сутствуют только одно живое существо и один неодушевленный
предмет: стало быть, контакты, «вибрация» утрачены» (вып. 3,
стр. 167, курсив мой.— Л. Б.).
И Фуртвенглер делает акцент на ту же сторону дела: «Му-
зыка... прежде всего также и общее переживание; с общины она
283
началась, здесь получила смысл и цель... В их праздничной,
могучей возвышенности чувств они (значительные музыкальные
произведения.— Л. Б.) должны непосредственно восприниматься
человеческим сообществом». Музыка в механической записи и
музыка живая, имея разные задачи, не могут, пе смогут и не
должны заменять одна другую. «Неожиданное и чрезмерное раз-
витие механической музыки сбило нас с толку. Время внесет яс-
ность в эту проблему. И музыка — настоящая, подлинная — по-
степенно найдет путь к себе, вновь обретет ощущение самой
себя, которое она в угрожающей мере утратила» (вып. 2 с. 174,
курсив мой.— Л. Б.).
Таков же и прогноз Вальтера: «Сегодня, в эпоху радио, кино
и телефона, я продолжаю утверждать, что могущественная бо-
гиня Присутствия не будет свергнута с престола, что в музици-
ровании, в драматическом спектакле, в разговоре — так же, как
и в любви,— только личное присутствие создает климат, в кото-
ром душа согревается и возносится к вершинам полной Отдачи
и Восприятия» (вып. 4, с. 148, курсив мой.— Л. Б.).
Беспокойство вызывает и то обстоятельство, что механичес-
кая музыка начала постепенно оттеснять на задний план музи-
цирование, в особенности — домашнее, и, если не противопоста-
вить этому процессу повседневную и умную музыкально-воспи-
тательную работу, оно, музицирование, может быть сметено
мощным потоком музыки, передаваемой динамиками проигры-
вателей, магнитофонов, радиоприемников и транзисторов. Бруно
Вальтер неоднократно возвращается к тому, сколь важно обога-
щать жизнь музыкой, которую сам же «добываешь», и какое ис-
ключительное значение сыграло повседневное музицирование,
индивидуальное и коллективное, в его собственном становлении
как художника. И в лекциях Шнабеля звучит неизменный реф-
рен: «Боюсь, что надоем вам, повторяя этот наиважнейший
факт — домашнее музицирование еще не полностью сдалось
перед современным укладом жизни» (вып. 3, с. 89).
Широкое распространение механической музыки сказалось и
на самом характере игры многих современных артистов. Запись
музыки повлекла за собой требование играть технически безу-
пречно и точно, как это и нужно для пластинки, которая штам-
пуется большим тиражом и прокручивается неисчислимое число
раз. Никаких случайностей и неожиданностей! Прежде всего —
совершенство! Гегемония безупречности! По мнению Фуртвен-
глера, можно было предположить, что возникнет своеобразная
молчаливая борьба между характером живого исполнения и
характером «совершенной игры» для механической записи. Но
этого не случилось, и «живая музыка... все больше и больше
приспособляется к идеалам и тенденциям механической, даже
соревнуется с ней» (вып. 2, с. 173). Черты «пластиночного му-
зицирования» накладывают отпечаток на игру солистов и ор-
кестров и «перекочевывают» из студий в концертные залы.
284
Теперь уже критерием живого исполнения становится совершен-
ство, приглаженность, респектабельность. Но воспользуемся фор-
мулировкой Шнабеля — «совершенство исполнения и интерпре-
тация...— понятия далеко не идентичные» (вып. 3, с. 111). «Пла-
стиночная» сверхсовершенная игра лишает музыку жизненно-не-
посредственного характера, биения пульса живого сердца, тепла
и придает ей пресный вкус дистиллированной воды. И Энеску
полагает, что исполнительство в середине XX века живет «под
знаком совершенства». Но совершенство это всего лишь «чудо
искусственного холода», и оно противопоказано музыке, ибо «в
искусстве важно трепетать самому и вызывать трепет в других»
(вып. 2, с. 14).
Гипертрофия совершенства в игре, приводящая к пустоте в
интерпретации, и наоборот, пустота, проявляющая неимоверные
старания прикрыть свою наготу безупречностью исполнения,—
вот против чего направлены стрелы выдающихся современных
артистов.
Только ли «пластиночным музицированием» вызвана эта фе-
тишизация безупречности, безупречности ради нее самой? Нет,
конечно. Свою роль — и при том немаловажную — сыграла со-
временная «конкурсомания». Автору этих строк так много при-
ходилось писать об этом, что здесь он хотел бы безо всяких ком-
ментариев предоставить слово Шнабелю: «Не очень-то уверен в
их (состязаниях молодых музыкантов.— Л. Б.) пользе... Обста-
новка довольно обескураживающая, атмосфера настолько д е -
лов а я, что чувствительные натуры среди соревнующихся (а
какой молодой артист не бывает чувствительным!) просто не в
состоянии выявить свое дарование наилучшим образом. Более
того: я опасаюсь, что зачастую не все бывает справедливо на
этих конкурсах, раздутых теперь до ужасающих размеров...
Если бы велась статистика музыкальных конкурсов... то мы по-
лучили бы совершенно неожиданные сведения. Выяснилось бы,
что победители конкурсов редко достигали вершин, а наилуч-
шие из поколения лишь изредка находились в рядах соревную-
щихся». Шнабель соглашается с теми, кто утверждает, что побе-
дителями на конкурсах часто выходили «только те, кто был ме-
ханически надежен, а не те, кто обладал индивидуальностью
и воображением» (вып. 3, с. 149).
Фуртвенглер — и в данном случае только он — освещает
еще один вопрос: о влиянии композитора, с одной стороны, и ис-
полнителя, с другой, на «стиль интерпретации» (см. вып. 2,
с. 151—152). Напомнив, что в прошлые времена часто имела
место почти полная неразрывность творческого и исполнитель-
ского начал и что к тому же такие художники, как, скажем, Бах,
Гендель, Моцарт, Бетховен, Мендельсон, Шопен и Лист были
одновременно и величайшими исполнителями, Фуртвенглер
справедливо замечает: «композиторский гений осознанно или
бессознательно формировал исполнительский стиль эпохи». Это
285
воздействие творчества на искусство воспроизведения немецкий
дирижер прослеживает и в более поздние годы, опять таки с
полным основанием замечая, что музыка Брамса, Верди, Ваг-
нера, Рих. Штрауса, если называть отдельные имена, создавала
«стиль эпохи», и тогдашним артистам «оставалось лишь следо-
вать за творцами...» В наши же дни, по мнению Фуртвенглера,
положение коренным образом изменилось. Характерное для XX
века обращение к музыке далекого прошлого он рассматривает и
как результат слабости современной музыки, не находящей от-
клика у слушателей, и как расширение кругозора музыкантов,
прозревших и познавших глубокий смысл в произведениях дале-
ких времен. Так или иначе, но современное композиторское твор-
чество, по его мнению, не определяет музыкальный «стиль эпохи»,
не оказывает воздействие на «стиль интерпретации». И это накла-
дывает на плечи исполнителей, в частности и в особенности ди-
рижеров, груз небывалой ранее ответственности: теперь именно
им приходится самим создавать «стиль интерпретации».
Так ли это? Не могу согласиться с конечными выводами
Фуртвенглера. Та ультрамодернистская струя современной му-
зыки, которую он имеет в виду и которая потеряла внутреннюю
связь с прошлым и не находит отклика у слушателей, действи-
тельно не оказывает решающего влияния ни на «стиль эпохи»,
ни на «стиль интерпретации». Но прогрессивное композиторское
творчество наших дней и, если говорить о советской му-
зыке, то в первую очередь стиль таких наших композиторов-ти-
танов, как Прокофьева и Шостаковича, сказывался и сказыва-
ется в сильнейшей степени на «стиле интерпретации» наиболее
чутких дирижеров, пианистов, инструменталистов, певцов; отра-
жается и на их трактовке произведений прошлых времен. В рам-
ках статьи это серьезная проблема, нуждающаяся в глубокой
исследовательской разработке, не может быть развита. Но ос-
тавить без внимания ошибочную — в этом вопросе — позицию
Фуртвенглера не представлялось возможным.
Известная близость точек зрений выдающихся исполнителей
проявляется в подходе не только к общеэстетическим пробле-
мам исполнительства, но и к темам сравнительно более узкого ха-
рактера и, в частности, к выразительным средствам музыкаль-
но-исполнительского искусства.
Особое внимание уделяется временным моментам — метру,
ритму, темпу, их взаимосвязи и их взаимоотношению с другими
средствами выражения. Фуртвенглер — хотя он и подчерки-
вает, что говорит лишь о технике исполнения (в широком смы-
сле слова), а не об интерпретации — с большой проницатель-
ностью рассматривает вопрос о так называемой ритмической
точности, с одной стороны, и о живом ритме, музыкальной пла-
стичности и качестве звучности, с другой. Он обращает внима-
ние на то, что «певучая» (мы бы сказали,--интонационно-выра-
зительная) линия «нечто специфически совсем иное, чем просто
286
музыка, организованная лишь ритмически». В искусстве испол-
нителей невысокого ранга интонационная выразительность под-
меняется объединением опорных ритмических точек, и в своей
игре они лишь шествуют от одного столбика к другому. Но для
музыки, для ее живого течения такой путь ее воспроизведения
губителен, ибо мелос только тогда приобретает впечатляющую
силу, когда «то высвобождается из основного ритма, то снова
подчиняется ему» (вып. 2, с. 148). Конечно, в каждом случае
это происходит по-разному, но только взаимодействие и борьба
этих двух начал — организованности и свободы—способны при-
дать музыке жизненный характер и привести ее к «певучести»
в широком смысле слова. Имеются в виду не только те места,
где «музыка действительно льется легко обозримыми широкими
мелодиями», но и те «бесконечно многослойные образования»,
которые так часто встречаются в нашем искусстве от классики
и до современности.
Если это так и если к тому же на самую звучность, на ее
красоту и выразительность, оказывают воздействие, по мнению
Фуртвенглера, вовсе не опорные точки дирижерского жеста, а
самый взмах и его характер, то не должен ли дирижер и—
расширяю — любой исполнитель в очень многих случаях отка-
заться «от конечных пунктов каждого взмаха, от узлов, от за-
острений точек, похожих на телеграфные значки» и обратиться
лишь к «взмаху» и к его пластической выразительности? (см.
вып. 2, с. 150). Такой ритм, который кажется непросвещенному
любителю или музыканту, обученному лишь ритмической «точно-
сти», «неясным» и «неточным»,— и есть подлинный живой, гиб-
кий и пластичный ритм.
И Равель говорит о свободном и строгом владении музы-
кальным временем. Вот несколько примеров: «избегайте подчер-
кивания первой доли, это становится вульгарным»; «не замед-
лять— вовсе не значит играть с жесткой прямолинейностью»;
«...строгость не отвергает гибкости»; «гибкость движения... дости-
гается звучностью, но не замедлением» (вып. 3, с. 16). Анало-
гичны, к примеру, и суждения Мура: то он замечает, что «следует
пользоваться любым случаем, чтобы внести разнообразие в ритм
и движение, придавая исполнению больше жизни и блеска»
(вып. 2, с. 62); то напоминает о самом характере ритмического
движения — «покачивающийся рисунок аккомпанемента скорее
чувствуется, чем слышится» и «раскачивающийся ритм
(баркаролы.— Л. Б.) вовсе не ритм колыбельной» (там же, с. 70);
то говорит — правда, в исключительных случаях — о «жестком
ритме» (там же, с. 48); то привлекает внимание — и при том
часто — к выбору нужной пульсирующей единицы в песне; то со-
крушается по поводу безжалостно подгоняемого темпа, убива-
ющего «драматизм содержания» в «Лесном царе» Шуберта.
Было бы неверным рассматривать сказанное, как утвержде-
ние, будто живой исполнительский ритм Фуртвенглера, Равеля,
287
Мура или Энеску, Клемперера, Шнабеля и Вальтера был сходен
или одинаков. Ничуть не бывало! У каждого из артистов он от-
личался, конечно, индивидуальным своеобразием. Но их под-
ход к решению вопроса о воспроизведении временной жизни
музыки в очень многом совпадает.
Немало общего и в их взглядах на органическую связь целого
и деталей или, если сформулировать по-иному, на композици-
онно-смысловую стройность интерпретации. Обратимся, скажем,
к Муру. Поначалу может представиться, что детализация его ис-
полнительских указаний чрезмерна и может привести к раздроб-
ленности и размельченности песен, о которых он пишет. Но вот
с нотами в руках, сидя за роялем, вы перечитываете его, каза-
лось бы частные, ремарки. И порой, неожиданно для самого себя,
вы начинаете постигать интонационно-выразительную суть во-
кальной пьесы в ее внутренней структурной целостности. Что спо-
собствует этому? Наличие руководящей и все объединяющей
художественной идеи, одновременно и продуманной, и прочувст-
вованной. У Мура она вытекает из синтетического изучения поэти-
ческого словесного текста и выразительных средств его музы-
кального оформления. То, что английский пианист сказал по ча-
стному поводу, может охарактеризовать и его общую позицию:
«Каждая мастерски отшлифованная фраза лишь помогает
добиться единства впечатления» (вып. 2, с. 75).
Такова же, по сути дела, и точка зрения Бруно Вальтера: «Из
двух этих элементов — упорядоченности и возникновению на его
основе свободного потока исполнения, кажущегося импровиза-
ционным — состоит задача искусства интерпретации» (вып. 4,
с. 208). Но эта упорядоченность деталей, характер и степень ко-
торой у каждого артиста и в каждом произведении различны,
способна привести и к обратным результатам: живой и свобод-
ный поток музыки может иссякнуть. Пожалуй, больше других
этого опасается Фуртвенглер: «Только частности можно загото-
вить, рассчитать, «заспиртовать»; заключенное в самом себе це-
лое всегда содержит нечто несоизмеримое. Тот, для кого это не-
соизмеримое является главным, конечной целью, никогда не пере-
оценит репетиционную работу — при всем признании ее необ-
ходимости (вып. 2, с. 158—159).
Фуртвенглер связывает, таким образом, тему «единство и
детализация» с процессом и методом подготовки к воспроизведе-
нию музыки. В прямой или опосредованной форме вопрос этот
ставят многие из авторов рецензируемых работ, освещая его с
различных позиций. Исключительно важными представляются
в этом плане психологические наблюдения Бруно Вальтера. Он
привлек внимание к тому, что некоторые художники, обладаю-
щие великолепными профессиональными способностями, не до-
стигают подлинно высокого результата в искусстве... из-за своих
способностей: процесс созидания, будь то продуктивное или ре-
продуктивное творчество, представляется им столь несложным,
.288
что легкость достижения они принимают за уровень достижения.
Чрезмерная легкость творческого процесса обманчива и часто —
чаще, чем мы предполагаем — ведет к самоуспокоенности и са-
модовольной убежденности, что профессионализм сам по себе и
есть высокое искусство. Превратятся ли отличные способности
незрелого молодого человека в значительное плодоносящее
дарование, сумеет ли он со ступени легкомысленного умельца
подняться до уровня истинного художника,— во всем этом реша-
ющую роль играет большей частью одно обстоятельство, о кото-
ром пишут многие артисты: встречи и контакты с крупной, инте-
ресной и сильной личностью (будь то педагог, дальновидный
старший товарищ или проницательный и умный критик), кото-
рая открыла бы формирующемуся музыканту глаза на задачи и
подлинные трудности искусства. В жизни Бруно Вальтера и
Клемперера таким старшим наставником волею судеб оказался
Густав Малер. «Пример малеровского музицирования и репети-
рования,— пишет Бруно Вальтер,— углубил мое отношение к
собственным задачам. Теперь я уже не наслаждался легкостью,
а начал понимать, что дело в иных достижениях, но не в том,
что мне так легко давалось» (вып. 4, стр. 89).
Но с другой стороны, ни «каторжный труд» (если пользо-
ваться словами Энеску), ни «репетиции ad infinitum»1 (если при-
бегнуть к выражению Фуртвенглера), которые так милы, сердцу
посредственных дирижеров, вовсе не панацея от бед и не всегда
открывают путь к высоким художественным достижениям. На-
против, такая работа и такие методы подготовки к исполнению
могут в иных случаях снизить остроту эмоционального и интел-
лектуального восприятия, приучить довольствоваться ремеслен-
ным совершенством и увести от искусства. Сопоставление
рассуждений и точек зрения приводит, таким образом, к плодо-
творному выводу, который может быть передан французской по-
говоркой: les ektremes se touchent.1 2
Заключим или, если быть точнее, прервем на этом наши раз-
мышления над литературными работами зарубежных артистов.
Но не убоимся перепева: закрывая страницы сборников, мы ис-
пытываем чувство благодарности к Г. Эдельману, который дал
советскому читателю возможность ознакомиться с богатейшим
и интереснейшим материалом.
Журнал «Советская музыка», 1970, №, 5.
1 До бесконечности (лат.).
2 Крайности сходятся (фр).
289
ВЫДАЮЩИЕСЯ СОВЕТСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ-ПРОСВЕТИТЕЛИ >
Истоки советской музыкальной педагогики — в деятельности
тех музыкантов, которые в первое десятилетие после Великой
Октябрьской социалистической революции заложили основы на-
шего музыкального просветительства и общего музыкального об-
разования, чьи идеи питали и продолжают питать нашу музы-
кальную дидактику и практику. И здесь прежде всего надо на-
звать имена таких крупнейших музыкантов-просветителей как
Б. Яворский и Б. Асафьев. Их музыкально-воспитательные сис-
темы сложились в первой половине двадцатых годов, когда, по
образной характеристике одного из литераторов, «волна, подня-
тая величайшей из революций, еще дробилась о берег, еще слы-
шался ее раскат» (И. Рахтанов). Сама атмосфера тех лет, по-
иски нового в политической, социальной и культурной областях,
становление нового строя жизни и раскрепощение человеческой
личности — все это открывало простор для творческой инициа-
тивы. В «Обращении к гражданам России», с которым выступил
спустя несколько дней после революции Народный комиссар по
просвещению А. Луначарский, подчеркивалось значение, какое
должно было отныне играть не только «обучение», но и «образо-
вание» широких народных масс. «Обучение,— сказано в этом до-
кументе,— есть передача готовых знаний учителем ученику. О б-
разование же;есть творческий процесс. Всю жизнь
«образуется» личность человека, ширится, обогащается, усили-
вается и совершенствуется».1 2 В этом «образовании личности»
значительнейшая роль уделялась искусству.
Широкое просветительство, в том числе и музыкальное, впер-
вые в истории становилось общегосударственной заботой. Впер-
вые государство устами Луначарского заявляло, что в основе
всего обучения в школе должен быть положен «творческий актив-
ный метод», что предметы эстетического цикла — лепка, рисова-
ние, пение и музыка — отныне не являются в общеобразова-
тельной школе чем-то второстепенным и что «под эстетическим
воспитанием надо разуметь не преподавание какого-то упрощен-
ного искусства, а систематическое развитие органов чувств и
творческих способностей».3 А спустя несколько лет Н. Крупская
1 Статья представляет собой журнальный вариант доклада, прочитан-
ного на IX конференции ИСМЕ.
2 Обращение Народного комиссариата по просвещению от 29 октября
(ст. стиля) 1917 года к гражданам России. Сб. «Директивы ВКП(б) и по-
становления Советского правительства о народном образовании», т. I. М.—
Л., 1947, с. 11 (разрядка моя.— Л. Б.).
3 Основные принципы единой трудовой школы; декларация, подписанная
Народным комиссаром просвещения Луначарским 16 октября 1918 года.
В сб.: А. В. Луначарский о народном образовании. М., 1958, с. 525—526,
529 и 530.
290
заявила, что все занятия в школе должны быть,,по ее мнению,
пропитаны элементами искусства.1
И в дореволюционной России виднейшие музыкальные дея-
тели не раз выступали с заявлениями о важности и даже необ-
ходимости широкого музыкального воспитания детей. В виде
примера назову в этой связи имя основоположника русского
профессионального образования Антона Рубинштейна. Еще в
восьмидесятых годах прошлого века он выступил с проектом
внедрения музыкальных занятий во все без изъятия школы —
от народных и ремесленных до гимназий и кадетских корпусов.
Он мечтал даже о том, чтобы включить в учебный план общеоб-
разовательной школы кроме хорового пения, сольфеджио и эле-
ментов музыкальной грамоты, обязательное обучение всех детей
инструментальному музицированию.1 2 Разумеется, это была уто-
пия. Лучшие представители общей русской музыкальной педа-
гогики благодаря своему энтузиазму и настойчивости добива-
лись многого. Но путь к реализации их идеалов был открыт
только в послереволюционные годы, когда музыкально-эстетиче-
ское воспитание стало государственной задачей.
Жизнь тех лет и поставленные ею перед музыкантами новые
задачи потребовали таких педагогических методов, которые по-
зволили бы углубить музыкально-просветительскую работу и при-
общить к искусству широкий контингент учащихся. И, может
быть, потому, что здесь не было и не могло быть унаследован-
ных от дореволюционной практики устойчивых музыкально-
воспитательных традиций, поиски нового оказались особенно
плодотворными.
Вот в этой атмосфере педагогических поисков, экспериментов
и дискуссий оформились системы музыкального воспитания
Яворского и Асафьева. Как теоретики музыкальной педагогики
они сумели заглянуть далеко вперед: к их мыслям о музыкаль-
ном воспитании мы вновь и вновь возвращаемся; они были в чи-
сле первых, кто привлек внимание к роли детского и юношеского
музыкального сочинительства в массовом музыкальном обучении.
В основу их систем общего музыкального воспитания положена
была не только практика, но и новаторская музыкально-теоре-
тическая концепция: у Яворского — теория музыкального мышле-
ния (теория ладового ритма), у Асафьева — теория интонации.
Еще в предреволюционные годы Яворский задумывался над
тем, как развить у ученика творческое начало. В известной мере
здесь сказалось, вероятно, воздействие его учителя С. И. Тане-
ева, которому принадлежат знаменательные слова: «Надо ду-
мать, что эти (музыкальные.— Л. Б.) силы, заглушенные раб-
ством государственного гнета, усовершенствованиями цивилиза-
1 См. Н. Крупская. О воспитании и обучении. М., 1946, с. 100.
2 См. Л. Баренбойм. Антон Григорьевич Рубинштейн, т. II. Л., 1962,
с. 351—352.
291
ций, могут быть вызваны наружу и проявить себя... Не о том
надо заботиться, чтобы число людей, посредственно играющих на
фортепиано и портящих существование своими домашними заня-
тиями... было в несколько раз увеличено, а о том надо забо-
титься, чтобы дремлющие творческие силы нашего музы-
кального народа пробились наружу...»1 Что же до Яворского, то
еще в 1916 году он пишет две статьи «Первые проявления звуко-
вого творчества у детей» и «Непосредственное звуковое твор-
чество детей». В первой из них имеется вывод, который был уточ-
нен и практически развит в советское время: «.. .одной из самых
основных задач при воспитании ребенка является сохранение
за ним способности творить звуки, этими звуками выражать свои
жизненные потребности и жизнеощущения, так как творчество,
если оно потеряет свою непосредственность или заглохнет, не
поддается ни обучению, ни направлению».1 2
А вскоре после Октябрьской революции Яворский, руково-
дивший тогда музыкальными учебными заведениями страны, вы-
ступил с декларативным докладом, один из тезисов которого
гласил: «Необходимо ввести в программы всех отделений музы-
кальных школ элемент творчества. Не должно делать всех музы-
кантов композиторами, но необходимо, чтобы каждый музыкант
мог произвести на языке своего искусства хотя бы простейшее вы-
ражение своих мыслей... Элемент творчества должен
войти в программы всех курсов, везде школа должна
учить не только читать написанное, но и говорить свои собствен-
ные слова. Классы специального обучения исполнению должны
учить этому умению в плане мастерства исполнения, классы раз-
вития слуха и сознания — в плане обучения различным видам
построения формы, классы слушания музыки в плане умения
слушать не только мысли других, но и свои собственные музы-
кальные мысли».3
Я хотел бы подчеркнуть, что эти мысли были высказаны еще
в 1921 году и что уже тогда Яворский начал искать практические
приемы осуществления своих идей.
Разработанная им методика включала несколько тесно друг
с другом связанных форм работы.
Одна из них была направлена на активизацию музыкального
восприятия ребенка. На занятиях по «слушанию музыки» педа-
гог обращался к сопоставлениям с другой музыкой и с произве-
дениями других искусств; учил не только разбираться в общем
характере музыки, но и сосредоточенно следить за особеннос-
тями ее взаимосвязанных и взаимодополняющих выразительных
1 Г. Бернандт. С. И. Танеев. М.—Л., 1950, с. 196 (разрядка моя.—
Л. Б.).
г ЦММК, ф. 146 (Яворского), ед. хр. 339, л. 1.
3 Из истории советского музыкального образования. Сборник материалов
и документов 1917—1927. М.—Л., 1969, с. 44. (разрядка моя.— Л. Б.)-.
292
средств; обращался к жанровым и стилевым обобщениям. Дело
не ограничивалось одним лишь восприятием музыки, обсужде-
нием записываемых каждым учеником отдельно откликов на
прослушанное и объяснениями педагога. Путь был более широ-
ким: одно и то же произведение изучалось различными спосо-
бами— его пели хором, им дирижировали, его инсценировали...
А сверх того, стремясь развить мышление учащихся, особенно
учащихся старшего возраста, Яворский учил их отдавать себе
отчет в словах-терминах, которыми они оперируют. Так, на-
пример, на занятиях он разбирал с ними следующие группы по-
нятий: восприятие — ощущение — чувство — настроение — пере-
живание— эмоция — страсть — экстаз; или: привычка — тради-
ция — рутина — эволюция — преемственность — революция; или:
заимствование — подражание — копия-—стиль — манера — ма-
нерность и т. п.1
Все это сочеталось с воспроизведением музыки. И не только
с помощью хорового пения. Большую роль играл также детский
ударный оркестр, в состав которого входили безвысотные музы-
кальные инструменты (барабанчик, бубен, кастаньеты, треуголь-
ник) и мелодические ударные инструменты — разной величины и
высоты колокольчики. Каждый из участников хора и оркестра
выступал не только в роли дирижера, но и «оркестратора».
Важной стороной работы были уроки движения под музыку.
На этих занятиях активизировалось восприятие музыки и твор-
ческий моторный отклик на нее.
И, наконец, одной из главных задач педагога Яворский счи-
тал руководство творчеством, и при том не только музыкальным.
В его целостной методике эти занятия лишь условно могут быть
обособлены: они сплетались с другими, и в них как в фокусе
собирались и отражались результаты всего, что было сде-
лано. Творчество детей направлялось по разным руслам —ли-
тературному, изобразительному, театрально-драматическому и,
что особенно важно,— музыкальному. Широко распространен-
ная точка зрения об исключительной сложности и даже недо-
ступности музыкального сочинительства в детском возрасте
была поколеблена Яворским и его сотрудниками еще в начале
двадцатых годов.
Что же, по их мнению, могло побуждать детей к такого рода
сочинительству? Во-первых, сама музыка, глубокое проникнове-
ние в ее разнообразный мир: «научившись различать в общем
потоке звучания отдельные «музыкальные слова», «фразы», це-
лые «рассказы», ребята ощутили потребность самим «загово-
рить» на этом, теперь уже близком и понятном им «музыкальном
языке».1 Во-вторых, стихотворный и прозаический текст, его
1 См. Б. Яворский. Воспоминания, статьи, письма. Под общей редак-
цией Д. Шостаковича. Сост. и ред. И. С. Рабинович. М., 1964, с. 657.
293
смысл, звуковые краски и интонации (путь от речевого ритмо-
интонирования к ритмоинтонированию музыкальному); в-третьих,
доступные пониманию детей события общественной жизни;
в-четвертых, окружающий ребенка мир звуков — цокот копыт,
щебетанье птиц, стук падающих капель, выкрики голосов, звон
колоколов и т. п.; в-пятых, программно-иллюстративные за-
дания; в-шестых, ритмы движений, в том числе танцеваль-
ные. ..
Короче говоря, стимулами детского творчества служили и
окружающая ребенка жизнь, и сама музыка, которую он изу-
чал. Как тут не вспомнить известного стихотворения С. Мар-
шака:
Питает жизнь ключом своим искусство.
Другой такой же ключ — поэзия сама.
Иссяк один — в стихах не стало чувства.
Забыт другой — струна твоя нема.
«В процессе детского развития, — полагал Яворский и его
последователи,— все формы проявления творческой инициативы
чрезвычайно ценны. Но... особенно дорого музыкальное твор-
чество. Ибо ценность его не в самой «продукции», а в процессе
овладения музыкальной речью. Именно музыкальное творчество
яснее и показательнее других вскрывает процесс развития му-
зыкального мышления».1 2
Яворский считал, что только собственные поиски открывают
путь к творчеству и сотворчеству. В письме обучавшемуся на
скрипке он впечатляюще и вместе с тем «по-детски» сформули-
ровал эту мысль: «Думай, размышляй, ищи и мозгами, и ру-
ками и кистями рук, и смычком. Думай сам, ищи сам. Только
та пища будет питать тебя, которую ты сам разжуешь, сам
проглотишь и которую твой желудок переварит. Если это
будет проделывать твой сосед, а не ты, то тебе придется уме-
реть с голоду. То же и с игрой на скрипке,— будет играть
сосед».3
Еще в двадцатые годы педагоги, работавшие по системе
Яворского, пришли к выводу, что развитие музыкального мыш-
ления учащихся ведет к развитию их общего мышления и к их
нравственному совершенствованию. В эти годы на республикан-
ских и всесоюзных конференциях по музыкальному и общеэсте-
тическому воспитанию детей самим Яворским и его последова-
телями были прочитаны многочисленные доклады, которые ил-
1 Н. М. Гольденберг. Яворский и музыкальное воспитание детей.
Сб. Б. Яворский. Воспоминания, статьи, письма, с. 282.
2 Н. Гольденберг. Цит. статья, с. 287. Хотел бы здесь отметить, что
видный советский педагог Н. М. Гольденберг — одна из тех, кто особенно
успешно развивала в своей работе с детьми методику Яворского.
3 Б. Яворский. Воспоминания, статьи, письма, с. 456.
294
люстрировались специальными выставками детского творчества,
в том числе песнями и музыкальными пьесами.
Система Яворского вошла в практику стараниями его учени-
ков и последователей. Сам он, к сожалению, не изложил ее в
печати, и мы судим о ней по архивным материалам и по статьям
его сотрудников. Иное дело Асафьев: и он был в двадцатые годы
связан некоторое время с практикой музыкального воспита-
ния, но в отличие от Яворского тогда же обнародовал свои
взгляды на общее музыкальное воспитание в ряде ярких публи-
цистических и методических статей.
Даже тогда, когда обучаешь посредственного ученика, писал
Г. Нейгауз, не надо терять нз виду «вершин музыкальной ода-
ренности»: проникая «в механизм» (то есть в структуру музы-
кальности) крупнейших дарований, можно извлечь много полез-
ного для методики работы с учениками разных способностей.
По-видимому, Асафьев это понимал с давних лет и еще под
влиянием бесед со своим учителем Римским-Корсаковым1 на-
правил свое внимание на постижение слуха Глинки, иначе говоря,
на изучение природы и формирование активного творческого
слуха гениального музыканта. И когда в незавершенной работе
сороковых годов «Слух Глинки» мы читаем рассуждения Асафь-
ева о пассивном, ленивом, инертном слухе (который «способен
к порче или заражается привычками к случайным или отдель-
ным звукопятнам») и о слухе пытливом (который «сперва ин-
стинктивно, потом все сознательнее разбирается в лабиринте
слуховых ощущений и выбирает верный путь отбора, не зная
еще ни музыкальной этимологии, не синтаксиса»),— не возни-
кает сомнения, что в период работы над статьями двадцатых го-
дов он был уже обуреваем такого рода мыслями.
Асафьевская система музыкального воспитания отличается
от системы Яворского не в принципах своих, а скорее в акцентах,
деталях и некоторых практических приемах.
Асафьев говорил о трех разных и вместе с тем слитных
видах работы, способствующих развитию музыкально-творче-
ской инициативы.
Первый из них — «наблюдение» музыки, ее движения, ее
живой жизни. Остановишь ее, искусственно расчленишь, при-
клеешь ярлычки к ее увядшим составным частям, облепишь
словесной мишурой, проникнешься самодовольным удовлетворе-
нием, «понял я, мол ее» — смотришь, музыка-то уплыла, прелесть
ее поэтическая испарилась. Слова С. Маршака о пристальном
вглядывании в стихи могут быть отнесены и к музыке: «Произ-
ведение искусства не поддается скальпелю анализа. Рассеченное
на части, оно превращается в безжизненную и бесцветную
1 См. Б. Асафьев. Слух -Глинки. Избр. труды, т. I, М., 1952, с. 252.
295
ткань. Для того, чтобы понять, «что внутри», как выражаются
дети, нет никакой необходимости нарушать цельность художест-
венного произведения. Надо только поглубже вглядеться в него,
не давая воли рукам».1 Поглубже вслушаться, не давая воли
рукам — не это ли основа основ асафьевского метода? Внима-
ние слуха (сосредоточенное и чуткое!) с малых лет следует на-
правлять на то, чтобы «не упустить целого за мигом звучания»;
чтобы соотнести звучащий момент с тем, что ему предшествовало
и за ним последовало; чтобы уяснить разные степени тяготений,
обусловленные мелосом и гармонией; чтобы постичь тот «прин-
цип контраста и тождества», который проявляется в интонации и
темпе, в динамике и тембре, в гомофонии, и полифонии, в малых
ячейках и крупных построениях и является важнейшим факто-
ром формообразования в музыке. В разработанной Асафьевым
методике «слушания музыки» главное заключалось в том, чтобы
учащиеся постигли процессуальность нашего искусства.
Он следовал тому же принципу, что и Лев Толстой, утверждав-
ший, что в произведении искусства «мысль... теряет свой смысл,
страшно понижается, когда берется одна из того сцепле-
ния, в котором она находится» и что «нужны люди, которые
бы... постоянно руководили бы читателей в том бесконечном
лабиринте сцеплений в котором и состоит сущность искусства».1 2
Асафьев видел опасность, которая подстерегала педагога, «облег-
чающего» себе работу подтасовыванием под музыку програм-
мных аналогий — литературных и изобразительных. Но о"н вы-
ступал и против «излишнего музыкального пуризма», понимая
как важно в разумной дозе «окружить» музыкальное произве-
дение изучением общехудожественных, литературных, историко-
социальных и бытовых вопросов.3
Но одно лишь «наблюдение» музыки, сколь бы активным оно
ни было, недостаточно для творческого музыкального развития.
«Слушание музыки» должно совмещаться, по мысли Асафьева,
с практическими действиями — с ее воспроизведением (хоровым,
инструментально-ансамблевым) и сочинением.
Сочинению придавалось особое, чтобы не сказать, решаю-
щее значение. Обратив внимание на то, как «интересно и инто-
национно богато» пела в двадцатые годы не только школа, но
и улица, Асафьев все же сокрушался: «Создается впечатление,
будто мы живем в эпоху, когда музыкальный инстинкт масс
направлен на творчество в воспроизведении — на
экспрессию исполнения, а не на творческое изобретение». Весь
пыл своего публицистического дара Асафьев направил на то,
1 С. Маршак. Воспитание словом. М., 1964, с. 162.
2 Л. Толстой. Собр. соч. в 20 томах, т. 17, М., 1965, с. 433—
434 (разрядка моя.— Л. Б.).
3 См. Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и
образовании. М.—Л., 1965, с. 77.
296
чтобы доказать: без обращения к творчеству, детскому и юно-
шескому, без «вызова творческого инстинкта и воспитания
творческих навыков» музыкально-просветительская работа не
достигнет цели. И для культуры восприятия музыки сочинитель-
ство — огромное подспорье, ибо помогает глубже постичь и со-
держание, и процесс формообразования: «каждый, кто в каком-
либо из искусств сумел создать хоть крупицу своего, будет
чувствовать, любить и понимать это искусство глубже и органич-
нее как соучастник в строительстве».1
Асафьев не сомневался в том, что «педагоги-профессионалы»
закричат, завопят, подымут на смех его положения. Он пароди-
ровал их возражения. «Как, помилуйте, вызвать творчество? Без
теории композиции? Без правил? Без учебников и руководств»1 2
Развивая свои идеи, Асафьев писал: «...Разве певец, ведущий
подголосок в народном хоре и вызвавший одобрение слушателей
ловким «вывертом» голоса или изобретенным им тут же новым
вариантом подголоска, — не «инстинктивный» композитор?».3
По мнению Асафьева, музыкальное сочинительство детей
может протекать в той простейшей сфере ритмо-интонаций и
формообразования, которую в наши дни принято называть «эле-
ментарной музыкой». «Музыкальное творчество, — писал он, —
не проявляется только в сочинении «сложных музык», оно го-
раздо многообразнее и разветвленнее, чем кажется».4 Попутно
замечу, что Н. К. Крупская, не будучи музыкантом, в те же годы
высказывала аналогичные мысли: она писала, что изучение
музыки и танцев малокультурных народов способно, по ее мне-
нию, пролить свет на сущность этих искусств и, главное, «мо-
жет раскрыть перед нами совершенно новые подходы к худо-
жественному воспитанию детей».5
По Асафьеву, самый простой (но при этом очень важный!)
путь стимулирования творчества невозможно отделить от вос-
произведения уже знакомой или только разучиваемой музыки.
Имеются в виду приемы, присущие народному музицированию
и вообще музыке устной традиции: интенсификация напева при
помощи разнообразных и разнохарактерных подголосков, с од-
ной стороны, и варьирование (то есть колорирование и диминуи-
рование) основного мотива — с другой. Асафьев рекомендует
обращаться к сочинению верхних и нижних подголосков к пре-
вращению в отдельных случаях одноголосной мелодии в двух-
голосную, к внесению легкой фигурации и к аналогичным ком-
1 Б. Асафьев. Музыка в единой трудовой школе. Сб. «Из истории
советского музыкального образования», с. 126.
2 Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и об-
разовании, с. 98.
3 Там же, с. 72 (разрядка моя.— Л. Б.).
4 Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и
образовании с. 98.
5 Н. Крупская. О воспитании и обучении. М., 1946, с. 98.
297
позиционным приемам. Но он возражает против параллельных
второе, против дуэтов в терцию и сексту (такое музицирование
он расценивает как пассивный процесс, механизирующий твор-
ческое сознание).
И другой асафьевский метод может навести на творчество:
идти в сочинении мелодии от понравившегося детям текста
(в частности, стихотворного). Если в группе оказываются дети,
хоть немого играющие на каком-либо инструменте (от балалайки
и дудочки до фортепиано), то для иллюстрации изобрази-
тельных моментов или для простейшего аккомпанемента могут
быть использованы новые звуковые краски...
И в первом случае (сочинение подголосков и варьирование
основного мотива) и во втором случае (сочинение на заданный
текст) педагогическое руководство, по мысли Асафьева, может
осуществляться в разных формах и, в частности, в такой: дети
вовлекаются в мелодическую импровизацию педагога. В свои
молодые годы, идя этим путем, Асафьев сочинил в совместной
работе с детьми оперу «Золушка» (по сказке Перро).
Метод этот не нов и опирается на давние традиции русской
педагогики. Еще в 1862 году Лев Толстой писал, что, поставив
себе задачей обучить крестьянских детей литературному сочи-
нительству, он искал, пробовал и, в конце концов, напал, по его
словам, на «настоящий прием»: в присутствии ребят сам начал
писать на заданную тему, своими рассуждениями и вопросами
вовлекая их в работу и в критическое обсуждение того, что при
них же создавалось. Чему учил Толстой? «Механизму дела», ко-
торый, по его словам, сводился к пяти пунктам (к слову говоря,
весьма существенным и для музыкального сочинительства!):
«во-первых, из большого числа представляющихся мыслей и об-
разов выбрать одну; во-вторых, выбрать для нее слова и облечь
ее; в-третьих, запомнить ее и отыскать для нее место; в-четвер-
тых, в том, чтобы помня написанное, не повторяться, ничего не
пропускать и уметь соединять последующее с предыдущим; в-
пятых, наконец, в том, чтобы в одно время думать и записывать
и чтобы одно не мешало другому».1 Поручая детям осу-
ществлять то один, то несколько из этих пунктов, а остальные
выполняя сам, Толстой высвобождал ребячьи творческие порывы.
Добился он многого: вызвав к ,жизни инициативу своих пи-
томцев, он раскрыл им «новый мир наслаждений и страданий —
мир искусства». По справедливому мнению Б. Теплова, этот ус-
пех не может быть объяснен только тем, что в роли учителя вы-
ступал великий художник. Дело — в педагогическом принципе,
который в той же школе был с успехом реализован и учите-
лем рисования.
К толстовскому педагогическому принципу в советские годы
привлек внимание ряд наших педагогов и психологов: первым —
1 Л.-То л стой. Поли. собр. соч., т. 8. М., 1936, с. 323—324.
298
С. Шацкий (считавший, что «этот метод годится почти для
всякой работы с детьми»1), затем психологи Л. Выготский и
Б. Теплов. В практике специального и общего музыкального
обучения многие педагоги школ и консерваторий обращаются к
такого рода совместным творческим исканиям, к вовлечению
в творчество. Такого рода «психологический толчок» педагога,
стремящегося вызвать к жизни творческие силы других и умею-
щего надувать ветром чужие паруса, — великое дело! Из совет-
ских педагогов самого старшего поколения назову в этой связи
Ф. М. Блуменфельда. Сидя за вторым роялем, он искал, пробо-
вал, и его немногословные реплики, исполнительские варианты
и музыкальные сопоставления возбуждали творческую фанта-
зию молодых людей...
Но вернемся к Асафьеву. Опыт убедил его в реальности и
плодотворности идеи о «музыкально-творческой самодеятельно-
сти» детей и взрослых. И не столько личный, сколько изучение
практики других: «.. .Я следил... за попытками вызвать му-
зыкальное творчество у детей (например, в занятиях, руководи-
мых Н. Я. Брюсовой), — наблюдал также за проявлениями му-
зыкально-сочинительного дара у взрослых (не профессионалов)...
Теперь я уже твердо уверен в правильности моей мысли, потому
что... познакомился с композиционно-лабораторным классом,
руководимым композитором М. Ф. Гнесиным, в котором как раз
осуществлялся опыт продукции музыки людьми, не знающими
теории композиции, опыт, который мне представляется воз-
можным распространить и за пределы профессионально-музы-
кальных школ».1 2
В двадцатые годы наряду с деятельностью Яворского и
Асафьева протекала практическая работа ряда других крупных
педагогов, оставивших заметный след в истории нашей музы-
кальной педагогики. Некоторые из них развивали на практике
идеи Яворского и Асафьева; другие, в частности Н. Брюсова и
С. Шацкий, проводили свои методические принципы.
Н. Брюсова принадлежала к числу тех, кто осуществлял в
своем лице непосредственную связь между русской дореволю-
ционной и советской музыкально-просветительской практикой.
Вместе с Танеевым, Яворским, Гольденвейзером, Игумновым и
другими музыкантами она основала после революции 1905 года
Московскую народную консерваторию, новаторская деятель-
ность которой сосредоточилась в классах общего музыкального
образования и которая в известном смысле продолжила давние
традиции «Бесплатной музыкальной школы» Балакирева и Ло-
макина. Эти дореволюционные начинания, по словам Брюсовой,
1 С. Ш а ц к и й. Педагогические сочинения, т. 3. М., 1964, с. 222.
2 Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и об-
разовании, с. 80.
299
явились «в какой-то мере опорной точкой, от которой можно
было строить новые методы...»1
По инициативе и при непосредственном участии Брюсовой,
которая вела широкую музыкально-просветительскую работу, и
была одним из энтузиастов массового музыкального образова-
ния (одно время она возглавляла Отдел общего музыкального
образования Наркомпроса) разрабатывались конкретные методы
этой работы, программы, учебные пособия. Она была в числе
тех, кто руководил работой по музыкальному сочинительству
детей, ратовал за обращение к народной музыке на всех видах
музыкальных занятий и кто, наконец, боролся за то, чтобы обу-
чение музыкальной грамоте проводилось не абстрактно, а на
основе собственного живого музыкального опыта учащихся и
хорового пения.
И деятельность С. Т. Шацкого, талантливого педагога-рефор-
матора, связывала дореволюционную и советскую педагогику.
Хотя он и получил музыкальное образование (одно время даже
возглавлял Московскую консерваторию), но работа его, практи-
ческая и теоретическая, протекала прежде всего в области об-
щей педагогики. После революции 1905 года он выступил с ло-
зунгом вернуть детям рабочих и крестьян детство, которого они
были лишены. Из созданных им в рабочих районах Москвы клу-
бов для детей и подростков выросла в 1911 году в сельской мест-
ности летняя трудовая колония «Бодрая жизнь», в которой
сделана была попытка создать условия для эстетического вос-
питания детей и развития их творческих способностей. После
Октябрьской революции «Бодрая жизнь» стала постоянно дей-
ствующей колонией, вокруг которой Шацкий объединил ряд на-
чальных школ района. С самого начала в «Бодрой жизни» ог-
ромное внимание уделялось музыкальной работе, которую •ча-
стично проводил сам Шацкий, но, главным образом, его жена —
видный деятель нашей музыкальной педагогики В. Шацкая.
Эта огромного размаха работа осуществлялась в разных
формах: всех детей учили «вслушиваться» в музыку и в ее эле-
менты; вели занятия по хоровому пению и ритмике; обучали
значительную часть учащихся инструментальному музицирова-
нию. Очень большое место занимала внешкольная работа: теат-
рализованные представления с музыкальными иллюстрациями и
участием хора, импровизации, «совершенно свободная игра в
творчество» и многое другое. Не только педагоги, но, что осо-
бенно важно, сами дети вели музыкально-просветительскую ра-
боту среди крестьянского населения. При этом велась большая
научно-исследовательская работа: тщательно изучались и обоб-
щались методы педагогического воздействия на детей («воспи-
танию эмоций» и «изучению ребенка» Шацкий уделял большое
1 Н. Брюсова. Массовая музыкально-просветительская работа в пер-
вые годы после Октября. «Сов. Музыка», 1947, № 6, с. 48.
300
внимание!); с помощью анкет, наблюдений за реакцией аудито-
рии, учета распространения песен и другими методами исследо-
вался музыкальный вкус детей и проверялись их музыкальные
интересы.
Идеи и практика Яворского и Асафьева, с одной стороны, и
практическая деятельность ряда наших педагогов самого стар-
шего поколения (Н. А. Брюсовой, С. Т. Шацкого, В. Н. Шацкой,
Н. М. Гольденберг, Н. А. Гродзенской, М. А. Румер и многих
других), с другой, сказались на всем ходе развития нашей мас-
совой музыкальной педагогики. История ее (как, впрочем, и все-
общая история музыкальной педагогики) еще не написана и ждет
своих исследователей. Но если взглянуть с птичьего полета, не-
трудно разглядеть отдельные тенденции, характерные для ее
пути.
Советская музыкальная педагогика всегда ратовала за мас-
совость музыкального просветительства и за обучение музыке
всех, всех без исключения детей. Она направляла удары против
тех, кто был глух к музыке и не способен понять ее роль в идей-
ном, нравственном и эстетическом воспитании. В достижении
этой массовости огромную роль сыграла внешкольная музы-
кальная работа, принявшая в нашей стране широчайший раз-
мах. Дорогу к ней проложили многие наши деятели и, в первую
очередь, Шацкий с предложенными им формами просветитель-
ства среди детей и подростков.
Советская музыкальная педагогика всегда выступала против
попыток механически переносить методы профессионального му-
зыкального обучения на общее и одновременно вела борьбу
(это относится главным образом к профессиональному обучению,
но в известной мере и к общему музыкальному воспитанию)
против ограничивающей умственный кругозор фетишизации ре-
месла (именно фетишизации, ибо владение ремеслом необхо-
димо!), против тех, кто не хотел видеть различия между внешне
столь схожими формулами: «набить руку» и «развить руку». И
здесь раздавался голос Б. Асафьева. «Увы, — писал он в 1945
году, — среди педагогов музыки еще имеются люди, рассматри-
вающие свою задачу только как обучение навыкам ремесла...
Хочется крикнуть таким учителям музыки: почитайте статьи по
вопросам музыкального образования такого наичестнейшего и
принципиальнейшего профессионала, каким был Римский-Кор-
саков, и не путайте мудрый профессионализм с черствым замы-
канием в узкие рамки ремесла».1
Советская музыкальная педагогика всегда отстаивала мысль
о теснейшей взаимосвязи общего и специального развития. На-
помню в этой связи характерный пример, о котором мне дове-
лось уже однажды писать. Выдающийся русский математик
1 Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и об-
разовании, с. 141.
301
И. Чебышев утверждал, что учительница музыки «более всех
иных учителей» способствовала формированию его как ученого.
Каким образом? По-видимому, обучая музыке, она сознательно
или интуитивно воспитывала в будущем математике творческие
способности. Пусть ребенок и не станет музыкантом. Но воспи-
танная на занятиях творческая инициатива, возникшее желание
привносить в труд нечто свое, пережитая творческая радость
проявляется на всей его будущей деятельности — рабочего или
инженера, ученого или скульптора, педагога или врача. Не только
общее развитие сказывается на специальном, но и наоборот:
специальное творческое развитие на общем. Б. Асафьев писал
в свое время, что «пожалуй, никакое другое искусство не в со-
стоянии содействовать этому направлению развития (речь шла
о развитии инициативы, находчивости, критического отношения
и организаторских способностей. —Л. Б.) в такой сильной сте-
пени, как музыка, именно благодаря своеобразию ее ритмо-инто-
национной организации».1
Наконец, советская музыкальная педагогика неизменно ука-
зывала на необходимость развивать в учащихся творческое на-
чало, способствовать их творческой деятельности в процессе
обучения.1 2 Лучшие наши педагоги никогда при этом не забы-
вали, что методика формирования и стимулирования музыкаль-
ного творчества и сотворчества на любом возрастном уровне
включает в себя две диалектически друг с другом связанные
тенденции (но не этапа!): одна из них — усвоение норм, типов
творчества, структур и их вариантов, другая — создание си-
туаций для преодоления инерции, для творческих неожидан-
ностей.
В заключении напомню, что между теоретическими принци-
пами и практикой выдающихся педагогов, с одной стороны, и
широким педагогическим обиходом, с другой, нередко возникает
разрыв. Если говорить в этой связи о массовом обучении в
общеобразовательной школе, то сложившееся здесь положение
.нас не удовлетворяет. Но я верю в справедливость слов Г. Ней-
гауза, сказавшего: «Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и
то, как это сделать».
Справедливыми представляются мне поэтому крылатые слова,
выражающие на разных языках одну и ту же мысль: по-рус-
ски мы говорим «хотеть — значит мочь», по-немецки — «man
kann was man will», по-французки —«vouloir c’est pouvoir»
Журнал «Советская музыка», 1970, № 12.
1 Б. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образо-
вании, с. 57.
2 Слово «творчество» здесь применено в его широком значении: творче-
ство заключается не только в создании нового «продукта», чего-то ранее не
существовавшего, но и в преобразовании уже известного и знакомого, в по-
исках и нахождении в нем новых сторон, свойств и взаимосвязей, в гибком
и нешаблонном оперировании материалом.
302
ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ XX ВЕКА
(после IX конференции ИСМЕ)
Облик IX Московской конференции ИСМЕ, одной из самых
представительных в истории этой международной организации
определили три момента: доклады о музыкально-педагогических
проблемах, прочитанные на пленарных и секционных заседа-
ниях; дискуссия за «круглым столом композиторов» о музы-
кальном творчестве для детей; концертные выступления детских
и юношеских коллективов разных стран. В статье речь пойдет
только об одном — о прочитанных докладах.
Генеральная тема конференции-—«Роль музыки в жизни
детей, юношества и молодежи» — позволила охватить широкий
и разнообразный круг вопросов. Доклады — а их было свыше
восьмидесяти — были весьма разнохарактерны. Это обусловлено
было идейно-эстетической позицией выступавших, национальными
особенностями той или иной музыкально-педагогической куль-
туры, самой тематикой сообщений и, разумеется, индивидуаль-
ными качествами ораторов. Одни — касались широких и осново-
полагающих проблем, анализировали традиции и заглядывали
в будущее; другие — ограничивались сведениями о музыкальном
воспитании, любительском музицировании молодежи и профес-
сиональном музыкальном обучении в той или иной стране (све-
дениями полезными и поучительными: музыкальная педагогика
не имеет пока оснований жаловаться на «перегрузку информа-
цией») ; третьи обращались к частным методическим вопросам
музыкального воспитания и обучения дошкольников, школьников,
подростков и молодых людей; четвертые — говорили о путях
исследования музыкально-педагогических проблем...
Дать последовательный критический обзор этого множества
сообщений — все одно, что объять необъятное: пришлось бы
рассказать о французском докладе, посвященном изготовле-
нию самими детьми бамбуковых блокфлейт и музицированию
на них; об японском методе коллективного обучения на клавиш-
ных инструментах; об изучении в Австралии истории bel canto
и характерных особенностей этого метода пения; о сделанном
австрийским ученым критическом сопоставлении путей подго-
товки педагогов игры на музыкальных инструментах и пения
в ряде европейских стран; об аналитических сообщениях, по-
священных детскому и юношескому музицированию; о са-
мих системах музыкального воспитания и обучения в ряде
стран; о дискуссиях по музыкально-педагогическим вопросам,
проходивших в последние десятилетия в США; о блестящих до-
стижениях в сфере музыкального воспитания Венгерской На-
родной Республики; о государственной системе музыкального
воспитания и обучения, сложившейся после Великой Октябрь-
303
ской революции в нашей стране, об ее идейных основах и тра-
дициях. ..
Путь осмысления всего того, о чем говорилось, должен быть
иным — обобщающим: следует привлечь внимание к тем веду-
щим тенденциям, которые, судя по материалам конференции,
находятся сегодня в центре внимания музыкальной педагогики.
Профессор Эдмунд Сайклер (США) в интересном сообщении
предложил делегатам пофантазировать, представить себеXXXIII
конференцию ИСМЕ в 2000 году и содержание доклада, подво-
дящего итоги развития музыкальной педагогики в прошедшем
веке. По мнению Сайклера, в докладе будет выделена одна
ведущая тенденция — творческое музицирование, как метод вос-
питания. Готов с ним согласиться с той лишь оговоркой, что
воображаемый докладчик обратит внимание и на ряд других
тенденций. На какие именно? Об этом и пойдет речь.
О ГАРМОНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Важнейшая тенденция передовой музыкальной педагогики
нашего времени, во многом определяющая ее методы, может быть
охарактеризована как стремление достичь—совместно с общей
педагогикой — гармонического воспитания единства человече-
ской личности, добиться равновесия «рассудочного» и душевного.
В воспитательной работе, преследующей подобную цель, не только
музыканты, но и деятели других областей культуры уделяют
эстетическому началу, в частности музыкальному, огромную
роль.
Формы и решения (и сама возможность решения!) этой
широкой проблемы в разных странах—разные, что обусловлено
прежде всего социальными моментами.
Конечно же, проблема эта давняя и обращались к ней уже
в глубоком прошлом. Вспоминали в этой связи Аристотеля
и Платона, Шекспира и Блока.
Е. Гембицкая (СССР), обратившись к послеоктябрьским
годам, привела слова А. Луначарского: «Будь вы сапожник или
профессор химии, если у вас закрыта душа к любому искусству,
значит вы урод, такой же, как если бы у вас не было одного
глаза, или если бы вы были глухи». Д. Кабалевский, выражая
мнение современной советской музыкальной педагогики, говорил,
что «главной задачей массового музыкального воспитания...
является... не столько обучение музыке само по себе, сколько
воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся,
прежде всего на их нравственность».
Не только музыканты, художники, актеры, литераторы, но
и математики, физики, химики, естествоиспытатели призывают
обратить внимание на роль душевного, эмоционального фактора
в формировании ребенка или юноши, независимо от того кем ему
304
суждено стать —ученым или рабочим, художником или служа-
щим.
Выйдем ненадолго за рамки конференции и вспомним опубли-
кованные несколько лет тому назад заметки о развитии совре-
менной науки известного советского физика Е. Фейнберга. Среди
многого другого автор статьи обращается к вопросу: что привле-
кает современную молодежь к точным наукам? Ответ гласит:
постижение истины и творчество, смелость, фантазия и ясность
мысли, правдивость, красота и дух борьбы. «... В перечислении...
не было одного, — того, что учено называется этикой, а попро-
сту— совестью... Наука внутри себя не содержит этического
критерия». Фетишизация логического мышления способна при-
вести молодежь «к пренебрежению этическим элементом, кото-
рому нет необходимого, естественного места в научной системе».
Развив затем мысль о том, что научное творчество в определен-
ном смысле сродни художественному, ученый приходит к выводу:
«Сейчас нет никакой опасности, что молодежь отвернется от
науки. Есть, однако опасность, что она гиперболизирует значение
науки и отвернется от искусства или принизит его до роли укра-
шателя жизни. Поэтому роль искусства и литературы сейчас
особенно важна».-
Я вовсе не отвлекся от темы, обратившись к заметкам
Е. Фейнберга: они подводят нас к исключительно важному и инте-
ресному докладу математика Г. Суворова ««Общность функций
искусства и науки в процессе образования и воспитания детей и
юношества». «Конечно,— говорил Г. Суворов,— науке доступно
все в принципе, но доступно в порядке строгой постепенности ее
развития. От того что науке сегодня совершенно недоступно, она,
пусть временно, но отворачивается, а человек живет в открытом
мире. И если он замкнется только в его научно осмысленной ча-
сти, то он растеряет все человеческое. Опасность не в том, что
машины начнут думать, как человек, а в том, что человек станет
думать, как машина».
Сужение эмоциональной сферы неизбежно отразится и на
самом научном мышлении и может привести к его полному
вырождению: «мотор работает, но не думает». Разумеется, столь
же пагубна и гипертрофия эмоционального, которая «порождает
чудовищ».
Отсюда — педагогический вывод: в самом воспитании ре-
бенка и молодого человека необходимо соблюсти стройное согла-
сие ума. и чувства. Если в былые времена в центре внимания
воспитателей находилось все то, что связано с гуманитарной
культурой, то в нынешние — произошел явный сдвиг к тем сто-
ронам культуры, стержнем которых является математика. Повы-
шенный интерес к точным наукам оказался неизбежным и пред-
определенным рядом обстоятельств. Но этот сдвиг не должен
1 Е. Фейнберг. Обыкновенное и необыкновенное. «Новый мир», 1965,
№ 8, с. 228 и 229.
И Заказ № 1730 305
превращаться в крен. И это налагает огромную ответственность
как на «гуманитариев», так и на естественников: сообща дол-
жны они выправить положение и не допустить перекоса, кото-
рый уже начал приводить, а в дальнейшем приведет еще
в большей степени к «появлению признаков эмоционального
оскудения молодежи». «Конечно, — добавляет Г. Суворов (и эти
слова его следует подчеркнуть), — без нужных социальных
условий задачи не решить вообще. Но и при полном социальном
благополучии опасность сохраняется».
В образовании детей и юношества точные науки (в частно-
сти, математика) и искусства (в частности, музыка) взаимо-
дополняют, а не взаимоисключают друг друга. Параллели
между математикой и музыкой (им было уделено много вни-
мания в докладе советского математика) опираются прежде
всего на ту общность логического и эмоционального, кото-
рая — в разных формах, разных степенях и по разному опосре-
дованная — наличествует в любом, пусть самом элементарном,
математическом и музыкальном творчестве (хотя в себе самой
математика ^предельно точна, лишена какой-либо эмоцио-
нальности и обращена исключительно к теоретическому мыш-
лению») .
Конечно, в математике имеет место максимальная смысло-
вая информация, в музыке — эмоциональная. И в этом смысле
они полярны. Полярными представляются они и при догмати-
ческом их изучении. При созидательном же — они схожи:
максимальная творческая активность теоретического мышления
математика совершенно исключена «без параллельного разви-
тия эмоциональности»; у музыканта — «максимальное развитие
творческих способностей к эмоциональному» немыслимо без
одновременного развития способностей к теоретическому мышле-
нию и дисциплины мысли.
Эти рассуждения привели советского ученого к двум взаи-
мосвязанным выводам.
Первый из них гласит: «... музыкальное воспитание не может
происходить на основе исключительно эмоционального, а мате-
матическое—на основе только рассудочного. Конечно, учить
математика нужно больше математике, чем музыке, а музы-
канта наоборот, но уменьшать норму того и другого в воспи-
тании (эта норма всегда индивидуальна) можно только до
известных пределов, ибо переход предела будет иметь след-
ствием неуспех».
Второй вывод носит более широкий характер и совпадает
с приводившимся уже заключением Е. Фейнберга: «Только искус-
ство, дополняя науки естественные и гуманитарные, проецируя
весь мир человека, только оно и может сообщить целостность
восприятия мира современному человеку. Искусству замены нет.
Функции гуманитарной части образования, включая искусство,
должны расти, если человечество желает сохранить здоровье...»
306
По двум причинам я остановился с известной подробностью
на докладе Г. Суворова: во-первых, потому, что в нем точно
и вместе с тем темпераментно сформулированы основополагаю-
щие общие педагогические принципы, столь важные для эсте-
тического воспитания, и, во-вторых, потому, что дифирамб
в честь музыкального воспитания произнес не музыкант, а пред-
ставитель точных наук.
Но и голоса музыкантов, хотя бы некоторых, должны быть
услышаны. 7
Голос Эдгара Виллемса (Швейцария), развивавшего тезис
о гармоническом воспитании, при котором «разные способности
взаимно укрепляют одна другую, а не противоречат друг другу,
как это часто имеет место в интеллектуальном противоестествен-
ном обучении».
Голос аргентинского музыканта Рут Фридман, сетовавшей
на то, что «становление разносторонней личности человека ско-
вано окружающим его миром, в котором все определяется потре-
бительскими товарами», и убежденной, что накопление знаний
без одновременного развития интеллекта, инициативы, вообра-
жения и творческого начала «затормаживает развитие личности».
Голос Флоренс Кэйлор (США), понявшей, что гармоническое
развитие интеллектуальных и эмоциональных сторон личности
неразрывно связано с решением социальных проблем. Она выска-
зала свою солидарность с известной негритянской певицей
и общественной деятельницей Дороти Мейнор, которая в 1967
году покинула симпозиум американских педагогов в Тэнглвуде
до его окончания («Тэнглвуд размышлял, когда горели Нью-Арк
и Детройт»), осознав, что «никакие эстетические теории не имеют
никакой ценности до тех пор, пока не решены проблемы, нанося-
щие ущерб нашим районам бедноты».
Наконец, голос венгерского композитора и педагога Табора
Шарой: «Мы не можем представить себе, что .. .назначение чело-
века будущего будет заключаться лишь в правильном обращении
с компьютерами. Важнейшее противоядие против этой опасно-
сти — искусство... Я считаю искусство музыки наиболее подхо-
дящим для формирования полноценного человека... Ни одно
искусство не побуждает пас в такой мере к познанию других
видов искусств, как музыка. Самое первозданное средство худо-
жественного выражения человека и человеческого сообщества —
это музыка, песня». В устах представителя Венгрии слова эти
прозвучали особенно убедительно: ведь именно в этой стране,
благодаря социальному переустройству общества, деятельности
таких гениальных музыкантов, как Барток и Кодай, благодаря,
наконец, тому, что «политическое руководство страны... приняло
на вооружение концепцию музыкального воспитания Кодая» —
массовое музыкальное образование дало поразительные резуль-
таты и наглядно доказало свою плодотворную роль в формиро-
вании цельной человеческой личности.
11*
307
О ВСЕОБЩЕМ МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
С этим призывом единодушно выступает современная про-
грессивная музыкальная педагогика. На прошедшей Конферен-
ции ИСМЕ не было споров, характерных для былых времен:
нужно ли обучать музыке всех детей (речь идет, конечно, не
о музыкальном профессионализме) или только тех, кто выделя-
ется музыкальными способностями? Наша педагогика, как изве-
стно, с первых же послеоктябрьских лет настаивала на том, что
общее музыкальное воспитание должно распространяться на
всех детей и доступно всем без исключения детям. К этой теме
в той или другой форме обращалось большинство докладчиков.
Приведу только два примера.
Венгерский педагог Дьюлапе Михайи заявила: «Нельзя тер-
петь потерю ни одного ребенка для музыки... Музыкальные спо-
собности любого ребенка могут развиться, если его воспитывают
с самого раннего возраста подходящим способом. Мера этих
способностей зависит, правда, от врожденных данных, однако
они поддаются совершенствованию».
Подробно остановился на этом вопросе и Бернгард Бинков-
ский (ФРГ): «... Каждый ребенок имеет музыкальные способ-
ности и практически... «немузыкальных» людей просто не сущест-
вует. .. Я полагаю, что: а) человеке нормальными способностями
располагает также и способностями музыкальными; б) пред-
расположение к музыке может обнаружиться различно, напри-
мер в области ритмического или звукового восприятия, музы-
кальной памяти, способности к музыкальному исполнительству
и творчеству; в) у большинства «немузыкальных» людей в про-
цессе их воспитания музыкальные способности либо не были
выявлены, либо недостаточно развивались и, таким образом,
постепенно были окончательно загублены».
Претворение в жизнь всеобщего музыкального воспитания
детей возможно лишь при условии, если задача эта становится
государственной задачей и государство берет на себя заботу об
ее осуществлении. Прав был Д. Кабалевский: наши трудности
в реализации всеобщего музыкального воспитания, о которых
советские докладчики говорили с достаточной откровенностью,
по своей основной сущности несхожи с трудностями тех стран,
педагоги которых только добиваются того, чтобы попечитель-
ство о музыкальном воспитании стало государственной задачей.
Характерно, скажем, что формула «музыка — каждому ребенку,
каждый ребенок — музыке», которая приводилась почти во всех
докладах американских музыкантов, — лозунг общественной
организации (Национальной конференции преподавателей му-
зыки), а не государственная программа.
Конечно, всеобщее музыкальное воспитание достижимо только
тогда, когда оно проводится в общеобразовательной школе.
И к тому же лишь в том случае, если уроки музыкального воспи-
308
тания рассматриваются (как, скажем, в Венгрии) не как второ-
степенные, а как равноправные — с другими дисциплинами
школьного учебного плана — занятия.
Но возможно ли такое равноправие в наш век, когда овла-
дение основами точных наук должно занять в школе столь зна-
чительное место? На этот вопрос ответил Шарой: «.. .Пере-
грузка детей стала мировой проблемой в педагогике. По нашему
опыту включение музыкальных уроков... не увеличивает, а пси-
хологически уменьшает чувство перегруженности. Музыкальный
урок со своими игровыми элементами, художественными пере-
живаниями, являющимися неким противовесом процессу изучения
научных дисциплин, выполняет в расписании функцию разрядки,
способствуя тем самым освоению познавательного материала
других предметов и обостряя интерес детей к другим искус-
ствам».
Приведенные им статистические данные об успеваемости по
научным дисциплинам учащихся венгерских общеобразователь-
ных школ с расширенным преподаванием музыки убедительно
подтвердили эту мысль.
И еще о двух важных моментах, определяющих успех все-
общего музыкального воспитания, шла речь на конференции.
Первый — единые государственные методические принципы
музыкального воспитания, наличие которых позволяет осуще-
ствить преемственность между дошкольным и школьным его
этапами, между общим музыкальным воспитанием и специаль-
ным музыкальным обучением. Темпераментно и убедительно
говорил об этом все тот же Шарой: «Пожалуй, важнейший наш
вывод заключается в том, что глубокое, охватывающее весь народ
музыкальное воспитание, может быть организовано лишь в школе
и детском саду на основе единых принципов и учебных планов.
Любые другие факторы, как-то «Jeunesses musicales», движение
хоровых кружков, циклы концертов для молодежи и т. д. могут
лишь дополнять школьное музыкальное воспитание, но не
в состоянии заменить его». Венгерский музыкант указывал, что
на Западе эта установка венгерской музыкальной педагогики
расценивается некоторыми деятелями едва ли не как покушение
на свободу личности, как нарушение' свободы учителей, родите-
лей и самих учащихся выбирать тот или иной путь музыкального
воспитания, чуть ли не как диктатуру и террор. Но «какая свобо-
да лучше: свобода оставаться необразованным, дураком, или же
свобода и возможность для каждого приобрести образование?
Мы стоим за вторую и желаем каждой стране от чистого сердца
такого «террора», который заставил бы молодежь быть участни-
ком единого музыкального воспитания».
Второй момент — музыкальное воспитание воспитателей. Нет,
в данном случае не имеется в виду подготовка педагогов-музы-
кантов для общеобразовательной школы (задача, само собой
разумеется, важнейшая и острейшая). Вслед за докладчиками
309
я говорю о восполнении уже упущенного: о музыкальном воспи-
тании матерей и отцов («родители не всегда виноваты, — гово-
рил американский педагог Максуэл Пауэрс,—.. .занимаемая ими
позиция отражает их собственную ограниченность в восприятии
музыки, и это влияет на развитие ребенка»),1 о музыкально-эсте-
тическом воспитании тех государственных и общественных дея-
телей, которые решают судьбы и руководят народным образова-
нием страны.
О СУЩНОСТИ МУЗЫКИ
Естественно, что на конференции ИСМЕ понятием «музыка»
пользовались все докладчики. По в ряде случаев они вкладывали
в этот термин несхожий смысл.
Здесь не место разбирать во всей глубине вопрос, возникший
еще в давние времена, — «quid sit musica» («что есть музыка»),
вопрос, к которому неоднократно возвращается и современная
эстетическая мысль. Обратимся лишь к нескольким сопоставле-
ниям.
В основе подавляющего числа докладов лежал тезис, скорее
подразумеваемый, чем декларируемый, о содержательности ис-
кусства звуков, о том, что музыка — зеркало души и ума, чело-
веческой жизни и общественного создания, благодаря чему она
способна оказать воздействие на другое сердце и другой интел-
лект. Содержание музыки претерпело, конечно, на протяжении
истории существенные изменения. К тому же в тот или иной
период в нем в большей или меньшей степени преобладают то
эмоциональные, то рациональные моменты. В музыкальной куль-
туре наших дней — как в творчестве, так и в исполнительском
сотворчестве — возросло значение интеллектуального начала,
которое в выдающихся музыкальных произведениях или в игре
выдающихся артистов не нарушает, однако, органического един-
ства чувства и мысли, единства, определяющего содержатель-
ность музыки.
Некоторые ораторы осознанно обходили вопрос о сущности
музыкального искусства в его чисто теоретическом аспекте. Но
многие из них, опираясь на свой жизненный опыт, приходили
в конечном итоге к верным эстетическим и практическим выво-
дам. Так, например, Мария Пшиходзиньска-Качичак (Польша)
заявила, что она оставляет в стороне «споры эстетиков о том,
существует ли в музыке эмоциональное содержание и как оно
функционирует». Это не помешало ей, однако, занять правиль-
ную позицию в этом споре. «.. .Некоторые жанры музыки, — гово -
рила она, — передают определенные чувства-мысли и одновре-
1 Вспомним известный ответ 3. Кодая на вопрос о том, когда надо начи-
нать музыкальное воспитание ребенка. За 9 месяцев до рождения ребенка?
Нет, за 9 месяцев до рождения матери ребенка!
310
менно вызывают определенное состояние чувств и интеллек-
туальных переживаний. Другие жанры музыки не передают
слушателю однозначного эмоционального содержания... Этот
отрыв музыки от функций демонстрировать конкретное содержа-
ние дает огромную свободу слушателям переживать ее... Появ-
лению этих переживаний благоприятствует характер музыки
как процесса». Временное же изложение содержания музыки
воздействует одновременно и на познавательные процессы...
Но в отдельных докладах самый подход к вопросу «что есть
музыка» отличался той расплывчатостью, которая свидетель-
ствовала либо о недостаточной четкости, либо об ошибочности
исходной идейной позиции.
Так, скажем, доктор Роберт Вернер (США), рассказывая
о небезынтересной программе по широкому музыкальному вос-
питанию (она получила название «Современный музыкальный
проект»), выделил «элементы, общие для музыки всех времен
и всех народов». К этим «элементам» он отнес звук, обладающий
высотой, продолжительностью и тембро-динамическими качест-
вами, и создаваемую из этих звуковых компонентов форму
(«включая случаи, когда четкая форма отсутствует»). Но из
названных «элементов», если не говорить о содержательной сущ-
ности музыки, можно построить все, что угодно, в том числе
и нечто такое, что внешне сходно с искусством звуков, но музы-
кой не является. Может быть сам Роберт Вернер и не имел в виду
столь «широкое» использование его «общих элементов музыки».
Однако и его формулировка, и формулировка другого американ-
ского докладчика доктора Карла Эрнста («музыка есть: 1) все-
общее явление... 2) отобранные и соединенные вместе звуки...
3) искусство, существование которого зависит от трех взаимо-
связанных процессов — сочинения, исполнения и слушания»),
в которые не включена основа основ нашего искусства — его
духовная сущность и содержательность, его человеческое начало
могут повести за собой и порой действительно ведут к тому, что
в понятие «музыка» включается решительно все звучащее и тем
или иным способом организованное в некую форму, пусть эта
форма и не говорит ничего сердцу и уму.
Упрек в нечеткости и противоречивости исходной позиции
может быть адресован и такому эрудированному и широко
мыслящему музыканту, как Павел Шивиц (Югославия). Он
совершенно прав, когда предостерегает против опасности даже
в обучении самых маленьких детей, склонных к конкретным
представлениям, «придавать... каждой фразе, каждой мелодии
какое-то определенное значение»; или когда предупреждает, что
«такое воспитание будет на каждом шагу подчинено поискам
чего-то представляемого» (а не реального); или когда ратует за
то, чтобы формирование творческих сил учащегося опиралось
на музыку и ее элементы, а не на нечто навязанное и присочинен-
ное к музыке; или, наконец, тогда, когда призывает вслуши-
311
ваться в звуковые взаимосвязи, имеющие место в музыкальном
произведении, ибо для того, чтобы «понять духовное содержание
музыкального произведения нужно суметь пережить это произ-
ведение, исходя из музыки».
Все это справедливо, и тут взгляды П. Шивица близки к точке
зрения Б. Асафьева, который, как известно, советовал «наблю-
дать» саму музыку, вслушиваясь в происходящие в ней процессы,
а не приписывать ей конкретную программность.
Но говоря о «духовном содержании» музыкального произве-
дения, П. Шивиц одновременно стоит на той точке зрения, что
«содержание музыкального произведения составляет обилие му-
зыкально-формальных связей» (курсив мой. — Л. Б.) и что
«музыка не является ни содержанием, воплощенным в форму, ни
выражением, достигаемым музыкальными средствами». Правда,
он тут же добавляет, что все это «никоим образом не означает,
что музыка как самое гибкое искусство не в состоянии приспо-
собиться к самым разнообразным музыкальным сюжетам (Stof-
fen)».
Но разве «приспособление... к внемузыкальным сюжетам»
придает музыке «духовную содержательность»? Разве в «приспо-
соблении» дело?
Позиция П. Шивица, с одной стороны, сочувственно цитирую-
щего слова В. Цуккерканделя («не о выразительности заботится
композитор, не об акустике и не о возбуждении чувств, а только
об одном: как достичь бытия звукового образа») а, с другой
стороны, ратующего за проникновение в «духовное содержание»
музыки, представляется мне сотканной из противоречий. И как
тут не пожалеть, что на прошедшей конференции не было орга-
низовано дискуссии по прочитанным докладам!
О РЕПЕРТУАРЕ
На какой музыке следует воспитывать и обучать детей и моло-
дежь? Каков репертуар музицирующей молодежи и каково дол-
жно быть отношение к нему педагогов?
Вопросы эти всегда привлекали к себе внимание. Но никогда
еще. они в такой степени не волновали музыкально-педагогиче-
скую мысль и не приобретали подобной остроты; наконец, ни-
когда не высказывались столь взаимоисключающие точки зре-
ния, как сегодня.
Обусловлено это многим, но прежде всего сегодняшней
«звучащей действительностью», в которой — не только за рубе-
жом, но подчас и у нас — значительное место занимает низко-
пробная развлекательная музыка. К тому же современная
«звучащая действительность» характеризуется избытком музыки,
и такая перенасыщенность звуко-ритмическими впечатлениями
(не всегда их назовешь музыкальными) влечет за собой, как
отмечали многие выступавшие, пассивность восприятия. В част-
312
ности Бернгард Бинковски (ФРГ) говорил, «что даже высоко-
качественная музыка может восприниматься пассивно в резуль-
тате ее непомерного количества».
Репертуар (конечно, не только сам по себе) призван воспи-
тывать способность «ценить по достоинству музыку больших
идей и чувств» (Е. Гембицкая, СССР); «научить разбираться
в том, что хорошо, а что пошло, безвкусно» (М. Давиташвили,
СССР); «привить сопротивляемость перед лицом возможных
манипуляций с музыкой», понимая под «манипуляциями» мас-
совое оболванивание людей современными акустическими сред-
ствами или, пользуясь словами Бинковски, «„нечестное"» влия-
ние на человека, оказываемое на него без его ведома и против
его воли».
В нынешних условиях содержательность и направленность
репертуара приобретает огромнейшее значение. И тут мне снова
придется поспорить с П. Шивицем.1 Ой указывает, что
у значительной части зарубежной молодежи наметилось «не-
доверие к традиционным формам», которое «вызвало самые
радикальные демонстрации протеста в поведении, мышлении
и в «„художественных высказываниях”». Задавшись затем во-
просом предоставить ли молодежи в области «художест-
венных высказываний» свободу действий или наложить запрет,
Шивиц отвечает на него так: «.. .было бы при социализме един-
ственно правильным попытаться направлять упомянутые стрем-
ления с величайшей осмотрительностью, ибо искусство ничего
не должно, а может все». Значит направлять? Конечно, направ-
лять и, конечно, делать это с величайшим тактом! Но вслед за
этим Шивиц говорит, что «придется смириться (in Kauf nehmen
miipen) с тем, что аудиторию, сперва усыпленную, провоцируют,
шокируют всеми средствами новейшей музыки...». Но «сми-
риться» не означает «направлять», подобно тому, как «направ-
лять» не означает «запрещать». Смирение равнозначно капиту-
ляции! Когда же говорится «направлять», имеется в виду умно
и тактично разъяснять, противопоставляя «музыкальным прово-
кациям» и «музыкальному шоку»- нечто иное — истинные музы-
кальные ценности!
А теперь, после этих вступительных замечаний обратимся
к конкретному анализу репертуарных проблем.
О народной музыке своей страны. С давних пор советская
музыкальная педагогика одной из основ музыкального репер-
туара, на котором должно строиться воспитание и обучение,
считает родной музыкальный фольклор, его различные пласты
и, само собой разумеется, его разнообразное инструментальное
1 Доклад его, взятый в целом, я ставлю высоко и отношу к числу
содержательных сообщений, сделанных на конференции. Полемизирую по-
этому именно с ним, а не с авторами серых и малосодержательных сооб-
щений.
313
и вокальное претворение, сделанное рукой стилистически чут-
кого и талантливого мастера.
Мы здесь не одиноки. Гвидо Вальдман (ФРГ) напомнил, что
еще в первой четверти нынешнего века, — примерно, тогда же,
когда Барток и Кодай привлекли внимание к венгерской народ-
ной песне и к ее использованию в музыкальной педагогике, —
«молодежное музыкальное движение» в Германии во главе
с Фрицем Иоде и его соратниками среди многого другого «вновь
открыло подлинную народную песню».
И болгарский педагог Михаил Букурештлиев ратовал за то,
чтобы родной музыкальный фольклор «оставил прочные следы
в сознании учеников... и помог им... в формировании критерия
для оценки музыкальных явлений вообще».
Лайошне Немешсеги (Венгрия) назвала свое сообщение «От
детской народной песни к шедеврам мировой музыкальной лите-
ратуры». А представительница венгерской дошкольной музыкаль-
ной педагогики Каталин Форраи, указывая на то, сколь жела-
тельно воспитывать речевые и музыкальные умения в их един-
стве, говорила: «В годы формирования навыков речи важно, чтобы
ребенок слышал мелодии с ритмом и интонациями, соответствую-
щими его родному языку, и начинал подражать им. Для этой
цели наиболее подходящий материал доставляет народная тради-
ция: попевки, детские песни, переходящие веками из уст в уста».
О музыкальном фольклоре других стран и континентов. На
конференции ИСМЕ никем, собственно говоря, не оспаривалось
воспитательное значение репертуара, опирающегося на родной
фольклор. Но в докладах было привлечено внимание и к другой
тенденции, дополняющей первую — тенденции, которая харак-
терна для второй половины нашего века, когда радио, телевиде-
ние и звукозапись послужили большему сближению и взаимо-
влиянию различных музыкальных культур: речь идет об изучении
музыки, прежде всего народной, разных наций.
Всем очевидно значение такого изучения для интернациональ-
ного воспитания. Вспомним С. Маршака: «Но по-настоящему
любить и понимать незнакомый нам народ мы начинаем только
после того, как нас пленит и тронет его искусство».1 Э. Мир-
зоян (СССР) напомнил на конференции о давней армянской тра-
диции петь народные песни разных наций на языке народа, кото-
рый создал эти песни: «.. .Хорошо, если уже с детства каждый
хранит в сердце частицу культуры другого народа... И это вовсе
не означает забвения собственных национальных традиций или
растворения своей национальной музыкальной культуры в без-
ликом космополитическом „ненациональном” или „наднациональ-
ном искусстве"».
На конференции речь шла и о роли фольклора разных наро-
дов в собственно музыкальном воспитании и обучении, в част-
1 С. Ма р ш а к. Воспитание словом. М., 1964, с. 17.
314
ности о том, что народное творчество разных народов может
помочь навести мостик к современной музыке. Среди других
ораторов об этом говорил П. Шивиц. По его мнению, музыкаль-
ный фольклор, скажем, Южных Балкан с его ритмическими осо-
бенностями, мелизматической природой мелодии, старинными
звукорядами и общим антисентиментальным характером может
«лучше, чем любая классическая тональная основа преодолеть
пропасть между традиционными музыкальными ценностями и сов-
ременной музыкой».
В постановке вопроса о расширении репертуара детей и моло-
дежи путем включения в него музыкального фольклора разных
народов следует воздать должное американским педагогам:
почти все они настойчиво возвращались к этой теме. Так, Карл
Эрнст привел цитату из вступительного слова, произнесенного
на Чикагском съезде американских педагогов-музыкантов: «Изу-
чение и использование музыки многих культур занимает веду-
щее место в музыкальном воспитании семидесятых годов...
Музыка не есть универсальный язык. Следовательно, сущест-
вует много видов музыки, и каждый должен изучаться и по-
знаваться на основе его законов и в рамках его традиций».
Лидия Локридж в докладе «Музыка — путь к взаимопониманию
между народами» говорила о «новом направлении» в музыкаль-
ной педагогике, которое вызвано самой жизнью и которое она
назвала «обучением различным музыкальным культурам». В об-
щих чертах она изложила программу такого обучения. Один из
пунктов этой программы предлагает подводить способных уча-
щихся к сочинению музыкальных произведений, в которых про-
являлось бы их «умение интерпретировать музыку различных
культур и использовать ее в своем творчестве, основанном на
тр а диции з апа дного искусств а» (разрядка моя.— Л. Б.)
Но некоторые американские педагоги переходят в этом во-
просе границу разумного и как-то незаметно соскальзывают на
совершенно неприемлемую позицию, которую можно охаракте-
ризовать как «антиевропеизм». «Музыкальное воспитание,— ска-
зано, например, в докладе Чарльза Фаулера, — стало жертвой
(?!—Л. Б.) того, что может быть названо «европоцентризмом»,
то есть переоценкой западного музыкального искусства. И далее:
«.. .Музыка с европейской ориентацией, взятая в отдельности,
не может удовлетворить американский темперамент и вкус.
Различные виды музыки в американском обществе — концерт-
ная, народная, джазовая, поп-музыка, музыка в стиле «рок»,
музыка различных этнических групп — служат удовлетворению
различных потребностей. Педагоги-музыканты... расширяют свое
понимание музыки, включая в него самые разнообразные аб-
страктные способы звукопроизводства, образующие выразитель-
ные формы,— от музыки Индии до современной алеаторной и
электронной музыки». Конечно, наряду с «серьезной музыкой»
нужна и развлекательная; наряду сродным фольклором должен
315
занять свое место и иноземный. И вместе с тем нельзя согла-
ситься с таким безграничным расширением музыкально-воспи-
тательного репертуара, которое к тому же отодвигает на зад-
ний план европейскую музыкальную культуру.
Здесь уместно сказать о той педагогической осторожности,
которая должна быть, на мой взгляд, проявлена при «обучении
различным музыкальным культурам». Само собой разумеется,
хорошо, если музыкальное воспитание будет поставлено так,
чтобы, пользуясь словами Р. Вернера, «верная любовь к Моцарту
не препятствовала пониманию византийского пения или гамелана
с острова Бали». Но не следует при этом забывать о различных
звуковых системах, лежащих, скажем, в основе той же песни
с острова Бали и европейской музыки. Любая музыка высокого
или относительно высокого уровня опирается на упорядоченную
и организованную звуковую систему. Об этом говорил Фр. Блуме
еще в конце пятидесятых годов в своем содержательном докладе
о сущности музыки1 (кстати говоря, подвергшемуся разгромной
и совершенно необоснованной критике со стороны музыкального
«авангарда»* 2). Блуме среди прочего справедливо заметил, что
звуковые системы ряда народов в существенных своих основах
отличаются от европейской (что, замечу попутно, вовсе не озна-
чает воскрешения устаревшего и ошибочного тезиса о коренном
различии национальных культур). Под общей «крышей» нашей
диатонико-хроматической системы, унаследованной от греков
и существующей уже два с лишним тысячелетия, уживаются,
замечает ученый, ряд частных систем, таких как пентатониче-
ская, гексахордная, как средневековые и современные националь-
ные лады, как мажоро-минор и развившаяся двенадцатиступен-
ная система. Организация всех звуковых систем, будь то диа-
тонико-хроматическая или какая-либо иная, покоится на принципе
тех или иных звуковых тяготений, на упорядочении звукового
материала определенными «гравитационными полями». Без пони-
мания-переживания этих тяготений, то есть без понимания
«тональности» в широком смысле этого слова, музыка остается
не понятой. К тому же ведь должен быть понят-пережит и спе-
цифический тембровый спектор, «звуковой колорит» различных
музыкальных культур (по мнению Фр. Блуме, представляюще-
муся мне спорным, этот «колорит» даже в большей степени чем
звуковысотное движение, определяет характер музыки).
Так вот, не должна ли быть проявлена'известная педагогиче-
ская осмотрительность и, если хотите, трезвая реалистичность
в музыкально-воспитательной работе с детьми при выходе за
пределы диатонико-хроматической системы (подчеркиваю: диа-
тонико-хроматической, а не только мажоро-минорной)? Прав
’См. Fr. Blume. Syntagma musicologium. Barenreiter — Verlag, Kas-
sel-Basel..., 1963, S. 872—886.
2 Cm. ”Melos“, 1959, xMarz.
1
Блуме, указывая, что «чуждые системы a limine (то есть с порога,
сразу же.'—Л. Б.) непонятны». Мне представляется, что некото-
рые американские педагоги, справедливо указывая на то, что
«музыка не есть универсальный язык» (К. Эрнст) и что следует
изучать многие музыкальные языки, упускают из вида серьезные
психологические трудности этого изучения в общеобразователь-
ной школе, особенно в младших классах.
Приведу теперь несколько фактов, характеризующих отдель-
ные, наиболее интересные, современные зарубежные музыкально-
репертуарные поиски.1 В докладе «Сегодняшняя музыка для
сегодняшнего ученика» Дэвид Гамильтон (Великобритания),
говоря о фортепианно-педагогической литературе, среди прочего
упомянул об изданных в США сборниках пьес И. Папориша,
сборниках, как мне представляется, действительно примечатель-
ных. Чем именно? Прежде всего тем, что композитор, опираясь
в большей части пьес на гвинейский, малайский, японский, таи-
ландский, индусский, индейский, негритянско-ритуальный и дру-
гой фольклор, сумел сохранить его специфические черты и вместе
с тем подвести — очень тонко!—под «диатонико-хроматическую
крышу». Тем самым он приблизил эту музыку к слуху детей,
воспитанных на европейской звуковой системе.
Или другой факт: собрание фольклора разных стран и кон-
тинентов, над созданием которого ряд лет работает Научно-
исследовательский институт музыкальной социологии и музы-
кальной педагогики в Вене. Собрание это ставит своей задачей
показать «на конкретном материале историческое и националь-
ное многообразие ладов, мелодий, контрапунктических и гармо-
нических принципов, ритмических структур и звуковых тяготе-
ний».1 2 Оно должно послужить основой для создания пособий по
разным музыкальным дисциплинам.
О классическом наследии. И советские и преобладающее
большинство зарубежных педагогов убеждены в том, что клас-
сика— имею в виду наследие выдающихся композиторов, а не
определенное стилевое направление-—была и продолжает быть
одной из важнейших сторон музыкально-педагогического репер-
туара. На конференции многие докладчики так именно и ставили
вопрос. Например, М. Давиташвили (СССР) говорила, что музы-
1 Наши репертуарные музыкально-педагогические поиски — особая и очень
важная тема, которой я здесь не касаюсь. В откликах на конференцию ИСМЕ
Нараяна Менон (Индия) заметил: «.. .Проблемы развития национальных му-
зыкальных культур ставятся в Советском Союзе серьезно и решаются энер-
гично. Сохраняя свою национальную специфику, эти музыкальные культуры
так или иначе вливаются в единое русло советской музыки, обогащаясь до-
стижениями друг друга». Это взаимообогащение разных национальных куль-
тур хорошо известно, и советское музыкознание не раз обращалось к этой
теме. Но, насколько я знаю, никто еще не проследил за тем, как этот про-
цесс отразился на нашей музыкально-педагогической литературе.
2 Цит. по ст.: Курт Блаукопф. Наши поиски. «Сов. музыка», 1968,
№ 2. Автор статьи — директор названного института.
317
кальное воспитание, опирающееся на классическую (и, конечно,
народную) музыку, способно создать своего рода иммунитет
против разлагающегося влияния музыки дурного пошиба. Рой
Слэк (Великобритания) сокрушался по поводу того, что «мы
подвергаемся опасности слишком увлечься «последней модой»
за счет более долговечных ценностей, о которых нельзя забы-
вать». Нет нужды приводить аналогичное из других докладов.
Но были высказаны и другие мнения. Одни весьма расшири-
тельно трактовали само понятие «классика» и, говоря, скажем,
о том, что учащиеся должны слушать как можно больше клас-
сической музыки, добавляли — «будь то Бах или ,,рок“»
(Кэрол Рейнольдс, США). Ничтоже сумняшеся, они ставили
знак равенства между столь разными по своей духовной цен-
ности явлениями, как Бах и «рок»! В подтексте некоторых дру-
гих докладов явственно слышны были нотки сочувствия к точке
зрения одного крупного американского педагога, сказавшего:
«Бах, Бетховен, Брамс, подвиньтесь, — дайте место ,,року“».
Д. Кабалевский, который привел эти слова, дал им меткую ха-
рактеристику: «Если это ирония, — я готов оценить ее грустную
ядовитость, но боюсь, что эти слова сказаны всерьез. И это уже
по-настоящему грустно. Ведь такая позиция может возникнуть
только под влиянием полной растерянности перед лицом слож-
ного социального явления и, в итоге, капитуляции перед ним».
Мысль о том, что «современная молодежная музыка» то ли
должна оттеснить классику на второе место, то ли — отодвинуть
ее куда-то еще подальше, нашла некоторое отражение и в до-
кладе Матеуша Свинцицки (Польша). В самом деле: с какой
позиции следует оценивать музыкальный вкус молодежи? С точки
зрения того, способна ли опа отличить хорошую развлекательную
музыку от низкопробной? Конечно. Но достаточен ли этот кри-
терий? Нет, пи в коем случае! Мерилом для суждения должно
служить и другое: умение почувствовать, понять и оценить то
истинно великое и непревзойденное по глубине мысли и этической
силе, что было создано и создается подлинно большим искус-
ством, в первую очередь европейской музыкой последних сто-
летий (это, разумеется, ни в малейшей степени не снижает
достоинств музыки других континентов). М. Свенцицки иного
мнения. «Этой узкой (!! — Л. Б.) точкой ориентировки и сравне-
ния является европейская музыка вообще, а в особенности
музыка XVIII-XIX столетий, представляющая собой (для неко-
торых музыкантов. — Л. Б.) художественный образец».
Не могу согласиться и с П. Шивицем. Вот его мнение: «Поко-
ление, убежденное в том, что оно выросло в ожидании «совер-
шенно сомнительного будущего», нельзя завоевать путем вос-
хваления «музейных ценностей», культивируемых и пропаганди-
руемых академиями, университетами, музеями и т. д.» Шивиц
глубоко неправ в своей недифференцированной характеристике
мироощущения современной молодежи: в различных социальных
318
условиях и миропонимание ее разное. Привлеку внимание к дру
тому: по мнению П. Шивица, классика — всего-то «музейная,
ценность», то есть нечто утратившее свое действенное значение.
Практика опровергает это мнение! Сумели же педагоги ряда
стран (напомню о венгерском опыте) привить молодому поколе-
нию— слушателям, любителям и профессионалам — любовь
и к классике, и к современной музыке!
О современной музыке. Формула, с которой выступила
М. Давиташвили (СССР)—«основой музыкального воспитания
должна стать народная и классическая музыка» — бесспорна, но
недостаточна: автор опустил современную музыку. Указать на
это тем более необходимо, что многие педагоги и у нас, и в зару-
бежных странах опасаются ходить по нехоженной репертуарной
дороге.
Мне не раз приходилось об этом писать1 и пересказывать
свои доводы нет смысла. Один из моих аргументов совпал с тем,
о котором говорил на конференции Зигфрид Боррис (ФРГ) твор-
ческая фантазия и самостоятельность мышления молодежи про-
являются особенно ярко именно в сфере исполнения музыки
наших дней. Разумеется, разговор идет не о всякой современной
музыке. И тут я солидарен с Паулем Михелем (ГДР), сказав-
шим: «Я уверен, что... бытующие крайние, так называемые
„авангардистские" музыкальные направления, которые служат
разрушению и антигуманизму, для музыкального воспитания
непригодны».
Нельзя забывать и о другой стороне вопроса. Не всякая
музыка, написанная композитором наших дней, может быть при-
числена к современной. Имею в виду творчество тех, кто не слы-
шит современную жизнь, лишь повторяет давно известное и забы-
вает или неспособен понять, что истинный композитор (в том
числе и пишущий для детей и юношества) идет и должен идти
несколько впереди того, до чего уже дошло массовое слуховое
сознание и что уже стало устойчивым и упроченным (вспомним
ленинские слова о Демьяне Бедном: «идет за читателем, а надо
немножко виереди»). В частности, это относится и к эпигонам,
манипулирующим стандартной обоймой выразительных средств
и время от времени приправляющим свое композиторское «варево»
диссонирующими специями. Вместе с тем — об этом напомнил
Д. Гамильтон (Великобритания)—истинно современной может
быть и простая, основанная на народной песне или танце пьеса,
сочинитель которой тонко применил в ее обработке музыкальные
ресурсы нашего столетия (надо ли в этой связи называть — в ко-
торый раз — Б. Бартока!).
В прежние времена в ряде стран в подборе музыкально-
педагогического репертуара господствовал «хронологический
принцип», согласно которому путь к познанию музыки хотя бы
1 См., например, с. 248 и последующие этого сборника.
319
в общих чертах должен соответствовать исторической последо-
вательности в ее развитии. Ныне такой принцип повсеместно
отвергается. Как отметил П. Михель, специальные музыкально-
психологические исследования показали, что способность вос-
принимать музыку лучше формируется в том случае, когда репер-
туар изучается не в его хронологической последовательности,
а в параллельном сопоставлении прошлого и настоящего. Гово-
рили об этом и английские педагоги Р. Слэк и Д. Гамильтон.
Последний сетовал на то, что учащиеся длительное время воспи-
тывающиеся только на мажоро-миноре, с трудом усваивают
музыку, которая создается и создавалась на другой ладовой
основе. При одновременном же изучении музыкального про-
шлого и настоящего «ученики не страдают от постоянных дис-
сонансов»; больше того, новые гармонии, неизвестные компози-
торам-классикам, и новые ритмы, опирающиеся подчас на нерав-
номерное распределение тактовых черт, не только не разрушают,
но, наоборот, углубляют звуко-ритмическое восприятие.
Да, современная музыка должна изучаться параллельно
и одновременно с классикой, но не обгоняя и не опережая ее
(в особенности, если речь идет о некоторых модернистских тече-
ниях) .
Иной позиции придерживается П. Шивиц: «Вовсе нельзя счи-
тать анахронизмом попытки демонстрировать школьникам в пер-
вую очередь новейшую музыку, в том числе также и электронную
и конкретную, с изобразительной нотацией... Таким путем легче
развить воображение, чем при помощи классической нотации,
связанной с более точными и более ограниченными звуковыми
представлениями». Нужно ли удивляться, что в результате такой
музыкально-воспитательной работе классика станет для ребенка
или подростка, пользуясь формулировкой П. Шивица, лишь
«музейной ценностью»?
Тот интерес к старинной музыке и старинным инструментам,
который отмечается в последние десятилетия у части музицирую-
щей молодежи, уводит ли он от музыки наших дней? Таков был
один из вопросов, поставленный в очень интересном докладе
Г. Вальдмана (ФРГ). Он пришел к выводу, что внимание к ста-
рине вовсе не ведет к бесплодному историзму и уходу от совре-
менности. Больше того, по мнению Г. Вальдмана, «обращение
к старинной музыке... оказалось плодотворным в том смысле,
что именно благодаря этому обращению стало возможным
открыть дорогу к музыке нашей современности». Верное и мет-
кое наблюдение! Подобно тому как разнообразный и разноха-
рактерный музыкальный фольклор способен проложить путь
к музыке XX века (о чем уже было сказано), точно так же реше-
нию этой задачи нередко помогает и музыка давних дней со спе-
цификой своих ладовых, мелодических, гармонических, ритми-
ческих и полифонических средств.
И еще одно замечание. А. Алексеев (СССР) в своем содер-
320
жательном выступлении напомнил о напечатанной в 1969 году
в журнале «International Music Educator» статье Леннарта Рей-
мерса, в которой речь шла о наметившемся разрыве между учи-
телями музыки и современными композиторами и о необходи-
мости навести между ними мост. «Эти мысли (Реймерса. — Л. Б.)
заслуживают самого пристального внимания, — сказал А. Алек-
сеев.— Надо, однако, иметь в виду, что в современной художест-
венной культуре степень остроты указанной проблемы ощуща-
ется далеко не везде с одинаковой силой. Можно смело утвер-
ждать, что в нашей стране между учителями музыки и
композиторами нет никакой стены непонимания. Это не два мира,
а один, объединенный творческой дружбой, общими эстетиче-
скими стремлениями».
О легкой музыке. Тема эта нашла отражение в прямой
или опосредованной форме во многих докладах: анализирова-
лась сущность современной молодежной музыки; выяснялись
причины, вызвавшие ее повсеместное распространение; дела-
лись выводы — социологические, психологические и педагогиче-
ские.
Под «современной легкой музыкой» или, как чаще ее назы-
вали, под «музыкой, популярной у современной молодежи» пони-
мали прежде всего джаз, рок-н-ролл, блюз, бит и всевозможные
иные разновидности этих жанров; указывали, что это преиму-
щественно инструментально-вокальная музыка, в которой, если
говорить о последнем времени, исключительно большую роль
играют электро-акустические и ударные инструменты; отмечали,
что «самую характерную черту этой музыки составляет превос-
ходство ритмического фактора» (М. Свенцицки).
Широкое распространение такого рода творчества во мно-
гих странах, особенно в странах западного мира, вызвано рядом
обстоятельств, о которых говорили многие докладчики. Но,
пожалуй, наиболее глубокий и лаконичный анализ названного
явления дал Г. Гайтанджиев (Болгария). Он связал исключи-
тельную популярность легкой музыки и расширение ее социаль-
ных функций со следующими четырьмя причинами: во-первых,
с влиянием современной семьи, круг музыкально-художествен-
ных интересов которой нередко весьма узок и ограничен; во-вто-
рых, с характером музыкального воспитания в школе, которое
до недавнего времени музыкальным воспитанием в подлинном
смысле этого слова не являлось и «было направлено прежде
всего на приобретение знаний, на освоение музыкальной нотации
и технических приемов»; в-третьих, с непрерывным, не прекра-
щающимся ни денно, ни нощно воздействием на слух молодежи
средств музыкальной коммуникации, национальных и зарубеж-
ных; в-четвертых, с усложнением выразительных средств совре-
менной серьезной музыки, с одной стороны, и относительно
низким уровнем музыкального восприятия значительной части
аудитории, с другой. Этот разрыв между музыкой и апперцеп-
12 Заказ № 1730
321
ционными способностями, на который указал и Ян Будик (Чехо-
словакия), приводит к болезненному явлению — к «отливу» части
слушателей от современной музыки, к отрыву от всего лучшего
и прогрессивного, что в ней создано. По словам Г. Гайтанджиева,
«огромная часть молодежи, которую сегодня так тянет ко всему
динамичному, современному, по-своему (находя при этом самый
легкий и приятный способ) заполняет вакуум, образовавшийся
между заслуживающей внимания современной музыкой и отно-
сительно доступными ее пониманию произведениями музыкаль-
ного наследия».
Почти никто из докладчиков не закрывал глаза на то, что
часть (а, если говорить, о западном мире, то — значительная
часть) этой популярной песенной и танцевальной музыки носит
пошлый — физиологически возбуждающий или слезливо-мещан-
ский— характер и развращает вкус, а то и вовсе оболванивает
молодых людей. Рут Фридман (Аргентина), например, с гневом
и возмущением говорила о том, что очень многое в этом звуко-
вом потоке, обрушивающимся на молодежь, определяется
«миром, который превращает музыкальное искусство в ком-
мерческий товар, предмет купли-продажи», миром, в котором
«никто... не интересуется ни хорошим вкусом... ни границами
разумного, ни формированием человеческой личности».
Однако при этом, если говорить о современной легкой музыке
высокого вкуса, то придется признать справедливыми слова
Г. Вальдмана (ФРГ): «Можно относиться к выразительным фор-
мам джаза и бита как угодно, однако бесспорно, что речь идет
о формах музицирования, которые очень нравятся молодым
людям определенного возраста и которые воспитывают их фанта-
зию, развивают способность к импровизации... и прививают
навыки ансамблевой игры».
Автор этих строк не принадлежит ни к числу любителей
современной легкой музыки, ни к числу знатоков ее типов
и разновидностей. Но он отдает себе отчет, что к популярнейшим
среди молодежи музыкальным жанрам (имеется в виду прежде
всего всевозможная танцевальная музыка, инструментальная
и вокальная, эстрадные песни в исполнении различных модных
певцов, джазовых ансамблей и т. д.) нельзя подходить только
с субъективной позиции — «нравится» или «не нравится» и что
не следует вести страусову политику и уподобляться тем педа-
гогам, которые, по словам Ч. Фаулера (США), «часто делают
вид, что если они будут игнорировать популярную музыку, она
исчезнет с горизонта». Нужно уяснить себе, какова ее роль
в современной жизни и в современном обществе (имея в виду,
конечно, лучшие ее образцы)? Прежде всего — развлекательная,
гедонистическая. Д. Кабалевский в своем содержательном до-
кладе об идейных основах нашего музыкального воспитания го-
ворил об этом ярко, убежденно и убедительно. Веселье, озорная
шутка, любовь к танцам, лирическая грусть — все это свойст-
322
венно юности. «Может ли быть проблемой то, что молодежь не
хочет быть скучной?!» — спрашивал он.
Серьезная проблема возникает лишь тогда, когда развлече-
ние становится решающей, единственной, всепоглощающей по-
требностью; когда гедонистическая музыка, которая во все вре-
мена подчинялась «зыбким законам скоропреходящей моды»,
противопоставляется музыке высоких мыслей и глубоких чувств,
музыке, которая вовсе не развлекает, а увлекает и просвещает;
когда мелодии и ритмы «щекочущие нервы», наглухо закрывают
путь к подлинным эстетическим ценностям, неподвластным мод-
пому поветрию; когда под натиском музыкально-развлекательной
«агрессии» молодые люди отворачиваются от социальных про-
блем. На последнем из этих положений Д. Кабалевский остано-
вился с особой обстоятельностью, подчеркнув, что за внешним
аполитизмом развлекательного искусства во многих зарубежных
странах «часто весьма отчетливо обнаруживается его прямая
связь с задачами чисто политического характера». Докладчик
напомнил при этом мысль, которую еще в 1931 году высказал
А. Луначарский: «Искусство развлекающее, искусство отвлекаю-
щее всегда было крупным политическим оружием...».
Конечно, современные формы массового музыкального искус-
ства включают в себя не только танцы и эстрадно-развлекатель-
ные «шлягеры». «Проблема легкой музыки,— говорил Г. Гай-
танджиев, — это практически, по-существу, проблема музыкаль-
ного быта народа». Самостоятельным и особым по своему
характеру является массовая песня, широко развившаяся у нас,
начиная с первых послеоктябрьских лет. Я не касаюсь здесь этой
большой и важной сферы нашего музыкального искусства,
поскольку о ней почти не было речи в докладах на конференции
ИСМЕ. Но даже и не затрагивая эту тему, следует напомнить
о том, что массовое музыкальное искусство XX века в разных
странах развивается по-разному и нередко ставит перед собой
несхожие задачи. Как верно заметил Г. Гайтанджиев современ-
ная легкая музыка отличается многоликостью и ее нельзя уже
отнести к тому «сравнительно одноплановому жанру, который
процветал три-четыре десятилетия назад». Прав он был и тогда,
когда утверждал, что эта музыка сегодня «охотно берется за
крупные, даже общечеловеческие темы». Решает ли она их
и как она решает—это особый вопрос, ждущий еще своего
исследователя. Но не пройдем мимо того факта, что в иных
случаях функция современного массового музыкального искус-
ства становится едва ли не противоположной функциям «искус-
ства развлекательного, искусства отвлекающего».
Нельзя игнорировать и тот факт, что легкая музыка высту-
пает из берегов одной лишь развлекательности и входит в уклад
жизни молодежи, в частности и потому, что заключает в себе
«импульсы для возрождения любительского музицирования»
(Я Будик, Чехословакия).
12*
323
К сожалению, в некоторых докладах роль и значение совре-
менной легкой музыки разрастались до гигантских размеров.
М. Свенцицки (Польша), по-видимому, знает всё и вся касатель-
но молодежной музыки. И это заслуживает уважения. Но ряд
положений его доклада вызывает решительное несогласие, в част-
ности, утверждение, будто именно легкая молодежная музыка
наших дней «предлагает слушателям тип эмоционального пере-
живания, адекватный современной цивилизации и технике». Не
потому ли, что эта музыка ввела «новые познавательные
(?!—Л. Б.) элементы», среди которых числится и «увеличение-
границ громкости до предела боли»? Не потому, ли, что молодеж-
ная музыка, по мнению М. Свенцицки, «развивает избиратель-
ность слуха (отсюда роль шумов)...»? Последнее требует поясне-
ния. М. Свенцицки пишет: «Существом (разрядка моя.— Л. Б.)
этой музыки является приспособление к восприятию простого
сигнала в условиях информации, состоящей из многосоставного
шума, или в условиях одновременного восприятия другой инфор-
мации. .. Условия жизни в крупных средоточиях цивилизации
требуют способности реагировать на информацию, скрытую
в шуме, и научиться распределять внимание... Слушатель моло-
дежной музыки привыкает к некоторой концентрации и к вылавли-
ванию информации из шума».
Вот оказывается к чему некоторые поборники современной
легкой музыки сводят одну (пусть лишь одну!) из функций музы-
кального воспитания: научить вылавливать информацию из шума
и привить стоическое отношение к «музыке», громкость которой
способна причинить боль! Не становится ли такое «музыкальное
воспитание» всем чем угодно (скажем, тренировкой способности
мужественно переносить боль при звуко-шумовых истязаниях),
но только не школой музыкального мышления? Не становится ли
такая музыка всем, чем угодно (скажем, экзерсисом на концен-
трацию и распределение внимания), но только не искусством,
формирующим гармоническую человеческую личность? Впрочем,
на вопрос о том, в какой мере популярная среди молодежи
музыка способна воспитать сосредоточенность, верный ответ дал,
вне всякого сомнения, не М. Свенцицки, а Чарльз Хоффер (США):
«Поп-музыка не требует столь внимательного слушания, сколь
необходимо для понимания классической музыки».
Как же всё здесь сказанное должно отразиться на музыкаль-
но-педагогический практике?
Одна из ее важнейших задач (и на этом сходилось большин-
ство докладчиков) — содействовать формированию достаточно
широкого и вместе с тем целеустремленного критического музы-
кального вкуса. Имею в виду не только умение различать добро-
качественную музыку от недоброкачественной и желание отверг-
нуть плохое и пошлое, но и способность понимать умом и сердцем
разную функцию и разную ценность высокой серьезной музыки,
с одной стороны, и легкой, с другой. Не буду развивать эту тему,
324
ее отлично и аргументированно разработал в своем выступлении
за «круглым столом композиторов» Г. Орджоникидзе (СССР).1
О формировании критического музыкального вкуса говорил
и Ч. Хоффер (США). Педагог, по его мнению, так должен вести
занятия, чтобы его воспитанники поняли: популярная молодеж-
ная и классическая музыка служат разным целям. Правда, цели
эти Ч. Хоффер, хотя он и оговаривает схематичность своих фор-
мулировок, определяет весьма неточно: серьезную классическую
музыку он рассматривает, как «музыку для вслушивания» и пола-
гает, что ее «общественная полезность» имеет меньшее значе-
ние (?!), чем ее «психологические ценности»; популярную же
молодежную музыку, в которой «общественная функция» доми-
нирует над «музыкальной», он определяет как «музыку для
социальных контактов», понимая под этим широкий и неравно-
ценный круг явлений — прежде всего создание «контактов»
между «тинейджерами» (подростками и молодыми людьми до
двадцатилетнего возраста) обоего пола, затем взаимообъедине-
ние для «протестов» и, наконец, укрепление юношеского само-
сознания. Впрочем, при всей расплывчатости некоторых форму-
лировок Ч. Хоффера сама направленность его педагогической
работы заслуживает уважения: не отрицая, не запрещая и не
игнорируя молодежную музыку, он вместе с тем ведет учащихся
к пониманию непревзойденной ценности классического наследия.
Поставим теперь вопрос еще уже и конкретнее: должно ли,
и в какой мере, использовать популярную музыку (здесь опять-
таки речь не идет о классических образцах советской массовой
песни) — отделив конечно, пшеницу от плевел — в самом музы-
кальном обучении детей и подростков? Как и многим доклад-
чикам, автору этих строк представляется, что не считаться со
вкусами и интересами юного поколения, а тем более попирать
их было бы грубой ошибкой. Такое небрежение повлечет за собой
заполнение образующейся пустоты низкопробным музыкальным
материалом. Все дело в дозировке. В учебном репертуаре могут
быть и эстрадная песенка, и современный танец, и пьеса, постро-
енная на джазовой основе. Но было бы непростительной оплош-
ностью —такова другая сторона вопроса, — если бы даже луч-
шие образцы этой музыки заняли здесь значительное, а тем
более доминирующее место. Сказать об этом необходимо в пол-
ный голос, ибо некоторые зарубежные педагоги призывают не
столько воспитывать вкус, сколько плестись в хвосте моды.
Достаточно сослаться на высказывание К. Рейнольдса (США):
«... родилась современная революция «рока». В этой области
«биттлс» являются путеводной звездой, и тот учитель, который
не вводит их в классную комнату, продолжает жить в средних
веках культурного развития» (курсив мой. — Л. Б.).
1 См. «Сов. музыка», 1970, № 10.
325
Иные полагают, что можно проложить дорогу к серьезному
музыкальному искусству с помощью джаза, рока, блюза путем
введения либо каких-то характерных элементов этих жанров
в классические сочинения, либо, напротив, препарированных
отрывков классики в популярную эстрадную музыку. Путь этот
представляется мне не только бесцельным, но и непозволитель-
ным, а в иных случаях и кощунственным (в виде примера укажу
на изложение в стиле поп-музыки усеченного финала Девятой
симфонии Бетховена, с записью которого мне как-то довелось
познакомиться). Не скрою: когда слушаешь, особенно впервые,
Баха в исполнении, скажем, «Свингл-сингерс», то мастерство
ансамбля и тонкий вкус, с каким введены элементы джаза
в музыку XVIII века, покоряют. И вот уже начинаешь понимать
Г. Гайтанджиева, который, вспомнив названный ансамбль, ска-
зал что «типичные для нее (современной легкой музыки. — Л. Б.)
или для джаза приемы придают особое очарование стопро-
центным «серьезным» пьесам». Но разум музыканта и педагога
диктует иной ответ, тот, который очень точно сформулировал
Г. Орджоникидзе: «препарированный Бах отрицает прежде
всего самого Баха»; молодым людям, слушающим Баха, его
музыка в ее подлинном виде начинает казаться недостаточно
острой и интересной, а юные музыканты, играющие Баха, стре-
мятся внести в свою интерпретацию ту джазовую метроритми-
ческую подчеркнутость и механическую мерность, которая всту-
пает в противоречие и с речевой выразительностью и с самим
духом баховского искусства.
О ВОСПИТАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА
Одна из характерных тенденций музыкальной педагогики
XX века — привлечение внимания к формированию музыкаль-
ного слуха как основы музыкального воспитания и к поискам
эффективных методов, ведущих к его активизации и интенсив-
ному развитию. Конечно, многие музыкальные воспитатели
и, разумеется, выдающиеся художники прошлого столетия
отнюдь не пренебрегали этой важной стороной работы с детьми
и молодежью. Но нередко педагогические декларации находи-
лись в противоречии с практикой дела. А к тому же, если иметь
в виду последнюю четверть прошлого века и начало нынешнего,
то нельзя закрывать глаза на следующие два момента: в обуче-
нии игре на том или другом инструменте проблема слухового
развития была отодвинута на второй план спорами о наилучших
путях совершенствования техники;1 в общей же музыкаль-
ной педагогике формальный метод воспитания одного лишь
1 На это обратила внимание в своей неопубликованной диссертационной
работе моя ученица С. Гринштейн (Минск).
326
«интервального слуха» не способствовал становлению музыкаль-
ного слуха в широком смысле этого слова.
Перелом в теории и практике музыкального воспитания, зна-
меновавший воскрешение интереса и внимания к музыкально-
слуховым вопросам, явственно наметился в конце первой чет-
верти XX века.
Если говорить о нашей стране, то здесь надо напомнить
о Б. Яворском и Б. Асафьеве. В докладе автора этих строк, про-
читанном на конференции, указывалось, что эти музыканты-про-
светители, идеи которых развивала и развивает наша педаго-
гика, всегда акцентировали слуховую направленность своих
музыкально-воспитательных систем и противопоставляли слу-
ховую культуру — культуре зрительной, слуховое восприятие
звучащих ритмо-иптонаций—зрительному восприятию «нот».
Согласно их воззрениям, интенсивное слуховое развитие есть
одновременно и развитие «музыкального мышления», то есть
умения, оперируя музыкальным материалом, находить сходство
и различие, анализировать и синтезировать, устанавливать взаи-
мосвязи. Отсюда формулы: «воспитывать думающий слух»
(Ф. Блуменфельд) или «учить бесконечному вслушиванию в му-
зыку» (К. Игумнов)...
Следует здесь упомянуть и некоторых деятелей других стран;
среди венгерских педагогов, кроме всемирно известных музы-
кантов Бартока и Кодая надо назвать психолога Ш. Ковача
и пианистку М. Варро; в Германии двадцатых годов — плеяду
педагогов, выпестованных деятельностью Л. Кестенберга, а также
А. Хальма, Ф. Лебенштейн, К- Мартинсена...
При всем несходстве практических путей воспитания слуха,
предлагавшихся разными музыкантами в различных странах,
можно заметить до известной степени общую направленность
педагогических поисков. Они, пользуясь формулировками Б. Аса-
фьева, нацелены на формирование интонационно-чуткого слуха,
способного прослеживать, осмысливать и оценивать происходя-
щие в музыке «события», «наблюдать» за ее течением, за «музы-
кальной формой как процессом». Вот такая широкая трактовка
сущности музыкального слуха — это уже характерная черта
педагогики нашего столетия!
На прошедшей конференции о музыкальном слухе и его вос-
питании говорили многие. Дьюлане Михайи (Венгрия), напри-
мер, к «компонентам музыкального слуха», которые определяют
«целостное функционирование личности», отнесла как его эле-
ментарные свойства, так и «процессы познания», а также «про-
цессы эмоциональные и волевые». «Музыкальный слух, — ска-
зала она, — это активный процесс, включающий в себя анализ,
синтез, различение, соотнесение, сравнивание, обобщение, отне-
сение услышанного к себе самому». В докладе Карла Эрнста
(США) речь шла о «вторичном открытии значения слухового
элемента в музыкальном воспитании», о необходимости «пере-
327
нести центр тяжести со зрительного подхода на слуховой», о вни-
мании к оттенкам музыкальной интонации. По его мнению, наша
цивилизация, обогатившая человека способностью мыслить
отвлеченно и умением в словесных формулах обобщать и абстра-
гировать, вместе с тем «украла» у него «радость целостного вос-
приятия всеми чувствами» и тем самым обеднила его чувствен-
ное постижение окружающего мира. «Поскольку музыка зависит
от слуха, — сказал докладчик, — она является одним из немно-
гих аспектов обучения, не связанных со словесным выражением.
Особый акцент на слуховой элемент в музыкальном воспитании
сможет помочь в восстановлении роли всех чувств в нашей
жизни».
Т. Шараи указал, сколь важно для активного музицирования
развитие слуха, чистота интонирования, умение с легкостью
читать нотный текст, и напомнил, что для достижения всего этого
«Кодай, основываясь на различных источниках... разработал
применяемую ныне в Венгрии форму релятивной сольмизации
как общедоступного, наиболее демократичного метода овладения
навыками чтения нот, музыкального диктанта, чистоты интони-
рования».
В этой связи — несколько слов о методе относительной (или
как у нас теперь говорят, ладовой) сольмизации, который завое-
вывает в нашей стране все больше и больше сторонников, но пока
продолжает вызывать к себе недружелюбное отношение со сто-
роны некоторых педагогов и руководящих деятелей музыкаль-
ного образования. И автор этих строк в тридцатые годы выска-
зывал свое несогласие с релятивным методом, но, познакомив-
шись затем с практическими результатами воспитания слуха
в ряде стран (в частности, в Венгрии) давно уже пришел
к выводу, что в прошлые годы заблуждался.
На самой конференции лишь один Эдгар Виллеме (Швейца-
рия) высказал свое расхождение со взглядами «релятивистов».
Однако, и швейцарский педагог пользуется разными символами
для обозначения абсолютной высоты звуков и для фиксации ла-
довых функций ступеней. И болгарская «столбица», замечу по-
путно, представляет собой зрительное обозначение ступеней
лада, усваиваемых одновременно с абсолютными названиями
звуков. Спор, таким образом, идет не о том, вводить ли в одно-
временности или в последовательности ладово-ступеневые и аб-
солютные названия, а о том, устанавливать ли для обозначения
ладовой функциональности слоговые наименования. Но слога
имеют то преимущество, что удобны для запоминания и сольми-
зации... Здесь я ставлю отточие: дальнейшее развитие этой темы
увело бы меня за рамки конференции ИСМЕ.
О ТВОРЧЕСКОМ МУЗИЦИРОВАНИИ
Нет сомнений, что обращение музыкальной педагогики XX
века к творческому музицированию—одна из ее характернейших
тенденций. На протяжении ряда лет я неоднократно возвра-
щался в статьях и очерках к вопросу о музыкальном сочинитель-
стве и импровизации детей, отроков и молодых людей, о роли
музыкального творчества и сотворчества в воспитании и обуче-
нии. 1 И в докладе моем, прочитанном на конференции, проблеме
этой было уделено значительное место. Так как выступление
мое состоялось на последнем пленарном заседании конферен-
ции, я не мог пройти ни мимо того, какое большое число доклад-
чиков обращались к этой теме, ни мимо того, что при этом назы-
вались имена Э. Жак-Далькроза, Ф. Йоде, К. Орфа, 3. Кодая,
Л. Риндерера и других, но, из-за недостаточной информирован-
ности, не упоминались наши музыкальные деятели. «Меня
радует, — заметил я в конце доклада, — что наряду со славными
именами зарубежных педагогов будущий историк музыкального
воспитания назовет имена Б. Яворского и Б. Асафьева, которые
еще в первые десятилетия нынешнего столетия ратовали за широ-
кое внедрение в музыкальную педагогику детского сочинитель-
ства».
Не вижу необходимости пересказывать здесь свои доводы.
Больше того, я позволю себе на время умолкнуть и — без всяких
комментариев — выборочно предоставить слово, следуя алфа-
виту, докладчикам ряда стран. Пожалуй, это будет наилучший
способ показать, какое внимание было уделено творческому
музицированию, и продемонстрировать то единодушие, которое
царило в общей постановке этой музыкально-педагогической
проблемы.
Аргентина
«Музыкальная импровизация с нашей точки зрения есть
единственный путь установления глубокого и продолжительного
личного контакта с музыкой и тем инструментом, на котором
она исполняется. Это не приходит само собой... Это приходит
в результате активной «слуховой» работы» (В. ГенсидеГайнза).
Великобритания
«.. .В последнее время сочинение музыки, иногда называемое
творческим музицированием..., становится типичной чертой
в музыкальном образовании детей... Музыкальное творчество
служит нескольким целям, и в смысле тех возможностей, которые
оно дает детям для выражения их мыслей и чувств об окружаю-
щем мире, и для расширения познания чисто технических сторон
музыки» (С. Дж. Чиллинг).
1 См. с. 223—229 этой книги, а также мою статью «Карл Орф и Институт
его имени» в сб. «Система детского музыкального воспитания Карла Орфа», Л.,
1970.
329
Польша
«Вторая функция музыки в школе — это развитие вообра-
жения и творческого облика. Дело не только в развитии музы-
кального воображения... Дело в более широко понятой арти-
стической восприимчивости и в силе фантазии вообще, то есть
в той активности психики, которая участвует во всех процессах
мышления человека, а особенно близко связана с творческим
мышлением. Ребенок, поставленный перед необходимостью
создания простейшего произведения к заданным словам, ритму,
фразе, создания аккомпанемента на ударных инструментах, под-
бора своей музыки к стихам, перед необходимостью дать назва-
ние прослушанным произведениям, преобразовать их музыкаль-
ную форму, предложить систему движений- к песенке и т. д.,
активизирует свой ум, стремится индивидуально решить задачу,
привыкает к самостоятельному художественному высказыванию,
приобретает веру в собственные «творческие» силы. Эта уста-
новка несомненно переносится на другие области мышления
и деятельности... Музыкальное творчество детей... является
предметом особого внимания... современной педагогики...»
(М. Пшиходзиньска-Качичак).
Советский Союз
«Существенно важны для эстетического и умственного разви-
тия ребенка его первоначальные творческие проявления, пусть
и весьма скромные по своим результатам. При творческой дея-
тельности многие моменты эстетического воспитания — восприя-
тие, представление, воображение, оценочное отношение — как бы
стягиваются в один узел и активизируются. Все приобретенное
детьми в процессе творчества становится прочным их достоя-
нием» (Н. Ветлугина).
Соединенные Штаты Америки
«Наступил тот самый момент, когда идея музыкального
творчества созрела для ее практического использования, и нам
следует, более тего, мы обязаны, взять ее на вооружение в той
или иной форме, иначе мы упустим многообещающую возмож-
ность, которую когда-либо имело музыкальное воспитание на
всю свою историю» (Е. Сайклер).
Чехословакия
«... Необходимо стремиться к раскрытию специфически твор-
ческой музыкальной активности... Творческий принцип различ-
ных видов деятельности выражается прежде всего в так назы-
ваемых «детских этюдах», при которых дети, на основе увлека-
тельных музыкально-мотивцрованных импульсов даваемых
педагогом, сами создают различные ритмические и мелодиче-
ские формы, играют, поют или выражают их простыми движе-
ниями» (Ян Будик).
Югославия
«Замечательные результаты, достигнутые проф. В. Томерли-
ном в области свободного творчества детей, дали возможность
330
«Институту содействия элементарного образования» в Загребе
организовать... семинары, на которых Томерлин демонстриро-
вал методы своей работы. Результаты были исключительными.
После двухлетней деятельности Институт смог опубликовать
сборник детских сочинений... В прошлом году вышло из печати
методическое руководство Томерлина „Дети сочиняют музыку"»
(Иожа Пожгай).
Я привел лишь очень немногое из того, что говорилось на
Конференции о детском и юношеском музыкальном творчестве.
Трудно назвать страну, представители которой в той или иной
форме не затронули бы эту тему. И прав был А. Алексеев (СССР),
который заметил, что «развитие творческих задатков ученика —
одна из важнейших проблем не только советской, но и мировой
музыкальной педагогики», и указал на необходимость объеди-
нить усилия в этой области музыкальных деятелей разных стран.
«Быть может, — предложил он, — надо даже подумать об орга-
низации в рамках ИСМЕ соответствующей секции».
z Конечно, и самый характер детского и юношеского творче-
ства, и методы его стимулирования далеко не всюду одинаковы.
Один из методических путей — система музыкального воспита-
ния Карла Орфа (в ряде общих .положений она близка тому,
что предлагалось Б. Яворским и Б. Асафьевым), система, полу-
чившая в последние десятилетия широкое распространение в ряде
стран. На конференции ИСМЕ ее характеристике был посвящен
яркий и вместе с тем лаконичный доклад заместителя директора
Орфовского института В. Келлера (Австрия). Среди прочего он
упомянул о недавно изданном в Чехословакии чешском варианте
«Шульверка Орфа»1 и продемонстрировал музыкальный мате-
риал из этого сборника. Нет нужды останавливаться на этом
выступлении: в полном виде методические принципы В. Келлера
изложены в его «Введении» к «Шульверку Орфа», опубликован-
ном недавно в переводе на русский язык.1 2
На конференции шла речь и о других практических системах
музыкального воспитания, которые могут быть объединены общей
чертой: использованием в работе — то в большей, то в меньшей
степени — творческой импровизации. В основе наиболее инте-
ресных и ценных систем (при всем их различии) лежит широкий
общий принцип, о котором была речь и в моем докладе: методика
формирования и стимулирования музыкального творчества на
любом уровне развития ребенка или отрока должна опираться
на две диалектически взаимосвязанные и одновременно прово-
димые установки; одна из них — усвоение каких-то норм, типов
творчества, музыкальных структур и их вариантов, другая —
1 См. Ceska Orffova skola (I, II), Supraphon, Praha, 1970.
2 См. упоминавшийся уже сб. «Система детского музыкального воспита-
ния Карла Орфа».
331
организация обстановки для преодоления инерции и пассивности,
для творческих неожиданностей.
Но далеко не все предлагавшиеся на конференции принципы
и методы заслуживают одобрения. Я имею в виду две наметив-
шиеся в отдельных докладах тенденции: для одной характерно
то, что музыкальная импровизация и музыкальное сочинитель-
ство и рассматривается как педагогически неуправляемые про-
цессы, протекающие «совершенно свободно», «спонтанно»; для
другой, связанной с электронной музыкой, типично полное или
почти полное исключение непосредственной импровизации.
Первая из этих тенденций — не нова: речь идет о детском
или юношеском «свободном самовыражении» — без всякой его
организации- со стороны учителя, без всяких поползновений опе-
реть воображение ученика на знания и опыт, без всяких попы-
ток ввести фантазию с помощью тех или иных ограничений
(как это важно!) в определенное русло.1 Но эти идеи являются,
как мне представляется, вчерашним днем даже для педагогики
многих капиталистических стран. Советская же педагогика
всегда полагала, что любое, в том числе музыкально-творческое
воспитание, требует целеустремленного руководства, всегда
заявляла о своем несогласии со сторонниками «свободной педа-
гогики», позицию которых я еще в начале тридцатых годов изло-
жил в следующей иронической формуле: «созерцай, изучай,
выявляй, но не влияй и не изменяй»!1 2
Что же касается второй тенденции, то датский педагог Бент
Лорентцен, поборник электронной музыки, ратовал, как и некото-
рые американские докладчики, за детское и юношеское твор-
чество при помощи магнитофона. В чем же оно заключается? По
его мнению, на первых стадиях — в простейшем использовании
микрофона. С помощью несложных средств дети научаются вос-
производить различные звуковые эффекты, скажем «иллюзию
звука скачущей лошади, водопада или огня», а затем трансфор-
мировать звук путем изменения скорости воспроизведения
(«... можно сделать свой голос похожим на писк мыши или рев
льва»), С учениками старшего возраста Лорентцен предлагает
1 В частности, это получило отражение в показанном на конференции ка-
надском кинофильме, посвященном эстетическому воспитанию детей. Фильм
этот пленительно красочен — разнообразие цвета, различные формы, звуки
разных тембров. Но все это почти безо всякой внутренней организации. Ре-
бенка к ней и не приучают. Ему как бы говорят: свободно вбирай этот бес-
порядочный красочный мир и... пусть разовьется твое воображение!
2 Впрочем, следовало бы указать, что отдельные педагоги упрощают эту
проблему и метафизически противопоставляют обучение-воспитание, с одной
стороны, и внутренние закономерности развития, с другой («или» — «или»).
Тут я полностью присоединяюсь к словам Л. Занкова: «Признание ведущей
роли воспитания в развитии ребенка отнюдь не означает игнорирования
внутренних закономерностей развития. К сожалению, соотношение внешних
и внутренних источников развития почти совсем не изучено. Исследование
этих соотношений является одной из важнейших задач» (Л. В. 3 анков,
Дидактика и жизнь. М., 1968, с. 16).
332
заниматься другими видами творческой работы: монтажом ленты
с помощью ножниц и клея, наложением друг на друга нескольких
записей, созданием звуковых коллажей, обратными записями
и т. п. Вывод датского музыканта весьма характерен: «Впервые
преподавание музыки получило возможность начать по-настоя-
щему творческое обучение... При работе с магнитофонной лентой
нет непреодолимых препятствий в виде промежуточных техниче-
ских этапов, здесь возможно прямое обращение со звуком без
использования партитуры, каждый может работать столько,
сколько он хочет и может, обходясь без посторонней помощи».
Конечно, сами по себе манипуляции со звуком могут развить
сноровку ребят в области техники, их сообразительность, какие-то
стороны их тембрового воображения, умение подобрать звуковую
иллюстрацию. И в этом смысле — принести им пользу. Но я
позволю себе усомниться, является ли такое творчество — музы-
кальным творчеством и такое воспитание — музыкально-эстети-
ческим воспитанием, то есть формированием душевного и интел-
лектуального мира детей с помощью музыки. А претенциозность,
с какой все это излагается (оказывается, мол, что электроника
позволила «впервые... начать по-настоящему творческое музы-
кальное обучение»!), способна лишь повергнуть в недоумение.
Все то, о чем я написал, не дает, конечно, полного представле-
ния об основных тенденциях музыкальной педагогики XX века:
ведь я был ограничен материалами последней конференции
ИСМЕ. Если же ненадолго выйти за эти рамки, то к числу харак-
тернейших тенденций следовало бы отнести, по крайней мере,
еще три: во-первых, применение средств современной техники
в музыкально-педагогической работе; во-вторых, программиро-
ванное музыкальное обучение, которое было бы обращено не
только к логике самой музыки, но и к логике усвоения музыкаль-
ного материала, то есть к психологии его изучения; в-третьих,
давний вопрос, с новой силой заявивший о себе в наши дни, —
использование достижений смежных наук, прежде всего общей
педагогики, психологии и психофизиологии (а в иных случаях
и точных наук), в построении музыкального воспитания и обу-
чения.
Что касается последнего из этих вопросов, то я имею в виду
умное и тактичное обращение к другим наукам, а не механиче-
ское приспособление подвернувшихся под руку «научных све-
дений» к нашей области. Слова видного американского педагога
А. Бриттена, которые привела в своем интересном докладе Ф. Кэй-
лор (США), попадают в точку: «Многие американские препода-
ватели продемонстрировали то, что можно назвать легкой готов-
ностью примкнуть к интеллектуальному движению, которое слу-
чайно оказалось по соседству, и не испытывать ни малейшего
сомнения в том, что оно приведет к желаемой цели». Это
333
дилетантское поветрие угрожает не только американским педа-
гогам. Нельзя перегибать палку и забывать, что специфика
каждого вида обучения определяется в значительной степени и
тем, чему учат, а следовательно, в нашем случае — самой му-
зыкой. К тому же отдельные исследователи любят «переодева-
ние»: обряжая старое и известное в новый терминологический
наряд, они готовы в самом новом обличье видеть чуть ли не
спасение от всех педагогических трудностей и бед. Как тут не
вспомнить основоположника кибернетики Норберта Винера,
предостерегавшего против попыток облачать «нечетко очерчен-
ные понятия», которыми так свободно оперирует наш мозг
(в чем его «главное преимущество» перед машинами!), в стро-
гие формулы точных наук.1
И еще одно замечание. Предыдущая VIII конференция ИСМЕ
была посвящена применению новых технических средств в музы-
кальной педагогике. На Московской же конференции не шла
речь об этих вопросах. Впрочем, точнее было бы сказать почти
не шла речь, так как отдельные участники, например, Коралько
Кос (Югославия) и Альберт Чаттерлей (Великобритания), посвя-
тили свои выступления использованию в музыкальном воспита-
нии радио и телевидения. Вопросы, поднятые в этих докладах,
находятся на стыке музыкальной социологии и педагогики
и в большей степени принадлежат к первой из этих дисциплин.
Вот почему я их не поставил, по возможности сосредоточившись
только на музыкально-педагогических проблемах.
Каков общий итог конференции? Пусть в тексте статьи в пря-
мой форме об этом не сказано, но хочу надеяться, читатель
поймет ее подтекст: исключительно интересные, пусть и противо-
речивые, материалы Московской конференции заставляют нас
и наших зарубежных коллег задуматься над многими кардиналь-
ными проблемами музыкального воспитания и вне сомнений ока-
жут благотворное воздействие на музыкально-педагогическую
теорию и практику.
Журнал «Советская музыка», 1971, № 8.
См. об этом: Н. Винер. Творец и робот. «Новый мир», 1965, № 12.
СОД Е РЖА Н И Е
Некоторые вопросы воспитания музыканта-исполнителя и систе-
ма Станиславского ........................................... 3
I. О психотехнических школах в театральной и музыкаль-
ной педагогике ........................................ 3
II. О связи между эстетическими принципами и педагоги-
ческими методами.......................................10
III. Об основных противоречиях исполнительской педаго-
гики ..................................................15
IV. О воспитании у исполнителя творческого начала . . 27
V. О воспитании творческого воображения/ творческого
внимания и эстрадного самочувствия..................32
Фортепианно-педагогические принципы Ф. М. Блуменфельда . 61
После конкурса..............................................133
Аппликатурные принципы А. Шнабеля...........................143
Рубинштейновские традиции и наша современность..............164
Артист и современность ...............................164
Личность артиста и его искусство......................166
«Музейный страж» или «соавтор»........................168
Рубинштейн-педагог..........................................171
О формировании личности молодого исполнителя................195
Еще раз о воспитании молодых исполнителей...................206
О «банальной истине»: исполнительское искусство — твор-
чество ...............................................206
Извечный спор о точности и вольности..................207
Об объективных знаниях................................209
О педагогическом «самопоказе».........................210
О самостоятельности...................................212
Размышления о музыкальной педагогике........................216
Вместо предисловия....................................216
Об одной азбучной истине..............................217
О сближении «композиторского» и «исполнительского» на-
чал в музыкальной педагогике..........................223
Об элементарном музыкальном комплексе.................229
О целенаправленности музыкального обучения .......... 237
О «спешащей педагогике»...............................240
О педагоге-догматике и о «сомневающемся» педагоге . . 245
О музыкально-педагогическом репертуаре................248
Вместо заключения: диалог о музыкально-педагогическом
образовании...........................................259
О бетховенской педализации..................................261
По страницам книг зарубежных артистов XX века...............273
Выдающиеся советские музыканты-просветители.................290
335
Об основных тенденциях музыкальной педагогики XX века (пос-
ле IX конференции ИСМЕ)................................ 303
О гармоничном развитии личности.....................304
О всеобщем музыкальном воспитании детей.............308
О сущности музыки ..................................310
О репертуаре........................................312
О воспитании музыкального слуха.....................326
О творческом музицировании..........................329
Баренбойм. Лев Аронович
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
Редактор В. В. Рубцова
Художник И. Ф. Третьякова
Худож. редактор Р. С. Волховер
Техн, редактор Л. А. Свидзинская
Корректор С. Н. Мурашева
Сдано в набор 30/VIII 1973 г. Подписано к печати 18/Ш 1974 г. М-28085.
Формат 60 X 90‘/ie- Бумага типогр. № 3. Печ. л. 21 (21). Уч.-изд. л. 22,55.
Тираж 10 000 экз. Изд. № 1701. Заказ № 1730. Цена 1 р. 63 к.
Издательство «Музыка», Ленинградское отделение. 191011, Ленинград,
Инженерная ул., 9
Ленинградская типография № 4 Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли, 196126, гор. Ленинград, Социалистическая, 14.