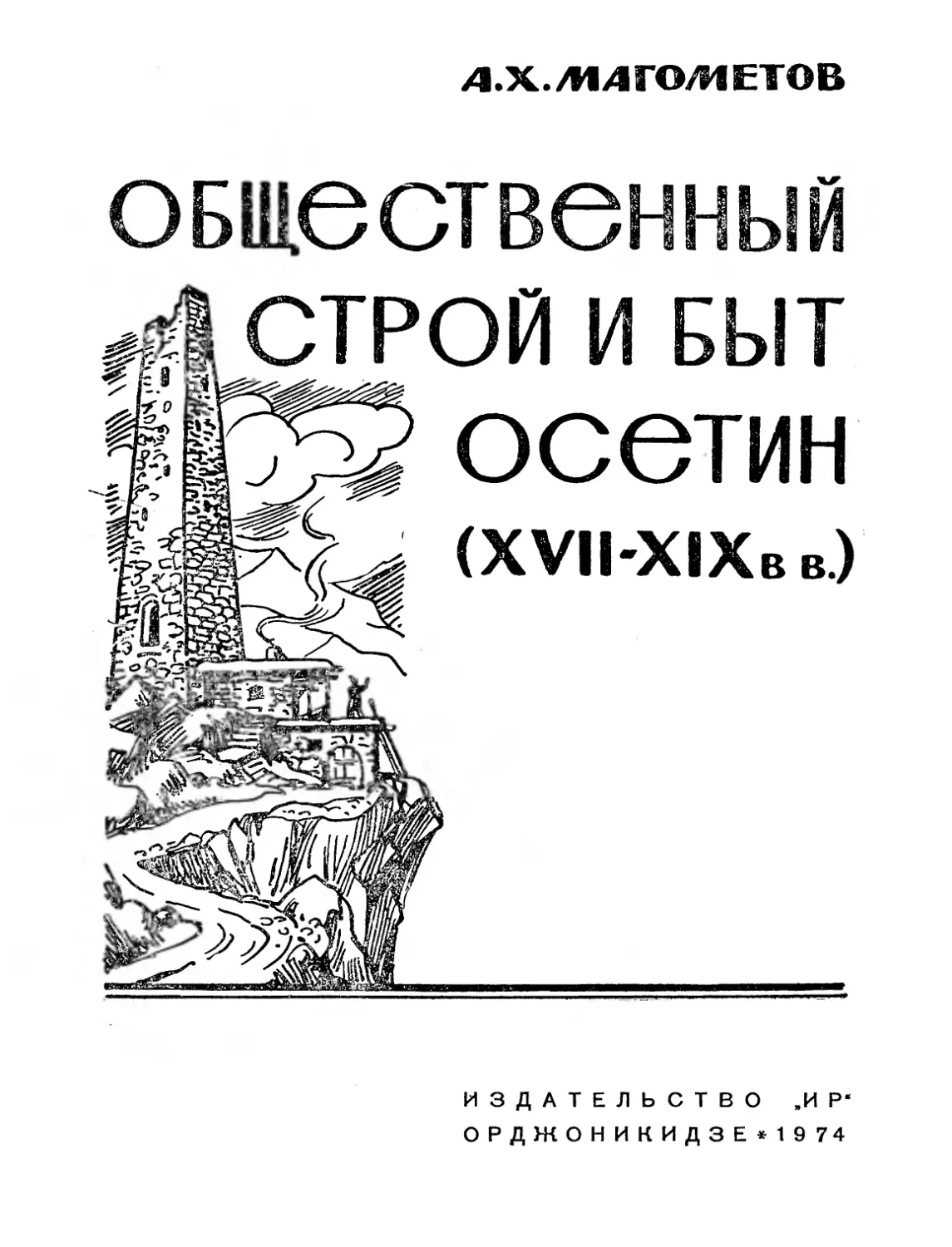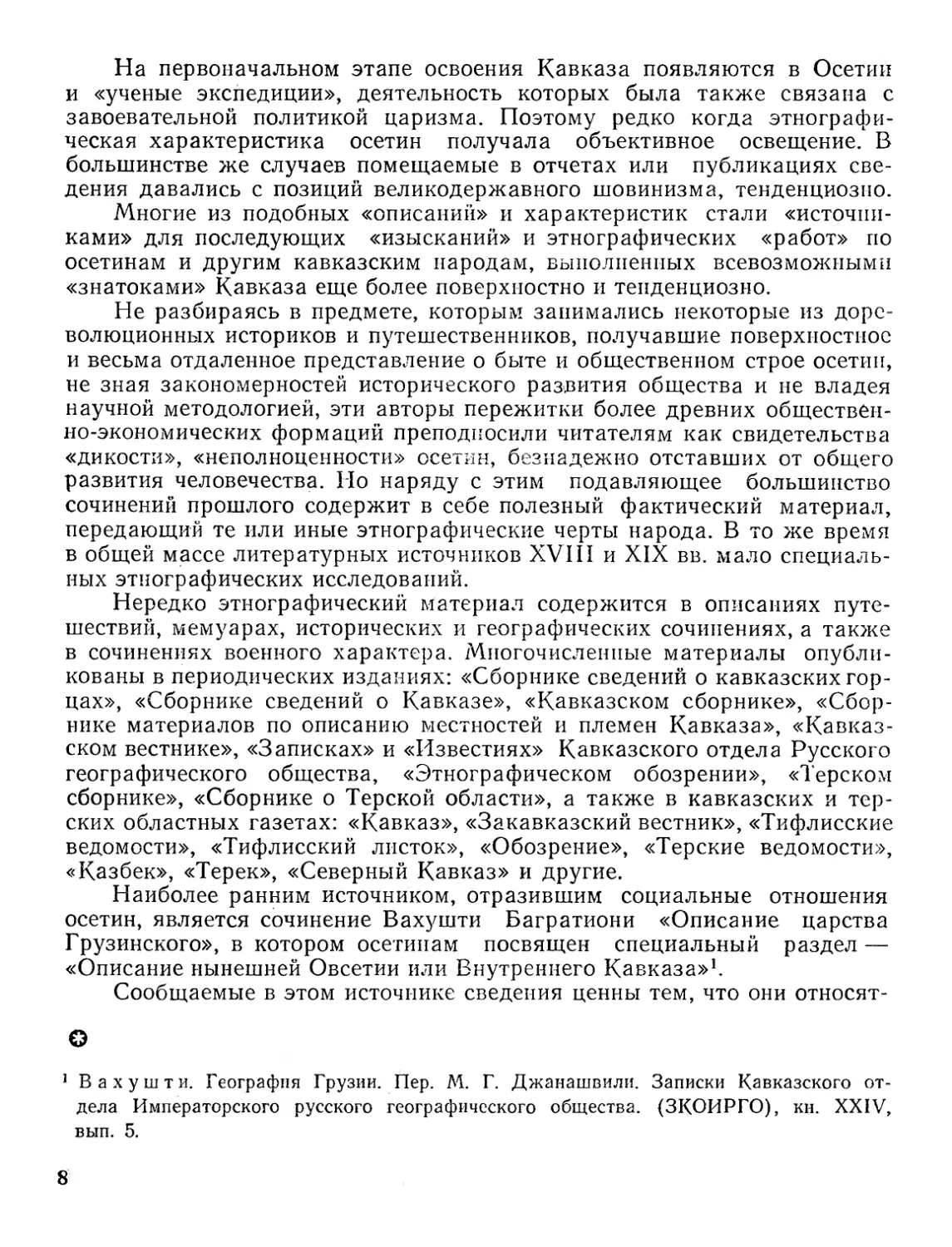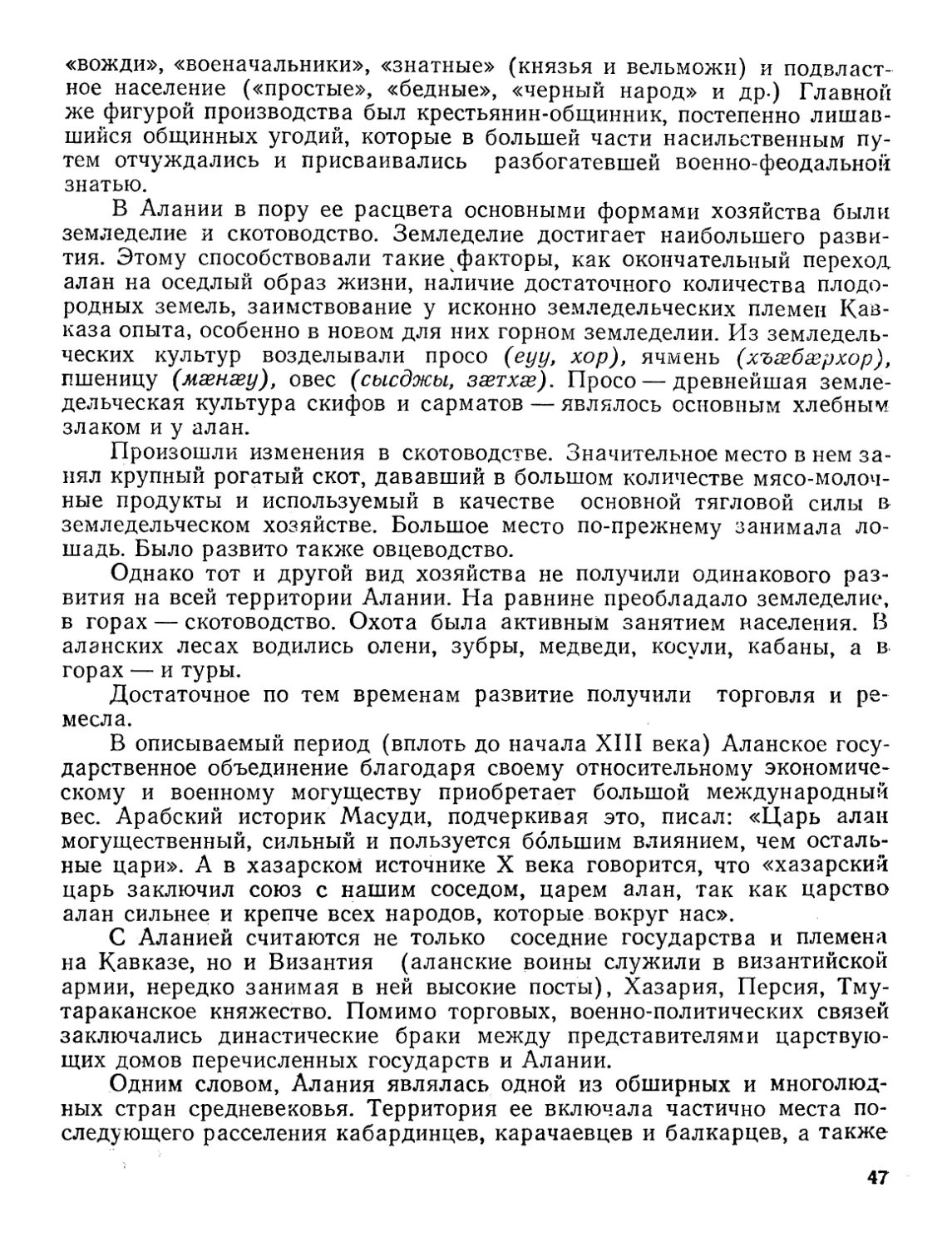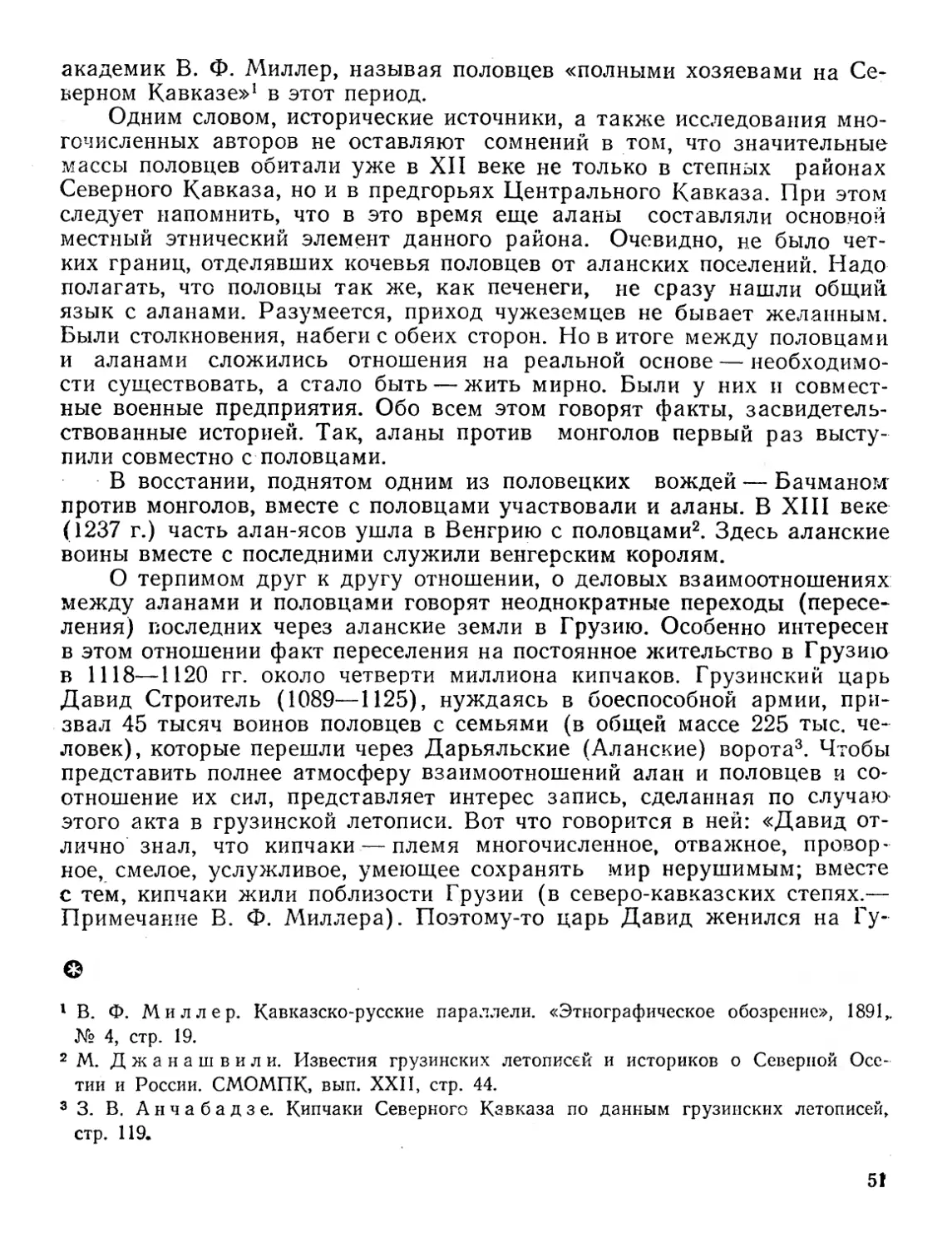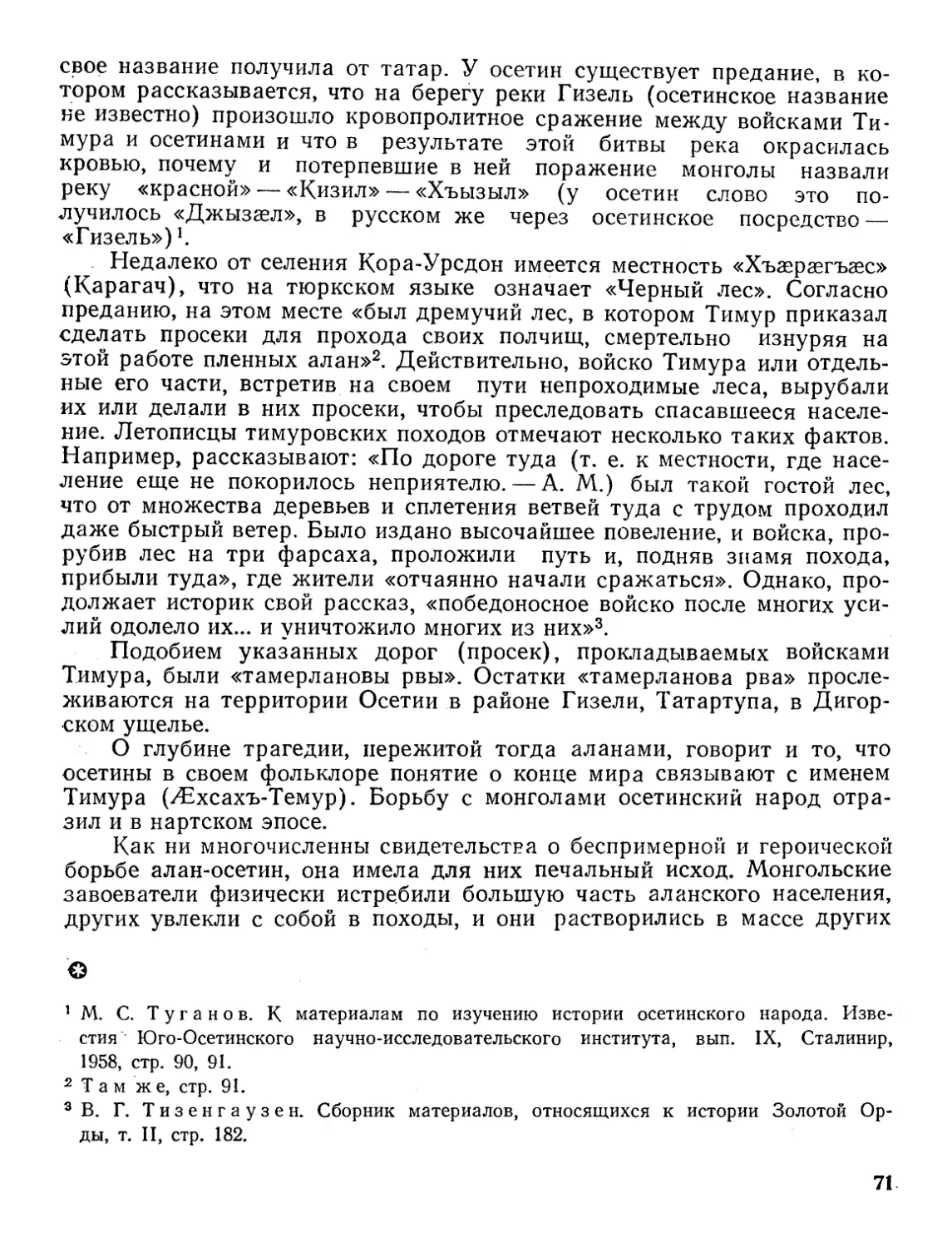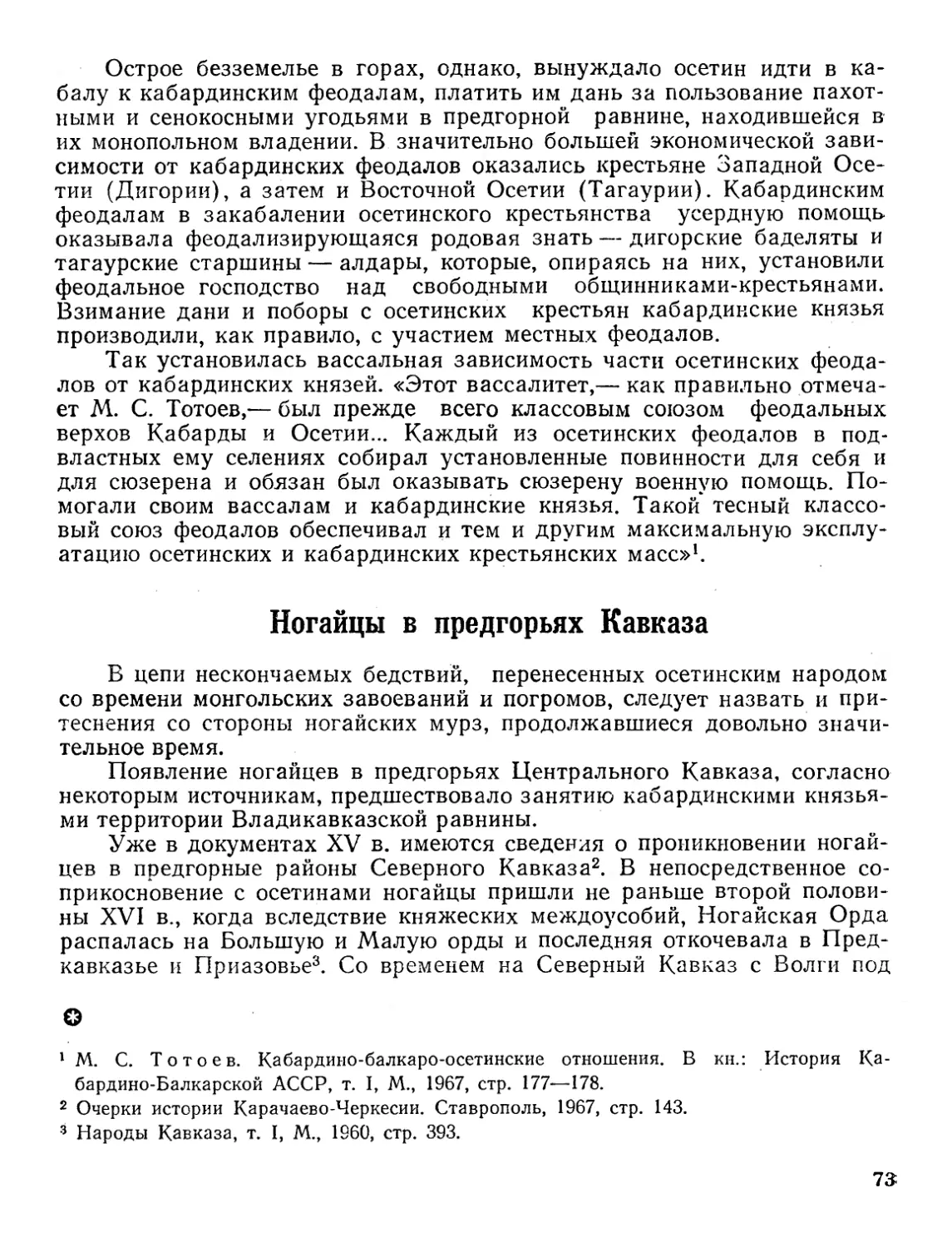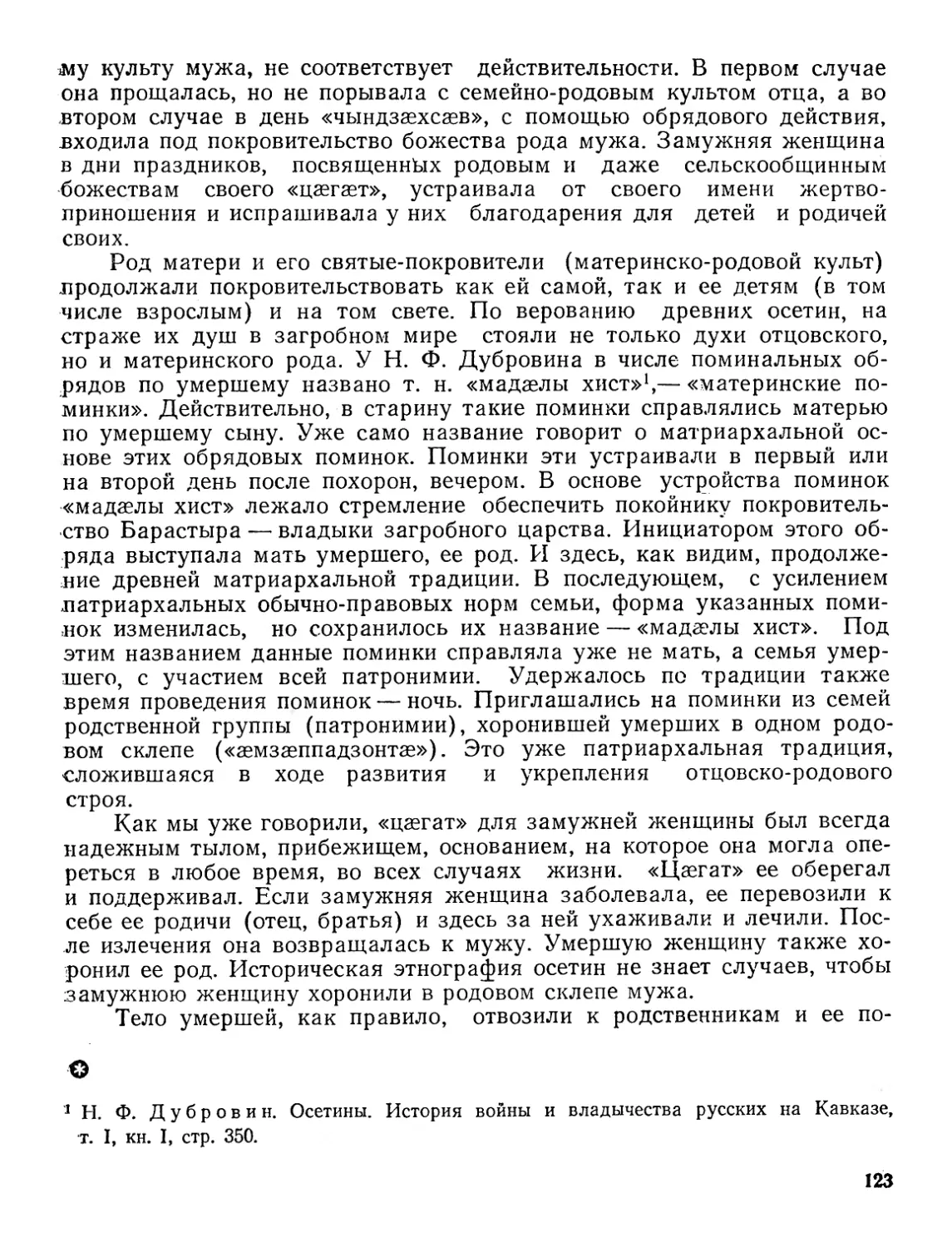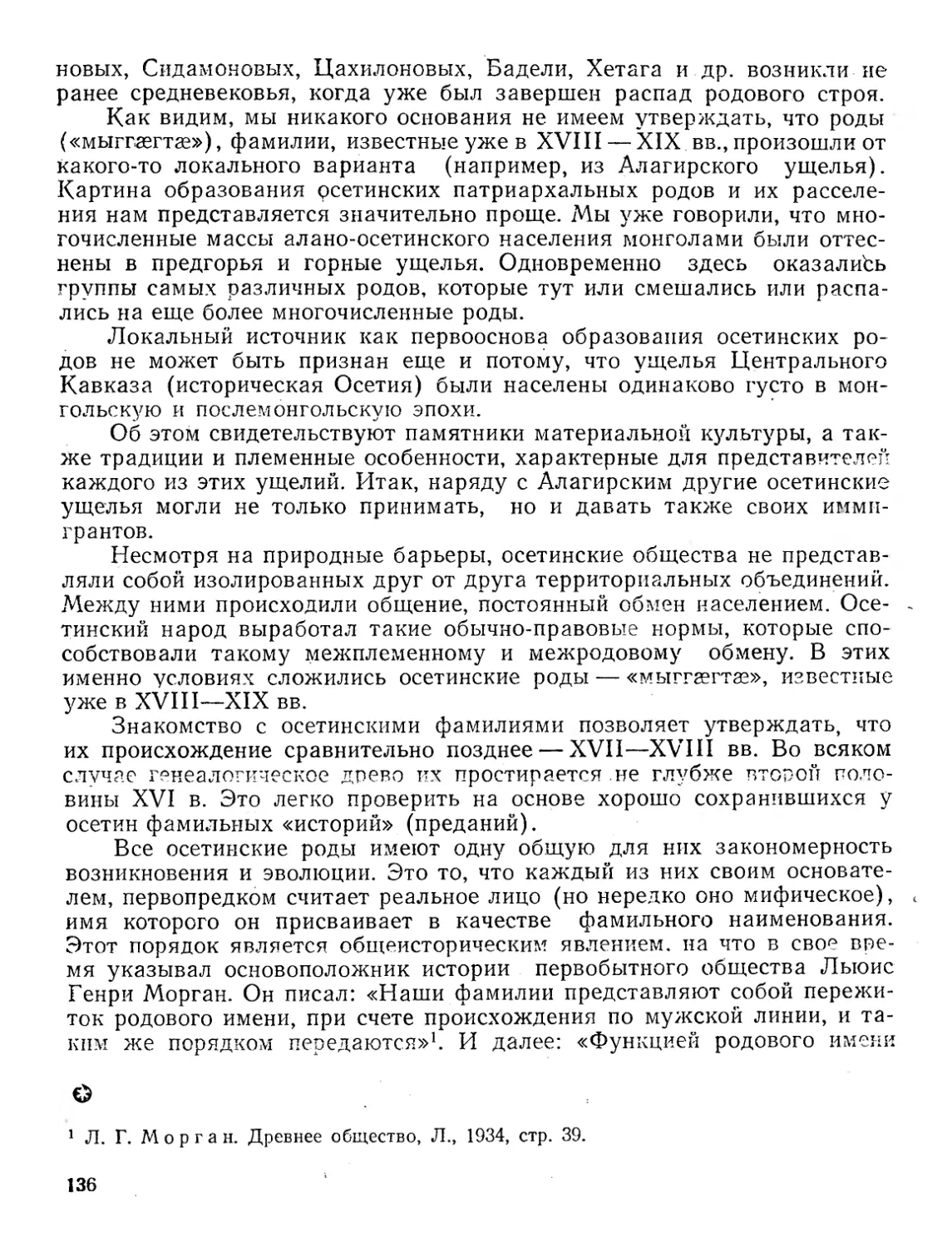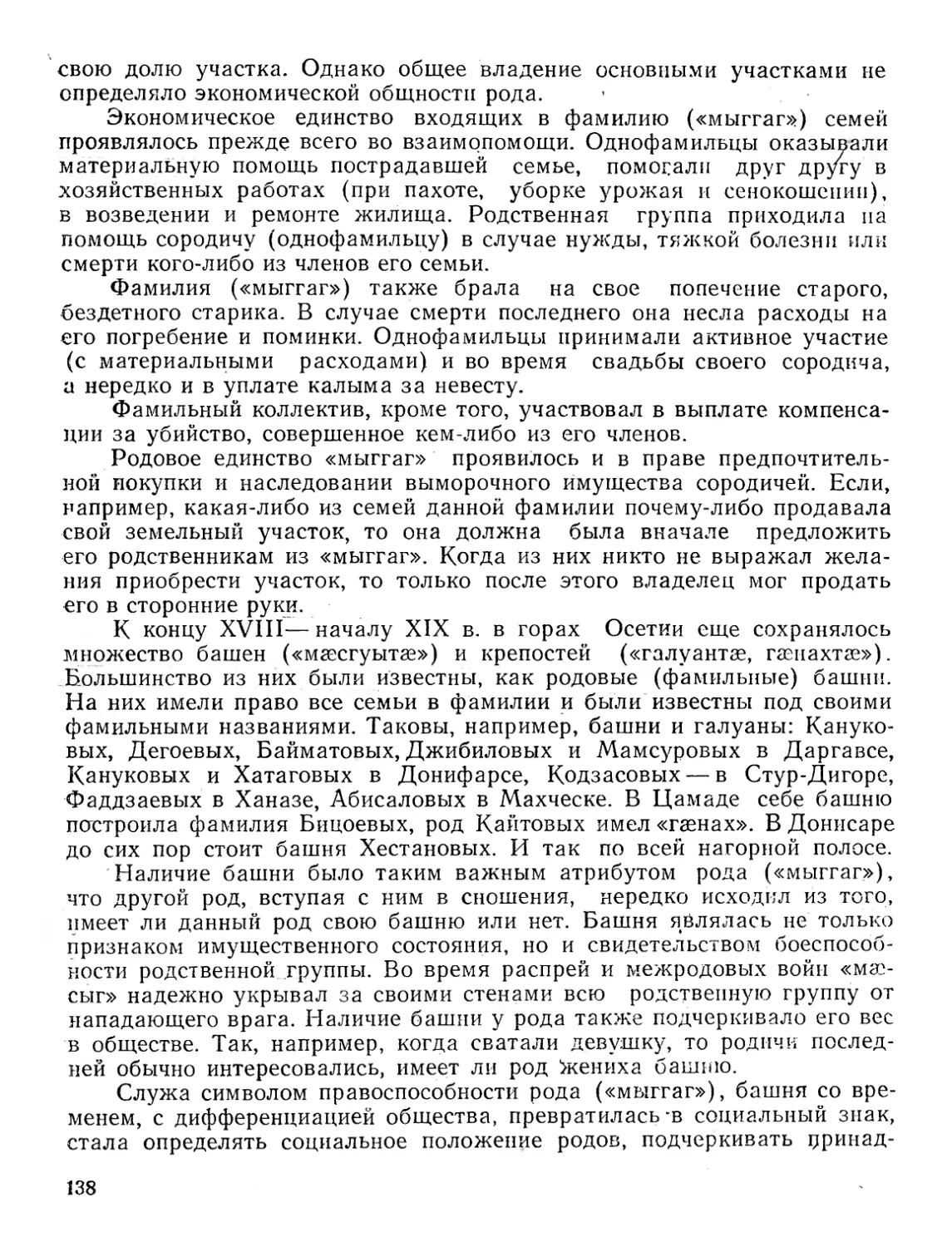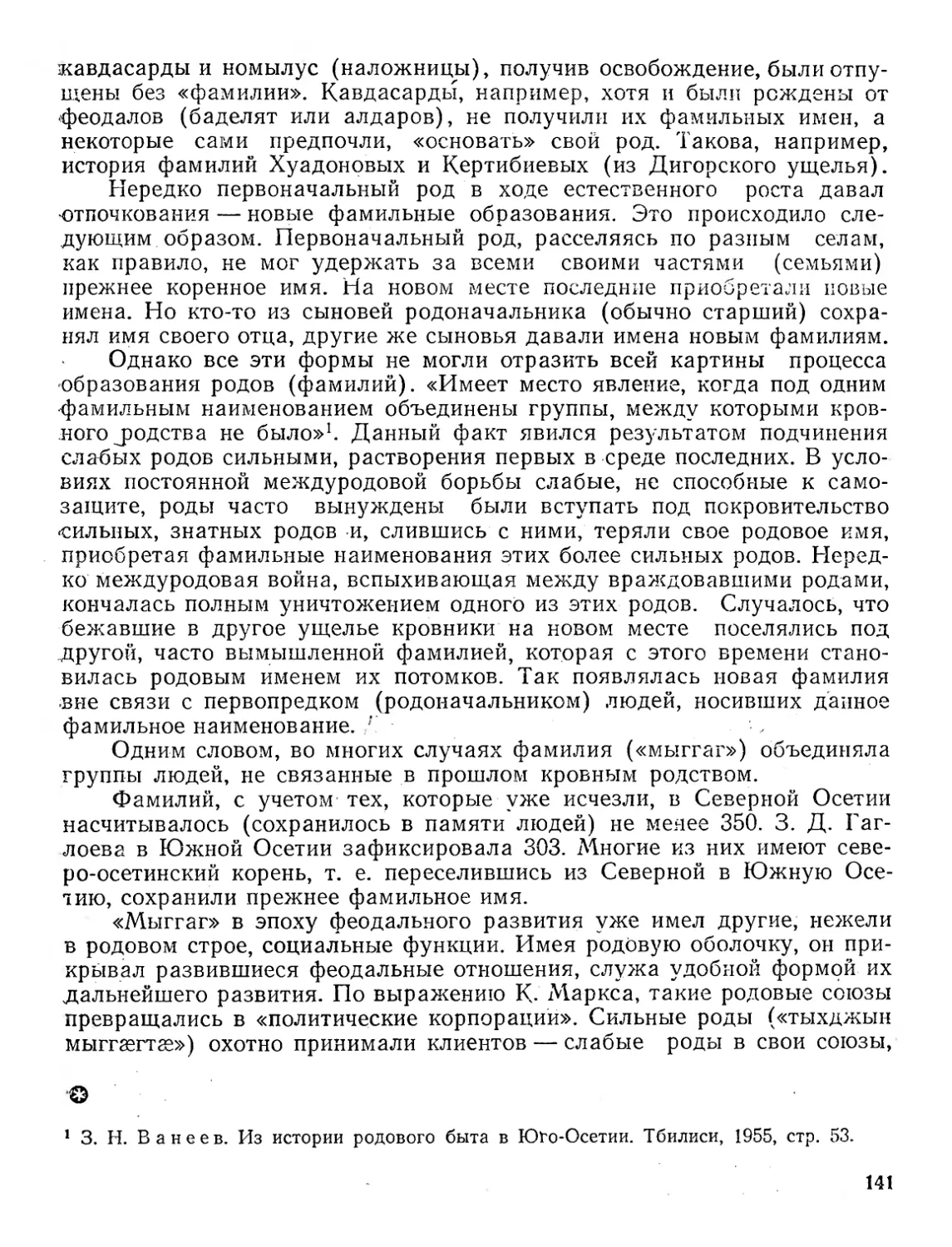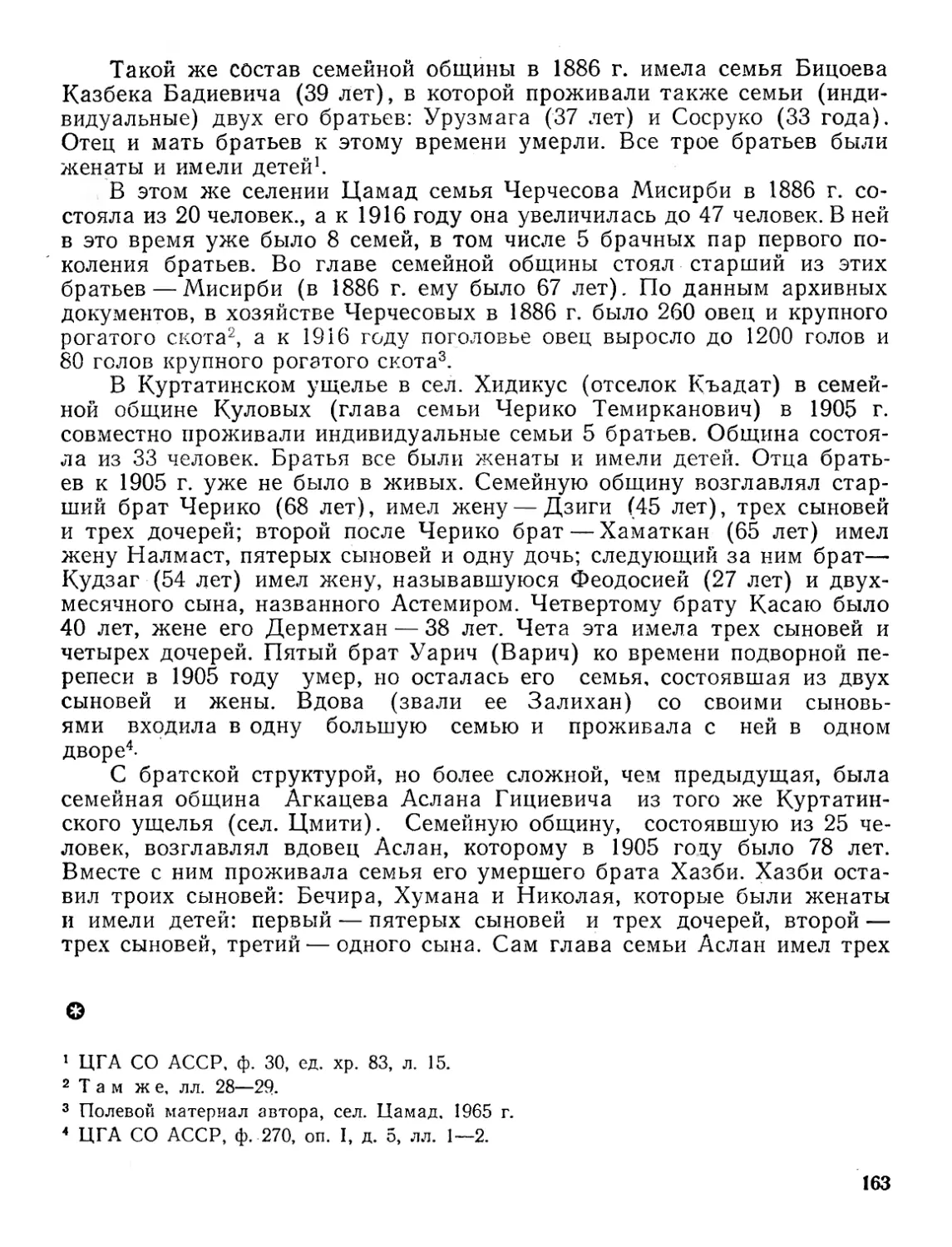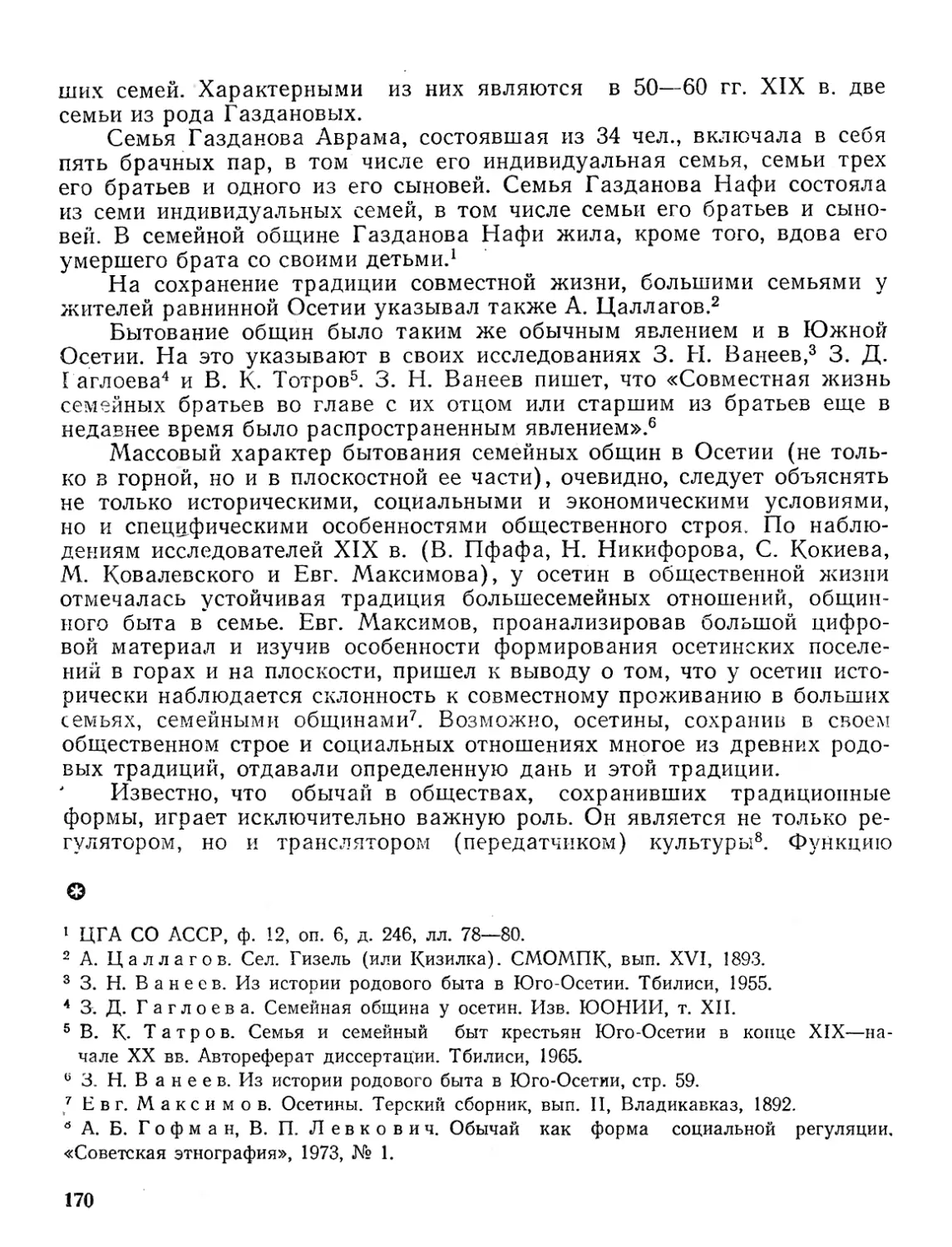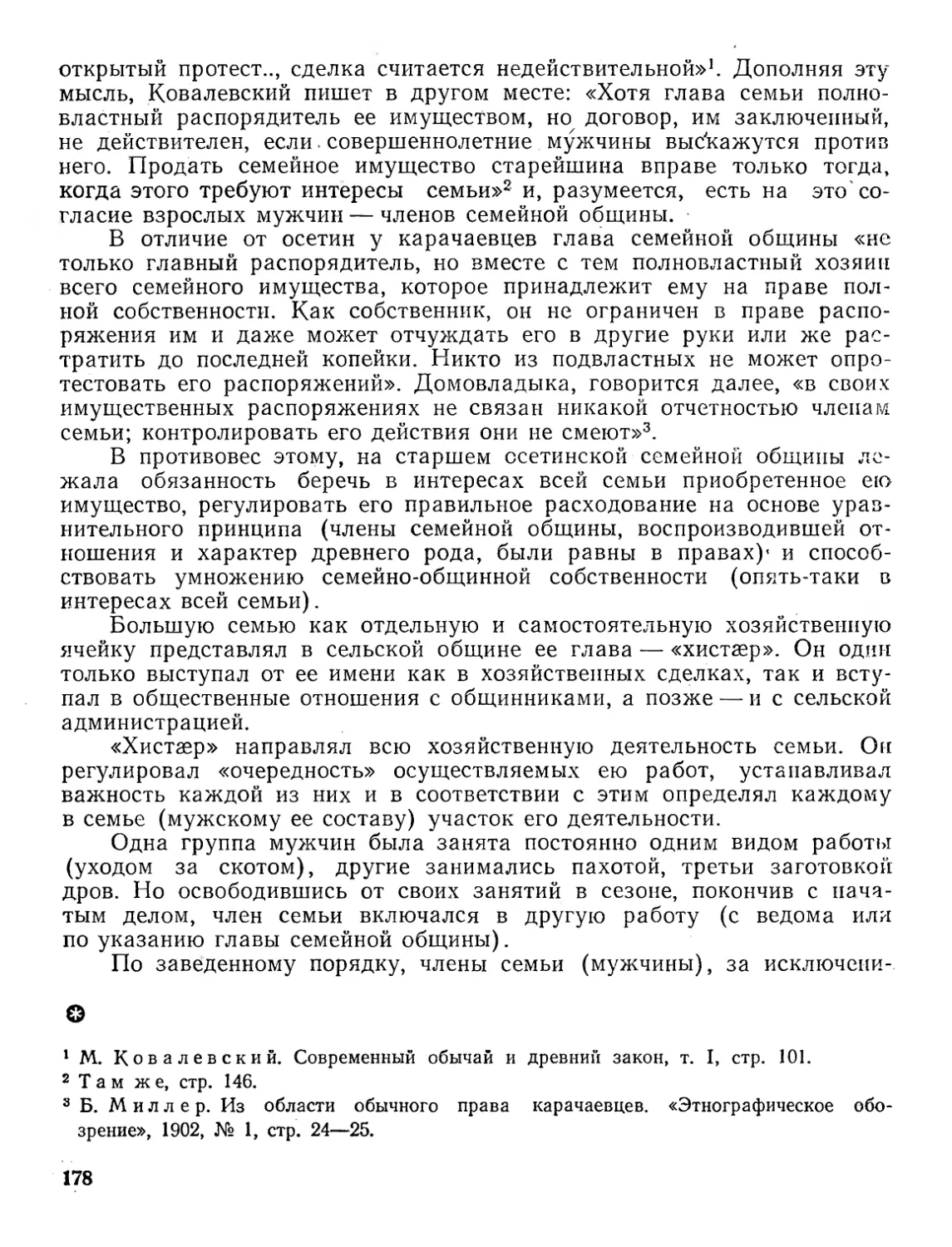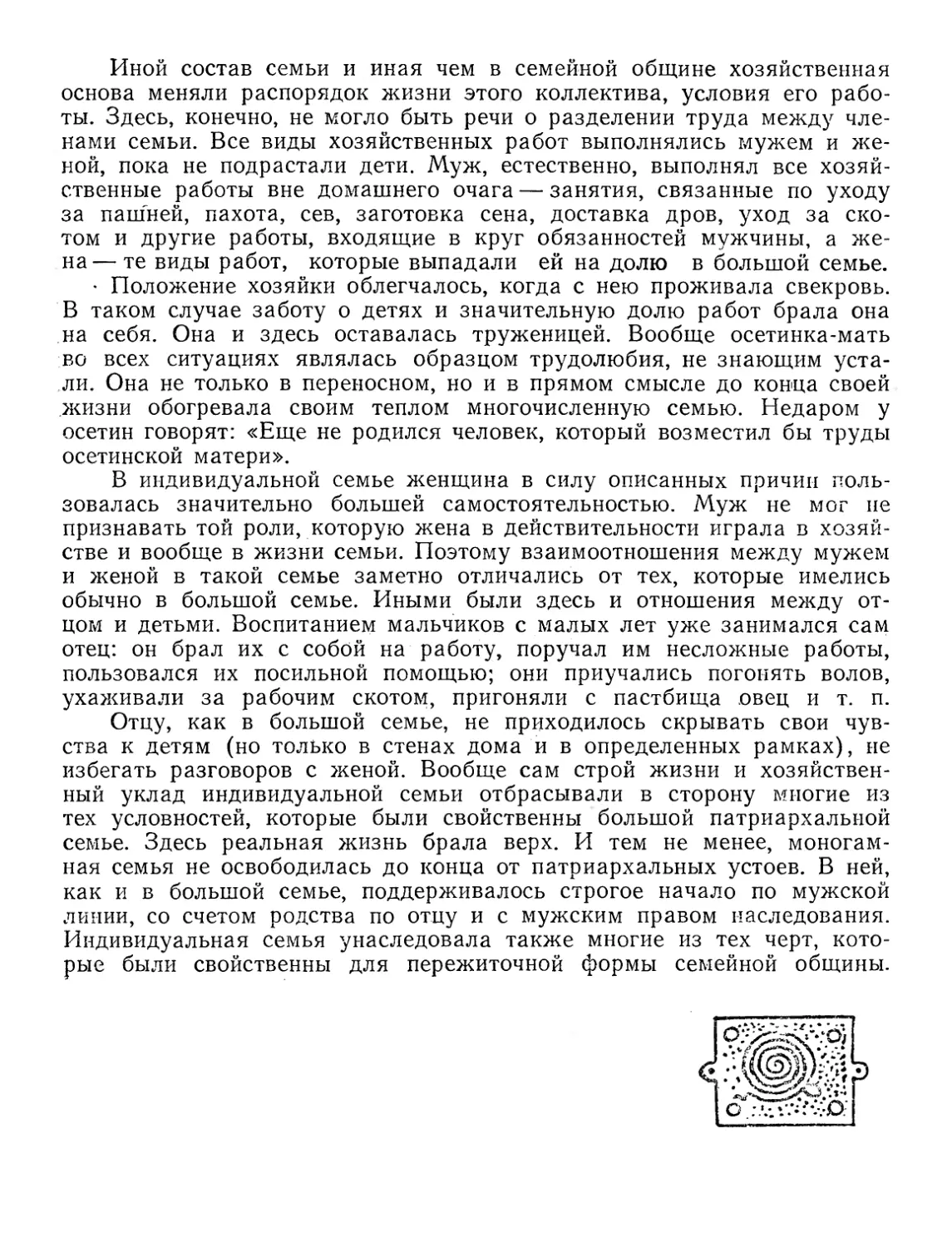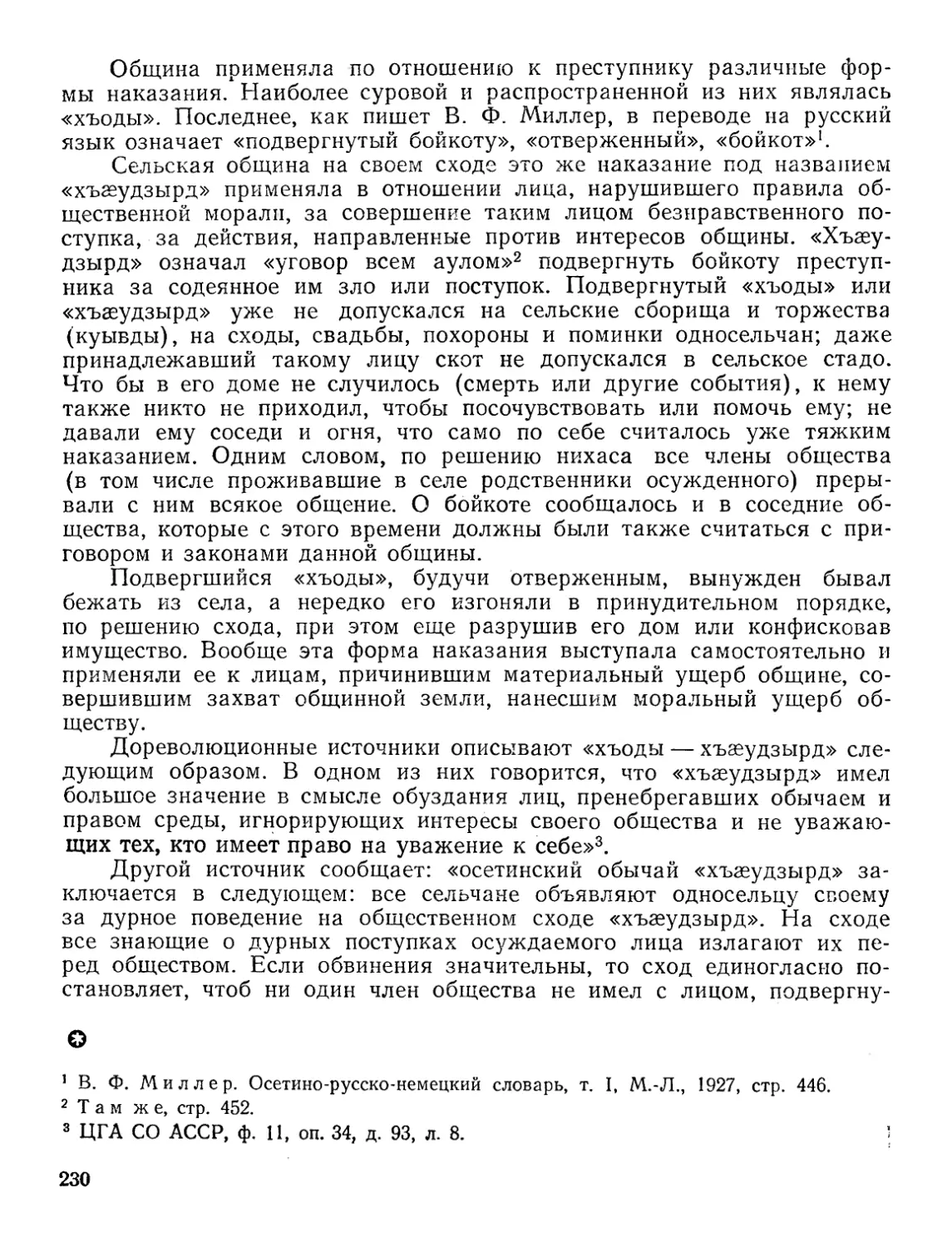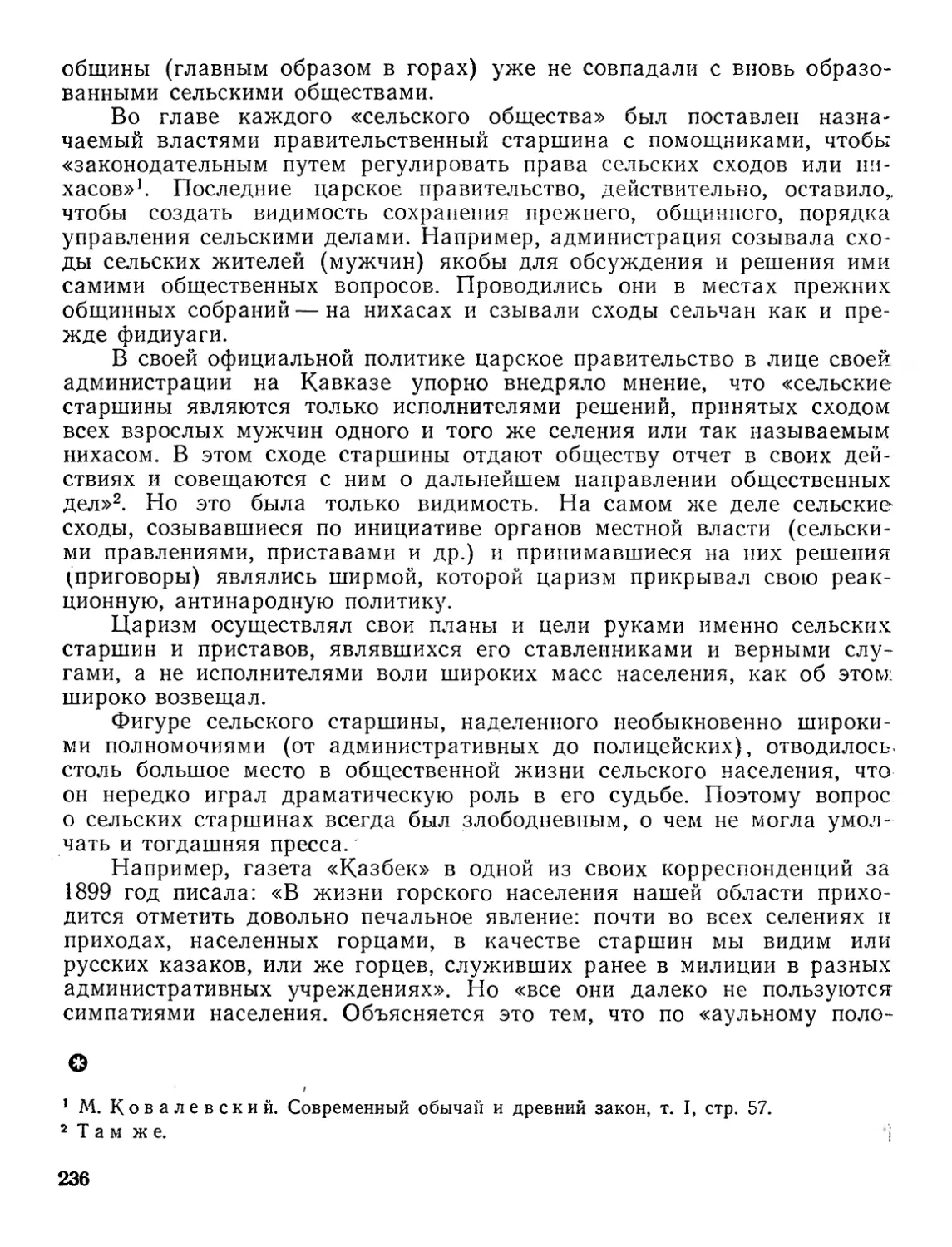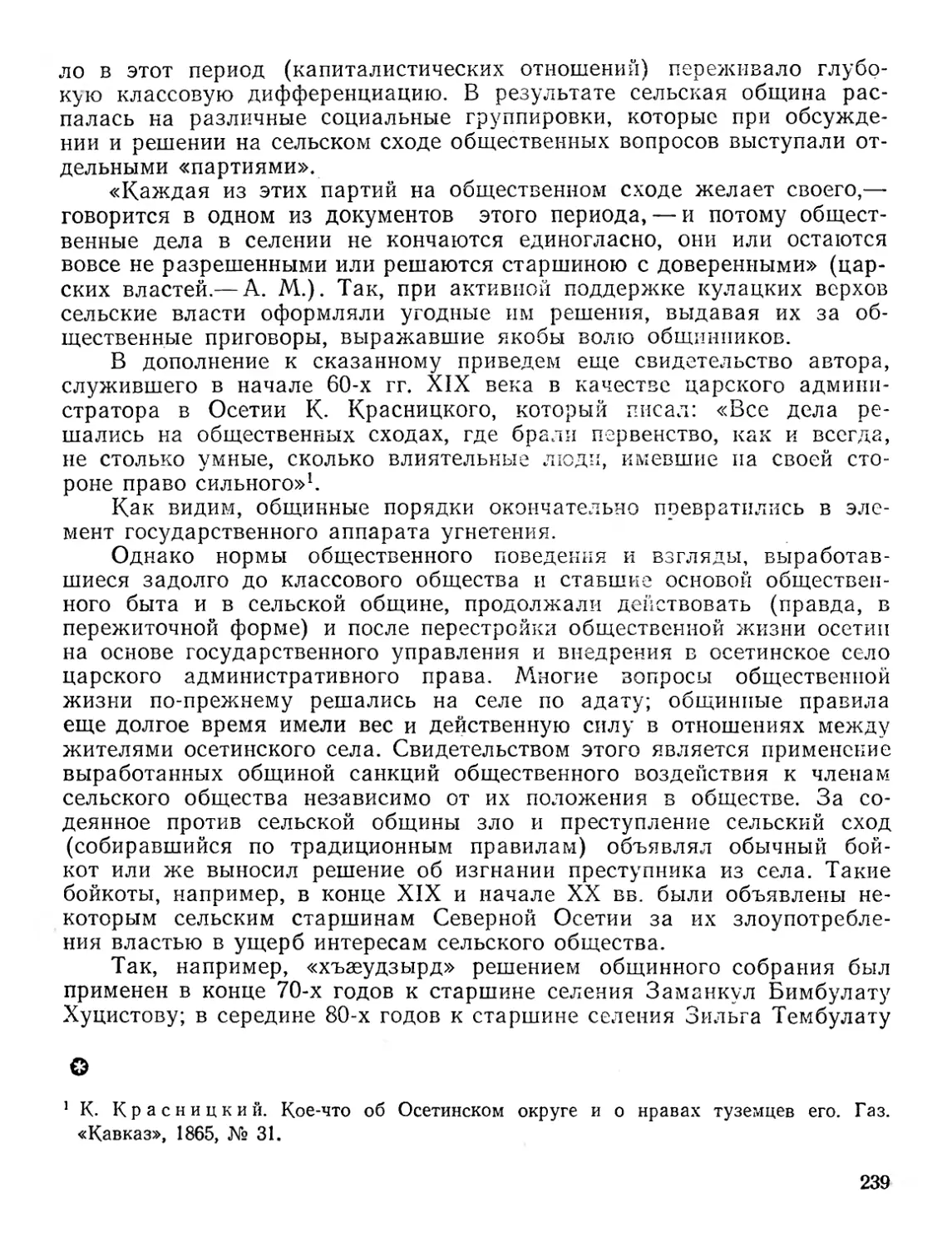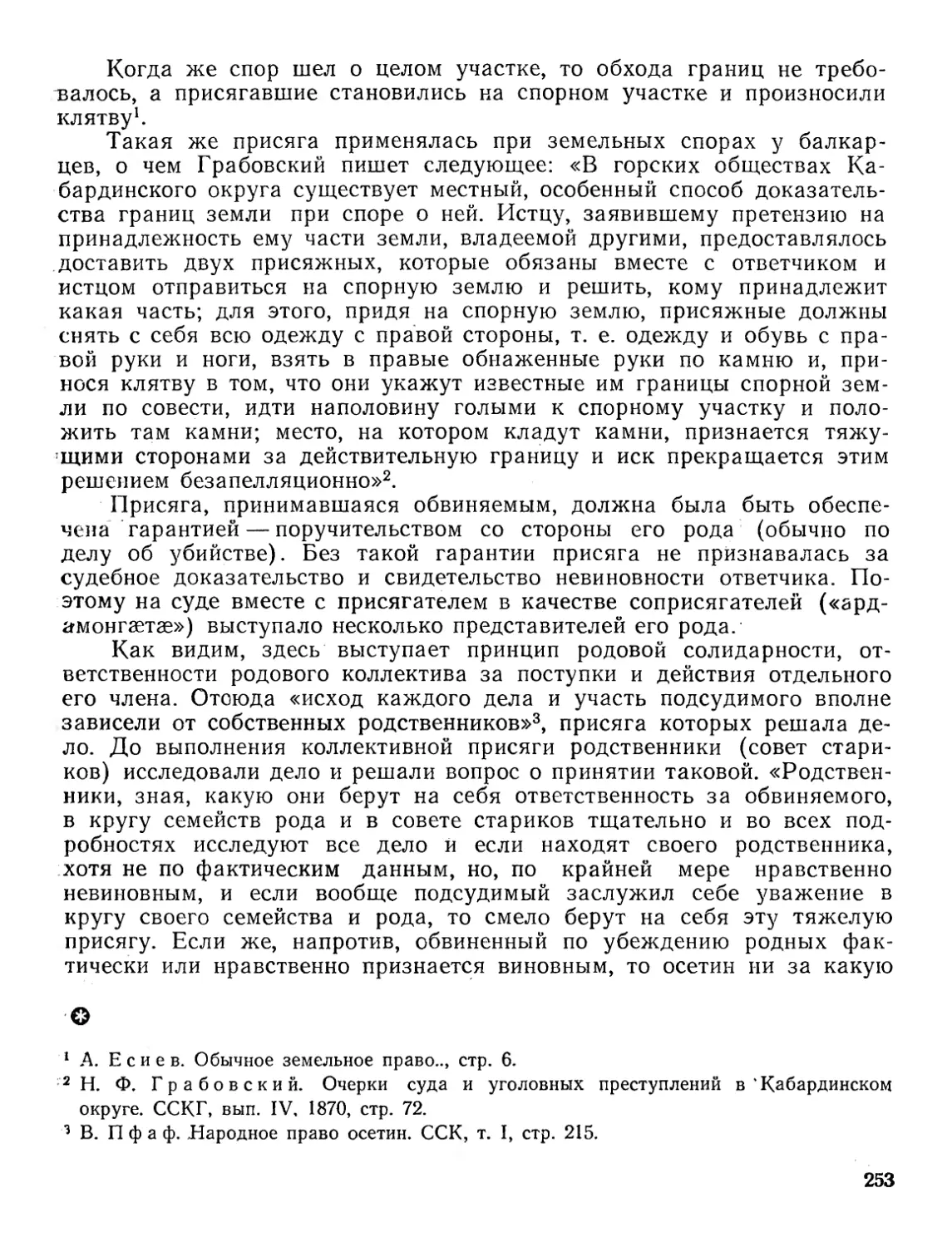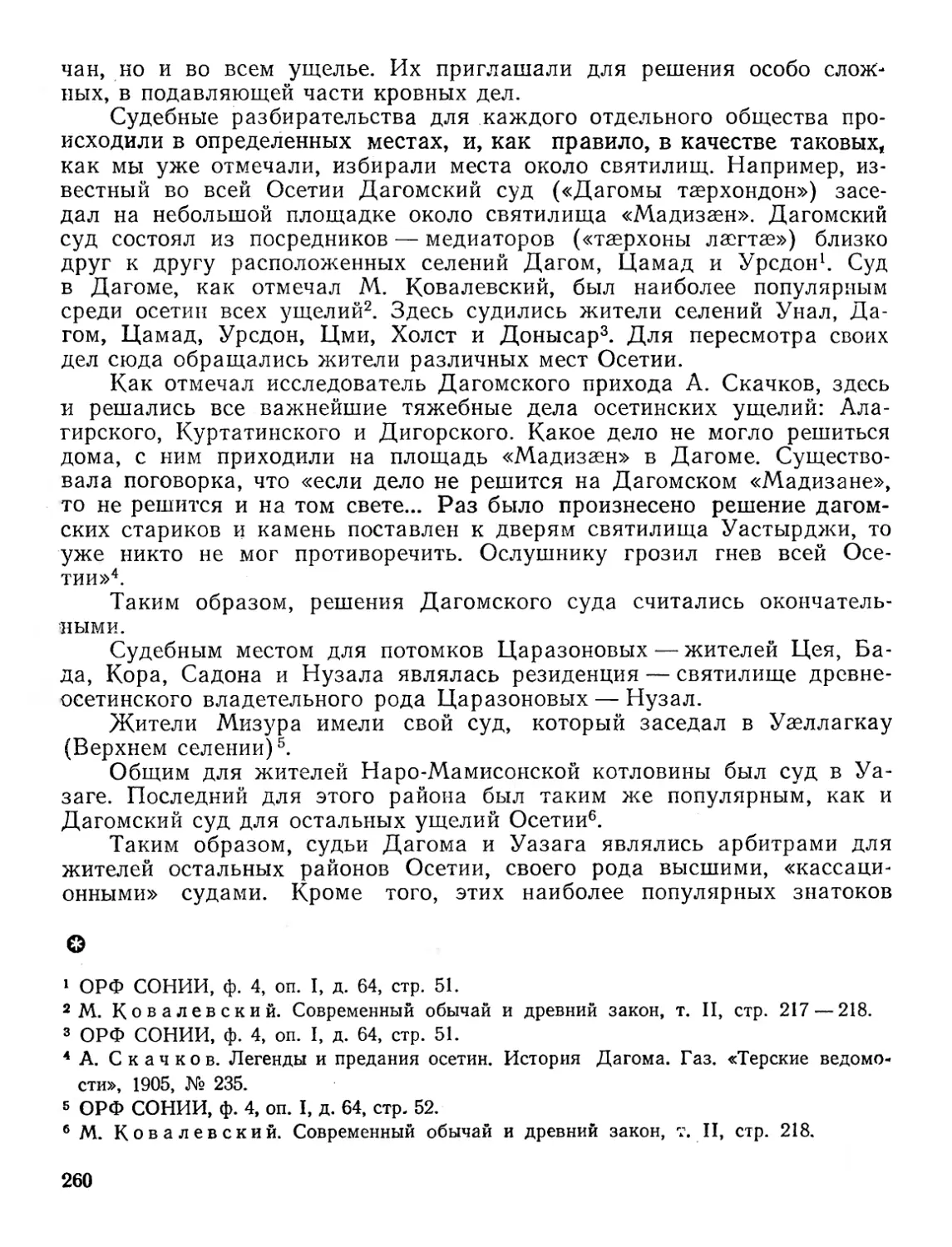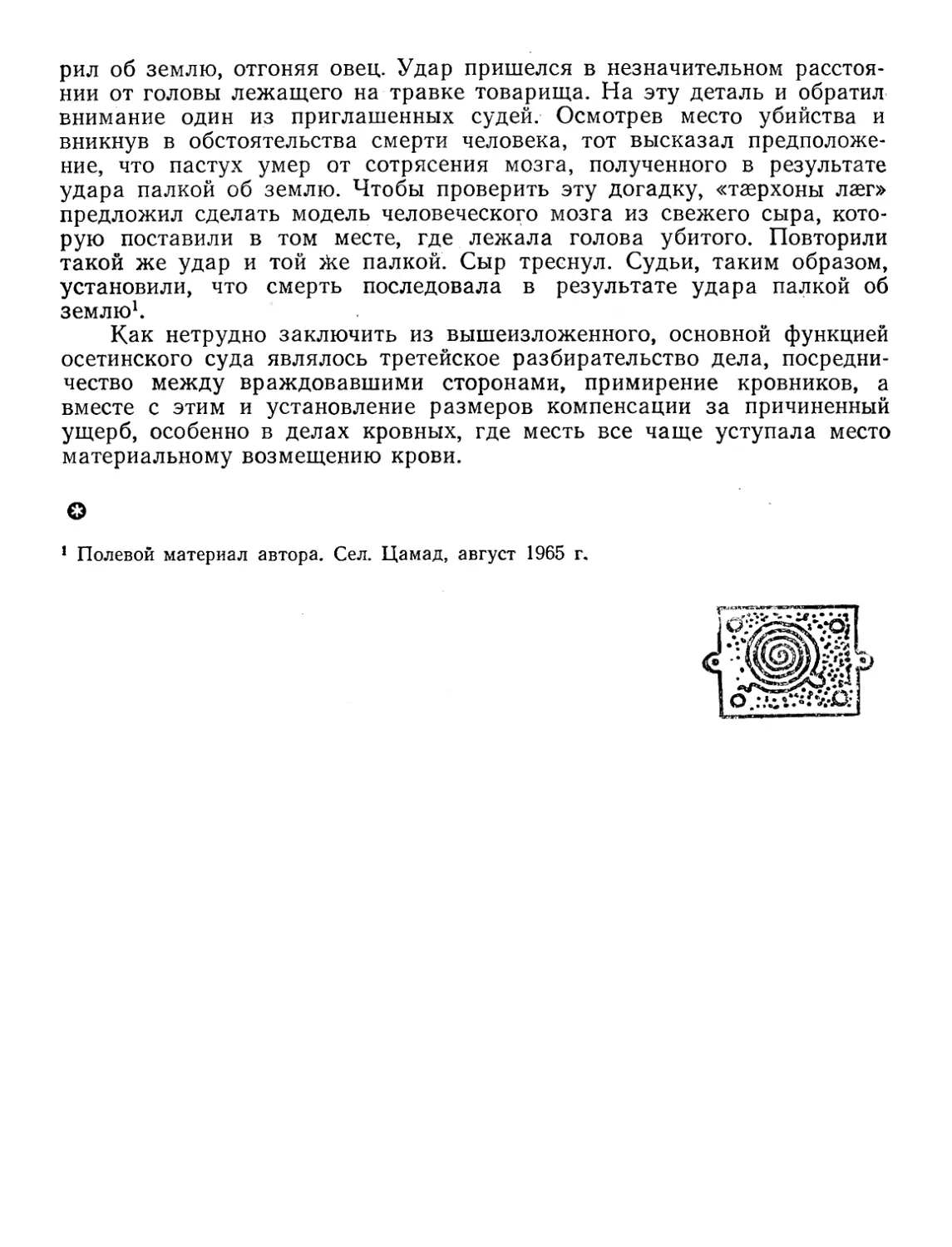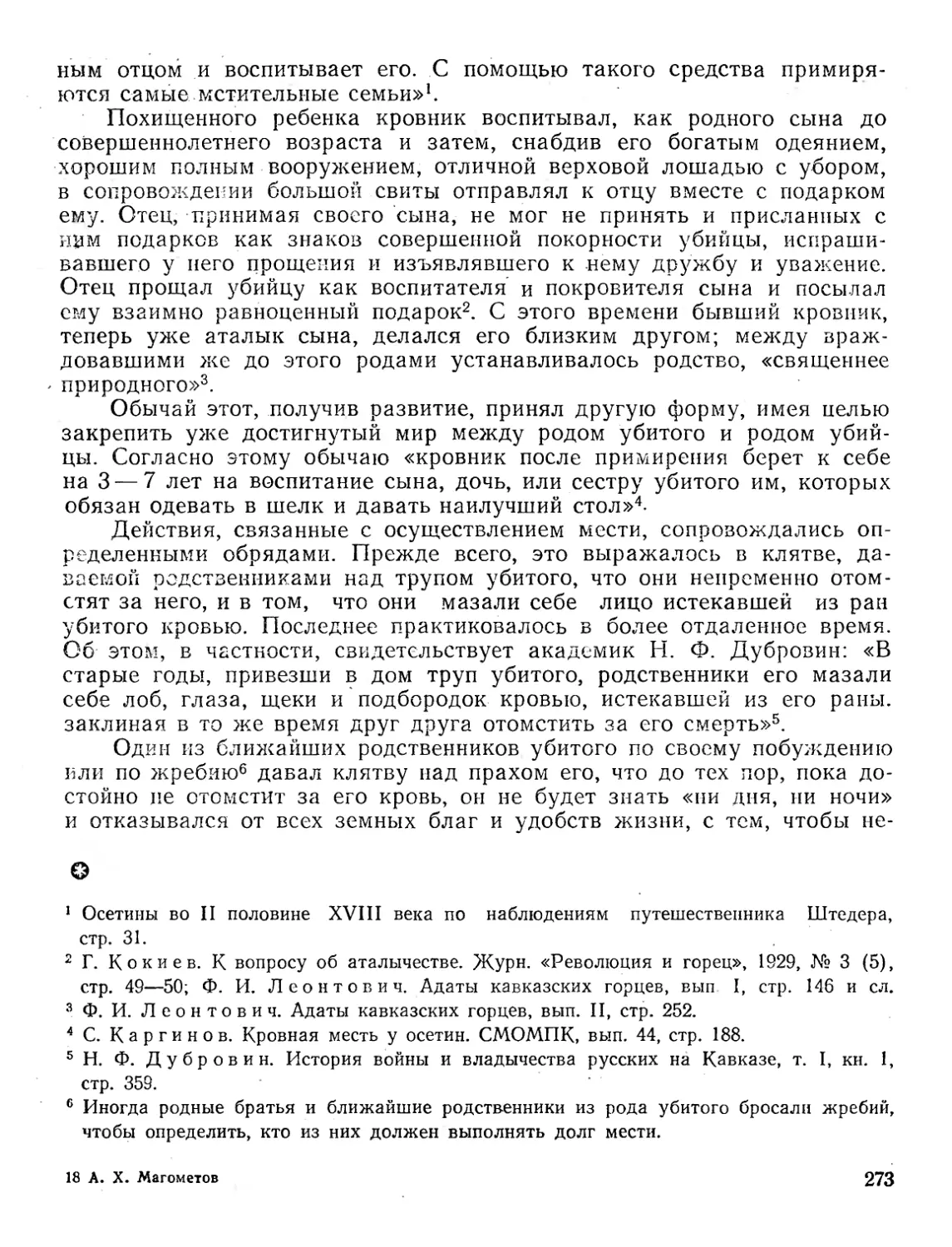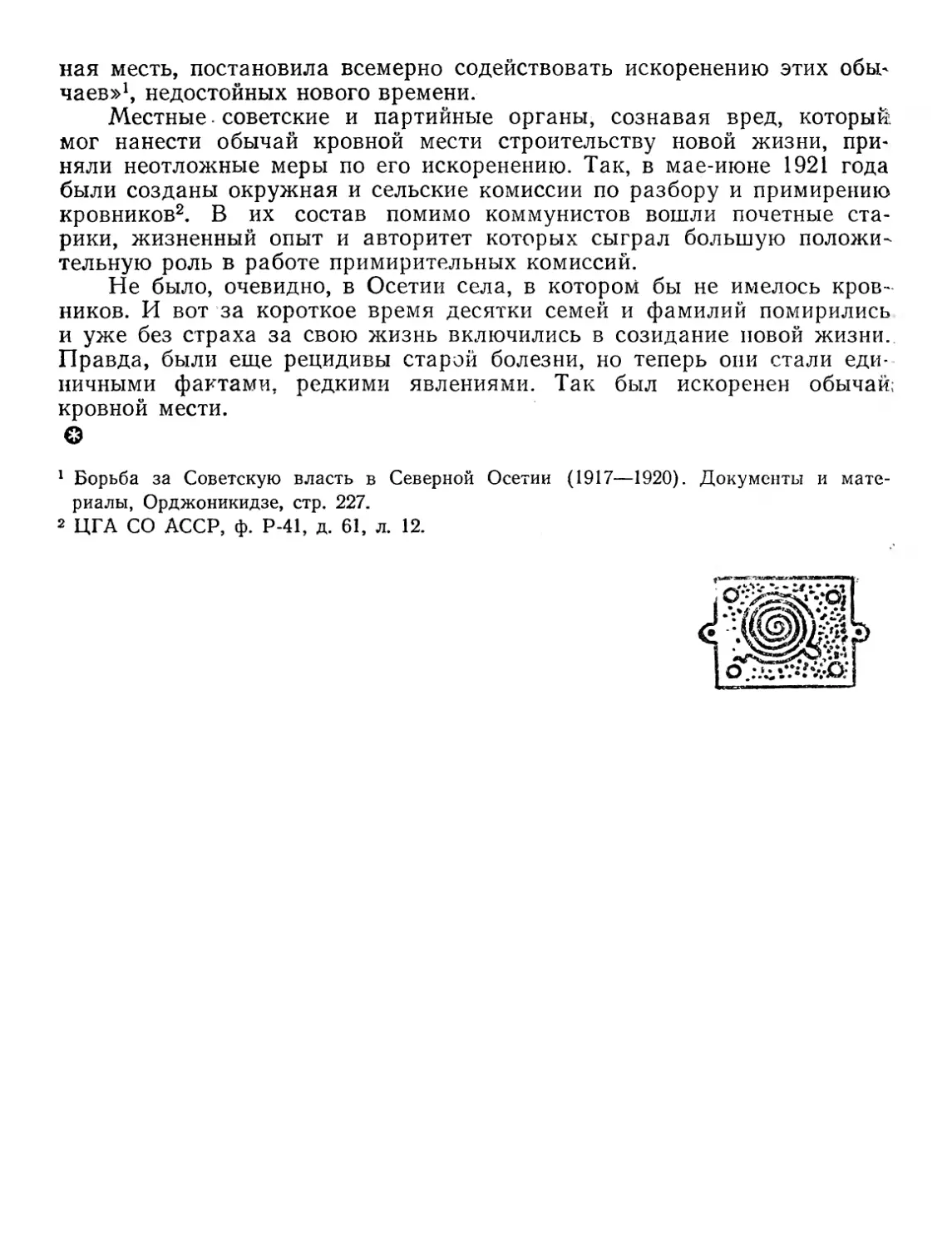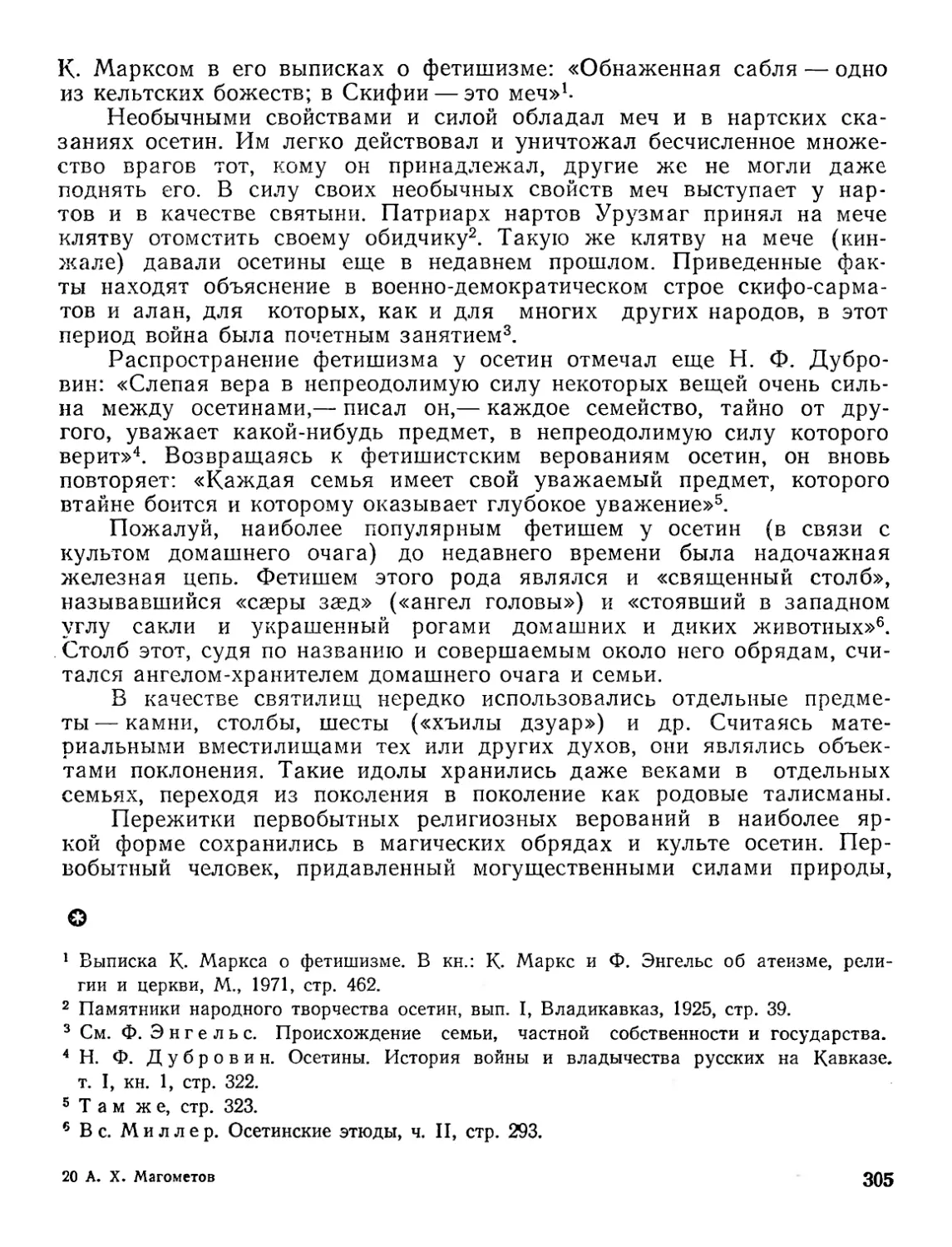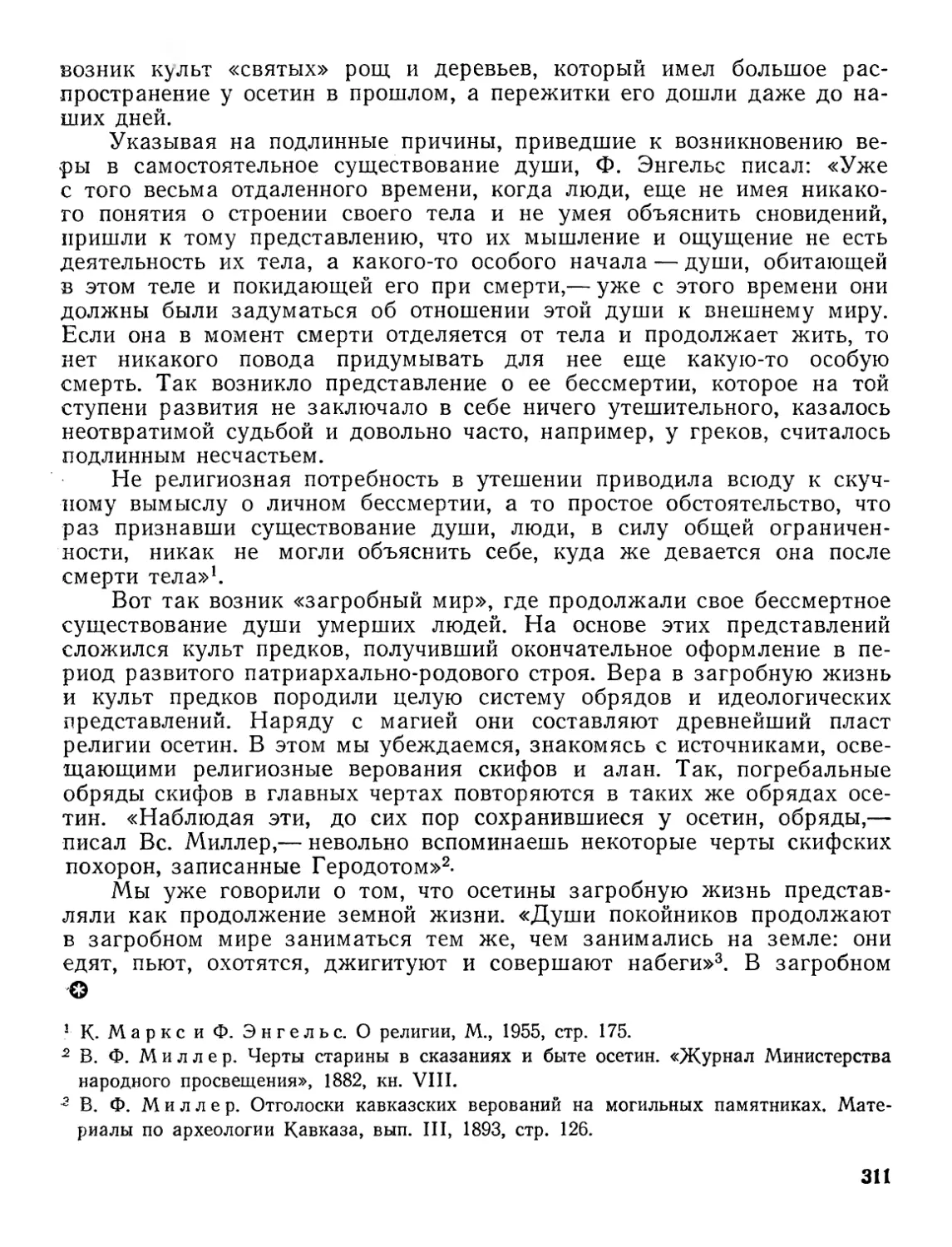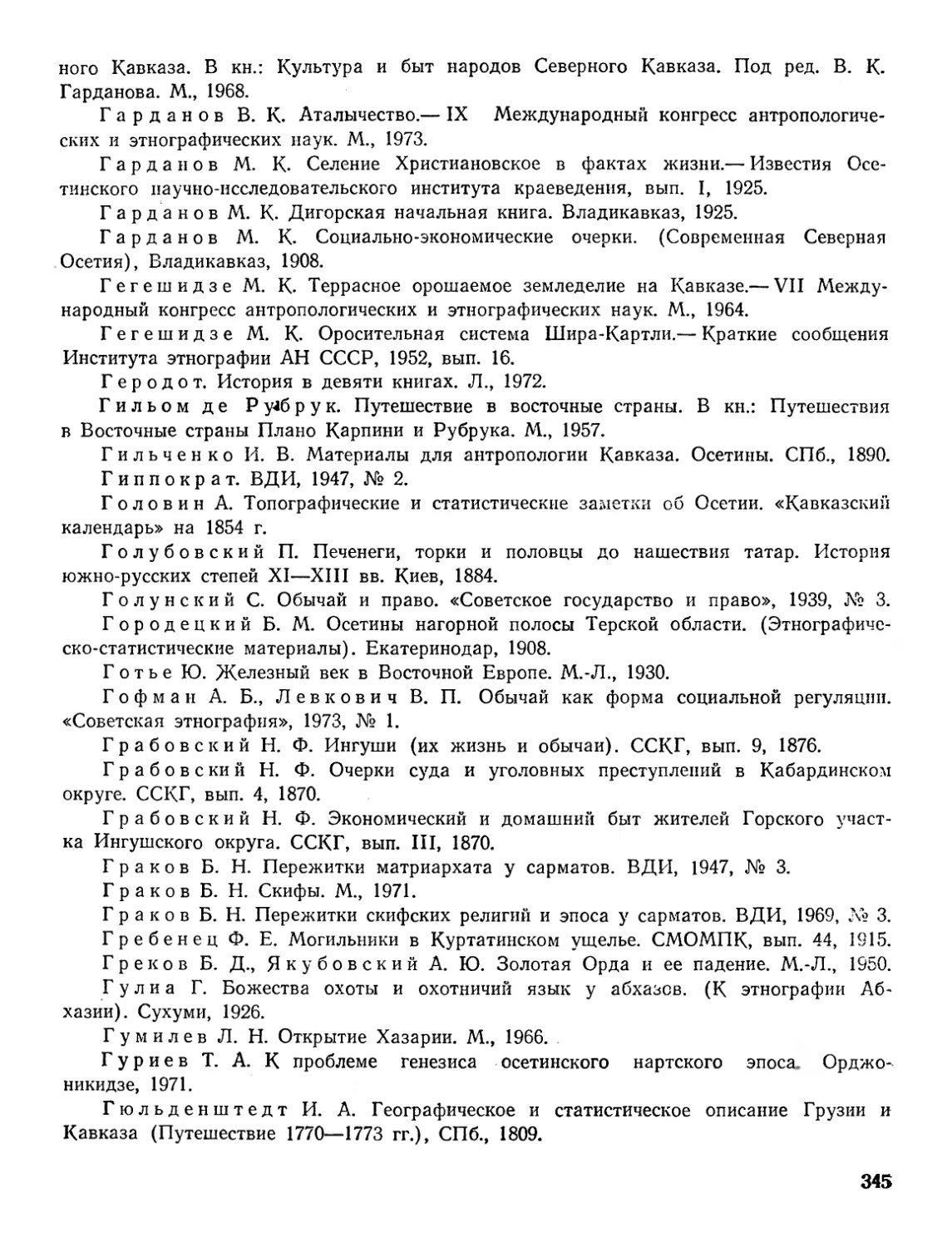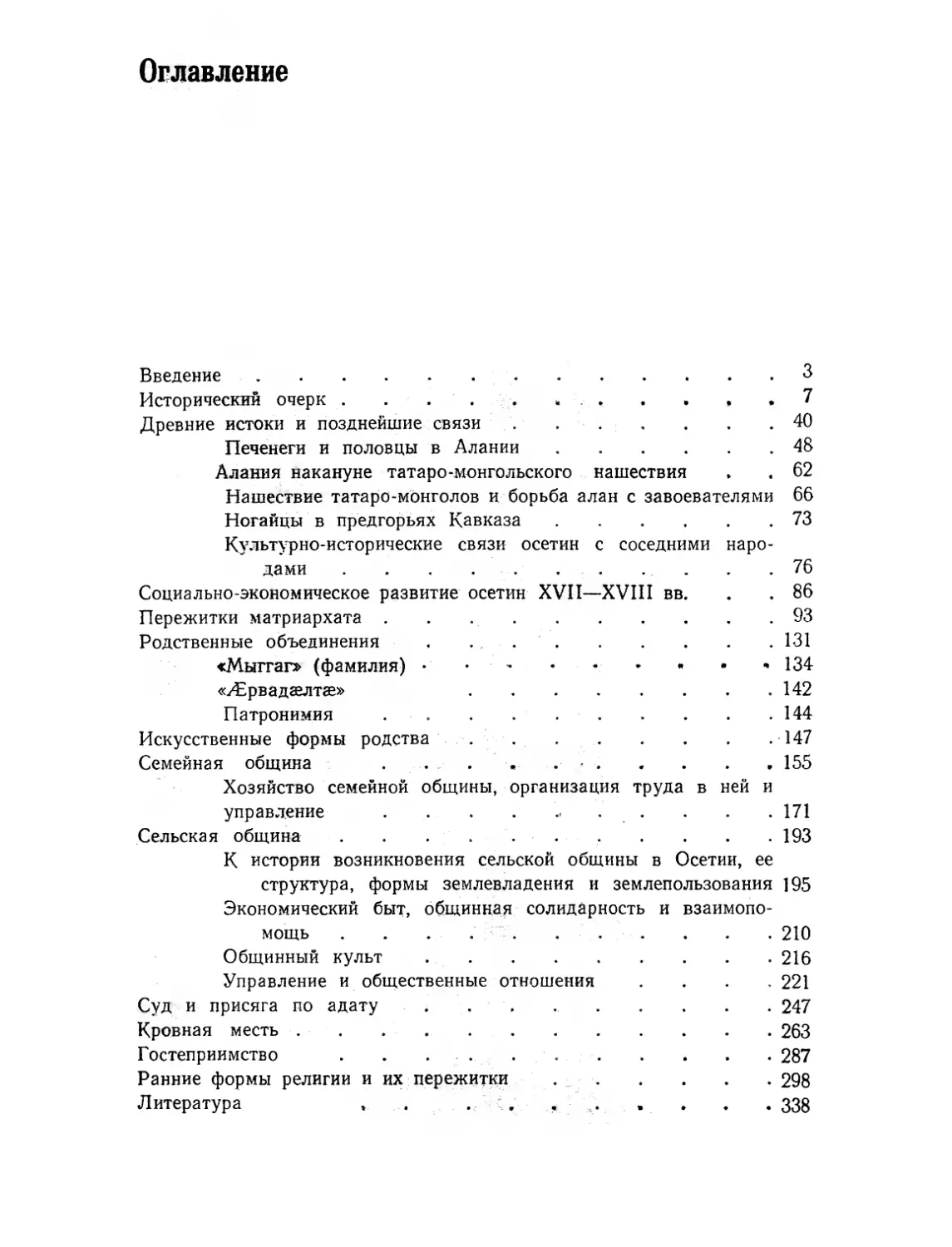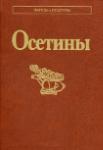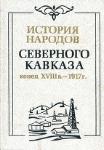Text
Д.Х./ИД ГОЛ4 ЕТОВ
ОБЩ6СТВ6ННЫИ
СТРОЙ И БЫТ
осетин
<ХУИ-Х1Хев.)
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИР'
ОРДЖОНИКИДЗЕ*1974
902.7(С165)
М12
Магометов А. X.
М12 Общественный строй и быт осетин (XVII—Х1Хвв.).
Орджоникидзе, «Ир», 1974.
373 с.
М 162-21 81-73 902.7(С165)
М131@3)-74
Издательство «Ир», 1974 г.
ВВЕДЕНИЕ
В советской исторической науке одной из актуальных
проблем является изучение ранних форм общественного
быта, сохранившихся в пережиточном состоянии у многих
народов мира в условиях классового общества. Эти остаточные
формы не только отражают характер и историческую картину
прошлых эпох, в недрах которых возникла их основа, но и
составляют важный элемент общественного строя этих народов,
регулируют различные стороны жизни и многообразные
отношения людей друг с другом в позднейшее время. Так, в
общественном быту осетин еще в XVIII и середине XIX вв.
значительную роль* играли институты патриархального рода,
сельской общины, нормы обычного права, обычаи и традиции,
уходящие своими корнями в общинно-родовой быт.
Архаические формы особенно устойчиво держались в
области семейно-брачиых отношений осетин Актуальность
изучения этих форм определяется еще тем, что без научного
понимания истории семьи и семейно-брачных отношений нельзя
иметь полного представления о развитии общества, о его
социальной структуре на разных стадиях. И здесь нам, как и в
первом случае, на помощь приходит этнографический
материал, заключающий в себе богатейшие сведения, анализ
которых дает возможность проследить основные этапы развития
социальных отношений, вскрыть те древние формы, которые
имела семья у предков современных осетин. Еще накануне
Октярьской революции (а в нагорной полосе и до начала
коллективизации) у осетин сохранились большие
патриархальные семьи. Знакомство с ними позволяет нам составить
определенное представление о патриархальном строе, получившем
у осетин довольно глубокое развитие. Но, присмотревшись и
к малой семье, которая возникла также давно и
существовала рядом с семейной общиной, мы в ней обнаруживаем те же
патриархальные нормы и порядки, что ив большой патриар-
халыюй семье. В то же время семейно-брачыые отношения у осетин
донесли до нас и сильные пережитки матриархального рода. Но
общественные формы и отношения, составлявшие центральную тему в
дореволюционном кавказоведении, не получили подлинно научного освещения,
а порою даже искажались ввиду непонимания их сущности
выступавшими в этой области отдельными этнографами и историками.
Так, например, проф. М. М. Ковалевский, больше всех
занимавшийся этими проблемами и внесший большой вклад в этнографическую
науку, так и не смог преодолеть ошибочного представления об
историческом процессе развития общества.
Обнаружение в общественном быту кавказских горцев архаических
черт и институтов, восходящих к родовому строю, привело М. М.
Ковалевского к утверждению, что в конце XIX века у осетин и других
народов Кавказа патриархалы-ю-родовой строй сохранился в полной
«чистоте и расцвете». «Тогда как матриархат является в среде горцев частью
выжившим, частью выживающим порядком,— писал М. М.
Ковалевский,— агнатический род носит у них еще все признаки вполне
жизненного явления. Редко где можно наблюдать его разнообразнейшие
проявления в такой полноте и подробности, в такой чистоте и расцвете, как
в кавказских теснинах»1.
В результате таких выводов этого крупного ученого в историко-эт-
нографической литературе утвердилось представление о том, что
Северный Кавказ является классической страной родового строя и что у
народов, населяющих его (осетин, кабардинцев, адыгов, ингушей,
чеченцев, народов Дагестана и др.)> к описываемому периоду сохранилось
господство превобытнообщинных отношений. Более того, в своей
известной работе «Современный обычай и древний закон. Обычное право
осетин в историко-сравнительном освещении» (М., 1886, т. 2) М. М.
Ковалевский на осетинском материале пытался реконструировать родовой
строй всех остальных народов, где он берет осетинское общество
за образец, по которому восстанавливает детали
первобытнообщинного строя в его развитой форме. Столь явное преувеличение роли и
значения первобытно-родовых отношений на такой поздней стадии
истории исказило реальную картину развития социально-экономических
отношений у осетин и других кавказских горцев; в результате
общественный строй их изображался более примитивным, чем он был в
действительности, затушевывался тот факт, что под покровом архаических форм
развивались в Осетии феодальные отношения.
Отсюда возникает необходимость вскрыть и эти глубоко ошибочные
взгляды и концепции, получившие широкое распространение в прошлом.
Такие же ошибочные толкования или пробелы допускались и по
О
1 М. Ковалевский. Закон и обычай на Кавказе, т. I, М., 1890, стр. 28,
другим вопросам общественного строя и быта осетин, широко
поднимавшимся в дореволюционной историко-этнографической литературе.
Так, игравшие огромную роль в общественной жизни осетин
семейная и сельская общины, хотя и фиксировались в этой литературе, но
остались совершенно неисследованными. Более того, природа и структура
этих институтов искажались. Поэтому встала задача дать научно
обоснованное описание последних, что в свою очередь повлекло за собой
исследование таких важных вопросов, как сельско-общинная, родовая
(патронимическая), общинно-семейная и частная собственность, формы
общинного хозяйства, система организации труда внутри семейной и
сельской общин, имущественно-правовые отношения в большой семье и
другие, а также рассмотрение причин, поддерживавших сохранение
форм патриархальной семьи в условиях развитого классового общества.
Как известно, многие явления общественной и семейной жизни тесно
переплетались с различными сторонами хозяйственной деятельности
людей, были связаны с их экономическим бытом. Например, основные
процессы производства в земледелии, скотоводстве и ремесле
сопровождались обрядами и церемониями общественного значения. Эти традиции
фактически восходят к начальным этапам хозяйственной
деятельности осетинского народа, когда складывалась или уже сложилась его
общественно-правовая практика в условиях первобытнообщинного
строя. Поэтому неудивительно, что в общественных отношениях,
связанных с экономической жизнью осетин, мы очень часто наталкиваемся на
традиции и нормы первобытного права или их пережитки. Примеры их
в обилии имеются в работах дореволюционных авторов (В. Б. Пфаф,
М. М. Ковалевский, Ф. И. Леонтович, Б. Гатиев и др.), но последние не
дают научного анализа приводимого ими материала, а нередко на его
основе делаются ошибочные теоретические выводы.
В позднейшее время, уже в эпоху феодализма и даже когда
развились капиталистические отношения, в общественной жизни осетин еще
большую роль играли родственные коллективы («мыггаг», «иу артазй
байуаргэе», «аервадаелтае»). Они были разными по происхождению и
древности существования, по структуре и степени социальных связей.
Но они сохранили известные родовые традиции, что давало повод
дореволюционным авторам- говорить о существовании у осетин еще в начале
XIX века родового строя.
Конкретное изучение института родственных коллективов у осетин,
несомненно, даст возможность глубже рассмотреть эволюцию
осетинского общества с эпохи разложения первобытнообщинного строя, изу-
чить„на конкретном материале формы бытования родового строя в Осетии.
^Наибольшую путаницу дореволюционные авторы внесли в вопрос о
становлении феодализма в Осетии. Вообще разрешение этой научной
проблемы очень сложно, ибо феодальные отношения здесь
складывались в результате разложения первобытнообщинного строя (минуя
рабовладельческую формацию), благодаря чему патриархально-родовые
и феодальные отношения сосуществовали рядом; при этом данный
процесс в одних осетинских обществах пошел глубже, в других устойчиво
сохранялись институты последней стадии первобытнообщинного строя.
Отсюда возникли различные толкования вопроса.
В то время, как одни авторы отрицали наличие феодальных
отношений в осетинском обществе, другие утверждали, что в Осетии давно
сложился феодализм со всеми присущими ему чертами. Третьи делили
осетин на «демократические» и «аристократические» общества, что
также свидетельствовало о неспособности этих авторов объяснить
неравномерность социально-экономического развития различных частей Осетии.
Констатируя наличие феодальных отношений у осетин ко времени
присоединения Северной Осетии к России авторы, затрагивавшие эту
тему, не понимали диалектического процесса развития этих отношений,
не объясняли условий и причин их возникновения, степени их
развитости, своеобразия осетинского феодализма.
Идеологические представления патриархально-феодального
общества у осетин выступали в рассматриваемый период активно, что также
нашло отражение в книге.
Нам кажется, что представляет немаловажный интерес и то, как
первобытнообщинные традиции трансформировали в юридические
нормы феодального общества, как под прикрытием пережитков
патриархально-родовых отношений, иддилических обычаев и псевдородственных
связей подвергалась эксплуатации значительная часть общинников.
Сохранение до позднейшего времени в общественных отношениях и
быту осетин архаических форм, безусловно, объясняется тяжелыми
историческими условиями, в которых находились осетины на протяжении
многих столетий Эти условия тормозили социально-экономический
процесс, консервировали их, однако, не могли приостановить
поступательный ход развития.
Рассмотренные в книге вопросы являются актуальными и для
истории и этнографии большинства кавказских народов, с которыми осетины
имели сходные черты быта и культуры, тесно общались с ними на
протяжении веков и, естественно, все они подверглись взаимному влиянию
не только в экономической, политической и культурной жизни, но и в
различных областях общественного быта. Естественно, что в процессе
работы над книгой автору удалось выявить общий характер многих
общественных и семейно-бытовых традиций у осетин и у их соседей —
других кавказских народов. В осетинском этнографическом материале
также удалось установить стадиальные общеисторические черты, общие за-
закономерности развития человеческого общества.
Ввиду специфики исследуемых в книге проблем автору пришлось
обратиться к историческому прошлому осетинского народа,
остановиться на более древних стадиях его общественного развития и таким
образом показать суть описываемых явлений, их эволюцию на протяжении
длительного исторического пути.
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ля написания своей работы автор использовал
обширный круг литературных источников,
архивный, полевой и фольклорный материалы.
Отдельные этнографические характеристики об
осетинах, вернее об их предках — аланах, мы
находим в античных и средневековых источниках.
Однако ввиду их немногочисленности и
недостаточной полноты они не могут служить сколько-
нибудь серьезной источниковедческой базой для
характеристики ранних общественных форм и
научных обобщений. Они могут быть использованы
лишь как сравнительный материал, уточняющий позднейшие источники.
Этнографические сведения об осетинах стали появляться в середине
и второй половине XVIII века. Это был период, когда русский царизм
вплотную приступил к реализации своих политических и экономических
планов на Кавказе. Осетины, занимая Центральный Кавказ и Дарьяль-
ский проход, по которому пролегала важнейшая военно-стратегическая
магистраль, соединяющая Южную Россию с Закавказьем, приковывала
к себе пристальное внимание царской России. Еще до присоединения
Осетии к России царские власти организуют разведки по изучению ее
природных богатств и политического состояния. Подобного рода
экспедиции и сбор материалов об осетинах подчинялись целям
колониальной политики царизма.
Сведения о быте и нравах осетин нередко собирали, по заданию
царских властей, духовные лица, миссионерские организации
(Осетинская духовная комиссия—1746—1860 гг.; Общество восстановления
православного христианства на Кавказе— 1860—1917 гг.) или же через
них официальные представители кавказской администрации.
На первоначальном этапе освоения Кавказа появляются в Осетии
и «ученые экспедиции», деятельность которых была также связана с
завоевательной политикой царизма. Поэтому редко когда
этнографическая характеристика осетин получала объективное освещение. В
большинстве же случаев помещаемые в отчетах или публикациях
сведения давались с позиций великодержавного шовинизма, тенденциозно.
Многие из подобных «описаний» и характеристик стали
«источниками» для последующих «изысканий» и этнографических «работ» по
осетинам и другим кавказским народам, выполненных всевозможными
«знатоками» Кавказа еще более поверхностно и тенденциозно.
Не разбираясь в предмете, которым занимались некоторые из
дореволюционных историков и путешественников, получавшие поверхностное
и весьма отдаленное представление о быте и общественном строе осетин,
не зная закономерностей исторического развития общества и не владея
научной методологией, эти авторы пережитки более древних
общественно-экономических формаций преподносили читателям как свидетельства
«дикости», «неполноценности» осетин, безнадежно отставших от общего
развития человечества. Но наряду с этим подавляющее большинство
сочинений прошлого содержит в себе полезный фактический материал,
передающий те или иные этнографические черты народа. В то же время
в общей массе литературных источников XVIII и XIX вв. мало
специальных этнографических исследований.
Нередко этнографический материал содержится в описаниях
путешествий, мемуарах, исторических и географических сочинениях, а также
в сочинениях военного характера. Многочисленные материалы
опубликованы в периодических изданиях: «Сборнике сведений о кавказских
горцах», «Сборнике сведений о Кавказе», «Кавказском сборнике»,
«Сборнике материалов по описанию местностей и племен Кавказа»,
«Кавказском вестнике», «Записках» и «Известиях» Кавказского отдела Русского
географического общества, «Этнографическом обозрении», «Терском
сборнике», «Сборнике о Терской области», а также в кавказских и
терских областных газетах: «Кавказ», «Закавказский вестник», «Тифлисские
ведомости», «Тифлисский листок», «Обозрение», «Терские ведомости»,
«Казбек», «Терек», «Северный Кавказ» и другие.
Наиболее ранним источником, отразившим социальные отношения
осетин, является сочинение Вахушти Багратиони «Описание царства
Грузинского», в котором осетинам посвящен специальный раздел —
«Описание нынешней Овсетии или Внутреннего Кавказа»1.
Сообщаемые в этом источнике сведения ценны тем, что они относят-
©
1 Вахушти. География Грузии. Пер. М. Г. Джанашвили. Записки Кавказского
отдела Императорского русского географического общества. (ЗКОИРГО), кн. XXIV,
вып. 5.
8
ся ко времени, когда социально-экономический строй Осетии еще не
подвергся изменениям, происшедшим уже в последующем в связи с
присоединением Кавказа к России, и когда быт осетин еще в значительной
степени сохранял архаические формы и черты.
В своем сочинении Вахушти сообщает о глубоком расслоении
осетинского общества, об образовании господствующего класса,
состоявшего из феодальных родов, и верно подмечает характерные черты,
свойственные представителям феодального общества.
Вахушти, хотя и не дает детального описания семейно-брачных
отношений, но приводит ряд ценных сведений: это — данные о
патриархальном строе осетинской семьи, о левиратском браке и др.
О том, что общественный быт осетин в рассматриваемое время
характеризовался наличием патриархальных форм, говорит замечание
Вахушти: «Осетины оказывают большой почет своим старцам и
смотрят на них как на своих патронов. Через этих старцев совещаются и
мирятся и все свои нужды удовлетворяют через них»1. Автор дает
также четкую характеристику обычаев гостеприимства и кровной мести
у осетин, описывает обряды, связанные с первобытными
верованиями.
Следующим по времени и важности источником является
донесение главы Осетинской духовной комиссии протопопа Иоанна
Болгарского епископу Астраханскому и Ставропольскому Антонию от 18
июля 1780 года о нравах и обычаях осетин2. Большая научная ценность
данного источника заключается в том, что Иоанн Болгарский, весьма
просвещенный для своего времени человек, описал обычаи и обряды
осетин не с чужих слов, а на основании собственных наблюдений и
анализа их социально-экономического положения в период, когда
архаические формы быта еще не подверглись активным изменениям.
В составленном им документе И. Болгарский дал некоторые
сведения о семейных обрядах осетин (наречение имени ребенку,
свадебный обряд).
Из семейно-бытовых обрядов наиболее подробно описаны
погребальные церемонии, в том числе посвящение коня и жены умершему.
Ценность приведенных в данном документе сведений неоспорима —
отдельные, очень важные моменты в последующих источниках уже
не встречаются. Однако И. Болгарский как руководитель
миссионерской организации отразил главным образом религиозное состояние
осетинского населения и в этой связи описал некоторые религиозные
обряды.
©
1 Вахушти. Указ. соч., стр. 143.
2 ЦГАДА, ф. 22, оп. 1, ед. хр. 11. Источник опубликован проф. Г. А. Кокиевым в
«Материалах по истории Осетии» (XVIII в.), т, I, Орджоникидзе, 1933.
Представляет важный интерес и другой документ, составленный
также И. Болгарским. Это — «опись» осетинских сел. В ней имеется
подробный перечень сел горной Осетии (за исключением Дигории),
где сообщаются названия селений и количество дворов в каждом из
них. Эти сведения ценны прежде всего тем, что осетинские поселения
к этому времени еще сохранили первоначальную форму и состояние.
Анализ источника приводит нас к выводу о том, что к указанному
периоду подавляющая часть осетинских поселений потеряла свой
первоначальный родовой характер, превратившись в сельскообщинные
территориальные объединения.
К этому же периоду относится этнографический материал,
содержавшийся в «Дневнике одного путешествия из пограничной крепости
Моздок в центр Кавказа в 1781 году», принадлежавшем офицеру
русской армии Штедеру и изданном на немецком языке в 1797 году без
указания автора. Во время своего путешествия, предпринятого по
заданию русского военного командования на Кавказской линии (где
он служил) для военно-стратегической разведки и изучения
социально-экономических отношений в крае, Штедер объехал значительную
часть Северной Осетии.
В отличие от многих работ, посвященных народам Кавказа,
«Дневник» Штедера является редким документом, отличающимся своей
обстоятельностью и беспристрастным описанием действительности.
В нем автор дает довольно подробные сведения о быте осетин второй
половины XVIII в. В «Дневнике» находят описание такие обычаи
родового строя осетин, как гостеприимство, кровная месть и др. Штедер
сообщает интересные сведения о семейном быте осетин, описывая
подробно некоторые обряды. Автор «Дневника» дает ценный материал о
хозяйственном строе и занятиях осетин.
Значительная часть «Дневника» посвящена разбору социальных
отношений в Северной Осетии.
Из материалов путешественников конца XVIII века
определенного внимания заслуживают заметки Я. Рейнеггса «Общее историко-
топографическое описание Кавказа», где значительная часть
отведена осетинам. В заметках Я. Рейнеггса мы находим, хотя короткие,
но интересные данные о хозяйственных занятиях, материальной
культуре и социальных отношениях осетин, о их некоторых обычаях, в
частности, о кровной мести, о погребальных обрядах, о религиозных
верованиях. Сведения, сообщаемые Я. Рейнеггсом, интересны тем, что
они даются на основе непосредственных наблюдений автора.
Из кавказоведческих работ начала XIX в., и особенно по
этнографии осетин, первостепенное место занимают работы академика
Ю. Клапрота.
В сентябре 1807 года ему было поручено Российской Академией
наук совершить экспедицию на Кавказ для исследования последнего в
лингвистическом, историческом, этнографическом, экономическом и
10
археологическом отношениях. Эту огромную работу он проделал на
обширной территории, занимаемой племенами Северного Кавказа, а также
в Грузии. Результаты своих исследований ученый изложил в работе
«Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807—1808 гг.»1,
•изданной во Франции и Германии.
Ю. Клапрот побывал почти во всех ущельях Северной Осетии, в
плоскостных селах, расположенных в предгорьях Западной Осетии, в
Трусовском и Кудском ущельях. Почерпнутые им на месте сведения
путешественник пополнил данными из работ своих предшественников —•
исследователей Осетии: Штедера, Гюльденштедта, П. Палласа, Я. Рей-
.негтса, устными сообщениями Гайоза2 и др.
Несмотря на великодержавный характер научных исследований
ученого, направленных на успех захватнических планов царизма на
Кавказе, фактические данные, приведенные Ю. Клапротом в
опубликованной им работе, содержат ценный материал по этнографии осетин
начала XIX столетия.
Значительное внимание в них было уделено хозяйственному быту
осетин. Автор дает довольно подробное описание хозяйственных
занятий населения, указывая, что основными из них являются земледелие
.•и скотоводство. Однако он ошибочно считал земледелие главным в
хозяйственной деятельности осетин нагорной полосы, отводя скотоводству
второстепенное по сравнению с земледелием место. Основным
направлением скотоводческого хозяйства горцев, подчеркивал Ю. Клапрот,
являлось овцеводство, которое давало основной ценностный и
материальный продукт для всего племени3. Скот разводился для нужд
натурального хозяйства и внешнего обмена.
Наряду с описанием хозяйственных занятий Ю. Клапрот дал
характеристику различных отраслей материальной культуры осетин.
Из довольно подробных описаний природных условий,
хозяйственного строя и материальной культуры осетин, данных Ю. Клапротом,
следует вывод о том, что производительные силы края находились еще в
О
1 В части, касающейся Осетии, работа Ю. Клапрота под тем же названием издана
на русском языке проф. Г. А. Кокиевым в Известиях Северо-Осетинского научно-
исследовательского института, том XII, 1948. Тексты Ю. Клапрота, содержащие
сведения об осетинах, изданы также в сборнике «Осетины глазами русских и
иностранных путешественников». Орджоникидзе, 1967.
2 Гай оз — моздокский епископ; он вместе со священником-осетином Павлом Генца-
уровым и другими составил осетинскую азбуку на основе церковно-славянского
алфавита.
5 10. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807—1808 гг.
/Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского института, т. XII, 1948,
стр. 239.
И
примитивном состоянии, что, естественно, поддерживало примитивные
формы общественных отношений. Отсюда понятны те явления, которые
наблюдал Ю. Клапрот в общественном быту осетин. Он дает материал^
заключающий в себе характеристику социальных отношений, описание-
семейных обрядов, а также обычаев, восходящих к родовому строю
(гостеприимства, кровной мести, религиозных обрядов и др.). Ю.
Клапрот, кроме того, в своей работе делает исторический экскурс, где
пытается на основе античных источников изложить кратко древнюю
историю осетинского народа, включая и вопрос об этногенезе осетин.
Рассматривая этот вопрос, он первым выдвинул подтвержденную
впоследствии мысль о происхождении осетин от сарматов и алан, черты
общественного быта которых ученый обнаруживает у осетин.
Из ранних работ по этнографии осетин следует обратить внимание
на статьи Гр. Гордеева, опубликованные в 1830 году в газете
«Тифлисские ведомости». В них содержится ценный этнографический материал,
характеризующий различные стороны семейного и общественного быта
осетин.
Интересный материал по вопросам общественного и семейного быта
осетин, отличающийся большой глубиной и достоверностью, собран
одним из авторов «Обозрения Российских владений за Кавказом» А.
Яновским.1 Ему же принадлежит первое собрание осетинских адатов,
включенных впоследствии (в 80-х гг. XIX в.) проф. Ф. И. Леонтовичем в
сборник «Адатов кавказских горцев». Сообщаемые А. Яновским в
«Обозрении...» сведения по обычному праву осетин являются источником
первостепенной важности. Они освещают сословные отношения,
уголовное право и судопроизводство, право расследования и семейные
отношения осетин.
Ценные сведения в своей работе А. Яновский дает и об экономике
и хозяйственных занятиях осетин, что также подтверждает вывод,
сделанный по материалам Ю. Клапрота.
Особое место в осетиноведении занял известный русский ученый,,
языковед, академик А. М. Шегрен, создавший осетинский алфавит и
первую научную грамматику осетинского языка (издана в 1844 г.). Во
время своих занятий по исследованию осетинского языка во второй
половине 30-х годов XIX в. А. М. Шегрен одновременно провел
этнографические наблюдения среди осетин и других кавказских горцев
(ингушей и др.) Результатом этнографических исследований А. М. Шегрен а
явилась его работа «Религиозные обряды осетин, ингуш и их соплемен-
©
1А. Яновский. Овсетия. В кн.: Обозрение Российских владений за Кавказом &•
статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях, ч. II,.
СПб, 1836.
12
.пиков при разных случаях».1 В ней А. М. Шегрен наряду с описанием
религиозных верований и праздников описал родильные и свадебные
обряды, погребальные и поминальные церемонии и обычаи. Ценные
сведения ученый приводит и из области обычного права осетин.
Из путешественников первой половины XIX в., интересовавшихся
кавказской этнографией, редко кто обращал внимание на структуру
общественного строя осетин. Некоторый шаг в этом направлении сделал
немецкий ученый-ботаник Карл Кох, путешествовавший по Кавказу и
побывавший дважды, в 1837 и 1838 гг., в Осетии. Наряду с главным
своим занятием — сбором материала по специальности,— он провел
этнографическое обследование края, результаты которого он опубликовал
в 1842—1843 гг. у себя на родине. Во время своих этнографических
наблюдений в Осетии К. Кох обратил внимание на патронимические
образования, сообщив о них некоторые данные и указав на их реальное
место в общественной жизни осетин. К. Кох глубже, чем кто-либо из его
предшественников, осветил обычаи гостеприимства и кровной мести,
которые в это время еще активно проявлялись в осетинской
действительности, некоторые вопросы обычного права осетин и другие.
Определенный интерес по исследуемым нами вопросам
представляет сочинение проф. Дюбуа де-Монпере, совершившего в это же время
путешествие на Кавказ. В описании своего путешествия Дюбуа де-Мон-
пере, который побывал и в Осетии, одновременно с характеристикой
хозяйственных занятий и материальной культуры коснулся вопросов
социальных отношений и общественного быта. Особо остановился он на
обычаях, которые, как он говорит, имели у осетин силу закона. Он, как
и К. Кох, выделяет обычаи гостеприимства и кровной мести. Дюбуа де-
Монпере указывает на наличие у осетин больших патриархальных
семей. Он прослеживает также процесс образования патронимических
поселений.
Из работ иностранных авторов своим многообещающим названием
наше внимание привлекло также сочинение немецкого путешественника
Августа фон-Гагстгаузена «Закавказский край. Заметки о семейной и
общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным
и Каспийским морями», опубликованное на немецком и русском
языках2. Его сведения об Осетии, как и о других местностях Кавказа, даны
в виде путевых заметок. В этих заметках путешественник после беглого
обзора материальной культуры Осетии сделал попытку изобразить кар-
О
1 А. М. Шегрен. Религиозные обряды осетин, ингуш и их соплеменников при
разных случаях. Газ. «Кавказ», 1846, № 27—30.
3 А. Гагстгаузен. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни
и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями, ч. II,
СПб., 1857.
13
тину семейной и общественной жизни осетин. В значительной степени
книга Гагстгаузена представляет компилятивную работу, а в
затронутых автором вопросах она ничего нового не прибавила к тому, что уже
было описано его предшественниками. Наоборот, в ней имеются
крупные ошибки и явное извращение многих сторон быта и культуры
осетин. Все свои наблюдения и выводы немецкий путешественник делал
предвзято, всячески стараясь обосновать выдвинутую им «теорию» о
германском происхождении осетин, причем, он старательно подыскивал
сходные явления и формы в языке, материальной культуре, быту и
обычаях осетин и немцев. Подобные совпадения (которые, как известно,
нетрудно найти у самых различных народов) Гагстгаузену
понадобились, чтобы заявить: «осетины происходят от готских и других
германских племен, разбитых гуннами и оставшихся в горах Кавказа»1.
Этим заявлением он делал вывод, что территория, ныне занимаемая
осетинами в Центральном Кавказе, есть колыбель европейских народов
и, в первую очередь, германских племен.
Таким образом, с легкой руки Гагстгаузена получила хождение в
науке теория, извлеченная из архивов в недавнем прошлом фашистской
историографией, преследовавшей захватнические цели.
Литература об общественном строе и быте осетин стала заметно
пополняться оригинальными работами с 50—60 гг. XIX века. Это время
было ознаменовано появлением впервые на арене осетиноведения
местных этнографов. Среди них первым, как по времени, так и по объему I*
содержанию изданной продукции, следует назвать Н. Г. Берзенова:
(грузина по происхождению). Живя среди осетинского населения и
владея в совершенстве осетинским языком, Н. Г. Берзенов имел
возможность непосредственно наблюдать жизнь осетинского народа. Начиная
с 1849 года, он выступил с целой серией «очерков» и «записок», в
которых дал богатый материал по этнографии осетин середины XIX века и
широко ввел его в научный оборот. Много места в своих работах он
отводит, кроме характеристики различных сторон материальной и
духовной культуры осетин, вопросам брака, семьи, общественных форм и
отношений, обычному праву, положению женщины. Им затронут также
вопрос о феодализме (в Дигории), описан обычай аталычества, он
исследует религиозные обряды и культ осетин. По многим вопросам Н. Г.
Берзенов дал свои выводы и заключения, заслуживающие внимания.
В середине 50-х гг. выступил как этнограф (первый из осетин)
Соломон Жускаев. Всего им было опубликовано две статьи: «Похороны
у осетин-аллагирцев»2 и «Атинаг»3. В первой из них С. Жускаев опи-
©
1 А. Гагстгау^зен. Закавказский край, стр. 117.
2 Газ. «Закавказский вестник», 1855, № 9.
3 Т а м ж е, № 32.
14
сал похоронные и поминальные обряды у осетин, траур по умершему,
положение вдовы после смерти мужа, левират, сорорат и др. В очерке
«Атинаг» автор показал сельскообщинный быт, общинные начала в
земледельческих работах, обязательность подчинения отдельных дворов —
семей общинным порядкам; описан также аграрный праздник «атинаг»,
справлявшийся совместно всей общиной. В этой статье С. Жускаева в
наиболее яркой форме дана характеристика сельскообщинного культа
у осетин.
Работы Н. Г. Берзенова и С. Жускаева, как не трудно судить даже
по этому краткому обзору, оказались незаменимым источником для
освещения и уточнения поставленных в исследовании проблем и
вопросов.
Уже с 60—70 гг. начинают выходить в систематическом порядке
статьи этнографов-осетин. Среди них статьи И. Тхостова — «Верования
осетин», «Знахари и знахарство в Осетии», «Заметки о тагаурцах»;
Б. Гатиева — «Суеверия и предрассудки у осетин»; Дж. Шанаева —
«Свадьба у северных осетин», «Присяга по обычному праву осетин»
и др.
Инал Тхостов, превосходно разбираясь в вопросах религии и зная
жизнь своего народа, очень метко подметил и осветил общественные
и бытовые явления, связанные с религиозными верованиями осетин,
Таким образом, его статьи о религии одновременно освещают отдельные
моменты из семейного быта и общественной жизни осетин. В статье
«Заметки о тагаурцах» он показал изменения, происшедшие в быту и
общественных отношениях осетин после присоединения Осетии к России
и переселения горцев на плоскость, а также под влиянием
проникновения в их среду капиталистических отношений.
Работа Б. Гатиева «Суеверия и предрассудки у осетин»1 относится
к наиболее значительным работам об осетинах в дореволюционной
этнографической литературе, не потерявшим своей научной ценности и
по настоящее время.
В этой работе, кроме довольно полного описания и
содержательного анализа религиозных верований, праздников и суеверий осетин,
автор подробно рассматривает брачно-семейные отношения и обряды.
Работа содержит также описание обычно-правового судопроизводства
и судоустройства у осетин.
Эти же вопросы в более полном объеме рассматриваются в
указанных работах Дж. Шанаева. Этнографический материал, особенно по
вопросам семейного и общественного быта осетин (нередко в примеча-
О
1 Опубликована в кн.: Сборник сведений о кавказских горцах (в дальнейшем: ССКХ),
вып. IX, отд. III, Тифлис, 1876,
15
ниях и пояснениях автора), содержится в «Осетинских народных
сказаниях», собранных и опубликованных1 этим же автором.
Работы И. Д. Канукова составили особую страницу в истории
этнографического изучения Осетии. Значительная доля рассматриваемых
в них вопросов относится к области социальных отношений и
общественного быта осетин, вступивших в пореформенный период. С точки
зрения изучения. общественных форм, семейно-брачных отношений и
обрядов, обычного права и др. несомненный интерес представляют
следующие его работы: «В осетинском ауле» A870 г.), «Заметки горца»
A871 г.), «Из осетинской жизни» A876 г.), «Горцы-переселенцы»
A876 г.), «Характерные обычаи осетин, кабардинцев и чеченцев»
A876 г.), «Кровный стол» A876 г.), «К вопросу об уничтожении
вредных обычаев среди кавказских горцев» A879 г.) и др. Работы И.
Канукова (особенно первые) носят форму рассказов из жизни осетин, но
в них хорошо отображен этнографический быт народа.
Как источник определенный интерес для нас представляет
этнографический очерк об осетинах известного русского историка и
кавказоведа Н. Ф. Дубровина, составляющий часть его большого труда о
народах Кавказа — «Очерк Кавказа и народов его населяющих»2.
Работа Н. Ф. Дубровина, хотя и имеет ряд ошибочных положений и
страдает серьезными недостатками, о чем мы скажем ниже, «тем не
менее... представляла для своего времени несомненную научную
ценность как в смысле мобилизации и обобщения обширного фактического
материала, так и в особенности тем, что она содержала сведения по
истории кавказских народов (черкесов, ногайцев, осетин, чеченцев,
дагестанских горцев) и широко освещала их внутренний строй, быт и
нравы»3.
По признанию М. О. Косвена, «труд Дубровина явился,
несомненно, крупнейшим вкладом в этнографию Кавказа»4.
Н. Ф. Дубровин Осетию рассматривает с точки зрения
географического расположения, социально-экономических отношений и этнографии.
Наряду с описанием хозяйственного быта и материальной культуры, он
ряд страниц своего труда посвятил характеристике общественного строя
и быта осетин. Рисуя картину сословных отношений в Осетии, Н. С4
1 См. ССКГ, вып. 3, 1870; вып. 5, 1871; вып. 7, 1873.
2 Н. Ф. Дубровин. История зойны к владычества русских на Кавказе, т \у К1
СПб., 1871. * •
3 Историография истории СССР, М., 1961, стр. 282.
4 М. О. Косвен. Материалы по истории этнографии Кавказа в русской науке. Ь
кн.: Кавказский этнографический сборник (в дальнейшем: КЭС), вып. II, 1958,
стр. 269.
16
Дубровин ошибочно утверждал, что общества Нарское, Мамисонское,
Закинское и Зругское не имели сословного деления.
Большое место в общественном быту осетин автор отводил
общинному собранию — нихасу, который он называл «народное вече»,
«народная сходка», и решениям, принимавшимся на «совете старейшин». В
своей работе автор сделал попытку охватить значительный круг
вопросов из обычного права осетин, в частности, он описал судоустройство и
судопроизводство, основанные на обычном праве. Однако некоторые из
затронутых им вопросов не получили достаточно удовлетворительного
освещения. Более полно были освещены им вопросы брака и семьи у
осетин, а также религиозные верования и обряды.
В ряду исследователей-этнографов Осетии в указанный период
вплоть до вступления на арену осетиноведения В. Ф. Миллера и М. М.
Ковалевского, наиболее видное место занимает доктор права В. Б.
Пфаф. Его обширные труды по истории, этнографии и обычному праву
осетин обратили на себя внимание исследователей Кавказа как в
России, так и за рубежом. Они также были встречены с живым интересом
молодой осетинской интеллигенцией.
Работы Пфафа являются плодом кропотливого труда и огромного
энтузиазма, вызванного его глубоким интересом к самобытной культуре
осетинского народа. Для проведения своих исследований он буквально
исходил вдоль и поперек Осетию, извлек огромный материал из
архивов. И Пфаф, как никто из его предшественников, использовал полевой
материал, добытый на месте. Например, чтобы написать работу
«Народное право осетин», он отобрал материал из судебных дел осетинских
«народных судов», из описания адатов и «вредных обычаев»,
бытовавших среди осетин, путем расспросов судей и местных жителей, а также
из личных наблюдений, проводимых им во время многократных
путешествий по селам и ущельям Осетии. В. Б. Пфаф наряду с богатым
полевым материалом широко использовал историческую и
этнографическую литературу, посвященную осетинам. В результате им были
написаны и опубликованы такие обширные и глубоко оригинальные работы,
как «Народное право осетин», «Этнологические исследования об
осетинах», «Материалы для древней истории осетин», «Материалы для
истории Осетии»; этнографический материал имеется также в его путевых
очерках «Путешествие по ущельям Северной Осетии», «Описание
путешествия в Южную Осетию, Рачу, Большую Кабарду и Дигорию» и др.
В своих трудах В. Б. Пфаф исследует вопросы обычного права,
родового строя и феодализма в Осетии. Его работы содержат, кроме того,
значительное количество интересных фактов и сведений по вопросам
истории, хозяйственного и семейного быта, материальной и духовной
культуры осетин и др. Характерной чертой трудов В. Б. Пфафа
является то, что в них описание наблюдаемых факгов и явлений отходит на
второй план перед попыткой теоретического обобщения автором как
собственных наблюдений, так и всего накопленного им материала
2 А. X. Магометов 17
(полевого и литературного). Однако теоретические выводы и
исторические построения автора, основанные главным образом на устных
преданиях и ошибочных доводах, без учета закономерностей социально-
экономического развития общества, страдают серьезными ошибками.
Так, Пфаф хотя и поставил вопрос о феодализме в Осетии, но дает его
наивное изображение. Признавая наличие высших сословий (феодалов)
в Осетии, он в то же время утверждал, что представители этих
сословий «живут родовым бытом» и ничем «не отличаются от остальных
осетин, живших также, по утверждению Пфафа, «в родовом быту»1.
Дофеодальные формы и отношения, пережиточно сохранившиеся
к этому времени в осетинской действительности, Пфафом возводились
в родовые. Например, исходя из предвзятой мысли о наличии родового
строя у осетин, он под понятие «род» подводил семейную общину, а в
территориально-соседской общине он видел родовое поселение2. Или,
говоря о развитии феодальных отношений в Осетии, он в то же время
утверждал, что обычаи осетин не менялись «уже несколько тысячелетий».
Но несмотря на все недостатки и ошибки, допущенные В. Б.
Пфафом, его работы содержат большой и ценный фактический материал па
всем вопросам этнографии осетин и, прежде всего, по обычному праву
и общественным формам.
Из работ, посвященных осетинам и опубликованных также в
70-х гг., заслуживает внимания очерк А. Л. Зиссермана «Отрывки из
моих воспоминаний»3. Данная работа А. Л. Зиссерманом написана на
основе этнографических наблюдений, проведенных им во время
многократных поездок в осетинские селения (во второй половине 50-х гг.), я
материалов, предоставленных в его распоряжение сельскими
священниками. «Воспоминания» Зиссермана содержат в себе характеристику
хозяйственных занятий осетин — земледелия, скотоводства, ремесла,
меновой торговли, а также материальной культуры — жилищ, орудий
производства, одежды, оружия и пищи осетин. Интересен материал,,
касающийся семейного и общественного быта осетин. Многие
архаические черты, которыми еще в то время характеризовались семейный быт
и общественная жизнь осетин и которые затем под влиянием
капиталистических отношений подверглись значительным изменениям,
подробно описаны А. Л. Зиссерманом. Поэтому его сведения о брачно-
семейных отношениях и семейно-бытовой обрядности, а также о тра-
©
1 В. Пфаф. Народное право осетин. Сборник сведений о Кавказе, т. II, 1871».
стр. 206—207.
6 Т а м же, стр. 194.
3А. Зиссерман. Отрывки из моих воспоминаний. Журн. «Русский вестник», 1878,
№ 11 (том 138).
18
дициях общественного быта, обычно-правовых отношениях и
религиозно-обрядовой жизни сельской общины представляют большой интерес
для исследователя.
Наиболее значительные работы по осетинской этнографии
появились в 80-х гг. В них большое место отводится вопросам
общественного строя и быта, семейно-брачным отношениям у осетин. Прежде
всего это исследования и публикации В. Ф. Миллера, М. М.
Ковалевского и Ф. И. Леонтовича.
В. Ф. Миллер, который свыше трех с половиной десятков лет
посвятил исследованию языка, фольклора, этнографии и истории осетин,
создал капитальные работы, положившие основу научной разработке
этих разделов осетиноведения.
О задачах, которые ставил ученый перед собой, приступая к
исследованиям в области осетиноведения, сам пишет так: «Мы
предполагаем издать ряд материалов и исследований, имеющих целью
изучение языка осетин, их эпических сказаний, религиозных воззрений и их
прошлого... Какая судьба загнала осетин в нынешние места их
поселения, какие сведения сохранились о них в исторических документах,
каков склад их жизни, каковы их религиозные воззрения, какое место
занимает в группе иранских языков, каков современный его строй, на
какие наречия он распадается, каковы произведения осетинской
поэзии — вот вопросы, которые занимали нас в наших занятиях и на
которые мы по возможности старались дать ответ»1.
Несмотря на" то, что основной областью научных интересов В. Ф.
Миллера являлись язык и фольклор осетин, он большое внимание
уделял исследованию вопросов этнографии. Его работа в этой области
ознаменовалась обобщением и разработкой всей системы религиозных
верований, обрядов и обычаев осетин. Как и все работы В. Ф. Миллера,
его труд «Религиозные верования осетин»2 было наиболее крупным
исследованием в этой области в дореволюционной этнографической
литературе, не потерявшим своей научной ценности и по настоящее время.
Ни один специалист, занимающийся исторической этнографией, «не
пройдет мимо работы В. Миллера («Религиозные верования осетин».—
А. М.), где сосредоточен тщательно собранный и вполне надежный и
проверенный материал о таких сторонах прошлой жизни осетин,
которые в значительной части не могут уже быть предметом прямого
наблюдения»3. В этом сочинении, наряду с подробной характеристикой
первобытной религии, удержавшейся у осетин в яркой форме (с известным:
©
1 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды. Часть I, М., 1881, стр. 3.
2 Там же. Часть II, М., 1883.
3 В. И. А б а е в. Всеволод Миллер как осетияовед. Известия Юго-Осетинского
научно-исследовательского института, вып. VI, 1948, стр. 19.
19*
влиянием христианства и ислама), В. Ф. Миллер рассматривает семей-
ло-брачные отношения и свадебные обряды, некоторые вопросы
обычного права. Эти же вопросы ученый затрагивает в очерке «В горах
Осетии»1.
В своих работах В. Ф. Миллер не ограничивается описанием
наблюдаемого им быта, регистрацией бытовавших в его время обычаев и
общественных форм у осетин, но и находит истоки этих явлений,
доказывая тем самым преемственную связь осетин со скифо-сарматами и
аланами. Таковы, например, его работы «Черты старины в сказаниях
и быте осетин»2, «Иранское выражение клятвы»3.
В отличие от В. Б. Пфафа и М. М. Ковалевского, В. Ф. Миллер
правильно понимал характер наблюдаемых им в Осетии архаических
•форм, унаследованных от родового строя, и не возводил их в степень
господствующих в современной ему общественной жизни осетин.
Наиболее заметное место в ряду литературных источников в нашем
исследовании заняли работы М. М. Ковалевского.
М. М. Ковалевский в своем капитальном исследовании
«Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-срав-
нительном освещении» (з 2 т., М., 1886), в работах: «Некоторые
архаические черты семейного и наследственного права осетин»4,
«Поземельные и сословные отношения у горцев Северного Кавказа»5, «О
присяге как одном из доказательств древнего процесса у осетин»6, «Об
обычном праве горских татар и его отношении к осетинскому»7,
«Поклонение предкам у кавказских народов»8, а также в его многочисленных
обобщающих трудах «Закон и обычай на Кавказе» (в 2 т., М., 1890),
«Очерк происхождения и развития семьи и собственности» (М., 1939),
«Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом» B
выпуска, СПб., 1905), «Происхождение семьи, рода, племени, государства
и религии» — в кн.: «Итоги науки в теории и практике» (т. X, М.,
1914 и др.), где широко привлечен осетинский этнографический
материал, рассматривает архаические формы и отношения, удержавшиеся к
О
1 Журн. «Русская мысль», 1881, IX.
2 Журнал Министерства народного просвещения, 1883, VIII.
3 Древности. Труды императорского Московского археологического общества, т. 19,
вып. II, М., 1902.
4 «Юридический вестник», М., 1885, № 6—7.
5 Журн. «Русская мысль», М., 1883, № 12.
6 Рефераты заседаний VI Археологического съезда в Одессе, Одесса, 1884, № 2 и 3.
7 Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ),
т. 43, вып. 2.
* «Вестник всемирной истории», 1902, № 3; газ. «Кавказ», 1902, № 107, 109.
20
его времени в общественном и семейном быту осетин, основное
внимание уделив семейной общине.
Кавказский, и в первую очередь осетинский, материал поззолия
М. М. Ковалевскому определить историческое место домовой (семейной)
общины как фопмы, специфически свойственной последнему этапу
родового строя. «Широко, на большом и разнообразном материале
очерчены внутренние отношения в этой общине, процесс ее разложения и
история возникновения и развития индивидуальной, «малой семьи»5.
Правильно определив причины распадения большой патриархальной
семьи, Ковалевский одновременно показал, как данное явление привело
к возникновению у осетин наследственного права, сохранившего нормы
патриархального права.
Исследования Ковалевского по семейной общине не были рядовой
заслугой ученого, а явились крупным вкладом в историю первобытного
общества. Эту заслугу Ковалевского отметил Ф. Энгельс, в своей работе
«Происхождение семьи, частной собственности и государства»,
одновременно пополнив ее данными из его работ2.
В связи с исследованием семейной общины и других архаических
форм и институтов, М. М. Ковалевский рассмотрел также сложный круг
семейно-брачных отношений и обрядов, семейно-родовой культ у
осетин и др.
Исключительно важное место в работах М. М. Ковалевского
занимают его исследования по сельской общине. Развивая свою общинную
теорию, ученый привлекает в значительной мере осетинский
этнографический материал. Обнаружение им у осетин этого института
первобытнообщинного строя делает его выводы в общей концепции более
глубокими и яркими (см. «Современный обычай и древний закон», т. 1).
Изучению общинного вопроса М. М. Ковалевский посвятил почти всю
свою научную жизнь. Он «показал историю общины от момента
зарождения до ее упадка на материалах почти всех народов мира. Раскрыв
беспочвенность различных националистически-шовинистических,
реакционно-консервативных антиобщинных теорий, Ковалевский доказал
универсальность общинного института и впервые определил
историческое место различных его форм»3.
Большой интерес представляют также разделы его работ, где
М. М, Ковалевским дается описание норм обычного права, регулировав-
©
1 М. Косвен. Предисловие к книге: М. Ковалевский. Очерк происхождения и
развития семьи и собственности. М., 1939, стр. 12.
2 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Госпо-
литиздат, 1943, стр. 60, 66, 67, 68, 69, 70, 154, 169.
3 П. У. Лапти н. Проблемы общины в трудах М. М. Ковалевского. «Вопросы
истории», 1955, № 9, стр. 112.
ших различные стороны общественного быта и
имущественно-правовые отношения осетин, а также характеризуются осетинское обычно-
правовое судоустройство и судопроизводство. Он выявил большое
познавательное значение материалов по обычному праву осетин, в котором
сохранились такие обычаи и порядки, которые проливали свет на
темные страницы древней истории человеческого общества.
Наряду с большим вкладом, внесенным М. М. Ковалевским в
разработку перечисленных выше проблем, он в своих исследованиях
допустил ряд грубых ошибок и неверных толкований как фактического, так
и теоретического характера. Так, не заметив распадного состояния
родового строя в Осетии, он воспринял пережиточные формы доклассовых
отношений как господствующие институты общественного строя осетин
в современную ему эпоху. М. М. Ковалевский приводит осетинское
общество в качестве классического образца родовой организации и,
оперируя осетинским материалом, пытается реконструировать родовой строй
у других народов. Утверждения Ковалевского о господстве в
общественной жизни осетин родовых отношений получили широкое
распространение в литературе и поддерживались до позднейшего времени
буржуазными историками и этнографами.
М. М. Ковалевский не смог заметить и тот факт, что многие из
первобытнообщинных форм, сохранившиеся в пережиточном состоянии
у осетин, приобрели иной, классовый характер и служили интересам
феодалов.
Как справедливо отмечает М. О. Косвен, «тема распада родового
строя и превращения его в классовый, в частности феодальный строй,
совершенно не привлекла к себе внимания Ковалевского»1.
Значительное место в работах М. М. Ковалевского занимает вопрос
0 феодализме у горцев Кавказа, но и здесь, игнорируя закономерности
социально-экономического развития общества, он объяснил
возникновение феодализма в Осетии внешним влиянием (из Кабарды). При
этом, феодальные отношения, по утверждению Ковалевского, развились
только в Тагаурии и Дигории. Преувеличивая кабардинское влияние на
развитие феодализма в Осетии, М. М. Ковалевский писал: «Осетины,
подражая кабардинцам в их одежде, оружии, домашней утвари, способе
постройки жилищ и манере держать себя в обществе..., усвоили также
кабардинскую точку зрения на те отношения, какие должны
существовать между повелителями и подвластными, между князем и его
вассалами»2.
Не придавая вообще никакого значения внутренним факторам раз-
©
1 М. О. Косвен. М. М. Ковалевский как этнограф-кавказовед. Этнография и
история Кавказа, М., 1961, стр. 236.
2М. Ковалевский. Закон и обычай на Кавказе, т. I, М., 1890, стр. 245.
22
вития общества, в частности в развитии феодализма, он идет далее
и утверждает, что в «основу феодальных отношений всюду положено
завоевание, покорение одного племени другим, насильственное отнятие,
•если не земельного пользования, то земельной собственности у
побежденных и поделение ее среди ближайших сподвижников победоносного
вождя»1. Непомерно большое место в общественном быте осетин М. М.
Ковалевский отводил религии. С ней, например, он связал кровную
месть2, а религиозный культ (семейно-родовой) рассматривал как одну
из причин сохранения и бытования семейной общины у осетин.
Несмотря на имеющиеся ошибки и недостатки, работы М. М.
Ковалевского являются серьезным вкладом в изучение актуальных
проблем истории общественных отношений и институтов у осетин.
Как уже отмечено, значительная часть авторов в своих сочинениях
в той или другой степени уделила внимание вопросам обычного права,
а в работах В. Б. Пфафа и М. М. Ковалевского они заняли основное
место. Профессор Ф. И. Леонтович же свою работу посвятил
исключительно этому вопросу, систематизировав и опубликовав в двухтомном
труде адаты кавказских горцев (под таким же названием, Одесса,
вып. I, 1882; вып. II, 1883).
Столь повышенный интерес к обычному праву (адатам) не случаен.
У осетин, так же, как у других кавказских горцев, не имевших в
прошлом писаных законов, обычное право регулировало общественные
отношения и семейную жизнь. И даже когда после присоединения
Кавказа к России среди горцев был установлен строгий колониальный
режим и введен государственный правопорядок, представители царской
администрации в судебной практике (да и не только в ней)
«сталкивались с прямой необходимостью применяться к местному обычному
праву»3. Эти мотивы и побудили царские власти к изучению и сбору
адатов кавказских горцев.
К середине XIX столетия в распоряжении кавказской
администрации уже имелись записи, своды почти всех адатов горцев. Отбор и
публикацию этих материалов и составляет названный труд Ф. И. Леон-
товича. По своему значению «Адаты осетин», включенные во второй том
труда Леонтовича (вып. II, Одесса, 1883), среди других литературных
источников занимают исключительно важное место.
Изучение адатов представляет для нас большой теоретический
интерес, так как оно помогает понять процессы образования и
развития общественных форм и отношений у осетин, определить природу
О
1 М. Ковалевский. Закон и обычай на Кавказе, т. I, М., 1890, стр. 256.
2 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 10.
3 М. О. К о с в е н. Материалы по истории этнографии Кавказа в русской науке. КЭС,
т. I, стр. 340.
23
их социальной организации и институтов, восходящих к
докапиталистическим формациям.
Ф. И. Леонтович отмечал, что явления, зафиксированные в адатах
и характеризовавшие общественный быт горцев, были свойственны всем
народам на ранних ступенях общественного развития. Подчеркивая
этот факт, он писал: «В обычном праве кавказских горцев, в
большинстве стоящих на низких ступенях общественного развития, сохранилось
немало институтов глубокой старины, по своему происхождению и
характеру принадлежащих к таким явлениям общественной культуры,
которые на первых порах встречались в истории всех народов»1. Отсюда
адаты осетин и других северокавказских горцев представляют большой
общеисторический интерес.
Своды адатов содержат богатые, первостепенной важности
сведения по самым различным вопросам общественно-экономической и
социальной жизни осетин: структура общества, сословные отношения, семья,
внутрисемейные отношения, брак, калым, имущественно-правовые
отношения, уголовное право, судоустройство и судопроизводство по
обычному праву и др.
Нельзя, однако, принимать как бесспорную истину все положения,
имеющиеся в «Адатах» Ф. И. Леонтовича. Так, отдельные своды
адатов, составленные разновременно, в существенных частях противоречат
друг другу. Например, «Адаты осетин 1836 г.» содержат утверждение,
что в Осетии не было сословного (классового) деления общества, что
все имели одинаковые права и все занимались исключительно
земледелием. Далее указывается, что есть несколько фамилий, «которые
ведут свое происхождение от древних осетинских князей», но они
пользуются некоторым уважением не по происхождению, «а по их силе»2.
В сводах же 1844 года — «Сведения об адате или суде по обычаям
кавказских горцев Владикавказского округа» четко показано деление
осетинского общества (всех четырех ущелий — Тагаурского, Куртатии-
ского, Алагирского и Дигорского) на отдельные сословия с
перечислением их прав и обязанностей3. «Описание вредных обычаев Военно-
осетинского округа» 1859 г.4 и «Сборник обычаев Осетинского округа»
1866 г.5 дополняют материалы сборника 1844 года и дают ряд новых
данных об обычаях, регулировавших общественные отношения у осетин.
Следует итметить, что в 80-х гг., кроме указанных выше трудов,
появился целый ряд работ, написанных местными авторами. Среди ник
О
1 Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. I, Одесса, 1882, стр. 2.
2 Там же, вып. II, Одесса, 1883, стр. 3.
4 Т а м ж е, стр. 9—19.
4 Там же, стр. 45—62.
5 Т а м ж е, стр. 63—77.
24
особо выделяется монографический труд Д. Я- Лаврова «Осетия и
осетины», опубликованный в «Сборнике материалов для описания
местностей и племен Кавказа» (вып. 3, 1883, стр. 1—307). Под этим названием
автор задолго до этого выступил в газете «Терские ведомости» с
серией очерков1. В обоих вариантах, дополняющих друг друга, автор
рассматривает широкий круг вопросов, представляющих несомненный
интерес по исследуемым нами проблемам. В них Д. Я. Лавров на
основе различных источников, в том числе личных наблюдений2, подробно
осветил, кроме обстоятельного обзора экономики, географии и истории
Осетии, вопросы общественного быта и семейно-брачных отношений,
религию и религиозные обряды осетин, а также сословные отношения.
В своем сочинении Лавров особо остановился на пережитках древних
общественных форм и отношений, устойчиво сохранявшихся еще в то
время у осетин. Работа «Осетия и осетины» носит преимущественно
характер исследования, и в ней автор пытается дать свое, в основном
правильное, толкование вопросов, затронутых им.
Влияние В. Ф. Миллера и М. М. Ковалевского было весьма
значительно на осетинскую интеллигенцию, у которой работы этих ученых
вызвали интерес к этнографии и истории родного народа. Появившиеся
в это время труды осетинских этнографов отличаются глубиной
содержания и обстоятельностью описания быта и культуры осетин. Среди
этих работ заметно выделяется этнографический очерк С. В. Кокиеза
«Записки о быте осетин»3. В нем дается характеристика материальной
культуры, хозяйственных занятий, форм брака, семейной общины и
внутрисемейных отношений, приводятся сведения о сельскообщинном быте
и некоторых обычаях (кровной мести и др.). С. В. Кокиевым
опубликована также статья «Калым у осетин»4, в которой автор наряду с общей
характеристикой обычая вскрывает его вред.
Сотрудничавший с В. Ф. Миллером С. А. Туккаев в
опубликованном им этнографическом очерке «В горах Дьтории»5 рассматривает
главным образом вопросы землевладения и землепользования в
нагорной части Осетии и в этой связи освещает сельскообщинный быт осетин.
О
1 Газ. «Терские ведомости», 1874, № 20, 22—29, 32, 33, 35, 36, 39, 43, 50; 1875, № 2,
3, 8, 9.
2 Д. Я. Лавров в течение многих лет занимался в г. Владикавказе педагогической
и общественно-просветительной деятельностью и тесно общался с осетинским
населением.
3 С. В. К о к и е в. Записки о быте осетин. Сборник материалов по этнографии,
издаваемый при Дашковском этнографическом музее. Под ред. В. Ф. Миллера, вып. 1,.
М., 1885.
4 Газ. «Терские ведомости», 1887, № 4.
5 Там же, 1889, № 90, 91, 93, 101.
В своей работе С. А. Туккаев сообщает важные для изучения этой
проблемы сведения — описание обычного земельного права, обычаев и
форм аренды скота («лаескъ», «лаескъдзаераен») и др.
Под влиянием трудов М. М. Ковалевского и Ф. И. Леонтовича в
80—90-х гг. появилось также несколько незначительных по объему
работ по вопросам сословных отношений, обычного права и
судопроизводства. К ним относятся статьи и этнографические очерки Г. Лиахвели
(осетина по национальности), активно выступавшего в эти годы в
периодической печати (общекавказской и грузинской) на различные темы из
жизни северных и южных осетин. Из числа опубликованных им работ
следует отметить очерки: «Значение клятвы у осетин»1, «Древнее
судопроизводство у осетин»2, «Древний осетинский суд», «Осетинская
женщина»3, «Сословия в Осетии»4 и др. Перечисленные очерки все носят
описательный характер, но в них содержится некоторый фактический
материал, а также имеются сведения, собранные автором путем
непосредственных наблюдений и поэтому представляющие определенный
интерес.
Более обстоятельно, чем Лиахвели, по этим вопросам выступал
А. С. Мансуров, журналист, владикавказский корреспондент некоторых
кавказских газет. Он опубликовал целый ряд очерков по древней
истории и этнографии осетин, а также на другие, по преимуществу,
злободневные темы из жизни местного населения. Наибольший интерес
представляют его большой этнографический очерк «Обычный суд у осетин»5
и «Кавдасарды Тагаурского общества»6, «О древних могильниках на
Северном Кавказе»7, которые мы также использовали в своем
исследовании.
На протяжении всего XIX века, и особенно в последних его
десятилетиях, в социально-экономической жизни осетин поземельные
отношения составляли основную проблему. Вокруг нее строилась вся
общественная жизнь. Поземельно-имущественные отношения определяли
многие стороны частной жизни. Неудивительно, что эта тема стала
одной из основных среди работ об осетинах в 80—90-х гг. XIX века.
При изучении сельскообщинного и отчасти семейного быта
этнографы и экономисты главный упор делали на освещение вопросов
землевладения и землепользования. Эти же вопросы являются основными
О
1 «Юридическое обозрение», Тифлис, 1884, № 163.
2 Там же, 1885, № 197.
3 Там же, 1886, № 292.
4 Там же, 1885, № 202.
5 Газ. «Каспий», Баку, 1894, № 38, 48, 58.
* Газ. «Новое обозрение», Тифлис, 1892, № 2910.
7 Газ. «Каспий», 1896, № 251.
26
и в работе М. 3. Кипиани «От Казбека до Эльбруса. Путевые заметки
о нагорной полосе Терской области»1. М. 3. Кипиани, прогрессивный
общественный и культурный деятель, проработав долгие годы на
Северном Кавказе в должности начальника Межевого управления
Терпкой области, имел возможность всесторонне изучить экономическое
положение и хозяйственный быт горцев. Отсюда в работе Кипиани мы
находим интересные, полные разносторонних сведений характеристики
хозяйственных занятий, материальной культуры и поземельных
отношений в Осетии.
Краткая, но обстоятельная характеристика экономического быта
содержится в целом ряде очерков и описаний различных осетинских
«обществ». Таковы очерки «Нарское общество»2, «Зарамагское
общество»3, «Нузальское общество»4, «Салугарданское общество»5, «Селение
Ардонское»6, составленное на основе материалов отчетов, собранных
администрацией Владикавказского Осетинского округа, а также работы
осетинских этнографов: А. Цаллагова — «Селение Гизель (или Кизил-
ка) Владикавказского округа»7; А. Медоева—«Селение Христианов-
ское (историко-экономический очерк)»8 и ряд его заметок: «Из селения
^Христиановского»9, «Заметки о селении Ольгинском»10, Головчанского —
«Селение Ольгинское»11 и др.
Описание хозяйственного быта и поземельных отношений у осетин
содержится и в работе Е. Д. Максимова «Осетины (историко-стати-
стический очерк)»12. В связи с характеристикой землевладения и
землепользования в Осетии Максимов подвергает рассмотрению сельскую
общину. Однако при попытке осветить общину, он смешивает понятия
родовой и сельской общин, заявляя при этом, что в нагорной поло-
©
1 М. К и п и а н и. От Казбека до Эльбруса. Путевые заметки о нагорной полосе
Терской области, Владикавказ, 1884.
2 Газ. «Терские ведомости», 1880, № 50.
3 Там же, № 51.
4 Сб. Статьи неофициальной части «Терские ведомости» за первую половину 1881 г.
5 Т а м ж е, за вторую половину 1881 г.
16 Т а м же.
7 А. Ц а л л а г о в. Селение Гизель (или Кизилка), Сборник материалов для описания
местностей и племен Кавказа (СМОМПК), вып. XVI, 1893.
* Газ. «Терские ведомости», 1899, № 92, 94.
9 Та м же, 1884, № 21, 24, 29, 43, 93; 1887, № 27, 50; 1888, № 62.
10 Там же, 1887, № 69.
11 Там же, 1889, № 23, 24.
13 Е в г. Максимов. Осетины. Историко-статистический очерк. «Терский сборник»,
яш. 2, Владикавказ, 1892.
27
се родовая община, «является господствующей до сих пор»1. Но при
дальнейшем развитии своего тезиса Максимов фактически опровергает
свои утверждения, приводя материал, характеризующий сельскую
общину у тех же горных осетин. Автор рассматривает, кроме того,
сельскую («земельную») общину, возникшую в плоскостной Осетии в
условиях царского административного управления. В своем толковании
характера, места и значения сельской общины в экономической жизни
осетинского крестьянства в период капиталистического развитии
Евг. Максимов также допускает грубейшие ошибки и искажение
действительной картины. Так, объясняя причины «существования» родовой
общины у горных осетин, Максимов писал: «Население относится к
такой общине вполне сознательно и видит в ней залог своего
благосостояния»2. Относительно же сельской общины в плоскостной Осетии
он утверждал, что она «служит интересам массы осетинского народ!
и его экономическому преуспеянию»3.
Беспочвенность этих утверждений была настолько очевидной, что
сам же Максимов в другой работе, не упоминая уже о прежней своей
оценке роли общины, приводит материал, который раскрывает
действительную картину экономического положения крестьян-горцев. В этой
новой работе Максимов (под псевдонимом «М. Слобожанин») писал,
что в горах Осетии общинники владели участками земли, не
превышавшими «120, 180, 240 и 290 кв. саженей и очень редко — !Д — 7з
казенной десятины»4. Здесь же он вынужден был признать, что несмотря па
колоссальный труд, который тратила крестьянская семья на обработку
такого участка земли, она все-таки «не обеспечивала себе хлеба па
весь год»5.
Одновременно с Максимовым и даже в сотрудничестве с ним
работал по осетинам Г. А. Вертепов, давший несколько этнографических
очерков о них6. Наряду с проблемами, затронутыми Максимовым.
Вертепов описал некоторые вопросы из области общественного и семейного-
быта осетин.
О
'Евг. Максимов. Осетины. Историко-статистический очерк. «Терский сборник»,,
кн. 2, Владикавказ, 1892, стр. 40.
2 Евг. Максимов. Осетины. Историко-статистическнй очерк, стр. 40.
3 Т а м ж е, стр. 47.
4 М. Слобожанин. Очерки и воспоминания. СПб., 1909, стр. 311.
5 Т а м ж е.
6 Г. А. Вертепов. В горах Осетии. Газ. «Терские ведомости», 1900, № 38—40, 42,
44, 45, 48, 50—52; его же: Похоронные обряды у осетин. Газ. «Терские ведомости»,
1901, № 172; Очерки кустарных промыслов в Терской области. «Терский сборник»,
вып. I, 1897.
28
Максимов и Вертепов как апологеты1 колониальной политики
^царизма важнейшие вопросы социально-экономических отношений и
общественного быта осетин и других горцев Терской области освещали
с позиций реакционной буржуазной историографии, что, между прочим,
беспощадно изобличалось Коста Хетагуровым.
Значительный интерес представляет работа А. Г. Ардасенова
«Переходное состояние горцев Северного Кавказа».2 В ней Ардасенов дал
глубокий анализ развития горского крестьянского хозяйства в
пореформенный период и особенно в последние полутора-два десятилетия
XIX века. Автор показал изменения, произошедшие в экономике, быту
и идеологии осетин и других горцев Северного Кавказа под влиянием
капиталистического развития. Новые социально-экономические
отношения, как указывал Ардасенов, подвергли осетин тяжкому испытанию.
Капитализм активно втягивал их в свой водоворот, где он безжалост-
но разрушал их привычный, покоившийся на натуральном хозяйстве
уклад жизни. Процесс же перестройки его в соответствии с
требованиями капиталистического рынка и фабричного производства протекал
мучительно и по существу привел массы горского крестьянства к
разорению, поставив их на край нищеты. Разумеется, перестраивалось не
только хозяйство, но и вся общественная жизнь горцев. Общественные
институты и нормы, регулировавшие до сих пор все многослойные
отношения людей, потеряли свою прежнюю силу и значение. Складывались
новые понятия и в области семейных отношений.
Частная капиталистическая собственность наносила окончательный
удар патриархальной семейной общине, разрушив прочность ее бы-
.лого единства. Произошли изменения и в брачных отношениях и
обрядах. В частности, натуральная форма калыма была заменена денежной.
Наряду с перечисленными выше вопросами Ардасенов попытался
осветить сельскую общину. Однако он преувеличил значение последней в
-экономической жизни крестьян. Работа А. Г. Ардасенова, несмотря на
некоторые ее недостатки, является ценным материалом для показа и
характеристики некоторых явлений в хозяйстве, общественном и
семейном быту осетин в описываемое время3.
В 80—90-х годах был опубликован, кроме того, целый ряд
отдельных очерков и статей по самым различным вопросам осетинской
этнографии. В большинстве из них освещаются те или другие стороны
общественного и семейного быта, а также некоторые вопросы духовной
культуры осетин. Таковы очерки: В. X.— «Кое-что о дигорцах»; Н. Н.
О
1 Они оба состояли (в разное время) редакторами газеты «Терские ведомости» и
выступали как журналисты.
г2 В. Н. Л. Переходное состояние горцев Северного Кавказа. Тифлис, 1896.
3 Газ. «Кавказ», 1887, № 339—340.
29
Харузина — «По горам Северного Кавказа. Путевые очерки»; П. С.
Уваровой — «Кавказ. Путевые заметки»; Г. Цаголова — «Заметки из
осетинской жизни. Осетинская вежливость»; его же: «Охотничий язык и
обряды у осетин. Этнографическая заметка». «Влияние религиозных
обрядов на благосостояние осетин», очерки «Из жизни осетин» и др.;
И. Кесаева — «Из жизни осетин. Похищение невесты», «Осетинские
бесноватые и лечение их»; А. Канукова — «Годовые праздники осетин»;
Гагудза Ходова (он же «Мзурон»): «Калым», «Похищение невесты»;,
А. Атаева — «Из осетинских нравов»; И. Д.— «К вопросу об
уничтожении калыма в Осетии»; К. Борисевича — «Черты нравов православных
осетин и ингушей Северного Кавказа». В последней работе содержится
интересный материал по вопросам семейно-брачных отношений и
обычному праву осетин, а также подробно исследуется обычай кровной
мести. В статье анонимного автора «Кое-что о дигорцах» описываются
локальные особенности культуры и быта осетин — жителей Дигорского
ущелья.
Н. Н. Харузин в своих путевых очерках останавливается на
характеристике хозяйственных занятий, материальной культуры и, что
важно для нас,— отдельных сторонах семейного быта, различных обрядах;
и праздниках осетин.
Те же вопросы освещает П. С. Уварова, но наиболее ценными в
приводимом ею материале являются характеристики сельскообщинного
быта и управления, роли «нихаса» в общественной жизни осетин.
Среди литературных источников, относящихся к концу XIX века,
особое место занимает работа великого осетинского поэта и
публициста, революционного демократа К. Л. Хетагурова «Особа»1. К. Л.
Хетагуров, являясь блестящим знатоком жизни осетинского народа,
тонким наблюдателем его быта, дал в своем весьма большом очерке-
подробнейшее описание различных сторон быта, хозяйства и духовной
культуры осетин. Автор хотя и говорит, что в своем очерке описывает
быт осетин Нарской котловины (откуда происходил и он сам), работа
носит обобщающий характер и воспроизводит таким образом быт
осетин в их историческом прошлом.
С большим знанием дела и научным анализом Коста Хетагуров.
наряду с превосходным описанием хозяйственного быта и материальной
культуры, рисует социальный строй осетин, общественный и семейный
быт, обычное право осетин. При написании данной работы К.
Хетагуров не только опирался на свои богатые наблюдения, но и использовал
имеющиеся к этому времени научные знания и различные источники
по истории и этнографии осетин.
В отличие от предшествующих авторов, в работах которых отсут-
О
1 К. Л. Хетагуров. Собрание сочинений в пяти томах, т. IV, М, 1960.
36
ствовала социальная характеристика материала, Коста Хетагуров
«предал своей этнографической работе боевой социально-заостренный
характер, определив тем самым все последующее развитие осетинской
этнографии с передовой общественно-прогрессивной точки зрения»1.
Коста Хетагуров от своих предшественников, как этнограф, кроме
того, отличался тем, что он требовал и от других ответственного
отношения к освещению истории и культуры осетинского и других народов
Кавказа. «Правильное и всестороннее изучение кавказских туземцев в
связи с их прошлым,— указывал он,— является весьма существенным
фактором в деле наиболее успешного развития края»2. И обращаясь
к представителям осетинской национальной интеллигенции, он писал:
«правильное изучение нашей родины и наших собратьев для нас
должно быть дороже, чем для кого бы то ни было»3. Это требование в полной
мере отразилось в работе самого К. Хетагурова.
Таким образом, этнографический очерк К. Хетагурова выделяется
из всей массы дореволюционной этнографической литературы, являясь
ценнейшим источником по этнографии осетин и в первую очередь по
исследуемым нами вопросам.
Важный этнографический материал, обработанный с такой же
тщательностью, содержится и в литературных произведениях и
публицистических статьях К. Хетагурова.
Многочисленный и интересный материал опубликован и в 900-х
годах. Он состоит из очерков и статей, посвященных различным вопросам
осетинской этнографии, в том числе общественного быта осетин. Это —
очерки X. Уруймагова: «Похоронный обряд и воззрения осетин на
загробную жизнь», «Суеверия и обычаи осетин», «Еще о калыме в
Осетии», «Примирение кровников» и др.
Вопросам о кровной мести у осетин, все еще распространенной
в начале XX века, специальные работы «Кровная месть у осетин»,
«Примирение кровников» посвятил С. Каргинов. Им был опубликован также
ряд статей по другим вопросам осетинской этнографии, заключающих
в себе некоторый материал по вопросам общественного быта.
В ряду значительных работ данного периода стоит историко-этно-
графический очерк 3. Сосиева «Станица Черноярская», посвященный
моздокским осетинам. Он интересен тем, что в нем показывается, как
последние, несмотря на их общественное устройство (состояли в
казачьем сословии) и близость к русскому населению, в значительной
мере сохранили формы былого общественного строя, институты сель-
©
1 Л. П. Семенов. Этнографический очерк у Коста и его предшественников.
Известия СОНИИ, т. XXI, вып. III, 1959, стр. 170.
2 К. Л. Хетагуров. Собрание сочинений, т. IV, стр. 311.
3 ОРФ СОНИИ, фонд Коста. Публицистика, документ 55, стр. 2.
31
•ской общины, сложившиеся в отдаленные времена в условиях их
прежнего места обитания. Кроме того, у черноярских осетин, как явствует
далее из работы, устойчиво держались традиционные отношения и
обычаи семейного быта.
Земельный вопрос, порядок землевладения и землепользования
составляли всегда острую проблему в общественной жизни осетин.
Отсюда, на протяжении веков у них выработались своеобразные нормы и
правила пользования как родовыми (частными) землями, так и
общинными угодьями. Этому мало разработанному вопросу посвящает свою
работу «Обычное земельное право и право землевладения у горных
осетин Терской области» А. Есиев1.
Несомненный интерес для характеристики этих же вопросов, а
также экономического положения осетин и описания их общественного
строя, хозяйственного и общинного быта и некоторых общественных
правил и институтов, восходящих к более ранним этапам истории,
представляет работа известного общественного и культурного деятеля
М. К- Гарданти (Гарданова) «Социально-экономические очерки.
(Современная Северная Осетия)»2, конфискованная и изъятая царскими
властями за остроту поставленных в ней социальных вопросов сразу
же после ее опубликования и сохранившаяся лишь в фондах
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
Социальной заостренностью отличается и труд А. Скачкова «Опыт
статистического исследования горного уголка (Экономический очерк)»3.
Для своего исследования Скачков избрал Дагомский приход в Алагир-
ском ущелье. Автор описал тяжелое экономическое положение крестьян-
горцев и его социальные причины. В работе со знанием дела
описываются хозяйственные занятия и материальная культура осетин-горцев;
причем эти вопросы освещаются автором в социальном аспекте. Меткле
замечания делает Скачков и по вопросам общественного и семейного
быта, давая по ним интересный материал.
В числе заслуживающих внимания источников по интересующим
нас проблемам должна быть названа работа осетинского антрополога,
доктора медицины профессора М. А. Мисикова «Материалы для
антропологии осетин»4.
Из работ дореволюционных авторов-осетин труд Мисикова — самый
О
1 А. Есиев. Обычное земельное право и право землевладения у горных осетин
Терской области. Владикавказ, 1901.
2 М. К. Гарданти. Социально-экономические очерки (Современная Северная
Осетия). Владикавказ, 1908.
3А. Скачков. Опыт статистического исследования горного уголка (Экономический
очерк). Владикавказ, 1905.
4 М. А. М и с и к о в. Материалы для антропологии осетин. Одесса, 1916.
•32
обширный и наиболее полный по охвату вопросов. В нем рассмотрен
почти весь круг этнографических проблем: хозяйство, материальная
культура, семейный быт, общественные формы и отношения.
Труд Мисикова еще примечателен тем, что в отличие от
подавляющего большинства использованных нами работ, в нем объектом
этнографического описания являются жители плоскостной Осетии, культура
и быт которых, вполне понятно, имеют свои особенности. Они и
показаны автором с достаточной полнотой. Превосходное знание автором
осетинского быта, понимание им наблюдаемых явлений и научная
эрудиция помогли Мисикову правильно истолковать освещаемые вопросы,
показать картины общественного быта, ускользавшие от внимания
многих исследователей.
В качестве литературных источников, привлеченных для
сравнительного освещения поставленных в монографии проблем, большое
место заняли общекавказский материал и специальные труды по
отдельным народам Кавказа, опубликованные также до революции. Из них
мы укажем на работы С. Егизарянца — «Брак у кавказских горцев»;
В. В. Сокольского — «Архаические формы семейной организации у
кавказских горцев»; Л. В. Малинина — «О свадебных платежах и
приданом у кавказских горцев»; Г. Ф. Чурсина — «Свадебные обычаи и
обряды на Кавказе», «Траур у кавказских народов», «История вдовьего
траура», «Культ мертвых на Кавказе», «Очерки по этнологии
Кавказа» и др.; Ф. Щербины — «Общинный быт и землевладение у
кавказских горцев»; Б. А. Ланге — «Балкария и балкарцы»; Б. В. Миллера —-
«Из области обычного права карачаевцев»; Ч. Ахриева — «Ингуши.
Этнографический очерк», «Присяга у ингушей»; У. Лаудаева —
«Чеченское племя»; Н. Н. Харузина — «Заметки о юридическом быте чеченцев
и ингушей»; Б. К. Далгата — «Первобытная религия чеченцев»; А. С.
Хаханова — «О мохевцах», «О пшавах», «Тушины», «Суд общины у
грузин-горцев»; Н. Л. Абазадзе — «Семейная община у грузин»; М. Джана-
швили — «Абхазия и абхазцы»; X. Самуэли — «Очерки по обычному
семейному праву армян» и целый ряд других работ.
Не останавливаясь на характеристике каждой из отмеченных
выше работ, следует, однако, сказать, что эти и другие работы,
использованные нами, дали возможность установить общеисторические явления
в общественном строе и быте осетин и их соседей — грузин, чеченцев,
ингушей, балкарцев, карачаевцев, кабардинцев и др.
Единые формы социальных отношений и культуры указывают
также на древние этнокультурные связи осетин с этими народами. Кроме
того, некоторые обычно-правовые нормы и обычаи общественного быта
балкарцев, карачаевцев, ингушей, горных грузин и других проливают
свет на такие же общественные формы и отношения у осетин.
Наконец, данная группа источников помогла нам рассмотреть
проблемные вопросы на фоне общекавказского материала.
Заслуживают особого внимания этнографические работы по осети-
3 А. X. Магометов 33
нам, опубликованные после революции и особенно за последние годы.
Написанные на иной методологической основе (марксизма-ленинизма),
они отличаются, прежде всего, глубиной освещения поставленных
вопросов. Подавляющее большинство их носит характер исследований.
Первой по времени и наиболее значительной работой этого периода
был этнографический очерк известного этнографа-кавказоведа Г. Ф.
Чурсина «Осетины». Чурсин наряду с другими этнографическими
явлениями и фактами уделил внимание и вопросам общественного и
семейного быта осетин, которые он в целом истолковал правильно. В эти же
годы писал об осетинах В. П. Пожидаев, поместив о них отдельный
очерк в книге «Горцы Северного Кавказа»1.
Первым из осетинских этнографов послеоктябрьского периода
вопросы общественного быта и отношений стал разрабатывать 3. Н.
Ванеев, который на основе теоретических положений марксизма дал ряд
серьезных исследований о родовом строе у осетин. Это такие его
работы, как: «Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин»,
(Владикавказ, 1926), «Родовой строй в Осетии» (Сталинири, 1946), «Из
истории родового быта в Юго-Осетии» (Тбилиси, 1955), «Общество
нартов (опыт социально-исторического анализа нартовских сказаний)»
(Сталинири, 1935).
Вопросы социальных отношений и общественного быта,
теоретическое их осмысление даны в трудах профессора Г. А. Кокиева —
«Крестьянская реформа в Северной Осетии» (Орджоникидзе, 1940), «Боевые
башни и заградительные стены горной Осетии», «Склеповые сооружения
Северной Осетии» (Владикавказ, 1928), «К вопросу об аталычестве»2
и др. Эти вопросы Кокиев рассматривает и в работах, посвященных
Штедеру, Ю. Клапроту, С. А. Туккаеву и С. В. Кокиеву, а также в
подробных комментариях к 1 тому «Материалов по истории Осетии»
(Орджоникидзе, 1934).
Крупным вкладом в теоретическую разработку общественных форм
и отношений у народов Кавказа и отчасти осетин являются труды
профессора М. О. Косвена, к которым неоднократно обращался автор в
ходе исследования отдельных вопросов темы. В этом отношении
важными источниками оказались такие его работы, как «Древняя
общественная структура народов Кавказа», «Из истории брака и семьи у
народов Кавказа» и «М. М. Ковалевский как этнограф-кавказовед»,
вошедшие в книгу «Этнография и история Кавказа» (М., 1961), а также
«Проблема общественного строя горских народов Кавказа в ранней
русской этнографии», «Семейная община и патронимия» (М., 1966),
©
1 В. П. Пожидаев. Горцы Северного Кавказа. Краткий историко-этнографический
очерк. М.-Л., 1926.
2 Журн. «Революция и горец», 1929, № 3. . .
34
«Авункулат» и др. Осетинам Косвен посвятил и специальную работу —
«Из истории родового строя в Юго-Осетии»1.
Кроме того, М. О. Косвен дал полный обзор дореволюционной
литературы по общественному строю кавказских народов, в том числе
осетин в «Материалах по истории этнографического изучения Кавказа
в русской науке»2, которые он снабдил комментариями и ценными
историографическими замечаниями.
Другой известный советский этнограф проф. С. А. Токарев
осетинам посвятил интересный и содержательный историко-этнографический
очерк, включенный в его фундаментальную работу ^Этнография
народов СССР». В нем, определяя исторические особенности общественного
строя осетин, С. А. Токарев дал предельно четкую характеристику
общественных форм и институтов, уходящих своими корнями в родовой
строй. Очень ценны его замечания по вопросам о генезисе феодализма
в Осетии, о большой семье и родственных объединениях (фамилия,
«мыггаг»), о сельской общине и др.3
Проф. Б. В. Скитский специально вопросами этнографии не
занимался, но, исследуя различные актуальные проблемы осетинской
истории, он внес серьезный вклад в изучение культуры и быта осетин и
прежде всего их общественного быта и социальных отношений. В
основном эти вопросы Скитский рассматривает в своей монографической
работе «Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен
до 1867 года» (Дзауджикау, 1947). Для реконструкции древнего быта
и архаических форм автор использовал не только исторические
известия, но и широко привлек нартский эпос и исторический фольклор
осетин.
Исследуя процесс зарождения и развития феодальных отношений,
Б. В. Скитский показал картину ломки родовых институтов,
превращения родовых общин в соседские и другие. Он в то же время указал на
сохранение и бытование у осетин сильных пережитков дофеодальных
отношений, активную роль последних в общественной жизни общинников-
и др. Заслуживают внимания заметки Скитского о семейном быте,
обычаях и нравах осетин, данные им в его «Очерках по истории
осетинского народа...»
Особой заслугой Б. В. Скитского является исследование им на
основе марксистской методологии проблемы феодализма, зарождения я
развития феодальных отношений в Северной Осетии. Он первым из
©
1 М. О. Косвен. Этнография и история Кавказа, М., 1961.
2 Кавказский этнографический сборник, вып. I—III, М., 1955, 1958, 1962.
3 С. А. Токарев. Осетины. В его кн.: Этнография народов СССР, М., 1958, стр.
266—267.
35
советских историков поставил вопрос о периодизации феодализма в
Осетии.
Теоретическая оценка и анализ общественных отношений и форм
даны также в многочисленных трудах доктора исторических наук
профессора М. С. Тотоева. Наиболее полно взгляды ученого на эти
проблемы даны в его работах «К истории дореформенной Северной
Осетии» (Орджоникидзе, 1955) и «Очерки истории культуры и
общественной мысли в Северной Осетии в пореформенный период», а также в
очерках, написанных М. С. Тотоевым для «Истории Сезеро-Осетинской
АССР» (М„ 1959).
Кроме того, в связи с исследованием творчества осетинских
этнографов Тотоев рассмотрел вопросы этнографии осетин, где проблема
общественного быта занимает одно из основных мест.
Несомненный интерес представляет монография профессора Б. А.
Цуциева «ЭконОхМическое и культурное развитие Северной Осетии за
годы Советской власти» (Орджоникидзе, 1967), в которой автор,
обращаясь к дореволюционному времени, приводит ценный материал об
экономическом строе и хозяйственном быте осетин.
Изучением исторической этнографии осетин немыслимо заниматься,
не обращаясь постоянно к трудам доктора филологических наук
профессора В. И. Абаева. Выдающийся советский лингвист, как известно,
специально вопросами осетинской этнографии не занимается. В. И. Аба-
ев на основе богатого языкового материала освещает целый ряд самых
отдаленных эпох истории осетинского народа, восстанавливает картину
древнейшего быта, социальных институтов осетин. К числу таких работ
относится, например, его большой обобщающий труд «Происхождение
и культурное прошлое осетин по данным языка»1. Исключительный
интерес как источник представляет его капитальный труд «Историко-
этимологический словарь осетинского языка» тт. I и II. В этих
трудах В. И. Абаев скрупулезно исследует древние формы хозяйства,
восстанавливает картину социального строя у древних осетин. На
основе анализа различных слов он реконструирует родовую организацию
осетин, из которой легко сделать вывод, что род «мыггаг» был
первичной, а семья «бинонтае» вторичной организацией, что древний род
возник не как результат расширения кровнородственной семьи, а наоборот,
семья выделилась вторичным образом из древнего рода, что было
связано с возникновением института частной собственности. Ученый
объясняет также некоторые понятия и обычаи, восходящие к периоду
военной демократии, а также к сельскообщинному быту осетин. Очень
пенны объяснения происхождения и значения многих социальных
терминов и обычаев, возникших в ранние периоды их истории.
О
1 В кн.: В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, М.-Л., 1949.
36
Для восстановления картины древнего быта и социальных
отношений осетин В. И. Абаев широко использовал также нартский эпос1.
Огромный интерес вызывает освещение картины распада родового
строя, конкретных форм, которые принимали складывающиеся новые
общественные отношения, изучение форм перехода от
первобытнообщинного строя к классовому обществу. В эту весьма важную, но до сих
пор не освещенную и не разработанную проблему, В. Й. Абаев внес
полную ясность.
Вопросы социальных отношений у осетин (особенно генезис
феодализма в Осетии) рассматриваются в монографиях проф. М. М. Бли-
ева «Осетия в первой трети XIX века» (Орджоникидзе, 1964) и «Русско-
осетинские отношения» (Орджоникидзе, 1970).
Отдельные вопросы общественного быта и социальных отношений
разрабатывались в работах Е. Г. Пчелиной, Н. Ф. Такоевой, Б. А. Ка-
лоева, 3. Д. Гаглоевой, В. К. Тотрова, Л. А. Чибирова, Б. С. Кулова.
Пчелиной на основе полевого материала и литературных источников
написаны и опубликованы такие статьи, как «Обряд гостеприимства в
Осетии», «Родильные обычаи у осетин», «Дом и усадьба нагорной
полосы Юго-Осетии».
Вопросы семейного быта и обряды рассмотрела Н. Ф. Такоева в
содержательных статьях «К вопросу о браке и свадебных обрядах у
северных осетин в XIX — начале XX вв.» и «Погребальные и
поминальные обряды осетин в XIX веке». Б. А. Калоев написал и опубликовал
книги «Осетины» (М., 1967) и «В. Ф. Миллер — кавказовед»
(Орджоникидзе, 1963), очерк о моздокских осетинах, в которых автор касается
наряду с другими проблемами и вопросов общественного строя и
семейного быта осетин. Большой интерес представляют работы 3. Д.
Гаглоевой, посвященные религиозным верованиям осетин «О
пережитках аграрного культа в Джавском районе Юго-Осетинской А. О.»,
«Составные элементы праздника «Ног бон» и др. Эти работы интересны
тем, что описываемые в них культовые обряды по большей части
связаны с семейыо-родовым и сельскообщинным культами.
Семье и семейному быту у южных осетин (конец XIX — начало
XX вв.) интересное исследование (кандидатскую диссертацию)
посвятил В. К- Тотров. В своей работе Тотров показал ряд архаических черт
в семейном быту, сохранившихся к указанному времени у осетин
высокогорной части Джавского района Юго-Осетии. Приводимые Тотро-
вым в этой работе данные могут быть использованы в качестве
сравнительного материала.
Несколько интересных статей о религиозных верованиях и обрядах
О
1 В. И. Абаев. Нартовский эпос. Орджоникидзе, 1945; его же: Историческое в нарт-
ском эпосе. В сб. Нартский эпос, Дзауджикау, 1949.
37
осетин в последние годы написал и опубликовал юго-осетинский
этнограф Л. А. Чибиров. В них автор частично затрагивает и в ряде мест
хорошо освещает семейно-родовой культ осетин, семейные обряды и
праздники. Чибировым в 1969 году опубликована брошюра
«Социалистическая культура осетинского села» (на осетинском языке; на
материалах Юго-Осетии), в которой для сопоставления с современным
положением затрагиваются отдельные вопросы из дореволюционного
семейного быта осетин. Несомненный интерес представляет новая работа
Л. А. Чибирова «Осетинское народное жилище», в которой автор
исследовал социальные отношения, обычаи и культы осетин, связанные с
жилищем и очагом.
Вопросы семьи и брака у осетин рассматриваются в работе Б. С.
Кулова «Северная Осетия в прошлом и настоящем». Определенный
интерес представляют для нас две статьи К. Д. Кулова — «Пережитки
родового быта в Северной Осетии» и «Матриархат в Осетии», в которых
автор приводит общие положения о родоворд строе и сообщает о
некоторых его пережитках в Осетии.
Попытку осветить родовой строй у осетин сделал А. Самойло
(г. Горький). В написанной им работе «К вопросу о родовом строе у
северных осетин в эпоху завоевания Россией (конец XVIII — начало
XIX вв.)». Задачу своего исследования он определил так: «дать
описание социальных отношений осетин, дать характеристику хозяйственных,
политических, бытовых и религиозных явлений осетинского общества в
эпоху завоевания Россией с точки зрения связи их с родовыми
отношениями. На основе этих данных попытаться решить вопрос — является
ли осетинское общество этого времени родовым»1.
Все перечисленные выше работы представляют для нас
несомненный интерес. В них в той или другой степени затрагивались
интересующие нас проблемы, авторы их внесли в разработку поставленных ими
вопросов несомненный вклад.
Проблемы общественного и семейного быта осетин рассматривались
нами в книгах: «Культура и быт осетинского крестьянства»
(Орджоникидзе, 1963), «Культура и быт осетинского народа» (Орджоникидзе,
1968), «Семья и семейный быт осетин в прошлом и настоящем»
(Орджоникидзе, 1962), в работе «Сельская община у осетин» и в ряде статей,
опубликованных в разное время.
Автор использовал также работы советских этнографов по
народам Кавказа, с которыми осетины в течение сотен лет тесно общались,
испытывая влияние их культур, и развивались в одинаковых с ними
О
1 А. Самойло. К вопросу о родовом строе у северных осетин в эпоху завоевания
Россией (конец XVIII—начало XIX вв.). Труды Горьковского государственного
педагогического института, т. VII, стр. 91.
38
социально-экономических условиях, что способствовало складыванию
у них одинаковых форм быта и социальных отношений, наконец, сами
они участвовали в формировании общекавказской культуры, внеся в
нее свой вклад. Кроме определения этой общности в культуре и
выявления наряду с этим осетинской специфики данная группа источников
использована нами как сравнительный материал.
В своем исследовании мы широко опирались на разнообразный
архивный материал. Нами использованы фонды Центрального
Государственного архива Северо-Осетинской АССР (ЦГА СО АССР),
Центрального Государственного архива древних актов (ЦГАДА),
Центрального Государственного военно-исторического архива (ЦГВИА),
Центрального Государственного исторического архива Грузинской ССР
(ЦГИА Груз. ССР), Центрального Государственного архива Чечено-
Ингушской АССР (ЦГА ЧИ АССР), материалы рукописных фондов
Института истории, экономики, языка и литературы при Совете
Министров Северо-Осетинской АССР, Музея краеведения
Северо-Осетинской АССР.
Для исследования истории и этнографии народов, ранее не
имевших своей письменности, исключительное значение приобретает
фольклорный материал. Такое же место фольклор может занять в
восстановлении картины древнего быта и социальных отношений у осетин.
Богатый нартский эпос, многочисленные народные сказки и легенды и
«исторические» предания донесли до нас из глубины веков такие картины
и черты осетинского быта, которые не могут быть обнаружены теперь
в живом быту или восстановлены другим путем. Отсюда перед нами
стояла задача привлечь и эти материалы и использовать их в
соответствующих разделах исследования. Нами использованы главным
образом опубликованные как до революции, так и в советское время
отдельными сборниками произведения осетинского фольклора.
ДРЕВНИЕ ИСТОКИ
И ПОЗДНЕЙШИЕ СВЯЗИ
тобы понять явления, наблюдаемые на
протяжении весьма длительного времени в быту и
общественных отношениях осетин, следует заглянуть в
глубь истории народа, разобраться в том, как
формировались эти явления, что служило их
основой и питательной средой в последующие
эпохи. История народа показывает, что она
формировалась в строгом соответствии с общей
закономерностью общественного развития, в
конкретных исторических условиях. В основе
исторического развития осетинского общества, его
эволюции от первобытнообщинных форм до классовых отношений лежали
не только внутренние факторы обще-исторического процесса, но и
внешние факторы. Одним из этих внешних факторов, причем очень важных,
была внешняя среда, окружавшая осетин.
Аланы-осетины и их предки с древнейших времен имели широкие
международные, политические, экономические и этнокультурные связи.
Встречаясь на огромных пространствах с различными по
происхождению и уровню развития племенами и народами, они, естественно,
подвергались внешнему влиянию. Отсюда наряду с исконно осетинскими
(аланскими) традициями и формами в общественной жизни осетин мы
обнаруживаем общественные явления и культурные традиции, присущие
народам, с которыми аланы-осетины находились в тесных связях.
Однако в исторической этнографии осетин нам известны общественные
формы, которые встречаются и у многих других народов земного шара,
с коими осетины никогда не общались. Данный факт свидетельствует
о том, что общественная жизнь осетин шла теми же путями развития,
40
что и у большинства народов мира. В этих путях развития осетин мы
видим подтверждение общих. закономерностей развития человеческого
общества.
Таким образом, привлекаемый нами осетинский этнографический
материал дополняет уже известные исторические факты, служит яркой
иллюстрацией к исторической панораме общественного прогресса.
Многое до конца не будет понятным, если мы не обозрим хотя бы
вкратце историю осетинского народа, не заглянем в ее истоки, не пред»
ставим себе картину его исторического развития, его обширные
исторические связи на протяжении веков.
Историю формирования и эволюции социальных институтов нельзя
отделить от этнической истории народа./Традиции, созданные далекими
предками, бережно сохранялись и передавались последующим
поколениям. Это было одной из важнейших особенностей, правил этнического
(национального) развития.
Сейчас общепризнана теория, согласно которой осетины свое
происхождение ведут от ираноязычных скифов и сарматов. Последние
отождествляются с аланами, непосредственными предками осетин.
Воинственные и кочевые племена скифов появились в степных
районах Юго-Восточной Европы в VIII в. до н. э. Они пришли из степей
Средней Азии. В северном Причерноморье скифы составляли основное
население. Здесь они создали Скифское государство (царство), вернее
политическое объединение, образовавшееся на основе союза собственно
скифских племен. Скифы составляли северо-иранскую группу
индоевропейской языковой семьи. Генетически, т. е. по принадлежности к одной
языковой группе, а также по материальной и духовной культуре они
были родственны сарматам, массагетам и сакам. Аланы-осетины
составили дальнейший этап этнического развития скифов и унаследовали их
язык. Нет нужды особо останавливаться на этом факте, ибо это
исчерпывающе доказано в трудах русских и советских ученых, а также
зарубежных иранистов.
О том, что современный осетинский язык является наследником
иранского языка скифов говорят, в частности, названия многих
местностей, некогда населявшихся скифами, объясняющиеся из осетинского
языка. Имена некоторых скифских царей и богов, а также ряд
собственных имен, обнаруженных в надписях на территории Причерноморья,,
также объясняются из иранских (скифо-массагетских) и осетинского
языков (например, названия рек Дон, Днепр, Днестр, Дунай и др.).
Осетины принесли с ссбой из далекого прошлого имя прославленной
сакской царицы и полководца Зарины.
Генетическая связь осетин со скифами подтверждается еще
многими общими явлениями в материальной культуре, быте и религиозных
верованиях обоих народов. В русской историографии на это обратил
внимание В. Ф. Миллер, который посвятил этому вопросу специальные
работы («Черты старины в сказаниях и быте осетин», «Иранские отго-
41
лоски в народных сказаниях Кавказа», «Иранское выражение клятвы»,
«О сарматском боге Уаетаефарне» и др.).
Конечно, было бы ошибкой утверждать, что осетины унаследовали
язык и культуру скифов в чистом виде. Скифы сами, придя в
соприкосновение с местным, аборигенным населением, испытали его
влияние, переняли многое из культуры автохтонных кавказских племен.
Часть скифов вела оседлый образ жизни и занималась
земледелием. Скифы-пахари выращивали не только хлеб, но и чечевицу, лук,
чеснок, коноплю. Об уровне земледелия у скифов говорит тот факт, что
•они сбывали иноземным купцам много зерна. Чуть ли не вся Греция
снабжалась тогда скифским хлебом.
Другая часть скифов — кочевники — занималась скотоводством,
разводила крупный рогатый скот, овец, табуны лошадей. Последние
составляли основное их богатство.
Большое место в жизни скифов-кочевников занимала война.
Анализ исторических источников говорит о том, что скифы в своем
развитии находились на стадии военной демократии, что определило их
образ жизни. В истории известны сокрушительные и стремительные
набеги и походы скифов на другие страны и племена. Они с успехом
отражали нашествия врагов. Благодаря своему блестящему военному
искусству они во главе с царем Иданфирсом разбили
шестисоттысячное войско персидского царя Дария, стремившегося к захвату мира.
Отличившиеся в битве воины-скифы получали право пить вино из
особой чаши, как это, например, было принято у нартов (чаша «Уаца-
монга»).
Археологические находки, наряду с письменными источниками,
позволили ученым определить некоторые элементы общественного
устройства у скифов в первом тысячелетии до нашей эры. Это был
первобытнообщинный строй на стадии разложения.
В скифских племенах происходит имущественная дифференциация,
образуется богатая и влиятельная верхушка рода и племенная
аристократия и, наконец, утверждается строй военной демократии. Последний
во многом определил место и роль скифов на политической и
экономической арене тогдашнего мира.
Представляет для нас немалый интерес, и материальная культура
скифов. Так, жилища оседлых племен строились круглой формы из
жердей, вбитых заостренными концами в почву. В центре его
располагался очаг, а по стенам — лежанки. Хлеб хранился в глубоких ямах,
закрытых сверху камнями. (Следует, между прочим, отметить, что
скифский способ хранения зерна был унаследован аланами, он
отмечался также у осетин).
Жилищем скифов-кочевников служила кибитка из войлока, в
которой размещались женщины, дети и все несложное имущество.
Скифы носили кафтан и шаровары, изготовлявшиеся из конопли,
шерсти, кожи или шкур. Головной убор их напоминал знакомый нам из
42
•осетинского быта башлык («басылыхъхъ») из войлока, надевали его
острым концом кверху (прототип осетинской войлочной шляпы).
Обувь их — подобие мягких сапог из кожи. Но, судя по дошедшим
до нас изображениям, скифы носили и суконные ноговицы, похожие на
осетинские «заенгаейттае».
Будучи отличными воинами, скифы имели большой набор
совершенного по тем временам оружия: образцы его быстро распространялись
среди племен, с которыми они сталкивались на почве мирных сношений
или войны. У богатых скифов были бронзовые и железные панциры. Во
•время войны они носили бронзовые или серебряные шлемы и щиты
-(четырехугольные), пользовались дорогим оружием: короткие мечи в
золотых ножнах, лук и стрелы в золотом или серебряном футляре, а
также железные копья и дротики. Лук и стрелы были их основным
оружием.
Значительное развитие получили ремесла: скифы отливали и
чеканили металлические украшения и оружие, выделывали прекрасную
посуду из глины.
Особое место в скифской культуре занимает искусство. На бытовых
предметах из бронзы, железа, кости, золота и серебра скифские
художники с большим мастерством исполняли фигуры зверей, животных, птиц,
рыб и др. Такие фигуры украшали одежду и головные уборы. На шее
скифы носили золотые или серебряные гривны-кольца с изображением
на них фигур животных. Животным и звериным орнаментом
украшались предметы вооружения (например, на щитах изображались олени
и барсы).
Скифские художники показали самих скифов, их облик, форму
одежды. Чаще всего скифы предстают в действии, во время обычного
их занятия (сцены охоты, битвы, воинского братания, врачевания и др.)-
Это дает нам наряду с письменными источниками и археологическими
материалами возможность составить представление об их одежде,
занятиях, «увидеть» их самих. Ценный материал в этом отношении
заключают в себе предметы из Куль-Обского (в Керчи) и других
скифских курганов.
Скифские памятники искусства удивительно реалистичны, они —
свидетельство блестящего художественного таланта их исполнителей.
Большая заслуга в изучении скифской культуры принадлежит
крупному советскому ученому — лауреату Ленинской премии,
профессору Е. И. К'рупнову. В монографии «Древняя история Северного
Кавказа» он дает исчерпывающую характеристику скифской культуры.
«Скифская культура,— пишет он,— это величайшее
культурно-историческое явление' в истории юга нашей страны, явление, сыгравшее
огромную роль в истории многих древних племенных групп, культурно или
генетически связанных с некоторыми современными народами
Советского Союза. ...Скифы были не только всергзрушающими варварами, они
являлись большой творческой силой, в значительной степени определив-
43
шей весь ход исторического процесса на юге и юго-востоке нашей:
страны».
В IV—III веках до н. э. скифы ослабевают и их оттесняют
родственные им ираноязычные племена — сарматы; они заняли господствующее
положение в Причерноморских степях, в Прикубанье и центральных:
областях Северного Кавказа.
Много общего в общественном строе скифов и сарматов: родовой;
строй был на стадии распада, выделялась родовая и племенная знать,
утверждался строй военной демократии. При этом у сарматов
сохранялись значительные пережитки матриархата: женщина в общественной
жизни занимала исключительное место, вплоть до того, что она
участвовала вместе с мужчинами в походах, а нередко и возглавляла
военные отряды. Много общего, сходного в быту и нравах сарматов и
скифов. И по роду занятий сарматы, как и скифы, делились на
земледельцев, с оседлым образом жизни, и скотоводов, кочевавших в поисках
богатых пастбищ для скота. Сарматы носили такую же одежду, как и
скифы: кафтан и штаны (шаровары), плащ, напоминающий
кавказскую бурку, голову покрывали башлыком или остроконечной шапкой.
Вооружение — длинный меч и тяжелое копье, железный кольчужный
панцирь (хотя употребляли и панцири из костяных чешуек).
Довольно сильно было развито у этого народа прикладное
искусство. В изделиях сочетались драгоценные металлы (золото) с цветными
камнями и цветной эмалью. Широко применялось стекло в золотой
оправе, расцвеченное драгоценными камнями, бахромой золотых
цепочек и привесок с вставленными золотыми камешками.
Культура сарматов оказала заметное влияние на народы, с
которыми они соприкасались. Они поддерживали тесные торговые связи с
соседними племенами, контролировали торговые пути по западному
побережью Каспийского моря и через горные проходы Центрального
Кавказа. Часть сарматов вела посредническую торговлю между
Востоком и Западом. Довольно активными были их торговые связи с
греческими городами Причерноморья.
Сарматы объединяли несколько родственных по своему
происхождению племен, среди которых основное ядро составляли аланы. Впервые
об аланах, живших в районе Приаралья, т. е. там, где обитали их
предки скифы и сарматы, упоминается.в китайских источниках II века
до нашей эры, которые их называли «янцай>>. А уже в I веке нашей
эры в греческих и латинских источниках появляется само этническое
наименование «аланы», но в связи с появлением их в Северном
Причерноморье.
Аланы к I веку нашей эры составляют внушительную военную и
политическую силу "в составе сарматского племенного союза. К этому
же времени относится постепенное исчезновение скифских племенных
названий в Центральном Предкавказье. Более того, этнография
центральных районов Северного Кавказа с приходом алан начинает резко
44
.меняться. Значительные массы сарматов-алан, вторгшихся с севера,
.ассимилировали местное, аборигенное население, которое, по всем
данным, не было однородным. Однако этот процесс не прошел бесследно
для самих алан. В дальнейшем (имеется в виду более позднее время)
-он повел к качественно новому явлению — формированию новой
народности—осетин. Сохранив в основе языка иранскую речь, аланы
(осетины) пополнили ее за счет местных кавказских языков, переняли многие
элементы более развитой, оседлой культуры, восприняли многие черты
.психического склада, физического облика, быта и элементы фольклора
аборигенных племен. И этим, в частности, объясняется сходство осетин
с кавказскими племенами в культуре, быту и нравах.
Итак, в этногенезе осетин участвовали два основных компонента —
скифо-сармато-аланский и кавказский.
Аланы, вступив на историческую арену как сильный племенной
союз, стали вести широкую и активную внешнюю политику,
предпринимали крупные военные походы как на юг, так и на запад. Политическому
и экономическому возвышению алан, укреплению их международных
связей во многом способствовало то, что они занимали пути,
связывающие Причерноморье с Передней Азией (через Армению), с Индией и
Мидией и со Средней Азией до Китая. Другим фактором,
поддерживавшим международный вес алан, являлась их сильная военная
организация, которую стремились привлекать на свою сторону крупные в то
время государства: Грузия, Армения, Персия, Византия. Византийские и
грузинские хроники говорят о постоянных войнах алан на 'Стороне то
одного, то другого великого государства того времени. Но наибольшее
.влияние на них оказывали Грузия и Византия. В сфере политических
интересов Византии Алания продолжала оставаться вплоть до X века,
т. е. до тех пор, пока Византия не сошла с исторической арены.
В середине IV века из азиатских степей на запад, в Восточную
Европу, хлынуло мощное объединение кочевых племен — гуннов. Это
были скотоводы-кочевники, стоявшие на несравненно более низком
уровне развития, чем племена и народности, на которые они совершили
нашествие. Аланы первыми из европейцев испытали на себе дикую
жестокость и разрушительную силу грозных завоевателей. Огромные массы
алан были истреблены, а их хозяйство — разрушено. Однако победа
гуннов над аланами не была скорой. Против алан завоеватели вели
войну в течение многих лет, изматывая их частыми стычками и
нападениями. Историк середины VI в. Иордан1 (алан по происхождению)
отмечает, что «гунны завоевали аланов, утомив их беспрерывной
борьбой», подчеркивая при этом, что «аланы не уступали им в военном
деле». «Победа гуннов над аланами,'—пишет советский историк А. Н.
О
1 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Москва, 1960, стр. 91.
45
Бернштам,— может быть объяснена тем, что удар аланам был нанесем
гуннами в союзе с местными племенами»1. В результате — оседлые или
полукочевые аланские поселения Придонья и северокавказских степей
сметены с лица земли, а уцелевшее от истребления население
переселилось за Терек и укрылось в предгорьях и ущельях Центрального
Кавказа. Именно к этому времени относится первое переселение
алан-осетин в Грузию, на территорию современной Южной Осетии. Часть алан
гунны увлекли с собой на запад, куда полчища кочевников устремились
на новые завоевания.
Проходит некоторое время, и аланы на Северном Кавказе снова
становятся активной силой.
К концу VI века на Северном Кавказе большое влияние и
господство (в отдельных его частях) приобрели хазары. Они создали
могущественное царство от Волги до Азовского моря, названное в истории
Хазарским каганатом. В его составе оказались и аланы, но они
сохраняли значительную самостоятельность; управлялись своими «царями»,
проводя независимую международную политику. На это, например,
указывает борьба между Византией и Хазарией за Аланию. Обе
державы стремились удержать алан на своей стороне. Несмотря на сложность
обстановки, в которой оказались аланы, они вплоть до развала
Хазарского каганата были в тесных сношениях с хазарами. Аланы,
оказавшиеся в орбите хазарского царства, получили возможность активнее-
включиться в торговые связи с другими народами.
В то время, когда аланы находились еще в сфере хазарского
влияния, они начинают подвергаться нападению со стороны арабов,
проникших в Закавказье в VII веке. Арабы заняли Дарьяльское ущелье и
превратили его в плацдарм для нашествий на север. По этому пути
дважды в начале VIII века (в 724—725 и 735—736 годах) они
совершили нашествие на Северный Кавказ. Особенно губительным для народов
Кавказа был второй поход под предводительством арабского
полководца Мервана. Занятые земли арабы предали огню и мечу. В
результате нашествия арабов Алания пришла в упадок.
Новый экономический подъем края начинается лишь в X веке. Этому
способствовали как внешние причины — ослабление зависимости от Ха~
зарии, разгромленной Киевским князем Святославом (965 г.), конец
арабского господства в Закавказье, так и внутренние — в аланском
обществе завершился процесс разложения родового строя и утвердились
раннефеодальные отношения.
На X—XII века падает расцвет Алании, которая в это время
«приобрела черты государственного устройства». В Аланском «царстве» в
то время уже существовало классовое деление: в нем были «цари»,..
О
1 А. Н. Б е р н ш т а м. Очерк истерии гуннов. Ленинград, 1951, стр. 144.
46
«вожди», «военачальники», «знатные» (князья и вельможи) и
подвластное население («простые», «бедные», «черный народ» и др.) Главной
же фигурой производства был крестьянин-общинник, постепенно
лишавшийся общинных угодий, которые в большей части насильственным
путем отчуждались и присваивались разбогатевшей военно-феодальной
знатью.
В Алании в пору ее расцвета основными формами хозяйства были
земледелие и скотоводство. Земледелие достигает наибольшего
развития. Этому способствовали такие факторы, как окончательный переход
алан на оседлый образ жизни, наличие достаточного количества
плодородных земель, заимствование у исконно земледельческих племен
Кавказа опыта, особенно в новом для них горном земледелии. Из
земледельческих культур возделывали просо (еуу, хор), ячмень (хъаебагрхор),
пшеницу (мзензеу), овес (сысджы, ззетхзе). Просо — древнейшая
земледельческая культура скифов и сарматов — являлось основным хлебным
злаком и у алан.
Произошли изменения в скотоводстве. Значительное место в нем
занял крупный рогатый скот, дававший в большом количестве
мясо-молочные продукты и используемый в качестве основной тягловой силы в
земледельческом хозяйстве. Большое место по-прежнему занимала
лошадь. Было развито также овцеводство.
Однако тот и другой вид хозяйства не получили одинакового
развития на всей территории Алании. На равнине преобладало земледелие,
в горах — скотоводство. Охота была активным занятием населения. В
аланских лесах водились олени, зубры, медведи, косули, кабаны, а в
горах — и туры.
Достаточное по тем временам развитие получили торговля и
ремесла.
В описываемый период (вплоть до начала XIII века) Аланское
государственное объединение благодаря своему относительному
экономическому и военному могуществу приобретает большой международный
вес. Арабский историк Масуди, подчеркивая это, писал: «Царь алан
могущественный, сильный и пользуется большим влиянием, чем
остальные цари». А в хазарском источнике X века говорится, что «хазарски»!
царь заключил союз с нашим соседом, царем алан, так как царство
алан сильнее и крепче всех народов, которые вокруг нас».
С Аланией считаются не только соседние государства и племена
на Кавказе, но и Византия (аланские воины служили в византийской
армии, нередко занимая в ней высокие посты), Хазария, Персия, Тму-
тараканское княжество. Помимо торговых, военно-политических связей
заключались династические браки между представителями
царствующих домов перечисленных государств и Алании.
Одним словом, Алания являлась одной из обширных и
многолюдных стран средневековья. Территория ее включала частично места
последующего расселения кабардинцев, карачаевцев и балкарцев, а также
47
значительную часть бассейна Кубани. В этих районах Северного
Кавказа учеными открыты яркие памятники сарматской и аланской культур.
Например, от алан, густо населявших территорию Ставрополья,
осталось много памятников: могильников, городищ, поселений. На правой
стороне реки Малый Зеленчук обнаружено и исследовано одно из
крупных аланских средневековых городищ, известное по местности под
названием Адиюх. «Оно располагается на территории, которая являлась
одним из культурных и политических центров Алании»1.
Археологами открыт и за последние годы исследован в ущелье реки
Большой Зеленчук другой аланский город — Нижний Архыз
(поименованный так по теперешнему названию местности). «Огромные размеры
городища, плотность застройки его центральной части, необычайное
сосредоточение здесь древнехристианских храмов и церквей, древние
надписи, найденные на городище, остатки производства, дороги — все это
характеризует Нижне-Архызское городище как крупнейший городской
центр западной Алании в X—XIII веках»2.
Ущелье Большого Зеленчука, как показывают исследования ученых,
являлось религиозным центром Алании. По всей вероятности, тут и
находился «центр Аланской епархии (митрополии), упоминаемой
византийскими писателями»3.
Не случайно на берегу реки Большой Зеленчук был обнаружен
памятник средневековой осетинской письменности, зародившейся под
влиянием христианского просвещения. Памятник представляет собой
могильную плиту с осетинской надписью, выполненной греческими
буквами. «Это единственный, обнаруженный до сих пор памятник древней
(точнее, средневековой) осетинской письменности»4. «Густота населения,
о которой свидетельствует количество обнаруженных памятников,
значительность этих памятников говорят о богатой культурной и
политической жизни аланских племен на территории верховья Кубани и ее
левых притоков»5.
Печенеги и половцы в Алании
Уже в последние века существования Хазарии аланам пришлось
столкнуться с тюркоязычными племенами печенегов. Последние в VIII—
©
1 Т. М. Минаева. Городище на балке Адиюх в Черкесин. Сборник научных
трудов Ставропольского гос. пед. института, вып. 9, 1955, стр.. 147.
2 В. Кузнецов. Города средневековой Алании. Газ, «Социалистическая Осетия»,
21 августа 1963 г.
3 В. И. А б а е в. Древнеосетинская Зеленчукская надпись. В его книге: Осетинский
язык и фольклор, I, М.-Л., 1949, стр.
4 Т а м ж е, стр. 260.
5 Т. М. Минаева. Указ. соч., стр. 148.
48
IX вв. образовали союз тюркских племен. Печенеги находились на
стадии военной демократии, вели кочевой образ жизни. До конца IX в.
они кочевали в заволжских степях. Затем были вытеснены хазарами и
огузами и двинулись на запад, заняв огромную территорию от Дона
и Днепра до Дуная, в том числе Северное Причерноморье. Территории,
занимаемые до этого аланами, бесспорно, не отдавались без борьбы. Но
едва ли возможно длительное соседство, ведя постоянные войны, да и
ни одно племя не могло существовать физически в условиях всеобщей
войны. Поэтому, разумеется, наступала мирная полоса
взаимоотношений между аланами и печенегами. Даже отдельные аланские племена
вошли в печенежский племенной союз. Печенеги оставались в
междуречье Кубани и Дона вплоть до XI в.1
Этот период истории алан отразился в нартском эпосе, а сами
печенеги аланами названы «бедзенаегтае». В частности, как отражение
взаимоотношений алан и печенегов у осетин сохранилось одно нартское
сказание — «Арахцау — сын Бедзенага», где рассказывается о встрече
нарта Сослана с сыном Бедзенаг-алдара — Арахцау, о их
побратимстве, состязаниях Сослана и его побратима, а также о том, как Сослан
отомстил за смерть своего названого брата Арахцау, убитого в
результате козней Сырдона2.
Несомненно, следы связей алан и печенегов отложились в языке
осетин, в виде тюркских элементов, и, даже, возможно, в некоторых
чертах быта алан. Вполне допустимо влияние и аланского населения на
печенегов.
Г. А. Федоров-Давыдов приводит мнения некоторых исследователей
0 том, что, сталкиваясь с аланами, «печенеги восприняли много
сарматских черт, чем и объясняется их европеоидность»3.
Печенеги в XI в. стали жертвой нашествий торков (одного из огуз-
ских племен), а затем более сильных кочевников — половцев, также
тюркских племен. Половцы, как свидетельствуют источники, проникли в
аланские территории глубже, чем их предшественники — печенеги.
Исторические и этнографические источники свидетельствуют о том,
что общение алан с половцами-кипчаками было долговременным и
тесным, и оно сыграло значительную роль в политической истории,
общественном строе и культуре средневековых алан. В то же время
половецкий период Алании, его место в названных областях жизни алан
совершенно не изучены. Не ставя своей целью исследование здесь всех
аспектов алано-половецких отношений, следует, однако, указать на то
О
1 С. А. Плетнева. Печенеги, торки и половцы в южно-русских степях. М., 1962.
2 Сказания о нартских богатырях. Осетинский эпос, М., 1960, стр. 257—362.
3 Г. А. Федоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы под властью золото-
ордынских ханов, М, 1966, стр. 163.
4 А. X. Магометов 49
влияние, которое они оказали на развитие общественных форм и
традиций, правовых отношений, фольклора и др.
Половцы распадались на несколько племенных групп, рассеянных
в пространстве от заволжских степей до Дуная. К. Кудрявцев,
посвятивший специальную монографию половцам, указывал, что «предкав-
казские кипчаки» представляли собой одну из важных групп кипчаков,
наряду с другими их группами.1
Из истории известно, что крупные политические события на Руси
в ту эпоху были связаны именно с половцами. Целая полоса набегов
половецких ханов на русские земли, героическая борьба против
завоевателей заняли огромную страницу отечественной истории. Эти события
составляют основное содержание летописей и фольклора (былин)
русского народа в данный период. Но кроме военных баталий в них
отражены и отношения мирного времени, сотрудничества в различных
областях жизни (экономические, политические, этнические, религиозные н
культурные связи). Если бы аланы имели также своих летописцев, то,
очевидно, мы располагали бы сейчас достаточным материалом о тесном
общении алан и половцев. Однако о пришлых кочевниках Северного
Кавказа сравнительно много сведений содержит грузинская
историческая литература. Сведения эти обобщены в интересной статье
профессора 3. В. Анчабадзе, посвященной специально половцам-кипчакам
Северного Кавказа. 3. В. Анчабадзе делает вывод, что «во второй поло-
вине XI в., во всяком случае не позднее конца этого столетия, кипчаки
(половцы) обитали на Северном Кавказе»2. Появление половцев в
степях и предгорьях Карачаево-Черкесии, т. е. на территории западных
алан, археолог Е. П. Алексеева также относит к этому времени3.
Известно также, что в XII в. один из важных половецких центров
помещался на р. Сунже, вблизи Кавказских гор4.
Некоторые исследователи даже утверждают, что «в XII веке тюрко-
язычные кипчаки создали на Северном Кавказе раннефеодальное
объединение Кипчакия» и что «она фигурирует в источниках в качестве
одной из важнейших политических единиц края»5. Очевидно, был прав-
©
1 К. Кудрявцев. Половецкие степи, М., 1948, стр. 146.
2 3. В. Анчабадзе. Кипчаки Северного Кавказа по данным грузинских летописей
XI—XIV вв. В кн.: Материалы научной сессии по проблеме происхождения
балкарского и карачаевского народов. Нальчик, 1960, стр. 117.
3Е. П. Алексеева. Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии, М.„
1971, стр. 104.
4 См. Л. И. Лавров. О некоторых этнографических данных по вопросу
происхождения балкарцев и карачаевцев. В кн.: О происхождении балкарцев и
карачаевцев, стр. 67.
5 История Кабардино-Балкарской АССР, т. I, М., 1967, стр. 74.
50
академик В. Ф. Миллер, называя половцев «полными хозяевами на
Северном Кавказе»1 в этот период.
Одним словом, исторические источники, а также исследования
многочисленных авторов не оставляют сомнений в том, что значительные
массы половцев обитали уже в XII веке не только в степных районах
Северного Кавказа, но и в предгорьях Центрального Кавказа. При этом
следует напомнить, что в это время еще аланы составляли основной
местный этнический элемент данного района. Очевидно, не было
четких границ, отделявших кочевья половцев от аланских поселений. Надо
полагать, что половцы так же, как печенеги, не сразу нашли общин
язык с аланами. Разумеется, приход чужеземцев не бывает желанным.
Были столкновения, набеги с обеих сторон. Но в итоге между половцами
и аланами сложились отношения на реальной основе —
необходимости существовать, а стало быть — жить мирно. Были у них и
совместные военные предприятия. Обо всем этом говорят факты,
засвидетельствованные историей. Так, аланы против монголов первый раз
выступили совместно с половцами.
В восстании, поднятом одним из половецких вождей — Бачманом
против монголов, вместе с половцами участвовали и аланы. В XIII веке
A237 г.) часть алан-ясов ушла в Венгрию с половцами2. Здесь аланские
воины вместе с последними служили венгерским королям.
О терпимом друг к другу отношении, о деловых взаимоотношениях
между аланами и половцами говорят неоднократные переходы
(переселения) последних через аланские земли в Грузию. Особенно интересен
в этом отношении факт переселения на постоянное жительство в Грузию
в 1118—1120 гг. около четверти миллиона кипчаков. Грузинский царь
Давид Строитель A089—1125), нуждаясь в боеспособной армии,
призвал 45 тысяч воинов половцев с семьями (в общей массе 225 тыс.
человек), которые перешли через Дарьяльские (Аланские) ворота3. Чтобы
представить полнее атмосферу взаимоотношений алан и половцев и
соотношение их сил, представляет интерес запись, сделанная по случаю-
этого акта в грузинской летописи. Вот что говорится в ней: «Давид
отлично знал, что кипчаки — племя многочисленное, отважное,
проворное, смелое, услужливое, умеющее сохранять мир нерушимым; вместе
с тем, кипчаки жили поблизости Грузии (в северо-кавказских степях.—
Примечание В. Ф. Миллера). Поэтому-то царь Давид женился на Гу-
©
1 В. Ф. Миллер. Кавказско-русские параллели. «Этнографическое обозрение», 1891,.
№ 4, стр. 19.
2М. Джанашвили. Известия грузинских летописей и историков о Северной
Осетии и России. СМОМПК, вып. XXII, стр. 44.
3 3. В. Анчабадзе. Кипчаки Северного Кавказа по данным грузинских летописей,
стр. 119.
51
рандухт, прославленной многими добродетелями. Она была дочь главаря
кипчаков Атрака Шарачанидзе (Шаруканович — по русским
летописям.— А. М.). Давид отправил в Кипчакетию своих послов, чтобы
пригласить тестя своего против сельджуков. Предложение царя кипчаками
было принято с восторгом, но требовалось, чтобы овсы (т. е. осетины,
занимавшие в то время Предкавказье и горы Главного хребта.—
Примечание В. Ф. Миллера) дали им дорогу. По этой причине сам царь
Давид отправился в Овсетию, взяв с собою своего главного секретаря
Георгия Чкондидели, человека весьма опытного и мудрого. Когда царь
прибыл в Овсетию, то все цари овсов и все «мтавади» их предстали
пред ним. Овсы и кипчаки, по предложению царя Давида, отдали друг
другу заложников, учинили обоюдное согласие, утвердили между собой
мир и любовь. Давид открыл крепости дарьяльские (защищавшие
проход в Дарьяльском ущелье) и все врата Овсетии и Кавказа и по этой
безопасной дороге провел великое множество воинства, а также тестя
своего (хана Атрака) и.братьев супруги своей»1.
В приведенном, говоря современным языком, международном
договоре аланы предстают рядом с Грузией и половцами равноправным
народом, сохраняющим еще в этот период свой политический вес и
авторитет. По договору можно судить, что отношения между аланами и
половцами и до его заключения были мирными. Если бы они
находились во враждебных отношениях, то едва состоялся бы этот акт. Ведь
Дарьяльский * проход дли алан издревле имел важнейшее значение в
военно-стратегическом и экономическом отношениях и оберегался
необыкновенно строго,- а переход через него был сложным всегда для
чужеземцев. И, разрешая теперь мирно переправиться такой огромной
армии, аланы, конечно, не могли освободить ее от древней традиции —
уплаты пошлины («илци») за право прохода через Дарьял. Плата эта,
разумеется, была немалой и принесла выгоду аланам.
Обоюдными интересами, конечно, было вызвано позднее и
совместное переселение (тоже в Грузию) нескольких тысяч алан и кипчаков.
О том, что общение алан с половцами было теснейшим и не
бесследным, говорит тот факт, что определенная часть половцев смешалась
с аланами и эта этническая связь дала новое этническое образование —
балкарцев-карачаевцев. Дело в том, что в результате нашествий в
1222—1223 и 1230 гг. татаро-монгольских орд на Северный Кавказ
аланы и половцы были разбиты. Кипчаки частью рассеялись, удалив-
1 М. Д ж а н а ш в и л и. Известия о Северном Кавказе и России. СМОМПК, вып.
XXII, 1897, стр. 36; В. Ф. Миллер: О некоторых былинных именах. Записки
Императорского Русского географического общества. По отделению этнографии,
т. XXXIV; Сборник в честь семидесятилетия Г. Н. Потанина, СПб., 1909, стр. 253,
52
шись в заболоченные места в низовьях Терека, где смешались с
местными племенами и образовали новую народность кумыков, а частью
«вместе с аланами отступили к горам Кавказа» и «обосновались в
принадлежавших аланам ущельях Главного Кавказского хребта. Здесь, на
территории нынешней Балкарии и Карачая, произошло окончательное
смешение половцев с аланами, воспринявшими язык пришельцев»1. Так
образовалась балкаро-карачаевская народность. И что интересно,
«долгое время западную ветвь карачаево-балкарской народности
(карачаевскую) историки называли аланами, а восточную (балкарскую) —
асами»2. Кстати, и сами осетины Балкарию и балкарцев называют «ас-
си», «асиаг». А у карачаевцев слово «алан» как обращение друг к другу
сохранилось до настоящего времени3.
Данный факт является ярким доказательством тесного и
долговременного общения алан и половцев. По этому поводу В. И. Абаев еще з
свое время писал: «Тесное соседство и межплеменное содружество
между кипчаками-куманами-половцами и аланами-ясами началось с самого
появления половцев на юге России и продолжалось на Северном
Кавказе, в Молдавии и, наконец, в Венгрии».4
Как результат этого многовекового соседства и содружества в
осетинский язык, культуру и быт проникли тюркские элементы. Поэтому
к данному явлению — к тюркизмам в осетинском монголы имеют весьма
отдаленное отношение. Пришлый народ может оказать влияние в том
случае, если он составляет большую массу и приходит в
непосредственное общение с местным коренным населением. При этом общение
может иметь результаты, если оно тесное и долговременное, как
сказано выше, и относительно мирное.
В отношении монголов этого, конечно, нельзя сказать. Их
отношение к аланам было предельно ясное — войну с ними завоеватели вели
на истребление. В таких случаях плодотворных взаимоотношений,
влияний не бывает. Если народ-завоеватель одерживает победу над местным
населением и подавляет его в течение долгого периода своей массой и
эксплуатирует экономически, то оно ассимилируется, теряя свои
этнические признаки. Аланы же сохранили свою этническую
индивидуальность.
О
1 Б. А. Г а р д а н о в. Народы Северного Кавказа. Исторический очерк. В кн.: Народы
Кавказа, т. I, М., 1960, стр. 75; История Кабардино-Балкарской АССР, т. I, М.,
1967, стр. 75; Е. П. Алексеева. Древняя и средневековая история Карачаево-
Черкесии, М., 1971.
? Очерки-истории. Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967, стр. 122.
3 Т а м же, стр. 117. ....>.
4 См. Ю.Немет. Список слов на языке ясов, венгерских алан. Орджоникидзе, 1960,
стр. 17. Примечания В. И. Абаева. ••
53
Мы уже говорили о том, что основными этническими единицами на
Северном Кавказе до татаро-монгольских нашествий были аланы и
половцы. Но как показывают исследования советских историков,
«этнический соста^з Дешт-и-Кыпчака (так называли восточные авторы
половецкие степи, в которых образовалась Золотая орда.— А. М.) почти не
изменился»1 и после установления монгольского ига. Даже во вновь
образованных золотоордынских городах (по крайней мере на Северном
Кавказе и Причерноморье) население состояло из половцев и местных
кавказских племен, преимущественно из алан. Ремеслом в этих городах
также в основном занималось алано-болгарское население.2
В исторических источниках также встречаются сведения об
отдельных географических районах и городах золотоордынского периода, где
основным населением являются половцы, русские, аланы, касоги
(черкесы) и др. Такими районами за пределами Северного Кавказа были
Крым, Подонье, Молдавия, Приднепровье и др.3 Например, арабский
писатель Эль-Муфадиль (XIII в.), рассказывая о Крыме, писал, что
«обитает там множество кипчаков, русских и алан»4.
Известный советский археолог С. А. Плетнева в исследовании,
посвященном печенегам, торкам и половцам, делает такое заключение:
«На протяжении всей истории кочевники (печенеги, торки и половцы)
смешивались с туземным, алано-хазарским населением»5.
О том, как происходил этот процесс, показывает один из крупных
дореволюционных тюркологов П. Голубовский: «Половцы,— писал он,—
не строили городов, не жили в них, но если они находили города,
оседлое население (а им были и аланы. — А. М.), то поддавались его
культуре»6.
Вот в таких условиях, на Северном Кавказе и за его пределами,
на протяжении столетий алано-осетинское население усваивало
определенные элементы тюркского (кипчакского) языка и культуры,
воспринимаемые отдельными авторами как монголизмы в осетинском. Но это,
конечно, досадное недоразумение потому, что монголы не имели
сколько-нибудь длительных контактов с аланами, а если и встречались, то
только в бою. В остальное же время ставленники золотоордынских
ханов (басилаи), которые не обязательно были из монголов, собирали
©
1 История СССР с древнейших времен до наших дней, т. I, М., 1966, стр. 463.
2 Т а м ж е, т. I, стр. 460.
3 История Северо-Осетинской АССР, т. I, стр. 84.
4 Там же.
5 С. А. Плетнева. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях. Материалы
и исследования по археологии СССР, № 62, М., 1958, стр. 226.
6 П. Голубовский. Печенеги, торки и половцы. История южно-русских степей
IX—XIII вв., Киев, 1884, стр. 194.
54
дань с покоренного аланского и другого населения и сдавали ее в
ханскую казну.
Вот что пишет Г. А. Федоров-Давыдов о соотношении
домонгольского и собственно монгольского этнического элемента в Золотой Орде:
«Монголы в западных окраинах огромной империи Чингисхана, в
половецких степях, не образовали компактного массива населения, в
котором сохранились бы их традиции, их обычаи и их нравы.
Рассредоточенные в половецкой степи, члены правящего дома и их вассалы из числа
монгольской аристократии быстро теряли свои этнографические черты»1.
Египетский писатель ал-Олеата (XIV в.), наблюдавший этот процесс,
не случайно писал: «Все они (монголы.— А. М.) стали точно кипчаки,
как будто они одного с ними рода»2.
«Вполне понятно,— комментирует это сообщение Г. А.
Федоров-Давыдов,— что если бы монголов было очень много, то этого бы не
произошло. Пришельцев-завоевателей, по сравнению с половцами, было
мало, и они быстро смешались с местными кочевниками»3. Еще меньше их
было на территории Алании, особенно в предгорьях.
Федоров-Давыдов далее пишет: «Монголов в половецкой степи
было мало, но и та область, в которой они выбирали себе кочевья, была
ограничена. Хотя монголы стали господами над половцами, они
предпочитали оставаться в поволжских степях. На запад уходили лишь
некоторые царевичи-ханы и нойоны. Там они составили ничтожный процент
населения, только самую верхушку кочевого общества. Рядовое
монгольское население, попавшее в Золотую Орду, все оставалось в
Поволжье»4. Временное пребывание ставок монгольских ханов на
территории Алании (например, временная ставка хана Узбека в районе
Верхнего Джулата-Татартуп в XIV в.) также не меняло общего положения.
Приведенные выше доводы подтверждаются еще тем фактом, что
доминирующим языком в золотоордынских городах стал половецко-кип-
чакский язык. Более того, «литературный язык городов Золотой Орды
сложился на.кипчакской основе» и что «в числе языков,
употреблявшихся в государственной жизни Золотей Орды, был и кипчакский»5.
Основным же фактором, исключающим монгольское влияние на
язык, культуру (эпос, искусство) и быт осетин является само татаро-
монгольское иго. К. Маркс писал о войнах монголов, что монгольское
О
1 Г. А. Федоров-Давыдов. Курганы, идолы, монеты, М., 1968, стр. 86.
3 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды,
т. I, 1884.
5 Г. А. Федоров-Давыдов. Курганы, идолы, монеты, стр. 86.
4 Там же, стр. 87.
5 Г. А. Федоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы под властью
золотоордынских ханов, М., 1966, стр. 206. .
55
иго не только давило, оно оскорбляло и иссушало душу народа,
ставшего его жертвой... татары установили режим систематического
террора; разорение и массовые убийства стали обычным явлением»1.
Эти слова полностью относятся к аланам, подавляющая часть
которых была истреблена монголами, а экономика их разрушена полностью.
Монгольское нашествие несло с собой уничтожение всех видов
земледелия и хозяйства, имевшихся у алан, превращение степей в
«большие необитаемые пространства»2. Вот какой след оставили монголы
после себя!
Что же касается тюркских элементов в осетинском языке, то это
вовсе не монгольский «вклад», а наслоения, займы, полученные
аланами-осетинами от многочисленных тюрко-язычных народов, с которыми
они на протяжении веков тесно общались, начиная от гуннов и болгаров
и кончая ногайцами. Правда, принимая тюркские элементы в
осетинском за монгольские, некоторые исследователи исходят из факта
разгрома алан татаро-монголами и их длительного политического
господства над аланами и из того, что кипчакский и монгольский языки
входят в одну тюрко-монгольскую семью. Но напомним еще раз о том, что
монгольский язык не был господствующим в Золотой Орде, а
преобладал в ней кипчакский. Даже аланские «багатуры» — вожди и
военачальники, перешедшие на службу к монголам, получали свои ярлыки,
написанные на кипчакском языке.
Аланы, адыги, половцы и другие народы, хотя и были под гнетом
Золотой Орды, но боролись за жизнь, берегли свою культуру и
этнические традиции, взаимодействовали. Поэтому «история Золотой Орды,
культура этого государства — это в значительной степени история и
культура порабощенных татаро-монголами степных народов — половцев,
аланов, болгар и др.»3.
После распада Золотой Орды оставшаяся в степях Предкавказья
часть половцев вошла в состав ногайской орды, население которой
(мангыты) в значительной мере были ассимилированы половцами иу
естественно, ногайцы приобрели половецкие (кипчакские) черты —
тюркский язык, а также многие элементы их культуры4. Таким образом,
когда ногайцы впоследствии появились в предгорьях Кавказа и пришли
в соприкосновение с аланами-осетинами, то тюркский элемент вновь
стал проникать к ним.
1 К. Маркс. Тайная дипломатия XVIII века. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. V,
стр. 219.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 724.
3 История СССР с древнейших времен до наших дней, т. I, М., 1966, стр. 363.
4 См. Б. А. Гарда нов. Народы Северного Кавказа. Исторический очерк. В кн.:
Народы Кавказа, I, изд. «Наука», М., 1960, стр. 77.
56
Как видим, осетинский народ имел чрезвычайно длительный период
общения с тюркоязычными народами, которые оказали свое влияние на
язык и культуру и в определенной степени на общественный строй и
социальные отношения алан-осетин. Вот где источник тюркских
элементов в осетинском.
Поскольку многие рассматриваемые нами общественные формы и
традиции у осетин перекликаются или почти совпадают с половецкими,
а также балкаро-карачаевскими, то считаем необходимым остановиться
на них, ибо очень важно знать природу и истоки этих явлений. А так
как письменные источники об алано-половецких отношениях содержат
недостаточно сведений, то важный материал по этому поводу может
дать нартский эпос. Прежде всего следует признать, что верхний слой-
эпоса относится к домонгольскому и золотоордынскому периодам.
Наиболее ярко выступает в этом отношении сказание о Сослане (Созрыко)
и Гумском человеке. В прошлом было зафиксировано несколько
вариантов этого сказания, причем в разных местах (в Северной и Южной
Осетии). В этом и других сказаниях встречается слово «хъуымы быдыр»
«кумское поле», а также названия ущелья, перевала и крепости с
прилагательным «кумское» — «гумское». Интересно, что это слово
происходит от названия кипчаков-половцев — «куманы», под которым они были
известны соседним народам1. Под тем же названием они зафиксированы
в осетинском нартском эпосе и языке.
Некоторые места, заселенные куманами-кипчаками, поэтому стали
называться «кумскими», «гумскими» («хъуымаг»). Отсюда их страну
тоже называли Куманией. По имени «куманов» (половцев) получила
свое название река Кубань, протекавшая по территории исторической
Алании, вошедшая затем в Дешт-и-Кыпчак. А. Пономарев, обративший
на это внимание, пишет: «Реку на Северном Кавказе, называемую
ногайцами Куман, русские называют (отражая заимствование от других
местных племен) Кубань»2. Название реки в устах алан как и теперь
звучало бы, наверное, «хъубан» (у дигорцев — «хъобан»). Половцы,
пребывая на территории Алании-Осетии группами или смешанно с
осетинским населением, безусловно, оставили след в топонимике Осетии.
Хотелось бы рассказать о традиции, одинаково распространенной
у осетин в прошлом и у половцев — исполнение народными певцами
(они были и у половцев) эпических песен. У половцев, например,
«пелись песни, прославлявшие их героев, их знаменитых ханов... И сильно
действовали эти песни старины на тюрка, возбуждали его на новые
подвиги, воспламеняли его любовь к свободным безграничным степям.
Тяжело иногда приходилось половцам, и тогда-то песни имели ободряю-
О
1 А. Пономарев. Куман-половцы. Вестник древней истории, 1940, № 3—4.
2 Т а м же, стр. 369.
57
щее впечатление»1. А вот что говорят путешественники и историки
прошлого о нартских песнях осетин. «Песнь о нартах,— пишет В. Б.
Пфаф,— осетин слушает с благоговением». Слова Пфафа дополняет
известный кавказовед Е. Марков: «Часто целые длинные зимние вечера в
темной сакле, вокруг чадящего очага проводят они в безмолвном
наслаждении, слушая старого сказочника или песенника»2. «Нарты для
осетина не покрытая пылью веков архаика, а жизнь трепещущая,
близкая, волнующая и неувядаемая»3.
Итак, любовь к героическому прошлому, воспевание его в
эпических произведениях были общей чертой обоих народов. Могло быть так,
что кто-то из них заимствовал эту черту у другого, но потом это стало
одинаковой традицией для обоих народов.
Историки и литературоведы зафиксировали такие параллели у
половцев и русских. С. А. Плетнева, со ссылкой на специалистов, пишет,
что «в русских летописях иногда ощущается половецкая литературная
струя». Исследователь данного вопроса В. А. Пархоменко приводит ряд
мест из русской летописи, «которые могут считаться взятыми из
половецкого эпоса»4.
У алан-осетин и половцев мы встречаем, кроме того, одинаковые
музыкальные инструменты: рог-рожок (у осетин — «уадындз») и
двухструнную мандолину (у осетин — «двухструнный фаендыр»M.
Следы половцев-куманов мы видим у осетин еще в одном
социальном термине. _Как известно, на низшей ступени социальной лестницы
осетинского общества находилась категория рабов — «хъумайаг» —
«хъумиаг» («кумиаги»). «Хъумиаг», согласно разъяснению В. Ф.
Миллера, это человек, похищенный на реке Куме6, которая, по понятиям
осетин, находилась в стране куманов (половцев). По другому варианту,
сословие «кумиагов» произошло от сына родоначальника дигорских
феодалов Бадила-Кумиага. Последний, якобы, родился от второй жены —
наложницы Бадела7.
Из истории разных народов нам известно, что дети, рожденные от
рабынь, пленниц или наложниц и отцов феодальных владетелей или
рабовладельцев, становились рабами.
Еще одна любопытная деталь: родоначальник высшего сословия в
Дигорском ущелье — Бадели пришел, как повествуют исторические пре-
О
1 П. Голубовский. Печенеги, торки и половцы, стр. 222.
2 Ев г. Марков. Очерки Кавказа, СПб., 1904, стр. 165.
3 В. А. А б а е в. Нартский эпос, стр. 94.
4 С. А. Плетнева. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях, стр. 212.
5 Там же.
6 В. Ф. Миллер. Осетино-русско-немецкий словарь, т. I, стр. 462, 466.
7 Б. Скитский. Очерки по истории осетинского народа..., стр. 76.
58
дания, из города Маджар. Такой город, действительно, имелся в средние
века на Северном Кавказе. Он был одним из тех «мощных»,
многолюдных городов (правда, немногочисленных), которые были построены в зо-
лотоордынскую эпоху.1
В русских источниках город Маджар упоминается в 1742 г. как
«великий запустевший град на правой стороне Кумы реки»2.
Советские историки считают, что основная масса населения в этом
городе «была кыпчакской»3. У нас нет оснований отрицать историю с
Бадели. Вполне возможно, что такой предприимчивый человек как Ба-
дели (именно таким его рисуют легенды) мог прийти в осетинские горы
и постепенно возвыситься над обществом, принявшим его по обычаю
гостеприимства.
Штедер, подробно интересовавшийся политическим состоянием и
социальными отношениями у осетин, обратил внимание на историю дигор-
ских баделят. И вот, что он записал в своем «Дневнике» о них: «Ба-
диляты были двумя братьями, потомками маджарского хана; после
рассеивания Маджар они наткнулись во время своих похождений на
жителей спокойных Дигорских долин. Их приняли как гостей, и они
поселились в южном углу возвышенности, где проходит дорога в долину
Гарниске (река в Дигорском ущелье.— А. М.). Они застроили у входа
в ущелье небольшой кусок неплодородной земли. Это покинутое теперь
место называется еще бадилатским полем4. Так как они жили на
вершине дикого ущелья, то они несли охрану прохода и получали за это
добровольные пожертвования на свое пропитание. Эта охрана и эти
взносы сделались потомственными...
С помощью последующих набегов и грабежей, в которых бадиляты
были предводителями, они приобрели богатство и авторитет. Они
сделались защитниками слабых семей, приобрели этим расположение народа,
снискали себе всеобщее влияние и, в результате защиты дигорцев,
сделались постепенно их властителями»5.
Период алано-куманских (половецких) отношений донес до нас
немало любопытных моментов из социальных отношений осетинского
общества. Так, в упоминавшемся нами сказании о Гумском человеке мы
найдем этнографические детали, одинаково присущие и аланам, и по-
©
1 Г. А. Федоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы под властью золото-
ордынских ханов, стр. 209.
2 Л. П. Семенов. Татартупский минарет. Дзауджикау, 1947, с/гр. 6.
3 Г. А. Федоро в-Д а в ы д о в. Кочевники Восточной Европы под властью золото-
ордынских ханов, стр. 208.
4 Оно сохранило это топонимическое название и до наших дней.
ъ Щ те дер. Дневник путешествия.,., стр. 68—69.
59
ловцам. Это — соблюдение определенных правил охоты с первобытными?
чертами, раздел дичи, доли младшего и старшего.
До удивительного совпадает обычай побратимства, бытовавший у
половцев с таковым же у алан. Вот половецкий обычай, описанный
П. Голубовским: «Половец прокалывает себе палец иглой и
выступившую кровь дает сосать тому, кого он избирает себе в постоянные
спутники и друзья, после чего сосавший кровь своего товарища становится
для него как бы собственною его кровью и телом»1.
Этот обряд как бы воспроизводит (причем, в деталях) обряд
побратимства у скифов, запечатленный на кульобской вазе. Нам думается,
эта традиция была перенята половцами от алан.
Был у половцев и другой обряд этого же обычая: «Желающие
вступить в побратимство наполняли медный сосуд и пили из него оба,
собиравшийся в путь и его спутник; после этого они уже никогда не
изменяли друг другу»2. Засвидетельствован у половцев и обряд питья
молока при клятве3. И эти варианты также совпадают с осетинскими.
Мотивы и обстоятельства, при которых заключался акт побратимства,
тоже одинаковы у алан и половцев.
Из этнографии осетин нам известно, что алан-осетин часто
вступал в побратимство с чужеземцами (иноплеменниками). В названном
выше нартском сказании Сослан заключил акт побратимства с Гумским
человеком. Хочется здесь привести комментарий, который дает П. Го-
лубовский к описываемому обычаю: «Они (побратимства) заключались
не только среди степняков, но побратимами являлись степняк и
чужестранец, какой-нибудь гость, бравший себе проводников из половцев»4.
Во многом совпадает погребальный обряд у половцев и у алан.
Как и у скифов, у половцев бытовал обычай захоронения целого коня с
покойником. С изменением исторических условий, когда аланы
лишились прежней своей экономической базы и не стало у них табунов,
особенно в условиях гор, они этот обряд видоизменили: покойнику только
посвящали коня, кончик уха которого отрезали и закапывали в могилу
вместе с покойником. Но со временем изменили свой обычай и половцы:
они стали применять «захоронения частей коня с человеком»5.
Аланы с их устойчивыми бытовыми традициями, пронесенными
через века, сами некогда кочевники, несомненно, здесь оказали свое
влияние на половцев.
О
1 П. Голубовский. Печенеги, торки и половцы, стр. 222.
2 Т а м ж е, стр. 223.
3 Г. А. Федоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы под властью золото-
ордынских ханов, стр. 197.
4 П. Голубовский. Печенеги, торки и половцы, стр. 222.
5 С. А. Плетнева. Печенеги, торки, половцы, стр. 184.
60
Известно, что половцы умершим родичам на могилах ставили
высоченные памятники-изваяния из камня. Мастерами по изготовлению
таких памятников, как полагает С. А. Плетнева, в золотоордынских
городах в основном были аланы, проживавшие здесь как ремесленники.
Половцы, как и аланы, были язычниками, но под влиянием более
развитых соседних стран переходили в христианство, ислам и иудаизм.
На территориях, где половцы приходили в соприкосновение с русскими,
они принимали христианскую религию. Особенно большую роль сыграла
в этом Тмутаракань.1 К этому же времени (X—XII вв.) христианство
распространилось на территории исторической Алании, с центром на
Зеленчуке.
Половцы, как и аланы, легко переходили в христианство, но весьма
поверхностно его усваивали, плохо разбираясь в христианском культе.
Из всех святых они почитали св. Николая, которого называли Никола2.
Но половцы его возвели в языческий культ. Из христианских святых в
общеосетинский языческий пантеон попали св. Георгий и св. Илья.
А св. Николая почитали только в западной части Осетии — в Дигорском
ущелье, где он также превратился в языческого святого и стал
называться, как у половцев — «Никола» («Никкола»). Он был наиболее
популярным божеством у дигорцев.
Надо полагать, что этот культ перешел и утвердился в Дигории
-под влиянием половцев, с которыми западные аланы общались больше,
*1ем восточные.
Мы так подробно остановились на алано-половецких отношениях
потому, что характер дальнейшего развития общественных форм у алан-
осетин определился в значительной степени под влиянием этих
отношений. Многие традиции, составлявшие особенности быта древних скифов
и алан-кочевников с переходом последних к оседлой жизни, были
оставлены ими, но затем в известной мере возрождены в результате
теснейших контактов с половцами, у которых родоплеменной строй еще во
многом сохранялся.
И когда в Алании наступил упадок экономической и политической
жизни, а в памяти ее народа еще были свежи родоплеменные связи и
былые традиции военной демократии, половцы с их общественным
строем оказались аккумуляторами этих старых аланских традиций.
Известно, что при отсутствии централизованной власти и единой военной
организации общинно-родовая и племенная система остаются
единственной силой, готовой защитить саму жизнь людей и народ в целом от
внешних и внутренних врагов.
Характеризуя политическое положение Алании в рассматриваемый
О
1 П. Г о л у б о в с к и й. Печенеги, торки и половцы, стр. 225.
-2 Т а м же.
61
период, нужно сказать, что она до прихода татаро-монголов жила
относительно мирной жизнью, в смысле внешней безопасности. Реальное
состояние и относительное равновесие наиболее активных сил на
Северном Кавказе — алан и половцев — приводили к хозяйственному обмену
и даже союзу между ними (на основе пользования степными и
альпийскими пастбищами).
Алания накануне татаро-монгольского
нашествия
Западная Алания, теснее связанная с Византией и Закавказьем, в:
исторических источниках запечатлелась ярче. Но надо сказать, что
Восточная Алания в своем развитии, и прежде всего экономическом,
неотставала от западной части. Здесь шло строительство городов
(городищ), развивалось земледелие. Если и нет письменных источников,
характеризующих экономическую и политическую жизнь Восточной
Алании, то археологический материал (причем, довольно обильный) в
значительной степени восполняет этот пробел. Так, к востоку от
современной территории Северной Осетии археологами обнаружены остатки
многолюдных аланских городищ. «Наиболее крупный из них —
городище Алан-Кала (в 16 километрах к западу от города Грозного)... Это
городище, по-видимому, играло роль крупного местного экономического
центра, связывающего население гор и равнин»1.
Чечено-ингушскими археологами в последние несколько лет
обнаружено много памятников аданской культуры, указывающих не только
на следы их поселений к востоку от Терека и Сунжи, но и к востоку от
Аргуна2. Эти археологические свидетельства говорят о другом важном
факте — о тесном общении и взаимодействии алан с местными вейнак-
скими племенами—-ингушами и чеченцами. Алгнские могильники
обнаруживаются у самого входа в ингушские или чеченские ущелья, па
поселениях ингушей и чеченцев. Как результат взаимодействия двух
культур — аланской и вейнахской — в аланских и вейнахских
погребениях как бы слилась культура двух народов. Аланские погребения-
обнаружили много исконно горских вейнахских вещей, а вейнахские —•
столько же предметов материальной культуры равнинных жителей —
алан3.
Известно, что и у алан, и у вейнахов, сохранивших к этому времени
многое из первобытных представлений и традиций, этот обмен должен
О
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР, т. I, Грозный, 1967, стр. 33.
2 В. Виноградов, X. Мамаев. По следам древнего добрососедства (Новое об>
алано-вейнахских связях). Газ. «Социалистическая Осетия», 17 июля 1973 г.
3 Там же.
62
был сопровождаться активным взаимовлиянием в области социальных
отношений и форм общественного быта, о чем более подробно скажем
ниже.
Что же касается современной Осетии, то на всей ее территории,
начиная от Моздока на севере и кончая горными ущельями Главного
Кавказского хребта, аланская культура представлена самыми
разнообразными памятниками. Это — остатки городищ и укреплений, башни,
склеповые сооружения и пр.
Раскопки древних и средневековых аланских городищ, поселений и
могильников дали богатый археологический материал, характеризующий
материальную культуру и быт алан. Самым выдающимся памятником
аланского средневековья является «Верхний Джулат» («Дзылат», «Та-
тартуп») на левом берегу Терека напротив селения Эльхотово.
«Верхний Джулат» — крупный город Восточной Алании, ее экономический,
культурный и политический центр до середины XIII века. Позже он
стал городом Золотой Орды.
Этот средневековый город, как указывает профессор Е. И. Крупнов,
«дал первоклассные образцы орудий труда, оружия и быта аланских
племен. Результаты раскопок позволили говорить не об упадке, а
пышном расцвете культуры аланского средневекового общества до татаро-
монгольского нашествия. Были прослежены широкие
международные связи алан с основными районами славянского мира, с Закавказьем
и даже со странами Ближнего Востока (с Сирией)... Этот крупный
населенный пункт,— пишет далее Е. И. Крупное,— лежал на важном пути,
ведущем из основных районов Юго-Восточной Европы по Тереку в
Грузию и Закавказье. Он как бы запирал вход в древние так
называемые «Эльхотовские ворота», безусловно, всегда имевшие и
военно-стратегическое значение.
Исторические источники (турецкий путешественник XVII века Челе-
би, европейские ученые конца XVII века и другие) рисуют его как густо
заселенный город со множеством каменных общественных и культовых
зданий. До наших дней на городище «Верхний Джулат» чудом
сохранился великолепный Татартупский минарет высотою до 21 метра,
некогда венчавший большую соборную мечеть XIV века»1, построенную
в период господства ханов Золотой Орды, насаждавших ислам среди
местного аланского населения.
«Верхний Джулат» представляет исторический интерес и в другом
отношении. Данный город Е. И. Крупнов (одновременно с проф. Л. И.
Лавровым) отождествляет с прославленным ясским (аланским) городом
Дедяковым, известным науке, по русским летописям. Упоминания о
О
1 Е. Крупнов. Аланский средневековый город. Газ. «Социалистическая Осетия»,
16 сентября 1962 г.
63
Дедякове в летописях встречаются трижды: под 1277, 1278 и 1319 гг.
Летописи называют его «славным ясским городом».
Известия о Дедякове приводятся в летописи в связи с разорением
его татаро-монголами в 1277 году и с убийством у Дедякова
(являвшегося после его восстановления временной ставкой хана) Тверского князя
Михаила Ярославовича золотоордынским ханом Узбеком в 1319 году.
Некоторые историки помещали Дедяков в Южном Дагестане, близ
Дербента, другие называли местом его расположения Куртатинское
ущелье Северной Осетии (местность на берегу реки Фиагдон), третьи
же утверждали, что Дедяков якобы стоял в районе южнее
Владикавказа, на месте ныне существующего кирпичного завода.
Сверяя летописные сообщения с данными, которые дал «Верхний
Джулат» после проведенных там археологических исследований, в нем
нельзя не увидеть «славный ясский город Дедяков».
Итак, Алания представляла собой одну из обширных и
многолюдных стран средневековья, а огромная численность населения наряду с ее
стратегическим положением составляла ее силу и вес в международных
отношениях. Выгодное расположение алан на важных стратегических
и удобных путях, связывавших юг и север, Азию и Европу,
способствовало развитию торговли и экономики алан.
- Как письменные данные, так и археологические источники
рассказывают нам о широкой международной торговле, которую вели аланы в
пору своего могущества. В Аланию поступали китайская парча и другие
восточные товары, византийские шелковые и узорные льняные ткани,
иранские украшения и пр.
Об активной торговле алан с восточными и западными странами
свидетельствуют и византийские, сасанидские (иранские) и арабские
монеты, находимые археологами в аланских могильниках. Некоторые
источники указывают даже на наличие в аланском обществе «сословия
купцов»1. Между прочим, следует напомнить, что половцы
покровительствовали торговле, а аланские купцы даже находили у них поддержку2.
О роли алан в международной торговле советский историк А. Ю.
Якубовский пишет следующее: «Восточные источники так же, как
византийские, а в равной мере и русская летопись, согласно говорят, что в
XI—XII и даже в XIII вв., т. е. уже при татарах, аланские купцы
занимают важное место в торговле, которая в то время интенсивно шла
как по волжскому пути из Болгар в Среднюю Азию, Кавказ, Иран и
Дальний Восток, так и через степи в Крым, а оттуда на Трапезунд и
©
1 История Северо-Осетинской АССР, стр. 52; 3. Ванеев. Исторические известия об
аланах-осах. Сталинир, 1941, стр. 66—67.
2 Г. А. Федоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы...; С. А. П летне-
в а. Печенеги, торки, половцы.
64
Малую Азию, на Константинополь, а также велась с русскими
княжествами»1.
Об экономических и культурных связях алан хорошо
свидетельствуют исследования Северо-Кавказской археологической экспедиции 1958—
1960 гг., проводившиеся под руководством проф. Е. И. Крупнова. Из
Руси в Аланию доставлялись ремесленные изделия, в том числе изделия
из серебра с филигранью и чернью. Е. И. Крупное с культурой древней
Руси связывает и другие находки. Среди этих находок имеются и
предметы христианского культа (нательные кресты и др.), связанные своим
происхождением с Киевской Русью. Это дает право утверждать, что
Алания испытывала и определенное влияние христианской пропаганды,
шедшей также из Руси2.
У алан существовали связи и с их южными соседями — грузинами.
Эти связи, укрепившиеся в первых веках нашей эры, в последующие
вреглена уже не прерывались, несмотря на то, что в отдельные периоды
добрососедские, союзнические отношения омрачались нападениями с
обеих сторон.
Общение с более развитыми странами объективно способствовало
активному развитию социально-экономических отношений в Алании. В
частности, внешняя торговля, обогатив некоторые слои населения,
ускорила процесс его классового расслоения.
Однако начавшийся процесс феодализации в Алании не был
завершен. Аланское «царство» не превратилось в единое централизованное
государство. Раздробленное на отдельные, порою независимые друг от
друга владения, оно раздиралось межфеодальной борьбой. Римский
католический миссионер Юлиан, побывавший в Алании в 30-х годах
XIII в., описал междоусобия, происходившие в ней в этот период.
«Сколько местечек, столько князей,— писал он,— из которых никто не
считает себя подчиненным другому. Здесь постоянные войны: князя с
князем, местечка с местечком»3.
В конечном итоге межфеодальная борьба привела к распаду Алан-
ского государственного образования. Однако основной причиной упадка
Алании следует считать нашествие татаро-монгольских орд.
О
1 Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. Золотая Орда и ее падение. М.-Л., 1950,
стр. 21.
2 Е. И. Круп нов. Христианский храм XII в. на городище Верхний Джулат, в кн.:
Средневековые памятники Северной Осетии. Материалы и исследования по
археологии СССР, № 114, стр. 64, 65; О. В. Милорадозич. Христианский могильник на
городище Верхний Джулат, там же, стр. 105.
3 Рассказ римско-католического миссионера доминиканца Юлиана о путешествии в
страну приволжских венгров. Записки Одесского общества истории и древностей
российских, V, Одесса, 1863, стр. 998.
5 А. X. Магометов 65
Нашествие татаро-монголов и борьба
алан с завоевателями
Первый удар монголы нанесли аланам в 1222 году, когда,
разгромив Дагестан, совершили опустошительный поход на Северный Кавказ.
Здесь поодиночке монголы разбили половцев и алан и, преследуя
разгромленных половцев по черноморским степям, дошли до Крыма. Здесь
они захватили и разграбили город Судак, где часть населения
составляли половцы и аланы (Судак, между прочим, был древнеаланским
городом). Половцы вновь собрали силы и во главе со своим вождем —
ханом Юрием Кончаком (Кончакович — в русских летописях)
выступили против монголов. Но и на этот раз монгольские войска нанесли им
поражение и гнали их до Днепра. Тогда половцы обратились за
помощью к русским князьям. Часть князей откликнулась на призыв
половцев и в конце мая 1223 года произошла битва между монголами
и объединенными силами половцев и русских. Однако последние
потерпели поражение. Монголы же двинулись вверх по Днепру, но не дойдя
до города Переяславля, повернули на восток и ушли в Азию, в пределы
Монгольской империи.
О разгроме алан монголами в первый их поход (в 1222 г.) в одном
персидском источнике говорится: «Монголы одержали победу над
аланами, совершив все, что было в их силах по части убийств и
грабежей»1.
Но первый монгольский поход не привел к покорению алан.
Вторично аланы подверглись нашествию грозного завоевателя в
1238 году. Вернувшись на Кавказ, монголы теперь главный свой удар
направили против алан. Походу на алан хан Бату придавал большое
значение. Монгольских завоевателей привлекали «занятые аланами
подступы к оживленным перевальным дорогам в Закавказье
(нынешние Военно-Сухумская, Военно-Осетинская и Военно-Грузинская дороги).
Кроме того, у монголов были старые счеты с аланами, выступившими
против них еще в 1221—1222 гг.»2 Монгольский поход против алан,
длившийся с конца 1238 до сентября 1239 года, по своим результатам
был самым разрушительным и жестоким, какой только перенесли аланы
до нашествия Тимура. Огромные полчища врага, возглавлявшиеся
«крупнейшими деятелями из окружения Бату (его двоюродными брать-
1 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой
Орды, т. II, М.-Л., 1941, стр. 33.
2 Л. И. Лавров. Нашествие монголов на Северный Кавказ. Журн. «История СССР»,
1965, № 5, стр. 98.
66
ями Менгукааном, Гуюк-ханом и Каданом, а также сыном другого
двоюродного брата — Бури)», осаждали аланские города и крепости
с помощью тяжелых стенобитных машин и метательных орудий. Так,
после длительной осады и ожесточенного штурма был захвачен и стерт
с лица земли город Макас (Минкас), известный еще по арабским
источникам X в. как «столица алан город Магас»1. «Они оставили от города
только имя его»2,— писал историк XIII века Джувейн, летописец
монгольских походов. Ограбив население и захватив много добычи,
монголы жестоко расправились с жителями Макаса: «Они отдали приказание
отрезать людям правое ухо. Сосчитано было 27 000 ушей»3.
Вместе с Макасом пали и другие аланские города и поселения
бассейна Терека и Сунжи.
Аланы, хотя и терпели поражение, оказывали врагу упорное
сопротивление. Часть аланского населения, жившая или успевшая укрыться
в горах, осталась непокоренной. Об этом довольно подробно сообщает
нам побывавший в 1246 году в Золотой Орде западноевропейский
путешественник, посланник римского папы итальянец Плаио Карпини. Ом
рассказывает, что «в земле аланов они (монголы) осаждали одну гору
двенадцать лет, причем те оказали им мужественное сопротивление п.
убили многих татар и притом вельмож».
Несколько лет спустя в Золотой Орде побывал другой
западно-европейский путешественник Гильом де Рубрук, который также отмечает
мужественное сопротивление алан татаро-монголам: «Аланы или аас...
все еще борются против татар»,— писал он.
О непрерывной борьбе алан против татар говорит и другое
свидетельство Рубрука: «Аланы на этих горах все еще не покорены, так что
из каждого десятка людей Сартака4 двоим надлежало караулить горные
ущелья, чтобы эти аланы не выходили из гор для похищения их стад на
равнине»5.
Из другого источника известно, что в это время в Алании (главным
образом у выходов из горных ущелий) стояло десятитысячное войско,,
охранявшее захваченные в аланской земле богатства и отражавшее
постоянные нападения алан с гор, а также выполнявшее карательные
функции с целью окончательного покорения местного населения. Но, не-
©
1 Л. И. Лавров. Указ. соч., стр. 99.
2 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой
Орды, т. II, стр. 23.
3 В. Г. Тизенгаузен. Указ. соч., стр. 23.
4 Сартак — сын Батыя.
6 Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. В кн.: Путешествие в
Восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957, стр. 186.
67
смотря на все эти усилия, татаро-монголам так и не удалось завладеть
горной полосой, населенной аланами.
Татаро-монголы до основания разорили аланские города и селения,
а население обложили тяжелой данью1. Оно платило не только ясак-
калан (отсюда и осетинское слово «хъалон»), но и несло различные
повинности, в том числе «бегара»2. А чтобы превратить в данников
поголовно всех жителей страны, монголы проводили переписи населения в
завоеванных областях. Покоренное население страдало от дикого
произвола и жестокого обращения монгольских чиновников-сборщиков дани
(баскаков), произвольно устанавливавших ее размеры, чтобы
присвоить себе львиную долю добычи. Если такой гнет завоеванные народы
сносили покорно, несмотря на все муки угнетения и эксплуатации, то
монгольские ханы и военачальники оставляли их в «покое», «мирно»
грабя. Если же эти народы оказывали неповиновение завоевателям или
неисправно платили дань, то те жестоко расправлялись с ними.
Характеризуя положение алан, русских и черкесов под игом татаро-
монголов в начале XIV века, один персидский историк — современник
событий сообщает: «Они (черкесы, русские и ясы) не в силах
сопротивляться султану этих стран (речь идет о хане Золотой Орды Узбеке.—
А. М.) и потому обходятся с ним как подданные его, хотя у них есть и
свои цари. Если они обращались к нему с повиновением, подарками и
приношениями, то он оставлял их в покое, в противном же случае
делал на них грабительские набеги и стеснял их осадами; сколько раз
убивал он их мужчин, забирал в плен их жен и детей, уводил их рабами
в разные страны»3.
Во главе алан, отстаивавших свою независимость и боровшихся
против завоевателей, встали преданные своему народу, испытанные в
военных делах люди, отдельные представители военно-дружинной и
феодальной знати.
Одним из таких патриотов история называет аланского (асского)
предводителя Качир-Укуле, поднявшего совместно с половецким
предводителем Бачманом восстание в тылу татарского войска во время похода
Бату на запад. Долгое время монголы не могли одолеть отряды
восставших во главе с Бачманом и Качир-Укуле. Взятые затем в плен
храбрые предводители были казнены.
В конце XIV века аланы подверглись новому разгрому. По своей
жестокости и тяжким последствиям это нашествие татаро-монголов пре-
©
1 В с. Миллер. Осетины; Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А.
Ефрона, т. XXII, 1897, стр. 266.
2 Бегара — гужевая повинность.
3 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой
Орды. Извлечения из сочинений арабских, т. I, СПб., 1884.
взошло все предыдущие. К тому времени Золотая Орда, обособившаяся
ст Монгольского государства, стала ареной ожесточенной борьбы между
золотоордынскими ханами (Джучидами) и их сородичами иранскими
ильханами (ХулагидамиI. Борьба продолжалась десятилетия и
привела Золотую Орду к упадку.
Из среды монгольских завоевателей на арену выдвигается новая
грозная фигура Тимура (Тамерлана). Он завоевывает Среднюю и
значительную часть Передней Азии. Быстрое усиление Тимура вызывало
тревогу у хана Золотой Орды Тохтамыша. Стремясь опередить опасного
противника, Тохтамыш предпринял в 1386—1388 годах походы в
Закавказье, чтобы захватить Азербайджан и тем самым преградить путь
Тимуру.
Поскольку для покоренных народов Северного Кавказа
ослабленные внутренними распрями золотоордынские ханы представляли
меньшую, чем Тимур, опасность, аланы, половцы и другие племена в 1388
году объединились с войсками Тохтамыша и выступили против Тимура.
Но Тохтамыш потерпел поражение, а Закавказье подверглось
опустошительному нашествию войск нового завоевателя. Овладев
Азербайджаном, Арменией и Грузией, Тимур принимается за покорение народов
Северного Кавказа, оказавшихся на стороне Тохтамыша. Он вторгается
сюда через Дербентский проход в 1395 году. На территории Алании
разыгралась ожесточенная битва между двумя враждебными армиями,
Тохтамыш разгромлен и с остатками своих войск, преследуемый
Тимуром, бежит за Волгу. Тимур, однако, повернул назад, на своем пути
разоряя города и грабя население. Не забыл грозный завоеватель
сопротивления непокорных алан, а тут еще получает известие, что двое
аланских предводителей, Буриберди и Буракан, не признали власти
победителя. Месть Тимура была настолько велика, что ни один улус,
ни одна народность Золотой Орды не были разгромлены с такой
жестокостью, как Алания. Особенно тяжелый погром учинен врагом в
западной части Алании. Не удержали свирепых воинов Тимура ни
естественные преграды (горы и непроходимые леса), ни искусственные
укрепления и крепости. Даже на Эльбрусе захвачены крепости
непокорившихся монголам аланских владетелей Кулу и Таус, куда, казалось бы,
вовсе нельзя добраться: «крепости их были на вершинах гор, а дороги
к ним крайне трудны и тяжелы, так что из-за их большой высоты у
наблюдающего темнело в глазах, а у смотрящего шапка падала с головы.
Крепость же Тауса имела особенно прекрасное высокое строение,
стрела не достигала снизу доверху крепости, и без усилия ум не мог
О
1 Алания входила в состав Золотой Орды, а Закавказье было подвластно ильха-
нам — Хулагидам.
69
представить взятия ее»1,— писал летописец походов Тимура. И тем не
менее крепости пали, а их владетели Кулу и Таус были захвачены в
плен и умерщвлены.
Несмотря на это, население по-прежнему оказывало невиданное по
своей стойкости сопротивление.
Пройдя огнем и мечом по Северному Кавказу, Тимур уничтожил
десятки поселений и истребил значительную часть населения Алании, а
«те, которые остались в живых, оказались бродящими, растерянными и
бездомными»2,— сообщает летописец.
Этот печальный итог кровавых деяний Тимура подтверждается
свидетельством итальянского путешественника Иосафата Барбаро,
предпринявшего в первой половине XV в. путешествие на Северный Кавказ,
где он прожил шестнадцать лет. «Народ сей (аланы), исповедовавший
христианскую веру,— писал он,— был истреблен и выгнан из жилищ
своих»3.
Нашествия Тимура на Кавказ продолжались еще и после этого. Он
вынашивал план полного разгрома Алании и истребления ее населения.
Об этом грузинская летопись сообщает следующее: «В 1400 году
Тамерлан двинулся в Мтиулетию (горную Грузию.— А. М), опустошил Арагв-
ское ущелье и вступил в Дарьяльские теснины, где войска его понесли
большой урон от летучих отрядов горцев. Тамерлан вынужден был
вернуться в Барду, оттуда он выслал свои отряды для покорения Овсетии.
Тамерланово войско, прошедшее через врата Дербентские и пройдя
земли леков4, вступило в Овсетию, опустошило сию страну, полонило
население и вернулось обратно к повелителю своему. Покорение
Овсетии Тамерлан предпринял только потому, что царь Грузии подкреплял
себя войсками из страны овсов»5.
События почти двухсотлетнего монгольского господства,
ввергшего Аланию в кровавую пучину, не могли не оставить своего следа в
памяти осетинского народа. Острым клином врезалась в сознание народа
зловещая фигура Тимура (известного осетинам под именем ^Ехсахъ-
Темур), черные деяния его не могли скрыть и толщи веков. Их отразила
даже топонимика Осетии. Например, известная осетинская река Гизель
О
1 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой
Орды, т. И, 122.
2 Там же, стр. 185.
3 Барбаро Иосафат. Путешествие в Тану. Библиотека иностранных писателей
о России, СПб., 1836, т. I, отд. I, сггр. 6.
4 Леками грузины называли дагестанские племена.
5 М. Г. Д ж а н а ш в и л и. Известия грузинских летописей и историков о Северном
Кавказе и России, Сборник материалов по описанию местностей и племен
Кавказа, вып. XXII, стр. 53.
70
свое название получила от татар. У осетин существует предание, в
котором рассказывается, что на берегу реки Гизель (осетинское название
не известно) произошло кровопролитное сражение между войсками
Тимура и осетинами и что в результате этой битвы река окрасилась
кровью, почему и потерпевшие в ней поражение монголы назвали
реку «красной» — «Кизил» — «Хъызыл» (у осетин слово это
получилось «Джызаел», в русском же через осетинское посредство —
«Гизель»I.
. Недалеко от селения Кора-Урсдон имеется местность «Хъаераегъаес»
(Карагач), что на тюркском языке означает «Черный лес». Согласно
преданию, на этом месте «был дремучий лес, в котором Тимур приказал
сделать просеки для прохода своих полчищ, смертельно изнуряя на
этой работе пленных алан»2. Действительно, войско Тимура или
отдельные его части, встретив на своем пути непроходимые леса, вырубали
их или делали в них просеки, чтобы преследовать спасавшееся
население. Летописцы тимуровских походов отмечают несколько таких фактов.
Например, рассказывают: «По дороге туда (т. е. к местности, где
население еще не покорилось неприятелю. — А. М.) был такой гостой лес,
что от множества деревьев и сплетения ветвей туда с трудом проходил
даже быстрый ветер. Было издано высочайшее повеление, и войска,
прорубив лес на три фарсаха, проложили путь и, подняв знамя похода,
прибыли туда», где жители «отчаянно начали сражаться». Однако,
продолжает историк свой рассказ, «победоносное войско после многих
усилий одолело их... и уничтожило многих из них»3.
Подобием указанных дорог (просек), прокладываемых войсками
Тимура, были «тамерлановы рвы». Остатки «тамерланова рва»
прослеживаются на территории Осетии в районе Гизели, Татартупа, в Дигор-
ском ущелье.
О глубине трагедии, пережитой тогда аланами, говорит и то, что
осетины в своем фольклоре понятие о конце мира связывают с именем
Тимура (^Ехсахъ-Темур). Борьбу с монголами осетинский народ
отразил и в нартском эпосе.
Как ни многочисленны свидетельства о беспримерной и героической
борьбе алан-осетин, она имела для них печальный исход. Монгольские
завоеватели физически истребили большую часть алаиского населения,
других увлекли с собой в походы, и они растворились в массе Других
О
1 М. С. Туга нов. К материалам по изучению истории осетинского народа.
Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института, вып. IX, Сталинир,
1958, стр. 90, 91.
2 Там же, стр. 91.
3 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой
Орды, т. II, стр. 182.
71
народов. Уцелевшее же население ушло в горные трущобы
Центрального Кавказа. Отсюда группы алан-осетин с северных склонов
Центрального Кавказа перебрались на южные, которые были освоены их
предками (после гуннского нашествия), а к XIII веку опустели ввиду
постепенного переселения алан в долины Грузии1. С тех пор южные осетины
составляют основное население данной территории Грузии.
Мрачный период в истории алан-осетин, наступивший в связи с
нашествием татаро-монголов, грузинский историк Вахушти Багратиони
характеризует следующим образом: «Во время походов Чингисовых
ханов разорились и опустошились города и строения их, и царство овсов
превратилось в мтаварство-княжество, и овсы стали убегать внутрь
Кавказа, а большая часть страны их превратилась в пустыню». Здесь,
в горах Центрального Кавказа, конкретизирует далее Вахушти, Осетия
«раздробилась на множество мтаварств» (владений).2
Таким образом, географическое положение Осетии определилось
тесными ущельями гор, в которых постепенно образовались замкнутые,
оторванные друг от друга мелкие полуфеодальные, полупатриархальные
общества, с различной внешнеполитической ориентацией и зависимые от
более могущественных соседей. Это привело к тому, что экономические
и культурные связи внутри отдельных частей на целые столетия были
нарушены.
Не успели осетины опомниться после нашествия татаро-монголов,
как вновь начали подвергаться набегам, теперь уже со стороны
кабардинских князей. Последние заняли всю плоскостную территорию осетин,
и у выхода из горных ущелий возникли кабардинские поселения3.
Осетины остались надолго запертыми в тесных горных ущельях. При
появлении на плоскость они подвергались ограблению, захватывались в
плен княжескими дружинниками и продавались в рабство. В лучшем же
случае с осетин «за проезд по предгорной равнине взимали одну бурку
и установленное количество орлиных перьев для стрел»4.
О
1 Миграция осетинского населения на южные склоны Главного Кавказского хребта
происходила и во все последующие времена, вплоть до XVIII в. Поселения осетин
заняли здесь компактную территорию (преимущественно гористую). Она составляет
ныне Юго-Осетинскую автономную область в составе Грузинской ССР.
2 Вахушти. География Грузии. Перевод М. Г. Джанашвили. Записки Кавказского
отдела императорского русского географического общества, кн. XXIV, стр. 153.
3 Г. А. Коки ев. Малокабардинские поселения в XVI—XVIII вв. на Северном
Кавказе. Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института, т. II,
Нальчик, 1947.
4 Г. А. К о к и е в. Малокабардинские поселения на Северном Кавказе, стр. 29;
С. Броневский. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе,
т. II, М., 1829, стр. 165.
72
Острое безземелье в горах, однако, вынуждало осетин идти в
кабалу к кабардинским феодалам, платить им дань за пользование
пахотными и сенокосными угодьями в предгорной равнине, находившейся в
их монопольном владении. В значительно большей экономической
зависимости от кабардинских феодалов оказались крестьяне Западной
Осетии (Дигории), а затем и Восточной Осетии (Тагаурии). Кабардинским
феодалам в закабалении осетинского крестьянства усердную помощь
оказывала феодализирующаяся родовая знать — дигорские баделяты и
Тагаурские старшины — алдары, которые, опираясь на них, установили
феодальное господство над свободными общинниками-крестьянами.
Взимание дани и поборы с осетинских крестьян кабардинские князья
производили, как правило, с участием местных феодалов.
Так установилась вассальная зависимость части осетинских
феодалов от кабардинских князей. «Этот вассалитет,— как правильно
отмечает М. С. Тотоев,— был прежде всего классовым союзом феодальных
верхов Кабарды и Осетии... Каждый из осетинских феодалов в
подвластных ему селениях собирал установленные повинности для себя и
для сюзерена и обязан был оказывать сюзерену военную помощь.
Помогали своим вассалам и кабардинские князья. Такой тесный
классовый союз феодалов обеспечивал и тем и другим максимальную
эксплуатацию осетинских и кабардинских крестьянских масс»1.
Ногайцы в предгорьях Кавказа
В цепи нескончаемых бедствий, перенесенных осетинским народом
со времени монгольских завоеваний и погромов, следует назвать и
притеснения со стороны ногайских мурз, продолжавшиеся довольно
значительное время.
Появление ногайцев в предгорьях Центрального Кавказа, согласно
некоторым источникам, предшествовало занятию кабардинскими
князьями территории Владикавказской равнины.
Уже в документах XV в. имеются сведения о проникновении
ногайцев в предгорные районы Северного Кавказа2. В непосредственное
соприкосновение с осетинами ногайцы пришли не раньше второй
половины XVI в., когда вследствие княжеских междоусобий, Ногайская Орда
распалась на Большую и Малую орды и последняя откочевала в
Предкавказье и Приазовье3. Со временем на Северный Кавказ с Волги под
©
1 М. С. Тотоев. Кабардино-балкаро-осетинские отношения. В кн.: История
Кабардино-Балкарской АССР, т. I, М., 1967, стр. 177—178.
2 Очерки истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967, стр. 143.
3 Народы Кавказа, т. I, М., 1960, стр. 393.
73
давлением калмыцких феодалов проникли и ногайцы Большой Орды,
которые и кочевали здесь с Ногаями Малыми. Ядром Ногайской Орды
были мангыты—-одно из крупных племенных подразделений монголов.
Смешавшись с тюрко-язычными половцами, они восприняли язык
последних, а также многие элементы кипчакской культуры.
Неудивительно, что некоторые ногайские орды сохранили наименование «кыпчак-
ский»1.
Пастбища Предкавказья, несомненно, привлекали ногайских мурз,
владевших большими стадами. Ногайские кочевья подступали прямо
к выходам из горных ущелий. Исторические предания осетин
указывают, что они подвергались грабежу и притеснениям со стороны ногайских
мурз, совершавших набеги на осетинские поселения, расположенные в
горных долинах. Как повествуют эти же предания, осетины во время
этих набегов захватывались в плен, превращались затем в рабов (у
ногайцев сильно было развито домашнее рабство), продавались на
невольничьих рынках, угонялся их скот. Осетинское население, как и
раньше, оказывало завоевателям сопротивление, вело с ними борьбу.
Эта тяжелая полоса в жизни осетин врезалась в народную память,
которая сохранила яркие отзвуки далеких событий.
Однако данная страница истории осетинского народа до сих пор не
изучена и не освещена в литературе. На этот вопрос в свое время
обратил внимание проф. Г. А. Кокиев, который, специально не занимаясь
этим, привел ряд интересных фактов и высказал не лишенные
основания предположения по данной проблеме2. Им, кроме того, в 1920-е
годы собран в осетинских ущельях целый ряд легенд, бесспорно
доказывающих пребывание ногайских кочевий на территории плоскостной
Осетии. В разные годы до революции записаны легенды о ногайцах, о
их пребывании здесь и опубликованы в местной печати (в «Терских
ведомостях» и др.).
«Под своим самоназванием (ногайлар) этот народ известен всем
народам Северного Кавказа... Самоназвание ногайцев было хорошо
известно не только народам, жившим на плоскости, но и жителям
высокогорных областей Северного Кавказа»3.
Следы пребывания ногайцев в Осетии и общения их с ее
населением подтверждаются данными этнонимики и топонимики. Так, в
Западной Осетии, между реками Дур-Дур и Урух, на значительной террито-
©
1 Е. П. Алексеева. Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии, стр. 200.
2 Г. А. Кокиев. Малокабардинские поселения в XVI—XVIII вв. на Северном
Кавказе, стр. 24, 25.
3 Н. Г. Волкова. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973,
стр. 80.
74
рии, доходящей до границ с Кабардой, поля называются «Силтанухъ»
(«Солтанухъ»).
Названные поля это свое название получили от имени «солтанауль-
ских татар», под которым «в русских источниках известны потомки
ногайского мурзы Солтан-Уллу, происходившего от предка Малого Но-
гая — Касая Мурзы»1. Мы уже говорили о том, что первыми пришли
на территорию Осетии ногайцы Малой Орды, и не исключена
возможность занятия данной местности названными «солтанаульскими»
ногайцами. Между прочим, эта местность еще до войны использовалась в
качестве зимних кочевок для скота.
Далее. Названия осетинских селений Эльхот, Заманкул, Чикола —
ногайского происхождения. Некоторые местности связаны также с
присутствием здесь ногайцев. Осетинское население многие старые
(средневековые кладбища приписывает ногайцам. Это — кладбища в районах
селений Заманкул, Дур-Дур, Разбун, Кора, Ахсарисар, Каражаево
ныне Хазнидон), Кадгарон, а также в местностях Таегари Тапан, Кета (в
Дигории) и др.2.
Г. А. Кокиев даже некоторые склепы башенного типа в Дигор-
>ском и Куртатинском ущельях считает ногайскими. Конечно, для
окончательного подтверждения этой мысли требуется проведение
антропологических и археологических исследований. Но нельзя отрицать того факта,
что Г. А. Кокиев имел определенные основания для такого заявления,
что и приводит в своей работе «Склеповые сооружения горной Осетии».
Освещение осетино-ногайских отношений в данной работе нам
понадобилось не ради установления этого исторического факта, а тех
последствий, которые сказались на общественном строе и быте осетин.
Если углубиться в историческую этнографию осетин и ногайцев, то
:мы найдем у них много сходного, особенно в общественном строе — в
традициях обычного права, в правилах гостеприимства, в
судопроизводстве, в религии и др. Например, некоторые религиозные представления
и суеверия у ногайцев полностью совпадают с осетинскими. Так,
ногайцы над могилой покойника ставили флаг3. На такой же обычай у
осетин в прошлом указывают письменные источники4. А удивительнее
О
1 Материалы по истории Осетии (XVIII век), т. I. Документы собрал, введением и
примечаниями снабдил Георгий Кокиев. Орджоникидзе, 1933. Примечание, стр. 321.
2 См. Г. А. Кокиев. Малокабардинские поселения в XVI—XVIII вв. на Северном
Кавказе, стр. 24, 25; его же: Склеповые сооружения горной Осетии. Владикавказ.
1929, стр. 51, 52.
3 Н. Ф. Дубровин. Ногайцы. История войны и владычества русских на Кавказе,
т. I, кн. I, СПб., 1871, стр. 281.
4 Донесение протопопа Болгарского епископу астраханскому и ставропольскому
Антонию от 18 июля 1780 года о нравах и обычаях осетин. В кн.: Материалы по
истории Осетии (XVIII век), т. I, стр. 171.
75
всего то, что ногайцы считали «своей обязанностью перед наступлением:
нового года сходить к урочищу Татартуп и поклониться духу гор»1.
Известно, что Татартуп был глубоко почитаемым святилищехМ у осетин (и
кабардинцев) и под их влиянием ногайцы — степняки стали
поклоняться «духу гор» на Татартупе.
Л. П. Семенов, использовав огромный исторический материал,
показал, что Татартуп являлся также местом «международной» торговли,
где встречились представители горских народов, в том числе осетины, со
своими товарами. Согласно священному обычаю, издавна
существовавшему в Татартупе, всякий пришедший сюда пользовался правом
убежища, он находился в безопасности. И, придя на Татартуп, где тогда
пребывали ногайцы, осетины могли мирно встречаться с ними и совершать
сделки.
У ногайцев, как некогда у половцев, встречаем сказителей-певцов.
и двухструнные музыкальные инструменты — копии осетинского фан-
дыра.
Осетины переняли у ногайцев кибитки с войлочным верхом,
производство циновок из болотной травы — «ерджен» («джегени»), названия
отдельных предметов — «урындыхъ», «басылыхъхъ». От них же осетины,,
особенно моздокские, восприняли калмыцкий чай («хъалмыхъаг цай»),,
«хъуымыз» (молоко, полученное от коровы или овец сразу после отела
и затем вскипяченное, превращается в сыр. Обладает исключительными
вкусовыми качествами).
У осетин много тюрко-ногайских имен: Мырзэе (Мурзэе), Мырза-
бег, Хъантемыр, Хъанцау, Темырхъан, Госгехъыз, Хъызмыдае и др.
Культурно-исторические связи осетин
с соседними народами
Несмотря на естественные и исторические преграды, ставшие на их
пути, осетины пробивают себе дорогу к внешнему миру. Общение
прежде всего происходит между жителями разных ущелий. Для связей с
другими народами и племенами осетинами были использованы
естественные проходы через занимаемые ими горные ущелья, служившие
путями сообщения между Северным Кавказом и Закавказьем. Путями
сообщения (вьючными и пешеходными) были связаны также поселения
внутри ущелий.
Внешние связи наиболее активно поддерживали осетины с Грузией,.
О
1 А. Ф. Дубровин. Указ. соч., стр. 275.
76
которые осуществлялись как по линии экономической, так и
политической и религиозной. Характерной чертой этих связей, прежде всего,
является то, что на протяжении столетий грузинский и осетинский
народы рука об руку выступали против общего врага. Как отмечает
академик Г. А. Меликишвили, «установление дружеских отношений с
аланами... в немалой степени способствовало укреплению позиций Картлий-
ского царства»1. Эти отношения взаимоподдержки осетин и грузин
продолжались и в последующие эпохи. XVIII век в этом отношении дает
немало ярких примеров. Например, «одной из опор Таймураза и
Ираклия в их активной внешней политике была военная помощь осетин. Не
было почти ни одного сколько-нибудь значительного начинания
Ираклия II, в котором не принимали бы участия осетины... Плечом к плечу
с грузинами сражались осетины'-в Аспиндзской битве 20-го апреля
1770 г.»2
Характерно указание грузинской летописи, в котором
подчеркивается, что «грузины уважают осетин за их доблесть и значение для Грузии,
им отводится первенствующее место в официальных церемониях»3.
В области экономических связей с Грузией существенное значение
для осетин имела торговля. В обмен на мелкий рогатый скот и
продукты овцеводства (шерсть, домотканое сукно, бурки, войлок и др.)
осетины получали из Грузии хлопчатобумажные ткани и полотно, предметы
домашнего обихода, железо и железные изделия, оружие, соль, фрукты.
Грузинские летописи рассказывают о том, как «отправились
осетины в город (Калакмге — в Тбилиси.— А. М.) торговать»4.
Но особенно глубокий след оставили культурные взаимоотношения
между обоими народами. Профессор В. И. Абаев указывает, что «осе-
тино-грузинские культурные связи по своей давности, богатству,
сложности и интересу заслуживают быть предметом специального
исследования»5.
Большой интерес грузино-осетинские отношения представляют с
точки зрения изучения обмена и взаимовлияний в области социальных
отношений и общественных форм. В ходе исследования
рассматриваемых в книге вопросов мы обнаружили сходство многих форм в
общественном быте грузин-горцев и осетин.
Единые формы возникали у них не только в результате одинаковых
I Г. А. Меликишвили. К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959.
II История Осетии в документах и материалах (с древнейших времен до конца
XVIII века), Цхинвали, 1962, стр. 8—9.
3 Г. А. Меликишвили. К истории древней Грузии, стр. 338.
4 Г. Д. Т о г о ш в и л и. Из истории грузино-осетинских взаимоотношений (с
древнейших времен до конца XIV в.). Автореферат диссертации. Тбилиси, 1959, стр. 7.
* В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, сгр. 86.
77
социально-экономических условий жизни, но и взаимного обмена
общественными традициями. Грузинский сравнительный материал проливает-
свет на историю этнокультурного сотрудничества между грузинами к
осетинами. Осетино-грузинские параллели указывают, кроме того, на
стадиальный характер общественных институтов у осетин и горных
грузин.
Культурные и экономические связи развивались у осетин также с-
Кабардой и Балкарией. Как ни сложны были отношения между Кабар•
дой и Осетией, объективные условия привели осетинский и
кабардинский народы к тесному общению между собой. Это общение покоилось
прежде всего на необходимости экономического сотрудничества:
осетины, испытывавшие острую нужду в зимних пастбищах, искали выход к.
плодородным полям на плоскости, находившимся во-владении
кабардинских феодалов, а последние в развитии своего скотоводства
(особенно овцеводства) не могли обходиться без летних пастбищ, состоящих из
богатых альпийских лугов, которыми располагали осетины.
Важное место в отношениях между обоими народами играла
торговля. Осетия сбывала в Кабарде скот, шерсть, сукно и другие изделия
домашнего производства, а взамен получала ткани, железо, соль, хлеб,
сушеную рыбу и т, д., которые в свою очередь кабардинцы получали из
России, Крыма и Турции1.
Многовековое соседство и постоянные связи заметно сказались
также на материальной и духовной культуре осетин и кабардинцев, в
которой они прошли глубокий процесс взаимовлияния. Следствием этого
являются, например, единые формы народной одежды, утвари, других
элементов материальной культуры, а также наличие сходных черт в
быту.
Осетины, очевидно, позаимствовали у кабардинцев многое из
общественного этикета, восприняли или был возрожден под влиянием,,
кабардинцев обычай аталычества. Осетины испытали влияние
кабардинцев в пору развития у них феодальных отношений. Кабардинцы
остались небезразличными к сельскообщинным традициям у осетин.
Несмотря на феодально-вассальные отношения, установившиеся,
между господствующими классами Кабарды и Осетии и. притеснения
осетинского трудового населения кабардинскими князьями, активно
проявлялась общность классовых интересов кабардинского и осетинского
народов в их совместной борьбе против общих врагов — крымских
ханов, султанской Турции и прочих угнетателей.
Весьма плодотворными были связи Осетии с Балкарией. ^«Важное-
место в исторических судьбах балкарцев,— говорится в «Очерках исто-
©
1 См. История Северо-Осетинской АССР, М., 1959, стр. 106—107; История
Кабардино-Балкарской АССР, т. I, М., 1967, стр. 177.
78
рии балкарского народа»,— занимали их взаимоотношения с соседним
осетинским народом... Осетинские этнические элементы сыграли
определенную роль в формировании балкарской народности»1.
Тесные балкаро-осетинские связи получили отражение в языке
обоих народов2. Лексические схождения представлены терминами из
самых различных областей жизни. Наибольший процент из них надает
на термины материальной и духовной культуры осетин и балкарцев.
«Это обстоятельство,— говорится в «Очерках»,— является лишним
свидетельством того, что общие элементы в языках обоих народов
являются отражением многосторонних и длительных связей между ними»3.
Между осетинами и балкарцами происходил оживленный обмен
товарами — изделиями домашнего ремесла и скотом. Особенно активными
были их связи на почве развития овцеводческого хозяйства. Известно,
что многие из осетинских крестьян в целях заработка и приобретения
овец уходили пастушествовать в Балкарию. Как мы увидим дальше,
общественные ""отношения хозяйственной жизни народа на определенном
этапе его развития регулируются обычным правом. Осетины и балкарцы
находились именно на таком уровне социального развития. Поэтому у
балкарцев и осетин мы обнаруживаем до удивительного сходные
общественные традиции в скотоводческом хозяйстве (виды аренды скота,
наймы работников и формы их оплаты и др.). Мирные, добрососедские
отношения между двумя народами сказывались и на развитии
архитектурного строительства балкарцев. Между двумя народами происходит
взаимообмен строительным опытом и традициями. Для строительства
башен в Балкарию нередко приглашались мастера из Осетии4. Но нам
представляется, что это знакомство происходило с самого начала,
соприкосновения балкарцев с аланами-осетинами. Не подлежит сомнению,
что некоторые из сохранившихся до наших времен башен здесь были
построены прежними обитателями Балкарии — осетинами. На это, в.
частности, указывают И. Иванюков и М. Ковалевский5.
Мы, кроме того, указывали выше, что войскам Тимура неоднократ-
©
1 Очерки истории балкарского народа. Нальчик, 1961, стр. 40.
2 См. В. И. А б а е в. Общие элементы в языке осетин, балкарцев и карачаевцев.
Сб. Язык и мышление, т. I, Ленинград, 1933; В. И. Аба ев. Об аланском субстрате
в балкаро-карачаевском языке. В кн.: Материалы научной сессии по проблеме
происхождения балкарского и карачаевского народов. Нальчик, 1960, стр. 127—134.
3 Очерки истории балкарского народа, стр. 41.
4 См. об этом же: Э. Б. Бернштейн. Народная архитектура балкарского жилища.
Материалы научной сессии по проблеме происхождения балкарского и
карачаевского народов, стр. 191.
5 И. Иванюков и М. Ковалевский. У подошвы Эльбруса. «Вестник Европы»,
1886, январь, стр. 102—103.
79
но приходилось брать приступом башни-крепости алан на территории
нынешней Балкарии. Отсюда, вполне закономерным следствием
является усвоение балкарцами традиций башенной культуры осетин здесь
же на месте.
Но наиболее плодотворно взаимовлияния обнаруживаются в
области духовной культуры. Свидетельством этого является сходство многих
явлений семейного и- общественного быта у балкарцев и осетин. В
частности, на осетинские займы в Балкарии в свое время указывали
В. Ф. Миллер и М. М. Ковалевский. Большое сходство с осетинским
М. М. Ковалевский видит, например, в юридическом быте балкарцев.
«Судопроизводство татар (балкарцев.— А. М),— говорит он,—
проникнуто осетинским началом, и если встречаются подчас некоторые
отличия, то корень их лежит в том влиянии, какое у горских тдтар имел
шариат на изменение и даже совершенную отмену обычая»1.
М. М. Ковалевский осетино-балкарские взаимосвязи считает
настолько глубокими (имея в виду их архаичность) и устойчивыми, что,
по его мнению, они могут стать отправным моментом в изучении таких
явлений жизни осетин, которые из самого осетинского быта уже не
поддаются объяснению. «Раз мы,— говорит Ковалевский,— допустим
сходство татарских (балкарских.— А. М.) обычаев с осетинским и
заимствование последних первыми, мы последовательно придем к тому выводу,
что татарский обычай заключает в себе ценное указание для
исследователя осетинского быта и его исторических судеб, так как в татарском
обычае удержалась та архаическая черта, которая, быть может, под
влиянием христианства, а также более продолжительных сношений
осетин с русскими, успела совершенно изгладиться из собственно
осетинских'обычаев»2.
В объяснении этих явлений нельзя не принять во внимание и тот
факт, что после занятия предками современных балкарцев их нынешней
территории, занимаемой до них аланами, определенная часть алан
осталась на прежнем месте и постепенно смешалась с новыми поселенцами,
(Приняв, как мы уже отмечали, участие в их этногенезе.
Отсюда безошибочно можно сказать, что подавляющая часть
осетинских влияний относится как раз к этому периоду, когда культура
старых насельников усваивалась непосредственно в совместном
проживании с ними. Тогда же были усвоены балкарцами осетинские названия
местностей на занятой ими аланской территории, многие хозяйственные,
О
1 И. Иванюков и М. Ковалевский. У подошвы Эльбруса. «Вестник Европы»,
1886, январь, стр. ПО.
2 Там же, стр. 108; М. Ковалевский. Обычное право горских татар и
отношение его к осетинскому. «Русские ведомости», 1885, № 305.
80
общественные и религиозные термины и понятия, древыеосетинский
десятичный счет («аессон нымад»).
Рассматривая историю осетинского народа, особенно его культуру
и быт, нельзя не остановиться особо на связях, существовавших в
течение веков между Осетией и Чечено-Ингушетией.
Взаимосвязи, установившиеся между осетинами и ингушами
столетия тому назад, носили мирный, добрососедский характер. Помимо
экономических связей, между ними происходил взаимообмен в области
материальной и духовной культуры. Особенно это прослеживается в
строительной технике и изобразительном искусстве осетин и ингушей.;.
О долгом сотрудничестве обоих народов свидетельствует наличие
таких общих элементов культуры и явлений быта, как одинаковые
легенды, нартский эпос, приписываемые нартам различные памятники,
обряд «посвящения коня», вызывание дождя, культовые традиции,
представлявшие смесь язычества, христианства и мусульманства,
значительное сходство в одежде, технике кустарных изделий, в устройстве
жилищ, культ железа и прочее1.
В ряду этих явлений стоит также большое сходство в семейных
обрядах и обычаях ингушей и осетин, что в свое время было отмечено
еще академиком А. Шегреном2 и этнографом-писателем И. Кануковым3.
О глубине связей между обоими народами говорят и другие факты.
Так, у осетин имеются легенды, согласно которым некоторые роды в
Осетии свое происхождение ведут из Ингушетии (например, Дударовы,
Дзарахоховы, Цуровы, Апаевы и др.)- Но и в ингушских селениях
находили приют осетинские семьи. Археологический и этнографический
материал, добытый в последние годы, свидетельствует о более глубоких
этнокультурных связях между осетинами с одной стороны, и ингушами и
чеченцами, с другой стороны. В историческом прошлом целые группы
алан находили приют в среде вейнахов и, постепенно растворяясь в ней,
оказывали на нее свое влияние. Археологи указывают, что «спустя века,
1 Л. П. Семенов. Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в
1925—1932 годах. Грозный, 1963, стр. 152—153; Б. А л боров. Осетинские названия
местностей к Еостоку от Осетии. (К вопросу об осетино-ингушских
взаимоотношениях в прошлом). Сборник научного общества этнографии, языка и литературы
при Горском педагогическом институте, т. I, Владикавказ, 1929; Его же: Ингушское
«Гальерды» и осетинское «Аларды». (К вопросу об осетино-ингушских культурных
взаимоотношениях). Известия Ингушского научно-исследовательского института
краеведения, т. I, Владикавказ, 1928.
2 А. М. Ш е г р е и. Религиозные обряды осетин, ингушей и их соплеменников, при
разных случаях. Газ. «Кавказ», 1846, № 27—30.
3 И. Кану ков. Характерные обычаи осетин, кабардинцев и чеченцев. Газ.
«Кавказ», 1876, № 148.
6 А. X. Магометов 81
было уже невозможно отличать потомков этих алан от вейнахов. Но
бесследно ли они исчезали? Нет: в преданиях, в названиях местностей
и рек, в орнаментике, в лексике и даже фонетике вейнахов легко
обнаруживаются следы прежнего «совместничества» (добрососедства,
общности интересов)»1.
Нередки были факты установления родства между представителями
двух народов. Старшее поколение еще помнит, с какими почестями
принимали в осетинских селах ингушей («ирон хаераэфырттае»),
приезжавших к своим родственникам и какие устраивали в их честь торжества.
Сильно были развиты между осетинами и ингушами куначество и
побратимство. А известный этнограф Б. Далгат2 указывал на сходство
юридических норм в обычном праве ингушей и осетин. В прошлом же
бывали факты, что из Ингушетии приглашали в Осетию знатоков,
обычного права, пользующихся широкой популярностью, в качестве судей
(«таерхоны лаегтае») для разрешения особо сложных конфликтов.
Происходило это и в обратном направлении — в особо конфликтных
случаях приглашали людей также из Осетии.
На благотворно развивающиеся связи между обоими народами об-
- ращали внимание исследователи и в прошлом. Так, известный
кавказовед Н. Зейдлиц, после одной из своих поездок в Чечню и Ингушетию,
писал: «Джераховцы (ингуши Джераховского ущелья) до того
подверглись влиянию соседних осетин, что все они говорят, кроме своего
родного языка, и на иноплеменном, осетинском. Деревни их имеют двойное,
кистинское (ингушское) и осетинское название. Родственная связь
нередка между джераховцами и осетинами. Границу двух народностей
составляет здесь река Терек, а ведь известно, что реки мало
разъединяют народы.
Характер здешних построек весьма похож на осетинскую
архитектуру, с которою сходствует тем более, чем дальше мы продвигаемся на
запад. Это наблюдение невольно поражает мысль, что выработавшийся
в Осетии стиль распространился с запада на восток по продольным
долинам и известковым хребтам, на восток до самого Дагестана,
сделавшись общим достоянием осетинских и чеченских горцев»3.
О
!В. Виноградов, X. Мамаев. По следам древнего добрососедства. Газ.
«Социалистическая Осетия», 1973, 17 июля, № 165.
2 Далгат Башир. Материалы по обычному праву ингушей. Владикавказ, 1929;
Б. Далгат. Родовой быт чеченцев и ингушей в прошлом. Известия Ингушского
научно-исследовательского института, т. IV, вып. 2, Орджоникидзе—Грозный, 1934—
1935.
3 Н. Зейдлиц. Поездка в Чечню, к верховьям Аргуна, в Ичкерию и через Хасав-
Юрт вверх по Тереку до Моздока. Известия Кавказского отдела императорского
русского географического общества, т. II, вып. 4, 1873, стр. 161.
Ближайшие соседи осетин — грузины, кабардинцы, балкарцы,
чеченцы, ингуши и другие кавказские народы были как раз той
питательной средой, из которой набирала соки самобытная алано-осетинская
культура. В этом мы и видим ключ к пониманию того, что осетинская
культура находит свои аналогии и сходные черты в культурах соседей.
Однако мы уже говорили, что алано-осетины не были одними
только потребителями, они также щедро делились* своим достоянием, что,,
несомненно, отразилось на культуре этих же народов.
•„ Безусловно, кроме соседства, такому общению способствовали,
прежде всего одинаковые социально-экономические условия развития и
общие исторические судьбы кавказских народов.
'Особое место в истории осетинского народа, в развитии его
материальной и духовной культуры заняли русско-осетинские отношения.:
Связи Осетии с Россией, как мы уже отмечали, завязались еще во
времена Тмутараканского княжества и Киевской Руси.
Но эти ранние связи были прерваны в период монгольского ига..
Они стали возобновляться только в XVI—XVII вв. Этому
способствовало прежде всего стремление России расширить экономические и
политические связи с Северным Кавказом и Закавказьем.
Осетины уже со второй половины XVIII в. стали активно
добиваться покровительства России путем присоединения к ней.
«Осетинский народ в тот конкретный исторический период в лице
России ( к тому же еще единоверной) видел единственную силу, от
которой только и мог ожидать защиты от грабительских нашествий
крымских ханов и от произвола части кабардинских феодалов, силу, с
помощью которой он надеялся очистить от последних предгорные равнины
и тем самым ликвидировать остатки своей вассальной зависимости от
них и получить возможность пользоваться плодородными плоскостными
землями»1.
Осетинский народ переживал в то время такой период, когда
межплеменная и феодальная анархия, междоусобица, насилия по праву
сильного стали окончательным тормозом в развитии производительных
сил, стали угрозой гибели народа. Нескончаемые междоусобия и
постоянные столкновения между различными обществами, аулами и родами
стали обычным явлением.
Огромный урон наносила кровная месть, которая потрясала все
осетинское общество. В кровавой схватке уничтожались целые роды, а
многие вынуждены были отсиживаться годами за крепостными стенами и
в башнях. В этих условиях нужна была сила, которая могла бы
предотвратить эту анархию и междоусобицы и водворить «порядок и согла-
©
1 М. С. Т о т о е в. Из истории дружбы осетинского народа с великим русским
народом. Орджоникидзе, 1954, стр. 9,
83
сие между ними». Народные массы сознавали, что только Россия могла
добиться этого.
Россия со своей стороны также проявляла большой интерес к
Осетии, которая представляла для нее важный военно-стратегический и
экономический объект. «Политическая заинтересованность России в
Осетии заключалась в том, что через Осетию по Дарьяльскому ущелью
шла главная дорога в Грузию. Такие же дороги, но меньшего значения,
шли по Алагирскомуи Дигорскому ущельям. Свободное движение по
этим дорогам в значительной мере способствовало бы укреплению
русско-грузинских отношений»1.
Еще до официального присоединения Осетии к России осетины от
русских властей добились предоставления им льгот для беспошлинной
торговли на кавказской «кордонной» линии. «Уже тогда осетины были
частыми «гостями» в Кизляре, Моздоке и в других городах по торговым
делам. Эти развивавшиеся торгово-экономические связи способствовали
дальнейшему политическому и культурному сближению горцев-осетин с
русскими»2.
Существовали связи у осетин и с первыми русскими поселенцами
на Тереке — терскими казаками. Горцы (в том числе осетины) и казаки
обменивались между собой изделиями своего хозяйства. Осетины
сбывали в русских станицах преимущественно продукты скотоводства, а
взамен получали «холст, мануфактуру, продукцию русского
производства и разные подарки»3.
Горцы перенимали у русских также лучшие навыки ведения
хозяйства; особенно в земледелии. Под влиянием русских осетины стали
возделывать многие овощные культуры, в частности: капусту, огурцы,
помидоры, редьку, а также картофель4.
Русские поселенцы хорошо знали язык горских народов, их обычаи,
нравы и законы, переняли форму их одежды — черкески, башлыки,
шапки, ремни и др. «С течением времени,— констатирует исследователь
истории казачества на Тереке,— многое было заимствовано казаками у
соседей — горцев: вооружение, одежда, вся обстановка домашнего
обихода, многие обычаи»5.
Нередко между казаками и горцами устанавливалось куначество.
© "
1 В. И. Л а р и н а. Очерк истории городов Северной Осетии. Орджоникидзе, 1960,
стр. 24—25.
2 М. С. Т о т о е в. Из истории дружбы осетинского народа..., стр. 9.
3 Ислам Карачайлы. Горцы и казаки в XVIII в. Журн. «Революция и горец»,
1928, № 2, стр. 77.
4 А. В. Фадеев. Очерки экономического развития степного Предкавказья в
пореформенный период, М., 1957, стр. 100.
5 Газ. «Терские ведомости», 16 октября 1892 г.
84
История дружбы осетин, кабардинцев, кумыков и других горцев с
казаками знает немало случаев заключения родства. Сосланный на Кавказ
декабрист А. А. Бестужев-Марлинский на основе внимательного
наблюдения над жизнью горцев и терско-гребенского казачества так
характеризовал эти отношения: «...казаки отличаются от горцев только
небритою головою: оружие, одежда, сбруя, ухватки — все горское... Почти все
говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство...»1. Об
этом же писал и Л. Н. Толстой, отмечавший, что «казаки породнились с
ними (горцами.— А. М.) и усвоили себе обычаи, образ жизни и
нравы их».
Терское казачество и горцев объединяло также свободолюбие,
которое составляло их яркую черту.
Войдя в состав русского государства, осетины навсегда и прочно
связали свою судьбу с судьбой. русского народа и получили
возможность более быстрого развития своей экономики и культуры.
Прежде всего осетины получили возможность переселиться из
горных ущелий на плоскость. Они стали расселяться на землях
Владикавказской равнины, которой были лишены вплоть до конца XVIII века.
Это во многом изменило хозяйственный уклад осетин, а он в свою
очередь повел к изменениям в общественных отношениях.
О
1 А. .А. Бестужев-Марлинский. Сочинения в двух томах, т. I, М., 1958,
стр. 461.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ОСЕТИН ХУП-ХУШ вв.
ля характеристики социально-экономических
отношений в Северной Осетии XV—XVII вв. (ее
внутреннем строе) наука не располагает
конкретным материалом. Только с середины XVII
века начинают появляться сведения о
политическом положении Осетии, в котором она
находилась в то время. Оно отразилось в документах и
других источниках, относящихся к этому периоду
и касающихся Кабарды, русско-кабардинских и
русско-кавказских отношнений*.
А XVIII век уже дал достаточно яркий
материал2, отражающий как политическое положение Осетии этого периода,
©
1 См. Русско-кабардинские отношения в XVI—XVIII вв., тт. I, II, М., 1957; М. По-
л некто в. Посольство стольника Толочанова и Дьяка Иевлева в Имеретию. 1650—
1652 гг. Тифлис, 1926 и др.
2 Наиболее ценным из них является работа Вахушти Багратион и. «Описание
царства Грузинского», в котором Осетии автор посвящает специальный раздел —
«Описание нынешней Овсетии или Внутреннего Кавказа» (см. подробный анализ
этой работы в нашей статье: «Вахушти об Овсетии и осетинах», в кн.: Материалы
по этнографии Грузии, XII—XIII, 1963). О послемонгольском периоде истории
Осетии содержит ценные сведения и грузинская хроника — см. М. Г. Д ж а н а ш в и л и.
Известия грузинских летописей и историков О Северном Кавказе и России.—
СМОМПК, вып. XXII. Значительный материал по XVIII в. содержится в
«Материалах по истории Осетии», т. I и описаниях путешествий Гюльденштедта, Штеде-
ра, Рейнеггса, Клапрота и др.
86
так и социально-экономические отношения в ней. По этим источникам
можно уже судить и о более раннем периоде истории.
Все названные источники хорошо дополняются и комментируются
фольклорным материалом. Вообще для безписьмениых народов, одним
из которых был и осетинский, устная традиция в исторической хронике
народа занимает исключительное место.
Памятники обычного права осетин, зафиксированные в XIX в.,
отражают фактическое состояние социальных отношений, сложившихся у
них к началу XIX в.
Перечисленные источники все в совокупности дают нам
возможность составить довольно четкую картину общественного строя осетин в
малоизученный период истории Осетии, т. е. с XVI до середины XVIII в.
В существующей литературе общественный строй осетин в первой
половине XIX века характеризуется переплетением разновременных
социальных элементов, сосуществованием феодального и первобытнообщинного
укладов с наличием патриархального рабства. Это теперь
общепризнанный факт, и такая оценка ни у кого не вызывает сомнений. Однако
авторы исследований, посвященных истории Осетии данного периода, в
большинстве случаев ограничивались рассмотрением структуры
феодального общества, определением его социальных категорий. В
основном это сводилось к анализу и комментариям памятников обычного
права осетин, собранных и опубликованных в XIX веке, где довольно
четко были показаны взаимоотношения общественных групп и
социальных категорий. Вторая же сторона проблемы — наличие в общественном
строе первобытно-общинного уклада, сохранение в нем до позднейшего
времени (вплоть до включения Осетии в активный процесс
капиталистического развития) устойчивых пережитков патриархально-родового
строя — вовсе не рассматривалась исследователями, или последние
только ограничивались констатацией данного факта. Чтобы решить эти
проблемы, необходимо установить соотношение первобытнообщинных и
феодальных элементов в общественном строе осетин в рассматриваемую
эпоху, определить степень развития феодальных отношений, их
осетинскую специфику и т. п.
Для разрешения этой задачи необходимо обратиться к истокам этих
общественных явлений, восстановить картину классообразования и
процесса феодализации осетинского общества.
На эту сторону проблемы в свое время обращали внимание проф.
Б. В. Скитский и проф. Г. А. Кокиев, которые первыми попытались
реконструировать в своих исследованиях генезис феодализма, показать
первоначальные формы и пути развития феодальных отношений1. В са-
©
1 Б. Скитский. К вопросу о феодализме в Дигории; Г. Кокиев. Крестьянская
реформа в Северной Осетии. Орджоникидзе, 1940.
87
мом деле, поскольку последние переплетались с многочисленными
патриархальными формами, сложившимися в глубокой древности, то эта
традиция — сосуществование первобытнообщинных и классовых
отношений, приспособление первых к феодальным условиям — скрывала от
постороннего наблюдателя характер этих отношений, глубинные
процессы феодализации осетинского общества, выделение феодализирую-
щейся верхушки у осетин.
Итак, каков был процесс формирования общественно-экономических
и социальных отношений в новых условиях? Как мы уже отмечали,
оставшаяся от разгрома татаро-монголами часть осетинских племен
сконцентрировалась в горных ущельях. Осетинское население оседало в горах
отнюдь не спокойно. Монголы в своем стремительном и жестоком
преследовании разбросали остатки алан по всей территории, разбив их на
мелкие группы, уже мало связанные друг с другом единством
происхождения и кровным родством. Таким образом, вместо больших
родовых коллективов и компактных племенных единиц сформировались
небольшие замкнутые территориальные объединения в пределах отдельных
ущелий или даже небольших изолированных сел, состоявшие из
разнородных элементов. Эта дробность была вызвана и поддерживалась в
последующем прежде всего физико-географическими условиями горной
Осетии. После татаро-монголов осетины уже не смогли вернуться к
прежним местам обитания, к просторам бывшей аланской территории.
Они были надолго заперты в горных ущельях, откуда выход на равнину
был настолько опасен, что каждая такая попытка горца кончалась
пленением его со стороны княжеских дружин Малой Кабарды или
ногайцев и продажей в рабство.
Таким образом, единственно возможными в этих условиях формами
политической и социальной организации являлись соседские и семейные
общины. Особенности общинной организации этих институтов стали
«якорем спасения» осетин в тех исключительно тяжелых экономических
и природных условиях. В результате, общинные традиции,
сохранившиеся у осетин в качестве пережитков, не только застыли, но и
умножились: возродились многие другие первобытно-родовые отношения и
порядки. В данных исторических условиях это было закономерным
явлением. Наряду с этим, как ни консервативна была жизнь, общественные
отношения, хотя и крайне медленно, но развивались. Об этом уже
свидетельствуют феодальные отношения, получившие в отдельных
осетинских обществах довольно четкие очертания. Развитие феодализма в
Северной Осетии некоторые исследовали (В. Пфаф, М. М. Ковалевский
и др.) объясняют внешними факторами — влиянием более сильных
феодальных соседей: Грузии и Кабарды. Это, конечно, в определенной
степени имело место, но феодализация осетинского общества происходила
за счет внутренних факторов, в результате социально-экономического
развития общества. Но осетины принесли в горы не только
первобытнообщинные традиции, но и определенные формы сословно-классовой ор-
ганизации. И в этом и в другом случае сила традиции, которую Ф.
Энгельс называл «великой консервативной силой», сыграла свою роль.
В конечном же итоге общественные формы поддерживались
определенным уровнем развития производительных сил. В рассматриваемое
время этот уровень был очень низок, что объясняется лотерей осетинами
их прежней материальной базы производства и коренной ломкой
хозяйственных традиций.
Земледелие, получившее у осетин высокое развитие до
татаро-монгольских нашествий, не стало в новых условиях основой хозяйственной
жизни народа. Это и понятно. Но и тот скудный уровень, которого
достигло оно, был результатом колоссальных затрат труда, неимоверно
тяжелой работы. Один из первых исследователей Осетии А. Яновский
констатировал: «...по сравнению с народонаселением в Осетии весьма
мало способных к посевам земель... Там обрабатываются не только все
хотя мало способные земли, но даже такие крутизны, которые пахать
невозможно, взрываются железными лопатами и засеваются хлебом. В
этом случае трудолюбие осетин заслуживает удивления»1.
Искусственно создаваемые на склонах гор пашенные участки
представляли собой мелкие куски неудобной земли, которые имела не
каждая семья. Приобрести готовый участок под пашню могла также не
всякая семья. Тот же А. Яновский, подчеркивая это, писал: «В ущельях по
северную сторону главного хребта (Северная Осетия.— А. М.)
возделанная земля столь дорога, что место, на котором может лечь бык, стоит
быка; день паханья такой земли продается обыкновенно от 90 до 108
коров»2. Это же отмечал другой исследователь — академик Н. Ф.
Дубровин: «Земля, удобная для хлебопашества, имеет неслыханную цену:
стоит того животного, которое может поместиться на ней. Кусок земли,
который займет лежащая корова, ценится в корову, другой в овцу
и пр.»3. Но и имевшаяся земля давала скудный урожай из-за мало-
плодородности и неблагоприятных климатических условий. Как сообщал
Вахушти (середина XVIII в.), «плодородность этой страны (Северной
Осетии.— А. М.) незначительна и никакие другие зерна не родятся,,
кроме пшеницы, ячменя и овса по причине холода, позднего лета и
ранней осени; но и это не засевается изобильно по малоземелью и
скалистой местности»4. В результате, хлеба, получаемого горцами, хватало
только на 3—4 месяца. Отсюда важным для жизни занятием осетин в
©
1 А. Яновский. Осетия. Обозрение российских владений за Кавказом, часть Пг
СПб., 1836, стр. 167, 168, 169.
2 А. Я н о в с к и й. Указ. соч., стр. 168.
3 Н. Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. I,
СПб., 1871, стр. 287.
4 Вахушти. География Грузии. ЗКОИРГО, кн. XXIV, вып. 5, стр. 139.
89
рассматриваемый период было животноводство. Но и здесь степень
развития этой отрасли хозяйства зависела от наличия пастбищных и
сенокосных угодий, которых у осетин было также недостаточно. Эту
зависимость уровня скотоводческого хозяйства от кормовой базы отмечал
Вахушти, который писал: «Так как осетины имеют мало пастбищ и
покосов, потому овец не держат более 20—40—100, также лошадей и
коров по 10—20—40, но не более»1. Это, очевидно, средние размеры
поголовья скота, приходившееся на одну семейную общину. К концу XVIII в.
в связи с ослаблением, а затем и прекращением экспансии
кабардинских феодалов осетины получили доступ к богатым предгорным
пастбищам, в результате чего значительно возросло поголовье скота —
главным образом овец. Это видно из следующего сообщения Ю. Клап-
рота A807 — 1808 гг.): «Стада овец составляют главное богатство
осетин»2.
Ввиду неблагоприятных природно-экономических условий занятие
скотоводством требовало, как и в земледелии, одновременных усилий,
коллективного труда значительного числа людей, каковым являлась
семейная община — основная социально-экономическая ячейка
осетинского общества рассматриваемого периода.
В хозяйственной жизни населения немаловажное значение имело
домашнее ремесленное производство. Оно давало домотканое сукно для
одежды, бурочные изделия, предметы из обработанной кожи и шкур,
постельные принадлежности, деревянные изделия, использовавшиеся в
хозяйстве, домашняя утварь, различные орудия труда и т. д.
Производством ремесленных изделий занималась каждая отдельная семья.
Общественных производств — кооперации не было, если не считать наличия
общинных кузниц (и то не везде).
Ремесла давали продукцию в основном (если не целиком) для
потребления в самих хозяйствах. Правда, часть обрабатываемой
животноводческой продукции поступала в сферу обмена.
Несмотря на чрезвычайные усилия и хозяйственную активность
осетин натуральное производство не обеспечивало их всем
необходимым. Поэтому недостающие товары осетины получали путем обмена с
более развитыми соседями. Но и здесь географическая изолированность
и неудовлетворительное состояние путей сообщения сковывали развитие
экономических связей с соседними народами, а также внутри самой
Осетии между отдельными обществами. Неустроенность дорог служила
помехой этому еще в XIX в. Отмечая это, Н. Ф. Дубровин писал: «До
середины XIX века в Осетии не было никаких дорог, а тем более колес-
©
1 Вахушти. Указ. соч., стр. 139.
2Ю. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807—1808 гг.
Известия СОНИИ, т. XII, 1948, стр. 239.
90
(ных. Каждый сам прокладывал себе дорогу и перевозил тяжести на
высотах там, где нельзя было проехать арбе. Многие местности в тече-
"ние 3Д года бывают отрезаны от всего мира — глубокий снег, вьюги
'•обвалы запирают и без того трудные проходы между ущельями»1.
Одним словом, осетины после XV века оказались в таких условиях,
в которых создалась основа для сохранения и даже возобновления у
тих первобытнообщинных традиций, архаических общественных форм.
Сохранение до позднейшего времени родовых отношений в Осетии
те является спецификой только общественного быта осетин. Такую же
картину мы видим в описываемую эпоху почти у всех горских народов
Кавказа. На это в свое время указывал и Ф. Энгельс, ссылаясь на
исследования М. М. Ковалевского*.
Энгельс отмечал чрезвычайную живучесть родового строя также у
кельтов: «Древнейшие из сохранившихся кельтских законов показывают
мам род еще полным жизни; в Ирландии он, по крайней мере
инстинктивно, живет в сознании народа еще и теперь, после того как англичане
насильственно разрушили его; в Шотландии он был в полном расцвете
еще в середине прошлого столетия и здесь был также уничтожен только
оружием, законодательством и судами англичан»3. В четвертом
прижизненном издании книги «Происхождение семьи, частной собственности и
государства», осуществленном в 1891 году, Энгельс дает такое
примечание: «За несколько дней, проведенных в Ирландии, я снова живо
осознал, в какой степени еще сельское население живет теми
представлениями родовой эпохи»4. Такая устойчивость традиций родового строя у
ирландцев и шотландцев, как и у осетин, объясняется значительной
изолированностью страны, ничтожной внешней торговлей
(межплеменным обменом), отсутствием живого контакта с ближайшими
цивилизациями, вообще изолированностью от внешнего мира, медленным ростом
производительных сил страны, окружением племенами с еше
более отсталой экономикой и архаическими чертами в общественном
строе.
Родовой строй в своем развитии прошел два последовательных
этапа — матриархат и патриархат. В матриархальный период сложились
классические черты рода, которые определили не только форму
социальной организации, но и отношения людей в их многообразии на всем
протяжении этого весьма длительного периода истории человеческого
общества.
©
1 Ы. Ф. Дубровин. Указ. соч., стр. 285.
2 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.,
Политиздат, 1970, стр. 195.
3 Т а м же, стр. 145.
4 Там же, стр. 148.
91
Классический род (материнский) к описываемому периоду у осетин;
не сохранился. Однако, как мы уже не раз подчеркивали, в XVII—
XVIII вв. в яркой форме выступали родовые отношения;
патриархальный род бытовал со всеми его атрибутами. Более того, общественный
строй осетин сохранил к этому времени довольно эффектные черты
матриархата.
ПЕРЕЖИТКИ МАТРИАРХАТА
ережитки матриархата прослеживались у осетин
и в более позднее время. По крайней мере мы
их обнаруживаем в конце XIX в. не как
отдельные реликты далекого прошлого, а в качестве
живого явления общественного быта осетин.
Чтобы судить о пережитках матриархата у осетин,
знать, какое место они занимали в общественной
жизни народа, необходимо хотя бы в общих
чертах представить сам матриархат, материнский
род вообще. Следует напомнить, что матриархат,
матриархальный строй был универсальным,
всемирно-историческим явлением. Через него прошло все человечество.
К. Маркс и Ф. Энгельс указывали, что вместе с возникновением рода
начинается история человеческого общества. Однако родовой строй в
своем развитии прошел два больших этапа.
Первый этап охватывал чрезвычайно длительный период истории и
назывался эпохой материнского родового строя.
Поскольку род развился из первобытного человеческого стада, где
главной чертой социальных отношений были неупорядоченные половые
отношения, то пережитки их сохранились в первоначальном,
материнском роде. Но в отличие от первобытного человеческого стада в
материнском родовом строе брак запрещался внутри рода, т. е. между его
членами, состоявшими в кровном родстве. Этот обычай в науке известен
под названием «экзогамия». Хочется сказать несколько слов об
экзогамии, об экзогамных правилах, ибо данный институт, как основная черта
•возникшего рода, проявлялась исключительно ярко в социальной жизни
осетин.
93
Значение экзогамии вообще огромно в становлении человеческого,
общества, в социальном развитии человека. Экзогамия обуздала
зоологические начала в человеке, она явилась первым средством воспитания
в нем человеческого. «Она создала также представления о родстве,
отсутствовавшие в первобытном стаде. С этого времени человек начинает
отличать своих родственников, т. е. людей, принадлежащих к тому
кругу, в пределах которого он не может вступать в брак, от людей, среди
которых он может выбирать себе жен. На первых он смотрит теперь,
как на «кровных родственников», людей одного «мяса», одной «крови»,
одного происхождения... Прогрессивное значение идеи родства и тесно
связанной с ней идеи непристойности браков между близкими
родственниками чрезвычайно велико. Она укрепляет социальные связи внутри
общины, цементирует ее моральное единство, обеспечивает мир внутри
нее, учит взаимопомощи и взаимной защите, содействует подчинению
личных интересов интересам общественным»1.
Брак внутри рода сделался экзогамным, ко узаконился порядок,
(оставшись как пережиток от предыдущей эпохи — первобытного
стада), согласно которому группа мужчин одного рода сожительствует с
группой женщин другого рода. При этом каждый мужчина в одном роде
имел супружеские права на каждую женщину в другом роде и
наоборот. Поэтому «супружеские отношения должны были быть случайными,,
эпизодическими, кратковременными»2.
Естественно, что вследствие беспорядочного характера брачных
отношений отцы детей оставались неизвестными, но достоверной и
бесспорной была родственная связь по материнской линии; отсюда счет родства
велся по материнской линии.
Вот как характеризует Ф. Энгельс это положение. «При всех
формах групповой семьи неизвестно, кто отец ребенка, но известно, кто его
мать. Если она и называет всех детей общей семьи своими и несет па-
отношению к ним материнские обязанности, то она все же отличает
своих родных детей от остальных. Отсюда ясно, что раз существует
групповой брак, то происхождение может быть установлено лишь с
материнской стороны, а поэтому признается лишь женская линия»'6.
Поскольку женщина (как и мужчина) обладает исключительной
свободой выбора партнера (она ведь имеет супружеское право на всех
мужчин другого определенного рода), то она вправе иметь брачные
отношения более или менее продолжительно с одним определенным муж-
©
1 А. М. Золотарев. Родовой строй и первобытная мифология, М., 1964, стр. 63—64. .
2 А. И. П е р ш и ц, А. Л. М о н г а и т, В. П. Алексеев. История первобытного
общества, М., 1968, стр. 100.
* Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стре*.
42—43.
94
чиной, что, впрочем, не мешало ей встречаться с другими мужчинами.
Таким образом, постепенно входил обычай вступать в брак с одним
определенным мужчиной. Но очень долго (в течение еще тысячелетий)
такая семья (т. н. «парная»), сохраняет пережитки группового брака.
Главной же особенностью парного брака было то, что он не был
устойчивым, прочным. В такой семье, указывал Ф. Энгельс, брачные узы
«легко могут быть расторгнуты любой из сторон, а дети, как и прежде,
принадлежат только матери»1. Одним словом, на данном этапе
исторического развития единственным признаком принадлежности человека к
роду являлось происхождение по матери.
При групповом браке супруги жили каждый в своем материнском
роде. Такой порядок поселения супругов назывался дислокальным
(раздельным). Брачное же сожительство осуществлялось лишь в форме
отдельных встреч и взаимопосещений.2 В парном браке муж переселялся
в род жены (матрилокальное поселение), но ни муж, ни жена не
наследовали друг другу. Это объясняется тем, что муж, несмотря па
переход к жене, согласно господствующему в то время правопорядку,
считался чужаком для ее рода. Муж в качестве социальной единицы по-
прежнему входил в свой материнский род. Последний включал в себя
предполагаемую правоматерь, ее дочерей и детей всех женских
потомков; наоборот, дети мужских потомков рода принадлежали к другому
роду, к роду их матери. Производственные отношения в
матриархальный период, естественно, строятся в рамках того же материнского рода.
Род, таким образом, выступает на данном этапе и как основная
экономическая ячейка общества. Производственные отношения в ней в.
основном совпадают с отношениями кровного родства по линии матери..
Все отношения в роде носят первобытно-коммунистический характер:
они основаны на полном равенстве полов, на общеродовой
собственности, на коллективном производстве, равно обязательном для всех
трудоспособных, и на коллективном уравнительном распределении продуктов,
труда.
Одним словом, в роде все его члены имели равные обязанности и
равные права. Дети принадлежали всему роду и пользовались защитой
и любовью всех членов рода. Особые отношения, однако, внутри рода
/выработались между братьями матери и ее детьми. Как известно, ни
при групповом браке, ни в парной семье отцы не имели отношения к
содержанию и воспитанию рожденных от них детей. Защитником и
воспитателем их был брат матери. Племянники также наследовали своему
материнскому дяде.
©
1 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 43.
2 П. И. Першиц, А. Л. Монгайт, В. П. Алексеев. История первобытного
общества, стр. 100.
В обратном порядке и племянники несли определенные обязанности
по отношению к своим дядям по матери, признавали их безусловную
власть и авторитет. Одним словом, теснейшая связь, существовавшая в
матриархальную эпоху между дядей с материнской стороны и детьми
сестры, характеризовалась взаимными правами и обязательствами. Они
подчеркивали близость человека к роду его матери. Отношения эти в
этнографии известны под названием «авуикулат».
Данный порядок глубоко вкоренился в общественный быт
первобытного общества и стал одной из форм его существования. Он
оказался чрезвычайно устойчивым. Достаточно ярким свидетельством
устойчивости матрилинейной филиации, а вместе и авункулата, является
то, что в переходный период от матриархата к патриархату, когда брак
стал патрилокальным (жена поселялась в роде, семье мужа), дети,
согласно старому порядку (счету родства по материнской линии),
переходили в род матери. Таким образом, дети исключались из наследования
имущества отца. Очевидна была, как писал Морган, «несправедливость
этого исключения перед лицом изменившихся условий. Естественным
выходом из положения был переход счета происхождения из женской
линии в мужскую. Чтобы осуществить это изменение, требовалось
только наличие соответствующего мотива»1. Достаточно сильными мотивами
для этого, как отмечал Морган, были возникновение и накопление
частной собственности и стремление передать ее родным детям2. И вот,
чтобы не нарушать старую традицию, которую было трудно преодолеть,
и в то же время добиться утверждения нового порядка, отец
имитировал роды ребенка. Акт имитации мужем начинался задолго до
наступления родов у жены. Он имитировал не только сами роды, но и внешнее
поведение и состояние беременной (ел такую пищу и продукты, какие
необходимы женскому организму в период беременности, жаловался на
недомогание и т. п.). А «в момент родов муж ложится в постель,
стонет, кричит, а затем принимает поздравления от родственников и
соседей, тогда как роженица делает вид, что не имеет никакого отношения к
появившемуся на свет младенцу»3.
В науке для обозначения материнско-родового общества широко
употребляется термин «матриархат» (в точном значении «власть
матери»). Многие же авторы в прошлом для данной стадии развития
общества употребляли термин «гинекократия» — женовластие. Конечно,
можно спорить о степени власти женщины, о ее господстве при
матриархате, но одно совершенно ясно, что на этой ступени исторического
О
1 Л. Г. Морган. Древнее общество, Л., 1934, стр. 197.
2 Там же, стр. 197, 201.
я Ю. В. Кнышенко. История первобытного общества и основы этнографии. Изд.
Ростовского университета, 1965, стр. 162.
96
развития женщина играла значительную роль. Она являлась
хранительницей огня и жилища, кормилицей детей, вокруг нее сплачивался
родовой коллектив. Все это создавало женщине очень высокое общественное
положение.
Высок был нравственный авторитет женщины-матери. Лучшие
гуманистические традиции возникли при матриархате.
Нет нужды доказывать, что матриархальные черты, пережитки ма-
теринско-родовой организации сохранялись очень долго, правда, в
разной степени у всех народов мира.
Значительные пережитки матриархата до позднейшего времени
наблюдались в общественном быту осетин. Своими корнями они уходят в
скифо-сармато-аланский мир, в котором институты матриархата, хотя и
подвергались распаду, но играли еще заметную роль. На это в свое
время указывали античные писатели, начиная с Геродота (V в. до н. э.)
и кончая Аммианом Марцеллином. Среди сведений, сообщаемых
Геродотом о скифах и сарматах, имеется рассказ об амазонках.
Амазонки Геродота это ничто иное, как свободные женщины
сарматского общества, прекрасные воительницы, способные вести войну с
вооруженной мужской ратью.
В рассказе об амазонках Геродот приводит легенду о
происхождении сарматов (савроматов). Во время войны с эллинами,
рассказывается в легенде, амазонки попали в плен. Амазонок победители
погрузили в корабли и вышли в открытое море. Здесь пленницы перебили всех
мужчин, но, не умея водить корабли, долго носились по морю, затем
пристали к Меотийскому озеру (Азовскому морю). Там амазонки
вышли на берег и, бродя по окрестностям, набрели на табун лошадей,
который захватили. Разъезжая на этих лошадях, они принялись грабить
скифскую землю. Скифы вступили в бой с амазонками, которых
приняли за молодых воинов. «После битвы несколько трупов попало в руки
скифов и таким образом те поняли, что это женщины. Тогда скифы
решили на совете больше совсем не убивать женщин, а послать к ним
приблизительно столько молодых людей, сколько было амазонок...
Скифы решили так, потому что желали иметь детей от амазонок»1. После
некоторого недоверия и отчужденности амазонки, наконец, допускают к
себе скифских юношей, с которыми вступают в брак.
Условие, которое выставили при этом амазонки, было переселение
скифских юношей в их стан. Скифам оставалось выполнить это
условие, и, юноши, захватив свою долю родового имущества, перешли жить к
амазонкам.
Так образовалось ядро сарматского (савроматского)
племени. Конечно, это только мифическое толкование происхождения сарма-
©
1 Геродот. История в девяти книгах, Л., 1972, стр. 214—215, книга IV, 111.
7 А. X. Магометов 97
тов, но легенда не оставляет сомнения в том, что источником ее явилась
сарматская действительность.
В геродотовой легенде нас интересуют два момента — это образ
жизни амазонок, в которых следует видеть сарматских женщин, и
форма брачных отношений, которых они придерживаются. Эти моменты как
раз и передают нам матриархальные черты сарматского общества.
«Савроматские женщины,— рассказывает Геродот,— сохраняют свои
стародавние обычаи: вместе с мужьями и даже без них они верхом
выезжают на охоту, выступают в поход и носят одинаковую одежду с
мужчинами»1. И далее продолжает Геродот: «Что касается брачных
обычаев, то они вот какие: девушка не выходит замуж, пока не убьет
врага. Некоторые умирают старухами, так и не выйдя замуж, потому
что не в состоянии выполнить обычай»2.
Об этом обычае сарматских женщин пишут Псевдо-Гиппократ и
другие античные авторы. Псевдо-Гиппократ сообщает и отдельные
подробности о них. В частности, он пишет, что женщины у савроматов
«ездят верхом, стреляют из луков и мечут дротики с коня и сражаются
с врагами, пока они в девушках. Они остаются в девицах, пока не
убьют троих врагов, и не прежде поселяются с мужем, как совершат
установленные обычаем жертвоприношения. Раздобыв себе мужа, они
перестают ездить верхом, пока не явится необходимость во всеобщем
походе». Для большего удобства при стрельбе, продолжает
Псевдо-Гиппократ, савроматки даже выжигают правую грудь3.
Следовательно,— делает заключение К. Ф. Смирнов,—
«савроматские женщины наравне с мужчинами составляли племенное ополчение
и активно участвовали в защите своих земель или в больших
грабительских походах. В мирное же время они, вероятно, как и все женщины
древних скотоводческих народов, вели домашнее хозяйсто, изготовляли
глиняную посуду, занимались прядением и ткачеством, шитьем одежды
и обуви»4.
О высоком общественном положении сарматских женщин говорит
и Псевдо-Скилак, который пишет, что «этим народом (сарматами)
управляют женщины»5.
Приведенные свидетельства, несомненно, говорят о матриархальном
строе у сарматов или о его сильных пережитках, отраженных в
литературных источниках и зафиксированных археологией.
О
1 Геродот. История в девяти книгах, кн. IV, 116.
2 Геродот, кн. IV, 117.
3 Псевдо-Гиппократ. О воздухе, водах и местностях, 24.
4 К. Ф. Смирнов. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов, М., 1964,
стр. 201.
Б Псевдо-Скилак. Объезд Черного моря, 70.
Известный советский археолог Б. Н. Граков, использовав
многочисленные факты, показал высокое общественное положение женщин у
сарматов и первый в советской исторической науке поставил вопрос о
матриархате у сарматов1. Б. Н. Граков на основе конкретного
археологического материала доказал сохранение у них материнского рода.
Позднее другой крупный советский археолог К. Ф. Смирнов,
использовав новый материал в работе, посвященной специально сарматам,
убедительно показал наличие в общественном строе савроматов (сарматов)
сильных пережитков матриархата2. В другой своей работе К. Ф.
Смирнов также затрагивает этот вопрос, где он высказывает более
определенно свою позицию, заявляя, что «савроматское общество имеет еще
много архаических черт, и основными из них являются: легкость
заключения и расторжения брака, выбор мужа девушкой, приход мужа в
род жены со своим имуществом»3.
Известно, что в матриархальном обществе, даже в его позднем
варианте, культовые обряды выполняются избранными для этой роли
женщинами — жрицами. Этот факт в отношении сарматских женщин
отмечен античными источниками (Псевдо-Гиппократ и др.)» чт° же касается
советских исследователей-сарматоведов (Б. Н. Граков, К. Ф. Смирнов,
А. М. Хазанов), то они с помощью археологического материала
дополняют и констатируют сообщения древних писателей об отправлении
сарматскими женщинами жреческих функций4.
Эту древнюю сарматскую традицию в виде пережитков мы
встречаем в культовой жизни осетин еще в XIX в.
Рассмотрев в совокупности весь сарматский материал (античный и
новейший), А. М. Хазанов приходит к такому выводу: «Письменные
источники и археологические материалы, если их брать в совокупности,
в полном согласии друг с другом, подтверждают высокое положение
женщин в сарматском обществе и активное участие их в общественной
жизни»5.
Последнее блестяще подтверждается конкретными историческими
фактами. Так, в политической жизни Северного Причерноморья, как
гласит легенда, активную роль играла сарматка Амага, которая стала
вождем — предводительницей целого племени. В ее руках, как царицы,
находилась политическая и судебная власть в сарматском племенном
союзе, она же возглавляла войско во время войн со скифами. Легенда с
©
1 Б. Граков. Пережитки матриархата у сарматов. ВДИ, 1947, № 3.
2 К. Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 198—215.
3 К. Ф. Смирнов. Скифы. М., 1966, стр. 85.
4 А. М. Хазанов. Материнский род у сарматов. ВДИ, 1970, № 2, стр. 142—144'.
6 Там же.
ее именем связывает, в частности, спасение Херсонеса от скифского
вторжения1.
Властительницей Боспара (при поддержке римлян) стала также
сарматка Динамия, чей скульптурный портрет из бронзы был найден в
развалинах античного здания близ Новороссийска2.
У Геродота имеется рассказ о массагетах — о многочисленном и
воинственном племени. Массагеты были одним из подразделений
скифов. Чтобы укрепить и раздвинуть северо-восточные границы империи,
персидский царь Кир II решил покорить скифов-массагетов. В это время
«царицей массагетов была супруга покойного царя. Звали ее Томирис. К
ней-то Кир отправил послов, под предлогом сватовства, желая будто бы
сделать ее своей женой. Однако Томирис поняла, что Кир сватается не
к ней, а домогается царства массагетов, и отказала ему. Тогда Кир, так
как ему не удалось хитростью добиться цели, открыто пошел войной на
массагетов»^. Так началась кровогоолитная война между персами и
массагетами. По совету бывшего лидийского царя Креза, находившегося
теперь в стане Кира, последний с основными силами переправился через
реку, оставив позади слабозащищенный лагерь, а в нем кувшины,
полные вина, и дорогие яства. Массагеты во главе с сыном Томирис —
Спаргаписом легко овладели брошенным лагерем. И тут опьяневшие
воины стали добычей персов, которые ворвались в лагерь. Очнувшийся
Спаргапис попал в плени, убедившись в коварстве врагов, покончил с
собой. Получив трагическую весть о гибели сына, Томирис собрала новое
войско и двинулась на персов. Разыгралась ожесточенная битва, в
которой персы потерпели полное поражение. Пал в сражении и царь.
Отрубленную голову Кира Томирис, еще раньше поклявшаяся «досыта
напоить Кира кровью», приказала опустить в мех, наполненный кровью.
Так погиб основатель Ахеменидской державы Кир «Великий» от
руки воинственной Томирис4.
Историю воинственной Томирис, ее блестящей победы над Киром
донес до нас и другой греческий историк Ктесий из Книда. Ктесий
Книдский прожил многие годы в Сузах в качестве придворного врача
ахеменидского царя Артаксеркса II. Находясь в Персии, Ктесий живо
интересовался не только современными ему событиями начала IV в. до
н. э., но и историческими преданиями, связанными с Ахеменидским
царством. После возвращения на родину Ктесий описал все услышанное и
увиденное в своих сочинениях.
О
1 Пол иен. Военные хитрости, VIII, 56.
2 М. М. Кобылина. Античная скульптура Северного Причерноморья, М., 1972,
стр. 12.
3 Геродот. История, I, 205.
4 Там же, 206—214.
100
Ктесий донес до нас также героическую и в то же время
романтическую историю сакской1 царицы Зарины2. В позднейшее время (XIX в.)
образом Зарины восхищались многие писатели и историки, в
частности, французский академик Буавен-старший.
Крупнейший русский востоковед В. В. Григорьев в связи с
исследованием истории скифов уделил значительное место Зарине. «Над
саками в это время,— передает рассказ Ктесия Диодор Сицилийский,—
царствовала Зарина, женщина воинственная и далеко превосходившая
смелостью и деловыми способностями всех прочих сакских женщин. В
народе этом женщины отважны а помогают мужьям своим в военных
опасностях (подчеркнуто нами.— А М.). Зарина же, всех красотою
превосходя, дивила как предприимчивостью, так и удачею в своих
действиях. Варваров соседних, которые, возгордясь, хотели подчинить себе
саков, покорила она силою оружия, значительную часть страны привела
в возделанный вид, немало городов выстроила, и вообще своему народу
создала счастливую жизнь. Поэтому подданные по кончине Зарины, в
знак признательности за благодеяния ее и в память ее благодетелей,
соорудили ей гробницу, далеко превосходившую прочие... и воздали ей
почести несравненно большие, чем всем ее предкам»3. Ктесий далее
рассказывает, что «Зарина по смерти первого мужа своего и брата Кидрея,
царя саков, вышла замуж за Мермера, князя парфянского... Когда же
пошел войной на Мермера царь мидийский, Зарина, принимая участие
в битве, была ранена и обратилась в бегство. Бегущую настиг ее
мидянин Стриангей и совлек с коня, но, тронутый мольбами ее, молодостью
и красотой, отпустил ее. Через несколько времени после того Стриангей
этот попался в руки мужу Зарины, и тот обрек его на смерть. Зарина
стала просить пощады для пленника (Стриангея.— А. М.), и когда муж
не обратил внимания на ее просьбы, она, освободив несколько других
пленников, с помощью их убила самого Мермера и вслед затем,
уступив Парфию обратно мидянам, заключила с ними дружественный
СОЮЗ»4.
Продолжение данной истории приведено в сочинении Николая
Дамасского, по-видимому, также ^заимствованном из Ктесия. Древние
писатели восхищаются стойкостью и достоинством, с которыми Зарина
встретила предложения Стриангея, охваченного к ней любовью: хотя
©
1 Саки — это самоназвание скифов, «именовавших себя так по своему тотемному
животному, оленю (по-осет. «саг»). В. И. Аба ев. ОЯФ, стр. 49, 179. ^
2 Зарина — одно из немногих древнеосетинских имен, оставшихся от скифов. Имя
скифской героини вошло в номенклатуру современных осетинских женских имен
и занимает в ней самое популярное место.
3 В. В. Григорьев. О скифском народе саках. СПб., 1871, стр. 20.
4 Там же, стр. 21.
101
она «разделяет муки своего возлюбленного и сердце ее рвется к нему,
но страсть обуздывается в ней высшим началом, она помнит то, что
забывает Стриангей — что она не только женщина, но и царица, что
честь ее связана с честью народа, что последнюю не властна она при-
госить в жертву своим привязанностям»1.
Скифо-сарматские традиции участия женщин-воительниц в войнах
и военном деле прослеживаются и у алан в раннее и даже в позднее
средневековье. Есть данные о том, что аланские женщины активно
участвовали в защите своей родины от татаро-монгольских захватчиков.
Они принимали участие в войне вместе с мужьями, возглавлявшими
отдельные отряды или войска. Так, в китайской хронике, относящейся
ко времени татаро-монгольских нашествий, говорится, что один из алан-
ских владетелей Хан-хуси (так называет его китайский летописец)
«приказал своей жене Бай-Ма-си во главе войска защищать владения
Вай-Ма-си»2.
В межплеменных и межродовых войнах женщина-осетинка не была
безучастной: или она предотвращала беду или брала в руки оружие и
защищала свой очаг и родной аул. Во время карательной экспедиции
генерала Ренненкампфа в Южную Осетию в 1830 году один из отрядов
горцев, удерживавший последнюю твердыню повстанцев, возглавляла
девушка-осетинка3.
Как известно, каждый национальный эпос хранит в себе черты
исторического прошлого. Достаточно много сказано об этом и в
отношении осетинского нартского эпоса. В нем в яркой форме выступает
родовой быт древних осетин — создателей эпоса. Конечно, нартский эпос
отражает завершающую фазу родового строя — период военной
демократии, но в нем еще сохранились весьма эффектные картины
матриархальной эпохи. Одна из этих картин — рассказы о ратных делах
девичьего войска.
Девичье войско нартов во главе со своей начальницей — дочерью
Даргавсара одолевает опаснейших врагов нартов—черноголовых
великанов (уаигов). Нартские воительницы непобедимы как в конном строю,
так и в единоборстве. Чем же это не сарматские женщины, наводившие
страх на врагов!
Мы уже говорили об участии аланских женщин в военных делах, о
том, как аланки разделяли военную опасность со своими мужьями.
Живая память осетин еще хранит факты, когда осетинка владела оружием
не хуже любого мужчины-воина.
О
1 В. В. Григорьев. О скифском народе саках, стр. 75.
2 А. И. Иванов. История монголов (Юинь-Ши) об асах-аланах. В кн.:
Христианский Восток, т. II, вып. 3, СПб., 1914.
3 Г. Гордеев. Письма из Осетии. «Санктпетербургские ведомост». 1830, № 29.
102
В этнографической действительности осетин в прошлом имели место
факты, когда за убитого брата мстительницей выступала сестра,
облачалась в военные доспехи и шла на врага.
Нередко у отца-старика, не имевшего наследника-сына, одна из
дочерей или даже единственная дочь отказывалась от брачной жизни
ради поддержания отца и его хозяйства. Одним словом, она брала па себя
сыновние обязанности. Внешне вела себя как мужчина, одевалась в
мужскую одежду, ездила верхом, выполняла в хозяйстве все мужские
работы. Такую девушку обычное право оберегало от обид и
оскорблений.
В общественном положении осетинской женщины в прошлом ясно
прочерчены две линии. Одна из них — юридическая бесправность
женщины, идущая от победы патриархального права над матриархальным.
«Ниспровержение материнского права было всемирно-историческим
поражением женского пола. Муж захватил бразды правления и в доме, а
жена была лишена своего почетного положения, закабалена,
превращена в рабу его желаний, в простое орудие деторождения»1. Однако былое
высокое положение женщины в обществе как традиция матриархата
удержалось в общественном сознании и морали.
Вот эта вторая линия — сохранение высокого морального веса
женщины — в условиях Осетии выразилась очень ярко. Она отразилась
прежде всего в фольклоре — ценнейшем памятнике древнего
мировоззрения осетин.
Мы имеем в виду в первую очередь образ Шатаны, щедрой и
мудрой матери нартов, перед которой преклонялся и стар и млад. Образ
Шатаны был рожден матриархатом, выкован и отполирован им. Как
сказал в свое время В. И. Абаев, «Шатана — это не только
переживание матриархата, но, если хотите, апология его»2.
Нартская Шатана не мифический образ, скроенный воображением
создателей эпоса, а образ жизненный и реальный, по которому сверялся
портрет настоящей осетинки.
Неудивительно, что в кодексе моральных установлений
дореволюционной Осетии уважение к женщине занимало первое место. Соблюдение
этого правила было само собой разумеющимся фактом, но выполнялось
как в общественных местах, так и во внутрисемейных отношениях.
Даже старшие мужчины, чей культ воспевался всем
патриархальным строем, обязаны были считаться с этим извечным, идущим от
матриархата требованием — уважением к женщине, прежде всего к
старшей женщине, к матери.
Очень хорошо подметил характер этого отношения к женщине
1 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 60.
2 В. Абаев. Мартовский эпос. Дзауджикау, 1945, стр. 37.
!03
Коста Хетагуров. «Если появление старика везде и всюду поднимает на
ноги сидящую толпу,— писал он,— то тем более эта толпа обязана
встать при виде старухи... Женщина пользуется большим почетом, чем
мужчина; если они вдвоем идут рядом, то женщина идет справа»1,—
т. е. занимает первое место в пути.
Эту же характеристику общественного уважения, с которым
относился народ к женщине, дает замечательный знаток осетинского быта
М. А. Мисиков: «Когда женщины,— говорит он,— проходят мимо
сидящих мужчин, даже глубоких стариков, то последние встают,
приветствуя их. Женщины застенчиво приостанавливаются и, если среди них
есть старуха, то она довольно громко благодарит их за внимание и
просит сесть. Затем продолжают свой путь. Сколько бы ни сидело мужчин,
все до единого встают, если даже проходит одна женщина... Перед
женщинами пожилыми все мужчины моложе их должны стоять и оказывать
всякие почести, как старшим»2. Они же являлись регулирующей силой
в сложных и опасных ситуациях. Только женщина в состоянии была
приостановить кровопролитную схватку между заклятьями врагами.
Отмечая это, автор XVIII в. Штедер писал: «Тот считается в
безопасности, кого взяла под свою защиту женщина. Когда женщины
вмешиваются в кровавые схватки с распущенными волосами, то все
пристыженные вкладывают сабли в ножны и расходятся»3.
Свыше столетия спустя, эту силу морального авторитета женщины,
способной умиротворять общественные страсти, отмечал также Коста
Хетагуров.
«До каких бы пределов не дошло опьянение пирующих мужчин,—
писал он,— как бы развязно ни вела себя компания молодежи, как бы
сильно ни было ожесточение ссорящихся, дерущихся и сражающихся,—
одно появление женщины обуздывает буянов, останавливает и
прекращает кровопролитие»4.
Уважение к женщине, ее высокая нравственная сила сложились не
абстрактно, а на реальной почве, в конкретных исторических условиях.
Как мы указывали выше, женщина в первобытном коммунистическом
хозяйстве занимала исключительно важное место. Это потому,
во-первых, что хозяйственная деятельность первобытного коллектива
осуществлялась в рамках материнского рода.
Материнский род представлял собой не только социальный, но
также производственный коллектив, во главе и в центре которого стояла
О
1 К. Л. Хетагуров. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1960, т. IV, стр. 356.
2 М. А. Мисиков. Материалы по антропологии осетин. Одесса, 1916, стр. 73.
3 Осетины во второй половине XVIII века по наблюдениям путешественника Штедс-
ра. Орджоникидзе, 1940, стр. 31.
4 К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. 356.
104
женщина-мать. Она, естественно, являлась центральной фигурой,
регулировавшей как общественные и внутриродовые отношения, так
производственные отношения этого коллектива. Она сама занимала
выдающуюся роль в этом хозяйстве. Изобретение земледелия женщиной,
проявление и вместе с тем результат первичного, половозрастного
общественного разделения труда, при котором женщина главным образом
занималась собиранием растений, повлекло к созданию «планомерно»
работающего коллектива общины. При усложнении и поднявшейся роли
домашнего коммунистического хозяйства (Ф. Энгельс) женщина в нем
заняла выдающееся место. Поэтому дети связаны с матерью не только<
пуповиной (своим рождением), но и экономически. Все это вместе
взятое упрочило общественное положение женщины. Этому периоду также
соответствует культ женских божеств. Интересно, что у скифов,
находившихся на стадии разложения родового строя (патриархат), главным
божеством являлась Табити — женское божество1. Она же являлась
покровительницей домашнего очага. Аналогичную картину наблюдаем и у
осетин. Осетинский этнографический материал домашнее божество
(«бынаты хицау», «бындур») рисует в образе женщины.
Выдающуюся роль женщины, которую она занимала в хозяйстве
некогда, запечатлел довольно ярко осетинский фольклор.
Известная нам нартская Шатана выступает в эпосе как мать
народа, она держит в руках несметные запасы пищи, которые она
открывает, когда мартов постигает всеобщий голод, и кормит их. Она
олицетворяет собой выдающуюся хозяйку.
Пережитки былой власти женщины в домашнем хозяйстве
выявляются в этнографическом быту осетин. Так, в патриархальной семье
старшая женщина — «аефсин» распоряжалась всем внутренним
домашним порядком; всеми домашними работами, являвшимися женскими,
руководила она. Всеми продуктовыми запасами также заведует «зэф-
син». Ключи от кладовой, где хранились эти запасы, находились тоже
у нее. Как знак ее власти, эти ключи висели у нее на поясе. Доступ в
«къаебиц» не имели мужчины. Считалось позором для мужчины
вмешиваться в сферу хозяйственных, имущественных и семейных дел,
считавшихся сугубо женскими.
В семейной общине, где уже не было в живых самого старшего —
«хистаер» (главы), его жена— старшая женщина («аефсин») отправляла
жреческие обязанности, не говоря уже о том, что ни один из ее
сыновей, несмотря даже на их преклонный возраст, не принимал никакого
решения без ее согласия и воли. С нею советовались по всем
важнейшим вопросам семейной и хозяйственной жизни. С нею считались и
советовались другие семьи, входящие в патронимию. Таких женщин-ста-
©
1 Геродот, кн. IV.
105
рух нередко приглашали на родовой или сельскообщинный совет, как
отмечает Д. Лавров, где они принимали участие в общественных делах1.
Осетинский этнографический материал также указывает на то, что
женщина свободно могла участвовать в общественных играх, на призах
и др. Один из первых этнографов Осетии Инал Тхостов, характеризуя
тагаурское общество, писал, что «до половины XVIII столетия, т. е. до
принятия тагаурцами магометанства, женщина в Тагаурии пользовалась
полной свободой. Она наравне с мужчиной принимала участие во
всех народных играх и празднествах»2. Действительно, в тех*обществах,
куда проникло магометанство, женщина была больше ограничена в
правах, пользовалась меньшей свободой. Здесь наряду с патриархальным
правом свою отрицательную роль сыграли мусульманская религия и
право.
Несмотря на подчиненность патриархальным установлениям,
осетинская женщина пользовалась известными правами также в семье. В
патриархальной семье, где всегда было много мужчин, последние
старались не стеснять женщину, особенно молодых невесток, держались по
отношению к ним всегда корректно. Характер этих отношений М. А.
Мисиков описывает так: «Невестка пользуется уважением со стороны
старших: всякие эксцессы сдерживаются в их присутствии; не достоин
уважения тот из старших, который позволяет себе при невестке говорить
непристойные слова, даже по отношению к другим. Когда невестка
входит в комнату, где сидят старшие члены семьи, то последние в знак
уважения к ней должны приподняться»ь.
Языковед и фольклорист В. Ф. Миллер разбирался очень хорошо
в психологии и мировоззрении осетин. И вот что он говорил: «Как ни
безотрадна жизнь женщины,— писал он,— однако к чести осетин нужно
сказать, что между ними крайне редко встречаются акты грубости и
насилия против нее. Бить женщину считается позором. Если семейный
раздор дошел до крупной размолвки, жена уходит в дом родителей и
со стороны мужа начинаются хлопоты о примирении»4. Разве это не
отзвук, отдаленное эхо матриархата!
Здесь, безусловно, следует видеть переживание матриархального
права, когда женщина могла свободно расторгать брак. Впрочем,
пережитки матриархата у осетин наиболее стойко сохранились в семейно-
брачных отношениях.
Некоторые порядки брачных отношений, свойственные матриархату,
зафиксированы античными историками у скифов (саков), сарматов и
©
1 Д. Лавров. Указ. соч. «Терские ведомости», 1875, № 3.
2 И. Тхостов. Из заметок о тагаурцах. «Терские ведомости», 1869, № 28.
3 М. А. Мисиков. Материалы для антропологии осетин. Одесса, 1903, стр. 72—73.
4 В. Ф. Миллер. В горах Осетии. Журн. «Русская мысль», 1881, кн. IX, стр. 79.
106
;алан. Так, у саков, по данным Элиана, мужчина, желавший жениться,
должен был вступить в единоборство с девушкой. Если он одерживал
победу в поединке, мог взять ее в жены. Сарматская девушка, как мы
уже отмечали, могла сама выбирать себе мужа.
Эта сарматская традиция была запечатлена в осетинском
фольклоре. Так, в нартских сказаниях и бытовых сказках осетин мы
встречаем сцены, где известная красавица, ханская или алдарская дочь,
задумав выйти замуж, собирает несметные толпы женихов, из числа
которых выбирает себе мужа.
При матриархате, как мы уже знаем, дети принадлежат
материнскому роду. Эта традиция продолжается и в переходном периоде, когда
даже брак становится патрилокальным. Нартский эпос и тут не
остается безучастным. Он отражает и эту традицию. Например, «нарты
происходят по матери от владыки водного царства Донбетра. И они все
время поддерживают тесную связь со своими родичами по матери.
•Один из главных героев, Батраз, все свое детство проводит в водном
царстве, и его лишь с трудом, с помощью особых колдовских приемов
удается выманить на сушу, в дом отца. Шатана своего сына, сразу же
по рождении, даже не показав мужу Урузмагу, отправляет к родичам
своей матери Донбетрам. Урузмаг, попав в гости к Донбетрам, нечаянно
убивает своего сына, не зная, разумеется, что это его сын.
Это убийство сравнивают с убийством сына Рустамом Шах-Наме,
Ильей Муромцем в русских былинах, Кухулином в ирландских сагах,
Гильдебрандтом в саге о Гильдебрандте. И совершенно справедливо
видят в нем матриархальный мотив. Почему? Потому что в основе этого
мотива лежит такой порядок вещей, когда сын не знает отца, а отец —
сына, а это как раз и есть порядок вещей при матриархальной семье»1.
Историческая этнография осетин сообщает нам и о том, как дети
по смерти отца нередко переходили в род (родную семью) матери. И
они воспитывались здесь в более благоприятных условиях, чем у кого-
нибудь из родичей отца. Родичи матери («мады 'рвадзелтэе») к сиротам-
племянникам, по обычаю, должны были относиться уже лучше, чем
к собственным детям. Одним словом, они пользовались привилегиями
племянников («хэерзэфырттае»), что предусматривалось обычным
правом.
Отголоском матриархальных порядков является внешняя
отчужденность, которая наблюдалась в прошлом между отцом и его детьми,
порядок, налагавший запрет на публичное проявление ими родственных
чувств и ласки друг к другу. Характерное описание этих отношений мы
находим у Коста Хетагурова: «Если мать занята и не может покормить
и унять своего ребенка, то предоставляется всем, кому угодно, возиться
В. И. А б а е в. О родовых отношениях и терминах родства у осетин, стр. 238.
107
с ним, покачать колыбель, подержать малютку на руках и пр. Лишает
этого права осетинский этикет только отца малютки.
Только в самом интимном кругу (жены и детей), или с глазу на
глаз, позволительно отцу дать волю своим чувствам и поняньчить,
приласкать детей. Если осетина-отца в прежние времена случайно
заставали с ребенком на руках, то он не задумывался бросить малютку куда
попало. Боязнь быть заподозренным в неумении скрывать своей любви
к. детям доходила до того, что многие отцы не произносили никогда их
имен. С моим отцом, когда он был еще ребенком, случилось следующее.
На крыше четырехэтажного здания мать оставила его под присмотром
отца. Ребенок, переползая с места на место, очутился у самого края
крыши. Еще момент, и он теряет равновесие. Дед, однако, успел
наступить ему на рубашонку, и мальчик повис над пропастью... Пока на крик
ребенка не сбежались заметившие эту сцену соседи и не подняли его,
верный традициям, дед стоял, как вкопанный, и не сделал ни одного
движения, чтобы освободить своего первенца от опасного положения. Я
не помню, чтобы отец назвал меня по имени»1.
Данный обычай, помимо осетин, бытовал и у других горских
народов Кавказа. Это в свое время было замечено известным русским
этнографом Николаем Харузиным. Вот что он писал об этом: «Обычай,
весьма распространенный среди кавказских горцев (но известный и другим
народностям), согласно которому дети до своего совершеннолетия не
должны признавать своих отцов, по крайней мере, публично, должны
избегать встреч с ними и т. п., отцы же в свою очередь перед другими
стараются не разговаривать со своими детьми, не оказывать им знаков
внимания и нежности, может считаться воспоминанием такого периода,
когда связь отца с сыном неясно сознавалась»2.
Разбирая пережитки матриархата у кавказских горцев, Максим
Ковалевский обращает также внимание на этот обычай у черкесов: «У
черноморских черкесов,— пишет он,— сын не имеет права публично
признать, что такой-то его отец. Считается неприличным спрашивать у
отца, как поживает его сын, и обратно,— у сына об отце»3.
Как известно, у осетин имелся институт «вторых», «именных жен».
Хотя он в известной нам форме получил свое распространение в
феодальный период, сочетал в себе более древние элементы. Такая жена,
помимо законной, приобреталась представителями высшего сословия
осетин; а также, если имели материальную возможность, свободные
общинники («фаерсаглаегтаэ»).
О
1 К. Л. Хетагуров. Собрание сочинений в пяти томах, т. IV, стр. 339—340.
2 Н. Харузин. Этнография, вып. II, Семья и род. СПб., 1903, стр. 143—144.
3М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М.,
1939, стр. 33.
108
Алдар или баделят могли приобрести до 3—4—5 жен в качестве
«домыл у с» и брали их из числа холопок или из семей зависимых
крестьян. Мотивом к такому браку служило приобретение работниц-рабынь,
холопок. Дети от таких «номылус», так называемые «кэевдаэсард»1,
поступали также в разряд дворовых работников, фактических рабов.
Утверждению этого феодального института способствовал древний обычай
эпохи группового брака — полигамия (многоженство). Здесь имелся и
другой интересный, с точки зрения традиций матриархальной эпохи,
момент — право ссужать «именных жен» («номылус») посторонним
мужчинам. Данный обычай признавался, даже «узаконивался» адатиым
правом осетин. Согласно исследованиям М. Ковалевского, владелец
(муж) «номылус» допускает и «даже устраивает ее сожительство с тем
или другим лицом по его выбору, и что дети, рожденные от таких со-
жительств, считаются детьми не родившего их мужчины, а того, кто
ссудил номылус, кто является ее владельцем». И далее Ковалевский
комментирует: «Ссужая номылус постороннему лицу, осетин (владелец)
знает, что рожденный от нее ребенок — «каевдаесард» — будет его
работником и, наряду с другими ценностями (подчеркнуто нами.—А. М.),
перейдет по смерти его в совместное обладание оставшейся после него
семьи»2.
О том, что данный обычай имел более древнюю основу, чем
явления, связанные с образованием в Осетии феодального сословия (которое
фактически только и имело право на покупку «номылус») говорит одна
из норм обычного права осетин. В одной из статей сборника «Древние
обряды Дигорского общества» говорится: «Если кто имеет хорошую
жену, которая не родит, то он берет другую с уплатою калыма, а
бездетную отдает холостому мужчине, дети от которого однако
принадлежат первому мужу, потому что он заплатил калым; холостой же не
вправе называть этих детей своими»3. В данном случае отдается мужем
в сторону не «именная жена» (номылус), а законная. В данном факте
правосознание осетин явно апеллировало к порядкам, существовавшим
при групповом браке в матриархате.
Рассмотренный нами институт «именных жен» («номылус») имел еще
одну любопытную сторону — дети, рожденные от «номылус» или «дык-
кагус» («вторых жен»), происшедших из низшего сословия, получали
родовое имя отцов, но за ними не признавались сословные права
последних. Они поступали в сословие матерей. Здесь нельзя не видеть
О
1 «Каевджсарды» в социальной структуре осетинского общества занимали самое
низкое общественное положение после рабов.
2М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 238—239.
3Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву
Северного и Восточного Кавказа, вып. II, Одесса, 1883, стр. 37.
109
той древней традиции, которая определяла общественный ранг человека
по социальному положению матери. Это явление более ярко выступает
в аналогичной ситуации у адыгских народов. В. Сокольский, который
первым в русской науке отозвался на учение Бахофена о матриархате,
отмечал: «Относительно причисления детей к тому или другому
сословию у адиге господствовало правило, по которому рожденный от холопа
и свободной женщины считался свободным, а рожденный ог свободного
мужчины и-холопки — холопом. Что касается высших сословий, то здесь
мы встречаемся с тем же правилом, хотя оно несколько видоизменено:
дети князя и женщины некняжеского происхождения не получали
сословных прав своего отца, не становились князьями»1.
Как осколок группового брака сохранился до середины XIX в.
обычай, позволяющий отцу брать своему малолетнему сыну взрослую
девушку и вступать с нею в сожительство. По обычному праву дети,
рожденные от такой связи, считались детьми малолетнего «мужа». В<
40-х гг. XIX в. о такой архаической форме брака у осетин сообщал^
Гагстгаузен2.
Эту форму брачных отношений как широко распространенное
явление исследователи (Леббок, Бахофен, М. Ковалевский, Н. Харузин,
Л. Штернберг, А. Максимов и др.) отмечают у народов мира в
современную им эпоху или ранее.
Не меньший интерес представляет обычай, возникший также в
эпоху группового брака и доживший в пережиточной форме до XIX в.у
трансформировавшись в традицию патриархального общества. Это—
обычай приглашать к вдове умершего постороннего мужчину, дети от
которого считаются детьми умершего мужа, а значит и продолжателями-
его рода.
«Если,— читаем в «Сборнике адатов осетин» ст 1866 г.,— после
смерти отца семейства не останется наследников мужского пола и
вдова, пребывая в доме покойного и отказавшись от вступления в новый
брак, приживет с кем-либо сына, то последний считается сыном ее
умершего мужа и наследует все его имение; но это лишь в том случае, если
на связь вдовы посторонним лицом дано согласие близких
родственников покойного»3. Данный обычай М. Ковалевский комментирует так:
«Обычай, о котором идет речь... свидетельствует о том, какой глубокой
древностью отмечаются нормы семейного права осетин... При мысли о
О
1 В. Сокольский. Архаические формы семейной организации у кавказских горцев.
Журнал Министерства народного просвещения, 1881, № 11, стр. 42.
2 Гагстгаузен. Закавказский край. Заметки о семенной и общественной жизни
и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями, ч. II,..
СПб., 1857, стр. 101.
3 Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 75.
ПО
возможности совершенного прекращения рода осетины, подобно
древним индусам, готовы на все жертвы, поэтому их не останавливает даже
страх нарушить чистоту крови введением в семью совершенно
посторонних элементов»1.
Одним из наиболее характерных пережитков матриархальной семьи
и группового брака является левират2, просуществовавший у осетин
вплоть до начала XX в. Левират — брак мужчины на вдове брата — как
социальный институт известен почти всем народам, прошедшим через
патриархально-родовой строй3. Он отмечен еще в библейскую эпоху4.
О левирате у осетин впервые упоминает Вахушти. «Когда умирает
один брат,— пишет он,— другой брат женится на жене своего брата»5.
О левиратском браке сообщает и Ю. Клапрот6. Впоследствии об этом
писало много других авторов. Все эти источники указывают на тот факт,
что у осетин (и не только у осетин) после смерти мужа его жена
должна была выходить замуж за одного из его братьев. По свидетельству
Ю. Клапрота7, А. Яновского8 и Гагстгаузена9, брат обязан был
жениться на вдове брата и в том случае, если даже он был женат. Если в
семье было несколько братьев и каждый из них претендовал на нее, то
спор решался ее собственным выбором10.
По данным М. Ковалевского, левират у осетин сохранился во всей
его силе вплоть до 80-х гг. XIX в.11
Сохранение данного института в народном сознании оправдывалось
«стародавностью» обычая, но, опираясь на эту традицию, народ удержал
его совершенно по другим мотивам. Основным мотивом были
экономические причины. Другой мотив вытекал из религиозной и патриархально-
родовой идеологии осетин (брат покойного, вступая в связь с его
вдовой, в рожденных в таком браке детях продолжал общий с покойным
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 304.
2 Левират (лат. 1еу1г)—деверь, брат мужа.
3 М. О. Косвен. Очерки истории первобытной культуры, М., 1957, стр. 127; М.
Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, стр. 21.
4 Зенон К о с и д о в с к и й. Библейские сказания, М., 1967.
5 Вахушти. География Грузии, стр. 112.
6 Ю. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807—1808 гг.
Известия СОНИИ, т. XII, 1948, стр. 235.
7 Там же.
8 А. Яновский. Осетия. Обозрение российских владений за Кавказом, ч. II, СПб.,
1836, стр. 199.
9 Гагстгаузен. Закавказский край, ч. II, стр. 130.
10 А. Яновский. Осетия. Обозрение российских владений за Кавказом, ч. II, стр. 199.
11 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 264.
111
род).1 Эти причины, лежавшие в основе бытования левирата, М.
Ковалевский в основном истолковал правильно. «У осетин левират,— пишет
он,— удержался частью благодаря той связи, в которой он стоит к
культу предков, частью благодаря господствующему воззрению на женщину,
как на имущество, воззрению, поддерживаемому обычаем приобретать
жен покупкою. Участвуя в платеже калыма, семья не соглашается
потерять во вдове рабочую силу, приобретенную на собственные
средства. Вместо того, чтобы тратиться на покупку невесты для холостого
члена, она предпочитает обвенчать его на вдове и тем самым достигнуть
сразу обеих целей: рождение потомства, способного продолжить
семейный культ, и сохранение полезной для семьи работницы»2.
Так обычай, возникший в матриархальную эпоху, в условиях нового
общественного уклада, лег на благодатную почву, которая его питала
веками.
В этнографии народов мира, кроме того, широко известен так
называемый сорорат (лат. зого — сестра), «порядок, по которому один
мужчина женится на двух или нескольких родных или двоюродных
сестрах; в дальнейшем превращении сорорат выражается в том, что
вдовец должен или может жениться на сестре умершей жены, причем эта
сестра может, а иногда и должна, если свободна, выйти за него
замуж»3.
Как видим, и в этом обычае мы также имеем дело с пережитком
группового брака. У осетин имела место его более ослабленная форма.
Вдовец-осетин вступал в брак с сестрой умершей жены прежде всего в
расчете на доброе отношение будущей мачехи к детям-сиротам, которым
она приходилась родной тетей. Кроме того, калым в этом случае мог
быть значительно меньшим по сравнению с обычными его размерами.
Сокращая размер калыма, родня девушки не забывала судьбу
детей вдовца, которые состояли с первой в кровном родстве, приходя ей
«хаераефырттае» (племянниками). А племянники, как известно,
находились в особых отношениях с родичами матери (о чем мы скажем ниже).
Успех такого брака, кроме того, зависел от доброй воли девушки и ее
родни. Таким образом, сорорат в условиях Осетии не имел такой
обязательности как левират.
С точки зрения интересующей нас проблемы нельзя не остановиться
на такой форме брака, как «мидаегмой», встречавшейся в Осетии еще во
О
1 Н. Ф. Т а к о е в а. К вопросу о браке и свадебных обрядах у северных осетин в
XIX—начале XX вв. «Краткие сообщения» Института этнографии АН СССР, XXXII,
1959, № 4, стр. 24.
2М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 271.
3 М. О. Косвен. Очерки истории первобытной культуры, стр. 126—127.
112
второй половине XIX в. Это ничто иное, как матрилокальный брак,
известный в специальной литературе под названием приймачество.
Последнее представляет собой пережиток, корни которого находятся в
матриархальном обществе.
Однако приймачество продолжает существовать и в обществе с
патриархальной семьей, где оно употребляется для обеспечения мужской
линии родства и наследия. Сравнительно частым явлением
приймачество было у южных славян, особенно у сербов.1
Приймачество («мидаегмой»), хотя и возникло на основе
матриархального права, имело экономическое и даже идеологическое
обоснование в патриархальном обществе осетин. Максим Ковалевский, который
первым обратил внимание на этот обычай у осетин, писал, что отец—
глава семьи, не имевший сыновей, отдавая свою дочь замуж, мог
поселить зятя у себя в доме и передать ему хозяйство. Со стороны отца
девушки это было мерой сохранения имущества в руках дочери и ее
потомства.
Но для претворения этого акта в реальность требовалось согласие
агнатных родственников отца девушки, поскольку в случае отсутствия у
любого из них прямых наследников мужского пола остальные согласно
родовому праву наследовали его имущество. Но обычное право,
применяясь к древней матриархальной традиции, делает законным
наследником тестя не зятя — «мидаегмой», а сына дочери, рожденного в браке
с ним.
Чтобы формально закрепить это право за сыном дочери, дед
объявляет об усыновлении внука. Вот как происходит этот акт по словам
М. Ковалевского: «Только при полном отсутствии нисходящих мужского
пола, отец, заручившись предварительно согласием отдаленных агнатов,
вправе помимо всяких формальностей усыновить и признать
наследником по себе сына своего живущего с ним в одном дворе зятя или так
называемого «мидаегмой»2.
В таком завершенном виде матрилокальный брак «мидаегмой»
встречался реже, чем его различные варианты. Они были заурядным
явлением в Осетии и дожили до начала XX в. Такой брак был в основном
связан с отработкой калыма. Всегда больших размеров, он мог быть
выплачен только усилиями большого родственного коллектива — семейной
общины. В обычном праве предусмотрена норма, согласно которой
вопрос о женитьбе одного из членов семейной общины решался всем этим
коллективом; последний обязан был обеспечить ему выплату всей сум-
1 Н. Пан телич. Приймачество у сербов, как архаическое и современное явление.
Тезисы VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук,
М., 1964.
2 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 302.
3 А. X. Магометов ИЗ
мы калыма, все остальные расходы, связанные со свадьбой, также несла
семья. Нередко в этом деле (в уплате калыма) участвовала патронимия
или даже весь род — «мыггаг», как это было в древности. Одинокий
человек, как правило, всегда бедный и, естественно, не имеющий такой
широкой поддержки, батрачил и годами отрабатывал стоимость калыма.
На отработку калыма такой бедняк чаще всего шел в дом отца невесты.
Поселившись в семье будущего тестя под именем «мидаэгмой»,
последний в течение 10—15 лет работал на хозяина, после чего приобретал
право на женитьбу и увоз жены в свой дом.
В более позднее время, тоже для отработки калыма, жених, не
принимая имени «мидаегмой» (оно всегда было непопулярным в народе)
поступал к отцу невесты в работники («аеххуырст», фиййау») и,
отработав обусловленный договором срок D—5 лет), увозил невесту к себе.
Воспоминанием матрилокального брака следует считать также
«сгэерст», являвшийся предбрачной церемонией, которую должен был
пройти зять. Обычай этот заключался в том, что жених еще задолго до
свадьбы приезжал с визитом в семью засватанной им девушки. В этом
визите его обычно сопровождали друзья-сверстники, которых родня
невесты принимала с почестями. Жених привозил подарки невесте и ее
родственникам. После приема друзья возвращались домой, а зять
оставался в доме тестя на некоторое время. По описанию К. Хетагурова,
«во время своего пребывания в доме тестя жених должен во всей
полноте обнаружить все свои достоинства,— ловкость, вежливость,
словом — все, что нужно для того, чтобы произвести самое лучшее
впечатление. Услуживая всем и во всем, он никогда не садится при старших.
Стоя у дверей хадзара, он всецело занят тем, чтобы предупредить
малейшее желание членов семьи, особенно стариков. Ложась позже всех,
он утром раньше всех на ногах»1. Нетрудно догадаться, что данный
обычай являлся ничем иным, как проверкой чужеродца родными
невесты. Об этом же говорит и название самого обычая «сгаерст», что в
переводе означает «разведка», «проверка».
У осетин вплоть до середины XIX в. держался обычай, который не
позволял перевозить невесту сразу в дом жениха.
Этнографы-современники зафиксировали данный порядок в таком виде, как он существовал.
Так, Джантемир Шанаев в работе, посвященной специально свадьбе и
семейным обрядам у осетин, писал, что «в прежнее время невеста не
заезжала в дом жениха, а останавливалась до известного времени в
доме своего шафера»2. Еще раньше, освещая этот же момент осетинской
свадебной обрядности, академик А. Шегрен писал, что когда невесту
привозят в аул жениха, то молодую «не вводят в его дом, а к соседям,
О
1 К. Л. X е т а г у р о в. Собр. соч., т. IV, стр. 345.
2 Д ж. Шанаев. Свадьба у северных осетин, стр. 27.
114
где она уже поступает в распоряжение молодого. Приличие требует,
чтобы молодые, смотря по состоянию, до трех месяцев, но не менее
: трех дней, жили не у себя, а у соседей и виделись украдкой, так, чтобы
никто из старших не знал об их свиданиях»1. Описанный выше обычай
уже во второй половине XIX в. перестал бытовать.
Однако идея, заложенная в этот древний обычай, в измененной
форме стала проявляться в поведении жениха. Возвращаясь в родное
село вслед за свадебной процессией, он не заезжал в отчий дом, где он
жил и куда направлялась невеста, а останавливался у своего
друга-побратима или шафера — «къухылхаецэег». Семья, у которой
останавливался жених, называлась «фысым»2. Как сообщает И. Кануков, фысым
«не должен давать в обиду своего гостя и всячески заботится о целости
его личности и всего того, что принадлежит ему»3. Действительно,
молодой в первые дни после женитьбы нуждался в такой опеке. Посещения
молодым мужем его жены контролировались... молодежью, которая
устраивала засады на его пути. Дело в том, что в силу действовавшего
обычая избегания — никому из старших не показываться — молодожен
к жене пробирался под покровом ночи, в поздний час. Как поясняет тот
же Кануков, «обычай позволяет ловить жениха, когда он идет к
молодой, причем, конечно, он употребляет разные уловки, чтобы избавиться
от преследователей»4. Действительно, «жених, для того чтобы
избавиться от преследователей, шел на всевозможные хитрости, которые не
всегда приводили его к желательным результатам, так как подчас он
попадал в руки молодежи, которая отбирала у него оружие (пистолет
или кинжал). Отнятое оружие по обычаю должен был выкупать «къу-
хылхаецаег»— шафер, у которого гостил жених»5. На этом, однако, не
прекращались преследования молодожена. По издавна заведенному
порядку, сверстники жениха (среди них могли быть даже его
родственники) тайком окружали помещение («уат») молодых и
устраивали подслушивание и даже подглядывание встречи супругов.6 В этом
обычае исследователи видят отдаленное эхо времен группового брака,,
то есть отзвук матриархата.
Не только в момент свадьбы и в период пребывания у «фысым», но
и после возвращения домой молодожен не мог появляться на улице и
О
1 А. М. Ш е г р е н. Религиозные обряды осетин и ингушей и их соплеменников при-
разных случаях. Газ. «Кавказ», 1846, № 28.
2 Фысым (осет.) — хозяин по отношению к гостю.
3 И. Кануков. В осетинском ауле. Сборник сведений о кавказских горцах, вып..
VIII, 1975.
4 Там же.
5 К. Д. Кул о в. Матриархат в Осетии, стр. 33—34.
6 Дж. Ш а наев. Свадьба у северных осетин, стр. 27.
115
«открыться» сельским старикам, не заплатив дани — «хъалон».
Последний заключался в том, что он закалывал барана и устраивал для них
угощение. Местом такого угощения обычно служил «ныхас» — место
общинных собраний и ежедневных сборищ мужчин.
Семейно-брачные отношения также влючали в себя целую систему
запретов и избеганий. Эти избегания и запреты как обязательная
норма поведения имели место между одним из супругов и родственниками
другого.
Избегания, главным образом, были связаны с женихом и невестой,
новобрачным и новобрачной. Так, жених не мог не только разговаривать
с родителями невесты, но и встречаться с родителями и старшими
родственниками невесты. По этой причине жених мог встречаться с
невестой тайком, в ночное время. Встречи эти устраивались какой-нибудь
' родственницей девушки. Но эти встречи бывали непродолжительными и
в присутствии кого-нибудь из женщин. Чаще всего устроителями тайных
свиданий бывали молодые невестки, золовки девушки. Обычное право и
общественное мнение строго контролировали поведение жениха-осетина
в период между сговором и свадьбой, поэтому в это время он не мог
вступать в супружеские права, как это имело место у некоторых
народов мира.
Невеста также избегала встреч с родичами жениха, особенно с его
родителями и старшими мужчинами его фамилии. По отношению к ней
соблюдали правила избегания и родственники ее будущего мужа. Как
известно, срок от помолвки до свадьбы был продолжительным: от
нескольких месяцев, а раньше — от года до нескольких лет. Все это время
•жених соблюдал требования обычая избегания. Семейно-брачные
запреты и избегания продолжались и после свадьбы и переезда молодой в
дом мужа. Эти запреты с молодожена снимались после совершения
им обряда «аэргом», когда он с соблюдением определенных церемоний и
с подарками приезжал в дом родителей жены и «открывался» им.
Еще более сложной системой семейно-брачных запретов и
избеганий была обставлена жизнь молодой в семье мужа. Они принимали
более строгие формы и держались значительно дольше. Нередко такие
запреты в жизни замужней женщины продолжались до конца ее жизни.
Избегания и запреты соблюдались прежде всего между невесткой и
свекром, а также между нею и всеми старшими мужчинами —
родственниками мужа, в том числе братьями его матери. Невестка избегала их
всех, а при встрече не разговаривала, соблюдая обычай «уайсадын».
Это правило было настолько строгим и обязательным, что «еще в
прошлом веке женщина, не соблюдавшая этого обычая, считалась
распущенной, безнравственной»1.
О
1 К. Д. К у л о в. Матриархат в Осетии, стр. 37.
116
Невестке также не полагалось «произносить имен свекра, старших
братьев мужа, а также свою новую фамилию»1.
Если требовалось назвать свою принадлежность к семье мужа, то,
не называя имени супруга (и здесь — запрет), указывала ка кого-либо
из его семьи (фамилии) и говорила, что она невестка фамилии таких-
то. Но это она выражала более завуалированно: «уыдонмэс даен» (я
у них).
У осетин, так же, как у абхазов, сванов, мегрелов2 и других
кавказских народов жена не произносила имен мужа, свекра, свекрови,
старших братьев и родственников мужа, имен его сестер, дядей по
матери. Свекра, например, она называет «мзенээ уый фыд» (вот его отец).
Мужа называла — «маенае уый» (вот он), брата его — «мае тиу» (мой
деверь), если речь шла о старшем брате мужа, то она его именовала —
«еж хистаер» (их старший), младшего — «еж каэстаер» (их младший),
«сае лаеппу» («их мальчик»). Небезынтересно знать, что данное прозвище
имеет и оттенок ласкательный.
Сестер и ближайших родственников мужа также называла
иносказательно: «сае чызг» (их девушка, их дочь), независимо от их возраста.
Кстати, как и у абхазов, адыгских и других народов3 в обращении
друг к другу, когда подразумевается одно лицо, осетины всегда говорят
«ты» и не употребляют множественного числа «вы». И только невестка
о свекре, свекрови, всех старших родственниках мужа и вообще о его
фамилии, подчеркивая свое уважение ко всему этому социальному
кругу, выражалась во множественном числе.
Возвращаясь к обычаю «уайсадын», напомним, что в случае
крайней необходимости невестка могла разговаривать или отвечать на
вопросы свекра и старших мужчин рода через посредство кого-либо из
членов семьи4.
Следует сказать, что обычай был строг и по отношению к
родственникам мужа. На них также лежала обязанность соблюдать
определенные правила поведения, продиктованные той же традицией. Прежде
ьсего, они должны были быть чрезвычайно корректными и
предупредительными к невестке. Приличие требовало от них уважать стесненное
положение молодой в чужой для нее среде — роде мужа; поэтому и
они сами старались избегать ее и не стеснять своим присутствием, не
вступать с нею в разговор без необходимости. Но в то же время тради-
О
1 К. Д. К улов. Матриархат в Осетии, стр. 37.
2 Г. Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957, стр. 177.
3 Т а м ж е.
4 Полевой материал автора; Г. Ф. Чурсин. Осетины (этнографический очерк).
Труды Закавказской научной ассоциации, Тифлис, 1925, стр. 41.
117
ция обязывала всех родичей мужа снять с нее этот запрет1. Для этого
каждый из мужчин в разное время (и не обязательно в один год),
придя к ней с подарками, устраивал обряд «чындз аергом каенын».
Церемония эта проходила в доме мужа, где в честь гостя, прибывшего
для снятия запрета с невестки («чындз аергом каенынмае») устраивалось
торжество, где принимали участие ближайшие соседи и молодежь.
Когда родственник мужа в присутствии участников торжественной
церемонии одаривал невестку и обращался к ней с просьбой «заговорить» с
ним («сдзур маем»), она давала обещание — разговаривать отныне. Но
и после этого женщина сама не заговаривала с мужчиной первой. И
разговор, какой бы он ни был, всегда был немногословным.
Общественное мнение всегда осуждало мужчин, родственников мужа, не
справивших обряд «чындз аергом каенын» .
Первую группу запретов — тайные добрачные посещения женихом
невесты и избегания им ее родных, несомненно, следует рассматривать
как отзвук матриархата, как пережитки дислокального и отчасти мат-
рилокального брака.
Другую природу, как мы полагаем, имеют семейно-брачные запреты
и избегания, существовавшие между невесткой и родственниками мужа.
Известный исследователь истории семьи и семейно-брачиых отношений
Н. А. Кисляков2, проанализировав касающийся этого вопроса материал
у 41 народа СССР, в том числе у народов Кавказа, отвергает прежнее,
утвердившееся в этнографической науке толкование данной группы
избеганий как пережиток семейно-брачных отношений периода
группового брака. Кстати, в свое время это положение выдвинул и Максим
Ковалевский в работе об осетинах3.
Подчеркивая справедливость замечания Н. А. Кислякова, следует
в то же время сказать, что рассмотренный нами второй ряд семейно-
брачных запретов и избеганий представляет собой ничто иное, как
вылившиеся в своеобразные формы отношений молодой и ее
свойственников в новых условиях в сложной обстановке патриархальной среды. В
них, несомненно, отразился также драматизм перехода от матрилокаль-
ного брака к патрилокальному.
Очень важным моментом семейно-брачной обрядности у осетин еще
в недавнем прошлом являлся обычай «возвращения домой». Это каса-
©
1 Если даже церемония снятия с нее запрета устраивалась спустя несколько лет,
для мужчин рода, куда она вышла замуж, все равно она считалась «чындз».
Слово это произносилось ими всегда с чувством уважения, даже некоторого
благоговения.
2 Н. А. Кисляков. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и
Казахстана, Л., 1969, стр. 163—239.
3 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 260.
118
лось молодой, обязанной возвращаться в родительский дом через
некоторое время после выхода замуж. Данный обычай наблюдался в
прошлом у многих народов; а у народов Кавказа — почти у всех1. Согласно
обобщенному М. О. Косвеном материалу, возвращение молодой в
родительский дом предпринималось через год-два после заключения брака.
Целью такого возвращения замужней женщины были роды в доме
родителей2.
Обычай этот входил также в комплекс семейно-брачных отношений
осетин в рассматриваемый нами период. Этнографический материал
указывает, что в прошлом, по крайней мере еще до конца XVIII в.,
первого ребенка осетинка рожала в доме родителей. Говоря об этом,
Васо Цораев в «Осетинских текстах», изданных академиком А. Шифне-
ром, писал: «В былое время осетины посылали своих жен для
разрешения от бремени к их родным»3. В родительский дом, являвшийся для
замужней женщины «цаегат» (тыл4), она отправлялась с наступлением
беременности. После разрешения, оправившись от родов, она с
ребенком, наделенная подарками, возвращалась в дом мужа. В «цаегат» (у
родителей) она могла оставаться и дольше. По наблюдениям М. О. Кос-
вена, у южных осетин всякая молодая женщина, независимо от
беременности, через год или два после выхода замуж, возвращалась в
родной дом — «цаегат». Она оставалась здесь год-два, в зависимости от
разных обстоятельств, в частности, от настойчивости мужа,
добивавшегося ее возвращения. В старину мужу бывать во время «хуындэеджы
бадын» («сидения в гостях») у своей жены не полагалось; визит его
считался неприличным. Супружеские отношения в этот период также
считались недопустимыми. По окончании срока «сидения» молодая
женщина с ребенком возвращалась к мужу, снабженная не только
подарками, но и люлькой для ребенка5. Обязанность снабжать ребенка
люлькой лежала на родных («цаегат») матери и в последующем, когда даже
перестал бытовать обычай рожать ребенка в родительском доме.
Описанный нами обычай является весьма ярким и характерным
пережитком некогда господствоваших у осетин матриархальных порядков.
М. О. Косвен, обративший внимание на этот обычай и исследовавший
О
1 М. О. Косвен. Обычай возвращения домой. Кр- сообщения Института этнографии
АН СССР, т. I, М, 1946, стр. 30—31; его же: Этнография и история Кавказа, стр.
77—83; Г. Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии, стр. 176—177.
2 М. О. Косвен. Обычай возвращения домой, стр. 31.
3 А. Ш и ф н е р. Осетинские тексты, собранные Д. Чанкадзе и В. Цораевым. СПб.,
1868.
л В. И. А б а е в. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I, М.-Л.,
1958, стр. 296.
5 М. О. Косвен. Этнография и история Кавказа, стр. 11.
119
впоследствии его истоки, писал: «При матриархате с утверждением,
парного брака приобретает... господство матрилокальная форма
брачного поселения. Однако в соответствии с самим характером парного
брака поселение это всегда остается непрочным и временным. В
переходную к патриархату и патрилокальному поселению эпоху парный брак
еще сохраняется, лишь постепенно сменяясь моногамией. Это переходное
состояние и отражает «возвращение домой», как явление
переживающейся непрочности брака и возврата к матрилокальности»1. Как
справедливо указывает М. О. Косвен, «бытует этот порядок всегда в
сочетании с рядом иных пережитков матриархата или его перехода к
патриархату»2. Тесная связь обычая с матриархальным порядком
подчеркивается, в частности, требованием обязательного возвращения замужней
женщины в родительский дом, где она рожает первого ребенка. Это
предписание, указывает М. О. Косвен, отражает «действие того начала,,
по которому в ту же переходную эпоху сохраняется еще матрилинейный
порядок происхождения, вследствие чего дети принадлежат к роду своей
матери, своему материнскому роду»3.
Хотя у осетин данный принцип к описываемому времени не
сохранился, но рассматриваемый обычай удержал свою матриархальную
форму и, главное, как повторение или даже продолжение социальных
связей, существовавших в материнском роде, в осетинском обществе
наряду с патриархальными традициями активно действовала прочная
родовая связь детей с материнской семьей, с родом матери, о чем мы
более подробно скажем ниже.
Описанный выше обычай «возвращения домой» выступал и в
другом, более позднем варианте. Он был известен под названием «каехц-
гаенаен» и соблюдался как обряд до 30-х гг. XX в. Смысл его
заключался в том, что женщина, родив в доме мужа, уезжала с новорожденным
ребенком (если был мальчик) в родительский дом, где пребывала
недели три. Такое «возвращение» (с родившимся в доме мужа ребенком)
совпадало или даже связывалось с предстоящим в начале июля
праздником, посвящаемым новорожденным детям (мальчикам). Праздник
этот справлялся семьями, в которых в продолжение года родились дети
мужского пола.
Находясь в родительском доме, молодая мать обходила всех своих
родичей по отцу и матери, которые ее одаривали кто чем мог. Обход
родственников она совершала «с большой деревянной чашей (каехц4),.
собирая в нее всевозможные припасы для устройства праздничного
О
1 М. О. Косвен. Обычай возвращения домой, стр. 31.
2 Т а м ж е.
3 Там же.
4 Отсюда и название праздника «каехцгзенаэн».
120
обряда. Дарили ей предметы одежды и обуви, а также снаряжение,
приданое для ребенка. Одним словом, их одевали с ног до головы,,
чтобы мать «в продолжение ряда лет не имела ни в чем нужды»1.
Родственники ее одаривали и домашними животными, которые, между
прочим, в доме мужа считались собственностью ее самой. Бывало, что
невестка приводила несколько голов овец. Отец или братья дарили ей
и жертвенного барана для заклания в праздничный день.
Состоятельные родственники («мады'рвадаелтае») дарили новорожденному и коня
или же жеребенка — «байраг» («хэераефырты лаевар»). Вместо коня
могли подарить и быка. В числе обязательных подарков бывала
колыбель («авдаэн»), что, конечно, символизировало связь ребенка с
материнским родом —он укладывался в «материнско-родовую
колы б е л ь».
Сравнивая обычай «возвращения домой» с его позднейшим
вариантом, известным нам под названием «каехцгаэнаен», легко заметить
значительное отступление его от матриархальной традиции — роды первого
ребенка происходили не в родительском доме матери, а в доме отца
ребенка- Но как дань прежней традиции (разрыв с прошлым в
социальной жизни народа никогда не бывает одномоментным) мать с
новорожденным ребенком уходила к родителям, где мальчику справляли
«каехцгаенаен».
Следует подчеркнуть особо тот момент, что устройство обряда и
расходы на него лежали на обязанностях рода матери. В прежнее
матриархальное время рождение ребенка было важным событием только
для рода матери и торжеством (в виде определенного обряда) отмечал
материнский род это событие. И теперь же родичи молодой женщины
выполняли свой традиционный долг (конечно, в пережиточной форме)
по отношению к новорожденному. Вот поэтому праздник торжества в
честь ребенка справляла именно материнская родня. «Молодая, приехав
после родов в дом отца с младенцем, жила здесь до праздника,
справляемого домом и фамилией ее отца... На кувд «каехцгаенэен» собирались
родственники из фамилии отца и матери чындз (невестки), а также
старшие («хистэертэе») из дружественных домов в селении»2,— одним
словом, рождение ребенка праздновал по древней матриархальной
традиции род матери.
Отправляя мать с ребенком домой (в дом мужа), родичи, как мы
уже сказали, снабжали ее всем необходимым по части одежды и обуви,
а также одаривали различными продуктами для устройства пира
(«куывд») в честь ребенка на свой счет, т. е. «от матери» (материнского
О
1 Е. Г. Пчелина. Родильные обычаи у осетин. «Советская этнография», 1937, № 4,,
стр. 101.
2 Т ам же, стр. 101 — 102.
121
рода). И здесь в этом факте подчеркивалась связь ребенка с
материнским родом. В дальнейшем, когда женщина вновь рожала
мальчика, она уже не возвращалась в отцовский дом, но в день «каехц-
гаенагн» ее родичи (отец, братья) присылали через «хуындзаэуттае»
(группу молодых людей и женщин) для данного праздника жертвенного
(обрядового) барана и приданое для ребенка.
В. Сокольский, выступивший первым в России с исследованиями по
материнскому праву в отношении кавказских горцев, в том числе
осетин, отмечал, что «родичи по матери пользуются родовыми правами и
отправляют родовые обязанности рядом с родичами по отцу, хотя и не
всегда в равной с ними степени»1.
Развивая свою мысль дальше, В. Сокольский пишет: «И в
настоящее время утробное родство у горских племен не утратило своего
значения. Дети, считаясь по преимуществу принадлежащими к роду своего
отца, не утратили, однако, родовых прав в роде своей матери». Это
В. Сокольский объясняет тем, что «были налиио слишком сильные
мотивы для сохранения связи с материнским родом», ибо, «чем более
обширное родство имел человек, тем обеспеченнее была его жизнь и его
имущество, так как при отсутствии государственной власти гарантией
прав являлась исключительно защита со стороны родичей»2.
Итак, «цаегат» (родительский дом, родичи) для замужней женщины
и ее детей оставался навсегда, на все случаи жизни надежным тылом.
Она возвращалась сюда, чтобы родить здесь первого ребенка, которого
ее родительский дом и остальные родственники обеспечивали на первое
время всем необходимым и устраивали в честь его рождения
ритуальный праздник и как будущего воина обеспечивали конем. Ребенок,
возвращаясь от «цаегат» матери, получал «авдэен» и, следовательно, в
доме отца рос и набирлся сил в материнско-родовой
колыбели. Заболев, за него «заступались» божества — покровители рода
матери. Последняя шла к отцу и братьям, привозила от них
необходимые продукты и устраивала на средства «цаегат» (родичей) и от их
имени ритуальное жертвоприношение родовым (своего рода) божествам
в надежде, что они защитят ребенка и избавят его от болезни.
Замужняя женщина никогда не порывала с родным (отцовского
рода) культом, с покровителями-духами отцовского рода. Сообщения,
имеющиеся в дореволюционной этнографической литературе о том, что
девушка, выходя замуж и, дотронувшись рукой очажной цепи в момент
отправления в дом жениха, якобы, порывала с отцовским очагом и его
культом с тем, чтобы, придя в новую семью, приобщиться к фамильно-
©
1 В. Сокольский. Архаические формы семейной организации у кавказских
горцев. ЖМНП, 1881, № 11, стр. 45.
2 В. Сокольский. Указ. соч., стр. 47.
422
зму культу мужа, не соответствует действительности. В первом случае
она прощалась, но не порывала с семейно-родовым культом отца, а во
втором случае в день «чындзаехсаев», с помощью обрядового действия,
входила под покровительство божества рода мужа. Замужняя женщина
в дни праздников, посвященных родовым и даже сельскообщинным
божествам своего «цаегает», устраивала от своего имени
жертвоприношения и испрашивала у них благодарения для детей и родичей
своих.
Род матери и его святые-покровители (материнско-родовой культ)
лродолжали покровительствовать как ей самой, так и ее детям (в том
числе взрослым) и на том свете. По верованию древних осетин, на
страже их душ в загробном мире стояли не только духи отцовского,
но и материнского рода. У Н. Ф. Дубровина в числе поминальных
обрядов по умершему названо т. н. «мадаелы хист»1,— «материнские
поминки». Действительно, в старину такие поминки справлялись матерью
по умершему сыну. Уже само название говорит о матриархальной
основе этих обрядовых поминок. Поминки эти устраивали в первый или
на второй день после похорон, вечером. В основе устройства поминок
«мадаелы хист» лежало стремление обеспечить покойнику
покровительство Барастыра — владыки загробного царства. Инициатором этого
обряда выступала мать умершего, ее род. И здесь, как видим,
продолжение древней матриархальной традиции. В последующем, с усилением
латриархальных обычно-правовых норм семьи, форма указанных
поминок изменилась, но сохранилось их название — «мадаелы хист». Под
этим названием данные поминки справляла уже не мать, а семья
умершего, с участием всей патронимии. Удержалось по традиции также
время проведения поминок — ночь. Приглашались на поминки из семей
родственной группы (патронимии), хоронившей умерших в одном
родовом склепе («аемзаеппадзонтае»). Это уже патриархальная традиция,
сложившаяся в ходе развития и укрепления отцовско-родового
строя.
Как мы уже говорили, «цаегат» для замужней женщины был всегда
надежным тылом, прибежищем, основанием, на которое она могла
опереться в любое время, во всех случаях жизни. «Цэегат» ее оберегал
и поддерживал. Если замужняя женщина заболевала, ее перевозили к
себе ее родичи (отец, братья) и здесь за ней ухаживали и лечили.
После излечения она возвращалась к мужу. Умершую женщину также
хоронил ее род. Историческая этнография осетин не знает случаев, чтобы
замужнюю женщину хоронили в родовом склепе мужа.
Тело умершей, как правило, отвозили к родственникам и ее по-
©
1 Н. Ф. Дубровин. Осетины. История войны и владычества русских на Кавказе,
т. I, кн. I, стр. 350.
123
гребали в склепе или на родовом кладбище ее отцовского рода. И
поминки по ней справляли ее родичи. Итак, женщина от рождения до
смерти была связана со своим родом.
Девушка по выходе замуж сохраняла свое родовое имя, которое
она носила до смерти. Например, родичи мужа и все остальное
население в ауле урожденную Доеву называли Дойон, Багаеву — Багиян,
Гусову — Гусиан, Битарову — Битарон и т. д. Этим особенно
подчеркивалась принадлежность замужней женщины к ее прежнему,
отцовскому роду. Если же умирал отец детей и вдова оставалась в доме
мужа и воспитывала их, то детей (если даже они были уже взрослыми)
называли ее именем: «Дойоны цот», «Дойоны фырттаэ», «Гудианы
фырттае» и т. п.
В быту и обрядовых правилах осетин мы находим, кроме того,
много других указаний на связь с матриархатом. Так, все воспитание
сына от колыбели до седла находилось в руках матери (и старшей
женщины). Она первая давала ему понятие о его родовой
принадлежности и обязанностях, о долге перед родом отца, о соблюдении родовых,
традиций и поддержании фамильной чести. Именно мать внушала и
прививала сыну любовь и чувства кровнородственной связи и близости к
своему (материнскому) роду.
Пройдя этот первый, но очень важный этап материнской школы,
юноша вступал в мужской круг патриархальной семьи.
В осетинском фольклоре, да и в реальной действительности мать
являлась наставником сына, вступающего в жизнь. Она, собирая и
отправляя сына на войну и в дальний поход («балц»), наставляла его на
подвиги.
В старину мать получала благодарность за выданную дочь. Семья
жениха ей дарила сверх брачного выкупа («ирэед») кон я—«мады баех».
Подарок этот необычный и необъясним из патриархального быта
осетин-горцев. Горянка и конь! Стало быть этот обычай — отдаривать
мать невесты конем — возник в недрах древнего общества, когда
предки осетин еще не оторвались от матриархата, а обычай стал традицией
и сохранился в этом значении до XIX в. На древность обычая еще
указывает тот факт, что конь мог стать предметом подарка, когда осетин
являлся кочевником и лошадь была основным его богатством. Кстати,
данный обычай — дарить лошадь матери невесты — существовал и у
других кочевых народов — монголов, киргизов, туркмен, сохранивших
также сильные пережитки первобытнообщинного строя. У осетин, как и
у монголов такой конь, подаренный матери невесты, назывался платою
за материнское молоко1.
Мать, отправлявшая дочь замуж, получала не только этот пода-
©
1 П. К- Козлов. По Монголии и Тибету, М., 1956, стр. 57.
124
рок, но и другие свадебные почести за то, что она воспитала ее; песни
и свадебные обряды достаточно об этом говорят. Дочь, по свадебным
песням, ищет у матери такой защиты, какую могла бы найти только у
мужчины. В свадебных песнях упоминается только мать, но не отец
невесты. Можно привести еще много других примеров из быта и
общественно-семейной обрядности осетин, подчеркивающих большую
социальную роль женщины в семье, отведенную ей некогда условиями
матриархата.
Тесная связь детей с родом матери — характерная черта материн-
ско-родового строя. Мы об этом уже говорили, и знаем, как осетинская
действительность дала этому много примеров. Однако следовало бы
остановиться еще на одном примере. Он также характеризует близость
и тесную связь детей с родом матери.
Известно, что по смерти мужа жена нередко возвращалась с
детьми в родительский дом («цаегат»), где им дяди по матери заменяли
отца и их воспитывали как родных сыновей.
Бывало и так, что дети могли в любое время отправиться к
родителям (в род) матери и жить там подолгу — месяцами или годами. Это
было обычным явлением в Осетии.
Не удивительно, что дети порою были больше привязаны к
родственникам матери, чем отца. Этот момент осетинской этнографии
имеет древние корни и связан с институтом авункулат1.
По характеристике Энгельса, авункулат — это «особенно тесная по
-своей природе связь между дядей с материнской стороны и
племянником, ведущая свое происхождение от эпохи материнского права и
встречающаяся у многих народов»2. Тацит3, характеризуя социальные
отношения у древних гермацев, писал: «Сын сестры в такой же чести
у своего дяди, как и у отца, некоторые даже считают этот вид кровной
связи более тесным и священным»4.
Указывая на это место в сочинении Тацита, Энгельс говорил: «Если
-бы мы не обнаружили никаких других следов родового строя у
германцев, то было достаточно одного этого места»5.
Действительно, вряд ли найдется какой-либо другой социальный
институт, генетическая связь которого с материнским родом была бы
столь очевидной и бесспорной.
©
1 М. О. Косвен. Авункулат. «Советская этнография», 1948, № 1.
7 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 152.
3-Публий Корнелий. Тацит — один из крупнейших римских историков, живший
приблизительно от 55 до 117 г. н. э.
4 Тацит. Германия. Гл. XX. В кн.: Древние германцы. Сб. документов. Соцэкгиз,
1937, стр. 67.
5 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 152.
125
. У осетин связь между братом матери и ее детьми была не менее
тесной и священной, чем та, о которой писали Тацит и Энгельс, и она
сохранилась в Осетии в довольно активной форме, вплоть до начала
XX в.
Из огромного числа членов родового коллектива и свойственников
никто в индивидуальном порядке так не пользовался привилегиями
и вниманием, как племянники в роде матери, в семье ее братьев.
Приход племянника («хаераефырт») в семью дяди по матери «мады 'рвад» —
(брат матери) встречался последним подчеркнуто внимательно, можно
сказать, торжественно. Обобщая осетинский этнографический материал,
К. Д. Кул о в пишет: «Когда «хаераефырт» является к своим «мадырвадаел-
тае» (материнский род — родичи матери), то они, сажая его за стол,
отводят ему самое почетное место. При этом говорят, что «хаераефырт
хъуамае уаелейы бада» (т. е. племянник должен сидеть на почетном
месте), где обыкновенно сидят старики»1.
Старый педагог и общественный деятель, ныне персональная
пенсионерка Е. Е. Баракова, урожденная Калоева, рассказывала нам
следующий случай. В 1919 году в селении Мизур в семье Мзокова Алихана
собрались племянницы от трех сестер братьев Мзоковых, находившихся
замужем в семьях Калоевых, Бутаевых и Цогоевых, и жили в ней
подряд несколько месяцев. Племянницы в доме Мзоковых проживали на
положении почетных гостей. При этом особые почести и внимание
оказывались 18-летней Калоевой (Бараковой), как «старшей» племяннице
(т. е. она происходила от дочери старшего брата Мзоковых — Евста-
фия — Естъа). Когда она входила в хадзар, то женщины Мзоковых,
несмотря на свой почтенный возраст, немедленно вставали, выказывая
ей этим свою почтительность. Кроме того, ей хозяйка дома (жена главы
семьи) вручила ключи от кладовой («къаебиц»), которые должны
находиться только у старшей женщины в семье, разрешив ей
распоряжаться запасами пищи.
Чтобы понять только что приведенные факты, следует подчеркнуть,,
что в переходную от матриархата к патриархату эпоху, являющуюся
длительным историческим периодом, создаются особые специфические:
факты и отношения, имеющие переходный, поэтому двойственный
специфический характер. Лучшей иллюстрацией к этому является,
конечно, авункулат, который, как мы уже сказали, бытовал в очень яркой
форме у осетин.
Этот сложный исторический процесс в различных формах и
вариациях прослеживается в осетинском этнографическом материале, в
частности, в рассмотренных нами явлениях. «Авункулат, — говорит М. О.
Косвен,— сыграл на определенном этапе истории общественного разви-
©
1 К. Д. К у л о в. Матриархат в Осетии, стр. 66. : < '••
126
тия большую и влиятельную роль, явившись одной из весьма
действенных форм, в которых матриархат, так сказать, боролся за свое
существование и стойко сопротивлялся нарастающим патриархальным
началам, в которых материнский род эффективно поддерживал свою хотя
бы относительную сохранность. Этим его значением, длительностью и
упорством этой борьбы объясняется стойкое сохранение авупкулата в
эпоху патриархата и даже позднее в виде разнообразных, естественно
все убывающих, редуцирующихся пережитков»1.
В свете этих указаний легко объяснить высокое место, отводимое
племяннику у осетин в его отношениях с родичами матери — «мады
'рвадаелтае»2.
Об этом можно судить по целому ряду поговорок и характеристик,
существоваших по данному поводу у осетин. В одной из них
говорилось: «хаераефырт хаедзараей у» («племянник — член семьи»),— имелась в
виду семья брата матери3. Аналогичны другие поговорки: «Хаеравфырт
барджын у» («племянник имеет много прав»), «дуаерттэе бакаенут —
хаераэфырт азрбацаеуы» («племянник идет—открывайте двери»L и т. д.
Приведенные поговорки являются отражением того фактического
положения, которое занимал племянник в матриархальную эпоху в
семье, возглавляемой братом матери.
В них содержатся также упоминания о тех порядках, когда
племянник имел значительные права, в том числе имущественные, в семье
дяди и являлся полноправным членом его рода. В патриархальную
эпоху это вылилось в обязанность дяди по матери одаривать племянников
в определенные периоды их жизни и когда они приезжали к нему в
гости. В частности, обычное право строго обязывало брата матери дарить
ее сыну — племяннику «хаераефырты баех» (конь племянникаM.
Если он добровольно не давал племяннику коня, то он по обычаю
мог отнять его у дяди или «получить его путем обмана или
похищения»6.
Если в хозяйстве дяди не было лошади (тем более верховой),
племянник мог увести скот или взять, не спрашивая его, какую-нибудь
ценную вещь (оружие или что-нибудь другое). Обычно-правовые нормы,
признавая право племянника на долю имущества материнского дяди,
О
1 М. О. Косвен. Авункулат, стр. 37.
2 «Мады рвадзвлтсв» (осет.) — весь родственный коллектив, составляющий род матери;
сюда же входила ее отцовская семья.
3 К. Д. Кул о в. Матриархат в Осетии, стр. 66.
4 В. К. Т о т р о в. Пережитки авункулата у осетин в прошлом. Известия
Юго-Осетинского научно-исследовательского института, вып. XV, Цхинвали, 1969, стр. 28.
5 К. Д. Кул о в. Матриархат в Осетии, стр. 66.
6 Т а м ж е.
127
не осуждали такой поступок племянника: «в случае увода скота или
уноса ценностей племянником, без согласия дяди, последний не
оказывал никакого непосредственного сопротивления своему племяннику; а
действия его считались вполне законными и никем не осуждались»1.
Аналогичные традиции имелись у всех тех народов, в общественном
строе которых был отмечен авункулат. Так, у ингушей и чеченцев «дядя
обязан одарить племянника конем; если же дядя будет отговариваться
и медлить с подарком, то племяннику дозволяется украсть у дяди
коня»2.
По свидетельству Н. Грабовского, у ингушей «дядя обязан
племяннику своему — сыну сестры, достигшему шестнадцати или
семнадцатилетнего возраста, сделать барч, т. е. почетную плату, состоящую
в порядке хорошей лошади. Подарок этот обязателен до такой степени,
что взрослый и нетерпеливый племянник, долго не получающий
подарка, может отнять у своего дяди означенный барч силой, обманом и
воровством»3. Небезынтересно знать, как комментирует этот обычай
М. Ковалевский: «Барч» — так называется этот вынужденный
подарок— берется часто силой племянником, который потерял терпение
вследствие проволочек дяди, откладывающего исполнение того, что
обычай считает его долгом»4. У алтайских народов по поводу данного
обычая существуют следующие поговорки: «Если волк придет, от волка
скот уберечь можно, если племянник придет,— от него скота не
убережешь, все равно отдать придется»; «Если семь волков придут, то
хоть шкура коня останется; если племянник будет приходить — семь
коней уведет»5.
У киргизов: «Лучше пусть придут семь волков, чем племянник»6.
У тех же киргизов «племянники ездят к дяде столько раз, сколько
хотят, и каждый раз берут какой-нибудь подарок. Дядя не имеет права
отказать им до тех пор, пока имеет какое-либо имущество».
Дядя в судьбе племянников — детей сестры — принимал непосред-
©
1 В. К. Т о т р о в. Пережитки авункулата у осетин в прошлом, стр. 128.
2 Н. К* X а р у з и н. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей. Сборник
материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее, вып.
II, 1888, стр. 122.
3 Н. Грабовский. Ингуши (их жизнь и обычаи). Сборник сведений о кавказских
горцах, вып. IX, 1876, стр. 102. Об этом же: В. Сокольский. Архаические
формы семейной организации у кавказских горцев, стр. 43.
4 М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, М.,
1939, стр. 33.
5 Н. П. Д ы р е н к о в а. Пережитки материнского рода у алтайских тюрков. «Советская
этнография», 1937, № 4, стр. 23.
6 Народы Средней Азии и Казахстана, т. 2, М., 1963.
128
ственыое участие. Все важные события в жизни племянников не могли
пройти мимо него. Он заботился об их устройстве в жизни и их
благополучии. Одним словом, дядя по матери наравне с отцом (а в
некоторых случаях даже ближе) стоял на страже интересов своих
племянников. Он являлся признанным и самым лучшим опекуном
племянников-сирот. Он принимал ближайшее участие в выборе невесты для
племянника, а когда и ближайших родичей жениха уже не было в живых,
то дядя по матери брал на себя значительные расходы по свадьбе,
а в необходимых случаях (из-за имущественной несостоятельности
племянника) платил часть выкупа («ирзд») за невесту, если же имел
возможность, то и полную стоимость «иржда». При выдаче замуж его
племянниц — дочерей сестры — отец этих девиц и старшие рода всегда
спрашивали согласия их материнского дяди. Обойти в этом вопросе
родичей матери («мады 'рвадаелтае») означало нанести им кровную
обиду. Это означало бы также идти наперекор общественному мнению, на
что не решился бы никогда осетин.
Выдавая замуж племянниц, дочерей сестры, дядя мог
рассчитывать на часть выкупа за них. Это право было закреплено за ним
обычно-правовыми нормами в виде значительных подарков, преподносимых
ему женихом. «Из всех делаемых женихом приношений,— говорит
М. Ковалевский,— одно заслуживает особенного внимания, это так
называемый мады'рвады бавх или «мады'рвады гал», т. е. конь или
вол, даримый женихом ближайшему родственнику невестиной матери,
обыкновенно ее брату»1.
При матриархате брат матери является не только кормильцем и
воспитателем ее детей, но и их защитником. Обычное право
патриархального общества древний матриархальный порядок не только
отразило, но и сохранило его без особых изменений. На это в свое время
указывал и М. Ковалевский, говоря, что у горцев «брат матери
заступает место отца во всех тех случаях, когда дело идет о мести за
пролитую кровь. Он получает и самую значительную часть выкупа, или вер-
гельда»2.
«По широко распространенному порядку, там, где месть
сохраняется,— пишет М. О. Косвен,— дядя нередко мстит за своих
племянников и племянниц»3. И у осетин он был их заступником. Племянники в
свою очередь мстят за убийство дяди по матери. Обычай этот отмечен
у большинства народов, описанных наукой, особенно у осетин. Сын
сестры («хаераефырт») был самым непримиримым мстителем («тугисаег»)
©
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 244—245..
2 М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности,
стр. 33.
3 М. О. Косвен. Авункулат, стр. 30.
9 А. X. Магометов 129
за убитого дядю. В осетинских народных героических песнях,
посвященных убитым в неравном бою горцам, имеется такой традиционный
припев: «Гъей-джиди, мае хаераефырттаен мын чи фехъусын каендзаеп, мае
туг мын чи райсдзген!» (Эй, кто сообщит племянникам о гибели моей,
кто отомстит за кровь мою!) Песня передает и слова убитого
племянника: «Мае мады 'рвадаелтаем мын чи бадзурдзаен!» (Кто же сообщит о
моей смерти родичам матери!).
Подчеркивая всеобщий характер кровной мести, в которую
вступают друг за друга дядя и племянники, М. О. Косвен указывает, что это
вызывает ответное действие с другой стороны. «Дяди и племянники,—
говорит он,— включаются в тот фиксируемый обычным правом круг
ближайших родственников преступника, на который распространяется
месть; наконец, как дядя, так и племянники получают уголовную
композицию целиком, либо в части»1.
М. Ковалевский, разбирая данный обычай на кавказском
этнографическом материале, писал, что у хевсур «еще недавно дядя по матери
разрушал дом убийцы своего племянника и имел право на выкуп
такой же, какой получали все родственники убитого со стороны отца.
Ему принадлежало, по обычаю, последнее слово в деле примирения с
обидчиком, угрожающим жизни сына его сестры»2. При решении
вопроса о примирении кровников у осетин родичи матери («мады 'рвадаелтае»)
принимали непосредственное участие и оказывали свое влияние на ход
переговоров.
О
1 М. О. Косвен. Авункулат, стр. 30.
2 М. К о в а л е в с к и й. Очерк происхождения и развития семьи и собственности,,
стр. 35. ......
РОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
указывали, что общественный строй осетин еще
во второй половине XIX в. значительным
числом историков рассматривался как родовой. К
сожалению в советское время эти ошибочные
взгляды разделялись отдельными историками.
Последние, опираясь на родовые традиции,
оставшиеся у осетин в пережиточном состоянии, и
довольно хорошо сохранившуюся организацию*
родственных объединений, выступали с
утверждением о наличии вплоть до Октябрьской
революции рода со всеми его признаками. Так, Р. Г.
Саренц в своей работе «Первобытный общинный строй и его характер
на Северном Кавказе» утверждает, что до присоединения Северного
Кавказа к России населяющие его племена, в том числе осетины,
«находились одни на ступени первобытных общинных отношений, другие
переживали рабовладельческий строй (?!), а у некоторых только что
обнаружились ростки феодально-капиталистических, производственных
отношений»1. И далее: «быт и формы производства этих племен можно
отнести к первобытному общинному строю»2. Под влиянием
подобных взглядов находился и целый ряд авторов, выступавших в-
©
1 Р. Г. Саренц. Первобытный общинный строй и его характер на Северном
Кавказе. Сборник научных трудов Пятигорского государственного педагогического
института, вып. IV, Пятигорск, 1949, стр. 309.
2 Р. Г. Саренц. Указ. соч., стр. 311.
131
специальных работах или популярных очерках о дореволюционном
прошлом Осетии.
Нет надобности доказывать, что отцовского рода типа греческого,
римского или германского, описанные Г. Л. Морганом и Ф. Энгельсом,
у осетин к XVIII веку уже не сохранилось. Историческое развитие, а
также бурные и тревожные события, сопровождавшие жизнь осетин на
протяжении веков, разрушили основу первоначального рода. Он эволю-
ционизировал и изменился структурно, утерял свои начальные истоки,
оборвалась его генеалогическая нить. Однако, сохранив многие
элементы старинных родовых отношений, он продолжал существовать,—
только в другом качестве. Поводом же к признанию рода у осетин в
недалеком прошлом для отдельных авторов послужили некоторые архаические
формы, сохранившиеся в общественной жизни осетин вплоть до
революции. Это — семейная община, патронимия, патронические поселения,
некоторые традиции родового строя — родовая солидарность,
коллективизм и взаимопомощь — черты, свойственные также сельской,
территориальной общине. ,
Мы знаем, что основной чертой родовой общины является реальный
союз кровных родственников (в данном случае по отцозской линии) и
общность экономической базы. Но ничего этого не было у осетин уже
к середине XVIII в. Анализ источников, относящихся к этому времени,
свидетельствует о том, что в осетинском обществе произошла глубокая
имущественная и социальная дифференциация. Нередко древнее
родовое имя (например, «Царазонтае» или «Сидамонтае») покрывало собою
обширный круг разнородных групп как по происхождению, так и по
социальному составу. Ярким примером для подтверждения нашей
мысли могут служить и так называемые «родовые» аулы. Они
действительно были населены семьями (большими и малыми), носящими одно
фамильное (родовое) наименование. При этом характерно, что каждый
из населяющих такой аул дворов (семей) составлял самостоятельную
хозяйственную единицу.(Каждая семья имела свою пашню, домашний
скот, жилые и хозяйственные постройки, двор. Итак, такой аул,
населенный однофамильцами, представлял собой типичную сельскую общи-
ну,/которой были свойственны не только черты коллективизма и
общинной солидарности, но и имущественное неравенство и типичный
антагонизм развивающегося классового общества. Вот почему мы не можем
говорить о классическом роде (типа «гене») у осетин з доступное для
освещения источниками время.
Речь может идти о некоторых особенностях социальной
организации, связанных с институтом родственных коллективов у осетин. На
основе изучения кавказского, в том числе осетинского, материала М. О.
Косвен указывал, что «родовые связи, традиции, нормы родового обыч-*
ного права, вообще разнообразные проявления родового быта, вытекая
из соответствующего уровня развития производительных сил, стойко, в
различных формах и выражениях, сохранялись в быту многих кавказ-
132
ских народов веками, существовали до самого недавнего времени, а в
виде некоторых пережитков дают себя знать и сейчас»1.
Говоря о проявлениях, родового быта, Косвен, прежде всего, имел
в виду широко известные на Кавказе родственные объединения.
Социальные связи, сложившиеся в рамках кровно-родственных объединений,
играли до позднейшего времени большую роль в общественных
отношениях и быте осетин. Но это не сугубо осетинская специфика, а широко
распространенное явление у народов мира. Родственные объединения в
довольно яркой форме сохранились кроме Кавказа, у народов Средней
Азии, у южных славян, китайцев и др.
Данной проблемой у осетин, в связи с изучением родового строя
в Юго-Осетии, занимались М. О. Косвен2, 3. Н. Ванеев3 и 3. Д. Гаг-
лоева4.
Следует заметить, что структура родственных объединений у
южных и северных осетин представлена одинаковыми формами. Поэтому
исследования названных ученых по южным осетинам представляют
несомненный интерес и для изучения общественной структуры северных
осетин. Северные и южные осетины, разделенные только территориально,
создали единую культуру, общие для них общественную структуру и
формы.
Отношения людей в осетинском обществе выступали з самой
различной форме, но особое место занимали отношения, основанные па
признании своего происхождения от общего предка и родства в более
широких рамках, чем семья. Это — отношения внутри родственных
объединений и групп: патронимии («иу артаей байуарпе»), рода — фамилии
(«мыггаг») и фамильного объединения — «братства» («ээрвадстлтае»).
Будучи социальными образованиями первобытнообщинного строя и
эпохи его распада, они играли довольно активную роль в общественной
жизни осетин на последующих этапах истории.
И даже в условиях капиталистического развития, когда коренным
образом менялись господствовавшие до этого общественные нормы, а
родовые институты подверглись окончательному разрушению, перечис-
©
1 М. О. Косвен. Древнейшая общественная структура народов Кавказа.
Этнография и история Кавказа, М., 1960, стр. 24.
2 М. О. Косвен. Из истории родового строя в Юго-Осетин. Этнография и
история Кавказа, М., 1960.
3 3. Н. Ванеев. Из истории родового быта в Юго-Осетии. Тбилиси, 1955; его же:
Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин. Известия ОСЫИПК, вып.
II, 1926."
4 3. Д. Гаглоева. Осетинский «'рвадаелтае» (к структуре родственных объединении
у осетин). VII Международный Конгресс антропологических и этнографических паук,
М., 1964; ее же: Осетинские фамилии в Юго-Осетии. Изв. ЮОНИИ, в. XI.
ленные выше родственные объединения удержали свою форму.
Отношения, основанные на этих понятиях, выступали активно в реальной
действительности. В сельской общине, например, где господствующими
были территориально-соседские отношения, в известных случаях верх
брали кровно-родственные отношения.
«Мыггаг» (фамилия)
Данный социальный институт представляет интерес прежде всего
потому, что он занял место архаического рода у осетин и ознакомление
с ним дает в наше распоряжение материал, необходимый для. изучения
истории родового строя у осетин. Один тот факт, что «семья» —
«бинонта?» более новое образование по сравнению с «мыггаг», или,
иными словами, в языковом мышлении осетин «осознание рода
древнее, чем осознание семьи»1, говорит о необходимости подробного
исследования данного вопроса.
Для обозначения рода у осетин принято употреблять слово
«мыггаг». «Мыггаг» унаследовал существенные черты древнего рода — эк-
зоггамию, родовую солидарность (взаимопомощь и защиту сородичей),
общий родовой культ, общее место погребения и в известных случаях —
хозяйственное единство. Однако это не первобытный род, о чем мы уже
говорили. Данный институт широко известен и другимЛкавказским
народам и получил название в русской исторической и этнографической
литературе «фамилия».
Основателем рода являлся его первопредок, именем которого, как
правило, обозначался и род. Искать генетическую основу и корни
осетинских фамилий — «мыггаг» не только невозможно, но и бессмысленно,
а методологически вообще ошибочно.
Мы уже говорили о том, что средневековая Алания
(предшественница Осетии) достигла уровня государственного образования. В нем
племенные объединения и многочисленные роды составляли ту силу,
которая долгие столетия, от начала до конца, могла упорно
сопротивляться и противостоять натиску монгольских орд. В истории широко
известна многочисленность аланского населения, расселившегося на
огромной территории. Оно, разумеется, разбивалось на многочисленные
роды. Но, надо полагать, эти роды составлялись в очень сложных
условиях, б эпоху бурных событий первых веков нашей эры, в центре
которых все время находились аланы, в период постоянных столкновений с
соседними племенами, когда происходил активный процесс смешения
О
1 В. И. А б а е в. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 261.
134
сармато-аланского элемента с аборигенным населением Северного
Кавказа.
Кроме того, в ходе татаро-монгольских нашествий,
продолжительной истребительной войны против алан погибли целые аланские роды.
Известно, что аланское войско составлялось по родовому принципу
(как это было у всех народов на том этапе социального и
политического развития, на котором находились в то время аланы) и вместе с
гибелью войска погибали и роды.1
Не оказалось стабильным этническое развитие алан-осетин и в пос-
лемонгольский период. В это время происходил активный взаимообмен
между аланским и половецким этносами. Следствием этого, как мы
уже знаем, явилось образование нового этнического элемента в При-
эльбрусье — карачаево-балкарской народности. Этот процесс,
естественно, поглотил также множество древних родов Алании.
Кроме того, постепенно возросшее в горных ущельях население не
могло прокормиться. И тогда-то и началось, видимо, «великое волнение
б стране Овсетии и было великое кровопролитие между их государями»
(племенными вождями). В этой межродовой и межплеменной кровавой
схватке погибли или навсегда погасли многие роды. Эпидемии чумы
также опустошили целые поселения осетин с проживавшими в них
родами. Поэтому искать истоки и первопредков многочисленных родов
(«мыггаг») по материалам средневековых легенд, а тем более выводить
их от одного предка (Оси-Багатара) или нескольких братьев (Агузон,
Царазон, Сидамон, Кусагон и ЦахилонJ было бы, конечно, грубой
ошибкой — или, по крайней мере, пустой затеей.
Осетинский исторический и этнографический материал показывает,
что предания о своем происхождении сохранили те роды, которые в
последующее время причисляли себя к привилегированному сословию
(Царазоновы, Сидамоновы, Цахилоновы — Алагирское ущелье, Тага —•
Тагаурское ущелье, Курта — Куртатинское ущелье, Астан, Бадели —
Дигорское ущелье). Отсюда же пошли «алдарские», «уазданлагские»
фамилии. Данный факт имеет свои аналогии у других кавказских
горцев. Поднявшиеся в процессе социально-экономического развития, в том
числе межсословной и межродовой борьбы, многие роды ищут знатных
предков и находят их в лице перечисленных имен. В поисках знатных
предков участвовал, прежде всего, рвущийся к классовому
(феодальному) господству выделившийся в имущественном отношении слой
населения. Масса же родов, проводившая тревожную жизнь, теряет своих
предков и не сохраняет в памяти их имена. К тому же имена Царазо-
©
1 Известно, что при патриархально-родовом строе род прекращает свое
существование с прекращением, гибелью его мужского населения.
2 3. Н. Ванеев. Народное предание о происхождении осетин. Цхипвали, 1956.
135
новых, Сидамоновых, Цахилоновых, Бадели, Хетага и.др. возникли не
ранее средневековья, когда уже был завершен распад родового строя.
Как видим, мы никакого основания не имеем утверждать, что роды
(«мыггаегтаэ»), фамилии, известные уже в XVIII — XIX вв., произошли от
какого-то локального варианта (например, из Алагирского ущелья).
Картина образования осетинских патриархальных родов и их
расселения нам представляется значительно проще. Мы уже говорили, что
многочисленные массы алано-осетинского населения монголами были
оттеснены в предгорья и горные ущелья. Одновременно здесь оказались
группы самых различных родов, которые тут или смешались или
распались на еще более многочисленные роды.
Локальный источник как первооснова образования осетинских
родов не может быть признан еще и потому, что ущелья Центрального
Кавказа (историческая Осетия) были населены одинаково густо в
монгольскую и послемонгольскую эпохи.
Об этом свидетельствуют памятники материальной культуры, а
также традиции и племенные особенности, характерные для представителен
каждого из этих ущелий. Итак, наряду с Алагирским другие осетинские
ущелья могли не только принимать, но и давать также своих
иммигрантов.
Несмотря на природные барьеры, осетинские общества не
представляли собой изолированных друг от друга территориальных объединений.
Между ними происходили общение, постоянный обмен населением.
Осетинский народ выработал такие обычно-правовые нормы, которые
способствовали такому межплеменному и межродовому обмену. В этих
именно условиях сложились осетинские роды — «мыггзегтае», известные
уже в XVIII—XIX вв.
Знакомство с осетинскими фамилиями позволяет утверждать, что
их происхождение сравнительно позднее — XVII—XVIII вв. Во всяком
случае генеалогическое древо их простирается не глубже второй
половины XVI в. Это легко проверить на основе хорошо сохранившихся у
осетин фамильных «историй» (преданий).
Все осетинские роды имеют одну общую для них закономерность
возникновения и эволюции. Это то, что каждый из них своим
основателем, первопредком считает реальное лицо (но нередко оно мифическое),
имя которого он присваивает в качестве фамильного наименования.
Этот порядок является общеисторическим явлением, на что в свое
время указывал основоположник истории первобытного общества Лыоис
Генри Морган. Он писал: «Наши фамилии представляют собой
пережиток родового имени, при счете происхождения по мужской линии, и
таким же порядком передаются»1. И далее: «Функцией родового имени
О
1 Л. Г. Морга н. Древнее общество, Л., 1934, стр. 39.
136
было сохранить память об общем происхождении всех тех, кто носил*
это имя»1.
Так, фамильное наименование Хетагуровых («Хетаеггатае»)
образовалось от имени Хетага, которого они считают своим родоначальником.
Эту закономерность подметил в свое время В. Пфаф. «От имеш-г
родоначальника,— писал он,— и род получает свое название. Это имя
есть вместе с тем и фамилия. Так как у осетин имя рода заменяет
фамилию, то этим и объясняется, почему родичи, носящие одну и ту же
фамилию, часто считают и называют себя еще родственниками, несмотря
на то, что это родство такое дальнее, что сами уже не помнят
действительных родственных между собой отношений, тем более, что они ые-
умеют вести счет родства по линиям и степеням»2.
Аналогичный процесс образования родственной группы, подобной
осетинской фамилии, отмечен и у кабардинцев. У последних данный
институт изучен известным советским этнографом А. И. Першицем,
который дал и полную его характеристику. «Наиболее широкой
структурной ячейкой распавшегося кабардинского рода з XIX в.,— писал Пер-
шиц,— являлся лъэпкъ — круг отцовских родственников —
однофамильцев (унакъуэш), или, как он чаще всего именуется в кавказоведческой
литературе, фамилия»3.
А. Й. Першиц сообщает, что лъэпкъ играл значительную роль в
общественной жизни кабардинцев еще в дореволюционное время. Члены
данной группы были объединены рядом хозяйственных, общественных и
идеологических связей4. Эти черты целиком можно перенести и на
осетинский «мыггаг». Как и в кабардинском лъэпкъе, осетинский «мыг-
гаг» унаследовал некоторые, весьма существенные черты
архаического рода.
Как известно, в патриархальную эпоху земельный фонд почти весь
находился во владении отдельных семей, составлявших отцовский
род, однако, в общем пользовании оставались такие участки, которые
при разделе семей не могли быть поделены между ними. Такие участки
зафиксировала в начале нашего века Абрамовская землеустроительная
комиссия во всех ущельях Северной Осетии. Особенно это имело место
у куртатинцез и тагаурцев. Имелись общие земельные участки
сенокосов и у отдельных родов в Наро-Мамисонской котловине.
Ежегодно до начала косовицы такой участок перераспределялся
по отдельным семьям фамилии, каждая из которых затем скашивала
© .. .
1 Л. Г. Морган. Древнее общество, Л., 1934, стр. 136.
? В. Пфаф. Народное право осетин. Сборник сведений о Кавказе, т. I, стр. 193.
3 А. И. Перши ц. Фамилия — лъэпкъ у кабардинцев в XIX веке. Советская
этнография», 1951, № 1, стр. 177.
4Таы же.
137
свою долю участка. Однако общее владение основными участками не
определяло экономической общности рода.
Экономическое единство входящих в фамилию («мыггаг») семей
проявлялось прежде всего во взаимопомощи. Однофамильцы оказывали
материальную помощь пострадавшей семье, помогали друг другу в
хозяйственных работах (при пахоте, уборке урожая и сенокошении),
в возведении и ремонте жилища. Родственная группа приходила на
помощь сородичу (однофамильцу) в случае нужды, тяжкой болезни или
смерти кого-либо из членов его семьи.
Фамилия («мыггаг») также брала на свое попечение старого,
бездетного старика. В случае смерти последнего она несла расходы на
его погребение и поминки. Однофамильцы принимали активное участие
(с материальными расходами) и во время свадьбы своего сородича,
а нередко и в уплате калыма за невесту.
Фамильный коллектив, кроме того, участвовал в выплате
компенсации за убийство, совершенное кем-либо из его членов.
Родовое единство «мыггаг» проявилось и в праве
предпочтительной покупки и наследовании выморочного имущества сородичей. Если,
например, какая-либо из семей данной фамилии почему-либо продавала
свой земельный участок, то она должна была вначале предложить
его родственникам из «мыггаг». Когда из них никто не выражал
желания приобрести участок, то только после этого владелец мог продать
его в сторонние руки.
К концу XVIII—началу XIX в. в горах Осетии еще сохранялось
множество башен («мэесгуытае») и крепостей («галуантэе, гэеиахтэе»).
Большинство из них были известны, как родовые (фамильные) башни.
На них имели право все семьи в фамилии и были известны под своими
фамильными названиями. Таковы, например, башни и галуаны: Кануко-
вых, Дегоевых, Байматовых, Джибиловых и Мамсуровых в Даргавсе,
Кануковых и Хатаговых в Донифарсе, Кодзасовых — в Стур-Дигоре,
Фаддзаевых в Ханазе, Абисаловых в Махческе. В Цамаде себе башню
настроила фамилия Бицоевых, род Кайтовых имел «гаенах». В Донисаре
до сих пор стоит башня Хестановых. И так по всей нагорной полосе.
Наличие башни было таким важным атрибутом рода («мыггаг»),
что другой род, вступая с ним в сношения, нередко исходил из того,
имеет ли данный род свою башню или нет. Башня являлась не только
признаком имущественного состояния, но и свидетельством
боеспособности родственной группы. Во время распрей и межродовых войн «мж-
сыг» надежно укрывал за своими стенами всю родственную группу от
нападающего врага. Наличие башни .у рода также подчеркивало его вес
в обществе. Так, например, когда сватали девушку, то родичи
последней обычно интересовались, имеет ли род >кениха башню.
Служа символом правоспособности рода («мыггаг»), башня со
временем, с дифференциацией общества, превратилась-в социальный знак,
стала определять социальное положение родов, подчеркивать цринад-
138
нежность «сильных» родов к более высокой социальной категории
общества. Не случайно, что башни согласно трансформированному в
феодальном обществе обычному праву могли строить только
определенные, «благородные» роды. А те из них, кто по происхождению не
считались таковыми или находились до этого в зависимости от
«благородных», «тыхджын мыггаг», хотя и набирались сил —выросли
численно и поднялись имущественно, не могли все равно строить башню. Если
и удавалось им сделать это, то все равно «благородные» фамилии,
объединившись, разрушали ее1.
Родовая башня, где обитали предки, с расселением рода по разным
<:елам нередко превращалась в культовое место — родовое святилище,
«дзуар», где фамилия справляла затем свои праздники.
В важных вопросах, затрагивающих интересы фамилии (конфликт
с другим родом, поддержание фамильного престижа, дела о кровной
мести, примирение двух поссорившихся семей из фамилии, дележ
военной добычи или дани и др.) представители фамилии (главы входящих
в нее семей) собирались на общеродовой (фамильный) совет.
В качестве своего старейшины «мыггаг» выделял наиболее
авторитетного и старшего своего сородича, который, как правило, управлял
и фамильным собранием. Его приглашали на все торжества,
устраиваемые семьями всей родственной группы. Он же выполнял жреческие
обязанности в кругу своей фамилии.
Как и в древнем роде, «мыггаг» имел свой религиозный культ —
«дзуар», который отмечался устройством обрядового праздника
(«куывд») и общеродового торжества. Во время сельскообщинных и
племенных культовых праздников каждая фамилия, придя в святилище,
располагалась отдельно от других. При некоторых святилищах (общих
для одного ущелья, или всей Осетии) фамилии («мыггаегтае») имели
.свои цардаки («цардахъ») —помещения (навесы) для ночлега, где они
пребывали на время празднования. В них не могли останавливаться
чужеродцы.
В связи с родовым культом находился и культ предков,
выступавший особенно ярко у осетин. Идеологическая связь фамилии
подчеркивалась и наличием общего места погребения.
Как известно, в нагорной полосе каждая фамилия («мыггаг»)
имела свой погребальный, склеп — «заеппадз», а там, где их не строили
по условиям местности, или вообще перестали строить, имелись
отдельные родовые кладбища. Например, в одном из древних поселений Ди-
горского ущелья — в Махческе отдельные кладбища имели Дзагоевы,
Икаевы, Гецаезы, Никкоевы, Секинаевы и др. Заеппадзы в селении
О
1 Г. К о к и е в. Боевые башни и заградительные стены горной Осетии. Изв. ЮОНИИ,
т. II, 1935, стр. 230.
139
Даргавс, как известно, принадлежали также отдельным фамилиям. И
так в каждом селении.
Осетинский просветитель и философ Афанасий Гассиев в конце
60-х годов XIX в., рассматривая религиозные верования осетин, в связи
с освещением родового культа писал: «У осетин до сих пор в обычае
устраивать семейно-родовые могилы — заэппадз. В некоторых из них
помещены целые роды или фамилии»1.
Одним из основных признаков принадлежности к роду, как мы
знаем, являлось соблюдение обычая экзогамии членами рода.
Нарушение данного обычая, т. е. вступление в брак в родственной среде,
считалось тягчайшим преступлением и оно каралось строжайшим образом.
Без преувеличения можно сказать, что осетины с такой щепетильностью
никакой другой принцип родового начала не соблюдали, как экзогамию.
Достаточно было носить одинаковое фамильное имя, чтобы не могло
быть речи о браке между парнем и девушкой, хотя бы и не было между
ними реального родства. Аналогичную картину мы видим и у других
народов Северного Кавказа.
Хотя в описываемую эпоху в общественной жизни осетин
господствующими стали уже сельскообщинные отношения, родовые традиции,
принадлежность к роду играли немаловажную роль. На родовом
собрании (ныхасе) однофамильцы, как правило, выступали солидарно.
Достаточно было обидеть кого-то, чтобы фамилия тут же встала на защиту
своего члена. Сознание принадлежности к одной фамилии нередко
ставило на ложный путь общинника, поступавшего общими интересами б
угоду интересам богатого сородича-однофамильца.
Вернемся, однако, к структуре и форма^м образования осетинских
фамилий. Известно, что фамильное прозвание «мыггаг» получается
путем прибавления к имени его родоначальника патронимической приставки
«тае» — «Абай-та5», Хъодза-тае», «Гаглой-та?», «Голиа-тгэ» и т. д. В
древнее время, в матриархальную эпоху фамильными окончаниями служили
приставки «он», «ан»: «Дой-он», «Битар-он», «Цаел-он», «Бззтаег-оп»у
«Еси-ан», «Баеги-ан». Последнюю форму удержала только женщина:
когда она выходила замуж, то в роде мужа ее называли по девичьей
фамилии — «Гуытъиан»,- «Хъаныхъон».
Определенная группа фамилий имела своим первопредком женщину
или унаследовала фамильные наименования материнских родов. С
такими фактами больше всего мы встречаемся в Дигории. Об этом
говорит и сама форма фамилий: Цорионтае, Гзэтаегонтэе, Гагмагонтае, Хзебао-
лонтае, -/Елбегонтае и др. Женское начало некоторые роды получили
совсем недавно — после крестьянской реформы. Дело в том, что холопы-
1 А.' Г а с с и е в. Осетины, древнейший их культ и позднейший религиозный их инде-
ферентизм. «Терские ведомости», 1868, № 11. ( .
140
зкавдасарды и номылус (наложницы), получив освобождение, были
отпущены без «фамилии». Кавдасарды, например, хотя и были рождены от
•феодалов (баделят или алдаров), не получили их фамильных имен, а
некоторые сами предпочли, «основать» свой род. Такова, например,
история фамилий Хуадоновых и Кертибиевых (из Дигорского ущелья).
Нередко первоначальный род в ходе естественного роста давал
•отпочкования — новые фамильные образования. Это происходило
следующим образом. Первоначальный род, расселяясь по разным селам,
как правило, не мог удержать за всеми своими частями (семьями)
прежнее коренное имя. На новом месте последние приобретали новые
имена. Но кто-то из сыновей родоначальника (обычно старший)
сохранял имя своего отца, другие же сыновья давали имена новым фамилиям.
Однако все эти формы не могли отразить всей картины процесса
образования родов (фамилий). «Имеет место явление, когда под одним
фамильным наименованием объединены группы, между которыми
кровного родства не было»1. Данный факт явился результатом подчинения
слабых родов сильными, растворения первых в среде последних. В
условиях постоянной междуродовой борьбы слабые, не способные к
самозащите, роды часто вынуждены были вступать под покровительство
сильных, знатных родов и, слившись с ними, теряли свое родовое имя,
приобретая фамильные наименования этих более сильных родов.
Нередко междуродовая война, вспыхивающая между враждовавшими родами,
кончалась полным уничтожением одного из этих родов. Случалось, что
бежавшие в другое ущелье кровники на новом месте поселялись под
другой, часто вымышленной фамилией, которая с этого времени
становилась родовым именем их потомков. Так появлялась новая фамилия
вне связи с первопредком (родоначальником) людей, носивших данное
фамильное наименование. \
Одним словом, во многих случаях фамилия («мыггаг») объединяла
группы людей, не связанные в прошлом кровным родством.
Фамилий, с учетом тех, которые уже исчезли, в Северной Осетии
насчитывалось (сохранилось в памяти людей) не менее 350. 3. Д. Гаг-
лоева в Южной Осетии зафиксировала 303. Многие из них имеют севе-
ро-осетинский корень, т. е. переселившись из Северной в Южную
Осетию, сохранили прежнее фамильное имя.
«Мыггаг» в эпоху феодального развития уже имел другие, нежели
в родовом строе, социальные функции. Имея родовую оболочку, он
прикрывал развившиеся феодальные отношения, служа удобной формой их
дальнейшего развития. По выражению К. Маркса, такие родовые союзы
превращались в «политические корпорации». Сильные роды («тыхджын
мыгггегтзэ») охотно принимали клиентов — слабые роды в свои союзы,
© • . .
1 3. Н. Ванеев. Из истории родового быта в Юго-Осетии. Тбилиси, 1955, стр. 53.
141
под свое «покровительство». Принятые ими роды превращались
в'зависимых людей, в социально неравноправную категорию общества. Чем
больше было покровительствуемых родов у «тыхджын мыггаг», тем
могущественнее становились последние. Именно из них в основном
сформировался феодальный класс в Осетии.
«^Ервадаелтаэ»
Более широкой, чем «мыггаг» родственной группой являлось
хорошо известное у осетин «братство» — «аэрвадаелтае». Это социальное
образование также относится к широко распространенному у народов
мира явлению. Такое родственное объединение играло большую роль в
общественной и политической жизни южных славян, древних греков и
римлян, народов Кавказа. Оно хорошо сохранилось у адыгов и осетин.
Осетинские «братства», как и адыгские, «в своей архаической
основе были кровнородственной организацией, фратриями, выросшими
из сегментации одного начального рода, и в них, естественно,
сохранились многие пережитки древних родовых отношений»1.
Каждое такое родственное объединение, известное под этим
названием, образовалось в отдаленном прошлом в результате раздела
семейной общины (а в древнее время — рода) по братьям, имена которых и
послужили первоначалом отдельных, самостоятельных, но сохранивших
родство-«братство» («аерваддзинад») фамилий. Но случалось, что при
распадении первоначального рода (семьи).на отдельные ветви (по
братьям) одна из них получала (сохраняла) имя общего родоначальника.
Например, родоначальник одного из обширных осетинских «братств» —
«аервадаэлтае» Мелика, согласно легенде, оставил потомство («Меликайы
цот») в лице семи сыновей — Таелын, Цомай, Цопан, Хъамаерза, Хъара-
са, Алдахъ, Тихил, по именам которых, за исключением Таелына,
образовались отдельные, самостоятельные роды: «Цомайтае» (Цомаевы),
«Цопанатае» (Цопановы), «Хъамаерзатае» (Камарзаевы), «Хъарасатас»
(Карасаевы), Л^лдахъатае САлдаковы'К «Тихилтае» (Тиуиловы). Род ж^
Талына сохранил имя общего предка «братства» — Мелика, отсюда
возникла фамилия Мелыккатае (Меликовы) и под этим наименованием
в числе указанных родов («мыггаэгтае») входит в одно «братство». Но
в роде Меликовых сохранилось упоминание и о непосредственном их
предке — Талыне, по имени которого еще не так давно иногда называли
Меликовых.
Единство осетинских родов («мыггаегтае») в составе «братств»
поддерживалось сознанием происхождения от общего реального предка.
О
1 В. К. Га р данов. Общественный строй адыгских народов,-М., 1967, стр. 253—254.
142
Отношения между «аервадаелтае» были менее тесными, чем внутри «мыг-
гаг». Но «аервадэелтае» по отношению друг к'другу несли определенные
обязанности: оказывали друг другу материальную помощь в случае
смерти кого-либо из них и других бедствий, участвовали в уплате
различного рода штрафов («цены крови» — «туджы аргъ» и др.)»
принимали участие в похоронных обрядах друг у друга, приглашались друг
к другу в моменты торжественных событий, собирались на общие
родовые праздники. «Куда бы ни переселялись члены, принадлежавшие к
данной родственной группе, каждый из них был, по осетинскому
выражению, «дзуары фадон» («последователь дзуара») и считал своим долгом
в день праздника послать к дзуару представителя своей семьи с
жертвоприношениями»1. «Братства» соблюдали также весьма существенный
родовой принцип, экзогамию. Как отмечал М. Ковалевский, «брачные
запреты распространялись не только на членов одного и того же рода,
но и на членов всех родов, входивших в одно и то же братство»2.
Осетинские «братства», как и подобные им родственные
объединения у адыгов кавказских народов (например, у адыговK, сохранившие
известную родовую сплоченность между составляющими их фамилиями,
выступали как солидарная, коллективная сила против феодалов и их
притеснений. Но успех в такой борьбе «братством», достигался, когда
оно составляло социально однородную группу. В противном случае ни-
о каких солидарных действиях против классового противника не могло
быть и речи. Кроме того, в социально разнородном «братском» союзе
более сильные фамилии брали верх над остальными, вели их за собой.
Как известно, и феодальные роды также входили в «братские» союзы
(тагиатское и баделятское «братства»), и свое «родство», «кровный»
союз, они использовали как единую, солидарную силу против трудовых
масс, для классового угнетения и эксплуатации слабых и зависимых
родов.
В этом отношении широко известно «братство» баделятских
фамилий, образовавшихся, как передает устная традиция, от трех сыновей
Бадели — Абисала, Туйгана и Кубади (отсюда — Абисаловых, Тугапо-
вых и КубатиевыхL.
Почти все осетинские фамилии входили в «братства». Одни из них
состояли из многих фамилий, другие — из двух-трех родов. Как
многочисленные «братства» в Северной Осетии известны следующие: 1. /Еи-
балтае — Агънатае — Заенджиатае — Таеутиатае — Карсантае — Ты-
©
1 3. Д. Г а г л о е в а. Осетинский «'рвадазлтзв», стр. 4.
2 М. К о в а л е в с к и и. Закон и обычай на Кавказе, т. I, стр. 10—11.
3 В. К. Гарда нов. Указ. соч., стр. 252, 253.
4 Г. Кок и ев. Крестьянская реформа в Северной Осетии. Орджоникидзе, 1940, стр.
12—13.
143
джытае — Цъаехилтае; 2. Баедтиатае — Баймаетатае — Дзампатае —
Хъантемыратае — Хъаныхъуаетае; 3. Хъарацатае — Елуатае — Синуа-
таэ — Къозатаэ — Чшиатае — Хаедзараегатае; 4. Баскатае — Бидета? —
Кадитае — Санатае — Тхостатаэ.
Можно привести много других примеров; таких «братских»
образований в Осетии десятки.
Родственный союз, подобный осетинскому «аервадаелтаг», никогда
не был стабильным. Поэтому трудно найти его первобытно-фратриаль-
ную основу. Расселяясь по разным местам, отдаляясь друг от друга
территориально, забывая родственную связь с первоначальной основой,
отдельные фамилии отрывались от сзоих «братств» и на новом месте
примыкали к другим союзам. Понятно, что многие «братства» были
искусственными образованиями. Тем явственнее это выступает, что в
период феодального развития многие слабые роды, избегая попасть в
зависимость к «сильным» родам («тыхджын мыггаг») и боясь
раствориться в их составе, охотно примыкали к различным «братствам»,
находя способы подключиться к их «генеалогиям».
• • • Патронимия
Среди социальных институтов родового строя, унаследованных
осетинами в виде пережитков, особое место занимает патронимия.
Патронимию М. О. Косвен определил как особую родственную группу,
занимающую промежуточное положение между родом и большой семьей. Ее
бытование еще в недавнем прошлом отмечено у значительного числа
народов. Особенно хорошо она сохранилась у кавказских народов.
В общественном быту осетин патронимия выступает более
рельефно, чем «мыггаг» и «зервадаелтае».
Патронимия состояла из группы семей, находившихся в близком
родстве друг с другом. Она образуется от сегментации большой семьи
с увеличением ее численного и поколенного состава/ Раздел в ней
происходил между братьями — сыновьями одного отца, возглавлявшего
семью. Выделившиеся сыновья образуют свои индивидуальные семьи.
Отсюда группа таких семей у осетин получила название «иу фыды
фырттае» («сыновья одного отца»). Для ее обозначения применяются и
другие названия: «иу артзей баейуаргае» (от одного огня — очага —
отделившиеся), «иу артзэй рацаэугае» (из одного очага вышедшие; от одного
очага образовавшиеся).
И вот, чтобы подчеркнуть принадлежность к той или другой
патронимии, рядом с общеродовым (фамильным) именем указывалось имя
родоначальника патронимии: «Аузбийы фырттае», «Хъазбеджы цот»
(сыновья Аузби, потомство Казбека). Единство, связь между семьями,
входящими в данную группу, поддерживались от сознания прииадлеж-
144
ности к «одному очагу», происхождения от «одной крови и кости» («иу
туг-иу стаег»).
Отсюда члены одной патронимии считались братьями («аервад»)
более близкими, чем «аервад» по фамилии. Существенным признаком,
указывающим на кровнородственную связь структурных частей
патронимии, была экзогамия. Соблюдение последней членами патроними
было одним из элементов ее существования как кровнородственной
организации. «Идеологическая связь членов патронимии выражалась
далее в их участии в жизни отдельных семей своей патронимии. Это
участие проявлялось в особенности при таких событиях, как рождение,
свадьба и похороны... В таких случаях приглашение всех членов
патронимии, равно как и принятие ими приглашения и присутствие,
считалось строго обязательным»1. У осетин во время торжеств и траурных
церемоний старшая женщина патронимии являлась «каердзынгаенаег»
(пекла обрядовые пироги) и была распорядительницей. Старшему в
патронимии мужчине во время похорон его родственника сельчане
приносили соболезнования, а на торжествах обращались с
поздравлениями. В важных моментах жизни к нему же приходили за советом
входящие в патронимическую группу семьи.
«Патронимия была теснейшим образом связана с культовой
общностью. У нее были свои общие святилища или места и предметы покло-'
нения, она собиралась на общие ритуальные процедуры, к которым не
члены данной патронимии не имели доступа и т. д. Патронимия имела
либо свое отдельное кладбище, либо свой отдельный участок на
общесельском кладбище»2.
На членов патронимии лежала обязанность соприсяжничества
(«каэраедзийаен аевдисаенэен цыдысты», «каераедзийы тыххаей ард хорд-
той»).
ТЛатронимия в составе сельской общины во всех отношениях была
более сплоченной организацией, чем «мыггаг», а тем более «аервадаел-
тае». Она, во-первых, территориально располагалась компактно, как
правило, составляя в поселении отдельный квартал («сых»), а нередко
и образуя патронимический поселок. Во-вторых, патронимия сохранила
экономическую общность в большей степени, чем другие родственные
образования: она имела мельницу, общий ток («мус»), общую башню.
Нередко входившие в нее семьи пользовались одним общим
участком сенокоса или пастбища. Материальная взаимопомощь в данной
родственной группе носила более обязательный характер. Как правило,
члены патронимии участвовали в плате за кровь, нередко помогали
О
1 М. О. Косвен. Патронимия у народов Кавказа. В кн.: Семейная община и
патронимия, М., 1963, стр. 203.
2 Там же, стр. 204.
10 А. X. Магометов 145
сородичу в выплате калыма. В общественной жизни сельской общины
патронимия выступала солидарно. Солидарность эта проявлялась в
обеспечении безопасности семей патронимической группы, в
столкновениях с другими родами и др.
Подводя итог сказанному, хочется привести слова проф. В. К. Гар-
данова: «Именно патронимия, а не давно уже исчезнувший
архаический род, сохраняла до самого недавнего времени на Кавказе
представление о кровной близости своих членов, об общности их интересов,
подкрепляемое территориальным единством этого общественного
коллектива»1.
1 В. К. Г а р д а и о в. Ценный труд по кавказоведению. Рец., М. О. Косвен.
Этнография и история Кавказа. Исследования и материалы, М., 1961. «Советская
этнография», 1962, № 4, стр. 205.
ИСКУССТВЕННЫЕ ФОРМЫ
РОДСТВА
общественных форм и традиций родового строя
свое бытование до позднейшего времени
сохранили обычаи искусственного родства.
Установление родства путем усыновления, побратимства,
посестримства и др. составляло обычное явление
в Осетии еще в XIX веке. Сохраняя свои
архаические черты, эти формы общественного быта
нередко играли активную роль в отношениях
между людьми.
К усыновлению прибегали прежде всего в
бездетных семьях. Мы уже отмечали, что
не иметь потомства — «байзаеддаг» считалось у осетин большим
несчастьем. Отсюда стремление оставить после себя наследника и
продолжателя семейного культа было активным фактором применения обычая
усыновления.
Преимущественно усыновлялись агнатиые родственники, за
отсутствием их — чужеродцы. Если усыновлялся родич, например,
племянник, то не устраивалось особых церемоний. Он с согласия родителей
переходил в усыновляющую семью, воспитывался как родной сын, а по
смерти отца-усыновителя наследовал его имущество, становился во
главе оставшегося хозяйства. На усыновленном лежали все те же
обязанности, что и на родном сыне.
Происходило усыновление и при наличии у усыновителя своих
детей-наследников. В данном случае усыновлялись осиротевшие дети
близких родичей — сын брата или сын сестры. Такой усыновленный
родич пользовался теми же правами, что и родные дети усыновителя.
Более сложным было усыновление чужеродца. Сложность эта
заключалась прежде всего в том, что с приемом чужеродца нарушался
147
•принцип наследования имущества. Оно переходило по смерти владельца
к ближайшим агнатным родственникам — к сыновьям, а если их не было,
то к племянникам или внукам. Поэтому последние не допускали приема
в свою среду чужеродца, а если такой акт совершался, то все равно
вызывал болезненную реакцию с их стороны. Такой взгляд на
усыновление чужеродца в свое время правильно подметил М. М. Ковалевский,
который писал: «Пока у известного лица имеются родственники в
мужской линии, он не вправе усыновить кого-либо; сделать это значило бы
обнаружить решительное стремление обойти родственников при
наследовании, чего последние отнюдь не допустят»1.
Не меньшим препятствием к усыновлению чужеродца являлось то
обстоятельство, что такой переход в чужой род обычно осуждался в
обществе, ибо он был связан с потерей усыновленным его родового
имени и принятием чужой фамилии (имени усыновившего его рода).
Отсюда преимущественно усыновлялись иноплеменники или
похищенные из своего племени. В этом случае усыновляемый жил в семье
усыновителя и приобретал его фамильное имя. Разумеется, такое
лицо отныне наделялось всеми правами и обязанностями
родного сына.
Иногда, чтобы обеспечить благоприятную атмосферу в
родственном объединении (в роде, фамилии) и сельской общине для
усыновляемого, имитировали у жены усыновителя роды ребенка (это в том
случае, если ребенок брался в грудном возрасте), который затем
признавался «родным». Осетинский этнографический материал свидетельствует
о таких фактах. Этот обычай бытовал также у других кавказских
народов, на что указывал еще Г. Ф. Чурсин. Правда, Чурсин приводит
иную, чем у осетин, форму воспроизведения акта родов —
«пропусканием усыновляемого под рубашкой усыновляющей женщины»2.
Об осетинском обычае усыновления путем публичного объявления
его родным сыном, т. е. рожденным женой усыновителя, М. К. Гарда-
нов сообщает следующее. Когда у мужа и жены не было детей,
особенно сына, который бы наследовал отцу и явился бы продолжателем рода,
то, бывало, что такой муж добывал на стороне (путем ли похищения,
покупки или каким-нибудь другим способом) малолетнего (грудного)
ребенка, которого растили втайне от людей. Но одновременно с
приобретением ребенка ближние люди, посвященные в тайну, пускали слух
0 том, что у бездетной ожидается ребенок. В один определенный день
(заранее намеченный усыновителями) люди оповещались о рождении
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 301.
•2 Г. Ф. Чурсин. Обряд усыновления у кавказских народов. Бюллетень
Кавказского историко-археологического института в Тифлисе (КИАИ) № б, Л., 1930, стр. 18.
148
долгожданного ребенка. По поводу столь радостного для данной семьи
события сельчане немедля шли поздравить ее, особенно отца, с
рождением сына. Женщины же приходили в помещение «поглядеть» на
«новорожденного», который, как полагается, лежал рядом с матерью —
«роженицей».
Тем временем в доме заканчивались приготовления к празднику в
честь «новорожденного». Здесь же на пиру, который начинался вскоре,
мальчику давали имя. Этим актом завершалось публичное признание
именинника сыном — наследником усыновителя.
Для большинства, особенно односельчан, не было секретом, что
это ничто иное, как спектакль, в котором они сами исполняли активную
роль. Общество фиксировало этим освященное традицией усыновление
бездетной семьей ребенка, на которого с этого момента
распространялись все права и обязанности родного сына. Общественное мнение,
судя по тому, как активно участвовали общинники в этом событии, более
сочувственно относились к данной форме усыновления.
Опираясь на общественное признание, у осетин в более древнее
время бытовал и такой обычай: бездетный муж мог «добыть» ребенка
путем «извлечения» его из собственной спины. Такой сын
«узаконивался», вернее, происходил акт его усыновления в описанной выше
обстановке— устраивалось угощение («куывд») общинникам и знакомым,
пришедшим на торжество. На этом же «куывде» как и в первом случае,,
ребенку давалось имя.
На такую форму усыновления, практиковавшуюся в древнее время
у осетин, делает многочисленные указания осетинский фольклор. Еще
во второй половине XIX века имел жизненную силу обычай,
допускавший усыновление внука — сына дочери. Но такой акт мог быть
совершен только в определенных условиях. Если у отца, кроме дочери, не
было сыновей, то он, чтобы оставить после себя наследника, выдавал
свою дочь за жениха, который бы поселился в его доме, но с
определенной целью — усыновить родившегося от этого брака ребенка
(мальчика);. Последний, присвоив родовое имя деда, наследовал ему. Однако
на такой акт недостаточно было одного желания отца девушки. На
усыновление чужеродца (сына дочери) необходимо было также и
согласие родичей усыновителя.1 Нельзя, впрочем, упускать из виду то
обстоятельство, что не всякий зять мог бы согласиться на поселение в
доме тестя и «отдать» сына другому роду. Это противоречило бы
общественным нормам и понятиям народа. На такой шаг жених мог
идти, если он был безродным и совершенно бедным и не в
состоянии был уплатить калым, т. е., когда он не мог другим путем
составить семью.
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр 302.
149
Нетрудно понять, что только жизненные обстоятельства сделали
нормой столь несовместимые явления. Так в обычном нраве осетин
описанная форма усыновления и получила право гражданства. Она
отражена и в сборнике осетинских адатов в следующем изложении:
«Когда не было наследников мужского пола, бывали примеры, что если
одна из дочерей выходила замуж, и, живя в доме покойного своего
отца, приживала сына, то последний получал право на наследство всем
имением»1.
У осетин издревле существовал также обычай усыновления
кровника. К нему, как к единственному средству спасения и прекращения
мести, прибегал убийца. Он проникал в дом потерпевшей семьи и
добивался любым способом (хитростью, силой или настойчивой просьбой)
прикосновения губами к груди (соску) матери убитого. Если ему
удавалось добиться этого, то он уже считался усыновленным и заступившим
место убитого.
Данный обычай основывался на том представлении, что
материнское молоко, пройдя через «кровь» употребившего его, делало
последнего как бы родным сыном. Одним словом, акт кормления грудью
(все равно — символическое через прикосновение к груди женщины)
считался священным и ненарушимым.
И у кабардинцев, «если убийца любым способом — силой или
хитростью — касался груди матери убитого, то становился сыном ее,
членом рода убитого и не подлежал кровной мести»2.
Данный обычай был распространен у всех кавказских горцев.
Осетинский этнографический материал располагает фактами, когда
усыновлялись дети (мальчики) из семей потерпевших родов. Чтобы
избежать мести, род убийцы из семьи убитого похищал мальчика,
которого он усыновлял. В результате прекращалось преследование
убийцы и его родичей, между двумя родами устанавливались родственные
отношения.
Еще большее распространение, чем усыновление, имел обычай
побратимства. Он возник в эпоху разложения родового общества, когда
прежние связи, основанные на кровном родстве и совместном труде,
рушились и уходили в прошлое. Сородичи жили теперь разбросанно и
уже не были равны между собой. Вступая в более сложные отношения
и с большим кругом лиц, принадлежащих к разнородной среде, человек
искал новые опоры, новые связи в обществе. И он приобрел эту опору
в братской дружбе, которую поставил выше всех прочих человеческих
привязанностей. Данное явление было окружено ореолом романтики и
О
1 Ф. И. Л е о н т о в и ч. Ддаты кавказских горцев, вып. II, стр. 75.
2 Е. И. Студенецкая. Кабардинцы и черкесы. В. кн.: Народы Кавказа, I, М., 1960,
стр. 138.
150
воспето в веках. Оно послужило темой многих выдающихся
произведений литературы, как на Кавказе, так и у других народов мира.. Обычай
побратимства известен и осетинам уже с древних времен. В то время,
как отношения, вытекающие из усыновления, касались больше
имущественной и семейно-культовой сфер и были связаны с понятием рода
и принадлежностью к нему, побратимство основывалось на моральных и
психологических факторах. Побратимы, не связанные ни узами родства,
ни имущественными отношениями, даже нередко принадлежащие к
разным племенам или народностям, питали друг к другу больше
привязанности, чем кровно-родственные братья, были верны друг другу до
такой степени, которая не знала границ.
Побратимами обычно становились мужественные и волевые люди.
Личные качества человека играли особую, даже решающую роль для
избрания его в побратимы. Они, как правило, обладали высокими
моральными качествами. Побратимство часто заключалось в сложных
жизненных ситуациях, после серьезного испытания. Выдержавшего
такое испытание с охотой брал в побратимы равный ему по достоинствам
человек.
Союз между побратимами поддерживался дружбой, достигавшей
своей наивысшей формы. В своих поступках по отношению друг к другу
побратимы руководствовались самыми гуманными и благородными
тенденциями. Взятую на себя моральную обязанность побратим хранил
свято. За друга побратим жертвовал своей жизнью, ради него он
переносил самые тяжкие испытания. Желание друга для него было свято.
Истоки этого обычая уходят в родовой строй. Он отмечен и у скифов.
Прекрасную новеллу на эту тему из жизни скифов оставил нам
греческий писатель Лукиан. В этой новелле («Токсарид или дружба») Лукиан
рассказал о дружбе между двумя побратимами скифами по имени Ами-
зока и Дандамид. Как повествует писатель, большое войско савроматоз
(сарматов) внезапно напало на кочевье скифов. Последние обратились
в бегство, многих из них савроматы убили, других захватили в плен,
а все их имущество разграбили. В плен попал и один из побратимов —
Амизок. Это произошло на четвертый день после заключения
клятвенного договора между друзьями. Дандамид, чтобы спасти друга, не
задумываясь, бросился в реку (Танаис-Дон) и, переплыв ее, явился в стан
врага. Дандамид, приведенный к предводителю савроматов, смело
потребовал освобождения своего друга. Савроматы пошли на переговоры
и потребовали за пленного выкуп. Дандамид ответил, что они все
разграбили и у него ничего нет, чем бы мог заплатить за освобождение
друга и вместо него он предложил себя. Тогда в качестве выкупа враги
потребовали его глаза, на что он сразу же согласился. «Дандамид
тотчас же предоставил им вырезать,— пишет Лукиан,— и, когда глаза
были вырезаны и савроматы получили таким образом выкуп, Дандамид,
получив Амизока, пошел обратно, опираясь на него. Но, конечно,—
продолжает рассказчик,— Амизок не мог допустить, чтобы он был зря-
151
чим, раз Дандамид ослеп, и оба они стали кормиться на общественный
счет скифского племени, пользуясь чрезвычайным почетом»1,
Обряд побратимства имел разные формы. Они менялись на
протяжении веков, но имели одинаковую по своему значению силу.
Основным элементом каждой из форм обряда была словесная клятва быть
верными в дружбе.
Другим, наиболее распространенным моментом было питье из
общей чаши. В напиток, налитый в чашу, друзья, путем надреза на
пальцах, капали кровь, которая смешивалась. Затем напиток выпивался
обоими друзьями. Такой прием — смешение их крови — придавал им
силу братских отношений. Этот обряд побратимства уже бытовал у
скифов. Геродот его описывает так: «Все договоры о дружбе, освященные
клятвой, у скифов совершаются так. В большую глиняную чашу нади-
вают вино, смешанное с кровью участников договора (для этого деларт
укол шилом на коже или маленький надрез ножом). Затем в чашу
погружают меч, стрелы, секиру.и копье. После этого обряда произносят
длинные заклинания, а затем, как сами участники договора, так и
наиболее уважаемые из присутствующих, пьют из чаши»2.
Предания и эпос, как отмечает В. И. Абаев, сохраняют память
о другой древней церемонии побратимства: «клятве над огнем»3.
Друзья, решившие стать побратимами, торжественно клялись в вечной
дружбе друг другу, исполнив подобный обряд. Последний как раз и
дал название осетинскому слову побратим: «аердхорд» (буквально —
«съевший огонь», «поклявшийся огнем»).
Древней формой обряда побратимства являлась также клятва на
оружии, обмен оружием между побратимами. Вспомним, что в
приведенных выше словах Геродота в ритуале побратимства упоминается
оружие. Оно не случайно. Так, в самом древнем и наиболее
популярном святилище осетин «Рекоме» имелось огромное скопление стрел и
других частей древнего оружия. Как выяснено нами4, в этом священном
для них месте осетины в древности путем обмена оружием исполняли
обряд побратимства. Как свидетельствует побывавший здесь в 1847
году В. С. Толстой, двое друзей, поклявшиеся в ёерности друг другу, шли
в «Реком», чтобы закрепить свою клятву актом побратимства у алтаря
святилища. Рассказывая об этом, Толстой писал: «Сопровождавшие
меня старики-осетины пояснили мне, что в давние времена был здесь
(в «Рекоме».— А. М.) воинский обычай брататься следующим образом:
1 Лукиан. Сочинения, т. II, Философия. Быт. М., 1920, стр. 233.
2 Геродот, кн. IV, гл. 70.
3 В. И. А б а е в. Историко-этимологический словарь осетинского языка, I, стр, 274;
его же: Осетинский язык и фольклор, I, стр. 576.
4 А. X. Магометов. «Реком». Записки СОГПИ, 1968, т. 28, вып. 2, стр. 394—395.
152
два воина отправлялись к Рекому, из каждого колчана вынимали по
стреле, перемешивали их, одну переламывали пополам и оба куска,
оставляли в стенах Рекома. Это обязывало с самоотвержением
оборонять друг друга в бою, а в случае гибели одного побратима, другой
должен был вынести тело из сражения и похоронить его»1. Подобную
же присягу осетины, а также кабардинцы в давние времена давали при
заключении клятвенного договора о побратимстве в Татартупе2, тоже
популярном святилище, известном с средневековья. Акт побратимства,
очевидно, принято было закреплять (освящать) в святилище. На это в
свое время, между прочим, обращал внимание Штедер3.
Участие оружия в акте побратимства довольно широко бытовало еще
в XIX веке. Для закрепления дружбы два побратима обменивались
оружием. Вот что сообщает А. С. Хаханов об акте побратимства у грузин-
горцев: «Два смертельных врага, после того, как обменялись пулями,,
делаются братьями до гробовой доски»4. Однако наиболее
распространенным обрядом побратимства в XIX в. стало питье напитка из общей
чаши. Только древний обычай модернизировался: побратимы выпивали
из одного бокала, куда предварительно клали золотую или серебряную
монету, которая затем хранилась у одного из них5.
Таким актом заключался союз и между «назваными братьями»-
побратимами у ингушей6. Символическое значение благородного металла,
участвовавшего в ритуале побратимства, должно быть объяснено,
очевидно, формулой клятвы, дававшейся побратимами друг другу: «Сердце
мое с этого момента в отношениях, касающихся тебя, будет всегда так
чисто, как чисто серебро, находящееся в стакане»7.
Как уже отмечалось выше, побратимство влекло за. собой целый
ряд обязанностей. Побратимы обязаны были взаимно поддерживать
в нужде, участвовать в делах друг друга, помогать друг другу в случае
опасности, вплоть до самопожертвования. У осетин, как и у некоторых
других народов (например, у черногорцев, древних скандинавов и др.),
побратим осуществлял месть за убитого друга — «аердхорд».
Побратимы в семьях друг друга принимались как самые близкие
О
1 В. С. Толстой. Из служебных воспоминаний. Поездка в Осетию в 1847 г., Журн..
«Русский архив», 1875, № 7, стр. 267.
2 Л. П. Семенов. Татартупский минарет. Дзауджикау, 1947.
3 Осетины во II половине XVIII в. по наблюдениям путешественника Штедера,.
стр. 31.
4 А. С. Хаханов. Мохевцы, стр. 77.
5 В. И. А б а е в. Историко-этимологический словарь осетинского языка, I, стр. 174..
К л. Б о р и с е в и ч. Черты нравов православных осетин и ингушей, стр. 244.
6 Н. Н. Харузин. Записки о юридическом быте чеченцев и ингушей, стр. 121.
7 К л. Б о р и с е в и ч. Черты нравов православных осетин и ингушей, стр. 244.
153
люди. Побратиму в семье друга, даже во всей его фамилии,
оказывались самые высокие почести. Отношения между побратимами
переходили в добрые, почти родственные отношения между их семьями или даже
родами. Случаи нарушения долга побратимства были очень редки, а
если они и бывали, то такие факты сурово рсуждались обществом.
Нарушившего долг побратима люди презирали. ^
Нередко в побратимы с мужчиной вступала и женщина, и
отношения, которые устанавливались между ними, не отличались от отношений
родных брата и сестры.
Союз, аналогичный побратимству, заключался и между
женщинами, принадлежавшими к разным родам. Отношения между посестрами
отличались такими же высокими моральными принципами, как в
побратимстве. Обряд посестримства был проще. Девушки или молодые
женщины, вступавшие в такой союз, в доме у одной из участниц
посестримства устраивали стол, за которым в кругу своих подруг давали обет
верности друг другу; как правило, они обменивались при этом
платьями. Каждая из них готова была пойти ради другой на любые жертвы
и перенести любые испытания. Как побратимы, так и посестримы не
имели права вступать в брак с ближайшими родственниками друг
друга.
У осетин, как и других кавказских народов близкие, подобно
родственным, отношения устанавливались между людьми в таких случаях,
как кормление чужого ребенка грудью, принятие ребенка во время
родов и др. Одним словом, чрезвычайно широки были обстоятельства,
лри которых устанавливались духовное родство и союз между ними.
СЕМЕЙНАЯ ОБЩИНА
первые в марксистской литературе научное
определение места семейной общины в развитии
общественных форм дал Ф. Энгельс. Определив
семейную общину как форму семьи,
предшествующую моногамной семье и являющуюся
обязательной ступенью в общем историческом
процессе развития общества, Ф. Энгельс тем самым
свою концепцию противопоставил
«патриархальной теории», которая считала моногамную семью
изначальной и извечной формой семьи.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что при
формулировании своего положения Ф. Энгельс использовал кавказский
этнографический материал, в том числе осетинский, взятый им у Максима
Ковалевского.
Ф. Энгельс, рассматривая историю семьи и останавливаясь на
семейной общине, отметил, что М. Ковалевский доказал существование
домашней (семейной) общивы на Кавказе.1 Сам М. Ковалевский в
своих лекциях по истории семьи («Очерк происхождения и развития семьи
и собственности», Стокгольм, 1890; на основе которых делает свое
заключение Энгельс) писал, что для доказательства существования на
определенном историческом этапе такой формы семьи, как семейная,
домовая община, он обратился к кавказским народам, назвав при этом
1 Ф. Э н г е л ь с. Происхождение семьи, частной собственности и государства, М.?
Политиздат, 1970, стр. 63.
155
пшавов, сванов и осетин, которые к этому времени, как он говорит,,
сохранили «многочисленные следы своей первобытной культуры»1.
Для этой цели М. Ковалевский совершил три поездки на Кавказ.
«Эти поездки,— пишет М. Ковалевский,— дали мне возможность
собрать обильные сведения, которые я использовал в своих работах
«Первобытное право» и «Современный обычай и древний закон»2.
Последняя работа, состоящая из двух томов (полное название:
«Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в исто-
рико-сравнительном освещении», М, 1886) посвящена осетинам.
Последним он посвятил и некоторые другие работы. Проблему семейной
общины М. Ковалевский рассматривает и в названном «Очерке
происхождения и развития семьи и собственности», на который ссылается Энгельс:
«Институт семейной общины представлялся во времена Ковалевского у
большинства народов уже изжитым, сохранившимся главным образом
в виде пережитков». Но «одним из наиболее типичных образцов
семейной общины, сохранившей свои некоторые архаические черты.., по
существу, открытой и описанной Ковалевским, была осетинская община»3.
Как верно определил М. Ковалевский, семейная община возникла
на поздней ступени развития родового строя, в эпоху его распада. На
это указывает и Фридрих Энгельс! Как видим, семейная община
возникла в определенных исторических условиях, а именно в период распада
первобытнородового хозяйства, при котором общинно-семейная
собственность стала переходной ступенью от родовой собственности к
частной. Однако, семейная община тем характерна, что она в большой
степени сохраняет черты рода, являясь как бы его осколком.
«Род является первоначальною единицею,— пишет Ковалевский,—
...семейная община не более как позднейшая представительница того же
кровного начала»4.
«Большая семья,— отмечает М. О. Косвен,— оказывается ячейкой, в.
которой первобытнообщинные отношения сохраняются особо
устойчиво»5. Это выявляется, прежде всего, в том, что основными признаками
семейной общины явились общинно-семейная собственность, общее
производство и потребление, а также общинная форма управления при
многочисленном родственном составе коллектива, обусловленном нераз-
©
1 М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности, М.,.
1939, стр. 32.
2 Т а м же.
3 П. Ф. Лапти н. Проблемы общины в трудах М. М. Ковалевского. «Вопросы
истории», 1955, № 9, стр. 112.
4М. Ковалевский. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом,
вып. I, М., 1905, стр. 20.
5 М. О. Косвен. Семейная община и патронимия, М.? 1963, стр. 55.
156
дельностью братьев,— то есть черты, свойственные родовой общине. Род
при своем распаде дает не только новую социальную ячейку — семью
в данном случае, но и новую форму собственности — частную. В. И.
Абаев при анализе слова «семья» на осетинском языке говорит, что
«для семьи создано относительно новое слово «бинонтэс» от «бын»
(«бун») — «наследуемое имущество». Последнее наименование
указывает,— пишет далее Абаев,— что обособление семьи из древнего рода
было связано с возникновением института частной
собственности»1. Раз мы признаем, что «семья выделилась вторичным образом
кз древнего рода», то, надо полагать, из него выделялись как большая,
так и малая, индивидуальная семья, скорее всего даже вначале —
малая семья.
Однако на первоначальном этапе большую жизнеспособность
показывали семейные общины, которые на протяжении длинного ряда
столетий составляли основную, преобладающую форму семьи. Тем не менее
малая, индивидуальная семья, возникнув также рано, при распаде рода,
а затем и самой семейной общины, существовала рядом с последней. И
это стало таким же историческим фактом, как и существование
большой семьи (семейной общины). Во второй половине XIX века
подавляющей формой семьи в Осетии вовсе стала малая семья.
Наиболее ранние упоминания о семье и семейных отношениях у
осетин мы находим у Вахушти, Штедера, Клапрота, К. Коха. В
частности, Штедер первый обратил внимание на наличие больших семей у
осетин и на причины существования большесемейных коллективов.
Довольно часты упоминания о патриархальной большой семье у осетин и у
более поздних авторов. Так, Гагстгаузен, фиксируя семейные общины у
осетин, пишет, что «каждая чета имеет свой домик, состоящий из одной
только комнаты, таких домиков' от 6 до 8 в одном дворе»2. Спустя
четверть века, видный исследователь этнографии осетин В. Пфаф
буквально повторил то же самое, говоря, что «в каждом дворе живут по
нескольку семейств»3. Это свидетельство В. Пфафа подтверждается
Ф. Байерном, который в это же самое время в горной Осетии
насчитывал по нескольку женатых братьев в одном дворе4.
Осетинский этнограф С. В. Кокиев в работе, относящейся к
середине 80-х годов, писал, что «у осетин существуют семьи, состоящие из
40 и более человек»5.
О
1 В. И. А б а е в. Осетинский язык и фольклор. I, М.-Л., 1949, стр. 63.
2 Гагстгаузен. Закавказский край, ч. II, стр. 137.
3 В. Пфаф. Народное право осетин, ССК, т. I, стр. 194.
4 Ф. Байер н. О древних сооружениях на Кавказе, ССК, т. I, 1871, стр. 299.
5 С. Кокиев. Записки о быте осетин, стр. 58.
157
/VI М. Ковалевский, обстоятельно занимавшийся исследованием*
древних общественных форм у осетин, почти в это же время отмечал:
«Осетинский двор в разных местностях Осетии представляет собой:
группу лиц в 20, 40, 60 и даже 100 или около того»1.
Известный кавказовед П. С. Уварова, многократно бывавшая в
Осетии и обследовавшая всю ее нагорную часть, указывая на архаический:
быт осетин, писала: «В сакле (у осетин) живет обыкновенно хмногочи-
слекная семья, ибо дележи и ссоры семейные еще не в обычае у
осетин»2.
О сохранении до позднейшего времени института большесемейных
отношений у осетин рассказывает Е. А. Россикова, которая пишет, что
«в горных аулах (Северной Осетии) до сих пор не редкость семья в
тридцать и сорок человек»3.
Накануне революции осетинский этнограф и антрополог проф. М. А.
Мисиков, прекрасно знавший Осетию, указывал, что «сплошь и рядом в
Осетии можно встретить многочисленную семью, среди которой
имеются 2—4 и больше женатых сыновей»4.
Большие семьи сохранялись в Северной Осетии вплоть до начала
коллективизации. О продолжительном бытовании семейных общин в*
Южной Осетии сообщают и 3. Н. Ванеев5, В. К. Тотров6 и 3. Д. Гаг-
лоева7. Как и в Северной Осетии, они удержались здесь (в горных
районах) до конца 20-х годов нашего столетия.
Большие семьи и до позднейшего времени сохранились и у других;
народов Кавказа. Семейная община исследована и описана у грузин.;
Р. Л. Харадзе8 и В. Дж. Итоношвили9, у армян — Э. Т. Карапетян10, у
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон. Обычное право
осетин в историко-сравнительном освещении, т. I, стр. 100.
2 П. С. Уварова. Кавказ. Путевые заметки, М., 1887, стр. 16.
3 А. Е. Россикова. В горах и ущельях Куртатии и истоков реки Терека. Записки*
КОИРГО, кн. XVI, 1894, стр. 318.
4 М. А. Мисиков. Материалы для антропологии осетин, стр. 47—48.
5 3. Н. Ванеев. Из истории родового быта в Юго-Осетии, Тбилиси, 1955, стр. 59—68.
6 В. К. Тотров. Семья и семейный быт крестьян Юго-Осетии в конце XIX—начале
XX вв. Автореферат диссертации. Тбилиси, 1965.
7 3. Д. Г а г л о е в а. Семейная община у осетин. Изв. ЮОНИИ, вып. XV, 1969.
* Р. Харадзе. Грузинская семейная община. Тбилиси, I, 1960, ГГ, 1961.
9 В. Дж. Итоношвили. Семейный быт мохевцев (на гр. яз.), Тбилиси, 1970;
Пережитки семейной общины у грузин-горцев Ксанского ущелья. Кавказский
этнографический сб., IV, 1971.
*° Э. Т. Карапетян. Армянская семейная община, Ереван, 1958".
158
кабардинцев — Е. Н. Студенецкой1 и Т. Т. Шиковой2, у адыгов —
М; А. Меретуковым3 и т. д.
Капитальное исследование семейной общины с привлечением
кавказского, в том числе осетинского, материала дал М. О. Косвен4. В
своей работе Косвен изложил не только общие, присущие этой
социальной организации черты, но и показал характерные особенности
кавказской большой семьи как классической формы семейной общины.
Перечисленные выше работы позволяют сделать вывод о том, что
осетинская семейная община имела много общих черт с семейными
общинами у указанных выше народов. В то же время она выявила ряд
особенностей, отличающих ее от последних и связанных со
спецификой осетинского быта, условиями социально-экономического развития
осетин.
Кроме того, осетинский материал приводит нас к выводу о том, что.
именно эта этнографическая специфика и особые
социально-экономические условия явились той основой, которая поддерживала длительное
бытование и большую, чем у других кавказских народов,
распространенность и устойчивость семейных общин у осетин.
Сохранение на долгое время больших семей у осетин имело своим
основанием прежде всего социально-экономические факторы, хотя
идеологические моменты («пока живы старые родители, сыновьям стыдна
делиться», семейно-родовой культ и т. п.) играли также определенную
роль..;
Трудные условия хозяйственной жизни (о чем мы уже говорили
выше), преобладание до позднейшего времени натуральной формы
хозяйства в экономике способствовали сохранению больших семей,
которые составляли удобную форму организации коллективного труда,
столь необходимого в этих условиях. Так, одним из основных занятий
крестьян являлось земледелие. Но осетин-горец, как уже отмечалось
раньше, всегда испытывал острый недостаток в пригодной земле. Стало
быть, семья не могла просуществовать на одном земледелии. Тогда
горец прибегал к разведению скота, но и это занятие наталкивалось на
необходимость иметь сенокосные угодия, которыми он владел в очень
ограниченном количестве.
Значит, занимаясь скотоводством, он опять-таки не мог обеспечить
©
1 Е. Н. С т у денецкая. О большой семье у кабардинцев в XIX в. «Советская
этнография», 1950, № 2.
2 Т. Т. Ш и к о в а. Семья и семейный быт кабардинцев в прошлом и настоящем.
Автореферат диссертации, М., 1955.
3 М. А. М е р е т у к о в. Семейная община у адыгов. Ученые записки Адыгейского
научно-исследовательского института, т. IV, 1965.
4 М. О. Косвен. Семейная община и патронимия, М, 1963.
159
существование своей семьи. Некоторым подспорьем в хозяйстве
являлась охота, но и это не могло выручить семью. Таким образом, ни один
из этих трех источников материального благосостояния в отдельности
не мог обеспечить существование семьи. Заниматься же одновременно
и земледелием, и скотоводством, и охотой, а впоследствии и
отходничеством, было под силу только большой, неразделенной семье.
Кроме того, в эпоху родового строя, а затем феодализма большая
семья в общественном отношении имела больший вес, чем малая,
немногочисленная семья.
В обществе такая семья могла с успехом отстаивать свои права
или даже притязания, в то время как интересы малой семьи оказыва-
.лись ущемленными. • Отражением этого стала поговорка: «Дыууае
аефсымаераей аре даер таерсы» (двух братьев и медведь боится). Зато
ничего более страшного для осетина не было, чем оказаться в
одиночестве (т. е. не иметь братьев). Глубокую трагедию человека, не
имевшего родни и лишенного защиты большой семьи, передает широко
известная в прошлом народная поэма «Об одиноком».
Опасность насилия со стороны чужеродцев поддерживала долгие
века необходимость жить большесемеиным коллективом.
Таким образом, утверждения отдельных авторов (в основном
дореволюционных) о том, что устойчивость большесемейных отношений
покоилась исключительно на идеологическом единстве и авторитете главы
семьи, стремившегося к удержанию членов семьи под своей властью, в
рамках единого коллектива (общины), которым он мог бы
неограниченно повелевать, не имеют под собой почвы. Как бы отвечая на эти
утверждения, Штедер писал: «Никакое принуждение не поддерживало
семейную связь, только боязнь собственной слабости и надежды на
лучшее пропитание связывали их крепче в одно общество».1
Основной чертой, характеризующей семейную общину, является, как
указывал Ф. Энгельс, то, что «она охватывает несколько поколений
потомков одного отца вместе с их женами, причем, все они живут вместе
в одном дворе, сообща обрабатывают свои поля, питаются и одеваются
из общих запасов»2.
М. О. Косвен, опираясь на это указание Ф. Энгельса и, как бы
повторяя его, пишет, что семейная община «состоит из четырех-пяти,
иногда и больше, поколений ближайших родственников одного предка,
г женами мужчин данной группы. Старшее поколение такой
патриархальной (подчеркнуто нами.— А. М.) семьи состоит из нескольких
О
1 Осетины во второй половине XVIII века по наблюдениям путешественника Штедера,
стр. 30.
2 Ф. Э н г е л ь с. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 62.
160
братьев с их женами»1. В данном определении М. О. Косвена Ю. В.
Бромлей обращает внимание на то место, где Косвен придает «особое
значение для демократической семейной общины братских уз», но
которое, как справедливо отмечает Ю. В. Бромлей, автор не раскрывает2.
Говоря о демократической семейной общине, имеющей «братскую»
структуру, М. О. Косвен, конечно, имел в виду «братскую семью», к
которой, как и к отцовской общине, он прилагает термин
«патриархальная». Разумеется, такая нечеткость формулировок,
недифференцированный подход к определению различных форм семейной общины не
способствовали выяснению ее основных стадий развития.
Видя в демократическом типе семейной общины архаическую
форму, Ю. В. Бромлей отмечает, что именно в ней выступает «братская
семья», имевшая в прошлом самое широкое распространение. Ю В.
Бромлей на основе многочисленных источников и проведенных им
исследований приходит к выводу о том, что «если не у всех, то во всяком
случае у подавляющего большинства народов наиболее архаической
формой семейной общины демократического типа являлась братская
семья, которую вряд ли правомерно определять как патриархальную и
относить к числу побочных явлений в истории семьи. Иначе говоря,
братская семья и была той самой семейной общиной, которая, по
словам Ф. Энгельса, играла важную роль при переходе от семьи,
основанной на материнском праве, к индивидуальной семье»3.
Мы еще раньше отмечали4, что осетинская семенная община в
отличие от таковой у грузин, армян, карачаевцев, адыгейцев и др. в
значительной мере сохранила свои первобытно-демократические черты, и в
результате этого она не превратилась в отцовскую, на что справедливо
указывали М. О. Косвен, 3. Н. Ванеев, 3. Д. Гаглоева. Данное
обстоятельство сыграло большую роль в продолжительном сохранении и
большей, чем у других народов Кавказа, распространенности семейных
общин.
Следует при этом подчеркнуть, что семейные общины у осетин
бытовали как раз в форме «братских семей», о которых говорит в своих
работах Ю. В. Бромлей. По крайней мере, изученные нами семейные
общины в Северной Осетии все до единого имели братскую структуру.
©
1 М. О. Косвен. Семейная община и патронимия, стр. 49.
2 Ю. В. Бромлей. Ф. Энгельс и проблемы архаической формы семейной общины.
В кн.: Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф.
Энгельса, М., 1972, стр. 164—165.
3 Ю. В. Бромлей. Ф. Энгельс и проблемы архаической формы семейной общины,
стр. 175.
4 См. А. X. Магометов. Семья и семейный быт осетин в прошлом и настоящем.
Орджоникидзе, 1962; его же: Культура и быт осетинского народа.
11 А. X. Магометов |5|
К такому же заключению в отношении осетин пришла и 3. Д. Гаг-
лоева, которая писала: «Старшее поколение такой семьи состояло из
нескольких братьев с их женами.., следующее поколение — из их
сыновей с женами и т. д. Для семейных общин (у осетин.—А. М.)
характерна неразделенность братьев».1
Между прочим, Максим Ковалевский в свое время обращал
внимание на эту особенность осетинской семейной общины. Когда он
говорит о ней, каждый раз подчеркивает ее братский состав. Он пишет: «В
состав каждого двора (осетинской семьи. — А. М.) входит большее или
меньшее число родственных друг другу семей. Не только отец живет
вместе с сыновьями и внуками, но тут же, в одном дворе, помещаются
и дяди, и племянники, считая в том числе детей».2
Из многочисленных примеров семейных общин с братской
структурой, выявленных нами, мы приведем лишь некоторые из них, на наш
взгляд, наиболее характерные.
Например, в сел. Цамад (Алагирское ущелье) проживала семейная
община Бицоева Асламбека Саклауовича, состоявшая в 1886 году из
33 человек. В семейную общину входило шесть брачных пар родных
братьев: Асламбека E8 лет), Сахуга E1 год), Альшо D0 лет), Забега
C5 лет), Сосламбека C4 года) и Васче C1 год). Вместе с братьями
проживала их мать — Ханаш A02 лет). Все братья имели детей.
Старший Асламбек — 3 сыновей; Сахуг-—6 сыновей; Альшо — одного сына
и двух дочерей; Забег — 4 сыновей; Сосланбек — одного сына и одну
дочь; Васче — 3 дочерей.
В указанном году семья располагала следующим хозяйством:
каменное жилище с несколькими отделениями для" брачных пар, водяную
мельницу («къада куырой»), земли — 7 участков однодневной пахоты,
сенокосный участок, крупного рогатого скота — 25 голов, лошадей —6,
вьючных животных — 2, мелкого скота (овец.и коз) —400 голов3.
Характерна, как братская семейная община, другая семья Бицое-
вых в этом же селении. Семейная община Бицоева Асаго Алексеевича
состояла в 1886 году из 20 человек. В нее входили индивидуальные
семьи четырех братьев. Старшим (главой) семейной общины являлся
28-летний Асаго. Отец к этому времени умер, умер и старший из
братьев — Бегза. Мать G3 лет) была жива.
В семейную общину входила и семья умершего брата Бегза: Са-
нахъиз C5 лет) — вдова Бегза, двое его сыновей и три дочери4.
О
1 3. Д. Га гл о ев а. Семейная община у осетин, стр. 105—106.
2 М. Ковалевский. Поземельные и сословные отношения у горцев Северного
Кавказа. Журн. «Русская мысль», 1883, кн. XII, стр. Ь39.
3 ЦГА СО АССР, ф. 30, ед. хр. 83, л. 11.
4 Там же, л. 13.
162
Такой же состав семейной общины в 1886 г. имела семья Бицоева
Казбека Бадиевича C9 лет), в которой проживали также семьи
(индивидуальные) двух его братьев: Урузмага C7 лет) и Сосруко C3 года).
Отец и мать братьев к этому времени умерли. Все трое братьев были
женаты и имели детей1.
В этом же селении Цамад семья Черчесова Мисирби в 1886 г.
состояла из 20 человек., а к 1916 году она увеличилась до 47 человек. В ней
в это время уже было 8 семей, в том числе 5 брачных пар первого
поколения братьев. Во главе семейной общины стоял старший из этих
братьев — Мисирби (в 1886 г. ему было 67 лет). По данным архивных
документов, в хозяйстве Черчесовых в 1886 г. было 260 овец и крупного
рогатого скота2, а к 1916 году поголовье овец выросло до 1200 голов и
80 голов крупного рогатого скота3.
В Куртатинском ущелье в сел. Хидикус (отселок Къадат) в
семейной общине Куловых (глава семьи Черико Темирканович) в 1905 г.
совместно проживали индивидуальные семьи 5 братьев. Община
состояла из 33 человек. Братья все были женаты и имели детей. Отца
братьев к 1905 г. уже не было в живых. Семейную общину возглавлял
старший брат Черико F8 лет), имел жену — Дзиги D5 лет), трех сыновей
и трех дочерей; второй после Черико брат—Хаматкан F5 лет) имел
жену Налмаст, пятерых сыновей и одну дочь; следующий за ним брат—
Кудзаг E4 лет) имел жену, называвшуюся Феодосией B7 лет) и
двухмесячного сына, названного Астемиром. Четвертому брату Касаю было
40 лет, жене его Дерметхаи — 38 лет. Чета эта имела трех сыновей и
четырех дочерей. Пятый брат Уарич (Варич) ко времени подворной пе-
репеси в 1905 году умер, но осталась его семья, состоявшая из двух
сыновей и жены. Вдова (звали ее Залихан) со своими
сыновьями входила в одну большую семью и проживала с ней в одном
дворе4-
С братской структурой, но более сложной, чем предыдущая, была
семейная община Агкацева Аслана Гициевича из того же Куртатин-
ского ущелья (сел. Цмити). Семейную общину, состоявшую из 25
человек, возглавлял вдовец Аслан, которому в 1905 году было 78 лет.
Вместе с ним проживала семья его умершего брата Хазби. Хазби
оставил троих сыновей: Бечира, Хумана и Николая, которые были женаты
и имели детей: первый — пятерых сыновей и трех дочерей, второй —
трех сыновей, третий — одного сына. Сам глава семьи Аслан имел трех
©
1 ЦГА СО АССР, ф. 30, ед. хр. 83, л. 15.
2 Т а м же, лл. 28—29.
3 Полевой материал автора, сел. Цамад, 1965 г.
4 ЦГА СО АССР, ф. 270, оп. I, д. 5, лл. 1—2.
163
сыновей — Хъылцыхъо, Мэецыхъо и Даехцыхъо, из них первые два сына
были женаты1.
В сел. Къадат (Куртатинское ущелье), в том же 1905 году семья
Цекгоева Тимиг (Тымыгъ) Долатикоевича F0 лет) состояла из 29 чел.
Были женаты к имели свои семьи сам глава семьи (жена, двое
сыновей и дочь) и три его брата: Темир, Кизилбек и Шамиль; были женаты
и двое сыновей Тимига. Таким образом, семья включала в себя 6 малых
семей: 4 семьи старшего поколения братьев и 2 семьи сыновей одного
из четырех братьев2.
Большой интерес представляет, с точки зрения сложности состава,
семья Таучелова Гисо Гидзиловича из того же селения Къадат.
Семейная община Гисо Таучелова состояла из следующих
составных частей. Гисо G0 лет) был женат второй раз после смерти первой
жены, от которой имел двух сыновей C2 и 29 лет), уже женатых; от
новой жены Фатъи C0 лет) —одного сына и двух дочерей
(малолетних).
Вместе с Гисо жили семьи двух его умерших родных братьев Аль-
берда и Дзиго. В семейную общину Гисо Таучелова входили также две
семьи его двоюродных братьев Дохцико и Ахмета3.
Обращает на себя внимание семейная община Мазлоева Сахуга
Темиркановича (с. Кадат). У Сахуга E6 лет) и его жены Аминат C9
лет) было родных детей 7 E сыновей и 2 дочери), вместе с ними
проживали семьи умерших братьев Сахуга — Къти и Бариспи
(племянники от двух братьев).
Поскольку Къти был старшим братом, а жена его (вдова) Гурдзи-
хан F3 лет) была еще жива, то старшей женщиной («аефсин») в доме
была она. Полноправным членом семьи была вдова Бариспи (брата
Сахуга)—Дуфа C2 лет), жившая со своими двумя сыновьями в
семейной общине4.
Сложный, но первобытно-демократический характер имела семья
Цекоева Асламбека Алидзаевича F6 лет) и его жены Дзиго F3 лет)
из того же села. Семейная община Цекоевых состояла из шести
брачных пар: главы семьи, двух его сыновей — Асланико и Асланджери и
трех двоюродных братьев — Казбека, Бимболата и Бекмурзы.
Казбек D6 лет) имел трех сыновей и трех дочерей; Тембслат и
Бекмурза — по одному ребенку5.
В Андиатыкау в семейной общине Андиева Цопана Тотрадзовича
О
1 ЦГА СО АССР, ф. 270, оп. I, д. 5, л. 73.
2 Там же, л. 11 об.
3 Т а м ж е, л. 8 об.
4 Т а м ж е, лл. 6—7.
5 ЦГА СО АССР, ф. 270, оп. 1, д. 5, л. 11 об.
164
D9 лет) и его жены Салимат D3 года) совместно проживали
племянники Цопана от двух его умерших братьев со своими матерями.
Старшей женщиной была мать Цопана Гизма F0 лет).
В Гутиатыкау в семейную общину Гутиева Казмагомета Мацкоеви-
ча C8 лет) входило четыре семьи братьев — Казмагомета, Бечмурзы,
Ханджери и Тотырбека. Мать семьи Зарада F3 года) была
фактически главой семейной общины1.
В отселке Бугултыкау семьи из фамилии Бугуловых, возглавляемые
Сугаром D4 г.), Аго D5 л.), Казбеком C5 л.) и Мисико C7 л.) имели
братскую структуру. Среди них примечательна семейная община Бугу-
лова Сугара Гадзиевича. В нее входили индивидуальные семьи трех
братьев: Сугара D4 года), Семена C9 л.) и Гацира C0 лет), а также
их племянники — семьи двух умерших братьев Ильяса и Алексея.
Оставшаяся после Ильяса семья состояла из двух сыновей и двух дочерей
с их мачехой Налмас. От Алексея остались един сын и две дочери и
мать детей. Старшей женщиной — «аефеин» была вдова Ильяса, мачеха
детей — Налмас E0 лет). Вдова Алексея Фатима C5 лет) также
занимала почетное место, поскольку она была на 5 лет старше жены главы
семьи.
Типично «братскую» структуру имела семейная община из Цмити
Гапбоева Хадзимета. Община состояла из индивидуальных семей
пяти женатых братьев. К ним вернулась после смерти мужа (Бэеде
Циноева), их сестра с 10-летним сыном (Камболатом). Старшему из
братьев—главе семьи Хадзимету было 53 года, младшему — Николаю
30 лет, сестре их — 33 года2.
В том же селении Цмити в семейной общине Каргева Куцири
Парназовича было шесть братьев, которые все были женаты и имели
детей. Все братья жили вместе, в одном дворе, и владели совместно се-
мейно-общинной собственностью. Старшему брату Куцири,
являвшемуся главой семьи, в 1905 г. было 54 года, остальным братьям: Аци — 51
год, Мисирби — 48 лет, Даука — 44 года, Тотрадзу — 39 лет, младшему
брату, носившему имя, не встречавшееся у осетин,— Атютант — 35 лет.
Власть в семье со страшим сыном Куцири разделяла их старая
мать — вдова Фатима3.
В семейную общину Гусова Тебо Бадаговича из селения Хидикус
входило также шесть семей: три семьи братьев из первого поколения —
самого Тебо F0 лет) и его двух братьев — Ильяса E5 лет) и Дриса
D4 года), а три семьи из второго поколения — трех сыновей Тебо.
О
1 ЦГА СО АССР, ф. 270, оп. 1, д. 5, л. 36.
2 Т а м ж е, л. 83.
3 Т а м ж е, л. 93.
165
Старшей женщиной в семейной общине была сорокатрехлетняя Дзиги—
жена Тебо (мачеха его детейI.
Несомненный интерес своей сложностью, «демократизмом»
представляет семейная община Цаболова Батако Тасоевича D7 лет).
История образования данной семейной общины такова. После смерти
совместно живших братьев Тако и Саго Цаболовых остались жить вместе
их сыновья: от Тасо трое сыновей — Батако, Герман и Василий; от
Саго—-шесть сыновей — Казбек, Касполат, Батджери, Скобелев (были и
такие имена. — А. М.), Хадзибечир и Ахболат. Из них были женаты
также трое: Казбек, Касполат и Батджери. Казбек, однако, умер и
оставил после себя сына (Алибек) и дочь (Аникъо). Остались в живых
жены двух братьев — родоначальников семейной общины Тасо и Саго.
Это — мать Батако и его братьев — Дзудзин G8 лет), мать Касболата
и его братьев Косе F2 года). По праву старшинства из мужчин живой
семьи (как гласит архивный документ) был Батако, который, однако, не
принимал никаких решений без согласия и совета с обеими старшими
женщинами Дзудзин и Косе. Старшей женщиной — «жфсин», по праву,
считалась мать Батако Дзудзин, но она делила свою власть с
золовкой — Косе2.
Интересен также состав семейной общины Ситохова Габиса Батие-
вича (из того же селения). В нее входило три семьи: двух родных
братьев — Габиса F8 лет, имел четырех взрослых сыновей и дочь),
Асланико E8 лет, имел трех сыновей) и двоюродного брата Бицо D1
год, имевшего также трех сыновей). Главой семьи был Габис, а
старшей женщиной — мать двоюродного брата Бицо — Тотирдзан G3 летK.
В других ущельях мы встречаем семейные общины с такой же
структурой, как в Куртатинском ущелье. И в Алагирском, и в Дигор-
ском ущельях, в каждом селении, мы наблюдаем ту же традицию
совместного проживания женатых братьев. Такие семьи были нередким
явлением в Осетии даже в канун или после революции. Так, в сел. Лис-
ри в семейной общине Дарчиевых было 6 индивидуальных семей:
четырех братьев в первом поколении и две семьи во втором
поколении-
В том же селении семья Урусова Гори состояла из 32 человек.
Четверо из шести его сыновей были женаты и имели детей. Семья
Урусовых распалась на малые семьи только в 1928 г.
В сел. Клиат (Мизурский приход) семья Цахоева Мусса в 1920 г.
состояла из 50 человек.
В первом поколении были женаты три брата, живших совместно
О
1 ЦГА СО АССР, ф. 270, оп. 1, д. 5. л. 324.
2 Т а м ж е, л. 345.
3 Т а м же, л. 343.
166
после смерти родителей и во втором поколении — четверо (сыновья
представителей первого поколения).
Семья Цораева из сел. Джимара (Куртатинское ущелье),
состоявшая в 1917 г. из 45 человек, включала в себя 6 брачных пар, в том
числе в первом поколении индивидуальные семьи главы семьи Куыцыра и
его двух братьев, из сыновей которых (во втором поколении) были
женаты трое.
В этом же селении Джимара в семейной общине Березовых в 1913—
1915 гг. было семь брачных пар, в том числе шести сыновей главы
семьи.
В сел. Лац Вано Алексеевич Дулаев A03 г.) рассказывал
находившемуся в экспедиции научному сотруднику института истории АН
Грузинской ССР В. Итонишвили, что при его памяти семья, в которой
жил сам Вано, выросла в четыре поколения.
Родоначальниками семьи Дулаевых были Ишкан и его жена Дау-
хан. Второе поколение составили сыновья Ишкана: Сосланбек, Симон,
Алексей и Хасако. В третье поколение входили Сосик и Елбыздыхъо
(сыновья Сослаибека); Шаш и Миша (сыновья Симона), Асланбек,
Асланихъо, Вано и Уасил (сыновья Алексея); Бибол, Солтанбек, Сол-
тан (сыновья Хасако). В четвертое поколение входили сыновья Аслан-
бека Алексеевича: Амзор, Муртаз, Георгий и Ахсарбек. Считая невесток
и других женщин, в семье до раздела насчитывалось 30 чел.1
Из четырех поколений также состояла семья Тохтиевых из села
Барзикау. Представители старшего поколения — братья Уарихан и
Хато (близнецы). Второе поколение составляли сыновья Уарихана — Гуши,
Пиши, Гамшер, Къотор, Батыр, Залек и сын Хато — Уаже.
К третьему поколению относились внуки Уарихана и Хато.
Четвертое поколение составляли правнуки Уарихана и Хато. В момент
раздела семья состояла из 47 человек.2
Следует оговориться, что семьи с составом в пять поколений нам
почти не встречались. Наиболее распространенными были семьи в три
поколения. Правда, информаторы (рассказчики) во время полевых
исследований, действительно, называют такой состав (четырех-пяти
поколенный) семейных общин. Но это не подтверждается архивными
документами (посемейными списками, переписями населения). Информаторы
в конкретно описываемую семью нередко включали умерших
родоначальников семейных общин. В такую семью, по рассказам
информаторов, ошибочно попадали отделившиеся от этой общины братья или
другие члены данной фамилии.
О
1 В. Д. Итонишвили. Семейный быт горцев Центрального Кавказа, I, Семейный
быт нахов и осетин. Тбилиси, 1969 (на грузинском языке).
2 Т а м же.
167
Как мы уже говорили, для Осетии наиболее характерными были
семейные общины, состоявшие из брачных пар боковых родственников.
Ю. В. Бромлей в качестве минимума для такой семейной общины
называет «две брачные пары боковых родственников — мужчин, хотя бы
уже потому, что ведение ими общего хозяйства несовместимо с
характерным для малой семьи порядком наследования имущества, прежде
всего по прямой нисходящей линии, родства».7
Редко случалось, чтобы старшее поколение доживало до появления
пятого поколения. Рассмотренные нами выше семейные общины как
раз говорят об этом. Они состоят в основном из двух-трех поколений,
тоже с многочисленным составом за счет их роста по боковым линиям
(«братья-племянники»). Неудивительно, что подавляющее большинство
встречавшихся нам в архивных документах семейных общин были по
своему составу «молодежными». Дореволюционная статистика
фиксирует значительно меньшую продолжительность жизни, чем в
послеоктябрьский период. Бросается в глаза еше одна характерная особенность.:
из старшего поколения (из числа родоначальников) семейных общин
в живых чаще всего оставались матери (жены родоначальников семьи).
Конечно, это имело социальные корни. Тяжелый труд и жестокие
условия жизни сокращали жизнь горца.
Этим и объясняется, что в дореволюционных документальных
материалах так мало встречается многопоколенных семейных общин.
Основная причина сохранения описанных выше «братских» общин тоже
заключалась в этих тяжелых социально-экономических условиях жизни
горца.
Однако было бы несправедливо, если бы мы сказали, что в Осетин в
прошлом не было семейных общин, состоявших из нескольких
поколений. Они были, и некоторые из них мы уже назвали выше. Можно,
конечно, назвать еще другие подобные семьи.
Вот к примеру семья Бясова Мусса Агоевича из сел. Хамаз (Ди-
горское ущелье). Родоначальниками семьи были Мусса и его жена
Майраенхъиз. В 1886 г. Мусса было 85 лет, его жене — 75 лет. Второе
поколение составили сыновья Мусса — Кургоко, Шамиль, Асланбек и
Туган. В третье поколение входили внуки Мусса: сыновья Кургоко —
Аксо, Адильгерий, Хазби и Георгий и его дочери — Егауз, Багагуса и
Сахар; дети Шамиля — сын Майрам и дочери Делетхан, Губата и
Нагъуда; сыновья Асламбека — Пиленка, Тазаерет и Афако; сын и дочь
Тугана — Абисал и Мерет. Четвертое поколение составили семьи двух
внуков — Аксо (сын Кургоко) и Абисала (сын Тугана). В семейной
общине Мусса проживала также дочь его умершего брата Габо — Геза2-
О
1 Ю. В. Бромлей. Становление феодализма в Хорватии, М., 1964, стр. 149.
* ЦГА СО АССР, ф. 30, д. 91, лл. 56—57.
168
Бясовы составили в Ханазе отдельный квартал («Биасти синх»),
занимая целый комплекс жилых хозяйственных и оборонительных строений.
Можно указать еще на семейную общину Марзоевых из сел. Хъал-
наЕтъта з том' же Дигорском ущелье. Данная семейная община также
состояла из четырех поколений родственников, и после революции уже
включала в себя 10 брачных: пар. Семейные общины, но в
основном «братские», можно назвать во всех других селах Дигорского
ущелья.
Таковы, например, семейные общины Гамаокозых, Камболовых и
Дзансоловых в Задалеске; Цоппоевых и Цаллаевых в сел. Ханаз; Кой-
баевых и Баезых — в Мастиноке; Екаевых, Гецаевых и Оказовых — в
Махческе; Дзидзоевых и Цакоевых — в Уакац: Езеевых и Гасиновых.—
в Галиата; Цопановых, Кибизовых и Болатовых — в Камуита; Царако-
вых и Байсангуровых — в Дунта;1 в сел. Стур-Днгора в 1886 году было
1} семейных общин2, которые нераздельно жили до революции или до
момента переселения на плоскость в первые годы Советской власти.
Одним словом, в горной Дигории не было ни одного села, где не
имелось бы одновременно по нескольку семейных общин.
Такую же картину наблюдаем в других ущельях Северной Осетии.
Так, в Куртатинском и Кобанском ущельях согласно посемейным
спискам 1886 года было: в селении Даргавс — 27 семейных общин; в Кака-
дуре — 6; в Верхнем Кобаие — 8; Хуссар Хинцаге — 5; Цагат Хинцаге —
4; Хуссар Ламардоне — 5; Цагат Ламардоне — 7; Хидикусе—12; Бар-
зикау—11; Лаце — 8; Дзвгисе—10; Даллагкау—11; Дзуарикау—6;
Гули — 5; Харискине — 3; Ацонаге — 53 и т. д. Все перечисленные здесь
поселения, кроме Даргавс, малолюдные селения.
Семейные общины — характерная особенность не одних только
горных сел. И на плоскости их было достаточно много. В плоскостной
Осетии нельзя найти ни одного селения, где бы до первых лет Советской
власти не сохранились семейные общины (правда, з меньшем числе».
Так, по переписи населения 1886 г. семейных общин в селении Гизель
насчитывалось 34; Батакоюрте — 26; Салугардане—18; Ардоне — °;
Дарг-Кохе — 6; Хумалаге — 6; Бирагзанге — 5; Магометаковском — 6;
Кадгаронё—17; Ольгинском—15. То же самое было в других
плоскостных селениях.
Что интересно, отдельные семейные общины даже при переселении
на плоскость сохранили свой прежний состав и общинный образ жизни.
Так, среди многочисленных семей, переселившихся в г. Владикавказ, в
его Осетинской слободке (Владикавказский аул), жило немало боль-
©
1 ЦГА СО АССР, ф. 30, оп. I, д. 91.
2 Т а м ж е, д. 93.
3 Т а м же, дд. 74, 75, 78.
' 169
ших семей. Характерными из них являются в 50—60 гг. XIX в. две
семьи из рода Газдановых.
Семья Газданова Аврама, состоявшая из 34 чел., включала в себя
пять брачных пар, в том числе его индивидуальная семья, семьи трех
его братьев и одного из его сыновей. Семья Газданова Нафи состояла
из семи индивидуальных семей, в том числе семьи его братьев и
сыновей. В семейной общине Газданова Нафи жила, кроме того, вдова его
умершего брата со своими детьми.1
На сохранение традиции совместной жизни, большими семьями у
жителей равнинной Осетии указывал также А. Цаллагов.2
Бытование общин было таким же обычным явлением и в Южной
Осетии. На это указывают в своих исследованиях 3. Н. Ванеев,3 3. Д.
[аглоева4 и В. К. Тотров5. 3. Н. Ванеев пишет, что «Совместная жизнь
семейных братьев во главе с их отцом или старшим из братьев еще в
недавнее время было распространенным явлением».6
Массовый характер бытования семейных общин в Осетии (не
только з горной, но и в плоскостной ее части), очевидно, следует объяснять
не только историческими, социальными и экономическими условиями,
но и специфическими особенностями общественного строя. По
наблюдениям исследователей XIX в. (В. Пфафа, Н. Никифорова, С. Кокиева,
М. Ковалевского и Евг. Максимова), у осетин в общественной жизни
отмечалась устойчивая традиция болыпесемейных отношений,
общинного быта в семье. Евг. Максимов, проанализировав большой
цифровой материал и изучив особенности формирования осетинских
поселений в горах и на плоскости, пришел к выводу о том, что у осетин
исторически наблюдается склонность к совместному проживанию в больших
семьях, семейными общинами7. Возможно, осетины, сохранив в своем
общественном строе и социальных отношениях многое из древних
родовых традиций, отдавали определенную дань и этой традиции.
Известно, что обычай в обществах, сохранивших традиционные
формы, играет исключительно важную роль. Он является не только
регулятором, но и транслятором (передатчиком) культуры8. Функцию
О
1 ЦГА СО АССР, ф. 12, оп. 6, д. 246, лл. 78—80.
2 А. Цаллагов. Сел. Гизель (или Кизилка). СМОМПК, вып. XVI, 1893.
3 3. Н. Ванеев. Из истории родового быта в Юго-Осетии. Тбилиси, 1955.
4 3. Д. Г аглоева. Семейная община у осетин. Изв. ЮОНИИ, т. XII.
5 В. К. Татр о в. Семья и семейный быт крестьян Юго-Осетии в конце
XIX—начале XX вв. Автореферат диссертации. Тбилиси, 1965.
и 3. Н. В а н е е в. Из истории родового быта в Юго-Осетии, стр. 59.
7 Евг. Максимов. Осетины. Терский сборник, вып. II, Владикавказ, 1892.
6 А. Б. Гофман, В. П. Л е в к о в и ч. Обычай как форма социальной регуляции,
«Советская этнография», 1973, № 1.
170
трансляции обычай осуществляет от поколения к поколению. И вот
этим путем каждое новое поколение унаследует от предыдущего
поколения «вековой обычай», который «уже все урегулировал»1.
Осетины, которые в описываемое время находились еще в
значительной степени под влиянием первобытнообщинных традиций, не
составляли в этом отношении исключения. Однако устойчивость больше-
семейных общинных традиций у осетин в большей степени объясняется,
как мы уже отмечали, социально-экономическими факторами и
условиями исторического развития Осетии.
Хозяйство семейной общины,
организация труда в ней и управление
Общественные нормы и семейные отношения у осетин, как и у
других народов, бесспорно, сложились в конкретных условиях их
экономической жизни и в описываемое время покоились на определенном
уровне хозяйственного строя и экономических отношений. Отсюда многие
явления семейной жизни тесно переплетались с различными сторонами
хозяйственной деятельности, были связаны с экономическим бытом.
Именно хозяйственная деятельность членов большой семьи выявляла
ее общинные черты.
Все процессы производства в земледелии, скотоводстве и ремесле
осуществлялись в рамках семейной общины. Преемственность
общественных и семейных традиций, связанных с хозяйственной деятельностью
народа, сохранялись и поддерживались прежде всего семейной
общиной. Различные стороны хозяйственной культуры прошлого в наиболее
законченной форме существовали в рамках этой семейио-общинной
организации.
Земледелие — исконное занятие осетин. Превосходными земледел:
цами были еще их предки — скифы, сарматы и аланы, особенно
последние. Этому способствовали наличие на занимаемой ими территории
обширных пространств плодородной земли и благоприятные
климатические условия, а главное, возросший уровень производительных сил.
Древние земледельческие традиции и богатый опыт эмпирических
знаний, приобретенных в течение веков, осетины использовали в
хозяйстве и в новых условиях. Неблагоприятные естественно-географические
условия в горах, куда ушли осетины после разгрома их
татаро-монголами, сковывали развитие земледельческого хозяйства. Не было здесь
и достаточной базы для содержания большого количества скота, спо-
1 К. М а р к с и Ф. Энгель с. Соч., т. 21, стр. 89.
171
собного обеспечить нужды проживавшей здесь массы людей. Поэтому
осетины как древние земледельцы принялись за выращивание хлебных
злаков, осваивая с исключительным упорством горное земледелие.
В XVIII в. в горах Осетии мы застаем чрезвычайно мелкие
земельные участки. Даже во второй половине XIX в., когда значительная
часть осетин переселилась на плоскость, крестьянские хозяйства в горах
в своем подавляющем большинстве владели не более, чем 150—200 кв.
саженей пашенной земли.
Но как показывают этнографический материал к письменные
источники, были и такие хозяйства, которые не имели п клочка земли.
Отсюда понятно, что земля приобретала баснословную цену. Пахотные
участки в горной Осетии измерялись, вследствие своей незначительной
величины и топографического положения, не десятинами или другими
мерами, как у большинства народов, а временем и трудом,
потраченным на их обработку, и урожаем, снимавшимся с них. Пахотные
участки назывались «бонгаенд» или «бонцау», ибо такой участок вспахивался
парой быков в течение одного дня. Семейная община обычно имела
несколько таких крошечных участков, которые были известны под
определенными названиями.
Все пашенные и покосные земли требовали постоянней расчистки
от камней и кустарника, систематического удобрения и, как правило,
ежегодного обновления (воссоздания) почвы.
Пахотные участки в некоторых ущельях «создавали» и на откосах,
которые расчищались от камней; на них сооружались поля — террасы,
укрепленные каменными подпорными стенами и т.д.
Создание террасовых полей являлось чрезвычайно трудоемким
занятием и в то же время крайне необходимым в условиях малоземелья
и горного земледелия. Остатки террасовых полей можно заметить еще
и сейчас в горах Осетии. С этой трудоемкой работой справлялась
только семейная община.
С ростом имущественной дифференциации и расслоением
крестьянства возникли различные формы аренды и феодальной эксплуатации.
Наиболее распространенной из них была испольщина — «хзздцон».
Сущность ее заключалась в том, что крестьянин брал у земледельца или
кулака определенный участок земли, который он вспахивал
собственным тяглом, засевал своими семенами, осуществлял уход за посевами,
затем жал и убирал хлеб в копны и за это от арендатора получал
часть хлеба. Многие семейные общины добывали хлеб или дополняли
недостаток в хлебе именно этим путем.
Пахотным орудием в горах служила общераспространенная на
Кавказе соха («дзыбыр», «дзывыр»). Соха долгое время, вплоть до
коллективизации сельского хозяйства, оставалась основным пахотным
орудием в горах.
В качестве пахотного орудия на плоскости применялся простой
деревянный однолемешный плуг — «гутон», в который впрягали 3—4
172
пары быков. Таким количеством быков располагала только семейная
общика.
В горах сеяли ячмень, овес, яровую пшеницу, рожь, в некоторых
местах (например, з Нарской котловине)—озимую пшеницу.1 Из
других культур в незначительном количестве выращивали стручковый
горох и фасоль, картофель и в долинах рек — просо. Просо являлось
древнейшей земледельческой культурой в Осетии. Просо осетины
завезли в горы из северо-кавказских степей, где оно возделывалось еще
в эпоху раннего железа.2
С переселением осетин на плоскость посевы проса расширились и
занимали значительно большую площадь, чем посевы пшеницы и
ячменя. Кроме пшеницы (преобладал озимый посев), ячменя и просаЪ
плоскостной Осетии из зерновых культур еще возделывали рожь, овес и
гречиху.3
В посевах крестьян определенное место отводилось также и
картофелю, который сажался главным образом как продовольственная
культура, идущая на питание в самих хозяйствах. Но в селах,
расположенных близко к городу, картофель выращивался и на продажу. Особенно
выделялось в этом отношении с. Ольгинское.
В пореформенный период в плоскостной Осетии посевы под
пшеницу, ячмень и рожь начали занимать все меньше площади. Зато
кукуруза стала самой распространенной культурой. Она приобрела большое
хозяйственное и про/ювольственное значение.
Одной из характерных особенностей хозяйственной деятельности
больших семей в равнинной Осетии было производство и продажа
кукурузы на рынке.
Второй важной отраслью хозяйства осетин было скотоводство,
имеющее еще более древние истоки, чем земледелие. К описываемому
периоду скотоводство сохранило также богатейший комплекс
производственных и общественных традиций, созданных еще в древности.
Основным направлением в скотоводческом хозяйстве нагорной полосы Осетии
являлось овцеводство; в условиях гор оно было наиболее рентабельным.
Им занимались в основном семейные общины. Горцы держали в своем
хозяйстве и коз, ко в значительно меньшем количестве. В больших
семьях коз разводили, главным образом, для получения шерсти и пуха,
а также шкур, шедших на изготовление кожаных мешков («къаесса»)
и бурдюков («лалым»). Из шерсти коз вили веревки («саехъисбаендаен»)
и изготовляли грубую ткань («хъисын»). Кроме овец и коз осетины
О
1 А. Яновский. Осетия. Обозрение российских владений за Кавказом. II, стр. 206.
2 Е. И. Круп нов. Древняя история Северного Кавказа, стр. 314.
3 Д. Лавров. Заметки об Осетии и осетинах. Сб. материалов для описания
местностей и племен Кавказа, вып. 3, Тифлис, 1883, стр. 136.
173
разводили крупный рогатый скот. Из крупного рогатого скота, помимо
быков, разводились коровы (малорослой горской породы), которые по
характеристике А. Яновского давали высококачественное молоко,
нередко до 2/3 ведра1.
В нагорной полосе Осетии размеры скотоводства находились в
прямой зависимости от его кормовой базы, которая была весьма слабой,,
даже скудной. В семейных общинах часть мужского населения
занималась отгонным хозяйством, вместе с отарой отправляясь на равнину,
в предгорные степи или альпийские луга.
Местоположение и размеры сенокосных участков—«уыгаердаеитае»
были чрезвычайно разнообразны. Подавляющая часть их
располагалась на боковых скатах гор, крутизна которых часто доходила да
40°. Для сенокошения использовались мельчайшие клочки по уступам
гор, среди пашен, а также в местах, покрытых мелко растущим
кустарником. Каждая семья занимала определенные участки, иногда
буквально клочки сенокосов. Как правило, участки имели названия по месту
нахождения. Большие семьи, владевшие значительным количеством, ов-
цепоголовья, арендовали сенокосы у землевладельцев в горах и у
кулаков на плоскости.
В качестве выгонов использовались самые неудобные, но покрытые
зеленью места. Разумеется, при пользовании общинными выгонами в
преимущественном положении оказывались семейные общины,
владевшие большими стадами овец.
Для пастьбы скота на общинном праве использовались также
пашенные и покосные участки, находившиеся в подворном владении,
после уборки на них хлебов и сена.
В кормовом балансе животноводства большое место занимали
летние пастбища, которые содержали наиболее ценный корм — альпийские
луга. Они находились как в семейно-родовом, так и в общинном
владении, а нередко составляли и феодальную собственность.
Ввиду безземелья и отсутствия скота значительная часть осетин
нагорной полосы поддерживала свое существование батрачеством и.
арендой скота. Неимущие общинники брали у богатых скотоводов,
прежде всего у семейных общин, определенное количество голов
продуктивного скота в аренду — «лаескъ». Он заключался в том., что
крестьянин содержал на свой счет взятые им в аренду овцы, обеспечивал весь
уход за ними. За это время арендатор («лгескънсээг») получал себе
все молочные продукты и Головину шерсти со всего стада. Собственник
же скота получал другую половину шерсти и все шкурки павших овец
и ягнят. По истечении договорного срока все стадо с приплодом
делилось поровну между хозяином и арендатором2. В различных ущельях.
О
1 А. Яновский. Указ. соч., стр. 209.
2 Терский сборник, кн. II, Владикавказ, 1892, стр. 39.
174
Северной и Южной Осетии существовал ряд локальных вариантов
«лаескъ». Но суть всех этих форм заключалась в том, что
первоначально ссуженный скот возвращался к прежнему хозяину в значительно
наращенном количестве.
Для увеличения поголовья овец семейная община нередко
отправляла часть мужчин в «лаескъ», «лззскъдззераен». Такая форма
отходничества широко практиковалась в Дигории, откуда многие
отправлялись в Балкарию и Карачай. Нередко осетины-горцы отправлялись на
заработки группами, кооперируясь. Полученный ими за работу скот
(стадо овец) они делили по возвращении ими в Осетию. Отголоском
этой эпохи является известная местность в Урухском ущелье — «Фген-
сиуараен» Место для дележа скота).
В жизни осетин скотоводство играло исключительно важную роль.
Домашние животные фигурировали везде: они заменяли собой
денежные знаки при купле-продаже; ими платили калым за невесту, их
использовали в самых различных случаях жизни. Крупный рогатый скот
в основном использовался в качестве тягловой силы.
При помощи овец и продуктов овцеводства осетины вели торговый
обмен с Грузией, Кабардой, Черкесией и некоторыми русскими
крепостями, в том числе с Кизляром и Моздоком. Значительная часть
производимых в больших семьях предметов — бурочных изделий,
домотканого сукна, овчин шла на рынок.
Малые индивидуальные семьи не выступали на рынке, так как
незначительные размеры хозяйства, малочисленность рабочих рук не
давали возможности изготовлять изделия на продажу.
Осетины, поставленные историческими условиями в изолированное
положение и оторванные таким образом от внешних рынков,
принуждены были изыскивать средства для своего существования, производить
внутри хозяйства все необходимое для жизни — орудия труда,
предметы домашнего обихода, материал для изготовления одежды, обуви и др.
У осетин опять-таки в основном в семейных общинах были
развиты такие кустарные ремесла, как бурочное и суконное производство,
обработка кож и шкур, рога, кости, дерева, металлообработка
(кузнечное производство, оружейное и ювелирное дело).
Имущество семейной общины состояло не только из пашен,
сенокосных участков и домашнего скота, но из жилых и хозяйственных
построек. Все это находилось в безраздельном владении семейной
общины. На эту особенность семейной общины особо указывал М.
Ковалевский. «Входящие в состав двора (семейной общины.— А. М.) семьи
владеют нераздельно принадлежащею им землею, рабочим скотом и
другими хозяйственными принадлежностями».1
О
1 М. Ковалевский. Поземельные и сословные отношения у горцев Северного
Кавказа. Журн.«Русская мысль», 1883, кн. XII, стр. 139.
175
1 Большая семья размещалась в оддом общем дворе, составляя в
хозяйственном отношении единую ячейку.
Осетинское торное жилище с его комплексом строений довольно
четко отражает долгое существование в Осетии семейных общин.
Традиционные «хаедзар» и «къона» (очаг) в том значении, в каком они
нам известны, появились вместе с возникновением большой семьи и
сопутствовали ей на протяжении веков. На это, между прочим, в свое
время обращал внимание В. Ф. Миллер. «Любому домохозяину, —
писал он,— нетрудно насчитать от пяти до десяти и более поколений его
предков, проживавших на том самом месте, в той же самой сакле»1.
За исключением общих для жителей всего селения или группы
сел оборонительных и сторожевых башен и комплексов, все другие
башенные и крепостные сооружения (жилые башни, галуаны и гакахи)
составляли собственность семейных общин, в которых женатые члены
семьи занимали отдельные комнаты. Если семья не располагала
башней или галуаном, то она все же строила обычное жилище, где каждая
женатая, пара имела свое отдельное помещение — «уат» Вот что
пишет Ковалевский о порядке совместного проживания членов
осетинской семейной общины: «Неудобство совместного сожительства
устраняется тем, что по мере вступления в брак совершеннолетних сыновей,
племянников и внуков, к прежнему ряду смежных саклей делаются
новые пристройки, так что каждая семья имеет свое отдельное
помещение, и общая сакля служит только кухней и столовой».2
Общим для всей семьи помещением являлся «хзедзар». Из
скольких бы комнат не состоял дом, жизнь семьи в основном протекала в
«хаедзаре». Вокруг «хаедзара» росла и сплачивалась семья. Здесь же
происходили приготовление и прием пищи. Все домашние работы
также исполнялись в нем. Хозяева дома нередко принимали своих гостей
в «хаедзаре». «Хаедзар» не только собирал под свои своды
многочисленный коллектив семейной общины, но также являлся местом для
совершения религиозных и семейных обрядов, наконец, служил
символом единства и неразрывности большой семьи. Отсюда понятие «семья»
нередко передавалось словом «хаедзар».
«Хаедзар» делился незримой чертой, проходившей по центру от
двери до очага, на мужскую и женскую половины. На правой
стороне пребывала мужская часть семьи; женщина сюда попадала в
присутствии мужчин только во время уборки и если прислуживала. В
остальное же время она не имела права переступать эту условную черту.
О
1 В. Ф. М и л л ер. В горах Осетии. Журн. «Русская мысль», 1881, IX, стр. 80.
2 М. Ковалевский. Поземельные и сословные отношения у горцев Северного
Кавказа, стр. 139.
176
Зато левая от очага сторона считалась таким же исключительным
владением женщин.
На мужской половине «хаедзара» у очага обычно стояла грубо
сколоченная скамейка -*- кресло с резной спинкой. Оно служило
сидением старшего в доме мужчины. «Это кресло — своего рода трон
патриарха, главы дома. По старым обычаям никто, кроме старика, не
смел садиться на это священное седелище»1. По правую' сторону от
очага, ниже «патриаршего трона», полукругом располагались
небольшие треногие стулья-табуретки или простейшего устройства
скамейки на 2 — 3 человека. В некторых домах стулья и скамейки заменялись
деревянной или каменной лавочкой вдоль стены. Когда семья бывала
в сборе, мужская половина вся сидела на этих стульях или лавочках,
а женщины стояли у левой стены «хаедзара».
Во главе семейной общины стоял старший в семье мужчина — дед,
если' он бывал жиз, отец женатых сыновей. После смерти отца,
главы семьи, его место занимал старший из братьев. Последний мог
добровольно заявить о своем нежелании возглавлять большесемейный
коллектив, и братья по единодушному согласию могли назвать
следующего по возрасту брата или наиболее энергичного или
авторитетного из них. Главой семьи могла быть (и фактически она была ею)
старшая в семье женщина — прабабушка, бабушка. Она наделялась
такими же правами и обязанностями, как и глава семьи — мужчина2.
«Фактически старуха-мать,— писал М. А. Мисиков,— является
полновластной хозяйкой и редкий сын решится предпринять что-нибудь
без ее ведома, без ее совета. Если в доме после смерти мужа нет
взрослых, то старшинство принадлежит ей до тех пор, пока не подрастут
все сыновья, коим принадлежит все хозяйство»3. Глаза семьи
распоряжался всей хозяйственной деятельностью семьи. Поскольку
имущество принадлежало всей семье, и в индивидуальном порядке никто не
имел прав собственности, имуществом распоряжалась вся семья в
лице своего старшего.
Но это не означало, что глава семьи мог распоряжаться общим
имуществом как угодно, ущемлять общие интересы семьи. По
свидетельству М. М. Ковалевского, «производимые им акты отчуждения и
совершаемые им займы приобретают обязательную силу не иначе и
не раньше, как под условием молчаливого одобрения их всеми и
каждым из совершеннолетних мужчин (в семье.— А. М.). Раз последует
О
1 Г. Ф. Чурсин. Осетины, стр. 147.
2 Гагстгаузен. Закавказский край; М. О. Косвен. Этнография и история
Кавказа, М., 1961, стр. 9.
3 М. А. Мисиков. Материалы для антропологии осетин, стр. 73.
12 А. X. Магометов 177
открытый протест.., сделка считается недействительной»1. Дополняя эту
мысль, Ковалевский пишет в другом месте: «Хотя глава семьи
полновластный распорядитель ее имуществом, но договор, им заключенный,
не действителен, если. совершеннолетние мужчины выскажутся против
него. Продать семейное имущество старейшина вправе только тогда,
когда этого требуют интересы семьи»2 и, разумеется, есть на это
согласие взрослых мужчин — членов семейной общины.
В отличие от осетин у карачаевцев глава семейной общины «не
только главный распорядитель, но вместе с тем полновластный хозяин
всего семейного имущества, которое принадлежит ему на праве
полной собственности. Как собственник, он не ограничен в праве
распоряжения им и даже может отчуждать его в другие руки или же
растратить до последней копейки. Никто из подвластных не может
опротестовать его распоряжений». Домовладыка, говорится далее, «в своих
имущественных распоряжениях не связан никакой отчетностью членам
семьи; контролировать его действия они не смеют»3.
В противовес этому, на старшем осетинской семейной общины
лежала обязанность беречь в интересах всей семьи приобретенное ею
имущество, регулировать его правильное расходование на основе
уравнительного принципа (члены семейной общины, воспроизводившей
отношения и характер древнего рода, были равны в правахI и
способствовать умножению семейно-общинной собственности (опять-таки в
интересах всей семьи).
Большую семью как отдельную и самостоятельную хозяйственную
ячейку представлял в сельской общине ее глава — «хистаер». Он один
только выступал от ее имени как в хозяйственных сделках, так и
вступал в общественные отношения с общинниками, а позже — и с сельской
администрацией.
«Хистаер» направлял всю хозяйственную деятельность семьи. Он
регулировал «очередность» осуществляемых ею работ, устанавливал
важность каждой из них и в соответствии с этим определял каждому
в семье (мужскому ее составу) участок его деятельности.
Одна группа мужчин была занята постоянно одним видом работы
(уходом за скотом), другие занимались пахотой, третьи заготовкой
дров. Но освободившись от своих занятий в сезоне, покончив с
начатым делом, член семьи включался в другую работу (с ведома или
по указанию главы семейной общины).
По заведенному порядку, члены семьи (мужчины), за исключеии-
©
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 101.
2 Т а м же, стр. 146.
3 Б. Миллер. Из области обычного права карачаевцев. «Этнографическое
обозрение», 1902, № 1, стр. 24—25.
178
ем тех, кто работал за пределами села, собирались вечером в «хаедза-
ре» и в мирной, довольно сдержанной беседе отчитывались о
проведенном дне старшему, который теперь же принимал решение, чем
каждый из них должен заниматься завтра.
Согласно принятым в семейной общине моральным установлениях^
члены семейного коллектива не могли оспаривать хозяйственные
распоряжения " своего старшего. Они не только подчинялись им, но и
обязаны были своим беспрекословным послушанием поддерживать его
авторитет. Подчинение старшему в доме и почитание его авторитета
членами семьи были настолько безапелляционными, что древний
старец имел право отчитывать своего седовласого сына, уже дедушку.
И последний выслушивал старшего молча, с опущенной головой.
Глава семейной общины отнюдь не являлся бездеятельным в
своей роли, занятым только наведением порядка и поддерживанием мира
в семейном коллективе. Он «наравне с другими членами общины
личным трудом принимает участие в коллективном производстве до тех
пор, пока он сохраняет трудоспособность»1.
На обязанности главы семейной общины лежали также
отправление семейно-родового культа и руководство другими обрядами,
связанными с хозяйственной деятельностью семьи и др.
Семейная община покоилась не только на безусловном
подчинении старшему — главе семьи, но и на солидарности всех членов ее.
«Обязательная солидарность членов семьи, руководимых старшим в
семье, составляет основу семейного быта»2, — подчеркивал в своем
описании семейного быта осетин этнограф 3. Сосиев.
Члены семейной общины хорошо сознавали, что благополучие
семьи, а стало быть и благополучие каждого из них, зависит от
сплоченности их в рамках семейного коллектива.
Прямым выражением этого явилась пословица, которая бытуег
среди осетин и по сей день (но в ином значении и в иных условиях):
«аенгом бинонтзэ цард арынц» (букв.— дружная семья жизнь находит).
Домашними работами — доение коров и уход за домашней
птицей, приготовление пищи, снабжение водой, изготовлеуие одежды,
стирка и починка ее, уборка помещений и др., которые лежали на
обязанностях женской половины семьи, руководила старшая в доме
женщина — «аефсин».
Отступая несколько от темы, заметим, что термин «аефсин», как
установил В. И. Абаев, идет от времен матриархата. Он возник в скифо-
массагетском мире, имеет иранское происхождение и применялся в Ус-
©
1 3. Ванети. Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин.
Владикавказ, 1926, стр. 20.
2 3. Сосиев. Станица Черноярская. Терский сборник, 1905, вып. 5, стр. 47.
179
рушане и Согдиане — древних иранских областях в Средней Азии —
для обозначения титула верховного правителя. Как утверждает В. И.
Абаев, и в Усрушане, и в Согде это слово «аэфсин» было
заимствовано из скифского (массагетского, аланскогоI.
Массагетские (аланские) племена, у которых еще сильны были
матриархальные традиции, и управлялись женщинами-правительницами,
возглавлявшими также войска (Томирис, Зарина), способствовали
распространению этого термина в значении «правитель» в Средней
Азии.
«Прославленный завоеватель Кир, сокрушивший великие царства
древнего мира, сложил голову в борьбе с массагетской «аесин»
Томирис. Можно представить, какой оглушительный резонанс дало это
событие во всем тогдашнем мире»2.
Известно также, что «постоянным эпитетом нартской Шатаны
является знакомое нам «эефсин»3.
Власть «гефсин» распространялась на всех женщин в доме. Как
писал М. Ковалевский, «женщина эта стоит во главе всей женской
половины двора»4. Она руководила не только их производственной
деятельностью, распределяла между ними их обязанности, учила, их
хозяйствованию, Но и являлась их наставницей на жизненном пути, з
семейных делах. Все младшие женщины в семье называли ее «не
'фсин» (наша хозяйка). Не только женская молодежь, ,но и дети
мужского пола до известного возраста, 10—11 лет, находились под
присмотром старшей женщины. «ЛЕфсин» в исполнении своих
обязанностей могла опираться на старших по возрасту женщин. Старшая
женщина, если она превосходила по годам главу семьи (а им в таком
случае мог быть ее сын, деверь и т. д.), то она, как правило,
выполняла также жреческие обязанности. 3
В сфере домашних дел «зефсин» была такой же полноправной
хозяйкой, как к старший в доме5. Это является общим правилом для всех
племен и народов Кавказа, да и не только кавказских народов.
В полном ведении старшей женщины находилась кладовая с
запасами продуктов питания — «къаебиц». Ключи от кладовой она держала
©
1 В. И. Абаев. Среднеазиатский политический термин Афсин. «Вестник древней
истории», 1959, № 2.
2 Там же, стр. 115.
3 Там же, стр. 116.
4М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 101.
5 М. О. Косвен. Этнография в истории Кавказа, стр. 9—94; 3. Н. Ванеев. Из
истории родового быта в Юго-Осетии, стр. 61; А. X. Магометов. Семья и
семейный быт осетин в прошлом и настоящем; К. Д. К У л о в. Матриархат в Осетии.
180
у себя — они нередко висели у нее на поясе (как знак власти старшей
женщины).
В «къаебиц» могла проникать только она сама или одна из
женщин по ее поручению. Мужчины в кладовую доступа не имели.
Кухня у осетин — привилегия женщины, но не всегда. В
первобытном коммунистическом хозяйстве мясная пища, ее добывание,
приготовление (жарение), разделка и распределение находилось в руках
мужчины. И сейчас у осетин на праздниках — общественных и
семейных, на поминках мужчины приготавливают мясную пищу, делят ее,
они распоряжаются ею.
Как мужчины, так и женщины в дела друг друга не вмешивались.
Вмешательство мужчины в женские, а женщин — в мужские дела
считалось неприличным.
Члены семьи безусловное уважение к старшему оказывали не
только потому, что он был старше всех в доме и издавна повелось так, но
еще и потому, что он обладал большим жизненным опытом и
житейской мудростью, чем они сами, ибо этот опыт приобретался с годами.
Несмотря на то, что глава семьи ведал в доме всем и повелевал
всеми, его власть была ограничена определенными нормами семейного
и общественного быта, правилами внутрисемейного этикета.
Прежде всего, старший не должен был безрассудно пользоваться
своей властью, действовать вопреки интересам семьи, а тем более
злоупотреблять ею. Нарушение этого правила приводило к падению его
авторитета, к игнорированию его распоряжений. Хотя старший семьи и
наделен неограниченной властью, говорит С. Кокиев, но он «не
деспот: малейшее злоупотребление своей властью, своим правом, какое-
нибудь деспотическое отношение ведет к полному подрыву его
значения в общественном мнении, к полному падению его авторитета. Вот
что кладет печать величайшей осторожности даже на каждое его
слово и на все его отношения к младшим, вот чем ограничена его власть.
Следовательно, все отношения исключительно основаны на взаимном
уважении и признании прав личности в каждом, а соответственно тому
и известных общественных, семейных прав, установленных, присвоенных
каждому народным нравственным кодексом»1.
От авторитета главы семьи, от его тактичности, соблюдения
строгой справедливости, умения держать себя, а также от способности
поддерживать мир и порядок среди многочисленного состава семейного
коллектива зависела в значительной степени устойчивость семьи,
налаженность ее хозяйственной деятельности.
Признание единовластия главы семьи не означало, что взрослые
члены семьи не могли оказывать своего влияния на ход хозяйственных
О
1 С. В. К о к и е в. Записки о быте осетин, стр. 75.
181
дел в доме и подавать советы. Наоборот, общие интересы семьи, а
также нормы, регламентировавшие права старшего, обязывали последнего
прислушиваться к совету и мнению членов семьи. Когда назревала
такая необходимость, глава семьи созывал семейный совет, где
высказывали свое мнение или подавали совет старшие мужчины, а нередко и
старшие женщины.
Чтобы представить картину хозяйственной деятельности
осетинской семейной общины, ее хозяйственной основы, взаимоотношений
членов семьи и их функций, целесообразно познакомиться с
некоторыми из семейных общин конкретно.
Характерна, например, история семейной общины Дзгоевых в
сел. Верхняя Саниба, состоявшая до революции из 52 человек —
потомства семи братьев. По рассказу члена этой семьи Дзгоева Кылцыко
A883 г. рождения), переселившегося уже в первые годы Советской
власти в сел. Эл.ьхотово, одних косарей в доме было 21 человек.
Основу хозяйства составлял мелкий рогатый скот — семья владела 1000
голов овец1, а также 300 голов крупного рогатого скота и 30
лошадьми. Помимо собственных участков — пашен и сенокосов Дзгоевы
арендовали дополнительные земельные участки на плоскости. Кроме
занятий скотоводством, члены семьи сеяли хлеб, которым обеспечивали
себя полностью. Отдельные из мужчин Дзгоевых посезонно или на
разные сроки уходили на заработки, а один из братьез учился за
границей (в Швейцарии). Но и он не терял связи с семьей.
Семью возглавлял старший из братьев Дрис (отец семьи к этому
времени умер). Все братья, когда семья еще жила совместно, были
женаты. Старшей женщиной в доме «зефсин» была мать братьев Агу-
зан, которая умерла в 1916 году в 145-летнем возрасте. Эту свою роль
она выполняла до конца жизни. Она не только была полновластной
хозяйкой в доме и руководила невестками, но и оказывала
существенное влияние на дела всей семьи. Глава семьи — ее старший сын
Дрис — ни одно серьезное дело в доме не решал без ее согласия. Слово
ее, как матери и самой старшей в семье, было законом для всех
членов семейной общины. Между прочим, в аналогичных случаях, т. с.
когда отец — глава семьи — умирал и оставалась его супруга, то она,
будучи старшей женщиной, и как мать семьи почти всегда
пользовалась неограниченной властью: ее сыновья, в том числе и тот из них,
который после смерти отца считался главой семьи, не обходили ее ни
в одном вопросе. Но как бы ни был высок ее авторитет, она в
качестве главы семьи не выступала перед сельской общиной, не
участвовала на «нихасе», на культовом празднике и т. д.
О
1 Этнограф Н. Берзенов еще в середине XIX в. писал, что в Осетии «иные дворы
считают у себя до тысячи овец». Газ. «Кавказ», 1852, № 67.
182
С точки зрения изучения внутреннего строя осетинской семейной
общины и характеристики взаимоотношений между членами такой
семьи большой интерес представляет семья Темираевых в селении Фа-
раскат (Дигорское ущелье).
Согласно посемейным спискам в семье Темираевых в 1886 году
было 20 человек, а к 1918 году их уже насчитывалось 50 человек. Они
составляли потомство двух братьев: Слангерия и Сабазгерия (отца и
матери последних к 1886 году уже не было в живых). Главой семьи
был старший брат Слангерий, ему в 1886 году было 62 года, жене его
Сопа—42 года, возраст Сабазгерия — 53 года, его жены Уайся —
48 лёт1. У Слангерия было трое сыновей и трое дочерей, у
Сабазгерия— шесть сыновей и трое дочерей. При жизни двух братьев, пока
семья еще жила вместе, женились их сыновья. Таким образом, в
семейной общине Темираевых к моменту их раздела было одиннадцать
женатых пар. Женились даже некоторые из внуков Слангерия и
Сабазгерия. Функции старшей женщины («аефсин») по праву принадлежали
жене главы семьи — Сопа, но она свою власть делила добровольно с
женой деверя — Уайся (может быть потому, что та была на
несколько лет старше нее). Они прекрасно мирились между собой и
дополняли друг друга. Однако одна без другой никакого самостоятельного
решения не принимала. Все хозяйственные работы, выполнявшиеся
мужчинами, регулировались главой семьи — Слангерием. Собираясь
ежевечерне в «хаедзаре», за беседой в тесном кругу (брата, его старших сыновей и
племянников), он осведомлялся о делах пройденного дня, о том, что
сделано мужчинами за день. Вырисовывалась картина, что предстоит
семье сделать на завтра. В мирной беседе каждый узнавал, чем он
должен заниматься в предстоящий день.
Во время распределения работ между членами семьи в действиях
старшего совершенно отсутствовали принуждение, стремление оградить
одних от тяжелых работ, а других нагрузить. Только на основе
строгой справедливости и одинакового отношения старшего ко всем
достигалась сплоченность и единство такого коллектива. Все одинаково
были нагружены работой, каждый был занят делом. Более ответственные
работы, требовавшие большего опыта и знаний, выполнялись старшими.
Сам глава семьи—Слангерий выполнял наиболее сложные работы.
Если замечалось, что в данной работе кому-то приходится трудно,
устает, другие ему спешили на помощь, облегчали его труд, или вовсе
заменяли его. Проявлялась удивительная чуткость людей друг к другу.
Здесь, конечно, сказывались традиции первобытно-родовой взаимопо-
О
3 ЦГА СО АССР, ф. 30, оп. I, ед. хр. 91, л. 38. Для характеристики данной
семейной общины использованы кроме архивных источников полевые этнографческие
материалы, собранные автором у членов этой семьи.
183
мощи, сохранившиеся в семейной организации осетин с особенной
устойчивостью.
Не меньшая сплоченность наблюдалась в женской половине семьи.
Во-первых, как мы уже сказали, две старшие женщины между собой
жили очень дружно. Каждая из них старалась предупредить желание,
другой. Такие же взаимоотношения сложились между снохами
(невестками— «чындзытае»), которые весьма тактично поддерживались
старшими женщинами.
Несмотря на многочисленность женского коллектива, в нем не
были известны недомолвки, обиды друг на друга. Любопытна жизнь
двух женщин в этой семье — двух жен одного из сыновей главы семьи
Дафа — Сурме и Гуаса. Сурме была бездетной, и с ее согласия Дафа
взял вторую жену, от которой родилось трое детей. Но детей
воспитала как родных первая жена Дафа — Сурме, а к их матери она
относилась как к младшей, ласково и доброжелательно. Сама же Гуаса
ь Сурме признавала не только свою наставницу,, но и находила в ней
опору.
Так же, как и у мужчин, работы среди женщин были строго
разграничены. Каждая отвечала за свой определенный участок. Обе
хозяйки— Сопа и Уайса и две старшие невестки постоянно были заняты
приготовлением пищи, другие — уборкой помещений и доставкой с
речки воды, третьи — починкой и стиркой одежды, четвертые — доением
коров и другими домашними делами. Девушки (дочери и племянницы)
работали в хозяйстве наравне с невестками. Уходом за детьми
занималась не каждая мать в отдельности, а одна или две из них.
Воспитанием же их руководили старшие женщины.
Следует отметить еще одну особенность жизни этой семейной
общины. Это— порядок обеспечения членов семьи одеждой п обувью.
Семья завела своего рода склад, где она держала необходимое
количество мануфактуры и других товаров, в которых нуждались ее члены.
Отсюда каждый получал наравне с другими свою долю одежды и
обуви. Запасы постоянно пополнялись, и когда возникала необходимость
приодеть кого-то из семьи в неочередном порядке, например, во время
женитьбы, или выхода замуж, то брали оттуда нужные вещи.
Хозяйство Темираевых состояло из обширного двора (около
гектара в квадрате), в котором были расположены основной дом с
позднейшими пристройками, и хозяйственные постройки, а также из
мельницы, земельных участков и скота. В 1886 году Темираевы в своем
частном владении имели 12 участков пахотной земли, 7 сенокосных
участков. Крупного рогатого скота было 16 голов, овец и коз—140
голов1. К 1918 году у Темираевых уже мелкого скота (овец) стало
О
1 ЦГА СО АССР, ф. 30, оп. I, ед хр. 91, л. 38.
184
более 1000 голов, крупного рогатого скота—45 голов, пахотных
участков — 22. Для нужд хозяйства семья арендовала на плоскости участки
пахотной земли, а в горах — сенокосы. Темираевы обходились своими
силами, не привлекая со стороны наемных работников. Семейная
община Темираевых разделилась после смерти старших братьев в 1918
году на две семьи: одну семью составило потомство Слангерия,
другую— потомство Сабазгерия1.
Известно, что семейная община в период господства
натурального хозяйства производила столько продуктов, сколько это диктовалось
ее потребностями.
Другую картину мы имеем в период капиталистических
отношений. Последние не только оказывают свое влияние на характер и
форму хозяйства, но и втягивают ее в свою сферу. Она теснейшим
образом связана теперь с рынком, куда она отправляет известную часть
продуктов.
Примером такой семейной общины может служить большая семья
«Назарова Сапсона Абаевича из Салугардана, которая в середине 80-х
годов XIX века владела большим деревянным домом, мельницей,
фруктовым садом в 300 кв. саженей, пчелопасекон (з 98 сапеток) и
надельным участком земли, сверх которого семья дополнительно
арендовала землю2. Наряду с земледелием, садоводством и пчеловодством
семья «Назаровых вела скотоводческое хозяйство. Она имела:
крупного рогатого скота 70 голов, лошадей — 60, овец — 660 и коз — 40
голов. Ежегодно два-три человека из семьи занимались, кроме того,
заготовкой лесоматериалов и извозным промыслом (возкой руды из Са-
дона). Определенная часть производимой в хозяйстве продукции
(фруктов, меда, мяса) семья сбывала на рынке3.
Несмотря на устойчивость родовой идеологии и живучесть
общинных традиций, исторический ход развития общества привел в конце
концов к распадению семейной общины на малые, индивидуальные
семьи.
Решающую роль здесь сыграло проникновение товарно-денежных
отношений в осетинскую деревню, способствовавших поднятию
заинтересованности у отдельных членов семьи в самостоятельном хозяйстве.
«В последнее время,— говорится в одной из этнографических
работ того времени,— семейные общины стали распадаться все чаще и
чаще. То тот, то другой член семейства обнаруживает стремление к
личной самостоятельности и независимости ог семейной общины,
желание трудиться и работать не по указанию главы семейства, а в тон
О
1 Полевой материал автора, 1964 г.
2 ЦГА СО АССР, ф. 30, оп. I, д. 94, лл. 30 — 31.
3 Т а м ж е.
185
сфере, к какой он чувствует склонность,, и при этом только для себя,
за свой счет и на свою ответственность»1.
Это явление А. Ардасенов характеризовал следующим образом:
«Дух индивидуализации проник к горцам и внес разлад в
патриархальный строй их жизни. Большие родовые семьи стали быстро распадать-.
ся на отдельные семьи»2.
Родовые традиции большой семьи ломаются под ударами
капиталистических отношений, которые неумолимо вводят во
внутрисемейную мораль такие понятия, как «польза» («пайда»), «каждому свое»
и т. д. Меняются понятия о «старшинстве», хотя оно внешне долго
не меняется. Очень метко подметил эти новые явления знаток
дореволюционного быта осетин М. 1\. Гарданов: «С падением
натурального хозяйства с его патриархально-родовым бытом наступает
меновое хозяйство (т. е. капиталистическое. — А. М.), которое оценивает
предметы по их достоинству. В новом обществе каждый член семьи
рассматривается с точки зрения полезности, прибыльности для семьи.
Если данный субъект приносит много пользы для семьи, то он бог
семьи, он их кормилец, ему поклоняются все, его величают. Старость
тут уже ни при чем. Старшие в роде и в доме, до сего времени
считавшиеся повелителями и властелинами дома, по идее новой жизни
отходит на задний план»3. Одним словом, победа частной собственности
означала распад большой семьи4.
Распад семейной общины протекал отнюдь не безболезненно.
Подвергнув дроблению и без того мизерные участки земли и небольшое
число скота, которыми располагала семья, а также остальное скудное
хозяйство, вновь образованные семьи не могли стать на ноги или же
вовсе разорялись. «Семейные разделы, вследствие малоземелья и
малого размера скотоводства, приводят развалившиеся дворы почти к
полному разорению»5,— писал А. Скачков.
Только этим и можно объяснить, что вплоть до Октябрьской
революции в Осетии еще сохранилось значительное количество больших
патриархальных семей. К ним с полным правом можно применить
утверждение того же исследователя: «Страх перед разорением
является цементом, скрепляющим дворы и удерживающим их от разделов»6.
О
1 «Терский сборник», 1905, вып. 5, стр. 17.
2 В. Н. Л. Переходное состояние горцев Северного Кавказа, стр. 20.
3 М. К. Гарданов. Селение Христиановское в фактах жизни. Известия ОСНИИК,
1925, вып. I, стр. 189.
4 М. О. К о с в е н. Семенная община и патронимия, стр. 76.
5 А. С. Скачков. Опыт статистического исследования горного уголка
(Экономический очерк).
6 Там же, стр. 87.
Д86
Эта особенность являлась общей для всех горцев Северного Кавказа.
Массовое распадение семейных общин з Северной Осетии имело
место и в более ранний период, но оно прошло волной, охватившей
небольшой отрезок времени (с конца 20-х годов до начала 60-х годов
XIX в.). Оно было связано с массовым переселением осетин-горцев на
плоскость. Женатые сыновья, входившие в состав больших семей в
горах, получив возможность переселиться на плоскость, не преминули
воспользоваться этим.
Их уже не ограничивала стесненность в земле, ибо каждая новая
семья получала самостоятельный надел. Последнее обстоятельство
служило даже основным стимулом к разделу больших семей. Таким
образом, новые селения на первоначальной стадии заселяются в
основном малыми семьями.
В результате происшедшего уже в тот период распада больших
семей в плоскостных селениях имелись фамилии, каждая из которых
состояла из целого ряда семейств, связанных кровнородственными
отношениями.
Например, в 1881 году в сел. Ардон проживало 309 семейств. Из
них фамилию Дзугаевых составляло 21 семейство, Кулаевых— 19, Тла-
товых—10, Ревазовых — 9, Лековых — 9, Урумовых — 8 семейств.
Фамилий, состоявших из 7 семейств, насчитывалось 4, из 6 семейств — 5,
из 5 семейств — 3, из 4 семейств — 8, из 3 семейств—19, из 2
семейств— 16; остальные 39 дворов принадлежали к различным
фамилиям.1
Индивидуальные малые семьи, возникшие в результате
первоначальных разделов, происходивших в более раннюю эпоху в силу
естественной необходимости, когда разросшаяся семья уже не могла жить
«одним котлом», а также во время первых переселений на плоскость
имели тенденцию к разрастанию в большие семьи2. 3. Н. Ванеев это
называет вторичным процессом возникновения больших семей3. Кос-
:вен же эту характерную в развитии осетинской семьи черту
формулирует так: отделившаяся семейная ячейка «достаточно быстро в силу
естественного прироста вновь превращалась в большую, более или
менее многодетную семью»4.
Если разделы происходили при жизни родителей, то они, как пра-
.вило, осуждались в общественном мнении. Поэтому горец, зная силу
О
1 Сб. Статьи неофициальной части газеты «Терские ведомости» за II полугодие 1881 г.,
стр. 454.
2 М. О. Косвен. Этнография и история Кавказа, стр. 94—95.
3 3. В а нети. Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин, стр. 9—10.
4 М. О. Косвен. Из истории родового строя в Юго-Осетии. В его кн.: Этнография
и история Кавказа, стр. 13.
187
общественного порицания, обычно не совершал поступков, которые
могли бы вызвать моральный упрек в его адрес. Только этим можно
объяснить, что даже в первые два десятилетия Советской власти, а в
нагорной полосе и до последнего времени, сохранилось значительное
количество семей с многочисленным составом (семейные общины).
Так, по переписи 1917 года из всех имевшихся з Северной Осетии
домохозяйств 14,6% (или 2789 семейств) заключали в себе по 11 и
более душ, а по переписи 1926 года процент семейств с таким количеством
душ хотя и сократился значительно, но все же составлял 1532
семейства из общего количества — 27 367 домохозяйств1. А среди них,
несомненно, были и семьи, состав которых доходил до двадцати-тридца-
ти человек в каждой из них (цифра «одиннадцать» берется как
среднее число состава семей указанной категории).
Семейные разделы происходили согласно нормам обычного права.
Дележу подлежало все: земля, дом с усадьбой, надворные постройки,
скот, домашняя утварь, оружие, хлебные запасы и т. п. При разделе
все считалось общим достоянием и все шло в счет, за исключением
только одежды, обуви и головных уборов, составлявших личную
собственность каждого отдельного члена семьи2. Раздел производился
приглашенными семьей почетными старцами из сельского общества.
Если отдельные члены семьи не удовлетворялись (что являлось
редким явлением) результатами дележа, произведенного
посредниками, то семья обращалась в общинный суд («тзерхоны лэегтае»),
который и решал дело согласно нормам обычного права. Решению
общинного суда должны были подчиниться все члены семьи. Если даже
и бывали недовольные среди отдельных членов семейной общины
принятым решением, они все равно должны были подчиниться ему под
угрозой принятия к ним общественных санкций.
При разделе имущества между братьями осетины придерживались
следующего принципа: «имение (имеется в виду дом со всем
имуществом.— А. М.) разделяется таким образом, что старшему сыну
отдается лучшая хата, из остальных хат лучшая хата младшему сыну;
сверх того еще что-нибудь старшему и немного менее младшему сыну;
потом вдове такая же часть имения, чтобы она могла жить с
дочерьми своими. Остальная часть как движимого, так и недвижимого
имения, разделяется поровну между всеми сыновьями»3.
Приводимый Ф. И. Леонтовичем порядок раздела и наследования
О
1 Статистический справочник Северо-Осетинской авт. обл., 1927, Владикавказ, стр.:
60—62.
2 А. Скачков. Опыт статистического исследования горного уголка, стр. 86.
3 Ф И. Л е о н т о в и ч. Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 24.
188
имущества, нам кажется, следует дополнить сообщением из другого
источника, в котором говорится: «как матери, так и сестрам братьев
предоставляется право выбирать дом какого-нибудь брата для своего
дальнейшего проживания. В последнем случае остальные братья
выдают из своего имущества некоторые части для прокормления своих
сестер и матери. В последнее время в некоторых местах вошло в
обычай: отделять, при разделе наследства между братьями, седьмую часть
на женщин-наследниц и присоединять ее к части того брата, который
будет избран. Если же кто из женщин-наследниц выходит замуж, то
этим она теряет право на получение помощи от братьев. Даже вдова,
оставшаяся после смерти мужа с одними только дочерьми, выходя
замуж, теряет право на имущество мужа»1.
Этот порядок существовал не только у осетин, но он был присущ
и другим народам, в общественном строе которых еще играли
определенную роль родовые традиции. Согласно господствовавшим при
патриархальном строе имущественно-правовым отношениям право на
наследование имущества имели только агнаты — сыновья, братья,
племянники отца. «Причина такого явления,— как правильно заметил М.
Ковалевский,— состоит в том, что родовое имущество считается
принадлежащим только членам рода и не может быть никому другому
уступаемо. По той же причине женщина у осетин не получает части
родового имущества, потому что с выходом замуж эта часть могла бы
перейти к другому роду»2. Это безусловное правило и зафиксировано
(впрочем, без комментариев) в наследственном праве осетин:
«Дочери,— говорится в нем,— никогда не наследуют после родителей пи
движимым, ни недвижимым имуществом, даже и в том случае, когда
сыновей нет»3. Когда община разделялась после смерти ее главы, то
«вдова со своими незамужними дочерьми» оставалась «у младшего
своего сына4. Но этого правила придерживались не всегда или не
везде. «Матери, оставшейся жить с сыновьями,— пишет К. Хетагуров,—
предоставлялась на случай раздела полная свобода выбора любого из
сыновей. Часть, которую сыновья выделяли на ее похороны, передавали
выбранному ею брату, и тогда его нравственной обязанностью было
кормить и одевать ее, а на случай смерти предать ее земле по
установленному обряду»5.
Если раздел происходил при жизни отца — главы семьи, то и тог-
% Д. Л а в р о в. Заметки об осетин и осетинах. Газ «Терские ведомости», 1875, № 8.
* М. М. Ковалевский. Обычное право горских татар и отношение его к
осетинскому. Газ. «Русские ведомости», 1885, № 322.
а Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 24.
4 Т а м же.
^ К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. 355.
189
да младший сын оставался с родителями, остальные отделялись и;
строили себе самостоятельные дома.
По данным А. Скачкова, глава (старший) семьи получал большую,
чем остальные, долю, например, отцу полагалось на одну корову, на
одного быка, 10 мер пшеницы более, нежели сыновьям1, ему же
доставался хадзар. Если же делились братья (когда уже не было
родителей в живых), то старший из них также получал преимущество в
дележе (он сверх доли получал котел, медный таз, оружие и т. п.)..
Дом, согласно обычаю, также переходил к нему. Младший,
несовершеннолетний брат, оставался со старшим братом или переходил со
своей долей имущества к одному из выделившихся братьев, а если еще
был жив отец, то непременно оставался жить с ним.
По нормам обычного права при дележе имущества, как движимого,
так и недвижимого старший и младший братья получали большую,,
нежели другие братья, долю. Оба эти вида преимущественного
наследования, майорат и минорат, в осетинском обычном праве получили
наименования «хистаейраг» (доля старшего) и «каестаейраг» (доля
младшего), при этом «доля младшего» немногим уступает «доле старшего»2.
При определении размеров «хистаейраг» и «кзестаейраг» не
существовало какой-то единой для всей Осетии нормы. В каждом из
осетинских обществ существовали свои нормы для наделения старшего и
младшего братьев, свои определения размеров в имущественных
разделах.
Доли старшего и младшего определялись также в зависимости от
размеров и вида имущества, подлежащего дележу.
Преимущественное право старшего покоилось на том, что по
смерти отца главой семьи становился старший его сын, который наследовал
и привилегии. Но, как известно, «старшинство» накладывало на него
ответственность, которая вытекала из его функций главы семейной
общины. А эти обязанности, как мы уже знаем, были весьма сложны и
ответственны. Эти его функции выступали не только в хозяйственной
и идеологической сферах, но и в общественной жизни: он один
представлял весь многочисленный семейный коллектив в сельской общине,,
он нес ответственность перед обществом за поступки каждого члена
семьи, он отвечал за благополучие семьи.
После распадения семейной общины он все равно не терял
«преимущественной роли в фамильном культе. Другие очаги,— объясняет
О
1 По нормам обычного права при дележе имущества старым родителям для
поминок по ним после их смерти из общесемейного имущества выделялась специальная
доля.
2 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. 1? стр. 325; Д.
Лавров. Заметки об Осетии и осетинах. Газ. «Терские ведомости», 1875, № 8.
190
М. Ковалевский,— могут погаснуть, но пока горит его очаг, пока
совершаются на нем священные возвлияния и закалываются жертвы,
души предков пребывают в блаженстве, не нуждаясь ни в чем и
посылая, как бы в награду, все возможные блага потомству»1. В
вознаграждение за все это его отмечали преимущественной долей из
имущества.
Таковы источники, приведшие к установлению в осетинском
обычном праве особой «доли старшего».
Что же касается младшего брата, то его преимущественное право
при разделе имущества определялось обязанностью старших братьев
покровительствовать младшему и дать ему возможность стать на йоги.
Если среди братьев были и неженатые, то и им выделялась
определенная доля из имущества на калым.
Выделившиеся братья поселялись на новом месте, в пределах
своего селения, очень часто рядом или поблизости отцовского дома,
нередко составляя отдельный квартал. Но это было не обязательным
правилом: бывали случаи, когда кто-нибудь из братьев поселялся в
другом селении (смотря по обстоятельствам).
После раздела большая семья хотя и теряла хозяйственное
единство, но она сохраняла свою идеологическую общность. Выделившиеся
сыновья не теряли своей связи с родительским домом, с родителями,
если последние еще были живы, продолжая выполнять по отношению
к ним свой сыновний долг; более того, ни один важный семейный
вопрос взрослый сын, живущий самостоятельной жизнью, не решал без
одобрения престарелого отца или матери. Отправление религиозного
культа в семьях разделившихся сыновей осуществлялось, как и
раньше, прежним главой семьи — отцом. Былая солидарность и связь между
семьями братьев сохранялись и во многих других случаях жизни
(смерть и похороны кого-либо из них, свадьба, рождение и именины
мальчика, кровная месть и др.).
Разбившиеся на самостоятельные семьи братья объединялись под
общим названием — «иу артаей байуаргае», «иу фыды фырттае», («от
одного очага отделившиеся» — или «от одного огня разошедшиеся»,
«одного отца дети»). У дигорцев данная родственная группа
называлась еще «аул». Такая группа кровно-родственных семей была названа
в этнографии «патронимией».
Итак, господствующей формой семьи у осетин стала малая,
индивидуальная семья. Она обычно состояла из мужа и жены и их детей.
Иногда с ними могли проживать старая мать или отец мужа, а иногда
и младший брат или сестра его. Но последнее не меняло природы
малой семьи.
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 326.
191
Иной состав семьи и иная чем в семейной общине хозяйственная
основа меняли распорядок жизни этого коллектива, условия его
работы. Здесь, конечно, не могло быть речи о разделении труда между
членами семьи. Все виды хозяйственных работ выполнялись мужем и
женой, пока не подрастали дети. Муж, естественно, выполнял все
хозяйственные работы вне домашнего очага — занятия, связанные по уходу
за пашней, пахота, сев, заготовка сена, доставка дров, уход за
скотом и другие работы, входящие в круг обязанностей мужчины, а
жена— те виды работ, которые выпадали ей на долю в большой семье.
• Положение хозяйки облегчалось, когда с нею проживала свекровь.
В таком случае заботу о детях и значительную долю работ брала она
на себя. Она и здесь оставалась труженицей. Вообще осетинка-мать
во всех ситуациях являлась образцом трудолюбия, не знающим
устали. Она не только в переносном, но и в прямом смысле до конца своей
жизни обогревала своим теплом многочисленную семью. Недаром у
осетин говорят: «Еще не родился человек, который возместил бы труды
осетинской матери».
В индивидуальной семье женщина в силу описанных причин
пользовалась значительно большей самостоятельностью. Муж не мог не
признавать той роли, которую жена в действительности играла в
хозяйстве и вообще в жизни семьи. Поэтому взаимоотношения между мужем
и женой в такой семье заметно отличались от тех, которые имелись
обычно в большой семье. Иными были здесь и отношения между
отцом и детьми. Воспитанием мальчиков с малых лет уже занимался сам
отец: он брал их с собой на работу, поручал им несложные работы,
пользовался их посильной помощью; они приучались погонять волов,
ухаживали за рабочим скотом, пригоняли с пастбища овец и т. п.
Отцу, как в большой семье, не приходилось скрывать свои
чувства к детям (но только в стенах дома и в определенных рамках), не
избегать разговоров с женой. Вообще сам строй жизни и
хозяйственный уклад индивидуальной семьи отбрасывали в сторону многие из
тех условностей, которые были свойственны большой патриархальной
семье. Здесь реальная жизнь брала верх. И тем не менее,
моногамная семья не освободилась до конца от патриархальных устоев. В ней,
как и в большой семье, поддерживалось строгое начало по мужской
линии, со счетом родства по отцу и с мужским правом наследования.
Индивидуальная семья унаследовала также многие из тех черт,
которые были свойственны для пережиточной формы семейной общины.
СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА
исторической науке никакой другой проблеме не
было уделено столько внимания, сколько
общине. Не ослабевает интерес к этой теме и в
наше время. Столь повышенному интересу
община обязана тем, что она занимает в общей цепи
исторического развития определенный этап и,
будучи преемственно связанной с
первобытнообщинным строем, показала чрезвычайно большую
устойчивость.
Сельской общине (известной в литературе
также под названием соседской, деревенской
или земледельческой) еще в XIX в. было посвящено огромное
количество работ как на Западе, так и в России. Очень популярной была
эта тема среди историков, социологов и экономистов в России, «где
сельская община — м и р — просуществовала особенно долго, и к тому
же приобрела наиболее яркую и развитую форму»1.
Община занимала большое место в теоретических построениях
народников. В русской общине они видели экономическую ячейку наро-
доправия и справедливого общественного строя. В своих поисках
«особых путей» социального переустройства России народники уповали на
возможность непосредственного перехода страны, минуя капитализм —
к социалистическому строю через крестьянскую общину.
Крестьянская (сельская) община в России, как и предвидели
В. И. Ленин и Г. В. Плеханов, разложилась под влиянием развития в
О
1 Л. Б. Алаев. Община. Советская историческая энциклопедия, т. 10, М., 1967,
стр. 422.
13 А. X. Магометов
193
деревне капиталистических отношений, а общинное землевладение в
ней было окончательно подорвано столыпинской аграрной реформой.
Сельская община в активной форме продолжала существовать у
народов Северного Кавказа, у горных грузин, абхазов и других
народов Закавказья вплоть до Великой Октябрьской социалистической
революции.
Она существует в настоящее время в различных странах Азии,
Африки и Латинской Америки, составляя характерную особенность
общественной и социально-экономической жизни народов этих стран.
Некоторые государства Тропической Африки, избравшие
некапиталистический путь развития, используют сельскую, соседскую общину
для организации в деревне кооперации переходного или
социалистического типа.
Кстати, традиции общинного устройства у народов советского
Севера и Средней Азии, в котором они находились до революции, были
использованы Советским государством в период коллективизации.
Особенно активно и плодотворно над проблемой общины в
России работал проф. М. М. Ковалевский. Пожалуй, эта проблема
занимала одно из центральных мест в многочисленных и капитальных
исследованиях ученого. Основной тезис М. М. Ковалевского сводился к
тому, что сельская община возникла из родовой через семейную, что
исконными являются коллективные формы землевладения и
землепользования.
Значительны заслуги Ковалевского в разработке проблем генезиса
и разложения общины. Он многое сделал и для разрешения вопроса
0 конкретных формах сельской общины, пытаясь выяснить ее
особенности на разных этапах исторического развития1.
В своих многочисленных выступлениях с обоснованием общинной
теории происхождения земельной собственности М. Ковалевский
привлек широкий материал, относящийся к различным народам Европы
и Азии, а также России и Северного Кавказа. Среди этого материала
большой интерес представляет осетинский, используя который
Ковалевский очень ярко показал универсальность этапов исторического
развития, место общинных традиций и порядков в нем2. Ковалевский
выступил «во всеоружии своей богатой эрудиции и атаковал авторитеты
буржуазной историографии Запада... Критикуя апологетов частной
собственности, Ковалевский добивался признания за общиной и вообще
О
1 Ф. Я- Полянский. Проблема общины в работах М. М. Ковалевского. Вестник
Московского университета, 1952, № 7, стр. 96; П. Ф. Л а п т и н. Проблемы общины
в трудах М. М. Ковалевского. «Вопросы истории», 1955, № 9. .
2М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 70—71; 108—
115; 128—144.
194
коллективными формами землевладения необычайно важной роли в
истории человечества»1. В разработке проблемы общины заслуги
Ковалевского, как мы уже отметили, значительны, но его работы в
данной области не свободны от погрешностей и недостатков, хотя «взгляды
его на общину во многом и соприкасались с работами Маркса и
Энгельса»2-
Обращаясь к предмету нашего исследования, следует отметить,
что невозможно обойти высказывания М. Ковалевского об осетинской
сельской общине. Правда, его выводы и взгляды не всегда
последовательны, а суждения его о сельской общине у осетин нередко тонут в
общем потоке исторических сравнений. Тем не менее в работах
Ковалевского содержится конкретный и важный исторический материал,
который вместе с другими источниками дает возможность прийти к
определенным выводам и реконструировать общинное устройство и
отношения в осетинской деревне. Материалы Ковалевского еще ценны тем,
что в них он использовал всю имеющуюся к этому времени литературу
и привлек полевой материал, накопленный им при посещении
осетинских сел, когда сельская община являлась еще живым организмом в
общественном строе осетин.
Как уже отмечалось, ни в дореволюционной литературе, ни в
советский период сельской общине у осетин не было посвящено ни
одной специальной работы, хотя бы даже отдельной статьи. Между тем,
изучение этого вопроса важно во многих отношениях. Оно освещает
не только саму проблему общины, но и проливает свет на ряд
Других вопросов. Достачно сказать, что существовавшие в сельской
общине традиции и формы взаимоотношений принимались за
совокупность институтов родового строя. Понятно, что освещение сельскооб-
щинного быта внесет ясность и в характер родовых отношений в
описываемую эпоху.
К истории возникновения сельской
общины в Осетии, ее структура, формы
землевладения и землепользования
Как уже отмечалось, в общественной жизни осетин сельская
община занимала исключительное место.
Возникшая в условиях распада родового общества, она сохранила
свое бытование до конца XIX и начала XX века.
1 Ф. Я. Полянский. Указ. соч., стр. 98.
2 Т а м ж е.
195
Разумеется, что на разных этапах сельская община, как и всякая
другая социальная организация, отражала изменения, происходившие
в обществе в ходе исторического развития.
Сельская община у осетин территориально охватывала одно село,
жители которого, вместе взятые, назывались «хъэеубаестае» (община,
мир). Отсюда в народе понятие общины нередко выражалось термином
«хъаеу» (село). Мелкие поселения (от двух до нескольких дворов) не
составляли самостоятельной общины, но, обычно расположенные по
соседству с таким селом или неподалеку от него, «жили» одной с ним
общинной жизнью.
Распад больших семей, дробление их на малые, индивидуальные
семьи и связанные с этим нарушения моногенного характера
поселений были той реальной почвой, на которой выросли сельские общины.
Однако сельская община еще долгое время испытывала преемственность
от родоплеменной организации. Преемственность эта проявлялась хотя
бы в виде родовых и патрономических кварталов в поселении. «Чем
дольше жил род в своем селе,— писал Ф. Энгельс,— тем больше род-
ственый характер связи отступал на задний план перед
территориальным, род исчезал в марке, в которой, впрочем, еще достаточно часто
заметны следы ее происхождения от родственных отношений членов
общины»1.
В сельской общине кровно-родственные связи заменяются
соседскими, территориальными. Данный процесс у осетин протекал очень
медленно и занял по времени целые столетия.
Территориально-соседская община была известна уже аланам,
обитавшим в степях и предгорьях Северного Кавказа. К такому выводу
мы приходим на основе многочисленных исторических свидетельств,
изображавших аланское общество как феодальное. Так, в «Рассказе
римско-католического миссионера-доминиканца Юлиана»,
совершившего в 30-х годах XIII века путешествие по Северному Кавказу и
прожившего среди алан несколько месяцев, говорится: «в Алании...
сколько местечек, столько князей, из которых никто не считает себя
подчиненным другому. Здесь постоянная война князя с князем, местечка с
местечком. Во время пахания все люди одного местечка,
вооруженные, вместе отправляются на поле, вместе косят, и то на смежном
пространстве, и вообще, выходя за пределы своего местечка, для рубки
дров или для какой бы то ни было работы, идут все вместе и
вооруженные»2-
В этом свидетельстве наше внимание привлекает то обстоятельство,
О
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 128.
2 Записки Одесского общества истории и древностей российских, Одесса, 1863, т. V,
стр. 998.
196
что меры безопасности и общие хозяйственные цели объединяют в один
компактный коллектив (в сельскую общину) людей, не связанных
кровным родством. Эта традиция не могла быть утеряна аланами,
ушедшими под напором монголов и других враждебных племен в горы
Центрального Кавказа. Необходимость совместной обороны и
коллективных усилий по борьбе с суровой природой и здесь заставляет
население жить большими группами, что доказывается топографией
осетинских поселений в горах, остатками террасового земледелия,
развившегося с самого начала обитания осетин на данной территории.
Но наряду с этим на новом месте вырастали поселения,
сформировавшиеся из однородцев (представителей одной фамилии — «мыггаг»).
Существование в прошлом таких поселений с родовым названием
(«Абайты хъаеу», «Калоты хъаеу», «Хъесаты хъаеу», «Бигъулаты хъаеу»
и др.) свидетельствует как раз об этом. Но имелись и селения,
которые не закрепили за собой родовых названий, хотя были населены
семьями, принадлежавшими к одной фамилии. Таковы, например,
отдельные села в Нарской котловине, уцелевшие в таком виде до конца
XIX века: селение Регах (на Гинатдоне) было населено фамилией Гиое-
вых B0 дворов); Хусанкул (на Зругдоне)—фамилией Козавых B0
дворов); Скасан (на Льядоне)—фамилией Хетагуровых A3 дворов);
'Гибели (на Нардоне) — фамилией Гагиевых F дворов); Ецна (на
Льядоне)—фамилией Джанаевых A3 дворов); Тапанкау (на
Льядоне)— фамилией Бурнацевых (9 дворовI. В другом сопредельном с
Южной Осетией Зарамагском обществе 17 семей Хурумовых населяли
аул Тоборза; 7 дворов фамилии Ногаевых составляли поселок Худисан
(на притоке НардонаJ. В селении Ксурт (Алагирское ущелье) жили
только Баскаевы A7 семейK.
В это же время однофамильные поселения имелись и в других
ущельях Северной Осетии.
В Дигорском ущелье, например, можно указать на селения: Та-
уитта (9 дворов), Охъазта G дворов). Таковыми являлись в более
раннее время «Гутъиаты хъаеу», «Быгъуылты хъаеу», «Андиаты хъаеу»
и «Калоты хъаеу»4 в Куртатинском ущелье. Здесь еще в начале XX
века Верхний Карца был населен 10 дворами фамилии Датиевых и
Нижний Карца — фамилией Есиевых A0 дворовM.
О
1 В горной Осетии. Нарское общество. Газ. «Терские ведомости», 1880, № 50.
2 Сб. Статьи неофициальной части «Терских ведомостей» за 1880 г.
3 ЦГА СО АССР, ф. 30, д. 89, лл. 63—72. \
4 А. Е. Р о с с и к о в а. В горах и ущельях Куртатии и истоков реки Терека. ЗКОИРГО,
кн. XVI, Тифлис, 1894, стр. 327—331.
5 А. Г. Д а т и г в. Замечания на «Труды комиссии по исследованию современного
положения землепользования и землевладения в нагорной полосе Терской области
и Карачаевского народа Кубанской области», Минск, 1909, стр. 32.
197
Все эти и подобные им поселения, носившие названия
самостоятельных сел, нельзя отождествлять с родовыми общинами. Это всего
лишь распавшиеся на отдельные патронимии большие и малые семьи,
роды. В них семейные общины и индивидуальные семьи выступали как
самостоятельные хозяйственные и социальные единицы, и общественная
жизнь их была построена па основе территориально-соседских
отношений.
Таким образом, сохранение до позднейшего времени на территории
Осетии однофамильных «селений» не является свидетельством
существования в указанный период родовых общин (даже в стадии распада).
Между тем это ввело в заблуждение некоторых исследователей
(В. Б. Пфафа, Е. Максимова и др.), которые на основании
существования до позднейшего времени «родовых» поселений утверждали,
что в Северной Осетии еще в XIX веке бытовала родовая община. На
этом же основании М. О. Косвен утверждал, что «чисто соседских
общин в Юго-Осетии до революции было немного»1. Правда, Косвен
такое заключение делал на том основании, что еще в начале Советской
власти моногенных (однофамильных) селений в Южной Осетии было
больше, чем полигенных (многофамильныхJ.
Но это не означало, что моногенные поселения представляли собой
родовые общины. И здесь роды были разбросаны по разным селам.
Так, составляющие род («мыггаг») Тедеевых семьи проживали в 48
селениях, Гаглоевых — в 34, Валиевых — в 33, Цховребовых — в 33, Ти-
биловых — в 23, Кочиевых—в 15, Кабисовых — в 13 селениях и Джа-
тиевых — з 4 селениях3.
Кроме того, в состав сильных родов нередко вступали чужаки —
искавшие защиты и покровительства слабые роды. Последние
принимали фамильные наименования своих покровителей. Разумеется, такие
роды занимали неодинаковые со своими покровителями положение в
общине.
Анализ крестьянских хозяйств (по архивным документам)
показал, что в так называемых «родовых» селах Северной Осетии
господствовала такая же имущественная дифференциация, как и в
смешанных, полигенных селениях.
Таким образом, «родовые» поселения, хотя и сохраняли свою
однородность' (точнее однофамильность) и в известных обстоятельствах
©
1 М. О. Косвен. Из истории родового строя в Юго-Осетии. Этнография и
история Кавказа, стр. 15.
2 3. Н. Ванеев. Из истории родового быта в Юго-Осетии, стр. 80—87; Л. А. Чи-
б и р о в. Осетинское народное жилище. Цхинвали, 1970, стр. 38—40.
3 3. Д. Гаглоева. Осетинские фамилии в Юго-Осетии. Известия Юго-Осетинского
научно-исследовательского института, т. XI,. 1962, стр. 402—459.
198
населявшие их коллективы соблюдали родовую солидарность (в
столкновениях с другими родами, в отправлении религиозного культа,
участие в похоронном обряде и поминках по умершему однородцу и др.),
между отдельными семьями и патронимиями происходила вражда, не
говоря уже о соперничестве, которое никогда между ними не
прекращалось. Нет нужды доказывать, что положение отдельных семей и
патронимии в общине не было одинаковым. И чем более неодинаковым
было это положение, тем острее выступали их вражда и стремление
каждого из них стать над другим. Особенно острой и непримиримой
была борьба внутри тех родов, которые в своем составе имели кавда-
сардские (кумаягские) семьи1. Иллюстрацией к этому может служить
воспетая в народной песне борьба кавдасарда Чермена из рода Тулато-
вых, которого его «аристократические» родичи (алдары) при разделе
имущества (земли) лишили доли. О внутриродовом антагонизме,
борьбе между сильными и слабыми семьями в рамках одной родственной
группы — фамилии сохранилось много легенд и исторических фактов
как в Северной, так и в Южной Осетии (см. например, в кн.: Д. Бяз-
ров. Осетинские легенды. Цхинвали, 1966).
Подчеркивая этот факт и указывая на его причины, 3. Н. Ванеев
писал: «...жизнь в тесных ущельях гор, при крайнем малоземелье,
создавала чрезвычайно тяжелые условия в борьбе за существование, в
высшей степени обостряя ее. Неизбежным следствием такого
положения явилась борьба внутри родовой общины за обладание лишним
куском земли. Жажда захвата земли, нарушение чужого интереса,
торжество сильного над слабым, межевые споры — были обычным явлением
в родовой общине. Борьба нередко доходила до кровавых
столкновений, и против этого явления были бессильны и чувство кровного
родства и сознание необходимости родовой солидарности. Замечательно,
что отношения вражды и зависти очень часто наблюдаются между
семьями, выделившимися из одной семейной общины, следовательно,
между самыми близкими по родству семьями».2 Выводы Ванеева
подтверждаются многочисленными фактами, зафиксированными нами в
различных ущельях Осетии.
О
1 Кавдасарды (в Восточной Осетии) и кумаяги (в Дигории) —дети, рожденные от
«номылус». Кавдасарды и кумаяги жили вместе со своими матерями во дворе отца-
феодала на положении его домашних рабов. Им разрешалось жениться, но их
дети тоже становились кавдасардами (кумаягами). После смерти отца-феодала
кавдасарды могли выделиться и жить самостоятельными семьями, но не имели права
выйти из данного сословия, хотя они по-прежнему считались принадлежавшими к
роду феодала.
2 3. Ванети. Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин. Известия
ОСНИИК, вып. II, стр. 410.
199
Как видим, моногенность поселения не считалась доказательством
того, что оно не являлось соседской, территориальной общиной.
Кстати, среди так называемых родовых сел было немало таких, которые
номинально носили такие «родовые» названия. Последние фактически
были обычными полигенными селами, но носили имена первопоселенцев
или известных, более сильных родов. Как раз это обстоятельство в свое
время было подмечено М. Ковалевским: «Современный путешественник
не только в плоскостной, но и в горной Осетии,— писал он,— встречает
сплошные селения, составленные из десятков неродственных друг другу
дворов, что не мешает, однако, этим селениям носить подчас
фамильное название одного из поселенных в них родов»1.
Приведенный выше материал позволяет говорить о том, что
родовой характер поселений был нарушен очень давно, а сохранившиеся
до XIX века однофамильные селения не представляли собой и подобия
тех поселений, которые когда-то составляли родовые общины.
Обратимся, однако, к конкретным фактам, которые не оставляют
сомнения в давности образования в Северной Осетии соседской
общины. Так, в первой половине XVIII века Вахушти2 отмечал обширность
(многолюдность) значительной части осетинских поселений и наличие
в них башен и других крепостных сооружений («село большое,
башенное, с крепостью»,— как он характеризовал их). Но судя по остаткам
старых горных поселений, в них количество обычных жилищ (каменных
домов) было во много раз больше, чем башен. Башни и другие
комплексы подобного рода, как известно, принадлежали более сильным
родам, остальные же жилища — другим категориям населения.
Последние относились к слабым или зависимым родам. Как правило, эти
роды были малочисленными, поэтому понятно, что в таких больших
селениях проживало по нескольку родов, рассыпанных по отдельным
дворам.
Данный вывод подтверждается и письменными источниками. Так,
«осетинское дело» Коллегии иностранных дел № 14 за 1773 год среди
сведений о северных осетинах содержит и такое: «живут все
деревнями, порознь, от пяти дворов до ста и до трехсот и некоторые из оных
имеют и каменные ограды»3. Весьма ценным дополнением к этим
сведениям является сообщение академика И. Гюльденштедта, сделанное
им на основе личных наблюдений во время совершенного им по
Осетии путешествия в 1771 —1772 гг. Характеризуя осетинские поселения,
он писал, что «в каждом из них живет от 20 до 100 фамилий»4 (под-
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 70.
2 Вахушти. География Грузии. ЗКОИРГО, кн. XXIV, вып. 5, стр. 142—144.
3 Материалы по истории Осетии, т. I, 1933, стр. 33.
4 И. А. Гюльденштедт. Путешествие по России и Кавказским горам. В кн.:
Осетины глазами русских и иностранных путешественников, стр. 89.
200
черкнуто нами.— А. М.). О том, что сведения Гюльденштедта близки
к истине, говорят другие источники, в частности, данные протопопа
Иоанна Болгарского1. Последний в 1780 году составил опись
североосетинских поселений, в которой мы находим не только их названия,
но и количество дворов в них.
Из этого документа видно, что значительная часть сел имела по
нескольку десятков дворов (а некоторые и по 120—150).
Данные как Гюльденштедта, так и Болгарского можно
конкретизировать пофамильным составом жителей осетинских сел более
позднего времени в дополнении с этнографическим материалом. Например,
в одном из селений средневековой эпохи — Цее (Алагирское ущелье)
по описи Болгарского числится 78 дворов (семейJ. А во время переписи
населения 1886 года здесь было взято на учет 92 двора,
принадлежавших к 10 фамилиям, из коих Басиевы C0 дворов), Гагиевы A7
дворов), Дзалаевы A1 дворов), Закаевы A4 дворов), Дианбековы E
дворов), Айларовы E дворовK считаются наиболее древними поселенцами:
их потомки, живущие и ныне в Цее, не помнят (разумеется, на
основе преданий), когда поселились их предки здесь.
Возьмем другое горное селение — Даргавс (Даргавское ущелье).
Оно также относится к числу ранних поселений (об этом
свидетельствуют существующие в народе предания, а также
средневековые постройки и некрополь — Даргавский могильник). По описи
Иоанна Болгарского в этом селении в 1780 году числилось 140 дворов4, к
1853 году количество их сократилось до 90 домов5 (сокращение
населяющих Даргавс семей, очевидно, было связано с прошедшей в
начале XIX века чумой и переселениями на плоскость в 30—40 гг.). По
переписи же 1886 года здесь было 166 дворов-семейств,
принадлежавших к 44 фамилиям. Из них наиболее многочисленными были
фамилии: Токаевых A5 дворов), Батиевых A3 дворов), Тхостовых A1
дворов), Мамсуровых (8 дворов; основателем села считается род Мам-
суровых), Балаевых G дворовN. Перечисленные роды, а также целый
ряд других фамилий поселились в Даргавсе так давно, что об этом в
памяти жителей не сохранилось даже преданий.
Аналогичную картину имела подавляющая часть селений
нагорной полосы.
О
1 ЦГАДА, ф. 23, ед. хр. 11.
2 Там же, л. 7— об.
3 ЦГА СО АССР, ф. 30, оп. I, ед. хр. 86, лл. 12—54.
4 ЦГАДА, ф. 23, ед. хр. 11, л. 8.
5 А. Головин. Топографические и статистические заметки об Осетии. «Кавказский
календарь» на 1854 г., стр. 441.
6 ЦГА СО АССР, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 74.
20Г
Изучая общинные традиции и формы землевладения, М.
Ковалевский делит осетинские села на три категории:
1) аулы, занятые семьями, родственными друг другу, носящими
одинаковое фамильное название, владеющими землею па общинном
начале и ведущими нередко совместное хозяйство; «аулы эти,— говорит
Ковалевский,— представляют собою не более как исключение»;
2) аулы, в которых земля разделена подворно между родственными
семьями;
3) аулы, население которых составилось из нескольких фамилий,
живущих большими или малыми семьями и, сообразно этому,
сохранивших или утративших имущественную нераздельность.
М. Ковалевский большинство современных ему осетинских
селений относит к третьему, т. е. сельскообщинному типу1. Это подметил еще
в свое время В. Пфаф2.
Поскольку основной причиной распада рода являлась частная
собственность, то господство последней в сельской общине, пришедшей на
смену родовой общине, вполне объяснимо. Производственные
отношения в ней сложились на основе частной собственности. Последняя
распространялась на двор и все хозяйственное имущество, скот, пахотные
и покосные земли, оросительные каналы, загоны для скота, мельницы,
тока, амбары и др.
Общинная же собственность сохранилась только на выгоны и
пастбища и кое-где еще на лесные угодья.
Земля в нагорной полосе с самого начала ее возделывания
поступала в сферу частного владения, что, конечно, было обусловлено
историческими и естественно-географическими условиями горной Осетии.
Это обстоятельство (раннее возникновение частного, подворного
владения землей) еще раз подтверждает наш вывод о том, что сельская
община в Северной Осетии возникла значительно раньше того периода
(XVIII—XIX вв.), который определяется рядом авторов (В. Пфаф,
Евг. Максимов и др.).
Освоение земли в горной полосе шло отдельными запашками. Для
превращения первоначально занятых участков с каменистой и
малоплодородной почвой в пахотную землю и поддержания ее в таком
состоянии необходимо было постоянное применение к ней труда. Труд
этот был очень трудоемким и тяжелым. Постоянного ухода требовали и
луговые земли.
«Пашни, разбросанные в горах небольшими участками в
малодоступных местах, требовали тщательного ухода за почвой, постоянной
расчистки от камней и оползней, были неудобны для удобрения, оро-
©
1 М. К о в а л е в с к и й. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 70.
2 В. Пфаф. Народное право осетин. Сборник сведений о Кавказе, т. I, стр. 202.
202
щения, обработки и для периодических переделов, сопровождавших
общинное владение. Все это содействовало возникновению и
утверждению подворной собственности»1. Одним словом, пахотные земли и
луга в горкой Осетии стали собственностью тех, кто первоначально
занял эти участки и осуществлял за ними постоянный уход. Эту
особенность землевладения в горных условиях отмечал Ф. Энгельс, указывая,
что в тесных горных ущельях родовое землепользование очень рано
сменяется подворным2. К такому заключению Энгельс пришел на основе
европейского материала. Интересно, что М. Ковалевский давно
заметил аналогию в общинном землевладении в горных областях Западной
'Европы и Осетии: «...осетинские порядки,— говорит он,— являются
иллюстрацией, какие мы встречаем в землевладении горских поселенцев
Европы»3.
С увеличением численности состава родов и семейных общин,
владельцев земли, и дроблением их на составные части происходило
деление земельных угодий на мелкие участки: «пахотные и покосные
земли стали дробиться путем разделов, наследственных и других обычных
отчуждений»4. Пастбища же оставались по-прежнему в пользовании
всей общины. «Всякий пришелец, не потративший на расчистку
пахоты труда, не имел права на эту землю и должен был приобрести себе
и пахоту, и покос покупкой»5. Выгоном и пастбищем он пользовался
«как дарами природы»6 наравне с первопоселенцем.
Выгоны занимали всю площадь за исключением пахотных и
покосных угодий и летних пастбищ. Они располагались «по ущельям,
хребтам и их скатам и занимали преимущественно самые неудобные
места, как в отношении достоинств почвы, так и по доступности их»7.
Среди общинников было немало хозяйств, которые не имели ни
пахотных участков, ни сенокосных угодий8. «В горах Осетии,— писал
исследователь поземельных отношений у осетин А. Есиев,— есть дворы,
которые кроме усадебных мест ровно ничего не имеют — ни пахоты, ни
О
1 А. К. Джанаев. К истории возникновения феодального землевладения в Стыр-
Дигории. Изв. СОНИИ, т. XV, вып. III, 1948, стр. 5.
2 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 339.
3.М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 142.
4 Осетинское племя. Труды Комиссии по исследованию современного положения зем-
. лепользования и землевладения в нагорной полосе Терской области, стр. 80.
5 М. К- Г а р д а н т и. Социально-экономические очерки (Современная Северная
Осетия), стр. 22.
6 Там же.
7 Осетинское племя. Труды Комиссии по исследованию современного положения
землепользования и землевладения в нагорной полосе Терской области, стр. 90.
^Тамже.
203
покосов. Они арендуют землю у имущих на правах хаццонхай, есть
там и малоземельные, которые тоже арендуют или кое-как
перебиваются, но есть и многоземельные»1.
«Аренда сенокосных участков,— пишет В. К. Тотров,—
происходила только на один сезон при следующих условиях: арендатор участка
обязан был выделить одну пятую часть копненного сена, либо уплатить
деньгами стоимость сена, подлежащего передаче земледельцу»2.
Нередко сельская община сдавала в аренду, либо продавала
«отдельные участки под выпасы другому селу (сельской общине.— А. М.)
или отдельным скотоводам. Полученную арендную плату члены
сельской общины делили между дворами или устраивали коллективное
угощение в нерабочие дни для всего села, заколов на мясо полученный
скот в качестве арендной платы»3.
В коллективном владении общин (в некоторых местах) до
позднейшего времени сохранились и сенокосные участки, скошенное сено
с которых делили поровну между составлявшими общину дворами.
В общинном владении находились и так называемые
«святилищные земли» — «дзуары заеххытае» (земельные угодья, расположенные
вокруг общинных святилищ). Таковыми были, например, пахотные
угодья «Уастырджийы куывддон» около селения Джимара и «фаессаервэет
дзуары хуымтае» около селения Хидикус в Куртатинском ущелье.
Эти участки община сдавала «односельчанам в бесплатную
аренду на условии сварить из половинной части собранного с них зерна
пива или араки к общинному празднику»4.
Общины распоряжались и сенокосами, расположенными около
святилищ. Например, сенокосные угодья в местностях «Кариу» и «Тбау»..
Доход от продажи сена (считавшегося очень полезным для скота,,
а травы — целебными ввиду близости к святому месту) с этих участков
расходовался на приобретение жертвенных баранов для общинных
праздников, справлявшихся тут. Часть средств использовалась для
ремонта здания и ограды святилища5.
К данной категории угодий относились и «священные леса», счи-
©
1 А. Е с и е в. Обычное земельное право и право землевладения горных осетин
Терской области. Владикавказ, 1901, стр. 14—15.
2 В. К. Тотров. К вопросу о поземельных и имущественных отношениях крестьян:
Юго-Осетии в конце XIX—начале XX вв. Ученые записки Кишиневского
Госуниверситета, т. 73, Кишинев, 1964, стр. 77.
3 Там же.
4 Осетинское племя. Труды Комиссии по исследованию современного положения
землепользования и землевладения в нагорной полосе Терской области, стр. 94.
5 Т а м же, стр. 89—94.
204
тавшиеся запретными; эти лесные участки и рощи (валежник оттуда)
использовались только на дрова для варки пива и жертвенного мяса
во время праздника святого.
Таких «священных мест», находившихся под коллективной
охраной общины и в коллективном пользовании ее, было значительно
больше. Они имелись на территории чуть ли не каждой общины.
Частновладельческое право в землепользовании в горах было
настолько непоколебимым, что семьи при переселении ка плоскость или
з другие ущелья сохраняли за собой свои земельные угодья1.
Например, жители плоскостного селения Лескен в количестве 48
дворов, переселившись из Донифарса (Дигорское ущелье) в
указанное селение, сохранили в Донифарском приходе все принадлежавшие
им здесь земли2. Такая практика имела место и в других ущельях,
особенно в Тагаурии.
Свои земельные угодья в горах переселенцы или обрабатывали
сами, или сдавали в аренду. Эти угодья как раз и составляли
основной источник аренды в горах3.
Землепользование в плоскостных селах Северной Осетии было
основано на праве общинного владения. Царская администрация на
Кавказе, определяя место и границы вновь строящихся сел, земельные
угодья выделяла сельским обществам не по количеству населения и
перспектив его дальнейшего роста, а исходя из колонизаторских
планов царизма (подавляющая часть земель, наиболее плодородных,
была отведена казачьим станицам и казне, а также лицам из
привилегированных фамилий, выслужившимся перед царским правительством
как проводники его колонизаторской политики на месте).
Кроме того, царизм, вводя общинное землевладение в
плоскостной Осетии, одновременно закрепил за осетинской знатью крупные
земельные участки на правах частной собственности.
Наряду с этим феодальные роды получили празо пользования
общинными угодьями — пастбищами, лесом и др. Как видим,
господствующий класс ставился и здесь в привилегированное положение.
Юридически оформляя существование у осетин общинной и
частной земельной собственности, «царское правительство преследовало
двоякую цель — широким введением частной собственности на землю
содействовать развитию капитализма, а сохранением общины задер-
©
1 Материал по истории осетинского народа, т. II, Орджоникидзе, 1942, стр. 145.
2 Осетинское племя. Труды Комисси по иследованию современного положения зеАм-
лепользования и землевладения в нагорной полосе..., стр. 99.
3 Там же, стр. 82—83; А. Е с и е в. Обычное земельное право и право землевладения
горных осетин, стр. 10.
205
жать среди них рост пролетариата и, следовательно, предотвратить
революцию»1.
Хотя с каждым годом число общинников на плоскости
увеличивалось как в результате прироста населения, так и путем новых
переселений с гор, общинные наделы оставались в прежних размерах.
При существовавшем порядке пользования общинными угодьями:
землей наделялась только определенная часть общинников (т. н.
«платежные дымы»), другая же часть (вновь выделившиеся семьи из
коренных жителей и новые поселенцы) была лишена этого права.
Например, хозяйства, образовавшиеся после переписи 1886 г., не
получали земельных наделов. Они или пользовались общинной
землей в составе тех семей, из которых они выделились (не получая
дополнительного надела), или приобретали ее з порядке аренды. Так,
в 1910 году общинная земля в сел. Кадгарон (состоявшем из 638
дворов) была поделена между жителями 402 дворов, числившихся в
посемейных списках 1886 года, а 236 хозяйств, возникшие после этого
года и не значившиеся в данных списках, лишались земли из
общинных угодий2.
Введенный царским правительством порядок в пользовании
общинной землей стал на пути семейных разделов, которые теперь
происходили с санкции сельской общины. Последняя, однако, не давала
такую санкцию, а если снимала свой запрет, то не наделяла новую
семью земельным участком. И если в результате этого все-таки
появлялись «самовольщики», которые, заняв на свободном месте участки
для усадеб, начинали строиться, то обычно подвергались самому
грубому насилию: стараниями общинных воротил (использовавших
старую традицию) их усадьбы сносились3.
Постоянные обращения крестьян, лишенных земли, в
правительственные органы ни к чему не приводили. Такой порядок
землепользования вооружал одну группу сельчан против другой и создавал
почву для всевозможных злоупотреблений в этом деле со стороны
сельских властей и кулачества.
Развитие сельской общины в нагорной полосе и на плоскости, как
мы уже видели, шло разными путями и в разное время. Поэтому
сельская община в горах, как типичное историческое образование, и легла
в основу нашего исследования. Традиции, сложившиеся некогда в ней,
нашли преемственность в сельской общине плоскостной Осетии; ими в
той или иной мере руководствовались крестьяне в общественном быту.
О
1 Б. А. Г а р д а н о в. Исторический очерк народов Северного Кавказа. В кн.: Народы
Кавказа, I, М., 1960, стр. 104.
2 Газ. «Терские ведомости», 2 июня 1911 г.
3 Газ. «Терские ведомости», 1899, № 40.
206
Осетинская сельская община, не успев окончательно
сформироваться, уже представляла собой сложнейшую социальную организацию.
Сохранив в большой степени элементы родовой общины, в ней очень
ярко выступает имущественное неравенство родов и семей. Одни из
них богатели, другие беднели и попадали в зависимость от своих
же однообщииников. Малоимущие крестьяне в плоскостной Осетии, не
имевшие не только скота, но и нужного инвентаря, для погашения
казенных недоимок ставили в аренду свою надельную землю и, тем
самым, оказывались в еще более трудном положении. Так, в одной из
корреспонденции газеты «Терские ведомости» сообщалось: «...есть в
Салугардане несколько домохозяев, которые по несостоятельности своей
не могут платить ежегодно общественные повинности. Взамен уплаты
этих повинностей они предоставляют в распоряжение общества
(общины.— А. М.) каждый год десятину или две из своего надела пахотной
земли»1.
Имущественная дифференциация в общине все больше
углублялась с развитием капиталистических отношений, раздувая в ней
острый классовый антагонизм. Нередко он принимал формы
междуродовой борьбы. Разумеется, что из нее победителем выходил более
сильный коллектив (семейная община, патронимия, родJ.
Такие роды или патронимии, входившие в сельскую общину,
назывались «стыр мыггаг», «тыхджын мыггаг», что в переводе на русский
язык означает «большой (многочисленный) род» (фамилия), «сильный
род». Как видим, понятие о знатности, богатстве рода связывалось
прежде всего с его многолюдностью. Многочисленность (мужского состава)
обеспечивала этим родам право сильного. А отсюда, как отмечал Коста
Хетагуров, «лучшие нивы, леса, луга и пастбища принадлежали
им»3. Но такая «принадлежность» складывалась путем захватов этими
родами общинных угодий (первоначально в форме заимок), на
которые они распространяли право частной собственности, перераставшее
со временем в феодальное право владения. Эти захваты
осуществлялись тем легче, что представители таких родов, входя в сельские
общества, «были соучастниками в общем пользовании общинными
пастбищами и лесами, которые они превращали в родовые, наследственные
владения»4. Но «тыхджын мыггаг» оказывались также в
преимущественном положении в пользовании угодьями, сохранявшимися во
владении всей общины, так как в руках их сосредоточивалась основная
масса скота. Пагубность этого факта для подавляющей части общинников
О
1 Газ. «Терские ведомости», 1899, № 57.
2 3. В а н е т и. Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин, стр. 419.
3 К- Л. X е т а г у р о в. Собр. соч., т. IV, стр. 319.
4 Б. В. Скитский. К вопросу о феодализме в Дигорин, стр. 6.
207
станет понятным, если вспомнить, что обычай разрешал однообщинни-
кам пасти на общинном выгоне любое количество скота.
В еще более раннее время захват общинных земель происходил
и таким путем. В эпоху, когда население подвергалось набегагд и
притеснениям со стороны более сильных соседей — из чужих племен
или даже своих единоплеменников, возникла необходимость поставить
вооруженные караулы. «Роль вооруженных караульщиков брали на
себя более сильные фамилии, в результате чего создавалось подчинение
тех, кого они охраняли»1.
Нередко сельские общины призывали к себе в качестве
караульщиков людей извне. Неся караульную службу за определенную плату и
услуги, эти «охранники», набравшись сил, постепенно возвышались над
нанявшим их коллективом, присваивали силой общинные земли. Ярким
примером этого является, в частности, превращение Бадела и его рода
(в Дигории) в феодальных владетелей. Народ дигорский, сообщают
лредания: — «претерпевал от соседственных народов неприязненные
нападения, особенно во время полевых работ и, в силу того тягостного
положения, принял к себе Бадела, поручив ему, как воину хорошему,
охранение границ и отражение вооруженной рукой2 нападения
соседственных племен»3.
Добровольные приношения общинников и плату за службу
Бадела и его потомки превратили в обязательную дань, а земли,
охраняемые ими,— в свои владения.
Аналогичная история связана с захватом общинных земель в
Стыр-Дигории. И здесь некие Царгасата, поселившись в общине стыр-
дигорцев, стали выполнять те же функции, что и баделята в Тапан-
дигории, обеспечивая безопасность крестьян. Они «давали знать о
грабительских набегах внешних врагов, следили за стадами крестьян,
охраняя их от увода вражескими племенами, осуществляли контроль над
использованием пастбищ». Эти пастбища, известные под названием
«Харес» (общей площадью свыше 1700 десятин) и расположенные в
альпийской зоне, были единственным богатством Стыр-Дигорской
общины. Вознаграждение, которое стырдигорцы назначали Царгасатам
за их службу, первоначально было добровольным. Однако со временем
О
1 Б. В. Скитский. Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен
до 1867 года, стр. 75.
2 В. Пфаф пишет, что Бадела из Маджар пришел с огнестрельным оружием, фитиль-
ною винтовкой. (В. Пфаф. Материалы для истории осетин, ССКХ, вып. V, стр. 85).
В описываемую эпоху у осетин еще не было огнестрельного оружия. Отсюда и
преимущество Бадела перед другими.
3 Б. В. Скитский. Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен до
1867 г., стр. 77.
208
«царгасаты, пользуясь своим крепнущим влиянием в обществе, стали
домогаться того, чтобы не только следить за безопасностью
крестьянского скота и контролировать пользование пастбищем, но и
распоряжаться этими пастбищами»1. В конечном итоге общинные пастбища
стырдигорцев были присвоены в родовое владение Царгасатами2.
Феодальная собственность на землю не только ущемляла интересы
общинников, но и приводила к антагонизму во всем обществе. Так,
землевладельцы Тугановы или казаки из русских станиц в Осетии сдавали
свои земли по более выгодной арендной цене другим обществам, т. е.
тем, кто не являлся претендентом по праву жительства, а пришлым
элементом. Своей экономической мощью феодалы таким образом
разбивали общество, усиливали антогонизм в среде самих трудящихся.
После того, как все свободные земли вокруг селений были
заняты поселениями, новые заимки без согласия общины (т. е.
самовольные захваты) и всякое нарушение прав общинников стали вызывать
острую реакцию со стороны общинников. И община выработала
санкции, ставшие на пути захватов общинных земель. Так, община могла
разрушить дом и строения, поставленные кем-либо без согласия
общины на ее землях. М. Ковалевский приводит такой пример. Житель
селения Камад (Махческий приход) Елкан Тавитов «вырубил часть
общественного леса и выстроил хутор в таком месте, где раньше не было
постоянных усадеб. Последствием такого поступка с его стороны
было то, что значительное число жителей аула, действуя от имени всего
общества, отправилось на занятый им участок, разорило до основания
сделанные им постройки и присвоило себе вырубленные им деревья.
Основанием к такому поступку участвовавшие в нем лица приводят
то соображение, что лес был общественный и что Тавитову не было
дано согласия на заимку»3.
Действительно, община не позволяла бесконтрольно пользоваться
принадлежащими ей лесными угодьями. В Дигорском ущелье, где леса
принадлежали казне, последняя для лучшей охраны угодий
установила порядок, согласно которому сельские общины сами регулировали
пользование лесом. Абрамовская Комиссия при Терском областном
правлении отмечала, что сельские общества (общины) «установили
самый правильный и бдительный надзор и оберегают леса, как только
можно оберегать свою собственность. И действительно, в пользовании
этим лесом нет ни малейших признаков того, что он принадлежит
казне. Зато обе стороны довольны: казна тем, что при отсутствии рас-
©
1 А. К- Джанаев. Феодальное землепользование в Стыр-Дигории, стр. 13.
2 Б. В. Скитский. К вопросу о феодализме в Дигории, стр. 34—35; А. К.
Джанаев. Указ. соч.
3М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т, I, стр% 135—136,
14 А. X. Магометов 209
ходов на охрану лес сберегается и площадь его не уменьшается,
население тем, что беспрепятственно пользуется лесом»1. Одним словом,
«земельное пользование было в значительной мере поставлено под
контроль общины и подчинилось известным ограничениям,
характеризовавшим самые архаические формы общинного быта»2.
Экономический быт, общинная
солидарность и взаимопомощь
Несмотря на имущественное и социальное неравенство родов и
происходившую на этой почве междуродовую борьбу, сельская община
характеризовалась чертами, унаследованными ею от своей
предшественницы — родовой общины. Эти черты, восходящие к родовому строю,
оставили заметный отпечаток на взаимоотношениях членов сельской
общины.
Сохранению этих институтов родового строя прежде всего
способствовали объективные условия их экономической жизни, требовавшей
известной солидарности, тесной связи в процессе труда, соблюдения
определенных правил общежития. Уровень производственных
отношений крестьян-общинников был таким, который приводил к
переплетению их интересов. Наконец, сам факт совместного проживания на
одной территории вызывал совместные действия. Отсюда вполне
естественным является тот факт, что многие черты взаимоотношений между
людьми родового общества были перенесены осетинами на их
отношения внутри сельской общины. Так, например, все хозяйственные работы
вне двора: подготовка почвы к пахоте, начало пахоты, сев, уборка
хлебов, начало сенокоса, уборка и порядок хранения сена, выпас скота,
перегон его на летние или зимние пастбища и другие проводились
согласованно, т. е. регулировались общиной, хотя они являлись частным
делом каждого. Члены сельской общины на своем общинном собрании
определяли сроки и порядок их выполнения, соблюдение
традиционных обрядов (праздников), сопровождавших начало и окончание
работ.
Решение общинного собрания никто не в силах был нарушить.
Если кто-то почему-либо не придерживался выработанных общиной
О
1 Осетинское племя. Труды Комиссии по исследованию современного положения
землепользования и землевладения, стр. 93.
2 Ев г. Максимов. Осетины. Историко-статистический очерк. Терский сборник,
вып. II., кн. II, 1892, стр. 41.
210
правил, то его подвергали наказанию в виде штрафа — «ивар»
(поступавшего в пользу всей общины) или бойкоту («хъоды»I.
Ярким свидетельством этого может служить существовавший в
прошлом у осетин обычай, согласно которому нельзя было начинать
покос отдельно, не дождавшись своих односельчан. Общинник должен
был «выйти на покос в одно время и непременно вместе со всеми
жителями аула, округа или целого ущелья»2.
День этот наступал после организации общесельского, общинного
праздника «атынэег» («цыргъисэен»— «взятие острия»), посвященного
специально этому событию.
«Никто из осетин,— сообщает по этому поводу другой источник,—
не смеет произвольно начать покоса, пока не настанет июль месяц, и
все жители деревни и околотка не соберутся на праздник,
называемый «атинаг», на котором, после долгого совещания, старики решают,
пришла ли пора косить, или нет»3. «Определенные сроки существуют
и для пахоты»4,— говорится в этом же источнике.
Весьма интересен обычай, согласно которому общинник еще в
первой половине XIX века не имел права выходить на работу в поле
или в лес в субботу, воскресенье и понедельник, считавшиеся
нерабочими днями. В случае крайней необходимости это право он искупал у
общины устройством угощения для сельских старейшин или платил
штраф («ивар»).
Регламентация сроков производства сельскохозяйственных работ
отмечена и в сельской общине германцев и горцев Кавказа. Так, в
Германии общинники полевые работы начинали вместе и засевали
участки одинаковыми зерновыми культурами, чтобы урожай созревал
в одно время. Это было связано с тем, что после уборки урожая пашня
превращалась в общее пастбище. На него выгоняли скот все жители
деревни.
Аналогичное правило существовало и в Осетии, где крестьяне-
общинники имели право выпаса скота на лугах и пашнях,
находившихся в частном владении, после уборки на них урожая. Пахотные
и сенокосные участки, принадлежавшие отдельным дворам, по
сообщению. М. Ковалевского, «после уборки хлеба и сена поступают в
общинное пользование и остаются в нем до тех пор, пока не настанет
О
1 Н. Ф. Д у б р о в и н. Осетия. История войны 'и владычества русских на Кавказе,
т. I, кн. I, стр. 316.
2 С. Ж у с к а е в. Атинаг — праздник у осетин перед началом сенокоса и жатвы.
«Кавказский вестник», 1855, № 32.
3 Газ. «Кавказ», 1850, № 94.
«Там же.
211
время весенней пахоты, и собственники не вступят снова в
исключительное обладание принадлежавшими им участками»1.
В этом факте М. Ковалевский видит «пережиток, уцелевшую
черту некогда присущего этим землям характера общинной
собственности»2. Совместному регулированию общины подлежали и некоторые
другие работы. Например, там, где применялся севооборот, он
устанавливался каждый год решением общины. Община регулировала также
пользование лесом, пастьбу скота, охрану нив и др.3-
Коллективный характер пользования сохранила и мельница, в
которой общинники мололи зерно по очереди. Но там, где не было
общинных мельниц, общинники могли «безвозмездно молоть хлеб»4 в
мельницах своих односельчан. «За помол хозяева мельниц ничего не
получают,— говорится в одном из обзоров хозяйства горных осетин.—
Каждый из жителей имеет право пользоваться мельницами
бесплатно»5.
Совместных усилий и коллективных действий требовали и такие
работы, как ирригация, проведение дорог и строительство мостов.
В горной Осетии до нашего времени сохранились дороги,
проведенные когда-то между селениями, а из сел — на пастбища и другие
угодья общинников. Вдоль дорог по обеим сторонам были возведены
тогда же каменные ограды. Эти сооружения опоясывают сложной
сетью всю горную полосу Осетии. По этим дорогам только и
разрешался перегон скота. Сворачивать с них никто не имел права. Разумеется,
это не плод труда одиночных коллективов, а целых общин.
Сельская община осуществляла также коллективную оборону села,
защиту интересов его жителей. Общинники несли в этом одинаковую
ответственность. Так, строительство сторожевых башен, общих для
всего села, осуществлялось всеми его жителями на средства всей
общины, и караульную службу в них несли поочередно обитавшие на
селе семьи.
Если из сельского стада грабителями угонялся скот или кто-либо
из сельчан подвергался нападению в поле, то по тревоге поднимались
все сельчане (все мужское население) на его защиту. Сельчане
(независимо от родства) участвовали также в преследовании похитителей
девушки из данного села.
Наряду с организацией обороны и защиты общинников, носивших
территориально-общинный характер, в общественной жизни осетин еще
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 114.
2 Т а м ж е.
3 3. Ванети. Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин, стр. 27— 28.
4 Ю. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807—1808 гг.,
стр. 239.
5 В горной Осетии. Нарское общество. Газ. «Терские ведомости», 1880, № 50.
212
в XVIII веке большое место занимало производство военных набегов,
т. н. «балц». Последние восходят к эпохе военной демократии. Эти
набеги организовывались также по территориально-общинному
принципу, т. е. в них принимали участие все боеспособные мужчины.
Упоминаниями об этих набегах полны народные предания, собранные в
осетинских ущельях.
Примитивный уровень хозяйства горца сохранил и различные
формы взаимопомощи, возникшие и широко развитые в родовой общине.
Самые условия земледельческого хозяйства вынуждали обращаться к
совместному труду нескольких отдельных домохозяев. Так, пахота во
многих случаях по необходимости производилась соединенными
силами двух-трех и более дворов1. Например, значительная часть крестьян,
не имея достаточного количества рабочего скота, входила в супряги
(«галаембал», «цэедпс» — «соучастие в упряжке»J.
Широко распространен был этот обычай и на плоскости. Здесь
пахота требовала значительных затрат и сил; чтобы снарядить плуг,
"необходимо было иметь несколько пар быков, 5—6 работников, много
упряжи. Поэтому только состоятельные хозяйства могли пахать
собственными средствами, малые же семьи прибегали к совместному труду3.
Вообще «супряги были,— как отмечает исследователь общинного
быта кавказских горцев Ф. Щербина,— распространены положительно
по всему Кавказу»4.
Очень широко применялась трудовая взаимопомощь в виде «зиу»
(ср. русские «помочи»). К ней общинник прибегал, как только у него
в этом возникала потребность, т. е. когда затеянная им работа
требовала одновременного участия в ней большой группы людей. Прийти на
помощь своему односельчанину, принять участие в организуемом им
«зиуе» общинник считал своей священной обязанностью. Даже с
субботнего дня, являвшегося нерабочим, снимался запрет, если только
общинник желал организовать в этот день «зиу»5.
«Зиу» устраивался во время обработки поля, уборки хлеба,
сенокошения, строительстве башен, жилищ и различных построек и прочих
видов работ.
Сельские женщины такие работы, как обмазка глиной хат,
расчесывание шерсти, валяние войлоков и бурок и другие трудоемкие
работы проводили, как правило, группами соседских женщин,
созываемыми на «зиу».
О
1 Г. Ф. Чурсин. Очерки по этнологии Кавказа, стр. 24.
2 В. И. Аба ев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I, стр. 293.
3 Г. Ф. Чурсин. Очерки по этнологии Кавказа, стр. 25.
4 Ф. Щербина. Общинный быт и землевладение у кавказских горцев. «Северный
вестник», СПб., 1886, январь, № 1, стр. 142.
5 С. Ж У ска ев. Атинаг... «Закавказский вестник», 1855, № 32.
213
С помощью «зиу» общинники не раз выводили из трудного
положения своего односельчанина-бедняка.
Подчеркивая прогрессивный характер обычая взаимопомощи,
являвшегося одной из устойчивых традиций осетинской сельской общины,
Коста Хетагуров писал: «Вспомните наш лучший традиционный
обычай «зиу», как каждый осетин от всей души откликался на нужды
другого, не принимая во внимание ни родства, ни своих личных
интересов. Молодежь отправлялась на луга и, в несколько часов
покончив покос лишенной рабочей силы бедной семьи, с песнями
возвращалась в аулы. Молодые женщины в свою очередь снимали хлеб с
небольшой нивы нуждающейся семьи. При стихийных бедствиях
каждый, не лишенный способности ходить, осетин при малейшей тревоге
спешил на место происшествия и по мере сил и возможности помогал
пострадавшим чем и как кто мог: личным трудом, хлебом, сеном,
соломой, дровами, строительным материалом и пр.»1.
Работа во время «зиу» обычно проходила с энтузиазмом, с весе,
лым задором, превращаясь в настоящий трудовой праздник. Он
завершался угощением «зиууаеттае» и обычным торжеством.
Еще в конце 20-х гг. нашего столетия Г. Ф. Чурсин отмечал, что
«обычай взаимопомощи в хозяйственной деятельности и во всех
трудных и важных случаях жизни до настоящего времени широко
распространен у всех кавказских народов»2.
Вот что рассказывает Н. Харузин о взаимопомощи у чеченцев и
ингушей: «Если какой-нибудь домохозяин видит, что он справиться со
своей землей не может своими силами, он приглашает своих одноауль-
цев на помощь. Отказаться от такого приглашения считается крайне
позорным. Пригласивший обязан, по окончании работы, угостить
помогавших ему: угощение устраивается на самом месте производства
работы и сопровождается пением и пляской. Кроме помощи в сельских
работах житель аула получает еще помощь своих одноаульцев при
постройке новой сакли: весь аул сбегается к нему и старается по
силам помочь строящему; в благодарность за это строящий обязан
угостить весь аул»3.
Некоторые сельскохозяйственные работы нередко требовали
одновременного приложения большой рабочей силы. «И здесь, следуя
святому обычаю старины,— пишет Г. Чурсин,— на помощь земледельцу
О
1 К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. 212.
2 Г. Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957, стр. 17.
3 Н. А. Харузин. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей. Сборник
материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее. Вып.
III, М., 1888, стр. 133.
214
приходят его соседи и односельчане. У осетин соседние дворы
помогают друг другу в уборке хлеба и сена»1.
Определяя характер производственной взаимопомощи внутри
соседской общины у горцев, Ф. Щербина писала: «В тех случаях, когда
взаимопомощь была соединена с производственными процессами, она
носила характер общинной формы труда. Горец тут действовал артелью
или скопом, и, строго говоря, не существовало ни одного такого вида
хозяйственной деятельности, к которому не прилагал бы горец этой
излюбленной формы взаимопомощи»2.
Взаимопомощь среди общинников была распространена и в
форме взаимных одолжений. Они проникли так глубоко в практику
общины и стали таким привычным явлением в ней, что отказать в
просьбе соседу считалось фактом, отрицательно характеризующим человека.
Такой отказ вызывал не только обиду просителя, но и осуждение
со стороны общества. Поэтому общинник к своему соседу приходил, не
допуская мысли, что ему могут отказать в просимом. Этим правом
мог в любой момент воспользоваться и тот, кто отдавал. Как видим,
в основе этого обычая лежал принцип взаимности и обязательности.
•Общинник, пренебрегавший этим обычаем, жил среди своих
односельчан на положении отверженного.
Одалживали не только продукты питания, но брали во временное
пользование различные предметы и скот — лошадь, осла, быков
(чтобы поехать по делам в другое селение или привезти дрова, доставить
с плоскости хлеб и т. д.), седло, арбу, сельскохозяйственный
инвентарь, котел и другие вещи.
В обычае было также брать друг у друга носильные вещи
(черкеску, бешмет, шапку, бурку, рубаху и даже брюки), чтобы поехать
в другое селение. Разумеется, эти обычаи держались в среде трудовой
части населения, составлявшей основную массу общинников.
Очень ярко общинная солидарность выступала в моменты горя
и несчастий, постигавших членов общины. Обычай оказывать помощь
в эти моменты возник в недрах рода и отражал родовую солидарность.
Он был сохранен соседской общиной в числе многих других обычаев
родового общества, о которых мы уже частично говорили.
Взаимоподдержка и готовность разделить горе с семьей, потерявшей близкого
человека, составили, таким образом, неотъемлемую черту
нравственных основ взаимоотношений членов осетинской сельской общины.
Когда кто-либо умирал на селе, то каждый сельчанин считал
своим долгом прийти и выразить соболезнование («таефаерфаес») семье
умершего, посочувствовать ее горю, принять участие в похоронах и
О
1 Г. Ф. Чурсин. Очерки по этнологии Кавказа, стр. 26.
12 Ф. Щербина. Общинный быт и земледелие у кавказских горцев, стр. 142,
215
оказать ей посильную помощь. Хлопоты же по погребению и
связанные с этим затраты, а также организацию поминок брали на себя
ближайшие соседи или просто жители села.
Подобные обычаи имели место и у других народов Кавказа.
Например, и «в Карталинии,— писал Г. Ф. Чурсин,— в день похорон не
работают его соседи»1, а у пшавов те селения, в которых проживают
родственники умершего, «обязаны принять участие в похоронах и с
этой целью приостановить работы до момента предания мертвеца
земле»2.
В Осетин каждый из сельчан старался как-то облегчить горе семьи,
побыть около нее день-два, и в результате в течение недели
родственники умершего не оставались в одиночестве. А в день похорон («мар-
ды бон») ни один из общинников не отправился бы на работу. Никто
в эти дни также не устраивал у себя торжеств, а если у кого-либо
из них еще до этого события намечалась на эти дни свадьба, то она
откладывалась на некоторое время. Одним словом, община всем
своим поведением поддерживала траур пострадавшей семьи.
Этот обычай проник так глубоко в быт осетин, что и по сей день
не только все жители данного села, но и выходцы из него,
проживающие в других местах, оповещаются о смерти односельчанина. И
каждый считает своим долгом прийти или приехать на место события и
выразить свое соболезнование семье умершего.
Общинная идеология сказывалась и в отношениях между
выходцами из одного села, по находившимися за его пределами. На
чужбине эти люди, может быть, даже не знакомые до этого, вправе были
ожидать друг от друга поддержки, а в нужный момент и помощи,
взаимного участия в практических делах.
Общинный культ
Распад родовой организации и возникновение
территориально-соседской общины отразились и на религиозной жизни осетин. Родовые
божества теряют свой родовой облик и приобретают территориальные
черты. Божества сильных родов в сельской общине начинают
почитаться членами остальных, более слабых родов, проживавших в той
же общине. Так, «Св. Хетаг» — мифический предок рода Хетагуровых,
«становится» покровителем всего Нара, а затем и для жителей других
О
1 Г. Ф. Чурсин. Народные обычаи и верования Кахетии. ЗКОИРГО, кн. XXV,
вып. 2, стр. 72.
2 М. Ковалевский. Закон и обычай на Кавказе, т. И, стр. 72.
216
окрестных сел. Покровитель знатной фамилии Шанаевых «Ног дзуар»
(«Новый святой») также превращается в покровителя «всех, кто
состоял от них в той или иной зависимости»1.
А Джантемир Шанаев, приводя легенду о «Ног дзуаре», так
передает слова чудесно явившегося святого («Ног дзуара»): «Ступай и
скажи, чтобы аул (Кани) принес мне жертву и праздновал этот день»2.
Трансформация родовых культов в территориально-общинные очень
наглядно выступает в празднике «Комахсаен» (во второй половине
января) . Это большие общественные поминки по умершем. Поскольку
они (поминки) связаны с культом предков, то должны бы были
выявить черты родового культа. Но организация этого праздника была
чисто аульной, а не родовой.
«На нихасе считают,— пишет В. Ф. Миллер,— сколько человек в
ауле умерло в течение года, и на столько частей делят весь аул.
Каждая семья, у которой был покойник, должна нести расходы по
разверстке по числу всех покойников аула, т. е. справлять поминки с
ближайшими соседями»3 (подчеркнуто нами.— А. М.).
Общинному началу осетины подчиняли и некоторые другие семей-
но-родовые праздники. Так, рождение мальчика в семье праздновалось
всей общиной. Отец (род) новорожденного платит «хъалон»
(«подать») миру — «хъаеубаестаэн». Семей, где родились в истекшем году
(«от праздника к празднику») мальчики, на селе набиралось
несколько и они совместно, всей общиной, справляли праздник «каехцгаенаен».
«Всякий дом, где есть новорожденный,— сообщается в одном
этнографическом очерке,— должен зарезать какую-нибудь скотину, принести ее
обществу и тем засвидетельствовать о своем новорожденном мальчике.
В сборном месте, куда собирается все село, для празднования дня кахц-
ганан, обыкновенно по числу голов зарезанных животных,
расставленных на особом столе, определяют количество родившихся мальчиков
в селе за настоящий год»4.
С развитием территориально-соседской общины появляется общин
для всех культ: каждое село (община) приобретает своего
покровителя-святого, и жители избирают общее для всего села культовое
место— святилище («хъаеуы дзуар», «хуыцауы дзуар» и т. п.).
«В каждом ауле,— писал В. Ф. Миллер,— можно найти аульного
дзуара, который носит название хъаеуы заед — ангела аула и имеет в
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 95.
2 Дж. Шанаев. Осетинские народные сказания. Сб. сведений о кавказских горцах,.
вып. III, 1869, стр. 33—35.
3 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 272.
4 Кавказец. Весенние праздники осетин. Газ. «Кавказ», 1900, № 197.
217
году свой праздник»1. «Это — культ аульных покровителей, каждый из
которых имел свое определенное святилище»2.
На территориальный характер подобных культов указывал и Н. Ф.
Дубровин. «Кроме различного рода святых, почитаемых осетинами,—
писал он,— каждый аул имеет своих идолов, покровителей и
священные места, которые, впрочем, по большей части не уважаются и не
признаются другими аулами»3.
К аульным божествам сельчане обращались (в молитвах) со
всеми своими нуждами, испрашивали у них покровительства в делах
хозяйства, благополучия и преуспеяния в жизни, а также ограждения
их от болезней и нечистой силы. Их культ, связанный с общинной
жизнью, отправлялся коллективно, всей общиной и нередко заслонял
собой образ и культ высших божеств. Функции последних
«выполнялись» аульными покровителями—«хъаеуы заед». Очень наглядно это
видно на почитании в прошлом «Цъамады хъаеуы заед» (букв.—
«ангела села Цамад»). Это был главным и наиболее популярным культом
у жителей Цамада.
Общинный культ не обязательно имел название «хъаеуы заед» или
хъаеуы дзуар». Так, в соседнем с Цамадом ауле — Дагоме общинное
святилище называлось «Мадизаен», в Унале — «Антутаты дзуар», Би-
зе—«Сау бараег», Бирагзанге — «Гаенахы дзуар» и т. д. При всем
различии названий и местных особенностей общинные культы имели
общие правила и черты, вытекавшие из общинной идеологии. Так,
каждый общинник обязан был принять участие в жертвоприношении
аульному святому («хъаеуы заед») внесением своей доли ячменя для
приготовления ритуального напитка — пива («къусбары баегаены») и денег на
приобретение «кусаерттаг» (жертвенного животного).
Беженец, искавший защиты и покровительства у чужой общины,
приносил жертву («кусарт акодта») патрону последней, пригласив на
нее жителей этого аула. Осетин, желавший поселиться в другой
общине, совершал такой же обряд. Поручив себя покровительству ее
божества («хъаеуы заед»), он считался уже принятым в данную общину.
Признав новый культ и совершая в честь него положенные обряды,
переселенец в то же время продолжал почитать культ своей прежней
общины. Но последнее он совершал в форме отправления семейно-родо-
вого культа.
Каждое село имело свой определенный день отправления культа
«хъаеуы заед» («хъаеуы дзуар»). Кроме того, сельчане приносили послед-
©
! В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 253.
2 С. А. Тока рев. Этнография народов СССР., М., 1958, стр. 276.
3 Н. Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. I,
СПб., 1871, стр. 318.
218
нему жертвы «во всякое время, когда оказывалась надобность в
помощи аульного святого»1.
Своему дзуару общинники делали жертвоприношения вместе, в
один определенный день («дзуары бон»). На общие средства
приобретали жертвенного животного (быка), варили пиво и собирались к
святилищу, где и устраивали общинный «куывд» (пиршество, моление).
Для устройства общинных праздников («куывд») назначались по
очереди «фысым» (хозяева праздника), которые за счет собранных со всей
общины продуктов и приобретенных животных приготавливали празд-
.ничный стол.
Наряду с общинными святыми у осетин имелись и другие
божества, которые почитались жителями всей Осетии или только какой-то
части. И здесь в отправлении обрядов каждая община выступала
отдельно от других, но одновременно с ними, в день праздника. При
таких святилищах, как «Реком», «Хетаэг», «Тба-Уацилла», «Дзвгис», «Си-
дан», «Мыкалгабыртае» и др. для жителей каждого села имелись свои
•«щардаки» («цардахътае» — помещения для ночлега и пироваиия) или
отдельные места (бадаентае). В них и располагались по общинам.
Все аграрные праздники также справлялись коллективно, всей
общиной. Из этих праздников были наиболее известны «Хоры бон» (День
хлеба), устраивавшийся весной перед выходом на пашню, «Стыр хуы-
цауыбон» (к этому времени кончали пахать и молитвами испрашивали
хороший урожай), «Тба-Уацилла» (справлялся летом жителями сел.
Тагаурии), «Атинаг» — «Цыргъисаен» (устраивался перед началом
сенокошения и жатвы хлеба); в Дигории — весенний праздник «Будури
изади кувд» (Праздник ангела полей), осенний праздник «Хуари \лда-
ри бон» (День владыки хлебов) и др.
Как отмечает Н. Харузин, «в селении Лац ежегодно перед началом
;жатвы (в середине июля) местное население стекается к древнему
святилищу «Хуыцауы дзуар» и молит о благополучном окончании полевых
работ»2.
С точки зрения выяснения общинной идеологии немалый интерес
лредставляет праздник «фацбаданта» в Стур-Дигории.
Этот праздник начинался в середине января и продолжался пять
дней. В течение этих дней стурдигорцы не принимали никого в свое
селение и никого не выпускали из него. Но если «фацбадан» застал
кого-то из посторонних в ауле, то путник уже должен был ожидать
окончания праздника и принимать в нем деятельное участие.
В продолжение первых четырех дней каждая семья совершала
1 И. Тхостов. Верования осетин. Газ. «Терские ведомости», 1868, № 12.
^ Н. Харузин. Археологические экскурсии в Чечню и Осетию. Газ. «Терские
ведомости», 1886, № 66.
219
свой кувд у себя дома, но двери для общинников не запирались, а
наоборот, все четыре дня они проводили во взаимных посещениях. На
пятый день праздник принимал характер общественного пиршества.
Захватив с собой напитки и приготовленные специально к этому дню
пироги и мясо, все мужское население общины отправлялось с песнями
по дороге, ведущей из аула в местность «Гъазандона» («Место
игрищ»), по которой с первого дня праздника никому не разрешалось
проезжать. Здесь около дзуара «Идауаг» стурдигорцы проводили весь
день в торжестве, пении, плясках и только поздно вечером
расходились по домам. Этим заканчивался праздник, после чего уже
разрешалось как выезжать из аула, так и въезжать в него1.
Рассмотренные выше общинные праздники в своей основе имели
прежде всего экономические причины. Община свои праздники
устраивала или перед началом полевых работ, из известных экономических
начинаний, или после окончания их, или же вообще с целью
умилостивления тех предполагаемых высших существ, от которых будто
зависели урожай, хороший приплод и вообще материальные блага человека.
Мы отмечали, что в сельской общине вместо семейных и родовых
культов на первый план выступал общинный культ, отражавший
идеологическое единство, интересы не одной семейной общины или даже
рода, а новой социальной организации — территориально-соседской,
сельской общины. Это особенно ярко выражалось в характере
устройства и проведения общинных праздников. Эти праздники являлись
непросто способом коллективного моления святому и испрашивания у
него благ для всей общины, но и одной из форм проявления общности
интересов ее членов, средством для дальнейшего укрепления их
сплоченности.
В плане сказанного большой интерес представляют общинные
праздники у грузин-горцев, имевшие, впрочем, те же формы и
содержание, что и праздники у осетин. Вот как описывает А. С. Хаханов
такой праздник: «В день храмового праздника устраивается общий
пир, собираются вместе привезенные богомольцами лепешки, пирожки,
в общих котлах2 варятся все жертвенные животные, садятся все
вместе за братским столом, причем... грудной ребенок и
шестидесятилетний старик получают равные порции. Здесь происходит свидание между
давно разлученными друзьями, здесь примиряются кровные враги.
Здесь решаются важные дела, касающиеся всей общины. Деканозк
О
1 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, т. II, стр. 282—283.
2 И у осетин имелся общинный котел для варки жертвенных животных и обрядового
пива и хранился в святилище (если оно имело помещение) или у кого-либо из сель-
чан. Последний назывался «агдар» (хранитель котла). См. В. И. А б а е в. Историко-
этимологический словарь осетинского языка, стр. 35.
220
(жрец.— А. М.), сотрясая знамена, призывает всех к единодушному
.действию против врага, произносит проклятие над совершившим
преступление и над теми, которые не будут содействовать к обнаружению
злодея»1.
Пиршество завершается танцами, песнями и играми. Игры эти,
как и у осетин «заключаются в стрельбе в цель, фехтовании, бросании
камней, езде на лошадях и в других телесных упражнениях,
напоминающих олимпийские игры»2.
Одним словом, единый культ и общесельские праздники были
обязательными атрибутами сельской общины.
Управление и общественные отношения
Управление общиной и регулирование общественных отношений
происходило через общинное собрание, сход — «ныхас» (букв.—
беседа, речь). Последним словом обозначалось также место, где
происходили эти собрания.
Институт общинного собрания — нихас был активным элементом
общественного строя еще в древности — в начале родовым, затем —
сельскообщинным органом. Большой материал на этот счет дает
осетинский фольклор. Например, как указывает эпос, вся общественная
жизнь нартов проходила на нихасе. Наиболее древние нихасы в
Осетии (в виде расположенных амфитеатром сидений, например, в Лаце и
Донифарсе) известны в народе под названием «нартских нихасов».
На древность термина «ныхас» с его общественным значением
указывает и тот факт, что принятый в средние века у осетин балкарцами,
он сохранился у последних до настоящего времени3.
На нихас собиралось мужское население аула, главным образом,
мужчины среднего и старшего возраста. Нихасы обычно располагались
где-нибудь в центре селения, на площадке, удобной для общественных
сборищ, в большинстве своем под открытым небом. Нередко нихасы
можно было видеть около сельской башни или на возвышенной или
проезжей части села. В плоскостных селах места для нихасов
избирались в центре села, на бугорке4 или там же под большим деревом.
О
1 А. С. X а х а н о в. О мохевцах. Сборник материалов по этнографии, издаваемой при
Дашковском этнографическом музее, вып. III, М., 1888, стр. 78.
2 Там же, стр. 79.
3 См. Л. Р. X а р а д з е. Сельская община у балкарцев. Материалы по этнографии
Грузии, XI, 1960.
4 Отсюда И. Кануков место общинного собрания — нихас просто называет «аульным
холмом». (И. Кануков. В осетинском ауле. В кн.: И. Кануков. Очерки, статьи,
заметки. Орджоникидзе, 1963, стр. 13).
221
В свое время для нихасов строили даже широкие навесы. На это,,
в частности, указывает свидетельство Н. Г. Берзенова: «У осетин
всякое общественное дело предоставляется решению нихаса — совета,
сходящегося обыкновенно под навесом, который устраивают на площадке,
в центре селения»1. Эти сведения о крытом нихасе можно дополнить
сообщением П. С. Уваровой, которая пишет: «Проезжая аулом,
замечаем плетеный нихас, покоящийся на столбах. Под навесом местные
жители, кто стоя, кто сидя, кто лежа: это местный осетинский клуб или:
нихас»2.
Очевидно, в ненастную погоду или в морозы зимой нихасом
служила и кунацкая («уазаегдон»). «Кунацкая,— говорит С. Кокиев,—
нередко служит местом... общественных сборищ, где решаются всякие-
общественные вопросы»3. Кунацкую для этой цели больше всего
использовали в Тагурии4.
Сидениями для старших служили «скамьи» из крупных камней.
По этим камням и сейчас можно обнаружить былое местонахождение
нихаса в горных селениях.
Круг вопросов, обсуждавшихся на нихасе, был чрезвычайно
широк. Можно сказать, что ни одна сторона общинной жизни не прошла
мимо нихаса. Через нихас община была в курсе всех дел и настроений
ее жителей. Ему также не чужда была семейно-бытовая «хроника», но
к вопросам этого порядка община (в лице своего же нихаса)
относилась очень деликатно. «В патриархальном ауле, — рассказывал
В. Пфаф,— все делается гласно и эта неограниченная гласность имеет
весьма благодетельное влияние на всю нравственную обстановку
жизни. Она предупреждает интриги, сплетни, наговоры, потому, что
малейшее подозрение в подобных проступках против кого бы то ни было,
тотчас заявляется громогласно на нихасе и разбирается столь же
строго, как всякое судебное дело. И действительно, горцы, сравнивая
нравственную обстановку жизни с жизнью более цивилизованных обществ,
дают первой решительное преимущество...»5.
По-видимому, до проникновения в осетинское село торгово-денеж-
ных отношений и влияния царского самодержавия на общинный быт
осетин сила и вес общинного собрания были очень высоки. Это и да-
о
1 Н. Г. Берзенов. Очерки Осетии. Дигория. Газ. «Закавказский вестник», 1852,
№ 40.
2 П. С. Уварова. Кавказ. Путевые заметки. М., 1887, стр. 30—31.
3 С. В. Кокиев. Записки о быте осетин.'Сборник материалов по этнографии,
издаваемой при Дашковском этнографическом музее, вып. 1, М., 1885, стр. 73.
4 Полевой материал автора, октябрь 1967 г.
5 В. Пфаф. Народное право осетин, ССК, т. I, стр. 196.
222
ло право В. Пфафу назвать общинный сход осетин «всемогущим нн-
хасом»1.
Однако следует признать, что роль нихаса, являвшегося
самодеятельным органОхМ, не обличенным публичной властью, в целом ряде
конкретных вопросов, например, в урегулировании частно-правовых
отношений и разрешения конфликтов между членами общины была
ограниченной.
В деле умиротворения общины нихас как выразитель
общественного мнения оказывал на своих членов только моральное воздействие.
Но ни один общинник, как известно, не мог игнорировать это мнение.
Как уже сказано, перед нихасом проходила вся жизнь общины: тут
были и вопросы частной и хозяйственной жизни общинников, единые
заботы и дела общины, вопросы племенной и международной
политики, новости дня и «историческая хроника». Нихас, кроме того,
служил местом, куда ежедневно, в незанятое время приходили сельские
мужчины и обменивались новостями, проводили свой досуг.
Вот как характеризуют роль и общественные функции нихаса
дореволюционные этнографы. «Нихас — это место общественного
собрания,— писал И. Кануков.— Сюда в нерабочую пору собираются все
аульные жители и часто решают частные и общественные дела, или
просто проводят досужее времягв пустых разговорах»2.
А. Цаллагов говорит о нихасе несколько точнее: «Места сходок у
осетин называются нихасами; на нихасах говорят вообще об
общественных делах, о полевых и домашних работах, о том, что слышали и
видели в разных местах, о том, как жил народ раньше и как живет
теперь»3.
«На нихасе собираются все мужчины и обсуждают общественные
дела»4,— пишет в другой своей работе В. Пфаф. Н. Ф. Дубровин же
писал о нихасе: «Нихас — постоянное сборное место, где происходят
аульные совещания о каждом предмете общественной жизни осетин»5.
И далее он конкретизирует: «До подчинения осетин русскому
правительству, в народе всякое общественное дело решалось нихасом —
советом, который сходился где-нибудь под навесом, устраиваемым
обыкновенно на одной из площадок аула, преимущественно в центре его-
О
1 В. П ф а ф. Народное право осетин, ССК, т. I, стр. 196.
2 И. Кануков. Указ. соч., стр. 15.
3А. Цаллагов. Селение Гизель (или Кизилка), СМОМПК, выпуск XVI, 1893,.
стр. 10.
4 В. Пфаф. Этнологические исследования об осетинах. Сборник сведений о Кавказе,
т. II, Тифлис, 1872, стр. 140.
5 Н. Ф. Дубровин. Осетины. История войны и владычества русских на Кавказе,
т. I, кн. 1, стр. 301.
223
Все без исключения жители имели право подавать голос в этом
собрании, но старшие по летам пользовались перед другими
преимуществом»1.
Итак, на нихасах разбирались прежде всего вопросы
хозяйственной жизни всей общины: он регулировал пользование лесом,
пастбищами и выгонами, решал вопросы охраны нив, пастьбы скота и
содержания общинного пастуха, назначал общие сроки начала и окончания
сельскохозяйственных работ, устанавливал системы
севооборотов, выносил решения об устройстве подъездных путей и строительстве
мостов, обеспечивал уход за ними и др. Нихас выполнял роль
«законодателя», был своего рода органом, создававшим так сказать
«общинное», обычное право в сфере вопросов хозяйственной жизни и
общественных отношений внутри общины.
В компетенцию нихаса входило также разбирательство
междуродовых конфликтов, дел об убийствах, ранениях, оскорблениях,
похищениях невест, о спорах из-за имущества и воровстве. Прием в
общину нового поселенца извне разрешался также общинным собранием,
на нихасе.
Еще в первые два десятилетия XIX в. и в более раннее время на
нихасе решались и вопросы военного характера — о набеге или войне
против другого племени или общества, об организации обороны от
наступающего врага, о сооружении оборонительных крепостей и башен,
а также о заключении мира. На иихасе, кроме того, происходило
обсуждение мероприятий, связанных с устройством общинного праздника,
сроков его проведения.
После установления в Осетии государственно-административного
управления на нихасах стали разбираться также вопросы, вносимые
сельской администрацией на предмет их разрешения и выполнения.
К числу таких дел относились, например: раскладка подворно земских
повинностей и расходов на общественные постройки и другие сборы,
распределение пашенной земли между общинниками (на плоскости)
и т. д. Одним словом, на нихасе разбирались и обсуждались вопросы,
которые входили в круг общинных интересов.
Обсуждение на нихасе деловых вопросов происходило по мере
того, как появлялась необходимость в их разборе и в принятии по ним
решений. «Само обсуждение протекало просто и безыскусственно, без
соблюдения каких-либо формальных процедур»2.
Если, например, предстояло решить вопрос, когда начать пахоту,
то старейшины села (они же главы семейных общин), обмениваясь
мыслями на ежедневных встречах на нихасе, в соответствии с земледель-
©
1 Н. Ф. Дубровин. Осетины. История войны и владычества русских на Кавказе,
т. I, кн. 1, стр. 350—351.
2 3. Н. Ванеев. Из истории родового быта в Юго-Осетии. Тбилиси, 1955, стр. 34.
224
ческим календарем и народными приметами определяли наиболее
подходящее для этого время. В результате намечался конкретный срок,
после чего уже крестьяне выходили (одновременно) в поле.
Частное дело нихас подвергал обсуждению и выносил по нему
решение, когда общинник «официально» обращался с ним к собранию.
Поскольку в основе таких дел всегда лежал острый конфликт, нихас к
разбору их относился очень осторожно и внимательно; на нем
происходило своего рода коллективное расследование и разбирательство.
Нередко совершившийся факт становился предметом обсуждения общинного
собрания и без официальной постановки его заинтересованной
стороной или когда обстоятельствами дела не требовалось какого-то
определенного решения. В этих случаях община составляла коллективное
мнение, определяя свое отношение к данному событию. Начиналось
это исподволь, стихийно.
Не оставаясь безучастным к событию, каждый общинник
стремился сам разобраться в случившемся, доискаться до истины,
определить свое собственное отношение к делу, затем все это синтезировал
нихас.
Решение принималось с видимого общего согласия всех
присутствовавших на нихасе общинников.
Вот как описывает П. С. Уварова этот процесс: «Узнав о каком-
нибудь столкновении прав или правонарушений, старики, каждый сам
по себе, стараются разузнать все подробности дела и, выработав свое
мнение, заявляют о нем в нихасе, на аульной ежевечерней сходке.
Мнение каждого старика разбирается в оживленном разговоре, сначала в
отдельных кружках, а затем по мере того, как эти кружки
обмениваются своими мыслями и соображениями, совершенно естественно
образуется общее мнение на счет спорного дела. Это общее мнение
заменяет судебное следствие и доказательства и имеет силу полного
судебного решения или приговора»1.
Несомненно, в этих фактах следует видеть преемственную связь
бытовавших в сельской общине форм взаимоотношений людей с
более древними традициями, наследование присвоенных родовой общине
функций последующей социальной организацией.
Общинное собрание выносило такие решения, за исполнением
которых необходимо было особое наблюдение. Для этой цели община из
своей среды выбирала специальных людей, которым вменялось в
обязанность проведение в жизнь такого постановления. Это носило для
таких лиц временный характер и исполняли эту обязанность добровольно,
от лица всей общины, бесплатно.
Наряду с аульными нихасами существовали и общеущельские ни-
О
1 П. С. Уварова. Кавказ. Путевые заметки. М, 1887, стрг ЗЦ
15 А. X. Магометов 225
хасы. Такие нихасы были, например, в Алагирском ущелье: нихас в
сел. Дагом, площадка в районе селения Нар (под названием «равнина.
Пота»), площадка «Зилахар», «нихасская площадь» недалеко от Тамис-
ка; в Дигорском ущелье — площадки «Мадзаска» и «Мацута».
Такие общие нихасы имелись и в Куртатинском, и Тагаурском
обществах.
На общеущельских нихасах собирались по делам особой важности
или в моменты чрезвычайных событий. Вопросы, разбиравшиеся на этих
собраниях, касались интересов или судеб всего населения ущелья,
нередко всего племени.
Этими вопросами могли быть вопросы объявления войны или
заключения мира, обсуждение мероприятий по обороне ущелья от
нашествия врага, набег на другое общество или племя и др.
В Дагоме, кроме этих вопросов, решались все важные тяжебные
дела трех осетинских ущелий—Алагирского, Куртатинского и Дигор-
ского. Если дело не могло решиться у себя дома (в ущелье), с ним
приезжали на нихас в Дагоме.
О популярности Дагомского нихаса свидетельствует поговорка,
которая существовала тогда: «Если дело не решится на Дагомской
площадке, то не решится и на том свете»1.
Помимо перечисленных функций нихасы исполняли еще роль
стадионов. На них проводились спортивные игры и состязания,
общественные торжества и др.
Нихасы служили также ареной для выступлений народных
певцов, сказителей. Они являлись местом, где из поколения в поколение
шла передача произведений устного народного творчества осетин, где
шлифовались художественные сокровища народа.
Наиболее полную характеристику, на наш взгляд, дал в свое
время общинному собранию известный просветитель М. Гуриез. Вот что
он писал о функциях и характере нихаса: «Это была своеобразная
горская школа, где присутствующие находили себе большую пищу для
развития ума, языка, ловкости, физического воспитания и вообще для
развития своего миросозерцания.
При тогдашней горской действительности, когда не было ни школ,
ни клубов, когда никто ни одного письменного слова прочитать не мог,
нихас являлся тогда лучшим местом для практического развития
языка. Слушая лучших ораторов, стариков — рассказчиков преданий
старины, у присутствующего на нихасе накоплялся богатый запас слов,
красивых оборотов, своеобразное мышление и взгляд на мироздание.
Здесь распевались различные обрядовые и другие песни под аккомпа-
©
1 Газ. «Терские ведомости», 1905, № 235.
226
немент на двухструнном фандыре лучших певцов и стариков. Там
же рядом находилась кузня, где молодые люди живо наблюдали за
работой, а иной раз принимали непосредственное участие. Обращает на
себя внимание характер и в самой работе кузнеца, по просьбе которого
помогали ему молодые люди при ковке железа.
Сюда же приходили скорняки со своеобразным инструментом для
обработки кож, и здесь находили себе бесплатных помощников.
Там же на нихасе происходил и суд. Здесь же мирили кровников».
Вообще на нихасе «сосредоточивалась вся жизнь горца, как
политическая, так и хозяйственная»1.
Нихас как место сбора сельских мужчин сохранился во многих
местах (особенно в нагорной полосе) и до наших дней, а в некоторых
селах еще в 20—30 годах (пока в них не были построены клубы)
сходы граждан и колхозные собрания проводились на этих площадках —
нихасах.
Решения после их принятия на нихасе подлежали официальному
оглашению и доводились до всех жителей села через «фидиуаег»
(глашатая, вестника). В обязанности «фидиуаег» кроме оглашения
общественных постановлений входило объявление важных для общины
новостей, приглашение на военные походы, на пиршества, поминки и пр.2.
Глашатай по поручению хозяев оповещал также о свадебном
торжестве, куда раньше приглашались не только родственники и
знакомые семьи жениха или невесты, но и все жители села3.
Общинные собрания,— указывает Н. Ф. Дубровин,— «созывались
через фидиуагов (глашатаев или герольдов) без всяких церемоний, по
мере надобности, и не в определенные сроки»4.
Фидиуаг свои объявления делал с возвышенного («лобного»)
места, а если же селение бывало большое, то обходил все село и
объявлял новости или решения схода в каждом квартале. Функции
фидиуаг В. Цораев описывает так: «В каждом ауле есть свой глашатай
«фидиуаег». На эту должность избираются старшие с громким голосом.
Когда требуется созвать сходку, глашатай восходит на самое
высокое место в средине деревни и из всех сил кричит, чтобы в такое-то
время приходили на сходку (нихас). При этом он постоянно произносит
слова: «афтае мачи заегъаед, нае фехъуыстон, заегъгае», т. е. чтобы никто
не сказал: «я не слышал». Равным образом накануне поминок или
похорон глашатай обязан известить о них, чтобы никто не удалялся
О
1 «Горский вестник», Владикавказ, № 1, стр. 66, 67.
2 В. И. А б а е в. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 472.
3 Газ. «Кавказ», 1887, № 40.
4 Н. Ф. Дубровин. Указ. соч., стр. 352.
227
из аула1. Очевидно, не без основания некий дореволюционный автор
назвал «фидиуаег» «живым вечевым колоколом»2.
К объявлениям глашатая сельчане относились с большой
ответственностью и доверием и не пропускали ни одного его слова. Вот как
описывает это обстоятельство Г. Малиев: «Около тридцати лет Дадо
прошагал глашатаем с криком по улицам большого села. Когда,
бывало, Дадо выходил оглашать, улицы переполнялись людьми, в нихасе
старики замолкали, женщины прислушивались через окна и отверстия
в плетнях, мальчики бежали к нему. Таким образом, от улицы к
улице, с одного края села до другого шагал, оглашая, старик-глашатай
Дадо»3.
Глашатаи («фидиуаег») использовались также сельскими
правлениями дореволюционной Осетии, а в первые два-три десятилетия
должности глашатаев («къулер») имелись и в сельских Советах. По
вышеописанному порядку глашатаи оповещали население о решениях и
распоряжениях администрации. Автор этих строк хорошо помнит, как в
30-х годах еще сельский глашатай обходил улицы и кварталы села и с
возвышенного места или высокого дерева оповещал население о
решениях и распоряжениях сельсовета. Объявления «фидиуаег» имели тогда
силу повестки.
Обычай сзывать на сход через глашатая («фидиуаег») берет свое
начало в первобытнообщинном строе. Об этом свидетельствуют как
древний характер обычая, так и частое упоминание о нем в фольклоре
осетин, особенно в нартском эпосе.
В записанных Вс- Миллером осетинских нартских сказаниях
читаем «послали герольда («фидиуаег»), и он крикнул: «Созрыко
понадобились войска; у кого (в доме) трое, пусть один останется сторожить
дом, у кого двое,— пусть идут оба»4. В другом месте: «герольд
поднялся на верхушку фидиуана (место, откуда возвещал герольд —
«фидиуаег».— А. М.) и прокричал: «Урузмаг устраивает пир! Кто способен
идти, пусть приходит; кто идти неспособен, того несите!»5. «Сослан
сказал двум герольдам: «Крикните: завтра все, кто способен ходить,
пусть придут на скрещение семи дорог»6. «Фидиуаег» содержался на
средства всей общины. «За свой труд,— писал В. Цораев,— глашатай
О
1 Осетинские тексты Д. Чонкадзе и В. Цораева, СПб., 1868, стр. 88.
2 Газ. «Терские ведомости», 1899, № 40.
3 Г. Малиев. Ираф. Избранное. Орджоникидзе, 1957. Цитируется по русскому
переводу в кн.: М. И. Исаев. Дигорский диалект осетинского языка, М., 1966, стр. 186.
4 В с. Миллер. Осетинские этюды, ч. I, стр. 42.
5 Памятники Юго-Осетинского народного творчества, вып. II, Цхинвали, 1929, стр. 178.
6 Памятники народного творчества (северных) осетин, вып. I, Владикавказ, 1927,
стр. 65.
228
получает обыкновенно каждый раз по одной мере пшеницы, по две
меры проса, на поминках еще особую долю мяса, пива, хлеба и араки;
кроме того, он освобожден от всяких повинностей»1. Перечень этот
Вс. Миллер дополняет: «При общественных кувдах на его долю идет
шкура быка, которую он делит с кузнецом»2 (общинным.— А. М.).
Решения, которые принимались на нихасах, являлись
обязательными для всех жителей аула; если же решение выносилось на обще-
ущельском собрании, то этому решению подчинялось все население
ущелья.
На силу и обязательность общинных решений в свое время
обращали внимание исследователи Осетии. В частности, Е. Марков писал:
«Всякий покорялся беспрекословно приговору нихаса и неподвижным
обычаям старины, которые поддерживались даже изгнанием, даже
смертной казнью»3.
Подчеркивая безапелляционный характер решений нихаса, П. С.
Уварова сообщает о тех же чрезвычайных санкциях общины: «В
Осетии еще весьма недавно играли огромную роль приговоры аульного
судилища, которые имели право не только приговорить к ссылке, но
даже к смертной казни»4.
Исполнение общинниками принятых на нихасе решений
происходило согласно обычаю, приобретавшему силу закона. «У осетин,— писал
Н. Г. Берзенов,— обычаи заменяют законы. Осетин, нарушив
общечеловеческие права, убив ближнего, никогда не нарушит обычая,
утвержденного давностью, и осужденный приговором общества, без
сопротивления склонится перед карающим обычаем, без ропота понесет
наказание»5.
В случае уклонения от приговора, неподчинения решению схода
(нихаса) общество могло принять и репрессивные меры: виновного
подвергали штрафу в пользу общины или же ему объявляли бойкот
(хъоды).
Отмечая, какую кару мог понести в подобном случае осужденный,
П. С. Уварова писала: «За неповиновение аульному приговору даже в
самых маленьких делах полагалось изгнание и так как неизбежная
судьба подобного изгнанника была известна всем, то это
обстоятельство придавало всем приговорам аульного судилища страшную, почти
непреодолимую силу»6.
О
1 Осетинские тексты Д. Чонкадзе и В. Цораева, стр. 89.
2 В с. Миллер. Осетинские этюды, ч. I, стр. 123.
3 Ев г. Марков. Очерки Кавказа. СПб., 1904, стр. 169.
4 П. С. Уварова. Кавказ. Путевые заметки, ч. III, М., 1904, стр. 161.
6 Газ. «Кавказ», 1850, № 63.
6 П. С. Уварова. Кавказ. Путевые заметки, М., 1887, стр. 31.
229
Община применяла по отношению к преступнику различные
формы наказания. Наиболее суровой и распространенной из них являлась
«хъоды». Последнее, как пишет В. Ф. Миллер, в переводе на русский
язык означает «подвергнутый бойкоту», «отверженный», «бойкот»1.
Сельская община на своем сходе это же наказание под названием
«хъгеудзырд» применяла в отношении лица, нарушившего правила
общественной морали, за совершение таким лицом безнравственного
поступка, за действия, направленные против интересов общины. «Хъаеу-
дзырд» означал «уговор всем аулом»2 подвергнуть бойкоту
преступника за содеянное им зло или поступок. Подвергнутый «хъоды» или
«хъаеудзырд» уже не допускался на сельские сборища и торжества
(куывды), на сходы, свадьбы, похороны и поминки односельчан; даже
принадлежавший такому лицу скот не допускался в сельское стадо.
Что бы в его доме не случилось (смерть или другие события), к нему
также никто не приходил, чтобы посочувствовать или помочь ему; не
давали ему соседи и огня, что само по себе считалось уже тяжким
наказанием. Одним словом, по решению нихаса все члены общества
(в том числе проживавшие в селе родственники осужденного)
прерывали с ним всякое общение. О бойкоте сообщалось и в соседние
общества, которые с этого времени должны были также считаться с
приговором и законами данной общины.
Подвергшийся «хъоды», будучи отверженным, вынужден бывал
бежать из села, а нередко его изгоняли в принудительном порядке,
по решению схода, при этом еще разрушив его дом или конфисковав
имущество. Вообще эта форма наказания выступала самостоятельно и
применяли ее к лицам, причинившим материальный ущерб общине,
совершившим захват общинной земли, нанесшим моральный ущерб
обществу.
Дореволюционные источники описывают «хъоды — хъаеудзырд»
следующим образом. В одном из них говорится, что «хъаеудзырд» имел
большое значение в смысле обуздания лиц, пренебрегавших обычаем и
правом среды, игнорирующих интересы своего общества и не
уважающих тех, кто имеет право на уважение к себе»3.
Другой источник сообщает: «осетинский обычай «хъаеудзырд»
заключается в следующем: все сельчане объявляют односельцу своему
за дурное поведение на общественном сходе «хъаеудзырд». На сходе
все знающие о дурных поступках осуждаемого лица излагают их
перед обществом. Если обвинения значительны, то сход единогласно
постановляет, чтоб ни один член общества не имел с лицом, подвергну-
©
1 В. Ф. Миллер. Осетино-русско-немецкий словарь, т. I, М.-Л., 1927, стр. 446.
2 Там же, стр. 452.
3 ЦГА СО АССР, ф. 11, оп. 34, д. 93, л. 8. )
230
тым «хъаеудзырд», никаких сношений, не разговарил бы с ним,
избегал его, не приветствовал его при встрече и не отвечал на его
приветствия, не допускал его скот в общественные стада, одним
словом, не считал бы его уже членом общества»1.
Обычаи, существовавшие в прошлом у горцев-грузин при
объявлении бойкота члену общины, полностью совпадают с подобными
обычаями у осетин. Бойкот и изгнание из общины, пишет А. Хаханов,
«является самым тяжелым. Раз народ исключает из своей среды
известное лицо, оно остается навсегда отверженным и считается даже
существом нечистым. Оно лишается права участвовать в общем
жертвоприношении, храмовых праздниках, не может быть погребено на
сельском кладбище, не может вступать в какие-либо общения со своими
земляками. Проклинается такое лицо всеми святыми, причем
произносят проклятие и над теми, которые его примут, согреют, накормят»2.
Традиционный бойкот («хъоды — хъаеудзырд»), таким образом,
являлся одним из тяжких форм наказания преступника.
Как справедливо отмечала Р. Л. Харадзе, «общественная изоляция
являлась самой высокой формой наказания, равной физическому
уничтожению провинившегося члена общины»3.
С древних времен и вплоть до конца XVIII—начала XIX века
применялась и смертная казнь. К смертной казни приговаривали
изменников, предавших свой род или племя, а также совершивших другое
тяжкое преступление. Приговоренных к смерти обычно сбрасывали с
высокой скалы, обрыва. В Осетии по сей день еще могут показать
места, называемые «скала, с которой сбрасывали собак» («куыдзаеппа-
раен был»).
В древности, очевидно, убивали осужденных также, забрасывая их
камнями. Пережитком этого, как нам кажется, являлся встречавшийся
еще в конце XVIII—начале XIX века обычай «побить камнями» («дур-
ты бын аей фаекаенаем»). В приговоренного к такому наказанию
преступника каждый житель села (член общины) должен был кинуть камень4.
В качестве мер наказания применялись и штрафы. Последние
могли изыматься и в принудительном порядке, если осужденный
уклонялся от выполнения решения общины. За невыполнение решения схода
(невнесение штрафа) виновник мог подвергнуться также «хъоды»5.
О
1 Газ. «Терские ведомости», 1901, № 176.
2 А. Хаханов. О мохевцах. Сб. материалов по этнографии, издаваемый при Даш-
ковском музее, вып. III, М., 1888, стр. 76.
3 Р. Л. Харадзе. Характер сельской общины грузин-горцев по этнографическим
материалам, стр. 7.
4 Гадиев Сек а. Избранное (на осетинском языке), Сталинир, 1959, стр. 245.
5 Н. Берзенов. Из воспоминаний об Осетии. «Кавказ», 1852, № 67.
231
Характерно, что исполнение приговора о смертной казни
возлагалось на родственников самого осужденного — отца или старшего
брата. Это объясняется тем, что всякое убийство, даже в порядке
справедливой мести, самозащиты или случайно, подлежало отомщению.
Убийство же члена семьи (сына, отца, брата) не преследовалось
местью. Поэтому обычное право и обязало родных преступника приводить
в исполнение такой приговор1.
Карательная сила общины нашла и много других форм
проявления себя. Они выразились в различных обычаях. На некоторых из них,
наряду с вышеуказанными, мы и остановимся. Например, в Дигории
была известна такая мера наказания, как «лаегун лаедзаег ибаел исда-
раен» (поднимем на него голую палку).
Если в ходе обычного для нихаса обсуждения и разбора
присутствовавшие на нем общинники приходили к заключению, что
обвиняемого следует подвергнуть именно этому наказанию, то они поднимали
свои палки, и решение по данному вопросу считалось примятым.
Такая формула кары означала одновременно и наказание, и проклятие.
Смысл этих фраз заключался в том, что преступник отныне
обрекался на одиночество, подвергаясь всеобщему бойкоту, а вместе с
этим и проклинался на вечные времена.
В Тагаурии же помимо «хъоды» («хъаеудзырд») существовал еще-
обычай мазать грязью или дегтем (очевидно, последнее уже в
позднейшее время) общинника, совершившего преступление против
односельчан или нарушившего моральные догмы общины (например,
изнасилование или соблазнение девицы из того же рода) и обведение его по
улицам села. Еще в середине XIX века за прелюбодеяние чужой жены
общинники (разумеется, по решению нихаса) прелюбодея сажали на
осла лицом к хвосту и возили так по селу.
А у моздокских осетин-черноярцез за попытку совершить
прелюбодеяние полагалось следующее наказание: «...молодой человек,
позволивший прийти к женщине с дурными намерениями, судом всего
общества был водим по улице с торбой на шее, с крикуном впереди и
конвоем сзади для того, чтобы обратить внимание всех и показать,
какой позор ожидает тех, кто не умеет сдержать своих преступных
вожделенней»2.
Воровство внутри общины не прощалось и каралось очень строго:
стоимость ворованной вещи по решению общинного собрания взыма-
лась с виновника в 5—7-кратном размере3. Здесь мы видим продолже-
О
1 В. П ф а ф. Обычное право осетин. Сборник сведений о Кавказе, т. I, 1871, стр. 196;
П. С. Уварова. Кавказ, Путевые заметки. М., 1887, стр. 31.
2 3. С о си ев. Станица Черноярская. Терский сборник, вып. 5, стр. 52—55.
3 Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. II, Одесса, 1883.
232
ние родовой традиции: воровство в родовой среде влекло за собой
тягчайшие последствия для преступника.
С течением времени и развитием нравственных взглядов осетин
последние стали обращать внимание больше на моральную сторону
дела. Например, чтобы навсегда опозорить вора, найденные у него вещи,
тушу или шкуру украденного животного навешивали ему на шею и
водили его в таком виде по улицам. Такие меры к ворам сельские
общины (не дожидаясь вмешательства официальных властей) применяли
еще в первые годы Советской власти. Приведем описание одного
такого случая, которое дает нам современник события: «Толпа шла с
двумя людьми. На шее у одного были повешены два колеса от арбы.
Он едва переступал от их тяжести. На голову другого была надета
грудная клетка барана. Обоих вели на веревке, а люди со всех сторон
готовы были растерзать их. Толпами бежали мальчишки. Поро (так
звали одного из воров.— А. М.) все время упирался и умолял, чтобы
его отпустили. Батор (другой вор), у которого уже не хватало
больше сил таскать тяжелые колеса, упал. Колеса отвязали и повели его так.
На улице была грязь от дождя, прошедшего в эту ночь. Поро лег
прямо в грязь. Он говорил, что не встанет, пока не снимут с него
барана. Но его подняли и повели снова...»1.
Нам рассказывали очевидцы примерно такую же историю,
имевшую место в первый год Советской власти в другом селении. Двое
сельчан украли быка, но воров сразу не удалось обнаружить. Через
некоторое время высушенную шкуру быка обнаружили на чердаке у
одного из них. Вору пришлось сознаться в краже, указал он и на
соучастника. Сельский сход решил наказать их по старо-осетинскому
обычаю: сухую шкуру быка скрутили в валик, который привязали к шеям
воров и как пару быков с ярмом водили по улицам села.
Наше представление о правовых нормах и системе наказаний,
которыми руководствовались осетины в своих решениях па общинном
собрании, не будет полным, не ознакомившись с обычаями, по которым
отыскивали воров.
Один из обычаев состоял в том, что если общинник, которого
обокрали, подозревал в воровстве кого-то из сельчан, то он шел к нему и
заявлял ему об этом прямо. Когда подозреваемый отрицал свою
причастность к краже, общинник приходил к соседям и говорил им: «пусть
община ставит заклад («цъынды»)». Те немедленно начинали обходить
всех жителей села, которым, сообщая о случившемся, объявляли, чтобы
они сейчас же выходили и несли «цъынды». В некоторых местах эту
функцию соседей выполнял «фидиуаег».
Каждая семья, чтобы отвести от себя подозрение, несла на нихас
О
1 Исса Хуадонов. Гибель корана. Л., 1933, стр. 50—51.
233
какую-нибудь вещь, например: косу, серп или вилы. Отсюда эти вещи,
по поручению старейшин нихаса, два-три общинника относили к
святилищу, наиболее почитаемому в данной местности. Сложив все вещи
под святилищем («дзуары бын»), обращались к нему: «Дзуар, ды йзе
равзар» (Дзуар, разбери ты, кто вор).
Вернувшись з село, объявляли сельчанам, чтобы они теперь шли
и брали сами свои вещи. Каждый шел и брал свою вещь. Но если
кто-то не являлся за вещью и оставлял ее здесь, то вся община уже
знала, что хозяин этой вещи — вор, который из-за страха быть
проклятым, не отважился предстать перед святым (дзуаром).
Подобный обычай существовал и у сванов, которые также
ставили заклад при пропаже вещи в селении. Интересно, что и у сванов
он называется «цинд».
Существовал не менее оригинальный и тоже древний способ
отыскания вора. По описанию акад. Н. Ф. Дубровина, он заключался в
том, что если вор, по предположению потерпевшего, находился в
другом селении, то он шел туда, захватив с собой кошку или собаку.
«Остановившись посреди селения,— пишет Н. Ф. Дубровин, —
обокраденный начинает кричать во весь голос.
Всякий, кричит он, кому только известен вор, похитивший у
меня вчера лошадь, да будет объявлен мне немедленно и принужден
удовлетворить меня, иначе я имеющегося со мною нечистого
животного повешу на кол, посреди вашего селения, в пищу всем вашим
покойникам».
«Такие угрозы,— объясняет Н. Ф. Дубровин,— весьма страшны для
каждого осетина и почти всегда служат к обнаружению хищника.
Случается весьма часто, что вор не находится в том селении, где
предполагает обиженный и тогда жители селения, где совершено
заклинание, целым обществом удовлетворяют обокраденного, чтобы только
избавить на том свете своих родственников от столь нечистой и
омерзительной пищи. Удовлетворив истца, общество само уже принимается
за отыскание вора»1.
Однохарактерным с данным обычаем является мера наказания,
которая . применялась в сельской общине к неисправному должнику.
«Обычай,— сообщает М. Ковалевский,— разрешал безнаказанно
нанести неисправному плательщику и его двору следующее оскорбление,
которое в Осетии считается высшей обидой: в сопровождении большего
или меньшего числа свидетелей он убивал собаку, произнося при этом,
что посвящает ее покойнику (т. е. предку) должника»2. Та же мера
указывается в Сборнике адатов осетин 1836 года3. У осетин существо-
©
1 Н. Ф. Д у б р о в и н. Указ. соч., стр. 352.
2 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 231.
3 Ф. И. Лсонтович. Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 5.
234
вал и другой метод воздействия на неаккуратного или
недобросовестного должника. Он заключался в следующем. Поскольку расписок и
других письменных документов в то время между общинниками не
существовало, кредитор, «дающий в долг деньги на память отмечал
выдачу где-нибудь: на потолке, дверях или на палочке делал зарубку.
Насколько честно расплачивались должники при наличности таких
своеобразных документов,— рассказывает 3. Сосиев,— достаточно
следующего примера: один, одолжив другому десять рублей, сделал
зарубку на своей палочке. Должник к сроку не заплатил, а когда он не
заплатил и к следующему сроку, кредитор пригласил его на нихас.
Заметив уклончивые ответы должника, кредитор, с упреком обращаясь
к нему, собирался уничтожить отметку на палочке, желая этим
назвать его нечестным. Угроз этих было достаточно, чтобы должник в
тот же день уплатил долг»1.
Были поступки, которые по своему характеру не требовали при-
1НЯТИЯ общинным собранием решения или каких-то других конкретных
.действий.
Это, как правило, отдельные антинравственные поступки, которые
не могло простить сознание общинников. В результате, о человеке,
.переступившем границу этических норм своей среды, составляли песню
(«зарэег ыл ыскодтой»), позорившую его. Это древнейший обычай у
осетин. Упоминается он и в нартском эпосе. На протяжении всего XIX
и первой четверти XX века он был одним из действенных форм
общественного воздействия. Подвергавшийся такому наказанию общинник,
не раз кончал самоубийством или вынужден бывал бежать из данной
среды. К самоубийству прибегали нередко девицы или молодые
женщины, к которым была применена эта мера.
Начиная с 30-х годов XIX века общинный быт осетин
подвергается коренной ломке. Общинное управление было заменено
государственно-административным. Осетия была разделена на сельские
общества и приходы. Каждое сельское общество, язлявшееся низшей
административной единицей, состояло, как правило, из нескольких маленьких
аулов, отселков и хуторов. Например, Даллагкауское сельское
общество в Куртатии состояло из 12 различных поселений, одни из
которых были расположены в одном ущелье — Кар-цинском, 'другие в
другом — Куртатинском, отделенном от первого высоким горным
хребтом. Расстояние между некоторыми поселениями этого сельского
общества равнялось 25—30 верстам2. Отсюда границы прежней сельской
О
1 З.С о с и е в. Станица Черноярская. Терский сборник, вып. V, стр. 53.
2 А. Г. Д а т и е в. Замечания на «Труды комиссии по исследованию современного
положения землепользования и землевладения в нагорной полосе Терской области и
карачаевского народа Кубанской области», стр. 32.
235
общины (главным образом в горах) уже не совпадали с вновь
образованными сельскими обществами.
Во главе каждого «сельского общества» был поставлен
назначаемый властями правительственный старшина с помощниками, чтобы
«законодательным путем регулировать права сельских сходов или пи-
хасов»1. Последние царское правительство, действительно, оставило,,
чтобы создать видимость сохранения прежнего, общинного, порядка
управления сельскими делами. Например, администрация созывала
сходы сельских жителей (мужчин) якобы для обсуждения и решения ими
самими общественных вопросов. Проводились они в местах прежних
общинных собраний — на нихасах и сзывали сходы сельчан как и
прежде фидиуаги.
В своей официальной политике царское правительство в лице своей
администрации на Кавказе упорно внедряло мнение, что «сельские
старшины являются только исполнителями решений, принятых сходом
всех взрослых мужчин одного и того же селения или так называемым
нихасом. В этом сходе старшины отдают обществу отчет в своих
действиях и совещаются с ним о дальнейшем направлении общественных
дел»2. Но это была только видимость. На самом же деле сельские
сходы, созывавшиеся по инициативе органов местной власти
(сельскими правлениями, приставами и др.) и принимавшиеся на них решения
(^приговоры) являлись ширмой, которой царизм прикрывал свою
реакционную, антинародную политику.
Царизм осуществлял свои планы и цели руками именно сельских
старшин и приставов, являвшихся его ставленниками и верными
слугами, а не исполнителями воли широких масс населения, как об этом:
широко возвещал.
Фигуре сельского старшины, наделенного необыкновенно
широкими полномочиями (от административных до полицейских), отводилось,
столь большое место в общественной жизни сельского населения, что
он нередко играл драматическую роль в его судьбе. Поэтому вопрос
0 сельских старшинах всегда был злободневным, о чем не могла
умолчать и тогдашняя пресса.
Например, газета «Казбек» в одной из своих корреспонденции за
1899 год писала: «В жизни горского населения нашей области
приходится отметить довольно печальное явление: почти во всех селениях и
приходах, населенных горцами, в качестве старшин мы видим или
русских казаков, или же горцев, служивших ранее в милиции в разных
административных учреждениях». Но «все они далеко не пользуются
симпатиями населения. Объясняется это тем, что по «аульному поло»
О
1 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 57.
2 Т а м ж е. •)
236
жению» в отношении старшинской должности среди горцев
применяется не выборное начало, а начало административных назначений. И
само собой разумеется, что назначаются лишь только лица, которых
считает вполне отвечающим требованиям сама администрация, а уж
отнюдь не само население— «мир»1.
Игнорируя коренные интересы народа, вышестоящие чины царской
администрации ставили в управление народом угодных им лиц с
сомнительной репутацией, «сдавали в аренду»2 (т. е. назначали за взятки)
должности старшин, приставов и других людям из среды местных
богачей— «внутренних врагов» трудовых масс Осетии.
«Последствия такого порядка вещей крайне печальны,— писал
публицист Я. Абрамов.— Недовольство аульных обществ своими
старшинами — факт положительно общий. И это недовольство понятно, так
как в старшины обыкновенно попадают лица, занимавшие до того
последнее место в обществе, лица, презираемые или ненавидимые всем
обществом, лица, у которых в прошлом лишь несколько доносов или
лаже воровская практика»3.
По характеристике А. Ардасенова, старшины «являются
надежными пособниками воров, помогая им и выручая их, за что и воры
ее остаются у них в долгу»4.
Я. Абрамов в результате скрупулезного исследования вопроса
приходит также к выводу, что деятельность аульных старшин,
поставленных над обществом, состоит из одних насилий, злоупотреблений и гра-
-бежей. «Аульные старшины сплошь и рядом,— пишет он,—
совершают самые невероятные злоупотребления своею широкою властью, или
мстя своим врагам, или укрывая преступления; случается, что они
состоят членами воровских шаек и безнаказанно совершают самые
дерзкие грабежи... Пользуясь своей властью, старшина может буквально
отравить существование целого аульного общества»5.
Старшины и их помощники, назначаемые сверху царской
администрацией, всегда отличались крайней жестокостью по отношению к
населению, трудовым массам.
Так, корреспондент газеты «Новое обозрение» в номере от 2
декабря 1895 года писал: «...спешу сообщить о возмутительном случае,
жертвою которого оказался житель селения Ардонского,
Владикавказского округа, Бесаев. Несчастный в своем дворе до полусмерти был
избит старшиною и его помощником, пришедшими отобрать у него
О
1 Газ. «Казбек», 19 мая 1889 г.
2 К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. III, стр. 76.
3 Я. Абрамов. Кавказские горцы. Журн. «Дело», М., 1884, № 1, стр. 90.
4 В. Н. Л. Переходное состояние горцев Северного Кавказа, стр. 39.
5 Я. Абрамов. Кавказские горцы. Журн. «Дело», № 1, стр. 90.
237
последнюю пару быков для взыскания подымной недоимки. Затем он
в страшно изуродованном виде был доставлен во Владикавказское
полицейское управление, во дворе которого почти под открытым небом
он и валялся в продолжение почти целой недели... В госпиталь же он
не отправляется, как говорят, именно потому, что ожидается получение
от ар донского старшины дополнительных сведений»1.
Вот что на деле скрывалось за утверждениями царизма о
«подотчетности» правительственных старшин сельским обществам.
Столь же фальшивыми были утверждения царизма о якобы
всенародном обсуждении актуальных вопросов сельской жизни путем
созыва сельских сходов.
Царская администрация всегда заранее знала, что па сельском
сходе будет принято такое решение, которое устраивает ее, ибо дела
общества на этих сходах решали представители господствующих
классов, на которые опирался царизм.
Вот отрывок из статьи Г. Цаголова «О земельных сходах»,
опубликованной в 90-х годах, показывающей созданный царизмом «порядок»
решения сельскообщинных вопросов: «Сходы собираются близ
сельского правления под открытым небом, а самое главное без соблюдения
какого бы то ни было порядка. Хорошо, если село невелико, но ведь
есть села, насчитывающие тысячу, две и более домов. Тогда на сходы
собирается огромная толпа народа, человек в 800, 1000 и более. В
передних рядах этой толпы помещаются обыкновенно деревенские
воротилы и горланы всякого сорта. Остальная толпа помещается далее,
причем, деревенская голытьба ютится в самых задних рядах толпы.
Вот выступает старшина и предлагает на обсуждение «стариков»
вопрос. Он виден только для горланов: задние ряды его не зидят и не
слышат. Само собою разумеется, «за обсуждение» прежде всего
берутся горланы (горланы, как известно, являлись приспешниками
деревенской буржуазии — воротил.— А. М.). Поднимается невообразимый
крик. Никто никого не слушает, все говорят разом... Сход, таким
образом, превращается в обширное море человеческих голосов, несутся
неистовые вопли и крики, сливаясь в какой-то неясный, беспорядочный
гул... Нужно ли говорить, что при таких условиях ни один деревенский
вопрос, даже самый важный и животрепещущий, не может
подвергнуться правильному и всестороннему обсуждению, что ни один
домохозяин не может высказать свое мнение односельчнам, а эти
последние выслушать его»2.
В описанной картине прежде всего следует видеть столкновение
интересов различных общественных групп. Известно, что осетинское се-
©
1 Газ. «Новое обозрение», 2 декабря 1895 г.
2 Г. Ц а го л о в. Избранное, стр. 385—386. Архив СОНИИ.
238
ло в этот период (капиталистических отношений) переживало
глубокую классовую дифференциацию. В результате сельская община
распалась на различные социальные группировки, которые при
обсуждении и решении на сельском сходе общественных вопросов выступали
отдельными «партиями».
«Каждая из этих партий на общественном сходе желает своего,—
говорится в одном из документов этого периода, — и потому
общественные дела в селении не кончаются единогласно, они или остаются
вовсе не разрешенными или решаются старшиною с доверенными»
(царских властей.— А. М.). Так, при активной поддержке кулацких верхов
сельские власти оформляли угодные им решения, выдавая их за
общественные приговоры, выражавшие якобы волю общинников.
В дополнение к сказанному приведем еще свидетельство автора,
служившего в начале 60-х гг. XIX века в качестве царского
администратора в Осетии К. Красницкого, который писал: «Все дела
решались на общественных сходах, где брали первенство, как и всегда,
не столько умные, сколько влиятельные люди, имевшие на своей
стороне право сильного»1.
Как видим, общинные порядки окончательно превратились в
элемент государственного аппарата угнетения.
Однако нормы общественного поведения и взгляды,
выработавшиеся задолго до классового общества и ставшие основой
общественного быта и в сельской общине, продолжали действовать (правда, в
пережиточной форме) и после перестройки общественной жизни осетин
на основе государственного управления и внедрения в осетинское село
царского административного права. Многие вопросы общественной
жизни по-прежнему решались на селе по адату; общинные правила
еще долгое время имели вес и действенную силу в отношениях между
жителями осетинского села. Свидетельством этого является применение
выработанных общиной санкций общественного воздействия к членам
сельского общества независимо от их положения в обществе. За
содеянное против сельской общины зло и преступление сельский сход
(собиравшийся по традиционным правилам) объявлял обычный
бойкот или же выносил решение об изгнании преступника из села. Такие
бойкоты, например, в конце XIX и начале XX вв. были объявлены
некоторым сельским старшинам Северной Осетии за их
злоупотребления властью в ущерб интересам сельского общества.
Так, например, «хъаеудзырд» решением общинного собрания был
применен в конце 70-х годов к старшине селения Заманкул Бимбулату
Хуцистову; в середине 80-х годов к старшине селения Зильга Тембулату
О
1 К. К р а с н и ц к и й. Кое-что об Осетинском округе и о нравах туземцев его. Газ.
«Кавказ», 1865, № 31.
239
Борукаеву и к старшине селения Даргавс Эльбуздуко Дзантиеву1. Как
указывают архивные источники, таких примеров было много.
Характерным для подобных приговоров «хъаеудзырд» является
бойкот Эльхотовского сельского общества, примененный к старшине села
Урусову. Летом 1897 года жители селения Эльхотово на своем сходе
вынесли единодушное решение об объявлении «хъаеудзырд» старшине
Гацыру Урусову и его брату Бодзи Урусову за злоупотребление своим
положением, игнорирование нормами общественной жизни и интересами
сельского общества, присвоение собранных с населения денежных
средств и за грубое и бесцеремонное обращение с сельчанами2.
Единодушие и решимость эльхотовцев были настолько сильны, что
терская областная администрация не могла не посчитаться с этим
и санкционировала решение сельской общины, признав при этом
«безнравственные поступки» старшины и его брата3.
Старшина селения Тулатово (Беслан) Дзамболат Цомартов,
оказавшийся ретивым и строгим исполнителем предписаний начальства,
своим отношением к жителям села возбудил против себя сельское
общество, которое и решило объявить ему бойкот. Приговор, принятый в
традиционном порядке, был объявлен ему на общинном кувде —
празднике. Это было весною 1893 года. Вот что сообщает об этом очевидец:
«Угощение продолжалось не более двух-трех часов. Наконец, раздался
из толпы пировавшего народа голос крикуна, который грозно объявил
жителям следующее: Отныне Дзамбулата Цомартова не принимать в
мечеть, отказать ему и членам его семейства в праве голоса на
общественных сходах; не принимать их, Цомартовых, в свои дома и не
являться к ним на похороны и поминки; не говорить с ними и не брить
им головы; рогатый скот и лошадей, им принадлежащих, не принимать
в общественный табун»4.
Так, члены сельского общества, используя свои давние традиции,
наказали применением «хъоды», «хъаеудзырд» представителей царской
администрации, как членов сельской общины, за их незаконные и
антинравственные поступки, направленные против однообщинников.
Имеется также большой этнографический и документальный
материал, указывающий на использование институтов сельской общины,
выработанных ею традиций, в борьбе с феодалами.
Сельская община хотя и никогда не отличалась классовой
однородностью, особенно в пореформенный период, и интересы одной
группы общинников отличались от интересов другой, борьба с феодалами,
©
1 ЦГА СО АССР, ф. 11, оп. 34, ед. хр. 693, л. 8.
2 Там же, лл. 6—11, 30—33.
3 ЦГА СО АССР, ф. 11, оп. 34, ед. хр. 693, л. 6.
4 Газ. «Терские ведомости», 1894, № 80.
240
являвшимися членами сельской общины, объединяла все группы, и
община выступала солидарно, чтобы отстоять свои интересы, защитить
свои права и тот минимум прав, который у нее оставался в решении
вопросов внутренней жизни.
Долгие годы жители селения Христиановского терпели
притеснения со стороны феодального рода баделят Кубатиевых, крупых
землевладельцев, живших в соседнем селении Кора-Урсдон, и, «желая
положить конец их насилиям, жители селения Христиановского в числе
до 300 человек ополчились, предварительно подняв вверх белую
палку — «лаегун лаедзаег» (клятва целого общества, общины или
нескольких лиц действовать заодно, неотступно) и явились в селение Кора-
Урсдон с целью истребить всех .баделят, в особенности же Кубатиев-
скую фамилию, как наиболее богатых и ненавистных христиановцам.
Кубатиевы заперлись в своих домах, и христиановцы приступили было
к поджогу домов Кубатиевых, но рыдания детей и женщин спасли их»1.
Понятно, что феодальная знать вынуждена была считаться с силой
общин.
Немалый интерес с точки зрения изучения сложных, специфических
черт осетинской сельской общины представляет обычай, по которому она
могла в известных условиях распространить свою власть над феодалами.
Например, если после смерти алдара дети его оставались
неразделенными, то кавдасарды обязаны были оставаться при сыновьях владельца
и за смертью их переходить к его внукам, т. е. находиться в вечнокре-
постном положении. «Но если,— говорится в документе от 1867 г.,—
владелец дурно обращался со своим кавдасардом, то причины ссоры
разбирались народом (т. е. общиной.— А. М.) и в случае неправоты
владельца, семейство обиженного кавдасарда по общественному
приговору получало полную личную свободу»2. Такое же утверждение мы
находим в «Показании осетинских феодалов по кавдасардскому
вопросу». «Коли владелец скверно обращался со своими кавдасардами,
вследствие чего происходили ссоры,— говорится в «Показании»,— то
таковые разбирались народом и были случаи, что по состоявшемуся
народному приговору семейство кавдасардов освобождалось от
зависимости владельца»3.
В одном историческом предании рассказывается, что однажды в
селении Даргавс (горная Осетия) по древнему обычаю у феодального
рода Кануковых во время сенокоса был зиу, в котором участвовали
О
1 А. М е д о е в. Селение Христиановское. Историко-экономический очерк. Газ.
«Терские ведомости», 1899, № 92.
2 Г. К оки ев. Крестьянская реформа в Северной Осетии. Орджоникидзе, 1940, стр.
154. Приложение. Документ № 19..
2 Там же, стр. 124, документ 5.
16 А. X. Магометов 241
«зависимые и полузависимые от Кануковых сословия. В тот же день,
говорится в предании, был зиу и у простой фамилии Токаевых. В
коллективе алдарцев было 48 человек, а у простой фамилии Токаевых —•
53 человека. Это задело самолюбие феодала Канукова. При
возвращении помогавших Токаевым косарей с песнями Кануков им бросил
вслед: «Это стая голодных собак возвращается с воем». Косари
оскорбились и, схватив Канукова, посадили его на осла задом наперед и
водили по улицам Даргавса. В результате, опозоренный род Кануковых
вынужден был покинуть Даргавс и поселиться в Кобане.
«С уходом Кануковых,— говорится далее в предании,— в Даргавсе
алдаров больше не было, а кануковские холопы, как-то: Батиевы и
прочие были освобождены»1.
Наряду с активными формами борьбы общинники применяли по
отношению к представителям привилегированных сословий другие
меры воздействия (когда те своими действиями и поведением вызывали
осуждение со стороны общинников). Так, одна фамилия из знатного
сословия К. в селении Старый Батакоюрт держала себя высокомерно
по отношению к остальным общинникам. Проявлялось это во всем.
И когда однажды кто-то из этого рода в селении умер, то сельчане
хотя и собрались на похороны, но разошлись с кладбища по домам,
не пожелав участвовать на поминках. Родственники умершего были
потрясены своеобразным бойкотом односельчан и стали обходить их
дворы, умоляя на коленях, чтобы они простили их и вернулись бы
в дом покойника. С этого времени К. свои взаимоотношения с батако-
юртовцами изменили коренным образом.
Или вот другой пример. Десятилетиями, как мы уже говорили,
длилась борьба жителей сел. Дур-Дур с баделятской фамилией Тугано-
вых. Но однажды в период их «мирных» отношений Тугановы
устроили пир (кувд) по какому-то поводу и пригласили на него дурдурских
крестьян. Но те, сговорившись между собой, под предлогом ненастной
погоды, не пришли к ним.
Поступок крестьян-общинникоз баделятами был воспринят как
дерзкое оскорбление их чести. Так, по-своему сводили счеты крестьяне-
общинники со своими эксплуататорами.
По словам Ф. Энгельса, община давала народу «локальную
сплоченность и средство к сопротивлению»2 феодалам и всему
эксплуататорскому строю. Эти особенности сельской общины очень активно
проявились в периоды крестьянских выступлений в Осетии, а также накануне
и в период революции 1905—1907 гг., когда трудовые массы осетинских
О
1 См. Г. К о к и е в. Боевые башни и заградительные стены горной Осетии. Изв.
ЮНИИК, вып. II, Сталинир, 1935, стр. 228, 229.
2 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 137.
242
селений, используя общинные традиции, успешно вели борьбу против
феодальной эксплуатации и ненавистных им ставленников царского
самодержавия — сельских старшин. Так, «в селении Батакоюрт
Владикавказского округа,— сообщалось в частной корреспонденции,—
сельский сход предложил правительственному старшине в двухнедельный
срок оставить свою должность и удалиться из селения, в противном
случае он будет удален из него силой. Тот же сход,— говорится в
сообщении об этом факте,— постановил отобрать у сельского священника
церковную землю и потребовал от него внести в общественную кассу
все деньги, которые он выручил от сдачи этой земли в аренду бата-
коюртовцам»1.
'Общественный сход жителей селения Христиановского (ныне
гор. Дигора) также удалил правительственного старшину и назначил
на его место демократически настроенного сельского учителя. Этот же
сход «постановил предложить всем сельским жителям относиться с
презрением к лицам, замеченным в краже хотя бы самой ничтожной вещи;
эти лица,— говорится в документе,— не должны допускаться к участию
даже в качестве простых зрителей на свадьбы, похороны, поминки,
общественные сельские сходы, скачки и разные народные развлечения.
Никто из жителей, под страхом строгой ответственности, не должен
давать им приюта в своих домах и вообще входить с ними в какие-либо
сношения»2.
О таком же сходе жителей сел. Ардоы сообщила тогда газета
«Тифлисский листок». Ардонцы, в количестве 600 человек, собравшись
на сход в обычное место нихаса, «потребовали от своего старшины,
чтобы он удалился от исполнения служебных обязанностей, снял с себя
«служебную цепь» и надел ее на старшину, избранного самими
жителями. Затем на сход был позван сельский священник, которому жители
объявили, что находящаяся в его пользовании, так называемая
«церковная земля» переходит в пользование сельского общества, церковный
сад сдается в аренду, арендные деньги поступают в общественную
кассу... Кроме того, — сообщает далее газета, — жители дали
торжественную клятву в том, что никто из них не будет требовать калыма за дочь,
отдаваемую в замужество, свыше 100 рублей, кто же нарушит клятву,
жилище этого общинника будет разрушено жителями, а сам
виновный подлежит изгнанию из среды общества. Точно также будет посту-
паемо с ворами и доносчиками»3.
Летом 1905 года представителей царской администрации — стар-
О
1 Газ. «Тифлисский листок», 1905, № 149.
2 Северная Осетия в революции 1905—1907 гг., стр. 69.
3 Газ. «Тифлисский листок», № 135.
243
шин и писарей — крестьянство изгнало и заменило их выборными из
народа во многих других селениях1.
Непосредственным результатом крестьянского движения в 1905
году была отмена института правительственных старшин,
предоставление сельским обществам права выбора старшин из своей среды, права
избрания и найма сельских писарей2.
В феврале того же года в Алагире, Синдзикау, Салугардане, Май-
рамадаге, Ардоне и других селениях крестьяне провели многолюдные
сходы, на которых объявили казенные леса собственностью народа,
распространив на них право общинного пользования, как это было до
захвата их царизмом3.
Разумеется, приведенные факты нельзя рассматривать как
обычные, традиционные сходы общинников, но в них крестьяне широко
использовали свойственные осетинской сельской общине формы
общественного воздействия «хъаеудзырд», «хъоды», которые применяли к
нарушителям принятых сходами решений (разумеется в интересах
подавляющей массы крестьян).
Нередко обычай «хъаеудзырд» (бойкот) применялся сельскими
обществами к мироедам — кулакам и дельцам-торговцам, открыто
грабившим трудовое население и попировавшим его интересы.
Характерным в этом отношении является приговор о
бойкотировании жителями села Христиановское местных кулаков, арендовавших
крупные участки (для переаренды) земель в казачьих станицах
Николаевская, Ардонская и Архонская. На своем сходе (в 1905 г.) хри-
стиановцы постановили: «признать арендаторов станичных земель
преступным элементом наравне с ворами, укрывателями воров,
взяточниками, калымодателями, похитителями девиц и мешающими свободному
выбору должностных лищ, ибо они (арендаторы) разрушают основы
экономической жизни Христиановского села, а потому арендаторы
кровные враги земледельца». «От сего дня,— говорится в решении
схода,— всякий арендатор из нашего села понесет должное наказание
за злостное неподчинение обществу». Вид наказания для такого
злостного арендатора сход избрал: «надеть на него публично, среди схода,
разноцветную хламиду (длинную разноцветную рубашку, рубашку
позора), повести его по улицам села, чтобы о нем знало все общество от
мала до велика; лишить его права решающего голоса на всех
общественных сходах, сверх этого, наказать его по карману, взыскав с него штраф
1000 рублей и бойкотировать его дом»4.
О
1 История Северо-Осетинской АССР, М., 1959, стр. 282.
2 Т а м ж е.
3 Т а м ж е, стр. 277.
4 М. К. Г а р д а н о в. Селение Христиановское в фактах жизни. Изв. ОСНИИК, вып. I,
1925, стр. 202.
244
А вот бойкот, объявленный другим сельским обществом
лавочнику-торговцу: «Так как лавочник Тедо обманывает нас при покупке
товаров, продает их дорого и дурного качества, обменивает за бесценок
на свои товары наш сыр, сукна, овчины, зерно, яйца и птицу, в
особенности у наших хозяек во время наших отсутствий на заработках,
то в общественных интересах мы постановили подвергнуть лавочника
Тедо «хъээудзырд», ничего у него не покупать»1.
Сопротивление осетинского трудового крестьянства
колонизаторской политике царизма и борьба против эксплуататорских классов
путем применения былых традиционных санкций общины однако не
избавляли его от произвола царской администрации и гюмещичье-ку-
лацкой верхушки. Тем не менее царизм не переставал утверждать, что
существовавшие в осетинской деревне социально-экономические
отношения и, прежде всего, общинное землепользование полностью
соответствуют бытовому укладу осетин и лучшим образом отвечают интересам
широких народных масс. Эти фальшивые утверждения нашли активную
поддержку в писаниях апологетов самодержавия. Так, Евг. Максимов
писал, что «земельная (сельская) община» в эпоху царизма «будучи
охраняема» им «служит интересам массы осетинского народа и его
экономическому преуспеянию»2.
Такой взгляд на сельскую общину высказывался и отдельными
представителями осетинской демократической интеллигенции,
находившимися в этом вопросе под влиянием народников, видевших в сельской
общине средство социального переустройства общества. Так, например,
Цаголов писал: «Общинная форма землевладения не представляет в
Осетии (плоскостной.— А. М.) ничего самобытного... Тем не менее она
привилась здесь настолько прочно, настолько всосалась в плоть и
кровь осетина, что, по словам знатоков, далеко оставила за собою свою
учительницу—казачью общину. Общинное землевладение это одно из
самых главных условий благосостояния сельского земледельческого
населения, это оплот против всех социальных треволнений и неурядиц».
И далее: «Я считаю необходимым заметить, что борьба возможна
только на почве широкого развития принципов, лежащих в основе общины и
доведения их до логического конца». Ошибочность взглядов Цаголова
в данном вопросе очевидна, и, кстати, сам автор неоднократно
опровергал это своими другими выступлениями.
Следует подчеркнуть, что как раз в этот период сельская община
стала объектом эксплуатации, изменились также ее экономические
классовые функции. В ней стали господствовать кулаки, и сельская
община оказалась удобной формой для прикрытия кулацкого засилья
О
1 Газ. «Терские ведомости», 1901, № 176.
2 Евг. Максимов. Осетины. Терский сборник, вып. II, Владикавказ, 1892, стр. 47.
245
и средством в руках царизма для сбора налогов с крестьян по принципу
круговой поруки.
Общинное управление, как мы уже говорили, было давно
ликвидировано. А между сельскими сходами, устраивавшимися царскими
властями, и общинными собраниями осетин — нихасами в
традиционном их понимании ничего общего уже не было. Подчеркивая это,
М. О. Косвен пишет: «В конце концов нихас потерял характер
демократического органа и стал органом старших — богатых. Одновременно
нихас приобрел более формальный характер: его состав строился на
основе представительства от дворов и патронимии. Однако значение и
влияние имеют на нихасе уже только старшие — богатые. С другой
стороны, старших — богатых поддерживают бедные, но
«облагодетельствованные» ими сородичи. Поскольку слабые группы чувствуют свое
бессилие на нихасе, они ограничиваются чисто формальным
представительством, посылая на нихас кого-либо из мужчин, часто молодого
человека, заведомо не имеющего влияние. Однако господствующая
группа требует обязательной явки представителей от всех дворов для того,
чтобы решение нихаса имело «законный» характер. Так, право
участия в нихасе обращается для бедняков в повинность»1.
Таким образом, сельская община у осетин перестала быть той
социальной организацией, в качестве которой она возникла и жила долго.
©
1 М. О. Косвен. Из истории родового строя в Юго-Осетии. В кн.: Этнография и
история Кавказа, стр. 18.
СУД И ПРИСЯГА ПО АДАТУ
важной роли, которую играли обычноправовые
отношения д общественном быту осетин,
свидетельствуют не только рассмотренные выше
стороны сельскообщинной жизни, но и особенно
наличие у них института хорошо развитого суда и
норм обычного права, регулировавших
взаимоотношения крестьян и правопорядок в общине.
На первое место выступало здесь
разбирательство возникавших среди общинников споров и
улаживание конфликтов между ними. Эти
функции выполнялись общинными судами,
избиравшимися из среды общинников и действовавшими на основе обычного
права. Обычноправовой суд у осетин имеет древние истоки: о том, что
он существовал еще у скифов и алан, говорят сообщения древних
авторов (Геродот, Марцеллин). Традиционный осетинский суд являлся
посредническим, что отвечало характеру территориально-общинного
устройства осетин.
Изученный материал показывает, что в качестве судей, известных
у осетин под названием «Таерхоны лаегтае», избирали наиболее
авторитетных лиц из родовых старейшин или из числа рядовых общинников,
хороших знатоков обычного права и зарекомендовавших себя своей
честностью и правдивостью. Исследователь юридического быта осетин
Н. Мансуров писал, что в качестве судьи «мог быть избран
непременно старец не моложе 50—60 лет от роду и притом непременно
заявивший себя житейскою опытностью и боевою правоспособностью. Это
последнее обстоятельство, — поясняет автор, — было необходимо
именно для того, чтобы в случае кровомщения со стороны недовольных
247
судом туземцев «таерхоны лаег» мог постоять за себя»1. Об этом же
сообщает нам Г. Лиахвели в своей статье «Древний осетинский суд»:
«Занимать эту почетную должность удостаивался не всякий; в совет судей
мог попасть только имеющий от роду не менее 60 лет, заявивший себя
в каких-нибудь делах, отличившийся особенным мужеством на войне,
владеющий особенною опытностью, расположением народа, знанием
народных обычаев, адатов и т. д.»2.
Здесь мы наблюдаем преемственность с древнеалапской традицией:
так, Аммиан Марцеллин отмечал, что аланы «в судьи выбирают лиц,
долгое время отличавшихся военными подвигами»3.
Длительность (на протяжении веков) существования института
«таерхоны лаегтае» объясняется прежде всего его жизненностью в
условиях патриархального строя, относительной действенностью и
безапелляционностью его решений. «Их («таерхоны лаегтае»- — А. М.) слово, —
пишет Лиахвели, — было незаменимо, их решение свято; здесь не имели
места никакие апелляционные и другие жалобы; так как умнее и опытнее
«таэрхоны лаег»-ов не было, то всякий противящийся мнению этих
патриархов был противником самого общества, его взглядов и понятий»4.
Состав и полномочия судей не были постоянными. Они
выбирались в каждом отдельном случае, при этом только самими
тяжущимися: «тяжущиеся стороны выбирали каждая своих посредников в
неравном числе — обиженная сторона имела всегда одним посредником
больше против обидевшей, ответчик — одним меньше против истца»5.
Количество судей могло быть от трех до девяти, но в большинстве
случаев суд состоял из пяти-семи человек. Но это число «в случае
тяжбы целых фамилий увеличивалось до значительной цифры»6
Однако до избрания суда дело проходило еще сложный этап
предварительной подготовки. Если потерпевший и обидчик желали решить
спор по обычаю, то дело начиналось с того, что обе стороны созывали
своих родственников и садились вместе с ними под открытым небом
на таком расстоянии друг от друга, чтобы то, что говорилось на одной
стороне, не было слышно на другой. Затем каждая сторона
выбирала из посторонних людей посредников («минаевар лаегтае»), в количестве
от одного до пяти, смотря по важности дела. В обязанность
посредников входило вести переговоры между сторонами, передавать
предложения истца ответчику и наоборот.
©
1 Н. С. Мансуров. Обычный суд у осетин. Газ. «Каспий», 1894, № 38.
2 Г. Лиахвели. Древний осетинский суд. «Юридическое обозрение», Тифлис, 3
января 1885 г., № 197.
3 Ам. М а р ц е л л и н. История. Киев, 1906 — 1908.
4 Г. Лиахвели. Древний осетинский суд.
6 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 216.
6 Н. Мансуров. Обычный суд у осетин. Газ. «Каспий», 1894, № 48.
248
Когда путем взаимных переговоров стороны доходили до
соглашения, виновник обязывался уплатить потерпевшему ту меру, которая
была бы определена предстоявшим судебным решением; пострадавший
же связывал себя обязательством довольствоваться той платой,
которая была бы произведена ему по суду обидчиком. Только после
этого стороны приступали к выбору новых посредников — уже судебных
(«таерхоны лаегтае»), Число судей определялось также по
предварительному взаимному соглашению. При этом, как мы уже говорили,
обиженная сторона выбирала одним судьей больше обидчика- Затем обе
стороны взаимно объявляли друг другу имена избранных ими судей.
Бывало так, что одна из сторон заявляла протест по составу
судей, выставленных противной стороной. Тогда последняя должна
была избрать в качестве таковых других лигу Как видим, необходима
была двухсторонняя санкция на состав суда.
После всех этих процедур судьи («таерхоны лаегтае») собирались
в условленное место и приступали к разбирательству дела1.
В основе судебной практики «таерхоны лаегтае» лежало не
соблюдение, казалось бы, столь обычных в судебном процессе правил, как
допрос сторон и их свидетелей, привлечение косвенных улик и т. п.,
а сам факт, ставший объектом судебного разбирательства.
Дополнением к очевидному факту служило заявление потерпевшей стороны.
Признание судьями виновности ответчика на основе косвенных
улик и свидетельских показаний могло вызвать неудовольствие
осужденного позицией и ролью первых, что нередко перерастало в месть.
«Свободная критика улик, представлявшихся против обвиняемого,—
отмечал Дж. Шанаев,— была опасной для судей: она могла быть
понята как факт недоброжелательства судей к обвиняемому и его роду,
и потому послужить для последнего основанием к преследованию
судей, как недругов»2.
Судьи, которые в значительной степени полагались на
собственный опыт и убежденность в виновности или невиновности ответчика,
принятием необъективного или ошибочного решения не только могли
обратить на себя месть недовольной стороны, но и лишить себя
доверия общества.
Поэтому в возложенном на них деле они действовали с
величайшей осторожностью и предусмотрительностью, стараясь достичь
наиболее верного решения и принятия справедливого приговора.
Освещая обычно-правовые отношения и практику судопроизводства
у осетин, В. Пфаф так- характеризовал «таерхоны лаегтае»: «осетинские
судьи вникают во все подробности дела и, выяснив факты, стараются.
О
1 Ф. И. Лео нто вич. Адаты кавказских горцев, вып. II, Одесса, 1883, стр. 20—2Г...
2 Дж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин. ССКХ, вып. VII, 1873, стр. 7.
24а
определить величину понесенного истцом или обиженным убытка и
ищут способа для легчайшего восстановления нарушенных
юридических отношений»1.
В условиях патриархально-родового строя и отсутствия
государственности и правовой системы вполне естественным было
судопроизводство, основанное ка присяге («ард», «ард хаерын»). Это
ограждало судей от обвинений сторон в нелояльности или несправедливости
и преследований со стороны осужденного.
Присяга была основой и в древнем судопроизводстве- Присяга в
значении, известном осетинам в позднейшее время, применялась и
скифами2. На преемственную связь осетинской присяги (клятвы) с древне-
осетинской (скифской) указывает и В. Ф. Миллер3.
Если преступление не являлось очевидным фактом, не
требовавшим доказательства, то в установлении истины — является ли
привлекаемое к суду лицо виновным или нет — решающее место
принадлежало присяге-клятве, произносимой публично этим же лицом или
истцом.
Когда, например, привлеченный к ответу человек упорно отрицал
свою вину, суд непременно выносил решение о том, чтобы он в таком
случае оправдал себя присягой- «Присяга была судебным
доказательством и вместе с тем для обвиняемого средством судебной защиты»4.
И в карачаевском судопроизводстве по адату «присяга —
совершенно самостоятельный, отдельный вид доказательств, способный раскрыть
истину не хуже, если не гораздо лучше всяких свидетелей»5.
Нетрудно объяснить, почему так велика была сила присяги.
Прежде всего здесь надо иметь в виду, что присяга принималась в крайнем
случае, в чрезвычайный момент именем наиболее почитаемого в
данной местности святого и прахом покойного родственника'. «Всякие
прегрешения перед дзуарами, небом, землею, перед своими покойниками
и богом считались всегда страшными преступлениями, за которые эти
божества наказывали людей неумолимо строго, не только за прямую
вину перед ними, блиставшими в сознании народа страшною
карательною мощью, но и за один призыв, одно обращение к ним, сделанное
в свое оправдание ложно»6.
О
1 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. I, стр. 219.
2 Геродот, кн. IV, гл. 68, 70, 132.
3 Вс. Миллер. Иранское выражение клятвы. Древности. Труды императорского
Московского археологического общества, т. XIX, вып. III, М., 1902.
4 Дж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 11.
5 Б. Миллер. Из области обычного права карачаевцев. «Этнографическое
обозрение», 1902, № 3, стр. 81. .
6 Дж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 8.
250
• Поэтому, как правило, присяга совершалась в дзуаре, под
священным деревом или в древней церкви, ставшей со временем языческим
святилищем.
Такой способ подкрепления (придания большей силы)
принимаемой присяги был весьма популярным и распространенным и у других
народов Кавказа. «Ингуши, осетины и прочие горцы,— писал Шегрен,—
клянутся и присягают именем тех святых, которых они почитают»1.
Данная в общинном святилище «клятва, — отмечал В. Пфаф, — соблю-
.дается ненарушимо свято»2.
О том, что присяга, принятая у святилища, заключала в себе
огромную нравственную силу, имеется много других свидетельств.
Так, например, «клятва Хетагом3 считалась священной и
ненарушимой не только у христиан, но и у мусульман-осетин; жители
селения Ногкау (расположенного поблизости данного святилища.— А. М.),
бывали случаи, отказывались клясться Хетагом, боясь его кары»4.
У стыр-дигорцев таким местом было святилище «Гулари Габона».
«Уважение к святости Гулари Габона, — пишет В. Ф. Миллер, —
засвидетельствовано тем, что дзуар имел решающую силу при народном суде:
перед ним назначалась присяга, и существовало убеждение, что
принявший присягу ложно у этого дзуара не мог возвратиться домой»5.
В силу этих понятий и само судопроизводство велось у святилищ.
Этой практики придерживались также общинные суды чеченцев6 и
ингушей7.
Не менее распространенной и действенной была присяга именем
предков. Клятва предками особенно почиталась скифами. Нарушение
подобной клятвы каралось смертной казнью. «Человеку, на которого
укажут как на клятвопреступника,— говорит Геродот,— отрубают
голову, убивают сыновей его и конфискуют все имущество»8. Священной
©
1 А. Шегрен. Религиозные обряды осетин, ингушей и их соплеменников при разных
случаях. Газ. «Кавказ», 1846, № 29.
2 В. Пфаф. Народное право осетин. ССК, т. I, стр. 216.
•* -<О(етаг» — одно из популярных в прошлом святилищ в Осетии, расположенное
недалеко от селения Суадаг.
4 Б. А л б о р о в. Термин «хатиагау» осетинских нартских сказаний. Сборник научного
общества этнографии, языка и литературы при Горском педагогическом институте,
Владикавказ, 1929, стр. 121.
5 В. Ф. Миллер. Археологическая экскурсия в Осетию. Материалы по археологии
Кавказа, III, 1893, стр. 69. ;
6 Б. Д а л г а т. Первобытная религия чеченцев. Терский сборник, вып. III,
Владикавказ, 1893, стр. 91. <
7 Ч. Ахриев. Присяга у ингушей. Сборник езедеиий о Терской области, вып. I, 1878.
8 Геродот, кн. IV, гл. 69.
251
была клятва предками и у осетин, а оскорбление их могил вызывало у
последних кровную месть1. И вообще «память покойников была дорога
и свята для всякого осетина, можно сказать, до самопожертвования:
осетин готов был пожертвовать собой, лишь бы память его покойников
осталась иепоруганною, в неприкосновенности»2.
Отсюда, данному виду присяги в юридической практике осетин
отводилось особое место.
Присяга именем предков назначалась судом главным образом в
делах о воровстве с целью обнаружения преступника или очищения
себя от подозрения. В первом случае присяга исполнялась истцом в
форме заклинания «нечистыми» животными (кошкой, собакой или
ослом) и посвящения их покойным родственникам (предкам)
подозреваемого в воровстве однообщинника (описано нами выше), а во втором
случае этот обряд исполнялся самим обвиняемым в свое оправдание.
Данная присяга была известна под названием «фыдгаенд» (срамная
клятва»K.
«Фыдгаенд» возлагался и на родственников подозреваемых лиц»4,
которые из-за боязни подвергнуться подобному заклинанию выдавали
вора-родственника и даже принимали участие в возмещении
пострадавшему нанесенного ему их сородичем ущерба.
Часто встречающимся явлением у горцев были земельные споры —
конфликты из-за границ, нарушенных межей, или присвоения целых
участков. Для, разрешения их суды назначали присягу. К присяге
приводилась одна из споривших сторон вместе с присяжниками.
Присягавшие по обычаю должны были набрать в полы своей одежды землю
из спорного участка и произнести клятву в священном месте в том,,
что будут указывать настоящую границу своего владения, после чего,
сняв с ног обуЬь, обходили босиком границы участка, что означало,
что они идут по собственной, действительно принадлежавшей им земле,
а шедшие за ними свидетели ставили знаки (отмечали границу) по
указанию присягавших. Когда обувь не снималась, то ее тщательно
осматривали, чтобы присягавшие не подложили в ней землю из
действительно принадлежавшего им участка (с целью освободиться от
ложной присяги, что де шли по своей земле) .5
О
1 Н. Харузин. Этнография, т. I, СПб., 1901, стр. 227.
2 Дж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 8.
3 Б. Г а т и е в. Суеверия и предрассудки у осетин. ССКГ, вып. IX, стр. 74—75.
4 Там же, стр. 75.
5 А. Е с и е в. Обычное земельное право и право землевладения горных осетин
Терской области. Владикавказ, 1901, стр. 6; Труды Комиссии по исследованию
современного положения землепользования и землевладения в нагорной полосе Терской
области, стр. 83.
252
Когда же спор шел о целом участке, то обхода границ не
требовалось, а присягавшие становились ка спорном участке и произносили
клятву1.
Такая же присяга применялась при земельных спорах у
балкарцев, о чем Грабовский пишет следующее: «В горских обществах
Кабардинского округа существует местный, особенный способ
доказательства границ земли при споре о ней. Истцу, заявившему претензию на
принадлежность ему части земли, владеемой другими, предоставлялось
доставить двух присяжных, которые обязаны вместе с ответчиком и
истцом отправиться на спорную землю и решить, кому принадлежит
какая часть; для этого, придя на спорную землю, присяжные должны
снять с себя всю одежду с правой стороны, т. е. одежду и обувь с
правой руки и ноги, взять в правые обнаженные руки по камню и,
принося клятву в том, что они укажут известные им границы спорной
земли по совести, идти наполовину голыми к спорному участку и
положить там камни; место, на котором кладут камни, признается тяжу-
щими сторонами за действительную границу и иск прекращается этим
решением безапелляционно»2.
Присяга, принимавшаяся обвиняемым, должна была быть
обеспечена гарантией— поручительством со стороны его рода (обычно по
делу об убийстве). Без такой гарантии присяга не признавалась за
судебное доказательство и свидетельство невиновности ответчика.
Поэтому на суде вместе с присягателем в качестве соприсягателей («ард-
амонгаетае») выступало несколько представителей его рода.
Как видим, здесь выступает принцип родовой солидарности,
ответственности родового коллектива за поступки и действия отдельного
его члена. Отсюда «исход каждого дела и участь подсудимого вполне
зависели от собственных родственников»3, присяга которых решала
дело. До выполнения коллективной присяги родственники (совет
стариков) исследовали дело и решали вопрос о принятии таковой.
«Родственники, зная, какую они берут на себя ответственность за обвиняемого,
в кругу семейств рода и в совете стариков тщательно и во всех
подробностях исследуют все дело и если находят своего родственника,
хотя не по фактическим данным, но, по крайней мере нравственно
невиновным, и если вообще подсудимый заслужил себе уважение в
кругу своего семейства и рода, то смело берут на себя эту тяжелую
присягу. Если же, напротив, обвиненный по убеждению родных
фактически или нравственно признается виновным, то осетин ни за какую
О
1 А. Е с и е в. Обычное земельное право.., стр. 6.
2 Н. Ф. Грабовский. Очерки суда и уголовных преступлений в'Кабардинском
округе. ССКГ, вып. IV, 1870, стр. 72.
3 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. I, стр. 215.
253
цену не согласится помочь обвиненному и дать фальшивую присягу..
Подобная присяга, при безусловной гласности жизни каждого, в
окружающем его патриархальном обществе слишком опасна и стоила бы,
гораздо дороже самой цены иска или наказания. Он лишился бы
всякого доверия и даже жизни»1.
Таким образом, судебный процесс у осетин был основан на
принятии присяги ответчиком и на подкреплении ее присягой определенного
числа его родственников-соприсягателей.
Как само судопроизводство, так и принятие присяги приурачива--
лось к определенным дням, обычно к праздничным/Но наиболее
предпочитаемым для этой цели считался праздник «лаузгаенаен». «Самые
тяжелые клятвы,— писал А. Шегрен,— считаются данные в «лаузгаензен».
в очищение себя по подозрению в воровстве или убийстве. Этот день
считается столь важным, что все сомнительные, нерешенные дела
откладываются до «лаузгаенжн»; тогда все объясняется, и почти не
было примера, чтобы действительно виновный не признался... если
уличаемый присягает в своей невинности, то освобождается от
всякого подозрения»2. Обычно зто совершалось на кладбище, куда все
жители села собирались на поминки в «лаузгзенаен», и «там в присутствии
живых и мертвых, тот, кто подозревает кого-либо в убийстве своего
родственника или воровстве у него чего-нибудь, подводит
подозреваемого к могиле покойного и заставляет его поклясться в своей
невинности»3.
Ввиду-столь важного места, которое занимала присяга в
осетинском судопроизводстве, акт ее исполнения обставлялся сложной
обрядностью, что также усиливало ее святость, вызывавшую суеверное
почитание. Уже .«само слово «присяга» поражало суеверную натуру
осетина... один звук «арда» был страшен для него и он выслушивал его*
всегда с каким-то благоговейным страхом»4.
Вот как описывает Дж. Шанаев Церемонию принятия присяги по
обычаю: «так как принятие присяги считалось делом весьма важным
в общественном сознании, то оно, понятно,— говорит Шанаев,— всегда
интересовало общество и происходило постоянно на его глазах. В
важных делах о дне и месте присяги оповещались родные и знакомые, как
потерпевшего, так и присягоприимца, которые сходились к
назначенному для присяги месту, по преимуществу,— к капищу местного дзуа-
ра или к могиле убитого, или к спорной земле. Собрания были
особенно многолюдны на присягах по кровным делам. Сюда стекались все
сородичи потерпевшего и присягоприимца в полном вооружении. В
О
1 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. I, стр. 215.
2 А. М. Шегрен. Религиозные верования осетин..., газ. «Кавказ», 1846, № 29.
3 Т а м ж е.
4 Дж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 9.
254
почтительном отдалении от места клятвы, по одну сторону становились
одни, по другую — другие. Посередине—частные люди, обязанность
которых состояла в обезоружении родственников потерпевшего и при-
сягоприимца на месте присяги.
Затем выступали потерпевший и за ним уже присягоприимец со
своими присяжными, становились перед дзуаром и с простертою
простою палочкою или со снятою с головы шапкою по направлению дзуа-
ра, торжественно и громко, обнажив голову, произносили клятву им<*-_
нем дзуара.
После произнесения клятвы, присягоприимец как бы бросал от
себя вместе с палочкой и последствия присяги.
По принятии присяги обвиняемым все многочисленное собрание,
оставив принявшего присягу на месте, поспешно, обыкновенно скорым
бегом, удалялось оттуда и расходилось по домам, стараясь еще долго
после того, недели две, по крайней мере, не встречаться с
присягнувшим, ибо каждый осетин был того убеждения, что присягнувший
обращает силу ложной присяги ке только против себя и своих ближних,
но и против каждого члена общества, который первым встретится с
ним по принятии ложной присяги. Поэтому неудивительно, что в
каждом говорило чувство самосохранения и оттого каждый от
присягнувшего убегал и прятался долго, не исключая даже домашних; оттого и
он сам, заранее заготовив себе достаточную-провизию в каком-либо
уединённом месте, не возвращался обыкновенно з продолжение двух и
более недель домой»1.
Примерно в такой же форме происходил обряд присяги у ингушей.
И у них «на принесшего такую присягу жители смотрели с ужасом и
избегали с ним встречи»2. Опасаясь, что ложная присяга может
навлечь беду не только на присягавшего и его род, но и на тех из
соплеменников, с кем он мог повстречаться, они тщательно избегали. «На
принявшего перед святилищем ложную присягу ингуши смотрели как
на проклятого всеми святыми, и встречи с клятвопреступником
считали признаком большого несчастия; поэтому путники, узназ на дороге,
чтр им предстоит встреча с таким человеком, меняли направление и
даже возвращались домой... От святилища, где происходила присяга,
весь народ бежал прочь; рабочие покидали работу, пастухи угоняли
стада и сами уходили, страшась того, как бы эта присяга не
оказалась ложною и как бы доля греха клявшегося не пала и на них и не
навлекла гнева святого»3.
О
1 Д ж. Ш а на ев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 9, 11, 12, 13.
2 Ч. А х р и е в. Присяга у ингушей. Сборник сведений о Терской области, вып. I,
стр. 281.
* 8 Там же, стр. 282.
255
Наконец," принесшего ложную присягу ожидало всеобщее
презрение и суровое осуждение со стороны общества. «Легкомысленных и
недобросовестных присягоприимцев, — писал Шанаев, — общественная
совесть наказывала непомерно строго: она публично через крикуна
(«фидиуаег») бесславила их, оглашая «маенгардами», т. е. лжеприсяж-
никами, и с той поры им уже буквально невозможно было оставаться
в том обществе, и оно избегало их, как опаснейших своих врагов; а в
частной жизни осетин ругань «маенгард» (лжеприсяжник) — служила
очень часто началом кровавых расправ и родовой мести»1.
Осетинский «процессуальный кодекс» отводил большое место в
системе доказательств обвинениям «комдзог» (доказчика). «Комдзог»,
как правило, выступал в делах о воровстве. Показания доказчика
имели большой вес именно потому, что он сам нередко являлся
участником или очевидцем этого события. По возможности «комдзог» в целях
своей безопасности и ввиду того, что его после этого народ начинал
презирать2, сохранял свое инкогнито, но выступал он и открыто. За
свое участие на суде «комдзог» получал материальное вознагражде-
. ние от потерпевшего в размере, определенном заранее путем частного
уговора между сторонами.
У ингушей также, сообщает Н. Харузин, «обнаружение дела редко
обходится без доказчика: к потерпевшему является обыкновенно кто-
нибудь, знающий виновных и соглашается за известную плату
обнаружить их».
И здесь «имя доказчика,— пишет Харузин,— держится в тайне из
боязни, что виновные или родственники их будут мстить за
обнаружение преступления»3.
«Комдзог» со своей стороны нес ответственность не только
морально, но и материально: в том случае, если бы ему не удалось открыть
виновного, он сам становился на место ответчика и удовлетворял
потерпевшего как виновная сторона4-
Показания «комдзога» имели силу в том случае, если они
подкреплялись его присягой и участием соприсяжного в деле5. В знак
принятого решения судьи, как правило, у подножья святилища стави-
©
1 Д ж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 3.
2 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. I, стр. 218.
3 Н. Н. Харузин. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей. Сборник
материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее, вып.
III, стр. 136.
4 Дж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 2; М. Ковалевский.
Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 347—348.
5 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. I, стр. 217.
256
ли круглый камень как символ прочности приговора и вечности мира,
водворенного между двумя родами1.
Недостаточно, однако, вынести приговор, добиться признания
ответчиком его вины, определить форму и меру наказания. Столь же
важным было добиться исполнения приговора. Но и здесь юридическая
практика осетин опиралась на принцип коллективной ответственности
рода за действия отдельных его членов.
«Таерхоны лэегтае», определяя меру наказания виновнику,
одновременно выносили решение, обеспечивавшее гарантию его выполнения.
Такой гарантией было назначение обеими сторонами в перекрестном
порядке поручителей: каждая сторона избирала для другой из ее же
рода «фидар лаег»: (букв.: «муж надежности», слово «фидар» — крепкий,
прочный), который обязан был поручиться за своих родственников в
деле безусловного выполнения решения суда. В случае же невыполнения
такового поручитель («фидар») обязан был принудить родственников к
уплате приговоренной суммы или имущества или других условий
приговора, обязательных и для другой стороны.
«Принимая на себя поручительство, избранные сторонами лица,—
писал М. Ковалевский,— в присутствии свидетелей, так называемых
«аевдисаен лаегтэе», торжественно обещают заставить виновного
выполнить определение суда». Свидетели же («аевдисаен лаегтзе»), по одному
с каждой стороны, «в свою очередь обязуются напоминать
поручителям о данном ими слове». Причем поручитель («фидар лаег») свои
обязанности отправлял «не даром, а под условием вознаграждения со
стороны обвиненного»2. Размер вознаграждения, который, также
определялся заранее, был различным, смотря по важности дела.
Осетинские судьи применяли и другие санкции для принуждения
сторон к исполнению приговора, например, приведение к новой
присяге ответчика, что он безусловно подчиняется приговору, выплатит
определенную судебным решением сумму истцу. Другим таким способом
являлось, когда судьями «пред самым началом судебного
разбирательства у сторон отбиралось оружие и возвращалось затем не раньше,
как после клятвенного обещания исполнить приговор»3. Данная мера
была не менее эффективной, чем предыдущие, ибо «вернуться домой
без оружия считалось постыдным; поэтому волей-неволей приходилось
подчиниться раз поставленному посредниками («таерхоны лаегтае». —
А. М.) приговору»4.
И, наконец, неисполнение приговора суда, нарушение присяги, не-
©
1 Газ. «Терские ведомости», 1905, № 235.
2 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 380,
а Там же, стр. 216.
4 Там же, стр. 217.
17 А. X. Магометов 257
подчинение «закону стражи» влекли за собой восстановление всего
общества против нарушителя — ответчика, изгнание его из общины,
«хъоды», что означало уже высшую меру наказания. Вполне понятно,
что этих мер, хотя ни крайних, было достаточно, чтобы обеспечить
исполнение приговора. В качестве судьи теперь выступала вся община
в лице ее собрания —«ныхас»- Поэтому, зная, что ждет ослушника,
приговоренное общинным судом лицо вынуждено было подчиниться
его решениям.
Одним из видов установления судебной достоверности у осетин
еще с древних времен являлись ордалии и судебный поединок, как
формы «суда божьего».
Ордалии—это испытание огнем, водой, раскаленным железом,
ядом и др. Если обвиняемый после «прохождения» через огонь и воду
и испытания раскаленным предметом (после пыток) оставался живым
или невредимым, то он народным правом объявлялся оправданным.
0 том, что древнеосетинскому праву были известны испытания огнем
и водой, говорят некоторые выражения в осетинском языке, донесшие
до нас следы ордалий: «арт(д) хззрын» (букв.: «поедание огня»), «арты
хуылфмае даер бацаеудзынаен» (пойду и в огонь), «раст лаеджы дои
даер нзэ ласы» (праведный человек и в воде не утонет) и т. д. На наш
взгляд, и присяга у осетин свое начало берет от огневой ордалии. На
это достаточно ясно указывает название первой — «арт(д) хаерыи»
(«поедание огня»).
Одним из видов судебного испытания или ордалий являлся также
переход через зажженные волчьи сухожилия1. Нам кажется, что волк
здесь фигурирует не случайно: согласно исследованиям В. И. Абаева,
волк являлся тотемом у предков осетин2. Надо полагать, дым,
идущий от горящих сухожилий тотемного животного, должен был (по
мнению древних осетин) искривить, сделать калекой дававшего ложную
присягу3 (как мы уже рассмотрели выше, присяга у святилища или
именем святого была основана на этой мысли).
Как правильно отмечает М. Ковалевский, к огневой и водной
ордалиям прибегали обыкновенно при недостатке других средств
установления судебной достоверности4.
Такое же происхождение имеет и судебный поединок. Он состоял
в том, что родственники пострадавшего требовали, чтобы обидчик (т. е.
убийца) стал под их выстрел. Судьи в этом случае кидали жребий,
©
1 Дж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 19—20.
2 В. И. Аба ев. Дохристианская религия алан. XXV Международный конгресс
востоковедов, М., 1960, стр. 8; его же: Скифо-европейские изоглоссы, стр. 89, 91.
* См. об этом же: Д ж. Шанаев. Присяга по обычному праву осетин, стр. 20.
* М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 258.
258
чтобы определить, кто из рода обиженного (убитого) должен был
стрелять в обидчика1. .
Право выстрела в равной степени могло достаться как хорошему
стрелку, так и немощному старику или мальчику, ибо право мести
принадлежало всему потерпевшему роду и согласно обычаю в
вынимании жребия участвовал весь его мужской состав. Если же по жребию
на «дуэль» выходил старик или мальчик, которые скорее всего могли
промахнуться или просто не достать противника (если они стреляли
из лука), то обидчик, как правило, избавлялся от ожидаемой кары.
Существовал и другой вид поединка — с применением оружия
(кинжалов). Он проводился на отведенной судьями площадке, чаще
всего около святилища. Здесь обоим противникам (один из них
обвиняемый в убийстве, а другой родственник убитого) повязывали глаза,
отводя их в разные концы, откуда они наугад шли друг другу
навстречу, стараясь нанести смертельную рану один другому. Поединок
обычно оканчивался убийством одной из сторон.
Победителем, как правило, выходил более ловкий из них, и если
даже им оказывался заведомый убийца, то все равно по условиям
поединка (по «суду божьему») он объявлялся оправданным, а спор
считался исчерпанным.
Ордалии или поединок применяли в отношении лиц, не имевших
родственников, которые могли бы выступить на их стороне как защита
и поручители-соприсяжники.
Участие судей («таерхоны лэегтаэ») в ордалиях заключалось в
приведении сторон к судебным испытаниям (ордалиям) и наблюдении за
их исполнением, а также в констатировании их результатов,
рассматривавшихся как прямое вмешательство божества в судебный процесс,
как акт свершения приговора «божьего» («хуыцауы таерхон»).
. Каким бы неблагоприятным ни оказался исход поединка для одной
из сторон, она, по устоявшемуся в веках обычаю, не имела права
заявлять протест. Она обязана была примириться со свершившимся
фактом, покориться «судьбе».
Постоянных судей, как мы уже говорили, у осетин не было: их
избирали в каждом отдельном случае. Но ввиду очень часто
повторяющихся конфликтов на почве кровной мести одним и тем же лицам из
сельской общины или общества приходилось подряд несколько раз, а
затем и постоянно, выступать в роли судей («таерхоны лаегтаэ»). Как
хорошие знатоки юридических правил и народноправовых норм жизни
осетин они становились известными не только в кругу своих односель-
©
1 См. Гагстгаузен. Закавказский край, ч. II, стр. ПО; М. Ковалевский,
Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 228.
259
чан, но и во всем ущелье. Их приглашали для решения особо
сложных, в подавляющей части кровных дел.
Судебные разбирательства для каждого отдельного общества
происходили в определенных местах, и, как правило, в качестве таковых,
как мы уже отмечали, избирали места около святилищ. Например,
известный во всей Осетии Дагомский суд («Дагомы таерхондон»)
заседал на небольшой площадке около святилища «Мадизаен». Дагомский
суд состоял из посредников — медиаторов («таерхоны лэегтае») близко
друг к другу расположенных селений Дагом, Цамад и Урсдон1. Суд
в Дагоме, как отмечал М. Ковалевский, был наиболее популярным
среди осетин всех ущелий2. Здесь судились жители селений Унал,
Дагом, Цамад, Урсдон, Цми, Холст и Донысар3. Для пересмотра своих
дел сюда обращались жители различных мест Осетии.
Как отмечал исследователь Дагомского прихода А. Скачков, здесь
и решались все важнейшие тяжебные дела осетинских ущелий: Ала-
гирского, Куртатинского и Дигорского. Какое дело не могло решиться
дома, с ним приходили на площадь «Мадизаен» в Дагоме.
Существовала поговорка, что «если дело не решится на Дагомском «Мадизане»,
то не решится и на том свете... Раз было произнесено решение дагом-
ских стариков и камень поставлен к дверям святилища Уастырджи, то
уже никто не мог противоречить. Ослушнику грозил гнев всей
Осетии»4.
Таким образом, решения Дагомского суда считались
окончательными.
Судебным местом для потомков Царазоновых — жителей Цея, Ба-
да, Кора, Садона и Нузала являлась резиденция — святилище древне-
осетинского владетельного рода Царазоновых — Нузал.
Жители Мизура имели свой суд, который заседал в Уаеллагкау
(Верхнем селенииM.
Общим для жителей Наро-Мамисонской котловины был суд в Уа-
заге. Последний для этого района был таким же популярным, как и
Дагомский суд для остальных ущелий Осетии6.
Таким образом, судьи Дагома и Уазага являлись арбитрами для
жителей остальных районов Осетии, своего рода высшими,
«кассационными» судами. Кроме того, этих наиболее популярных знатоков
О
1 ОРФ СОНИИ, ф. 4, оп. I, д. 64, стр. 51.
2М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. И, стр. 217 — 218.
3 ОРФ СОНИИ, ф. 4, оп. I, д. 64, стр. 51.
4 А. Скачков. Легенды и предания осетин. История Дагома. Газ. «Терские
ведомости», 1905, № 235.
5 ОРФ СОНИИ, ф. 4, оп. I, д. 64, стр. 52.
6 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 218.
260
обычного права осетины приглашали в свои общества для разбора и
решения судебных дел на месте и примирения враждовавших сторон.
Их призывали, когда свои судьи оказывались бессильными в
разрешении разбираемого ими спора. «Самыми опытными посредниками —
примирителями и третейскими судьями,— говорится в одной работе,
конца 60-х годов XIX века,— считались в Осетии старики Нарского
общества, к которым, как видно из народных сказаний, не раз
обращались в крайних случаях»1. Об этом между прочим сообщает и
В. Пфаф, который говорит, что «в особенно трудных и запутанных
делах посредники выбираются часто из стариков Нарского общества,
которые у осетин славятся своим знанием народных обычаев»2.
Коста Хетагуров в своей работе об осетинах Нарской котловины
писал, что «селение Нар целые столетия служило законодательным
центром для обитателей всей котловины»3.
Помимо превосходного знания обычаев и правовых норм жизни
народа, искусства красноречия и репутации честного и мужественного
человека, нарские, дагомские и другие популярные в народе судьи
обладали еще и большой природной смекалкой, жизненным опытом
и наблюдательностью. Без этих качеств невозможно было бы
рассчитывать на разрешение спора и примирение сторон. А это при наличии
сложных взаимоотношений осетинских родов, своеобразии быта и
психологии народа, могло быть достигнуто только при внимательном
изучении дела и точном выяснении обстоятельств преступления (убийства
и др.). Нередко судебный процесс в таких случаях длился в течение
двух-трех дней, а иногда и больше.
О том, какие сложнейшие ситуации удавалось разрешить
осетинским судьям, говорит, например, факт, сообщенный нам в сел. Цамад
в 1965 году. Здесь в давние времена, рассказывают старожилы, был
убит один из жителей села. В преднамеренном убийстве был
заподозрен его друг, который вместе с ним пас овец. Обвинением друга для
родственников убитого послужило объяснение первым обстоятельств
гибели товарища. Пастух рассказал о том, что друг его спал, а он
наблюдал за овцами. Прошло немало времени с тех пор, как тот
заснул, тогда друг решил его разбудить. Но это ему уже не удалось.
Он был уже мертв. И вот товарища обвинили в коварном, хитрозаду-
манном убийстве друга. Но внешних признаков для такого
обвинения не было. В рассказе об обстоятельствах событий этого дня пастух
сообщил и такую деталь. Сидя недалеко от спящего, он палкой уда-
©
1 М. Баев. Тагаурское общество и экспедиция генерал-майора Абхазова, Газ.
«Терские ведомости», 1869, № 8.
2 В. Пфаф. Народное право осетин. ССК, т. I, стр. 210.
3 К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. 435.
261
рил об землю, отгоняя овец. Удар пришелся в незначительном
расстоянии от головы лежащего на травке товарища. На эту деталь и обратил
внимание один из приглашенных судей. Осмотрев место убийства и
вникнув в обстоятельства смерти человека, тот высказал
предположение, что пастух умер от сотрясения мозга, полученного в результате
удара палкой об землю. Чтобы проверить эту догадку, «таерхоны лаег»
предложил сделать модель человеческого мозга из свежего сыра,
которую поставили в том месте, где лежала голова убитого. Повторили
такой же удар и той же палкой. Сыр треснул. Судьи, таким образом,
установили, что смерть последовала в результате удара палкой об
землю1.
Как нетрудно заключить из вышеизложенного, основной функцией
осетинского суда являлось третейское разбирательство дела,
посредничество между враждовавшими сторонами, примирение кровников, а
вместе с этим и установление размеров компенсации за причиненный
ущерб, особенно в делах кровных, где месть все чаще уступала место
материальному возмещению крови.
О
1 Полевой материал автора. Сел. Цамад, август 1965 г.
КРОВНАЯ МЕСТЬ
^ бщественные отношения и жизнь общества при
| родовом строе регламентировались различными
| традициями. Отличаясь большой консервативно-
I стью, они могут отражать общественные поряд-
I ки очень далеких времен, но, пройдя через ряд
I этапов исторического развития, приспосаблива-
| ются к новым условиям и уже отражают харак-
I тер классовых отношений. Например, «зиу» —
1 традиционная форма взаимопомощи,— являлся,
| как мы уже отмечали, одной из лучших тради-
е!з ций осетин^ Но когда к ней прибегал феодал
или кулак, то она превращалась в замаскированную форму
эксплуатации рядовых общинников. Обычай кровной мести, сохранившийся у
осетин и других горцев Кавказа со времен родового строя, в феодальную
эпоху приобрел классовые черты: размер ее выкупа ставится уже в
зависимость от сословно-классовой принадлежности обиженного и
обидчика.
Кровная месть, являясь одним из атрибутов
первобытно-общинного" строя, весьма активно проявлялась у осетин еще в середине
XIX века. В пережиточной форме она дожила даже до первых лет
Советской власти, когда она нередкими фактами давала еще о себе знать%
Кровная месть имела также широкое распространение у других
горцев Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, балкарцев,
кабардинцев, черкесов, карачаевцев и др.), а также у грузин-горцев, хевсуров,
сванов, абхазцев и других народов Закавказья.
!Кровная месть возникла как мера самосохранения, как
эффективная "форма самообороны. Члены рода обязаны были оказывать друг
263
другу помощь у, защиту. Если кто-то обижал одного из членов рода,
то последний (род) целиком принимал на себя эту обиду. Таким
образом, в деле защиты своей безопасности 'индивид полагался на род,
к которому он принадлежал. '«Отсюда,— указывает Ф. Энгельс,— из
кровных уз рода возникла обязанность кровной мести... Если
кто-нибудь из чужого рода убивал сородича, весь род убитого был обязан
кровной местью»1. Это положение Энгельса находит свое полное
подтверждение в обычном праве осетин. «Каждый родственник убитого,—
говорится в Сборнике осетинских адат, з 1836 г.,—обязывается
священным долгом мстить смертью убийце и его родственникам. Не
исполнивший этого подвергается жесточайшему, бесчестию, а семейство и даже
род его—возможным обидам»2. «Позор и презрение (к ним.--А. М.)
продолжались до. тех пор, пока эта обязанность не была выполнена»3..
«Кровная месть, этот страшный закон, который зачастую бушует
между двумя семьями в течение столетий,— подчеркивал К. Кох,—
получил у осетин свое самое высшее развитие, и каждый, самый
незначительный проступок напоминает о нем... Днем и ночью размышляет
исполнитель кровной мести о подходящем случае выполнения своего
приговора»4.
Обязанность кровной мести являлась священной буквально у всех
народов Кавказа. Так, «кровная месть является у мохевцев законом
чести»5,— писал А. Хаханов. Одним словом, при родовом строе «месть
становится долгом, делом чести, священной обязанностью»6.
Очень ярко этот взгляд осетин выражается в осетинском
фольклоре, и -особенно в нартском эпосе. В классической форме кровная месть
выступает в Батразовском цикле, где Батраз мстит за кровь отца.
«Мотив кровной мести,— пишет В. И. Абаев,— вошел в эпос в
условиях патриархально-родовых отношений... Но эти
патриархально-родовые отношения, а с ними и кровная месть, продолжали существовать и
процветать в осетинском быту в течение многих столетий. Вот почему
рассказ о том, как Батраз мстил за кровь отца, был и оставался
одним из любимых и популярнейших эпизодов нартского эпоса»7. У ски-
©
1 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 99.
2 Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. 2, стр. 2.
3 Осетины во II половине XVIII века по наблюдениям путешественника Штсдера,
стр. 30.
4 К. Кох. Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку в 1837 и 1838 гг.
В кн.: Осетины глазами русских и иностранных путешественников, стр. 257.
5 А. С. Хаханов. О мохевцах. Сборник материалов по этнографии, издаваемый при
Дашковском этнографическом музее, вып. III, стр. 77.
6 М. О. Косвен. Очерки истории первобытной культуры, стр. 218.
7 В. Абаев. Нартовский эпос. Дзауджикау, 1945, стр. 66.
264
фов же исполнение мести рассматривалось как геройский поступок1.
Кровная месть, известная осетинам с эпохи первобытно-общинного
строя, особое распространение получила в период с XV по XVIII век
включительно, т. е. после разгрома их монголами и до присоединения
Осетии к России и переселения с гор на плоскость, в период, когда
шла жесточайшая борьба за право существования. Распространению
родовой ыести в это время способствовали также развитие классовой
дифференциации и усиление отдельных родов. Едвг ли имелись в
Осетии роды, которые не были бы вовлечены в кровную месть, а многие
же из них вовсе потонули в кровавой пучине междуродовой борьбы, не
оставив за собой и следа.
«Многие сотни семейств и многочисленные роды, — писал
В. Пфаф,— находились между собою в постоянной смертельной
вражде или кровавой распре. Народ стонал под гнетом невыносимой
анархии»2. Достаточно сказать, что «убить и умереть для осетина времен
особа (т. е- в указанный выше период- — А- М.) были синонимы;
убивая сегодня,он знал, что сам тоже будет убит, если не завтра, то
послезавтра или через неделю»3. Еще не похоронив убитого, уже
оплакивали убийцу. Сельчане с соболезнованием приходили не только в
пострадавшую семью, но и в дом убийцы. Обе семьи находились в
одинаковом трауре. Одно убийство вело за собою новую цепь убийств с обеих
сторон. В таком случае кровная распря между родами длилась
годами и десятилетиями. В горячке мести стороны нередко истребляли
друг друга. Но, как правило, в смертельной схватке победителем
выходил сильнейший род. Осетин не упускал момента осуществить свою
месть незамедлительно, тут же на месте. Если же убийце удавалось
бежать и скрыться, родственники убитого обрушивали свой гнев на
семью или родичей убийцы, из коих первый же попавшийся кровникам
мужчина падал жертвою кровной мести.
Долго продолжавшаяся распря межд, кровниками часто
принимала форму осадной войны. Если семья или род убийцы имели свою
башню, то они запирались туда с тем, чтобы избежать мести. Те же, кто
не имел таких сооружений, уже не могли их построить, гак как
родственники убитого строго следили за своими противниками и не
давали им этой возможности. Только немногим удавалось после этого
построить башню, но это только в тех случаях, когда те, покинув
родной аул, забирались в такие места, где они уже были недосягаемы
для преследователей.
О
1 Геродот, кн. IV, гл. 65.
2 В. Пфаф. Народное право осетин. ССК, т. II, стр. 263.
3 К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. 364.
265
И вот, чтобы обезопасить себя на будущее, каждый род ((или
семейная община) старался заиметь, построить башню.
Не приходится поэтому удивляться, что в дореволюционной
этнографической литературе и в народном сознании теперь прочно
держится мнение, что большинство башен и крепостей было построено из-за
разгула кровной мести и стремления обезопасить себя. И
действительно, как уже сказано выше, только запершись в крепости, можно было
уцелеть и не погибнуть при этой жестокой мести преследователей —
кровников. Поэтому, говорит В. Пфаф, «многие семейства годами
проживали в сторожевых башнях, как в тюрьмах»1. В этих случаях
победитель, т. е. осаждающий (кровомститель) по праву завоевателя
считал осажденных своей добычей, вечно пленными — «хъанэемзеттаг»
(отсюда и «хъанаемаетдуг»J.
За время, пока кровники сидели за крепостными стенами, их
посевы гибли, скот пропадал или захватывался кровомстителями. Чтобы
не допустить голодной смерти осажденных, друзья и добрые соседи
обрабатывали их посевы и затем убирали урожай, присматривали за
скотом «и даже снабжали осажденных съестными припасами»3.
Если сразу же или вскоре после убийства родственника не
удавалось «вернуть его кровь» («йае туг райсын»), то долг мести
переходил по наследству. Это чаще всего случалось, когда виновная
сторона поспешно убегала в пределы другого общества и вверяла себя
его покровительству или когда в роду убитого не оставалось мужчин,
способных отомстить за него. В таком случае к роли мстителей уже с
колыбели начинали готовить малолетнего сына или брата убитого (если
таковые оставались после него).
Народная память в многочисленных легендах и былях сохранила
немало рассказов, повествующих о трагической судьбе юношей,
взращенных матерями только для одной цели — отомстить за кровь
убитого много лет назад отца или брата.
Осуществляя «священный долг», нередко и сами они складывали
свои головы. Такова, например, судьба осетинского юноши Хасана из
народной поэмы «Л^фхаердты Хаесанае». Отца его, бедняка Соламана,
убивает богатый и спесивый князь Кудайнат из рода Мулдаровых,
чтобы только надглумиться над красивой его женой Госама. Кудайнат
является к одетой в траур вдове и цинично требует от дее~ебросить
траурное одеяние и разделить с ним ложе4. Госама вступает в единобор-
©
1 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. II, стр. 263.
2 С. Каргинов. Кровная месть у осетин. СМОМПК, вып. 44, стр. 179.
3 К>-«Ц. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. Збб.
4 По адатам осетин женщина в трауре была неприкосновенна. Перед ней
расступались все — и стар и млад. При ее появлении даже утихала кровавая битва врагов.
266
•ство с насильником, пытаясь его убить. Но месть не удалась, и тогда
Госама с маленьким сыном уходит в лес и там, одинокая, среди
диких зверей, бережно и любовно растит сына Хасана только для того,
чтобы тот убил Кудайната, убийцу отца и оскорбителя чести матери.
Стойко и мужественно перенося одиночество и все трудности жизни,
вдали от людей, в пещере, склонившись над люлькой и обливаясь
слезами, мать напевает заветную песню своему единственному сыну:
Спи, мальчик, спи, милый, доколе не знаешь
Беды и страданий, младенец ты мой!
Сиротскую долю изведал ты рано,
У матери бедной один на руках.
Пусть кровью зальются, в крови захлебнутся
Мулдарта, убийцы отца твоего!
Отмсти за обиду ты роду Мулдарта,
Отмсти Кудайнату — убит им отец твой,
В одежде траурной опозорена мать,—
Не то не узнаешь ты светлого солнца
И сядут не шею тебе на том свете
Родители, плетью тебя иссекут!1
Женщина, хотя непосредственного участия в кровной мести не
принимала, но она могла играть активную роль в межродовых
столкновениях на этой почве — в одних случаях водворяя мир, в других —
разжигая месть.
У большинства народов, которым был знаком обычай кровной
мести, «женщины оказываются самыми деятельными
подстрекательницами к мести. Жены отказывают в ложе мужьям, пока те не исполнят
своего долга, матери стыдят сыновей»2.
Осетинка долгу кровной мести приносила в жертву и свою
любовь. К. Борисевич рассказал о факте, когда в роде убитого не
осталось никого, кроме малолетней девочки, которой мать, умирая, завеща-
ч<В отчаянной игре страстей,— писал К. Хетагуров,— женщина в трауре была
настоящим талисманом,— стоило ей только в самый разгар кровопролития войти в толпу
ожесточенных врагов, как все расступались, вкладывали окровавленные шашки в
ножны». (К. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. 367).
1 А. Куба л о в. Хасана Афхардты. В кн.: А. Кубалов. Избранное. Орджоникидзе,
1960, стр. 11—13.
2 М. Косвен. Преступление и наказание в догосударственном обществе. М.-Л., 1925,
стр. 29.
267
ла отомстить за убийство родича. В девицу, когда она выросла,
влюбился юноша из семьи кровника. Но' и девушка сама любила его.
Однако, пишет Борисевич, честь рода и завет матери с одной стороны
и пламенная любовь к юноше, полному силы, огня и жизни — с другой,
заставляют девушку переносить адские нравственные мучения. Но,
несмотря на все страдания,—говорит он,—девушка в глубине души таит
жажду мести. С этими мнениями она выходит замуж за любимого,
«но в первую же ночь, она, заранее приготовив и спрятав кинжал, не
отдавшись любимому человеку, убивает его. Сама же с воплями и
рыданиями бросается к родным его, объясняет причину преступления
и отдает себя в их власть»1.
В сочинении Н. Г. Берзенова «Осетинская Сафо» в аналогичном
положении девушка-осетинка, будучи не в силах подавить свое
чувство, но, следуя долгу кровной мести и подчиняясь завету отца,
отказывается от счастья и кончает жизнь самоубийством2.
По обычаю, за убийство полагалась равная месть. Но, как
правило, пострадавшая сторона стремилась нанести своему противнику
больший урон. Так, за убийство старика обычно убивали полного сил
мужчину или молодого человека. Случалось и так, что более сильная
сторона или привилегированный род в своем преследовании за одно
убийство причинял противной стороне до трех и более убийств3.
Кровная месть преследовала не одного убийцу, она в равной мере
подстерегала любого из членов его рода: как единоутробных братьев,
так'и родственников по восходящей, нисходящей и боковой линиям.
Нередко своей жизнью расплачивался случайно попавшийся на дороге
преследователя далекий родственник убийцы, и это потому, что тот, по
понятиям осетин, являясь однофамильцем преступника («иу мыгга-
гаей»), считался его родичем.
В обратном порядке указанный круг родственников имел право
на месть или мог требовать замены ее выкупом у виновной стороны.
Род матери не оставался безучастным в делах кровной мести.
Дядя мстил за кровь племянника так же, как за кровь родного брата
или отца. В старинной осетинской песне об убитом герое поется: «...мае
мады 'рвадаелтаем мын чи бадзурдзаен» («...кто же сообщит дядям по
матери о моем убийстве»), разумеется, с призывом отомстить за него.
Можно сказать, что самыми ревностными исполнителями долга кров-
ной мести являлись дядя по матери и племянники.
О
1 Кл. Борисевич. Черты нравов православных осетин и ингушей Северного Кавказа,
стр. 260.
2 Н. Г. Б ер зе нов. Осетинская Сафо. Закавказский альманах «Зурна», Тифлис, 1855,
май.
3 М. А. Ми си ков. Материалы для антропологии осетин, стр. 61..
268
На женщину кровная месть не распространялась. Когда, избегая
мести, род убийцы вынужден бывал сняться с места и бежать под
покровительство другого общества, мужчины могли без опасения
оставлять на месте женщин и детей женского пола. Хотя общественное
мнение это осуждало, но дети мужского пола не были гарантированы от
мести и не могли находиться в безопасности. Нередко таких детей
похищали, превращая их затем в рабов или усыновляли.
•. Больных и умалишенных не убивали. Считалось позором в
порядке мести убивать и старика.' Кровная месть, как правильно отмечал
А. М. Ладыженский, не вызывалась стремлением и нанесением
обязательного вреда эквивалентного полученному, а вытекала из стремления
заставить другие родовые союзы уважать данный союз и бояться его.
«Поэтому,— заключает указанный автор,— в основу кровной мести
положен принцип устрашения, междуродового террора, внушения страха».1
Мстили не только за убийство члена рода, но и за ранения и
удары, нанесенные чужеродцамг за оскорбление действием или словом
как личности индивида, так и предметов и понятий, символизирующих
род, родовое единство или составляющих родовой культ. По поводу
последнего в адатах по кровным делам осетин, говорится, что «если
кто с очага снимет цепь и выбросит ее на улицу или же повесит на
шею какого-нибудь скверного животного: кошки, собаки, осла, то он
подлежит преследованию как кровник». И далее: «Всякое
неуважительное отношение к предметам семенного культа, как-то: разрытие
могил, оскорбление их какими-нибудь символическими действиями, в
роде посвящения им кошек, собак и ослов влечет за собой кровомще-
ние»2.
Согласно адатам, кровной местью преследовались «и
неосторожные владельцы лошади, собаки, ружья, кои так или иначе причинят
кому-либо смерть»3.
Для кровомщения не имело значения, является ли убийство
родственника актом насилия, проявлением злой воли, случайным
событием, приведшим к печальному концу, или же оно было совершено в
ходе самозащиты как результат ответного, вынужденного действия.
Одним словом, в расчет принимался только сам факт убийства, «а не
обстоятельства, причины, поводы, по которым оно могло быть
учинено»4.
О
1 А. М. Ладыженский. Адаты горцев Северного Кавказа. Вестник Московского
университета, 1947, № 12, стр. 181.
2 С. Карги но в. Кровная месть у^сетин. Приложение № 1: Адаты по кровым делам.
СМОМПК, 44, 1915, стр. 200—201.
3 Там же, стр. 201.
4 С. Каргинов. Кровная месть у осетин, стр. 179. . ^
269
Иначе говоря, «за неумышленное убийство убийца отвечал так
же, как за предумышленное»1.
Кровной местью с особенным упорством преследовали
оскорбителей чести матери, сестры и жены. За честь жены вступали как род
мужа, так и род, из которого она происходила.
Жестоко карала кровная месть также похитителей девушки. Доля
убийств вследствие похищений девушек была значительной, ввиду
распространенности этого обычая и участия в кровавых стычках больших
масс людей — похитителей и преследователей. «Происходит жестокая
схватка между родственниками девицы и похитителями,—.писал М. А.
Мисиков.— Для последних считается несмываемым позором, когда у
них отнимают девицу и они ни с чем вернутся домой, побитые и
израненные, долго еще на них будут указывать односельчане пальцами,
говоря: «Вот те, у которых такие-то отняли похищенную». Поэтому
молодежь очень упорно сопротивляется и, часто, пока живы, не
сдаются»2.
Естественная смерть убийцы или его арест административными
властями за совершенное преступление ни з коем случае не прекра- ч
щали мести3; вместо него кровники убивали кого-нибудь из
родственников.
Если до окончания срока наказания преступника родственникам
убитого не удавалось «вернуть кровь» («туг райсын»),то после
возвращения из каторги или тюрьмы убийца (несмотря на понесенное
наказание) все равно подвергался мести.
Древний осетин хотя и свято выполнял обычай кровной мести, но
в то же время он тяжело переносил его жестокость и нестерпимый
гнет. Возможно, поэтому он и «изобрел» правила (возведенные также
в степень святости), согласно которым убийца мог избежать навсегда
или временно кровной мести (ответного убийства). Убийца мог
избежать расправы в том случае, если бы он смог прибежать и внезапно
проникнуть в дом влиятельного лица и надеть на себя его шапку или
обвести вокруг шеи очажную цепь в его сакле, или же броситься ему
в ноги и покрыть себя полою его черкески4. В каждом из этих случаев
убийца в лице этого влиятельного односельца приобретал надежного
защитника и покровителя, который с этого момента, даже ценою соб-
©
1 К. Л. X е т а г у р о в. Собр. соч., т. IV, стр. 367.
2 М. А. Мисиков. Материалы для антропологии осетин, стр. 59.
8 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. II, стр. 260; С. К а р г и н о в. Кровная
месть у осетин, стр. 179; К л. Борисевич. Черты нравов православных осетин и
ингушей Северного Кавказа, стр. 265.
4 Н. Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. I,
стр. 361—362; Из записок об Осетии. Газ. «Кавказ», 1850, № 94.
270
ственной жизни, должен был его охранять- А если же случалось, что
«он выдавал его преследователям, то такого хозяина считали позором
всего^ аула, и родственники преступника преследовали его кровной
местью»1.
Об этом же свидетельствует Гацыр Шанаев, отмечавший, что такая
семья «подвергается бесчестию в своем обществе. Подобные случаи,—
говорит он, — немало до сего времени воспеваются в песнях осетин, не
в пользу тех фамилий и лиц, которые отказались от приема и защиты
виновников-гостей»2.
Поэтому, как ни опасен и обременителен был прием гостя-убийцы,
осетин вынужден бывал предоставлять такому лицу убежище и
обеспечивать его защиту.
Разумеется, кровомстители не рисковали посягнуть на
безопасность и права представителя влиятельной фамилии, укрывшего у себя
убийцу. В этом случае им пришлось бы столкнуться с двумя
фамилиями — с родом убийцы и его новым покровителем — другим более
могущественным родом. Отсюда, как правило, родственники убитого
вынуждены бывали идти на примирение с кровниками. .
Надежным убежищем для убийцы могла оказаться и... сакля его
кровников — дом убитого им человека, но при условии, если он,
проникнув туда, смог бы схватиться за очажную цепь и обвести ее
вокруг себя. В основе этого обычая лежала вера в силу святого Сафа3,
который, по мнению осетин, брал под свое покровительство убийцу,
вверившего ему свою судьбу. Здесь действовал также закон
гостеприимства, согласно которому гость, кто бы он ни был, мог найти
убежище и защиту даже в доме своего врага.
Убийца мог оказаться вне опасности и в том случае, если ему
удалось бы проникнуть в помещение святилища или вовнутрь его ограды4.
Здесь он также вступал под покровительство святого, которого никто
не посмел бы «потревожить». Но убийца мог находиться в
безопасности только до тех пор, пока он пребывал здесь. Зато он этим
выигрывал время, в течение которого его родственники могли добиться
примирения с кровниками; в противном же случае он мог бежать дальше
и скрыться от мести преследователей.
©
1 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. II, стр. 259.
2 Г. Шанаев. Из осетинских сказаний о нартах. ССКГ, вып. IX, отд. II, стр. 51.
Примечание.
3 Сафа — древнеосетинское божество, покровительствующее семье; он же покровитель
домашнего очага и надочажной цепи.
4 Н. С. Мансуров. Обычный суд у осетин, «Каспий», 1894, № 35; Из записок об
Осетии. Таз. «Кавказ», 1850, № 94.
271
В качестве спасительной меры убийца мог воспользоваться и
таким обычаем, который разрешал ему обратиться за защитой к самой
матери убитого. Происходило это в такой оригинальной форме:
убийца ее сына прибегал к ней и добивался, чтобы она дала ему пососать
свою грудь. Если ему удавалось этого добиться, то отныне рука мести
отводилась от него, и, более того, он считался уже усыновленным
матерью убитого (как говорят в таких случаях, он занимал теперь место
ее убитого сына, а сестры, последнего приобретали в его лице братаI.
Очевидно, на первоначальном этапе убийце это удавалось не без
сопротивления. Так, Штедер A783 г.) пишет, что «если убит
единственный сын матери, то молодой убийца бежит с кинжалом к матери
убитого и принуждает ее подать ему грудь. Во время этого
насильственного требования родственники требуют кровной мести. Решение
предоставляется матери, которая сопротивляется»2.
Но затем мы находим указание на то, что данный обычай,
приобретя ореол святости, широко входит в народный быт, как одно из
надежных спасительных средств при кровной мести — мать уже
добровольно отдает убийце пососать грудь как только он обращается к ней3.
Очевидно, при некоторых обстоятельствах и, возможно, в
отдельных местах этот обычай мать могла заменить другим действием,
равным по своей силе и значению первому, а именно: мать, перед которой
на колени падал убийца ее сына с просьбой простить ему вину,
накрывала его своим платком, произнося сквозь слезы: «Ты мне с этого дня
сын»4.
Одним из надежных средств, к которому прибегал род убийцы,
чтобы избежать кровомщения, являлось воспитание аталыка («хъан»)
из рода убитого. Для убийцы, однако, это являлось делом нелегким:
добровольно никакая осетинская семья (фамилия) не согласилась бы
отдать ребенка в руки кровника для воспитания его, ибо этим актом
убийца и его род спасали себя от мести, что противоречило интересам
потерпевшей стороны. Поэтому ребенка (обычно сына или брата
убитого) убийца просто похищал5. «Кровная месть прекращается,— писал
Штедер,— если убийца похищает сына убитого, становится его прием-
©
1 С. К а р г и н о в. Кровная месть у осетин, стр. 200.
2 Осетины во II половине XVIII века по наблюдениям путешественника Штедера,
Орджоникидзе, 1940, стр. 31.
3 Г. Шанаев. Из осетинских сказаний о нартах. ССКГ, выпЛХ, отд. II, стр. 51,
примечание.
4 См. К. Д. Кул о в. Матриархат в Осетии, Орджоникидзе, 1935; Юго-Осетинские
народные сказания, т. II, Цхинвали, 1929, стр. 125—130.
ь Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. I, стр. 364.
272
ным отцом и воспитывает его. С помощью такого средства
примиряются самые мстительные семьи»1.
Похищенного ребенка кровник воспитывал, как родного сына до
совершеннолетнего возраста и затем, снабдив его богатым одеянием,
хорошим полным вооружением, отличной верховой лошадью с убором,
в сопровождении большой свиты отправлял к отцу вместе с подарком
ему. Отец, принимая своего сына, не мог не принять и присланных с
вдм подарков как знаков совершенной покорности убийцы,
испрашивавшего у него прощения и изъявлявшего к нему дружбу и уважение.
Отец прощал убийцу как воспитателя и покровителя сына и посылал
ему взаимно равноценный подарок2. С этого времени бывший кровник,
теперь уже аталык сына, делался его близким другом; между
враждовавшими же до этого родами устанавливалось родство, «священнее
- природного»3.
Обычай этот, получив развитие, принял другую форму, имея целью
закрепить уже достигнутый мир между родом убитого и родом
убийцы. Согласно этому обычаю «кровник после примирения берет к себе
на 3 — 7 лет на воспитание сына, дочь, или сестру убитого им, которых
обязан одевать в шелк и давать наилучший стол»4-
Действия, связанные с осуществлением мести, сопровождались
определенными обрядами. Прежде всего, это выражалось в клятве,
даваемой родственниками над трупом убитого, что они непременно
отомстят за него, и в том, что они мазали себе лицо истекавшей из ран
убитого кровью. Последнее практиковалось в более отдаленное время.
Об этом, в частности, свидетельствует академик Н. Ф. Дубровин: «В
старые годы, привезши в дом труп убитого, родственники его мазали
себе лоб, глаза, щеки и подбородок кровью, истекавшей из его рамы,
заклиная в то же время друг друга отомстить за его смерть»5.
Один из ближайших родственников убитого по своему побуждению
или по жребию6 давал клятву над прахом его, что до тех пор, пока
достойно не отомстит за его кровь, он не будет знать «ни дня, ни ночи»
и отказывался от всех земных благ и удобств жизни, с тем, чтобы не-
©
1 Осетины во II половине XVIII века по наблюдениям путешественника Штедера,
стр. 31. .
2 Г. К о к и е в. К вопросу об аталычестве. Журн. «Революция и горец», 1929, № 3 E),
стр. 49—50; Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. I, стр. 146 и ел.
3 Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 252.
4 С. Каргинов. Кровная месть у осетин. СМОМПК, вып. 44, стр. 188.
5 Н. Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. 1,
стр. 359.
6 Иногда родные братья и ближайшие родственники из рода убитого бросали жребий,
чтобы определить, кто из них должен выполнять долг мести.
18 А. X. Магометов 273
отступно преследовать врага и отомстить ему убийством. И,
действительно, он покидал родной очаг, скитался по лесам и горам, не брился
(нося траур), пока не настигал свою жертву.
И у абхазов кровник «считал для себя невозможным появляться
в обществе, участвовать в каком бы то ни было торжестве, заботиться
0 благоустройстве своей жизни, заниматься полезной деятельностью,
вступать в брак и т. д.»1. Мститель-абхаз, поклявшийся, как и у
осетин, отомстить кровнику, «уходил из дома, покрыв голову и почти все
лицо черным башлыком в знак траура»2, который не снимал до
исполнения мести.
Когда месть осуществлялась, .сровомститель шел на могилу
убитого родственника и через проделанную в ней (символически) щель
«сообщал» лежащему в могиле покойнику — родственнику: «Радуйся .и
будь доволен — мы отомстили за твою кровь кровью»3. Об этом
сообщает и Ю. Клапрот: «После того, как осетин отомстил за убийство
своего родственника или гостя, он направляется к его могиле и
призывает громким голосом, говоря, что он умертвил его убийцу и
отомстил за его кровь»4.
Об исполнении мести сообщалось родственникам, жившим в других
аулах, которые также приходили в ликование, ибо со всех теперь
снималась тяжесть обиды за неисполненный долг перед родичем5.
Сельская община никогда не оставалась равнодушной к
кровавой распре своих общинников. Незамедлительно реагируя на
события, кто только мог, способствовал прекращению кровопролития. Еще
до совершения ответного убийства сельчане — наиболее авторитетные
из них, старейшины родов — призывали стороны к примирению. И
нередко разбушевавшаяся месть утихала благодаря именно усилиям этих
посредников — незаурядных горских дипломатов.
Виновная сторона, защищаясь сама от мести, также делала все,
чтобы покончить дело миром. Когда у обеих сторон количество убитых
оказывалось одинаковым, их легче было привести к миру.
Примирение кровников происходило по обычаю. Для этого требо-
©
1 А. И. Б а р а м и я. Борьба с преступлениями против жизни и здоровья,
совершаемыми на почве кровной мести (по материалам Грузинской ССР). Диссертация,
Сухуми—Москва, 1965, стр. 31.
2 Т а м ж е.
8 С. Каргинов. Кровная месть у осетин. СМОМПК, вып. 44, стр. 181.
4 Ю. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии..., стр. 230.
5 О том, как этот долг тяготел всегда над родственниками убитого, рассказывал
С. Каргинов: «Пока не отомстят кровью за кровь, родственники убитого чувствуют
себя приниженными в обществе, в глазах которого неисполнение этого общего
обычая слывет за крайний позор». (СМОМПК, вып. 44, стр. 181).
274
велось согласие всех мужчин пострадавшего рода и матери убитого.
Если пострадавший род соглашался на мир, отказываясь от мести, то
это происходило не иначе как на основе выкупа («туг фидын»). Но
такой способ разрешения мести стал входить в практику только в
позднейшее время. По крайней мере еще в конце XVIII и начале XIX вв.
материальное возмещение крови — ее выкуп являлось редким явлением.
Последнее в свое время отмечал и Ю. Клапрот, который говорил, что
«кровная месть, распространенная вообще по всему Кавказу,
соблюдается также у осетин с чрезвычайной строгостью, так что редко
случается, чтобы от нее можно было откупиться»1.
К 70-м гг. XIX века, хотя уже практиковалось материальное
вознаграждение крови (путем ее выкупа), но, по свидетельству Инала
Канукова A876 г.), в осетинском обществе господствовал еще взгляд,
который осуждал входящий уже в систему обычай примирения
кровников на основе уплаты убийцей стоимости крови убитого. «Очень
редко кто соглашается принять такое вознаграждение,— пишет он,—
считая это для себя позорным и недостойным имени порядочного
человека..., на принявших народ смотрит как на людей малодушных,
трусливых, которым не достает настолько мужества, чтобы достойно
отплатить убийце, смыв его же кровью наложенное на них кровавое пятно»2.
Однако И. Кануков здесь же отмечает, что такой взгляд на практике
все чаще отступал перед более трезвым подходом к делу: «Но, тем
не менее,— говорит он,— в наше время убийца большею частью
отделывается кровною платой и угощением, а это показывает, что чувство
мести не имеет уже того свирепого характера, которое оно имело»3.
Примирение кровников в той форме, в которой оно нам известно,
в практику вошло постепенно. Ей, судя по источникам,
предшествовало нечто вроде «временного перемирия».
Так, Ю. Клапрот пишет, что виновная сторона заключала с родом
убитого «соглашение на год,ув силу которого убийца уплачивает
определенное количество овец -таи быков оскорбленной стороне, которая в
свою очередь дает клятву оставить его в покое в течение действия
этого соглашения»4. По истечении срока действия «договора» соглашение,
по свидетельству того же автора, могло быть возобновлено с согласия
обеих сторон5.
Между прочим, элементы такого «временного перемирия» содер-
©
1 Ю. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии..., стр. 230; см. об этом же:
М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 25.
2 И н а л Кануков. Кровный стол. Сочинения. Орджоникидзе, 1963, стр. 97—100.
8 Т а м ж е.
4 Ю. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии..., стр. 230.
Чамже.
275
жались еще в древнем обычае осетин, согласно которому дни
праздника «Тутыртае» (по христ. календарю — первые две недели великого
•поста), являлись запретными для мести. «В продолжение этих
четырнадцати дней,— рассказывается в источнике середины XIX века, —
вражда усыпает, виновный в чьей-либо смерти ходит без оружия, не
опасаясь мщения»1.
Обычай этот, как явствует из приведенного источника и других
этнографических материалов, бытовал еще в XIX веке.
Однако,-каково бы ни было их происхождение, практика
«временных соглашений» привела к системе материального возмещения
причиненного зла, изменив вместе с тем прежний взгляд на форму мести.
Возмещение крови выкупом стало распространяться прежде всего под
влиянием новых условий, явившихся результатом присоединения
Осетии к России, а также вследствие все более активно развивавшегося
процесса разрушения патриархально-родовых отношений и усиления
имущественной и социальной дифференциации общества. С тех пор
девиз «око за око, зуб за зуб», т. е. «кровь за кровь» стал заменяться
новым понятием:, «туг тугаей не 'хсадаеуы» («кровь кровью не
смывают»). Состав родственников (все мужчины рода), на которых
распространялась кровная месть, ограничивался также близкими
родственниками (отцом, братьями). Но в кровной плате по-прежнему
участвовал первоначальный круг родичей; последние оказывали помощь семье
убийцы в. уплате компенсации, определенной судьями («таерхоны лаег-
тае») в качестве выкупа за кровь убитого.
Примирение кровников являлось сложным и длительным
процессом, в который втягивалось огромное количество людей,
преимущественно однообщинников. Последние с самого момента происшествия
(убийства), как мы уже отмечали, принимали все меры к тому, чтобы
склонить потерпевшую сторону к миру. Вообще добиться этого было
всегда трудно, ибо считалось «непорядочным» скоро и легко
соглашаться на примирение2. После многократных «разведок» со стороны
родственников убийцы и попыток «уломать» влиятельных представителей
потерпевшего рода сельчане при инициативе первых собирали из
разных сел большую группу мужчин (доходящую иногда до 200—250
человек) из наиболее авторитетных и почтенного возраста лиц и
направляли их к семье убитого с предложением помириться.
В селении, где проживала семья убитого, их встречали заранее
извещенные об этом местные жители. После формальных церемоний
О
1 Из записок по Осетии, газ. «Кавказ», 1850, № 94.
2 М. Ковалевский. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом,
вып. II, СПб., 1905, стр. 284.
.276
встречи и приветствия последние выражали гостям свое сочувствие и
готовность содействовать им в переговорах с кровниками.
И, действительно, вместе с прибывшими они шли к родственникам
убитого. Придя во двор потерпевшей семьи, они становились на
колени1 и, сняв шапки, обращались к старшим и родным убитого с
мольбой простить убийце его '«тяжелую ошибку» и дать согласи: на
примирение. Родня убитого, видя эту тягостную картину, не выдерживала
и, как бы она ни была ожесточена, начинала просить всех подняться
на ноги и надеть шапки. Но до тех пор, пока не получали
положительного ответа, они не вставали. Вынужденные подчиниться
выработанному в народе обычаю и воле людей, хозяева давали согласие
помириться и простить убийцу. Но нередко случалось, что многочисленную
толпу просителей возвращали ни с чем. Если это повторялось два-три
раза, то сельчане, которые обычно выступали на стороне просителей
за примирение, объявляли бойкот («хъоды») семье убитого. Поэтому
одной из причин, приводивших потерпевших к миру и прощению
убийцы, являлась боязнь оказаться в изоляции и положении отверженных.
В особо тяжелых случаях, когда не было надежды на
примирение, виновная сторона шла на могилу убитого и здесь просила мира.
Показывая глубокую скорбь, а нередко и истязая себя, кровники
вынуждали потерпевший род явиться к ним и выслушать их. Такой
способ примирения был поистине драматическим. Как характерный
пример приводим в подробном изложении нижеследующий факт,,
описанный современником события, происходившего в селении Эльхотово в
1900 году (спустя восемь лет со дня убийства, и после того, как
кровник был осужден царским судом и отсидел в тюрьме несколько лет).
«Более ста человек самых почетных стариков, собранных из семи или
восьми затеречных осетинских селений, начиная от Батакоюрта (куда
бежал и поселился убийца) и кончая самим Эльхотово,
предварительно обсудив условия перемирия и потом захватив-с собою Кадиева
(совершившего убийство) с сыном и родственниками-однофамильцами,
тронулись в путь, и 19 января, накануне праздника малого Байрама,
прибыли в Эльхотово. Эльхотовское сельское общество, которому уже
заранее было известно о дне и цели прибывания депутации, встретило
последнюю сочувственно и предложило ей свое гостеприимство; но
депутация, будучи верна традициям старины, впредь до выполнения ею
своей миссии, отклонила предложенное ей обществом гостеприимство
и заночевала на кладбище, где был похоронен убитый Кадиевым Доев.
Рано утром, когда общество от мала до велика только что расположи-
©
1 Во многих случаях (особенно тяжелых) в порядке принятого правила на колени
становились, не доходя еще нескольких сот шагов до дома семьи убитого, и шли
все это расстояние на коленях. .
277
лось на молитву (намаз), прибывшая депутация, выстроившись в один
ряд, предстала пред лицом всего общества и в краткой, но
содержательной речи изложила о цели своего прибытия, прося его, общество,
быть посредником между ею и Доевыми и убедило последних уступить
общему желанию, простив Кадиева с родственниками, которые всю
ночь провели у могилы покойного Доева — Кадиев с сыном ничком на
могиле, а прочие — стоя возле могилы, причем, все были с
расстегнутыми поясами, в знак своей виновности и беззащитности. Получив
согласие Доевых, общество, во главе с прибывшей депутацией,
направилось к могиле Доева, где отец и сын Кадиевы еще продолжали
лежать на могиле, плача и рыдая; другие же Кадиевы, родственники
убийцы, стояли возле могилы с опущенными долу глазами»1. Затем был
совершен обряд примирения.
У ингушей также акт примирения в большинстве случаев
совершался на кладбище у могилы убитого2. Если же вообще не было
никакой возможности добиться согласия родственников убитого на
примирение, и кровники во что бы то ни стало желали избегнуть мести,
они прибегали к обычаю «хи фаелдисын» (самопосвящения в слуги
умершему и его семье). Это был самый тяжелый и позорный для
преследуемого рода вид примирения. На такое примирение охотно шла
потерпевшая сторона, ибо она получала полнейшее удовлетворение
своей мести. Убийца и его род; исполнив обряд самопосвящения,
признавали над собой власть рода (семьи) убитого. Это по сути дела было
актом публичного самоунижения и отречения от людей, самоизоляции,
добровольного отказа от прав личности.
Принявших кличку «фаелдыст» («посвященных» покойнику)
общинники уже не считали за людей. Они могли подвергнуться оскорблению
когда угодно и кем угодно: обычное право их уже не брало под свою
защиту.
Вот как описывается в этнографической литературе обряд «хифаел-
дисын» и положение кровников — «сЬазлдыст». «Обвиняемый в
убийстве должен был с лошадью явиться к склепу убитого. Странно и
жалко было смотреть на него: дрожа всем телом, бледный, с сверкающими
глазами и опущенною головою, чуть живой, он стоял перед склепом
своей жертвы для того, чтобы тут принять имя «фаелдыст» — тавро,
которое никогда ни с него, ни с его рода не изгладится для того,
чтобы всю фамилию и отдаленное свое потомство сделать предметом
вечных унизительных насмешек окружающей среды, которая... считает
себя вправе явно упрекать его, несчастного, и его фамилию «фаелдыс-
том». Унизительнее и постыднее этого прозвища в Осетии нет и не бы-
©
1 К-ев. Примирение кровников. Газ. «Терские ведомости», 1900, № 16.
2 К л. Борисевич. Черты нравов православных осетин и ингушей, стр. 261.
278
ло: С этим проименованием убийца терял свое я, свое человеческое
достоинство и права, словом—в глазах людей он не считался более
человеком и уже не принадлежал себе, а убитому им человеку,
который в «действительном мире»1, нескончаемо будет помыкать им как
своим холопом! Только таким самоунижением, самопожертвованием и
наложением на себя, на всю свою фамилию и поколение неизгладимого
пятна, он мог прекратить неумолимое мщение.
Держа правою рукою нож-, а левою ухо убийцы, а если его не
было в живых, то его родного брата, 'старший в роде убитого во
всеуслышание произносил: «О-о-о! Послушайте, здешние люди! Рукою
этого человека была пролита кровь нашего родственника, который
ныне лежит вот в этом склепе, и в отмщение за это мы берем его тело и
душу на служение в «действительном мире» нашему убитому
родственнику, а также и принадлежащее ему движимое и недвижимое
имущество на поминки. Итак, отныне и до века, ты, убийца, принадлежи
ему и да владеет он тобою так точно, как ты до сих пор владел
приведенною тобою лошадью, отныне твоя голова, твои руки, твои ноги,
твой ум, твое сердце, твоя душа — словом, «ды йын фаелдыст фаеу» (ты
всецело принадлежи ему); сверх сего, дом, сенокосные поля, нивы,
бараны, козлы, быки, коровы, лошади, как ты считал и считаешь своей
собственностью, отныне да принадлежат убитому- Когда же ты
перейдешь в «действительный мир», то с тобою вместе да принадлежат ему
и поминки, которые по тебе будут справляемы твоими
родственниками». Окончив заклинание, кровомститель острием ножа касался уха
безмолвного убийцы, из которого тотчас капала кровь. Захватив
налету несколько капель крови, он ими мазал склеп, со словами: «Что
делать, родственник наш! да не оскорбится твое сердце: лучшего дела
во славу твою мы совершить не могли. Да будет оно угодно тебе! Тот,
чья кровь эта, отныне принадлежит тебе и ты владей им, по своему
усмотрению. Отныне по твоей и нашей воле месть за твою смерть
прекращается и водворяется мир между тобою и умершими наших врагов
и между нами и последними...»
Выпускание крови из уха убийцы налагало на него и его род
новое пятно — «хъуссергаевст» («с отрезанным ухом»). Стоявшие тут
зрители почти вслух говорили: «Лучше умереть, чем налагать на себя и
свой род печать вечного стыда и унижения»2.
Нужно заметить, что, наряду с добровольным самопосвящением
убийцы, существовал и принудительный обряд, к которому приводил
потерпевший род преступника, совершившего убийство. Основным в
О
1 «Действительным миром» — «гецаег дуне» осетины называли загробный мир,
царство мертвых.
2 Б. Г а т и е в. Суеверия и предрассудки у осетин. ССКГ, вып. IX, стр. 79 — 80.
279
этом обряде являлось отрезание правого уха у убийцы в качестве
трофея.
По описанию С. Каргинова, с застигнутым на месте убийцей
поступали двояко: или тут же убивали его, или отрезали у него правое
ухо, которое, как победный трофей, кровомстители несли на могилу
убитого и зарывали в нее. Нередко пойманного убийцу вели па
кладбище и, поставив его на колени у могилы убитого, отрезали у него
правое ухо1. Как и в первом случае (при добровольном самопосвягл/>
нии), убийца подвергался вечному позору и потере всякого веса в
обществе: род же убитого был волен поступать с ним как угодно.
В делах кровной мести такой обычай сохранялся вплоть до конца
XIX и начала XX вв. Своими корнями он уходит к скифосарматскому.
и аланскому временам, когда у убитого врага кровомститель отрезал
правую руку и доставлял ее в качестве трофея матери отомщенного
сына. В устойчивом бытовании данного обычая у предков осетин,
кроме письменных источников, свидетельствуют осетинские нартские
сказания2.
Аналогичные обычаи при кровной мести имели место и у хевсур.
С. И. Макалатия пишет, что примирившийся убийца считался рабом
семьи убитого3.
Лишь после того, как виновная сторона получала согласие
родителей убитого на примирение, почетные старейшины — «минаеваерттае»
«назначали день, в который весь мужской персонал враждующих
должен был явиться на переговоры. Обе фамилии являлись вооруженными
и занимали назначенные им пункты на расстоянии 1/2—]Д версты одна
от другой. Начинались переговоры, во время которых должен был
выясниться состав присяжных (судей—«таэрхоны лаегтае».— А. М.).
Лицо, не пользовавшееся полным доверием обеих сторон, не могло
участвовать в составе присяжных»4.
Количество судей с каждой стороны обычно бывало от двух до
трех. Общее количество их иногда доходило до девяти'. При этом,
потерпевшая сторона по обычаю выставляла одним судьей больше. «В
случае несогласия в совете, лишний со стороны убитого, медиатор,
избираемый всегда старшиной или председателем, оканчивает спор, имея
право увеличить взыскание»5.
Первым делом посредники-судьи предпринимали меры, призванные
О
1 С. Карги но в. Кровная месть у осетин. СМОМПК, вып. 44, стр. 186—187.
2 В. А б а е в. Нартовский эпос, стр. 66—67. ,
3 С. И. Макалатия. Хевсурети. Историко-этнографический очерк дореволюционного
быта. Тбилиси, 1940, стр. 74.
4 К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. 368—369.
5 А. Яновский. Обозрение российских владений за Кавказом, стр. 193.
280
предотвратить возможную вспышку страстей мести. Для этого они
вырабатывали временные правила, которые обязаны были соблюдать
стороны и руководствоваться ими в своих отношениях друг с другом
впредь до установления окончательного мира. Так, судьи определяли
улицы и дороги, по которым должна была проходить или проезжать
каждая из сторон, во избежание случайных встреч кровников и
возможных при этом кровавых стычек. Пострадавшая сторона имела
большее число дорог и более свободнее возможности общения и
передвижения, родственники же убийцы не имели права сворачивать с
определенного для них пути или тропинки. Если же и при этом не было
гарантий соблюдения «перемирия» какой-либо из сторон, или сразу
обеими сторонами, то к ним приставляли влиятельные роды («мыгтаегтзе»),
которые и наблюдали за ними и уже в определенной степени отвечали
за их действия.
До дня примирения представители обеих фамилий даже при
случайных встречах (на похоронах, на торжестве по случаю какого-нибудь
праздника) не разговаривали друг с другом. При этом, люди из
виновной стороны сами избегали встречи со своими кровниками, стараясь
не вызывать их недовольства и остерегаясь упреков и порицания со
стороны общества, что «вот виновники, а еще ведут себя вызывающе».
У ингушей также существовал обычай, согласно которому род
убийцы мог, не опасаясь мести, передвигаться только по одной дороге,
определенной родственниками убитого. «Но стоило враждующим
сторонам встретиться на других дорогах, как это ограничение отпадало,
и могло возникнуть новое кровавое столкновение»1.
У чеченцев и ингушей, как и у осетин, по установившимся нормам
морали убийца и его родичи обязаны были соблюдать определенные
этикой правила поведения по отношению к потерпевшему роду. Они
должны были проявлять к последнему знаки внимания,
предупредительность, раскаяние и т. п.2
Как сообщает Н. Ф. Яковлев, у ингушей даже после примирения
убийца и его потомки не могли- чувствовать себя равноправными в
присутствии своих бывших мстителей: у них сохранилось какое-то
приниженное, полузависимое положение3.
Избранные судьи после тщательного изучения обстоятельств
убийства и степени виновности убийцы, т. е. рассмотрев объективные и
субъективные стороны преступления, выносили решение, которым при-
©
1 А. А. П .л и е в. Кровная месть у чеченцев и ингушей и процесс се изживания в
годы Советской власти. Автореферат диссертации. М., 1969, стр. Юл
2 Там ж е.
3 Н. Ф.-Яковлев. Ингуши, М.-Л., 1925, стр. 68. (
281
говаривали семью убийцы к уплате потерпевшей стороне выкупа за
кровь убитого. Но при определении размеров материального
возмещения крови судьи исходили из сложившейся уже в классовом обществе
системы композиций, по которой «цена крови» («туджы аргъ») для
различных общественных групп была различной. «Плата за убийство,
или за кровь,— писал В. Яновский,— бывает различна, смотря по
тому, как силен род убитого»1. Причем «кровь человека из известной
фамилии,— дополняет другой источник,— ценится дороже крови темного
бедняка»2.
Конкретное указание о размерах выкупа с учетом сословной
принадлежности потерпевшего мы находим в сборнике осетинских ада-
тов. В нем говорится: «За кровь уазданлага (алдара-феодала.— А. М.)
платится 18 раз 18 C24) коров, медный чан, топор, веревка, черный
баран и черное руно3 от одного барана. Сверх того, убийца должен
отдать одному из родственников убитого дочь свою замуж, без
получения за нее калыма...4 «За кровь фарсаглага платится 60 коров, за кровь
чужого кавдасарда также 60 коров, за кровь чужого раба — 30
коров»5.
Как видим, разница в размере компенсации за кровь
представителей знатного рода (феодала) и остальных сословий была
колоссальной. Эта же разница сохранилась при изменении в последующем
размеров и форм выкупных платежей за кровь.
Корова, являвшаяся с древних времен мерой стоимости у осетин,
могла заменяться деньгами, медной посудой, оружием, пахотными
участками и другим имуществом. За кровь члена знатного рода всегда
бралась настолько высокая плата, что ее, как правило, невозможно
было внести, и род обидчиков принужден бывал навсегда стать
данником рода обиженного.
С усилением сословной дифференциации и ограничением круга
родственников, обязанных кровной местью, пределами семейной общины,
потерпевший род (разумеется, феодальный или «тыхджын мыггаг» —
сильный род) в случае бегства убийцы мог захватить его семейство со
©
1 А. Яновский. Осетия. Обозрение российских владений за Кавказом, ч. II, стр. 194.
2 Из записок об Осетии. Газ. «Кавказ», 1850, № 94.
3 Топор, веревка, черный баран и черное руно, не составляя особой ценности,
включались в состав выкупного платежа лишь в символическом значении. Так, топор и
веревка как орудия труда и принадлежности работника (раба) означали готовность
их прежнего хозяина (убийцы) служить родственникам убитого в качестве раба,
а черный цвет указывал на траур, который он готов, якобы, носить по своей жертве.
См. об этом же М. Ковалевский. Современный обычай, т. II, стр. 182.
4 Ф. И. Лео нто вич. Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 28.
5 Т а м ж е.
282
всем имуществом1. Род-кровомститель мог поступать с такой семьей
как угодно. Если последняя не могла откупиться и удовлетворить
требования рода убитого, обычно превосходившие ее возможности, то она
отрабатывала назначенную ей сумму кровной платы в течение всей
своей жизни2.
Неслучайно феодальный род или «тыхджын мыггаг» охотно
заменяли кровную месть ее выкупом. «Непосильный выкуп за кровь
знатного становился рентой, переходившей из поколения в поколение»3.
С особенной яркостью выступал классовый характер обычая
выкупа крови, когда феодалы ответственность за преступление (убийство)
распространяли и на сельскую общину, в состав которой входил
убийца: «За кровь убитого уазданлага делалось ответственным и общество,
тде жил убийца,— говорится в источнике о высшем сословии курта-
тинского общества.— Все жители этого селения должны были от себя,
помимо кровной платы, уплачиваемой кровником, отдать быка
пострадавшему привилегированному роду. Этим приношением общество как
бы винилось перед сильным родом»4. Так, обычай кровной мести из
традиции превращался в орудие дальнейшего обогащения феодальных
родов, в средство возвышения их над всем обществом.
Стоимость крови (выкуп) могла быть выплачена в один раз или
частями, в течение ряда лет, смотря по размерам первой и
имущественному состоянию приговоренного рода. Размер выкупной суммы,
определенный медиаторами, и сроки ее платежа держались в
совершенной тайне от обеих сторон5.
С окончанием кровной платы род (семья) убийцы, по обычаю,
обязан был устроить угощение для всех "мужчин потерпевшего рода (с
участием судей и сельчан, занятых примирением кровников) — «туджы
фынг» («кровный стол»). «Кровный стол» проходил в
траурно-торжественной обстановке, с соблюдением строго регламентированного
церемониала. Обряд «туджы фынг» как бы являлся поминками по
убитому, а расходы на них входили в стоимость кровной платы. Нередко
обряд примирения кровников завершался усыновлением убийцы
матерью убитого, если только убийце было не более 30 лет6.
О
1 Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 4.
2 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. II, стр. 72.
3-А. М. Ладыженский. Формы перехода от первобытнообщинного строя к
классовому обществу (по материалам Северного Кавказа). Научные доклады высшей
школы. Исторические науки, М., 1961, № 2, стр. 110.
4 А. А р д а с е н о в, А. Е с и е в. Высшее сословие у осетин Куртатинского общества,
М., 1892, стр. 12.
5 А. Яновский. Осетины. Обозрение российских владений за Кавказом, ч. II,
стр. 193.
* М. А. Мисиков. Материалы для антропологии осетин, стр. 63,
283
Если осужденный приговором род (семья) не мог полностью
выплатить деньгами и другим имуществом определенную судом стоимость
крови, то обидчик, мог выдать свою дочь или сестру за представителя
потерпевшего рода з качестве «номылус» (побочной женыI, потомство
от которой попадало в «кавдасарды». По этой же -причине, без
калыма, в уплату долга кровной мести девушку также выдавали в
законные жены за брата, сына или другого ближайшего родственника
убитого. Такую девушку называли «цыты чызг» («девушка почета»J.
Когда не было и такого выхода, долг переходил от отца к сыну. «Если
обидчик беден,— говорится в адатах осетин,— то случается, что плата
эта продолжается несколько десятков лет и переходит от отца к сыну
и от брата к брату»3. Но если бедняк ничего вовсе не имел, то все
равно обычай не щадил его. По решению суда он становился «под
выстрел» фамилии убитого («топпы дзыхмае аерлаеууыди»). Расправу
над ним совершали по правилам вышеописанного судебного поединка.
«За убийство есть еще другое удовлетворение, особенно, если он
беден,— писал по этому поводу Гагстгаузен.— Это род суда божия или
поединка — обиженная фамилия требует, чтобы убийца стал под
выстрел ее. Третейский суд занимается формальностями, кидает жребий
для всех членов семейства, не исключая и мальчиков, чтобы выбор,,
наверное, не пал на лучшего стрелка, назначает время, место и
расстояние, размеряя его шагами. Дело решается одним ударом, убит
ли виновный, ранен ли он тяжело или легко, или остается
невредимым— этим всей кончается»4- Безродный бедняк, таким образом,
освобождался от кровной мести и платы за крозь, если он из поединка
выходил невредимым.
Наряду с описанными выше церемониями, закреплявшими акт
примирения между кровниками, существовал обычай оставлять «на века»
«свидетельство» о заключенном мире, В знак примирения кровников,—
пишет М. А. Мисиков,— в старину старики приносили круглый камень,
говоря: «круглый камень — знак вечности и прочности и пусть, подобно
этому камню, наш мир будет вечен и прочен»5. Об этом обычае
сообщает и К. Борисевич6. Данный обычай, завершавший акт примирения
О
1 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. II, стр. 262.
2 Полевой материал автора, 1965 г., см. также: В. И. А б а е в. Историко-этимологиче-
ский словарь..., стр. 327.
3 Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 23.
4 Гагстгаузен. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни,
ч. II, СПб., 1857, стр. ПО.
5 М. А. Мисиков. Материалы для антропологии осетин, стр. 64.
6 К л. Борисевич. Черты нравов православных осетин и ингушей Северного
Кавказа. '.••••
284
кровников, существовал у ингушей1, горных грузин2 и др. Такой камень
обычно клали у подножия наиболее популярного в данной местности
-святилища. Это правило основано на том же представлении, что и
принесение присяги по обычному праву у святилища.
Обычай кровной мести бытовал среди осетин вплоть до
установления Советской власти. Он всячески поддерживался
привилегированным классом осетинского общества. Данный факт очень верно подметил
еще накануне революции М. А. Мисиков, который писал, что
привилегированные фамилии Осетии «стараются свой престиж поддержать тем,
что свято исполняют неславный обычай»3.
В годы же гражданской войны кровная месть вспыхнула с
прежней силой. Жестокий и вредный обычай прошлого противники
Советской власти использовали для борьбы против работников местных
советских органов, партийного и комсомольского актива, проводивших в
жизнь революционный правопорядок и закладывавших осноеы повой
жизни на местах. Целые фамилии в селениях Кадгарон, Заманкул,
Карджин, Даргавс и др. буквально истребляли друг друга4.
Так, журнал «Революция и горец» в одной из своих статей за
1930 год сообщал, что «в первый период после революции кровная
месть насчитывалась ежегодно десятками по каждой из нацобластей
Северного Кавказа... Наиболее прочно, хотя и в уменьшенном размере,
кровная месть до последнего момента держится в Чеченской
автономной области и Осетии, причем за 1929 год 30% дел о кровной мести
падает на осетинскую автономную область»5.
Однако на борьбу с этим вековым злом поднялись коммунисты,
комсомольцы, сознательная часть стариков и активисты из бедноты.
На сходах сельчан наряду с первостепенными задачами ставилось
требование искоренить обычай кровной мести. А комсомольцы селения
Кадгарон в своей приветственной телеграмме В. И. Ленину в июне
1920 года писали: «Коммунистическая молодежь селения Кадгарон
вместе со всем обществом, собравшись для совместной беседы по
поводу искоренения многих тяжелых обычаев горских народов, как кров-
©
1 К л. Б о р и с е в и ч. Черты нравов православных осетин и ингушей Северного Кавказа.
2 Л. С. X а х а н о в. О мохевцах. Сборник материалов по этнографии, издаваемый при
Дашковском этнографическом музее.
3 М. А. Мисиков. Материалы для антропологии осетин, стр. 61.
4 С. Д. К улов. Из истории классовой борьбы в Северной Осетии. Орджоникидзе,
1964, стр. 40—41.
5 И. И. Дзедзиев. Бытовые преступления и правовое положение горянки. Журы.
«Революция и горец», 1930, № 2 A6), стр. 49.
285
ная месть, постановила всемерно содействовать искоренению этих
обычаев»1, недостойных нового времени.
Местные. советские и партийные органы, сознавая вред, который
мог нанести обычай кровной мести строительству новой жизни,
приняли неотложные меры по его искоренению. Так, в мае-июне 1921 года
были созданы окружная и сельские комиссии по разбору и примирению
кровников2. В их состав помимо коммунистов вошли почетные
старики, жизненный опыт и авторитет которых сыграл большую
положительную роль в работе примирительных комиссий.
Не было, очевидно, в Осетии села, в котором бы не имелось
кровников. И вот за короткое время десятки семей и фамилий помирились
и уже без страха за свою жизнь включились в созидание новой жизни.
Правда, были еще рецидивы старой болезни, но теперь они стали
единичными фактами, редкими явлениями. Так был искоренен обычай;
кровной мести.
©
1 Борьба за Советскую власть в Северной Осетии A917—1920). Документы и
материалы, Орджоникидзе, стр. 227.
2 ЦГА СО АССР, ф. Р-41, д. 61, л. 12.
ГОСТЕПРИИМСТВО
осетинского народа так же, как и у других
народов Кавказа, был сильно развит обычай
гостеприимства.
Обычай гостеприимства играл важную роль
во всем общественно-бытовом укладе осетин.
«Будучи одним из обычаев, порожденных
родовым строем, этот институт широко
распространен в той или другой стадиальной форме у всех
почти народов земного шара»1. Ф. Энгельс,
ссылаясь на Тацита и Моргана, указывал, что
гостеприимство было яркой чертой и обязательной
нормой родового быта германцев и индейцев Америки. Вот как
описывал Тацит этот обычай у германцев: «Ни один народ не является
таким щедрым в гостеприимстве, как германцы. Считается грехом
отказать кому-либо из смертных в приюте. Каждый угощает лучшими
кушаньями сообразно своему достатку- Когда угощения не хватает, то
тот, кто сейчас был хозяином, делается указателем пристанища и
спутником и они идут в ближайший дом без всякого приглашения и это
ничего не значит: обоих принимают с одинаковой сердечностью. По
отношению к праву гостеприимства никто не делает различия между
знакомым и незнакомым. Если, уходя, гость чего-нибудь потребует, то
О
1 Е. Г. К а г а р о в. Гостеприимство древних германцев по Энгельсу и в
современной буржуазной науке. Проблемы истории докапиталистических обществ, 1935,
№ 7—8, стр. 219.
287
обычай велит предоставить ему эту вещь... Отношения между
хозяином и гостем определяются взаимной предупредительностью»1.
«Описание у Тацита («Германия», гл. 21) практики
гостеприимства,— писал Энгельс,— совпадает почти до мелочей с рассказом
Моргана о гостеприимстве его индейцев»2. Вот несколько характеристик
Морганом этого обычая у индейцев: «Индейцы щедры и гостеприимны
по отношению ко всем, без всяких исключений: они всегда делятся друг
с другом и часто с чужим человеком последним куском»3.
Гостеприимство было среди ирокезов прочно укоренившимся порядком. Если кто-
нибудь входил в дом индейца в любой индейской деревне, будь то
односельчанин, соплеменник или чужой, женщины дома обязаны были
предложить ему пищу. Пренебрежение этим было бы невежеством,
более того — обидой4.
Если проанализировать, то этот институт мы обнаружим в таких
же формах и с такой же обязательностью у других народов мира.*
Очень ярко выступал обычай гостеприимства и у осетин. Обычай
гостеприимства сохранился у осетин со времен родового строя почти в
нетронутом состоянии и в XIX веке являлся одной из характернейших
черт общественного быта осетин. В своей первобытной форме обычай
мог сохраниться прежде всего вследствие необходимого общения
одного рода с другим, общения людей из разных ущелий и аулов между
собой, естественной подвижности населения (мужской его части) и
неизбежного при этом взаимного гостеприимства.
Довольно меткое и в основном правильное определение института
гостеприимства давал Гацыр Шанаев, один из представителей
передовой осетинской интеллигенции 80—90 гг. XIX века. Гостеприимство,
писал он, «существует не только у осетин, но и вообще у всех
кавказских горцев, и в основании его лежит общечеловеческая
нравственность, которая и придает ему во мнении горцев значение священное.
Но обычай этот, собственно говоря, имеет характер правовой и среди
горцев является институтом международного права, дающим
возможность сноситься одному народу с другим»5. .
В этом же плане звучит заключение исследователя обычного
права осетин В. Б. Пфафа, который говорил: «Принимая гостя с почетом,
один суверенный род оказывает другому такому же роду подобающую
ему дипломатическую честь»6.
©
: Тацит. Германия, гл. XXI.
2 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частно?! собственности и государства, стр.
155—156.
3 Л. Морган. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. Л., 1934, стр. 33.
4 Т а м же, стр. 31.
5 Газ. «Новое обозрение», 1890, 21 февраля, № 2124.
6 В. П ф а ф. Народное право осетин. ССК, т. I, стр. 198.
288
: И, действительно, в суровых условиях замкнутого племенного
быта, когда никакая общепризнанная власть не охраняла путника, «на
защиту его выступала священная обязанность гостеприимства. Только
этот вековой обычай и делал возможным путешествие там, где иначе
человек не мог бы найти ни приюта, ни пищи»1.
Одним словом, значение обычая гостеприимства в жизни людей
было особенно велико в ту эпоху, когда племена и народности были
еще разобщены территориально, экономически и духовно. Традиция
эта, таким образом, сыграла исключительную роль в отношениях
между людьми и заняла почетное место в общечеловеческой культуре.
И, наконец, не будет преувеличением, если скажем, что в нее
заложена высокая нравственная сила народа.
Закон гостеприимства выполнялся настолько неукоснительно, что
им- мог воспользоваться любой путник, кто бы он ни был — друг или
совершенно незнакомый человек. С одинаковым радушием принимал
осетин как единоплеменника, так и чужестранца. Законы
гостеприимства, одинаковые у всех кавказских горцев, распространялись «не
только на знакомых и друзей хозяина дома, но и на всякого путника,
ищущего ночлега или приюта. Именно право совершенно незнакомого
человека остановиться в качестве гостя в любом доме и безусловная
обязанность хозяина оказать ему самый радушный прием и предоставить
все необходимое — вот что прежде всего характеризовало обычай
гостеприимства у адыгов и других кавказских горцев»2.
Обычай гостеприимства, как мы отмечали выше, оберегал даже
убийцу в доме его врагов — кровомстителей, если он вверял им свою
судьбу как гость. «Каждый успевший сказать хозяину: «аез де уазаег»
(«я твой гость») принимается по-братски, хотя бы он был* вра^м
'семейства»3, — писал Н. Ф. Дубровин. «Обращение — «я твой гость», —
объясняет В. Ф. Миллер,— уже обеспечивает безопасность просящему
убежища или защиты»4. Принятого в дом гостя осетин обеспечивал не
только приютом, но и гарантировал его безопасность, а если возникала
необходимость, то и защищал его ценою собственной жизни. За
убийство гостя хозяин преследовал убийцу кровной местью. «Гостя,—
отмечал Штедер,— осетин защищает как самого себя и погибает скорее
О
1 Г. Ф. Чурсин. Очерки по этнологии Кавказа, стр. 64.
2 В. К- Г а р д а н о в. Общественный строй адыгских народов. М., 1967, стр. 293.
3::Н. Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. I,
стр. 362.
4 В. Ф. Миллер. Осетинские сказки. Примечание № 3. Сборник материалов по
этнографии, изд. при Дашковском этнографическом музее, вып. I, стр. 139,
19 А, X. Магометов
^289
сам, чем уступит врагу его тело; он берет на себя кровную месть за
него»1.
Буквально то же самое, спустя много десятков лет, отмечал Ы. Бер-
зенов: «Хозяин («фысым») защищает своего гостя («уазаег») с
опасностью для собственной жизни... Убийство того, кому оказано было
гостеприимство, отмщается с такою же яростью, как и убийство
самого близкого человека»2.
Фольклор, который обычно является отражением мировоззрения и
быта прошлых поколений,— а речь идет об осетинском фольклоре, —
изобилует упоминаниями о гостеприимстве как священном обычае, он
донес до нас много ярких примеров его из самых различных эпох
истории осетин. Этот же обычай проходит красной нитью через всю
этнографическую литературу об осетинах. Пожалуй, нет ни одного
сочинения об осетинах или описания путешественников, где бы с самой
высокой оценкой и похвалой не описывался обычай гостеприимства
осетин.
В письменных источниках наиболее раннее упоминание о традиции
гостеприимства у осетин встречается в связи с историей бегства
«одного из старых эмиров Джучиева улуса» Утурку под покровительство
аланского предводителя Пулада. Последний получил ультиматум
монгольского хана Тимура с угрозой расправиться с ним самым жестоким
образом, если он не выдаст Утурку. На это Пулад отвечал грозному
завоевателю: «Утурку нашел у меня убежище, и пока у меня душа
будет в теле, я его не выдам и, пока смогу', буду защищать и
сберегать его»3.
«Когда этот ответ дошел до Тимура,— рассказывает автор
источника Шериф ад-дин Йезди,— у него вспыхнуло пламя царственного
гнева» и двинул свое войско против Пулада. Аланский предводитель
и его люди «отрекшись от жизни, отчаянно начали сражаться. После
многих усилий,— рассказывается далее,— победоносное войско
одолело их и, овладев крепостью, мечом джихада уничтожило многих из
этих заблудших»4. И, несмотря на то, что войско Тимура «разграбило
и сожгло дома их и взяло бесчисленную добычу», Пулад не выдал
своего монгольского гостя, а помог ему бежать и спрятаться в ущелье
горы Эльбрус5.
«Гостеприимство, судя по данным языка,— пишет В. И. Абаев,—
О
1 Осетины во II половине XVIII века по наблюдениям путешественника Штедсра,/
стр. 81.
2 Н. Берзенов. Из воспоминаний об Осетии. Газ. «Кавказ», 1852, № 67.
3 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды,
т. II, стр. 182.
4 Т а м ж е.
5 Т а м ж е.
290
было с древнейших времен непреложным законом осетинской жизни»1.
Гостеприимство как высшая добродетель воспевается в нартском
эпосе. «Через весь эпос проходит прославление щедрости,
гостеприимства и хлебосольства. Урузмаг и Шатана являются синонимами
высшего гостеприимства. Нет большего комплемента, чем назвать хозяина
дома Урузмагом, а хозяйку — Шатаной»2.
Русские и иностранные путешественники, во множестве
побывавшие в Осетии в прошлом, всегда отмечали замечательный обычай
осетин, их заботу и деликатность, с которой они принимали гостей.
Особым почетом пользовались гости из далеких стран. Еще Вахушти
писал, что осетины «знают воздавать почет чужестранным гостям и
невредимо охранять их; никто не смеет причинить вред чьему-либо гостю,
ибо за него положит голову вся фамилия»3 (того, у кого остановился
гость). А немецкий ученый проф. Карл Кох, посетивший Осетию
дважды, в 1837—1838 и 1843 гг. писал: «Наряду с почитанием старости,
гостеприимство сильно развито у осетин. Пока гость находится в доме,
ничего нельзя делать (т. е. все в доме бывают заняты гостем.— А. М.).
Каждый интересуется его желанием и торопится исполнить его. В
честь гостя закалывается последняя овца... осетин предпочитает
прожить в нищете долгое время, нежели даст упрекнуть себя в том, что
он плохо принял своего гостя... Прежде чем я достиг селения, где мы
решили остановиться, мне навстречу для приветствий вышли
старейшины его. Они оставались рядом со мной до того момента, пока я
достиг предназначенного мне дома»4. И далее он с большой теплотой
рассказывает о гостеприимстве и внимании, которым его окружили
осетины.
«Осетины имеют подобно другим народам Кавказа очень большое
уважение к законам гостеприимства»,— говорил академик Ю. Клапрот,
путешествовавший в начале XIX века по Осетии и другим областям
Кавказа. Осетины, по словам Клапрота, «строго соблюдают законы
гостеприимства и нет почти, примеров, чтобы его кто-нибудь нарушил
или обидел своего гостя... Когда чужестранец попадает в осетинское
селение,— продолжает он,—где у него нет друга, то он может быть
уверен, что пока он находится там, его будут охранять наилучшим
образом, ему дают пить и есть, сколько ему нужно и обращаются с ним,
как с родственником»5. В справочной статье об осетинах В. Ф. Миллер
О
1 В. И. А б а е в. Осетинский язык и фольклор, стр. 74. •
2 В. И. А баев. Нартовский эпос, стр. 102.
3 Вахушти. География Грузии. ЗКОИРГО, кн. XXIV, вып. 5, стр. 142.
4 К. Кох. Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку в 1837 и 1838 гг.
В кн.: Осетины глазами русских и иностранных путешественников, стр. 261—262.
5Ю. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии, Известия СОНИИ, т. XII,
стр. 229.
291
отмечал особо: «Гостеприимство составляет до сих пор выдающуюся
черту осетин»1.
Особенное радушие и почести оказывал осетин чужестранному
гостю, а тем более, если он бывал из России. Оказывая такому гостю
столь радушный прием, осетин выполнял не только свой традиционный
долг, но этим самым он как.бы осуществлял дипломатическую
миссию, достойно представляя свой народ перед представителем другой
каиии и страны. Очень тонко это, например, подмечено одним из рус-
ких путешественников, который писал: «Обыкновенно русский
чужестранный гость считается почетнее других, и гостеприимство для него
удваивается, так как тут идет дело не только о хозяйском самолюбии,
но и о национальной осетинской гордости»2.
Обычай гостеприимства соблюдался настолько свято, что
малейшее забвение о нем вызывало негодование против нарушителя и
обрушивал на него всю карающую меру общества. По свидетельству
Ю. Клапрота, нарушение законов гостеприимства каралось даже
смертной казнью. В этом случае, говорит Клапрот, «собирается все
селение для суда над провинившимся и почти он всегда осуждается на
сбрасывание со связанными руками и ногами с высокого утеса в реку»3.
Мы не допускаем, чтобы такое утверждение было преувеличением
автора. Осетинский фольклор отражает подобный взгляд народа к
нарушителям священного долга гостеприимства. Осетины в своих
сказаниях и легендах призывают на негостеприимных людей небесную
кару4. В реальной же жизни наказание за нарушение законов
гостеприимства осуществлялось в таких формах, как казнь, о которой
говорит Ю. Клапрот, общественный бойкот — «хъоды», изгнание из
общины, всеобщее презрение и др.
Обычай подвергать наказанию нарушителей законов
гостеприимства существовал и у кабардинцев, о чем, например, сообщает Шора
Бекмурзин Ногмов: «Хозяин отвечает перед всем народом за
безопасность чужеземца, и кто не суме/1 сберечь гостя от беды или даже
простой неприятности, того судили и наказывали»5.
Для чужестранца, отправлявшегося в далекое путешествие на
©
1 В. Ф. Ми л л е р. Осетины. «Энциклопедический словарь» Брокгауза ич Ефрона,
т. XXII, стр. 265.
2Н. Янушевич. Военно-Осетинская дорога на Кавказе. М., 1914, стр. 23.
3 Ю. Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии. Известия СОНИИ, т. XII,
стр. 229.
4 В с. Миллер. Осетинские этюды, ч. I, М., 1882, стр. 157; Н. Ф. Дубровин.
История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. I, стр. 363—366; Г. Ф,
Ч у р с и н. Очерки по этнологии Кавказа, стр. 66—67.
5 III. Б. Н о г м о в. История адыгейского народа. Нальчик, 1947, стр. 30.
292
Кавказ, важную роль играли покровительство и безопасность,
которыми обеспечивал его обычай гостеприимства горцев в условиях
смутного времени и феодальной междоусобицы.
Приезжий считался гостем не одной семьи, где он останавливался,
а всего рода, всех жителей аула. Гость находился под защитой всего
селения, за его неприкосновенность несло ответственность все
население аула или села. Каждый гость считался «божьим гостем». Если
в доме остановилось несколько человек гостей, и семья попадала в
затруднительное положение, то гостей могли распределять по
соседям или занимать у них постель, продукты питания и т. д.
Коста Хетагуров, описывая обычай гостеприимства, писал:
«Всякий осетин и вообще горец, не нарушая правил гостеприимства,
принимает путешественника очень любезно и по мере сил и возможности
сделает все, чтобы только угодить ему... Когда вы (т. е. гость.— А. М.)
идете по аулу, сидящий встает при вашем приближении, говорящий
замолкает, занятый работой бросает ее, чтобы приветствовать вас,
точно старого знакомого. Перед домом, в который вы получили
приглашение войти, встречает вас старейший член семьи и вводит вас в
уазагдон»1.
Приезжий мог остановиться перед любым домом и просить
гостеприимства у любого из жителей села. Для этого гость подъезжал к
дому, который он наметил для приюта, и вызывал кого-нибудь из
домохозяев и объявлял, что он ищет пристанище, ночлег- К вышедшему
на его зов домохозяину (или к любому, кто к нему выйдет)
обращался он со словами: «Не примете ли вы гостя?» На этот вопрос всегда
следовал ответ: «Уазаег— хуыцауы уазаег, мидаемае» (Гость—божий гость,
войдите). Приняв у гостя коня, его вводили в кунацкую («уазэегдон»),
а в «хаедзаре» тотчас же начиналась стряпня, чтобы угостить и достой-
йо принять приезжего гостя.
Все лучшее в доме откладывалось, как запас, на случай
внезапного появления гостей.
Хозяева по обычаю не имели права спрашивать о цели приезда
гостя и о сроках его пребывания в гостях. Гость мог находиться в
доме своего хозяина любой срок. Как правило, гость помещался в
кунацкой— «уазаегдон». Она строилась отдельно от остального дома и
располагалась ближе к воротам, «в дальнем расстоянии от внутренних
покоев»2. К кунацкой примыкали конюшни, в которых помещались
лошади гостей. С. Кокиев дает подробное описание гостиной-кунацкой и
характеристику ее назначения. Кунацкая «назначается,— писал он,—
специально для гостей, которые могут заезжать туда во всякое время
©
1 К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр. 357.
2 Сборник сведений о кавказских горцах, вып. V, стр. 17.
293
дня и ночи... Здесь гость пользуется полнейшею свободою, по самому
расположению помещения, а с другой стороны и не мешает никому в
семье, во дворе, при исполнении обычных хозяйственных занятий. Гость,
если он не кровный родственник, никогда не принимается в семью,—
это было бы большим стеснением для него и для семьи. Кунацкая
имеет свое отдельное хозяйство: постель, кровать, скамейки, оленью
шкуру, кувган, таз и даже веник и т. д. Замечательно, что в ней двери
никогда не запираются ни днем, ни ночью»1.
В отличие от жилого дома кунацкая не могла рассматриваться
как частная собственность. Сельчанин мог воспользоваться, в случае
надобности, кунацкой любого из своих соседей, даже не спрашивая на
то согласия хозяина.
Кунацкая, кроме того, выполняла роль общественного
учреждения. В свободное от гостей время она служила местом общественного
сборища для взрослых мужчин, заменяя нихас в ненастную погоду, а
для холостой молодежи села — местом дружеских встреч, бесед, а
нередко— и танцев. «Как только она (молодежь.— А. М.) свободна,—
говорит С. Кокиев,— сюда собирается молодежь, здесь происходят все
интимные разговоры, невинные забавы; здесь же подчас решаются и
серьезные общественные вопросы. После обеда для отдыха или на ночь
молодежь рассыпается по кунацким: ложись в какой хочешь и спи
спокойно: никто не спросит, кто ты таков, зачем ты здесь, какое имеешь
право и т. д.»2-
С. Кокиев, делая подробное описание осетинской кунацкой, дает
и правильное объяснение роли кунацкой как общественного
учреждения: «Кунацкая,— говорит он,— есть скорее общественное учреждение,
нежели частная собственность»3.
Функции, которыми обладала осетинская «уазаегдон», сближают
ее с «мужскими домами», и «клубами холостяков» у других народов4.
Но особенно близко стоит она к «общинным домам» («мипмонхонам»)
ягнобцев и «олаухонам» горных таджиков... А. А. Кондауров,
характеризуя «общинный дом» у ягнобцев, определяет его следующие
функции: «Это, во-первых, место, где собираются односельчане — мужчины
для решения совместных дел.., где даются также советы
односельчанину по делам семьи и хозяйства, где, наконец, просто проводят время
за совместной беседой, слушают выступления местных музыкантов,
певцов и сказочников; во-вторых, место, где собираются мужчины селе-
©
1 С. Кокиев. Записки о быте осетин. Сборник материалов по этнографии,
издаваемый при Дашковском этнографическом музее, вып. I, М., 1885, стр. 78.
2 С. Кокиев. Указ. соч., стр. 79.
3 Там же.
4 См. об этом же: М. О. Косвен. Этнография и история Кавказа, стр. 128.
294
ния или квартала вечером осенью и зимой для традиционной
совместной трапезы.., в-третьих, место, где оказывают гостеприимство путнику,
лицу постороннему для данного селения, остановившемуся по каким-
либо делам в селении на некоторое время или одну ночь»1.
При внимательном рассмотрении приведенных фактов нетрудно
увидеть в кунацкой один из атрибутов общинно-родового строя,
связанный с древним институтом гостеприимства. Не остается также
сомнений в том, что гостевой дом первоначально был общим для всего
рода, всей общины.
С распадом же родового строя, «уазаегдон» — кунацкая,
сохранившись, перешла в частную собственность отдельной семьи, но функции,
приданные ей вначале, удержались в пережиточной форме. Кстати,
пережитком первобытного коммунизма является и обычай участия
соседей, всей общины в приеме гостя.
С конца XIX века кунацкая в виде отдельного помещения уже не
встречается, но почти каждый осетин в своем доме отводит одну
комнату («уат») под «уазаегдон».
Прием гостя проходил в точно выработанных этикетом правилах2,
которые никто не волен был нарушить.
В основных чертах они заключались в следующем. Приезжий на
все время пребывания в гостях находился в кунацкой («уазаегдон»)
или в одной из комнат дома (при отсутствии первой). Здесь за ним
ухаживали как сам хозяин, так и остальные мужчины в семье.
Женщины были свободны от ухода за ним, не считая приготовления пищи,
и не появлялись в кунацкой. Сам гость также не имел права
показываться на женской половине дома.
Как знак особого внимания к гостю, пока он находился тут, его
не оставляли одного. В присутствии гостя имели право сидеть только
старшие, младшие же стояли у двери или вдоль стены. Но если гость
был почтенного возраста, да еще известен своим именем, перед ним
стоял и сам хозяин, оказывая ему этим особый почет. «Но если гость
моложе, то не может быть и речи, чтобы хозяин, старше его летами,
стоял перед ним; в таком случае гость садится перед хозяином по
просьбе последнего или же вовсе не садится, если разница больше
10—15 лет. Во всем остальном гостю оказывают все подобающие
почести»3.
О
1 А. А. Кондауров. Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягноб-
дев. М.-Л., изд. АН СССР, 1940, стр. 23.
2 Эти правила, если не считать некоторой искусственности, расписаны в деталях Е. Г.
Пчелиной в ее статье «Обряд гостеприимства в Осетии» (Журн. «Советская
этнография», 1932, № 5—6).
-3 М. А. М и с и к о в. Материалы для антропологии осетин, стр. 64.
295
Узнав о прибытии гостя, соседи, знакомые, родственники хозяина
или просто сельчане считали своим долгом навестить дом своего
соседа или односельчанина, чтобы приветствовать его гостя. «Весть о
приезде гостя скоро распространяется по аулу и сакля быстро
наполняется народом»1,— писал Н. Ф. Дубровин.
Однако сельчане не скоро покидали его, а оставались некоторое
время в кунацкой, выказывая этим свое почтение приезжему. «Чем
больше посторонних в присутствии гостя, — писал И. Кануков, — тем
больше сему последнему почета»2.
С гостем все время поддерживалась беседа. Мирный,
нескончаемый разговор с ним вели только старшие, младшие же слушали их.
Беседа происходила в изысканных формах, в вежливо-почтительном
тоне, чтобы каким-нибудь грубым словом не оскорбить слух гостя, а
порою о предмете беседы разговаривали отвлеченно и о нем можно
было только догадываться. Поэтому в кунацкой, если даже в ней
сидели два врага, абсолютно не слышно было ни одного грубого слова,
и никогда не замечалось даже малейшего проявления неуважения к
кому бы то ни было из присутствующих. Позы, как старейшин, так и
молодежи .выражали силу и достоинство хозяев. Во всем поведении
их и гостя сквозила «исключительная предупредительность, вежливость
в обращении и осторожность в словах»3.
Пока протекала беседа, хозяйки уже успевали приготовить
традиционные пироги и кушания, последние подавали к столу младшие из
мужчин, которые вообще исполняли все поручения старшего по уходу
за гостем. Центральным моментом угощения считался «кусарт»
(резали барана или быка), тушу которого варили всю и затем подавали на
стол. «Кусарт» закалывался к вечеру после первого обеда,
приготовленного на скорую руку, или на-второй день, если гость приезжал
ночью. За стол с гостем садились только старшие, и то не всегда, хозяин
же вообще старался уклониться от этого, мотивируя это тем, что так
он лучше присмотрит за гостем, да позаботится о его лошади.
Нередко для значительного гостя хозяин устраивал и танцы, на
которые приглашались сельские юноши и девушки.
И у кабардинцев «для развлечения гостя велись беседы, певцы
и музыканты показывали свое мастерство, устраивались танцы, игры
и скачки»4.
Когда гость объявлял, что он уезжает, то седлали его коня. Го-
©
1 Н. Ф. Дубровин. Указ. соч., стр. 362.
2 И. Канунов. Сочинения, стр. 108.
3 Е, Г, Пчелина. Обряд гостеприимства в Осетии. «Советская этнография», 1932,
№•5—6, стр. 155.
4 Е. Н. Студенецкая. Кабардинцы и черкесы. В кн.: Народы Кавказа, I, стр. 180.
296
тового к походу коня ставили, как правило, головой к дверям дома,
а не к воротам, к выходу, давая этим понять, что от него не хотят
избавиться и что ему рады всегда. В день отъезда гостя ему
устраивали прощальное угощение. Если гостю предстоял далекий путь, то
хозяева («фысымтае») снабжали его путевым довольствием («фаендаг-
гаг») и провожали за пределы своего селения, а иногда даже края.
Если же этого требовала безопасность гостя, то хозяин (или
кто-нибудь из его близких — сын, брат или племянник) сопровождал его с
несколькими товарищами или своими близкими людьми в пределы
соседнего общества или племени, где его поручал покровительству своего
друга или побратима, а если он (хозяин) имел здесь родственников,
то и им. Осетин «не отпускает гостя,— говорил Н. Берзенов,— не дав
ему охранного караула и не вверив его своим знакомым и друзьям»1.
Последних обычай обязывал оказать покровительство вверенному им
лицу и обеспечить его охрану и безопасность: у осетин выражение «де
уазаег фагуаед» (пусть будет твоим гостем) означает самую сильную
просьбу, в которой нельзя было отказать, ибо она имела священный
характер. «Нет в осетинском более убедительной и сильной формы
для просьбы, чем когда отдают кого-либо на попечение другого»2,—
пишет В. И. Абаев.
Обычай гостеприимства, как и любой другой обычай кавказских
горцев, испытал влияние времени, отразил в себе черты социальных
отношений соответствующих эпох. Этим только можно объяснить, что
«в период феодального развития народов Кавказа ни один обычай не
был так широко использован господствующим классом для
обслуживания его интересов, как гостеприимство»3.
Этим обычаем в ущерб малоимущим крестьянам пользовалась
зажиточная верхушка осетинского общества и особенно молодежь из
феодальных кругов. Большое распространение имели поездки («бал-
цы») представителей феодальных родов (баделят, тагиат и др.) в села
Осетии. «Гости», как правило, наезжали целыми компаниями, ведя
праздный образ жизни, злоупотребляя обычаем гостеприимства. Такие
«визиты» очень тяжело отражались на материальном положении
трудового крестьянства.
О
1 Н. Берзенов. Из воспоминаний об Осетии. Газ. «Кавказ», 1852, № 67. См.
также: Н. Ф. Дубровин. Указ. соч., стр. 362.
2 В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, стр. 74.
3 В. К- Г а р д а н о в. Общественный строй адыгских народов, стр. 289 — 290.
РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ
И ИХ ПЕРЕЖИТКИ
о-
ногие явления общественного быта осетин, как
и других народов мира, на определенном этапе
их развития сопровождались религиозной
обрядностью или облекались в религиозную форму.
Они, естественно, отражали диалектический
процесс развития социальных форм и
общественных отношений.
Развившись в недрах родового строя,
религиозные верования трансформировались в
соответствии с изменениями, происходившими в
социальной и общественно-экономической жизни
народа. Так, с распадом родовой организации родовые культы потеряли
свой родовой облик и приобрели территориально-общинные черты.
На религиозных верованиях осетин отразилось также влияние
религии и общественных форм соседних народов. Понятно, что, не
отразив религиозную жизнь осетин в ходе их исторического развития,
невозможно получить полной картины их общественного быта.
Религиозные верования осетин имеют весьма сложную историю
происхождения и эволюции. Сложность исторического развития
осетинского народа, отразившись на формировании его идеологии,
породила у него целую мозаику религиозных представлений. В прошлом
одни исследователи осетин называли христианами, другие —
мусульманами, третьи—язычниками. Действительно, осетинское население до
недавнего времени делилось на «христианскую» и. «мусульманскую»
части. Однако в основе религии осетин лежат первобытные верования.
Последние отразили как идеологические воззрения первопредков
осетин, так и последующие наслоения эпох и исторических переживаний
народа. Они испытали также влияние дохристианских и доисламских
298
верований других народов, в частности, тех, с которыми и теперь
соседствует: кабардинцев, ингушей, балкарцев, горных грузин. Здесь
уместно привести слова исследователя религии осетин Р. Штакельбер-
га, который писал: «Народные верования осетин представляют из себя
пеструю смесь различных религиозных систем тех наций, с которыми
осетины в продолжение веков находились либо во враждебных, либо
в мирных отношениях»1.
Изучая истоки религиозных верований осетин, нетрудно
разглядеть в них пережитки почти всех древних форм религии. Если это
так, то первооснову их следует искать в недрах скифо-сарматского
мира, из которого происходят сами осетины. На такую связь еще в
свое время указывал акад. В. Ф. Миллер. Он писал, что многие
архаические черты в религии и быту осетин ведут от скифов. Доводы
Миллера подтверждаются всей предшествующей историей осетин,
особенностями их культуры и быта.
Сведения Геродота и других античных авторов о скифских богах
•и религиозных верованиях скифо-сарматов и массагетов находят свои
аналогии или продолжение в аланском, а затем осетинском быту. В
частности, Геродот указывает на существование у скифов культа
«Семи богов». Последний, как указывает проф. В. И. Абаев,
прослеживается «от геродотовских скифов через алан до современных осетин, т. е.
на протяжении почти 2500 лет»2. Сейчас невозможно установить в
точности картину религиозного быта скифов и алан, но основные ее
черты известны. Сопоставляя последние с религиозной картиной осетин,
мы легко обнаружим продолжение в ней скифской и аланской
традиций. Они, несомненно, принесли в религию осетин
первобытно-родовые черты, которые, несмотря на долгую борьбу христианства и
ислама, остались ее характерной особенностью. О том, насколько
прочна первобытная традиция в религии осетин, говорит тот факт, что у
скифов, живших уже, патриархальным строем, одним из главных
божеств являлась Табити — богиня плодородия, домашнего очага и
семейного и родового единства.
Данный факт из жизни геродотовских скифов является лишь
пережитком матриархата, в котором сложилась соответствующая
религиозная идеология. Но и намного позже, уже у осетин XIX века,
прослеживались эти матриархальные черты, в частности, в культе
домашнего очага и в некоторых религиозных персонажах и обрядах.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в религиозных верованиях
осетин первобытные формы заняли столь большое место. Из них мы
©
1 Штаке л ь б ер г. Главные черты в народной религии осетин. Юбилейный
сборник в честь В. Ф. Миллера, М., 1900.
2 В. И. Абаев. Культ «Семи богов» у скифов. Сб. Древний мир, М., 1962, стр. 450.
299
должны рассмотреть тотемизм как одну из ранних форм религиозных:
представлений, возникших на первоначально^! этапе развития
человеческого общества. Они отразили не только условия'хозяйственной
жизни древних предков осетин, но и особенности их общественной
организации.
Как известно, тотемизм возник в период раннеродового общества,
когда главной общественной ячейкой был род. Поэтому вполне
естественно, что наряду со многими пережитками родового строя в быту и
фольклоре осетин встречается отзвук религиозных представлений этой
далекой эпохи, а именно, тотемических верований. Связь с родовым
строем станет понятной, если вспомнить, что первобытные люди
(жившие в доклассовом, родовом строе) свою человеческую природу и
отношения в обществе (роде, родовой общине) переносили на внешнюю
природу, т. е. их представления о внешней природе создавались по
типу отношений в их же собственной среде. А отношения эти в ту
эпоху могли строиться только на сознании кровного родства друг с
другом. Отсюда и появилась вера в сверхъестественную связь, в общее
происхождение и кровную близость между человеческой родовой
группой и каким-либо видом животных, растений, предметом или явлением
природы.
Эту связь и вообще сущность тотемизма довольно удачно
определил советский этнограф Д. К. Зеленин. «В тотемизме,— писал он,— на
мир диких животных было перенесено социально-родовое устройство
людей, и тотемизм можно определить как идеологический союз
родовой организации людей с тою или иною породою животных»1.
Тотемизм универсальное явление, «стадия развития религиозных
представлений и обрядов, которую прошли когда-то все народы,
населяющие нашу землю»2. Поэтому пережитки его в той или другой мере
можно обнаружить в религиях этих народов.
У осетин, например, судя по фольклору и некоторым чертам их
религии, одним из первых тотемных животных был волк с его
древним наименованием «уэерхаег»3, замененным под действием табу4
другим словом «бираегъ», который известен и поныне.
Наиболее ярким свидетельством этого вывода является тот факт,,
что в осетинском эпосе родоначальником нартов (мифологического
прообраза скифов-сарматов) считается «Уаерхаег». Подобно австралийцам,.
О
1 Д. К. Идеологическое перенесение на диких животных социально-родовой
организации людей. Известия АН СССР, Отд. общ. наук, 1935, № 4, стр. 403.
2 3. П. Соколова. Культ животных в религиях, М., 1972, стр. 43.
3 В. А баев. Нартовский эпос, стр. 30—33, 117; его же: Дохристианская религия
алан, стр. 8; Скифо-европейские изоглоссы, стр. 90—91.
4 Нередко тотемное животное называлось другим именем. '
300
гилякам (северный Сахалин) и другим первобытным народам,
приобщение к тотему, как полагали они, сообщало им его силу, качества,
непобедимость, ограждало их от беды. Эту же силу находят нарты в
своем тотемном животном — «уаерхээге». Так, например, для закалки
нарта Сослана купают в волчьем молоке; перед боем с Тотрадзом
Сослан одевается в волчьи шкуры. Волчьи зубы, зашитые в кожу,
служили для алан амулетом (талисманом).
Вспомним, что подозреваемого в воровстве или другом
преступлении у осетин еще в первой половине XIX в. заставляли перешагнуть
-через зажженную сухую волчью жилу. «В случае виновности тело его
должно было, по убеждению осетин, искривиться»1.
Обычай клятвы на сухожилии волка существовал и у бурят2. С
волком у осетин связан целый ряд магических обрядов.
О том, что волк в древности был популярным тотемическим
животным, говорит тот факт, что в осетинском пантеоне волки имеют
свое особое божество—Тутыр. Неслучайно осетины в прошлом волка
называли «Тутыры цуанон» («собака Тутыра»K. Культ Тутыра в
религии осетин представлен целой системой обрядов, о чем более
подробно будет сказано ниже. Тотемический культ волка имеет широкое
распространение у целого ряда европейских, азиатских и кавказских
народов.
Другим тотемным животным у осетин был медведь — «аре».
Пережитки культа этого животного сохранились у осетин до недавнего
времени. Существовало поверье, что медведь когда-то был человеком,
превратившимся затем в зверя. Отсюда некоторые люди не ели мяса
медведя, считая себя его потомками. Таковы фамилии Л^ршитае — Ар-
шиевы, уЕрсойтэе — Арсоевы (в переводе на русский — «Медведевы»),
а также Хублаевы. Представители этих фамилий происхождение
своих родов связывали с медведем и считали его своим покровителем4.
В Куртатинском ущелье имелось и святилище, посвященное медведю —
«арсы дзуар».
К тотемическим воззрениям восходит и культ коня, нашедший
свое отражение в фольклоре и быте осетин. Так, в осетинской
мифологии имеется чудесная порода коней — «/Ефсургъ». Последний имеет
необычные свойства. Именем этого чудо-коня называлось одно из
сарматских племен5.
О
1 В. Аба ев. Мартовский эпос, стр. 33.
2 3. П. Соколова. Культ животных в религиях, стр. 42.
3 Л. А. Ч и б и р о в. О некоторых пережитках зоолатрии у осетин. В кн.:
Материалы по этнографии Грузии, XVI — XVII вв. Посвящается памяти профессора Веры
Варденовны Бардавелидзе, Тбилиси, 1972, стр. 171.
4 Л. А. Ч и б и р о в. О некоторых пережитках зоолатрии..., стр. 170.
5 В., И. Аба ев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 112—113.
301
В нартском эпосе хорошо известно имя и другого «знаменитого»
коня — «Л^рфаен», лошади Урузмага, самой старшей из коней мира.
На белом коне восседает и Уастырджи, самый популярный бог у
осетин. «Культ коня, явно восходящий к тотемическим представлениям
далекого прошлого, нашел свое отражение в специальной молитве,
произносимой при совершении обряда «посвящения коня» умершему»1.
Посвящение коня мужчине было обязательным атрибутом
погребального культа у осетин.
Вера в помощь тотема была так велика, что с ним легко
пускались в опасную дорогу. Некоторые герои осетинских сказаний и
легенд совершали свои необычайные путешествия и подвиги именно на
коне. Герой-нарт нередко советовался со своей лошадью, которая,
являясь его другом, покровителем, всегда выводила его из опасного
положения. Пережитком культа лошади было к своеобразное
почитание конского черепа и использование его в магических целях.
Лошадиные черепа вешались на воткнутые в землю длинные палки («хъил-
тае») и на колья заборов в качестве оберегов, охраняющих дворы,
огороды, сады и пасеки от «завистливого», «дурного» глаза.
Тотемным животным древних предков осетин-скифов был олень
с его ирано-осетинским именем «саг».
Культ оленя у осетин сохранился только в обычае приносить
голову и рога этого животного в качестве жертвы богам в наиболее
популярных святилищах — «Рекоме», «Дзвгисе», и «Дигори изаед».
Культ коня у осетин сложился неслучайно. Конь играл большую
роль в их жизни в древности. И не только у одних осетин. Известно,
что с приручением коня ускорился темп исторического прогресса,
произошел скачок в развитии производительных сил. Благодаря лошади
неведомые доселе племена выдвинулись на историческую арену. Как
нельзя лучше это доказали скифы. В их жизни лошадь играла
первостепенную роль. Отсюда и необычайно высокий культ коня у скифских
племен. Особенно распространен был у них обычай убивать лошадей
на похоронах вождей и павших в битве воинов и ритуального их
захоронения2. В одном только Ульском кургане, в Прикубанье, при
погребении царя было принесено в жертву около четырехсот коней.
Скифы приносили коней в жертву и своим богам. Геродот,
рассказывая о скифском племени массагетах, писал: «Из богов чтут
только солнце, которому приносят в жертву лошадей. Смысл жертвы этой
тот, что быстрейшему из всех богов подобает быстрейшее животное»3.
Из тотемических культов значительное развитие получил и культ
О
1 Е. И. Крупное. Древняя история Северного Кавказа, М., 1960. стр. 364.
2 А. П. Смирнов. Скифы, М., 1966, стр. 101—162.
3 Г е р о д о т, IV.
302
змеи. Если, например, она заползала в помещение или появлялась во
дворе, то многие семьи ее не трогали, а тем более не убивали,
полагая, что в образе змеи к ним явился домовой, покровитель рода.
Отдельные же роды просто поклонялись ей как святому. Змее,
как родовому божеству, с соблюдением соответствующего обряда,
поклонялись две известные в Дигории фамилии: Туккаевы и Каировы.
Так, в легенде, опубликованной Г. Кокиевым в 1927 году говорится,
что змея, охранительница рода Каирозых в Донифарсе и покровитель
его достатка (изобилия) и благоденствия, однажды бежала из
кладовой («къаебиц») Каировых, где она якобы пребывала. Но те,
рассказывается в легенде, погнавшись за ней, настигли ее в местности «Бае-
гъайттае». И в этом месте, где в расщелину скалы заползла змея,
Каировы построили святилище («куваендон»), где ежегодно устраивали
в ее честь «куывд». Все у них шло хорошо, пока змея вновь не
обиделась на них. На сей раз она унесла с собой их «баэркад» (достаток)
и род Каировых (за исключением тех, кто выселился на плоскость)
вымер1. Змея считалась священным животным и у осетинских
кузнецов.
Не во всех случаях культ змей имеет тотемическую основу- Он
имел также зоолатрическое происхождение2. Известно, что некоторые
зоолатрические культы питались страхом перед хищным зверем и
ядовитыми змеями3. Очевидно, это сыграло свою роль в сложении культа
змеи у той части осетин, которые не связывали свое происхождение со
змеей, не видели родства с ней. Именно так возникли у осетин
некоторые представления, связанные со змеей. Это, например, вера в «цы-
курайы фаердыг» • (волшебный самоцвет, чудесная бусинка, букв.—
«бусинка чего-попросишь»). «По народному поверию она достается
«счастливцу» с опасностью для жизни, так как добывается из зеза
самых ядовитых змей»4. Своему обладателю «цыкурайы фаердыг», как
полагали, обеспечивает исполнение всех его желаний.
Почитание змей, распространенное явление на Кавказе. О
глубоком проникновении этого культа в идеологию древних кавказцев
говорит довольно распространенная практика изображения, в качестве
тотемного рисунка, змеи на предметах кобанской культуры, в
частности, на бронзовых топорах.
По представлению древних кобанцев, изображение тотема
придавало орудию особую, магическую силу. Снабженное изображением змей
оружие было более грозным для врага, оно должно было разить без
О
1 Газ. «Растдзинад», 1927, № 21.
2 Зоолатрия — дословно: поклонение зверям.
3 3. П. Соколова. Культ животных в религиях, стр. 148.
4 К. Л. Хетагуров. Собр. соч., т. IV, стр, 326.
303
промаха. В древних погребениях Осетии учеными обнаружено большое
количество скульптурных фигурок животных из бронзы и глины. Еще
недавно осетины в дни религиозных праздников пекли обрядовые
фигурки и среди них много с изображением домашних животных. Культ
животных, несомненно, возник на основе тотемизма. На этой же почве
возник и развился знаменитый «звериный стиль» в скифском
изобразительном искусстве1.
С тотемизмом связаны и суеверные представления о некоторых
птицах (ласточке, удоде, вороне, сове и др.). Так, по поверью осетин,
удод («дыгоппон») когда-то был девушкой2. В прошлое время, если в
семье умирала девушка, а весной прилетал удод и садился на дерево
поблизости дома, где она жила, то мать и другие родственники
умершей начинали плакать и причитать, думая, что в образе птицы к ним
явилась покойница.
По-видимому, отголосками древнего тотемизма являются и
некоторые сказочные мотивы, связанные с птицами.
Несомненно, у предков осетин имелись тотемические воззрения,
основанные на уходящем своими корнями в глубокую древность
убеждении в отсутствии принципиальной разницы между человеком и
животным, в возможность превращения человека в животное и обратно.
Лучшим свидетельством этого является то, как одним ударом
волшебной плети в нартском эпосе и сказочных мотивах осетин люди
превращаются в животных — собак, ослов, птиц и т. д. и затем так же
легко повторным ударом возвращают их прежний, человеческий облик.
Так, подобным ударом плети Урузмаг был обращен в пса. В другом
случае сам Урузмаг обратил в дворовую собаку жену алдара, а его
самого в осла-мула. Красавица-жена Сослана имела вид лягушки, и
только ему самому открывалась она как женщина.
В первобытных верованиях осетин определенное место занимал
фетишизм, почитание неодушевленных материальных предметов,
якобы обладающих тайной. Ярким примером этого культа может служить
фетишистское поклонение скифами мечу как носителю военной
удачи, за которым еще не таилось представление о каком-либо личном
существе. Сам меч наделялся элементами воли и сознания. Мечу
поклонялись и аланы. «У аланов,— пишет историк IV века Аммиан Мар-
целлин,— голый меч вонзается в землю по варварскому обычаю, с
благоговением поклоняются ему, как Марсу, покровителю стран, по
которым они кочуют»3.
Кстати, фетишистское поклонение мечу у скифов отмечено и
О
1 С. С. Ч е р н и к о в. Загадка золотого кургана, М., 1965.
2 Н. Г. Б е р з е н о в. Удод. Газ. «Кавказ», 1850, № 54.
3 Аммиан Марцеллин. История, II, Киев, 1906—1908, стр. 21. =
304
К. Марксом в его выписках о фетишизме: «Обнаженная сабля — одно
из кельтских божеств; в Скифии — это меч»1-
Необычными свойствами и силой обладал меч и в нартских
сказаниях осетин. Им легко действовал и уничтожал бесчисленное
множество врагов тот, кому он принадлежал, другие же не могли даже
поднять его. В силу своих необычных свойств меч выступает у нар-
тов и в качестве святыни. Патриарх нартов Урузмаг принял на мече
клятву отомстить своему обидчику2. Такую же клятву на мече
(кинжале) давали осетины еще в недавнем прошлом. Приведенные
факты находят объяснение в военно-демократическом строе скифо-сарма-
тов и алан, для которых, как и для многих других народов, в этот
период война была почетным занятием3.
Распространение фетишизма у осетин отмечал еще Н. Ф.
Дубровин: «Слепая вера в непреодолимую силу некоторых вещей очень
сильна между осетинами,— писал он,— каждое семейство, тайно от
другого, уважает какой-нибудь предмет, в непреодолимую силу которого
верит»4. Возвращаясь к фетишистским верованиям осетин, он вновь
повторяет: «Каждая семья имеет свой уважаемый предмет, которого
втайне боится и которому оказывает глубокое уважение»5.
Пожалуй, наиболее популярным фетишем у осетин (в связи с
культом домашнего очага) до недавнего времени была надочажная
железная цепь. Фетишем этого рода являлся и «священный столб»,
называвшийся «саеры зад» («ангел головы») и «стоявший в западном
углу сакли и украшенный рогами домашних и диких животных»6.
Столб этот, судя по названию и совершаемым около него обрядам,
считался ангелом-хранителем домашнего очага и семьи.
В качестве святилищ нередко использовались отдельные
предметы— камни, столбы, шесты («хъилы дзуар») и др. Считаясь
материальными вместилищами тех или других духов, они являлись
объектами поклонения. Такие идолы хранились даже веками в отдельных
семьях, переходя из поколения в поколение как родовые талисманы.
Пережитки первобытных религиозных верований в наиболее
яркой форме сохранились в магических обрядах и культе осетин.
Первобытный человек, придавленный могущественными силами природы,
О
1 Выписка К. Маркса о фетишизме. В кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс об атеизме,
религии и церкви, М., 1971, стр. 462.
2 Памятники народного творчества осетин, вып. I, Владикавказ, 1925, стр. 39.
3 См. Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства.
4 Н. Ф. Дубровин. Осетины. История войны и владычества русских на Кавказе,
т. I, кн. 1, стр. 322.
5 Т а м же, стр. 323.
6 В с. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 293.
20 А. X. Магометов 305
незнакомый с действительными причинами происходивших вокруг
явлений и бессильный в борьбе с хищным зверем, изобретал способы
воздействия на них. Отсюда магические действия и обряды
применялись буквально во всех сферах человеческой жизни и хозяйственной:
деятельности людей. Так, смерть и болезни, природа которых не была
известна нашим предкам, вызывали таинственный страх у людей,
особенно во время вспышек эпидемий, которые были постоянным
явлением прошлой жизни осетин. Но против них, кроме колдовских
обрядов и заклинаний, они не знали других средств.
Основу врачевательной (лечебной) магии составляло знахарство,
которое было почти повсеместно развито в дореволюционной Осетии.
Как известно, знахарство состоит из различных
религиозно-мистических приемов и обрядов (нашептываний, молитв, заклятий и т.д.). В
«борьбе» против заболевания знахари в качестве «лекарства» использовали
самые невероятные, а подчас и вредные, нередко приводившие к осложнению
заболевания и даже к смерти «заговоренные» средства (куриный
помет, настой серы, пороха, араки и др.). Если даже знахари
использовали положительные средства и приемы народной медицины, то свои
действия они все равно окружали таинственностью и сопровождали
колдовскими обрядами- Одними из распространенных средств лечебной
магии являлись жертвоприношения различным святым или злым духам;
Если считали, что болезнь вызвана злым духом, то резали черную
курицу или черного козла (разумеется, по указанию знахаря). А если
молились какому-нибудь святому, чтобы он избавил больного от недуга,
то в жертву ему приносили барана или быка (нередко белой масти).
Магия была ремеслом не только знахарей, но к ней широко
прибегали и «дзуарылаэги»1, а также муллы. Нередко, для придания
своему ремеслу большей торжественности, знахарка «лечила» своих
клиентов в союзе с «дзуарылэегом». Будучи приглашена к больному,
знахарка на другое утро объявляла, что ей во сне явилось
откровение, согласно которому родственникам больного необходимо пойти к
такому-то «дзуарылаегу», чтобы он помолился святому об исцелении
страдающего. Для этого родственники последнего закалывали
жертвенного барана, приготавливали ритуальные пироги и кувшин пива,
также заготавливали «мысайнаг»2, состоявший из кусочка белой
материи, в которую заворачивали серебряную монету, канитель
(серебряные нитки) и клочок ваты. Захватив с собой все это, ближайшие
родственники больного вместе с «дзуарылаегом» отправлялись в «дзуар»
©
1 Дзуарылзвг (букв, «человек дзуара») — служитель языческого культа в Осетии,
ведающий делами «дзуара» (святилища).
2 Мысайнаг (осет.) — денежное пожертвование святому, вообще жертвенный предмет.
306
(святилище). Здесь он и совершал религиозно-магический ритуал, от
которого теперь родственники ждали исцеления своего больного.
Лечение больных в «дзуарах» (преимущественно в дни праздников)
было обыденным явлением. Сюда водили или везли больных с самыми
различными заболеваниями, где «дзуары лаэг» и применял к ним свое
«искусство».
Особенно распространено было «лечение» под «дзуаром» больных
с нервными и психическими заболеваниями («бесноватых», как
называли их в народе). Но столь же распространенным было «лечение»
подобных больных другим способом, а именно — путем «изгнания»
бесов («хаейраеджытае», «зинтзе») из тела больного. Магический прием
этот состоял в том, что в момент приступа болезни (припадка) у
больного (или больной) начинали выпытывать имена «вселившихся» в него
чертей. Это делалось путем применения пыток — кололи тело больного
острыми предметами или прижигали подошвы его ног раскаленным
железом, углем или над костром. «Мулла подвергает пациента самым
ужасным пыткам»1, — отмечал С. Кокиев. Расстроенное воображение и
возбужденные нервы заставляли больного нести всякий вздор,
который истолковывался «лекарем» в желательной для него форме. А
если больной оставался в сознании и знал, что от него хотят, то, чтобы
вырваться из рук своих истязателей, произносил первые попавшиеся
на язык имена, которые тут же заносились «лекарем» на бумагу.
Нанесение на бумагу имен чертей, как полагали, было равносильно
«поимке», «захвату» их самих. Бумага затем сжигалась, чтобы этим
«уничтожить» виновников болезни — «хаейраеджытае», «зинтаэ». При этом,
говорится в одном этнографическом очерке, «больная должна смотреть
на горящую бумагу... Ее держат за голову и насильно заставляют
смотреть на бумагу... — Лечение удачное!—заявляет самодовольно
«врач».— Теперь черти горят как мухи»2. В другом очерке на эту же
тему его автор пишет: «Мулла торжественно объявляет, что главные
вожаки бесов сожжены, а остальные сами собой оставят бесноватого
при дальнейшем продолжении лечения»3.
Существовало также много колдовских обрядов и средств,
призванных «уберечь» человека от сглаза, козней недруга и от
злоключений дьявола. С помощью магических приемов «отпугивали» злых
духов, не допускали их приближения.
В быту магические действия наблюдались в свадебных и
родильных обрядах, а также в начальный период воспитания ребенка и др.
О
1 С. Кокиев. Записки о быте осетин. Сборник материалов по этнографии..., стр. ПО.
2 Осетин. Бесноватая. Газ. «Терские ведомости», 1901, № 94.
3 Кесаев. Осетинские бесноватые и лечение их. Газ. «Кавказ», 1897, № 185.
307
Так, во время свадьбы («чындзхаст») при выводе невесты из
родительского дома шафер («къухылхаэцэег») поднятой над головой
шашкой «очищал» дорогу невесте от злых духов, особенно опасных и
агрессивных в момент следования ее в дом жениха. Вступив же в новый
дом, новобрачной на колени сажали или давали ей подержать
мальчика, чтобы она рожала детей мужского пола. По представлениям
древних людей, это магическое действие — «нянчание чужого ребенка
должно было привести со временем к нянчанию собственного дитяти»1. Чуть
ли не на каждом шагу подстерегала нечистая сила ребенка- Особенно
опасной была она для него, когда он падал. Чтобы нечистая сила не
успела причинить ему вреда, вокруг упавшего ребенка, еще не
поднимая его, чертили три круга ножом, которые обладали магической
силой— оградить ребенка от приближения к нему «хаейраеджытае».
Магическую силу колдовства осетины «использовали» еще в целом ряде
других семейно-бытовых обрядов.
Магическими обрядами и действиями сопровождал горец многие
виды труда. Древний пахарь, находившийся во власти стихий, свои
надежды возлагал на чудодейственную силу магических обрядов.
«Трудовые процессы земледельческого хозяйства выступают в сознании
первобытного земледельца в волшебном одеянии таинств, дивною силою
которых порождается насущный хлеб человека»2.
Магические обряды, призванные обеспечить урожай, сохранились
вплоть до XIX в., хотя прежней веры в магическую силу их уже не
было у людей, а некоторые вообще превратились в простую
обрядность, потеряв свой первоначальный смысл. Например, еще в прошлом
столетии аграрные праздники «Тутыртае» и «Хоры бон» («Раемон бон»)
сопровождались ритуальным обливанием головы старшего брагой
(густым хлебным квасом). Тот, кто лил жидкость на голову старца,
обращался к мальчикам, присутствовавшим тут, с такими словами: «—Цы
курут, лаеппутае?» (Что вы просите, ребята?) А те отвечали: «—Хор,
хор!» (Хлеба, хлеба!). Эти фразы повторялись три раза, а после
каждого такого диалога исполнитель обряда, как бы удовлетворяя
желание мальчиков, лил брагу на голову старца3.
В некоторых местах данный обряд в «Хорыбон» справлялся в
несколько другом варианте. Вместо старика здесь выступал юноша,
«который на этот случай надевает на себя шубу наизнанку, а лохматую
шапку свою, вывороченную также наизнанку, затыкает за пояс;
старик (ведущий на празднике.— А. М.) обливает голову его брагой, ко-
©
1 Г. Ф. Чурсин. Очерки по этнологии Кавказа, стр. 133.
2 Там же, стр. 48.
5Н. Берзенов. Очерки Осетии. Тутыры хур; Рамон бон; Уацилла; Цоппай. Газ.
«Кавказ», 1850, № 48.
308
торая, стекая, заливает ему рот, уши, ноздри и течет по шубе, и при
этом (старик.— А. М.) восклицает: «Как изобильно льется эта брага,
так да уродится хлеб наш!» — «Аммен!» — отвечают все»1.
По мысли древнего земледельца, обливание в обрядовый
праздник брагой (хлебным продуктом) выбранного всем обществом для этой
церемонии старца или юноши должно было вызвать такое же действие
(«подобное вызывает подобное»): а именно — должен был уродиться
богатый урожай, отчего в закрома сельчан посыпется зерно так же
обильно, как обильно пролилась брага на голову старика или юноши.
Существовали также магические «способы» предохранения
посевов от гибели, вызывания дождя в засуху и т. п. В одних местах
(например, в Дигории) наряжали чучело — «Хангуасса», с которым
сельские старухи с песнями и танцами совершали троекратный обход
вокруг села, после чего чучело окунали или топили в реке- Очевидно,
этот обряд, судя по названию, был перенят от кабардинцев. В других
же местах Осетии женщины и девушки выходили на берег речки и
здесь устраивали «обряд обрызгивания» водой друг друга.
Дождь «вызывали» также путем окунания в воду железной цепи
из святилища (Саниба, Цей, Уакац и др.).
Для вызывания дождя в Санибанском ущелье использовали, кроме
того, человеческие кости, оказавшиеся почему-то в святилище,
которые также обрызгивали водой или окунали в речку. Данный обряд.
А. М. Шегрен описывает так: «У тагаурцев в Санибанском ущелье
имеется пещера «Фаерныг адаг» («благодатный овраг», «благодатная
пещера»); к ней собираются во время засухи в том ущелье бабы и девки
для молитв и совершения жертв испрашивающих дождя.— В этом
ущелье (святилище.— А. М.) между прочими дарами, в разное время
принесенными, хранятся в сундуке неизвестно чьи кости; их-то мочат
женщины при засухе в речке, там протекающей, и потом кладут опять
на место. Поверье утверждает, что после такого обряда всегда
выпадал желанный дождь»2.
Как известно, скотоводческому хозяйству осетин хищные звери
(волки) наносили большой урон. Чтобы отвести эту беду, они
прибегали к магическому обряду—«повязыванию» пасти волков («тутыры
комдараен»). Это должно было, как полагали, повести к посту
хищников3.
Охота, как наиболее древнее занятие, создала и большее число ма-
О
1 Б. Г а т и е в. Суеверия и предрассудки у осетин. Сборник сведений о кавказских
горцах, вып. IX, стр. 31.
2 А. М. Шегрен. Религиозные обряды осетин..., газ. «Кавказ», 1846, № 28.
3 Б. Г а т и е в. Суеверия и предрассудки у осетин, стр. 33.
509
тических обрядов- Об этом подробно рассказывается в одной из наших
работ-
Мы охватили далеко не все области жизни и деятельности
человека, которые были окутаны магическим туманом. Религиозные верования
осетин, как и любого другого народа на земном шаре, были
«пронизаны во всех направлениях магическими поверьями»1.
В религиозных верованиях осетин мы обнаруживаем также
пережитки древних анимистических представлений.
В предыдущих разделах работы мы уже убедились в том, как
сильна была у осетин в прошлом вера в души и духи. Каждый человек,
как полагали они, имеет своего двойника — душу («уд»). Она
неощутима и невидима глазом. Тело человека, по их мнению, является для
нее лишь вместилищем, оболочкой. Жизнь в человеке поддерживается
его душой, она основа его физического существования. Душа может
покидать тело временно — во время сна и обморока или навсегда, но
тогда наступает смерть. Смерть может наступить также и тогда, когда
душа «разрывается» («йае уд аскъуыйы») или уничтожается кем-нибудь.
Ярко иллюстрируется это представление в осетинских сказках и нарт-
ском эпосе. Сказочные великаны и циклопы непобедимы потому, что
они свою душу не «тащат» с собой. Они «прячут» ее. Одни — в
дереве около дома, другие — в какой-нибудь детали дома (потолочной
балке, дверном или оконном косяке, столбе и др.), где-нибудь на
недоступной горе, внутри гранитной глыбы, третьи — в живых существах
(птицах и зверях). Поэтому и в кровавом бою, после того, как их
одолеют противники и даже изрубят, они не погибают: души их спрятаны.
Понятие о душе оставило свой след и в языке осетин. Нередко в
разговорной речи можно услышать следующие выражения и фразы:
«аевдудон у» («он с семью душами»,— о человеке, которого не смогли
согнуть ни жизненные невзгоды, ни тяжкие болезни), «цы фидар уд ыл
ис» («какая у него крепкая душа» — то же), «мае уд ауади» («душа
моя улетела»), «мае удаей мае мидаег ницуал аззад» («у меня душа в
пятки ушла»), «йае уд систа» («скончался», букв, «он вынул душу
свою») и т. д.
Представления, которые породили веру в существование «души» у
человека, были перенесены первобытными людьми на предметы и
явления окружающего их мира, одушевили природу. Так возникло
поклонение духам земли, солнца, грома и молнии, растительности, воды
и рек, животных (домашних и диких) и т. п. А отдельные рощи,
поляны, горы и пр. превратились в места обитания этих духов (божеств),
в места поклонения и жертвоприношений им. Таким путем, например,
О
1 С. А. Токарев. Сущность и происхождение магии. В кн.: Исследования и
материалы по вопросам первобытных религиозных верований, М., 1959, стр. 7.
310
возник культ «святых» рощ и деревьев, который имел большое
распространение у осетин в прошлом, а пережитки его дошли даже до
наших дней.
Указывая на подлинные причины, приведшие к возникновению
веры в самостоятельное существование души, Ф. Энгельс писал: «Уже
с того весьма отдаленного времени, когда люди, еще не имея
никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений,
пришли к тому представлению, что их мышление и ощущение не есть
деятельность их тела, а какого-то особого начала — души, обитающей
в этом теле и покидающей его при смерти,— уже с этого времени они
должны были задуматься об отношении этой души к внешнему миру.
Если она в момент смерти отделяется от тела и продолжает жить, то
нет никакого повода придумывать для нее еще какую-то особую
смерть. Так возникло представление о ее бессмертии, которое на той
ступени развития не заключало в себе ничего утешительного, казалось
неотвратимой судьбой и довольно часто, например, у греков, считалось
подлинным несчастьем.
Не религиозная потребность в утешении приводила всюду к
скучному вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что
раз признавши существование души, люди, в силу общей
ограниченности, никак не могли объяснить себе, куда же девается она после
смерти тела»1.
Вот так возник «загробный мир», где продолжали свое бессмертное
существование души умерших людей. На основе этих представлений
сложился культ предков, получивший окончательное оформление в
период развитого патриархально-родового строя. Вера в загробную жизнь
и культ предков породили целую систему обрядов и идеологических
представлений. Наряду с магией они составляют древнейший пласт
религии осетин. В этом мы убеждаемся, знакомясь с источниками,
освещающими религиозные верования скифов и алан. Так, погребальные
обряды скифов в главных чертах повторяются в таких же обрядах
осетин. «Наблюдая эти, до сих пор сохранившиеся у осетин, обряды,—
писал Вс. Миллер,— невольно вспоминаешь некоторые черты скифских
похорон, записанные Геродотом»2-
Мы уже говорили о том, что осетины загробную жизнь
представляли как продолжение земной жизни. «Души покойников продолжают
в загробном мире заниматься тем же, чем занимались на земле: они
едят, пьют, охотятся, джигитуют и совершают набеги»3. В загробном
О
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. О религии, М., 1955, стр. 175.
2 В. Ф. Миллер. Черты старины в сказаниях и быте осетин. «Журнал Министерства
народного просвещения», 1882, кн. VIII.
3 В. Ф. Миллер. Отголоски кавказских верований на могильных памятниках.
Материалы по археологии Кавказа, вып. III, 1893, стр. 126.
311
царстве они «живут» также семейной жизнью. Мужья дожидаются там
прихода своих жен, а те, придя туда, продолжают им верно служить,
как и на этом свете («уаелэеуыл дунейы»). И даже пока они не
придут к своим умершим мужьям (т. е. пока они живы), они остаются
верными им: заботятся о них, «кормят» их на поминках и с помощью
многочисленных посвящений («хаелар») пищи и продуктов, выделяют
им их долю в пище, ухаживают за ними как и прежде (стелят им по
ночам постель, поливают им «на руки» воду и т- п) А те, кто не
оставил после себя жен (т. е. не были женатыми), женятся, а незамужние
выходят замуж. Так, герой нартских сказаний Сослан рассказывает о
том, как он после смерти, в стране мертвых, женился на дочери
владыки загробного царства Барастыра, от которой у него родился сын-
Понятия осетин о загробном мире представляют несомненный
интерес для характеристики их древней идеологии. Он рисовался им в
более грандиозных (в несколько раз больших), чем реальный мир,
размерах. Последний они называли, как и у многих других народов,
«призрачным миром» («маенг дуне»), а потусторонний мир — «истинным»,
«действительным», «большим миром» («зэцаег дуне», «стыр дуне»). В
нем каждый покойник занимал то место, которое он заслужил себе
на земле («ужлаэуыл царды»). Соответственно этому одни там
«блаженствовали» («пребывали» в раю — «дзаенаеты»), другие за свою
неправедную жизнь и дела на земле переносили тяжкие испытания и
мучения («пребывали» в аду — «зындоны»).
Загробный мир в подробностях описан в произведениях
осетинского фольклора («Сослан в стране мертвых» и др.), в «Баэхфаелдисаен»
(«посвящение коня»), посвящениях («хаелар кзенын») пищи и напитков
покойникам. Покойник (вернее его душа) прежде чем достичь
назначенного ему места, должен был пройти весь путь туда — «дорогу
мертвых», тянущуюся через все загробное царство («маердты фаендаг»). По
левую сторону от этой дороги находились обреченные на муки грешные
люди, по правую сторону — покойники, которые в земной жизни
совершали одно добро и жили праведной жизнью. Мертвые имели своего
владыку, называвшегося Барастыром, который «заведывал» всем за-
1робным миром и вершил дела его обитателей, являлся их судьей. По
поверью осетин, «Барастыр не носит характера сатаны: насколько он
неумолим относительно грешников, настолько же он ласков с душами
людей добродетельных»1.
Загробное царство имело плотно закрывающиеся ворота, у
которых стоял привратник — Аминон. Каждого вступающего в загробный
мир покойника Аминон допрашивал: что тот сделал при жизни (хорошее
или плохое). В зависимости от содеянного на этом свете привратник
О
1 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 245. :
312
одних покойников отправлял в рай, других — в ад. По В. Ф. Миллеру,
эту роль исполнял сам Барастыр: «он встречает мертвецов, определяет
их места в «зындоне» — аду или в «дзаенаете» — раю»1.
Мертвые в своем царстве входили в обычные человеческие
отношения, ходили друг к другу в гости, долей своей пищи угощали
знакомых и приятелей. С согласия Барастыра они время от времени
«посещали» свои семьи — живых родственников, а в «ночь мертвых»
вообще все они «отправлялись» на побывку домой, где их ожидали богато
накрытые столы. Блага, которые «имели» умершие в царстве
Барастыра, доставлялись им родственниками. По понятиям о загробном мире,
пища, которую «давали» осетины своим умершим родственникам, не
съедалась последними, а всегда в «свежем» виде стояла перед ними
на столах — «фынгтыл» и они насыщались ее видом. Это в раю. А в
«зындоне», как бы изобильно ни было на столах покойников, они муча-
лись от голода и жажды: они имели право смотреть на пищу, но не
могли есть («каесыны бар саэ уыд, хаэрыны бар — нэе»).
Забота, которую живые проявляли по отношению к своим
умершим, не только плод религиозного заблуждения. Очевидно, здесь не в
малой степени сказывалась привязанность родственников к близкому
человеку, теперь уже умершему, от которой им не так-то легко было
отрешиться. Психологический момент, несомненно, играл определенную
роль в соблюдении тех обязанностей (обрядов), которые осетины
выполняли по отношению к своим умершим родственникам. Но как бы
ни сильна была эмоциональная сторона этого дела, религиозный
фактор в нем преобладал. Отсюда на протяжении веков устойчиво
поддерживался культ умерших сородичей, который занял одно из
центральных мест в религиозной жизни осетин.
В обрядовом- плане он выражался в «обеспечении» умершего не
только одеждой и пищей, но и всем тем, что человек имел или должен
был иметь, живя на земле. Например, далеко не все осетины имели
лошадей, но когда умирали, их обеспечивали ими, чтобы в загробном
царстве они могли «ездить» на коне.
То, какую заботу проявляли предки современных осетин о своих
покойниках, иллюстрировал М. Ковалевский на археологическом
материале. Он во время совместных с В. Ф. Миллером археологических
исследований на территории, ранее занимаемой осетинами, обнаружил в
могильниках самые разнообразные предметы, которыми пользовались
средневековые осетины в быту — «оружие и украшения, уздечки для
лошади, домашняя утварь и, в частности, трехножный столик (фынг),—
псе это и многое другое»2.
©
1 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 245.
2 М. Ковалевский. Современный обычай и древний закон, т. I, стр. 84—85.
313
Наблюдения М. Ковалевского находят свое подтверждение и в
более поздних археологических исследованиях. В этом отношении
археологические раскопки аланского городища в районе ст. Змейской дают
богатые сведения. В аланских погребениях были обнаружены
буквально все те предметы, которые были в обиходе аланского населения1. В
позднейшее время данный обычай был заменен другим — большиство
предметов уже не стали погребать вместе с умершими, а
ограничивались их изображением на намогильных памятниках2. И здесь, наряду
с аланским материалом, для освещения религии осетин и, в частности
культа усопших, несомненный интерес представляет скифский
материал. Как и у осетин, культ усопших родичей и предков «выражался
в заботе о пище для покойника, снабжении его всем, чем он владел
при жизни, составлении и соблюдении сложных обрядов, помогающих
не только умершему приобрести на том свете достойное, прекрасное
существование, но и перенесению этим самым путем благ и на
живущих его родичей»3.
В этнографической литературе погребально-траурные обычаи и
связанные с погребальным культом религиозно-магические представления
почему-то связываются с культом предков. Нам кажется, что для
такого вывода нет никакого основания. Наоборот, культ предков
сложился на почве уже существовавших до него веры в загробную жизнь и
культа мертвых и был «характерен для позднеродовой стадии, для
патриархально-родового строя»4. Но, как отмечает проф. С. А.
Токарев, «семейно-родовой культ предков сохраняется очень устойчиво и на
последующих стадиях развития общества — там, где
патриархально-родовые пережитки удерживаются уже в классовом обществе. Культ
предков оказывается одним из идеологических элементов,
цементирующих эти родовые пережитки и содействующих их живучести»5. Вот
почему культ предков так ярко прослеживается в религиозных обрядах и
идеологии осетин. Он прежде всего выступает в понятии «нэе зэеронд
маердтае» — «наши старые (древние) покойники», в честь которых раз
в год, в середине декабря, устраивался поминальный обряд «цыппурс».
Частью этого обряда, кроме поминок, являлось разжигание костров из
соломы (во дворе и за воротами), жаром от которых покойники «обо-
О
1 См. Археологические раскопки у станицы Змейской. Материалы по Археологии и
древней истории Северной Осетии, т. I. Орджоникидзе, 1961.
2 См. В. Ф. Миллер. Отголоски кавказских верований на намогильных памятниках.
Материалы по археологии Кавказа, вып. III.
3С. Семенов-Зусер. Родовая организация у скифов Геродота. Р1звестия
Государственной Академии истории материальной культуры, т. IX, вып. I, 1931, стр. 27.
4 С. А. То к а р ев. Ранние формы религии, М., 1964, стр. 273—274.
5 Там же, стр. 272.
314
гревались». Предки — «заеронд маердтае» также наделялись частью
урожая, снимаемого семьей. С каждой культуры хозяева ежегодно
отделяли некоторое количество зерна («первые зерна»); из него они
приготавливали пищу (пироги и «дзэерна») и напитки (квас или пиво),
которые и посвящали («ныххаелар кодтой») покойникам.
Место, где жил предок или был он похоронен, являлось объектом
поклонения, святилищем семьи (рода). Культ предков особо
подчеркивался в обычае обязательного захоронения покойника в родовом
склепе («заеппадзы») или на кладбище, где были похоронены его предки.
Привязанность к «земле предков», к их останкам была одной из
психологических черт осетина еще в сравнительно недавнее время. Этим
чувством руководствовались многие, не решаясь покинуть родные
места, и переселиться с гор на плоскость. Вот рассуждения, которые
побуждали многих осетин-горцев оставаться на месте: «Мы, горцы, бедны,
но ни за что не променяем своих гор на равнины, как те «беглецы»
{переселившиеся на плоскость горцы.— А. М.). Правда, горы скупы
на ячмень и просо, сугробы часто и невозвратно заметают наши
посевы, но они достояние наших отцов; они хранят в себе их кости и
звуки их удалых песен, и эти звуки часто слышатся нашему брату»1. Но
м переселившиеся с гор осетины еще фактически долгое время не
порывали связи с «землей предков», куда из каждой семьи кто-нибудь
ежегодно отправлялся в горы, чтобы принести жертву духам предков,
помолиться «чтимому его семьей святому»2. Нередко переселенцы
«забирали» с собой и своих святых и «поселяли» их около себя»3.
Предки в сознании осетин долгое время оставались такой
«притягательной» силой, что и после переселения людей в другое место, их
прежние кладбища, где покоился прах их предков, продолжали расти.
«Очень часто видишь,— писал Шегрен,— что следов аула не
существует, он давно перенесен далеко от прежнего, а на кладбище, при ауле
этом, все-таки прибавляются свежие могилы»4.
Эту характерную черту в идеологии и быте осетин отмечал и А. Гас-
©
1 Н. Берзенов. Осетинская Сафо. (Картины и нравы из моих воспоминаний).
«Зурна». Закавказский альманах. Тифлис, 1855.
2 А. Ц а л л а г о в. Селение Гизель (или Кизилка). СМОМПК, вып. XVI, стр. 16—17.
3 В прошлом, когда осетины переселялись с гор на плоскость или в другие ущелья,
с собой брали камень или ветку со святилища, которым до этого поклонялся род
переселенца. Из привезенных камней или веток на новом месте основывали новые
хвятилища под теми же названиями и значением. Так, возникли, например, святи-
.лища «Реком» в Саниба, Туалгоме, Дигории и в Южной Осетии, являясь
отпочкованиями Цейского Рекома.
4 А. М. Шегрен. Религиозные обряды осетин, ингуш и их соплеменников, Газ.
«Кавказ», 1846, № 30.
315
сиев. «Туальтинцы, самое древнее осетинское общество в верховьях
р. Ардон, переселившиеся в Грузию,— говорит он,— переносили до
недавнего времени из Грузии своих умерших в древние, оставленные ими
заппадзы»1.
Этот же автор подчеркивает, что кладбища и «зазппадзы», где
похоронены предки и родичи, «считаются священными семейными
местами»2. Поэтому неудивительно, что из всех форм клятвы у осетин
самой сильной была клятва именем предков. Отсюда кладбища и «заеп-
падзы» являлись местом, где приносилась присяга в важных случаях,
о чем мы уже говорили выше. Клятва, данная именем, прахом
предков, являлась как бы гарантией верности присяге. Интересно, что к
такой присяге были приведены в 1830 году тагаурцы на верность
русскому правительству. В ней, в частности, говорилось: «Если я нарушу
мое клятвенное обещание, ныне изреченное, то да не увижу гробов
предков моих, да кости мои истлеют в земле чужой... Да прольется
на могилы предков моих, если нарушу мое обещание, кровь нечистивых
животных»3.
Яркое проявление культ предков получил в культе очага.
Основанный ими, очаг становится святилищем семьи, алтарем, у которого
потомки приносят предкам жертвы, посвящают им поминальную пищу.
Он, кроме того, выполняет роль жертвенника в религиозном культе
осетин. Так, заклание жертвенных животных происходит у очага-
Около него же семья совершает жертвоприношения («нывондаг»)
святым, из которых, кстати, свою долю (первые куски) «получает» и очаг;
перед каждой едой старший семьи также бросает в очажный огонь
кусочки от каждого кушанья.
У очага совершались и освящались все важнейшие события в
жизни семьи, все ее начинания. Очаг служил символом единения
семьи, неразрывности рода. Очагом как святыней клялись; под защиту
его приходил даже враг, кровник семьи. Надочажная цепь, как
принадлежность очага, сделалась также священной. Более того, она
объединила в себе всю совокупность понятий об очаге, перенесла на себя
целиком его значение. Но все это уже ничего не значило, если в очаге
перестал гореть огонь. Неугасимый огонь означал непрерывность рода,
полнокровность, целостность семьи. Жизнь прекращалась в семье («хзе-
дзар бабын и»), если в ней умирал последний представитель мужского
О
1 Г а с с и е в. Осетины, древнейший их культ и позднейший религиозный их индифереп-
тизм. Газ. «Терские ведомости», 1868, № 11.
2 Т а м ж е.
3 М. Баев. Тагаурское общество и экспедиция генерал-майора князя Абхазова в
1830 году. Газ. «Терские ведомости», 1869, № 10.
316
пола: очаг потухал (огонь заливали водой), а цепь снималась.
Создателем и покровителем цепи является небесный Сафа, отсюда он и
покровитель вообще очага, семьи и ее благополучия. В былое время «при
брачном обряде шафер обводит невесту вокруг очага и поручает ее
покровительству Сафа»1, произнося при этом: «Уаеларв2 Сафа, прими
>ее под свое покровительство и защиту».
Покровителя имела и сакля в целом, называвшегося «Бынаты хи-
:цау» («владыка места, жилища»). У дигорцев он известен под
именем «Бундор» («Бындур»). Очевидно, он соответствует домовому у
других народов. «Бынаты хицау» — «Бундор» имел свой особый культ,
ему поклонялись, совершали различные обряды.
По свидетельству В. Ф. Миллера, культовый обряд «Бынаты хицау»
состоял в том, что «после обычного приготовления к празднику, с
наступлением вечера, у иронов хозяин закалывает откормленного
ягненка над ямой, вырытой у овечьего порога. У дигорцев режут ягненка
или черную курицу над ямой, вырытой в земляном полу около порога
сакли, ибо здесь, как полагают, имеет свое местопребывание Бундор-
Кровь, сердце, одна нога, рога, а иногда и все кости ягненка
зарываются в эту яму. Затем остальное мясо сваривается в котле, а из
легких изготовляется шашлык. Хозяин, встав, берет стакан араки левой
рукой, а шашлык правой и, обращаясь лицом к востоку, молится
Бынаты хицау: «О, Бынаты хицау! Подай нам твою милость! Не
искушай нас и не делай нам никакого зла, не тронь ни головы, ни
лошадей, ни скота нашего, ни всего, что нам принадлежит и т. д.».
После такого обращения к «Бынаты хицау», семья выходила из
помещения, чтобы дать «возможность» домовому «прийти» к столу и
«поесть» приготовленной для него жертвенной пищи. Потом, возвра-
тясь через несколько минут в саклю, старший или кто-нибудь из
других членов семьи объявлял, что такой-то кусок сдвинут с места или
там не хватает какого-то кусочка. Это служило достаточным
основанием, чтобы сказать: «Жертва принята»3.
Существовало поверье, что «Бынаты хицау» в отсутствие семьи,
в темноте (обряд устраивался ночью) выходил к накрытому для него
столу и ел пищу.
Данный обряд характерен тем, что жертвенная пища,
приготовленная для «Бынаты хицау» должна была быть съедена только одними
членами семьи; если же в доме случался гость, то для него
приготавливали пищу отдельно.
Мы склонны утверждать, что в образе «Бынаты хицау» («Бун-
©
1 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 249.
2 Уееларв (осет.) — небесный.
3 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 269—270.
317
дор») древние осетины воплотили черты предка, духу которого (в
лице первого) каждая семья поклонялась отдельно и устраивала почести,,
а он покровительствовал ей. Сам обряд уже достаточно четко
воспроизводит замкнутые семейно-родовые отношения: «заботы» предка
были направлены только на прямых его потомков, благожелательные
действия его, согласно родовой идеологии, должны были перейти только*
на них. Поэтому жертвенную пищу, «освященную» предком, «делила»
с ним именно данная семья, но никто другой. Отсюда, она так
заботливо поддерживала с ним добрые отношения. Вывод о том, что «Бына-
ты хицау» олицетворяет собою предка, подтвеждается другим фактом.
В формуле молитвословия в честь этого святого, «отдачи» ему жертвы
имеется такая фраза: «фаелдисаензэн дын фэелдыст фаеуаед, куывдазн
дын куывд», т. е. как посвящение тебе посвящаю, и как кувд тебе
(сделан) кувд!1. В- Ф. Миллер, обращая внимание на эти слова,
разъясняет их смысл так: «Термин «фаэлдыст» употребляется только
относительно мертвых. Поэтому слова хозяина нарочно неопределенны, так-
как неизвестно, отнести ли домового к царству мертвых или нет»2.
Не остается сомнения, что культ предков выступает здесь в
конкретно «осязаемой» форме. В культе «Бынаты хицау» обращает на
себя внимание еще одно обстоятельство. Известно, что женщина из
патриархального рода формы своих взаимоотношений с мужчиной
переносила и на патриархальных богов — Уастырджи, Уацилла (Елиа),
Фаелваера, Тутыр и др. А здесь осетинка не4только называет «Бынаты
хицау» по имени, но последний даже местом своего «пребывания»
избирает «къаебиц» — кладовую, владение женщины. Между прочим,
эту «близость» между «Бынаты хицау» — предком и женщиной
подмечал еще В. Ф. Миллер, который писал: «Бынаты хицау ближе других
духов к женщинам, как видно из того, что им не запрещено
произносить его имя, между тем как всех прочих духов они должны называть
не настоящими именами, а условными, описательными»3.
Казалось бы, что и «Бынаты хицау», этот предок-святой
патриархально-родовой и семейной общины должен был держать «на
расстоянии» женщину, как и указанные выше святые. Но этот факт
объясняется тем, что в нем отразился переходный от матриархата к
патриархату период, «компромисс» между ними. Мы уже говорили о том, что
в прошлом поддержание неугасимого огня в очаге у осетин входило
в обязанность женщины. Очевидно, здесь сказалась древняя традиция,
идущая от скифов. Табити, главная богиня и предок — родоначальница
скифов считалась у них и покровительницей домашнего очага.
О
1 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 270.
2 Т а м ж е.
3 Т а м ж е.
318
Нечто подобное, правда, в меньшей степени, мы наблюдаем в
культе «Бынаты хицау» и о том, как у осетинского очага1, так же, как и у
скифского2, одной из обязанностей женщины было поддержание в нем
неугасимого огня. Не случайно В. Ф. Миллер писал: «Что касается
домашнего очага, то едва ли осетины почитают его менее древних
скифов».3 Культ домашнего очага примыкает к более древнему культу
огня. Огонь с его очистительной силой широко входит в религиозно-
магическую обрядность осетин, а вечное горение его символизирует
(«обеспечивает») непрерывность рода, благополучие семьи. Огнем, как
и очагом и предком, клялись осетины.
Следующим большим разделом религии осетин являются
«хозяйственные» культы. Как известно, формы общественного сознания,
отражая условия материальной жизни общества, следуют за
характером изменений, происходящих в его экономическом строе. Сознание
людей первобытного общества, перешедшего от собирательства и
охоты к производству необходимых продуктов существования, фиксирует
это событие в религиозных верованиях. Так, с развитием земледелия
и скотоводства возникают аграрный и скотоводческий культы.
Осетины, как древний земледельческий народ, создали множество
земледельческих обрядов и поверий. Земледельческий труд породил и
божества — покровителей, среди которых главным является «Уацил-
ла».4 Аграрные духи «Бурхорали», «Хуарилдар», «Галаэгон»— божества
меньшего ранга и с более узкими функциями. Р1з них более древнее
происхождение имеет «Бурхорали», первоначально — покровитель
культуры проса (просо было первым и основным хлебным злаком у алан),
что устанавливается из самого названия божества. «То, что в
названии хлебного божества мы находим именно просо, а не другой злак,—
пишет В. И. Абаев,— говорит о том особом значении, какое имела
для древних осетин культура проса, по сравнению с другими
злаками»4.
К древнейшему периоду следует отнести и «Хуарилдар»
(«Владыка хлебов»). Очевидно, он имел те же функции и значение, что и
«Бурхорали». В народном сознании (по фольклору) «Хуарилдар»
предстает с такой характеристикой: «Он первый указал человеку,
как получать из земли ее плоды и соки («заеххы сой»). Он же первый
пустил длинную борозду по полю и засеял широкую пашню. Он
отбирал животных для тяжелого земледельческого труда, чтобы сделать
О
1 Газ. «Терские ведомости», 1868, № 11.
2 М. И. Артамонов. Антропоморфные божества в религии скифов, стр. 58.
3 В. Ф. Миллер. Черты старины в сказаниях и быте осетин, ЖМНП, 1882, кн. VIII,
стр. 205.
4 В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 273—274.
его легким для человека и отобрал волов. В плуг «Хуарилдар» впряг
волов, которых сам погонял, а «Уастырджи (св. Георгий) водил их
(правил ими), семена же таскала «Мады Майраем» (Мария
Богородица), а «Никкола» (св. Николай) был сеяльщиком»1. «Гала&гон»
играл более скромную роль — он был всего лишь владыка, повелитель
ветров, которые он мог направить во вред или на пользу земледельца
(во время провеивания обмолоченного зерна).
«Уацилла» (Елиа) — аграрное божество уже более развитого
культа: он не только покровитель хлебных злаков, но и всего
земледельческого труда, а также повелитель стихийных сил природы — грома,
молнии и дождя.
«Уацилла» имеет очень сложную природу. По мере развития
хозяйства и мировоззрения древних предков он объединил в себе
функции других божеств или духов, «влиявших» в той или другой степени
на результаты земледельческого труда. Под именем «Уацилла»,
очевидно, скрывается древнеосетинское божество природы. Гром, молния,
дождь и снег являются стихией «Уацилла».
«Уацилла» имел свой особый культ. Он был распространен
главным образом у горных осетин (Тагаурии). Ему в жертву на
общественном празднике закалывали черного козла, шкуру от которого
вешали на длинном шесте («эевгъил») около святилища. В сел. Цагат
Ламардон (в Даргавском ущелье) в честь этого святого имелось и
широко известное на всю Осетию святилище — «Тба-Уацилла». В день
праздника (в июле месяце) сюда ежегодно собирались не только
жители нагорной полосы, но и равнинных сел. У святого путем
жертвоприношений и молитв испрашивали обильный урожай.
Одновременно с общественным обрядовым праздником
совершалось празднование дня святого и отдельно каждой семьей, с
закланием жертвенного барана.
К «Уацилла» — божеству природы примыкал другой дух
природной стихии, погоды — «аевриагъ», ведавший облаками, ливнем и
градом. Ему молились и делали жертвоприношения. Местом его
«пребывания», святилищем обычно являлись старые общинные башни. Такое
святилище-башню поэтому нередко называли «хъаеуызээд» («ангел
села»).
Итак, от «Уацилла» и других олицетворенных сил природы, как
полагали дервние осетины, 'зависел урожай хлеба, основа жизни
людей. Так возникла целая вереница верований и обрядов, связанных с
земледелием. Первым таким обрядом в годичном кругу был праздник
«Новый год» («Ног бон»). «Приготовления к встрече нового года, как
О
1 Памятники народного творчества осетин, вып. II, стр. 142; В. И. А б а е в. Истори-
ко-этимологический словарь осетинского языка, II, Л., 1973, стр. 181.
320
правило, начинались задолго до праздника. Еще осенью, при сборе
нового урожая, каждая семья откладывала определенную часть зерна,
предназначавшегося на выпечку новогодних ритуальных хлебов,
приготовление пива, водки и пр. Осенью же выделялось жертвенное
животное, за которым следил сам глава семьи. Накануне нового года
в каждой семье шли большие приготовления к празднику»1. В ночь
накануне праздника «хозяйки заготовляют множество лепешек,
представляющих фигуры людей, животных и разных предметов (сохи,
ярма, бороны и др.— А. М.). Приготовляются также лепешки с
сыром под названием «басылтае», а также большой пирог, называемый
«аертхурон»2. Выпеченными пирожками одаривали и угощали
приходивших в праздник поздравителей («басылгуртае»), а изображениями
земледельческих орудий — членов семьи, которым в наступившем
году предстояло проводить пахоту.
Интересно, что в связи с культом земледелия и у скифов
существовал обычай приносить в святилище в качестве жертвенных
предметов модели зерна и антропоморфных фигурок3.
Поскольку в урожае, как полагали, «имеется» и доля «участия»
покойных родственников, «способствовавших на том свете успеху в
хозяйственных делах покинутой семьи, то последняя отвечала на их
«заботу» устройством специального обряда — «сагаейтты асхсжв» — «ужин
вил» (у дигорцев — «аехсирфаефтауэен» — «складывание серпов»).
Обряд этот справлялся осенью, по окончании уборочных работ и
обмолота зерна, чтобы и покойники тоже «сложили» свои орудия труда.
Напитки и пища, приготовленные к этому «ужину», посвящались
покойникам.
Обильный урожай крестьяне просили у святых не только в
моменты известных во всей Осетии аграрных праздников и в известных
святилищах («Тба-Уацилла» и др.)> но и в целом ряде других случаев,
а также в некоторых общинных святилищах. Так, в селении Лац (Кур-
татинское ущелье) ежегодно перед началом жатвы— (в середине июля)
местное население приходило к святилищу «хуыцау-дзуар» и молило
«о благополучном окончании полевых работ»4.
У осетин в прошлом были широко известны святые «Мыкалгабыр-
©
1 3. Д. Г а г л о е в а. Составные элементы праздника «Ног бон». Известия
Юго-Осетинского научно-исследовательского института, вып. IX, Сталииири, 1958, стр. 157.
2 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 266; В. И. Абаев указывает, что
«культ ЛВртхурона — один из отголосков древнего осетинского культа огня» (Исто-
рико-этимологический словарь осетинского языка, стр. 182).
3 А. П. Смирнов. Скифы, стр. 162—163.
4 Н. X а р у з и н. Археологические экскурсии в Чечню и Осетию. Газ. «Терские
ведомости», 1886, № 66.
21 А. X. Магометов 321
тае». Этим именем осетины называли архангелов Михаила и Гавриила;
но под именем «Мыкалгабыртае» скрывалось, очевидно, какое-то
языческое божество, наделенное некоторыми чертами божества изобилия и
плодородия. Святилище «Мыкалгабыртае» имелось в Цейском ущелье,
где ежегодно летом совершалось обрядовое пиршество. Кроме того, на
любом торжестве в честь «Мыкалгабыртае» провозглашался особый
тост, с которым обращались к святым об обеспечении им изобилия в
хлебе («баеркад»).
Культ земледелия породил, помимо перечисленных праздников и
обрядов, и другие магические обряды — «вызывание» дождя, стук в
стены амбара и сапетки («къуту») при первом весеннем громе и пр.
У осетин был развит также скотоводческий культ. Он древнее
земледельческого (ввиду большей древности скотоводческого
хозяйства).
О древности скотоводческого культа говорят многочисленные
фигурки животных (по большей части из глины), находимые
археологами в скифских, сарматских и аланских могильниках, а также
стилизованные изображения бараньих головок и рогов, широко известных
в скифском и алано-осетинском изобразительном искусстве.
Скотоводческое хозяйство породило также многочисленные
верования и обряды. Покровителем домашнего (мелкого рогатого) скота
считался «Фаелваера». Последний представляет искаженное название
христианских святых Флор и Лавр, считавшихся покровителями
домашнего скота. Но «Фаелваера», являясь по сути древнеосетинским
языческим божеством — покровителем домашнего скота, а именно овец, не
потерял своих первоначальных функций. Он имел свой особый культ.
Ежегодно в августе месяце осетины-овцеводы в качестве
жертвоприношения «Фаелваера» резали барашка и приготовляли «дзыкка». В
ритуальной речи старший семьи, обращаясь к «Фжлваера», просил святого
умножить скот «на столько, сколько звезд на небе» и защищать овец
от волков.
Овцеводческому хозяйству, как известно, самый большой урон
наносили волки, которые, как и все животные, имели своего
покровителя— «Тутыр». Последний, как и «Фаелваера», свое название
позаимствовал из христианского культа. В осетинский пантеон он вошел
через грузинское посредство, как и другие святые с христианскими
именами- У горных грузин-мтиулов имелся скотоводческий праздник
«Теодороба»1- В основе этого праздника лежат дохристианские
верования, на которые наслоился новый христианский элемент в образе ев-
Феодора-
©
1 Л. Б. Панек. Скотоводческий праздник «Теодороба» у мтиулов. Советская
этнография, 1936, IV, стр. 4 — 5.
322
Определенную связь с данным фактом имеет, как нам кажется.,
и история возникновения культа «Тутыр». Осетинский святой,
сохранив, как и грузинский праздник, свои древние черты, в христианском
осмыслении получил название «Тутыр» (от смешения двух имен «Тео-
дороба» и «Феодор Тирский»).
На осетинской почве определились и его «конкретные» функции —
оберегание овец от волков-хищников. Таким образом, «Тутыр»
оказался не «пастырем» овец (им является «Фаелваера»), а хозяином,
повелителем волков. Поэтому волки, как полагали горцы, без ведома
своего владыки не истребляли овец. Отсюда осетины-скотоводы
старались быть с «Тутыром» в самых добрых отношениях: они «платили»
ему «хъалон» (подать) принесением ему в жертву козла («Тутыры
цаеу»), устройством особого праздника «Тутыртаэ», исполнением
обряда «Тутыры комдараен» (пост ТутыраI и т. п-
Во время праздника «Тутыртае» не работали и постились не
только пастухи, но и все жители аула, как старые, так и молодые.
Вечером, перед обрядовым ужином мальчик-пастух обращался к «Тутыру»
со словами оградить от волчьих пастей их овец, «заткнуть» волкам
глотки камнями и пр.2
Магическое «повязывание» пасти волков должно было, как
полагали, повести к посту хищников. Эти обряды как раз и раскрывают
древнеязыческую природу святого.
Культ скотоводов включает в себя также некоторые обряды,
призванные магическими действиями «способствовать» увеличению
поголовья скота, оградить животных от падежа и «дурного глаза» и др.
В числе хозяйственных культов большой интерес представляет
культ охоты. Последний интересен прежде всего тем, что он как
древнейший культ сохранил и самые древние черты религиозного
мировоззрения осетин. Некоторые архаические обряды, связанные с
охотой, сохранились в своей первобытной чистоте до недавнего времени.
Охота и звери, на которых охотились осетины, по их понятиям,
находились под покровительством особого божества «ЛЕфсати». Всякий
успех или неудача в охоте, как полагали они, зависели от воли «уЕф-
сати». Отсюда выработался культ охоты во главе с
богом-покровителем, а также особый охотничий язык, «^фсати» не имел специальных
культовых праздников и святилищ, как большинство осетинских
святых, а почитался он охотниками, которые каждый раз, когда
отправлялись и находились на охоте, или уже охотились, соблюдали особые
правила и совершали различные магические обряды. Божеству
охоты, кроме ритуальных жертв, охотники приносили также специальные
О
1 Б. Г а т и с в. Суеверия и предрассудки у осетин, стр. 33—35.
2 В. И. А б а е в. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 367.
323
дары — рога убитых животных, которые они складывали в наиболее
популярных святилищах.
Осетинами почитался и владыка водного царства, дух морей и
рек «Донбеттыр». Последний в основном встречается в эпосе, где
«некоторые герои ведут от них («Донбеттыров».— А. М.) свою
родословную»1. «Донбеттыр» считался покровителем рыбаков («балердзау-
тэе»). Ему поклонялись последние, соблюдая в момент промысла
определенные обряды (подобно тому, как это было принято у охотников в
отношении «Л^фсати»).
Надо полагать, что в древние времена у осетин существовал и
более обширный культ «Донбеттыра», отмечавшийся особым праздником
«Каефты куывд». Он справлялся еще в недавнем прошлом некоторыми
фамилиями в Дигории. Интересно отметить, что «каеф» (крупная рыба,
преимущественно сушеная) выступал у осетин в качестве почетного
жертвоприношения на некоторых праздниках и обрядах. Нам кажется,
что и осетинское название месяца октябрь — «каефты маэй» (месяц рыб)
восходит также к древнему культу рек и морей и их обитателей — рыб.
С верованием в водяного духа связано и верование в существование
водяных девиц («доны чызджытае»), считавшихся дочерьми
«Донбеттыра».
Очевидно, в древности, когда аланы обитали еще на берегах
Черного моря и больших рек: Дона, Кубани и Днепра у осетин сложился
праздник в честь владыки водной стихии (а вместе с ним и его
«дочерей»), который впоследствии был использован христианскими
миссионерами для внедрения в среду осетин христианского обряда крещения.
Под этим влиянием обряд получил название «Доныскъаефаен»
(черпание воды, хватание воды). Он заключался в том, что «рано поутру
кто-нибудь из женщин с тремя лепешками идет к воде, произносит
молитву и приносит воду, моются ею с благоговением все члены
семейства»2.
Из сказанного явствует, что обряд сохранил свою первобытную
основу — веру людей в магическую «очистительную» силу воды. Этот
наш вывод подтверждается и самой языческой традицией обряда. Что
это не христианский обряд крещения, доказывается еще и тем, что
для этого акта у осетин существовал особый термин «донаргъуыд»
(водное крещение), применявшийся для обряда крещения
новорожденных и обращаемых в христианство осетин путем окропления водой.
Г. Ф. Чурсин же «Доныскъаефаен бон» называет женским
праздником в честь «водяных девиц» («доны чызджытае»K. О почитании
последних говорит также тот факт, что в общей молитве они перечисля-
©
1 В. И. А б а е в. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 367.
2 Т а м же, стр. 368.
3 Г. Ф. Чурсин. Осетины. Юго-Осетия. Материалы по изучению Грузии, стр. 50.
324
лись в ряду других святых, с обращением к ним «охранять от
потопления»1. Действительно, осетины утопленников называли жертвами
«доны чызджытае». По представлению древних осетин, человек тонул,
когда они («водяные девицы») хватали его за ногу и тащили к себе.
Как видим, в празднике «Доныскъаефаен» присутствуют два
элемента первобытного времени — вера в «очистительную» силу воды и
культ «доны чызджытж»- Не исключена возможность, что и широко
известный в прошлом праздник «касутае» (вывод молодых невесток к
реке) связан генетически с культом «доны чызджытае».
Что же касается названия «Донбеттыр», то оно образовалось от
«дон» — вода, река, и «Беттыр!» — Петр (апостол), считавшегося
покровителем моряков и занимавшегося рыбачеством (по евангельским
рассказам). «Этим объясняется, — пишет В. И- Абаев, — что функции
старого языческого водного божества были после христианизации алан
присвоены именно апостолу Петру»2.
Нам давно известно, что «кузнечное дело стояло у древних
осетин на значительной высоте и пользовалось большим почетом»3.
Отсюда оно, как и другие отрасли хозяйства у осетин, создало своего
патрона в лице небесного кузнеца «Курдалаегон». «Курдалаегон» очень
популярен в нартском эпосе и занимает почетное место в пантеоне
осетинских богов. Но осетинам он меньше знаком в религиозном
плане, чем в мифологическом. Правда, по верованию осетин, оружие и
железные изделия, якобы изобретенные им, обладают магическими
свойствами, о чем мы уже говорили раньше. Культ бога-кузнеца у
осетин, как и у римлян, указывает В. И. Абаев, связан преемственно с
тотемическим культом волка4.
Своеобразные географические и экономические условия в сознании
осетин вызвали переосмысление действительности, которое создало
духов, управляющих отдельными участками горной страны
(труднодоступными или опасными для перехода). Они были известны у осетин
под именами «Фаендаджы заед» (ангел пути) и «^Ефцаеджы дзуар»
(святой перевала). Безопасность в пути, как полагали, могла быть
обеспечена под покровительством «владыки» дорог «Фэендаджы заед».
Поэтому горец, отправляясь в дорогу и находясь в пути, поручал ему
свою судьбу, приносил жертву из своей дорожной провизии («йае фаен-
даггагаэй») и возносил ему молитву. Так поступали в местах, опасных
для переезда.
О
1 Н. Ф. Дубровин. Осетины. История войны и владычества русских на Кавказе,
т. I, кн. 1, стр. 317.
2 В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 368.
3 В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, стр. 52.
4 Там же, стр. 71, 592.
«Фаендаджы заед» призывали также в день свадьбы (при
отправлении невесты в дом жениха), чтобы он был путеводителем молодых в их
предстоящей совместной жизни так же, как и покровителем в этот
день в пути: «О, фаендаджы заед! Просим тебя..., чтобы путь их был
прям и чтобы они никогда с него не сбивались!»1
«ЛЕфцаеджы дзуар» обычно находился на опасных переходах
горных перевалов. Скотовод (пастух), переходя через перевал со скотом,
закалывал барана или козла как жертву святому, а снятую с
животного шкуру вешал на шесте около святилища (как материальное
свидетельство дароприношения). При переходе через перевал путники
приносили в дар «^Ефцаеджы дзуар» серебряную монету, завернутую в
вату или шелковый лоскут, железный наконечник стрелы или три
пирога, часть которых съедалась, а часть оставалась на жертвеннике
для проезжающих, чтобы и они могли помолиться святому как за
них, так и за себя. Эта традиция у осетин сохранялась до недавнего
времени. Любопытно отметить, что со значением «уЕфцаеджы
дзуар» в Куртатинском ущелье (с. Кора) имелось святилище
«уЕвзаендаег». ;
Болезни, по понятиям древних людей, находились во власти
определенных духов, божеств. Такими божествами у осетин являлись «Ры-
ныбардуаг» и «Аларды». «Рыныбардуаг», по верованию осетин, «ведал»
повальными болезнями — эпидемиями и эпизоотиями, которые были
постоянным явлением в Осетии. «Рыныбардуаг» являлся
общеосетинским божеством и имел свой особый культ. Когда в каком-нибудь
ауле появлялась эпидемия или падеж скота, жители соседнего с ним
аула выбирали из своей среды группу молодых людей, которым
поручалось отправиться в шествие по аулам с пением религиозных и
светских песен. Приближаясь к аулу, они останавливались недалеко от
него и, составив круг, обращались к «Рыныбардуаг» с песней: «Ой,
Рыныбардуаг! От тебя наши болезни и здоровье. Сохрани этот аул
от твоего гнева, старые и молодые — твои гости»2. Жители аула,
встретив участников обрядового шествия, приглашали их на сельскую
площадь и щедро угощали. «Подвижный хор в каждом ауле делал
ночевку, не переставая петь день и ночь. Жители за это дарили им быков,
коров, баранов и прочее. Из набранного скота лучшие животные, по
возвращении в аул, приносились в жертву Рыныбардуагу, остальные же
делились подворно, и затем каждый хозяин откармливал «нывонды» ко
дню Рыныбардуага»3.
Но, как свидетельствует Б. Гатиев, данный обычай (обход сел с
О
1 Б. Гатиев. Суеверия и предрассудки у осетин, стр. 21.
2 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 250.
3 Б. Гатиев. Суеверия и предрассудки у осетин, стр. 56; В. Ф. М и л л е р.
Осетинские этюды, ч. II, стр. 250.
326
пением) уже к 70 гг. перестал бытовать. В Дигории же существовал
следующий обряд умилостивления «Рыныбардуаг». Когда в доме
имелся больной, то покупали балык («каеф») и вешали его над головой
больного. К балыку еще подвешивали серебряную монету. Затем,
когда больной выздоравливал, женщины из данной семьи и соседних
домов собирались за селом около священного дерева, чтобы вознести
благодарственные слова богу здоровья. В качестве жертвенных
приношений сюда доставляли с собой пироги с сыром, кувшин молока и
балык, висевший над больным. Старшая из женщин, выполнявшая роль
жертвоприносительницы, складывала под дерево пироги, и, взяв, в
руки кувшин с молоком, с пением священных песен обходила
несколько раз дерево, поливая его молоком; остальные женщины следовали
за ней. Когда молоко кончалось, женщины садились перед деревом и
ели пироги и балык. Уходя же домой, каждая из женщин оставляла,
привешивая на дереве, по одной или несколько серебряных монет как
дар «Рыныбардуагу»1.
Этнографический материал показывает, , что существовали и
другие формы (обряды) почитания его. Он не имел, однако, специальных
святилищ и определенного дня для отправления культа, как другие
«святые». Обряды и моления в честь «Рыныбардуаг» устраивались
главным образом в моменты, когда он «напоминал» о себе, т. е.,
когда вспыхивала эпидемия какой-нибудь болезни или ее появление
предсказывали «прорицатели», или же когда в семье кто-то болел и
испрашивали у святого его исцеления.
Из среды других болезней осетины выделяли оспу, которая
имела и «свое» отдельное божество — «Аларды». Культ «Аларды» был,
пожалуй, самым распространенным и устойчивым в Осетии и
сохранялся вплоть до первых лет Советской власти. Широкое
распространение/этого культа среди.осетин имеет социальные корни. Осетины, как и
другие горские народы Кавказа, в прошлом испытывали большие
бедствия от эпидемии оспы, уносившей сотни и тысячи человеческих
жизней. В этих условиях древние предки олицетворяли оспу и стали ее
почитать как божество: отсюда и ее название «дзуар» (святой). Что
же касается названия «Аларды», божества, ведавшего этой болезнью,
то «оно происходит от названия местности «Алаверды» в Кахетии с
древним и весьма почитавшимся в Восточной Грузии храмом Иоанна
Крестителя, где ежегодно в сентябре справлялось празднество,
привлекавшее множество богомольцев, в том числе много больных,
приезжавших в надежде получить исцеление от «святого»... У осетин и
грузин-мохевцев Дарьяльского ущелья праздник «Аларды» совпадает
с днем Иоанна Крестителя, что позволяет думать, что именно на по-
а В. X. Кое-что о дигорцах. Газ. «Кавказ», 1887, № 340.
327
следнего были перенесены черты древнего божества, одновременно и
насылающего болезнь и исцеляющего от нее»1.
В ведении «Аларды» находилась и корь — «фадынаег». У дигорцев
она даже позаимствовала название оспы, с прибавлением к нему
признака болезни — «красный»: «сурх дзиуарае» (красная оспа), в
отличие от «уорс дзиуарае» (белой оспы), собственно оспы. Эти же
признаки болезней, с возведением их в святость, были использованы в
качестве эпитетов для их патрона «Аларды» — «светлый», «золотой»,
«красный».
Святилище «Аларды» в виде отдельно стоявших около села
деревьев или специально для этого построенных капищ имелись почти в
каждом селении дореволюционной Осетии. Некоторые из святилищ
«Аларды» были общими для группы сел, как например, святилище в
местности «Сауы саер» для жителей Дагома, Цамада, Унала и Зинца-
ра, а также выходцев оттуда. Обрядовые моления и
жертвоприношения «Аларды» устраивались весной, в один определенный день.
Вне этого времени культ «Аларды» активно, всем сельским
обществом или целым ущельем, отмечался во время эпидемии оспы.
В жертву «Аларды» осетины приносили ягненка или годовалого
барашка, а в качестве жертвенных предметов — кусок белой ваты,
серебряную канитель и серебряную монету.
Когда в доме находился больной оспой или корью, его не
умывали и не купали, не стирали также белья. Мать же больного
ребенка, а также другие женщины в доме не выполняли «грязной» работы,
не мыли шерсть и не занимались ее обработкой. Эти табу
выполнялись членами семьи для того, чтобы «святая» болезнь «не
почувствовала» пренебрежительного отношения к себе и «не подумала», что от
нее хотят «очиститься», «избавиться». После выздоровления ребенка ему
устраивали обрядовое купанье с соблюдением специального ритуала
и принесением в жертву «Аларды» ритуальных пирогов и напитка.
Затем уже старшие женщины шли к святилищу «Аларды» и устраивали
здесь благодарственный «куывд». Такой же «куывд» у святилища
устраивался и до этого, вначале болезни, чтобы умилостивить
святого.
Вообще, связанная с данным культом обрядность была построена
исключительно на задабривании «Аларды», на том, чтобы не
прогневить его и в то же время «держать» грозного святого «на расстоянии».
Так, во время празднования дня «Аларды» старший обращался к
святому с такими словами: «Уае, Аларды, табу даеуаен! Дардаей дын кув-
дзыстаем, хаестаегмае наем- ма 'рбацу; куы 'рбацаеуай, уаед хъаелдзаегаей,
куы цаеуай фаестаемае, уаед та нае худгаейае ныууадз» («Слава тебе, о,
О
1 В. И. А б а е в. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 43—44.
328
Аларды! Будем тебе молиться издали, только не приближайся к нам;
если же придешь, то с радостью, а когда будешь уходить обратно,
то оставь нас веселыми», т. е. невредимыми).
Характерно, что молельни «Аларды» («Алардыйы дзуаерттае»)
строили без окон, с одной дверью, обращенной в противоположную от
села сторону, «спиной» к поселению, чтобы жители не оказались в
поле зрения его грозного «хозяина». На почве этого взгляда родилась
и соответствующая формула обращения к «Аларды»: «Уае, Аларды, дае
чъылдыммае дын кувдзыстаем, де 'ргом наем ма раздах» («О, Аларды,
мы будем молиться твоей спине, не обращай к нам своего лика»).
Было известно несколько песен в честь «Аларды», содержанием
которых также было восхваление и задабривание патрона оспы.
Кроме хвалебных песен и молитв в честь «Аларды» устраивались
пляски и даже скачки и джигитовка, чтобы только задобрить
«властителя оспы» и избежать его гнева.
У осетин в древности важное место занимало и божество,
«управлявшее» деторождением и считавшееся покровителем детей, а также
браков.
Когда происходила замена первобытных имен языческих богов
новыми, христианскими, древнее божество чадородия было названо
«Мады Майрэем». Академик А. М. Шегрен так характеризует это
божество: «Святая Мария почитается у всех осетин покровительницей
супружеского благополучия и плодородия; ей молятся и приносят
жертвы после всякого разрешения от бремени»1. Действительно, до
сравнительно недавнего времени в семейной обрядности культ «Мады Май-
раем» занимал значительное место. Например, «на третий день после
окончания свадебного пира новобрачную («чындз») вели к святилищу
«Майраем», находившемуся вблизи каждого селения. «Чындз» шла в
свадебном наряде, но без фаты, ее сопровождали шафер («къухылхае-
цаег»), женщины и дети — новые родственники. Впереди процессии
бежали мальчики; в руках у них были камни и пули. Одна из почтенных
пожилых женщин несла три пирога, одна из девушек — кувшин с
водкой («арахъхъ») или с пивом («баегаены»)- Другая девушка беспрерывно
играла на гармони. Приближаясь к святилищу, мальчики выбегали
вперед и, пока «чындз» подходила к «Майраем», осыпали святилище
камешками и пулями с криками: «О, Майраем, вот столько мальчиков
и одну синеокую девочку дай нашей чындз»2.
О
1 А. М. Шегрен. Религиозные обряды осетин, ингуш и их соплеменников. Газ.
«Кавказ», 1846 г.
2 Е. Г. П ч е л и н а. Родильные обычаи у осетин. Журн. «Советская этнография», 1937,
№ 4, стр. 86; В. Ф. М и л л е р. Религиозные верования осетин. Осетинские этюды,
ч. II, стр. 252.
329
Такое же было содержание и молитвы, произносимой шафером.
К «Майраем» приходили также молодые женщины, когда у них не
наступала беременность. В качестве жертвенных предметов женщина
приносила кусочек ваты или вотивную люльку1. После рождения
ребенка молодая в сопровождении повитухи и соседских женщин вновь
шла к святилищу «Майраэм» с жертвенными приношениями —
ритуальными пирогами, пивом или брагой. После обрядового моления
роженица выливала на «Майрэем» пиво из чаши, а «сопровождавшая ее
женщина говорила: «^Ехсыр даем бирае уаед!» (Будь обильна
молоком!» и передавала роженице чашу с зернами, которые та съедала»2.
В культе «Майраем» после рождения ребенка принимали участие
и родственники матери («цаегат»): они дарили новорожденному «май-
раемаг» — теленка или овцу. В жертву «Майраему» приносили не сами
«майраемаг», а их приплод.
В честь «Майраем» в Осетии справляли также два общественных
праздника — «устыты куывд» (праздник женщин) и «чызджытыбадаен
Мады Майраемы тыххаей» (букв.— «сидение девушек в честь матери
Марии»).
Культ «Майраем» выступает также в некоторых табу,
выполнявшихся женщинами в пятницу, носящего имя этого святого — «майраем-
бон»: в этот день женщины не брали иголку в руки и не шили.
Божеством чадородия и покровителем браков считался и «Хуыцауы
дзуар» («божий святой»), культ его почитался только жителями
горной Осетии, «которые поставили в честь его молельные дома, похожие
на часовни, но без окон и образов». «В его осенний праздник,— писал
В. Ф. Миллер,— жители аула режут около молельни козлов или
баранов по числу рожденных в течение года мальчиков и девочек и
выданных в замужество дочерей»3. Характерными особенностями культа
«Хуыцауы дзуар» являлось и то, что на пиршество в его честь не
допускались гости- Молитвы «хуыцауы дзуару», как пояснял В. Ф. Миллер,
имели «целью умножить потомство мальчиками»4.
Покровителем чадородия, дарующим мужское потомство, являлся
также святой «фыры5 дзуар» («святой барана»), находившийся в
горном Даргавсе. К этому «дзуару» приходили не только замужние
женщины, но и засватанные девушки. В качестве жертвенных даров
женщины приносили изображения баранов.
Аналогичный «дзуар» имелся и в Дигорском ущелье. Назывался
О
1 Е. Г. П ч е л и н а. Родильные обычаи у осетин, стр. 89.
2 Там же, стр. 96.
3 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 251.
4 Там же, стр. 252. .
5 Фыр (осет.) — баран-производитель. . •*
330
он" «наелы дзуар» («святой самца»). Он, очевидно, функционировал
столетия, о чем говорит тот факт, что селение «Фаеснаел», где стоят
теперь средневековые башни, получил свое название от этого «дзуара»,
«Фаеснаел» в буквальном переводе означает: село, расположенное
«позади святилища самца». По рассказам местных жителей, в это святи-
лшще приходили молодые женщины, у которых рождались только
девочки, и просили у святого мальчиков. Сюда ходили также девушки,
которым подходило время выходить замуж: они заблаговременно
старались расположить к себе святого, завоевать его «благосклонность»,
7что, по их мнению, обеспечивало бы им в будущем рождение детей
:мужского пола.
Имелись, кроме того, божества и духи, которые были известны
только на ограниченной территории: они почитались жителями лишь
одного аула или ущелья. «В каждом ауле,— писал В. Ф. Миллер,—
можно найти аульного дзуара, который носит название «хъаеуы заед» —
«ангел аула» и имеет в году свой праздник»1- «Это — культ аульных
покровителей, каждый из которых имел свое определенное святилище»2.
Особое место в религиозных верованиях осетин занимал культ
«Уастырджи» (св. Георгия). «Уастырджи» главный персонаж пантеона
осетинских божеств и самый популярный из них.
По описанию А. Цаллагова, использовавшего представления
современных ему осетин, «св. Георгий имеет белую лошадь, сам роста
большого, симпатичен, одевается в белый халат, храбр и добродушен»3.
По этим же представлениям, он сидит на небесах около
создателя-бога («хуыцауы раз») и стоит на страже интересов людей,
особенно бедных; обиженных же он ласкает («раевдауы»), а обидчиков
наказывает. Перед богом он заступается за людей и просит у него
всякие дары для них.
По характеристике осетин, приведенной В. Ф. Миллером,
«Уастырджи» считается бичом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц
я покровителем честных людей и домашних животных»4.
Однако «Уастырджи» больше всего был известен как покровитель
боинов и путников-мужчин и вообще считался богом-покровителем
мужчин («лаегты дзуар»). Осетин, отправляясь в прошлом на войну, в
«балц» и в дальнюю дорогу, призывал себе на помощь «Уастырджи»,
приносил ему жертвы.
Тщательное рассмотрение образа «Уастырджи» и его функций при-
ъодит нас к выводу о том, что осетинский «бог мужчин» унаследовал
О
1 А. Ца л лагов. Сел. Гизель (или Кизилка). стр. 17.
2 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 242.
3 А. Ц а л л а г о в. Указ. соч. стр. 18.
"* В. Ф. М и л л е р. Указ. соч., стр. 243.
331
черты древнеаланского бога войны, которому аланы поклонялись в
образе меча1. Надо полагать, что аланский бог войны обладал также
функцией покровительства воинам, способностью «обеспечивать» им
удачу в военных предприятиях и безопасность в пути во время
похода («балц») и т. п.
Почти в каждом селении Осетии «Уастырджи» имел святилище;
ему был посвящен самый популярный в прошлом праздник «Джеоргу-
ба», справлявшийся повсеместно в Осетии раз в год в ноябре месяце..
Центром культа «Уастырджи» являлось святилище «Реком» в Ала-
гирском ущелье. Кстати, это «центральное» положение поставило
«Реком» в ранг святых. «Реком», как в культовых обрядах, так и
абстрактных религиозных представлениях, выступал как самостоятельный дух„
как известный всем осетинам святой. В общих молитвах он
перечислялся рядом с наиболее популярными святыми из осетинского
пантеона. Подчеркивая это, один из первых исследователей Осетии А.
Головин писал: «Святыня Реком почитается одною из древних
знаменитостей Осетии, для выражения чествования которой на языке осетин не
достает слов»2.
«Самым славным дзуаром» называет «Реком» и В. Ф. Миллер3.
«Реком» в свое время являлся также центром распространения
христианства в Северной Осетии.
Все перечисленные выше божества, духи, ангелы и святые, по
воззрениям древних осетин, были подчинены одному верховному богу —
«хуыцау». В обращениях к нему его еще называли «хуыцаеутты хуы-
цау» («бог богов»). Как верно отмечал В. Ф. Миллер, к этим
божествам и святым осетин не прилагает «названия богов, никогда не скажет,
что Уастырджи или Фаелваэра боги (хуыцаеуттае), но в сущности они
занимают в его религиозных представлениях и в культе такое же место,
как боги у древних греков, германцев или славян, и можно нередко
слышать, как он называет верховного бога «Богом боюв» («хуыцаеутты
хуыцау»), допуская тем самым, если он только отдает себе отчет в этом
выражении, существование других богов, подчиненных высшему богу»4.
Эти многочисленные духи и святые, боги разных рангов обитали,
как и «хуыцаеутты хуыцау», на небесах около него же. Последним они
О
1 Эту же мысль высказывал В. И. А б а е в. (см. его: Дохристианская религия алан,,
стр. 12). О присвоении осетинским «Уастырджи» черт аланского бога войны см. в
работе автора «Реком». Из истории религии осетин. Уч. записки Сев.-Осетинского-
госпединститута, т. 28, вып. II, 1968.
2 А. Головин. Топографические и статистические заметки об Осетии. «Кавказский,
календарь», 1854, стр. 451.
3 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 255.
4 Т а м ж е, стр. 239. :
332
наделены властью согласно их функциям, присвоенным каждому
из них тем же «хуыцау». Через них, по верованию древних осетин, он и
управляет миром, они исполнители его воли, сам же он невидим. «Это
существо,— отмечал В. Ф. Миллер,— для него (осетина.— А. М.)
слишком далеко, слишком недоступно, безлично и неуловимо: в
повседневной жизни счастье и несчастье зависят, по его представлениям, от
вмешательства других сил, заведующих разными областями природных
явлений и подчиненных высшему богу»1.
Отсюда далекий, недосягаемый «хуыцау» не имел особого культа,
не требовал специальных жертв. Осетины ограничивались только
провозглашением в его честь первого тоста на пиршестве, да часто
упоминали его имя в пожеланиях: «Хуыцауы хорзаех дае уаед!» («да
будет тебе милость божья!»), «Хуыцауы хорзаех ссар!» («получи милость
•бога!») и т. д.
О нем осетин «вспоминает,— писал проф. Карл Кох,— только тог-
;да, когда ему напоминают об этом внешние обстоятельства»2-
Куда ближе «стояли» к осетину божества и духи, с которыми он
«сталкивался» в практической жизни. Однако и с ними он был в
определенных, регулируемых им самим, отошениях. Эти отношения В. Ф.
Миллер характеризовал следующим образом: «Его (осетина) религия
сводится к тому, что в известные дни следует зарезать барашка или
быка, пойти на известное «святое» место, пропеть в честь местного
дзуара восхваление,— затем его долги небу уплачены»3.
Хотя мы уже упоминали о значительно раннем проникновении
христианства в Осетию и поверхностном усвоении его осетинами,
знакомство с ним на протяжении веков не прошло для них бесследно.
Знакомство осетин с христианством на протяжении десяти веков
оставило у них и другие следы. Так, большинство языческих святых
приобрело христианскую оболочку, присвоив христианские
наименования: «Уастырджи» — «Уасгерги» (св. Георгий), «Уацилла» (св. Илья),
«Никкола» (св. Николай), «Фэелвэера» (Флор и Лавр), «Тутыр» (св.
Федор Тирон), «Мыкалгабыртае» (св. Михаил и Гавриил), «Донбеттыр»
(св. апостол Петр), «Мады Майраем» (Богоматерь).
Под влиянием христианства среди осетин утверждались некоторые
праздники («комахсаэн», «урсы къуыри», «зазхаессавн», «куадзаен», «каер-
даегхаессаен» и др.)- Но, несмотря на свое христианское происхождение,
эти праздники имели сугубо языческое содержание. Возьмем к примеру
О
1 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 239.
2 К. Кох. Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку в 1837 и 1838 гг*
В кн.: Осетины глазами русских и иностранных путешественников. Орджоникидзе,
1967, стр. 268.
3 В. Ф. Миллер. В горах Осетии. Журн. «Русская мысль», 1881, 1Х,стр. 83.
333
«комахсаен», совпадавший по времени с русской масленницей. «По
характеру «комахсаен»— есть время больших общественных поминок по
умершим, поминок, которые отличаются от семейных»1,— писал В. Ф.
Миллер.
Из обрядов христианской религии осетины восприняли только
посты. «Многие из осетин-христиан, не имея никакого определенного
понятия о церкви, не зная не только догматов религии, но и ни одной
христианской молитвы и не понимая значения христианских праздников,
тем не менее строго исполняли всегда все христианские посты»2.
Однако и они были приспособлены к бытовым особенностям осетин и очень,
мало напоминали собой настоящие христианские посты.
Начиная с первой половины 40-х годов XVIII в. русское
самодержавное правительство, в целях колонизации Северного Кавказа,
принимает активные меры к христианизации осетин. Тогда же было
создано особое учреждение — «Осетинская духовная комиссия», которая
силами штатных миссионеров проводила христианизацию (крещение);
осетинского населения, используя для привлечения последнего и
ассигнованные на эти цели денежные средства (за каждого крещеного
выдавалась определенная сумма денег и кусок холста).
Еще более активно распространением христианской идеологии в.
Северной Осетии стало заниматься «Общество восстановления
православного христианства на Кавказе», учрежденное в 1860 году и
действовавшее до 1917 года.
В период господства царизма христианство внедрялось среди
осетин больше административными мерами, чем церковными проповедями.
Нередко дело доходило до репрессий. Но тем не менее осетинское
население к христианской церкви оставалось равнодушным. Так,
служивший в 60 гг. XIX века в качестве царского администратора в Осетии
К. Красницкий, отмечая этот факт, писал: «Надо заметить, что
осетины, исповедывающие православную религию, совершенно равнодушны
к религии, следовательно, весьма слабы в ней... Это видно, хотя бы в
том, что большая часть духовенства постоянно обращается с просьбами
к местным властям о принятии полицейских мер для того, чтобы
заставить народ ходить в церковь, соблюдать посты, говеть, крестить
младенцев и прочее. Полицейские меры, само собой разумеется, не
приносят пользы, а крайний вред делу религии. Часто оскорбленный
наказанием туземец не задумывается и совершенно отступиться от
церкви... Плохо дело, если приходится прибегать к принуждению»3,—
резюмировал с огорчением царский чиновник.
О
1 В. Ф. Миллер. Осетинские этюды, ч. II, стр. 272.
2 И. Тхостов. Верования осетин. Газ. «Терские ведомости», 1868, № 12.
3К. Красницкий. Кое-что об Осетинском округе и о правах туземцев его. Газ.
«Кавказ», 1865, № 29.
334
Этот же факт отмечал и акад. Н. Ф. Дубровин: «Прошло с тех
пор (начала христианизации осетин царизмом.— А. М.) почти целое
столетие, и осетины весьма мало подвинулись в религиозном
отношении. Они и в настоящее время весьма плохие христиане, так что
духовенство вынуждено прибегать к полицейским мерам, чтобы заставить
народ ходить в церковь, соблюдать посты, говеть, крестить младенцев
и т. п. Но все принудительные меры только восстанавливают туземца
и после наказания за неисполнение обрядов осетин, не задумываясь,
совершенно отступается от религии»1.
Еще более поверхностным было влияние мусульманской религии
на осетин, хотя с нею аланы начали знакомиться довольно рано. Так,
арабы, одержавшие в 737 году победу над хазарами, в последующее
время (VIII—IX вв.) усиленно пытались распространить ислам на
Северо-Восточном Кавказе, достигая и границ Алании. Но это, очевидно,
кончилось только некоторым знакомством части аланского населения
с мусульманской верой.
Более глубокие следы ислам оставил, когда силою оружия татаро-
монголы насаждали его среди аланского населения и других
народностей Северного Кавказа. Особенно активно исламизация алан
проводилась золотоординским ханом Узбеком и монгольским полководцем
Тимуром2.
Археологическими исследованиями на территории Северной Осетии
(около станицы Змейской), проводившимися в 1953—1962 гг. на месте
аланского городища, было обнаружено несколько мечетей и
мусульманских кладбищ, относящихся к монгольскому периоду3. К числу
этих памятников относится также известный ныне Татартупский
минарет4.
Проводниками ислама в аланскую среду в тот период была алан-
ская знать, находившаяся на службе у монголов. Но монгольское
владычество не оставило следов в области религиозной идеологии.
С образованием в XV в. Крымского ханства активизировалось
насильственное распространение ислама среди народов Северного
Кавказа. «Насаждая ислам огнем и мечом, турецкие султаны и крымские
ханы рассчитывали укрепить свой престиж среди северокавказских на-
О
1 Н. Ф. Дубровин. Указ. соч., стр. 293.
2 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды,
т. II, стр. 182, 185.
3О. В. Милорадович. Средневековые мечети городища Верхний Джулат. В кн.:
Средневековые памятники Северной Осетии, М., 1963, стр. 66 — 86.
4 Л. И. Семенов. Татартупский минарет, Дзауджикау, 1947; О. В.
Милорадович. Указ. соч., стр. 69—70.
335
родов. Мучительный для этих народов процесс «омусульманивания»
затянулся на два столетия»1.
Активно ислам стал проникать в Осетию из соседней Кабарды в
XVII — XVIII вв. Осетинские феодалы («таегиатае» и «бадилатае»),
находившиеся в феодальной зависимости от кабардинских князей, сами
приняв их веру, насильственно внедряли ислам в среду зависимого
крестьянства. Но несмотря на такие меры, мусульманская религия
прививалась очень слабо. Это и понятно: пропаганда ислама из Кабарды
шла рядом с угнетением осетинского трудового населения
кабардинскими князьями. Взимание дани скотом, мальчиками и девочками,
похищение людей и продажа их в рабство в Крым и Турцию, а также
бесчисленные грабежи осетинской бедноты княжескими дружинами и
.другие насилия до крайности озлобили осетинское трудовое население.
Поэтому вполне естественно было, что «осетины встретили
магометанство ожесточенным отпором»2.
Ислам, однако, имея сильную опору в лице осетинских феодалов,
проник в Осетию и оставил свои заметные следы. В числе их следует
прежде всего указать на крайне отрицательные политические
последствия. Феодальные верхи Осетии, тесными узами связанные с
феодально-мусульманской верхушкой Кабарды и поддерживаемые идеологами
панисламизма и пантюркизма, долгое время препятствовали
присоединению Осетии к России, установлению прочных и дружественных
взаимоотношений с последней, проникновению и восприятию более
передовой русской культуры. Мало того, преследуя своекорыстные цели и
разжигая националистические чувства у подвластной крестьянской массы,
эти же феодальные верхи спровоцировали трехкратное переселение
части осетин в Турцию (в 1859, 1860 и 1865 годах).
Обманутые трудовые массы за свое переселение заплатили
дорогой ценой. Осетины-переселенцы не только потеряли родину, но и были
обречены на муки и страдания на чужбине, не говоря уже о том, что
сам процесс переселения представлял сплошную трагедию для
переселенцев3.
Крайне отрицательную роль играл ислам и в деле просвещения
осетин. Мусульманское духовенство всячески препятствовало
распространению светского образования среди «мусульманского» населения
Осетии. В результате в «мусульманских» селах до революции не было
ни одной светской школы. Вот что писал на этот счет один из жителей
селения Донифарс (в Дигории) «...Донифарсцы, исповедуя магометан-
©
1 Очерки истории Карачаево-Черкесии, Ставрополь, 1967, стр. 186.
2 Д. Лавров. Заметки об Осетии и осетинах, СМОМПК, вып. III, стр. 219.
3 См. И. К а н у к о в. Горцы-переселенцы. В кн.: И. Кануков. Сочинения,
Орджоникидзе, 1963, стр. 63—96.
336
скую религию, находятся вполне под влиянием непросвещенных мулл,
которые, боясь света, стараются убить школьное дело. Само собою
разумеется, что если бы не они, то наше селение давно бы выстроило
школу»1.
Мусульманское духовенство, кроме того, всячески способствовало
распространению суеверий среди осетинского населения.
Тяжелый отпечаток наложил ислам и на семейный быт осетин. Он
опутывал своими установлениями осетинку, ставил ее в приниженное
положение. Ислам оставил и другие отрицательные последствия. Как
теперь убедились в этом, «ни христианская, ни магометанская религия
не уничтожили у осетин древних верований, напротив того, прибавили
к ним новые»2.
О
1 Газ. «Терские ведомости», 1911, № 233.
2 Там же, 1870, № 52.
22 А. X. Магометов
Литература
Маркс К. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество».— Архив
Маркса и Энгельса, т. IX, М., 1941.
Маркс К- Формы, предшествовавшие капиталистическому производству. М., 1940.
Маркс К- К. критике политической экономии.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.г
изд. 2, т. 13.
Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.— К. Маркс и Ф. Энгельс.
Соч., т. 3.
Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич.— К. Маркс и Ф. Энгельс.
Соч., т. 19.
Маркс К. Выписки о фетишизме.— К. Маркс и Ф. Энгельс сб атеизме,
религии и церкви. М., 1971.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.—
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21.
Энгельс Ф. Марка.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19.
Энгельс Ф. К истории первобытной семьи (Баховен, Мак-Леннан, Морган).
Предисловие к четвертому немецкому изданию работы «Происхождение семьи,
частной собственности и государства».— К- Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 22.
Энгельс Ф. Эмигрантская литература. О социальном вопросе в России. —
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18.
Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?— Поли. собр. соч., изд. 5, т. 1.
Ленин В. И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге
г. Струве.— Поли. собр. соч., т. 1.
Ленин В. И. Развитие капитализма в России.— Поли. собр. соч., т. 3.
Ленин В. И. Капитализм в сельском хозяйстве.— Поли. собр. соч., т. 4.
Ленин В. И. Новая аграрная политика.— Поли. собр. соч., т. 16.
Ленин В. И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской
революции 1905—1907 годов.— Поли. собр. соч., т 16.
Ленин В. И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века.— Поли. собр.
соч., т. 17.
338
Ленин В, М. Тезисы по национальному вопросу.^- Поли. собр. соч., т. 23,
Ленин &. И. Критические заметки по национальному вопросу.— Поли. собр.
соч., т, 24.
Ленин В. И. О государстве.— Поли. собр. соч., т. 39.
Ленин В. И. Философские тетради. М., 1965.
Ленин В. И. О Доне и Северном Кавказе. Ростов-на-Дону, 1967.
А б а е в В. И. О родовых отношениях и терминах родства у осетин. Сб.
«Энгельс и языкознание», М., 1972.
А б а е в В. И. Нартский зпос. Известия Северо-Осетинского
научно-исследовательского института (Изв. СОНИИ), т. XI, вып. I, 1945.
А б а е в В. И. Историческое в нартском эпосе. Сб. «Нартский эпос». Дзауджи-
кау, 1949.
А б а е в В. И. Даредзановские сказания у осетин. Амран.— Осетинский эпос,
М.-Л., 1932.
Аба ев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. 1, изд.
АН СССР, М.-Л., 1958, т. II, Л., 1973.
Аба ев В. И. Дохристианская религия алан. Тезисы доклада на XXV
Международном конгрессе востоковедов, М., 1960.
Аба ев В. И. Культ «семи богов» у скифов.— Сб. «Древний мир», М., 1962.
А б а е в В. И. Осетинский социальный термин «аелдар». — Известия СОНИИ
т. XXVII, 1968. .
А б а е в В. И. Сармато-боспорские отношения в отражении нартских
сказаний.— Советская археология, т. 28, М., 1958.
Аба ев В. И. Скифо-европейские изоглоссы на стыке Востока и Запада. М., 1965.,
Аба ев В. И. Об аланском субстрате в балкаро-карачаевском языке. В кн.:
Материалы научной сессии по проблеме происхождения балкарского и карачаевского
народов. Нальчик, 1960.
А б а е в В. И. Среднеазиатский политический термин «жфшин». ВДИ, 1959, № 2.
А б а е в В. И. Общие элементы в языке осетин, балкарцев и карачаевцев.—
Сб. Язык и мышление, т. 1, Л., 1933.
Абазадзе Н. Л. Семейная община у грузин.— Этнографическое обозрение.
1888, № 3.
Абрамов Я. Кавказские горцы. «Дело», М., 1884, № 1.
Алборов Б. Ингушское «Гальерды» и осетинское «Аларды» (К вопросу об
осетинско-ингушских культурных взаимоотношениях).— Изв. Ингушского
научно-исследовательского института краеведения, т. I, Владикавказ, 1928.
Алборов Б. Осетинские названия местностей к востоку от Осетии. (К
вопросу об осетино-ингушских взаимоотношениях в прошлом).— Сборник научного
общества этнографии, языка и литературы при Горском педагогическом институте, т. I,
Владикавказ, 1929.
Алборов Б. А. Осетинские нартские сказания о Созрыко и Гумском человеке.—
Ученые записки Северо-Осетинского госпединститута, т. 23, вып. 3, 1958.
А в е р к и е в а Ю. П. Разложение родовой общины и формирование раннеклас-.
совых отношений в обществе индейцев северо-западного побережья Северной
Америки.— Труды института этнографии, № 70, 1961.
339,
Аверкиева Ю. П. К истории общественного строя у индейцев
северо-западного побережья Северной Америки.— Труды института этнографии, № 58, М., 1960.
Александров В. А. В. И. Ленин о сельской общине в крепостнической
России: «Советская этнография», 1970, № 1.
Алексеева Е. П. Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии.
М., 1971.
Алиев А. Брак и свадебные обряды даргинцев. «Советская этнография», 1953,
№ 4.
Андриянов Б. В., Моногарова Л. Ф. Ленинское учение об общественно-
экономических укладах и его значение для этнографии. «Советская этнография», 1970,
№ 1.
А н и с и м о в А. Ф. Духовная жизнь первобытного общества. М.-Л., 1966.
Анисимов А. Ф. Религия эпохи расцвета матриархата. «Ежегодник Музея
истории и религии и атеизма», вып. 2, 1958.
Антонович В. Б. Погребальные обычаи древних жителей Кавказа.— Труды
предварительных комитетов археологических съездов, V (в Тифлисе), протоколы,
стр. XVIII.
Анфинов Н. Древние поселения Прикубанья. Краснодар, 1953.
Анчабадзе 3. В. Кипчаки Северного Кавказа по данным грузинских
летописей.— «Материалы научной сессии по проблемам происхождения балкарского и
карачаевского народов». Нальчик, 1960.
А. П. В-в. Покорение Кавказа. «Русский вестник», 1860, т. 27.
Атаев А. Из осетинских нравов. Газета «Терские ведомости», 1895, № 41.
Атакишиева М. И. Семейный быт азербайджанцев в прошлом и настоящем.
Диссертация, М., 1953.
Ардасенов X. Н. Очерк развития осетинской литературы. Орджоникидзе, 1959.
Ардасенов А. и Есиев А. Высшее сословие осетин Куртатинского общества.
М., 1892.
Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962.
Артамонов М. И. О земледелии и земледельческом празднике у скифов.—
Ученые записки Ленинградского государственного университета. Серия общественных
наук. Вып. 15, 1947.
Артамонов М. И. Скифское царство. «Советская археология», 1972, № 3.
Артамонов М. И. Антропоморфные божества в религии скифов.
«Государственный эрмитаж». Сб. Скифо-сарматское время, Л., 1961.
Арчегова. Физическое воспитание осетинских детей. Газ. «Терские ведомости»,
1879, № 21.
Ахриев Ч. Присяга у ингушей.— Сборник сведений о Терской области (ССТО),
вып. I, 1878.
Ахриев Ч. Ингушские праздники.— ССКГ, вып. V, 1871.
Ахриев Ч. Ингуши. Этнографический очерк.— ССКГ, вып. 8, 1875.
Баев М. Тагаурское общество и экспедиция генерал-майора Абхазова. Газ.
«Терские ведомости», 1869, № 6—9.
Б аи ер б Ф. О древних сооружениях на Кавказе.— ССК, т. I, 1870.
340
Баладзори. Книга завоевания стран. Перевод с арабского проф. П. К. Жузе.
Баку, 1927.
Барамия А. И. Борьба с преступлениями против жизни и здоровья,
совершаемыми на почве кровной мести (по материалам Грузинской ССР). Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Сухуми — Москва, 1965.
Б аратов. Праздники горных осетин. Газета «Терские ведомости», 1906, № 160.
Бар бар о И. Путешествие в 1436 г. в Тану.— Библиотека иностранных
писателей о России, т. I, СПб., 1836.
Бардавелидзе В. В. Древнейшие формы землевладения в свете грузинских
этнографических материалов.— VII /Международный конгресс антропологических и
этнографических наук. М., 1964.
Бардавелидзе В. В. Хевсурская община. Структура и институт «джвариск-
моба». Сообщения АН Груз. ССР, т. 13, 1952, № 8.
Бардавелидзе В. В. Пережитки раннеклассовой ступени общественного
развития среди хевсур. «Советская этнография», 1953, № 3.
Бардавелидзе В. В. Опыт социологического изучения хевсурских верований.
Тифлис, 1933.
Бардавелидзе В. В. Древнейшие религиозные верования и обрядовое
графическое искусство грузинских племен. Тбилиси, 1957. \
Бардавелидзе В. В., Харадзе Р. Л. Пережитки семейной и сельской
общины у грузин. В кн.: Народы Кавказа, II, М., 1962.
Бахтиаров А. Осколки «исчезнувших» аланов. «Туркменоведение», 1930, № 8»—9.
Бердзенишвили Н. А., Дондуа В. Д., Думбадзе М. К-, Меликишвли
Г. А., М е с.х и я Ш. А. История Грузии, I, Тбилиси, 1962.
Берзенов Н. Новый год у осетин Владикавказского округа. Газета «Кавказ»,
1850, № 2.
Берзенов Н. Осетинский обряд сидения мертвецов. Газ. «Кавказ», 1850, № 7,
Берзенов Н. Очерки Осетии. «Кавказ», 1850, № 15. 1
Берзенов И. Очерки Осетии («Тутыры-хур», «Раемонбон», «Уацилла», «Цоп-
пай»), «Кавказ», 1850, № 47—48.
Берзенов Н. Очерки Осетии. («Чындзэехсаев», «Сой-сой»), «Кавказ», 1850, № 95.
Берзенов Н. Из воспоминаний об Осетии. «Кавказ», 1851, № 92.
Берзенов Н. Очерки Осетии. Дигория. «Закавказский вестник», 1852, № 39—40.
Берзенов Н. Из записок об Осетии. «Кавказ», 1853, № 15.
Берзенов Н. Осетинская Сафо. Журн. «Зурна», 1955, май. I
Бернштам А. Н. Материнский и отцовский род, возникновение малой семьи,
племя и условия его образования. В сб. Первобытное общество, М., 1932.
Бинкевич Е. Верования осетин. — Религиозные верования народов СССР.
Сборник этнографических материалов. М.-Л., 1931.
Б лиев М. М. Русско-осетинские отношения, Орджоникидзе, 1970.
Брегадзе Н. А. К вопросу о характере одного из грузинских нагорных
календарных праздников «Тедороба». — Сб. Вопросы этнографии Грузии т. XV, 1970.
Бретшнейдер. Русь и асы на военной службе в Китае.— Живая старина,
т. IV, вып. I, СПб., 1894.
Б р о м л е й Ю. В. Ф. Энгельс и проблемы архаической формы семейной общи-
341
:1Ш#—Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса.
-М., 1972.
Бромлей Ю. В. Становление феодализма в Хорватии. М., 1964.
Бромлей Ю. В. Этнос и этнография, М., 1973.
Бромлей Ю. В., П е р ш и ц А. И. Ф. Энгельс и проблемы первобытной
истории.— Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф.
Энгельса. М., 1972.
Б р он ев скип С. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе,
т. II, М., 1829.
Бутинов Н. А. Первобытнообщинный строй (основные этапы и локальные
варианты).— Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1960.
Бутинова М. С. Проблемы происхождения и ранних форм религии в
музейных экспозициях. «Советская этнография», 1973, № 5.
Бутко в П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г., 3 тома,
СПб., 1869.
Бутков П. Г. О Ногае и всех прочих монгольских ханах Дашт-Кипчака.
«Северный архив», 1824, ч. 10, Ля« 12.
Б я з ы р о в Д. Д. Осетинские легенды (на осетинском языке). Цхинвали, 1966.
Ванеев 3. Н. Родовой строй в Осетии. — Известия Юго-Осетинского научно-ис
следовательского института, вып. V, 1946.
Ванеев 3. Н. Из истории родового быта в Юго-Осетии. Тбилиси, 1955.
В а н е т и 3. Н. Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин.—Известия
Осетинского научно-исследовательского института краеведения, вып. II, 1926.
Ванеев 3. Ц. Средневековая Алания. Цхинвали, 1959.
Ванеев 3. Н. Исторические известия об аланах-осах.—Изв. ЮОНИИ, т. IV, 1941.
В а н е т и 3. Н. Общество нартов. (Опыт социально-исторического анализа нар-
товских сказаний).— Изв. ЮОНИИ, вып. II, 1935.
ВанетиЗ. Н. К вопросу о заселении Юго-Осетии.—Изв. ЮОНИИ, вып. III, 1936.
В а н о (Т е м и р х а н о в). История Осетии (на осетинском языке).
Владикавказ, 1913.
Вадим (Па ссек). Очерки Осетии. М., 1834.
Вай н штейн СИ. К истории ранних форм семейно-брачных отношений.
«Советская этнография», 1964, № 2.
Вардапетов А. С. Проблемы родового строя ингушей и чеченцев. «Советская
этнография», 1932, № 4.
Васильева Г. П. Этнографические данные о происхождении туркменского
народа. «Советская этнография», 1964, № 6.
Васильева Л. М. Кавказоведческие труды М. М. Ковалевского и проблемы
первобытной истории.— Некоторые вопросы кавказоведения. Вып. I, Ученые записки
Ставропольского госпединститута. Ставрополь, 1971.
В а х у ш т и. География Грузии.— Записки Кавказского отдела русского
географического общества, кн. XXIV, вып. V, Тифлис, 1904.
Ведениктов М. Взгляд на кавказских горцев. Журн. «Сын Отечества», 1837,
ч. 188, СПб.
Вердеревский Е. О народных праздниках и праздничных обыкновениях -хри-
342
стианского населения за Кавказом. Газета «Кавказ», 1855, № 1—10; «Кавказский
календарь» на 1855 г.
В е й д е н б а у м Е. Г. Священные рощи и деревья у кавказских народов.
«Кавказские этюды», вып. I, 1901.
Вертепов Г. А. Осетины, ингуши и кабардинцы. Владикавказ, 1893.
Вертепов Г. А. Похоронные обряды у осетин. Газ. «Терские ведомости», 1901,
№ 23, 26.
Вертепов Г. А. Общинные кузнецы в Чечне. Газ. «Терские ведомости», 1898,
№ 137.
Вертепов Г. А. Похоронные обряды у осетин. Газ. «Терские ведомости», 1901,
№ 172.
Вертепов Г. А. Очерки кустарных промыслов в Терской области. «Терский
сборник», вып. 4, 1897.
Весе лоз ский А. Н. Собр. соч., т. II, вып. I, СПб., 1913.
В и л ь ч е в с к и и Ф. Л. Материалы по истории общественных форм в
Курдистане. «Советская этнография», 1932, № 5—6.
Виноградов В. Б. Центральный и Северо-Восточный .Кавказ в скифское
время. Грозный, 1972.
Виноградов В. Б. Сарматы Северо-Восточного Кавказа. Грозный, 1963.
Вирсаладзе Е. Б. Грузинский охотничий эпос. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора филологических наук. Тбилиси, 1963.
Владыкин В. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу. М., 1885.
В.-Н.-Л. Переходное состояние горцев Северного Кавказа. Тифлис, 1896.
Волков Н. От Владикавказа до Тифлиса по Военно-Грузинской дороге.
Владикавказ, 1902.
Волков Г. Н. Чувашская народная педагогика. Очерки. Чебоксары, 1958.
В. X. Кое-что о дигорцах. № 339, 340.
В я т к и н а К- В. Пережитки материнского рода у бурят-монголов. «Советская
этнография», 1946, № 1.
Г а б а р а е в Н. Я. Об отражении в осетинской лексике условий жизни
осетинского народа.—Изв. ЮОНИИ, вып. VIII, 1957.
Габараев С. Ш. Инал Каиуков. Цхинвали, 1960.
Гаги ев С. Г. Осетинские национальные игры. Орджоникидзе, 1958.
Гагиева М. А. Женщины гор. Орджоникидзе, 1966.
Гаглоева 3. Д. О системе родства у осетин.— Материалы по этнографии
Грузии», XVI—XVII, Тбилиси, 1972.
Га г л о е в а 3. Д. Земледельческие орудия у южных осетин.— Изв. ЮОНИИ.
вып. VIII, 1957.
Гаглоева 3. Д. Из истории древних верований южных осетин (праздник Ног
бои). Автореферат диссертации. Тбилиси, 1953. ;
Гаглоева 3. Д. Составные элементы праздника «Ног бон».— Изв. ЮОНИИ,
вып. IX, 1958.
Гаглоева 3. Д. Этнография осетин в трудах В. И. Абаева.— Изв. ЮОНИИ,
аып. X, 1960.
343
Гаглоева 3. Д. Скотоводство в прошлом у осетин.— Материалы по
этнографии Грузии, вып. XII—XIII, Тбилиси, 1963.
Гаглоева 3. Д. Осетинские «'рвадаелтае», М., 1964.
/Гаглоева 3. Д. Семейная община у осетин.— Известия КЭОНИИ, вып. XV.
Гаглойти Ю. С Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси, 1966.
Гадиев Сек а. Избранное (на осетинском языке). Сталинири, 1959.
Гадиев Ц. Осетинская женщина (очерк). «Женский вестник», 1908, № 1.
Гагстгаузен. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной
жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями, ч. II,
СПб., 1857.
Гаджиева С. Ш. Кумыки. М., 1961.
ГаджиеваС. Ш. Семья и семейный быт народов Дагестана, Махачкала, 1967.
Гаджиева С. III. К вопросу о тухуме и большой семье у каякентских
кумыков.— Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, 1952, вып. 14.
Гаибов Н. Д. О поземельном устройстве горских племен Терской области.
Исторический очерк. Тифлис, 1905.
Галаиина Л. К-, Засецкая И. П. Скифы. Л., 1970.
Гальперин С. Д. Очерки первобытного праза. СПб., 1893.
Гальцев В. С. К вопросу об «освобождении» зависимых сословий в
Северной Осетии в 1867 г.— Ученые записки Северо-Осетинского госпединститута, 1940.
Гальцев В. С. Перестройка системы колониального режима на Северном
Кавказе в 1860—1870 гг.— Известия Северо-Осетинского научно-исследователького
института, т. XVIII, 1956.
Гальцев В. С. Социально-экономическое и культурное развитие народов
Северного Кавказа в 70—90 годах XIX века. «Вопросы истории», 1954, № 10.
Г а м р е к е л и В. Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в.
XVIII в., Тбилиси, 1968.
Г а н К. Ф. По долинам Чороха, Уруха и Ар дона. СМОМПК, вып. XXV, 1896.
Ган К. Ф. Путешествие по Осетии. Газ. «Кавказ», 1892, № 206—209.
Гассиев А. Осетины, древнейший их культ и позднейший религиозный их
индиферентизм. Газ. «Терские ведомости», 1868, № 11.
Гассиев А. Положение горской женщины-мусульманки. «Тифлисский вестник»,
1877, № 30, 57 и ел.
Гати ев Б. Суеверия и предрассудки у осетин. ССКГ, вып. IX, 1876.
Г а ту ев А. Христианство в Осетии. Владикавказ, 1891.
Гарданов В. К. Народы Кавказа. Исторический очерк. В кн.: Народы
Кавказа, I, М., 1960.
Гарданов В. К. Общественный строй адыгских народов. М., 1967;
Гарданов В. К. Обычное право как источник для изучения социальных
отношений у народов Северного Кавказа в XVIII—начале XIX в. «Советская
этнография», 1960, № 5.
Гарданов В. К. Пережитки дуальной организации у адыгов (черкесов) в
первой половине XIX в. «Советская этнография», 1964, № 3.
Гарданов В. К. Социально-экономические преобразования у народов Север-
344
ного Кавказа. В кн.: Культура и быт народов Северного Кавказа. Под ред. В. К.
Гарданова. М., 1968.
Гарданов В. К. Аталычество.— IX Международный конгресс
антропологических и этнографических наук. М., 1973.
Гарданов М. К. Селение Христиановское в фактах жизни.— Известия
Осетинского научно-исследовательского института краеведения, вып. I, 1925.
Гарданов М. К. Дигорская начальная книга. Владикавказ, 1925.
Гарданов М. К. Социально-экономические очерки. (Современная Северная
Осетия), Владикавказ, 1908.
Гегешидзе М. К. Террасное орошаемое земледелие на Кавказе.— VII
Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1964.
Гегешидзе М. К. Оросительная система Шира-Картли.— Краткие сообщения
Института этнографии АН СССР, 1952, вып. 16.
Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972.
Гильом де Руабрук. Путешествие в восточные страны. В кн.: Путешествия
в Восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957.
Гильченко И. В. Материалы для антропологии Кавказа. Осетины. СПб., 1890.
Гиппократ. ВДИ, 1947, № 2.
Головин А. Топографические и статистические заметки об Осетии. «Кавказский
календарь» на 1854 г.
Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История
южно-русских степей XI—XIII вв. Киев, 1884.
Голунский С. Обычай и право. «Советское государство и право», 1939, № 3.
Городецкий Б. М. Осетины нагорной полосы Терской области. (Этнографиче-
ско-статистические материалы). Екатеринодар, 1908.
Г о т ь е Ю. Железный век в Восточной Европе. М.-Л., 1930.
Гофман А. Б., Л е в к о в и ч В. П. Обычай как форма социальной регуляции.
«Советская этнография», 1973, № 1.
Грабовский Н. Ф. Ингуши (их жизнь и обычаи). ССКГ, вып. 9, 1876.
Г р а б о в с ки й Н. Ф. Очерки суда и уголовных преступлений в Кабардинском
округе. ССКГ, вып. 4, 1870.
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского
участка Ингушского округа. ССКГ, вып. III, 1870.
Г р а к о в Б. Н. Пережитки матриархата у сарматов. ВДИ, 1947, № 3.
Граков Б. Н. Скифы. М., 1971.
Г р а к о в Б. Н. Пережитки скифских религий и эпоса у сарматов. ВДИ, 1969, *\Ь 3.
Гребенец Ф. Е. Могильники в Куртатинском ущелье. СМОМПК, вып. 44, 1915.
Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.-Л., 1950.
Гулиа Г. Божества охоты и охотничий язык у абхазов. (К этнографии
Абхазии). Сухуми, 1926.
Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 1966.
Гуриев Т. А. К проблеме генезиса осетинского нартского эпоса.
Орджоникидзе, 1971.
Гюльденштедт И. А. Географическое и статистическое описание Грузии и
Кавказа (Путешествие 1770—1773 гг.), СПб., 1809.
345
Далгат Б. Первобытная религия чеченцев. «Терский сборник», вып. III, кн. 2,
1893.
Далгат Б. Материалы по обычному праву ингушей.— Изв. Ингушского научно-
исследовательского института краеведения, вып. II—III, Владикавказ, 1930.
Далгат Б. Родовой быт чеченцев и ингушей в прошлом.— Изв. Ингушского
научно-исследовательского института краеведения, вып. IV, Владикавказ, 1932.
Данилов Е. Н. Семья и патронимия в системе сельской общины абазин во
второй половине XIX в. «Советская этнография», 1973, № 5.
Д а н и л е в с к и и Н. Кавказ и его горские жители в нынешнем их положении.
М., 1846.
Д а р и н с к и й А. Семья у кавказских горцев.— Записки общества истории,
филологии и права при императорском Варшавском университете, вып. 2, Варшава,
1903.
Дзагуров Г. А. Вс. Миллер как собиратель и исследователь памятников
народной словесности.—Известия Северо-Кавказского педагогического института, т. II,
Владикавказ, 1924.
Дзагуров Д. А. Заметки о сельском хозяйстве Северной Осетии во второй
половине XIX—начале XX века.—Изв. СОНИИ, том XXII, вып. III, 1960.
Дзагуров Д. А. Страничка из социально-экономической истории Дигории.—
Известия Осетинского научно-исследовательского института краеведения, вып. I, 1925.
Дзасохов В. Северная Осетия. Социально-политический очерк. М., 1931.
Д е ген - Ков а л ев с к и и Б. Е. Северокавказские аланы. История СССР с
древнейших времен до образования древнерусского государства, ч. III—IV, М.-Л.,
1939.
Демелич Ф. Обычное право южных славян по исследованиям доктора Боги-
шича. Перевод с французского В. Гешевича. М., 1871.
Деопик В. Б. Змейское средневековое селище. В кн.: Археологические
раскопки в районе Змейской Северной Осетии, т. 1, Орджоникидзе, 1961.
Деопик Д. В., К р у п н о в Е. И. Змейское поселение кобаыской культуры.
В кн.: Археологические раскопки в районе Змейской Северной Осетии, т. I,
Орджоникидзе, 1961.
Державин И. С. Обычай «умыкания» невест в древнейшее время и его
переживание в свадебных обрядах современных народов.— Сб. статей, посвященных акад.
В. И. Ламанскому. СПб., 1907.
Джанаев А. К. Феодальное землепользование в Стыр-Дигории.— Изв. СОНИИ,
т. XV, вып. III, 1948.
Джанашвили М. Абхазия и абхазцы. ЗКОИРГО, кн. XVI, 1893.
Д ж а н а ш в и л и М. Г. Известия грузинских летописей и историков о Северном
Кавказе и России. СМОМПК, вып. XXII.
Джанашиа Н. Абхазский культ и быт.— Христианский Восток, кн. V, вып. 3,
1916.
Джанашиа Н. Религиозные верования абхазцев. — Христианский Восток, кн. IV.
вып. I, 1915.
Джусойты Н. Г. Сека Гадиев. Цхинвали, 1959.
346
Дзедзиев И. И. Бытовые преступления и правовое положение горянки.
«Революция и горец», 1930, № 2 F).
Д з о к а е в. К. X. Экономическое развитие осетинского крестьянства от
пореформенного периода по 1925 г.— Изв. СОНИИ, т. XI, вып. I.
Динник Н. Я. Путешествие по Дигории. ЗКОИРГО, кн. XIV, вып. I, 1892.
Дин ни к Н. Я- Путешествие по Западной Осетии. ЗКОИРГО, кн. XV, 1893.
Д и р А. М. Божества охоты и охотничий язык у кавказцев. СМОМПК, вып. 44,
1915.
Д и р А. М. В Тагаурской и Куртатинской Осетии. Изв. КОИРГО, кн. XXI, вып. 3,
.1912.
Донини А. Люди, идолы, боги. Очерки истории религии. М., 1966.
Дубровин Н. Ф. Осетины. История войны и владычества русских на
Кавказе, т. I, кн. I, СПб., 1871.
Д у м а н о в X. М. Обычное имущественное право кабардинцев во второй поло-
шине XIX—начале XX в. Автореферат канд. диссерт. М., 1972.
Дыренкова Н. П. Брак, термины родства и психические запреты у киргизов.—
Сборник этнографических материалов, № 2 (изд. этнографического отделения
географического факультета Ленинградского университета), 1927.
Дыренкова Н. П. Пережитки материнского рода у алтайских тюрков.
«Советская этнография», 1937, № 4.
Егиазарианц С. Брак у кавказских горцев. «Юридический вестник», М., 1878,
№ 6—7.
Е н д р ж е в с к и й 3. А. Очерки зверовых охот в Дигории. Журн. «Псовая и
ружейная охота», 1905, кн. 2.
Е с и е в А. Обычное земельное право и право землевладения у горных осетин
Терской области. Владикавказ, 1901.
Ефименко П. П. Первобытное общество. Л., 1938.
, • Ждан ко Т. А. Очерки исторической этнографии кара-калпаков. М.-Л., 1950.
Же белев С. А. Северное Причерноморье. М.-Л., 1953.
Жебелев С. А. Геродот и скифские божества.— Известия Таврического
общества истории, археологии и этнографии, т. I, Симферополь, 1927.
Жускаев С. Атинаг, праздник у осетин перед началом сенокоса и жатвы.
«Закавказский вестник», 1855, № 32.
Жускаев С. Похороны у осетин-алагирцев. «Закавказский вестник», 1855, № 9.
Залкиыд Е. М. Общественный строй бурят в XVIII и первой половине XIX
века. М., 1970.
Зейдлиц Н. Поездка в Чечню, к верховьям Аргуна, в Ичкерию и через Ха-
-сав-Юрт вверх по Тереку до Моздока. ИКОИРГО, т. II, вып. 4, 1873.
Зеленин Д. К. Истолкование пережиточных религиозных обрядов. «Советская
этнография», 1935, № 5.
Зеленин Д. К. Магическая функция слов и словесных произведений. В сб.:
Академия наук — академику Н. Я. Марру, М.-Л., 1935.
Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии.—
Сборник Музея антропологии и этнографии, т. VIII, 1929. {
347
Зибер Н. И. Очерки первобытной экономической культуры. В кн.: Н. И. Зи—
бер. Избранные экономические произведения в двух томах, т. 2, М., 1959.
Зиссерман Н. А. Отрывки из моих воспоминаний. «Русский вестник», т. 138*.
1878.
Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964.
Золотаревская И. Дискуссия о проблеме экзогамии. «Советская
этнография», 1947, № 3.
Иванов. А. И. История монголов (Юань-Ши) об ассах-аланах. «Христианский;
Восток», т. II, вып. 3, СПб., 1914.
Иваненко е А. С. Горные чеченцы. «Терский сборник», вып. 7, 1910.
Иванова Ю. В. Основные проблемы изучения сельской общины на Балканах,
в работах советских ученых.— VII международный конгресс антропологических и
этнографических наук, М., 1964.
Иванюков И. и Ковалевский М. У подошвы Эльбруса. «Вестник
Европы», 1886, № 1.
И. Д. К вопросу об уничтожении калыма в Осетии. «Этнографическое
обозрение», 1899, № 1—2.
Ильинская В. А. О скифах-пахарях и будинах Геродота. Краткие
сообщения ИКМК, 1951, вып. 40.
И н а л. Дигорское ущелье. Газ. «Терские ведомости», 1901, № 175, 176.
Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы. Сухуми, 1965.
Инал-Ипа Ш. Д. Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Сухуми, 1954'..
Инал-Ипа Ш. Д. Некоторые черты абхазского патриархального общества.—
Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, т. XXXII, 1959.
И о м у д с к и й Н. Н. Присяга у закаспийских туркмен.— Записки ИРГО,
т. XXXIV. Сб. в честь 70-летия Г. Н. Потанина, СПб., 1909.
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960.
Итонишвили В. Д. Семейный быт горцев Центрального Кавказа.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Тбилиси,
1971.
Итонишвили В. Д. Семейный быт горцев Центрального Кавказа. Семейный
быт нахов и осетин (на груз. яз.). Тбилиси, 1969.
И с л я м и С. Семейная община албанцев в период ее распада (конец
XIX—середина XX века). «Советская этнография», 1952, № 3.
История Северо-Осетинской АССР. Изд. Академии наук СССР, М., 1959.
История Осетии в документах и материалах (с древнейших времен до конца.
XVIII в.). Цхинвали, 1962.
История Дагестана, т. I, М, 1967.
История Византии в трех томах, т. I и II, М., 1967. '
История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней, т. Г,
М., 1967.
И х и л о в М. М. Большая семья и патронимия у горских евреев. «Советская
этнография», 1950, № 1.
Кавказец. Весенние праздники осетин. Газ. «Кавказ», 1900, № 331. «
348
'Кавказский этнографический сборник, вып. I, II, III, IV, М., 1955, 1958, 1962,
'1969.
Катаров ЛЕ. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности. СМАЭ, вып. 8,
-Л., 1929.
Катаров Е. Г. Классификация и происхождение земледельческих обрядов.—
Изв. Общества археологии, истории и этнографии при Казахском университете, т. 34,
-вып. 3—4, .1929.
К а г а р о в Е. Г. Пережитки первобытного коммунизма в общественном строе
древних греков и германцев, ч. I. М.-Л., 1937.
К а г а р о в Е. Г. Маркс и Энгельс о древнекельтском обществе. «Советская эт-
шографня», 1937, .№ 6.
К а г а р о в Е. Г. Гостеприимство древних германцев по Энгельсу и в
современной науке. «Проблемы истории докапиталистических обществ». 1935, № 7—8.
К а г а р о в Е. Г. Общественный строй греков гомеровской эпохи. «Советская
этнография», 1937, № 4.
Кал о ев Г. 3/ Мотивы богоборчества в осетинском эпосе. Автореферат
диссертации, Дзауджикау, 1952.
К а н т а р к я М. В. О некоторых пережитках аграрного культа в быту
кабардинцев.— Изв. Адыгейского НИИ, т. VIII, Майкоп, 1968.
Канунов А. Годовые праздники у осетин. Газ. «Терские ведомости», 1892,
.№ 18, 25, 31, 80.
Кану ков И. В осетинском ауле. ССКГ, вып. VIII, 1875.
К а ну ков И. Горцы-переселенцы. ССКГ, вып. IX, 1876.
Кану ко в И. Заметки горца. 1873, ОРФ, СОНИИ, фонд И. Канукова.
.Кану ков И. Из осетинской жизни. Газ. «Кавказ», 1876, № 91—92.
!Кануков И.. К вопросу об уничтожении вредных обычаев среди кавказских
горцев. Газ. «Кавказ», 1879, № 48 и 54.
Кану ко в И. Кровный стол. Сочинения, Орджоникидзе, 1903.
К а р г а л о в В. В. Свержение монголо-татарского ига. М., 1973.
К а р а п е т я н Э. Т. Армянская семейная община. Ереван, 1958.
К а р а п е т я н Э. Т. Родственная группа «азг» у армян. Ереван, 1966.
Караулов А. А. Сведения арабских географов IX и X вв. о Кавказе,
Армении и Азербайджане. СМОМПК, вып. XXXVIII.
Каргинов С. Кровная месть у осетин. СМОМПК, вып. 44, 1915.
Каргинов С. Ночь мертвых в Осетии.—Изв. КОИРГО, кн. XXIV, вып. 2, 1916И
Карги нов С. Из народных преданий и обычаев осетин.— Изв. КОИРГО, 1916,
т. XXIV.
Каргинов С. Встреча нового года у осетин. Газ. «Кавказское слово», 1915,
№ 1.
Карачайлы И. Горцы и казаки в XVIII в. «Революция и горец», 1928, № 2.
К ар т л и с Цх о в р еб а. Под ред. проф. Каухчишвили. Тбилиси, 1955 (на груз,
языке).
К а саб и ев а. Физическое воспитание детей в Осетии. Газ. «Терские ведомости»,
Д879, № 21.
349
Кашежев Т. Свадебные обряды кабардинцев. «Этнографическое обозрение»,
1892, № 4.
К-ев. Примирение кровников. Газ. «Терские ведомости», 1900, № 16.
К-ев. Похоронные обряды у осетин. Газ. Терские ведомости», 1901, № 20, 23, 26.
Кесаев И. Из жизни осетин (Случай похищения невесты). Газ. «Терские
ведомости», 1894, № 100, 102.
Кесаев И. Осетинские бесноватые и лечение их. Газ. «Кавказ», 1897, № 185,.
187.
К и п и а н и М. 3. От Казбека до Эльбруса (путевые заметки о нагорной полосе-
Терской области). Владикавказ, 1884.
Кисляков Н. А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азия
и Казахстана. Л., 1969.
Кисляков Н. А. Патриархальная семья у таджиков долины Ванджа. В кн.:
Вопросы истории доклассового общества, М.-Л., 1936.
Кисляков Н. А. Семья и брак у таджиков. М.-Л., 1959.
Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807—1808 гг.—
Изв. СОНИИ, вып. XII, 1948.
Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе, т. I—II, М., 1890.
Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Обычное право
осетин в историко-сравнительном освещении, т. I—II, М., 1886.
Ковалевский М. М. Очерк происхождения и развития семьи и
собственности. М., 1939.
Ковалевский М. М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном
прошлом, вып. I, М., 1905.
Ковалевский М. М. Поземельные и сословные отношения у горцев
Северного Кавказа. «Русская мысль», 1883, № 12.
Ковалевский М. М. Некоторые архаические черты семейного и
наследственного права осетин. «Юридический вестник», 1885, № 6—7.
Ковалевский М. М. Поклонение предкам у кавказских народов. «Вестник
всемирной истории», 1902, № 3.
Ковалевский М. М. Об обычном праве горских татар и его отношении к
осетинскому.— Известия общества любителей естествознания, антропологии и
этнографии, т. 43, вып. 2.
Ковалевский М. М. О присяге как одном из доказательств древнего
процесса у осетин.— Рефераты заседаний VI Археологического съезда з Одессе, Одесса,
1884, № 2 и 3.
Ковалевский М. М. Первобытное право, вып. I—II, М., 1886.
Коджесау Э. Л. Патронимия адыгов. «Советская этнография», Л962, № 2.
Кодзаев А. Древние осетины и Осетия. Владикавказ, 1903.
Козлов П. К. По Монголии и Тибету. М., 1956.
К о к и е в Г. А. Боевые башни и заградительные стены горной Осетии.— Изв.
ЮОНИИ, вып. II, 1935.
Коки ев Г. А. Склеповые сооружения горной Осетии. Исторпко-этпологический
очерк. Владикавказ, 1928.
350
Ко киев Г. А. Из истории русско-осетинских отношений в XVIII в.— Изв..
СОНИИ, т. IV, 1932.
Коки ев Г. А. Материалы по истории Осетии, т. I, Орджоникидзе, 1934.
Ко киев Г. А. Малокабардинские поселения в XVI—XVIII вв. па Северном
Кавказе.— Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института, т. II,
Нальчик, 1947.
Ко к и ев Г. А. Некоторые исторические сведения о древних городищах Татар-
туп и Джулат.— Записки Северо-Кавказского краевого горского НИИ, т. II, Ростов-
на-Дону, 1929.
Ко киев Г. А. К вопросу об аталычестве. «Революция и горец», 1929, Л« 3.
Ко киев Г. А. Крестьянская реформа в Северной Осетии. Орджоникидзе, 1940.
К о к и е в А. А. С. В. Кокиев — этнограф осетинского народа. «Советская
этнография», 1946, № 3.
Кокиев Г. А. С. А. Туккаев — этнограф осетинского народа. «Советская зтно-
графия», 1946, № 2.
^Кокиев Г. А. Этнограф осетинского народа С. А. Туккаев (Краткий
биографический очерк). Дзауджикау, 1948.
К.( Г. А. Кокиев). К истории работорговли на Северном Кавказе.
(Исторический набросок). «Революция и горец», 1929, № 5 G).
Кокиев Г. Кабардино-осетинские отношения в XVIII в.— Исторические записки
института истории АН СССР, т. II, М., 1938.
кокиев С. В. Записки о быте осетин.— Сборник материалов по этнографии,,
издаваемый при Дашковском этнографическом музее, I, М., 1885.
Кокиев С. В. Калым у осетин. Газета «Терские ведомости», 1887, № 4.
Коков цев П. К. Еврейско-хазарская переписка в X вгке. Л., 1932.
Колганов М. В. Собственность. Докапиталистические формации. М., 1962.
Комаров А. В. Адаты и судопроизводство по ним. ССКГ, вып. I, 1868.
Кондауров А. Н. Патриархальная домашняя община и общинные дома у
ягнобцев. М.-Л., 1940.
Косвен М. О. Этнография и история Кавказа. М., 1961.
Косвен М. О. Древняя общественная структура народов Кавказа. В его кн.:
Этнография и история Кавказа. М., 1961.
Косвен М. О. Из истории семьи и брака у народов Кавказа. В его кн.:
Этнография и история Кавказа. М., 1961.
Косвен М. О. Из истории родового строя в Юго-Осетии. В его кн.: Этнография
и история Кавказа, М., 1961.
Косвен М О. Пережитки матриархата у народов Кавказа. «Советская
этнография», 1936, № 4—5.
'Косвен М. О. Из истории проблемы матриархата. «Советская этнография»,
1946, № 2.
Косвен М. О. Матриархат. История проблемы. М., 1948.
Косвен М. О. Патронимия и проблемы рода. В кн.: Вопросы этнографии
Кавказа. Тбилиси, 1952.
Косвен М. О. Пережитки матриархата у народов Кавказа. «Советская
этнография», 1936, № 4—5.
35!
Косвен М. О. Авункулат. «Советская этнография», 1948, № 1.
Косвен М. О. Обычай возвращения домой.— Труды института этнографии,
1946, № 1.
Косвен М. О. Семейная община и патронимия. М., 1963.
Косвен М. О. К проблеме группового брака.— Краткие сообщения института
этнографии, т. I, 1946.
Косвен М. О. Об историческом соотношении рода и племени. «Советская
этнография», 1951, № 2.
Косвен М. О. К вопросу о военной демократии.— Труды института этнографии
АН СССР, 1960, т. 54.
Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в
русской науке. Кавказский этнографический сборник. М., т. I, 1955; т. II, 1958; т. III,
1962.
Косвен М. О. М. Ковалевский как этнограф-кавказовед. В его кн.: Этнография
и история Кавказа.
Косвен М. Предисловие к книге: М. Ковалевский. Очерк происхождения и
развития семьи и собственности. М., 1939.
Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры. Изд. Акад. наук СССР,
М., 1957.
Косидовский Зенон. Библейские сказания. М., 1966.
Кох К. Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку в 1837 и 1838 гг.
В кн.: «Осетины глазами русских и иностранных путешественников».
Орджоникидзе, 1967.
К р а д е р Б. Отражение обычая гостеприимства в преданиях балканских
народов.— Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических
наук, т. 6, М., 1969.
Краткий географический очерк Терской области. Составил С. М. Урусов.
Пятигорск, 1914.
Красницкий К. И. Кое-что об Осетинском округе и о нравах туземцев его.
Газ. «Кавказ», 1865, № 29—33.
Кругликова И. Т. Религиозные представления сельского населения Боспо-
ра.— Краткие сообщения Института археологии АН СССР, № 124, 1970.
Круп нов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М«, 1960.
Крупнов Е. И. О происхождении и датировке Кобанской культуры.
«Советская археология», 1957, № 1.
Крупнов Е. И. Галиатский могильник как источник по истории алан-оссов.
«Вестник древней истории», 1938, № 2.
Крупнов Е. И. Христианский храм XII в. В кн.: Средневековые памятники
Северной Осетии, М., 123.
Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. М., 1971.
Крюков М. В. О соотношении родовой и патронимической (кидновой)
организации. «Советская этнография», 1967, № 6.
Кубалов А. Избранное. Орджоникидзе, 1960.
Кубалов А. Хасана Афхардты. В кн.: А. Кубалов. Избранное. Орджоникидзе,
1960.
352
Кудряшов К. В. Половецкая степь. М., 1948.
Кул а ев Н. X. А. М. Шегрен — один из первых исследователей осетинского
языка.— Ученые записки Северо-Осетинского педагогического института, т. 18, Дзау-
джикау, 1949.
Кулаковский Ю. Аланы по сведениям классических и византийских
писателей. Киев, 1899.
Кулаковский Ю. Христианство у алан.— Византийский временник, т. V,
вып. 1—2, СПб., 1898.
К у л а н ж Ф. Гражданская община древнего мира. Перевод с французского, СПб.,
1906.
К у л о в Б. С. Северная Осетия в прошлом и настоящем. Афтореферат
диссертации. Тбилиси, 1968.
Кулов К. Д. Матриархат в Осетии.—Изв. СОНИИ, т. VIII, 1935.
К у л о в К. Д. Пережитки родового быта в Северной Осетии.—Изв. СОНИИ,
т. IV, 1932.
Кулов С. Д. О некоторых пережитках феодально-родового быта и
капитализма в Северной Осетии. Орджоникидзе, 1941.
Кулов С. Д. Против вредных пережитков прошлого. Орджоникидзе, 1955.
Кулов С. Д. Северная Осетия накануне и в период первой мировой войны.—
Ученые записки СОГПИ, 1949, т. 18.
Куш ев а Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией в XVI—XVII вв.
М, 1963.
К у ш н е р П. Очерк развития общественных форм. М., 1924.
Кы чанов Е. И. Жизнь Темучина, думавшего покорить мир. М., 1973.
Лавров Д. Я. Заметки об Осетии и осетинах. Газ. «Терские ведомости», 1874,
Л-о 20, 22—29, 31, 33, 35, 36, 39, 43, 50; 1875, № 2, 3, 8, 9.
Лавров Д. Заметки об Осетии и осетинах. СМОМПК, вып. III, 1883.
Лавров Л. И. Нашествие монголов на Северный Кавказ. «История СССР»,
1965, № 5.
Лавров Л И. Абазины. Кавказский этнографический сборник, вып. I, 1955.
Лавров Л. И. О некоторых этнографических данных по вопросу
происхождения балкарцев и карачаевцев. В кн.: О происхождении балкарцев и карачаевцев,
Нальчик, 1960.
Лавров Л. И. Карачай и Балкария до 30-х годов XIX в. «Кавказский
этнографический сборник», вып. IV, М., 1969.
Лавров Л. И. Кабардино-адыгейская культура XIII—XV вв. «Советская
этнография», 1957, № 4.
Лавров Л. И. Доисламские верования адыгейцев и кабардинцев. В кн.:
Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований.—Труды
института этнографии АН СССР, т. 41, 1959.
Ладыженский А. М. Очерки социальной эмбриологии (Внутриродовое и
междуродовое право кавказских горцев). — Записки Северо-Кавказского Горского научно-
исследовательского института, кн. I, 1929.
Ладыженский А. М. Обычное семейное право черкес. «Новый Восток», 1928,
№ 29.
23 А. X. Магометов 353
Ладыженский А. М. Адаты горцев Северного Кавказа. «Вестник
Московского государственного университета», 1947, № 12.
Ладыженский А; М. К вопросу об изучении обычного права. «Бюллетень
Северо-Кавказского Бюро краеведения», 1926, № 3—4.
Ладыженский А. М. Формы перехода от первобытнообщинного строя к
классовому обществу (по материалам Северного Кавказа).— Научные доклады высшей
школы. Исторические науки, 1961, № 2.
Лазаришвили Г. Р. О времени переселения осетин в Грузию. «Советская
этнография», 1966, № 2.
Ланге Б. А. Балкария и балкарцы. Газ. «Кавказ», 1903, № 283, 287, 2887
294, 301.
Лапшин П. Ф. Проблемы общины в трудах М. М. Ковалевского. «Вопросы
истории», 1955, № 9.
Ларина В. И. Очерк истории городов Северной Осетии. Орджоникидзе, 1960.
Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. ВДИ,
1949, № 3.
Лаудаев У. Чеченское племя. ССКГ, вып. 1872.
Л а ф а р г П. Очерки по истории культуры. М.-Л., 1926.
Леббок Дж. Доисторические времена или первобытная эпоха человечества.
М., 1876.
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.
Лев и-Б р ю л ь Л. Первобытное мышление. М., 1939.
Лекиашвили А. С. Из истории хозяйства • горцев Грузии. — Автореферат
диссертации. Тбилиси, 1954.
Леонтьев А. Обычное право киргиз. «Юридический вестник», М., 1890, т. V.
Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев, вып. I, Одесса, 1882; вып. II, 1883.
Лиахвели Г. Древнее судопроизводство у осетин. «Юридическое обозрение»,
1885, № 197.
Лиахвели Г. Древний осетинский суд. «Юридическое обозрение», 1886, № 292.
Лиахвели Г. Значение клятвы у осетин. «Юридическое обозрение», 1884, № 163.
Липперт Ю. История культуры. СПб., 1894.
Липперт Ю. История семьи. СПб., 1897.
Люлье Л. Я. Черкесия (историко-этнографические статьи). Краснодар, 1927.
Малиновский И. А. Начальная страница из истории смертной казни
(кровавая месть).— Записки ИРГО, т. XXXIV, Сборник в честь 70-летия Г. Н. Потанина,
СПб., 1909.
Магомедов Р. Дагестан в эпоху татаро-монгольского ига. Махачкала, 1940.
Магометов А. X. Культура и быт осетинского народа. Историко-этнографичс-
ское исследование. Орджоникидзе, 1968.
Магометов А. X. Этнография Осетии. Орджоникидзе, 1970.
Магометов А. X. Культура и быт осетинского крестьянства. Орджоникидзе, 1963.
Магометов А. X. Сельская община у осетин.— Ученые записки СОГПИ, т. 28,
вып. II, 1968.
Магометов А. X. Реком (Из истории религии осетин). — Ученые записки
СОГПИ, т. 28, вып. II, 1968.
354
Магометов А. X. Семья и семейный быт осетин. Орджоникидзе, 1962.
Магометов А. X. Из прошлого народной культуры осетин.— Изв. СОНИИ,
т. XXII, вып. II, 1960.
Магометов А. X. Вахушти об Осетии и осетинах.— Материалы по
этнографии Грузии, вып. XII—XIII, 1963.
Магометов А. X. Н. Г. Берзенов—этнограф-литератор. — Изв. СОНИИ, т. XXI,
вып. I, 1958.
Магометов А. X. Национальные традиции осетин. «Советская Осетия», 1965,
№ 26—27.
Магометов А. X. Охота и охотничьи обряды осетин. «Мах дуг», 1964, № 11.
Магометова В. Д. Из истории борьбы осетинского народа за просвещение.—
Ученые записки Северо-Осетинского государственного педагогического института,
т. XXIII, 1959.
Макалатия С. И. Хевсурети. Историко-этнографический очерк
дореволюционного быта. Тбилиси, 1940.
Максимов А. Н. Ограничения отношений между одним из супругов и
родственниками другого. «Этнографическое обозрение», 1908, № 1—2.
Максимов Евг. Осетины. «Терский сборник», вып. II, Владикавказ, 1892.
Максимов Е. и Вертепов Г. Туземцы Северного Кавказа, вып. I,
Владикавказ, 1892.
М а л и н и н Л. В. О свадебных платежах и приданом у кавказских горцев.
«Этнографическое обозрение», 1890, № 3, кн. 6.
Мамакаев М. Чеченский тайп в период его разложения. Грозный, 1973.
Мамбетов Г. X. Общественный и семейный быт кабардинцев и балкарцев в
XVI—первой половине XIX в. В кн.: История Кабардино-Балкарской АССР с
древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции, М., 1967.
Мамбетов Г. X. Одежда в традициях и обычаях кабардинцев и балкарцев.—
Вестник Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института, вып. 5,
Нальчик, 1972.
Мамбетов Г. X. О гостеприимстве и застольном этикете адыгов. — Изв.
Адыгейского НИИ, т. VIII, Майкоп, 1908.
Мамбетов Г. X. Материальная культура сельского населения
Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1971.
Мансуров А. С. Обычный суд у осетин. Газ. «Каспий», Баку, 1894, № 38,
48, 58.
Мансуров А. С. Кавдасарды Тагаурского общества. Газ. «Новое обозрение»,
Тифлис, 1892, № 2910.
Мансуров А. С. О древних могильниках на Северном Кавказе. Газ. «Каспий»,
1896, № 251.
Марграф О. В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа. М., 1882.
Маурер Г. Введение в историю общинного, подворого, сельского и городского
устройства и общественной власти. М., 1880.
Мачавариани К. Некоторые черты из жизни абхазцев. Положение женщины
б Абхазии. СМОМПК, вып. IV.
355
Марцеллии А м. История. Перевод Ю. Кулаковского. Киев, 1906—1908.
Материалы по археологии Кавказа, VIII, 1900.
Материалы по истории земледелия СССР. Сб., т. I, М., 1952.
Материалы по истории осетинского народа, т. II, Орджоникидзе, 1942.
Материалы по истории Осетии, т. III, 1950.
Материалы по истории Осетии, т. У,1942.
Материалы по обычному праву кабардинцев. Собрал и подготовил к печати
Б. А. Гарданов. Нальчик, 1956.
Материалы по этнографии и лингвистике, собранные экспедицией в 1936—1940 гг.
Научный архив Музея краеведения Северо-Осетинской АССР.
Материалы по этнографии Грузии, вып. XII—XIII, 1963.
Материалы фольклорно-лингвистической экспедиции Северо-Осетиыского научно-
исследовательского института в Санибанское, Даргавское, Кобанское и Куртатинское
ущелья A959), ОРФ СОНИИ.
Материалы этнолого-лингвистической экспедиции Северо-Осетинского
научно-исследовательского института, 1932, ОРФ, СОНИИ.
Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР, вып. I, Л., 1930.
Мед о ев А. Заметки о селении Ольгинском. Газ. «Терские ведомости», 1887, № 69,
Мед о ев А. Из дигорских преданий. Газ. «Терские ведомости», 1899, № 140.
Мед о ев А. Из селения Христиановского. Газ. «Терские ведомости», 1884, № 21,
22, 29, 43, 96.
Медоев А. Селение Христиановское (историко-экономический очерк). Газ.
«Терские ведомости», 1899, № 92, 94.
Меликишвили Г. А. К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959.
М е р е т у к о в М. А. Экзогамия у адыгов.— Ученые записки Адыгейского НИИ,
т. VIII, Майкоп, 1968.
• М е р е т у к о в М. А. Семейная община у адыгов.— Ученые записки Адыгейского
НИИ, т. IV, 1965.
Меретуков М. А. Брак у адыгов. — Изв. Адыгейского НИИ, т. VIII,
Майкоп, 1968.
Меретуков М. А. Усыновление у адыгов в XIX в.— Изв. Адыгейского НИИ,
т. VIII, Майкоп, 1968.
Меретуков М. А. Экзогамия у адыгов.— Изв. Адыгейского НИИ, т. VIII,
Майкоп, 1968.
Миллер А. А. Жертвенные предметы из осетинских дзуаров. Государственный
•русский музей. Материалы по этнографии, т. III, вып. I, Л., 1926.
Миллер Б. В. Из области обычного права карачаевцев. «Этнографическое
ободрение», 1902, № 1,3.
Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Три части. М.„ 1882 и 1887.
Миллер В. Ф. В горах Осетии. Журн. «Русская мысль», 1881, № 9.
Миллер В с. Осетины. «Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А.
Ефрона, т. XXII, 1897.
Миллер В. Ф. Археологическая экскурсия в Осетию.— Материалы по
археологии Кавказа, вып. I, М., 1868.
Милле;р В. Ф. Религиозные верования осетин.—Осетинские этюды, ч. II,М., 1883-
:356
Миллер В. Ф. Иранское выражение клятвы. «Древности». — Труды
императорского Московского археологического общества, т. 19, вып. III, М., 1902.
Миллер В. Ф. Некоторые погребальные обычаи у кавказских народов.
«Древности», т. XX, вып. I, 1904.
Миллер В. Ф. Черты старины в сказаниях и быте осетин. «Журнал
министерства народного просвещения», 1882, кн. VIII.
Миллер В. Ф. О сарматском боге Уатыфарне. «Древности», 1894, т. XV, вып. 2.
Миллер В. Ф. Древнеосетинские памятники.— Материалы по археологии
Кавказа, III, М., 1893, стр. 110—118.
Миллер В. Ф. Отголоски кавказских верований на могильных памятниках.—
Материалы по археологии Кавказа, III, 1893, стр. 119—126.
Миллер В. Ф. Иранские отголоски в народных сказаниях Кавказа.
«Этнографическое обозрение», 1889, № 2.
Миллер В. Ф. Осетино-русско-немецкий словарь. Под редакцией и
дополнениями А. А. Фреймана, изд. АН СССР.
Ми лор адов ич О. Ф. Христианский могильник на городище Верхний Джулат.
В кн.: Средневековые памятники Северной Осетии, М., 1963.
Минаева Т. М. Городище на балке Адиюх в Черкесии.— Сб. научных
трудов Ставропольского гос. пединститута, вып. 9, 1955.
Минаева Т. М. Золотоордынский город Маджар. В кн.: Материалы по
изучению Ставропольского края, вып. 5, Ставрополь, 1953.
Мишулин А. В. История древнего Рима. Курс лекций, прочитанных в
Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), М., 1946.
Мишулин А. В. Древние славяне и судьбы Восточноримской империи. ВДИ,
1939, № 1.
Мисиков М. А. Материалы для антропологии осетин. Одесса, 1916.
Моногарова Л. Ф. Материалы по этнографии язгулемцев. «Среднеазиатский
этнографический сборник», II, 1959.
Морган Л. Г. Древнее общество. Л., 1934.
Морган Л. Г. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. Л., 1934.
Мусукаев А. И. Большая семья и патронимия у балкарцев в конце
XIX—начале XX вв. Автореф. канд. дисс, М., 1973.
Мэн Г. С. Древний закон и обычай. М., 1884.
Мэн Генри С. Древнейшая история учреждений. СПб., 1876.
Надежд и н Н. Природа и люди на Кавказе и за Кавказом. СПб., 1869.
Нарты. Эпос осетинского народа. М., 1957.
Нартское общество. Газ. «Терские ведомости», 1880, № 50.
Народы Кавказа. Этнографические очерки, т. I, М., 1960.
Народы Средней Азии и Казахстана, т. 2, М., 1963.
Невская В. П. Карачай в XIX в. Эволюция аграрного строя и сельской
общины,. Автореферат докторской диссертации. Черкесск, 1966.
Никольская 3. А. Родовые формы и отношения у аварцев в XIX в.
Диссертация. Рукопись хранится в архиве Института этнографии АН СССР.
Никольская 3. А. Пережитки патриархально-родового строя у аварцев в XIX
и в начале XX века.— Труды Института этнографии АН СССР, 3951, т. 14.
357
Никольский В. К- Очерк первобытной культуры. М., 1928.
Н о г м о в Ш. Б. История адыгейского народа, составленная по преданиям ка-
'бардинцев. Изд. 5, Нальчик, 1947.
Нузальское общество. Сб. Статьи неофициальной части «Терских ведомостей» за
II половину 1881 года.
Н. К. Примирение кровников. Бытовая картина. Газ. «Терские ведомости», 1901,
№ 73, 74.
Обзор деятельности общества восстановления православного христианства на
Кавказе за 1860—1910 гг., Тифлис, 1910.
Обычай кровавой мести у осетин. «Тифлисский листок», 1911, № 61.
Ольдерогге Д. А. Энгельс и проблема происхождения отцовского рода.
Вопросы истории доклассового общества, М.-Л., 1936.
О происхождении балкарцев и карачаевцев. Материалы научной сессии по
проблеме происхождения балкарского и карачаевского народов B2—26 июня 1959 г.),
Нальчик, 1960.
Оршанский И. Г. Народный суд и народное право. «Журнал гражданского и
уголовного права», 1875, № 3—5.
Освобождение зависимых сословий во всех округах Терской области. ССКХ,
вып. I, 1868.
Осетинские тексты, собранные Дан. Чонкадзе и Вас. Цораевым. Изд. академик
А. Шифнер. Приложение к. XIV тому «Записок Императ. Акад. наук», № 4, СПб. 1868.
Осетинское народное творчество (на осетинском языке). В двух томах. Составила
3. М. Салагаева. Орджоникидзе, 1961.
Осетинские народные сказки. М., 1959.
Осетинское племя. Труды комиссии по исследованию современного положения
землепользования и землевладения в нагорной полосе Терской области.
Владикавказ, 1908.
Очевидец. Примирение кровников (из сел. Хумалаг). Газ. «Терские ведомости»,
1903, № 56.
Очерки истории балкарского народа. Нальчик, 1961.
Очерки истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967.
Очерки истории Чечено-Ингушской АССР, т. I, Грозный, 1967.
Памятники народного творчества осетин. Нартские сказания, вып. I.
Владикавказ, 1925.
Памятники народного творчества осетин, вып. 2, Владикавказ, 1927.
Памятники народного творчества осетин, вып. 3, Владикавказ, 1928.
П а л л а с П. М. Заметки о путешествии в Южные наместничества Российского
государства в 1793 и 1794 гг. В кн.: Осетины глазами русских и иностранных
путешественников, Орджоникидзе, 1967.
П а н е к Л. Б. Следы родового строя у мтиулов. «Советская этнография», Сб.
статей, 1939, № 2. .
П а н е к Л. Б. Социальные отношения мтиулов.— Краткие сообщения института
этнографии, 1946, № 1.
П а н е к Л. Б. Скотоводческий праздник «Теодороба» у мтиулов. «Советская
этнография», 1936, № 4—5.
358
Пантелич Н. Приймачество у сербов, как архаическое и современное
явление.— VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук, М.,
1964, .. •'
П е р ш и ц А. И. Ранние формы семьи и брака в освещении советской
этнографической науки. «Вопросы истории», 1967, № 2.
П е-р ш и ц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П. История первобытного
общества. М., 1968.
П е р ш и ц А. И. Фамилия — лъэпкъ у кабардинцев. «Советская этнография»,
1951, № 1.
Песни далеких лет. Из осетинского фольклора (Перевод Наума Гребпева).
Орджоникидзе, 1960.
Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией
нравственности, т. II. СПб., 1910.
Плано Карпини. История монголов. В кн.: Путешествия в восточные
страны Плано Карпини и Рубрука, М., 1957.
Плетнева С. А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях. МИА,
№ 62, 1958.
Плетнева С. А. От кочевий к городам. М., 1967.
П л и е в А. А. Кровная месть у чеченцев и ингушей и процесс ее изживания в
годы Советской власти. Автореферат диссертации. М., 1969.
Праздники в Осетии. Газ. «Кавказ», 1885, № 2. \
Преображенский П. Ф. Курс этнологии. М.-Л., 1929.
Происхождение осетинского народа. Материалы научной сессии, посвященной
проблеме этногенеза осетин. Орджоникидзе, 1967.
Пожидаев В. П. Горцы Северного Кавказа. Краткий историко-этнографиче-
ский очерк. М.-Л., 1926. у
Покровский М. В. Очерки социально-экономической истории адыгских
племен в конце XVIII—первой половине XIX века. Автореф. дисс. на соискание ученой
-степени доктора исторических наук. М., 1957.
Полянский Ф. Я. Проблема общины в работах М. М. Ковалевского. «Вест-
лик Московского университета», 1952, № 7.
Помпеи Трог. ВДИ, 1949, № 1.
Потоцкий Я. Н. Путешествие графа Ивана Потоцкого в Астрахань и
окрестные страны в 1797 году. «Северный архив», 1828, № 1 и 2.
Потто В. А. Осетия и осетины. Кавказская война в отдельных очерках,
эпизодах, легендах и биографиях, т. V, СПб., 1891.
Похоронные обычаи осетин. (Обряд посвящения коня). Газ. «Терские ведомости»,
1902, № 5.
Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, М., 1957.
П ф а ф В. Б. Материалы для древней истории осетин. ССКГ, вып. 4, 1870.
Пфаф В. Б. Народное право осетин. ССК, т, I, 1871, т. II, 1872.
Пфаф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии. ССК, т. I, 1871.
Пфаф В. Б. Этнологические исследования об осетинах. ССК, т. II, 1872.
Пфаф В. Б. Описание путешествия в Южную Осетию, Рачу, Большую Кабарду
и Дигорию. ССК, т.П, 1872.
359
Пчелина Е. Г. Дом и усадьба нагорной полосы Юго-Осетии.— Ученые
записки Института этнической и национальной культур народов Востока, т. II. М., 1930.
Пчелина Е. Г. Обряд гостеприимства в Осетии. «Советская этнография», 1932,
№ 5—6.
Пчелина Е. Г. Родильные обычаи у осетин. «Советская этнография, 1937. №4.
Пчелина Е. Г. Урсдонское ущелье в Северной Осетии. В кн.: Отдел истории
культуры и искусства Востока, Труды, т. 4, Ленинград, 1947.
Рассказ римско-католического миссионера доминиканца Юлиана о путешествии
в страну приволжских венгров. — Записки Одесского общества истории и древностей,
V, Одесса, 1863.
Рассказы русских летописей XII—XIV вв. Перевод с древнерусского. М., 1973.
Рейнеггс Я. Общее историко-топографическое описание Кавказа. В кн.:
Осетины глазами русских и иностранных путешественников, Орджоникидзе, 1967.
Рикман Э. А. Поздние сарматы Днестровско-Дунайского междуречья
«Советская этнография», 1966, № 1.
Ркл'ицкий М. В. К вопросу о нартах и нартских сказаниях. Владикавказ, 1927.
Робакидзе А. И. Особенности патронимической организации у народов
горного Кавказа. (В связи с вопросом о соотношении патронимии, рода и семьи).
«Советская этнография», 1968, № 5.
Робакидзе А. И. Поселение как источник изучения общественного быта.—
Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, 1964.
Робакидзе А. И. Скотоводство, охота, рыболсЕство и пчеловодство в прошлом
у грузин. В кн.: Народы Кавказа, II, М., 1962.
Робакидзе А. И. Жилища и поселения горных ингушей. В кн.: Очерки по
этнографии горной Ингушетии. Тбилиси, 1968.
Робакидзе А. И. Жилища и поселения горцев Грузии в прошлом и
настоящем. «Краткие сообщения института этнографии АН СССР», XXXVI, 1962.
Равдоникас В. И. История первобытного общества, I—II, Л., 1947.
Родовое общество. Материалы и исследования.— Труды Института этнографии
АН СССР. Новая серия, т. XIV, М., 1951.
Россикова А. Е. В горах и ущельях Куртатии и истоков реки Терека.
ЗКОИРГО, кн. XVI, 1894.
Росляков А. А. Происхождение туркменского народа. Ашхабад, 1962.
Ростовцев М. И. Скифия и Боспор. Л., 1925.
Ростовцев М. И. Эллинство и иранство на Юге России. Пг., 1918.
Рыдзевская Е. А. О пережитках матриархата у скандинавов по данным
древнесеверной литературы. «Советская этнография», 1937, № 2—3.
С а и д о в И. М. Землевладение и землепользование у чеченцев и ингушей. —
Изв. Чечено-Ингушского НИИ, т. IV, вып. I, 1964.
Саидов И. М. Этнографические заметки (досоветский период). — Изв. Чечено-
Ингушского НИИ, т. V, вып. I, 1964.
Саидов И. М. Материалы по куначеству и гостеприиству у чеченцев и
ингушей.— Труды Чечено-Ингушского НИИ, т. IX, 1964.
Салагаева 3. М. Коста Хетагуров и осетинское народное творчество.
Орджоникидзе, 1959.
360
Саламов Б. С. Обычаи и традиции горцев. Орджоникидзе, 1968.
Салугарданское общество. Сб. «Статьи неофициальной части «Терских
ведомостей» за II половину 1881 г.
Самурский Н. (Эфендиев). Дагестан, М.-Л., 1925.
Самойло А. К вопросу о родовом строе у северных осетин в эпоху
завоевания Россией (конец XVIII—начало XIX века). — Труды Горьковского
государственного пединститута, т. VII, 1940.
Самуэли X. Очерки по обычному семейному праву армян. «Кавказский
вестник», 1902, № 1, 2, 3.
С а р е н ц Р. Г. Первобытный общинный строй и его характер на Северном
Кавказе. В кн.: Сб. научных трудов Пятигорского государственного пединститута,
вып. 4, Пятигорск, 1949.
Селение Ардонское. Сб. Статьи неофициальной части «Терских ведомостей» за
II половину 1881 г.
Сельское житье (Письмо из сел. Тулатовского). Газ. «Терские ведомости», 1900,
№ 92.
Семенов Л. П. Этнографический очерк у Коста и его предшественников.— Изв.
СОНИИ, т. XXI, вып. III, 1959.
Семенов Л. П. Археологические разыскания в Северной Осетии. — Известия
Северо-Осетинского научно-исследовательского института, т. XII, 1948.
Семенов Л. П. К вопросу о происхождении осетинского нартского зпоса.— Изв.
СОНИИ, 1957, т. 19.
Семенов Л. П.. К вопросу о культурных связях Грузии и народов Северного
Кавказа.— Материалы и исследования по археологии СССР, т. 23.
Семенов Л. П. «Нартские памятники» в фольклоре ингушей и осетин.
Орджоникидзе, 1932.
Семенов Л. П. Татартупский минарет. Дзауджикау, 1947.
Семенов Л. П. Из истории работы Музея краеведения Северо-Осетинскоч
АССР по изучению памятников материальной культуры Северной Осетии.
Дзауджикау, 1952.
Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии
в 1925—1932 годах. Грозный, 1963.
Семенов Ю. И. Об одной из ранних нерабовладельческих форм эксплуатации.
Сб. Разложение родового строя и формирование классового общества. М., 1968.
Семенов-Зусер С. Родовая организация у скифов Геродота.— Изв. ГАИМК,
1931, т. IX, в. I.
Сергеева Г. А. Брак и свадьба у народов Дагестана в XIX в.— Краткие
сообщения Института этнографии АН СССР, 1959, вып. 32.
Сигорский М. Брак и брачные обряды на Кавказе. «Этнография», 1930, М> 3.
Скачков А. Опыт статистического исследования горного уголка
(Экономический очерк). Владикавказ, 1905.
Скачков А. Легенды и предания осетин. История Дагома. Газ. «Терские
ведомости», 1905, № 235.
Скитский Б. В. Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен
до 1867 года.—Изв. СОНИИ, Дзауджикау, 1947.
361
Скитский Б. В. Хрестоматия по истории Осетии. С древнейших времен до
1917 г., т. I, Орджоникидзе, 1956.
Скитский Б. В. Остатки феодализма в земельных отношениях в нагорной
полосе Северной Осетии.— Изв. СОНИИ, 1956, т. 18.
Скитский Б. В. К вопросу о феодализме в Дигории. Орджоникидзе, 1933.
Скитский Б. В. Сословный вопрос в Северной Осетии во второй половине XIX ,.
и в начале XX в. —Изв. СОНИИ, 1954, т. 16.
Скитский Б. В. Роль православия в колониальной политике российского
царизма в Дигории. Орджоникидзе, 1933.
Слобожанин М. Очерки и воспоминания. СПб., 1909.
Смирнов К. Ф. Савроматы. М, 1964.
Смирнов А. П. Скифы, М., 1966.
Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в XVI—XIX вв., М., 1958.
Смирнова Я. С. Аталычество и усыновление у абхазов в XIX—XX вв.
«Советская этнография», 1961, № 2.
Смирнова Я. С. Воспитание ребенка в адыгейском ауле в прошлом и
настоящем.— Учен, записки Адыгейского НИИ, т. VIII, Майкоп, 1968.
Смирнова Я- С Обычаи избегания у адыгов и их изживание в советскую
эпоху. «Советская этнография», 1961, № 2.
Смирнова Я- С. Военная демократия в нартском эпосе. «Советская
этнография», 1959, № 6.
Смирнова Я. С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. В кн.:
Культура и быт народов Северного Кавказа. Под ред. В. К. Гарданова, М., 1968.
С о б и е в И. Дигорское ущелье. Рукопись. ОРФ СОНИИ.
Соколова 3. П. Культ животных в религиях. М., 1972.
Сокольский В. В. Архаические формы семейной организации у кавказских
горцев. «Журнал министерства народного просвещения», 1881, № 1.
С о си ев 3. Станица Черноярская. «Терский сборник», 1905, вып. 5.
Состояние хозяйства и промышленности у туземцев Терской области. Газ.
«Терские ведомости», 1869, № 38—41.
С о х а д з е А. К. Пережитки скотоводческих культов у западногрузинских горцев.—
VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1964.
Студенецкая Е. А. К вопросу о феодализме и рабстве в Карачае XIX в.,
«Советская этнография», 1937, № 2—3.
Студенецкая Е. А. О большой семье у кабардинцев в XIX в. «Советская
этнография», 1950, VN^ 2.
Та ко ев а Н. Ф. К вопросу о браке и свадебных обрядах у северных осетин в
XIX—начале XX в.—Краткие сообщения института этнографии АН СССР, XXXII, 1959.
Такоева Н. Ф. Погребальные и поминальные обряды осетин в XIX веке.
«Советская этнография», 1957, № 1.
Такоева Н. Ф. Из истории осетинского горного жилища. «Советская
этнография», 1952, № 3.
Тахт ар ев К. М. Сравнительная история развития человеческого общества и
общественных форм, тт. I, II, 1925, 1926.
Тахтарев К. М. Очерки по истории первобытной культуры. СПб., 1902.
362
Тацит Публий К о р н е л и й. Германия. Сб. Древние германцы. Документы
.и материалы по всеобщей истории. М., 1937.
Тейлор Э. Первобытная культура. М., 1939.
Тепцов В. Я. По истокам Кубани и Терека. СМОМПК, вып. XIV, 1892.
Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой
Орды, т. I, СПб, 1884, вып. II, М.-Л., 1941.
Тм ен о в В. X. Город мертвых. Орджоникидзе, 1973.
Т о г о ш в и л и Г. Д. Из истории грузино-осетинских взаимоотношений (с
древнейших времен до конца XIX в.). Автореферат кандидатской диссертации. Тбилиси, 1959.
Тогошвили Г. Д. Взаимоотношения грузинского и осетинского народов в
XV—начале XX вв. Автореферат докторской диссертации. Тбилиси, 1971.
Токарев С. А. Советская школа в этнографии. «Советская этнография», 1947, № 4.
Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1964.
Токарев С. А. Ранние формы религии. М, 1964.
Токарев С. А. Этнография народов СССР, М, 1958.
Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948.
Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948.
Толстов С. П. Основные вопросы древней истории Средней Азии. ВДИ, 1938, № 1,
Толстов С. П. В. И. Ленин и актуальные проблемы этнографии. «Советская
этнография», № 1, 1949.
Толстов С. П. Советская школа в этнографии. «Советская этнография», 1947, № 4.
Толстой В. С. Из служебных воспоминаний. Поездка в Осетию в 1847 г.
«Русский архив», 1875, 7.
Тот о ев М. С. Очерки истории культуры и общественной мысли в Северной
Осетии в пореформенный период. Орджоникидзе, 1957.
Т о т о е в М. С. К истории дореволюционной Северой Осетии. Орджоникидзе, 1956.
Т о т о е в М. С. Джантемир Такаевич Шанаев — этнограф осетинского народа
(на осет. языке), «Мах дуг», 1950, №11.
Т о т о е в М. С. Революционер и ученый А. Г. Ардасенов и его современники-
семидесятники.—Изв. СОНИИ, т. XIII, вып. I, 1948.
Тотров В. К. Семья и семейный быт крестьян Юго-Осетии в конце
XIX—начале XX вв. Автореферат дисс, Тбилиси, 1905.
Тотров В. К. Пережитки авункулата у осетин в прошлом. — Изв. ЮОНИИ,
ъып. XV, 1969.
Тотров В. К. К вопросу о поземельных и имущественных отношениях крестьян
Юго-Осетии в конце XIX — начале XX в. — Ученые записки Кишиневского
государственного университета, т. 73, 1964.
Туганов М. С. К материалам по изучению истории осетинского народа.—
Изв. ЮОНИИ, вып. IX, 1958.
Туганов М. С. Хранилища горской старины. «Горская правда», 16 ноября 1923.
Т у л ь ч и н с к и й Н. П. К земельному вопросу нагорной полосы Терской области.
Газ. «Терские ведомости», 1901, № 41—43, 46.
Тульчинский Н. П. Пять горских обществ Кабарды. Этнографическо-эконо-
эдический очерк. «Терский сборник», вып. 5, 1903.
363
Тургиев Т. Б. О скотоводстве у алан. В кн.: Материалы по археологии и
древней истории Северной Осетии, т. II, Орджоникидзе, 1969.
Тхостов И. Знахари и знахарки в Осетии. Газ. «Кавказ», 1968, № 85.
Уварова П. С. Кавказ. Путевые заметки, вып. I, III. /VI., 1887, 1904.
Уварова П. С. В. Ф. Миллер как исследователь Кавказа. «Этнографическое
обозрение», 1913, № 3—4.
Уварова П. С. Могильники Северной Осетии.— Материалы по археологии
Кавказа, VIII, М., 1900.
>Уруймагов X. Суеверия и обычаи осетин. «Владикавказские епархиальные
ьедомости», 1889, № 10.
Уруй магов X. Еще о калыме в Осетии. Газ. «Терские ведомости», 1900, № 13.
Уруй магов X. Похоронный обряд и воззрения осетин на загробную жизнь.
«Владикавказские епархиальные ведомости», 1900, № 2.
Устройство поземельного быта горских племен Северного Кавказа. ССКГ, вып. II,
1869.
Фадеев А. В. Вовлечение Северного Кавказа в экономическую систему
пореформенной России. «История СССР», 1959, № 6.
Фадеев А. В. Вопрос о социальном строе кавказских горцев XVIII—XIX вв.
в новых работах советских историков. «Вопросы истории», 1958, № 5.
Фарфаровский С. Брак в Осетии. «Естествознание и география», 1910, № 7.
Федоров Я. А. Половецкое наследство в Приэльбрусье. Сб. Кавказ и
Восточная Европа в древности. М., 1973.
Филимонов Г. Д. О доисторической культуре в Осетии. Тифлис, 1879.
Фрай Ричард. Наследие Ирана. М., 1972.
Францов Г. П. Научный атеизм. М., 1972.
Фрезер Дж. Золотая ветвь, вып. I—IV, М., 1928.
Фрейденберг М. М. Родственные коллективы в ДаЛхМатинской Хорватии в
XI—XVI вв. «Советская этнография», 1967, № 1.
X а з а н о в А. М. Материнский род у сарматов. ВДИ, 1970, № 2.
ХазановА. М. Обычай побратимства у скифов. «Советская археология», 1972.
№ 3.
Харадзе Р. Л. Грузинская семейная община. Тбилиси. I, 1960; II, 1961.
Харадзе Р. Л. Структура семейной общины в Картли. В кн.: Вопросы
этнографии Кавказа, Тбилиси, 1952.
Харадзе Р. Л. Некоторые стороны сельско-общинного быта горных ингушей.
В кн.: Кавказский этнографический сборник, II, Тбилиси, 1968.
Харадзе Р. Л. Сельская община у балкарцев.— Материалы по этнографии-
Грузии, IX, Тбилиси, 1960 (на грузинском языке).
Харадзе Р. Л. Территориально-соседские объединения в Сванетии.—
Материалы по этнографии Грузии, вып. XII—XIII.
X а р а д з е Р. Л., Р о б а к и д з е А. И. Мтиульское село в прошлом. Тбилиси, 1965.
Харадзе Р. Л., Робакидзе А. И. Характер сословных отношений в
горной Ингушетии. В кн.: Кавказский этнографический сборник, II, Тбилиси, 1968.
Харузин Н. Н. Очерки первобытного права. I, М., 1898.
Харузин Н. Н. Этнография, вып. П. Семья и род. СПб., 1903.
364
'Харузин Н. Н. По горам Северного Кавказа. Путевые заметки. У осетин.
'«Вестник Европы», 1888, т. VI.
X а х а н о в А. С. О мохевцах.— Сборник материалов, издаваемый при Дашков-
.ском этнографическом музее, вып. III, 1888.
Хаханов А. С. Тушины. «Этнографическое обозрение», 1889, № 2.
X а х а н о в А. С. Суд общины у грузин-горцев. «Этнографическое обозрение»,
1893, № 1.
Хашаев X. М. Общественный строй Дагестана в XIX в., М., 1961.
Хетагуров К. Л. Собрание сочинений в пяти томах. Изд. Академии наук
СССР. М., 1960—1961.
Ходон Г. Похищение невесты. Газ. «Терские ведомости», 1899, № 65.
Ход он Г. Калым. Газ. «Терские ведомости», 1899, № 32.
Цаголов Г. Край беспросветной нужды (Заметки о нагорной полосе
Терской области). Владикавказ, 1912.
Цаголов Г. Сельская буржуазия и надельные земли. Газ. «Терские
ведомости», 1899, № 38.
Цаголов Г. Охотничий язык и обряды у осетин. Этнографическая заметка.
Газ. «Терские ведомости», 1895, № 53.
Цаголов Г. Влияние религиозных обрядов на благосостояние осетин. «Новое
обозрение», 1897, № 4493.
Цаголов Г. Из жизни осетин. «Новое обозрение», 1897, № 4647, 4677.
Цаголов Г. Терская область за 20 лет (Материалы для изучения края). Газ.
-«Терские ведомости», 1914, № 25, 33, 36, 39, 47, 51, 62.
Цал лагов А. Сел. Гизель (или Кизилка). СМОМПК, вып. XVI, 1893.
Цуциев Б. А. Экономика и культура Северной Осетии. Орджоникидзе, 1967.
Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры, М., 1971.
Черников С. С. Загадка золотого кургана. М., 1965.
Чибиров Л. А. Осетинское народное жилище. Цхинвали, 1970.
Чибиров Л. А. О некоторых пережитках зоолатрии у осетин.— Материалы по
этнография Грузии, XVI—XVIII вв., Тбилиси, 1972.
Чибиров Л. А. Весенний цикл осетинских народных праздников. — Изв.
ЮОНИИ, вып. XV.
Чибиров Л. А. Из истории религиозных верований осетин. (Культ огня).— Изв.
ЮОНИИ, вып. XIII.
Чибиров Л. А. Анимистические верования осетин.— Ученые записки
Юго-Осетинского государственного педагогического института, том XIV, Цхинвали, 1969.
Чиковани Г. Д. Из общественного быта осетин — ныхас. Автореферат канд
дисс, Тбилиси, 1973.
Читая Г. С. Хевсуры. «Большая советская энциклопедия», т. 46 (второе изд.).
Читая Г. С. Грузины. «Большая советская энциклопедия», т. 13 (второе изд.).
Читая Г. С. Народы Грузинской ССР. Общие сведения. В кн.: Народы
Кавказа, 2, М., 1962.
Читая Г. С. Принципы и метод полевой этнографической работы. «Советская
этнография», 1957, № 4.
365
Читая Г. С. Земледельческие системы и пахотные орудия Грузии. В кн.:
Вопросы этнографии Кавказа, Тбилиси, 1952.
Чурсин Г. Ф. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис, 1913.
Чурсин Г. Ф. Культ железа у кавказских горцев.— Известия Кавказского ис-
торико-археологического института, вып. VI, Тифлис, 1928.
Чурсин Г. Ф. Траур у кавказских народов.— Иллюстрированное приложение к
газете «Кавказ», 1902, № 2.
Чурсин Г. Ф. История вдовьего траура.— Иллюстрированное приложение к
газете «Кавказ», 1903, № 3.
Шанаев Г. Из осетинских сказаний о нартах. ССКГ, вып. IX, 1876.
Шанаев Д ж. Свадьба у северных осетин. ССКГ, вып. 4, 1870.
Шанаев Дж. Присяга по обычному праву осетин. ССКГ, вып. VII, 1873.
Шанаев Д ж. Осетинские народные сказания. ССКГ, вып. II, III, V, 1869, 1871..
Шаревская Б. И. Старые и новые религии Тропической и Южной Африки..
М., 1964.
Ш е г р е н А. М. Религиозные обряды осетин, ингушей и их соплеменников при,
разных случаях. Газ. «Кавказ», 1846, № 27—30.
Шелов Д. Б. Танаис потерянный и найденный город. М., 1967.
Ш е т и х и н. Осетинская свадьба. Газ. «Терские ведомости», 1899, № 134.
Шибаева Ю. А. Пережитки эпохи матриархата у хакасов. «Советская
этнография», 1948, № 1.
Ш и к о в а Т. Т. Семья и семейный быт кабардинцев в прошлом и настоящем.
Автореферат диссертации, М., 1955.
Шихарева М. С. Общинные обычаи в сербской деревне в XIX—начале XX вв.—
Краткие сообщения Института этнографии, 1960, вып. 34.
Шпилевский С. Союз родственной защиты у древних германцев и славян.
Казань, 1866.
Штакельберг Р. Р. Главные черты в народной религии осетин.— Известия:
императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при
Московском университете, т. ХСУП, М., 1900.
Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936.
Штернберг Л. Я- Семья и род у народов северо-восточной Азии. Л., 1934.
Щербина Ф. Общинный быт и землевладение у кавказских горцев. «Северный
вестник», 1886, № 1—2.
Щукин И. С. Материалы для изучения карачаевцев. М., 1913.
Яковлев Н. Ингуши. М.-Л., 1925.
Якушкин Е. И. Обычное право русских инородцев. Материалы для
библиографии. М., 1899.
Яновский А. Осетия. Обозрение российких владений за Кавказом, ч. II, СПб.,
1836.
Оглавление
Введение . . ... . 3
Исторический очерк . ... / * 7
Древние истоки и позднейшие связи . . . . . . . 40
Печенеги и половцы в Алании . . . . . .48
Алания накануне татаро-монгольского нашествия * . 62
Нашествие татаро-монголов и борьба алан с завоевателями 66
Ногайцы в предгорьях Кавказа 73
Культурно-исторические связи осетин с соседними
народами . . • . . . . .. . . .76
Социально-экономическое развитие осетин XVII—XVIII вв. . , 86
Пережитки матриархата . . . 93
Родственные объединения 131
«Мыгтаг» (фамилия) • • • • - * 134
«ЛЕрвадаэлтав» . 142
Патронимия . • . 144
Искусственные формы родства . . 147
Семейная община . . . , . • > . . . . 155
:•:• Хозяйство семейной общины, организация труда в ней и
управление . . . . ., 171
Сельская община . . . . . 193
К истории возникновения сельской общины в Осетии, ее
структура, формы землевладения и землепользования 195
Экономический быт, общинная солидарность и
взаимопомощь . . . . . ... . . . 210
Общинный культ 216
Управление и общественные отношения . 221
Суд и присяга по адату . . , , 247
Кровная месть . . . 263
Гостеприимство . . . . . 287
Ранние формы религии и их пережитки . . .... 298
Литература ^ ^ .4 , * ;\,. V . • .338
Ахеарбек Хадзиретович Магометов
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ
И БЫТ ОСЕТИН (ХУ1!-Х1Х вв.)
Редактор А. Т. Г О Л И Е В А» Художник
У. К. К А Н У К О В. Художественный
редактор X. Т, С А Б А Н О В. Технический
редактор Ю. В.. ГРЕЧИШКИНА.
Корректоры 3, М. ТХАЛСАЕВА, К. М. КОДЗАЕВА
Наборщик 3. М. Б И Т И Е В А. Печатник
В. И. ЖУРАВЛЕВ
Сдано в набор 20-11-1974 г. Подписано к
печати 22Л/И-1974 г. Формат бумаги 70х901/16. Печ.
л. 23.' Усл.-печ. л. 26.91. Учетно-изд.' листов
25,78. Тираж 5000 экз. Заказ № 581. Изд. № 21.
Цена на бум. тип. № 1 — 1 руб. 95 коп., на
бум. мелоз.-2 руб. 86 коп. ЕЙ 00155*
Книжное издательство Управления по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
Совета Министров СО АССР, г. Орджоникидзе,
ул. Димитрова, 2.
Книжная типография Управления по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
Совета Министров СО АССР, г. Орджоникидзе,
ул. Тельмана, 16.