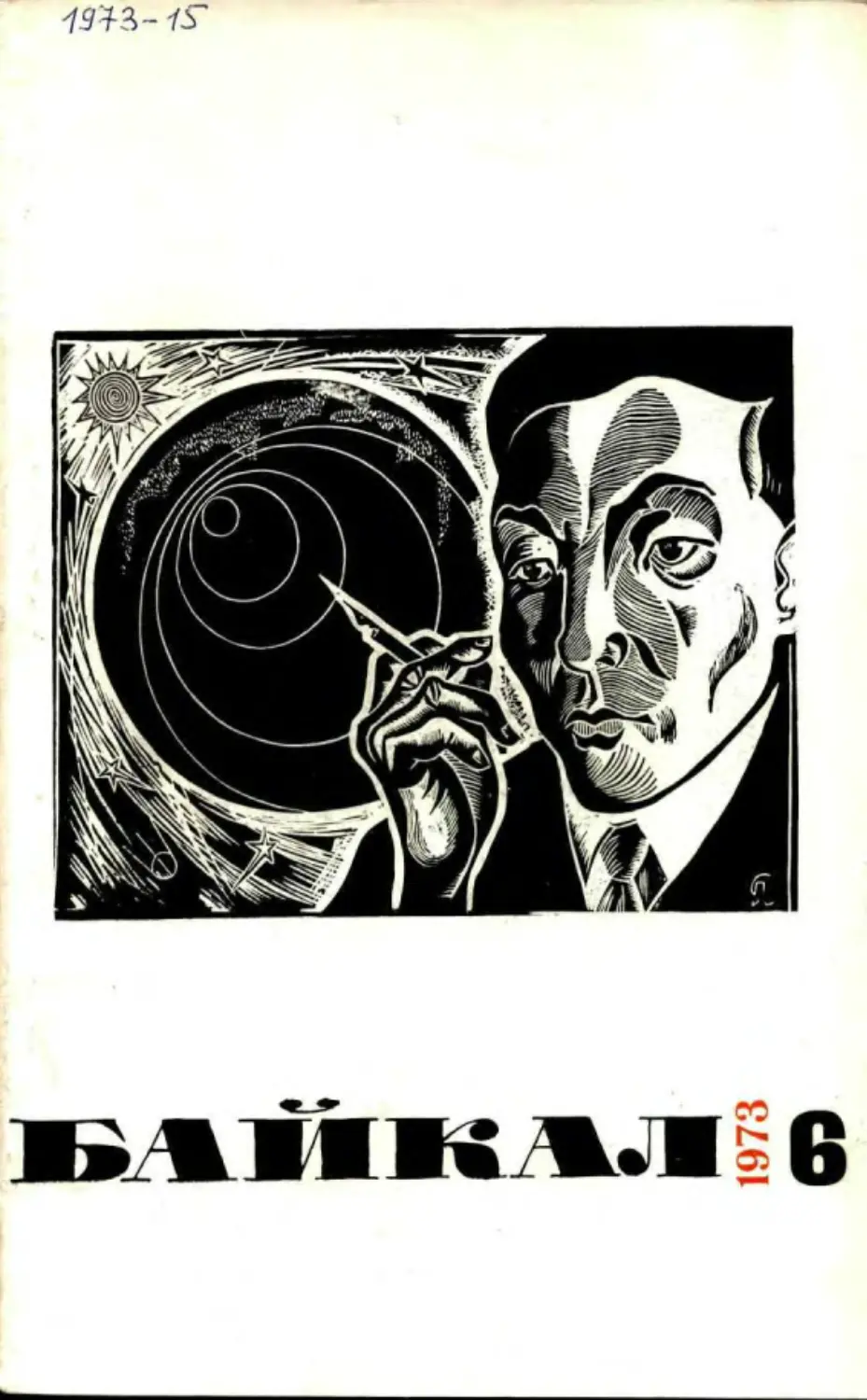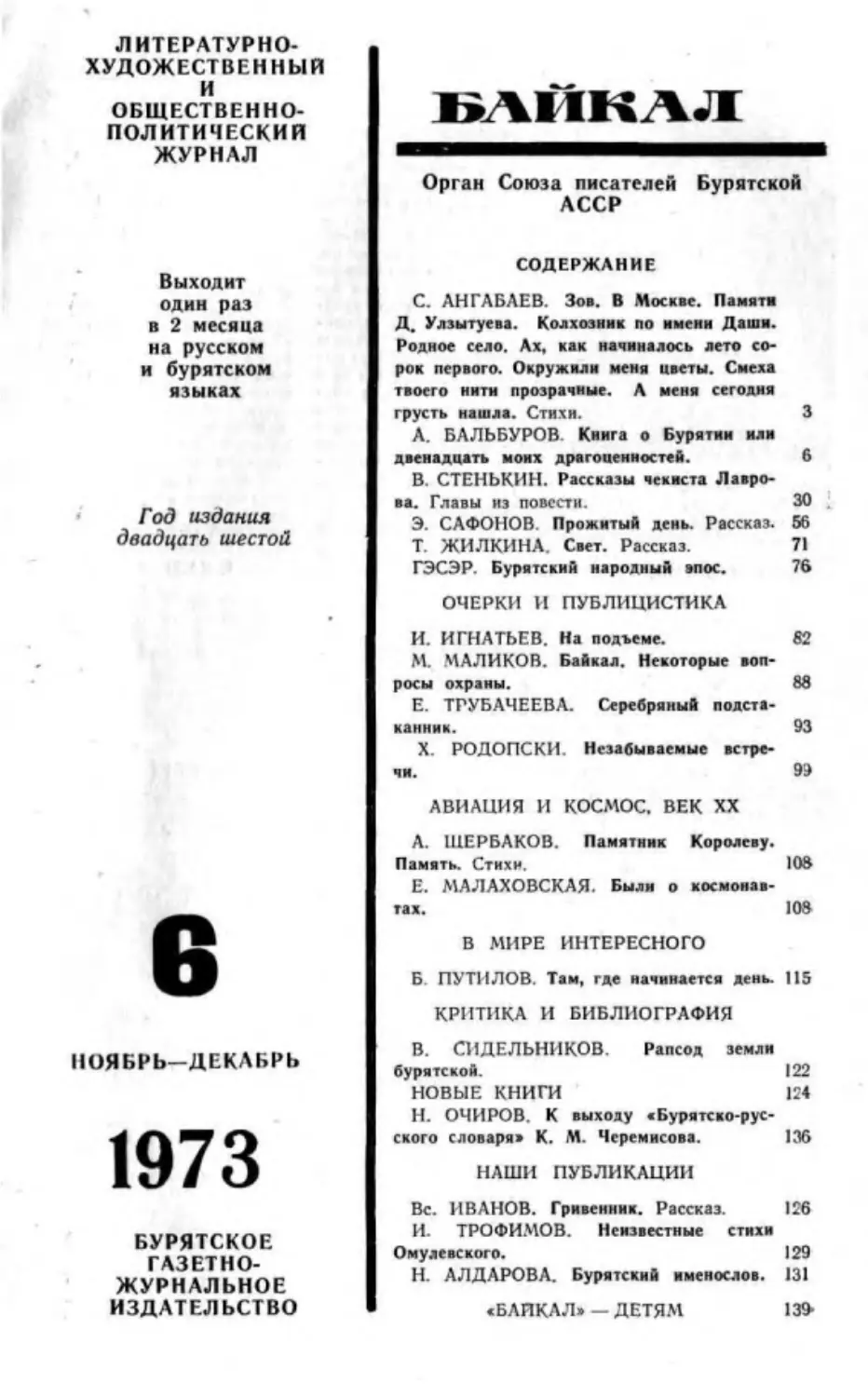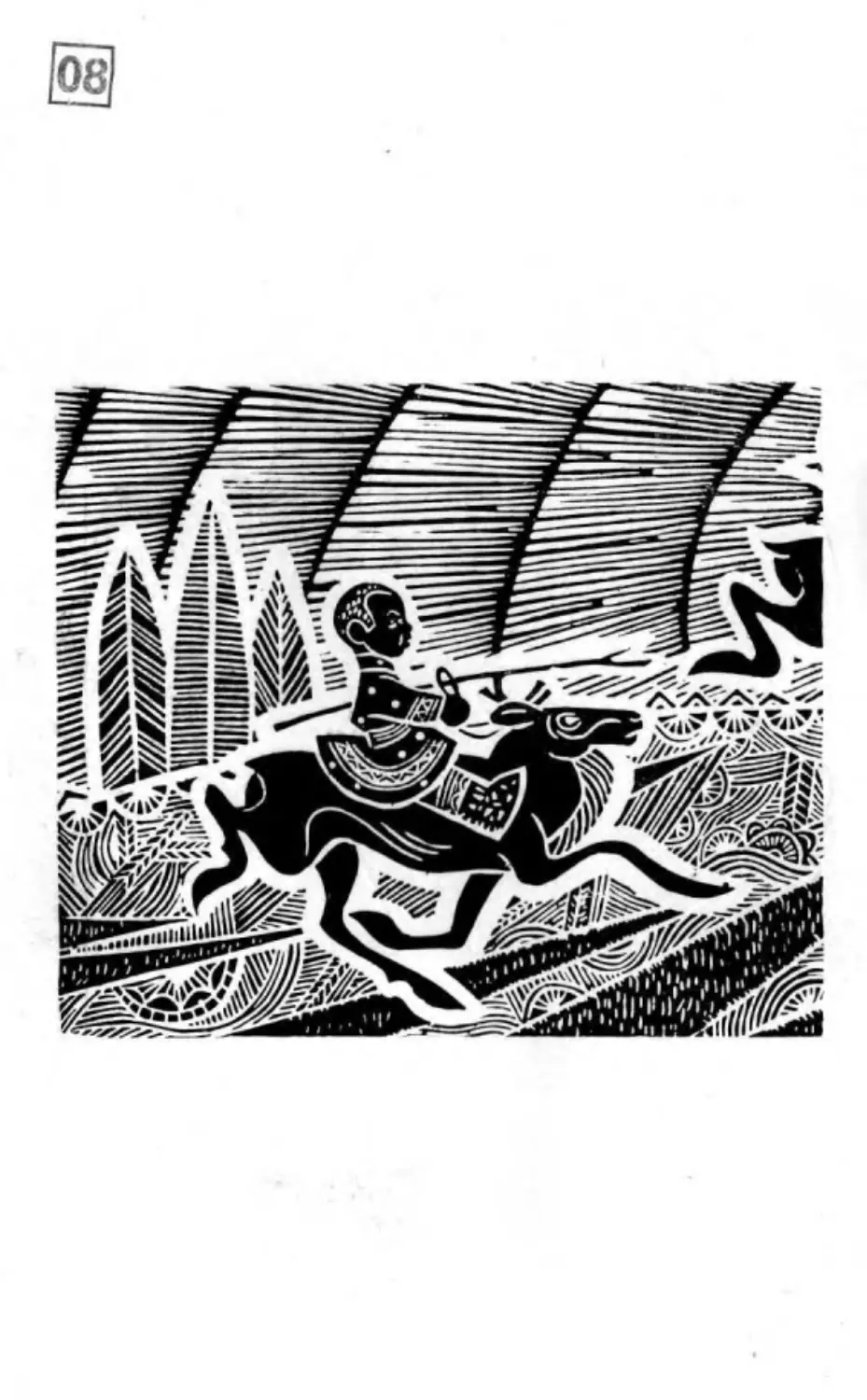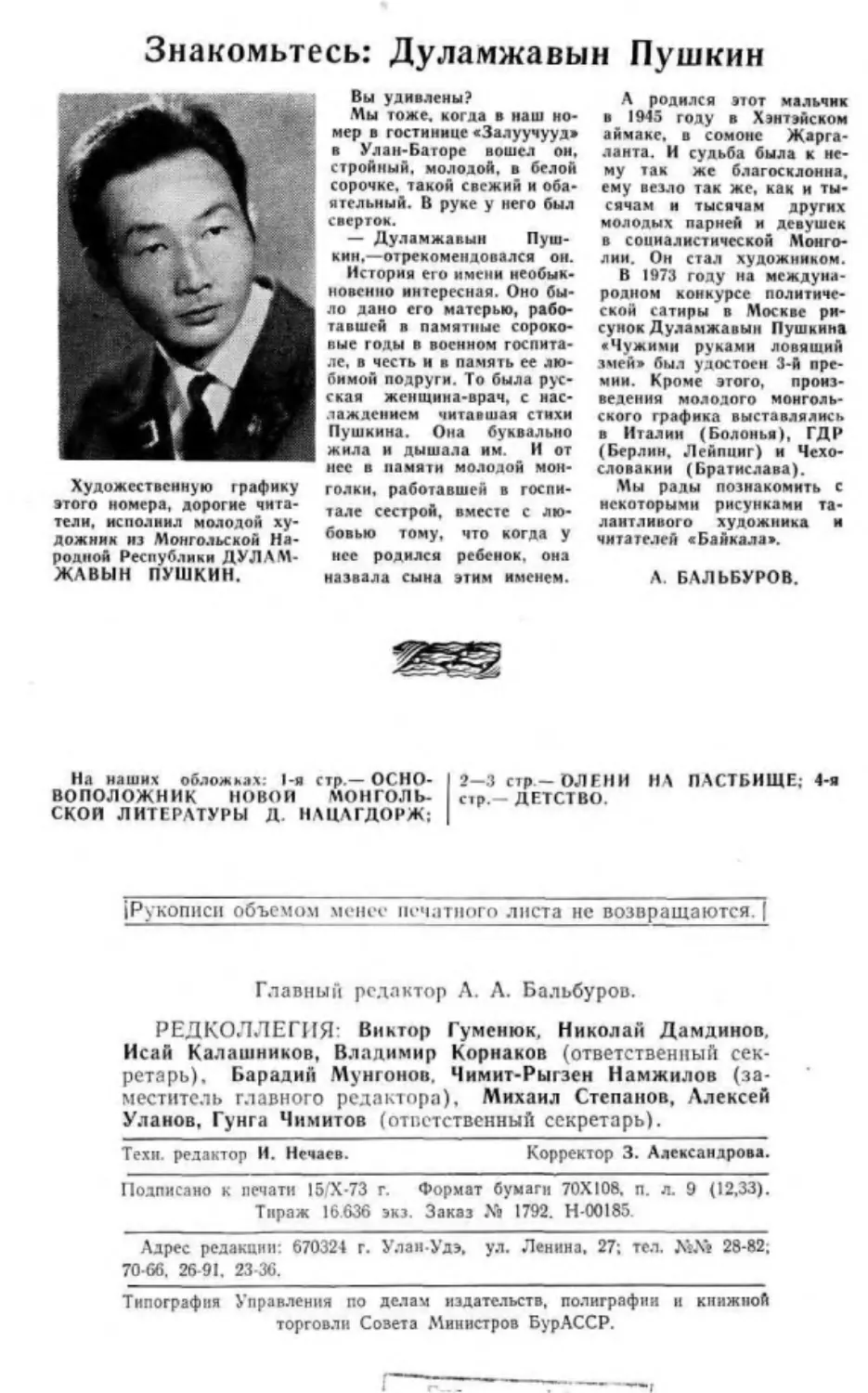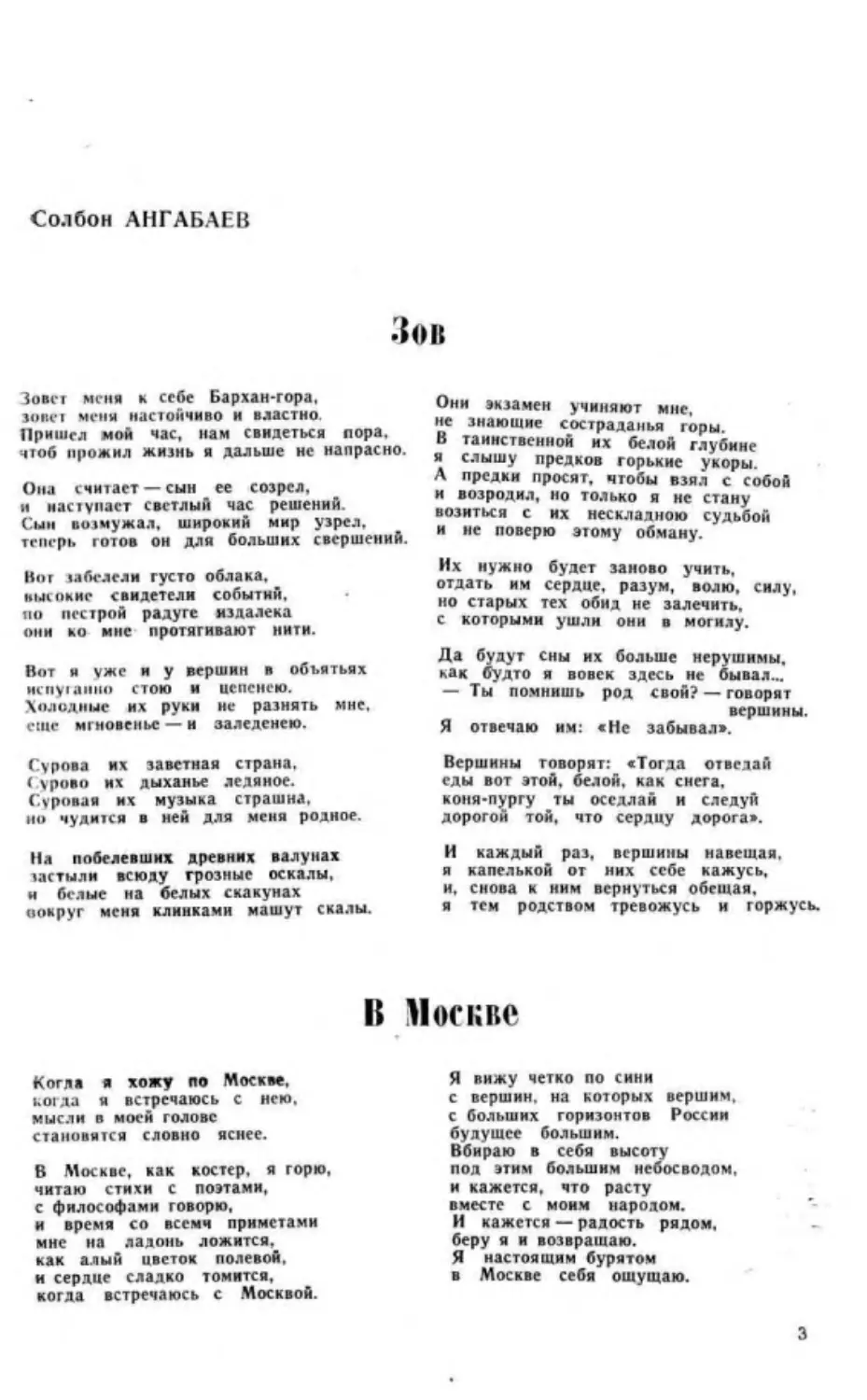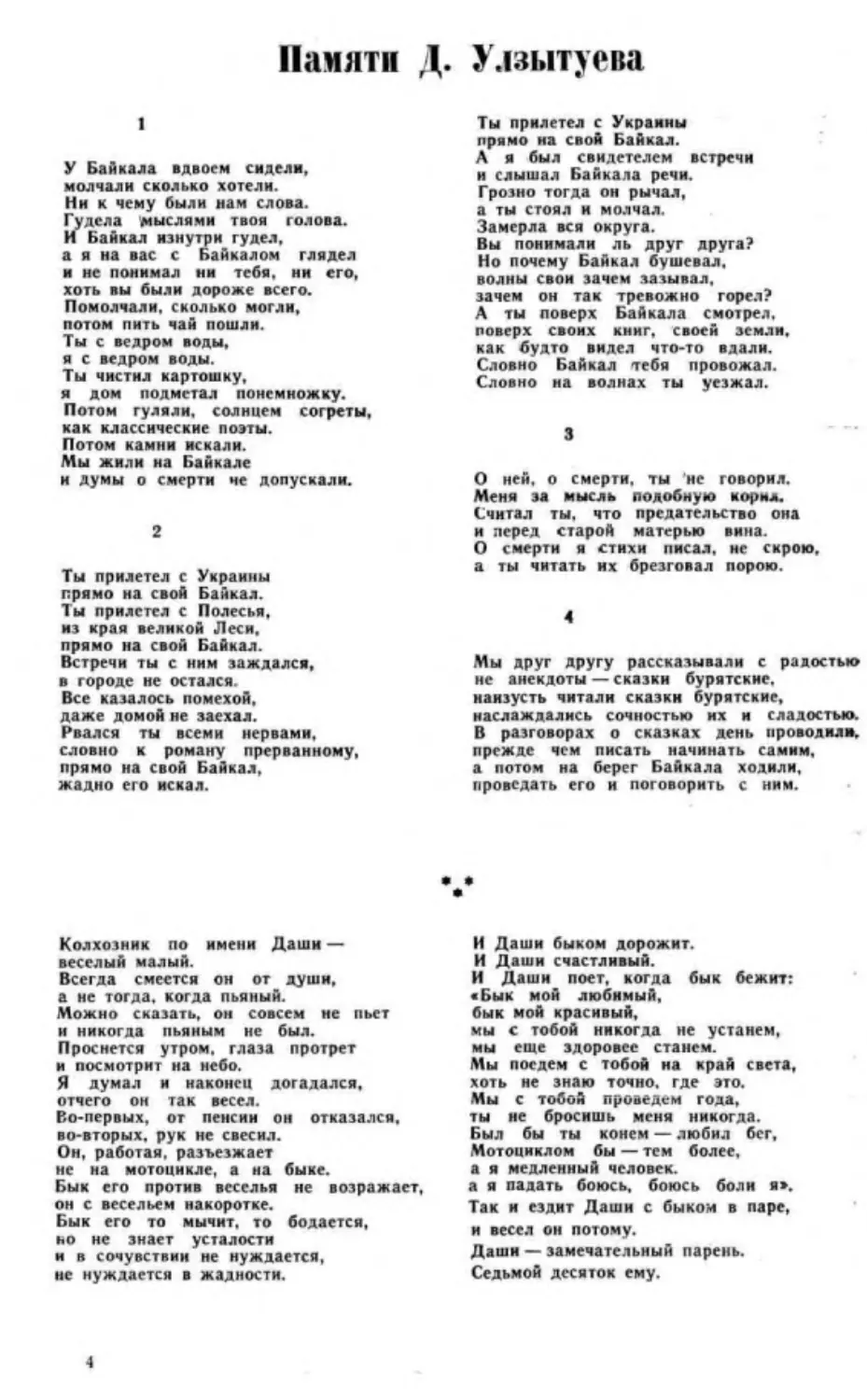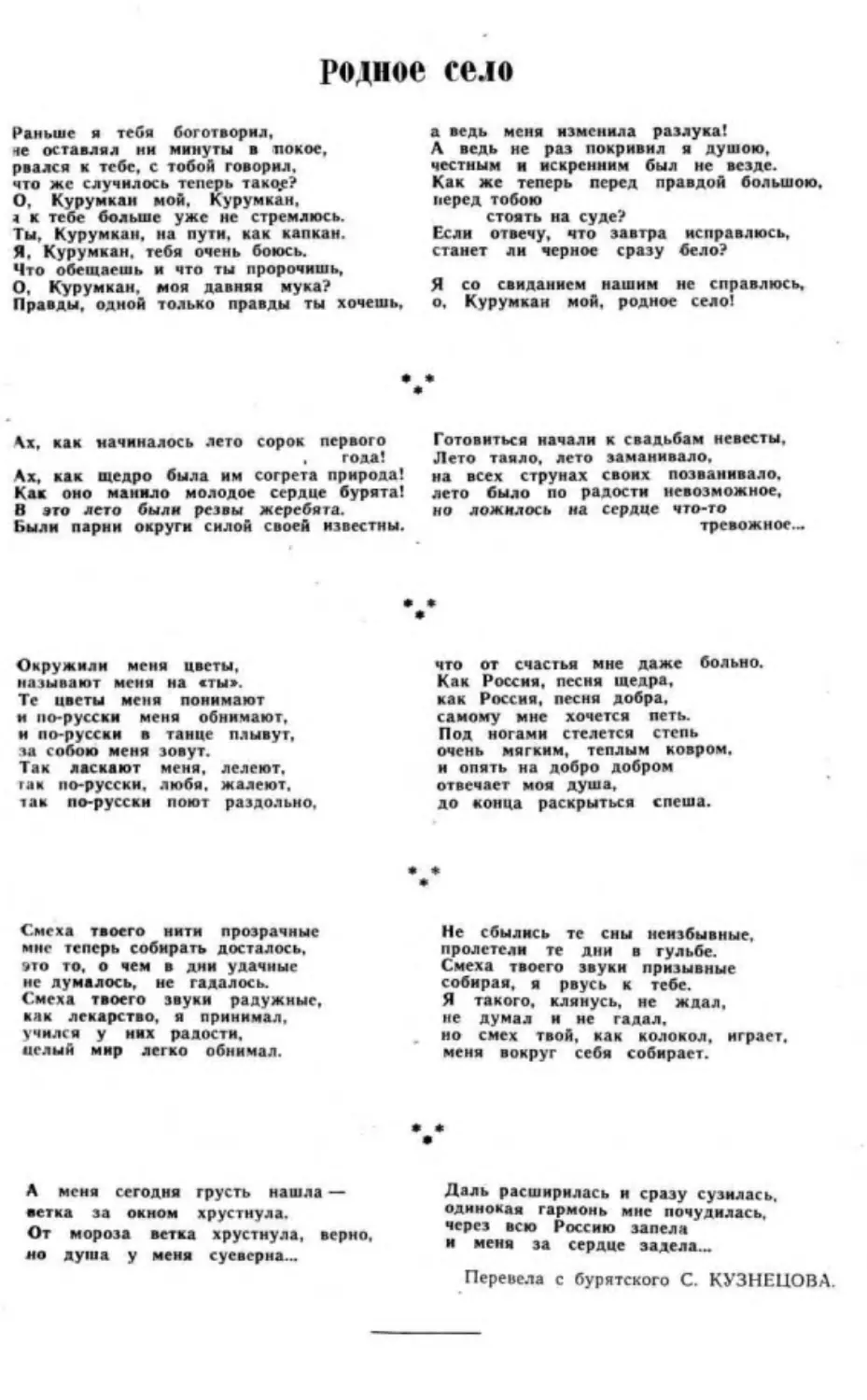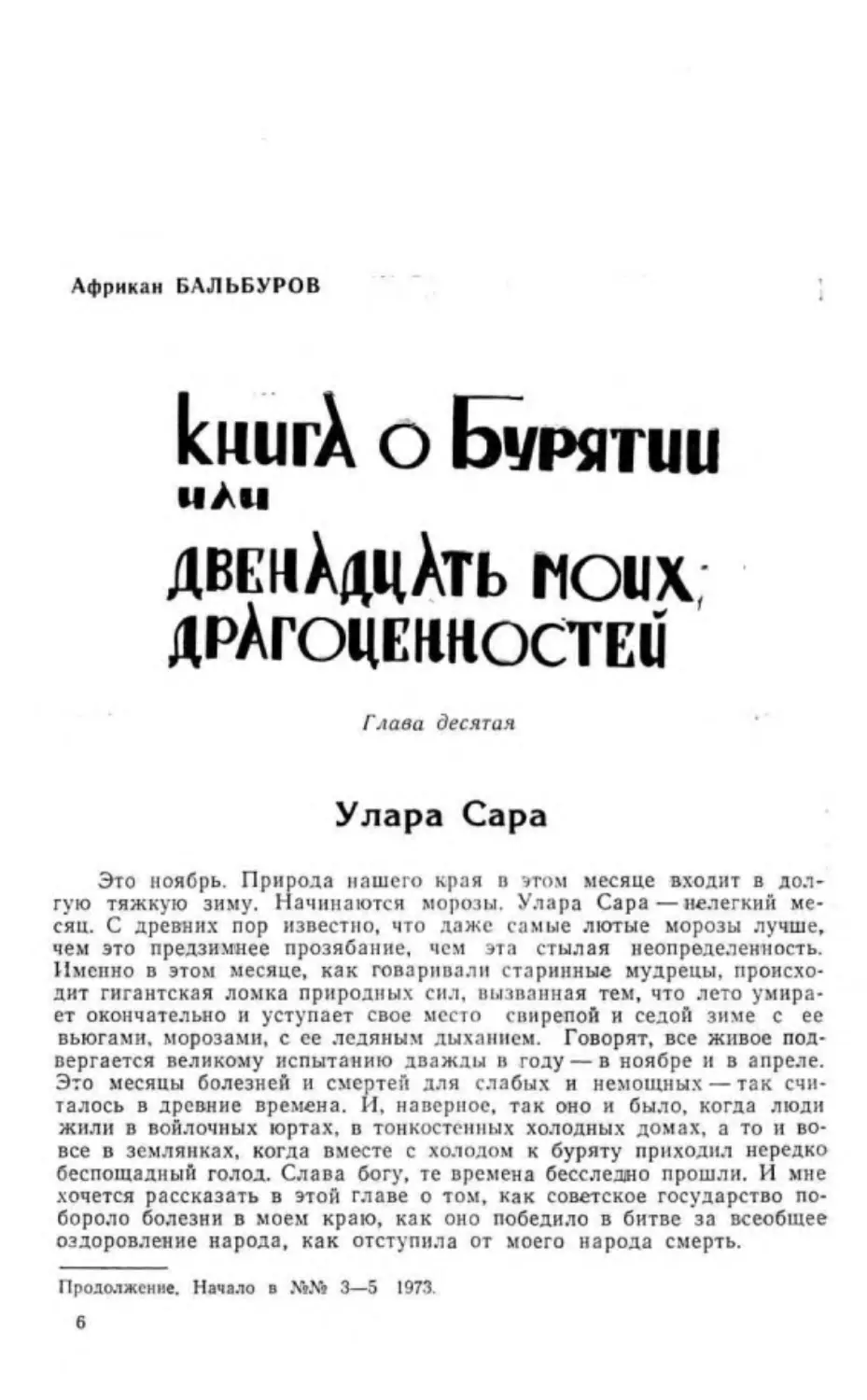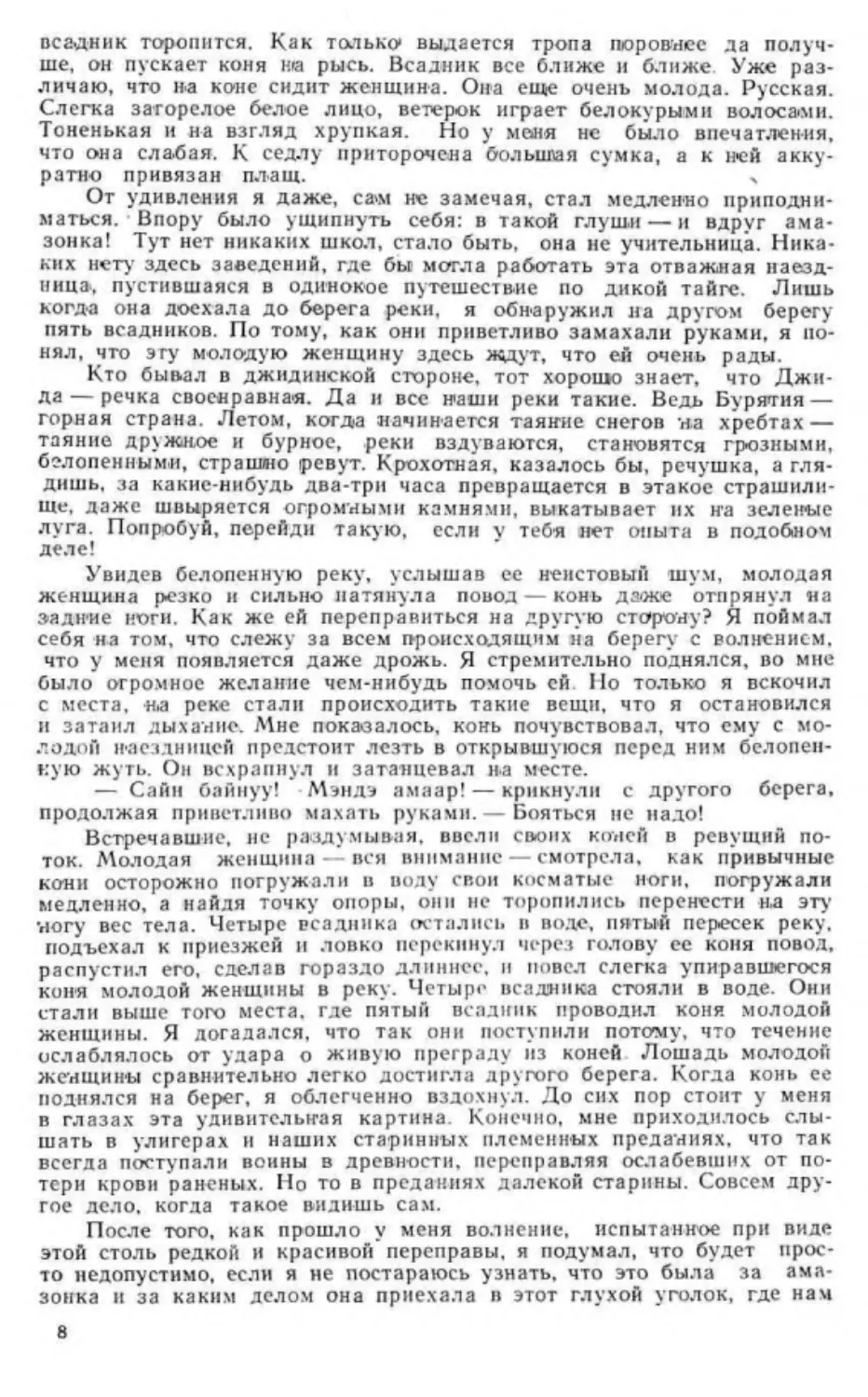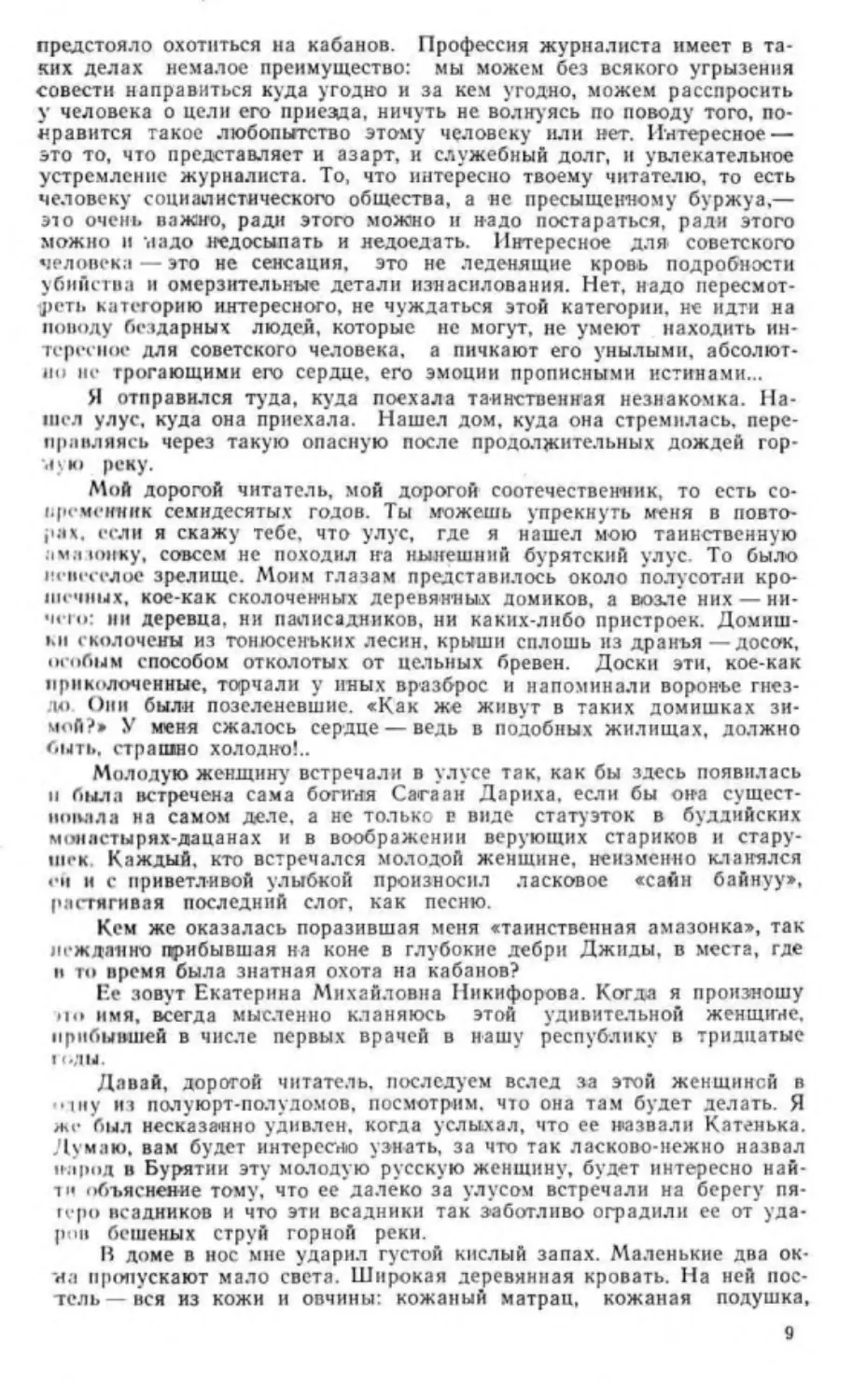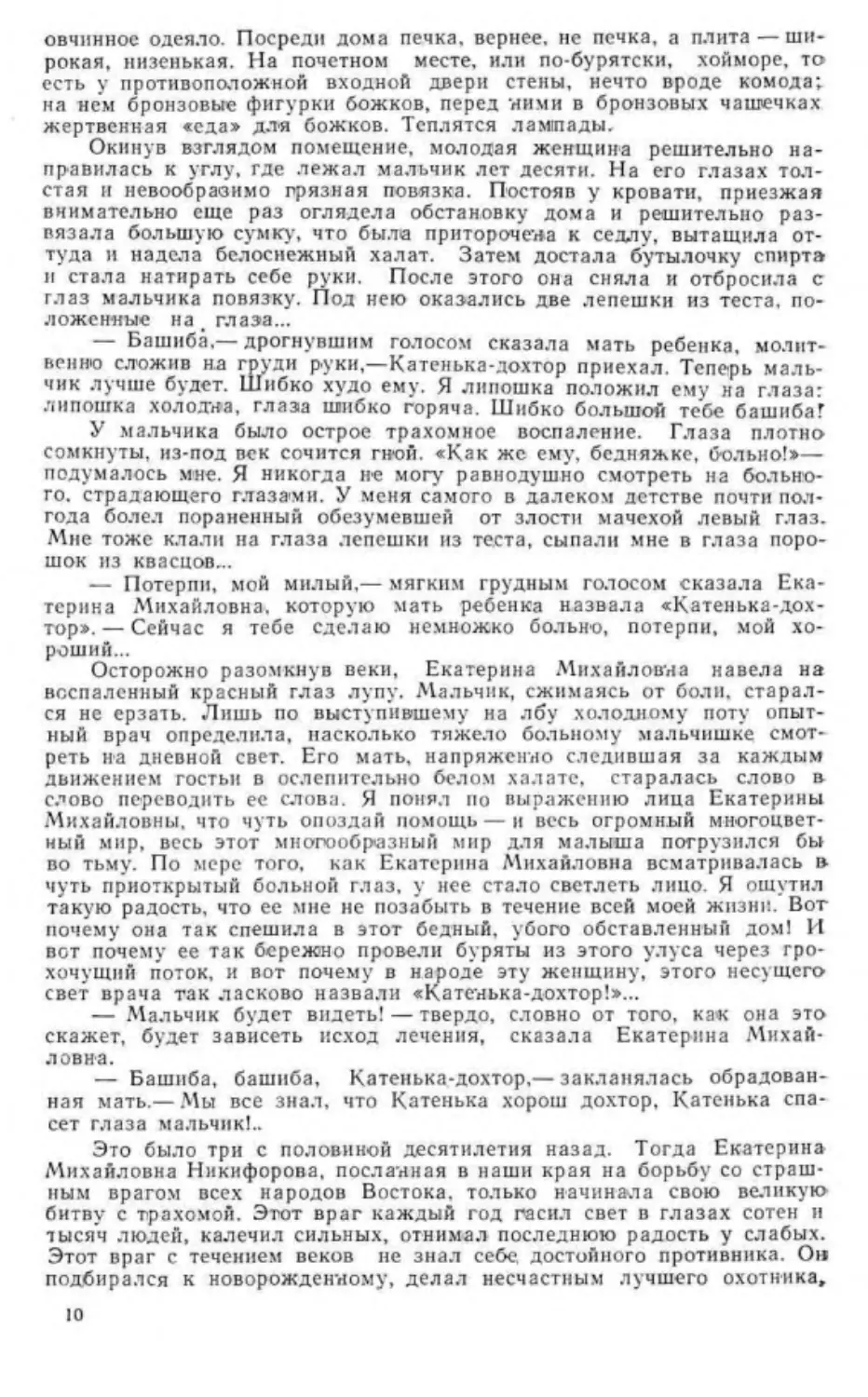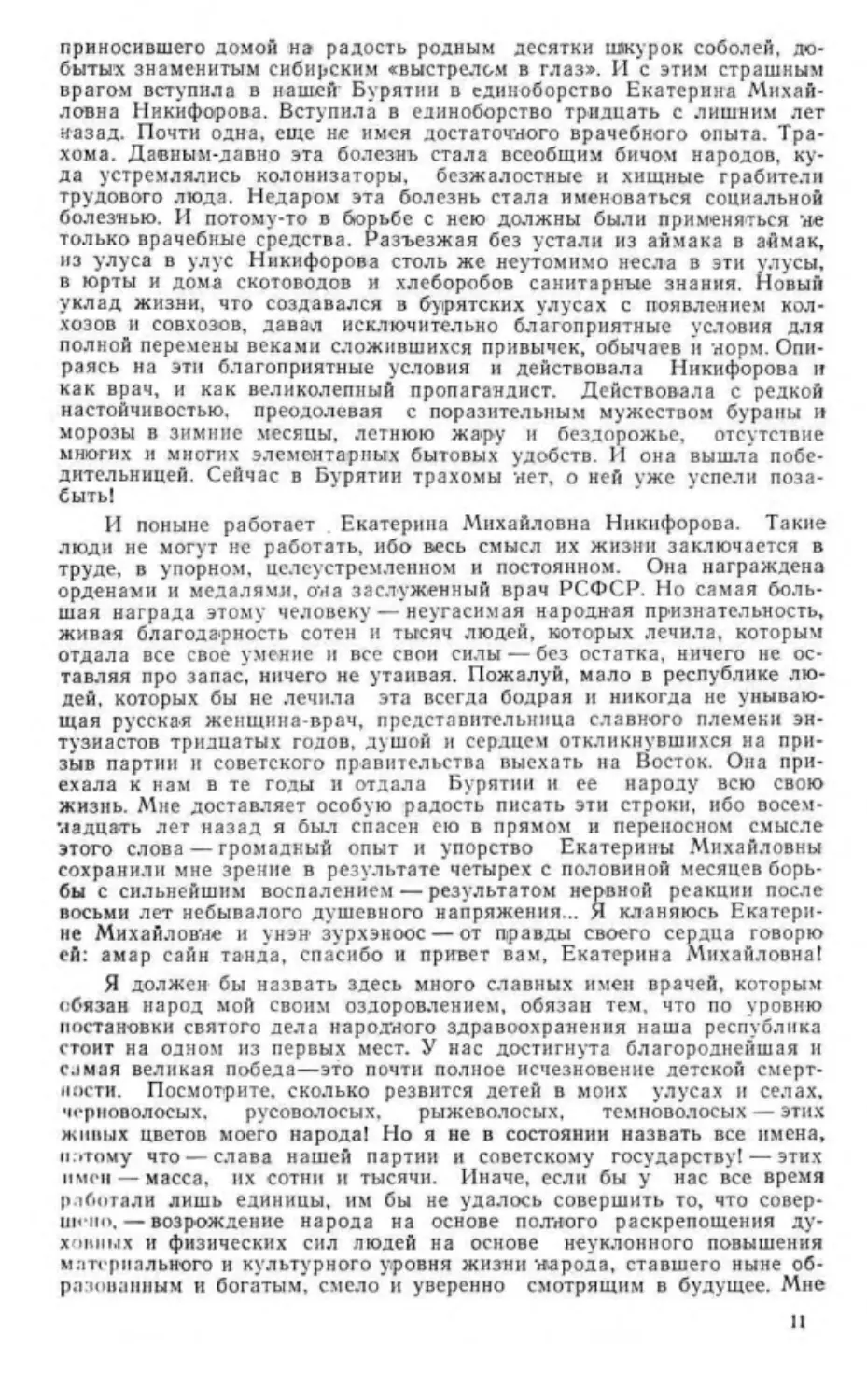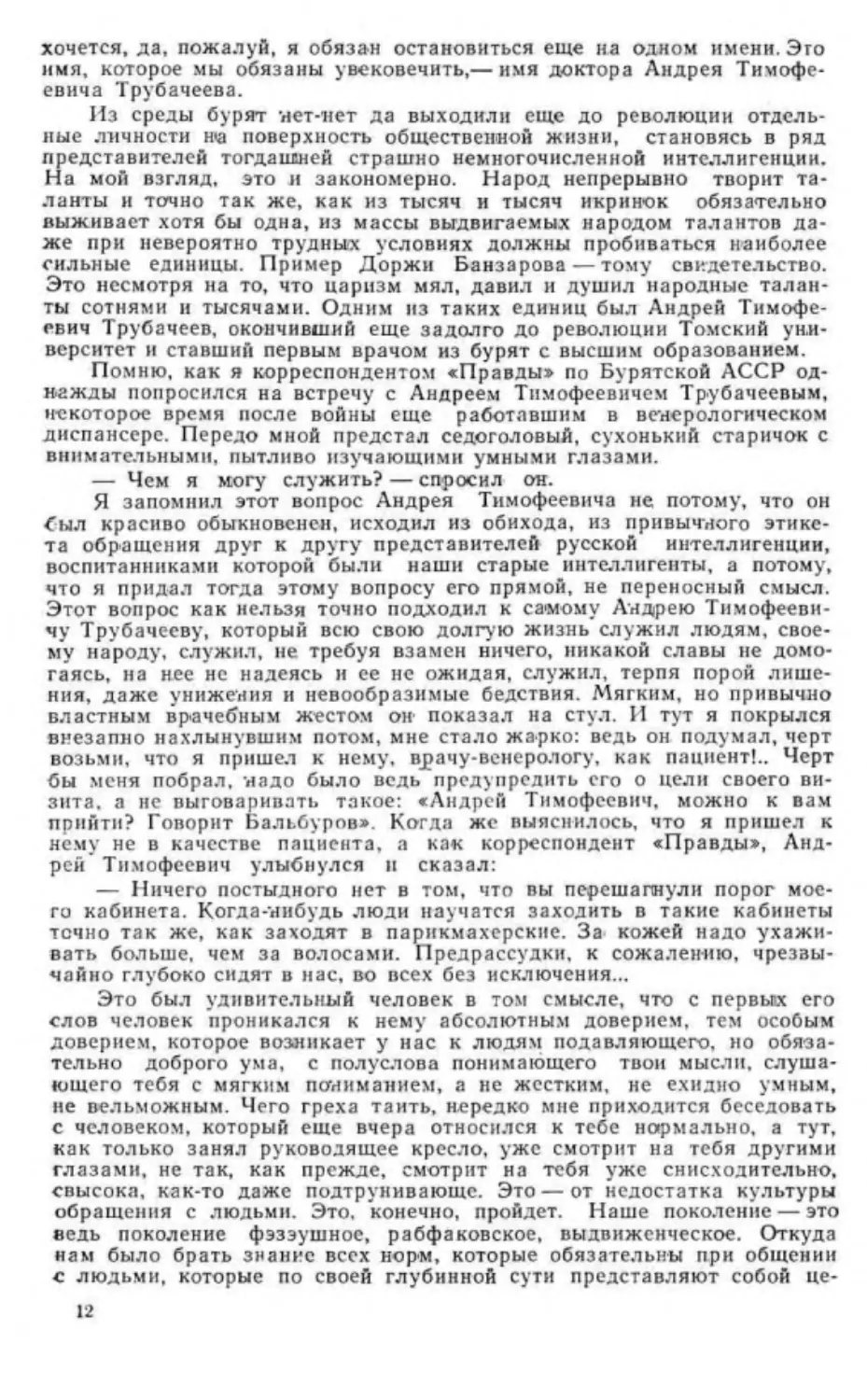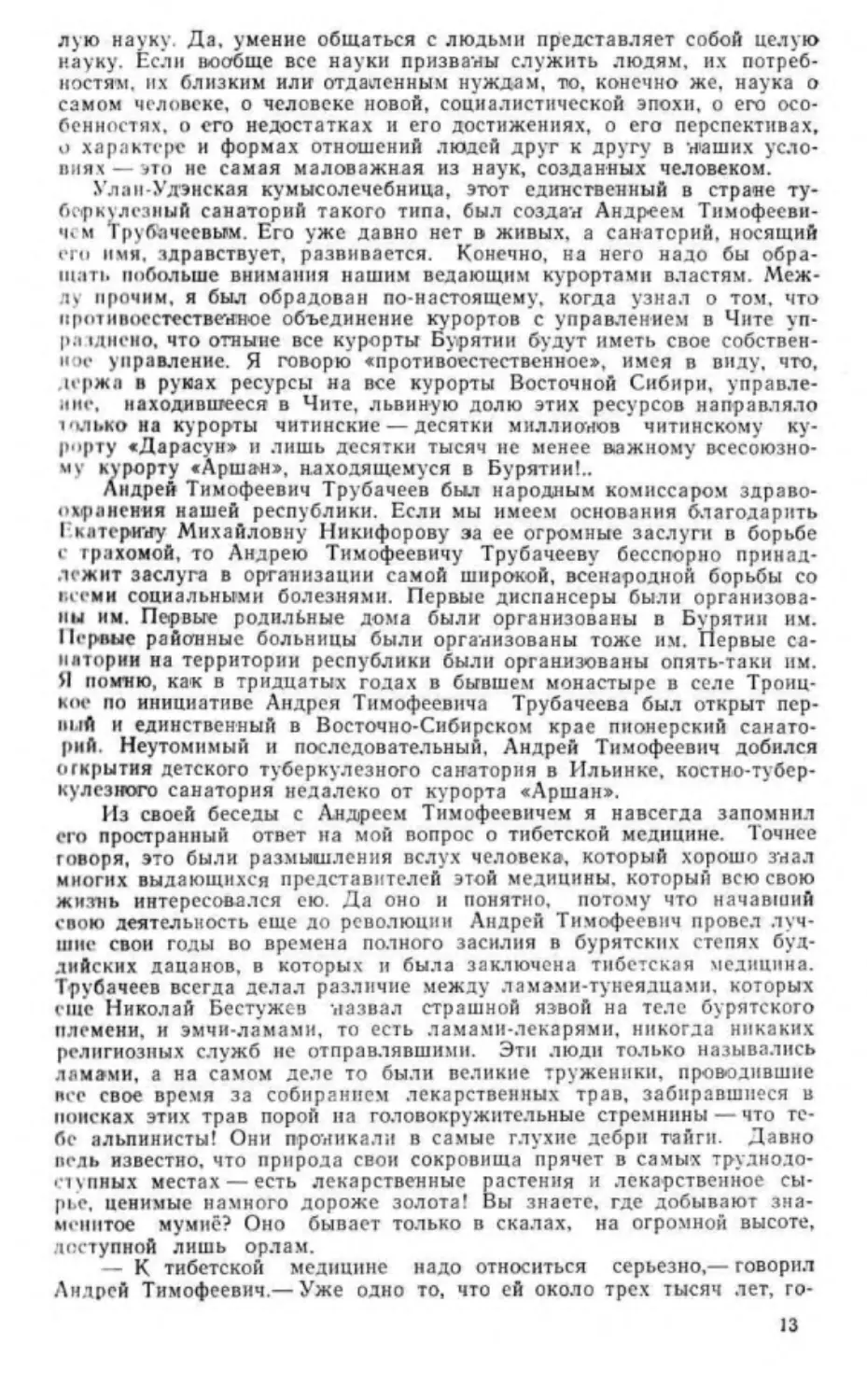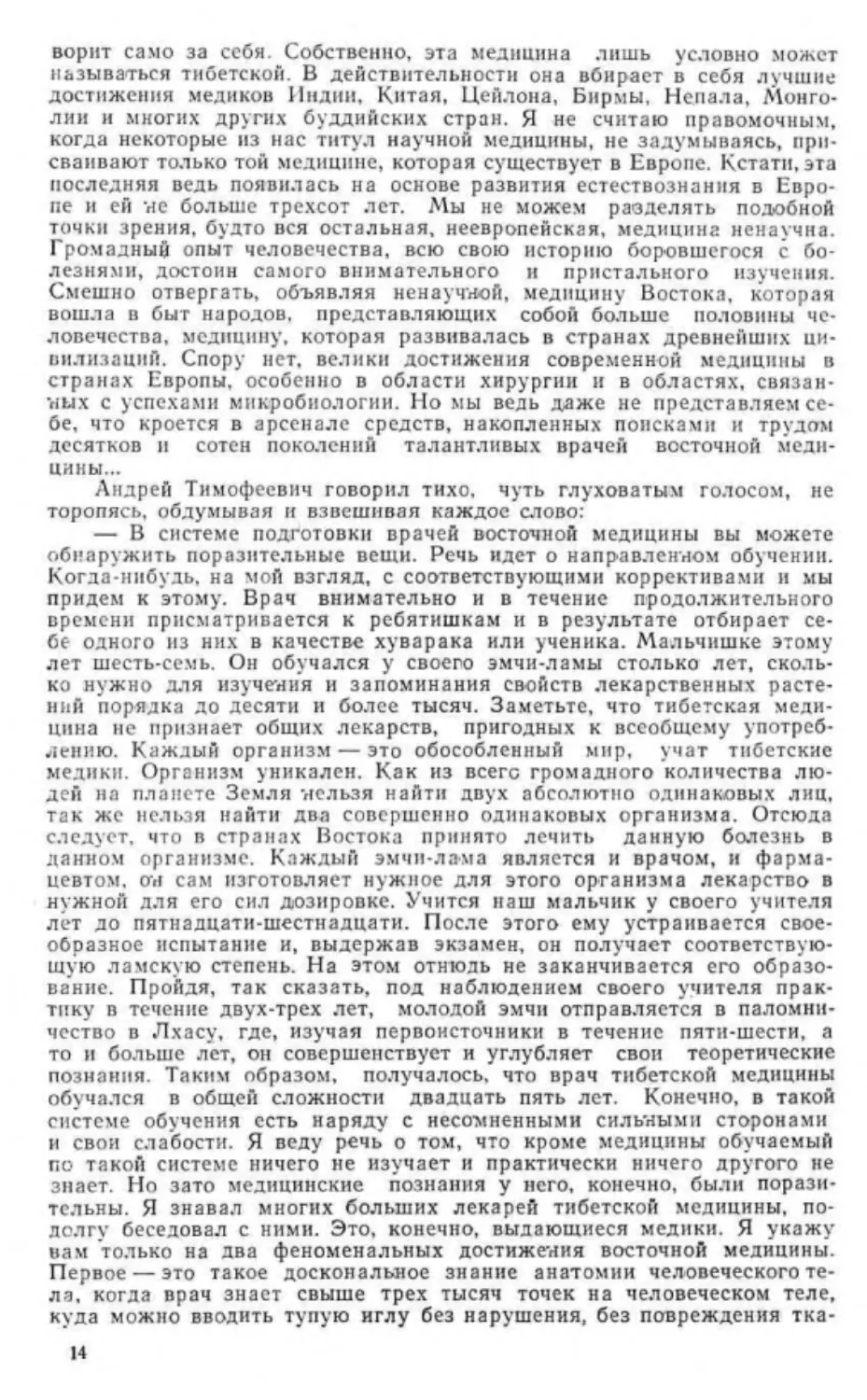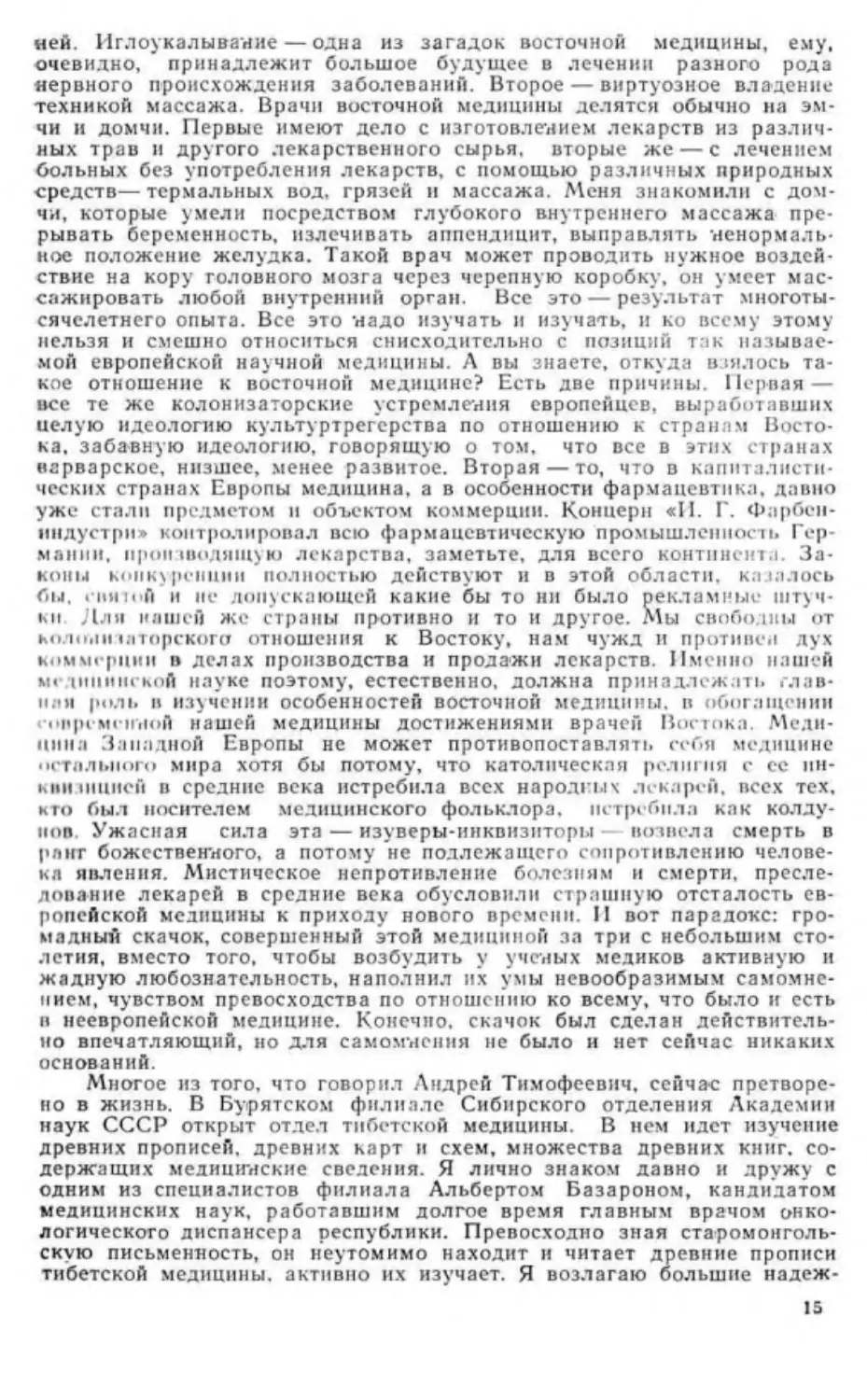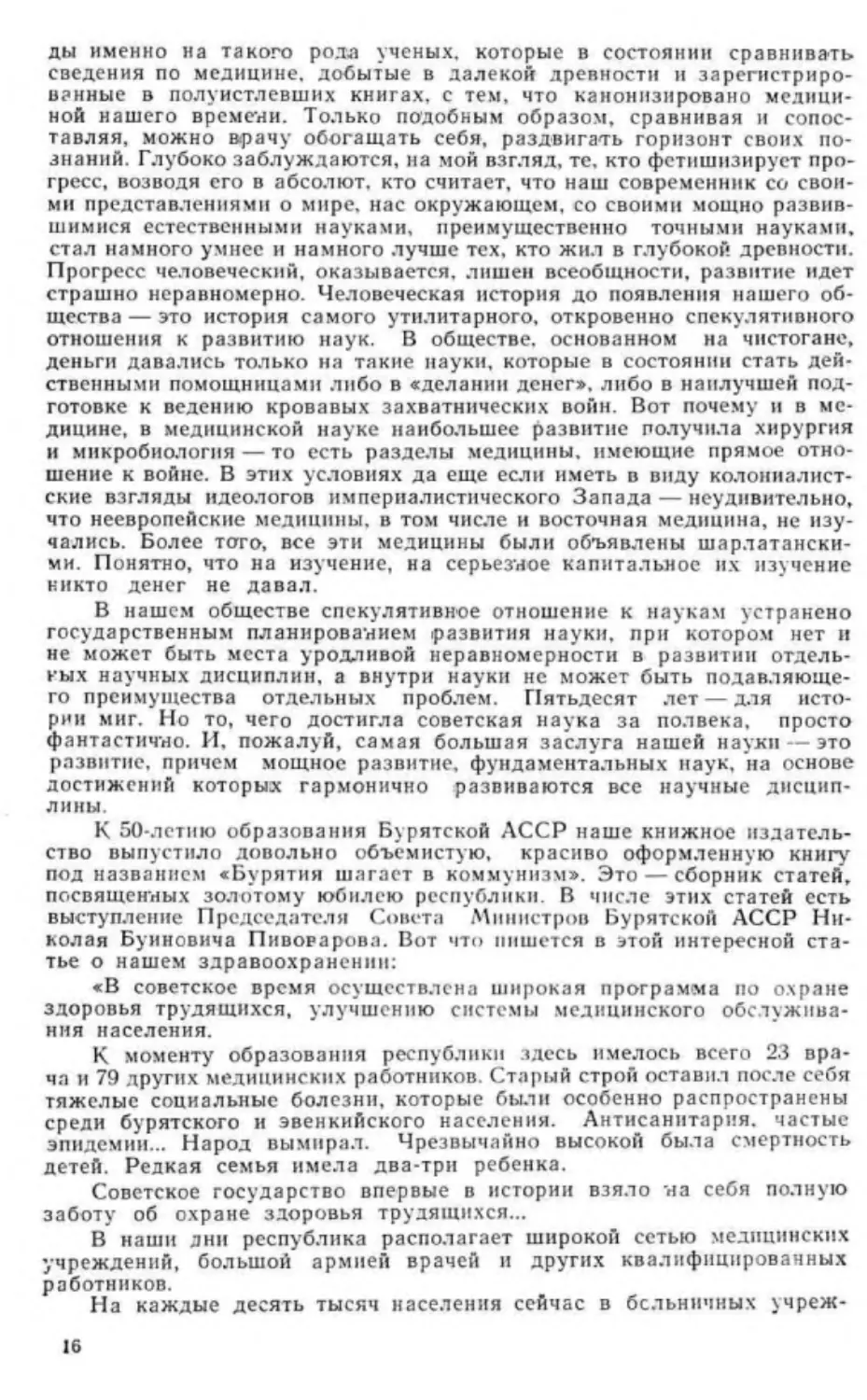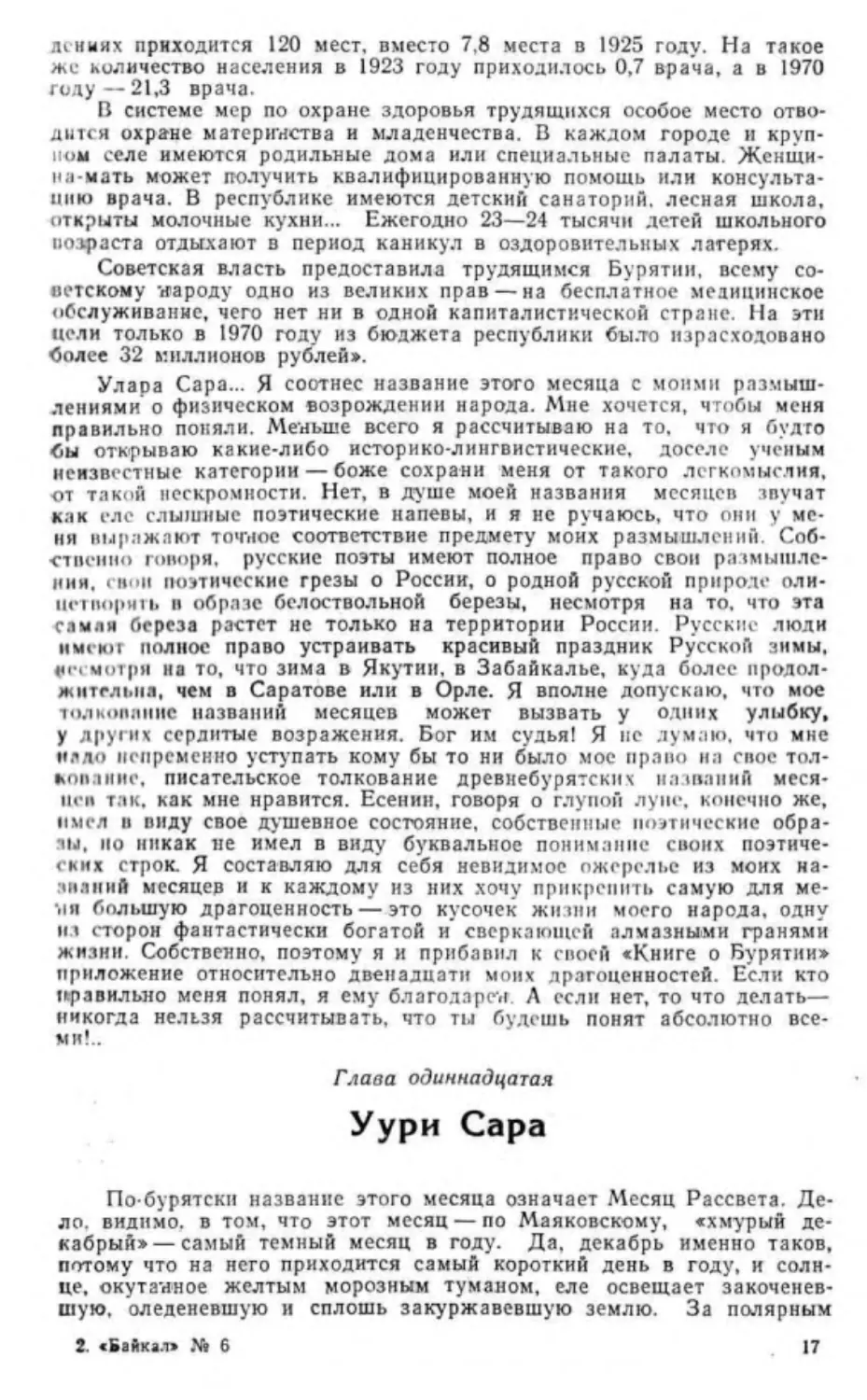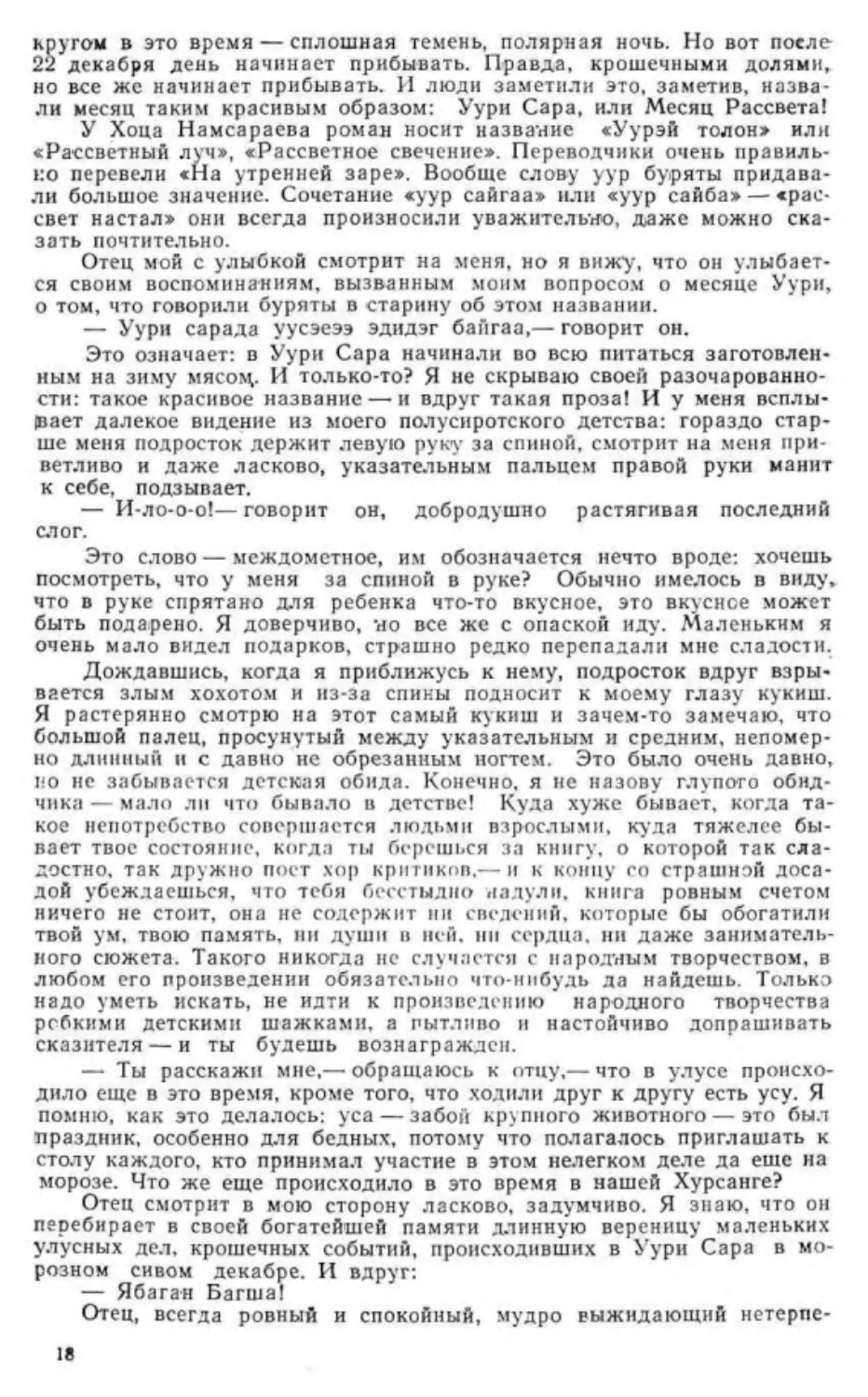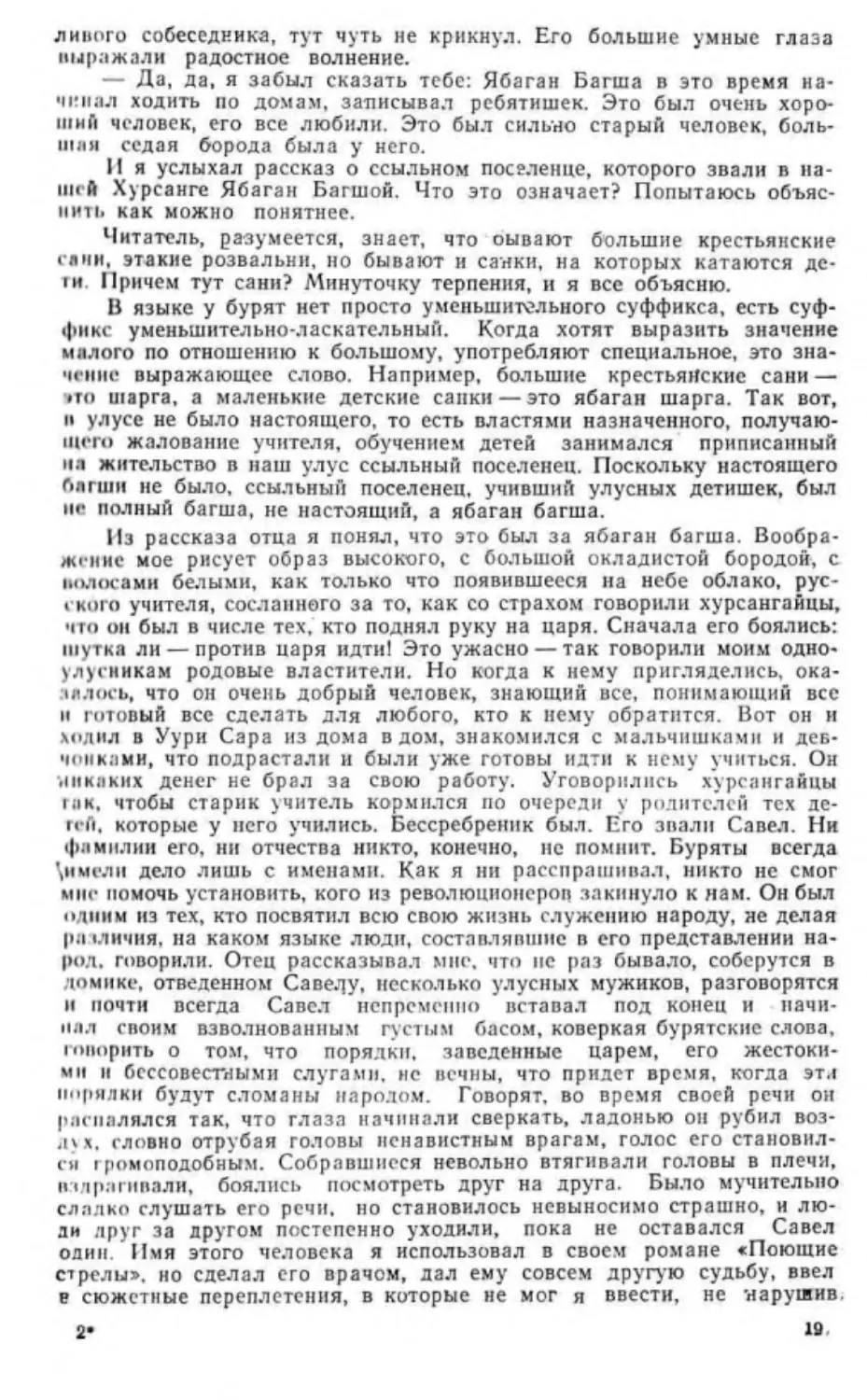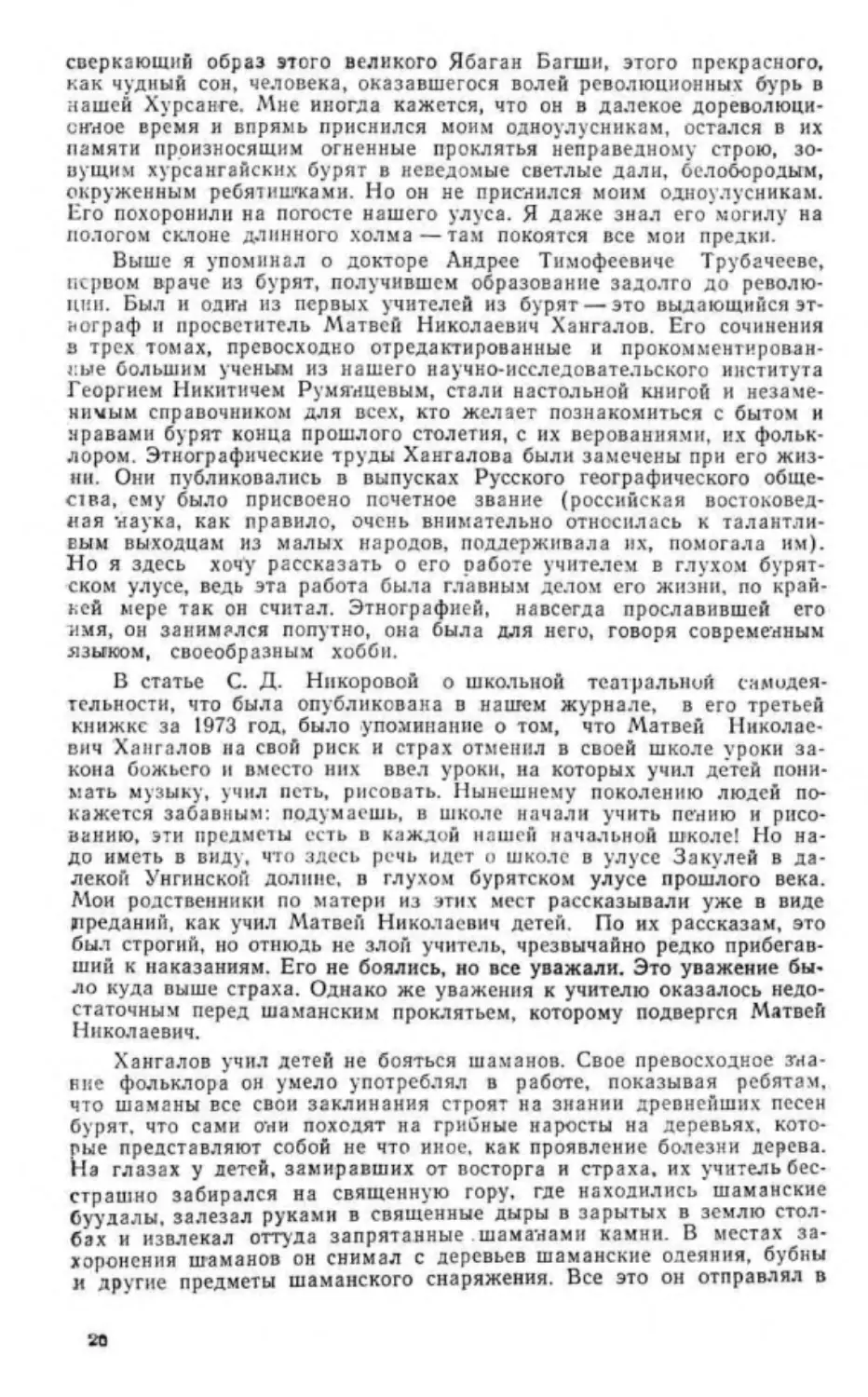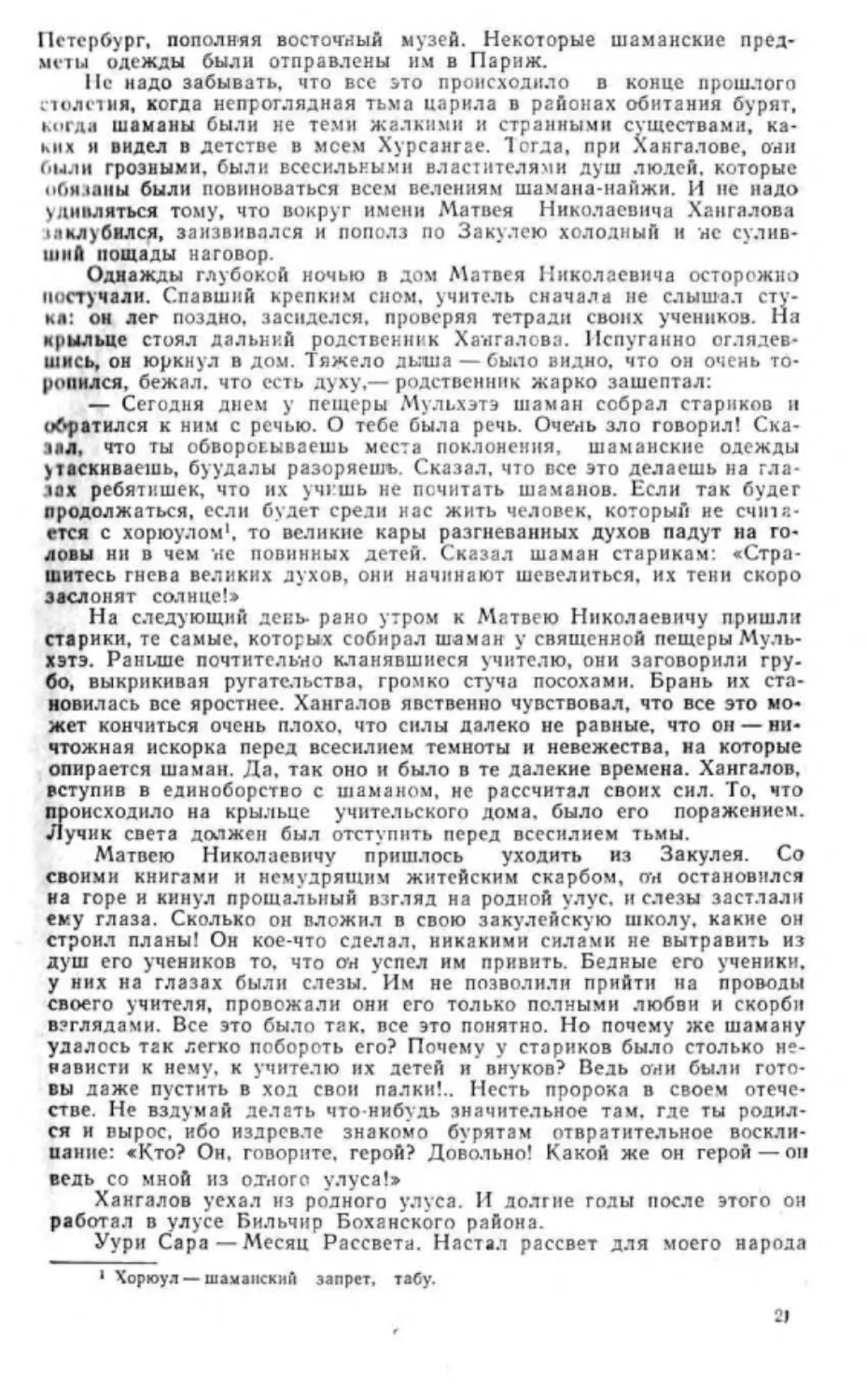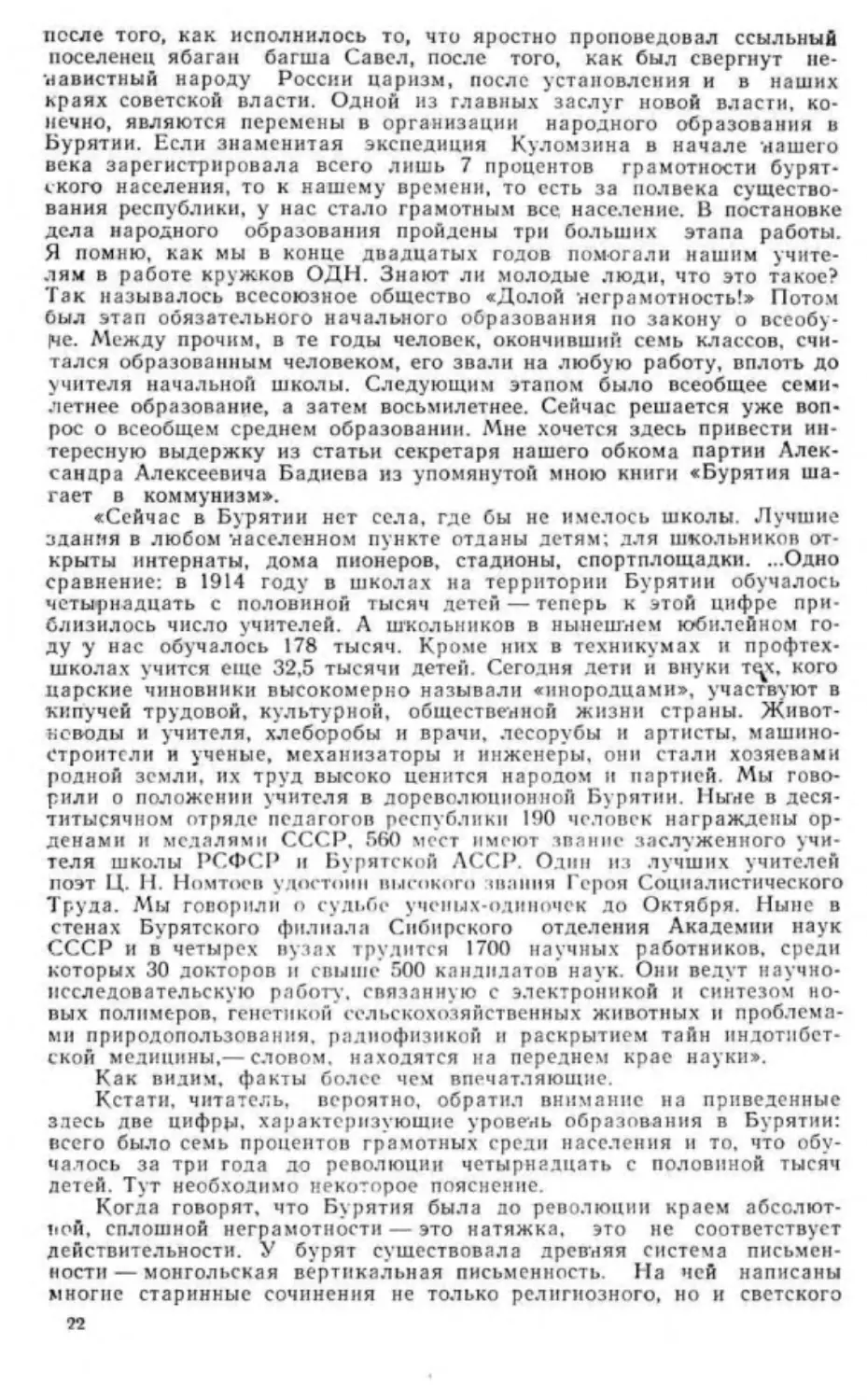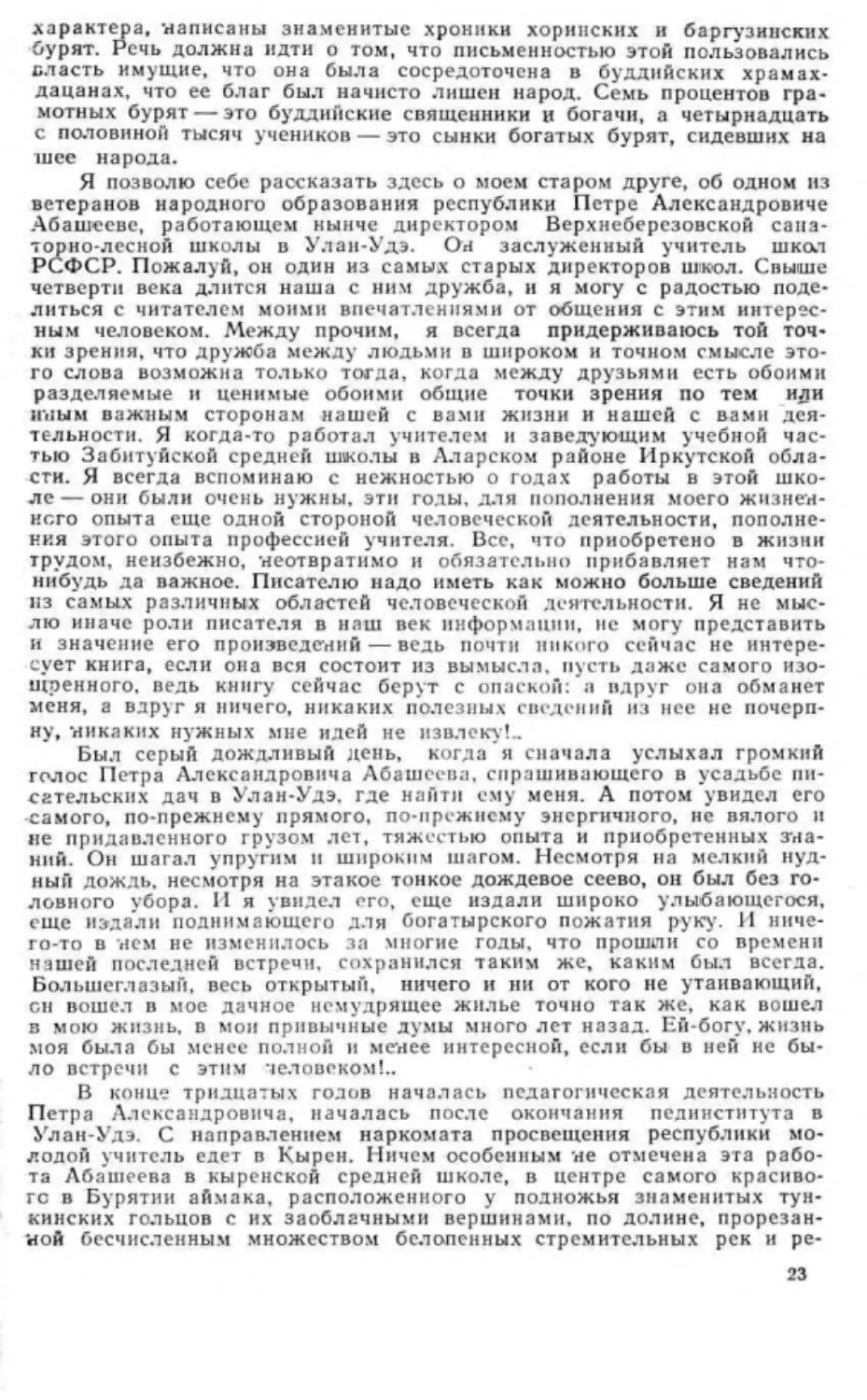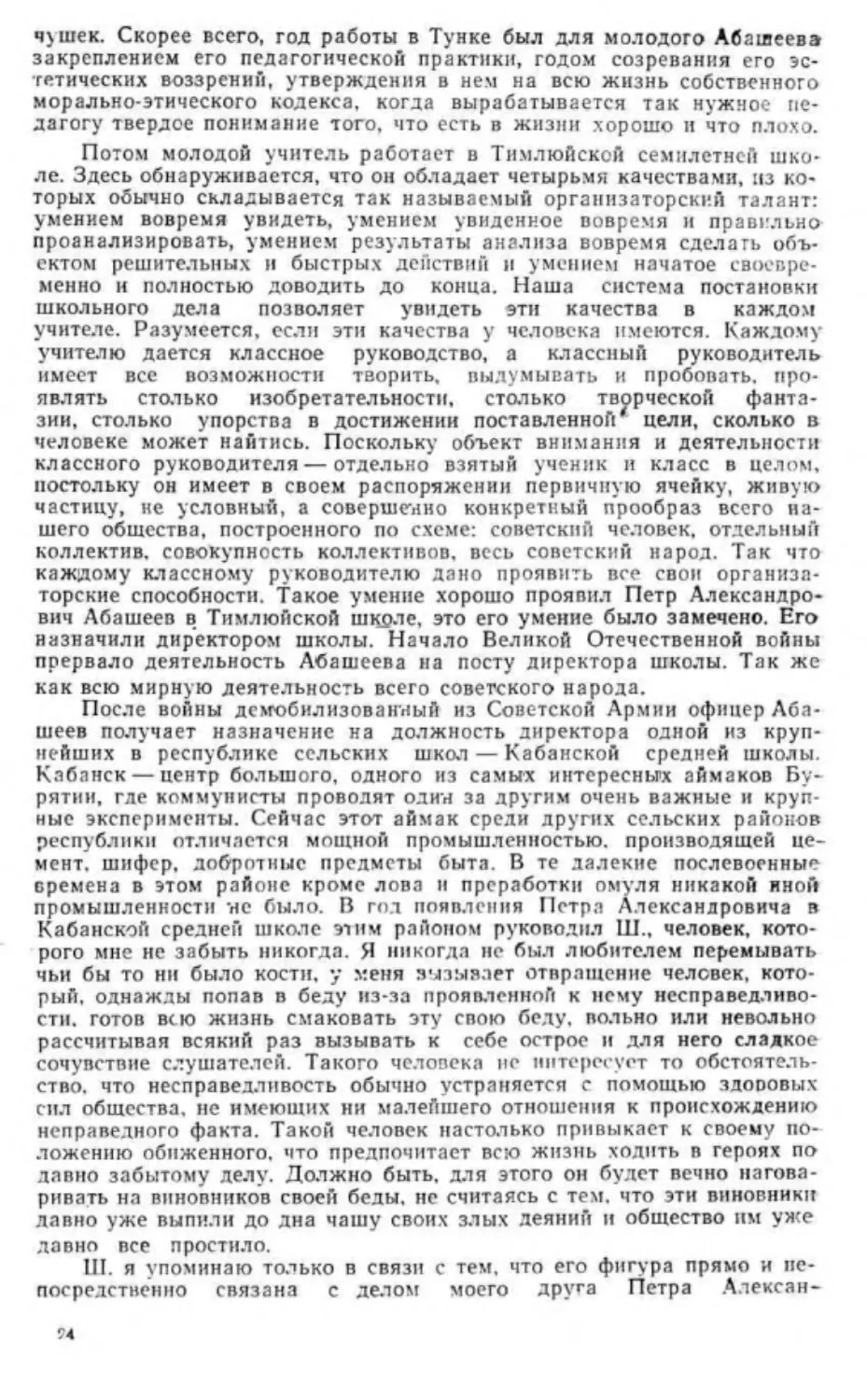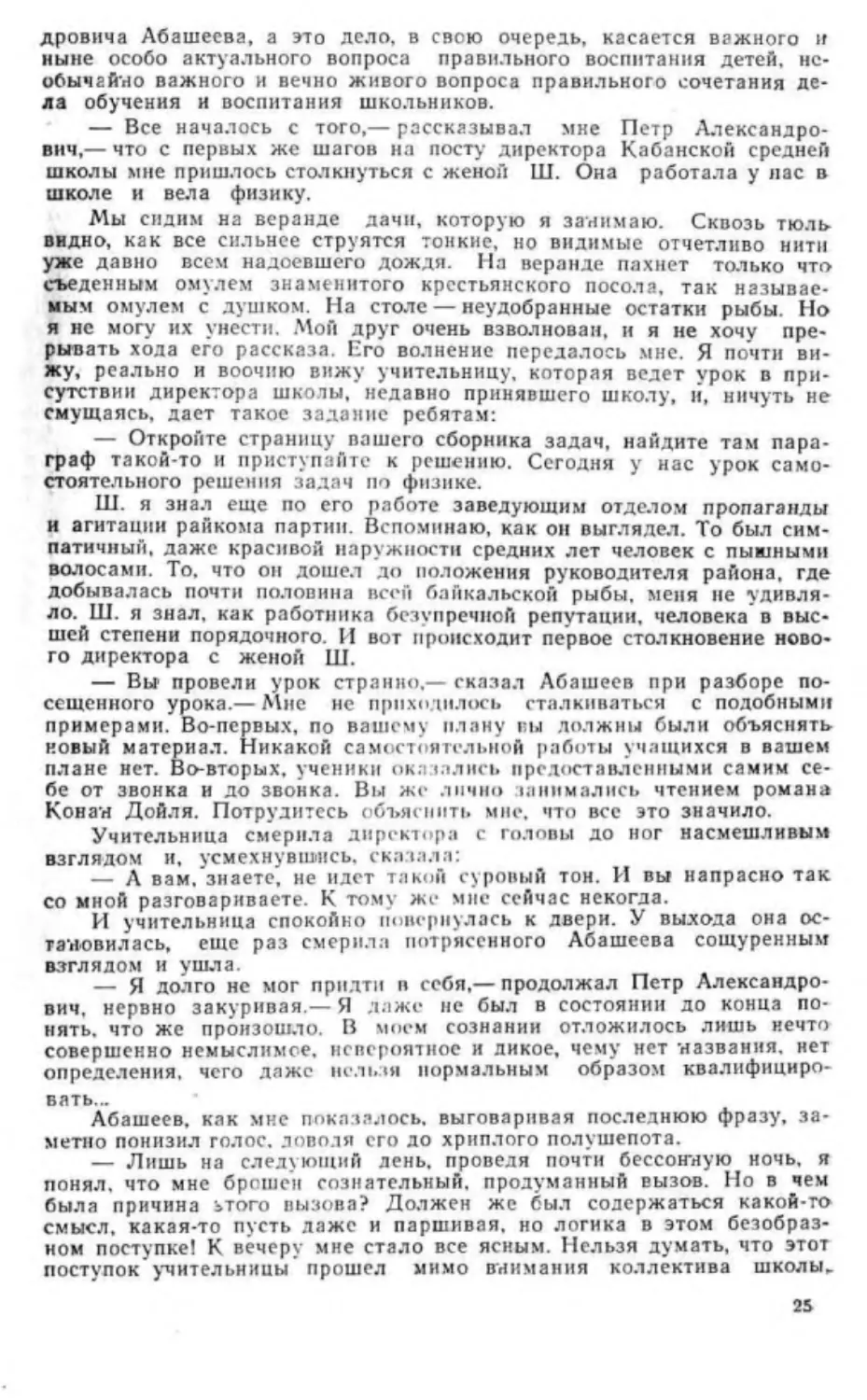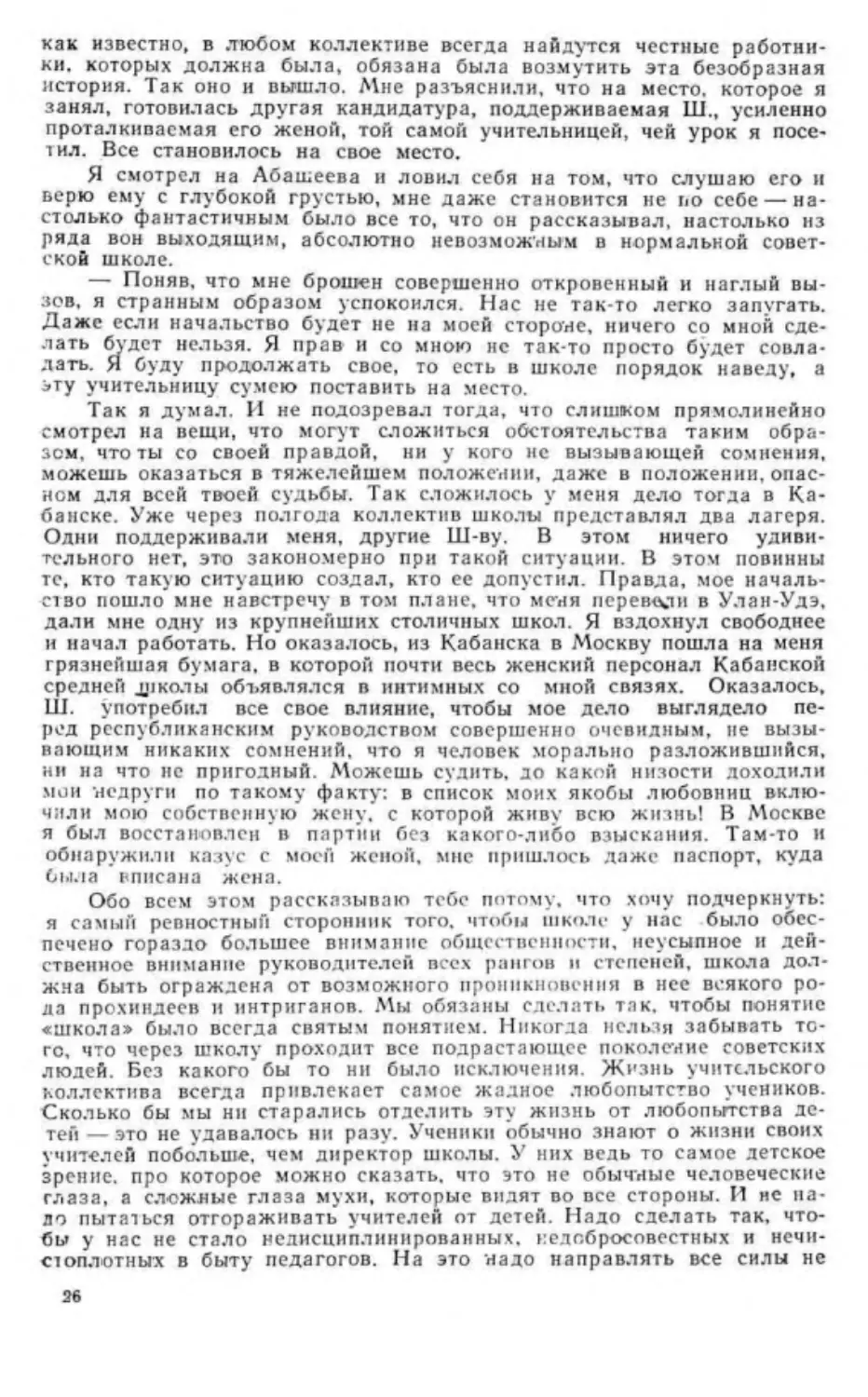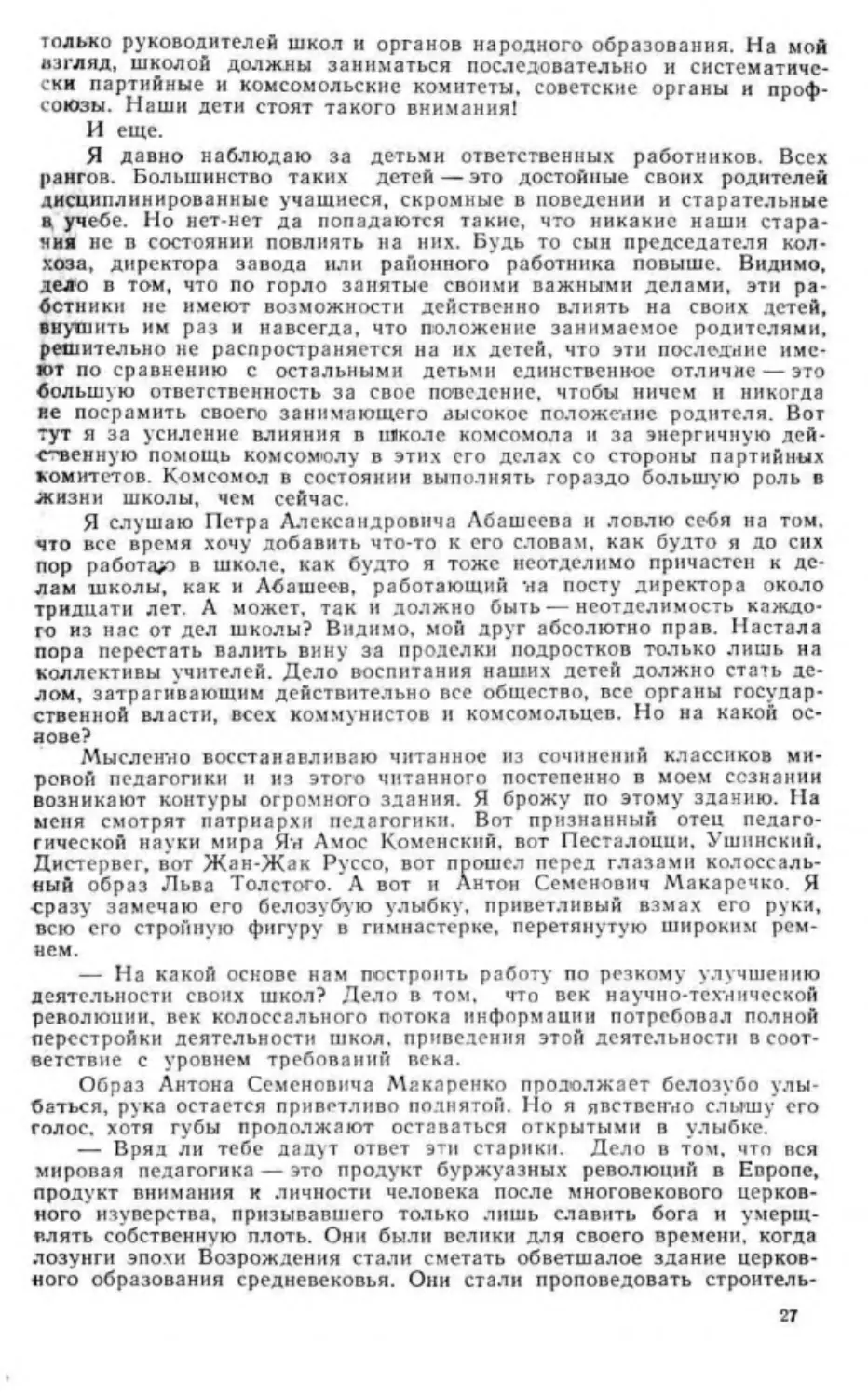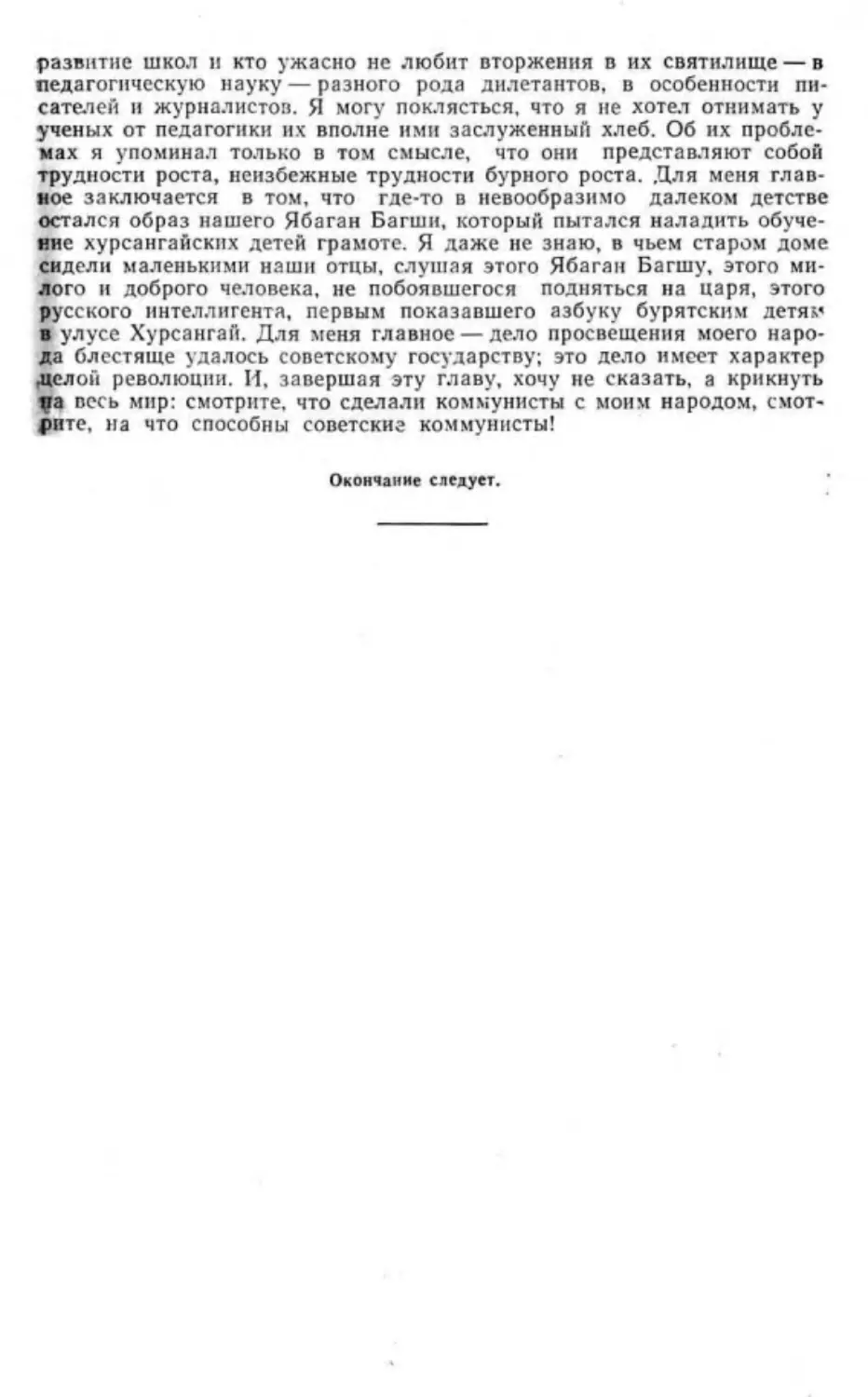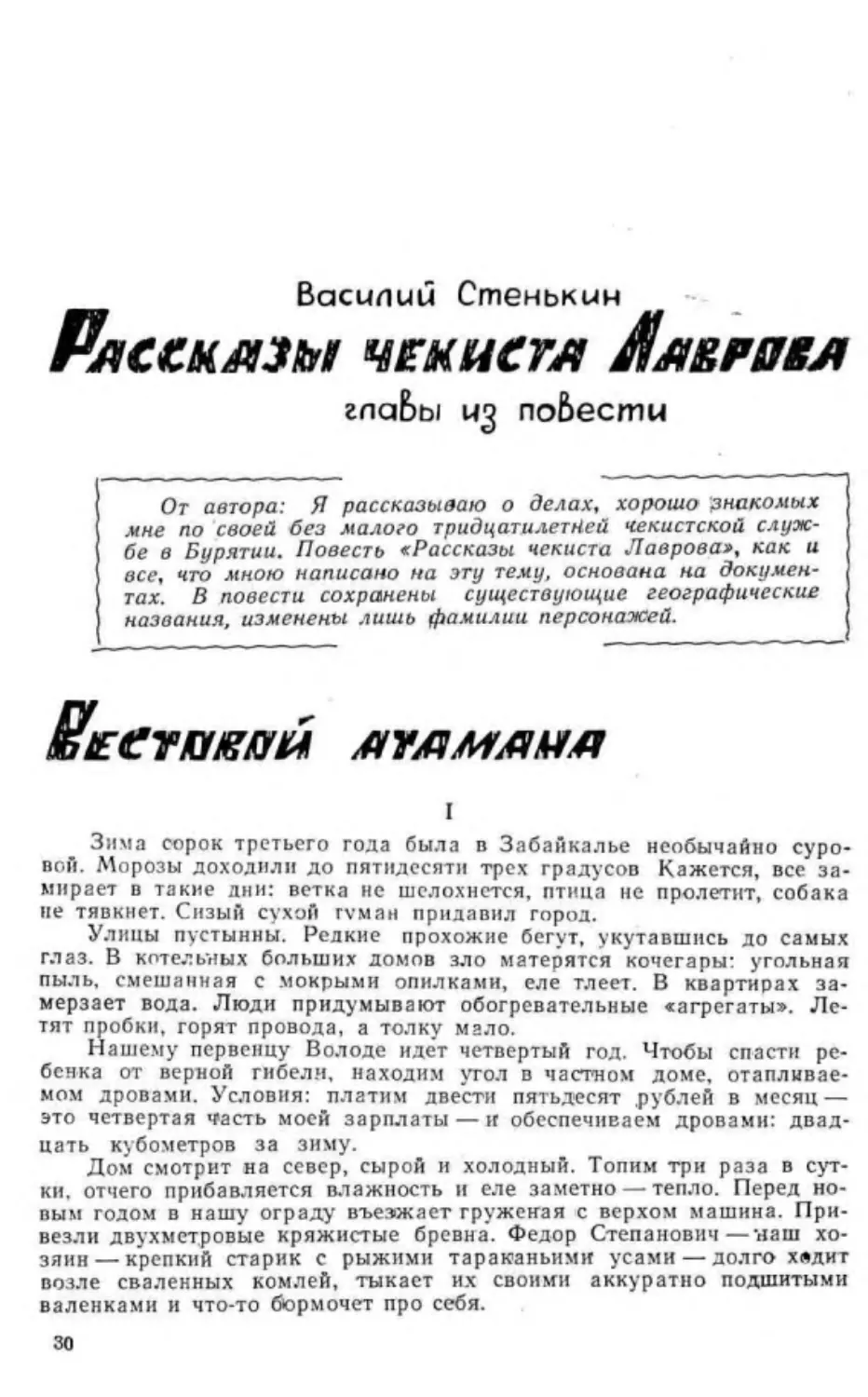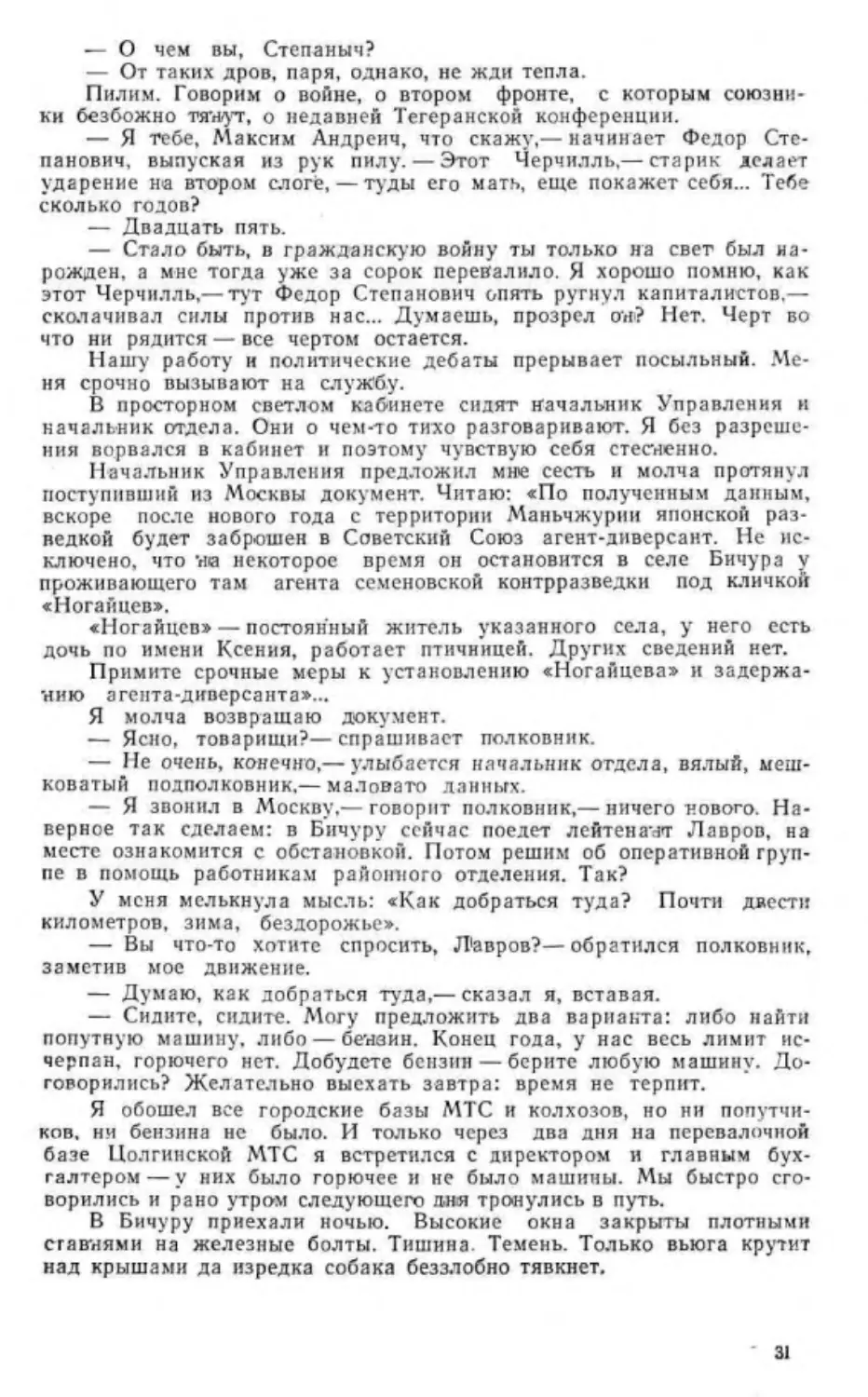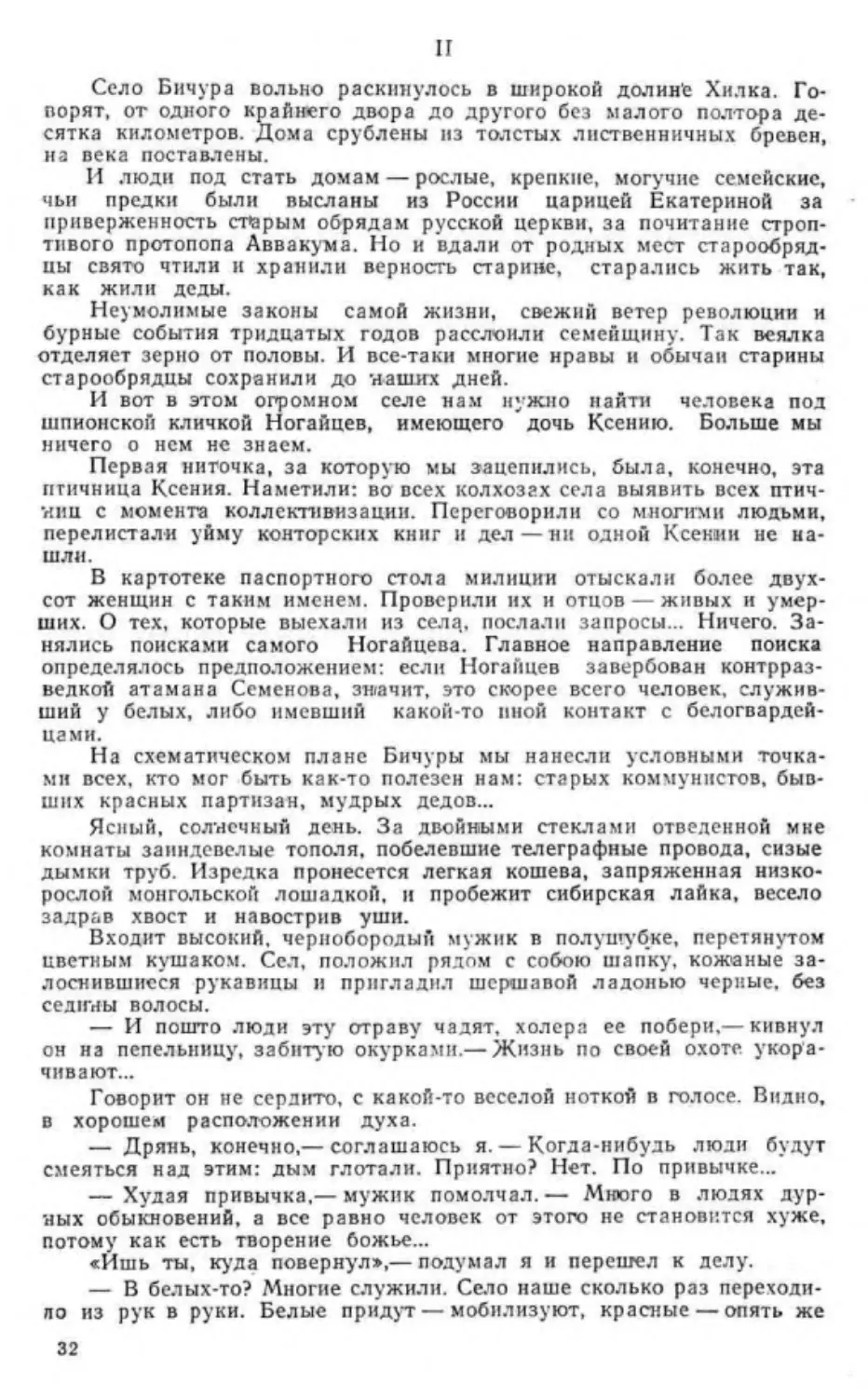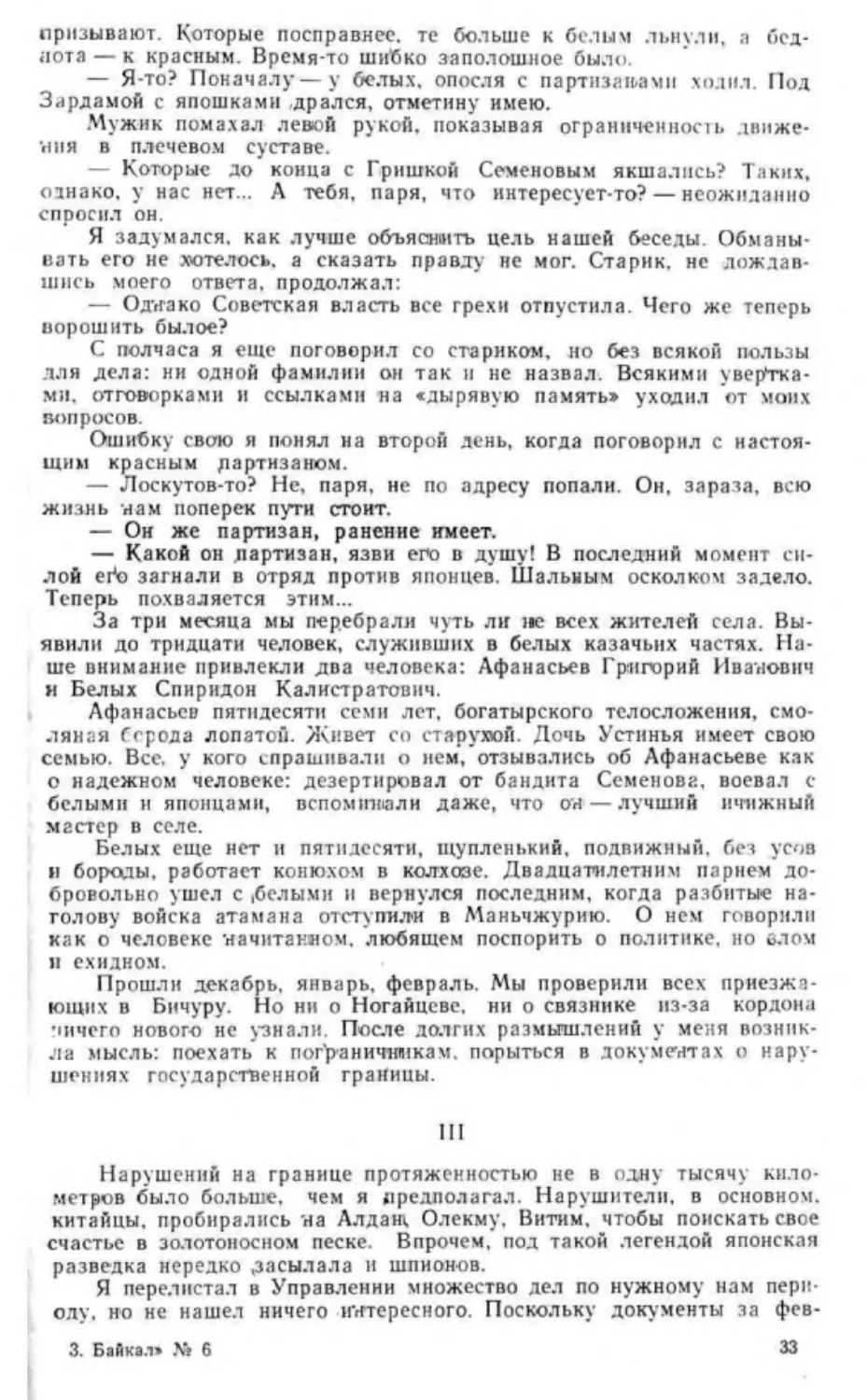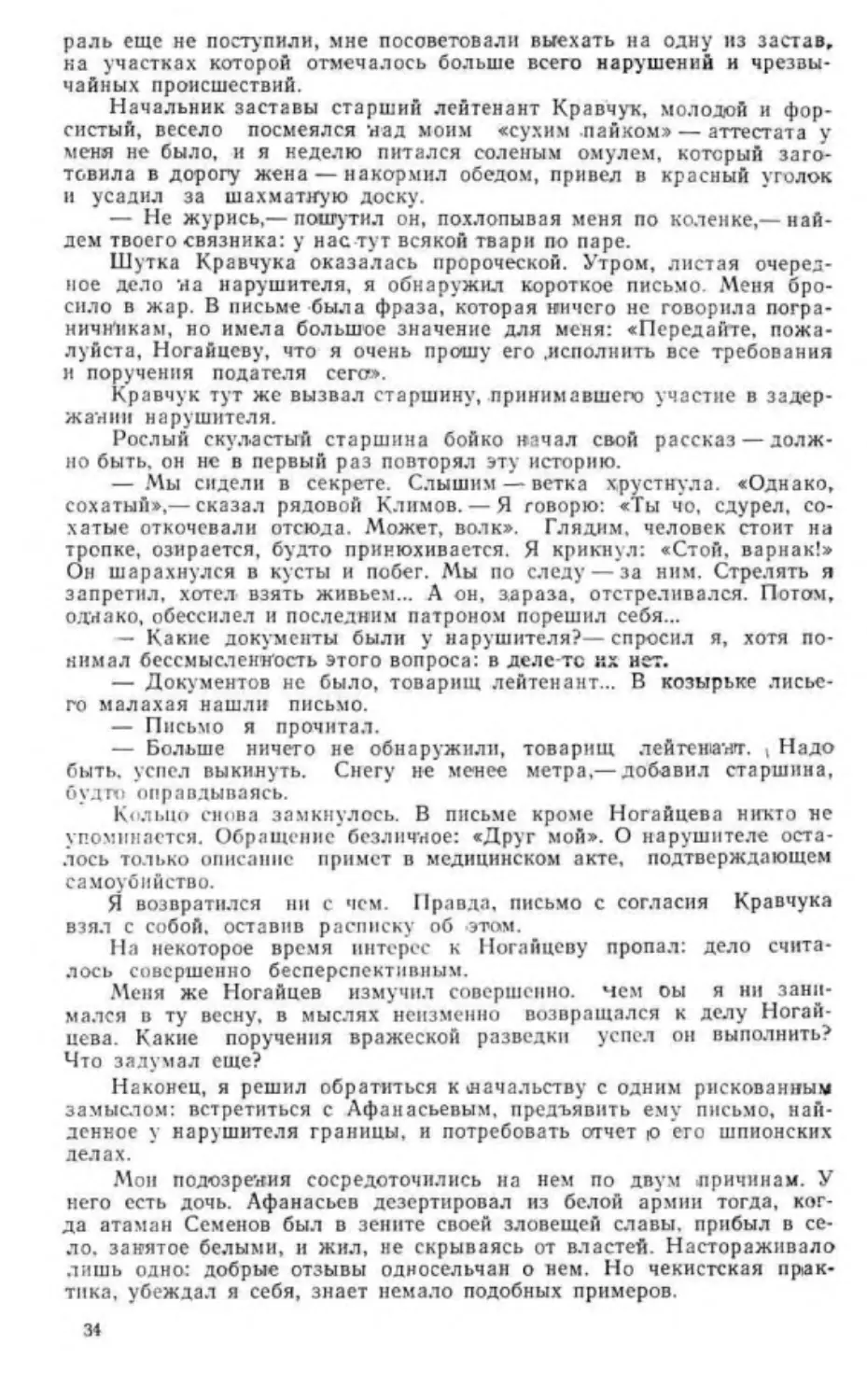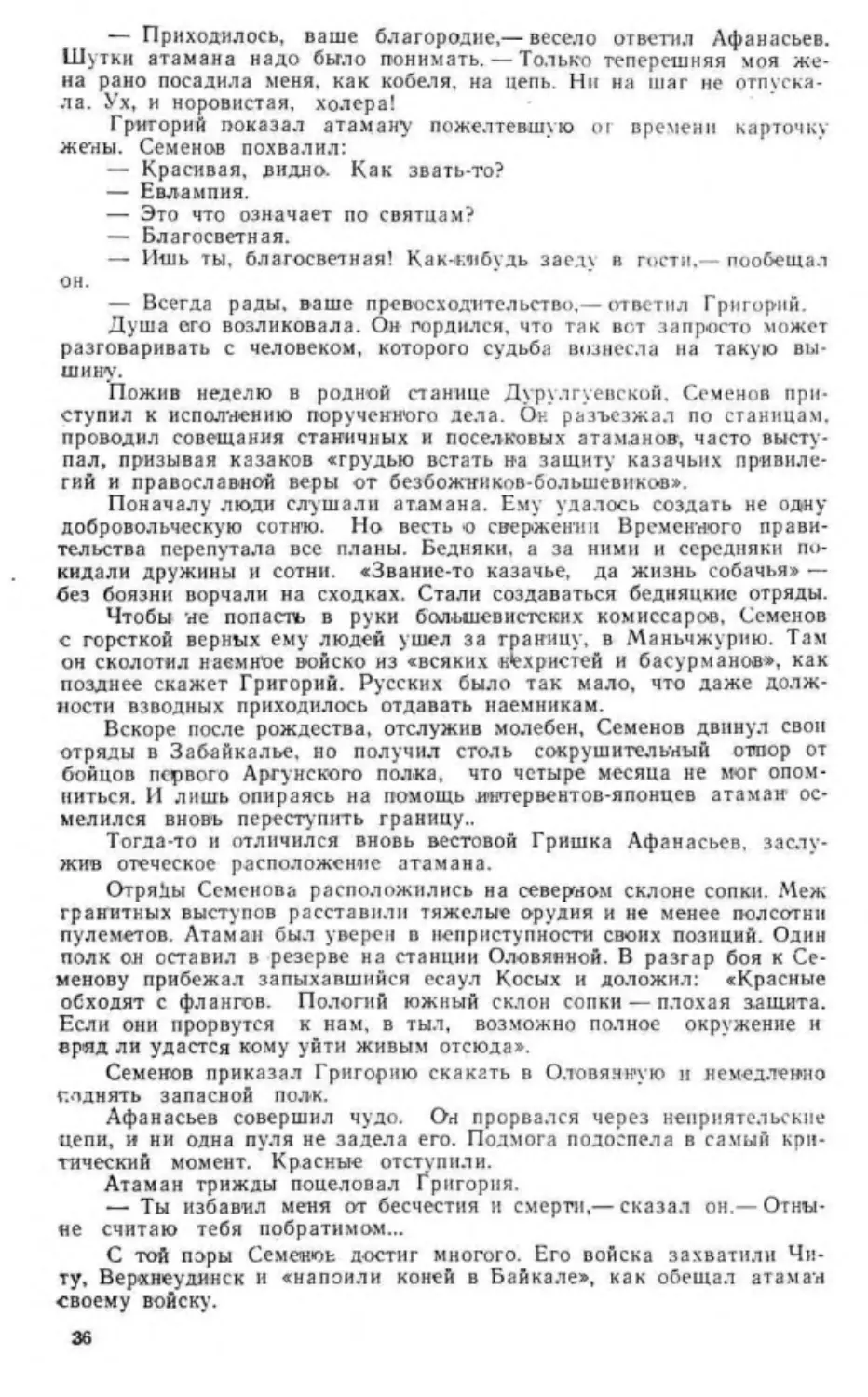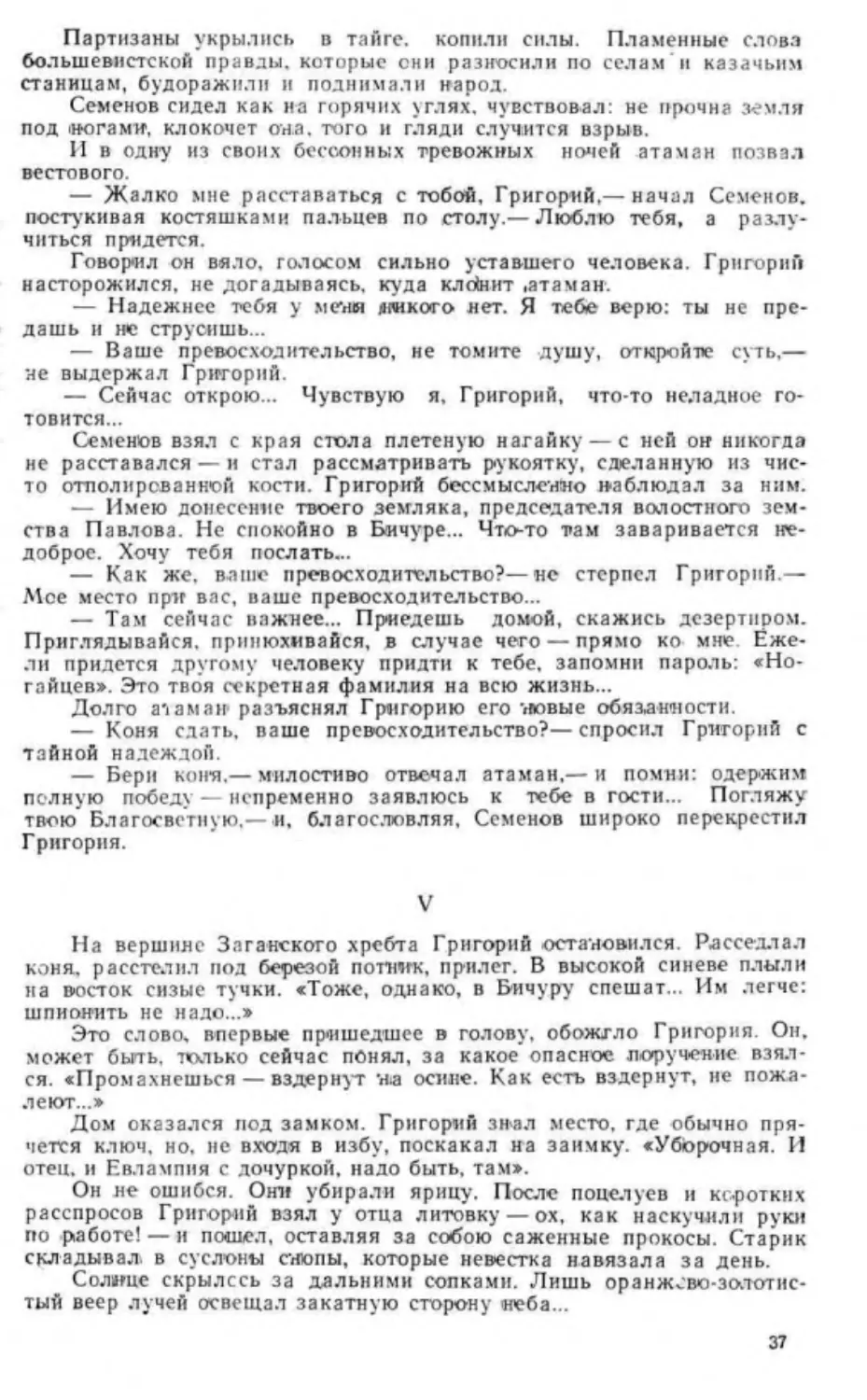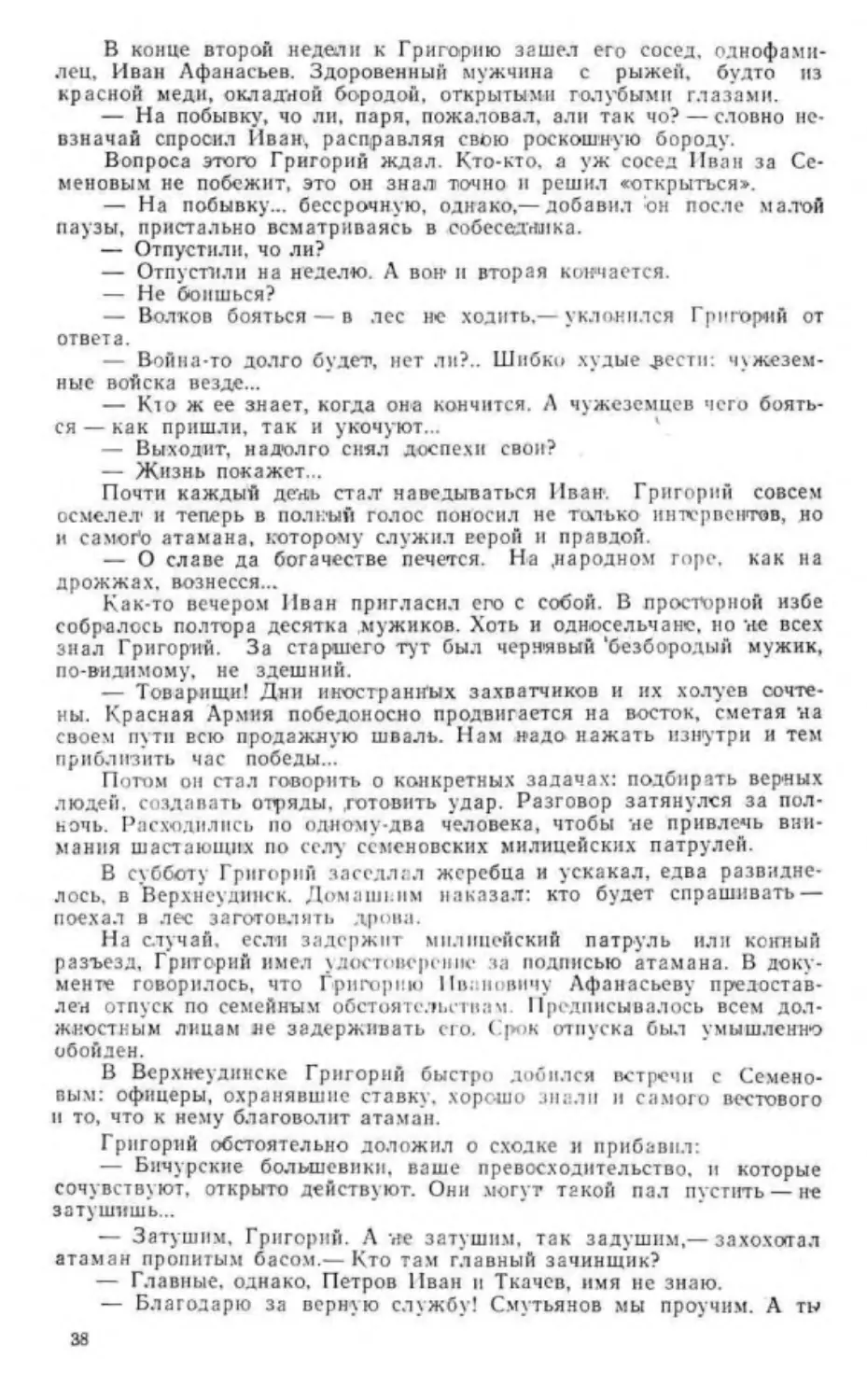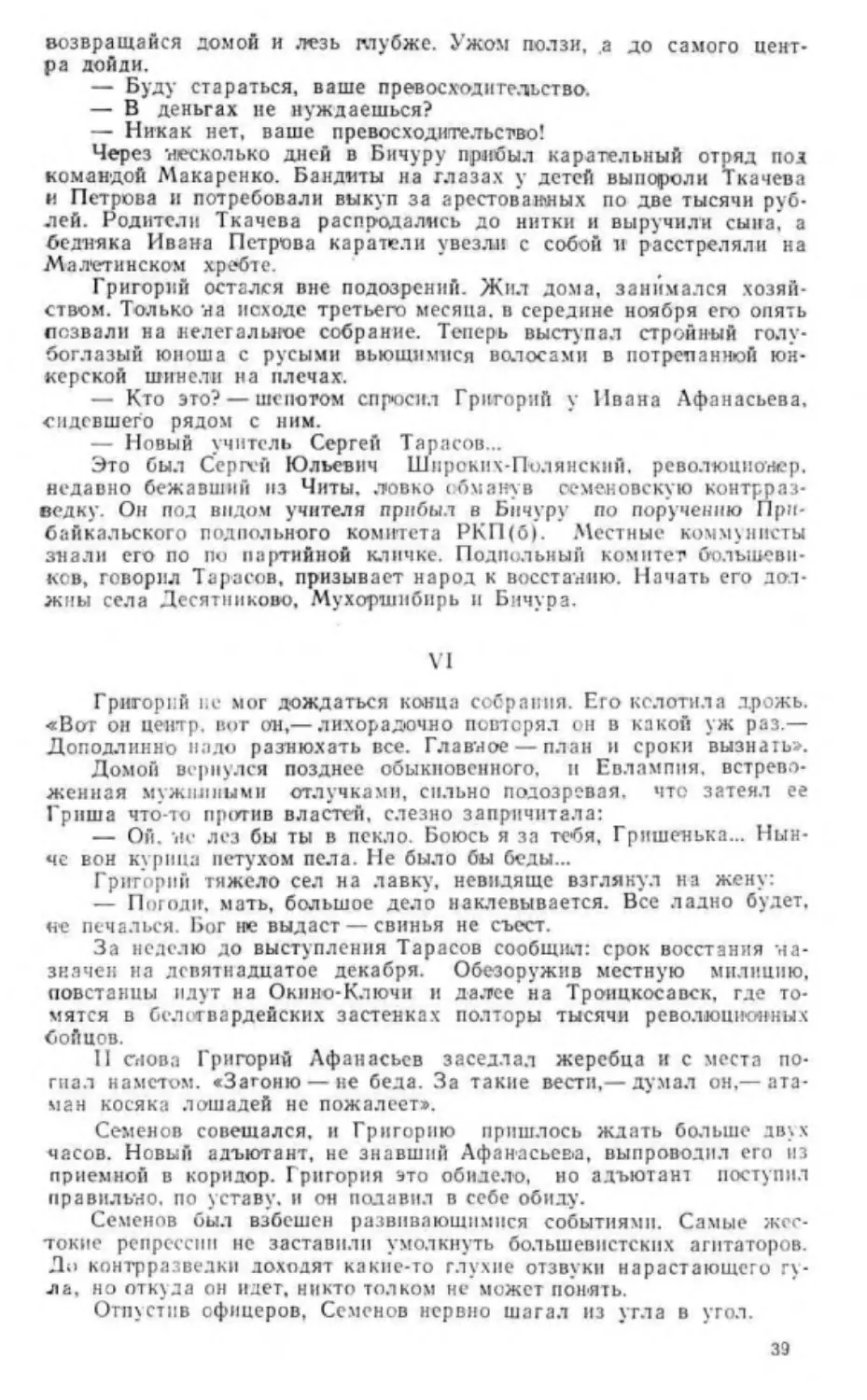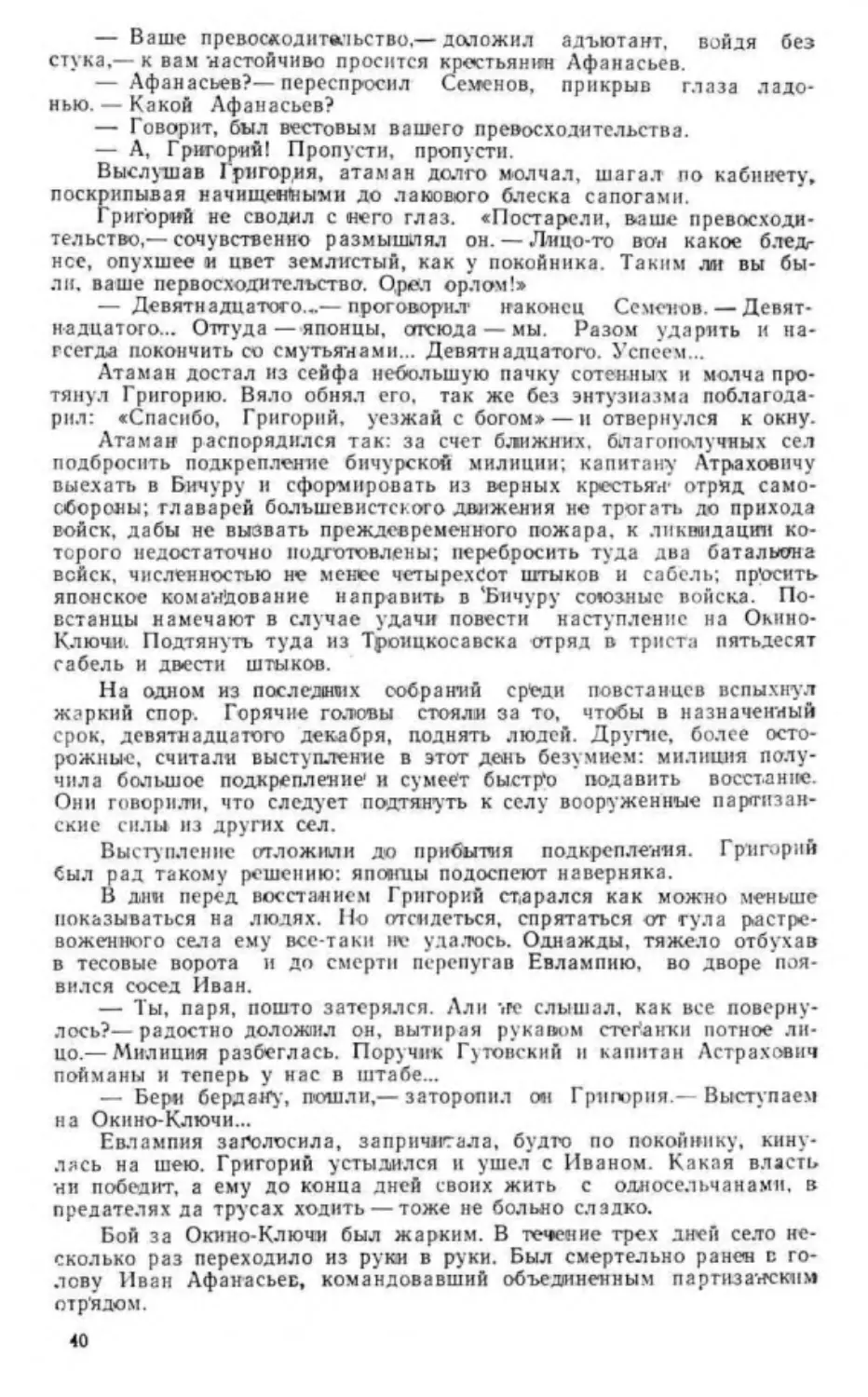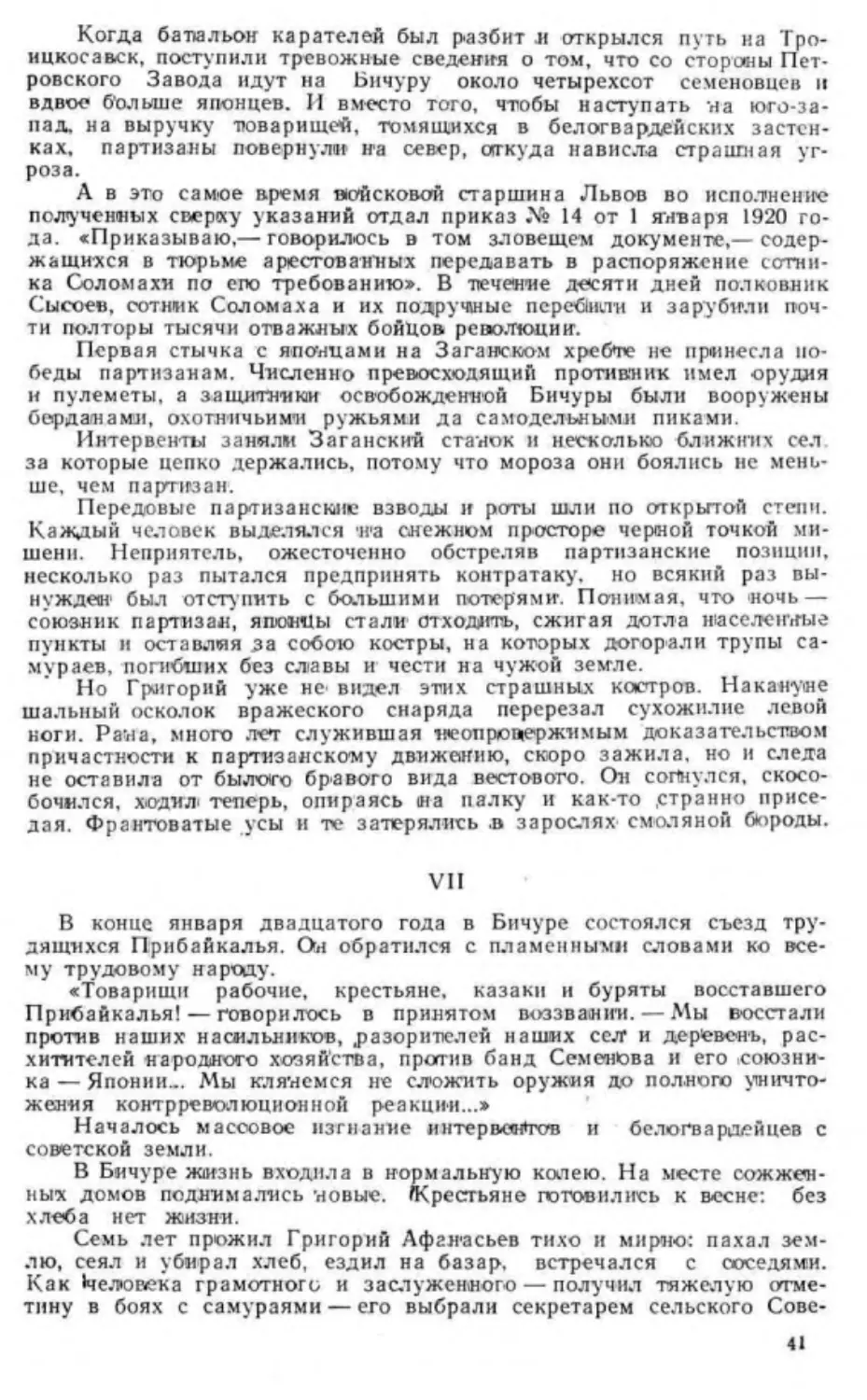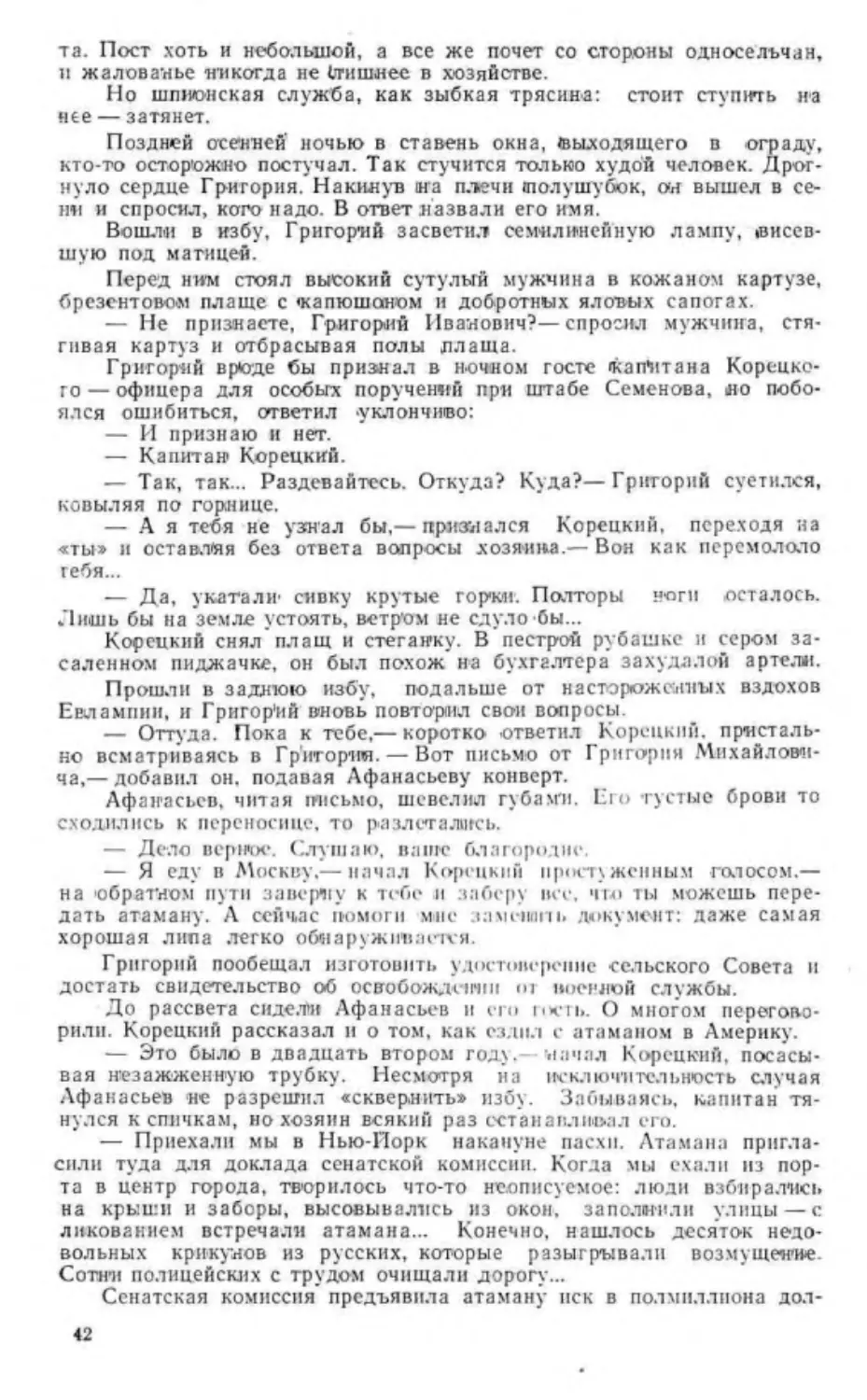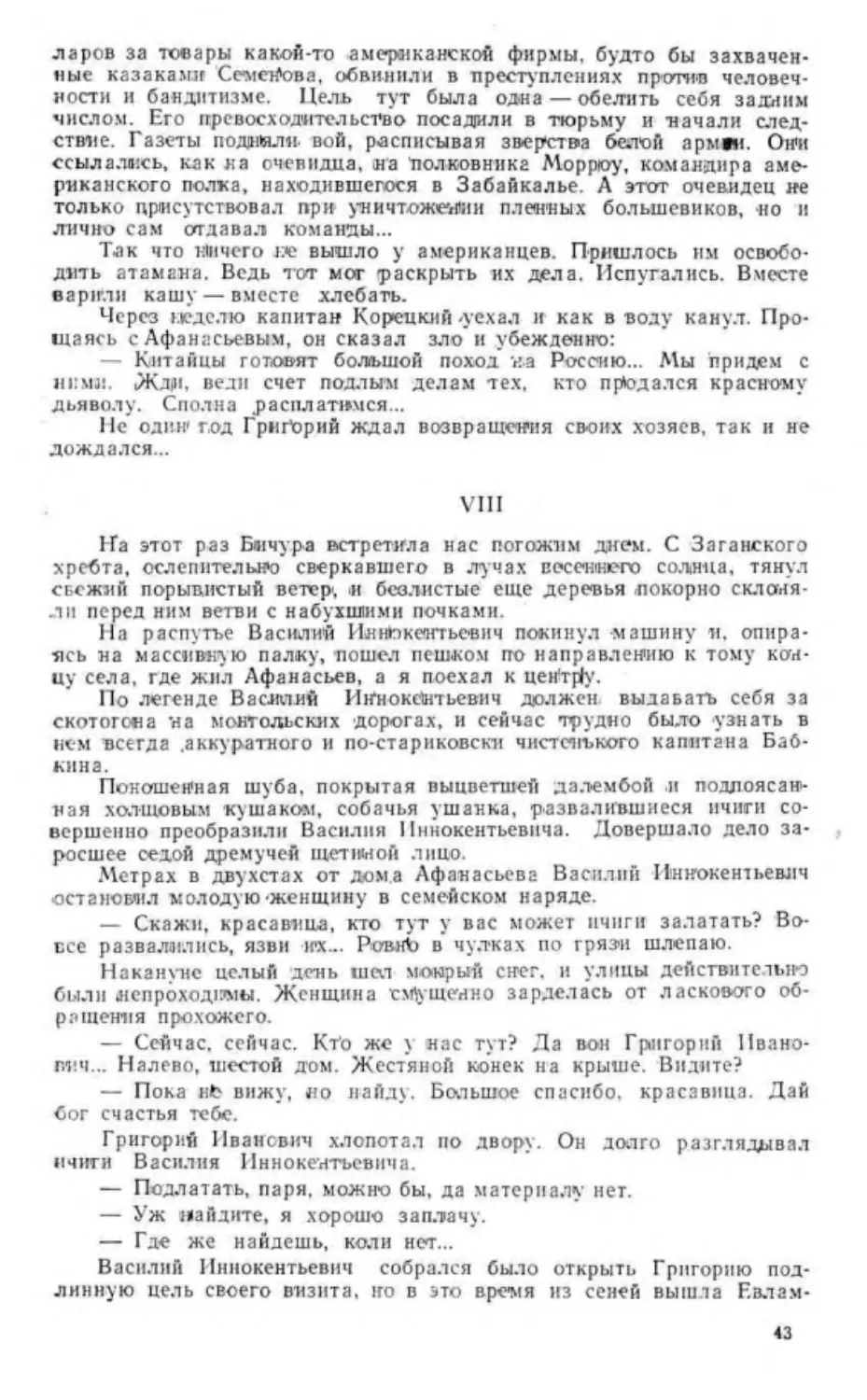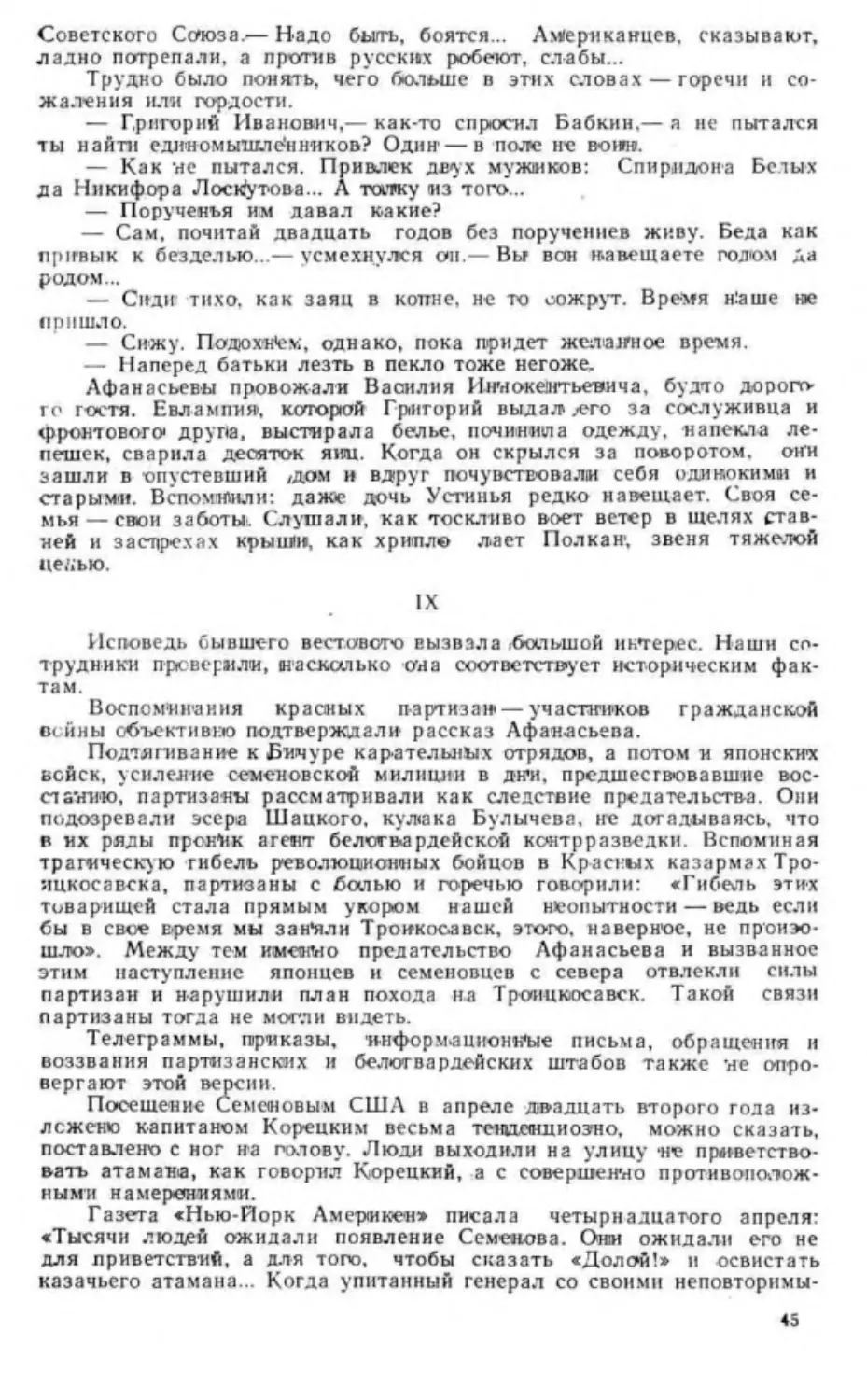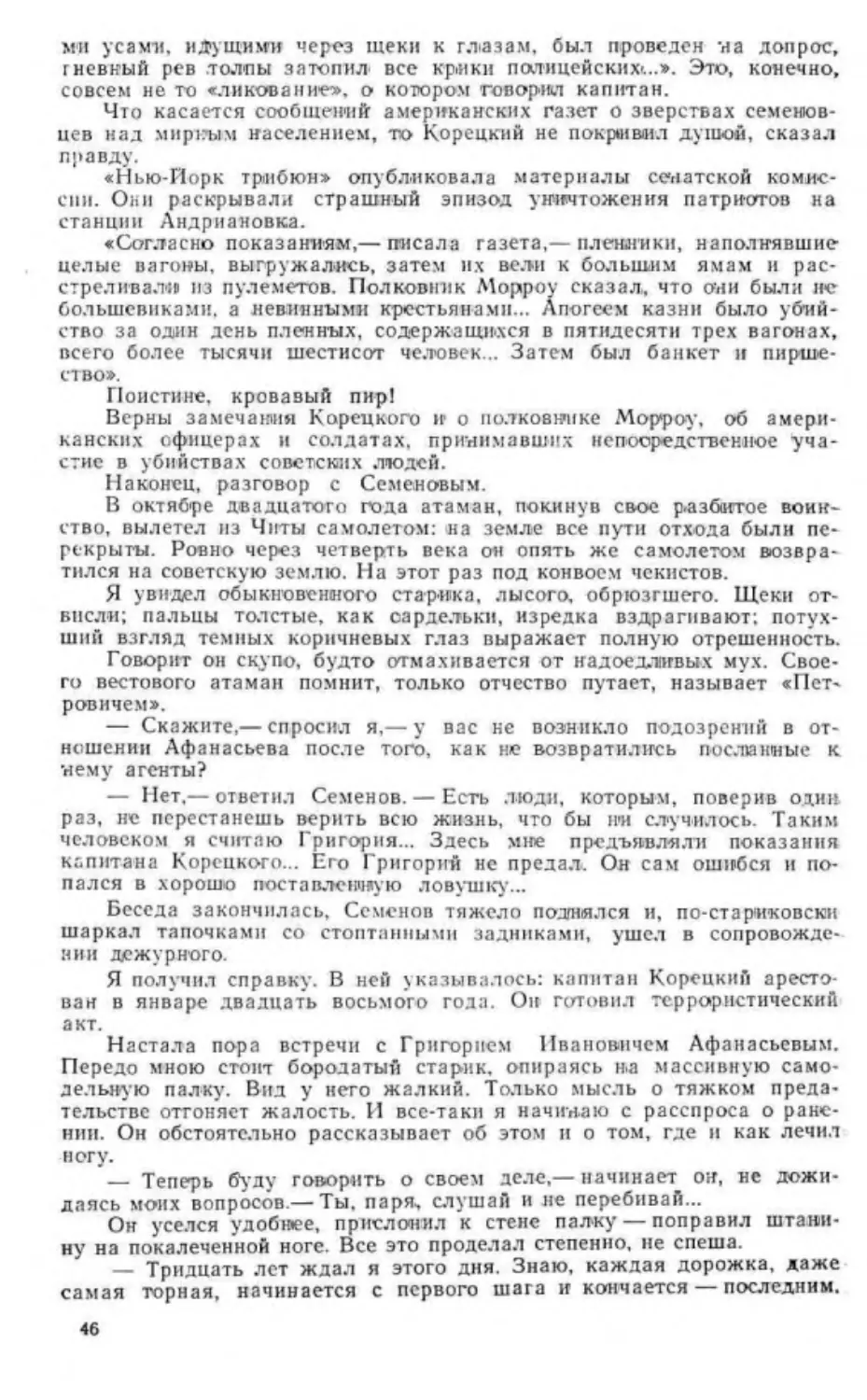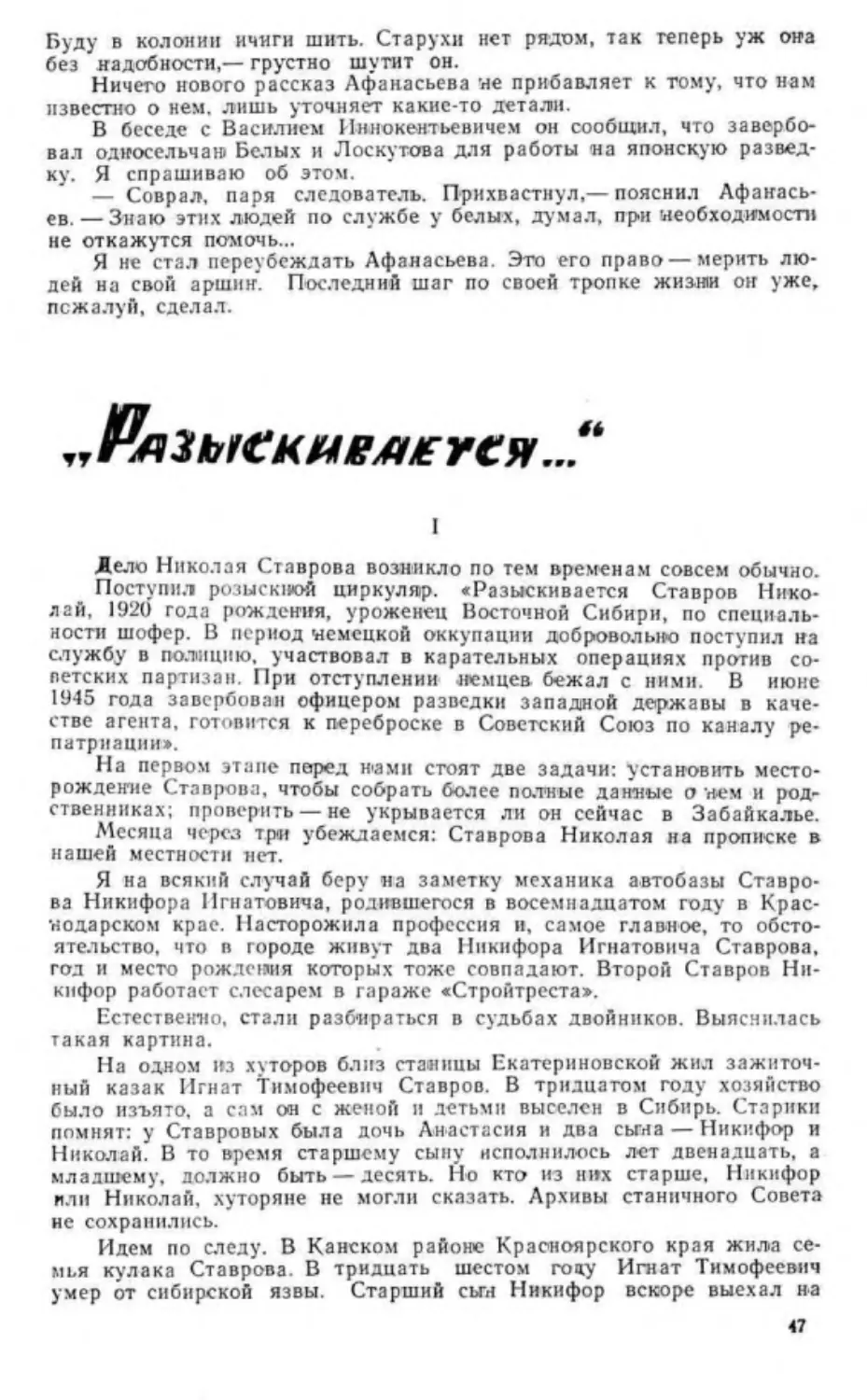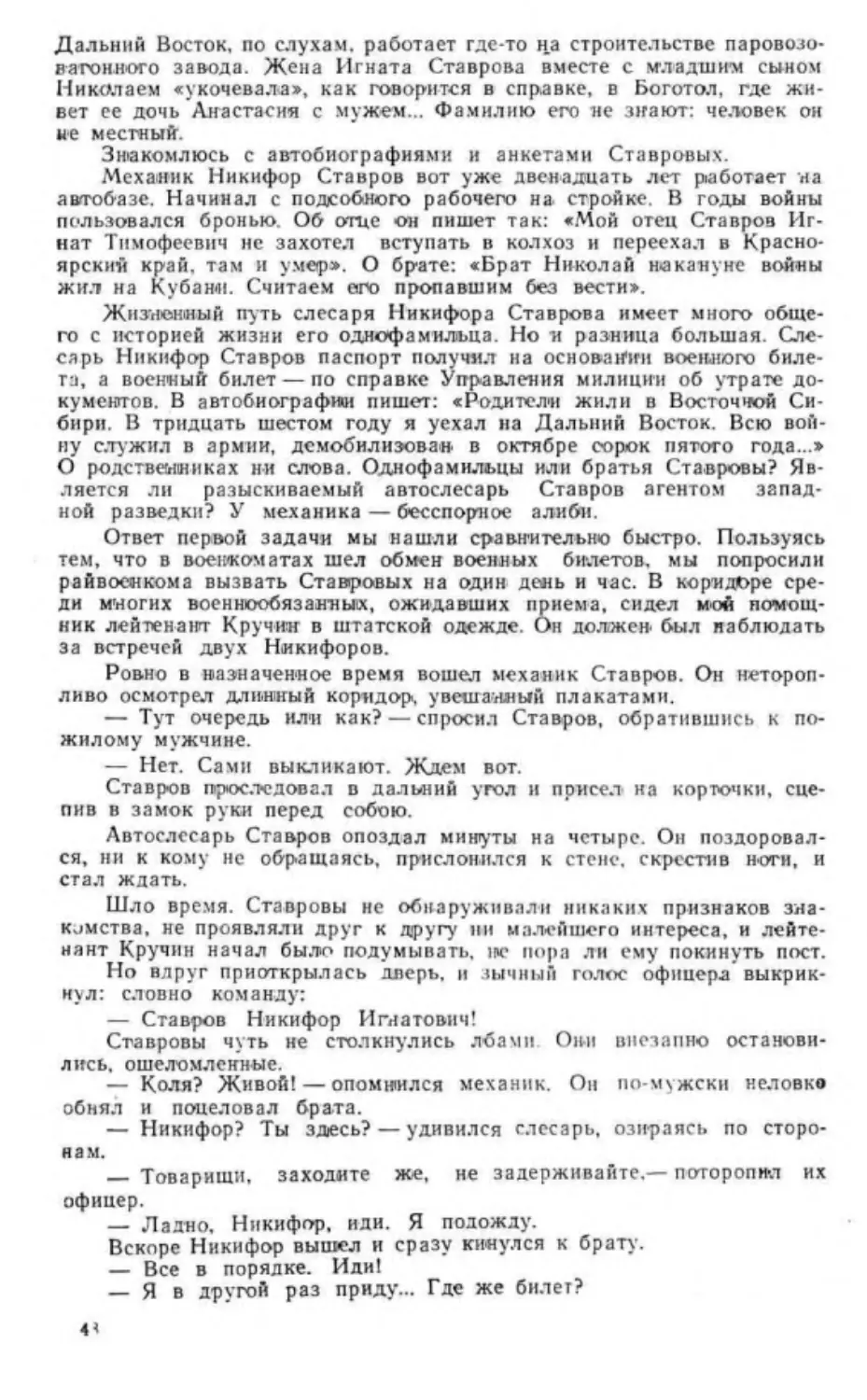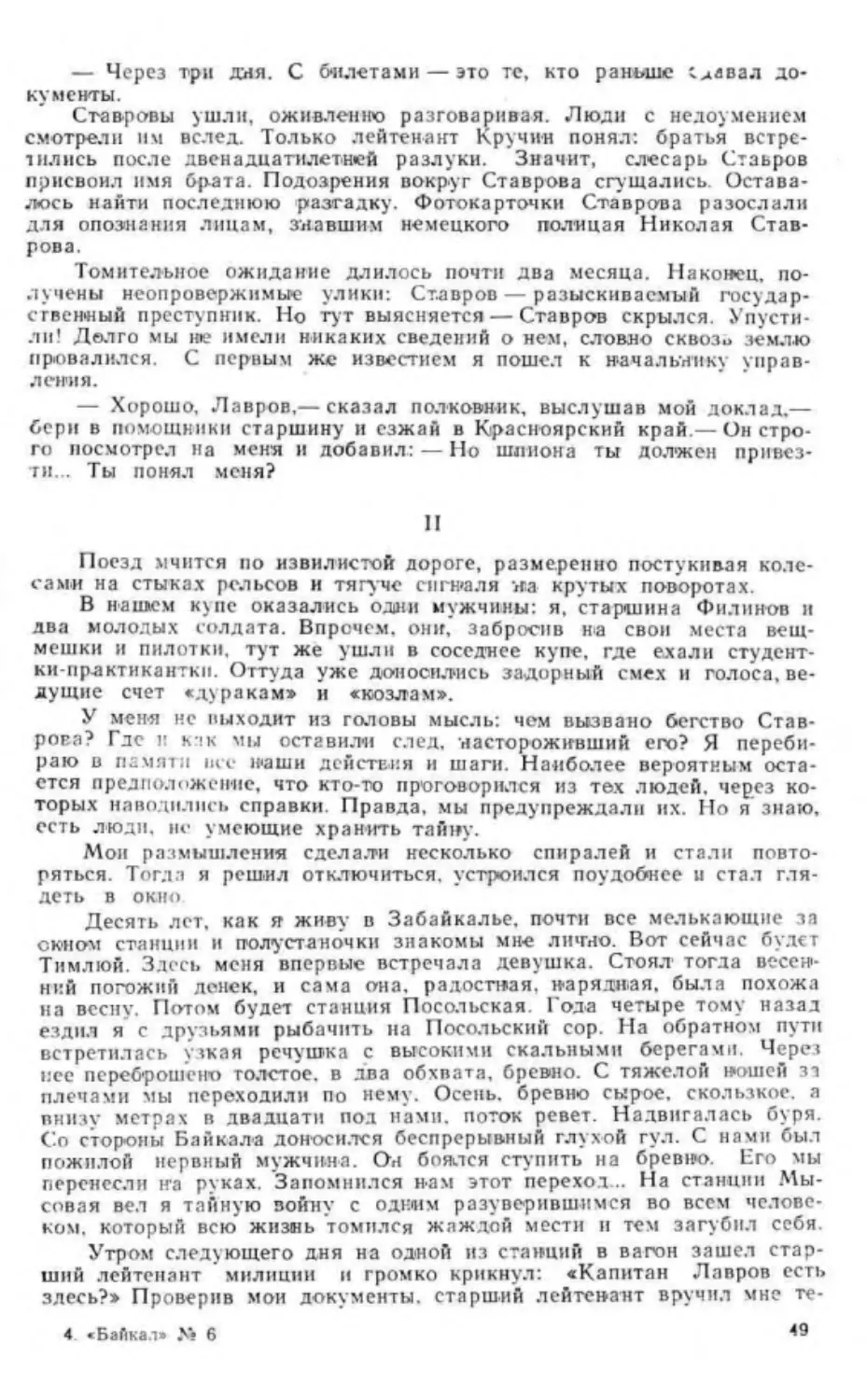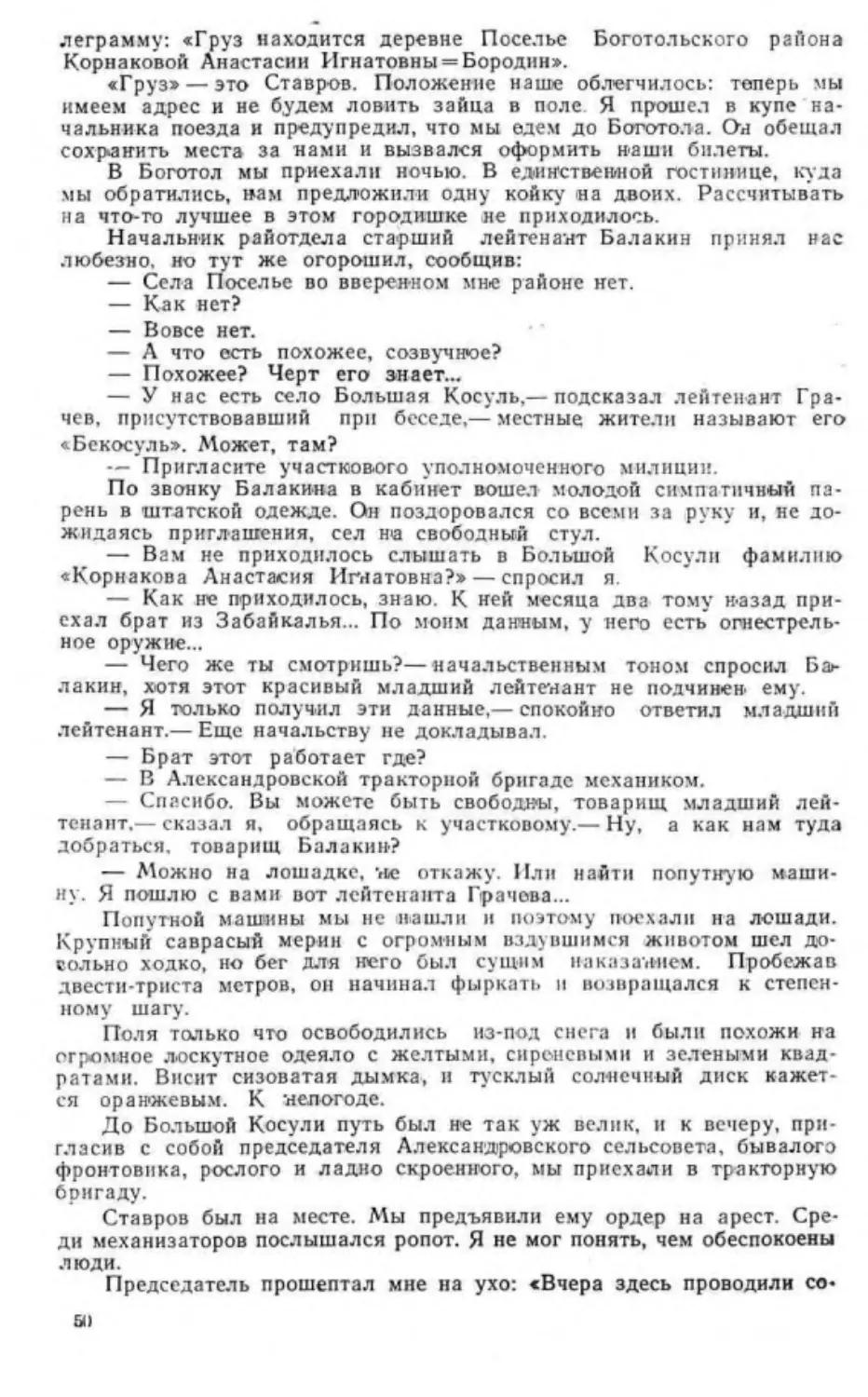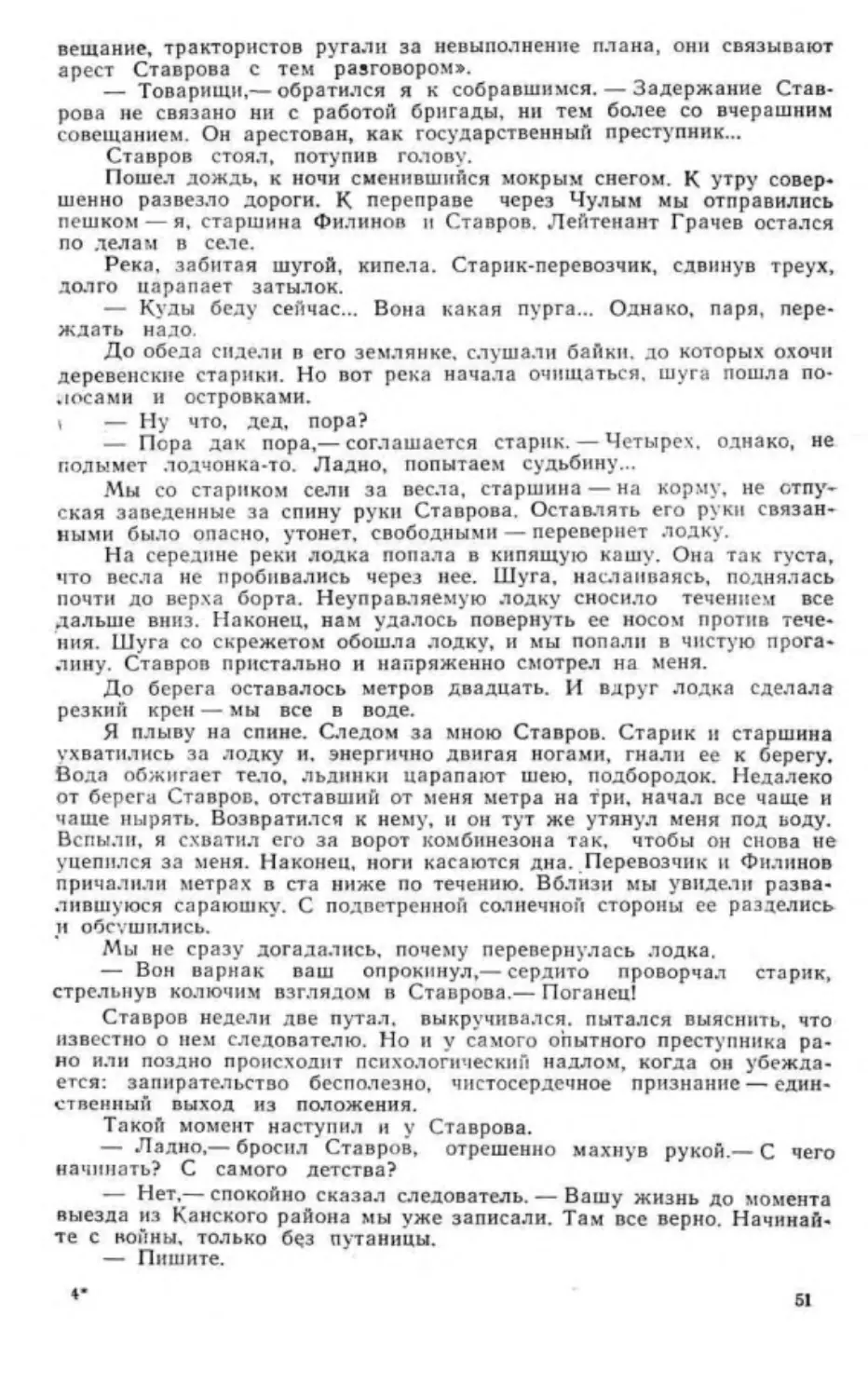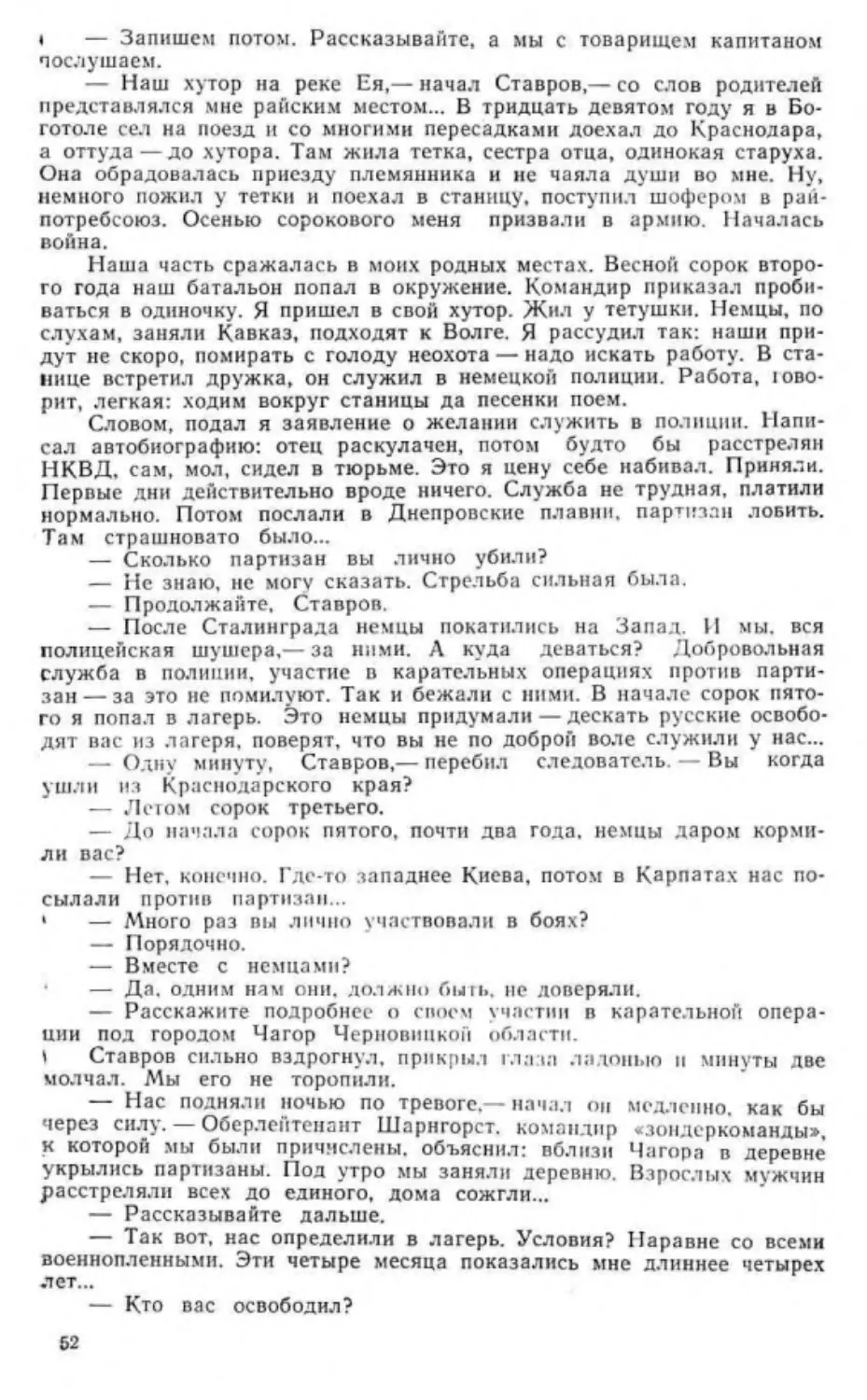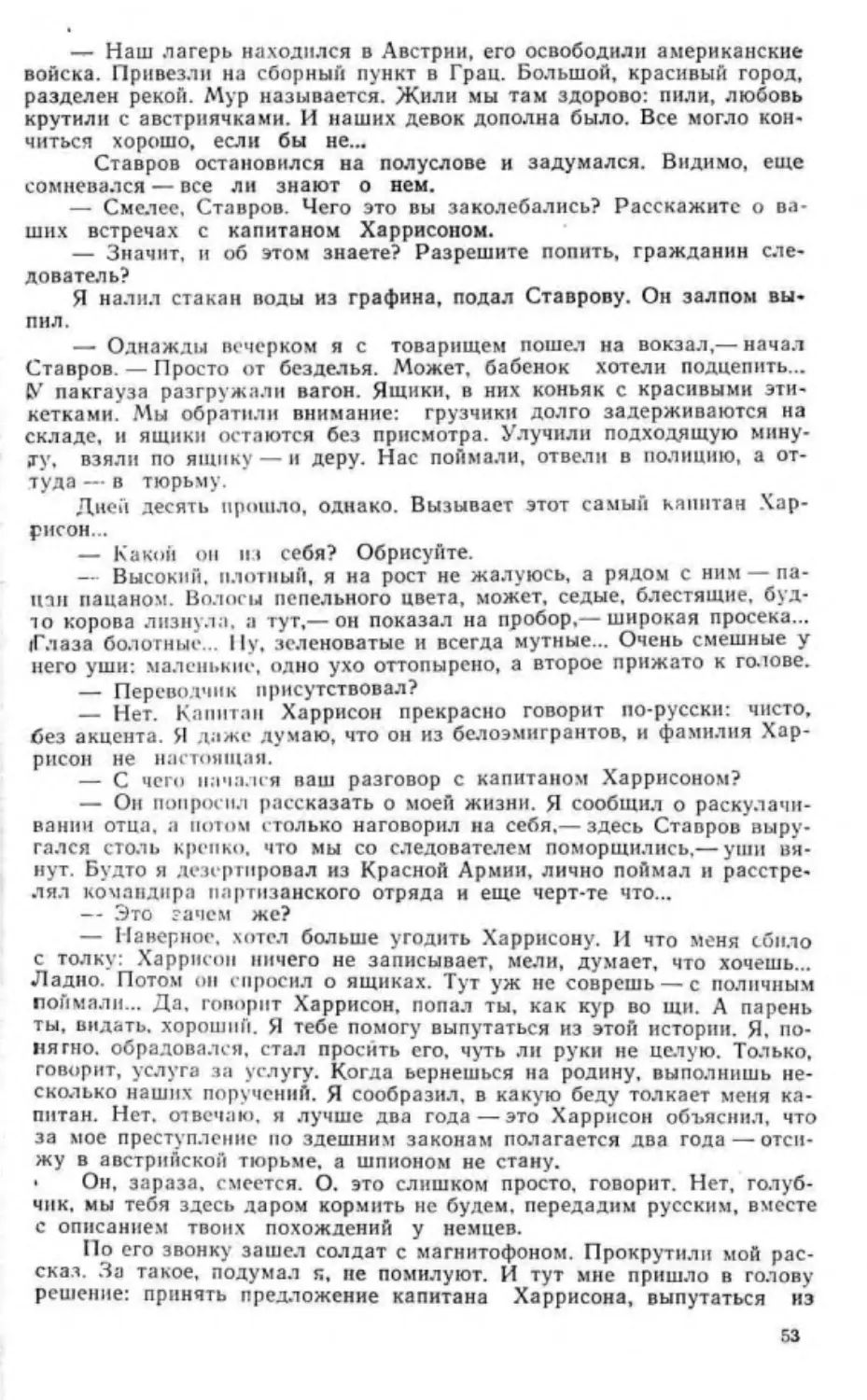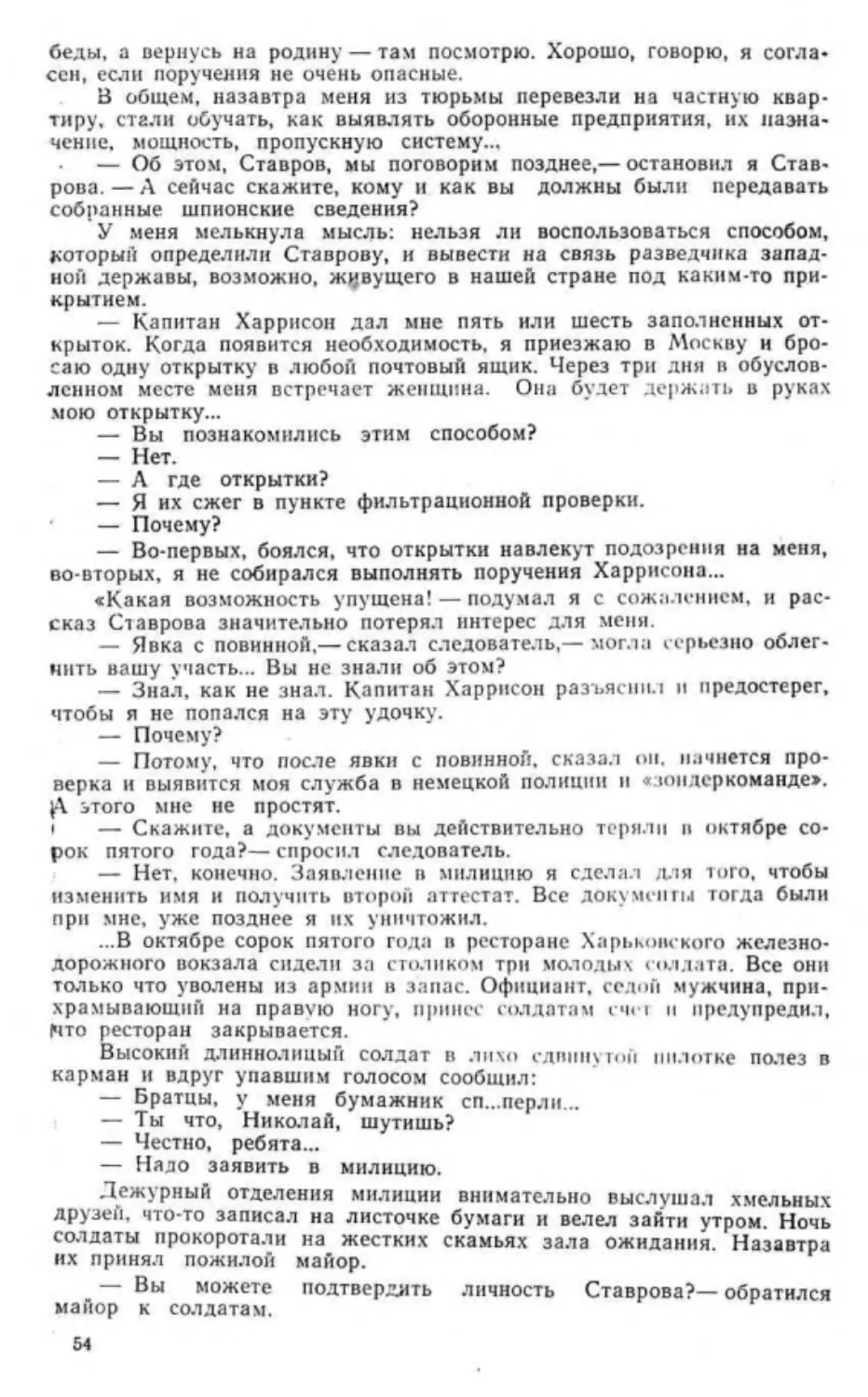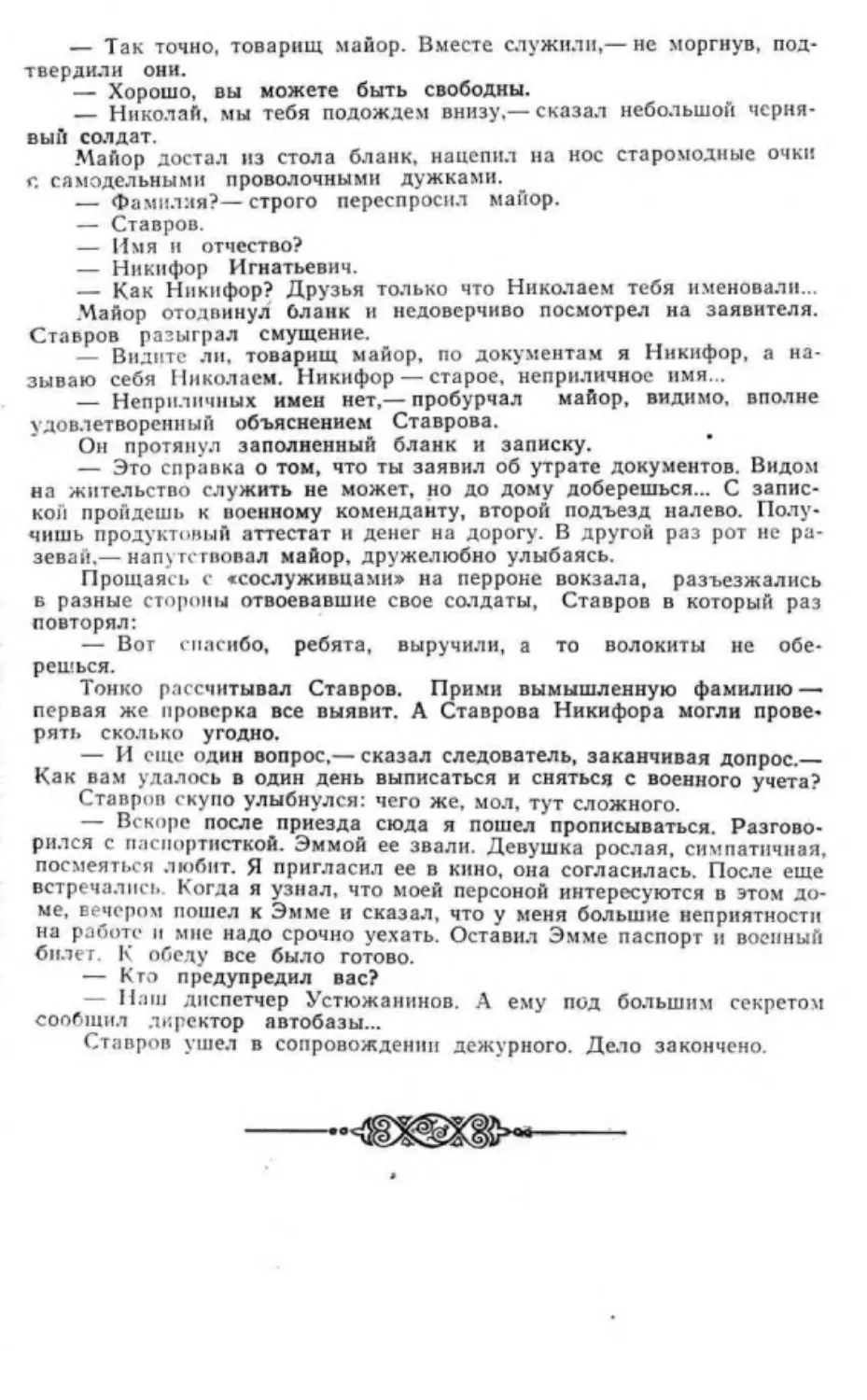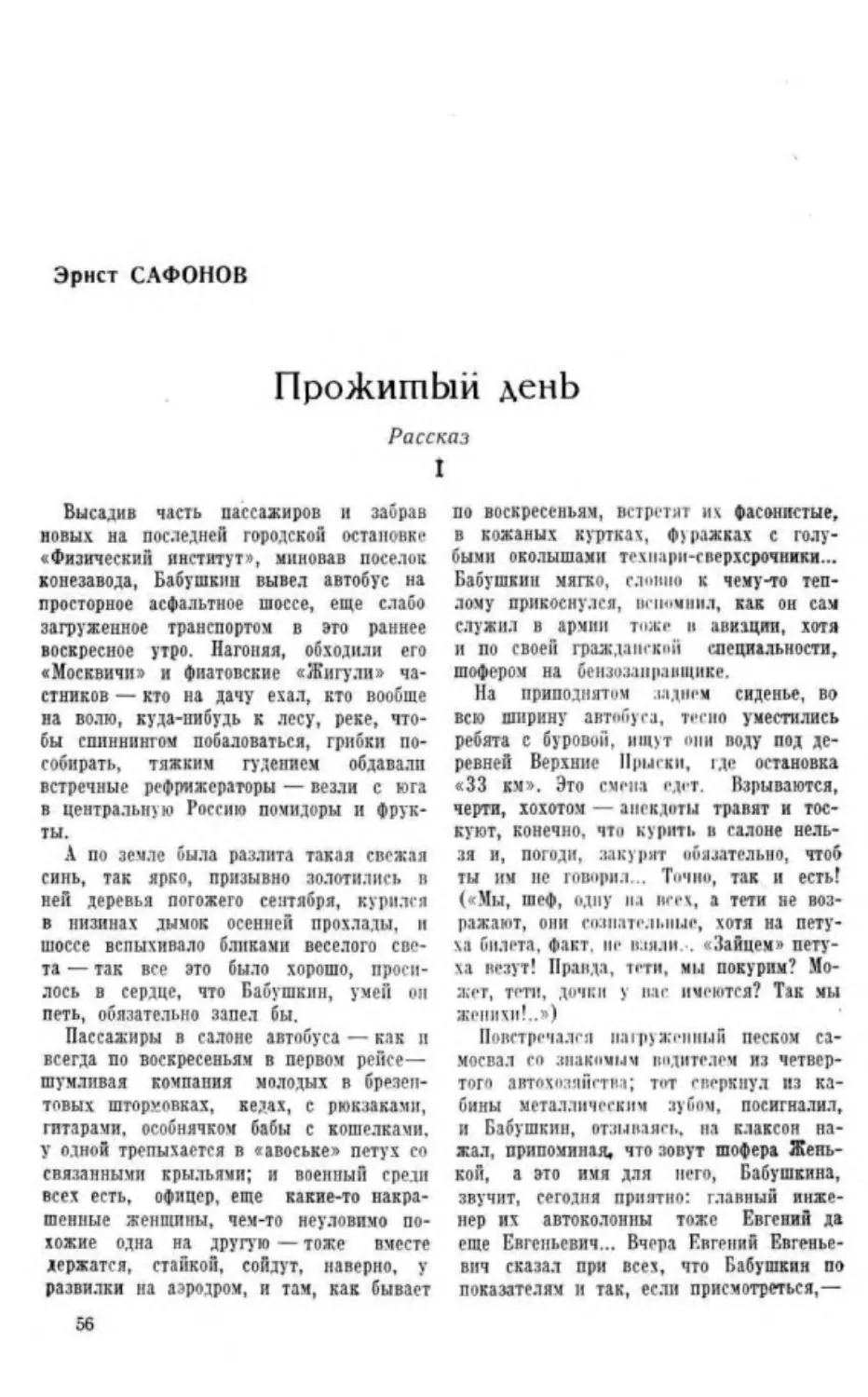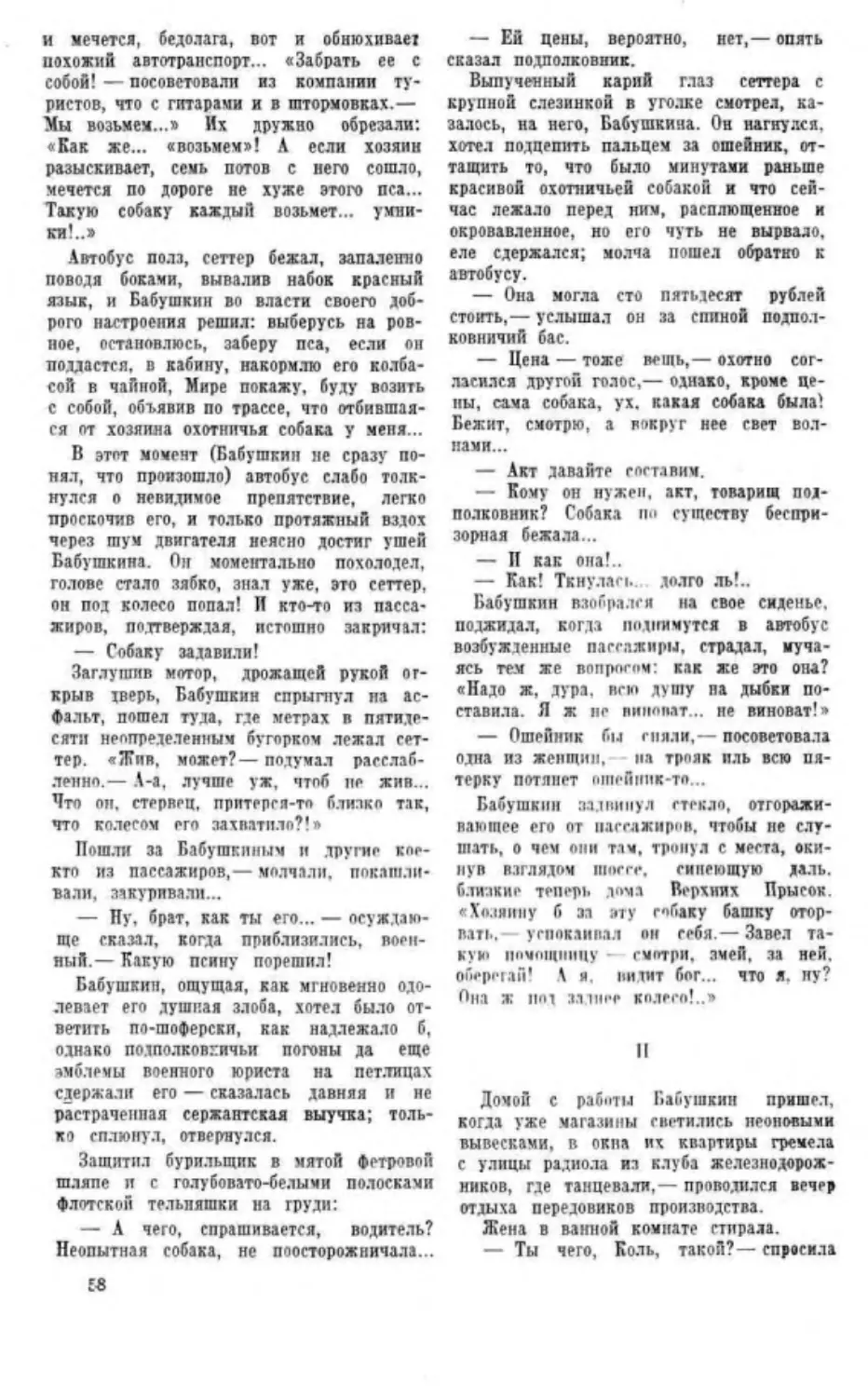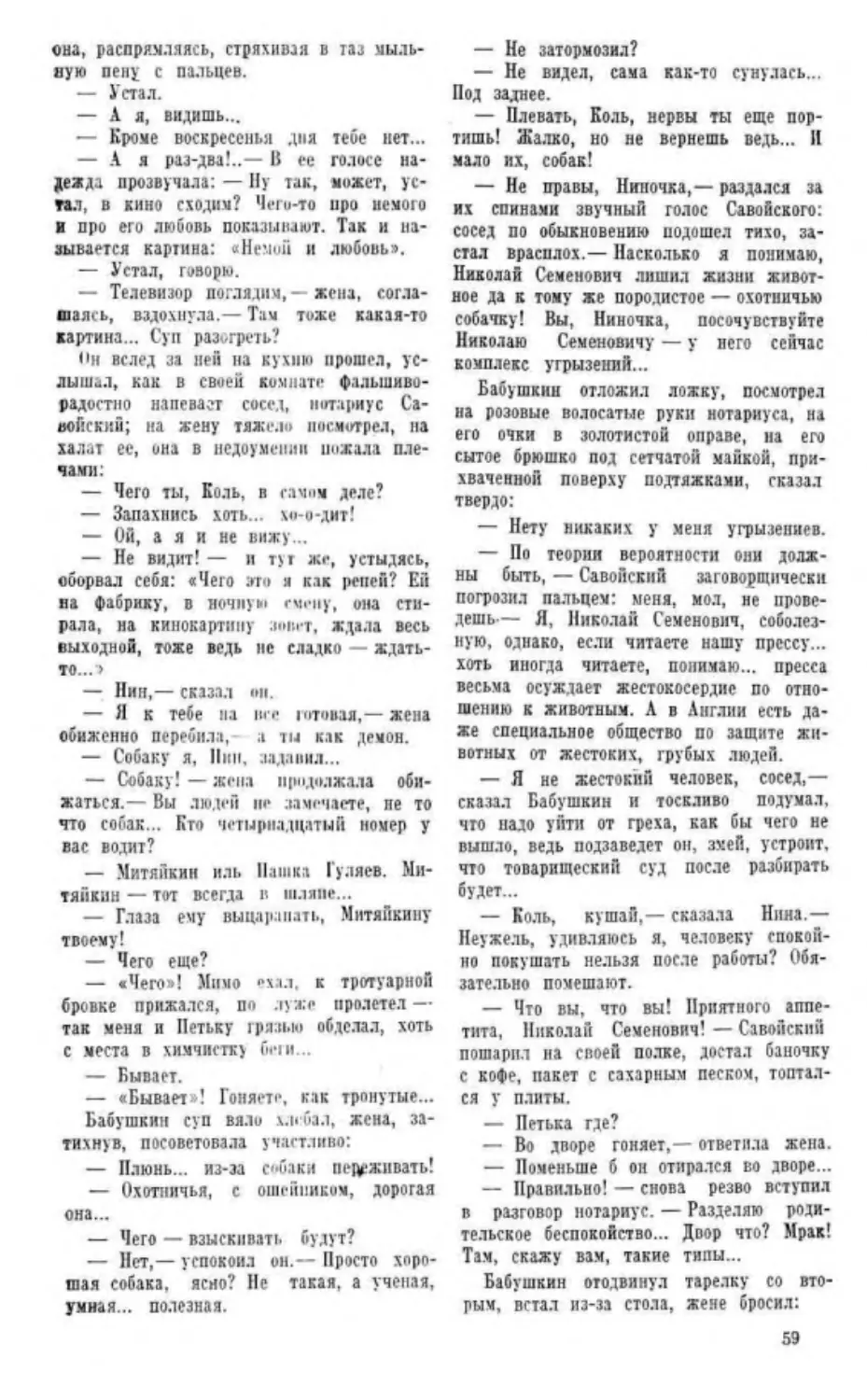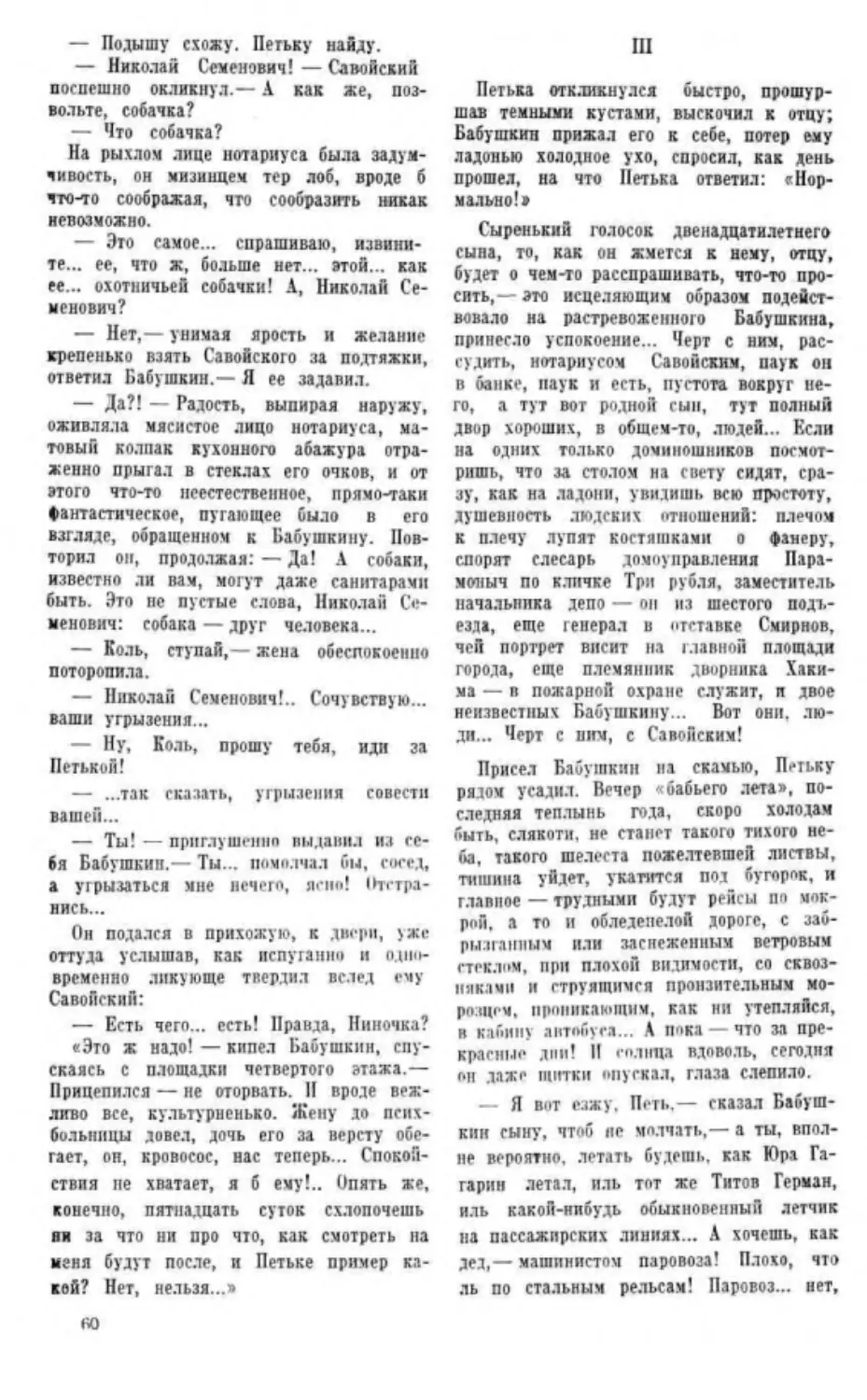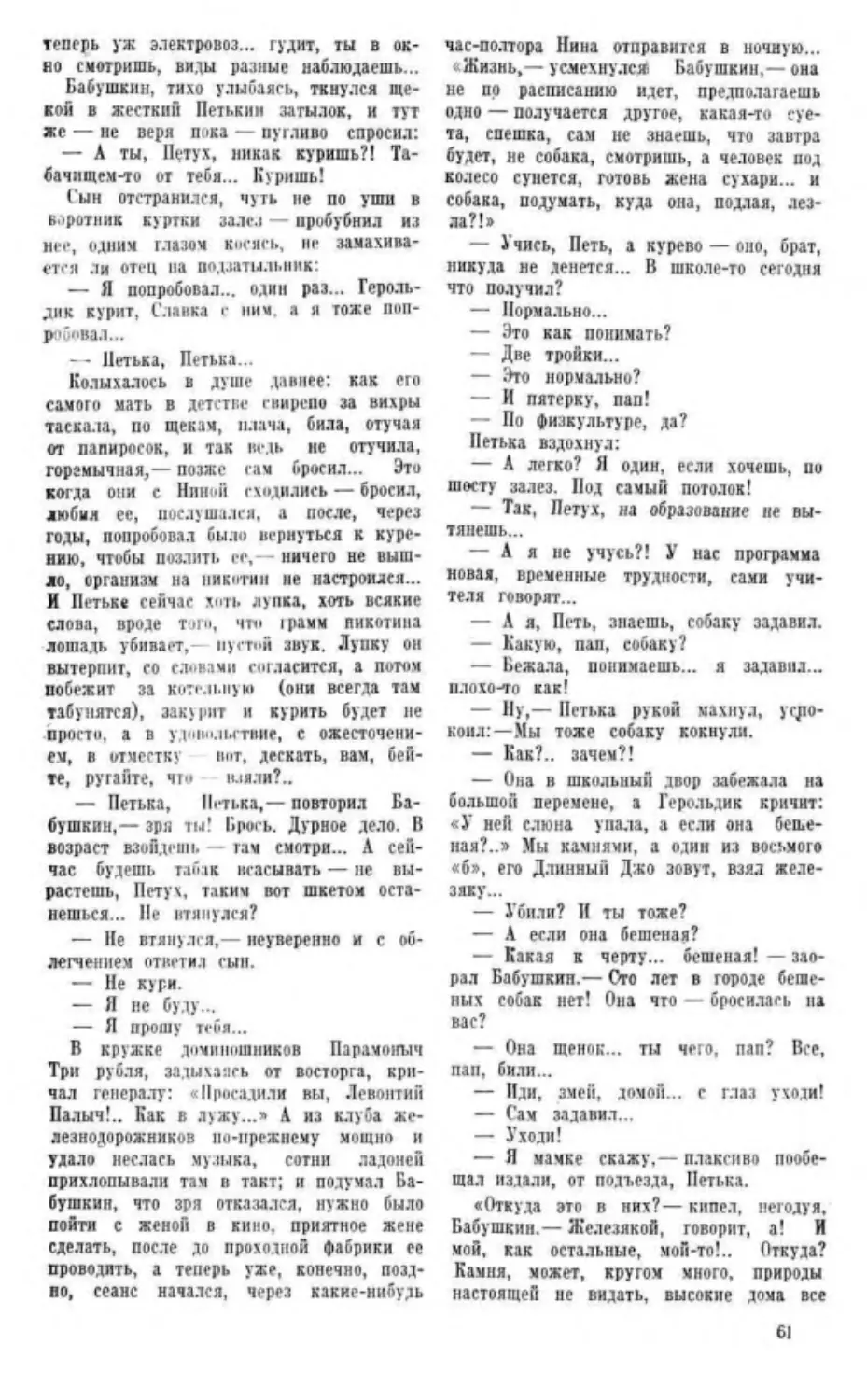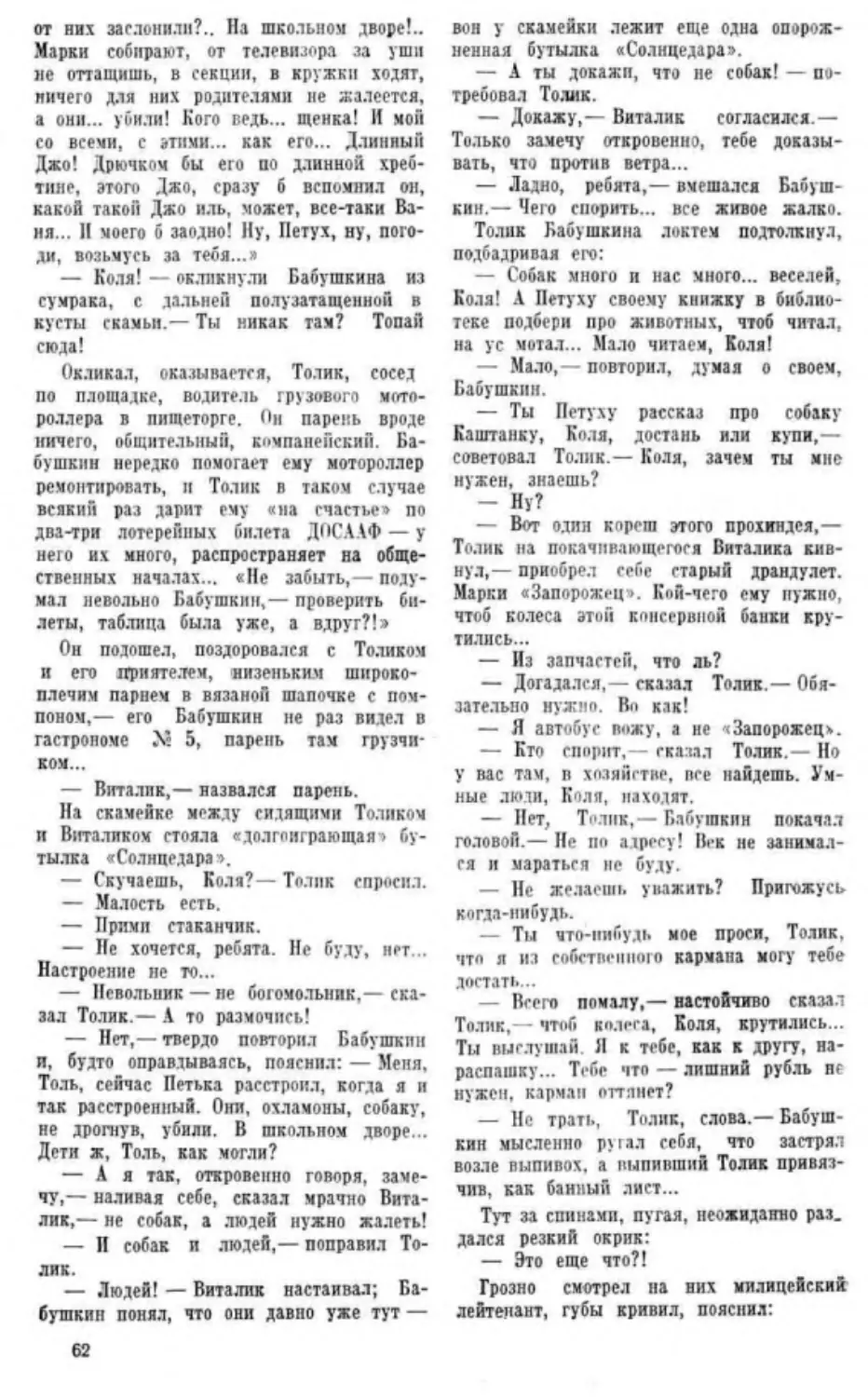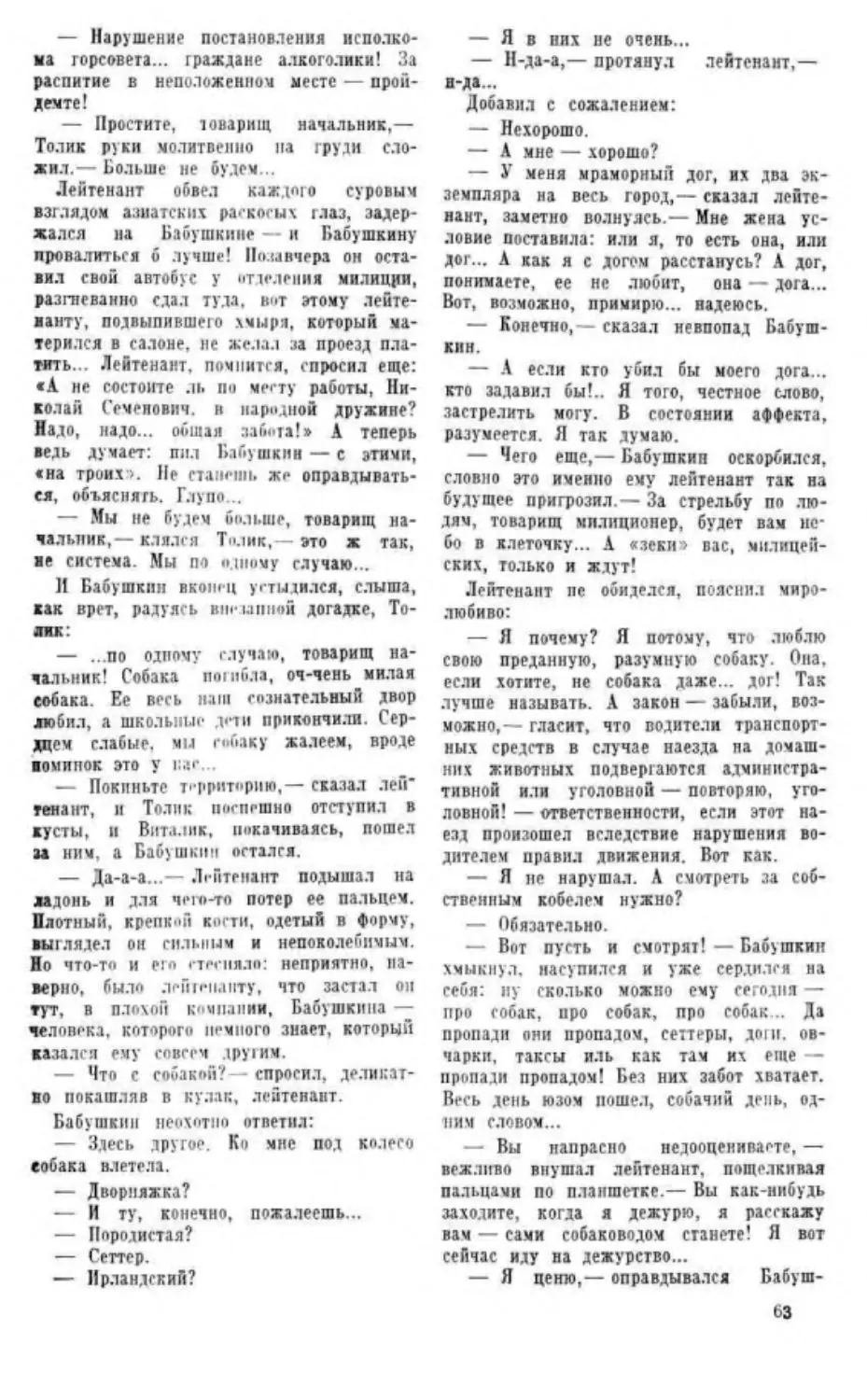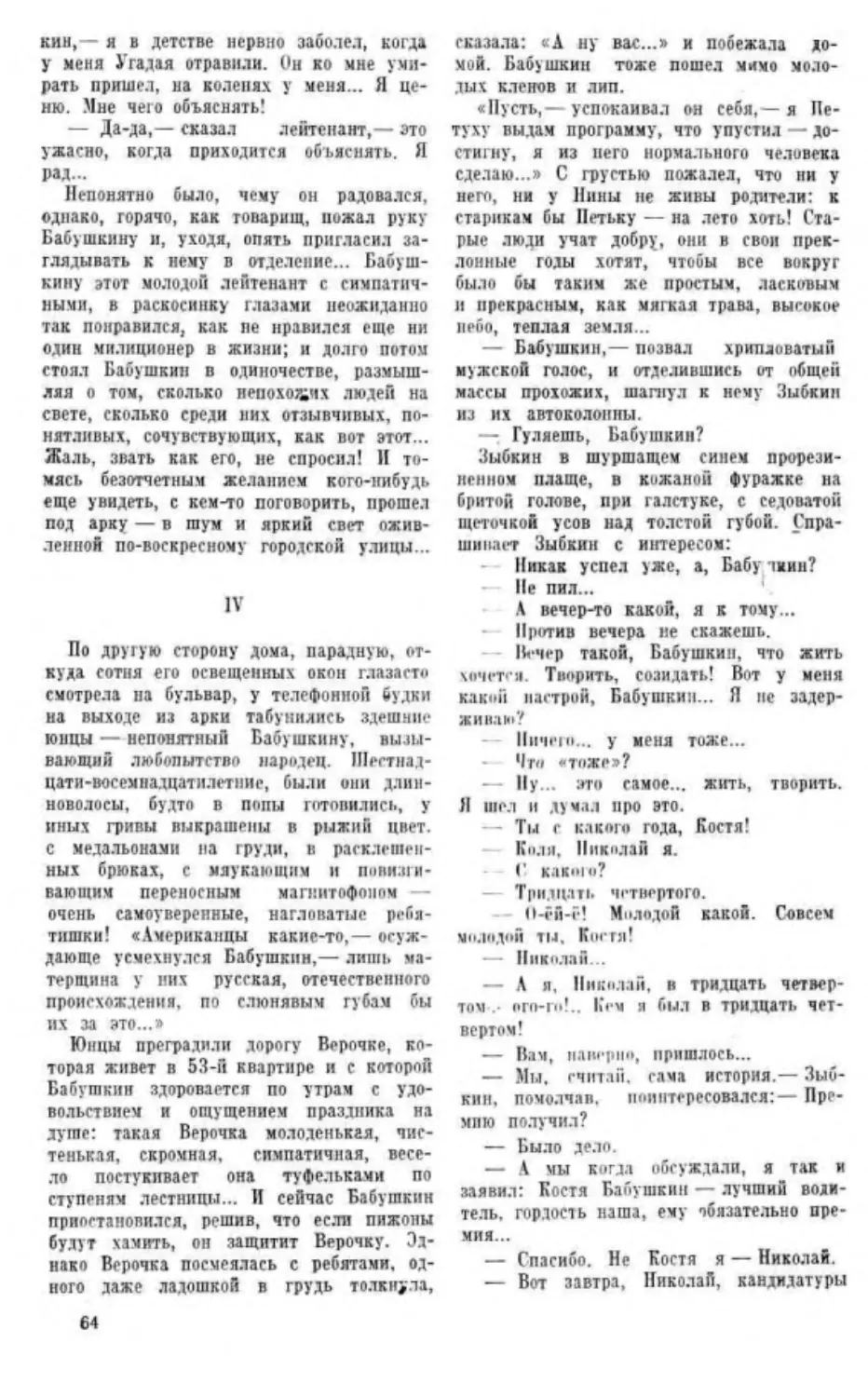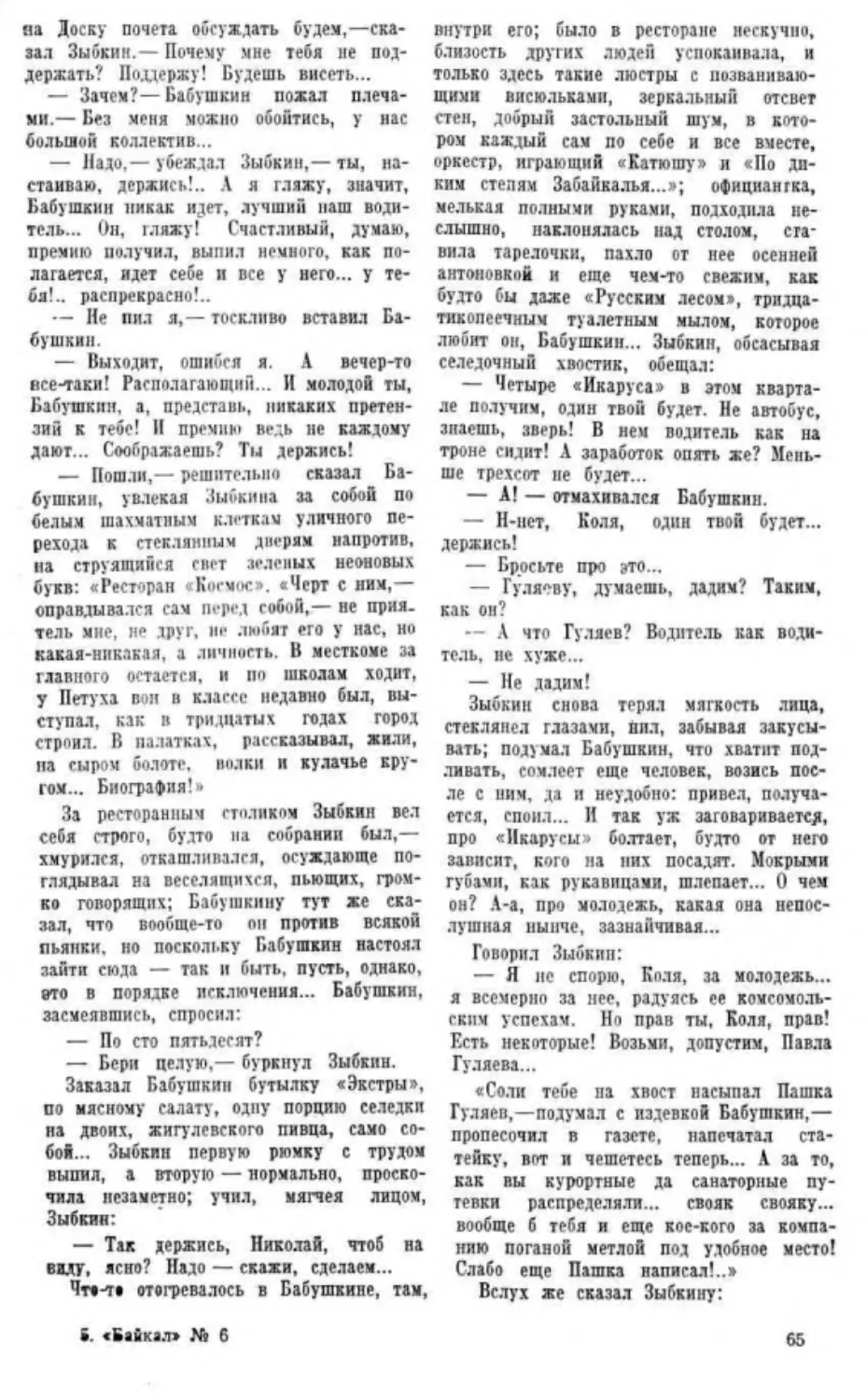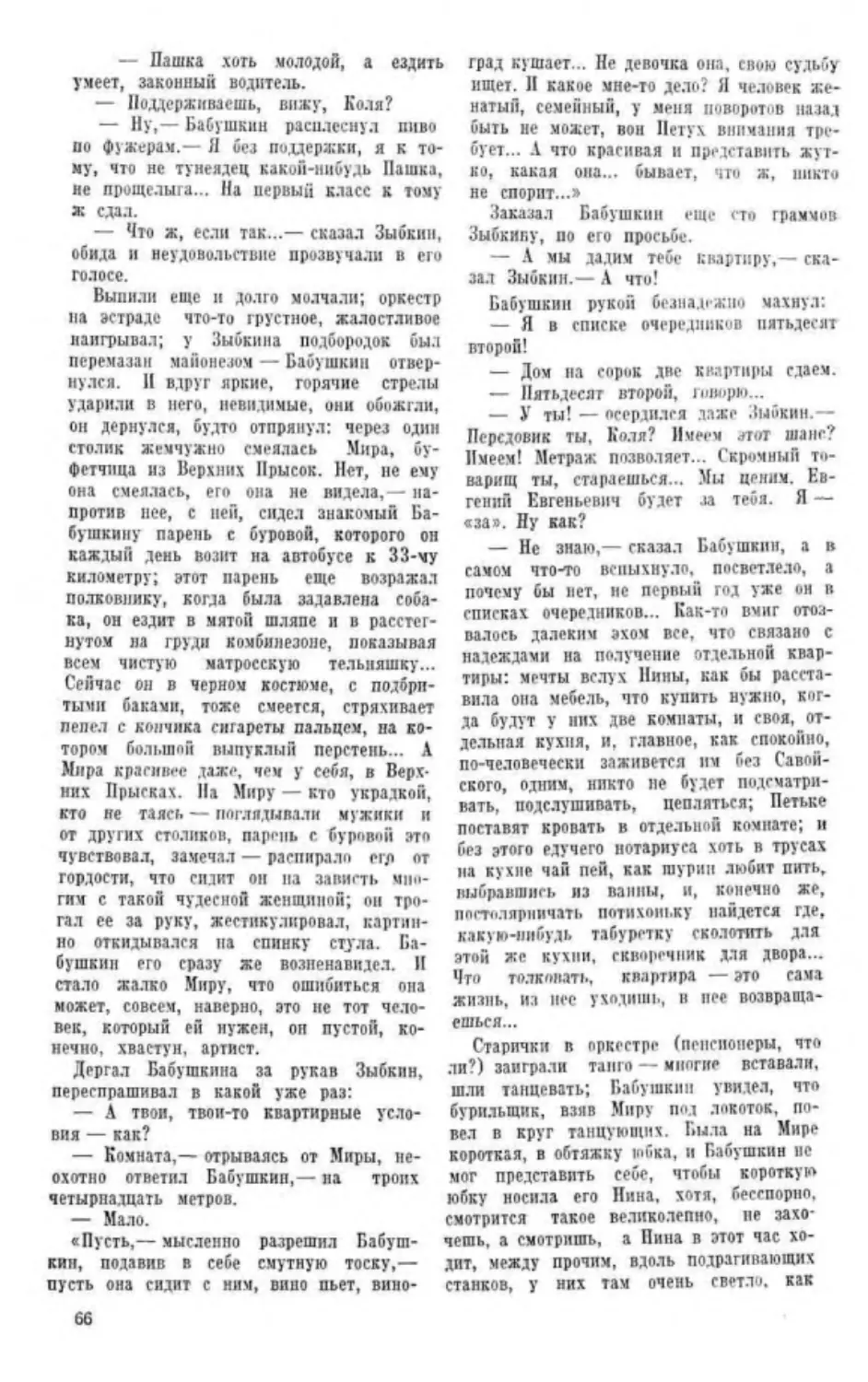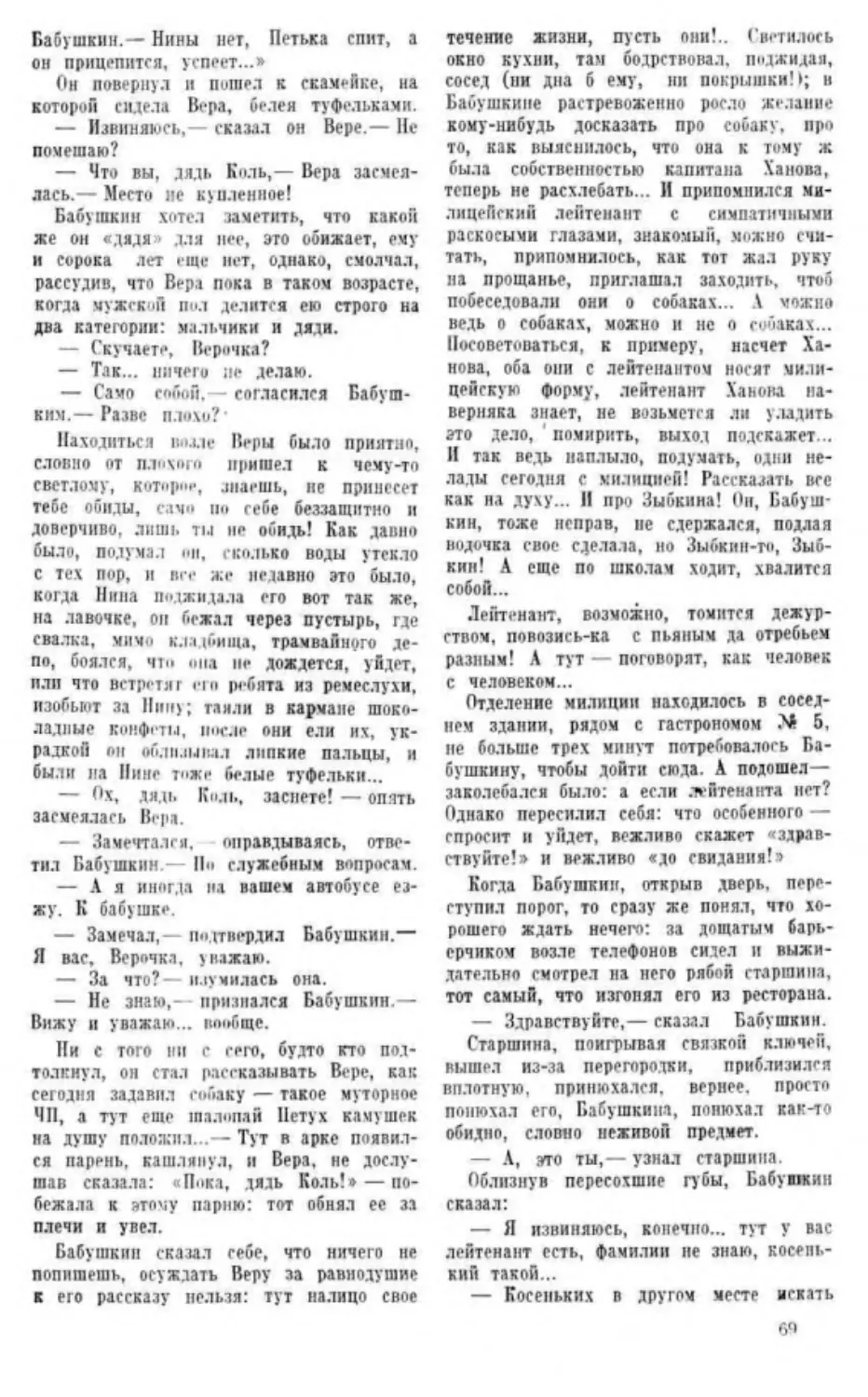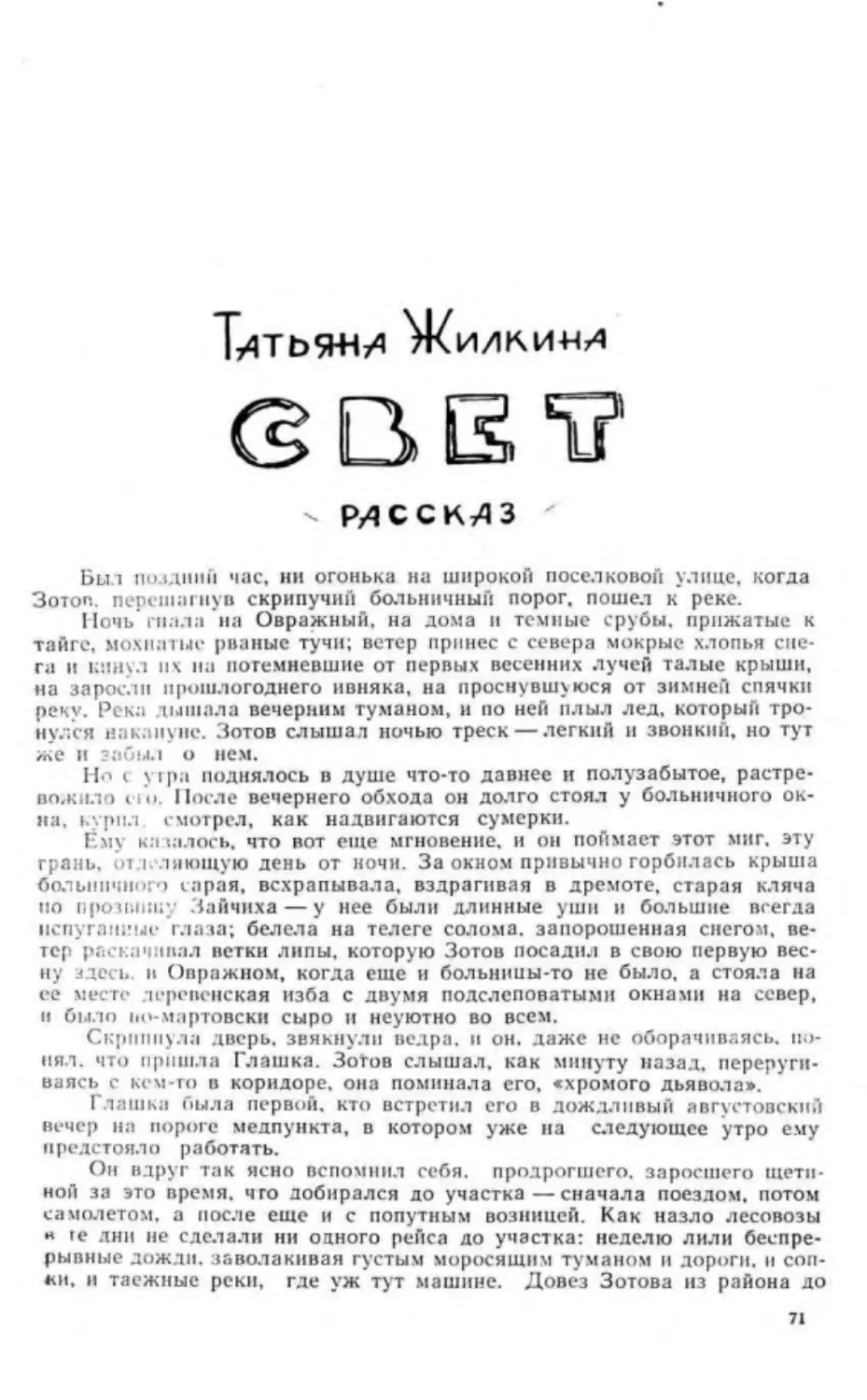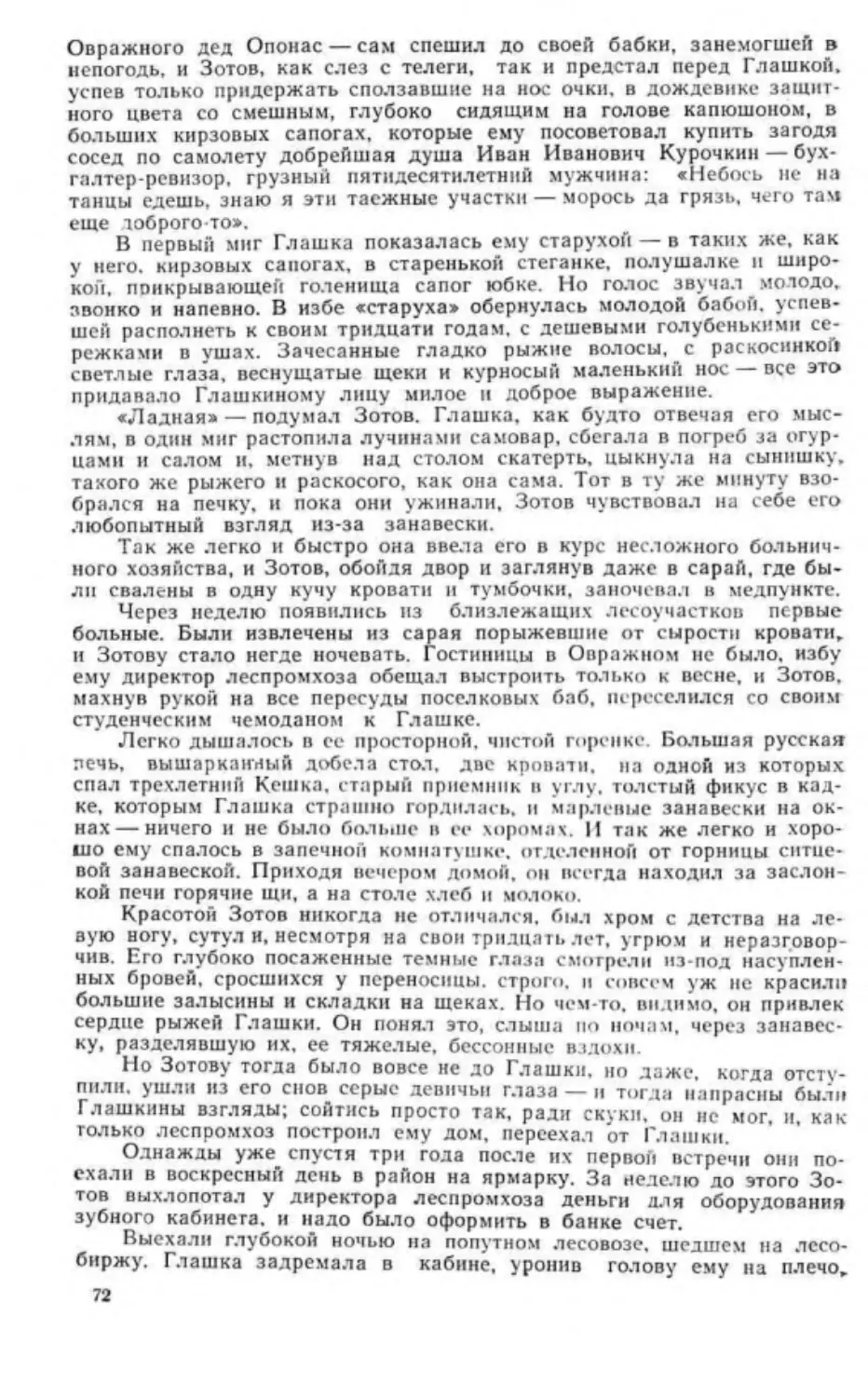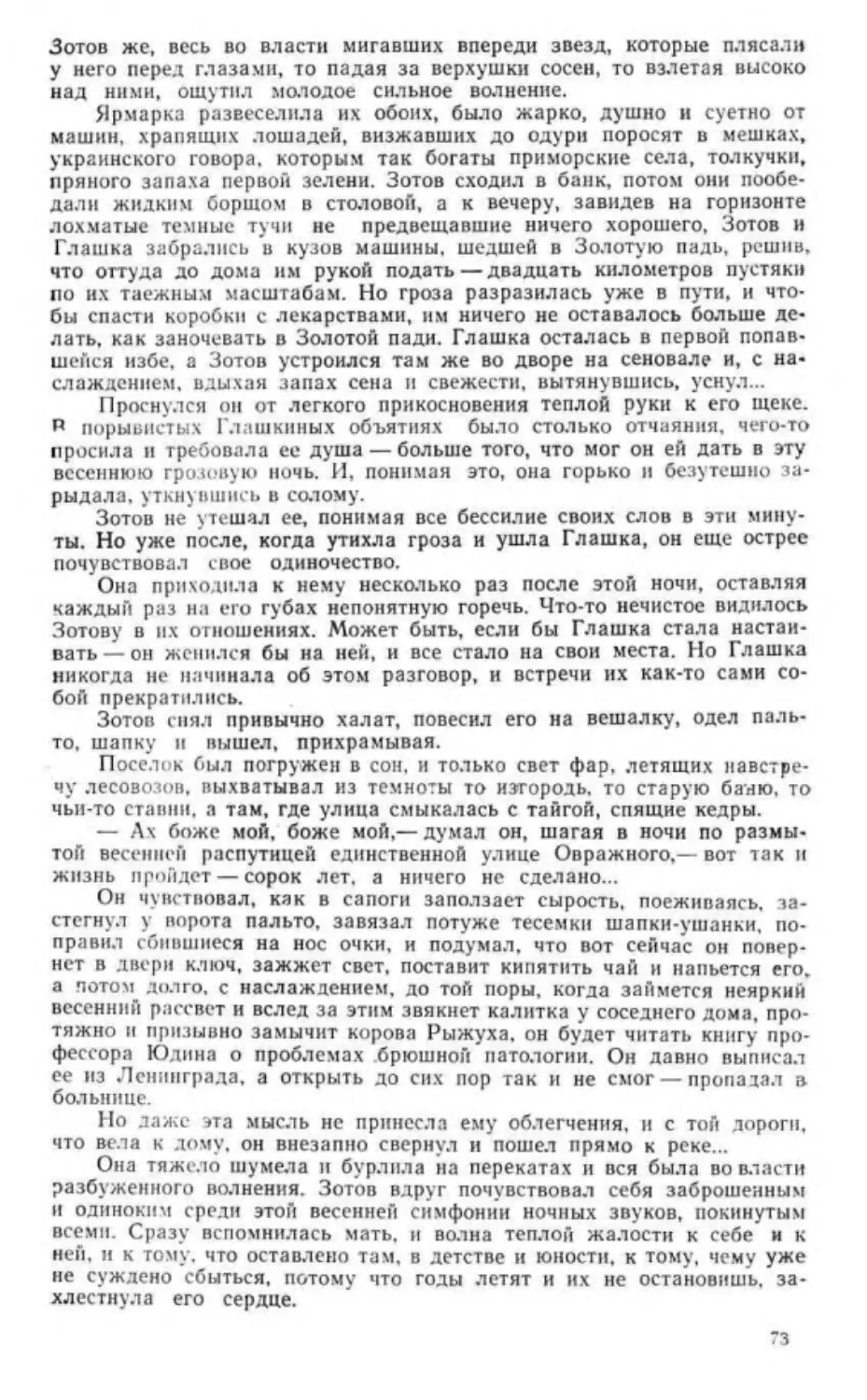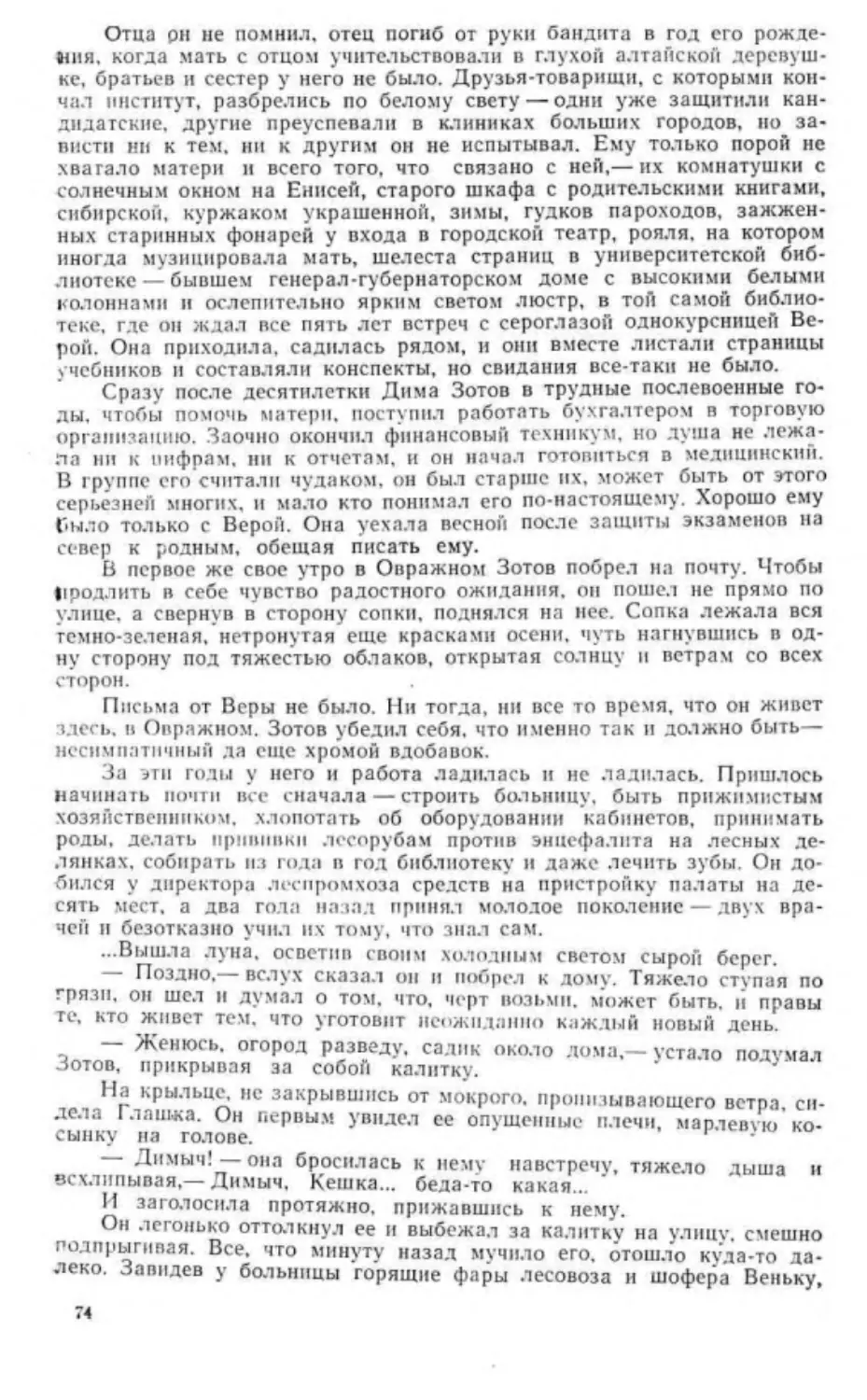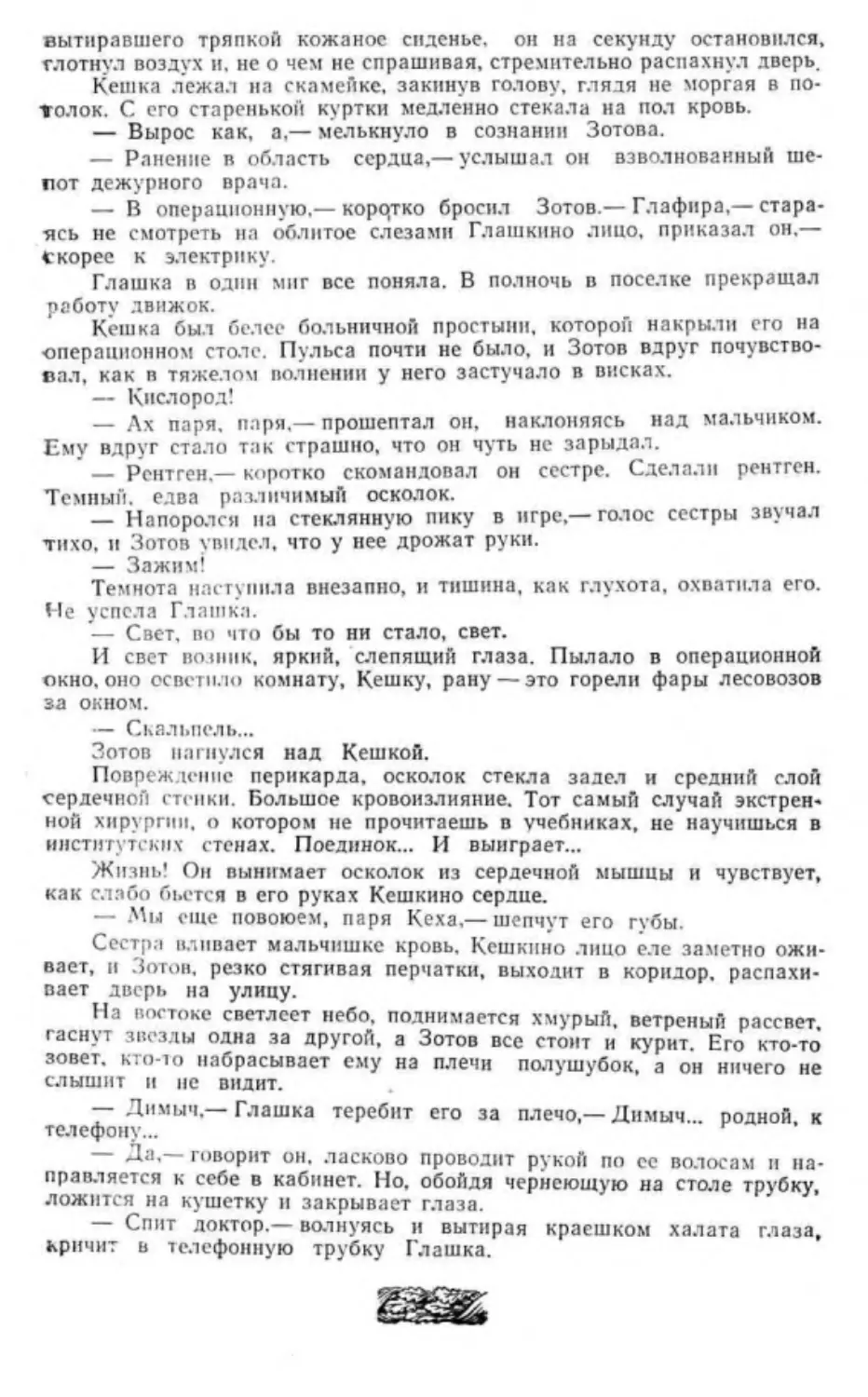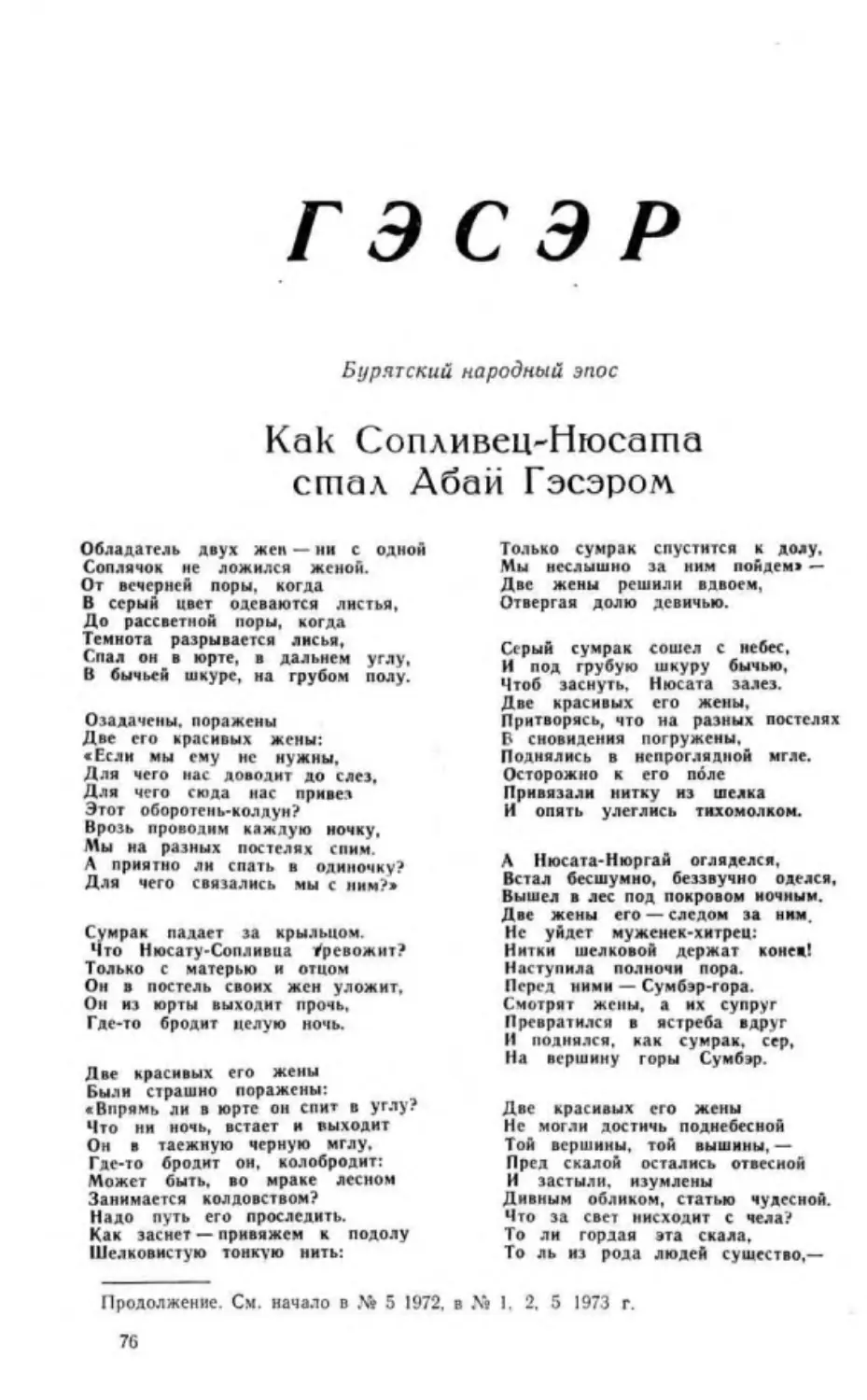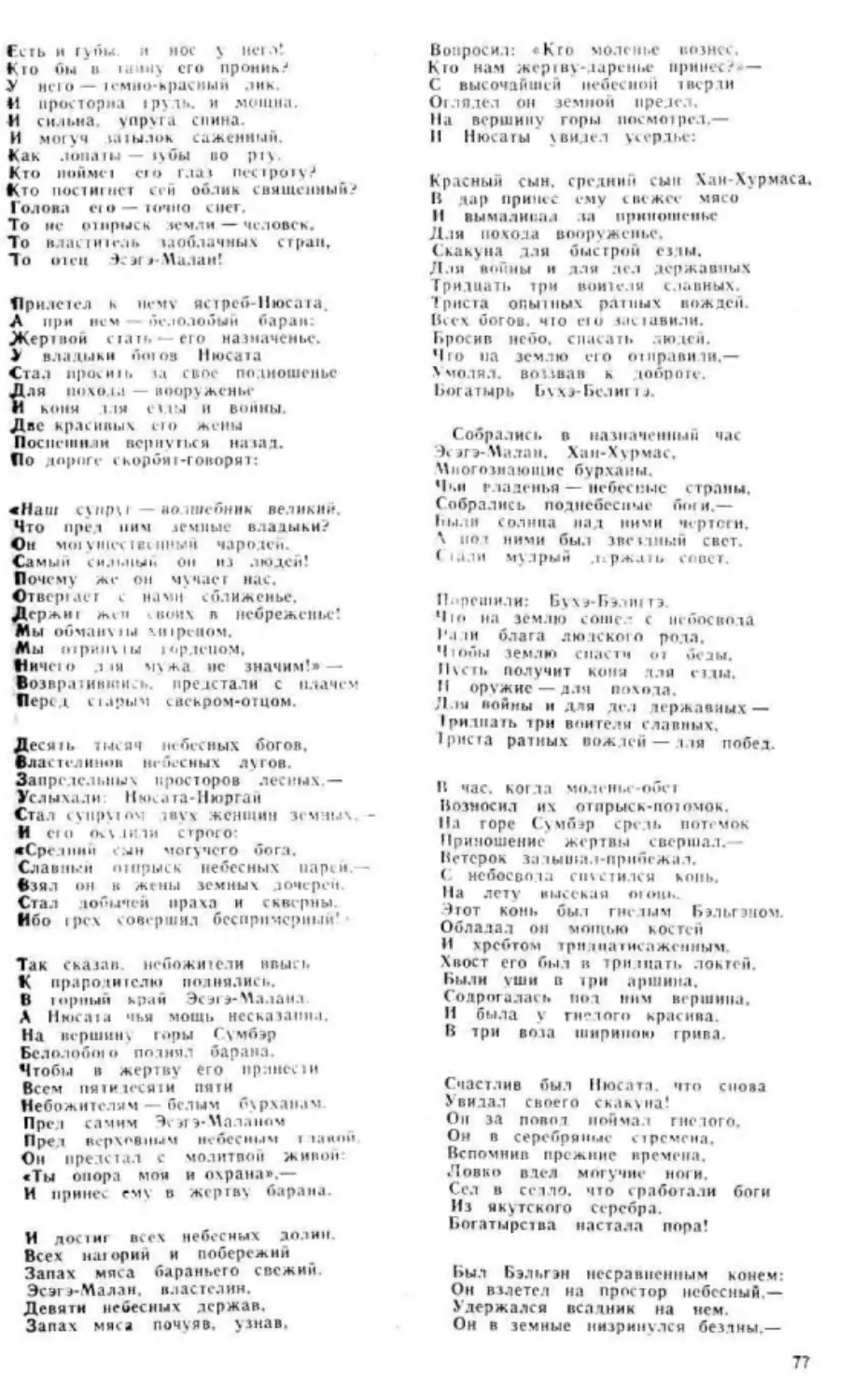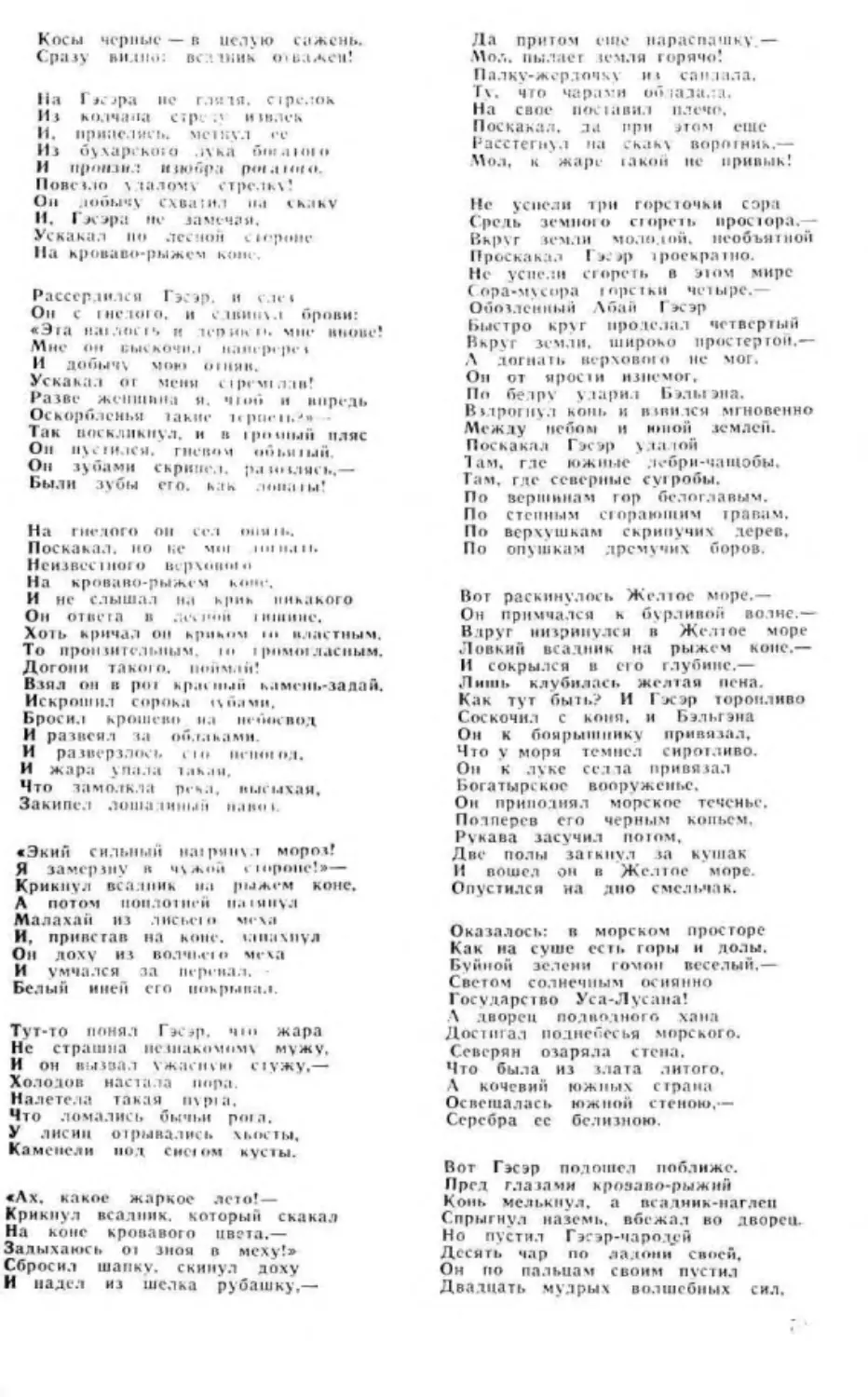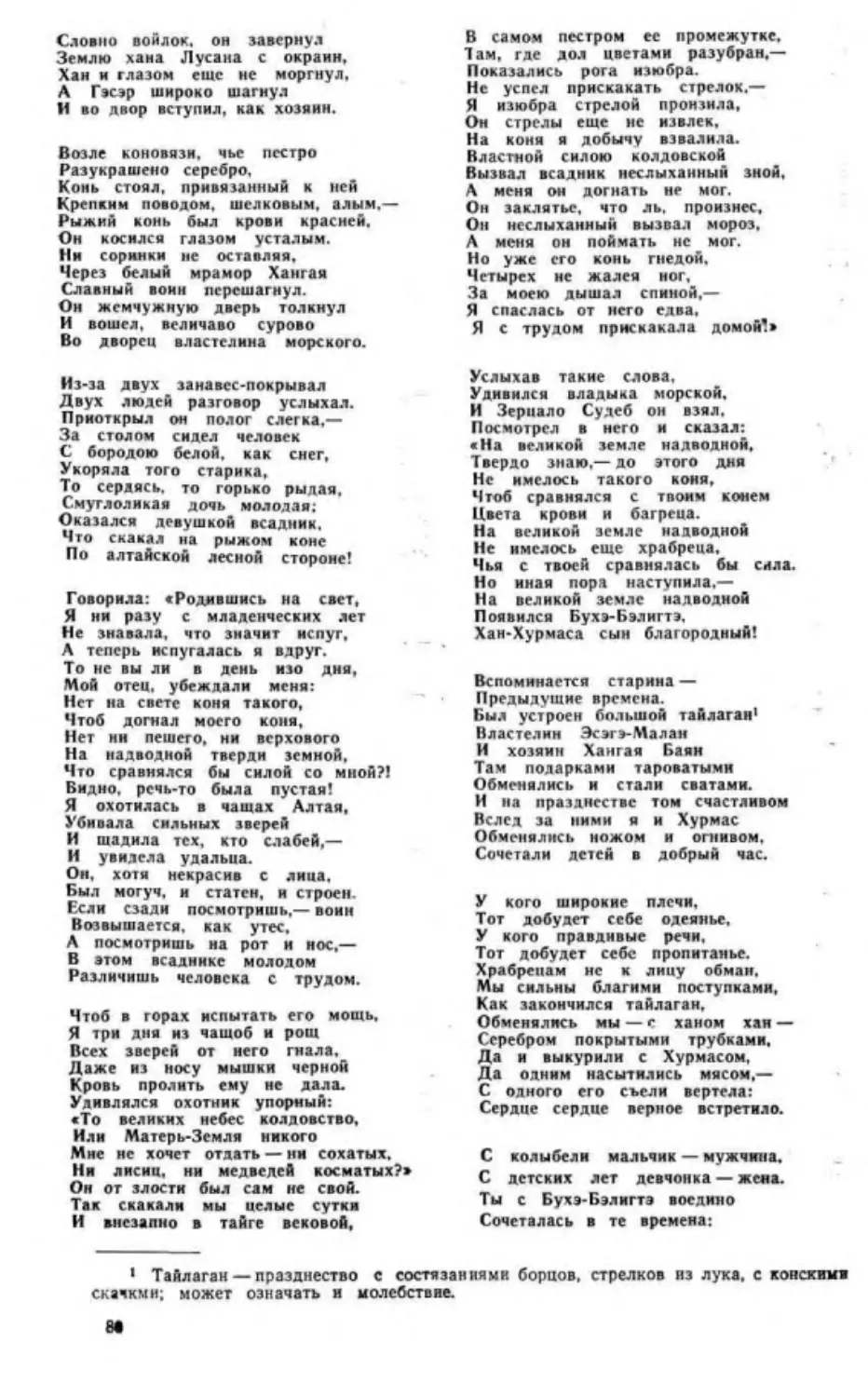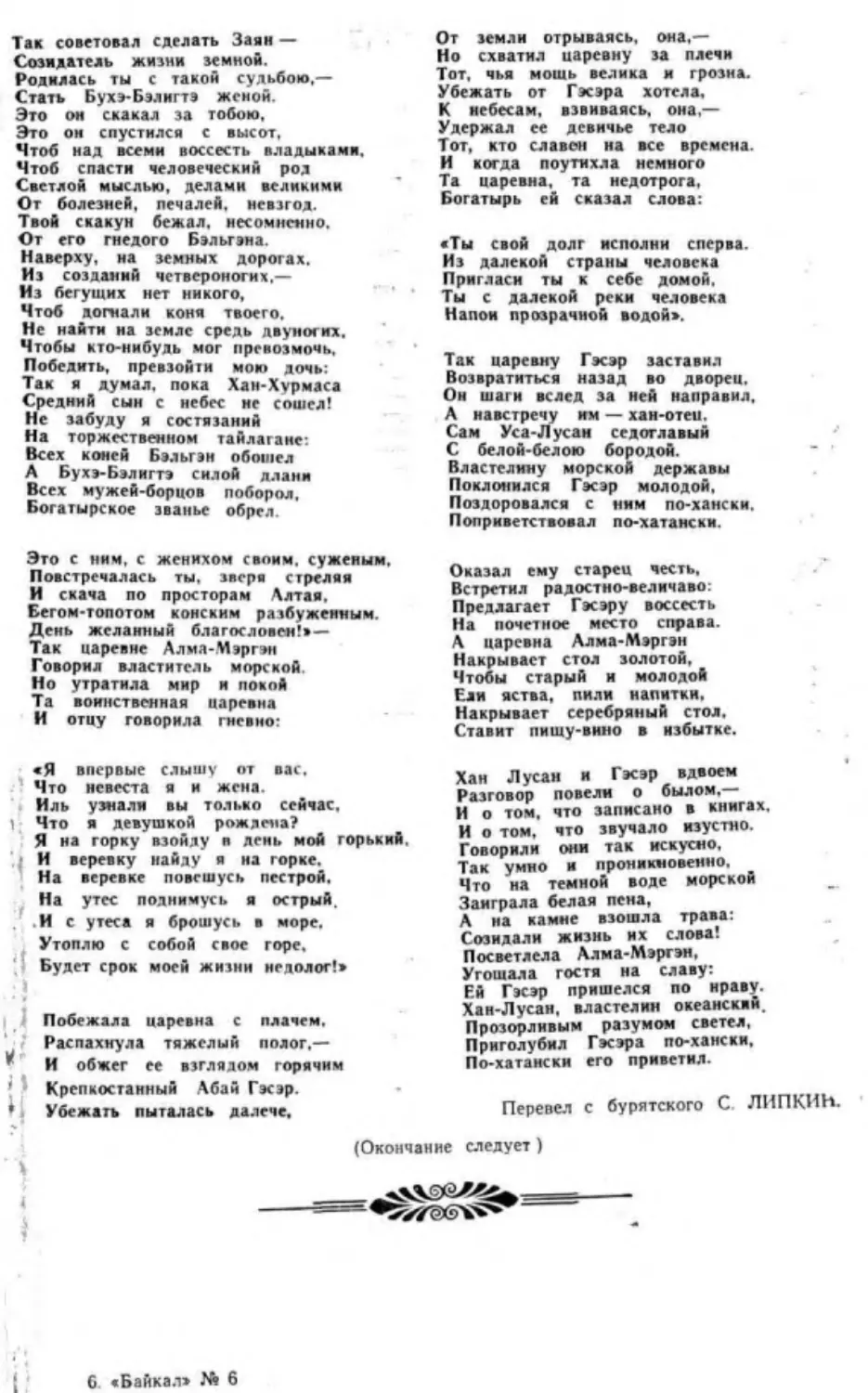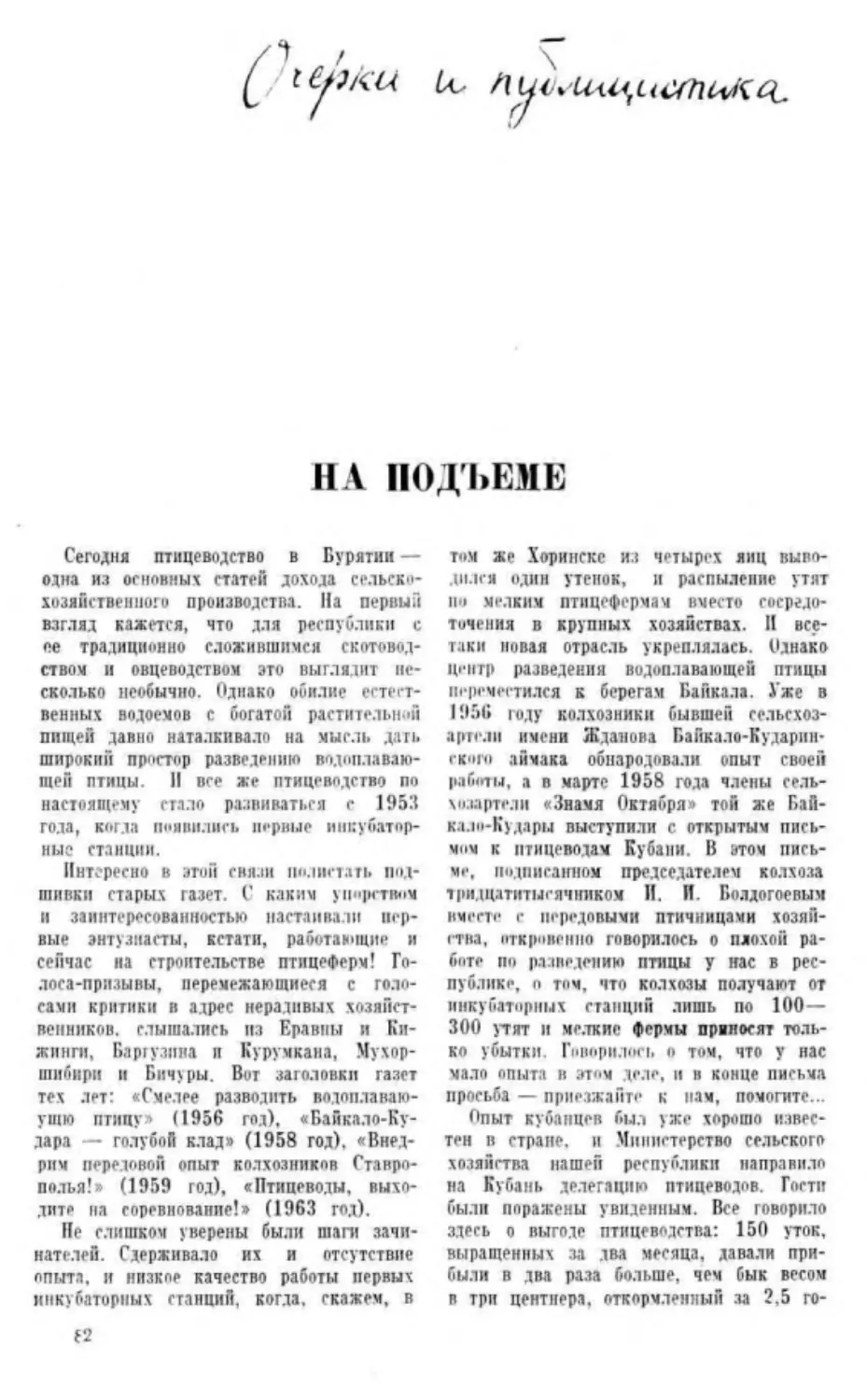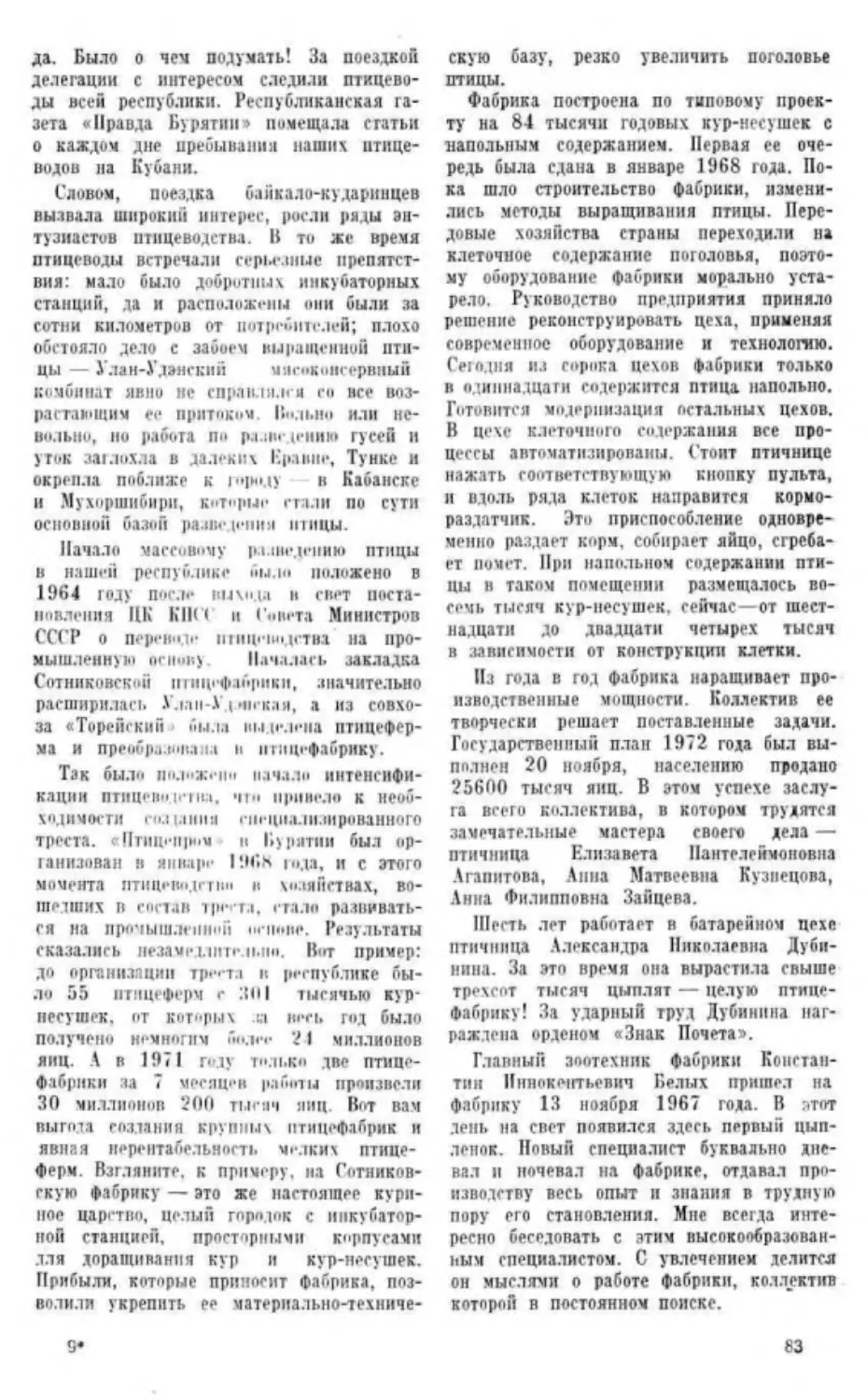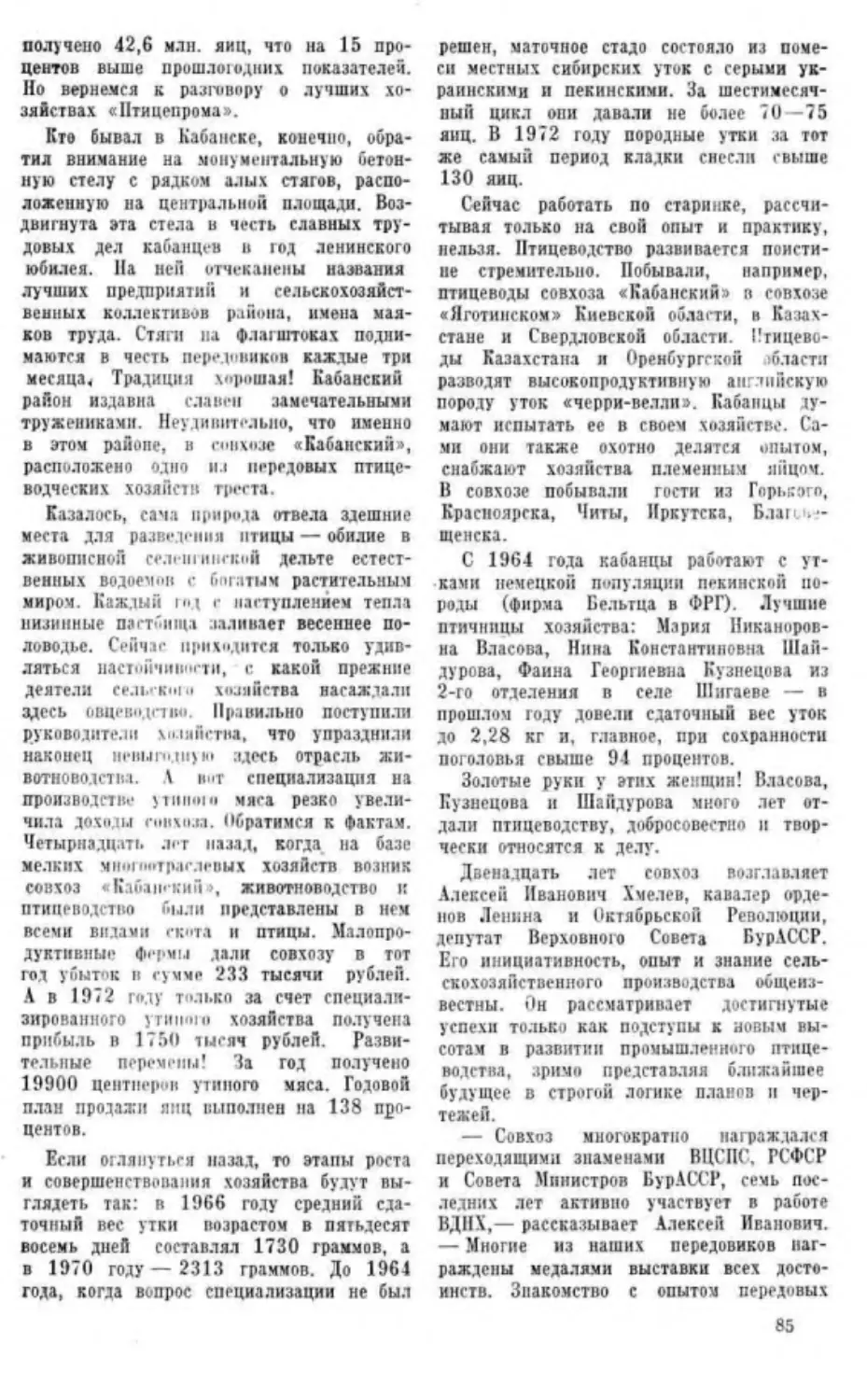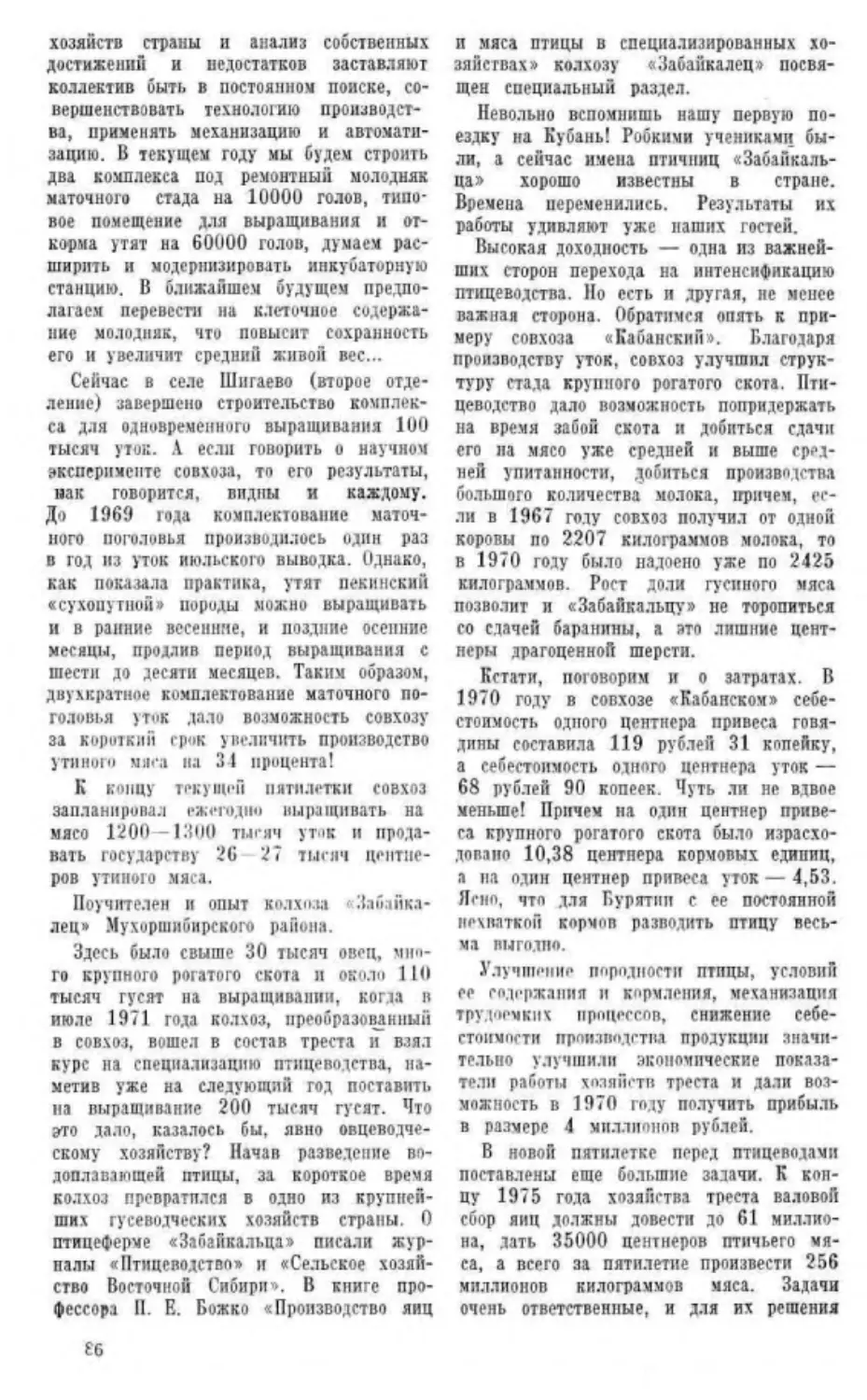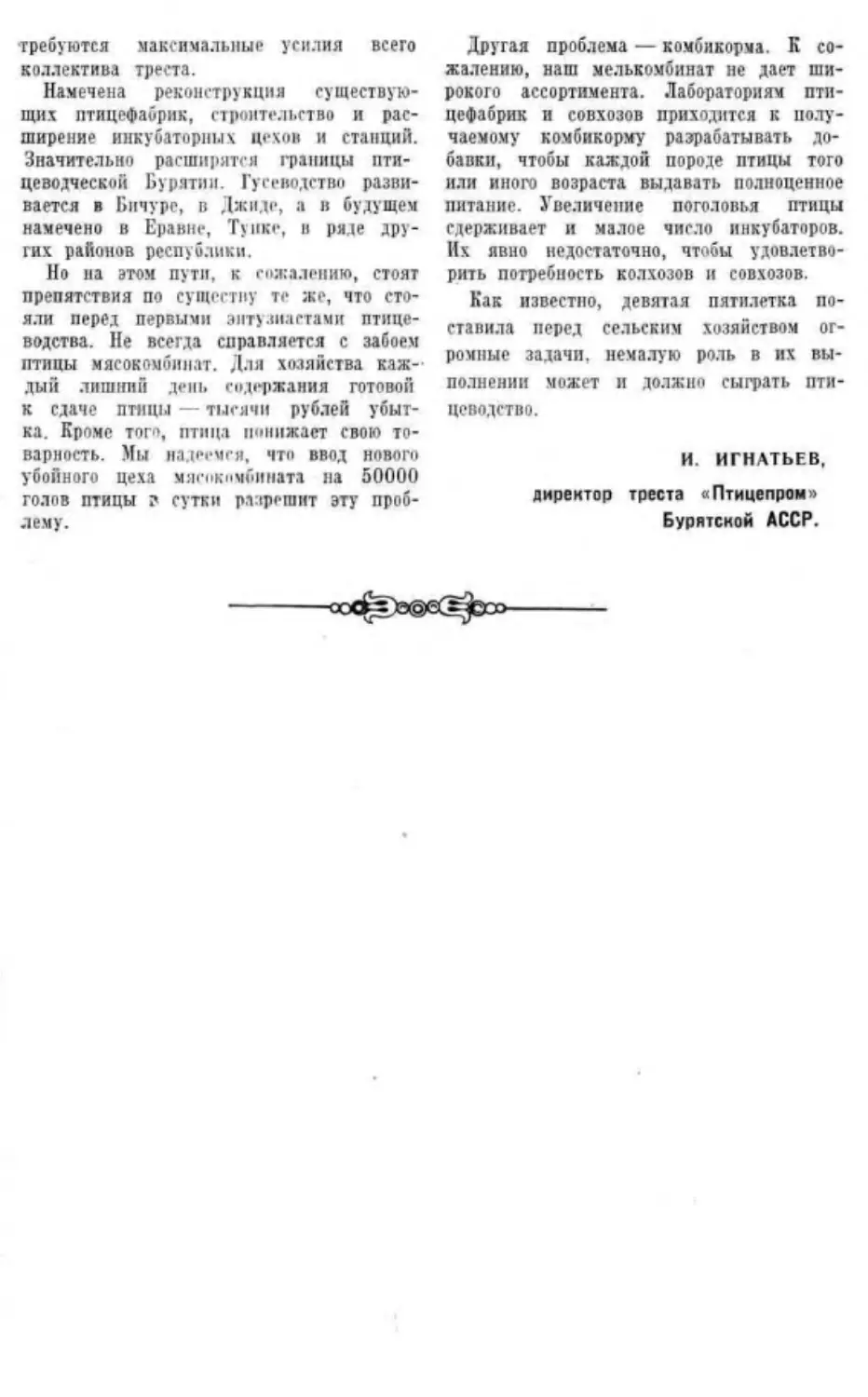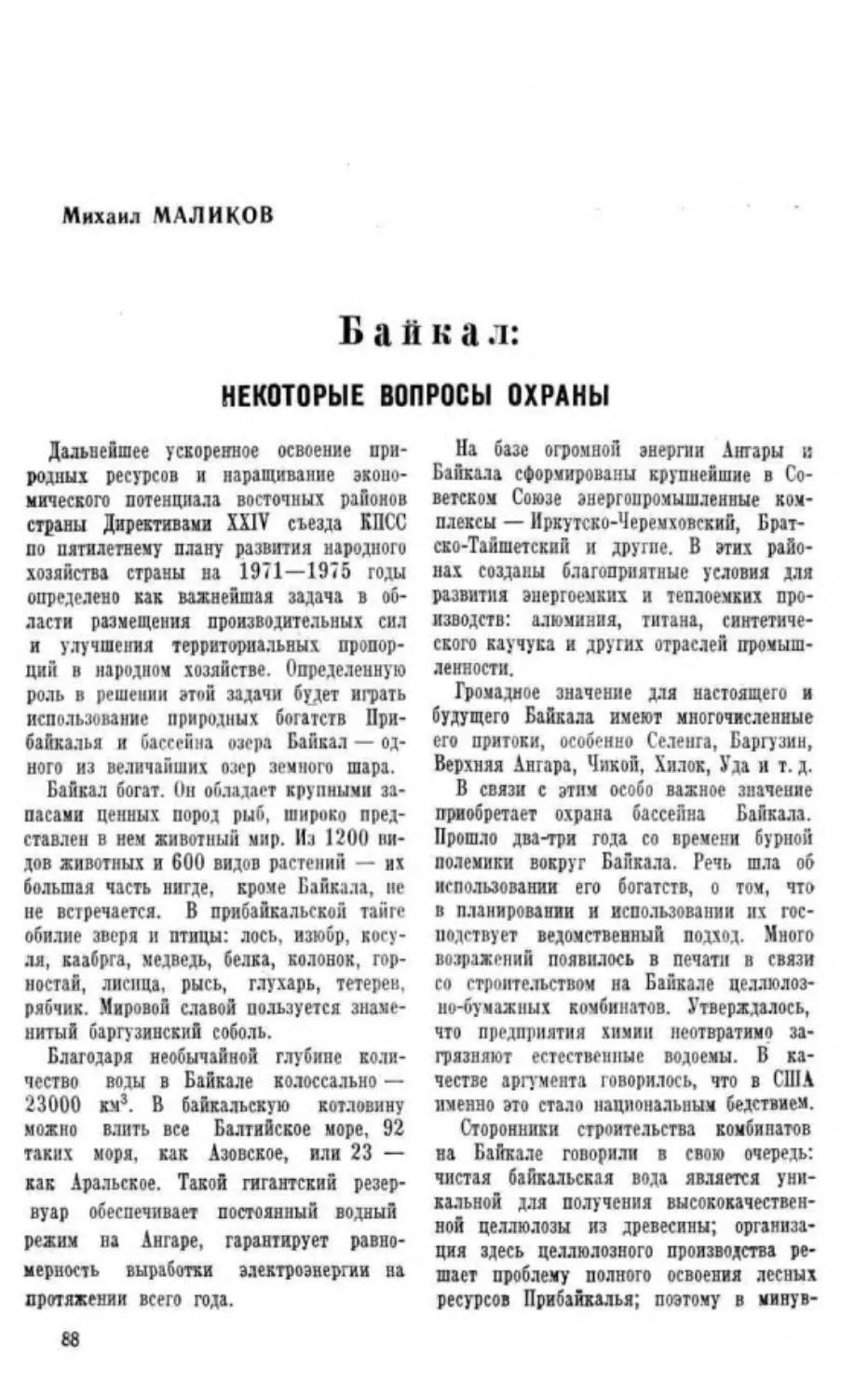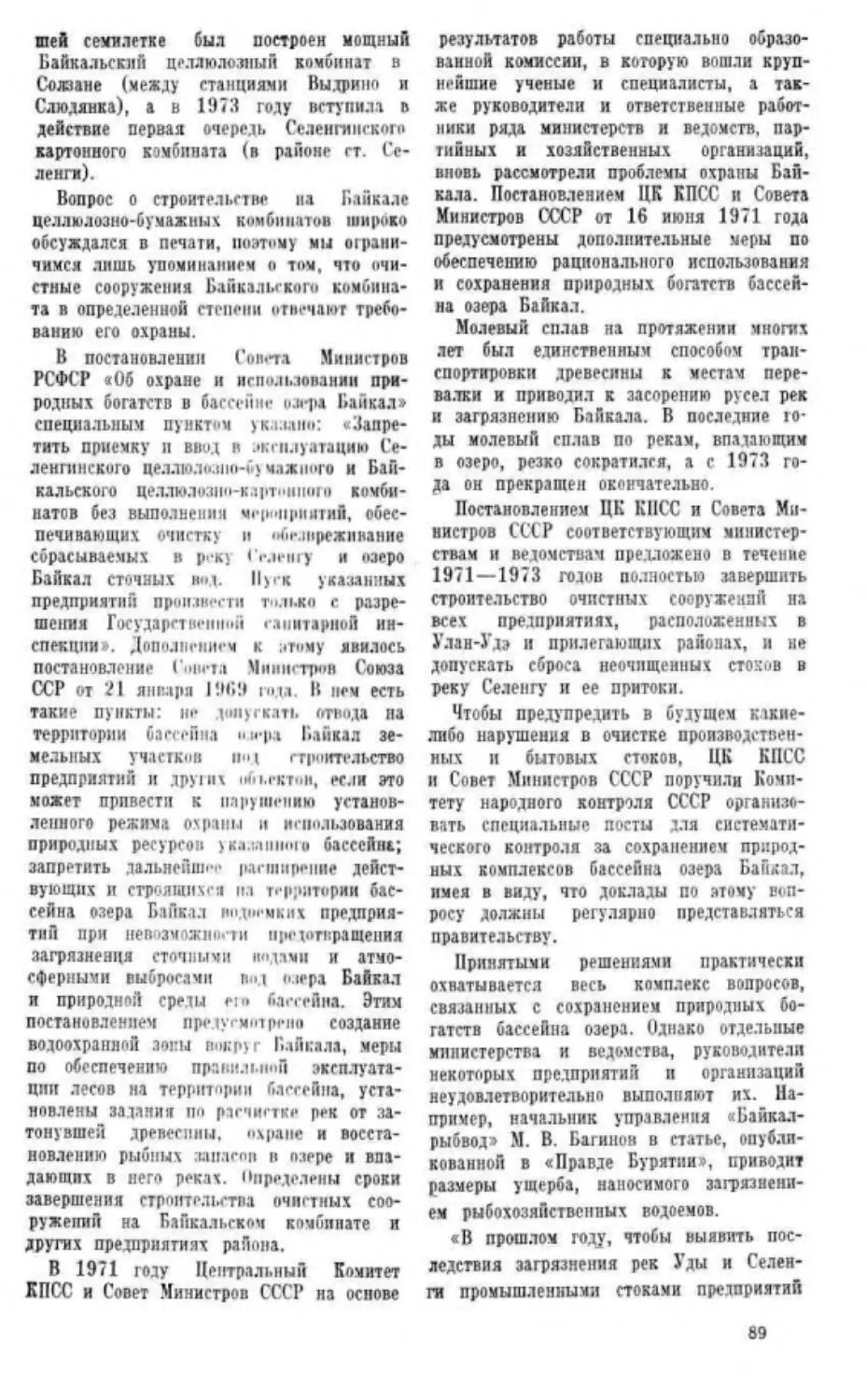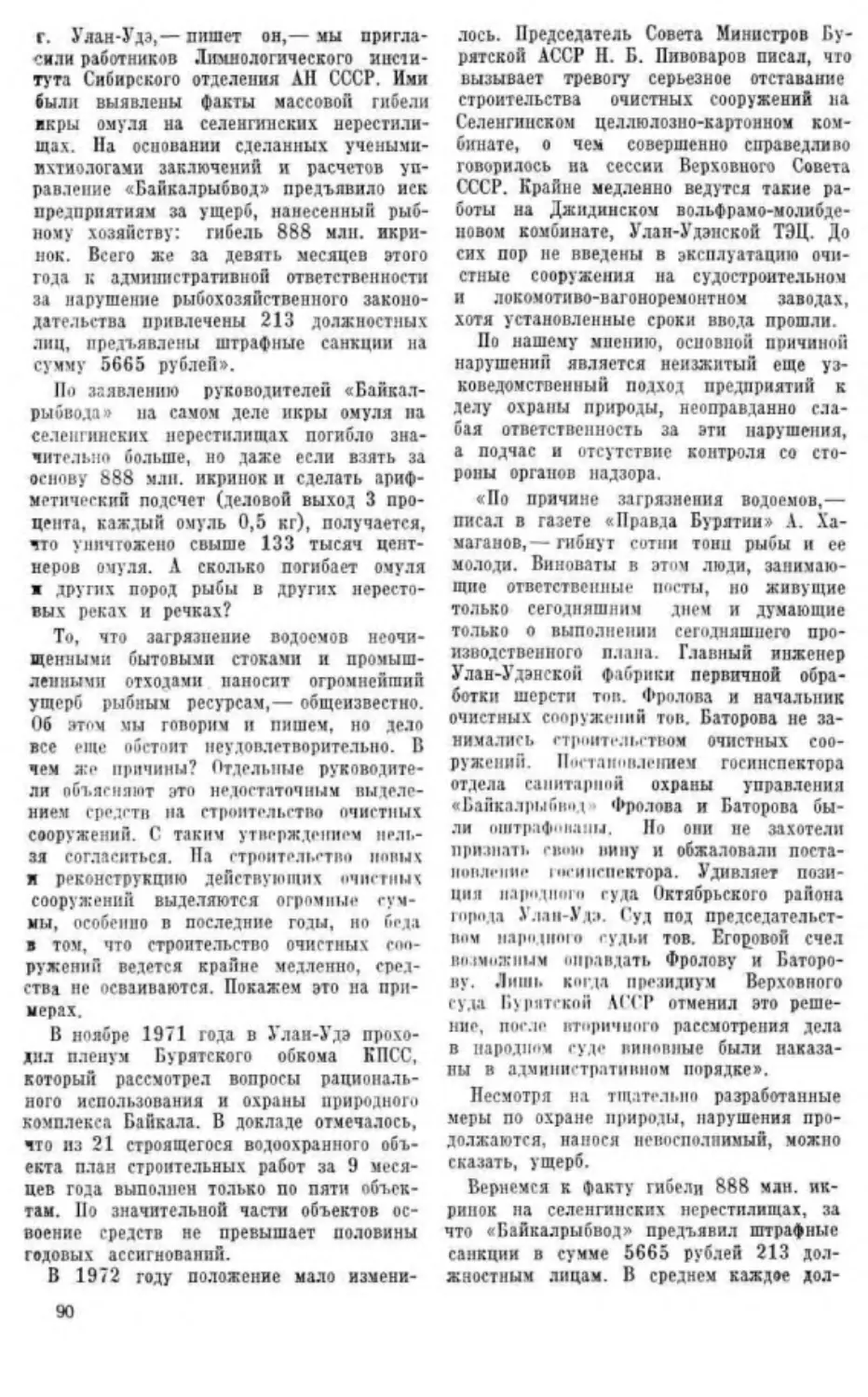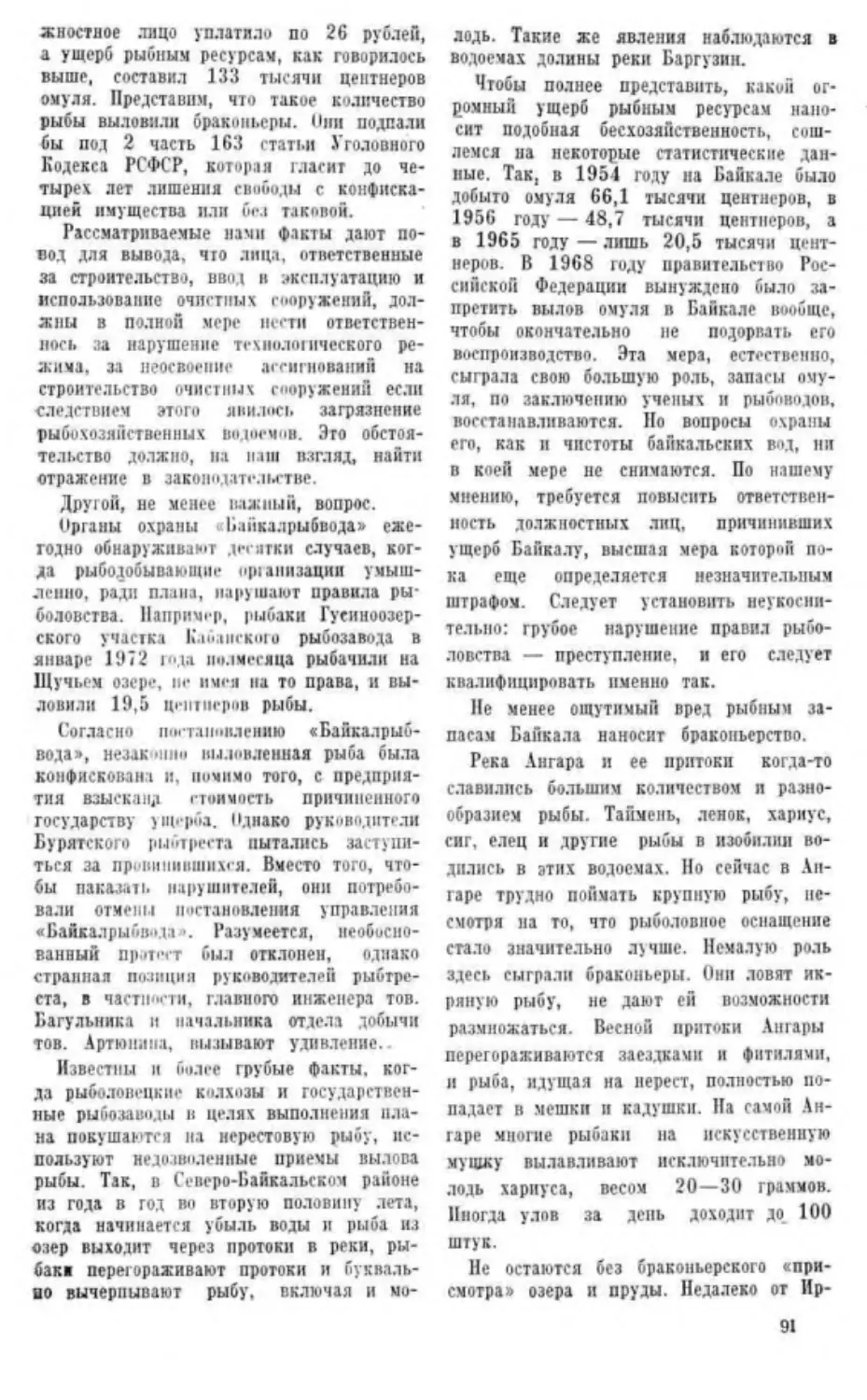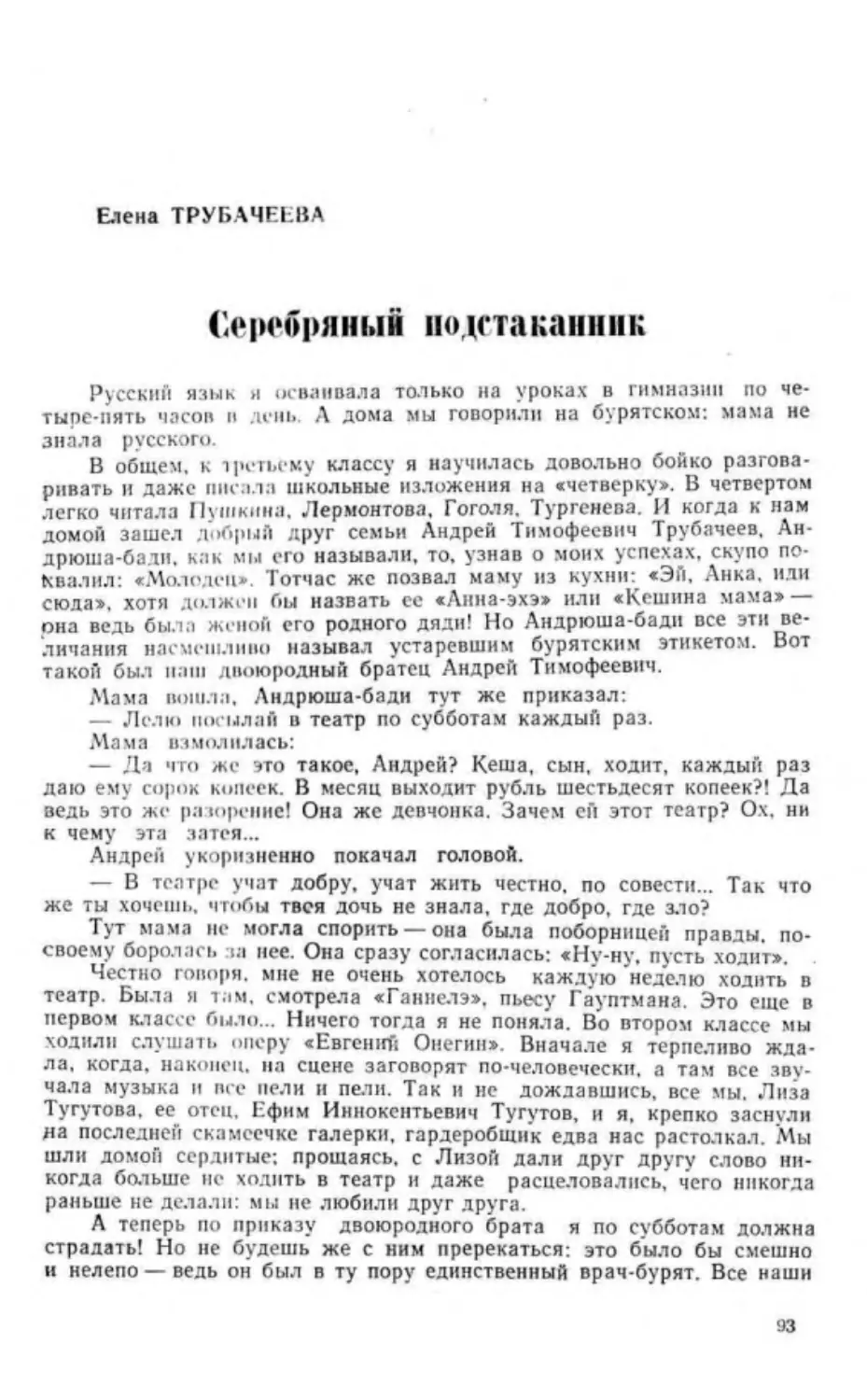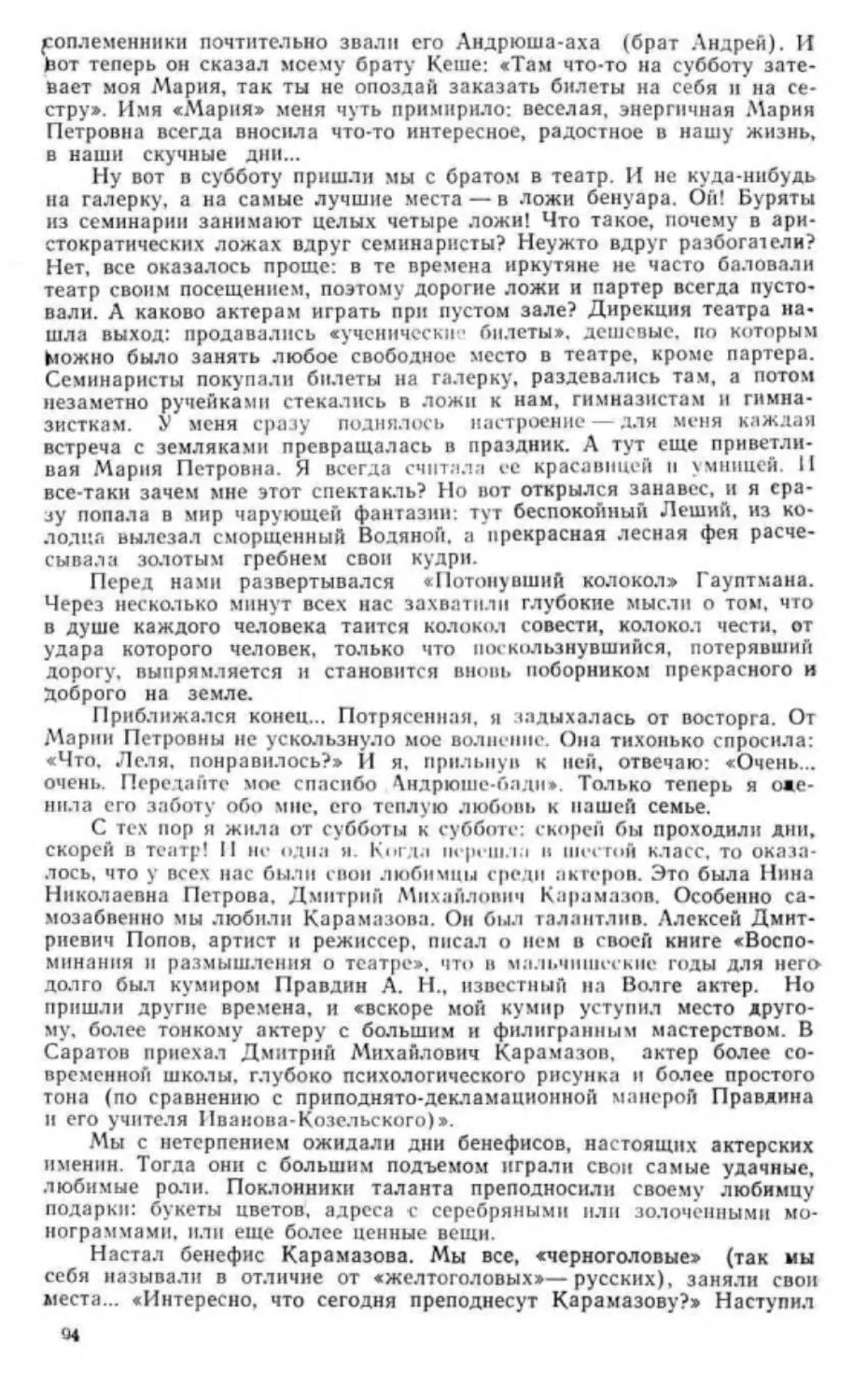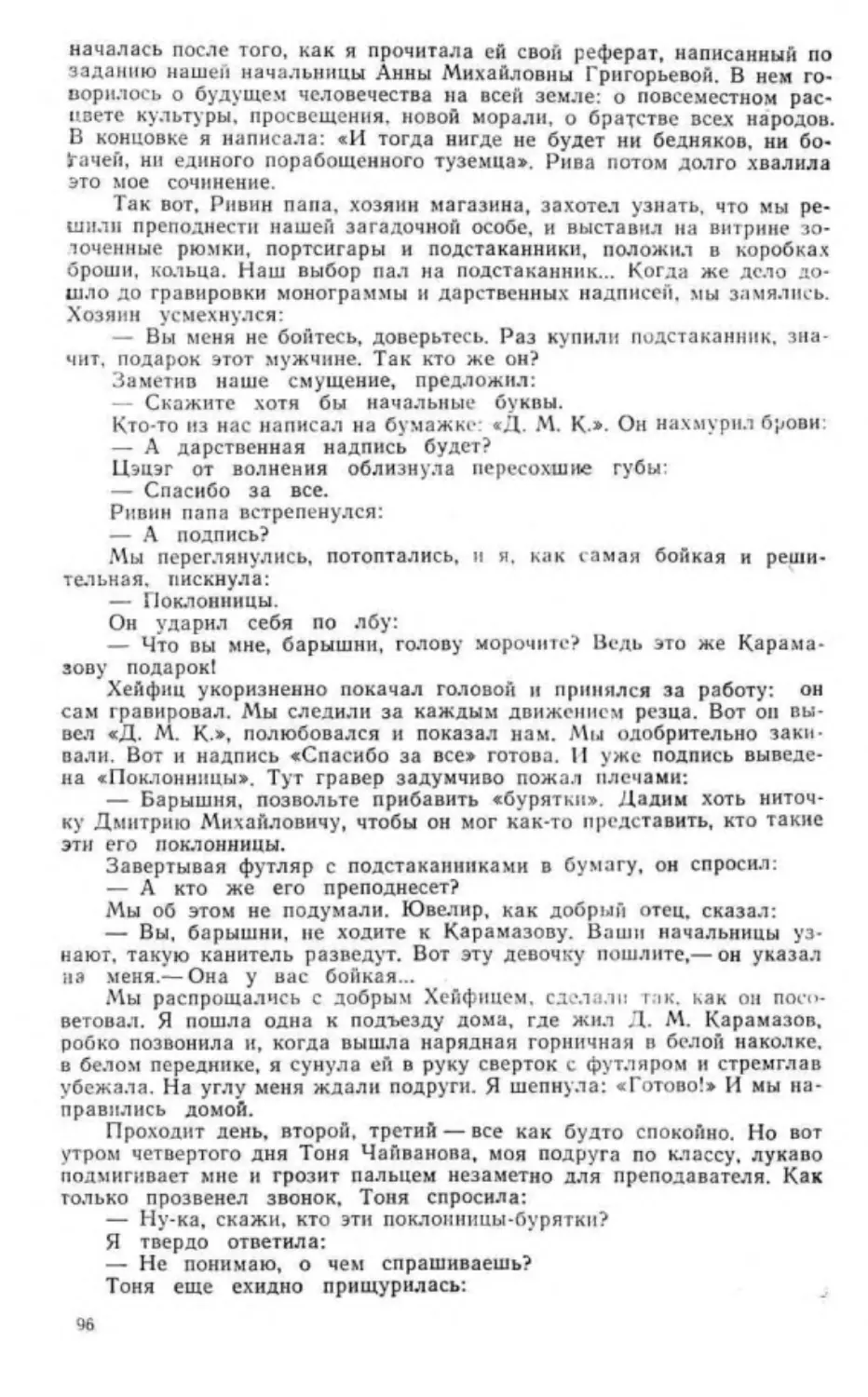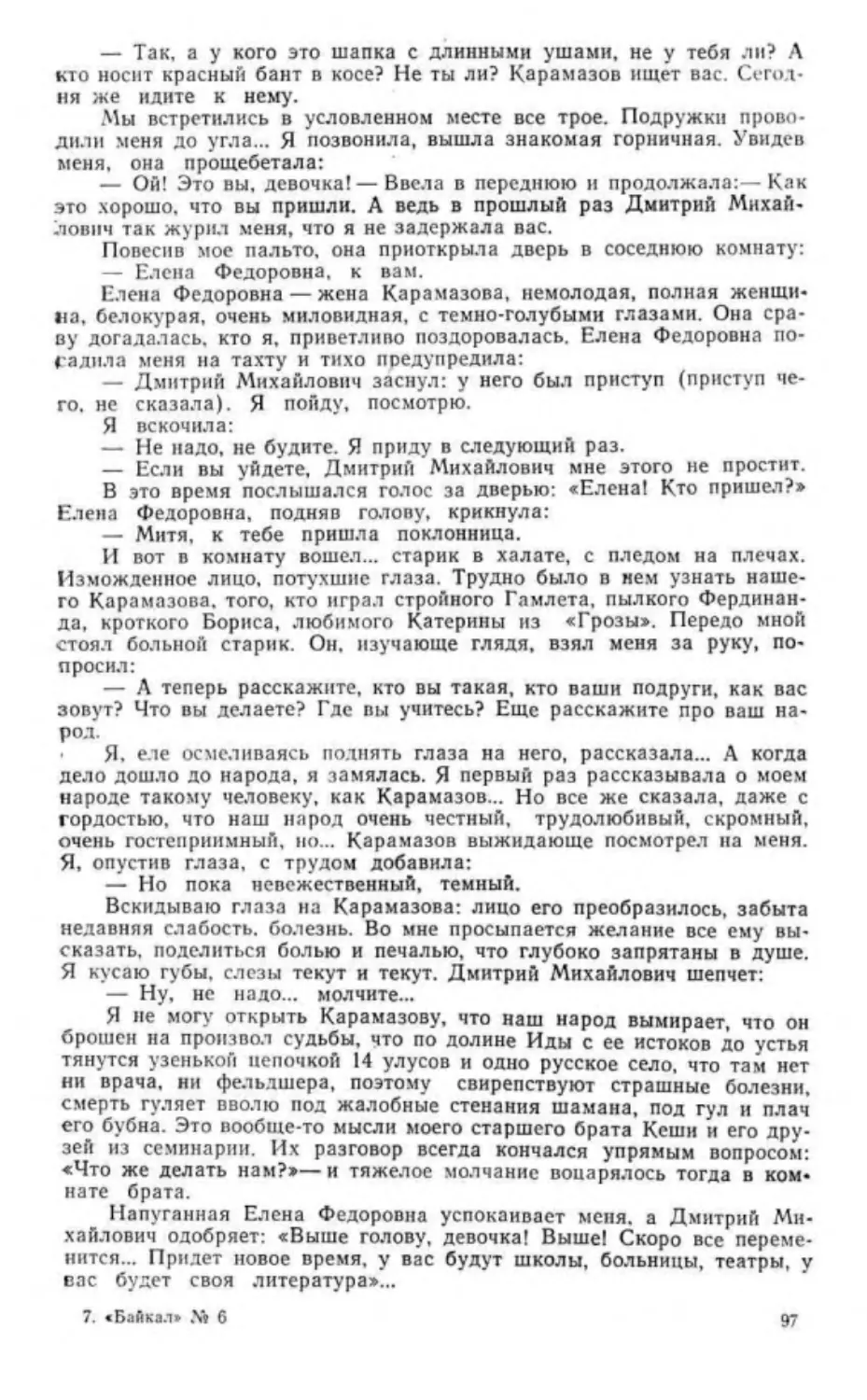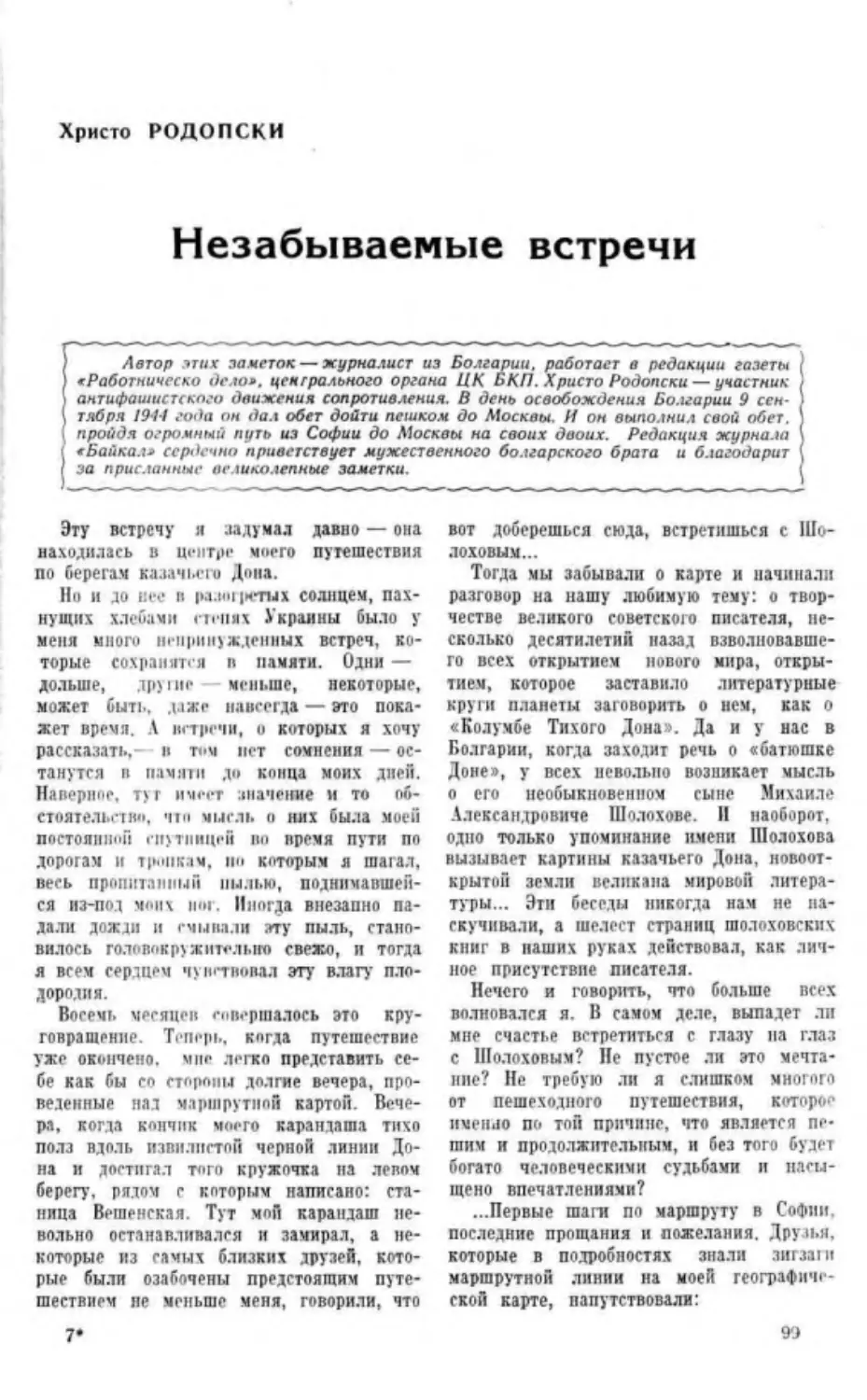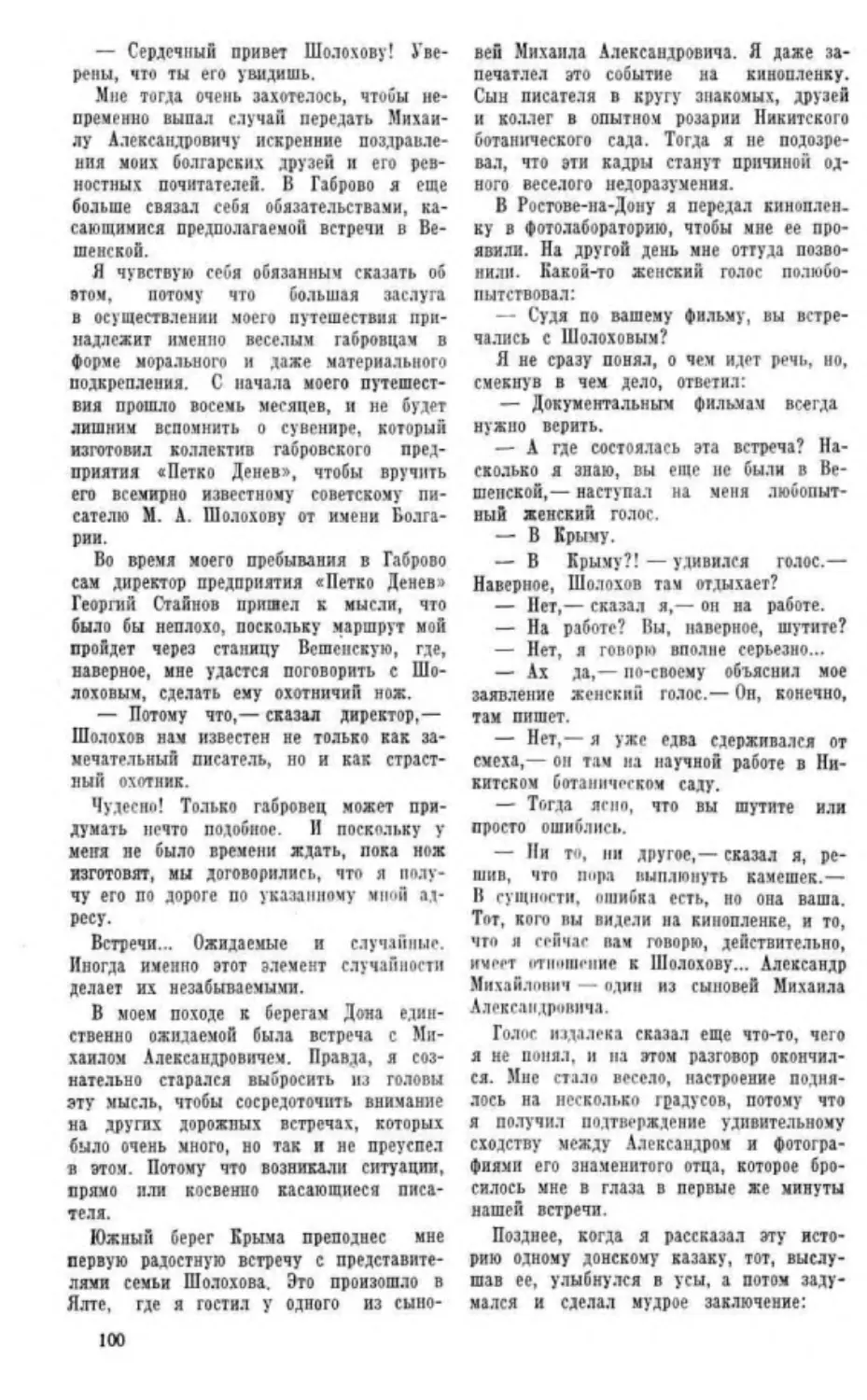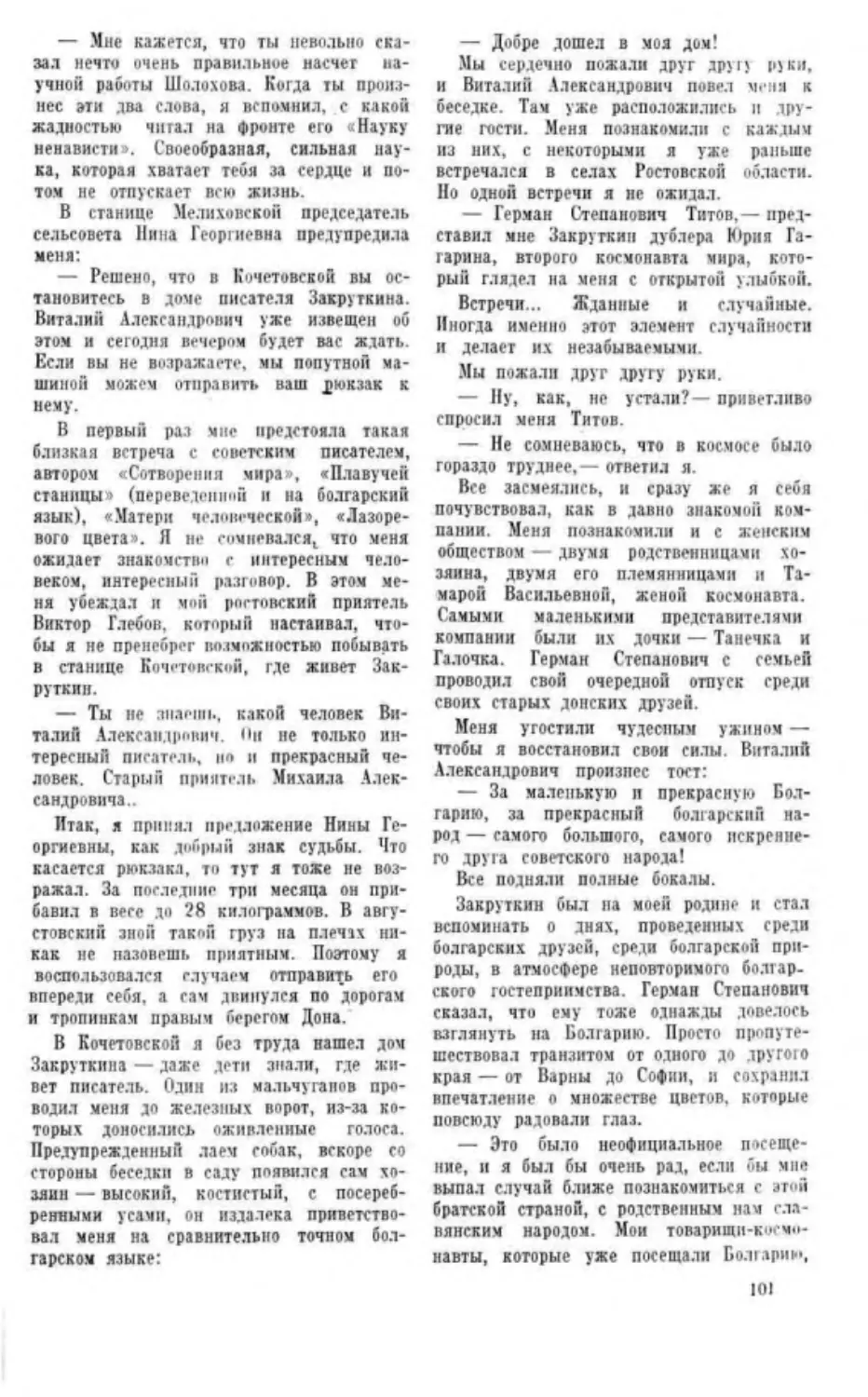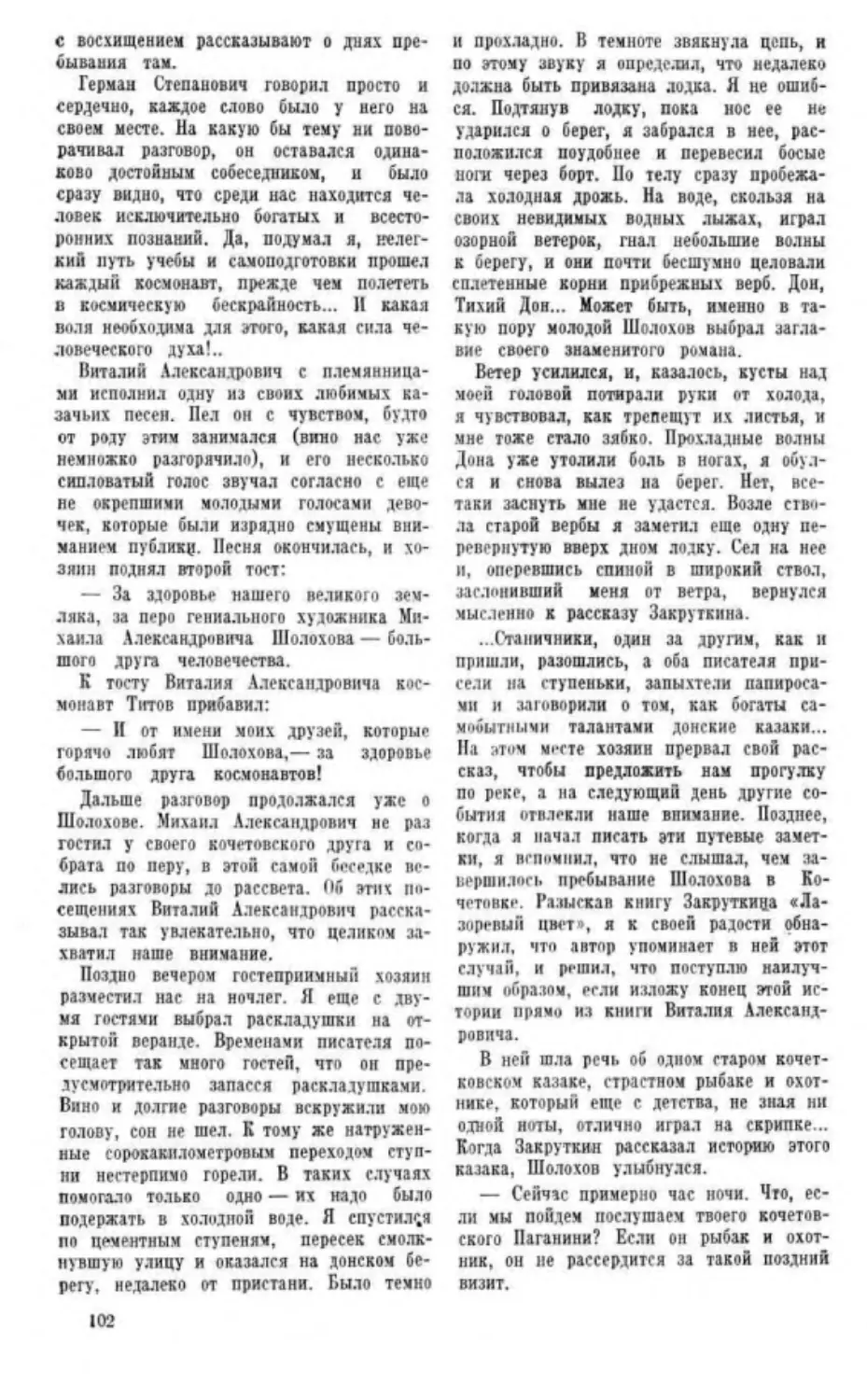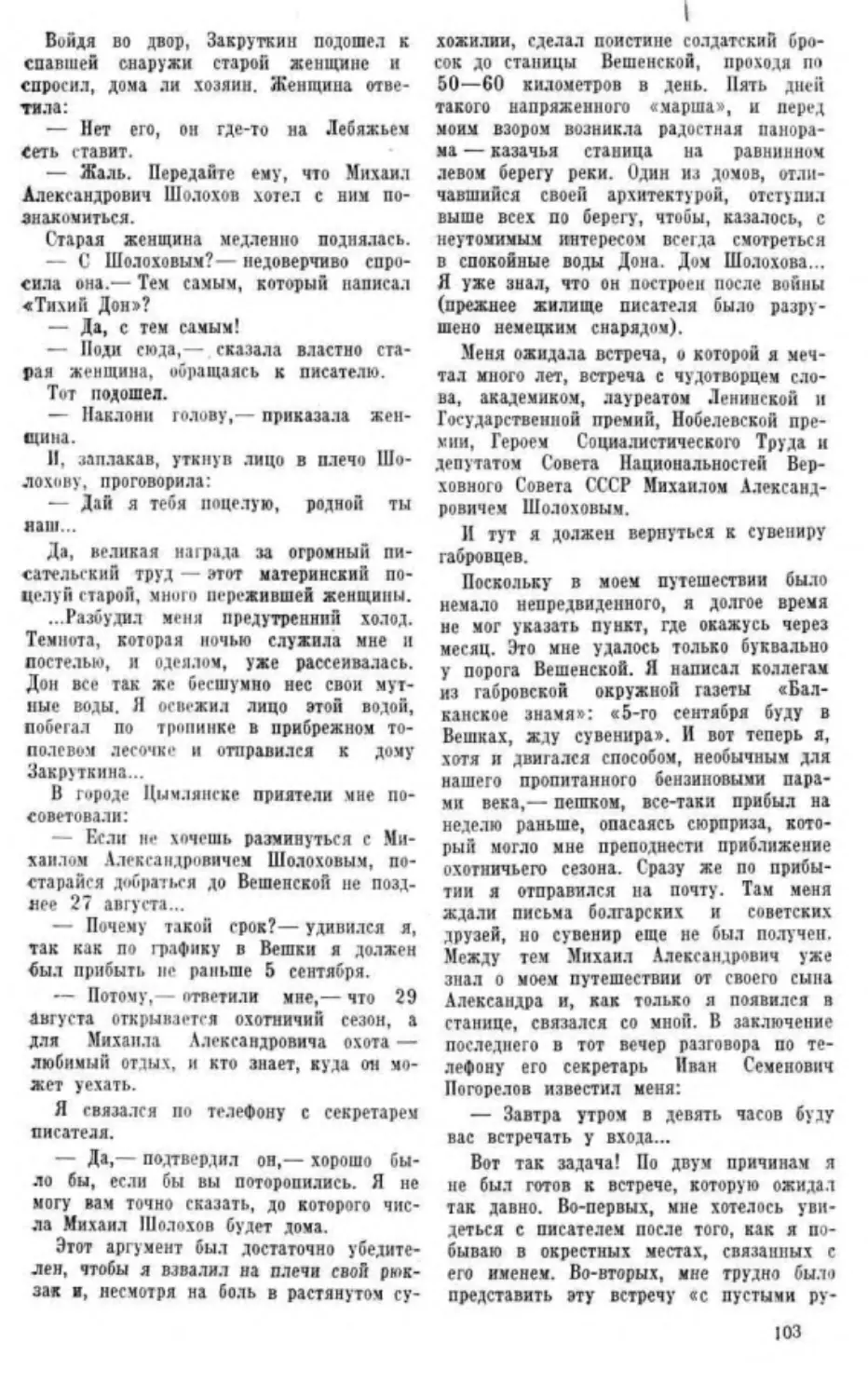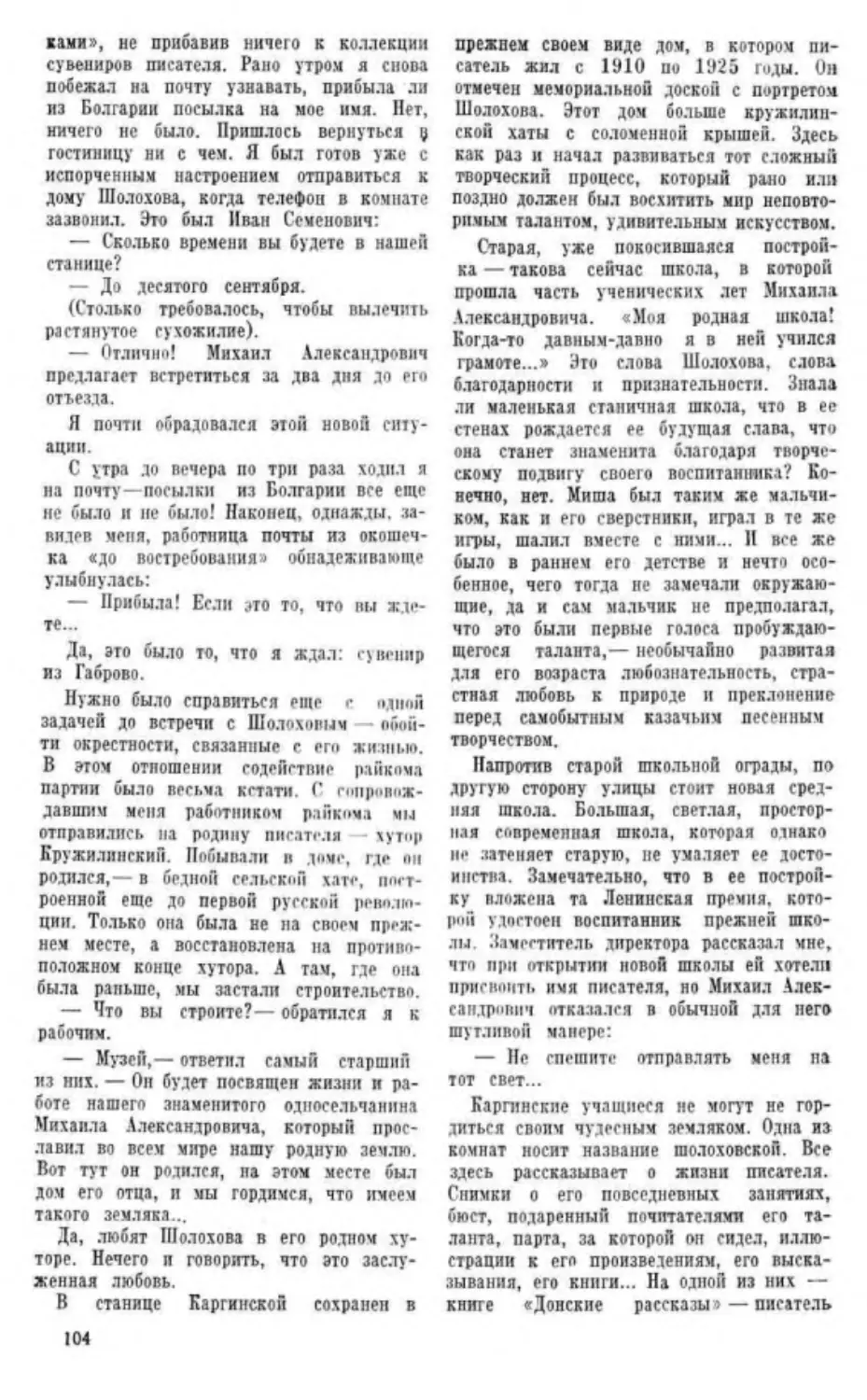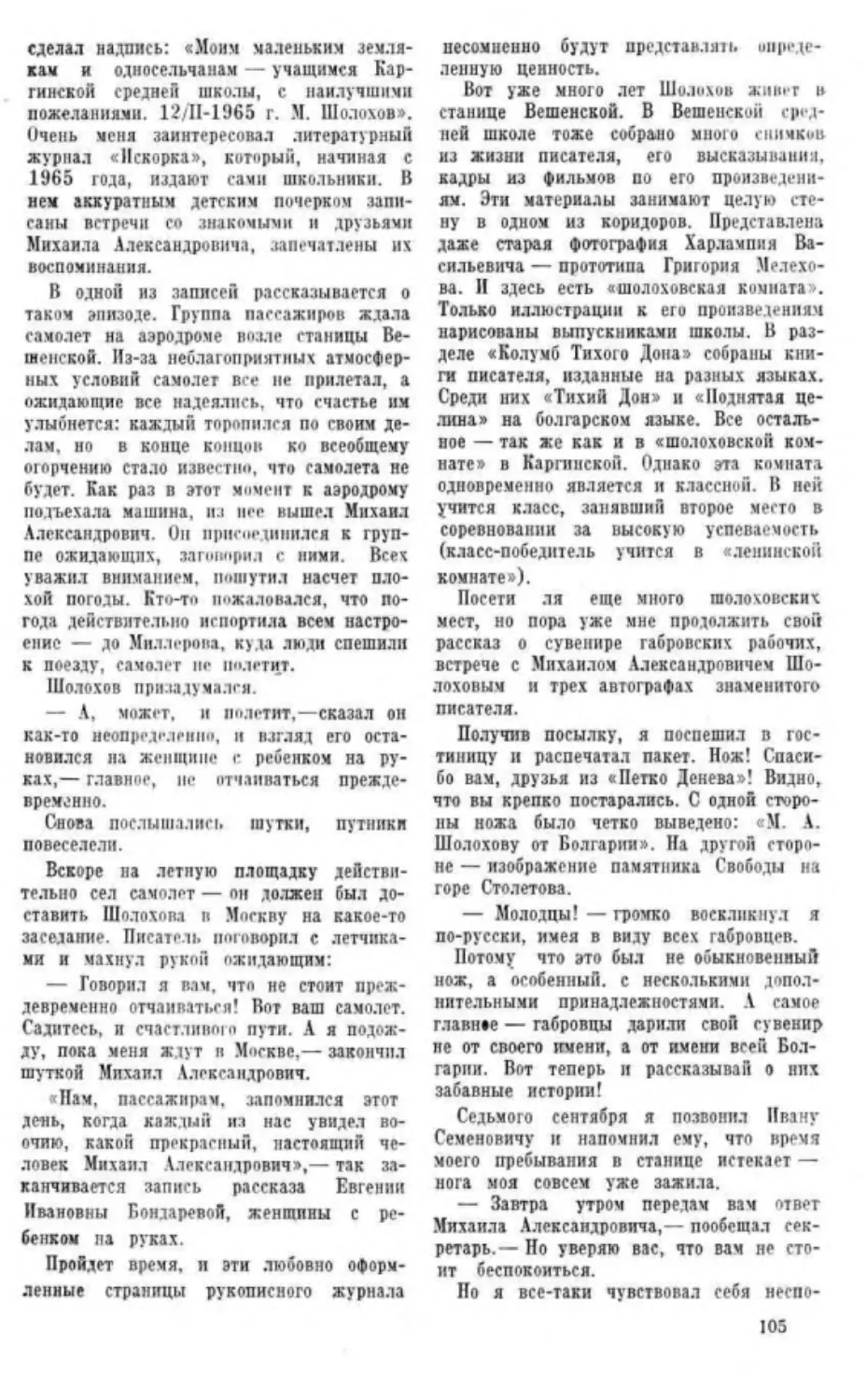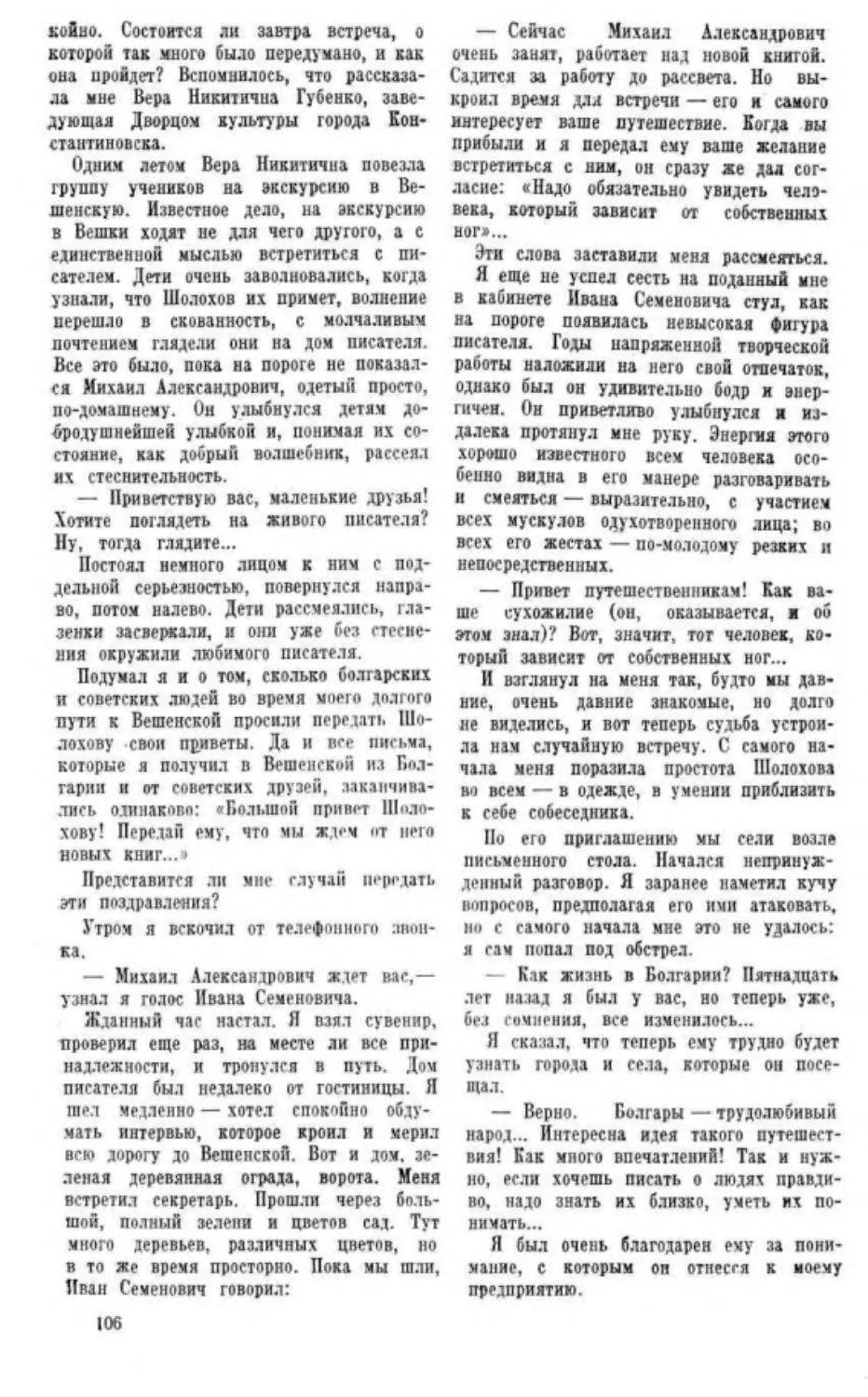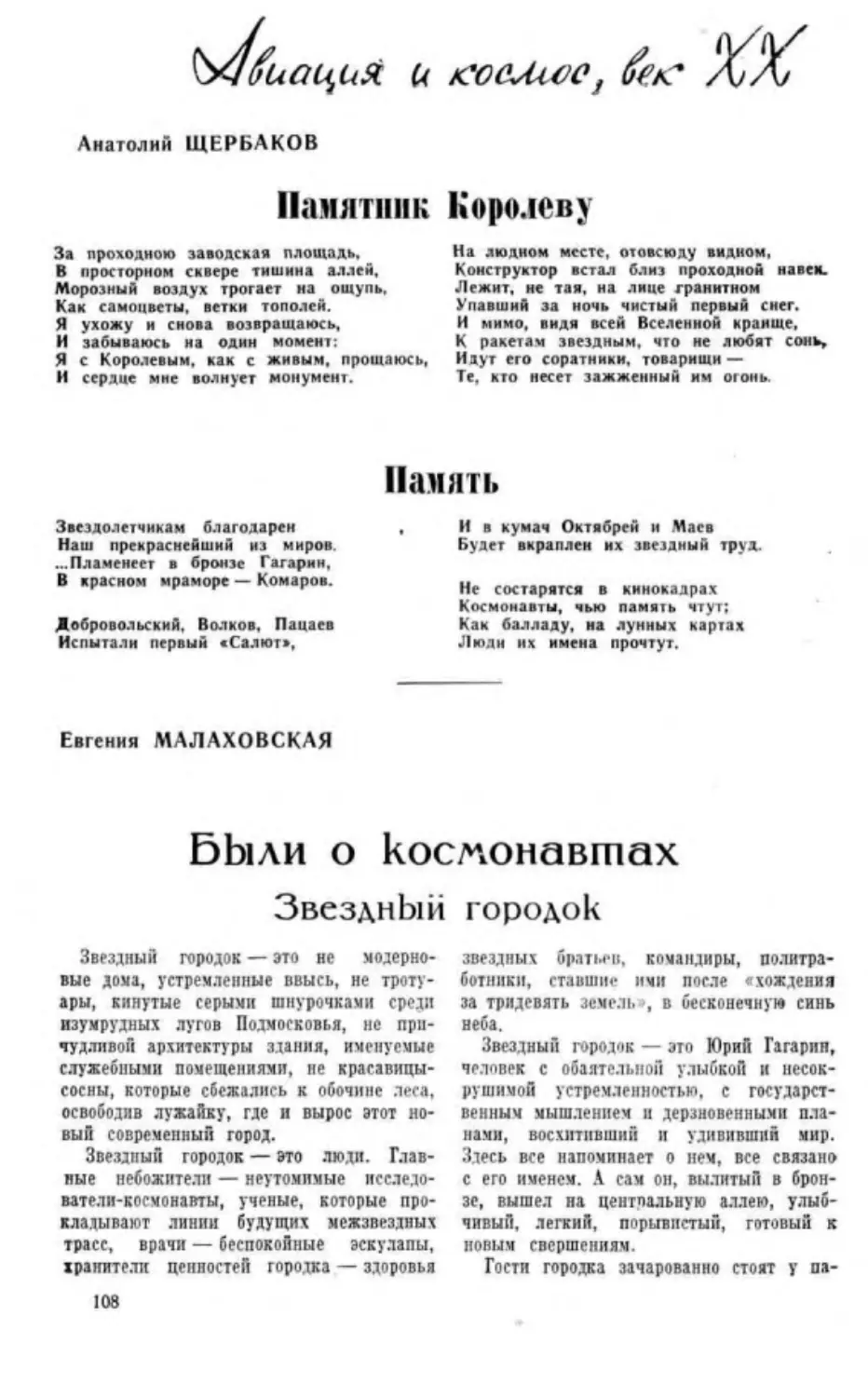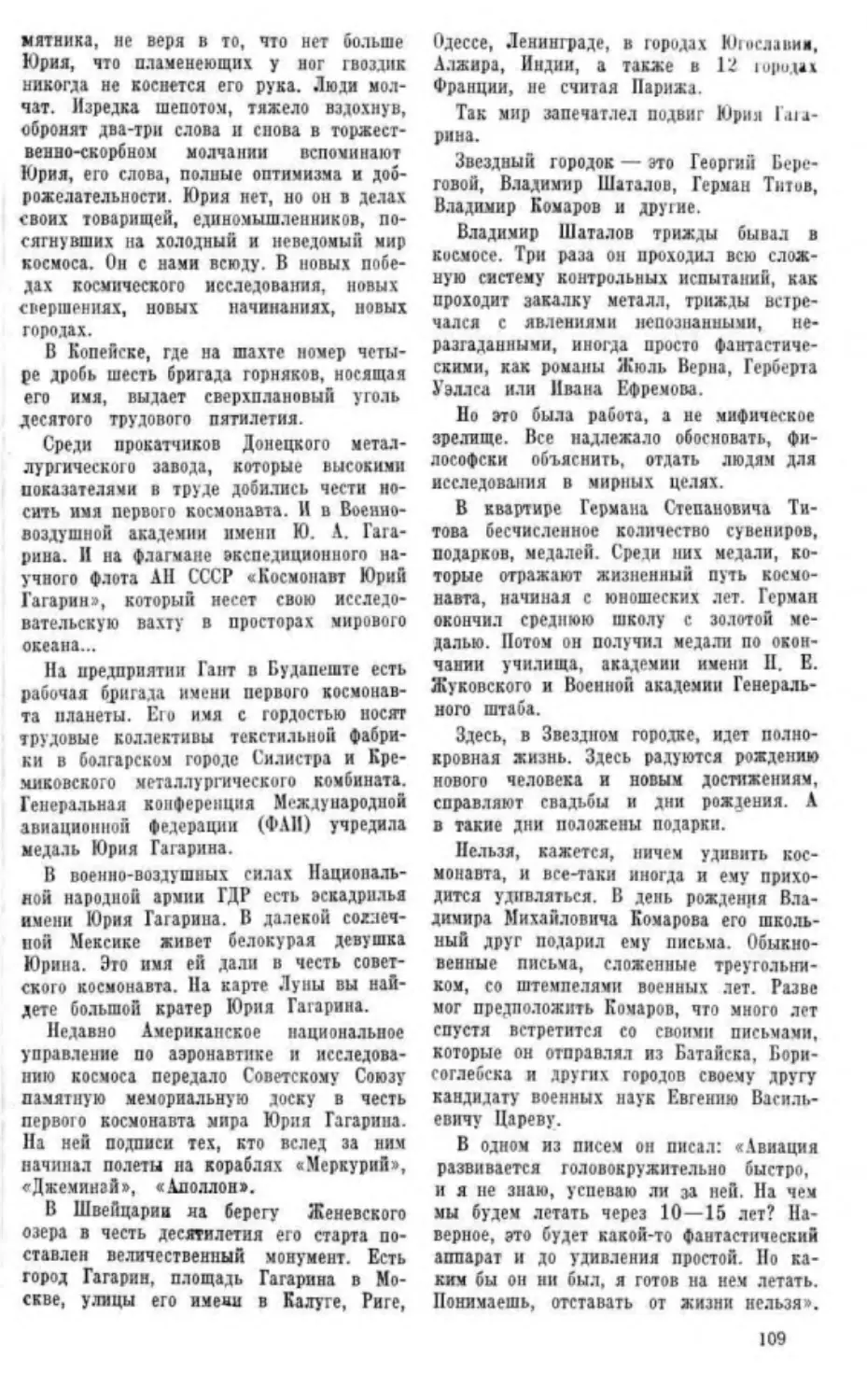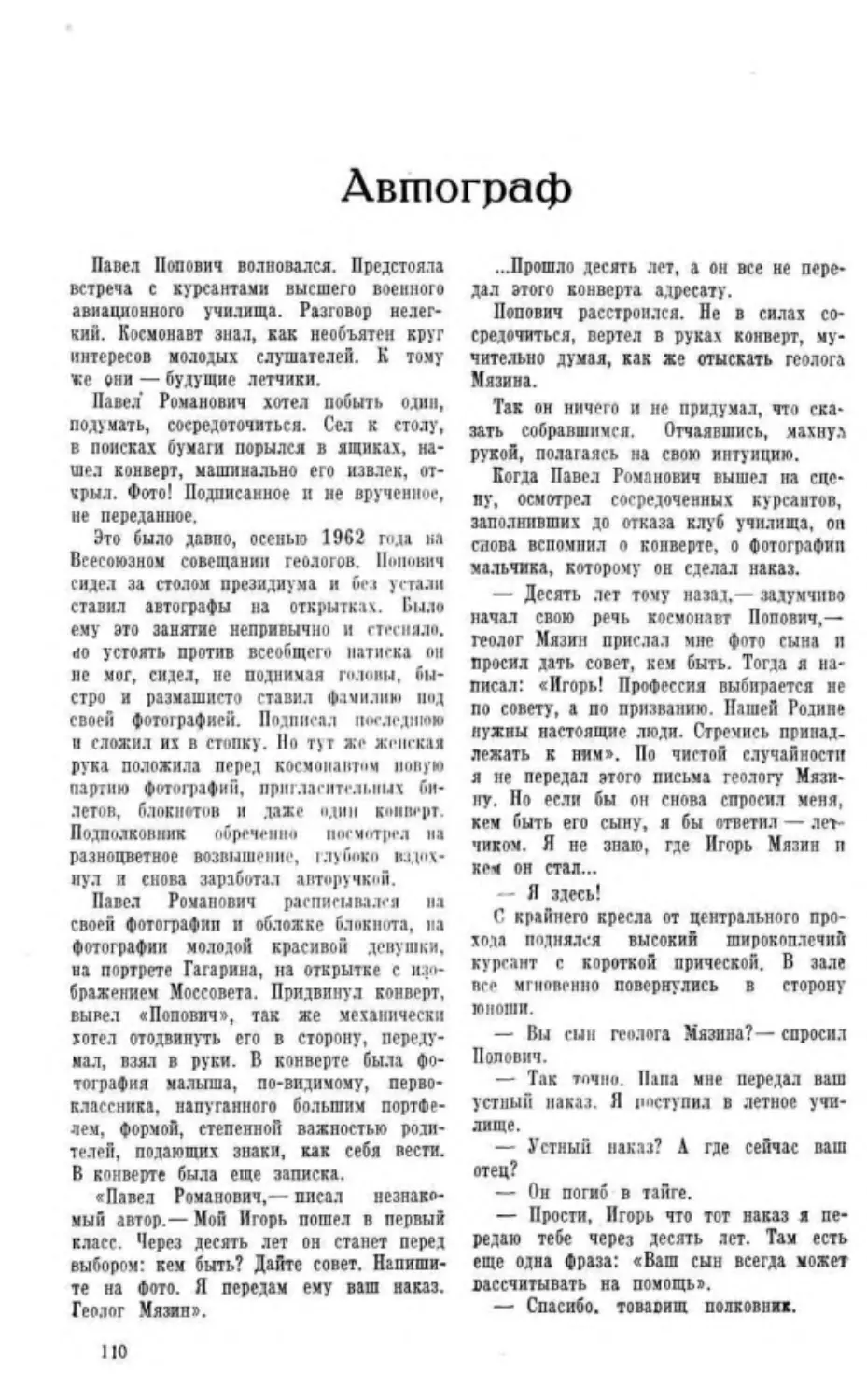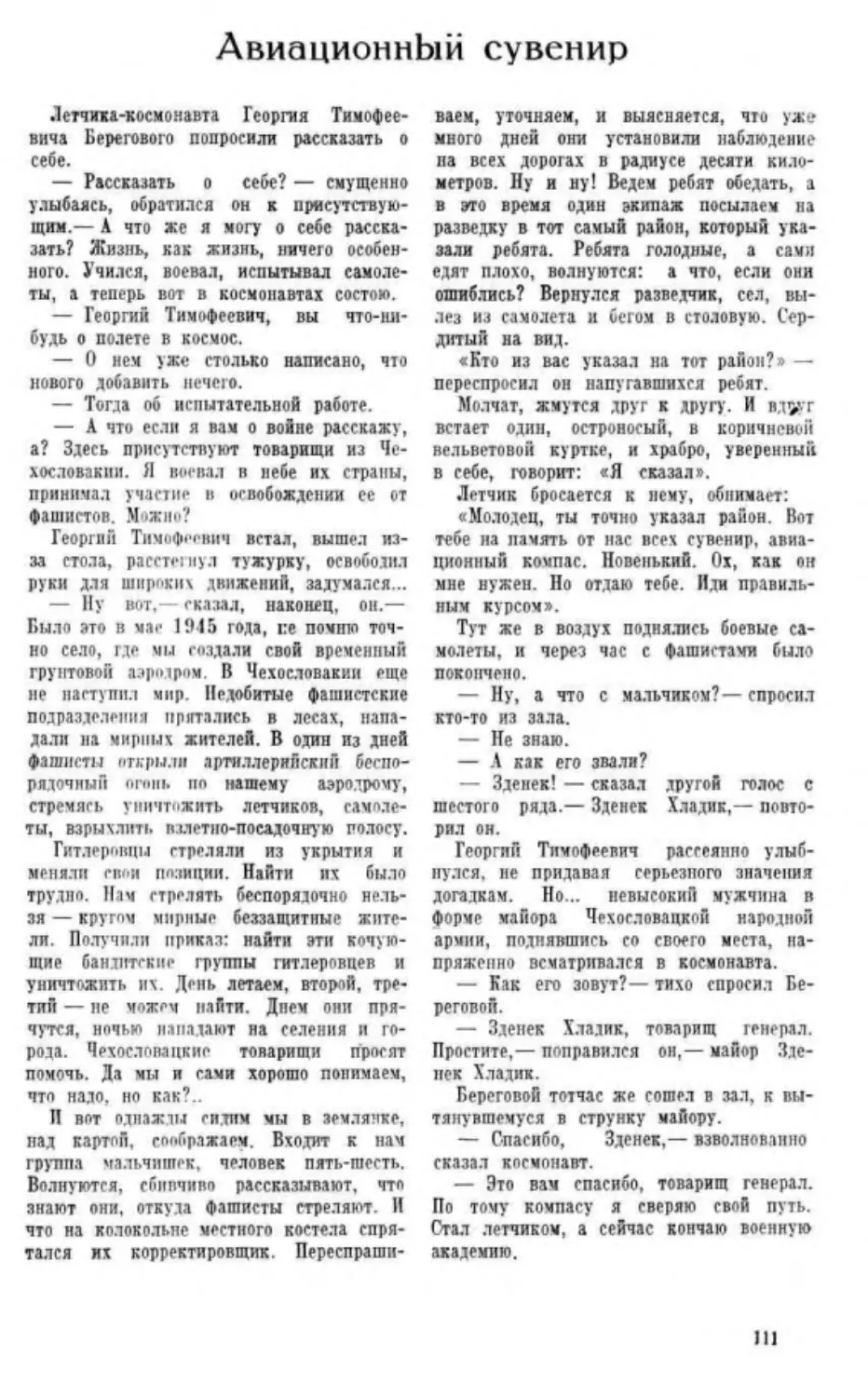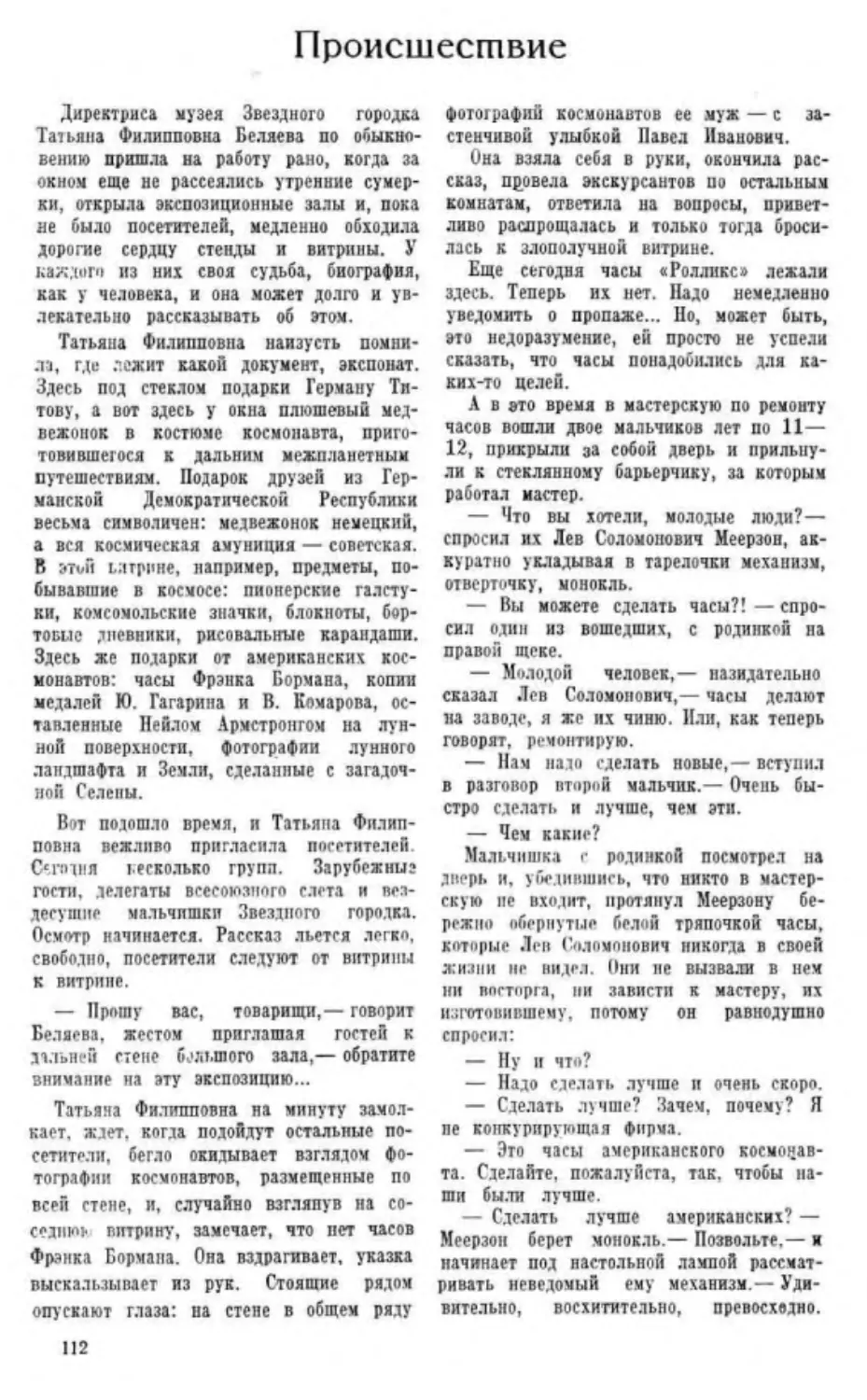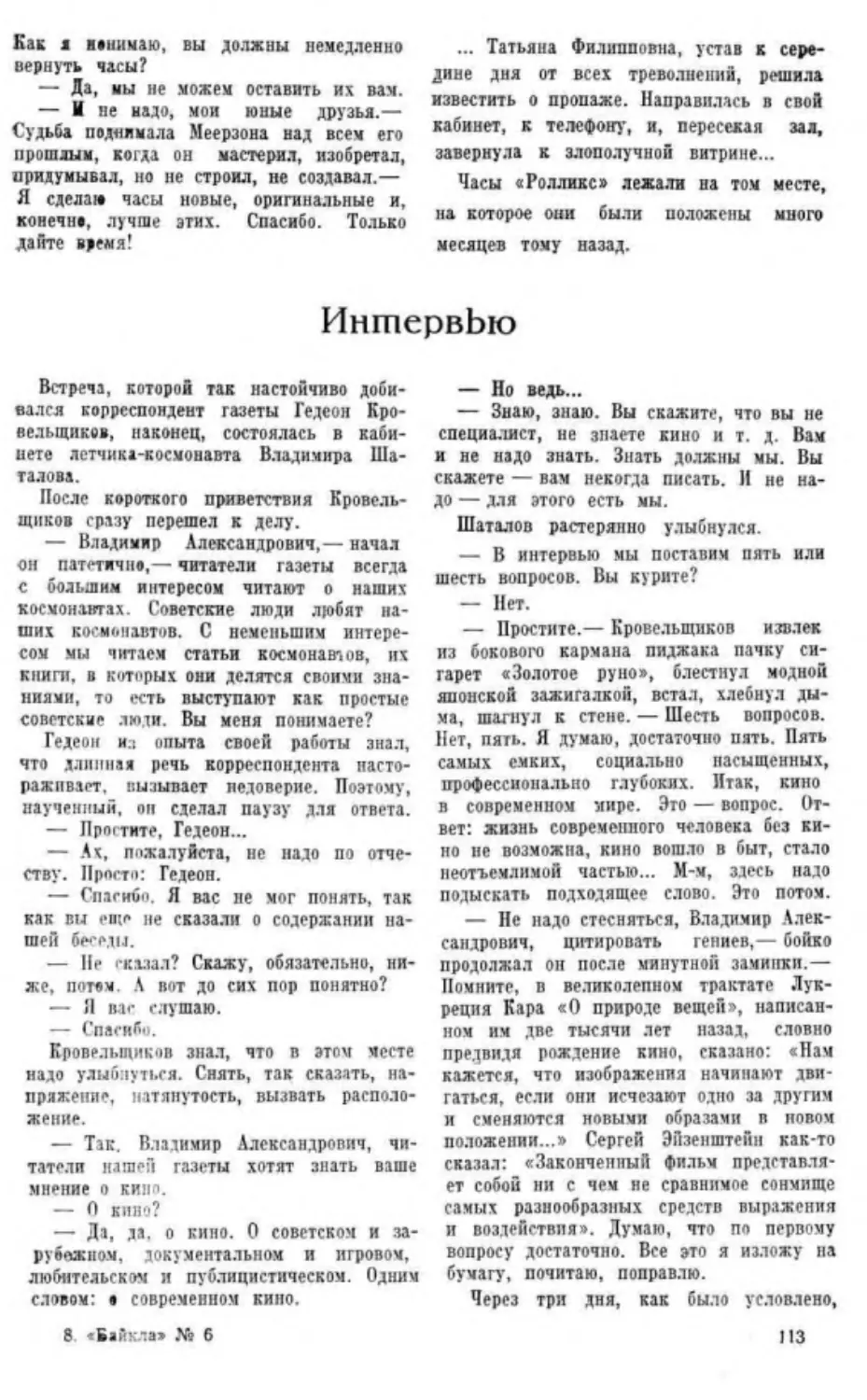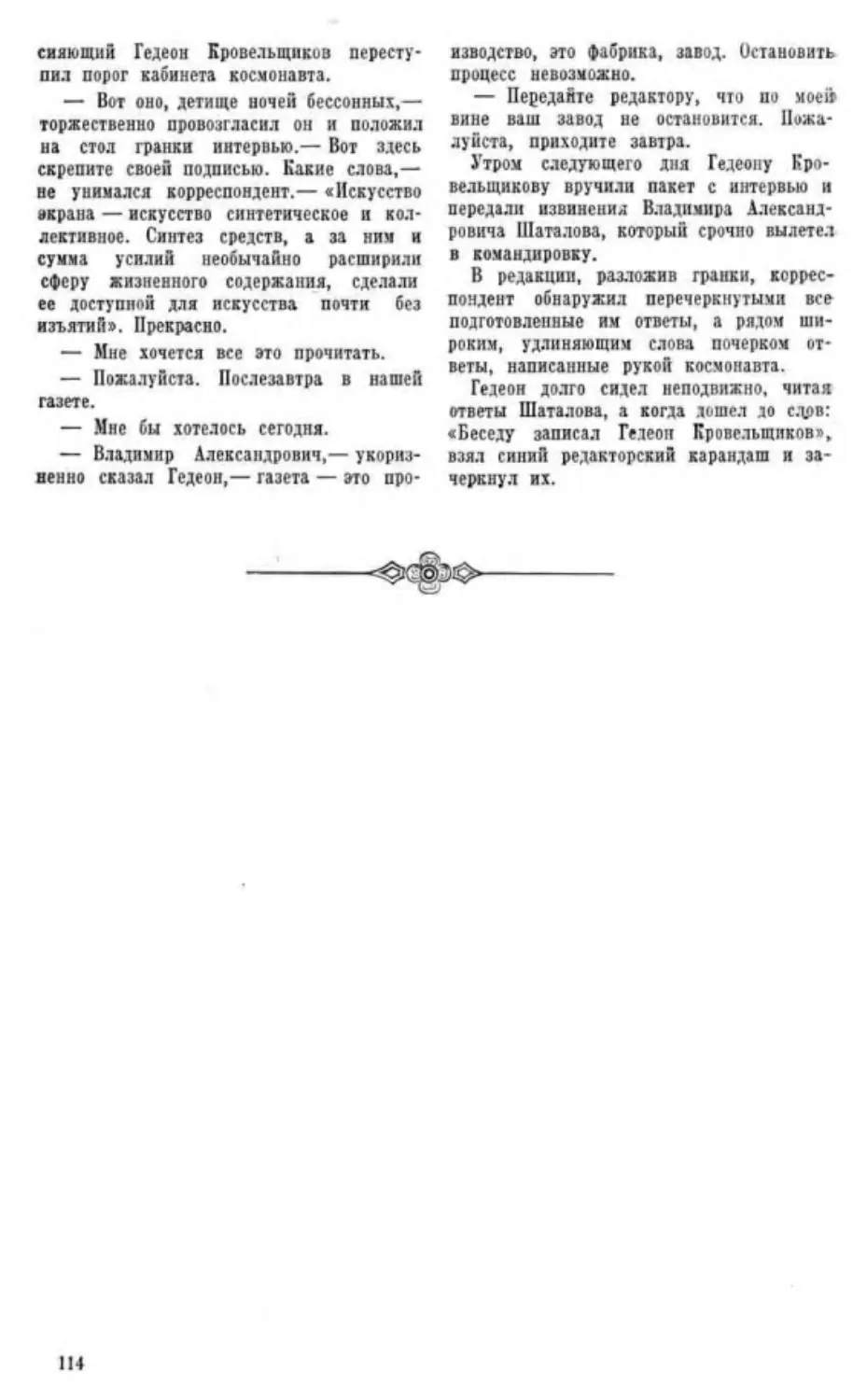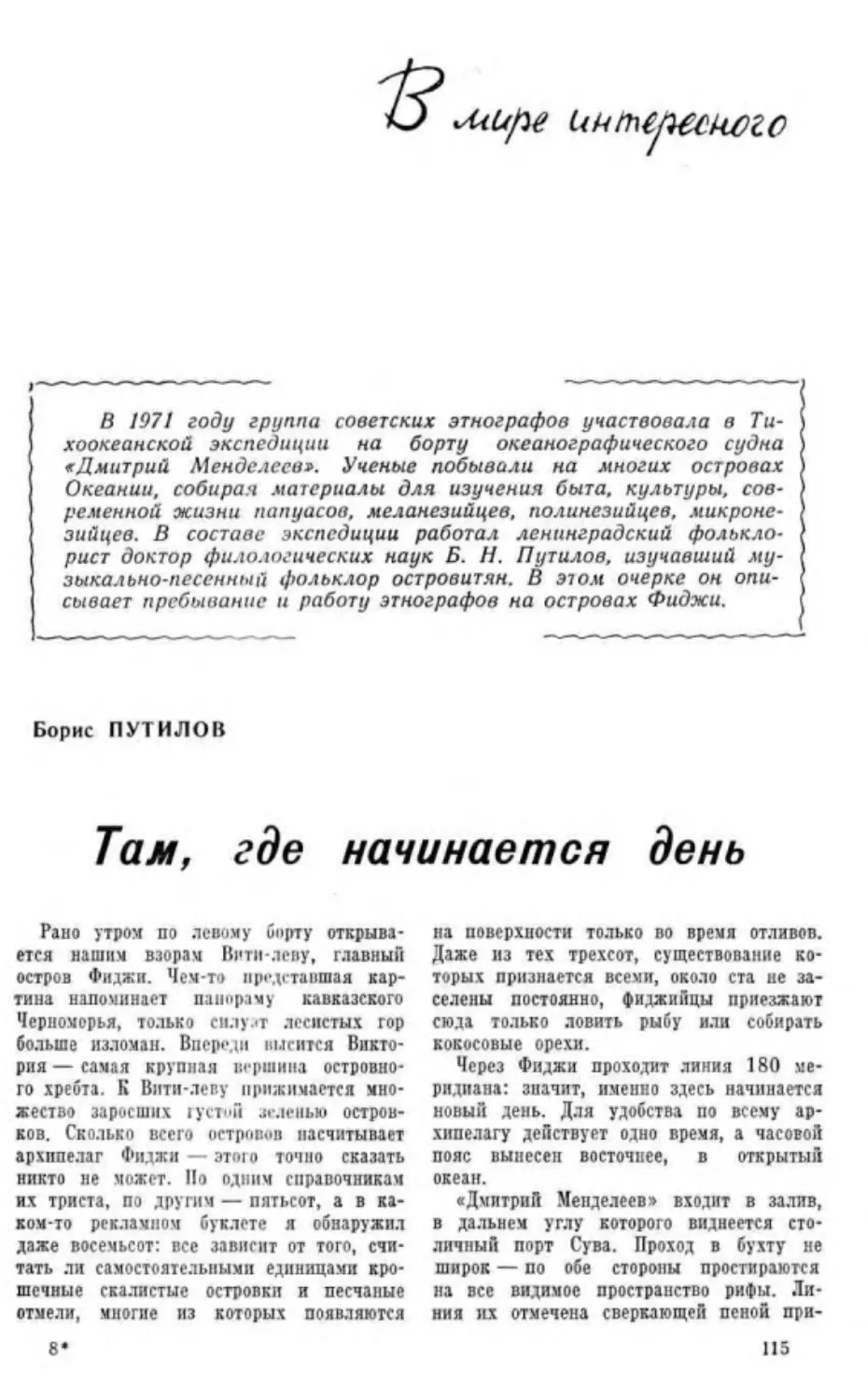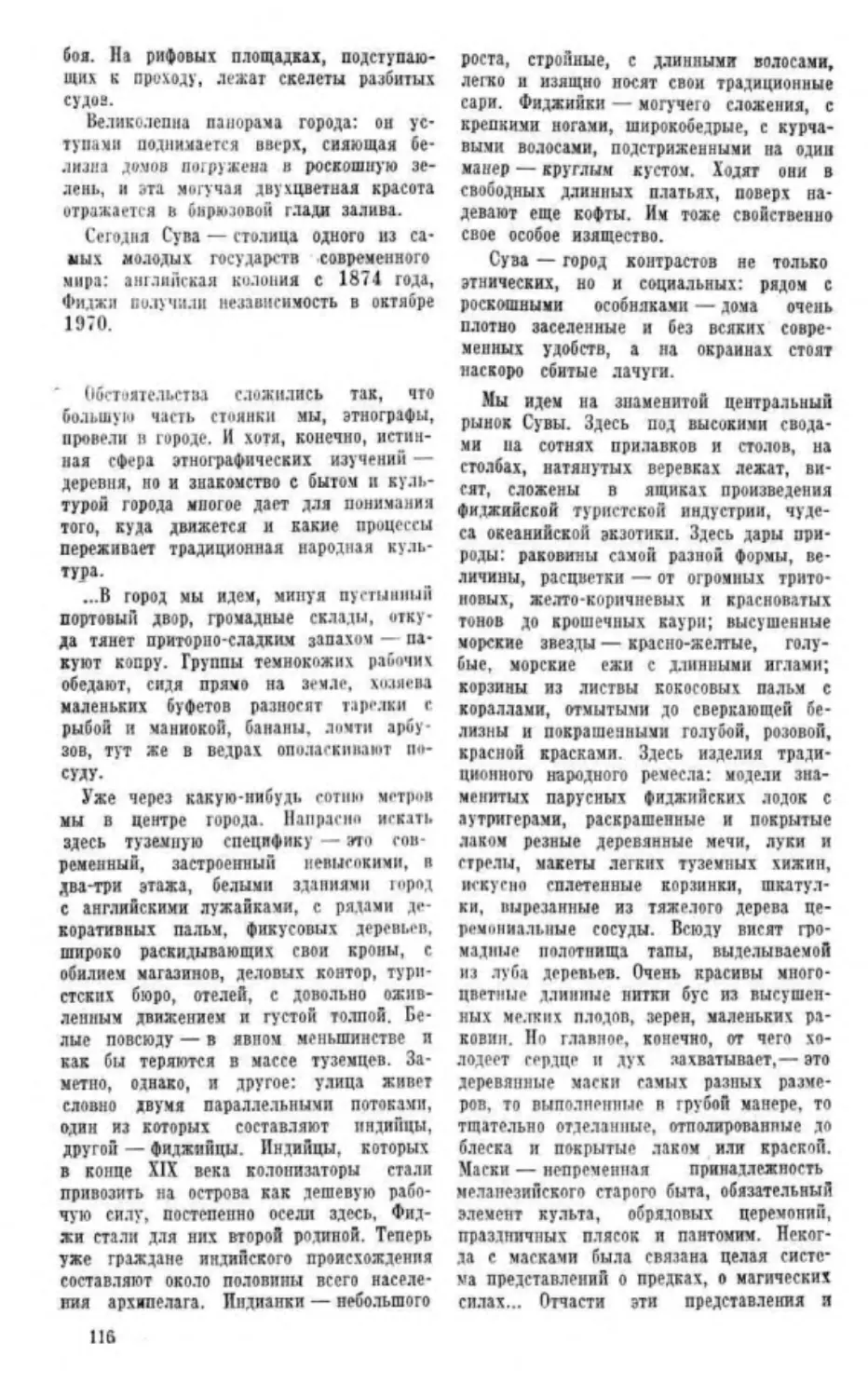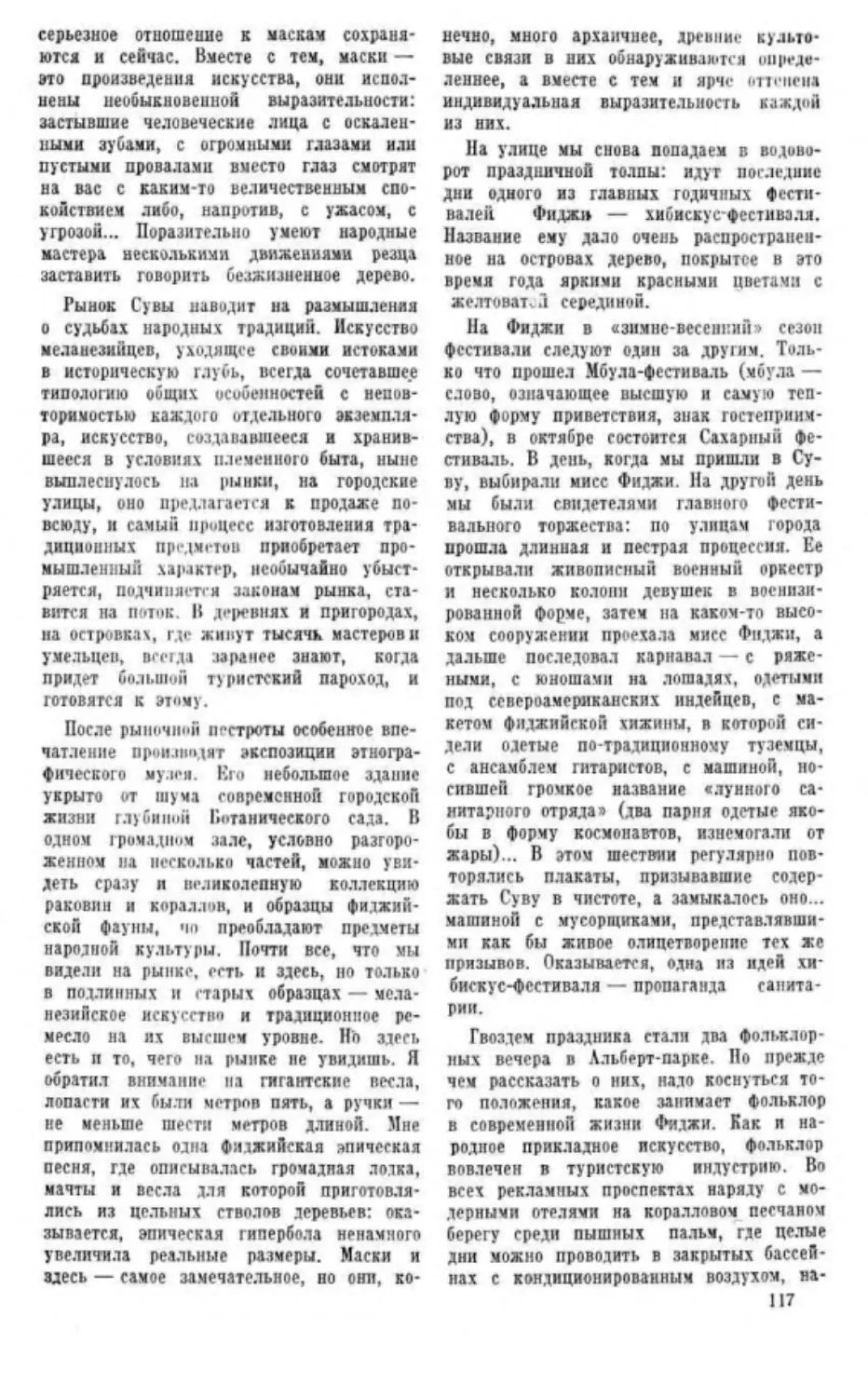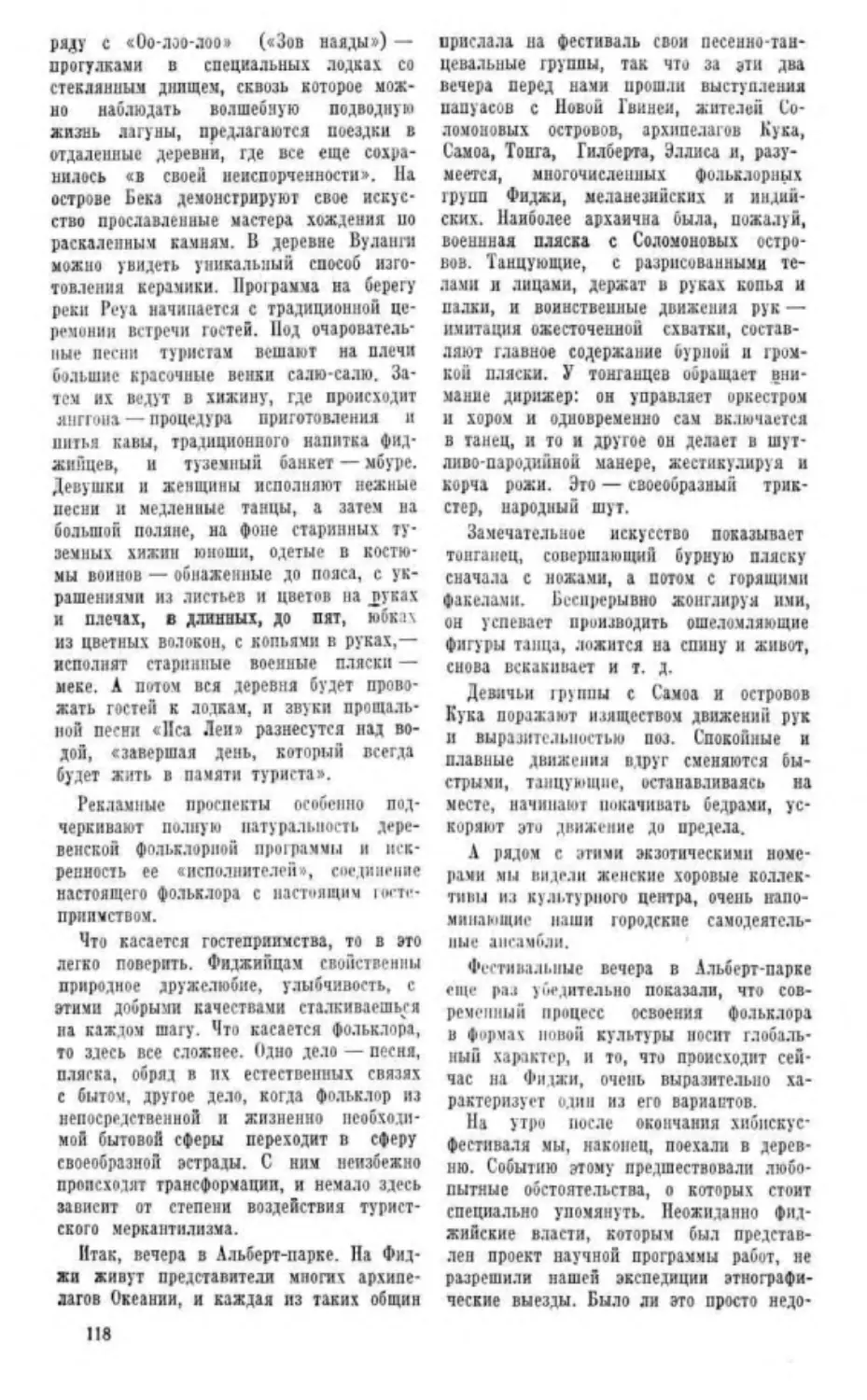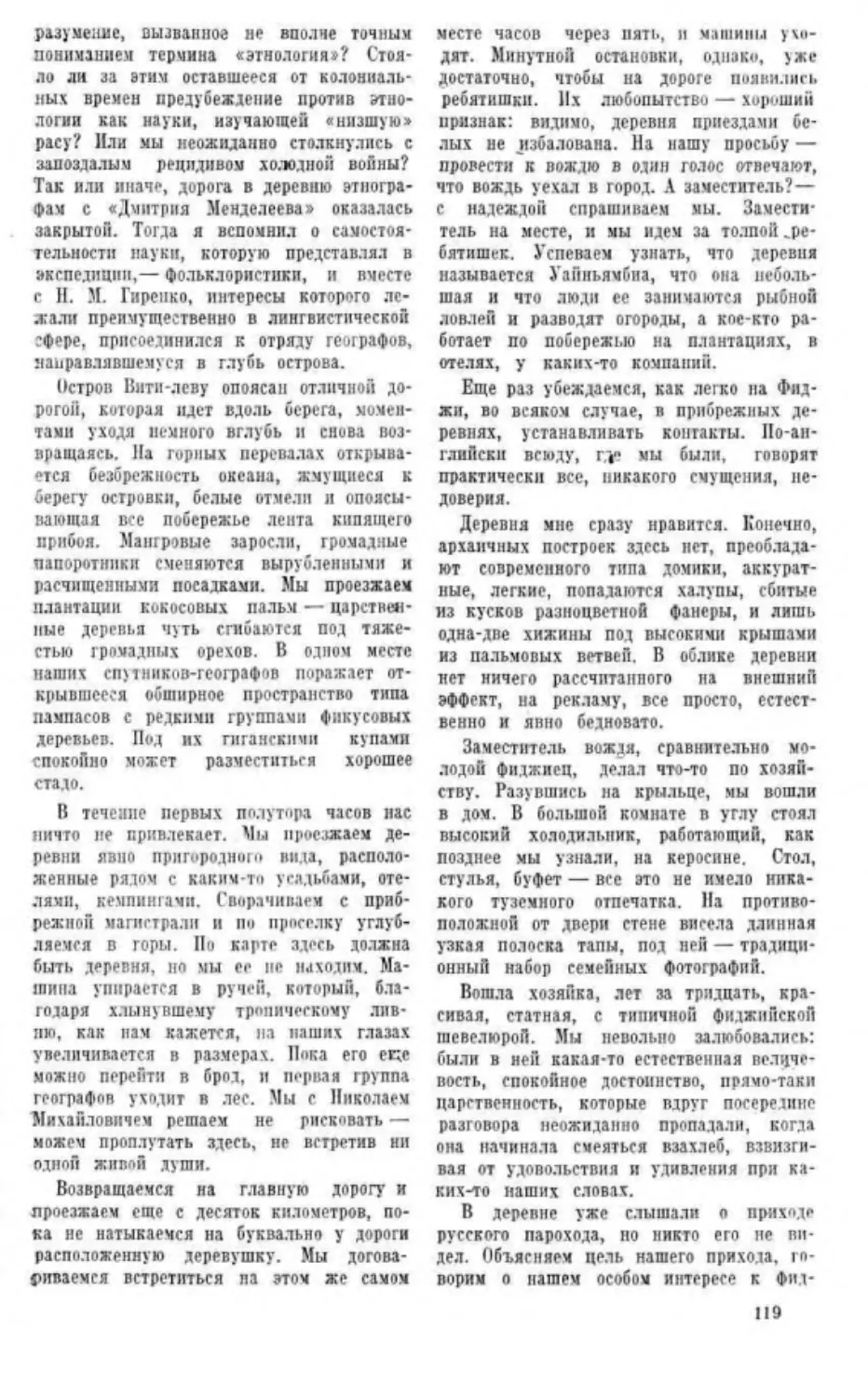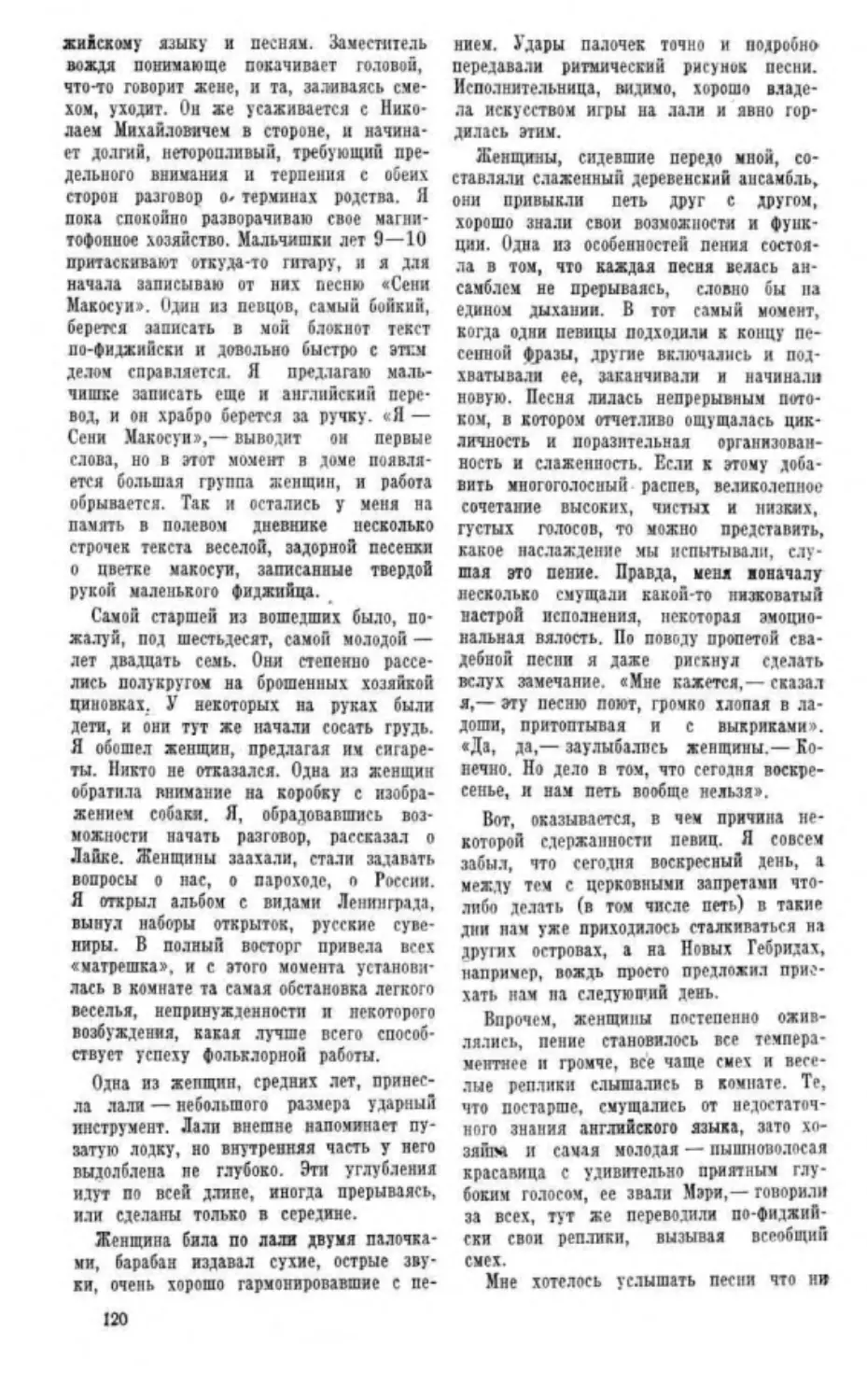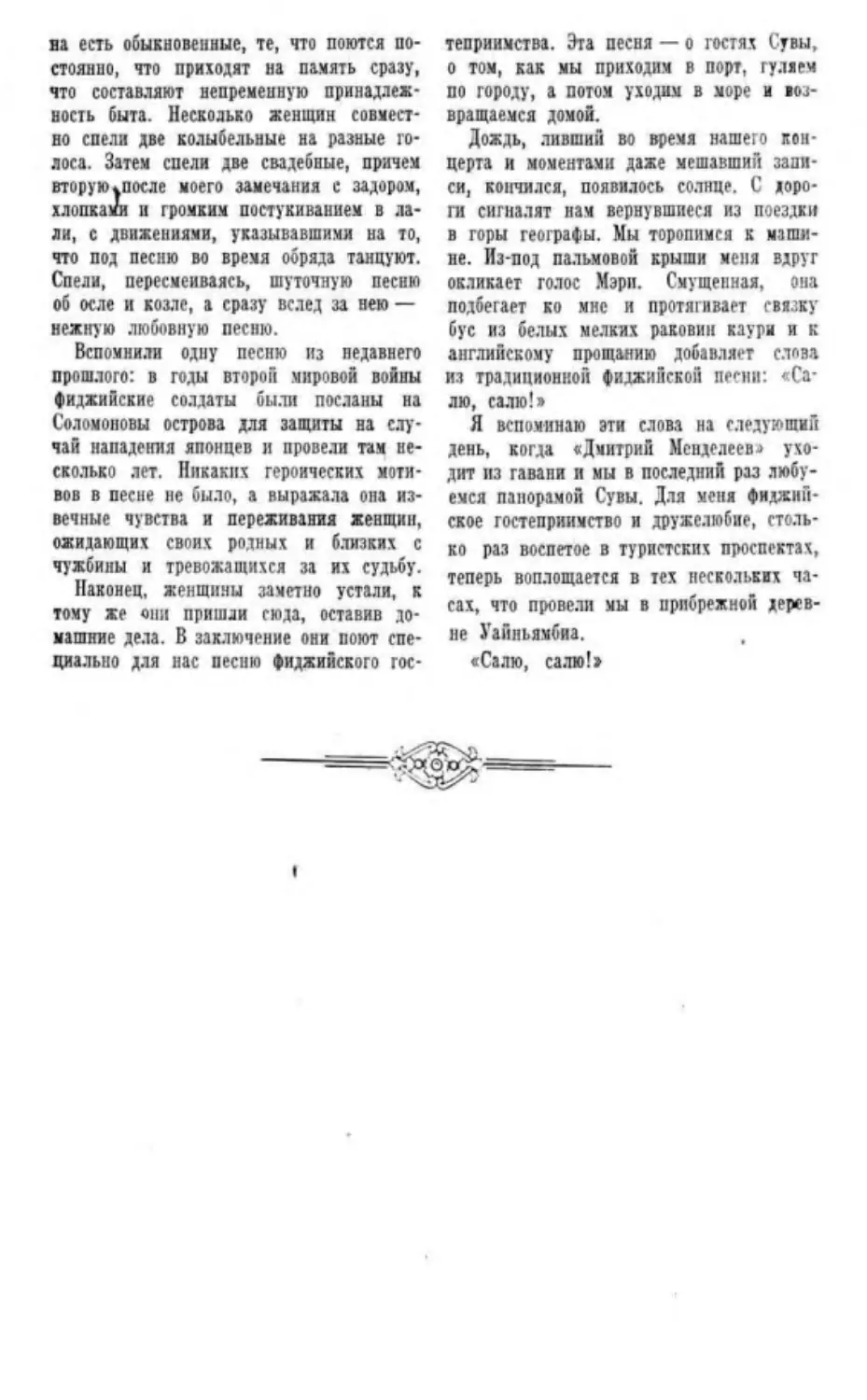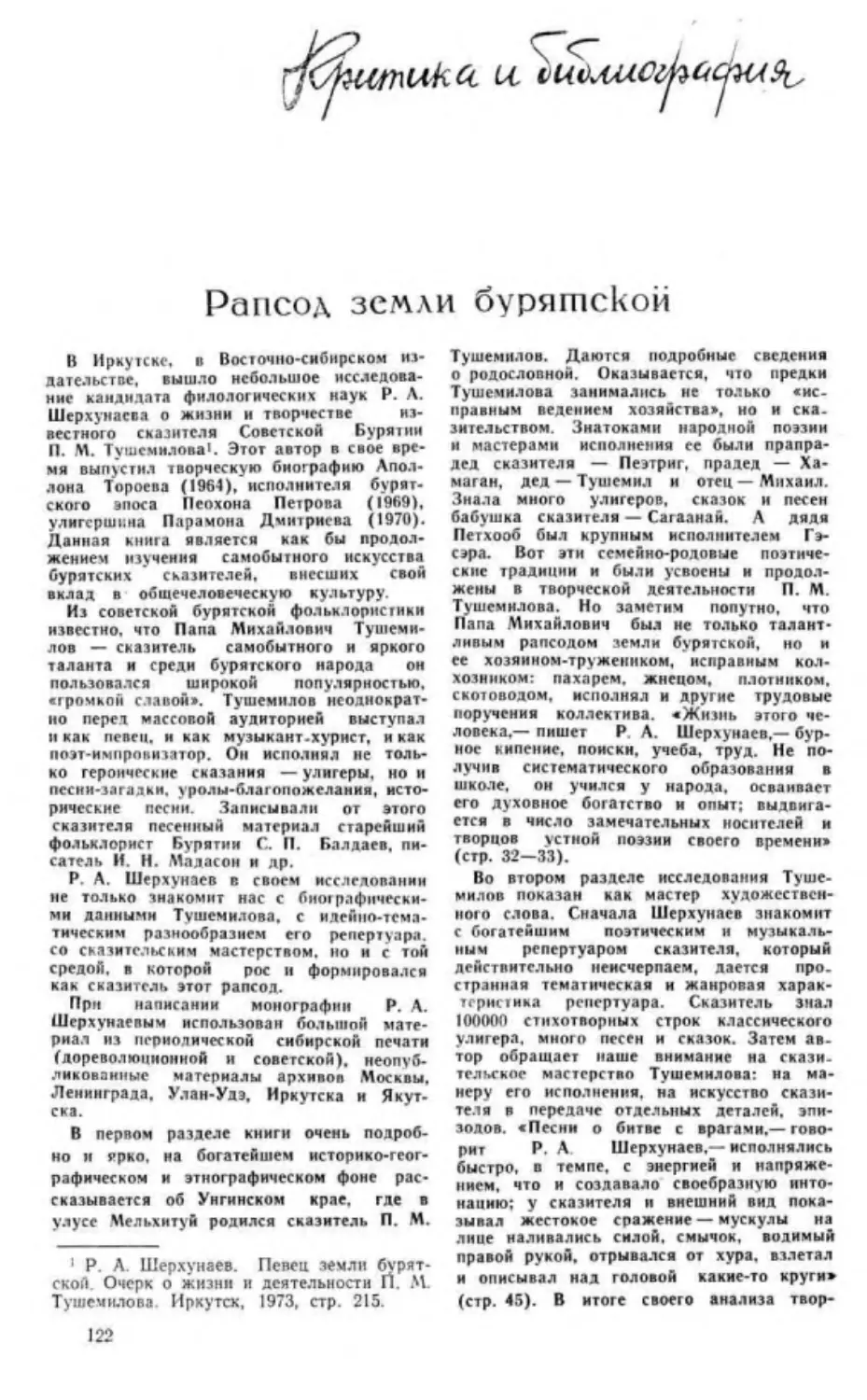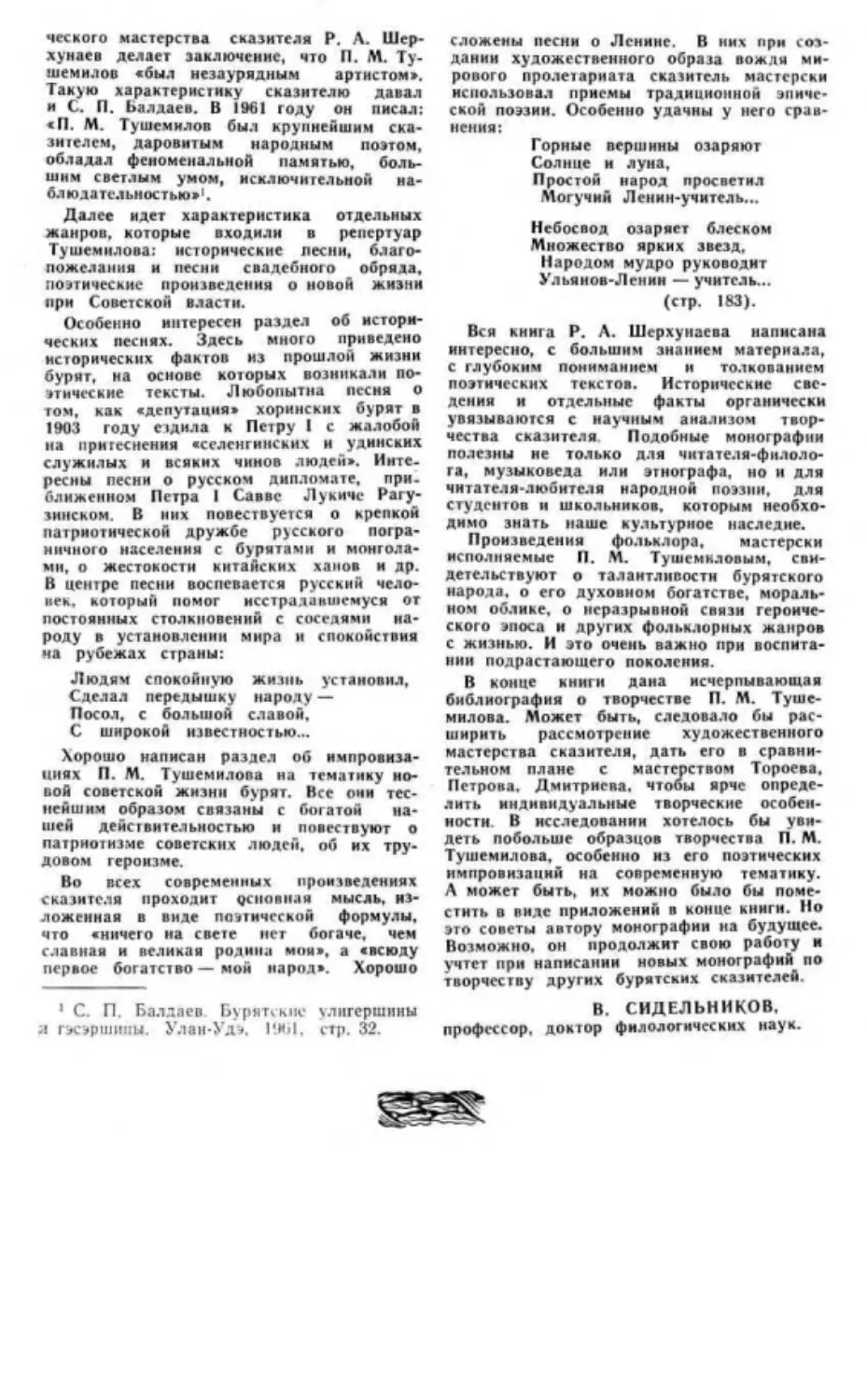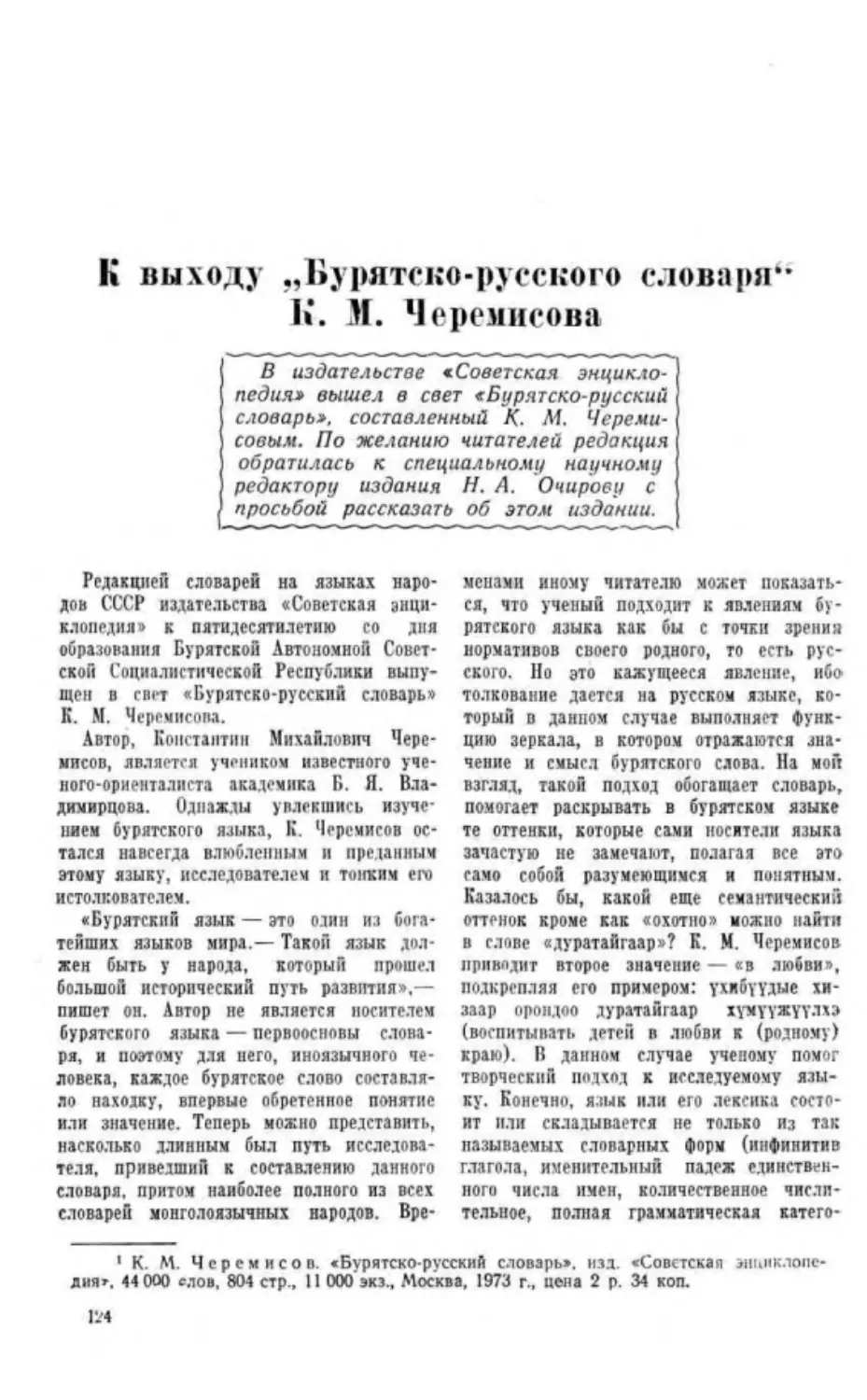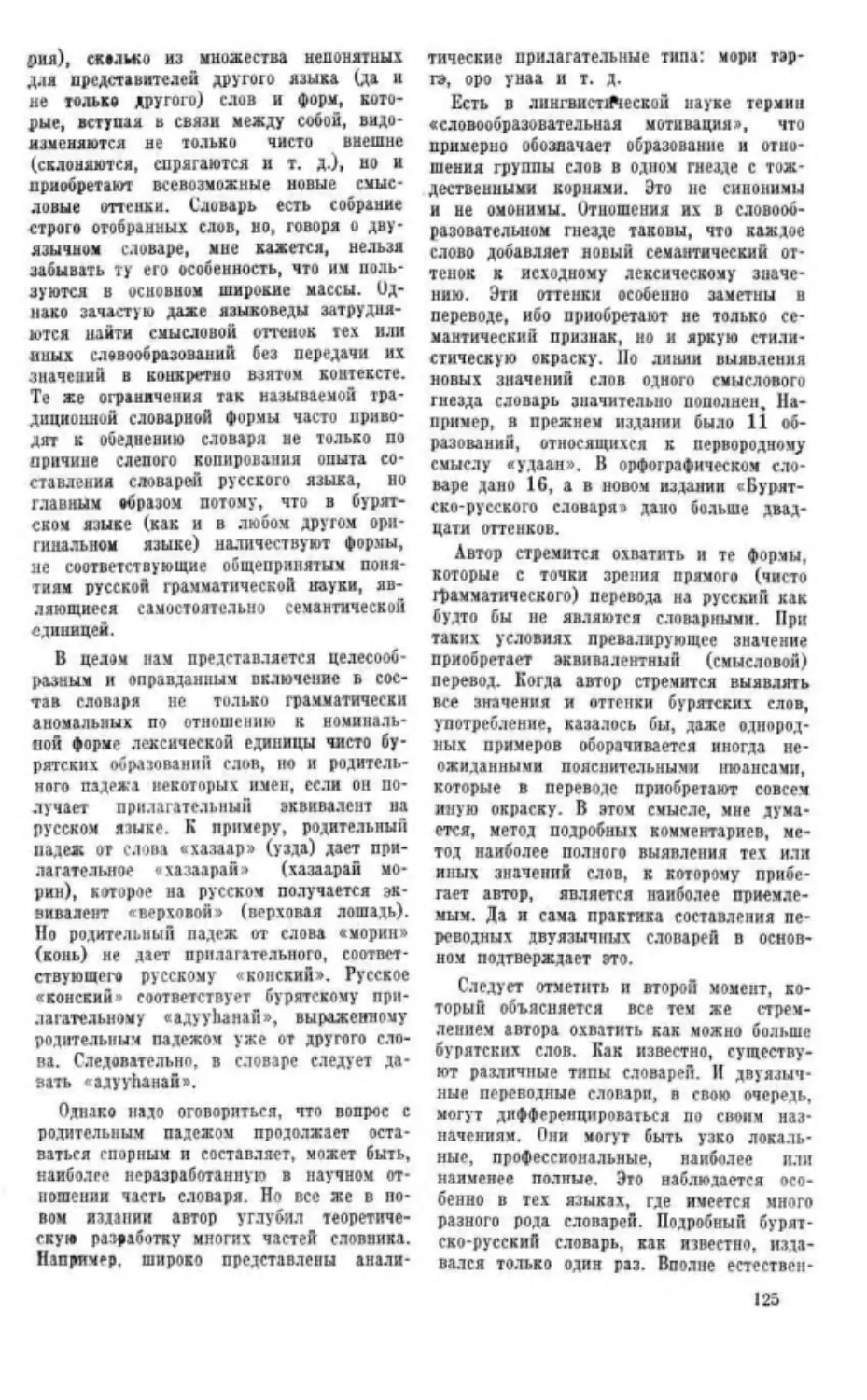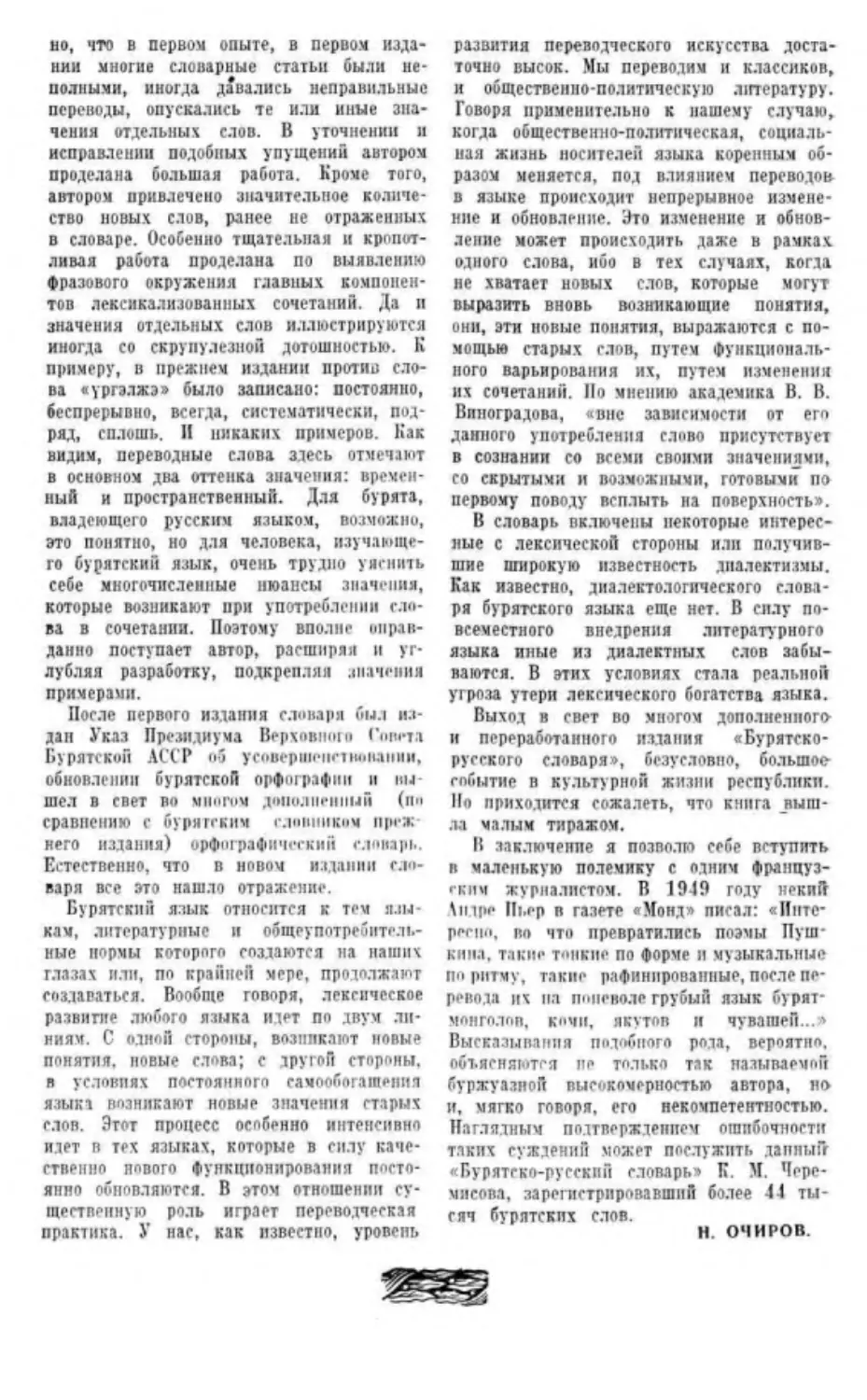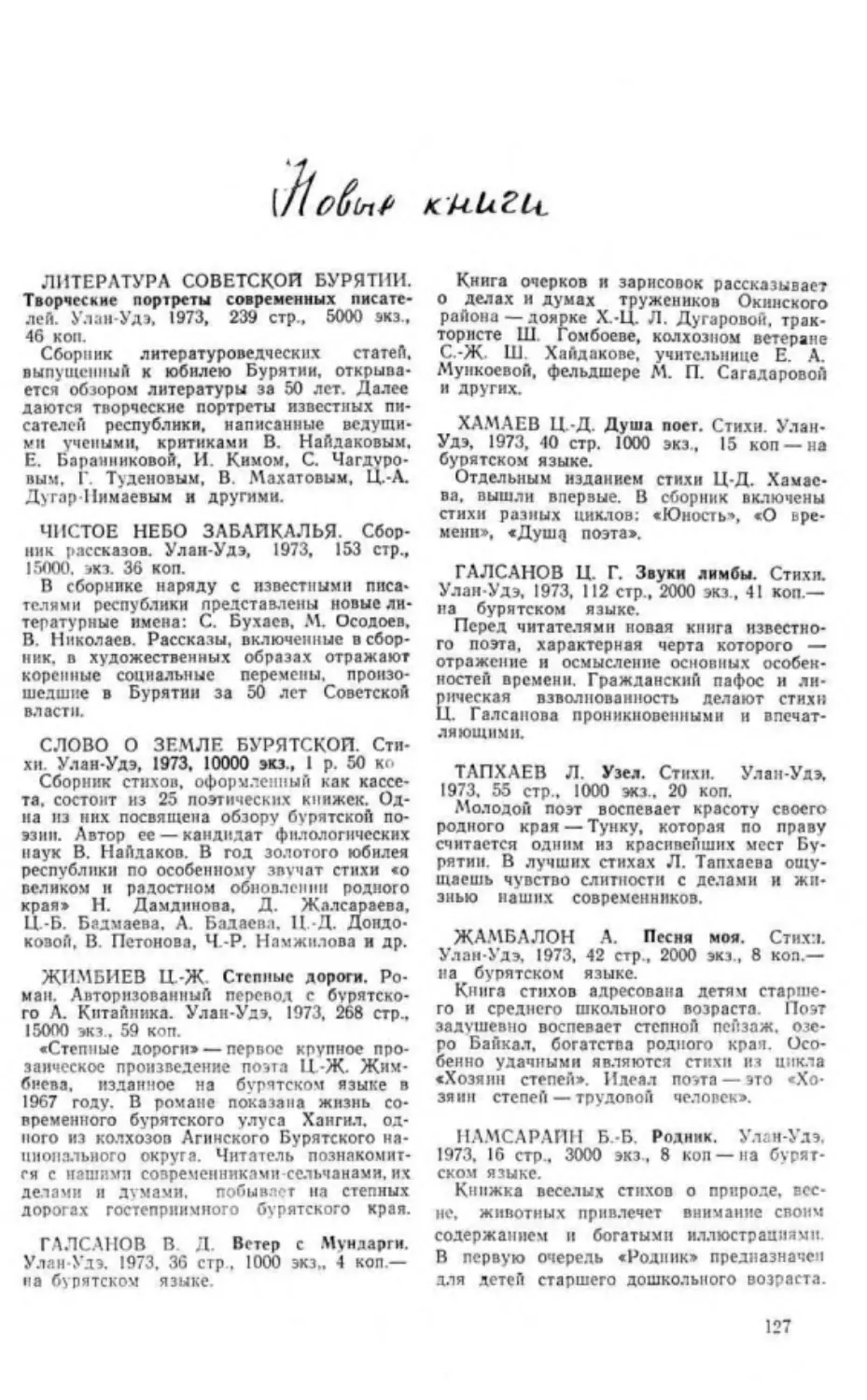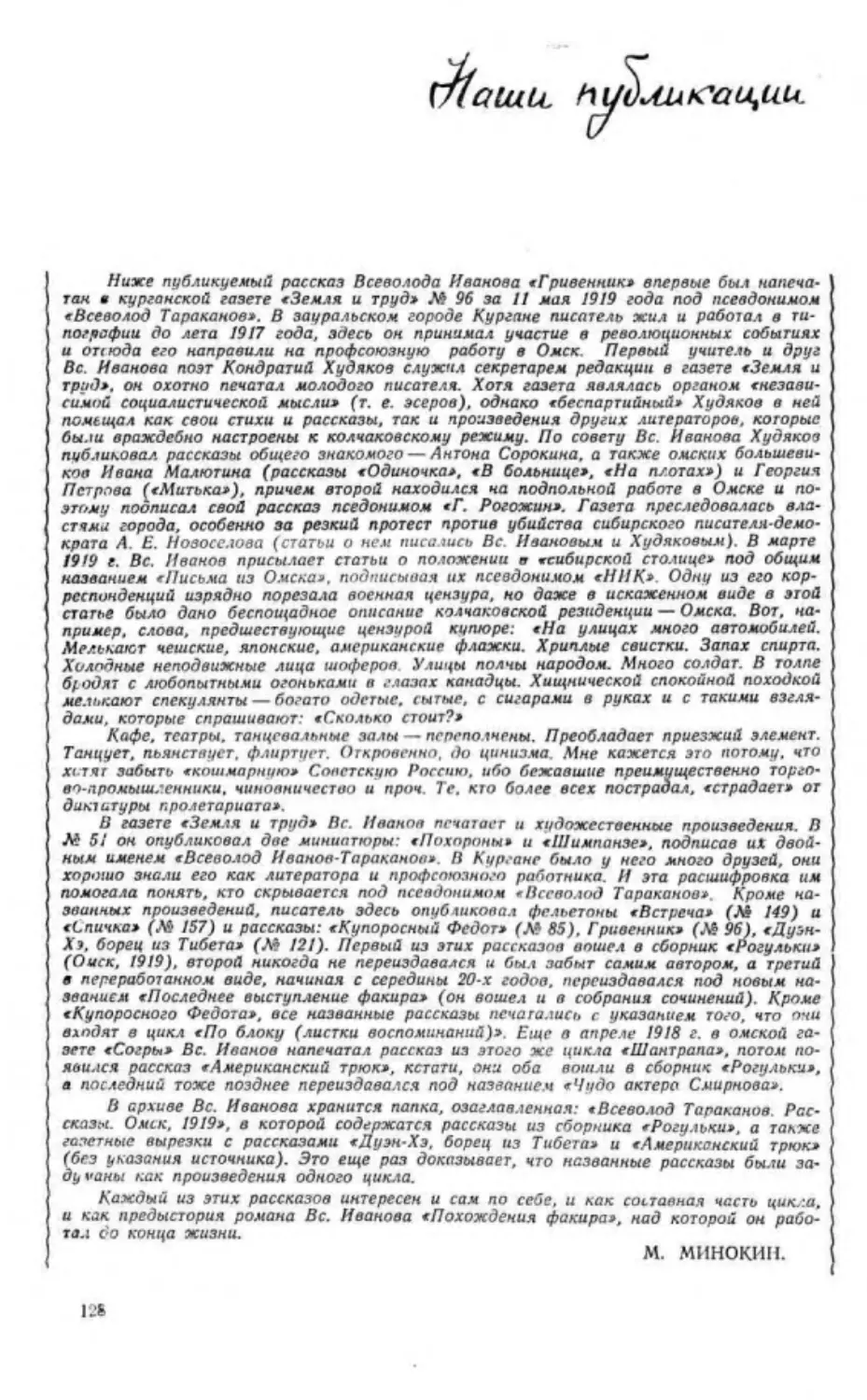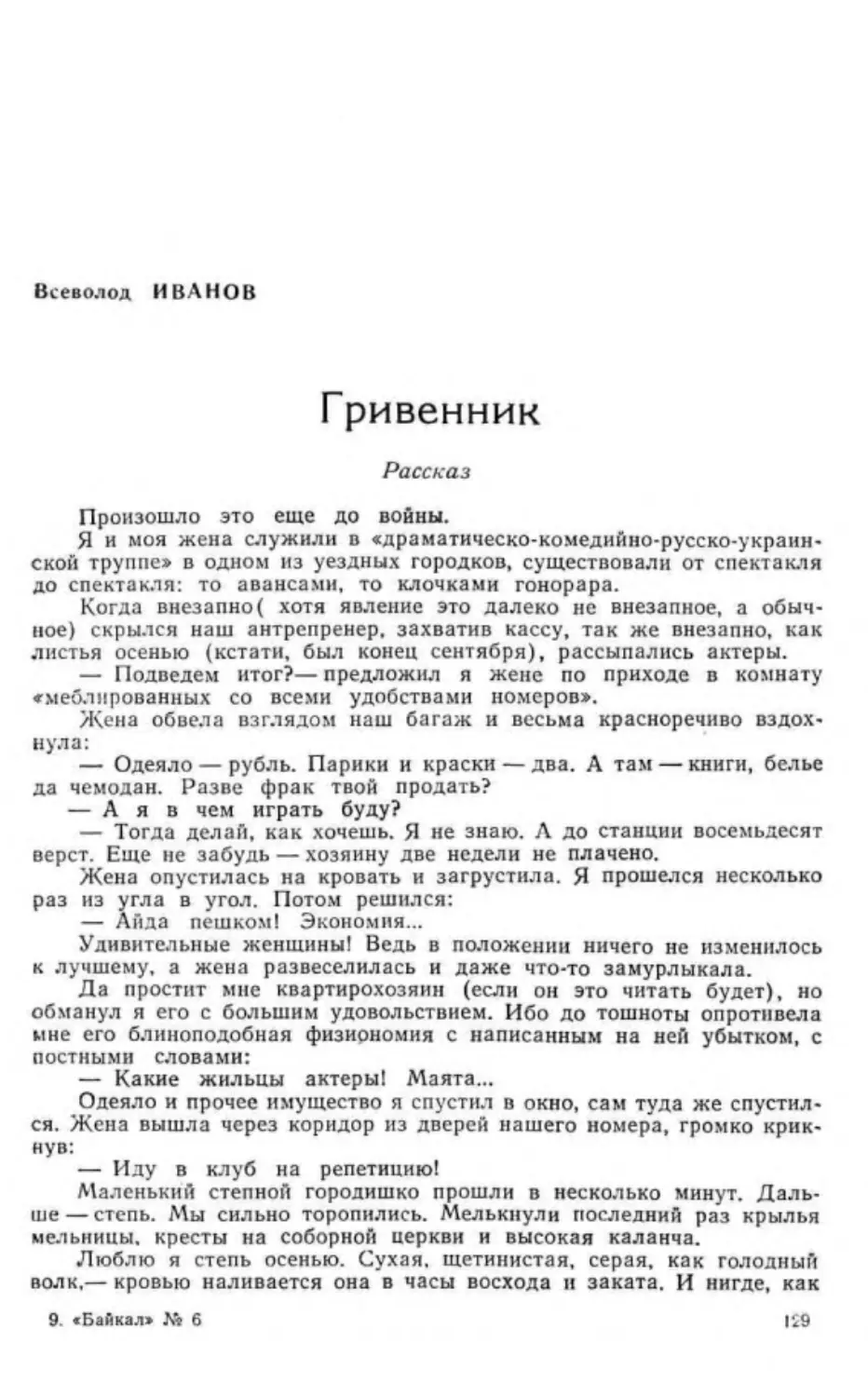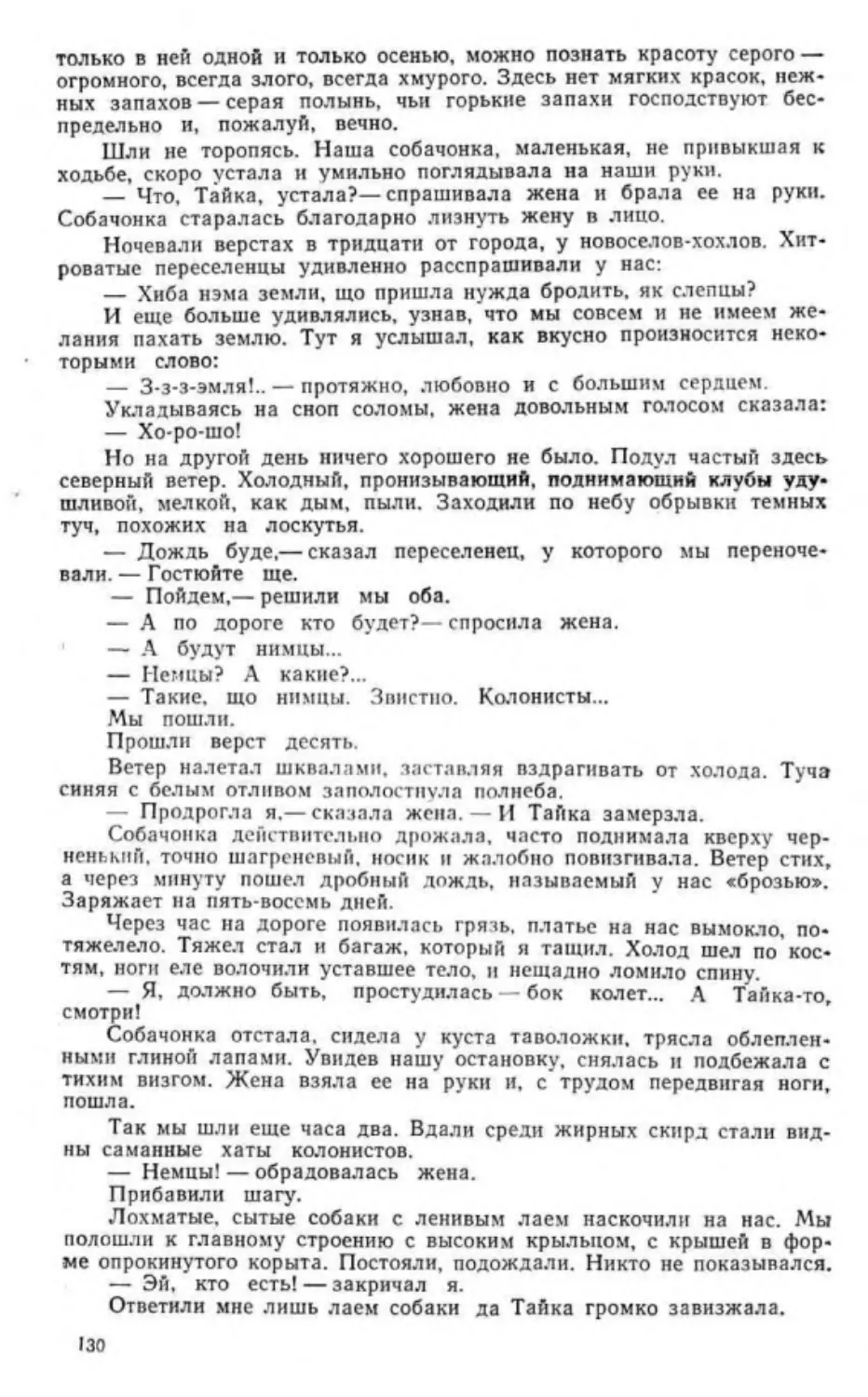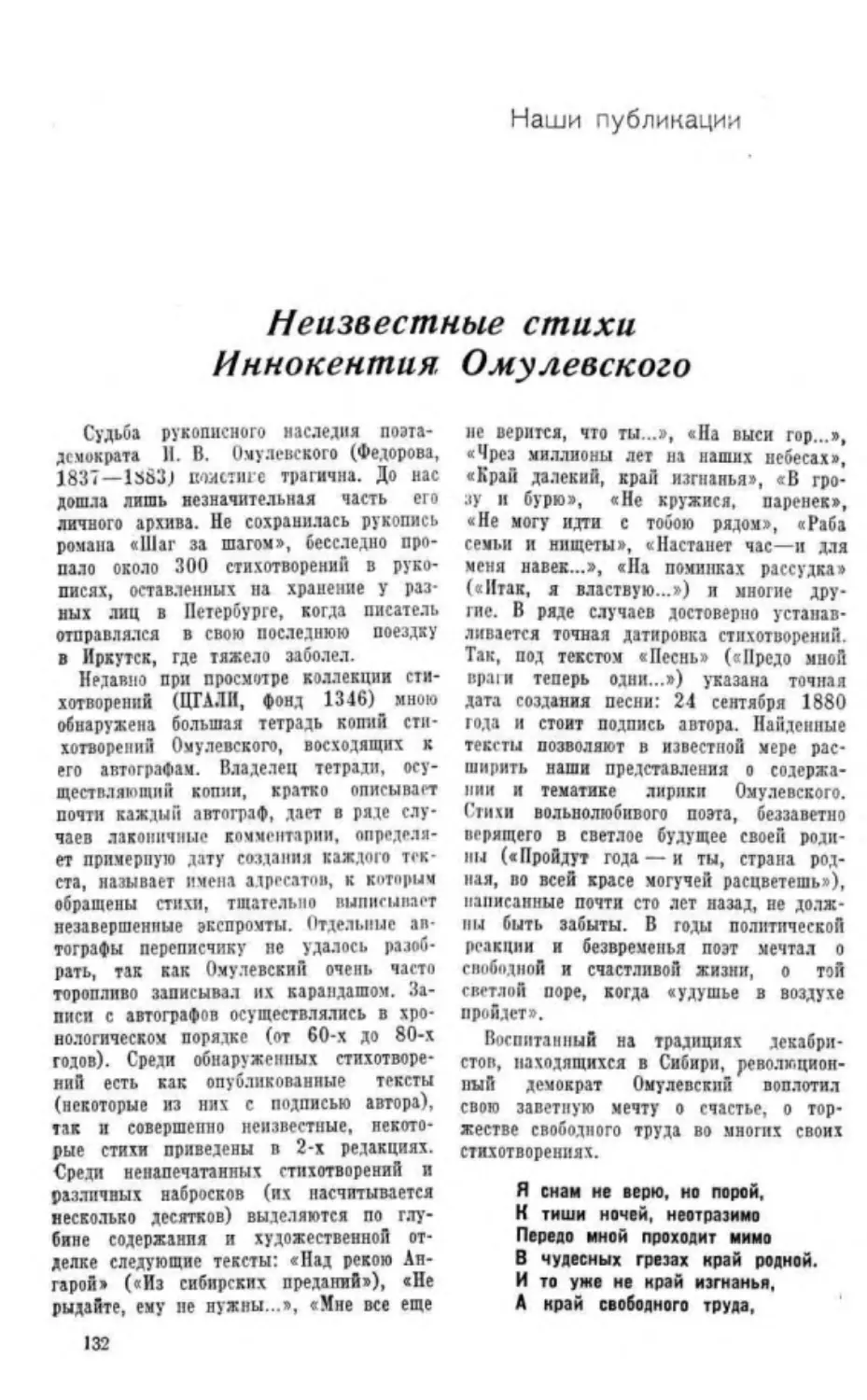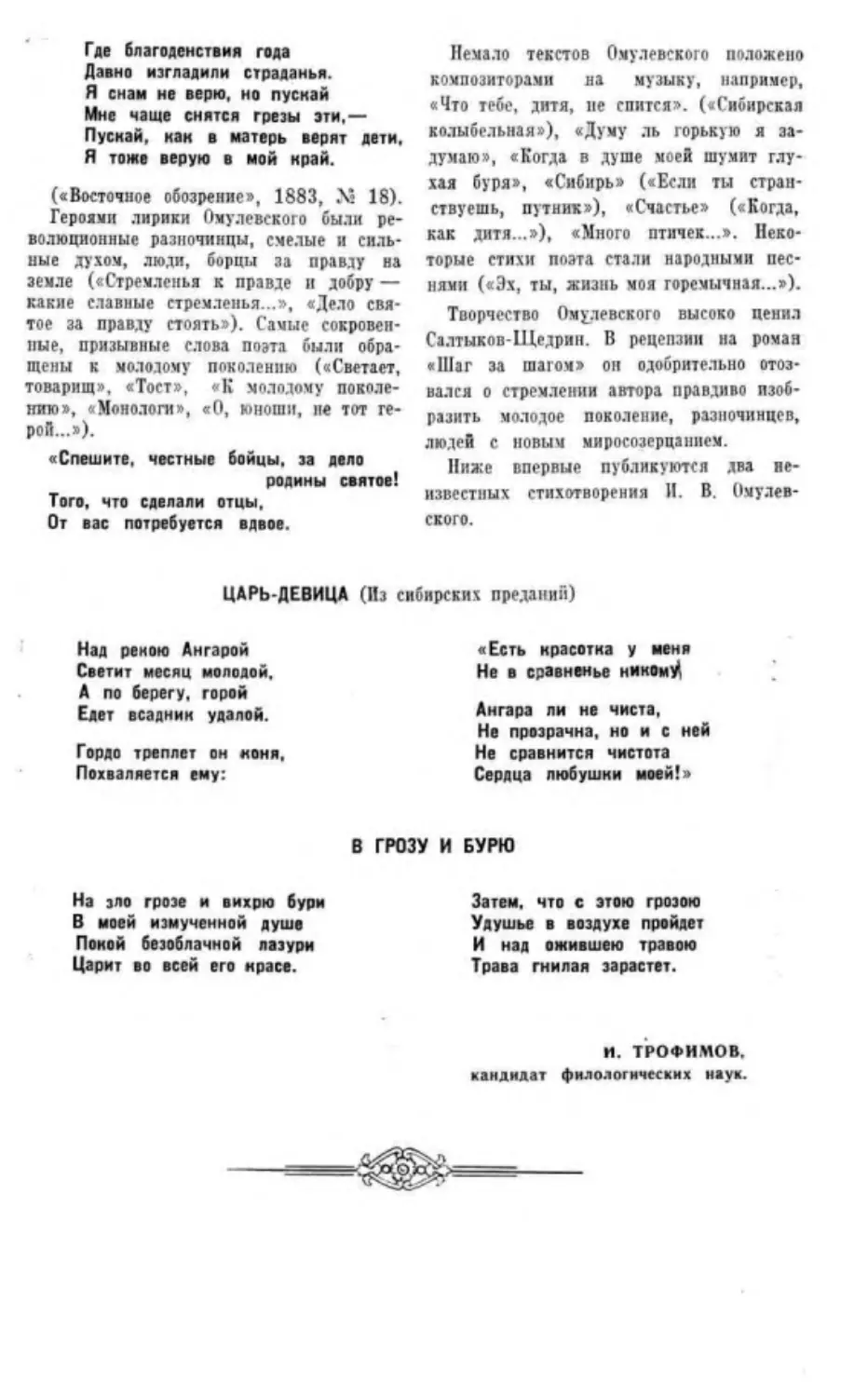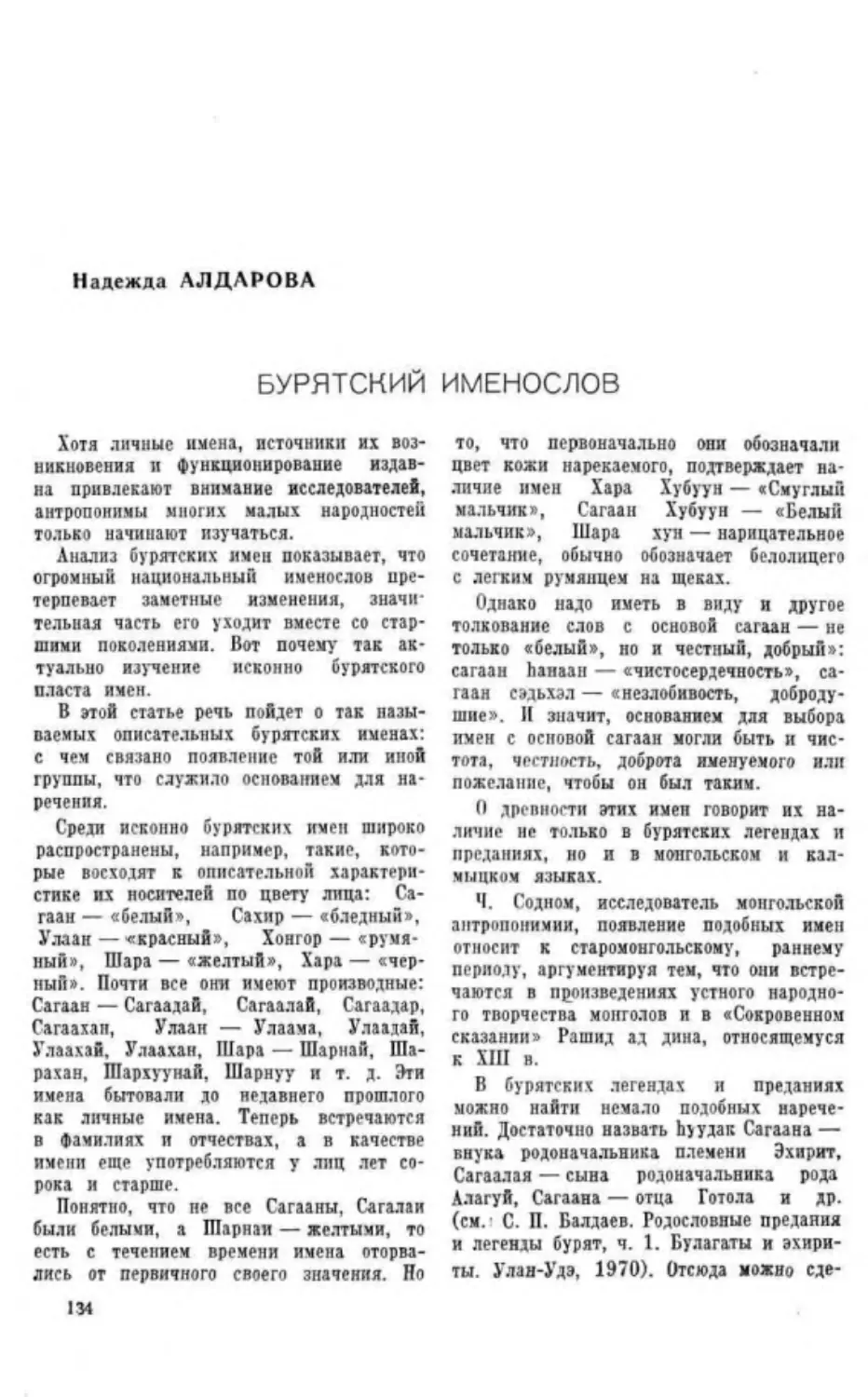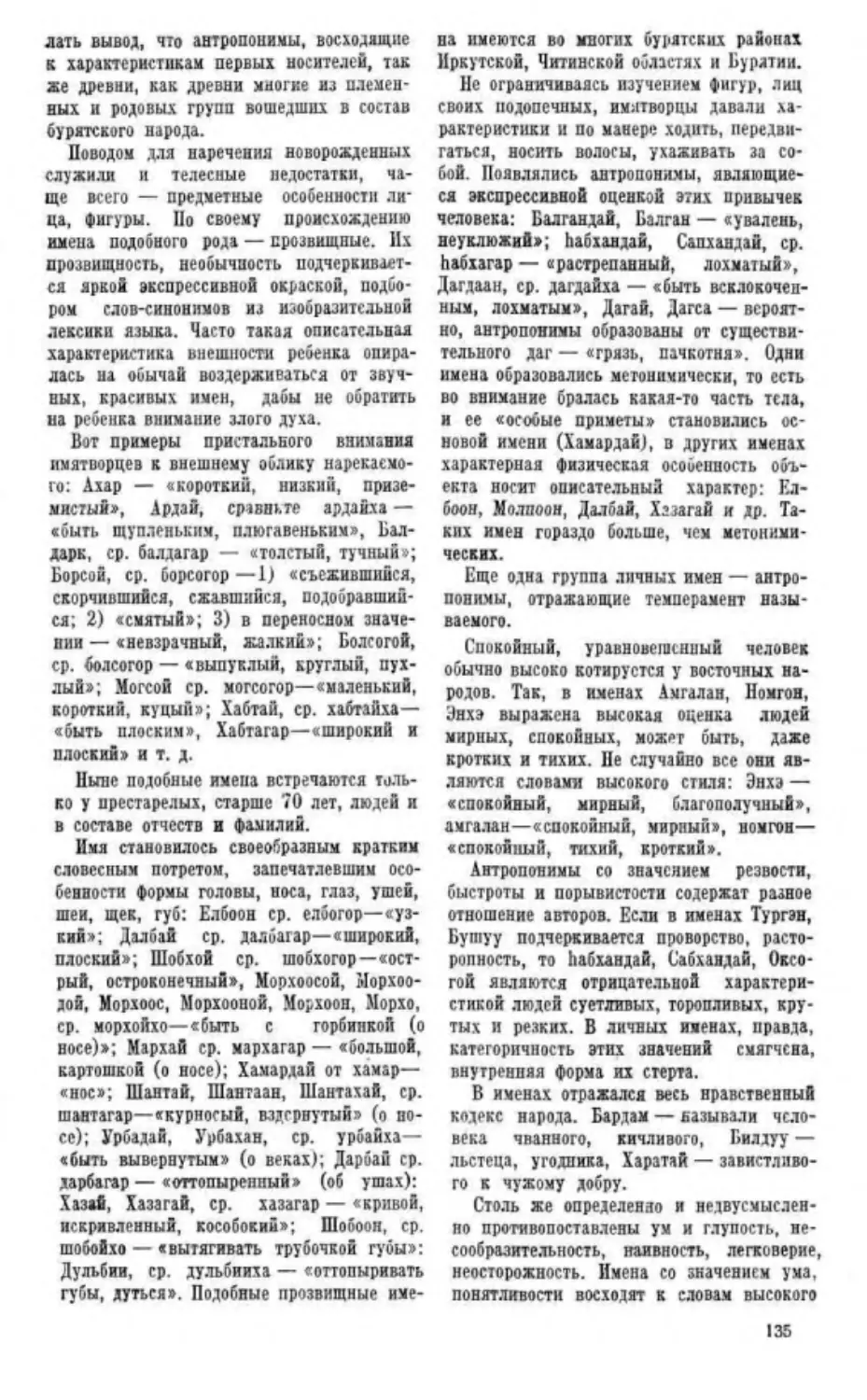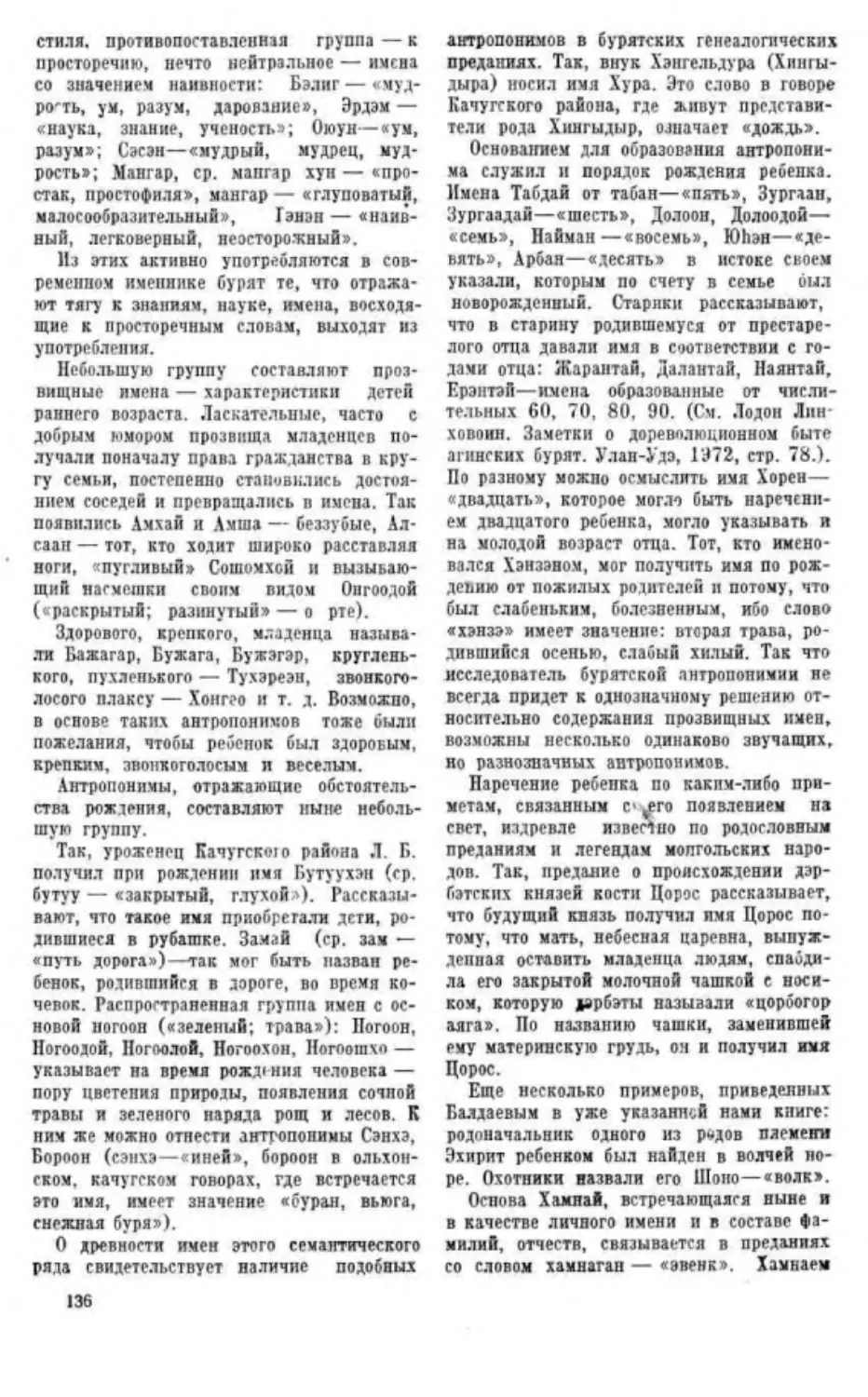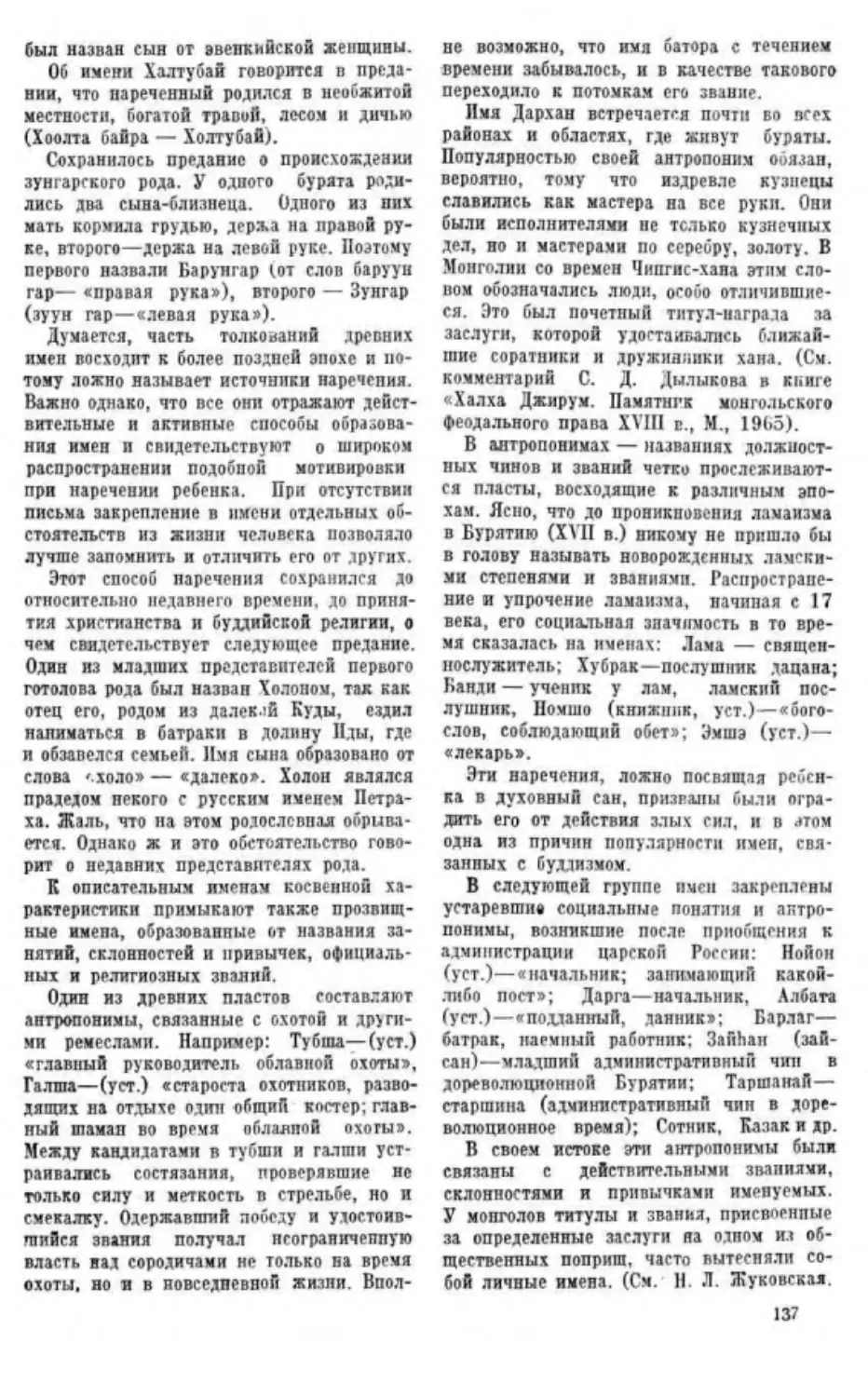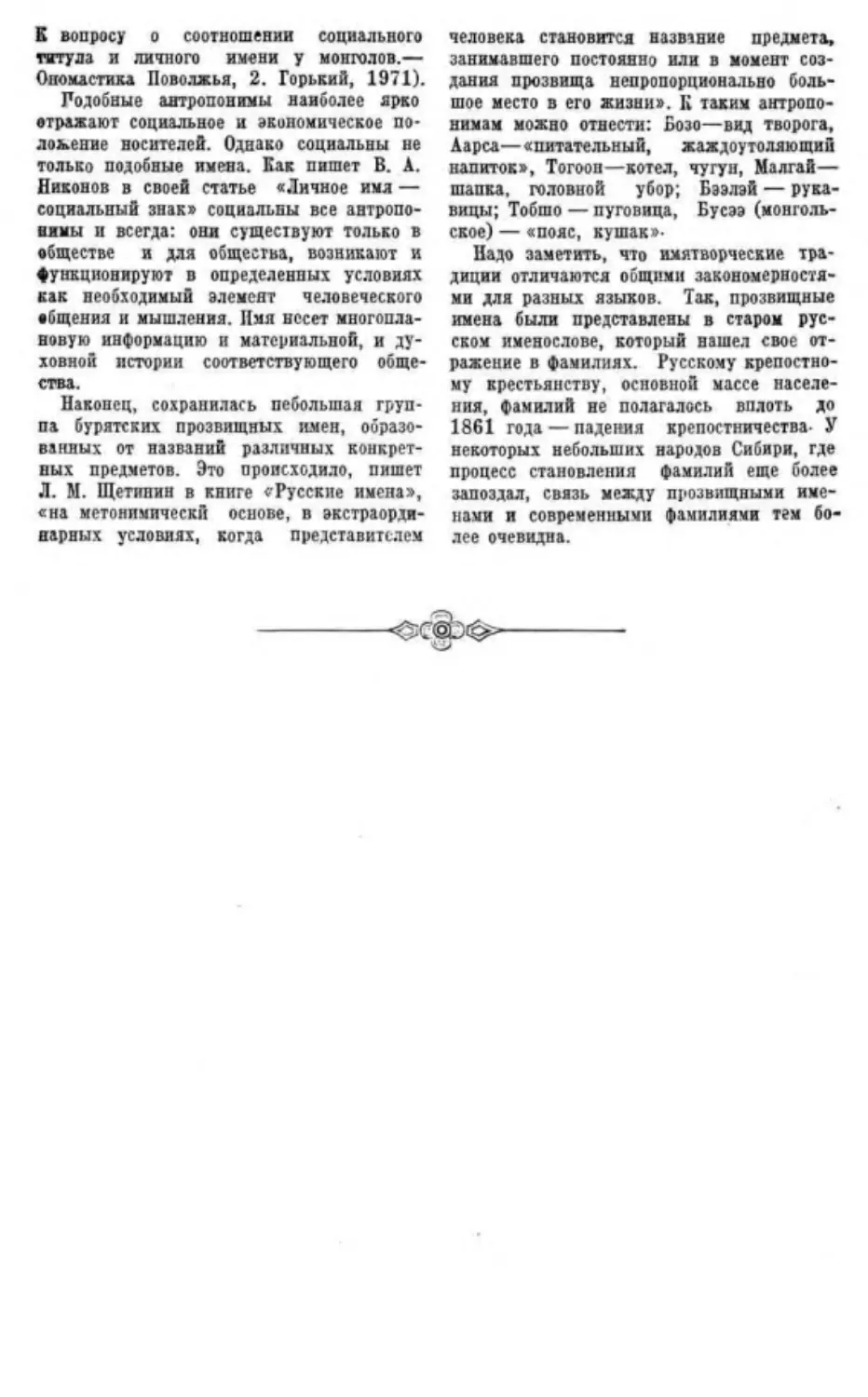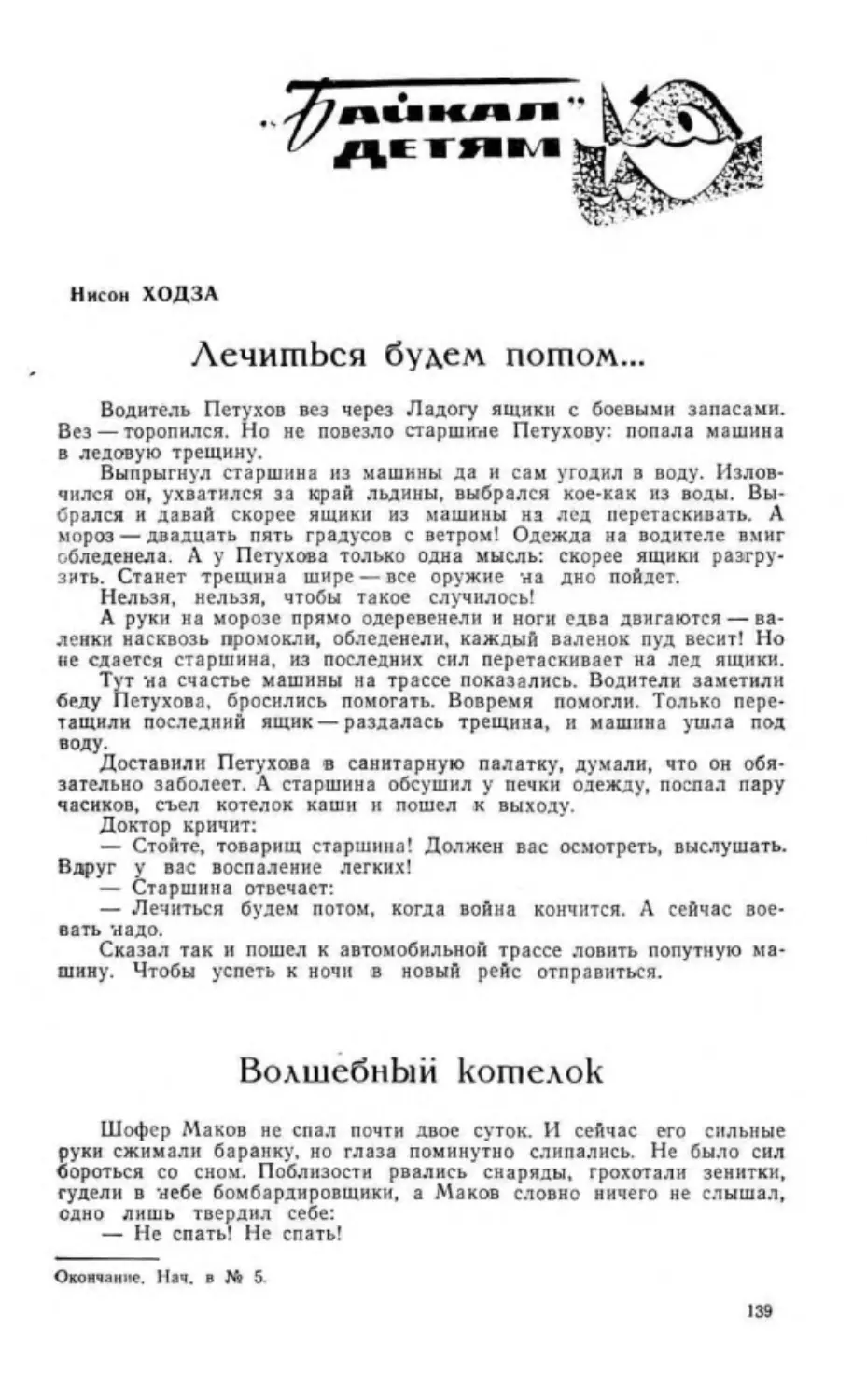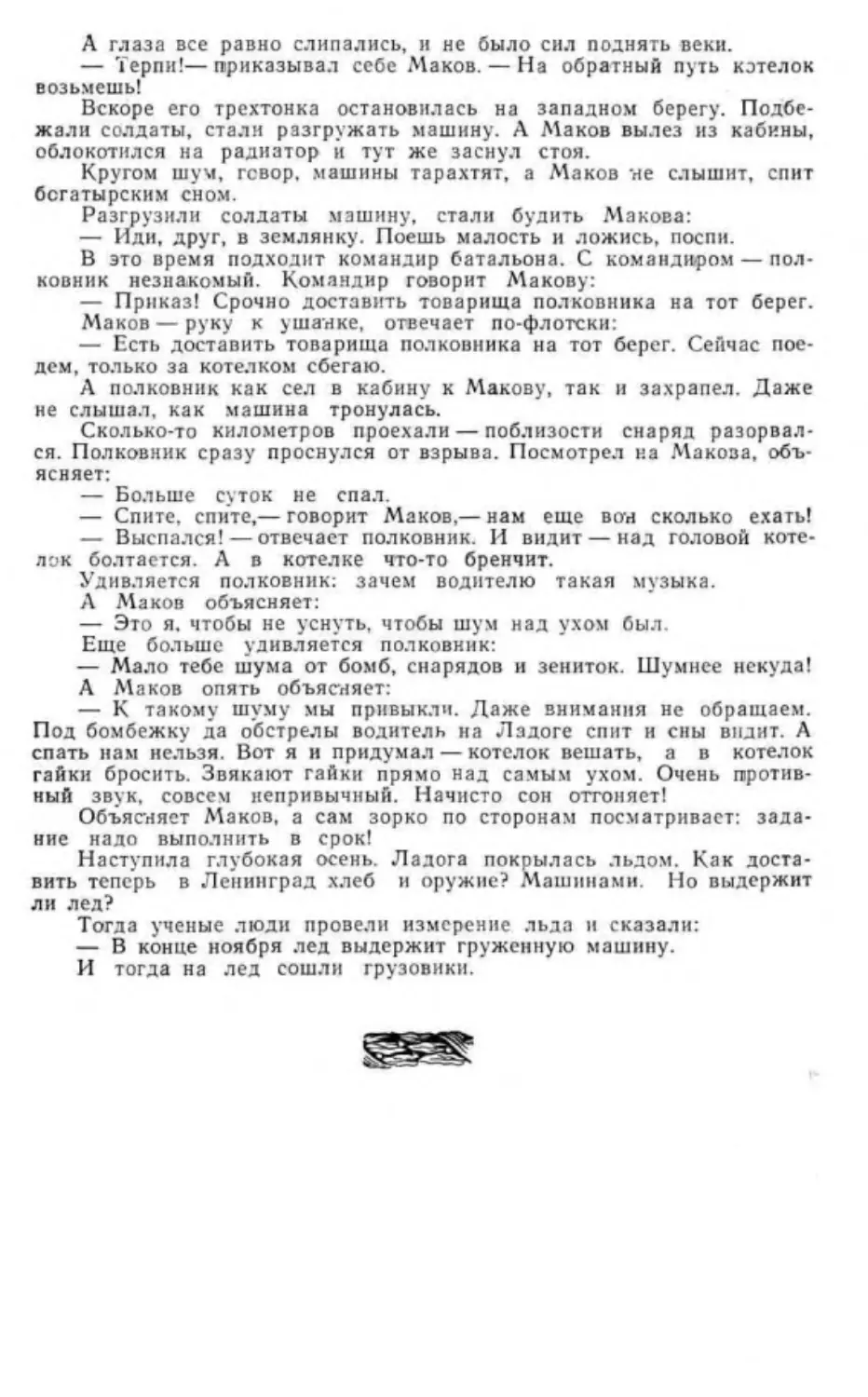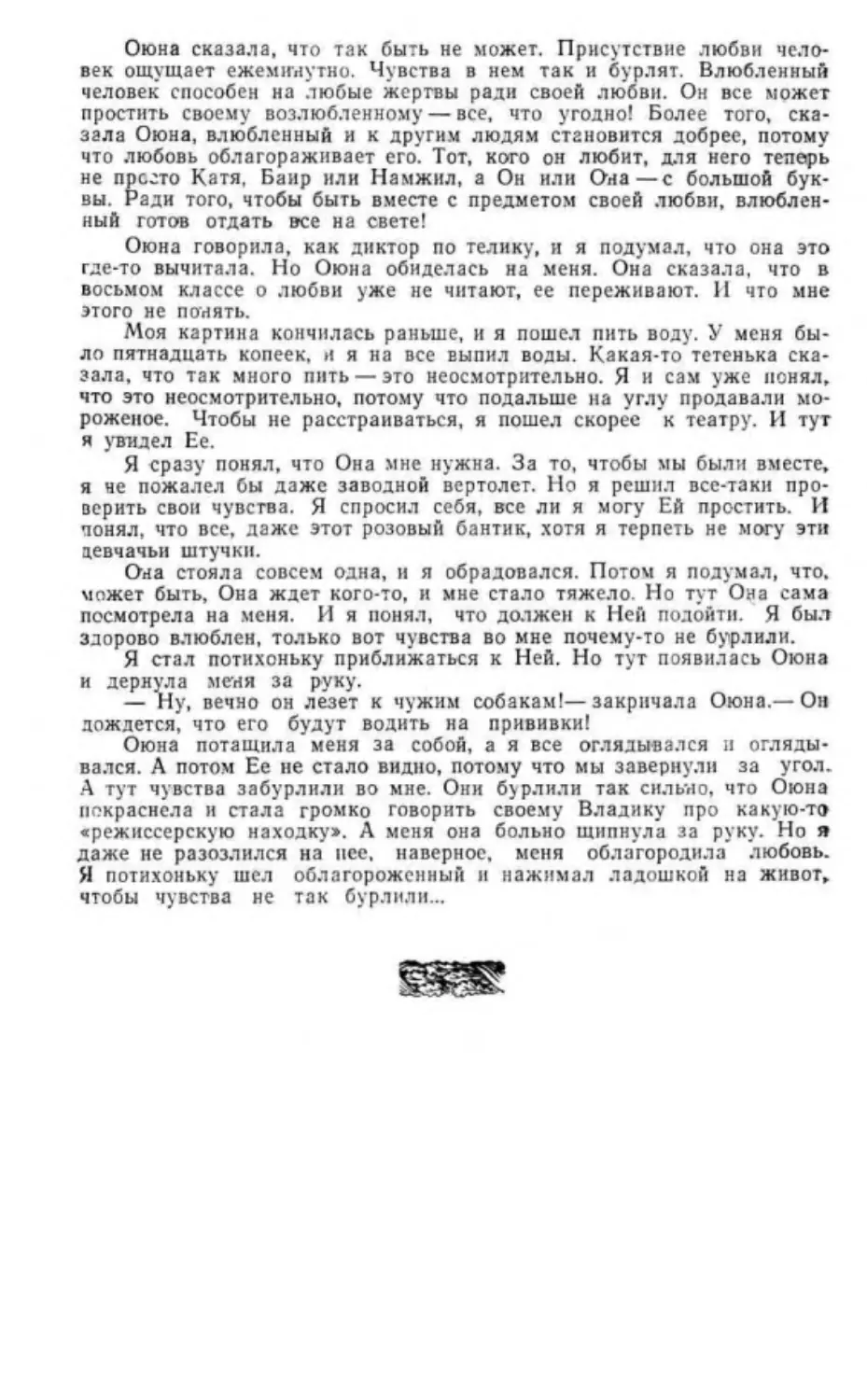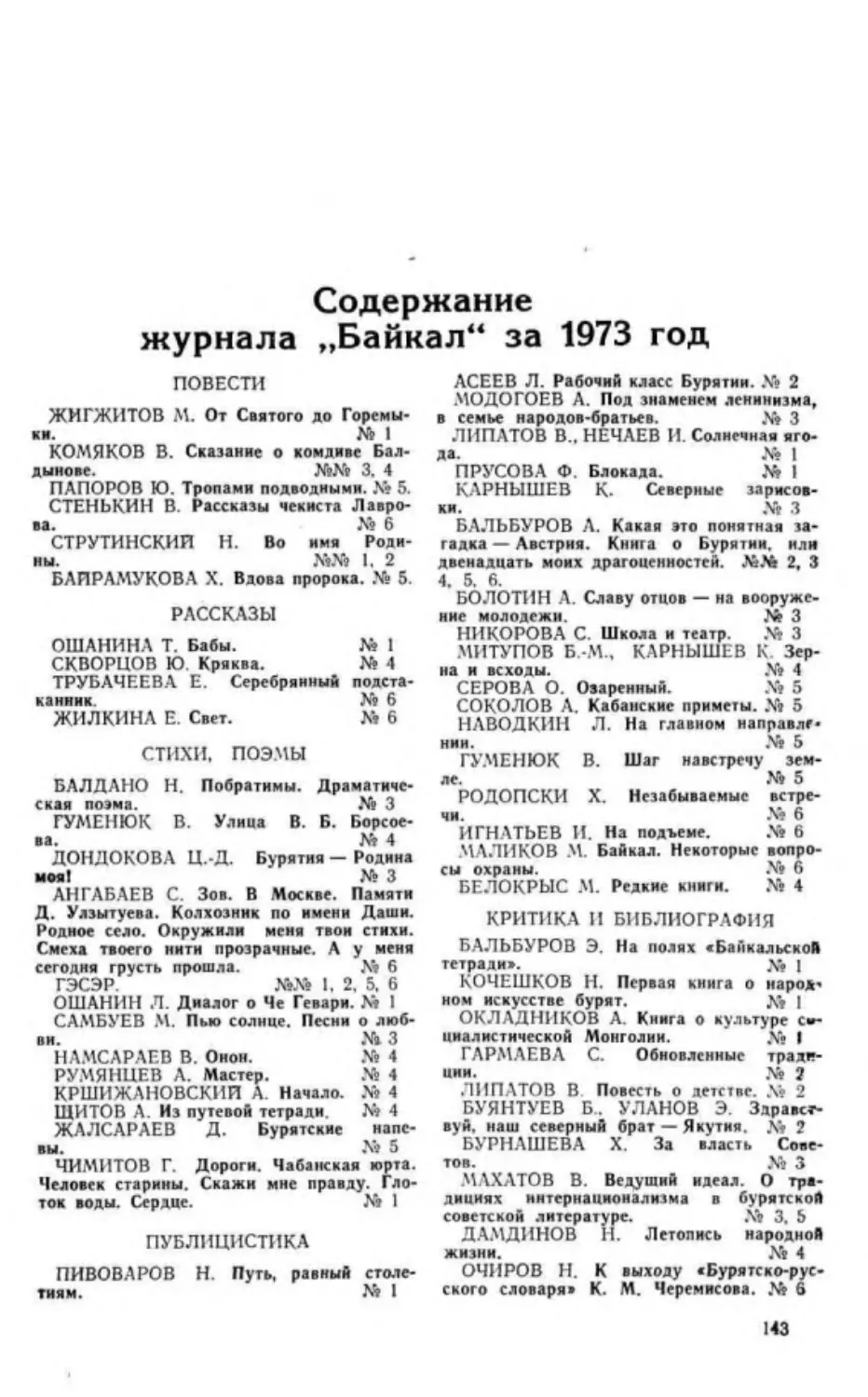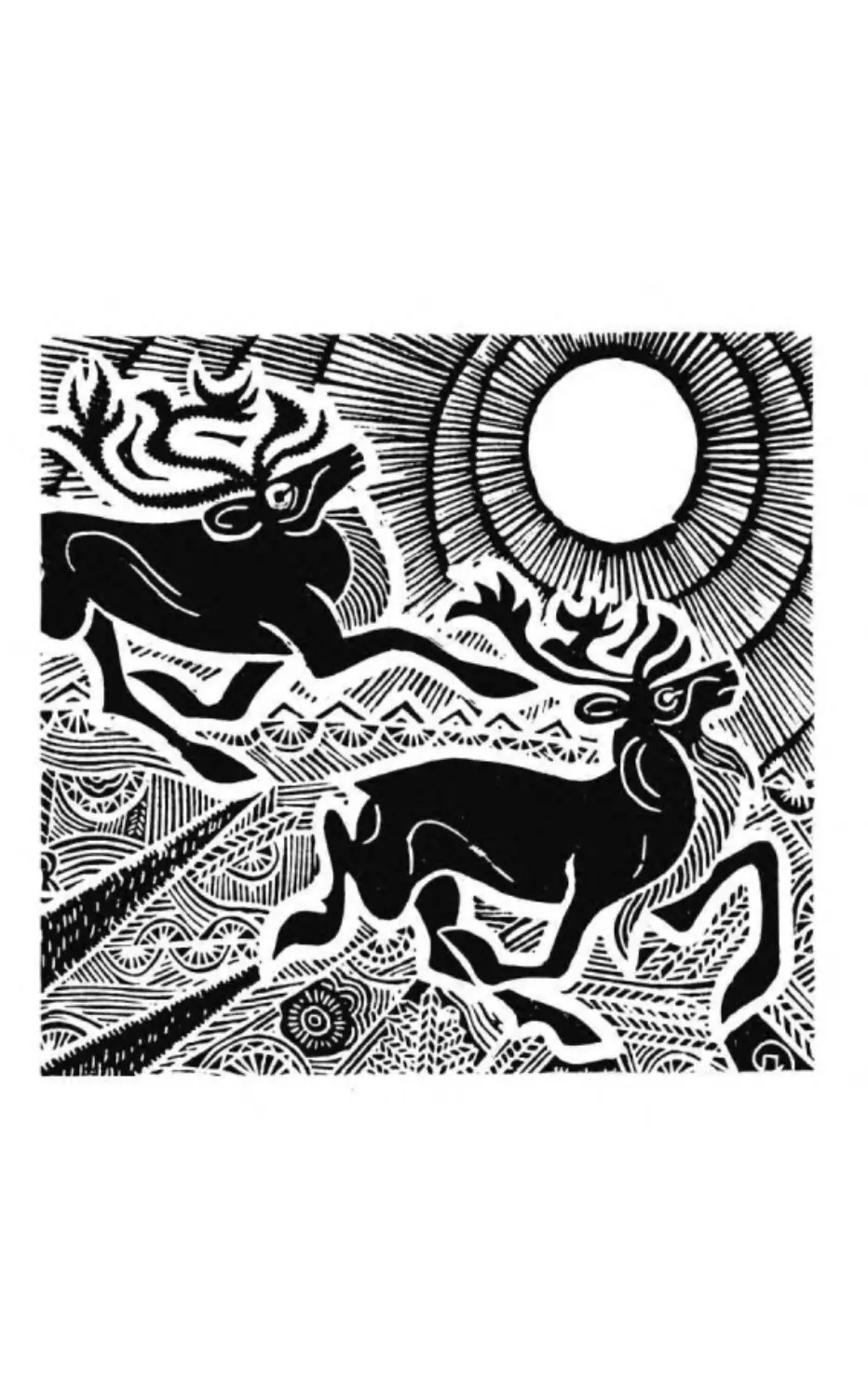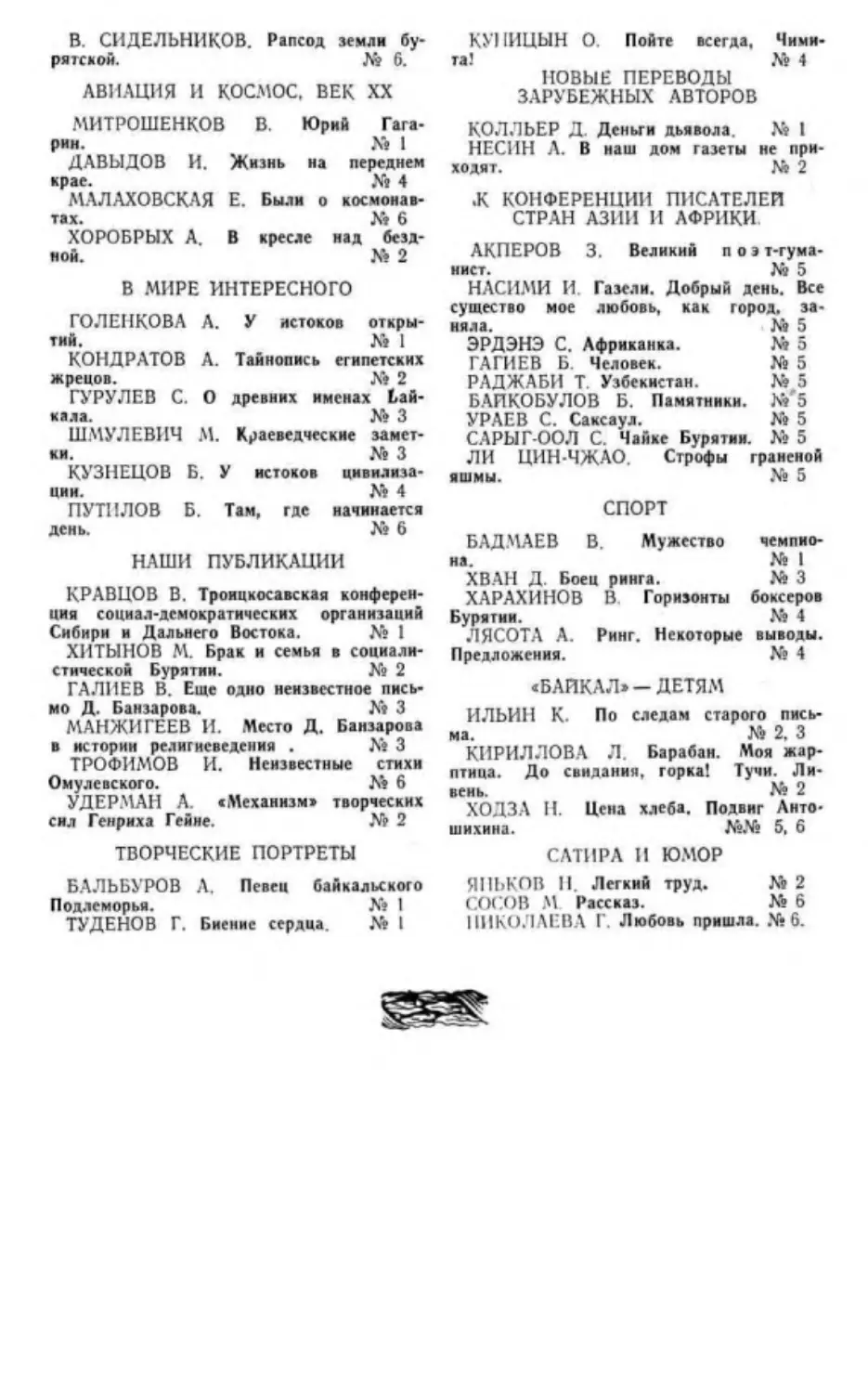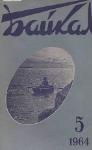Similar
Text
9
СО
СО
•^
ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Орган Союза писателей
АССР
Выходит
один раз
в 2 месяца
на русском
и бурятском
языках
Год издания
двадцать шестой
Бурятской
СОДЕРЖАНИЕ
С. АНГАБАЕВ. Зов. В Москве. Памяти
Д. Улзытуева. Колхозник по имени Даши.
Родное село. Ах, как начиналось лето сорок первого. Окружили меня цветы. Смеха
твоего нити прозрачные. А меня сегодня
грусть нашла. Стихи.
А. БАЛЬБУРОВ. Книга о Бурятии или
двенадцать моих драгоценностей.
В. СТЕНЬКИН. Рассказы чекиста Лаврова. Главы из повести.
Э. САФОНОВ. Прожитый день. Рассказ.
Т. ЖИЛКИНА. Свет. Рассказ.
ГЭСЭР. Бурятский народный эпос.
30
56
71
76
ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА
И. ИГНАТЬЕВ. На подъеме.
М. МАЛИКОВ. Байкал. Некоторые вопросы охраны.
Е. ТРУБАЧЕЕВА. Серебряный подстаканник.
X. РОДОПСКИ. Незабываемые встречи.
82
88
93
99
АВИАЦИЯ И КОСМОС, ВЕК XX
А. ЩЕРБАКОВ. Памятник Королеву.
Память. Стихи.
108
Е. МАЛАХОВСКАЯ. Были о космонавтах.
108-
6
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
1973
БУРЯТСКОЕ
ГАЗЕТНОЖУРНАЛЬНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
В МИРЕ
ИНТЕРЕСНОГО
Б. ПУТИЛОВ. Там, где начинается день. 115
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
В. СИДЕЛЬНИКОВ.
Рапсод земли
бурятской.
122
НОВЫЕ КНИГИ
124
Н. ОЧИРОВ. К выходу «Бурятско-русского словаря» К. М. Черемисова.
135
НАШИ
ПУБЛИКАЦИИ
Вс. ИВАНОВ. Гривенник. Рассказ.
126
И. ТРОФИМОВ.
Неизвестные стихи
Омулевского.
129
Н. АЛДАРОВА. Бурятский именослов. 131
«БАЙКАЛ» — ДЕТЯМ
13»
.
Знакомьтесь: Дуламжавын Пушкин
Художественную графику
этого номера, дорогие читатели, исполнил молодой художник из Монгольской Народной Республики ДУЛАМЖАВЫН ПУШКИН.
Вы удивлены?
Мы тоже, когда в наш номер в гостинице «Залуучууд»
в Улан-Баторе вошел он,
стройный, молодой, в белой
сорочке, такой свежий и обаятельный. В руке у него был
сверток.
— Дуламжавын
Пушкин,—отрекомендовался он.
История его имени необыкновенно интересная. Оно было дано его матерью, работавшей в памятные сороковые годы в военном госпитале, в честь и в память ее любимой подруги. То была русская женщина-врач, с наслаждением читавшая стихи
Пушкина. Она буквально
жила и дышала им. И от
нее в памяти молодой монголки, работавшей в госпитале сестрой, вместе с любовью тому, что когда у
нее родился ребенок, она
назвала сына этим именем.
На наших обложках: 1-я стр.— ОСНОВОПОЛОЖНИК
НОВОЙ
МОНГОЛЬСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы Д. Н А Ц А Г Д О Р Ж ;
А родился этот мальчик
в 1945 году в Хэнтэйском
аймаке, в сомоне Жаргаланта. И судьба была к нему так же благосклонна,
ему везло так же, как и тысячам и тысячам
других
молодых парней и девушек
в социалистической Монголии. Он стал художником.
В 1973 году на международном конкурсе политической сатиры в Москве рисунок Дуламжавын Пушкина
«Чужими руками ловящий
змей» был удостоен 3-й премии. Кроме этого,
произведения молодого монгольского графика выставлялись
в Италии (Болонья), ГДР
(Берлин, Лейпциг) и Чехословакии (Братислава).
Мы рады познакомить с
некоторыми рисунками талантливого художника
и
читателей «Байкала».
2—3 с т р — О Л Е Н И
стр.— ДЕТСТВО.
А. БАЛЬБУРОВ.
НА ПАСТБИЩЕ; 4-я
)Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.
Главный редактор А. А. Бальбуров.
РЕДКОЛЛЕГИЯ: Виктор Гуменюк, Николай Дамдинов,
Исай Калашников, Владимир Корнаков (ответственный секретарь), Барадий Мунгонов, Чимит-Рыгзен Намжилов (заместитель главного редактора), Михаил Степанов, Алексей
Уланов, Гунга Чимитов (ответственный секретарь).
Техн. редактор И. Нечаев.
Корректор 3. Александрова.
Подписано к печати 15/Х-73 г.
Формат бумаги 70X108, п. л. 9 (12,33).
Тираж 16.636 экз. Заказ № 1792. Н-00185.
Адрес редакции: 670324 г. Улан-Удэ,
70-66, 26-91, 23-36.
ул. Ленина, 27; тел. №№ 28-82;
Типография Управления по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли Совета Министров БурАССР.
Солбон АНГАБАЕВ
Зов
Зовет меня к себе Бархан-гора,
зовет меня настойчиво и властно.
Пришел мой час, нам свидеться пора,
чтоб п р о ж и л жизнь я дальше не напрасно.
Она считает — сын ее созрел,
и наступает светлый час решений.
Сын возмужал, широкий мир узрел,
теперь готов он для больших свершений.
Они экзамен учиняют мне,
не знающие состраданья горы.
В таинственной их белой глубине
я слышу предков горькие укоры.
А предки просят, чтобы взял с собой
и возродил, но только я не стану
возиться с их нескладною судьбой
и не поверю этому обману.
Их нужно будет заново учить,
отдать им сердце, разум, волю, силу,
но старых тех обид не залечить,
с которыми ушли они в могилу.
Ног забелели густо облака,
высокие свидетели событий,
по пестрой радуге издалека
они ко мне протягивают нити.
Вот я уже и у вершин в объятьях
«и и м . п н ю стою и цепенею.
Холодные их руки не разнять мне,
еще мгновенье — и заледенею.
Да будут сны их больше нерушимы,
как будто я вовек здесь не бывал...
— Ты помнишь род свой? — говорят
вершины.
Я отвечаю им: «Не забывал».
Сурова их заветная страна,
Сурово их дыханье ледяное.
Суровая их музыка страшна,
но чудится в ней для меня родное.
Вершины говорят: «Тогда отведай
еды вот этой, белой, как снега,
коня-пургу ты оседлай и следуй
дорогой той, что сердцу дорога».
На побелевших древних валунах
остыли всюду грозные оскалы,
и белые на белых скакунах
«округ меня клинками машут скалы.
И каждый раз, вершины навещая,
я капелькой от них себе кажусь,
и, снова к ним вернуться обещая,
я тем родством тревожусь и горжусь.
В Москве
Когда я хожу по Москве,
когда я встречаюсь с нею,
мысли в моей голове
становятся словно яснее.
В Москве, как костер, я горю,
читаю стихи с поэтами,
с философами говорю,
и время со всеми приметами
мне на ладонь ложится,
как алый цветок полевой,
и сердце сладко томится,
когда встречаюсь с Москвой.
Я вижу четко по сини
с вершин, на которых вершим,
с больших горизонтов России
будущее большим.
Вбираю в себя высоту
под этим большим небосводом,
и кажется, что расту
вместе с моим народом.
И кажется — радость рядом,
беру я и возвращаю.
Я настоящим бурятом
в Москве себя ощущаю.
Памяти Д. Улзытуева
У Байкала вдвоем сидели,
молчали сколько хотели.
Ни к чему были нам слова.
Гудела м ы с л я м и твоя голова.
И Байкал изнутри гудел,
а я на вас с Байкалом глядел
и не понимал ни тебя, ни его,
хоть вы были дороже всего.
Помолчали, сколько могли,
потом пить чай пошли.
Ты с ведром воды,
я с ведром воды.
Ты чистил картошку,
я дом подметал понемножку.
Потом гуляли, солнцем согреты,
как классические поэты.
Потом камни искали.
Мы жили на Байкале
и думы о смерти че допускали.
Ты прилетел с Украины
прямо на свой Байкал.
Ты прилетел с Полесья,
из края великой Леси,
прямо на свой Байкал.
Встречи ты с ним заждался,
в городе не остался.
Все казалось помехой,
даже домой не заехал.
Рвался ты всеми нервами,
словно к роману прерванному,
прямо на свой Байкал,
жадно его искал.
Ты прилетел с Украины
прямо на свой Байкал.
А я был свидетелем встречи
и слышал Байкала речи.
Грозно тогда он рычал,
а ты стоял и молчал.
Замерла вся округа.
Вы понимали ль друг друга?
Но почему Байкал бушевал,
волны свои зачем зазывал,
зачем он так тревожно горел?
А ты поверх Байкала смотрел,
поверх своих книг, своей земли,
как будто видел что-то вдали.
Словно Байкал тебя провожал.
Словно на волнах ты уезжал.
О ней, о смерти, ты 'не говорил.
Меня за мысль подобную коркл.
Считал ты, что предательство она
и перед старой матерью вина.
О смерти я стихи писал, не скрою,
а ты читать их брезговал порою.
Мы друг другу рассказывали с радостью
не анекдоты — сказки бурятские,
наизусть читали сказки бурятские,
наслаждались сочностью их и сладостью.
В разговорах о сказках день проводили,
прежде чем писать начинать самим,
а потом на берег Байкала ходили,
проведать его и поговорить с ним.
* *
Колхозник по имени Даши —
веселый малый.
Всегда смеется он от души,
а не тогда, когда пьяный.
Можно сказать, он совсем не пьет
и никогда пьяным не был.
Проснется утром, глаза протрет
и посмотрит на небо.
Я думал и наконец догадался,
отчего он так весел.
Во-первых, от пенсии он отказался,
во-вторых, рук не свесил.
Он, работая, разъезжает
не на мотоцикле, а на быке.
Бык его против веселья не возражает,
он с весельем накоротке.
Бык его то мычит, то бодается,
но не знает усталости
и в сочувствии не нуждается,
не нуждается в жадности.
И Даши быком дорожит.
И Даши счастливый.
И Даши поет, когда бык бежит:
«Бык мой любимый,
бык мой красивый,
мы с тобой никогда не устанем,
мы еще здоровее станем.
Мы поедем с тобой на край света,
хоть не знаю точно, где это.
Мы с тобой проведём года,
ты не бросишь меня никогда.
Был бы ты конем — любил бег,
Мотоциклом бы — тем более,
а я медленный человек.
а я падать боюсь, боюсь боли я».
Так и ездит Даши с быком в паре,
и весел он потому.
Даши — замечательный парень.
Седьмой десяток ему.
родное село
Раньше я тебя боготворил,
не оставлял ни минуты в покое,
рвался к тебе, с тобой говорил,
что же случилось теперь тако,е?
О> Курумкан мой, Курумкан,
» к тебе больше уже не стремлюсь.
Ты, Курумкан, на пути, как капкан.
Я, Курумкан, тебя очень боюсь.
Что обещаешь и что ты пророчишь,
О, Курумкан, моя давняя мука?
Правды, одной только правды ты хочешь,
а ведь меня изменила разлука!
А ведь не раз покривил я душою,
честным и искренним был не везде.
Как же теперь перед правдой большою,
перед тобою
стоять на суде?
Если отвечу, что завтра исправлюсь,
станет ли черное сразу бело?
Я со свиданием нашим не справлюсь,
"• Курумкан мой, родное село!
* *
\х, как начиналось лето сорок первого
года!
Ах, как щедро была им согрета природа!
Как оно манило молодое сердце бурята!
В это лето были резвы жеребята.
Были парни округи силой своей известны.
Готовиться начали к свадьбам невесты,
Лето таяло, лето заманивало,
на всех струнах своих позванивало,
лето было по радости невозможное
но ложилось на сердце что-то
тревожное.,
Окружили меня цветы,
называют меня на «ты».
Те цветы меня понимают
и по-русски меня обнимают,
и по-русски в танце плывут,
за собою меня зовут.
Так ласкают меня, лелеют,
гик по-русски, любя, жалеют,
так по-русски поют раздольно,
что от счастья мне даже больно.
Как Россия, песня щедра,
как Россия, песня добра,
самому мне хочется петь.
Под ногами стелется степь
очень мягким, теплым ковром,
и опять на добро добром
отвечает моя душа,
до конца раскрыться спеша.
* *
*
Смеха твоего нити прозрачные
мне теперь собирать досталось,
это то, о чем в дни удачные
не думалось, не гадалось.
Смеха твоего звуки радужные,
как лекарство, я принимал,
учился у них радости,
целый мир легко обнимал.
Не сбылись те сны неизбывные,
пролетели те дни в гульбе.
Смеха твоего звуки призывные
собирая, я рвусь к тебе.
Я такого, клянусь, не ждал,
не думал и не гадал,
но смех твой, как колокол, играет,
меня вокруг себя собирает.
* *
*
А меня сегодня грусть нашла —
ветка за окном хрустнула.
От мороза ветка хрустнула, верно,
но душа у меня суеверна...
Даль расширилась и сразу сузилась,
одинокая гармонь мне почудилась,
через всю Россию запела
и меня за сердце задела...
Перевела с бурятского С. КУЗНЕЦОВА.
Африкан Б А Л Ь Б У Р О В
1сиигА о Бурятии
моих
II Л II
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ
Глава десятая
Улара Сара
Это ноябрь. Природа нашего к р а я п этом месяце входит в долгую тяжкую зиму. Начинаются морозы. У л а р а Сара—нелегкий месяц. С древ-них пор известно, что даже с а м ы е лютые морозы лучше,
чем это предзимнее прозябание, чем эта стылая неопределенность.
Именно в этом месяце, как г о в а р и в а л и старинные мудрецы, происходит гигантская ломка природных сил, в ы з в а н н а я тем, что лето умирает окончательно и уступает свое место свирепой и седой зиме с ее
вьюгами, морозами, с ее ледяным д ы х а н и е м . Говорят, все живое подвергается великому испытанию дважды в году — в ноябре и в апреле.
Это месяцы болезней и смертей для слабых и немощных — так считалось в древние времена. И, наверное, так оно и было, когда люди
жили в войлочных юртах, в тонкостенных холодных домах, а то и вовсе в землянках, когда вместе с холодом к буряту приходил нередко
беспощадный голод. Слава богу, те времена бесследно прошли. И мне
.хочется рассказать в этой главе о том, как советское государство побороло болезни в моем краю, как оно победило в битве за всеобщее
оздоровление народа, как отступила от моего народа смерть.
Продолжение. Начало в №№ 3—5
6
1973.
Молодежь, пожалуй, и не знает, что скрывалось за понятием
«социальные болезни». В этом я ничего худого не вижу, нынешние
молодые люди могли даже и не слышать о таких болезнях. Это, ма
мой взгляд, даже оченъ хорошо, потому что молодежь у нас растет
здоровая, ей и не надо знать о том, что больше половины населения
п Бурятии была больна туберкулезом, большинство бурят страдало
трахом-ой и иными страшными болезнями. Я помнто времена, когда
советское правительство проводило мобилизацию врачей 'на борьбу с
социальными болезнями в восточных районах. Тут я должен оговориться, написав слово «мобилизация». Оно не точно в ы р а ж а е т суть
того, что происходило в те годы: никого тогда насильно н и к у д а не
посылали, ни врачей, ни учителей «и р а б о ч и х -на стройки в районы
Востока, ни инженеров — никого решительно. Весь народ горел революционным энтузиазмом, л и ч н ы е интересы у людей того времени стояли где-то на последнем плаж, на самом заднем. Вряд л°и кто тогда
нуждался в том, чтобы его «мобилизовывали».
Когда-то нынешний Джидинекий а й м а к входил в огромный Закамен'ский аймак. Мне приходилось ездить туда в молодые журналистские годы. Часто у да вял ось там охотиться на к а б а н о в . Их там водилось много, даже чересчур много, так что председатели колхозов порой обращались к охотникам из городов республики, чтобы те им
помогли предотвратить в ы т а п т ы в а н и е посевов иа полях, на что каба1ны — мастаки.
Покончив со своими корреспондентскими делами, я охотно п р и нял приглашение пойти на кабанов в местности на границе нынешнего Джидийсмото а й м а к а с Закамежжим аймаком. Был погожий
день после продолжительных дождей. Мы расположились табором нед а л е к о от берега Джиды, чтобы, дождавшись ночи, выйти на з а р а нее р а з в е д а н н ы й участок поля, облюбованный дикими свиньями.
Солнце уже н а ч и н а л о клониться к закату. Мои спутники «травили» обычмые и т а к и х с л у ч а я х охотничьи истории и анекдоты. Мне всегда кажется, что фольклористы н а п р а с н о пренебрегают этим источником
устн'ого народного творчества и не ездят вместе с охотниками на водоплавающую дичь, не ходят на загоны. Они бы обогатились изумит е л ь н ы м и записями и сумели бы доказать, что охотничьи истории —
это только для ничего 'не понимающих людей «побрехушки», что с помощью этих историй охотники высказывают в смешной, часто малоправдоподобной форме глубинные воззрения народные по самым разнообразным вопросам народной жизни, по вопросам о х р а н ы природы,
э т и к и и эстетики народной — обо всем... Об этом именно и думалось
мне под раскатистый хохот моих друзей по охоте, под шум вздувшейся от дождей Джиды. Перед моими глазами был д р е м у ч и й лес,
спускающийся со склонов гор почти к самому берегу реки, а по бер е г у — узенькая у т о п т а н н а я т р о п и н к а . Это кабаны проложили. Они
исегда идут по тайге друг за дружкой, на водопой ли движутся, на
облюбованное место пастьбы или по каким другим своим к а б а н ь и м
делам.
Вдоль реки тянется и другая тропка, но она проложена людьми,
вернее, копытами лошадей. Она утоптана до черного глянца. По ней,
я еще издали заметил, ехал всадник. Бурятский конек с крепкими
косматыми ногами нес всадника мягкой иноходью, то есть двигая в р а з
обеими п р а в ы м и , а потом обеими левыми ногами. Видно было, что на
коне сидит человек, умеющий передвигаться верхом, что это занятие для него привычное. И в то же время я заметил, что едет не местный житель, хотя никаких подробностей мне еще заметно не было.
И посадка у всадника не та, что у джидинцев, в большинстве казаков, и управляет конем не так, как это делают джидинцы. Видел я —
всадник торопится. Как только 1 выдается тропа пюровнее да получше, о« пускает коня на рысь. Всадник все ближе и ближе. Уже различаю, что на коие сидит женщина. Она еще очень молода. Русская.
Слегка заторелое белое лицо, ветерюк играет белокурыми волосами.
Тоненькая и на взгляд хрупкая. Но у маня не было впечатления,
что она слабая. К седлу приторочена большая сумка, а к н«ей аккуратно привязан пл.ащ.
„
От удивления я даже, савд не замечая, стал медленно приподниматься. Впору было ущипнуть себя: в такой глуши — и вдруг амазонка! Тут нет никаких школ, стало быть, она не учительница. Никаких нету здесь заведений, где бы могла работать эта отважная наездница*, пустившаяся в одинокое путешествие по дикой тайге. Лишь
когда она доехала до берега реки, я обнаружил на другом берегу
пять всадников. По тому, как они приветливо замахали руками, я понял, что эту молодую женщину здесь ждут, что ей очень рады.
Кто быв<ал в джидинекой стороне, тот хорошо знает, что Джида — речка своенравная. Да и все н'аши реки такие. Ведь Бурятия —
горная страна. Летом, когда начинается таяние снегов на хребтах —
таяние дружное и бурное, реки вздуваются, становятся грозными,
белопенными, страш/но ревут. Крохотная, казалось бы, речушка, а глядишь, за какие-нибудь два-три часа превращается в этакое страшилище, даже швыряется огромными к а м н я м и , выкатывает их на зеленые
луга. Попробуй, перейди такую, если у тебя нет опыта в подобном
деле!
Увидев белопенную реку, услышав ее неистовый шум, молодая
женщина резко и сильно натянула повод — конь даже о т п р я н у л на
эадн'ие ноги. Как же ей переправиться на другую сторону? Я поймал
себя на том, что слежу за всем происходящим на берегу с волнением,
что у меня появляется даже дрожь. Я стремительно поднялся, во мне
было огромное желание чем-нибудь помочь ей. Но только я вскочил
с места, йа реке стали происходить такие вещи, что я остановился
и з а т а и л дыхание. Мне показалось, конь почувствовал, что ему с молодой наездницей предстоит лезть в открывшуюся перед ним белопенную жуть. Он в с х р а п н у л и затанцевал »а месте.
— Сайн байпуу! Мэндэ а м а а р ! — крикнули с другого берега,
продолжая приветливо махать р у к а м и . — Бояться не надо!
Встречавшие, не раздумывая, ввели свюих коней в ревущий поток. Молодая женщина — вся в н и м а н и е — смотрела, как привычные
кони осторожно п о г р у ж а л и в воду свои косматые ноги, погружали
медленно, а найдя точку опоры, они не торопились перенести н,а эту
ногу вес тела. Четыре в с а д н и к а остались в воде, пятый пересек реку,
подъехал к приезжей и ловко перекинул через голову ее коня повод,
распустил его, сделав гораздо длиннее, и повел слегка упиравшегося
коня молодой женщины в реку. Четыре всадника стояли в воде. Они
стали выше того места, где пятый всадник проводил коня молодой
женщины. Я догадался, что так они поступили потому, что течение
ослаблялось от удара о живую п р е г р а д у из коней. Лошадь молодой
женщины сравнительно легко достигла другого берега. Когда конь ее
поднялся на берег, я облегченно вздохнул. До сих пор стоит у меня
в глазах эта удивительная к а р т и н а . Конечно, мне приходилось слышать в улигерах и н а ш и х старинных племенных преданиях, что так
всегда поступали воины в древности, п е р е п р а в л я я ослабевших от потери крови раненых. Но то в преданиях далекой старины. Совсем другое дело, когда такое видишь сам.
После того, как прошло у меня волнение, испытанное при виде
этой столь редкой и красивой переправы, я подумал, что будет просто недопустимо, если я не постараюсь узнать, что это была за амазонка и за каким делом она п р и е х а л а в этот глухой уголок, где нам
предстояло охотиться на кабанов. Профессия журналиста имеет в таких делах немалое преимущество: мы можем без всякого угрызения
•совести направиться куда угодно и за кем угодно, можем расспросить
у человека о цели его приезда, ничуть не волнуясь по поводу того, понравится такое любопытство этому человеку или нет. Интересное —
это то, что представляет и азарт, и служебный долг, и увлекательное
устремление журналиста. То, что интересно твоему читателю, то есть
человеку социалистического общества, а <не пресыщенному буржуа,—
это очень важШ'о, ради этого мож(но и надо постараться, ради этого
можно п мадо недосыпать и недоедать. Интересное для советского
человека — это не сенсация, это не леденящие кровь подробности
у б и й с т в а п омерзительные детали изнасилования. Нет, надо пересмотреть категорию интересного, не чуждаться этой категории, не идти на
поводу бездарных людей, которые не могут, не умеют находить интересное для советского человека, а пичкают его унылыми, абсолютно не трогающими его сердце, его эмоции прописными истинами...
Я отправился туда, куда поехала таинственная незнакомка. Нашел улус, куда она приехала. Нашел дом, куда она стремилась, переп р п н л н н с ь через такую опасную после продолжительных дождей гор•|)ую реку.
Мой дорогой читатель, мой дорогой соотечественник, то есть соиремсн'ннк семидесятых годов. Ты можешь упрекнуть м«ня в повто(>.чх, гели я скажу тебе, что улус, где я нашел мою таинственную
,|М,-| «хеку, совсем не походил Н'а нынешний бурятский улус. То было
тчкчч'лос зрелище. Моим г л а з а м представилось около полусотни крош е ч н ы х , кое-как сколоченных деревя'нныос домиков, а возле них — ничего: ни деревца, ни палисадников, ни каких-либо пристроек. Домишки сколочены из тонюсеньких лесин, крыши сплошь из дранья—досок,
особым способом отколотых от цельных бревен. Доски эти, кое-как
приколоченные, торчали у иных вразброс и н а п о м и н а л и воронье гнездо. Они были позеленевшие. «Как ж/е живут в таких д о м и ш к а х зимой?» У м«ня сжалось сердце — ведь в подобных жилищах, должно
Оыть, страшно холодно!..
Молодую женщину встречали в улусе так, как бы здесь появилась
п била встречена сама богимя Са<гаан Дариха, если бы она сущестпоиччла на самом деле, а не только Е виде статуэток в буддийских
мшиастырях-дацанах и в воображении верующих стариков и старушек. Каждый, кто встречался молодой женщине, неизменно кланялся
<-м и с приветливой улыбкой произносил ласковое «сайн байнуу»,
растягивая последний слог, как песню.
Кем же оказалась поразившая меня «таинственная амазонка», так
лежд.тнно прибывшая на коне в глубокие дебри Джиды, в места, где
II то время была знатная охота на кабанов?
Ее зовут Екатерина Михайловна Никифорова. Когда я произношу
но и м я , всегда мысленно кланяюсь этой удивительной женщи-не,
прибывшей в числе первых врачей в нашу республику в тридцатые
I ('Д Ы.
Давай, дорогой читатель, последуем вслед эа этой женщиной в
•пну из полуюрт-полудомов, посмотрим, что она там будет делать. Я
же был несказанно удивлен, когда услыхал, что ее назвали Катенька.
Д у м а ю , вам будет интересно уз»ать, за что так ласково-нежно назвал
Н'.чрод в Бурятии эту молодую русскую женщину, будет интересно н а й т и объяснение тому, что ее далеко за улусом встречали на берегу пяк'ро всадников и что эти всадники так заботливо оградили ее от ударпи бешеных струй горной реки.
В доме в нос мне ударил густой кислый запах. Маленькие два ок•на пропускают м а л о света. Широкая деревянная кровать. На ней постель— вся из кожи и овчины: кожаный матрац, кожаная подушка,
овчинное одеяло. Посреди дома печка, вернее, не печка, а плита — широкая, низенькая. На почетном месте, или по-бурятски, хойморе, тс
есть у противоположной входной двери стены, нечто вроде комода;
на не'м бронзовые ф и г у р к и божков, перед ними в бронзовых чашечках
жертвенная «еда» для божков. Теплятся лампады,
Окинув взглядом помещение, молодая женщина решительно направилась к углу, где лежал малъчик лет десяти. На его глазах толстая и невообразимо грязная пов'язка. Постояв у кровати, приезжая
внимательно еще раз оглядела обстановку дома и решительно развязала большую сумку, что была приторочена к седлу, вытащила оттуда и надела белоснежный халат. Затем достала бутылочку спирта
и стала н а т и р а т ь себе руки. После этого она сняла и отбросила с
глаз мальчика повязку. Под нею оказались две лепешки из теста, положенные на _ глаза...
— Башиба,— дрогнувшим голосом сказала мать ребенка, молитвенно сложив н.а груди руки,—Катенька-дохтор п р и е х а л . Теперь мальчик лучше будет. Шибко худо ему. Я липошка положил ему на глаза:
липошка холодна, глаза шибко горяча. Шибко большой тебе башибаГ
У .мальчика было острое т р а х о м н о е воспаление. Глаза плотносомкнуты, из-под век сочится гюой. «Как же ему, бедняжке, больно!»—
подумалось мне. Я никогда не могу равнодушно смотреть на больного, страдающего глазами. У меня самого в далеком детстве почти полгода болел пораненный обезумевшей от злости мачехой левый глаз.
Мне тоже клали на глаза лепешки из теста, сыпали мне в глаза порошок из квасцов...
— Потерпи, мой милый,— мягким грудным голосом сказала Екатерина Михайловна, которую мать ребенка назвала «Катенька-дохтор».— Сейчас я тебе сделаю немножко больно, потерпи, мой хороший...
Осторожно разомкнув веки, Екатерина Михайловна навела на
воспаленный красный глаз лупу. Мальчик, сжимаясь от боли, старался не ерзать. Лишь по выступившему на лбу холодному поту опытный врач определила, насколько тяжело больному мальчишке смотреть Н'З дневной свет. Его мать, напряженно следившая за каждым
движением гостьи в ослепительно белом х а л а т е , старалась слово в
слово переводить ее слова. Я псжял по выражению лица Екатерины
Михайловны, что чуть опоздай помощь — и весь огромный многоцветный мир, весь этот многообразный мир для малыша погрузился бы
во тьму. По мере того, как Екатерина Михайловна всматривалась в
чуть приоткрытый больной глаз, у нее стало светлеть лицо. Я ощутил
такую радость, что ее мне не позабыть в течение всей моей жизни. Вот
почему она так спешила в этот бедный, убого обставленный дом! И
вот почему ее так бережно провели буряты из этого улуса через грохочущий поток, и вот почему в народе эту женщину, этого несущего'
свет в р а ч а так ласково н а з в а л и «Катенька-дохтор!»...
— Мальчик будет видеть! — твердо, словно от того, как она этоскажет, будет зависеть исход лечения, с к а з а л а Екатерина Михайловна.
— Башиба, башиба, Катенька-дохтор,— закланялась обрадованная мать.— Мы все знал, что Катенька хорош дохтор, Катенька спасет глаза мальчик!..
Это было три с половиной десятилетия назад. Тогда Екатерина
Михайловна Никифорова, посланная в наши к р а я на борьбу со страшным врагом всех народов Востока, только начинала свою великую
битву с трахомой. Этот враг каждый год гасил свет в глазах сотен и
тысяч людей, калечил сильных, отними л последнюю радость у слабых.
Этот враг с течением веков не знал себе, достойного противника. Он
подбирался к новорожденному, делал несчастным лучшего охотника,
10
приносившего домой на радость родным десятки шкурок соболей, добытых знаменитым сибирским «выстрелом в глаз». И с этим страшным
врагом вступила в нашей" Бурятии в единоборство Екатерина Михайловна Никифорова. Вступила в единоборство тридцать с л и ш н и м лет
назад. Почти одна, еще н,е имея достаточного врачебного опыта. Трахома. Давным-давно эта болезнь стала всеобщим бичом народов, куда устремлялись колонизаторы, безжалостные и хищные грабители
трудового люда. Недаром эта болезнь стала именоваться социальной
болезнью. И потому-то в борьбе с нею должны были применяться не
только врачебные средства. Разъезжая без устали из а й м а к а в аймак,
из улуса в улус Никифорова столь же неутомимо несл>а в эти улусы,
в юрты и дома скотоводов и хлеборобов санитарные знания. Новый
уклад жизни, что создавался в бурятских улусах с появлением колхозов и совхозов, давал исключительно благоприятные условия для
полной перемены веками сложившихся привычек, обычаев и норм. Опираясь на эти благоприятные условия и действовала
Никифорова и
как врач, и как великолепный пропагандист. Действовала с редкой
настойчивостью, преодолевая с поразительным мужеством бураны и
морозы в зимние месяцы, летнюю жару и бездорожье,
отсутствие
многих и многих элементарных бытовых удобств. И она вышла победительницей. Сейчас в Бурятии т р а х о м ы нет, о ней уже успели позабыть!
И поныне работает Екатерина Михайловна Никифорова. Такие
люди не могут не работать, ибо весь смысл их жизни заключается в
труде, в упорном, целеустремленном и постоянном. Она награждена
орденами и медалямл, она заслуженный врач РСФСР. Но с а м а я большая награда этому человеку — неугасимая кар одетая признательность,
живая благодарность сотен и тысяч людей, которых лечила, которым
отдала все свое умение и все свои силы — без остатка, ничего не оставляя про запас, ничего не утаивая. Пожалуй, мало в республике людей, которых бы не лечила эта всегда бодрая и никогда не унывающая русская женщина-врач, представительница славного племени энтузиастов тридцатых годов, душой и сердцем откликнувшихся на призыв партии и советского правительства выехать на Восток. Она приехала к нам в те годы и отдала Б у р я т и и и ее народу всю свою
жизнь. Мне доставляет особую радость писать эти строки, ибо восемнадцать лет н а з а д я был спасен ею в прямом и переносном смысле
этого с л о в а — г р о м а д н ы й опыт и упорство Екатерины Михайловны
сохранили мне зрение в результате четырех с половиной месяцев борьбы с сильнейшим воспалением — результатом нервной реакции после
восьми лет небывалого душевного напряжения... Я кланяюсь Екатерине Михайловне и унэн> зурхэноос — от правды своего сердца говорю
ей: а м а р сайн та>нда, спасибо и привет вам, Екатерина Михайловна!
Я должен бы н а з в а т ь здесь много славных имен врачей, которым
обязан народ мой своим оздоровлением, обязан тем, что по уровню
постановки святого дела народного здравоохранения наша республика
стоит на одном из первых мест. У нас достигнута б л а г о р о д н е й ш а я и
см мая великая победа—это почти полное исчезновение детской смертности. Посмотрите, сколько резвится детей в моих улусах и селах,
черноволосых,
русоволосых,
рыжеволосых,
темноволосых — этих
ж н и ы х цветов моего народа! Но я не в состоянии назвать все имена,
н.чтому что — слава нашей партии и советскому государству! — этих
и м е н — масса, их сотни и тысячи. Иначе, если бы у нас все время
р л й о т а л и лишь единицы, им бы не удалось совершить то, что соверш е н о , — возрождение народа на основе полного раскрепощения дух о п п м х и физических сил людей на основе неуклонного повышения
материального и культурного уровня жизни народа, ставшего ныне обр а з о в а н н ы м и богатым, смело и уверенно смотрящим в будущее. Мне
11
хочется, да, пожалуй, я обязан остановиться еще на одном имени. Это
имя, которое мы обязаны увековечить,— имя доктора Андрея Тимофеевича Трубачеева.
Из среды бурят нет-нет да выходили еще до революции отдельные личности №а поверхность общественной жизни, становясь в ряд
представителей тогдашней страшно немногочисленной интеллигенции.
На мой взгляд, это и закономерно. Народ непрерывно творит таланты и точно так же, как из тысяч и тысяч икринюк обязательно
выживает хотя бы одна, из массы выдвигаемых народом талантов даже при невероятно трудных условиях должны пробиваться наиболее
сильные единицы. Пример Доржи Б а н з а р о в а — тому свидетельство.
Это несмотря на то, что царизм мял, давил и душил народные таланты сотнями и тысячами. Одним из таких единиц был Андрей Тимофеевич Трубачеев, окончивший еще задолго до революции Томский университет и ставший первым врачом из бурят с высшим образованием.
Помню, как я корреспондентом «Правды» по Бурятской АССР однажды попросился на встречу с Андреем Тимофеевичем Трубачеевым,
некоторое время после войны еще работавшим в венерологическом
диспансере. Передо мной предстал седоголовый, сухонький старичок с
внимательными, пытливо изучающими умными глазами.
— Чем я могу служить? — спросил он.
Я запомнил этот вопрос Андрея Тимофеевича не потому, что он
•был красиво обыкновенен, исходил из обихода, из привычного этикета обращения друг к другу представителей русской интеллигенции,
воспитанниками которой были наши старые интеллигенты, а потому,
что я придал тогда этому вопросу его прямой, не переносный смысл.
Этот вопрос как нельзя точно подходил к самому Андрею Тимофеевичу Трубачееву, который всю свою долгую жизнь служил людям, своему народу, служил, не требуя взамен ничего, никакой славы не домогаясь, на нее не надеясь и ее не ожидая, служил, терпя порой лишения, даже унижения и невообразимые бедствия. Мягким, но привычно
властным врачебным жестом о» показал на стул. И тут я покрылся
внезапно н а х л ы н у в ш и м потом, мне стало жарко: ведь он подумал, черт
возьми, что я пришел к нему, врачу-венерологу, как пациент!.. Черт
•бы меня побрал, -надо было ведь предупредить его о цели своего визита, а не в ы г о в а р и в а т ь такое: «Андрей Тимофеевич, можно к вам
прийти? Говорит Бальбуров». Когда же выяснилось, что я пришел к
нему не в качестве пациента, а как корреспондент «Правды», Андрей Тимофеевич улыбнулся и сказал:
— Ничего постыдного нет в том, что вы перешагнули порог моего кабинета. Когда-нибудь люди н а у ч а т с я заходить в такие кабинеты
точно так же, как заходят в парикмахерские. За< кожей надо ухаживать больше, чем за волосами. Предрассудки, к сожалению, чрезвычайно глубоко сидят в нас, во всех без исключения...
Это был удивительный человек в том смысле, что с первых его
слов человек проникался к нему абсолютным доверием, тем особым
доверием, которое возникает у нас к людям подавляющего, но обязательно доброго ума, с полуслова понимающего твои мысли, слушающего тебя с мягким пониманием, а не жестким, не ехидно умным,
не вельможным. Чего греха таить, нередко мне приходится беседовать
с человеком, который еще вчера относился к тебе нормально, а тут,
как только занял руководящее кресло, уже смотрит на тебя другими
глазами, не так, как прежде, смотрит на тебя уже снисходительно,
свысока, как-то даже подтрунивающе. Это — от недостатка культуры
обращения с людьми. Это, конечно, пройдет. Наше поколение — это
ведь поколение фэзэушное, рабфаковское, выдвиженческое. Откуда
нам было брать з н а н и е всех норм, которые обязательны при общении
с людьми, которые по своей глубинной сути представляют собой це12
лую н а у к у . Да, умение общаться с людьми представляет собой целую
науку. Если вообще все науки призваны служить людям, их потребностям, их близким или оглашённым нуждам, то, конечно же, наука о
самом человеке, о человеке новой, социалистической эпохи, о его особенностях, о его недостатках и его достижениях, о его перспективах,
о х а р а к т е р е и формах отношений людей друг к другу в 'наших услов и я х — ъто не самая м а л о в а ж н а я из наук, созданных человеком.
Улан-Уд'энская кумысолечебница, этот единственный в стране туберкулезный санаторий такого типа, был создан Андр-еем Тимофеевичем Труб'дчеевьш. Его уже давно нет в живых, а санаторий, носящий
его и м я , здравствует, развивается. Конечно, на него надо бы обращать побольше внимания нашим ведающим курортами властям. Между прочим, я был обрадован по-настоящему, когда у з н а л о том, что
противоестественное объединение курортов с управлением в Чите упр.ч 1ДНСЧЮ, что отныне все курорты Бурятии будут иметь свое собственное управление. Я говорю «противоестественное», имея в виду, что,
(срж.ч в рунах ресурсы на все курорты Восточной Сибири, управление, находившееся в Чите, львиную долю этих ресурсов направляло
|млько на курорты читинские — десятки миллионов читинскому кур о р т у «Дарасун» и лишь десятки тысяч не менее важному всесоюзному курорту «Аршан», находящемуся в Бурятии!..
Андрей Тимофеевич Трубачеев был народным комиссаром здравоохранения нашей республики. Если мы имеем основания благодарить
Г.нптер'Ину Михайловну Никифорову за ее огромные заслуги в борьбе
г трахомой, то Андрею Тимофеевичу Трубачееву бесспорно принадл е ж и т заслуга в организации самой широкой, всенародной борьбы со
песий социальными болезнями. Первые диспансеры были организованы им. Первые родильные дома были организованы в Бурятии им.
11ср'пые районные больницы были организованы тоже им. Первые сан п т о р и и на территории республики были организованы опять-таки им.
Я помню, как в тридцатых годах в бывшем монастыре в селе Троицкос по инициативе Андрея Тимофеевича Трубачеева был открыт перн!,1Й и единственный в Восточно-Сибирском крае пионерский санаторий. Неутомимый и последовательный, Андрей Тимофеевич добился
о т к р ы т и я детского туберкулезного санатория в Ильинке, костн.о-туберкулсзного санатория недалеко от курорта «Аршан».
Из своей беседы с Андреем Тимофеевичем я навсегда запомнил
сто пространный ответ на мой вопрос о тибетской медицине. Точнее
говоря, это были размышления вслух человека-, который хорошо знал
многих выдающихся представителей этой медицины, который всю свою
жизнь интересовался ею. Да оно и понятно, потому что н а ч а в ш и й
свою деятельность еще до революции Андрей Тимофеевич провел лучшие свои годы во времена полного засилия в бурятских степях буддийских дацанов, в которых и была заключена тибетская медицина.
Трубачеев всегда делал различие между ламами-тунеядцами, которых
еще Николай Бестужев назвал страшной язвой на теле бурятского
племени, и э м ч и - л а м а м и , то есть л а м а м и - л е к а р я м и , никогда н и к а к и х
религиозных служб не отправлявшими. Эти люди только назывались
ломами, а на самом деле то были великие труженики, проводившие
все свое время за с о б и р а н и е м лекарственных трав, з а б и р а в ш и е с я в
поисках этих трав порой на головокружительные стремнины — что теГю альпинисты! Они проникали в самые глухие дебри тайги. Давно
подь известно, что природа свои сокровища прячет в самых труднодос т у п н ы х местах — есть лекарственные растения и лекарственное сырье, ценимые намного дороже золота! Вы знаете, где добывают знаменитое мумиё? Оно бывает только в скалах, на огромной высоте,
доступной лишь орлам.
— К тибетской медицине надо относиться серьезно,— говорил
А н д р е й Тимофеевич.— Уже одно то, что ей около трех тысяч лет, го13
ворит само за себя. Собственно, эта медицина лишь условно может
называться тибетской. В действительности она вбирает в себя л у ч ш и е
достижения медиков Индии, Китая, Цейлона, Бирмы, Непала, Монголии и многих других буддийских стран. Я не считаю правомочным,
когда некоторые из нас титул научной медицины, не задумываясь, присваивают только той медицине, которая существует в Европе. Кстати, эта
последняя ведь появилась на основе развития естествознания в Европе и ей 'не больше трехсот лет. Мы не можем разделять подобной
точки зрения, будто вся остальная, неевропейская, медицина н е н а у ч н а .
Громадный опыт человечества, всю свою историю боровшегося с болезнями, достоин самого в н и м а т е л ь н о г о и п р и с т а л ь н о г о изучения.
Смешно отвергать, объявляя ненаучной, медицину Востока, которая
вошла в быт народов, представляющих собой больше половины человечества, медицину, которая развивалась в странах древнейших цивилизаций. Спору нет, велики достижения современной медицины в
с т р а н а х Европы, особенно в области х и р у р г и и и в областях, связаниых с успехами микробиологии. Но мы ведь даже не представляем себе, что кроется в а р с е н а л е средств, накопленных поисками и трудом
десятков и сотен поколений талантливых врачей восточной медицины...
Андрей Тимофеевич говорил тихо, чуть глуховатым голосом, не
торопясь, обдумывая и взвешивая каждое слово:
— В системе подготовки в р а ч е й восточной медицины вы можете
о б н а р у ж и т ь поразительные вещи. Речь идет о направлен-нем обучении.
Когда-нибудь, на мой взгляд, с соответствующими к о р р е к т и в а м и и мы
придем к этому. Врач внимательно и в течение продолжительного
времени п р и с м а т р и в а е т с я к ребятишкам и в результате отбирает себе одного из них в качестве х у в а р а к а или у ч е н и к а . Мальчишке этому
лет шесть-семь. Он обучался у своего эмчи-ламы столько лет, сколько нужно для изучения и з а п о м и н а н и я свойств лекарственных растений порядка до десяти и более тысяч. Заметьте, что тибетская медицина не признает общих лекарств, пригодных к всеобщему употреблению. К а ж д ы й организм — это обособленный м и р , у ч а т тибетские
медики. Организм у н и к а л е н . Как из всего г р о м а д н о г о количества людей на п л а н е т е Земля нельзя н а й т и двух абсолютно одинаковых лиц,
так же нельзя найти два совершенно о д и н а к о в ы х о р г а н и з м а . Отсюда
следует, что в с т р а н а х Востока п р и н я т о лечить д а н н у ю болезнь в
данном организме. Каждый эмчи-ла-ма является и врачом, и ф а р м а цевтом, он сам изготовляет н у ж н о е для этого организма лекарство в
нужной для его сил дозировке. Учится наш мальчик у своего учителя
лет до пятнадцати-шестнадцати. После этого ему устраивается своеобразное испытание и, выдержав экзамен, он получает соответствующую л а м с к у ю степень. На этом отнюдь не заканчивается его образование. Пройдя, так сказать, под наблюдением своего учителя практику в течение двух-трех лет, молодой эмчи отправляется в паломничество в Лхасу, где, изучая первоисточники в течение пяти-шести, а
то и больше лет, он совершенствует и углубляет свои теоретические
познания. Таким образом, получалось, что врач тибетской медицины
обучался в общей сложности двадцать пять лет. Конечно, в такой
системе обучения есть наряду с несомненными сильными сторонами
и свои слабости. Я веду речь о том, что кроме медицины обучаемый
по такой системе ничего не изучает и практически ничего другого не
знает. Но зато медицинские познания у него, конечно, были поразительны. Я знавал многих больших лекарей тибетской медицины, подолгу беседовал с ними. Это, конечно, выдающиеся медики. Я у к а ж у
вам только на два феноменальных достижения восточной медицины.
Первое — это такое доскональное знание анатомии человеческого тела, когда врач знает свыше трех тысяч точек на человеческом теле,
куда можно вводить тупую иглу без нарушения, без повреждения тка14
ней. Иглоукалывание — одна из загадок восточной медицины, ему,
очевидно, п р и н а д л е ж и т большое будущее в лечении разного рода
•нервного происхождения заболеваний. Второе — виртуозное владение
техникой массажа. Врачи восточной медицины делятся обычно на эмчи и домчи. Первые имеют дело с изготовле'нием лекарств из различных трав и другого лекарственного сырья, вторые же — с лечением
больных без употребления лекарств, с помощью р а з л и ч н ы х природных
-средств—термальных вод, грязей и массажа. Меня знакомили с домчи, которые умели посредством глубокого внутреннего массажа' прерывать беременность, излечивать аппендицит, в ы п р а в л я т ь 'ненормальное положение желудка. Такой врач может проводить нужное воздействие на кору головного мозга через черепную коробку, он умеет массажировать любой внутренний орган. Все это — результат многотысячелетнего опыта. Все это -надо изучать и изучать, и ко всему этому
нельзя и смешно относиться снисходительно с позиций ТУ к н а з ы в а е мой европейской научной медицины. А вы знаете, откуда взялось такое отношение к восточной медицине? Есть две п р и ч и н ы . П е р в а я —
все те же колонизаторские устремления европейцев, в ы р а б о т а в ш и х
целую идеологию культуртрегерства по отношению к с т р а н а м Востока, забавную идеологию, говорящую о том, что все в этих с т р а н а х
варварское, низшее, менее развитое. Вторая — то, что в к а п и т а л и с т и ческих странах Европы медицина, а в особенности фармацевтика, давно
уже стали предметом и объектом коммерции. Концерн «И. Г. ФарПсннндустри» контролировал всю фармацевтическую промышленность Герм а н и и , п р о и шодящую лекарства, заметьте, для всего к о н т и н е н т а . Зак о н ы к о н к у р е н ц и и полностью действуют и в этой области, к а з а л о с ь
Лы, г п н ю й и по допускающей к а к и е бы то ни было р е к л а м н ы е ш т у ч к и . Для н и ш е й же с т р а н ы противно и то и другое. Мы свободны от
ко.'кыи (аторского отношения к Востоку, нам чужд и п р о т и в е н дух
к о м м е р ц и и в делах производства и продажи лекарств. И м е н н о н а ш е й
м с д п и и п с к о й науке поэтому, естественно, должна п р и н а д л е ж а т ь главн а я роль и изучении особенностей восточной медицины, в обогащении
с п и р с м с п н о й нашей медицины достижениями врачей Востока. Медиц и н а З а п а д н о й Европы не может противопоставлять себя медицине
остального мира хотя бы потому, что католическая р е л и г и я с се инМН1 нищем") в средние века истребила всех народных л е к а р е й , всех тех,
кто был носителем медицинского фольклора, истребила как колдунов. У ж а с н а я
сила эта •— изуверы-инквизиторы — возвела смерть в
р а н г божественного, а потому не подлежащего с о п р о т и в л е н и ю человека явления. Мистическое непротивление болезням и смерти, преследование лекарей в средние века обусловили с т р а ш н у ю отсталость европейской медицины к приходу нового в р е м е н и . II вот парадокс: громадный скачок, совершенный этой медициной за три с небольшим столетия, вместо того, чтобы возбудить у ученых медиков активную и
жадную любознательность, наполнил их умы невообразимым самомнением, чувством превосходства по отношению ко всему, что было и есть
н неевропейской медицине. Конечно, скачок был сделан действительно впечатляющий, но для самомнения не было и нет сейчас никаких
оснований.
Многое из того, что г о в о р и л Андрей Тимофеевич, сейчас претворено в жизнь. В Бурятском ф и л и а л е Сибирского отделения Академии
наук СССР открыт отдел тибетской медицины. В нем идет изучение
древних прописей, древних к а р т и схем, множества древних книг, содержащих медицинские сведения. Я лично знаком давно и дружу с
одним из специалистов ф и л и а л а Альбертом Базароном, кандидатом
медицинских наук, р а б о т а в ш и м долгое время главным врачом онкологического диспансера республики. Превосходно зная старомонгольскую письменность, он неутомимо находит и читает древние прописи
тибетской медицины, активно их изучает. Я возлагаю большие надеж15
ды именно на такого род,а ученых, которые в состоянии сравнивать
сведения по медицине, добытые в далекой древности и зарегистрированные в полуистлевших книгах, с тем, что канонизировано медициной нашего времени. Только подобным образом, с р а в н и в а я и сопоставляя, можно врачу обогащать себя, раздвигать горизонт своих познаний. Глубоко заблуждаются, на мой взгляд, те, кто фетишизирует прогресс, возводя его в абсолют, кто считает, что наш современник со своими представлениями о мире, нас окружающем, со своими мощно развившимися естественными науками, преимущественно точными науками,
стал намного умнее и намного лучше тех, кто жил в глубокой древности.
Прогресс человеческий, оказывается, лишен всеобщности, развитие идет
страшно неравномерно. Человеческая история до появления нашего общества — это история самого утилитарного, откровенно спекулятивного
отношения к развитию наук. В обществе, основанном на чистогане,
деньги давались только на такие науки, которые в состоянии стать действенными помощницами либо в «делании денег», либо в наилучшей подготовке к ведению кровавых захватнических войн. Вот почему и в медицине, в медицинской науке наибольшее развитие получила хирургия
и микробиология — то есть разделы медицины, имеющие прямое отношение к войне. В этих условиях да еще если иметь в виду колониалистские взгляды идеологов империалистического Запада — неудивительно,
что неевропейские медицины, в том числе и восточная медицина, не изучались. Более того, все эти медицины были объявлены шарлатанскими. Понятно, что на изучение, на серьезное капитальное их и з у ч е н и е
никто денег не давал.
В нашем обществе спекулятивнее отношение к н а у к а м у с т р а н е н о
государственным планированием развития науки, при котором нет и
не может быть места уродливой неравномерности в р а з в и т и и отдельных научных дисциплин, а внутри науки не может быть подавляющего преимущества отдельных проблем. Пятьдесят лет — для истории миг. Но то, чего достигла советская н а у к а за полвека, просто
фантастично. И, пожалуй, с а м а я большая заслуга нашей науки — это
развитие, причем мощное развитие, фундаментальных наук, на основе
достижений которых гармонично развиваются все научные дисциплины.
К 50-летию о б р а з о в а н и я Бурятской АССР наше книжное издательство выпустило довольно объемистую,
красиво оформленную книгу
под н а з в а н и е м « Б у р я т и я ш а г а е т в к о м м у н и з м » . Это — сборник статей,
посвященных золотому юбилею р е с п у б л и к и . В числе этих статей есть
выступление Председателя Совета Министров Бурятской АССР Николая Буиновича Пиворарюва. Вот что пишется в этой интересной статье о нашем з д р а в о о х р а н е н и и :
«В советское время осуществлена ш и р о к а я программа по о х р а н е
здоровья трудящихся, улучшению системы медицинского обслуживания населения.
К моменту образования республики здесь имелось всего 23 врача и 79 других медицинских работников. Старый строй оставил после себя
тяжелые социальные болезни, которые были особенно распространены
среди бурятского и эвенкийского н а с е л е н и я . А н т и с а н и т а р и я , частые
эпидемии... Народ вымирал. Чрезвычайно высокой была смертность
детей. Редкая семья имела два-три ребенка.
Советское государство впервые в истории взяло на себя полную
заботу об о х р а н е здоровья трудящихся...
В наши дни республика располагает широкой сетью медицинских
учреждений, большой а р м и е й врачей и других к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
работников.
На каждые десять тысяч населения сейчас в больничных учреж16
д с н и я х приходится 120 мест, вместо 7,8 места в 1925 году. На такое
же количество населения в 1923 году приходилось 0,7 врача, а в 1970
году — 21,3 в р а ч а .
В системе мер по охране здоровья трудящихся особое место отводится охране материнства и младенчества. В каждом городе и крупном селе имеются родильные дома или специальные палаты. Женщин.-1-мать может получить квалифицированную помощь или консультац и ю врача. В республике имеются детский с а н а т о р и й , лесная школа,
открыты молочные кухни... Ежегодно 23—24 тысячи детей школьного
поараста отдыхают в период каникул в оздоровительных лагерях.
Советская власть предоставила трудящимся Б у р я т и и , всему соиетско-му народу одно из великих п р а в — на бесплатное медицинское
обслуживание, чего нет ни в одной капиталистической стране. На эти
ноли только в 1970 году из бюджета республики было израсходовано
•более 32 миллионов рублей».
У л а р а Сара... Я соотнес н а з в а н и е этого месяца с м о и м и размышл е н и я м и о физическом возрождении народа. Мне хочется, чтобы меня
п р а в и л ь н о поняли. Меньше всего я р а с с ч и т ы в а ю на то, что я будто
>бы открываю какие-либо историко-лингвистические, доселе ученым
неизвестные категории — боже сохрани меня от такого л е г к о м ы с л и я ,
от такой нескромности. Нет, в душе моей названия месяцев звучат
как еле слышные поэтические напевы, и я не ручаюсь, что они у меня н ы р а ж л ю т точное соответствие предмету моих р а з м ы ш л е н и й . Соб•стненпо гоиорн, русские поэты имеют полное право свои размышлен и я , сноп поэтические грезы о России, о родной русской п р и р о д е олиш м п о р т ь н образе белоствольной березы, несмотря на то, что эта
с л м л н береза растет не только на территории России. Русские люди
имею г полное право устраивать красивый праздник Русском зимы,
««•смотри на то, что зима в Якутии, в Забайкалье, куда более продолж и т е л ь н а , чем в Саратове или в Орле. Я вполне допускаю, что мое
толкоплпие названий месяцев может вызвать у одних улыбку,
у д р у г и х сердитые возражения. Бог им судья! Я не д у м а ю , что мне
нлдо непременно уступать кому бы то ни было мое п р л п о на свое толь о н а н и е , писательское толкование древнебурятских н а1: т а н н н меся1НЧ1 т а к , как мне нравится. Есенин, говоря о глупой лупе , конечно же,
имел в виду свое душевное состояние, собственные поэтические обрами, но никак не имел в виду буквальное п о н и м а н и е своих поэтических строк. Я составляю для себя невидимое ожерелье из моих кам п а н и й месяце? и к каждому из них хочу п р и к р е п и т ь самую для меня большую драгоценность — это кусочек ж и з н и моего народа, одну
и.1 сторон фантастически богатой и сверкающей алмазными гранями
ж и з н и . Собственно, поэтому я и п р и б а в и л к споен «Книге о Бурятии»
приложение относительно двенадцати моих драгоценностей. Если кто
правильно меня понял, я ему благодарен. А если нет, то что делать—
никогда нельзя рассчитывать, что ты будешь понят абсолютно всеми!..
Глава одиннадцатая
Уури Сара
По-бурятски название этого месяца означает Месяц Рассвета. Дело, видимо, в том, что этот месяц — по Маяковскому,
«хмурый декабрый»— самый темный месяц в году. Да, декабрь именно таков,
потому что на него приходится самый короткий день в году, и солнце, окутанное желтым морозным туманом, еле освещает закоченевшую, оледеневшую и сплошь закуржавевшую землю. За полярным
2. «Байкал» № 6
17
кругом в это время — сплошная темень, полярная ночь. Но вот после
22 декабря день начинает прибывать. Правда, крошечными долями,
но все же начинает прибывать. И люди заметили это, заметив, назвали месяц таким красивым образом: Уури Сара, или Месяц Рассвета!
У Хоца Намсараева роман носит название «Уурэй толон» или
«Рассветный луч», «Рассветное свечение». Переводчики очень правильно перевели «На утренней заре». Вообще слову уур буряты придавали большое значение. Сочетание «уур сайгаа» или «уур саиба» — «рассвет настал» они всегда произносили уважительно, даже можно сказать почтительно.
Отец мой с улыбкой смотрит на меня, но я вижу, что он улыбается своим воспоминаниям, вызванным моим вопросом о месяце Уури,
о том, что говорили буряты в старину об этом названии.
— Уури сарада уусэеээ эдидэг байгаа,— говорит он.
Это означает: в Уури Сара начинали во всю питаться заготовленным на зиму мясом,. И только-то? Я не скрываю своей разочарованности: такое красивое название — и вдруг такая проза! И у меня всплывает далекое видение из моего полусиротского детства: гораздо старше меня подросток держит левую руку за спиной, смотрит на меня приветливо и даже ласково, указательным пальцем правой руки манит
к себе, подзывает,
— И-ло-о-о!—говорит он, добродушно растягивая последний
слог.
Это слово — междометное, им обозначается нечто вроде: хочешь
посмотреть, что у меня за спиной в руке? Обычно имелось в виду,
что в руке спрятано для ребенка что-то вкусное, это вкусное может
быть подарено. Я доверчиво, но все же с опаской иду. Маленьким я
очень мало видел подарков, страшно редко п е р е п а д а л и мне сладости.
Дождавшись, когда я приближусь к нему, подросток вдруг взрывается злым хохотом и из-за спины подносит к моему глазу кукиш.
Я растерянно смотрю на этот самый кукиш и зачем-то замечаю, что
большой палец, просунутый между указательным и средним, непомерно длинный и с давно не обрезанным ногтем. Это было очень давно,
по не забывается детская обида. Конечно, я не назову глупого обидч и к а — мало ли что бывало в детстве! Куда хуже бывает, когда такое непотребство совершается людьми взрослыми, куда тяжелее бывает твое состояние, когда ты берешься за к н и г у , о которой так сладостно, так д р у ж н о поет хор критиков,— и к концу го страшной досадой убеждаешься, что тебя бесстыдно задули, книга ровным счетом
ничего не стоит, она не содержит пи сведений, которые бы обогатили
твой ум, твою память, ни души в ней, ни сердца, ни даже занимательного сюжета. Такого никогда не случается с народным творчеством, в
любом его произведении обязательно что-нибудь да найдешь. Только
надо уметь искать, не идти к произведению народного творчества
рсбкими детскими шажками, а пытливо и настойчиво допрашивать
сказителя — и ты будешь вознагражден.
— Ты расскажи мне,— обращаюсь к отцу,— что в улусе происходило еще в это время, кроме того, что ходили друг к другу есть усу. Я
помню, как это делалось: уса — забой крупного животного — это был
йраздник, особенно для бедных, потому что полагалось приглашать к
столу каждого, кто принимал участие в этом нелегком деле да еще на
морозе. Что же еще происходило в это время в нашей Хурсанге?
Отец смотрит в мою сторону ласково, задумчиво. Я знаю, что он
перебирает в своей богатейшей памяти длинную вереницу маленьких
улусных дел, крошечных событий, происходивших в Уури Сара в морозном сивом декабре. И вдруг:
— Ябага'Н Багша!
Отец, всегда ровный и спокойный, мудро выжидающий нетерпе18
л иного собеседника, тут чуть не крикнул. Его большие умные глаза
н ы р а ж а л и радостное волнение.
— Да, да, я забыл сказать тебе: Я б а г а н Багша в это время нач и н а л ходить по домам, записывал ребятишек. Это был очень хорош и м человек, его все любили. Это был сильно старый человек, больт л я седая борода была у него.
И я услыхал рассказ о ссыльном поселенце, которого звали в нашей Хурсанге Я б а г а н Багшой. Что это означает? Попытаюсь объяснить как можно понятнее.
Читатель, разумеется, знает, что оывают большие крестьянские
ел ни, этакие розвальни, но бывают и санки, на которых катаются де1и. Причем тут сани? Минуточку терпения, и я все объясню.
В языке у бурят нет просто уменьшительного суффикса, есть суффикс уменьшительно-ласкательный. Когда хотят выразить значение
малого по отношению к большому, употребляют специальное, это знач г н и о выражающее слово. Например, большие крестьянские сани —
но шарга, а маленькие детские санки — это ябаган шарга. Так вот,
и улусе не было настоящего, то есть властями назначенного, получающего жалование учителя, обучением детей занимался приписанный
на жительство в наш улус ссыльный поселенец. Поскольку настоящего
олппн не было, ссыльный поселенец, учивший улусных детишек, был
не полный багша, не настоящий, а ябаган багша.
Из рассказа отца я понял, что это был за я б а г а н багша. Воображ е н и е мое рисует образ высокого, с большой окладистой бородой, с
полосами белыми, как только что появившееся на небе облако, русского учителя, сосланного за то, как со страхом говорили хурсангайцы,
ч к > он был в числе тех, кто поднял руку на царя. Сначала его боялись:
ш у т к а ли — против царя идти! Это ужасно — так говорили моим одноу л у с н и к а м родовые властители. Но когда к нему пригляделись, ока.чллось, что он очень добрый человек, знающий все, понимающий все
и готовый все сделать для любого, кто к нему обратится. Вот он и
ходил в Уури Сара из дома в дом, знакомился с м а л ь ч и ш к а м и и девч о н к а м и , что подрастали и были уже готовы идти к нему учиться. Он
•||||к;|ких денег не б р а л за свою работу. Уговорились х у р с а н г а й ц ы
г и к , чтобы старик учитель кормился по очереди у родителей тех де|си, которые у него учились. Бессребреник был. Его звали Савел. Ни
ф а м и л и и его, ни отчества никто, конечно, не помнит. Буряты всегда
\ и м с л н дело лишь с именами. Как я ни р а с с п р а ш и в а л , никто не смог
мне помочь установить, кого из революционеров закинуло к нам. Он был
одним из тех, кто посвятил всю свою жизнь служению народу, не делая
различия, на каком языке люди, составлявшие в его представлении народ, говорили. Отец рассказывал мне, что не раз бывало, соберутся в
домике, отведенном Савелу, несколько улусных мужиков, разговорятся
и почти всегда Савел непременно вставал под конец и начии,'1л своим взволнованным густым басом, коверкая бурятские слова,
гонорить о том, что порядки, заведенные царем, его жестокими и бессовестными с л у г а м и , не вечны, что придет время, когда этл
п о р я д к и будут с л о м а н ы народом. Говорят, во время своей речи он
р а с п а л я л с я так, что глаза н а ч и н а л и сверкать, ладонью он рубил возд у х , словно отрубая головы н е н а в и с т н ы м врагам, голос его становился громоподобным. Собравшиеся невольно в т я г и в а л и головы в плечи,
в.члрапшали, боялись посмотреть друг на друга. Было мучительно
с л а д к о слушать его речи, но становилось невыносимо страшно, и люди д р у г за другом постепенно уходили, пока не оставался Савел
один. Имя этого человека я использовал в своем романе «Поющие
стрелы», но сделал его врачом, дал ему совсем другую судьбу, ввел
в сюжетные переплетения, в которые не мог я ввести, не -нарушив,
сверкающий образ этого великого Ябаган Багши, этого прекрасного,
как чудный сон, человека, оказавшегося волей революционных бурь в
нашей Хурсан-ге. Мне иногда кажется, что он в далекое дореволюционное время и впрямь приснился моим одноулусникам, остался в их
памяти произносящим огненные проклятья неправедному строю, зовущим х у р с а н г а й с к и х бурят в неведомые светлые дали, белобородым,
окруженным ребятиш'ками. Но он не приснился моим одноулусникам.
Его похоронили на погосте нашего улуса. Я даже знал его могилу на
пологом склоне длинного холма — там покоятся все мои предки.
Выше я у п о м и н а л о докторе Андрее Тимофеевиче Трубачееве,
первом враче из бурят, получившем образование задолго до революции. Был и один из первых учителей из бурят — это выдающийся этнограф и просветитель Матвей Николаевич Хангалов. Его сочинения
в трех томах, превосходно отредактированные и п р о к о м м е н т и р о в а н ные большим ученым из нашего научно-исследовательского института
Георгием Никитичем Румянцевым, стали настольной книгой и незаменимым справочником для всех, кто желает познакомиться с бытом и
н р а в а м и бурят конца прошлого столетия, с их верованиями, их фольклором. Этнографические труды Хангалова были замечены при его жизни. Они публиковались в выпусках Русского географического общества, ему было присвоено почетное звание (российская востоковед«ая -наука, как п р а в и л о , очень внимательно относилась к талантливым выходцам из малых народов, поддерживала их, помогала им).
Но я здесь хочу рассказать о его работе учителем в глухом бурятском улусе, ведь эта работа была главным делом его жизни, по крайней мере так он считал. Этнографией, навсегда прославившей его
имя, он занимался попутно, она была для него, говоря современным
языком, своеобразным хобби.
В статье С. Д. Ннкоровой о школьной театральной самодеятельности, что была опубликована в нашем журнале, в его третьей
книжке за 1973 год, было упоминание о том, что Матвей Николаевич Х а н г а л о в на свой риск и страх отменил в своей школе уроки закона божьего и вместо них ввел уроки, на которых учил детей понимать музыку, учил петь, рисовать. Н ы н е ш н е м у поколению людей покажется з а б а в н ы м : подумаешь, в школе н а ч а л и учить пению и рисованию, эти предметы есть в каждой н а ш е й н а ч а л ь н о й школе! Но надо иметь в виду, что здесь речь идет о школе в улусе Закулей в далекой Унгинской долине, в глухом бурятском улусе прошлого века.
Мои родственники по матери из этих мест рассказывали уже в виде
(преданий, как учил Матвей Николаевич детей. По их рассказам, это
был строгий, но отнюдь не злой учитель, чрезвычайно редко прибегавший к наказаниям. Его не боялись, но все уважали. Это уважение было куда выше страха. Однако же уважения к учителю оказалось недостаточным перед шаманским проклятьем, которому подвергся Матвей
Николаевич.
Хангалов учил детей не бояться шаманов. Свое превосходное знание фольклора он умело употреблял в работе, показывая ребятам,
что ш а м а н ы все свои з а к л и н а н и я строят на знании древнейших песен
бурят, что сами они походят на грибные наросты на деревьях, которые представляют собой не что иное, как проявление болезни дерева.
На глазах у детей, з а м и р а в ш и х от восторга и страха, их учитель бесстрашно забирался на священную гору, где находились ш а м а н с к и е
буудалы, залезал руками в священные дыры в зарытых в землю столбах и извлекал оттуда запрятанные .шаманами камни. В местах захоронения шаманов он снимал с деревьев ш а м а н с к и е одеяния, бубны
и другие предметы шаманского снаряжения. Все это он отправлял в
20
Петербург, пополкяя восточный музей. Некоторые шаманские предметы одежды были отправлены им в Париж.
Не надо забывать, что все это происходило в конце прошлого
с т о л е т н я , когда непроглядная тьма царила в р а й о н а х обитания бурят,
когда шаманы были не теми ж а л к и м и и с т р а н н ы м и существами, каких я видел в детстве в моем Х у р с а н г а е . Т о г д а , при Хангалове, они
о и л и грозными, были всесильными властителями душ людей, которые
<>г»|.ешь! были повиноваться всем велениям шамана-найжи. И не надо
удинляться тому, что вокруг имени Матвея Николаевича Хангалова
и клубился, з а и з в и в а л с я и пополз по Закулею холодный и -не суливший пощады наговор.
Однажды глубокой ночью в дом Матвея Николаевича осторожно
постучали. Спавший крепким сном, учитель с н а ч а л а не слышал стуки: он лег поздно, засиделся, проверяя тетради своих учеников. На
крыльце стоял д а л ь н и й родственник Х а н г а л о в а . Испуганно оглядевшись, он юркнул в дом. Тяжело дыша — быпо видно, что он очень торопился, бежал, что есть духу,— родственник жарко зашептал:
— Сегодня днем у пещеры Мульхэтэ ш а м а н собрал стариков и
обратился к ним с речью. О тебе была речь. Оче'нь зло говорил! Скапнл, что ты обворовываешь места поклонения, ш а м а н с к и е одежды
утаскиваешь, буудалы разоряешь. Сказал, что все это делаешь на глазах ребятишек, что их у ч г ш ь не почитать шаманов. Если так будет
продолжаться, если будет среди нас жить человек, который не с ч и т а ется с хорюулом 1 , то великие кары разгневанных духов падут на головы ни в чем 'не повинных детей. Сказал ш а м а н старикам: «Страшитесь гнева великих духов, они н а ч и н а ю т шевелиться, их тени скоро
заслонят солнце!»
На следующий день- р а н о утром к Матвею Николаевичу п р и ш л и
старики, те самые, которые собирал шаман у священной пещеры Мульхэтэ. Раньше почтительно кланявшиеся учителю, они заговорили грубо, выкрикивая ругательства, громко стуча посохами. Брань их становилась все яростнее. Хангалов явственно чувствовал, что все это может кончиться очень плохо, что силы далеко не равные, что он — ничтожная искорка перед всесилием темноты и невежества, на которые
опирается шаман. Да, так оно и было в те далекие времена. Хангалов,
вступив в единоборство с ш а м а н о м , не рассчитал своих сил. То, что
происходило на крыльце учительского дома, было его поражением.
Лучик света должен был отступить перед всесилием тьмы.
Матвею Николаевичу пришлось
уходить из Закулея. Со
своими книгами и немудрящим житейским скарбом, о'н остановился
на горе и кинул прощальный взгляд на родной улус, и слезы з а с т л а л и
ему глаза. Сколько он вложил в свою закулейскую школу, какие он
строил планы! Он кое-что сделал, никакими силами не вытравить из
душ его учеников то, что он успел им привить. Бедные его ученики,
у них на г л а з а х были слезы. Им не позволили прийти на проводы
своего учителя, п р о в о ж а л и они его только полными любви и скорби
взглядами. Все это было так, все это понятно. Но почему же шаману
удалось так легко побороть его? Почему у стариков было столько ненависти к нему, к учителю их детей и внуков? Ведь они были готовы д а ж е пустить в ход свои палки!.. Несть пророка в своем отечестве. Не вздумай делать что-нибудь значительное там, где ты родился и вырос, ибо издревле з н а к о м о б у р я т а м отвратительное восклицание: «Кто? Он, говорите, герой? Довольно! Какой же он герой — он
ведь со мной из одного улуса!»
Х а н г а л о в уехал из родного улуса. И долгие годы после этого он
работал в улусе Бильчир Боханского р а й о н а .
Уури С а р а — М е с я ц Рассвета. Настал рассвет для моего народа
1
Хорюул —шаманский
запрет,
табу.
2)
после того, как исполнилось то, что яростно проповедовал ссыльный
поселенец ябаган багша Савел, после того, как был свергнут ненавистный народу России царизм, после установления и в наших
к р а я х советской власти. Одной из главных заслуг новой власти, конечно, являются перемены в о р г а н и з а ц и и народного образования в
Бурятии. Если з н а м е н и т а я экспедиция Куломзина в н а ч а л е •нашего
века зарегистрировала всего лишь 7 процентов грамотности бурятского населения, то к нашему времени, то есть за полвека существования республики, у нас стало грамотным все, население. В постановке
дела народного образования пройдены три больших этапа работы.
Я помню, как мы в конце двадцатых годов помогали н а ш и м учителям в работе кружков ОДН. Знают ли молодые люди, что это такое?
Так называлось всесоюзное общество «Долой 'неграмотность!» Потом
был этап обязательного начального о б р а з о в а н и я по закону о всеобу|че. Между прочим, в те годы человек, окончивший семь классов, считался образованным человеком, его звали на любую работу, вплоть до
учителя начальной школы. Следующим этапом было всеобщее семилетнее образование, а затем восьмилетнее. Сейчас решается уже вопрос о всеобщем среднем образовании. Мне хочется здесь привести интересную выдержку из статьи секретаря нашего обкома партии Александра Алексеевича Бадиева из упомянутой мною книги «Бурятия шагает в коммунизм».
«Сейчас в Бурятии нет села, где бы не имелось школы. Лучшие
здания в любом 'населенном пункте отданы детям; для школьников открыты интернаты, дома пионеров, стадионы, спортплощадки. ...Одно
сравнение: в 1914 году в школах на т е р р и т о р и и Бурятии обучалось
четырнадцать с половиной тысяч детей — теперь к этой цифре п р и близилось число учителей. А школьников в ны-неш'нем юбилейном году у нас обучалось 178 тысяч. Кроме них в техникумах и профтехшколах учится еще 32,5 тысячи детей. Сегодня дети и внуки те^х, кого
царские чиновники высокомерно н а з ы в а л и «инородцами», участвуют в
кипучей трудовой, культурной, общественной жизни страны. Животноводы и учителя, хлеборобы и врачи, лесорубы и артисты, машиностроители и ученые, м е х а н и з а т о р ы и инженеры, они стали хозяевами
родной земли, их труд высоко ценится народом и п а р т и е й . Мы говорили о положении учителя в дореволюционной Бурятии. Ньгне в десятитысячном отряде педагогов республики 190 человек н а г р а ж д е н ы орденами и м е д а л я м и СССР, 560 мест имеют з в а н и е заслуженного учителя школы РСФСР и Б у р я т с к о й АССР. Один из л у ч ш и х учителей
поэт Ц. Н. Номтосв удостоим высокого гтаиия Героя Социалистического
Труда. Мы г о в о р и л и о судьбе у ч с - п ы х - о д и н о ч с к до Октября. Ныне в
стенах Бурятского филиал;! Сибирского отделения Академии наук
СССР и в четырех в у з а х т р у д и т с я 1700 н а у ч н ы х работников, среди
которых 30 докторов и свыше 500 к а н д и д а т о в наук. Они ведут н а у ч н о исследовательскую работу, с в я з а н н у ю с электроникой и синтезом новых полимеров, генетикой сельскохозяйственных животных и проблемами природопользования, р а д и о ф и з и к о й и раскрытием т а й н индотпбстской медицины,— словом, н а х о д я т с я на переднем крае науки».
Как видим, факты более чем впечатляющие.
Кстати, читатель, вероятно, о б р а т и л в н и м а н и е на приведенные
здесь две цифры, х а р а к т е р и з у ю щ и е уровень о б р а з о в а н и я в Бурятии:
всего было семь процентов г р а м о т н ы х среди населения и то, что обучалось за три года до революции ч е т ы р н а д ц а т ь с половиной тысяч
детей. Тут необходимо некоторое пояснение.
Когда говорят, что Бурятия была до революции к р а е м абсолютной, сплошной неграмотности — это н а т я ж к а , это не соответствует
действительности. У бурят существовала древняя система письменности — монгольская в е р т и к а л ь н а я письменность. На чей н а п и с а н ы
многие с т а р и н н ы е сочинения не только религиозного, но и светского
22
х а р а к т е р а , -написаны знаменитые хроники хоринских и баргузинских
бурят. Речь должна идти о том, что письменностью этой пользовались
сласть имущие, что она была сосредоточена в буддийских х р а м а х дацанах, что ее благ был начисто лишен народ. Семь процентов грамотных бурят — это буддийские священники и богачи, а четырнадцать
с половиной тысяч учеников — это сынки богатых бурят, сидевших на
шее народа.
Я позволю себе рассказать здесь о моем старом друге, об одном из
ветеранов народного образования республики Петре Александровиче
Абаш'ееве, работающем нынче директором Верхнеберезовской санаторно-лесной школы в Улан-Удэ. Он заслуженный учитель школ
РСФСР. Пожалуй, он один из самых старых директоров школ. Свыше
четверти века длится наша с ним дружба, и я могу с радостью поделиться с читателем моими впечатлениями от общения с этим интересным человеком. Между прочим, я всегда придерживаюсь той точки зрения, что дружба между людьми в широком и точном смысле этого слова возможна только тогда, когда между друзьями есть обоими
разделяемые и ценимые обоими общие точки зрения по тем или
иным важным сторонам нашей с в а м и жизни и нашей с вами деятельности. Я когда-то р а б о т а л учителем и заведующим учебной частью Забитуйской средней шуколы в Аларском районе Иркутской области. Я всегда вспоминаю с нежностью о годах работы в этой школе — они были очень нужны, эти годы, для пополнения моего жизненного опыта еще одной стороной человеческой деятельности, пополнения этого опыта профессией учителя. Все, что приобретено в жизни
трудом, неизбежно, 'неотвратимо и обязательно п р и б а в л я е т нам чтонибудь да важное. Писателю надо иметь как можно больше сведений
из самых различных областей человеческой деятельности. Я не мыслю иначе роли писателя в наш век информации, не могу представить
и значение его произведений— ведь почти н и к о г о сейчас не интересует книга, если она вся состоит из вымысла, пусть даже самого изощренного, ведь книгу сейчас берут с о п а с к о й : а вдруг она обманет
меня, а вдруг я ничего, н и к а к и х полезных сведений из нее не почерпну, -никаких нужных мне идей не извлеку!.,
Был серый дождливый день, когда я с н а ч а л а услыхал громкий
голос Петра Александровича А б а ш с е в а , спрашивающего в усадьбе писательских дач в Улан-Удэ, где н а й т и ему меня. А потом увидел его
самого, по-прежнему прямого, по-прежнему энергичного, не вялого и
не придавленного грузом лет, тяжестью опыта и приобретенных знаний. Он шагал упругим и широким шагом. Несмотря на мелкий нудный дождь, несмотря на этакое тонкое дождевое сеево, он был без головного убора. И я увидел его, еще издали широко улыбающегося,
еще издали поднимающего для богатырского п о ж а т и я руку. И ничего-то в "нем не изменилось за многие годы, что прошши со времени
нашей последней встречи, с о х р а н и л с я таким же, каким был всегда.
Большеглазый, весь открытый, ничего и ни от кого не утаивающий,
он вошел в мое дачное немудрящее жилье точно так же, как вошел
в мою жизнь, в мои п р и в ы ч н ы е думы много лет назад. Ей-богу, жизнь
моя была бы менее полной и менее интересной, если бы в ней не было встречи с этим человеком!..
В конце т р и д ц а т ы х годов н а ч а л а с ь педагогическая деятельность
Петра А л е к с а н д р о в и ч а , н а ч а л а с ь после окончания пединститута в
Улан-Удэ. С направлением наркомата просвещения республики молодой учитель едет в Кырен. Ничем особенным не отмечена эта работа Абашеева в кыренской средней школе, в центре самого красивого в Бурятии а й м а к а , расположенного у подножья знаменитых тункинских гольцов с их заоблачными в е р ш и н а м и , по долине, прорезанной бесчисленным множеством белопенных стремительных рек и ре23
чушек. Скорее всего, год работы в Тунке был для молодого Абашеева
закреплением его педагогической практики, годом созревания его эстетических воззрений, утверждения в нем на всю жизнь собственного
морально-этического кодекса, когда в ы р а б а т ы в а е т с я так нужное педагогу твердое п о н и м а н и е того, что есть в жизни хорошо и что плохо.
Потом молодой учитель работает в Тимлюйской семилетней школе. Здесь обнаруживается, что он обладает четырьмя качествами, из которых обычно складывается так н а з ы в а е м ы й организаторский талант:
умением вовремя увидеть, умением увиденное вовремя и п р а в и л ь н о
п р о а н а л и з и р о в а т ь , у м е н и е м результаты а н а л и з а вовремя сделать объектом решительных и быстрых действий и умением начатое своевременно и полностью доводить до конца. Наша система постановки
школьного дела
позволяет
увидеть эти качества в
каждом
учителе. Разумеется, если эти качества у человека имеются. Каждому
учителю дается классное
руководство, а классный руководитель
имеет все возможности творить, в ы д у м ы в а т ь и пробовать, проявлять
столько
изобретательности,
столько
творческой
фантазии, столько упорства в достижении поставленной' цели, сколько в
человеке может найтись. Поскольку объект в н и м а н и я и деятельности
классного руководителя — отдельно взятый у ч е н и к и класс в целом,
постольку он имеет в своем распоряжении первичную ячейку, живую
частицу, не условный, а совершенно конкретный прообраз всего нашего общества, построенного по схеме: советский человек, отдельный
коллектив, совокупность коллективов, весь советский народ. Так что
каждому классному руководителю д а н о п р о я в и т ь все свои организаторские способности. Такое умение хорошо проявил Петр Александрович Абашеев в Тимлюйской школе, это его умение было замечено. Его
назначили директором школы. Начало Великой Отечественной войны
прервало деятельность Абашеева на посту директора школы. Так же
как всю мирную деятельность всего советского н а р о д а .
После войны демобилизованный из Советской Армии офицер А б а шеев получает н а з н а ч е н и е на должность директора одной из крупнейших в республике сельских школ — К а б а н с к о й средней школы.
К з б а н с к — центр большого, одного из самых интересные аймаков Бурятии, где коммунисты проводят один за другим очень важные и крупные эксперименты. Сейчас этот а й м а к среди других сельских районов
республики отличается мощной промышленностью, производящей цемент, шифер, добротные предметы быта. В те д а л е к и е послевоенные
времена в этом р а й о н е кроме лова и п р е р а б о т к и омуля никакой иной
промышленности не было. В год п о я в л е н и я Петра А л е к с а н д р о в и ч а в
Кабанской средней школе этим районом руководил Ш., человек, которого мне не забыть никогда. Я никогда не был любителем перемывать
чьи бы то ни было кости, у меня зылыялет отвращение человек, который, однажды попав в беду из-за проявленной к нему несправедливости, готов всю жизнь смаковать эту свою беду, вольно или невольно
рассчитывая всякий раз вызывать к себе острое и для него сладкое
сочувствие слушателей. Такого человека не интересует то обстоятельство, что несправедливость обычно устраняется с помощью здоровых
сил общества, не имеющих ни малейшего отношения к происхождению
неправедного факта. Такой человек настолько п р и в ы к а е т к своему положению обиженного, что предпочитает всю жизнь ходить в героях подавно забытому делу. Должно быть, для этого он будет вечно наговаривать на виновников своей беды, не считаясь с тем, что эти виновники
давно уже выпили до дна чашу своих злых деяний и общество им уже
давно все простило.
Ш. я у п о м и н а ю только в связи с тем, что его фигура прямо и непосредственно связана с делом
моего друга Петра Алексан-
дровича Абашеева, а это дело, в свою очередь, касается важного и
ныне особо актуального вопроса правильного воспитания детей, нсобычай'но важного и вечно живого вопроса правильного сочетания дела обучения и воспитания школьников.
— Все началось с того,— рассказывал мне Петр Александрович,— что с первых же шагов на посту директора Кабанской средней
школы мне пришлось столкнуться с женой III. Она работала у нас в
школе и вела физику.
Мы сидим на веранде дачи, которую я занимаю. Сквозь тюль
видно, как все сильнее струятся тонкие, но видимые отчетливо нити
уже давно всем надоевшего дождя. На веранде пахнет только что
съеденным омулем знаменитого крестьянского посола, так называемым омулем с душком. На столе — неудобранные остатки рыбы. Но
я не могу их унести. Мой друг очень взволнован, и я не хочу прерывать хода его р а с с к а з а . Его волнение передалось мне. Я почти вижу, реально и воочию вижу учительницу, которая ведет урок в присутствии директора школы, недавно принявшего школу, и, ничуть не
смущаясь, дает такое задание ребятам:
— Откройте страницу вашего сборника задач, найдите там параграф такой-то и п р и с т у п а й т е к решению. Сегодня у нас урок самостоятельного решения задач по физике.
Ш. я знал еще по его работе заведующим отделом пропаганды
и агитации райкома партии. Вспоминаю, как он выглядел. То был симпатичный, даже красивой наружности средних лет человек с пышными
волосами. То, что он дошел до положения руководителя района, где
добывалась почти половина всой байкальской рыбы, меня не удивляло. Ш. я знал, как работника безупречной репутации, человека в высшей степени порядочного. И вот происходит первое столкновение нового директора с женой Ш.
— Вы- провели урок странно,— сказал Абашеев при разборе посещенного урока.— Мне не приходилось сталкиваться с подобными
п р и м е р а м и . Во-первых, по вашему п л а н у пы д о л ж н ы были объяснять
новый материал. Никакой самостоятельной работы у ч а щ и х с я в вашем
плане нет. Во-вторых, у ч е н и к и о к а п а л и с ь предоставленными самим себе от звонка и до звонка. Вы же л и ч н о з а н и м а л и с ь чтением романа
Кона'н Дойля. Потрудитесь о б ъ я с н и т ь мне, что все это значило.
Учительница смерила д и р е к т о р а с головы до ног насмешливым
взглядом и, усмехнувшись, с к а з а л а :
— А вам. знаете, не идет т а к о й суровый тон. И вьг напрасно так
со мной разговариваете. К тому же- мне сейчас некогда.
И учительница спокойно повернулась к двери. У выхода она остановилась, еще раз с м е р и л а потрясенного Абашеева сощуренным
взглядом и ушла.
— Я долго не мог придти и себя,— продолжал Петр Александрович, нервно з а к у р и в а я . — Я д а ж е не был в состоянии до конца понять, что же произошло. В моем сознании отложилось лишь нечто
совершенно немыслимое, невероятное и дикое, чему нет -названия, нет
определения, чего даже нельзя нормальным образом квалифицировать...
Абашеев, как мне показалось, в ы г о в а р и в а я последнюю фразу, заметно понизил голос, д о в о д я его до хриплого полушепота.
— Лишь на следующий день, проведя почти бессон'ную ночь, я
понял, что мне брошен сознательный, п р о д у м а н н ы й вызов. Но в чем
была причина ьтого вызова? Должен же был содержаться какой-тосмысл, какая-то пусть даже и паршивая, но логика в этом безобразном поступке! К вечеру мне стало все ясным. Нельзя думать, что этот
поступок учительницы прошел мимо в н и м а н и я коллектива школы,.
25
как известно, в .тюбом коллективе всегда найдутся честные работники, которых должна была, обязана была возмутить эта безобразная
история. Так оно и вышло. Мне разъяснили, что на место, которое я
занял, готовилась другая кандидатура, поддерживаемая Ш., усиленно
проталкиваемая его женой, той самой учительницей, чей урок я посетил. Все становилось на свое место.
Я смотрел на Абашеева и ловил себя на том, что слушаю его и
верю ему с глубокой грустью, мне даже становится не по себе — настолько фантастичным было все то, что он рассказывал, настолько из
ряда вон выводящим, абсолютно невозмож'ньгм в нормальной советской школе.
— Поняв, что мне брошен совершенно откровенный и наглый вызов, я странным образом успокоился. Нас не так-то легко запугать.
Даже если начальство будет не на моей стороне, ничего со мной сделать будет нельзя. Я п р а в и со мною не так-то просто будет совладать. Я буду продолжать свое, то есть в школе порядок наведу, а
эту учительницу сумею поставить на место.
Так я думал. И не подозревал тогда, что слишком прямолинейно
смотрел на вещи, что могут сложиться обстоятельства таким образом, что ты со своей правдой, ни у кого не вызывающей сомнения,
можешь оказаться в тяжелейшем положении, даже в положении, опасном для всей твоей судьбы. Так сложилось у меня дело тогда в К.абанске. Уже через полгода коллектив школы представлял два л а г е р я .
Одни поддерживали меня, другие Ш-ву. В этом ничего удивительного нет, это закономерно при такой ситуации. В этом повинны
те, кто такую ситуацию создал, кто ее допустил. Правда, мое начальство пошло мне навстречу в том плане, что меня перевести в Улан-Удэ,
дали мне одну из крупнейших столичных школ. Я вздохнул свободнее
и начал работать. Но оказалось, из Кабанска в Москву пошла на меня
грязнейшая бумага, в которой почти весь женский персонал Кабанской
средней .школы объявлялся в интимных со мной связях.
Оказалось,
Ш. употребил все свое влияние, чтобы мое дело выглядело перед республиканским руководством совершенно очевидным, не вызывающим н и к а к и х сомнений, что я человек морально разложившийся,
ни на что не пригодный. Можешь судить, до какой низости доходили
мои 'недруги по такому факту: в список моих якобы любовниц включ и л и мою собственную жену, с которой живу всю ж и з н ь ! В Москве
я был восстановлен в п а р т и и без какого-либо в з ы с к а н и я . Там-то и
обнаружили казус с моем женой, мне пришлось даже паспорт, куда
была вписана жена.
Обо всем этом р а с с к а з ы в а ю тебе потому, что хочу подчеркнуть:
я самый ревностный сторонник того, чтобы школе у нас было обеспечено гораздо большее в н и м а н и е общественности, неусыпное и действенное внимание руководителей всех рангов и степеней, школа должна быть ограждена от возможного п р о н и к н о в е н и я в нее всякого рода прохиндеев и и н т р и г а н о в . Мы о б я з а н ы сделать т а к , чтобы понятие
«школа» было всегда святым понятием. Никогда нельзя забывать того, что через школу проходит все подрастающее поколение советских
людей. Без какого бы то ни было исключения. Жизнь учительского
коллектива всегда п р и в л е к а е т самое жадное любопытство учеников.
'Сколько бы мы ни с т а р а л и с ь отделить эту жизнь от любопытства детей— это не удавалось ни разу. Ученики обычно знают о жизни своих
учителей побольше, чем директор школы. У них ведь то самое детское
зрение, про которое можно сказать, что это не обычные человеческие
г л а з а , а сложные глаза мухи, которые видят во все стороны. И не надо пытаться отгораживать учителей от детей. Надо сделать так, чтобы у нас не стало недисциплинированных, недобросовестных и нечистоплотных в быту педагогов. На это надо н а п р а в л я т ь все силы не
26
только руководителей школ и органов народного образования. На мой
нзгляд, школой должны заниматься последовательно и систематически партийные и комсомольские комитеты, советские органы и профсоюзы. Наши дети стоят такого в н и м а н и я !
И еще.
Я давно наблюдаю за детьми ответственных работников. Всех
рангов. Большинство таких детей — это достойные своих родителей
дисциплинированные учащиеся, скромные в поведении и старательные
в учебе. Но нет-нет да попадаются такие, что н и к а к и е н а ш и старания не в состоянии повлиять на них. Будь то сын председателя колхоза, директора завода или районного работника повыше. Видимо,
делю в том, что по горло занятые своими важными делами, эти работники не имеют возможности действенно влиять на своих детей,
внушить им раз и навсегда, что положение з а н и м а е м о е родителями,
решительно не распространяется на их детей, что эти последние имеют по сравнению с остальными детьми единственное отличие — это
большую ответственность за свое поведение, чтобы ничем и никогда
ке посрамить своего занимающего высокое положение родителя. Вот
тут я за усиление влияния в школе комсомола и за энергичную действенную помощь комсомюлу в этих его делах со стороны партийных
комитетов. Комсомол в состоянии выполнять гораздо большую роль в
жизни школы, чем сейчас.
Я слушаю Петра Александровича Абашеева и ловлю се>бя на том,
что все время хочу добавить что-то к его словам, как будто я до сих
пор работало в школе, как будто я тоже неотделимо причастен к делам школы, как и А-башеев, работающий 'на посту директора около
тридцати лет. А может, так и должно быть — неотделимость каждого из нас от дел школы? Видимо, мой друг абсолютно прав. Настала
пора перестать валить вину за проделки подростков только лишь на
коллективы учителей. Дело воспитания наших детей должно стать делом, затрагивающим действительно все общество, все органы государственной власти, всех коммунистов и комсомольцев. Но на какой основе?
Мыслен'но восстанавливаю читанное из сочинений классиков мировой педагогики и из этого ч и т а н н о г о постепенно в моем сознании
возникают контуры огромного здания. Я брожу по этому зданию. На
меня смотрят п а т р и а р х и педагогики. Вот п р и з н а н н ы й отец педагогической науки м и р а Я'н Амос Коменский, вот Песталоцци, Ушинский,
Дистервег, вот Жан-Жак Руссо, вот прошел перед г л а з а м и колоссальный образ Льва Толстого. А вот и Антон Семенович Макаренко. Я
•сразу з а м е ч а ю его белозубую улыбку, приветливый в з м а х его руки,
всю его стройную фигуру в гимнастерке, перетянутую широким ремнем.
— На какой основе нам построить р а б о т у по резкому у л у ч ш е н и ю
деятельности своих школ? Дело в том, что век научно-техчической
революции, век колоссального потока и н ф о р м а ц и и потребовал полной
перестройки деятельности школ, приведения этой деятельности в соответствие с уровнем т р е б о в а н и й века.
Образ Антона Семеновича М а к а р е н к о продолжает белозубо улыбаться, рука остается приветливо поднятой. Но я явственно слышу его
голос, хотя губы продолжают оставаться открытыми в улыбке.
— Вряд ли тебе дадут ответ эти старики. Дело в том, что вся
мировая педагогика — это продукт буржуазных революций в Европе,
продукт внимания к личности человека после многовекового церковного изуверства, призывавшего только лишь славить бога и умерщвлять собственную плоть. Они были велики для своего времени, когда
лозунги эпохи Возрождения стали сметать обветшалое здание церковного образования средневековья. Они стали проповедовать стронтель27
ство школы буржуазного типа, в которой главным является воспитание и образование личности, окруженной ореолом буржуазных свобод.
Индивидуализм является главным стержнем буржуазной педагогики.
Нам, коммунистам, этот стержень не годится. Мы формируем в наших
школах нового человека. Наша методология, наша педагогическая концепция укладывается^ в формулу: воспитание гармонически развитой
личности в коллективе, через коллектив и для коллектива. Средство
решения этой формулы — предоставление ребенку всесторонней самодеятельности в школе. Наш советский человек — это не мастер чистогана, не делец капиталистического мира. Он всегда член коллектива,
всегда пользуется помощью коллектива в своем развитии, он всегда
посвящает всю свою деятельность родному коллективу, представляющему собой не что иное, как частицу всего советского общества. Вот
его и обязана учить школа еще ребенком жизни в коллективе. И не в
качестве безропотного и безвольного существа, а в качестве активного
члена своего коллектива, наполненного яркими замыслами и большими
планами. Развивайте детскую самодеятельность в школах и не в одном
лишь употребляемом ныне узком з н а ч е н и и этого слова, не только в
смысле д р а м а т и ч е с к и х и певческих кружков, а в самом широком смысле этого доброго слова. Учите детей активной жизни в коллективе,
предоставляйте им гораздо больше самостоятельности, чем имеют они.
сейчас. Я имел дело с малолетними преступниками, с детьми с извращенными представлениями о жизни и цели в ней. Я добивался, как
правило, успеха в их воспитании именно благодаря предоставлению
детям самостоятельности в самом широком смысле этого слова. Вы
знаете из печати, какие прекрасные люди выросли из моих воспитанников. Это они с а м и себя н а у ч и л и жить в коллективе, научили с нашей помощью. Это главное: дети должны п р и н и м а т ь решающее участие в собственном воспитании. Ведь еще Ушинский определил, что
обучение ребенка не есть односторонний процесс, в котором обучающий лишь изрекает, а обучаемый лишь воспринимает, что этот процесс двуединый, представляющий и для ребенка некое увлекательное
занятие, в котором активно участвует и он. И чем активнее это участие, тем прочнее и полнее знания ребенка. Дело воспитания намного сложнее, чем просто урок. Тут мы апеллируем к творческому
началу ребенка, стремимся развязать его творческую инициативу.
Как это сделать? Каким путем эту инициативу разбудить у пассивных детей, а у чересчур активных умело и тонко слегка притушить,
чтобы такие дети не могли взять только лишь на себя все, что должно стать делом всех ребят? В этом заключается искусство воспитателя. Это мы умели делать даже с моими малолетними преступниками, правонарушителями, с моими беспризорными колонистами. У вас
куда лучшие условия. Думайте, ищите. И обязательно найдете!
Образ Антона Семеновича М а к а р е н к о постепенно отходит от меня. Расплываются в сетке дождя и тоже исчезают контуры огромного
здания с п а т р и а р х а м и мировой педагогики. И передо мной сидит мой
старый друг, один из опытнейших директоров школ заслуженный учитель школ РСФСР Петр А л е к с а н д р о в и ч Абашеев. Он уже порядочное время молчит и, несколько удивленный, смотрит на меня. Я решил -ничего не говорить о своем диалоге с Макаренко. Даже самые
близкие люди не любят ведь, когда их чему-то пытаются учить. Зачем
уязвлять самолюбие человека, н а в я з ы в а я решение? Прав Макаренко:
пусть ищет и мой старый друг, пусть ищут все учителя, ищут во всех
школах!
У меня, конечно, нет такого уж глубокого проникновения в сущность проблем школьного воспитания. Пусть этим занимаются ученые
от педагогики, пусть занимаются деятели, в чьи компетенции входит
2?
развитие школ и кто ужасно не любит вторжения в их святилище — в
педагогическую науку — разного рода дилетантов, в особенности писателей и журналистов. Я могу поклясться, что я не хотел отнимать у
ученых от педагогики их вполне ими заслуженный хлеб. Об их проблемах я упоминал только в том смысле, что они представляют собой
трудности роста, неизбежные трудности бурного роста. Для меня главное заключается в том, что где-то в невообразимо далеком детстве
остался образ нашего Ябаган Багши, который пытался наладить обучение хурсангайских детей грамоте. Я даже не знаю, в чьем старом доме
сидели маленькими наши отцы, слушая этого Ябаган Багшу, этого милого и доброго человека, не побоявшегося подняться на царя, этого
русского интеллигента, первым показавшего азбуку бурятским детяк<
в улусе Хурсангай. Для меня главное — дело просвещения моего народа блестяще удалось советскому государству; это дело имеет характер
делой революции. И, завершая эту главу, хочу не сказать, а крикнуть
па весь мир: смотрите, что сделали коммунисты с моим народом, смотрите, на что способны советские коммунисты!
Окончание следует.
Василий Стенькын
глаЬы и
побести
От автора: Я рассказываю о делах, хорошо знакомых
мне по своей без малого тридцатилетней чекистской службе в Бурятии. Повесть «Рассказы чекиста Лаврова», как и
асе, что мною написано на эту тему, основана на документах. В повести сохранены существующие географические
названия, изменены лишь фамилии персонажей.
I
З и м а сорок третьего года была в З а б а й к а л ь е необычайно суровой. Морозы доходили до пятидесяти трех градусов Кажется, все замирает в т а к и е дни: ветка не шелохнется, птица не пролетит, собака
не тявкнет. Сизый сухой ГУМЭН п р и д а в и л город.
Улицы пустынны. Редкие прохожие бегут, укутавшись до самых
глаз. В котельных больших домов зло матерятся кочегары: у г о л ь н а я
пыль, с м е ш а н н а я с м о к р ы м и опилками, еле тлеет. В квартирах замерзает вода. Люди придумывают обогревательные «агрегаты». Летят пробки, горят провода, а толку мало.
Нашему первенцу Володе идет четвертый год. Чтобы спасти ребенка от верной гибели, находим угол в частном доме, отапливаемом дровами. Условия: платим двести пятьдесят рублей в месяц —
это четвертая часть моей зарплаты — и обеспечиваем дровами: двадцать кубометров за зиму.
Дом смотрит на север, сырой и холодный. Топим три р а з а в сутки, отчего прибавляется влажность и еле заметно —• тепло. Перед новым годом в нашу ограду въезжает груженая с верхом машина. Привезли двухметровые кряжистые бревна. Федор Степанович—наш хоз я и н — крепкий старик с рыжими тараканьими усами — долго хвдит
возле сваленных комлей, тыкает их своими аккуратно подшитыми
в а л е н к а м и и что-то бормочет про себя.
30
— О чем вы, Степаныч?
— От таких дров, паря, однако, не жди тепла.
Пилим. Говорим о войне, о втором фронте, с которым союзники безбожно тянут, о недавней Тегеранской конференции.
-— Я тебе, Максим Андреич, что скажу,— н а ч и н а е т Федор Степанович, выпуская из рук пилу. — Этот Черчилль,— старик делает
ударение на втором слоге, — туды его мать, еще покажет себя... Тебе
сколько годов?
— Двадцать пять.
— Стало быть, в гражданскую войну ты только на свет был нарожден, а мне тогда уже за сорок перев'алило. Я хорошо помню, как
этот Черчилль,— тут Федор Степанович опять ругнул капиталистов,—•
сколачивал силы против нас... Думаешь, прозрел о'Н)? Нет. Черт во
что ни рядится — все чертом остается.
Нашу работу и политические дебаты прерывает посыльный. Меня срочно вызывают на служ/бу.
В просторном светлом кабинете сидят Начальник У п р а в л е н и я к
н а ч а л ь н и к отдела. Они о чем-то тихо разговаривают. Я без разрешения ворвался в кабинет и поэтому чувствую себя стесненно.
Начальник У п р а в л е н и я предложил мне сесть и молча протянул
поступивший из Москвы документ. Читаю: «По полученным данным,
вскоре после нового года с территории Маньчжурии японской разведкой будет заброшен в Советский Союз агент-диверсант. Не исключено, что иа некоторое время он остановится в селе Бичура у
проживающего там агента семеновской контрразведки
под кличкой
«Ногайцев».
«Ногайцев» — постоянный житель указанного села, у него есть
дочь по имени Ксения, работает птичницей. Других сведений нет.
Примите срочные меры к установлению «Ногайцева» и задержанию агента-диверсанта»...
Я молча возвращаю документ.
— Ясно, товарищи?— спрашивает полковник.
— Не очень, конечно,— улыбается начальник отдела, вялый, мешковатый подполковник,— маловато данных.
— Я звонил в Москву,— говорит полковник,— ничего нового. Наверное так сделаем: в Бичуру сейчас поедет лейтенант Лавров, на
месте ознакомится с обстановкой. Потом решим об оперативной группе в помощь работникам районного отделения. Так?
У меня мелькнула мысль: «Как добраться туда? Почти двести
километров, зима, бездорожье».
— Вы что-то хотите спросить, Лавров?—обратился полковник,
заметив мое движение.
— Думаю, как добраться туда,—сказал я, вставая.
— Сидите, сидите. Могу предложить два в а р и а н т а : либо найти
попутную машину, либо — бензин. Конец года, у нас весь лимит исчерпан, горючего нет. Добудете бензин — берите любую машину. Договорились? Желательно выехать завтра: время не терпит.
Я обошел все городские базы МТС и колхозов, но ни попутчиков, ни бензина не было. И только через два дня на перевалочной
базе Цолгинской МТС я встретился с директором и главным бухг а л т е р о м — у них было горючее и не было машины. Мы быстро сговорились и рано утром следующего дня тронулись в путь.
В Бичуру приехали ночью. Высокие окна закрыты плотными
ставнями на железные болты. Тишина. Темень. Только вьюга крутит
над крышами да изредка собака беззлобно тявкнет.
31
II
Село Бичура вольно раскинулось в широкой долин'е Хилка. Говорят, от одного крайнего двора до другого без малого гюлто-ра десятка километров. Дома срублены из толстых лиственничных бревен,
на века поставлены.
И люди под стать домам — рослые, крепкие, могучие семейские,
чьи предки были высланы из России царицей Екатериной за
приверженность ст'арым обрядам русской церкви, за почитание строптивого протопопа Аввакума. Но и вдали от родных мест старообрядцы свято чтили и хранили верность старине, старались жить так,
как жили деды.
Неумолимые законы самой жизни, свежий ветер революции и
бурные события тридцатых годов расслоили семейщину. Так веялка
отделяет зерно от половы. И все-таки многие нравы и обычаи старины
старообрядцы сохранили до -Аашях дней.
И вот в этом огфомном селе нам нужно найти человека под
шпионской кличкой Ногайцев, имеющего дочь Ксению. Больше мы
ничего о нем не знаем.
Первая ниточка, за которую мы зацепились, была, конечно, эта
птичница Ксения. Наметили: во всех колхозах села выявить всех птичниц с момента коллективизации. Переговорили со многими людьми,
перелистали уйму конторских книг и д е л — н и одной Ксении не нашли.
В картотеке паспортного стола милиции отыскали более двухсот женщин с таким именем. Проверили их и отцов — ж и в ы х и умерших. О тех, которые выехали из села, послали запросы... Ничего. Занялись поисками самого
Ногайцева. Главное направление поиска
определялось предположением: если Ногайцев завербован контрразведкой а т а м а н а Семенова, зиачит, это скорее всего человек, служивший у белых, либо имевший какой-то иной контакт с белогвардейцами.
На схематическом плане Бичурьг мы нанесли условными точками всех, кто мог быть как-то полезен н а м : старых коммунистов, бывших к р а с н ы х партизан, мудрых дедов...
Ясный, солнечный день. За двойными стеклами отведенной мне
комнаты заиндевелые тополя, побелевшие телеграфные провода, сизые
дымки труб. Изредка пронесется легкая кошева, запряженная низкорослой монгольской лошадкой, и пробежит сибирская лайка, весело
задрав хвост и навострив уши.
Входит высокий, чернобородый м у ж и к в полушубке, перетянутом
цветным кушаком. Сел, положил рядом с собою шапку, кожаные залоснившиеся рукавицы и пригладил шершавой ладонью черные, без
седины волосы.
— И пошто люди эту отраву чадят, х о л е р а ее побери,— кивнул
он на пепельницу, забитую окурками.— Жизнь по своей охоте, укор'ачивают...
Говорит он не сердито, с какой-то веселой ноткой в голосе. Видно,
в хорошем расположении духа.
— Дрянь, конечно,— соглашаюсь я. — Когда-нибудь люди будут
смеяться над этим: дым глотали. Приятно? Нет. По привычке...
— Худая привычка,— мужик помолчал.— Мнюго в людях дурных обыкновений, а все равно человек от этого не становится хуже,
потому как есть творение божье...
«Ишь ты, куда повернул»,— подумал я и перешел к делу.
— В белых-то? Многие служили. Село наше сколько раз переходило из рук в руки. Белые придут — мобилизуют, красные — опять же
32
п р и з ы в а ю т . Которые посправнее, те больше к б е л ы м л ь н у л и , а беднота — к красным. Время-то ши'бко заполошное было.
— Я-то? П о н а ч а л у — у белых, опосля с п а р т и з а н а м и х о л и л . Под
Зардамой с я п о ш к а м и .дрался, отметину имею.
Мужик п о м а х а л левой рукой, п о к а з ы в а я о г р а н и ч е н н о с т ь движения в плечевом суставе.
— Которые до конца с Гришкой Семеновым якшались? Т л к и х ,
однако, у нас нет... А тебя, п а р я , что интересует-то? — н е о ж и д а н н о
спросил он.
Я задумался, как лучше объяснить цель н а ш е й беседы. Обманыв а т ь его не хотелось, а сказать правду не мог. Старик, не дождавшись моего ответа, продолжал:
— Однако Советская власть все грехи отпустила. Чего же теперь
ворошить былое?
С полчаса я еще поговорил со стариком, но без всякой пользы
для дела: ни одной ф а м и л и и о,н так и не н а з в а л . Всякими увертками, отговорками и ссылками на «дырявую память» уходил от моих
вопросов.
Ошибку свою я понял на второй день, когда поговорил с настоящих! к р а с н ы м .партизаном.
— Лоскутов-то? Не, паря, не по адресу попали. Он, зараза, всю
жизнь н а м поперек пути стоит.
— Он же партизан, ранение имеет.
— Какой он .партизан, язви ег*о в душу! В последний момент силой ег^о загнали в отряд против японцев. Шальным осколком задело.
Теперь похваляется этим...
За три месяца мы перебрали чуть ли не всех жителей села. Выявили до тридцати человек, служивших в белых казачьих частях. Наше в н и м а н и е привлекли два человека: Афанасьев Григорий Иванович
и Белых Спиридон Калистратович.
Афанасьев пятидесяти семи лет, богатырского телосложения, смол я н а я борода лопатой. Живет со старуяой. Дочь Устинья имеет свою
семью. Все, у кого спрашивали о нем, отзывались об Афанасьеве как
о надежном человеке: дезертировал от бандита Семенова, воевал с
белыми и японцами, вспомитаали даже, что он — лучший ичижный
мастер в селе.
Белых еще нет и пятидесяти, щупленький, подвижный, без усов
и бороды, работает конюхом в колхозе. Двадцатилетним п а р н е м добровольно ушел с ( белыми и вернулся последним, когда разбитые наголову войска а т а м а н а отступили в М а н ь ч ж у р и ю . О нем говорили
как о человеке -начитанном, любящем поспорить о политике, но елом
и ехидном.
Прошли декабрь, январь, февраль. Мы проверили всех приезжающих в Бичуру. Но ни о Ногайцеве, ни о связнике из-за кордона
пичего нового не узнали. После долгих размышлений у меня возникла мысль: поехать к пограничникам, порыться в документах о н а р у шениях государственной границы.
III
Н а р у ш е н и й на г р а н и ц е протяженностью не в одну т ы с я ч у километров было больше, чем я предполагал. Нарушители, в основном,
китайцы, п р о б и р а л и с ь на Алдащ Олекму, Витим, чтобы поискать свое
счастье в золотоносном песке. Впрочем, под такой легендой японская
разведка нередко ( засылала и шпионов.
Я перелистал в Управлении множество дел по нужному нам периоду, ню не нашел ничего интересного. Поскольку документы за фев3. Байкал» Мз 6
33
раль еще не поступили, мне посоветовали выехать на одну из застав,
ка участках которой отмечалось больше всего нарушений и чрезвыч а й н ы х происшествий.
Н а ч а л ь н и к заставы с т а р ш и й лейтенант Кравчук, молодой и форсистый, весело посмеялся 'над моим «сухим .пайком» — аттестата у
меня не было, и я неделю питался соленым омулем, который заготовила в дорогу жена — накормил обедом, привел в красный уголок
и усадил за шахматную доску.
— Не журись,— по/шутил он, похлопывая меня по коленке,— найдем твоего связника: у нас тут всякой гвари по паре.
Шутка Кравчука оказалась пророческой. Утром, листая очередное дело 'на нарушителя, я обнаружил короткое письмо. Меня бросило в ж а р . В письме -была фраза, которая ничего не говорила пограничн'икам, но имела большое значение для меня: «Передайте, пожалуйста, Ногайцеву, что я очень прошу его .исполнить все требования
и поручения подателя сего1».
К р а в ч у к тут же вызвал старшину, .принимавшего у ч а с т и е в задерж а н и и нарушителя.
Рослый скуластый с т а р ш и н а бойко начал свой рассказ — должно быть, он не в первый раз повторял эту историю.
— Мы сидели в секрете. Слышим — ветка хрустнула. «Однако,
сохатый»,— сказал рядовой Климов. — Я говорю: «Ты чо, сдурел, сох а т ы е откочевали отсюда. Может, волк». Глядим, человек стоит на
тропке, озирается, будто принюхивается. Я к р и к н у л : «Стой, варнак!»
Он ш а р а х н у л с я в кусты и побег. Мы по следу — за ним. Стрелять я
запретил, хотел' взять живьем... А он, з.араза, отстреливался. Потом,
однако, обессилел и последним патроном порешил себя...
— Какие документы были у нарушителя?— спросил я, хотя пон и м а л бессмысленность этого вопроса: в деле-тс их нет.
— Документов не было, товарищ лейтенант... В козырьке лисьего м а л а х а я нашли письмо.
— Письмо я п р о ч и т а л .
— Больше ничего не обнаружили, товарищ лейтеш'нгг. ) Надо
быть, успел выкинуть. Снегу не менее метра,— добавил старшина,
будго о п р а в д ы в а я с ь .
Кольцо снова з а м к н у л о с ь . В письме кроме Ногайцева ни'кто не
упоминается. Обращение безличное: «Друг мой». О нарушителе осталось только описание примет в медицинском акте,
подтверждающем
самоубийство.
Я возвратился ни с чем. Правда, письмо с согласия Кравчука
взял с собой, оставив р а с п и с к у об .этом.
На некоторое время интерес к Ногайцеву пропал: дело считалось совершенно бесперспективным.
Меня же Ногайцев измучил совершенно, чем оы я ни занимался в ту весну, в мыслях неизменно возвращался к делу Ногайцева. Какие поручения вражеской разведки успел он выполнить?
Что з а д у м а л еще?
Наконец, я решил обратиться к (начальству с одним рискованным
замыслом: встретиться с Афанасьевым, предъявить ему письмо, н а й денное у нарушителя границы, и потребовать отчет ю его шпионских
делах.
Мои подозрения сосредоточились на нем по двум .причинам. У
него есть дочь. Афанасьев дезертировал из белой армии тогда, когда атаман Семенов был в зените своей зловещей славы, прибыл в село, занятое белыми, и жил, не скрываясь от властей. Н а с т о р а ж и в а л о
лишь одно: добрые отзывы односельчан о нем. Но чекистская практика, убеждал я себя, знает немало подобных примеров.
34
— Беспочвенная фантазия,— коротко и категорично с к а з а л начальник отдела, выслушав мое взволнованное и сбивчивое объяснение. — Твои подозрения субъективны, это р а з . Мы не знаем устный
пароль, которым, без сомнекяш, был снабжен связник, это два.
— Это особый случай,— горячился я. — Если Афанасьев не шпион, он не поймет письма, и мы ничего не потеряем. Если он шпион, то,
конечно, насторожите я и каким-то образом проявит себя. Надо же
•нам как-то выбираться из тупика!
— Хорошо. Я подумаю.
На второй день начальник отдела цбыл сговорчивее.
— Что-то в твсем предложении .есть,— с к а з а л он мне.— Пойдем
к н а ч а л ь н и к у У п р а в л е н и я , доложишь сам.
Полковник поддержал мою идею. Но идти.мне на встречу с Афанасьевым не разрешил.
— Надо подобрать постарше товарища,-—сказал он,— имеющего
больший жизненный опыт и хорошо знающего местные условия.
Решили послать Василия Иннокентьевича Бабкина, степенного и
вдумчивого сотрудника, заканчивающего последние годы своей службы в должности заведующего чекистским архивом.
Недели через две Василий Иннокентьевич, соответственно экипирова-нный, обеспеченный необходимыми 'документами 1 , с заученной и
усвоенной легендой, выехал в Бичуру.
IV
Осенью семнадцатого года казачий есаул Григорий Семенов, облеченный высокими титулами генерала и атамана Забайкальского
казачьего войска, ехал в родные места. В новом кожаном бумажнике,
приобретенном в Петрограде, лежал мандат за подписью премьера
Временного правительства Керенского. Семенову поручалось быстро,
не предавая дело широкой огл.аске, сформировать казачьи части и
двинуть их на подавление назревающей в столице «анархо-большевистской революции». Выбор не случайно пал на Семенова. Сын казачьего офицера и ононского к у л а к а , он имел о с н о в а н и я ненавидеть
бопьшевиков, которые з а м а х н у л и с ь не только ,на к а з а ч ь и привилегии,
ню и грозятся лишить зажиточных казаков богатства.
А т а м а н невидящим взглядом смотрел в окно в а г о н а и думал. Семенов знал, с чего начинать, имел н е м а л ы й опыт формирования казачьих батарей, сотен и полков. Но это если... если не успели боль~
шевистские идеи проникнуть в души казаков.
В коридоре, возле приоткрытой двери купе стояли высокий красивый адъютант и вестовой с лихо закрученными усами. Он.' тоже
глядел в окно, н'о всем существом своим чувствовал к а ж д ы й взгляд,
поворот головы хозяина.
Есаул Григорий Семенов и к а з а ч и й урядник Григорий Афанасьев
встретились на турецком фронте.
Однажды Афанасьев докладывал есаулу о своей дерзкой вылазке во вражеский тыл. Семенов похвалил его, обещал представить к
георгиевскому кресту. Уз&ав, что Афанасьев родом из Забайкалья и,
стало быть, его земляк, есаул взял ег>о к себе вестовым. С той поры
вот уже третий год Афанасьев -неотлучно находится при Семенове.
А т а м а н крякнул, вздохнул глубоко, со стоном. Афанасьев обернулся.
— Худо, Гриша. Мутит. Голова свинцом н а л и т а . Тебе, семейщина, хорошо: не знаешь такой беды. Не куришь, не пьешь...
— Так точно, ваше превосходительство?
— И баб не щупаешь?—пошутил Семенов.
3*
35
— Приходилось, ваше благородие,— весело ответил Афанасьев.
Шутки а т а м а н а надо было понимать. — Только теперешняя моя жена рано посадила меня, как кобеля, на цепь. Ни на шаг не отпускала. Ух, и норовистая, холера!
Григорий показал а т а м а н у пожелтевшую ог в р е м е н и к а р т о ч к у
жены. Семенов похвалил:
— Красивая, .видно. Как звать-то?
— Евлампия.
— Это что означает по святцам?
— Благосветная.
— Ишь ты, благосветная! Как-нибудь з а е д у в гости,— пообещал
он.
— Всегда рады, в-аше превосходительств,— ответил Григорий.
Душа его возликовала. Он- гордился, что так вот запросто может
разговаривать с человеком, которого судьба вознесла на такую вышину.
Пожив неделю в роднюй станице Дурулгуевской, Семенов п р и ступил к исполнению порученного дела. Он разъезжал по с т а н и ц а м ,
проводил совещания станичных и поселковых атаманов 1 , часто выступал, призывая казаков «грудью встать н-а защиту казачьих привилегий и православной веры от безбожников-большевиков».
Поначалу люди слушали а т а м а н а . Ему удалось создать не одну
добровольческую сотн'ю. Но весть о свержении Временного правительства перепутала все планы. Бедняки, а за ними и середняки покидали дружины и сотни. «Звание-то казачье, да жизнь собачья» —
без боязни ворчали на сходках. Стали создаваться бедняцкие отряды.
Чтобы гне попасть в руки большевистских комиссаров, Семенов
с горсткой верных ему людей ушел за границу, в Маньчжурию. Там
он сколотил наемное войско из «всяких нехристей и басурмане»», как
позднее скажет Григорий. Русских было так мало, что даже должности взводных приходилось отдавать наемникам.
Вскоре после рождества, отслужив молебен, Семенов двинул свои
отряды в Забайкалье, но получил столь сокрушительный оппор от
бойцов первого Аргунского полка, что четыре месяца не мог опомниться. И лишь опираясь на помощь интервентов-японцев а т а м а н осмелился вновь переступить границу..
Тогда-то и отличился вновь вестовой Гришка А ф а н а с ь е в , заслужив отеческое расположение а т а м а н а .
Отряды Семенова расположились на северном склоне сопки. Меж
гранитных выступов р а с с т а в и л и тяжелые орудия и не менее полсотни
пулеметов. А т а м а н был уверен в неприступности своих позиций. Один
полк он оставил в резерве на станции Оловянной. В р а з г а р боя к Семенову прибежал запыхавшийся есаул Косых и доложил: «Красные
обходят с флангов. Пологий южный склон сопки — п л о х а я аащита.
Если они прорвутся к нам, в тыл, возможно полное окружение и
вряд ли удастся кому уйти живым отсюда».
Семенов приказал Григорию с к а к а т ь в Оловянную и немедленно
поднять з а п а с н о й полк.
Афанасьев совершил чудо. Он п р о р в а л с я через неприятельские
цепи, и ни одна пуля не задела его. Подмога подоспела в с а м ы й критический момент. Красные отступили.
А т а м а н трижды поцеловал Г р и г о р и я .
— Ты избавил меня от бесчестия и смерти,— с к а з а л он.— Отныне считаю тебя побратимом...
С той пэры Семенов достиг многого. Его войска з а х в а т и л и Читу, Верхнеудинск и « н а п о и л и коней в Байкале», как обещал атаман
своему войску.
36
Партизаны укрылись в тайге, копили силы. Пламенные слова
большевистской п р а в д ы , которые они разносили по селам и к а з а ч ь и м
станицам, б у д о р а ж и л и и п о д н и м а л и народ.
Семенов сидел как на г о р я ч и х углях, чувствовал: не прочна земля
под йогами, клокочет о'н.а, того и гляди случится взры<в.
И в одну из своих бессонных тревожных ночей .атаман п о з в а л
вестового.
— Ж а л к о мне расставаться с тобой, Григорий,— н а ч а л Семенов.
постукивая костяшками пальцев по столу.— Люблю тебя, а разлучиться придется.
Говорил он вяло, голосом сильно уставшего человека. Григорий
насторожился, не догадываясь, куда клоЬигг .атаман 1 .
— Надежнее тебя у ме'ни даикого нет. Я тебе верю: ты не пред а ш ь и не струсишь...
— Ваше превосходительство, не томите душу, откройте суть,—
не выдержал Григорий.
•— Сейчас открою... Чувствую я, Григорий, что-то неладное готовится...
Семенов взял с к р а я стола плетеную н а г а й к у — с ней он никогда
не расставался — и стал рассматривать рукоятку, сделанную из чисто отполированной кости. Григорий бессмысленно наблюдал за ним.
— Имею донесение твоего зем'ляка, председателя волостного земства П а в л о в а . Не спокойно в Бичуре... Что-то там з а в а р и в а е т с я недоброе. Хочу тебя послать...
— Как же, в,ашс превосходительство?—не стерпел Григорий.—
Мее место при1 вас, ваше превосходительство...
— Там сейчас важнее... Приедешь домой, скажись дезертиром.
Приглядывайся, принюхивайся, в случае чего — прямо ко мне. Ежели придется другому человеку придти к тебе, запомни пароль: «Ногайцев». Это твоя секретная
фамилия на всю жизнь...
Долго а ч а м а н 1 разъяснял Григорию его "новые обязанности.
— Коня сдать, ваше превосходительство?-— спросил Григорий с
тайной надеждой.
— Бери коня,— милостиво отвечал атаман,— и помни: одержим
полную победу — непременно заявлюсь к тебе в гости...
Погляжу
твою Благосвстную,—и, благословляя, Семенов широко перекрестил
Григория.
V
На вершило Зага«ского хребта Григорий остажэвился. Р,ассеалал
коня, расстелил под березой потник, прилег. В высокой синеве плыли
на восток сизые т у ч к и . «Тоже, однако, в Бичуру спешат... Им легче:
шпионить не надо...»
Это слово,, впервые пришедшее в голову, обожгло Григория. Он,
может быть, только сейчас понял, за какое опасное .поручение взялся. «Промахнешься — вздернут -на осине. Как есть вздернут, не пожалеют...»
Дом оказался под замком. Григорий зн>ал место, где обычно п р я чется ключ, но, не входя в избу, поскакал н'а заимку. «Уборочная. И
отец, и Евлампия с дочуркой, надо быть, там».
Он не ошибся. Они у б и р а л и ярицу. После поцелуев и коротких
расспросов Григорий взял у отца литовку — ох, как наскучили руки
по работе! — и пошел, оставляя за собою саженные прокосы. Старик
складывал! в суслоны снопы, которые невестка н.авлзала за день.
С слаще скрылось за дальними сопками. Лишь оранжовю-золотистый веер лучей освещал з а к а т н у ю сторону иеба...
37
В конце второй недели к Григорию зашел его сосед, однофамилец, Иван Афанасьев. Здоровенный мужчина с рыжей, будто из
к р а с н о й меди, окладной бородой, открытым.!! голубыми г л а з а м и .
— На побывку, чо ли, паря, пожаловал, али так чо? — словно нев з н а ч а й спросил Ива», р а с п р а в л я я свою роскошную бороду.
Вопроса этого Григорий ждал. Кто-кто, а уж сосед И в а н за Семеновым не побежит, это он знал: точно и решил «открыться».
—• На побывку... бессрочную, однако 1 ,— добавил :он после мал'ой
паузы, пристально всматриваясь в собеседаика.
— Отпустили, чо ли?
— Отпустили на неделю. А вон 1 и вторая кончается.
— Не боишься?
— Волков бояться — в лес не ходить,— уклонился Грнг'ор'ий от
ответа.
— В о й н а - т о долго будет, нет ли?.. Шибко х у д ы е .вести: чужеземные войска везде...
-— К т о ж ее знает, когда он<а кончится. А чужеземцев чего бояться — как пришли, так и укочуют...
— Выходит, надолго снял доспехи свои?
— Жизнь покажет...
Почти каждый деть стал' наведываться Иван 1 . Г р и г о р и й совсем
осмелел 1 и теп/ерь в полный голос поносил не только интервентов, но
и самого а т а м а н а , которому служил верой и правдой.
— О славе да богачестве печется. Н<а народном горе, как на
д р о ж ж а х , вознесся...
Как-то вечером И в а н п р и г л а с и л ело с собой. В просторной избе
собралось полтора десятка ,мужиков. Хоть и односельчане, но не всех
з н а л Григорий. За старшего тут был чернявый 'безбородый мужик,
по-видимому, не здешний.
— Товарищи! Дни иноетранн'ых захватчиков и их холуев сочтены. К р а с н а я А р м и я победоносно продвигается на восток, сметая на
своем пути всю продажную шваль. Нам надо н а ж а т ь изнутри и тем
п р и б л и з и т ь час победы...
Потом он стал говорить о конкретных з а д а ч а х : подбирать вер>ных
людей, создавать отряды, .готовить удар. Разговор затянулся за полночь. Р а с х о д и л и с ь по одному-два человека, чтобы не привлечь вним а н и я шастающих по селу семеновских милицейских патрулей.
В субботу Г р и г о р и й з а с е д л а л жеребца и ускакал, едва развиднелось, в Верхнеудинск. Д о м а п п . п м н а к а з а л : кто будет спрашивать —
поехал в лес заготовлять дрова.
На с л у ч а й , если з а д е р ж и т м и л и ц е й с к и й патруль или кон'ный
разъезд, Григорий имел \ д о с т о и е р е ш м ' за подписью а т а м а н а . В документе говорилось, что Григорию И в а н о в и ч у Афанасьеву предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам. П р е д п и с ы в а л о с ь всем должностным л'ицам не з а д е р ж и в а т ь его. Срок отпуска был умышленно
обойден.
В Верхнеудинске Г р и г о р и й быстро д о б и л с я встречи с Семеновым: офицеры, о х р а н я в ш и е ставку, хорошо з н а л и и с а м о г о вестового
и то, что к нему благоволит атаман.
Григорий обстоятельно доложил о сходке и прибавил:
— Бичурские большевики, ваше превосходительство, и которые
сочувствуют, открыто действуют. Они могут такой пал пустить — не
затушишь...
— З а т у ш и м , Григорий. А не затушим, так задушим,— захохотал
а т а м а н пропитым басом.— Кто там г л а в н ы й з а ч и н щ и к ?
— Главные, однако, Петров Иван и Ткачев, имя не знаю.
— Благодарю за верную с л у ж б у ! Смутьянов мы п р о у ч и м . А ть>
38
возвращайся домой и л-езь глубже. Ужом ползи, .а до самого центра дойди.
— Буду стараться, ваше превосходительство.
•— В деньгах не нуждаешься?
— Ни'как нет, ваше превосходительство!
Через "несколько дней в Бичуру прибыл карательный отряд поя
командой Макаренко. Бандиты на г л а з а х у детей выпороли Ткачева
и Петрова и потребовали выкуп за арестоваюных по две тысячи рублей. Родители Т к а ч е в а распродались до нитки и выручили сына, а
бедняка Ивана Петрова каратели увезла с собой и расстреляли на
М'зл'етинском хре'бте.
Григорий остался вне подозрений. Жил дома, з а н и м а л с я хозяйством. Только иа исходе третьего месяца, в середине ноября его опять
позвали на нелегальное собрание. Теперъ выступал стройный голубоглазый юноша с р у с ы м и вьющимися волосами в потрепанной юнкерской шинели на плечах 1 .
— Кто это? — шепотом спросил Григорий у И в а н а А ф а н а с ь е в а ,
сидевшего рядом с ним.
— Новый учитель Сергей Тарасов...
Это был Сергей Юльевич Шнроких-Полянский, революционер,
недавно бежавший из Читы, ловко о б м а н у в семеновскую к о н т р р а з ведку. Он под видом учителя прибыл в Бичуру по поручению Прибайкальского подпольного комитета Р К П ( б ) . Местные коммунисты
знали его по по п а р т и й н о й кличке. Подпольный комитет большевиков, говорил Тар-асов, призывает н а р о д к восстанию. Н а ч а т ь его должны села Десятннково, Мухоршпбирь и Б н ч у р а .
VI
Григорий не мог дождаться к&нца с о б р а н и я . Его колотила дрожь.
«Вот он центр, пот он,— лихорадочно повторял он в какой уж раз.—•
Доподлинно надо разнюхать все. Главное — п л а н и сроки вызнать».
Домой в е р н у л с я позднее обыкновенного, и Евламппя, встревож е н н а я м у ж ш ш ы м и отлучками, сильно подозревая, что з а т е я л ее
Гриша что-то против властей, слезно запричитала:
— Ой, не лез бы ты в пекло. Боюсь я за тебя, Гришенька... Нынче вон к у р и ц а петухом пела. Не было бы беды...
Г р и г о р и й тяжело сел на лавку, невидяще взглянул на жену:
1
— Погоди , мать, большое дело наклевывается. Все л а д н о будет,
«•е п е ч а л ь с я . Бог не выдаст — свинья не съест.
За неделю до выступления Т а р а с о в сообщил: срок восстания назначен на девятнадцатое декабря. Обезоружив местную милицию,
повстанцы идут на Окино-Ключи и далее на Троицкосавск, где томятся в белогвардейских застенках полторы тысячи революционных
Сойцов.
II снова Григорий Афанасьев з а с е д л а л жеребца и с места пог н а л наметом. «Загоню — не беда. За такие вести,— думал он,— атаман косяка лошадей не пожалеет».
Семенов совещался, и Г р и г о р и ю пришлось ждать больше л в \ х
яасов. Новый адъютант, не з н а в ш и й Афан-асьев'а, выпроводил его из
приемной в коридор. Г р и г о р и я это обидело, но адъютант поступил
п р а в и л ь н о , по уставу, и он подавил в себе обиду.
Семенов был взбешен р а з в и в а ю щ и м и с я событиями. Самые жестокие репрессии не з а с т а в и л и умолкнуть большевистских агитаторов.
До к о н т р р а з в е д к и доходят к а к и е - т о г л у х и е отзвуки н а р а с т а ю щ е г о гула, но откуда он идет, никто т о л к о м не может понять.
Отпустив офицеров, Семенов нервно ш а г а л из у г л а в угол.
39
— Ваше превосходительство,— доложил адъютант,
войдя без
стука,— к вам настойчиво просится крестьянин А ф а н а с ь е в .
— Афанасьев?—переспросил Семенов, п р и к р ы в г л а з а ладонью. — Какой Афанасьев?
— Говорит, был вестовым вашего превосходительства.
— А, Григорий! Пропусти, пропусти.
Выслушав Григория, а т а м а н долго молчал, ш а г а л по кабинету,
поскрипывая начищенными до лакового блеска с а п о г а м и .
Григорий не сводил с него глаз. «Постарели, ваше превосходительство,— сочувственно размышлял он. — Лицо-то вон какое бледнее, опухшее и цвет землистый, как у покойника. Т а к и м л/и вы были, ваше первосх'одителъство. Орел орлом!»
— Девятнадцатого.,.— проговорил1 наконец Семенов. — Девятнадцатого... Оттуда—японцы, отсюда — мы. Разом ударить и нагсегда покончить сю смутьянами... Девятнадцатого. Успеем...
А т а м а н достал из сейфа небольшую пачку сотеаных и молча протянул Григорию. Вяло обнял его, так же без энтузиазма поблагодарил: «Спасибо, Григорий, уезжай с богом» — и отвернулся к окну.
А т а м а н распорядился т а к : за счет ближних, благополучных сел
подбросить подкрепление бичурской милиции; капитану Атраховичу
выехать в Бичуру и сформировать из верных крестьян 1 отрйд самообороны; г л а в а р е й большевистского движения не трогать до прихода
войск, дабы не вызвать преждевременного п о ж а р а , к ликвидации которого недостаточно подготовлены; перебросить туда два батальона
войск, численностью не менее четырехсот штыков и сабель; пр'оеить
японское командование направить в Ч&ичуру союзные войска. Повстанцы н а м е ч а ю т в случае удачи повести наступление на ОкиноКлючи. Подтянуть туда из Троицкосавска отряд в т р и с т а пятьдесят
сабель и двести штыков.
На одном из последаих собраний среди повстанцев вспыхнул
ж а р к и й спор. Горячие головы стояли за то, чтобы в н а з н а ч е н н ы й
срок, девятнадцатого декабря, поднять людей. Другие, более осторожные, считали выступление в этот день безумием: милиция получила большое подкрепление' и сумеет быетр'о подавить восстание.
Они говорили, что следует подтянуть к селу вооруженные партизанские силы из других сел.
Выступление отложили до прибытия подкрепления. Григорий
был рад такому решению: япоицы подоспеют н а в е р н я к а .
В дни перед восстанием Григорий старался как можно меньше
показываться на людях. Но отсидеться, спрятаться от гула растревоженного села ему все-таки не удалось. Однажды, тяжело отбухав
в тесовые ворота и до смерти перепугав Евлампию, во дворе появился сосед Иван.
— Ты, паря, пошто затерялся. Али ню с л ы ш а л , как все повернулось?— радостно долож1ил он, вытирая р у к а в о м стег'анки потное лицо.— Милиция разбеглась. Поручик Гутовский и к а п и т а н Астрахович
пойманы и теперь у нас в штабе...
— Бери бердану, пошли,— заторопил он Григория.— Выступаем
на Окино-Ключи...
Евлампия заголосила, запричитала, будто по покойнику, кинулась на шею. Григорий устыдился и ушел с И в а н о м . К а к а я власть
ни победит, а ему до конца дней своих жить с односельчанами, в
предателях да трусах ходить-—тоже не больно сладко.
Бой за Окино-Ключи был жарким. В течение трех дней село несколько раз переходило из руки в руки. Был смертельно ранен с голову Иван Афанасьев, командовавший объединенным партизанским
отр'ядом.
40
Когда батальон карателей был разбит ,и открылся путь на Троицкое а век, поступили тревожные сведения о том, что со стороны Петровского Завода идут на Бичуру около четырехсот семеновцев и
вдвое б'олыше японцев. И вместо того, чтобы наступать -на юго-запад, на выручку тюварище'й, томящихся в белогвардейских застенках, партизаны повернули на север, опгкуда нависла страшная угроза.
А в это самое время войсковой старшина Львов во исполнение
полученных сверку указаний отдал приказ № 14 от 1 января 1920 года. «Приказываю,— говорилось в том зловещем документе,— содержащихся в тюрьме арестованных передавать в распоряжение сотника Соломахи по етю требованию». В течение десяти дней полковник
Сысоев, сотник Соломаха и их подручные перечисти и зарубили почти полторы тысячи отважных бойцов революции1.
Первая стычка с японцами на Заганюком хребПте не принесла победы п а р т и з а н а м . Численно превосходящий противник имел орудия
и пулеметы, а защитники освобожденной Бичуры были вооружены
бердаиами, охотничьими ружьями да самодельными пиками.
Интервенты заняли Заганский станок и несколько ближних сел.
за которые цепко держались, потому что мороза они боялись не меньше, чем партизан.
Передовые партизанские взводы и роты шли по открытой степи.
Каждый человек выделялся н(а снежном просторе! черной точкой мишени. Неприятель, ожесточенно обстреляв партизанские позиции,
несколько
раз пытался предпринять контратаку,
но всякий раз вы1
нужден1 был отступить с большими
потерями
.
Понимая,
что ночь—союзник партизан, яггоицы стали 1 отходить, сжигая дотла населенные
пункты и оставляя _за собою костры,
на которых догорали трупы самураев, погибших без словы и1 чести на чужой зем'ле.
Но Григорий уже не> видел этих страшных костров. Накануне
шальный осколок вражеского снаряда перерезал сухожилие левой
ноги. Рана, много лет служившая неопровержимым доказательством
причастности к партизанскому движению, скоро з а ж и л а , но и следа
не оставила от былого бр>авото вида вестового. Он согнулся, скособочился, ходил' теперь, опираясь на палку и как-то .странно приседая. Франтоватые усы и те затерялись ,в зарослях* смоляной бюроды.
VII
В конце января двадцатого года в Бичуре состоялся съезд трудящихся Прибайкалья. Он обратился с пламенными словами ко всему трудовому народу.
«Товарищи рабочие, крестьяне, казаки и буряты восставшего
Прибайкалья! — говорилось в принятом воззвании.-—Мы
восстали
против наших насильников, .разорителей наших сел1 и деревень, расхитителей народного хозяйства, против банд Семенова и его союзни^
ка — Японии.,.. Мы кля'немся не сложить оружия до полного уничтожения контрреволюционной реакции...»
Началось массовое изгнание интервентов и б ело гвардейцев с
советской земли.
В Бичуре жизнь входила в нормальную колею. На месте сожженных домов поднимались новые. ^Крестьяне готовились к весне: без
хлеба нет жизни.
Семь лет прожил Григорий Афанасьев тихо и мирно: п а х а л землю, сеял и убирал хлеб, ездил на базар, встречался с соседями.
Как ^человека грамотного и заслуженного — получил тяжелую отметину в боях с самураями — его выбрали секретарем сельского Сове41
та. Пост хоть и небольшой, а все же почет со стороны односельчан,
и жалованье «'иногда не (лишнее в хозяйстве.
Но шпионская служ'ба, как зыбкая трясина: стоит ступить »а
нее — затянет.
Поздней о'се'н'ней ночью в ставень окна, ^выходящего в ограду,
кто-то осторюжно постучал. Так стучится только худо'й человек. Дрогнуло сердце Григория. Накинув и'а плечи полушубок, он вышел в сени и спросил, кото надо. В ответ н а з в а л и его имя.
Вошли в избу, Григорий засветил! семилинейную лампу, «висевшую под матицей.
Перед ним стоял высокий сутулый мужчина в кожаном картузе,
брезентовом плаще с «капюшоном и добротных яловых с а п о г а х .
— Не признаете, Григорий Иванович?—спросил мужчина, стяг и в а я картуз и отбрасывая полы ллаща.
Григорий врйоде бы признал в иочном госте «капитана Корецкого — офицера для особых поручений при штабе Семенова, но побоялся ошибиться, ответил уклончиво:
— И признаю и нет.
— Калита» Коредкий.
— Так, так... Раздевайтесь. Откуда? Куда?— Григорий суетился,
ковыляя по горнице.
— А я тебя не узн'ал бы,— признался Корецкий, переходя на
«ТЫ'» и остава'яя без ответа вопросы хозяйка.— Вон как перемололо
гебя...
•— Да, у ката л И1 сивку крутые горки'. Полторы
Н'огп осталось.
Лишь бы на земле устоять, ветром не сдуло'бы...
Корецкий снял плащ и стеганку. В пестрой рубашке и сером засаленном пиджачке, он был похож н-а бухгалтера захудалой артели.
Прошли в заднюю избу, подальше от настороженных вздохов
Евяампии, и Григорий вновь повторил свои вопросы.
— Оттуда. Пока к тебе,— коротко ответил Корецкий, пристально всматриваясь в Григории.— Вот письмо от Г р и г о р и я Михайловича,— добавил он, подавая Афанасьеву конверт.
Афанасьев, ч и т а я письмо, шевелил губа.м'и. Его густые брови то
сходились к переносице, то разлетались.
— Дело верше. Слушаю, ваше б л п г о р о д ш 1 .
— Я еду в Москпу,— н а ч а л Корецкий п р о п л ж с н н ы м -голосом,—
на 'обратном пути заиер'пу к тс'Пе и а а о е р у пес, ч ь и ты можешь перед а т ь атаману. А сейчас помоги -мшс . ч а м е п п п ь документ: д а ж е с а м а я
хорошая липа легко обнаруживается.
Григорий пообещал изготовить удостоверение сельского Совета и
1
достать свидетельство ой освобожден !!!! <н носмлой службы.
До рассвета сидели А ф а н а с ь е в и его теп.. О м н о г о м переговорили. Корецкий рассказал и о том, как ездил с а т а м а н о м в Америку.
— Это было в двадцать втором году.— н а ч а л Корецкий, посасывая незажженную трубку. Несмотря на исключительность случая
Афанасьев не разрешил «сквернить» избу. З а б ы в а я с ь , к а п и т а н тянулся к спичкам, но хозяин всякий раз сстанаплиюал его.
•— Приехали мы в Нью-Йорк накануне пасхи. А т а м а н а пригласили туда для доклада сенатской комиссии. Когда мы е х а л и из порта в центр города, творилось что-то неописуемое: люди взбирались
на крыши и заборы, высовывались из окон, заполнили улицы — с
ликованием встречали атамана... Конечно, нашлось десяток недовольных крикунов из русских, которые разыгрывали возмущениеСотни полицейских с трудом очищали дорогу...
Сенатская комиссия предъявила а т а м а н у иск в полмиллиона дол-
42
ларов за товары какой-то американской фирмы, будто бы з а х в а ч е н ные казаками 'Семенова, обвинили в преступлениях против человечности и бандитизме. Цель тут была одна — обелить себя задним
числом. Его превосходительство посадили в тюрьму и 'начали следствие. Газеты подмыли, вой, расписывая зверства белой арм«и. Они
ссылались, как л а очевидца, и'а 'полковника Моррюу, командира американского полка, находившегося в Забайкалье. А этот очевидец не
только присутствовал гари- уничтожении пленных большевиков, -но и
лично сам отдавал команды...
Так что ничего к<е вышло у американцев. Пришлось им освободить а т а м а н а . Ведь тот мог (раскрыть их дела. Испугались. Вместе
вари'ли кашу — вместе хлебать.
Через те делю капитан Корецкий /уехал и как в воду канул. Прощаясь с Афанасьевым, он сказал зло и убежденно:
— Китайцы готовят болльшой поход на Россию... Мы придем с
н п м л . Жд|И, веди счет подлым делам тех, кто предался красному
дьяволу. Сполна расплатимся...
Не один' г,од Григорий ждал возвращения своих хозяев, так и не
дождался...
VIII
На этот раз Бичур.а встретила нас погожим днем. С Заганского
хребта, ослепительно сверкавшего в лучах весеаднето с о дни а, тянул
свежий порывистый ветер<, и безлистые еще деревья локорно склогня.лн перед ним ветви с набухшими почками.
На распутье Василий Иннокентьевич покинул -машину и, опираясь на массивную палку, 'пошел пешком по н а п р а в л е н и ю к тому концу села, где жил Афанасьев, а я поехал к цен'тр|у.
По легенде Василий Иннокентьевич должен, выдавать себя за
скотогона на монгольских дорогах, и сейчас трудно было узнать в
нем всегда .аккуратного и по-стариковски чистенького капитана Бабкина.
Покошенная шуба, п о к р ы т а я выцветшей далембой .и подпоясанная холщовым кушаком, собачья у ш а н к а , развалившиеся ичиги совершенно преобразили Василия Иннокентьевича. Довершало дело заросшее седой дремучей щетиной лицо.
Метрах в двухстах от дом.а Афанасьева Василий Иннокентьевич
остановил молодую'женщину в семеиском наряде.
— Скажи, красавица, кто тут у вас может и ч и г и з а л а т а т ь ? Вовсе развалились, язви их... Рюякйо в чулках по грязи шлепаю.
Накануне целый день шел моирьгй снег, и улицы действительно
были непроходимы. Женщина 'смущенно зарделась от ласкового обррщенпя прохожего.
— Сейчас, сейчас. Кто же у нас тут? Да во« Григорий Иванович... Налево, шестой дом. Жестяной конек на крыше. Видите?
— Пока нЬ вижу, «о н а й д у . Большое с п а с и б о , к р а с а в и ц а . Дай
бог счастья тебе.
Григорий Иванович хлопотал по двору. Он долго р а з г л я д ы в а л
ичиги Василия Иннокентьевича.
-— Подлатать, паря, можно бы, да м а т е р и а л у нет.
— Уж найдите, я хорошо з а п л а ч у .
— Где же найдешь, коли нет...
Василий Иннокентьевич собрался было открыть Григорию подл и н н у ю цель своего визита, но в это время из сеней вышла Евлам43
пи'я с помятым ведром в руке. Он'а поздоровалась с Бабкиным и
стала скликать кур, косо посматривая ш'а 'незнакомого гостя.
— Да уж как-нибудь через нет,— продошомал кан'ючить Василий
ИнАаокентьевич.— Пропаду я в такой обувке...
— Откуда будешь-то?—спросил Афанасьев, вдр^г" 'меняя направление разговора.
— Пришлый я, издалека,— уклончиво отвечал Бабкин.
— Каким ветром в наши края занесло?
— Скот перегОнмем.
— Из Монголии чо ли?
— Оттуда.
— Жалко тебя. И правда — пропадешь, холера тебя забери.
Пойдем в избу, может, отыщем чего.
— Спасибо, хозяин. Век буду молиться за тебя.
— А веришь в бона-та?
— Как все ноне.
— То-то .и оно. Раздевайся.
Василий Иннокентьевич ок/ял ш а п к у , шубу 'и повесил «а оленьи
рога, прибитые к стене, стянул ичиги и прошел вперед, оставляя на
яичню-Ж'елтом полу мокрые следы, причесал редкие волосы и 'неумело перекрестился на передний угол.
Афанасьев взялся за ичиги.
— Подошву, паря, менять надо. Работы до полмочи. Ночеватьто есть где?
— Разве в гостинице, если... Отстал от напарников.
— Туда ие попадешь: местов дат. Ноч(уй у нас,—милостиво
предложил Афанасьев, чем несказанно обрадовал тостя.
Когда Евламтия, вздыхая и1 приговаривая что-то, ушло спать и
они остались вдвоем н>а кухне, Б.абкин приступил к делу.
— Я к тебе, Григорий Иванович, с поручением от его превосходительства,— сказал Бабкин, -наблюдая, какое действие окажут эти
слова на Афанасьева.
Гр.ипори1й Иванович вздрогнул, точно от у д а р а , и> выронил' кривое шило.
— Какого еще п|ревосходительств<а? Ноне ъаких званиев нет,—•
строго ответил он, пытаясь скрыть волнен'ие.
— От Григория Михайловича... атамана Семенова.
— В гостях, чо ли, у него побывал?
— Служу у него.
— У генерала без арм'ии, у а т а м а н а без войска?—насмешливо
спросил Афанасьев, окончательно овладевая собою.
— Дай-ка нож.
Василий Иннокентьевич старательно, н'е спеша подпорол- подкладку пиджака, вынул и подал Григорию письмо. То самое письмо
на тонкой японской б|умаге, которое было найдено у 'нарушителя границы.
Афанасьев долго читал письмо, видимо, мучительно обдумывая,
как ответить и поступить, руки его дрожали.
— Что ж, Ногайцев, пого-ворИ'М о деле.
— Можно поговорить...
Целую неделю прожил Василий Иннокентьевич у Афанасьева.
Днем помогал по хозяйству, а ночами выслушивал его исповедь.
Григорий Иванович расспрашивал об атамане Семенове, его жизни,
пла»ах и намерениях.
— Худые вести, шибко худые,— с к а з а л он,— выслушав сообщение Бабкина <у том, что японцы не собираются выступать против
44
Советского Сочоза.— Надо быль, боятся... Ам/ериканцев, сказывают,
л а д н о потрепали, а против русских робеют, слабы...
Трудно было понять, чего больше в этих словах — горечи и сожал'ения или гордости.
— Григорий Иванович,— как-то спросил Бабкин,— я не пытался
ты найти единомышленников? Один1 — в поле н'е воин.
— Как -не пытался. Привлек двух мужиков: Спиридона Белы*
да Никифора Лоскутова... А тош'ку из того...
— Порученья им давал какие?
— Сам, почитай двадцать годов без порученцев живу. Беда как
грп'вык к безделью...— усмехнулся он.— Вьг вон извещаете годом да
родом...
— Сиди- тихо, как заяц в котгне, не то сожрут. Время наше ие
пришло.
•— Сижу. Подохн'ем, однако, пока придет желанное время.
— Наперед батьки лезть в пекло тоже негоже,.
Афанасьевы провожали Василия Иннокентьевича, будто дорогого гостя. Евлампня, которой Григорий выдал ..его за сослуживца и
фронтового' друПа, выстирала белье, почиииша одежду, напекла лепешек, с в а р и л а десяток яиц. Когда он скрылся за поворотом, он'и
з а ш л и в опустевший /дом и вдфуг почувствовали себя одинюкими и
старыми. Вспомнили: даж!е дочь Устинья редко навещает. Своя семья — свюи заботы.. Слушал», как тоскливо воет ветер в щелях ставней и застрехах крыш1и, как хрипл© лает Полкан 1 , звеня тяжелой
цеяью.
IX
Исповедь бывшего вестового вызвала /большой интерес. Наши сотрудники проверили, насколько огна соответств'ует историческим фактам.
Воспоминания
краевых
партизан— участников гражданской
войны объективно подтверждали рассказ Афанасьева.
Подтягивание к Бичуре карательных отрядов, а потом и японских
войск, усилелие семеновской милиции в дои, предшествовавшие восстанию, партизаны рассматривали как следствие предательства. Они
подозревали эсера Шацкого, кулока Булычева, не догадываясь, что
в их ряды проник агент белогвардейской контрразведки. Вспоминая
трагическую гибель революционных бойцов в Красных к а з а р м а х Троицкосавска, партизаны с бошью и горечью говорили: «Гибель эти<х
товарищей стала прямым укором нашей неопытности—ведь если
бы в свое время мы зан'яли Трои-косавск, этого, наверное, не произошло». Между тем именно предательство А ф а н а с ь е в а и вызванное
этим наступление японцев и семеновцев с севера отвлекли силы
партизан и нарушили план похода на Троицкое а век. Такой связи
партизаны тогда не могли видеть.
Телеграммы, приказы, информационные письма, обращения и
воззвания партизанских и белогвардейских штабов т а к ж е -не опровергают этой версии.
Посещение Семеновым США в апреле двадцать второго года изложено капитаном Корецким весьма тенденциозно, можно сказэть,
поставлено с ног на полову. Люди выходили на улицу не приветствовать атамана, как говорил Корецкий, а с совершенно противоположными намерениями.
Газета «Нью-Йорк Америкен» писала четырнадцатого апреля:
«Тысячи людей ожидали появление Семенова. Они ожидали его не
для приветствий, а для того, чтобы сказать «Доло»й!» и освистать
казачьего атамана... Когда упитанный генерал со своими неповторимы45
М'и усами, идущими чер'ез щеки к глазам, был проведен на допрос,
гневный рев .толпы затопил< все крики пощщ-ейски»...». Это, конечно,
совсем не то «ликование», о котором говорит капитан.
Что касается сообщений американских Газет О зверствах семенювцев над мирным населением, по Корецкий не покривил душой, сказал
правду.
«Нью-Йорк трибюн» опубликовала материалы сенатской комиссии. Они р а с к р ы в а л и страшный эпизод уничтожения патриотов на
станции Андриановка.
«Согласно показаниям,— писала газета,— пленники, наполнявшие
целые вагоны, выгружались, затем их вели к большим я м а м и расстреливали из пулеметов. Полковник Морр-оу сказал,, что они были »е
большевиками, а невинными крестьянами... Апогеем казни было убийство за один день пленных, содержащиеся в пятидесяти трех вагонах,
всего более тысячи шестисот человек... Зате'м был банкет и пиршество».
Поистине, кровавый пир!
Верны замечания Корецкого и1 о полковнике Морроу, об американских офицерах и солдатах, п р и н и м а в ш и х непосредственное участие в убийствах советских людей.
Наконец, разговор с Семеновым.
В октябре двадцатого года атаман, покинув свое р/азбитое воинство, вылетел из Читы самолетов: на земле все пути отхода были перекрыты. Ровно через четверть века о« опять же самолетом возвратился на советскую землю. На этот раз под конвоем чекистов.
Я увидел обыкновенного старика, лысого, обрюзгшего. Щеки отвисли; пальцы толстые, как сардельки, изредка вздрагивают; потухший взгляд темных коричневых глаз выражает полную отрешенность.
Говорит он скупо, будто отмахивается от надоедливые мух. Своего вестового атаман помнит, только отчество путает, называет «Пет-ровичем».
— Скажите,— спросил я,— у вас не возникло подозрений в отношении Афанасьева после того, как не возвратились посланные к
нему агенты?
— Нет,— ответил Семенов. — Есть люди, которым, поверив один
раз, не перестанешь верить всю жизнь, что бы ни случилось. Таким
человеком я считаю Григория... Здесь мне предъявляли показания
капитана Корецкого... Его Григорий не предал:. Он сам ошибся и попался в хорошо поставленную ловушку...
Беседа закончилась, Семенов тяжело подшился и, по-стариковски
шаркал тапочками со стоптанными задниками, ушел в сопровождении дежурного.
Я получил справку. В ней у к а з ы в а л о с ь : капитан Корецкий арестован в январе двадцать восьмого года. Он готовил террористический
акт.
Настала пора встречи с Григорием Ивановичем Афанасьевым.
Передо мною стоит бородатый старик, опираясь »а м а с с и в н у ю самодельную палку. Вид у него ж а л к и й . Только мысль о тяжком предательстве отгоняет жалость. И все-таки я начинаю с расспроса о ранении. Он обстоятельно рассказывает об этом и о том, где и как лечил
ногу.
Теперь буду говорить о своем деле,— начинает он, не дожидаясь моих вопросов.— Ты, паря,, слушай и не перебивай...
Он уселся удобнее, прислонил к стене палку — поправил штагаину на покалеченной ноге. Все это проделал степенно, не спеша.
— Тридцать лет ждал я этого дня. Знаю, каждая дорожка, даже
самая торная, начинается с первого шага и кончается — последним.
46
Буду в колонии ич-иги шить. Старухи нет рядом, так теперь уж она
без надобности,— грустно шутит он.
Ничего нового рассказ Афанасьева не прибавляет к тому, что нам
известно о нем. лишь уточняет какие-то детали.
В беседе с Василием Иннокентьевичем он сообщил, что завербовал односельчан! Белых и Лоскутов а для работы на японскую разведку. Я с п р а ш и в а ю об этом.
— Соврал, п а р я следователь. Прихвастнул,— пояснил Афанасьев.— Знаю этих людей по службе у белых, думал, при необходимости
не откажутся помочь...
Я не стал переубеждать Афанасьева. Это его право — мерить людей на свой аршин. Последний шаг по своей тропке ж нами он уже,
пожалуй, сделал.
I
Делю Николая Ставрова возникло по тем временам совсем обычно.
Поступил розыскной циркуляр. «Разыскивается Ставров Николай, 1920 года рождения, уроженец Восточной Сибири, по специальности шофер. В период немецкой оккупации добровольно поступил на
службу в полицию, участвовал в карательных операциях против советских партизан. При отступлении .немцев бежал с ними. В июне
1945 года з а в е р б о в а н офицером разведки западной державы в качестве а г е н т а , готовится к переброске в Советский Союз по каналу репатриации».
На первом этапе перед мам и стоят две задачи: установить месторождение Озерова, чтобы собрать более полные данные о нем и родс т в е н н и к а х ; проверить —не укрывается ли он сейчас в Забайкалье.
Месяца через три убеждаемся: Ставрова Николая на прописке в
нашей местности нет.
Я на всякий случай беру на заметку м е х а н и к а автобазы Ставрова Никифора Игнатовича, родившегося в восемнадцатом году в Краснодарском крае. Насторожила профессия и, самое главное, то обстоятельство, что п городе живут два Никифора Игнатовича Ставрова,
год и место рождения которых тоже совпадают. Второй Ставров Никнфор работает слесарем в гараже «Стройтреста».
Естественно, стали разбираться в судьбах двойников. Выяснилась
такая картина.
На одном из хуторов близ станицы Екатериновской жил зажиточный к а з а к Игнат Тимофеевич Ставров. В тридцатом году хозяйство
было изъято, а сам он с женой и детьми выселен в Сибирь. Старики
помнят: у Ставровых была дочь Анастасия и два сына — Никнфор и
Николай. В то время старшему сыну исполнилось лет двенадцать, а
младшему, должно быть — десять. Но кто* из них старше, Никифор
или Николай, хуторяне не могли сказать. Архивы станичного Совета
не сохранились.
Идем по следу. В Канском районе Красноярского к р а я жила семья к у л а к а Ставрова. В тридцать шестом гону Игнат Тимофеевич
умер от сибирской язвы. Старший сын Никифор вскоре выехал н.а
47
Дальний Восток, по слухам, работает где-то на строительстве паровозов-а'гон.ното завода. Жена Игната Ставрова вместе с младшим сыном
Николаем «укочевала», как говорится в справке, в Боготол, где живет ее дочь Анастасия с мужем... Ф а м и л и ю его не знают: человек он
не местный.
Знакомлюсь с автобиографиями и анкетами Ставровых.
Механик Никифор Ставров вот уже двенадцать лет работает на
автобазе. Начинал с подсоблю го рабочего на стройке. В годы войны
пользовался бронью. Об отце он пишет т а к : «Мой отец Ставроз Игнат Тимофеевич не захотел вступать в колхоз и переехал в Красноярский край, там и ум-ер». О бр'ате: «Брат Николай накануне войны
жил на Кубани. Считаем его пропавшим без вести».
Жизненный путь слесаря Никифора Ставрова имеет много общего с историей жизни его однофамильца. Но и разница большая. Слесярь Никифор Ставров паспорт получил на основании В'оенного билета, а военный билет-—по справке Управления милиции об утрате документов. В автобиографии пишет: «Родителю жили в Восточной Сибири. В тридцать шестом году я уехал на Дальний Восток. Всю войну служил в армии, демобилизован' в октябре сорок пятого года...»
О родственниках ни слова. Однофамильцы или братья Ста.вровы? Является ли разыскиваемый автослесарь
Ставров агентом
западной разведки? У механика — бесспорное алиби.
Ответ первой задачи мы н а ш л и сравнительно быстро. Пользуясь
тем, что в военкоматах шел обмен военных билетов, мы попросили
райвоенкома вызвать Ставровых на один день и час. В коридоре среди многих военнообязанный, ожидавших приема, сидел мой помощник лейтенант Кручин в штатской одежде. Он должен, был наблюдать
за встречей двух Никифоров.
Ровно в назначенное время вошел механик Ставров. Он неторопливо осмотрел длинный коридор, увешанный плакатами.
— Тут очередь ил'и к а к ? — с п р о с и л Ставров, обратившись к пожилому мужчине.
— Нет. Сами выкликают. Ждем вот.
Ставров проследовал в дальний угол и присел' на корточки, сцепив в замок руки перед собою.
Автослесарь Ставров опоздал минуты на четыре. Он поздоровался, ни к кому не обращаясь, прислонился к стене, скрестив ноги, и
стал ждать.
Шло время. Ста.вровы не о б н а р у ж и в а л и н и к а к и х признаков знакомства, не проявляли друг к другу ни малейшего интереса, и лейтенант Кручин н а ч а л было подумывать, тс пора Л'И ему покинуть пост.
Но вдруг приоткрылась дверь, и з ы ч н ы й голос офицера выкрикнул: словно команду:
— Ставров Никифор Игнатович!
Ставровы чуть не столкнулись л б а м и . Они внезапно остановились, ошеломленные.
— Коля? Живой! — опомнился механик. Он по-мужски неловко
обнял и поцеловал брата.
— Никифор? Ты здесь? — удивился слесарь, озираясь по сторонам.
Товарищи, заходите же, не задерживайте,— поторопи-л их
офицер.
— Ладно, Никифор, иди. Я подожду.
Вскоре Никифор вышел и сразу кинулся к брату.
— Все в порядке. Иди!
— Я в другой раз приду... Где же билет?
— Через три дня. С б'и.тетами — это те, кто раньше с д а в а л документы.
Став.ровы ушли, оживлению разговаривая. Люди с недоумением
смотрели им вслед. Только лейтенант Кручин понял: братья встретились после двенадцатилетней разлуки. Значит, слесарь Ставров
присвоил имя бр.ата. Подозрения вокруг Ставрова сгущались. Оставалось найти последнюю разгадку. Фотокарточки Ставрова р а з о с л а л и
для опознания лицам, знавшим немецкого полицая Николая Ставрова.
Томительное ожидание длилось почти два месяца. Наконец, получены неопровержимые улики: Ст.авров—разыскиваемый государственный преступник. Но тут выясняется — Ставров скрылся. Упустили! Делго мы не имели никаких сведений о нем, словло сквозо землю
прюваличчся. С первым же известием я пошел к вачальн'И'ку у п р а в ления.
— Хорошо, Лавров,— сказал полковник, выслушав мой доклад,—
бери в помощники старшину и езжай в Красноярский край.— Он строго посмотрел на меня и добавил: — Но шпиона ты должен привезти... Ты понял меня?
II
Поезд мчится по извилистой дороге, размеренно постукивая колесами на стыках рельсов и тягуче снгн'аля та крутых поворотах.
В нашем купе оказалась одни мужчины: я, старшина Филинов и
два молодых солдата. Впрочем, они, забросив на свои места вещмешки и пилотки, тут же ушли в соседнее купе, где ехали студентки-пр.актикантки. Оттуда уже доносились задорный смех и голоса, ведущие счет «дуракам» и «козлам».
У меня не выходит из головы мысль: чем вызвано бегство Ставрова? Где и к п к мы оставили след, настороживший его? Я перебираю в п а м я т и псе н'аши ДСЙСТЕ.ИЯ и шаги. Наиболее вероятным остается предположение, что кто-то проговорился из тех людей, через которых наводились справки. Правда, мы предупреждали их. Но я" знаю,
есть люди, !Н' умеющие хранить тайну.
Мои размышления сделали несколько спиралей и с т а л и повторяться. Тогд.ч я решил отключиться, устроился поудобнее и стал глядеть в окно.
Десять лет, как я живу в З а б а й к а л ь е , почти все мелькающие за
окном станции и полу ста ночки знакомы мне лично. Вот 1 сейчас будет
Тимлюй. Здесь меня впервые встречала девушка. Стоял тогда весенний погожий денек, и с а м а она, радостная, изрядная, была похожа
на весну. Потом будет станция Посольская. Года четыре тому н а з а д
ездил я с друзьями рыбачить на Посольский сор. На обратном пути
встретилась у з к а я речушка с высокими скальными берегами. Через
нее переброшено толстое, в два обхвата, бревио. С тяжелой нюшей зз
плечами мы переходили по нему. Осень, бревно сырое, скользкое, а
внизу м е т р а х в двадцати под н а м и , поток ревет. Н а д в и г а л а с ь буря.
Со стороны Байкала доносился беспрерывный глухой гул. С н а м и был
пожилой нервный
мужчина. Он бояася ступить на бревн<о. Его мы
перенесли н р а р у к а х . Запомнился нам этот переход... На станции Мысовая вел я т а й н у ю войну с одним разуверившимся во всем человеком, который всю жизнь томился жаждой мести и тем з а г у б и л себя.
Утром следующего дня на одной из станций в вагон зашел старший лейтенант милиции и громко крикнул: «Капитан Лавров есть
здесь?» Проверив мои документы, старший лейтенант вручил мне те4. «Байкал» Л"» 6
49
леграмму: «Груз находится деревне Поселье Боготольского р а й о н а
Корнаковой Анастасии Игнатовны = Бородин».
«Груз» — это Ставров. Положение наше облегчилось: теперь мы
имеем адрес и не будем ловить зайца в поле. Я прошел в купе начальника поезда и предупредил, что мы едем до Бототола. Он обещал
сохранить места за нами и вызвался оформить наши билеты.
В Боготол мы приехали ночью. В единстве иной гостинице, куда
мы обратились, вам предложили одну койку на двоих. Рассчитывать
на что-то лучшее в этом городишке »е приходилось.
Начальник райотдела старший лейтенант Б а л а к и н п р и н я л нас
любезно, но тут же огорошил, сообщив:
— Села Поселье во вверенном мне районе нет.
— Как нет?
— Вовсе нет.
— А что есть похожее, созвучное?
— Похожее? Черт его анает...
— У нас есть село Большая Косуль,— подсказал лейтенант Грачев, присутствовавший при беседе,— местные жители называют его
«Бекосуль». Может, там?
— Пригласите участкового уполномоченного милиции.
По звонку Балакииа в кабинет вошел молодой симпатичный парень в штатской одежде. Он поздоровался со всеми за руку и, не дожидаясь приглашения, сел н»а свободный стул.
— Вам не приходилось слышать в Большой Косули фамилию
«Коржакова Анастасия Игнатовна?» — спросил я.
— Как не приходилось, знаю. К ней месяца два тому назад приехал брат из Забайкалья... По моим данным, у него есть огнестрельное оружие...
— Чего же ты смотришь?—'начальственным тоном спросил Баь
лакин, хотя этот красивый младший лейтенант не подчинен ему.
— Я только получил эти данные,— спокойно ответил младший
лейтенант.— Еще начальству не докладывал.
—• Брат этот работает где?
— В Александровской тракторной бригаде механиком.
— Спасибо. Вы можете быть свободны, товарищ младший лейтенант,— сказал я, обращаясь к участковому.— Ну, а как нам туда
добраться, товарищ Балакин?
— Можно на лошадке, 'не откажу. Или найти попутную машину. Я пошлю с вами вот лейтенанта Грачева...
Попутной машины мы не та шли и поэтому поехали на лошади.
Крупный саврасый мерин с огромным вздувшимся животом шел досольно ходко, но бег для него был сущим наказанием. Пробежав
двести-триста метров, он начинал фыркать и нознращался к степенному шагу.
Поля только что освободились из-под снега и были похож» аа
огромное лоскутное одеяло с желтыми, сиреневыми и зелеными квадратами. Висит сизоватая дымка, и тусклый солнечный диск кажется оранжевым. К непогоде.
До Большой Косули путь был не так уж велик, и к вечеру, пригласив с собой председателя Александровского сельсовета, бывалого
фронтовика, рослого и ладно скроенного, мы приехали в тракторную
бригаду.
Ставров был на месте. Мы предъявили ему ордер на арест. Среди механизаторов послышался ропот. Я не мог понять, чем обеспокоены
люди.
Председатель прошептал мне на ухо: «Вчера здесь проводили со50
вещание, трактористов ругали за невыполнение плана, они связывают
арест Ставрова с тем разговором».
— Товарищи,— обратился я к собравшимся. — Задержание Ставрова не связано ни с работой бригады, ни тем более со вчерашним
совещанием. Он арестован, как государственный преступник...
Ставров стоял, потупив голову.
Пошел дождь, к ночи сменившийся мокрым снегом. К утру совершенно развезло дороги. К переправе через Чулым мы отправились
пешком — я, старшина Филинов и Ставров. Лейтенант Грачев остался
по делам в селе.
Река, забитая шугой, кипела. Старик-перевозчик, сдвинув треух,
долго царапает затылок.
— Куды беду сейчас... Бона к а к а я пурга... Однако, паря, переждать надо.
До обеда сидели в его землянке, слушали байки, до которых охочи
деревенские старики. Но вот река начала очищаться, шуга пошла полосами и островками.
1
— Ну что, дед, пора?
— Пора дак пора,— соглашается старик. — Четырех, однако, не
подымет лодчонка-то. Ладно, попытаем судьбину...
Мы со стариком сели за весла, старшина — на корму, не отпуская заведенные за спину руки Ставрова. Оставлять его руки связанными было опасно, утонет, свободными — перевернет лодку.
На середине реки лодка попала в кипящую кашу. Она так густа,
что весла не пробивались через нее. Шуга, наслаиваясь, поднялась
почти до верха борта. Неуправляемую лодку сносило течением все
дальше вниз. Наконец, нам удалось повернуть ее носом против течения. Шуга со скрежетом обошла лодку, и мы попали в чистую прогалину. Ставров пристально и напряженно смотрел на меня.
До берега оставалось метров двадцать. И вдруг лодка сделала
резкий крен — мы все в воде.
Я плыву на спине. Следом за мною Ставров. Старик и старшина
ухватились за лодку и, энергично двигая ногами, гнали ее к берегу.
Вода обжигает тело, льдинки царапают шею, подбородок. Недалеко
от берега Ставров, отставший от меня метра на три, начал все чаще и
чаще нырять. Возвратился к нему, и он тут же утянул меня под воду.
Вспыли, я схватил его за ворот комбинезона так, чтобы он снова не
уцепился за меня. Наконец, ноги касаются дна. Перевозчик и Филинов
причалили метрах в ста ниже по течению. Вблизи мы увидели развалившуюся сараюшку. С подветренной солнечной стороны ее разделись
и обсушились.
Мы не сразу догадались, почему перевернулась лодка.
— Вон варнак ваш опрокинул,— сердито проворчал старик,
стрельнув колючим взглядом в Ставрова.— Поганец!
Ставров недели две путал, выкручивался, пытался выяснить, что
известно о нем следователю. Но и у самого опытного преступника рано или поздно происходит психологический надлом, когда он убеждается: запирательство бесполезно, чистосердечное признание — единственный выход из положения.
Такой момент наступил и у Ставрова.
— Ладно,— бросил Ставров, отрешенно махнув рукой.— С чего
начинать? С самого детства?
— Нет,— спокойно сказал следователь. — Вашу жизнь до момента
выезда из Канского района мы уже записали. Там все верно. Начинайте с войны, только без путаницы.
— Пишите.
*•
51
(
— Запишем потом. Рассказывайте, а мы с товарищем капитаном
послушаем.
-— Наш хутор на реке Ея,— начал Ставров,— со слов родителей
представлялся мне райским местом... В тридцать девятом году я в Боготоле сел на поезд и со многими пересадками доехал до Краснодара,
а оттуда — до хутора. Там жила тетка, сестра отца, одинокая старуха.
Она обрадовалась приезду племянника и не чаяла души во мне. Ну,
немного пожил у тетки и поехал в станицу, поступил шофером в райпотребсоюз. Осенью сорокового меня призвали в армию. Началась
война.
Наша часть сражалась в моих родных местах. Весной сорок второго года наш батальон попал в окружение. Командир приказал пробиваться в одиночку. Я пришел в свой хутор. Жил у тетушки. Немцы, по
слухам, заняли Кавказ, подходят к Волге. Я рассудил так: наши придут не скоро, помирать с голоду неохота — надо искать работу. В станице встретил дружка, он служил в немецкой полиции. Работа, говорит, легкая: ходим вокруг станицы да песенки поем.
Словом, подал я заявление о желании служить в полиции. Написал автобиографию: отец раскулачен, потом будто бы расстрелян
НКВД, сам, мол, сидел в тюрьме. Это я цену себе набивал. Приняли.
Первые дни действительно вроде ничего. Служба не трудная, платили
нормально. Потом послали в Днепровские плавни, партизан ловить.
Там страшновато было...
— Сколько партизан вы лично убили?
— Не знаю, не могу сказать. Стрельба сильная была.
— Продолжайте, Ставров.
— После Сталинграда немцы покатились на Запад. И мы. вся
полицейская шушера,— за ними. А куда деваться? Добровольная
служба в полиции, участие в карательных операциях против партиз а н — за это не помилуют. Так и бежали с ними. В начале сорок пятого я попал в лагерь. Это немцы придумали — дескать русские освободят вас из лагеря, поверят, что вы не по доброй воле служили у нас...
— Одну минуту, Ставров,— перебил следователь. — Вы когда
ушли из Краснодарского края?
— Летом сорок третьего.
— До н а ч а л а сорок пятого, почти два года, немцы даром кормили вас?
— Нет, конечно. Где-то западнее Киева, потом в Карпатах нас посылали против партизан...
1
— Много раз вы л и ч н о участвовали в боях?
— Порядочно.
— Вместе с немцами?
'
— Да, одним нам они, д о л ж н о б ы т ь , не доверяли.
— Расскажите подробнее о споем у ч а с т и и в карательной операции под городом Чагор Черновицкой области.
\
Ставров сильно вздрогнул, п р и к р ы л глл.чл ладонью и минуты две
молчал. Мы его не торопили.
— Нас подняли ночью по тревоге,— н а ч а л он медленно, как бы
через силу. — Оберлейтенант Шарнгорст, командир «зондсркоманды»
к которой мы были причислены, объяснил: вблизи Чагора в деревне
укрылись партизаны. Под утро мы заняли деревню. Взрослых мужчин
расстреляли всех до единого, дома сожгли...
— Рассказывайте дальше.
— Так вот, нас определили в лагерь. Условия? Наравне со всеми
военнопленными. Эти четыре месяца показались мне длиннее четырех
лет...
— Кто вас освободил?
52
— Наш лагерь находился в Австрии, его освободили американские
войска. Привезли на сборный пункт в Грац. Большой, красивый город,
разделен рекой. Мур называется. Жили мы там здорово: пили, любовь
крутили с австриячками. И наших девок дополна было. Все могло кончиться хорошо, если бы не...
Ставров остановился на полуслове и задумался. Видимо, еще
сомневался — все ли знают о нем.
— Смелее, Ставров. Чего это вы заколебались? Расскажите о ваших встречах с капитаном Харрисоиом.
— Значит, и об этом знаете? Разрешите попить, гражданин следователь?
Я налил стакан воды из графина, подал Ставрову. Он залпом вы»
пил.
—• Однажды вечерком я с товарищем пошел на вокзал,— начал
Ставров. — Просто от безделья. Может, бабенок хотели подцепить...
(У пакгауза р а з г р у ж а л и вагон. Ящики, в них коньяк с красивыми этикетками. Мы обратили внимание: грузчики долго задерживаются на
складе, и ящики остаются без присмотра. Улучили подходящую минусу, взяли по я щ и к у — и деру. Нас поймали, отвели в полицию, а оттуда — в тюрьму.
Дней десять прошло, однако. Вызывает этот самый капитан Харрисон...
— Какой он ил себя? Обрисуйте.
— Высокий, плотный, я на рост не жалуюсь, а рядом с ним — пацан пацаном. Волосы пепельного цвета, может, седые, блестящие, будто корова л и з н у л а , а тут,— он показал на пробор,— широкая просека...
(Глаза болотные... Ну, зеленоватые и всегда мутные... Очень смешные у
него уши: маленькие, одно ухо оттопырено, а второе прижато к голове.
— Переводчик присутствовал?
— Нет. К а п и т а н Харрисон прекрасно говорит по-русски: чисто,
без акцента. Я да/ко думаю, что он из белоэмигрантов, и фамилия Харрисон не н а с т о я щ а я .
— С чего н а ч а л с я ваш разговор с капитаном Харрисоном?
— Он поироси.ч рассказать о моей жизни. Я сообщил о раскулачивании отца, а потом столько наговорил на себя,— здесь Ставров выругался столь крепко, что мы со следователем поморщились,— уши вянут. Будто я дезертировал из Красной Армии, лично поймал и расстре^
лял командира партизанского отряда и еще черт-те что...
— Это гачсм же?
— Наверное, хотел больше угодить Харрисону. И что меня сбило
с толку: Харрисон ничего не записывает, мели, думает, что хочешь...
Ладно. Потом он спросил о ящиках. Тут уж не соврешь — с поличным
поймали... Да, говорит Харрисон, попал ты, как кур во щи. А парень
ты, видать, хороший. Я тебе помогу выпутаться из этой истории. Я, понятно, обрадовался, стал просить его, чуть ли руки не целую. Только,
говорит, услуга за услугу. Когда ьернешься на родину, выполнишь несколько наших поручений. Я сообразил, в какую беду толкает меня капитан. Нет, отвечаю, я лучше два года — это Харрисон объяснил, что
за мое преступление по здешним законам полагается два года —• отсижу в австрийской тюрьме, а шпионом не стану.
«
Он, зараза, смеется. О. это слишком просто, говорит. Нет, голубчик, мы тебя здесь даром кормить не будем, передадим русским, вместе
с описанием твоих похождений у немцев.
По его звонку зашел солдат с магнитофоном. Прокрутили мой рассказ. За такое, подумал я, не помилуют. И тут мне пришло в голову
решение: принять предложение капитана Харрисона, выпутаться из
53
беды, а вернусь на родину — там посмотрю. Хорошо, говорю, я согласен, если поручения не очень опасные.
В общем, назавтра меня из тюрьмы перевезли на частную квартиру, стали обучать, как выявлять оборонные предприятия, их назначение, мощность, пропускную систему...
— Об этом, Ставров, мы поговорим позднее,— остановил я Ставрова. — А сейчас скажите, кому и как вы должны были передавать
собранные шпионские сведения?
У меня мелькнула мысль: нельзя ли воспользоваться способом,
который определили Ставрову, и вывести на связь разведчика западной державы, возможно, живущего в нашей стране под каким-то прикрытием.
— Капитан Харрисон дал мне пять или шесть заполненных открыток. Когда появится необходимость, я приезжаю в Москву и бросаю одну открытку в любой почтовый ящик. Через три дня в обусловленном месте меня встречает женщина. Она будет держать в руках
мою открытку...
— Вы познакомились этим способом?
— Нет.
— А где открытки?
— Я их сжег в пункте фильтрационной проверки.
— Почему?
— Во-первых, боялся, что открытки навлекут подозрения на меня,
во-вторых, я не собирался выполнять поручения Харрисона...
«Какая возможность упущена! — подумал я с сожалением, и рассказ Ставрова значительно потерял интерес для меня.
— Явка с повинной,— сказал следователь,— могла серьезно облег мить вашу участь... Вы не знали об этом?
— Знал, как не знал. Капитан Харрисон разъяснил и предостерег,
чтобы я не попался на эту удочку.
— Почему?
— Потому, что после явки с повинной, сказал ом, начнется проверка и выявится моя служба в немецкой полиции и «зон дер команде».
|А этого мне не простят.
I
— Скажите, а документы вы действительно т е р я л и и октябре сорок пятого года?— спросил следователь.
— Нет, конечно. Заявление п милицию я сделал для того, чтобы
изменить имя и получить второй аттестат. Все доку.мшгы тогда были
при мне, уже позднее я их у н и ч т о ж и л .
...В октябре сорок пятого года в ресторане Харьковского железнодорожного вокзала сидели за столиком три молодых солдата. Все они
только что уволены из а р м и и в запас. Официант, седой мужчина, прих р а м ы в а ю щ и й на правую ногу, принес солдатам счп и предупредил,
|Что ресторан закрывается.
Высокий длиннолицый солдат в л и х о с д ш ш у п ш пилотке полез в
карман и вдруг упавшим голосом сообщил:
— Братцы, у меня бумажник сп...перли...
— Ты что, Николай, шутишь?
— Честно, ребята...
— Надо заявить в милицию.
Дежурный отделения милиции внимательно выслушал хмельных
друзей, что-то записал на листочке бумаги и велел зайти утром. Ночь
солдаты прокоротали на жестких скамьях зала ожидания. Назавтра
их принял пожилой майор.
— Вы можете
подтвердить личность Ставрова?— обратился
майор к солдатам.
54
— Так точно, товарищ майор. Вместе служили,— не моргнув, подтвердили они.
— Хорошо, вы можете быть свободны.
— Николай, мы тебя подождем внизу,— сказал небольшой чернявый солдат.
Майор достал из стола бланк, нацепил на нос старомодные очки
г. самодельными проволочными дужками.
— Фамилия?— строго переспросил майор.
— Ставров.
— Имя и отчество?
— Никифор Игнатьевич.
— Как Никифор? Друзья только что Николаем тебя именовали...
Майор отодвинул бланк и недоверчиво посмотрел на заявителя.
Ставров р а з ы г р а л смущение.
— Видите ли, товарищ майор, по документам я Никифор, а называю себя Николаем. Никифор — старое, неприличное имя...
— Неприличных имен нет,— пробурчал
майор, видимо, вполне
удовлетворенный объяснением Ставрова.
Он протянул заполненный бланк и записку.
— Это с п р а в к а о том, что ты заявил об утрате документов. Видом
на жительство служить не может, но до дому доберешься... С запиской пройдешь к военному коменданту, второй подъезд налево. Получишь продуктовый аттестат и денег на дорогу. В другой раз рот не разевай,— н а п у т с г н о в а л майор, дружелюбно улыбаясь.
Прощаясь с- «сослуживцами» на перроне вокзала, разъезжались
в разные стороны отвоевавшие свое солдаты, Ставров в который раз
повторял:
— Вот спасибо, ребята, выручили, а то волокиты не оберешься.
Тонко рассчитывал Ставров. Прими вымышленную фамилию —>
первая же проверка все выявит. А Ставрова Никифора могли проверять сколько угодно.
— И еще один вопрос,— сказал следователь, заканчивая допрос.—
Как вам удалось в один день выписаться и сняться с военного учета?
Ставроп скупо улыбнулся: чего же, мол, тут сложного.
— Вскоре после приезда сюда я пошел прописываться. Разговорился с паспортисткой. Эммой ее звали. Девушка рослая, симпатичная,
посмеяться любит. Я пригласил ее в кино, она согласилась. После еще
встречались. Когда я узнал, что моей персоной интересуются в этом доме, вечером пошел к Эмме и сказал, что у меня большие неприятности
на работе и мне надо срочно уехать. Оставил Эмме паспорт и военный
билет. К обеду все было готово.
— Кто предупредил вас?
— Наш диспетчер Устюжанинов. А ему под большим секретом
сообщил директор автобазы...
Ставроп ушел в сопровождении дежурного. Дело закончено.
Эрнст САФОНОВ
ПроЖигпЫй денЬ
Рассказ
I
Высадив часть пассажиров и забрав
новых на последней городской остановке
«Физический институт», миновав поселок
конезавода, Бабушкин вывел автобус на
просторное асфальтное шоссе, еще слабо
загруженное транспортом в это раннее
воскресное утро. Нагоняя, обходили его
«Москвичи» и фиатовские «Жигули» частников — кто на дачу ехал, кто вообще
на волю, куда-нибудь к лесу, реке, чтобы спиннингом побаловаться, грибки пособирать, тяжким гудением
обдавали
встречные рефрижераторы — везли с юга
в центральную Россию помидоры и фрукты.
А по земле была разлита такая свежая
синь, так ярко, призывно золотились в
ней деревья погожего сентября, курился
в низинах дымок осенней прохлады, и
шоссе вспыхивало бликами веселого света — так все это было хорошо, просилось в сердце, что Бабушкин, умей он
петь, обязательно запел бы.
Пассажиры в салоне автобуса — как и
всегда по воскресеньям в первом рейсе—
шумливая компания молодых в брезентовых штормовках, кедах, с рюкзаками,
гитарами, особнячком бабы с кошелками,
у одной трепыхается в «авоське» петух со
связанными крыльями; и военный среди
всех есть, офицер, еще какие-то накрашенные женщины, чем-то неуловимо похожие одна на другую — тоже
вместе
держатся, стайкой, сойдут, наверно, у
развилки на аэродром, и там, как бывает
56
по воскресеньям, встретит их фасонистые,
в кожаных куртках, ф> ражках с голубыми околышами технари-сверхсрочники...
Бабушкин мягко, слпипо к чему-то теплому прикоснулся, вспомнил, как он сам
служил в армии тоже и авиации, хотя
и по своей гражданским специальности,
шофером на бензозаправщике.
На приподнятом ладнсм сиденье, во
всю ширину автобуса, тепт уместились
ребята с буровой, ищут они воду под деревней Верхние Ириски, ие остановка
«33 км». Это смена едет. Взрываются,
черти, хохотом — анекдоты травят и тоскуют, конечно, что курить и салоне нельзя и, погоди, закурит обязательно, чтоб
ты им не говорил... Точно, так и есть!
(«Мы, шеф, одну на мееч, а тети не возражают, они тщательные, хотя на петуха билета, факт, ш- мнили.-. «Зайцем» петуха везут! Правда, тети, мы покурим? Может, тети, дочки у мае имеются? Так мы
женихи!..»)
Повстречался нагруженный песком самосвал со знакомым водителем из четвертого автохозяйства; тот сверкнул из кабины металлическим зубом, посигналил,
и Бабушкин, от.чынаягь, на клаксон нажал, припоминая, что зовут шофера Женькой, а это имя для него, Бабушкина,
звучит, сегодня приятно: главный инженер их автоколонны тоже Евгений да
еще Евгеньевич... Вчера Евгений Евгеньевич сказал при всех, что Бабушкин по
показателям и так, если присмотреться,—
лучший водитель в коллективе не на
словах, а на деле—ударник коммунистического труда, будет он, Бабушкин, занесен
в списки передовиков, представляемых к
правительственным наградам... Было смущение перед товарищами: он свой среди
них, такой же, как они, на собраниях в
первый ряд не лезет, перед начальством
не лебезит, а вот, оказывается, все равно
заметен он, выделяют его. Не всем это,
само собой, понравится, да на всех и не
угодишь, в особенности на разгильдяев и
любителей слевачить... Но, заглушая смущение перед товарищами, солнечно зажигалось в Бабушкине горделивое чувство,
что не из последних он, а очень даже полезный человек, делающий необходимую
государственную работу, и впереди у него много радостного, мпжно жить без
устали...
Шоссе пошло на подъем, г» взгорка на
взгорок, стелилось глянцевитой серой лентой, конец которой, суживаясь у горизонта, приподнимался к нейу. Нысоко стояли
вдали под разноцветными крышами избы
Верхних Прысок. Там ом наскочит в чайную, ее рано открывают, попросит у буфетчицы Миры пивную к р у ж к у холодного компота, что-то скажет ей, чю-то она скажет,
будет она смеяться, запрокидывая голову,
а у него затяжелеет и груди от этого завлекательного смеха, от вида ее сочных
губ, белой, без морщинок, словно точеной, шеи и прочего такого, что есть в
цветущей, редкости
сохранившейся к
тридцати годам, но сломленной, не помятой мужиками и оаГн.ими заботами Мире...
Он, Бабушкин, разумеется, тоже все мимо да мимо, проездом, по расписанию, и
жена у него есть... чего уж тут! Однако
что плохого, подумать если, запрещается
разве забежать и пынпть яблочного компота из пивной кружки, посмотреть, как
смеется буфетчица Мира?..
По обе стороны дороги там и сям ползали, заволакиваясь коричневой пылью,
работяги-тракторы, готовили пашню в зиму; небольшими стадами по бурому жнивью коровы и овцы бродили; кто-то костер жег, кто-то вгрхом на коне через
мокрый луг ехал, и девочка лет семи в
плащике-болонье, размахивая хворостиной,
загоняла белых гусей в желтый от плавающих поверху листьев пруд... Такая
широкая картина спокойной природы с
признаками привычной жизни в ней тоже
была приятна Бабушкину, его вниматель-
ный взгляд, не теряя дороги, выхватывал, усваивая, всевозможные предметы и
явления, и сам Бабушкин— он это осознавал — был частью того огромного целого, что существовало за окнами кабины.
—• Смотрите...
собака!
Собака какая! — крикнул кто-то из пассажиров,
привлекая внимание других.
И Бабушкин тут же увидел эту собаку.
Автобус, подвывая, шел на подъем замедленно, собака, неизвестно откуда объявившись, из лесопосадки, возможно, или
с поля, бежала вровень с автобусом по
обочине.
Бабушкин в своем слободском детстве,
можно сказать, тесно общался с собаками,
были у него, мальчишки, свои блохастые,
бельмастые, с порванными в драках ушами и обрубленными хвостами Шарики,
Угадай, Узнайки, Бобики, кобе.ти и сучки
неистребимой дворняжьей породы, прилипчивые к хозяину, трусоватые, зимостойкого воспитания... Сейчас он сразу
же определил, что бегущая рядом с автобусом собака в кожаном с медными заклепками ошейнике — это не что-то там
такое, плюнуть и растереть, это настоящая охотничья собака, молодой кобелек
из породы сеттеров, такие, кажется, по
дичи работают... «А красив,— восхитился
Бабушкин,— и бежит благородно, как рисует...»
Сеттер был темно-серого окраса: по
жгуче-черной волнистой шерсти дымчато
стелились пепельные прядки, лишь длинные опавшие уши да концы лап были у
него целиком черными. И на что обратил
внимание Бабушкин, странным ему что
показалось,— пес, не отставая от идущего в гору автобуса, как бы силился
увидеть, кто же едет там, внутри автобуса: поднимал морду, его крупные желудевые глаза скользили по лицам люден.
— Товарищи пассажиры! — подышав
в микрофон, сказал Бабушкин, довольный
крепостью и четкостью своего по-утреннему не замутненного голоса.— Наблюдаемая нами охотничья собака ищет хозяина. Если хозяин в салоне, я могу остановить машину!
Нет, хозяина в автобусе не было.
Военный в погонах с двумя просветами
громким рокочущим басом объяснил, что
наиболее приемлема такая «версия»:
охотник из города вез собаку на автобусе, еще вчера, наверно, где-то сошел он,
а собака увлеклась полем, отстала — вот
57
и мечется, бедолага, вот и обнюхивает
похожий автотранспорт... «Забрать ее с
собой! — посоветовали из компании туристов, что с гитарами и в штормовках.—
Мы возьмем...» Их дружно
обрезали:
«Как же... «возьмем»! А если хозяин
разыскивает, семь потов с него сошло,
мечется по дороге не хуже этого пса...
Такую собаку каждый возьмет... умники!..»
Автобус полз, сеттер бежал, запаленно
поводя боками, вывалив набок красный
язык, и Бабушкин во власти своего доброго настроения решил: выберусь на ровное, остановлюсь, заберу пса, если он
поддастся, в кабину, накормлю его колбасой в чайной, Мире покажу, буду возить
с собой, объявив по трассе, что отбившаяся от хозяина охотничья собака у меня...
В этот момент (Бабушкин не сразу понял, что произошло) автобус слабо толкнулся о невидимое препятствие,
легко
проскочив его, и только протяжный вздох
через шум двигателя неясно достиг ушей
Бабушкина. Он моментально похолодел,
голове стало зябко, знал уже, это сеттер,
он под колесо попал! И кто-то из пассажиров, подтверждая, истошно закричал:
— Собаку задавили!
Заглушив мотор, дрожащей рукой открыв дверь, Бабушкин спрыгнул на асфальт, пошел туда, где метрах в пятидесяти неопределенным бугорком лежал сеттер. «Жив, может?— подумал расслабленно.— А-а, лучше уж, чтоб не жив...
Что он. стервец, притерся-то близко так,
что колесом его захватило?!»
Пош.ти за Бабушкиным и другие коекто из пассажиров,— молчали, п о к а ш л и вали, закуривали...
— Ну, брат, как ты его... •— осуждающе сказал, когда приблизились, военный.— Какую псину порешил!
Бабушкин, ощущая, как мгновенно одолевает его душная злоба, хотел было ответить по-шоферски, как надлежало б,
однако подполков:-:ичьи погоны да
еще
эмблемы военного юриста на петлицах
сдержали его — сказалась давняя и не
растраченная сержантская выучка; только сплюнул, отвернулся.
Защитил бурильщик в мятой фетровой
шляпе и с голубовато-белыми полосками
флотской тельняшки на груди:
— А чего, спрашивается,
водитель?
Неопытная собака, не поосторожничала...
— Ей цены, вероятно,
нет,— опять
сказал подполковник.
Выпученный
карий
глаз
сеттера с
крупной слезинкой в уголке смотрел, казалось, на него, Бабушкина. Он нагнулся,
хотел подцепить пальцем за ошейник, оттащить то, что было минутами раньше
красивой охотничьей собакой и что сейчас лежало перед ним, расплющенное и
окровавленное, но его чуть не вырвало,
еле сдержался; молча пошел обратно к
автобусу.
— Она могла сто пятьдесят
рублей
стоить,— услышал он за спиной подполковничий бас.
— Цена — тоже вещь,— охотно согласился другой голос,— однако, кроме цены, сама собака, ух, какая собака была1
Бежит, смотрю, а вокруг нее свет волнами...
— Акт давайте составим.
— Кому он нужен, акт, товарищ подполковник? Собака пи существу беспризорная бежала...
— И как она!..
— Как! Ткнулап,... долго ль!..
Бабушкин взобрался
на свое сиденье,
поджидал, когда поднимутся в автобус
возбужденные пассажиры, страдал, мучаясь тем же вопросом: как же это она?
«Надо ж, дура, всю душу на дыбки поставила. Я ж но пинопат... не виноват!»
— Ошейник бы сняли,— посоветовала
одна из женщин, - на трояк иль всю пятерку потянет опн'ншпс-то...
Бабушкин м.пшпул стекло, отгораживающее его от пассажиром, чтобы не слушать, о чем они там, тронул с места, окинув взглядом шоссе,
синеющую
даль,
близкие теперь дома
Верхних Прысок.
«Хозяину б ла .чту собаку башку оторвать,— успокаивал он себя.— Завел такую помощницу - смотри, змей, за ней,
оберегам! \ и, ниднт бог... что я, ну?
Она ж пот за/шее колесо!..»
II
Домой с рабпты Бабушкин
пришел,
когда уже магазины светились неоновыми
вывесками, в окна их квартиры гремела
с улицы радиола из клуба железнодорожников, где танцевали,— проводился вечер
отдыха передовиков производства.
Жена в ванной комнате стирала.
— Ты чего, Коль, такой?— спросила
она, распрямляясь, стряхивая в таз мыльную пену с пальцев.
— Устал.
— А я, видишь...
— Кроме воскресенья дня тебе нет...
— А я раз-два!..— В ее голосе надежда прозвучала: — Ну так, может, устал, в кино сходим? Чего-то про немого
и про его любовь показывают. Так и называется картина: «Немой и любовь».
— Устал, говорю.
— Телевизор поглядим, — жена, соглашаясь, вздохнула.— Там толсе какая-то
картина... Суп разогреть?
<1н вслед за ней на кухню прошел, услышал, как в своей комнате фальшиворадостно напевает сосед, нотариус Савойский; на жену тяжели посмотрел, на
халат ее, она в недоумении пожала плечами:
•— Чего ты, Коль, в самом деле?
— Запахнись хоть... хи-о-дит!
— Ой, а я и не вижу...
— Не видит! — и тут же, устыдясь,
оборвал себя: «Чего это л как репей? Ей
на фабрику, в ночную с м е н у , она стирала, на кинокартину :шшт, ждала весь
выходной, тоже ведь не сладко — ждатьто../)
— Нин,— сказал ни.
— Я к тебе на нес штопая,— жена
обиженно перебила,- а ты как демон.
— Собаку я, Инн, заданил...
— Собаку! — жена продолжала обижаться.— Вы люден не намечаете, не то
что собак... Кто четырнадцатый номер у
вас водит?
— Митяйкин иль Пашка Гуляев. Митяйкнн — тот всегда и шляпе...
— Глаза ему выцарапать, Митяйкину
твоему!
— Чего еще?
— «Чего»! Мимо " х а л , к тротуарной
бровке прижался, по л у-л; с пролетел —
так меня и Петьку грязью обделал, хоть
с места в химчистку бет...
— Бывает.
— «Бывает»! Гоняете, как тронутые...
Бабушкин суп вяло хлебал, жена, затихнув, посоветовала участливо:
— Плюнь... из-за собаки переживать!
— Охотничья, с ошейником, дорогая
она...
— Чего — взыскивать будут?
— Нет,— успокоил он.— Просто хорошая собака, ясно? Не такая, а ученая,
умная... полезная.
— Не затормозил?
— Не видел, сама как-то сунулась...
Под заднее.
— Плевать, Коль, нервы ты еще портишь! Жалко, но не вернешь ведь... II
мало их, собак!
— Не правы, Ниночка,— раздался за
их спинами звучный голос Савойского:
сосед по обыкновению подошел тихо, застал врасплох.— Насколько я понимаю,
Николай Семенович лишил жизни животное да к тому же породистое — охотничью
собачку! Вы, Ниночка, посочувствуйте
Николаю
Семеновичу — у него сейчас
комплекс угрызений...
Бабушкин отложил ложку, посмотрел
на розовые волосатые руки нотариуса, на
его очки в золотистой оправе, на его
сытое брюшко под сетчатой майкой, прихваченной поверху подтяжками, сказал
твердо:
— Нету никаких у меня угрызениев.
— По теории вероятности они должны быть, — Савойский заговорщически
погрозил пальцем: меня, мол, не проведешь— Я, Николай Семенович, соболезную, однако, если читаете нашу прессу...
хоть иногда читаете, понимаю... пресса
весьма осуждает жестокосердие по отношению к животным. А в Англии есть даже специальное общество по защите животных от жестоких, грубых людей.
— Я не жестокий человек, сосед,—
сказал Бабушкин и тоскливо подумал,
что надо уйти от греха, как бы чего не
вышло, ведь подзаведет он, змей, устроит,
что товарищеский суд после разбирать
будет...
— Коль, кушай,— сказала Нина.—
Неужель, удивляюсь я, человеку спокойно покушать нельзя после работы? Обязательно помешают.
— Что вы, что вы! Приятного аппетита, Николай Семенович! — Савойский
пошарил на своей полке, достал баночку
с кофе, пакет с сахарным песком, топтался у плиты.
— Петька где?
— Во дворе гоняет,— ответила жена.
— Поменьше б он отирался во дворе...
— Правильно! — снова резво вступил
в разговор нотариус. — Разделяю родительское беспокойство... Двор что? Мрак!
Там, скажу вам, такие типы...
Бабушкин отодвинул тарелку со вторым, встал из-за стола, жене бросил:
59
— Подышу схожу. Петьку найду.
— Николай Семенович! — Савойский
поспешно окликнул.— А как же, позвольте, собачка?
— Что собачка?
На рыхлом лице нотариуса была задумчивость, он мизинцем тер лоб, вроде б
что-то соображая, что сообразить никак
невозможно.
— Это самое... спрашиваю, извините... ее, что ж, больше нет... этой... как
ее... охотничьей собачки! А, Николай Семенович?
— Нет,— унимая ярость и желание
крепенько взять Савойского за подтяжки,
ответил Бабушкин.— Я ее задавил.
— Да?! — Радость, выпирая наружу,
оживляла мясистое лицо нотариуса, матовый колпак кухонного абажура отраженно прыгал в стеклах его очков, и от
этого что-то неестественное, прямо-таки
фантастическое, пугающее было в его
взгляде, обращенном к Бабушкину. Повторил он, продолжая: — Да! А собаки,
известно ли вам, могут даже санитарами
быть. Это не пустые слова, Николай Семенович: собака — друг человека...
— Коль, ступай,— жена обеспокоенно
поторопила.
— Николай Семенович!.. Сочувствую...
ваши угрызения...
— Ну, Коль, прошу тебя, иди за
Петькой!
— ...так скапать, угрызения совести
вашей...
•— Ты! — приглушенно выдавил из себя Бабушкин.— Ты... помолчал Гм.1, сосед,
а угрызаться мне нечего, япт! Отстранись...
Он подался в прихожую, к дж-р", уже
оттуда услышав, как испуганно и одновременно ликующе твердил вслед ему
Савойский:
— Есть чего... есть! Правда, Ниночка?
«Это ж надо! — кипел Бабушкин, спускаясь с площадки четвертого этажа.—
Прицепился — не оторвать. И вроде вежливо все, культурненько. Жену до психбольницы довел, дочь его за версту обегает, он, кровосос, нас теперь... Спокойствия не хватает, я б ему!.. Опять же,
конечно, пятнадцать суток схлопочешь
ви за что ни про что, как смотреть на
меня будут после, и Петьке пример какой? Нет, нельзя...»
III
Петька откликнулся быстро, прошуршав темными кустами, выскочил к отцу;
Бабушкин прижал его к себе, потер ему
ладонью холодное ухо, спросил, как день
прошел, на что Петька ответил: «Нормально!»
Сыреиький голосок двенадцатилетнего
сына, то, как он жмется к нему, отцу,
будет о чем-то расспрашивать, что-то просить,— это исцеляющим образом подействовало на растревоженного Бабушкина,
принесло успокоение... Черт с ним, рассудить, нотариусом Савойским, паук ои
в банке, паук и есть, пустота вокруг него, а тут вот родной сын, тут полный
двор хороших, в общем-то, людей... Если
на одних только доминошников посмотришь, что за столом на свету сидят, сразу, как на ладони, увидишь вею простоту,
душевность людских отношений: плечом
к плечу лупят костяшками о фанеру,
спорят слесарь домоуправления Парамояыч по кличке Три рубля, заместитель
начальника депо — он из шестого подъезда, еще генерал в отставке Смирнов,
чей портрет висит на главной площади
города, еще племянник дворника Хакима — в пожарной охране служит, и двое
неизвестных Бабушкину... Вот они, люди... Черт с ним, с Савойским!
Присел Бабушкин на скамью, Петьку
рядом усадил. Вечер «бабьего лета», последняя теплынь года, скоро холодам
быть, слякоти, не станет такого тихого неба, такого шелеста пожелтевшей листвы,
тишина уйдет, укатится под бугорок, и
главное — трудными будут рейсы по мокрой, а то и обледенелой дороге, с забрызганным или заснеженным ветровым
стеклом, при плохой видимости, со сквозняками и струящимся пронзительным моро.чцом, проникающим, как ни утепляйся,
в кабину автобуса... А пока — что за прекрасные д н и ! II солнца вдоволь, сегодня
он далее щитки опускал, глаза слепило.
— Я вот езжу, Петь,— сказал Бабушкин сыну, чтоб не молчать,— а ты, вполне вероятно, летать будешь, как Юра Гагарин летал, иль тот же Титов Герман,
иль какой-нибудь обыкновенный летчик
на пассажирских линиях... А хочешь, как
дед,— машинистом паровоза! Плохо, что
ль по стальным рельсам! Паровоз... нет,
теперь уж электровоз... гудит, ты в ок- час-полтора Нина отправится в ночную...
но смотришь, виды разные наблюдаешь...
«Жизнь,— усмехнулся! Бабушкин,— она
Бабушкин, тихо улыбаясь, ткнулся ще- не по расписанию идет, предполагаешь
кой в жесткий Петьким затылок, и тут одно — получается другое, какая-то суеже — не веря пока — пугливо спросил: та, спешка, сам не знаешь, что завтра
— А ты, Петух, никак куришь?! Та- будет, не собака, смотришь, а человек под
бачищем-то от тебя... Куришь!
колесо сунется, готовь жена сухари... и
Сын отстранился, чуть не по уши в собака, подумать, куда она, подлая, лезворотник куртки залез — пробубнил из ла?!»
нее., одним глазом косясь, не замахива— Учись, Петь, а курево — оно, брат,
ется ли отец на подзатыльник:
никуда не денется... В школе-то сегодня
— Я попробовал... один раз... Героль- что получил?
днк курит, Славка с н и м , а я тоже поп— Нормально...
— Это как понимать?
робовал...
— Две тройки...
- - Петька, Петька...
— Это нормально?
Колыхалось в душе давнее: как его
— И пятерку, пап!
самого мать в детстве свирепо за вихры
— По физкультуре, да?
таскала, по щекам, плача, била, отучая
Петька вздохнул:
от папиросок, и так ведь не отучила,
— А легко? Я один, если хочешь, по
горемычная.,— позже сам бросил... Это
когда они с Ниной сходились — бросил, шесту залез. Под самый потолок!
— Так, Петух, на образование не вылюбил ее, послушался, а после, через
годы, попробовал было вернуться к куре- тянешь...
— А я не учусь?! У нас программа
нию, чтобы позлить ее,— ничего не вышло, организм на Никитин не настроился... новая, временные трудности, сами учиИ Петьке сейчас хоть лупка, хоть всякие теля говорят...
— А я, Петь, знаешь, собаку задавил.
слова, вроде того, что 1рамм никотина
— Какую, пап, собаку?
лошадь убивает,- пустой звук. Лупку он
— Бежала, понимаешь... я задавил...
вытерпит, со словами согласится, а потом
побежит за котельную (они всегда там плохо-то как!
— Ну,— Петька рукой махнул, усгютабунятся), закншт и курить будет не
.просто, а в удовольствие, с ожесточени- коил:—Мы тоже собаку кокнули.
— Как?., зачем?!
ем, в отместку
пот, дескать, вам, бейте, ругайте, что
взяли?..
— Она в школьный двор забежала на
— Петька, Петька,— повторил Ба- большой перемене, а Герольдик кричит:
бушкин,— зря ты! Брось. Дурное дело. В «У ней слюна упала, а если она бешевозраст взойдешь -- там смотри... А сей- ная?..» Мы камнями, а один из восьмого
час будешь табак всасывать — не вы- «б», его Длинный Джо зовут, взял желерастешь, Петух, таким вот шкетом оста- зяку...
— Убили? И ты тоже?
нешься... Не втянулся?
•—
А если она бешеная?
— Не втянулся,— неуверенно и с об— Какая к черту... бешеная! — заолегчением ответил сын.
рал Бабушкин.— Сто лет в городе беше— Не кури.
ных собак нет! Она что — бросилась на
•— Я не буду...
вас?
— Я прошу тебя...
— Она щенок... ты чего, пап? Все,
В кружке доминошников Парамоныч
Три рубля, задыхаись от восторга, кри- пап, били...
— Иди, змей, домой... с глаз уходи!
чал генералу: «Просадили вы, Левонтий
— Сам задавил...
Палыч!.. Как в лужу...» А из клуба же— Уходи!
лезнодорожников по-прежнему мощно и
— Я мамке скажу,— плаксиво пообеудало неслась музыка, сотни ладоней
прихлопывали там в такт; и подумал Ба- щал издали, от подъезда, Петька.
бушкин, что зря отказался, нужно было
«Откуда это в них?— кипел, негодуя,
пойти с женой в кино, приятное жене Бабушкин.— Железякой, говорит, а! И
сделать, после до проходной фабрики ее мой, как остальные, мой-то!.. Откуда?
проводить, а теперь уже, конечно, позд- Камня, может, кругом много, природы
но, сеанс начался, через какие-нибудь настоящей не видать, высокие дома все
61
от них заслонили?.. На школьном дворе!..
Марки собирают, от телевизора за ушн
не оттащишь, в секции, в кружки ходят,
ничего для них родителями не жалеется,
а они... убили! Кого ведь... щенка! И мои
со всеми, с этими... как его... Длинный
Джо! Дрючком бы его по длинной хребтине, этого Джо, сразу б вспомнил он,
какой такой Джо иль, может, все-таки Ваня... И моего б заодно! Ну, Петух, ну, погоди, возьмусь за тебя...»
— Коля! — окликнули Бабушкина из
сумрака, с дальней полузатащенной в
кусты скамьи.— Ты никак там? Топай
сюда!
Окликал, оказывается, Толик, сосед
по площадке, водитель грузового мотороллера в шщеторге. Он парень вроде
ничего, общительный, компанейский. Бабушкин нередко помогает ему мотороллер
ремонтировать, и Толик в таком случае
всякий раз дарит ему «на счастье» по
два-три лотерейных билета ДОСААФ — у
него их много, распространяет на общественных началах... «Не забыть,— подумал невольно Бабушкин,— проверить билеты, таблица была уже, а вдруг?!»
Он подошел, поздоровался с Толиком
и его приятелем, щизеньким широкоплечим парнем в вязаной шапочке с помпоном,— его Бабушкин не раз видел в
гастрономе Л» 5, парень там грузчиком...
— Виталик,— назвался парень.
На скамейке между сидящими Толиком
и Виталиком стояла «долгоиграющая» бутылка «Солнцедара».
— Скучаешь, Коля?— Толик спросил.
— Малость есть.
— Прими стаканчик.
— Не хочется, ребята. Не буду, нот...
Настроение не то...
— Невольник — не богомольник,— сказал Толик.— А то размочись!
— Нет,— твердо повторил Бабушкин
и, будто оправдываясь, пояснил: — Меня,
Толь, сейчас Петька расстроил, когда я и
так расстроенный. Они, охламоны, собаку,
не дрогнув, убили. В школьном дворе...
Дети ж, Толь, как могли?
— А я так, откровенно говоря, замечу,— наливая себе, сказал мрачно Виталик,— не собак, а людей нужно жалеть!
— И собак и людей,— поправил Толик.
— Людей! — Виталик настаивал; Бабушкин понял, что они давно уже тут —
62
вон у скамейки лежит еще одна опорожненная бутылка «Солнцедара».
— А ты докажи, что не собак! — потребовал Толлк.
— Докажу,— Виталик
согласился.—
Только замечу откровенно, тебе доказывать, что против ветра...
— Ладно, ребята,— вмешался Бабушкин.— Чего спорить... все живое жалко.
Толик Бабушкина локтем подтолкнул,
подбадривая его:
— Собак много и нас много... веселей,
Коля! А Петуху своему книжку в библиотеке подбери про животных, чтоб читал,
на ус мотал... Мало читаем, Коля!
— Мало,— повторил, думая о своем,
Бабушкин.
— Ты Петуху рассказ про собаку
Каштанку, Коля, достань или купи,—•
советовал Толик.— Коля, зачем ты мне
нужен, знаешь?
— Ну?
— Вот один кореш этого прохиндея,—
Толик на покачивающегося Виталика кивнул,— приобрел себе старый драндулет.
Марки «Запорожец». Кой-чего ему нужно,
чтоб колеса этой консервной банки крутились...
— Из запчастей, что ль?
— Догадался,— сказал Толик.— Обязательно нужно. Во как!
— Я автобус вожу, а не «Запорожец)..
— Кто спорит,— сказал Толик.— Но
у вас там, в хозяйстве, все найдешь. Умные люди, Коля, находят.
— Нет,, Толик,— Бабушкин покачал
головой.— Не по адресу! Век не занимался и мараться не буду.
— Не желаешь уважить? Пригожусь
когда-нибудь.
— Ты что-нибудь мое проси, Толик,
что я из собстшчпюго кармана могу тебе
достать...
- Всего помалу,— настойчиво сказал
Толик,— чтоб колоса, Коля, крутились...
Ты выслушай. Л к тебе, как к другу, нараспашку... Тебе что — лишний рубль не
нужен, карман оттянет?
— Не трать, Толик, слова.— Бабушкин мысленно руыл себя, что застрял
возле выпивох, а пыливший Толик привязчив, как банный лист...
Тут за спинами, пугая, неожиданно раз.
дался резкий окрик:
— Это еще что?!
Грозно смотрел на них милицейский
лейтенант, губы кривил, пояснил:
— Нарушение постановления исполкома горсовета... граждане алкоголики! За
распитие в неположенном месте — пройдемте!
— Простите, товарищ
начальник,—
Толик руки молитвенно на груди сложил.— Больше не будем...
Лейтенант
обвел
каждого
суровым
взглядом азиатских раскосых глаз, задержался
на
Бабушкине — и Бабушкину
провалиться б л у ч ш е ! Позавчера он оставил свой автобус у отделения милиции,
разгневанно сдал туда, вот этому лейтенанту, подвыпившего х ч ы р я , который матерился в салоне, не ж е л а л за проезд платить... Лейтенант, помнится, спросил еще:
«А не состоите ль по месту работы, Николай Семенович, в н а р о д н о й дружине?
Надо, надо... общая з а б и т а ! » А теперь
•едь думает: пил Б а б у ш к и » — с этими,
«на троих 1 ). Не станешь же оправдыватьея, объяснять. Глупо...
— Мы не будем больше, товарищ начальник,— клялся Толик,— это ж так,
не система. Мы по и д и о м у случаю...
И Бабушкин в к о н е ц устыдился, слыша,
жак врет, радуясь и ш м а ш ю н догадке, Толик:
— ...по одному с л у ч а ю , товарищ начальник! Собака погибла, оч-чень милая
собака. Ее весь н и ш сознательный двор
любил, а школьные дети прикончили. Сердцем слабые, мы с о б а к у жалеем, вроде
поминок это у нас...
— Покиньте т е р р и т о р и ю , — сказал лей"
тенант, и Толик поспешно отступил в
кусты, и Виталик, покачиваясь, пошел
за ним, а Б а б у ш к и н остался.
— Да-а-а...— Лейтенант подышал на
ладонь и для чего-то потер ее пальцем.
Плотный, крепкий кости, одетый в форму,
выглядел он с и л ь н ы м и непоколебимым.
Жо что-то и егп стесняло: неприятно, наверно, было л е й т е н а н т у , что застал он
тут, в п л о х о й к о м п а н и и , Бабушкина —
человека, которого немного знает, которцй
казался ему совсем другим.
— Что с с о б а к о й ? — спросил, деликатно покашляв в к у л а к , лейтенант.
Бабушкин неохотно ответил:
— Здесь другое. Ко мне под колесо
еобака влетела.
— Дворняжка?
•— И ту, конечно, пожалеешь...
— Породистая?
— Сеттер.
— Ирландский?
— Я в них не очень...
— Н-да-а,— протянул
лейтенант,—
н-да...
Добавил с сожалением:
— Нехорошо.
— А мне — хорошо?
— У меня мраморный дог, их два экземпляра на весь город,— сказал лейтенант, заметно волнуясь.— Мне жена условие поставила: или я, то есть она, или
дог... А как я с догом расстанусь? А дог,
понимаете, ее не любит,
она — дога...
Вот, возможно, примирю... надеюсь.
— Конечно,— сказал невпопад Бабушкин.
— А если кто убил бы моего дога...
кто задавил бы!.. Я того, честное слово,
застрелить могу. В состоянии аффекта,
разумеется. Я так думаю.
— Чего еще,— Бабушкин оскорбился,
словно это именно ему лейтенант так на
будущее пригрозил.— За стрельбу по людям, товарищ милиционер, будет вам небо в клеточку... А «зеки ч > вас, милицейских, только и ждут!
Лейтенант не обиделся, пояснил миролюбиво:
— Я почему? Я потому, что люблю
свою преданную, разумную собаку. Она,
если хотите, не собака даже... дог! Так
лучше называть. А закон — забыли, возможно,— гласит, что водители транспортных средств в случае наезда на домашних животных подвергаются административной или уголовной — повторяю, уголовной! — ответственности, если этот наезд произошел вследствие нарушения водителем правил движения. Вот как.
— Я не нарушал. А смотреть за собственным кобелем нужно?
— Обязательно.
— Вот пусть и смотрят! — Бабушкин
х м ы к н у л , насупился и уже сердился на
себя: ну сколько можно ему сегодня —
про собак, про собак, про собак... Да
пропади они пропадом, сеттеры, дот. овчарки, таксы иль как там их еще —
пропади пропадом! Без них забот хватает.
Весь день юзом пошел, собачий день, одним словом...
— Вы
напрасно
недооцениваете, —•
вежливо внушал лейтенант, пощелкивая
пальцами по планшетке.— Вы как-нибудь
заходите, когда я дежурю, я расскажу
вам — сами собаководом станете! Я вот
сейчас иду на дежурство...
— Я цента,— оправдывался
Бабуш-
63
кин,— я в детстве нервно заболел, когда
у меня Угадал отравили. О и ко мне умирать пришел, на коленях у меня... Я ценю. Мне чего объяснять!
— Да-да,— сказал
лейтенант,— это
ужасно, когда приходится объяснять. Я
рад...
Непонятно было, чему он радовался,
однако, горячо, как товарищ, пожал руку
Бабушкину и, уходя, опять пригласил заглядывать к нему в отделение... Бабушкину этот молодой лейтенант с симпатичными, в раскосинку глазами неожиданно
так понравился, как не нравился еще ни
один милиционер в жизни; и долго потом
стоял Бабушкин в одиночестве, размышляя о том, сколько непохожих людей на
свете, сколько среди них отзывчивых, понятливых, сочувствующих, как вот этот...
Жаль, звать как его, не спросил! И томясь безотчетным желанием кого-нибудь
еще увидеть, с кем-то поговорить, прошел
под арку — в шум и яркий свет оживленной по-воскресному городской улицы...
сказала: «А ну вас...» и побежала домой. Бабушкин
тоже пошел мямо молодых кленов и лип.
«Пусть,— успокаивал он себя,— я Петуху выдам программу, что упустил — достигну, я из него нормального человека
сделаю...» С грустью пожалел, что ни у
него, ни у Нины не живы родители: к
старикам бы Петьку — на лето хоть! Старые люди учат добру, они в свои преклонные годы хотят, чтобы все вокруг
было бы таким же простым, ласковым
и прекрасным, как мягкая трава, высокое
небо, теплая земля...
— Бабушкин,— позвал
хрипловатый
мужской голос, и отделившись от общей
массы прохожих, шагнул к нему Зыбкин
из их автоколонны.
—: Гуляешь, Бабушкин?
Зыбкин в шуршащем синем прорезиненном плаще, в кожаной фуражке на
бритой голове, при галстуке, с седоватой
щеточкой усов над толстой губой. Спрашивает Зыбкин с интересом:
- - Никак успел уже, а, Бабу -шин?
Не пил...
IV
А вечер-то какой, я к тому...
Против вечера не скажешь.
По другую сторону дома, парадную, отВечер такой, Бабушкин, что жить
куда сотня его освещенных окон глазасто
хочется. Творить, созидать! Вот у меня
смотрела на бульвар, у телефонной будки
каким настрой, Бабушкин... Я не задерна выходе из арки табунились здешние
живаю?
юнцы — непонятный Бабушкину, вызы- Ничгш... у меня тоже...
вающий любопытство народец. ШестнадЧти «тоже»?
цати-восемнадцатнлетние, были они длин— Ну... это самое... жить, творить.
новолосы, будто в попы готовились, у
Я шел и д у м а л про это.
иных гривы выкрашены в рыжий цвет,
- Ты с какого года, Костя!
с медальонами на груди, в расклешенКоля, Н и к о л а й я.
ных брюках, с мяукающим и повизгиV, какою?
вающим
переносным
магнитофоном Т р и д ц а т ь четвертого.
0-ёй-ё! Молодой какой. Совсем
очень самоуверенные, нагловатые ребятишки! «Американцы какие-то,— осужмолодой ты, Кости!
дающе усмехнулся Бабушкин,— лишь ма— Николай...
терщина у них русская, отечественного
— А я, Н и к о л а й , в тридцать четверпроисхождения, по слюнявым губам бы
том .- ого-ш!.. К'ем и был в тридцать четих за это...»
вертом!
Юнцы преградили дорогу Верочке, ко— Вам, н а в е р н о , пришлось...
торая живет в 53-й квартире и с которой
— Мы, считай, сама история.— ЗыбБабушкин здоровается по утрам с удокин, помолчав, поинтересовался:— Превольствием и ощущением праздника на
мию получил?
душе: такая Верочка молоденькая, чис— Было дело.
тенькая, скромная,
симпатичная, весе— А мы когда обсуждали, я так и
ло
постукивает
она
туфельками
по
заявил: Костя Б а б у ш к и н — лучший водиступеням лестницы... И сейчас Бабушкин
тель, гордость наша, ему обязательно преприостановился, решив, что если пижоны
мия...
будут хамить, он защитит Верочку. Од— Спасибо. Не Костя я — Николай.
нако Верочка посмеялась с ребятами, од—
Вот завтра, Николай, кандидатуры
ного даже ладошкой в грудь толкнула,
64
на Доску почета обсуждать будем,—сказал Зыбкий.— Почему мне тебя не поддержать? Поддержу! Будешь висеть...
— Зачем?—Бабушкин пожал плечами.— Без меня можно обойтись, у нас
большой коллектив...
— Надо,— убеждал Зыбкий,— ты, настаиваю, держись!.. А я гляжу, значит,
Бабушкин никак идет, лучший наш водитель... Он, гляжу!
Счастливый, думаю,
премию получил, выпил немного, как полагается, идет себе и все у него... у тебя!., распрекрасно!..
— Не пил я,— тоскливо вставил Бабушкин.
— Выходит, ошибся я.
А
вечер-то
все-таки! Располагающий... И молодой ты,
Бабушкин, а, представь, никаких претензий к тебе! И премии) ведь не каждому
дают... Соображаешь? Ты держись!
— Пошли,— решительно сказал Бабушкин, увлекая Зыбки на за собой по
белым шахматным клеткам уличного перехода к стеклянным дверям напротив,
на струящийся свет зеленых неоновых
букв: «Ресторан «Космос». «Черт с ним,—
оправдывался сам перед собой,— не приятель мне, не друг, не любят его у нас, но
какая-никакая, а личность. В месткоме за
главного остается, и но школам ходит,
у Петуха вон в классе недавно был, выступал, как и тридцатых годах город
строил. В палатках, рассказывал, жили,
на сыром болоте, волки и кулачье кругом... Биография!»
За ресторанным столиком Зыбкий вел
себя строго, будто на собрании был,—
хмурился, откашливался, осуждающе поглядывал на веселящихся, пьющих, громко говорящих; Бабушкину тут же сказал, что вообще-то он против
всякой
пьянки, но поскольку Бабушкин настоял
зайти сюда — так и быть, пусть, однако,
его в порядке исключения... Бабушкин,
засмеявшись, спросил:
— По сто пятьдесят?
— Бери целую,— буркнул Зыбкий.
Заказал Бабушкин бутылку «Экстры»,
по мясному салату, одну порцию селедки
на двоих, жигулевского пивца, само собой... Зыбкий первую рюмку с трудом
выпил, а вторую — нормально, проскочила незаметно; учил,
мягчея
лицом,
Зыбкия:
— Так держись, Николай, чтоб на
виду, ясно? Надо — скажи, сделаем...
Чт»-т» отогревалось в Бабушкине, там,
б. «Байкал» № 6
внутри его; было в ресторане нескучно,
близость других людей успокаивала, и
только здесь такие люстры с позванивающими висюльками, зеркальный
отсвет
стен, добрый застольный шум, в котором каждый сам по себе и все вместе,
оркестр, играющий «Катюшу» и «По диким степям Забайкалья...»;
официантка,
мелькая полными руками, подходила неслышно, наклонялась над столом, ставила тарелочки, пахло от нее осенней
антоновкой и еще чем-то свежим, как
будто бы даже «Русским лесом», тридцатикопеечным туалетным мылом, которое
любит он, Бабушкин... Зыбкий, обсасывая
селедочный хвостик, обещал:
— Четыре «Икаруса» в этом квартале получим, один твой будет. Не автобус,
знаешь, зверь! В нем водитель как на
троне сидит! А заработок опять же? Меньше трехсот не будет...
— А! — отмахивался Бабушкин.
— Н-нет,
Коля,
один твой будет...
держись!
— Бросьте про это...
— Гуляеву, думаешь, дадим? Таким,
как он?
— А что Гуляев? Водитель как водитель, не хуже...
— Не дадим!
Зыбкин снова терял мягкость лица,
стеклянел глазами, пил, забывая закусывать; подумал Бабушкин, что хватит подливать, сомлеет еще человек, возись после с ним, да и неудобно: привел, получается, споил... И так уж заговариваете^,
про «Икарусы» болтает, будто от него
зависит, кого на них посадят. Мокрыми
губачи, как рукавицами, шлепает... О чем
он? А-а, про молодежь, какая она непослушная нынче, зазнайчивая...
Говорил Зыбкий:
— Я не спорю, Коля, за молодежь...
я всемерно за нее, радуясь ее комсомольским успехам.
Но прав ты, Коля, прав!
Есть некоторые! Возьми, допустим, Павла
Гуляева...
«Соли тебе на хвост насыпал Пашка
Гуляев,—подумал с издевкой Бабушкин,—
пропесочил в газете, напечатал
статейку, вот и чешетесь теперь... А за то,
как вы курортные да санаторные путевки
распределяли...
свояк
свояку...
вообще б тебя и еще кое-кого за компанию поганой метлой под удобное место!
Слабо еще Пашка написал!..»
Вслух же сказал Зыбки ну:
65
— Пашка хоть молодой, а ездить град кушает... Не девочка она, свою судьбу
умеет, законный водитель.
ищет. II какое мне-то дело? Я человек же— Поддерживаешь, вижу, Коля?
натый, семейный, у меня поворотив назад
— Ну,— Бабушкин расплеснул пиво
быть не может, вон Петух внимания трепо фужерам.— Я без поддержки, я к то- бует... А что красивая и представить жутму, что не тунеядец какой-нибудь Пашка, ко, какая она... бывает, что ж, никто
не прощелыга... На первый класс к тому не спорит...»
ж сдал.
Заказал Бабушкин еще сто граммов
— Что ж, если так...— сказал Зыбкин, Зыбкику, по его просьбе.
обида и неудовольствие прозвучали в его
— А мы дадим тебе квартиру,— скаголосе.
зал Зыбкин.— А что!
Выпили еще и долго молчали; оркестр
Бабушкин рукой безнадгжно махнул:
на эстраде что-то грустное, жалостливое
— Я в списке очередников пятьдесят
наигрывал; у Зыбкина подбородок был второй!
перемазан майонезом — Бабушкин отвер— Дом на сорок две кнартиры сдаем.
нулся. И вдруг яркие, горячие стрелы
•— Пятьдесят второй, творю...
ударили в него, невидимые, они обожгли,
У ты! — осердился даже Зыбкин.—
он дернулся, будто отпрянул: через один п
в ты
Коля? Имеем этот шаис?
столик жемчужно смеялась Мира, оу- „
,м
... Скромный топозволяет
фетчица из Верхних Прысок. Нет, не ему
стараешься... Мы ценим. Евона смеялась, его она не видела,— на- гений Евгеньевич будет за тебя. Я —
против нее, с ней, сидел знакомый Ба- «за». Ну как?
бушкину парень с буровой, которого он
— Не знаю,— сказал Бабушкин, а в
каждый день возит на автобусе к 33-му
километру; этот парень еще возражал самом что-то вспыхнуло, посветлело, а
полковнику, когда была задавлена соба- почему бы нет, не первый год уже он в
ка, он ездит в мятой шляпе и в расстег- списках очередников... Как-то вмиг отознутом на груди комбинезоне, показывая валось далеким эхом все, что связано с
всем чистую
матросскую
тельняшку... надеждами на получение отдельной кварСейчас он в черном костюме, с подбри- тиры: мечты вслух Нины, как бы расстатыми баками, тоже смеется, стряхивает вила она мебель, что купить нужно, когпепел с копчика сигареты пальцем, на ко- да будут у них две комнаты, и своя, оттором большой выпуклый перстень... А дельная кухня, и, главное, как спокойно,
Мира красивее даже, чем у себя, в Верх- по-человечески заживется им без Савойних Прысках. На Миру — кто украдкой, ского, одним, никто не будет подсматривать, подслушивать,
цепляться; Петьке
кто не таясь — поглядывали мужики и
поставят
кровать
в
отдельной
комнате; и
от других столиков, парень с буровой это
без
этого
едучего
нотариуса
хоть
в трусах
чувствовал, замечал — распирало егр от
гордости, что сидит он па зависть мно- на кухне чай пей, как шурин любит пить,,
гим с такой чудесной женщиной; он тро- выбравшись из ванны, и, конечно же,
гал ее за руку, жестикулировал, картин- поотплярничать потихоньку найдется где,
но откидывался на спинку стула. Ба- какую-нибудь табуретку сколотить для
бушкин его сразу же возненавидел. И этой же кухни, скворечник для двора...
квартира — это сама
стало жалко Миру, что ошибиться она Что толковать,
жизнь,
из
пес
уходишь,
в нее возвращаможет, совсем, наверно, это не тот человек, который ей нужен, он пустой, ко- ешься...
Старички в оркестре (пенсионеры, что
нечно, хвастун, артист.
_
„ ,
__?\
•>янгпя-ш
— многие вставали,
Дергал Бабушкина
за рукав Зыбкин,
ли
О заиграли
шли
танцевать; Бабушкин увидел, что
переспрашивал в какой уже раз:
— А твои, твои-то квартирные усло- бурильщик, взяв Миру под локоток, повёл в круг танцующих. Была на Мире
вия — как?
Комната,- отрываясь от Миры, не- короткая, в обтяжку юбка, и Бабушкин не
мог представить себе, чтобы короткую
охотно ответил Бабушкин,— на
троих
юбку носила его Нина, хотя, бесспорно,
четырнадцать метров.
смотрится такое великолепно, не захо— Мало.
«Пусть,— мысленно разрешил Бабуш- чешь, а смотришь, а Нина в этот час хокин, подавив в себе смутную тоску,— дит, между прочим, вдоль подрагивающих
пусть она сидит с ним, вино пьет, вино- станков, у них там очень светло, как
66
здесь, в ресторане. А бурильщик, сразу
видно, нетерпением исходит. Ты танцуй,
змей, если пригласил, а зачем же вплотную притираться, обнимать обеими ручищами, лапать, щекой об ее волосы тереться...
ты на людях же, паразит, её
унижаешь!.. Отвернулся Бабушкин, чуть
не сплюнул, забыв, что нельзя тут —
место культурное.
Оркестр кончил играть; парень с буровой, заметив, вероятно, как Бабушкин
до этого поглядывал на него, усадил Миру
за столиком и пошел к Бабушкину. Он
наклонился над ним, обдав густой сладковатой волной крепкого одеколона, выкуренных сигарет, выпитого шампанского,
сказал, словно сомневался:
— Это ты, шеф?
И спросил:
— Собачка, что
задавили поутру,
чья — знаешь?
.
— А мне чихать,— сказал Бабушкин;
не было у него охоты разговаривать с
этим типом.
— Начихаешься,— парень засмеялся.
— Чихать,— с вызовом повторил Бабушкин,— х о з я и н пускай переживает, если он растяпа...
Мира с улыбкой смотрела на них, и Бабушкин наклонил голову, вроде бы и поприветствовал се, а можно было подумать,
что и не поприветствовал...
— Приезжал к нам на буровую хозяин, ищет, ктп ею собаку... Не могу, шеф,
гарантировать, что ваша обоюдная встреча будет приятной!
— Ладно,— отмахнулся Бабушкин.—
Хочешь выпить — присаживайся.
— Я с дамой, не могу.
— А-а.. чья же собака?
— Когда он к нам приехал, шеф, его
тошнило от злости, зеленый весь был. Он
пса в первый раз в поле вывез, а тот
у него из мотоцикла и тягу... Это Ханов.
— Ханов?!
Парень с буровой наслаждался смятением Бабушкина; подлил масла в огонь:
— Он знает, что ты...
Бурильщик птошел, а Бабушкин почувствовал, как мелко дрожат у него
пальцы...Вот это неприятность так неприятность! Надо ж — Ханов! Он с потрохами теперь слопает его, Бабушкина, будь
она проклята шоферская работенка, будь
проклят этот не задавшийся денек... Не
чья-нибудь
охотничья
собака •— хановская! Повезло через край...
— Квартиру получишь,— бубнил Зыбкин; майонез на его подбородке уже подсох, чавкал Зыбкий, управляясь с винегретом; почти старик он,
неопрятный,
чуждый Бабушкину. Не слушал его Бабушкин. Терзался: «Как же быть?» Нет,
не слезет с него Ханов...
Любой водитель в городе, спроси его,
кто для него самый опасный, вредный
человек, ответит, не задумываясь: Ханов.
Когда на трассе появлялся желтый с синим мотоцикл старшего инспектора госавтоинспекции Ханова, закаленные шоферские сердца напрягались в предчувствии близкой беды. Низкорослый капитан
с каменным неподвижным лицом, исссченым непогодой и асфальтной крошкой,
видел, казалось, все насквозь, даже то,
что обычно проскакивало мимо придирчивых глаз других автоинспекторов. Он
с одинаковой строгостью взыскивал как
за неисправные тормоза, так и за самое
минимальное превышение скорости; он
не прощал случайной, обретенной в пути
грязи на машинах, по звуку
моторов
улавливал, что в них не соответствует
норме;
останавливал,
штрафовал, не
слушая объяснений, делал проколы в талонах, отбирал водительские права, предписывал посещать вечерние занятия при
автоинспекции.
«Внимание, на дороге Хан,— передавал тревожно беспроволочный шоферский
«телеграф»,— глядите в оба: Хан!» Его
прозвали Ханом не только из-за фамилии,
а, наверно, и за надменность на плосковатом лице. Нельзя сказать, что он несправедлив — он просто до мелочности
придирчив и жесток. Бабушкину пока везло: Ханов даже не останавливал...
«Нажил врага,— мучился Бабушкин.—
Разве простит? Вон и раскосый лейтенант говорил, что он любит свою собаку,
застрелю, говорил... А лейтенант все ж
мягкий, а Ханов — он кто!.. Хоть в автослесари подавайся...»
— Николай, будет, как сказано, —•
подталкивал к нему по скатерти фужер
с пивом Зыбкий, пиво выплескивалось,
обшлаг зыбкинского
пиджака
набухал
темным.— Заслужил — получай! Вот как
мы!
Зыбкий еще что-то твердил, многозначительно понижая голос и озираясь, но
Бабушкин не слушал
его бестолковую
речь, рассеянно думая о своем. Парень
с буровой, рассказывая что-то Мире, ве-
67
село кивал на него, Бабушкина, Мира
томно щурила крупные подведенные глаза, не сводя их с. парня: он ей нравился,
ей было не до других.
— Я знал, ты понятливый товарищ,
мы рассчитываем...— нетвердым языком,
но убежденно втолковывал
Бабушкину
Зыбкин.— Так и напишешь...
— Что «напишешь»?— очнулся Бабушкин.
— У ты! — Зыбкий пальцем погрозил.
— Так и пиши: он клеветник, порочит
наш славный коллектив и уважаемых в
коллективе людей, бросает тень, мы, рядовые работники транспорта, возмущены...
Таким, как Гуляев, не место... Этим закончить можно.
Дошло, наконец, до Бабушкина! Жесткая удавка перехлестнула его горло, дышать стало трудно, его распирало изнутри, вместо слов Бабушкин выдавил из
себя какие-то жалкие,
хлипкие звуки,
как придавленный плач, и Зыбкин испуганно отодвинулся:
— Ты чего, Бабушкин?
— Жук-короед ты,— прошипел Бабушкин.— У-уходи, змей!
И в ослеплении толкнул Бабушкин стол
от себя на Зыбкина. Зазвенела посуда,
что-то разбилось; побледневший Зыбкин
живо вскочил со стула и, не оглядываясь,
лавируя между столиками, засеменил к
выходу.
— Ошалел, милок?— официантка подскочила.— Черепков набил... ты что?
И милиционер молниеносно откуда-то
появился — рябой, дышал тяжело, в гидах, со старшинскими погонами, приказал:
— Расплачивайся и пойдем, артист!
А на Бабушкина как неожиданно нашло, так в секунды и развеялось все, поразительно чисто и ясно в голове стало, и
он ли это сейчас кричал, господи, как же
он мог?! Позор какой, нет сил глаза поднять, посмотреть на людей. Нина увидела
б такое... А Зыбкину что — надел он теперь свой
шуршащий
прорезиненный
плащ и бежит себе, куда хочет... Блестит
перед носом надраенная бляха милицейского ремня, официантка счет пишет, пялятся отовсюду... сгореть бы, срамота какая! Оба фужера кокнул, тарелку еще,
хватит ли расплатиться? Кроме четвертной бумажки в карманах ни копеечки...
Что ж — старшина через весь зал поведет, как под конвоем? Наломал дров, Ни-
68
колай Семенович, дал прикурить... Карточку еще повесят на доску «Не проходите мимо!», весь город любоваться будет,
Петьку в школе задразнят. Сколько, говорите, заплатить? Двадцать четыре восемьдесят две? Сейчас, сейчас... Это мы
мигом, с радостью, извините, пожалуйста, так уж получилось, простите...
Попросил униженно, давясь словами:
— Товарищ старшина, не надо... Затмение нашло.
Старшина дождался, пока он передал
деньги официантке, сказал
с
царской
щедростью:
— Уматывай... чтоб я тебя не видел
больше!
По-прежнему зеркально светился ресторан, переливался светом, люди пили,
ели, разговаривали, старикашки в оркестре заиграли что-то
вроде марша, как
отходную ему, Бабушкину; нечаянно поймал взгляд Миры, брошенный на него,—
брезгливая жалость была в этом взгляде.
На улице, где на свежем ветерке дышалось легко, полной грудью, где было
много людей и канадские клены, росшие
вдоль тротуара, бросались в прохожих
влажноватыми осенними листьями, один
из которых с размаху прилепился к щеке
Бабушкина, он с особенной силой, кляня
себя, осознал всю дикость затеянной им
в ресторане сцены. Утешало лишь, как
убегал от него Зыбкин... А поначалу ведь
он, Бабушкин, расчувстпоиался, по швам
расползся: как же — Зыбкин квартиру
дает! Тьфу... Погоди, Зыбкин, до первого
собрания... Пашка Гуляем останется, как
был... 11 без наших «Икарусов» перебьемся! Правда, Паша? Вы нас че троньте!..
С этим убеждением, что Гуляева они
в обиду не дадут, нам па глотку не наступишь, что надо — скажем, пришел
Бабушкин во двор дома. Здесь было тихо,
лишь Вера из 53-й кнартиры сидела на
скамье, дожидаясь кого-то или, как решил
Бабушкин, просто
наслаждаясь
своим
юным одиночеством.
Выходящее во двор кухонное окно их
квартиры светилось. За низкой занавесочкой маячил Савойский, вот он приблизился к стеклу, стал вглядываться в заоконный сумрак... «Сейчас появлюсь —
прицепится,— со знакомой тоскливостью,
вызываемой видом нотариуса,
подумал
Бабушкин.— Нины нет, Петька спит, а
он прицепится, успеет...»
Он повернул и пошел к скамейке, на
которой сидела Вера, белея туфельками.
— Извиняюсь,— сказал он Вере.— Не
помешаю?
— Что вы, дядь Коль,— Вера засмеялась.— Место не к у п л е н н о е !
Бабушкин хотел заметить, что какой
же он «дядя» для нее, это обижает, ему
и сорока лет еще нет, однако, смолчал,
рассудив, что Вера пока в таком возрасте,
когда мужским пил делится ею строго на
два категории: мальчики и дяди.
— Скучаете, Верочка?
— Так... ничего не делаю.
— Само собой,— согласился Бабушким.— Разве п л о х о ? '
Находиться ио.ие Веры было приятно,
словно от плохого пришел к чему-то
светлому, КОТ1ФП1', знаешь, не принесет
тебе обиды, с а м и по себе беззащитно и
доверчиво, лишь ты не обидь! Как давно
было, подумал ни, сколько воды утекло
с тех пор, и пес же недавно это было,
когда Нина поджидала его вот так же,
на лавочке, он бежал через пустырь, где
свалка, мимо кладбища, трамвайного депо, боялся, чти она не дождется, уйдет,
или что встретят его ребята из ремеслухи,
изобьют за Н и н у ; таяли в кармане шоколадные конфеты, после они ели их, украдкой он облп.1ыкал липкие пальцы, и
были на Нине тоже Гимые туфельки...
— Ох, дядь Коль, заснете! — опять
засмеялась Вера.
— Замечтался,
оправдываясь, ответил Бабушкин.— Но служебным вопросам.
— А я иногда на вашем автобусе езжу. К бабушке.
— Замечал,— подтвердил Бабушкин.—
Я вас, Верочка, унлжаю.
— За что?— п о у ч и л а с ь она.
— Не знаю,— признался Бабушкин.—
Вижу и уважаю... вообще.
Ни с того пи с сего, будто кто подтолкнул, он стал рассказывать Вере, как
сегодня задавил собаку — такое муторное
ЧП, а тут еще шалопай Петух камушек
на душу положил...— Тут в арке появился парень, к а ш л я н у л , и Вера, не дослушав сказала: «Пока, дядь К о л ь ! » — п о бежала к этому парню: тот обнял ее за
плечи и увел.
Бабушкин сказал себе, что ничего не
попишешь, осуждать Веру за равнодушие
к его рассказу нельзя: тут налицо свое
течение жизни, пусть они!.. Светилось
окно кухни, там бодрствовал, поджидая,
сосед (ни дна б ему, ни п о к р ы ш к и ! ) ; в
Бабушкине растревоженно росло желание
кому-нибудь досказать про собаку, про
то, как выяснилось, что она к тому ж
была собственностью капитана Ханова,
теперь не расхлебать... И припомнился милицейский лейтенант
с симпатичными
раскосыми глазами, знакомый, можно считать, припомнилось, как тот жал руку
па прощанье, приглашал заходить, чтоб
побеседовали они о собаках... А можно
ведь о собаках, можно и не о собаках...
Посоветоваться, к примеру,
насчет Ханова, оба они с лейтенантом носят милицейскую форму, лейтенант Ханова наверняка знает, не возьмется ли уладить
это дело, ' помирить, выход подскажет...
И так ведь наплыло, подумать, одни нелады сегодня с милицией! Рассказать все
как на духу... И про Зыбкина! Он, Бабушкин, тоже неправ, не сдержался, подлая
водочка свое сделала, но Зыбкин-то, Зыбкин! А еще по школам ходит, хвалится
собой...
Лейтенант, возможно, томится дежурством, повозись-ка с пьяным да отребьем
разным! А тут — поговорят, как человек
с человеком...
Отделение милиции находилось в соседнем здании, рядом с гастрономом >& 5,
не больше трех минут потребовалось Бабушкину, чтобы дойти сюда. А подошел—
заколебался было: а если лейтенанта нет?
Однако пересилил себя: что особенного —
спросит и уйдет, вежливо скажет «здравствуйте!» и вежливо «до свидания!»
Когда Бабушкин, открыв дверь, переступил порог, то сразу же понял, что хорошего ждать нечего: за дощатым барьерчиком возле телефонов сидел и выжидательно смотрел на него рябой старшина,
тот самый, что изгонял его из ресторана.
— Здравствуйте,— сказал Бабушкин.
Старшина, поигрывая связкой ключей,
вышел из-за перегородки, приблизился
вплотную, принюхался, вернее, просто
понюхал его, Бабушкина, понюхал как-то
обидно, словно неживой предмет.
— А, это ты,— узнал старшина.
Облизнув пересохшие губы, Бабушкин
сказал:
— Я извиняюсь, конечно... тут у вас
лейтенант есть, фамилии не знаю, косенький такой...
— Косеньких в другом месте искать
69
будешь,— старшина зевнул протяжно.—
Еще выпил?
— Что вы!
Мне лейтенант нужен...
вот фамилия, правда...
— Идем,— пригласил старшина. Добавил: — Надоели-то вы, хоть бы пенсии
дождаться...
Он провел Бабушкина по коридору
впереди себя, остановились они у двери,
обитой белой жестью,
с зарешеченным
окошком, закрытым железной ставенькой,
с глазком, в который можно подсматривать, вставил старшина ключ во внутренний замок.
— Вы меня не поняли, товарищ дежурный,— запротестовал Бабушкин,— я
ж лейтенанта ищу...
— Утром
всех
лейтенантов
увидишь,— устало
сказал
старшина.— И
майор с тобой побеседует...
Он ловко, заученными жестами, ощупал
карманы Бабушкина, так же быстро и
ловко подтолкнул его — Бабушкин опомниться не успел, как дверь захлопнулась,
очутился он в камере.
— Не трепыхайся,— глухо
посоветовал из коридора старшина,— х у ж е себе
не делай. Это тебе не ресторан, артист,
а КПЗ.
Бабушкин чуть не заплакал от такой
ужасной несправедливости, хотел бить в
дверь н о г а м и , пи одумался... А за его
спиной кто-то пьяно и хрипло сказал:
— Нр-рипет!
На голых парах,
съежившись, сидел
Толик, р а д у ш н ы м жгсточ п р и г л а ш а л подойти ближе. 11 п р и я т е л ь его, Виталик,
был здесь — спал, п р и к р ы в ыала от света нсвыключаемой э л с к т р н ч с г к м й лампочки вязаным колпаком с и п м н т т м .
- Курево отняли,— пожаловался Тплик,— ремень сняли. Вот комедия...
Бабушкин молчал.
— На работу б не опоздать,— вздохнул Толик.— Мне к полдевятому... Как
бы пятнадцать суток не отломилось..- А
ты, Коля, наш разговор помнишь?
— Иди т ы ! — с к а з а л Бабушкин.
Как из чужой жизни, не его собственной, а чьей-то другой, будто кто рассказывал об этом, а ему запомнилось, вдруг
пришло видение: маленькая девчушка загоняет хворостиной в желтый пруд белых
гусей, по краям широкой дороги краснеет рябина, в низинах туман стелется, и
везде идут и едут люди, их много-много...
Кто они? Сын Петька среди них, Нина
и Мира, а по обочине шоссе бежит красивый сеттер, бежит, бежит.
Какой я виноватый, подумал горько
Бабушкин, кругом виноватый.
Не так уж долго пробыл Бабушкин в
камере, не больше получаса, пожалуй,
пока не вернулся в дежурку отлучавшийся куда-то лейтенант и старшина не привел утомленного событиями,
жалобами
Толика, равнодушного к себе Бабушкина
к нему. Фамилия лейтенанта, оказалось,
Айдаров.
Разобравшись, лейтенант строго выговорил старшине. Тот выслушал угрюмо,
не оправдываясь, опустив тяжелые руки
по швам, его рябое лицо выражало одно:
говорите, говорите, вы молодые, а мы
службу знаем, хоть университетов, конечно, не кончали.
— Тоже, замечу, поаккуратней следовало б, Николай Семенович,— перебирая
бумаги, не встречаясь с ним глазами,
сказал лейтенант.— Только русские купцы, нам известно, плохо вели себя в ресторанах...
Он предложил покрасневшему Бабушкину сыграть в шашки, они играли и пили чай. Время шло, уходить отсюда Бабушкину не хотелось; лейтенант, отвлекаясь от шашек, отвечал на звонки, разбирался с теми, кого приводили в отделение.
К утру кончилась плитка зеленою чая
и дежурство лейтенанта Айдарова пришло к концу. Подмигнул он Бабушкину, пообещал:
— Марату Георгиевичу Ханову сегодня же домой позвоню, попробую объяснить... Но автобус, Николаи Семенович,
чтоб как зеркало... Поняли?
— У меня всегда... Собаку невыносимо
л; а л ко.
Аидарш! л.ялком прицокиул, согласился:
— Да... слон ист.
Выйдя па у.ищу, Б а б у ш к и н рысцой
побежал к проспекту Коммунаров, к фабрике, чтобы встретить у проходной Н и н у .
Было прохладно, стая грачей кружила в
сером небе — п р о щ а л а с ь с городом перед
отлетом на юг. Проскочил мимо на автобусе Пашка Гуляев, узнав, посигналил,
поднял р у к у вверх. Уверенное, веселое
лицо Гуляева как-то приободрило Бабушкина, он радостно улыбнулся ему, хотел
даже остановить, подсесть в кабину... но
мгновенно раздумал. Новый день начался,
все еще впереди.
Был поздний час, ни огонька на широкой поселковой улице, когда
Зотог.. п е р е ш а г н у в скрипучий больничный порог, пошел к реке.
Ночь г н а л а на Овражный, на дома и темные срубы, прижатые к
тайге, м о х н а т ы е рваные тучи; ветер принес с севера мокрые хлопья снега и КИНУЛ и \ на потемневшие от первых весенних лучей талые крыши,
на заросли прошлогоднего ивняка, на п р о с н у в ш у ю с я от зимней спячки
реку. Река д ы ш а л а вечерним туманом, и по ней плыл лед, который тронулся н а к а н у н е . Зотов слышал ночью треск — легкий и звонкий, но тут
/ке и з а й ы . 1 о нем.
Но с у т р а поднялось в душе что-то давнее и полузабытое, растревожило с-1о. После вечернего обхода он долго стоял у больничного окна, к у р и л , смотрел, как надвигаются сумерки.
Ему капалось, что вот еще мгновение, и он поймает этот миг, эту
грань, отделяющую день от ночи. За окном привычно горбилась к р ы ш а
больничного с а р а я , всхрапывала, вздрагивая в дремоте, старая кляча
по п р о ч г л и к у З а й ч и х а — у нее были длинные уши и большие всегда
испуганные- глаза; белела на телеге солома, запорошенная снегом, ветер р а с к а ч и в а л ветки липы, которую Зотов посадил в свою первую весну здесь, и Овражном, когда еще и больнииы-то не было, а стояла на
ее месте деревенская изба с двумя подслеповатыми окнами на север,
и было по-мартовски сыро и неуютно во всем.
Скрипнула дверь, звякнули ведра, и он, даже не оборачиваясь, понял, что п р и ш л а Глашка. Зотов слышал, как минуту назад, переругиваясь с кем-то в коридоре, она поминала его, «хромого дьявола».
Г л а ш к а была первой, кто встретил его в дождливый августовский
вечер на пороге медпункта, в котором уже на следующее утро ему
предстояло работать.
Он вдруг так ясно вспомнил себя, продрогшего, заросшего щетиной за это время, чго добирался до у ч а с т к а — с н а ч а л а поездом, потом
самолетом, а после еще и с попутным возницей. Как назло лесовозы
« ге дни не сделали ни одного рейса до участка: неделю лили беспрерывные дожди, з а в о л а к и в а я густым моросящим туманом и дороги, и сол«и, и таежные реки, где уж тут машине. Довез Зотова из района до
71
Овражного дед Опонас — сам спешил до своей бабки, занемогшей в
непогодь, и Зотов, как слез с телеги, так и предстал перед Глашкой,
успев только придержать сползавшие на нос очки, в дождевике защитного цвета со смешным, глубоко сидящим на голове капюшоном, в
больших кирзовых сапогах, которые ему посоветовал купить загодя
сосед по самолету добрейшая душа Иван Иванович Курочкин — бухгалтер-ревизор, грузный пятидесятилетний м у ж ч и н а : «Небось не на
танцы едешь, знаю я эти таежные участки — морось да грязь, чего там
еще доброго-то».
В первый миг Глашка показалась ему старухой — в таких же, как
у него, кирзовых сапогах, в старенькой стеганке, полушалке и широкой, поикрывающей голенища сапог юбке. Но голос звучал молодо,
звонко и напевно. В избе «старуха» обернулась молодой бабой, успевшей располнеть к своим тридцати годам, с дешевыми голубенькими се^режками в ушах. Зачесанные гладко рыжие волосы, с раскосинкоГ!
светлые глаза, веснущатые щеки и курносый маленький нос — все это
придавало Глашкиному лицу милое и доброе выражение.
«Ладная» — подумал Зотов. Глашка, как будто отвечая его мыслям, в один миг растопила лучинами самовар, сбегала в погреб за огурцами и салом и, метнув над столом скатерть, цыкнула на сынишку,
такого же рыжего и раскосого, как она сама. Тот в ту же минуту взобрался на печку, и пока они ужинали, Зотов чувствовал на себе его
любопытный взгляд из-за занавески.
Так же легко и быстро она ввела его в курс несложного больничного хозяйства, и Зотов, обойдя двор и заглянув даже в сарай, где были свалены в одну кучу кровати и тумбочки, заночевал в медпункте.
Через неделю появились из близлежащих лесоучастков первые
больные. Были извлечены из сарая порыжевшие от сырости кровати,,
и Зотову стало негде ночевать. Гостиницы в Овражном не было, избу
ему директор леспромхоза обещал выстроить только к весне, и Зотов,
махнув рукой на все пересуды поселковых баб, переселился со своим
студенческим чемоданом к Глашке.
Легко дышалось в ее просторной, чистой горенке. Большая русская
печь, вышаркан-ный добела стол, две кровати, на одной из которых
спал трехлетний Кешка, старый п р и е м н и к в углу, толстый фикус в кадке, которым Глашка страшно гордилась, и м а р л е в ы е занавески на окн а х — ничего и не было больше в ее х о р о м а х . И так же легко и хорошо ему спалось в запечной комнатушке, отделенной от горницы ситцевой занавеской. Приходя вечером домом, он всегда находил за заслонкой печи горячие щи, а на столе хлеб и молоко.
Красотой Зотов никогда не отличался, был хром с детства на левую ногу, сутул и, несмотря на свои т р и д ц а т ь лет, у г р ю м и неразговорчив. Его глубоко посаженные темные глаза смотрели из-под насупленных бровей, сросшихся у переносицы, строго, и совсем уж не красили
большие залысины и складки на щеках. Но чем-то, видимо, он привлек
сердце рыжей Глашки. Он понял это, слыша по н о ч а м , через занавеску, разделявшую их, ее тяжелые, бессонные вздохи.
Но Зотову тогда было вовсе не до Глашки, но даже, когда отступили, ушли из его снов серые девичьи глаза — и тогда напрасны бьгш
Глашкины взгляды; сойтись просто так, ради скуки, он не мог, и, как
только леспромхоз построил ему дом, переехал от Глашки.
Однажды уже спустя три года после их первой встречи они поехали в воскресный день в район на ярмарку. За неделю до этого Зотов выхлопотал у директора леспромхоза деньги для оборудования
зубного кабинета, и надо было оформить в банке счет.
Выехали глубокой ночью на попутном лесовозе, шедшем на лесобиржу. Глашка задремала в кабине, уронив голову ему на плечо,.
72
Зотов же, весь во власти мигавших впереди звезд, которые плясали
у него перед глазами, то падая за верхушки сосен, то взлетая высоко
над ними, ощутил молодое сильное волнение.
Я р м а р к а развеселила их обоих, было жарко, душно и суетно от
машин, храпящих лошадей, визжавших до одури поросят в мешках,
украинского говора, которым так богаты приморские села, толкучки,
пряного запаха первой зелени. Зотов сходил в банк, потом они пообедали жидким борщом в столовой, а к вечеру, завидев на горизонте
лохматые темные тучи не предвещавшие ничего хорошего, Зотов и
Глашка забрались в кузов машины, шедшей в Золотую падь, решив,
что оттуда до дома им рукой подать — двадцать километров пустяки
по их таежным масштабам. Но гроза разразилась уже в пути, и чтобы спасти коробки с лекарствами, им ничего не оставалось больше делать, как заночевать в Золотой пади. Глашка осталась в первой попавшейся избе, а Зотов устроился там же во дворе на сеновале и, с наслаждением, вдыхая запах сена и свежести, вытянувшись, уснул...
Проснулся он от легкого прикосновения теплой руки к его щеке.
В порывистых Г л а ш к н н ы х объятиях было столько отчаяния, чего-то
просила и требовала ее душа — больше того, что мог он ей дать в эту
весеннюю грозовую ночь. И, понимая это, она горько и безутешно зарыдала, уткнувшись в солому.
Зотов не утешал ее, понимая все бессилие своих слов в эти минуты. Но уже после, когда утихла гроза и ушла Глашка, он еще острее
почувствовал свое одиночество.
Она приходила к нему несколько раз после этой ночи, оставляя
каждый раз на его губах непонятную горечь. Что-то нечистое видилось
Зотову в их отношениях. Может быть, если бы Глашка стала настаивать — он женился бы на ней, и все стало на свои места. Но Глашка
никогда не н а ч и н а л а об этом разговор, и встречи их как-то сами собой прекратились.
Зотов снял привычно халат, повесил его на вешалку, одел пальто, шапку и вышел, прихрамывая.
Поселок был погружен в сон, и только свет фар, летящих навстречу лесовозов, в ы х в а т ы в а л из темноты то изгородь, то старую ба'ню, то
чьи-то ставни, а там, где улица смыкалась с тайгой, спящие кедры.
•— Ах боже мой, боже мой,— думал он, шагая в ночи по размытой весенней распутицей единственной улице Овражного,— вот так и
жизнь пройдет — сорок лет, а ничего не сделано...
Он чувствовал, как в сапоги заползает сырость, поеживаясь, застегнул у ворота пальто, завязал потуже тесемки шапки-ушанки, поправил сбившиеся на нос очки, и подумал, что вот сейчас он повернет в двери ключ, зажжет свет, поставит кипятить чай и напьется его,
а лотом долго, с наслаждением, до той поры, когда займется неяркий
весенний рассвет и вслед за этим звякнет калитка у соседнего дома, протяжно и призывно замычит корова Рыжуха, он будет читать книгу профессора Юдина о проблемах брюшной патологии. Он давно выписал
ее из Ленинграда, а открыть до сих пор так и не смог — пропадал в
больнице.
Но даже эта мысль не принесла ему облегчения, и с той дороги,
что вела к дому, он внезапно свернул и пошел прямо к реке...
Она тяжело шумела и бурлила на перекатах и вся была во власти
разбуженного волнения. Зотов вдруг почувствовал себя заброшенным
и одиноким среди этой весенней симфонии ночных звуков, покинутым
всеми. Сразу вспомнилась мать, и волна теплой жалости к себе и к
ней, и к тому, что оставлено там, в детстве и юности, к тому, чему уже
не суждено сбыться, потому что годы летят и их не остановишь, захлестнула его сердце.
Отца он не помнил, отец погиб от руки бандита в год его рождения, когда мать с отцом учительствовали в глухой алтайской деревушке, братьев и сестер у него не было. Друзья-товарищи, с которыми кончал институт, разбрелись по белому свету — одни уже защитили кандидатские, другие преуспевали в клиниках больших городов, но зависти ни к тем, ни к другим он не испытывал. Ему только порой не
х в а т а л о матери и всего того, что связано с ней,—их комнатушки с
солнечным окном на Енисей, старого шкафа с родительскими книгами,
сибирской, куржаком украшенной, зимы, гудков пароходов, зажженных старинных фонарей у входа в городской театр, рояля, на котором
иногда музицировала мать, шелеста страниц в университетской библиотеке— бывшем генерал-губернаторском доме с высокими белыми
колоннами и ослепительно я р к и м светом люстр, в той самой библиотеке, где он ждал все пять лет встреч с сероглазой однокурсницей Верой. Она приходила, садилась рядом, и они вместе листали страницы
учебников и составляли конспекты, но свидания все-таки не было.
Сразу после десятилетки Дима Зотов в трудные послевоенные годы, чтобы помочь матери, поступил работать бухгалтером в торговую
организацию. Заочно окончил финансовый техникум, но душа не лежала ни к ц и ф р а м , ни к отчетам, и он н а ч а л готовиться в медицинский.
В группе его считали чудаком, он был старше их, может быть от этого
серьезней многих, и мало кто понимал его по-настоящему. Хорошо ему
Г>ыло только с Верой. Она уехала весной после защиты экзаменов на
север к родным, обещая писать ему.
В первое же свое утро в Овражном Зотов побрел на почту. Чтобы
Продлить в себе чувство радостного ожидания, он пошел не прямо по
улице, а свернув в сторону сопки, поднялся на нее. Сопка лежала вся
темно-зеленая, нетронутая еще красками осени, чуть нагнувшись в одну сторону под тяжестью облаков, открытая солнцу и ветрам со всех
сторон.
Письма от Веры не было. Ни тогда, ни все то время, что он живет
здесь, в Овражном. Зотов убедил себя, что именно так и должно быть—
н е с и м п а т и ч н ы й да еще хромой вдобавок.
За эти годы у него и работа ладилась и не ладилась. Пришлось
начинать почти все сначала — строить больницу, быть прижимистым
хозяйственником, хлопотать об оборудовании кабинетов, принимать
роды, делать п р п ш т к п лесорубам против энцефалита на лесных делянках, собирать из года в год библиотеку и даже лечить зубы. Он до•бился у директора леспромхоза средств на пристройку палаты на десять мест, а два года нл.чад п р и н я л молодое поколение — двух врачей и безотказно учил их тому, что знал сам.
...Вышла луна, осветив своим холодным светом сырой берег.
— Поздно,— вслух сказал он и побрел к дому. Тяжело ступая по
грязи, он шел и думал о том, что, черт возьми, м'ожет быть, и правы
те, кто живет тем, что уготовит н е о ж и д а н н о к а ж д ы й новый день.
— Женюсь, огород разведу, садик около дома,—устало подумал
Зотов, п р и к р ы в а я за собой калитку.
На крыльцу не закрывшись от мокрого, пронизывающего ветра сидела 1лаш«а. Он п е р в ы м увидел ее опущенные плечи, м а р л е в у ю ' к о сынку на голове.
— Димыч! — она бросилась к нему навстречу, тяжело дыша и
всхлипывая,— Димыч, Кешка... беда-то какая...
И заголосила протяжно, прижавшись к нему.
Он легонько оттолкнул ее и выбежал за калитку на улицу, смешно
подпрыгивая. Все, что минуту назад мучило его, отошло куда-то далеко. Завидев у больницы горящие фары лесовоза и шофера Веньку,
74
вытиравшего тряпкой кожаное сиденье, он на секунду остановился,
глотнул воздух и, не о чем не спрашивая, стремительно распахнул дверь.
Кешка лежал на скамейке, закинув голову, глядя не моргая в по1голок. С его старенькой куртки медленно стекала на пол кровь.
— Вырос как, а,— мелькнуло в сознании Зотова.
•— Ранение в область сердца,— услышал он взволнованный шепот дежурного в р а ч а .
— В операционную,— коротко бросил Зотов.— Глафира,— стараясь не смотреть на облитое слезами Глашкино лицо, приказал он,—
Скорее к электрику.
Глашка в один миг все поняла. В полночь в поселке прекращал
работу движок.
Кешка был белес больничной простыни, которой н а к р ы л и его на
•операционном столе. Пульса почти не было, и Зотов вдруг почувствовал, как в тяжелом полнении у него застучало в висках.
— Кислород!
— Ах паря, паря,— прошептал он, наклоняясь над мальчиком.
Ему вдруг стало так страшно, что он чуть не зарыдал.
— Рентген,— коротко скомандовал он сестре. Сделали рентген.
Темный, едва различимый осколок.
— Напоролся на стеклянную пику в игре,—голос сестры звучал
тихо, и Зотов увидел, что у нее дрожат руки.
— Зажим!
Темнота н а с т у п и л а внезапно, и тишина, как глухота, охватила его.
Не успела Г л а ш к а .
— Свет, во что бы то ни стало, свет.
И свет возник, яркий, слепящий глаза. Пылало в операционной
окно, оно осветило комнату, Кешку, рану — это горели фары лесовозов
за окном.
— Скальпель...
Зотов н а г н у л с я над Кешкой.
Повреждение перикарда, осколок стекла задел и средний слой
сердечной стопки. Большое кровоизлияние. Тот самый случай экстренной х и р у р г и и , о котором не прочитаешь в учебниках, не научишься в
институтских стенах. Поединок... И выиграет...
Жизнь! Он выни-мает осколок из сердечной мышцы и чувствует,
как слабо бьется в его руках Кешкино сердце.
— Мы еще повоюем, п а р я Кеха,— шепчут его губы.
Сестра вливает мальчишке кровь, Кешкино лицо еле заметно оживает, и Зотов, резко стягивая перчатки, выходит в коридор, распахивает дверь на улицу.
На востоке светлеет небо, поднимается хмурый, ветреный рассвет
гаснут звезды одна за другой, а Зотов все стоит и курит. Его кто-то
зовет, кто-ю набрасывает ему на плечи полушубок, а он ничего не
слышит и не видит.
— Д и м ы ч , — Г л а ш к а теребит его за плечо,—Димыч.. родной к
телефону...
— Да,— говорит он, ласково проводит рукой по се волосам и направляется к себе в кабинет. Но, обойдя чернеющую на столе трубку,
ложится на кушетку и закрывает глаза.
— Спит доктор.— волнуясь и вытирая краешком халата глаза,
кричит в телефонную трубку Глашка.
Г ЭС Э Р
Бурятский народный эпос
КаК Сопливец-Нюсагпа
стал Абаи Гэсэром
Обладатель двух жен — ни с одной
Соплячок не ложился женой.
От вечерней поры, когда
В серый цвет одеваются листья,
До рассветной поры, когда
Темнота разрывается лисья,
Спал он в юрте, в дальнем углу,
В бычьей шкуре, на грубом полу.
Озадачены, поражены
Две его красивых жены:
«Если мы ему не нужны,
Для чего нас доводит до слез,
Для чего сюда нас привез
Этот оборотень-колдун?
Врозь проводим каждую ночку,
Мы на разных постелях спим.
А приятно ли спать в одиночку?
Для чего связались мы с ним?»
Сумрак падает за крыльцом.
Что Нюсату-Сопливца тревожит?
Только с матерью и отцом
Он в постель своих жен уложит,
Он из юрты выходит прочь,
Где-то бродит целую ночь.
Две красивых его жены
Были страшно поражены:
«Впрямь ли в юрте он спит в углу?
Что ни ночь, встает и выходит
Он в таежную черную мглу,
Где-то бродит он, колобродит:
Может быть, во мраке лесном
Занимается колдовством?
Надо путь его проследить.
Как заснет — привяжем к подолу
Шелковистую тонкую нить:
Только сумрак спустится к долу,
Мы неслышно за ним пойдем» —
Две жены решили вдвоем,
Отвергая долю девичью.
Серый сумрак сошел с небес,
И под грубую шкуру бычью,
Чтоб заснуть, Нюсата залез.
Две красивых его жены,
Притворясь, что на разных постелях
В сновидения погружены.
Поднялись в непроглядной мгле.
Осторожно к его поле
Привязали нитку из шелка
И опять улеглись тихомолком.
А Нюсата-Нюргай огляделся,
Встал бесшумно, беззвучно оделся,
Вышел в лес под покровом ночным.
Две жены его — следом за ним.
Не уйдет муженек-хитрец:
Нитки шелковой держат коне!,!
Наступила полночи пора.
Перед ними — Сумбэр-гора.
Смотрят жены, а их супруг
Превратился в ястреба вдруг
И поднялся, как сумрак, сер,
На вершину горы Сумбэр.
Две красивых его жены
Не могли достичь поднебесной
Той вершины, той вышины,—
Пред скалой остались отвесной
И застыли, изумлены
Дивным обликом, статью чудесной.
Что за свет нисходит с чела?
То ли гордая эта скала,
То ль из рода людей существо,—
Продолжение. См. начало в № 5 1972, в Л» 1, 2, 5 1973 г.
76
Есть и г ) бы. п нос \ не! ч!
Кто бы в т а и п у его п р о н и к ?
У н е ю — гемно-красный д и к .
*1 п р о с т о р н а 1 р \ д ь . и .мошна.
•И с и л ь н а , у п р у г а с п и н а .
И м о г у ч затылок саженный.
Как лопа 1ы — , \ б ы во р г \ .
Кто поймет ею глаз п е с т р о т у ?
Кто п о с т и г н е т сей облик с в я щ е н н ы й У
Голова е ю — кгшо снег.
То не о т п р ы с к к'м.ти — человек.
То в л а с т и т е л ь .аоб.тачных с т р а н ,
То о г е ц -К'зг ^-.Малан!
Прилетел к н е м у я е т р е б - Н ю с а га.
А п р и нем — б е л о л о б ы й б а р а н :
^Кертвой с га п. — его н а з н а ч е н ь е .
У в л а д ы к и бо1 ов Нюсата
Стал п р о с и м » (а свое подношеньс
Для п о х о д а — в о о р у ж е н ь е
II к о н я т л я емм и в о й н ы .
Две красивых его жены
Поспешили в е р н у т ь с я назад.
По дороге скорбят-говорят:
«Наш с \ п р \ 1 — волшебник великий.
Что пред ним з е м н ы е владыки?
Он мот у т е с 1 н т н ь ' й ч а р о д е й .
Самый с и л ь н ы й он из людей!
Почему же он м \ ч а е г нас.
(Отвергает с н а м и с б л и ж е н ь е .
Д е р ж и ! ж ч т •- воих в небрежение!
Мы обман\1ы х и т р е ц о м ,
Мы о ф и н ч т ы т орденом,
Ничем) д 1м м \ ж а не з н а ч и м ! » —
Возвративши:!,, предстали с плачем
Перед с т а р ы м свекром-отцом.
Десяп» т ы с я ч небесных богов,
властелинов небесных лугов.
З а п р е д е л ь н ы х просторов л е с н ы х . —
Услыхали: Ника та-Нюргай
Стал с у п р у г о м т в у х ж е н щ и н з е м : т ы \ .
И сг о о^\ п: тн строго:
« С р е д н и м с м н м о г у ч е г о бога.
Славный о ш р ы с к небесных п а р и т . взял он и ж и т ы з е м н ы х д о ч е р е н .
Стал добычей п р а х а и с к в е р н ы .
Ибо ! ( > е х с о в е р ш и л беспримерный!-:
Так сказав, небожители ввысь
К прародителю поднялись.
В торный кран Эсэгэ-Маданл
А Н ю с а т а чья мощь н е с к а з а н н а .
На в е р ш и н \ горы Г у м б э р
Белолобой) п о т н я л б а р а н а .
Чтобы в ж е р т в у е г о п р и н е с т и
Всем п я т и д е с я т и п я т и
Небожителям — белым б \ р х а н а м
Пред с а м и м Э с э г э - М а д а н о м
Пред в е р х о в н ы м н е б е с н ы м т - т а к о м .
Он п р е д с т а л с м о л и т в о й ж и в о й :
«Ты опора моя и охрана».—
И принес ему в ж е р т в у б а р а н а .
И д о с т и г всех небесных долин.
Всех нагорий и побережий
Запах мяса бараньего с в е ж и й .
Эсэгэ-Малан. властелин,
Девяти небесных держав.
Запах м я с а п о ч у я в , у з н а в .
Вопросил: < К г о моленье г.ознсс.
Кто нам ж е р г в > - д а р е н ь е принес?» —
С в ы с о ч а й ш е й небесно)! I в е р т и
О г л я д е л он з е м н о й п р е д е л ,
На в е р ш и н у горы п о с м о т р е л , —
И Н ю с а т ы \ в и д е л усердье:
Красный сын. средний сын Хан-Хурмаса,
В дар п р и н е с ему свежее мясо
И в ы м а л и в а л .за п р и н о ш е н и е
Для похода вооруженье.
С к а к у н а для быстрой езды,
Д л я в о и н ы и для дел д е р ж а в н ы х
Тридцать три нойте.ш славных.
Триста о п ы т н ы х р а т н ы х вождей.
Всех богов, ч ю ею з а с т а в и л и .
Ьросив небо, с п а с а т ь людей.
Ч го на землю е г о о т п р а в и л и , —
Vмоляд, воззвав к доброте.
Богатырь Б у х э - Б е л и г г л.
Собрались в н а з н а ч е н н ы й час
'-)«. а г э - М а л а п . Х а н - Х у р м а с ,
М н о г о з н а ю ш и е бур.хапы,
4>,и рдаденья — небесные страны,
Собрались поднебесные бен и.—
Пыли солнца над н и м и чертоги,
\ пол н и м и был З В С 1 Д П Ы Й свет.
С 1 а л и м у л р ы й ,г. р ж а п» с о в е т .
П..решили: Бух^-Бэлит тэ.
Ч К1 на землю сошс.- с н е б о с в о т а
1'а.ти блага л ю д с к о ю рода.
Ч т о б ы землю с н а с т и о т беды.
П у с т ь п о л у ч и т к о н я д л я езды,
М о р у ж и е — для
похода.
Для войны и д н я дел д е р ж а в н ы х —
1 р и д п а т ь т р и воителя с л а в н ы х ,
1 р и с т а р а т н ы х в о ж д е й — для побед.
В ч а с . к о г д а моленье-обет
Ьозносил их о т п р ы с к - п о т о м о к .
Н а горе С д м б э р с р е д ь п о д м о к
Приношение жертвы свершал.—
Нетерок за т ы ш а д - п р и б е ж а . т .
с небосвода с ш с ш л с я к о п ь .
На лету в ы с е к а я о г о н ь .
Этот конь был г н с т ы м Б э л ь г э н о м .
Обладал он мощью костей
И хребтом трн;ща 1 и с а ж е н п ы м .
Хвост его был в т р и д ц а т ь локтей.
Были уши в т р и а р ш и н а .
Содрогалась под ним в е р ш и н а .
И была у г н е д о г о к р а с и в а .
В три воза ш и р и н о ю г р и в а .
Счастлив был Н ю с а т а , что с н о з а
У в и д а л своего с к а к у н а !
Он за пово т п о й м а л г н е д о г о ,
Он в с е р е б р я н ы е с т р е м е н а .
Вспомнив п р е ж н и е времена.
Л о в к о вдел м о г у ч и е ноги.
Сел в с е л л о . ч т о сработали боги
Из я к у т с к о г о серебра.
Богатырства настала пора!
Ьыл Бэльгэн н е с р а в н е н н ы м к о н е м :
Он взлетел на п р о с т о р небесный,—
Удержался всадник на нем.
Он в земные н и з р и н у л с я бездны.—
77
Удержался всадник на нем.
Слышит всадник вопрос от коня:
«Ты какой обладаешь силой.
Что решил вскочить на меня?»
Молвил всадник: «Запомни, гнедой.Обладаю силой такой:
Если б вдруг оказалась ручка
У великой тверди земной,
Я бы ручку эту рванул,
Я бы землю перевернул!
А теперь скажи мне слова,
Ты, исполненный хвастовства:
У тебя-то мощь какова?»
«Я умею бежать так скоро,
Что пока три горсточки сора
Средь земного простора горят,
Я легко — туда и обратно —
Вкруг земли пробегу троекратно»,—
Седоку ответил гнедой.
«Если так, мы должны с тобой
Подружиться, соединиться!»—
Так сказав, ездок удалой
На гнедом помчался домой.
А гнедой Бэльгэн, словно птица,
Между небом летел и землей,—
То ли соколом, то ли беркутом,
Мимо туч, по камням низвергнутым.
Сотрясается твердь земная,
Небеса трепещут просторные,
Рассыпаются горы черные,—
Только пыль чернеет густая.
Красных гор не стихают обвалы,—
Только прах взметается алый.
Видит всадник: победно скача
Горной чащей лесной, горным лугом.
Приближаются друг за другом
Славных тридцать и три силача,
Приближаются, говорят:
«Ты — великий Абай Гэсэр,
Наш хозяин и старший брат!»
Вверх посмотрят они,— засмеются.
Вниз посмотрят — прольют слезу.
Небеса без них остаются,
Их земля поджидает внизу!
Так Нюсата, средь мрака ночного>
Получил на горе Сумбэр
Для величия — имя Гэсэр.
Для езды — скакуна гнедого.
Для гнедого коня — снаряженье.
Для сражения — вооруженье.
Для войны и для дел державных —
Тридцать три воителя славных,
Принял истинный облик свой.
Богатырь поскакал домой,
Возвратился он в край родной,
В тот, чья почва благословенна,.
И светла, благодатна река.
Увидал он отца Сэнгэлэна,
И стояли вокруг старика
Триста опытных знатных вождей
И три тысячи ратных людей.
Сэнгэлэн восхищен, изумлен,
Говорит он: «Саргал-нойон
Приглашает на пир гостей
В свой серебряный, белый дворец,—
Тучных режет быков и овец».
Ставят мясо — кряжи нагорные,
Ставят вина — воды озерные.
Бьет Саргал в золотой барабан,
Созывает на пир северян,
Он в серебряный бубен бьет.
Созывает южный народ.
Восемь дней пирование длится.
Девять дней страна веселится
И сама себе удивляется.
На десятый день—отрезвляется!
Молодого Гэсэра ханом
По обычаю нарекли:
Да земным он послужит странам-,.
Да защитой станет земли!
А у хана для дел державных —
Тридцать три воителч славных.
Триста опытных, знатных вождей
И три тысячи ратных людей!
ВсадниК на Кроваво-рЫЯсем Коне
Вот однажды, когда в тумане
Просыпалась земная ширь,
В золотящейся утренней рани
Встал Гэсэр, сказал богатырь:
«Мне баранье мясо и бычье
Опротивело, не по нраву.
Я хочу таежной добычи,
На Алтае начнем облаву».
На Бэльгэне Гэсэр поскакал
По великим просторам Алтая,
То мелькая средь голых скал,
То в лесные чащобы вступая.
Без ночевки-дневки три дня
И три ночи он гнал коня.
Но с кургана ли, с горной ли вышки,
Даже из носу черной мышки
Он и капельки крови не пролил.
Кто же эти края обездолил?
78
«Думал я, что алтайские горы,
Что великие эти просторы
Изобилуют зверем с клыками,
Что я встречу сохатых с рогами,.
Оказалось,— ни робкого зверя
И ни хищного нет и в помине!»—
Так сказал он, глазам не веря
И ругаясь в таежной долине.
Он взобрался на горный отрог,—
Удержаться от крика не мог:
Там, где дол цветами разубран,
Он увидел красавца-изюбра!
Глухоманью, в безмолвии диком
За изюбром помчался он с гиком,
Но заметил: наперерез.
Там, где гуще листвы навес.
Скачет всадник в буланой броне
На кроваво-рыжем коне.
Красным солнцем лик обожгло
Рдеет киноварью седло,
Косы ч е р н ы е — в ц е л у ю с а ж е н ь .
Сразу в и д н о : вел ш и к О ' Ь а . к е н !
Па Г.)С.>ра не г . т л я . с ф е л о к
Из к о л ч а н а с ; р - ;} и ш л е к
И, при;|сл',!С!,. м е т : ; у . т ее
Из бухарского д\ ка 6 0 1 . 1 1 0 1 0
И пронзил изюбра р < н а п м 1 > .
Повезло \ ч а л о м у с т р е л к у !
Ом добычу с.\ва;ил на с к а к у
И, Гл'эра не- з а м е ч а я .
Ускакал по лесной ^юропе
На к р о в а в о - р ы ж е м к < н и .
Рассердился Гэсчр. и глг»
Он с I не.'нно. и С 1 в и и \ л б р о в и :
«Эга
На|.'К>СГ>
Мне
он
И
I!
пьккочнд
Д()Г)ЫЧ\
М01<1
Н'ПННР,
МНС
ВНОВе!
папсргрг!
01НЯН.
У с к а к а л гп меня I I р е м | д а н !
Разве ж е н щ и н а я, чин", и в п р е д ь
Оскорбленья т а к и е к р и г и . У » Так в о с к л и к н у л , и п р р о и г ы й пляс
Он п у с ш д е я . гневом ооьяп.ш.
Он зубами скрипел, ранились.—
Были зубы его. как л и п а I м!
На г н е д о г о он сел о н я п . ,
П о с к а к а л , н о не м е л к и п а м .
Неизвест ног о в^ р \ о в о | о
На кроваво-рыжем коме,
И не с л ы ш а л на к р и к н и к а к о г о
Он о т в е т а в ;чч мои п н н н и с .
Хоть к р и ч а л о н к р и к о м м> м л а с т н ы м .
То п р о н з и т е л ь н ы м , ю г р о м о г л а с н ы м .
Догони т п к о ] о. п о и м д й !
Взял он в р < ) 1 к р . и 1П.1Н камень-задай.
Искроит.'! сорока < \ б , | м н .
Бросил к р о ш е н о па небосвод
И р а з в е я л ча о б л а к а м и .
И разверзлось сю тчннод,
И жара упала т а к а я .
Что замолкла река, нысыхаи,
Закипел л о т а п т ы й и,ним.
«Экий с и л ь н ы й н а 1 р я п \ д мороз!
Я з а м е р з н у в ч \ / к о и > троне!» —
К р и к н у л в с а д н и к на р ы ж е м коне,
А потом поплотней п . н я п у л
М а л а х а й из лисьем) м е \ а
И, п р и в с т а в на копе, с ш а х п у л
Он доху из волчье: о м е ч а
И у м ч а л с я за п е р е в а л , Белый иней его п о к р ы в а л .
Тут-то п о н я л Гэс^р, ч ю жара
Не страшна н с ш а к о м о м у мужу,
И он в ы з в а л у ж а с н и о смужу,—Холодов н а с т а л а н о р а .
Налетела т а к а я п х р г а .
Что ломалисч, б ы ч ь и рот,
У л и с и ц о т р ! > 1 в а л и с ь м.осты.
Каменели под снс1<»м кусты.
«Ах, какое ж а р к о е лею! —
Крикнул всадник, который скакал
На коне кровавого цвета,—
Задыхаюсь о! зноя в меху!»
Сбросил ш а п к у , с к и н у л доху
И надел из шелка р у б а ш к у , —
Да п р и т о м еще н а р а с п а ш к у —
Мол, п ы л а е т ;емля г о р я ч о !
Палку-жердочку
и» сандала.
Ту. что ч а р а г и об ш п а л а .
На свое п о с к ш и л плече»,
Поскакал, да при л г о м еще
Расстегнул н а с к а к у в о р о г н н к , —
ЛАол, к ж а р е | а к о й тте привык!
Не
успели
три
горсточки
сора
Средь земно! о стрем» простора.—
В к р у г з е м л и м о л о д о й , необъятной
П р о с к а к а л Гэсэр ц ю е к р а т н о .
Не у с п е л и с г о р е п > в эюм мире
С'.ора-мусора 1 0 р с ! к и ч е т ы р е . —
Обозленный Л б а й I эсэр
Быстро к р \ г п р о д е л а л ч е т в е р т ы й
В к р у г з е м л и , ш и р о к о простертой,—
Л д о г н а т ь в е р х о в о ! о не мог.
Он от я р о е 1 и и з н е м о г ,
По белру у д а р и л Бэлыэна.
В > д р о г н у л копь к в (пился мгновенно
Между небом и юной землей.
П о с к а к а л Гэс'^р у д а л о й
Там, где южные дебри-чащобы,
Там, где северные суроб'ы.
По в е р ш и н а м гор белогдавым.
По степным сгорающим т р а в а м .
По в е р х у ш к а м с к р и п у ч и х дерев,
П о о п у ш к а м д р е м у ч и х боров.
Вот р а с к и н у л о с ь Ж е л т о е море,—
Он
примчался
к
бурливой
волне.—
Вдруг н и з р и н у л с я в Ж е л т о е море
Л о в к и й в с а д н и к н а р ы ж е м коне,—
И с о к р ы л с я в его глубине.—
Л и ш ь к л у б и л а с ь желтая пена.
Как тут быть? И Гэсэр торопливо
Соскочил с к о н я , и Бэлыэна
Он к б о я р ы ш н и к у п р и в я з а л .
Что у моря темнел с и р о т л и в о .
Он к л у к е с е д т а п р и в я з а л
Богатырское вооруженье.
Он п р и п о д н я л морское теченье,
Полперев его ч е р н ы м копьем,
Рукава засучил потом,
Две полы з а т к н у л за кушак
И вошел он в Желтое море.
Опустился на дно с м е л ь ч а к .
Оказалось: в м о р с к о м просторе
Как на суше есть горы и долы,
Б у й н о й зелени гомон веселый,—
Светом с о л н е ч н ы м о с и я н н о
Государство У с а - Л у с а н а !
А дворец подводного хана
Д о с т и г а л поднебесья м о р с к о г о .
Северян озаряла стена,
Что была из злата литого,
А кочевий южных страна
Освещалась ю ж н о й стеною,—
Серебра се белизною.
Вот Гэсэр подошел
поближе.
Пред г л а в а м и крозаво-рыжий
Конь м е л ь к н у л , а всадник-наглец
С п р ы г н у л наземь, в б е ж а л во дворец.
Но п у с т и л Гэсэр-чарод_ей
Десять чар по ладони своей.
Он по п а л ь ц а м с в о и м пустил
Двадцать мудрых волшебных сил,
Словно войлок, он завернул
Землю хана Лусана с окраин,
Хан и глазом еще не моргнул,
А Гэсэр широко шагнул
И во двор вступил, как хозяин.
Возле коновязи, чье пестро
Разукрашено серебро.
Конь стоял, привязанный к ней
Крепким поводом, шелковым, алым,—
Рыжий конь был крови красней,
Он косился глазом усталым.
Ни соринки не оставляя,
Через белый мрамор Хангая
Славный воин перешагнул.
Он жемчужную дверь толкнул
И вошел, величаво сурово
Во дворец властелина морского.
Из-за двух занавес-покрывал
Двух людей разговор услыхал.
Приоткрыл он полог слегка,—
За столом сидел человек
С бородою белой, как снег,
Укоряла того старика,
То сердясь, то горько рыдая,
Смуглоликая дочь молодая;
Оказался девушкой всадник,
Что скакал на рыжом коне
По алтайской лесной стороне!
Говорила: «Родившись на свет,
Я ни разу с младенческих лет
Не знавала, что значит испуг,
А теперь испугалась я вдруг.
То не вы ли в день изо дня,
Мой отец, убеждали меня:
Нет на свете коня такого,
Чтоб догнал моего коня,
Нет ни пешего, ни верхового
На надводной тверди земной,
Что сравнялся бы силой со мной?!
Видно, речь-то была пустая!
Я охотилась в чащах Алтая,
Убивала сильных зверей
И щадила тех, кто слабей,—
И увидела удальца.
Он, хотя некрасив с лица,
Был могуч, и статен, и строен.
Если сзади посмотришь,— воин
Возвышается, как утес,
А посмотришь на рот и нос,—
В этом всаднике молодом
Различишь человека с трудом.
Чтоб в горах испытать его мощь,
Я три дня из чащоб и рощ
Всех зверей от него гнала,
Даже из носу мышки черной
Кровь пролить ему не дала.
Удивлялся охотник упорный:
«То великих небес колдовство,
Или Матерь-Земля никого
Мне не хочет отдать — ни сохатых,
Ни лисиц, ни медведей косматых?»
Он от злости был сам не свой.
Так скакали мы целые сутки
И внезапно в тайге вековой,
В самом пестром ее промежутке,
Там, где дол цветами разубран,—
Показались рога изюбра.
Не успел прискакать стрелок,—
Я изюбра стрелой пронзила,
Он стрелы еще не извлек,
На коня я добычу взвалила.
Властной силою колдовской
Вызвал всадник неслыханный зной,
А меня он догнать не мог.
Он заклятье, что ль, произнес,
Он неслыханный вызвал мороз,
А меня он поймать не мог.
Но уже его конь гнедой,
Четырех не жалея ног,
За моею дышал спиной,—
Я спаслась от него едва,
Я с трудом прискакала домой4.»
Услыхав такие слова,
Удивился владыка морской,
И Зерцало Судеб он взял,
Посмотрел в него и сказал:
«На великой земле надводной,
Твердо знаю,— до этого дня
Не имелось такого коня,
Чтоб сравнялся с твоим конем
Цвета крови и багреца.
На великой земле надводной
Не имелось еще храбреца,
Чья с твоей сравнялась бы сила.
Но иная пора наступила,—
На великой земле надводной
Появился Бухэ-Бэлигтэ,
Хан-Хурмаса сын благородный!
Вспоминается старина —
Предыдущие времена.
Был устроен большой тайлаган 1
Властелин Эсэгэ-Малан
И хозяин Хангая Баян
Там подарками тароватыми
Обменялись и стали сватами.
И на празднестве том счастливом
Вслед за ними я и Хурмас
Обменялись ножом и огнивом,
Сочетали детей в добрый час.
У кого широкие плечи,
Тот добудет себе одеянье,
У кого правдивые речи,
Тот добудет себе пропитанье.
Храбрецам не к лицу обман.
Мы сильны благими поступками,
Как закончился тайлаган,
Обменялись мы — с ханом хан —
Серебром покрытыми трубками.
Да и выкурили с Хурмасом,
Да одним насытились мясом,—
С одного его съели вертела:
Сердце сердце верное встретило.
С колыбели мальчик — мужчина,
С детских лет девчонка — жена.
Ты с Бухэ-Бэлигтэ воедино
Сочеталась в те времена:
1
Тайлаган — празднество с состязаниями борцов, стрелков из лука, с ксшскнми
скачкми; может означать и молебствие.
Так советовал сделать Заян —
Созидатель жизни земной.
Родилась ты с такой судьбою,—
Стать Бухэ-Бэлигтэ женой.
Это он скакал за тобою.
Это он спустился с высот,
Чтоб над всеми воссесть владыками.
Чтоб спасти человеческий род
Светлой мыслью, делами великими
От болезней, печалей, невзгод.
Твой скакун бежал, несомненно,
От его гнедого Бэльгэна.
Наверху, на земных дорогах,
Из созданий четвероногих,—
Из бегущих нет никого,
Чтоб догнали коня твоего,
Не найти на земле средь двуногих.
Чтобы кто-нибудь мог превозмочь.
Победить, превзойти мою дочь:
Так я думал, пока Хан-Хурмаса
Средний сын с небес не сошел!
Не забуду я состязаний
На торжественном тайлагане:
Всех коней Бэльгэн обошел
А Бухэ-Бэлигтэ силой длани
Всех мужей-борцов поборол,
Богатырское званье обрел.
Это с ним, с женихом своим, суженым.
Повстречалась ты, зверя стреляя
И скача по просторам Алтая,
Бегом-топотом конским разбуженным.
День желанный благословен!»—
Так царевне Алма-Мэргэн
Говорил властитель морской.
Но утратила мир и покой
Та воинственная царевна
И отцу говорила гневно:
«Я впервые слышу от вас.
Что невеста я и жена.
Иль узнали вы только сейчас,
Что я девушкой рождена?
Я на горку взойду в день мой горький,
И веревку найду я на горке.
На веревке повешусь пестрой,
; На утес поднимусь я острый.
.И с утеса я брошусь в море.
Утоплю с собой свое горе,
Будет срок моей жизни недолог!»
.
I
'
\
Побежала царевна с плачем.
Распахнула тяжелый полог,—
И обжег ее взглядом горячим
Крепкостанный Абай Гэсэр.
Убежать пыталась далече,
От земли отрываясь, она,—
Но схватил царевну за плечи
Тот, чья мощь велика и грозна.
Убежать от Гэсэра хотела,
К небесам, взвиваясь, она,—
Удержал ее девичье тело
Тот, кто славен на все времена.
И когда поутихла немного
Та царевна, та недотрога,
Богатырь ей сказал слова:
«Ты свой долг исполни сперва.
Из далекой страны человека
Пригласи ты к себе домой,
Ты с далекой реки человека
Напои прозрачной водой».
Так царевну Гэсэр заставил
Возвратиться назад во дворец,
Он шаги вслед за ней направил,
А навстречу им — хан-отец.
Сам Уса-Лусан седоглавый
С белой-белою бородой.
Властелину морской державы
Поклонился Гэсэр молодой,
Поздоровался с ним по-хански.
Поприветствовал по-хатански.
Оказал ему старец честь,
Встретил радостно-величаво:
Предлагает Гэсэру воссесть
На почетное место справа.
А царевна Алма-Мэргэн
Накрывает стол золотой,
Чтобы старый и молодой
Ели яства, пили напитки,
Накрывает серебряный стол.
Ставит пищу-вино в избытке.
Хан Лусан и Гэсэр вдвоем
Разговор повели о былом,—
И о том, что записано в книгах,
И о том, что звучало изустно.
Говорили они так искусно,
Так умно и проникновенно,
Что на темной воде морской
Заиграла белая пена,
А на камне взошла трава:
Созидали жизнь их слова!
Посветлела Алма-Мэргэн,
Угощала гостя на славу:
Ей Гэсэр пришелся по нраву.
Хан-Лусан, властелин океанский.
Прозорливым разумом светел,
Приголубил Гэсэра по-хански,
По-хатански его приветил.
Перевел с бурятского С. ЛИПКИЙ.
(Окончание следует )
|;1
6. «Байкал» № 6
" '
и,
НА ПОДЪЕМЕ
Сегодня птицеводство в Бурятии —
одна из основных статей дохода сельскохозяйственного производства. На первый
взгляд кажется, что для республики с
ее традиционно сложившимся скотоводством и овцеводством это выглядит несколько необычно. Однако обилие естественных водоемов с богатой растительной
пищей давно наталкивало на мысль дать
широкий простор разведению водоплавающей птицы. II все же птицеводство по
настоящему стало развиваться с 1953
года, когда появились первые инкубаторные станции.
Интересно в этой связи полистать подшивки старых газет. С к а к и м упорством
и заинтересованностью настаивали первые энтузиасты, кстати, работающие и
сейчас на строительстве птицеферм! Голоса-призывы, перемежающиеся с голосами критики в адрес нерадивых хозяйственников. слышались из Еравны и Кижинги, Баргузина и Курумкана, Мухоршнбири и Бичуры. Вот заголовки газет
тех лет: «Смелее разводить водоплаваюущю птицу» (1956 год), «Байкало-Кудара — голубой клад» (1958 год), «Внедрим передовой опыт колхозников Ставрополья!» (1959 год), «Птицеводы, выходите на соревнование!» (1963 год).
Не слишком уверены были шаги зачинателей. Сдерживало их и отсутствие
лпыта, и низкое качество работы первых
инкубаторных станций, когда, скажем, в
62
том же Хоринске из четырех яиц выводился один утенок, и распыление утят
но мелким птицефермам вместо сосредоточения в крупных хозяйствах. II всетаки новая отрасль укреплялась. Однако
цент]) разведения водоплавающей птицы
переместился к берегам Байкала. Уже в
195Г) году колхозники бывшей сельсхозартели имени Жданова Байкало-Кударинского аймака обнародовали опыт своей
работы, а в марте 1958 года члены сельхозартели «Знамя Октября» той же Байкало-Кудары выступили с открытым письмом к птицеводам Кубани. В этом письме, подписанном председателем колхоза
тридцатитысячником И. И. Болдогоевым
имеете с передовыми птичницами хозяйства, откровенно говорилось о плохой работе по разведению птицы у нас в республике, о том, что колхозы получают от
инкубаторных станций лишь по 100—
300 утят и мелкие фермы приносят только убытки. Говорилось о том, что у нас
мало опыта в этом деле, и в конце письма
просьба — приезжайте к нам, помогите...
Опыт кубанцев был уже хорошо известен в стране, и Министерство сельского
хозяйства нашей республики направило
на Кубань делегацию птицеводов. Гости
были поражены увиденным. Все говорило
здесь о выгоде птицеводства: 150 уток,
выращенных за два месяца, давали прибыли в два раза больше, чем бык весом
в три центнера, откормленный за 2.5 го-
да. Было о чем подумать! За поездкой
делегации с интересом следили птицеводы всей республики. Республиканская газета «Правда Бурятии» помещала статьи
о каждом дне пребывания наших птицеводов на Кубани.
Словом,
поездка
байкало-кударинцев
вызвала широкий интерес, росли ряды энтузиастов птицеводства. В то же время
птицеводы встречали серьезные препятствия: мало было добротных инкубаторных
станций, да и расположены пни были за
сотни километров от потребителей; плохо
обстояло дело с забоем выращенной птицы — Улан-Удэнский
мясоконсервный
комбинат явно не справ.тлен со все возрастающим ее притоком. Ио.п.но или невольно, но работа по ра.шсдению гусей и
уток заглохла в д а л е к и х Краппе, Тунке и
окрепла поближе к 1 м р п д \
в Кабанске
и Мухоршибири, к о т о р ы е стали по сути
основной базой р а з в е д е н и и птицы.
Начало м а с с о и п м у рл.шсдснию птицы
в нашей р е с п у б л и к е б ы л и положено в
1964
году после и ы м ц а в спет постановления ЦК КПСС и Сонета Министров
СССР о перешме ппщеммдстна на промышленную о п и ш у .
Н а ч а л а с ь закладка
Сотниковской птицефабрики, значительно
расширилась У л а и - У д . ш с к и н , а из совхоза «Торейский» мыла им.имена птицеферма и преобразована к птицефабрику.
Так было п о л о ж е н о п и н а л о интенсификации п т н ц е н м д п и а , м ю привело к необходимости си.', (а и им с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о
треста. « П т и ц е п р о м
и Горитпи был организован и я н в а р е |!1(>,Ч шда, и с этого
момента птицеводппо к хозяйствах, вошелших в состав т р е с т а , стало развиваться на промышленной псионе. Результаты
сказались незаме.ьппе.п.по. Вот пример:
до организации треста к республике было 55
птицеферм с !!(И
тысячью курнесушек, от к о т о р ы х .:а весь год было
скую базу, резко увеличить поголовье
птицы.
Фабрика построена по типовому проекту на 84 тысячи годовых кур-несушек с
напольным содержанием. Первая ее очередь была сдана в январе 1968 года. Пока шло строительство фабрики, изменились методы выращивания птицы. Передовые хозяйства страны переходили на
клеточное содержание поголовья, поэтому оборудование фабрики морально устарело. Руководство предприятия приняло
решение реконструировать цеха, применяя
современное оборудование и технологию.
Сегодня из сорока цехов фабрики только
в одиннадцати содержится птица напольно.
Готовится модернизация остальных цехов.
В цехе клеточного содержания все процессы автоматизированы. Стоит птичнице
нажать соответствующую
кнопку пульта,
и вдоль ряда клеток направится
кормораздатчик.
Это приспособление одновременно раздает корм, собирает яйцо, сгребает помет. При напольном содержании птицы в таком помещении размещалось восемь тысяч кур-несушек, сейчас—от шестнадцати
до двадцати
четырех
тысяч
в зависимости от конструкции клетки.
МИЛЛИОНОВ
Нз года в год фабрика наращивает производственные мощности. Коллектив ее
творчески решает поставленные задачи.
Государственный план 1972 года был выполнен 20 ноября,
населению продано
25600 тысяч яиц. В этом успехе заслуга всего коллектива, в котором трудятся
замечательные мастера
своего
дела —•
птичница
Елизавета
Панте.теймоновна
Лгапитова, Анна Матвеевна Кузнецова,
Анна Филипповна Зайцева.
Шесть лет работает в батарейном цехе
птичница Александра Николаевна Дубинина. За это время она вырастила свыше
трехсот тысяч цыплят — целую птицефабрику! За ударный труд Дубинина награждена орденом «Знак Почета».
яиц. А в 1971 году т о л ь к о две птицефабрики за 7 месяцев работы произвели
30 миллионов 200 т ы с и ч яиц. Вот вам
выгода создания к р у п н ы х птицефабрик и
я в н а я нерентабельность м е л к и х птицеферм. Взгляните, к примеру, на Сотниковскую фабрику — это же настоящее куриное царство, целый городок с инкубаторной станцией,
просторными корпусами
для доращивания кур
и
кур-несушек.
Прибыли, которые приносит фабрика, позволили укрепить ее материально-техниче-
Главный зоотехник фабрики Константин Иннокентьевич Белых пришел на
фабрику 13 ноября 1967
года. В ятот
день на свет появился здесь первый цыпленок. Новый специалист буквально дневал и ночевал на фабрике, отдавал производству весь опыт и знания в трудную
пору его становления. Мне всегда интересно беседовать с этим высокообразованным специалистом. С увлечением делится
он мыслями о работе фабрики, коллектив
которой в постоянном поиске.
Получено
Немногим
милее
2I
83
Сейчас на фабрике разводится чистолинейная
птица — канадский
леггорн
«Стар крое — 228». Завез ее Константин
Иннокентьевич с латышского госплемптицесовхоза им. Фабрициуса. Это знаменитая порода. Чем же она привлекает? Главное, яйценоскостью. По 230 и более яиц
получают от кур-несушек лучшие птичницы фабрики. Яйцо крупное, вес его достигает в среднем 60 граммов.
Коллектив фабрики собирается переходить па содержание птицы в одноярусных
клетках. Они более просты по конструкции, удобны в обслуживании, создадут
в цехе единый микроклимат.
Можно с полной уверенностью сказать,
что Сотниковская птицефабрика переживает пору реконструкции. Здесь работает
группа рационализаторов под началом
главного инженера Василия Иннокентьевича Котлыкова
и
инженера-строителя
Михаила Петровича Бондаренко. Решено
в
существующем
комплексе
оставить
только промышленное стадо, остальные
цеха разместятся за пределами фабрики.
Таково будущее этого предприятия.
Улан-Удэнская птицефабрика пи мощности равна Сотниковской. И проблемы,
которые решают эти предприятия, но многом схожи: улучшение породности птицы, механизация и автоматизация, замена прежних автоматов и полуавтоматов
надежными и простыми в о б с л у ж и в а н и и
конструкциями.
В третьем, решающем году пятилетки
коллектив фабрики радует, как и п р е ж д е ,
отличными показателями и тру, (е. Не.ц,
государственный план 1972 года по продаже яйца был выполнен 15 н о я б р я ! За
год фабрика получила 30 675 тысяч штук
яиц — это намного превысило план.
Восьмой год предприятие возглавляет
Семен Иосифович Шарифов.
Гордостью
коллектива стали птичницы Анна Александровна Аргутовская, Татьяна Родионовна Чу.ткова, Вера Васильевна Бутакова, Евгения Федоровна Грудинина. Так, Аргутовскля за пять месяцев от десяти тысяч кур-несушек получила
почти
два
миллиона яиц, в среднем на несушку
136 штук.
Где творческая атмосфера, там нет равнодушия, там каждый со всей ответственностью занимается на своем участке
работы. Был у меня как-то разговор с
главным зоотехником фабрики Александром Семеновичем Думновым.
84
— Сейчас
у нас период реконструкции,— рассказывал Александр Семенович.
— Решили
поставить в цехах одноярусные клетки конструкции кемеровских инженеров. Что нас привлекает в них? Вопервых, простота обслуживания, во-вторых, создание лучших жизненных и климатических условий для птицы. Думаем
мы и над увеличением вместимости цехов. Взять, к примеру, второй промышленный. Здесь установлены трехъярусные клетки УКВ, в которых «проживает»
30000 кур-несушек.
Обслуживают цех
четыре птичницы, из них одна подменная, а в других цехах на каждые пять
работниц приходится 22000 кур. Что и
говорить, разница весьма заметная!
Естественно, что создание предприятий подобных этим птицефабрикам, требует значительных капитальных
вложений. Требует
и 'последующего
совершенствования технологических процессов.
Но затраты быстро оправдываются и начинают приносить все возрастающую прибыль. Так, в целом по тресту в 1969 году
мы перевели на клеточное содержание 65
тысяч кур-несушек, в 1970 — 123 тысячи, и в результате на той же площади
разместили кур-несушек на 109 тысяч
больше, чем имели раньше. Эта работа
продолжается, ибо клетки создают нормальный микроклимат, улучшают вентиляцию помещений, облегчают механизацию уборки помета, раздачу кормов и
автопоение.
Г? механизации производства нам большую помощь оказали и оказывают промышленные
предприятия
республики.
Скажем, кормораздатчики и скреперные
установки для уборки помещений нам изготовил коллектив завода «Электромашипа>. Приборостроительный завод регулярц|) пистанляет капельные автопоилки, во
много раз сокращающие расход воды. Это
же предприятие изготовило прибор для
создания м и к р о к л и м а т а - А Улан-Удэнский
авиазавод выпускает специально для нас
клеточные батареи.
Конечно, наш трест организован не на
голом месте. Но главное, что мы получили
в наследство,— люди,
заинтересованные
своим делом, толковые, обладающие большим опытом. Это, думается, одна из основных причин того, что наш многотысячный коллектив из го^а в год превышает плановые показатели. Так, за первые шесть месяцев 1973 года по тресту
получено 42,6 млн. яиц, что на 15 процентов выше прошлогодних показателей.
Но вернемся к разговору о лучших хозяйствах «Птицепрома».
Кто бывал в Кабанскс, конечно, обратил внимание на монументальную бетонную стелу с рядком алых стягов, расположенную на центральной площади. Воздвигнута эта стела в честь славных трудовых дел кабанцев и год ленинского
юбилея. На ней отчеканены названия
лучших предприятии и
сельскохозяйственных коллективов района, имена маяков труда. Стяги на флагштоках поднимаются в честь передовиков каждые три
месяца,. Традиция хорошая! Кабанский
район издавна
ела пен
замечательными
тружениками. Неудивительно, что именно
в этом районе, в пшхозе «Кабанский»,
расположено одно п.< передовых птицеводческих хозяйств треста.
Казалось, сама природа отвела здешние
места для разведения птицы — обилие в
живописной селеигиш'Кин дельте естественных водоемом с, богатым растительным
миром. Каждый ( и д с наступлением тепла
низинные пастбища залипает весеннее половодье. Сейчас п р и х о д и т с я только удивляться настойчивости, с. какой прежние
деятели селыкмш хозяйства насаждали
здесь овцеводгпю. Правильно поступили
руководители ммлнстна, что упразднили
наконец невып1,т>т идссь отрасль животноводства. А пот специализация на
производстве \ т и ш и о мяса резко увеличила доходы соихоза. Обратимся к фактам.
Четырнадцать лет назад, когда на базе
мелких многоотраслевых хозяйств возник
совхоз « К а б а п с к и м >, животноводство к
птицеводство
были представлены в нем
всеми видами скота и птицы. Малопродуктивные фермы дали совхозу в тот
год убыток в с у м м е 233 тысячи рублей.
А в 1972 году только за счет специализированного у т и н о ю хозяйства получена
прибыль в 1750 тысяч рублей.
Развительные перемены!
За год получено
19900 центнером утиного мяса. Годовой
план продал;н яиц выполнен на 138 процентов.
Если оглянуться назад, то этапы роста
и совершенствования хозяйства будут выглядеть так: в 1966 году средний сдаточный вес утки возрастом в пятьдесят
восемь дней составлял 1730 граммов, а
в 1970 году —2313 граммов. До 1964
года, когда вопрос специализации не был
решен, маточное стадо состояло из помеси местных сибирских уток с серыми украинскими и пекинскими. За шестимесячный цикл они давали не более 70 — 75
яиц. В 1972 году породные утки за тот
же самый период кладки снесли свыше
130 яиц.
Сейчас работать по старинке, рассчитывая только на свой опыт и практику,
нельзя. Птицеводство развивается поистине стремительно. Побывали,
например,
птицеводы совхоза «Кабанский» в совхозе
«Яготинском» Киевской области, в Казахстане и Свердловской области. Птицеводы Казахстана и Оренбургской области
разводят высокопродуктивную английскую
породу уток «черри-велли». Кабанцы думают испытать ее в своем хозяйстве. Сами они также охотно делятся опытом,
снабжают хозяйства племенным лицом.
В совхозе побывали гости из Горького,
Красноярска, Читы, Иркутска, Благи!-;щенска.
С 1964 года кабанцы работают с ут•ками немецкой популяции пекинской породы (фирма Белыца в ФРГ). Лучшие
птичницы хозяйства: Мария Никаноровна Власова, Нина Константиновна Шайдурова, Фаина Георгиевна Кузнецова из
2-го отделения в селе Шигаеве — в
прошлом году довели сдаточный вес уток
до 2,28 кг и, главное, при сохранности
поголовья свыше 94 процентов.
Золотые руки у этих женщин! Власова,
Кузнецова и Шайдурова много лет отдали птицеводству, добросовестно и творчески относятся к делу.
Двенадцать
лет
совхоз возглавляет
Алексей Иванович Хмелев, кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции,
депутат
Верховного Совета
БурАССР.
Его инициативность, опыт и знание сельскохозяйственного производства общеизвестны. Он рассматривает достигнутые
успехи только как подступы к новым высотам в развитии промышленного птицеводства, зримо представляя ближайшее
будущее в строгой логике планов и чертежей.
— Совхоз
многократно награждался
переходящими знаменами ВЦСПС, РСФСР
и Совета Министров БурАССР, семь последних лет активно участвует в работе
ВДНХ,— рассказывает Алексей Иванович.
— Многие из наших
передовиков награждены медалями выставки всех достоинств. Знакомство с опытом передовых
85
хозяйств страны и анализ собственных
достижений и недостатков
заставляют
коллектив быть в постоянном поиске, совершенствовать технологию производства, применять механизацию и автоматизацию. В текущем году мы будем строить
два комплекса под ремонтный молодняк
маточного стада на 10000 голов, типовое помещение для выращивания и откорма утят на 60000 голов, думаем расширить и модернизировать инкубаторную
станцию. В ближайшем будущем предполагаем перевести на клеточное содержание молодняк, что повысит сохранность
его и увеличит средний живой вес...
Сейчас в селе Шигаево (второе отделение) завершено строительство комплекса для одновременного выращивания 100
тысяч уток. А если говорить о научном
эксперименте совхоза, то его результаты,
нак говорится, видны и
каждому.
До 1969 года комплектование маточного поголовья производилось один раз
в год из уток июльского выводка. Однако,
как показала практика, утят пекинский
«сухопутной» породы можно выращивать
и в ранние весенние, и поздние осенние
месяцы, продлив период выращивания с
шести до десяти месяцев. Таким образом,
двухкратное комплектование маточного поголовья уток дало возможность совхозу
за короткий ерик увеличить производство
утиного мяса на 34 процента!
К концу текущей пятилетки совхоз
запланировал ежегодно выращивать на
мясо 1200—1300 т ы с я ч ут>ж и продавать государству 26 — 27 тысяч центнеров утиного мяса.
Поучителен и опыт колхоза «ИабаПкалец» Мухоршибирского района.
Здесь было свыше 30 тысяч овец, много крупного рогатого скота и около 110
тысяч гусят на выращивании, когда в
июле 1971 года колхоз, преобразованный
в совхоз, вошел в состав треста и взял
курс на специализацию птицеводства, наметив уже на следующий год поставить
на выращивание 200 тысяч гусят. Что
это дало, казалось бы, явно овцеводческому хозяйству? Начав разведение водоплавающей птицы, за короткое время
колхоз превратился в одно из крупнейших гусеводческих хозяйств страны. О
птицеферме «Забайкальца» писали журналы «Птицеводство» и «Сельское хозяйство Восточной Сибири». В книге профессора П. Е. Божко «Производство яиц
86
и мяса птицы в специализированных хозяйствах» колхозу
«Забайкалец» посвящен специальный раздел.
Невольно вспомнишь нашу первую поездку на Кубань! Робкими учениками были, а сейчас имена птичниц «Забайкальца»
хорошо
известны
в
стране.
Времена переменились. Результаты их
работы удивляют уже наших гостей.
Высокая доходность — одна из важнейших сторон перехода на интенсификацию
птицеводства. Но есть и другая, не менее
важная сторона. Обратимся опять к примеру совхоза
«Кабанский». Благодаря
производству уток, совхоз улучшил структуру стада крупного рогатого скота. Птицеводство дало возможность попридержать
на время забой скота и добиться сдачи
его на мясо уже средней и выше средней упитанности, добиться производства
большого количества молока, причем, если в 1967 году совхоз получил от одной
коровы по 2207 килограммов молока, то
в 1970 году было надоено уже по 2425
килограммов. Рост доли гусиного мяса
позволит и «Забайкальцу» не торопиться
со сдачей баранины, а это лишние центнеры драгоценной шерсти.
Кстати, поговорим и о затратах. В
1970 году в совхозе «Кабанском» себестоимость одного центнера привеса говядины составила 119 рублей 31 копейку,
а себестоимость одного центнера уток —
68 рублей 90 копеек. Чуть ли не вдвое
меньше! Причем на один центнер привеса крупного рогатого скота было израсходовано 10,38 центнера кормовых единиц,
а на один центнер привеса уток — 4,53.
Ясно, что для Бурятии с ее постоянной
нехваткой кормов разводить птицу весьма выгодно.
Улучшение породности птицы, условий
ео содержания и кормления, механизация
трудоемких процессов, снижение себестоимости производства продукции значительно улучшили экономические показатели работы хозяйств треста и дали возможность в 1970 году получить прибыль
в размере 4 миллионов рублей.
В новой пятилетке перед птицеводами
поставлены еще большие задачи. К концу 1975 года хозяйства треста валовой
сбор яиц должны довести до 61 миллиона, дать 35000 центнеров птичьего мяса, а всего за пятилетие произвести 256
миллионов килограммов мяса. Задачи
очень ответственные, и для их решения
•требуются
максимальные усилия
всего
коллектива треста.
Намечена
реконструкция
существующих птицефабрик, строительство и расширение инкубаторных цехов и станций.
Значительно расширятся границы птицеводческой Бурятии. Гусеводство развивается в Бичуре, в Джиде, а в будущем
намечено в Еравне, Ту икс, в ряде других районов республики.
Но на этом пути, к сожалению, стоят
препятствия по сущестну тс же, что стояли перед первыми энтузиастами птицеводства. Не всегда справляется с забоем
птицы мясокомбинат. Для хозяйства каж-дый лишний д е н ь содержания готовой
к сдаче птицы — т ы с я ч и рублей убытка. Кроме того, птица понижает свою товарность. Мы н а д е е м с я , что ввод нового
убойного цеха мясокомбината на 50000
голов птицы и сутки разрешит эту проблему.
Другая проблема — комбикорма. К сожалению, наш мелькомбинат не дает широкого ассортимента. Лабораториям птицефабрик и совхозов приходится к получаемому комбикорму разрабатывать добавки, чтобы каждой породе птицы того
или иного возраста выдавать полноценное
питание. Увеличение
поголовья
птицы
сдерживает и малое число инкубаторов.
Их явно недостаточно, чтобы удовлетворить потребность колхозов и совхозов.
Как известно, девятая пятилетка поставила перед сельским хозяйством огромные задачи, немалую роль в их выполнении может и должно сыграть птицеводство.
И.
ИГНАТЬЕВ,
директор треста «Птицепром»
Бурятской АССР.
Михаил М А Л И К О В
Байкал:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ
Дальнейшее ускоренное освоение природных ресурсов и наращивание экономического потенциала восточных районов
страны Директивами XXIV съезда КПСС
по пятилетнему плану развития народного
хозяйства страны на 1971—1975 годы
определено как важнейшая задача в области размещения производительных сил
и улучшения территориальных пропорций в народном хозяйстве. Определенную
роль в решении этой задачи будет играть
использование природных богатств Прибайкалья и бассейна озера Байкал — одного из величайших озер земного шара.
Байкал богат. Он обладает крупными запасами ценных пород рыб, широко представлен в нем животный мир. Из 1200 видов животных и 600 видов растений — их
большая часть нигде, кроме Байкала, не
не встречается. В прибайкальской тайге
обилие зверя и птицы: лось, изюбр, косуля, каабрга, медведь, белка, колонок, горностай, лисица, рысь, глухарь, тетерев,
рябчик. Мировой славой пользуется знаменитый баргузинский соболь.
Благодаря необычайной глубине количество воды в Байкале колоссально —
23000 км3. В байкальскую
котловину
можно влить все Балтийское море, 92
таких моря, как Азовское, или 23 —
как Аральское. Такой гигантский резервуар обеспечивает постоянный водный
режим на Ангаре, гарантирует равномерность выработки электроэнергии на
протяжении всего года.
На базе огромной энергии Ангары к
Байкала сформированы крупнейшие в Советском Союзе энергопромышленные комплексы — Иркутско-Черемховский, Братско-Тайшетский и другие. В этих районах созданы благоприятные условия для
развития энергоемких и теплоемких производств: алюминия, титана, синтетического каучука и других отраслей промышленности.
Громадное значение для настоящего и
будущего Байкала имеют многочисленные
его притоки, особенно Селенга, Баргузин,
Верхняя Ангара, Чикой, Хилок, Уда и т. д.
В связи с этим особо важное значение
приобретает охрана бассейна Байкала.
Прошло два-три года со времени бурной
полемики вокруг Байкала. Речь шла об
использовании его богатств, о том, что
в планировании и использовании их господствует ведомственный подход. Много
возражений появилось в печати в связи
со строительством на Байкале целлюлозно-бумажных комбинатов. Утверждалось,
что предприятия химии неотвратимо загрязняют естественные водоемы. В качестве аргумента говорилось, что в США
именно это стало национальным бедствием.
Сторонники строительства комбинатов
на Байкале говорили в свою очередь:
чистая байкальская вода является уникальной для получения высококачественной целлюлозы из древесины; организация здесь целлюлозного производства решает проблему полного освоения лесных
ресурсов Прибайкалья; поэтому в минув-
шей семилетке был построен мощный
Байкальский целлюлозный комбинат в
Солзане (между станциями Выдрино и
Слюдянка), а в 1973 году вступила в
действие первая очередь Селенгинского
картонного комбината (в районе гт. Селенги).
Вопрос о строительстве па Байкале
целлюлозно-бумажных комбинатов широко
обсуждался в печати, поэтому мы ограничимся лишь упоминанием о том, что очистные сооружения Байкальского комбината в определенной степени отмечают требованию его охраны.
В постановлении Сонета Министров
РСФСР «Об охране и использовании природных богатств в бассейне озера Байкал»
специальным пунктом указан»: «Запретить приемку и ввод в эксплуатацию Селенгинского целлюлозно-бумажного и Байкальского целлюлозно-картшпнн» комбинатов без выполнения мероприятий, обеспечивающих очистку и обезвреживание
сбрасываемых в реку ( ' « ' . м ч и у и озеро
Байкал сточных и»д. 1 1 > с к указанных
предприятий произнести тн.м.ко с разрешения Государственной санитарной инспекции». Дополнением к этому явилось
постановление Сшита Министр»!* Союза
ССР от 21 яннар!! ]!•(>'.( гида. 15 нем есть
такие пункты: не д о п у с к а т ь отвода на
территории бассейна (игра Байкал земельных участки» п».I строительство
предприятий и д р у ш х »Ги,петом, если это
может привести к н а р у ш е н и ю установленного режима о х р а н ы и использования
природных ресурсов > казацкого бассейна;
запретить дальнейшее расширение действующих и строящихся на территории бассейна озера Байкал и о д о г м к и ч предприятий при невозможности пргтотг.ращения
загрязнения сточными нод.чми и атмосферными выбросами под озера Байкал
и природной среды ею бассейна. Этим
постановлением предусмотрен» создание
водоохранной зоны в»кр\ г Байкала, меры
по обеспечению правильной эксплуатации лесов на территории бассейна, установлены задания п» расчистке рек от затонувшей древесины, охране и восстановлению рыбных запасом м озере и впадающих в него реках. Определены сроки
завершения строительства очистных сооружений на Байкальском комбинате и
других предприятиях района.
В 1971 году Центральный Комитет
КПСС и Совет Министров СССР на основе
результатов работы специально образованной комиссии, в которую вошли крупнейшие ученые и специалисты, а также руководители и ответственные работники ряда министерств и ведомств, партийных и хозяйственных
организаций,
вновь рассмотрели проблемы охраны Байкала. Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 16 июня 1971 года
предусмотрены дополнительные меры по
обеспечению рационального использования
и сохранения природных богатств бассейна озера Байкал.
Молевый сплав на протяжении многих
лет был единственным способом транспортировки древесины к местам перевалки и приводил к засорению русел рек
и загрязнению Байкала. В последние годы молевый сплав по рекам, впадающим
в озеро, резко сократился, а с 1973 года он прекращен окончательно.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР соответствующим министерствам и ведомствам предложено в течение
1971 —1973 годов полностью завершить
строительство очистных сооружений на
всех
предприятиях,
расположенных в
Улан-Удэ и прилегающих районах, и не
допускать сброса неочищенных стоков в
реку Селенгу и ее притоки.
Чтобы предупредить в будущем какиелибо нарушения в очистке производственных и бытовых стоков, ЦК КПСС
и Совет Министров СССР поручили Комитету народного контроля СССР организовать специальные посты для систематического контроля за сохранением природных комплексов бассейна озера Байкал,
имея в виду, что доклады по атому вопросу должны регулярно представляться
правительству.
Принятыми решениями практически
охватывается
весь комплекс вопросов,
связанных с сохранением природных богатств бассейна озера. Однако отдельные
министерства и ведомства, руководители
некоторых предприятий и организаций
неудовлетворительно выполняют их. Например, начальник управления «Байкалрыбвод» М. В. Багинов в статье, опубликованной в «Правде Бурятии», приводит
размеры ущерба, наносимого загрязнением рыбохозяйственных водоемов.
«В прошлом году, чтобы выявить последствия загрязнения рек Уды и Селенги промышленными стоками предприятий
89
г. Улан-Удэ,— пишет он,— мы пригласили работников Лимнологического института Сибирского отделения АН СССР. Ими
были выявлены факты массовой гибели
икры омуля на селенгинских нерестилищах. На основании сделанных ученымиихтиологами заключений и расчетов управление «Байкалрыбвод» предъявило иск
предприятиям за ущерб, нанесенный рыбному хозяйству:
гибель 888 млн. икринок. Всего же за девять месяцев этого
года к административной ответственности
за нарушение рыбохозяйственного законодательства привлечены 213 должностных
лиц, предъявлены штрафные санкции на
сумму 5665 рублей».
По заявлению руководителей «Байкалрыбвода» на самом деле икры омуля на
селенгинских нерестилищах погибло значительно больше, но даже если взять за
основу 888 млн. икринок и сделать арифметический подсчет (деловой выход 3 процента, каждый омуль 0,5 кг), получается,
что уничтожено свыше 133 тысяч центнеров омуля. А сколько погибает омуля
ж других пород рыбы в других нерестовых реках и речках?
То, что загрязнение водоемов неочищенными бытовыми стоками и промышленными отходами наносит огромнейший
ущерб рыбным ресурсам,— общеизвестно.
Об этом мы говорим и пишем, но дело
все еще обстоит неудовлетворительно. В
чем л:е причины? Отдельные руководители объясняют это недостаточным выделением средств на строительство очистных
сооружений. С таким утверждением нельзя согласиться. На строительство новых
и реконструкцию действующих о ч и с т н ы х
сооружений выделяются огромные с у м мы, особенно в последние годы, но беда
в том, что строительство очистных сооружений ведется крайне медленно, средства не осваиваются. Покажем это на примерах.
В ноябре 1971 года в Улан-Удэ проходил пленум Бурятского обкома КПСС,
который рассмотрел вопросы рационального использования и охраны природного
комплекса Байкала. В докладе отмечалось,
что из 21 строящегося водоохранного объекта план строительных работ за 9 месяцев года выполнен только по пяти объектам. По значительной части объектов освоение средств не превышает половины
годовых ассигнований.
В 1972 году положение мало измени-
90
лось. Председатель Совета Министров Бурятской АССР Н. Б. Пивоваров писал, что
вызывает тревогу серьезное отставание
строительства
очистных сооружений на
Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, о чем совершенно справедливо
говорилось на сессии Верховного Совета
СССР. Крайне медленно ведутся такие работы на Джидинском вольфрамо-молибденовом комбинате, Улан-Удэнской ТЭЦ. До
сих пор не введены в эксплуатацию очистные сооружения на судостроительном
и
локомотиво-вагоноремонтном заводах,
хотя установленные сроки ввода прошли.
По нашему мнению, основной причиной
нарушений является неизжитый еще узковедомственный подход предприятий к
делу охраны природы, неоправданно слабая ответственность за эти нарушения,
а подчас и отсутствие контроля со стороны органов надзора.
«По причине загрязнения водоемов,—
писал в газете «Правда Бурятии» А. Хамаганов,— гибнут сотни тонн рыбы и ее
молоди. Виноваты в этом люди, занимающие ответственные посты, но живущие
только сегодняшним
днем и думающие
только о выполнении сегодняшнего производственного плана. Главный инженер
Улан-Удэнской фабрики первичной обработки шерсти том. Фролова и начальник
очистных с о о р у ж е н и й тов. Баторова не занимались строительством очистных сооружении. Постановлением госинспектора
отдела санитарной
охраны
управления
«Байкалрыбвод» Фролова и Баторова были о ш т р а ф о в а н ы .
Но они не захотели
признать сито пину и обжаловали постан о в л е н и е пи-инспектора. Удивляет позиции народного суда Октябрьского района
города У.чан-Уди. Суд под председательстном народною судьи тов. Егоровой счел
ш и м о ж п и м оправдать Фролову и Баторову. Л и ш ь когда президиум
Верховного
суда Г)>Р'-1тской АССР отменил это решение, после вторичного рассмотрения дела
в народном суде виновные были наказаны в административном порядке».
Несмотря на тщательно разработанные
меры по охране природы, нарушения продолжаются, нанося невосполнимый, можно
сказать, ущерб.
Вернемся к факту гибели 888 млн. икринок на селенгинских нерестилищах, за
что «Байкалрыбвод» предъявил штрафные
санкции в сумме 5665 рублей 213 должностным лицам. В среднем каждое дол-
жностное лицо уплатило по 26 рублен,
з. ущерб рыбным ресурсам, как говорилось
выше, составил 133 тысячи центнеров
омуля. Представим, что такое количество
рыбы выловили браконьеры. Они подпали
бы под 2 часть 163 статьи Уголовного
Кодекса РСФСР, которая гласит до четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества или ос,! таковой.
Рассматриваемые нами факты дают повод для вывода, что лица, ответственные
за строительство, ввод и эксплуатацию и
использование очистных сооружений, должны в полной мере нести отвстственнось за нарушение технологического режима, за неосвоение
ассигнований на
строительство очистных сооружений если
•следствием этого явилось
загрязнение
рыбохозяйственных водоемов. Это обстоятельство должно, на наш взгляд, найти
отражение в законодательстве.
Друюй, не менее важный, вопрос.
Органы охраны «Иайкалрыбвода» ежегодно обнаруживают десятки случаев, когда рыбодобывающт- оришизации умышленно, ради плана, н а р у ш а ю т правила рыболовства. Например, рыбаки Гуеиноозерского участка Казанского рыбозавода в
январе 1972 гида полмесяца рыбачили на
Щучьем озере, не и м е я на то права, и выловили 19,5 центнеров рыбы.
Согласно постановлению «Байкалрыбвода», незаконно выловленная рыба была
конфискована и, п о м и м о того, с предприятия взыскан^
стоимость
причиненного
государству \ щ г р б а . Однако руководители
Бурятского рыбтреста пытались заступиться за провинившихся. Вместо того, чтобы наказать нарушителей, они потребовали отмены постановления управления
«Байкалрыбвода». Разумеется, необоснованный протест был отклонен,
однако
странная позиция руководителей рыбтреста, в частности, главного инженера тов.
Багульника и начальника отдела добычи
тов. Артюшша, вызывают удивление.
Известны и более грубые факты, когда рыболовецкие колхозы и государственные рыбозаводы в целях выполнения плана покушаются на нерестовую рыбу, используют недозволенные приемы вылова
рыбы. Так, в Северо-Байкальскоч районе
из года в год во вторую половину лета,
когда начинается убыль воды и рыба из
озер выходит через протоки в реки, рыбаки перегораживают протоки и буквально вычерпывают
рыбу, включая и мо-
лодь. Такие же явления наблюдаются в
водоемах долины реки Баргузин.
Чтобы полнее представить, какой огромный ущерб рыбным ресурсам наносит подобная бесхозяйственность, сошлемся на некоторые статистические данные. Так, в 1954 году на Байкале было
добыто омуля 66,1 тысячи центнеров, в
1956
году — 48,7 тысячи центнеров, а
в 1965 году — лишь 20,5 тысячи центнеров. В 1968 году правительство Российской Федерации вынуждено было запретить вылов омуля в Байкале вообще,
чтобы окончательно не
подорвать его
воспроизводство. Эта мера, естественно,
сыграла свою большую роль, запасы омуля, по заключению ученых и рыбоводов,
восстанавливаются. Но вопросы охраны
его, как и чистоты байкальских вод, ни
в коей мере не снимаются. По нашему
мнению, требуется повысить ответственность должностных лиц,
причинивших
ущерб Байкалу, высшая мера которой пока
еще
определяется незначительным
штрафом. Следует установить неукоснительно: грубое
нарушение правил рыболовства — преступление, и его следует
квалифицировать именно так.
Не менее ощутимый вред рыбным запасам Байкала наносит браконьерство.
Река Ангара и ее притоки
когда-то
славились большим количеством и разнообразием рыбы. Таймень, ленок, хариус,
сиг, елец и другие рыбы в изобилии водились в этих водоемах. Но сейчас в Ангаре трудно поймать крупную рыбу, несмотря на то, что рыболовное оснащение
стало значительно л\чше. Немалую роль
здесь сыграли браконьеры. Они ловят икряную рыбу, не дают ей возможности
размножаться. Весной притоки Ангары
перегораживаются заездками и фитилями,
и рыба, идущая на нерест, полностью попадает в мешки и кадушки. На самой Ангаре многие рыбаки на искусственную
мущку вылавливают исключительно молодь хариуса, весом 20 — 30 граммов.
Иногда улов за день доходит до^ 100
штук.
Не остаются без браконьерского «присмотра» озера и пруды. Недалеко от Ир91
лутска есть значительное по своим раз- ловную ответственность за нарушение
мерам озеро Ордынское, куда был выпу- правил рыболовства, не проводит резкой
щен для акклиматизации карп и амурский грани между проступком и преступлением.
сазан. Однако на пути их размножения Работники органов рыбоохраны сами решают вопрос — привлечь ли правонарувстают невода и сети.
к административному штрафу
Весной из Байкала в многочисленные шителя
горные речки заходит на нерест ленок, или передать материал в следственные
таймень и особенно хариус. В это время органы для возбуждения уголовного дела.
сюда устремляются браконьеры, которые
По данным управления «Байкалрыбвод>
в приустьевых пространствах ставят се- имеется много фактов, когда органы проти, заездки, ловят рыбу удочками с ис- куратуры прекращают уголовные дела,
кусственными приманками. Особенно много возбужденные против нарушителей, перебраконьеров сосредотачивается у речек дают на административное рассмотрение,
вдоль побережья Байкала — от ст. Слюдян- но и эта мера ответственности зачастую
ки до ст. Бабушкин. По железной до- не применяется, потому что истек месячроге едут из Улан-Удэ, Иркутска и мно- ный срок со дня совершения преступна,
гих других населенных пунктов. В день в течение которого можно наложить
на искусственную мушку вылавливают по штраф.
10—15 кг икряного хариуса и ленка.
В результате браконьеры не привлекаНо самым жестоким и массовым явля- ются к уголовной ответственности и не
ется браконьерство осенью, во время не- подпадают под административное наказареста омуля. На реку Селенгу и другие ние. В 1972 году по причине истечения
водоемы, где имеются омулевые нерести- месячного срока со дня совершения прои прекращения следственными
лища, съезжаются любители легкой на- ступка
живы со всего Прибайкалья. Браконьеры органами уголовных дел 49 злостных
используют все средства: тол, острогу, браконьеров остались безнаказанными.
якоря, сеть, фитиль. Иногда за одну ночь
Мы считаем, чти лиц, нанесших даже
браконьер вылавливает до 1000 омулей. малый ущерб Байкалу, тем более в коНеудовлетворительная организация ох- рыстных целях, ни при каких обстояраны рыбных богатств, еще имеющие ме- тельствах пс следует освобождать от отсто недостатки в деятельности государст- ветственности.
венных органов рыбоохраны, милиции,
Вполне понятно, какими бы совершенпрокуратуры и судов по борьбе с браными не Гп.мн законодательные акты, каконьерством не способствуют сокращению
кую бы сферу правоотношений не регуправонарушений. Многие правонарушения
лировали
«щи
дело улучшится только
остаются неизвестными органам рыбоохратогда, попа на страже этих законоданы, не всегда регистрируются, и при оптельных актин будут стоять не только орределении меры ответстн(!!1Ш)сти почт
ганы шгударп'иенного управления, но и
всегда находятся смягчающие вину обстоятельства. Если в 1962 году было сопср- нся общественность,
Иг гледкт забывать, что природные
шено 1641 нарушение, то в 1972 году
Гин'.тгстг.л
пашей Годины — всенародное
5845. Изъято сетей: в 1962 году 25 тысяч
достояние, поэтому рациональное испольметров, в 1972 году в четыре раза больше. зование ;>тн\ Гтгатств и охрана природы
Действующее законодательство, пре- является нижний государственной задачей
дусматривающее административную и уго- и делом неси) парода.
сГ
Елена Т Р У Б А Ч Е Е В А
Серебряный подстаканник
Русский язык я осваивала только на уроках в гимназии по четыре-пять часом и дот,. А дома мы говорили на бурятском: мама не
знала русского.
В общем, к третьему классу я научилась довольно бойко разговаривать и даже п и с а л а школьные изложения на «четверку». В четвертом
легко читала П у ш к и н а , Лермонтова, Гоголя, Тургенева. И когда к нам
домой зашел добрый друг семьи Андрей Тимофеевич Трубачеев, Андрюша-бади, как мы его называли, то, узнав о моих успехах, скупо подвалил: «Молодец». Тотчас же позвал маму из кухни:^ «Эй, Анка. иди
сюда», хотя должен бы назвать ее «Анна-эхэ» или «Кешина мама» —
она ведь была женой его родного дяди! Но Андрюша-бади все эти величания н а с м е ш л и в о называл устаревшим бурятским этикетом. Вот
такой был пат двоюродный братец Андрей Тимофеевич.
Мама пошла, Андрюша-бади тут же приказал:
— Лелю посылай в театр по субботам каждый раз.
Мама взмолилась:
— Да что же это такое, Андрей? Кеша, сын, ходит, каждый раз
даю ему сорок копеек. В месяц выходит рубль шестьдесят копеек?! Да
ведь это же разорение! Она же девчонка. Зачем ей этот театр? Ох, ни
к чему эта затея...
Андрей укоризненно покачал головой.
— В т е а т р е учат добру, учат жить честно, по совести... Так что
же ты хочешь, чтобы твоя дочь не знала, где добро, где зло?
Тут мама не могла спорить — она была поборницей правды, посвоему боролась за нее. Она сразу согласилась: «Ну-ну, пусть ходит».
Честно говоря, мне не очень хотелось каждую неделю ходить в
театр. Была я т а м , смотрела «Ганнелэ», пьесу Гауптмана. Это еще в
первом классе было... Ничего тогда я не поняла. Во втором классе мы
ходили слушать оперу «Евгений Онегин». Вначале я терпеливо ждала, когда, наконец, на сцене заговорят по-человечески, а там все звучала музыка и псе пели и пели. Так и не дождавшись, все мы, Лиза
Тугутова, ее отец, Ефим Иннокентьевич Тугутов, и я, крепко заснули
ла последней скамеечке галерки, гардеробщик едва нас растолкал. Мы
шли домой сердитые; прощаясь, с Лизой дали друг другу слово никогда больше не ходить в театр и даже расцеловались, чего никогда
раньше не делали: мы не любили друг друга.
А теперь по п р и к а з у двоюродного брата я по субботам должна
страдать! Но не будешь же с ним пререкаться: это было бы смешно
и нелепо — ведь он был в ту пору единственный врач-бурят. Все наши
93
^соплеменники почтительно звали его Андрюша-аха (брат Андрей). И
)вот теперь он сказал моему брату Кеше: «Там что-то на субботу затевает моя Мария, так ты не опоздай заказать билеты на себя и на сестру». Имя «Мария» меня чуть примирило: веселая, энергичная Мария
Петровна всегда вносила что-то интересное, радостное в нашу жизнь,
в наши скучные дни...
Ну вот в субботу пришли мы с братом в театр. И не куда-нибудь
на галерку, а на самые лучшие места — в ложи бенуара. Ой! Буряты
из семинарии занимают целых четыре ложи! Что такое, почему в аристократических ложах вдруг семинаристы? Неужто вдруг разбогатели?
Нет, все оказалось проще: в те времена иркутяне не часто баловали
театр своим посещением, поэтому дорогие ложи и партер всегда пустовали. А каково актерам играть при пустом зале? Дирекция театра нашла выход: продавались «ученически" билеты», дешевые, по которым
Можно было занять любое свободное место в театре, кроме партера.
Семинаристы покупали билеты на галерку, раздевались там, а потом
незаметно ручейками стекались в ложи к нам, гимназистам и гимназисткам. У меня сразу поднялось настроение — для меня к а ж д а я
встреча с земляками превращалась в праздник. А тут еще приветливая Мария Петровна. Я всегда с ч и т а л а ее красавицей и умницей. И
все-таки зачем мне этот спектакль? Но вот открылся занавес, и я сразу попала в мир чарующей фантазии: тут беспокойный Леший, из колодца вылезал сморщенный Водяной, а прекрасная лесная фея расчесывала золотым гребнем свои кудри.
Перед нами развертывался «Потонувший колокол» Гауптмана.
Через несколько минут всех нас з а х в а т и л и глубокие мысли о том, что
в душе каждого человека таится колокол совести, колокол чести, от
удара которого человек, только что поскользнувшийся, потерявший
дорогу, выпрямляется и становится вшжь поборником прекрасного и
доброго на земле.
Приближался конец... Потрясенная, я задыхалась от восторга. От
Марии Петровны не ускользнуло мое волнение. Она тихонько спросила:
«Что, Леля, понравилось?» И я, п р и л ь н у и к ней, отвечаю: «Очень...
очень. Передайте мое спасибо ^ндрюше-бади». Только теперь я оденила его заботу обо мне, его теплую любовь к нашей семье.
С тех пор я жила от субботы к субботе: скорей бы проходили дни,
скорей в театр! II не одна я. Когд.1 псрпп.м н инчтой класс, то оказалось, что у всех нас были свои л ю б и м ц ы среди .чктеров. Это была Нина
Николаевна Петрова, Д м и т р и й Михайлович Карамазов. Особенно самозабвенно мы любили Карамазова. Он был талантлив. Алексей Дмитриевич Попов, артист и режиссер, писал о нем и своей книге «Воспом и н а н и я и размышления о театре», что в м а л ь ч и ш е с к и е годы для негодолго был кумиром Правдин А. Н., известный на Волге актер. Но
пришли другие времена, и «вскоре мой к у м и р уступил место другому, более тонкому актеру с большим и ф и л и г р а н н ы м мастерством. В
Саратов приехал Дмитрий Михайлович Карамазов, актер более современной школы, глубоко психологического рисунка и более простого
тона (по сравнению с приподнято-декламационной манерой Правдина
и его учителя Иванова-Козельского)».
Мы с нетерпением ожидали дни бенефисов, настоящих актерских
именин. Тогда они с большим подъемом играли свои самые удачные,
любимые роли. Поклонники таланта преподносили своему любимцу
подарки: букеты цветов, адреса с серебряными или золоченными мон о г р а м м а м и , или еще более ценные вещи.
Настал бенефис Карамазова. Мы все, «черноголовые»
(так мы
себя называли в отличие от «желтоголовых»—русских), заняли свои
места... «Интересно, что сегодня преподнесут Карамазову?» Наступил
94
первый антракт, мы не спускали глаз с капельдинера; обычно он, дядя
Степан, пожилой, чуть седеющий, мрачноватый, но добрый, выносил
бархатную подушечку, на которой красовались подарки. Он важно
проплывал через весь партер и застывал у барьера. В ту же минуту
из оркестровой ямы протягивались руки и передавали бенефицианту
дар, который, казалось, вобрал в себя весь свет рампы и потому представлялся особенно н а р я д н ы м и дорогим. На этот раз дядя Степан
стоял неподвижно, к и д а я вопросительные взгляды на публику, как бы
ожидая, что его вот-вот вызовут в коридор. Но никто не позвал дядю
Степу...
Ждем второго а н т р а к т а . Дмитрий Михайлович в этот вечер играл
с особенным вдохновением, искренне, горячо. Нам казалось, что весь
мир стал в этот вечер прекраснее, благороднее.
Наступил второй антракт... Опять минуты томительного ожидания,
дядя Степан замер у входа. Слышится шепот: «Вот, небось, красивым
а к т р и с а м уже по дна подарка преподнесли бы...» Мы недружелюбно
поглядываем на п е р в ы е ряды партера: ведь там «сливки общества»,
богатая чиновная з н а п . . Что же медлят?
Прошел и т р е т и й мучительный антракт. Хочется плакать... Но
все-таки еще т е п л и т с я надежда: авось, после четвертого антракта, последнего, кто-то мп р с н ь к п й , ловкий исправит ошибку.
Опустился з а н а и г с . Нас как будто ураганом снесло с места, ревущим морским валом прикатило к барьеру. Мы в неистовом восторге гремели: «Браво! Право! Карамазов! Карамазов!» Он выходил возбужденный, у с т а л ы й , а мы все кричали, вызывали... А подарка все
не было... Публика стала редеть, и тогда я в отчаянии побежала вон
с галерки. Мимоходом забежала в ложу, схватила на бегу шубу,
ушанку и вылетела н.ч площадь перед театром. Там группами стояли
люди. Я подходила, издали прислушивалась, о чем идет разговор.
Вот офицеры и д а м ы . Прощаются, расходятся, остается одна пара —
ждет извозчика. Подхожу к другой группе. Здесь гимназисты — смеются, шутят, ж д у ! какого-то Сашку... А вот солидные дяди и тети говорят о п е л ь м е н я х , на которые они приглашены. И в четвертой группе
ничего о Карамазове... Нигде ни звука о великом артисте. В театре
этаж за этажом погас спет. И вдруг из-под тени деревьев появляются
двое, идут мне н а н с ф е м у . Я спешу к ним, кто они — не вижу. Но вот
свет газового ф о н а р я у п а л на них — это же двоюродные сестры Тугутовы—Цэцэг ( У л я ) и Л и з а , мои родственницы. И они, узнав меня,
изумленно в о с к л и к н у л и : «Леля! Почему ты здесь одна?» А я им: «А
вы почему здесь?» Д\ы втроем пошли по Большой улице. Идем, молчим.
Дошли до р а з в и л к и , Лизе нужно свернуть направо. Лиза вдруг проговорила: «Цэцэг, с к а ж е м Леле, она не проболтается». Цэцэг, наконец,,
решилась:
— Леля, что ты делала около театра?
Я чистосердечно созналась:
— Искала тех, кто собирал деньги на подарок Карамазову.
Они ахнули:
— Ой, и мы тоже...
Мы с Лизой начисто забыли взаимную неприязнь. Цэцэг сказала:
— Время позднее. Пора, девочки, расходиться. И вот что... Что
нам мешает самим купить подарок Карамазову?
Лиза захлопала в ладоши, я закружилась волчком, завизжала.
Решено было завтра придти к магазину Хейфица, каждая принесет
по три рубля.
На следующий день после занятий мы были у ювелира Хейфица.
Я с его дочкой Ривой училась в одном классе. Наша дружба с Ривей
95
началась после того, как я прочитала ей свой реферат, написанный по
заданию нашей начальницы Анны Михайловны Григорьевой. В нем говорилось о будущем человечества на всей земле: о повсеместном расцвете культуры, просвещения, новой морали, о братстве всех народов.
В концовке я написала: «И тогда нигде не будет ни бедняков, ни бо!гачей, ни единого порабощенного туземца». Рива потом долго хвалила
это мое сочинение.
Так вот, Ривин папа, хозяин магазина, захотел узнать, что мы решили преподнести нашей загадочной особе, и выставил на витрине зоточенные рюмки, портсигары и подстаканники, положил в коробках
броши, кольца. Наш выбор пал на подстаканник... Когда же дело дошло до гравировки монограммы и дарственных надписей, мы замялись.
Хозяин усмехнулся:
— Вы меня не бойтесь, доверьтесь. Раз купили подстаканник, значит, подарок этот мужчине. Так кто же он?
Заметив наше смущение, предложил:
- Скажите хотя бы начальные буквы.
Кто-то из нас написал на бумажке: «Д. М. К-». Он н а х м у р и л брови:
— А дарственная надпись будет?
Цэцэг от волнения облизнула пересохшие губы:
— Спасибо за все.
Ривин папа встрепенулся:
— А подпись?
Мы переглянулись, потоптались, и я, как с а м а я бойкая и решительная, пискнула:
— Поклонницы.
Он ударил себя по лбу:
— Что вы мне, барышни, голову морочите? Ведь это же Карамазову подарок!
Хейфиц укоризненно покачал головой и п р и н я л с я за работу: он
сам гравировал. Мы следили за каждым движением резца. Вот он вывел «Д. М. К-», полюбовался и показал нам. Мы одобрительно закивали. Вот и надпись «Спасибо за все» готова. II уже подпись выведена «Поклонницы». Тут гравер задумчиво пожал плечами:
— Барышня, позвольте прибавить «бурятки». Дадим хоть ниточку Дмитрию Михайловичу, чтобы он мог как-то представить, кто такие
эти его поклонницы.
Завертывая футляр с подстаканниками в бумагу, он спросил:
— А кто же его преподнесет?
Мы об этом не подумали. Ювелир, как добрый отец, сказал:
— Вы, барышни, не ходите к Карамазову. Ваши начальницы узнают, такую канитель разведут. Вот эту девочку пошлите,—он указал
на меня.— Она у вас бойкая...
Мы распрощались с добрым Хейфицем, сделали т а к , как он посоветовал. Я пошла одна к подъезду дома, где жил Д. М. Карамазов,
робко позвонила и, когда вышла нарядная горничная в белой наколке,
в белом переднике, я сунула ей в руку сверток с футляром и стремглав
убежала. На углу меня ждали подруги. Я шепнула: «Готово!» И мы направились домой.
Проходит день, второй, третий — все как будто спокойно. Но вот
утром четвертого дня Тоня Чайванова, моя подруга по классу, лукаво
подмигивает мне и грозит пальцем незаметно для преподавателя. Как
только прозвенел звонок, Тоня спросила:
— Ну-ка, скажи, кто эти поклонницы-бурятки?
Я твердо ответила:
— Не понимаю, о чем спрашиваешь?
Тоня еще ехидно прищурилась:
_;
96
— Так, а у кого это шапка с длинными ушами, не у тебя ли? Л
кто носит красный бант в косе? Не ты ли? Карамазов ищет вас. Сегодня же идите к нему.
Мы встретились в условленном месте все трое. Подружки проводили меня до угла... Я позвонила, вышла знакомая горничная. Увидев
меня, она прощебетала:
— Ой! Это вы, девочка! — Ввела в переднюю и продолжала:—Как
это хорошо, что вы пришли. А ведь в прошлый раз Дмитрий Михайлович так журил меня, что я не задержала вас.
Повесив мое пальто, она приоткрыла дверь в соседнюю комнату:
— Елена Федоровна, к вам.
Елена Федоровна — жена Карамазова, немолодая, полная женщина, белокурая, очень миловидная, с темно-голубыми глазами. Она сразу догадалась, кто я, приветливо поздоровалась. Елена Федоровна посадила меня на тахту и тихо предупредила:
— Дмитрий Михайлович заснул: у него был приступ (приступ чего, не сказала). Я пойду, посмотрю.
Я вскочила:
— Не надо, не будите. Я приду в следующий раз.
— Если вы уйдете, Дмитрий Михайлович мне этого не простит.
В это время послышался голос за дверью: «Елена! Кто пришел?»
Елена Федоровна, подняв голову, крикнула:
—• Митя, к тебе пришла поклонница.
И вот в комнату вошел... старик в халате, с пледом на плечах.
Изможденное лицо, потухшие глаза. Трудно было в нем узнать нашего Карамазова, того, кто играл стройного Гамлета, пылкого Фердинанда, кроткого Бориса, любимого Катерины из «Грозы». Передо мной
стоял больной старик. Он, изучающе глядя, взял меня за руку, попросил:
— А теперь расскажите, кто вы такая, кто ваши подруги, как вас
зовут? Что вы делаете? Где вы учитесь? Еще расскажите про ваш народ.
Я, еле осмеливаясь поднять глаза на него, рассказала... А когда
дело дошло до народа, я замялась. Я первый раз рассказывала о моем
народе такому человеку, как Карамазов... Но все же сказала, даже с
гордостью, что наш народ очень честный, трудолюбивый, скромный,
очень гостеприимный, но... Карамазов выжидающе посмотрел на меня.
Я, опустив глаза, с трудом добавила:
— Но пока невежественный, темный.
Вскидываю глаза на Карамазова: лицо его преобразилось, забыта
недавняя слабость, болезнь. Во мне просыпается желание все ему высказать, поделиться болью и печалью, что глубоко запрятаны в душе.
Я кусаю губы, слезы текут и текут. Дмитрий Михайлович шепчет:
— Ну, не надо... молчите...
Я не могу открыть Карамазову, что наш народ вымирает, что он
брошен на произвол судьбы, что по долине Иды с ее истоков до устья
тянутся узенькой цепочкой 14 улусов и одно русское село, что там нет
ни врача, ни фельдшера, поэтому свирепствуют страшные болезни,
смерть гуляет вволю под жалобные стенания шамана, под гул и плач
его бубна. Это вообще-то мысли моего старшего брата Кеши и его друзей из семинарии. Их разговор всегда кончался упрямым вопросом:
«Что же делать нам?»—и тяжелое молчание воцарялось тогда в комнате брата.
Напуганная Елена Федоровна успокаивает меня, а Дмитрий Михайлович одобряет: «Выше голову, девочка! Выше! Скоро все переменится... Придет новое время, у вас будут школы, больницы, театры, у
вас будет своя литература»...
7. «Байкал» Л» 6
97
— Послушайте-ка дальнейшую историю вашего подстаканника.—
Карамазов слегка улыбнулся. — Когда горничная вручила ваш подарок и я прочитал надпись, мне бросилось в глаза слово «поклонницы», это до избитости знакомое слово для любого актера. Улыбаясь, я
крикнул жене: «Ты послушай, послушай, что тут написано»— и прочел, вновь нажимая на слово «поклонницы». Жена рассмеялась: «От
каких-нибудь дам-бездельниц...» Но тут я обратил внимание на приписку «бурятки». Прочел несколько раз вслух, жена прочла. Я позвал
горничную, спросил: «Кто вручил тебе этот сверток?» «Да братская.
Брачешка, братская по-нашему, по-сибирски, бурятка то есть. Бу-ряточка». Ваш подстаканник стал предметом разговоров всей труппы.
Одна из молоденьких актрис спросила: «А кто такие бурятки?» Ей
кто-то ответил: «Это туземки». Она рассмеялась: «Туземки — это дикарки?! Немного же чести в таком сувенире». Я едва сдерживал себя.
Но тут вступился режиссер, взял подстаканник и сказал:
— Господа, этот п о д с т а к а н н и к — н е м а л о е событие в жизни нашего театра. Это первая ласточка, прилетевшая из далеких кочевий туземца к нам в театр. Ласточка, не делающая еще весны, но возвещающая, что бурятский народ проснулся, послал гонцов, пытливо ищущих
и уже нашедших святой огонь любви к искусству. Вот о чем говорит
этот дар.
...Шли годы. Пророческие слова Дмитрия Михайловича сбывались.
Из среды молодых бурят-энтузиастов вызревали будущие актеры, драматурги. Хорошо помню, к слову, Иннокентия Башкуева (Барлукова),
написавшего первую пьесу на бурятском языке «Беда от вина». Цэцэг
Тугутова любовь к искусству, как эстафету, передала своему первенц у — дочери Оюн Эрдыни-Бутуханэ, народной артистке МНР, лауреату Государственной п р е м и и Монголии.
Пришли иные времена - - пришел Великий Октябрь. Пришли большие мудрые люди из русского народа. Они помогли. Теперь в УланУдэ построены ф а б р и к и , заводы, больницы, школы, институты и высятся здания театров. В них играют талантливые актеры, поют певцы,
танцуют балерины. Их слушают и смотрят не только в Бурятии, но и
в з а р у б е ж н ы х странах.
Мои народ похорошел. Черты его лица не изменились. Они вроде
все те же, что были много покои назад: те же глаза с острым, проницательным взглядом, те же полные, жизнелюбивые губы, то же белое
пламя зубов... Но у моего народа родилось то, что является сущностью
внутренней красоты всех рас, любого человека. Это сознание своего
достоинства. У моего народа теперь смелая, твердая поступь, радостный смех...
Остается мне сказать: автор этого рассказа — мол мать. Я записал ее слова. Сейчас ей семьдесят шесть лет, она совсем седая, ничего не пидит, но ей кажется, что она
еще сильна. Она каждое утро выходит на балкон, чтобы встретить солнце, протягивает
к нему руки: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, счастье моей великой Родины. Здравствуй, моя Бурятия, когда-то колыбель безотрадная, а ныне радость моя и гордость!»
Я. Чайкин.
Христе
РОДОПСКИ
Незабываемые встречи
Автор этих заметок — журналист из Болгарии, работает в редакции газеты
«Работническо дело», центрального органа ЦК БКП. Христа Родопски — участник
антифашистского движения сопротивления. В день освобождения Болгарии 9 сентября 1944 года он дал обет дойти пешком до Москвы. И он выполнил свой обет,
пройдя огромный путь из Софии до Москвы на своих двоих. Редакция журнала
«Байкал» сердечно приветствует мужественного болгарского брата и благодарит
за присланные великолепные заметки.
Эту встречу я задумал давно — она
находилась в центре моего путешествия
по берегам казачьего Дона.
Но и до нее к ра;тгрстых солнцем, пахнущих хлебами степях Украины было у
меня много н е п р и н у ж д е н н ы х встреч, которые сохранят! м памяти. Одни —
дольше,
друше
меньше,
некоторые,
может был., даже навсегда — это покажет время. Л пстрсчи, о которых я хочу
рассказать,- и том нет сомнения — останутся I! н а м я т до конца моих дней.
Наверное, т\ г имеет ипачение и то
обстоятельств", чш м ы с л ь о них была моей
постоянной г п х т н и ц с н но время пути по
дорогам и т р н п к а м , но которым я шагал,
весь п р о п и т а н н ы й пылью, поднимавшейся из-под м о и х щ и . Иногда внезапно падали дожди и с м ы к а л и эту пыль, становилось головокружительно свежо, и тогда
я всем сердцем чувствовал эту влагу плодородия.
Восемь месяцев совершалось это
круговращение. Теперь, когда путешествие
уже окончено, мне легко представить себе как бы со стороны долгие вечера, проведенные над м а р ш р у т н о й картой. Вечера, когда кончик моего карандаша тихо
полз вдоль извилистой черной линии Дона и достигал того кружочка на левом
берегу, рядом с которым написано: станица Вешенскал. Тут мой карандаш невольно останавливался и замирал, а некоторые из самых близких друзей, которые были озабочены предстоящим путешествием не меньше меня, говорили, что
вот доберешься сюда, встретишься с Шолоховым...
Тогда мы забывали о карте и начинали
разговор на нашу любимую тему: о творчестве великого советского писателя, несколько десятилетий назад взволновавшего всех открытием
нового мира, открытием, которое
заставило
литературные
круги планеты заговорить о нем, как о
«Колумбе Тихого Дона». Да и у нас в
Болгарии, когда заходит речь о «батюшке
Доне», у всех невольно возникает мысль
о его
необыкновенном
сыне Михаиле
Александровиче Шолохове. И наоборот,
одно только упоминание имени Шолохова
вызывает картины казачьего Дона, новооткрытой земли великана мировой литературы... Эти беседы никогда нам не наскучивали, а шелест страниц шолоховских
книг в наших руках действовал, как личное присутствие писателя.
Нечего и говорить, что больше
всех
волновался я. В самом деле, выпадет ли
мне счастье встретиться с глазу на глаз
с Шолоховым? Не пустое ли это мечтание? Не требую ли я слишком многого
от
пешеходного путешествия,
которое
именно по той причине, что является пешим и продолжительным, и без того будет
богато человеческими судьбами и насыщено впечатлениями?
...Первые шаги по маршруту в Софии,
последние прощания и пожелания. Друзья,
которые в подробностях знали зигзаги
маршрутной линии на моей географической карте, напутствовали:
99
— Сердечный привет Шолохову! Уверены, что ты его увидишь.
Мне тогда очень захотелось, чтобы непременно выпал случай передать Михаилу Александровичу искренние поздравления моих болгарских друзей и его ревностных почитателей. В Габрово я еще
больше связал себя обязательствами, касающимися предполагаемой встречи в Вешенской.
Я чувствую себя обязанным сказать об
этом,
потому что
большая заслуга
в осуществлении моего путешествия принадлежит именно веселым габровцам в
форме морального и даже материального
подкрепления. С начала моего путешествия прошло восемь месяцев, и не будет
лишним вспомнить о сувенире, который
изготовил коллектив габровского предприятия «Петко Денев», чтобы вручить
его всемирно известному советскому писателю М. А. Шолохову от имени Болгарии.
Во время моего пребывания в Габрово
сам директор предприятия «Петко Денев»
Георгий Стайнов пришел к мысли, что
было бы неплохо, поскольку маршрут мой
пройдет через станицу Вешенскую, где,
наверное, мне удастся поговорить с Шолоховым, сделать ему охотничий нож.
— Потому что,— сказал директор,—
Шолохов нам известен не только как замечательный писатель, но и как страстный охотник.
Чудесно! Только габровец может придумать нечто подобное. И поскольку у
меня не было времени ждать, пока нож
изготовят, мы договорились, что я получу его по дороге по указанному мной адресу.
Встречи... Ожидаемые и случайные.
Иногда именно этот элемент случайности
делает их незабываемыми.
В моем походе к берегам Дона единственно ожидаемой была встреча с Михаилом Александровичем. Правда, я сознательно старался выбросить из головы
эту мысль, чтобы сосредоточить внимание
на других дорожных встречах, которых
было очень много, но так и не преуспел
в этом. Потому что возникали ситуации,
прямо или косвенно касающиеся писателя.
Южный берег Крыма преподнес мне
первую радостную встречу с представителями семьи Шолохова. Это произошло в
Ялте, где я гостил у одного из сыно100
вей Михаила Александровича. Я даже запечатлел это событие на кинопленку.
Сын писателя в кругу знакомых, друзей
и коллег в опытном розарии Никитского
ботанического сада. Тогда я не подозревал, что эти кадры станут причиной одного веселого недоразумения.
В Ростове-на-Дону я передал кинопленку в фотолабораторию, чтобы мне ее проявили. На другой день мне оттуда позвонили. Какой-то женский голос полюбопытствовал:
— Судя по вашему фильму, вы встречались с Шолоховым?
Я не сразу понял, о чем идет речь, но,
смекнув в чем дело, ответил:
— Документальным фильмам всегда
нужно верить.
— А где состоялась эта встреча? Насколько я знаю, вы еще не были в Вешенской,— наступал на меня любопытный женский голос.
— В Крыму.
— В Крыму?! — удивился голос.—
Наверное, Шолохов там отдыхает?
— Нет,— сказал я,— он на работе.
— На работе? Вы, наверное, шутите?
— Нет, я говпрю вполне серьезно...
— Ах да,— по-своему объяснил мое
заявление женский голос.— Он, конечно,
там пишет.
— Нет,— я уже едва сдерживался от
смеха,— он там на научной работе в Никитском ботаническом саду.
•— Тогда ясно, что вы шутите или
просто ошиблись.
— Ни т", пи другое,— сказал я, решив, что пира выплюнуть камешек.—
В сущности, ошибка есть, но она ваша.
Тот, кого пы видели на кинопленке, и то,
что я сейчас вам говорю, действительно,
имеет отношение к Шолохову... Александр
Михайлович — один из сыновей Михаила
Александровича.
Голос издалека сказал еще что-то, чего
я не понял, и на этом разговор окончился. Мне стало весело, настроение поднялось на несколько градусов, потому что
я получил подтверждение удивительному
сходству между Александром и фотографиями его знаменитого отца, которое бросилось мне в глаза в первые же минуты
нашей встречи.
Позднее, когда я рассказал эту историю одному донскому казаку, тот, выслушав ее, улыбнулся в усы, а потом задумался и сделал мудрое заключение:
— Мне кажется, что ты невольно сказал нечто очень правильное насчет
научной работы Шолохова. Когда ты произнес эти два слова, я вспомнил, с какой
жадностью читал на фронте его «Науку
ненависти». Своеобразная, сильная наука, которая хватает тебя за сердце и потом не отпускает всю жизнь.
В станице Мелиховской председатель
сельсовета Нина Георгиевна предупредила
меня:
— Решено, что в Кочетовской вы остановитесь в доме писателя Закруткина.
Виталий Александрович уже извещен об
этом и сегодня вечером будет вас ждать.
Если вы не возражаете, мы попутной машиной можем отправить ваш рюкзак к
нему.
В первый рал м н е предстояла такая
близкая встреча с советским
писателем,
автором «Сотворения м и р а » , «Плавучей
станицы» (переведенной и на болгарский
язык), «Матери человеческой», «Лазоревого цвета». Я не сомневался^ что меня
ожидает знакомство с интересным человеком, интересный разговор. В этом меня убеждал и мой ростовский приятель
Виктор Глебов, который настаивал, чтобы я не пренебрег возможностью побывать
в станице Кочетопской, где живет Закруткин.
—• Ты не знаснп,, какой человек Виталий Александрович. < > и не только интересный писатель, но и прекрасный человек. Старый п р и я т е л ь Михаила Александровича..
Итак, я принял предложение Нины Георгиевны, как добрый знак судьбы. Что
касается рюкзака, то тут я тоже не возражал. За последние три месяца он прибавил в весе до 28 килограммов. В августовский зной такой груз на плечах никак не назовешь приятным. Поэтому я
воспользовался случаем отправить его
впереди себя, а сам двинулся по дорогам
и тропинкам правым берегом Дона.
В Кочетовской я без труда нашел дом
Закруткина — даже дети знали, где живет писатель. Один из мальчуганов проводил меня до железных ворот, из-за которых доносились оживленные
голоса.
Предупрежденный лаем собак, вскоре со
стороны беседки в саду появился сам хозяин — высокий, костистый, с посеребренными усачи, он издалека приветствовал меня на сравнительно точном болгарском языке:
— Добре дошел в моя дом!
Мы сердечно пожали друг друм р х к и ,
и Виталий Александрович повел м е н я к
беседке. Там уже расположились и другие гости. Меня познакомили с к а ж д ы м
из них, с некоторыми я уже раньше
встречался в селах Ростовской области.
Но одной встречи я не ожидал.
— Герман Степанович Титов,— представил мне Закруткин дублера Юрия Гагарина, второго космонавта мира, который глядел на меня с открытой улыбкой.
Встречи...
Жданные
и
случайные.
Иногда именно этот элемент случайности
и делает их незабываемыми.
Мы пожали друг другу руки.
— Ну, как, не устали?— приветливо
спросил меня Титов.
— Не сомневаюсь, что в космосе было
гораздо труднее,— ответил я.
Все засмеялись, и сразу же я себя
почувствовал, как в давно знакомой компании. Меня познакомили и с женским
обществом — двумя родственницами хозяина, двумя его племянницами и Тамарой Васильевной, женой космонавта.
Самыми
маленькими
представителями
компании были их дочки — Танечка и
Галочка.
Герман Степанович с семьей
проводил свой очередной отпуск среди
своих старых донских друзей.
Меня угостили
чудесным у ж и н о м —
чтобы я восстановил свои силы. Виталий
Александрович произнес тост:
— За маленькую и прекрасную Болгарию, за прекрасный
болгарский народ — самого большого, самого искреннего друга советского народа!
Все подняли полные бокалы.
Закруткин был на моей родине и стал
вспоминать о днях, проведенных среди
болгарских друзей, среди болгарской природы, в атмосфере неповторимого болгарского гостеприимства. Герман Степанович
сказал, что ему тоже однажды довелось
взглянуть на Болгарию. Просто пропутешествовал транзитом от одного до другого
края — от Варны до Софии, и сохранил
впечатление о множестве цветов, которые
повсюду радовали глаз.
— Это было неофициальное посещение, и я был бы очень рад, если бы мне
выпал случай ближе познакомиться с этой
братской страной, с родственным нам славянским народом. Мои товарищи-космонавты, которые уже посещали Болгарию,
101
с восхищением рассказывают о днях пребывания там.
Герман Степанович говорил просто и
сердечно, каждое слово было у него на
своем месте. На какую бы тему ни поворачивал разговор, он оставался одинаково достойным собеседником, и было
сразу видно, что среди нас находится человек исключительно богатых и всесторонних познаний. Да, подумал я, нелегкий путь учебы и самоподготовки прошел
каждый космонавт, прежде чем полететь
в космическую бескрайность... II какая
воля необходима для этого, какая сила человеческого духа!..
Виталий Александрович с племянницами исполнил одну из своих любимых казачьих песен. Пел он с чувством, будто
от роду этим занимался (вино нас уже
немножко разгорячило), и его несколько
сипловатый голос звучал согласно с еще
не окрепшими молодыми голосами девочек, которые были изрядно смущены вниманием публики. Песня окончилась, и хозяин поднял второй тост:
— За здоровье нашего великого земляка, за перо гениального художника Михаила Александровича Шолохова — большого друга человечества.
К тосту Виталия Александровича космонавт Титов прибавил:
— И от имени моих друзей, которые
горячо любят Шолохова,-— за здоровье
большого друга космонавтов!
Дальше разговор продолжался уже о
Шолохове. Михаил Александрович не раз
гостил у своего кочетовского друга и собрата по перу, в этой самой беседке велись разговоры до рассвета. Об этих посещениях Виталий Александрович рассказывал так увлекательно, что целиком захватил наше внимание.
Поздно вечером гостеприимный хозяин
разместил нас на ночлег. Я еще с двумя гостями выбрал раскладушки на открытой веранде. Временами писателя посещает так много гостей, что он предусмотрительно запасся раскладушками.
Вино и долгие разговоры вскружили мою
голову, сон не шел. К тому же натруженные сорокакилометровым переходам ступни нестерпимо горели. В таких случаях
помогало только одно — их надо было
подержать в холодной воде. Я спустился
по цементным ступеням, пересек смолкнувшую улицу и оказался на донском берегу, недалеко от пристани. Было темно
102
и прохладно. В темноте звякнула цепь, и
по этому звуку я определил, что недалеко
должна быть привязана лодка. Я не ошибся. Подтянув лодку, пока нос ее не
ударился о берег, я забрался в нее, расположился поудобнее и перевесил босые
ноги через борт. По телу сразу пробежала холодная дрожь. На воде, скользя на
своих невидимых водных лыжах, играл
озорной ветерок, гнал небольшие волны
к берегу, и они почти бесшумно целовали
сплетенные корни прибрежных верб. Дон,
Тихий Дон... Может быть, именно в такую пору молодой Шолохов выбрал заглавие своего знаменитого романа.
Ветер усилился, и, казалось, кусты над
моей головой потирали руки от холода,
я чувствовал, как трепещут их листья, и
мне тоже стало зябко. Прохладные волны
Дона уже утолили боль в ногах, я обулся и снова вылез на берег. Нет, всетаки заснуть мне не удастся. Возле ствола старой вербы я заметил еще одну перевернутую вверх дном лодку. Сел на нее
и, оперевшись спиной в широкий ствол,
заслонивший меня от ветра, вернулся
мысленно к рассказу Закруткина.
...Станичники, один за другим, как и
пришли, разошлись, а оба писателя присели на ступеньки, запыхтели папиросами и заговорили о том, как богаты самобытными талантами донские казаки...
На атом месте хозяин прервал свой рассказ, чтобы предложить нам прогулку
по реке, а на следующий день другие события отвлекли наше внимание. Позднее,
когда я начал писать эти путевые заметки, я вспомнил, что не слышал, чем занершилось пребывание Шолохова в Кочетовко. Разыскав книгу Закруткина «Лазоревый цвет», я к своей радости обнаружил, что автор упоминает в ней этот
случай, и решил, что поступлю наилучшим образом, если изложу конец этой истории прямо из книги Виталия Александровича.
В ней шла речь об одном старом кочетковском казаке, страстном рыбаке и охотнике, который еще с, детства, не зная ни
одной ноты, отлично играл на скрипке...
Когда Закруткин рассказал историю этого
казака, Шолохов улыбнулся.
•— Сейчас примерно час ночи. Что, если мы пойдем послушаем твоего кочетовского Паганини? Если он рыбак и охотник, он не рассердится за такой поздний
визит.
Войдя во двор, Закруткин подошел к
спавшей снаружи старой женщине и
спросил, дома ли хозяин. Женщина ответила:
— Нет его, он где-то на Лебяжьем
сеть ставит.
— Жаль. Передайте ему, что Михаил
Александрович Шолохов хотел с ним познакомиться.
Старая женщина медленно поднялась.
— С Шолоховым?— недоверчиво спросила она.— Тем самым, который написал
«Тихий Дон»?
— Да, с тем самым!
— Поди сюда,— сказала властно старая женщина, обращаясь к писателю.
Тот подошел.
— Наклони голову,— приказала женщина.
II, заплакав, уткнув лицо в плечо Шолохову, проговорила:
— Дай я тебя поцелую, родной ты
наш...
Да, великая награда за огромный писательский труд — этот материнский поцелуй старой, много пережившей женщины.
...Разбудил меня предутренний холод.
Темнота, которая ночью служила мне и
постелью, и одеялом, уже рассеивалась.
Дон все так же бесшумно нес свои мутные воды. Я освежил лицо этой водой,
побегал по тропинке в прибрежном тополевом лесочке и отправился
к дому
Закруткина...
В городе Дычлянске приятели мне посоветовали:
— Если не хочешь разминуться с Михаилом Александровичем Шолоховым, постарайся добраться до Вешенской не позднее 27 августа...
— Почему такой срок?— удивился я,
так как по графику в Вешки я должен
•был прибыть но раньше 5 сентября.
— Потому,— ответили мне,— что 29
-августа открывается охотничий сезон, а
для
Михаила Александровича охота —
любимый отдых, и кто знает, куда он может уехать.
Я связался по телефону с секретарем
писателя.
— Да,— подтвердил он,— хорошо было бы, если бы вы поторопились. Я не
могу вам точно сказать, до которого числа Михаил Шолохов будет дома.
Этот аргумент был достаточно убедителен, чтобы я взвалил на плечи свой рюкзак и, несмотря на боль в растянутом су-
хожилии, сделал поистине солдатский бросок до станицы Вешенской, проходя по
50—60 километров в день. Пять дней
такого напряженного «марша», и перед
моим взором возникла радостная панорама — казачья станица
на равнинном
левом берегу реки. Один из домов, отличавшийся своей архитектурой, отступил
выше всех по берегу, чтобы, казалось, с
неутомимым интересом всегда смотреться
в спокойные воды Дона. Дом Шолохова...
Я уже знал, что он построен после войны
(прежнее жилище писателя было разрушено немецким снарядом).
Меня ожидала встреча, о которой я мечтал много лет, встреча с чудотворцем слова, академиком, лауреатом Ленинской и
Государственной премий, Нобелевской премии, Героем Социалистического Труда и
депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР Михаилом Александровичем Шолоховым.
И тут я должен вернуться к сувениру
габровцев.
Поскольку в моем путешествии было
немало непредвиденного, я долгое время
не мог указать пункт, где окажусь через
месяц. Это мне удалось только буквально
у порога Вешенской. Я написал коллегам
из габровской окружной газеты
«Балканское знамя»: «5-го сентября буду в
Вешках, жду сувенира». И вот теперь я,
хотя и двигался способом, необычным для
нашего пропитанного бензиновыми парами века,— пешком, все-таки прибыл на
неделю раньше, опасаясь сюрприза, который могло мне преподнести приближение
охотничьего сезона. Сразу же по прибытии я отправился на почту. Там меня
ждали письма болгарских и
советских
друзей, но сувенир еще не был получен.
Между тем Михаил Александрович уже
знал о маем путешествии от своего сына
Александра и, как только я появился в
станице, связался со мной. В заключение
последнего в тот вечер разговора по телефону его секретарь
Иван Семенович
Погорелов известил меня:
— Завтра утром в девять часов буду
вас встречать у входа...
Вот так задача! По двум причинам я
не был готов к встрече, которую ожидал
так давно. Во-первых, мне хотелось увидеться с писателем после того, как я побываю в окрестных местах, связанных с
его именем. Во-вторых, мне трудно было
представить эту встречу «с пустыми ру-
103
кали», не прибавив ничего к коллекции
сувениров писателя. Рано утром я снова
побежал на почту узнавать, прибыла ли
из Болгарии посылка на мое имя. Нет,
ничего не было. Пришлось вернуться §
гостиницу ни с чем. Я был готов уже с
испорченным настроением отправиться к
дому Шолохова, когда телефон в комнате
зазвонил. Это был Иван Семенович:
— Сколько времени вы будете в нашей
станице?
— До десятого сентября.
(Столько требовалось, чтобы вылечить
растянутое сухожилие).
— Отлично!
Михаил
Александрович
предлагает встретиться за два дня до его
отъезда.
Я почти обрадовался этой новой ситуации.
С утра до вечера по три раза ходил я
на почту—посылки из Болгарии все еще
не было и не было! Наконец, однажды, завидев меня, работница почты из окошечка «до востребования» обнадеживающе
улыбнулась:
— Прибыла! Если это то, что вы ждете...
Да, это было то, что я ждал: сувенир
из Габрово.
Нужно было справиться еще с одном
задачей до встречи с Шолоховым — оГншти окрестности, связанные с его жизнью.
В этом отношении содействие райкома
партии было весьма кстати. С сопровождавшим меня работником райкома мы
отправились на родину писателя - х у т п р
Еружилинский. Побывали в доме, где он
родился,— в бедной сельской хате, построенной еще до первой русской революции. Только она была не на своем прежнем месте, а восстановлена на противоположном конце хутора. А там, где она
была раньше, мы застали строительство.
— Что вы строите?— обратился я к
рабочим.
— Музей,— ответил самый старший
из них. — Он будет посвящен жизни и работе нашего знаменитого односельчанина
Михаила Александровича, который прославил во всем мире нашу родную землю.
Вот тут он родился, на этом месте был
дом его отца, и мы гордимся, что имеем
такого земляка...
Да, любят Шолохова в его родном хуторе. Нечего и говорить, что это заслуженная любовь.
В станице Каргинской сохранен в
104
прежнем своем виде дом, в котором писатель жил с 1910 по 1925 годы. Он
отмечен мемориальной доской с портретом
Шолохова. Этот дом больше кружилинской хаты с соломенной крышей. Здесь
как раз и начал развиваться тот сложный
творческий процесс, который рано ил»
поздно должен был восхитить мир неповторимым талантом, удивительным искусством.
Старая, уже покосившаяся
постройка — такова сейчас школа, в которой
прошла часть ученических лет Михаила
Александровича. «Моя родная школа!
Когда-то давным-давно я в ней учился
грамоте...» Это слова Шолохова, слова
благодарности и признательности. Знала
ли маленькая станичная школа, что в ее
стенах рождается ее будущая слава, что
она станет знаменита благодаря творческому подвигу своего воспитанника? Конечно, нет. Миша был таким же мальчиком, как и его сверстники, играл в те же
игры, шалил вместе с ними... И вое же
было в раннем его детстве и нечто особенное, чего тогда не замечали окружающие, да и сам мальчик не предполагал,
что это были первые голоса пробуждающегося таланта,— необычайно развитая
для его возраста любознательность, страстная любовь к природе и преклонение
перед самобытным казачьим песенным
творчеством.
Напротив старой школьной ограды, по
другую сторону улицы стоит новая средняя школа. Большая, светлая, просторная современная школа, которая однако
не затеняет старую, не умаляет ее достоинства. Замечательно, что в ее постройку вложена та Ленинская премия, которой удостоен воспитанник прежней школы. Заместитель директора рассказал мне,
что при открытии новой школы ей хотели
присвоить имя писателя, но Михаил Александрович отказался в обычной для него
шутливой манере:
— Не спешите отправлять меня на
тот свет...
Каргинские учащиеся не могут не гордиться своим чудесным земляком. Одна иа
комнат носит название шолоховской. Все
здесь рассказывает о жизни писателя.
Снимки о его повседневных
занятиях,
бюст, подаренный почитателями его таланта, парта, за которой он сидел, иллюстрации к его произведениям, его высказывания, его книги... На одной из них —
книге
«Донские
рассказы» — писатель
сделал надпись: «Моим маленьким землякам и односельчанам — учащимся Каргинской средней школы, с наилучшими
пожеланиями. 12/11-1965 г. М. Шолохов».
Очень меня заинтересовал литературный
журнал «Искорка», который, начиная с
1965
года, издают сами школьники. В
нем аккуратным детским почерком записаны встречи со знакомыми и друзьями
Михаила Александровича, запечатлены их
воспоминания.
В одной из записей рассказывается о
таком эпизоде. Группа пассажиров ждала
самолет на аэродроме возле станицы Вешенской. Из-за неблагоприятных атмосферных условий самолет все не прилетал, а
ожидающие все надеялись, что счастье им
улыбнется: каждый торопился по своим делам, но в конце концов ко всеобщему
огорчению стало известно, что самолета не
будет. Как раз в этот момент к аэродрому
подъехала машина, из псе вышел Михаил
Александрович. Он присоединился к группе ожидающих, заговорил с ними. Всех
уважил вниманием, пошутил насчет плохой погоды. Кто-то пожаловался, что погода действительно испортила всем настроение — до Мил/Н'ропа, к у д а люди спешили
к поезду, самолет не полетит.
Шолохов призадумался.
— А, может, к полетит,—сказал он
как-то неопределенно, и взгляд его остановился на ж е н щ и н е с ребенком на руках,— главное, не отчаиваться преждевременно.
Снова послышались шутки,
путники
повеселели.
Вскоре на летную площадку действительно сел самолет — он должен был доставить Шолохова в Москву на какое-то
заседание. Писатель поговорил с летчиками и махнул рукой ожидающим:
— Говорил я вам, что не стоит преждевременно отчаиваться! Вот ваш самолет.
Садитесь, и счастливого пути. А я подожду, пока меня ждут в Москве,— закончил
шуткой Михаил Александрович.
«Нам, пассажирам, запомнился этот
день, когда каждый из нас увидел воочию, какой прекрасный, настоящий человек Михаил Александрович»,—• так заканчивается запись
рассказа
Евгении
Ивановны Бондаревой, женщины с ребенком на руках.
Пройдет время, и эти любовно оформленные страницы рукописного журнала
несомненно будут представлять определенную ценность.
Вот уже много лет Шолохов жмшт к
станице Вешенской. В Вешенской средней школе тоже собрано много снимков
из жизни писателя, его высказывания,
кадры из фильмов по его произведениям. Эти материалы занимают целую стену в одном из коридоров. Представлена
даже старая фотография Харлампия Васильевича — прототипа Григория Мелехова. И здесь есть «шолоховская комната».
Только иллюстрации к его произведениям
нарисованы выпускниками школы. В разделе «Колумб Тихого Дона» собраны книги писателя, изданные на разных языках.
Среди них «Тихий Дон» и «Поднятая целина» на болгарском языке. Все остальное — так же как и в «шолоховской комнате» в Карпинской. Однако эта комната
одновременно является и классной. В ней
учится класс, занявший второе место в
соревновании за высокую успеваемость
(класс-победитель учится в «ленинской
комнате»).
Посети ля
еще много шолоховских
мест, но пора уже мне продолжить свой
рассказ о сувенире габровских рабочих,
встрече с Михаилом Александровичем Шолоховым и трех автографах знаменитого
писателя.
Получив посылку, я поспешил в гостиницу и распечатал пакет. Нож! Спасибо вам, друзья из «Петко Денева»! Видно,
что вы крепко постарались. С одной стороны ножа было четко выведено: «М. А.
Шолохову от Болгарии». На другой стороне — изображение памятника Свободы на
горе Столетова.
— Молодцы! — громко воскликнул я
по-русски, имея в виду всех габровцев.
Потому что это был не обыкновенный
нож, а особенный, с несколькими дополнительными принадлежностями. А самое
главнее — габровцы дарили свой сувенир
не от своего имени, а от имени всей Болгарии. Вот теперь и рассказывай о них
забавные истории!
Седьмого сентября я позвонил Ивану
Семеновичу и напомнил ему, что время
моего пребывания в станице истекает —
нога моя совсем уже зажила.
— Завтра
утром передам вам ответ
Михаила Александровича,— пообещал секретарь.— Но уверяю вас, что вам не стоит беспокоиться.
Но я все-таки чувствовал себя неспо105
койно. Состоится ли завтра встреча, о
которой так много было передумано, и как
она пройдет? Вспомнилось, что рассказала мне Вера Никитична Губенко, заведующая Дворцом культуры города Константиновска.
Одним летом Вера Никитична повезла
группу учеников на экскурсию в Вешенскую. Известное дело, на экскурсию
в Вешки ходят не для чего другого, а с
единственной мыслью встретиться с писателем. Дети очень заволновались, когда
узнали, что Шолохов их примет, волнение
перешло в скованность, с молчаливым
почтением глядели они на дом писателя.
Все это было, пока на пороге не показался Михаил Александрович, одетый просто,
по-домашнему. Он улыбнулся детям добродушнейшей улыбкой и, понимая их состояние, как добрый волшебник, рассеял
их стеснительность.
— Приветствую вас, маленькие друзья!
Хотите поглядеть на живого писателя?
Ну, тогда глядите...
Постоял немного лицом к ним с поддельной серьезностью, повернулся направо, потом налево. Дети рассмеялись, глазенки засверкали, и они уже без стеснения окружили любимого писателя.
Подумал я и о том, сколько болгарских
и советских людей во время моего долгого
пути к Вешенской просили передать Шолохову -свои приветы. Да и вге письма,
которые я получил в Вешенской из Болгарии и от советских друзей, заканчивались одинаково: «Большой привот Шолохову! Передай ему, что мы ждем от него
НОВЫХ КНИГ...')
Представится ли мне случай передать
эти поздравления?
Утром я вскочил от телефонного звонка.
— Михаил Александрович ждет вас,—
узнал я голос Ивана Семеновича.
Жданный час настал. Я взял сувенир,
проверил еще раз, на месте ли все принадлежности, и тронулся в путь. Дом
писателя был недалеко от гостиницы. Я
шел медленно — хотел спокойно обдумать интервью, которое кроил и мерил
всю дорогу до Вешенской. Вот и дом, зеленая деревянная ограда, ворота. Меня
встретил секретарь. Прошли через большой, полный зелени и цветов сад. Тут
много деревьев, различных цветов, но
в то же время просторно. Пока мы шли,
Иван Семенович говорил:
106
— Сейчас
Михаил Александрович
очень занят, работает над новой книгой.
Садится за работу до рассвета. Но выкроил время для встречи — его и самого
интересует ваше путешествие. Когда .вы
прибыли и я передал ему ваше желание
встретиться с ним, он сразу же дал согласие: «Надо обязательно увидеть человека, который зависит от собственных
ног»...
Эти слова заставили меня рассмеяться.
Я еще не успел сесть на поданный мне
в кабинете Ивана Семеновича стул, как
на пороге появилась невысокая фигура
писателя. Годы напряженной творческой
работы наложили на него свой отпечаток,
однако был он удивительно бодр и энергичен. Он приветливо улыбнулся и издалека протянул мне руку. Энергия этого
хорошо известного всем человека особенно видна в его манере разговаривать
и смеяться — выразительно, с участием
всех мускулов одухотворенного лица; во
всех его жестах — по-молодому резких и
непосредственных.
—• Привет путешественникам! Как ваше сухожилие (он, оказывается, и об
этом знал)? Вот, значит, тот человек, который зависит от собственных ног...
И взглянул на меня так, будто мы давние, очень давние знакомые, но долго
не виделись, и вот теперь судьба устроила нам случайную встречу. С самого начала меня поразила простота Шолохова
во всем — в одежде, в умении приблизить
к себе собеседника.
По его приглашению мы сели возле
письменного стола. Начался непринужденный разговор. Я заранее наметил кучу
вопросов, предполагая его ими атаковать,
но с самого начала мне это не удалось:
я сам попал под обстрел.
— Как жизнь в Болгарии? Пятнадцать
лет назад я был у вас, но теперь уже,
без сомнения, все изменилось...
Я сказал, что теперь ему трудно будет
узнать города и села, которые он посещал.
— Верно.
Болгары — трудолюбивый
народ... Интересна идея такого путешествия! Как много впечатлений! Так и нужно, если хочешь писать о людях правдиво, надо знать их близко, уметь их понимать...
Я был очень благодарен ему за понимание, с которым он отнесся к моему
предприятию.
— А каковы ваши впечатления?
В положении интервьюируемого оказался я сам. Между вопросами Михаил Александрович мастерски вставлял веселые
истории из собственной богатой впечатлениями жизни.
Наконец я улучил подходящий момент
и преподнес ему сувенир.
— Михаил Александрович, от имени
Болгарии, с самым искренним уважением
л пожеланием написать еще много-много
новых книг. А также успешной охоты!
Он взял сувенир и быстро рассмотрел
«го. Мне показалось, что он остался доволен подарком. И я не ошибся.
— Отличная вещь! — воскликнул писатель.— Я старый охотник, а такого ножа у меня еще не было. Кто его сделал?
— Габровцы.
— Ага, габровцы,— засмеялся Михаил
Александрович.
Остроумные
габровцы!
Анекд*ты у них одни, а дела, гляди, совсем другие!
Признаться, я был несколько удивлен
осведомленностью, с которой Шолохов говорил о габровцах.
— Через три дня поеду на охоту в
Казахстан. С таким ножом...
— А разве на Дону нет удобных мест
для охоты?— спросил я.
— Раньше были... Война прогнала
дичь, много ее уничтожили, а та, что
успела улететь, больше не вернулась.
Даже следующие поколения уже не прилетают в наши места. II птицы, и звери
почувствовали, как страшна воина...
Мне показалось, что ему хочется добавить: «Только человек еще не усвоил
эти истину», но вмести этого, наверное,
чтобы рассеять тяжелые воспоминания,
пошутил:
— Теперь на Дону на двух охотников
одна птица...
Разговор снова вернулся к сувениру.
Шолохов поинтересовался, для чего служат его многочисленные принадлежности.
Я продемонстрировал устройство ножа,
но назначение одного из предметов мы
втроем так и не могли угадать.
— Ничего,— засмеялся Михаил Алек-
сандрович,— и ему найдем работу. Все
это придумано очень умно, только без
инструкции трудно разобраться. Что же,
в эту осень буду охотиться с габровским
ножом...
Пришло время и мне выложить свои
вопросы. Шолохов держался так просто,
так располагающе, что, собственно, получилось не интервью, которое я запланировал, а сердечный разговор, в котором
сильно давал себя знать его веселый
нрав. И все же не стоило злоупотреблять
его временем. Я нынул из папки две его
фотографии и попросил:
—• Михаил Александрович, будьте добры, порадуйте читателей «Отечественного фронта» автографом.
Шолохов взял фотографии и на одной
из них крупным почерком написал: «Читателям газеты «Отечественный фронт»
с сердечным приветом».
— А другая фотография?— вопросительно взглянул на меня хозяин.
— Если можно,— еще один автограф.
Для габровцев.
Михаил Александрович засмеялся. Прежде чем сделать автограф для габровских
рабочих, он сказал с широкой улыбкой:
— Габровцам — непременно!
И на обратной стороне фотографии написал: «Рабочим Габрово — самым остроумным и веселым представителям его величества рабочего класса».
— А для себя ничего не хотите? —
заметил Шолохов, подписывая фотографию.— Для себя и ваших болгарских друзей, которые вас встретят в Москве...
Один момент!
Быстрыми шагами он вышел из кабинета и вскоре так же торопливо вернулся. В руке он держал книгу и бутылку
грузинского коньяка.
Теперь среди моих многочисленных сувениров есть еще один, который мне особенно дорог,— книга «Слово о Родине».
Его книга. С его автографом. Он пожелал
мне «попутного ветра» и успешного завершения моего путешествия.
Перевод с болгарского Э. СОСНОВСКОИ.
и
/С /С
Анатолий Щ Е Р Б А К О В
Памятник Королеву
За проходною заводская площадь,
В просторном сквере тишина аллей,
Морозный воздух трогает на ощупь,
Как самоцветы, ветки тополей.
Я ухожу и снова возвращаюсь,
И забываюсь на один момент:
Я с Королевым, как с живым, прощаюсь,
И сердце мне волнует монумент.
На людном месте, отовсюду видном,
Конструктор встал близ проходной навек.
Лежит, не тая, на лице г р а н и т н о м
У п а в ш и й за ночь чистый первый снег.
И мимо, видя всей Вселенной краище,
К ракетам звездным, что не любят сонь,
Идут его соратники, товарищи —
Те, кто несет зажженный им огонь.
Память
Звездолетчикам благодарен
Наш прекраснейший из миров.
...Пламенеет в бронзе Гагарин,
В красном мраморе — Комаров.
Добровольский, Волков, Пацаев
Испытали первый «Салют»,
И в кумач Октябрей и Маев
Будет вкраплен их звездный труд.
Не состарятся в
Космонавты, чью
Как балладу, на
Люди их имена
кинокадрах
память чтут;
лунных картах
прочтут.
Евгения М А Л А Х О В С К А Я
БЫли о Космонавтах
ЗвезднЬш городов
Звездный городок — это не модерновые дома, устремленные ввысь, не тротуары, кинутые серыми шнурочками среди
изумрудных лугов Подмосковья, не причудливой архитектуры здания, именуемые
служебными помещениями, не красавицысосны, которые сбежались к обочине леса,
освободив лужайку, где и вырос этот новый современный город.
Звездный городок — это люди. Главные небожители — неутомимые исследователи-космонавты, ученые, которые прокладывают линии будущих межзвездных
трасс, врачи — беспокойные эскулапы,
хранители ценностей городка — здоровья
108
звездных оратьси, командиры, политработники, ставшие ими после «хождения
за тридевять земель», в бесконечную синь
неба.
Звездный городок — это Юрий Гагарин,
человек с обаятельной улыбкой и несокрушимой устремленностью, с государственным мышлением и дерзновенными планами, восхитивший и удививший мир.
Здесь все напоминает о нем, все связан»
с его именем. А сам он, вылитый в бронзе, вышел на центральную аллею, улыбчивый, легкий, порывистый, готовый к
новым свершениям.
Гости городка зачарованно стоят у па-
мятника, не веря в то, что нет больше
Юрия, что пламенеющих у ног гвоздик
никогда не коснется его рука. Люди молчат. Изредка шепотом, тяжело вздохнув,
обронят два-три слова и снова в торжественно-скорбном
молчании
вспоминают
Юрия, его слова, полные оптимизма и доброжелательности. Юрия нет, но он в делах
своих товарищей, единомышленников, посягнувших на холодный и неведомый мир
космоса. Он с нами всюду. В новых победах космического исследования, новых
свершениях, новых
начинаниях, новых
городах.
В Копейске, где на шахте номер четыре дробь шесть бригада горняков, носящая
его имя, выдает сверхплановый уголь
десятого трудового пятилетия.
Среди прокатчиков Донецкого металлургического завода, которые высокими
показателями в труде добились чести носить имя первого космонавта. И в Военновоздушной академии имени Ю. А. Гагарина. И на флагмане экспедиционного научного флота АН СССР «Космонавт Юрий
Гагарин», который несет свою исследовательскую вахту в просторах мирового
океана...
На предприятии Гант в Будапеште есть
рабочая бригада имени первого космонавта планеты. Ею имя с гордостью носят
трудовые коллективы текстильной фабрики в болгарском городе Силистра и Кремиковского металлургического комбината.
Генеральная конференция Международной
авиационной федерации (ФАЙ) учредила
медаль Юрия Гагарина.
В военно-воздушных силах Национальной народной армии ГДР есть эскадрилья
имени Юрия Гагарина. В далекой солнечной Мексике живет белокурая девушка
Юрина. Это имя ей дали в честь советского космонавта. На карте Луны вы найдете большой кратер Юрия Гагарина.
Недавно Американское национальное
управление по аэронавтике и исследованию космоса передало Советскому Союзу
памятную мемориальную доску в честь
первою космонавта мира Юрия Гагарина.
На ней подписи тех, кто вслед за ним
начинал полеты на кораблях «Меркурий»,
«Джеминай», «Аполлон».
В Швейцарии да берегу
Женевского
озера в честь десятилетия его старта поставлен величественный монумент. Есть
город Гагарин, площадь Гагарина в Москве, улицы его имени в Калуге, Риге,
Одессе, Ленинграде, в городах Югослании,
Алжира, Индии, а также в 12 юродах
Франции, не считая Парижа.
Так мир запечатлел подвиг Юрия 1'лирина.
Звездный городок — это Георгин Береговой, Владимир Шаталов, Герман Титов,
Владимир Комаров и другие.
Владимир Шаталов трижды бывал в
космосе. Три раза он проходил всю сложную систему контрольных испытаний, как
проходит закалку металл, трижды встречался с явлениями непознанными,
неразгаданными, иногда просто фантастическими, как романы Жюль Верна, Герберта
Уэллса или Ивана Ефремова.
Но это была работа, а не мифическое
зрелище. Все надлежало обосновать, философски объяснить, отдать людям для
исследования в мирных целях.
В квартире Германа Степановича Титова бесчисленное количество сувениров,
подарков, медалей. Среди них медали, которые отражают жизненный путь космонавта, начиная с юношеских лет. Герман
окончил среднюю школу с золотой медалью. Потом он получил медали по окончании училища, академии имени Н. Е.
Жуковского и Военной академии Генерального штаба.
Здесь, в Звездном городке, идет полнокровная жизнь. Здесь радуются рождению
нового человека и новым достижениям,
справляют свадьбы и дни рождения. А
в такие дни положены подарки.
Нельзя, кажется, ничем удивить космонавта, и все-таки иногда и ему приходится удивляться. В день рождения Владимира Михайловича Комарова его школьный друг подарил ему письма. Обыкновенные письма, сложенные треугольником, со штемпелями военных лет. Разве
мог предположить Комаров, что много лет
спустя встретится со своими письмами,
которые он отправлял из Батайска, Борисоглебска и других городов своему другу
кандидату военных наук Евгению Васильевичу Цареву.
В одном из писем он писал: «Авиация
развивается головокружительно быстро,
и я не знаю, успеваю ли за ней. На чем
мы будем летать через 10—15 лет? Наверное, это будет какой-то фантастический
аппарат и до удивления простой. Но каким бы он ни был, я готов на нем летать.
Понимаешь, отставать от жизни нельзя».
109
Автограф
Павел Попович волновался. Предстояла
встреча с курсантами высшего военного
авиационного училища. Разговор нелегкий. Космонавт знал, как необъятен круг
интересов молодых слушателей. К тому
же они — будущие летчики.
Павел Романович хотел побыть один,
подумать, сосредоточиться. Сел к столу,
в поисках бумаги порылся в ящиках, нашел конверт, машинально его извлек, открыл. Фото! Подписанное и не врученное,
не переданное.
Это было давно, осенью 1962 года на
Всесоюзном совещании геологов. Нопонич
сидел за столом президиума и без устали
ставил автографы на открытках. Гилло
ему это занятие непривычно и стесняло,
йо устоять против всеобщего натиска он
не мог, сидел, не поднимая го.-цшы, быстро и размашисто ставил фамилию под
своей фотографией. Подписал последнюю
и сложил их в стопку. Но тут же женская
рука положила перед космонавтом поную
партию фотографии, пригласительных билетов, блокнотов и дал;с один концерт.
Подполковник обреченно посчптрел на
разноцветное возвышение, иуГшко и.цпчнул и снова заработал авторучкой.
Павел Романович расписывался на
своей фотографии и обложке блокнота, на
фотографии молодой красивой девушки,
на портрете Гагарина, на открытке с изображением Моссовета. Придвинул конверт,
вывел «Попович», так же механически
хотел отодвинуть его в сторону, передумал, взял в руки. В конверте была фотография малыша, по-видимому, первоклассника, напутанного большим портфелем, формой, степенной важностью родителей, подающих знаки, как себя вести.
В конверте была еще записка.
«Павел Романович,— писал
незнакомый автор.— Мои Игорь пошел в первый
класс. Через десять лет он станет перед
выбором: кем быть? Дайте совет. Напишите на фото. Я передам ему ваш наказ.
Геолог Мязин».
110
...Прошло десять лет, а он все не передал этого конверта адресату.
Попович расстроился. Не в силах сосредочиться, вертел в руках конверт, мучительно думая, как же отыскать геолога
Мязина.
Так он ничего и не придумал, что сказать собравшимся. Отчаявшись, махнул
рукой, полагаясь на свою интуицию.
Когда Павел Романович вышел на сцену, осмотрел сосредоченных курсантов,
заполнивших до отказа клуб училища, он
снова вспомнил о конверте, о фотографии
мальчика, которому он сделал наказ.
— Десять лет тому назад,— задумчиво
начал свою речь космонавт Попович,—
геолог Мязин прислал мне фото сына и
просил дать совет, кем быть. Тогда я написал: «Игорь! Профессия выбирается не
по совету, а по призванию. Нашей Родине
нужны настоящие люди. Стремись принадлежать к ним». По чистой случайности
я не передал этого письма геологу Мязину. Но если бы он снова спросил меня,
кем быть его сыну, я бы ответил — летчиком. Я не знаю, где Игорь Мязин и
кем он стал...
- Я здесь!
С крайнего кресла от центрального прохода поднялся высокий широкоплечий
курсант с короткой прической. В зале
псе мгновенно повернулись в сторону
гоноши.
— Вы сын геолога Мязина?— спросил
Попович.
— Так точно. Папа мне передал ваш
устный наказ. Я поступил в летное училище.
— Устный наказ? А где сейчас ваш
отец?
— Он погиб в тайге.
— Прости, Игорь что тот наказ я передаю тебе через десять лет. Там есть
еще одна фраза: «Ваш сын всегда может
вассчитывать на помощь».
— Спасибо, товасищ полковник.
АвиоционнЬш сувенир
Летчика-космонавта Георгия Тимофеевича Берегового попросили рассказать о
себе.
— Рассказать
о себе? — смущенно
улыбаясь, обратился он к присутствующим.— А что же я могу о себе рассказать? Жизнь, как жизнь, ничего особенного. Учился, воевал, испытывал самолеты, а теперь вот в космонавтах состою.
— Георгий Тимофеевич, вы что-нибудь о полете в космос.
— О нем уже столько написано, что
нового добавить нечего.
•— Тогда об испытательной работе.
— А что если я вам о войне расскажу,
а? Здесь присутствуют товарищи из Чехословакии. Я воевал в небе их страны,
принимал участие к освобождении ее от
фашистов. Мпжно?
Георгий Тимофеевич встал, вышел изза стола, расстегнул тужурку, освободил
руки для широких движений, задумался...
— Ну вот,— сказал, наконец, он.—
Было это в мае 1945 года, ке помню точно село, где мы спадали свой временный
грунтовой аэродром. В Чехословакии еще
не наступил мир. Недобитые фашистские
подразделения прятались в лесах, нападали на мирных жителей. В один из дней
фашисты открыли артиллерийский беспорядочный опии, но нашему
аэродрому,
стремясь уничтожить летчиков, самолеты, взрыхлить взлетно-посадочную полосу.
Гитлеровцы стреляли из укрытия и
меняли свои полиции. Найти их было
трудно. Нам стрелять беспорядочно нельзя — кругом мирные беззащитные жители. Получили приказ: найти эти кочующие бандитские группы гитлеровцев и
уничтожить их. День летаем, второй, третий — не можем найти. Днем они прячутся, ночью нападают на селения и города. Чехословацкие товарищи
просят
помочь. Да мы и сами хорошо понимаем,
что надо, но как?..
II вот однажды сидим мы в землянке,
над картой, соображаем. Входит к нам
группа мальчишек, человек пять-шесть.
Волнуются, сбивчиво рассказывают, что
знают они, откуда фашисты стреляют. И
что на колокольне местного костела спрятался их корректировщик. Переспраши-
ваем, уточняем, и выясняется, что ужемного дней они установили наблюдение
на всех дорогах в радиусе десяти километров. Ну и ну! Ведем ребят обедать, а
в это время один экипаж посылаем на
разведку в тот самый район, который указали ребята. Ребята голодные, а сами
едят плохо, волнуются: а что, если они
ошиблись? Вернулся разведчик, сел, вылез из самолета и бегом в столовую. Сердитый на вид.
«Кто из вас указал на тот район?» —
переспросил он напугавшихся ребят.
Молчат, жмутся друг к другу1- И вддат
встает один, остроносый, в коричневой
вельветовой куртке, и храбро, уверенный
в себе, говорит: «Я сказал».
Летчик бросается к нему, обнимает:
«Молодец, ты точно указал район. Вот
тебе на память от нас всех сувенир, авиационный компас. Новенький. Ох, как он
мне нужен. Но отдаю тебе. Иди правильным курсом».
Тут же в воздух поднялись боевые самолеты, и через час с фашистами было
покончено.
— Ну, а что с мальчиком?— спросил
кто-то из зала.
— Не знаю.
— А как его звали?
— Зденек! — сказал другой голос с
шестого ряда.— Зденек Хладик,— повторил он.
Георгий Тимофеевич рассеянно улыбнулся, не придавая серьезного значения
догадкам. Но... невысокий мужчина в
форме майора Чехословацкой народной
армии, поднявшись со своего места, напряженно всматривался в космонавта.
— Как его зовут?— тихо спросил Береговой.
— Зденек Хладик, товарищ генерал.
Простите,— поправился он,— майор Зденек Хладик.
Береговой тотчас же сошел в зал, к вытянувшемуся в струнку майору.
— Спасибо,
Зденек,— взволнованно
сказал космонавт.
— Это вам спасибо, товарищ генерал.
По тому компасу я сверяю свой путь.
Стал летчиком, а сейчас кончаю военную
академию.
111
Происшествие
Директриса музея Звездного городка
Татьяна Филипповна Беляева по обыкновению пришла на работу рано, когда за
окном еще не рассеялись утренние сумерки, открыла экспозиционные залы и, пока
не было посетителей, медленно обходила
дорогие сердцу стенды и витрины. У
каждого из них своя судьба, биография,
как у человека, и она может долго и увлекательно рассказывать об этом.
Татьяна Филипповна наизусть помнила, гдь' лежит какой документ, экспонат.
Здесь под стеклом подарки Герману Титову, а вот здесь у окна плюшевый медвежонок в костюме космонавта, приготовившегося к дальним межпланетным
путешествиям. Подарок друзей из Германской
Демократической
Республики
весьма символичен: медвежонок немецкий,
а вся космическая амуниция — советская.
В &ты"[ ьлтрпне, например, предметы, побывавшие в космосе: пионерские галстуки, комсомольские значки, блокноты, бортовые дневники, рисовальные карандаши.
Здесь же подарки от американских космонавтов: часы Фрэнка Бормана, копии
медалей Ю. Гагарина и В. Комарова, оставленные Нейлом Армстронгом на лунной поверхности, фотографии лунного
ландшафта и Земли, сделанные с загадочной Селены.
Вот подошло время, и Татьяна Филипповна вежливо пригласила посетителей.
СХппня «сколько групп.
Зарубежныэ
гости, делегаты всесоюзного слгта и поздесуншр мальчишки Звездного городка.
Осмотр начинается. Рассказ льется легко,
свободно, посетители следуют от витрины
к витрине.
— Прошу вас, товарищи,— говорит
Беляева, жестом приглашая
гостей к
дчльней стене большого зала,— обратите
внимание на эту экспозицию...
Татьяна Филипповна на минуту замолкает, ждет, когда подойдут остальные посетители, бегло окидывает взглядом фотографии космонавтов, размещенные по
всей стене, и, случайно взглянув на соседнкп' витрину, замечает, что нет часов
Фрэнка Бормана. Она вздрагивает, указка
выскальзывает из рук. Стоящие рядом
опускают глаза: на стене в общем ряду
112
фотографий космонавтов ее муж — с застенчивой улыбкой Павел Иванович.
Она взяла себя в руки, окончила рассказ, привела экскурсантов по остальным
комнатам, ответила на вопросы, приветливо раслрощалась и только тогда бросилась к злополучной витрине.
Еще сегодня часы «Ролликс» лежали
здесь. Теперь их нет. Надо немедленно
уведомить о пропаже... Но, может быть,
это недоразумение, ей просто не успели
сказать, что часы понадобились для каких-то целей.
А в это время в мастерскую по ремонту
часов вошли двое мальчиков лет по 11—
12, прикрыли за собой дверь и прильнули к стеклянному барьерчику, за которым
работал мастер.
— Что вы хотели, молодые люди?—
спросил их Лев Соломонович Меерзон, аккуратно укладывая в тарелочки механизм,
отверточку, монокль.
— Вы можете сделать часы?!—спросил один из вошедших, с родинкой на
правой щеке.
— Молодой
человек,— назидательно
сказал Лев Соломонович,— часы делают
на заводе, я же их чиню. Или, как теперь
говорят, ремонтирую.
— Нам надо сделать новые,— вступил
в разговор второй мальчик.— Очень быстро сделать и лучше, чем эти.
— Чем какие?
Мальчишка с родинкой посмотрел на
дверь и, убедившись, что никто в мастерскую не входит, протянул Меерзону бережно обернутые белой тряпочкой часы,
которые Лен Соломонович никогда в своей
жизни но видел. Они не вызвали в нем
ни ногтпрга, пи зависти к мастеру, их
изготовившему, потому он равнодушно
спросил:
—
Ну
II ЧТО?
— Надо сделать лучше п очень скоро.
— Сделать лучше? Зачем, почему? Я
не конкурирующая фирма.
— Это часы американского космонавта. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы наши были лучше.
— Сделать лучше американских? —
Меерзон берет монокль.— Позвольте.— и
начинает под настольной лампой рассматривать неведомый ему механизм.— Удивительно,
восхитительно,
превосходно.
Как я жвнимаю, вы должны немедленно
вернуть часы?
— Да, мы не можем оставить их вам.
— И не надо, мои юные друзья.—
Судьба поднимала Меерзона над всем его
прошлым, когда он мастерил, изобретал,
придумывал, но не строил, не создавал.—
Я сделай часы новые, оригинальные и,
конечна, лучше этих. Спасибо. Только
дайте время!
... Татьяна Филипповна, устав к середине дня от всех треволнений, решила
известить о пропаже. Направилась в свой
кабинет, к телефону, и, пересекая
зал,
завернула к злополучной витрине...
Часы «Ролликс» лежали на том месте,
на которое они
месяцев
тому
были
положены
много
назад.
ИнтервЬю
Встреча, которой так настойчиво добивался корреспондент газеты Гедеон Кровельщиков, наконец, состоялась в кабинете летчика-космонавта Владимира Шаталова.
После короткого приветствия Кровельщиков сразу перешел к делу.
— Владимир Александрович,— начал
он патетично,— читатели газеты всегда
с большим интересом читают о наших
космонавтах. Советские люди любят наших космонавтов. С неменьшим интересом мы читаем статьи космонавюв, их
книги, в которых они делятся своими знаниями, то есть выступают как простые
советские люди. Вы меня понимаете?
Гедеон и:; опыта своей работы знал,
что длинная речь корреспондента настораживает, вызывает недоверие. Поэтому,
наученный, он сделал паузу для ответа.
— Простите, Гедеон...
— Ах, пожалуйста, не надо по отчеству. Просто: Гедеон.
— Спасибо. Я вас не мог понять, так
как вы еще не сказали о содержании нашей беседы.
— Не сказал? Скажу, обязательно, ниже, потем. А вот до сих пор понятно?
— Я вас слушаю.
— Спасибо.
Кровельщиков знал, что в этом месте
надо улыбнуться. Снять, так сказать, напряжение, натянутость, вызвать расположение.
— Так. Владимир Александрович, читатели нашей газеты хотят знать ваше
мнение о кинл.
— О кино?
— Да, да, о кино. О советском и зарубежном, документальном и игровом,
любительском и публицистическом. Одним
словом: • современном кино.
8. «Байкла» № 6
— Но ведь...
— Знаю, знаю. Вы скажите, что вы не
специалист, не знаете кино и т. д. Вам
и не надо знать. Знать должны мы. Вы
скажете — вам некогда писать. И не надо — для этого есть мы.
Шаталов растерянно улыбнулся.
— В интервью мы поставим пять или
шесть вопросов. Вы курите?
— Нет.
— Простите.— Кровельщиков извлек
из бокового кармана пиджака пачку сигарет «Золотое руно», блестнул модной
японской зажигалкой, встал, хлебнул дыма, шагнул к стене. — Шесть вопросов.
Нет, пять. Я думаю, достаточно пять. Пять
самых емких,
социально
насыщенных,
профессионально глубоких. Итак, кино
в современном мире. Это — вопрос. Ответ: жизнь современного человека без кино не возможна, кино вошло в быт, стало
неотъемлимой частью... М-м, здесь надо
подыскать подходящее слово. Это потом.
— Не надо стесняться, Владимир Александрович,
цитировать
гениев,— бойко
продоллсал он после минутной заминки.—
Помните, в великолепном трактате Лукреция Кара «О природе вещей», написанном им две тысячи лет
назад, словно
предвидя рождение кино, сказано: «Нам
кажется, что изображения начинают двигаться, если они исчезают одно за другим
и сменяются новыми образами в новом
положении...» Сергей Эйзенштейн как-то
сказал: «Законченный фильм представляет собой ни с чем не сравнимое сонмище
самых разнообразных средств выражения
и воздействия». Думаю, что по первому
вопросу достаточно. Все это я изложу на
бумагу, почитаю, поправлю.
Через три дня, как было условлено,
ПЗ
сияющий Гедеон Кровельщиков переступил порог кабинета космонавта.
— Вот оно, детище ночей бессонных,—
торжественно провозгласил он и положил
на стол гранки интервью.— Вот здесь
скрепите своей подписью. Какие слова,—
не унимался корреспондент.— «Искусство
экрана — искусство синтетическое и коллективное. Синтез средств, а за ним и
сумма усилий необычайно расширили
сферу жизненного содержания, сделали
ее доступной для искусства почти без
изъятий». Прекрасно.
— Мне хочется все это прочитать.
— Пожалуйста. Послезавтра в нашей
газете.
— Мне бы хотелось сегодня.
— Владимир Александрович,— укоризненно сказал Гедеон,— газета — это про-
114
изводство, это фабрика, завод. Остановить
процесс невозможно.
— Передайте редактору, что по моей1
вине ваш завод не остановится. Пожалуйста, приходите завтра.
Утром следующего дня Гедеону Еровелыцикову вручили пакет с интервью и
передали извинения Владимира Александровича Шаталова, который срочно вылетел
в командировку.
В редакции, разложив гранки, корреспондент обнаружил перечеркнутыми все
подготовленные им ответы, а рядом широким, удлиняющим слова почерком ответы, написанные рукой космонавта.
Гедеон долго сидел неподвижно, читая
ответы Шаталова, а когда дошел до СЛ.ОБ:
«Беседу записал Гедеон Кровельщиков»,
взял синий редакторский карандаш и зачеркнул их.
В 1971 году группа советских этнографов участвовала в Тихоокеанской экспедиции на борту океанографического судна
«Дмитрий Менделеев». Ученые побывали на многих островах
Океании, собирая материалы для изучения быта, культуры, современной жизни папуасов, меланезийцев, полинезийцев, микронезийцев. В составе экспедиции работал ленинградский фольклорист доктор филологических наук Б. Н. Путилов, изучавший музыкально-песенный фольклор островитян. В этом очерке он описывает пребывание и работу этнографов на островах Фиджи.
Борис П У Т И Л О В
Там, где начинается день
Рано утром по левому борту открывается вашим взорам Впти-леву, главный
остров Фиджи. Чем-то представшая картина напоминает п а н о р а м у
кавказского
Черноморья, только силуэт лесистых гор
больше изломан. Впереди высится Виктория — самая крупная вершина островного хребта. К Вити-леву прижимается множество заросших I устий зеленью островков. Сколько всего остропив насчитывает
архипелаг Фиджи — этого точно сказать
никто не может. По одним справочникам
их триста, по другим — пятьсот, а в каком-то рекламном буклете я обнаружил
даже восемьсот: все зависит от того, считать ли самостоятельными единицами крошечные скалистые островки и песчаные
отмели, многие из которых появляются
на поверхности только во время отливов.
Даже из тех трехсот, существование которых признается всеми, около ста не заселены постоянно, фиджийцы приезжают
сюда только ловить рыбу или собирать
кокосовые орехи.
Через Фиджи проходит линия 180 меридиана: значит, именно здесь начинается
новый день. Для удобства по всему архипелагу действует одно время, а часовой
пояс вынесен восточнее,
в
открытый
океан.
«Дмитрий Менделеев» входит в залив,
в дальнем углу которого виднеется столичный порт Сува. Проход в бухту не
широк — по обе стороны простираются
на все видимое пространство рифы. Линия их отмечена сверкающей пеной при-
115
боя. На рифовых площадках, подступающих к проходу, лежат скелеты разбитых
судов.
Великолепна панорама города: он уступами поднимается вверх, сияющая белизг.а домов погружена в роскошную зелень, и эта могучая двухцветная красота
отражается в бирюзовой глади залива.
Сегодня Сува — столица одного из самых молодых государств .современного
мира: английская колония с 1874 года,
Фиджи получили независимость в октябре
1970.
Обстоятельства сложились так, что
большую часть стоянки мы, этнографы,
провели в городе. И хотя, конечно, истинная сфера этнографических изучений —
деревня, но и знакомство с бытом и культурой города многое дает для понимания
того, куда движется и какие процессы
переживает традиционная народная культура.
...В город мы идем, минуя пустынный
портовый двор, громадные склады, откуда тянет приторно-сладким запахом — пакуют копру. Группы темнокожих рабочих
обедают, сидя прямо на земле, хозяева
маленьких буфетов разносят тарелки г.
рыбой и маниокой, бананы, ломти арбузов, тут же в ведрах ополагкшшот посуду.
Уже через какую-нибудь сотню метром
мы в центре города. Напрасно искать
здесь туземную специфику — это современный, застроенный невысокими, м
два-три этажа, белыми зданиями юрод
с английскими лужайками, с рядами декоративных пальм, фикусовых деревьев,
широко раскидывающих свои кроны, с
обилием магазинов, деловых контор, туристских бюро, отелей, с довольно оживленным движением и густой толпой. Белые повсюду — в явном меньшинстве и
как бы теряются в массе туземцев. Заметно, однако, и другое: улица живет
словно двумя параллельными потоками,
один из которых составляют индийцы,
другой — фиджийцы. Индийцы, которых
в конце XIX века колонизаторы стали
привозить на острова как дешевую рабочую силу, постепенно осели здесь, Фиджи стали для них второй родиной. Теперь
уже граждане индийского происхождения
составляют около половины всего населения архипелага. Индианки — небольшого
116
роста, стройные, с длинными волосами,
легко и изящно носят свои традиционные
сари. Фиджийки — могучего сложения, с
крепкими ногами, широкобедрые, с курчавыми волосами, подстриженными на один
манер — круглым кустом. Ходят они в
свободных длинных платьях, поверх надевают еще кофты. Им тоже свойственно
свое особое изящество.
Сува — город контрастов не только
этнических, но и социальных: рядом с
роскошными
особняками — дома очень
плотно заселенные и без всяких современных удобств, а на окраинах стоят
наскоро сбитые лачуги.
Мы идем на знаменитой центральный
рынок Сувы. Здесь под высокими сводами на сотнях прилавков и столов, на
столбах, натянутых веревках лежат, висят, сложены в ящиках произведения
фиджийской туристской индустрии, чудеса океанийской экзотики. Здесь дары природы: раковины самой разной формы, величины, расцветки — от огромных тритоновых, желто-коричневых и красноватых
тонов до крошечных каури; высушенные
морские звезды — красно-желтые,
голубые, морские ежи с длинными иглами;
корзины из листвы кокосовых пальм с
кораллами, отмытыми до сверкающей белизны и покрашенными голубой, розовой,
красной красками. Здесь изделия традиционного народного ремесла: модели знаменитых парусных фиджийских лодок с
аутригерами, раскрашенные и покрытые
лаком резные деревянные мечи, луки и
стрелы, макеты легких туземных хижин,
искусно сплетенные корзинки, шкатулки, вырезанные из тяжелого дерева церемониальные сосуды. Всюду висят громадные полотнища тапы, выделываемой
из луба деревьев. Очень красивы многоцветные- длинные нитки бус из высушенных ме.тких плодов, зерен, маленьких раковин. Нп главное, конечно, от чего холодеет сердце и дух захватывает,— это
деревянные маски самых разных размеров, то выполненные в грубой манере, то
тщательно отделанные, отполированные до
блеска и покрытые лаком или краской.
Маски — непременная
принадлежность
меланезийского старого быта, обязательный
элемент культа,
обрядовых церемоний,
праздничных плясок и пантомим. Некогда с масками была связана целая система представлений о предках, о магических
силах... Отчасти эти представления и
серьезное отношение к маскам сохраняются и сейчас. Вместе с тем, маски —
это произведения искусства, они исполнены необыкновенной
выразительности:
застывшие человеческие лица с оскаленными зубами, с огромными глазами или
пустыми провалами вместо глаз смотрят
на вас с каким-то величественным спокойствием либо, напротив, с ужасом, с
угрозой... Поразительно умеют народные
мастера несколькими движениями резца
заставить говорить безжизненное дерево.
Рынок Сувы наводит на размышления
о судьбах народных традиций. Искусство
меланезийцев, уходящее своими истоками
в историческую глубь, всегда сочетавшее
типологию общих особенностей с неповторимостью каждого отдельного экземпляра, искусство, создававшееся и хранившееся в условиях племенного быта, ныне
выплеснулось на рынки, на городские
улицы, оно предлагается к продаже повсюду, и самый процесс изготовления традиционных предметов приобретает промышленный характер, необычайно убыстряется, подчиняется законам рынка, ставится на поток. И деревнях и пригородах,
на островках, где живут тысячк мастеров и
умельцев, всегда заранее знают, когда
придет большом туристский пароход, и
готовятся к этому.
После рыночной пестроты особенное впечатление прои.ишдит экспозиции этнографического музея. Кго небольшое здание
укрыто от ш у м а современной городской
жизни глубиной Ботанического сада. В
одном громадном зале, условно разгороженном на несколько частей, можно увидеть сразу и великолепную коллекцию
раковин и кораллои, и образцы фиджийской фауны, ч» преобладают предметы
народной культуры. Почти все, что мы
видели на рынке, есть и здесь, но только
в подлинных и старых образцах — меланезийское искусство и традиционное ремесло на их высшем уровне. Но здесь
есть и то, чего на рынке не увидишь. Я
обратил внимание на гигантские весла,
лопасти их были метров пять, а ручки —
не меньше шести метров длиной. Мне
припомнилась одна фиджийская эпическая
песня, где описывалась громадная лодка,
мачты и весла для которой приготовлялись из цельных стволов деревьев: оказывается, эпическая гипербола ненамного
увеличила реальные размеры. Маски и
здесь — самое замечательное, но они, ко-
нечно, много архаичнее, древние культовые связи в них обнаруживаются определеннее, а вместе с тем и ярче оттенена
индивидуальная выразительность каждой
из них.
На улице мы снова попадаем в водоворот праздничной толпы: идут последние
дни одного из главных годичных фестивалей
Фиджи — хибискус-фестивзля.
Название ему дало очень распространенное на островах дерево, покрытое в это
время года яркими красными цветами с
желтоват^л серединой.
На Фиджи в «зимне-весенний» сезон
фестивали следуют один за другим. Только что прошел Мбула-фестиваль (мбула —
слово, означающее высшую и самую теплую форму приветствия, знак гостеприимства), в октябре состоится Сахарный фестиваль. В день, когда мы пришли в Суву, выбирали мисс Фиджи. На другой день
мы были свидетелями главного фестивального торжества: по улицам города
прошла длинная и пестрая процессия. Ее
открывали живописный военный оркестр
и несколько колонн девушек в военизированной форме, затем на каком-то высоком сооружении проехала мисс Фиджи, а
дальше последовал карнавал — с ряжеными, с юношами на лошадях, одетыми
под североамериканских индейцев, с макетом фиджийской хижины, в которой сидели одетые по-традиционному туземцы,
с ансамблем гитаристов, с машиной, носившей громкое название «лунного санитарного отряда» (два парня одетые якобы в форму космонавтов, изнемогали от
жары)... В этом шествии регулярно повторялись плакаты, призывавшие содержать Суву в чистоте, а замыкалось оно...
машиной с мусорщиками, представлявшими как бы живое олицетворение тех же
призывов. Оказывается, одна из идей хибискус-фестиваля — пропаганда
санитарии.
Гвоздем праздника стали два фольклорных вечера в Альберт-парке. Но прежде
чем рассказать о них, надо коснуться того положения, какое занимает фольклор
в современной жизни Фиджи. Как и народное прикладное искусство, фольклор
вовлечен в туристскую индустрию. Во
всех рекламных проспектах наряду с модерными отелями на коралловом песчаном
берегу среди пышных пальм, где целые
дни можно проводить в закрытых бассейнах с кондиционированным воздухом, на117
ряду с «Оо-лоо-лоо» («Зов наяды») —
прогулками в специальных лодках со
стеклянным днищем, сквозь которое можно наблюдать
волшебную подводную
жизнь лагуны, предлагаются поездки в
отдаленные деревни, где все еще сохранилось «в своей неиспорченности». На
острове Бека демонстрируют свое искусство прославленные мастера хождения но
раскаленным камням. В деревне Вуланги
можно увидеть уникальный способ изготовления керамики. Программа на берегу
реки Рсуа начинается с традиционной церемонии встречи гостей. Под очаровательные песни туристам вешают на плечи
большие красочные венки салю-салю. Затем их ведут в хижину, где происходит
янггона — процедура приготовления и
питья кавы, традиционного напитка фиджипцев, и туземный банкет — мбуре.
Девушки и женщины исполняют нежные
песни и медленные танцы, а затем на
большой поляне, на фоне старинных туземных хижин юноши, одетые в костюмы воинов — обнаженные до пояса, с украшениями из листьев и цветов на _руках
и плечах, в длинных, до пят, юбкач
из цветных волокон, с копьями в руках,—
исполнят старинные военные пляски —
меке. А потом вся деревня будет провожать гостей к лодкам, и звуки прощальной песни «Пса Леи» разнесутся над водой, «завершая день, который всегда
будет жить в памяти туриста».
Рекламные проспекты особенно подчеркивают полную натуральность деревенской фольклорной программы и искренность ее «исполнителей», соединение
настоящего фольклора с настшицим шстсприпмством.
Что касается гостеприимства, то в это
легко поверить. Фиджийцам свойственны
природное дружелюбие, улыбчивость, с
этими добрыми качествами сталкиваешься
на каждом шагу. Что касается фольклора,
то здесь все сложнее. Одно дело — песня,
пляска, обряд в их естественных связях
с бытом, другое дело, когда фольклор из
непосредственной и жизненно необходимой бытовой сферы переходит в сферу
своеобразной эстрады. С ним неизбежно
происходят трансформации, и немало здесь
зависит от степени воздействия туристского меркантилизма.
Итак, вечера в Альберт-парке. На Фиджи живут представителя многих архипелагов Океании, и каждая из таких общин
118
прислала на фестиваль свои песенно-танцевальные группы, так что за эти два
вечера перед нами прошли выступления
папуасов с Новой Гвинеи, жителей Соломоновых островов, архипелагов Кука,
Самоа, Тонга, Гилберта, Эллиса и, разумеется,
многочисленных фольклорных
групп Фиджи, меланезийских и индийских. Наиболее архаична была, пожалуй,
военнная пляска с Соломоновых островов. Танцующие, с разрисованными телами и лицами, держат в руках копья и
палки, и воинственные движения рук —
имитация ожесточенной схватки, составляют главное содержание бурной и громкой пляски. У тонганцев обращает внимание дирижер: он управляет оркестром
и хором и одновременно сам включается
в танец, и то и другое он делает в шутливо-пародийной манере, жестикулируя и
корча рожи. Это — своеобразный трикстер, народный шут.
Замечательное искусство показывает
тонганец, совершающий бурную пляску
сначала с ножами, а потом с горящими
факелами. Беспрерывно жонглируя ими,
он успевает производить ошеломляющие
фигуры танца, ложится на спину и живот,
снова вскакивает и т. д.
Девичьи группы с Самоа и островов
Кука поражают изяществом движений рук
и выразительностью поз. Спокойные и
плавные движения вдруг сменяются быстрыми, танцующие, останавливаясь
на
месте, начинают покачивать бедрами, ускоряют это движение до предела.
А рядом с этими экзотическими номерами мы видели женские хоровые коллективы и:1 культурного центра, очень напоминающие паши городские самодеятельные ансамбли.
Фестивальные вечера в Альберт-парке
еще р.ч.1 убедительно показали, что современный процесс освоения фольклора
в фирмах новой культуры носит глобальный характер, и то, что происходит сейчас на Фиджи, очень выразительно характеризует один из его вариантов.
На утро после окончания хибискусфестиваля мы, наконец, поехали в деревню. Событию этому предшествовали любопытные обстоятельства, о которых стоит
специально упомянуть. Неожиданно фиджийские власти, которым был представлен проект научной программы работ, не
разрешили нашей экспедиции этнографические выезды. Было ли это просто недо-
разумение, вызванное не вполне точным
пониманием термина «этнология»? Стояло ли за этим оставшееся от колониальных времен предубеждение против этнологии как науки, изучающей «низшую»
расу? Или мы неожиданно столкнулись с
запоздалым рецидивом холодной войны?
Так или иначе, дорога в деревню этнографам с «Дмитрия Менделеева» оказалась
закрытой. Тогда я вспомнил о самостоятельности науки, которую представлял в
экспедиции,— фольклористики, и вместе
с Н. М. Гиренко, интересы которого лежали преимущественно в лингвистической
сфере, присоединился к отряду географов,
направлявшемуся в глубь острова.
Остров Внти-леву опоясан отличной дорогой, которая идет вдоль берега, моментами уходя немного вглубь и снова возвращаясь. На горных перевалах открывается безбрежность океана, жмущиеся к
берегу островки, белые отмели и опоясывающая все побережье лента кипящего
прибоя. Мангровые заросли, громадные
папоротники сменяются вырубленными и
расчищенными посадками. Мы проезжаем
плантации кокосовых пальм — царственные деревья чуть сгибаются под тяжестью громадных орехов. В одном месте
наших спутников-географов поражает открывшееся обширное пространство типа
пампасов с редкими группами фнкусовых
деревьев. Под их гиганскими
купами
спокойно может разместиться хорошее
стадо.
В течение первых полутора часов нас
ничто не привлекает. Мы проезжаем деревни явно пригородного вида, расположенные рядом с каким-то усадьбами, отелями, кемпингами. Сворачиваем с прибрежной магистрали и по просолку углубляемся в горы. По карте здесь должна
быть деревня, но мы ее не находим. Машина упирается в ручей, который, благодаря хлынувшему тропическому ливню, как нам кажется, на наших глазах
увеличивается в размерах. Пока его еце
можно перейти в брод, и первая группа
географов уходит в лес. Мы с Николаем
'Михаиловичем решаем не рисковать —
можем проплутать здесь, не встретив ни
одной живой души.
Возвращаемся на главную дорогу и
проезжаем еще с десяток километров, пока не натыкаемся на буквально у дороги
расположенную деревушку. Мы договариваемся встретиться па этом же самом
месте часов через пять, и машины уходят. Минутной остановки, однако, уже
достаточно, чтобы на дороге полнились
ребятишки. Их любопытство — хороший
признак: видимо, деревня приездами белых не ^збалована. На нашу просьбу —
провести к вождю в один голос отвечают,
что вождь уехал в город. А заместитель?—
с надеждой спрашиваем мы. Заместитель на месте, и мы идем за толпой ^ребятишек. Успеваем узнать, что деревня
называется Уайньячбиа, что она небольшая и что люди ее занимаются рыбной
ловлей и разводят огороды, а кое-кто работает по побережью на плантациях, в
отелях, у каких-то компаний.
Еще раз убеждаемся, как легко на Фиджи, во всяком случае, в прибрежных деревнях, устанавливать контакты. По-английски всюду, г,1° мы были, говорят
практически все, никакого смущения, недоверия.
Деревня мне сразу нравится. Конечно,
архаичных построек здесь нет, преобладают современного типа домики, аккуратные, легкие, попадаются халупы, сбитые
из кусков разноцветной фанеры, и лишь
одна-две хижины под высокими крышами
из пальмовых ветвей. В облике деревни
нет ничего рассчитанного на внешний
эффект, на рекламу, все просто, естественно и явно бедновато.
Заместитель вождя, сравнительно молодой фиджиец, делал что-то по хозяйству. Разувшись на крыльце, мы вошли
в дом. В большой комнате в углу стоял
высокий холодильник, работающий, как
позднее мы узнали, на керосине. Стол,
стулья, буфет — все это не имело никакого туземного отпечатка. На противоположной от двери стене висела длинная
узкая полоска тапы, под ней — традиционный набор семейных фотографий.
Вошла хозяйка, лет за тридцать, красивая, статная, с типичной фиджийской
шевелюрой. Мы невольно залюбовались:
были в ней какая-то естественная ВСЛИ.ЧРвость, спокойное достоинство, прямо-таки
царственность, которые вдруг посередине
разговора неожиданно пропадали, когда
она начинала смеяться взахлеб, взвизгивая от удовольствия и удивления при каких-то наших словах.
В деревне уже слышали о приходе
русского парохода, но никто его не видел. Объясняем цель нашего прихода, говорим о нашем особом интересе к фидПО
жийскому языку и песням. Заместитель
вождя понимающе покачивает головой,
что-то говорит жене, и та, заливаясь смехом, уходит. Он же усаживается с Николаем Михайловичем в стороне, и начинает долгий, неторопливый, требующий предельного внимания и терпения с обеих
сторон разговор о, терминах родства. Я
пока спокойно разворачиваю свое магнитофонное хозяйство. Мальчишки лет 9—10
притаскивают откуда-то гитару, и я для
начала записываю от них песню «Сени
Макосуи». Один из певцов, самый бойкий,
берется записать в мой блокнот текст
по-фиджийски и довольно быстро с этим
делом справляется. Я предлагаю мальчишке записать еще и английский перевод, и он храбро берется за ручку. «Я —
Сени Макосуи»,— выводит
он первые
слова, но в этот момент в доме появляется большая группа женщин, и работа
обрывается. Так и остались у меня на
память в полевом дневнике несколько
строчек текста веселой, задорной песенки
о цветке макосуи, записанные твердой
рукой маленького фиджийца.
Самой старшей из вошедших было, пожалуй, под шестьдесят, самой молодой —
лет двадцать семь. Они степенно расселясь полукругом на брошенных хозяйкой
циновках. У некоторых на руках были
дети, и они тут же начали сосать грудь.
Я обошел женщин, предлагая им сигареты. Никто не отказался. Одна из женщин
обратила внимание на коробку с изображением собаки. Я, обрадовавшись возможности начать разговор, рассказал о
Лайке. Женщины заахали, стали задавать
вопросы о нас, о пароходе, о России.
Я открыл альбом с видами Ленинграда,
вынул наборы открыток, русские сувениры. В полный восторг привела всех
«матрешка», и с этого момента установилась в комнате та самая обстановка легкого
веселья, непринужденности и некоторого
возбуждения, какая лучше всего способствует успеху фольклорной работы.
Одна из женщин, средних лет, принесла лали — небольшого размера ударный
инструмент. Лали внешне напоминает пузатую лодку, но внутренняя часть у него
выдолблена не глубоко. Эти углубления
идут по всей длине, иногда прерываясь,
или сделаны только в середине.
Женщина била по лали двумя палочками, барабан издавал сухие, острые звуки, очень хорошо гармонировавшие с пе120
нием. Удары палочек точно и подроби»
передавали ритмический рисунок песни.
Исполнительница, видимо, хорошо владела искусством игры на лали и явно гордилась этим.
Женщины, сидевшие передо мной, составляли слаженный деревенский ансамбль,
они привыкли петь друг с другом,
хорошо знали свои возможности и функции. Одна из особенностей пения состояла в том, что каждая песня велась ансамблем не прерываясь, словно бы на
едином дыхании. В тот самый момент,
когда одни певицы подходили к концу песенной фразы, другие включались и подхватывали ее, заканчивали и начинали
новую. Песня лилась непрерывным потоком, в котором отчетливо ощущалась цикличность и поразительная организованность и слаженность. Если к этому добавить многоголосный распев, великолепное
сочетание высоких, чистых и низких,
густых голосов, то можно представить,
какое наслаждение мы испытывали, слушая это пение. Правда, меня моначалу
несколько смущали какой-то низковатый
настрой исполнения, некоторая эмоциональная вялость. По поводу пропетой свадебной песни я даже рискнул сделать
вслух замечание. «Мне кажется,— сказал
я,— эту песню поют, громко хлопая в ладоши, притоптывая и с выкриками».
«Да, да,— заулыбались женщины.— Конечно. Но дело в том, что сегодня воскресенье, и нам петь вообще нельзя».
Вот, оказывается, в чем причина некоторой сдержанности певиц. Я совсем
забыл, что сегодня воскресный день, а
между тем с церковными запретами чтолибо делать (в том числе петь) в такие
дни нам уже приходилось сталкиваться на
других островах, а на Новых Гебридах,
например, вождь просто предложил приохать нам па следующий день.
Впрочем, женщины постепенно оживлялись, пение становилось все темпераментнее п громче, все чаще смех и веселые реплики слышались в комнате. Те,
что постарше, смущались от недостаточного знания английского языка, зато хозяши и самая молодая — пышноволосая
красавица с удивительно приятным глубоким голосом, ее звали Мэри,— говорили
за всех, тут же переводили по-фиджийски свои реплики, вызывая всеобщий
смех.
Мне хотелось услышать песни что ни
на есть обыкновенные, те, что поются по- теприимства. Эта песня — о гостях Сувы,
стоянно, что приходят на память сразу, о том, как мы приходим в порт, гуляем
что составляют непременную принадлеж- по городу, а потом уходим в море и возность быта. Несколько женщин совмест- вращаемся домой.
Дождь, ливший во время нашего конно спели две колыбельные на разные голоса. Затем спели две свадебные, причем церта и моментами даже мешавший запивторую *после моего замечания с задором, си, кончился, появилось солнце. С дорохлопками и громким постукиванием в ла- ги сигналят нам вернувшиеся из поездки
ли, с движениями, указывавшими на то, в горы географы. Мы торопимся к машичто под песню во время обряда танцуют. не. Из-под пальмовой крыши меня вдруг
Спели, пересмеиваясь, шуточную песню окликает голос Мэри. Смущенная, она
об осле и козле, а сразу вслед за нею — подбегает ко мне и протягивает связку
нежную любовную песню.
бус из белых мелких раковин каури и к
Вспомнили одну песню из недавнего английскому прощаяию добавляет с.шва
прошлого: в годы второй мировой войны из традиционной фиджийской песни: «Сафиджийские солдаты были посланы на лю, салю!»
Соломоновы острова для защиты на слуЯ вспоминаю эти слова на следующий
чай нападения японцев и провели там не- день, когда «Дмитрий Менделеев» ухосколько лет. Никаких героических моти- дит из гавани и мы в последний раз любувов в песне не было, а выражала она из- емся панорамой Сувы. Для меня фиджийвечные чувства и переживания женщин, ское гостеприимство и дружелюбие, стольожидающих своих родных и близких с ко раз воспетое в туристских проспектах,
чужбины и тревожащихся за их судьбу. теперь воплощается в тех нескольких чаНаконец, женщины заметно устали, к
тому же они пришли сюда, оставив до- сах, что провели мы в прибрежной деревмашние дела. В заключение они поют спе- не Уайньямбиа.
(
циально для нас песню фиджийского гос«Салю, салю!»
I/ /
Рапсод земли бурятской
В Иркутске, в Восточно-Сибирском издательстве,
вышло небольшое исследование кандидата филологических наук Р. А.
Шерхунаева о жизни и творчестве
известного сказителя Советской
Бурятии
П. М. Тушемилова!. Этот автор в свое время выпустил творческую биографию Аполлона Тороева (1964), исполнителя бурятского эпоса
Пеохона Петрова
(1969),
улигершина Парамона Дмитриева (1970).
Данная книга является как бы продолжением изучения самобытного искусства
бурятских
сказителей,
внесших
свой
вклад в общечеловеческую культуру.
Из советской бурятской фольклористики
известно, что Папа Михайлович Тушемилов — сказитель
самобытного и яркого
таланта и среди бурятского народа
он
пользовался
широкой
популярностью,
«громкой славой». Тушемилов неоднократно перед массовой аудиторией
выступал
и как певец, и как музыкант-хурист, и как
поэт-импровизатор. Он исполнял не только героические сказания — улигеры, но и
песни-загадки, уролы-благопожелания, исторические песни. Записывали от этого
сказителя песенный материал старейший
фольклорист Бурятии С. П. Балдаев, писатель И. Н. Мадасон и др.
Р. А. Шерхунаев в своем исследовании
не только знакомит нас с биографическими данными Тушемилова, с идейно-тематическим разнообразием его репертуара.
со сказительским мастерством, но и с той
средой, в которой
рос и формировался
как сказитель этот рапсод.
При
написании
монографии
Р. А.
Шерхунаевым использован большой материал из периодической сибирской печати
(дореволюционной и советской), неопубликованные материалы архивов Москвы,
Ленинграда, Улан-Удэ, Иркутска и Якутска.
В первом разделе книги очень подробно и ярко, на богатейшем историко-географическом и этнографическом фоне рассказывается об Унгинском крае, где в
улусе Мельхитуй родился сказитель П. М.
1
Р. А. Шерхунаев. Певец земли бурятской. Очерк о жизни и деятельности П. М.
Тушемилова. Иркутск, 1973, стр. 215.
122
Тушемилов. Даются подробные сведения
о родословной. Оказывается, что предки
Тушемилова занимались не только «исправным ведением хозяйства», но и ска.
зительством. Знатоками народной поэзии
и мастерами исполнения ее были прапрадед сказителя — Пеэтриг, прадед — Хамаган, дед — Тушемил и отец — Михаил.
Знала много улигеров, сказок и песен
бабушка сказителя — Сагаанай. А дядя
Петхооб был крупным исполнителем Гэсэра. Вот эти семейно-родовые поэтические традиции и были усвоены и продолжены в творческой деятельности
П. М.
Тушемилова. Но заметим
попутно, что
Папа Михайлович был не только талантливым рапсодом земли бурятской, но и
ее хозяином-тружеником, исправным колхозником: пахарем, жнецом, плотником,
скотоводом, исполнял и другие трудовые
поручения коллектива. «Жизнь этого человека,— пишет
Р. А. Шерхунаев,— бурное кипение, поиски, учеба, труд. Не получив систематического образования
в
школе, он учился у народа,
осваивает
его духовное богатство и опыт; выдвигается в число замечательных носителей и
творцов
устной поэзии своего времени»
(стр. 32—33).
Во втором разделе исследования Тушемилов показан как мастер
художественного слова. Сначала Шерхунаев знакомит
с богатейшим
поэтическим и музыкальным
репертуаром
сказителя, который
действительно неисчерпаем, дается пространная тематическая и жанровая характеристика репертуара.
Сказитель
знал
100000 стихотворных строк классического
улигера, много песен и сказок. Затем автор обращает наше внимание на сказительское мастерство Тушемилова: на манеру его исполнения, на искусство сказителя в передаче отдельных деталей, эпизодов. «Песни о битве с врагами,— говорит
Р. А.
Шерхунаев,— исполнялись
быстро, в темпе, с энергией и напряжением, что и создавало своебразную интонацию; у сказителя и внешний вид показывал жестокое сражение — мускулы на
лице наливались силой, смычок, водимый
правой рукой, отрывался от хура, взлетал
и описывал над головой какие-то круги»
(стр. 45). В итоге своего анализа твор-
ческого мастерства сказителя Р. А. Шерхунаев делает заключение, что П. М. Тушемилов «был незаурядным
артистом».
Такую характеристику сказителю
давал
и С. П. Балдаев. В 1961 году он писал:
«П. М. Тушемилов был крупнейшим сказителем, даровитым
народным
поэтом,
обладал феноменальной
памятью,
большим светлым умом, исключительной набл юдательностью»'.
Далее идет характеристика
отдельных
жанров, которые
входили
в
репертуар
Тушемилова: исторические песни, благопожелания и песни
свадебного
обряда,
поэтические произведения о новой жизни
при Советской власти.
Особенно интересен раздел об исторических песнях. Здесь много приведено
исторических фактов из прошлой жизни
бурят, на основе которых возникали поэтические тексты. Любопытна песня о
том, как «депутация» хоринских бурят в
1903
году ездила к Петру I с жалобой
на притеснения «селенгинских и удинских
служилых и всяких чинов людей». Интересны песни о русском дипломате, приближенном Петра I Савве Лукиче Рагузинском. В них повествуется о крепкой
патриотической дружбе русского
пограничного населения с бурятами и монголами, о жестокости китайских х а н о в и др.
В центре песни воспевается русский человек, который помог исстрадавшемуся от
постоянных столкновений с соседями народу в установлении мира и спокойствия
ча рубежах страны:
Людям спокойную жизнь установил,
Сделал передышку народу —
Посол, с большой славой,
С широкой известностью...
Хорошо написан раздел об импровизациях П. М. Тушемилова на тематику новой советской жизни бурят. Все они теснейшим образом связаны с богатой
нашей
действительностью и повествуют о
патриотизме советских людей, об их трудовом героизме.
Во всех
современных произведениях
сказителя проходит основная мысль, изложенная в виде поэтической
формулы,
что «ничего на свете нет богаче, чем
славная и великая родина моя», а «всюду
первое богатство — мой народ».
Хорошо
1
С. П. Балдаев. Бурятские' улигсршины
и гэсэршниы. Улан-Удэ, 1901, стр. 32.
сложены песни о Ленине. В них при создании художественного образа вождя мирового пролетариата сказитель мастерски
использовал приемы традиционной эпической поэзии. Особенно удачны у него сравнения:
Горные вершины озаряют
Солнце и луна,
Простой народ просветил
Могучий Ленин-учитель...
Небосвод озаряет блеском
Множество ярких звезд,
Народом мудро руководит
Ульянов-Ленин — учитель...
(стр. 183).
Вся книга Р. А. Шерхунаева написана
интересно, с большим знанием материала,
с глубоким пониманием и толкованием
поэтических текстов.
Исторические сведения и отдельные факты органически
увязываются с научным анализом творчества сказителя.
Подобные монографии
полезны не только для читателя-филолога, музыковеда или этнографа, но и для
читателя-любителя народной поэзии, для
студентов и школьников, которым необходимо знать наше культурное наследие.
Произведения
фольклора,
мастерски
исполняемые П. М. Тушемиловым, свидетельствуют о талантливости бурятского
народа, о его духовном богатстве, моральном облике, о неразрывной связи героического эпоса и других фольклорных жанров
с жизнью. И это очень важно при воспитании подрастающего поколения.
В конце книги дана исчерпывающая
библиография о творчестве П. М. Тушемилова. Может быть, следовало бы расширить
рассмотрение
художественного
мастерства сказителя, дать его в сравнительном плане с
мастерством Тороева,
Петрова, Дмитриева, чтобы ярче определить индивидуальные творческие особенности. В исследовании хотелось бы увидеть побольше образцов творчества П. М.
Тушемилова, особенно из его поэтических
импровизаций на современную тематику.
А может быть, их можно было бы поместить в виде приложений в конце книги. Но
это советы автору монографии на будущее.
Возможно, он продолжит свою работу и
учтет при написании новых монографий^ по
творчеству других бурятских сказителей.
В. СИДЕЛЬНИКОВ,
профессор, доктор филологических наук.
К выходу „Бурятско-русского словаря 4 '
К. М. Черезшсова
В издательстве «.Советская энциклопедия» вышел в свет «Бурятско-русский
словарь», составленный К. М. Черемисовым. По желанию читателей редакция
обратилась к специальному научному
редактору издания Н. А. Очирову с
просьбой рассказать об этом издании.
Редакцией словарей на языках народов СССР издательства «Советская энциклопедия» к пятидесятилетию
со дня
образования Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики выпущен в свет «Бурятско-русский словарь»
К. М. Черемисова.
Автор, Константин Михайлович Черемисов, является учеником известного ученого-ориенталиста академика Б. Я. Владимирцова. Однажды увлекшись изучением бурятского языка, К. Черемисов остался навсегда влюбленным и преданным
этому языку, исследователем и тонким его
истолкователем.
«Бурятский язык — это один из богатейших языков мира.— Такой язык должен быть у народа, который прошел
большой исторический путь развития»,—
пишет он. Автор не является носителем
бурятского языка — первоосновы словаря, и поэтому для него, иноязычного человека, каждое бурятское слово составляло находку, впервые обретенное понятие
или значение. Теперь можно представить,
насколько длинным был путь исследователя, приведший к составлению данного
словаря, притом наиболее полного из всех
словарей монголоязычных народов. Вре1
менами иному читателю может показаться, что ученый подходит к явлениям бурятского языка как бы с точки зрения
нормативов своего родного, то есть русского. Но это кажущееся явление, ибо>
толкование дается на русском языке, который в данном случае выполняет функцию зеркала, в котором отражаются значение и смысл бурятского слова. На мой
взгляд, такой подход обогащает словарь,
помогает раскрывать в бурятском языке
те оттенки, которые сами носители языка
зачастую не замечают, полагая все это
само собой разумеющимся и понятным.
Казалось бы, какой еще семантический
оттенок кроме как «охотно» можно найти
в слове «дуратайгаар»? К. М. Черемисов
приводит второе значение — «в любви»,
подкрепляя его примером: ухибуудые хизаар орондоо дуратайгаар
хумуужуулхэ
(воспитывать детей в любви к (родному)
краю). В данном случае ученому помог
творческий подход к исследуемому языку. Конечно, язык или его лексика состоит или складывается не только из так
называемых словарных форм (инфинитив
глагола, именительный падеж единственного числа имен, количественное числительное, полная грамматическая катего-
К. М. Ч е р е м и с о в . «Бурятско-русский словарь», изд. «Советская энциклопедия*. 44000 слов, 804 стр., 11 ООО'экз., Москва, 1973 г., цена 2 р. 34 коп.
124
рия), сколько из множества непонятных
для представителей другого языка (да и
не только другого) слов и форм, которые, вступая в связи между собой, видоизменяются не только
чисто
внешне
(склоняются, спрягаются и т. д.), но и
приобретают всевозможные новые смысловые оттенки. Словарь есть собрание
строго отобранных слов, но, говоря о двуязычном словаре, мне кажется, нельзя
забывать ту его особенность, что им пользуются в основном широкие массы. Однако зачастую даже языковеды затрудняются найти смысловой оттенок тех или
.иных словообразований без передачи их
значений в конкретно взятом контексте.
Те же ограничения так называемой традиционной словарной формы часто приводят к обеднению словаря не только по
причине слепого копирования опыта составления словарей русского языка, но
главным образом потому, что в бурятском языке (как и в любом другом оригинальном
языке) наличествуют формы,
не соответствующие общепринятым понятиям русской грамматической науки, являющиеся самостоятельно семантической
единицей.
В целом нам представляется целесообразным и оправданным включение в состав словаря
не только грамматически
аномальных по отношению к номинальной форме лексической единицы чисто бурятских образовании слов, но и родительного падежа некоторых имен, если он получает
прилагательный эквивалент на
русском языке. К примеру, родительный
падеж от слова «хазаар» (узда) дает прилагательное
«хазаарай»
(хазаарай морин), которое на русском получается эквивалент «верховой» (верховая лошадь).
Но родительный падеж от слова «морин»
{конь) не дает прилагательного, соответствующего русскому «конский». Русское
«конский» соответствует бурятскому прилагательному «адуупанай», выраженному
родительным падежом уже от другого слова. Следовательно, в словаре следует давать «адуупанай».
Однако надо оговориться, что вопрос с
родительным падежом продолжает оставаться спорным и составляет, может быть,
наиболее неразработанную в научном отношении часть словаря. Но все же в новом издании автор углубил теоретическую разработку многих частей словника.
Например, широко представлены анали-
тические прилагательные типа: мори тэрт», оро унаа и т. д.
Есть в лингвистической науке термин
«словообразовательная
мотивация»,
что
примерно обозначает образование и отношения группы слов в одном гнезде с тождественными корнями. Это не синонимы
и не омонимы. Отношения их в словообразовательном гнезде таковы, что каждое
слово добавляет новый семантический оттенок к исходному лексическому значению. Эти оттенки особенно заметны в
переводе, ибо приобретают не только семантический признак, но и яркую стилистическую окраску. По линии выявления
новых значений слов одного смыслового
гнезда словарь значительно пополнен, Например, в прежнем издании было 11 образований, относящихся к первородному
смыслу «удаан». В орфографическом словаре дано 16, а в новом издании «Бурятско-русского словаря» дано больше двадцати оттенков.
Автор стремится охватить и те формы,
которые с точки зрения прямого (чисто
грамматического) перевода на русский как
будто бы не являются словарными. При
таких условиях превалирующее значение
приобретает эквивалентный
(смысловой)
перевод. Когда автор стремится выявлять
все значения и оттенки бурятских слов,
употребление, казалось бы, даже однородных примеров оборачивается иногда неожиданными пояснительными нюансами,
которые в переводе приобретают совсем
иную окраску. В этом смысле, мне думается, метод подробных комментариев, метод наиболее полного выявления тех или
иных значений слов, к которому прибегает автор,
является наиболее приемлемым. Да и сама практика составления переводных двуязычных словарей в основном подтверждает это.
Следует отметить и второй момент, который объясняется
все тем же
стремлением автора охватить как можно больше
бурятских слов. Как известно, существуют различные типы словарей. И двуязычные переводные словари, в свою очередь,
могут дифференцироваться по своим назначениям. Они могут быть узко локальные, профессиональные,
наиболее
или
наименее полные. Это наблюдается особенно в тех языках, где имеется много
разного рода словарей. Подробный бурятско-русский словарь, как известно, издавался только один раз. Вполне естествен-
125
но, что в первом опыте, в первом издании многие словарные статьи были неполными, иногда давались неправильные
переводы, опускались те или иные значения отдельных слов. В уточнении и
исправлении подобных упущений автором
проделана большая работа. Кроме того,
автором привлечено значительное количество новых слов, ранее не отраженных
в словаре. Особенно тщательная и кропотливая работа проделана по выявлению
фразового окружения главных компонентов лексикализованны.х сочетаний. Да и
значения отдельных слов иллюстрируются
иногда со скрупулезной дотошностью. К
примеру, в прежнем издании против слова «ургэлжэ» было записано: постоянно,
беспрерывно, всегда, систематически, подряд, сплошь. И никаких примеров. Как
видим, переводные слова здесь отмечают
в основном два оттенка значения: временный и пространственный.
Для
бурята,
владеющего русским языком, возможно,
это понятно, но для человека, изучающего бурятский язык, очень трудно у я с н и т ь
себе многочисленные нюансы значения,
которые возникают при употреблении слова в сочетании. Поэтому вполне оправданно поступает автор, расширяя и углубляя разработку, подкрепляя .течения
примерами.
После первого издания словаря был илдан Указ Президиума Верховною Сонета
Бурятской АССР об усовершепп ноиашш,
обновлении бурятской орфографии и нмшел в свет во многом дополненный
(пи
сравнению с б у р я т с к и м с л о н п и к и м прежнего издания) орфографический слпи.чрь.
Естественно, что в новом издании словаря все это нашло отражение.
Бурятский язык относится к тем языкам, литературные и общеупотребительные нормы которого создаются на наших
глазах или, по к р а й н е й мере, продолжают
создаваться. Вообще говоря, лексическое
развитие любого языка идет по двум линиям. С одной стороны, возникают новые
понятия, новые слова; с другой стороны,
в условиях постоянного самообогащения
языка возникают новые значения старых
слов. Этот процесс особенно интенсивно
идет в тех языках, которые в силу качественно нового функционирования постоянно обновляются. В этом отношении существенную роль играет переводческая
практика. У нас, как известно, уровень
развития переводческого искусства достаточно высок. Мы переводим и классиков,
и общественно-политическую литературу.
Говоря применительно к нашему случаю,
когда общественно-политическая, социальная жизнь носителей языка коренным образом меняется, под влиянием переводовв языке происходит непрерывное изменение и обновление. Это изменение и обновление может происходить даже в рамках
одного слова, ибо в тех случаях, когда
не хватает новых слов, которые
могут
выразить вновь
возникающие
понятия,
они, эти новые понятия, выражаются с помощью старых слов, путем функционального варьирования их, путем изменения
их сочетаний. По мнению академика В. В.
Виноградова, «вне зависимости от его
данного употребления слово присутствует
в сознании со всеми своими значениями,
со скрытыми и возможными, готовыми по
первому поводу всплыть на поверхность».
В словарь включены некоторые интересные с лексической стороны или получившие широкую известность диалектизмы.
Как известно, диалектологического словаря бурятского языка еще нет. В силу повсеместного
внедрения
литературного
языка иные из диалектных
слов забываются. В этих условиях стала реальной
угроза утери лексического богатства языка.
Выход в свет во многом дополненного
и переработанного издания
«Бурятскорусского словаря», безусловно, большоегобытие в культурной жизни республики.
Но приходится сожалеть, что книга _вышла чалым тиражом.
В заключение я позволю себе вступить
п маленькую полемику с одним француз'•кич журналистом. В 1949 году некш1!
А п д р е Пьер в газете «Монд» писал: «Интересно, по что превратились поэмы Пушк и н а , такие тонкие по форме и музыкальные
по ритму, такие рафинированные, после перевода и\ на поневоле грубый язык бурятмонголоп, коми, якутов и чувашей...»
Высказывания подобного рода, вероятно,
объясняются по только так называемой
буржуазной высокомерностью автора, нои, мягко говоря, его
некомпетентностью.
Наглядным подтверждением ошибочности
таких суждений может послужить данный
«Бурятско-русский словарь» К. М. Черемисова, зарегистрировавший более 44 тысяч бурятских слов.
Н. ОЧИРОВ.
ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОЙ БУРЯТИИ.
Творческие портреты современных писателей. Улан-Удэ, 1973, 239 стр., 5000 экз.,
46 коп.
Сборник
литературоведческих
статей,
выпущенный к юбилею Бурятии, открывается обзором литературы за 50 лет. Далее
даются творческие портреты известных писателей республики, написанные ведущими учеными, критиками В. Найдаковым,
Е. Баранниковой, И. Кимом, С. Чагдуровым, Г. Туденовым, В. Махатовым, Ц.-А.
Дугар-Нимаевым и другими.
ЧИСТОЕ НЕБО ЗАБАЙКАЛЬЯ. Сборник рассказов. Улан-Удэ, 1973, 153 стр.,
15000. экз. 36 коп.
В сборнике наряду с известными писателями республики представлены новые литературные имена: С. Бухаев, М. Осодоев,
В. Николаев. Рассказы, включенные в сборник, в художественных образах отражают
коренные социальные перемены, произошедшие в Бурятии за 50 лет Советской
власти.
СЛОВО О ЗЕМЛЕ БУРЯТСКОЙ. Стихи. Улан-Удэ, 1973, 10000 экз., 1 р. 50 ко
Сборник стихов, оформленный как кассета, состоит из 25 поэтических книжек. Одна из них посвящена обзору бурятской поэзии. Автор ее — кандидат филологических
наук В. Найдаков. В год золотого юбилея
республики по особенному звучат стихи «о
великом и радостном обновлении родного
края» Н. Дамдинова, Д. Жалсараева,
Ц.-Б. Бадмаева, А. Бадаев:!, Ц.-Д. Дондоковой, В. Петонова, Ч.-Р. Намжилова и др.
ЖИМБИЕВ Ц.-Ж. Степные дороги. Роман. Авторизованный перевод с бурятского А. Китайника. Улан-Удэ, 1973, 268 стр.,
15000 экз., 59 коп.
«Степные дороги» — первое крупное прозаическое произведение поэта Ц.-Ж. Жимбнева, изданное на бурятском языке в
1967 году. В романе показана жизнь современного бурятского улуса Хангил, одного из колхозов Агинского Бурятского национального округа. Читатель познакомится с нашими современниками-сельчанами, их
делами и думами, побывлет на степных
дорогах гостеприимного бурятского края.
ГАЛСАНОВ В. Д. Ветер с Мундарги.
Улан-Удэ. 1973, 36 стр., 1000 экз„ 4 коп.—
па бурятском языке.
Книга очерков и зарисовок рассказывает
о делах и думах тружеников Окинского
района — доярке Х.-Ц. Л. Дугаровой, трактористе Ш. Гомбоеве, колхозном ветеране
С.-Ж. Ш. Хайдакове, учительнице Е. А.
Мункоевой, фельдшере М. П. Сагадаровой
и других.
ХАМАЕВ Ц.-Д. Душа поет. Стихи. УланУдэ, 1973, 40 стр. 1000 экз., 15 коп — н а
бурятском языке.
Отдельным изданием стихи Ц-Д. Хамаева, вышли впервые. В сборник включены
стихи разных циклов: «Юность», «О времени», «Душа поэта».
ГАЛСАНОВ Ц. Г. Звуки лимбы. Стихи.
Улан-Удэ, 1973, 112 стр., 2000 экз., 41 коп.—
на бурятском языке.
Перед читателями новая книга известного поэта, характерная черта которого —
отражение и осмысление основных особенностей времени. Гражданский пафос и лирическая взволнованность делают стихи
Ц. Галсанова проникновенными и впечатляющими.
ТАПХАЕВ Л. Узел. Стихи.
Улан-Удэ,
1973, 55 стр., 1000 экз., 20 коп.
Молодой поэт воспевает красоту своего
родного края — Тунку, которая по праву
считается одним из красивейших мест Бурятии. В лучших стихах Л. Тапхаева ощущаешь чувство слитности с делами и жизнью наших современников.
ЖАМБАЛОН А. Песня моя. Стихи.
Улан-Удэ, 1973, 42 стр., 2000 экз., 8 коп.—
на бурятском языке.
Книга стихов адресована детям старшего и среднего школьного возраста. Поэт
задушевно воспевает степной пейзаж, озеро Байкал, богатства родного края. Особенно удачными являются стихи из цикла
«Хозяин степей». Идеал поэта — это «Хозяин степей — трудовой человек».
НАМСАРАИН Б.-Б. Родник. Улан-Удэ,
1973, 16 стр., 3000 экз., 8 коп — на бурятском языке.
Книжка веселых стихов о природе, весне, животных привлечет внимание своим
содержанием и богатыми иллюстрациями.
В первую очередь «Родник» предназначен
для детей старшего дошкольного возраста.
127
л
,т
(7(#1ии ~ *
Л г/б
(7
1
Ниже публикуемый рассказ Всеволода Иванова «Гривеннику впервые был напечатан « курганской газете «Земля и труд» № 96 за 11 мая 1919 года под псевдонимом
«Всеволод Тараканов». В зауральском городе Кургяне писатель жил и работал в типографии до лета 1917 года, здесь он принимал участие в революционных событиях
и отсюда его направили на профсоюзную работу в Омск. Первый учитель и друг
Вс. Иванова поэт Кондратий Худяков служил секретарем редакции в газете «Земля и
труд», он охотно печатал молодого писателя. Хотя газета являлась органом «независимой социалистической мысли» (т. е. эсеров), однако «беспартийный» Худяков в ней
помещал как свои стихи и рассказы, так и произведения других литераторов, которые
были враждебно настроены к колчаковскому режиму. По совету Вс. Иванова Худяков
публиковал рассказы общего знакомого — Антона Сорокина, а также омских большевиков Ивана Малютина (рассказы «Одиночка», «В больнице», «На плотах») и Георгия
Петрова («Митька»), причем второй находился на подпольной работе в Омске и поэтому подписал свой рассказ пседонимом «Г. Рогожин». Газета преследовалась властями города, особенно за резкий протест против убийства сибирского писателя-демократа А. Е. Новоселова (статьи о нем писались Вс. Ивановым и Худяковым). В марте
19!9 г. Вс. Иванов присылает статьи о положении в «сибирской столице» под общим
названием «Письма из Омска», подписывая их псевдонимом «НИК». Одну из его корреспонденции изрядно порезала военная цензура, но даже в искаженном виде в этой
статье было дано беспощадное описание колчаковской резиденции — Омска. Вот, например, слова, предшествующие цензурой купюре: «На улицах много автомобилей.
Мелькают чешские, японские, американские флажки. Хриплые свистки. Запах спирта.
Холодные неподвижные лица шофероа. Улицы, полны народом. Много солдат. В толпе
бродят с любопытными огоньками в глазах канадцы. Хищнической спокойной походкой
мелькают спекулянты — богато одетые, сытые, с сигарами в руках и с такими взглядами, которые спрашивают: «Сколько стоит?»
Кафе, театры, танцевальные залы — переполнены. Преобладает приезжий элемент.
Танцует, пьянствует, флиртует. Откровенно, до цинизма. Мне кажется это потому, что
хотят забыть «кошмарную» Советскую Россию, ибо бежавшие преимущественно торгово-прокыш.-енники, чиновничество и проч. Тс, кто более всех пострадал, «страдает» от
диктатуры пролетариата».
В газете «Земля и труд» Вс. Иванов печатает и художественные произведения. В
№ 51 он опубликовал две миниатюры: «Похороны» и «Шимпанзе», подписав их двойным именем «Всеволод Иванов-Тараканов». В Курсане было у него много друзей, они
хорошо знали его как литератора и профсоюзного работника. И эта расшифровка им
помогала понять, кто скрывается под псевдонимом «Всеволод Тараканов». Кроме названных произведений, писатель здесь опубликовал фельетоны «Встреча» (№ 149) и
«Спичка» (№ 157) и рассказы: «Купоросный Федот» (№ 85), Гривенник» (№ 96), «ДуэнХэ, борец из Тибета» (№ 121). Первый из этих рассказов вошел в сборник «Рогульки»
(Оиск, 1919), второй никогда не переиздавался и был забыт самим автором, а третий
в переработанном виде, начиная с середины 20-х годов, переиздавался под новым названием «Последнее выступление факира» (он вошел и в собрания сочинений). Кроме
«Купоросного Федота», все названные рассказы печатались с указанием того, что они
входят в цикл «По блоку (листки воспоминаний)». Еще в апреле 1918 г. в омской газете «Согры» Вс. Иванов напечатал рассказ из этого же цикла «Шантрапа», потом появился рассказ «Американский трюк», кстати, они оба вошли в сборник «Рогульки»,
а последний тоже позднее переиздавался под названием «Чудо актера Смирнова».
В архиве Вс. Иванова хранится папка, озаглавленная: «Всеволод Тараканов. Рассказы. Омск, 1919», в которой содержатся рассказы из сборника «Рогульки», а также
газетные вырезки с рассказами «Дуэн-Хэ, борец из Тибета» и «Американский трюк»
(без указания источника). Это еще раз доказывает, что названные рассказы были заду чаны как произведения одного цикла.
Каждый из этих рассказов интересен и сам по себе, и как составная часть цикла,
и как предыстория романа Вс. Иванова «Похождения факира», над которой он работал до конца жизни.
М. МИНОКИН.
128
Всеволод
ИВАНОВ
Гривенник
Рассказ
Произошло это еще до войны.
Я и моя жена служили в «драматическо-комедийно-русско-украинской труппе» в одном из уездных городков, существовали от спектакля
до спектакля: то авансами, то клочками гонорара.
Когда внезапно( хотя явление это далеко не внезапное, а обычное) скрылся наш антрепренер, захватив кассу, так же внезапно, как
листья осенью (кстати, был конец сентября), рассыпались актеры.
— Подведем итог?— предложил я жене по приходе в комнату
«•меблированных со всеми удобствами номеров».
Жена обвела взглядом наш багаж и весьма красноречиво вздохнула:
— Одеяло — рубль. Парики и краски — два. А там — книги, белье
да чемодан. Разве фрак твой продать?
— А я в чем играть буду?
— Тогда делай, как хочешь. Я не знаю. А до станции восемьдесят
верст. Еще не забудь — хозяину две недели не плачено.
Жена опустилась на кровать и загрустила. Я прошелся несколько
раз из угла в угол. Потом решился:
— Аида пешком! Экономия...
Удивительные женщины! Ведь в положении ничего не изменилось
к лучшему, а жена развеселилась и даже что-то замурлыкала.
Да простит мне квартирохозяин (если он это читать будет), но
обманул я его с большим удовольствием. Ибо до тошноты опротивела
мне его блиноподобная физиономия с написанным на ней убытком, с
постными словами:
— Какие жильцы актеры! Маята...
Одеяло и прочее имущество я спустил в окно, сам туда же спустился. Жена вышла через коридор из дверей нашего номера, громко крикнув:
— Иду в клуб на репетицию!
Маленький степной городишко прошли в несколько минут. Дальше — степь. Мы сильно торопились. Мелькнули последний раз крылья
мельницы, кресты на соборной церкви и высокая каланча.
Люблю я степь осенью. Сухая, щетинистая, серая, как голодный
волк,— кровью наливается она в часы восхода и заката. И нигде, как
9. «Байкал» № 6
129
только в ней одной и только осенью, можно познать красоту серого —
огромного, всегда злого, всегда хмурого. Здесь нет мягких красок, нежных запахов — серая полынь, чьи горькие запахи господствуют беспредельно и, пожалуй, вечно.
Шли не торопясь. Наша собачонка, маленькая, не привыкшая к
ходьбе, скоро устала и умильно поглядывала на наши руки.
— Что, Тайка, устала?—спрашивала жена и брала ее на руки.
Собачонка старалась благодарно лизнуть жену в лицо.
Ночевали верстах в тридцати от города, у новоселов-хохлов. Хитроватые переселенцы удивленно расспрашивали у нас:
— Хиба нэма земли, що пришла нужда бродить, як слепцы?
И еще больше удивлялись, узнав, что мы совсем и не имеем желания пахать землю. Тут я услышал, как вкусно произносится некоторыми слово:
— 3-з-з-эмля!.. — протяжно, любовно и с большим сердцем.
Укладываясь на сноп соломы, жена довольным голосом сказала:
— Хо-ро-шо!
Но на другой день ничего хорошего не было. Подул частый здесь
северный ветер. Холодный, пронизывающий, поднимающий клубы удушливой, мелкой, как дым, пыли. Заходили по небу обрывки темных
туч, похожих на лоскутья.
— Дождь буде,— сказал переселенец, у которого мы переночевали. — Гостюйте ще.
— Пойдем,— решили мы оба.
— А по дороге кто будет?—спросила жена.
— А будут нимцы...
— Немцы? А какие?...
— Такие, що нимцы. Звистно. Колонисты...
Мы пошли.
Прошли верст десять.
Ветер налетал ш к в а л а м и , заставляя вздрагивать от холода. Туча
синяя с белым отливом заполостнула полнеба.
— Продрогла я,— сказала жена. — И Тайка замерзла.
Собачонка действительно д р о ж а л а , часто поднимала кверху черненький, точно шагреневый, носик и жалобно повизгивала. Ветер стих,
а через минуту пошел дробный дождь, называемый у нас «брозью».
Заряжает на пять-восемь дней.
Через час на дороге появилась грязь, платье на нас вымокло, потяжелело. Тяжел стал и багаж, который я тащил. Холод шел по'костям, ноги еле волочили уставшее тело, и нещадно ломило спину.
— Я, должно быть, простудилась — бок колет... А Тайка-то,
смотри!
Собачонка отстала, сидела у куста таволожки, трясла облепленными глиной лапами. Увидев нашу остановку, снялась и подбежала с
тихим визгом. Жена взяла ее на руки и, с трудом передвигая ноги,
пошла.
Так мы шли еще часа два. Вдали среди жирных скирд стали видны саманные хаты колонистов.
— Немцы! — обрадовалась жена.
Прибавили шагу.
Лохматые, сытые собаки с ленивым лаем наскочили на нас. Мы
полошли к главному строению с высоким крыльцом, с крышей в форме опрокинутого корыта. Постояли, подождали. Никто не показывался.
— Эй, кто есть! — закричал я.
Ответили мне лишь лаем собаки да Тайка громко завизжала.
130
— Слушайте!—попробовала кричать жена. Опять тот же результат.
Я поднял с земли глыбу глины и с силой бросил ее в дверь. Мере:»
минуту за дверями послышались глухие шаги. Звякнул засов, и в дверях показалась человеческая фигура — толстая, брюхастая, с угловатой белобрысой головой и короткими пышными усами. Поправляя подлгяжки, фигура спросила:
— Што?
— Разрешите обогреться,— сказал я.
— Опокрется? У меня харчовня? Нато свой, свой опокретса...
— Вам хорошо философствовать, стоя под крышей,— не выдержала жена,— а мы закоченели, понимаете?
— О-о!.. — повел неодобрительно усами немец. — Как ви разговаривать... Малатой фрау... О-о! — Он опять пошевелил губами и закончил: — Нато работать... Та-а...
— Мы работали, но раз нет работы, понимаете?
— Ви работайте?—подтянул брови немец. — Што ви работайте?
— Актеры,— со злостью сказал я.
— О о... Поет?
— И поет...
Немец покачал головой и сентенциозно заметил:
— Такой холот, ви гуляет... А-я-яй! И поет не будет... Та-а...
— Вот и пустите, черт вас возьми,— окончательно рассердился
я. — Коли вам так жалко.
— Нато свой... — сказал немец и повернулся к нам спиной.
— Скотина! — выругался я.
Закрывающий двери немец вдруг остановился и сказал:
— Ви работать путет?
— Пожалуйста.
— Пусть поет... Ми за рапоту платим... Ми справетливы... О-о...
Мы с женой переглянулись, у обоих мелькнула мысль: «Споем,
лишь бы пустил». Я немного подвинулся ближе к крыльцу, откашлялся и запел знаменитую кантату «Ринальто». В окнах показалось несколько любопытных лиц, из-за спины немца выглянулась чья-то стриженная голова. Жена отвернулась.
Я пел отвратительно. Слова падали скупо и бесцветно, словно в
колодец. Моросил дождь, слабо дрожало небо, точно из серой паутины. За домом, у колодца, лаяли на нас собаки.
Я пропел.
— О-о... карашо... — сказал немец. Достал кошелек, порылся в нем
и протянул мне новенький, блестящий гривенник.
Я повернулся и пошел. Гривенник со звоном покатился по ступенькам. Жена догнала меня уже на тракте. Поравнялась и показала
на ладони новенький гривенник.
— Брось! — сказал я.
— Нет, зачем же? Ничто так не украшает жизнь, как воспоминания. Это, кажется немецкая поговорка...
Публикация М. МИНОК.ИНА.
Наши публикации
Неизвестные стихи
Иннокентия Омулевского
Судьба рукописного наследия поэтадемократа II. В. Омулевского (Федорова,
1837—1383.) понстиге трагична. До нас
дошла лишь незначительная
часть
его
личного архива. Не сохранилась рукопись
романа «Шаг за шагом», бесследно пропало около 300 стихотворений в рукописях, оставленных на хранение у разных лиц в Петербурге, когда писатель
отправлялся в свою последнюю поездку
в Иркутск, где тяжело заболел.
Недавно при просмотре коллекции стихотворений (ЦГАЛИ, фонд 1346) мною
обнаружена большая тетрадь копий стихотворений Омулевского, восходящих к
его автографам. Владелец тетради, осуществляющий копии, кратко описывает
почти каждый автограф, даст в ряде случаев лаконичные комментарии, определяет примерную дату создания каждого текста, называет имена адресатов, к которым
обращены стихи, тщательно выпигыпаот
незавершенные экспромты. Отдельные аптографы переписчику не удалось разобрать, так как Омулевский очень часто
торопливо записывал их карандашом. Записи с автографов осуществлялись в хронологическом порядке (от 60-х до 80-х
годов). Среди обнаруженных стихотворений есть как опубликованные
тексты
(некоторые из них с подписью автора),
так и совершенно неизвестные, некоторые стихи приведены в 2-х редакциях.
€реди ненапечатанных стихотворений и
различных набросков (их насчитывается
несколько десятков) выделяются по глубине содержания и художественной отделке следующие тексты: «Над рекою Ангарой» («Из сибирских преданий»), «Не
рыдайте, ему не нужны...», «Мне все еще
132
не верится, что ты...», «На выси гор...»,
«Чрез миллионы лет на наших небесах»,
«Край далекий, край изгнанья», «В грозу и бурю»,
«Не кружися,
паренек»,
«Не могу идти с тобою рядом», «Раба
семьи и нищеты», «Настанет час—и для
меня навек...», «На поминках рассудка»
(«Итак, я властвую...») и многие другие. В ряде случаев достоверно устанавливается точная датировка стихотворений.
Так, под текстом «Песнь» («Предо мной
врат теперь одни...») указана точная
дата создания песни: 24 сентября 1880
года и стоит подпись автора. Найденные
тексты позволяют в известной мере расширить наши представления о содержании и тематике
лирики Омулевского.
Стихи вольнолюбивого поэта, беззаветно
порящего в светлое будущее своей родимы («Пройдут года — и ты, страна родная, во всей красе могучей расцветешь»),
написанные почти сто лет назад, не должны быть забыты. В годы политической
реакции и безвременья поэт мечтал о
свободной и счастливой жизни,
о той
светлой поре, когда «удушье в воздухе
пройдет».
Воспитанный на традициях
декабристов, находящихся в Сибири, революционный
демократ
Омулевский
воплотил
свою заветную мечту о счастье, о торжестве свободного труда во многих своих
стихотворениях.
Я снам не верю, но порой,
К тиши ночей, неотразимо
Передо мной проходит мимо
В чудесных грезах край родной.
И то уже не край изгнанья,
А край свободного труда,
Где благоденствия года
Давно изгладили страданья.
Я снам не верю, но пускай
Мне чаще снятся грезы эти,—
Пускай, как в матерь верят дети,
Я тоже верую в мой край.
(«Восточное обозрение», 1883, Л» 18).
Героями лирики Омулевского были революционные разночинцы, смелые и сильные духом, люди, борцы за правду на
земле («Стремленья к правде и добру —
какие славные стремленья...», «Дело святое за правду стоять»). Самые сокровенные, призывные слова поэта были обращены к молодому поколению («Светает,
товарищ», «Тост», «К молодому поколению», «Монологи», «О, юноши, не тот герой...»).
«Спешите, честные бойцы, за дело
родины святое!
Того, что сделали отцы,
От вас потребуется вдвое.
Немало текстов Омулевского положено
композиторами
на
музыку, например,
«Что тебе, дитя, не спится». («Сибирская
колыбельная»), «Думу ль горькую я задумаю», «Когда в душе моей шумит глухая буря», «Сибирь» («Если ты странствуешь, путник»), «Счастье» («Когда,
как дитя...»), «Много птичек...». Некоторые стихи поэта стали народными песнями («Эх, ты, жизнь моя горемычная...»).
Творчество Омулевского высоко ценил
Салтыков-Щедрин. В рецензии на роман
«Шаг за шагом» он одобрительно отозвался о стремлении автора правдиво изобразить молодое поколение, разночинцев,
людей с новым миросозерцанием.
Ниже впервые публикуются два неизвестных стихотворения И. В. Омулевского.
ЦАРЬ-ДЕВИЦА (Из сибирских преданий)
Над рекою Ангарой
Светит месяц молодой,
А по берегу, горой
Едет всадник удалой.
Гордо треплет он коня,
Похваляется ему:
«Есть красотка у меня
Не в сравненье никому1,
Ангара ли не чиста,
Не прозрачна, но и с ней
Не сравнится чистота
Сердца любушки моей!»
В ГРОЗУ И БУРЮ
На зло грозе и вихрю бури
В моей измученной душе
Покой безоблачной лазури
Царит во всей его красе.
Затем, что с этою грозою
Удушье в воздухе пройдет
И над ожившею травою
Трава гнилая зарастет.
И. ТРОФИМОВ,
кандидат филологических наук.
Надежда А Л Д А Р О В А
БУРЯТСКИЙ ИМЕНОСЛОВ
Хотя личные имена, источники их возникновения и функционирование издавна привлекают внимание исследователей,
антропонимы многих малых народностей
только начинают изучаться.
Анализ бурятских имен показывает, что
огромный национальный именослов претерпевает
заметные изменения, значительная часть его уходит вместе со старшими поколениями. Вот почему так актуально изучение
исконно
бурятского
пласта имен.
В этой статье речь пойдет о так называемых описательных бурятских именах:
с чем связано появление той или иной
группы, что служило основанием для наречения.
Среди исконно бурятских имен широко
распространены, например, такие, которые восходят к описательной характеристике их носителей по цвету лица: Сагаан — «белый»,
Сахнр — «бледный»,
Улаан —«красный»,
Хонгор — «румяный», Шара — «желтый», Хара — «черный». Почти все они имеют производные:
Сагаан — Сагаадай,
Сагаалай, Сагаадар,
Сагаахан,
Улаан —- Улаама, Улаадай,
Улаахай, Улаахан, Шара — Шарнай, Шарахан, Шархуунай, Шарнуу и т. д. Эти
имена бытовали до недавнего прошлого
как личные имена. Теперь встречаются
в фамилиях и отчествах, а в качестве
имени еще употребляются у лиц лет сорока и старше.
Понятно, что не все Сагааны, Сагалаи
были белыми, а Шарнай — желтыми, то
есть с течением времени имена оторвались от первичного своего значения. Но
134
то, что первоначально они обозначали
цвет кожи нарекаемого, подтверждает наличие имен
Хара
Хубуун — «Смуглый
мальчик»,
Сагаан Хубуун — «Белый
мальчик»,
Шара
хун — нарицательное
сочетание, обычно обозначает белолицего
с легким румянцем на щеках.
Однако надо иметь в виду и другое
толкование слов с основой сагаан — не
только «белый», но и честный, добрый»:
сагаан Ьанаан — «чистосердечность», сагаан сэдьхэл — «незлобивость,
добродушие». II значит, основанием для выбора
имен с основой сагаан могли быть и чистота, честность, доброта именуемого или
пожелание, чтобы он был таким.
О древности этих имен говорит их наличие не только в бурятских легендах и
преданиях, но и в монгольском и калмыцком языках.
Ч. Содном, исследователь монгольской
антропонимии, появление подобных имен
относит к старомонгольскому,
раннему
периоду, аргументируя тем, что они встречаются в произведениях устного народного творчества монголов и в «Сокровенном
сказании» Рашид ад дина, относящемуся
к XIII в.
В бурятских легендах
и
преданиях
можно найти немало подобных наречений. Достаточно назвать Ьуудак Сагаана —
внука родоначальника племени Эхирит,
Сагаалая — сына
родоначальника рода
Алагуй, Сагаана — отца Готола и др.
(см.: С. П. Балдаев. Родословные предания
и легенды бурят, ч. 1. Булагаты и эхириты. Улан-Удэ, 1970). Отсюда можно еде-
лать вывод, что антропонимы, восходящие
к характеристикам первых носителей, так
же древни, как древни многие из племенных и родовых групп вошедших в состав
бурятского народа.
Поводом для наречения новорожденных
служили и телесные недостатки, чаще всего — предметные особенности ли~
ца, фигуры. По своему происхождению
имена подобного рода — прозвищные. Их
прозвищность, необычность подчеркивается яркой экспрессивной окраской, подбором слов-синонимов из изобразительной
лексики языка. Часто такая описательная
характеристика внешности ребенка опиралась на обычай воздерживаться от звучных, красивых имен, дабы не обратить
на ребенка внимание злого духа.
Вот примеры пристального внимания
имятворцев к внешнему облику нарекаемого: Ахар — «короткий, низкий, приземистый», Ардай, сравнкте ардайха —
«быть щупленьким, плюгавеньким», Балдарк, ср. балдагар — «толстый, тучный»;
Борсой, ср. борсогор —1) «съежившийся,
скорчившийся, сжавшийся, подобравшийся; 2) «смятый»; 3) в переносном значении— «невзрачный, жалкий»; Болсогой,
ср. болсогор — «выпуклый, круглый, пухлый»; Могсой ср. могсогор—«маленький,
короткий, куцый»; Хабтай, ср. хабтайха—
«быть плоским», Хабтагар—«широкий и
плоский» и т. д.
Ныне подобные имена встречаются только у престарелых, старше 70 лет, людей и
в составе отчеств и фамилий.
Имя становилось своеобразным кратким
словесным потретом, запечатлевшим особенности формы головы, носа, глаз, ушей,
шеи, щек, губ: Елбоон ср. елбогор—«узкий»; Далбай ср. далбагар—«широкий,
плоский»; Шобхой ср. шобхогор—«острый, остроконечный», Морхоосой, Ыорхоодой, Морхоос, Морхооной, Морхоон, Морхо,
ср. морхойхо—«быть с
горбинкой (о
носе)»; Мархай ср. мархагар — «большой,
картошкой (о носе); Хамардай от хамар—
«нос»; Шантай, Шантаан, Шантахай, ср.
шантагар—«курносый, вздернутый» (о носе); Урбадай, Урбахан, ср. урбайха—
«быть вывернутым» (о веках); Дарбай ср.
дарбагар — «оттопыренный» (об ушах):
Хазай, Хазагай, ср. хазагар — «кривой,
искривленный, кособокий»; Шобоон, ср.
шобойхо — «вытягивать трубочкой губы»:
Дульбии, ср. дульбииха — «оттопыривать
губы, дуться». Подобные прозвищные име-
на имеются во многих бурятских районах
Иркутской, Читинской областях и Бурлтии.
Не ограничиваясь изучением фигур, лиц
своих подопечных, имятворцы давали характеристики и по манере ходить, передвигаться, носить волосы, ухаживать за собой. Появлялись антропонимы, являющиеся экспрессивной оценкой этих привычек
человека: Балгандай, Балган — «увалень,
неуклюжий»; пабхандай, Сапхандай, ср.
пабхагар — «растрепанный,
лохматый»,
Дагдаан, ср. дагдайха — «быть всклокоченным, лохматым», Дагай, Дагса — вероятно, антропонимы образованы от существительного даг — «грязь, пачкотня». Одни
имена образовались метонимически, то есть
во внимание бралась какая-то часть тела,
и ее «особые приметы» становились основой имени (Хамардай), в других именах
характерная физическая особенность объекта носит описательный характер: Елбоон, Молпоон, Далбай, Хазагай и др. Таких имен гораздо больше, чем метонимических.
Еще одна группа личных имен — антропонимы, отражающие темперамент называемого.
Спокойный, уравновешенный человек
обычно высоко котируется у восточных народов. Так, в именах Аыгалан, Номгон,
Энхэ выражена высокая оценка людей
мирных, спокойных, может быть, даже
кротких и тихих. Не случайно все они являются словами высокого стиля: Энхэ —
«спокойный, мирный, благополучный»,
амгалан—«спокойный, мирный», номгон—
«спокойный, тихий, кроткий».
Антропонимы со значением резвости,
быстроты и порывистости содержат разное
отношение авторов. Если в именах Тургэн,
Бушуу подчеркивается проворство, расторопность, то пабхандай, Сабхандай, Оксогой являются отрицательной характеристикой людей суетливых, торопливых, крутых и резких. В личных именах, правда,
категоричность этих значений смягчена,
внутренняя форма их стерта.
В именах отражался весь нравственный
кодекс народа. Бардам — называли человека чванного, кичливого, Билдуу —
льстеца, угодника, Харатай — завистливого к чужому добру.
Столь же определенао и недвусмысленно противопоставлены ум и глупость, несообразительность, наивность, легковерие,
неосторожность. Имена со значением ума,
понятливости восходят к словам высокого
135
стиля, противопоставленная группа — к
просторечию, нечто нейтральное — имена
со значением наивности: Бэлиг — «мудл
ро ть, ум, разум, дарование», Эрдэм —
«наука, знание, ученость»; Оюун—«ум,
разум»; Сэсэн—«мудрый,
мудрец, мудрость»; Мангар, ср. мангар хун — «простак, простофиля», мангар — «глуповатый,
малосообразительный»,
Гэнэн — «наивный, легковерный, неосторожный».
Из этих активно употребляются в современном именнике бурят те, что отражают тягу к знаниям, науке, имена, восходящие к просторечным словам, выходят из
употребления.
Небольшую группу составляют прозвищные имена — характеристики детей
раннего возраста. Ласкательные, часто с
добрым юмором прозвища младенцев получали поначалу права гражданства в кругу семьи, постепенно становились достоянием соседей и превращались в имена. Так
появились Амхай и Амша — беззубые, Алсаан — тот, кто ходит широко расставляя
ноги, «пугливый» Сошомхсй и вызывающий насмешки своим видом Онгоодой
(«раскрытый; разинутый» — о рте).
Здорового, крепкого, младенца называли Бажагар, Бужага, Бужэгэр, кругленького, пухленького — Тухэреэн,
звонкоголосого плаксу — Хонгео и т. д. Возможно,
в основе таких антропонимов тоже были
пожелания, чтобы ребенок был здоровым,
крепким, звонкоголосым и веселым.
Антропонимы, отражающие обстоятельства рождения, составляют ныне небольшую группу.
Так, уроженец Качугского района Л. Б.
получил при рождении имя Бутуухэн (ср.
бутуу — «закрытый, глухой»). Рассказывают, что такое имя приобретали дети, родившиеся в рубашке. Замай (ср. зам —
«путь дорога»)—так мог быть назван ребенок, родившийся в дороге, во время кочевок. Распространенная группа имен с основой ногоон («зеленый; трава»): Ногоон,
Ногоодой, Ногоолой, Ногоохон, Ногоошхо —
указывает на время рождения человека —
пору цветения природы, появления сочной
травы и зеленого наряда рощ и лесов. К
ним же можно отнести антропонимы Сэнхэ,
Бороон (сэнхэ — «иней», бороон в ольхонском, качугском говорах, где встречается
это имя, имеет значение «буран, вьюга,
снежная буря»).
О древности имен этого семантического
ряда свидетельствует наличие
подобных
136
антропонимов в бурятских генеалогических
преданиях. Так, внук Хэнгельдура (Хингыдыра) носил имя Хура. Это слово в говоре
Качугского района, где живут представители рода Хингыдыр, означает «дождь».
Основанием для образования антропонима служил и порядок рождения ребенка.
Имена Табдай от табан—«пять», Зургаан,
Зургаадай—«шесть», Долоон, Долоодой—
«семь», Найман—«восемь», Юпэн—«девять», Арбан—«десять» в истоке своем
указали, которым по счету в семье был
новорожденный. Старики рассказывают,
что в старину родившемуся от престарелого отца давали имя в соответствии с годами отца: Жарантай, Далантай, Наянтай,
Ерэнтэй—имена образованные от числительных 60, 70, 80, 90. (См. Лодон Линховоин. Заметки о дореволюционном быте
агинских бурят. Улан-Удэ, 1972, стр. 78.).
По разному можно осмыслить имя Хорен—
«двадцать», которое могло быть наречением двадцатого ребенка, могло указывать и
на молодой возраст отца. Тот, кто именовался Хэнзэном, мог получить имя по рождению от пожилых родителей и потому, что
был слабеньким, болезненным, ибо слово
«хэнзэ» имеет значение: вторая трава, родившийся осенью, слабый хилый. Так что
исследователь бурятской янтропонимии не
всегда придет к однозначному решению относительно содержания прозвищных имен,
возможны несколько одинаково звучащих,
но разнозначных антропонимов.
Наречение ребенка по каким-либо приметам, связанным С' ^его появлением на
свет, издревле известно по родословным
преданиям и легендам монгольских народов. Так, предание о происхождении дэрбэтских князей кости Цорос рассказывает,
что будущий князь получил имя Цорос потому, что мать, небесная царевна, вынужденная оставить младенца людям, снабдила его закрытой молочной чашкой е носиком, которую дарбэты называли «цорбогор
аяга». По названию чашки, заменившей
ему материнскую грудь, он и получил имя
Цорос.
Еще несколько примеров, приведенных
Балдаевым в уже указанной нами книге:
родоначальник одного из РИДОВ племени
Эхирит ребенком был найден в волчей норе. Охотники назвали его Шоно—«волк».
Основа Хамнай, встречающаяся ныне и
в качестве личного имени и в составе фамилий, отчеств, связывается в преданиях
со словом хамнаган —• «эвенк». Хамнаем
был назван сын от эвенкийской женщины.
Об имени Халтубай говорится в предании, что нареченный родился в необжитой
местности, богатой травой, лесом и дичью
(Хоолта байра — Холтубай).
Сохранилось предание о происхождении
зунгарского рода. У одного бурята родились два сына-близнеца.
Одного из них
мать кормила грудью, держа на правой руке, второго—держа на левой руке. Поэтому
первого назвали Барунгар (.от слов баруун
гар— «правая рука»), второго — Зунгар
(зуун гар—«левая рука»).
Думается, часть толкований древних
имен восходит к более поздней эпохе и потому ложно называет источники наречения.
Важно однако, что все они отражают действительные и активные способы образования имен и свидетельствуют о широком
распространении подобной мотивировки
при наречении ребенка. При отсутствии
письма закрепление в имени отдельных обстоятельств из жизни человека позволяло
лучше запомнить и отличить его от других.
Этот способ наречения сохранился до
относительно недавнего времени, до принятия христианства и буддийской религии, о
чем свидетельствует следующее предание.
Один из младших представителей первого
готолова рода был назван Холоно.ч, так как
отец его, родом из далекий Куды, ездил
наниматься в батраки в долину Иды, где
и обзавелся семьей. Имя сына образовано от
слова '.холо» — «далеко». Холон являлся
прадедом некого с русским именем Петраха. Жаль, что на этом родословная обрывается. Однако ж и это обстоятельство говорит о недавних представителях рода.
К описательным именам косвенной характеристики примыкают также прозвищные имена, образованные от названия занятий, склонностей и привычек, официальных и религиозных звалий.
Один из древних пластов составляют
антропонимы, связанные с охотой и другими ремеслами. Например: Тубша—(уст.)
«главный руководитель облавной охоты»,
Галша—(уст.) «староста охотников, разводящих на отдыхе один общий костер; главный шаман во время облавной охоты».
Между кандидатами в тубши и галши устраивались состязания, проверявшие не
только силу и меткость в стрельбе, но и
смекалку. Одержавший победу и удостоившийся звания получал
неограниченную
власть над сородичами не только на время
охоты, но я в повседневной жизни. Впол-
не возможно, что имя батора с течением
времени забывалось, и в качестве такового
переходило к потомкам его звание.
Имя Дархан встречается почти во всех
районах и областях, где жлвут
буряты.
Популярностью своей антропоним обязан,
вероятно, тому что издревле кузнецы
славились как мастера на все руки. Они
были исполнителями не только кузнечных
дел, но и мастерами по серебру, золоту. В
Монголии со времен Чипгис-хана этим словом обозначались люди, особо отличившиеся. Это был почетный титул-награда за
заслуги, которой удостаивались ближайшие соратники и дружинники хана. (См.
комментарий С. Д. Дылыкова в книге
«Халха Джирум. Памятнгк монгольского
феодального права XVIII в., М., 1965).
В антропонимах — названиях должностных чинов и званий четко прослеживаются пласты, восходящие к различным эпохам. Ясно, что до проникновения ламаизма
в Бурятию (XVII в.) никому не пришло бы
в голову называть новорожденных ламскими степенями и званиями. Распространение и упрочение ламаизма, начиная с 17
века, его социальная значимость в то время сказалась на именах: Лама — священнослужитель; Хубрак—послушник дацана;
Банди — ученик у лам,
ламский послушник, Номшо (книжник, уст.)—«богослов, соблюдающий обет»; Эмшэ (уст.)—•
«лекарь».
Эти наречения, ложно посвящая ребенка в духовный сан, призвалы были оградить его от действия злых сил, и в лтом
одна из причин популярности имен, связанных с буддизмом.
В следующей группе имен закреплены
устаревшие социальные понятия и антропонимы, возникшие после приобщения к
администрации царской России: Нойон
(уст.)—«начальник; занимающий какойлибо пост»;
Дарга—начальник,
Албата
(уст.)—«подданный, данник»;
Барлаг—
батрак, наемный работник; ЗайЬан (зайсан)—младший административный чип в
дореволюционной Бурятии;
Таршанай—
старшина (административный чин в дореволюционное время); Сотник, Казак и др.
В своем истоке эти антропонимы были
связаны
с действительными званиями,
склонностями и привычками именуемых.
У монголов титулы и звания, присвоенные
за определенные заслуги яа одном из общественных поприщ, часто вытесняли собой личные имена. (См.- Н. Л. Жуковская.
137
& вопросу о соотношении социального
титула и личного имени у монголов.—
Ономастика Поволжья, 2. Горький, 1971).
Подобные антропонимы наиболее ярко
отражают социальное и экономическое положение носителей. Однако социальны не
только подобные имена. Как пишет В. А.
Никонов в своей статье «Личное имя —
социальный знак» социальны все антропонимы и всегда: они существуют только в
обществе и для общества, возникают и
функционируют в определенных условиях
как необходимый элемент человеческого
общения и мышления. Имя несет многоплановую информацию и материальной, и духовной истории соответствующего общества.
Наконец, сохранилась небольшая группа бурятских прозвищных имен, образованных от названий различных конкретных предметов. Это происходило, пишет
Л. М. Щетинин в книге «Русские имена»,
«на метонимически основе, в экстраординарных условиях, когда представителем
человека становится название
предмета,
занимавшего постоянно или в момент создания прозвища непропорционально большое место в его жизни». К таким антропонимам можно отнести: Бозо—вид творога,
Аарса— «питательный,
жаждоутоляющий
напиток», Тогоон—котел, чугун, Малгай—
шапка, головной
убор; Бээлэй — рукавицы; Тобшо — пуговица, Бусээ (монгольское) — «пояс, кушак»Надо заметить, что имятворческие традиции отличаются общими закономерностями для разных языков. Так, прозвищные
имена были представлены в старом русском именослове, который нашел свое отражение в фамилиях. Русскому крепостному крестьянству, основной массе населения, фамилий не полагалось вплоть до
1861 года — падения крепостничества- У
некоторых небольших народов Сибири, где
процесс становления фамилий еще более
запоздал, связь между прозвищными именами и современными фамилиями тем более очевидна.
Нисон ХОДЗА
ЛечитЬся будем потом...
Водитель Петухов вез через Ладогу ящики с боевыми запасами.
Вез—-торопился. Но не повезло старшине Петухову: попала м а ш и н а
в ледовую трещину.
Выпрыгнул старшина из машины да и сам угодил в воду. Изловчился он, ухватился за край льдины, выбрался кое-как из воды. Выбрался и давай скорее ящики из машины на лед перетаскивать. А
мороз — двадцать пять градусов с ветром! Одежда на водителе вмиг
обледенела. А у Петухова только одна мысль: скорее ящики разгрузить. Станет трещина шире — все оружие -на дно пойдет.
Нельзя, нельзя, чтобы такое случилось!
А руки на морозе прямо одеревенели и ноги едва двигаются — валенки насквозь промокли, обледенели, каждый валенок пуд весит! Но
(16 сдается с т а р ш и н а , из последних сил перетаскивает на лед ящики.
Тут иа счастье машины на трассе показались. Водители заметили
беду Петухова, бросились помогать. Вовремя помогли. Только перетащили последний ящик — раздалась трещина, и машина ушла под
воду.
Доставили Петухова в санитарную палатку, думали, что он обязательно заболеет. А старшина обсушил у печки одежду, поспал пару
часиков, съел котелок каши и пошел -к выходу.
Доктор кричит:
— Стойте, товарищ старшина! Должен вас осмотреть, выслушать.
Вдруг у вас воспаление легких!
— Старшина отвечает:
— Лечиться будем потом, когда война кончится. А сейчас воевать надо.
Сказал так и пошел к автомобильной трассе ловить попутную машину. Чтобы успеть к ночи в новый рейс отправиться.
ВолшебнЫй ^отелоК
Шофер Маков не спал почти двое суток. И сейчас его сильные
руки сжимали баранку, но глаза поминутно слипались. Не было сил
бороться со сном. Поблизости рвались снаряды, грохотали зенитки,
гудели в -небе бомбардировщики, а Маков словно ничего не слышал,
одно лишь твердил себе:
— Не спать! Не спать!
Окончание. Нач. в № 5.
139
А глаза все равно слипались, и не было сил поднять веки.
— Терпи!—приказывал себе Маков. — На обратный путь котелок
возьмешь!
Вскоре его трехтонка остановилась на западном берегу. Подбежали солдаты, стали разгружать машину. А Маков вылез из кабины,
облокотился на радиатор, и тут же заснул стоя.
Кругом шум, гсвор, м а ш и н ы тарахтят, а Маков ие слышит, спит
богатырским сном.
Разгрузили солдаты м а ш и н у , стали будить Макова:
— Иди, друг, в землянку. Поешь малость и ложись, поспи.
В это время подходит командир батальона. С командиром — полковник незнакомый. Командир говорит Макову:
— П р и к а з ! Срочно доставить товарища полковника на тот берег.
Маков — руку к уша'нке, отвечает по-флотски:
— Есть доставить товарища полковника на тот берег. Сейчас поедем, только за котелком сбегаю.
А полковник как сел в кабину к Макову, так и з а х р а п е л . Даже
не слышал, как машина тронулась.
Сколько-то километров п р о е х а л и — поблизости с н а р я д р а з о р в а л ся. Полковник сразу проснулся от взрыва. Посмотрел на Макова, объясняет:
— Больше суток не спал.
— Спите, спите,— говорит Маков,— нам еще во-н сколько ехать!
•—• Выспался! — отвечает полковник. И видит — над головой котелок болтается. А в котелке что-то бренчит.
Удивляется полковник: зачем водителю т а к а я музыка.
А Маков объясняет:
— Это я, чтобы не уснуть, чтобы шум над ухом был.
Еще больше удивляется полковник:
— Мало тебе шума от бомб, снарядов и зениток. Шумнее некуда!
А Маков опять объясняет:
— К такому шуму мы привыкли. Даже в н и м а н и я не обращаем.
Под бомбежку да обстрелы водитель на Ладоге спит и сны видит. А
спать нам нельзя. Вот я и придумал — котелок вешать, а в котелок
гайки бросить. Звякают г а й к и п р я м о над самым ухом. Очень противный звук, совсем непривычный. Начисто сон отгоняет!
Объясняет Маков, а сам зорко по сторонам посматривает: задание надо выполнить в срок!
Наступила глубокая осень. Ладога покрылась льдом. Как доставить теперь в Ленинград хлеб и оружие? Машинами. Но выдержит
ли лед?
Тогда ученые люди провели и з м е р е н и е льда и сказали:
— В конце ноября лед выдержит груженную машину.
И тогда на лед сошли грузовики.
Галина Н И К О Л А Е В А
:ЛюбовЬ П Р И Ш Л И :
Юмореска
Утром Ою'на с к а з а л а мне:
— Намжилка, если ты быстро сделаешь уроки, я возьму тебя
в театр.
Наша Марьстепановна говорит, что, если разобраться, в каждом
человеке есть что-то положительное. В своей сестре я уже р а з о б р а л ся: в ней положительное то, что она обо всем честно предупреждает.
Вот и сейчас я чуть было не сел делать уроки, спасибо, она вовремя
сказала. Конечно же, я сразу выскочил из-за сто.ча и стал и г р а т ь с котом. Потому что я не хочу никуда ходить с Оюной: -ни в кино, ни в
детский театр. Она всегда .смотрит какие-то скучные спектакли и картины, где много говорят и ничего не случается. А меня она т а с к а е т за
собой потому, что м а м а ее одну не пускает. Мама боится, что Оюна
может пойти не тем путем, если не будет сдерживающего присутствия
ребенка.
Но это неправда, Оюна и без меня бы пошла тем же с а м ы м путем: мимо гостиницы «Байкал». Потому что там она встречается с
Владиком. А потом они всю дорогу говорят о скучном. И вообще, с
ними ходить — тоска зеленая.
Я Оюне так и сказал. И еще сказал, что больше не пойду на ее
скучные карти'ны даже за водяной пистолет.
— Умные люди всегда могут договориться,—сказала Оюка.—
Хорошо, что рядом есть кинотеатр. Я возьму тебе билет на фильм про
шпионов.
Сама Оюна с о б и р а л а с ь посмотреть какую-то очередную «Любовь».
Она вечно смотрит что-нибудь такое: «Любовь в Симле», «Коварство
и любовь», «Любовь пришла».
Вообще, эта с а м а я любовь — с т р а н н а я штука, я в ней 'не разбираюсь. Как-то уж так получилось, что до сих пор я ни разу не влюблялся. Удивительно, конечно: человек дожил до второго класса и еще
не был влюблен! У нас почти все ребята н а ч а л и влюбляться еще в
детском саду. А один парень из второго «б» д а ж е говорил, что самое
сильное чувство он испытал еще в ясельном возрасте и теперь уже
больше не способен на настоящую глубокую привязанность.
Я спросил у Оюны, может ли человек не заметить, что он влюбился. Потому что, может быть, эта с а м а я любовь давно п р и ш л а , только
я не знаю об этом?
141
Оюна сказала, что так быть не может. Присутствие любви человек ощущает ежеминутно. Чувства в нем так и бурлят. Влюбленный
человек способен на любые жертвы ради своей любви. Он все может
простить своему возлюбленному — все, что угодно! Более того, сказала Оюна, влюбленный и к другим людям становится добрее, потому
что любовь облагораживает его. Тот, кого он любит, для него теперь
не прсгто Катя, Баир или Намжил, а Он или Она—с большой буквы. Ради того, чтобы быть вместе с предметом своей любви, влюбленный готов отдать вч;е на свете!
Оюна говорила, как диктор по телику, и я подумал, что она это
где-то вычитала. Но Оюна обиделась на меня. Она сказала, что в
восьмом классе о любви уже не читают, ее переживают. И что мне
этого не по'нять.
Моя к а р т и н а кончилась раньше, и я пошел пить воду. У меня было пятнадцать копеек, и я на все выпил воды. Какая-то тетенька сказала, что так много пить — это неосмотрительно. Я и сам уже понял,
что это неосмотрительно, потому что подальше на углу продавали мороженое. Чтобы не расстраиваться, я пошел скорее к театру. И тут
я увидел Ее.
Я сразу понял, что Она мне нужна. За то, чтобы мы были вместе,
я не пожалел бы даже заводной вертолет. Но я решил все-таки проверить свои чувства. Я спросил себя, все ли я могу Ей простить. И
понял, что все, даже этот розовый бантик, хотя я терпеть не могу эти
цевчачьи штучки.
Она стояла совсем одна, и я обрадовался. Потом я подумал, что,
может быть, Она ждет кого-то, и мне стало тяжело. Но тут Она сама
посмотрела на меня. И я понял, что должен к Ней подойти. Я был
здорово влюблен, только вот чувства во мне почему-то не бурлили.
Я стал потихоньку приближаться к Ней. Но тут появилась Оюна
и дернула меня за руку.
— Ну, вечно он лезет к чужим с о б а к а м ! — з а к р и ч а л а Оюна.— Он
дождется, что его будут водить на прививки!
Оюна потащила меня за собой, а я все оглядывался и оглядывался. А потом Ее не стало видно, потому что мы завернули за угол.
А тут чувства забурлили во мне. Они б у р л и л и так сильно, что Оюна
покраснела и стала громко говорить своему Владику про какую-то
«режиссерскую находку». А меня она больно щипнула за руку. Но я
даже не разозлился на нее, наверное, меня облагородила любовь.
Я потихоньку шел о б л а г о р о ж е н н ы й и н а ж и м а л ладошкой на живот,,
чтобы чувства не так бурлили...
Содержание
журнала „Байкал" за 1973 год
ПОВЕСТИ
ЖИГЖИТОВ М. От Святого до Горемыки.
№ 1
КОМЯКОВ В. Сказание о комдиве Балдынове.
№№ 3, 4
ПАПОРОВ Ю. Тропами подводными. № 5.
СТЕНЬКИН В. Рассказы чекиста Лаврова.
№6
СТРУТИНСКИЙ
Н. Во имя Родины.
№№ 1, 2
БАИРАМУКОВА X. Вдова пророка. № 5.
РАССКАЗЫ
ОШАНИНА Т. Бабы.
№ 1
СКВОРЦОВ Ю. Кряква.
№ 4
ТРУБАЧЕЕВА Е. Серебрянный подстаканник.
№ 6
ЖИЛКИНА Е. Свет.
№ 6
СТИХИ,
ПОЭМЫ
БАЛДАНО Н. Побратимы. Драматическая поэма.
№ 3
ГУМЕНЮК В. Улица В. Б. Борсоева.
№ 4
ДОНДОКОВА Ц.-Д.
Бурятия — Родина
моя!
№3
АНГАБАЕВ С. Зов. В Москве. Памяти
Д. Улзытуева. Колхозник по имени Даши.
Родное село. Окружили меня твои стихи.
Смеха твоего нити прозрачные. А у меня
сегодня грусть прошла.
№ 6
ГЭСЭР.
№№ 1, 2, 5, 6
ОШАНИН Л. Диалог о Че Гевари. № 1
САМБУЕВ М. Пью солнце. Песни о любви.
№. 3
НАМСАРАЕВ В. Онон.
№ 4
РУМЯНЦЕВ А. Мастер.
№ 4
КРШИЖАНОВСКИИ А. Начало. № 4
ЩИТОВ А. Из путевой тетради.
№ 4
ЖАЛСАРАЕВ
Д.
Бурятские
напевы.
№ 5
ЧИМИТОВ Г. Дороги. Чабанская юрта.
Человек старины. Скажи мне правду. Глоток воды. Сердце.
№ 1
ПУБЛИЦИСТИКА
ПИВОВАРОВ
тиям.
Н. Путь, равный столе№ 1
АСЕЕВ Л. Рабочий класс Бурятии. № 2
МОДОГОЕВ А. Под знаменем ленинизма,
в семье народов-братьев.
№ 3
ЛИПАТОВ В., НЕЧАЕВ И. Солнечная ягода.
№ 1
ПРУСОВА Ф. Блокада.
№ 1
КАРНЫШЕВ К.
Северные зарисовки.
№3
БАЛЬБУРОВ А. Какая это понятная загадка — Австрия. Книга о Бурятии, или
двенадцать моих драгоценностей. №№ 2, 3
4, 5, 6.
БОЛОТИН А. Славу отцов — на вооружение молодежи.
№ 3
НИКОРОВА С. Школа и театр.
№ 3
МИТУПОВ Б.-М., КАРНЫШЕВ К. Зерна и всходы.
№ 4
СЕРОВА О. Озаренный.
.\ь 5
СОКОЛОВ А. Кабанские приметы. № 5
НАВОДКИН
Л. На главном направлении.
№ 5
ГУМЕНЮК В. Шаг навстречу
земле.
№ 5
РОДОПСКИ X. Незабываемые встречи.
№ 6
ИГНАТЬЕВ И. На подъеме.
№ 6
МАЛИКОВ .М. Байкал. Некоторые вопросы охраны.
№ 6
БЕЛОКРЫС М. Редкие книги.
№ 4
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
БАЛЬБУРОВ Э. На полях «Байкальской
тетради».
№ 1
КОЧЕШКОВ Н. Первая книга о народном искусстве бурят.
№ 1
ОКЛАДНИКОВ А. Книга о культуре социалистической Монголии.
№ I
ГАРМАЕВА
С.
Обновленные традиции.
№ 2
ЛИПАТОВ В Повесть о детстве. № 2
БУЯНТУЕВ Б., УЛАНОВ Э. Здравствуй, наш северный брат — Якутия. № 2
БУРНАШЕВА X. За власть
Советов.
№3
МАХАТОВ В. Ведущий идеал. О традициях интернационализма в бурятской
советской литературе.
Л° 3, 5
ДАМДИНОВ Н. Летопись народной
жизни.
№ 4
ОЧИРОВ Н. К выходу сБурятско-русского словаря» К. М. Черемисова. № б
143
В. СИДЕЛЬНИКОВ. Рапсод земли бурятской.
№ 6.
АВИАЦИЯ И КОСМОС, ВЕК XX
МИТРОШЕЩОВ
В.
Юрий
Гагарин.
Л"о 1
ДАВЫДОВ И. Жизнь на переднем
крае.
№4
МАЛАХОВСКАЯ Е. Были о космонавтах.
№6
ХОРОБРЫХ А. В кресле над бездной.
№ 2
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
ГОЛЕНКОВА А. У истоков открытий.
№ 1
КОНДРАТОВ А. Тайнопись египетских
жрецов.
№2
ГУРУЛЕВ С. О древних именах Ьайкала.
№3
ШМУЛЕВИЧ М. Краеведческие заметки.
№3
КУЗНЕЦОВ В. У истоков цивилизации.
№ 4
ПУТИЛОВ
Б. Там, где начинается
день.
№6
НАШИ
ПУБЛИКАЦИИ
КРАВЦОВ В. Троицкосавская конференция социал-демократических организаций
Сибири и Дальнего Востока.
№ 1
ХИТЫНОВ М. Брак и семья в социалистической Бурятии.
№ 2
ГАЛИЕВ В. Еще одно неизвестное письмо Д. Банзарова.
№ 3
МАНЖИГЕЕВ И. Место Д. Банзарова
в истории религиеведения .
№3
ТРОФИМОВ
И.
Неизвестные стихи
Омулевского.
№ 6
УДЕРМАН А. «Механизм» творческих
сил Генриха Гейне.
№ 2
ТВОРЧЕСКИЕ
ПОРТРЕТЫ
БАЛЬБУРОВ А.
Певец байкальского
Подлеморья.
№ 1
ТУДЕНОВ Г. Биение сердца.
№ I
КУНИЦЫН О. Пойте всегда, Чимита!
№4
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
КОЛЛЬЕР Д. Деньги дьявола.
№ 1
НЕСИН А. В наш дом газеты не приходят.
№ 2
,К КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ.
АКПЕРОВ
3.
Великий
поэт-гуманист.
№5
НАСИМИ И. Газели. Добрый день. Все
существо мое любовь, как город, заняла.
№5
ЭРДЭНЭ С. Африканка.
№ 5
ГАГИЕВ Б. Человек.
№ 5
РАДЖАБИ Т. Узбекистан.
№ 5
БАЙКОБУЛОВ Б. Памятники. № 5
УРАЕВ С. Саксаул.
№ 5
САРЫГ-ООЛ С. Чайке Бурятии. № 5
ЛИ ЦИН-ЧЖАО.
Строфы граненой
яшмы.
№ 5
СПОРТ
БАДМАЕВ
В.
Мужество
чемпиона.
№ 1
ХВАН Д. Боец ринга.
№ 3
ХАРАХИНОВ В. Горизонты боксеров
Бурятии.
№ 4
ЛЯСОТА А. Ринг. Некоторые выводы.
Предложения.
№ 4
«БАЙКАЛ» — ДЕТЯМ
ИЛЬИН К.
По следам старого письма.
№ 2, 3
КИРИЛЛОВА Л. Барабан. Моя жарптица. До свидания, горка! Тучи. Ливень.
№ 2
ХОДЗА Н. Цена хлеба. Подвиг Антошихина.
№№ 5, 6
САТИРА И ЮМОР
ЯПЬКОВ Н. Легкий труд.
№ 2
(ЮСОВ М. Рассказ.
№ 6
Н И К О Л А Е В А Г. Любовь пришла. №6.
Цена 60 коп.
Индекс 73019