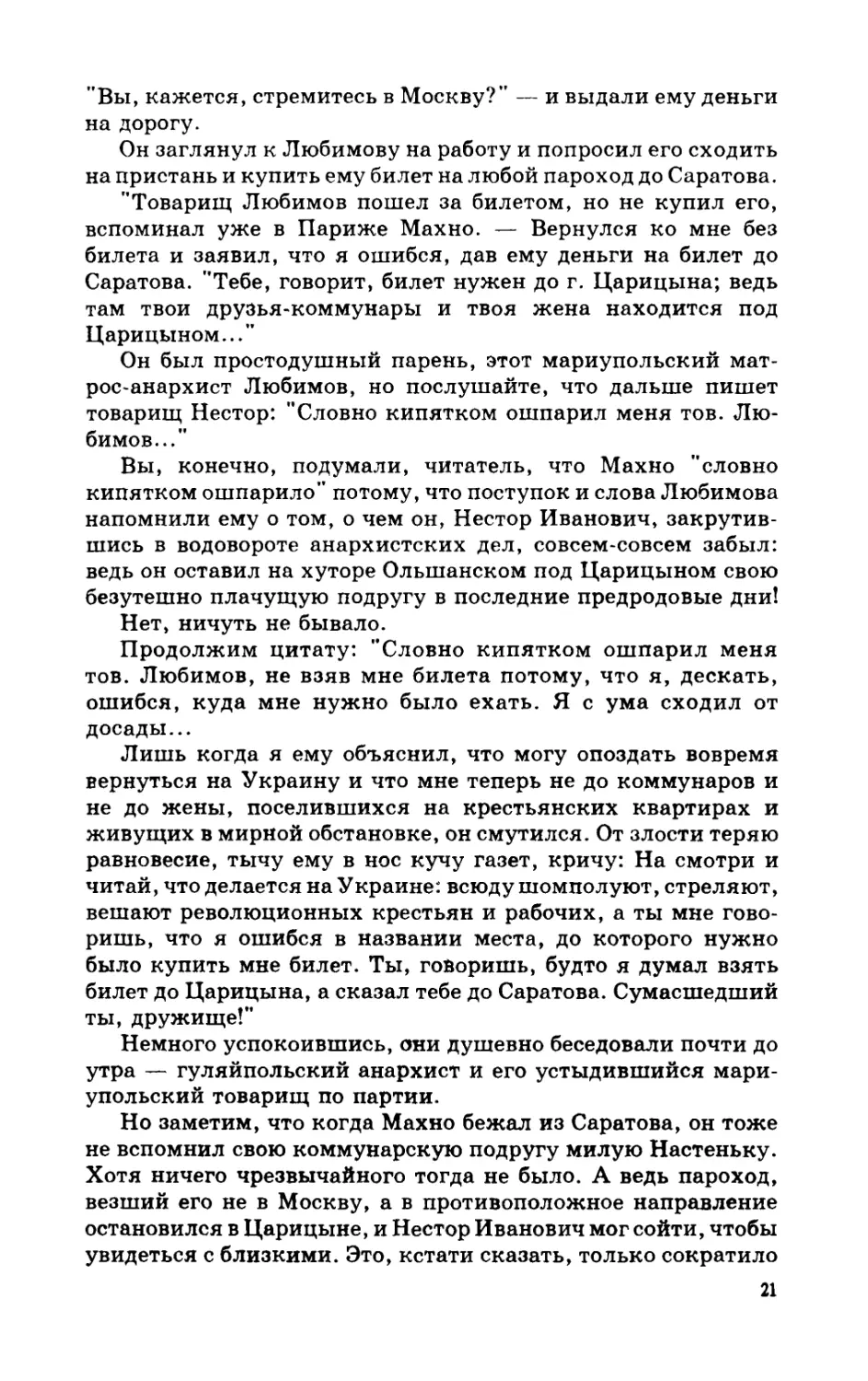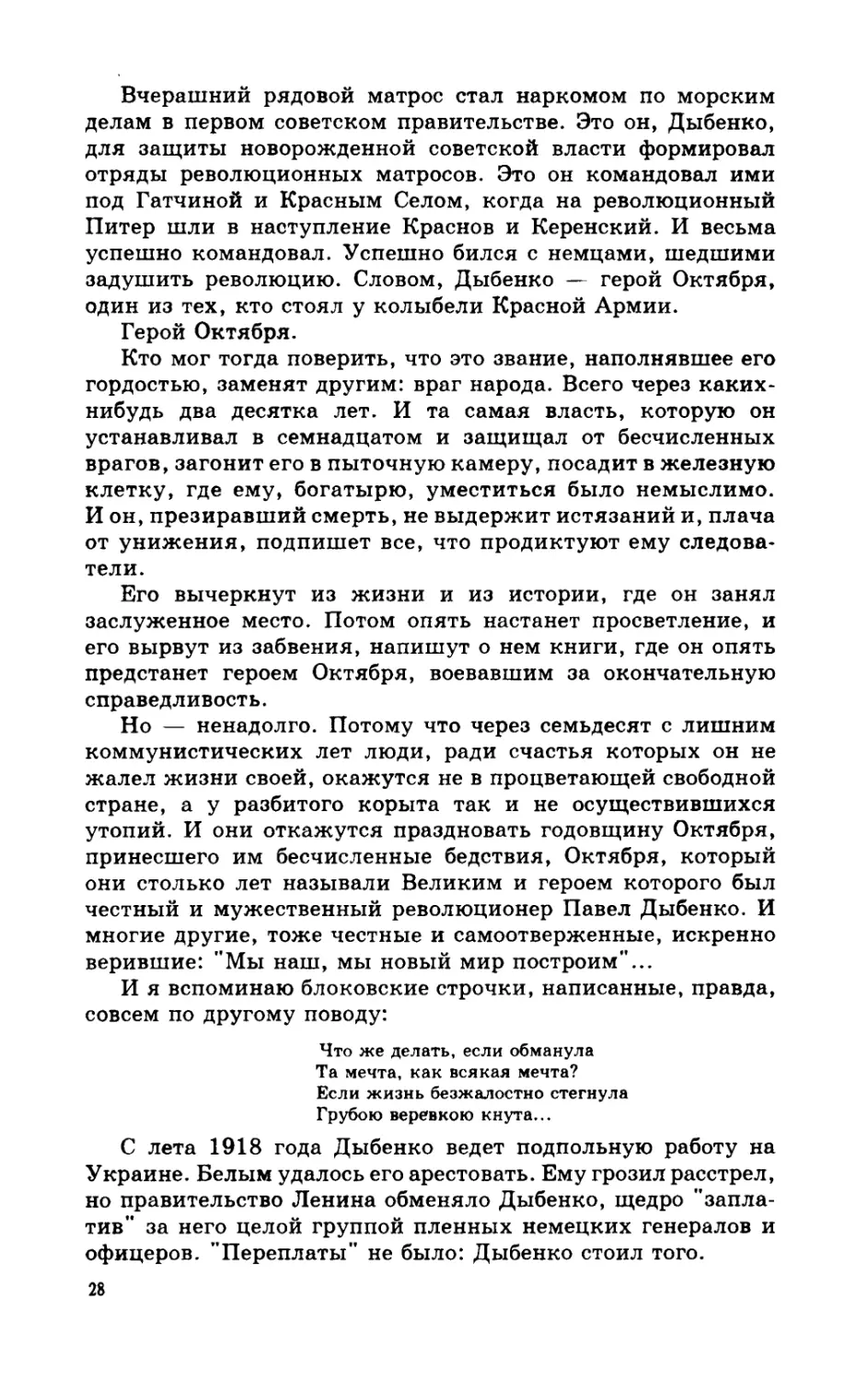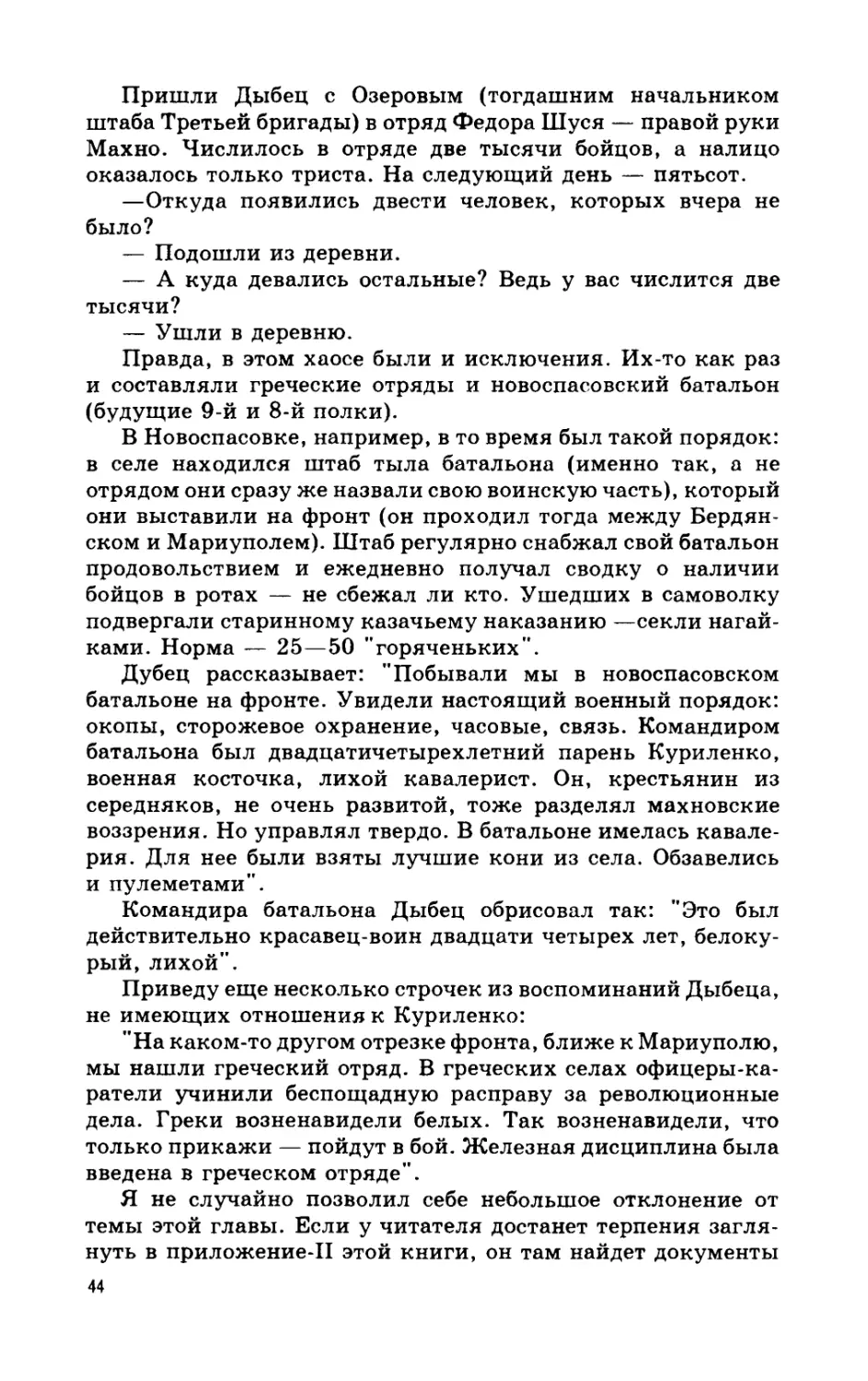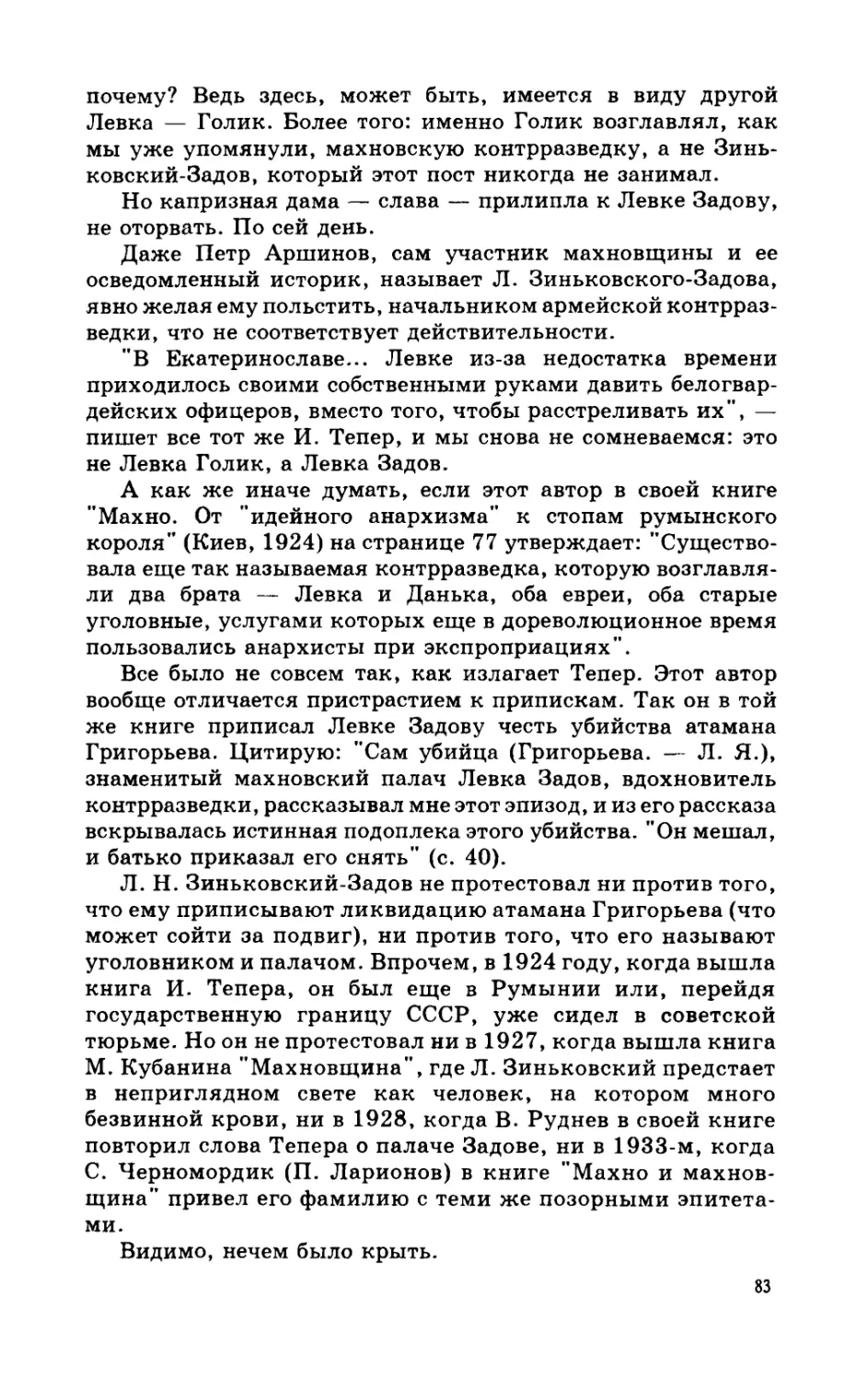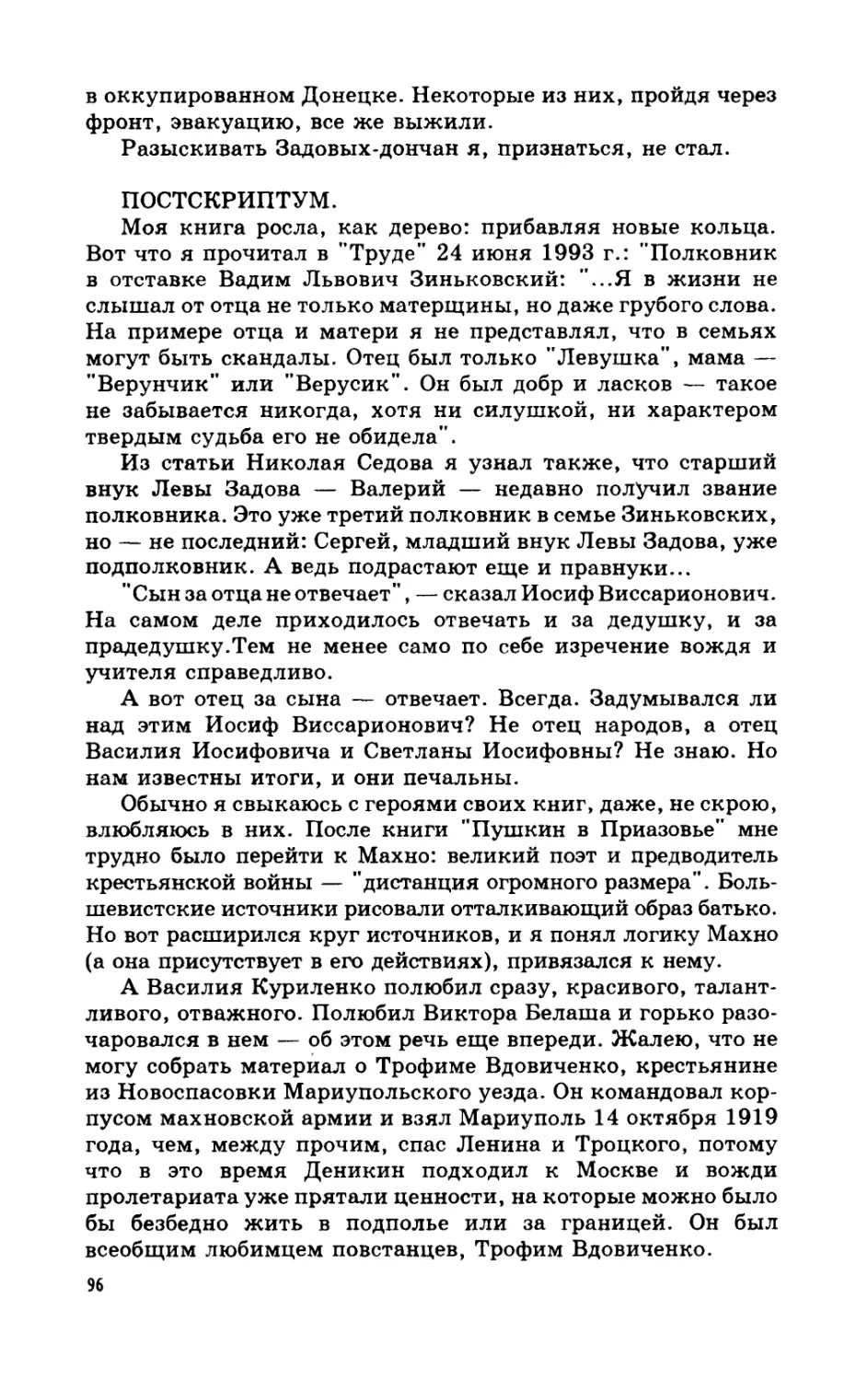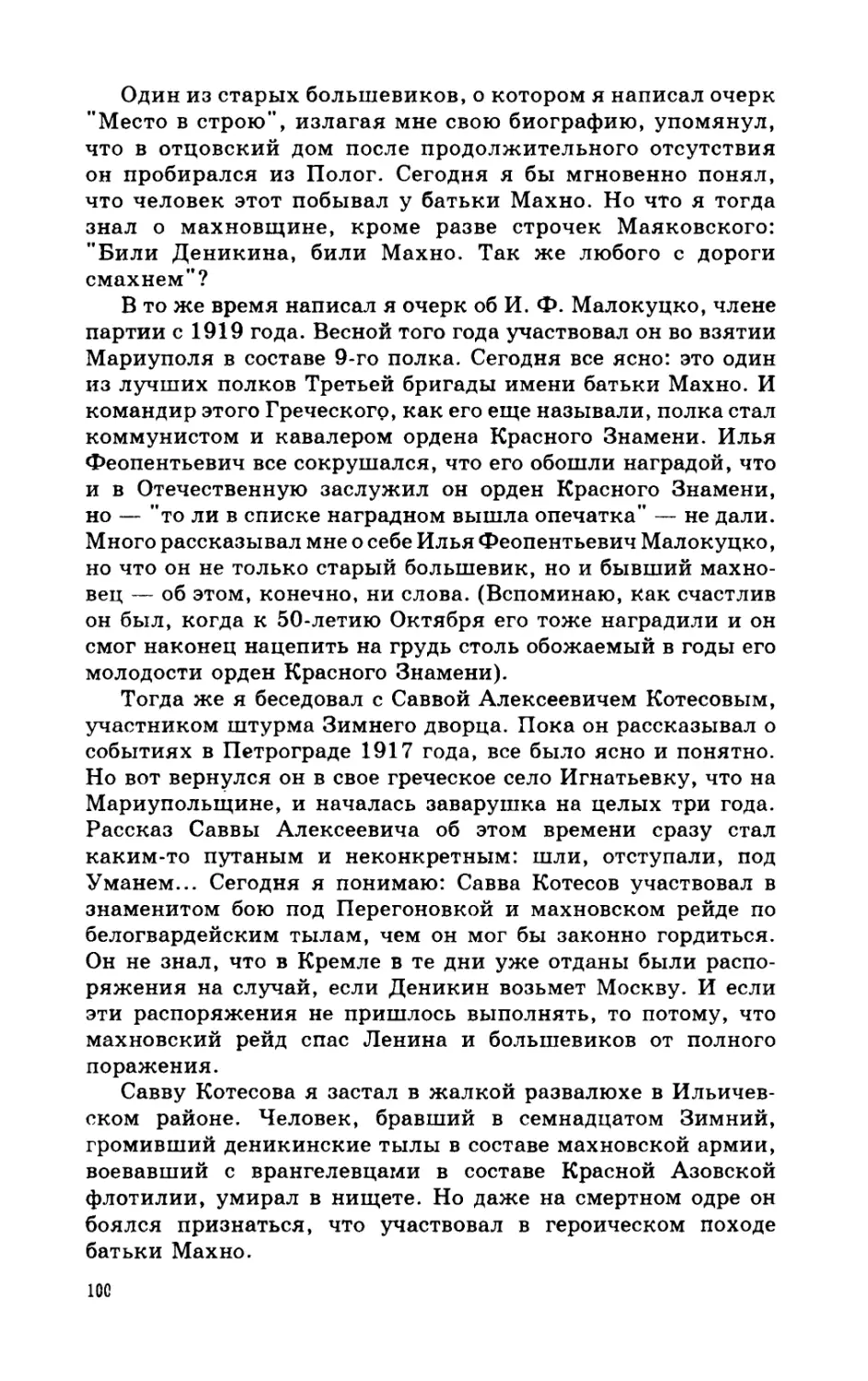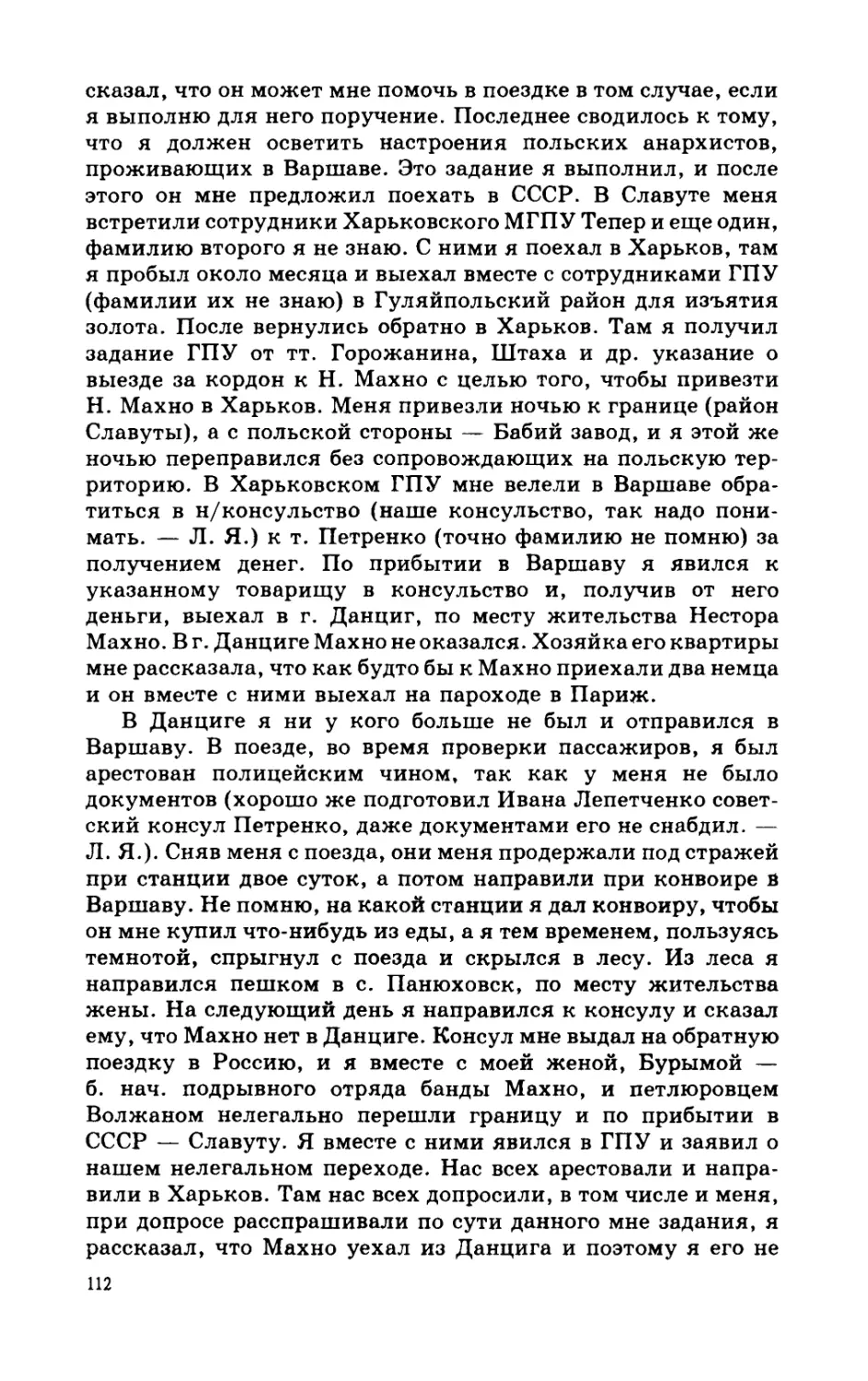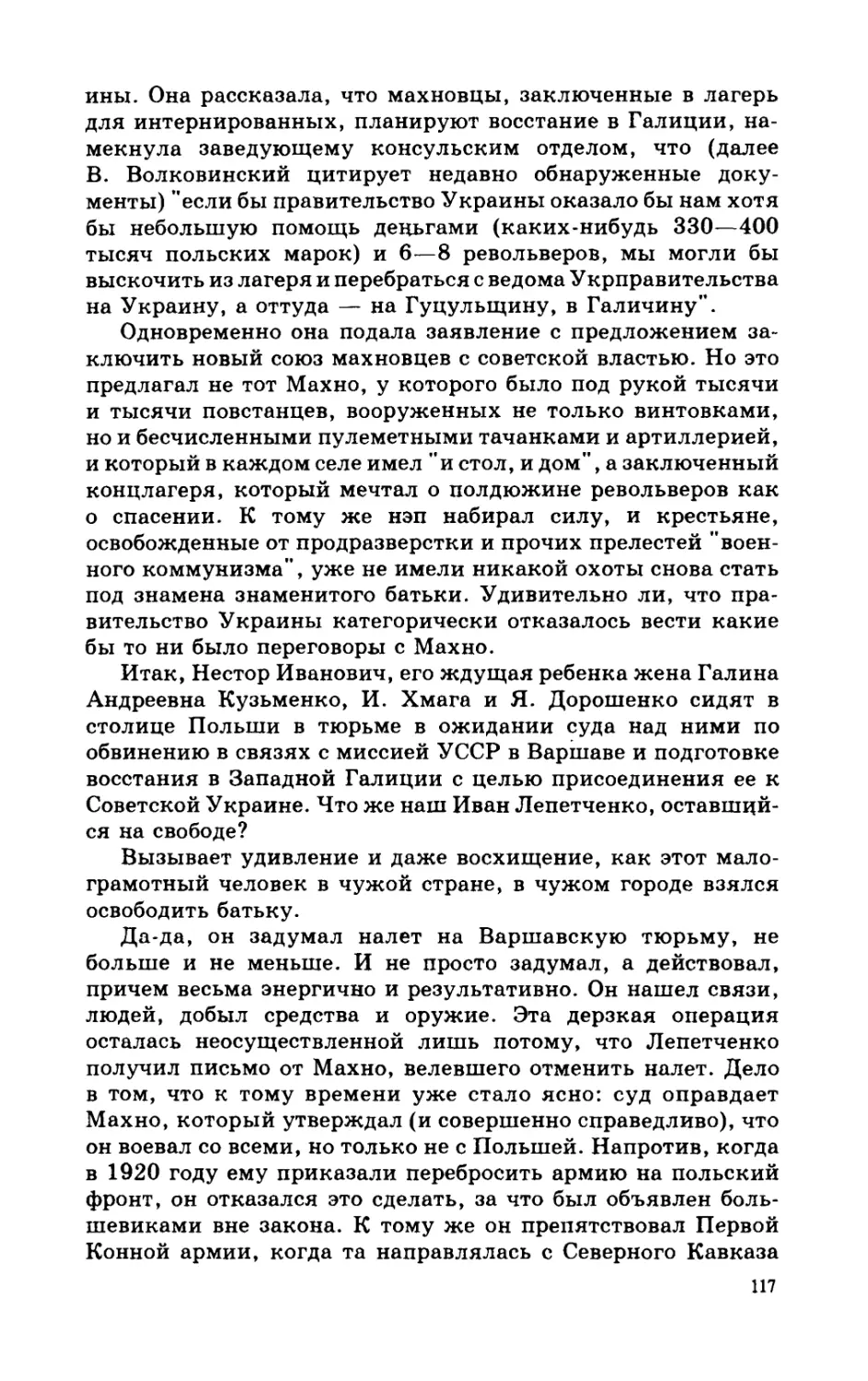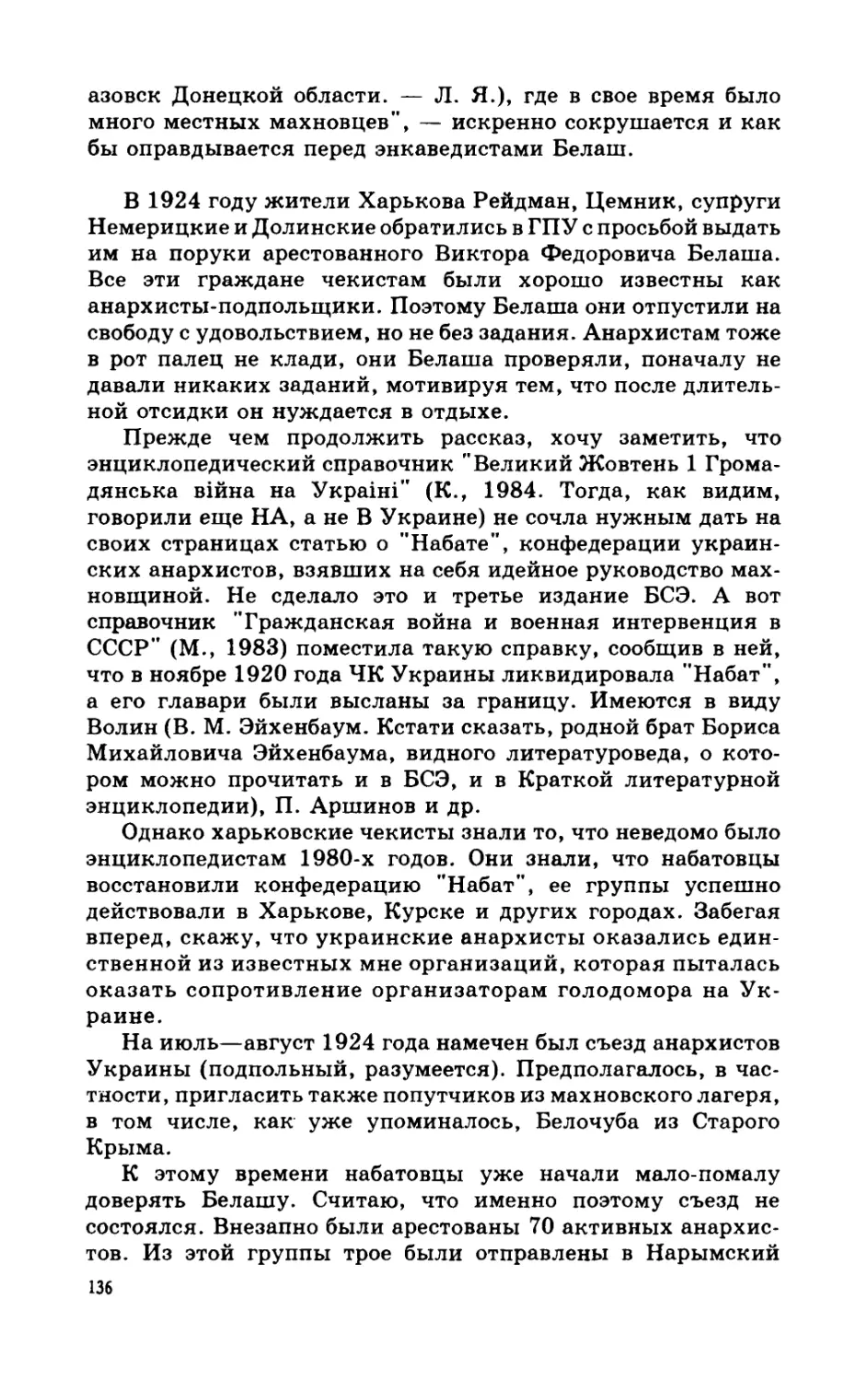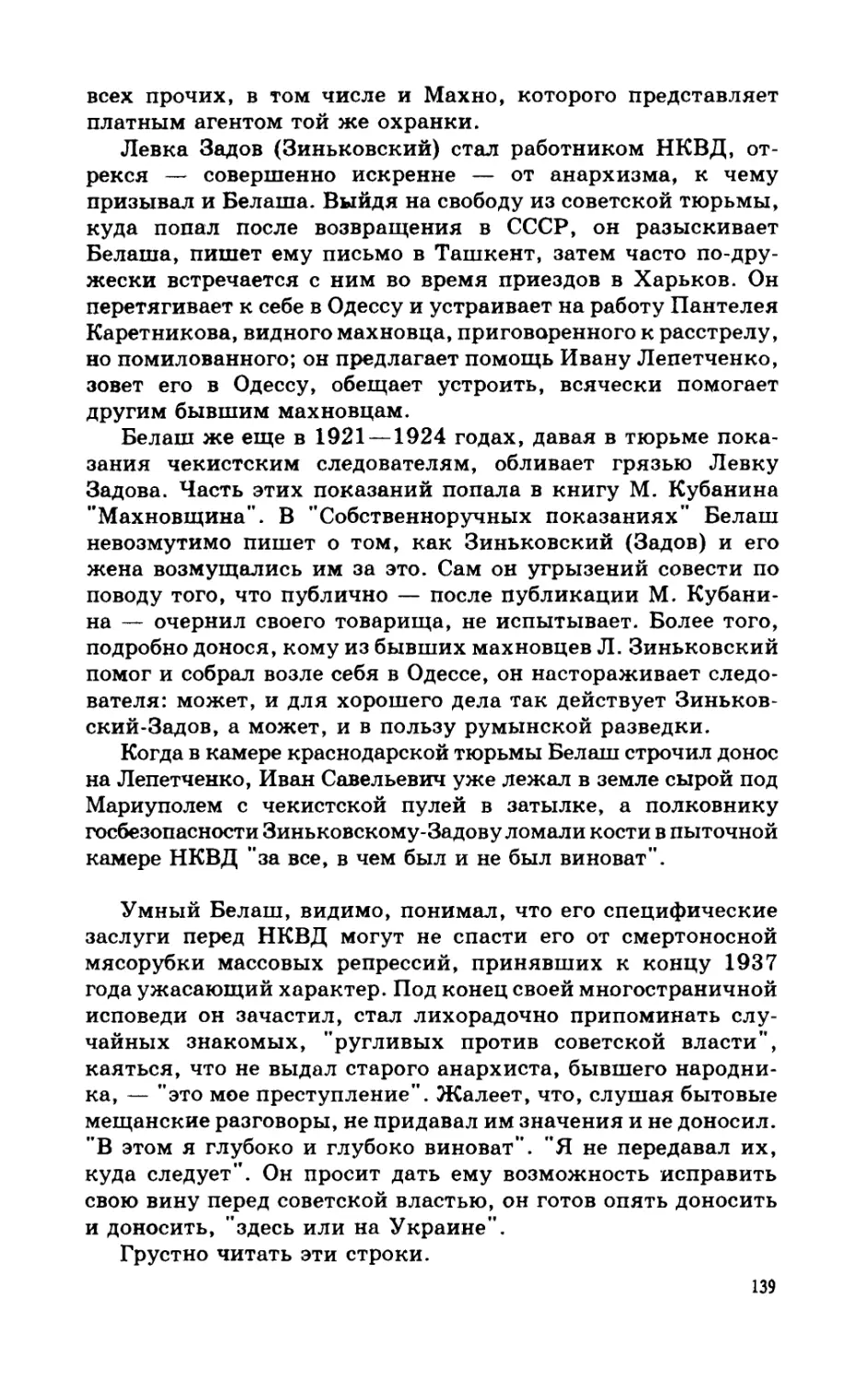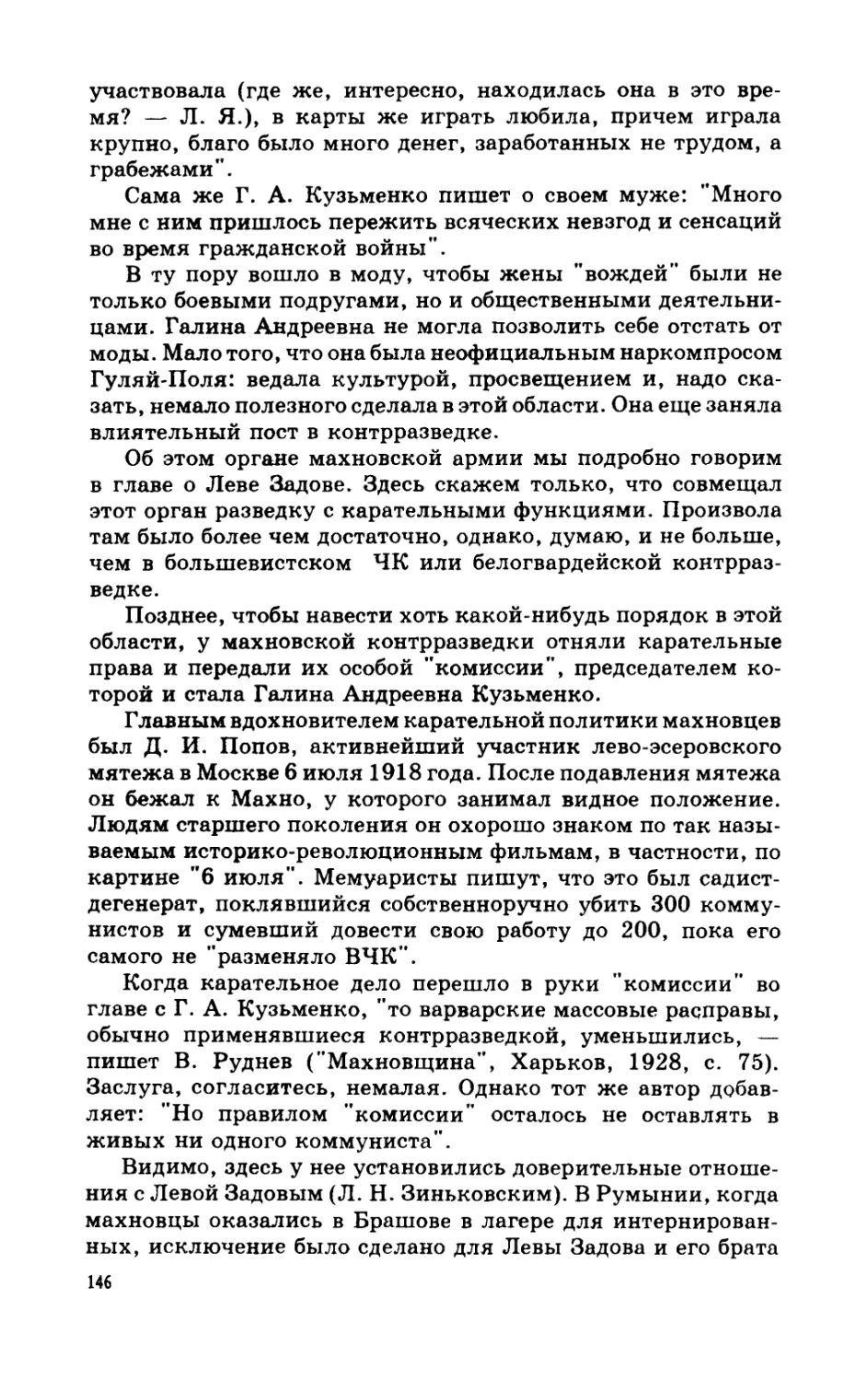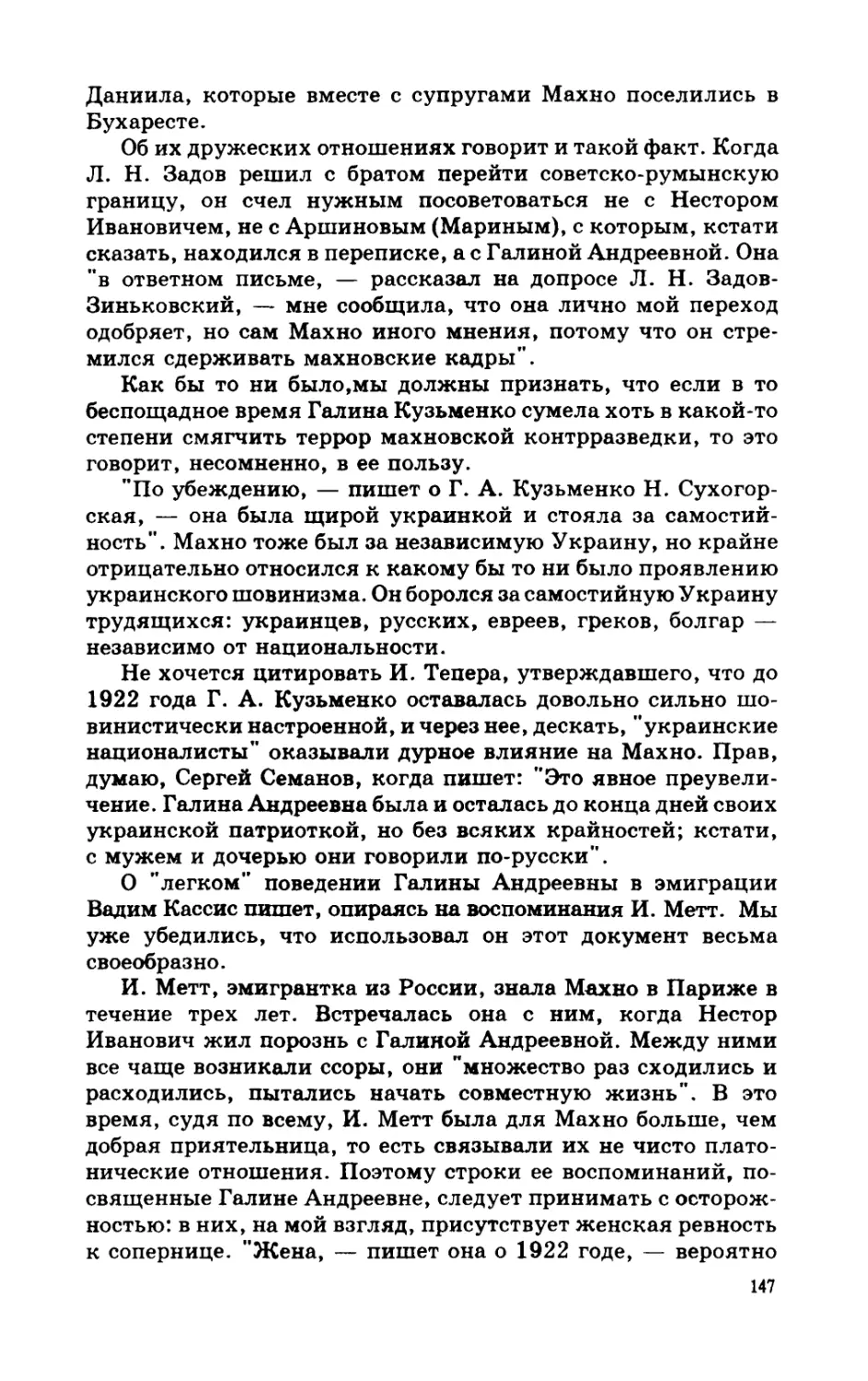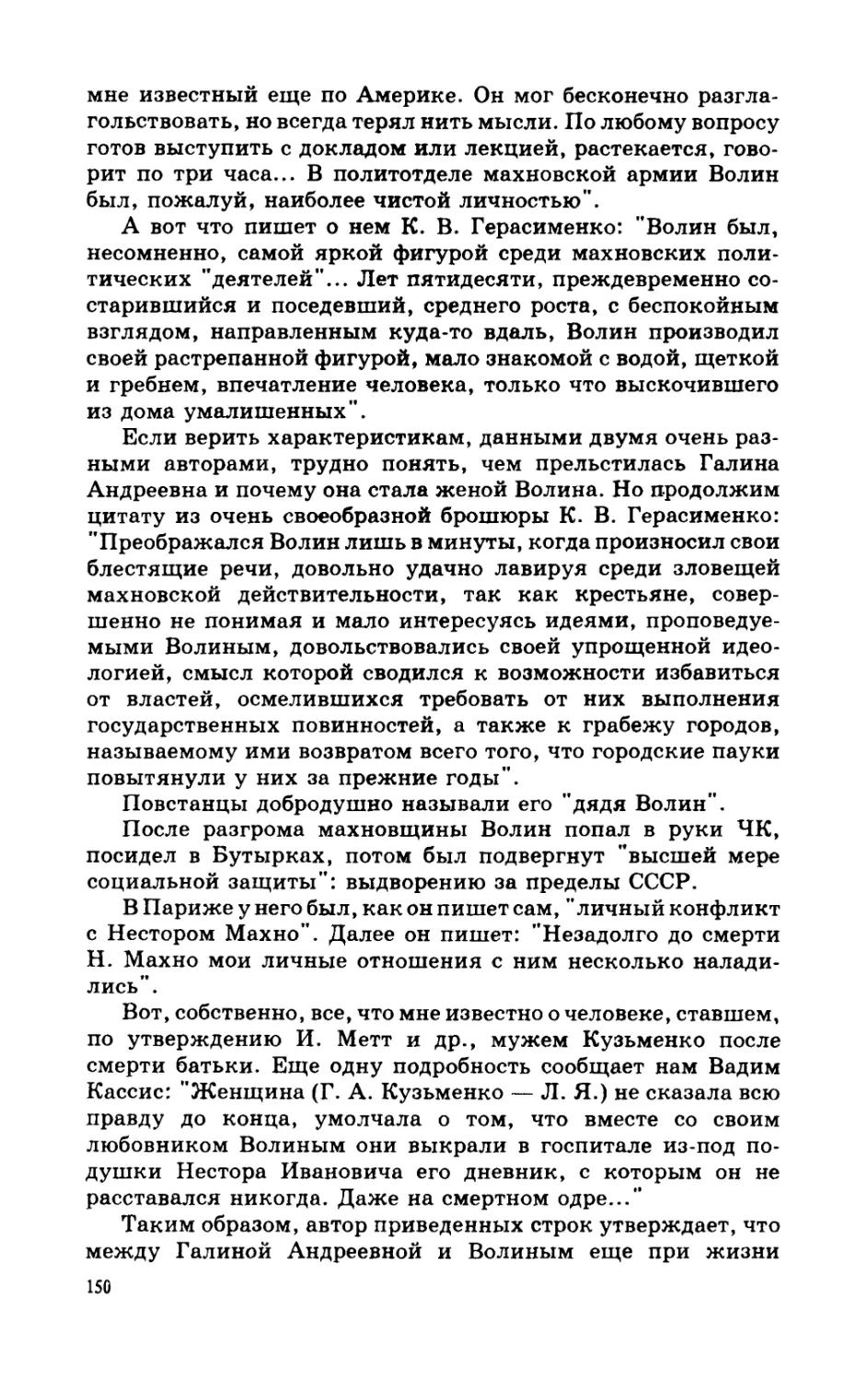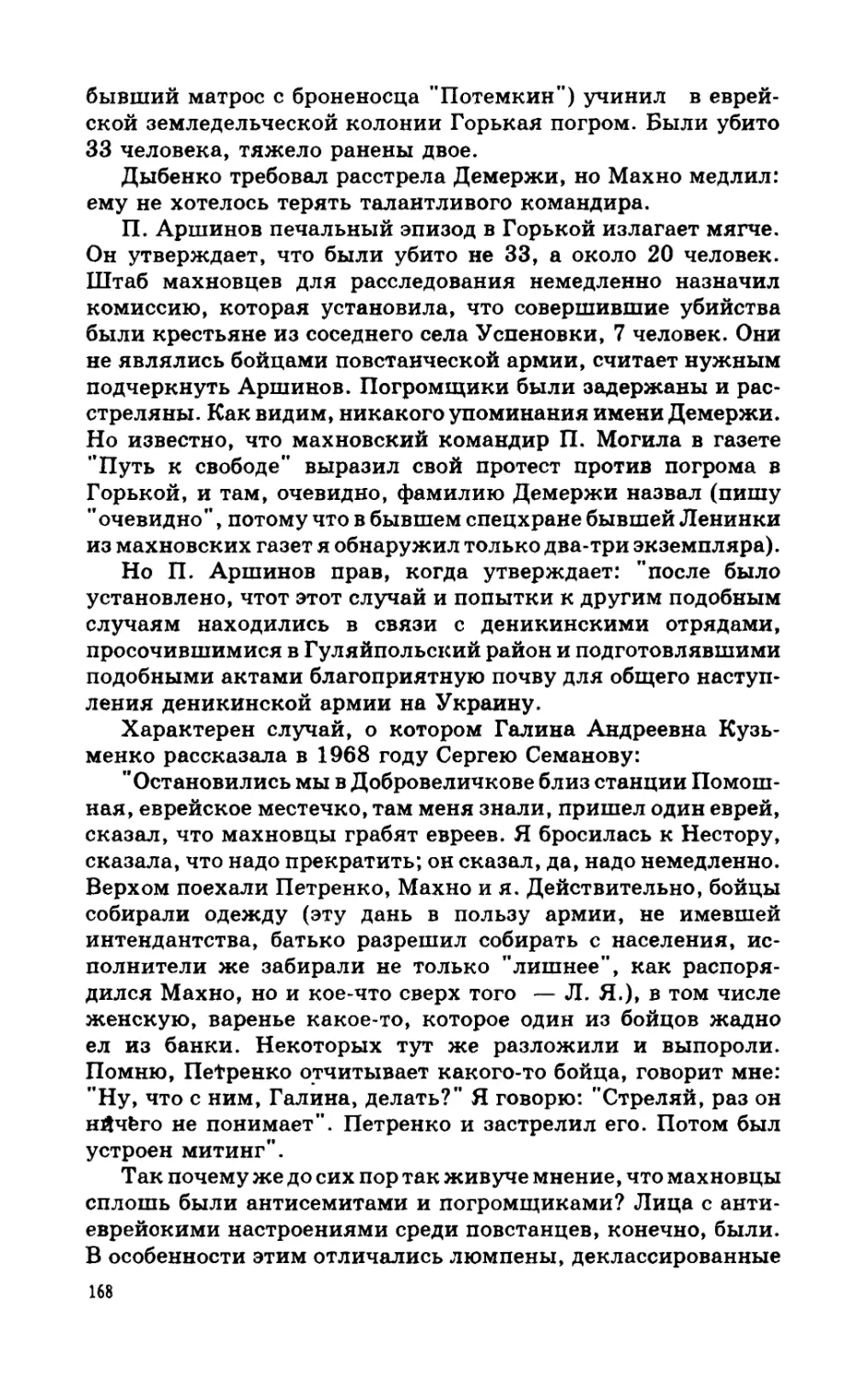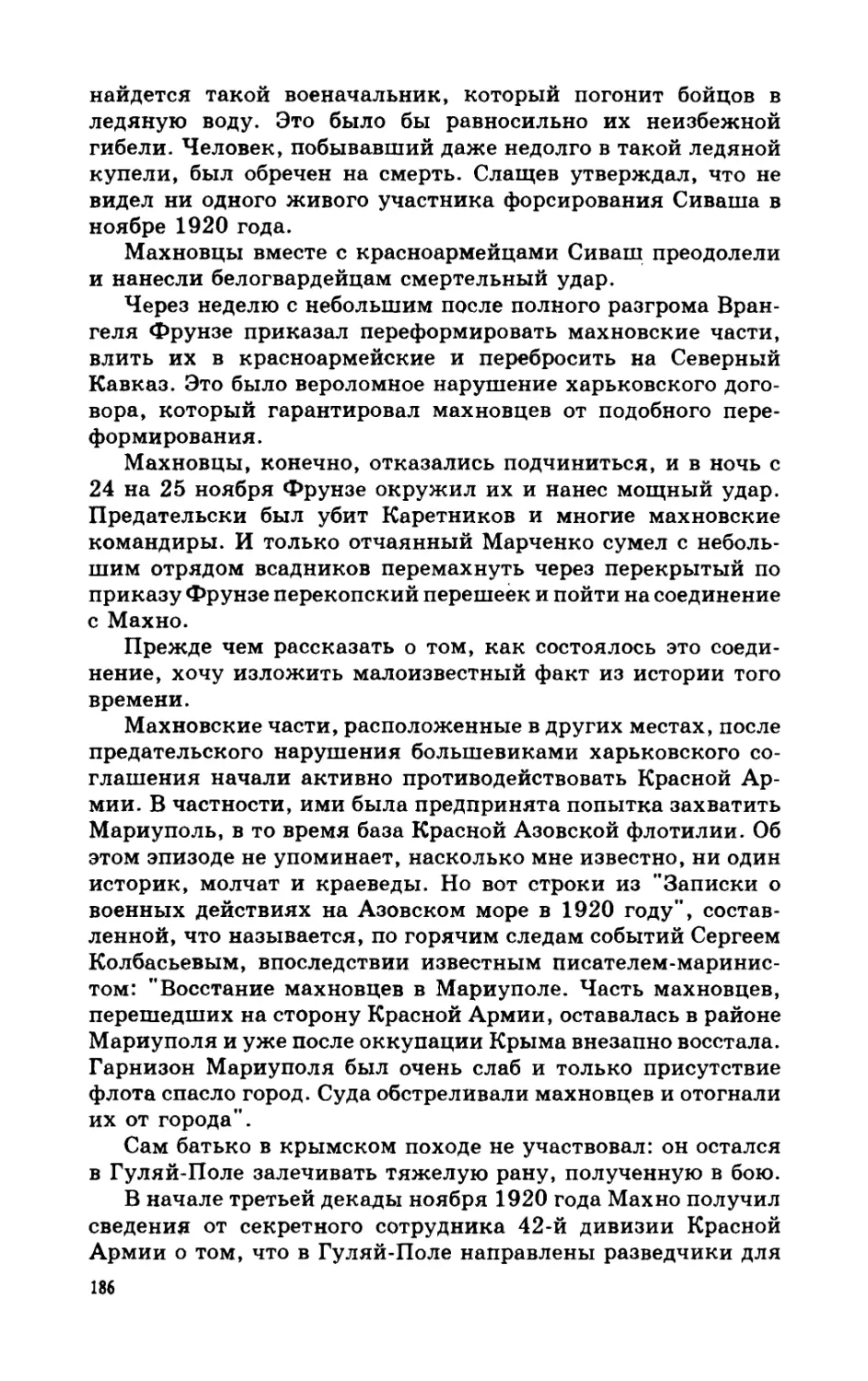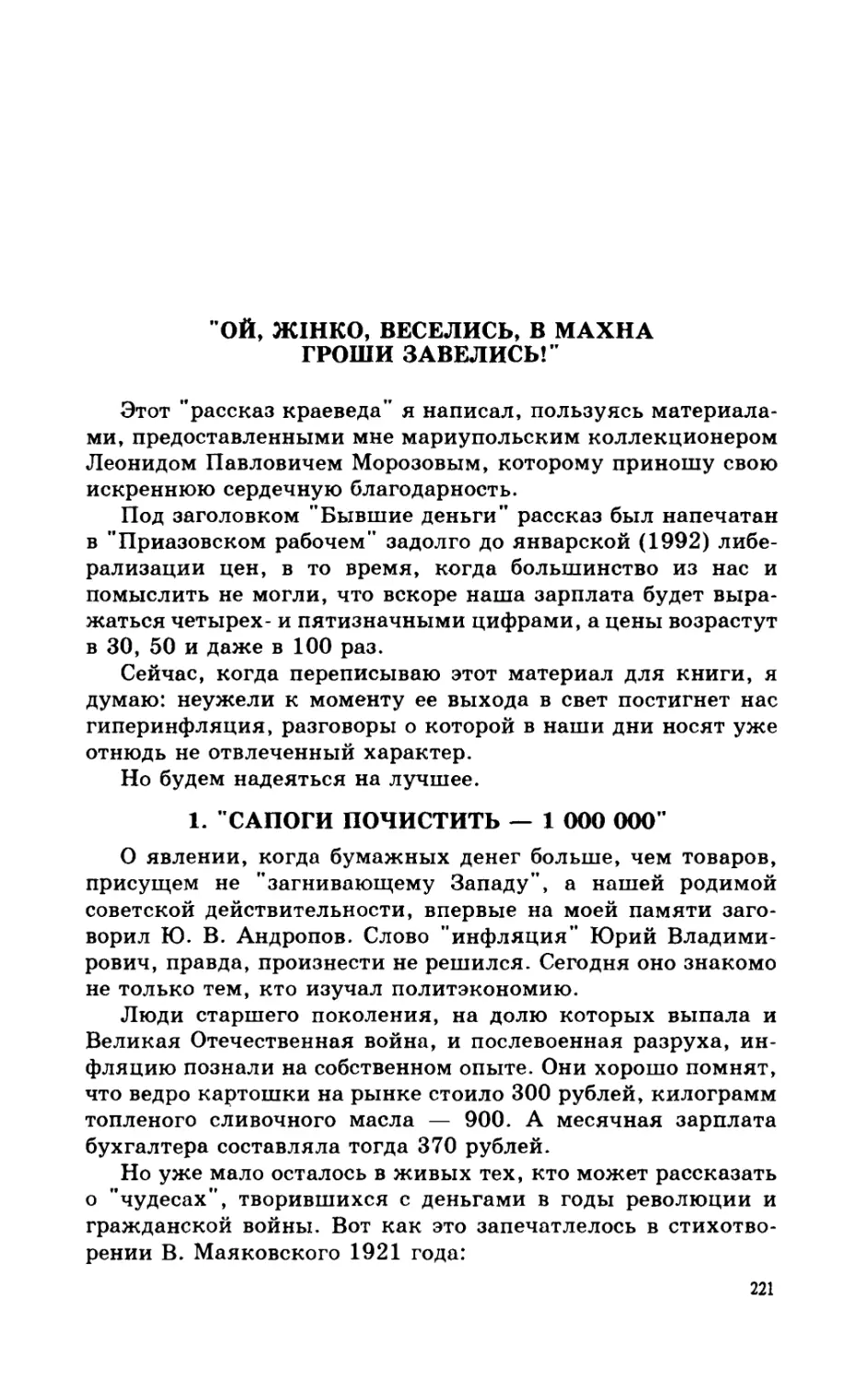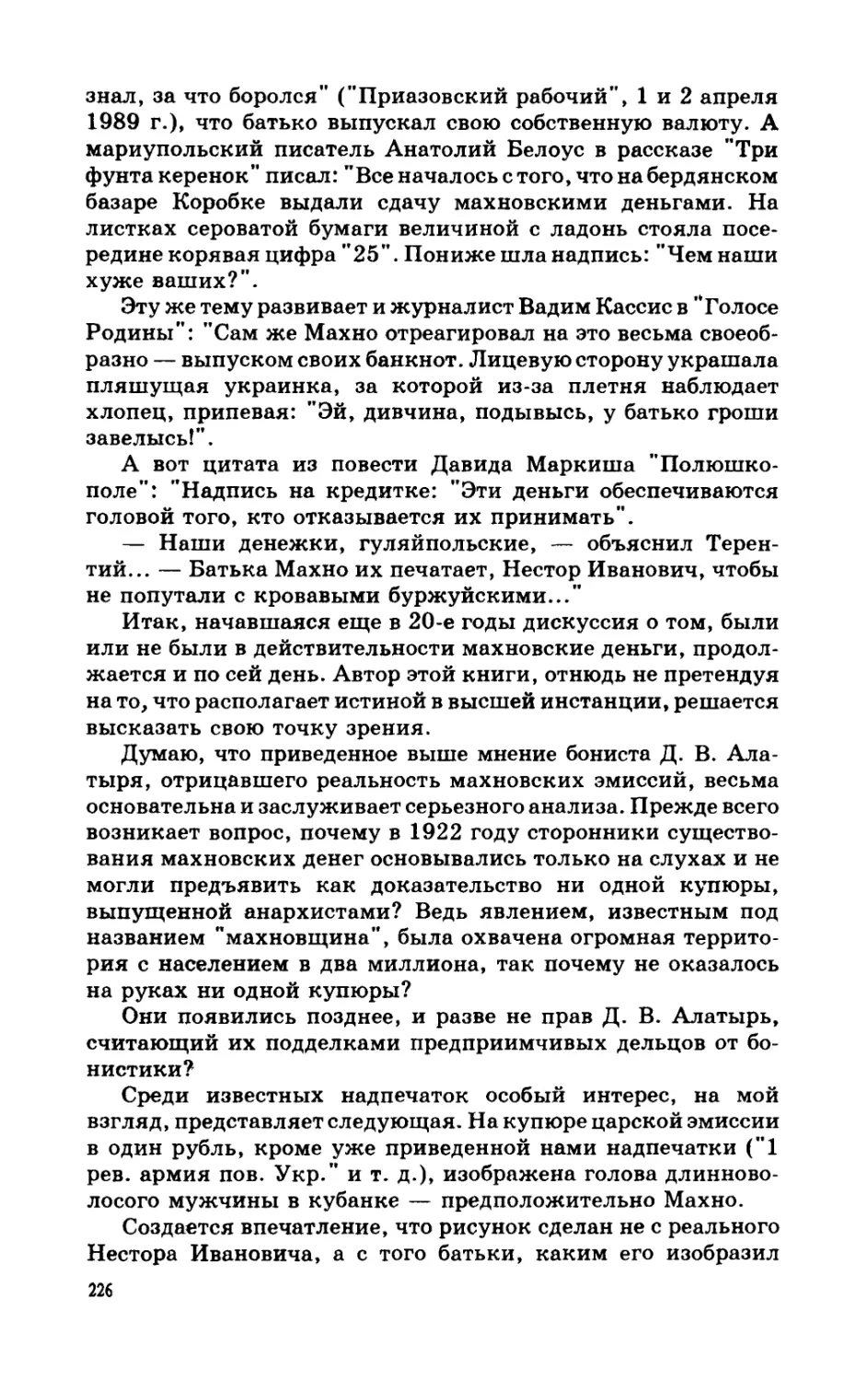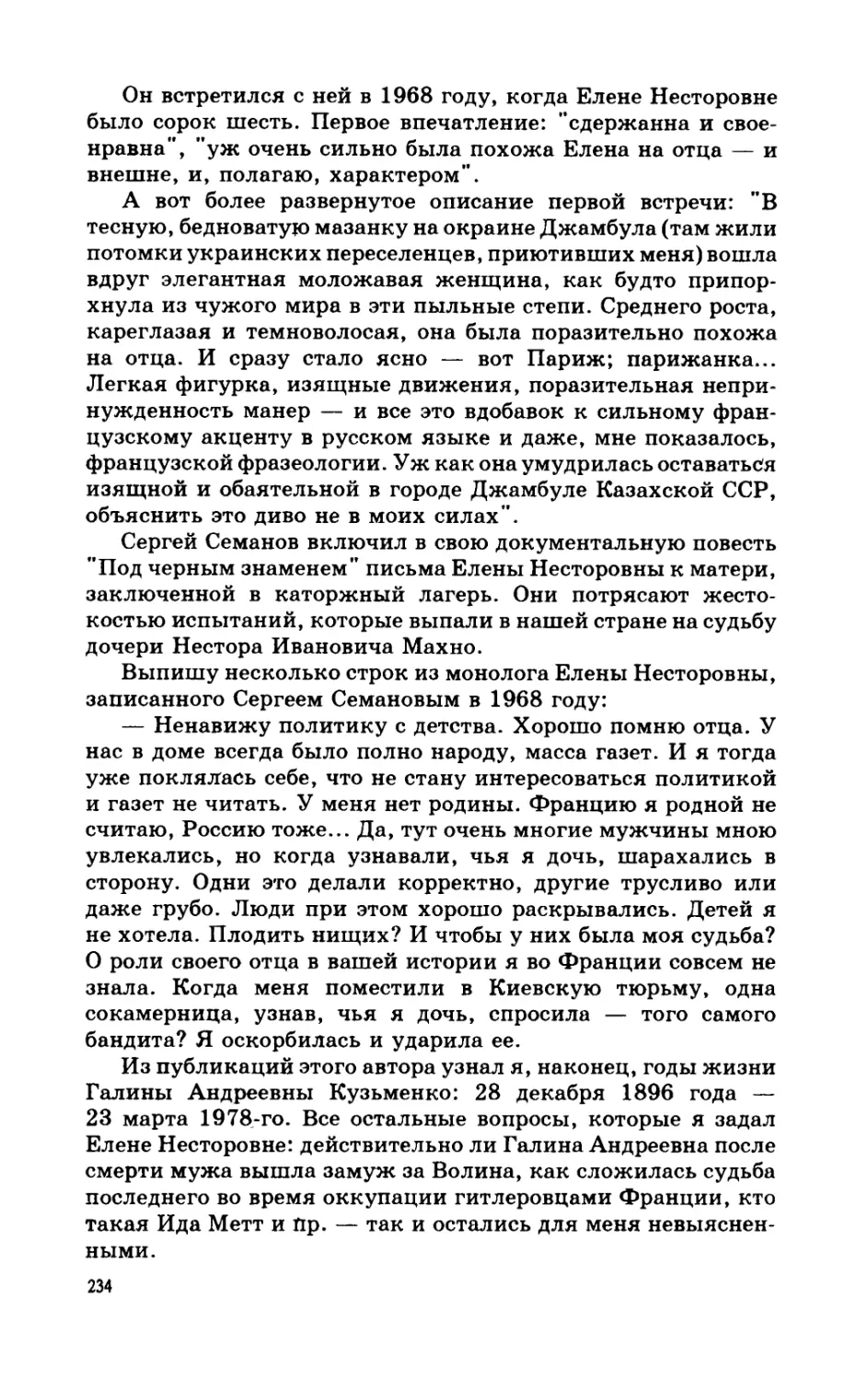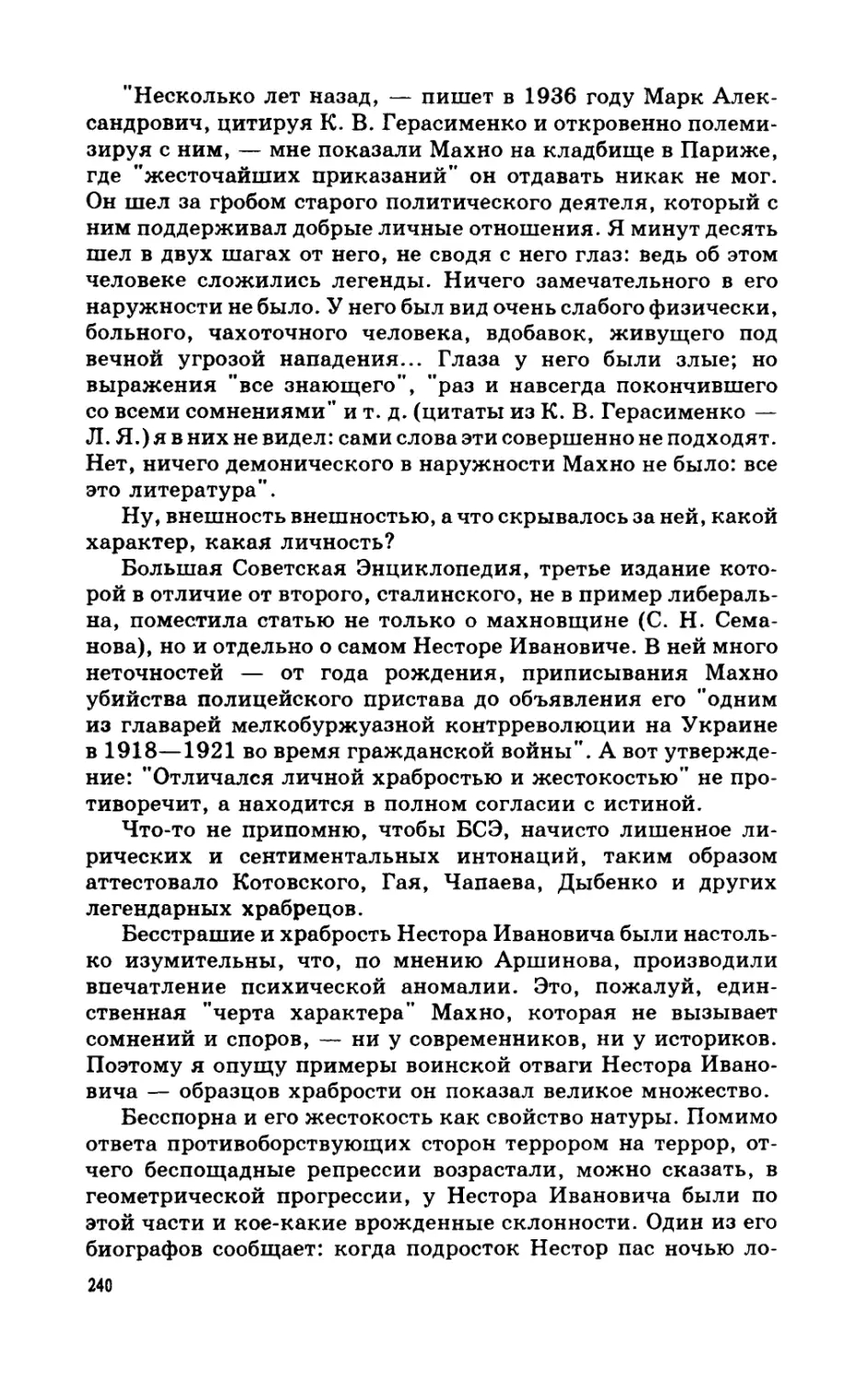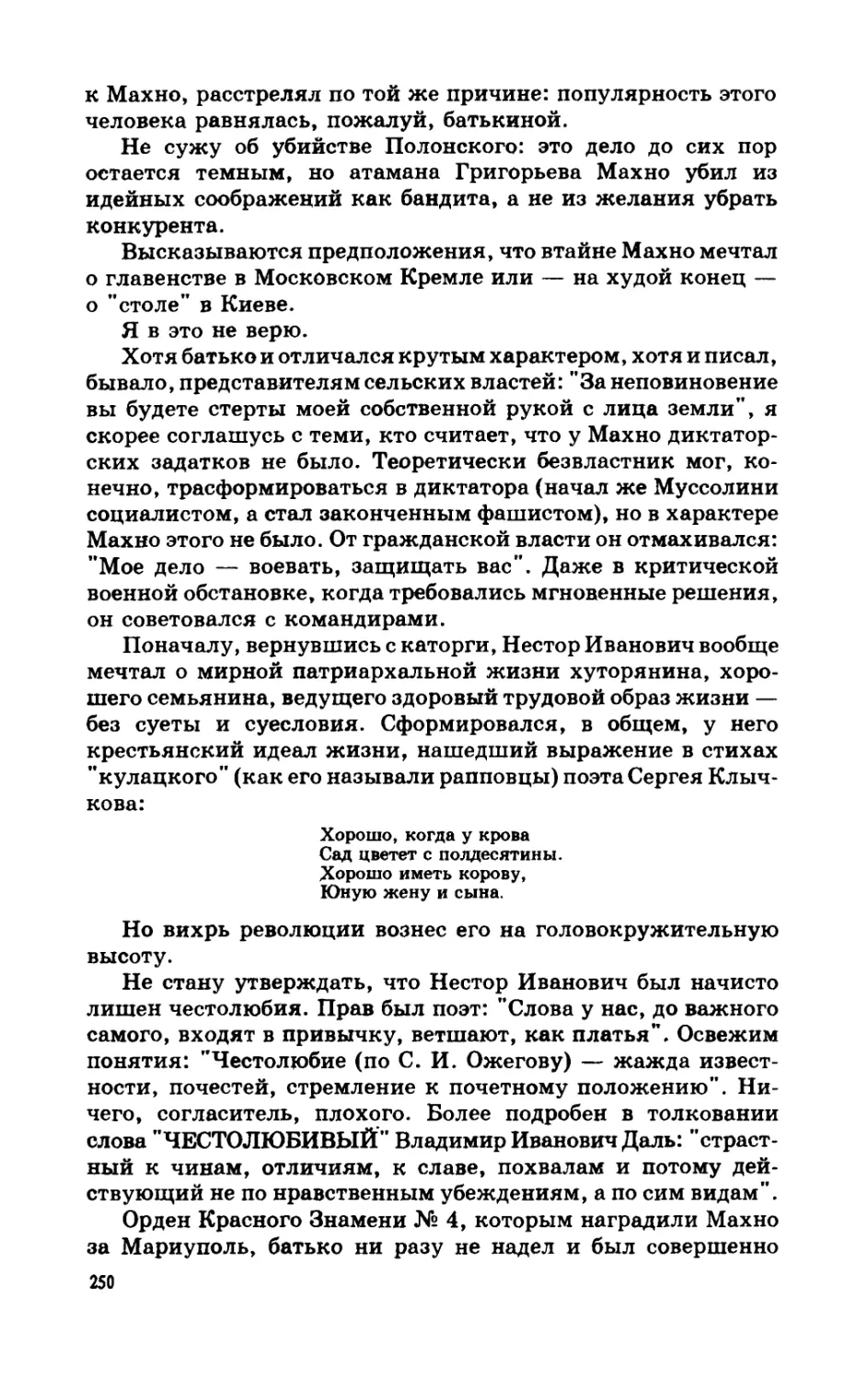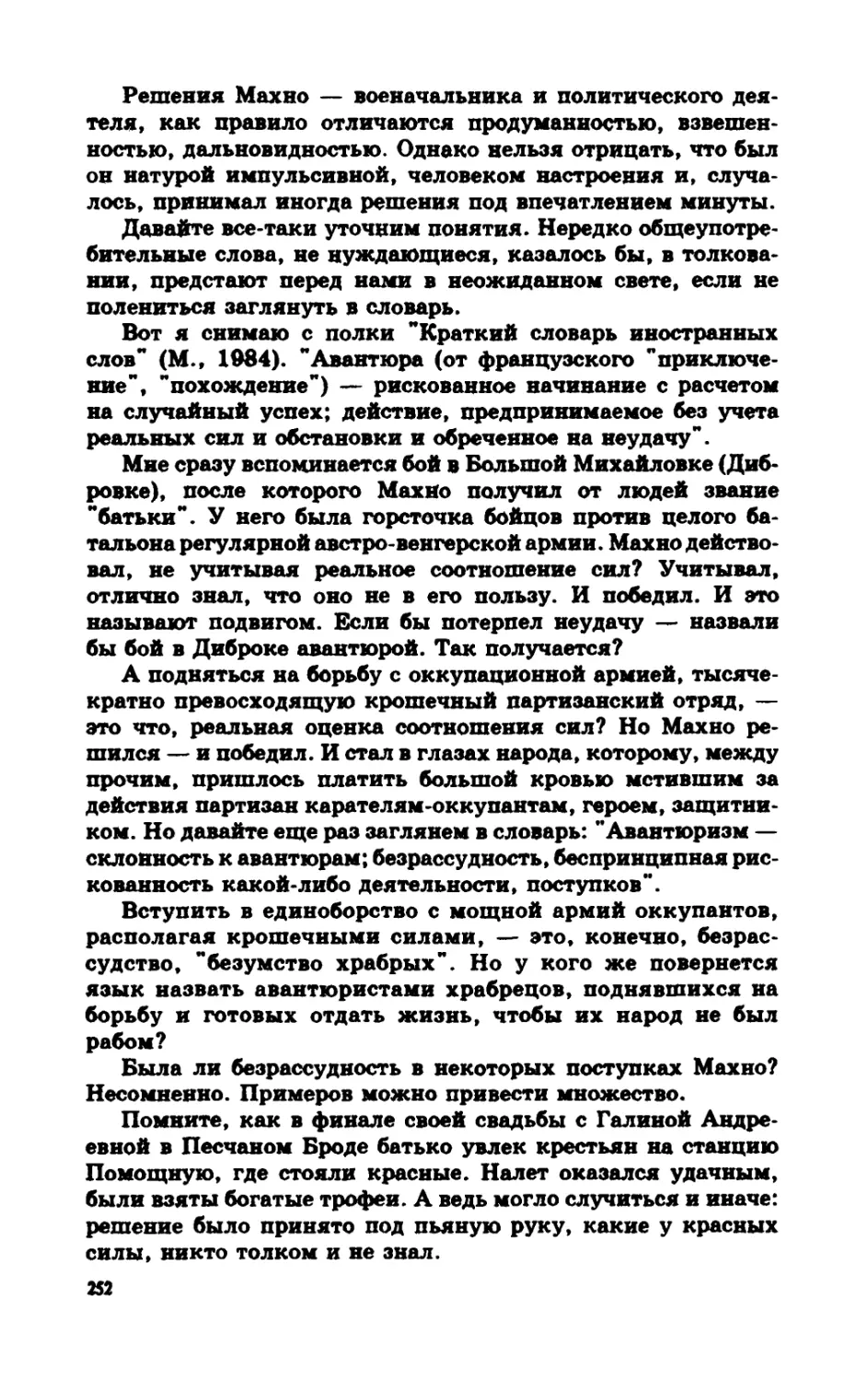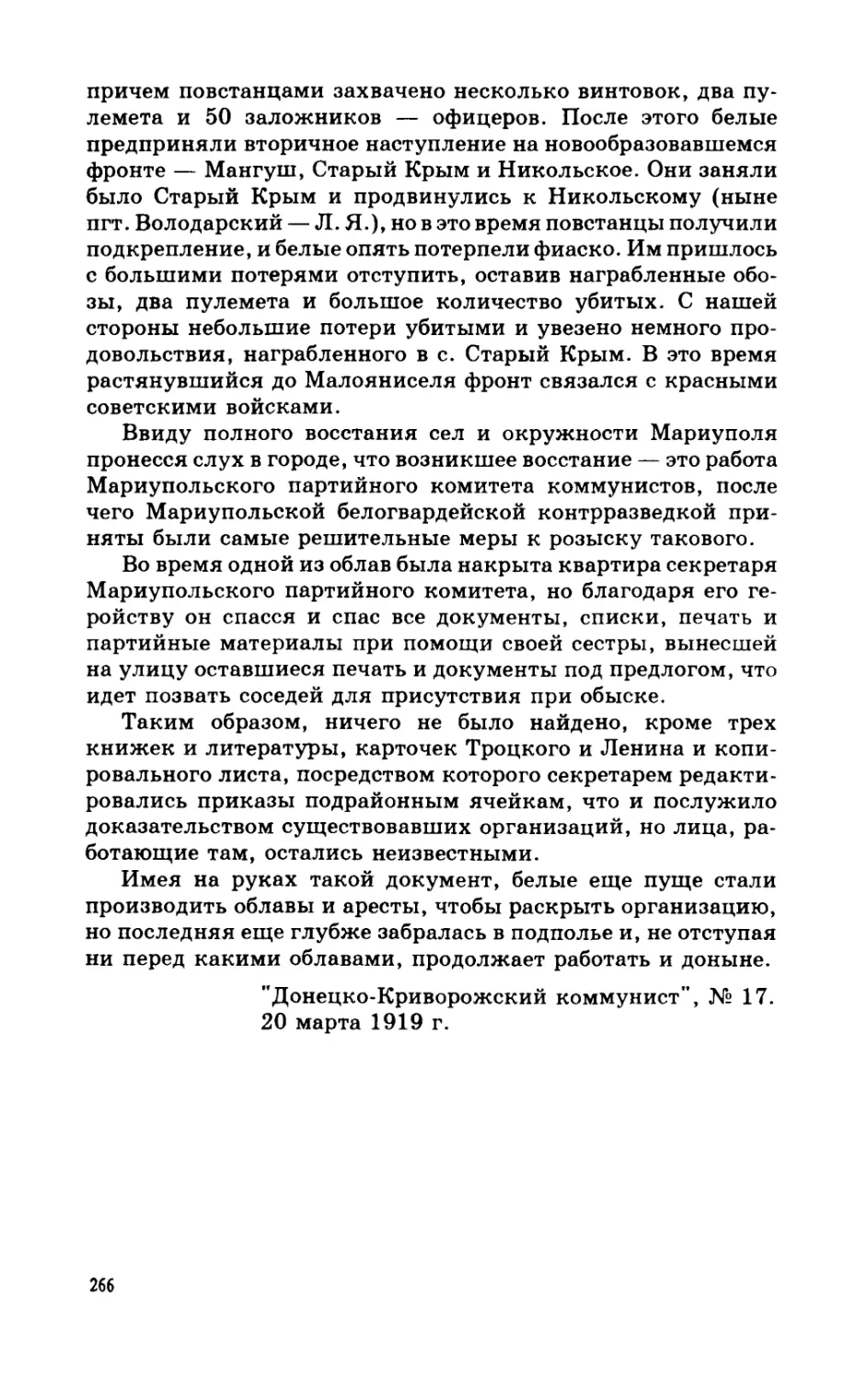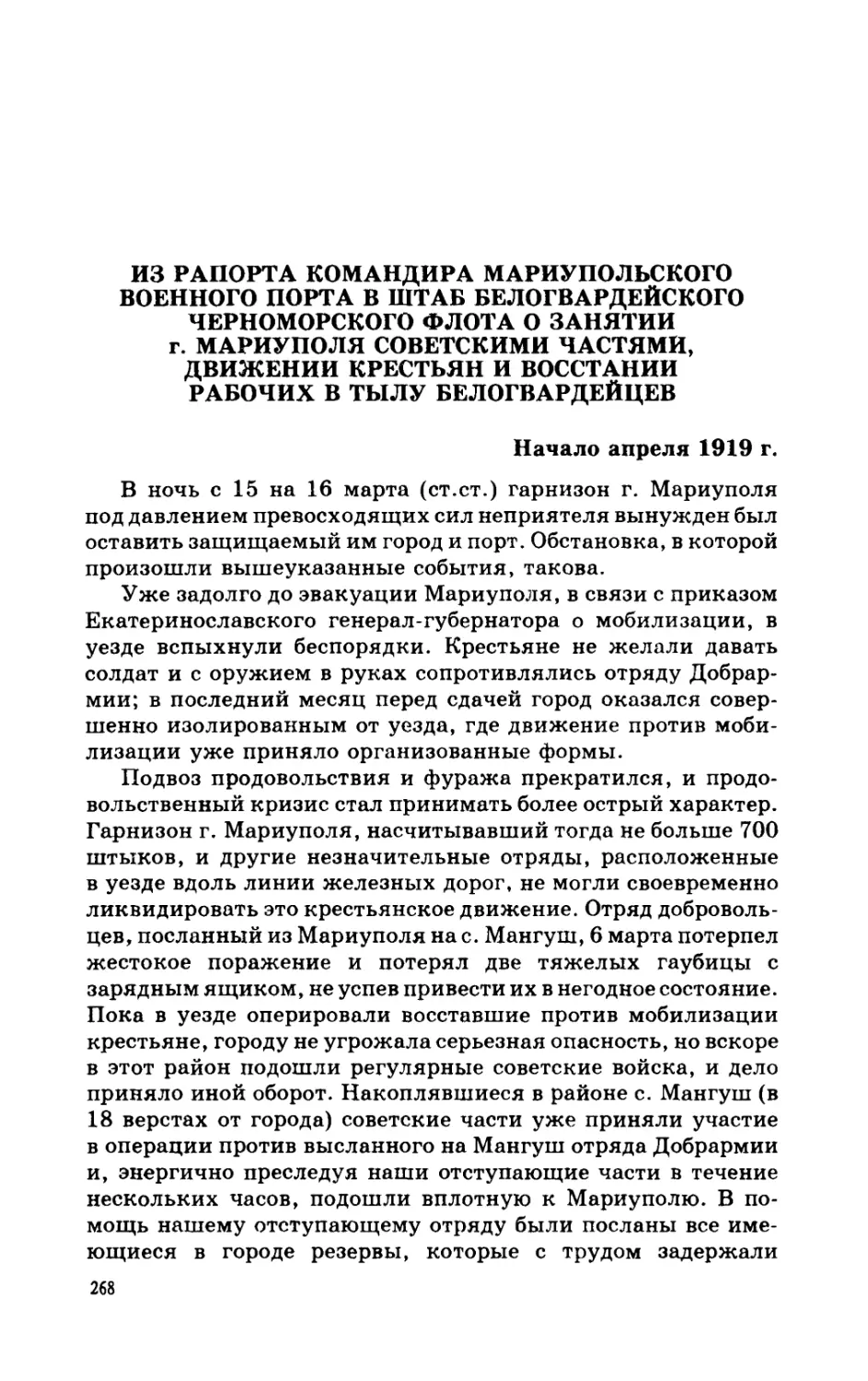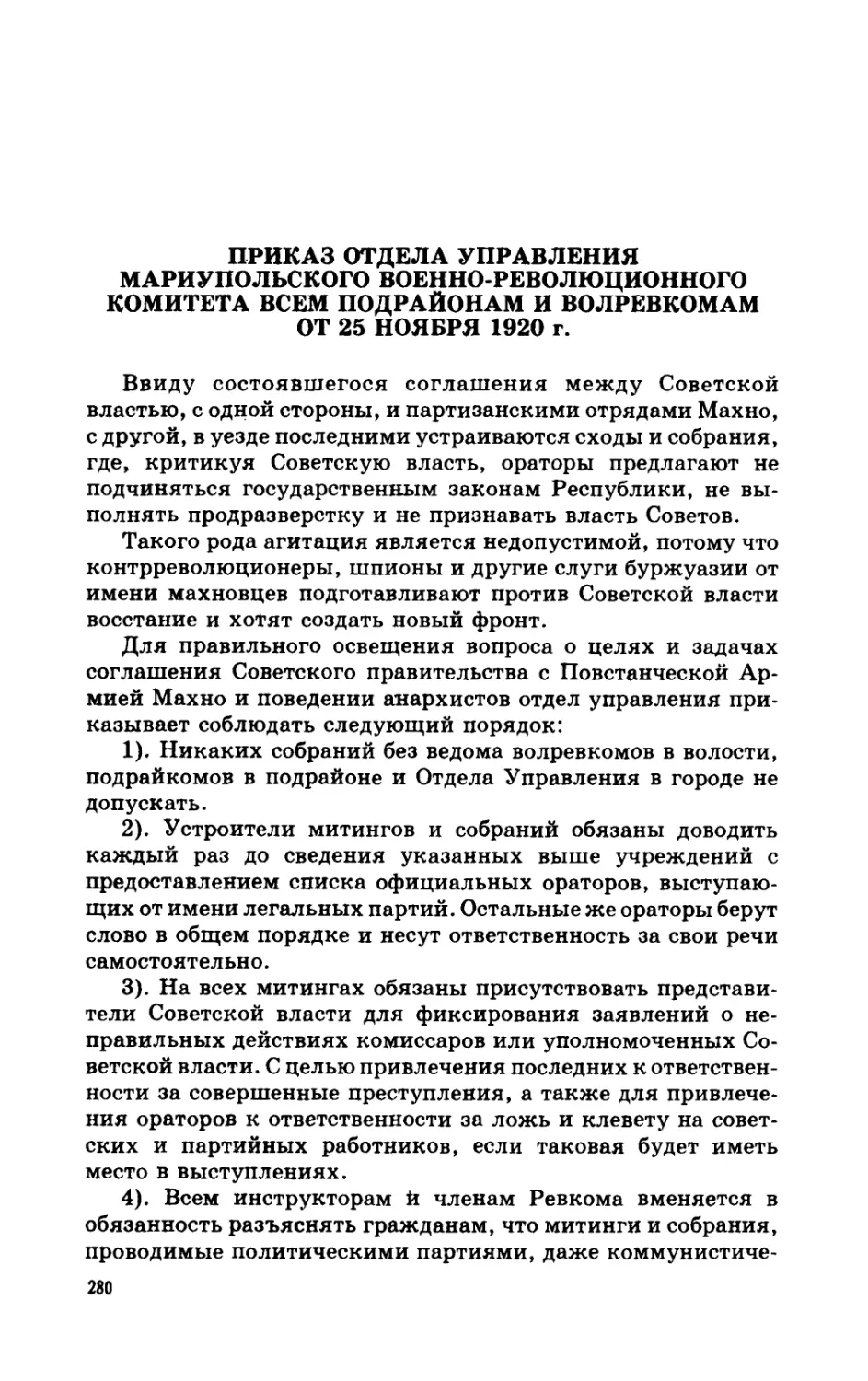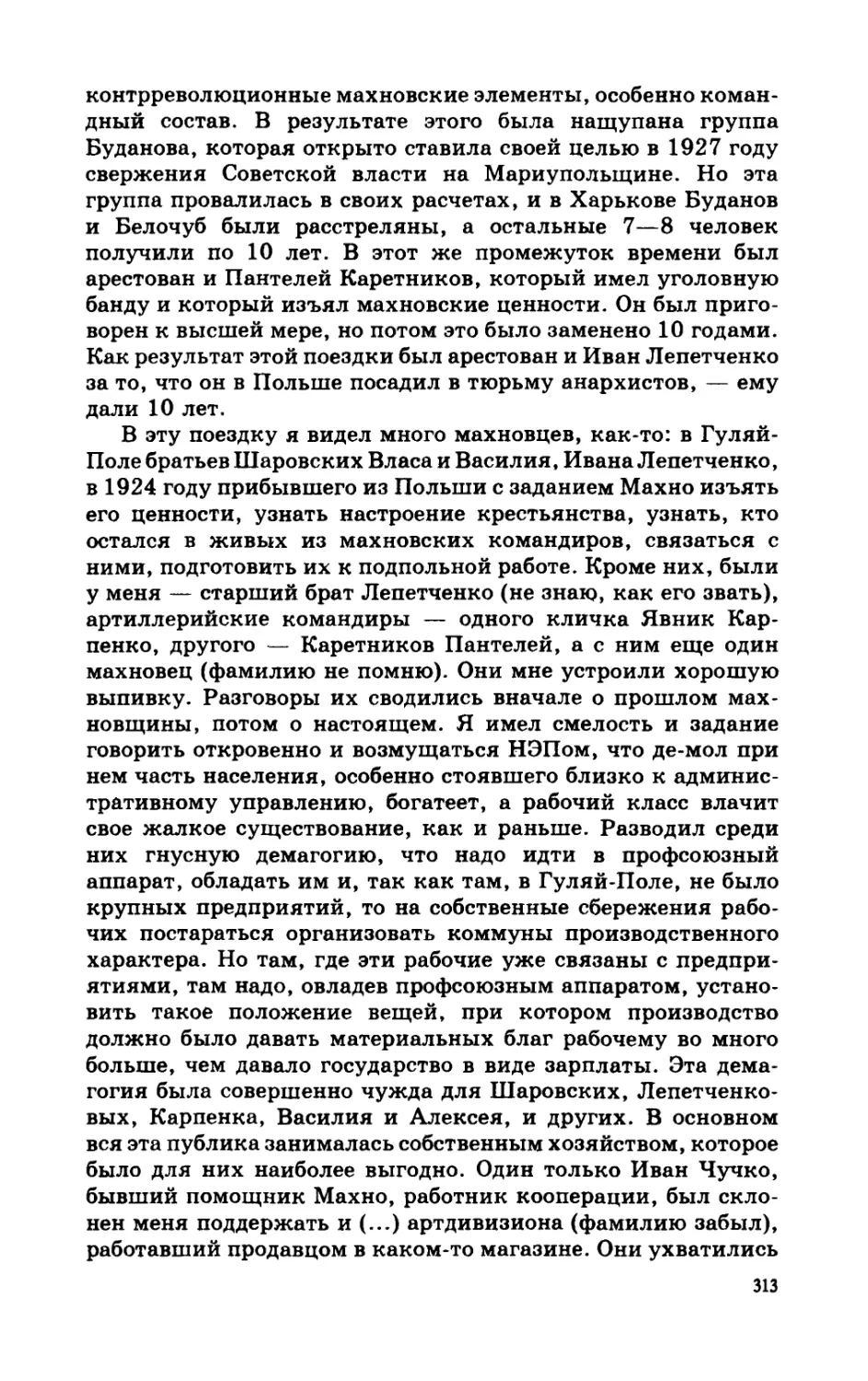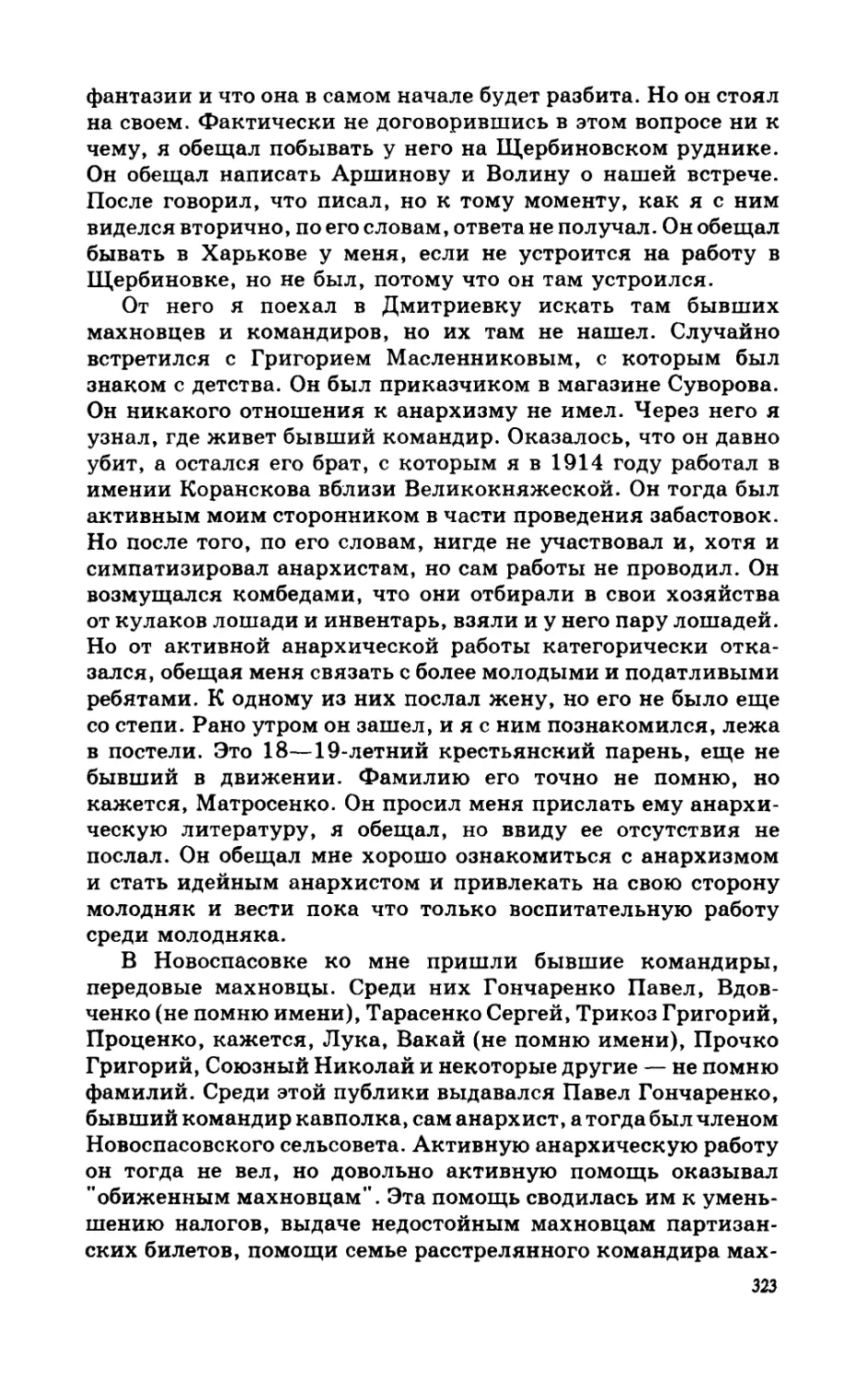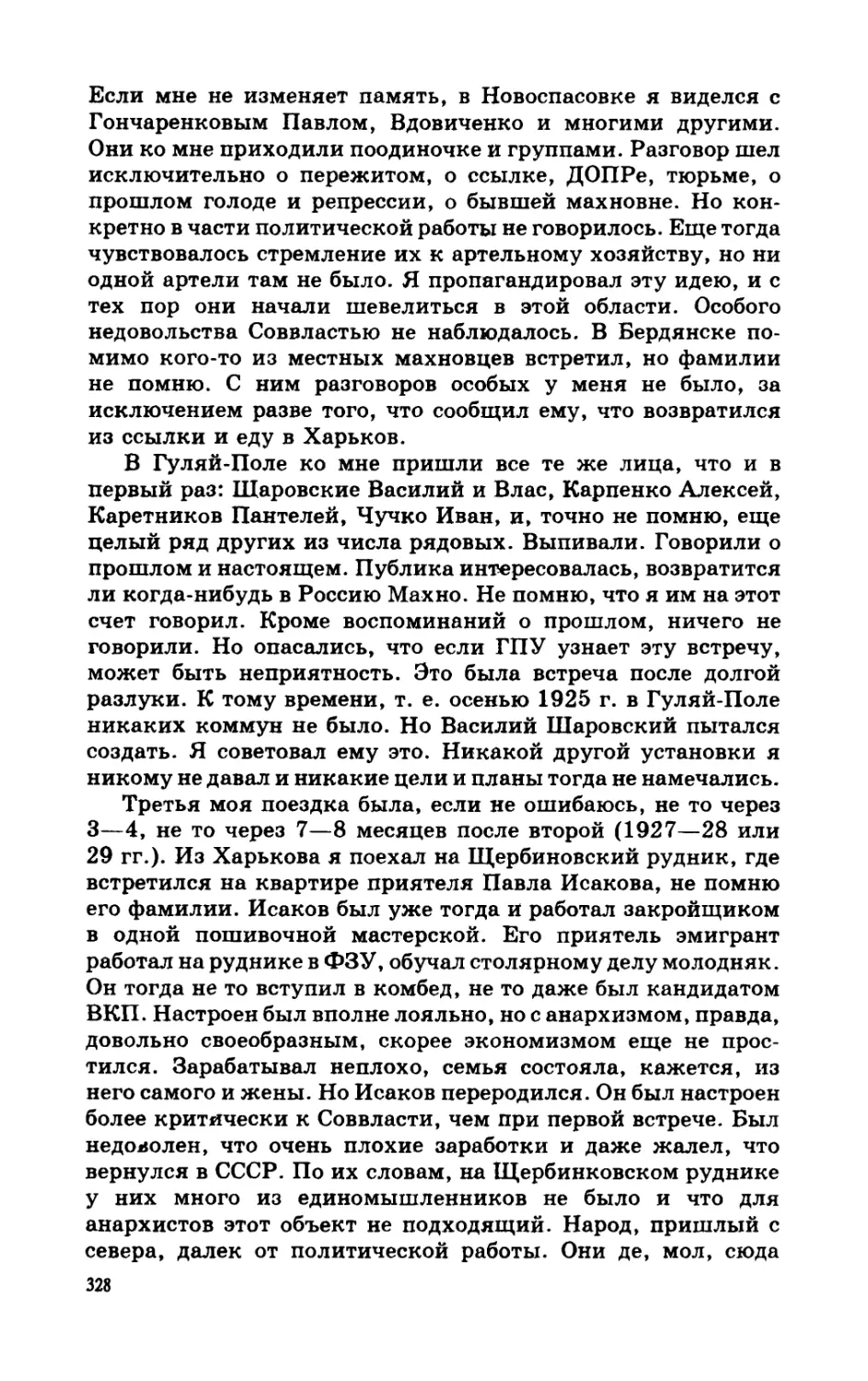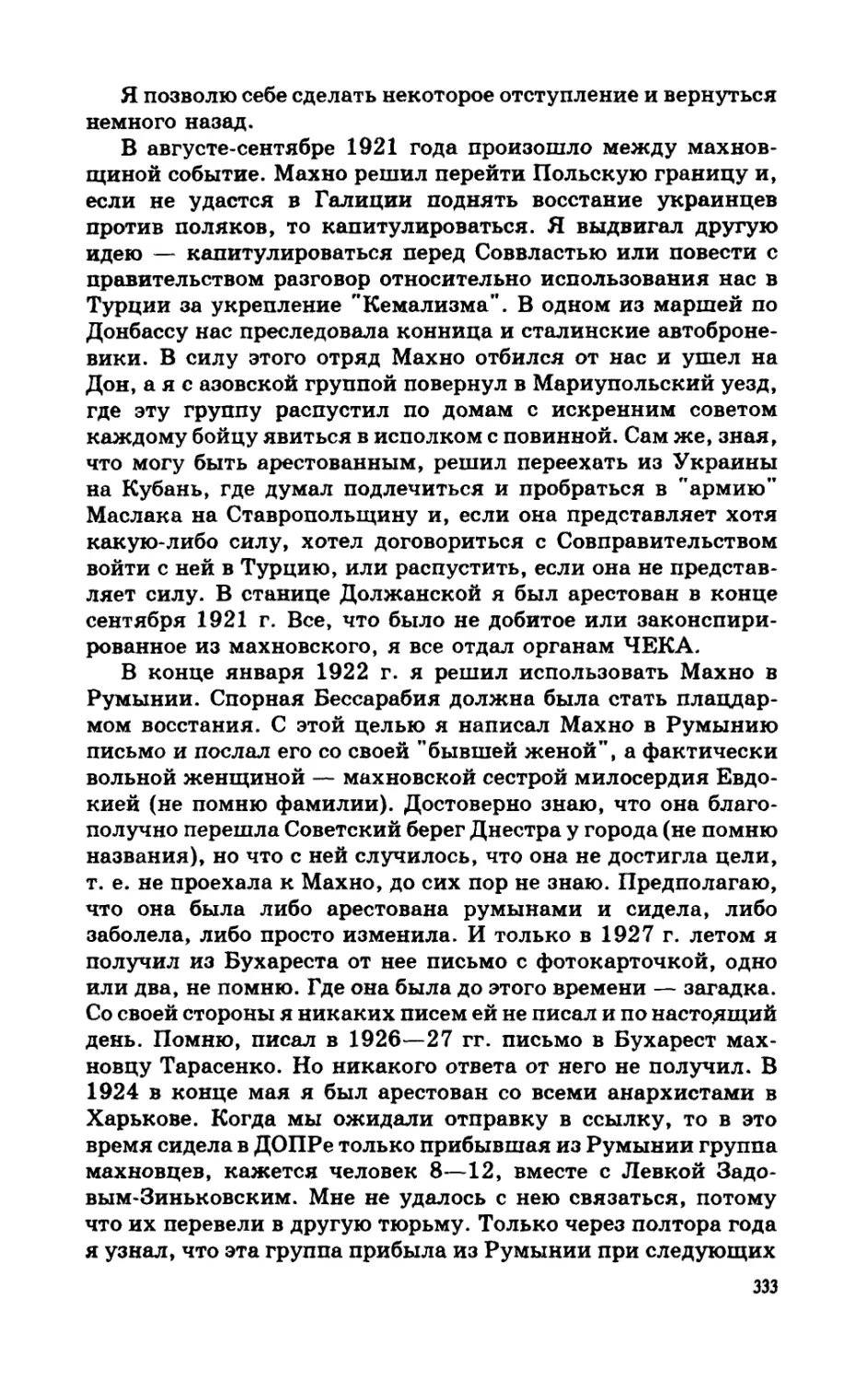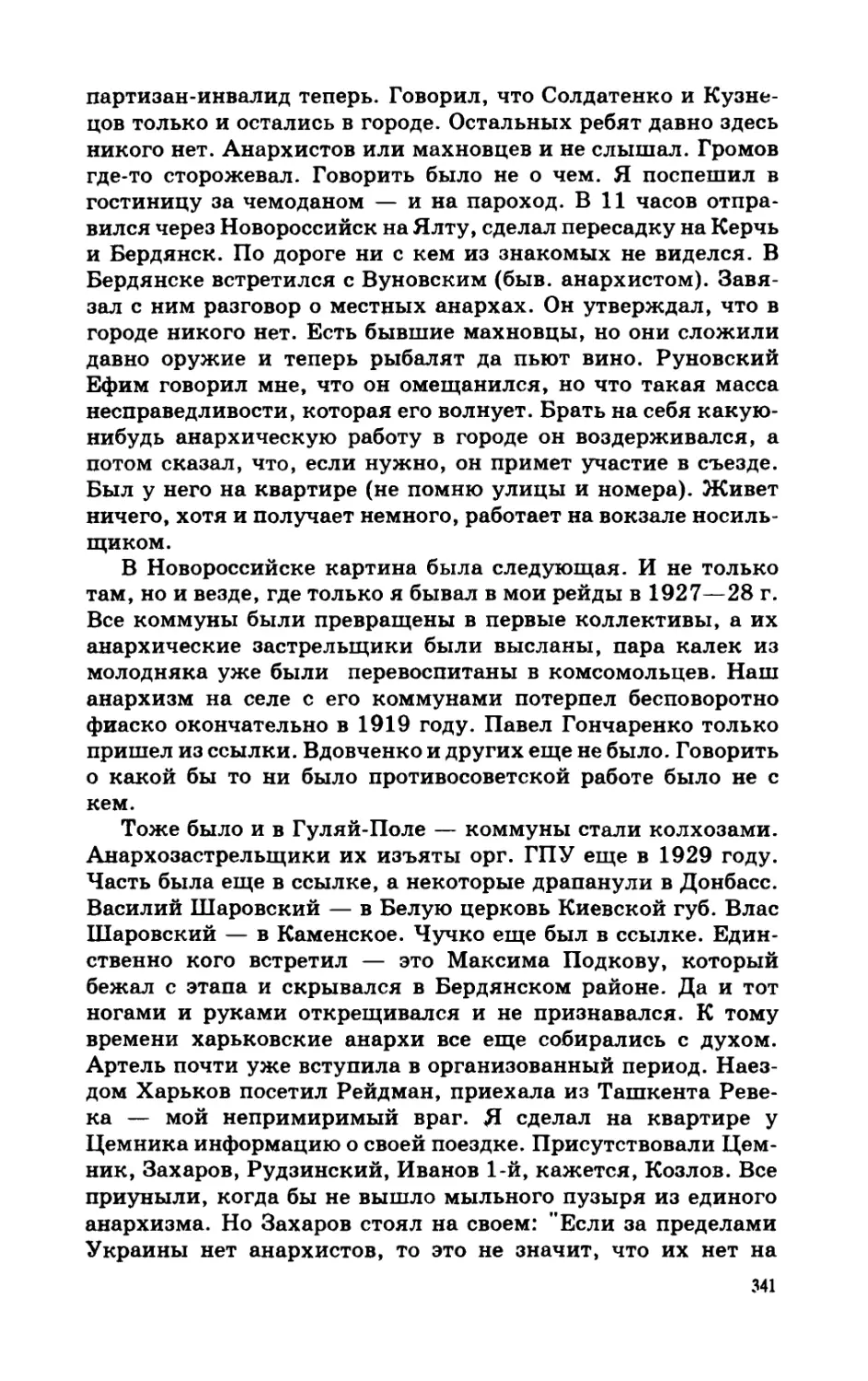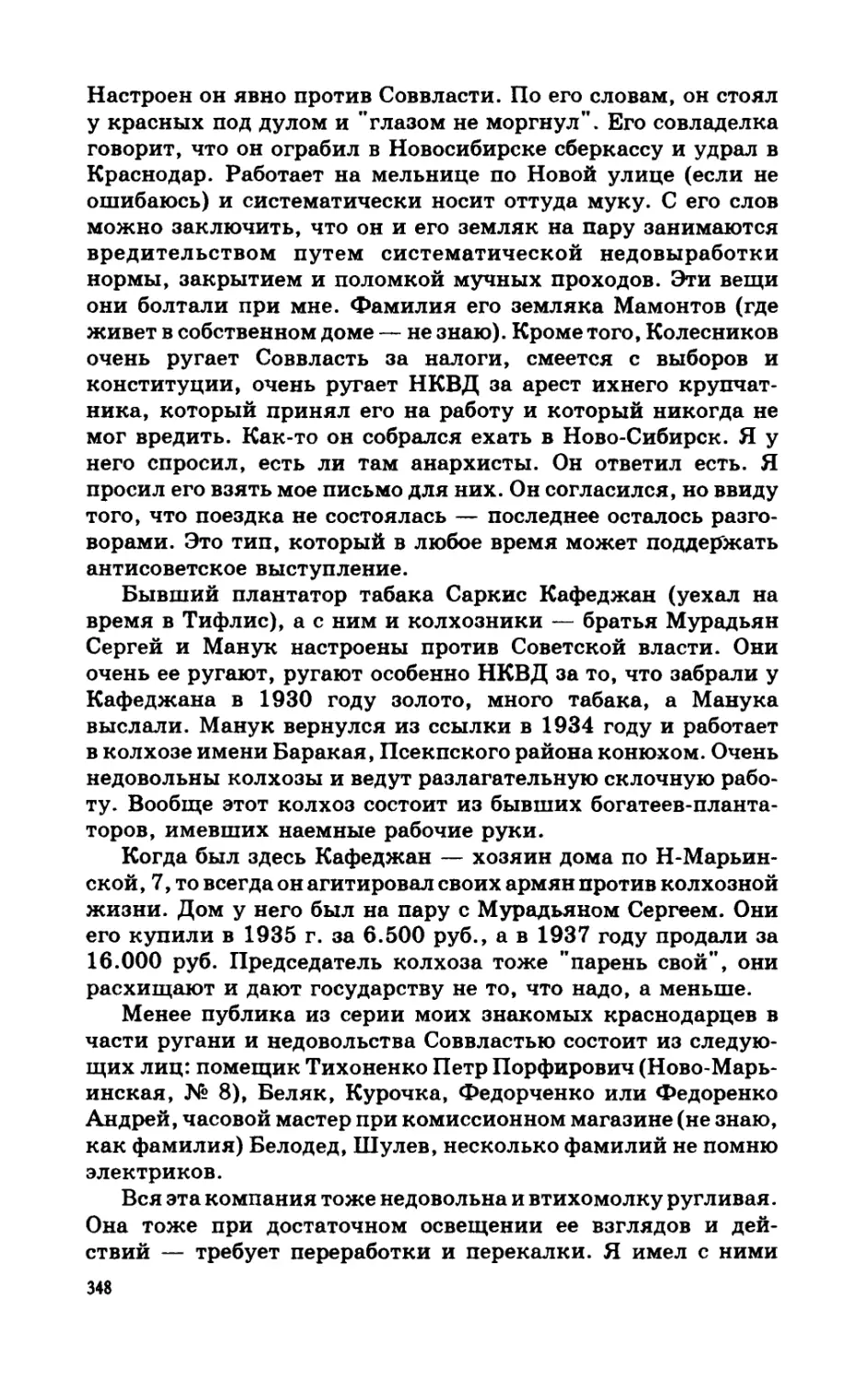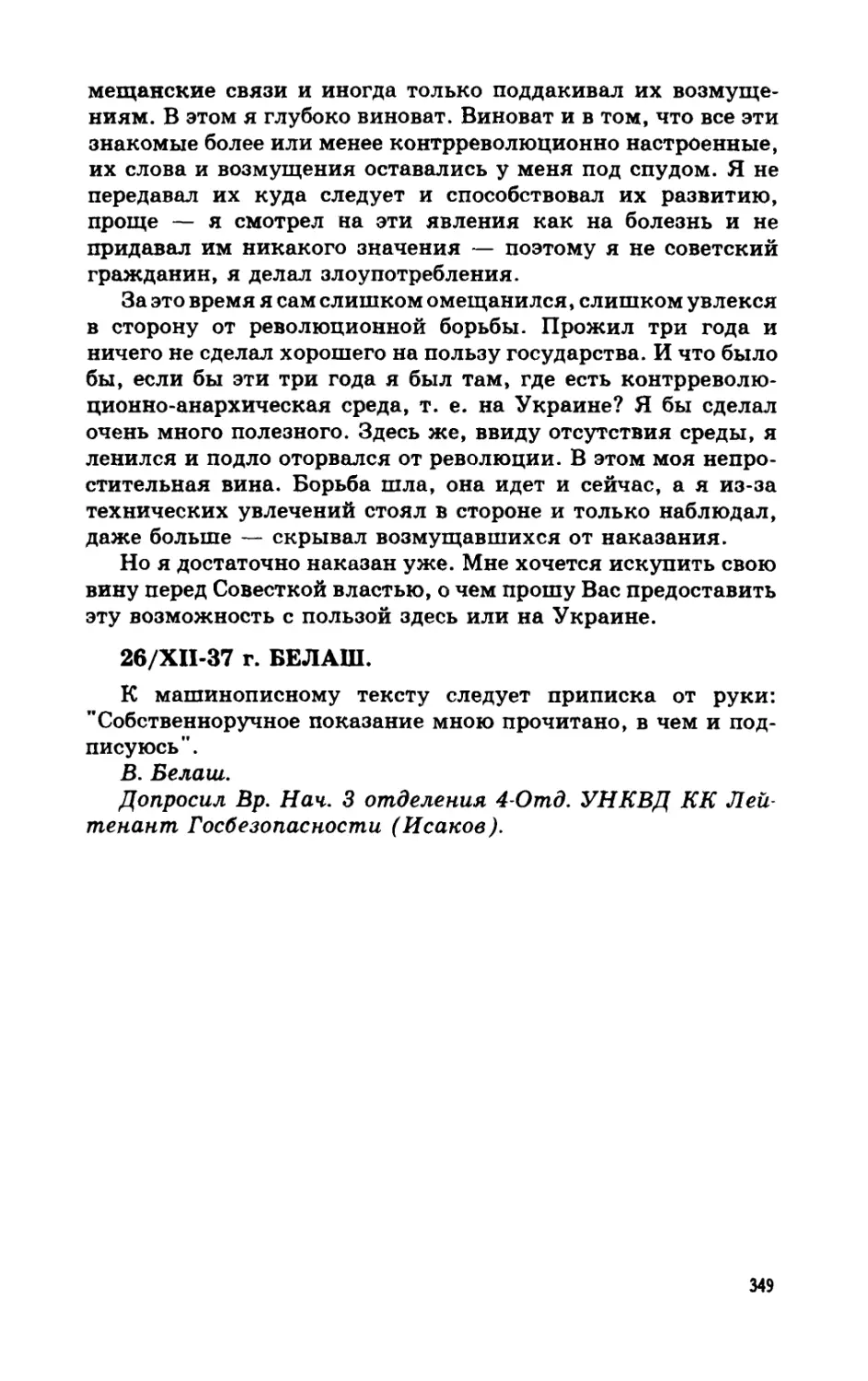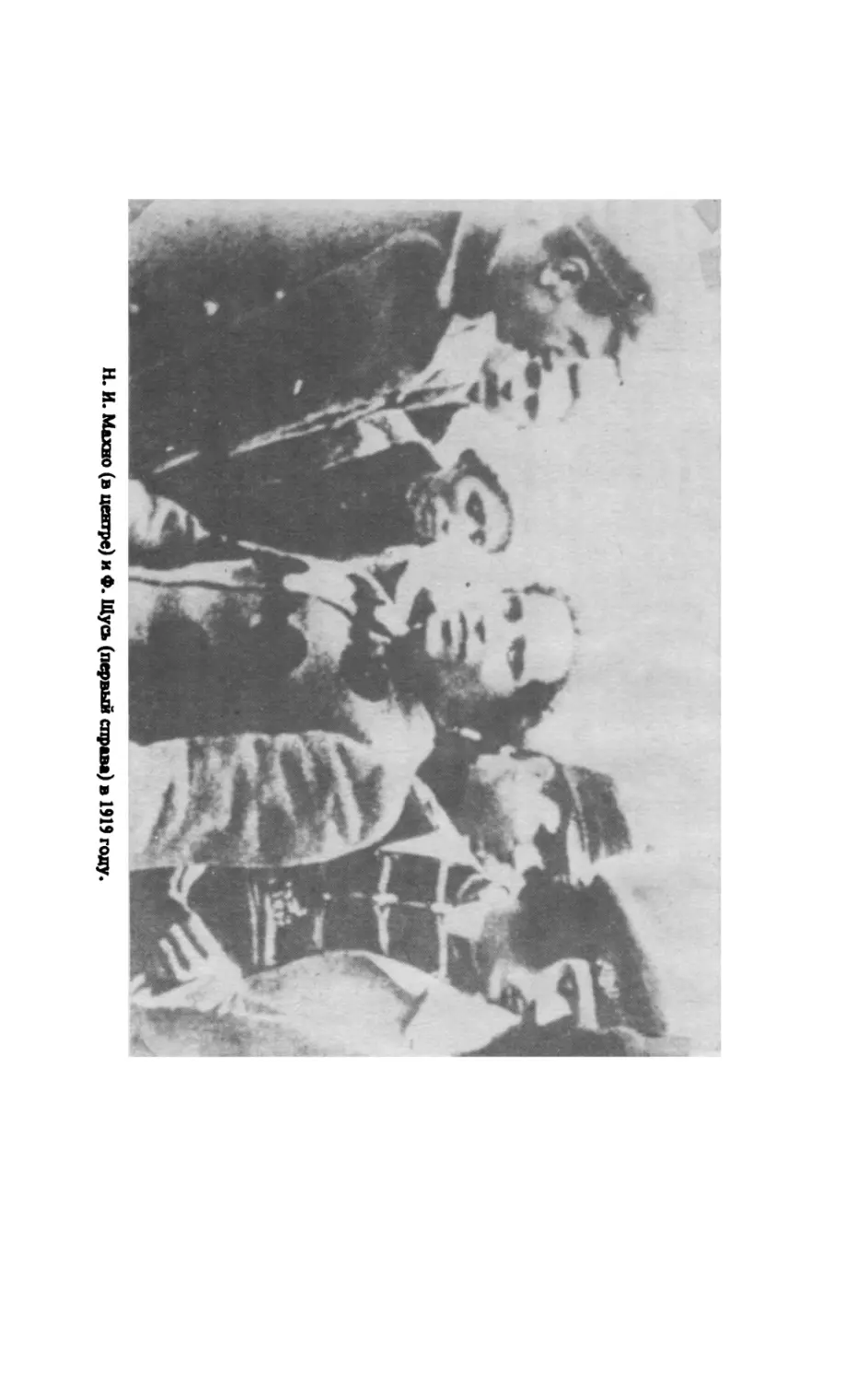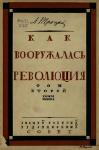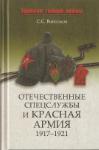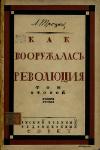Author: Яруцкий Л.
Tags: гражданская война красная армия военная история
ISBN: 985-6191-03-3
Year: 1995
Text
ЛЕВ ЯРУЦКИЙ
МАХНО И МАХНОВЦЫ
МАРИУПОЛЬ
1995
ЛЕВ ЯРУЦКИЙ
МАХНО И МАХНОВЦЫ
МАРИУПОЛЬ
1995
ISBN 985-6191-03-3
Книга издана за счет средств Николая Николаевича
Специального,
Авторские права принадлежат Яруцкому Льву Давидовичу.
Лев Яруцкий — известный краевед, почетный гражданин города
Мариуполя, лауреат Донецкой областной литературной премии,
автор книг "Мариупольская старина"(М.: Советский писатель,
1991), "Пушкин в Приазовье", "Выдающиеся греки-мариупольцы",
"Мариупольские храмы вчера и сегодня". В своей новой книге он
рассказывает о крестьянской войне на Украине в 1918— 1921 гг.
под предводительством Нестора Махно. Здесь дана и общая
характеристика явления, вошедшего в историю под именем
"махновщина", и прослежены судьбы людей, с ним связанных:
прежде всего самого Махно, а также видного махновского коман-
дира, кавалера ордена Красного Знамени Василия Куриленко,
начальника штаба Революционно-Повстанческой армии Украины
Виктора Белаша, контрразведчика Левки Задова (Л. Н. Зинь-
ковского), личного телохранителя батьки Ивана Лепетченко и
др. Отдельные главы посвящены личной жизни Нестора Ивановича,
его жене Г. А. Кузьменко, дочери Елене Несторовне.
В книге использованы материалы из архива КГБ, до недавнего
времени недоступные для изучения и публикации. Некоторые
материалы публикуются впервые.
В приложениях публикуются документы и материалы по теме.
ОТ АВТОРА
Крестьянская война на Украине 1918—1921 годов под
предводительством Нестора Махно охватила огромную тер-
риторию от Дона до Днестра, в нее были вовлечены сотни
тысяч и даже миллионы людей. Но книга о махновщине,
которую вы сейчас открыли, написана краеведом из Мариу-
поля, и это определило ее содержание. Здесь дана махновщина
с мариупольским акцентом. Однако избранные автором темы
вынуждали его покинуть "свою территорию" и выходить за
пределы Мариупольского уезда, оказавшегося в означенные
годы в эпицентре махновского движения. Следуя за повстан-
ческими тачанками, уходившими порой из Приазовья и
Гуляй-Поля в стремительные тысячеверстные походы, автору
пришлось, прослеживая судьбы своих персонажей, "посе-
тить" различные грады и веси, а также "побывать" в Румы-
нии, Польше, Чехословакии, Германии, Франции.
Автор не ставил себе цель выстроить фабулу жизни и
деятельности Нестора Ивановича Махно, в последовательном
порядке зарегистрировать события махновского движения.
Это сделано в содержательных и весьма солидно документи-
рованных книгах, как, например, монография В. Ф. Верстюка
"Махновщина" (К., 1991) и в сборнике "Нестор Иванович
Махно. Воспоминания, материалы, документы", составлен-
ном этим же исследователем. К тому же стали доступны
нашему читателю трехтомные воспоминания Нестора Ивано-
вича, доведенные, к сожалению, только до 1918 года.
Меня же привлекает история, показанная через челове-
ческие судьбы, и персонажами моих рассказов (чисто доку-
ментальных, без единого вымышленного имени или эпизода)
стали выдающийся махновский командир, герой освобожде-
ния Мариуполя, кавалер ордена Красного Знамени Василий
Куриленко, контрразведчик Лева Задов (Л. Н. Зиньковский),
телохранитель батьки Иван Лепетченко, Герой Советского
Союза генерал-майор Максим Козырь, в мае 1919 года воин
Третьей бригады, раненный под Волновахой в бою с конни-
3
ками Шкуро, и мариупольские анархисты, оказавшиеся спут-
никами Махно во время отступления весной 1918 года.
Отдельные главы посвящены жене Нестора Ивановича Г. А.
Кузьменко и его дочери Елене Несторовне.
Пусть читатель не удивится, встретив в этой книге рас-
сказы о Павле Дыбенко и Александре Колонтай. Нет, они не
были махновцами. Но вместе с Третьей бригадой батьки
Махно штурмовали в марте 1919 года Мариуполь. И для
краеведа это обстоятельство — вполне достаточное основание,
чтобы сделать их персонажами книги, посвященной Махно,
махновцам и махновщине.
Автор надеется, что краеведческие очерки, акцентирую-
щие внимание в основном на эпизоды, происшедшие на
Мариупольщине, создают все же мозаичную картину, верно
отражающую характерные черты махновщины как истори-
ческого явления. И что некоторые подробности, не привлек-
шие внимание известных махноведов и изложенные им в
этом издании, представляют интерес для широкого читателя,
но в особенности приазовского, в особенности мариупольского.
Надеюсь, читателю будут также интересны и приложения
к этой книге, где он найдет архивный вариант рассказа
известного писателя Всеволода Вишневского "Махновцы" и
наш комментарий к нему, а также ряд документов о махнов-
ском движении на Мариупольщине.
Автор отважился на попытку нарисовать психологический
портрет Нестора Махно, на анализ этой противоречивой, но
необыкновенно яркой и весьма неординарной личности.
Большинство краеведческих рассказов этого сборника в
сокращенном газетном варианте публиковались на страницах
"Приазовского рабочего", коллективу которого я многим
обязан. В особенности главному редактору газеты Вере Ни-
колаевне Черемных, мужественно решившейся напечатать
мой первый очерк о Махно, когда еще не была отменена 6-я
статья Конституции СССР и мы находились под неусыпным
вниманием недреманного ока горкома партии.
Выпуская в свет свою пятую книгу, я не могу не вспомнить
тех людей, которые помогли моим рукописям пробиться к
типографскому станку. Это и талантливый поэт Даниил
Чкония, который в бытность свою редактором московского
издательства "Советский писатель" покровительствовал, ре-
дактировал и способствовал выходу в свет моей первой книги
"Мариупольская старина". Это и человек большой душевной
чуткости Игорь Каримович Каримов, без решающей поддерж-
ки и помощи которого не вышла бы ни "Мариупольская
старина", ни "Пушкин в Приазовье".
4
И, наконец, эта книга о Несторе Махно и махновщине
выходит в свет благодаря меценатству Николая Николаевича
Специального и его фирмы, а также поддержке Мариуполь-
ского общества "Мемориал" и его председателя Галины Ми-
хайловны Захаровой.
Этим благородным людям, а также не названным здесь,
всем, кто помогал мне в написании и издании моих книг,
мой земной поклон и сердечная благодарность.
Мариуполь, июль 1993 г.
ВЫРОС В МАРИУПОЛЕ?!
Нестор Иванович любил говорить: "Я прежде всего рево-
люционер, а потом уж — анархист".
Революционеры нынче упали в цене.
Так почему же никогда не умирал интерес к Махно, к
махновщине?
Прежде всего потому, конечно, что запретный плод сладок.
Десятилетия замалчивания рождали естественное любопыт-
ство. Но, главное, думаю, — его противоборство с большеви-
ками. Воспоминания батьки и книги о нем содержались в
спецхранах, а КГБ не случайно брало на заметку тех, кто
проявлял интерес к Махно. Потому что это было проявлением
неосознанного, может быть, протеста против большевистского
единодержавия. Как и ностальгические песни о поручике
Голицыне и корнете Оболенском.
Махно рубил головы этим поручикам и корнетам, но он
же вступал в единоборство с буденовцами и добивался
поразительных успехов. Он, противостоявший Ленину и
Троцкому, бивший Деникина и Врангеля, не уступивший
Фрунзе и Петлюре, — личность по-своему исключительная.
Не потому ли он неудержимо привлекал художников слова,
что так нестандартен, ярок, даже экзотичен. И Алексей
Толстой обратился к этому персонажу гражданской войны
не только потому, что "хождение по мукам" его героев
пролегло и через Екатеринославщину, родину махновского
движения. И случайно ли Сергей Есенин, автор "Пугачева",
задумал, к сожалению, неосуществленную поэму "Гуляй-
Поле"?
Нестор Махно стал поистине легендарным и без преуве-
личения народным героем.
Полностью вычеркнуть его имя даже советская историо-
графия, беззастенчиво вымарывавшая целые главы из лето-
писи нашей жизни, не могла. Но представляли его бандитом,
воплощением зла и жестокости, атаманом кулацкой контрре-
волюции.
6
Знали ли мы, что "дурят нашего брата, ой, дурят"?
Конечно. Приведу только один пример.
Д. Л. Голинков в книге "Крушение антисоветского под-
полья в СССР" в полном соответствии с истиной пишет, что
10 апреля 1919 года махновский штаб, вопреки запрещению
советского военного командования, созвал 3-й Гуляйпольский
районный съезд, на котором присутствовали представители
72 волостей Александровского, Мариупольского, Бердянско-
го и Павлоградского уездов, а также делегаты от воинских
частей. Он также без искажений цитирует строки из резолю-
ции съезда: "Требуем полной свободы слова, печати, собраний
всем левым течениям, то есть партиям и группам, и непри-
косновенности личности работников партий левых револю-
ционных организаций".
Каков же комментарий Д. Л. Голинкова? — "Это были
демагогические, псевдореволюционные требования".
Подобную чушь (то есть такие выводы и комментарий) мы
пропускали мимо ушей, но спасибо Д. Л. Голинкову и таким,
как он, историкам, что они, критикуя своих идеологических
противников, пробалтывались и сообщали нам, что Махно,
оказывается, был за демократическое развитие общества, что,
хоть и не готов был разрешить деятельность правых сил, но
критики левых не боялся, подобно большевикам, и предос-
тавил им свободу слова, печати, собраний и прочее.
Однажды, вращаясь среди мариупольских книголюбов,
познакомился с Михаилом Ивановичем Тарасенко. Проник-
нувшись ко мне доверием, он рассказал, что среди раритетов
его домашней библиотеки есть тома серии "Революция и
гражданская война в описаниях белогвардейцев", что кто-то
на него настучал, и явились к нему "искусствоведы в штат-
ском" с обыском. Тома эти изъяли, но Михаил Иванович
проявил мужество и настойчивость (издание советское, цен-
зурой дозволенное), и — шла хрущевская оттепель — эти
книги ему вернули.
Так я познакомился с мемуарным очерком К. В. Гера-
сименко "Махно". Я был потрясен не только новыми све-
дениями о махновщине и ее вожде, которые начисто отсут-
ствовали в писаниях советских авторов, но и тем, как тесно
переплелась судьба Нестора Ивановича с Мариуполем. О
том, что он освобождал наш город от деникинцев в марте
1919 года, я уже знал из рассказа Всеволода Вишневского
"Бронепоезд "Спартак" (см. в приложении 1 рассказ "Мах-
новцы"). Но выяснилось, по К. В. Герасименко, что этим
не исчерпываются мариупольские страницы биографии
Махно.
7
Автор этого очерка пишет, что Махно был сыном гуляй-
польского малоземельного крестьянина, занимавшегося
скупкой рогатого скота и свиней по заказам мариупольских
мясников.
Посещая церковно-приходскую школу, юный Махно по-
могал отцу в разделке свиных туш. Однажды, отвезя их в
Мариуполь, Иван Махно оставил там своего одиннадцатилет-
него сына, определив мальчика в один из галантерейных
магазинов.
С первых дней службы в магазине для всех было ясно, что
приказчик из Махно не получится.
— Это был, — как рассказывал впоследствии старик-при-
казчик, у которого Махно ходил в учениках, — настоящий
хорек, молчаливый, замкнутый, сумрачно смотрящий взгля-
дом необыкновенно блестящих глаз. Он одинаково злобно
относился как к служащим, так и к хозяину и покупателям.
За три месяца я обломал на его голове и спине безо всякой
пользы до сорока деревянных аршинов: наша наука ему не
давалась.
"От мальчика, — пишет К. В. Герасименко, — требовалось
покорности, почтительности и выполнения мелких услуг, но
будущий крестьянский вождь, презирая старших, вместо
скучного дела за прилавком, предпочитал ловлю бычков в
море или шатание с шумной ватагой уличных мальчишек по
порту или окрестностям города".
На побои, которыми щедро награждали его со всех сторон,
мальчик отвечал местью: он ловко и незаметно отрезал
пуговицы с костюмов приказчиков, подливал касторовое
масло в чайник с чаем, а своего учителя приказчика однажды,
после порки, сгоряча облил кипятком так, что старика в
обморочном состоянии отвезли в больницу. Однажды, когда
жене хозяина вздумалось выдрать мальчика за уши, он до
крови искусал ей руки и, боясь наказания, сбежал из мага-
зина".
Хозяин вызвал из Гуляй-Поля Ивана Махно. Мальчика
разыскали, выпороли и устроили в типографию для обучения
делу наборщика.
Типографское дело, рассказывает далее К. В. Герасименко,
пришлось Махно по вкусу: он с интересом присматривается
к работе наборщиков, расспрашивает их, учится разбирать
шрифт, проявляет бойкость, сметливость. В типографии его
начинают ценить, поощрять, и это вернее всяких побоев
достигает цели: Махно с утра до вечера просиживает в
типографии, он уже умеет держать в руках верстатку, его
рука быстро и ловко бегает по клеточкам кассы.
8
Так упоительно интересно живописал К. В. Герасименко
мариупольское отрочество Нестора Махно, и нетрудно пред-
ставить себе, каким восхитительным чтением были эти стра-
ницы для краеведа, коллекционирующего выдающихся лю-
дей, чьи биографии связаны со скромным городом на берегу
Азовского моря. Правда, чтобы обнародовать эти сенсацион-
ные сведения в печати в то время не могло, разумеется, быть
и речи. Но устно я их пропагандировал. (Замечу в скобках,
что на моих глазах не хватали людей за политические
анекдоты и тому подобное, и мы, зная, что КГБ о нас неустанно
"заботится", как начали в хрущевскую оттепель болтать
напропалую, так и продолжали болтать и в брежневские
застойные времена).
Мои друзья-журналисты, подтрунивая надо мной и паро-
дируя заголовки "рассказов краеведа" о знаменитостях, свя-
занных с нашим городом, с добродушной иронией спраши-
вали , когда я принесу материал " Батько Махно и Мариуполь ".
Они также интересовались, какая надпись украсит мемори-
альную доску на Дворце культуры "Азовстали" (бывший дом
Томазо), где располагалась типография братьев Гольдрин. В
Мариуполе в начале века были и другие типографии, но я в
тех шутливых разговорах решил поместить будущего батьку
именно в эту, в центре города, чтобы мемориальную доску
могли лицезреть в этом людном месте многие. Тем более, что
в мариупольской типографии, по сведениям К. В. Гераси-
менко, работал не только будущий командующий Революци-
онно-Повстанческой армией (махновцев), но и будущий пред-
седатель Военно-Революционного Совета РПА. Да-да, К. В.
Герасименко так и пишет: "На мальчика обращает внимание
работавший в той же типографии анархист Волин, который
и помогает ему пройти дома курс городского училища. После
ареста Волина занятием Махно руководит эсер Михайлов. По
его совету Махно сдает экзамен на звание сельского учителя
и в 1903 году получает место учителя в одном из сел
Мариупольского уезда".
Что Махно никогда не был учителем, я знал уже тогда.
Что родился он не в 1884 году, как утверждает Герасименко,
тоже знал: в БСЭ указан 1889-й. (Сейчас выяснилось, что
родился Нестор Иванович в 1888-м. Похоже, батько и сам не
знал в точности даты своего рождения). Знал, что осужден
он был не в 1907-м, а тремя годами позже, что не содержался
в Орловском централе и не отбывал каторгу в Акатуе и
Зерентуе.
Все это не выдумки К. В. Герасименко, а легенды, услы-
шанные им, добросовестно воспроизведенные и выдаваемые
9
за чистое золото подлинных фактов. Что сам Махно отрица-
тельно отнесся к очерку К. В. Герасименко, понятно: батько
нередко представлен в неприглядном виде, да и выдумки у
этого автора слишком много. Гораздо больше в очерке не
соответствует действительности, чем я здесь перечислил.
Поэтому и специалисты-махноведы не принимают его всерьез.
И напрасно. Потому что, когда автор излагает не то, что он
услышал о Махно, а то, что видел своими глазами, ему можно
верить. Но не в случае, когда он изображает отрочество Махно,
якобы проведенное в Мариуполе. Хотя психологический
портрет Нестора-подростка сделан, думаю, в общем-то доста-
точно проницательно.
В моих краеведческих изысканиях я уже встречался с
лжемариупольцами. Так, я обрадовался, когда узнал, что
известный революционер-народник, ученый-этнограф и поэт
Тан-Богораз родился в Мариуполе. Я ликовал: коллекция
наших знаменитых земляков пополнилась еще одним уважа-
емым именем. Но как только начал собирать материалы,
выяснилось, что документ, по которому зафиксировали в
паспорте Богораза место и дату рождения, был фальшивым
и не отражал подлинные факты.
В другой раз пришлось отбиваться от зловещей знамени-
тости, которую навязывал нам в земляки... Солженицын. На
страницах его "Архипелага..." утверждается, что один из
создателей ГУЛАГа и самых выдающихся палачей Нафтули
Френкель до революции жил в Мариуполе, где ворочал
большими делами. Пришлось доказывать, что Френкель —
лжемариуполец, не был он здесь лесоторговцем и не издавал
газету "Копейка".
К сожалению, поверив К. В. Герасименко ("ах, обмануть
меня нетрудно, я сам обманываться рад"), я уже успел
протрубить в "Приазовском рабочем", который в то время
выходил 130-тысячным тиражом, о мариупольском отрочес-
тве Махно. По неисчерпаемой иронии судьбы материал был
опубликован 1 апреля (1989). Так что я могу отшутиться:
первоапрельская, дескать, шутка. Но приношу извинения
мариупольскому читателю: я ввел его в заблуждение.
Но...
Как только утвердилась у нас гласность, Харьковское
отделение СП "Интербук" выпустило очерк К. В. Герасименко
брошюрой (вместе с отрывком из "Очерков русской смуты"
А. И. Деникина). Стотысячный тираж книжки разошелся
мгновенно и теперь сеет о батьке Махно всяческие небылицы.
Как же на самом деле прошло детство и отрочество
предводителя гражданской войны на Украине?
10
Пятый, самый младший сын бывшего крепостного кресть-
янина, Махно не помнил своего отца: Иван Родионович
скончался, когда его последышу минуло только одиннадцать
месяцев. И что же ожидало этого младенца? Детство, полное
лишений, бедное радостями. Учеба во 2-й гуляйпольской
начальной школе, похвалы учителя, гордость матери за
младшенького, который в классе все схватывает на лету.
Вроде вполне подходит к нему знаменитое "В детстве у меня
не было детства".
Но нет, не вполне. Замерзшая река, самодельные коньки
и катание с утра до вечера. При этом, исправно сложив книги,
отправлялся в школу, вечером деловито возвращался после
многотрудного дня... с катка.
"Это многих славных путь".
Однажды он провалился под лед, но не утонул. Одежда
на нем мгновенно задубела, но бежать домой побоялся.
Спасения искал у родного дяди. "Когда явилась встрево-
женная мать, — вспоминает он, — я, растертый спиртом,
сидел уже на печке. Узнав, в чем дело, она разложила меня
через скамью и стала лечить куском толстой скрученной
веревки".
Урок матери подействовал совсем не так, как воспитатель-
ные меры упомянутого К. В. Герасименко приказчика (был,
оказывается, такой в действительности, но не в Мариуполе,
а в Гуляй-Поле). "Помню, пишет Махно, долго после этого я
не мог как следует сидеть на парте, но помню также, что с
тех пор я стал прилежным учеником".
Ребенок как ребенок, никакой не хорек.
Другим он стал потом.
Пишут, что ни одна драка в Гуляй-Поле не обходилась без
юного Нестора.
Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой.
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.
И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
"Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет"
Так написал о себе Сергей Есенин, так мог сказать о себе
Нестор Махно. Нет, не в Мариуполе встретился он с анархис-
том Волиным, чье мастерство произнесения митинговых
речей сравнивали с ораторским искусством Троцкого. Наем-
ный пастушок помещичьих коров и овец, маляр, слесарь и
литейщик, Нестор Махно пришел к анархистам-террористам
11
после кратковременного пребывания у пресных и разговор-
чивых меньшевиков.
С высоты моего нынешнего возраста и знаний мне трудно
назвать то, что делал в начале века Нестор Махно в
Гуляй-Поле, революционной деятельностью. Это скорее
похоже на банальную уголовщину: грабежи, стрельба,
кровь.
Арест, тюрьма, расстрельный приговор. Сомневаюсь, что-
бы Нестор Иванович читал Достоевского, в частности его
роман "Идиот". Но 52 дня просидел он в камере смертников
и вполне квалифицированно мог бы проэкзаменовать вели-
кого писателя: правильно ли тот передал чувства, которые
испытывает человек в ожидании, что сейчас с грохотом и
скрежетом откроется дверь камеры и его поведут к виселице
или под дула расстрельной команды.
А он, Махно, испытал эти чувства не один раз. В 1918-м,
когда уходил от наступавших на Украину немцев и австрий-
цев, арестовали его по недоразумению. Ему грозил расстрел,
но обошлось, как в первый раз, в 1910-м. Тогда Евдокия
Матвеевна, мать Нестора, обратилась с письмом к царице, к
Александре Федоровне. Та заступилась за сына беднячки из
Гуляй-Поля, но не зачлось ей это через восемь лет в Ипать-
евском доме. Николай II собственноручной резолюцией заме-
нил Махно смертную казнь на двадцатилетнюю (по другим
источникам — бессрочную) каторгу.
Вряд ли грозный батько в 1921-м вспомнил заступни-
чество императрицы-матери, спасшей ему жизнь, когда дру-
гая мать-украинка бросилась ему в ноги, умоляя не погубить
продкомиссара, отпустить ее единственного Мишеньку. И он
отпустит мальчишку, чтобы мир мог потом читать "Тихий
Дон". Только за то, что пощадил шестнадцатилетнего Шоло-
хова, много грехов можно скостить батьке Махно.
Он, лучше многих других знавший чувства человека,
ждущего смертного приговора, не раз и не два мог непрек-
лонно решить сотни, а, может быть, и тысячи судеб". "Рас-
стрелять!" И как Гришка Мелехов, литературный герой
пощаженного им продкомиссара, будет с обнаженной саблей
исступленно рубить единокровных братьев, русских и укра-
инцев, которых считал своими и всех трудящихся смертель-
ными врагами. И будет истерически кричать своим однодум-
цам: "Плена нет! Рубить, рубить беспощадно!"
Но это будет потом. Ему еще предстоит пройти через
Бутырки, из которых — после многих лет ношения ручных
и ножных кандалов — освободит его в марте 1917 года
Февральская революция. Он вернется в родное село, станет
12
организатором и признанным руководителем революционных
крестьян Гуляйпольского района.
Я не пишу об этих месяцах его жизни не потому, что они
не представляют интереса, — напротив, они необычайно
содержательны и соблазнительны для писательского пера, —
а потому, что меня не прельщает роль регистратора событий,
фиксирующего их в строго хронологическом порядке, и я
пользуюсь своим правом выбора тех эпизодов жизни батьки
Махно, которые мне нужны для книги рассказов краеведа.
ТОВАРИЩ НЕСТОР, ЕГО ПОДРУГИ И
МАРИУПОЛЬСКИЕ АНАРХИСТЫ
В мои школьные годы нам вдалбливали, что революцио-
нерами в России были только большевики, а все остальные —
псевдо. Авторы исторических очерков о Жданове (Мариупо-
ле), изданные до горбачевской перестройки, убедительно
продемонстрировали, что школьную премудрость они усвои-
ли превосходно. Правда, меньшевикам и эсерам они позво-
лили взойти на свои страницы, но последние понадобились
исключительно как "мальчики для битья". Чтобы ярче по-
казать, какие они были глупые, какие бяки и предатели, а
большевики — сплошь мудрецы, народные радетели и бла-
годетели, умело выведшие трудящиеся массы из мрака за-
блуждений и ведущие их к светлому будущему — от победы
к победе.
Анархистам в той схеме места не оставалось вовсе. Ко-
нечно, они не были организованы и сплочены в монолитную
партию с железной дисциплиной, как большевики, и сущес-
твенной роли в российской революции не сыграли, это правда.
Но были же они все-таки, эти анархисты, ведь ни один фильм
на так называемую историко-революционную тему без них
не обходится.
На Юзовском металлургическом заводе в первые десяти-
летия XX века анархистская организация была и действовала,
о чем мы знаем из известной ныне биографии Левы Задова
(Л. Н. Зиньковского). А на мариупольских "Никополе" и
"Провидансе"?
— Нет, у нас организации анархистов не было, — убеж-
денно заверяет меня коллега-краевед, много лет отдавший
изучению истории Мариуполя.
Но вот за дело берется молодой исследователь — Александр
Фомичев. И выясняется, что Мариуполь обзавелся собствен-
ными, доморощенными, так сказать, анархистами ничуть не
позже всемирно знаменитого в этом отношении Гуляй-Поля,
а одновременно с ним, то есть в 1907 году. Именно тогда
14
заявила о себе в городе группа так называемых анархистов-
коммунистов, ставившая своей целью "насильственное свер-
жение существующего в России государственного и обще-
ственного строя и замену его строем коммунистическим или
анархическим коммунизмом".
Новорожденные радетели за установление безвластного
коммунистического рая немедленно перешли от слов к делу,
то есть к грабежам, которые они изящно именовали экспро-
приациями, а сокращенно — эксами.
В один прекрасный вечер к мариупольскому купцу Елеф-
терию Кефели явились двое молодых людей и вручили
письмо, не отличавшееся тонкостью стиля, но зато преиспол-
ненного решимости действовать. Вот что гласило это рожден-
ное в муках и корявым почерком написанное сочинение, если
исправить в нем орфографические и пунктуационные
ошибки: "Группа анархистов-коммунистов. Требование ка-
питалисту Кефели. На сумму 3000 рублей. В случае будет с
вашей стороны отказ, то группа задала себе целью получить
от вас означенную сумму или уничтожить вашу жизнь. Смерть
или деньги".
"Прочитав письмо, — пишет А. Фомичев, — Кефели
выхватил револьвер (тому, что оружие было у мирного
обывателя, удивляться не стоит: на дворе 1907 год, револю-
ция), анархист-коммунист тоже, и в результате короткой
перестрелки вымогатели бежали, а один из них получил
ранение в руку. Что стало далее с неудачливыми анархиста-
ми — неизвестно".
Виктор Белаш, частый гость на страницах этой книги,
рассказывает в своих воспоминаниях, как в декабре 1918 года
он оказался в Мариуполе. Остановился он в хате старого
рыбака, которая служила подпольщикам явочной квартирой.
Два сына рыбака работали на "Русском Провидансе", причем
старший был большевиком, а младший — анархистом. "Гости
скоро будут, — сказал старик Белашу, — приехал делегат от
Махно".
И в воспоминаниях самого Нестора Ивановича мы находим
сведения о Мариупольской организации анархистов, относя-
щиеся к еще более раннему периоду — к весне 1918 года.
В апреле того года шли на Украину дивизии германо-ав-
стро-венгерской армии. Революционные силы, неумело огры-
заясь и терпя поражение от регулярных воинских частей,
уходили в Россию — в Таганрог, Царицын. Был в этом потоке
и Нестор Иванович Махно.
Уже в Ростове встретил он "товарища Григория Борзенко,
серьезного товарища, работавшего в свое время в Одессе и
15
Харькове". Лично они друг друга не знали, и Махно в скобках
мимоходом замечает: "Нас познакомила тов. Рива, один из
членов Мариупольской группы анархо-коммунистов".
Рива — не фамилия, а еврейское женское имя. В среде
анархистов было принято такое обращение: "товарищ" с
добавлением не фамилии, а только имени. К Махно, напри-
мер, обращались: "Товарищ Нестор". Впрочем, в этом отно-
шении анархисты мало отличались от большевиков. Помните,
как Павка Корчагин обращается к "партайгеноссе" Устино-
вич: "Товарищ Рита". Так вот, мариупольчанка "товарищ
Рива" неоднократно встретится нам во втором томе "Воспо-
минаний" Махно, но мы так до конца и не узнаем ее фамилии.
Помимо прочего, Нестора Ивановича в Ростове занимали
поиски членов сельскохозяйственных коммун Гуляйполев-
ского (так пишет Махно) района, которые тоже эвакуирова-
лись и, по его расчетам, должны были проследовать через
этот город.
После многочисленных перипетий он все-таки встре-
тился — уже в Царицыне — с коммунарами, которые были
уверены, что Махно вернулся на Украину для борьбы с
немцами и подобной встречи не ожидали.
"Лишь моя подруга, — пишет он не без нежности, —
милая Настенька — она была накануне родов — и слышать
не хотела о том, что я не постараюсь встретиться с нею перед
родами. Она ожидала меня каждый день. Иногда тосковала
о том, что ее ожидания, по рассказам коммунаров, могут
оказаться напрасными.
О "подругах" Махно существует огромная литература,
почти целиком относящаяся к области мифов. Мы сэкономим
много времени и места, если не станем ее анализировать
всерьез, а процитируем ироничный обзор, написанный Мар-
ком Алдановым:
"Ни один Стенька Разин в литературе неприемлем и
невозможен без "стрежня", без "простора речной волны" и
без прекрасной княжны. Персидской княжной при Махно
оказалась роковая еврейка/— было бы крайне странно, если
бы роковой еврейки не оказалось. Как сообщают мемуаристы,
звали ее Соней и была она курсисткой и дочерью богача.
Махно хотел было сжечь ее живьем ("зажарить я ее хотел"),—
но, разумеется, тотчас влюбился в нее без памяти. Соню
крестили, она стала называться Нина Георгиевна, батько на
ней женился в Гуляй-Поле, — "на тачанках, покрытых
дорогими коврами, по ковровой дороге ехали в церковь Махно,
его невеста и почетные гости..." П. Е. Щеголев, по старой
привычке к исторической точности, нерешительно выражал
16
сомнения относительно женитьбы этого странного героя эпо-
са. Можно было бы и в самом деле написать целое исследо-
вание только на тему о том, как звали роковую подругу Махно.
Сведения советских писателей не вполне согласуются со
сведениями эмигрантских. У г. Пильняка, например, подруга
батьки именуется Марусей; у г. Яковлева она Федора. Анар-
хист же Аршинов утверждает, что при Махно находилась его
законная жена Галина Андреевна Кузьменко.
Соня—Нина—Маруся—Федора тоже были без памяти
влюблены в Махно. Но относительно ее роли при нем сведения
несколько расходятся. Естественно было бы, по всем правилам
словесности, предположить, что она была злым гением бать-
ки. Однако эмигрантский мемуарист пишет: "1918 год принес
батьке Махно не только кровавую славу, но и жгучую любовь
странной девушки... У нее было прелестное, матово-розовое
лицо с правильными тонкими чертами, ласково темно-серые
красивые глаза с длинными ресницами, стройная изящная
фигура. Слабая улыбка освещала ее лицо и делала ее детски-
милым". Нет, она была не злым гением, а добрым ангелом
Махно: "Соня быстро выпрыгнула вслед за ним и горячо,
держа за руку Махно, стала просить пощадить пленных
офицеров. — Прогнать... Отпустить их, и только, — бросил
Махно конвоирам..."
В этом ироничном "обзоре" матримониальных дел Нестора
Ивановича вполне достоверно лишь одно: законной (но не
единственной) женой Махно действительно была Галина
Андреевна Кузьменко (ей мы посвятили отдельную главу —
"Первая дама Гуляй-Поля").
Очерк Марка Алданова написан в 1936 году. А что мы
имеем, как говорится, на сегодняшний день?
Не один биограф Махно пытался классифицировать
"подруг" Нестора Ивановича, но окончательную ясность в
этот вопрос все же не сумели внести. Так, В. Ф. Верстюк
в книге "Махновщина" считает, что на женщине, которая
родила Махно "антихриста", то есть мальчика, появивше-
гося на свет сразу с зубами (мы еще расскажем об этом в
главе "Первая дама Гуляй-Поля") стала его первой женой,
но не после возвращения Нестора Ивановича с каторги, а
"до того".
Тарас Беспечный в документальном очерке "Нестор
Махно — бунтарь с рождения", опубликованном в газете
"Донбасс", пишет, что мать и братья юного Нестора, чтобы
отвлечь от анархистских похождений, "женили его на простой
крестьянской девушке. Но, увидев Нестора за работой в
"Союзе бедных хлеборобов", она навсегда ушла от него в
17
соседние Пологи, где прожила в одиночестве до глубокой
старости".
Тарас Беспечный располагает сведениями об еще одной
подруге Нестора Ивановича — "возлюбленной девушке
Нюсе", с которой познакомился еще до ареста. "Это случи-
лось, — рассказывает он в упомянутом очерке, — после
бегства от Нестора первой жены. Нюся его ждала почти десять
лет. Нестор писал ей из тюрьмы нежные, полные любви
письма. Она отвечает ему тем же. Теперь (после освобождения
из Бутырок. — Л. Я.), встретившись со своей любимой,
женится на ней".
"Голос Украины" в свою очередь утверждает, что "двою-
родный внук Махно" Виктор Иванович Яланский встретился
и беседовал с первой женой батьки — Настей Васецкой. Таким
образом, появляется еще одна претендентка на звание первой
жены Нестора Махно.
Сам батька своих "подруг" не нумеровал и — обычно —
даже не поименовывал, но в данном случае, по-видимому,
Настя Васецкая и "милая Настенька", с которой Нестор
Иванович так трогательно встретился в эвакуации, — одно
и то же лицо.
Подругой товарища Нестора она стала в коммуне близ
Гуляй-Поля, в организации которой Махно принял горячее
участие. Больше того: он сам состоял ее членом и трудился
там два дня в неделю.
Газета "Индустриальное Запорожье" пишет об этой
"образцовой коммуне анархистов", что здесь никто не
работал, но зато все ели, пили, бездельничали. А для
пополнения припасов подручные атамана Лепетченко и
Василевский подвозили в бывшую экономию помещика
Классеня вина, коньяки, ликеры из купеческих подвалов,
а из ближайших хуторов поставлялись свиньи, гуси,
другой провиант. Жизнь в такой коммуне представляла
сплошную оргию.
Если бы земляки великого анархиста (считаю, что Махно
более чем кто-либо другой заслуживает такого эпитета) за-
глянули в его мемуары, они увидели бы там совершенно
другую картину. Создатель гуляйпольских коммун описывает
их быт восторженно, но не потому, что они состояли из
сплошных гулянок да пиров: "В одной из них, пожалуй,
самой большой, — вспоминает он, — я уделял два дня в
неделю своего физического труда: во время весенних посевов
в поле за буккером или сеялкой, до посевов и по окончании
последних — на домашних работах: на плантациях или возле
механика электромашины и прочее. Остальные четыре дня
18
недели я работал в Гуляй-Поле в группе анархистов-комму-
нистов и в районном Революционном Комитете".
Через восемь лет в Париже, уже зная, что созданные им
коммуны не выдержали испытания временем, он писал о них
с умилением:
"И свободные труженики-коммунисты (коммунары? —
Л. Я.), под звуки свободных песен о радости, песен, отража-
ющих собою дух революции, тех борцов, которые многие годы
проповедовали ее или умерли или остались живы и непоко-
лебимы в борьбе за ее "высшую справедливость", которая
должна восторжествовать над несправедливостью, окрепнуть
и стоять путеводительницей жизни человека, — засевали
поля, расчищали сады и огороды, веря в самих себя, в свое
искреннее и чистое намерение впредь не допустить более
поселиться на завоеванной земле тем, кто никогда на ней не
трудился, но, по праву государства, владел ею и стремился
снова завладеть".
Вот здесь, в этой коммуне, "под звуки свободных песен о
радости" и расцвела любовь товарища Нестора и "милой
Настеньки".
В Царицыне Нестор Иванович помог коммунарам устро-
иться на хуторе Ольшанском и объявил им о своем намерении
к началу июля вернуться в Гуляй-Поле для борьбы с герма-
но-австро-венгерскими оккупантами и гетманцами. "Моя
подруга, пишет он, долго крепилась, все не поддавалась
тяжелому, перед родами в особенности, чувству одиночества,
и теперь плакала..."
Расставание было тяжелым. Приведу еще одну цитату.
Она пространна, но обладает большим преимуществом перед
тем, что писали и пишут махноведы различных эпох, —
достоверностью.
"Я подготовлял свою подругу к тому, чтобы она мужес-
твенно на время рассталась со мною, живя вместе с комму-
нарами, как жила до сих пор, всегда помня, что я оставляю
ее во имя великого дела украинских тружеников, которые
задыхаются в петле немецко-австро-венгерской реакции.
Подруга соглашалась со всеми моими доводами о том, что
не могу праздно сидеть возле нее, я должен быть к июлю
месяцу в Гуляй-Поле во что бы то ни стало; но чувства брали
перевес над разумом, и она, словно дитя, рыдала. Все это
создавало во мне удручающее состояние духа. Все это натал-
кивало меня на мысль взять ее с собой, ибо вдвоем с близким,
дорогим, легче умирать у дела... Но такое решение она и сама
считала безумием. Она уже мало ходила, больше лежала в
постели...
19
Наконец, под стоны и всхлипывания моей подруги, под
плач некоторых матерей-коммунарок и всех детей и под звуки
песен моих славных товарищей мужчин-коммунаров, я рас-
прощался со всеми..."
Но вернемся к товарищу Риве, анархистке из Мариуполя,
с которой Махно встретился, как мы помним, еще в Ростове.
Рива была, видимо, анархо-коммунисткой со стажем и
большими связями в этой среде. Она познакомила Нестора
Ивановича не только с Григорием Борзенко, но и с Аней
Левин, ветераном анархистского движения: за плечами у нее
были годы царской каторги. Узнав от товарища Ривы, что
Аня Левин лежит в больнице, товарищ Нестор попросил ее
сходить вместе с ним навестить "испытанного и искреннего
товарища".
В Саратове Махно встретился с еще одним членом Мари-
упольской группы анархо-коммунистов. Если Риву Нестор
Иванович называет только по имени, то этого — только по
фамилии: "товарищ Любимов (матрос)". Мариупольских
анархистов, Нестора Ивановича и Васильева (анархист из
Юзовки) объединяло то, что все они направлялись в Москву.
Но тут произошло столкновение прибывшего в Саратов одес-
ского отряда анархистов-террористов с местными чекистами,
и нашим путникам пришлось спастись бегством от очень
вероятных крупных неприятностей. Они сели на первый
попавшийся пароход. Оказалось, что он идет не вверх по
течению, а вниз. Делать было нечего, и через некоторое время
они оказались в Астрахани.
Здесь Любимов устроился матросом, а Нестор Иванович
был зачислен членом отряда агитотдела Астраханского кра-
евого совета на паек хлеба и бесплатную квартиру. "От
квартиры, — пишет он о своих воспоминаниях, — я отказался,
так как уже нанял с тов. Любимовым".
Что касается товарища Ривы, то ей не удалось найти работу
на пишущей машинке, и Махно потерял ее из виду. Они еще
раз встретились в Москве, и тогда товарищ Рива бесповоротно
разочаровала товарища Нестора. Вот прощальные строки,
какие он посвятил ей в своих мемуарах: "Хороший была
товарищ, но как-то быстро покатилась по наклонной плос-
кости от анархизма к большевизму, нашла себе друга боль-
шевика и затерялась в рядах большевиков до полного рево-
люционно-политического обезличения".
Между тем в Астрахани Нестор Иванович выступил перед
революционными солдатами и говорил, конечно, совсем не
то, что хотелось большевикам, почему и получил в политот-
деле "особое замечание". Ему недвусмысленно напомнили:
20
"Вы, кажется, стремитесь в Москву?" — и выдали ему деньги
на дорогу.
Он заглянул к Любимову на работу и попросил его сходить
на пристань и купить ему билет на любой пароход до Саратова.
"Товарищ Любимов пошел за билетом, но не купил его,
вспоминал уже в Париже Махно. — Вернулся ко мне без
билета и заявил, что я ошибся, дав ему деньги на билет до
Саратова. "Тебе, говорит, билет нужен до г. Царицына; ведь
там твои друзья-коммунары и твоя жена находится под
Царицыном..."
Он был простодушный парень, этот мариупольский мат-
рос-анархист Любимов, но послушайте, что дальше пишет
товарищ Нестор: "Словно кипятком ошпарил меня тов. Лю-
бимов..."
Вы, конечно, подумали, читатель, что Махно "словно
кипятком ошпарило" потому, что поступок и слова Любимова
напомнили ему о том, о чем он, Нестор Иванович, закрутив-
шись в водовороте анархистских дел, совсем-совсем забыл:
ведь он оставил на хуторе Ольшанском под Царицыном свою
безутешно плачущую подругу в последние предродовые дни!
Нет, ничуть не бывало.
Продолжим цитату: "Словно кипятком ошпарил меня
тов. Любимов, не взяв мне билета потому, что я, дескать,
ошибся, куда мне нужно было ехать. Я с ума сходил от
досады...
Лишь когда я ему объяснил, что могу опоздать вовремя
вернуться на Украину и что мне теперь не до коммунаров и
не до жены, поселившихся на крестьянских квартирах и
живущих в мирной обстановке, он смутился. От злости теряю
равновесие, тычу ему в нос кучу газет, кричу: На смотри и
читай, что делается на Украине: всюду шомполуют, стреляют,
вешают революционных крестьян и рабочих, а ты мне гово-
ришь, что я ошибся в названии места, до которого нужно
было купить мне билет. Ты, говоришь, будто я думал взять
билет до Царицына, а сказал тебе до Саратова. Сумасшедший
ты, дружище!"
Немного успокоившись, они душевно беседовали почти до
утра — гуляйпольский анархист и его устыдившийся мари-
упольский товарищ по партии.
Но заметим, что когда Махно бежал из Саратова, он тоже
не вспомнил свою коммунарскую подругу милую Настеньку.
Хотя ничего чрезвычайного тогда не было. А ведь пароход,
везший его не в Москву, а в противоположное направление
остановился в Царицыне, и Нестор Иванович мог сойти, чтобы
увидеться с близкими. Это, кстати сказать, только сократило
21
бы ему маршрут. Но он почему-то предпочел проследовать в
Астрахань.
Но не столь уж бессердечным был он, Нестор Иванович.
Возвращаясь из Астрахани в Саратов, он, находясь в несколь-
ких верстах — рукой подать — от милой Настеньки, на этот
раз все же вспомнил о ней:
"Пароход подходил к Царицынской пристани. Зная, что
он здесь пристанет, я подумал: "А может быть, заехать на
день-два к своим коммунарам, к подруге, которая, вероятно,
уже родила мне сына или дочь?... (Видите, какая последова-
тельность: сначала коммунары, а подруга с новорожденным
дитем, которого папа еще ни разу не видел, — потом. Ну
какой же ты революционер, если не будешь ставить общест-
венное выше личного? Даже если ты уже остыл от пыла
схватки и спокойно пишешь в Париже свои мемуары. Но —
продолжим цитату). Повидаться бы со всеми... Обнять, по-
целовать дитя..." Но сомнение было мимолетным: нет, не
поддался товарищ Нестор соблазну, мгновенно укротил он
свои вполне естественные, истинно человеческие чувства: "И
тут же вспомнил, что ведь Москва должна была взять у меня
недели две, так как в центре бумажной революции я лелеял
мысль встретить многих и разного направления революцио-
неров... Я принужден был отказать себе в счастье увидеть
своих родных, дорогих, близких. Я ограничился тем, что
написал им несколько теплых приветственных слов на от-
крытке и опустил ее в почтовый ящик".
Как я понимаю, и на этот раз не "милой Настеньке", а
прежде всего коммунарам. " Ну а девушки? А девушки потом ".
Но — и на том спасибо.
И все, больше ни одного слова о "подруге", о ребенке. Ни
единого слова, хотя написал он еще полтора тома своих
воспоминаний и довел повествование до конца 1918 года.
Впрочем, к этому времени стал уже батькой (не в смысле
"родителем", а — атаманом, командиром) и подруга у него
была уже другая.
Прежде чем рассказать о ней, хочу заметить вот что. Когда
в одной из своих публикаций я написал, что батько отнюдь
не был однолюбом, один из махноманов (появились и такие)
возмущенно позвонил мне: "Как вы смеете обливать грязью
поистине народного героя, столь беспардонно оклеветанного
большевиками!"
Нынешняя идеализация Махно, явственно ощущающаяся
в некоторых публикациях, пришла на смену вчерашнему
огульному охаиванию этого поистине легендарного и поисти-
не народного героя вполне закономерно: когда перегибают
22
палку, то, чтобы выпрямить, надо ее перегнуть в другую
сторону. Эта идеализация — тоже ложь, и она нисколько не
лучше большевистской.
Да, я пишу эту главу не без некоторой иронии. Но вовсе
не потому, что хочу нанести ущерб личному достоинству
Нестора Ивановича. Просто некоторые места из мемуаров
Махно невозможно читать без иронической улыбки. Он-то
писал их "на полном серьезе", а сегодня они производят
комический эффект. Что делать, эпоха нынче другая. Сов-
сем-совсем другая. Даже прожженные коммунисты, и те
признали наконец превосходство (они говорят: "приоритет",
так ученей) общечеловеческих ценностей над классовыми.
Итак, была уже осень 1918 года, уже произошли события
в Дибровке (Большой Михайловке), после которых повстанцы
решили: "Теперь ты, Нестор Иванович, наш батько. Батько
всех повстанцев Украины".
Чтобы не утомлять читателя подробностями, приведу
лишь название XII главы третьего тома "Воспоминаний"
Махно: "Наша стоянка в деревне Темировка. Налет на нас
одного из карательных отрядов мадьярских частей австрий-
ской армии и его победа над нами".
В самый разгар этого неудачного для махновцев боя, когда
мадьяры уже выбили их из Темировки, Нестору Ивановичу
кричат:
— Ваша, батько, жена, с подводой осталась в деревне.
— Ничего, теперь уже поздно спасать ее.
Из дальнейшего текста мемуаров мы узнаем, что "подруга"
(Нестор Иванович только так называл любимых женщин)
осталась жива. Правда, это была не "милая Настенька", а
дибривская телефонистка по имени, как пишет Белаш, Тина.
В. Ф. Верстюк в книге "Махновщина" со слов того же
Виктора Белаша излагает следующую историю.
Махно был очень увлечен Тиной и находился под ее
сильным влиянием (по его флегматичной реплике "Ничего,
теперь уже поздно спасать ее" я бы этого не сказал). Ближай-
шему окружению батьки, которое считало, что только оно
имеет монопольное право влиять на Махно, это, естественно,
не нравилось. Тогда за спиной Нестора Ивановича было
решено, что Шусь ("красавец-матрос" — пишет о нем батько
в своих "Воспоминаниях"), который пользовался невероят-
ным успехом у женщин, приударит за Тиной, добьется ее
благосклонности и тем самым скомпрометирует ее в глазах
Махно, положит конец их союзу.
Так оно и получилось. Тина исчезла из жизни Нестора
Ивановича навсегда.
23
О времена, о нравы!
А вот цитата из упомянутого очерка Тараса Беспечного:
"Вторая жена (имеется в виду Нюся, которая десять лет
ждала своего суженого. — Л. Я.) родит ему сына. Но так как
семейные заботы отвлекали его от борьбы с буржуазией, то
его единомышленники из "черной сотни", им же созданной,
пришли к выводу, что надо арестовать молодую жену. Что,
разумеется, осуществили. Нестор Махно заявляет своим од-
нодумцам решительный протест. Те отступили, но затем
провели бесчеловечную акцию. Они принудили молодую мать
уехать из Гуляй-Поля. Так навсегда исчезает жена и сын
будущего грозного батьки Махно. Их судьба неизвестна и
сегодня. Бывший начальник штаба махновской армии, да-
вавший показания в ГПУ, высказал мысль, что их тайно
убили члены "черной сотни."
Добавим, что В. Ф. Верстюк зафиксировал слух о том, что
"антихрйста"(то есть младенца с зубами) родила ему еще до
суда первая жена Нестора Ивановича.
Вот и поди разберись со всеми батькиными женами и
подругами при столь разноречивой информации.
В самом деле, с одной стороны, из очерка Т. Беспечного
вытекает, будто первый брак Нестора Махно был бездетным.
В. Ф. Верстюк, излагая слухи, сообщает, что именно первая
(докаторжная) жена родила ему сына. До этого момента все
более или менее приемлемо. Дальше — хуже.
Если Т. Беспечный прав и второй женой Махно сразу же
после возвращения из Бутырок стала Нюся, то куда же
вписать коммунарскую подругу, с которой он сожительство-
вал не позднее лета 1917 года? Причем "милая Настенька"
имеет несомненные преимущества перед остальными претен-
дентками на роль пассии Махно, потому что о ней рассказывает
сам Нестор Иванович на страницах своих воспоминаний.
Далее. Если мы признаем "милую Настеньку" второй
женой Махно (что вполне логично), тогда не только не остается
места Нюсе с ее сыном, но и Тину следует считать третьей
женой Нестора Ивановича, а не второй, как утверждает
Виктор Белаш.
Я только позволю себе усомниться в том, что влияние
махновского окружения было настолько сильным, что подав-
ляло более чем незаурядную волю Нестора Ивановича. И хотя
и С. Волин (В. М. Эйхенбаум) тоже свидетельствует, что батько
легко поддавался влиянию своего ближайшего окружения,
я не могу поверить, чтобы он позволял своим единомышлен-
никам решать за него, какую женщину ему любить, а какую
удалить с глаз долой. Тем более женщину, родившую ему
24
сына. Это, по-моему, не в характере человека, который умел
противостоять огромнейшему авторитету Ленина и Троцкого,
который не испугался ни мощи австро-германской армии, ни
угроз Врангеля, Деникина, Петлюры. Если действительно
были приняты меры по отношению к близким ему женщинам,
то не иначе, как по его собственной воле.
Мы видели, как жестоко и бессердечно отнесся он к
"милой Настеньке" на Волге, где возле него не было таких
сильных личностей, как Федор Шусь, Семен Каретник (во
многих случаях он упоминается как Каретников), Алексей
Чубенко и другие. И как он реагировал в Астрахани на
"давление" мариупольского матроса Любимова, посчитав-
шего по простоте душевной, что в тех условиях товарищу
Нестору не увидеться с женой и новорожденным просто
бесчеловечно.
Я уже упомянул, что в тот прощальный вечер Махно и
Любимов беседовали почти до утра. Нестор Иванович в
высшей степени обладал даром убеждения. Мариупольский
матрос был захвачен идеей своего гуляйпольского единомыш-
ленника пробраться на Украину, чтобы бороться с инозем-
ными захватчиками и гетманскими предателями. "Товарищ
Любимов заявил мне, — писал в своих мемуарах Махно, —
что и он едет со мною, но я ему отсоветовал, мотивируя тем,
что я сам еще не знаю путей через границу, которая, по
сведениям, на всем своем протяжении бдительно охраняется
немцами. Мы условились, что я из Москвы, а в крайнем
случае из Курска, напишу ему подробности о границе, и он
немедленно покинет Астрахань".
Написал ли Нестор Иванович своему мариупольскому
товарищу, приехал ли к нему Любимов и как сложилась его
судьба в круговерти гражданской войны — это мы не знаем.
Зато известен другой факт, относящийся к Мариуполю и
пребыванию в нем анархистов.
Году в шестьдесят шестом познакомился я с Василием
Демьяновичем Алейниковым и написал очерк под штампо-
ванным, но очень мне нравившимся заголовком "Рядовой
революции". Он действительно в 1917—1918 годах был ря-
довым красногвардейцем в отряде Василия Афанасьевича
Варганова, вершившего в то время власть в Мариуполе. Я
узнал от Алейникова много интересного, в том числе и о том,
как он по долгу службы побывал в особняке, облюбованном
анархистами. Спящие матросы, шумные споры каких-то
субъектов в немыслимо экзотических одеяниях, прилип-
шие к потолку окурки, мусор, грязь, безалаберщина —
словом, все то, что мы видели в советских кинофильмах,
25
когда те воспроизводили "быт и нравы" анархистов. Судя
по воспоминаниям самого Махно, воспроизводили вполне
правдиво.
Таким образом, в Великий Октябрь, именем которого
определилась Вторая Великая Русская Революция (с про-
писной буквы обозначал это событие Нестор Иванович
Махно) Мариуполь не был обделен ничем, в том числе и
анархистами.
"МАРИУПОЛЬ С ПОБЕДОЙ ПРОШЛИ МЫ..."
Дыбенко прибыл под Мариуполь весной 1919 года. Город
был занят деникинцами, в порту стояла французская эскадра.
Павлу Ефимовичу в ту пору только-только стукнуло 30.
Был он в расцвете сил и броской своей мужской красоты.
Богатырского сложения, высокий и стройный, он над любой
толпой возвышался на целую голову.
За ним прочно укрепилась репутация храбреца. Один из
его сподвижников вспоминает: "Словечко "храбрый" не по-
дойдет для его характеристики. Храбрый — это каждый из
нас. Ему была свойственна ошеломляющая храбрость".
Был он человеком редкой воли, умел подчинить себе и
орущую ораву анархиствующих матросов, и деморализован-
ных в бою, охваченных паникой и страхом бойцов, превращал
их в бесстрашную силу, в железный поток, сметающий все
на своем пути.
Сколько раз в жизни ходил он на виду у смерти, но ни
пуля, ни штык не тронули его. Сколько раз стоял он перед
беснующейся толпой, вооруженной и опасной, выкрикиваю-
щей антисоветские лозунги. И "басом, окрепшим над реями
рея", не напрягая голоса, перекрывал шум любого сборища,
оставаясь несокрушимо спокойным. Силой своей убежден-
ности сплачивал он людей и вел их в победный бой.
Сын черниговского крестьянина, он в юношеском воз-
расте включился в революционное движение. Большевиком
стал в 1912 году. В разгаре первой мировой войны руководил
антивоенным выступлением матросов на линкоре "Импе-
ратор Павел". Испытал обычные будни революционера:
тюрьма, фронт, снова арест за антивоенную пропаганду. На
этот раз из заключения его освободила Февральская рево-
люция.
Матросы избирают Павла Дыбенко председателем Центро-
балта — Центрального Комитета Балтийского флота. В дни
подготовки и проведения Октябрьского переворота Центро-
балт был надежной опорой большевиков.
27
Вчерашний рядовой матрос стал наркомом по морским
делам в первом советском правительстве. Это он, Дыбенко,
для защиты новорожденной советской власти формировал
отряды революционных матросов. Это он командовал ими
под Гатчиной и Красным Селом, когда на революционный
Питер шли в наступление Краснов и Керенский. И весьма
успешно командовал. Успешно бился с немцами, шедшими
задушить революцию. Словом, Дыбенко — герой Октября,
один из тех, кто стоял у колыбели Красной Армии.
Герой Октября.
Кто мог тогда поверить, что это звание, наполнявшее его
гордостью, заменят другим: враг народа. Всего через каких-
нибудь два десятка лет. И та самая власть, которую он
устанавливал в семнадцатом и защищал от бесчисленных
врагов, загонит его в пыточную камеру, посадит в железную
клетку, где ему, богатырю, уместиться было немыслимо.
И он, презиравший смерть, не выдержит истязаний и, плача
от унижения, подпишет все, что продиктуют ему следова-
тели.
Его вычеркнут из жизни и из истории, где он занял
заслуженное место. Потом опять настанет просветление, и
его вырвут из забвения, напишут о нем книги, где он опять
предстанет героем Октября, воевавшим за окончательную
справедливость.
Но — ненадолго. Потому что через семьдесят с лишним
коммунистических лет люди, ради счастья которых он не
жалел жизни своей, окажутся не в процветающей свободной
стране, а у разбитого корыта так и не осуществившихся
утопий. И они откажутся праздновать годовщину Октября,
принесшего им бесчисленные бедствия, Октября, который
они столько лет называли Великим и героем которого был
честный и мужественный революционер Павел Дыбенко. И
многие другие, тоже честные и самоотверженные, искренно
верившие: "Мы наш, мы новый мир построим"...
И я вспоминаю блоковские строчки, написанные, правда,
совсем по другому поводу:
Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта?
Если жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута...
С лета 1918 года Дыбенко ведет подпольную работу на
Украине. Белым удалось его арестовать. Ему грозил расстрел,
но правительство Ленина обменяло Дыбенко, щедро "запла-
тив" за него целой группой пленных немецких генералов и
офицеров. "Переплаты" не было: Дыбенко стоил того.
28
В конце восемнадцатого года Павел Ефимович командует
группой советских войск на Екатеринославском направлении.
У современного читателя слова "группа войск" рождает
представление о монолитной, хорошо организованной, дис-
циплинированной, технически оснащенной военной силе.
Ничего похожего не представляла собой "группа войск",
которую возглавил Дыбенко. Это были разрозненные, плохо
вооруженные, недостаточно обученные партизанские отряды,
которые Дыбенко объединил и объявил боевой частью Крас-
ной Армии.
Взяв Екатеринослав и Синельниково, Дыбенко посылает
Махно телеграмму с предложением выслать представителя
для переговоров о дальнейших действиях.
У батьки с большевиками были принципиальные разно-
гласия, но в приазовских портах — Мариуполе, Бердянске,
Геническе — высадились крупные десанты белогвардейцев
на помощь генералу Май-Маевскому — в общей сложности
около 20 тысяч штыков и сабель. С севера на махновский
район надвигалась Красная Армия. При этом у Махно, не
ощущавшего недостатка в людях, остро не хватало оружия
и боеприпасов.
О том, чтобы воевать и с белыми и с красными, не могло
быть и речи. Но если деникинцы шли восстанавливать поме-
щичье землевладение, большевики были все-таки свои с их
лозунгом "Земля —крестьянам". Хотя тоже крутили с му-
жиком, не желая отдавать ему национализированную землю,
а решили оставить ее за госхозами и совхозами.
Махно послал к Дыбенко Алексея Чубенко, наказав ему
политических переговоров не вести, а только просить оружия
и боеприпасов. Они встретились в Новомосковске. Чубенко
вернулся, привезя полмиллиона патронов. Вслед ему
Дыбенко прислал бронепоезд, так отличившийся позднее при
взятии Мариуполя.
Первый "брак по расчету" между махновцами и больше-
виками был заключен.
Примерно такое же положение было у атамана Григорьева,
чьи многочисленные отряды действовали на Херсонщине.
В феврале девятнадцатого года командующий группой
войск Харьковского направления А. Е. Скачко издал вот
такой приказ: "Войска, входящие во вверенную мне группу,
приказано свести в дивизии, а посему приказываю из частей,
находящихся под командованием тт. Дыбенко, Махно, Гри-
горьева, образовать одну стрелковую дивизию, которую
впредь именовать Заднепровской украинской советской ди-
визией.
29
Начальником этой дивизии назначается т. Дыбенко.
Из отрядов атамана Григорьева образовать 1-ю бригаду...
Из 19-го и 20-го Полков образовать 3-ю бригаду под
командой т. Махно".
Так была создана дивизия, которая могла бы войти в
историю как Мариупольская, если бы в то время было
принято, как в Великую Отечественную, присваивать воин-
ским соединениям имена городов, при взятии которых они
отличились.
Каждому, кто хоть мало-мальски знаком с историей граж-
данской войны, понятно, какое своевольное воинство попало
под руку Павла Ефимовича Дыбенко. Однако ничего, воевали.
Как в песне поется: "Партизанские отряды занимали города".
Отряды, наспех переформированные в полки, батальоны,
роты, взводы. В которых чаще всего были люди из одного
села, с одной деревенской улицы. Что является верным
признаком партизанщины.
Антонов-Овсеенко, откровенно симпатизировавший Нес-
тору Ивановичу Махно и всячески его защищавший, тем не
менее пишет: "Вторая бригада Заднепровской дивизии (та,
которую сформировал сам Дыбенко. — Л. Я.) была лучшая,
наиболее дисциплинированная и наиболее стойкая из состав-
ных частей дивизии".
Создавалась эта бригада из тех же партизанских отрядов,
что и остальные бригады, но ее формировал не анархист
Махно и не авантюрист Григорьев, а коммунист Дыбенко,
усвоивший наказы Троцкого: никакой партизанщины, соз-
давать регулярную армию, где демократия должна быть
сведена к нулю, — нужна только железная дисциплина.
Правда, и сам начдив еще не излечился полностью от парти-
занщины, но об этом мы скажем позже.
20 марта 1919 года Скачко приказывает атаману Григорь-
еву развить наступление на Одессу, а "начдиву 1-й Заднеп-
ровской дивизии т. Дыбенко частями 2-й бригады произвести
решительное наступление на Новоалексеевскую с целью ов-
ладения железнодорожным путем через Чонгарский полуос-
тров, чем принять все меры, чтобы не дать противнику
взорвать Чонгарский мост. В то же время поддерживать
бригаду т. Махно, которому решительным, энергичным нас-
туплением на восток выйти на линию Платоновка-Мариу-
поль, закрепляя за собой узлы железных дорог, завладеть
указанными пунктами и уничтожить живую силу противника".
22 марта в разговоре по прямому проводу со Скачко
Дыбенко говорит: "Сегодня в 2 часа я уезжаю под Мариуполь.
Боевые задания выполняются под непосредственным руко-
30
водством Махно и Озерова как начальника штаба. Судьба
Мариуполя решится, вероятно, сегодня".
Но нет, не решилась она ни в тот день, ни на следующий,
хотя главком Вацетис и приказал "до 23 марта захватить
линию Мариуполь-Платоновка". Потребовалось личное при-
сутствие Дыбенко, его рука и воля, его неиссякаемая энергия,
чтобы штурмом овладеть Мариуполем.
Он имел полное право заявить в телеграмме Совнаркому
Украины: "Взятие Мариуполя велось под моим командова-
нием". Если читатель проявит терпение и любознательность
и заглянет в приложения к этой книге, он найдет там и
полный текст победной телеграммы Дыбенко, и взгляд на
взятие Мариуполя белогвардейцев, материалы о состоянии
Третьей бригады батьки Махно и о восстаниях против дени-
кинцев в приазовских греческих селах. Эти документы и
сегодня сохраняют аромат эпохи и рассказывают о ней лучше
самых красноречивых историков.
Между тем начдив Заднепровской получил донесение,
что части его 2-й бригады заняли Чонгарский и Перекоп-
ский перешейки. Задача запереть белых в Крыму была
выполнена, но бригада, не встречая серьезного сопротив-
ления и не получив своевременного приказа остановиться,
5 апреля начала втягиваться в Крым. И вот тогда у Дыбенко
и возник фантастический план захватить полуостров, пе-
реправиться через Керченский пролив и ударить в тыл
белым.
И хотя обстановка требовала перебросить силы восточней
Мариуполя, где за станцией Ново-Николаевской (ныне г. Но-
воазовск) наступление на Таганрог захлебнулось, Дыбенко
оставил этот участок ненадежному воинству Махно и поспе-
шил в Крым.
Ленин был категорически против такого необдуманного
решения. "Насчет планов Дыбенки, — телеграфировал он
Совнаркому Украины, — предостерегаю от авантюры —
боюсь, что кончится крахом и он будет отрезан. Не разумнее
ли его силами заменить Махно и ударить на Таганрог и Ростов.
Советую трижды обдумать, решайте это, конечно, сами".
(ППС, т. 50, с. 283).
Между тем не дремал и противник. В феврале—марте
Деникин провел массовую мобилизацию на Северном Кавказе,
создал Кубанскую (позднее Кавказская) армию, переформи-
ровал действовавшие в Донбассе войска в Добровольческий
армейский и Кубанский конный корпуса. Он рассылал лож-
ные Приказы о наступлении на Луганск. Красное командова-
ние на эту дезинформацию клюнуло. На самом же деле
31
Деникин скрытно перебросил конный корпус Шкуро из-под
Луганска на гришинское направление.
И очень точно угадал уязвимое место в позиции красных.
Надо вспомнить, что еще до взятия Мариуполя главком
приказал передать Третью бригаду Южному фронту. Коман-
дующий Украинским фронтом очень недипломатично, в край-
не резкой форме ответил, что делать это нецелесообразно, что
в условиях, когда Дыбенко формирует свою дивизию и
прекрасно ею командует, не следует ему мешать, лишая его
одной бригады. Между тем Вацетис 2 апреля еще раз наста-
ивает на переброске махновской бригады на Гришинское
направление: оно было крайне слабым, почти обнаженным.
И снова приказ не был выполнен.
Едва начдив Заднепровской ушел из Мариуполя, как
Шкуро нанес удар именно по Гришинскому слабому участку
фронта и сразу же прорвал фронт в районе станции Еле-
новка.
Скачко, находившийся в это время в частях Григорьева,
чтобы лично руководить взятием Одессы, телеграфирует
Дыбенко "по месту нахождения": "Предписываю вам немед-
ленно приехать из Крыма на ваш левый фланг для личного
руководства операциями у Волновахи, где положение прини-
мает угрожающий характер".
Не получив никакого ответа командарм-2 Скачко в тот же
день 12 апреля отбивает вторую телеграмму: "Начдив Ды-
бенко. Бригада Махно осталась в полном вашем подчинении.
Вы ответственны за нее и за левый фланг группы. Предпи-
сываю вам сосредоточить на левом фланге все силы, какие
имеются в вашем распоряжении, хотя бы из-за этого и
произошел ущерб Крымской операции, и решительным уда-
ром ликвидировать прорыв на стыке бригады Махно и 9-й
дивизии".
Но Дыбенко был сыном своего времени. Он впитал в себя
не только лучшие качества эпохи. Борясь с анархической
расхлябанностью, с недисциплинированностью, он сам порой
мог не подчиниться приказу.
Скачко был совершенно прав. Чтобы закрыть брешь,
образовавшуюся во фронте, он бросил из-под Харькова резер-
вные формирующиеся полки — больше ничего не было. Но
Дыбенко сохраняет невозмутимость, он и не думает выпол-
нять приказ командарма. "Ввиду сложившихся обстоятельств
Крыма, требующих моего личного присутствия, — ответил
он, — сегодня выехать не могу. Все меры приняты восста-
новления положения 3-й бригады".
В тот же день, 12 апреля, шкуровцы заняли Волноваху.
32
На следующий день Дыбенко взял Симферополь. Затем
после небольшой передышки подошел к Малахову кургану и
18 апреля был восторженно встречен жителями освобожден-
ного им Севастополя.
А на Мариупольском направлении дела шли все хуже и
хуже. Махновцы, отбившие Волноваху, снова были вынуж-
дены оставить ее. Узловая станция, имевшая важное страте-
гическое значение, несколько раз переходила из рук в руки.
Между тем части Третьей бригады подверглись удару из-под
Таганрога, откатились на северо-запад, в степной район
Приазовья.
Ныне, когда на смену огульному охаиванию Махно пришла
мода идеализировать его, исследователи всячески оправды-
вают это отступление, как в свое время это делали Скачко и
Антонов-Овсеенко. Да, бригада, находившаяся три месяца в
беспрерывных боях, была измотана, да, ее плохо, а то и совсем
не снабжали, в особенности оружием, да, она была вынуждена
самостоятельно заботиться о продовольствии. Да, есть до-
кумент за подписью Скачко, санкционировавшего отход
бригады.
В то же время, правда и то, что рассказывали мне очевидцы
и участники тех событий: махновские подводы и тачанки
вихрем промчались через Мариуполь на запад, в родные
приазовские села, в Гуляйпольский район. На их плечах
белогвардейцы ворвались в город, снова овладели им. В тот
же день в приказе красного главкома говорилось: "Действия
Н. Махно на Мариупольском направлении имеют характер
поспешного отступления".
Эти события встревожили Москву. 22 апреля Ленин те-
леграфирует в Киев: "Антонову. Копии Подвойскому и Ра-
ковскому. Сокольников телеграфирует, что Деникин в Дон-
бассейне великолепно использовал отсрочку, укрепился и
собрал более свежие силы, чем наши. Опасность громадная.
Украина обязана признать Донбассфронт важнейшим укра-
инским фронтом и немедленно выполнить задание главкома
дать солидное подкрепление на участке Донбассейн-Мариу-
поль". (ППС, т. 50, с. 286).
В другой телеграмме он решительно настаивает: "Пере-
бросить украинские войска для взятия Таганрога обязательно
тотчас и во что бы то ни стало".
(Не хочу упустить случай и напомнить, что упомянутый
в Ленинской телеграмме Сокольников, который через нес-
колько лет блестяще проведет денежную реформу в СССР,
укрепит ее финансы и сделает рубль конвертируемым, кон-
фиденциально предлагал использовать поражение Махно под
33
Мариуполем и падением в связи с этим его престижа, чтобы
расправиться с батькой).
28 апреля 1919 года Махно во второй раз взял Мариуполь.
Забегая вперед, скажу, что он возьмет этот город еще раз 6
октября того же года, когда Деникин будет уже недалеко от
Москвы.
Но вернемся к тревожным ленинским телеграммам.
Подвойский (они были адресованы и ему) восторженно
докладывал об успехах Дыбенко, а Антонов-Овсеенко требо-
вал изменений разграничительной линии между Украинским
и Южным фронтами, подчинения себе основной части войск,
действовавших в этом районе, и из местнических интересов
оба они задержали переброску войск на участок Донбассейн-
Мариуполь, как того требовал Ленин.
Позднее Антонов-Овсеенко признал свою ошибку. "Фан-
тастическая мечта. — писал он, — прорваться в Керчь, оттуда
создать угрозу тылам Добровольческой армии, фантастичес-
кая благодаря господству на Черном море враждебного нам
союзного флота, увлекал командукра. Конечно, в вырисовы-
вающейся обстановке следовало во всяком случае отказаться
от активных операций в Керченском направлении и две трети
сил П. Дыбенко перебросить на Таганрогское направление".
В начале мая 1919 года ЦК ВКП(б) объявил выговоры
нарокомвоенмору Украины Н. И. Подвойскому и командую-
щему Украинским фронтом В. А. Антонову-Овсеенко за
задержку переброски войск в Донбасс.
А что же Дыбенко?
За взятие Мариуполя и Севастополя он был награжден
своим первым орденом Красного Знамени. В приказе Ревво-
енсовета Республики говорится, что в период с 25 марта по
10 апреля 1919 года под гг. Мариуполь и Севастополь он,
умело маневрируя вверенной ему дивизией, лично руководил
боем, проявил истинную храбрость, мужество и преданность
делу революции; своим примером воодушевлял товарищей
красноармейцев; способствовал занятию вышеуказанных
пунктов и полному уничтожению противника на северо-вос-
точном побережье Черного и Азовского морей".
О том, что было после 10 апреля приказ Реввоенсовета
Республики умалчивал. Но пройдет совсем немного времени,
и пророчество Ленина исполнится. Дыбенко будет отрезан, а
остатки его Крымской армии попадут под командование
строптивого Махно.
Но в Красной Армии сохранится такая воинская часть —
3-я Крымская дивизия. Она свято хранила свою боевую
историю, в том числе и память о боях за Мариуполь, так как
34
считала себя преемницей 1-й Заднепровской дивизии. Когда
в середине 30-х годов создали "Песню 3-й Крымской дивизии",
в ней звучали и такие строки:
Мариуполь с победой прошли мы
Бить врагов, не добитых еще...
На политзанятиях, рассказывая о боевом пути части, о
комбриге Махно не упоминали. Другое дело Павел Ефимович
Дыбенко: о нем говорили с гордостью. Но — недолго.
Этого человека трижды приговаривали к смертной казни.
Три раза. В двух случаях судьба была к нему благосклонна.
Но в третий раз он попал в руки ежовских палачей. Его
расстреляли 29 июля 1938 года.
НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА
У входа в гостиницу "Континенталь" один из часовых, дол-
говязый, в потертой мерлушковой папахе, преградил ей дорогу.
— Эй, дамочка, ты куда разогналась? Нонче буржуям
сюды хода нету.
— Ты що, сказывся? — толкнул его в бок приземистый
напарник. — Це ж Коллонтай. Проходьте, будь ласка, Лик-
сандра Михайливна.
И когда она исчезла за дверью:
— Дурень, це ж жинка нашого начдива Павла Юхимовича
Дыбенка.
В нетопленном номере Александра Михайловна сразу же
направилась к большому — во всю стену зеркалу, про-
стреленному в верхнем левом углу. Навстречу ей шагнула
статная женщина в элегантной шубке, изящных сапожках
на тонком каблуке, с гордо посаженной головой.
День был суматошный, но ведь не трудней других. Так
почему же она так устала сегодня и какое-то свербящее
чувство тревоги не отпускает ее. Ах да, та женщина, которую
она приняла в политотделе, по-южному смуглая, темноволо-
сая, с выразительными черными глазами.
— Домонтович Елизавета Феоктистовна, представилась
она, и Александра Михайловна, улыбнувшись, не удержалась
от шутливого вопроса:
— Родственница моя, что ли?
И на недоуменный взгляд посетительницы объяснила:
— Домонтович — моя девичья фамилия.
Но нет, у отца Коллонтай, Михаила Алексеевича Домон-
товича, родовитого дворянина и заслуженного генерала, род-
ственников в Мариуполе не водилось.
Ее однофамилица рассказала, что она дочь бывшего ди-
ректора местной гимназии покойного Феоктиста Авраамовича
Хартахая. В молодости ее отец учился в Петербургском
университете, сотрудничал в "Современнике", был знаком с
Чернышевским, Добролюбовым, Шевченко.
36
— Прошлой ночью, — рассказывала посетительница,
задыхаясь от волнения, — ворвались к нам ваши махновцы
и под предлогом поиска попрятавшихся деникинских офи-
церов основательно почистили квартиру. Мне не жаль дра-
гоценностей, которые они унесли, но они забрали также
"Кобзарь", подаренный Тарасом Григорьевичем отцу, экзем-
пляр, в который Шевченко собственноручно вписал строки,
не пропущенные цензурой.
"Ваши махновцы". Рыцари революции не жалеют своей
крови и жизни для нее, и вот на глазах они становятся
грабителями и насильниками.
Она все еще стояла перед зеркалом. "Н-да, дамочка. На
комиссара и впрямь мало похожа", — подумала Александра
Михайловна и пригладила и без того безукоризненно уложен-
ные волосы.
В годы гражданской войны к ней часто так обращались:
дамочка. Рассказывают, что однажды она приехала в Киев,
когда там открылась армейская партийная конференция.
Женщина в изящном белом костюме, воздушной белой
шляпке вошла в зал и села у входа. На нее начали недоуменно
оборачиваться. В президиум полетела записка: "Здесь при-
сутствуют беспартийные". Закрыли двери, чтобы никто не
мог выйти, начали проверку партийных документов. По-
дошли к женщине в белом костюме:
— Дамочка, ваши документы.
Она предъявила партийный билет и мандат представителя
Центрального Комитета РКИ(б).
Писательница Галина Серебрякова слушала Коллонтай на
митинге в Киеве в том же 1919 году, когда Александра
Михайловна побывала и в Мариуполе: "...На подмостки
поднялась стройная, хрупкая женщина в изящном синем
платье и огромной соломенной шляпе. Дымчатый прозрачный
шарф обхватывал тулью и небрежно ниспадал вниз. Уверен-
ным движением женщина вытащила длинную шпильку,
сняла и положила на стол головной убор, тряхнула пепель-
но-русыми вьющимися волосами и начала говорить".
"Коллонтай умеет всегда быть нарядной и праздничной",—
так, не без, думаю, некоторой зависти, сказала о ней Надежда
Константиновна Крупская.
Александре Михайловне, дочери генерала, жене преуспе-
вающего офицера В. Л. Коллонтая, была уготована безоблач-
ная судьба великосветской дамы. Но в 1898 году, двадцати
шести лет, она порывает с мужем, меняет благополучную и
обеспеченную жизнь на полную опасностей и лишений судьбу
профессионального революционера.
Она прожила большую и яркую жизнь, занимала в боль-
шевистской партии высокие посты. Коллонтай — первая в
историй женщина-посол, достойно представлявшая Совет-
ский Союз в ряде стран Европы и Америки.
Первый весенний месяц 1919 года был в ее жизни пере-
насыщен событиями, как и вся революционная биография
А. М. Колонтай. Сначала она участвует в работе первого
конгресса III Интернационала. Через день после закрытия
конгресса начал работу VIII съезд РКП(б), делегатом которого
она была. 22 марта на утреннем заседании съезда Александра
Михайловна выступила с докладом о работе среди женщин,
а через три дня после окончания работы съезда она была уже
в составе 1-й Заднепровской дивизии, штурмовавшей Мари-
уполь и освободившей его от деникинцев.
Она оказалась здесь потому, что этой дивизией командовал
Павел Ефимович Дыбенко.
О любви этих двух людей революции написано много.
Они впервые встретились весной 1917 года, а в восемнад-
цатом соединили свои жизни гражданским браком. Алексан-
дра Михайловна гордилась тем, что это был первый граждан-
ский брак, оформленный в Советской России. Занятые по
горло неотложными делами, они редко бывали вместе. За
пять лет их брака они лишь один раз не расставались три
месяца подряд. Это было на Южном фронте, начиная с
Мариуполя.
Здесь, в Мариуполе, Александра Михайловна встретила
свой день рождения. Ей исполнилось сорок семь лет.
Однажды ее спросили: "Как вы решились связать свою
жизнь с человеком, который был на семнадцать лет моложе
вас?". Александра Михайловна ответила: "Пока нас любят,
мы молоды ".
Знавшие ее в годы гражданской войны описывают ее так:
"Она по-прежнему полна обаяния и привлекательности.
Стройная фигура, глубокие и выразительные голубовато-се-
рые глаза, светло-каштановые вьющиеся волосы, красиво
очерченные губы. Все в ней гармонично и непосредственно,
просто и изящно".
Была в этой женщине какая-то покоряющая внутренняя
сила, непонятная власть, которая заставляла окружающих
относиться к ней с особенным уважением и даже почтением.
Самые разнузданные матерщинники проглатывали язык,
потому что и им чутье подсказывало, что при этой женщине
нельзя произнести грязное слово. Даже Махно, при всей
прямоте и грубоватости, обычно не затруднявший себя в
выборе выражений, при Александре Михайловне вел себя
38
подчеркнуто сдержанно. Создавалось впечатление, что он, не
боявшийся ни бога, ни черта, в присутствии этой женщины
как будто робеет.
Будучи начальником политпросветотдела 1-й Заднепров-
ской дивизии, она занималась организацией агитпоезда,
раздобыла вагон с киноустановкой, создала бригаду по про-
ведению митингов-концертов.
3 апреля 1919 года митинг-концерт состоялся и в Мари-
уполе, в бывшем цирке братьев Яковенко.
Это самое большое помещение в городе было рассчитано
на тысячу зрителей. Но в тот вечер здесь собралось гораздо
больше людей: они стояли в проходах, тесными рядами
уселись на полу, прямо на арене. Красноармейские шинели
перемежались с матросскими бушлатами, рабочими куртка-
ми, разномастными полушубками крестьян-повстанцев из
Третьей бригады батьки Махно.
Они встретили ее холодно и неодобрительно, насторожен-
ные необычным обликом этой женщины, столь непохожей
на затянутых в кожанки комиссаров, каких они привыкли
видеть. Но в первую же минуту она овладела вниманием
тысячеголового зала. Ее не зря называли пламенным трибу-
ном революции. Один из ее слушателей так рассказывает о
Коллонтай-ораторе: "Сильный голос, напоминающий звук
виолончели, артистическая дикция, умные и доходчивые
слова, в которые облачались мысли, сила ораторского воз-
действия поражали".
К огромному залу она обращалась как к одному человеку,
доверительному собеседнику:
— Ты знаешь пчел, товарищ? Когда человек или зверь осмелится
потревожить улей, что делают пчелы? Они, не рассуждая, бросаются
жалить врага, нарушителя их медового трудового царства. Что из
того, что, лишившись жала, пчела осуждена на смерть. Некогда
думать о себе, надо спасать улей, добро, скопленное общими силами,
надо спасать жизнь других пчел...
Образная речь этой женщины была понятна и тем ее
слушателям, которые "не разжевали даже азбуки соль".
— А разве рабоче-крестьянская республика не такой же
пчельник? И разве те из нас, кому дорого наше новое свободное
рабоче-крестьянское государство, не должны поступать, как
поступают пчелы? Неужели мы окажемся неразумнее пчел?
Неужели мы дадим деникинской своре, бандитам и петлю-
ровцам разорить наше рабоче-крестьянское государство, заб-
рать себе ту власть, что завоевали сами кровавой ценой?
— Нет!..
— Нет! — раскатом грома громыхнул зал.
39
Она, как всегда, нашла ключ к сердцам слушателей.
— Если хочешь, чтоб семья была обеспечена, — звенел ее
голос под сводами Мариупольского цирка, — цель в золотопо-
гонников, стойко отражай нападки Деникина и кулацких банд.
Если хочешь, чтобы хлеб твоей полосы был убран и село
твое родное не знало голода и разорения, — защищай до
конца с винтовкой в руках власть рабочих и крестьян против
врагов-белогвардейцев.
Если хочешь победы, хочешь свободной, мирной жизни,
то стой же крепко в цепи, не дай позорной трусости овладеть
собой, будь подобен пчеле, что жертвует собой во спасение
родного улья.
Нестор Иванович не верил этим песням о свободной жизни
в государстве рабочих и крестьян. Он вообще не признавал
никакого государства, считал, что большевики, нынешние
его союзники против Деникина, оседлали революцию, чтобы
командовать народом. Но и он попал под обаяние речи
Коллонтай, и он разделял восторг слушателей в битком
набитом мариупольском цирке.
Через несколько дней Дыбенко и Коллонтай с частью
Заднепровской дивизии направились из Мариуполя в Крым.
Там Павел Ефимович стал командующим созданной им Крым-
ской армией, а Александра Михайловна — председателем
политуправления Крымской республики.
Из Мариуполя они выступили по Бердянской дороге в
солнечный апрельский день. Слева празднично сверкало
Азовское море, справа зеленели бескрайние поля. В самом
разгаре была весна. Вторая весна революции.
* * *
Здание Мариупольского цирка не сохранилось: его взор-
вали гитлеровцы. Память о нем осталась только в названии
переулка — Цирковый. Там, где этот переулок вливается в
Итальянскую улицу, на угловом доме укреплена мемориаль-
ная доска. На ней они, Павел Ефимович и Александра
Михайловна, снова рядом, снова вместе, как в то самое
счастливое для них время. Под их барельефными портретами
высечены строчки: "3 апреля 1919 года на митинге в бывшем
здании цирка выступили П. Е. Дыбенко — начальник 1-й
Заднепровской дивизии, освободившей Мариуполь от дени-
кинцев, и А. М. Коллонтай — видный деятель Коммунисти-
ческой партии и Советского государства.
О том, что в этих событиях приняла участие не менее
влиятельная в том апреле супружеская пара — Нестор Иванович
Махно и его жена Галина Андреевна Кузьменко, во времена,
когда установили эту доску, говорить было не принято.
40
ЖИЗНЬ И ГИБЕЛЬ ВАСИЛИЯ КУРИЛЕНКО
27 марта 1919 года 1-я Заднепровская дивизия Павла
Дыбенко штурмом овладела Мариуполем. Главную роль при
освобождении города сыграла Третья бригада имени батьки
Махно. Командовал ею, конечно, Нестор Иванович.
В телеграмме Совнаркому Украины начдив 1-й Заднеп-
ровской писал: "Взятие Мариуполя велось под моим коман-
дованием. В боях отличились 8-й и 9-й полки, артдивизион,
разбив наголову противника, захватив богатую военную до-
бычу. Стойкость и мужество полков было неописуемое. При
наступлении полки обстреливались со стороны противника
и французской эскадры с 60 орудий. Несмотря на губительный
огонь противника, полки шли без выстрела до соприкосно-
вения с противником, после чего под командованием доблест-
ного командира 8-го полка т. Куриленко бросились в атаку.
Укрепления врага были взяты штурмом..."
В своем телеграфном рапорте Павел Дыбенко просил
правительство Украины наградить 8-й и 9-й полки и артди-
визион особыми красными знаменами, командира 8-го
полка — орденом Красного Знамени, а командиру 8-го полка
Тахтамышеву объявить благодарность.
Итак, в этом документе лишь два участника освобождения
Мариуполя названы по фамилии — Куриленко и Тахтамы-
шев.
Портрет второго из них представлен в экспозиции Мари-
упольского краеведческого музея среди героев гражданской
войны. Командир 9-го полка Третьей бригады имени батьки
Махно (этот полк во многих источниках именуют еще и
Греческим, потому что состоял он из повстанцев села Старый
Керменчик и других греческих сел Мариупольщины) Влади-
мир Феофанович Тахтамышев в том же 1919 году был
награжден орденом Красного Знамени. После окончания
гражданской войны он поселился в Мариуполе, возглавил
строительство рыбоконсервного комбината и стал его первым
директором. В 1935 году тяжелая болезнь вывела из строя
41
закаленного бойца, и умер он, приходится сказать, очень
вовремя. Иначе не избежать бы ему в тридцать седьмом
ложного обвинения в участии в выдуманной энкаведистами
греческой националистической повстанческой организации,
позорного ярлыка врага народа и модного в то время ВМН —
высшей меры наказания.
А почему же нет сегодня рядом с портретом Тахтамышева
другого героя освобождения Мариуполя — кавалера ордена
Красного Знамени Василия Куриленко?
На этот вопрос можно бы ответить очень коротко, но
лучше, думаю, подробно рассказать об этой поистине траги-
ческой фигуре братоубийственной гражданской войны.
Родом Василий Куриленко был из Новоспасовки, станицы,
основанной потомками запорожцев, ушедших после ликви-
дации Сечи за Дунай, а затем вернувшихся под скипетр
русского царя и создавших Азовское казачье войско.
К тому времени, когда он родился, — по моим подсчетам,
1895 год — Азовское казачье войско уже давно было упразд-
нено и расформировано, а казаки с их семьями причислены
и сословию крестьян-собственников. Но старинные казачьи
традиции свято сохранялись в Новоспасовке, дух вольности
и свободолюбия, столь свойственный запорожцам, переда-
вался из поколения в поколение. В бывшей станице культи-
вировались воинская доблесть и отвага, чувство собственного
достоинства и чести. Все это наложило неизгладимый отпе-
чаток на новоспасовцев, в том числе и на Васю Куриленко.
Уроженец Новоспасовки Виктор Белаш (в другой транс-
крипции — Билаш), начальник штаба махновской армии,
человек, превосходивший, как утверждают, военным талан-
том самого Нестора Ивановича, не забыл упомянуть в своих
воспоминаниях выдающегося односельчанина: "Куриленко
Василий — сапожник, с 1910 года член новоспасовской
группы анархо-коммунистов, активный участник восстания
против гетманщины в 1918 году, командир первого новоспа-
совского отряда".
После ухода с Украины австро-германских оккупантов в
Приазовье закрепились деникинцы. В первые месяцы 1919
года начали они на Мариупольщине насильственную моби-
лизацию в Добровольческую армию. Крестьяне не хотели
служить белым, а на действия деникинских карателей отве-
тили восстаниями, созданием вооруженных отрядов, сумев-
ших весьма успешно постоять за себя. Все эти отряды,
возникшие в русских и украинских селах Приазовья, а также
в греческих селах — Мангуше, Ялте, Урзуфе, Старом Кер-
менчике и других, и были объединены в Третью бригаду,
42
которая влилась, как уже упоминалось, в 1-ю Заднепровскую
дивизию.
Анархисты, пользовавшиеся сильным влиянием среди
махновцев, выдвинули лозунг: "Власть рождает паразитов.
Анархия — мать порядка". Тем не менее современники
свидетельствуют, что в Третьей бригаде имени батьки Махно
никакого порядка не было, а царил полнейший разброд. Яркие
воспоминания об этом оставил С. С. Дыбец. Нам еще не раз
придется черпать сведения из этого источника, поэтому
прервем наш рассказ, чтобы познакомиться с автором мему-
аров.
Семен Степанович Дыбец был революционером. Скры-
ваясь от жандармов, лет десять провел в Америке, где стал
анархо-синдикалистом. Членский билет этой партии получил
из рук Билла Хейвуда, того самого, который похоронен в
Кремлевской стене. После революции вернулся из эмиграции,
попал в Бердянск, где прошел путь от анархиста-коммуниста
(таковым считал себя и Махно) до убежденного большевика.
В Бердянске Дыбец возглавил ревком, участвовал в граж-
данской войне, общался с Лениным и пользовался его
уважением. Затем он возглавил Главное управление авто-
мобильной и тракторной промышленности СССР. Амери-
канские газеты называли Дыбеца "красным фордом" и
очень высоко оценивали его организаторские способности
и деловые качества.
В 1935 году Александр Бек, тогда безвестный "беседчик"
из "Кабинета мемуаров", созданного А. М. Горьким, а впос-
ледствии знаменитый писатель, записал воспоминания Сте-
пана Семеновича Дыбеца, которые должны были быть изданы
в 1937 году. Однако в том роковом году жизнь Дыбеца
оборвалась, книга "Люди двух пятилеток" света не увидела,
а записи его воспоминаний исчезли. К счастью, в архиве
Александра Бека сохранился отрывок из воспоминаний Ды-
беца, относящийся к 1919 году и освещающий события,
связанные с махновщиной вообще и ратной деятельностью
нашего героя Василия Куриленко в частности.
Итак, мы остановились на том, что в канун наступления
на Мариуполь в Третьей бригаде имени батьки Махно царила
полнейшая анархия, то есть неорганизованность. Это позднее,
усвоив через Дыбенко уроки Троцкого, батька понял, что без
дисциплины и организованности по-настоящему боеспособ-
ная армия невозможна. А в то время Третья бригада состояла
не из полков и батальонов, а из отрядов. Назывались они по
фамилии командира (выборного) или села, крестьяне которого
его создали, и отличались чрезвычайной текучестью состава.
43
Пришли Дыбец с Озеровым (тогдашним начальником
штаба Третьей бригады) в отряд Федора Шуся — правой руки
Махно. Числилось в отряде две тысячи бойцов, а налицо
оказалось только триста. На следующий день — пятьсот.
—Откуда появились двести человек, которых вчера не
было?
— Подошли из деревни.
— А куда девались остальные? Ведь у вас числится две
тысячи?
— Ушли в деревню.
Правда, в этом хаосе были и исключения. Их-то как раз
и составляли греческие отряды и новоспасовский батальон
(будущие 9-й и 8-й полки).
В Новоспасовке, например, в то время был такой порядок:
в селе находился штаб тыла батальона (именно так, а не
отрядом они сразу же назвали свою воинскую часть), который
они выставили на фронт (он проходил тогда между Бердян-
ском и Мариуполем). Штаб регулярно снабжал свой батальон
продовольствием и ежедневно получал сводку о наличии
бойцов в ротах — не сбежал ли кто. Ушедших в самоволку
подвергали старинному казачьему наказанию —секли нагай-
ками. Норма — 25—50 "горяченьких".
Дубец рассказывает: "Побывали мы в новоспасовском
батальоне на фронте. Увидели настоящий военный порядок:
окопы, сторожевое охранение, часовые, связь. Командиром
батальона был двадцатичетырехлетний парень Куриленко,
военная косточка, лихой кавалерист. Он, крестьянин из
середняков, не очень развитой, тоже разделял махновские
воззрения. Но управлял твердо. В батальоне имелась кавале-
рия. Для нее были взяты лучшие кони из села. Обзавелись
и пулеметами".
Командира батальона Дыбец обрисовал так: "Это был
действительно красавец-воин двадцати четырех лет, белоку-
рый, лихой".
Приведу еще несколько строчек из воспоминаний Дыбеца,
не имеющих отношения к Куриленко:
"На каком-то другом отрезке фронта, ближе к Мариуполю,
мы нашли греческий отряд. В греческих селах офицеры-ка-
ратели учинили беспощадную расправу за революционные
дела. Греки возненавидели белых. Так возненавидели, что
только прикажи — пойдут в бой. Железная дисциплина была
введена в греческом отряде".
Я не случайно позволил себе небольшое отклонение от
темы этой главы. Если у читателя достанет терпения загля-
нуть в приложение-II этой книги, он там найдет документы
44
1919 года, подтверждающие полное соответствие действи-
тельности тех фактов, какие излагал Александру Беку Дыбец
в середине 30-х годов. Мемуарный жанр относится к числу
самых субъективных. Степан Семенович Дыбец был в своих
воспоминаниях предельно правдив и объективен, я полностью
им доверяю и хочу такое же отношение к ним вызвать у
читателя.
27 марта 1919 года Дыбенко назначил Куриленко началь-
ником гарнизона освобожденного Мариуполя. (Любопытно,
что белогвардейский источник, рассказывающий о боях за
Мариуполь, отмечает, что в рядах красных действовало два
регулярных полка. Вот какую высокую оценку получил 8-й
новоспасовский полк Куриленко и 9-й Греческий Тахтамы-
шева не только со стороны красного командования, но и
белогвардейского). В тот день и еще два дня, пока белые еще
удерживали порт под прикрытием корабельных батарей фран-
цузской эскадры, стоявшей на мариупольском рейде, в городе
был относительный порядок. В том смысле, что грабежей не
было. Но как только белогвардейцы и интервенты скрылись
за горизонтом, начались грабежи, мародерство, массовое
пьянство.
Сегодня мы можем сказать, что явление это — грабежи—
характерны для всех сил, участвовавших в гражданской
войне. Грабит Морозка из "Разгрома" Фадеева, грабят крас-
ноармейцы из "Чапаева" Фурманова и "Железного потока"
Серафимовича, грабят буденовцы в "Конармии" Бабеля. О
грабежах и насилиях над гражданским населением белогвар-
дейцев с жестокой правдивостью писал в "Очерках русской
смуты" А. И. Деникин. Об этом же выразительно повествуют
многие страницы документальной прозы В. В. Шульгина.
Но почему-то принято считать, что махновцы грабили с
особенным упоением.
Кроме "законных" грабежей в Мариуполе, которые про-
водились под руководством братьев Задовых, прикрывав-
шихся интеллигентными словечками "экспроприяция" и
"контрибуция", в городе свирепствовал стихийный массовый
разгул беззаконий. Но грабили не крестьяне из Мангуша,
Ялты, Урзуфа, не бывшие азовские казаки из Новоспасовки.
Занимались грабежами уголовные элементы, в изобилии
примкнувшие к Махно, дезертиры из Красной и белой армий,
деклассированные бывшие матросы военного флота.
Именно последние и составляли немалую часть махнов-
ской армии, которых крестьяне-повстанцы иначе не называ-
ли, как ироническим словом "ракло". Думаю, что К. В.
Герасименко, при всех ошибках его очерка "Махно", правдив,
45
когда рисует картину того, как забавлялось это "ракло" в
захваченных городах:
"Неизменными и постоянными спутниками основного
ядра армии были грабеж, пьянство, буйство. Рядом с пуле-
метами на тачанках, прикрытых дорогими коврами, поме-
щались бочки с вином и самогоном. Видеть махновцев в
трезвом состоянии было трудно. Махновцы самовольно сни-
мались с позиций, являлись в ближайший город, заезжали
в любой двор и открывали невероятный, дикий кутеж,
привлекая к участию в нем всех, кто подворачивался под
руку, открывая тут же во дворе ради своего развлечения на
улице пулеметную стрельбу..."
Такая же вакханалия началась и в Мариуполе, особенно,
когда в первых числах апреля начдив Дыбенко выехал к той
части своей дивизии, которая втянулась в Крым.
Опыт пресечения грабежей у Куриленко был. К снабжению
своего батальона (выросшего в полк) новоспасовцы привлекли
и соседние села, так что бойцы были полностью обеспечены
продовольствием. "Сапоги, например, — рассказывает Дыбец,—
были новыми у всех бойцов. Но уж если какой-нибудь боец
отнял лошадь у крестьянина — получай пятьдесят—сто нагаек.
— Стрелять не буду, — объяснял Куриленко, — а шкуру
спущу".
Но справиться с тем, что вытворяло все махновское войско
в Мариуполе, храбрейший военный комендант и начальник
гарнизона Василий Куриленко не сумел. Не сумели также
навести порядок в городе и вышедший из подполья военно-
революционный комитет во главе с Г. А. Македоном — он не
имел своей воинской силы.
Отметим еще эпизод, когда под рукой Куриленко был
Мариупольский полк, тот самый, которым командовал хоро-
шо известный в нашем городе Кузьма Апатов. Вот строки из
донесения командующему 2-й Украинской армией А. Скачко
от 27 мая 1919 года:
"Доношу, что 1-я повстанческая Заднепровская дивизия
состоит из следующих частей:
Начальник дивизии батько Махно, начальник штаба —
Озеров, начальник оперативно-полевого штаба Родионов.
Первая бригада: КОМБРИГ КУРИЛЕНКО, начштаба Бо-
чаров.
Первая бригада имеет три полка: 1-й повстанческий, 2-й
МАРИУПОЛЬСКИЙ и 8-й Заднепровский советский Укра-
инский. Количество штыков — 7300, 300 — кавалерии, 250
чел. пулеметной команды" (Нестор Иванович Махно, К., 1991,
с. 145. Курсив мой. — Л. Я.).
46
Таким образом, через два месяца после штурма Мариупо-
ля, героем которого он стал, Куриленко был уже комбригом
и командовал не только своим 8-м Новоспасовским полком,
но еще двумя, в том числе и Мариупольским, а всего под его
рукой находилось восемь тысяч без малого бойцов.
Правда, указанные в документе должности начдива, ком-
брига бытовали только в махновском войске. Официально
Махно продолжал числиться командиром Третьей бригады,
хотя она разрослась по своему составу до двух дивизий.
Красное командование отклонило предложение назначить
комбрига Махно начдивом. Конфликт батьки с большевиками
был гораздо серьезней, чем спор из-за должностей — ком-
брига ли, начдива ли. В конце мая 1919 года Махно сам
сложил с себя должность командира Третьей бригады и
ушел за Днепр. Подробней об этом эпизоде мы поговорим
в другом месте.
Я знавал мариупольца, который лично общался с Кури-
ленко. Это был Иван Лукьянович Чубаров.
В гражданскую войну воевал он в отряде Марка Тимофе-
евича Давыдова, едва ли не самом крупном на Мариуполь-
щине. Впоследствии М. Т. Давыдов стал генералом, и вот что
я прочитал в его мемуарах: "Память народа — самая долго-
вечная и правдивая летопись, и в ней среди тысяч славных
имен записано имя Ивана Лукьяновича Чубарова.
О боевых подвигах его батальона и его командире хорошо
известно было по всей Мариупольщине. Он был самым стой-
ким и самым надежным. Перед ним я ставил наиболее
ответственные боевые задачи. Не один раз батальон спасал
положение всего отряда и полка, действуя зачастую и по
собственной инициативе".
Как и все партизанские формирования Приазовья, отряд
Давыдова взаимодействовал, конечно, с Махно, о чем до
недавнего времени считалось неудобным говорить. Как бы то
ни было, но Василия Куриленко Иван Лукьянович знал
хорошо и отзывался о нем очень неодобрительно. Дело в том,
что в мае 1919 года под Токмаком кавалеристы генерала
Шкуро наседали на часть, в которой Чубаров командовал
батальоном, а Куриленко не подошел на помощь. Батальон
был разбит в дым, а сам Чубаров попал в плен к шкуровцам,
и только чудо спасло его от расстрела.
Происходил наш разговор в середине 60-х годов. О мах-
новщине я тогда почти ничего не знал, интересоваться этой
темой считалось признаком дурного тона. Так что личность
коварного Куриленко не привлекла тогда мое внимание. Но
позднее эпизод, когда Куриленко отказался вести в бой свой
47
полк на выручку попавшим в беду товарищам, я нашел в
воспоминаниях Дыбеца.
Был такой эпизод, был.
Куриленко оправдывался таким образом: он не ударил по
белым, когда те рвались к Токмаку, потому что в полку
оставалось лишь по двенадцать патронов на бойца. "Я, —
вспоминает Дыбец, — в то время не очень разбирался в
подобного рода делах. Возможно, Куриленко схитрил, не
хотел идти туда, где дрались махновские отряды — он тогда,
как уже говорилось, все решительней разрывал с махновщи-
ной, — и, по-моему, не дал полка, рассудив так: ничего не
выйдет, кроме того, что полк будет разбит".
Дыбенко приказал отстранить Куриленко от командова-
ния новоспасовским полком и отправить к нему в Никополь.
Выполнение приказа долго оттягивали ("полк очень крепкий,
наша опора, так пусть Куриленко остается "). Но просматривая
как-то дислокацию полков, Дыбенко увидел фамилию Кури-
ленко и подтвердил свое распоряжение. Пришлось Василию
Куриленко проститься со своими новоспасовцами.
Однако к Дыбенко его не отправили: еще расстреляет под
горячую руку, — а спрятали у себя в штабе боевого участка.
Долго мучился бездельем опальный воин, умирал с тоски.
Потом не выдержал и пришел к Дыбецу:
— Больше не могу. Или расстреливайте, или дайте дело.
— Вот тебе боевое задание, — сказал ему Дыбец. —
Формируй кавалерийский полк. Лошадей нет, седел нет,
сабель нет, ничего нет. Но ты старый партизан, старый
фронтовик. Выполнишь задание.
У Куриленко на глазах сверкнули слезы:
— Спасибо за доверие. Через неделю полк в конном строю
пройдет перед тобой.
И, действительно, через неделю он показал Дыбецу вновь
сформированный полк — разномастный, плохо вооруженный,
но вполне боеспособный. В боях куриленковцы добыли все,
чего им не хватало: и добрых коней, и снаряжение. "Мы
крепко опирались на полк Куриленко, — рассказывал Дыбец.
— Двадцатичетырехлетний командир, которого я как-то
назвал старым партизаном, старым воином, ввел примерную
дисциплину. Если где-нибудь обнаруживалась неустойчи-
вость, мы подбрасывали туда этот полк. И не было случая,
чтобы Куриленко не выполнил приказа".
Куриленко был анархистом с 15 лет, с дореволюционным,
так сказать, стажем, и его мировоззрение совпадало, конечно,
со взглядами Махно. Почему же его явственно тянуло к
кpaсным? Причин тут, очевидно, несколько, одна из них —
18
врожденная любовь к дисциплине. Дисциплина и организо-
ванность, которые "железной рукой" насаждал в Красной
Армии Троцкий, были ему ближе, чем расхлябанность и
разброд, которые в то время царили в махновском войске.
Я писал о том, что грабили городское население не кресть-
яне из греческих сел Приазовья и не потомки азовских
казаков из Новоспасовки. Писал не из местного патриотизма:
дескать, "наши" — лучше. С удовлетворением узнал я из
ряда источников, что среди махновских командиров выделя-
лась "южная группа". Она был за решительную борьбу против
пьянства, грабежей, за твердую дисциплину. И вообще была
за крестьянскую порядочность, так бы я это сформулировал.
Так вот, к командирам "южной группы" прежде всего отно-
сились Виктор Белаш и Василий Куриленко.
О том, какой отчаянной храбрости был этот человек,
говорит хотя бы такой факт.
Сформировав новый полк Красной Армии, Куриленко
попросил Дыбеца: "Дай мне такого комиссара, который мне
в работе не вязал бы рук. И притом кавалериста".
Вскоре такой комиссар был подобран, но Куриленко,
прежде чем проникнуться к нему доверием, устроил ему
весьма оригинальный экзамен. Он дал новоназначенному
военкому посмотреть в бинокль на село, расположенное в
пяти-шести верстах.
— Казачий разъезд на улице видишь?
— Вижу.
— Так поехали туда молоко пить.
Куриленко стегнул свою лошадь, комиссар — за ним.
Подъехали к ближайшей хате — казачий разъезд в другом
конце села, — попросили у бабы молока. Куриленко сунул
ей ворох керенок — эти деньги всюду тогда еще ходили. Баба
мгновенно притащила молоко.
Подъехал казак.
— Откуда вы, какой части?
— А ты какой части? Вижу, донец. — Разговаривая, Кури-
ленко потягивает молоко. — Много вас тут? Сотня где стоит?
— Там-то.
— А кто командир сотни?
— Такой-то.
— Ага, так я и думал. Поворачивай и доложи своему
командиру, что приезжал в гости молоко пить красный
полковой командир Куриленко. Понял, что я тебе говорю?
Казак с места не может сдвинуться, оцепенел. Это же
нахальство... Покончив с молоком, Куриленко вытаскивает
свой маузер.
49
— Если не поедешь докладывать, стреляю.
Казак — вихрем от него. А Куриленко с комиссаром
хорошей рысцой возвращаются к своим.
— Теперь вижу, — сказал Куриленко комиссару, — что
ты настоящий военком. С таким работать можно.
Изложив этот эпизод со слов военкома, Дыбец восхищенно
восклицает:
— Вот вам бывший махновец Куриленко во всей своей красе!
Смельчак! Это создавало ему славу. И весь полк на него
равнялся в лихости. Самые дерзкие налеты удавались кури-
ленковцам.
Еще в мае 1919 года Махно сам с себя сложил должность
командира Третьей бригады, разросшейся до двух дивизий,
и ушел за Днепр. Но в Красной Армии батько оставил бомбу
замедленного действия: во главе частей, ходивших под его
рукой, остались махновские командиры. Бывший комбриг-3
совершенно точно рассчитал, что рано или поздно это взорвет
Крымскую армию Дыбенко (выросшую из 1-й Заднепровской
дивизии).
Так оно и случилось.
Уже за Днепром, куда отступили части Дыбенко, теснимые
деникинцами, в самый критический момент восстал 6-й
Заднепровский полк бывшего махновца Калашникова. При
поддержке других махновских командиров — Дерменджи,
Буданова — он арестовал всех военкомов, всех политработ-
ников, штаб боевого участка, где комиссаром был Дыбец, и
объявил, что большевики — предатели.
— Пойдем на соединение к Махно, — провозгласил Ка-
лашников. — Батька поведет нас в наступление.
Части, присоединившиеся к Калашникову, насчитывали
двенадцать тысяч человек.
Как же повел себя в этой обстановке Василий Куриленко?
Ни полк, которым он командовал, ни новоспасовский,
который он возглавлял прежде, к махновцам не присоеди-
нились. Оказавшись в окружении мятежников и вынуж-
денные в общем потоке следовать в расположение Махно,
они объявили, что придерживаются особой политической
линии.
Пленниками мятежников оказалась и жена Дыбеца, Роза
Адамовна, революционерка со стажем, которую Махно знал
еще по Одессе, где они сидели в одной тюрьме. От немедленной
расправы арестованных спасло заявление куриленковцев и
новоспасовцев, что если что-нибудь случится с теми, кого
взяли под стражу, то они перестреляют весь 6-й Заднепров-
ский полк. Они выделили вооруженную делегацию, которая
50
сопровождала подводы с арестованными, чтобы следить за
тем, как с ними обращаются.
Более того: когда в пути удалось установить телефонную
связь с Махно, трубку взял комполка Куриленко:
— Махно, слышишь меня? Говорит Куриленко. Если
расстреляешь штаб боевого участка, пусть ни один махновец
не ждет от нас пощады. И Дыбеца не тронь. Иначе, кого ни
встретим из махновцев, будем резать беспощадно. До сих пор
церемонились, а теперь всех вас предадим анафеме.
Немного находилось смельчаков, которые осмеливались
говорить с батькой в таком ультимативном тоне! Одним из
них был Василий Куриленко.
Встреча с частями Махно состоялась на станции Помощ-
ная, в местечке Добровеличкове Херсонской губерний в
начале августа 1919 года. Уму непостижимо, каким образом
Куриленко сумел все-таки вырваться и отступить вместе с
красными. Но случилось это именно так.
Вот что пишет П. Аршинов в своей "Истории махновского
движения", характеризуя лучших командиров батьки: "Ва-
силий Куриленко. Крестьянин с. Новоспасовка. Анархист.
Образование начальное, неполное. Командир кавалерийских
полков. Как опытный кавалерист в 1919 году, после объяв-
ления махновцев вне закона, был приглашен красным ко-
мандованием на пост командира конных частей. С согласия
Махно и других товарищей принял это предложение и задер-
живал наступление Деникина в районе Екатеринослава. До
1920 года был пять раз ранен в боях с белыми и красными.
Массовый агитатор".
Как бы то ни было, но в августе 1919 года Куриленко
примкнул к частям Федько, вместе с Красной армией отступил
с Украины на север. Со своим полком он был влит в бригаду
"червоных казаков", которыми командовал прославленный
Виталий Примаков. И в рядах Красной Армии Куриленко
героически отличился. В середине февраля 1920 года, получив
отпуск, он, не заехав даже в родную Новоспасовку, прежде
всего разыскал своих махновских друзей.
В его отсутствие батько совершил беспримерный рейд по
деникинским тылам, чем поставил добровольческую армию
на край катастрофы. Если деникинцы, стоявшие уже под
Тулой, не вошли в Москву, то в этом огромная и несомненная
заслуга Махно, его сокрушительного 500-километрового рей-
да по тылам белых.
Махновцы чувствовали себя героями и с радостью встре-
чали Красную Армию, рассчитывая на дальнейшее сотруд-
ничество. Однако большевики проявили твердое намерение
51
искоренить махновщину. Без труда был найден предлог, и
героя Махно во второй раз объявили вне закона.
Между тем махновскую армию косил жестокий тиф.
Только в одном Никополе в горячечном бреду метались 15
тысяч тифозных повстанцев из армии батьки. Чекисты хва-
тали махновских командиров и расстреливали их, больных
ли, здоровых ли. Сам батько тоже лежал в тифу, и сохранились
трогательные рассказы, как крестьяне прятали своего лю-
бимца, перенося из одной хаты в другую, жертвуя собой,
чтобы спасти его от чекистской пули.
Вот такова была обстановка, когда Василий Куриленко
разыскал своих старых боевых друзей на Николаевских
хуторах.
Он был возмущен репрессиями, предпринятыми больше-
вистскими властями против повстанцев.
— Гонения не помогут, — убежденно говорил он. — Наивно
думать, что репрессиями можно разрешить все расхождения
между селом и городом, между Красной Армией и махнов-
цами.
О чем думал и говорил тогда в начале 1920 года Куриленко,
мы узнаем из воспоминаний В. Билаша (Белаша). Прежде
чем привести цитату, несколько сведений об их авторе,
почерпнутых из книги П. Аршинова "История махновского
движения",(1923): Виктор Белаш, родом из Новоспасовки.
Анархист. Образование начальное. До весны 1919 года—ком-
полка и ходил на Таганрог. Позднее — начальник штаба
махновской армии. Деникинцы убили его отца, деда, двух
братьев и сожгли хозяйство. Захвачен большевиками в 1921
году.
Новоспасовцы выдвинули еще одного выдающегося мах-
новского командира — Вдовиченко. Опасаясь, что не найду
возможность в другом месте сказать о нем, позволю себе
несколько отклониться от темы и привести данные о нем,
сообщаемые П. Аршиновым: "Командир особой группы пов-
станческих войск. Пользовался огромной популярностью и
любовью среди крестьян всего Приазовья, а также во всей
повстанческой среде. В 1921 году в тяжелых ранениях за-
хвачен большевиками. Судьба неизвестна".
— Троцкий идет к победе над украинским повстанчеством.
Везде, где я проезжал, — рассказывал Куриленко, — Киев-
щину, Черниговщину, Полтавщину, Екатеринославщину —
всюду проливается невинная кровь. Красная Армия вместо
прямой задачи — преследования отступающего Деникина,
сейчас занята повстанчеством. Я думаю что она своими
действиями заново организует его: это неизбежно. Создается
52
положение, при котором террор и насилие над махновщиной
только увеличат сопротивление. Историей доказано, что идеи,
которые власти стремятся подавить грубой силой штыка, а
не добрым словом, обыкновенно делаются более близкими
народной массе, более популярными. Народ к ним тяготеет
и готов на страдания. В настоящее время, когда махновское
повстанчество перед Советами покорно сложило оружие,
борьба с последним во имя партийных принципов есть контр-
революция.
Сомневаюсь, чтобы именно таким языком выражал свои
мысли Куриленко, но так зафиксировал их в своих воспоми-
наниях его земляк Виктор Белаш.
Понятно, что в свою красноармейскую часть Куриленко
уже не вернулся, он остался при батьке.
О деятельности нашего героя в последующие семь месяцев
конкретными сведениями не располагаю. Есть глухое упоми-
нание о том, как Куриленко разоружил покушавшихся на
Махно, что, вероятно, могло бы стать сюжетом для детектив-
ного рассказа, но отсутствуют документальные подробности.
Достоверно известно, что отважный Куриленко был самым
решительным сторонником вооруженной борьбы с Врангелем
и заключения для этого союза с советским правительством
Украины и Красной Армией. Не удивительно, что когда
Махно послал делегацию в Харьков, тогдашнюю столицу
Украины, в ее составе (пожалуй, даже руководителем) был
Василий Куриленко. Вместе с ним поехали Буданов, один из
махновских командиров, совершивших вместе с Калашнико-
вым переворот в частях Крымской армии Дыбенко, и Д. И.
Попов, тот самый, что в Москве "прославился" во время
лево-эсеровского мятежа.
Они приехали в Харьков 27 сентября 1920 года, а через
пять дней был заключен договор между правительством
Украины и Революционно-повстанческой армией имени бать-
ки Махно (РПА). Военную часть соглашения подписали
командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе, члены Во-
енного Совета фронта Бела Кун и Сергей Гусев, а с махновской
стороны — кто бы вы подумали? Да, вы совершенно точно
догадались — Василий Куриленко, герой освобождения Ма-
риуполя, его бывший начальник гарнизона и военный комен-
дант, двадцати пяти лет от роду. Политическую часть согла-
шения заверил своей подписью Я. Яковлев (тоже, между
прочим, двадцати пяти лет, будущий "герой" сталинской
коллективизации), а со стороны РПА — тот же В. Куриленко.
Махновцы обязывались вместе с Красной Армией вести
борьбу "против отечественной и мировой контрреволюции".
53
Куриленко было стыдно перед хозяйкой дома, в котором
остановилась делегация, за пьяные оргии, которые устраивал
Д. И. Попов, за невероятную матерщину, грубость и грязь.
Но он терпел и был доволен своей дипломатической деятель-
ностью, которую пришлось продолжить в Харькове, потому
что не сразу удалось достигнуть соглашения но четвертому
пункту договора.
Он не мог представить себе, что ровно через два месяца
прославленный, благородный Фрунзе, пользовавшийся лю-
бовью бойцов революции, коварно нарушит заключенное
соглашение.
Но это произошло в Крыму, когда Врангель при помощи
махновцев был разгромлен и большевикам они больше не
были нужны. Арестована была и махновская делегация в
Харькове. Известно, что Д. И. Попова расстреляли, а каким
образом Куриленко избежал этой участи и снова оказался у
непокорного Махно — об этом никаких сведений мне обна-
ружить не удалось. Известно только, что до конца он был
предан батьке.
8 июля 1921 года он участвовал в бою, завязавшемся у
хутора Марьевки. Силы были неравны, слишком неравны.
Его загнали в овраг, сдаться он не захотел, в яростной
рукопашной схватке был зарублен вместе с еще двумя десят-
ками махновцев.
ПОСТСКРИПТУМ. Рукопись этой книги была вполне
закончена и уже несколько месяцев лежала, ожидая сдачи в
набор, когда попалась мне в руки "Дороги Нестора Махно"
(Киев — РВЦ "Проза" — 1993). Эту книгу составил Александр
Викторович Белаш из сохранившихся фрагментов рукописи
своего отца, начальника штаба махновской армии, и много-
численных документов, отчасти опубликованных прежде,
отчасти впервые публикуемых в названном издании.
Александр Белаш в составленных им примечаниях к
"Дорогам Нестора Махно" дает словник многих персонажей
его в соавторстве с отцом книги, в том числе и справку о
В. Куриленко. Сведения об этом человеке несколько расхо-
дятся с теми, какие я почерпнул из воспоминаний С. С. Дыбеца.
Так, например, Дыбец считал, что в 1919 году Куриленко
было 23—24 года. По справке А. Белаша — 28. К этому
времени у Куриленко был, оказывается, опыт армейской
службы и участия в боях первой мировой войны. Впрочем,
вот полная справка о нашем герое, составленная А. Белашем:
"КУРИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1891 —
1921) — родился в семье батрака с. Новоспасовки Мариу-
польского уезда. В раннем детстве остался без отца. Един-
54
ственный кормилец матери и сестры. По профессии сапожник.
С 1910 г. член новоспасовской группы анархо-коммунистов.
В 1912 г. призван на службу, служил в уланских частях. В
первые дни Октябрьской революции — председатель полко-
вого комитета. С июня 1918 г. — активный участник восста-
ния против гетманщины и командир первого новоспасовского
отряда. С декабря 1918 г. — начальник гарнизона станции
Царевоконстантиновки, член оперативного штаба. С января
по июнь 1919 г. — командир 8-го Заднепровского полка,
начальник Мариупольского гарнизона и начбоеучастка Та-
ганрогского направления. С сентября 1919 г. по апрель
1920 г. — красный командир 8-й дивизии Червонных каза-
ков. С мая 1920 г. по июль 1921 г. начальник администра-
тивно-организационного отдела Совета Революционных пов-
станцев Украины (махновцев). Храбрый боец и хороший
тактик. Убит в бою с красной конницей близ Лозовой в июле
1921 г."
О гибели Куриленко Виктор Белаш пишет так: "В этот же
день повстанцы достигли с. Константиновки, где был бой.
Форсировав реку Орель у с. Перещепины и Сомовка, левая
колонна повстанцев под командованием Куриленко 8-го июля
имела бой в районе с. Марьевка (30 верст северней г. Ново-
московска), где была разбита и из отряда уцелело лишь 30
человек, остальные погибли или рассеялись. В этом бою погиб
и Куриленко".
УГОЛЬ ДЛЯ ПИТЕРА
Телеграмма Совнаркому Украины.
26 мая 1919 года. Секретно.
"Совет обороны предлагает немедленно присту-
пить к энергичной погрузке угля из Мариуполя
в Петроград, командиру порта. В случае сопро-
тивления Махно, немедленно получить уголь то-
варообменом с ним, направив кратчайшим пу-
тем в Мариуполь ткани и другие предметы.
ПРЕДСОВОБОРОНЫ ЛЕНИН".
Ленинский сборник XXXIV, с. 151).
29 марта 1919 года оперативная сводка Харьковской
группы войск сообщила (по состоянию на 12 часов): "На
Мариупольском направлении после ожесточенного боя нами
заняты станция Сартун (явная опечатка: следует, конечно,
читать "Сартана". — Л. Я.) и город Мариуполь. Противника
поддерживает артиллерия французских судов. Бой за обла-
дание портом продолжается".
К упомянутым иностранным судам мы должны присмот-
реться внимательно, потому что в эпизоде с углем, который
Ленин требовал доставить в Питер, они были активно дей-
ствовавшими персонажами.
На Мариупольском рейде в конце марта 1919 года стояли
французский крейсер и два миноносца. Эта небольшая, но
первоклассно вооруженная эскадра представляла собой вну-
шительную военную силу, особенно грозную из-за того, что
у Красной Армии в этом месте каких-либо военных кораблей
не было. К тому же немногочисленная артиллерия штурмо-
вавшей Мариуполь 1-й Заднепровской дивизии не была даль-
нобойной, и французы имели возможность совершенно без-
наказанно обстреливать город.
Вот почему белогвардейцы, выбитые из города еще утром
27 марта, под прикрытием дальнобойных стволов интервентов
еще двое суток удерживали в своих руках порт.
Предельно занятый неотложными делами Дыбенко о взя-
тии Мариуполя телеграфировал правительству Украины не
56
27-го и даже не 29-го марта, а лишь 2 апреля. 0 том, как он
"разошелся" с боевыми кораблями Франции, начдив сообщил
предельно лаконично: "Французская эскадра после предъяв-
ленного нами ультиматума спешно покинула порт".
На самом деле за этими скупыми строчками скрываются
небезынтересные драматические события.
Одна из версий этого эпизода изложена в показаниях
Чубенко, данных им на следствии в ГПУ в начале 20-х годов.
Алексей Чубенко, рабочий-железнодорожник, металлист,
был приближенным батьки, видным махновским команди-
ром. Из его рассказа следует, что, когда Третья бригада заняла
Мариуполь, французы прислали делегацию, чтобы им выдали
уголь, который был им запродан деникинцами. Махновцы
ответили, что уголь является их военной добычей. Тогда
французы предложили прислать к ним на корабль делегацию
для переговоров. Махно остался на берегу, а на крейсер послал
членов своего штаба Чубенко, Чучко, Михайлова-Павленко
и Васильева. "Когда мы приехали, — рассказал следователю
Чубенко, — нас приняли очень хорошо, а затем стали гово-
рить: "Хорошо, что в России революция, но плохо, что у вас
скверный сосед т. Ленин и т. Троцкий". Затем они стали
говорить, что если мы не будем зависимы от коммунистов-
большевиков, то они с нами могут вести товарообмен и
торговые сношения, а если мы будем с коммунистами-боль-
шевиками, то они и говорить не хотят".
Делегация отказалась обсуждать этот вопрос и предложила
говорить только об угле. Махновские представители, по
словам Чубенко, обещали выдать уголь, но в обмен на средства
производства, а не на оружие. Французы же предлагали
пароход с оружием за сырье, но делегация отклонила эти
предложения, заявив, что в этом армия Махно не нуждается.
Переговоры ни к чему не привели.
Между тем пароход с оружием, предложенный француза-
ми, махновцев очень и очень прельщал. Батько, однако,
оказался дальновидней своих приближенных. "Когда мы
возвратились обратно на берег, — говорит Чубенко, — и
сделали доклад, то Махно сказал, что надо иметь на всякий
случай в виду относительно того, чтобы обменять сырье на
оружие. Тем не менее уголь был погружен и увезен в Гуляй-
Поле".
Оружие махновцам нужно было крайне: у них было больше
двадцати тысяч резерва, готового стать в строй, но вооружить
людей было нечем. Нестор Иванович опасался, однако, что
сделка с интервентами его скомпрометирует. И был совер-
шенно прав. Даже невинные переговоры с эскадрой, привед-
шие к мирному уходу интервентов из Мариуполя, дали повод
недругам батьки обвинить его в союзе с Антантой, в получении
помощи от нее. Помимо этого, в тот момент Махно считал
разрыв с Красной Армией преждевременным. И, наконец,
ему приходилось учитывать настроения мариупольских ра-
бочих. Вот строки из документов того времени:
"Еще в начале 1919 года у Махно было столкновение с
мариупольскими рабочими по вопросу об увозе ценных частей
и запасов сырья с мариупольских заводов "Русский Прови-
данс" и других в Гуляй-Поле. Тогда Махно приказал прибег-
нуть к силе оружия".
Вот другое свидетельство: "С заводов г. Мариуполя, пере-
оборудованных рабочими этих предприятий для изготовления
военных припасов, Махно силой вывозил в "промышленный
центр" (т. е. в Гуляй-Поле) всю продукцию. Рабочие требовали
ответа: "Наш ли Махно или предатель? Если предатель, то
почему не поступают с ним по всей строгости революционного
времени?"
В любом случае в апреле вывезти уголь в махновскую
"столицу" батька не мог: в конце первой декады белые опять
овладели Мариуполем и выбить их из города удалось только
в конце месяца. Если махновцы, предположим, вывезли уголь
в мае (а его было захвачено ни мало ни много — более трех
с половиной миллионов пудов), то скорее всего не было бы
телеграммы, текст которой вынесен в эпиграф этой главы.
Между тем Ленину в мае сообщили, что уголь, столь необхо-
димый Петрограду, находится в Мариуполе, и информация
эта соответствовала действительности.
Вообще к показаниям Чубенко следует относиться с осто-
рожностью, полного доверия они, конечно, ни в коем случае
не заслуживают. В самом деле, он изображает дело так, будто
Дыбенко вообще в этот момент в Мариуполе не было. Вполне
допускаю, что начдив не во всем и не всегда был в состоянии
контролировать положение в освобожденном городе и что
строптивый комбриг-3 предпринимал и самостоятельные
шаги, не согласуя их с Дыбенко. Но не по таким серьезным
вопросам, как переговоры с французской эскадрой и вывозка
из Мариуполя такого ценного сырья, как крайне дефицитный
в то время донецкий уголь.
Существует другая версия событий, связанных с француз-
ской эскадрой и углем в Мариупольском порту.
Ее изложил писатель Всеволод Вишневский в рассказе
"Махновцы" (название опубликованного варианта — "Броне-
поезд "Спартак"). У читателя есть возможность познакомить-
ся с первым вариантом этого рассказа в первой части прило-
58
жений к нашей книге. Поэтому не стану излагать версию
Всеволода Вишневского, выстроенную на основе свидетельств
очевидцев и участников тех событий. Скажу только, что, по
моему мнению, документальному рассказу "Махновцы"
можно верить не только не меньше, но, убежден, гораздо
больше, чем показаниям Чубенко.
Последний был прав, когда сообщал, что уголь из Мари-
уполя вывозили. Но только не в Гуляй-Поле. Вот что сообщал
Дыбенко в своей телеграмме правительству Украины 2 апреля
1919 года: "Захвачено более 3,5 миллиона пудов угля... За
один день из порта вывезено 300 тысяч пудов угля. Погрузка
угля продолжается. Средства пока отпущены. Из дивизии
требуется срочно комиссия для отправки и распределения
угля".
А Всеволод Вишневский в своем мариупольском рассказе
пишет: "Половина товарищей уголь грузит, с боем возвра-
щенный. Грузит Харькову, грузит Питеру. Балтике эшелон
угольных пульманов".
Так было в конце марта — начале апреля 1919 года. Так
почему же в мае Ленин настоятельно требует, чтобы уголь
из Мариуполя продолжали отправлять в революционный
Питер и даже предлагает товарообмен, если этому воспроти-
вится Махно?
С отправкой угля все было хорошо, пока в Мариуполе
распоряжался Дыбенко. Но как только он отправился в Крым,
куда победно ворвалась остальная часть его дивизии, полно-
властным хозяином огромного района, куда входил и Мариу-
поль, стал "товарищ батько Махно", как именовали Нестора
Ивановича даже в официальных тогдашних документах.
Имея принципиальные разногласия с большевиками-го-
сударственниками, Махно сочувствовал революционному Пи-
теру и Москве, проявлял солидарность с трудящимися этих
городов. В начале 1919 года, оттеснив деникинцев к Азов-
скому морю, махновцы захватили около 100 вагонов хлеба в
зерне. Решили помочь русским голодающим братьям. Это
решение бурно приветствовалось повстанцами. Один эшелон
ушел под лозунгом: "Голодающему пролетариату Петрограда
от батьки Махно", другой ушел в Москву. Сопровождающие
хлеб махновские делегации были горячо встречены Москов-
ским и Петросоветом.
Но ко времени, к которому относится телеграмма Ленина,
поведение Махно и его окружения становилось все более
откровенно антибольшевистским.
В махновскую "столицу" с военной миссией ездили такие
видные большевики, как Антонов-Овсеенко, Бела Кун. В
59
начале мая приехал в Гуляй-Поле на переговоры Л. Б.
Каменев, один из самых ближайших соратников Ленина.
Он приветствовал собравшихся для торжественной встречи
влиятельного гостя крестьян и повстанцев как героев, своими
усилиями освободивших район от гетмана, отстоявших его
от Петлюры и Деникина.
Переговоры были трудными. Обе стороны отлично пони-
мали, что их союз — брак по расчету, но не хотели идти на
разрыв. Уезжая, Каменев горячо распрощался с махновцами,
высказал благодарность и всякие добрые пожелания, расце-
ловался с Нестором Ивановичем, уверяя, что с махновцами,
как с подлинными революционерами, у большевиков всегда
найдется общий язык, что с ними можно и должно работать.
Но в телеграмме Ленину Каменев сообщил горькую правду:
"...Махно не выпускает (из своего района. -- Л. Я.) ни угля,
ни хлеба и, вероятно, не будет выпускать, хотя мне лично
обещал все и клялся в верности".
Вот почему отправляя три недели спустя приведенную
телеграмму, Ленин был вынужден положить свою гордость
в карман и дать согласие задобрить Махно тканями и другими
дефицитными товарами.
Выполнил ли Совнарком Украины предписание Ленина?
Думаю, что нет.
Вряд ли Совнарком Украины, даже если он мгновенно
принял меры по ленинской телеграмме, успел что-нибудь
сделать. Потому что через день после отправления этого
документа из Кремля Махно сложил с себя командование
Третьей бригадой и ушел за Днепр создавать новые воору-
женные формирования.
Исследуя этот вопрос, я обнаружил совершенно ошеломи-
тельные факты. Вот сообщение энциклопедического справоч-
ника "Великий Жовтень і громадянська війна на Украіні"
(К., 1987): "23. V. 1919 денікінці, підтрумовані франц. віск,
кораблями, знову вступили до Маріуполя" (с. 328). Добавим,
что Волноваха была взята белыми еще раньше, исключив тем
самым возможность противной стороне вывезти что-либо по
железной дороге.
Выходит, что Ленин требовал отгрузить уголь из города,
который вот уже несколько дней находился в руках дени-
кинцев. Неужели Председатель Совета Обороны не был ин-
формирован об изменениях на "участке Донбассейн—Мари-
уполь", как он сам называл этот фронт?
Выходит так.
К теме нашего рассказа имеет отношение и Троцкий.
Приехав со своим знаменитым поездом на Южный фронт,
60
председатель Реввоенсовета Республики занял по отношению
к махновскому движению самую непримиримую позицию.
Для него, создавшего регулярную Красную Армию на фун-
даменте беспрекословной дисциплины, махновская вольница
была, конечно, неприемлема. В издававшейся в поезде Троц-
кого газете "В пути" Лев Давидович метал громы и молнии
против "малоизвестного государства — Гуляй-Поле". В но-
мере 51 от 2 июня 1919 года он, в частности, писал: "В
Мариупольском уезде много угля и хлеба. А так как махновцы
висят на мариупольской железной ветке, то они отказываются
отпускать уголь и хлеб иначе, как в обмен на разные припасы.
Выходит так, что, отрицая "государственную власть", соз-
данную рабочими и крестьянами всей страны, махновские
верхи организовали свою собственную, мелкую, полуразбой-
ничью власть, которая осмеливается стать поперек дороги
советской власти Украины и всей России. Вместо целесооб-
разного организованного хозяйства страны по общему плану
и замыслу и вместо артельного социалистического, равномер-
ного распределения всех необходимых продуктов (вот как
уже тогда складывалась командно-административная систе-
ма! — Л. Я.) махновцы пытаются установить хозяйничание
шаек и банд: кто что захватил, тот им и владеет, а потом
выменяет на то, что ему не хватает. Это не продуктообмен, а
товарограбеж".
Гневно осудив наглость Махно, предлагавшего бартерные,
как мы сказали бы сегодня, сделки вместо безвозмездных
большевистских реквизиций (вот это был настоящий про-
дукто- и товарограбеж), Троцкий в этой статье еще раз
упомянул мариупольцев. Не пролетариев, конечно, а, верный
своему классовому принципу, враждебных элементов. "Гу-
ляйпольские кулаки, мариупольские спекулянты, - темпе-
раментно писал он, -с восторгом подпевают махновцам:
"Мы не признаем государственной власти, которая требует
угля и хлеба. Что мы захватили, тем и владеем..."
В конфликте из-за мариупольского угля Троцкий проявил
ту непреодолимую страсть большевиков к "игре в одни
ворота", которая в полной мере проявилась позднее, после
упрочения "диктатуры пролетариата": ты отдай все свои
богатства: хлеб, мясо, нефть, газ, уголь, золото, алмазы, --
а взамен получишь ноль целых и сколько-то десятых, если
вообще получишь хоть что-нибудь.
Махновская бригада в Красной Армии была поставлена в
положение пасынка. Незадолго до ленинской телеграммы,
вынесенной нами в эпиграф этого рассказа, штаб Махно
сообщал: "Отсутствие налаженной срочной доставки патронов
61
заставило оставить многие позиции и приостановить наступ-
ление. Кроме того, части совершенно не имеют патронов, и,
продвинувшись вперед, находятся в угрожающем положении
на случай серьезных контрнаступлений противника. Мы свой
долг выполнили, но высшие органы задерживают питание
армии патронами".
Некоторые историки считают, что махновцам были выда-
ны итальянские винтовки не без умысла: русские патроны к
ним не подходили, а итальянские можно было получить
только из центра, который, таким образом, получал возмож-
ность держать на веревочке батьку.
Не думаю, что у Дыбенко был такой коварный план, когда
он заключал союз с Махно и выделил ему итальянские
винтовки. Но объективно получилось так, что, израсходовав
патроны к ним, махновцы оказались в зависимости от Мос-
квы, которая снабжала Третью бригаду с катастрофическими
перебоями.
Командарм-2 Скачко телеграфировал в штаб фронта: "Про-
тивопоставить противнику нечего, ибо 3-я бригада Махно,
находясь беспрерывно более трех месяцев в боях, получая
только жалкие крохи обмундирования и имея в придачу
таких ненадежных соседей, как 9-я дивизия, совершенно
истощилась..."
В этих условиях волевой и решительный Нестор Иванович
не стал "ждать милостей от природы": он перекрыл ("наложил
эмбарго", так говорят сегодня) вывоз ценностей из своего
района и соглашался отдавать их только в обмен на боепри-
пасы. Троцкий пытался прорвать эту блокаду словесными
угрозами в адрес Махно, а то и военной расправой с
непокорным союзником. Последнее входило и в планы
Ленина, но Владимир Ильич считал, что время для таких
решительных мер еще не пришло и до взятия Таганрога и
Ростова с махновцами следует вести себя дипломатично. И
он мудро предложил товарообмен. Бартер, говоря по-сегод-
няшнему.
С ленинской телеграммой получился, как мы убедились,
конфуз. Оказалось, что Владимир Ильич не вполне был в
курсе дел на фронте Донбассейн-Мариуполь. Такое роняло
честь всевидящего, всезнающего и непогрешимого вождя.
Поэтому этот документ не был включен ни в одно из его
собраний сочинений. Хорошо еще, что опубликовали в сра-
внительно малотиражном Ленинском сборнике, воздержав-
шись от комментариев.
Какова же все-таки судьба угля, хранившегося в "незабы-
ваемом 1919-м" в Мариупольском порту? Его след я обнару-
62
жил в брошюре В. В. Комина "Махно: мифы и реальность"
(М., 1990, с. 29):
"В мае (1919 г. — Л. Я. ) Совнарком Украины получил
следующее сообщение: "Уголь, предназначенный для Бал-
тийского флота и заводов г. Николаева, выполнявших заказы
Красного флота, захвачен махновцами и отправлен в Гуляй-
Поле".
Вот так.
Умел батько настоять на своем.
ПОСТСКРИПТУМ.
18 мая 1919 г. командарм-2 Скачко телеграфировал Л. Б.
Каменеву: "...В Мариуполе погрузка угля для Центра оста-
новилась благодаря отсутствию денег у эвакуационной ко-
миссии. Уголь расхищается. Требуется энергичное распоря-
жение о немедленной доставке уполномоченному округа пу-
тей сообщения Бакаю, находящемуся в Мариуполе, двухсот
тысяч рублей..."
Набатовцы убеждали Махно: "Уголь нам необходим, его
надо привезти в Гуляй-Поле, которое должно стать анархи-
ческой крепостью, военной базой, ибо без этого мы не упра-
вимся с врагами народа!"
И, как свидетельствует Белаш: "Последнее время одежда,
сырье, металл, уголь, плуги, косилки — все шло в Гуляй-
Поле".
"Но, пишет тот же автор, договорившись с Куриленко, мы
все же грузили и отправляли большими составами уголь из
Мариуполя на север через Волноваху — Рутченково — Гри-
шино до тех пор, пока железная дорога была в наших руках".
(Дороги Нестора Махно. С. 215, 234, 235).
КАВАЛЕР ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ № 4
Осенью 1990 года меня познакомили с письмом, посту-
пившим в редакцию "Приазовского рабочего" как своеобраз-
ным откликом на мою публикацию о Махно "Человек, кото-
рый не знал, за что боролся". Автор письма Виктор Ивано-
вич Яланский — внучатый племянник Нестора Ивановича —
родился и живет в Гуляй-Поле в доме своего деда Карпа
Ивановича Махно, зверски замученного белогвардейцами. В
этом доме одно время находился штаб махновской армии.
Многие годы В. И. Яланский собирает материалы о Н. И.
Махно. Любопытная деталь: своего сына Виктор Иванович
назвал Нестором.
Трижды приезжала к нему в Гуляй-Поле Галина Андре-
евна Кузьменко, вдова Махно. В последний раз в 1976 году,
на восьмидесятом году жизни. С ее слов В. И. Яланский
записал рассказ о том, как Н. И. Махно был вручен орден
Красного Знамени.
Редакция "Приазовского рабочего" попросила меня под-
готовить к печати письмо В. И. Яланского и прокомменти-
ровать его. При этом по возможности учесть просьбу Виктора
Ивановича не сокращать его текст — в своем письме он
трижды повторяет эту просьбу.
Пожелания Виктора Ивановича я выполнил и позволил
себе только минимальные стилистические поправки и сокра-
щения, совершенно необходимые и нисколько не искажаю-
щие суть записанного им со слов Галины Андреевны. Заго-
ловок, предложенный записчиком рассказа Г. А. Кузьменко,
относится к затасканным газетным штампам, но коли автор
письма настаивает, пусть предлагаемая публикация так и
называется:
НАГРАДА РОДИНЫ
"Гуляй-Поле, 4 июня 1919 года, 7 часов утра. Я подошла
к штабу. Стояли часовые. Они мне ласково улыбнулись и
сказали: "Проходите, Галина Андреевна". Часовые никогда
не проверяли у меня пропуск, они меня знали.
64
Я вошла в здание. Здесь сидел наш штабной писарь Вася
Харламов. Он улыбнулся мне и сказал: "Галина Андреевна,
вы к Нестору?" — "Да". — "Сегодня у нас большой праздник,
к нам приезжает Ворошилов". Я ответила, что знаю об этом.
Харламов открыл дверь, и я вошла в кабинет Нестора. Он
сидел за столом, рядом с ним были телохранители Петр Лютый
и Сидор Лютый. Потом пришли начальник штаба Виктор
Белаш, Лева Задов, родные братья Махно — Григорий и
Савелий, Семен Каретник, Алексей Марченко и другие това-
рищи. Нестор скзал мне: "Ты, Галя, руководи, чтобы стол
был накрыт всем, чем надо". А Григорию он велел взять
тройку лошадей, несколько всадников и поехать на станцию
(она находится в семи километрах от Гуляй-Поля) и встретить
Ворошилова.
При встрече Ворошилов спросил: Где Махно?". Григорий
ответил: "Вас ждут в штабе в Гуляй-Поле". Вскоре лихая
тройка подкатила к штабу. Нестор и я вышли на крыльцо.
Под звуки духового оркестра, игравшего "Интернацио-
нал", Ворошилов подъехал к выстроившимися перед штабом
партизанами. Махно доложил: "На фронте держимся ус-
пешно, идут бои за Юзовку и Мариуполь. От имени револю-
ционных повстанцев Екатеринославщины приветствую вас".
Крепкое рукопожатие. Махно представил Ворошилову
членов Гуляйпольского исполкома. Ворошилов осмотрел бой-
цов запасного полка и кавалерийские сотни. Здесь были наши
пулеметчики Саша Пузанов, Иван Логвиненко, Семен Пан-
ченко, Петр Гавриленко, Прокоп Середа и другие. Одеты кто
во что.
Потом состоялся митинг, на котором Нестор заверил
советское правительство, что он верен дружбе с ним, обещал
помочь в военных действиях против белых.
Затем сели за стол. Ворошилов сел напротив Нестора.
Рядом с Махно сидела его мать Евдокия Матвеевна, я — тоже
рядом с Нестором. Возле стояли Петр Лютый и Сидор Лютый.
Были тут Виктор Белаш, Лева Задов, Федор Шусь, Аршинов,
Волин, Алексей Марченко, Семен Каретник. Ворошилов под-
нялся и сказал: "По поручению Реввоенсовета разрешите вам
вручить, Нестор Иванович, орден Красного Знамени за обо-
рону Южного фронта и взятие Екатеринослава".
Нестор взял орден и ответил: "Я воюю не за ордена, а за
победу революции. Я крестьянин, и наша цель — уберечь
революцию от белых. Выпьем за светлое будущее".
Потом заиграл духовой оркестр, человек 16—18. Нестор
сказал: "Давайте мою любимую", и оркестр заиграл "Амур-
ские волны". Мы с Нестором пошли танцевать. После корот-
65
кого веселья, во время которого танцевали и пели песни,
Ворошилов и Нестор ушли в штаб".
На второй день Ворошилов уехал, а вскоре из штаба
Красной Армии Махно прислали машину и самолет. Нестор
часто на самолете осматривал фронт".
Насколько соответствуют истине факты, изложенные в
рассказе Г. А. Кузьменко?
Начнем с того, что телохранители Петр и Сидор-Исидор
Лютые — одно и то же лицо. Махно часто упоминает его в
своих мемуарах, причем после имени Исидор всегда в скобках
пишет: "Петр". Но в кабинете у батьки в тот день, видимо,
действительно было два телохранителя. Кроме Исидора
(Петра) Лютого, был там, очевидно, и Иван Савельевич
Лепетченко, о судьбе которого мы еще расскажем на страни-
цах этой книги (после гражданской войны он жил и работал
в Мариуполе).
Волин не мог присутствовать на обеде 4 июня в Гуляй-Поле,
потому что к Махно он присоединился только в августе 1919
года.
Но это, так сказать, мелочи, совсем не существенные, они
могли возникнуть в результате либо ошибок памяти или
оговорок рассказчицы, либо неточностей, допущенных запис-
чиком. Но обратимся к более существенным деталям этого
очень незаурядного эпизода.
О первых героях-краснознаменцах современный читатель
узнал сравнительно недавно, после того, как возвращены
были нашей истории имена жертв сталинского террора.
Первым кавалером ордена Красного Знамени — высшей по
тому времени наградой Революции за воинские подвиги —
стал Василий Константинович Блюхер, орденский знак под
номером 2 был вручен Ионе Эммануиловичу Якиру. То
были прославленные полководцы времен гражданской вой-
ны, люди высокого мужества и чести, настоящие рыцари
революции. Они были гордостью и любимцами страны, но
в 1937 году второго кавалера расстреляли как врага народа,
причем под неправедным приговором стояла подпись обла-
дателя ордена Красного Знамени № 1. Через год дошла
очередь и до маршала Блюхера (а ведь сложись иначе, мог
бы и Махно стать Маршалом Советского Союза), но Василия
Константиновича не расстреляли. Не успели. Потому что
он умер под пытками в следственной камере московской
тюрьмы.
Не знаю, кто третьим удостоился этого высокого ордена,
но четвертым в списке краснознаменцев стал Нестор Иванович
Махно. Наградили его, правда, не за Екатеринослав, как
66
прозвучало в приведенном рассказе, а за взятие Мариуполя
в марте 1919 года.
Долгое время четвертая строка в упомянутых списках
была густо замазана черной краской. Теперь имя поистине
легендарного и поистине народного героя восстановлено, и
это, конечно, глубоко справедливо. Так что главная суть
рассказа Г. А. Кузьменко соответствует действительности и
воссоздает интересный эпизод биографии Нестора Ивановича,
который прежде писавшие о нем не освещали.
Будучи в Киеве на учредительной конференции Украин-
ского "Мемориала", познакомился я с Христианом Валерие-
вичем Раковским. Его дед, выдающийся революционер, пять
лет возглавлял правительство Советской Украины, был каз-
нен Сталиным. Христиан Валериевич показал мне любитель-
скую фотографию: Махно с женой и Ворошилов с супругой,
с членами махновского штаба. Не исключено, что снимок
сделан в тот самый день, о котором повествует запись В. И.
Яланского.
Смущает меня только вот какое обстоятельство. Если орден
Красного Знамени вручался, со слов Г. А. Кузьменко, дей-
ствительно 4 июня 1919 года, то как это вяжется с тем, что
29 мая 1919 года бригада Махно отказалась повиноваться
командованию Красной Армии и самовольно ушла с фронта
в район Гуляй-Поля, начав открытую борьбу против советской
власти (см. БСЭ, 3-е изд., т. 15, стлб. 1516)? Может быть,
Ворошилов приехал "задобрить" батьку орденом? Но всего
лишь через четыре дня, 8 июня, Махно и его приближенные
были объявлены вне закона.
Я занялся исследованием этого вопроса, и вот что выяс-
нилось.
Разногласия между союзниками — махновцами и боль-
шевиками — существовали с самого начала. Основным был,
конечно, вопрос о земле. Правительство Украины решило
почти всю национализированную землю отдать госхозам и
совхозам, а крестьяне хотели поделить ее между собой.
Популярность Махно в крестьянской среде была высока еще
и потому, что раздел помещичьих земель в своем районе он
осуществил еще до октябрьского переворота, при Временном
правительстве.
Поддержку у крестьян находил также махновский лозунг:
"Долой чрезвычайки — современные охранки". Сегодня мы
хорошо знаем, как чекисты, борясь с контрреволюцией, били
по своим. А вот что писал в то время А. Е. Скачко, коман-
дующий 2-й Украинской армией, в состав которой входила
3-я бригада: "Мелкие местные чрезвычайки ведут усиленную
67
кампанию против махновцев, и в то время, когда они проли-
вают кровь на фронте, в тылу их ловят и преследуют за одну
только принадлежность к махновским войскам... Так дальше
продолжаться не может: работа местных чрезвычаек опреде-
ленно проваливает фронт и сводит на нет все военные успехи,
создает такую контрреволюцию, какой ни Деникин, ни Крас-
нов создать не могли..."
19 апреля 1919 года состоялся 3-й Гуляйпольский район-
ный съезд Советов. В нем участвовали делегаты четырех
уездов, в том числе, конечно, и Мариупольского. Они пред-
ставляли 72 волости с населением свыше двух миллионов.
Съезд принял резолюцию, которую наши историки до недав-
него времени называли анархистской, демагогичной. Но
читаешь сегодня этот документ и видишь: он поистине де-
мократический. Посудите сами:
"Требуем немедленного удаления всех назначенных лиц
на военные и гражданские ответственные посты... Требуем
проведения правильного и свободного выборного начала...
Требуем социализации земли, фабрик и заводов... Требуем
изменения в корне продовольственной политики — замены
реквизиционных отрядов правильной системой товарообмена
между городом и деревней... Требуем полной свободы слова,
печати, собраний всем политическим левым течениям, т. е.
партиям и группам, неприкосновенности личности работни-
ков партий левых революционных организаций и вообще
трудового народа... Диктатуру какой бы то ни было партии
категорически не признаем. Левым социалистическим пар-
тиям предоставляем свободно существовать только лишь как
проповедникам путей к социализму, но право выбора остав-
ляем за собой".
Понятно, что для большевиков, строивших тоталитарное
общество, эти требования были совершенно неприемлемы.
Между тем Третья бригада пополнялась крестьянами-
добровольцами и, несмотря на чувствительные потери, все
разрасталась. Она уже включала в себя одиннадцать
полков, то есть значительно превосходила по составу ди-
визию. Ее командир так и подписывался: начдив батько
Махно. Точно так же считало и командование 2-й Украин-
ской армии — дивизия Махно. Де факто, так сказать. Но
не де юре.
В том же мае Махно задумал реорганизовать третью
бригаду в дивизию — и де факто, и де юре. Армейское
командование не возражало. Однако штаб Южного фронта
запретил реорганизацию, о чем 28 мая 1919 года Реввоенсовет
фронта поставил в известность махновский штаб.
68
Честолюбивый и вспыльчивый Махно воспринял это как
личное оскорбление. Ответ его был молниеносным и, как
казалось ему, испепеляющим. В телеграмме штабу фронта
он говорит, что никогда не добивался более высокого звания,
что он рядовым в низах принесет больше пользы революции,
что с сего дня 28 мая, с двух часов пополудни не считает себя
начдивом и, соответственно, комбригом-3, что он просит
только прислать человека принять у него дела. И пусть
каждая бригада, входящая в состав 1-й повстанческой диви-
зии (так он именовал свое воинское подразделение), переходит
в распоряжение Южного фронта или (прозрачная подсказка!)
разбивается на самостоятельные отряды и действует в инте-
ресах народа — на то их воля.
На фронте сложилась критическая обстановка, и отступать
Махно нельзя было, на что Нестор Иванович, несмотря на
вспышку гнева, под влиянием которого он писал телеграмму
командованию Южного фронта, и рассчитывал. Но больше-
вистский союзник, не знавший, как избавиться от махнов-
щины и тайно готовившийся полностью ее уничтожить, не
брезгуя никакими средствами, демарш комбрига-3 принял с
олимпийским спокойствием, едва ли не со злорадством. Того
же 28 мая был отдан приказ начдиву-7 Е. Чикваная (кстати
сказать, так по ряду причин и не выполненный) выехать в
Гуляй-Поле и принять у Махно бригаду.
Еще через несколько часов, но уже 29 мая, махновский
"штаб первой повстанческой дивизии" телеграфирует во все
инстанции — командованию Южного и Украинского фронтов,
Раковскому в Киев, Каменеву в Харьков и самому Ленину в
Кремль — о своем несогласии с решением штаба Южного
фронта, которое может иметь роковые последствия. Все
одиннадцать полков повстанцев считают Махно своим при-
родным вождем. Они предупреждают, что в случае лишения
Махно его поста бригады не примут никакого другого коман-
дования. (Таким образом, Большая Советская Энциклопедия
не так уж далека от истины, когда пишет, что 29 мая бригада
Махно отказалась повиноваться командованию Красной Ар-
мии, хотя на самом деле все было гораздо сложнее и в конце
концов она подчинилась Южному фронту, что, в свою очередь,
имело непростые последствия).
В телеграмме указывалось, что штаб постановил: Махно
остаться при своих обязанностях и полномочиях; преобразо-
вать махновские части в самостоятельную повстанческую
армию, руководство которой поручить т. Махно.
Забегая вперед, скажем: так в общем-то и получилось.
Большевики не хотели Махно-начдива, они получили Махно-
69
командарма — командующего грозной РПА — Революци-
онно-повстанческой армией.
Но это случилось позже, а тогда положение было поистине
критическим для обеих сторон.
4 июня 1919 года, в тот самый день, когда, по рассказу
Г. А. Кузьменко, Ворошилов чокался с Махно и вручал ему
революционный орден, тот же самый Ворошилов, только что
назначенный командующим 14-й армией (бывшая 2-я Укра-
инская) одним из первых приказов на новой должности
запретил созыв очередного съезда советов Гуляйпольского
района, намеченный на 15 июня. В тот же день такой же
запрет последовал и приказом председателя Реввоенсовета
Республики Троцкого.
Так мыслимо ли, чтобы в этот же день Нестору Ивановичу
как ни в чем не бывало вручили орден Красного Знамени
№ 4? Может быть, Галина Андреевна запамятовала точную
дату события или Виктор Иванович Яланский что-то перепу-
тал, записывая ее рассказ?
Похоже, нет.
Вот что писал П. Аршинов в своей "Истории махновского
движения": "Надо заметить, что большевики, выпустив про-
тив махновцев ряд приказов, первые дни держались с ними
внешне лояльно, словно ничего между ними не произошло.
Это была тактика, имевшая целью наиболее верно захватить
руководителей махновщины".
Теперь позволим себе коротенькое отступление и проком-
ментируем слова Г. А. Кузьменко относительно присылки
Ворошиловым Махно самолета: "Нестор часто на самолете
осматривал фронт". Признаться, ничего подобного в литера-
туре о Махно я не встречал.
Махно и самолет — это, согласитесь, непривычно, неожи-
данно. Махно на горячем коне — да. Махно на лихой
тачанке, — конечно, да. Но крестьянский батька на аэро-
плане...
Между тем еще во время штурма Мариуполя в марте
девятнадцатого 1-й Заднепровской дивизии была придана
аэрогруппа. Не исключено, что, уезжая в Крым, Дыбенко
оставил Третьей бригаде если не всю группу, то хотя бы один
самолет.
Аршинов утверждает, что в апреле 1919 года большеви-
ками была сделана попытка убить Махно из-за угла. (Между
прочим, в наши дни обнаружены документы, свидетельству-
ющие о том, что большевики, декларировавшие свое отрица-
тельное отношение к индивидуальному террору, не раз пы-
тались расправиться с непокорным батькой путем элементар-
70
ного убийства последнего. Одно покушение, рассказывают,
раскрыл Василий Куриленко и пресек его. Была тогда по-
пытка подкупить Леву Задова. Безуспешная, конечно).
Так вот, о покушении на батьку в апреле 1919 года.
Командир одного полка Падалка, подкупленный большеви-
ками, взял на себя их поручение — напасть со стороны
Покровского на Гуляй-Поле, когда там будет Махно, захва-
тить его и штаб. Заговор был раскрыт самим Махно, когда
он находился в Бердянске. Под рукой батьки оказался само-
лет, на котором он долетел до своей "столицы" всего лишь
за два часа с минутами, застал организаторов врасплох,
схватил их и расстрелял.
Так что авиацию батько уважал.
Не знаю, действительно ли Ворошилов прислал своему
вроде бы отставленному комбригу самолет, но бронепоезд с
самим командармом-14 действительно прибыл. Продолжим
цитату из книги П. Аршинова: "7 июня они (большевики. —
Л. Я.) прислали в распоряжение Махно бронепоезд, прося
его держаться до последней возможности. Действительно на
станции Гайчур, отстоящую в 20 верстах от Гуляй-Поля,
прибыло со стороны Чаплино несколько эшелонов красных
войск; прибыли военный комиссар Межлаук, Ворошилов и
др. Был установлен контакт между красным и повстанческим
командованием, создалось нечто вроде общего штаба. Меж-
лаук, Ворошилов находились в одном бронепоезде с Махно,
совместно с ним руководя военными действиями. Но в это
же самое время на руках Ворошилова был приказ Троцкого
схватить Махно, всех ответственных руководителей махнов-
щины, разоружить повстанческие части, сопротивляющихся
расстрелять. Ворошилов выбирал более удобный для этого
момент. Махно был вовремя предупрежден и сообразил, что
ему делать..."
Схватить батьку Ворошилову не удалось. Зато были им
схвачены его приближенные, члены махновского штаба Бур-
бига, Михалев-Павленко (состоял, между прочим, в делега-
ции, которая в Мариуполе вела переговоры с французской
эскадрой насчет угля), Алейников, Костин, Полунин, Добро-
лобов и Озеров (последний вслед за Махно подал заявление
об отставке с поста начштаба бригады, мотивируя тем, что
51 ранение, полученное им в боях, сделало его инвалидом) и
расстрелял их.
После этого батько уже открыто говорил на митингах о
своих антисоветских взглядах. С небольшой группой верных
ему людей он ушел за Днепр формировать новые отряды для
борьбы не только с деникинцами, но и с большевиками.
71
Видимо, тогда и родился знаменитый лозунг махновцев: "Бей
белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не посинеют".
Что же касается вручения ордена Красного Знамени, о
котором рассказала Г. А. Кузьменко, то ход событий, рас-
смотренный в этой главе, позволяет утверждать, что оно, это
вручение, сколь это ни кажется парадоксальным на первый
взгляд, вполне могло состояться именно 4 июня 1919 года.
На этом можно было бы и закончить эту главу, но прежде
чем поставить точку, хочется добавить еще одно рассуждение.
Махно гордился взятием Мариуполя в марте девятнадца-
того года и считал этот эпизод одним из кульминационных
моментов своей боевой революционной деятельности. И был,
конечно, прав. Этот подвиг сделал его заметной фигурой среди
командного состава Красной Армии, а уж среди крестьян
рейтинг батьки (позволю себе термин нашей эпохи) возрос до
невообразимых высот.
Но случилось так, что успешный штурм Мариуполя
Третьей бригадой совпал по времени со взятием Одессы
Первой бригадой той же дивизии Дыбенко. Командовал
Первой Заднепровской бригадой печально известный в нашей
истории Григорьев, очень скоро выродившийся в чистого
бандита, "без подмесу".
Мариуполь с Одессой ни в какое сравнение, конечно, не
идет. Тем более, что со взятием последней Ленин и больше-
вики, горячие сторонники мировой революции, связывали
планы посылки войск на помощь Венгерской советской рес-
публике и вообще с мыслью революционного похода на Запад:
"Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем". Понятно,
что взятие Одессы и связанная с ней эйфория большевистского
руководства несколько отодвинули в тень героический штурм
Мариуполя махновцами.
Когда девятого апреля 1919 года Христиан Раковский
отправил телеграмму командованию Украинского фронта,
он от имени правительства Украины пространно привет-
ствовал освободителей Одессы и предложил представить к
почетным наградам командиров и части, особо отличивши-
еся в этой операции. И только мимоходом, как бы подвер-
сткой к телеграмме председателя Совнаркома Украины
прозвучала фраза: "Одновременно с ними (освободителями
Одессы. — Л. Я.) представить к почетным наградам крас-
ноармейские части, которые отличились под Мариуполем,
и их командиров".
Нестор Махно свой орден Красного Знамени №4 получил.
Получил свой орден и атаман Григорьев. В. Ф. Верстюк в
своей солидной, убедительно документированной монографии
72
"Махновщина" (К., 1991) не без иронии, но называет Гри-
горьева "кавалером ордена Красного Знамени".
Под каким номером орденский знак вручили атаману? У
меня нет, к сожалению, возможности проверить и докумен-
тально подтвердить свою догадку, но по логике вещей — № 3.
Конечно же № 3.
Итак, если моя догадка верна, первые четыре кавалера
прославленного ордена: Блюхер, Якир, Григорьев, Махно...
Ирония истории поистине неисчерпаема.
* * *
"Существует стойкая легенда, многократно запечатленная
в бульварной литературе, нашей и зарубежной, — пишет
С. Семанов в книге "Под черным знаменем", — что комбрига
Махно наградили орденом Красного Знамени. Никаких до-
кументальных подтверждений (или опровержений) до сих
пор не обнаружено".
Статью о Махно как кавалере ордена Красного Знамени
№ 4 опубликовали "Аргументы и факты", как обычно, "с
фактами в руках". Вряд ли эту газету можно отнести к желтой
бульварной прессе. Думаю, что в этом отношении автор книги
"Под черным знаменем" несколько "отстал от жизни". Но
любопытен записанный им рассказ Галины Андреевны об
этой награде, опровергающий его же, С. Семанова, скепсис
относительно того, было ли вообще такое награждение.
— Нестор был действительно награжден орденом Красного
Знамени, — сказала Г. А. Кузьменко С. Семанову в 1968
году. — Но когда это случилось, я не помню, но сам орден
помню очень хорошо, он был на длинном винте, его полагалось
носить, проколов верхнюю одежду, но Нестор не надевал его
никогда. Хранился он у меня, а во время бегства мы побросали
все вещи, видимо, среди них и орден".
Как видим, Виктору Ивановичу Яланскому повезло боль-
ше: в 1976 году он услышал от Галины Андреевны гораздо
более подробный рассказ о награждении Махно орденом
Красного Знамени, чем Сергей Семанов в 1968-м.
73
ТАК КТО ЖЕ ОН ВСЕ-ТАКИ, ЛЕВА ЗАДОВ?
Петр Аршинов, справедливо отвергая измышления, будто
на махновщине лежит грех антисемитизма, приводит немало
аргументов, убеждающих в обратном. В своей "Истории
махновского движения" он пишет, что "в армии махновцев
немалую роль играли евреи-революционеры, из которых
многие отбывали каторгу за революцию 1905 года или жили
в эмиграции в государствах Западной Европы и Америки".
Он, говорит Аршинов, мог бы привести длинный список, но
по мотивам конспирации (писал он в 1921 году) называет
только пять фамилий. Перечислим их.
КОГАН. — Помощник председателя высшего органа дви-
жения — районного Гуляйпольского Военно-Революционного
Совета. Рабочий. Но еще до революции 1917 года, по мотивам
духовного характера, ушел с фабрики к земледельческому
труду в беднейшую еврейскую земледельческую колонию. В
бою с деникинцами под Уманью был ранен, а затем, будучи
раненным захвачен в уманьском лазарете деникинцами, по
сообщению, зарублен ими.
ЕЛЕНА КЕЛЛЕР. — Секретарь культпросветотдела армии.
Участница профессионального рабочего движения в США.
Работница. Одна из организаторов Конфедерации "Набат".
ИОСИФ ЭМИГРАНТ (ГОТМАН). — Член культпросвет-
отдела армии. Рабочий. Один из организаторов Конфедерации
"Набат".
ЯКОВ АЛЫЙ (СУХОВОЛЬСКИЙ). — Рабочий. Член
культпросветотдела армии. Отбывал каторгу по политичес-
кому делу. Один из организаторов и член секретариата
Конфедерации "Набат".
Вторым в этом списке П. Аршинов называет Л. Зиньков-
ского (Задова) и дает ему такую характеристику: "Начальник
армейской контрразведки, а впоследствии комендант особого
кавалерийского полка. Рабочий. До революции пробыл свыше
10 лет на каторге (!? — Л. Я.) по политическому делу. Один
из активнейших деятелей революционного повстанчества".
74
Характеристика вроде бы и лестная, но я убежден, что
Л. Зиньковский, более известный как Лева Задов, отнюдь не
относится к числу лиц, составляющих гордость еврейского
народа. Но, как из песни слова не выкинешь, так из махнов-
щины не выкинешь Леву Задова.
Его прославил незабвенный наш классик Алексей Толстой.
Вот строки из заключительного тома трилогии "Хождение
по мукам": "Сейчас же вошел, несколько переваливаясь от
полноты, лоснящийся, улыбающийся человек в короткой
поддевке, какие в провинции носили опереточные знамени-
тости и куплетисты...
— А ну, подивись на меня, — не слушая его, сказал человек
в поддевке. — Я Лева Задов, со мной брехать не надо. Я тебя
буду пытать, а ты будешь отвечать..."
Слово "пытать" Лева Задов употребил в его украинском
значении — "спрашивать", но читатель понимал его по-руски:
подвергать пыткам. Ясно ведь: перед нами палач. Да Толстой
об этом прямо пишет в книге, которая многие годы включа-
лась в школьную программу: "Имя Левки Задова знали на
юге все не меньше, чем самого батьки Махно. Левка был
палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно
будто бы даже не раз пытался зарубить его, но прощал за
преданность..."
Еще несколько строчек: "Левка Задов сидел, пышно куд-
рявый, румяный, наслаждаясь властью над человеком, ужа-
сом, который он внушал." Он смотрит на Рощина взглядом,
"в котором не было ничего разумного и человеческого..."
Алексей Толстой, пользуясь как художник правом на
вымысел, своего Левку Задова выдумал. Как и Всеволод
Иванов, по сценарию которого мариуполец Леонид Луков
поставил фильм "Александр Пархоменко", где батьку Махно
карикатурно сыграл знаменитый в свое время и популярный
Борис Чирков. Несомненна и "заслуга" талантливого актера
Владимира Белокурова, в запомнившемся всем исполнении
которого ("Хмурое утро" Г. Рошаля) Левка Задов предстал
приблатненным, разухабистым уголовным типом. Беда в том,
что вымышленный персонаж был наделен именем реально
существовавшего человека — Льва Николаевича Задова
(Зиньковского), дети которого живы по сей день, а также
внуки и правнуки.
Алексей Николаевич Толстой придумал Леве Задову такую
вот дореволюционную биографию:
"— ...Непонятно, как ты раньше обо мне не слыхал, —
рассказывает Левка Рощину. — Одесса же меня на руках
носила: деньги, женщины... Надо было иметь мою богатыр-
75
скую силу. Эх, молодость! Во всех же газетах писали: Задов —
поэт-юморист. Да ну, неужто не помнишь? Интересная у меня
была биография. С золотой медалью кончил реальное. А
папашка — простой биндюжник с Пересыпи. И сразу я — на
вершину славы. Понятно: красив, как бог, — этого живота
не было, — смел, нахален, роскошный голос — высокий
баритон. Каскады остроумных куплетов. Так это же я ввел
в моду коротенькую поддевочку и лакированные сапожки:
русский витязь!.. Вся Одесса была обклеена афишами. Эх,
разве Задову чего-нибудь жалко, — все променял шутя!
Анархия — вот жизнь! Мчусь в кровавом вихре".
На уроках литературы я, учитель, зачитывал вслух эти
строки — "в назидание потомству". А еще до этого, подрос-
тком с увлечением читал эти страницы о коварном батьке
Махно и его палаче Левке Задове. Читал и верил каждой
строчке, каждому слову.
А следовало ли так верить?
Когда вышло в свет " Хмурое утро ", а также фильмы нашего
земляка Леонида Лукова, Лев Задов был уже расстрелян как
агент зарубежных разведок. Сам он, понятно, не мог высту-
пить с опровержением, а из знавших правду, кто решился
бы встать на защиту разоблаченного "врага народа".
Чтобы это стало возможным, должно было пройти полвека
и еще три года.
* * *
На самом деле Лева Задов был не одесситом: он родился
в 1893 году в еврейской земледельческой колонии Веселая в
семье крестьянина. На страницах этой книги мы, видимо, не
раз повторим, что в Мариупольском и Александровском
уездах было 17 еврейских сел (их называли колониями),
население которых занималось хлебопашеством. Они оказа-
лись в эпицентре махновщины.
Пишут, что у отца Левы были всего лишь две десятины
земли и одиннадцать детей. В 1900 году семья переехала в
Юзовку, где ее глава занялся извозом. Таким образом Алексей
Толстой в общем-то был прав, когда писал, что Левка Задов
был сыном биндюжника, но только не с Пересыпи, а из
Юзовки.
Замечу, что дата переезда Задовых в Юзовку представля-
ется сомнительной: брат Л. Задова — Даниил Зотов-Задов —
родился в Юзовке в 1898 году. Следовательно переезд из
Веселой в Юзовку состоялся двумя-тремя годами раньше.
Полковник юстиции Н. Л. Анисимов и капитан 1 ранга
В. Г. Опоков в обширном очерке "Слуга анархии и порядка"
(Военно исторический журнал. 1 990. №№ 2, 4,10; 1991, № 11)
76
подробно разбирают, когда Л. Задов стал Зиньковским — в
1917 году или уже в Румынии, где его младший брат Даниил
взял себе фамилию Зотов.
Вопрос об именах, фамилиях и псевдонимах этих персо-
нажей гражданской войны на Украине, пожалуй, и в самом
деле представляет некоторый интерес.
Работая над книгой "Евреи в Приазовье" (параллельно с
этой), я набрел на любопытнейший документ: подворную
перепись еврейской земледельческой колонии Веселая за 1890
год. И выяснилось, что никаких Задовых в Веселой, основан-
ной в 1845 году переселенцами из еврейских местечек Моги-
левской и Витебской губерний, никогда не было. Зато были
Зодовы. Перечислим их, зафиксированных в подворной пе-
реписи за три года до рождения Левы Задова.
Зодов Моше Аврумович проживал в доме из одной комна-
ты, правда, большой. Ни земледельческих орудий, ни скота
не имел. На земле не работал, а надел свой отдал зятю,
колонисту той же колонии Морозову Эле. Последний поло-
вину прибыли отдавал тестю. Три дочери Эли вышли замуж,
так что Моше Зодов был, по-видимому, пожилым человеком,
раз он имел замужних дочерей.
Другой Зодов, Юдель Гиршевич, в колонии не жил вообще,
а свою половину надела отдавал в наем.
Зодов Ицхок Гиршевич (видимо, брат Юделя) в 1890 году
имел уже четыре сына (в примечании сказано: "два сына еще
малы") и две дочери. Был у него дом в две комнаты и конюшня,
крытые соломой. "В порядочном состоянии", фиксирует под-
ворная перепись. Ицхок Гиршевич владел бричкой, катком,
парой лошадей, растил двух телят и лошака. Сельскохозяй-
ственных машин не было. Обрабатывал полнадела вдвоем со
старшим сыном, наемных рабочих не держал.
Тут надо сказать, что переселенцы из Белоруссии и При-
балтики получили наделы по 40 десятин. Правда, в некоторых
еврейских колониях выделили только по 30, а остальное шло
в общественный фонд, из которого можно было арендовать
дополнительную площадь. Таким образом, полнадела Ицхока
Гиршевича составляла 15 десятин (другая половина принад-
лежала, надо полагать, Юделю Гиршевичу). Арендовал он из
общественного фонда еще три десятины, то есть всего обра-
батывал 18 десятин. В среднем на семью в еврейских колониях
приходилось по 14 десятин. Если выяснится, что Ицхок отец
Левы Задова, то заявление последнего, что их семья распо-
лагала только двумя десятинами, — обычная в ту эпоху
формула "хорошего" происхождения — "из бедной кресть-
янской семьи".
77
Но в том-то и дело, что затруднительно определить, кто
из перечисленных Зодовых — отец героя нашего рассказа.
Понятно, что наивно было бы искать в колонии Веселой
Николая — таких имен евреи-крестьяне своим детям не
давали. Я разработал несколько версий происхождения Левы
Задова, но все они неудовлетворительны, противоречивы и
не проясняют вопроса. Поэтому не стану утомлять читателя
подробностями своих рассуждений и разысканий. Скажу
только: русифицировав впоследствии свои имена, выбрав себе
православное отчество, один из братьев изменил в своей
первородной фамилии — Зодов — гласную и стал Задовым,
а другой — согласную и стал Зотовым.
Лева Задов, если принять во внимание его природные
способности, вполне мог бы окончить с золотой медалью
реальное училище (как придумал А. Толстой), если бы он
туда поступил. Но Левку отдали в хедер (начальная еврейская
школа), где меламед два года учил его читать и писать. В
русской школе, как я понимаю, он вообще не учился. С трудом
представляю себе, как мог начальник контрразведки махнов-
ского корпуса, а впоследствии полковник госбезопасности
НКВД составлять деловые бумаги, а ведь приходилось же
писать рапорты, отчеты, докладные записки, протоколы,
наконец, приговоры.
Но до этого еще далеко.
Что же касается воспитания, то нетрудно понять, почему
Левка не усвоил тонких великосветских манер. Когда я думаю
о его отце (он умер в 1910 году), мне почему-то вспоминается
фраза Бабеля о том, что отец Бени Крик даже среди биндюж-
ников считался грубияном.
М. Е. Земцов, автор книги "Еврейские крестьяне" (1908),
в начале века писал об обитателях еврейских земледельческих
колоний Екатеринославской губернии: "Обычные черты го-
родских ремесленников — бледность, худоба и физическая
недоразвитость — все еще видны в колониях, но в ряду с
этим попадается другой тип — деревенских здоровяков-хле-
боробов, с тем особым отпечатком физической силы и неук-
люжести, который так свойственен земледельцам".
Лева Задов принадлежал ко второму типу. Знавшие его
взрослым вспоминают о нем как о высоком атлете, обладав-
шем богатырской силой. Один мой читатель позвонил: "Ар-
тист Белокуров внешне очень похож на своего персонажа,
только Задов был более рослым, более мощным". Так что
классик наш попал пальцем в небо, когда писал: "Махно
поднялся с диванчика, сжал сухой кулачок и ударил Левку
в лицо, в губы, в нос..." Если бы батька и впрямь захотел
78
так "повоспитать" Задова, то ему пришлось бы стать на
табуретку. Но умный Нестор Иванович при всей своей вспыль-
чивости предпочитал не связываться с Левкой, а дружить с
ним.
Левка был совсем еще мальчишкой, когда уже начал
подрабатывать на мельнице: таскал тяжелые мешки с зерном,
мукой. А потом, здоровый, сильный, он устроился в доменном
цехе Юзовского металлургического завода каталем.
На заводе в то время действовала небольшая организация
анархистов — человек 5—6. Задов становится анархистом,
распространяет нелегальную литературу, организовывает ми-
тинги и стачку. Так пишут о нем сегодня. Мне, откровенно
говоря, не верится что-то в это. Сам Зиньковский на допросах
в НКВД заявил, что он беспартийный, а с 1913 по 1921 год
был анархистом-коммунистом. На дореволюционный стаж
он, как видим, не претендовал. Но что совершенно вне
сомнений: в грабежах он участвовал. Правда, они их назы-
вали красивым словом "экспроприации", сокращенно:
эксы. Добывали, дескать, средства на партийную револю-
ционную деятельность. Лева показал себя очень способным
экспроприатором: только в одном 1912 году он трижды
участвовал в подобных делах. В Рутченково они напали на
артельщика местного рудника, на станции Дебальцево —
на железнодорожного кассира, а в Карани ("возле Мариу-
поля", уточнит Лева для энкэвэдешного следователя) он
ограбил — будем называть вещи своими именами — поч-
товую контору. В 1913-м — арест, суд, и Лева получает
8 лет каторги.
Следствие длилось два года, которые Лева провел в Юзов-
ской тюрьме, затем сидел в Бахмуте, Луганске, Екатерино-
славе. Февральская революция освободила его как политзак-
люченного. Задов снова в Юзовке на металлургическом заво-
де. Металлурги и шахтеры выбирают его депутатом город-
ского Совета.
Весной 1918 года он записался добровольцем в красно-
гвардейский отряд, вместе с ним отступал из Донбасса в
Царицын, участвовал в тяжелых боях, в которых проявил
смелость и смекалку, из рядового скоро вырос в командира.
Но — ненадолго. Вот его собственные признания:
"В августе 1918 года к нам в отряд прибыло распоряжение
из Царицына о том, что мы становимся регулярной частью
Красной Армии. Были присланы деньги для выплаты зар-
платы. Мне как начальнику штаба полагалось 750 рублей, а
рядовому красноармейцу — 50 рублей. Я как анархист с этим
положением не согласился. И с согласия командира отряда
79
Черняка выехал в Козлов в штаб Южного фронта, а оттуда
был направлен на Украину, в тыл немцам..."
Последнее не совсем точно, не направлен он был, а сам
направился. Впоследствии ему напомнили об этом, посчитав
дезертиром. Как бы там ни было, на оккупированной немцами
Украине он примкнул к Махно. Было в то время Леве Задову
25 лет, и вряд ли он мог в разговоре с Рощиным по-стариковски
жалеть об ушедшей молодости, как изобразил это А. Н.
Толстой.
В своих мемуарах Нестор Иванович пишет: "В городских
группах было много анархистов-евреев. Для села, для неев-
рейского населения деревни, в этот момент бунта и револю-
ции, они были, как пропагандисты, не пригодны. После
прихода на Украину немецко-австрийских экспедиционных
войск мещанско-купеческое еврейство дало здесь слишком
много, в наших районах по крайней мере, шпионов, преда-
телей и провокаторов штабам этих войск. Благодаря этим
отдельным негодяям, село, видевшее их гнусную роль, отно-
силось с недоверием к евреям вообще. В этой области село
нуждалось в серьезной ломке его мнения о евреях вообще. И
ломку эту можно было бы сделать скоро и успешно лишь при
помощи еврейских же революционеров-анархистов, которые
не относились бы к широким массам авантюристически. Л
таких товарищей евреев я не знал".
Нестор Иванович здесь не вполне точен: по крайней мере
двух таких евреев анархистов он знал. Ими были братья Лев
и Даниил Задовы. Лева был назначен пропагандистом по
вовлечению крестьян в махновские отряды. Вместе с ним
работал Даня, и весьма успешно.
Они участвовали во всех крупных операциях и походах
Махно. В том числе и в штурме Мариуполя в марте 1919 года.
Здесь была создана так называемая инициативная группа, в
обязанности которой входило получение от буржуазии нало-
женной на нее махновцами контрибуции и реквизиция
одежды для партизан-повстанцев. Входили в эту комиссию,
чуть ли не возглавляли ее Лев и Даниил Задовы. Старший
из братьев показал потом на следствии, что "работал" он в
Мариуполе до середины или конца мая. Эти показания точны.
Кстати, в Мариуполе жила одна из шести сестер Левы
Задова (остальные жили в Юзовке). Это сведения на 1937 год.
Не знаю ее фамилии по мужу, неизвестна мне ее судьба: то
ли она успела эвакуироваться, то ли легла со своими детьми
и близкими в противотанковый ров у Агробазы вместе в
десятью тысячами других мариупольских евреев, расстре-
лянных гитлеровцами в октябре 1941 года.
80
Но вернемся в девятнадцатый год.
Алексей Чубенко, один из приближенных Махно, расска-
зывает о положении в Мариуполе весной 1919 года: "Когда
я пошел в город, то там только и говорилось о махновской
контрразведке. Одни говорили, что их ограбили, другие, что
кого-то убили, третьи, что кого-то изнасиловали".
Надо учесть, что свидетельства Чубенко, как и Виктора
Федоровича Белаша, зафиксированы следователями на доп-
росах в ГПУ уже после разгрома махновщины. Нередко они
подписывали не то, что они показывали, а то, что диктовали
им гепеушные следователи. Но насчет того, что творилось в
Мариуполе в рассматриваемое время, Чубенко не отклоняется
от истины. Тому есть достаточно заслуживающих доверия
подтверждений.
В "инициативной группе" в Мариуполе активно действовал
и Яшка Глазгон, известный анархист. Когда в мае "инициа-
тивная группа распалась, он с группой единомышленников
(Петр Шестерин, Казимир Ковалевич, Любка Черная, При-
ходько, Александр Барановский, Маруся Никифорова и ее
муж Витольд-Бжостик) отправился в Москву. Звал он с собой
и братьев Задовых, но они отказались. И поступили весьма
благоразумно. Названные лица бросили бомбу в зал заседаний
Московского горкома партии в тот момент, где там должен
был находиться Ленин. 55 человек было ранено, 12 убито,
в том числе и секретарь горкома Загорский (в его честь
назвали подмосковный город с Троице-Сергиевой Лаврой).
Ленин в том заседании не смог принять участие, что и
спасло его от крупных неприятностей. Быть бы Леве и Дане
Задовым расстрелянными чекистами вместе с организато-
рами теракта в Леонтьевском переулке, но тогда судьба их
хранила. Предназначенные им пули будут ждать своего
часа еще 19 лет.
Впрочем, у Левки Задова было немало шансов схлопотать
пулю и от белых, и от красных, и от самого батьки. Взять
хотя бы случай с "манцевскими шпионами".
Однажды (дело было летом 1920 года, когда штаб Махно
расположился в селе Туркенцовка) к батьке подошел Федор
Глущенко, сказал, что ему надо сообщить нечто очень важное.
У Махно были срочные дела, он отмахнулся: "Доложи моему
заместителю Куриленко".
Куриленко, как и Махно, Федора Глущенко знал. При 1-м
Донецком корпусе, которым командовал Калашников, осенью
1919 года была создана контрразведка во главе с Л. Зиньков-
ским-Задовым. Ее штат состоял из 8-10 человек. Был среди
них и Федор Глущенко. Уже летом он куда-то пропал. И вот
81
теперь вернулся с неизвестным махновцам человеком, кото-
рый назвался Яковом Дурным.
Разыскав Куриленко, Глущенко честно признался, что
был захвачен красными и в Харькове чекисты пытались его
завербовать. Чтобы вырваться, он дал согласие убить Махно.
С этим его и отпустили в сопровождении Якова Дурного.
Куриленко немедленно разоружил и арестовал "манцев-
ских шпионов", как назвали их по фамилии В. Манцева,
возглавлявшего Всеукраинское ЧК. Их расстреляли без дол-
гих разговоров, но в рассказе Глущенко была еще одна деталь:
ему дали еще задание "прощупать" Леву Задова и постараться
завербовать его. И некоторые члены штаба потребовали, чтобы
Лева Задов тоже был расстрелян.
Последний в это время находился в пехотном полку, где
исполнял обязанности помощника комполка. Дела эти были
ему знакомы: еще в конце восемнадцатого организовал он на
Мариупольщине полк, и повстанцы избрали его помощником
командира полка. С этой должности он ушел, когда заболел
тифом, а после выздоровления его включили в "инициатив-
ную комиссию", о которой мы писали выше.
Смерти Задова требовали очень влиятельные люди: Алек-
сей Марченко, Пузанов, Левка Голик, начальник махновской
контрразведки. По тем горячим временам схлопотать бы
Левке Задову пулю от своих, то есть от махновцев, и закон-
чилась бы его молодая жизнь в украинском селе Туркенцовка.
Но его спасла Галина Андреевна Кузьменко. "Мать" Галина
вместе с Левой работала в комиссии контрразведки, которая
ведала жизнью и смертью "клиентов" (это когда контрраз-
ведку лишили карательных функций и она не могла больше
убивать без разрешения). Тогда она его и узнала хорошо,
прониклась к нему доверием и симпатией. Влиятельная
супруга батьки вступилась за него, и это решило дело.
В одном из следственных документов НКВД Л. Н. Зинь-
ковский-Задов фигурирует как близкий личный друг жены
Махно — Галины. Не делаю никаких намеков: за что купил,
за то и продаю.
Вот что в 1924 году писал И. Тепер (Гордеев), идейный
анархист-коммунист, перебежавший потом к большевикам:
"Были случаи, когда только представители от сходов могли
вырвать из-под рук Гаврюши и Левки (махновских палачей)
председателей комнезамов, готовых уже к рубке".
Признайтесь, читатель, что встретив в этих строчках имя
Левки, вы без колебаний решили, что речь идет о Зиньков-
ском-Задове. (Псевдоним "Зиньковский" Лева взял себе после
освобождения из тюрьмы в семнадцатом). А собственно,
82
почему? Ведь здесь, может быть, имеется в виду другой
Левка — Голик. Более того: именно Голик возглавлял, как
мы уже упомянули, махновскую контрразведку, а не Зинь-
ковский-Задов, который этот пост никогда не занимал.
Но капризная дама — слава — прилипла к Левке Задову,
не оторвать. По сей день.
Даже Петр Аршинов, сам участник махновщины и ее
осведомленный историк, называет Л. Зиньковского-Задова,
явно желая ему польстить, начальником армейской контрраз-
ведки, что не соответствует действительности.
"В Екатеринославе... Левке из-за недостатка времени
приходилось своими собственными руками давить белогвар-
дейских офицеров, вместо того, чтобы расстреливать их", —
пишет все тот же И. Тепер, и мы снова не сомневаемся: это
не Левка Голик, а Левка Задов.
А как же иначе думать, если этот автор в своей книге
"Махно. От "идейного анархизма" к стопам румынского
короля" (Киев, 1924) на странице 77 утверждает: "Существо-
вала еще так называемая контрразведка, которую возглавля-
ли два брата — Левка и Данька, оба евреи, оба старые
уголовные, услугами которых еще в дореволюционное время
пользовались анархисты при экспроприациях".
Все было не совсем так, как излагает Тепер. Этот автор
вообще отличается пристрастием к припискам. Так он в той
же книге приписал Левке Задову честь убийства атамана
Григорьева. Цитирую: "Сам убийца (Григорьева. — Л. Я.),
знаменитый махновский палач Левка Задов, вдохновитель
контрразведки, рассказывал мне этот эпизод, и из его рассказа
вскрывалась истинная подоплека этого убийства. "Он мешал,
и батько приказал его снять" (с. 40).
Л. Н. Зиньковский-Задов не протестовал ни против того,
что ему приписывают ликвидацию атамана Григорьева (что
может сойти за подвиг), ни против того, что его называют
уголовником и палачом. Впрочем, в 1924 году, когда вышла
книга И. Тепера, он был еще в Румынии или, перейдя
государственную границу СССР, уже сидел в советской
тюрьме. Но он не протестовал ни в 1927, когда вышла книга
М. Кубанина "Махновщина", где Л. Зиньковский предстает
в неприглядном свете как человек, на котором много
безвинной крови, ни в 1928, когда В. Руднев в своей книге
повторил слова Тепера о палаче Задове, ни в 1933-м, когда
С. Черномордик (П. Ларионов) в книге "Махно и махнов-
щина" привел его фамилию с теми же позорными эпитета-
ми.
Видимо, нечем было крыть.
83
Когда в январе 1990 года дело Льва Николаевича Зинь-
ковского-Задова было пересмотрено, и его реабилитировали,
в периодике появились статьи об этом сенсационном событии,
неприкрыто идеализировавшие невинно пострадавшего ге-
роя-чекиста. Слов нет, никаким румынским или еще каким-
нибудь шпионом Зиньковский, конечно, не был. И высокий
суд пришел к совершенно справедливому выводу, что все
обвинения в адрес полковника госбезопасности, ответствен-
ного работника иностранного отдела в городе Одессе безосно-
вательны.
Но вот я читаю обвинительное заключение по делу Ежова
Николая Ивановича. Да-да, того самого, который в 1937 году
взял страну в "ежовые рукавицы": "Изобличен в изменни-
ческих, шпионских связях с кругами Польши, Германии,
Англии, Японии. Запутавшись в своих многолетних связях
с иностранными разведками и начав с узко шпионских
функций передачи им сведений, представляющих специально
охраняемую государственную тайну СССР, Ежов затем по
поручению правительственных кругов Германии и Польши
перешел к более широкой изменнической работе, возглавив
в 1936 году антисоветский заговор в НКВД и установив
контакт с нелегально-заговорщицкой организацией в РККА".
(Совершенно секретно. 1992, № 4. С. 6—7).
Здесь каждое слово —ложь. Никаким шпионом Н. И. Ежов
не был, никакие сведения кругам Польши, Германии, Англии
и Японии, конечно, не передавал, а контакт с нелегально-за-
говорщицкой организацией в РККА установить не мог, пос-
кольку таковой в природе не существовало. Так что есть все
основания Ежова Николая Ивановича, пунктуально испол-
нявшего волю Сталина и уничтожившего миллионы людей,
реабилитировать, потому что приведенное выше обвинение
очевидно безосновательно. И, таким образом, зачислить Ни-
колая Ивановича в жертвы незаконных сталинских репрес-
сий.
Помню, как летом 1953 года студентом университета,
"когда легковерен и молод я был", услышал об аресте "же-
лезного Лаврентия". Даже тогда мне, основательно, но не
полностью оболваненному большевистской идеологией и про-
пагандой, абсолютной и несомненной ложью показалось ут-
верждение, что Берия — агент империализма и английский
(кажется, так это тогда формулировалось) шпион. Так что
есть законный повод для реабилитации, во всяком случае для
снятия с Лаврентия Павловича хотя бы этого обвинения.
Однако никому не приходит в голову прославлять Ежова
и Берия в качестве компенсации за то, что их в известной
84
степени оклеветали, обвинив в том, в чем они виновны не
были.
Конечно, моему герою никак не сравниться с упомянутыми
выше злодеями невиданных в истории масштабов. Но вот
после реабилитации публикуется в печати отзыв о Леве Задове
Е. П. Орлова. Последний входил в десятку молодцов, состав-
лявших контрразведку 1-го Донецкого корпуса махновской
армии. В том же девятнадцатом году Орлов перебежал к
красным и сумел — дай ему Бог — благополучно дожить до
наших дней. Так вот, в прежнем своем начальнике Л. Н.
Зиньковском-Задове Е. П. Орлов отмечает массу достоинств:
порядочность, честность, справедливость и человечность.
(См.: Военно-исторический журнал. 1991. № 11. С. 72).
Но несколько ранее в руки совкового читателя попал 1
том антологии "Литература русского зарубежья", и там он
прочитал такие строки: "Случайно застигнутая у моста
женщина с девочкой, оказавшаяся женой какого-то не
местного профессора, успевшего уйти с добровольцами,
была отправлена в махновскую контрразведку, и когда Лева
Задов, начальник контрразведки, услышал, что муж ее там,
на той стороне, он сразу в упор пальнул из тяжелого нагана.
Не зная, как поступить с рыдавшим над трупом матери
ребенком, Задов произвел еще один выстрел, и у трупа
матери калачиком навеки свернулся минуту назад плакав-
ший ребенок".
Эти строки написал в Берлине 20 июля 1922 года Зиновий
Юрьевич Арбатов (Екатеринослав в 1917—1922 годах. Лите-
ратура русского зарубежья. М., 1990. Т. 1. С. 102).
Левка Задов, вручную душивший деникинских офицеров,
чтобы, видимо, сэкономить боеприпасы, на этот раз патронов
не пожалел.
Конечно, Юрий Арбатов при этой расправе лично не
присутствовал. Он слышал разговоры в Екатеринославе о
"подвигах" Левы Задова, и никакой порядочный суд не
принял бы его рассказ за действительный факт. И все же,
все же, все же...
Н. Л. Анисимов и В. Г. Опоков пишут, что Виктор Белаш
дал на допросах в ОГПУ показания, ставшие для Л. Н.
Зиньковского-Задова роковыми.
Петр Аршинов в своей "Истории..." сообщает о Белаше:
"Захвачен большевиками в 1921 году. Судьба неизвестна".
Теперь известно, что на допросах он дал показания,
представляющие собой по объему солидную книгу. Я этих
показаний не читал, кроме отрывка, опубликованного в
третьем номере журнала "Літопис революції" за 1928 год. Да
85
еще цитат из покоящихся в архивах его показаний, приве-
денных в публикациях о махновщине.
Полностью согласен с авторами очерка "Слуга анархии и
порядка", у которых сложилось мнение, что долгое время
махновщина изучалась и оценивалась по следственным по-
казаниям одного человека — В. Ф. Белаша. "Конечно, —
пишут Н. Л. Анисимов и В. Г. Опоков, — за 30 месяцев
нахождения в заключении и под следствием можно нагово-
рить всякого, можно припомнить немало подробностей. Но
то, что изложил двадцативосьмилетний малограмотный мах-
новский командир, пожалуй, не под силу подготовленному
историку и летописцу. Он не только отразил преступный путь
войска Махно по различным губерниям Украины и России в
течение нескольких лет, но и с педантизмом и кропотливостью
доки-бухгалтера подсчитал и изложил на бумаге все, что за
это время было украдено, разграблено, сожжено, пожалуй,
в каждом уезде, в каждой волости. В протоколе допроса
поражает обилие фамилий и цифр расстрелянных и обесче-
щенных граждан. Просто по памяти такой обстоятельный
"отчет" составить невозможно, для этого нужна справочная
литература или услужливая помощь следовательского аппа-
рата. Конечно, многое Белаш знал, многое запомнил. Но
основную работу выполнили следователи, а от обвиняемого
требовалось только со всем согласиться и подписать этот
многостраничный обвинительный приговор махновщине".
Виктор Белаш, человек изумительной храбрости и бес-
страшия в бою, подписал все, что сочинили его "соавторы".
Да и все махновцы, оказавшиеся в руках ОГПУ-НКВД "рас-
кололись", насколько мне известно, и стали либо открытыми
сотрудниками этих органов, либо сексотами.
Виктор Белаш подписал и в 1924 году был выпущен из
тюрьмы. Два месяца он находился на поруках, а затем
состоялся суд, по приговору которого его сослали в Туркестан
на три года. Далее мы узнали из показаний Ивана Лепетченко
на допросе в Мариуполе в 1935 году, что Белаш живет и
работает в Краснодаре. Вряд ли такой человек, как Белаш,
мог пережить тридцать седьмой год, но покладистостью на
допросах и прогрессивными, как утверждает И. Тепер (и я
этому очень верю), взглядами в махновском движении он
продлил свою жизнь.
С такой же осторожностью, уверен, надо относиться к
"воспоминаниям" Алексея Чубенко в следственной камере
ОГПУ: у него тоже были "соавторы". И все же, думаю, что в
показаниях Виктора Федоровича Белаша против Левы Задова
больших преувеличений не было.
86
Конечно, в 1938 году Л. Н. Зиньковский-Задов не подлежал
суду за махновские деяния, так как еще 2 ноября 1927 года
постановлением Президиума ЦИК СССР "Об амнистии" мах-
новцев освободили от ответственности за действия во время
гражданской войны.
Но амнистия не реабилитация. Это отпущение грехов,
прощение, но не констатация того, что состава преступления
не было.
Преступления были, и еще какие.
Но, чтобы правильно понять и события, и поступки,
которые совершались "на той далекой, на гражданской", мы
должны судить о них в контексте времени. Ведь тогда не
только Ленин считал, что революцию в белых перчатках не
делают. Точно такого же мнения придерживались и мах-
новцы. Да и контрреволюцию делали, обходясь без этой
детали аристократического туалета: тому в истории белого
движения "мы тьму примеров слышим".
Вот, например, каким вошел в "Историю махновского
движения" Калашников, тот самый, у которого Лева Задов
был начальником корпусной контрразведки. Очень молодой
повстанец. Сын рабочего. Окончил низшее городское учили-
ще. С 1917 года — секретарь гуляйпольской организации
анархистов-коммунистов. Необычайно смелый и талантли-
вый командир. Главный организатор переворота среди крас-
ных войск на Новом Буге летом 1919 года. Командовал 1-й
бригадой, а затем 1-м Донецким корпусом махновской армии.
Летом 1920 года в бою с красными был убит попавшим в него
артиллерийским снарядом. Осталась жена, ребенок.
А вот что об этом герое-махновце пишет В. Руднев в книге
"Махновщина". Когда Калашников командовал 7-м полком
и взял Бердянск, то учинил там пытки и издевательства:
выкалывал пленным глаза вилкой, резал перочинным ножом,
привязывал пленных к столбу и взрывал бомбами (то есть
ручными гранатами).
А сами махновцы могли бы рассказать, как белые
раздели донага их товарища, положили его, связанного, на
железный лист и, постепенно подливая масло, заживо его
зажарили.
И нынче, в сентябре 1992 года, когда я пишу эту книгу в
русской деревенской избе, репродуктор бесстрастно расска-
зывает о том, как за хребтом Кавказа вооруженные люди
ворвались в курортный причерноморский город, и сразу же
начались дикие грабежи и насилия. Как изящно выразился
один корреспондент: "некорректное" отношение вооружен-
ных людей к мирному населению.
87
Какая страшная вещь— гражданская война! А об ужасах,
которые творились "на той далекой, на гражданской", мы и
по сей день знаем чуть-чуть. Слишком долго нам подавали
ту братоубийственную бойню в обольстительной романтиче-
ской дымке. Теперь она рассеялась, и мы увидели, что хороши
были все: и белые, и красные, и зеленые, и махновцы, и
григорьевцы, и петлюровцы.
И что интересно: творились эти немыслимо, невыразимо
жестокие дела во имя счастья народа, его светлого будущего,
полной социальной справедливости и других не менее благо-
родных идей.
Когда Маяковский, строкой, "нигде не бывшею в найме",
прославлял "октябрьское руганое и пропетое, пробитое пуля-
ми знамя", это я еще понимаю: он сознательно "поставил
свое перо на услужение большевистской партии". Но Есенин...
Он, так проницательно предвидевший грядущее раскресть-
янивание, конец деревни, он, столь скептически относивший-
ся к большевикам, с несомненной искренностью писал: "Я
тем завидую, кто жизнь провел в бою, кто защищал великую
идею. А я, сгубивший молодость свою, воспоминаний даже
не имею".
Левка Задов тоже был убежден, что "защищает великую
идею", и воспоминаний у него накопилось более чем доста-
точно.
Еще Дмитрий Фурманов, помнится, задумывался над
вопросом, почему люди, не менее умные, храбрые, талантли-
вые, чем Чапаев, имевшие не меньше, а может, и больше
военных заслуг и подвигов, не стали легендарными, как
Василий Иванович. Вот и я пытаюсь понять, но не могу
объяснить, почему народная память не сохранила имя на-
чальника деникинского Освага (осведомительное агентство),
где работали костоломы почище махновских контрразведчи-
ков. Почему нет рассказов и легенд о палачах ЧК, которые
тоже были неплохими специалистами по части пыток и
зверств? Почему так наглухо забыт Левка Голик, подлинный
начальник махновской разведки, на счету которого было
вполне достаточно "подвигов"? А вот имя Левки Задова живет
и пользуется пусть печальной, но известностью и по сей день.
Неужели только благодаря таланту Алексея Толстого и эк-
ранизации его трилогии?
Но проследим путь нашего героя до конца.
Лева Задов был рядом с батькой на всех извилистых путях
его походов и судьбы. Постоянно держа возле себя Даньку,
младшего брата, он вместе с махновской армией совершил
головокружительный рейд по деникинским тылам и "строил"
88
анархическую "безвластную республику" со столицей в Ека-
теринославе.
Когда красные, разгромив Деникина при весьма сущес-
твенной помощи украинских повстанцев, вернулись, они
по-прежнему враждебно отнеслись к махновцам. Армия бать-
ки побеждена была сыпным тифом, она больше не существо-
вала. Лева и Даня Задовы были в числе 40—50 человек,
которые спасли больного тифом батьку. Когда Нестора Ива-
новича устроили в надежном безопасном месте, братья дви-
нулись в Юзовку.
Лева прятался у сестры, а Даня — у матери. Недели через
две из уголовного розыска пришли два человека и арестовали
Даню. Любопытная деталь: не чекисты пришли, а из угро-
зыска. Даньке не было еще и 22 лет, но жизненного опыта
он поднакопил порядочно. По дороге в отделение милиции
он пообещал своим "ангелам-хранителям" хорошее возна-
граждение. Если они его отпустят, он выроет махновские
клады и — век свободы не видать — принесет им. И Даньку
отпустили, не доведя до милиции.
Он — немедленно к старшему брату. Ранней весной 1920
года они оба снова были у Махно.
Осенью того года после примирения батьки с советской
властью братья участвовали в разгроме Врангеля. Для опе-
рации в Крыму Махно выделил две группы: кавалерийскую
и пехотную. Последней командовал Петренко, а Лева Задов
был назначен ее комендантом. Что это за должность такая,
сказать трудно. Особистом, что ли, был при пехотной группе
Лева Задов, или своеобразным комиссаром? Но факт: Сиваш
он форсировал, в боях участвовал, Когда же Фрунзе, веро-
ломно нарушив условия договора, начал разоружать махнов-
цев, Лева вместе с группой бойцов (среди них был и Данька)
сумел вырваться из Крыма. В чем в чем, а в мужестве и отваге
Леве Задову никто не отказывал. Только в декабре 1920 года
он добрался со своей группой в махновские места и присое-
динился к Нестору Ивановичу.
В метаниях Махно по Украине и России после того, как
советская власть в третий раз объявила его вне закона, братья
Задовы были рядом с батькой, как никогда раньше. Нестор
Иванович сам писал, что Зиньковский выносил его, раненого,
из огня "почти на руках", что последние сотни Километров
он находился под неусыпной охраной своего верного сорат-
ника.
В книге М. Кубанина "Махновщина" имеются такие строки:
"6/III (1921 г.) в с. Белоцерковке Бердянского уезда
Запорожской губернии по распоряжению Зиньковского (на-
89
чальник контрразведки. — М. К.) изрублено два милиционера
и 1 предкомнезаможа.
14/III в Мелитопольском уезде, в с. Рубашевке, по распо-
ряжению Зиньковского и жены Махно убит один председатель
комнезаможных и три милиционера.
27/III в с. Ивановке Криворожского уезда по распоряже-
нию Зиньковского были изрублены 1 предкомнезаможа и 2
милиционера.
30/III в с. Вырбове Б. Токмакского уезда Запорожской
губернии до распоряжению Зиньковского и Галины (жены
Махно) расстреляны 1 комнезама и 2 совработника...
12/VII в с. Андреевке Гришинского уезда изрублены по
распоряжению Махно и Зиньковского 1 комнезаможник и 1
милиционер..."
Н. Л. Анисимов и В. Г. Опоков подвергают сомнению
достоверность этих фактов. Явно пытаясь идеализировать
реабилитированного "героя-чекиста", С. Турченко в статье
"Лев Задов — в литературе и жизни" ("Красная звезда" от 3
февраля 1990 г.) пишет: "Нужно сказать, что против него ни
в одном деле нет конкретных доказанных обвинений в звер-
ствах и убийствах".
Но вот что писал уже в эмиграции Нестор Иванович,
хорошо информированный о делах своей контрразведки:
"Отрицали ли когда-нибудь повстанцы-махновцы то, что
они на своем пути уничтожали иногда большевистских аген-
тов по продразверстке, а также милиционеров и председате-
лей?.. Я заявляю — нет! Повстанцы-махновцы никогда этого
не отрицали и не намеревались отрицать. Наоборот, они всегда
говорили — да, мы агентов по продразверстке убивали, да,
мы председателей кое-где на своем пути расстреливали, как
расстреливали мы также и только кое-где и милиционеров.
Но расстреливали мы их совсем не за то, что они агенты по
продразверстке, председатели комнезаможных и милиционе-
ры из рядов бедноты... За выслеживание и указание чекист-
ским отрядам лечившихся по деревням раненых и больных
махновцев и сочувствовавших махновскому движению тру-
жеников-крестьян мы их уничтожали".
28 августа 1921 года израненный Махно с небольшим
отрядом в 77 человек подошел к Днестру, пограничной в то
время реке между СССР и Румынией. И здесь снова отличился
Лева Задов. Переодевшись красноармейцем, он отвлек вни-
мание пограничников, которых ловко обезоружили. Между
городком Каменка и селом Подойница махновцы вплавь
добрались до правого берега Днестра и сдались румынским
пограничникам.
90
Обезоруженных, их повезли сначала в Рашков, потом в
Бельцы и, наконец, в Брашов, где оборудовали лагерь для
интернированных. Исключение было сделано только для
самого Махно, его жены Галины Андреевны, да еще для
Л. Задова и его брата — им разрешили жить в Бухаресте.
Жить, однако, было не на что. Задовы добровольно отпра-
вились в лагерь для интернированных, затем попали в город
Гимеш, где работали на лесопилке. Влачили они там жалкое
существование.
А куда же делись, правомерно спросить, те сокровища,
которые, по рассказам, награбили руководители махновщи-
ны? Вот что, вольно или невольно идеализируя махновского
контрразведчика, пишет Е. Турченко в упомянутой статье:
"Но, может быть, Задов во время бегства не успел прихватить
"награбленное состояние"? Если бы оно было, то прихватил
бы. Ведь известно, что Махно перед бегством в Румынию
выкопал в лесу и забрал с собой немало ценностей, которые
позволили ему безбедно существовать в Берлине и Париже
до своей кончины в 1934 году. Видимо, Лева Задов был
все-таки не того поля ягода".
Просто поразительно, как наш пишущий брат падок под-
хватывать на лету легенды и с легкостью в мыслях необык-
новенной выдавать их за подлинные факты и тем самым
самому творить легенды. Кто же не знает, что вождь кресть-
янской войны на Украине в эмиграции бедствовал и умер в
нищете?
Но клады были. И немалые. И уж кто-кто, а Лева Задов
знал место их захоронения. Однако перед бегством за рубеж
махновский отряд подвергался такому беспощадному пре-
следованию, что не в воле батьки было выйти к месту зарытых
сокровищ.
В 1924 году румынская сигуранца создала террористичес-
кую группу для заброски ее в СССР. Л. Н. Зиньковский-Задов
согласился эту группу возглавить. Переправившись через
Днестр, Задов воскликнул:
— Ребята, ну его к черту, этот террор. Пошли сдаваться.
С братьями Задовыми — Зиньковским и Зотовым (в
Румынии Даня взял себе этот псевдоним) — чекисты обошлись
более чем любезно. Подержали, правда, немного в тюрьме:
потерпите, пока проверим ваши показания. Через каких-ни-
будь три месяца освободили. Мало того: обеспечили жильем,
трудоустроили. На приличные должности с неплохим жало-
ванием. И где? В ГПУ.
Невероятно!
Но — факт.
91
Человеку с такой громкой известностью на Украине, какой
пользовался Лева Задов, сразу же "за просто так" простили
все прегрешения против советской власти!
В этом интригующем месте нашего повествования я дол-
жен рассказать о человеке, с которым в 70-е годы, наезжая
в Кишинев, вел знакомство. Этот человек, Алексей Самойло-
вич Яроцкий, попал на Колыму не в классическом тридцать
седьмом, а гораздо раньше, и провел в том благословенном
краю лет двадцать пять, если не больше. Он поражал меня
сильным характером, аналитическим умом и энциклопеди-
ческой осведомленностью о людях и событиях, на упоминание
которых в те времена был наложен строжайший запрет. Меня
поразили его мемуары — четыре общие тетради, исписанные
убористым почерком. Он слушал "из-за бугра" "Архипелаг..."
не во всем был согласен с Солженицыным и называл мне
имена других авторов, тоже пишущих о лагерных мытар-
ствах. Когда наступила горбачевская гласность, я встретил в
"Крутом горизонте" Лидии Гинсбург фамилию Яроцкого,
затем у Анатолия Жигулина.
Мы подолгу беседовали с Алексеем Самойловичем на
различные темы, в том числе и о Махно, которым я уже в те
годы интересовался. Однажды Алексей Самойлович сказал
мне:
— Знаете ли вы, что Левка Задов купил себе теплое
местечко в ГПУ—НКВД, выдав чекистам места, где были
захоронены клады батьки Махно?
Что Нестор Иванович в бытность свою в Париже пытался
"выцарапать" с Украины запрятанные там сокровища — это
неопровержимый факт. Что с этой целью посылал он в родные
места верных людей — тоже факт доказанный: об этом
читатель может подробней узнать из главы "Личный тело-
хранитель". Так столь ли уж невероятно предположение, что
батько такое же поручение дал и верному Левке Задову.
Правда, Зиньковский утверждал, что после бегства Нес-
тора Ивановича в Польшу, после того, как тот осел в Париже,
никаких контактов с батькой он не имел. Это неправда. С
Аршиновым, жившим в Берлине, он переписывался. Через
Аршинова многие махновцы узнали адрес Зиньковского.
Наконец, прежде, чем принять предложение румынской
сигуранцы, Лев Николаевич написал своему "близкому лич-
ному другу" Галине Андреевне Кузьменко и получил от нее
ответ.
Но если даже Зиньковский-Задов перешел 9 июня 1924
года советскую границу, не имея деликатного поручения
Махно, а лишь с единственной целью вернуться на родину и
92
там легализоваться, он был, несомненно, тем человеком,
который знал, где укрыты махновские сокровища. И совер-
шенно определенно знал, что взять их с собой Махно не смог.
Поручиться, что версия, которую сообщил мне Алексей
Самойлович Яроцкий, не легенда, а факт, я не могу, но
представляется более чем вероятным, что великодушие че-
кистов себе и своему брату Зиньковский-Задов купил, выдав
ОГПУ махновские клады.
Что же было дальше?
Лев Николаевич Зиньковский оказался способным чекис-
том, в Одессе ведал заграничной разведывательной сетью,
раскрыл несколько групп террористов. Не липовых, а всам-
делишных.
Вот список его поощрений. 1929 год. Благодарность ГПУ
УССР и денежная премия за ликвидацию крупного дивер-
санта. Зиньковский брал его лично и был при этом ранен в
руку. В том же году ему вручили маузер с золотой монограм-
мой: "За боевые заслуги". Через три года Одесский облиспол-
ком награждает его именным боевым оружием — за активную
и беспощадную борьбу с контрреволюцией. 1934 год. Денеж-
ное вознаграждение за ликвидацию группы террористов.
Его арестовали 3 сентября 1937 года. Обвинили в связях
с иностранными разведками, прежде всего с румынской.
Однако никаких доказательств следствие представить не
сумело. Даже такой нецеремонившийся орган, как Особое
совещание НКВД СССР, не утвердил обвинение и направил
дело на доследование. Тогда следователь Я. М. Шаев-Шнайдер
применил к Зиньковскому "особые методы".
Я пишу эту книгу не в безвоздушном пространстве и о
бурлящей в наши дни волне антисемитизма знаю не пона-
слышке. Понимаю, что многие страницы рассказа о Леве
Задове доставят тем же "памятникам" достаточно поводов и
для зубоскальства, и для злопыхательства. Тем "памятни-
кам", которые считают, что во всех бедах России виноваты
евреи. И только евреи.
В очерке "Слуга анархии и порядка" описывается окру-
жение Зиньковского-чекиста. Воспользуюсь словами вышед-
шего ныне из моды Маяковского: "Какой однообразнейший
пейзаж". Сплошные евреи. Ни одного "инородца", то есть
украинца или русского. И все, разумеется, мерзавцы и
негодяи.
Я не склонен думать, что авторы очерка, откровенно
берущие под защиту своего героя, "малограмотного еврейско-
го парня", как они выражаются, тенденциозно подбирали
фамилии. Еще меньше я склонен встать на защиту доблестных
93
чекистов 30-х годов. Но не могу не заметить: евреями они
себя не ощущали.
Когда вскоре после Октябрьского переворота делегация
питерских евреев пришла к Троцкому за защитой, как раньше
они искали ее у Николая II через Арона Симановича, лучшего
друга "старца" Распутина, Лев Давидович им заявил: "Я не
еврей, я интернационалист".
Таковыми ощущали себя в революции евреи — комиссары
и чекисты, большевики и комсомольцы. Вместе с миллионами
Макарами Нагульновыми они убежденно служили мировой
революции и нетерпеливо "ее, любушку, дожидались".
В делах ныне реабилитированных, о которых писал и
продолжаю писать, я не раз видел евреев по разные стороны
чекистского стола. Вот, например, Рабинович — не из еврей-
ских анекдотов, а реальный чекист 30-х годов — устраивает
очную ставку Я. С. Гугелю, первому директору "Азовстали",
с первым секретарем Мариупольского горкома партии А. Г.
Дисконтовым. И вот в следственной камере четыре еврея,
четыре коммуниста: Гугель и Дисконтов, с одной стороны, и
их палачи Рабинович и Авербух — с другой.
Тогда Сталин еще был интернационалистом, это потом он
станет классифицировать свои жертвы по национальному
признаку, это позже "он мог на целые народы обрушить свой
верховный гнев". Но и тогда уже началась "деевреизация",
как выразился один мой знакомый, руководящих кадров.
Вслед за Гугелем и Дисконтовым расстреляны были и Раби-
нович с Авербухом. Потом уже, после Гитлера, Сталин
задумается над "окончательным решением еврейского вопро-
са". Но тогда одним евреям в НКВД еще доверяли подводить
под расстрел других евреев.
Следователь Я.М. Шаев-Шнайдер применил "особые ме-
тоды", и Лев Зиньковский признал, что он работал на ру-
мынскую, английскую и еще какие-то разведки.
Самого Шаева-Шнайдера расстреляли в 1939-м, установив,
что тот занимался фальсификацией следственных дел. Но к
тому времени Лев Николаевич Зиньковский-Задов уже год
лежал, расстрелянный, в земле сырой.
Что стало с семьей Л. Н. Зиньковского-Задова, догадаться
нетрудно. Для начала его жену с двумя детьми и старушкой-
матерью выселили из трехкомнатной квартиры. Потом Веру
Матвеенко, уроженку Кременчуга, посадили в тюрьму, но, к
счастью, вскоре — через год с лишним — выпустили. Ее и
Левы Задова дочь Алла погибла в бою, защищая Севастополь.
А сын — Вадим Львович, 1926 года рождения, с января сорок
четвертого в Красной Армии, фронтовик, награжден боевыми
94
орденами. В 1977 году Вадим Львович Зиньковский вышел
в отставку в звании полковника. Два его сына — внуки
Левы Задова — стали офицерами Советской Армии. Под-
растают четыре правнука Льва Николаевича Зиньковско-
го-Задова.
Да, ничего не скажешь, с историей нашей не соскучишься,
если вчерашние герои оказываются преступниками, а прес-
тупники (в кавычках и без) — героями.
Не скрою, мне трудно избавиться от стереотипов, полу-
ченных в юности, в частности при чтении трилогии Алексея
Толстого.
Я рассказал все (почти все), что знаю о Леве Задове, и
пусть теперь читатель сам себе ответит на вопрос, вынесен-
ный в заголовок этой главы.
* * *
Путь этой книги к печатному станку оказался длинней,
чем я поначалу предполагал. Но нет худа без добра. Пока
рукопись дожидалась своего часа, "Дружба народов" (1993,
№ 1) напечатала повесть "Жили-были дед да баба". Корни ее
автора, известного писателя Леонида Лиходеева, — в еврей-
ской земледельческой колонии Сладководная. Оттуда его дед
вынужден бежать во время гражданской войны в Юзовку.
Вот что, в частности, пишет Леонид Лиходеев в своей авто-
биографической повести:
"Махновцев же или, по крайней мере, близких к ним
людей я помню детской памятью.
Наискосок от деда жили какие-то Задовы. Они жили
рядом с Маринкиным домом и занимались извозом, как
мой дед. Говорили, что Задовы — отец и братья знаменитого
Левки Задова — начальника махновской контрразведки.
Так это было или нет, я не знаю. Но чем дальше, тем
утвердительней звучала эта версия. Старик умер, кажется
в тот же год, что и мой дед. (На самом деле в 1910 году,
как мы уже писали.— Л. Я.). А братья дожили до сорок
первого года, когда городок наш заняли немцы... Задовы
не эвакуировались. А через две недели по приходе немцы
собрали евреев и повели их кидать в шурф шахты Кали-
нинской. Повели они и Задовых. И тогда Гришка Задов,
прежде чем свалиться в шурф, сграбастал двух конвоиров
и кинулся вместе с ними. Это были неукротимые люди,
которые задорого отдавали свою жизнь..."
Когда в "Приазовском рабочем" был опубликован мой
очерк о Л. Н. Зиньковском, мне позвонил один читатель и
сообщил, что потомки Задовых и по сей день живут в Донецке
в районе Южного автовокзала. Значит, не все Задовы остались
95
в оккупированном Донецке. Некоторые из них, пройдя через
фронт, эвакуацию, все же выжили.
Разыскивать Задовых-дончан я, признаться, не стал.
ПОСТСКРИПТУМ.
Моя книга росла, как дерево: прибавляя новые кольца.
Вот что я прочитал в "Труде" 24 июня 1993 г.: "Полковник
в отставке Вадим Львович Зиньковский: "...Я в жизни не
слышал от отца не только матерщины, но даже грубого слова.
На примере отца и матери я не представлял, что в семьях
могут быть скандалы. Отец был только "Левушка", мама —
"Верунчик" или "Верусик". Он был добр и ласков — такое
не забывается никогда, хотя ни силушкой, ни характером
твердым судьба его не обидела".
Из статьи Николая Седова я узнал также, что старший
внук Левы Задова — Валерий — недавно получил звание
полковника. Это уже третий полковник в семье Зиньковских,
но — не последний: Сергей, младший внук Левы Задова, уже
подполковник. А ведь подрастают еще и правнуки...
"Сын за отца не отвечает", — сказал Иосиф Виссарионович.
На самом деле приходилось отвечать и за дедушку, и за
прадедушку. Тем не менее само по себе изречение вождя и
учителя справедливо.
А вот отец за сына — отвечает. Всегда. Задумывался ли
над этим Иосиф Виссарионович? Не отец народов, а отец
Василия Иосифовича и Светланы Иосифовны? Не знаю. Но
нам известны итоги, и они печальны.
Обычно я свыкаюсь с героями своих книг, даже, не скрою,
влюбляюсь в них. После книги "Пушкин в Приазовье" мне
трудно было перейти к Махно: великий поэт и предводитель
крестьянской войны — "дистанция огромного размера". Боль-
шевистские источники рисовали отталкивающий образ батько.
Но вот расширился круг источников, и я понял логику Махно
(а она присутствует в его действиях), привязался к нему.
А Василия Куриленко полюбил сразу, красивого, талант-
ливого, отважного. Полюбил Виктора Белаша и горько разо-
чаровался в нем — об этом речь еще впереди. Жалею, что не
могу собрать материал о Трофиме Вдовиченко, крестьянине
из Новоспасовки Мариупольского уезда. Он командовал кор-
пусом махновской армии и взял Мариуполь 14 октября 1919
года, чем, между прочим, спас Ленина и Троцкого, потому
что в это время Деникин подходил к Москве и вожди
пролетариата уже прятали ценности, на которые можно было
бы безбедно жить в подполье или за границей. Он был
всеобщим любимцем повстанцев, Трофим Вдовиченко.
96
А вот предубеждение против Левки Задова я сохранял
долго, почти до самого конца работы над книгой. И только
теперь помягчел к нему душой. В частности, за детей и внуков
его. Могучий корень был у Льва Николаевича Зиньковского,
крепкие ветви и хорошие плоды дало его дерево. И то, что
дети его не жалели себя на фронте, защищая Родину, то, что
внуки его служат ей верно и преданно, реабилитирует в моих
глазах Левку Задова гораздо убедительней, чем постановле-
ния самых высоких судебных инстанций.
Отец за сына отвечает. Всегда!
ПОСТПОСТКРИПТУМ.
О роли Левы Задова при переходе Днестра в Румынию
28 августа 1921 года рассказывает в своих воспоминаниях
Виктор Белаш. Сам бывший начштаба махновской армии в
том эпизоде не участвовал, значит писал по рассказам оче-
видцев, возможно, самого Л. Н. Зиньковского, с которым в
20-е годы встречался в Харькове.
"27-го августа к вечеру достигли реки Днестр.
Здесь Махно выступил с речью, в которой подвел итог и
осветил дальнейшую перспективу повстанческого движения.
Повстанцев, которые не пожелали сложить оружие и уйти
за границу, организовали в отряд и поручили (с целью отвлечь
от переправы силы красных) завязать бой северней г. Ка-
менки. Леве Задову поручалось изучить и организовать пе-
реправу.
Задов с отрядом человек в 20 выехал к реке. Вскоре они
под видом красного карательного отряда, преследующего
махновцев, сблизились с отрядом пограничников. Дабы усы-
пить бдительность пограничников, Задов кричал им: "Это вы
вызывали нас на помощь? Где махновцы? Пора кончать!"
Отряды сблизились, и махновцы без выстрела обезоружили
пограничников.
Через границу была переправлена первая пробная группа,
которая была нормально принята румынами, и после пере-
говоров с ними был дан сигнал к переходу Днестра остальными
повстанцами.
Уже у самой воды Задов снял с пальца золотое кольцо с
камнем и отдал его беременной Галине Андреевне (жене
Махно), объяснив, что это единственная ценность на весь
отряд, и, возможно, румыны не посмеют ее обыскивать, и
это, хоть как-то, на первых порах, сгладит нужду, которая
их ждет на том берегу.
А на том берегу повстанцы были обезоружены и интерни-
рованы".
97
Читатель может сравнить этот эпизод с описанием пере-
хода границы Нестором Ивановичем в повести Давида Мар-
киша "Полюшко-поле" (оно приведено в главе "Личный
телохранитель"). Писатель воспользовался правом на худо-
жественный домысел. У него в переправе через Днестр учас-
твует и известный махновец Фома Кожин. На самом деле в
том же августе 1921 года Ф. Кожин был ранен в мочевой
пузырь, под видом красноармейца сдан в советский госпиталь,
где и скончался на операционном столе.
9 сентября 1921 года в разведсводке Штаба войск Украины
сообщалось, что "из опроса местных жителей подтверждается
маршрут банды Махно, указанный в разведсводке Штабвойск-
укркрыма от 31/8. Банда, минуя населенные пункты,
лесными дорогами 28/8 подошла к Днестру и переправилась
на Румтерриторию против д. Бурсук (8 верст. юга Каменка)".
Село Бурсук входило в Вертюжанский район, тех самых
Вертюжан, где десять лет спустя после описываемых событий
родился автор этой книги. Знай он эту подробность в юности,
мог бы, пожалуй, найти людей, которые слышали хоть что-то
о переправе Махно через Днестр. Впрочем в других источни-
ках называются другие села, через которые батько ушел за
рубеж, но в основном из Каменского, соседнего — через
Днестр — с Вертюжанским.
ЛИЧНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
После гражданской войны многие бывшие махновцы осели
в Мариуполе. Помимо жителей близлежащих сел, преиму-
щественно греческих, были среди них и уроженцы получив-
шего международную известность Гуляй-Поля.
Ах, если б кто-нибудь догадался тогда записать их расска-
зы, сколько сюжетов дошло бы до нас, да таких, что ни в
жизнь не придумаешь, хоть проглоти перо.
Но небезопасно это было, и бывшие махновцы помалки-
вали, хоть и вышла им полная амнистия к десятилетию
Октябрьского переворота.
Когда приближалось пятидесятилетие Великого Октября
(так — оба слова с большой буквы — обозначал это истори-
ческое событие и Нестор Иванович. Он только считал, что
большевики предали Октябрь, исказили его идеалы), задумали
в Мариуполе выпустить книгу-газету "Октябрьское эхо". Ини-
циатором был тогдашний заместитель редактора "Приазов-
ского рабочего" Николай Митрофанович Сальков. Мы (меня
тоже привлекли к этой работе) должны были выпустить 50
номеров газеты, полностью посвященных истории города. По
одной главе (газетному номеру) на каждый советский год.
Вот тогда я написал цикл очерков о старых большевиках,
членах партии с 1917—1920 годов, тех, кого в свое время
начал поднимать Никита Сергеевич Хрущев. По молодости
и неинформированности я поначалу смотрел на этих людей,
если не как на святых, то во всяком случае как на настоящих
коммунистов — "не то, что нынешнее племя".
Но однажды один из них доверительно сказал мне: "Да
все мы, мариупольские большевики, члены партии с 1917
года, побывали у Махно. И грабили, и пятки калили". От
него я впервые услышал это страшное выражение: калить
пятки. То есть прикладывать раскаленное железо к пяткам,
чтобы жертва указала, где у нее запрятаны драгоценности.
Это основательно излечило меня от романтического воспри-
ятия героев Октября.
99
Один из старых большевиков, о котором я написал очерк
"Место в строю", излагая мне свою биографию, упомянул,
что в отцовский дом после продолжительного отсутствия
он пробирался из Полог. Сегодня я бы мгновенно понял,
что человек этот побывал у батьки Махно. Но что я тогда
знал о махновщине, кроме разве строчек Маяковского:
"Били Деникина, били Махно. Так же любого с дороги
смахнем"?
В то же время написал я очерк об И. Ф. Малокуцко, члене
партии с 1919 года. Весной того года участвовал он во взятии
Мариуполя в составе 9-го полка. Сегодня все ясно: это один
из лучших полков Третьей бригады имени батьки Махно. И
командир этого Греческого, как его еще называли, полка стал
коммунистом и кавалером ордена Красного Знамени. Илья
Феопентьевич все сокрушался, что его обошли наградой, что
и в Отечественную заслужил он орден Красного Знамени,
но — "то ли в списке наградном вышла опечатка" — не дали.
Много рассказывал мне о себе Илья Феопентьевич Малокуцко,
но что он не только старый большевик, но и бывший махно-
вец — об этом, конечно, ни слова. (Вспоминаю, как счастлив
он был, когда к 50-летию Октября его тоже наградили и он
смог наконец нацепить на грудь столь обожаемый в годы его
молодости орден Красного Знамени).
Тогда же я беседовал с Саввой Алексеевичем Котесовым,
участником штурма Зимнего дворца. Пока он рассказывал о
событиях в Петрограде 1917 года, все было ясно и понятно.
Но вот вернулся он в свое греческое село Игнатьевку, что на
Мариупольщине, и началась заварушка на целых три года.
Рассказ Саввы Алексеевича об этом времени сразу стал
каким-то путаным и неконкретным: шли, отступали, под
Уманем... Сегодня я понимаю: Савва Котесов участвовал в
знаменитом бою под Перегоновкой и махновском рейде по
белогвардейским тылам, чем он мог бы законно гордиться.
Он не знал, что в Кремле в те дни уже отданы были распо-
ряжения на случай, если Деникин возьмет Москву. И если
эти распоряжения не пришлось выполнять, то потому, что
махновский рейд спас Ленина и большевиков от полного
поражения.
Савву Котесова я застал в жалкой развалюхе в Ильичев-
ском районе. Человек, бравший в семнадцатом Зимний,
громивший деникинские тылы в составе махновской армии,
воевавший с врангелевцами в составе Красной Азовской
флотилии, умирал в нищете. Но даже на смертном одре он
боялся признаться, что участвовал в героическом походе
батьки Махно.
100
В 1968 году пришел ко мне пожилой человек с просьбой
помочь ему добиться какой-то незначительной льготы. Не-
смотря на пенсионный возраст, мой гость продолжал трудить-
ся. Он работал кочегаром. "Я, — сказал он мне, — участник
штурма Зимнего дворца". Престарелый кочегар одет был,
скажем так, бедно и как-то "не внушал доверия". Во всяком
случае не был похож на победителя, который в октябре
семнадцатого взял Зимний и помог большевикам захватить
власть. Но гость протянул мне архивную справку, которая
подтверждала, что Назаренко Александр Михайлович в со-
ставе команды учебного судна "Народоволец" принимал учас-
тие в штурме Зимнего дворца.
— Александр Михайлович, что же вы молчали? Где вы
были несколько месяцев назад, когда отмечали 50-летие
Октября?
Назаренко пробормотал мне в ответ что-то невнятное.
Горком партии, который, казалось бы, должен был окружить
героя Октября вниманием и заботой, отнесся к судьбе этого
полунищего старика с полным равнодушием. Как и к судьбе
Саввы Котесова и Тихона Хромченко (последнего, правда,
после моего очерка "Матрос с "Авроры" одели в специально
для него сшитую морскую форму и затаскали по школам для
выступлений перед учащимися). Скорее всего потому, что
были все эти участники штурма Зимнего беспартийными. А
может быть, они поглубже копнули биографию Александра
Михайловича. И обратили внимание на детали, которые я в
полной мере оценил только сегодня. В июле 1919 года А. М.
Назаренко оказался на станции Помошная. То есть там, куда
Калашников привел в распоряжение Махно восставшие крас-
ноармейские части. И, значит, Александр Михайлович На-
заренко был среди тех махновцев, которые совершили леген-
дарный рейд по деникинским тылам.
Мою статью о Назаренко "Приазовский рабочий" напе-
чатал в день 51-й годовщины Октября под заглавием "Он
брал Зимний". Не знаю, помогла ли она Александру Ми-
хайловичу, — я его больше не видел. Но до сих пор помню,
как не лез он в герои и как опасался, чтобы не стали
копаться в его прошлом и не добрались до того, чем он имел
право гордиться — службой в РПА Украины (махновцев) —
Революционно-повстанческой армии в "незабываемом
1919-м".
Вскоре после моего разговора с Саввой Алексеевичем в
"Приазовском рабочем", в нашем "Октябрьском эхе", появи-
лась фотография Котесова. В полной форме матроса револю-
ционного времени. В траурной рамке... Коротенький некролог
101
(без упоминания об участии в махновщине, разумеется)
написал И. Л. Чубаров.
С Иваном Лукьяновичем читатель уже встречался на
страницах этой книги. Отряд коммуниста М. Т. Давыдова, в
котором он командовал батальоном, не раз взаимодействовал
с частями Махно. В 1967 году в ходе юбилейных октябрьских
торжеств Ивана Лукьяновича тоже наградили орденом Крас-
ного Знамени, заслуженным им, вне сомнений, еще в граж-
данскую войну. Он все ждал переоценки махновского движе-
ния, но, хотя суждено ему было завидное долголетие, так его
и не дождался.
Посчастливилось другому мариупольцу — махновцу Ми-
хаилу Антоновичу Белоконю.
Весной 1992 года позвонила мне Клавдия Кирилловна
Колодяжная, судья Ильичевского района:
— Я читала ваши публикации из цикла "Махно и махнов-
щина". Так вот, мне попался любопытный "клиент" для вас —
махновец. Старику 96 лет, но он в здравом уме и ясной памяти.
Я поехал по указанному адресу. Встречные, к которым я
обращался с расспросами, ввели меня в заблуждение. Я долго
плутал, и, когда вышел к нужному дому по улице Макара
Мазая, у меня уже не осталось времени на беседу. Я решил
приехать в выходной день и неторопливо записать рассказ
Михаила Антоновича. Теперь я был "в материале", знал и
историю, и географию махновщины, имена командиров,
названия отрядов. Я предвкушал удовольствие от встречи с
человеком, которому посчастливилось дожить до времени,
когда он мог с гордостью сказать: "Я — махновец", как
когда-то другие говорили: "Я — буденовец", "Я — чапаевец".
Но...
То выпало пасхальное воскресенье, и я счел неудобным в
такой день явиться к Михаилу Антоновичу, то привалила
двухнедельная командировка в Москву со счастливым сиде-
нием в архивах и бывшей Ленинке, то навалились другие
неотложные дела, так что к знакомому уже мне дому я
подошел только 26 июля 1992 года Никто на мой стук не
вышел. Соседка сказала мне то, чего я больше всего боялся
услышать:
— Михаил Антонович умер.
— Когда?
— 5 июля.
Узнав, зачем я его разыскиваю, посыпала мне солью рану:
— Это была ходячая энциклопедия. Он столько рассказы-
вал о Махно и том времени. До последнего дня. И все мечтал,
что к нему придет корреспондент.
102
Подробную биографию одного махновца, проживавшего в
Мариуполе, я все же узнал. Потому что старательно записали
ее следователи НКВД в 1937 году.
2.
"Братья Лепетченко — Иван и Александр — кресть-
яне с. Гуляй-Поля. Анархисты. Одни из первых
поднявшие восстание против гетманщины на
Украине. Активнейшие работники революционного
повстанчества как на фронте, так и в тылу. Алек-
сандр Лепетченко был расстрелян большевиками
весной 1920 года в Гуляй-Поле как активный и
ответственный махновец. Иван Лепетченко до пос-
леднего времени нес ответственный пост в армии
повстанцев-махновцев'.
П. Аршинов, "История махновского движения",
Берлин, 1923.
"Махно кричав: "Бий отамана! (Григорьева) — в
спину якого і без того вже гриміли постріли
Каретникова, Лепетченко, Трояна і Чалого..."
В. Ф. Верстюк, "Махновщина", Киев, 1991.
"Вместе с лошадьми полетел в воду и кучер, и
перевернулась тачанка... И тут же подбежал
Ваня Лепетченко и ухватил заднее колесо та-
чанки..."
Г. А. Кузьменко (жена Махно). Дневник. 17 марта
1920 г.
"Подъехал Фома Кожин, за ним Иван Лепетченко.
— Я ухожу, — сказал Махно (за Днестр, то есть в
Румынию. — Л. Я.). — Кто со мной — пошли.
— Не вернемся, батько? — спросил Лепетченко. —
Навсегда?
— Навсегда смерть бывает, Иван, — сказал Махно,
— ты и сам знаешь. Вернемся?
Оттуда уже не возвращаются...
...А Лепетченко Иван, свистнув сорока всадникам,
державшимся поодаль, повел их в реку галопом, как
вел третьего дня в атаку на красную пулеметную
команду в селе Николаевка".
Давид Маркиш, " Полюшко-Поле", Иерусалим,
1988.
Иван Лепетченко, упоминающийся во всех приведенных
эпиграфах, шесть лет перед своей безвременной смертью,
прожил в Мариуполе.
103
Эта моя книга о Махно и махновцах была в основном
закончена в последних числах сентября 1992 года в мертвой
русской деревне Дубник близ Ростова Великого. Здесь я
спасаюсь от буйно цветущей в Мариуполе амброзии, от
которой в августе-сентябре мне житья нет, — аллергия. В
этом благословенном для меня месте я провел замечательные
месяцы своей жизни, работая над этой и другими моими
книгами.
В ту осень оставалось мне дописать только одну главу —
о личном телохранителе Махно Иване Лепетченко. Его су-
дебное дело тогда же по моей просьбе заказала службе
безопасности в Донецке председатель Мариупольского общес-
тва "Мемориал" Галина Михайловна Захарова. Обычно СБ
старается не ссориться с "Мемориалом", к нашим просьбам
относится внимательно. На этот раз работники, имена кото-
рых мне не хочется здесь увековечивать, почему-то заарта-
чились. Несколько месяцев они вообще не отвечали, а потом
прислали отказ с невразумительной мотивировкой. Странное
дело: нынешние работники СБ даже просто по возрасту
непричастны к преступлениям своих предшественников ста-
линских времен. Казалось бы, зачем им прикрывать тех
преступников? Но вот, поди ж ты...
Письмо-протест написал я, свое требование повторила
Галина Михайловна Захарова. Еще три месяца молчания. И
вот я наконец держу в руках следственное дело № 21129-2Ф
по обвинению Лепетченко Ивана Савельевича.
Сначала я его проглотил — прочитал залпом, воображая
при этом, как я эффектно его перескажу. Ведь тут имеются
подробности, которые я не нашел ни в одном доступном мне
источнике, содержатся детали, еще не вошедшие, как принято
говорить, в научный оборот. Такие подробности ни в жизнь
не придумаешь.
По размышлении я отказался от этого замысла: пусть
говорят документы, подлинные протоколы допросов, прове-
денных в Мариуполе.
Конечно, Иван Лепетченко, получивший, как сказано в
одном месте, "домашнее образование", то есть весьма мало-
грамотный человек, отвечал на допросах иным языком, чем
изложил его ответы мариупольский следователь Владимир-
ский. И все же это документы эпохи, в них ощущается воздух,
атмосфера того времени.
Итак:
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого 1935 г., апреля месяца, 19-го дня. Уполно-
моченный ОО (особого отдела) Мариупольского горотдела
104
НКВД Сталинского (Донецкого) облотдела НКВД — Влади-
мирский, допросил в качестве обвиняемого ЛЕПЕТЧЕНКО
ИВАНА САВЕЛЬЕВИЧА, 1899 г. рождения, уроженца мес-
течка Гуляй-Поле Чубаровского района Днепропетровской
обл. По соцположению сын урядника, неимущий, украинец,
гражданства УССР, образование домашнее, женат, на военном
учете состоит как пулеметчик К-2, по профессии сапожник,
работает завмагом ОРСа завода имени Ильича № 45 и 38 (со
слов), был под следствием в 1924 г. Харьковским ГПУ
освобожден и в 1931 г. Сталинским ГПУ арестовывался и
тоже — освобожден. Беспартийный, состоит в профсоюзе
металлистов. Проживает: территория з-да Ильича, Садки,
1 район, № 8 (дом Марченко). Соц. и политич. прошлое:
телохранитель и личный адъютант Н. Махно.
Допрос начат 11 ч. 03 мин.
Допрос окончен 13 ч. 15 мин.
ВОПРОС: расскажите подробней всю вашу биографию.
ОТВЕТ: Родился 25 декабря 1899 года в м. Гуляй-Поле.
Отец мой был урядником в этом местечке. Когда мне испол-
нилось 8 лет, умер мой отец. С 11-ти до 12-ти я посещал один
год сельскую школу и с 13-ти лет поступил на работу к
сапожнику м. Гуляй-Поле гр. Белоцерковскому. У последнего
я работал два года и потом перешел на работу к одному
маляру-немцу. У него я проработал полтора года.
Позже, то есть в 1915 г., точно не помню в каком месяце,
я перешел к другому красильщику, по фамилии я его не
помню, у него я работал до 1917 года. В 1917 году я также
работал несколько месяцев у одного еврея-пекаря по фамилии
Уманский. И с этого времени я больше не работал. В 1917
году, точно месяц не помню, по возвращении из тюрьмы из
г. Москвы приехал в село Гуляй-Поле Нестор Иванович
Махно.
По прибытии в село Н. И. Махно организовал сельсовет,
Райсовет и Реввоенсовет. Также он организовал отряды, так
называемые "По спасению революции".
Я тогда по приглашению Махно — это было в 1917 г. —
поступил в этот отряд. В отряде я числился бойцом и принимал
участие, под руководством Махно, в разграблении помещи-
ков.
Имея цель на вовлечение в ряды отряда большего коли-
чества крестьян, мы раздавали отобранное у помещиков
крестьянам, чем и привлекали на нашу сторону — в отряды.
В том же году — 1917-м, ввиду усиленного наступления
на нашу территорию немцев и австрийцев, наш отряд присо-
единился к проходящему партизанскому отряду Беленкевича
105
и вместе с ним эшелонами отступили к Царицыну. (На самом
деле это произошло не в семнадцатом, а весной 1918 года. —
Л. Я.) В Царицыне весь отряд наш перешел в 14-ю Вороши-
ловскую армию, и я вместе с отрядом тоже перешел в
Ворошиловскую армию.
До 1919 г. я был в этих частях, и, когда с Царицынского
фронта армия снялась и ушла с боями на Украину до Лозовой,
меня петлюровские части (кажется, третий курень) взяли в
плен вместе с другими красноармейцами.
Точно месяц я не помню, но в это время уже таял снег и
к Лозовой подошел отряд Махно, который разгромил петлю-
ровские части и забрал много людей в плен к себе, в том числе
и меня.
Этот отряд махновцев, которые нас взяли в плен, был
организован Нестором Махно в конце (?!) 1919 года, когда он
вторично вернулся на Украину. Тогда под его руководством
было организовано несколько отрядов до 100 000 человек. (!).
Когда меня взяли махновцы в плен, т. е. отбили от
петлюровцев, это было в 1919 г., начальник штаба отряда
Горев, имени не знаю, мне предложил вместе с ним поехать
в Гуляй-Поле по месту пребывания штаба. Горев меня знал,
так как еще в 1917 году при организации первого махновского
отряда он был в Гуляй-Поле и меня запомнил.
По прибытии в Гуляй-Поле меня встретил Махно и, так
как петлюровцы меня раздели, он приказал обуть и одеть
меня. Через несколько дней Махно встретил на улице и
предложил зайти к нему в штаб, он мне предложил остаться
у него в качестве телохранителя по его личной охране. Я
согласился и остался у него, Махно, телохранителем.
1920-й год я уже служил у Махно и вместе с Махно
передвигался по всей Украине. С 1919 г. я вместе с отрядом
уже выступал против красных войск.
У Махно я, как телохранитель, пользовался большим
доверием. Не помню точно, в каком году: 1920 или 1921, но
вернее 1921-м, 28 августа, мы перешли границу на сторону
Румынии. Отступили мы к Румынии по той причине, что
Махно был 17 раз ранен и уже не был в состоянии больше
руководить отрядами. Я лично тоже вместе с Махно убыл в
Румынию.
В Румынии в г. Плоешты я был полтора меяца. Там я
служил у одного помещика. Махно был тогда в Бухаресте, и
оттуда он прислал ко мне какую-то девушку — поповскую
дочь — с запиской (от Нестора Махно), о том, чтобы у того
помещика, у которого я служил, изъял имеющееся у него
оружие и прибыл в Бухарест — в его распоряжение. Я забрал
106
болгарский наган и с этим наганом приехал в Бухарест. Махно
в Бухаресте также заимел 20-й номер браунинга. Махно там
издавал(!) мемуары, и я жил при нем — на его иждивении.
В Бухаресте меня арестовали за незаконное хранение
оружия и отправили в Торговиты, где был посажен в тюрьму.
Там я просидел четыре месяца и оттуда бежал в Бухарест на
квартиру Махно.
Спустя три дня после моего побега, Махно, я и еще 19
человек-махновцев ушли в горы "партизанствовать". За ряд
незаконных действий: изъятие оружия (обезоружение) поли-
ции румынское правительство нас всех арестовало и пере-
бросило в Польшу — это было в 1922 году.
Польское правительство нас приняло и отправило в Щел-
ковские лагеря, там мы сидели шесть месяцев. За связь Махно
с русским (советским) консульством дефензива арестовывает
нас всех, в том числе и меня, и отправляет в Варшавскую
тюрьму. Там я сидел шесть месяцев — это уже в 1923 году.
Махно, по решению суда, должен был оставить Варшаву и
выехать в Торун, и я вместе с ним выехал туда. Там я работал
сапожником.
К концу 1923 года Махно получил визу на выезд в Данциг,
а я, не имея визы, выехал в Варшаву и в консульстве получил
устное разрешение выехать в СССР — на Украину, в Гуляй-
Поле. На Украину я прибыл в начале 1924 года.
Начиная с 1925 года до 1928 года я проживал в Гуляй-Поле,
где работал сапожником, с 1928 года работал в Сталино — в
конторе Донугля, с 1931 года работал на станции Большая
Анадоль (Велико-Анадоль. — Л. Я.), кажется, с декабря я
работаю в Мариуполе на заводе Ильича, раньше коммерчес-
ким агентом, а теперь завмагом".
Среди мелких неточностей, скорее всего неумышленных,
Иван Лепетченко допустил на допросе и умышленную. Его
отец, гуляйпольский урядник, не умер, а был убит. Анархи-
стами. Более того: Нестором Махно. Так считалось, и за это
убийство будущий вождь крестьянской войны на Украине
попал в Бутырки.
Однако на самом деле в смерти урядника Савелия Лепет-
ченко Махно не был виноват. Он взял на себя вину своих
товарищей, чтобы спасти их от расстрельного приговора, так
как его самого, несовершеннолетнего на момент совершения
преступления, по тогдашним законам не могли казнить. Так
оно и получилось, и Махно заменили смертную казнь на
долголетнюю каторгу.
Вот что, в частности, говорится в донесении начальника
Екатеринославского жандармского управления в департа-
107
мент полиции от 5 сентября 1908 года "О задержании шайки
разбойников в селе Гуляй-Поле Александровского уезда":
"28 июня 1908 года в селе Гуляй-Поле, у дома Леваднева,
в убийстве урядника Лепетченко и вооруженном сопротивле-
нии полиции участвовали: оба Семенюты, Левадний, Зуй-
ченко и Шевченко, причем после того, как Лепетченко,
раненый в живот, упал, к нему подбежали Левадний и
Зуйченко, первый пристрелил раненого в голову, второй взял
у убитого браунинг" (Дружба народов. 1991. N 6. С. 111.
Публикация В. Ф. Верстюка).
У убитого осталась большая семья. Все его дети воевали
потом на стороне мнимого убийцы их отца — батьки Махно.
Мария Савельевна Лепетченко будет работать в Махновской
контрразведке. В 1919 году ее расстреляют белые. В ночь с
27 на 28 января 1920 года, когда армия Махно, скошенная
тифом и чекистским террором, уже распалась, небольшой
отряд в составе 25 человек напал в Шангарове на красноар-
мейский полк. Было убито два красноармейца. Участвовав-
ший в этом эпизоде Александр Савельевич Лепетченко был
схвачен красными и расстрелян ими. Павел Савельевич
Лепетченко стал секретарем махновского штаба, в граждан-
скую войну выжил, по словам брата на приведенном допросе
в Мариуполе, в 1935 году, проживал на станции Рутченково,
где работал коммерческим агентом. По нашим сведениям, в
тридцать седьмом расстрелян.
Тогда же Иван Савельевич показал на допросе, что его
брат Дмитрий Савельевич Лепетченко "работает где-то в
России, но где именно, не знаю". Этот, пожалуй, мог и
спастись в тридцать седьмом. Назвал он Сергея Савельевича
Лепетченко, работавшего на тот момент помощником дирек-
тора Макеевского хлебозавода. Там же, в Макеевке, жил тогда
и Алексей Савельевич Лепетченко, сменный инженер завода
имени Томского. Эти, думаю, вряд ли пережили тридцать
седьмой год.
В одном документе об Иване Лепетченко сказано: роста
высокого, сухопарый, физически сильный, молчаливый и
даже замкнутый. Проницательный Махно, умевший безоши-
бочно оценивать людей, разглядел в девятнадцатилетнем
юноше храброго и преданного телохранителя.
Мы убедились, что скупой на слова Иван Лепетченко
достаточно подробно отвечал на вопросы мариупольского
следователя. А мог бы рассказать и гораздо больше, жаль
Владимирский не поинтересовался и не расспросил его о
важнейших событиях махновщины: будучи долгое время
рядом с батькой, Лепетченко пережил с ним много, по
108
выражению "матери Галины", всяких сенсаций". В том числе
и убийство атамана Григорьева.
12 мая 1919 года в Гуляй-Поле пришла телеграмма от
Л. Б. Каменева о мятеже Григорьева. Большевикам необхо-
димо было заручиться поддержкой Махно. Если бы махновцы
объединились с григорьевцами, советской власти на Украине
пришел бы конец.
В главном махновском штабе решили фронт против Дени-
кина держать, а насчет Григорьева — подождать с решением
до выяснения обстановки. А пока в войска полетела теле-
грамма:
"Мариуполь. Полевой штаб армии,Махновцев. Копия всем
начальникам боевых участков, всем командирам полков,
батальонов, рот и взводов. Предписываю прочесть во всех
частях войск имени батьки Махно. Копия Харьков, чрезвы-
чайному уполномоченному Совета Обороны Каменеву.
Предпринять самые энергичные меры к сохранению
фронта. Ни в коем случае недопустимо ослабление внешнего
фронта революции. Честь и достоинство революционера за-
ставляют нас оставаться верными революции и народу и
распри Григорьева с большевиками из-за власти не могут
заставить нас ослабить фронт, где белогвардейцы стремятся
прорваться и поработить народ. До тех пор, пока мы не
победим общего врага в лице белого Дона, пока определенно
и твердо не ощутим завоеванную своими руками и штыками
свободу, мы останемся на своем фронте, борясь за свободу
народа, но ни в коем случае не за власть, не за подлость
политических шарлатанов.
Комбриг батько Махно.
Члены штаба (подписи)".
Н. А. Григорьев был человеком беспринципным и поли-
тически неграмотным. Бывший штабс-капитан царской ар-
мии, он сначала поддержал Центральную Раду, потом гетмана
Скоропадского, затем стал петлюровским атаманом. Тоже
ненадолго — неполных два месяца. В январе 1919 года он со
своими отрядами перешел на сторону Красной Армии. 18
февраля он вошел в состав 1-й Заднепровской дивизии Павла
Дыбенко, которую мне так и хочется назвать Мариуполь-
ской — в честь освобождения ею этого города. Но если 3-я
бригада этой дивизии наступала на Таганрог, григорьевская
1-я бригада шла на запад и добилась крупных успехов: взяла
Николаев, Херсон, Одессу.
После этих побед Григорьев отвел свою дивизию на отдых
в Елизаветград. Никого не спрашивая. 7 мая он объявил на
109
митинге свой "универсал", в котором призвал к всеукраин-
скому восстанию против советской власти. Бесчинства гри-
горьевцев сразу же приняли чудовищные размеры. Только
за два дня погрома в Елизаветграде было убито 1526 человек.
В Александрии пьяный Григорьев скакал впереди погромщи-
ков и рубил встречных мирных жителей.
Объединение Махно с Григорьевым все же произошло, не
тогда, в мае, а позднее. Батько к тому времени тоже поссо-
рился с большевиками, но его союз с атаманом был лишь
тактическим маневром. Заранее решили убить Григорьева,
разоружить его отряды, переформировать их и влить в
махновскую армию.
Операция была подготовлена тщательно.
27 июля 1919 года в селе Сентове близ Александрии
собрался крестьянский сход. Алексей Чубенко, заканчивая
свою речь, сказал, что хотя махновцы во временном контакте
с Григорьевым, но все-таки Григорьев контрреволюционер,
царский слуга, офицер, и у него в глазах до сих пор блестят
золотые погоны. Григорьев, конечно, возмутился, но Махно
сказал: "Пусть кончает, мы его спросим". Дальше воспроиз-
ведем рассказ Чубенко, которого чекисты в начале 20-х годов
спросили то, о чем, допрашивая в Мариуполе тридцать пятого
года И. С. Лепетченко, не догадался спросить Владимирский.
После митинга Чубенко пошел в помещение сельского
Совета. Туда же направился и Григорьев, а за ним Махно,
Чалый, Каретников, Колесник, Троян, Лепетченко (тот са-
мый, "наш" Иван Савельевич) и телохранитель Григорьева,
какой-то грузин.
"Зайдя в помещение сельсовета, — рассказывает А. Чу-
бенко, — я зашел за стол, вынул из кармана револьвер
"библей" и поставил его на боевой взвод. Это я сделал так,
чтобы Григорьев не заметил, и, стоя за столом, держал в руке
револьвер. Когда зашли все остальные, то Григорьев стал
около стола против меня, а Махно рядом с ним с правой
стороны, Каретников сзади Махно; с левой стороны Григорь-
ева стали Чалый, Троян, Лепетченко и телохранитель Гри-
горьева".
Начали выяснять отношения, говорили, пока Григорьев
не схватился за револьвер. Но Чубенко опередил его. Броса-
ется, однако в глаза, что в этом эпизоде прославленные вояки
стреляли на удивление плохо. Выстрелив в упор, Чубенко только
ранил Григорьева и, судя по всему, легко. Григорьев крикнул:
"Ой, батько, батько!" Махно крикнул: "Бей атамана!"
Далее Чубенко утверждает, что он добил Григорьева, когда
тот выбежал из помещения. Но В. Ф. Верстюк в своей книге
110
"Махновщина" (К., 1991, с. 160—161) сообщает подробности,
которых нет в рассказе Алексея Чубенко.
Еще до того, как Махно крикнул "Бей, атамана!", в спину
выбегавшего из помещения Григорьева гремели выстрелы
Лепетченко, Каретникова, Трояна, Чалого. Все они кинулись
к дверям вслед за Григорьевым. Казалось бы, атаман должен
был от этих выстрелов раз десять умереть. Ничуть не бывало:
с револьвером в руке тот еще успел выбежать на улицу и
только тогда споткнулся и упал. К нему подбежал махновец
Катин и добил атамана выстрелом в затылок.
Прославленный стрелок Нестор Махно в том эпизоде тоже
сплоховал. Как только Чубенко выстрелил в Григорьева,
грузин, телохранитель атамана, выхватил маузер и хотел
застрелить Махно. Однако коллега Ивана Лепетченко, второй
телохранитель батьки Колесник, успел схватить его за руку.
Между ними завязалась борьба, дюжий грузин явно одолевал
махновца. Нестор Иванович метался по комнате, пытаясь
застрелить григорьевского телохранителя. Он сделал восемь
выстрелов, но семь его пуль попали в Колесника и только
одна — в григорьевца. Неизвестно, чем кончилось бы дела,
если не вернулся бы в помещение Каретников. Его меткая
пуля сразила телохранителя Григорьева. Окровавленный Ко-
лесник сквозь зубы процедил на батьку: "Дурень". Самолю-
бивый Нестор Иванович смущенно промолчал.
Так что Лепетченко мог бы многое рассказать мариуполь-
скому следователю, если бы тот его хорошенько попросил.
Иван Савельевич, как мы только что убедились, был не только
очевидцем, но и участником убийства атамана Григорьева.
Он мог бы рассказать о том, как Махно запретил хоронить
тело своего вчерашнего союзника. Он наказал сельским влас-
тям отдать труп атамана собакам. Сегодня опубликованы
донесения разведчиков-чекистов, извещавшие Москву, что
еще долго труп Григорьева валялся за селом в овраге.
Да, много интересного мог еще рассказать мариупольскому
следователю Иван Лепетченко, но Владимирского почему-то
больше занимал вопрос о связях обвиняемого с... НКВД. Его
он и задал Лепетченко 25 апреля 1935 года. Лепетченко
отвечал на него с 10 часов 35 минут до 13 часов 50 минут. И
вот что он рассказал за эти три с лишним часа.
"В 1924 году, во время моего пребывания в Варшаве,
явился я к советскому консулу и рассказал ему, что по
поручению Махно я должен выехать в Россию, на территорию
Гуляйпольского района с целью изъятия ценностей у жите-
лей. (Предал, все-таки предал своего батьку Ваня Лепет-
ченко! — Л. Я. (Консул Петренко, точно фамилию не помню,
111
сказал, что он может мне помочь в поездке в том случае, если
я выполню для него поручение. Последнее сводилось к тому,
что я должен осветить настроения польских анархистов,
проживающих в Варшаве. Это задание я выполнил, и после
этого он мне предложил поехать в СССР. В Славуте меня
встретили сотрудники Харьковского МШУ Тепер и еще один,
фамилию второго я не знаю. С ними я поехал в Харьков, там
я пробыл около месяца и выехал вместе с сотрудниками ГПУ
(фамилии их не знаю) в Гуляйпольский район для изъятия
золота. После вернулись обратно в Харьков. Там я получил
задание ГПУ от тт. Горожанина, Штаха и др. указание о
выезде за кордон к Н. Махно с целью того, чтобы привезти
Н. Махно в Харьков. Меня привезли ночью к границе (район
Славуты), а с польской стороны — Бабий завод, и я этой же
ночью переправился без сопровождающих на польскую тер-
риторию. В Харьковском ГПУ мне велели в Варшаве обра-
титься в н/консульство (наше консульство, так надо пони-
мать. — Л. Я.) к т. Петренко (точно фамилию не помню) за
получением денег. По прибытии в Варшаву я явился к
указанному товарищу в консульство и, получив от него
деньги, выехал в г. Данциг, по месту жительства Нестора
Махно. В г. Данциге Махно не оказался. Хозяйка его квартиры
мне рассказала, что как будто бы к Махно приехали два немца
и он вместе с ними выехал на пароходе в Париж.
В Данциге я ни у кого больше не был и отправился в
Варшаву. В поезде, во время проверки пассажиров, я был
арестован полицейским чином, так как у меня не было
документов (хорошо же подготовил Ивана Лепетченко совет-
ский консул Петренко, даже документами его не снабдил. —
Л. Я.). Сняв меня с поезда, они меня продержали под стражей
при станции двое суток, а потом направили при конвоире в
Варшаву. Не помню, на какой станции я дал конвоиру, чтобы
он мне купил что-нибудь из еды, а я тем временем, пользуясь
темнотой, спрыгнул с поезда и скрылся в лесу. Из леса я
направился пешком в с. Панюховск, по месту жительства
жены. На следующий день я направился к консулу и сказал
ему, что Махно нет в Данциге. Консул мне выдал на обратную
поездку в Россию, и я вместе с моей женой, Бурымой —
б. нач. подрывного отряда банды Махно, и петлюровцем
Волжаном нелегально перешли границу и по прибытии в
СССР — Славуту. Я вместе с ними явился в ГПУ и заявил о
нашем нелегальном переходе. Нас всех арестовали и напра-
вили в Харьков. Там нас всех допросили, в том числе и меня,
при допросе расспрашивали по сути данного мне задания, я
рассказал, что Махно уехал из Данцига и поэтому я его не
112
видел. Нам всем выдали документы, и мы выехали на
жительство: я и жена — в Гуляй-Поле, Бурыма — в Конские
Раздоры, Волжанин — в Каменку.
Приблизительно через три недели — это было в 1924 году
в июне или августе месяце — меня вызвали в Харьковское
ГПУ и там предложили сотрудничать. Мне дали кличку
"Федя". Мне дали задание по работе среди махновцев. Из
Харькова я обратно выехал в Гуляй-Поле, я в то время
занимался сапожным промыслом, а летом изготовлял моро-
женое. В Харькове, в ГПУ, мне поручили связаться с Запо-
рожским окротделом ГПУ тов. Александровским. Как раз в
это время к нам в местечко приехал из-за кордона нелегально
анархист Исааков и привез мне журналы махновского толка,
историю махновского движения и на полотне какую-то за-
писку. Содержание этой записки мне сейчас трудно припом-
нить. Все эти материалы я передал в Запорожское ГПУ тов.
Александровскому. Последний меня связал для работы с т.
Зеленым. В 1928 году меня Запорожский окротдел ГПУ
арестовывает и требует от меня передачи им моей корреспон-
денции с Махно. Также Зеленый потребовал от меня в части
моей связи с польской дефензивой. Я просидел три месяца,
и потом меня отправили в Харьков в ГПУ Украины, там меня
принял т. Хозе из ГПУ УССР и предложил поехать работать
в г. Сталино. В Сталинский окротдел ГПУ я явился с письмом
к начальнику, фамилию последнего не помню. Из Сталино я
уехал на Ворошиловский керамический завод, где меня ГПУ
устроило работать в качестве пожарника. Там я проработал
до 1931 года и за все время пребывания в пожарной команде
на заводе я ни с кем не был связан, меня только лишь
несколько раз вызывали в Сталино ГПУ. Никаких интересных
и заслуживающих внимания материалов я в то время не
давал.
В 1931 году меня обратно перебросили в Сталино, где я
работал в Буденовском рудоуправлении. В этом же году,
спустя два месяца, меня перебросили в Мариуполь. Здесь я
нахожусь до сего времени и все время связан с горотделом
НКВД. До переброски в Мариуполь меня Сталинское ГПУ
также арестовало, и я сидел под арестом шесть дней, после
чего отправили в Мариуполь".
Итак, личный телохранитель Нестора Ивановича Иван
Лепетченко, прошедший рядом с батькой через огонь, воду
и медные трубы, преданный ему душой и телом, стал секрет-
ным агентом ГПУ, сокращенно — сексотом.
Чему удивляться? В том же 1924 году знаменитый Левка
Задов (Л. Н. Зиньковский), на дружеские отношения с кото-
113
рым указывает, между прочим, на допросах И. С. Лепетченко,
стал не секретным, а явным сотрудником ГПУ и дослужился
у большевиков до звания полковника госбезопасности. Не
столь блестящую, но тоже неплохую карьеру сделал и его
младший брат Даниил (Д. Н. Зотов). Бывший начальник
штаба махновской армии Виктор Билаш, рассказав на до-
просах, все, что чекисты хотели, и подписав все, что от него
требовали, после короткой ссылки в Туркестан жил в Крас-
нодаре и занимался, как заявил Лепетченко, изобретатель-
ством. Даже П. Аршинов (Марин), которому Махно доверял
бесконечно (батько говорил: на Украине есть только три
анархиста: я, Аршинов и Таратута), тот самый Аршинов,
который написал Историю махновского движения" (ее, как
мы видели, нелегально переслали в Гуляй-Поле Ивану Ле-
петченко, чтобы тот полюбовался: и ты вошел в историю)
отказался от анархизма, снова стал большевиком, каким и
начал свою революционную деятельность, и вернулся из
эмиграции в СССР. Жил он здесь, уверен, не дольше, чем до
тридцать седьмого года.
Да что и говорить, если у самого батьки были намерения
вернуться на родину и искал связи и даже союза с больше-
вистскими правителями Украины. Не верите? Об этом я
расскажу ниже, а пока вернемся к Ивану Лепетченко.
Странным сексотом он был — Иван Лепетченко. За три-
надцать лет сотрудничества с ГПУ-НКВД он не сообщил ни
одного представляющего серьезный интерес факта. Вот Вла-
димирский предлагает ему на допросе: "Изложите подробней
следствию о Вашей работе в пользу органов госбезопасности
после вторичного возвращения из Польши".
Лепетченко: С 1924 года я все время связан с органами
ГПУ, а ныне НКВД. Работая в Запорожском, Сталинском
округах, а теперь в г. Мариуполе, особо заслуживающих
внимания материалов я за это время не дал.
Владимирский: Объясните причину непредставления
Вами особо заслуживающих внимания материалов, ведь среди
махновцев Вы, как личный телохранитель Махно, пользуе-
тесь большим доверием.
Лепетченко: Мне ничего неизвестно о нынешней контрре-
волюционной деятельности бывших махновцев, и к тому я
был очень занят по моей работе — непосредственной службе.
Владимирский: Кто Вас устроил на работу?
Лепетченко: Органы НКВД.
Иван Савельевич не только ни на кого не "настучал", он
вообще избегал гепеушников-энкаведистов, которые его
"вели", не являлся на их вызовы, месяцами "пропадал" из
114
их поля зрения. Не случайно они его систематически сажали
и допрашивали. Но в то время "еще закон не отвердел", к
10-летию Октября махновцы были амнистированы, да и
прежде им объявлялись амнистии, и сколько ни разматывали
следователи эпизод, когда Иван Лепетченко по распоряжению
Левы Задова расстрелял одного повстанца, пытавшегося бе-
жать с поля боя, высшее начальство напомнило, что он не
подсуден — амнистия все списала.
На сексотскую пассивность своего подопечного жаловался
еще в 1928 году Зеленый, который "вел" Лепетченко как
уполномоченный Запорожского окротдела ГПУ. Он составил
на него обвинительное заключение, требуя упрятать неради-
вого сексота в концлагерь. Если не все, то многое в этом
документе, составленном Зеленым, было подлинной правдой.
Например:
"Поселившись на родине в Гуляй-Поле, Лепетченко с
первых дней стал группировать вокруг себя бывший коман-
дный состав махновской армии, высказываясь в их среде как
ненавистник соввласти, что власть грабит крестьян налогами,
что Махно за границей не спит, он скоро снова появится и
проч. С того же момента Лепетченко установил связи с Махно
за границей и до последнего дня его (Лепетченко. — Л. Я.)
ареста вел переписку с ним, сообщая ему сведения о жизни
в СССР, о советских работниках в Гуляй-Поле и округе,
пересылая в письмах ему документы, имеющие отношение к
прошлому махновского движения".
Думаю, что здесь все правда, как и в утверждении Зеле-
ного, что "Лепетченко систематически пьянствовал, во время
чего проявлял себя как отъявленный хулиган, иногда пере-
ходивший в форму политического хулиганства". Верю также
свидетелю Д. В. Цыбе из Успеновки, показавшего, что "в
сентябре месяце 1928 года в с. Гуляй-Поле он встретился с
Лепетченко И. С, который напал на него, в результате чего
отбил ему половину уха".
В показаниях И. С. Лепетченко "царапает" подробность о
том, что Махно в Румынии "партизанствовал". Ни в одном
из изученных мной источников о махновщине этот эпизод не
освещается. Мариупольский следователь Владимирский тоже
ухватился за эту подробность в показаниях Лепетченко и на
одном из последующих допросов (всего их было пять в 1935
году, во всяком случае сохранились пять протоколов) он
возвращается к этому вопросу. Лепетченко повторил свой
рассказ о том, как он похитил у помещика в Плоештах
болгарский наган и приехал к Махно. "В Бухаресте, —
продолжает он, — я прожил у Махно несколько дней, после
115
чего Махно организовал группу из семнадцати человек, в том
числе и я, и мы наняли в Бухаресте автомашину и выехали
за город, где и начали партизанить".
ВЛАДИМИРСКИЙ: Как понять Ваше выражение "парти-
занит", что именно вы делали и чем занимались?
ЛЕПЕТЧЕНКО: Партизанство выражалось в том, что у
встречных крестьян мы отбирали лошадей и уводили в горы.
Ах, Нестор Иванович, Нестор Иванович, до чего же вы
докатились! Даже в самом начале своего пути, когда гуляй-
польские анархисты чисто по-бандитски нападали на мирных
обывателей, они прикрывались политическими одеждами,
такими красивыми словами, как экспроприация, теракт —
во имя революции. Но в 1922 году в чужой стране, счастливо
избежавшей революцию и братоубийственную гражданскую
войну, вы грабите крестьян, говорящих на неведомом вам
языке и воспринимающих вас не как борцов с большевизмом,
а как чистейшей воды бандитов, и только. Как же это вяжется
с "честью и достоинством революционера", о которых вы
всегда говорили — до последнего предсмертного вздоха?
Под рукой не было ни белых, ни красных, на склады и
обозы которых можно было нападать и снабжаться, поэтому
17 махновцев, а с ними батько и "мать Галина", стали
разоружать румынских полицейских, ибо как еще обзавес-
тись оружием?
Румынские власти бандитов, конечно, выловили. И как
же с преступниками поступили? Приговорили к высшей мере?
Посадили в тюрьму?
Ничуть не бывало.
Их всех, целых и невредимых, передали Польше. И
Польша их приняла. Потому что польский генштаб в своих
планах строил расчеты и на Махно. Но пока что батьку, его
жену и семнадцать молодцов (среди них и Иван Лепетченко)
заключили в концлагерь под строжайшую охрану. А потом
часть из них и вовсе перевели в Варшавскую тюрьму, где
содержали при подготовке к суду по обвинению Махно в связи
с... чекистами.
Ну абсурд, чистейшая глупость: Махно и связь с чекиста-
ми. Так я думал поначалу, пока не добыл информацию,
объясняющую этот эпизод биографии батьки (см. брошюру
В. Н. Волковинского "Батько Махно", Киев, 1992).
Дыма без огня все же не бывает. Оказывается, Галина
Андреевна Кузьменко 22 июля 1922 года посетила консуль-
ский отдел посольства УССР и попросила разрешения поехать
в Харьков для ведения переговоров с правительством Укра-
116
ины. Она рассказала, что махновцы, заключенные в лагерь
для интернированных, планируют восстание в Галиции, на-
мекнула заведующему консульским отделом, что (далее
В. Волковинский цитирует недавно обнаруженные доку-
менты) "если бы правительство Украины оказало бы нам хотя
бы небольшую помощь деньгами (каких-нибудь 330—400
тысяч польских марок) и 6—8 револьверов, мы могли бы
выскочить из лагеря и перебраться с ведома Укрправительства
на Украину, а оттуда — на Гуцульщину, в Галичину".
Одновременно она подала заявление с предложением за-
ключить новый союз махновцев с советской властью. Но это
предлагал не тот Махно, у которого было под рукой тысячи
и тысячи повстанцев, вооруженных не только винтовками,
но и бесчисленными пулеметными тачанками и артиллерией,
и который в каждом селе имел "и стол, и дом", а заключенный
концлагеря, который мечтал о полдюжине револьверов как
о спасении. К тому же нэп набирал силу, и крестьяне,
освобожденные от продразверстки и прочих прелестей "воен-
ного коммунизма", уже не имели никакой охоты снова стать
под знамена знаменитого батьки. Удивительно ли, что пра-
вительство Украины категорически отказалось вести какие
бы то ни было переговоры с Махно.
Итак, Нестор Иванович, его ждущая ребенка жена Галина
Андреевна Кузьменко, И. Хмага и Я. Дорошенко сидят в
столице Польши в тюрьме в ожидании суда над ними по
обвинению в связях с миссией УССР в Варшаве и подготовке
восстания в Западной Галиции с целью присоединения ее к
Советской Украине. Что же наш Иван Лепетченко, оставший-
ся на свободе?
Вызывает удивление и даже восхищение, как этот мало-
грамотный человек в чужой стране, в чужом городе взялся
освободить батьку.
Да-да, он задумал налет на Варшавскую тюрьму, не
больше и не меньше. И не просто задумал, а действовал,
причем весьма энергично и результативно. Он нашел связи,
людей, добыл средства и оружие. Эта дерзкая операция
осталась неосуществленной лишь потому, что Лепетченко
получил письмо от Махно, велевшего отменить налет. Дело
в том, что к тому времени уже стало ясно: суд оправдает
Махно, который утверждал (и совершенно справедливо), что
он воевал со всеми, но только не с Польшей. Напротив, когда
в 1920 году ему приказали перебросить армию на польский
фронт, он отказался это сделать, за что был объявлен боль-
шевиками вне закона. К тому же он препятствовал Первой
Конной армии, когда та направлялась с Северного Кавказа
117
на польский фронт. Махно и его товарищи были судом
оправданы.
Неясной остается и такая страница биографии нашего
персонажа. В 1925 году, во время второго своего прибытия
в Польшу, Лепетченко вместе с анархистами Черняком,
Харламовым, Померанцем и Зайцевым поехал в Ковель
(Каунас) с намерением взорвать там железнодорожный мост
и пороховой погреб. Кто дал им такое задание, кому и зачем
потребовался такой теракт — неясно. К счастью, польские
жандармы в пути арестовали анархистов, кроме Лепетченко,
которому удалось избежать ареста. Последнее обстоятельство
и питало подозрения чекистов, что Лепетченко — агент
польской разведки.
Но вернемся к эпизоду, когда Иван Лепетченко согласился
принять задание ГПУ и поехал в Польшу, чтобы привезти
Махно в Харьков.
Батьку, как мы уже знаем, он в Данцинге не застал. А
если бы застал? Какую роль сыграл бы в этом случае Иван
Лепетченко? Чистосердечно признался бы, что дал согласие
сотрудничать с чекистами, чтобы переиграть их? Или стал
бы добросовестно выполнять чекистское задание и убедить
батьку поехать на Украину, где его арестовали бы и судили
"за преступления перед народом"? Как это случилось с
Борисом Савинковым в том же 1924 году, когда чекист А. П.
Федоров выманил последнего из Парижа?
Мне хочется думать, что Лепетченко, глядя в глаза Нес-
тору Ивановичу, не смог бы предать батьку.
Но ведь предал же он его однажды, когда без ведома Махно
явился в советское консульство в Варшаве. Вот как он
рассказал о поручении Махно изъять клад и привезти его к
нему в Польшу на допросе в Мариуполе 22 июля 1935 года:
ВЛАДИМИРСКИЙ: Расскажите подробно, когда, по
чьему указанию и куда Вы выезжали для изъятия драгоцен-
ностей.
ЛЕПЕТЧЕНКО: В 1920 или 1921 году, точно не помню,
мною были оставлены, по указанию Махно, ящик с разными
драгоценностями: браслетами, часами, платиной, бриллиан-
тами и др. вещами, похищенными нами в Днепропетровском
(!) ломбарде, на хранение в с. Гавриловке, находящемся в 50
километрах от Гуляй-Поля, у одного крестьянина. Фамилию
последнего сейчас не припоминаю, но во время нашего опе-
рирования в том районе мы часто у него останавливались."
Здесь мы прервем показания Ивана Лепетченко, чтобы
воспроизвести эпизод из воспоминаний М. Гутмана. Они
относятся к Екатеринославу времен "безвластной республи-
118
ки" батьки Махно и проливают свет на происхождение
ценностей, которые Лепетченко должен был доставить за
границу Нестору Ивановичу.
Гутман рассказывает о том, что, когда добровольцы гене-
рала Шкуро, вступив в Екатеринослав, начали грабить город,
жители потащили свои драгоценности и дорогую одежду в
ломбард, куда сдали на хранение. Ломбардов деникинцы не
трогали. Махно же велел конфисковать ломбарды, таким
образом, все, что уцелело от казаков, попало в руки махнов-
цев. В дни "безвластной республики" в Екатеринославе вы-
ходили газеты революционных партий. Те стали осуждать
батьку за ограбление горожан. Под давлением этой газетной
агитации Махно распорядился возвращать из ломбардов за-
логи тем лицам, которые докажут, что они заложили вещи
из нужды. Однако мало кому удалось воспользоваться этой
"льготой": ломбарды к тому времени были уже "очищены".
"Нередко на улицах Екатеринослава, — пишет М. Гутман, —
можно было видеть типичного бородатого махновца в укра-
инской свитке, с ружьем через плечо и с огромной дамской
золотой цепью на шее или с бриллиантами на руках". Однако
самое ценное батько оставил для себя. Не лично для себя —
я верю в его бессребренничество, — но, как он говорил, для
дела анархистов.
И вот в трудные дни эмиграции этот момент настал, и в
1924-м батько велел Ивану Лепетченко привезти ему драго-
ценности, заимствованные из екатеринославского ломбарда
и припрятанные по его указанию в надежном месте. Вот тут
преданный Ваня Лепетченко и выкинул фортель. Вот как он
об этом рассказал мариупольскому следователю одиннадцать
лет спустя:
"В 1924 году, во время моего пребывания вместе с Махно
в Польше, Махно мне поручил перебраться на Украину с
целью получения в с. Гавриловке оставленных на хранение
драгоценностей. Для более благополучного перехода границы
со стороны Польши в Советский Союз мне Махно поручил
связаться с местными анархистами и с ними посоветоваться
по вопросу выбора места перехода".
А Лепетченко без ведома батьки, по его собственному
признанию, пошел в советское консульство, как мы уже знаем
из предыдущих протоколов допросов. Однако, думаю, что тут
в цепи событий отсутствует одно важное звено. К анархистам
Лепетченко, скорее всего, все-таки пошел, как батька нака-
зал. Последние по-своему объяснили ему обстановку и уве-
рили, должно быть, что песня махновщины спета и возрож-
дение этого движения не предвидится. Вот тогда он и явился
119
к консулу Петренко и чистосердечно рассказал о сокровищах,
припрятанных в селе Гавриловке. То есть предал Махно.
Петренко эти сведения, конечно, тотчас же передал "куда
надо", и чекисты изъяли клад, не дожидаясь, пока Лепет-
ченко доставят в Харьковское ГПУ. Однако непонятно, по-
чему они дальше вели игру с поисками сокровищ. "Из
Харькова с отрядом ГПУ — до 10 человек — выехал в
Гавриловку, — показывает Лепетченко. — По прибытии к
этому крестьянину последний заявил, что все оставленные у
него драгоценности изъяты органами ГПУ".
В середине 80-х годов оказался я в командировке в
Пологах. Дело было на заре горбачевской перестройки. Я
писал тогда очерк о В. Я. Чубаре, в биографии которого есть
мариупольский год его работы на "Провидансє". Собирая
материалы о расстрелянном Сталиным Власе Яковлевиче, и
поехал я в его родное село.
Вернувшись из Чубаревки и ожидая в Пологах автобус,
прогуливался я по перрону, расположенному рядом с путями
железнодорожного вокзала. Вчитывался в строки мемориаль-
ной доски, напоминающей о митинге по поводу приезда сюда
знаменитого земляка, главы правительства Советской Укра-
ины В. Я. Чубаря.
Но кипели на этой площади и иные митинги. Отсюда
отправлялись в стремительные рейды махновские отряды,
плясали здесь под гармонь пьяные повстанцы и орали невесть
кем сочиненную песню:
Мы их же порежем,
Да мы их же побьем.
Последних комиссаров
Мы в плен заберем.
Теперь кипит здесь другая жизнь, и, как сказано у
Есенина, "другие юноши поют другие песни".
Увидев на столбике расписание гуляйпольского автобуса,
отправлявшегося ежечасно, купил я за три гривенника билет
(ну и цены были, поверить трудно) и покатил в бывшую
махновскую столицу, в Махновград, как его когда-то назы-
вали.
Пробежав через веселые зеленые поля, автобус втянулся
в бесконечно длинную улицу, уставленную добротнейшими
домами-хоромами с непременными гаражами возле них. Что
сказал бы батько, взглянув на эти явные приметы достатка
гуляйпольцев, которых большевики гнули в бараний рог,
раскулачивали, коллективизировали, морили голодом, рас-
крестьянивали, а он, народ, все-таки жив курилка.
120
Центр Гуляй-Поля с его унылыми хрущевскими пяти-
этажками и прочими стандартами нынешнего времени, разо-
чаровал меня: своеобразие и самобытность стародавнего ук-
лада жизни вытиснены начисто.
Вспомнив, как Рощин в фильме Г. Рошаля "Хождение по
мукам" идет по гуляйпольскому базарчику, решил я сходить
на рынок в надежде обнаружить там хоть намек на дух
ушедшего в историю времени. Увы, базарчик из "Хождения
по мукам" соорудили, видимо, мосфильмовские декораторы,
а я попал на заурядный рынок с обитыми современным
пластиком стойками, даже в те времена пустыми.
Семидесятилетняя ночь большевистского единодержавия
тогда лишь едва-едва дрогнула, совсем почти еще незаметно,
и расспрашивать людей о Махно, о котором я уже многие
годы собирал материалы, значило смертельно их напугать.
Да и самому небезопасно это было. На автостанции, на улицах,
в автобусе я вглядывался в лица людей, потомков лихих
бойцов повстанческой армии, вслушивался в их спокойные
будничные разговоры и ни в чем не находил ни капли
"махновского".
Я до сих пор не могу понять и объяснить, почему крестьяне,
прошедшие школу Нестора Махно, покорно снесли грабеж
со стороны большевистской власти, почему не полыхнула
бывшая "безвластная республика" восстанием, когда кресть-
ян "дуриком" загоняли в колхозы, высылали их в студеные
края на вымирание и подвергли голодомору. Может быть,
Иван Лепетченко никого не "заложил" и ни на кого не
настучал не только из нравственных соображений, а потому,
что махновцы действительно безропотно покорились больше-
вистской власти и не помышляли о борьбе с ней?
Приведу еще несколько строк из протоколов мариуполь-
ских допросов И.С. Лепетченко.
ВЛАДИМИРСКИЙ: С кем из махновцев вы встречались
после возвращения из-за кордона?
ЛЕПЕТЧЕНКО: С Василием Лысенко, бывшим начальни-
ком артиллерии махновской армии, Шаровским, бывшим
начальником батареи, Зуйченко, бывшим членом Реввоенсо-
вета махновской армии.
Лепетченко доложил в ГПУ, что эти люди сожалеют о
репрессиях против Махно в Польше, о репрессиях советской
власти против махновцев. То есть ничего криминального о
них Лепетченко не сообщил.
ВЛАДИМИРСКИЙ: Чем же объяснить, что Вы на протя-
жении 10 лет сотрудничества с нашими органами ничего
ценного не сообщили о деятельности бывших махновцев,
121
больше того, Ваше недобросовестное отношение к нашим
заданиям доходило до того, что Вы месяцами уклонялись от
встреч с нашими сотрудниками?
ЛЕПЕТЧЕНКО: Махновцы никакой антисоветской рабо-
той в настоящее время не занимаются, и поэтому мне не было
о чем сообщать.
Когда в 1965 году я получил квартиру в благословенной
хрущебе, где провел лучшие — что ни говори — годы своей
жизни и где пишу сейчас эти строки, с моего балкона
открывался "живописный" вид на... тюремный замок. Так
называли это заведение в старом Мариуполе. Когда-то он
находился за городом, но, уходя от азовстальского дыма и
копоти, Мариуполь устремился на запад и плотным кольцом
многоэтажек окружил старинное здание тюрьмы.
Мои остроумные друзья тотчас же вспомнили анекдот:
"Вы знаете Абрамовича?" — "Того, что живет напротив
тюрьмы?" — "Да. Так вот, теперь он живет напротив своего
дома".
Повторяя этот диалог они вместо фамилии собирательного
Абрамовича подставляли вполне конкретную мою и весело
хохотали. Я смеялся вместе с ними, но, признаюсь, ощущал
в груди легкий холодок, ибо не зря же говорится на Руси, что
от сумы да от тюрьмы... Тем более, что хрущевская оттепель
к тому времени уже закончилась и снова начали закручивать
гайки.
Неприятная для меня острота умерла в 1969 году, когда
тюрьму "по камешку, по кирпичику" снесли на моих глазах.
Но четыре года до этого оконные стекла на лестничной клетке
нашего подъезда выбивались с удивительным постоянством.
Не успеет уборщица замести осколки, а жэковский плотник
застеклить рамы, как они снова смотрели на мир божий
пустыми газницами.
Злоумышленники, творившие эти черные дела, поднима-
лись на верхние этажи нашего подъезда в строго определенные
часы. С этой высоты тюремный двор открывался как на
ладони. Пришельцы напряженно вглядывались в заключен-
ных, которых выводили из камер в тесные боксы на прогулки.
И так как застекленные рамы мешали лицезреть среди
прогуливающихся родственников и знакомых, наблюдатели
превращали стекло во множественное число — в мелкие
дребезги.
Читая следственное дело И. С. Лепетченко, я вспомнил
давний вид с моего балкона (теперь под ним шелестит листвой
густой парк), мариупольский тюремный замок, клетушки-
122
боксы и гуляющих по ним зэков. В 1935 году был среди них
и Иван Савельевич. В одной камере с ним сидел и некий
Борисов Михаил Федорович, 1904 года рождения, уроженец
Москвы. Вряд ли Лепетченко запомнил своего сокамерника,
а чтобы замкнутый и молчаливый Иван Савельевич беседовал
с ним да еще раскрыл душу, — в это уже совершенно
невозможно поверить.
Тогда, в 1935-м, после серии допросов Лепетченко в
очередной раз выпустили из тюрьмы: никаких конкретных
доказательств его вины перед законом Владимирский так и
не нашел. Но в тридцать седьмом "закон уже отвердел".
Лепетченко снова бросили в тюрьму (ордер на арест под-
писан 9 августа 1937 года). На сей раз многочасовых допросов
не вели, во всяком случае никакие протоколы в деле не
сохранились.
28 августа вызвали Козьму Леонтьевича Глухенького,
заведующего тем мариупольским магазином, у которого по-
мощником работал Лепетченко, и предложили ему рассказать
о контрреволюционной деятельности последнего. Благород-
ный Козьма Леонтьевич подтвердил, что своего помощника
он действительно знает, но всего лишь три месяца с неболь-
шим, никаких разговоров с ним не вел, "да он вообще старался
не разговаривать со мной, почему, не знаю". И далее заявил:
"О контрреволюционной пропаганде, проводимой Лепет-
ченко, я ничего показать не могу, так как мне не приходилось
ничего слышать. Могу сказать, что Лепетченко как продавец
обращался с покупателями очень грубо".
За хамское обращение с покупателями даже большевики
не расстреливали, поэтому оперуполномоченному 3-го отдела
УГБ Мариупольского отдела НКВД Остапченко (на этот раз
он вел дело Лепетченко) ничего не осталось, как отпустить
Глухенького с миром. Может быть, он даже скаламбурил в
том смысле, что Козьма Леонтьевич, видимо, и впрямь
глухенький, раз он не слышал ничего от своего помощника.
Не знаю, в протоколе это не зафиксировано. Зато следователь
пришел в отличное расположение духа, когда месяца через
полтора нашел он Борисова. Это был не свидетель — клад.
Остапченко ни секунды не сомневался, что Борисов покажет
и подпишет все, что надо. Еще бы: М. Ф. Борисов заведовал
складом... НКВД.
Я не могу сказать, что в показаниях Борисова, вернее в
тексте, составленном следователем Остапченко и с готов-
ностью подписанном свидетелем-энкаведистом, нет ни слова
правды. Многие мысли Лепетченко в этом "сочинении" уга-
даны весьма точно. Неправда только, что Иван Савельевич,
123
тертый калач, делился своими сокровенными мыслями в
камере мариупольской тюрьмы с первым встречным. И уже
полная ложь, что он сообщил сокамернику будто работает на
польскую разведку. Даже если бы работал, то, понятно, не
сказал бы об этом ни Борисову, ни кому-либо другому.
Мы живем при жесточайшем дефиците бумаги, тем не
менее донос Борисова хочу воспроизвести здесь полностью.
Пусть останется свидетельство того, как это делалось в
тридцать седьмом.
На вопрос Остапченко: "Знаете ли Вы Лепетченко Ивана
Савельевича, если да, то расскажите следствию, что Вам
известно о его контрреволюционной деятельности?" Михаил
Федорович Борисов (русский, гражданство СССР, образование
низшее, беспартийный. В 1935 году был осужден по ст. 104
УК СССР к 4-м годам заключения, освобожден досрочно в
1937 г. 21.01". И сразу же взят на должность в системе НКВД.
За какие заслуги, позвольте спросить?) словоохотливо ответил:
"Да, знаю, познакомился я с Лепетченко И. С. в 1935 году
в Мариупольской тюрьме, где я вместе с ним содержался в
одной камере около трех месяцев. Будучи в одной камере с
Лепетченко, в беседах он проявлял себя, как непримиримый
враг советской власти. (Пусть читатель не судит меня за
стиль: так выражал свои мысли следователь Остапченко. —
Л. Я.).
Лепетченко рассказывал мне, что он во время гражданской
войны служил в банде Махно с 1917 по 1921 гг. до разгрома
махновской банды красными, после чего он, как личный
телохранитель — адъютант Махно с остатками его банды
бежал в Румынию, оттуда он вместе с Махно перешел в
Польшу, где находился до 1924 года. (Сам Иван Савельевич
на допросах, как заметил читатель, постоянно оговаривается:
"кажется", "точно не помню". У Борисова же "отличнейшая"
память, он говорит, как по писаному, "шпарит" даты, не
запинаясь. — Л. Я.).
Будучи в Польше, Лепетченко все время находился вместе
с Махно и якобы по заданию Махно был переброшен в
Советский Союз.
Лепетченко мне говорил, что будучи в Польше, он имел
связь с польскими разведывательными органами, по заданию
которых выявлял подпольные коммунистические организа-
ции и отдельных коммунистов, которых выдавал разведыва-
тельным органам, а последние расправлялись с этими ком-
мунистами.
Лепетченко мне рассказывал, что он, состоявший на
службе у Махно, расстреливал и рубал саблей беспощадно
124
коммунистов, красноармейцев и бедняков, которые попада-
лись в плен к Махно.
Находясь в камере со мной, он в моем присутствии
высказывал недовольство и советской властью, дискредити-
ровал вождей коммунистической партии и правительства
СССР, называл их проходимцами и другими похабными
словами, одновременно с этим восхвалял Махно, называл его
способным полководцем.
Лепетченко заверял меня, что если бы Махно победил во
время гражданской войны, то он, Лепетченко, безусловно
занял бы пост командующего войсками.
Лепетченко также заверял меня, что советская власть и
коммунистическая партия существуют временно, что в ско-
ром будущем будет переворот в стране и тогда он покажет
большевикам за их идею и за то, что они, большевики, якобы
разорили крестьянство.
Лепетченко говорил мне, что в стране имеется много
недовольных советской властью и что он знает много махнов-
цев — его знакомых с гражданской войны, которые в любую
минуту готовы выступить против советской власти и ожидают
удобного момента.
Лепетченко говорил мне, что в одесском областном аппа-
рате работает активный махновец, фамилию коего сейчас не
помню, который все время воевал против советской власти,
он обеспечивал повстанцев оружием, лошадьми и другими
боеприпасами и снаряжением (уже копают на Л. Н. Зиньков-
ского — Левку Задова, которого вскоре арестуют и расстре-
ляют. — Л. Я.)
Во всех беседах, которые я имел с Лепетченко, он проявил
себя как непримиримый враг советской власти.
В 1936 году, в июле и начале августа месяца, я несколько
раз встречался с Лепетченко в магазине Донпищеторга, где
он работал п/заведующего магазином (вы же тогда в тюрьме
сидели, многонеуважаемый Михаил Федорович Борисов, вас
же досрочно освободили только 21 января 1937 года. Как же
вы могли летом 1936 года встречаться на воле с Лепет-
ченко? — Л. Я.) Будучи в магазине, Лепетченко в присутствии
покупателей проводил явную контрреволюционную агита-
цию, распространял провокационные слухи, а также дискре-
дитировал т. Сталина. В магазине тогда кто-то из покупателей
сказал: "Почему у вас черствый хлеб?" Он ответил ему: "При
советской власти нечего разбираться с качеством — какой
дают, такой и берите, народ не собаки, поест все".
Во второй раз также в моем присутствии кто-то из поку-
пателей спросил, почему у вас нет муки. Лепетченко ответил:
125
"Это вам не старое время, сейчас раньше испортят продукт,
а потом пускают его в продажу, знают, что рабочие поедят
все".
В этот же раз во время моего пребывания в магазине одна
из продавщиц, укладывая хлеб на полку, как-то случайно
зацепила портрет т. Сталина, который слетел с гвоздей и
повис на веревочке, на которой был прикреплен. Лепетченко
увидел это и иронически сказал вслух этой продавщице: "Еще
в стране спокойно, а он уже летит с трона. Повесь его на
место, пускай висит".
Допросил п/оперуполномоченный 3-го отдела УГБ Ма-
риупольского горотдела НКВД сержант госбезопасности
ОСТАПЧЕНКО".
Допрос состоялся 19 октября 1937 года. А на следующий
день...
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 35
Тройки УНКВД по Донецкой области от 20 октября 1937 года.
Слушали: дело Мариупольского ГО НКВД № 168 по
обвинению Лепетченко Иван(а) Савельевича, 1899 г. р., сын
урядника, служил в банде Махно личным телохранителем.
После разгрома банды бежал в Румынию. В 1924 г. возвра-
тился в СССР. Обвиняется в том, что проводил активную к/р
деятельность, дискредитировал вождей партии и правитель-
ства.
Постановили: Лепетченко Иван(а) Савельевича
РАССТРЕЛЯТЬ,
имущество конфисковать.
И тут же расписка: приговор приведен в исполнение. В
тот же день.
24 июля 1971 года Лепетченко Виктор Иванович из поселка
Южно-Курильск Сахалинской области обратился в прокура-
туру РСФСР с просьбой сообщить ему о судьбе его отца,
Лепетченко Ивана Савельевича.
Майор Батин, занявшийся проверкой дела, по адресам,
где проживал в Мариуполе расстрелянный личный тело-
хранитель Махно, не нашел ни одного человека, который
помнил бы Лепетченко И. С. Не обнаружил он также
никаких следов ни Борисова М. Ф., ни членов его семьи.
Не был найден и благородный К. Л. Глухенький, уроженец
с. Урзуф.
Провели тщательный юридический анализ дела и 5 января
1972 года письменно сообщили Виктору Ивановичу Лепет-
ченко, что его отец РЕАБИЛИТИРОВАН.
126
ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВЕДЬ ВИКТОРА БЕЛАША
В "Истории махновского движения" П. Аршинова, в
которой Белаш справедливо занимает почетное место, сооб-
щается, что Виктор Федорович родом из приазовского села
Новоспасовки, анархист, образование начальное. До 1919 года
был командиром полка, ходил на Таганрог (то есть участвовал
во взятии Мариуполя). С 1919 года — начальник штаба
махновской армии. Деникинцы убили его отца, деда, двух
братьев и сожгли все хозяйство. "Захвачен большевиками в
1921 году. Судьба неизвестна".
Последние два слова из книги, изданной в Берлине в 1923
году, временем опровергнуты. Судьба Виктора Федоровича
Белаша ныне очень хорошо известна. Последний штрих на
портрет этого виднейшего участника повстанческого движе-
ния в Приазовье и на юге Украины кладет его следственное
дело 1937 года.
Говорили и писали, что военным талантом он превосходил
батьку. Принадлежал он к так называемой "южной группе"
командиров (Куриленко, Вдовиченко, Белаша), боровшихся
за железную дисциплину в повстанческих рядах, решительно
искоренявших пьянство и грабежи. Они всегда тяготели к союзу
с Красной Армией в борьбе против Деникина и Врангеля.
В фундаментальной монографии В. Ф. Верстюка "Махнов-
щина" Виктор Белаш фигурирует на 49 страницах, причем
на иных он упоминается по нескольку раз. Для сравнения:
такие крупные фигуры времен революции и гражданской
войны, как Ленин, встречаются в упомянутой монографии 41
раз, Троцкий — 34, Деникин — 30, Раковский — 29.
Столь частое обращение этого и других махноведов к
Виктору Белашу объясняется не только той несомненно
выдающейся ролью, которую этот человек сыграл в кресть-
янской войне на юге Украины, но и тем, что оставил он после
себя обширнейшие воспоминания, отчасти изданные, час-
тично ждущие опубликования, но сохранившиеся, к счастью,
в архивах и ставшие ныне доступными исследователям.
127
Отношение к этим уникальным документам двойственное.
В. Ф. Верстюк очень высоко оценивает воспоминания Белаша
(эту фамилию он приводит в украинской транскрипции —
Билаш), потому что они охватывают весь период махновщины
и позволяют увидеть это движение изнутри, понять причины
тех или иных поворотов в политике и практической деятель-
ности руководителей махновщины.
Другие исследователи считают, что с воспоминаниями
этого человека не все "чисто". Попав в руки чекистов в 1921
году, Белаш провел в тюремной камере два с половиной года,
так что у него было вполне достаточно времени вспомнить не
только то, что было, но и то... чего не было.
Дело в том, что Румыния, а затем и Польша, куда ушел
батько после разгрома махновщины, отказались выдать
советскому правительству Нестора Махно, мотивируя тем,
что он революционер, политический деятель, а не уголов-
ный преступник. Поэтому в Москве и в особенности в
Харькове (тогдашней столице Украины) стали готовить
процесс, который должен был доказать, что Махно —
чистейшей воды уголовник и кровавый бандит. Делом
занялась обширная группа следователей, собравшая (во
многих случаях — сфабриковавшая) огромное количество
сведений, которые должны были подтвердить большевист-
скую версию роли Махно во время революции и граждан-
ской войны.
Вот тут-то и пригодился Виктор Белаш, ближайший спод-
вижник батьки.
Конечно, бывший начальник штаба махновской армии
многое знал и многое помнил. Однако его обширнейшие
показания-воспоминания (целая объемистая книга) насыще-
ны таким множеством мельчайших подробностей — цифрами,
датами, документами, — что не остается сомнений: такой
"отчет" под силу составить только многочисленной группе
следователей и бухгалтеров, да и то в результате многомесяч-
ной кропотливой работы. Виктор же Белаш, оказавшийся в
чекистской тюрьме весьма покладистым, написал и то, что
досконально знал и твердо помнил, и то, что подсказали ему
"солдаты железного Феликса".
В. Ф. Верстюк с этой точкой зрения, видимо, знаком и,
не вступая в прямую полемику, утверждает, что Белаш,
работая над своими воспоминаниями, пользовался дневником
штаба армии, который сам же вел в 1920 году и "где
фиксировались передвижения, бои, потери и трофеи повстан-
цев, оперативных документов, махновской, анархистской и
советской периодики, а также листовок".
128
Шаткость этого аргумента самоочевидна. Достаточно за-
дать вопрос: где он, дневник штаба махновской армии за 1920
год, которым якобы пользовался Белаш в тюрьме ГПУ?
Почему в литературе о махновщине нигде, никто и никогда
не ссылается на этот документ? Дневники Г. А. Кузьменко
и Л. Голика сохранились и вошли в научный оборот, а вот
тот, которым пользовался Белаш, нигде не обнаружен. Не
потому ли, что у Виктора Федоровича не этот документ был
во время следствия, а большой коллектив "соавторов", весьма
дотошных, но и весьма тенденциозных.
Предсмертные же "Собственноручные показания" 1937
года пестрят ремарками: "Фамилии не помню", "не помню
точно", "не помню", и это вполне определенно свидетельствует
о том, что память "мемуариста" была не столь уже феноме-
нальной.
Я оставляю в стороне героическую главу боевой биографии
Виктора Белаша, когда его авторитет в среде повстанцев был
очень высок: о его выдающейся роли в махновском движении
писал он сам, а с его слов — многие авторы.
Начнем с дня 21 июля 1921 года, когда в селе Исаевке
Таганрогского округа состоялось заседание штаба и совета
"армии", то есть того, что осталось от махновской армии.
Огромной и даже просто внушительной она, эта армия,
быть уже не могла хотя бы потому, что весной и летом 1921
года не выпало в Приазовье (и в других местностях) ни капли
дождя. Засуха привела к неурожаю, год вошел в историю как
голодный. Интендантств белых армий, за счет которых под-
кармливался Махно, уже не было, а заставить голодающих
крестьян кормить многочисленную, как было прежде, армию,
значило бы рубить сук, на котором сидишь.
Но дело было не только в этом.
В последние годы застоя шла, помнится, на наших экранах
лента "Малая война", сделанная на студии "Молдова-фильм".
Она повествовала о том, как Фрунзе (молдаванин по отцу,
поэтому и гордились тогда "славным сыном молдавского
народа") разгромил Махно. На самом деле было далеко не
так. Совсем не так.
После разгрома Врангеля Фрунзе двумя третями сил,
участвовавших в разгроме "черного барона", обрушился на
Махно. Но удар был нанесен по воздуху. И так случалось
каждый раз: когда страшный кулак Красной Армии, имевшей
ошеломительное превосходство в людях и вооружении, обру-
шивался на Махно, батьки там не оказывалось. Фрунзе,
несомненно, выдающийся полководец, честно признал свою
129
неудачу, тем самым подтвердив высокое военное мастерство
Махно, которого не без оснований называют гением парти-
занской войны.
Но изумительные победы этот гений одерживал лишь в
тех случаях, когда крестьянство (все, а не только, как иные
считают, кулаки) поддерживало его. И по существу Махно
ушел с военной арены непобежденным. Я бы сказал даже:
победителем. Потому что НЭП — это была победа Махно. Его
и кронштадтцев, поднявших восстание против военного ком-
мунизма, и антоновщины на Тамбовщине, и рабочих, басто-
вавших во многих городах России.
Но победа Махно (введение большевиками новой эконо-
мической политики) стала и его поражением. Однако победил
его не Фрунзе, а Ленин, и то была не военная, а политическая
победа.
Крестьянин получил землю, невыносимо грабительскую
продразверстку заменили терпимым продналогом, к тому же
вышла амнистия тем, кто во время гражданской войны
воевал против советской власти. Батько крестьянам больше
не был нужен.
Все эти обстоятельства сделали существование махновщи-
ны абсолютно бесперспективным.
Вот в такой критический момент и состоялось 21 июля
1921 года в Исаевке Таганрогского округа заседание махнов-
ского штаба и совета.
Здесь Махно предложил идти в Западную Галицию на
помощь украинскому национальному движению. Белаш тоже
не был против оказать поддержку борцам за национальную
свободу, но предлагал отправиться в Турцию и влиться в ряды
Мустафы Кемаля, получившего впоследствии фамилию Ата-
тюрк (отец турок).
Весьма любопытные и, скажем прямо, неожиданные
планы. Ничего общего с так называемым крестьянским
практицизмом и просто здравым смыслом они не имеют.
Мы помним, как батько Махно шел на разрыв с советской
властью, не страшился быть объявленным вне закона, но
категорически отказывался переместиться на польский
фронт или на Северный Кавказ, как приказывали больше-
вики. Потому что отлично понимал: армия у него парти-
занская, и оторвись он с ней от родных очагов, как сразу
же утратит поддержку населения. Да и боеспособность
полков катастрофически упадет. И если при всем при этом
летом 1921 года Махно решился уйти в чужие края, то
лишь потому, что у него и небольшой части "спортсменов
130
войны", для которых война уже стала образом жизни, выбора
не было.
Но подавляющее большинство повстанцев не заинтересо-
вало ни предложение батько, ни идея начальника штаба.
Смертельно измученные неравной борьбой, махновцы в глу-
бине души мечтали воспользоваться амнистией и вернуться
под родной кров. Но в тот день они еще не разбежались (это
случится очень скоро), а раскололись на две группы: привер-
женцев Махно и сторонников Белаша.
На следующий день бывший начальник штаба РПА на-
всегда, как выяснилось позднее, расстался с командармом, и
каждый со своим отрядом направились в разные стороны.
Через два месяца, когда Нестор Иванович с женой уже
обосновался в Бухаресте, в кубанской станице Должанской
чекисты арестовали Белаша.
С тяжелым сердцем пишу я эту главу, потому что мне
придется рассказать в ней о весьма неблаговидных подроб-
ностях его, Белаша, биографии. У нас немало любителей,
которым доставляет наслаждение "сжигать то, чему покло-
нялись", — я не из их числа. Как радовался я, когда
реабилитировали Виталия Примакова, отважного командира
червонного казачества, и как больно было узнать потом, что
сломали его на следствии. И невыносимо было представить
себе этого красивого и гордого человека жалким и унижен-
ным.
Такое же чувство испытал я, когда недавно узнал о
последних часах Александра Пархоменко. Люди моего поко-
ления подростками смотрели фильм мариупольца Леонида
Лукова, и начдив 14-й вошел в наше сознание как образец
храбреца-героя.
И вот узнаю из показаний Белаша, что, когда начдив 14-й
3 января 1921 года чисто случайно попал в руки махновцев,
он униженно умолял Марченко и Махно сохранить ему жизнь.
Мало того, что он дал все сведения о красных частях, какие
от него требовали, он показывал письмо своего брата, анто-
новского командира Пархоменко, анархиста. Он уверял, что
сам является последователем анархизма, что поддерживает
тесную связь со своим братом.
Тем не менее Александра Яковлевича впопыхах расстре-
ляли, о чем Махно, между прочим, жалел. Он говорил:
"Пархоменко можно было простить расстрел дедушки Мак-
сюты".
Эти сведения из показаний Белаша начала 20-х годов до
недавнего времени не публиковались: они противоречили
131
романтическому образу рыцаря революции без страха и
упрека, который создали наша литература и искусство. Но эти
строки Белаш писал, думаю, с особенным удовольствием:
малодушие Александра Пархоменко в момент смерти в ка-
кой-то степени оправдывало далеко не героическое поведение
самого Виктора Федоровича в чекистской тюрьме.
Во второй раз его арестовали 18 декабря 1937 года в
Краснодаре, где он жил с февраля 1934 года, работал меха-
ником по ремонту пишущих машинок в мастерской Союза
охотников, занимался изобретательством и, как он сам гово-
рил, литературным творчеством (при обыске изъяли две
папки с рукописями, исчезнувшие бесследно). В деле нет
обычных протоколов допроса, состоящих из диалога: вопрос
следователя, ответ обвиняемого. Лейтенанту Госбезопасности
Исакову повезло: ему попался многоопытный подследствен-
ный, который охотно согласился написать все, что интересо-
вало НКВД. Он и в наводящих вопросах не нуждался. Писал
он свои показания целую неделю с лишним, закончил 26
декабря, потом их перепечатывали, Белаш их вычитывал
после машинки и делал от руки поправки, заверял своим
автографом каждый лист показаний.
Этот документ содержит 60 страниц на машинке с соб-
ственной нумерацией. На каждой странице "Собственноруч-
ных показаний" тушью проставлена общая нумерация дела.
Поскольку я собираюсь выдвинуть против Виктора Федоро-
вича Белаша очень серьезные обвинения, то буду ссылаться
на его показания, указывая в интересах точности страницу
этого документа, а в скобках номер страницы уголовного дела
B. Ф. Белаша N 37008. Например: "Все, что было недобитое
или законспирированное, — пишет Белаш в "Собственноруч-
ных показаниях", — я все отдал (во время сидения в чекист-
ской тюрьме в 1921 —1924 гг. — Л. Я.) органам ЧЕКА".
C. 36(42).
Нуждается ли в комментариях это признание? Можно ли
еще сомневаться в том, как вел себя на допросах после первого
ареста и во время сидения в советской тюрьме Виктор Белаш?
(Кстати сказать, суда над ним так и не было тогда: отсидев
два с половиной года, он был выпущен на свободу).
Документ написан в своеобразной форме. Это не доклад
сексота (секретного сотрудника) НКВД "о проделанной рабо-
те", и в то же время он им является. Очень возможно, что
следователь коварно велел соблюдать "подписку о неразгла-
шении" и не указывать в показаниях, что их автор — тайный
агент НКВД. Ему, следователю, это нужно было для того,
чтобы обвинить потом Белаша в контрреволюционной дея-
132
тельности, предпринятой по собственной инициативе, а не по
заданию органов госбезопасности (как было на самом деле) и
подвести таким образом подследственного под расстрельную
статью. Но возможно и такое предположение. Автор "Соб-
ственноручных показаний" пишет так, будто опасается, что
рано или поздно тайное станет явным, и не желает оставлять
против себя улик на случай, если на смену нынешним властям
придут другие, и они обнародуют имена и дела стукачей
ГПУ—НКВД. Но он проговаривается.
Приведу пример. Вот Белаш "собственноручно" показы-
вает: "В течение этого промежутка времени (с конца 1925-го
до февраля 1934 года. — Л. Я.) вплоть до 1931 года я вел
работу в аппарате Югостали, Стали и Гипроруде среди слу-
жащих и инженеров. ("Вел работу" в чью пользу? Разумеется
не анархистов, а НКВД. Написано, однако, неопределенно,
расплывчато. — Л. Я.) Кроме того, по заданию организации
(здесь в машинописном тексте интервал, оставленный, оче-
видно, для неразборчивого слова. — Л,Я.) я дважды выезжал
в махновские районы с целью выявить контрреволюционные
махновские элементы, особенно командный состав". (Можно
подумать, что пославшая его "организация" — анархистская,
подпольно действовавшая тогда в Харькове. Но тогда почему
же он должен был выявить КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ эле-
менты? Все очень просто: на странице 41 (47) он пишет, что
целью рейда, куда он был направлен известным вам учреж-
дением, было "кое-кого выявить". Не "организация" а "УЧ-
РЕЖДЕНИЕ". И оно нам действительно известно: его назва-
ние содержит всего лишь четыре прописные буквы — НКВД.
Как ни странно, Белаш говорит истинную правду, когда
утверждает, что ездил по махновским районам по заданию и
"организации" и "учреждения". Потому что на эти команди-
ровки его благословили и энкаведисты, и подпольщики-анар-
хисты. ( Л. Я.)
Каковы же были успехи "путешествия" Виктора Белаша
по махновским местам? Выпишу всего лишь несколько стро-
чек со страницы 6(12) "Собственноручных показаний": "В
результате этого была нащупана группа Буданова, которая
открыто ставила своей целью в 1927 году свержение советской
власти на Мариупольщине. Но эта группа провалилась в своих
расчетах, и в Харькове Буданов и Белочуб были расстреляны,
а остальные 7—8 человек получили по 10 лет. В этот же
промежуток времени был арестован Пантелей Каретников,
который имел уголовную банду и который изъял махновские
ценности. Он был приговорен к высшей мере, но потом это
было заменено 10 годами". Если у кого-то еще были сомнения
133
насчет провокаторской роли Белаша, то заключительные
строки анализируемого абзаца их окончательно рассеивают:
"Как результат этой поездки был арестован и Иван Лепетченко
за то, что он в Польше посадил в тюрьму анархистов —ему
дали 10 лет".
Итак, в середине 20-х годов среди бывших махновцев были
люди, которые замыслили свержение советской власти на
Мариупольщине. Кто они?
Белочуб Пантелей Федорович (имя, отчество сообщили его
односельчане) был командиром махновской батареи. Работу
проводил в греческом селе Старый Крым (ныне входит в
состав города Мариуполя). В анархистских кругах был хоро-
шо известен, раз его собирались пригласить на подпольный
съезд "Набата", намечавшийся в августе 1924 года в Харькове.
Не сохранилось имя-отчество (даже инициалы неизвестны)
второго организатора заговора, но зато фамилия у него
громкая — Буданов. На страницах истории махновского
движения эта фамилия встречается часто.
Это он, Буданов, вместе с Калашниковым и Дерменжи
подняли в июне 1919 года мятеж в Красной Армии, будучи
командирами бывшей махновской Третьей бригады. Они
привели батьке в район Добровеличковки — Помощной ряд
полков — всего 12 тысяч вооруженных бойцов. (См. главу
"Жизнь и гибель Василия Куриленко"). Тогда же в Добро-
величковке был избран новый состав Военно-революцион-
ного совета Революционно-повстанческой армии Украины
(махновцев), в состав которого вошел также Буданов (как
и Виктор Белаш). Он был избран также членом штаба
армии, который возглавлял в то время, напомню, тот же
Виктор Белаш.
Далее из документов следует, что Буданов назначается
командиром инициативной группы по Старобельскому уезду
для организации повстанческого движения. Это было уже в
1920-м. 26 мая того же года был избран новый состав ВРС РПА
(махновцев), и снова Буданов — среди избранных.
Когда начались переговоры о заключении военно-полити-
ческого союза между махновцами и Красной Армией, в
Харьков поехал Буданов во главе делегации РПА. Там же он
был арестован большевиками 25 ноября 1920 года, когда
Фрунзе, вероломно нарушив договор, начал операцию против
вчерашних союзников. Остается неясным, каким образом
остались в живых Василий Куриленко, входивший в состав
делегации и подписавший советско-махновские соглашения,
и сам Буданов, в то время как И. Д. Попов и другие делегаты
были расстреляны ЧК.
134
Как бы то ни было, Буданов вместе с Белочубом в середине
20-х годов в районе Мариуполь — Таганрог ведут подготовку
к антисоветскому восстанию. Уверен, это не выдумка НКВД,
что весьма характерно для тридцать седьмого года, а подлин-
ный факт. То есть, их расстреляли не "ни за что", как это
было принято в тридцать седьмом, а за "что-то": за дело.
Несмотря на громкое махновское прошлое, Белочуб был
избран в Старом Крыму председателем сельсовета. (Вообще
из показаний Белаша следует, что бывшие махновцы, убеж-
денные "безвластники", весьма активно стремились занять
ключевые места в структурах советской власти. И что странно,
добились в этом отношении заметных успехов. Правда, время
от времени большевики "чистили" соратников Нестора Ива-
новича, невзирая на амнистии, что вызывало недовольство
бывших махновцев). С этой должности его, однако, сняли
накануне визита Белаша, заменив его кооптированным с
завода имени Ильича, то есть не избранным, а назначенным.
Белочуб занимался своим хозяйством и демонстративно не
хотел участвовать в общественной работе.
Пантелей Федорович оказался тертым калачом и с Бела-
шом, несмотря на его громкий авторитет среди махновцев,
вел себя осторожно, подозревая бывшего начштаба в прово-
каторстве. Он выдавал себя "за усталого и передыхающего
анархиста". Правда, он сказал Белашу, что Буданов живет
где-то поблизости на хуторе, но где именно, благоразумно не
сообщил. Белочуб пообещал Белашу повидаться с Будановым
и рассказать ему о госте из Харькова. "Это было нечестно, и,
как после выяснилось, Буданов стоял во главе заговора в
районе между Мариуполем и Таганрогом", — пишет Виктор
Белаш. Он еще рассуждает о честности!
Осторожничая, Пантелей Федорович предложил тем не
менее Белашу написать ему из Харькова. По-видимому,
Буданов больше, чем Белочуб, доверял своему боевому другу,
с которым вместе состоял в махновском руководстве, и на
письма старого соратника отвечал. Причем достаточно откро-
венно. О том, что из этого получилось, Белаш пишет не без
гордости: "Переписка эта проводилась, и вскоре эта заговор-
щицкая группа была ликвидирована ГПУ, Буданов и Белочуб
расстреляны, а остальные получили по 10 лет". Стр. 24(30).
Жертв Белаша среди мариупольцев могло быть больше,
он пытался найти связи на заводе имени Ильича. Но — не
успел. Свое путешествие он совершал на велосипеде и од-
нажды на большом ходу врезался во встречных лошадей с
телегой. "Я чувствовал себя весьма избитым и не мог приехать
под Таганрог, в Новониколаевскую станицу (ныне г. Ново-
135
азовск Донецкой области. — Л. Я.), где в свое время было
много местных махновцев", — искренно сокрушается и как
бы оправдывается перед энкаведистами Белаш.
В 1924 году жители Харькова Рейдман, Цемник, супруги
Немерицкие и Долинские обратились в ГПУ с просьбой выдать
им на поруки арестованного Виктора Федоровича Белаша.
Все эти граждане чекистам были хорошо известны как
анархисты-подпольщики. Поэтому Белаша они отпустили на
свободу с удовольствием, но не без задания. Анархистам тоже
в рот палец не клади, они Белаша проверяли, поначалу не
давали никаких заданий, мотивируя тем, что после длитель-
ной отсидки он нуждается в отдыхе.
Прежде чем продолжить рассказ, хочу заметить, что
энциклопедический справочник "Великий Жовтень 1 Грома-
дянська війна на Украіні" (К., 1984. Тогда, как видим,
говорили еще НА, а не В Украине) не сочла нужным дать на
своих страницах статью о "Набате", конфедерации украин-
ских анархистов, взявших на себя идейное руководство мах-
новщиной. Не сделало это и третье издание БСЭ. А вот
справочник "Гражданская война и военная интервенция в
СССР" (М., 1983) поместила такую справку, сообщив в ней,
что в ноябре 1920 года ЧК Украины ликвидировала "Набат",
а его главари были высланы за границу. Имеются в виду
Волин (В. М. Эйхенбаум. Кстати сказать, родной брат Бориса
Михайловича Эйхенбаума, видного литературоведа, о кото-
ром можно прочитать и в БСЭ, и в Краткой литературной
энциклопедии), П. Аршинов и др.
Однако харьковские чекисты знали то, что неведомо было
энциклопедистам 1980-х годов. Они знали, что набатовцы
восстановили конфедерацию "Набат", ее группы успешно
действовали в Харькове, Курске и других городах. Забегая
вперед, скажу, что украинские анархисты оказались един-
ственной из известных мне организаций, которая пыталась
оказать сопротивление организаторам голодомора на Ук-
раине.
На июль—август 1924 года намечен был съезд анархистов
Украины (подпольный, разумеется). Предполагалось, в час-
тности, пригласить также попутчиков из махновского лагеря,
в том числе, как уже упоминалось, Белочуба из Старого
Крыма.
К этому времени набатовцы уже начали мало-помалу
доверять Белашу. Считаю, что именно поэтому съезд не
состоялся. Внезапно были арестованы 70 активных анархис-
тов. Из этой группы трое были отправлены в Нарымский
136
край, трое в более благоустроенный Ташкент. В том числе и
Виктор Белаш. Оставить его на свободе — значило раскрыть
его как провокатора и сексота. И пришлось Виктору Федо-
ровичу прокатиться в весьма отдаленные места.
Более подробно об этих и подобных делах читатель узнает
из "Собственноручных показаний", которые, хоть и безумно
дорога бумага, я все же решил опубликовать полностью в
приложениях.
Итак, Виктор Белаш в Ташкенте. Он получает поздрави-
тельную новогоднюю открытку из Парижа за подписями
вождей анархизма: Волина, Нестора, Галины, Мрачного и
др. Тем не менее среди однодельцев зреет подозрение, что
Белаш — ренегат. К сожалению, не все разделяли это мнение.
Не удержусь и приведу еще один пример работы Белаша в
пользу ГПУ. Почта анархистов шла через легальные каналы.
Ревекка (та, которая больше всех была убеждена в предатель-
стве Белаша) настаивала на нелегальные каналы — через
"окно" на границе. Против этого возражал Белаш. "Возражал
я потому, — пишет он, — что подобная корреспонденция
могла бы легко пройти мимо меня". И тогда, следовательно,
славные гепеушники не имели бы от своего агента полной
информации о действиях анархистов.
Последние стали скрывать свои действия от Белаша,
таким образом, его присутствие в Ташкенте утратило смысл.
"Подшефных Белаша отправили в студеные края, а самого
Виктора Федоровича досрочно освободили из ссылки и вер-
нули в Харьков.
Следующий этап провокаторской деятельности бывшего
начальника штаба махновской армии — конец 1925 года —
февраль 1934-го. Именно в этот период он совершил два рейда
по махновским местам, от которых многим не поздоровилось.
Зато мы узнаем, как сложились судьбы бывших махновцев.
Многие вполне успешно "врастали в социализм", оставались
партийцами (многие из них имели большевистские партби-
леты), получили удостоверения красных партизан (сражались
же в рядах Красной Армии). Будучи лидерами по характеру
и природе, они избирались своими односельчанами, среди
которых пользовались большим авторитетом, в органы
власти. ГПУ вербовало среди них агентов, следило за настро-
ениями бывших махновцев, всячески ограничивали их хо-
зяйственную и общественную деятельность. Были и непри-
мирившиеся. Но в общем "бывшие махновцы сложили ору-
жие и теперь рыбалят и пьют вино". Один из собеседников
Белаша даже сказал, что если бы явился сейчас Махно, его
бы связали и сдали властям.
137
Все это было в сравнительно благополучное нэповское
время. Почему молчали бывшие лихие махновцы, когда их
дуриком загоняли в колхозы, ссылали в студеные края и
морили голодом — это "информация для размышлений".
Зуд разоблачительства мне чужд совершенно. Мне ис-
кренно жаль Виктора Федоровича Белаша, личность незау-
рядную, человека талантливого, мужественного, наконец,
просто умного. Почему же он сломался, почему с таким
упоением стал предавать своих вчерашних боевых друзей и
соратников? Из идейных соображений? Всегда ведь склонялся
к идее сотрудничества с красными, а теперь, разочаровавшись
в анархизме, убежденно помогал большевикам? Но ведь сама
идея предательства и роль провокатора должны были казаться
отвратительными порядочному человеку, каким представ-
лялся мне Виктор Белаш. Так что же? Страх за свою жизнь,
желание во что бы то ни стало, любой ценой сохранить ее?
Он, многократно проявивший отвагу, мужество, бесстрашие?
Может ли такое случиться с человеком?
Похоже, может. Все может случиться с человеком. Как
бы то ни было, но друзей своих и товарищей он предавал с
каким-то злорадством. Может быть, потому, что, обличая их
в прислужничестве закордонным разведкам, он внутренне
оправдывал собственное предательство?
Не один Белаш изменил Махно и анархизму: гражданская
война кончилась победой большевиков, и надо было как-то
жить. Но даже в этих условиях "смены вех" люди вели себя
по-разному: одни сохранили достоинство, а другие пустились
во все тяжкие, предавали все и всех, лишь бы сохранить свою
жизнь и относительное благополучие, а то и откровенно желая
выслужиться перед советской властью.
К сожалению, приходится признать, что Виктор Белаш
относится не к первой из перечисленных категорий.
Иван Лепетченко, которого Виктор Федорович в "Показа-
ниях" высокомерно аттестует: "Очень ограниченный махно-
вец-рубака", тоже был по возвращении в СССР завербован
чекистами. На допросе в Мариуполе в 1934 году, когда его
спросили, с кем из махновцев он поддерживает связь, назвал
Виктора Белаша и Леву Задова (Л. Н. Зиньковского). Но ни
одного дурного слова о них не сказал. Как не донес ни на
кого из своих старых боевых друзей-махновцев, за что и был
преследуем НКВД.
Виктор же Белаш в своих показаниях подробно убеждает
следователя, что Лепетченко, по всей видимости, агент поль-
ской дефензивы и всячески старается его "заложить", как и
138
всех прочих, в том числе и Махно, которого представляет
платным агентом той же охранки.
Левка Задов (Зиньковский) стал работником НКВД, от-
рекся — совершенно искренне — от анархизма, к чему
призывал и Белаша. Выйдя на свободу из советской тюрьмы,
куда попал после возвращения в СССР, он разыскивает
Белаша, пишет ему письмо в Ташкент, затем часто по-дру-
жески встречается с ним во время приездов в Харьков. Он
перетягивает к себе в Одессу и устраивает на работу Пантелея
Каретникова, видного махновца, приговоренного к расстрелу,
но помилованного; он предлагает помощь Ивану Лепетченко,
зовет его в Одессу, обещает устроить, всячески помогает
другим бывшим махновцам.
Белаш же еще в 1921 —1924 годах, давая в тюрьме пока-
зания чекистским следователям, обливает грязью Левку
Задова. Часть этих показаний попала в книгу М. Кубанина
"Махновщина". В "Собственноручных показаниях" Белаш
невозмутимо пишет о том, как Зиньковский (Задов) и его
жена возмущались им за это. Сам он угрызений совести по
поводу того, что публично — после публикации М. Кубани-
на — очернил своего товарища, не испытывает. Более того,
подробно донося, кому из бывших махновцев Л. Зиньковский
помог и собрал возле себя в Одессе, он настораживает следо-
вателя: может, и для хорошего дела так действует Зиньков-
ский-Задов, а может, и в пользу румынской разведки.
Когда в камере краснодарской тюрьмы Белаш строчил донос
на Лепетченко, Иван Савельевич уже лежал в земле сырой под
Мариуполем с чекистской пулей в затылке, а полковнику
госбезопасности Зиньковскому-Задову ломали кости в пыточной
камере НКВД "за все, в чем был и не был виноват".
Умный Белаш, видимо, понимал, что его специфические
заслуги перед НКВД могут не спасти его от смертоносной
мясорубки массовых репрессий, принявших к концу 1937
года ужасающий характер. Под конец своей многостраничной
исповеди он зачастил, стал лихорадочно припоминать слу-
чайных знакомых, "ругливых против советской власти",
каяться, что не выдал старого анархиста, бывшего народни-
ка, — "это мое преступление". Жалеет, что, слушая бытовые
мещанские разговоры, не придавал им значения и не доносил.
"В этом я глубоко и глубоко виноват". "Я не передавал их,
куда следует". Он просит дать ему возможность исправить
свою вину перед советской властью, он готов опять доносить
и доносить, "здесь или на Украине".
Грустно читать эти строки.
139
Предчувствие не обмануло Белаша. 26 декабря 1937 года
младший лейтенант госбезопасности Самойлов, прочитав по-
казания Белаша, сделал вид, что ничего не понял, то есть
работу, которую подследственный в течение многих лет
проводил по заданию чекистов, посчитал контрреволюцион-
ной и "установил следующее":
"Белаш, в прошлом начальник штаба банды Махно, за
активное участие в анархическом движении ссылался в
Ташкент. После возвращения из ссылки в 1926 году борьбы
с соввластью не прекратил, поддерживал связи с анархо-син-
дикалистскими кругами за кордоном. Поддерживал органи-
зационные связи с анархистским подпольем на Украине.
Неоднократно объезжал районы Украины и связывался с
махновцами с целью организации борьбы с соввластью.
До последнего дня проводил контрреволюционную работу,
направленную против соввласти, поддерживал контрреволю-
ционные связи с анархистами-махновцами и ставил своей
целью борьбу с соввластью".
Доказательства? — "Изобличается показаниями обвиняе-
мого Белаша".
Самойлова, — столь беспардонно исказившего суть дела,
вскоре расстреляли — за фальсификацию, — "но разве от
этого легче"?
30 декабря 1937 года Белаш Виктор Федорович тройкой
УНКВД по Краснодарскому краю был приговорен к расстрелу.
"Собственноручные показания" изобилуют грамматически-
ми, пунктуационными и стилистическими ошибками. Часть
из них я исправил. Скажем, неправильное употребление
предлогов ИЗ и С (приехал с Харькова"), часть оставил в
авторской редакции (Смеется с выборов вместо "смеется над
выборами", "Узнал ЗА Мацесту" ит. д. ит. п.). Оставил без
правки неуклюже сконструированные фразы — они создают
своеобразный колорит рукописи.
В. Ф. Белаш, сам того не желая, написал историю мах-
новцев и анархизма на Украине в 1921—1937 гг.
Я уже приводил сведения об анархизме и, в частности, о
"Набате", которые дают советские справочные издания. Но
вот, к примеру, что пишет Белаш: "На следующий день после
моего отъезда (на Кубань — Л. Я.) славное ГПУ прекратило
существование "Набата". Не в 1920 году, а в 1934-м "анархизм
разбился" и разгромлен был "Набат".
"Собственноручные показания" Виктора Белаша имеют
несомненное научное значение. К их внимательному изуче-
нию и анализу историки, уверен, будут обращаться не раз.
140
ПЕРВАЯ ДАМА ГУЛЯЙ-ПОЛЯ
В статье "Человек, который не знал, за что боролся"
("Приазовский рабочий" от 1 апреля 1989 г.) я цитировал
дневник Феодоры Лукьяновны Гаенко о чудачествах батьки
и жестокостях махновцев. Этот документ я представил как
дневник жены Махно.
Вскоре после публикации этой работы встретил меня в
редакции Лазарь Аронович Друян, уважаемый в городе
человек, почетный азовсталец, и сказал мне, что я ошибся:
женой Махно была Галина (по паспорту — Агафья) Кузь-
менко, а Гаенко — подруга его жены, тоже учительница.
Я воспитанно постарался скрыть свое скептическое отно-
шение к словам Лазаря Ароновича: документ цитировал по
книге известного военачальника Р. П. Эйдемана, которого
соплеменники-эстонцы называют Эйдеманисом. Роберт Пет-
рович держал в руках упомянутый дневник, захваченный в
одном из боев с махновцами. В той же книге красный
командарм сообщает, что Феодора Гаенко — жена Махно.
В ходе нашей беседы с Л. А. Друяном мой скептицизм все
более улетучивался, зато рос восторг от невероятной удачи:
я и помыслить не мог, что встречу человека, который маль-
чишкой держал в поводу лошадь Махно, когда Нестор Ива-
нович приезжал в их двор на свидание к юной красавице, за
которой в то время ухаживал. Нет, это была не "мать Галина",
на ней батька женился позднее.
Лазарь Аронович, уроженец Гуляй-Поля, в те баснословные
годы был гимназистом, и украинский язык ему преподавала
молодая и красивая Агафья Андреевна Кузьменко. Когда она
стала женой Нестора Ивановича и каким образом превратилась
в Галину — этого мой собеседник не знал, но что его гимнази-
ческая учительница Агафья Андреевна и "мать Галина" одно
и то же лицо — это ему известно доподлинно.
Забегая вперед, скажу, что, когда я позднее занялся
изучением этого вопроса, рассказ Л. А. Друяна подтвердился
почти во всех деталях.
141
Зная из многих источников, что Махно отнюдь не был
однолюбом, я проникся симпатией к женщине, которая
разделила с Нестором Ивановичем все невзгоды гражданской
войны, была с ним и в румынском лагере, и в Польше, и в
Германии, и в Париже, оставалась — в моем представлении —
верной и любящей и в дни поразительных побед этого чело-
века, и во время его эмигрантской нищеты и униженности.
Такое впечатление создалось у меня о ней по письмам Виктора
Ивановича Яланского, внучатого племянника Махно, кото-
рый принимал у себя Галину Андреевну, когда она после
многолетних мытарств приехала незадолго до своей смерти
в Гуляй-Поле.
Поэтому был шокирован, когда в еженедельнике "Голос
Родины" (1991, № 15, с. 11) прочитал о Галине Кузьменко:
"Любила ли женщина атамана? Возможно. Изменяла ли?
Постоянно. Знал ли об этом Махно? Безусловно. От угодливых
доносчиков небрежно отмахивался: "Для семейного счастья
у меня нет свободной минуточки".
Так разухабисто и безапелляционно пишет журналист
Вадим Кассис в упомянутом еженедельнике. Приведем еще
несколько строк из его обширной публикации "Батька Махно
на Украине и в Париже":
"В годы германской оккупации Франции Галина влюби-
лась в немецкого офицера и уехала с ним в Берлин. Махно
продолжал тянуть лямку неустроенного, обкраденного мо-
рально и физически жалкого эмигранта".
Гитлеровцы оккупировали Францию в 1940 году. Махно
умер в тридцать четвертом, о чем В. Кассису хорошо известно.
Как же мог батька через шесть-семь лет после своей кончины
"продолжать тянуть лямку...", искать встреч с журналистами
и "не отказываться от зеленого змея"?
Сказать, что автор "Голоса Родины" все высосал из пальца,
нельзя, определенными источниками он пользовался. Но как?
Судите сами.
Близкая к Махно во время его пребывания в Париже
женщина —И. Метт— пишет в своих воспоминаниях: "Если
я не ошибаюсь, во время немецкой оккупации Франции
Галина Кузьменко сблизилась с немецким офицером и ока-
залась в Берлине вместе с дочерью, где и погибла под
бомбежкой. Может быть, это не так, и она доживает где-ни-
будь. Не исключено, что и в России". (Нестор Иванович
Махно. Воспоминания, материалы и документы. Киев, 1991,
с. 127).
Как видим, Вадим Кассис бесстрашно убрал все вводные
словосочетания, употребленные мемуаристкой, чтобы выра-
142
зить предположительный характер сообщаемых сведений, и
предпочел категоричность человека, располагающего абсо-
лютной истиной.
Но оставим в покое не слишком добросоветного журна-
листа. Мало ли было их, клеветнических публикаций о
Несторе Ивановиче Махно, его делах, победах и поражениях,
его личной жизни. Появляются они, к сожалению, и сегодня.
Попытаемся лучше по доступным нам источникам воссоздать
образ женщины, которая стала матерью единственной дочери
Махно.
Когда в марте 1919 года 1-я Заднепровская дивизия
штурмом взяла Мариуполь, рядом с начдивом Дыбенко и
комбригом-3 Махно были их жены. Александру Михайловну
Коллонтай, супругу Дыбенко, мы знаем хорошо: о ней напи-
саны книги, сняты фильмы, ее имя вошло в историю россий-
ской революции.
А что мы знаем о Галине Андреевне Кузьменко?
Вот портретная зарисовка этой женщины, сделанная
Н. Сухогорской: "Очень красивая брюнетка, высокая, строй-
ная, с прекрасными темными глазами и свежим, хотя и
смуглым цветом лица, подруга Махно внешне не походила
на "разбойницу". По близорукости она носила пенсне, которое
ей даже шло".
В другом месте эта же мемуаристка пишет: "Жена Махно
производила впечатление не злой женщины... В котиковом
пальто, в светлых ботах, красивая, улыбающаяся, она каза-
лась элегантной дамой, а не женой разбойника".
Весной 1919 года Павел Дыбенко и Александра Коллонтай
жили в просторном номере гостиницы "Континенталь", а
Нестор Махно и Галина Кузьменко — в штабном вагоне на
станции Мариуполь: после Бутырок батька страдал боязнью
больших замкнутых помещений (эта болезнь, если не оши-
баюсь, называется клаустрофобией) и дворцам предпочитал
крестьянские хаты или штабные вагоны.
К жене начдива Галина Андреевна питала сложные чув-
ства. Она и завидовала этой женщине и восхищалась ею. Ей
странно и непонятно было то безграничное обожание, с
которым относился к сорокасемилетней Коллонтай тридца-
тилетний Дыбенко, двухметроворостый красавец, рядом с
которым ее Нестор, тщедушный и невидный, казался хилым
подростком.
Она присутствовала на митинге в Мариупольском цирке
3 апреля 1919 года. Галина Андреевна испытала укол само-
любия, когда после энергичной речи Дыбенко начал говорить
143
Махно. Он и здесь проигрывал начдиву. Нестор, по правде
сказать, оратором был неважным, но зато как завороженно
слушали его. повстанцы Украины!
Затем неописуемый восторг вызвала совершенно изуми-
тельная речь начальника политотдела 1-й Заднепровской
дивизии Александры Коллонтай. Нет, так произносить за-
жигательные речи она, Галина Андреевна, не умеет. Зато она
умеет ходить в атаку и в бою стрелять из пулемета.
Рассказывают, что она на месте преступления собственно-
ручно застрелила несколько махновцев за грабежи и насилия
над женщинами. Это очень похоже на правду и случиться
могло и в Мариуполе, в котором вскоре после его взятия
начались грабежи и насилия.
И все же повстанцы ее любили, и если Махно называли
батькой, то ее — матерью Галиной. В бой они шли с песней:
"За матушку Галину, за батьку за Махна". Н. Сухогорская
пишет: "Я видела Махно с женой, въезжавших в село на
чудной тройке мышиной масти коней, в прекрасной, обитой
голубым сукном коляске. Народ стоял и кланялся, снимая
шапки, а батька с супругой милостиво отвечал подданным,
кивая головой. Настоящий гуляйпольский монарх".
В рассказе Л. А. Друяна о том, как его учительница Агафья
Андреевна вышла за Махно, есть такие подробности. Ухажи-
вания батьки Кузьменко решительно отвергла, и тогда он
пригрозил ей, что отвезет ее родителей —богатых людей —
в Бердянск и там собственноручно утопит их в море. После
такого ультиматума Агафья Андреевна сдалась.
Уже будучи первой дамой Гуляй-Поля и его окрестностей
Галина Андреевна (в новом положении она посчитала не-
уместным простонародное имя Агафья и сменила его на более
благозвучное и, как она считала, аристократичное), расска-
зывала Н. Сухогорской, что "первые попытки Махно ухажи-
вать за ней встретили с ее стороны решительный отпор". Это
лишний раз подтверждает рассказ Л. А. Друяна. Но родители
Кузьменко вряд ли были богатыми людьми. Во всяком случае
не помещиками (есть и такой вариант), однако у них хватило
средств дать своей дочери приличное образование.
Товарищ Нестор (так до получения звания "батько" обра-
щались к нему в Гуляй-Поле) был не на шутку влюблен в
Галину Андреевну, если уступил ее желанию венчаться в
родном селе. Свадьбу сыграли с лихими тройками, оркестра-
ми, обильным застольем, песнями и плясками — по всем
правилам.
Галине Андреевне все это нужно было, видимо, не только
для того, чтобы угодить родителям (которые были вскоре из
144
мести убиты белыми, а по другим источникам — красными).
Она, судя по всему, была верующей. Во всяком случае по ее
инициативе в гуляйпольских школах не отменили препода-
вание закона божьего. Она считала, что это могло бы отри-
цательно сказаться на народной нравственности. Не без ее
влияния Махно, будучи атеистом, нередко появлялся в цер-
квях во время венчаний, поздравлял молодых. Он не считал
грехом подобные поступки, справедливо полагая, что в этом
случае следует терпимо относиться к многовековой народной
традиции.
По признанию Галины Андреевны, постепенно она при-
выкла к Махно и, должно быть, искренно полюбила его. Была
она женщиной в известной степени интеллигентной. По
свидетельству Сухогорской, "Агафья Андреевна была неглу-
па, и ее рассказы были интересны и содержательны". Учи-
тельницу сельской школы привлекла, думаю, полная голо-
вокружительных приключений жизнь почитаемого народом
всемогущего батьки, человека, о котором слагали легенды и
пели: "Наш Махно и царь и Бог с Гуляй-Поля до Полог".
Говорят, что батько на практике осуществлял теорию
"свободной любви", но весьма сомнительно, чтобы он при-
знавал такое же право за "матерью" Галиной, как это, не
утруждая себя доказательствами, уверенно утверждает
В. Кассис. Неизвестно, каким источником пользовался жур-
налист "Голоса Родины", я же обращусь к весьма сведущему
свидетелю Л. Голику — это он, а не Лева Задов (Зиньковский),
как ошибочно утверждают, был начальником махновской
контрразведки. Приведу полностью запись из его дневника
от 26 февраля 1920 года: "В Святодухове провели митинг.
После Махно напился и сдуру разбрасывал крестьянам день-
ги, а в штабе дрался с Каретниковым. ХОТЕЛ РАССТРЕЛЯТЬ
ПОПОВА ЗА ТО, ЧТО ТОТ УХАЖИВАЛ ЗА ГАЛИНОЙ".
(Разрядка моя — Л. Я.).
Как видим, батька не отмахивался, когда ему, по утвер-
ждению В. Кассиса, нашептывали о супружеской неверности
Галины Андреевны, и застрелить соперника — подлинного
или мнимого — было для него, как говорится, раз плюнуть.
Ревнив был батька и знал, конечно, о каждом шаге своей
супруги.
Так что если бы даже первая дама Гуляй-Поля и вознаме-
рилась завести роман на стороне, то сомневаюсь, чтобы
нашелся смельчак, который бы отважился наставить рога
грозному батьке.
Выпишем еще несколько строк из мемуарных источников
о Галине Андреевне: "В кутежах и пьянстве Махно она не
145
участвовала (где же, интересно, находилась она в это вре-
мя? — Л. Я.), в карты же играть любила, причем играла
крупно, благо было много денег, заработанных не трудом, а
грабежами".
Сама же Г. А. Кузьменко пишет о своем муже: "Много
мне с ним пришлось пережить всяческих невзгод и сенсаций
во время гражданской войны".
В ту пору вошло в моду, чтобы жены "вождей" были не
только боевыми подругами, но и общественными деятельни-
цами. Галина Андреевна не могла позволить себе отстать от
моды. Мало того, что она была неофициальным наркомпросом
Гуляй-Поля: ведала культурой, просвещением и, надо ска-
зать, немало полезного сделала в этой области. Она еще заняла
влиятельный пост в контрразведке.
Об этом органе махновской армии мы подробно говорим
в главе о Леве Задове. Здесь скажем только, что совмещал
этот орган разведку с карательными функциями. Произвола
там было более чем достаточно, однако, думаю, и не больше,
чем в большевистском ЧК или белогвардейской контрраз-
ведке.
Позднее, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок в этой
области, у махновской контрразведки отняли карательные
права и передали их особой "комиссии", председателем ко-
торой и стала Галина Андреевна Кузьменко.
Главным вдохновителем карательной политики махновцев
был Д. И. Попов, активнейший участник лево-эсеровского
мятежа в Москве 6 июля 1918 года. После подавления мятежа
он бежал к Махно, у которого занимал видное положение.
Людям старшего поколения он хорошо знаком по так назы-
ваемым историко-революционным фильмам, в частности, по
картине "6 июля". Мемуаристы пишут, что это был садист-
дегенерат, поклявшийся собственноручно убить 300 комму-
нистов и сумевший довести свою работу до 200, пока его
самого не "разменяло ВЧК".
Когда карательное дело перешло в руки "комиссии" во
главе с Г. А. Кузьменко, "то варварские массовые расправы,
обычно применявшиеся контрразведкой, уменьшились, —
пишет В. Руднев ("Махновщина", Харьков, 1928, с. 75).
Заслуга, согласитесь, немалая. Однако тот же автор добав-
ляет: "Но правилом "комиссии" осталось не оставлять в
живых ни одного коммуниста".
Видимо, здесь у нее установились доверительные отноше-
ния с Левой Задовым (Л. Н. Зиньковским). В Румынии, когда
махновцы оказались в Брашове в лагере для интернирован-
ных, исключение было сделано для Левы Задова и его брата
146
Даниила, которые вместе с супругами Махно поселились в
Бухаресте.
Об их дружеских отношениях говорит и такой факт. Когда
Л. Н. Задов решил с братом перейти советско-румынскую
границу, он счел нужным посоветоваться не с Нестором
Ивановичем, не с Аршиновым (Мариным), с которым, кстати
сказать, находился в переписке, а с Галиной Андреевной. Она
"в ответном письме, — рассказал на допросе Л. Н. Задов-
Зиньковский, — мне сообщила, что она лично мой переход
одобряет, но сам Махно иного мнения, потому что он стре-
мился сдерживать махновские кадры".
Как бы то ни было,мы должны признать, что если в то
беспощадное время Галина Кузьменко сумела хоть в какой-то
степени смягчить террор махновской контрразведки, то это
говорит, несомненно, в ее пользу.
"По убеждению, — пишет о Г. А. Кузьменко Н. Сухогор-
ская, — она была щирой украинкой и стояла за самостий-
ность". Махно тоже был за независимую Украину, но крайне
отрицательно относился к какому бы то ни было проявлению
украинского шовинизма. Он боролся за самостийную Украину
трудящихся: украинцев, русских, евреев, греков, болгар —
независимо от национальности.
Не хочется цитировать И. Тепера, утверждавшего, что до
1922 года Г. А. Кузьменко оставалась довольно сильно шо-
винистически настроенной, и через нее, дескать, "украинские
националисты" оказывали дурное влияние на Махно. Прав,
думаю, Сергей Семанов, когда пишет: "Это явное преувели-
чение. Галина Андреевна была и осталась до конца дней своих
украинской патриоткой, но без всяких крайностей; кстати,
с мужем и дочерью они говорили по-русски".
О "легком" поведении Галины Андреевны в эмиграции
Вадим Кассис пишет, опираясь на воспоминания И. Метт. Мы
уже убедились, что использовал он этот документ весьма
своеобразно.
И. Метт, эмигрантка из России, знала Махно в Париже в
течение трех лет. Встречалась она с ним, когда Нестор
Иванович жил порознь с Галиной Андреевной. Между ними
все чаще возникали ссоры, они "множество раз сходились и
расходились, пытались начать совместную жизнь". В это
время, судя по всему, И. Метт была для Махно больше, чем
добрая приятельница, то есть связывали их не чисто плато-
нические отношения. Поэтому строки ее воспоминаний, по-
священные Галине Андреевне, следует принимать с осторож-
ностью: в них, на мой взгляд, присутствует женская ревность
к сопернице. "Жена, — пишет она о 1922 годе, — вероятно
147
уже не любила Махно и, кто знает, любила ли она его вообще
когда-нибудь".
Но прежде чем изложить сведения из мемуаров И. Метт,
послушаем саму Галину Андреевну о ее жизни с Махно в
эмиграции: "Пришлось нам в Париже очень трудно. С боль-
шим трудом Махно устроился простым рабочим в киносту-
дию, а я определилась прачкой в богатый дом. Здесь мы
прожили долго. Нестор, туберкулезный, все время болел.
Изредка и понемногу работал, сапожничал, работал по ус-
тройству декораций в киностудии, потом при одной француз-
ской газете. Писал Нестор свои воспоминания (мемуары)".
Материальная скудость эмигрантского быта, ужасающая,
если прямо сказать, нищета явилась, конечно, серьезным
испытанием для семьи Махно, и можно поверить в то, что
отношение Галины Андреевны к мужу за границей было уже
не таким, как на Украине, в дни "величия" батьки.
"Часто на людях, — пишет И. Метт, — жена всячески
пыталась скомпрометировать Махно, морально его унизить.
Однажды в моем присутствии она сказала о ком-то: "Это
настоящий генерал, не то, что Нестор...", явно желая
подчеркнуть, что не считает мужа полководцем. Впрочем,
Галина прекрасно знала, что во время пребывания Махно
в Румынии румынское правительство оказывало ему по-
чести, соответствующие высокому званию крупного воена-
чальника".
К чести И. Метт надо сказать, что в тех случаях, когда
она не располагает собственными наблюдениями или точными
фактами, мемуаристка решительно избегает категорических
утверждений.
Мы уже имели случай убедиться, что Вадим Кассис не
придерживается этого благородного правила. Вот как он
объясняет происхождение страшного шрама, который тя-
нулся через всю щеку Махно до нижней губы: "Когда Махно
узнал, например, что у нее (Галины Андреевны) сложились
"особые" отношения с одним петлюровским офицером, он
буквально потерял голову (автор забыл, что несколькими
абзацами выше он утверждал, что Нестор Иванович был
совершенно равнодушен к времяпрепровождению своей жены
и досадливо отмахивался, когда ему доносили о ее супруже-
ской неверности, а тут, видите ли, характер его круто изме-
нился — Л. Я.). А завершилась бурная ссора практически
криминально: Галина напала на спящего мужа с ножом и
нанесла ему ранения".
И. Метт тоже считает, что шрам на щеке Махно — "след
от удара, нанесенного ему женой Галиной, пытавшейся убить
148
его спящего". "Случилось это, — пишет она, — в Польше;
кажется, тогда она была влюблена в петлюровского офицера".
Вводное слово "кажется", придающее высказанному пред-
положительный смысл, представляется мемуаристке недо-
статочным, и она честно добавляет: "В достоверности я не
знаю, что послужило причиной этого дикого поступка".
В Польше, куда Махно с семнадцатью своими верными
соратниками попал 11 апреля 1922 года, у Галины Андреевны
действительно были приключения, но совсем иного характе-
ра. Вот как она об этом сама рассказывает: "Здесь мы были
заключены в лагерь интернированных. Просидели в лагере
шесть месяцев. Потом Нестора, Домашненко, Хмару и меня
поляки посадили в тюрьму в Варшаве (обвинили в организа-
ции вооруженного восстания в Польше, но суд 1 декабря 1923
года оправдал Махно и его приближенных). Здесь в тюрьме
я родила Елену" ("Донбас", 1990, № 4, с. 173).
Судите сами, кому больше верить: И. Метт и ее интерпре-
татору Вадиму Кассису или Галине Андреевне Кузьменко?
Как бы то ни было, но семья Махно—Кузьменко сохрани-
лась до самой кончины Нестора Ивановича.
Как же сложилась жизнь вдовы батьки в дальнейшем?
"Любвеобильная Галина, — пишет Вадим Кассис, — тут
же вышла замуж за Волина, которого в свое время Махно по
недоразумению назначил редактором газеты "Повстанец".
Атаман слишком мало знал тогда этого крайнего анархиста
в ту пору. Возможно, его подкупили подчеркнуто заискива-
ющий тон Волина и отрешенный взгляд преданного пса".
Здесь правда лишь то, что Галина Кузьменко стала женой
Волина, все остальное нуждается в уточнении.
Об этом человеке мы могли бы прочитать в энциклопедиях,
если бы их составители былых времен не придерживались
принципа, что революционерами в России были большевики,
и только.
Волин (В.М. Эйхенбаум) был выдающимся деятелем анар-
хистского движения в России, великолепным оратором и
публицистом.
К Махно он примкнул только в августе 1919 года. Его
избрали председателем ВРС РПА (махновцев), то есть Военно-
Революционного Совета Революционно-Повстанческой ар-
мии. В теории Волин стоял над Махно как председатель ВРС,
но на деле полновластным хозяином в армии был, конечно,
Нестор Иванович.
Неоднозначную характеристику Волину дает в своих вос-
поминаниях С.С. Дыбец: "Человек доктринерского ума, не
умевший и не желавший видеть действительной жизни, лично
149
мне известный еще по Америке. Он мог бесконечно разгла-
гольствовать, но всегда терял нить мысли. По любому вопросу
готов выступить с докладом или лекцией, растекается, гово-
рит по три часа... В политотделе махновской армии Волин
был, пожалуй, наиболее чистой личностью".
А вот что пишет о нем К. В. Герасименко: "Волин был,
несомненно, самой яркой фигурой среди махновских поли-
тических "деятелей"... Лет пятидесяти, преждевременно со-
старившийся и поседевший, среднего роста, с беспокойным
взглядом, направленным куда-то вдаль, Волин производил
своей растрепанной фигурой, мало знакомой с водой, щеткой
и гребнем, впечатление человека, только что выскочившего
из дома умалишенных".
Если верить характеристикам, данными двумя очень раз-
ными авторами, трудно понять, чем прельстилась Галина
Андреевна и почему она стала женой Волина. Но продолжим
цитату из очень своеобразной брошюры К. В. Герасименко:
"Преображался Волин лишь в минуты, когда произносил свои
блестящие речи, довольно удачно лавируя среди зловещей
махновской действительности, так как крестьяне, совер-
шенно не понимая и мало интересуясь идеями, проповедуе-
мыми Волиным, довольствовались своей упрощенной идео-
логией, смысл которой сводился к возможности избавиться
от властей, осмелившихся требовать от них выполнения
государственных повинностей, а также к грабежу городов,
называемому ими возвратом всего того, что городские пауки
повытянули у них за прежние годы".
Повстанцы добродушно называли его "дядя Волин".
После разгрома махновщины Волин попал в руки ЧК,
посидел в Бутырках, потом был подвергнут "высшей мере
социальной защиты": выдворению за пределы СССР.
В Париже у него был, как он пишет сам, "личный конфликт
с Нестором Махно". Далее он пишет: "Незадолго до смерти
Н. Махно мои личные отношения с ним несколько налади-
лись".
Вот, собственно, все, что мне известно о человеке, ставшем,
по утверждению И. Метт и др., мужем Кузьменко после
смерти батьки. Еще одну подробность сообщает нам Вадим
Кассис: "Женщина (Г. А. Кузьменко — Л. Я.) не сказала всю
правду до конца, умолчала о том, что вместе со своим
любовником Волиным они выкрали в госпитале из-под по-
душки Нестора Ивановича его дневник, с которым он не
расставался никогда. Даже на смертном одре..."
Таким образом, автор приведенных строк утверждает, что
между Галиной Андреевной и Волиным еще при жизни
150
Нестора Ивановича установились интимные отношения. Ос-
тавим это утверждение на совести В. Кассиса, но что это за
история с дневником?
И. Метт, у которой, как мы видели, были причины
относиться к Галине Андреевне пристрастно, утверждает в
своих мемуарах, что Махно вел дневник на протяжении всех
лет эмиграции. Какой смысл был Кузьменко и Волину
"красть" этот документ и не допустить его публикации — не
знаю. Зато доподлинно известно, что после смерти Нестора
Ивановича Волин отредактировал второй и третий тома его
воспоминаний и издал их со своими комментариями.
О жизни Галины Андреевны во время второй мировой
войны опубликованы сведения, отличающиеся от версии
Вадима Кассиса. Например: "Во время оккупации Парижа
немцами Галину с дочерью вывезли на работу в Германию".
("Донбас", 1990, № с. 174).
После разгрома рейха они попали в английскую зону. По
требованию советских властей англичане их выдали. Галину
Андреевну в СССР приговорили в 10 годам лагерей, Елену
сослали в Казахстан на 5 лет.
После смерти Сталина, отсидев 8 лет и 9 месяцев, Кузь-
менко была освобождена. Она поселилась у дочери в Джам-
буле. Ей было около восьмидесяти, когда она приехала в
Гуляй-Поле, где прошли столь феерические годы ее жизни.
Она остановилась у Виктора Ивановича Яланского, внука
родного брата Нестора — Карпа, казненного белогвардейцами.
Дом Яланского она узнала: здесь одно время размещался штаб
армии Махно, где она часто бывала.
К сожалению, я не знаю подробностей того ее приезда: какие
воспоминания всколыхнулись в ней, какие мысли и чувства?
Как встретили ее гуляйпольцы, те, которые помнили Нестора
Ивановича? Какая прекрасная тема для хорошего пера!
Я видел фотографию Галины Андреевны 70-х годов. Спо-
койный взгляд много повидавших в жизни глаз, доброе лицо,
даже в таком возрасте сохранившее следы былой красоты,
как пишут в старинных романах. Ни ожесточения, ни зло-
бы — мудрая доброта.
Если за ней, с точки зрения большевиков, и числились
"грехи" в годы махновщины, они сами отпустили их ей
амнистией к 10-летию Октября. А около девяти лет ее держали
за колючей проволокой безо всякой вины, только за то, что
она была женой Нестора Ивановича Махно. И все равно
простить ей этого не могли. Реабилитация пришла посмерт-
но — 13 сентября 1989 года, когда оптом "простили" всех
репрессированных без суда и следствия.
151
* * *
Рукопись этой книги была, в сущности, уже готова к сдаче
в набор, когда попалась мне на глаза брошюра В. Н. Волко-
винского "Батько Махно" (К., 1992). В ней я нашел много
интересных фактов, отсутствующих в источниках, которыми
я пользовался, работая над этой книгой. В том числе и о
Галине Андреевне Кузьменко.
Выясняется, что жена Махно была дочерью не помещика,
как мне сказал покойный Л. А. Друян, не богатого кресть-
янина, а... жандарма. Так утверждает В. Н. Волковинский,
не указывая источник, откуда эти сведения почерпнуты.
Отставной жандарм, осевший в селе Песчаный Брод, изо всех
сил стремился дать дочери образование. Далее цитирую
указанную брошюру в моем собственном переводе с украин-
ского: "Судьба ее сложилась нелегко. Довелось ей побывать
в Червоногорском женском монастыре и учиться в Доброве-
личской женской семинарии, познать неразделенную любовь
и стать причиной самоубийства одного из многочисленных
ее поклонников. В конце концов она получила образование
и была направлена учительствовать в Гуляйпольскую дву-
классную школу, где в конце 1918 года познакомилась с
Махно". (Указ. соч., с. 27).
После ссоры с большевиками в июне 1919 года и в
ожидании наступления деникинцев на Гуляй-Поле батько
отправил Галину Андреевну к родителям, пообещав заехать
за ней и Песчаный Брод и забрать ее с собой.
Завернул он в это село 1 июля 1919 года, когда заключал
(из тактических соображений) союз с атаманом Григорьевым
и тайно готовил "ликвидацию" последнего.
Добравшись до Песчаного Брода, Махно сразу направился
к хате Андрея Кузьменко. Встретив во дворе Галину, Нестор
Иванович сразу же заявил ее отцу, что он, Махно, и Галина
вот уже год как женаты. Старый жандарм был вне себя, он
кричал, что никаких гражданских браков не признает, а
действительным считает только церковный. Зятек, не при-
выкший, чтобы ему перечили, тут же пригрозил тестю, что
расстреляет его как бывшего жандарма и, следовательно,
врага революции.
Но дюжий жандарм тоже был не робкого десятка. Он стал
гнать Нестора Ивановича со двора, прилюдно называя его
бандитом, и клянясь, что только через его труп дочка Галина
станет женой головореза. В свару вмешалась Галина Андре-
евна, пытаясь помирить отца с мужем. Неизвестно, чем бы
кончилась первая (и, кажется, последняя) встреча зятя с
тестем, если бы не теща. Она шепнула Махно, что старик не
І52
дурак выпить, а когда захмелеет, становится добродушным
и сговорчивым. "Нестор швыдко послав Чубенка за пляшкою
горілки", — пишет В. Н. Волковинский, во что я не верю,
ибо не могу поверить, чтобы батько путешествовал, не имея
при себе про запас добрую чарку. Но как бы там ни было, а
тесть и зять хорошенько угостились, и старый жандарм дал
согласие на брак дочери с Нестором Ивановичем, пояснив
отступление от своих принципов трудностями военного вре-
мени. Впрочем, по В. Ф. Верстюку, никакого отступления и
не было, потому что сразу же была сыграна свадьба с венча-
нием в церкви и в полном соответствии с народными обыча-
ями.
Эпизод, изложенный Волковинским, источником своим
имеет, думаю, фольклор, устное народное предание, как и
свадьба, которую описывает Верстюк ("Махновщина", К.,
1991, с. 158), хотя последний и ссылается несколько туманно
на какие-то безымянные "письменные воспоминания":
"Махно, не дивлячись на свою Ідеальну анархічність, надав
законності своєму шлюбові у церкві. Шлях із дому Кузьменків
аж до престолу Божого в церкві "синки батька атамана"
застелили килимами, по яких і підійшли наречені під вінець.
Перед тим були змобілізовані всі місцеві "ґуральні" —
самогонні апарати. Такого весілля в Піщаному Броді не було
до того ніколи й, певно, більше не буде. Iли і пили всі, хто
лише хотів, до безпам'яті. Гриміло декілька молдаванських
оркестрів, "рипали батьківскі гармоністи", танцювали до
упаду... Стріляли із кулеметів та рушниць так собі в повітря
для доповнення зфектів".
На "закуску" Махно подбил крестьян напасть на больше-
виков, которые сосредоточивались в шести верстах на станции
Помошная. Большевиков разбили, захватив много ценного
военного имущества и казну 14-й большевистской армии. Все
самое ценное махновцы забрали с собой.
Андрей Кузьменко погиб вскоре от рук бойцов отряда В. П.
Затонского, расстрелявшего в селе Песчаный Брод человек
двадцать "кулаков", в том числе и старого жандарма.
* * *
Не успел я перепечатать на машинке это дополнение к
главе "Первая дама Гуляй-Поля", как попалось мне, наконец,
в руки исследование Сергея Семанова о Махно и махновщине
("Роман-газета", № 4, 1993). Его работа "Под черным знаме-
нем батьки Махно" вышло по объявлению, в 1991, но в бывшей
Ленинке, где я работал над этой книгой осенью девяносто
второго, этого издания не оказалось, а из донецкой научной
библиотеки ответили: "Не поступало".
153
Сергей Семенов был, пожалуй первым, кто после много-
летнего перерыва, наступившего в конце 20-х — начале 30-х
годов, обратился к махновской теме да еще с либеральных,
позволю себе так сказать, позиций. Его солидная статья
"Махновщина и ее крах" ("Вопросы истории", 1966, № 9)
лично для меня стала, в сущности, отправной точкой, с
которой я начал всерьез заниматься этой темой. Заинтересо-
вала она в то время очень многих, в том числе и Галину
Андреевну Кузьменко. Из казахстанского города Джамбул
написала она автору статьи в "Вопросах истории", которую
прочитала не сразу же по выходе журнала, а несколько
позднее, видимо по подсказке тех ее знакомых, которые
знали, чья она вдова.
Переписка Г. А. Кузьменко с С. Н. Семеновым, запись их
бесед при личной встрече в Джамбуле в 1968 году легли в
основу документального повествования "Под черным знаме-
нем" и составляют ее безмерную ценность.
В то же время надо помнить, что документы, опублико-
ванные С. Н. Семановым, не всегда полностью соответствуют
истине: некоторые факты, наученная горьким опытом жизни,
осторожная Галина Андреевна переиначивала умышленно,
некоторые — по ошибкам памяти, а кое-что оставила "про
себя".
Вот ее "Автобиография":
"Родилась я, Галина Андреевна Кузьменко, в городе Киеве
28 декабря 1896 года. Отец мой, крестьянин Андрей Иванович
Кузьменко, служил тогда на железной дороге. (О том, что
А. И. Кузьменко был жандармом, она, составляя цитируемый
документ в 50-е годы для МВД, благоразумно умалчивает —
Л. Я.). Мать, Доминика Михайловна Ткаченко, по происхож-
дению крестьянка. Когда мне было лет десять, отец бросил
службу и переехал с семьей в родное село Песчаный Брод
Херсонской губернии, Елизаветградского уезда, взяв у брать-
ев свой надел земли, шесть десятин, и стал заниматься
земледелием. По окончании двухклассной школы я поступила
в Добровеличскую учительскую гимназию, которую и окон-
чила в 1916 году. Первое учительское место получила в селе
Гуляй-Поле Екатеринославской губернии в двухклассной
школе. Учительствовала здесь один учебный год 1916—1917.
На следующий учебный год уехала в Киев и поступила в
университет св. Владимира. Одновременно работала в Минис-
терстве труда в качестве заведующей столом личного состава
Министерства. Через год вернулась снова в Гуляй-Поле и
стала преподавать украинский язык, физику и естествознание
в гимназиях мужской и женской. (Покойный Л. А. Друян
154
сказал мне подлинную правду, когда сообщил, что учился в
Гуляйпольской гимназии у Агафьи Андреевны Кузьменко. —
Л. Я.). Весной 1919 года сошлась с Нестором Ивановичем
Михненко—Махно, который в то время был командиром
повстанческой армии и держал фронт белых под командова-
нием Деникина".
Махно в то время командовал не Повстанческой армией,
а Третьей бригадой, но Галина Андреевна явно хотела под-
черкнуть в глазах тех, для кого она писала "Автобиографию",
заслуги батько перед революцией. Обратим внимание, что
она не "вышла замуж" за Махно, а "сошлась с ним".
Среди гуляйпольских учителей 1917 года, которые "стре-
мились помогать ей там, где рабочие и крестьяне, шедшие в
авангарде, находили их помощь полезной", Махно в своих
"Воспоминаниях" называет и Г. Кузьменко (хотя в то время
она была еще Агафьей). Между тем их первое знакомство
носило отнюдь не идиллический характер.
"Летом семнадцатого года я служила учительницей в
Гуляй-Поле, мне было двадцать лет. Я увлеклась тогда, как
и многие молодые, учением анархистов. Приходила к ним в
помещение, помогала разбирать почту и литературу; многие
были малограмотны. Однажды в комнату, где я работала,
вошел Нестор с кем-то еще, его я уже видела. Получилось
тесно, я уронила со стола стопку каких-то листовок (или
брошюр, не помню). Нестор закричал на меня: "Поднимите
сейчас же!" Я рассердилась на его крик: "Не подниму".
— Подними, — кричит, — это написано кровью!
— Не подниму.
Он выхватил пистолет из кобуры и снова: "Поднимите".
Я ни за что не подняла бы тогда. Хлопцы успокоили его, он
извинился и вышел из комнаты. Вот так мы познакомились,
потом стали изредка встречаться, потом я уехала в Киев..."
Так через полвека с лишним рассказала об этом эпизоде
С. Семанову Галина Андреевна. Какой же увидел он ее, автор
повести "Под черным знаменем" в 1968 году?
В Джамбульском аэропорту он встретил "сухую худоща-
вую женщину — того типа, что уже давно, невзирая на
возраст, не заботятся о своей внешности: простенький плато-
чек, какое-то платьице домашнего изготовления, кофточка
не первого года носки, стоптанные туфельки. Все это выгля-
дело просто, естественно и уж никак не нарочито".
"Галина Андреевна, — продолжает С. Семанов, — значи-
тельно превосходила средний женский рост (в молодости она
явно возвышалась над своим низкорослым, согбенным после
каторги, а позже — хромым от ранения мужем). Обращали
155
на себя внимание высокий лоб, крупные, правильные черты
лица, но особенно глаза —темно-карие, глубоко сидящие, с
внимательным и сосредоточенным взглядом. И сразу же,
сквозь полувековой исторический туман, после перемен столь-
ких жизненных декораций, становилось ясно: да, в такую
женщину мог влюбиться, а главное — прислушиваться к ней.
знаменитый, лихой и беспощадный атаман!"
Сергей Семанов считает, что семья Махно в Париже
распалась. Правда, он избегает категоричности и честно
пишет: "Не говорила мне прямо Галина Андреевна, ДАЖЕ
НЕ НАМЕКАЛА (курсив мой), но полагаю, и имею основания
предполагать, что семейная жизнь их распалась. Жили они
врозь, Елена воспитывалась в семьях знакомых анархов,
училась во французской школе, украинский язык не знала
вовсе, русский быстро забыла".
Думаю, что ближе к истине Ида Метт, воспоминания
которой мы уже цитировали. С ее слов, в семье Махно было
неблагополучно, это правда: "В то время они с женой жили
порознь, множество раз сходились и расходились снова,
пытались начать совместную жизнь". Тем не менее в своих
воспоминаниях о Махно, написанных уже после второй
мировой войны, И. Метт фактически говорит о том, что
семья Нестора Ивановича все-таки сохранилась до самой
его смерти. Вдумайтесь в такие строки Иды Метт: "В
1926—1927 годах (то есть именно в то время, когда семья
Махно подверглась особенно сильным испытаниям на проч-
ность. — Л. Я.),она (Г. А. Кузьменко. — Л. Я.) обратилась
к советскому правительству с просьбой о возвращении в
Россию. Насколько мне известно, Москва отклонила ее
просьбу. Я не думаю, что Махно был в состоянии простить
ей это письмо. Скорее ИХ ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ СОЮЗ
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ВЗАИМНОЙ СЛАБОСТЬЮ И НЕВОЗ-
МОЖНОСТЬЮ РАЗОРВАТЬ ОТНОШЕНИЯ". (Курсив
мой — Л. Я.).
В других главах этой книги мы еще не раз коснемся
некоторых подробностей феерической биографии Г. А. Кузь-
менко, а теперь я выпишу у Сергея Семанова, что сама Галина
Андреевна рассказывала о судьбе своих родителей:
— Летом 1919 года расстреляли моего отца, мать просила
его скрыться, но он сказал, что не может отвечать за дочь,
которая без его согласия сошлась Бог знает с кем. Расстре-
ляли его после митинга вместе со священником и учителем,
который преподавал махновцам атеизм, — всего их было
семь человек. Мать моя умерла от голода на Украине в 1933
году.
156
* * *
Рассказ о "матери Галине" будет неполным, если не
коснуться двух дневников — Нестора Ивановича и самой
Галины Андреевны.
В книге С. Семанова есть такие строки: "Слабограмотный
атаман повстанцев писать связно не мог, — Галина Андреевна
спокойно рассказывала мне об этом и о том, что составляли
мемуары мужа совсем иные лица".
Думаю, что эти слова Галины Андреевны сказаны и
Сергеем Семановым повторены без должного уважения к
истине.
Батько "академиев, как и незабвенный Василий Иванович
Чапаев, не проходил", но он учился — и весьма успешно —
в Бутырском "университете". Он общался там с весьма эру-
дированными людьми, много читал и даже писал стихи. Не
стану утверждать, что напечатанное им в 1918 году в Астра-
хани в газете "Мысли самых свободных людей" стихотворение
"Призыв" (под псевдонимом Скромный) свидетельствует о
большом поэтическом таланте Нестора Ивановича. Но сам
факт версификаторства (скажем так) говорит о каком-то
навыке владения пером. Многолетняя привычка вести днев-
ник этот навык безусловно усовершенствовала.
Ида Метт рассказывает, что однажды ей довелось пере-
печатывать на машинке воспоминания Нестора Ивановича.
Она обратила внимание на то, что факты, представляющие
исторический интерес, перемежаются в мемуарах Махно с
отрывками речей, произнесенных в первые месяцы рево-
люции и не отличавшихся оригинальностью. Махно-мему-
аристу нужен был редактор, но мемуары он написал соб-
ственноручно и вполне связно, вопреки утверждению Га-
лины Андреевны.
Подтверждает это и Волин, отредактировавший после
смерти Нестора Ивановича и издавшего в Париже второй и
третий тома "Воспоминаний" Махно. "Считаю необходи-
мым, — пишет Волин в предисловии к ним, — прежде всего
отметить, что моя редакторская задача сводилась исключи-
тельно к приданию запискам Махно минимально литератур-
ной формы. Я не только не делал в тексте никаких изменений,
которые могли бы хоть отдаленно повлиять на смысл, но
больше того: насколько это было возможно, я сохранил
нетронутым и самый стиль подлинника, своеобразный и
местами очень красочный".
Таким образом, письма и высказывания Г. А. Кузьменко,
опубликованные Сергеем Семановым, очень, бесспорно, цен-
ные, не всегда, повторяю, заслуживают полного доверия.
157
* * *
Ида Метт обвиняет Г. А. Кузьменко в том, что она вместе
с Волиным выкрали из-под подушки скончавшегося Махно
его личный дневник. "Эта уникальная рукопись,—пишет она,-
так никогда не увидела свет".
Что Нестор Иванович усвоил привычку регулярно вести
дневник, явствует из его воспоминаний. Рассказывая о своем
пребывании в Царицыне в 1918 году, он пишет: "Наутро я
поднялся, сбегал в столовую позавтракать и заполнил пропу-
щенную часть дневника".
В Астрахани он ушел из отеля, где жила шумная анар-
хистская братия, и поселился на квартире вместе с мариу-
польцем Любимовым. "Я, — пишет Махно, — хотел уеди-
ниться, хотя бы в ночное время, от споров и крика. Я вел
записи о своем отступлении из Украины, о связанном с ним
путешествии".
Видимо, эта привычка доверять бумаге свои мысли и
чувства стала для Нестора Ивановича душевной потреб-
ностью, от которой он уже не смог отказаться до конца жизни.
Вот свидетельство Иды Метт: "Махно вел дневник на протя-
жении всего своего пребывания в эмиграции, записывая
впечатления о товарищах, их деятельности и многое другое.
Я знаю об этом достоверно..."
Значит, в существовании такого документа сомневаться
не приходится. Уже это обстоятельство лишний раз убеждает
в том, что Нестор Иванович умел вполне самостоятельно и
связно письменно излагать свои мысли, в чем ему (не беспри-
чинно, думаю) отказывает Г. А. Кузьменко. И тот факт, что
дневник Махно, в отличие от второго и третьего томов его
мемуаров, изданных, как уже говорилось, Волиным, бес-
следно исчез, не может не бросить тень на Галину Андреевну
и ее второго мужа. Видимо, у них были веские основания не
желать обнародования дневника, многие страницы которого,
надо полагать, изображали их в невыгодном свете. А может
быть, там были всего лишь подробности семейной жизни в
Париже, когда супруги Махно то расходились, то сходились
опять, и Галине Андреевне не хотелось, чтобы ее грязное
белье выставили напоказ, то есть предали гласности дневник
ее мужа, где в своих записях он вряд ли всегда был объективен.
В горячке гражданской войны Махно не имел, понятно, времени
предаваться дневниковым записям. Тогда он посадил в своем
штабе одного гимназиста, которого специально держали для
ведения дневника. Вела дневник и Галина Андреевна.
Затруднения с бумагой наблюдались и тогда, поэтому
"матушка" Галина воспользовалась подарком своей подру-
158
ги — общей тетрадью в линейку, на которой было обозначено
имя владелицы: Феодора Гаенко. Галина Андреевна имя
дарительницы не перечеркнула, а только дописала: "Дневник
жены Махно". Недель через пять, в последние дни марта 1920
года (батько тогда в очередной раз был в ссоре с большевиками)
Галина Андреевна вместе с Феней Гаенко (У С. Семенова она
почему-то названа Фаней) ехали на условленную встречу с
батько. По дороге их остановили красные кавалеристы. Се-
доков не тронули, но выпрягли лошадей, оставив своих
загнанных. Попутно прихватили чемодан с вещами Галины
Андреевны, лежавший на второй подводе. В этом-то чемодане
и лежала общая тетрадь в линейку, куда Г. А. Кузьменко с
19 февраля по 28 марта 1920 года аккуратным почерком
учительницы младших классов хорошим украинским лите-
ратурным языком вносила свои записи.
Через несколько месяцев в Харькове вышла брошюра Р. П.
Эйдемана "Борьба с кулацким повстанчеством и бандитиз-
мом" (1921), где есть строки, которыми я воспользовался в
своей давней публикации о Махно и — ошибся (я еще раз с
благодарностью вспоминаю Лазаря Ароновича Друяна, кото-
рый, как помнит читатель, первый и, как выяснилось, с
полным знанием дела указал мне на ошибку). Вот эти строки:
"29 марта 1920 года во время разгрома махновской банды
в Гуляй-Поле отрядом 42-й дивизии была убита жена
Махно — Феодора Лукьяновна Гаенко. В ее походной сумке
был найден дневник, в котором она вела записи с 19 февраля
по 28 марта 1920 года. В этом дневнике она день за днем
рассказывает о жизни банды, Махно, своей".
Красноармейцы, ограбившие Галину Андреевну, ее тет-
радку с дневниковыми записями за полной, как я понимаю,
ненадобностью передали командиру, тот — выше, пока она
не попала в руки двадцатипятилетнего Р. П. Эйдемана,
командовавшего группой войск, боровшихся с Махно. Роберт
Петрович, прочитав на обложке: "Феодора Лукьяновна Га-
енко. Дневник жены Махно", решил, что указанная фамилия
принадлежит автору дневника, о чем и написал в своей
брошюре.
Теперь, после беседы С. Семанова с Г. А. Кузьменко в 1968
году, мы доподлинно знаем, как все было на самом деле. Феня
Гаенко была не женой Махно, а любовницей Левки Задова.
И не была она убита в бою в Гуляй-Поле. И не из ее полевой
сумки была взята эта тетрадь, а из чемодана Галины Андре-
евны.
Можем мы теперь в полной мере оценить и утверждение
Петра Аршинова, уверявшего читателей "Истории махнов-
159
ского движения", что жена Махно никогда дневника не вела
и, следовательно, его не теряла, а опубликованные выдерж-
ки — фальсификация чекистов.
Ложью не брезговали все противоборствующие стороны.
* * *
Мы уже отметили, что дневник "матери Галины" написан
превосходным украинским литературным языком. Однако
убедиться в этом не смогли: документ опубликован в переводе
на русский язык. Поэтому представляет интерес листовка,
автором которой является Галина Андреевна Кузьменко.
Цель листовки — объяснить повстанцам причины и необ-
ходимость заключить союз с красными против барона Вран-
геля. 29 сентября 1920 года Махно подписал текст Галины
Андреевны, который был распространен как воззвание к
повстанцам Украины. Вот отрывок из этого документа:
"Тяжкі часи настали на рідній Украіні. Знову на змучену
батьківщину насуваються грозові хмари. Із заходу йде нена-
висний кожному украінцеві історичний ворог — польска
шляхта. З півдня нестримно врізається все глыбше в серце
Украіни душитель народу німецький барон Врангель.
Комуністи й комісари, що втратили було почуття міри,
дістали знову гарний урок. Довелося ім визнати, що без
украінського народу і вільного повстанства вони вдіяти що-
небудь безсилі. З іншого боку, Радареволюційно-повстаньскоі
арміі (махновців) дійшла висновку, що, залишаючись у даний
момент безстороннім глядачим, украінські повстанці сприяли
б утверждению на Украіні або історичного ворога — польского
пана, або знову царскоі влади, яку очолив би барон. Як одне,
так і друге смерті подібне для селянства Украіни".
Как видим, не только из пулемета умела стрелять Галина
Андреевна Кузьменко, — она и пером владела блестяще.
"Я ВОСПИТАЛ В СЕБЕ ГЛУБОКУЮ НЕНАВИСТЬ К
АНТИСЕМИТИЗМУ..."
"В современных социальных движениях она
(махновщина) — одно из немногих, где абсолютно
не интересовались ни своей, ни чужой
национальностью, ни своей, ни чужой религией, но
где главным почитались труд и свобода человека".
Аршинов П. История махновского движения, Берлин, 1923,
с. 205.
"Там, где еврейское население соприкасалось с
махновцами, оно находило в последних лучших
защитников себе от антисемитских проявлений.
Еврейское население Гуляй-Поля, городов Алексан-
дровски, Бердянска, Мариуполя, все земледельческие
еврейские колонии, расположенные в донецком районе,
могут самым полным образом свидетельствовать о
том, что в лице махновцев они имели неизменных
друзей революционеров и что благодаря суровым и
решительным действиям последних антисемитские
старания контрреволюционных сил в этом районе
рубились в корне".
Там же, с. 208—209.
Среди бесчисленных легенд о батьке Махно едва ли не
самая злостная и невероятно живучая — легенда о том, что
он был антисемитом. Когда я утверждаю обратное, то даже
в наши дни, через три четверти века, люди, для которых
гражданская война — глубокая история, состоявшаяся за-
долго до их рождения, убеждают меня: разнузданные еврей-
ские погромы — дело рук махновцев, и только махновцев.
Гуляй-Поле первых десятилетий XX века — большое
украинское село с довольно значительным еврейским насе-
лением. Не случайно Еврейская Энциклопедия, начавшая
выходить сразу после событий 1905 года, поместила на своих
страницах отдельную статью о Гуляй-Поле, как значитель-
ном, по ее мнению, еврейском центре.
161
По переписи 1897 года, сообщает этот источник, здесь
было 9497 жителей, из них евреев 1173, то есть 12,5 процента.
(С. Семанов в повести "Под черным знаменем", опираясь на
труд Семенова-Тян-Шанского "Россия. Полное географичес-
кое описание", утверждает, что в 1900 году в Гуляй-Поле
проживало 500 душ. Если читатель проанализирует сведения
Н. Сухогорской о том, что представляло собой Гуляй-Поле
всего лишь через 18 лет, то вряд ли цифра, названная
С. Семановым, покажется ему точной). "В виде изъятия из
"Временных правил 1882 года", — пишет Еврейская энцик-
лопедия, — Гуляй-Поле стало открытым с 1903 года для
водворения евреев. В 1909 году здесь было открыто еврейское
общественное мужское училище".
М. Кубанин в своей книге "Махновщина" (М., 1927)
совершенно прав, когда объясняет отсутствие в определенной
степени антисемитизма в махновском районе тем, что здесь
еврей-крестьянин был свой брат, находившийся в одинаковых
отношениях с помещиком, как и крестьянин украинец. В
Александровском и Мариупольском уездах имелись в то время
17 еврейских земледельческих колоний, и труженики этих
поселений так же поливали потом возделываемые ими поля,
как и украинцы, русские, греки, немцы, болгары — все
многонациональное крестьянство района.
В некоторых губерниях правобережной Украины евреи-
торговцы составляли три четверти, или даже 98 процентов.
"Торговый капитал, — пишет М. Кубанин, — разорявший
крестьянина низкими ценами на продукты сельского хозяй-
ства, наживавшийся за счет разорения крестьянской массы,
персонифицировался в сознании крестьянина лесостепи в
фигуре еврея-торговца, бывшего почти монополистом на
рынке сельскохозяйственных товаров лесостепи. Такого пред-
ставления о еврее, как о причине своих бед, не могло создаться
у крестьянина Таврии и Екатеринославщины, поскольку
евреи-торговцы продуктами сельского хозяйства были в срав-
нительном меньшинстве".
Здесь главным эксплуататором крестьян был помещик, а
он принадлежал к национальности основной массы кресть-
янства, то есть был чаще всего украинцем. Поэтому, делает
вывод М. Кубанин, "классовая борьба с помещиком не обле-
калась в форму национальной борьбы и должна была идти
под интернационалистическими лозунгами".
Удивительно ли, что в годы первой российской революции
крестьяне в Гуляй-Поле не допустили еврейского погрома.
Махно с гордостью рассказывал и писал в Париже, что
когда громилы из "Союза истинно-русских людей" в 1905
162
году прислали из Александровска своих гонцов в Гуляй-Поле
для организации еврейского погрома, то местные крестьяне
на своих общественных сходах высказались против погром-
щиков и осудили гнусные дела черносотенцов.
А вот каким увидела Гуляй-Поле летом 1918 года Н. Су-
хогорская: "Это большое селение, где считается до двух тысяч
домов. При мне там было три гимназии (в Мариуполе, меж-
ду прочим, столько же— Л. Я.), высшее начальное училище,
с десяток приходских школ, 2 церкви, синагога, банк, почтовое
отделение, много мельниц и маслобоек, кинематограф. Насе-
ление — в подавляющем большинстве украинцы. Великорос-
сов в Гуляй-Поле мало — больше учителя, служащие. На-
оборот — довольно много евреев — купцов и ремесленников,
очень дружно живших с украинским селянством".
Вот так: очень дружно.
Заметим еще, что крестьянам украинцам чужды были и
националистические предрассудки или, как это называет
Махно, шовинизм. И когда в конце семнадцатого — начале
восемнадцатого года начались в Александровске бои между
красногвардейцами и гайдамацкими отрядами, гуляйполь-
ское крестьянство выступило против политики Центральной
Рады, агенты которой, разъезжая по району, травили всякого
и каждого революционера, называя его "предателем неньки
Украины" и защитником "кацапів". Последних эти агитаторы
призывали убивать "як гобитилів мові".
"Такая идея, — пишет в своих мемуарах Махно, —
оскорбляла крестьян. Они стягивали с трибуны проповедни-
ков и били, как врагов братского единения украинского
народа с русским".
И в это время несколько богатых гуляйпольских евреев
совершили поступок, до глубины души возмутивший Нестора
Ивановича. В его отсутствие в Гуляй-Поле состоялось общее
собрание, на котором агенты Рады призывали фронтовиков
взять в своп руки власть над безвластным районом. При этом
было оглашено несколько анонимных записок о том, что в
Гуляй-Поле и районе существует какое-то богатое общество,
которое готово оказать организации частей Центральной Рады
денежную помощь.
Махно энергично занялся поисками этого общества и очень
скоро вышел на автора анонимок Альтгаузена, который дал
такое объяснение: "Еврейская община в Гуляй-Поле боялась
украинцев-шовинистов и поэтому решила заранее связаться
с ними, оказав им денежную помощь, чтобы, на случай
торжества их власти, последняя знала, что евреи стоят за
Украину и за тех, кто боролся за нее".
6* 163
Все это вызвало возмущение украинского населения Гу-
ляй-Поля, решительно настроенного, как мы уже говорили,
против Центральной Рады. Махно с гордостью писал о том,
что он приложил много труда и усилий, чтобы не раздувать
это дело. В своем докладе сходу крестьян и рабочих он просил
их не поощрять ненависти ко всему еврейскому обществу за
акт, совершенный несколькими лицами. Он жалел, что бу-
дущие историки лишены возможности лично побывать на
этом сходе. Тогда они смогли бы убедиться, как "труженики
серьезно и в то же время с величайшей осторожностью
подходили к этому вопросу, который в других местностях
Украины безусловно вызвал бы погром и избиение невинных,
всеми и вся гонимых в русской и украинской истории, не
знавших до сих пор покоя — бедных евреев". (Нестор Махно.
Воспоминания. Париж, 1929, т. 1, с. 149).
Но очень скоро воинствующий интернационализм Нестора
Махно и его единомышленников подвергся со стороны гу-
ляйпольских евреев еще одному, гораздо более тяжкому
испытанию.
Уже заключен Брестский мир. Гайдамацкие формирова-
ния Центральной Рады ведут за собой на Украину шестисот-
тысячную австро-германскую армию, чтобы подавить рево-
люцию. Гуляйпольцы готовятся дать им отпор. В округе
создаются вольные батальоны, в том числе и в Гуляй-Поле.
Батальоны состояли из шести рот по 200—220 человек каж-
дая. Интеллигенция городка по инициативе (далее следует
аттестация Нестора Ивановича) всеми уважаемого в Гуляй-
Поле доктора Абрама Исаковича Лося организовала санитар-
ные отряды, подготовила здания под лазареты.
Еврейское население городка тоже выделило из своей
среды роту бойцов, которая влилась в гуляйпольский баталь-
он. Вот она-то и влипла в историю —в буквальном смысле и
самом неприглядном виде.
В ночь на 16 апреля 1918 года местные шовинисты (так
их называет Махно) А. Волох, Ив. Волков, Осип Соловей,
начальник артиллерии В. Шаровский и др. организовали в
Гуляй-Поле переворот. Вольный батальон, находившийся на
позициях под Чаплином, ложным распоряжением за поддель-
ной подписью Махно отозвали с фронта и в пути разоружили.
А в самом Гуляй-Поле дежурной назначили еврейскую роту.
Организаторы переворота обманным путем заставили эту роту
арестовать всех членов Ревкома и Совета крестьянских депу-
татов. Затем бойцов еврейской роты пустили на поимку
отдельных членов Совета, стариков-крестьян и рабочих
анархо-коммунистов.
164
Оборона против немцев и гайдамаков, все то, что Махно
с таким трудом организовал, рухнуло.
Мстительность была свойством его натуры. Ветхозаветное
"око за око" его не удовлетворяло. Он воздавал два ока за
око, три зуба за зуб. Примеров, леденящих кровь, можно
было бы привести слишком много.
"Может быть, и стыдно революционеру-анархисту питать
в себе мысли о мести, но они поселились во мне..." — это его
слова, Нестора Ивановича. Ему нередко случалось поддавать-
ся чувству, но на этот раз он руководствовался доводами
разума. Он говорил тогда своим товарищам:
— Теперь в Гуляй-Поле, да и во всем его районе, можно
ожидать со стороны крестьян и рабочих крайне нежелатель-
ной для дела революции недостойной ненависти к евреям
вообще. Сознательные и несознательные враги революции
могут эту ненависть использовать, как они захотят. И мы,
так много потрудившиеся над тем, чтобы убедить тружеников
неевреев, что еврейские рабочие им братья, что их необходимо
втянуть в дело общего социально-общественного строитель-
ства на равных и свободных началах, — мы может очутиться
перед фактом еврейских погромов.
Переворот в Гуляй-Поле и предательство еврейской роты
глубоко потрясли Махно, терзали его душу (выражение
Нестора Ивановича) и много лет спустя, но, вернувшись
нелегально в Гуляй-Поле в том же 1918 году, он удерживает
своих единомышленников от расправы с теми, кто сыграл
15—16 апреля гнусную роль. Он наказал им, ''чтобы они не
трогали никого из евреев и не возбуждали против них никого
из населения, так как это может создать почву для зарождения
антисемитизма".
Позднее в махновском войске была создана еврейская
батарея. Она имела полуроту прикрытия, которая тоже со-
стояла из одних евреев. В июне 1919 года эта батарея под
командованием А. Шнейдера геройски сражалась с деникин-
цами до последнего снаряда и вся до единого полегла, защи-
щая Гуляй-Поле.
Еврейские трудовые колонии, пишет П. Аршинов, во
множестве разбросанные в Мариупольском, Бердянском,
Александровском уездах, принимали самое активное участие
в районных съездах крестьян, рабочих и повстанцев, имея
на них, а также в Военно-Революционном Совете своих
представителей.
"Местное трудовое еврейское население, — пишет тот же
автор, — относилось к революционному повстанчеству с
глубоким чувством солидарности и революционного единства.
165
По зову ВРС пополнять армию повстанцев-махновцев добро-
вольцами-бойцами, еврейские колонии дали из своей среды
значительное количество бойцов в ряды повстанческой ар-
мии".
Широко известно, что когда Лев Борисович Каменев в
сопровождении Пятакова, Ворошилова, В. Межлаука прие-
хал 4 мая 1919 года в "маленький Петроград", то первое, что
он увидел на вокзале в Гуляй-Поле, был антисемитский
лозунг. Встречавший влиятельных гостей Махно тут же
застрелил повстанца, вывесившего этот лозунг. Собственно-
ручно.
Батько любил эффектные жесты, и в данном случае его
можно было бы заподозрить в желании угодить Чрезвычай-
ному Уполномоченному Совета Обороны, еврею по националь-
ности. Можно подумать, что работал он, как говорится, на
публику. Поэтому интересна версия П. Аршинова, изложив-
шего этот же эпизод.
Дело было не в Гуляй-Поле, а на станции Верхний Токмак,
через которую Махно проезжал, спеша с фронта в свою
"столицу", где его уже целый день ожидал Каменев с членами
правительства Украины. На этой станции Нестор Иванович
увидел плакат с надписью: "Бей жидов, спасай революцию,
да здравствует батько Махно!"
Надпись эту сделал партизан, лично известный батьке,
принимавший участие в боях с Деникиным и в общем человек
неплохой. Махно велел привести его и, когда тот явился, тут
же расстрелял.
"Махно уехал в Гуляй-Поле, — пишет далее П. Арши-
нов, — но в течение всего дня и всего совещания с уполно-
моченными Республики находился под влиянием этого при-
скорбного случая. Он сознавал, что с повстанцем поступил
жестоко, но в то же время видел, что в обстановке фронта и
наступающего Деникина такие плакаты могут принести ог-
ромное бедствие еврейскому населению и вред революции,
если против них не действовать быстро и решительно".
Расстрел боевого повстанца, имевшего заслуги в борьбе с
контрреволюцией, относился, бесспорно, к "непопулярным
мерам". Думаю, многим махновцам это не понравилось. Но
батько ненавидел унижение национального достоинства, по-
нимал опасность разжигания межнациональной розни. И он
не дипломатничал, не подсчитывал, сколько голосов потеряет
на выборах и как это отразится на его рейтинге (если уж
говорить о той эпохе языком нашего времени), если отчетливо
выскажется против антисемитизма. Конечно, Нестор Ивано-
вич поступил импульсивно, но в полном соответствии со
166
своими убеждениями и в духе той суровой эпохи, не призна-
вавшей такие "буржуазные предрассудки", как бесконечное
следствие и долгий суд.
Для полноты нашего рассказа приведем и вариант секре-
таря Каменева об эпизоде, когда батько застрелил махновца-
антисемита.
— Как у вас с антисемитизмом? — спрашивает у приехав-
шего из Мариуполя Махно Каменев.
— Вспышки бывают, но мы с ними жестоко боремся. По
дороге сюда на одной из станций вижу, какие-то плакаты
расклеены. Читаю: погромного характера. Вызываю комен-
данта, требую объяснений. Он ухмыляется. Хвастает, что
вполне согласен с тем, что написано. Я застрелил его.
Воинствующий интернационализм Махно сказался и в
воззвании "Кто такой Григорьев", выпущенном вскоре после
того, как атаман поднял мятеж и объявил свой националис-
тический "Универсал".
"Что говорит Григорьев? С первых слов своего "Универ-
сала" он говорит, что Украиной правят люди, распявшие
Христа, и люди, пришедшие из "московской обжорки".
Братья! Разве вы не слышите в этих словах мрачного призыва
к еврейскому погрому? Разве вы не чувствуете стремление
атамана Григорьева порвать живую братскую связь револю-
ционной Украины с революционной Россией?"
И Григорьев попал пальцем в небо, когда позднее, зайдя
в штаб Махно, решившего из тактических соображений
объединить свои силы с отрядами атамана, начал со слов:
— У вас жидов тут нет?
Кто-то ему ответил:
— Есть.
— Значит, будем бить.
Прежде чем убить Григорьева, махновцы поставили ему
в вину и его антисемитизм, и погром в Елизаветграде, во
время которого погибли тысячи евреев.
В резолюции общего собрания повстанцев, на котором
председательствовал Махно, есть такие строки: "Считать
убийство атамана Григорьева 27 июля 1919 года в с. Сентове
Александрийского уезда Херсонской губернии идейными
представителями повстанцев батько Махно необходимым и
нужным фактом истории, ибо политика его (Григорьева),
действия и намерения были контрреволюционны, что дока-
зывают еврейские погромы и вооружение кулаков".
й все же один еврейский погром на счету махновцев есть.
12 мая 1919 года успенский отряд под командой члена штаба
Демержи (уроженец одного из болгарских сел Приазовья,
167
бывший матрос с броненосца "Потемкин") учинил в еврей-
ской земледельческой колонии Горькая погром. Были убито
33 человека, тяжело ранены двое.
Дыбенко требовал расстрела Демержи, но Махно медлил:
ему не хотелось терять талантливого командира.
П. Аршинов печальный эпизод в Горькой излагает мягче.
Он утверждает, что были убито не 33, а около 20 человек.
Штаб махновцев для расследования немедленно назначил
комиссию, которая установила, что совершившие убийства
были крестьяне из соседнего села Успеновки, 7 человек. Они
не являлись бойцами повстанческой армии, считает нужным
подчеркнуть Аршинов. Погромщики были задержаны и рас-
стреляны. Как видим, никакого упоминания имени Демержи.
Но известно, что махновский командир П. Могила в газете
"Путь к свободе" выразил свой протест против погрома в
Горькой, и там, очевидно, фамилию Демержи назвал (пишу
"очевидно", потому что в бывшем спецхране бывшей Ленинки
из махновских газет я обнаружил только два-три экземпляра).
Но П. Аршинов прав, когда утверждает: "после было
установлено, что этот случай и попытки к другим подобным
случаям находились в связи с деникинскими отрядами,
просочившимися в Гуляйпольский район и подготовлявшими
подобными актами благоприятную почву для общего наступ-
ления деникинской армии на Украину.
Характерен случай, о котором Галина Андреевна Кузь-
менко рассказала в 1968 году Сергею Семанову:
"Остановились мы в Добровеличкове близ станции Помош-
ная, еврейское местечко, там меня знали, пришел один еврей,
сказал, что махновцы грабят евреев. Я бросилась к Нестору,
сказала, что надо прекратить; он сказал, да, надо немедленно.
Верхом поехали Петренко, Махно и я. Действительно, бойцы
собирали одежду (эту дань в пользу армии, не имевшей
интендантства, батько разрешил собирать с населения, ис-
полнители же забирали не только "лишнее", как распоря-
дился Махно, но и кое-что сверх того — Л. Я.), в том числе
женскую, варенье какое-то, которое один из бойцов жадно
ел из банки. Некоторых тут же разложили и выпороли.
Помню, Петренко отчитывает какого-то бойца, говорит мне:
"Ну, что с ним, Галина, делать?" Я говорю: "Стреляй, раз он
ничего не понимает". Петренко и застрелил его. Потом был
устроен митинг".
Так почему же до сих пор так живуче мнение, что махновцы
сплошь были антисемитами и погромщиками? Лица с анти-
еврейскими настроениями среди повстанцев, конечно, были.
В особенности этим отличались люмпены, деклассированные
168
элементы, бывшие уголовники, приставшие к махновскому
войску совсем не из идейных соображений — пограбить и
порезвиться. По отношению к последним махновцы вели
очень неосторожную и недальновидную политику. Взяв город,
они обычно в первую очередь взрывали тюрьму как символ
ненавистной им государственности. Предварительно выпус-
тив, конечно, всех заключенных. В том числе и уголовников.
Те немедленно начинали грабить население и бесчинствовать.
Да и слово АБСОЛЮТНО в мысли, выраженной в первом
эпиграфе к этой главе, вряд ли точно отражает подлинные
нравы в махновщине.
Думаю, что те погромы, какие учиняли белогвардейцы и
петлюровцы, в сознании населения слились воедино с бес-
чинствами всех калейдоскопически сменявшихся властей и
создали такую же репутацию и махновцам.
Среди последних были, как мы уже говорили, грабители,
но грабили они как интернационалисты, сколь ни парадок-
сально это звучит, то есть не интересуясь национальностью
жертвы. В 1920—1921 годах грабили они уже не только
население городов и местечек, но и крестьян — украинцев,
русских.
Владимир Моисеевич Сорокин, происходящий из еврей-
ской земледельческой колонии Сладковолной, рассказал мне
со слов своего отца о таком случае. Деникинцы ворвались в
колонию и потребовали, чтобы группа колонистов на своих
подводах отвезли их в какое-то село. Под дороге на обоз
напали махновцы и перебили всех: и белогвардейцев, и
евреев-подводчиков.
Н. Сухогорская на вокзале в Пологах видела потерпевших
от налетов махновцев на поезда. Вернее — родных потерпев-
ших. "Особенно запомнилась мне, — пишет она, — мать-ев-
рейка, у которой по дороге в Александровске были вытащены
бандитами из поезда и убиты 3 сына, один из них мальчик-
гимназист 16 лет". Примерно такое же в подобных случаях
постигало и русских, и украинцев.
Но даже враждебно относящиеся к Махно авторы пишут,
что погром в колонии Горькой в 1919 году был нетипичным
явлением для повстанческой армии.
Сразу же после событий в Горькой Махно выпустил воз-
звание к рабочим, крестьянам и повстанцам. Он призывал
"пресечь в корне всякую национальную травлю и беспощадно
расправляться со всеми виновниками еврейских погромов".
Приведем еще несколько строк из этого документа: "На
светлом, ярком фоне революции появились темные несмыва-
емые пятна запекшейся крови бедных мучеников — евреев,
169
которые в угоду злой реакции являются теперь, как и раньше,
напрасными невинными жертвами завязавшейся классовой
борьбы... Творятся акты позора... Происходят еврейские
погромы.
Крестьяне, рабочие и повстанцы! Вы знаете, что в страшной
пропасти бедноты прозябают одинаково рабочие всех нацио-
нальностей: и русские, и евреи, и поляки, и немцы, и армяне
и т. д. Революция и честь трудящихся обязывает всех нас
крикнуть громко, так, чтобы содрогнулись все силы реакции,
о том, что мы ведем борьбу с одним общим врагом — капиталом
и властью, одинаково угнетающими тружеников: русских,
поляков, евреев и т. д."
Подобного содержания листовок в то время было много.
Их писал не сам батько. Их писали "подкованные" анархисты
из конфедерации "Набат". Но то, что они писали, выражало
твердые убеждения Махно. Он имел все основания заявить в
своих "Воспоминаниях": "Я воспитал в себе глубокую нена-
висть к антисемитизму еще со времен 1905—1906 годов".
Если эта книга увидит свет и у нее найдутся читатели (на
что я очень надеюсь), то многие из них будут удивлены, узнав,
что Махно не был антисемитом, а напротив, выступал актив-
ным, а не просто сочувственно вздыхающим защитником
евреев. А многие в это вообще не поверят. Как я не поверил,
прочитав недавно в одной газете, что антисемитом не был...
Петлюра.
У петлюровцев в этом отношении весьма громкая и пе-
чальная слава. Организованные ими погромы на Украине во
время гражданской войны с их многотысячными жертвами
по чудовищным масштабам уступают разве что только гит-
леровскому "окончательному решению еврейского вопроса".
Я был еще юношей, тщательно огражденным советской
системой ото всего, что могло бы "пагубно" отразиться на
моем мировоззрении, когда мой отец, малограмотный чело-
век, с восхищением рассказал мне о Шварцбарде, который в
Париже подошел на улице к Симону Петлюре и застрелил
его — за еврейские погромы в Украине. Этот акт мести и
последовавший за ним громкий процесс над убийцей вско-
лыхнул тогда весь мир, рассказывал отец. Шварцбарда за-
щищал знаменитый адвокат Торез ("Как — думал я, — разве
вождь французских коммунистов был адвокатом?" Как будто
во Франции, кроме Мориса, других Торезов и быть не могло).
Шварцбарда оправдали.
Я не очень верил этому рассказу, пытался в печатных
источниках найти подтверждение ему, но по тогдашним
временам, разумеется, безуспешно. И только в 1975 году
170
убедился, что рассказ отца соответствует истине, когда про-
читал в третьем издании БСЭ о Петлюре: "Убит Ш. Шварц-
бардом из мести за еврейские погромы на Украине".
А вот что рассказала в 1968 году Сергею Семанову Галина
Андреевна Кузьменко:
— Убийца Петлюры Шварцбард был анархист и знаком с
Махно, болел туберкулезом, часовых дел мастер. Он входил
в еврейскую анархистскую группу. Собирались по праздни-
кам в кафе, Махно и я это кафе посещали, там же и
познакомились с ним. Он был из русских евреев и хорошо
говорил по-русски. После убийства еврейская обществен-
ность, даже не анархистская, ему очень помогла. Защищал
его знаменитый адвокат Торез (он, кстати, помогал мне
уладить конфликты с французской полицией). После оправ-
дания он (Шварцбард, разумеется - Л. Я.) вернулся к
профессии часовщика. Махно все это не нравилось, он гово-
рил, что сам Петлюра, безусловно не был погромщиком, а
если его отряды этим и занимались, то сам Петлюра вряд ли
бы это одобрил. Махно писал об этом либо в "Деле труда",
либо в "Рассвете". Знакомы они лично не были, Махно не
любил Петлюру. До войны Шварцбард дожил, дальнейшая
судьба его мне не известна. (Роман-газета. 1993, № 4, с. 33).
Лев Никулин, встретив Махно в Париже в 1926 году,
записал: "Он... временами тревожно озирался вокруг".
Марк Алданов, увидевший Нестора Ивановича в Париже
на похоронах одного известного политического деятеля, пи-
шет, что при описании этого человека уместно было бы клише
"озирался, как зверь". Цитирую: "Махно быстрым подозри-
тельным взором оглядывал всякого, кто к нему подходил".
Нестор Иванович мог ожидать мести от многих русских
эмигрантов, осевших в Париже. Он, воевавший со всеми, мог
получить пулю и от деникинца, и от врангелевца, и от
петлюровца, и от тайного гепеушника. Но самой несправед-
ливой и обидной была бы еврейская пуля, которой он, как я
предполагаю, тоже опасался. Потому что ее он никак не
заслужил: среди многочисленных грехов батьки, подлинных
и мнимых, греха антисемитизма не было.
Вот почему, думаю, судьба Петлюры, застреленного на
парижской улице в 1926 году, так взволновала Нестора
Ивановича, хотя тот и был его политическим и — в свое
время—военным противником.
К счастью, вождю крестьянской войны на Украине выпало
умереть пусть преждевременной — из-за болезней и ран,
полученных в тюрьмах и сражениях, — но все-таки своей
смертью.
171
Показательно, что единственным неанархистским издани-
ем, откликнувшимся сочувственным некрологом на смерть
Нестора Махно, была парижская еврейская газета.
И в наши дни израильский писатель Давид Маркиш, сын
крупнейшего советского еврейского поэта Переца Маркиша,
расстрелянного сталинскими гебистами в 1952 году, в повести
"Полюшко-поле" с любовью и глубоким уважением нарисовал
образ Нестора Ивановича Махно, посвятившего лучшие годы
своей жизни защите трудящихся всех национальностей, в
том числе евреев.
ПОСТСКРИПТУМ
Доказывая, что Махно не был антисемитом, я вовсе не
утверждаю, что отряды и воинские части, которыми коман-
довал батько, пылали юдофильством. Документы свидетель-
ствуют, что в Третьей бригаде и в других частях, действовав-
ших в наших местах, то есть в Приазовье, на юге Украины,
сильны были антиеврейские настроения и велась — предста-
вителями различных политических группировок — антисе-
митская пропаганда. Но Махно погромов не организовывал—
это непреложный факт. Он не только пресекал их, не только
вел антипогромную агитацию, но и лично расстреливал по-
громщиков — это тоже факт.
Послушаем, наконец, Иду Метт, мемуаристку, правдивую
и в известной степени хорошо информированную:
"Был ли Махно антисемитом? Уверена, что нет. Он считал
евреев способным и умным народом, быть может, слегка даже
завидовал им, но в его отношениях с евреями никогда не
было заметно никакой враждебности. Обвинения в антисеми-
тизме его несомненно огорчали, а поскольку в прошлом он
был тесно связан с идеологией интернационализма, то живо
чувствовал серьезность подобного обвинения. Махно гордился
расстрелом атамана Григорьева и утверждал, что слухи о
погромах, якобы совершенных махновцами, гнусная ложь".
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СВОЙ ДОМ
Мариупольские греки и Махно
Когда в конце 1918 года немецко-австрийская армия ушла
с Украины и с новой яростью заполыхала гражданская война,
мариупольские греки решительно выступили против бело-
гвардейцев.
Не думаю, что здесь применимо расхожее объяснение:
крестьяне не хотели победы белых, потому что это означало
реставрацию помещичьего землевладения и пр. Мариуполь-
ские греки, то есть крестьяне сел, основанных в Приазовье
в последней четверти XVIII века переселенцами из Крыма и
в последующие годы их потомками, не знали в свое время
крепостного права и помещичьего землевладения.
Тем не менее, когда деникинцы, хозяйничавшие на Ма-
риупольщине после ухода оккупантов, объявили мобилиза-
цию, это встретило вооруженное сопротивление местного
населения. О том, как разворачивались события в южных
селах Мариупольского уезда — Мангуше, Ялте, Урзуфе, —
красноречиво рассказывает доклад Мариупольского партко-
ма КП(б)У от 20 марта 1919 года. Не стану пересказывать
этот документ: он приводится целиком в приложении 2 к
этой книге.
Зная из собственного горького опыта, что большевистские
источники весьма вольно обращались с историческими фак-
тами, а часто не гнушались прямой лжи, я поместил в
упомянутом приложении и рапорт белогвардейского коман-
дира Мариупольского военного порта о занятии Мариуполя
советскими частями, движении крестьян и восстании рабочих
в тылу деникинцев (начало апреля 1919 г.). Этот документ
не только подтверждает полную правдивость доклада мари-
упольских большевиков, но и значительно дополняет его.
А вот цитата из воспоминаний генерала М. Т. Давыдова,
командовавшего весной 1919 года на Мариупольщине круп-
ным повстанческим отрядом:
173
"В конце апреля в Старую Карань пришли два делегата
от сел Бешева и Ласпы (греческие села — Л. Я.). Они просили
защиты от частей Добровольческой армии, наезжавших в эти
села за продуктами и фуражом.
Ласпинский делегат говорил:
— Верите, Марк Тимофеевич, житья не дают. Каждый
день делают набеги, берут все, что им понравится, даже
девушек уводят. Помогите!" (Давыдов М. Т. В партизанах.
"Звезда", 1959, № 2, с. 155).
Вот почему греки Приазовья выступили против деникин-
цев.
Миролюбивые по своему характеру, мариупольские греки
за все время после своего переселения из Крыма в Приазовье
ни разу не вступали в конфликт со своими разноплеменными
соседями, а только мирно сотрудничали с ними, весьма
успешно и взаимовыгодно. В развернувшейся братоубий-
ственной междуусобице они вообще не хотели участвовать.
Об этом свидетельствует эпизод, запечатленный в воспоми-
наниях того же М. Т. Давыдова:
"Под Велико-Анадолем партизаны подобрали на поле боя
унтер-офицера. Ранен он был легко и на поле боя остался,
чтобы перейти к партизанам. Он рассказал:
— В роте двести человек, все греки, мобилизованные
насильно. Направили на фронт для пополнения убыли в белой
армии. Но вчера утром на станции Розовка вооружили и под
командой русского капитана и двух подпоручиков переотпра-
вили поездом, в котором ехали священники, на станцию
Волноваха и дальше на Велико-Анадоль. Во время ночного
перехода почти половина бежала. Мы, — добавил унтер-офи-
цер, — сговорились тоже бежать, только боимся своих офи-
церов. С вами воевать не будем. Наступайте, и мы непременно
разбежимся. Стрелять для вида будем, но только вверх.
— Почему же вы не перебили своих офицеров?
— Мы, греки, — заявил он, — не хотим вмешиваться в
дела русских. Как вы решите, так и будет. Офицеров перебить
боимся: они русские. Вот если вы их перебьете, будет хорошо".
Ирония ситуации состоит в том, что многонациональный
отряд Давыдова, в котором было много украинцев и русских,
состоял в основном из греков. Сам Давыдов был родом из
Старой Игнатьевки. Это село было основано грузинами и
волохами (румынами), переселившимися в Приазовье вместе
с греками. Мариупольские греки дали основанным ими в
Приазовье селам названия тех населенных пунктов, в которых
они жили в Крыму. Грузины же и волохи были военноплен-
ными, числились рабами частных лиц и не имели на полу-
174
острове своих сел. При переселении они основали село,
названное ими Игнатьевкой, в честь вдохновителя и руково-
дителя переселения митрополита Игнатия. Позднее волохи
отселились и основали Новую Игнатьевку, а прежнее стало
называться Старой Игнатьевкой. Иван Лукьянович Чубаров
рассказывал мне, что отец Марка Тимофеевича был грузином,
а мать — армянкой. К началу гражданской войны в Старой
Игнатьевке проживало большое количество греков.
Как ни желали греки Приазовья не ввязываться в брато-
убийственную междуусобицу, но во имя защиты родного
крова пришлось вооружиться и организоваться. Весной 1919
года во многих селах Мариупольского уезда возникли парти-
занские отряды, воевавшие с деникинцами.
У меня сохранилась машинописная копия лекции Ивана
Лукьяновича Чубарова "Партизанское движение на Мариу-
польщине в 1918—1919 гг.", датированная 16 февраля 1966
года. Помимо отряда Давыдова, где И. Л. Чубаров командовал
им самим созданным греческим батальоном, здесь перечис-
лены партизанский отряд В. Ф. Тохтамышева, воевавший в
районе сел Старый Керменчик, Ново-Петриковка, Ново-Ка-
ракуба, Большой Янисоль и др.; партизанские отряды под
командованием Спруцко, Цололо и Богадицы, действовавшие
в районе сел Малый Янисоль, Чердаклы, Келлеровка, Маке-
доновка, Сартана; отряды Мангушева, Алексея Лукьянова и
В. П. Шурды и греческих сел Мангуш и Ялта.
Наиболее крупным был отряд Давыдова, насчитывавший
к апрелю 1919 года около трех тысяч штыков и 300 сабель.
Впоследствии коммунист М. Т. Давыдов стал генералом
Советской армии, а принявший от него командование отрядом
Г. 3. Сигаров — полковником.
Историки советского периода все эти отряды называли
коммунистическими. Несомненно, большевики сыграли
выдающуюся роль в организации народного отпора Добро-
вольческой армии. Но действовали и представители других
партий: левые эсеры, социал-демократы (меньшевики), в
особенности анархисты-коммунисты. Последние пользова-
лись среди крестьян Приазовья и юга Украины особенно
сильным влиянием. Махно объединял многочисленные
крестьянские повстанческие отряды под своим командова-
нием. В своих воспоминаниях он пишет, что немало было
случаев, когда в некоторых селах крестьяне давали создан-
ным ими отрядам имя батьки Махно без его, Нестора
Ивановича, какого-либо давления или вмешательства. Это
правда. К тому времени имя батьки Махно уже стало
легендарным.
175
Этот процесс вполне естественно коснулся и повстанческих
отрядов, возникших в греческих селах Мариупольщины. Мы
уже писали о том, что в составе Третьей бригады имени батьки
Махно, в марте 1919 года штурмом взявшей Мариуполь, особо
отличился 9-й (Греческий) полк, а его командир Тохтамышев
стал кавалером ордена Красного Знамени. (См. главу "Жизнь
и гибель Василия Куриленко".)
Среди махновскои вольницы греческие отряды отличались
крепкой дисциплиной, организованностью, стойкостью. Они
не участвовали в грабежах и пьяных дебошах. Вот отрывок
из воспоминаний уже упоминавшегося нами Степана Семе-
новича Дыбеца. Он относится к весне 1919 года: "На каком-то
другом участке фронта, ближе к Мариуполю, мы нашли
греческий отряд. В греческих селах офицеры-каратели учи-
нили беспощадную расправу за революционные дела. Греки
возненавидели белых. Так возненавидели, что только прика-
жи — пойдут в бой. Железная дисциплина была введена в
греческом отряде".
Этот же мемуарист рассказывает, что в махновском войске
греческие отряды были самыми стойкими и надежными
частями, своеобразной гвардией, которую батька в критичес-
кие моменты бросал на наиболее опасные участки.
Но и те отряды, состоявшие преимущественно из греков
и находившиеся под влиянием коммунистов, и эти повстан-
ческие формирования, не входившие в Третью бригаду, тоже
взаимодействовали с Махно. Вот что пишет М. Т. Давыдов в
своих воспоминаниях:
"В бою с Дроздовским полком мы израсходовали большое
количество боеприпасов. Патронов осталось не больше, чем
на один бой. Кутненко поехал на станцию Волноваха, где
стоял штаб бригады Махно. О том, что Махно возглавит
кулацкое контрреволюционное движение на Украине, нико-
му из нас тогда в голову не приходило. Мы знали понаслышке,
что Махно анархист, что он в начале 1919 года выступил
против белых и его бригада занимала соседний с нами участок
фронта.
Возвратившись, Кутненко доложил:
— В штабе мне заявили, что бригада нам помочь не может.
Тогда я обратился с просьбой дать нам патроны лично к
Махно. Он долго колебался, но потом согласился отпустить
25 000 штук, потребовав от нас взамен пятьсот овец. В этом
уже сказалась кулацко-торгашеская сущность махновской
душонки и его войск. Делать было нечего. Обмен состоялся".
Оставим без внимания штамп большевистской пропа-
ганды: "Махно — руководитель кулацко-контрреволюцион-
176
ного движения на Украине". Умный Давыдов, думаю, не мог
не понимать, что Махно был третьей силой, защищавшей
крестьян как от белой диктатуры, так и от красной, но
написать иначе, чем написал, в начале 50-х годов он не мог.
Но вот уж насчет "торгашеской сущности махновской ду-
шонки" — тут он явно взял грех на душу. Так он мог и не
писать, никто его не принуждал. Не должен был Давыдов
так написать, даже если не знал, что из-за неснабжения
Третьей бригады патронами Махно боролся с самим Лениным
и Троцким. Многих бойцов его бригады, как мы уже писали,
вооружили итальянскими винтовками, боеприпасы к кото-
рым вскоре были израсходованы в боях, а русские патроны
к ним не подходили. Впрочем, в бригаде и "русских" патронов
было в обрез. И Нестор Иванович оторвал от себя, можно
сказать, последнее, отдав все-таки Давыдову 25 тысяч пат-
ронов. А что потребовал взамен полтысячи овец, так ведь
интендантство Красной Армии, комбригом которой был тогда
Махно, снабжением его не баловало, а бойцов следовало
кормить. Он, как мы уже видели на страницах этой книги
(глава "Уголь для Питера"), и самому Ленину хлеба и угля
не давал без "бартера" — обмена на патроны и другие
дефициты.
О других случаях взаимодействия отряда Давыдова с
Махно рассказывает полковник Г. 3. Сагиров в своей книге
"В пороховом дыму" (Баку, 1968).
Однажды Махно вызвал к прямому проводу Давыдова и
предложил совместно наступать на станцию Иловайскую,
Матвеев Курган и дальше к Дону. Вскоре в отряд поступила
телеграмма: "Село Старая Карань. Давыдову. Приезжай сей-
час станцию Карань, где я жду тебя по очень важному делу.
Батько Махно".
Сцену встречи Давыдова и его заместителя Сагирова на
станции Карань с Махно читать без отвращения невозможно,
столько в ней фальши и стремления унизить последнего.
Батько, "низкорослый курносый человечек, одетый в темный
щегольский френч, в красные галифе, снятые с какого-то
белогвардейского офицера", предложил Давыдову влить его
отряд в Третью бригаду, чтобы вместе бить белых. "Однако
на следующий день, — пишет Сагиров, — на военном совете
мы решили пробиваться на соединение с Красной Армией —
наступать на Мелитопольщину".
Махно тогда сам был Красной Армией. К тому же спра-
шивается: где Дон, откуда наступали белые, и где Мелито-
польщина. "Наступать на Мелитопольщину" — это значило
открыть фронт и уходить в глубь Украины. Но стоит ли
177
тратить столько пороху на разоблачение большевистских
писаний о Несторе Ивановиче Махно? Однако хочется пре-
дупредить читателей книги "В пороховом дыму", шестиде-
сятитысячный тираж которой разошелся в основном в Дон-
бассе: будьте осторожны. В этой книге немало и умышленной
лжи, и перевранных фактов — иногда по забывчивости,
иногда по недостаточной осведомленности мемуариста.
Обратимся к воспоминаниям самого Нестора Ивановича.
Еще во время австро-германской оккупации Украины
Махно задумал рейд по ее юго-восточной части — Бердянск,
Мариуполь, Юзовка — с целью поднять население на восста-
ние. После боя в Большой Михайловке, когда повстанцы
постановили: "Будь нашим батьком", Махно начал свой рейд
с того, что направился в село Комарь ("греческое местечко",
комментирует это слово мемуарист).
В этом селе махновцы разогнали гетманскую варту и
созвали все население на митинг. Выступили Махно и Мар-
ченко, рассказали о злодеяниях оккупантов в Дибровке и
призвали население восстать с оружием в руках против
буржуазии и ее защитников — немецко-австрийских войск.
"В селе Комарь, — пишет Махно, — к отряду сразу же
присоединилось несколько человек греческой крестьянской
молодежи на своих лошадях".
Отсюда, продолжает мемуарист, мы направились на та-
тарское село Богатырь и провели в нем большой митинг.
(Богатырь населен греками-урумами, говорящими на крым-
ско-татарском языке — Л. Я.). Потом завернули на Большой
Янисель (тоже греческое село) и Времьевку".
Таким образом, еще в 1918 году на призыв Нестора Махно,
только что ставшего "батьком", первыми откликнулись
крестьяне греческих сел Мариупольщины.
И, может быть, не так уж далек от истины И. Тепер
(Гордеев), когда писал в своей книге "Махно", изданной в
Киеве в 1924 году: "Махновщина вышла из целого ряда бога-
тых греческих сел, как-то: Комарь, Богатырь, Большой и
Малый Янисоль и т. д.".
Тепло пишет о мариупольских греках и "мать Галина"
в своем дневнике, который она вела в феврале-марте 1920
года, то есть уже после победы над Деникиным, но перед
походом на Врангеля, когда батько был в ссоре с больше-
виками.
16 марта Галина Андреевна записывает, что махновцы
приехали в уже знакомый нам Комарь. На следующий день
178
они переместились в Богатырь. В этих греческих селах батька
чувствует себя как дома.
Вот запись от 18 марта. Место действия — село Богатырь:
"Провели тут митинг. Арестовали по доносу трех человек,
но греки стали их горячо отстаивать, и мы их освободили.
Оставили тут т. Огаркина и выехали в Большой Янисель".
В этом греческом селе они встретили Дашкевича. Убегая
от коммунистов, он чудом спасся. При этом сумел вывезти
из Гуляй-Поля четыре с половиной миллиона "общих" денег.
Когда его спросили об этой сумме, Лашкевич замялся.
"Тем временем, — записывает в своем дневнике Г. А. Кузь-
менко, — к штабу стали подходить бывшие партизаны-греки
и с возмущением рассказывать, какую разгульную жизнь вел
Лашкевич: швырял деньги, как сам хотел, устраивал балы,
вечеринки, делал богатые подарки любовницам, платил им
по 200 000 за "визит" и так далее. Греки говорят, что деньги,
которые добыты жизнью, здоровьем и кровью многих из
повстанцев, так легко, так бессовестно расходуются их ко-
мандирами, и что теперь с такими командирами они не пойдут
воевать, а пойдут сначала перебьют всех тех, кто за спиной
честных повстанцев нажился и теперь роскошествует, а потом
уже пойдут на фронт".
Расследование показало, что из четырех с половиной
миллионов махновской казны у Лашкевича осталось только
сто пять тысяч рублей.
Растратчик, однако, нисколько не потерял присутствие
духа. "Сделав отчет, — пишет двадцатитрехлетняя жена
Махно (и я выписываю эти строки только потому, что в них
очень сочные бытовые детали и атмосфера того времени), —
Лашкевич пригласил нас всех к себе поесть новое для нас
греческое блюдо чир-чири, или чебуреки. Я и Феня (Феодора
Лукьяновна Гаенко, которую чекисты ошибочно посчитали
женой Махно и автором дневника. На самом деле она была
подругой Галины Андреевны и доброй приятельницей Левки
Задова — Л. Я.) пошли. Нестор рано лег спать и отказался.
Мы пришли и застали там Старика и Буданова. Познакоми-
лись с хозяином, очень симпатичным греком. Выпили по
чарке, попробовали чир-чири, которые нам очень понрави-
лись, и разошлись. Лашкевич нас провожал до дома и нес
тарелку с чебуреками для батьки. У нас дома еще поиграли
в "дурачка" и разошлись".
На второй день Лашкевича расстреляли в Большой Яни-
соли. Вот как это было:
"Скоро пришел батька и прочие. В центре собрались люди.
Лашкевичу связали руки и вывели на площадь расстреливать.
179
Гаврик, сказавши ему, за что, прицелился и взвел курок.
Осечка. Второй раз — тоже осечка. Лашкевич бросился
удирать. Стоявшие тут же повстанцы дали по нему залп,
второй. Он бежит. Тогда погнался за ним Лепетченко (тот
самый, которому мы посвятили обширную главу "Личный
телохранитель" — Л. Я.) и пулями из нагана сбил его (с ног).
Когда он упал, а т. Лепетченко подошел, чтобы пустить ему
последнюю пулю в голову, он повел глазами и сказал: "Зато
пожил..."
На этом публичная казнь в Большой Янисоли (правильная
транскрипция Большого и Малого Янисоля — через О, а не
Е, как у Г. А. Кузьменко: Янисель) не кончилась. "Через
несколько минут, — пишет Галина Андреевна, — привели
еще одного повстанца, который быстро разбогател (за счет
грабежей, понятно — Л. Я.) и тут же на площади расстреля-
ли. После этого был проведен митинг, где пояснили и про
казнь этих двоих. Селяне остались довольными. Кое-кто из
селян высказывался: "Видимо, что тут закон есть, вот чужого
все-таки не трогай..."
Как видим, батько Махно и матушка Галина пишут и
отзываются о мариупольских греках с большой симпатией. Тем
большим диссонансом звучат строки из дневника Г. А. Кузь-
менко от 24 февраля 1920 года: "После обеда выехали из
Гавриловки через Андреевку в Комарь. Тут был митинг. Греки
страшно хотели видеть батько, но он отказался выйти. Они
постояли возле квартиры и разошлись".
Прежде чем объяснить причину неудовольствия, выражен-
ного Нестором Ивановичем жителям верного ему села Комарь,
приведу еще одну выдержку из воспоминаний С.С. Дыбеца,
относящуюся к маю 1919 года, в канун первого разрыва Махно
с большевиками:
"Белые собрали около Большого Токмака сильный кулак
и решили, видимо, расправиться с махновской армией. Махно
чувствовал, что решается его судьба. Или он докажет совет-
ской власти, что он сила, и тогда найдет дорогу к примирению,
останется в какой-то командной роли, или будет окончательно
разбит, раздавлен. И он сконцентрировал все свои наиболее
сильные отряды (за исключением Новоспасовского полка,
который уже не исполнял его приказы), сконцентрировал
греческие части, которые, как я уже упоминал, славились и
ненавистью к белым, и дисциплиной.
В течение целой недели шло сражение в районе Большого
Токмака. Дольше Махно выдержать не мог. Он там положил
все отряды греков, свой оплот. Белые расколошматили Махно,
хотя и у них погибли лучшие полки. Но они одержали верх,
180
потому что были лучше вооружены, да и военная выучка
сказалась".
Так почему ж теперь, девять месяцев спустя, батько в селе
Комарь высказал уцелевшим в боях и оставшимся ему вер-
ными грекам такое неуважение?
Заглянем в другой дневник — Левки Голика. Именно он,
напомним еще раз, а не Левка Задов был начальником
махновской контрразведки. Вот что произошло на второй
день, то есть 25 февраля 1920 года в греческом селе Большой
Янисоль: "Утром выехали в Б. Янисоль, где убили одного
продкомиссара и двух красноармейцев. Ударили в набат и
провели митинг. ГРЕКИ НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ" (Разрядка
моя — Л. Я.).
После победы над Деникиным махновская армия, столь
успешно и победоносно громившая его, перестала существо-
вать. Она была скошена тифом и чекистскими репрессиями.
Часть повстанцев разбрелась по своим селам, часть была
поставлена под ружье в Красной Армии. Когда батько, во
второй раз объявленный большевиками вне закона и спасен-
ный от расправы своими верными соратниками, выкараб-
кался из тифозной горячки, то есть выздоровел,, он увидел,
что оказался полководцем без армии. Хуже того: он с горечью
убедился, что бывших повстанцев, закаленных в боях бойцов,
будто подменили. Они больше не хотели воевать.
Помню, как с недоумением читал я в брошюре Р. П. Эйдемана
(1921) отрывки из дневника жены Махно и думал (некоторые
продолжают так считать и сегодня, хотя Галина Андреевна
подтвердила С. Семанову подлинность документа), что цити-
руемые Робертом Петровичем строки — фальшивка, сочине-
ние чекистов. Такие, например:
"Приехали в Гуляй-Поле (7 марта 1920 года — Л. Я.).
Тут под пьяную команду батько начали вытворять нечто
невозможное. Кавалеристы начали бить нагайками и при-
кладами всех бывших партизан, каких только встречали на
улице.
Сегодня воскресенье, день ясный, теплый, людей на улице
много. Все вышли, смотрят на приехавших, а приехавшие,
как бешеная орда, налетает на невинных людей, ни с того ни
с сего начинают бить, приговаривая: "Это тебе за то, что не
берешь винтовку!" Двум хлопцам разбили головы, загнали
по плечи одного хлопца в речку, в которой еще плавает лед.
Люди испугались, разбежались. Стали ворчать тихонько
гуляйпольцы по углам, а открыто боятся высказывать свое
недовольство против махновцев — страх напал на всех... Да
и правда, как забитым, замученным, обобранным, обессилен-
181
ным всякими властями крестьянам протестовать против на-
силия пьяных махновцев — их сейчас сила, их и воля".
Чтобы народный любимец, предводитель крестьян и их
защитник, такое вытворял, и над кем? Не над австрийскими
оккупантами (этих солдат, считая их невиновными, отпускал
с миром, выдав им денег на дорогу и по бутылке водки), не
над красноармейцами, выступившими против него с оружием
в руках (этих тоже чаще всего отпускал с миром), а над
героями-партизанами, которые стяжали славу батьке и ге-
ройски сражались под его знаменем.
Невероятно!
Эти же дни в Гуляй-Поле нашли отражение и в дневнике
Левки Голика: "5, 6, 7 марта. Стояли в Гуляй-Поле. Батько
запил еще с Федоровки. Он ходит с ребятами по знакомым
и под гармошку танцует. Крестьяне смеются, а он злится и
с "библея" стреляет повстанцев, сидящих дома и не желаю-
щих воевать. Со своими "холуями " он сел на лошадь и посещал
повстанцев, обругивая их по-матерному. Встречая на улице
бывших махновцев, он избивал их плеткой. Двум даже разбил
головы, а одного загнал в реку на лед. Тот провалился, а
потом, выкарабкавшись, обмерзший бежал на Бочаны. (Ок-
раина Гуляй-Поля — Л. Я.)... Собрали митинг, но крестьяне
не явились, а бывшие махновцы, не желая с красными войны,
от нас попрятались".
Вот еще две впечатляющие записи из дневника Л. Голика:
"23—28 марта. Стояли в селах Всесвятском и Павловском.
Здесь... расстреляли 4-х махновцев, которые не желали с
нами уходить.
29 марта — 1 апреля. Проходили Владимировку, Констан-
тиновскую и расстреляли 5 махновцев за отказ поступать в
отряд". Милостивей оказался батько на второй день в Марь-
евке: "Бывшие махновцы, пишет Л. Голик, не хотели вступать
к нам в отряд, и Махно на них кричал и ругался".
Как видим, не одни только "греки не хотели воевать". Так
что в Комари, по сравнению с населением других сел, где
Махно порол и расстреливал, они еще легко отделались.
Но доставалось им и от большевиков, и не только от них.
22-й советский карательный полк в марте 1920 года расстре-
лял в селе Комарь 7 человек, в Богатыре — 10, сжег две хаты;
в Константине — 12 человек и сжег одну хату. Доставалось
им и от махновцев. Снова свидетельствует Л. Голик: "23
апреля. Тронулись в село Б. Янисоль, где изрубили один взвод
22-го полка и расстреляли двух махновцев-греков, передав-
шихся на сторону красных и начавших организовывать
комитет бедноты".
182
Но оторвемся наконец от дневников жены Махно и на-
чальника его контрразведки и обратимся к документам про-
тивостоявшего лагеря, то есть большевистским, относящимся
к тому же времени — весне 1920 года.
В сводке начуправкома, располагавшейся в Приазовье
13-й армии 3 марта 1920 года отмечается недовольство на-
селения продразверсткой, особенно когда она проводилась
бессистемно, когда крестьянин не получал причитающейся
ему денежной компенсации. О положении в Мариупольском
уезде в этом документе говорится следующее: "В городе и
уезде чувствуется махновское настроение. Проходящими час-
тями войск и агентами упродкома забираются скот, фураж
и продукты, за что не платят денег, а выдают только расписки.
В настоящее время Конармия мобилизует лошадей, выдавая
за забранное также расписки. Все это возмущает крестьян,
питает махновщину, и есть опасения, что бессистемные рек-
визиции не дадут возможности крестьянам засеять поля".
Через три дня после составления этого документа в Мари-
уполе состоялся уездный съезд волисполкомов. Он указал,
что мобилизация подвод и реквизиция проходит без системы.
"Крестьянство постановило, — сообщает сводка о съезде, —
давать хлеб по твердым ценам армии и рабочим", но загото-
вители уже не уплачивали и твердых цен. Удивительно ли,
что сводка от 19 марта 192.0 года 13-й армии отмечает:
"Мариуполь. Общее настроение рабочих великолепное, обы-
вателей — колеблющееся. В уезде свирепствует махновщина".
Вот таковы были дела на Мариупольщине даже по свиде-
тельствам большевистских источников.
Как же отвечал Махно на "бессистемные реквизиции", то
есть на самый прямой и беззастенчивый грабеж большевиков?
Вчитайтесь в строки дневника Г. А. Кузьменко, в которых
она рассказывает, что увидела, когда утром 17 марта выехала
на Богатырь. В Андреевке хозяйничала 3-я рота 22-го кара-
тельного полка. Махновцы ее разгромили, взяли в плен
человек сорок.
Этих пленных, пишет Г. А. Кузьменко, "раздевали до
расстрела. Когда они разделись, им приказали завязывать
друг другу руки. Все они были великороссы, молодые здоро-
вые парни. Отъехав немного, мы остановились. По дороге под
забором лежал труп. Тут на углу стояли селяне с бричкою,
запряженной четверкой, на которой был взятый у красных
пулемет. Тут же стояла еще одна подвода с винтовками.
Вокруг крутились наши хлопцы и собралось много селян.
Селяне смотрели, как сначала пленных раздевали, а потом
стали выводить по одному и расстреливать. Расстрелявши
183
таким образом нескольких, остальных выставили в ряд и
резанули в них из пулемета. Один бросился бежать. Его
догнали и зарубили".
Как же реагировали андреевские крестьяне на эту крова-
вую расправу? "Селяне стояли и смотрели. Смотрели и
радовались".
Боже, какая нечеловеческая жестокость! — воскликнет
читатель, и я с ним полностью соглашусь. Но продолжим
цитату: "Они рассказывали, как в эти дни этот отряд хозяй-
ничал в их селе. Пьяные разъезжают по селам, требуют, чтобы
им готовили лучшие блюда, бьют нагайками селян, бьют и
говорить не дают".
Жестокость рождает жестокость.
Изучая несомненно достоверные документы, начинаешь
понимать, почему крестьяне-повстанцы выдвинули лозунг:
"Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не
посинеют!" Потому что притесняли обе противоборствующие
стороны: белогвардейцы несли с собой кнут и восстановление
помещичьего землевладения (в "Истории русской смуты"
А. И. Деникин приводит убедительное признание князя
Гр. Трубецкого: "Помещики торопились возместить себе за
то, что потерпели, и взыскивали, когда могли, с крестьян
втрое за награбленное"), а когда приходили красные, начи-
налась вакханалия чека, реквизиции в пользу армии, прод-
разверстка. Очень емко это положение выражено в знамени-
том фильме "Чапаев": "Белые приходят — грабят, красные
приходят — грабят. Куды бедному крестьянину деться?"
На юге Украины он шел к Махно.
И предельно правдивы строки "матушки Галины" о том,
как в Большом Янисоле "очень симпатичный грек" (хозяин
дома, где она остановилась) и его односельчане встревожи-
лись, узнав, что в соседней Павловке стоят коммунисты,
которые забирают у крестьян хлеб и прочее. "Янисельцы
и времьевцы, — пишет она, — очень встревожены и напу-
ганы этим известием. (Времьевка — село Мариупольского
уезда, вошедшее в историю махновского движения благо-
даря эпизоду, когда Махно публично повесил здесь вран-
гелевского эмиссара, привезшего предложение барона Нес-
тору Ивановичу чина генерал-майора и землю крестьянам.
— Л. Я.) Не сегодня-завтра нужно и сюда ждать страшных
гостей, которые придут грабить добытое тяжелым трудом
крестьянское добро. Павловцы послали двух мужичков в
погоню за батьком Махно, чтобы пришел со своим отрядом
и помог селянам прогнать русских грабителей и насильни-
ков".
184
Оставим на совести Галины Андреевны последнее выра-
жение. В то время большевики еще были интернационалис-
тами, как и Нестор Махно, и в продотрядах состояли люди
различных национальностей, а не только русские.
Но вернемся к ситуации в Павловке. (Это село, между
прочим, родина видной революционерки-народоволки Софьи
Гинсбург, закончившей свою молодую жизнь в одиночке
Шлиссельбургской крепости). К кому еще могли они, пав-
ловские крестьяне, обратиться за помощью и защитой, если
не к батьке Махно?
Возродить повстанческое движение и махновскую армию
Нестору Ивановичу помогли... большевики. И, разумеется,
врангелевцы.
Листаю мариупольскую газету за 1920 год и вижу, как
менялся ее тон по отношению к Махно с января по октябрь.
Сначала это банда, а сам батька — предатель, продавшийся
Врангелю. Затем было объявлено, что произошла ошибка,
документ о союзе Махно с Врангелем оказался подделкой.
Отряды Махно почтительно именуются уже не бандами, а
Украинской партизанской армией Махно или РПА — Рево-
люционно-Повстанческой армией с добавлением в скобках:
махновцев. Под этим названием они фигурируют и в приказах
Фрунзе.
Еще в июле батька, как утверждает П. Аршинов, слал в
Москву и Харьков телеграммы с предложением нового союза.
Столицы России и Украины молчали. Однако к осени, когда
Врангель вышел из Крыма и захватил Мариуполь, дошел до
Синельникова, захватил гуляйпольский (то есть махновский)
район, этот союз был подписан в Харькове: обе стороны
нуждались в объединении сил для разгрома общего врага.
Махновцы во главе с Каретниковым хорошо "пошуровали"
во врангелевском тылу (сообщение о подписании союза даже
попридержали на несколько дней, чтобы отряды батьки
успели благополучно просочиться через белогвардейский
фронт). Затем они вместе с красноармейскими частями штур-
мовали Перекоп и вброд форсировали Сиваш. Позднее, когда
махновцы были снова и на всю большевистскую эпоху объ-
явлены вне закона, а имена и деяния их никогда не появля-
лись в положительном контексте, многие подвиги Революци-
онно-повстанческой армии приписали красноармейцам.
Рассказывают, что генералу Я. А. Слащеву, когда он
вернулся из эмиграции и преподавал в Москве в военной
академии, задали вопрос: почему врангелевцы не предусмот-
рели удар Красной Армии через Сиваш. Яков Александрович
ответил, что они не могли предположить, что у красных
185
найдется такой военачальник, который погонит бойцов в
ледяную воду. Это было бы равносильно их неизбежной
гибели. Человек, побывавший даже недолго в такой ледяной
купели, был обречен на смерть. Слащев утверждал, что не
видел ни одного живого участника форсирования Сиваша в
ноябре 1920 года.
Махновцы вместе с красноармейцами Сиваш преодолели
и нанесли белогвардейцам смертельный удар.
Через неделю с небольшим после полного разгрома Вран-
геля Фрунзе приказал переформировать махновские части,
влить их в красноармейские и перебросить на Северный
Кавказ. Это было вероломное нарушение харьковского дого-
вора, который гарантировал махновцев от подобного пере-
формирования.
Махновцы, конечно, отказались подчиниться, и в ночь с
24 на 25 ноября Фрунзе окружил их и нанес мощный удар.
Предательски был убит Каретников и многие махновские
командиры. И только отчаянный Марченко сумел с неболь-
шим отрядом всадников перемахнуть через перекрытый по
приказу Фрунзе перекопский перешеек и пойти на соединение
с Махно.
Прежде чем рассказать о том, как состоялось это соеди-
нение, хочу изложить малоизвестный факт из истории того
времени.
Махновские части, расположенные в других местах, после
предательского нарушения большевиками харьковского со-
глашения начали активно противодействовать Красной Ар-
мии. В частности, ими была предпринята попытка захватить
Мариуполь, в то время база Красной Азовской флотилии. Об
этом эпизоде не упоминает, насколько мне известно, ни один
историк, молчат и краеведы. Но вот строки из "Записки о
военных действиях на Азовском море в 1920 году", состав-
ленной, что называется, по горячим следам событий Сергеем
Колбасьевым, впоследствии известным писателем-маринис-
том: "Восстание махновцев в Мариуполе. Часть махновцев,
перешедших на сторону Красной Армии, оставалась в районе
Мариуполя и уже после оккупации Крыма внезапно восстала.
Гарнизон Мариуполя был очень слаб и только присутствие
флота спасло город. Суда обстреливали махновцев и отогнали
их от города".
Сам батько в крымском походе не участвовал: он остался
в Гуляй-Поле залечивать тяжелую рану, полученную в бою.
В начале третьей декады ноября 1920 года Махно получил
сведения от секретного сотрудника 42-й дивизии Красной
Армии о том, что в Гуляй-Поле направлены разведчики для
186
уточнения местонахождения повстанческих частей. Им пред-
писывалось также узнать, где живут Махно и его видные
командиры, чтобы в случае внезапного ночного захвата Гу-
ляй-Поля расправиться с ними в первую очередь.
Что же предпринял Нестор Иванович, получив такие
сведения? На этот вопрос отвечает Виктор Белаш: сейчас
же было собрано совещание Совета вместе с командирами
частей. Решили в случае нападения красных отвести войска
"в район Б. Янисоля, что в 60 верстах восточнее Гуляй-
Поля".
Через несколько суток, в ту же ночь, когда махновцев
окружили в Крыму, блокировано было и Гуляй-Поле. Разбив
окружившую его дивизию, Махно узнал пароль и, пользуясь
им, прошел со своим отрядом через линию советских войск
как красноармейская часть. И направился, как и было
запланировано, в район греческих сел, где его, защитника
крестьян от произвола белых и красных, хорошо знали и
любили. В одном из этих сел — Старом Керменчике —и
соединились отряды батько и чудом вырвавшегося из Крыма
Алексея Марченко. Вот как об этом рассказывает Петр Аршинов
в "Истории махновского движения".
7 декабря прибыл в Керменчик гонец с известием, что
через несколько часов прибудет группа Марченко. Все насе-
ление вышло на окраину села встречать воинов. "Но когда в
отдалении, — пишет П. Аршинов, — увидели двигавшуюся
конную группу, сердце у всех сжалось. Вместо могучей
конницы в 1500 человек, возвращался небольшой отряд в
250 человек. Подъехали передовые части вместе с Марченко
и Тарановским.
— Имею честь доложить — крымская армия вернулась, —
заговорил Марченко.
Все улыбнулись. "Да, братики, продолжал Марченко, —
вот теперь-то мы знаем, что такое коммунисты". Но Махно
был угрюм. Вид разбитой, почти уничтоженной знаменитой
конницы сильно потряс его".
В этой же книге я встретил название "греческого села
Константин", на самом деле, конечно, Константинополь, под
которым "гению Махно было предъявлено величайшее испы-
тание". Его трехтысячный отряд был окружен войском в 150
тысяч (по утверждению П. Аршинова), но Махно оказался
победителем. Красноармейцев он брал в плен многими тыся-
чами, тут же их отпускал. Однако комиссары отпущенных
сразу же ставили в строй и опять вели на Махно. Вот в такой
трагической ситуации оказался батько после того, как совет-
ская власть в очередной раз объявила его вне закона.
187
* * *
В середине 60-х годов, когда шла подготовка к полувеко-
вому юбилею Октябрьской революции, в Мариуполь приехал
В. А. Варганов. В 1917—1918 годах этот человек возглавлял
местных большевиков. Как водится, "бойцы вспоминали
минувшие дни". Коснулись и участия мариупольских греков
в революции и гражданской войне. Василий Афанасьевич
нахмурился, процедил сквозь зубы:
— Кулачье, махновцы...
Тогда же старый партизан Иван Лукьянович Чубаров,
рассказывая мне, что лично знал отважного командира Ва-
силия Куриленко, с надеждой спросил:
— Говорят, отношение к махновскому движению переме-
нилось, считают, будто они боролись за народ, против Дени-
кина, Врангеля. Правда ли это?
— Нет, — ответил я, — ничего не изменилось.
Со стыдом вспоминаю, что сказал это холодно, почти
враждебно.
Сегодня я ответил бы на вопрос Ивана Лукьяновича
утвердительно.
* * *
Слушаю выступление премьер-министра Украины:
— Махновщины я не допущу.
Слушаю ведущего телеканала "Останкино":
— Только бы не было у нас махновщины.
Ну что ты будешь делать? Слово "махновщина" воспри-
нимается нами как бранное, а "махновец" — как синоним
своевольного, недисциплинированного человека, а то и поху-
же — грабителя и насильника. Одним словом — бандита.
Слов нет, к батьке приставали и разного рода деклассиро-
ванные элементы, уголовники, люмпены, "подвиги" которых
принесли печальную славу крестьянскому движению на юге
Украины. Но ведь крестьяне из разноплеменных сел При-
азовья стали под знамена Махно, чтобы защитить свой дом,
свою землю. Наибольшей дисциплинированностью среди них,
по общему признанию, отличались жители греческих сел
Мариупольщины. Для них Нестор Иванович Махно был
вождем в борьбе за справедливость, и они выражали ему свою
преданность, свою верность. Что и отразилось в дневнике
Г. А. Кузьменко.
Этот документ попал сначала в Музей революции СССР.
Однако вскоре и на многие десятилетия он стал недоступен
исследователям: им занялись другие специалисты. Чекисты
тщательно подчеркивали в дневнике Галины Андреевны
фамилии и факты симпатий местных жителей к махновцам.
188
Эти подчеркивания выстрелили (можно даже сказать: в
буквальном смысле) в 1937—1938 годах.
Большевики тогда еще были интернационалистами и ре-
прессировали миллионы людей независимо от их националь-
ной принадлежности. Исключение было сделано только для
мариупольских греков, немногочисленного народа, живуще-
го в Приазовье с XVIII века. Их обвинили в создании по-
встанческой контрреволюционной, вооруженной подпольной
организации, поставившей себе якобы цель оторвать часть
территории СССР и присоединить ее к Греции.
Ничего нелепей выдумать было, конечно, невозможно, но
на греков Приазовья обрушили такие массовые репрессии,
которые иначе, как геноцидом, назвать нельзя. Не сомнева-
юсь, что этот геноцид был местью большевиков за то, что во
время гражданской войны многие крестьяне греческих сел
Мариупольщины (как и всех разноплеменных сел Приазовья)
стали под знамена Нестора Махно, чтобы защитить свой кров,
свою землю, своих жен и детей, свою честь и человеческое
достоинство как от белых насильников, так и от красных
грабителей, и проявили при этом образцы стойкости, воин-
ского мужества и отваги. Они были махновцами в том лучшем
и благородном значении этого слова, которому еще предстоит
утвердиться в нашем сознании.
И это — будет!
ПОСТСКРИПТУМ.
Вот строки из воспоминаний Виктора Белаша о том, как
дрались греки в мае 1919 года, когда корпус Шкуро прорвал
фронт 13-й армии и Третьей бригады Махно:
"Надо было ликвидировать корпус Шкуро в нашем тылу.
Сильного кулака 13-я армия не имела, и Шкуро безнаказанно
занял Гришинский район — тыл 13-й армии. Затем Шкуро
свернул из Гришино к нам в тыл. Следовало жертвовать всем
во имя спасения фронта. И штабом 2-й бригады Повстанческой
дивизии, навстречу прорвавшимся белым войскам, немед-
ленно был брошен 9-й греческий полк, снятый из села Бешево,
и 12-й кавалерийский.
21 мая они встретились в с. Б. Янисоль на реке Мокрые
Ялы. От исхода сражения зависела судьба фронта, отчего наши
командиры особое внимание обращали на маневрирование и
огонь полка. Надо сказать, что 9-й полк состоял преимущес-
твенно из греков Б. Янисольского района, где шкуровцы успели
расправиться с их родными и Советами. Руководимые чувством
мести, они, как львы, набросились на Янисоль, выволакивая
из домов на улицу казаков и расстреливая их.
189
Но час был недобрый. Со стороны сел Комарь, Константины
и Богатырь появились новые полки Шкуро. Естественно,
силы были неравны, да к тому же недостовало патронов.
Однако полк жестоко дрался в течение целых суток. Шку-
ровцы ходили в атаку, наш кавалерийский полк в контратаку,
давая возможность пехполку отступить на Керменчик.
Повстанцы защищали свои семьи, свои хаты, были еди-
нодушны, так как подразделения состояли из односельчан.
Трусов не было. И рубка была страшная. Раненых и пленных
не было.
Командир полка Морозов был зарублен, а с ним легли и
все шестьсот кавалеристов. Пехота, выбившись из сил, из-
расходовав патроны, парировала штыками, пока, наконец, у
с. Керменчик не была окружена и целиком изрублена. Лишь
комполка да остаток в 400 человек успели уйти, и только они
остались в живых — все остальные погибли.
Итак, наших двух полков не стало. Шкуровцы, понеся
серьезные потери, замедлили движение и, видимо, отдыхали,
чтобы снова напасть". (Белаш А., Белаш В. Дороги Нестора
Махно. С. 207).
* * *
Когда я расспрашивал И. Л. Чубарова, куда исчез коман-
дир знаменитого на мариуполыцине партизанского отряда
М. Т. Давыдов, впоследствии генерал Красной Армии, Иван
Лукьянович и его боевые друзья отвечали: "Вызвали в Мос-
кву, в военную академию". О том, что Марк Тимофеевич
вскоре вернулся в Приазовье и одно время был начальником
штаба 2-й бригады 1-й повстанческой дивизии имени батьки
Махно, они умалчивали. Еще раз убеждаюсь, что ВСЕ пар-
тизанские формирования Приазовья непременно участвовали
в махновском движении, даже коммунистические.
190
ГЕНЕРАЛ МАКСИМ КОЗЫРЬ
Революционно-повстанческая армия (махновцев) насчи-
тывала немало выдающихся командиров, вышедших, как
говорится, из гущи народа. Не имея не только военного, но
даже общего образования <в анкетах они писали: неокончен-
ное начальное), они были удивительными самородками, ко-
торым революция позволила раскрыть их незаурядные воин-
ские таланты.
То же самое в те годы наблюдалось повсеместно: и в
буденовских, скажем, частях, и в чапаевской дивизии. Но
если из Первой Конной выдвинулся, например, Семен Кон-
стантинович Тимошенко, не очень удачливый маршал, кото-
рому выпало стоять во главе Красной Армии в самый траги-
ческий период Великой Отечественной войны, если в той
войне заметную роль сыграл начальник артиллерии 25-й
Чапаевской дивизии Николай Михайлович Хлебников, гене-
рал-полковник, Герой Советского Союза, командовавший
артиллерией ряда фронтов, то интересно бы знать: кто из
махновских командиров отличился на полях сражений в
1941—1945 годах?
Трудно предположить, что махновцы, трижды проклятые
советской властью, могли "дойти до степеней известных" в
Красной Армии, если даже первородные коммунисты, истин-
ные герои гражданской войны, почти все попали в кровавую
мясорубку сталинских репрессий 1937—1938 годов.
Одного такого человека я все-таки нашел. Пусть он не стал
крупным полководцем, а командовал в Великую Отечествен-
ную всего лишь дивизией, но характер у него был самобыт-
нейший и во многих отношениях, я бы сказал, истинно
махновский.
Мое знакомство с Максимом Евсеевичем Козырем, уро-
женцем села Богатое Екатеринославской губернии (класси-
ческие махновские места) произошло в 1974 году, когда
журнал "Дружба народов" начал печатать военные дневни-
191
ки Константина Симонова под названием "Разные дни вой-
ны".
Из этой публикации я узнал, что весной 1944 года Симонов
побывал в дивизии генерал-майора Козыря, стоявшей в Ру-
мынии. "Меня глубоко заинтересовала, — пишет он, —
фигура самого командира дивизии, человека высоких душев-
ных качеств, своеобразного обаяния и, как мне показалось,
большого природного ума. Много лет спустя, вспоминая этого
человека, его взгляды на жизнь, повадки, манеру разговора
с подчиненными, я написал одного из действующих лиц своего
романа "Живые и мертвые" — генерала Кузьмича".
Думаю, каждый, кто читал трилогию Константина Симо-
нова, запомнил генерала Кузьмича, проникся к нему симпа-
тией и сочувствием. В самом деле, Кузьмич — один из самых
обаятельных, полнокровных и самобытных персонажей этого
романа.
Под Сталинградом, когда Серпилина, главного героя "Жи-
вых и мертвых", назначили начальником штаба армии, на
смену ему прислали "маленького, щуплого, птичьего роста
генерала".
В первый раз мы видим его, когда он встречает только что
прибывшее пополнение. Он выбежал из землянки, когда
последние солдаты еще подравнивались в строю и начал речь
не совсем обычными словами:
— По случаю мороза агитация отменяется. В Сталинград
взойдем, тогда и поговорим. А взойтить туда надо первыми, в
чем и есть суть вопроса для меня, для вас, для всей Советской
России. Пока в Сталинград не взойдем, отдыха не будет, только
бой. Взойдем — отдохнем. Я — ваш командир, звание —
генерал-майор, фамилия Кузьмич, Иван Васильевич. Будете
между собой Кузьмичом или дядей Ваней звать, не обижусь,
если вне строя, а в строю — за это, безусловно, наряд.
Переждав вспыхнувший в шеренгах смех, Кузьмич сказал:
— Биография моя простая: в германскую был, как вы,
солдат. В гражданскую — полком командовал, а в эту —
дивизией. Чего и вам желаю.
Этот генерал, сменивший очень авторитетного Серпилина,
своей простотой и душевностью, спокойным мужеством и
глубоким знанием солдатского дела сразу же стал всеобщим
любимцем дивизии. Не случайно замполит Бережной, харак-
теризуя отношение к Кузьмичу, говорит о любви с первого
взгляда.
Вопрос о реальных прототипах известных литературных
героев всегда волнует читателей, занимает умы исследовате-
192
лей. И все же я вряд ли стал бы так подробно интересоваться
человеком, послужившим Симонову прообразом Кузьмича,
если бы не такое обстоятельство: Максим Евсеевич Козырь в
своем рассказе военному корреспонденту там, в Румынии,
упомянул, что он, выходец из крестьян Екатеринославской
губернии, подростком уехал в Донбасс.
При этих словах забилось ретивое сердце краеведа: в каком
именно городе Донбасса прошла юность генерала Козыря?
Может быть, в Мариуполе, на одном из металлургических
заводов? В пользу этого предположения говорила и такая
деталь: 17 мая 1919 года Козырь был ранен под Волновахой.
Значит, в гражданскую он воевал, в частности, на Мариу-
польщине.
Я сделал запрос в Главное управление кадров Министер-
ства Обороны СССР. Мне сообщили дату рождения и гибели
Героя Советского Союза генерал-майора Козыря Максима
Евсеевича: "других интересующих Вас данных в Главном
управлении кадров МО нет". И посоветовали обратиться в
Центральный Государственный архив Советской Армии, лю-
безно указав его адрес.
Таким образом, выяснилась неожиданная (а может, и не
такая уж неожиданная) подробность: оказывается, генерал
Козырь, ставший литературным героем, был им в самом
прямом смысле слова в жизни — Героем Советского Союза.
В журнальном варианте дневников Симонова об этом не
упоминалось.
Нетрудно представить себе, с каким душевным трепетом
в заветный день взял я в руки личное дело генерала Козыря,
развязал бязевые тесемки, открыл объемистую архивную
папку. С фотографии глянули на меня мудрые глаза пожилого
человека, много повидавшие в жизни, человека, которого и
впрямь можно скорее принять за строгого старшину, чем за
командира дивизии, если бы не генеральские погоны на
помятом кителе.
За многие годы военной службы в личном деле генерала
Козыря накопилось множество документов: автобиографий,
характеристик, рапортов, аттестаций, наградных листов. На
некоторых документах автографы крупных военачальни-
ков — маршалов, генералов армии.
Конечно, личное дело кадрового военного не роман, но
читаются все эти бумаги с неослабевающим интересом, потому
что строгие скупые строчки, начисто лишенные сантиментов,
рисуют человека незаурядного, с характером сложным, про-
тиворечивым, но удивительно самобытным. Но знакомясь по
документам из пухлой папки с биографией генерала Козыря,
193
я испытывал и недоумение, сравнивая то, что в них сообща-
лось, с тем, что Максим Евсеевич рассказывал Константину
Симонову. Чтобы мое чувство стало понятным, надо нам
выписать строки из автопортрета, который в марте сорок
четвертого набросал сам Козырь, а Симонов с доступной его
скорописи точностью зафиксировал в своем военном дневни-
ке:
Судьба моя была ретивая, но люблю ей ходить наперерез.
(Эти слова в романе произносит генерал Кузьмич — Л. Я.).
На военной службе с десятого года. В четырнадцатом году,
перед войной, летом, на международных стрелковых сорев-
нованиях в Кишиневе взял четвертое место по стрельбе стоя.
(В довоенных аттестациях, где Козыря и поругивали, отме-
чали хорошую стрелковую подготовку его бойцов, добавляя,
что сам командир стреляет только на хорошо и отлично —
Л. Я.). ...В четырнадцатом году взамен четырех солдатских
Георгиев с бантом золотой крест дали с бантом и тем самым
в подпрапорщики произвели... В гражданскую войну был
выбран командиром 134-го Феодосийского полка. А потом
командующим Первой повстанческой армии. За гражданскую
войну два ордена Красного Знамени получил и имею документ
один хороший: семнадцатого мая 1919 года на станции
Волноваха получил телеграмму от Владимира Ильича Лени-
на. Тогда я получил первый орден, и желтый костюм в подарок
мне привез Затонский. Я был как раз ранен в тот день в
правую ногу и лежал".
И еще отрывочек, который нам понадобится по ходу дела:
"Под Брест-Литовском собрались мы все генерал-майоры,
голосовали, как в гражданскую войну. Был выбран я времен-
ным командующим 4-й армией и остатки ее выводил из
окружения. Вывел".
10 сентября 1943 года заместитель командующего войска-
ми Московского военного округа генерал-майор Цыганов,
характеризуя нашего героя, отметит "вранье и ложь в до-
кладах и донесениях" М. Е. Козыря.
Я привожу эти слова, чтобы облегчить свое положение:
мне придется в своем рассказе коснуться такой деликатной
темы, как "вранье и ложь" очень уважаемого и заслуженного
человека.
Не сомневаюсь, что найдутся читатели, которые возму-
тятся: зачем перетряхивать грязное белье человека, верно
служившего Родине и отдавшего за нее свою жизнь, кавалера
высоких боевых орденов, Героя Советского Союза?
Из дальней дали, из бесконечно далеких школьных лет
вспоминается мне, как Дмитрий Фурманов, приступая к
194
роману о Чапаеве, рассуждал: показать ли Василия Ивановича
идеальным героем или дать "со всей требухой"? Недосуг мне
сейчас перечитывать фурмановские страницы, но твердо
помню решение писателя: дать Чапаева "со всей требухой".
Надеюсь, что не нанесу ущерба чести и достоинству Мак-
сима Евсеевича Козыря, если не стану, как делал это в
предыдущую эпоху, умалчивать о "неудобных" эпизодах его
биографии, а дам его "со всей требухой". Потому что я твердо
верю: оскорбить правдой нельзя — оскорбительна только
ложь.
Так вот. Сопоставим "автопортрет" Козыря с документами
из его личного дела. И выяснится следующее. В 1944 году
ему было не пятьдесят шесть, как он сказал Симонову, а
пятьдесят четыре. В армии служил не с 1910 года — его
призвали в ноябре 1911-го. За гражданскую войну действи-
тельно имел орден Красного Знамени, но никак не два: ко
второму его представили только 6 января 1943 года. О том,
что он командовал повстанческой армией, и речи быть не
может (странно, что Симонов сразу же не засек рассказчика.
Впрочем, когда закончилась махновская эпопея, будущему
писателю и шести лет не было, а когда он подрос и стал
интересоваться историей, на такие темы говорить было уже
не принято). Но повстанческим полком Козырь действительно
командовал. Надо ли объяснять, что между полком и арми-
ей — дистанция огромного размера?
Что ранен он был под Мариуполем, а точнее на станции
Волноваха, — в этом нет сомнений. Однако то, что он в тот
день получил там телеграмму от Ленина, — чистая выдумка.
Фамилии Козыря нет в именном указателе к Полному собра-
нию сочинений в 55 томах, а на мой запрос, нет ли такого
документа среди неопубликованных ленинских материалов,
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ответил отри-
цательно. Да и кто такой был весной 1919 года Максим
Козырь, чтобы Ленин лично ему телеграфировал?
Теперь насчет событий под Брестом, где в сорок первом
"собрались мы все генерал-майоры". Полковнику М. Е. Ко-
зырю воинское звание "генерал-майор" присвоено постанов-
лением СНК СССР от 11 февраля 1942 года. Был ли он
временным командующим 4-й армией — этот факт я не
проверял, однако представляется он мне весьма сомнитель-
ным. Но из окружения Козырь выходил и, легко поверить,
не один, а с группой бойцов.
Представляю себе, каким блаженным отдыхом для кор-
респондента "Красной звезды" были те памятные три дня,
195
проведенные в дивизии генерала Козыря во время затишья
на фронте. За доброй чаркой (как говорит генерал Чарнота в
"Беге" Михаила Булгакова: "Уж коли встречались, значит,
пили") слушал он рассказы старика, каким, несомненно,
казался Максим Евсеевич молодому (28 лет) Константину
Симонову. Может быть, именно доброй чаркой и объясняются
неосторожные заявления Максима Евсеевича насчет повстан-
ческой армии, а также о дорогом подарке, полученном им из
рук еще до войны расстрелянного "врага народа" Затонского.
Он и в документах, идущих в личное дело, не раз рисковал
прихвастнуть, но еще больше — благоразумно умолчать.
Вот он пишет в автобиографии: "В начале февраля 1919
года назначен командующим войсками группы Одесского
направления".
Правдой здесь может быть то, что в означенное время
Максим Козырь попал в 1-ю Заднепровскую дивизию Павла
Дыбенко, в ее 1-ю бригаду, которой командовал атаман
Григорьев. Других командующих "группой войск Одесского
направления" в то время не было. В другом документе Козырь
пишет, что с января по май 1919 года он воевал против
французов и англичан в районе Николаева, Херсона, Одессы.
Это маршрут григорьевской бригады, в которой Козырь мог
быть вместе со своим повстанческим полком. А вот с мая
1919-го он уже воевал против Деникина в районе Таганрога,
то есть у Махно, которого он, как и Григорьева, не упоминает.
Войдем в положение Максима Евсеевича: мог ли он афи-
шировать, что воевал в составе частей таких сомнительных
личностей? Вот он пишет, что в 1918 году партизанил против
немцев и гетманцев вместе со Щорсом. Хотя действовал его
отряд под Ново-Московском, то есть в махновском районе.
Но Щорс, погибший в 1919 году, был канонизирован боль-
шевиками, не то что атаман Григорьев или батько Махно.
Я не знаю, как объяснить "передислокацию" Козыря с
Одесского направления на Таганрогское, из Первой бригады
Заднепровской дивизии в Третью, что в конце весны 1919
года на станции Волноваха, которую обороняли только мах-
новские части, он был ранен, — это святая правда.
Что же произошло тогда, в мае 1919 года под Волновахой
и вообще на фронте, который Ленин называл фронтом Дон-
бассейн-Мариуполь?
Советская (большевистская) историография настаивает на
такой схеме: махновская бригада быстро разложила примы-
кавшую к ее левому флангу 9-ю дивизию (ею командовал
Николай Владимирович Куйбышев, родной брат известного
196
большевика Валериана Владимировича) и как только кава-
леристы Шкуро нанесли удар, в панике бежали и увлекли за
собой и красноармейцев 9-й. И вообще Махно, которому
отказали в должности начдива, открыл белым фронт.
Но еще Антонов-Овсеенко утверждал обратное: сначала
бежала Девятая дивизия, а стойким махновцам с обнаженным
флангом ничего не оставалось, как отступить.
Антонов-Овсеенко защищает Махно не совсем бескоры-
стно: Ленин возложил на него личную ответственность за
Третью бригаду. Командукр (то есть командующий Украин-
ским фронтом) лично съездил "посмотреть на маленький
свободно-революционный Гуляй-Поле—Петроград". Это
было 29 апреля 1919 года. Его вывод: "Махно, его бригада и
весь район — большая боевая сила. Никакого заговора нет.
Сам Махно не допустил бы его... Он убежденный анархист.
Лично честный, за спиной которого совершалась всякая
пакость... Карательные меры — безумие..."
Он поручился за Махно, а потом вышли такие вот непри-
ятности. И он доказывает, что в случившемся виноват не
батько.
Отчасти он прав.
Я не поверю, что Антонов-Овсеенко умышленно не снабжал
Третью бригаду оружием и боеприпасами, на что жаловались
махновцы. Да, у них, случалось, не было патронов, чтобы
встретить атакующих деникинцев. Махновцы ходили в шты-
ковые, добывая боеприпасы у врага. Дорогой, разумеется,
ценой. Штурмуя Кутейниково, они потеряли 3000 человек.
Но и соседняя 9-я дивизия была в точно таком же поло-
жении. Да и другие, видимо, тоже.
Однако в ответ на неснабжение решительный Махно "за-
крыл", как уже говорилось, свой район, не позволял вывозить
из него материальные ценности. Он предложил большевикам
товарообмен: вы мне оружие — я вам уголь, вы мне патроны —
я вам хлеб.
Такие требования выходили за компетенцию комбрига.
Но ведь Махно был не только командиром бригады в составе
Красной Армии, но еще и народным вождем, признанным и
авторитетнейшим руководителем грандиозного крестьянско-
го восстания на Украине.
Но именно это и не устраивало большевиков.
Вчитаемся внимательно в телеграмму В. И. Ленина
Л. Б. Каменеву: "С войсками Махно временно, пока не взят
Ростов, надо быть дипломатичным, послав туда Антонова
лично и возложив на Антонова лично ответственность за
войска Махно" (ПСС, т. 50, с. 307).
197
Обратите внимание: ВРЕМЕННО! Дескать, возьмем Ростов
(в том числе руками и кровью махновцев), разберемся с
Деникиным, тогда примемся за Нестора Ивановича. А пока —
дипломатничайте.
Удивительно ли, что на более низком (но достаточно
высоком) уровне все время лелеялась тайная мечта уничто-
жить махновщину и лично ее вождя. И не только лелеялась,
но и выстраивалась в конкретные планы, которые батько
срывал весьма успешно.
Военные деятели — Антонов-Овсеенко, Скачко, Ды-
бенко, — хорошо знавшие положение, уверяли: Махно будет
сражаться с Деникиным до последнего. За спиной махновцев
были их родные села, их земля, в том числе и поделенная
ими помещичья, которую деникинцы хотели отнять. Там
были их семейные очаги, жены и дети, отцы и матери,
которых они готовы были защищать.
Но партаппаратчики (позволю себе еще раз употребить
термин нашего времени) ничего этого знать не хотели. Среди
махновцев распространилось мнение, что большевики рас-
суждают так (цитирую по П. Аршинову): "Лучше отдать всю
Украину Деникину, нежели допустить дальнейшее развитие
махновщины. Деникинщину, как открытую контрреволю-
цию, всегда можно разложить классовой агитацией. Махнов-
щина же идет в низах масс и, в свою очередь, подымает массы
против нас".
П. Аршинов пишет: "За несколько дней до этих событий
(наступления Корпуса Шкуро — Л. Я.) Махно сделал сооб-
щение штабу и Совету, что большевики сняли несколько
своих полков с гришинского участка, чем открыли свободный
проход деникинцев в гуляйпольский район с боковой северо-
восточной стороны. Действительно, казачьи орды ворвались
в район не со стороны повстанческого фронта, а с левого фланга,
где стояли красноармейские части. Благодаря этому армия
махновцев, державшая линию Мариуполь — Кутейниково —
Таганрог, оказалась обойденной деникинцами. Последние вли-
лись громадными силами в самое сердце района".
Так что запрещение Троцкого переформировать махнов-
скую бригаду в дивизию после того, как на это поступило
согласие фронта, было только поводом, а не причиной разрыва
Махно с большевиками.
Махно с презрением писал о "распрях Григорьева с боль-
шевиками за власть". Но у него самого этих "распрей" хватало
с избытком.
Такова, коротко говоря, была обстановка, когда в мае 1919
года деникинцы нанесли свой удар по фронту, который
198
держали 3-я бригада махновцев и красноармейская 9-я ди-
визия. Более удобный момент выбрать было невозможно.
Конный корпус Шкуро сразу же прорвал оборону проти-
воборствующей стороны. Кубанских кавалеристов поддержи-
вали танки. Командующий 2-й Украинской армией Скачко
докладывал: "Волновахский прорыв собственными силами
армии (а в ней, кроме махновской бригады, к тому времени
уже никаких войск не оставалось — Л. Я.) не только не может
быть ликвидированным, но не представляется возможным
остановить успех врага, который развивается".
Вот в эту заваруху и попал под Волновахой Максим Козырь.
В бою с корпусом Шкуро погиб его брат Михаил (три других
его брата — Елизар, Петр и Яков — сложили головы на
царской войне, как называли в народе первую мировую в
отличие от гражданской). Сам Козырь был в тот день серьезно
ранен.
Он стал одним из первых кавалеров ордена Красного
Знамени: за разгром дроздовского полка ему вручили орден
с номерным знаком 71. (В махновском районе действовала
часть полковника, затем генерала Дроздова. Его полк разгро-
мил Козырь. Не путать с полковником, затем генералом
Дроздовским. В его честь одна из дивизий Добровольческой
армии была названа Дроздовской. Но это, как говорится, из
другой оперы).
Кавалер ордена Красного Знамени № 71. Боже мой, какой
высокой честью это считалось когда-то и как мало это значит
сегодня!
Гражданскую Максим Козырь довоевал благополучно,
если не считать, что схлопотал еще одну рану. Таким образом,
в империалистическую он был ранен трижды, в граждан-
скую —дважды. Ему предстоит получить еще два ранения —
в Отечественную, если не считать восьмую, рану, навсегда
остановившую его неугомонное сердце.
После войны он командовал различными полками, когда
в августе 1921 года получил назначение командиром четвер-
того полка 2-й Донецкой дивизии. Часть стояла в Артемовске,
но он, в новеньком буденновском обмундировании с "разго-
ворами" , специально съездил в Юзовку, на шахту N 5, которая
когда-то принадлежала чугунно-литейному заводу Новорос-
сийского акционерного общества. Перед призывом в армию
он три года — 1909—1911 — работал здесь сначала "поверх-
ностным" рабочим, а затем и в забое, коногоном. Прихваст-
нуть он любил, что греха таить, водилась за ним такая
слабость, но больше всего хотелось ему показать, какие
возможности открыла родная советская власть перед про-
199
стыми людьми: вот стал же вчерашний коногон полковым
командиром.
В калейдоскопе назначений и перемещений Максима Ко-
зыря мелькнет и такая строчка: с августа 1924 года по январь
1925 г. — помощник командира 7-го стрелкового полка 3-й
Крымской дивизии. Той самой, которая считала себя преем-
ницей хорошо знакомой Козырю 1-й Заднепровской дивизии.
Но образование его по-прежнему оставалось неоконченным
начальным. Только в 1929 году, на пороге своего сорокалетия,
сдал он экстерном экзамены за семь групп, как сказано в его
личном деле. Сидеть за школьной партой Козырю совсем не
хотелось, и во всех довоенных аттестациях это лыко ставят
ему в строку. Так же, как и не выветрившийся дух парти-
занщины, утвердившийся в нем со времен махновской воль-
ницы.
1931 г. "Решительный, волевой, энергичный командир
полка. Имеет неизжитый дух партизанщины. Мало или
совсем над собой не работает. Груб, высокомерен".
1932 г. "Абсолютно над собой не работает".
1933 г. "Принял полк, находившийся в большом прорыве.
Полк вышел на "отлично". Умеет подойти и влиять на массы.
Вместе с тем т. Козырь продолжает оставаться недостаточно
подготовленным во всех отношениях, за исключением огне-
вого дела. Большой партизан, самолюбив".
Перед началом Великой Отечественной войны полковник
Максим Козырь служил у самой западной границы. Семья
его, жена Зинаида Прокофьевна и четырнадцатилетний сын
Вячеслав, жила поначалу в Березе Картузской, в ста с
небольшим километрах от Бреста. 15 июня 1941 года, в
последнее мирное воскресенье, Козырь перевез их к себе и
поселил в доме неподалеку от знаменитой крепости. А в
следующее воскресенье, 22 июня, их разбудил оглушитель-
ный грохот.
— Зина, Слава, в подвал! — только и крикнул Максим
Евсеевич, на ходу затягивая ремень. Он не знал тогда, что в
последний раз видит жену и сына.
Как же полковник Максим Евсеевич Козырь, старый
вояка, прошедший две войны "от звонка до звонка", выдержал
экзамен Великой Отечественной?
Скажем прямо: по-разному.
Как он воевал с 22 июня по ноябрь 1941, в его личном
деле никак не отражено. Но догадаться нетрудно: от Бреста
добирался из окружения к фронту, который все отодвигался
на восток. К своим попал глубокой осенью, в ноябре. И был
200
назначен командиром Особой бригады 1-й Ударной армии
Западного фронта. В "автопортрете" небольшие расхождения:
"Приехал в Москву зимой в сорок первом. Она пустая,
снежная. Ехал через Химки в морскую бригаду и вспомнил,
как с женой, бывало, танцевал здесь в морском вокзале.
Командиром бригады был назначен прямо перед шестым
декабря и пошел в наступление. Моряки воюют — красоти-
ща".
То была бригада морской пехоты.
В этой должности и стал генералом, получил свой второй,
а в Великую Отечественную первый орден — Красного Зна-
мени. В наградном листе говорится: "84-я Особая бригада под
командованием Козыря освободила от немецких оккупантов
свыше 50 населенных пунктов, в том числе рабочий поселок
Бородино под Клином и райцентр Терпляева Слобода. На
Северо-Западном фронте в февральских боях вышел юго-за-
паднее Старой Руссы. Тяжело ранен в этих боях".
Наградной лист был почему-то составлен с опозданием на
год, и указ о награждении вышел только 14 февраля 1943
года.
Командующий войсками 27-й армии, в составе которой
воевала 84-я Особая бригада, генерал-майор Озеров пишет,
что Козырь проявил себя решительным командиром. "Так-
тически подготовлен хорошо. Решения принимает быстро и
правильно. Решительно проводит в жизнь боевые приказы.
Лично дисциплинирован и исполнителен. Пользуется дело-
вым и политическим авторитетом".
Но далее следует приписка, то ли продиктованная жела-
нием избавиться от комбрига, то ли искренней заботой о его
здоровье: "Состояние здоровья т. Козырь неудовлетворитель-
ное. Целесообразно использовать в тылу".
С такой же заботой сталкивается и генерал Кузьмич в
романе К. Симонова: все время его пытались спихнуть в тыл.
Из самых лучших побуждений. Их-то Кузьмич, как и его
прототип генерал Козырь, боялся гораздо больше немецких
пуль.
Командующий 1-й Ударной армией генерал-лейтенант
Кузнецов в комбриге разобрался глубже. В характеристике,
которую он ему дал, есть такие строки: "Современные боевые
операции понимает, но организует их по старинке, без учета
возросшей мощи техники и огневых средств". Их зловещий
смысл понятен: потери в боях были велики. Но разве один
Козырь переучивался воевать по-новому. От факта никуда не
денешься: эта командирская учеба была оплачена большой
кровью.
201
Но продолжим чтение боевой характеристики: "В бою
хладнокровен, решителен и инициативен. Храбрый коман-
дир, не раз увлекавший бойцов и командиров своим личным
примером на героические подвиги".
Вот это — сущая правда: его личная храбрость была
безупречной.
Судя по характеристике, можно подумать, что дух парти-
занщины окончательно выветрился из боевого командира
Красной Армии Максима Козыря: "дисциплинирован, испол-
нителен".
Диссонансом врывается в эту характеристику замечание
командарма: любит выпить. В последний раз в документах
упоминалось, что в день празднования десятой годовщины
Октября Козырь крепко перебрал, за что и получил выговор
по партийной линии. Одиннадцать лет он носил его, пока в
тридцать восьмом не сняли.
Сменивший Озерова на посту командарма 1-й Ударной
генерал-лейтенант Романовский, видимо, считал, что не такая
уж "беда, коль выпьет лишнего мужчина", и дал Козырю (он
к тому времени уже месяц, как командовал 391 стрелковой
дивизией) лапидарную характеристику: "Имеет богатый бое-
вой опыт. В сложной обстановке не теряется. В бою ведет
себя хладнокровно и уверенно. Решения принимает правиль-
но и доводит до конца. Энергичный и дисциплинированный
командир".
Чего еще желать от комдива? И высшее начальство со-
глашается с командармом: "Генерал-майор Козырь дол-
жности командира стрелковой дивизии соответствует и под-
лежит утверждению в ней. Командующий Северо-Западным
фронтом Маршал Советского Союза Тимошенко".
Тридцать два года спустя мне показали письма Николая
Степановича Баркова из Алма-Аты. Он ветеран 391-й Режиц-
кой Краснознаменной дивизии, которой полгода командовал
М. Е. Козырь. О нем вспоминает тепло, сердечно. Пишет, что
с именем генерала Козыря связана целая глава в славной
истории дивизии.
Выпишем несколько строк из романа Константина Симо-
нова "Солдатами не рождаются":
"За эти пять дней Артемьев успел убедиться, что Кузь-
мич — человек золотой души, непривычной, даже лишней
откровенности в разговорах и той устойчивой, молчаливой,
истинно русской твердости в бою, которая раз навсегда
выразила себя в имевшейся у него на все случаи жизни
поговорке: "Надоть — так надоть!" Были у него и другие
202
присказки, к которым Артемьев тоже успел привыкнуть за
пять дней. Когда Кузьмич удивлялся чему-нибудь, говорил
скороговорочкой: "Туточки вам пожалуйста!"; когда упрекал,
спрашивал: "Почему без меня не смикитили? Вас много, а я
один. Это и есть вся история нашего военного искусства". А
когда не уважал кого-нибудь, отзывался с усмешкой: "Ничего
не могу об нем плохого сказать, а еще меньше — хорошего".
Понятно, что генерал Кузьмич в романе — образ собира-
тельный, что писатель воспользовался своим правом на вы-
мысел, изменил некоторые детали биографии Козыря (Кузь-
мич в романе старше Козыря на пять лет, Козырь не коман-
довал дивизией под Сталинградом и пр.). Но после многочис-
ленных документов, с которыми мне пришлось познакомить-
ся, возникает твердое убеждение: приведенная характерис-
тика Кузьмича полностью применима к реальному герою —
Максиму Евсеевичу Козырю.
Но надо сказать больше: Козырь гораздо сложней, чем
романный Кузьмич, сложней и противоречивей. Литератур-
ный герой автора трилогии получился бы несколько иным,
если бы Симонов расшифровал такой факт биографии прото-
типа: "командовал повстанческой армией". Сделай он это,
неизбежно понял бы, что элемент партизанщины не мог не
остаться в душе и характере героя, что махновская вольница,
ее быт и нравы не могли исчезнуть бесследно, что должно
было от этого что-то сохраниться в нем, как крупинки угля
на лице шахтера: не избавишься от них, сколько ни отмывай.
Но Симонов заглянул в личное дело генерала Козыря не
когда писал "Живых и мертвых", а работая над "Разными
днями войны". К тому времени генерал Кузьмич стал уже
литературным фактом.
В романе Симонова командующий армией Батюк недово-
лен Кузьмичом, по его мнению, тот не дорос до командира
дивизии:
— "Ишь ты", "поди ж ты", "надоть", "мабуть"... Можно
подумать, что не с генералом, а со старшиной разговариваешь.
— Вы не совсем правы, Иван Капитонович, — возражает
ему Серпилин. — Як своей бывшей дивизии, сами пони-
маете, отношусь ревниво, но командует он ею неплохо... И
воюет, надо отдать ему должное, грамотно, и, я бы сказал,
находчиво, хотя человек своеобразный... Надо к нему при-
выкнуть.
— А мне время не отпущено ко всем привыкать.
Вот от таких командиров, которым "не отпущено", не
только романный, но реальный генерал Козырь натерпелся,
или как он сам бы сказал, "нахлебался по ноздри и выше".
203
В марте 1943 года Козырь принял командование 7-й
гвардейской дивизией. Что-то у него не заладилось на этом
посту, и через месяц-полтора его сняли с должности как
несправившегося. В личном деле сохранился его рапорт от
18 апреля 1943 года: "В настоящее время чувствую себя очень
плохо, а потому прошу освободить меня от занимаемой
должности".
Какие события стоят за этим документом, из личного дела
не видно, но в первых числах мая он сдал командование 7-й
гвардейской дивизией.
До 17 мая он был в распоряжении Военного Совета
Северо-Западного фронта, потом неделю в распоряжении
Главного Управления кадров Наркомата Обороны, потом его
снова отфутболили— почти на два месяца — в распоряжение
ВС С-ЗФ. И только в июле вышло распоряжение: назначить
генерала Козыря начальником филиала курсов "Выстрел"
Московского военного округа.
Ничего более нелепого придумать было невозможно.
Максим Евсеевич Козырь, хотя в одном документе и
значится, что в 1929 году экстерном сдал за семь групп, а в
другом — что в том же году окончил вечерний агрономический
институт (!), в сущности оставался при своем неполном
начальном образовании и в преподаватели годился меньше
всего.
Вот тут и появилась зубодробительная характеристика
заместителя командующего войсками МВО генерал-майора
Цыганова, того самого, который отметил, если читатель
помнит, "вранье и ложь" (тоже блестящим стилистом не был)
в донесениях Козыря. С тяжелым сердцем привожу эту
характеристику, не имея оснований назвать ее неточной и
несправедливой:
"В военном отношении т. Козырь малограмотный человек,
в учебном деле ничего не понимает и не знает, учить офицер-
ский состав не может.
Воспитательной работы вести не может — приемы воспи-
тания ограничиваются сплошной матерщиной и оскорблени-
ями подчиненных.
Систематически пьет, злоупотребляя спиртными напит-
ками, трезвым почти не бывает. Вызванный мной к 12 ч.
9 сентября явился ко мне пьяный, держал себя грубо. Вы-
нужден был прекратить разговор".
10 сентября 1943 года, в день написания этой зубодроби-
тельной характеристики Козырь от должности начальника
курсов "Выстрел" отстранен по несоответствию занимаемой
должности. Он пишет рапорт вышестоящему начальству:
204
"Моя личная просьба: скорее оформить дело с отправкой меня
на фронт, дать назначение непосредственно от Вас или же
отправить в распоряжение любого командующего фронтом,
как например: генерала армии т. Конева или генерал-пол-
ковника т. Курочкина или любого — безралично, так как
последние прекрасно знают мое поведение и командование
соединениями в непосредственном соприкосновении с вой-
сками фашистско-германской армии".
После ряда мытарств его назначают — 10 октября 1943
года — заместителем командира 232-й стрелковой дивизии.
Через два месяца в личное дело Козыря ляжет еще одна
характеристика, подписанная человеком, который, который
явно, как симоновский Батюк, считал, что ему "не отпущено
время ко всем привыкать:
"На практической работе в дивизии по руководству и
управлению войсками себя не проявил. Авторитетом среди
подчиненного офицерского состава не пользуется. Над повы-
шением своих знаний не работает и не учит подчиненных.
Увеличились факты аморального поведения, снизилась
боевая выучка.
Лично встал на путь пьянства и бытового разложения.
Будучи начальником гарнизона г. Фастов лично организовы-
вал пьянки и поощрял подобные явления среди подчиненных.
(Ну махновец же, истинный махновец! — Л. Я. ).
Вывод: Должности зам. командира стрелковой дивизии
не соответствует. Целесообразно использовать на должностях,
не связанных с боевой подготовкой и руководством личным
составом".
Командующий 40-й армией Филипп Федосеевич Жма-
ченко прочитал эту характеристику, подумал и отложил в
сторону, не подписав. Более того: того же самого Максима
Евсеевича Козыря, не справляющегося со своими обязан-
ностями заместителя комдива, назначает командиром той
же самой 232-й Киевско-Сумской стрелковой дивизии. И
что же?
Минет всего лишь шесть месяцев, за это время дивизия
победно пройдет с боями по Украине и Молдавии, форсировав
многочисленные водные преграды и освободив сотни населен-
ных пунктов, выйдет к государственной границе СССР и будет
громить гитлеровцев на территории Румынии. В этом длин-
ном пути намного длинней станет и название дивизии. Она
будет именоваться: 232-я стрелковая Сумско-Киевская, орде-
на Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова и ордена
Богдана Хмельницкого дивизия, а ее командир станет Героем
Советского Союза и к своим двум орденам Красного Знамени
205
прибавит два ордена Ленина и два полководческих ордена —
Суворова II-й степени и Богдана Хмельницкого II-й степени.
Да, очень своеобразным человеком был генерал Козырь.
Привыкнуть в нему надо было...
Отлично понимая, что перегружаю свой рассказ цитатами
и документами, не могу удержаться от того, чтобы не привести
еще одну характеристику на Козыря. Она написана 4 февраля
1944 года. Я так много обидных строк о Максиме Евсеевиче
процитировал, что грех опустить нижеследующие:
"В должности с декабря 1943 г. За этот период показал
себя выдержанным, волевым, дисциплинированным и опыт-
ным генералом. По военным вопросам подготовлен хорошо.
С тактикой современного боя и с тактикой противника знаком.
Умело применяет свои тактические знания как в наступа-
тельных, так и в оборонительных боях. В практической работе
аккуратен. Все приказания и распоряжения высших началь-
ников выполняет своевременно. В период наступательных
действий показал умение командования частями.
Правильно организуя наступательный бой и преследова-
ние противника, имел успех в выполнении поставленной за-
дачи по занятию г. Белая Церковь. (Вспоминают ли сегодня
в этом городе своего освободителя? — Л. Я.).
Решения принимает быстро и обдуманно. Обеспечить вы-
полнение поставленной задачи может. К подчиненным тре-
бователен. Авторитетом пользуется".
Командарм-40 Ф. Ф. Жмаченко, столь прозорливо разгля-
девший в Козыре его потенциальные возможности, начертал
на боевой характеристике: "С характеристикой и выводами
согласны". И с удовольствием расписался. А вслед за ним и
член Военного Совета генерал-майор К. Кулик.
Но даже когда Максим Евсеевич был в зените своей
воинской славы, ему все время грозила опасность отстранения
от командования дивизией в действующей армии.
Летом 1944 года ему записали в боевой характеристике:
"1. Должности командира дивизии соответствует.
2. По возрасту и состоянию здоровья и по своему практи-
ческому опыту целесообразно использовать на должности
начальника военно-учебного заведения".
От беды его снова спас проницательный командарм. Фи-
липп Федосеевич Жмаченко оставляет без внимания второй
пункт выводов, зато первый кажется ему недостаточно вы-
разительным, и прежде чем поставить свою подпись, разма-
шисто пишет красным карандашом: "ВПОЛНЕ соответствует
занимаемой должности". Не знаю, как это вяжется с военной
субординацией, но член Военного Совета К. Кулик осмелился
206
и после этого дописать: "По состоянию здоровья требуется
лечение и отдых".
Однако последнее слово осталось за командармом: 24
сентября 1944 года командующий войсками 2-го Украинского
фронта маршал Малиновский наложил резолюцию: утвердить
в занимаемой должности. Рядом — подпись члена Военного
Совета фронта генерал-полковника Сусайкова.
Весну 1945 года Максим Евсеевич Козырь встретил в
Чехословакии. Шел к концу апрель, и шла к концу война.
К радости близкой победы примешивалось и горькое чувство,
что придется расстаться с военной службой, которой отдал
34 года жизни. А впереди — одинокая старость: ни семьи,
ни внуков.
"...Семья моя в Брест-Литовске погибла. И начполита, и
начштаба семьи. Две бомбы — прямо в дом, где жили, ночью.
Привезли одни клочья. Похоронили их потом в Кобрине.
Н-да. Я не пошел смотреть. Цветы, говорят, на могилы носили.
Не пошел почему? На меня подействовало. Начштаба, как
увидел, что с семьей его, застрелился. Так что, в общем, —
у меня из семьи осталась одна теща, старушка. Пишет мне,
между прочим".
Это — из "автопортрета".
Поначалу Козырь все еще надеялся: может, спаслись,
может, все-таки живы? Выбравшись из окружения, он посы-
лает своего адъютанта к теще в Донбасс (г. Сталино): нет ли
там Зины и Славы?
Их там не было. Ни тогда, ни после, когда освободили
Донбасс. Не было их и в освобожденном Бресте. И Козырь с
солдатским мужеством принял и эту боль: погибли!
Но в письме из Главного управления кадров Министерства
Обороны, куда я обратился в самом начале поисков, была, в
частности, такая фраза: "Жена генерала Козыря М. Е. —
Зинаида Прокофьевна состояла на пенсионном обеспечении
в Донецком облвоенкомате".
Состояла. В прошедшем времени. А сегодня, сейчас?
Пишу в Донецкий военкомат. Да, Козырь 3. П. получает
пенсию от Министерства Обороны и проживает по адресу:
Донецк...
Едва только ушло мое письмо по этому адресу, на второй
день мне позвонили:
— Вас беспокоит сын генерала Козыря, Вячеслав Макси-
мович.
Бомба миновала дом, в подвале которого они прятались в
первое военное утро. В шесть часов утра там уже были
немцы.
207
Вячеслав Козырь стал Николаем Орловым, сыном стар-
шины-сверхсрочника. Их угнали в Германию, и "Николай"
стал пастухом у "бауэра". От голодной смерти он с матерью
спасся тем, что украдкой глотал картофельные очистки,
которые бауэр скармливал свиньям.
Они вернулись в Донбасс после Победы. Матери Зинаиды
Прокофьевны, с которой переписывался Козырь, уже не было
в живых. От Максима Евсеевича — никаких вестей. А потом
пришла похоронка: погиб в Чехословакии, в районе Брно.
В симоновской трилогии Кузьмич говорит Артемьеву:
— Я как привык? Я привык приказ отдать, а потом
начштаба на месте, а я к исполнителям, как приказ испол-
няют?.. Я и передний край люблю своей рукой щупать, там
ли он есть, как мне в трубку доносят. Понял?
23 апреля 1945 года заместитель командира 50-го стрел-
кового корпуса 2-го Украинского фронта гвардии генерал-ма-
йор Козырь в трофейном "оппеле" объезжал передний край,
"щупал его своей рукой".
Вблизи Райгорода до войны в топкой низине ютилась
небольшая деревенька. Ее жители, страдавшие от ежегодных
весенних разливов, переселились на другое место, на возвы-
шенность. На оперативной карте деревенька была обозначена
на старом месте, а там еще сидели немцы.
Глухой ночью машина генерала Козыря на полном ходу
проскочила не только наши, но и вражеские боевые порядки.
Только тогда по ветровому стеклу резанула очередь немецкого
пулемета...
Он похоронен в Праге на Ольшанском кладбище, украи-
нец, погибший в Чехословакии. А в Райграде есть улица
имени Героя Советского Союза генерала М. Е. Козыря. На-
деюсь, у его граждан хватило такта не переименовать ее.
Вот так и такие материалы собрались, пока я шел по
следам героя Константина Симонова. Я написал очерк "Ге-
нерал Кузьмич — генерал Козырь", и его напечатал "При-
азовский рабочий", а потом, другой вариант, и "Социалисти-
ческий Донбасс". Обе вырезки с коротким сопроводительным
письмом я послал Константину Симонову. Вопросов к писа-
телю в том и предыдущих моих письмах не было, поэтому
они не предполагали ответа. И когда ответа действительно
не последовало, я не удивился. Но однажды я получил письмо
от одного из своих читателей: "Знаете ли Вы, что во втором
издании "Разных дней войны" Константин Симонов ссыла-
ется на Ваш очерк?"
208
Нет, этого я не знал. Второго, значительно дополненного,
как выяснилось, издания я не читал. Даже не видел.
Надо ли говорить, что в библиотеку я не шел — летел.
Раскрываю второй том "Разных дней войны", вот и страница
414-я: "Мне остается добавить несколько неизвестных мне
ранее подробностей, почерпнутых из писем и из статьи
Л. Яруцкого в газете "Социалистический Донбасс", назван-
ного автором "Генерал Кузьмич — генерал Козырь".
Далее следует всего лишь один абзац, в котором Констан-
тин Михайлович перечисляет эти подробности.
Потом был составлен именной указатель к "Разным дням
войны", и когда вышел двенадцатитомник Константина Си-
монова, мне было приятно увидеть в нем свою фамилию
дважды: и в тексте, и в именном указателе.
В "Разных днях войны" нет ни одной вымышленной
фамилии, ни одного выдуманного факта — это строго доку-
ментальное произведение. Но одно исключение писатель все
же допустил. "Уже перед самым концом войны, — писал он
в первом издании этой книги, — под Брно, будучи замести-
телем командира стрелкового корпуса, он ночью заскочил на
"виллисе" на ничейную землю и, попав под немецкий огонь,
был убит. И только утром с большим трудом, под огнем
солдаты вытащили его тело с ничейной земли".
Так вот, последняя фраза — выдумка.
Зачем же это понадобилось Симонову?
В подольском архиве его возмутили строки из личного
дела генерала Козыря: "23.04.45 на автомашине проскочил
через боевые порядки и попал в плен, во время пленения был
убит немцами".
Нелепость этой записи в особых доказательствах не нуж-
дается. В самом деле, если человек "во время пленения был
убит немцами", то можно ли вообще утверждать, что он попал
в плен? Не означает ли это, что человек этот погиб в схватке,
в бою, что живым в руки врагов не сдался, что ни минуты,
ни мгновения он не был во вражеском плену, что в руки
фашистов попало только бездыханное тело старого воина?
Представляю себе, как возмутила Симонова эта запись,
сделанная в личном деле генерала равнодушной, а может
быть, и злорадствующей рукой: у Козыря не только при
жизни было немало "доброжелателей", но и после смерти. И
тогда Симонов придумал другую концовку. И что удивитель-
но: чутье художника подсказало писателю детали этого эпи-
зода, гораздо более близкие к истине, чем "документальная"
запись.
209
Во втором издании Константин Михайлович (по материа-
лам моего очерка) опустил фразу о том, как солдаты под огнем
вытаскивали с ничейной земли тело убитого генерала. И
заключил главу фразой, не вполне понятной тому, кто не
читал первое издание: "Убит не на ничейной земле, а в схватке
с немцами, заскочив на "виллисе" в еще занятую немцами
деревню. Похоронен на Ольшанском кладбище".
Таким образом, Константин Михайлович принял версию,
изложенную в очерке "Генерал Кузьмич — генерал Козырь",
не согласившись только с тем, что его герой последнюю в
своей жизни поездку совершил в "оппеле": он оставил его в
"виллисе".
Вячеслав Максимович, сын генерала, показал мне фото-
графию автомобиля, в котором погиб его отец: у косогора
лежит перевернутый, изрешеченный пулеметными очередя-
ми "оппель". Я не стал бы говорить об этой подробности, если
бы она не имела отношение к обстоятельствам гибели гене-
рала. Немцы потому и пропустили машину через свои боевые
порядки, что это был "оппель": они предполагали, что в
автомобиле едет кто-то из "своих". И только потом, когда на
требования остановиться "оппель" продолжал движение,
они открыли по нему огонь...
Видимо "виллис" показался Симонову более характерной
для нашего фронтового быта машиной, чем трофейный "оп-
пель".
* * *
В 1936 году, когда Нестора Ивановича уже не было в
живых, Марк Алданов писал: "В новейшей советской лите-
ратуре мне попалось указание, что и сейчас в красной армии
есть "ряд талантливых командиров, прошедших боевую шко-
лу армии батьки (имена, к сожалению, не названы". ( Ал-
данов М. А. Собрание сочинений в шести томах. М., 1991, т. 6,
с. 555).
Источник, которым пользовался Марк Алданов, разыскать
мне не удалось. Хотя имена бывших махновцев, с успехом
служивших в Красной Армии, и не были там названы, вряд
ли это уберегло их от чекистской пули. В тридцать седьмом
они погибли все или почти все.
Среди немногих уцелевших был Герой Советского Союза
гвардии генерал-майор Максим Евсеевич Козырь.
210
ЕСЛИ БЫ ПОБЕДИЛ МАХНО...
Говорят, что история не терпит сослагательного наклоне-
ния и рассуждения "Что было бы, если бы..." бесплодны.
Может быть, может быть.
На самом же деле очень и очень многие не могут устоять
перед соблазном прикинуть: а что было бы, если бы?..
Не стану утверждать, что теоретические попытки переиг-
рать с иными продолжениями уже сыгранные историей
"партии" столь уж практически полезны, но одно бес-
спорно — занятие это необычайно увлекательно.
Что было бы, если бы батько Махно умер не на больничной
койке в парижском лазарете, а погиб бы в марте 1919 года
при героическом штурме Мариуполя? В те дни, когда мари-
упольская газета выходила с аншлагом: "Да здравствует
красный герой батько Махно"? Думаю, что не только в
Мариуполе, но и в других городах и селах улицы и площади
носили бы имя Нестора Ивановича, а то и памятники ему бы
поставили, как, например, Чапаеву, Котовскому, Щорсу.
Я прочитал в одной газете, что в Житомире местные
анархисты организовали сбор средств на памятник Нестору
Махно в Гуляй-Поле. Ставить памятники Чапаеву, Котовско-
му, Щорсу и им подобным сегодня никто не призывает. Еще
хорошо, что не свергают уже воздвигнутые, а ведь могут. Не
знаю, как поступят молдаване с памятником Григорию Ко-
товскому, на открытии которого я в Кишеневе присутствовал
студентом, но в столице Молдовы улицы имени "славного
сына молдавского народа" уже нет. Думаю, что и музей его
имени закрыли. И Ганчешты, где родился Григорий Ивано-
вич, сегодня уже не носят имя Котовского.
А вот что в Гуляй-Поле воздвигнут памятник батьке
Махно — в это я верю. Вполне возможная вещь.
Нестор Иванович был неравнодушен к истории. Мечтал в
нее войти. Считал, что его имя станет рядом с именами
предводителей крестьянских войн — Степана Разина, Емель-
яна Пугачева. Писали об этом с ухмылкой превосходства, с
211
усмешечкой. Между тем ирония здесь неуместна. Минуло
столетие со дня рождения Нестора Махно. Три четверти века
прошло с тех пор, как поднял он знамя повстання. Сегодня
всем ясно то, что он понял тогда: в историю вошла и
крестьянская война на Украине 1918—1921 годов, и имя ее
предводителя — Нестора Махно.
Он, конечно, не копировал Емельяна Пугачева, а исходил
из реальностей своего времени. Тем не менее поражают
совпадения.
Пугачев призывал крестьян убивать помещиков и захва-
тывать их земли, а заодно — и государственные. Он обещал
отменить подати и рекрутчину, раздавал зерно и деньги,
отобранные у помещиков. Он сулил упразднить правительство
и заменить его казацкой вольницей.
Успех Махно во многом объясняется тем, что своими
лозунгами он воздействовал на антидворянские и анархиче-
ские инстинкты крестьян.
Приход батьки в село, как правило, было для крестьян
праздником. За все, что он у них брал, Махно щедро распла-
чивался мануфактурой и другими товарами. За свежую ло-
шадь махновцы, случалось, оставляли двух, а то и трех
уставших. В Изюме Нестор Иванович выпустил на рынок
захваченный у продовольственного комитета хлеб по симво-
лическим ценам, то есть, по существу, даром. В Старобельском
уезде, в Миргородском и других местах он бесплатно раздал
хлеб, сахар, нитки, галантерею. Известны случаи, когда
батько, приняв добрую чарку (и не одну), разбрасывал кресть-
янам деньги.
Запомнившаяся щедрость батьки чаще всего была вынуж-
денной. Его налеты на города были стремительны, но по-пар-
тизански скоротечны: через день или даже несколько часов
он устремлялся дальше, избегая встреч с регулярными час-
тями. Его подвижные отряды много из захваченных трофеев
увезти не могли, а оставить противнику — жалко. Вот и
раздавали населению то, чем сами воспользоваться не могли.
Но раздавал батько не произведенное, а награбленное,
которое деликатно называл "военной добычей". Что таким
образом создать благополучие общества невозможно, люди,
получившие от Махно "гуманитарную помощь", видимо, не
задумывались. Но в их глазах Махно был чудотворцем, и
слава его росла.
С. С. Дыбец рассказывает в своих воспоминаниях: "Объ-
езжая уезд (Бердянский. — Л. Я.), я однажды в каком-то
селе был свидетелем следующей сцены. Пожилая крестьянка
срамит парня, своего сына:
212
— Ты же ни черта не делаешь, да и делать сейчас по
хозяйству нечего. Шел бы к Махно. Посмотри на ребят из
нашего села. Вот Николай, вот Иван Федорович пробыли у
Махно три месяца, привезли по три шубы, пригнали по паре
лошадей".
Правда ли это? Было ли так?
Было. И так бывало. Но не за подарки, награбленные в
быстро обнищавших городах, не за возможность безнаказанно
пограбить полюбили крестьяне Махно и валили к нему
тысячами. И не для грабежей и разгульного пьянства создал
батько многотысячную армию, противостоящую и Деникину,
и Врангелю, и Петлюре, и Троцкому. Для дел такого громад-
ного масштаба нужна была идея, близкая и понятная и тем,
кто "не разжевал даже азбуки соль".
Такой для многих крестьян на Украине оказалась идея
анархизма.
Махно был антигосударственником, безвластником. Он
обещал такое общество, где крестьянин трудится на своей
земле и никому никаких налогов не платит. Да и кому
платить, если государства не будет: ни тебе чиновников, ни
армии, ни полиции. Никаких паразитов. "Власть рождает
паразитов", — провозгласили анархисты. Не станет власти —
исчезнут и паразиты.
Я пишу эти строки в дни, когда есть у нас, слава богу,
государство, еще не совсем распалось. Есть и власть, и законы.
Только власть эту "не празднуют" (как выражаются в Мари-
уполе), и законы не выполняют. И на каждом шагу слышны
стоны: "Караул, беспредел!" Дескать, "земля наша велика и
обильна, но нет в ней порядка".
Трудно ли себе представить, что творилось бы на нашей
земле, осуществись мечта батьки Махно — безвластная рес-
публика? И надо ли сегодня тратить порох на то, чтобы
доказать: безвластный рай, обещанный анархистами, такая
же утопия, как и светлое будущее человечества — коммунизм,
который посулили несчастной России большевики в семнад-
цатом году?
И у анархо-коммуниста Махно, и у его друзей-врагов
большевиков цель была одна: построить бесклассовое комму-
нистическое общество. Но если батько считал, что путь к
нему лежит через "безвластные советы", то большевики шли
к своей цели через усиление диктатуры пролетариата, то есть
государства.
Оппонентам Махно повезло (в отличие от народа, которого
они подмяли под себя): история отпустила большевикам для
доказательства своей правоты семь с лишним десятилетий,
213
да еще в огромнейшей стране с неисчерпаемыми, казалось,
людскими и материальными ресурсами, которые можно было
безоглядно тратить (ставь они свой эксперимент в небольшой
и лишенной естественных богатств стране, его крах стал бы
очевиден незамедлительно). Батьке же Махно было отпущено
для анархистского эксперимента всего лишь шесть недель на в
общем-то обширной, но сравнительно маленькой территории.
Нестор Иванович в теоретики не лез. В мемуарах, оправ-
дывая свой псевдоним "Скромный", он чистосердечно при-
знал, что политико-образовательно он подкован слабо. О том,
насколько смутно представлял себе батько светлое анархи-
ческое будущее, свидетельствует его монолог с С. С. Дыбецом:
— Какая у тебя программа?
— А вот свергнуть сначала белых, а потом большевиков.
— Ну, а дальше?
— Дальше народ сам будет управлять собой.
— Как управлять? Дай ты себе отчет.
В ответ, рассказывает С.С. Дыбец, Махно туманно излагает
анархические идеи о безначалии, о крестьянских коммунах,
не подчиненных никакому государству, никакому организу-
ющему центру.
— Наша же деятельность, — говорит он, — только агита-
ция и пропаганда. Народ сделает все сам. Этого мы придер-
живаемся и в военном деле. Сама армия собой управляет.
— Чепуха. Полнейшая чепуха.
Но Махно твердит:
— Вот посмотришь. Разделаемся сначала с белыми, потом
с большевиками.
И вот наступил этот желанный момент: красные ушли с
Украины, белые стояли уже у Тулы. Осенью 1919 года Махно,
совершив свой легендарный рейд по деникинским тылам,
очистив значительный регион от белогвардейцев, создал "без-
властную анархистскую республику" со столицей в Екатери-
нославе. Она продержалась шесть недель.
Это был первый (и последний) в истории человечества опыт
создания республики по рецептам анархистов. В связи с этим
имя Махно перешагнуло границы Украины и получило,
можно сказать, международную известность.
Конечно, в условиях, когда кругом царила разруха и
полыхала гражданская война, махновский опыт создания
анархистского общества не проходил в "чистом" виде. Однако
и эти шесть недель поучительны и интересны для историка.
Служба в Красной армии, где внедрялся принцип железной
дисциплины, пошла Нестору Ивановичу впрок. Осенью де-
214
вятнадцатого года вступила в Екатеринослав не банда граби-
телей, как это случилось в первые дни восемнадцатого года,
а хорошо организованная и в общем-то послушная приказам
командиров армия.
Конфисковав деньги местных банков, махновцы оказыва-
ли беднейшей части населения материальную помощь. Осо-
бую заботу проявили они о детских приютах — их снабжали
не только деньгами, но и продуктами. В то же время Воен-
ревсовет объявил, что заниматься благотворительностью он
не намерен. Сам Махно сказал железнодорожникам, явив-
шимся к нему с жалобами на тяготы жизни, что он, в отличие
от большевиков, не намерен их кормить, они должны сами
зарабатывать себе на жизнь. По другой версии, батько будто
бы сказал: нам железные дороги не нужны, у нас есть добрые
кони, крепкие тачанки и широкие степи.
П. Аршинов в своей "Истории махновского движения"
бросается на выручку Нестору Ивановичу: не говорил он,
дескать, такого, это выдумка деникинской и большевистской
пропаганды.
Между тем именно так и должен был заявить Махно
("каждый сам должен зарабатывать себе на жизнь"), потому
что он был рыночником. Выступая защитником крестьянства,
которому, как воздух, нужна была отмененная большевиками
свободная торговля, он не мог не быть рыночником. А то, что
сам батько и его приближенные не всегда изящно выражали
свои мысли, дело не меняет. Вот, например, как высказался
один из махновских атаманов на рабочем профсоюзном со-
брании: "У вас есть заводы. Мы освободили вас от золотопо-
гонников, теперь устраивайтесь сами... Мы вам мешать не
будем, наше дело воевать".
Другими словами: работайте и кормите себя, никаких
дотаций, крутитесь и выкручивайтесь сами.
Что ж, вполне логичная позиция, и главное — рыночная.
Махновский Военревсовет объявил свободу печати для
левых партий при условии, что они не будут призывать к
вооруженному восстанию. И свои печатные органы имели в
Екатеринославе не только махновцы, но и анархисты-наба-
товцы, и левые эсеры, и правые эсеры, и даже большевики.
Последние, кстати сказать, весьма остро критиковали мах-
новцев, а те, случалось, прислушивались к критике, призна-
вали и исправляли свои ошибки. Анархистские издания
лениво и вполне миролюбиво отвечали на нападки больше-
вистской "Звезды".
Жители Махновии часто приходили к батьке с жалобами:
от грабителей и насильников житья нет. Он отвечал: "У меня
215
нет полиции. Вот вам оружие и защищайтесь сами. Сами
наводите порядок".
В еврейской земледельческой колонии Новый Златополь
батьку послушались: около двухсот человек стало под ружье
в местном отряде самообороны. И Новый Златополь почти
совсем не пострадал от погромщиков в течение всей граждан-
ской войны. А в соседней колонии Трудолюбовке самооборону
не организовали, и она была, в сущности, стерта с лица земли.
Что же касается правосудия, то один из махновских
съездов постановил, что оно должно быть "живым, свобод-
ным, творческим актом общежития".
Вот как этот "творческий акт" совершался в Бердянске.
Комендант города, молодой матрос, объявляет толпе, что
его помощник произвел самочинный обыск и прикарманил
золотой портсигар.
— Что ему за это полагается?
Из толпы два-три голоса негромко кричат:
— Расстрелять...
Выкрик поддержали и остальные махновцы. Комендант
тут же из револьвера застрелил своего помощника. "Народ-
ный суд, — рассказывает очевидец, — окончился, а махновцы,
только что оравшие "расстрелять", довольно громко заявля-
ют: "Ишь, сволочи, не поделили"; комендант же, опустив
портсигар в карман брюк, отправился выполнять свои обя-
занности".
Случай, разумеется не единичный, именно поэтому он
получил литературное обобщение в "Оптимистической тра-
гедии" Всеволода Вишневского. Помните: анархисты выбро-
сили за борт корабля матроса, который якобы украл у
старушки кошелек, а через пять минут, когда выяснилось,
что старушка ошиблась, туда же отправили мнимую постра-
давшую.
Формально в Махновии все проводилось максимально
демократично: все вопросы решали съезды "вольных сове-
тов", командиры в армии были выборными.
На деле съезды мало-помалу превратились в говорильни,
неспособные управлять регионом. А территория была не такой
уж маленькой — 72 волости, два миллиона, утверждают,
населения: все должно было улаживаться, устраиваться само
собой. Однако — не получалось. И приходилось власть упот-
реблять. Какую? Военную. Парадокс в том, что в демокра-
тичнейшей по идее "республике" установилась, по существу,
почти неограниченная диктатура батьки, его командиров-ата-
манов, которых, кстати сказать, уже не избирали, как и весь
Военревсовет. Сохранилась только выборность младших ко-
216
мандиров, большого веса в армии не имевших. Эту диктатуру
поддерживала махновская контрразведка, действовавшая с
невероятной жестокостью, не превосходившей, однако, жес-
токость большевистского чека или деникинского освага.
Все эти отклонения от анархистских идей махновцы объ-
явили временными, вызванными необходимостью военного
положения. Я склонен думать, что так оно и было, и если бы
победил Махно, то в мирное время военная диктатура батьки
и его командиров сама собой отмерла бы.
Все познается в сравнении, и в жесточайших условиях
гражданской войны — даже в этих условиях — "махновская
анархистская республика" выигрывала в глазах населения,
сопоставлявшего его с режимами большевиков и белогвар-
дейцев.
Начнем с самого уязвимого — контрразведки, возглавля-
емой двумя Львами — Голиком и Задовым (Зиньковским).
Да, она свирепствовала. Но вот что пишет о белогвардейской
контрразведке екатеринославец 3. Ю. Арбат: "Контрразведка
развивала свою деятельность до безграничного, дикого про-
извола: тюрьмы были переполнены арестованными, а осевшие
в городе казаки открыто продолжали грабежи... В Екатери-
нославе творилось что-то кошмарное".
Вы думаете, что красные были лучше? Послушайте того
же очевидца:
"С часов девяти утра до часов пяти пополудни вся большая
Новодворянская улица была очищена от жильцов, которым
разрешено было брать с собой только одну смену белья и
ничего больше. Квартиры были оставлены жильцами в пол-
ном порядке, с мебелью, библиотеками, роялями, бельем,
посудой; а самим выгнанным было предложено не толкаться
по улицам и не хныкать, а скорее убраться куда-нибудь к
знакомым, так как уже с вечера в их квартирах должна
начать нормальную работу Чрезвычайная комиссия по борьбе
со спекуляцией и контрреволюцией, кратко называемая чека.
Под шум сильных автомобильных моторов началась смер-
тоносная работа по "защите советской власти изнутри".
Накануне "шестинедельной республики" "махновцы, —
вспоминает очевидец и участник событий Р. Курган, —
пробыли в городе восемь дней. За эту неделю население
Екатеринослава отдохнуло от постоянного страха и напряже-
ния, в котором они пребывали при добровольцах. Ни одного
грабежа, ни одного убийства, кроме расстрелов захваченных
офицеров, за это время в городе не было".
А вот свидетельство М. Гутмана: "Под флагом анархизма
вступил на этот раз Махно в Екатеринослав. Прежде всего
217
он обратился к своей армии с воззванием "доказать, что они
честные повстанцы", и не грабить население. И действитель-
но, "честные повстанцы" батьки Махно оказались в этом
отношении значительно милостивее, чем "шкуровцы" (каза-
ки генерала Шкуро) при Деникине. Такого повального гра-
бежа, как при добровольцах, не было".
Грабежи, конечно, были: при обходе квартир в поисках
оружия и спрятавшихся деникинских офицеров. Но повто-
римся: этим отличались все участвовавшие в борьбе силы.
Можно вспомнить, что при передислокации Первой Конной
с польского фронта на врангелевский была осуждена за
бандитизм целая дивизия. Нет сомнений, что и другие буде-
новские части состояли не из ангелов.
И. М. Гутман делает примечательный вывод: "Власть
анархистов (в Екатеринославе 1919 года — Л. Я.) оказывалась
более упорядоченной, чем власть Добровольческой армии,
явившейся водворять "порядок". Я бы добавил: и менее
тягостной, чем при власти большевиков.
На одном из съездов "вольных советов" в Александровске
(Запорожье) один крестьянин с простодушной прямотой оп-
роверг всю анархистскую программу безвластного общества:
"Вот вы говорите нам, — сказал он с трибуны, — что советы
могут организовать безвластие и что мы можем жить при
таких советах, а сами (оратор указал рукой на президиум)
этому не следуете. А вы кто? Не власть? Председательствуете,
даете слово ораторам, приказываете не шуметь, а захотите —
не дадите. А как же будет безвластие? Если между двумя
нашими селами стоит мост и он поломается, то кто же будет
исправлять? Так как ни наше село, ни другое не захочет
исправлять и потому будет некому, так мы останемся без моста
и не будем ездить в город".
Он мудрым был, этот хлебороб, "чья жизнь в сплошном
картофеле и хлебе". И Махно все больше убеждался, что
отрицание анархистами организующего центра — утопия,
что без власти ничего не сделаешь ни в армии, ни "на
гражданке" (позволю себе современное выражение).
Кем-кем, но догматиком батько не был. Он пошел на
отступление от учения анархистов и заявил, например, ека-
теринославцам: "Мы военное командование, наше дело —
бить кадетов, а гражданскую власть, раз уж без власти
обойтись не можете, создайте себе сами".
Вот так, с крестьянским простодушием и практической
сметкой батько вносил поправки в теорию, созданную каби-
нетными философами. Раз жизнь опровергает теоретические
предписания, то пусть будет так, как того требует жизнь.
218
Нестор Иванович был демократичен по своему мировоз-
зрению и характеру, что же касается известных его дикта-
торских решений и поступков, то они, как правило, были
вызваны условиями военного времени. Думаю, что совер-
шенно прав Сергей Семанов, когда пишет: "Махно, вожак
восставшего вооруженного народа, диктаторскими задатками
явно не обладал. Конечно, он был крут, отправить человека
на расстрел ему не стоило ничего, но... такое уж времечко,
а он никак не хуже многих прочих. Вспыльчив бывал,
гневлив, нервы его явно подводили. Вот, скажем, рабочие
депутаты города Александровска резко оспорили какое-то
решение махновцев. В ответ Махно за своей подписью пуб-
ликует в газете повстанцев "Путь к свободе" грозное письмо
в их адрес, называя рабочих-делегатов "ублюдками буржуа-
зии", а в другом месте даже — "прислужниками Деникина"
(1 ноября 1919). Обвинения хуже нет, и что же? Убили бедных
работяг? Да ничуть не бывало, отправили восвояси. При
товарище Троцком такие вольности даром бы не прошли и
при генерале Слащеве тоже: один бы всех непокорных рас-
стрелял, другой бы повесил..." ("Роман-газета", 1993, № 4,
с. 22).
Да, все познается в сравнении. В данном случае оно не в
пользу ни красных, ни белых.
После падения "безвластной республики" Махно не остав-
ляет мысль об автономии территории, на которой действовала
его армия. В военно-политическом соглашении Революци-
онно-Повстанческой армии (махновцев) с советской властью
(октябрь 1920 года) был 4-й пункт, который стороны не
подписали, а отложили его обсуждение на "ближайшее вре-
мя". Это время так и не наступило, но вот что требовали
махновцы: "Организация в районе действия Махновской
армии местным рабоче-крестьянским населением вольных
органов экономического и политического самоуправления,
их автономия и федеральная связь с государственными орга-
нами Советской Республики".
Добавлю, что батько был за "самостийную Украину тру-
дящихся" (то есть независимо от их национальности) и за
"неразрывный союз революционной Украины с революцион-
ной Россией".
Так ведь за это самое голосовал и автор этой книги в 1991
году!
Так вот, что же было бы, если бы победил Махно и его
территория получила бы "незалежность"? Никакой
"безвластной республики", конечно, не вышло бы, поскольку,
повторяю, эта идея столь же утопична, как и "золотая мечта
219
человечества" — коммунизм. Но могла бы получиться демок-
ратическая страна со свободой слова, печати, экономической
деятельности, с нормальной рыночной экономикой и благо-
денствующим, процветающим разноплеменным населением.
Эволюция в сторону такого общественного строя была бы в
Махновии совершенно неизбежной, как закономерной она
оказалась и в результате краха большевистского экспери-
мента. И была бы она, эта эволюция, быстротечной, а не
опоздала бы в нашей стране на семь с лишним десятилетий.
"ОЙ, ЖІНКО, ВЕСЕЛИСЬ, В МАХНА
ГРОШИ ЗАВЕЛИСЬ!"
Этот "рассказ краеведа" я написал, пользуясь материала-
ми, предоставленными мне мариупольским коллекционером
Леонидом Павловичем Морозовым, которому приношу свою
искреннюю сердечную благодарность.
Под заголовком "Бывшие деньги" рассказ был напечатан
в "Приазовском рабочем" задолго до январской (1992) либе-
рализации цен, в то время, когда большинство из нас и
помыслить не могли, что вскоре наша зарплата будет выра-
жаться четырех- и пятизначными цифрами, а цены возрастут
в 30, 50 и даже в 100 раз.
Сейчас, когда переписываю этот материал для книги, я
думаю: неужели к моменту ее выхода в свет постигнет нас
гиперинфляция, разговоры о которой в наши дни носят уже
отнюдь не отвлеченный характер.
Но будем надеяться на лучшее.
1. "САПОГИ ПОЧИСТИТЬ — 1 000 000"
О явлении, когда бумажных денег больше, чем товаров,
присущем не "загнивающему Западу", а нашей родимой
советской действительности, впервые на моей памяти заго-
ворил Ю. В. Андропов. Слово "инфляция" Юрий Владими-
рович, правда, произнести не решился. Сегодня оно знакомо
не только тем, кто изучал политэкономию.
Люди старшего поколения, на долю которых выпала и
Великая Отечественная война, и послевоенная разруха, ин-
фляцию познали на собственном опыте. Они хорошо помнят,
что ведро картошки на рынке стоило 300 рублей, килограмм
топленого сливочного масла — 900. А месячная зарплата
бухгалтера составляла тогда 370 рублей.
Но уже мало осталось в живых тех, кто может рассказать
о "чудесах", творившихся с деньгами в годы революции и
гражданской войны. Вот как это запечатлелось в стихотво-
рении В. Маяковского 1921 года:
221
Сапоги почистить — 1000000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.
Привыкли к миллионам.
Даже до Луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температуры.
Миллионные банкноты презрительно называли "лимона-
ми". Насколько низок был их курс, можно судить по такому
невероятному, на первый взгляд, факту: в 1924 году при
завершении денежной реформы один рубль золотом (казна-
чейский билет) обменивался на 50 миллиардов (!) совзнаков
(так назывались тогда советские деньги), выпущенных в
обращение до 1923 года. Вот это и называется гиперинфля-
цией, которой нас сегодня пугают на митингах и со столбцов
газет.
Справедливости ради надо сказать, что большевики полу-
чили в наследие от царского режима и Керенского глубоко
расстроенную во время первой мировой войны денежно-фи-
нансовую систему. Да и все хозяйство России было основа-
тельно разорено. Сейчас мы склонны все беды, свалившиеся
на страну, приписывать коммунистам. Между тем далеко не
все знают, например, что пресловутая продразверстка не
изобретение большевиков: его ввело еще царское правитель-
ство в 1916 году. Тогда установили твердые цены на хлеб, но
крестьяне не хотели, конечно, везти его в город за гроши,
тем более, что на бумажки уже никаких товаров купить было
невозможно. Об этом есть в протоколах IV Государственной
Думы, пишет о том и Александр Солженицын в "Красном
колесе".
2. МАРИУПОЛЬСКИЕ ЭМИССИИ
После Февральской революции Временное правительство
стало выпускать свои деньги, которые в народе получили
название "керенок" (по фамилии министра-председателя
А. Ф. Керенского).
Они буквально наводнили страну. Так, у махновского
казначея Чередника, персонажа рассказа писателя Анато-
лия Белоуса, "керенок" было столько, что он отпускал их
при надобности на вес, пользуясь безменом третьего номе-
ра".
Вскоре после Октябрьского переворота Ленин поставил
вопрос о денежной реформе. К лету 1918 года обесценение
222
денег удалось приостановить, но вспыхнувшая гражданская
война сорвала осуществление этой реформы.
В те годы (1918—1920) эмиссией денег занимались все,
кто не ленился. В добавление к царским банкнотам и керенкам
имели хождение и "совдензнаки", а также бесчисленное
количество местных "валют". Печатались они, случалось, на
водочных этикетках и прочих фантиках. На территории одной
только Украины во время гражданской войны было выпущено
более пяти тысяч наименований различных денежных знаков,
бон и купонов.
Эмиссией занималось и Мариупольское отделение Госу-
дарственного банка.
Из публицистики Александра Серафимовича нам извест-
но, что отделение этого банка было открыто в 1897 году.
Закономерность этого события вполне понятна, если вспом-
нить, что в том году начал действовать металлургический
завод "Никополь" и заложили "Провиданс". Примерно тогда
же на углу Большой и Греческой начали строить здание банка,
и поныне, к счастью, сохранившееся.
После Октября в Мариупольском отделении Госбанка
сохранилось изрядное количество Займа Свободы ("К вам,
граждане великой свободной России, обращаем мы наш
горячий призыв... Только напряжение всех наших сил может
дать нам желанную победу... Одолжим деньги государству,
поместим их в новый заем и спасем тем от гибели нашу
свободу и достояние...").
Большевики во главе с В. А. Варгановым, взявшие власть
в Мариуполе 30 декабря 1917 года, к этим облигациям, как
к пустым бумажкам, не проявили никакого интереса. Не
представляли они ценности и для австрияков, оккупировав-
ших в конце апреля 1918 года Мариуполь. Но когда осенью
того же года оккупанты поспешно ретировались и город попал
в руки деникинцев, облигации Займа Свободы были выпу-
щены на правах денег со следующей надпечаткой: "Выпущено
Мариупольским Отделом Государственного Банка без купонов
по нарицательной цене, напечатанной на облигации. Кассир
(подпись неразборчива)".
В знаменитом "Каталоге денежных знаков России и Бал-
тийских стран 1769—1950 гг. " Н. Кардакова (Берлин, 1953)
представлены и эти "мариупольские деньги" — четыре их
разновидности, отличающиеся друг от друга разными номи-
налами.
Забегая несколько вперед, скажем, что даже в 1923 году,
когда с большим успехом осуществлялась денежная реформа
Григория Яковлевича Сокольникова (Бриллианта), в резуль-
223
тате которой советский рубль стал одной из самых твердых
и уважаемых валют мира, в Мариуполе были выпущены
деньги оригинального рисунка. Осуществил этот выпуск
Мариупольский единый многолавочный кооператив в не-
сколько этапов, различных достоинств с текстом на русском,
а затем — и на украинском языке.
Но вернемся в трагические годы гражданской войны.
Воевавший на Мариупольщине Иван Дмитриевич Папа-
нин, впоследствии всемирно прославленный полярник, пи-
шет в своих воспоминаниях: "Надо сказать, что деникинские
и врангелевские денежные знаки на юге никогда не котиро-
вались. Жители отдавали предпочтение привычным "кате-
риновкам". Одна "катериновка" (100 рублей) стоила 300
тысяч деникинскими".
3. МАХНОВСКАЯ ВАЛЮТА. ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ.
19 августа 1919 года Владимир Галактионович Короленко
писал из Полтавы Анатолию Васильевичу Луначарскому: "А
Махно, называющий себя, кстати сказать, анархистом, уже
выпустил в местностях, им занятых, деньги. Мне говорили,
что на них напечатаны два двустишия: "Ой, жінко, веселись,
в Махна гроши завелись". И другое: "Хто цих грошей не
братиме, того Махно дратиме".
Однако те, кто глубоко интересуется историей вопроса,
знают, что еще в 20-х годах известный бонист, то есть
собиратель бумажных денежных знаков, Д. В. Алатырь
писал: "Махно денег не выпускал и не мог выпускать.
"Сказка" об этих бонах появилась благодаря предприимчи-
вости дельцов от бонистики, сфабриковавших специальные
штампы и ставивших их на донских деньгах. Эти "махновки",
как курьез, имеются в некоторых крупных коллекциях и
этим вводят в заблуждение молодых бонистов".
У читателя может сразу же возникнуть возражение: "А
как же свидетельство такого авторитетного человека, как
Короленко?". Да, Владимир Галактионович, всегда писавший
правду и только правду, и на этот раз не погрешил против
нее. Но перечитайте внимательно его строки из письма к
Луначарскому: Короленко не утверждает, что лично держал
в руках или видел махновские деньги: ему о них "говорили".
Дискуссия о том, осуществляли ли анархисты эмиссию
бумажных денег, возникла в самом начале 20-х годов, когда
в воздухе еще на растаял грохот легендарных махновских
тачанок. В одном из журналов для коллекционеров в 1922
году вопрос был поставлен так: "Существовали ли боны
Н. Махно?"
224
Когда в конце 1919 года махновцы, захватив в Деникин-
ском тылу огромную территорию, создали "безвластную анар-
хистскую республику" с центром в Екатеринославе, они
разрешили хождение всех денежных знаков: советских, цар-
ских, деникинских, керенок, петлюровских и прочих мест-
ных.
Очевидец из Екатеринослава М. Гутман пишет: "Махно
не аннулировал никаких денег и брал контрибуцию как
советскими, так и донскими. Впрочем реввоенсовет предпочи-
тал, по-видимому, оставлять у себя донские, потому что
населению выдавали исключительно советские деньги".
"Донскими" в народе называли выпуски, имевшие право
хождения на Дону. В Екатеринославе имелись большие за-
пасы этих денег, ценность которых ежедневно из-за инфляции
падала. Именно это обстоятельство вынудило "финансистов"
батьки прибегнуть к своеобразной деноминации: они прош-
темпелевывали донские ассигнации, подняв их стоимость в
десять раз и обязывая население принимать их по такому
курсу.
За махновские деньги выдают обычно купюры Донского
правительства с надпечатками. Вот пример: на ассигнациях,
выпущенных банком Ростова-на-Дону в 1918 году, поставлен
красной типографской краской штамп в четыре строки:
"1 РЕВ. АРМИЯ пов. УКР
= 50 руб. =
1919 г. Н. МАХНО".
Существует несколько подобных надпечаток, да еще и
курьезные, о которых упоминает Короленко. Образцы этой
продукции почти невозможно найти ни в отечественных
музеях, ни в коллекции бонистов.
В упомянутом каталоге Н. Кардакова, изданном в Берлине
в 1953 году, надпечатки анархистов описываются в разделе
советские эмиссии как редкие и бывшие в обращении.
Позднее коллекционер из Алма-Аты И. Н. Колтышев даже
привел и опубликовал изображения надпечаток.
Пока что можно только с достаточной уверенностью сде-
лать вывод, что Махно эмиссией своих оригинальных денег
не занимался, а утверждение К. Герасименко, который пишет
в своих воспоминаниях, что батька будто бы "через Волина
проводил в жизнь все, вплоть до печатания денежных знаков",
следует понимать, как штемпелевание надпечаток меркан-
тильного характера на "чужих" купюрах.
Тем не менее легенда об эмиссиях, осуществлявшихся
Махно, живуча. Попался на эту приманку и автор этой книги,
утверждавший в своей публикации "Человек, который не
225
знал, за что боролся" ("Приазовский рабочий", 1 и 2 апреля
1989 г.), что батько выпускал свою собственную валюту. А
мариупольский писатель Анатолий Белоус в рассказе "Три
фунта керенок" писал: "Все началось с того, что на бердянском
базаре Коробке выдали сдачу махновскими деньгами. На
листках сероватой бумаги величиной с ладонь стояла посе-
редине корявая цифра "25". Пониже шла надпись: "Чем наши
хуже ваших?".
Эту же тему развивает и журналист Вадим Кассис в "Голосе
Родины": "Сам же Махно отреагировал на это весьма своеоб-
разно — выпуском своих банкнот. Лицевую сторону украшала
пляшущая украинка, за которой из-за плетня наблюдает
хлопец, припевая: "Эй, дивчина, подывысь, у батько гроши
завелысь!".
А вот цитата из повести Давида Маркиша "Полюшко-
поле": "Надпись на кредитке: "Эти деньги обеспечиваются
головой того, кто отказывается их принимать".
— Наши денежки, гуляйпольские, — объяснил Терен-
тий... — Батька Махно их печатает, Нестор Иванович, чтобы
не попутали с кровавыми буржуйскими..."
Итак, начавшаяся еще в 20-е годы дискуссия о том, были
или не были в действительности махновские деньги, продол-
жается и по сей день. Автор этой книги, отнюдь не претендуя
на то, что располагает истиной в высшей инстанции, решается
высказать свою точку зрения.
Думаю, что приведенное выше мнение бониста Д. В. Ала-
тыря, отрицавшего реальность махновских эмиссий, весьма
основательна и заслуживает серьезного анализа. Прежде всего
возникает вопрос, почему в 1922 году сторонники существо-
вания махновских денег основывались только на слухах и не
могли предъявить как доказательство ни одной купюры,
выпущенной анархистами? Ведь явлением, известным под
названием "махновщина", была охвачена огромная террито-
рия с населением в два миллиона, так почему не оказалось
на руках ни одной купюры?
Они появились позднее, и разве не прав Д. В. Алатырь,
считающий их подделками предприимчивых дельцов от бо-
нистики?
Среди известных надпечаток особый интерес, на мой
взгляд, представляет следующая. На купюре царской эмиссии
в один рубль, кроме уже приведенной нами надпечатки ("1
рев. армия пов. Укр." и т. д.), изображена голова длинново-
лосого мужчины в кубанке — предположительно Махно.
Создается впечатление, что рисунок сделан не с реального
Нестора Ивановича, а с того батьки, каким его изобразил
226
Борис Чирков в известном фильме мариупольца Леонида
Лукова "Пархоменко".
Большое сомнение в подлинности банкнот, выдаваемых
коллекционерами за махновские, вызывает то обстоятель-
ство, что отпечатки сделаны на купюрах "донских" денег
довольно грубо и не имеют на себе следов обращения среди
населения: потертостей, перегибов, следов от рук и т. п. И
вообще как-то не верится, чтобы в армии Махно, численность
которой доходила и до 80 тысяч, располагавшей хорошим
подбором разнообразных "специалистов", в том числе и
высококвалифицированных фальшивомонетчиков, могли де-
лать столь грубые и некачественные надпечатки.
Правда, вполне вероятно, что надпечатки юмористическо-
го характера, содержащие элемент насмешки над батькой,
могли быть сделаны и во время гражданской войны. Во
второй половине 1919 года некоторые части Красной Армии,
попавшие в окружение (в том числе и Мариупольский полк
под командованием Кузьмы Апатова), влились в махновскую
армию. Предполагается, что, ознакомившись с порядками в
Махновии, некоторые командиры этих частей в знак протеста
проставляли на денежные знаки заимствованные из украин-
ского фольклора нелестные для батьки двустишия.
Публикуя "Бывшие деньги" в "Приазовском рабочем", я
писал: "Мариупольщина во время гражданской войны была
в центре махновского движения. Не исключено, что у насе-
ления нашего города и Приазовья сохранились образцы
"махновских" денег. Они могли бы внести некоторую ясность
в остающемся открытым и по сей день вопрос о том, занимался
ли эмиссией бумажных денег Нестор Иванович Махно".
В ответ ни одного отклика.
ПОСТСКРИПТУМ
"МАХНОВСКИЕ ДЕНЬГИ
"Между прочим, газета "Крестьянский путь", рассказывая
о различных подвигах Махно, передавала басню о каких-то
особых махновских деньгах.
Махно выпустил свои деньги — самые обыкновенные
советские-пятаковские деньги, но на обороте которых напе-
чатано: "Гоп, кума, не журись! В Махна гроши завелись! Хто
не будет гроши брать, тому шкуру будем драть!"
Никаких денег Махно не выпускал. Но, если бы он
выпустил кредитки с такой многообещающей надписью, хотя
бы даже и на газетной бумаге, — надо думать, самый
закоренелый спекулянт не отказался бы их принять..."
"Красный боец", 1920, 22 октября.
227
ЕДИНСТВЕННАЯ ДОЧЬ НЕСТОРА ИВАНОВИЧА
О том, что Елена Несторовна живет в Джамбуле, написал
мне мой университетский друг В. П. Татенко. Владимир
Пантелеевич — уроженец села Старая Ласпа, что на Мариу-
польщине, но вот уже более трети века живет и работает в
Казахстане. Там он стал известным кинорежиссером-доку-
менталистом, его фильмы демонстрировались по Централь-
ному телевидению, брали призы на фестивалях и принесли
их автору звание заслуженного деятеля искусств Казахстана.
Единственной дочерью Нестора Ивановича он заинтересо-
вался не только потому, что это вообще интересно, но, в
первую очередь, чисто профессионально. Ведь если снять на
пленку беседу с Еленой Несторовной в казахском городе
Джамбуле, да в украинском Гуляй-Поле, да в "махновских"
местах Парижа, где дочь предводителя крестьянской войны
на Украине возлагает цветы на могилу отца на кладбище
Пер-Лашез, — это же какой фильм мог бы получиться!
Да вот беда: Елена Несторовна никого из журналистов,
писателей, сотрудников краеведческих музеев не принимает.
Даже на порог не пускает в самом буквальном смысле.
Тем не менее Владимир Пантелеевич все же послал в
Джамбул гонца — оператора из своей киногруппы. Тот
разузнал адрес, разыскал дом на окраине города, но добиться
аудиенции так и не сумел. Зато познакомился с мужем Елены
Несторовны, бывшим летчиком, а ныне пенсионером Иваном
Петровичем Куликовым. С ним он и заключил джентельмен-
ское соглашение, суть которого я не раскрою, так как это
творческий секрет В. П. Татенко.
Но Владимир Пантелеевич прислал мне еще вырезку из
"Казахстанской правды" со статьей А. Вотчеля "В гостях у
дочери Махно".
Этого журналиста, которому повезло больше, чем его со
братьям по перу, Елена Несторовна встретила такими словами:
— Ко мне приезжали работники прессы из Москвы, из
Ленинграда, сотрудники краеведческих музеев. И всех я
22В
просила покинуть мой дом, не теряя понапрасну времени,
потому что беседовать со мной нужно было несколько деся-
тилетий назад, когда была жива моя мама. Не тратьте времени
и вы...
Сейчас, когда я пишу эту главу, дочери Махно исполнилось
70 лет. Она родилась в 1922 году в Польше, в тюрьме, куда
ее родителей заключили по нелепому обвинению. Тюрьмы и
нелепые обвинения еще встретятся в ее жизни — это у нее,
видимо, наследственное, чем наделила Елену Несторовну
судьба.
Как я понимаю, журналистская братия осаждает дочь
Махно вопросами, на которые она не в состоянии ответить:
о делах и походах человека, который для нее был батько в
самом прямом значении этого слова, она из личного опыта
ничего не знает. Потому что те "дела давно минувших дней"
свершились до появления на свет божий обитательницы дома
на окраине Джамбула. Махноведы, изучившие источники и
написавшие книги, и махноманы, зачитавшие эти книги до
дыр, могут гораздо обстоятельней и точней ответить на такие
вопросы журналистов, чем Елена Несторовна.
Когда умер Нестор Иванович, его дочери было всего лишь
12 лет. Вот, что пишет о ней в своих воспоминаниях анар-
хистка И. Метт: "Махно страстно любил свою дочь. Я не знаю,
какими стали их отношения в конце жизни, но когда девочка
была маленькой, Махно бесконечно возился с ней, баловал,
хотя в раздражении, бывало случалось, колотил ее, после
чего чувствовал себя совершенно больным только от одной
мысли, что смог поднять на нее руку. Нестор мечтал, чтобы
дочь получила образование. После его смерти я видела ее
только однажды, ей было семнадцать лет, она была очень
похожа на Махно, но, кажется, мало что о нем знала и, думаю,
не интересовалась его судьбой".
Елене Несторовне, несомненно, обидно читать эти строки,
но я склонен думать, что мемуаристка не погрешила против
истины.
Елена Несторовна рассказывает, что мать, Галина Андре-
евна, установила на могиле Нестора Ивановича бюст (во что
я могу поверить) и сделала на надгробье надпись: "Советскому
комиссару Нестору Махно" (во что поверить не могу никак).
...В 1989 году был я в Киеве на учредительной конферен-
ции общества "Мемориал". В президиуме среди прочих ува-
жаемых людей сидел и внук Христиана Георгиевича Раков-
ского, тоже Христиан. Его дед, председатель Совнаркома
Украины в 1918—1923 годах, то воевал с Махно, то заключал
с ним союз, то объявлял его вне закона.
229
В перерыве мы оказались с Христианом Валериевичем
рядом в очереди к буфетной стойке. Познакомились, разго-
ворились, сели за один столик. Уж не помню, каким образом
разговор коснулся Махно.
— Знаете ли вы, какая надпись сделана на могиле
Махно? — спросил меня Христиан Валериевич.
Нет, об эпитафии на надгробье батьки я не слышал.
— На его могиле написано: "Человек, который не знал,
за что боролся".
Очень и очень сомневаюсь, чтобы анархисты, — а именно
они хоронили Нестора Ивановича — могли сделать такую
надпись на его могиле. Ведь это признание идейного краха
не только махновщины, но и анархизма вообще. Но еще более
сомнительно, чтобы на могильной плите крестьянского вождя
значилось: "Советский комиссар Нестор Махно".
Начнем с того, что слово "комиссар" в махновском войске
было в общем-то скорее ругательным, чем уважаемым. "Долой
комиссародержавие" — вот лозунг махновцев. Политкомов,
присланных командованием Красной Армии, они терпели в
силу определенных обстоятельств, но нередко просто-нап-
росто расстреливали. Вряд ли можно придумать большее
оскорбление для Нестора Ивановича, чем обозвать его комис-
саром.
Да, Махно создавал советы. Но — безвластные. Советы
Ленина и Троцкого он не признавал. И понятие "советская
власть" он, анархист, безвластник, антигосударственник, не
признавал. К тому же слово "советский" с самого начала
неразрывно воспринималось, как "большевистский". И на-
писать на могиле Махно "советский комиссар" Галина Ан-
дреевна, отлично понимавшая их оскорбительный для батьки
смысл, уверен, не могла.
Не знаю, доведется ли мне когда-нибудь побывать в
Париже. Но если судьба смилостивится, непременно в первую
очередь съезжу на Пер-Лашез, чтобы поклониться Нестору
Ивановичу и выяснить, наконец, что за надпись красуется
на его могиле.
Кстати, о знаменитом кладбище Пер-Лашез. Если верить
А. Вотчелю, Елена Несторовна сказала ему, что могила ее
отца находится на этом кладбище "рядом с могилами 18
коммунаров, погибших при взятии Бастилии во время Фран-
цузской революции"!
Похоже, здесь препутаны два весьма далекие друг от друга
по времени исторические события: штурм Бастилии — это
1789 год, а парижская коммуна — 1871-й. В мае того года
Пер-Лашез стал местом последних боев парижских коммуна-
230
ров с версальцами. 27 мая пленные коммунары были расстре-
ляны у северо-восточной стены кладбища. Вот здесь, рядом
со знаменитой стеной коммунаров, и похоронен Нестор
Махно, что является великой честью для революционера,
каким он себя считал и каким в действительности был.
По справедливости, должен бы он покоится в центре
Гуляй-Поля, в украинской земле, которую он обильно полил
потом и кровью. Но судьба распорядилась иначе. И если
вспомнить, что на кладбище Пер-Лашез покоятся крупней-
шие деятели культуры и науки — Лафонтен, Мольер, Бальзак,
Шопен, Россини, а также военачальники — маршалы М. Ней,
А. Массена, — то приходится признать, что лежит Нестор
Иванович в окружении весьма приличной компании. Правда,
не знаю, как батько отнесся бы к присоединившимся позднее
к Стене коммунаров Морису Торезу, Марселю Кашену, Полю
Вайян-Кутюрье, Анри Барбюсу и другим видным коммунис-
там.
Елена Несторовна рассказывает, что ее отец умер б июля
1934 года. Это вполне согласуется с Большой Советской
Энциклопедией. Однако В. Волковинский добавил батько еще
19 дней жизни: по его мнению, Нестор Иванович скончался
25 июля. ("Батько Махно", К., 1992, с. 46). С. С. Волк в
предисловии к однотомнику "Воспоминаний" Махно сообща-
ет другую дату: 27 июля (М., "Республика", 1992, С. 25).
Щедрее всех оказался В. В. Комин — он продлил жизнь
легендарного батьки аж до 24 сентября 1934 года.
В середине 30-х годов Марк Алданов писал, что мы очень
мало знаем о Махно. Через шесть без малого десятилетий мы
можем, в сущности, сказать то же самое.
Тот же автор — В. Комин — пишет: "После смерти мужа
Галина Андреевна проживала в Париже с дочерью до 1940
года. Когда Францию оккупировали гитлеровские войска,
она, не сменившая фамилию Махно, при регистрации в
гестапо была задержана как жена известного анархиста. Из
Парижа ее отправили в Германию в концлагерь".
С рассказом Елены Несторовны эти сведения не вполне
совпадают. Вот что рассказывает она:
— В 1941 году жить на чужбине стало еще тяжелее, хотя
и муж был у меня француз. А в 1942 году французы выдали
нас фашистам. Так попали мы в Берлин на каторжные работы.
Муж остался во Франции. Детей у нас не было. А в 1945-м,
когда советские войска вошли в Берлин, мы с мамой очень
обрадовались, но, как оказалось, радость была преждевре-
менной: нас под усиленным конвоем увезли в Россию. В 1946
году в Киеве мать (припомнив ей, кто она) осудили по статье
231
58-й, приговорив к десяти годам лишения свободы, а меня —
к пяти.
Елена Несторовна оказалась в Джамбуле. После смерти
Сталина освободили и Галину Андреевну, и она пристроилась
возле дочери. По крайней мере одна мечта Нестора Ивановича
осуществилась: его дочь, несмотря на все превратности судь-
бы, высшее образование все-таки получила. Сначала в Таш-
кенте окончила строительный техникум. Хоть и была "пере-
ростком", но училась хорошо, легко. Затем окончила Джам-
бульский гидромелиоративно-строитедьный институт. В со-
вершенстве владеет французским, свободно говорит по-не-
мецки.
— В Джамбуле очень долго скиталась по частным квар-
тирам, — вспоминает Елена Несторовна. — Стоило хозяевам
узнать, кто мы такие, от нас старались поскорее избавиться.
Много раз мама писала в Москву и даже обращалась лично
к Ворошилову. Наконец, пришла в горисполком бумага и нам
выделили однокомнатную благоустроенную квартиру.
Если я правильно понял, помог им все же Ворошилов.
Может быть, Климент Ефремович вспомнил, как 4 июня 1919
года приехал он в Гуляй-Поле вручить Махно орден Красного
Знамени № 4 за взятие Мариуполя. Вспомнил, как сидел он
за праздничным столом, накрытым Галиной Андреевной, как
танцевал он с ней под звуки духового оркестра. Не без досады,
должно быть, припомнилось ему, что ускользнул тогда от
него Нестор Иванович, но все же распорядился. Ему это было
нетрудно: он тогда занимал пост председателя Президиума
Верховного Совета СССР.
Что еще рассказвает Елена Несторовна о своих родителях?
— Лицо отца "украшал" шрам на левой щеке, как у Овода
из романа Войнич. Он еще и прихрамывал. А мама наша
была красивая. Помните песню: "Эх ты, Галя, Галя молодая,
спидманули Галю, забрали с собой". Это о ней, маме, в отряде
отца сложили песню. На пенсию она ушла в 66 лет: необходимо
было выработать стаж после тюрьмы. Умерла она на 83-м
году жизни.
Мне не совсем понятно, как хозяева джамбульских
частных домов, где находила приют семья Нестора Ивано-
вича, и прочие узнавали, что имеют дело с вдовой и дочерью
Махно. В документах они именовались иначе. Вот один из
них:
"Прокуратура СССР. Прокуратура Украинской Советской
Социалистической Республики. МИХНЕНКО ЕЛЕНЕ НЕС-
ТОРОНЕ. Сообщаем, что на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года уголовное
232
дело, по которому вы были репрессированы, прекращено, и
в настоящее время вы реабилитированы.
Член коллегии Прокуратуры УССР В. И. Лесной.
13.09.89 г."
Такой же документ пришел и на имя Галины Андреевны
Кузьменко (посмертно).
Елена Несторовна утверждает, что подлинная фамилия ее
отца — Михненко, а Махно — прозвище.
Не знаю, не знаю.
В официальном документе — донесении начальника Ека-
теринославской губернского жандармского управления в
Департамент полиции от 5 сентября 1908 года "О задержании
шайки разбойников в селе Гуляй-Поле Александровского
уезда" среди прочих значится "МАХНО НЕСТОР ИВАНОВ,
19 лет". Да и в недавно обнаруженной записи в метрической
книге регистрации актов гражданского состояния Христо-
Воздвиженской церкви села Гуляй-Поля зафиксировано, что
26 октября 1888 года (а не 1889-го, как сообщает БСЭ) родился,
а 27 числа окрещен Нестор Махно.
Конечно, носить такую фамилию при отчестве Несторовна
было хлопотно и небезопасно. Стоит ли так уж строго судить
за трансформацию громкой фамилии знаменитого батьки в
неприметную — Михненко?
Я написал Елене Несторовне, задал несколько вопросов,
вложил в конверт вырезку из "Приазовского рабочего" с
рассказом "Первая дама Гуляй-Поля", попросил указать на
возможные неточности.
Будет ли ответ?
* * *
Эту главу я написал, как почти всю книгу, осенью 1992
года в старинной русской деревне Дубник, что в 12 километрах
от Ростова Великого. Тогда же отправил и письмо в казах-
станский город Джамбул.
Ответа я не получил. Возможно потому, что Елена Несто-
ровна была уже смертельно больна. 16 января 1993 года я
услышал в "Новостях" канала "Останкино" сообщение о
кончине единственной дочери Нестора Ивановича Махно.
Уже сам факт такого сообщения на весь СНГ, на весь мир
говорит о том, как изменилось в обществе отношение ко
многим явлениям нашей истории вообще и к батько Махно —
в частности.
Воспроизведя здесь главу об Елене Несторовне в таком
виде, в каком я написал ее при жизни дочери Махно, хочу
добавить несколько подробностей, которые почерпнул из
публикаций Сергея Семанова.
233
Он встретился с ней в 1968 году, когда Елене Несторовне
было сорок шесть. Первое впечатление: "сдержанна и свое-
нравна", "уж очень сильно была похожа Елена на отца — и
внешне, и, полагаю, характером".
А вот более развернутое описание первой встречи: "В
тесную, бедноватую мазанку на окраине Джамбула (там жили
потомки украинских переселенцев, приютивших меня) вошла
вдруг элегантная моложавая женщина, как будто припор-
хнула из чужого мира в эти пыльные степи. Среднего роста,
кареглазая и темноволосая, она была поразительно похожа
на отца. И сразу стало ясно — вот Париж; парижанка...
Легкая фигурка, изящные движения, поразительная непри-
нужденность манер — и все это вдобавок к сильному фран-
цузскому акценту в русском языке и даже, мне показалось,
французской фразеологии. Уж как она умудрилась оставаться
изящной и обаятельной в городе Джамбуле Казахской ССР,
объяснить это диво не в моих силах".
Сергей Семанов включил в свою документальную повесть
"Под черным знаменем" письма Елены Несторовны к матери,
заключенной в каторжный лагерь. Они потрясают жесто-
костью испытаний, которые выпали в нашей стране на судьбу
дочери Нестора Ивановича Махно.
Выпишу несколько строк из монолога Елены Несторовны,
записанного Сергеем Семановым в 1968 году:
— Ненавижу политику с детства. Хорошо помню отца. У
нас в доме всегда было полно народу, масса газет. И я тогда
уже поклялась себе, что не стану интересоваться политикой
и газет не читать. У меня нет родины. Францию я родной не
считаю, Россию тоже... Да, тут очень многие мужчины мною
увлекались, но когда узнавали, чья я дочь, шарахались в
сторону. Одни это делали корректно, другие трусливо или
даже грубо. Люди при этом хорошо раскрывались. Детей я
не хотела. Плодить нищих? И чтобы у них была моя судьба?
О роли своего отца в вашей истории я во Франции совсем не
знала. Когда меня поместили в Киевскую тюрьму, одна
сокамерница, узнав, чья я дочь, спросила — того самого
бандита? Я оскорбилась и ударила ее.
Из публикаций этого автора узнал я, наконец, годы жизни
Галины Андреевны Кузьменко: 28 декабря 1896 года —
23 марта 1978-го. Все остальные вопросы, которые я задал
Елене Несторовне: действительно ли Галина Андреевна после
смерти мужа вышла замуж за Волина, как сложилась судьба
последнего во время оккупации гитлеровцами Франции, кто
такая Ида Метт и Пр. — так и остались для меня невыяснен-
ными.
234
"ЧЕСТНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР"
(Попытка портрета)
Слова заголовка я взял в кавычки не потому, что отрицаю
за Нестором Ивановичем право носить этот гордый титул.
Революционером он, несомненно, был. И по-своему честным.
А кавычки потому, что — цитата: Махно часто повторял эти
слова в приложении к своему имени, своей личности.
В этой книге, не претендующей на последовательное жиз-
неописание батько и всех перипетий возглавленного им дви-
жения, рассыпано много фактов биографии Нестора Ивано-
вича. Мне кажется, что они в какой-то степени создают
мозаичный портрет Махно, пусть неполный. И все же испы-
тываю потребность в заключительной главе обобщить уже
изложенные факты, попытаться нарисовать портрет этого
человека, проанализировать особенности личности. Пользу-
ясь избитым штампом, можно сказать, что она "вся соткана
из противоречий".
Начнем, как учили нас в младших школьных классах, с
"характеристики внешности".
С. С. Дыбец: "Каков он был из себя? Ну, что сказать? Был
среднего роста. Носил длинные волосы, какую-то военную
фуражку. Владел прекрасно всеми видами оружия. Хорошо
знал винтовку, отлично владел саблей. Метко стрелял из
маузера и нагана. Из пушки мог стрелять. Это импонировало
всем его приближенным — сам батько Махно стреляет из
пушки".
Ида Метт: "В годы гражданской войны, когда по Украине
ходили всевозможные легенды о "батьке Махно" и "махнов-
щине" ...я, молодая студентка, мечтавшая о героических
подвигах, о "сверхсвободе", представляла себе Махно эдаким
богатырем — сильным, смелым, бесстрашным, бескорыст-
ным — борцом за народное дело... И вот в 1925 году я
приезжаю в Париж и узнаю, что Махно тоже находится в
Париже. Я с нетерпением жду возможности его увидеть.
Вскоре представился случай. И вот я — в гостинице, в
235
маленькой комнате, где Махно жил с женой и ребенком.
Он оказался совершенно другим: небольшого роста, тще-
душный, совсем не из тех, на кого обратишь внимание в
толпе".
А вот как он выглядел в дни своего величия и славы:
"Небольшого роста, с землисто-желтым, начисто выбритым
лицом, с впалыми щеками, с черными волосами, падающими
длинными прядями на плечи, в суконной черной пиджачной
паре, в барашковой шапке, в высоких сапогах, — Махно
напоминает переодетого монастырского служку, добровольно
заморившего себя постом.
По первому впечатлению — это больной туберкулезом
человек, но никак не грозный и жестокий атаман, вокруг
имени которого сплелись кровавые легенды.
И только небольшие, темно-карие глаза, с необыкновен-
ным по упорству и остроте взглядом, не меняющих выраже-
ния ни при редкой улыбке, ни при отдаче самых жесточайших
приказаний, глаза, как бы все знающие, раз и навсегда
покончившие со всеми сомнениями, — вызывает безотчетное
содрогание у каждого, кому приходилось с ним встречаться,
и придают совсем иной характер его внешности и тщедушной
фигуре, в действительности крайне выносливой и стойкой".
Так пишет многократно разруганный К. В. Герасименко
в очерке "Махно". Сейчас, после внимательного изучения
всех доступных мне и попавших в мои руки источников, я
легко мог бы составить длинный список прегрешений, допу-
щенных автором в этом очерке. И все же я не согласен с теми,
кто считает мемуары Герасименко умышленным пасквилем,
тиснутым с целью опорочить махновщину и ее вождя (зачем
это было нужно белогвардейцам в 1921 году, когда очерк
впервые издали в Берлине?). Да, о многом К. В. Герасименко
писал понаслышке, но есть у него и строки, передающие
личные наблюдения, притом весьма точно изложенные.
Вот что пишет, например, М. Гутман, также оставивший
нам словесный портрет батьки:
"Маленький, худой, с женоподобным лицом (он прекрасно
гримировался женщиной), с черными локонами волос, па-
давшими на плечи, Махно производил жуткое впечатление
благодаря пронзительным глазам с неподвижным взглядом
маньяка и жестокой складке вокруг рта на истощенном
бледном лице. Возраст его трудно было определить по виду:
не то — 25, не то — 45. Взгляд его редко кто мог выдержать
спокойно, а одна сестра милосердия, побывавшая у него на
допросе около часа (арестована была за хранение офицерских
погон, сувенира мировой войны), заболела таким нервным
236
расстройством, что в течение нескольких недель можно было
опасаться за ее рассудок".
А вот выдержка из воспоминаний Н. Сухогорской:
"Во время пребывания автрийцев в селе (Гуляй-Поле —
Л. Я.), я первый раз увидела Махно, спокойно гулявшего по
главной улице. С виду он был неказист: небольшого роста,
узкоплечий, с русыми (! Другие пишут: "Черными" — Л. Я),
под горшок остриженными волосами и каким-то плоским,
немножко обезьяньим лицом. Ему можно было дать лет около
тридцати, одет он был в солдатскую форму, сбоку у него
болталась сабля. В общем он напоминал мне тогда полицей-
ского урядника.
Махно не производил бы никакого впечатления, если бы
не его взгляд. Сначала я думала, что это только мне делается
страшно, когда он взглянет на меня своими серыми (у
Герасименко — "темнокарие". Не будем судить строго: уже
через несколько лет после смерти Чехова современники
спорили, какого цвета глаза были у Антона Павловича —
Л. Я.), холодными, стальными, прямо какими гипнотизиру-
ющими глазами, но потом оказалось, что самые заядлые
разбойники-махновцы не выносили этого взгляда и начинали
дрожать мелкой дрожью".
Через год с лишним здесь же в Гуляй-Поле Нестора
Ивановича увидел Антонов-Овсеенко. Этот мемуарист не
распространяется насчет цвета глаз и гипнотизирующего
взгляда, но выпишем несколько строк и из его воспоминаний:
"Под звуки оркестра, игравшего "Интернационал", перед
фронтом загоревших партизан, навстречу комфронта вышел
малорослый, моложавый, темноглазый, в папахе набекрень
человек. Остановился в паре шагов, отдал честь: "Комбриг-
батько Махно. На фронте — держимся успешно, идет бой за
Мариуполь".
Через несколько дней, в начале мая 1919 года, в Гуляй-
Поле приедет член Политбюро, чрезвычайный уполномочен-
ный СТО (Совет труда и обороны), ближайший соратник
Ленина Лев Борисович Каменев. Его секретарь так описал
эту встречу:
"Гуляют на перроне в ожидании батько, которого ждут из
Мариуполя. Наконец комендант станции сообщает: "Батько
едет". Локомотив с одним вагоном подходит к перрону,
выходит Махно с начальником штаба.
Махно — приземистый мужчина, блондин. Синие острые
ясные глаза. Взгляд вдаль, на собеседника редко глядит.
(Видимо, Нестор Иванович боялся, что Лев Борисович, как
и все прочие, не выдержит его взгляда. —Л.Я.) Слушает,
237
глядя вниз, слегка наклоняя голову к груди, с выражением,
будто сейчас бросит всех и уйдет. Одет в бурку, папаху, при
сабле и револьвере".
Виктор Белаш, будучи в чекистской тюрьме и усердно
стараясь понравиться своим следователям, своего батько
нарисовал таким:
"Махно походил на разукрашенную куклу. Ниже среднего
роста, с маленьким лицом, живой в движениях, с вздернутым
носом, быстрыми карими глазами и большими (так в тексте —
Л. Я.) волосами, спадавшими на шею и плечи, он казался
мальчиком. Одет он был в маленькие офицерские сапожки,
диагоналевые галифе, драгунскую с петлицами куртку, в
студенческой фуражке".
Помню, как Фадеев объяснял, почему он Левинсона в
"Разгроме" изобразил маленьким, тщедушным. Он тем самым
протестовал против книг о революции и гражданской войне,
в которых народные вожаки были как на подбор богатырского
телосложения и вообще детины огромной физической силы.
Такого попробуй не послушай: пришибет. Фадеев же хотел
подчеркнуть, что партизанский командир Левинсон увлекает
за собой массы силой своих идей. Большевистских, разуме-
ется.
Образцом влияния на массы не физической мощью, а силой
убеждения в "буче-революции" и бурлящем водовороте граж-
данской войны может служить Нестор Иванович Махно —
не литературный герой, а реальная историческая личность.
Вот каким увидел батьку красный командир Ф. Анулов,
взятый в плен махновцами в августе 1919 года на станции
Помощная:
"Подходим к вагону, вокруг которого столпилась толпа
(не ахти каким стилистом был — "столпилась толпа", — но
это ничего — Л. Я.) вооруженных махновцев. Какой-то
низкорослый человек, одетый в гусарскую форму, сидел на
ступеньке вагона...
Махно поднял голову. Лицо его было крайне возбуждено.
Глаза воспалены. Серые зрачки глаз бегали с одного предмета
на другой. Движения — нервные, порывистые...
...Серые глаза батьки Махно расширились. Загораются.
Встает. Протягивает руку. Все кругом моментально смолка-
ют.
...Речь его была порывиста, нервна и бессвязна. Однако
говорил Махно с большим подъемом. Толпе его речь явно
нравилась. Он обещал все, что жаждала, к чему стремилась
крестьянская масса. Когда он кончил, толпа дико прокричала
несколько раз "ура".
238
Согласитесь, читатель, что рябит от махновских глаз, то
карих, то темно-карих, то серых и стальных, то синих и острых.
У одних он блондин, у других шатен и т. д. Так утверждают
очевидцы. А вот что пишет в романе "Хождение по мукам"
Алексей Толстой, никогда в глаза не видевший Махно:
"Навстречу ему (Рощину) ехал человек на велосипеде,
вихляя передним колесом. За ним верхами — двое военных
в черкессках и заломленных бараньих шапках. Маленький
и худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки
и гимназическую курточку, из-под околыша синего с белым
кантом гимназического картуза его висели прямые волосы
почти до плеч. Когда он поравнялся, Вадим Петрович с
изумлением увидел его испитое, безбровое лицо. Он кольнул
Рощина пристальным взглядом, колесо в это время вильнуло,
он с трудом удержался, жестоко сморща, как печеное, желтое
лицо свое, и проехал".
Каким же был Нестор Иванович на самом деле? Я вгля-
дываюсь в фотографии, сделанные, разумеется, давно,но
ставшие нам известными недавно.
Он снят с Павлом Дыбенко на фоне железнодорожных
вагонов. Снимок, скорее всего, сделан на станции Мариуполь
в конце марта — начале апреля 1919 года. Длинноволосый,
в куртке с "разговорами", в высокой бараньей шапке, Махно
действительно кажется подростком. Впрочем, рядом с бога-
тырски сложенным Дыбенко многие, очевидно, производили
такое впечатление. Да, впалые щеки, изможденное лицо,
тяжелый взгляд.
А вот он 29 апреля при встрече В. А. Антонова-Овсеенко
в Гуляй-Поле. Улыбающийся. Однако трудно сказать, что
улыбка делает его обаятельным. Одет так же, как и в начале
месяца в Мариуполе.
А вот снимок с автографом на обороте: "Тов. Каменеву на
память о посещении Гуляй-Поля. Батько Махно". Это —
начало мая 1919 года. Махно в тужурке с отложным ворот-
ником, затянутый в портупею, с саблей на боку. Впалость
щек скрадена, изможденность как бы уменьшена, едва за-
метна. Длинные густые пышные волосы, цвет которых на
черно-белом снимке, конечно, не определишь. В общем-то —
вполне симпатичный мужчина.
Глаза? Да, упорный взгляд, отличающий волевого, реши-
тельного человека.
Каким увидел Лев Никулин в Париже Нестора Ивановича,
можно узнать в приложении к этой книге (часть 3-я). А вот
впечатление Марка Алданова, писателя с более благородной
репутацией:
239
"Несколько лет назад, — пишет в 1936 году Марк Алек-
сандрович, цитируя К. В. Герасименко и откровенно полеми-
зируя с ним, — мне показали Махно на кладбище в Париже,
где "жесточайших приказаний" он отдавать никак не мог.
Он шел за гробом старого политического деятеля, который с
ним поддерживал добрые личные отношения. Я минут десять
шел в двух шагах от него, не сводя с него глаз: ведь об этом
человеке сложились легенды. Ничего замечательного в его
наружности не было. У него был вид очень слабого физически,
больного, чахоточного человека, вдобавок, живущего под
вечной угрозой нападения... Глаза у него были злые; но
выражения "все знающего", "раз и навсегда покончившего
со всеми сомнениями" и т. д. (цитаты из К. В. Герасименко —
Л. Я.) я в них не видел: сами слова эти совершенно не подходят.
Нет, ничего демонического в наружности Махно не было: все
это литература".
Ну, внешность внешностью, а что скрывалось за ней, какой
характер, какая личность?
Большая Советская Энциклопедия, третье издание кото-
рой в отличие от второго, сталинского, не в пример либераль-
на, поместила статью не только о махновщине (С. Н. Сема-
нова), но и отдельно о самом Несторе Ивановиче. В ней много
неточностей — от года рождения, приписывания Махно
убийства полицейского пристава до объявления его "одним
из главарей мелкобуржуазной контрреволюции на Украине
в 1918—1921 во время гражданской войны". А вот утвержде-
ние: "Отличался личной храбростью и жестокостью" не про-
тиворечит, а находится в полном согласии с истиной.
Что-то не припомню, чтобы БСЭ, начисто лишенное ли-
рических и сентиментальных интонаций, таким образом
аттестовало Котовского, Гая, Чапаева, Дыбенко и других
легендарных храбрецов.
Бесстрашие и храбрость Нестора Ивановича были настоль-
ко изумительны, что, по мнению Аршинова, производили
впечатление психической аномалии. Это, пожалуй, един-
ственная "черта характера" Махно, которая не вызывает
сомнений и споров, — ни у современников, ни у историков.
Поэтому я опущу примеры воинской отваги Нестора Ивано-
вича — образцов храбрости он показал великое множество.
Бесспорна и его жестокость как свойство натуры. Помимо
ответа противоборствующих сторон террором на террор, от-
чего беспощадные репрессии возрастали, можно сказать, в
геометрической прогрессии, у Нестора Ивановича были по
этой части и кое-какие врожденные склонности. Один из его
биографов сообщает: когда подросток Нестор пас ночью ло-
240
шадей, какой-то взрослый парень изрядно поколотил его.
Нестор "достал где-то двадцатифунтовую гирю (8 кг), взоб-
рался с ней на старое разложистое дерево, под которым
вечерами собирались парни и девушки на гулянку. Среди
них был и его обидчик. И стал ждать. Голову парню спасла
ветка, за которую гиря зацепилась и отлетела в сторону".
"Некоторые авторы считают, — пишет Зиновий Дубро-
винский, — что истоки фанатичной жестокости, даже садизма
Махно следует искать в его озлобленности из-за тяжелого
детства и в истерических, доходящих до беспамятства при-
падках, которыми он страдал".
Конечно, сцена расправы над пленными, нарисованная
К. В. Герасименко, когда Махно кричит: "Порубить их, — и
только!", а потом вскакивает на груды мертвых тел и топчет
их, говорит о садизме. Вот только достоверность нарисованной
этим автором жуткой картины вызывает серьезное недоверие.
Однако в различных источниках подлинные очевидцы утвер-
ждают, что Махно ЛЮБИЛ лично расстреливать. И вряд ли
далек от истины В. Руднев, излагающий в книге "Махнов-
щина" (Харьков, 1928) такой эпизод: "На ст. Ореховская ему
(Махно) привели какого-то попа, который вел себя подозри-
тельно. Поговорив с ним немного, Махно велел бросить его
в горящую топку, что вызвало ликование всей свиты".
В Париже, когда "года минули, страсти улеглись", Нестор
Иванович, работая над своими мемуарами, задумывался,
конечно, над жестокостью гражданской войны и той, которую
он, вождь украинских повстанцев, проявил в те годы. В
поисках оправдания он обращается, в частности, к высокому
авторитету П. А. Кропоткина, личным свиданием с которым
Нестор Иванович очень гордился. Он изображает дело так,
что на бескомпромиссную жестокость его благословил сам
патриарх русского анархизма (который, между прочим, был
противником насилия): "Лишь во время прощания он (Кро-
поткин) сказал мне, пишет Махно: "Нужно помнить, дорогой
товарищ, что борьба не терпит сентиментальностей. Самоот-
верженность, твердость духа и воли на пути к намеченной
цели побеждает все..."
Эти слова Петра Алексеевича я всегда помнил и помню.
И когда нашим товарищам удастся полностью ознакомиться
с моей деятельностью в русской революции на Украине, а
затем в самостоятельной украинской революции, в авангарде
которой революционная махновщина играла выдающуюся
роль, они легко заметят в этой моей деятельности те черты
самоотверженности, твердости духа и воли, о которых говорил
мне Петр Алексеевич".
241
Правду пишут и об истерических припадках. Человек
сильной воли — это вне сомнения — Махно иногда терял
способность контролировать свои поступки. Он сам пишет об
этом в своих мемуарах. Приведу лишь один пример. Вот как
Махно реагировал на весть о контрреволюционном перевороте
в своем родном селе весной 1918 года:
"Весть о занятии Гуляй-Поля застала меня на станции
Царево-Константиновка (ныне — пока еще — Куйбышево —
Л. Я.) и потрясла. А бегство революционных сил я видел сам.
Тяжело было смотреть на это бегство. Что-то неприятное,
тяжелое сдавило мне сердце и лишало меня возможности
яснее представить, что произошло там, в Гуляй-Поле, за мою
двухдневную отлучку из него. Все совершившееся настолько
потрясло и сковало меня, что я оказался совершенно не в
состоянии противопоставить свои физические силы этой тя-
жести. Тут же, на станции, я прилег, положив голову на
колени одного из красногвардейцев, и бессознательно вы-
крикивал:
— Нет, нет, я этой изменнической роли шовинистов не
забуду! Может быть, и стыдно революционеру-анархисту
питать в себе мысли о мести, но они поселились во мне, и я
сделаю из них для дальнейшей революционной деятельности
необходимые выводы...
Об этом мне красноармейцы рассказали впоследствии.
Говорили они еще, что я заплакал и уснул в вагоне, на коленях
все того же красногвардейца. Однако я этого не помню.
Мне казалось, что я не спал, а лишь чувствовал себя в
какой-то тревоге. Это чувство было тяжело, но я мог ходить,
говорить. Помню, что я никак не мог сообразить, где я...
Лишь когда я вылез из вагона и увидал, что я все еще нахожусь
на станции Царево-Константиновка, я извинился перед окру-
жавшими меня красногвардейцами и направился к вокзалу..."
Конечно, я мог бы пересказать этот эпизод гораздо лако-
ничней, но предпочел обширную цитату из воспоминаний
батько во избежание вполне вероятных упреков со стороны
махноманов в очернительстве и клевете (подобный опыт у
меня уже есть). Некоторая психическая неустойчивость у
Нестора Ивановича была, и срывы случались. Свидетельству-
ют об этом и его неоднократные попытки покончить жизнь
самоубийством: одна — в Бутырке, другая — на поле боя в
минуту, когда положение показалось безвыходным, другая —
уже в Польше, о чем сообщил на следствии в Мариуполе Иван
Лепетченко.
И в то же время этот человек в бесчисленных стрессовых
(говоря современным языком) ситуациях умел сохранить
242
удивительное хладнокровие, самообладание, сдержанность,
осмотрительность, выдержку.
В те баснословные годы от политических деятелей, чтобы
завоевать симпатии и поддержку масс, требовалось незауряд-
ное ораторское искусство. Как же по этой части обстояло дело
у Нестора Ивановича?
"Махно не оратор, — пишет К. В. Герасименко, — хотя
любит выступать на митингах... Махно говорит резко, не-
складно, то повышая, то понижая голос, повторяя за каждой
фразой, состоящей из 5—10 слов, свою постоянную, полную
гнева фразу: "И только"... Мне приходилось часто наблюдать
Махно во время митингов, и я видел, как запоминается
каждая его фраза, подкрепленная энергичным жестом, как
влияет, словно гипнотизирует Махно крикливую, никому не
желающую подчиняться и ничего святого не признающую
толпу".
Многократно разруганного К. В. Герасименко невольно
реабилитируют другие, порой совершенно противоположных
политических взглядов мемуаристы. Они, независимо от
Герасименко, рассказывают порой о Махно факты, иногда
почти дословно совпадающие с воспоминаниями этого рас-
критикованного автора.
Вот, в частности, впечатления Антонова-Овсеенко при
посещении Гуляй-Поля: "Голос несильный и слегка сиплый,
говор мягкий — в общем, небольшой оратор, но как его
слушают!"
Мне могут возразить: действовал авторитет легендарного
батько, поэтому толпа так затихала и зачарованно слушала.
Но только ли поэтому?
Вот он весной 1918 года выступает перед рабочими на
станции Сарепта близ Царицына. Он еще не батько, еще не
Махно. Однако: "Рабочие все были на моей стороне. Ни один
из большевиков не протестовал..."
Ораторское искусство батько уважал. Даже о столь нелю-
бимом им Троцком он пишет: "...Отправился на митинг
Л. Троцкого, которым, как оратором, увлекался не только я,
за время своего пребывания в Москве, но и многие друзья и
противники его. И нужно сказать правду, он этого заслужи-
вал. Его речей нельзя равнять ни с речами щелкопера Зи-
новьева, ни с речами Бухарина. Он умел говорить, и им можно
было увлекаться".
Махно, сохранявший присутствие духа под пулями, мог
растеряться во время публичного выступления. Однажды на
митинге ему задали неожиданный вопрос, и Махно-оратор
243
оскандалился. "Хорошо помню, — пишет он, — как я, начав
говорить и в то же время обдумывая ответ, вначале нервничал,
глотал слова и заикался. Это даже принудило меня остано-
виться, прекратить речь и попросить кружку воды. Так я
выиграл время, овладев своими нервами, и затем начал
отвечать на поставленный мне учителем вопрос".
Известно, что оратор, как и лектор, священник-проповед-
ник, учитель, каждый, кто выступает публично и должен
"завоевать" аудиторию, всегда в какой-то степени актер, он
"играет", рассчитывает эффекты и т. д. Обладал ли такими
качествами Нестор Иванович?
Вот свидетельство Иды Метт. Махно, утверждает она, "был
великим артистом, неузнаваемо перевоплощавшимся в при-
сутствии толпы. В небольшой компании он с трудом мог
объясняться, его привычка к громким речам в интимной
обстановке казалась смешной и неуместной. Но стоило ему
предстать перед большой аудиторией, как вы видели блестя-
щего, красноречивого, уверенного в себе оратора. Однажды
я присутствовала на публичном заседании в Париже, где
обсуждался вопрос об антисемитизме и махновщине. Меня
глубоко поразила тогда удивительная сила перевоплощения,
на которую оказался способным этот украинский кресть-
янин".
Махно времен гражданской войны обвиняют в пьяных
оргиях, в разврате. Другие "очищают от грязи" портрет
батьки и отрицают за ним перечисленные грехи.
Современники рассказывают, что как-то нужно было ре-
шить очень важный военный вопрос, но к Я. А. Слащеву
добраться оказалось невозможным: генерал вот уже несколь-
ко суток подряд в лежку пил. (Я уже не говорю о том, что
Яков Александрович, как рассказывают сведущие люди,
баловался и кокаинчиком). Генерала Май-Маевского Влади-
мира Зеноновича, войска которого действовали, в частности,
в Мариуполе, Деникин был вынужден из-за тяжких запоев
заменить Врангелем.
Пил, конечно, и Махно, пили и махновцы.
М. Кубанин в свое время опубликовал любопытный доку-
мент: "На поставленный на собрании 1-го Екатеринославского
полка вопрос о пьянстве повстанцы постановили: "Прекра-
тить выдачу спиртных напитков как повстанцам, так и
командирам, и прекратить картежную игру".
Когда на том же собрании командир корпуса поставил
вопрос об исполнении приказов, собрание постановило: "Об-
судив этот вопрос, собрание товарищей повстанцев решило
244
единогласно выполнять с условием, если командиры, издаю-
щие приказы, были бы трезвы".
И. Тепер пишет, что "набатовцы вынуждены были на-
править открытое письмо Махно с предупреждением — оста-
вить его ряды, если он сам не перестанет пить и не покончит
с элементами, окончательно разлагающими махновщину".
Но Махно, гений партизанской войны, умел быть еще и
хитрым дипломатом. Поразительно, например, как он "обвел"
Антонова-Овсеенко, когда тот прибыл с визитом в Гуляй-
Поле. Батько угостил командующего Украинским фронтом
обильным обедом, к которому подали какую-то невинную
слабенькую наливку, а водки, самогона — ни-ни. "Махно
заявляет, — пишет в своих "Записках о гражданской войне"
Антонов-Овсеенко, — что не любит пить и пьянство пресле-
дует". Комукрфронта поверил этому и всюду утверждал, что
разговоры о пьянстве Махно — клевета.
Зато близко знавший батьку С. С. Дыбец свидетельствует
иначе: "Пил он несусветно. Пьянствовал день и ночь. Раз-
вратничал. Ему, отрицателю власти, досталась почти неогра-
ниченная бесконтрольная власть. И туманила, кружила го-
лову".
Справедливости ради скажем, что пьянство Махно дей-
ствительно преследовал. За пьянство в боевой обстановке,
когда решалась судьба армии или отряда, — расстреливал.
На отдыхе же — другое дело. Поэтому Галина Андреевна,
убеждавшая, что Махно не пил (как-то однажды он перебрал
и очень стыдился этого, она его ругала) — права и не права.
Во всяком случае многие строки ее знаменитого дневника
противоречат этому ее заявлению. В дневнике батько часто
предстает перед нами в весьма неприглядном виде. Например:
"Еще с Новоселки батько начал пить. В Варваровке совсем
напился, как он, так и его помощник Каретник. Еще в
Шангарово батько начал уже дурить — бессовестно ругался
на всю улицу, верещал как ненормальный, ругался и в хате
при малых детях и при женщинах. Наконец сел верхом на
лошадку и поехал в Гуляй-Поле. По дороге чуть не упал в
грязь".
Это запись от 7 марта 1920 года. А вот от 12 марта: "Все
эти дни много пили. Скандалили много. Выпивши, батько
становится очень разговорчивым и заинтересованным "чис-
тотой и святостью повстанческого движения".
На следующий день: "Батько и сегодня выпил, разгова-
ривает очень много. Бродит пьяный по улице с гармошкой и
танцует. Очень привлекательная картина. После каждого
слова матерится".
245
И это человек, то наводящий ужас своей жестокостью, то
выглядящий жалко и омерзительно, был народным любим-
цем?
Да, был. К этому вопросу мы еще вернемся, а пока — еще
одна цитата. Она и о пьянстве, и о жестокости, и о раболепии:
"Я сама видела, как Махно на улице (Гуляй-Поле — Л. Я.)
бил своего пьяного махновца нагайкой со свинчаткой на конце
по чем попало, а тот кланялся, целовал ноги Нестору Ивано-
вичу и копыта его коня, плакал и молил: "Прости, батько,
не буду". Конечно, из этого совсем не следует, будто Махно
был против пьянства всегда и везде. Нет, он преследовал
только "несвоевременное" пьянство, когда враги были
близко и грозила опасность, и сам напивался только в
спокойное от своей военной деятельности время. Зато тогда
он пил уже до потери сознания и становился форменным
зверем".
Конечно, не все мемуаристы "равнодушны" к Нестору
Ивановичу, не следует принимать все написанное о нем за
чистое золото правды, но выслушаем всех. Ида Метт: "Был
ли Махно пьяницей, каким изобразил его Волин? Я очень
часто встречалась с ним на протяжении трех лет в Париже
и никогда не видела его пьяным. Несколько раз в качестве
переводчика я сопровождала Махно на обеды, организован-
ные в его честь западными анархистами. Нестор пьянел от
первого стакана вина, глаза его начинали блестеть, он стано-
вился более красноречивым, но, повторяю, по-настоящему
пьяным я не видела его никогда. Мне говорили, что последние
годы он голодал, опустился, может быть, тогда и начал пить.
Для его больного, слабого организма было достаточно не-
скольких капель алкоголя. Будучи атаманом, он, вероятно,
пил наравне с любым крестьянином".
Еще одним малопривлекательным свойством его натуры
была мстительность. Он отлично сознавал, насколько это
недопустимо и позорно для "честного революционера", но
ничего не мог с собой поделать, и в воспоминаниях со
свойственной ему прямотой мужественно признается в своем
недостатке. Пишут, как жестоко мстил он белым офицерам
за смерть своего брата Григория. Он мог откровенно радо-
ваться репрессиям, которым подвергались вчерашние его
бойцы, отказавшиеся продолжать борьбу на его стороне.
Красноречивые строки находим в дневнике Левки Голика,
начальника махновской контрразведки: "27 февраля (1920).
Пришли В. Данилов и Зеленский, говорят, что в Гуляй-Поле
большевики производят аресты. Махно торжествует. Он го-
246
ворит: "А, стервецы, не хотели воевать, так и на выручку не
пойдем. Пусть сволочей расстреляют".
А ведь то были герои-партизаны, стяжавшие батьке славу.
Еще одна запись Левки Голика: "2 мая (1920). Вышли на
Гайчул, где взяли батальон красноармейцев: командиров
расстреляли, рядовых отпустили. Здесь красные расстреляли
15 махновцев и Махно был в восторге, ибо красный террор
вынуждал повстанцев влиться к нам в отряд".
Неудивительно, что еще в 1917 году, когда Махно вернулся
на родину с каторги, он первым делом занялся поиском
полицейского архива. Найдя его и узнав имена провокаторов,
выдавших анархистскую группу в 1908 году, он немедленно
"принял меры". Цитирую: "...Кирика Васецкого вытащили
из дома и застрелили на улице. Сергея Мартыненко убили
через окно, когда он обедал, так он и умер с галушкой во рту.
Попа Дмитрия вывезли в глиняный карьер, отрубили голову,
а затем еще долго возили его осмаленную голову в подводе".
Ненависть Махно к предателям доводила его до припадков.
Не хочется перегружать книгу цитатами, но считаю, что
подлинные строки документов убедительней моего пересказа.
Послушаем самого Нестора Ивановича: "Назар Онищенко
встретился со мной в центре Гуляй-Поля. Это — тот самый
стражник и тайный агент, Онищенко, который при обыске
моей комнаты позволил себе обыскивать мою мать, и когда
она запротестовала, дал ей пощечину. Теперь этот негодяй,
продавший душу и тело свое и своего родного брата за деньги
полиции, подскочил ко мне, снимая фуражку и с возгласом:
Нестор Иванович! Здравствуйте, — протягивает свою руку
для пожатия.
Ужас! Какое омерзение вызвал во мне голос, манера и
мимика его, этого Иуды. Я весь задрожал и неистово закричал:
"Пошел вон, подлец, от меня, иначе я сейчас же всажу пулю!"
Он отскочил в сторону и побледнел. Лицо его приняло
белизну снега.
Я незаметно для самого себя засунул в карман руку и
нервно схватил револьвер, думая: "Убить эту собаку здесь же
или воздержаться?"
Разум взял перевес над чувствами негодования и мести.
Я, уставший от волнений, подошел к мучной лавке и сел на
стоявший у дверей стул.
Ко мне подошел хозяин лавки, поздоровался и пытался
кое-что спросить меня, но я его не понимал. Я извинился,
что занял стул и просил его оставить меня в покое, а через
минут десять я попросил проходившего крестьянина помочь
мне дойти до Комитета крестьянского союза".
247
Разум Махно очень часто брал верх над "чувствами него-
дования и мести". Он умел казнить, но умел и миловать. Так,
в архиве был найден документ о том, что провокатором состоял
в полиции и Петр Шаровский. Документ этот Махно обнаро-
довал на митинге.
Петр Шаровский стал одним из активнейших участников
повстанческого движения и не раз отличился в рядах мах-
новской армии.
Жаждой мести загорелся Нестор Иванович, когда узнал о
перевороте, который совершили украинские шовинисты (так
он их называл) в Гуляй-Поле весной 1918 года, в том числе
к еврейской роте, которая, сама того не желая, сыграла в тех
событиях гнусную роль. Однако и в этом случае разум взял
перевес над чувством. Нестор Иванович понимал, какие
последствия может все это иметь для еврейского населения
Гуляй-Поля и удержал своих товарищей от эксцессов. Простил
он также и Тарановского (не еврея), командовавшего еврейской
ротой. Впоследствии Тарановский оказался одаренным коман-
диром и храбро сражался в рядах махновской армии.
Можно привести много примеров великодушия Махно,
когда он отпускал с миром разоруженных красноармейцев,
то есть крестьян, одетых — очень часто насильно — в военную
форму. Можно вспомнить, как он отпустил юного продкомис-
сара Мишу Шолохова. Миловал он попавших к нему в плен,
если верить К. В. Герасименко, актеров, реже — приказчиков,
иногда людей, сумевших каким-нибудь отчаянным поступ-
ком поразить Махно. Вот эпизод, в который я верю: он в
характере батьки:
"Однажды стражник, в тот момент, когда Кийко замах-
нулся на него шашкой, столь ловко ударил палача ногой в
живот, что Кийко долгое время находился в глубоком обмо-
роке. Махно был так поражен смелым поступком стражника,
что милостиво даровал ему жизнь и даже отпустил домой
после того, как стражник отказался у него служить".
"Отрицательной чертой его характера, — пишет Ида
Метт, — я считаю патологическую недоверчивость и подо-
зрительность, хотя и это вполне понятно: слишком живым
был в его памяти опыт гражданской войны. Как бы то ни
было, но он был способен подозревать даже близких друзей".
Эта же мемуаристка, не лишенная проницательности,
считает, что у Махно был "скверный характер". С этим трудно
не согласиться.
Об отношении Махно к женщинам мы уже писали доста-
точно подробно в предыдущих главах. Их трудно назвать
248
идиллическими, даже если считать замечание С. С. Дыбеца:
"развратничал" преувеличением, а описанный И. Тепером
эпизод, когда в Бердянске устроили пир горой, куда согнали
всех проституток города и подводили их к батьке на выбор,
клеветой. Достаточно вспомнить его первую встречу в 1917
году с молодой учительницей Куэьменко, когда Нестор Ива-
нович из-за пустяка чуть не застрелил свою будущую жену.
Тем более, что примеров его отнюдь неджентельменского
отношения к слабому полу существует немалое количество.
Тем не менее в эмиграции Нестор Иванович сумел убедить
Иду Метт, которую мы только что назвали проницательной
(и в общем-то не без оснований), что по отношению к жен-
щинам он всегда был ангелом во плоти. "Он рассказывал мне
в Париже, — пишет она, — что в пору его славы люди
раболепствовали (очень точно сказано! — Л. Я.) перед ним,
и он мог выбрать себе любую женщину, но в действительности
у него не было времени для личной жизни. Махно рассказывал
мне об этом, чтобы опровергнуть миф об оргиях, в которых
он участвовал". И мемуаристка, которая, судя по всему, была
близка с Нестором Ивановичем (да простится мне такое
утверждение), делает — о санта симплицитас! — такой вывод:
"На самом деле Махно был человеком чистым, даже цело-
мудренным. Мне кажется, в его отношении к женщине
соединялась своего рода крестьянская простота с уважением
к слабому полу, присущим русским революционерам начала
века".
Очень хотелось бы в это верить. Во всяком случае меня
тронуло свидетельство Иды Метт о том, что иногда он (Махно)
с искренним сожалением вспоминал о своей первой жене,
крестьянке из его родной деревни, на которой женился вскоре
после освобождения из тюрьмы, в 1917 году. Далее она
сообщает сведения, которые в какой-то степени дополняют
то, что я изложил в главе "Товарищ Нестор, его подруги и
мариупольские анархисты": "От этого брака родился ребенок,
но, когда во время немецкой оккупации Махно вынужден
был скрываться, кто-то сказал жене, что он убит, и она снова
вышла замуж. Ребенок умер. Махно больше никогда не видел
первую жену".
Пишут: честолюбив был батько, а К. В. Герасименко
утверждает: "Ко всему этому следует добавить неизмеримое
болезненное тщеславие, которым несомненно болел Махно".
Нас убеждают, что не терпел он соперников, что Григорьева
убил, завидуя его славе, а коммуниста Полонского, командира
Железного полка, попавшего в окружение и примкнувшего
249
к Махно, расстрелял по той же причине: популярность этого
человека равнялась, пожалуй, батькиной.
Не сужу об убийстве Полонского: это дело до сих пор
остается темным, но атамана Григорьева Махно убил из
идейных соображений как бандита, а не из желания убрать
конкурента.
Высказываются предположения, что втайне Махно мечтал
о главенстве в Московском Кремле или — на худой конец —
о "столе" в Киеве.
Я в это не верю.
Хотя батько и отличался крутым характером, хотя и писал,
бывало, представителям сельских властей: "За неповиновение
вы будете стерты моей собственной рукой с лица земли", я
скорее соглашусь с теми, кто считает, что у Махно диктатор-
ских задатков не было. Теоретически безвластник мог, ко-
нечно, трасформироваться в диктатора (начал же Муссолини
социалистом, а стал законченным фашистом), но в характере
Махно этого не было. От гражданской власти он отмахивался:
"Мое дело — воевать, защищать вас". Даже в критической
военной обстановке, когда требовались мгновенные решения,
он советовался с командирами.
Поначалу, вернувшись с каторги, Нестор Иванович вообще
мечтал о мирной патриархальной жизни хуторянина, хоро-
шего семьянина, ведущего здоровый трудовой образ жизни —
без суеты и суесловия. Сформировался, в общем, у него
крестьянский идеал жизни, нашедший выражение в стихах
"кулацкого" (как его называли рапповцы) поэта Сергея Клыч-
кова:
Хорошо, когда у крова
Сад цветет с полдесятины.
Хорошо иметь корову,
Юную жену и сына.
Но вихрь революции вознес его на головокружительную
высоту.
Не стану утверждать, что Нестор Иванович был начисто
лишен честолюбия. Прав был поэт: "Слова у нас, до важного
самого, входят в привычку, ветшают, как платья". Освежим
понятия: "Честолюбие (по С.И. Ожегову) — жажда извест-
ности, почестей, стремление к почетному положению". Ни-
чего, согласитель, плохого. Более подробен в толковании
слова "ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ" Владимир Иванович Даль: "страст-
ный к чинам, отличиям, к славе, похвалам и потому дей-
ствующий не по нравственным убеждениям, а по сим видам".
Орден Красного Знамени № 4, которым наградили Махно
за Мариуполь, батько ни разу не надел и был совершенно
250
искренен, когда сказал, что он воюет не за ордена, а за свободу
и благо народа. Это к вопросу о тщеславии.
Комбриг Махно в начале мая 1919 года явно слишком
много брал на себя, когда отказывался выдать уголь и хлеб
по требованию Киева и Москвы "за так", а требовал в
ультимативной форме взамен оружия и боеприпасов. Будь
он посговорчивей, авось, и обломилось бы чего-нибудь лично
комбригу, "полюбило бы" его высокое начальство. Глядишь,
и маршалом стал бы, как Ворошилов и Буденный, потому
что воевал он не хуже, чем они. Но он был честным человеком
и честным революционером (без кавычек) и не мог пойти на
компромиссы ради личной выгоды, но в ущерб повстанчес-
кому делу. Да, он не был покладистым, потому что отличался
обостренным чувством социальной справедливости и не мог
молчать, когда она попиралась.
Когда в мае 1919 года Реввоенсовет Южного фронта запретил
Махно переформировать разросшуюся Третью бригаду в диви-
зию, Нестор Иванович почувствовал укол самолюбия. Тотчас
же он дал телеграмму штабу фронта, где подчеркнул, что
никогда не добивался более высокого звания и что, оставаясь
честным революционером, заявляет о своей отставке.
Батько обиделся.
Честолюбие ли это? Уже было доказано на деле, что Махно,
ни одного дня не служивший в армии, наделен не только
незаурядной храбростью, но и несомненным военным талан-
том. Он взял Мариуполь и достойно держал фронт против
Деникина. Если же еще и учесть, что доверие повстанцев юга
Украины к батько и его авторитет были беспримерными,
отказ в такой малости, как официальное признание Махно
начдивом, которым он де-факто уже был, и впрямь представ-
лялся нестерпимо оскорбительным.
В упомянутой телеграмме об отставке с поста комбрига
Махно пишет, что в качестве рядового повстанца он принесет
больше пользы. Мог ли он с высоты власти пойти в рядовые?
Сомневаюсь. Стремление первенствовать было в его натуре.
Он родился лидером, это было заложено в его генах.
Ида Метт резонно задается вопросом: "Смог ли бы он
когда-нибудь снова стать "маленьким", никому не известным
человеком?" И сама же отвечает: "Вероятно, он мечтал об
этом, о простой жизни крестьянина, но осуществить эту мечту
было уже, конечно, невозможно".
Невозможно перечислить все ярлыки, которые навешива-
ли на Махно. Его называли и политическим авантюристом,
а то и просто — без эпитетов — авантюристом.
251
Решения Махно — военачальника и политического дея-
теля, как правило отличаются продуманностью, взвешен-
ностью, дальновидностью. Однако нельзя отрицать, что был
он натурой импульсивной, человеком настроения и, случа-
лось, принимал иногда решения под впечатлением минуты.
Давайте все-таки уточним понятия. Нередко общеупотре-
бительные слова, не нуждающиеся, казалось бы, в толкова-
нии, предстают перед нами в неожиданном свете, если не
полениться заглянуть в словарь.
Вот я снимаю с полки "Краткий словарь иностранных
слов" (М., 1984). "Авантюра (от французского "приключе-
ние", "похождение") — рискованное начинание с расчетом
на случайный успех; действие, предпринимаемое без учета
реальных сил и обстановки и обреченное на неудачу".
Мне сразу вспоминается бой в Большой Михайловне (Диб-
ровке), после которого Махно получил от людей звание
"батьки". У него была горсточка бойцов против целого ба-
тальона регулярной австро-венгерской армии. Махно действо-
вал, не учитывая реальное соотношение сил? Учитывал,
отлично знал, что оно не в его пользу. И победил. И это
называют подвигом. Если бы потерпел неудачу — назвали
бы бой в Диброке авантюрой. Так получается?
А подняться на борьбу с оккупационной армией, тысяче-
кратно превосходящую крошечный партизанский отряд, —
это что, реальная оценка соотношения сил? Но Махно ре-
шился — и победил. И стал в глазах народа, которому, между
прочим, пришлось платить большой кровью мстившим за
действия партизан карателям-оккупантам, героем, защитни-
ком. Но давайте еще раз заглянем в словарь: "Авантюризм —
склонность к авантюрам; безрассудность, беспринципная рис-
кованность какой-либо деятельности, поступков".
Вступить в единоборство с мощной армий оккупантов,
располагая крошечными силами, — это, конечно, безрас-
судство, "безумство храбрых". Но у кого же повернется
язык назвать авантюристами храбрецов, поднявшихся на
борьбу и готовых отдать жизнь, чтобы их народ не был
рабом?
Была ли безрассудность в некоторых поступках Махно?
Несомненно. Примеров можно привести множество.
Помните, как в финале своей свадьбы с Галиной Андре-
евной в Песчаном Броде батько увлек крестьян на станцию
Помощную, где стояли красные. Налет оказался удачным,
были взяты богатые трофеи. А ведь могло случиться и иначе:
решение было принято под пьяную руку, какие у красных
силы, никто толком и не знал.
252
Мемуаристы свидетельствуют, что махновцы, случалось,
ввязывались в бой "экспромтом", под влиянием минутного
настроения, не имея предварительных разведданных, на-
рывались на сильный отпор и отступали, понеся большие
потери.
А вот свидетельство Зиновия Арбатова (дело было во время
шестинедельной "вольной республики" в Екатеринославе):
"Иногда ночью разгулявшийся Махно открывал по правому
берегу Днепра артиллерийский огонь, и тогда в ужасе и
неописуемом страхе раздетые люди, матери, хватавшие из
кроваток спящих детей, падая и разбиваясь на темных
лестницах, устремлялись в погреба, так как добровольцы
тотчас же отвечали, посылая в темноту, в густо застроенный
город десятки шестидюймовых снарядов, многим принесшие
неожиданную и страшную смерть...
Открываемая ночью с пьяной шутки Махно орудийная
перестрелка продолжалась без перерыва до утра, а тогда уже
с обеих сторон огонь развивался до максимальной силы".
По пьянке батько еще и не такие чудачества вытворял.
Так, в конце апреля 1919 года он прибыл на станцию
Волноваха в сопровождении нескольких десятков анархистов.
Завязалась нешуточная пьянка, во время которой батькины
попутчики начали подогревать Нестора Ивановича рассказа-
ми о зверствах ЧК, антимахновских выпадах советской
прессы, арестах анархистов и т. п. Изрядно выпивший Махно
тут же распорядился и Виктор Белаш от его имени издал
приказ №18 всем махновским частям на участке Юзовка —
Мариуполь: немедленно разоружить и арестовать всех комис-
саров, все их документы, бумаги и оружие доставить в
Волноваху, а арестованных политкомов оставить пока при
частях "до особого распоряжения".
В тот же день командующий Украинским фронтом Анто-
нов-Овсеенко примчался к Махно и конфликт был улажен.
Но я не уверен, что батько помнил, какой приказ он отдал,
подогретый анархистами и алкоголем. (За обедом он скажет
Антонову-Овсеенко, что водки не пьет и пьянство преследует.
И тот поверит).
Вот что рассказывает С. С. Дыбец: "Несколько раз в городе
(Бердянске — Л. Я.) на митингах выступал Махно. Он не
однажды давал волю языку и изрекал, что коммунистов надо
вырезать. В связи с одной из таких его речей я имел с ним
очень неприятное объяснение. И, может быть, искренне, а
может быть, неискренне на следующий день он сказал мне,
что совсем не помнит, о чем говорил".
Но, как говорится, что у пьяного на языке...
253
Ну хорошо, под влиянием минуты и винных паров случа-
лось принимать безрассудные решения. Но вот решения,
принятые "по размышлении трезвом". "Партизанство" в
Румынии (см. главу "Личный телохранитель"). Отбирали у
румынских крестьян лошадей и угоняли их в горы, как
рассказывает Иван Лепетченко. Уверен, что Махно оправды-
вал это революционной необходимостью. Он собирался под-
нять восстание на Гуцульщине. И в Галиции тоже. Он, не
владевший украинским языком, что лишало его даже малей-
ших шансов на успех в этих местах. Не то что в Буковине и
Галиции, стоило ему переправиться на западный берег
Днепра, как он утрачивал поддержку крестьян: здесь его не
знали, не шли за ним.
А его идея отправиться на помощь Кемалю Ата-Тюрку?
"Чтоб землю крестьянам в Гренаде (то бишь Турции) отдать"?
Он стал человеком войны", "спортсменом войны", который жил
войной и больше ничего, как только воевать, делать не умевший.
Но я мог бы также привести длинный список дальновид-
ных и хорошо продуманных решений Махно, который, не-
смотря ни на что, политическим авантюристом все же не был.
Он был сыном своего времени, когда принимать рискованные
решения было делом обычным и распространенным.
Разве идея ленинского правительства двинуть войска через
Буковину на помощь советской Венгрии не была безрассуд-
ной? Да и само восстание в октябре 1917 года с наполеоновской
фразой Ленина: "Ввяжемся, а там видно будет"? При перво-
начальном неверии в победу: пусть продержимся три дня,
зато войдем в историю. Продержались семь десятилетий с
лишком. И действительно вошли в историю. Причем Ленина
и Троцкого не уголовниками, а великими революционерами
считают. И вполне справедливо.
Да, Махно был сыном своего времени, и на всей его
деятельности лежит печать той эпохи. И хотя Петр Аршинов
написал апологетическую, парадную историю махновского
движения, а ведь в то же время был совершенно прав, когда
утверждал: "Махно совершил неумираемые дела в русской
революции, и история с полным правом отнесет его к числу
выдающихся людей этой революции".
В своих воспоминаниях батько откровенно признавался,
что ему и его товарищам не хватало "культурки": "Наша
группа не имела в своих рядах ни одного теоретически
образованного анархиста. Мы все были крестьяне и рабочие.
Из школ вышли недоучками".
Тем поразительней, что эти "недоучки" — Каретников,
Марченко и другие — оказались как на подбор талантливыми
254
организаторами, храбрыми воинами и выдающимися воен-
ными деятелями, вполне успешно командовавшими дивизи-
ями и даже корпусами. А сам батько вошел в историю как
гений партизанской войны.
Гений? Не слишком ли?
Да, именно гений. Я уже не говорю и поразительном
рейде махновцев по тылам Деникина в 1919-м. Почитайте
документы о последнем акте исторической драмы, известной
под названием "Махновщина", когда Нестор Иванович
вступил в единоборство с государством, располагавшем
многомиллионной армией. Изворотливость, изобретатель-
ность Махно в этих условиях кажется невероятной. Но
события с конца ноября 1920 года, когда большевики,
победив с помощью Повстанческой армии Врангеля, при-
ступили "к окончательному решению" махновского вопроса,
до 28 августа 1921-го, когда батько с горсточкой верных
бойцов переправился на румынскую территорию, зафикси-
рованы документально.
У меня, к сожалению, нет сейчас возможности написать
главу "Конец махновщины", а именно в это время гений
партизанской войны, которым несомненно был наделен Нес-
тор Иванович, проявился особенно ярко. Но приведу оценки,
которые давали Махно-полководцу специалисты, известные
военачальники.
Не знаю, можно ли верить К. В. Герасименко, который
утверждает, будто Я. А. Слащев (по транскрипции БСЭ —
Слащов) заявлял, что хотел бы быть Махно, то есть он, как
я понимаю, завидовал боевой славе и военному таланту
Нестора Ивановича. Но вот что писал этот талантливый
белогвардейский генерал в 1921 году:
"...Махно блестяще сумел воспользоваться пренебрежени-
ем к нему белой ставки главкома и, проявив высокий орга-
низаторский талант, быстро сформировал новые отряды и
стал даже угрожать Таганрогу и Ростову, заставив серьезно
опасаться за целость места расположения главнокомандую-
щего белых. Не успев — ввиду подвоза крупных сил белых
к Ростову и Таганрогу — овладеть местоположением ставки,
Махно снова вернулся в Приднепровскую Украину и, в
буквальном смысле, снова разметал в разные стороны войска
начальника обороны Екатеринослава...
Тут бросается в глаза умение Махно действовать не только
партизанским, но и регулярным способом и быстро форми-
ровать и сколачивать свои части (по мерке гражданской войны
вообще милиционного характера) в хорошие, упорно деру-
щиеся регулярные войска..."
255
В начале 20-х годов в Красной Армии, готовя командир-
ские кадры, изучали полководческое искусство Нестора
Махно. Так, Петроградские командные курсы в брошюре
"Красный командир" поместили статью участника граждан-
ской войны П. Ашахманова "Махно и его тактика". Этот
автор писал:
"Афоризм, что "война не вся еще заключается в книгах,
и в правильно устроенной голове надо отдать предпочтение
перед сильно начиненной", как нельзя более подходит к
командарму "Повстанческой" — Нестору Махно...
Здесь мы несомненно имеем дело с "правильно устроенной
головой", и, — что особенно интересно, — все его тактические
"благоразумные решения" неизбежно подтверждали непре-
ложность и незыблемость основных законов тактики".
П. Ашахманов приводит примеры из практики, убедительно
подтверждающие его выводы.
Из этой работы, вскоре надежно и на долгие годы упря-
танной в спецхраны, хотелось бы выписывать целые страни-
цы, но ограничимся считанными фразами: "Махно отлично
учитывает значение личного обаяния полководца и, не заду-
мываясь, бросает на весы военного равновесия последний
резерв — самого себя. Из всех рискованных положений он
лично выводит свои войска".
"Разведка, связь и охранение отлично налажены в его
армии. Он отлично знает не только наши слабые части, но и
отлично учитывает удельный вес командиров".
"Каждый кустик, каждый бугорок, овражек — все учтено,
все взвешено им".
Не плох Махно и в организации походного движения и
своего тыла. Быстроту разворачивания глубины колонны
движением обоза в четыре ряда компактной массой, окру-
женной кольцом кавалерии. Марш-маневры его поразитель-
ны по быстроте и смелости". "Партизан Махно поистине
отчаянный и предприимчивый".
Поражения от Махно терпели самые прославленные вое-
начальники гражданской войны, но не все в этом признава-
лись. Буденный тоже не раз был бит Нестором Ивановичем.
В своих мемуарах Маршал Советского Союза не мог полностью
скрыть это. Выпишу лишь несколько строчек из "Пройден-
ного пути":
"...Уже почти месяц гонялись мы за Махно, а существен-
ных результатов не достигли. Состояние крайней раздражи-
тельности охватывало меня. В течение десяти дней войска
фронта разгромили многотысячную регулярную армию Вран-
геля с мощным вооружением, а здесь те же части фронта не
256
могут справиться с какой-то бандитской шайкой. Нам было
стыдно смотреть друг на друга, с трудом подходил я к
аппарату, когда вызывал командующий.
Казалось, вот-вот Махно удастся поймать, но вместо по-
бедного рапорта поступали новые неприятные донесения".
С. С. Дыбец, объективности воспоминаний которого я
верю, рассказывает, что у Махно были весьма смутные
представления о реальной экономике, что понятия не имел
о производственных связях, откуда берется сырье и т. п. Он
же, как и другие мемуаристы, изображает Нестора Ивановича
человеком, который не знал, за что боролся.
Проницательней всех, на мой взгляд, оказался Ленин.
Беседуя в 1918 году с Махно в Кремле, он сказал ему:
— Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей
злобы дня.
Ему, Махно, "шкурой" чувствовавшего настроения укра-
инского хлебороба, был свойственен крестьянский практи-
цизм, я бы сказал: прагматизм, хотя более чем уверен, что
батько этого слова ни разу в жизни не только не произнес,
но и не слыхивал.
Именно этот практицизм, крестьянская сметка позволили
ему "своим умом" дойти до мысли о строительстве "социа-
лизма с человеческим лицом" в противовес бесчеловечной
диктатуре пролетариата и военного коммунизма, то есть со
свободой печати, слова, с плюрализмом мнений, с экономи-
ческой свободой. Причем за многие десятилетия до чехосло-
вацких демократов, вождей "пражской весны", высокообра-
зованных интеллектуалов, которым, чтобы прийти к этой
идее, надо было в течение десятилетий познать все прелести
"реального социализма".
Читая в наши дни воспоминания Нестора Ивановича,
поражаюсь проницательности его, заметившего в свое время,
что "совершая революцию и умирая за нее, они ("широкие
трудовые массы" — Л. Я.) прежде всего приносят пользу
политическим партиям". Как актуально звучит эта мысль
сегодня, а он это понял уже тогда, на заре октябрьской
революции.
Нет, не так уж прост был вождь крестьянской войны на
Украине, каким его иные изображают.
Суров он был в обращении с людьми. Любил наводить
ужас. Испытывал наслаждение, когда убеждался, что одно
только имя его внушает страх. Это проскользнуло и в его
воспоминания, конечно, помимо воли их автора.
257
Н. Сухогорская, отмечая, что махновская разведка рабо-
тала безукоризненно, пишет: "Махно приказывал своим шпи-
онам что-либо узнать, причем для ободрения обещал: "Не
узнаешь — убью". Коротко и ясно. И убивал, не стеснялся".
Эта мемуаристка относится к батьке недоброжелательно.
Может быть она сгущает краски, рисуя суровость Махно?
Вот что рассказывает С.С. Дыбец. Сдавая Степана Семе-
новича под арест, Махно наказывает коменданту:
— Чтобы волос с его головы не упад, пока он находится
на территории моих войск. Я тебя лично застрелю, если с
ним что-нибудь случится. Повтори.
Комендант, заикаясь, повторяет...
Уж коли Н. Сухогорская как мемуаристка заслуживает
доверия, выпишем из ее воспоминаний еще несколько стро-
чек: "Население боялось всех, но больше всего Махно. Все
приходили к нам временно и вскоре уходили, а Махно всегда
возвращался злой и мстительный. В мести махновцы были
страшны. У нас во дворе расстреляли молодую крестьянскую
девушку, посмевшую говорить с красными, когда те стояли
в селе. О доносе и говорить нечего. Одно подозрение, даже
ни на чем серьезном не основанное, грозило пытками и
смертью. Махно говорил: "Один донесет — квартал вырежу".
И это были не только слова..."
И этот человек был народным любимцем?
"За один неодобрительный отзыв о Махно при кресть-
янине-махновце можно было ждать смерти" (К. В. Гераси-
менко). Вот что докладывал политический инспектор 1-й
Заднепровской дивизии 17 марта 1919 года: "Все тянутся
к Махно, популярность которого невероятна". ВУЧК док-
ладывало правительству Украины, что неуловимость бать-
ки "объясняется не столько гениальностью Махно, сколько
поддержкой той деревни, среди которой он разгуливает со
своей бандой". О популярности Махно в ЦК КП(б)У сооб-
щали и многие рядовые коммунисты, направленные для
работы в деревне.
Повстанцы нередко шли на самопожертвование, чтобы
спасти жизнь батьки. Уже упоминавшийся в этой книге
Алексей Самойлович Яроцкий рассказал мне, как 28 августа
1921 года группа матросов, оставшихся у пулеметов, чтобы
прикрыть уход Махно за Днестр, в Румынию, прощалась с
Нестором Ивановичем:
— Прощай, батько, — говорили они, — Долго не будет на
Украине такого батько. Много лет пройдет, а такого не будет.
Прощай, батько.
Легенда это или факт? Не знаю.
258
Но вот сам Махно рассказывает о случае, когда весной
1921 года он "был в упор пронизан большевистской пулей в
бедро через слепую кишку". Истекая кровью, без чувств лежал
он на тачанке, охраняемый Левой Зиньковским. Через три
дня после этого напали на них красные кавалеристы. "Про-
гнав нас, нуждающихся в отдыхе и неспособных на сей день
к бою, верст 25, совсем начали наседать, — пишет Махно в
"Письме к другу". — Что делать? В седло я сесть не могу, я
никак на тачанке не сижу, а лежу и вижу, как сзади в 40—50
саженях идет взаимная неописуемая рубка. Люди наши
умирают только из-за меня, только из-за того, что не хотят
оставить меня. Но в конце концов гибель очевидна и для них
и для меня. Противник численно в 5—6 раз больше и бойцы
его все свежие и свежие подскакивают. Смотрю — ко мне на
тачанку цепляются люйсисты (ручные пулеметчики — Л. Я.),
что были и при тебе возле меня. Их было пять человек под
командой Миши из села Черниговки Бердянского уезда.
Поцепившись, они прощаются со мной и тут же говорят:
"Батько, вы нужны делу нашей крестьянской организации.
Это дело дорого нам. Мы сейчас умрем, но смертью своей
спасем вас и всех, кто верен вам и вас бережет; не забудьте
передать нашим родителям об этом. Кто-то из них меня
поцеловал, и я больше никого из них возле себя не видел...
Я слыхал только пулеметный треск и взрывы бомб, то
люйсисты преграждали путь большевикам. За это время мы
уехали версты 3—4, и перебрались через речонку. А люйсисты
там умерли.
После мы заезжали на это место и крестьяне села Старо-
дубовки Мариупольского уезда показали нам в поле могилку,
в которой они, крестьяне, похоронили наших люйсистов. И
по сию пору, вспоминая этих простых честных крестьян
борцов, я не могу удержаться от слез".
Такие подвиги самопожертвования не совершают из стра-
ха. Так поступают только из любви.
Почему же крестьяне Приазовья и юга Украины так
тянулись к Махно, так любили его, верили ему? Ответ один:
потому что он был их защитником, поистине народным
заступником. А так как ни одна сила, боровшаяся в то время
за власть, не могла существовать, не снабжаясь за счет
крестьян, то есть не грабя и обирая их, то Нестор Махно
воевал практически со всеми, кто действовал тогда на Укра-
ине, — от иноземных оккупантов до большевиков.
Вот почему крестьянские сходы единодушно принимали
такого рода резолюции: "Только батько Махно и его армия
могут установить настоящую справедливую жизнь и уничто-
259
жить всех врагов крестьян; поэтому все честные селяне
должны идти в армию Махно, посылать сыновей, оказывать
помощь продовольствием, лошадьми и всем, что потребно
храбрым повстанцам".
Думаю, что эта беспримерная любовь крестьян юга Укра-
ины к Махно, любовь, прощавшая кумиру и жестокость, и
мстительность, и пьянство и прочие "шероховатости" его
характера и натуры, должны были отразиться в устном
народном творчестве. Собиратели такого фольклора нам не-
известны. Не потому ли, что их имена прежде всего узнавали
карательные органы? Думаю, что в этой области еще воз-
можны открытия.
В годы гражданской войны Гуляй-Поле называли Махно-
градом, а район, охваченный крестьянским восстанием, —
Махновией. Это делалось не по указам и декретам — такова
была воля народа. К. В. Герасименко пишет: "Знаменитый
Черный Бор, лес Гаркуши, назван теперь "Гай Батьки Махно ".
А вот свидетельство вполне авторитетного автора — Вла-
димира Войновича. Рассказывая о событиях лета 1941 года,
то есть о том, что было через два десятилетия после того, как
Нестор Иванович покинул пределы родной Украины, он
пишет: "В Запорожье был "самый старый в мире, в Европе
или на Украине (не помню точно, где именно) дуб, который
назывался дубом Махно.
Название пошло от того, что будто бы батько в тревожные
минуты залезал на этот дуб и сквозь бинокль вглядывался,
не подбирается ли к нему исподтишка коварный враг. Все
это, конечно, чистая чепуха, потому что дуб стоит в Дубовой
роще у Днепра. Не знаю, как батько, но я на этот дуб залезал
и могу сказать определенно, что с него ни в бинокль, ни без
бинокля ничего нельзя увидеть, кроме других таких же
дубов".
На страницах этой книги уже возникала аналогия: Пуга-
чев — Махно. Жизнь подсказывает еще одно сопоставление
этих двух исторических имен.
В Центральном государственном историческом архиве в
Москве хранится документ, повествующий о том, что через
много лет после смерти Пугачева, в 1791 году, под Мариупо-
лем был задержан крестьянин, проповедовавший крамольные
идеи. Он утверждал, что Пугачеву удалось избежать казни,
что Емельян Иванович скоро объявится и опять посчитается
с кровопийцами-помещиками.
Давно уже покоился прах Нестора Ивановича на кладбище
Пер-Лашез, у Стены коммунаров, а в народе ходили упорные
260
слухи, что Махно дожил до Великой Отечественной войны и,
находясь в США, хотел помочь СССР медикаментами, но не
смог, потому что Сталин отверг это предложение. (Комин В.
Нестор Махно: Мифы и реальность. М., 1990, с. 75).
Жив, жив был в народной памяти Нестор Иванович. Жив
он и сегодня.
Не успел написать задуманную поэму "Гуляй-Поле" Сергей
Есенин о "Стеньке Разине XX века", как справедливо
называют Махно, писали Владимир Короленко, Алексей
Толстой, Борис Пильняк, Марк Алданов, Владимир Сосюра.
Олесь Гончар назвал его "Шамилем степей". Еще в 20-е годы,
при жизни Нестора Ивановича, появились романы о нем
эмигранта Николаева и французского писателя Ж. Кесселя.
В наше время Ю. Кларов написал роман о махновщине —
"Черный треугольник". В Иерусалиме вышла повесть Давида
Маркиша "Полюшко-поле", а в Оксфорде — солидная моно-
графия .
Сейчас, когда стало возможным сказать о Махно то, что
запрещалось при коммунистическом правлении, о Несторе
Ивановиче не пишет только ленивый. Это — мода, и она
пройдет, как всякая мода. Но в истории останется Нестор
Иванович Махно. Потому что — герой.
Настоящий народный герой.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДОКЛАД ПОЛИТКОМА 3-й БРИГАДЫ
ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ О ПОЛИТИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ЧАСТЕЙ БРИГАДЫ
5 марта 1919 г.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА № 1 3-й Заднепровской совет-
ско-украинской бригады.
Прибыв на место назначения, Гуляй-Поле, в штаб, я увидел
нижеследующую картину. Штаба как такового фактически
не существовало. Было несколько человек во главе с коман-
диром бригады, которые управляли всей бригадой. Отделов
никаких не существовало, ни хозяйственных, ни снабжения,
ни проч. Всеми хозяйственными и прочими делами, кроме
оперативных, ведали полковые и ротные комитеты. Положе-
ний о штатах штаба и руководства также не имелось. В члены
штаба и на должность командного состава существует выбор-
ное начало, все это было в неопределенном хаосе. В настоящее
время выделены заведующие некоторыми отделами, как-то:
финансов, снабжения, которые начинают работать. Но штаб
полностью еще не организован, за отсутствием специалистов
и технических сил не представляется возможности скоро
поставить на правильный путь. Настроение частей превос-
ходное. Всегда замечаются порывы в бой с неприятелем. В
данный момент есть полковые политические комиссары в
трех полках и послано по одному политработнику в полк. Во
всей бригаде нет ни одной коммунистической ячейки. Това-
рищеских судов также нет, не существует. Для борьбы с
дезорганизаторами и другими серьезными явлениями приня-
ты меры, организуется военно-революционный трибунал.
Газеты не ежедневно поступают, литературы и библиотек не
имеется, красноармейцы жаждут газет, литературы как хле-
ба. Митингов среди красноармейцев нашими работниками
пока не устраивалось. К командному составу относятся по-
263
товарищески, не подходящих по их взгляду переизбирают.
В очищенных от неприятеля местах происходили беспорядки,
чинимые несознательными красноармейцами и бандитами,
втесавшимися в Красную Армию. К устранению беспорядков
принимаются серьезные меры, в прифронтовой полосе поло-
жение удовлетворительное. Со стороны неприятеля есть много
перебежчиков, даже с оружием в руках. В занятых местах
организуются революционные комитеты, сельские и воло-
стные Советы, Продовольствие для красноармейцев изыски-
вается большей частью на местах. К Советской власти насе-
ление относится с уважением. Белогвардейцев, петлюров-
цев — ненавидят. Контрреволюционного элемента пока не
замечается. Анархисты и левые эсеры относятся недоброже-
лательно. Формированной мобилизации не было, в армию
много идет добровольцев, но не хватает оружия и обмунди-
рования. Везде при штабах и по некоторым Советам засевшие
анархисты и левые эсеры активно принялись пропагандиро-
вать против Советской власти рабочих, крестьян в лице
Партии большевиков-коммунистов.
5 марта 1919 г. Военно-политический комиссар
3-й бригады (подпись)
ЦГАСА, ф. оп. 1, д. 23, л. 21. Подлинник.
ДОКЛАД МАРИУПОЛЬСКОГО ПАРТКОМА КП(б)У
О ПОВСТАНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ ДЕНИКИНЦЕВ
В МАРИУПОЛЬСКОМ УЕЗДЕ
20 марта 1919 г.
После объявления штабом Добровольческой армии моби-
лизации по Мариупольскому уезду с призывом в ряды армии
подлежащих службе солдат 1917—1918 гг. из незанятых
советскими войсками сел и волостей полетели курьеры в
Мариупольский партийный комитет за инструкциями: как
выйти из создавшегося положения в связи с призывом кресть-
ян в Добровольческую армию, чтобы не подвергнуться реп-
рессиям белой банды. Мариупольский партийный комитет
ответил, чтобы солдат не давать, а если будут присылаться
карательные отряды, то партийный комитет будет заранее
уведомлять то село, куда направится отряд, и советует по
возможности, если найдется у крестьян оружие, соединяться
с ближайшими селами и отбивать наступление карательных
отрядов, а если не хватит сил, то отступать по направлению
к нашим передовым советским войскам.
264
Получив инструкции, курьеры разъехались, а мы, Мари-
упольский партийный комитет, следили за движениями ка-
рательных отрядов и призывниками, являвшимися по моби-
лизации.
Результаты мобилизации были неутешительны для бело-
гвардейцев. До 17 февраля н. ст. явилось не более 500 человек
из двух волостей плюс г. Мариуполь, когда следовало взять
минимум 8 тыс. человек.
После нескольких мелких стычек белых с нежелавшими
являться к призыву крестьянами 1 февраля двинулся кара-
тельный отряд к с. Мангуш. Нами был послан курьер опере-
дить отряд и известить ячейку коммунистов в Мангуше.
По приходе в Мангуш карательного отряда собрали сход,
но солдаты и крестьяне-коммунисты на сход не явились.
Белые потребовали солдат, на что сход ответил: "Солдат не
дадим". Тогда белые заявили: "Подумайте, пока мы съездим
в с. Ялты, и приготовьте солдат, а не дадите добровольно,
возьмем силой и еще призывников за три года: 15-й, 16-й и
17-й". После чего карательный отряд направился в с. Ялта.
Но Мангушская ячейка послала курьера, опередившего отряд
белых и предупредившего Ялтинскую ячейку. Крестьяне,
годные к ношению оружия, сейчас же другим путем вышли
из Ялты и направились к с. Урзуф.
Когда белые пришли в Ялту, они собрали сход, окружили
его цепью и потребовали солдат, им ответили, что солдат
нет — ушли неизвестно куда. Тогда белые, видя, что потер-
пели фиаско, прибегли к жестоким репрессиям. Разграбили
имущество, живой и мертвый инвентарь ушедших крестьян,
вплоть до детских игрушек. Жен й стариков, отцов ушедших
избивали шомполами, допытывались, куда ушли их мужья
и сыновья. Когда солдаты отказались от избиения, офицеры
приняли эту миссию на себя, так что до 25 женщин впали от
побоев в бессознательное состояние.
Быстро организовавшись, несколько сел, как-то: Мангуш,
Урзуф, Новоспасовка, Деревецкая, Ялты и др., окопались
возле Мангуша. Но ввиду своей малочисленности и боязни
быть разбитыми, так как находились в скверных условиях,
выступили под руководством члена уездного Ревкома, все
время находившегося там, и перешли к нашим красным
войскам, стоявшим в селах Андреевка и Ивановка.
Между тем южные села Мариупольского уезда успели
укрепиться, и когда к ним прибыл наш курьер, они заявили,
что уже хорошо сорганизовались и имеют достаточно оружия
и патронов. При наступлении белых с Ялты на Мангуш они
были разбиты южными повстанцами и обращены в бегство,
265
причем повстанцами захвачено несколько винтовок, два пу-
лемета и 50 заложников — офицеров. После этого белые
предприняли вторичное наступление на новообразовавшемся
фронте — Мангуш, Старый Крым и Никольское. Они заняли
было Старый Крым и продвинулись к Никольскому (ныне
пгт. Володарский — Л. Я.), но в это время повстанцы получили
подкрепление, и белые опять потерпели фиаско. Им пришлось
с большими потерями отступить, оставив награбленные обо-
зы, два пулемета и большое количество убитых. С нашей
стороны небольшие потери убитыми и увезено немного про-
довольствия, награбленного в с. Старый Крым. В это время
растянувшийся до Малояниселя фронт связался с красными
советскими войсками.
Ввиду полного восстания сел и окружности Мариуполя
пронесся слух в городе, что возникшее восстание — это работа
Мариупольского партийного комитета коммунистов, после
чего Мариупольской белогвардейской контрразведкой при-
няты были самые решительные меры к розыску такового.
Во время одной из облав была накрыта квартира секретаря
Мариупольского партийного комитета, но благодаря его ге-
ройству он спасся и спас все документы, списки, печать и
партийные материалы при помощи своей сестры, вынесшей
на улицу оставшиеся печать и документы под предлогом, что
идет позвать соседей для присутствия при обыске.
Таким образом, ничего не было найдено, кроме трех
книжек и литературы, карточек Троцкого и Ленина и копи-
ровального листа, посредством которого секретарем редакти-
ровались приказы подрайонным ячейкам, что и послужило
доказательством существовавших организаций, но лица, ра-
ботающие там, остались неизвестными.
Имея на руках такой документ, белые еще пуще стали
производить облавы и аресты, чтобы раскрыть организацию,
но последняя еще глубже забралась в подполье и, не отступая
ни перед какими облавами, продолжает работать и доныне.
"Донецко-Криворожский коммунист", № 17.
20 марта 1919 г.
266
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ
ДИВИЗИИ СОВНАРКОМУ УССР ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
г. МАРИУПОЛЯ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ И ПОБЕДЕ
НАД ДЕНИКИНЦАМИ
2 апреля 1919 г.
Через Екатеринослав (в) Киев Вне очереди
Взятие Мариуполя велось под моим командованием. В боях
отличились 8-й и 9-й полки, артиллерийский дивизион, разбив
наголову противника, захватив богатую военную добычу. Стой-
кость и мужество полков было неописуемое. При наступлении
полки обстреливались со стороны противника и французской
эскадры с 60 орудий. Несмотря на губительный огонь против-
ника, полки шли без выстрела до соприкосновения с против-
ником, после чего под командованием доблестного командира
8-го полка, неоднократно отличавшегося в боях т. Куриленко,
бросились в атаку. Укрепления противника были взяты штур-
мом. Во время штурма мы потеряли 18 убитых, 172 раненых.
Противник опрокинут был в море. Эти славные полки без отдыха
снова перешли в наступление. Прошу награждения 8-го и 9-го
полков, артиллерийского дивизиона особыми красными знаме-
нами и командира 8-го полка т. Куриленко орденом Красного
Знамени. Командиру 9-го полка т. Тахтамышеву и командирам
батарей артиллерийского дивизиона объявить благодарность.
Захвачено более 3,5 млн. пудов угля. Французская эскадра
после предъявленного нами ультиматума спешно покинула
порт. За один день из порта вывезено 300 тыс. пудов угля.
Погрузка угля продолжается. Средства пока отпущены. Из
дивизии требуется срочно комиссия для отправки и распреде-
ления угля. Захвачено два тральщика, которые спешно приво-
дятся в исправность, мной временно назначены на тральщике
старшины, машинисты, трюмные кочегары, сигнальщики, ру-
левые и комендоры, требуются командиры, механики, штур-
ман. При дальнейшем наступлении казаки с оружием в руках
сдаются целыми сотнями. Наши части подошли вплотную к
Таганрогу.
Начдив 1-й Заднепровской ДЫБЕНКО.
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, Д. 115. Лл. 14—19.
267
ИЗ РАПОРТА КОМАНДИРА МАРИУПОЛЬСКОГО
ВОЕННОГО ПОРТА В ШТАБ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА О ЗАНЯТИИ
г. МАРИУПОЛЯ СОВЕТСКИМИ ЧАСТЯМИ,
ДВИЖЕНИИ КРЕСТЬЯН И ВОССТАНИИ
РАБОЧИХ В ТЫЛУ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
Начало апреля 1919 г.
В ночь с 15 на 16 марта (ст.ст.) гарнизон г. Мариуполя
под давлением превосходящих сил неприятеля вынужден был
оставить защищаемый им город и порт. Обстановка, в которой
произошли вышеуказанные события, такова.
Уже задолго до эвакуации Мариуполя, в связи с приказом
Екатеринославского генерал-губернатора о мобилизации, в
уезде вспыхнули беспорядки. Крестьяне не желали давать
солдат и с оружием в руках сопротивлялись отряду Добрар-
мии; в последний месяц перед сдачей город оказался совер-
шенно изолированным от уезда, где движение против моби-
лизации уже приняло организованные формы.
Подвоз продовольствия и фуража прекратился, и продо-
вольственный кризис стал принимать более острый характер.
Гарнизон г. Мариуполя, насчитывавший тогда не больше 700
штыков, и другие незначительные отряды, расположенные
в уезде вдоль линии железных дорог, не могли своевременно
ликвидировать это крестьянское движение. Отряд доброволь-
цев, посланный из Мариуполя на с. Мангуш, 6 марта потерпел
жестокое поражение и потерял две тяжелых гаубицы с
зарядным ящиком, не успев привести их в негодное состояние.
Пока в уезде оперировали восставшие против мобилизации
крестьяне, городу не угрожала серьезная опасность, но вскоре
в этот район подошли регулярные советские войска, и дело
приняло иной оборот. Накоплявшиеся в районе с. Мангуш (в
18 верстах от города) советские части уже приняли участие
в операции против высланного на Мангуш отряда Добрармии
и, энергично преследуя наши отступающие части в течение
нескольких часов, подошли вплотную к Мариуполю. В по-
мощь нашему отступающему отряду были посланы все име-
ющиеся в городе резервы, которые с трудом задержали
268
наступление неприятеля до прибытия отступившего из Вол-
новахи отряда сводно-гвардейского полка полковника Ми-
хайлова. Только тогда, и то с большими усилиями, удалось
сломить это неожиданное и для самого неприятеля наступ-
ление 6 марта. Весть о приближении неприятеля облетела
весь город, и дорога в порт на протяжении семи верст
покрылась вереницей обозов и подвод с бегущими воинскими
частями и мирными обывателями, стремящимися оставить
Мариуполь.
До 14 марта неприятель, охвативший город с трех сторон,
видимо, накапливал силы, и серьезных боев за время с 6-го
до 14-го не происходило. 14 марта со стороны ведущей к
Мариуполю железнодорожной линии неприятель повел энер-
гичное наступление, которому за отсутствием патронов и
снарядов не было оказано должного сопротивления. Восстав-
шее в тылу наших передовых частей рабочее население двух
металлургических заводов оказало неприятелю значитель-
ную поддержку—ими были обстреляны отступающие добро-
вольческие части и ими же в тылу нашего бронированного
поезда "Вперед за родину" был взорван железнодорожный
мост и разобран путь. Поезд пришлось оставить неприятелю,
а персоналу поезда — с большим трудом отступить. К 11
часам утра добровольческие части были вытеснены из города
и отброшены в район порта, который подвергался артилле-
рийскому обстрелу. В порту добровольческие части держались
еще двое суток, после чего на совещании у начальника
гарнизона начальников частей было признано невозможным
дальше вести борьбу, и в ночь с 15 на 16 марта началась
эвакуация гарнизона, которая прошла в полном порядке.
Потери гарнизона в бою 14 марта достигли внушительной
цифры в 250 человек убитыми и ранеными. По сведениям
контрразведки, на стороне неприятеля оперировало два ре-
гулярных советских полка с легкой батареей и бронепоезд
"Матрос". В распоряжении неприятеля были прожектора и
аэроплан, сбрасывавший бомбы...
Инж.-мех., капитан 1-го ранга ИВАНОВ.
ЦГАВМФ, ф. Р-72, д, 69, л. 78. Подлинник.
269
СООБЩЕНИЕ ИЗ МАРИУПОЛЯ
О ВЗЯТИИ ГОРОДА ТРЕТЬЕЙ БРИГАДОЙ
В МАРТЕ 1919 г.
Представитель советской власти Мариуполя докладывал
в наркомвоен:
"19 марта было первое наступление и войска советские
с батько Махно сбили противника в город, после долгой
перестрелки под самым городом отошли, по причинам мне
неизвестным верст на 7—10 от города. Радость была сверх
ожидания, народ сразу воскрес, паника среди добровольцев
ужасная. 25 марта было второе наступление, и 27 марта
город был занят партизанами во главе с батько Махно.
Народ встречал их радостно с приветствиями, в городе
сейчас же был организован комитет подпольной партии
коммунистов-большевиков, Военно-революционный коми-
тет и Комиссариат народной советской милиции. Из всту-
пивших в город войск был 8-й Заднепровский, о других не
знаю. С 27—28 ночью начались грабежи, самочинные
обыски, с которыми ревком был бессилен бороться, не имея
в своем распоряжении вооруженной силы. В грабежах
принимали участие также и солдаты, партизаны бригады
батьки Махно. Кроме того, носились слухи, что по деревням
велась агитация: "Не давайте городу хлеба, пусть накормят
комиссары", — но эти слухи остались непроверенными.
Была разогнана чрезвычайная комиссия и угрожающие
выступления против председателя ревкома за обложение
контрибуцией мариупольской буржуазии в 25000000 руб-
лей.
Лично я вынес впечатление, что, если не принять срочных
мер, то Советской власти на Украине в самом непродолжи-
тельном времени придется иметь серьезную борьбу с батько
Махно, который, из всего видно, старается завоевать симпа-
тию среди крестьян и, оперевшись на них, поведет поход
против Советской власти.
Кроме того, среди бригады усиленное негодование против
еврейского населения и говорят, что с подавлением Дона
примутся за евреев. Солдаты же 1-го Ударного партизанского
полка, прибывшие на Мариупольский фронт из-под Севасто-
270
поля, прямо говорят, что в их принципе не оставлять по
своему пройденному пути немцев-колонистов и евреев".
Цит. по книге В. А. Антонова-Овсеенко "Записки о граж-
данской войне", т. 4, с. 104.
Упомянутый здесь Ударный полк, присланный Дыбенко
из Крыма на помощь Махно, весь разошелся по домам, хотя
на фронте был одним из самых лучших.
ИЗ ДОКЛАДА ВРЕМЕННОГО ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ОБЯЗАННОСТИ ПОЛИТКОМА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ
ДИВИЗИИ О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ЧАСТЯХ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
2 апреля 1919 г.
2-я бригада. Политком т. Кан. Политическое состояние
полков бригады прекрасное, в особенности 4-го и 5-го. В
последних боях под Мариуполем выбыло из строя много
политработников убитыми и ранеными в бою. Политработ-
ники 2-й бригады всегда были на передовой линии. Полит-
ком 4-го полка т. Мартыненко ранен, отправлен на изле-
чение. Вместо Мартыненко назначен т. Васильев. В Мари-
уполе нашей труппой устроен ряд концертов, митингов,
прошедших с громадным подъемом. Повсюду выносились
резолюции о всемерной поддержке Советской власти. В
городе нашей культурно-просветительской комиссией ор-
ганизованы хор и оркестр из местных рабочих.
3-я бригада. Политком т. Ткач. Работа в полках 3-й
бригады очень трудна благодаря сильной агитации анархис-
тов и левых эсеров. Устраиваются митинги нашими полит-
работниками как для красноармейцев, так и для местного
населения. В последнее время крестьяне начинают под вли-
янием пропаганды наших политработников объединяться,
организовываются коммунистические ячейки. Сильное про-
тиводействие оказывают крестьяне из числа зажиточных
кулаков. Войсковые части Гуляйпольского гарнизона также
настроены враждебно против коммунистов и устраиваемых
ими коммунистических ячеек. Все время идут сильные пе-
редвижения войсковых частей, местной роты. Почти все
целиком выступили на фронт с организованной ячейкой. Все
повстанческие войска сильно утомлены, просят отдыха. Боль-
шинство из войсковых частей состоят из повстанцев, среди
которых много беспартийных, а также анархистов и левых
эсеров. В 9-м полку не хватает вооружения и обмундирования.
Из 7-го и 8-го полков сведения поступают очень скудно, так
как эти полки сейчас в бою, и роты и батальоны этих полков
разбросаны по всем местностям Бердянска и Мариуполя...
272
(Текст документа неразборчивый. — Л. Я.) Открываются
школы инструкторов красных офицеров. Политкомом назна-
чен т. Чубенко. Крестьяне жаждут нашей литературы. Ли-
тературы получено один вагон в подарок из Москвы. Не
хватает политработников.
При сем прилагаю дополнительный список политработни-
ков 6-го полка: 1) Медведев Никита, политработник 1-го
батальона, коммунист, в партии с октября 1917 г., в армии
с февраля 1919 г.; 2) Позняков Василий, политработник и
председатель культурно-просветительной комиссии, комму-
нист, в партии с июня 1917 г., в армии с февраля 1919 г.;
3) Белоусов Мефодий, политком 6-го полка, коммунист, в
партии с сентября 1918 г., в армии с ноября 1919 г.; 4) Бубнов
Емельян, врио политкома, коммунист, в партии с ноября
1917 г., в армии с января 1919 г. При полку организована
коммунистическая ячейка, в ячейке 34 человека.
Врио (политкомиссара) 1-й Заднепровской дивизии
(подпись)
Заведующий информационным подотделом БУТАКОВ.
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 5, л. 32. Подлинник.
273
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПОЛИТКОМА
О ПОЛОЖЕНИИ В БРИГАДЕ МАХНО
Довожу до Вашего сведения, что я как политический
работник был послан для работы в 1-ю Заднепровскую диви-
зию, откуда и был направлен в 3-ю бригаду Махно в качестве
политкома одного из полков. Прибыв в Гуляй-Поле в полит-
отдел бригады и в беседе с товарищами, которые уже работали
здесь, я услышал от них, что работа здесь ужасная и с нами
как с политотделом в некоторых случаях уже не хотят
считаться. Да впоследствии я и сам убедился, что здесь нужны
хорошие силы наших работников, чтобы поставить на ноги
работу. Народное достояние растаскивается направо и налево,
говоря, что это отбили все партизаны и только им это
принадлежит. На коммунистов смотрят как на каких-то
предателей с выражением: назначенцы из ЧК.
Когда на фронте требовалось подкрепление, здесь были
собраны люди, которые абсолютно были все пьяны, и то
невежество, которое проделывали руководители этой массы,
невероятно. Абсолютно беспорядочная стрельба, которой
никто не постарался предупредить. Сам Веретенников, кото-
рый именовался якобы начальником штаба или адъютантом,
травил открыто тех заблудшихся крестьян на рабочих, вы-
ражаясь, что они рабочие — лодыри и им не нужно давать
хлеба, а гнать их из деревни. В дальнейшем похвалялся, что
этих назначенцев мы уничтожили или же абсолютно будем
гнать их из деревни, где они только появляются. Эта вся
грязь ложится на тех, кто первый поднял красное знамя с
лозунгом: "Да здравствует Октябрьская революция!" И я
говорю, что таких негодяев мы должны убирать с дороги. Все
я не перечисляю, потому что его слова я сам слышал, в чем
могу всегда подтвердить.
Руководители допускают то, что какая-то кучка ходит по
госпиталям и спрашивает коммунистов-большевиков. В од-
ном из госпиталей был коммунист, и эта кучка узнала, что
он действительно член партии коммунистов-большевиков.
Вытащили его в коридор и начали его избивать. В это время
на это преступление наскакивает заведующий госпиталем,
говоря им, что это делать нельзя, он такой же рабочий,
274
который вернулся недавно с фронта. Видя, что заведующий
помешал их замыслу, они оставили его и сами удалились.
Это подтверждаю тем, что заведующий госпиталем делал
личный доклад политотделу 3-й бригады и просил предупре-
дить эти поступки в дальнейшем. Когда уже нужно было
выехать окончательно людям на фронт, я вышел посмотреть
на эту боевую часть, которая окончательно была в разнуздан-
ном положении. Я здесь же мог слышать выкрики: "Здесь
есть ЧК, которую нужно арестовать и отправить в балку или
яр". В это время ко мне подошел один товарищ и сообщил,
что в степи на окраине села лежит труп еще свежий, у которого
порублена голова шашками, и упомянул дальше, что здесь
это бывает очень часто. И действительно, в политотделе было
известно раньше, что где-то в поле лежит шесть или семь
неизвестно кем убитых. И смотря на эту обстановку дел,
которая сейчас творится в рядах махновщины, этого всегда
можно ожидать, и я говорю, как член партии, что этого мы
не должны допустить. Напрячь силы и в корне разогнать эту
банду, которая засела в Гуляй-Поле, съехавшись со всех
концов Советской России, откуда давно ее прогнали наши
товарищи рабочие и крестьяне.
Докладчик О. ЗЕЛЕНОЕ.
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 6, л. 1. Копия.
275
ДОКЛАД ПОЛИТКОМА 3-го РЕЗЕРВНОГО ПОЛКА В
ПОЛИТОТДЕЛ 2-й АРМИИ О БОЯХ
ПОД НОВОНИКОЛАЕВСКОЙ
22 апреля 1919 г.
1919 г. апреля 5 дня я, Ступаков Михаил, был назначен
политкомом 3-го резервного полка, который был расположен
в г. Мелитополе, 6 апреля с. г. я прибыл в полк, и 6-го была
получена от командующего дивизией т. Дыбенко, чтобы полк
выступил по направлению ст. Волноваха. Я в самом срочном
порядке собрал весь полк и первым долгом объявил красно-
армейцам, что я ваш политком, и стал проводить митинг. Но
когда я проводил митинг, то пришел к заключению, что ни
в коем случае такой полк нельзя посылать на позицию; и
когда я объявил красноармейцам, что во что бы то ни стало
должны выступить на позицию, все красноармейцы едино-
гласно заявили, что мы не пойдем, потому что мы разуты и
половина нас безоружная. И действительно, много было
совершенно босых и плохо вооруженных. Тогда я, Ступаков,
вызвал по прямому проводу начальника штаба т. Сергеева и
обрисовал т. Сергееву настроение красноармейцев и их не-
достатки как в политическом отношении, и также в боевом,
потому что командный состав был не на своем месте и плюс
к тому в полку не было ни одного коммуниста и также
политработника. В заключение всего этого я передал в штаб
дивизии, что полк можно послать не раньше, чем через две
недели. Весь этот разговор т. Сергеев передал т. Дыбенко и
после этого была получена следующая телеграмма: "Высту-
пить в 24 минуты по направлению на ст. Волноваха". Тогда
я принял все усилия, обезоружил 3-ю роту, которая больше
всех агитировала и не хотела идти на фронт. 7-й полк был
погружен в два эшелона и отправлен по месту назначения.
По дороге догнал т. Дыбенко и выдал нам оружие. Оружие
было разных образцов, как-то: берданки со свинцовыми
пулями, австрийские, итальянские и проч. При полку было
три пулемета, которые были неисправны. В полку не было
ни одного телефона и даже телефонной связи. 11 апреля в
селе Слеповка были разбиты 2-й и 3-й батальоны, которые
276
находились под командой т. Шапошникова, пом. командира.
Я с командиром полка т. Киреевым был при 1-м батальоне,
с которым мы направлялись в с. Слеповка, куда были на-
правлены 2-й и 3-й батальоны, только другой дорогой, где
их окружили и разбили. 12 апреля я с 1-м батальоном
выступил в Новониколаевку в 5 часов утра по распоряжению
начальника боевого участка т. Белаша. В 10 часов утра в
Новониколаевке мы были окружены неприятелем со всех
концов, кавалерией и пехотой, при броневом автомобиле,
трехдюймовом орудии и пулеметах, а у нас были берданки и
один испорченный пулемет, из которого не удалось выстре-
лить ни одного патрона. Мне удалось прорваться с несколь-
кими красноармейцами и добраться до ст. Волноваха. По
распоряжению Махно был отправлен с остальными красно-
армейцами на ст. Пологи, (где застал) остатки своих красно-
армейцев в числе 400 человек и по распоряжению политкома
дивизии возвратился в дивизию.
Политком 3-го резервного Советского полка
М. СТУПАКОВ.
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 5, л. 8—9.
Подлинник.
277
РЕЗОЛЮЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
МАРИУПОЛЬСКОГО УЕЗДА О БОРЬБЕ
С БАНДИТИЗМОМ
Уездный чрезвычайный Съезд Советов Мариупольского
уезда, заслушав доклад о борьбе с бандитизмом, устанавли-
вает, что разлившаяся волна бандитизма по уезду дезоргани-
зовала всю советскую работу как в городе, так и в уезде.
Безответственные бандиты во главе с так называемым
батько Махно расхитили и уничтожили те (ничтожные)
продовольственные запасы, которые Советской власти при
помощи крестьянства удалось собрать, и тем самым заставили
рабочих города и Донецкого бассейна и наших беззаветных
красных бойцов голодать.
Убийствами советских работников они нарушили спокой-
ное течение плодотворной работы по охранению народного
здравия, по народному просвещению, по землеустройству и
по охране революционного порядка в деревне.
Прерывая телефонную и телеграфную связь и железнодо-
рожное сообщение по уезду, бандиты, называемые махнов-
цами, тем самым способствовали и способствуют засевшим в
Крыму белогвардейцам и польским панам, содействуют, та-
ким образом, закабалению крестьянства и рабочих.
й в это же самое время, разрушая всю полезную работу
Советской власти, уничтожая все запасы и средства к жизни
и затягивая войну на фронте своей помощью белым, эти
бандитствующие и не желающие подчиниться государствен-
ному порядку элементы все взваливают на голову Советской
власти.
Прикрываясь проповедью идейного анархизма и безвлас-
тия, ничего иного не показала крестьянству, кроме своей
способности грабить, грабить, грабить.
Поэтому съезд, учитывая, что вся работа махновцев ложится
неимоверной тяжестью на плечи крестьянства и рабочих, что
эта работа является тормозом революции, постановляет:
Все честные труженики, крестьяне и рабочие, которым
дороги завоевания революции, должны не только отказаться
от тайного или явного содействия махновцам, но и всемерно
бороться с бандитизмом, как бы он ни назывался.
278
Для этого крестьянство уезда должно:
1) о всех замеченных передвижениях бандитов группами
или частями сообщать ближайшим Советским войсковым
частям;
2) изловить всех одиночных бандитов, которые ждут
только случая, чтобы выкопать винтовку и стать в ряды
махновцев;
3) указывать волисполкому всех, кто скрывает оружие, и
всячески содействовать таковому для изъятия этого оружия;
4) охранять и следить за исправностью телефонной и
телеграфной связи по уезду и за железными дорогами.
Все замеченные попытки к уничтожению телеграфных и
телефонных столбов, проволоки и т. д., а также железнодо-
рожного полотна и железнодорожных сооружений каждый
честный труженик должен пресекать немедленно.
В случае же невозможности без промедления сообщить об
этом властям.
Для точного и неуклонного исполнения этих задач съезд
поручает уездному исполнительному комитету разработать
правила об охране средств связи и дорог, положив в основу
круговую поруку всех крестьян.
Съезд заявляет всем крестьянам уезда, что только общими
усилиями, только тогда, когда каждый крестьянин будет счи-
тать дело охраны порядка в уезде своим собственным делом,
только тогда нам удастся справиться с бандитствующими эле-
ментами и пресечь в корне их разрушительную работу.
Товарищи рабочие и крестьяне, помните, что враг силен
только тогда, когда мы разъединены, когда в нашей среде нет
единодушия. Об стальную же стену объединенных рабочих и
крестьян разобьются в прах все темные силы врагов революции.
Да здравствует единение рабочих и крестьян, направлен-
ных на борьбу с бандитизмом!
Долой грабителей и бандитов, называющих себя махнов-
цами-анархистами!
Смерть всем противникам Советской власти!
Да здравствует Советская власть!
"Известия", орган Мариупольского ревкома и парткома.
№ 101 от 13 июня 1920 г.
* * *
Но в селах Мариупольского уезда, как и во многих местах
юга Украины, пели:
За горами, за долами
Ждет сынов своих давно
Батько храбрый, батько добрый,
Батько мудрый наш — Махно.
279
ПРИКАЗ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
МАРИУПОЛЬСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА ВСЕМ ПОДРАЙОНАМ И ВОЛРЕВКОМАМ
ОТ 25 НОЯБРЯ 1920 г.
Ввиду состоявшегося соглашения между Советской
властью, с одной стороны, и партизанскими отрядами Махно,
с другой, в уезде последними устраиваются сходы и собрания,
где, критикуя Советскую власть, ораторы предлагают не
подчиняться государственным законам Республики, не вы-
полнять продразверстку и не признавать власть Советов.
Такого рода агитация является недопустимой, потому что
контрреволюционеры, шпионы и другие слуги буржуазии от
имени махновцев подготавливают против Советской власти
восстание и хотят создать новый фронт.
Для правильного освещения вопроса о целях и задачах
соглашения Советского правительства с Повстанческой Ар-
мией Махно и поведении анархистов отдел управления при-
казывает соблюдать следующий порядок:
1). Никаких собраний без ведома волревкомов в волости,
подрайкомов в подрайоне и Отдела Управления в городе не
допускать.
2). Устроители митингов и собраний обязаны доводить
каждый раз до сведения указанных выше учреждений с
предоставлением списка официальных ораторов, выступаю-
щих от имени легальных партий. Остальные же ораторы берут
слово в общем порядке и несут ответственность за свои речи
самостоятельно.
3). На всех митингах обязаны присутствовать представи-
тели Советской власти для фиксирования заявлений о не-
правильных действиях комиссаров или уполномоченных Со-
ветской власти. С целью привлечения последних к ответствен-
ности за совершенные преступления, а также для привлече-
ния ораторов к ответственности за ложь и клевету на совет-
ских и партийных работников, если таковая будет иметь
место в выступлениях.
4). Всем инструкторам й членам Ревкома вменяется в
обязанность разъяснять гражданам, что митинги и собрания,
проводимые политическими партиями, даже коммунистиче-
280
ской, не носят законодательный характер, а являются дис-
куссионно-агитационными, а невыполнение существующих
постановлений и распоряжений Советской власти влечет за
собой серьезную ответственность перед законом Республики.
Наблюдение за исполнением данного приказа возлагается
на чрезвычайную комиссию и милицию.
(Запорожский областной госархив. Ф. 1204, оп. 1, д. 2,
л. 76).
ЧАСТЬ 2-я
Всеволод ВИШНЕВСКИЙ
МАХНОВЦЫ
Во втором томе собрания сочинений Всеволода Вишнев-
ского (М., 1954) этот рассказ носит название "Бронепоезд
"Спартак"'. Его текст значительно отличается от первой
публикации, которая состоялась в 1930 году в журнале
"Красная новь" (кн. 9-10). Купюры и исправления были
вызваны тем, что когда автор в 1940 году включал его в
свою книгу, имени П. Е. Дыбенко и других "врагов народа",
к тому времени уже расстрелянных, нельзя было упоминать.
Ниже воспроизводится первоначальный текст рассказа,
опубликованный в "Красной нови" под заголовком "Матро-
сы" с подзаголовком "Второй отрывок из книги "Матросы".
В черновом варианте, хранящемся в Центральном государ-
ственном архиве литературы и искусства в Москве, рассказ
озаглавлен "Махновцы".
— Встать!
— Вста-ать!
И бойцы, повстанцы Украины, третья бригада Заднепров-
ской дивизии, встают. Встают бойцы медленно и грузно, будто
вставанием почитают свою собственную память. Чернозем
Украины висит на ногах бойцов. Ноги огромны и тяжелы.
Как ими идти, как ими ступать по степи Таврии!.. Вот сейчас,
когда...
— Вста-ать!
Встань и ты, если наш. Встань и слушай повелительный
возглас, вскаляющий кровь, — возглас следующий по уставу,
блюдимому нами и в повстанье, за возгласом "Встать!"
А если ты не наш, если ты враг, — присутствуй здесь и
гляди, что произойдет. Гляди, недостреленный! Гляди пока.
Пусть счастье посветит в глазах твоих от того, что ты увидишь
в этот день. Улыбайся, когда услышишь крик: "Предатель-
ство!" И слушай в спрятанном своем радостном трепете, как
заскрипят зубами в этот день... Слушай!
282
Бойцы, повстанцы Украины, встали. И за возгласом
"Встать!" на степь Таврическую лег клич:
— Вперед!
— Вперьод!
Вперед, хлопцы! Вперед, товарищи. С нами! Мы идем в
атаку. Мы идем брать Мариуполь. Сегодня, 24 марта 1919
года.
* * *
Ты был, родной, в атаке? Был? Дай, старый боец, руку на
ходу. Шире шаг! Уже пошли... Идем сегодня снова!
А ты комсомолец? Идем, братишка! Ты много увидишь и
поймешь сегодня...
* * *
По степи Таврической тяжелые ноги пошли. Нет еще
встречных пуль, но сердце бьется неровно. Что будет сегодня,
что будет сегодня?
Город молчит. Море молчит. Только степь гудит. Наши
глотки гудят. В твою славу, за твою жизнь, Украина, гудят
наши глотки, и — пусть! — гудят перед нашей смертью.
Город заговорил. Дывись, Яков Хрущ упал.
— Вбыт. А-ну, ходом!
Дывысь, Украина! Дывысь, партизаны идуть — летом
рвут. Ах, пули бьют, бьют... По наше мясо плачут, кричат.
Чуешь, Украина! Чуешь, маты!
В цепи и матросы, бригаде приданные, летят. Ходом!
Ходом!
Жарко бежать в атаке, тяжело бежать. Двести патронов
на теле, и каждый патрон более пяти золотников. И парти-
заны, ища защиты, бросают глаз, — где наш бронепоезд?
Он идет медленный. Он не стреляет.
— Чого не бьэ?
Пули бьют, бьют... Глухим бы сделаться. Что же броне-
поезд?.. А-ну, не робеть? Швидче! Кто там в землю лезет?..
— Партизаны! Товариство! А ну, разом, а ну, визьмем!
Вперьод!
И, наискось держа винтовки затворами у глаз — хоть одна
бойцу от пули защита! — кидаются партизаны к первым
домам. За вильну Украину!
Палят вражьи выстрелы брови и ресницы, и опять падают
повстанцы. И умирающие дышат кислым запахом бездымного
пороха.
Полегли все. Сливают кровь раненые, и идет от нее пар.
Примолк город. Белые держатся.
И когда примолк, — еще раз рев по его стенам шарахнул.
Виддай Мариуполь!
283
Братки хрипят:
— А ну, дай море!
От бега тяжелых шагов задрожал город.
— Отдай!
— Видда-а-ай!..
Третья бригада дивизии Дыбенко вошла в Мариуполь.
Белых — в пыль. Телеграмму штаб бригады быстро и победно
дал: "Мариуполь занят". И дальше стучат юзы...
— Что будет сегодня! Что будет сегодня!
* * *
И в тот же день, следом за атакой.
Паровоз по рельсам прыгает, мотается, семьдесят верст
в час идет, ветер свистит, рот и нос забивает. Стук на
стыках, как пулеметный, в одно сливается. Рви, ай, рви!
К Азовскому морю три матроса летят в третью бригаду,
чтобы обстановку узнать. Машинист из окошка руку свесил,
на руке стальная цепь — браслет — знак силы и верности.
Машинист свой — с эскадренного миноносца Черноморско-
го флота "Гневный".
Приазовская степь. Таврия. Морем пахнет. Чуют матросы,
ох, чуют, не ошибутся! Море вновь увидят, на море глаз
положат! Дай море, дай!
Дыхание азовское флотские ленточки вьет, распластаны
они по ветру. На тендере матросы, на каменном угле открыто
стоят, качаются, грудями воздух секут. Рви, ай, рви!
Едут матросы на дело, о судьбе голов своих про себя
думают... А ветер бьет, хлещет. Камышом, тиной, рыбой,
солью пахнет. Рви, машинист, прибавь там ходу, —эй!
— Под откосом будем!
— Фактец — буде-ем. Прибавь!
— Есть прибавить!
Смех, ой, смех с такого дела! С такого хода рельсы
разболтать на этой ветке можно. Петрушка выйдет. Но парни
не в шалость ход прибавляют — парни о боевом приказе
думают. Успеть надо.
— Который час?
— Одиннадцать.
— Час имеем.
За Волновахой напрямую к морю вынеслись. Бушлаты
поскидали, к топке кинулись. Лопаты звенят, уголь в рас-
плавку идет, глядеть нельзя. Манометр стоп кричит, парни
уголь в топку садят. Скорее, скорее! Именем морской бригады
путь на Мариуполь для паровоза освобожден. Прямой провод
работает, телеграфисты стучат, как только паровоз мимо
станции прогрохает... Прошел... Прошел... Прошел...
284
Рви, прибавь еще! Осатанели матросы. Машинист на
манометр глядит, кричит:
— Большой кошьмар выйдет!
Ничего не слышат матросы. За руку машинист их хватает,
пальцем тычет — стрелка за красной чертой.
— Кошьмар выйдет!
— А... чтоб ты понял — во!
На манометр бескозырку надели. И не видно, чего там
стрелка беспокоится.
Парни, рви! Дело за дело идет. Свое мясо пожалеете —
беда будет!
Влетели в Мариуполь...
— Который час?
— Одиннадцать часов тридцать пять минут.
Так! С ходу — стоп сделали, на землю спрыгнули. Двое
матросов — по-украински балакают, один — нижегород-
ский.
— Где штаб?
— Ось там.
Летят — шаг в сажень. Часовые стоят, на их поясах рядами
висят немецкие гранаты — деревянными ручками вниз.
Матросы к часовым. Часовые глядят:
— Це ж вы видкиля?
— 3 Александровська...
— Так. А що ж вы з Александровська?
— Трэба.
— А що ж вам трэба?
— А ну что я с тобой буду балачками заниматься! Кличь
товарищей — начальство. Ну!
— А що же я буду клыкать, як воно и само идэ.
Щус подходит, матрос черноморский со "Свободной Рос-
сии", вторая голова повстанья. Венгерка на братке — ярко-
синяя с золотом, фуражка — с ленточками Георгиевской
черноморской и шпалеруха "Стейер" в пол-аршина.
— Здоров.
— Товарищи дорогие! Гостэчки дорогие!
Не знает, как принять, как посадить.
Матросы о командире третьей бригады спрашивают:
— Як батько?
— Батько живэ.
— Ну, и добрэ.
Вежливость сначала. Теперь пора чуть-чуть и к делу:
— Шус, як воюетэ?
— Дзякую, гадов бьемо, аж пыль лэтыть. Зараз бой
хранцюзам даємо... У порту — эскадра...
285
"Мариуполь занят"... Но в порту Французская эскадра.
Не тороплива ли была телеграмма третьей бригады?
Дальше разговор:
— Знаем. С того, друже, и летели сюда. Как там на эскадре?
— Ультиматум — им — с Красной Армией дали, щоб
убырались к боговой матери.
— Так, лихо им в рот!
— Порушимо. В двэнадцять годын по хранцюзам огонь
откроемо з вашего бронепоезда, як з Мариуполя нэ повыка-
тяться. Вы тилько доглядайтэ за бронепоездом. Воны там
аутономыю разводьят... Бис их знае, що воны думають...
Ескадры, мабуть, пугаются...
Бронепоезд "Спартак" — недавно сформирован — по
портовой ветке пошел. Партизаны галдят:
— О, идэ!
Три товарища с паровоза идут на "Спартак". Просят
держаться команду как следует и пакет командиру дают. Три
товарища летели с пакетом, потому что прямые провода в
фронтовом районе — нам не гарантия. Нам не гарантия и
экстерный паровоз, хотя и пронесло его, дошел, успел. Не
гарантия нам и это: с тремя товарищами разное может
случиться. И в Мариуполь вагон начдива Заднепровской
Павла Дыбенко летит.
В 12 часов, в полдень, истекает срок ультиматума, от
имени Красной Армии предъявленного командованию фран-
цузской эскадры: Красная армия требует очистить Мариу-
польский порт. Красная армия требует прекратить погрузку
угля на французские суда. Уголь — достояние Украинской
советской республики.
Ответ гласит:
"Французская республика. Правительству России в свое
время были предоставлены Францией суммы, кои не возме-
щены, и принимаемый по необходимости военного времени
уголь из запасов мариупольского порта является компенса-
цией, получаемой Францией за означенные выше невозме-
щенные суммы, в свое время, как упомянуто и как подчер-
кивается повторно, предоставленные ею правительству Рос-
сии. К сему командующий французской эскадрой.
Рейд Мариупольский. 24 марта 1919 г.".
Ответ на ответ гласит:
"Суммы, упоминаемые командующим французской эскад-
рой, предоставлены были, как то не подлежит оспариванию
ни в каком виде и ни с чьей стороны, правительству царской
России, но не правительству Советской Республики. И потому
за этими суммами надлежит обращаться именно к тому, кто
286
эти суммы получил. Напоминаем свое требование: в 12 часов
сего числа французским судам надлежит сняться с якоря и
покинуть Мариуполь.
Начальник Заднепровской дивизии Украинской
Советской Красной Армии Я. ДЫБЕНКО".
Ответ гласит:
"Французская республика. Доводится до сведения лица,
именующего себя "начальник заднепровской дивизии укра-
инской советской красной армии П. Дыбенко", что погрузка
угля будет продолжаться. К сему предоставленные ею пра-
вительству России. К сему командующий французской эскад-
рой".
"Спартак" стоит. Эскадра в порту. В бинокль видно —
уголь грузит самосильно. А уголь донецкий, знаменитый.
Угля этого в Балтике ждут, угля этого заводские кочегарки
Украины и России ждут!
В двенадцать часов будет решение деда. "Спартак" посту-
пит согласно революционной необходимости. Пакет-приказ
доставлен, Дыбенко тут и три товарища об этом просили. И
обещала команда выполнить.
Щус спросил:
— Ну, як? Выполнят?
— Выполнят.
— Без аутономыи?
— Все будет в порядке.
* * *
На "Спартаке". Часы вынуты. Снаряды из гнезд погреба
вынуты. На случай боя в городе, если будет французский
десант, гранаты ручные вынуты. Пулеметные ленты из ящи-
ков концами вынуты.
У носового орудия матросы стоят. На корабли Франции
смотрят.
— Стоят гады.
Ругаются задумчиво, отвратно и любуются матросы ко-
раблями Франции, глазом по бортам, мачтам и трубам сколь-
зят. Фартовые корабли! дадут залп — боже же мой! —
пропадешь... Мысли сразу являются на этот счет...
— Сколько осталось?
— Без восьми.
Охо-хо!.. Фартовые корабли! А наши — потопленные в
Новороссийске лежат... Ы-ых!.. Стоят французы один-в-
один — миноносцы и транспорты. Горят, блестят — красота,
помереть можно. Комендоры спартаковские тихо на скреще-
ние нитей прицела самую красоту и блеск уже взяли. Взяли
исподтишка. Приходится... Да вот: хорошо, удобно брать
287
прицел, когда у противника блестят корабли, когда спаса-
тельные круги белеют и алеют отчетливо, когда медь горит.
— Ну, как?
— Без семи.
К бронепоезду Щус подходит:
— Здоровэньки були, хлопци!
— Здэрэв, Щус.
Оглядел. Видит — готовятся. Улыбается Щус — боевой
дьявол!
— Гарнэнько. Як там, товарыщки, скильки осталось?
— Пьять минут.
— Поковыряемо! (Видит: лица боем не горят) Хлопци, вы
не боитэсь... Ви ще не бачили, яки ми бои на Украине
приймалы! Потроха хранцюзам пораскидаемо. Никому угля
не дамо. Партазанський уголь. Мы им нагрузимо!
— Щус, дай по банке!
— Могу усю команду угостыть. Тилько постарайтэсь.
Дернули по банке, кишки ожгли. Хорошо!
Балакают со Щусом, на часы поглядывают.
Партизаны берегом вперед выдвигаются — на эскадру
цепью идут. Лихие хлопцы!
Петр Попов к прицелу орудия прилип. Минута осталась.
— Глаз выдавишь, Петро.
— Не бойсь.
Глядит Щус на эскадру. Оценивает. Сам моряк. Петру
Попову командует:
— Наводь на полный!
— Есть.
Коротка минута. Поглядеть и дать приказ, и истекла
минута.
На часах двенадцать.
Полдень!
Полдень!
Корабли французские уголь грузят.
Полдень!
Даже не видно, чтобы на палубах с концами кто вышел.
"Спартак" стоит, не дымит — кочегары дело знают в
совершенстве. Тут за один дымок — с кораблей плевок, и ваших
нет. Действуют поэтому кочегары, как надо. Пропадать неохота.
Из трубы только теплый воздух, а дыму нет. Уметь надо.
Щус командует:
— Хлопцы, а ну, вдартэ!
У-ух, считай остаток жизни, французский адмирал!
Матрос черноморский, рука Повстанья Украины, гнев ее—
огонь с бронепоезда открывает, всей Антанте вызов бросая!
288
— Вдарьтэ, хлопци!
Даже не шевелятся матросы.
— Огонь, кажу, хлопци!
И не глядят матросы.
— Огонь, хлопчики! Патризаны ждуть!
И не глядят матросы. Икает один.
— Що ж вы — не подчиняетесь? А!
— Не кричи. Ша!
Помолчал Щус, и желчь в рот и в сердце пошла.
— Измэна! Пострелять усих. Пьянии?
— Не кричи на ветру. Простудишься.
Щус командира бронепоезда в грудь бьет. Долой такого
командира!
Щус командование берет на себя. Во имя Повстанья! Во
имя вольности Украины!
Щус другого в грудь бьет:
— Кацапы!
Попов от прицела отходит. Щусу нос на сторону делает,
сурик из этого носа молча, неспеша пускает, за волосы держит,
в ухо дает, в морду Щуса, как в бубен бьет, о броняшку
стукает и просит:
— Не авраль.
— А-а-а-а-а-а!
— Не кричи.
— А-а-а-а-а!
— А не кричи.
* * *
Приказ штаба третьей бригады не выполнен матросами.
Ты улыбаешься, враг! Пусть тебе светит сейчас... Ну,
кричи: на командование бригады матросы руку подняли!
Пусть, кричи: предательство!..
В штабе зубами заскрипят.
Кого побили?! Щуса, второго в третьей бригаде, руку
повстанческих сил Украины, побили! И на цепь повстанче-
скую весть бежит... Измена!
Ой, быть человечьей смерти! Ой, быть человечьей смерти!
Гнев качает Щуса...
Матросы разговаривают:
— Выкидай его за борт.
Сбросили.
Потом:
— А-ну, подымись! Подыми головку, скажи "а".
И тут сорвали с фуражки Щуса ленточку. Оскорбили
насмерть.
289
Ой, быть человечьей смерти!..
Щус кровь свою пьет, бежит. Измена!
12 часов 10 минут.
Эскадра стоит. Уголь берет. На ультиматум Красной армии
крест кладет.
* * *
Что делать? Вздымается твоя рука, товарищ. Сейчас —
прикинув — будем действововать.
* * *
Щус в штаб бригады бежит.
— Измена! Продалы!
— Що, дэ?
— Продалы матросы!
На часы смотрите! 12 часов 15 минут. Продали!
12 часов 16 минут.
В штабе бригады решение: диктует командир третьей
бригады Нестор Махно:
— Бросай бригаду на бронепоезд. Давить изменников всих
чисто.
Кричит сигнальщик на "Спартаке":
— Сходни убирают!
— Так!
— К концам идут!
— Так!
Корабли французские покидают порт. Дым стелят черный
и уходят в него. Не видно в завесе дыма кораблей.
* * *
Прикинуть, я говорил, надо. Ведь могут же часы у фран-
цузов отставать или спешить. Бывает же...
Действовать, я говорил...
И спартаковцы тихо и не спеша садятся обедать на
палубе орудийной площадки. Сегодня макароны. Надо
действовать ложками. Ну ж, и макароны наварили, ай,
макароны!
Сели товарищи. Лица их бестревожны. Боем не светят.
Чья-то мысль в эти лица бьет: "Боязливо выждали!"
Не надо, товарищ. Снаружи тебе не видно, не написано,
кто сидит.
Коммунары сидят, военные моряки Волжской военной
флотилии, старые матросы.
Первый: командир Степанов, краснознаменец дважды, ибо
под кожей тужурки грудь с орденом, и его корабль-стороже-
вик "Борец за свободу" имеет флаг с орденом.
Второй: Попов Петр, машинист самостоятельного управ-
ления с краснознаменного корабля "Ваня-коммунист № 5".
290
По требованию необходимости — ныне у орудия. Трижды
ранен, и раны его — из первых ран матросских в революцию.
Третий: Донцов Михаил с краснознаменного военного
корабля "Ваня-коммунист № 5". Будет товарищ убит в бою
Шкуро в июне 1919 года. Отдайте больше, чем он...
Сидят коммунары.
Фыркнул Попов, и макароны фонтаном изо рта вылетели:
— Ой!.. "Наводи, — говорит, — на полный..." Адмирал
Щус...
Ржут парни.
— А Юхименко ударил и кацапом назвал.
— Ну, и кацап! Юхименко, чуешь, ты кацап!
— Го-го-го!
— Пьяны, говорит... Ай, дура! С одной банки — матрос
пьяный?!
Донцов мигает:
— Щус, пожалуй, на тебя обидится, а? Смотри, Петро.
Попов гудит Петру:
— Ну, а что он мне сделает? Не скажет разве завтра "доброе
утро". А? Дела! Ой, братва, макароны, ну, и макароны сегодня!
Шамают товарищи боевые, шамают макароны коммунары.
На эскадру любуются. Ничего эскадра, красивая эскадра
республики Франции. И ход хороший, быстро от берегов
наших смываются.
* * *
Опять мысль чья-то: в чем дело?..
Как же так?
Разберем.
У товарищей боевых глаз веселый — обработали дело. Еще
раз Степанов секретный пакет, с паровоза доставленный тремя
товарищами (двух убьет — один довезет, вот трех и послали),
читают для ориентировки:
"Имея в виду огромное превосходство противника и слож-
ность обстановки, ни в коем случае первым не начинать
артиллерийского боя, ибо в этом случае Красную армию
французское командование обвинит в предательском нападе-
нии и извлечет из этого пользу. Вызвав противника на ответ,
мы поставим Мариуполь в опасное положение, будут напрас-
ные жертвы среди населения, возникнут пожары, и возможно
пострадает и бронепоезд — единственный на участке третьей
бригады. Действовать поэтому осмотрительно, не сообщая о
сей инструкции махновцам, иначе они сами откроют огонь,
и не поддаваясь требованиям махновцев, склонных втяги-
ваться в операции без расчета. Командование рассчитывает
добиться ухода французов мерами переговорными, имея в
291
виду общую обстановку, вынуждающую союзников к отступ-
лению.
В остальном вам надлежит действовать "сообразно обста-
новке". Прочел.
Есть, так держать, товарищ Дыбенко!
Есть, так держать, товарищ Лепетенко!
* * *
Эй, радовавшийся предательству, засох? Гляди, что будет
впереди!
А ты, братишка, понял?
* * *
Ветер спал.
"Спартак" стоит, коммунары макароны убрали.
Доели, отрыгнули, покурили. Жизнь — зачем и помирать!
Команде — по морскому уставу, и в повстанье блюдимо-
му, — иметь время послеобеденного отдыха...
Нежнейше овевает бриз с моря. Нежнейше в тишине
дня гитара заиграла: "Страдание..." Струны источают тон-
чайшее и грустное, сладкую печаль на матросов наводят,
и головы их к броне приклоняются... И кого-то жаль,
кого-то нет, в дали необъяснимые уходят мысли, такие
неясные, неопределенные, — они шевелятся тлеющей
болью...
Кто играет там, гэй?! Чего печаль?!
Играет Петро Попов. Возит с собой гитару, укутанную в
кожаную тужурку, чтобы при стрельбе не побилась. Гитару
возит везде и вынимает, расправив нежный бантик на грифе
ее, когда руки не заняты орудием.
Слабость у вас, товарищ, слабость по мещанской гитарке,
а еще партиец и боевой военмор!
Правда ваша, старый и точный товарищ, что ж делать?—
слабость.
Петро меланхолично уже "Марусэньку" играет. Один
слушает, потом идет под площадку облегчиться и там сидя
слушает, стараясь не шуметь.
Играет Петро. На гитаре бантик нежненький и надпись
трогательная: "От Реввоенсовета Республики. За штурм Ка-
зани 10 сентября 1918. Команде военного корабля "Ваня-ком-
мунист № 5".
Орденов тогда, видите ли, не было, а то имели бы Петро
и матросы другие, — их не один.
Махно и Щус к Дыбенко направляются. В штабной вагон
входят. Щус прикидає: Дыбенко — вин у доску свой, матро-
сяка же ж, партизан украинський, не кацап, вин циим
292
чертовым детьям со "Спартака" даст. Раскоцать цю спарта-
ковську банду трэба... И як их терплят?
—- Дыбенко, добри дэнь!
У Щуся морда, как воздушный шар, и всех цветов.
Дыбенко в усы улыбку прячет.
— Здорово! Как здоровье?
Щус за свое здоровье не говорит. Махно говорит, зубки
оскалил.
— Дыбенко, измена!
— Измэна?
Щус кричит:
— Приказания, мого боевого приказания спартаковцы но
сполнили! Измэна!.. (и тише) мэнэ побылы.
— Разве? Побили тебя, Щус?
— Эге ж.
Махно тайну открывает, совет дает:
-Дыбенко, слухай, пострельять их трэба. Воны ни тэ що
Щуса побьют, воны и табэ и мэнэ побьют.. (Глаз щурит
страшно). Воны игру играють... (шопотом) воны заговор
имэють...
— Заговор? (Глаза блеснули). Меры примем. Спешно.
Гости головами кивают.
У Дыбенко в кармане донесение от "Спартака". Братки —
народ точный: флотская служба такая. Дыбенко все знает. И
сидит окованный высшей необходимостью: делать все, что
надо. И крутит с Махно и Щусом, чтобы не быть обкрученным
ими.
* * *
Слушайте, — если надо для дела, — знаете, на что мы
способны?.. Я много вам скажу теперь, когда стал говорить
книгами, о бойцах первого призыва революции... Я день за
днем Покажу два десятилетия, создавшие нас...
* * *
Крутит Дыбенко:
— Пока ты, товарищ Щус, не трогай спартаковцев...
— Що?
— Пока, говорю, не обижай спартаковцев... (Щус глаза
пучит). А потом мы с ними разом и поговорим. (Встал
грозный). — Добре, бувай здоров.
— Бувайтэ.
И спартаковцы к Дыбенко идут:
— Пал Ефимыч, здравствуйте!
— Чего вы там Щусу морду поковыряли?
— Дело чуть не испортил. Мало-мало чуть сам выстрел не
дал... Ему шваброй палубу тереть, а не командовать.
293
— Ну, ладно, могли бы быть полегче, а то ему и глаза
позакрывало. Опух.
— Ой, бедны-ый... (Смеется Дыбенко) Какие приказа-
ния?
— Держитесь в готовности. Наблюдение за горизонтом.
За махновцами тоже. Еще может и сунутся на нас за Щуса.
(Верно предвидит Дыбенко, сейчас дважды смерть к матросам
подойдет).
— Есть.
* * *
Трое матросов, что из Александровска, до Щуса идут —
в штаб третьей бригады.
— Щус, давай говорить.
— А ыдыть вы, пока я вас всех не пострильял!
Ходит Щус по комнате, морду руками поддерживает.
Кольца на пальцах.
— Та ты не горячись, чудачка ты, Щус.
Щус кольт вынимает, в упор одного бьет, пуля мимо в
стенку идет, матросы к стенке идут, смотрят, хвалят.
— Вот здорово!
— Ой, дирочка!
— Дирочка, как у курочки. (И медленно; так, между
прочим) Щус, ты можьжет, думмаишь, что мы етого деллать
не умееим?
И видит Щус шесть глаз, как шесть смертельных Дыр на
теле своем. Щус тогда садится. Дверь открывается. Махнов-
ский палач входит:
— Чого шумэлы?
— Так.
— Щус, дэ арестованных вэсти?
— Котори направо сидят — постриляй, Костичька; котори
налево — до батька на разборку.
— Добре.
— Потом придешь, доложишь. Костичька.
— Добре.
Вышел.
Матросы опять:
— Щусь, брось, вот взял — в бутылку залез! Брось! Ну,
поспорились — помирились. Эскадра ушла же ж.
— Та ще подивлюсь, як воны мырытьця прийдут... Воны
у менэ сльозамы вмываться будуть! Я им кыпятку в душу
поналываю!
Дверь открылась. Махновский палач вошел:
— Вже. Котри налево були — пострилял, котори напра-
во — построил, до батька вэду.
— Ошибка в тебэ, Костичька, выйшла. Трэба було постри-
лять тих, що направо.
-Он-то ж бис попутал! Ай, и попутал! Ну... Що ж, добре.
Вышел.
Матросы опять:
— Щус, давай по-доброму. Гад будешь — чьто ми на тибе
зло имеем? Та уммирэть на месьте.
Заданное выполняют свято.
— Та и я, мабуть, зла на вас трьох не маю... Тилько ции
спартаковськи камунисти жить не будуть.
Дверь открылась. Махновский палач вошел.
— Вже пидправыл. Котри направо були — пострилял.
— Так. И тих и тих пострилял?
— Эге ж. Вони вси контрикы. И з дочками своими. Воно
и так по карточках выдно.
И два колечка Щусу отдал. Маленькие колечки. На
мизинец не налезут Щусу.
С моря выстрелы. В чем дело? Но со Щусом разговор надо
вести — инструкция о нем говорит, а не о выстрелах.
— Щус, мы до партизан пийдэм, поговорим.
— Идыть, идыть. Як за камуну рот раскроетэ, зараз и
проглотыте свынця. (Спохватился и ласково). Вы, хлопцы,
говорить за анархыу, за мать порьядка. Щоб не было властэй,
ниякого насылля. Костичька, ыди соби, бильши тебья нэ
трэба. (К матросам) Перэходыть, хлопцы, в анархыу, й-бо.
На лицах матросы раздумье изображают. Все нужно уметь.
Палач вышел, и матросы вышли.
На берегу стоят партизаны. Гул идет. Спартаковцев смять
хотят. Без огня французов упустили! Продажа!
Трое матросов до партизан идет, наганов с собой не берут.
— Га-а, кацапня идэ!
Идут матросы. Позамолчали партизаны. Навстречу мат-
росам один пошел. Все на него глядят. Идет, встал близко и
честь неприлично отдал, руку приложив к ширинке. Зарего-
тали партизаны:
— Камуныстам в хронт! Гэй!
Подошли матросы. Один матрос по-русски говорит:
— Товарищи, здравствуйте! Мы расскажем вам...
— Про тэ як Щуса и вбыть хотэли? на партизан пийшлы!..
— Хранцюзам тикать далы! Упустылы!
— Измена!
— У-у, вражья сыла!..
— Товарищи, дайте говорить. Мы вам обрисуем...
— Рисуй жинке по пузу!
— Воду варыть будэтэ? Душа вон!
— Та што там, бэй их!
Один толстый партизан винтовку навел. Из трех матросов
один говорит:
— Стриляй, хлопче! (За ворот свой голубой взялся). И
утопысь в крови моий и товарыщей моих. Хай вона, кровь
моя, тут у моий Марыупольщыни уся выйдэ.
Стоит партизан, на матроса глядит и говорит:
— Хиба ты мариупольский?
— Мариупольскый.
Голос: — Мабуть брэшэт? А ну, перекрэстысь.
— Ни, не перекрэщусь.
— Чого?
— Бог с довольствия в нас снятый.
— Гы-ы!..
Один кричит:
— Хлопци, брэшет матрос, який вин марыупольский!
Другой подходит, в лицо матросу глядит:
— Ни, не брэшет... То Павло, хромого Нечипора сын з
Мангуша. Вин у мого дядька наймытом був...
— А тепэр, дывысь, який цаца.
— Та брось — тож хворма хлоцка...
Тут корабли Франции по берегу страны, войны Фран-
ции не объявлявшей, огонь открыли. По горизонту жел-
тые вспышки прыгнули. На берегу стояло дерево и вы-
соко-высоко в небо ушло, прямо и медленно упало, раз-
билось. Морские орудия и броню рвут, в небо высоко ее
бросая.
Упал еще залп. И в пыль обратился один дом. Партизаны
боевые тикать стали, залегли в канавах. И еще один дом
раскололся...
А что было бы, если бы в 12 часов тронули эскадру Франции
и открыла она огонь в упор?! Ну?
"Спартак" в стороне стоит. Попов на Степанова смотрит.
Степанов на Попова смотрит. Оба машиниста и кочегара
смотрят. Все ясно.
"Спартак" дымить начинает. В небо черный, как тучи
ночные, дым пошел. Кочегар, что делаешь?!
Что делает? Показывает эскадре место "Спартака".
Как?!
Так:
"Спартак" на себя принимает огонь эскадры. В этом есть
революционная необходимость: нельзя допустить истребле-
ния партизан, нельзя допустить гибели рабочей слободки и
пожара угля. Ясно же говорится (и это наш закон всегда):
"действовать строго сообразно обстановке".
296
Матросы у орудий стоят. Стрелять нельзя: 75-миллимет-
ровки не хватают до эскадры. Но под обстрелом стоять можно.
И шире, и выше, и выше черный дым "Спартака".
По горизонту черные вспышки мечутся. И через четыре
минуты первый залп кораблей Франции упал по "Спартаку".
Степанов, Попов и Донцов, когда грохот, гарь, пыль и дым
пронесло, переглянулись без улыбки. Какая улыбка — убить
может сейчас! Какая улыбка — дико сердце стучит! Какая
улыбка — жалобно о себе думает каждый. Какая улыбка, когда
один страх убивает...Но — замечен дым, стреляют по нас.
На сорок три кабельтова подходит французский корабль.
Сорок три кабельтова ставит на диске прицела Попов.
— ... товсь!
— Залп!
Стекла посыпались в домах. Гильза упала. Пороховым
газом пронесло. Гремит на море. Дыханье азовское ленточки
опять вьет, распластаны они по ветру. На палубе "Спартака"
матросы с эскадрой Франции бой ведут.
— Перелет! И лево!
— Сорок два!
Сорок два кабельтова ставит на диске Петро. И десять
делений вправо берет орудие.
— ... товсь!
— Залп!
Опять стекла посыпались. Гильза упала. Опять залп с моря
упал. Дым французского разрыва с дымом "Спартака" сме-
шался. Броня гудит. Кричит наблюдатель:
— А, запарил! Запарил!
Кричат:
— Уткнулся, стоит!
Вторым снарядом подбил "Спартак" корабль Франции.
Спасибо флоту российскому, императорскому за выучку ар-
тиллерийскую! Давай крой дальше, "Спартак"!
— Петро, крестников во Франции завел?
— Го-го!
— ... товсь!
— Залп!
Цел порт, цел уголь, целы партизаны, цел "Спартак".
Повезло 24 марта товарищам боевым.
Повезло?
Расчет, товарищ!
* * *
Ночью пишет один из матросов:
"Командиру бригады бронепоездов т. С. Лепетенко. На то,
что делается в бригаде Махно, необходимо нам обратить самое
297
серьезное внимание. Может, и Антонов-Овсеенку. Те львы
создают угрозу, и свободный дух течет не в тех берегах, не в
том русле, каковое требует жизнь. Свободный дух воспиты-
вают анархические элементы, и бригада в настоящее время
поворачивается, и прочие наши опасности будут "Лилипуты",
ибо тут определенно говорят: "Бить коммунистов". Людей
цокают, хотя бы контрреволюционных, но без суда и след-
ствия, что не соответствует взятому Махно имени-фирме
"Красная армия". Когда мы переговаривались, то в доводы
были против нас со стороны адъютанта Махно стрельба и был
такой же случай через час в одном полку, но остановленный
разъяснением. Герои —бойцы батько Махно — заблуждаются.
Необходимо доказать, что партизаны ослеплены в деле пони-
мания идей революции. Работу таковым курсом ведем и
просим с политотдела литературу. "Спартак" поддерживает
и имел бой с эскадрой, но на провокации не пошел и поэтому
был инцидент с Щусем, несколько потерпевшим. Имеем цель,
как удастся, насчет угля принять меры".
Пишет матрос на палубе. Дыхание азовское ленточки вьет,
распластаны они по ветру.
Ночь спускается, укутывает родную Украину тихо, тихо.
Матросы не спят. Море вновь взято, на море глаз кладут
матросы. Ночной ветер ленточки колышет, у орудий на
броневых рубках матросы вахту несут. Волна рядом плещет,
камышом, тиной, рыбой и солью пахнет. Половина товарищей
уголь грузит, с боем возвращенный. Грузит Харькову, грузит
Питеру. Балтике эшелон угольных пульманов.
Служба родимая! Погрузка угольная!
Ночью телеграмма Дыбенко идет: "Мариуполь занят Крас-
ной армией".
Последние слова — гарантия.
"Спартак" и начдива Дыбенки вагон — Красная армия.
Померкло в глазах твоих, враг.
Ленинград—Кронштадт. Июль 1930.
Примечание: в перепечатке сохранены орфография и пунк-
туация оригинала.
МАРИУПОЛЬСКИЕ СТРАНИЦЫ
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО
О рассказе "Бронепоезд "Спартак"
"В ярком, беспощадном свете дня" нынешнего репутация
классика литературы социалистического реализма Всеволода
Вишневского (1899—1951) выглядит весьма подмоченной.
Одно только его страстное участие в травле Михаила Булгакова
способно вызвать к автору "Оптимистической трагедии" стойкую,
а то и непреодолимую антипатию. Тем более, что в его литера-
турной биографии это не единственный неприглядный факт.
Тем не менее мы не станем, по примеру предыдущей эпохи,
вычеркивать это имя из истории нашей словесности. Перу
Всеволода Вишневского принадлежат многие страницы, прав-
диво и талантливо отразившие события революции и граж-
данской войны. Относится к ним, несомненно, и рассказ
"Бронепоезд "Спартак".
Весной 1919 года прибыл на Украину матросский отряд,
сформированный в Нижнем Новгороде. Воевали в этом отряде
два неразлучных друга: Всеволод Вишневский и Петр Попов.
Оба они попали в Заднепровскую бригаду бронепоездов.
Однако вскоре военная судьба разлучила друзей: Всеволод
стал командиром пулеметной бригады на бронепоезде "Гроз-
ный" и его путь лежал к Киеву, а Петр Попов, командир
орудия на бронепоезде "Спартак", отбыл в Мариуполь.
Впоследствии в брошюре о покорителе Северного полюса
Вишневский напишет: "Весной 1919 года Папанин вступил
добровольцем в Бригаду бронепоездов. Сегодня — под Мари-
уполем, завтра — в Долгинцево, послезавтра — к Щорсу под
Бердичев. Работал и дрался споро, весело".
То же самое Вишневский мог бы написать и о себе.
В одном из боев будущий писатель был ранен, но остался
в строю. Рану надо было лечить, и девятнадцатилетнего
Вишневского против его желания назначили председателем
следственной комиссии при Заднепровской бригаде бронепо-
ездов. "Я приступил к совершенно новой для меня работе, —
вспоминал он позднее. — Миловать не приходилось, действо-
вал я сурово... С 1 мая находились в Алексаядровске. Дей-
ствовали в Пологах, Волновахе, Мариуполе".
"Миловать не приходилось..."
Вишневский пишет об этом не без гордости. Насколько
же иным — зловещим и страшным — смыслом наполнены
сегодня для нас эти слова!
Итак, в 1919 году Всеволод Вишневский воевал на Мари-
упольщине, и когда через шесть лет выйдет его первый
сборник "Между смертями" (1925), там будет опубликован
его "мариупольский" рассказ "1 Мая", посвященный эпизоду
из истории Красной Азовской флотилии.
Но сейчас нас интересует его второй рассказ, написанный
на мариупольском материале.
Он повествует о том, как 1-я Заднепровская дивизия Павла
Дыбенко 27 марта 1919 года (а не 24 марта, как ошибочно
указано в рассказе) штурмом овладела Мариуполем. Но в
порту деникинцы, поддерживаемые французской эскадрой,
продержались еще два дня. В телеграмме Павла Дыбенко
Совнаркому Украины "недоразумения" с интервентами из-
ложены более чем лаконично: "Французская эскадра после
предъявленного нами ультиматума спешно покинула порт".
Под пером писателя две строки из телеграфного боевого
донесения начдива развернулись в обширный рассказ, зани-
мающий во втором томе собрания сочинений Всеволода Виш-
невского 17 страниц.
Когда в Центральном Государственном архиве литературы
и искусства в Москве (ЦГАЛИ) я заказал подготовительные
материалы к рассказу, мне принесли пухлую папку со стран-
ной надписью: не "бронепоезд", а "Броненосец "Спартак".
Чтобы рассказ получился динамичным, достаточно было бы
и одного конфликта, а здесь их несколько: противоречия между
махновской Третьей бригадой и командованием Красной Ар-
мии, между освободителями Мариуполя и французской эскад-
рой, между матросами и повстанцами и т. д. Наиболее вырази-
тельно и драматично столкновение Щуся (так пишется эта
фамилия во всех источниках — Щусь. У Вишневского — Щус)
с командой "Спартака", в частности — с Петром Поповым.
Оба участника этого эпизода — не вымышленные, а
реальные личности. Как, впрочем, и все остальные герои
рассказа, выведенные под их подлинными фамилиями.
В архиве Вишневского, кроме упомянутых мною черно-
виков и подготовительных материалов к рассказу "Мах-
новцы" ("Бронепоезд "Спартак"), познакомился я с папкой
писем Петра Попова к своему другу Володе, как звали на
фронте Всеволода Вишневского. Дружба связывала этих лю-
дей, что называется, до гробовой доски. Писатель обращается
к товарищу своей боевой юности патетически: "Друг и брат
Попов". О конфликте с Щусем Вишневский знал со слов
самого Попова. Работая над рассказом о махновцах и броне-
поезде "Спартак", писатель засыпает вопросами своего друга,
уточняет подробности. Вот строки, извлеченные мной из
папки писем Попова Вишневскому (там хранится 206 листов),
датированные 28 декабря 1928 года: "Володя, хоть ты и
просишь меня написать о себе более подробно, но вот, как
видишь, хоть убей, о себе писать не могу, да как-то не пишется.
Другое дело написать о ком-нибудь, о чем-нибудь... Относи-
тельно "Спартака", его формирования, вооружения и нахож-
дения в боях, а также участия отдельных товарищей и о их
заслугах пишу подробно и материал вышлю дополнительно".
(ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 3041, л. 9 об).
300
Как сложилась судьба этого человека после событий,
описанных в рассказе Всеволода Вишневского?
Через три месяца после инцидента с Щусем Попов стал
членом РКП(б). В мирное время выяснилось, что лихой
"братишечка" времен гражданской войны, кроме как стре-
лять, ничего не умеет. Взяли его на чекистскую работу —
назначили начальником секретной части Наркомсвязи. Затем
под покровительством Ивана Дмитриевича Папанина стал
полярником — был начальником полярной станции на ос-
трове Русский, с тридцать пятого по тридцать седьмой год.
В тридцать седьмом Всеволод Вишневский вступил в пар-
тию — по рекомендации своего боевого друга. В 1939 году
Попов возвращается в Красную Армию, участвует в походе
в Западную Украину и Западную Белоруссию. В последний
раз его имя встречается в 1951 году, когда умер Вишневский.
Попов написал яркие воспоминания о своем друге, они были
опубликованы. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.
Чтобы в полной мере оценить мужество Петра Попова в
мариупольском эпизоде, надо хорошо знать, кто такой был
Щусь. Достаточно сказать, что партизанского стажа у него
было больше, чем у Махно. Не он к Махно, а Нестор Иванович
примкнул к отряду Щуся. Поначалу. Это потом Махно
выдвинулся на первую роль в повстанческом движении.
Вишневский правильно называет Щуся вторым лицом в
Третьей бригаде.
Обратимся к воспоминаниям Степана Семеновича Дыбеца,
записанным, как уже упоминалось, Александром Беком в
середине 30-х годов.
"Здесь, пожалуй, будет уместно вкратце обрисовать Щуся.
Он мечтал быть народным героем. И я с ним познакомился
еще в свою бытность председателем бердянского ревкома. Мы
с ним ехали в автомобиле, когда я впервые выехал на фронт
(в марте 1919 года, когда шло наступление на Мариуполь,
описываемое Всеволодом Вишневским — Л. Я.)... Щусь начал
расписывать свою личность. Был когда-то матросом Балтий-
ского флота и прославился там как непобедимый в спортивной
борьбе. Знает приемы французской борьбы, бокса. Смыслит
и в японском джиу-джитсу. Может собственными руками без
напряжения удушить человека. Язык у того вываливается,
а он давит на горло. Щусь с таким вкусом живописал,
изображал эту операцию, что меня взял ужас. И омерзение.
Носил он, как и Махно, длинные волосы, но черные.
Высокий, здоровый, статный детина. Одевался в какой-то
фантастический костюм: шапочка с пером, бархатная кур-
точка. Сабля, шпоры. На пирах у Махно Щусь сидел, как
301
статуя, и молчал, Он всерьез мечтал, что будет увековечен в
легендах и сказках. Однажды он показал мне стихи какого-то
украинского поэта о том, что батько Щусь один уложил
наповал десять полицейских. Я, по своей бестактности, вы-
смеял и Щуся и стихи. Этого он, очевидно, не забыл. Отряд
его был сугубо бандитский. Конники Щуся без зазрения
грабили, могли тут же и прирезать, и пятки калили горячим
железом".
Теперь представьте себе, какой физической силой должен
был обладать Петр Попов, если он сумел побить "правую руку
повстання".
А вот что пишет В. Руднев в книге "Махновщина" (Харь-
ков, 1928):
"Щусь направился в немецкую колонию наложить кон-
трибуцию 50 тысяч. Собрав деньги, расстрелял без всяких
причин 8 колонистов, причем приказал трупов не убирать.
В эту колонию он явился вторично, собрал огромное коли-
чество людей, велел связать их вместе длинной веревкой и
бить их по головам дубинкой. Оставшихся в живых загнали
в сарай и сожгли".
Таким был командир махновской гвардии — кавалерий-
ского отряда — Федор Щусь, убитый в бою в 1921 году.
В. М. Сорокин передал мне рассказ своего покойного отца,
крестьянина из еврейской колонии Сладководная. Колонисты
пожаловались на бесчинства батьки Щуся.
— Что делать? — ответил им Махно. — Вы, я знаю, грабить
не станете. Но ты, Мойше, ко мне ведь не пойдешь. И ты,
Аврум, не пойдешь. Вот я и воюю с теми, кто ко мне идет.
Такое у меня войско.
Очень похоже на правду.
Но вернемся к рассказу Всеволода Вишневского.
Автор утверждает, что Петр Попов метким выстрелом
подбил один из французских кораблей. Реально ли это? Не
воспользовался ли автор своим правом на художественный
вымысел, чтобы возвеличить своего боевого друга? Ведь
Дыбенко в своей телеграмме ни о каком бое с эскадрой не
упоминает.
Но вот что пишет профессор М. А. Рубач о мариупольском
эпизоде в марте 1919 года: "Меткий огонь советских артил-
леристов вынудил военные корабли спешно покинуть порт".
Значит, бой "Спартака" с эскадрой все-таки был, он не
выдуман писателем.
Таким образом, "Бронепоезд "Спартак" Всеволода Виш-
невского не только яркое художественное произведение, но
и в известном смысле достоверный исторический документ.
302
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
"ОГОНЕК" 20-х ГОДОВ О МАХНО
Небольшую коллекцию огоньковских публикаций о Нес-
торе Ивановиче предоставил в мое распоряжение мариуполь-
ский книголюб Михаил Иванович Тарасенко, за что я выра-
жаю ему сердечную благодарность. Спасибо также мариу-
польскому литератору Георгию Афанасьевичу Оптову, кото-
рый помог мне "добраться" до этих материалов.
Первая из огоньковских публикаций о Махно относится
к 1924 году и рассказывает о суде над ним и его единомыш-
ленниками в Варшаве. Хотя к оценке фактов, изложенных
в этой корреспонденции, следует относиться осторожно — не
все здесь соответствует истине, — этот материал, на мой
взгляд, представляет интерес, тем более, что жизнь и дея-
тельность Махно за рубежом изучена недостаточно.
БАТЬКО МАХНО ПЕРЕД СУДОМ ВАРШАВЫ
От Варшавского корреспондента "Огонька"
Отыскался след Махно...
На скамье подсудимых варшавского окружного суда эк-
зотические гости — страшные герои Гуляй-Поля: сам
Махно — небольшого роста, весь черный, ничего доброго не
сулящие черные злые глаза; его правая рука, атаман "Черная
Хмара" — тип провинциального парикмахера с идеальным
пробором; Домашенко, адъютант Махно — великолепный
образец запорожца XVI века и подруга жизни грозного
батьки — Галина Кузьменко, по виду скромная курсистка в
пенсне — ничего особенного.
Штаб Махно в полном составе.
Дорога Махно в Польшу ведет через Румынию. В 1921 г.
выздоравливающий организм Украины выбрасывает нару-
жу чуждое, зловредное ядро махновской организации. Вы-
битый из Украины Махно, в обществе Своих приближенных,
бежит в Румынию. В апреле 1922 г. Махно совершает
303
последний свой подвиг: в захваченном силой автомобиле
проскакивает румынскую границу и прибывает на террито-
рию Польши.
Ничего удивительного нет в том, что Махно стремился в
Польшу. Тут бывший анархист, впоследствии погромщик и
в конечном итоге профессиональный партизан, надеется най-
ти применение для своих талантов. Но генеральный штаб
польской армии, к которому обратился Махно, не захотел на
этот раз воспользоваться его услугами (Махно называет это
крупной исторической ошибкой). Воспользоваться не им, а
его именем вздумала его охранка для того, чтобы скомпро-
ментировать советское посольство в Варшаве.
* * *
Тяжелые унылые дни проводят в лагере интернированных
в Стржалкове герои Гуляй-Поля. Вождь революционно-пов-
станческой армии махновцев скучает и хандрит. Махно пишет
прошения к Пилсудскому в генштаб и к сейму. Около него
увивается вывезенный им из Румынии "некий агент дефен-
зивы Красновольский", примазавшийся к польской контрраз-
ведке уже с первых дней пребывания в Стржалкове. Красно-
вольский начинает свои таинственные путешествия в Варша-
ву, где в черном кабинете польской дефензивы "первое письмо
Махно к советскому посольству". Неважно, что Красноволь-
ского не принимают в посольстве. Для него и его учителей
вполне достаточно, что Красновольский побывал только в
здании посольства. Он едет обратно в лагерь уже с "устным
ответом" сотрудника советского посольства Максимовича. В
лагере он излагает письменно ответ Максимовича, который не
предназначен для Махно, а для польской дефензивы, которая
"перехватывает" его. Нити восстания в Восточной Галиции
затягиваются вокруг Махно и помимо него. Красновольский
чаще едет туда и обратно. Наконец в советском посольстве
лопнуло терпение, ибо; Красновольский там уже давно дешиф-
рован, выражаясь техническим языком контрразведки. Крас-
новольского арестовывают в посольстве и препровождают в
полицию, после чего следуют ноты протеста советского прави-
тельства с жалобами на польскую дефензиву, которая беспрес-
танно и безуспешно пытается провоцировать посольство.
Казалось бы, что после срыва провокации процесс замер.
Но, по-видимому, польские власти не прекратили, а лишь
отложили процесс до лучших времен, предварительно посадив
Махно с его штабом в Мокотовскую тюрьму.
Такая картина нудно и медленно выясняется на процессе.
Белыми нитками шитое "дело Махно" проваливается окон-
304
чательно в зале суда на Медовой улице. Справедливость
торжествует, и Махно оправдан.
* * *
Махно и его товарищи на скамье подсудимых теряют весь
свой блеск. В зале варшавского окружного суда как-то раз-
веялась легенда, окружающая их имена. Махно, отвечающий
под диктовку адвокатов в визитках, Махно более чем смир-
ный, научившийся говорить "о чувствах, которые он питает
и всегда питал к братскому славянскому народу", батько,
обиженный на второе отделение польского генерального шта-
ба, допустившего "историческую ошибку", не пожелавши
воспользоваться предложениями анархиста, Махно не стра-
шен, несмотря на то, что он говорит о себе не иначе, как в
третьем лице: вождь революционно-повстанческой армии
махновцев, движение Махно и т. д.
Оправданный польским судом, улыбающийся Махно ста-
новится уже смешным.
Подсудимые слушают, однако не протестуют. Один лишь
Домашненко, грозно молчаливый, поник головой и думает
про себя тяжелую думу. Может быть, этот правнук славных
запорожцев проклинает свою судьбу, которая приготовила
ему такой неприятный сюрприз, и мечтает о славной смерти,
единственно его достойной... на колу...
Люди сошли на нет. А ведь песни про них слагались.
И. МЕЧИСЛАВСКИЙ
* * *
Одни махноведы утверждают, что Нестор Иванович бежал
из Румынии в Польшу. Другие (В. Н. Волковинский) — что
правительство Румынии позволило ему перебраться туда. По
поводу последнего варианта мы уже высказывали недоумение
(см. главу "Личный телохранитель"). И Мечиславский, пи-
савший, можно сказать, по горячим следам событий, уверяет:
"проскочил" румынско-польскую границу на силой захвачен-
ном автомобиле.
Последнее кажется мне более вероятным, хотя бы потому,
что "автомобиль" нам уже встречался в показаниях Ивана
Лепетченко, данных им мариупольскому следователю НКВД.
Махно его нанял в Бухаресте, чтобы выехать за город, а
потом — вполне возможно — и "конфисковал". Видимо, это
был автобус, потому что в каком же автомобиле могли
разместиться девятнадцать пассажиров: батько, "матерь Га-
лина" и еще семнадцать махновцев.
Далее. Ничего не знаю о роли "провокатора" Красноволь-
ского, но что Нестор Иванович пытался установить связь с
305
советским правительством и предлагал свои услуги по раз-
жиганию крестьянского восстания в Галиции и на Гуцуль-
щине (что угрожало территориальной целостности и Румы-
нии, и Польши) — это факт. Недавно обнаруженные доку-
менты подтверждают, что Галина Андреевна Кузьменко хо-
дила в советское консульство в Варшаве предлагать новый
союз Махно с советским правительством (см. главу "Первая
дама Гуляй-Поля").
И, наконец, последнее. Корреспонденция И. Мечиславско-
го снабжена не только фотографией Красновольского, но и
портретом самого Махно (ныне широко известным). С жур-
нальной страницы смотрит на нас весьма симпатичный мо-
лодой человек в наглухо застегнутой тужурке с отложным
воротником (позднее их называли "сталинками"). Слегка
кверху закрученные усы, коротко состриженные волосы за-
чесаны назад. Глаза я не назвал бы злыми, как это делает
И. Мечиславский, они придают молодому лицу Нестора Ива-
новича выражение решительного, волевого, уверенного в себе
человека.
Второй материал из огоньковской коллекции М. И. Тара-
сенко относится к 1926 году. Мое внимание привлекла в
первую очередь фамилия его автора — Михаил Дымный. Этот
человек в 20-е годы был в Мариуполе собкором газеты
"Коммунист", выходившей в Харькове, тогдашней столице
Украины. В историю нашего города Дымный вошел как
основатель литературного объединения "Звоны Азовья". Ли-
тературный клуб "Азовье", действующий в сегодняшнем
Мариуполе при редакции газеты "Приазовский рабочий",
ведет свое происхождение и "летоисчисление" с основанного
этим известным в свое время журналистом.
В очерке Михаила Дымного "Кто такой Махно?" нет ничего
такого, чего мы не знаем сегодня о махновщине и ее вожде.
Разве что фраза: в Бутырке "ему (Махно) отбили правое
бедро". Так ли это? До сих пор мы знали, что в московской
тюрьме заболевшему туберкулезом Махно вырезали одно
легкое.
Для тех, кто отважится выпустить альбом о Махно и
махновщине (а такая идея, по-моему, носится в воздухе),
очерк М. Дымного интересен своими иллюстрациями. Здесь
и портрет Махно (ныне размноженный в газетах), и фотогра-
фия молодого махновца, имевшего обыкновение спрашивать
у прохожих время и тут же отбирать часы. На снимке грудь
этого махновца (прелюбопытнейший типаж) украшена как
боевыми наградами несколькими карманными часами. Ин-
306
тересен также групповой снимок шести махновцев "с оружием
в руках", снявшихся сразу же после налета. В центре —
махновец, растягивающий мехи гармошки.
Но самый большой интерес представляет фотокопия ан-
кеты № 380, собственноручно заполненная Махно 3 ноября
1917 года при поступлении в "профессиональный союз ме-
таллистов, деревообделочников и др. профессий села Гуляй-
Поле и его окрестностей". В графе "возраст": 28 лет, "семейное
положение" — женат, две души. Графа "профессия" осталась
незаполненной.
Наибольший интерес представляет огоньковская публи-
кация 1928 года. Она занимает целую страницу под названием
"Махно в Париже". Большую часть площади этой страницы
занимает статья Льва Никулина, который видел Махно на
вечере советских русских на 16 рю Каде. Там автор статьи
услышал, в частности, обрывок разговора:
— Это, стало быть, когда мы обошли вашу дивизию...
"Я обернулся, — пишет Лев Никулин. — Мягкий высокий
голос, певучий тенорок. Статный русый юноша разговаривал
с низеньким угловатым человеком. Человек этот был одет
так, как одеваются русские за границей, русские, не привык-
шие к газовым печам, к завтракам в двенадцать и обедам в
семь, к французской кухне и легкому климату. На этом
человеке был стандартный готовый костюм из универсального
магазина, красненький галстучек и мягкая рубашка с отлож-
ным воротником. На руке у него было стандартное непромо-
каемое пальтецо и мягкая фетровая шляпа в руке. Усы у
человека были подстрижены, как полагается, как любят
подстригать французские парикмахеры. И все же за двадцать
шагов вы безошибочно угадывали русского. Глубокий шрам
от угла рта до уха пересекал угловатое лицо. Шрам от удара
саблей или плетью. Человек этот явно хромал. У него были
бегающие, внимательные, колючие глаза.
— Да, пишут про меня хлопцы, зарабатывают на мне... А
вот я сам напишу.
(...) Хромающий человек со шрамом, смущенно улыбаясь,
пробирался в толпе к выходу. Он надел серую фетровую
шляпу, подождал своего спутника и вышел.
Этот человек был Нестор Иванович Махно".
Позднее Лев Никулин несколько отредактировал свои
впечатления от встречи с Махно в Париже:
"Все на нем выглядело как на заброшенном в Париж белом
эмигранте: серый выцветший костюм-тройка из универсаль-
ного магазина, вишнево-красный галстучек, пальто-дожде-
307
вик с пропотевшим воротником и помятая фетровая шляпа. Он
был подстрижен ежиком. Глубокий шрам пересекал его лицо
справа ото рта до уха. Он слегка хромал, временами тревожно
озирался вокруг. Говорил теноровым певучим голосом.
Как это ни странно, мечтал о возвращении на родину..."
На этой же журнальной странице информация "На родине
батьки Махно". Вот ее полный текст:
"В Гуляй-Поле, на родине Нестора Махно, до сих пор еще
жива память о жутких и буйных днях "батьківской" воль-
ницы. Любой местный житель в беседе с вами может много
рассказать о махновщине и о батьке. Вы узнаете, что крохот-
ный заштатный городок Гуляй-Поле был во время владыче-
ства Махно центром анархистских и лево-эсеровских сил
большей части Украины. Тогда Гуляй-Поле было "Махно-
градом", своеобразной "столицей". С 1921 года Махно за
границей и, по всей вероятности, уже привык к европейской
обстановке. Многие его сподвижники, осознав свои ошибки,
вернулись недавно с разрешения советского правительства
домой и занялись сельским хозяйством. Тут и Иван Лепетченко,
бывший адъютант батьки, а ныне продавец мороженого.
Где Махно сейчас? Об этом, — правда, с большой неохотой, —
рассказывают близкие родственники Махно, оставшиеся в
Гуляй-Поле. Братья были расстреляны немцами и белыми.
"Батько" мало связан со своими родственниками, но недавно
он решил напомнить о себе и прислал письмо с фотографией.
Племянник Махно — Иван — рассказал, что Нестор Махно
сейчас в Париже и работает там в редакции анархистской
газеты. Вместе с письмом был получен и один экземпляр этой
газеты. На фотографии, присланной с письмом, Махно снят
с дочерью, родившейся уже за границей. Этот политический
авантюрист, переменчивый и коварный, наводивший некогда
страх и ужас на весь юг, приобрел сейчас довольно мирный вид.
Кто бы подумал, взглянув на фотографию, что это тот самый
Махно, который прогремел буйством своих поистине печенеж-
ских набегов и головокружительных кровавых налетов".
Тут же воспроизводится автограф батько на обороте фо-
тографии: "На добрую память невестке Варваре (фамилия, а
может быть, отчество неразборчиво) и деткам ее — нашим
друзьям. Нестор (точка). Махно".
Опубликован и сам снимок: Нестор Иванович что-то пишет
за столиком с инкрустациями. Рядом с ним внимательно
смотрит в объектив девочка лет пяти, очень похожая на
Махно. О судьбе этой девочки мы рассказали в главе "Един-
ственная дочь Нестора Ивановича".
308
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
ОБВИНЯЕМОГО БЕЛАША ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА
28 декабря 1937 г. гор. Краснодар
рождения 1893 года, уроженец села
Ново-Спасовки, Бердянского района,
Днепропетровской области, УССР, гра-
мотный, беспартийный, украинец, граж-
данин СССР, бывший начштаба банды
Махно, судим по ст. 58-4 УК на три года
в 1924 году. Перед арестом работал при
мастерской союза охотников гор. Красно-
дара.
На путь контрреволюционной деятельности против Совет-
ской власти я стал с 1919 года. Я участвовал в набатовском
и махновском движении. В последнем был начальником
штаба. В 1921 году в сентябре был арестован Соввластью. В
1924 году досрочно был освобожден из ссылки. Возвратясь
из ссылки и будучи в ссылке, я не порывал связей с анар-
хистами до последнего дня. Так, в 1924 году в г. Харькове
за участие в контрреволюционной работе анархистов, выра-
зившейся на целом ряде заводов в забастовках (3-д ВЭК,
паровозный, депо) в попытке овладеть профсоюзными орга-
низациями "итальянки", пропаганда синдикалистских идей,
переход предприятий в рабочие синдикаты, организация
подпольной печати, увязка этой работы федерации с анархо-
эмигрантами ВОЛИНЫМ, АРШИНОВЫМ, МРАЧНЫМ,
МАХНО и проч. и проч. и, наконец, организации, вернее
воскрешения принципов и идей "Набата", т. е. организации
разрозненных анархистов в одно целое "Набата". В ряде
заводов были люди: ДОЛИНСКИЙ Ефим вел работу на заводе
ВЭКа, кроме него там был ОВЧИННИКОВ (забыл его имя и
отчество) ныне в Харькове и еще несколько фамилий, которых
не припомню. В паровозном з-де был ХИШНЯК, на южн.
жел. дорогах в Управлении был каторжанин Хижняк (ныне
в Харькове) и Иванов 2-й (тоже в Харькове), в технологиче-
309
ском институте), ВОЛОДАРСКИЙ Саша (ныне в Харькове) и
Борис НЕМЕРИЦКИЙ со своей женой Лидой (ныне в Сим-
ферополе). Кроме того, НЕМЕРИЦКИЙ вел работу среди
служащих центроархива. ЗАХАРОВ Петр Порфирович вел
работу среди артелей (кустарных) и служил в Правлении
промысловой Кооперации (ныне вероятно, вернулся из Ар-
хангельска с ссылки в Харьков). Во всей работе ЗАХАРОВУ
помогал ЦЕННИК Григорий, как по части разложения со-
ветской кооперации, так же по части самостоятельной работы
в Коммунхозе, где он работал электротехником. РЕЙДМАН
Юда, работая в типографии, кроме того, что вел анархическую
работу по вербовке, старался создать свою нелегальную ти-
пографию. Каторжанин АВЕНИР тогда работал вожатым на
трамвае и проводил работу среди рабочих и служащих дороги.
В основном группа имела некоторый успех в части забас-
товок и срыва норм выработки, лучше обстояло дело с
вербовкой молодежи и старых рабочих. С типографией дело
обстояло хуже, ее не успели организовать, а РЕЙДМАН не
справился со своей задачей, не достал шрифт. Потуги выпус-
тить листовку общего характера и другую в части поддержа-
ния "рабочей оппозиции" Шляпникова — остались несбы-
точным желанием. Кроме того, ЗАХАРОВ руководил анар-
хической работой в Курске, где жил и работал его племянник
(ныне не знаю, где он). В целом группа имела нелегальные
связи с заграницей, куда постоянным курьером ездил ПОМЕ-
РАНЕЦ (ныне в Москве). За границу, особенно в Польшу,
посылались информация анархической деятельности самой
группы. В последнем письме, которое было отправлено тогда
(апрель 1924 г.) (мне его читали), в основном было написано,
что группа, не покладая рук, работает по воспитанию молоде-
жи, организует противодействие Советской власти, будит
сознание эмигрантов к той же работе и просили "сколько-
возможно" посылать в Харьков из Берлина и Парижа лите-
ратуры, информации, пропагандировать среди рабочего дви-
жения "Набата", как "единый анархизм". Кроме того,
федерация имела контакт в работе с максималистами (фа-
милии их не помню), с левыми эсерами. Имела связь с
отдельными анархистами Киева (Ольга ТАРАТУТА — ныне
в Москве), которая имела явку на польском кордоне, где-то
в районе Ровно, и через которую шла связь с эмигрантами
(с Одессой, Москвой, Ленинградом, Курском, Воронежем и
другими городами). Это относится к периоду 1924 года. Мне
неизвестно, что получала федерация из-за кордона, но
ЛИПОВЕЦКИЙ и РЕЙДМАН получали из Америки на
работу деньги.
310
Когда я вышел на свободу на поруки 6-ти анархистов —
НЕМЕРИЦКОГО, РЕЙДМАНА, ЦЕННИКА, ДОЛИНСКОГО
и жен НЕМЕРИЦКОЙ и ДОЛИНСКОЙ — федерация не
поручала мне никакой работы, давали отдохнуть после 3,5-
летней сидки. По ее почину, главным образом, по почину
ЗАХАРОВА, ХИЖНЯКА, АВЕРИНА и ЦЕННИКА наме-
чался съезд анархистов (на июль — август 1924 г.) Украины.
К нему федерация приурочивала мое непосредственное учас-
тие. На съезд предполагалось привлечь не только анархистов,
но и попутчиков из махновского лагеря, оставшихся коман-
диров, как-то: Алексея ЧУБЕНКО (ныне в Харькове), Василия
ШАРОВСКОГО (ныне, кажется, в Белой церкви на Киевщине
учительствует), БЕЛОЧУБА из Старого Крыма — под Мариу-
полем, Власа Шаровского (ныне, кажется, на заводе Камен-
ском Днепропетровской области), СПИЛИВОГО (начальник
артиллерии махновщины, ныне, вероятно, в с. Петропавловке
Днепропетровской области (КАРЕТНИКОВА ПАНТЕЛЕЯ)
(ныне, вероятно, в Одессе).
Однако съезду не дано было свершиться. В момент, когда
Харьковская федерация собиралась приглашать, были про-
изведены аресты до 70 человек, окончившиеся тем, что нас,
шесть человек: меня, ЛИПОВЕЦКОГО, ДОЛИНСКОГО, НЕ-
МЕРИЦКОГО, РЕЙДМАНА и ВОЛОДАРСКОГО — отправили
в ссылку, первых со мной в Ташкент на 3 года, а вторых в
Нарымский Край. Остальные оставались в Харькове. После
того федерация проводила начатую работу, но с меньшим
энтузиазмом. Она от поры до времени посылала в ссылку
собранные у рабочих деньги, имела связи с заграницей,
особенно с Варшавой, непосредственно с анархистом ЧЕРНЯ-
КОМ.
Будучи в ташкентской ссылке на мое имя шла незначи-
тельная помощь из Нью-Йорка от анархо-синдикалистов.
Проводилась незначительная с ними переписка, особенно с
Марком Мрачным, который тогда был в Берлине. Получил
под новый год 1925-й открытку из Парижа. Ее содержание
примерно — "С Новым годом тебя, Виктор, и остальных".
Вся открытка была написана именами и фамилиями ВОЛИ-
НА, АРИШКО, НЕСТОР, ГАЛИНА, МРАЧНЫЙ и ряд других.
На эту открытку я не помню, что б отвечал. Ответы были
исключительно бытового характера, так как письма шли
открытой почтой. Против этой почты возражала РЕВЕКА
(ныне в Харькове). Она была сторонницей письма посылать
нелегально через явку на границе Польши Ольги Таратуты,
минуя Харьков, но против этого возражали ДОЛИНСКИЙ,
ЛИПОВЕЦКИЙ и я. Возражал я потому, что подобная кор-
311
респонденция могла легко пройти мимо меня. Однако, не-
смотря на это, РЕВЕКА имела связи с Варшавой, непосред-
ственно, о чем говорил мне Изя Школьников. Эта РЕВЕКА
возбудила против меня подозрение в ренегатстве. К тому
моменту, осенью 1924 года, в Ташкент из Москвы приехали
анархо-индивидуалисты: Марк Нахамкис (брат Стеклова),
Николай и Изя Школьниковы и к этому же моменту Наба-
товская организация Ташкента была арестована и ожидала
отправки в ссылку. Активным организатором Ташкентского
"Набата" была Ревека, ее друг из Москвы (не помню фами-
лию), работавший тогда заместителем главного редактора
Ташкентской газеты, и третий москвич, которого мы уже не
застали в Ташкенте, литератор — фамилии не помню. Они
печатали журнал "Набат", пытались издать газету, вели
агитацию против Советской власти и НЭПа, устраивали,
особенно на жел. дороге и в трамвайном депо итальянские
забастовки. Приехавшие Школьников, Нахамкис и Николай
упорно начали агитировать нас всех начать подпольную
работу путем бегства из ссылки. Ревека особенно против этого
не возражала, но Липовецкий и Долинский категорически
были против. Время затянулось на целый месяц, и был
получен отрицательный ответ. Они же тем временем, уехали,
вначале Николай, а через 2—3 недели Нахамкис, Школьни-
ков оставался в Ташкенте с нами. За год пребывания моего
в Ташкенте я связался со стариком-анархистом, фамилию
которого не помню. Против него особенно восстала Ревека.
Однако он особенно искал со мною встречи, что в основном
дало повод Ревеке заподозрить меня. С этого времени март-
апрель 1925 г. она начала активно предупреждать Липовец-
кого, Долинского, их жен, а также пом. редактора Ташкент-
ской газеты. С этого момента прием меня всеми ими был явно
враждебен, так, например, если остальные вступали со мной
в разговоры и сношения, но не охотны были поддерживать
через меня связи с заграницей, то Ревека была противопо-
ложна. Когда я приходил к ней на квартиру, она оставляла
меня со своим мужем, а сама надутой выходила на улицу.
Объяснения ни к чему не приводили, и было видно, что
реабилитация моя перед ними вещь несбыточная.
Я был досрочно освобожден. Вернулся в Харьков в конце
1925 года, где оставался вплоть до моего выезда в Краснодар,
т. е. до февраля 1934 года.
В течение этого промежутка времени, вплоть до 1931 года,
я вел работу в аппарате Югостали, Стали и Гипроруде среди
служащих и инженеров. Кроме того, по заданию организации,
я два раза выезжал в махновские районы с целью выявить
312
контрреволюционные махновские элементы, особенно коман-
дный состав. В результате этого была нащупана группа
Буданова, которая открыто ставила своей целью в 1927 году
свержения Советской власти на Мариупольщине. Но эта
группа провалилась в своих расчетах, и в Харькове Буданов
и Белочуб были расстреляны, а остальные 7—8 человек
получили по 10 лет. В этот же промежуток времени был
арестован и Пантелей Каретников, который имел уголовную
банду и который изъял махновские ценности. Он был приго-
ворен к высшей мере, но потом это было заменено 10 годами.
Как результат этой поездки был арестован и Иван Лепетченко
за то, что он в Польше посадил в тюрьму анархистов, — ему
дали 10 лет.
В эту поездку я видел много махновцев, как-то: в Гуляй-
Поле братьев Шаровских Власа и Василия, Ивана Лепетченко,
в 1924 году прибывшего из Польши с заданием Махно изъять
его ценности, узнать настроение крестьянства, узнать, кто
остался в живых из махновских командиров, связаться с
ними, подготовить их к подпольной работе. Кроме них, были
у меня — старший брат Лепетченко (не знаю, как его звать),
артиллерийские командиры — одного кличка Явник Кар-
пенко, другого — Каретников Пантелей, а с ним еще один
махновец (фамилию не помню). Они мне устроили хорошую
выпивку. Разговоры их сводились вначале о прошлом мах-
новщины, потом о настоящем. Я имел смелость и задание
говорить откровенно и возмущаться НЭПом, что де-мол при
нем часть населения, особенно стоявшего близко к админис-
тративному управлению, богатеет, а рабочий класс влачит
свое жалкое существование, как и раньше. Разводил среди
них гнусную демагогию, что надо идти в профсоюзный
аппарат, обладать им и, так как там, в Гуляй-Поле, не было
крупных предприятий, то на собственные сбережения рабо-
чих постараться организовать коммуны производственного
характера. Но там, где эти рабочие уже связаны с предпри-
ятиями, там надо, овладев профсоюзным аппаратом, устано-
вить такое положение вещей, при котором производство
должно было давать материальных благ рабочему во много
больше, чем давало государство в виде зарплаты. Эта дема-
гогия была совершенно чужда для Шаровских, Лепетченко-
вых, Карпенка, Василия и Алексея, и других. В основном
вся эта публика занималась собственным хозяйством, которое
было для них наиболее выгодно. Один только Иван Чучко,
бывший помощник Махно, работник кооперации, был скло-
нен меня поддержать и (...) артдивизиона (фамилию забыл),
работавший продавцом в каком-то магазине. Они ухватились
313
за мысль создания артелей и коммун по собственному уставу,
но по форме анархических. Позже я слышал от них (вторая
поездка), что они пытались создать какую-то артель промыс-
ловую, но когда к ним послал союз председателя, они повели
против него борьбу и были исключены из нее. Шаровский
Влас, между прочим, к тому времени имел с/хозяйственную
артель (лже-артель). В ней было вместо 10-ти хозяйств —
всего три. Она имела трактор "фордзон" и отличное хозяйство.
После в эту артель вступил и Василий Шаровский. Наряду с
тем, он был член Гуляй-польского сельсовета, школьный
попечитель, учитель одной средней школы и кандидат
ВКП(б). Однако, это ему не помешало вести анархическую
работу. По его словам, он ее внес в школу, за что вскоре был
выслан и исключен из партии. Он снабжал махновцев всякого
рода документами, особенно по налогу, снимая с кулаков
50% его и перекладая эту часть на бедняцкие хозяйства. О
своей работе он со мною беседовал тогда, и я не отрицаю того,
что поддерживал советом. Вся эта публика очень скучала о
былом махновском, жаловались, что их часто вызывают ГПУ
в Запорожье и отрывает от работы, но ни один не верил в то,
что махновщина рано или поздно при любых обстоятельствах
может быть воскрешена, как массовое движение. С их слов,
население разочаровано в махновщине, и, если бы среди него
появился Махно, оно бы его связало и передало в руки
Советского правосудия. В части того, что эта группа должна
свою работу контактировать исключительно между отдель-
ными махновцами, Шаровский Василий говорил свои убеж-
дения, что ей нужно направить свои усилия и на пополнение
ее молодежью и даже на связи с украинскими шовинистами.
В первой части, как и все остальные, я лично склонялся, но
ко второй — относился отрицательно. Правда, я высказал
свое мнение, что не мешает знать и другие антисоветские
организации, действующие в этом районе, но анархисты
никогда не могут с ними вести контрреволюционную работу
вместе, ибо они тогда перестали бы быть анархистами.
Из дальнейшего должно было вытекать относительно иде-
ологического руководства анархо-махновцами в целом рай-
оне. Этот вопрос тогда не был решен, кому это должно
поручить: Василию Шаровскому или кому другому. Но он
обещал так же, как и Иван Лепетченко, видеть бы ваших
махновцев из других сел и повести с ними на эту тему
разговоры.
В эту же поездку 1927 г. в Новониколаевке Днепропет-
ровской области я виделся с махновцем Чубенко (имя забыл).
Он тогда работал секретарем райисполкома. Был кандидат
314
ВКП. Однако, наряду с руганью Махно, что из-за него и он
терпит от Соввласти некоторые притеснения, он был недово-
лен Советской властью, потому что она не олицетворяла его
личных анархистских убеждений. Например, он очень был
недоволен частыми вызовами его в ГПУ Запорожья, ограни-
чением хозяйственной деятельности зажиточных слоев насе-
ления, высокими налогами и непосильными планами посевов.
Относительно активной работы по воспитанию молодняка в
духе анархизма он сам пропагандировал и, вероятно, вел
подобную работу с местными учителями, но мне фамилий их
не называл и конкретного ничего не сказал. Он тогда в старого
омещанившегося махновца не верил, а глубоко верил в
молодняк, с которого и ковал свои кадры. После того я
согласился с ним и, кроме того, говорил ему, что он должен
уделить еще внимание с/хозяйств, артелям, т. е. постараться
их организовать по принципу анархических коммун, как
пример я указывал на такую артель, кажется, "Авангард" в
Басани Пологовского района Днепропетровской области. Он
обещал это делать. С тех пор я не имел с ним встреч, а на
мои из Харькова письма он не отвечал. От его брата Алексея
Чубенко знаю, что в 1930 году он окончил в Одессе школу
по бухгалтерии и находился в Сталинграде на работе с
профессорским дипломом. О его контрреволюционной работе
по воспитанию молодняка и организации коммун я ничего
после не слышал и не знаю, проводилась ли им эта работа.
Думаю, что проводилась, ибо он сам напрашивался на нее и
не только в одной Ново-Николаевке, но и в целом районе.
В эту же поездку в село Покровское, где мне не удалось,
ввиду отсутствия хорошо знакомых, ничего узнать конкрет-
ного, за исключением разве общего настроения крестьян.
В селе Дибривках я остановился у знакомого махновца,
кронштадца, вернувшегося домой из Финляндии, кажется в
1925 г. Из махновщины он был вырван мобилизацией в
Красную армию в 1920 году и попал в Кронштадт. Фамилию
и имя его не помню. Тогда он был левым эсером. Он обещал
пригласить ко мне махновцев-командиров с анархической
психологией, но, к сожалению, в селе их не было, а после
районирования они жили на хуторах. Обещали ему их зна-
комые, что непременно приедут ко мне, но прошла целая
неделя ожидания, и никто не появлялся. Сам же эсер в
разговоре по эсеровской конкретной работе в Дибривках
говорил, что "надо начинать сначала ", что людей нет, они
запуганы и что главное — это движение обезглавлено, что он
чувствует себя усталым и ничего не делает. Там же в Диб-
ривках были спрятаны Махно ценности, которые к тому
315
времени были изъяты Пантелеем Каретниковым и Николаем
Воробьевым (в настоящее время, кажется, работает в Запо-
рожском НКВД).
В греческом селе, кажется, Керменчик я разыскал мах-
новского командира батальона Мавродия, который в то время
был членом ВКП и работал в Волновахском районе. Лично
его не видел, но видел его брата, который меня узнал. Тогда
среди греков-махновцев шла идеологическая борьба: одна
часть стояла за махновский анархизм, другая — за ВКП.
Победителем оказалась вторая. Этот брат (не помню имени)
Мавродия был на стороне анархии. Он жаловался на НЭП,
что де-мол, при нем богатые хозяйства жиреют, а бедняки
влачат жалкое существование.
Одно время он был в махновском культпроме, который в
то время популяризировал идеи анархических коммун. До
моего приезда он сколотил одну коммуну и начал организацию
другой, жаловался на средства, что негде их брать, а банк не
особенно охотно отпускал кредит. Первая коммуна в долгах
и не сможет помочь второй. Однако она отдала часть лошадей,
перевозочные средства и одну молотилку. Советскую власть
особенно не ругал, так как, по его словам, в Исполкоме никого
чужого не было, были греки, которые, хотя и имели партби-
леты, но были пока в первую очередь греки. С ними он не
был в конфликте. Относительно того, что надо повести более
активную работу среди греческого населения в части пропа-
ганды анархизма и подобных коммун, он воздерживался,
чтобы не ударили его по затылку. В части вербовки своих
сторонников, он заявлял, что все они будут организованы в
производственные коммуны. Относительно школьников, что
среди них надо вести работу, выносил убеждение, что "этот
номер не пройдет, ибо там учителюет бывший командир 9
греческого полка, который стал очень активным членом ВКП.
Этот Мавродий тогда с некоторыми своими приверженцами,
как мне говорил, ставил свою задачу очень широко. Именно,
он увлекался коммунами и обещал создать их во всем гре-
ческом районе, включая Мариупольщину и Павлоградский
уезд. Я целиком его поддерживал и просил держать со мною
связи. Он обещал писать, но не помню, писал ли он или нет.
При моем посещении Гришинского района и Сталино, слы-
шал, что ему удалось организовать такие коммуны в Большом
Янисоле, Старом и Новом Керменчике, Константиновке и
точно не помню села, что в 15—18 верстах на юг от Гришино,
не то Павловка, не то Новопавловка, нашел и остановился у
бывшего коменданта штаба Махно, фамилию не помню,
кажется, Мелешко. Вначале он принял меня с некоторым
316
недоверием, а потом пошел на открытую. С его слов, он со
своим меньшим братом вернулся с Павлоградского ДОПРа и
занят своим хозяйством. Бывшие махновцы потеряли всякую
веру на возврат Махно и окончательно разложились — друг
друга выдают. Но среди них есть некоторые элементы, не
утратившие еще способности на махновскую работу. Он
называл некоторые фамилии, но сейчас я их не припомню.
Среди этой публики не было ни одного способного и грамотного
на культурную работу. Это было и раньше, отчего это село
да и весь район попал под влияние левого эсера, который в
то время выехал куда-то на Дон. Его "корешки", 3—4 человека
(не помню фамилий), были в селе, но как будто не вели
никакой работы. Среди них был учитель. Бывшему коман-
диру я внушал идею организации коммун, но он вначале
брыкался, мотивируя, что он на большом подозрении и что
из этого ничего не выйдет. Зато его меньший брат хватился
за это и обещал повести работу. По силе возможности и он
говорил, что примет в этой работе участие. Главное и тот и
другой обещали мне писать в Харьков, но ни одного письма
я от них не получил.
В ту поездку я посетил село Федоровку, что в 30 верстах
на юг от Г-Поля. Встретился там с бывшим командиром
махновского отряда Подковой, по имени, если не ошибаюсь,
Максим. В то время он был исключен из ВКП и был очень
этим недоволен. Главным образом, он был недоволен местным
исполкомом и Чубарем, который несколько месяцев тому
назад как приезжал к отцу и выступил против махновцев, в
том числе и Подковы как их командира. Судя по рассказам
его, можно было заключить то, что и сам он заключал.
Именно, всякая политика в какой-либо анархической работе,
самой безобидной, хотя бы тех же коммун, обречена на
неудачу. Он был склонен оставить Федоровку и выехать в
Пологи, поступить в депо слесарем, что он вскоре и сделал.
Оставить на свое место в Федоровке кого-либо, с его слов, он
не оставлял, но говорил, что среди воспитанников с/хоз.
школы, которую в свое время закончил Чубарь, есть грамот-
ные люди (фамилии их не называл), с которыми можно
договориться, й они возьмут на себя воспитание анархичес-
кого молодняка. Он обещал меня познакомить с ними и даже
ходил за ними, но они где-то были в районе по какой-то
командировке, кажется, по хлебосдаче. Во всяком случае, он
обещал мне писать и завербовать на пропагандистскую работу
кого-либо из них. После он писал мне в Харьков. Я ему
отвечал, о завербованных ни звука, мотивируя, что он никого
не видел и что ему нельзя появляться в Федоровке и что он
317
на полулегальном положении работает в Пологах. Насколько
помню, он мне говорил, что оставил на своем месте кого-либо
в Федоровке.
В Пологах виделся с Хмарским, который из эсера пере-
красился в члена ВКП и занимал пост председателя профсоюза
этого же жел.-дорожного узла. Построение было половинча-
тое. Лево-эсеровщина еще не совсем вышла из головы, и он
заявлял, что очень трудно ему работать, руководимому двумя
идеологиями. Однако, он прямо заявлял, что намечает по-
мощь некоторым бывшим махновцам, особенно бывш. коман-
диру Пологовского отряда Хижняку (ныне, вероятно, в По-
логах). Эта помощь сводилась к материальной помощи, осо-
бенно в части уменьшения налога, ослабления к ним репрес-
сий со стороны Соввласти, протаскивания их на железную
дорогу, проводить в профсоюз, давать квалификационные
аттестации незаслуженные. Кроме того, он непосредственно
помогал деньгами и продуктами семьям махновцев. Кому
конкретно, он не говорил, но я не помню. Относительно
эсеровской работы он говорил, что нет к тому условий и
отсутствуют кадры и что они перешли к другой практике,
именно, открыто эту работу не вести, а сохранившихся людей
надо влить в ряды ВКП, а там будет потом видно, что делать.
Относительно Хижняка он говорил, что из анархиста он
стал неплохим исполкомовцем и не ведет анархической ра-
боты. Но, между тем, вскоре после того разговора Хижняк
попал в немилость Запорожского исполкома — был снят с
исполкома Полог и собирался организовать в 1930 году
сопротивление раскулачиваемых. Я лично тогда его не видел,
потому что он был в Запорожье на совещании в исполкоме.
Хмарский обещал мне передать ему мое желание завязать с
ним связи, но не знаю, оставлял Пологи, Хмарский тоже
обещал поддерживать со мной переписку, но ни тот, ни другой
ни одного письма не послали. Больше того, я забыл некоторые
фотографии анархистов Гуляй-Поля (периода 1907—1910 го-
дов) и просил его послать их мне, но он так и не послал. И
только когда я был у него вторично через год-полтора, он мне
их отдал, извиняясь, что просто не было времени для ответа.
После Полог я посетил Басаль, что в 20 верстах юго-за-
падней станции Пологи. Там я встретил Логвиненко. Это
командир Басальского махновского отряда 18-ти командных
бригад. В 1919 г. он пару месяцев тому назад, как был выгнан
из Басальского исполкома, где он был председателем. Поэтому
он очень был обижен и зол на Запорожский исполком. Однако
он очень осторожный и прямо поставил передо мной вопрос:
"Кто тебя ко мне послал?" Я ему сказал, что виделся с
318
Мирским и он сказал мне, что ты находишься в Басали.
Приехал я не лично тебя видеть, а хочу посмотреть коммуну
"Авангард". Вышли, и он тогда мне поверил, что именно так.
Пришлось перед ним немного отступить вначале и заявить,
т. е. ответить на его вопрос — "кто сейчас я", что я сейчас
себя считаю на распутье и что единственная моя забота —
собрать материал по махновщине и использовать его для
истории и передачи архиву революции. Но после в разговоре
с ним я склонялся "хаять" некоторые мероприятия Советской
власти, как например не прекращающиеся репрессии над
махновцами, выносил убеждение, что нет возможности про-
водить какую-нибудь самую безобидную анархическую рабо-
ту. Он это подтвердил и заявил, что нельзя оставаться на
своих старых позициях, что надо изменить тактику, путем
вхождения, врастания в Советский аппарат, а потом будет
видно, что делать. Работа этих лиц должна была сводиться
к тому, что, замаскировываясь, они должны были игнориро-
вать мероприятия Соввласти по части ограничения капита-
листических хозяйств. В части воспитания молодняка он
относился отрицательно, но очень активно ставил вопрос
организации и коммун. Хвалился, что нами была создана
коммуна "Авангард", но потом ругался на теперешних ее
руководителей за то, что они его разоблачили и выгнали с
коммуны. По его словам, эта коммуна из анархической
превратилась в большевистскую и что коммунары из анар-
хистов стали идейными большевиками. Он имел надежду
организовать в Басали или Ново-Павловке свои коммуны,
если только не уедет в Сталино. В части школ и молодняка
говорил, что его жена учительница и он намерен это исполь-
зовать в этих целях. Условились с ним иметь переписку, но
на мои неоднократные письма ответа я не получал. Через год
после того, я слышал от Хмарского, что Логвиненко переехал
в г. Сталино.
Навестил самую знаменитую Басальскую коммуну "Аван-
гард". В ней был председателем бывший махновский фель-
дшер (забыл фамилию). Все должностные посты занимались
бывшими махновцами, но все они стали членами ВКП.
Говорить с ними по хозяйству можно было, но говорить с
ними на махновскую или анархическую тему было невоз-
можно ввиду того, что они друг другу не доверяли и боялись.
Во всяком случае, они были довольны своим положением, а
положение у них было хорошее. Банк отпускал кредиты.
Часто их навещал и Григорий Иванович Петровский, хозяй-
ство было образцовое, и жили они очень неплохо. Председа-
тель заявил мне, что все его коммунары ругают махновнью,
319
из-за которой они еще и сейчас терпят некоторые ограниче-
ния, как-то: в части увеличенной продразверстки. Говорить
с ними об анархической работе было бесполезно.
Отсюда я выехал на Большой Токмак, где выросла про-
мышленность и рабочей прослойкой накрыла махновские
элементы. Здесь мне не удалось никого видеть из бывших
командиров. Остановился, я не помню фамилии, у бывшего
рядового махновца, которого тоже не удалось видеть, потому
что был на степи, но его отец передавал, что все они вместе
с Паталахой погибли в боях с белыми.
Отсюда я направился в Черниговщину, а по пути завернул,
не помню его названия, где жил тогда Сипливый, бывший
начальник махновской артиллерии, но на хуторе мне сказали,
что Сипливый 3—4 месяца назад как уехал в Донбасс на
работу, отчего я его не видел. В Черниговке искал кого-либо
из бывших махновских командиров, которые меня должны
были знать, но ни одного не сумел найти — частью они
погибли, а частью ушли на работу в Донбасс, в Сталино.
Остановился у одного бывшего махновского кавалериста
(рядовой), который меня не знал и с которым просто не о чем
было говорить. Это мещанин. Зная село, он говорил, что
некоторые командиры, оставшиеся в живых, где-то работают
в Донбассе, потому что их здесь притесняют. При таком
положении не было никакой возможности ставить хотя бы
какую-нибудь работу.
Из Черниговки я поехал в Павловку и Ногайск. В Ногайске
был у бывшего махновского командира Голика (сейчас в
Бердянске председатель партизанской комиссии и член гор-
исполкома). Тогда он занимался своим хозяйством, сеял и
снимал хорошие урожаи капусты, имел наемную рабочую
силу. Встретил меня очень дружелюбно, выпили, жил он
тогда со своими сыновьями — один, старший, женат, дру-
гой —холост. Говорил он о том, что он на хорошем счету и
что партия ему доверяет. Однако, поссорившись с Мелито-
польским исполкомом по вопросу ограничения хозяйственной
деятельности кулакам и о прекращении преследования мах-
новцев, он был жестоко наказан, путем исключения его из
состава Мелитопольского исполкома. Теперь он занимается
своим хозяйством и надеется восстановить себя перед Сов-
властью. Однако он считает себя на распутье и очень охотно
и с наслаждением говорит о махновщине. Он прямо заявлял,
что если бы была махновщина, он был бы первым человеком,
не то что сейчас: комсомольцы его оттесняют на задний план.
В части того, чтоб превратить его частное хозяйство в
коммунальное, он не давал согласия, мотивируя, что это его
320
сбережения на старость. Очень ругал Ногайского предиспол-
кома за то, что тот не дал ему в собственность кирпичный
дом, в котором жил он. И если этот старик тогда еще
колебался, не был вполне оформившимся большевиком, хотя
и был членом ВКП, зато его старший сын — не помню имени —
проявлял себя как истинный поборник махновни. Другой
сын, комсомолец, хотел только одного — учиться, старший
же в 1925—26 гг. организовал в районе Ногайска коммуну —
семейную. В коллективе с 5—8 хозяйствами он сеял большие
арбузы и тыквы и прочее, держал много скотины и свиней и
очень дорого продавал государству семена этих растений. Шло
дело хорошо, пока не вмешался отец, старый человек, кото-
рый поставил дело таким образом, что коммуна распалась, а
на ее месте выросла лжекоммуна семейного типа из 2-х
хозяйств. Это совсем разложило Голика, и он попал в общую
немилость и Бердянского исполкома. И к тому моменту, когда
я у него был, он готов был на все, чтобы восстановить свое
положение в исполкомах, но ему не удавалось, и он стал
оголтелым критиком абсолютно всех мероприятий Соввласти.
Он выражал общее недовольство, но боялся взять хоть ка-
кую-нибудь анархическую работу. Но старший его сын эту
работу проводил. Кроме коммуны, возле него собиралась
молодежь Ногайска, в которой он и пропагандировал анар-
хическую деятельность. Конкретно он тогда не назвал мне
ни одной фамилии, но даже среди работниц-поливалыциц
(их было 10—15 человек) наполовину были анархические
попутчики. Старий Голик собирался переехать в Бердянск,
где, по всей вероятности, находится и сейчас. Сыновья дол-
жны были остаться в Ногайске и старший просил меня
посылать ему анархическую литературу, обещая поддержи-
вать со мной связь. Однако ввиду неимения такой литературы,
я ему не посылал и не помню, получал или нет от него письма.
В селе Павловке я заехал к некоему анархисту-коммунисту
Павлу — по фамилии, если не ошибаюсь, Исаков. Этот Павел
несколько месяцев тому назад как прибыл из Парижа, адрес
к нему мне дал Иван Лепетченко, который у него был до меня
и получил целый ряд писем, аршиновскую "историю" мах-
новщины, и анархические в Париже журналы. Этот Павел
жил в тесном кругу с Аршиновым, Молиным, Махно и
другими. Сам он портной. Приехал в Россию на жительство.
Успел набрать учеников и сделать из них портных. К моменту
моего у него пребывания он собирался ехать в Донбасс на
руднике Щербиновский, где работал его приятель, вернув-
шийся из эмиграции, — фамилию его не помню. Я начал с
ним разговаривать о житье-бытье в эмиграции. Он рассказал,
321
как они с Аршиновым создавали свой журнал, как его
распространяли. Теперь он изъявил желание вернуться в
Россию на жительство. Приехал через Одессу официально. У
него тогда не было разговоров о какой-либо работе, но говорил,
что он имеет с Парижем непосредственно с Аршиновым
переписку, совершенно официально также ее имеет и с
Америкой. Сообщал Аршинову о житье-бытье крестьянства
и готов был приступить к организации, по его выражению,
комбеда, при котором решил открыть пошивочную мастер-
скую. По его словам, он часто спорил с местными большеви-
ками по поводу махновщины, стараясь всячески ее обелять.
Между прочим, с его слов, он получил немногое удовольствие
приездом из заграницы и считал, что успешно можно работать
анархистом, не разоблаченным в профсоюзном аппарате и
среди крестьянства. Однако он собирался ехать через пару
дней в Донбасс, что и сделал. Говорить с ним особенно много
не приходилось, но я имел наглость критиковать некоторые
мероприятия Соввласти, ввиду того, что комбеды — это
накладной расход государства, что сельскохозяйственные
артели, созданные Соввластью — бремя его, что они работают
в убыток и что они рано или поздно распадутся. Но Павла
никак нельзя было убедить. Он выдвигал идеи, что анархис-
там нечего начинать свое дело, а что лучше надо использовать
созданное большевиками. Это значит, надо войти анархистам
в артели и комбеды, а они имели тогда свои некоторые
хозяйства, врасти в них, захватить в свои руки руководство
заниматься хозяйственно-политической работой. Там лучше
будет поставить воспитательную работу, легче будет иметь
средства. Часть средств он считал нужным отправлять в
Париж Аршинову для усиления печати, которую через
Одессу, по его словам, можно было оттуда получать. Для меня
очевидно было, что Исаков приехал в Россию не потому, что
хотел вернуться на жительство, а потому, что у него от
эмигрантов, а быть может, и от парижской контрразведки,
были определенные задания — влить в комбеды и артели
своих людей, вести под маской легальное хозяйство и деньги
посылать в Париж анархоэмигрантам, а оттуда получать
литературу. Больше того, и мне казалось странным, что
Исаков не исключал необходимость охватить анархистами не
только советское хозяйство, но и административное управле-
ние. Я ему как анархист возразил, но он стоял на своем,
мотивируя, что в Париже есть определенное решение по этому
вопросу: "Надо освоить эти учреждения и повернуть их на
путь анархических безвластных хозяйственно-культурных
центров". Я говорил ему, что подобная проблема основана на
322
фантазии и что она в самом начале будет разбита. Но он стоял
на своем. Фактически не договорившись в этом вопросе ни к
чему, я обещал побывать у него на Щербиновском руднике.
Он обещал написать Аршинову и Волину о нашей встрече.
После говорил, что писал, но к тому моменту, как я с ним
виделся вторично, по его словам, ответа не получал. Он обещал
бывать в Харькове у меня, если не устроится на работу в
Щербиновке, но не был, потому что он там устроился.
От него я поехал в Дмитриевку искать там бывших
махновцев и командиров, но их там не нашел. Случайно
встретился с Григорием Масленниковым, с которым был
знаком с детства. Он был приказчиком в магазине Суворова.
Он никакого отношения к анархизму не имел. Через него я
узнал, где живет бывший командир. Оказалось, что он давно
убит, а остался его брат, с которым я в 1914 году работал в
имении Коранскова вблизи Великокняжеской. Он тогда был
активным моим сторонником в части проведения забастовок.
Но после того, по его словам, нигде не участвовал и, хотя и
симпатизировал анархистам, но сам работы не проводил. Он
возмущался комбедами, что они отбирали в свои хозяйства
от кулаков лошади и инвентарь, взяли и у него пару лошадей.
Но от активной анархической работы категорически отка-
зался, обещая меня связать с более молодыми и податливыми
ребятами. К одному из них послал жену, но его не было еще
со степи. Рано утром он зашел, и я с ним познакомился, лежа
в постели. Это 18—19-летний крестьянский парень, еще не
бывший в движении. Фамилию его точно не помню, но
кажется, Матросенко. Он просил меня прислать ему анархи-
ческую литературу, я обещал, но ввиду ее отсутствия не
послал. Он обещал мне хорошо ознакомиться с анархизмом
и стать идейным анархистом и привлекать на свою сторону
молодняк и вести пока что только воспитательную работу
среди молодняка.
В Новоспасовке ко мне пришли бывшие командиры,
передовые махновцы. Среди них Гончаренко Павел, Вдов-
ченко (не помню имени), Тарасенко Сергей, Трикоз Григорий,
Проценко, кажется, Лука, Вакай (не помню имени), Прочко
Григорий, Союзный Николай и некоторые другие — не помню
фамилий. Среди этой публики выдавался Павел Гончаренко,
бывший командир кавполка, сам анархист, а тогда был членом
Новоспасовского сельсовета. Активную анархическую работу
он тогда не вел, но довольно активную помощь оказывал
"обиженным махновцам". Эта помощь сводилась им к умень-
шению налогов, выдаче недостойным махновцам партизан-
ских билетов, помощи семье расстрелянного командира мах-
323
новского корпуса Вдовиченко. По его инициативе была орга-
низована одна, затем другая коммуна, куда исключительно
вошли вдовы махновцев. Культурно-воспитательной работы
среди молодежи, по его словам, он не вел, но думал об этом
и обещал, что он постарается это сделать. Он был ярым
сторонником влить в комсомол свою молодежь с тем, чтобы
превратить последний в анархическую организацию. Все его
планы мною не возражались. Он заикался о более "реальных
вещах", как-то: использовать всеобуч для того, чтобы там
подготовить на "случай нужды", а эта нужда, по его словам,
будет на следующий день войны капиталистического Запада
с СССР. Вначале я возразил, но он настаивал. По его теории
выходило, что капиталистический Запад во много сильнее
СССР и как только вспыхнет вооруженный конфликт, СССР
непременно будет бит. Партизанство поэтому и нужно для
того, чтобы защитить интересы рабочего класса от капита-
лизма, а если нужно будет, то и Соввласти. Он был уверен,
что в первый день борьбы с Соввластью позволит бывшим
монархистам и анархистам легально формироваться против
империализма, позволит открыть действия в тылу последне-
го, и тогда начнется новая эра практического анархизма.
Между прочим, эту теорию разделял Вдовченко, Бакай —
бывший тогда член ВКП и Проценко Лука, который был тогда
пред. коммуны. Однако, в этом они мало успевали, ибо
хозяйство коммуны привлекло их внимание во много больше,
чем всеобуч. Между прочим, эти коммуны субсидировались
банком, были маломощными хозяйствами и имели много
долгов. Я лично возражал против всеобуча, где надо готовить
анархо-военные кадры, указывал на воспитание молодежи,
на организацию своих хозяйств-коммун, усиление их мощ-
ности, ликвидацию задолженности. К тому времени в Ново-
спасовке начали организовывать с/хоз. школу, и я им ука-
зывал, что в ней надо поставить дело воспитания курсантов.
Гончаренко обещал это делать, но просил меня посылать ему
литературу. Проценко — точно не помню имени, но кажется
Лука — просил меня, если можно что-либо сделать в Харь-
кове, чтобы получить на его коммуну в байке новый кредит,
т. к. ему было в этом отказано. Я обещал, но ничего не делал.
Во всяком случае, Гончаренко и Проценко заявили, что они
не будут прекращать работы и в районах по организации
коммун и воспитании молодежи.
Следующим я посетил греческое село Старый Крым, что
в 15 верстах от Мариупольского завода. Там я встретил
бывшего командира махновской батареи Белочуба. Я его знал
как анархиста. Накануне его сняли с председателя сельсовета,
324
и он был настроен против кооптированного из завода Нико-
лаева. Он тогда вел свое хозяйство и отмежовывался от всякой
общественной работы. В коммуны, т. е. мирное и тихое
врастание анархизма в большевизм, он не верил и считал,
что анархистам нечего этим заниматься, в воспитание моло-
дежи он тоже не верил, потому что, по его словам, "очень
некрасиво" анархистам воспитывать молодняк затем, чтобы
потом он был заключен в тюрьмы. По его мнению, надо было
выждать время, сохранить старые махновские кадры и, если
наступит война, то эти кадры обрастут новыми, т. е. молод-
няком. Обрастание, по его мнению, должно было произойти
в тылу белых. От него же я узнал, что где-то на хуторе
проживал Буданов, но где именно, он мне не сказал. Выдавая
себя за усталого и передыхающего анархиста, нетрудно было
заметить, что-то неуловимое, неискреннее. Относительно бу-
данова он говорил, что постарается с ним повидаться и
сообщить о нашем свидании. Это было нечестно и, как после
выяснилось, Буданов стоял во главе заговора в районе между
Мариуполем и Таганрогом. Белочуб об этом ничего не говорил
мне, вероятно, потому, что не был во мне уверен. Но просил
писать ему из Харькова. Переписка эта проводилась, и вскоре
эта заговорщицкая группа была ликвидирована ГПУ, Буданов
и Белочуб расстреляны, а остальные получили по 10 лет. На
заводе "Ильича" в Мариуполе я пытался найти связь, но не
успел, так как после крушения со своего велосипеда, который
попал на большом ходу между встречных лошадей с телегой,
я чувствовал себя весьма избитым и не мог проехать под
Таганрог в Новониколаевскую станицу, где в свое время было
много местных махновцев.
В Мангуше я встретился с земляком — не помню его
фамилии. Он тогда кустаревал-сапожничал и был анархис-
твующим. Среди греков, по его словам, было трудно работать
и, кроме критики местных властей, он ничего не делал. 3а
коммуны он не брался, и моя попытка склонить его на этот
путь ни к чему не приводила. Он заявлял, что греки — за
индивидуальные хозяйства и против коммун, а поэтому
попытка в этой части ни к чему не приведет. Молодежи у
него, по его словам, тоже не было. Однако он пытался создать
сапожническую артель, но в нее греческая молодежь не
вступала, и он продолжал работать в одиночку. Он обещал
мне писать в Харьков, и помню, я ему несколько раз отвечал.
Кроме того, я посещал село Андреевку, Поповку, Берестовую,
Цареконстантиновку. Здесь не удалось ни с кем связаться
ввиду того, что основные кадры махновии, которые остались
в живых, вышли на расселение хутора. Зато в селе, кажется,
325
Магедово, что в 25 верстах восточнее Полог, жил тогда
бывший начальник подрывной команды по фамилии Бурыша,
вернувшийся в 1924 году из Польши с группой махновцев,
если не ошибаюсь, Лепетченковым, Серешным и другими,
фамилий не помню, но к сожалению, его не было дома, он
был вызван Запорожским ГПУ.
Посетил Заливное, где ни с кем не виделся.
В Запорожье нашел Серешко, он же Сергиенко. Это быв-
ший нач. снабжения махновской банды. Он приехал из
Варшавы в 1924 году вместе с Лепетченковым, Бурышей и
еще с двумя махновцами. В Запорожье он работал по коопе-
рации и был почти доволен своим положением. Имел тогда,
с его слов, полное разочарование лично в Махно, ругал его.
Но махновщину вспоминал не безразлично. Он ее оплакивал
и жалел, что она физически погибла. На заводе и в коопера-
ции, по словам Серешка, работали некоторые бывшие мах-
новцы, в которых Серешко не верил. По его словам, сейчас
никакая работа анархическая в Запорожье немыслима, по-
тому что органы ГПУ настолько развиты, что всякая попытка
к такой работе обречена на неудачу. Кроме того, он чувствовал
себя настолько уставшим, что хотел отдохнуть. О Польше
рассказывал; как они там жили, как хотели освободить из-под
ареста Махно, говорил о том, что тамошние анархисты на-
столько разложившиеся, что похожи на простых уркачей.
Говорил, что Махно освобожден по суду только благодаря
вмешательству какого-то гэпээсовца, который сидел с Махно
в каторжной тюрьме с 1910 года в Московской Бутырке. Он
в Варшаве занимал большой полицейский пост, чуть ли не
был министром. Он его и вызволил. Мало того, что помог ему
оправдаться перед польским судом, но он активно помогал
Махно деньгами. Отсюда вывод — Махно был на попечении
Польской полиции, отсюда и офензивы, т. е. контрразведки.
Меня это смущало, и вначале я заподозрил, не был ли на
иждивении полиции сам Серешко, Бурыша, Лепетченко,
Марк Черняк, который имел в Варшаве парикмахерскую и
который в 1924—25 году с СССР нелегально ушел в Польшу
и другие махновцы и анархисты. Повел на эту тему разговор.
Серешко говорил, что от Махно они никогда никаких денег
не получали, а наоборот, работая на предприятиях, они сами
его содержали. Но что Махно получил деньги от этого поли-
цейского и от Аршинова и Волина из Парижа, говорил.
Перешли они границу нелегально, чуть было не попали в
руки полиции. Но перейдя ее, они явились, по их словам, в
органы ГПУ. Мне только сейчас все это пребывание и возвра-
щение из Польши махновцев вообще становится подозритель-
326
ным — не были ли они завербованны офензивой. Но у меня
нет достаточных подозрений, чтобы сказать "да". С Сереш-
ковым, быть может и нет ввиду его преклонных лет и
усталости, но с Бурышой и Лепетченко Иваном остается
загадочным. Например, Лепетченко неоднократно говорил,
что он несколько раз сам то переходил нелегально из Польши
в СССР, то возвращался обратно по заданию Махно. По его
словам, это задание сводилось к выкачке ценностей и инфор-
мации о состоянии крестьянства и отношений его к Махно.
Но последний переход группы, очевидно, заявляет о себе
другое, именно: группа анархистов и махновцев 6—8 человек,
в том числе, Черняк, Лепетченко, Серешко, Бурыма, кажется,
Померанец и другие, не помню их фамилий, решила возвра-
титься в СССР. Где-то недалеко от кордона она остановилась
на явочной квартире. Вдруг ночью или под утро нагрянула
польская полиция. В результате Бурыма, Лепетченко, Се-
решко и, кажется, еще кто-то ускользают от ареста и благо-
получно переходят границу. Остальные, вероятно, были арес-
тованы. Здесь явная провокация, но кого из этой группы —
более точно определить я не мог. Можно подозревать Лепет-
ченко и даже Серешко и Бурыму. Но можно подозревать и
самого Померанца. Ибо я знаю, что когда Померанец как
курьер-анархист командировался в Польшу Харьковской
федерацией анархистов в марте или апреле 1924 года, о чем
я писал в начале этих показаний, он был арестован польской
полицией. Из Польши харьковские анархисты получили его
письмо, в котором он сообщает о своем аресте и просит срочно
послать ему денег для выкупа, т. е. взятки, за которые он
надеялся освободиться. Насколько мне известно, федерация
пыталась собрать деньги, но не успела, т. к. была арестована.
Думаю, что Померанцу харьковские анархисты деньги не
послали, а между тем Померанец был освобожден и сейчас
находится в Москве.
Черняк Марк тоже неоднократно ходил то в Польшу, то
в СССР, но с какими целями, не знаю. Среди анархистов
Черняк особенно себя не проявлял за период с 1924 года.
Скорее он выполнял функции курьера, а может быть, не
только анархиста, но и польского шпиона — для меня это
останется загадкой.
Серешко никакой работы, когда я у него бывал, не хотел
на себя брать, мотивируя, что он стар и устал.
В Бердянске я никого из анархистов тогда не встретил
ввиду того, что не удалось найти. Что касается первой поездки,
т. е. поездки по возвращении из ссылки, то она была огра-
ничена. Я был тогда у матери в Новоспасовке и в Гуляй-Поле.
327
Если мне не изменяет память, в Новоспасовке я виделся с
Гончаренковым Павлом, Вдовиченко и многими другими.
Они ко мне приходили поодиночке и группами. Разговор шел
исключительно о пережитом, о ссылке, ДОПРе, тюрьме, о
прошлом голоде и репрессии, о бывшей махновне. Но кон-
кретно в части политической работы не говорилось. Еще тогда
чувствовалось стремление их к артельному хозяйству, но ни
одной артели там не было. Я пропагандировал эту идею, и с
тех пор они начали шевелиться в этой области. Особого
недовольства Соввластью не наблюдалось. В Бердянске по-
мимо кого-то из местных махновцев встретил, но фамилии
не помню. С ним разговоров особых у меня не было, за
исключением разве того, что сообщил ему, что возвратился
из ссылки и еду в Харьков.
В Гуляй-Поле ко мне пришли все те же лица, что и в
первый раз: Щаровские Василий и Влас, Карпенко Алексей,
Каретников Пантелей, Чучко Иван, и, точно не помню, еще
целый ряд других из числа рядовых. Выпивали. Говорили о
прошлом и настоящем. Публика интересовалась, возвратится
ли когда-нибудь в Россию Махно. Не помню, что я им на этот
счет говорил. Кроме воспоминаний о прошлом, ничего не
говорили. Но опасались, что если ГПУ узнает эту встречу,
может быть неприятность. Это была встреча после долгой
разлуки. К тому времени, т. е. осенью 1925 г. в Гуляй-Поле
никаких коммун не было. Но Василий Шаровский пытался
создать. Я советовал ему это. Никакой другой установки я
никому не давал и никакие цели и планы тогда не намечались.
Третья моя поездка была, если не ошибаюсь, не то через
3—4, не то через 7—8 месяцев после второй (1927—28 или
29 гг.). Из Харькова я поехал на Щербиновский рудник, где
встретился на квартире приятеля Павла Исакова, не помню
его фамилии. Исаков был уже тогда й работал закройщиком
в одной пошивочной мастерской. Его приятель эмигрант
работал на руднике в ФЗУ, обучал столярному делу молодняк.
Он тогда не то вступил в комбед, не то даже был кандидатом
ВКП. Настроен был вполне лояльно, но с анархизмом, правда,
довольно своеобразным, скорее экономизмом еще не прос-
тился. Зарабатывал неплохо, семья состояла, кажется, из
него самого и жены. Но Исаков переродился. Он был настроен
более критически к Соввласти, чем при первой встрече. Был
недоволен, что очень плохие заработки и даже жалел, что
вернулся в СССР. По их словам, на Щербинковском руднике
у них много из единомышленников не было и что для
анархистов этот объект не подходящий. Народ, пришлый с
севера, далек от политической работы. Они де, мол, сюда
328
приехали на сезон заработать деньгу и вернуться к себе домой.
Но Исаков надеялся среди своих обойденных зарплатой
портных, повести работу, вначале воспитательную, а затем и
забастовку. Но его приятель его предупреждал, что забастовка
здесь в России рассматривается как проявление контррево-
люции. Разговоры шли, кроме того, о том, как живут и чем
занимаются анархоэмигранты за границей, что сейчас неин-
тересно. По их словам, они Аршинову писали письма, писали
и в Америку, но к тому моменту ответа не получали. Обещали
мне писать в Харьков, но на мои письма я от них никакого
ответа не получал.
Отсюда я выехал в Сталино, где встретился с проживаю-
щим здесь Пантелеем Каретниковым, бывшим анархо-мах-
новцем и командиром пулеметного полка. Мне хотелось найти
связь с бывшими махновцами и анархистами Сталино. Но,
по словам Каретникова, он их не знал, за исключением одного
Гуляйпольского пулеметчика, фамилию которого не помню.
Он тогда был на нелегальном положении, и Каретников не
хотел мне его показать, мотивируя, что далеко живет. Сам
Каретников, по его словам, никаких политических работ не
вел и заявлял, что он стал на распутье. Он тогда торговал на
базаре овощами и ничего не хотел. Это ему давало на жизнь.
Через него я не мог заполучить от него там связи.
Со Сталино я отправился на огнеупорно-кирпичный завод,
в с. Красногоровке, от Сталино к Гришино верст 25. Там
работал бывший начальник махновского бронепоезда, по
фамилии не помню, и некоторые другие его соратники. Он
был красным партизаном, членом ВКП. Страшный буян,
эксатор и пьяница. У него была группа "красных" партизан
и в Сталино, и она очень много делала неприятностей испол-
кому и другим организациям. Было подозрение, что она
ограбила почтовый поезд. Часть ее к тому времени была изъята,
часть оставалась на воле. Принял он меня с некоторой
осторожностью. После некоторого времени сомнения его мне
удалось развеять. Оказывается, что работает на кирпичном
заводе в качестве начальника цеха, получает приличную
зарплату. Говорил мне, что он очень много спасал бывших
махновцев от репрессий, что некоторым дал место на заводе
и что установка сводится к тому, чтобы на этом заводе
вытеснить "чужаков" и поместить своих людей — бывших
махновцев. Я ему лично не возражал, но считал, что это
утопия, т. к. он не в состоянии собрать 500—700 человек
квалифицированных махновцев. Это был разложившийся
тип. В нем ничего не было большевистского и анархистского.
Свои связи он мне говорил, но кто именно у него был в
329
Сталино, на заводе и в районе — фамилий не помню. Ставить
на заводе анархическую работу он отказывался, мотивируя
тем, что через 1—2 месяца он командируется в Харьков в
Промакадемию директоров. Об этом можно будет говорить
потом — он сказал мне.
Он написал письмо своему приятелю в Гришино, я к нему
поехал. Но в то время того бывшего анархиста и настоящего
члена ВКП в Гришино не было, он выехал на работу в какой-то
рудник. Другого никого не удалось найти из бывших мах-
новцев. В Гришино я поехал на следующую станцию, кажется,
в Мечетную, и пошел в село, что в 7—12 верстах от станции.
Мне, насколько помнится, никого из махновцев не довелось
видеть. От некоторых крестьян только пришлось узнать, что
село имеет большой партколлектив и что нет махновцев,
которые бы не были охвачены партийным влиянием. Ввиду
того, что на меня падало подозрение в ренегатстве со стороны
анархистов, последние с 1925 по 1930 или 31 год уклонялись
от встречи со мной и только в 1930—31 году, служа в
Управлении Стали в Харькове, я встретился с Петром Пор-
фирьевичем Захаровым, который тогда работал в аппарате
Стали по проектированию металлургических заводов. Он там
был плановиком. С этого момента харьковские анархисты:
Захаров, Цемник, Худяк, Овинников, Авенир, 1-й и 2-й
Иванов, Козлов и Рудзинский, видимо, решили со мною
завязать отношения. Первая встреча с Захаровым в этом меня
убеждает. Он вскоре привел на службу ко мне Григория
Цемника и с первого же разговора Цемник заявил, что на
меня были со стороны анархистов (группа Немрицкого) по-
дозрения,что я стал на сторону ВКП, т. е. стал ренегатом, но
что теперь "старики"-анархисты Харькова не намерены к
тому возвращаться. Он при Захарове мне заявил — "Я не поп
и не хочу тебя, Виктор, исповедывать". Я оправдывался и
сводил это на простое недоразумение. Так, мало-помалу, я
стал с ними встречаться. В это время на Украине проходила
ликвидация кулака и его саботаж. В Харькове много было
голодающих из сел. Анархи возмущались этим и говорили,
что необходимо организовать подпольную печать, путем ко-
торой пропагандировать идеи сопротивления масс. Вскоре
после нашей встречи Захаров перетянул меня из Стали в
Гипроруд. Сюда же он поместил и анархиста-индивидуалиста
Эдуарда Рудзинского бухгалтером, дочь своего приятеля
Попутчину, кажется, зовут Таня — фамилию не помню. Сюда
же поместил анархиста плановика (фамилию забыл), а после
анарха Андрея Чистякова, а примерно через год сюда стал
на работу Григорий Цемник.
330
Захаров был главным инициатором по собиранию старых
анархистов в группу и федерацию. Не только он, но и все они
сильно возмущались голодающими. Да кроме того, они и
сами жили почти впроголодь, несмотря на неплохое жало-
ванье. Что не анархист, то и критик и ругальщик Соввласти.
Мечта о забастовках казалась совершенно несбыточной, анар-
хия разрозненная. Настроение у них самое бдительное. Это
послужило поводом к тому, чтобы объединиться. Захаров и
Цемник особенно это культивировали среди своих единомыш-
ленников. Захаров начал формировать группу. Все анархи
Харькова ему не возражали. Но формировать федерацию,
печать без средств — невозможное дело. На ЭКС смотрели
как на несбыточное и ненужное предприятие. Решено было
организовать свою плановую артель, получить в банке кредит
и развернуть работу.
Захаров имел тогда небольшую комнату за городом и был
членом анархо-эсеровскоц (из каторжан) коммуны в селе
Мерефе. Захаров начал собирать членские взносы в артель,
взяли устав, и Цемник должен был его оформить, но время
проходило, а денег среди желающих быть в керамической
коммуне Захарова не удавалось собрать. Очень частенько мы
встречались с Ивановым, что работал в ОГИЗе, с Худьяковым,
Захаров с Авениром. Цемник имел связи почтой с Москвой,
непосредственно с харьковским учителем Каруном (имени не
знаю). Видимо там анархисты поддержали почин харьковчан
об организации анархического движения и, понаслышке от
Цемника, кто-то из Москвы приезжал в Харьков к Авениру
или Худяку. Разговоров было очень много по части органи-
зации движения, особенно на Украине. Во-первых, намеча-
лась конференция в Харькове, во-вторых, на местах должны
были организоваться группы. К тому моменту многие анар-
хисты, вернувшиеся из ссылки, осели в большинстве своем
на Украине, а именно: что мне было об этом известно, Барон —
вождь синдикалистов, осел не то в Курске, не то в Воронеже
со своей женой (не помню имени). Возле него осталось
несколько человек. Захаров их фамилий не называл. В
Елисаветграде осел Ваня Черный — тоже синдикалист, пре-
тендующий на вождя. Возле него несколько молодых парней
из Николаева, бывшие в ссылке, одного из них, помню,
Захаров называл Коган. Несколько девушек тоже поехали в
Елисаветград и Одессу, фамилий их Захаров не называл или
не знал их. В Днепропетровске остановился анархист — сам
паровозный машинист, не помню его фамилии (хороший друг
Василия Бобылева и Баженова), который был ранен во время
обструкции на Соловках. С ним была городская публика. В
331
Симферополе остановился на житье Немерицкий Борис со
своей женой Лидой. Юда Рейдман проживал в Баку со своей
женой, не помню имени. Липовецкий Борис жил не то в
Киеве, не то в каком-то городе на Херсонщине. По заверению
самого Захарова, возле каждого из этих анархистов должны
были начаться организация групп. Рабочий класс настолько
подготовлен, что среди него найдутся немало наших сторон-
ников, эти наши ребята должны скоро обрасти анархистами,
их надо воспитать и направить их деятельность на экономи-
ческую борьбу. Значит, недостает одного — это организаци-
онных принципов. Эти принципы должны были дать съезду
анархистов в Харьков. Для того, чтобы найти представителей
на этот съезд, нужны люди и деньги. Люди есть, а денег нет.
Деньги-то и решили мы извлечь из керамического производ-
ства собственной артели. В самом Харькове Цемник налажи-
вал работу, он имел беседу с Авенировым, работающим на
заводе ВЭК. "Федерация", поскольку она еще не организована
в самом городе, еще не было общего собрания, не могла
допустить какую-бы то ни было работу на заводах. Но Захаров
и Цемник неоднократно говорили мне относительно органи-
зации маленькой хотя бы подпольной типографии. Захаров
часто просил меня написать листовку, а он возьмется ее
отпечатать. Я на это не давал согласия и говорил, что я не
сумею ее написать, но он просил, пока не вмешался в это
Худяк, который запротестовал, мотивируя, что самая без-
обидная листовка может навлечь на всех анархистов репрес-
сии, и только после этого они перестали говорить о листовке.
Она не писалась и не печаталась. Было много разговоров о
перспективах керамической артели. Цемник жил этим и
много говорил о прошлой своей эксторской деятельности,
намекая на то, что "хорошо было бы и сейчас эксакнуть
какой-либо банк", но его мы не поддерживали. Тогда он
говорил о прошлой террористической деятельности анархис-
тов и жалел, что в настоящее время этот метод борьбы
отсутствует, но мы всем коллективом его осуждали. Органи-
зационное собрание федерации должно было состояться в
момент, когда оформится керамическое "наше" производство.
До того момента каждый из анархистов, работающих на
предприятии, обязан был осторожно повести вербовку "на-
рода" и по ходу дела определить наши предварительные силы,
но мне неизвестно — что-либо по заводам проводилось это
там или нет. Ни в Гипроруде, ни в другом месте этой работы
я не проводил.
Захаров, отчасти и Цемник были связаны с каторжанами,
главным образом, эсерами, по фамилии я их не помню.
332
Я позволю себе сделать некоторое отступление и вернуться
немного назад.
В августе-сентябре 1921 года произошло между махнов-
щиной событие. Махно решил перейти Польскую границу и,
если не удастся в Галиции поднять восстание украинцев
против поляков, то капитулироваться. Я выдвигал другую
идею — капитулироваться перед Соввластью или повести с
правительством разговор относительно использования нас в
Турции за укрепление "Кемализма". В одном из маршей по
Донбассу нас преследовала конница и сталинские автоброне-
вики. В силу этого отряд Махно отбился от нас и ушел на
Дон, а я с азовской группой повернул в Мариупольский уезд,
где эту группу распустил по домам с искренним советом
каждому бойцу явиться в исполком с повинной. Сам же, зная,
что могу быть арестованным, решил переехать из Украины
на Кубань, где думал подлечиться и пробраться в "армию"
Маслака на Ставропольщину и, если она представляет хотя
какую-либо силу, хотел договориться с Совправительством
войти с ней в Турцию, или распустить, если она не представ-
ляет силу. В станице Должанской я был арестован в конце
сентября 1921 г. Все, что было не добитое или законспири-
рованное из махновского, я все отдал органам ЧЕКА.
В конце января 1922 г. я решил использовать Махно в
Румынии. Спорная Бессарабия должна была стать плацдар-
мом восстания. С этой целью я написал Махно в Румынию
письмо и послал его со своей "бывшей женой", а фактически
вольной женщиной — махновской сестрой милосердия Евдо-
кией (не помню фамилии). Достоверно знаю, что она благо-
получно перешла Советский берег Днестра у города (не помню
названия), но что с ней случилось, что она не достигла цели,
т. е. не проехала к Махно, до сих пор не знаю. Предполагаю,
что она была либо арестована румынами и сидела, либо
заболела, либо просто изменила. И только в 1927 г. летом я
получил из Бухареста от нее письмо с фотокарточкой, одно
или два, не помню. Где она была до этого времени — загадка.
Со своей стороны я никаких писем ей не писал и по настоящий
день. Помню, писал в 1926—27 гг. письмо в Бухарест мах-
новцу Тарасенко. Но никакого ответа от него не получил. В
1924 в конце мая я был арестован со всеми анархистами в
Харькове. Когда мы ожидали отправку в ссылку, то в это
время сидела в ДОПРе только прибывшая из Румынии группа
махновцев, кажется человек 8—12, вместе с Левкой Задо-
вым-Зиньковским. Мне не удалось с нею связаться, потому
что их перевели в другую тюрьму. Только через полтора года
я узнал, что эта группа прибыла из Румынии при следующих
333
обстоятельствах. Левка и меньший брат Данька Задовы-Зинь-
ковские во главе обратились в румынскую жандармерию с
просьбой вооружить их и пропустить на территорию СССР
для поднятия восстания или для диверсии и террора против
СССР. Это мне говорил сам Левка Задов по возвращении меня
из ссылки в Харьков, если не ошибаюсь, в конце 1926 г. Он
приехал в Харьков из Одессы по делам Донугля (его слова),
остановился в гостинице и зашел вечером ко мне. Рассказал
о том, как они плохо жили в Румынии, и что они все давно
собирались возвратиться в СССР. Он откровенно заявлял, что
не думали возвращаться, боясь кары. Но как только узнали,
что я жив и на свободе (узнали из Парижа) от Аршинова, то
решили немедленно действовать. Нелегально, ввиду труд-
ности перехода границы, перейти нельзя было. Вот по почину
Задова они обратились в румынскую жандармерию и пред-
ложили ей свои услуги работать на территории СССР в пользу
Румынии. Жандармерия согласилась и выдала им деньги,
оружие и перекинула через Днестр на Советскую территорию.
Значит, они согласились работать на пользу Румынии. Это
значит: диверсионные акты, шпионаж и организация восста-
ния. Но перейдя границу, по словам того же Задова, они
капитулировались в погранохране, сдали оружие и деньги,
были арестованы, доставлены в Харьков и вскоре освобож-
дены. Из этой диверсионной группы мне ни с кем, кроме
Задова Левки, не удалось говорить, никого не видел. Будучи
в ссылке, вероятно, в 1925 году Левка Задов послал мне из
Харькова письмо. В нем он писал, что сожалеет о том, что
я —"мученик свободы" — до сих пор остался анархистом,
что он со своими ребятами безвозвратно перешел на сторону
ВКП. Я не помню, что ему отвечал. По возвращении в Харьков,
если не ошибаюсь, в 1928—29 году, Левка Задов снова меня
посетил. Из Одессы он вторично приехал по делам Донугля
и завернул ко мне. Я не помню нашего разговора, но помню,
что он был доволен тем, что вернулся в СССР, говорил, что
его брат Данька служит Начальником Погранотряда на Ру-
мынском кордоне. Относительно остальных, которые с ним
вернулись, он ничего не говорил. В третий раз, кажется в 1932
году, он приехал в Харьков со своей женой. Остановился в
гостинице и вечером зашел ко мне на квартиру. Разговора
не помню точно, но знаю, что они остались очень недовольные.
Именно, он прочел мои показания чека, где фигурировала и
его фамилия. Это место было напечатано в книге Кубанина
"Махновщина". Левка меня за это ругал, а его жена заявила,
что если бы она знала, что он так много рубал людей, ни за
что бы не вышла за него замуж. В эту встречу он мне говорил,
334
что служит в ГПУ в гор, Одессе. Приглашал приехать к нему в
гости. Я не соглашался на это и никогда не был в Одессе. Правду
ли он говорил, что служил в Одесском ГПУ или врал, не знаю.
Со слов Ивана Лепетченко, который посетил меня в Крас-
нодаре весной 1934 года, знаю, что Задов Левка служил в
Одесском ГПУ, куда перетянул из Сталино Пантелея Карет-
никова. Думаю, не исключена возможность, что он устроил
и других махновцев возле себя, о чем подтверждает Алексей
Чубенко (живет в Харькове), который говорил, что, когда его
брат обучался в Одесской школе, то часто виделся с Задовым,
бывал у него на квартире, Задов тянул Чубенко к себе на
службу, а тот не пошел. Говорил мне и Подкова Максим из
Федоровки, что он, имея с Задовым переписку, приглашал и
его к себе на службу. Во всяком случае, возле Задова должны
быть бывшие махновцы, что подтверждает вышеприведенное.
Не знаю, что за цель была собрать возле себя махновцев.
Может быть, на честную работу, а может быть, на диверси-
онную в пользу Румынии. Больше я никогда с Задовым не
встречался и не имел с ним никакой связи.
Другая диверсионная группа махновцев прибыла из Поль-
ши в том же 1924 году во главе с Лепетченко Иваном (сейчас,
вероятно, живет в Мариуполе) и в составе Серешка (ныне,
кажется, в Запорожье) и Бурымы (убит в 1928—29 гг. в
пивной одним бывшим офицером из-за ревности) и кажется,
еще 2—3-мя, фамилии которых не помню. Об этой группе я
писал вначале. Повторяю сжато и сейчас, поскольку Махно
был связан лично с главным полицейским Польши, получал
от него деньги, что подтверждает сам Лепетченко и Серегин,
оказывал ему на процессе в Варшаве определенную милость,
а отсюда прямое влияние на суд — Махно был на службе в
польской полиции. Если так, то и Лепетченко, неоднократно
переходивший польскую границу и нигде ни разу не бывший
арестованным, а тем более, в последний раз, когда был
арестован Черняк, Померанец и другие — это убеждает меня
согласиться, что Лепетченко, а быть может, и Серегин и
Бурыма — тоже шпионы и польские диверсанты. Это мое
личное мнение, вынесенное еще в 1925—26 году по группе
Лепетченко и других — Зиньковского.
Летом в 1933 г. я имел по Гипроруде отпуск. От довольно
усиленной работы в ней у меня были сердечные схватки.
Врачи советовали поехать в Мацесту, и в основном я решил
это сделать непременно. Кроме того, я некоторые предметы
из области военных и других предложений и изобретений
начал прорабатывать еще с 1928-29 г. К этому моменту у
меня находились сбережения до 15 тыс. рублей. Я решил
$35
бесповоротно заняться этими изобретениями. Мне нужен был
дешевый рынок, чтобы растянуть мои средства на большой
срок. Работать в учреждении же и заниматься одновременно
этими изобретениями не представлялось никакой возмож-
ности. В Харькове рынок был дорогой. Я к своей поездке на
лечение поэтому и приурочил посмотреть Ростов и Краснодар.
Станислав Жукелис (кажется, и сейчас на Мариупольском
заводе) будучи в Харькове в командировке, зашел ко мне и
в разговоре, где можно найти подходящее место по моим
средствам, он советовал, что Краснодар, где и дешевый рынок,
где можно купить инструмент, делать литье, поковки и пр.
Ростов он мне не советовал, потому что там все дорого. Кроме
того, по заданию известного Вам учреждения я должен был
проехать на Бердянск, Новоспасовку и Гуляй-Поле, чтобы
там кое-кого выявить. И больше того, эта поездка интересо-
вала Захарова, особенно Цемника, Рудзинского и Иванова
1-го. Они просили меня поискать и связаться в Ростове,
Таганроге, Краснодаре и Новороссийске с анархистами, дать
им нашу информацию и получить ихнюю. Но, не имея адресов,
связаться невозможно. Эти адреса начали они искать и, к
сожалению, за месяц времени ни одного не дали. Единственно,
что Захаров мог найти — это эсеровские связи. Он получил
один адрес от финансиста Гипроруды. У него в Краснодаре
были связи. Директор треста — не помню по названию,
находившийся тогда в Харькове в доме проектов был бывший
эсер (фамилию его не знаю). В состав этого треста входил
Краснодарский завод им. Седина. Директор з-да Седина был
тоже эсер (бывший). Начальник планового отдела Седина
тоже эсер, значит, можно у них узнать какой-либо адрес
анархистов. Мало того, Дмитрий Баженов, работавший тогда
секретарем лаборатории Харьковского тракторного завода,
сообщил мне фамилию своего друга анархиста из Днепропет-
ровска, который должен был проживать в Краснодаре, и
которого можно найти через адресный стол. Этот анархист,
по словам Баженова, работал одно время близ Краснодара в
одной из с/хоз. артелей, откуда в 1931—32 году были изъяты
ОГПУ группы анархистов. Если не ошибаюсь, фамилию он
назвал Юрченко. Финансист Гипроруда имел со мною беседу
по поводу того, что директор — эсер треста, в состав которого
входит краснодарский завод Седина, при моем желании
может меня назначить зав. плановым отделом, если я решил
переехать в Краснодар на жительство.
В Ростове я не получил ни одного и ни от кого адреса. Но
я знал одного молодого парня, беспартийного и нигде не
принимавшего участия в политборьбе.
336
Фамилия его Говяз (зовут не помню) — сосед моей матери
из с. Новоспасовки. Кроме того, приятельница моей матери
(фамилию не помню), когда я был в последний раз (1928—
1929 г.) в Новоспасовке, говорила, что едет со своим стариком
на жительство в Ростов к сыну, работающему в органах ОГПУ.
Незадолго до этого при случайной встрече с бывш. главбухом
Правления Югостали, в то время главбухом Харьковского
тракторного завода, если не ошибаюсь по фамилии Греченко.
Последний советовал ехать на жительство в Ростов. Он из
Ростова вернулся в Харьков год тому назад. В Ростове работал
главбухом Сельмаша. Сам большевик левого течения и не без
сочувствия относящийся к синдикалистам. Обещал устроить
меня на Сельмаш. В разговоре об анархистах он сказал, что
прожил в Ростове два года и не нашел ни одного. В 1932 году
мой зять Григорий Прочко был у меня в Харькове проездом
из Москвы в Тихорецкую. Это молодой парень, однажды
колебавшийся между большевизмом и анархизмом и в пос-
леднее время ставший большевиком, имел назначение Кага-
новича в Тихорецкую на пост начальника Политотдела 1-го
совхоза. Поэтому я хотел его навестить на предмет службы,
если она будет подспорьем моим изобретательским планам,
(т. е. я имел в виду механическую мастерскую, чтобы не
приобретать оборудование). Никакие другие адреса в Тихо-
рецкую я не имел.
Что касается Новороссийска, у меня не было ничего, но я
надеялся встретить кого-либо из старых по 1917—18 г.
приятелей. В Туапсе мне никто не дал адреса, но я и здесь
надеялся встретить кого-либо из старых знакомых. В Мацесте
и Сочи у меня никого не было и никто не давал мне адреса —
в этих местах я никогда в жизни не бывал, если не считать
один пароходный рейс в 1917 г. В Армавире у меня тоже не
было никого из знакомых, если не считать бывшего туапсин-
ского городского первого большевистского комиссара (фами-
лию не помню). О том, что он живет в Армавире и имеет свой
автомобиль, занимается извозом, мне говорил в Харькове в
1927 г. Самарский — председатель треста, но там ли он в
1933 году, я не знал. В Темрюке, по моим предположениям,
должен проживать Морозов (имени не помню) бывший на-
чальник артиллерии Махно, но сбежавший от него в начале
1920 года.
В Ейске у меня были в 1918 году связи с одним анархистом
(фамилии не помню) или, если не ошибаюсь, — Михайлов,
живший близ центра (улицу и номер, не знаю). Другой
анархист-матрос — фамилии не помню — но зовут, кажется,
Иваном, жившим тогда в поселке на Косе. Третий анархист
337
кузнец, имевший кузницу и домик на сенном базаре по
направлению Лимана, фамилия, кажется Анохин или Анох-
нин. Кроме них, у меня из анархистов никого не было. Были
знакомые девушки — семья Жукелина, в 1932 году работав-
шие на Мариупольском заводе, и еще одна семья — фамилии
не помню — где я квартировал. Данных по Ейску за 1932—33
год у меня никаких не было. Что касается станиц, как по
состоянию 1917—18 г., так и 1932—33 г., у меня никаких
данных не было, если не считать Должанскую станицу, где
меня арестовали в 1921 году. Тут были знакомые казачки-
девушки беспартийные и хозяин, у которого я столовался
1—2 месяца в 1918 г. и который был арестован за меня:
судьбу его не знаю и сейчас (фамилию не помню). Кроме того,
я знал, что очень много кубанских казаков было у Махно,
много было их и ставропольцев у Маслака. И, поскольку эти
банды были раздавлены Красной армией, остатки их прита-
ились по станицам Кубани и селам Ставропольщины. Но
никого из них я не знаю. По данным 1927—1928 года я знал,
что Чернокнижный из Ново-Павловки Гришанского рай-
она — вождь эсеров и махновец — проживал не то на Кубани,
не то на Дону.
Вот те данные, которые я имел перед отъездом из Харькова.
Из них много не возьмешь.
Как я выполнил эту поездку?
В кармане у меня 500—600 рублей денег, когда я выехал
из Харькова. Неоформившаяся харьковская федерация не
теряла надежды на то, что мне удастся разыскать по дороге
в Мацесту анархистов. В один из летних месяцев 6—7 или 8
1933 года я выехал. Остановился в Ростове в гостинице "Дон".
Вечером сходил в город, где у совершенно незнакомых гуля-
ющих и рабочих расспрашивал о жизни, квартире. Один
служащий, пожилой мужчина, об этом меня информировал
более подробно. Я заговорил с ним о прошлом белом Ростове,
анархистах, но ни одного анархиста он мне не назвал: "И не
слышал за них". Утром следующего дня трамваем проехал на
Сельмаш, но на заводе не был, т. к. никого у меня там не было
знакомых, а у Греченко я не взял ни одного адреса. Был на
базаре. Цены против Харькова были чуть ниже. После этого я
поспешил взять билет на 12-часовой поезд и ехать дальше.
Никого я там не искал и никого из знакомых анархистов или
одностаничников не видел. Между прочим, номера-одиночки
не было, и я оставался в общем, где был какой-то армянин-тор-
говец с девушкой. Ростов я покинул в 12 часов дня.
В Тихорецкую я прибыл вечером в момент, когда Красно-
дарский поезд составлялся. Был дождь. Я решил было пойти
338
к зятю Григорию Прочко — начальнику политотдела 1-го
Совхоза. Один возчик из того же совхоза мне сказал, что
Прочко выехал 2 дня тому назад в Ростов по делам. Делать
мне там было нечего, и я сел в поезд и выехал в Краснодар.
В Краснодаре я остановился в гостинице на Пролетарской-
Красной, в номере стоял один. Часов в 11 утра я пошел
посмотреть город и узнать цены на базаре. Против Харькова
цены здесь были на 50% ниже. С сенного базара я отправился
в Кожзавод, где говорил с главным инженером (фамилию не
знаю) относительно своего предложения по непромокаемости
кожи. На обратном пути в гостиницу зашел в адресный стол,
чтобы узнать адрес анархиста Юрченко. Но мне дали справку,
что такой-то в Краснодаре не проживает. После от Баженова
я узнал, что он 2 года тому назад выехал куда-то в центральные
губернии ЦЧО и с того момента его действительно в Красно-
даре не было. На следующий день я пошел на нефтеперегон-
ный завод по поводу брикетирования нефти. Меня не пропус-
тили, но сказали его квартирный адрес, по которому я имел
с ним вечером беседу. Здесь, как и на кожзаводе, мои вещи
нельзя было реализовать ввиду отсутствия средств.
В тот же день, возвращаясь с перегонного завода, меня
пропустили к директору завода Седина. Я сказал, что приехал
из Харькова и что адрес дал мне финансист Гилроруды. Он
спросил не привез ли я из треста ему письмо. Я ответил —
нет. У него в кабинете было много людей, и он попросил меня,
что мне нужно обратиться к Начальнику планового отдела.
Я отрекомендовался, что из Харькова и что Краснодар мне
нравится, и я думаю переехать сюда на жительство. Работу
он обещал дать на заводе по техническому планированию.
Обещал даже устроить с квартирой и подъемными. В конце
разговора я у него спросил — не знает ли он кого-либо из
местных анархистов. Он подумал и ответил — одного знаю.
Он указал на квартирного маклера Ленского, которого можно
видеть на углу Пролетарской-Красной. Других он не называл.
Интересовался Харьковом и говорил, что собирается туда. Он
просил меня зайти к нему завтра. Фамилию директора и Нач.
планового отдела (бывших эсеров) не помню. Ленского не-
трудно было найти, он был пьян на углу Пролетарской-Крас-
ной с одним толстым греком. Я его отозвал, сказал, кто к
нему послал, и пригласил его в номер. Взял пол-литра и
закуски. В беседе с ним я не верил своим глазам, что это
может быть анархист — это просто пройдоха, а не анархист.
К единому анархическому движению, которое намечалось
Харьковцами, он смотрел равнодушно и говорил, что он "это
дело оставил", что он партизан красный и прочее. Очень
339
ругался, что большевики его обходят, что не дают жить,
притесняют, — он врал, как я после узнал. Относительно
участия краснодарских анархистов в предполагаемом съезде
в Харькове он говорил, что ему лично некогда, но что он об
этом скажет "ребятам". Он назвал одну фамилию (не помню
какую) и сказал, что в Краснодаре никого нет и что налицо
только он да "отец". "Отец" — это какой-то старый каторжа-
нин из бывших народников, отсутствовал из Краснодара, и
я не мог его видеть. Другого кого нибудь он не показал и не
назвал. В Краснодаре мне больше нечего было делать. Мы
обменялись мнением, адресами и расстались. На следующее
утро я выехал в Новороссийск. В Новороссийске с поезда я
поспешил на пароход, который должен был отходить на
Туапсе на следующее утро. Времени у меня оставалось дос-
таточно, чтобы пробежать и посмотреть город. Он намного
изменился против того, что был. Но как же найти связи? В
горсаду я завел разговор с одним сторожем-стариком. Он
знает 1917—18 год Новороссийска. Знал многих партизан
красных и указал мне на своего сменщика, моих лет, среднего
роста, человека на вид моложавого. Разговорились с ним. К
нам подсели его знакомые. Очень живо говорили о партизан-
ской борьбе против Деникина, в которой он был первым
застрельщиком, а ныне инвалидом. Ругал Соввласть, что она
его обходит. Осторожно я вязал с ним разговор относительно
местных анархистов. Он заявил, что сейчас в городе нет даже
поганого. Раньше было много анархистов матросов, а теперь
их нет. "Если бы они были, кто-кто, но я бы знал". Я с ним
проваландал до вечера, а потом ушел на пристань. На прис-
тани узнал за Мацесту; что места по 350 рублей, но что их
можно получить с большим трудом на месте. Лечение мое
приходится остановить. Решил посмотреть Туапсе, куда на
закате солнца прибыл. У каждого встречного пожилого муж-
чины я спрашивал фамилии Стерлянова, Кузнецова, Солда-
тенко, Самарского, но их никто не знал. Один только сказал,
что Кузнецов (анархо-толстовец в 1917—18 г.) работает ди-
ректором на нефтеперегонном заводе. Было совсем темно.
Тогда я нашел гостиницу. Официантка была молодая и ничего
не знала об интересующих меня фамилиях. Утром я решил
вернуться в обратный путь на Ялту, Керчь, Бердянск, Харьков
встречным пароходом. Рано утром отправился на нефтяной
завод, у ворот которого думал встретить кого-либо из старых
знакомых рабочих. Кузнецова не было в городе, куда-то уехал
в командировку. На обратном пути недалеко от завода я
встретился со знакомой фигурой. Это был мой бывший
милиционер Громов. Он меня узнал. Разговорились. Он
340
партизан-инвалид теперь. Говорил, что Солдатенко и Кузне-
цов только и остались в городе. Остальных ребят давно здесь
никого нет. Анархистов или махновцев и не слышал. Громов
где-то сторожевал. Говорить было не о чем. Я поспешил в
гостиницу за чемоданом — и на пароход. В 11 часов отпра-
вился через Новороссийск на Ялту, сделал пересадку на Керчь
и Бердянск. По дороге ни с кем из знакомых не виделся. В
Бердянске встретился с Вуновским (быв. анархистом). Завя-
зал с ним разговор о местных анархах. Он утверждал, что в
городе никого нет. Есть бывшие махновцы, но они сложили
давно оружие и теперь рыбалят да пьют вино. Руновский
Ефим говорил мне, что он омещанился, но что такая масса
несправедливости, которая его волнует. Брать на себя какую-
нибудь анархическую работу в городе он воздерживался, а
потом сказал, что, если нужно, он примет участие в съезде.
Был у него на квартире (не помню улицы и номера). Живет
ничего, хотя и получает немного, работает на вокзале носиль-
щиком.
В Новороссийске картина была следующая. И не только
там, но и везде, где только я бывал в мои рейды в 1927—28 г.
Все коммуны были превращены в первые коллективы, а их
анархические застрельщики были высланы, пара калек из
молодняка уже были перевоспитаны в комсомольцев. Наш
анархизм на селе с его коммунами потерпел бесповоротно
фиаско окончательно в 1919 году. Павел Гончаренко только
пришел из ссылки. Вдовченко и других еще не было. Говорить
о какой бы то ни было противосоветской работе было не с
кем.
Тоже было и в Гуляй-Поле — коммуны стали колхозами.
Анархозастрелыцики их изъяты орг. ГПУ еще в 1929 году.
Часть была еще в ссылке, а некоторые драпанули в Донбасс.
Василий Шаровский — в Белую церковь Киевской губ. Влас
Шаровский — в Каменское. Чучко еще был в ссылке. Един-
ственно кого встретил — это Максима Подкову, который
бежал с этапа и скрывался в Бердянском районе. Да и тот
ногами и руками открещивался и не признавался. К тому
времени харьковские анархи все еще собирались с духом.
Артель почти уже вступила в организованный период. Наез-
дом Харьков посетил Рейдман, приехала из Ташкента Реве-
ка — мой непримиримый враг. Я сделал на квартире у
Цемника информацию о своей поездке. Присутствовали Цем-
ник, Захаров, Рудзинский, Иванов 1-й, кажется, Козлов. Все
приуныли, когда бы не вышло мыльного пузыря из единого
анархизма. Но Захаров стоял на своем: "Если за пределами
Украины нет анархистов, то это не значит, что их нет на
341
Украине. Стоит только сагитировать на это Барона, и все
будет в порядке. Синдикалисты нас дополнят", — говорил
он. С ним были все согласны.
Смотря на всю эту галиматью, я не мог дальше оставаться
в Харькове среди этих людей, меня тянуло к творческой
технической и литературной деятельности, которую я наме-
тил себе на ближайшие три года. Кроме того, я устал и
нуждался в отдыхе. Я решил оставить Харьков и переехать
в Краснодар. Этот вопрос был согласован с Козельским, и,
получив разрешение, я выехал.
На следующий день моего отъезда, 1/II-34 г., славное ГПУ
прекратило существование "Набата". Две коммуны были
ликвидированы, а Цемник, Захаров и Иванов 1-й, Козлов и
другие (8 чел.) были арестованы. Анархизм разбился. Цемник
выслан был в Новосибирск, Захаров — в Архангельск, Ива-
нов — в Ташкент, а Корун (из Москвы) — в Нарымский Край.
Остальные были освобождены.
Гипроруде я продал собственную пиш. машинку за 13.000
руб. Это были мои средства, на которые я должен был жить
и работать свои технические вещи. В течение трех лет. Я это
и делал, не принимая никакого участия в пресловутом анар-
хизме, который давным-давно перестал меня занимать. Но я
лично много наделал себе бед. Я оторвался от анархической
среды и стал совершенно бесполезным гражданином.
По приезде в Краснодар я нашел Ленского, с которым
искал целых две недели купить домик, только теперь я к
нему присмотрелся, что это за анархист. Ничего в нем нет
анархического, если не считать, по его словам, прошлого. Он
водил меня за нос и не мог познакомить меня с анархистом-
катаржанином, пока я с ним окончательно не рассорился. Он
меня обставил на комиссионных за дом на 700 руб. Вначале
ежедневные встречи с ним приводили к разговорам о том,
чтобы поставить в Краснодаре на анархическую работу, найти
и привлечь к тому людей. Но он отмахивался и говорил, что
это сказка и что нет в Краснодаре людей на это самоотвер-
женных, нет анархистов. Я его убеждал, что найти их надо,
а если нет, надо воспитать. Я видел, что он увлекается
мещанством и после ссоры перестал с ним здороваться.
Дом был куплен у помещика Тихоненко по Ново-Мартин-
ской,7, задаток уплачен, но ввиду того, что из Гипроруда не
высылала мне своего за машинку долга, подписание договора
затянулось до 15/V-34 г. В апреле пришлось выехать по этому
вопросу в Кривой Рог и Харьков. Купила машинку Криво-
рожская Гипроруда, которая была подчинена Харьковской.
Последняя тянула утверждение финплана. В Харькове ви-
342
делся с Рудзинским, женой Цемника, Чубенком Алексеем и
другими. Все говорили о помощи ссыльным. "Летопись ре-
волюции" мне была должна. Я дал доверенность жене Цем-
ника, чтобы она получила 150 руб. и разделила их между
идущими в ссылку.
По возвращении моем в Краснодар в конце апреля (если
не ошибаюсь) на базаре я случайно встретил Ивана Лепет-
ченко. По его словам, приехавшего сюда за кизилевыми
ручками для завода "Ильича". Он остановился в доме приез-
жих. У меня был один вечер, через день уехал в Абинскую
отгружать эти ручки. Помню, в общих чертах наш разговор.
Он очень жалел, что приехал в Россию из Польши. Кроме
того, он был доволен своим положением. Единственно, что
его беспокоило — это ГПУ. Он очень ограниченный махно-
вец-рубака, и только, но теперь он заговорил следующее: что
черкесы — народ свободолюбивый, и, если бы тогда Махно
появился здесь, он нашел бы успех. Жаловался, что ГПУ
притесняет сложивших оружие махновцев, как-то: арестовы-
вает и ссылает их незаслуженно. Он говорил мне, что если
кто-нибудь будет скрываться, то будет посылать его на Кавказ,
где, видно, можно еще пожить. Ругал махновщину, что из-за
нее приходится страдать, но тут же выражал недовольство
на ГПУ, которое, по его словам, не дает ему жить. Я ему
говорил, что скрывающиеся от преследования махновцы
могут сюда не приезжать, а лучше устраиваться в Донбассе
на заводах, рудниках. Кроме того, здесь им нечего делать, а
там они могут быть более полезными по сколачиванию
анархических групп. После этого он согласился. Больше того,
он имел охоту и сам переехать сюда, если бы можно было
найти здесь для него работу и "улизнуть" от ГПУ. Он говорил
мне, что старший его брат Саша Лепетченко недавно из
Гуляй-Поля переехал не то в Царицын, не то в другое место —
на Дону, — точно не помню.
Лепетченко я не мог понять — с одной стороны, он был
лояльным к Соввласти, с другой, настроен против ГПУ. Кроме
того, он говорил о перекочевывании сюда махновцев, о черкесах,
чуть ли не о восстании. Я его осаживал, говорил, что всякое
активное выступление кучки людей без поддержки народа
есть просто политическая афера. После этого он больше не
заикался.
Месяц или полтора спустя, в конце мая 1934 года, он снова
приехал под предлогом за теми же ручками, остановился у
меня, а утром сказал, что едет в Абинскую. Теперь он менее
был приподнят против ГПУ, черкесах, перекочевывании
махновцев на Кубань и прочей галиматьи, а больше говорил
343
о своем заводе, о семье, о Левке Задове и Даньке. Он мне
сказал, что в Одесском ГПУ с Левкой работает Каретников
Пантелей, и что они приглашают и его туда. На политические
темы, насколько помню, я не говорил. Я просил его поговорить
с Трубачем — зам. директора по снабжению завода "Ильича",
который меня знает по работе в Югостали и Стали, что, если
заводу нужно, я могу принять на себя службу представителя
завода по снабжению и отгрузкам кизилевых ручек. Он
обещал, но ничего не сделал. За все время пребывания моего
в Краснодаре ко мне, кроме Лепетченко, в том же 1934 году
приехала семья жены — мать, ее сестра и брат. В декабре
приехали, а в феврале уехали. Из Кореновки приезжал Орлов
(имя не помню), с которым я был на заводе Седина у главинжа.
Орлов хотел перейти и перешел туда на работу плановиком.
Директора и зав. планового отдела (быв. эсеров) тогда на
заводе не было. Были другие лица. Орлова в то время
исключили из партии, и он писал у меня на пишущей машинке
заявление райпарткому. Был ругливый на тех, кто непра-
вильно его исключил из партии. Теперь он работает пом.
прокурора г. Краснодара и очень доволен этой работой. Он
меня знает как бывшего анархиста, ныне беспартийного. Я
с ним очень редко встречался, а еще реже говорил на поли-
тические темы.
Случайно встретил полтора года тому назад своего сталин-
ского сослуживца Шляпникова, вернувшегося из ссылки. В
свое время он был представителем ЧЕКА г. Николаева. Сам
был больше синдикалист, чем коммунист. Один раз он ко мне
зашел на квартиру и мы с ним пошли к квартирному
маклеру — он искал квартиру. Он был очень недоволен
Компартией и Соввластью. Он открыто говорил, что в "России
полный фашизм" и что он никогда больше не поступит в
партию, а лучше будет доживать свои годы мещанином.
Говорил, что если бы во главе был Троцкий — этого не было
бы. Связан ли он с кем-либо или нет — неизвестно. К
анархистам Шляпников относится очень положительно и
жалеет, что нет влиятельной группы. Со своей стороны я ему
поддакивал и симпатизировал. Живет Шляпников, не знаю
где в городе. Занимается обойной работой. Встречался с ним
не более 5 раз за все время.
Если не ошибаюсь, в 1936 году ко мне впервые пришел
солидный довольно интеллигентный мужчина. Вызвал во
двор и отрекомендовался (не помню фамилию). Он переспро-
сил мою фамилию и в руках, кроме портфеля, держал справку
адресного стола. Он сказал мне, что имеет из Новороссийска
от своего хорошего друга, по фамилии не то Науменко, не то
344
Сидоренко просьбу разыскать Виктора Белаша. Дальше он
заявил, что бывший народник-каторжанин и что в настоящее
время работает в качестве коменданта общежития студентов
коминститута. "Работа не нравится, но негде деться". Я ему
сказал, что такую фамилию не помню. Он дал пояснение, что
новороссиец вместе со мною сражался в 1920 году против
Врангелевского десанта. Но я в то время был на Украине.
Старику было неловко, но он поправил себя: "Значит, вы
одноименец и однофамилец". Он говорил мне, что тот работает
где-то в Новороссийске плотником и что он собирается ехать
в Геленджик на курорт и сумеет к нему зайти. Он приглашал
меня к себе в общежитие на плотничьи работы. Но я ведь не
плотник. Когда он ушел, я догадался — не "отец" ли анархиста
Ленского, о котором он мне говорил.
Через полгода он снова зашел ко мне с просьбой продать
ему, если у меня есть, водомерные стекла к котлам парового
отопления. Я сказал, что нет и спешил что-то делать. Он с
тем и ушел. Я не посмел его остановить, потому что не хотел
связываться с ним и нарушать мещанское благополучие. Это
мое преступление.
Из числа политических людей, какие со мной встречались,
принадлежат и Казинцев (не знаю имени). Живет на Базарной
улице, ворота рядом с Госбанком к Красной. Занимается
швейными машинами. Сам из Луганска, бывший член партии
и комиссар красной дивизии. Большой забулдыга, но поли-
тически грамотный. Очень ругливый, очень непримиримый
к сталинскому руководству, В момент, когда были расстре-
ляны Тухачевский с группой, он громко возмущался на базаре
и говорил, что "рано или поздно, но Сталина снимут пулей,
нетерпимо стало жить". Я его одернул, но он обругался по
матери и сказал — "мне уж все равно погибать, а я говорю
то, что на сердце". Он был трезвым. Я с ним не особенно в
близких отношениях. Год тому назад я продавал токарный
станок, он обещал найти покупателя и пришел посмотреть
его. Он всегда с критикой и руганью на Соввласть. Однажды
и я был у него на квартире и купил за 400 руб. разбитую
пишущую машинку "Иост". Он всегда и при встрече любит
говорить на политические темы. Я не говорил ему, кто я в
прошлом и настоящем. Не особенно ему поддакивал, но скорее
удерживал его. Замечал его знакомых, они тоже похожи на
него, ругливые и критикующие Соввласть, да еще где, на
базаре. Другое дело исключенный из партии и уволенный из
системы Заготзерно, как вредитель, Титов (имени не знаю).
Живет против конторы порта. Он электрик, и на этой почве
я с ним познакомился 1—2 года тому назад. Он не ругливый
345
вообще, но ругается на свою партячейку, которая его исклю-
чила, и на краевого директора, по его — вредителя, Авсенть-
ева, надеется восстановиться в партии.
Особо от этих людей стоит Василий Баранов, с которым я
познакомился, кажется, в апреле или мае 1937 года. Это
анархосиндикалист из Ростова. Отбывал одну ссылку в Ста-
линграде, другую в Нарымском крае, вместе с Долинским,
Немерицким, Рейдманом и Володарским. Знакомство мое с
ним произошло на чисто технической подкладке, живет он
через улицу от меня (через 6 домов). Я просил у него достать
бензина на мотоцикл, отчего позвал его к себе на квартиру,
где познакомились и нашли общих знакомых анархистов:
Долинского, Немерицкого, Рейдмана, Володарского и Школь-
никова. Он очень осторожный, идейный, вполне политически
подкованный человек. Просил его заходить ко мне, он обещал,
но не заходил. Суммирую общий разговор с ним. Он очень
интересуется событиями в Испании — кто кого повалит,
республика или фашизм, — большевизм или синдикализм.
Очень жалеет, что в России нет условий для синдикалистского
развития, отсутствуют организационные формы, нет единства
действий. Очень жалеет, чтобы синдикализм взял верх над
большевизмом, если победит Республика. Русский больше-
визм и Сталинское руководство ставит наравне с положением
в Германии — "рабочие закабалены государством", — говорит
он. Но его мнению нужны анархо-революционные силы, дух
протеста; чтобы влить в массу веру в забастовки и организа-
цию антигосударственных профсоюзов, — заявляет он. Но,
когда я начинал говорить относительно того, что рано нам
идти к забастовкам, что надо сперва иметь с чем идти, т. е.
надо иметь анархистов, — он тут начинает говорить о труд-
ностях пропаганды. Я его склонял на путь воспитания и
вербовки молодняка, а он мне торочит о забастовках. По его
словам, здесь нет людей, которые бы тебя понимали. Моло-
дежь фашистская, или пустая: "хи-хи-ха" и больше ничего
не знает. Зато, с его слов, рабочая среда в Сталинграде была
очень податливая, особенно на химическом комбинате, где
он работал. Группа анархо-ссыльных в блоке с троцкистской
ссыльной молодежью устраивали рабочие забастовки, орга-
низовывали срыв против займа 1-й пятилетки, против уве-
личения норм и пр.
Баранов заявляет, что он там играл первую роль. Не помню,
где, в Сталинграде или Астрахани, вместе с ним был Изя
Школьников, работая техником при Коммунхозе. Он тоже
принимал участие в их подрывной работе. Очень скучает по
Сталинграду, Самаре и Саратову, где есть и рабочие —
346
пролетарии, и есть единомышленники, по его утверждению,
в Краснодаре и вообще на Кубани "не светит" анархистам.
Ибо крестьяне более зажиточны, а рабочие не совсем ©про-
летаризированы. Ему ничего не надо — маленький оклад
жалованья, хатенку, коровенку и свинушки. К анархизму,
забастовочной борьбе его не склонишь. Еще лучше в концла-
герях — там народ набрасывается на нашу идею и становится
анархистом, а в худшем случае — попутчиком.
Мне очень хотелось контактировать с ним свою работу. Я
говорил ему, что надо работать, что у меня ведется тоже
работа, особенно по станицам, указывая метод работы —
одиночного воспитания, но своих кадров я никогда не думал
ему показать. Он же говорил, что ему не удается и что есть
в городе, — это его единомышленники, с которыми он сюда
приехал, бухгалтер какого-то учреждения и его жена. Он
говорил, что за ним следят, проверяют, но я подозреваю, что
он просто преувеличивает, а может быть, и врет, когда
говорит, что у него нет кадров. Он пробовал устраивать (по
его словам) забастовку хлорировщиков, которые по городу
обеззараживают клозеты. Говорит — удачно прошло, жало-
ванье увеличили. Пытался то же сделать с шоферами, но тут
не была выдержана до конца конспирация. Затем он был
оттуда выгнан. Не буду утверждать, есть или нет у него свои
кадры (синдикалисты), но можно прямо сказать, что попут-
чики, сочувствующие были, хотя бы те, которые выиграли
забастовку. Я бывал у него один раз на квартире. Один раз
и он у меня был. Больше не удалось его затащить к себе.
Чаще встречались на улице при встрече и на почте. Он получал
свои письма до восстребования, и я тоже, там мы случайно
иногда встречались. С его слов знаю, что когда он был в
Нарымской ссылке, в момент, когда отъезжали Немерицкий
с женой, Рейдман с женой и Володарский, то у них было
предварительное совещание — кто куда едет и зачем. Они
условились не прекращать борьбы против Соввласти. Неме-
рицкий уехал в Симферополь, Рейдман в Баку, Володарский
в Харьков. Все они поддерживали связи с Долинским и
Барановым, получали денежную помощь. Но не только от
них получали, им посылали и из Парижа. Вела с ними
переписку, если не ошибаюсь, синдикалистка Фаня. Баранов
имел с ней переписку и в Краснодаре. У Баранова, по его
словам, есть связи в Астрахани, Ростове, Сталинграде, Сама-
ре, Саратове, Москве и Ленинграде.
Вслед за Барановым идет бывший левый эсер Максим
Терентьевич Колесников, купивший у Кафеджана дом по
Ново-Марьинской, 7, за 10.000 руб., вместе с Макаровой.
347
Настроен он явно против Соввласти. По его словам, он стоял
у красных под дулом и "глазом не моргнул". Его совладелка
говорит, что он ограбил в Новосибирске сберкассу и удрал в
Краснодар. Работает на мельнице по Новой улице (если не
ошибаюсь) и систематически носит оттуда муку. С его слов
можно заключить, что он и его земляк на пару занимаются
вредительством путем систематической недовыработки
нормы, закрытием и поломкой мучных проходов. Эти вещи
они болтали при мне. Фамилия его земляка Мамонтов (где
живет в собственном доме — не знаю). Кроме того, Колесников
очень ругает Соввласть за налоги, смеется с выборов и
конституции, очень ругает НКВД за арест ихнего крупчат-
ника, который принял его на работу и который никогда не
мог вредить. Как-то он собрался ехать в Ново-Сибирск. Я у
него спросил, есть ли там анархисты. Он ответил есть. Я
просил его взять мое письмо для них. Он согласился, но ввиду
того, что поездка не состоялась — последнее осталось разго-
ворами. Это тип, который в любое время может поддержать
антисоветское выступление.
Бывший плантатор табака Саркис Кафеджан (уехал на
время в Тифлис), а с ним и колхозники — братья Мурадьян
Сергей и Манук настроены против Советской власти. Они
очень ее ругают, ругают особенно НКВД за то, что забрали у
Кафеджана в 1930 году золото, много табака, а Манука
выслали. Манук вернулся из ссылки в 1934 году и работает
в колхозе имени Баракая, Псекпского района конюхом. Очень
недовольны колхозы и ведут разлагательную склочную рабо-
ту. Вообще этот колхоз состоит из бывших богатеев-планта-
торов, имевших наемные рабочие руки.
Когда был здесь Кафеджан — хозяин дома по Н-Марьин-
ской, 7, то всегда он агитировал своих армян против колхозной
жизни. Дом у него был на пару с Мурадьяном Сергеем. Они
его купили в 1935 г. за 6.500 руб., а в 1937 году продали за
16.000 руб. Председатель колхоза тоже "парень свой", они
расхищают и дают государству не то, что надо, а меньше.
Менее публика из серии моих знакомых краснодарцев в
части ругани и недовольства Соввластью состоит из следую-
щих лиц: помещик Тихоненко Петр Порфирович (Ново-Марь-
инская, № 8), Беляк, Курочка, Федорченко или Федоренко
Андрей, часовой мастер при комиссионном магазине (не знаю,
как фамилия) Белодед, Шулев, несколько фамилий не помню
электриков.
Вся эта компания тоже недовольна и втихомолку ругливая.
Она тоже при достаточном освещении ее взглядов и дей-
ствий — требует переработки и перекалки. Я имел с ними
348
мещанские связи и иногда только поддакивал их возмуще-
ниям. В этом я глубоко виноват. Виноват и в том, что все эти
знакомые более или менее контрреволюционно настроенные,
их слова и возмущения оставались у меня под спудом. Я не
передавал их куда следует и способствовал их развитию,
проще — я смотрел на эти явления как на болезнь и не
придавал им никакого значения — поэтому я не советский
гражданин, я делал злоупотребления.
За это время я сам слишком омещанился, слишком увлекся
в сторону от революционной борьбы. Прожил три года и
ничего не сделал хорошего на пользу государства. И что было
бы, если бы эти три года я был там, где есть контрреволю-
ционно-анархическая среда, т. е. на Украине? Я бы сделал
очень много полезного. Здесь же, ввиду отсутствия среды, я
ленился и подло оторвался от революции. В этом моя непро-
стительная вина. Борьба шла, она идет и сейчас, а я из-за
технических увлечений стоял в стороне и только наблюдал,
даже больше — скрывал возмущавшихся от наказания.
Но я достаточно наказан уже. Мне хочется искупить свою
вину перед Советской властью, о чем прошу Вас предоставить
эту возможность с пользой здесь или на Украине.
26/ХИ-37 г. БЕЛАШ.
К машинописному тексту следует приписка от руки:
"Собственноручное показание мною прочитано, в чем и под-
писуюсь".
В. Белаш.
Допросил Вр. Нач. 3 отделения 4-Отд. УНКВД КК Лей-
тенант Госбезопасности (Исаков).
349
Нестору Махно 18 лет.
Н. И. Махно (1909 г.).
Командир 1-й Заднепровской дивизии П. Е. Дыбенко и комбриг-3 Н. И. Махно (1919 г.).
Н. И. Махно (в центре) и Ф. Щусь (первый справа) в 1919 году.
В. Ф. Белаш — начальник штаба Революционно-Повстанческой Армии Украины
(махновцев).
Т. Я. Вдовиченко, командир 2-го Азовского корпуса махиовской армии
Левка Задов (Л. Н. Зиньковский).
Махно и махновцы. Бердянск, 1919 год.
Слева направо первый ряд:
П. Белочуб, Н. Махно.
В. Куриленко, Ф. Щусь,
Я. Озеров, А. Чубенко.
Вто-
рой ряд: А. Ольховик, П. Пузанов,
Новиков.
Н. И. Махно (1920 г.).
Н. И. Махно в Румынии. 1921 год.
Н. И. Махно с дочерью в Париже (1927 г.?).
,,Матерь Галина". Г. А. Кузьменко в годы гражданской войны. Гуляй-Поле.
Г. А. Кузьменко. Джезказган (Казахстан). 70-е годы.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора 3
«Вырос в Мариуполе"?! 6
Товарищ Нестор, его подруги и мариупольские анархисты 14
«Мариуполь с победой прошли мы..." 27
Начальник политотдела 36
Жизнь и гибель Василия Куриленко 41
Уголь для Питера 56
Кавалер ордена Красного Знамени №4 64
Так кто же он все-таки, Лева Задов? 74
Личный телохранитель 99
Предсмертная исповедь Виктора Белаша ... 127
Первая дама Гуляй-Поля 141
«Я воспитал в себе глубокую ненависть к антисемитизму..." 161
Они защищали свой дом (Мариупольские греки и Махно) 173
Генерал Максим Козырь 191
Если бы победил Махно 211
„Ой, жінко, веселись, в Махна гроши завелись" 221
Единственная дочь Нестора Ивановича 228
«Честный революционер* (Попытка портрета) 235
ПРИЛОЖЕНИЯ
Часть первая
Доклад политкома 3-й бригады Заднепровской дивизии о политическом
состоянии частей бригады. 5 марта 1919 г 263
Доклад Мариупольского парткома КП(б)У о повстанческой борьбе про-
тив деникинцев в Мариупольском уезде. 20 марта 1919 г 264
Телеграмма начальника 1-й Заднепровской дивизии Совнаркому УССР
об освобождении г. Мариуполя Советскими войсками и победе над деникин-
цами. 2 апреля 1919 г 267
Из рапорта командира Мариупольского военного порта в штаб бело-
гвардейского Черноморского флота о занятии г. Мариуполя советскими
частями, движении крестьян и восстании рабочих в тылу белогвардейцев.
Начало апреля 1919 года 268
Сообщение из Мариуполя о взятии города Третьей бригадой 270
Из доклада временного исполняющего обязанности политкома 1-й
Заднепровской дивизии о состоянии политической работы в частях и среди
населения. 2 апреля 1919 г 272
Докладная записка политкома о положении в бригаде Махно 274
Доклад политкома 3-го резервного полка в политотделе 2-й армии о бо-
ях под Новониколаевской. 22 апреля 1919 г 276
Резолюция чрезвычайного Съезда Советов Мариупольского уезда о борь-
бе с бандитизмом. 278
Приказ отдела управления Мариупольского Военно-революционного
комитета всем подрайонам и волревкомам от 25 ноября 1920 г 280
Честь вторая
Всеволод Вишневский. „Махновцы", рассказ 282
Часть третья
«Огонек" 20-х годов о Махно 303
Часть четвертая
,,Собственноручные показания обвиняемого Белаша Виктора Федоро-
вича". Публикация материалов из архива КГБ Л. Д. Яруцкого 309
Литературное произведение
Лев Давидович
Яруцкий
МАХНО И МАХНОВЦЫ
Технический редактор Р. Д. Гольдштейн
Корректоры М. А. Гречушкина,
3. С. Мезяк.
Сдано в набор 26.07.94 г. Подписано в печать 29*11-94 г. Формат 84х108*/32. Бумага типо-
графская. Гарнитура Школьная. Офсетная печать. Усл. печ. л. 38,64- Фиэ. печ. л. 23.
Тираж 10 000 экз. Заказ 1751. ЛВ а* 424.
Барановичская укрупненная типография. 225320, г. Бврановичи, Советская, 80.