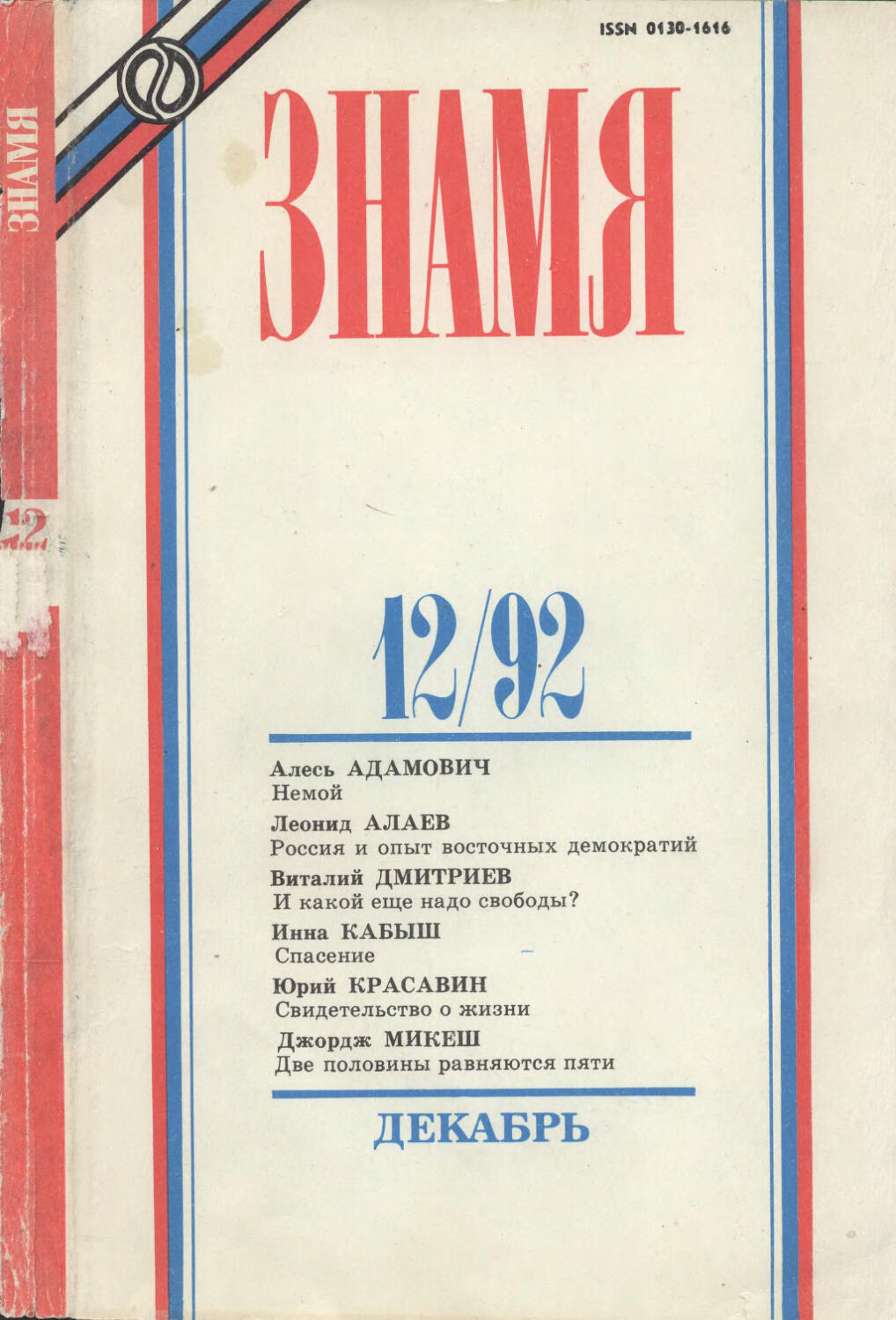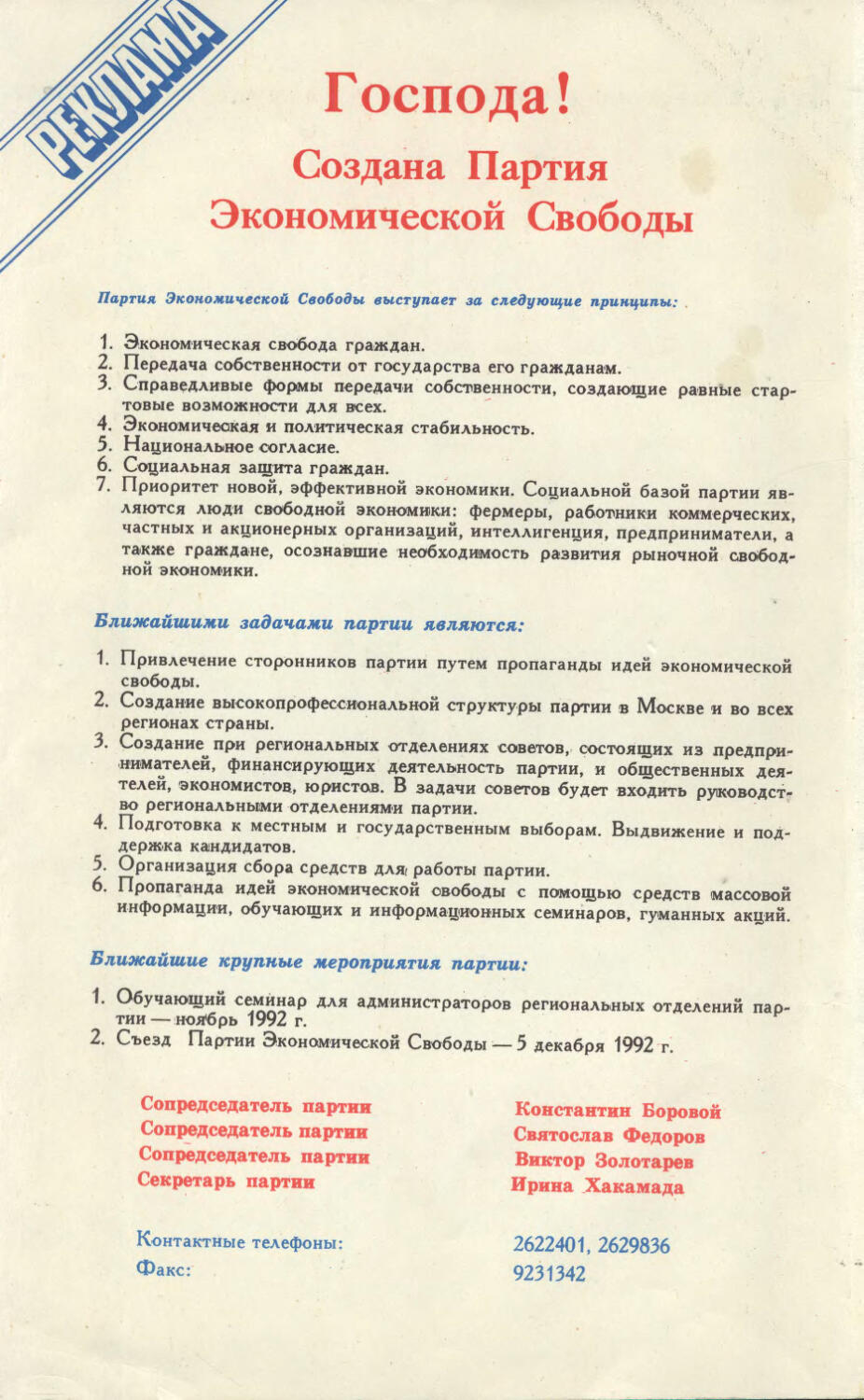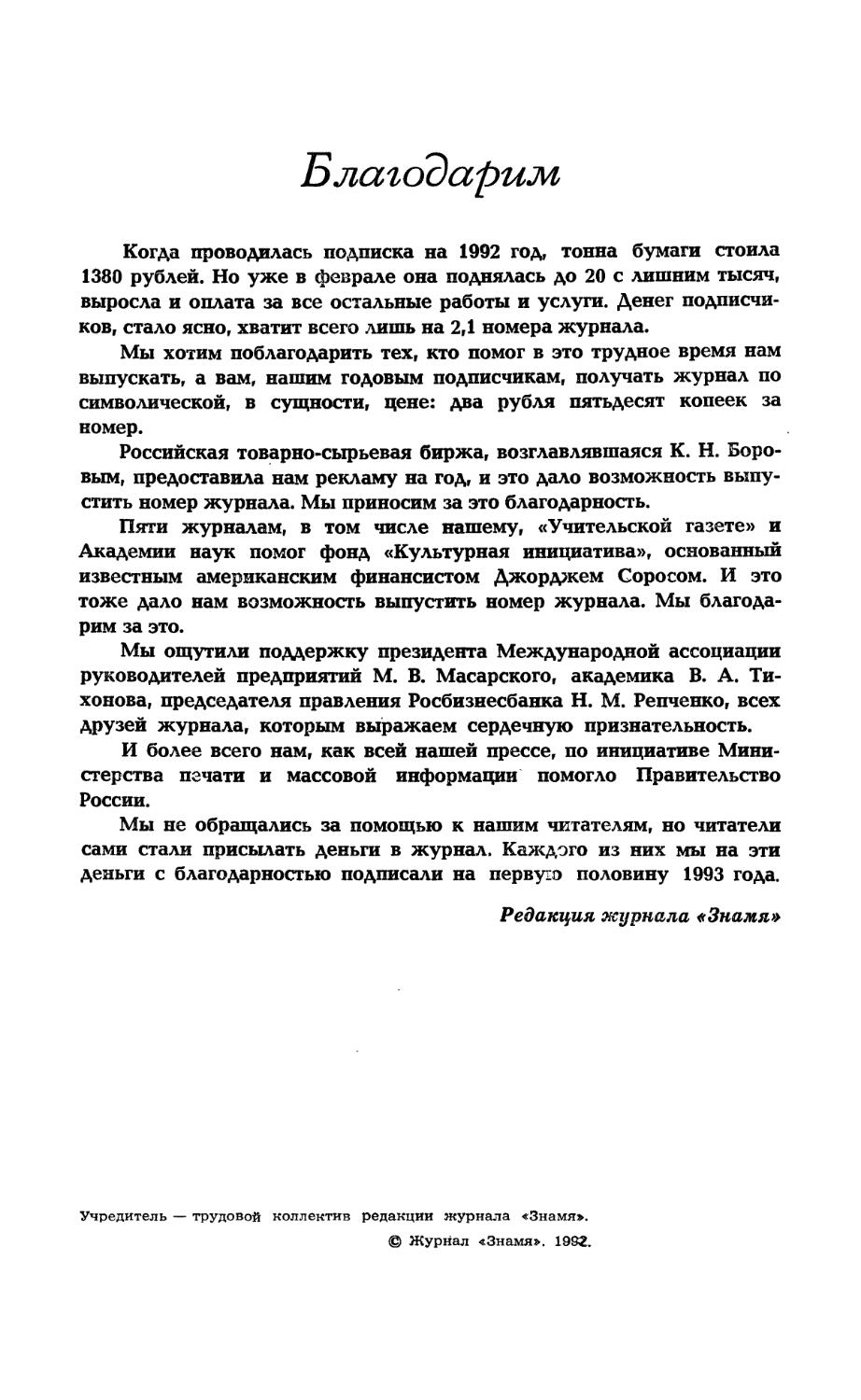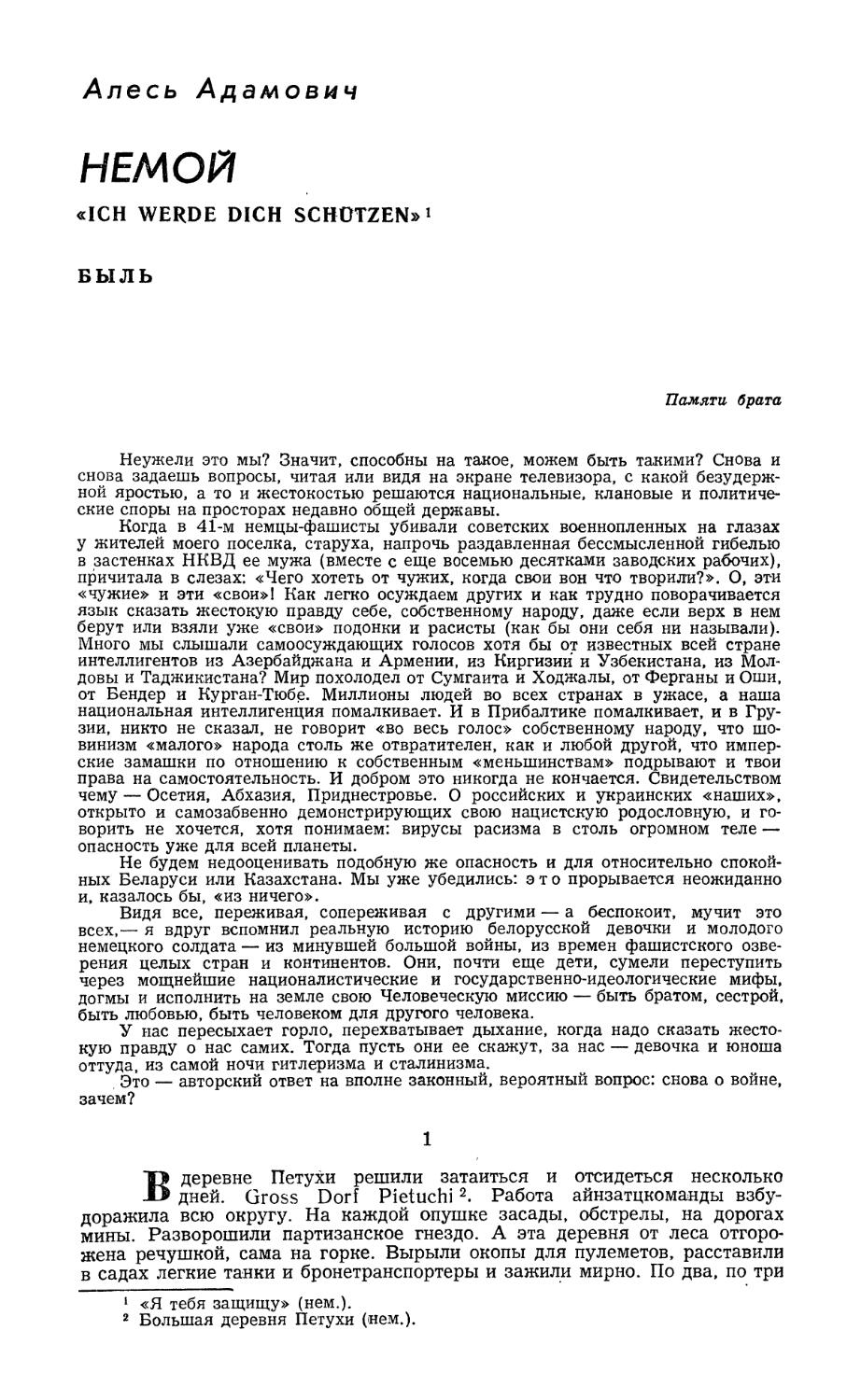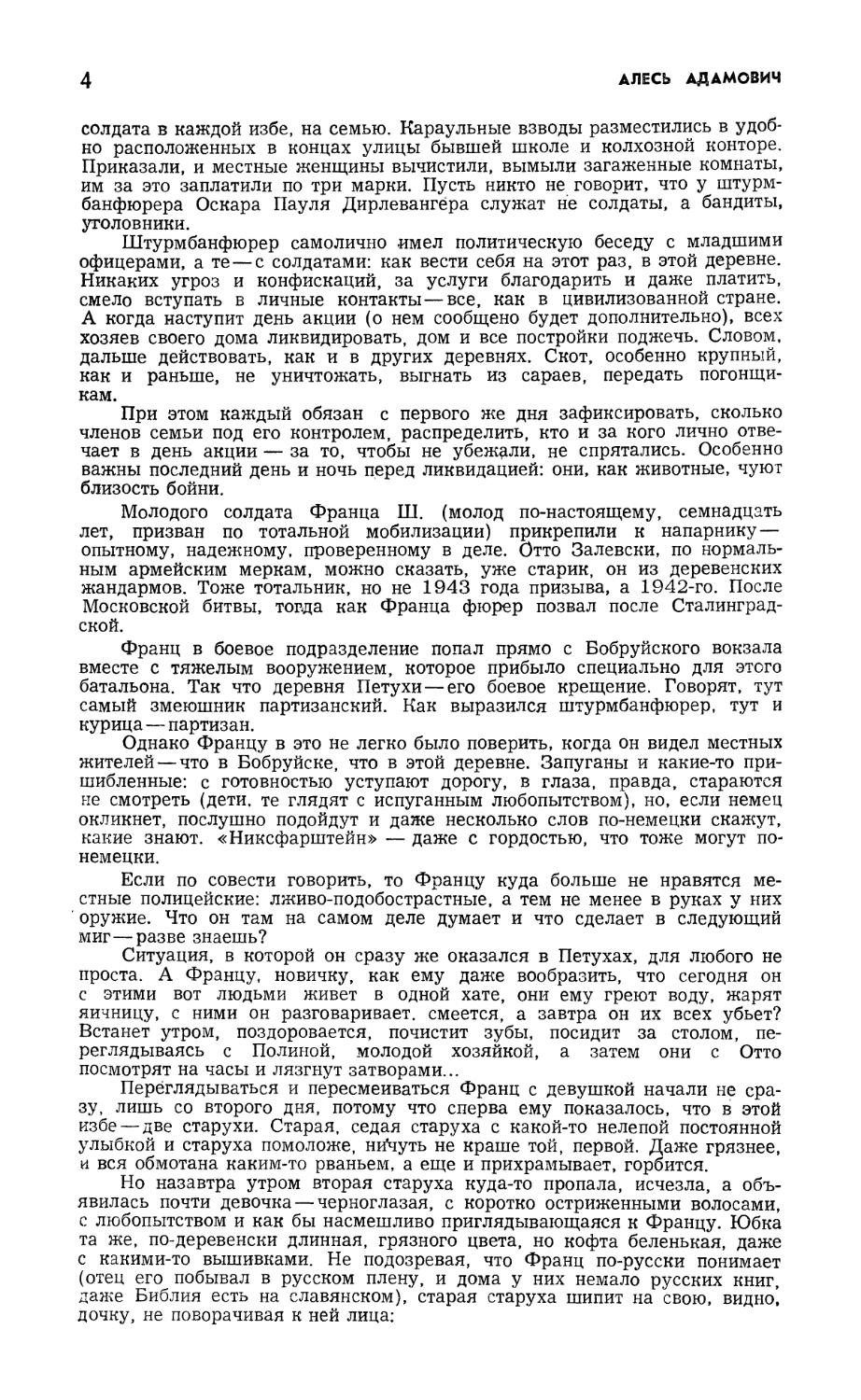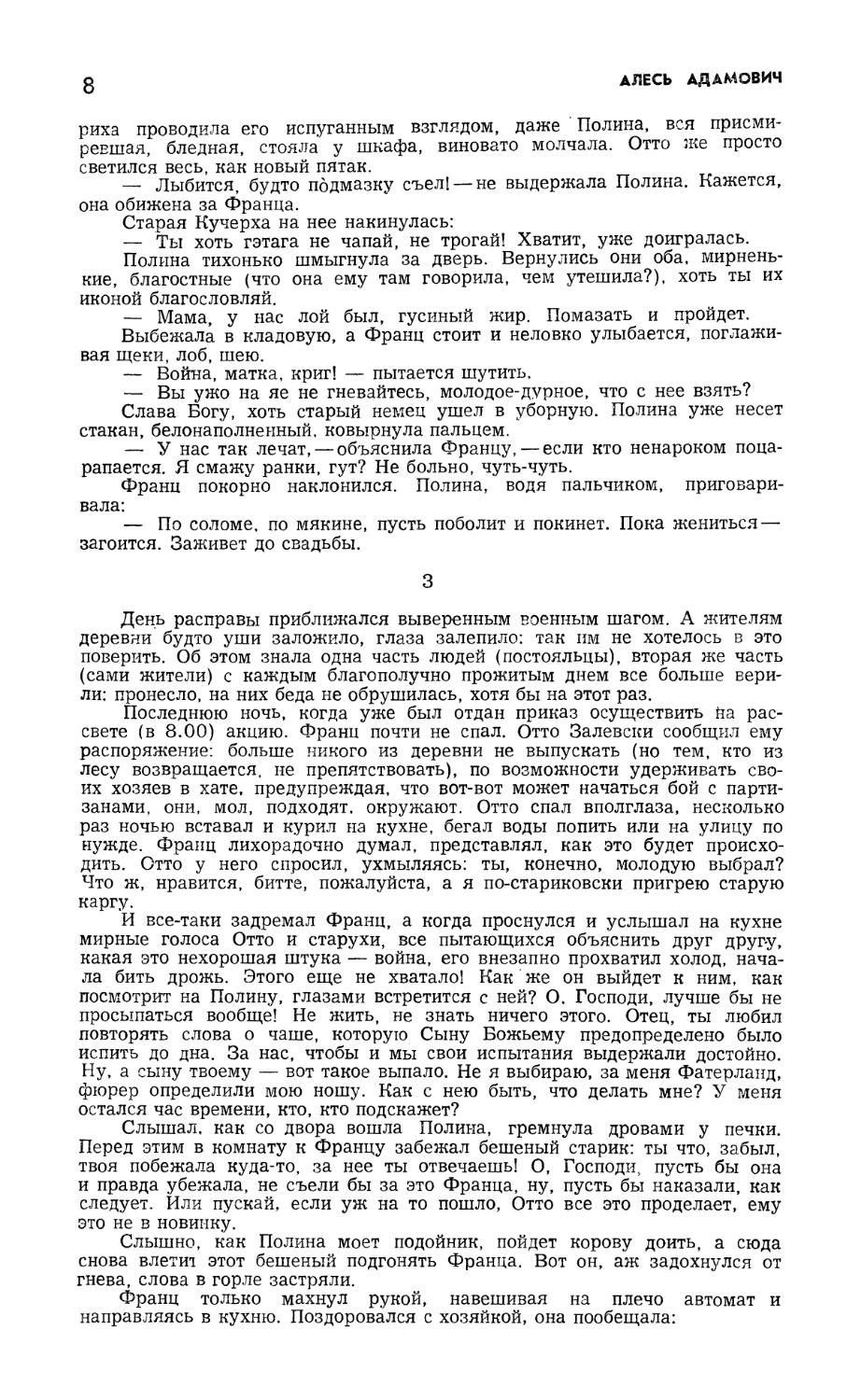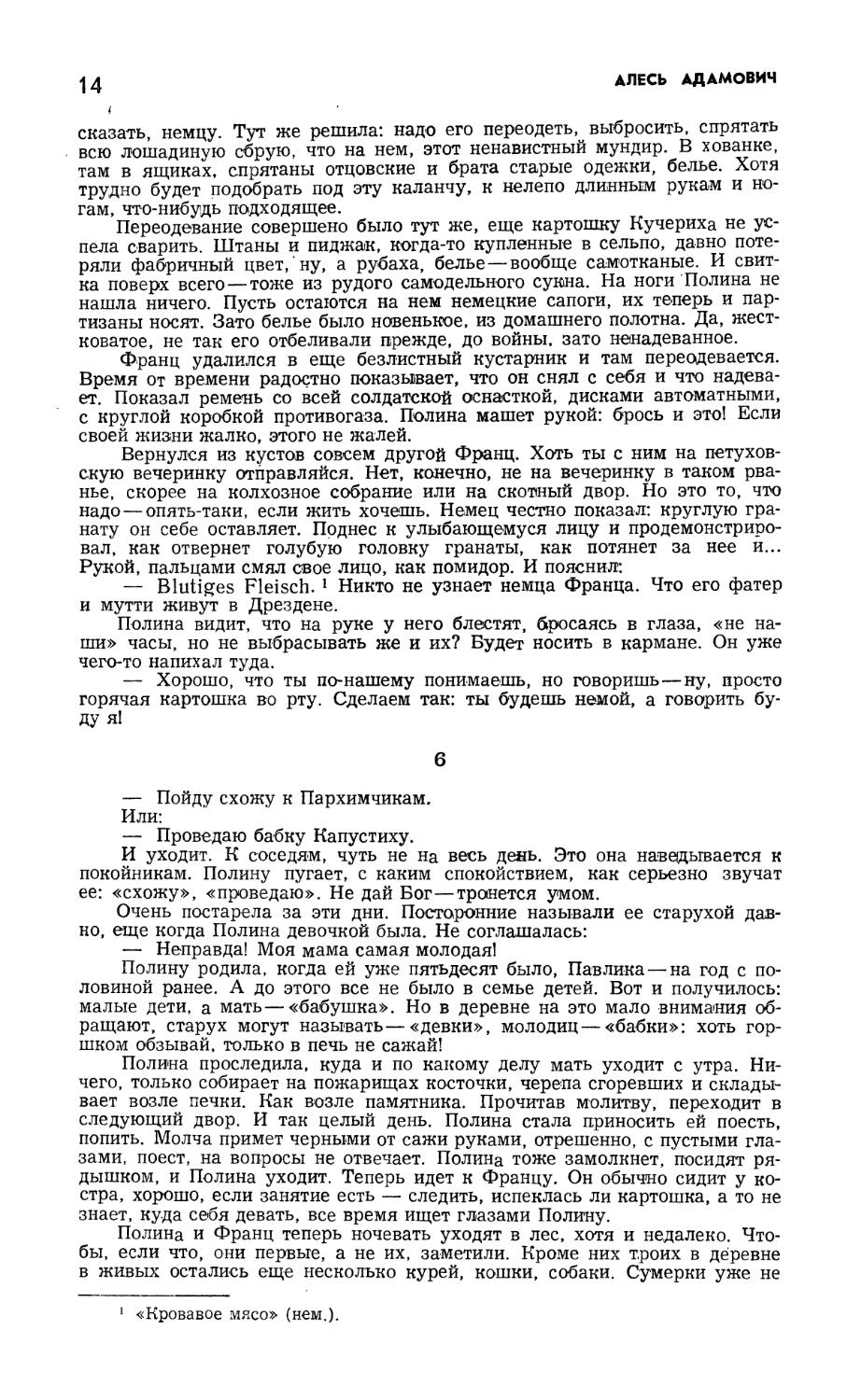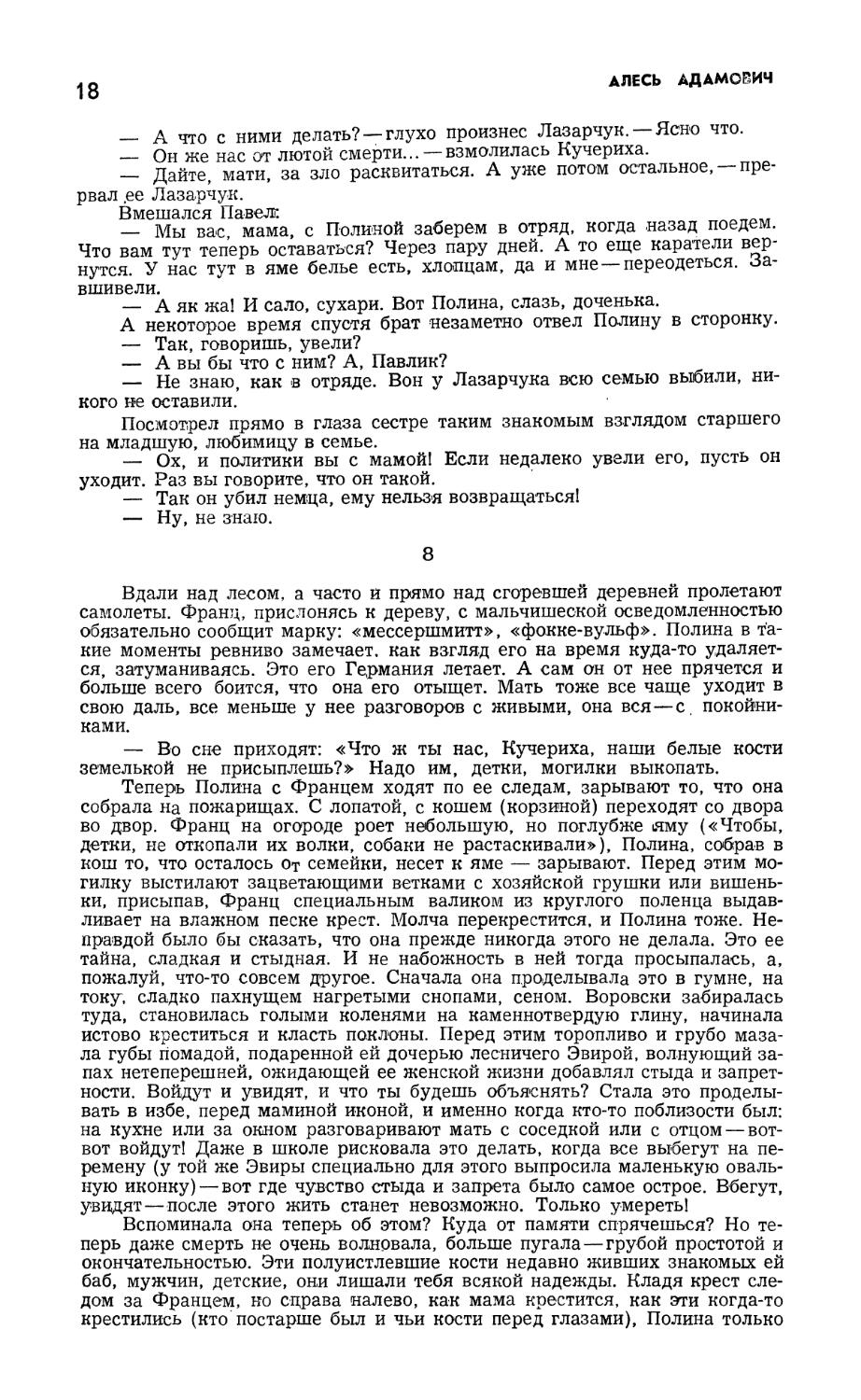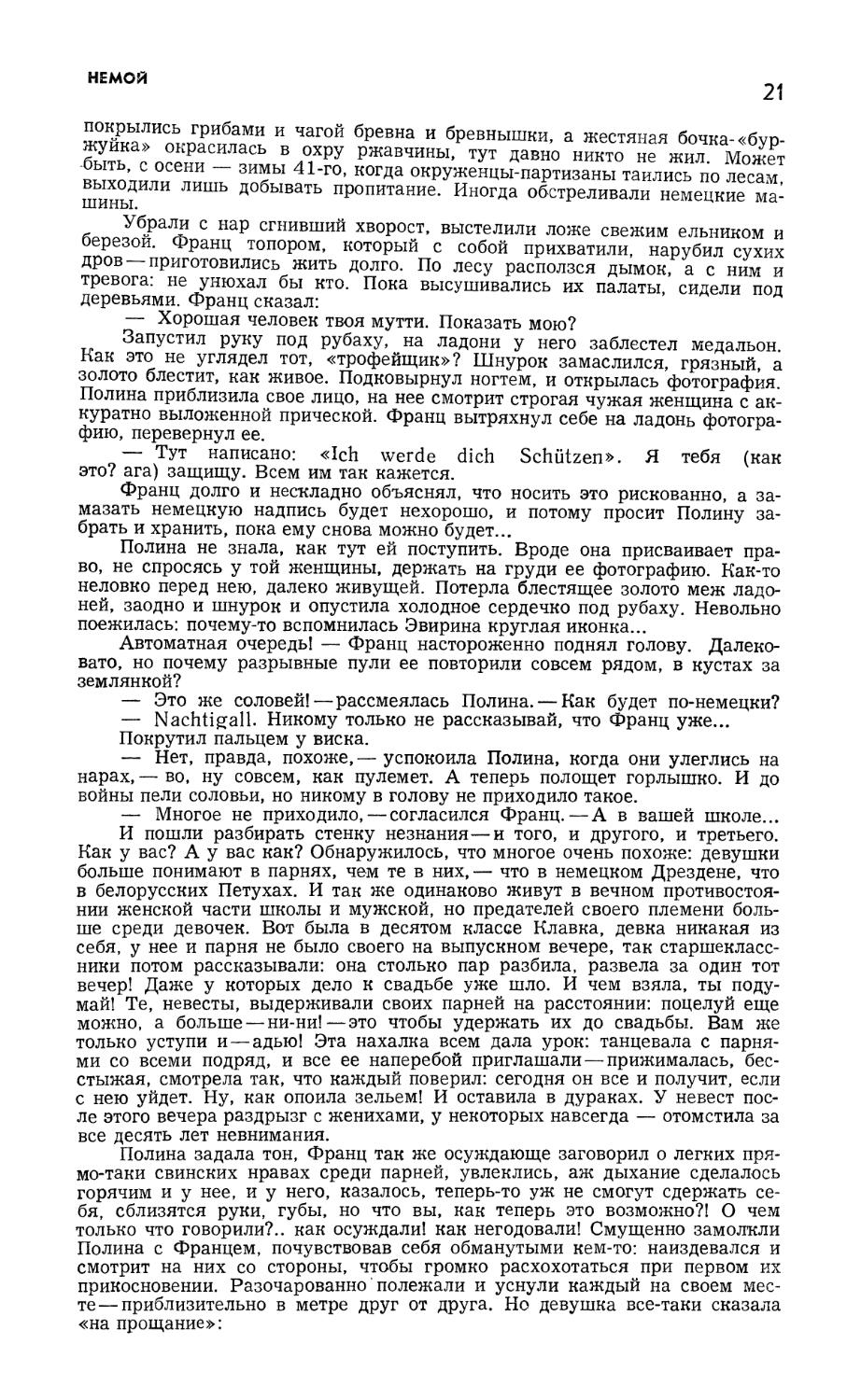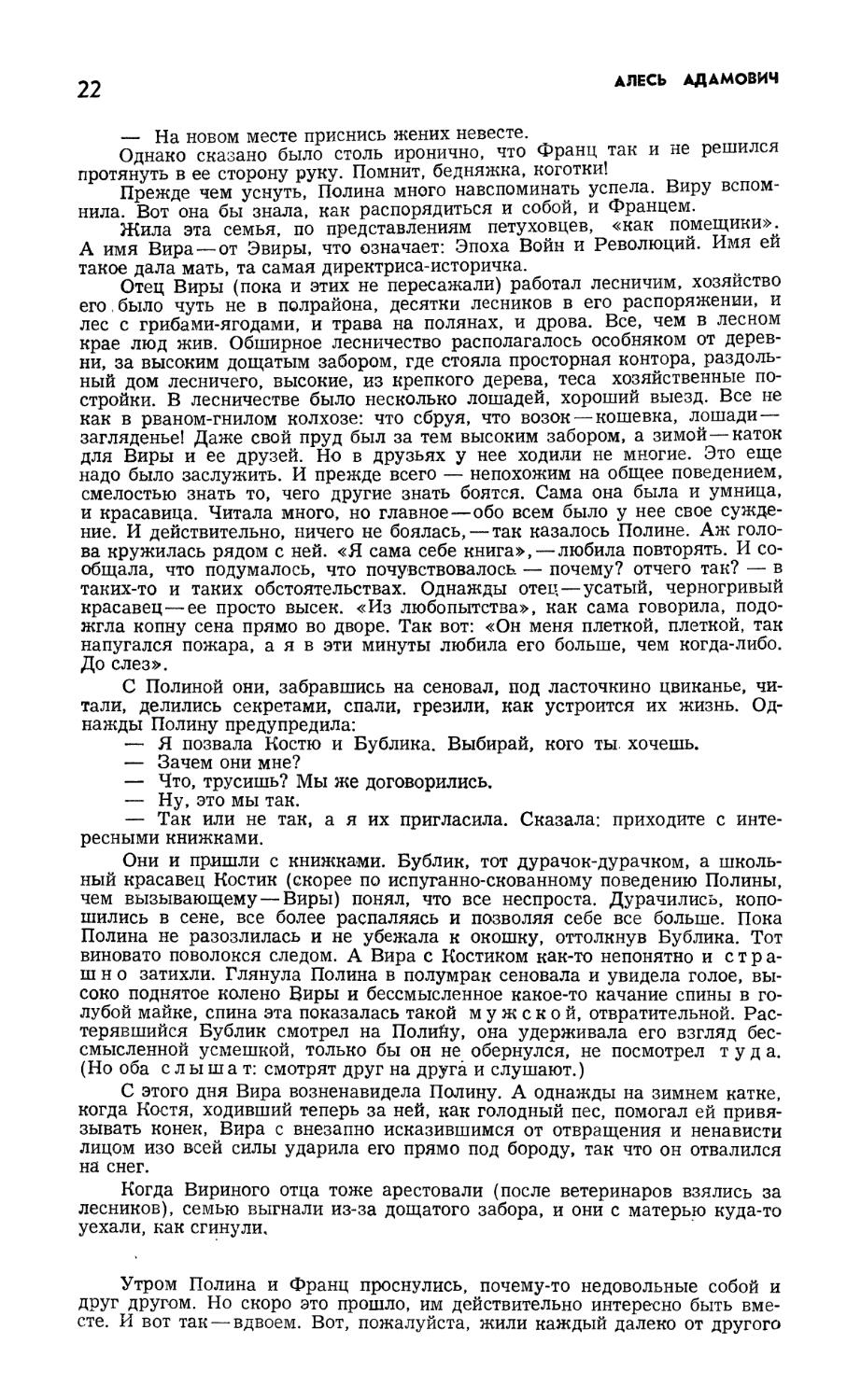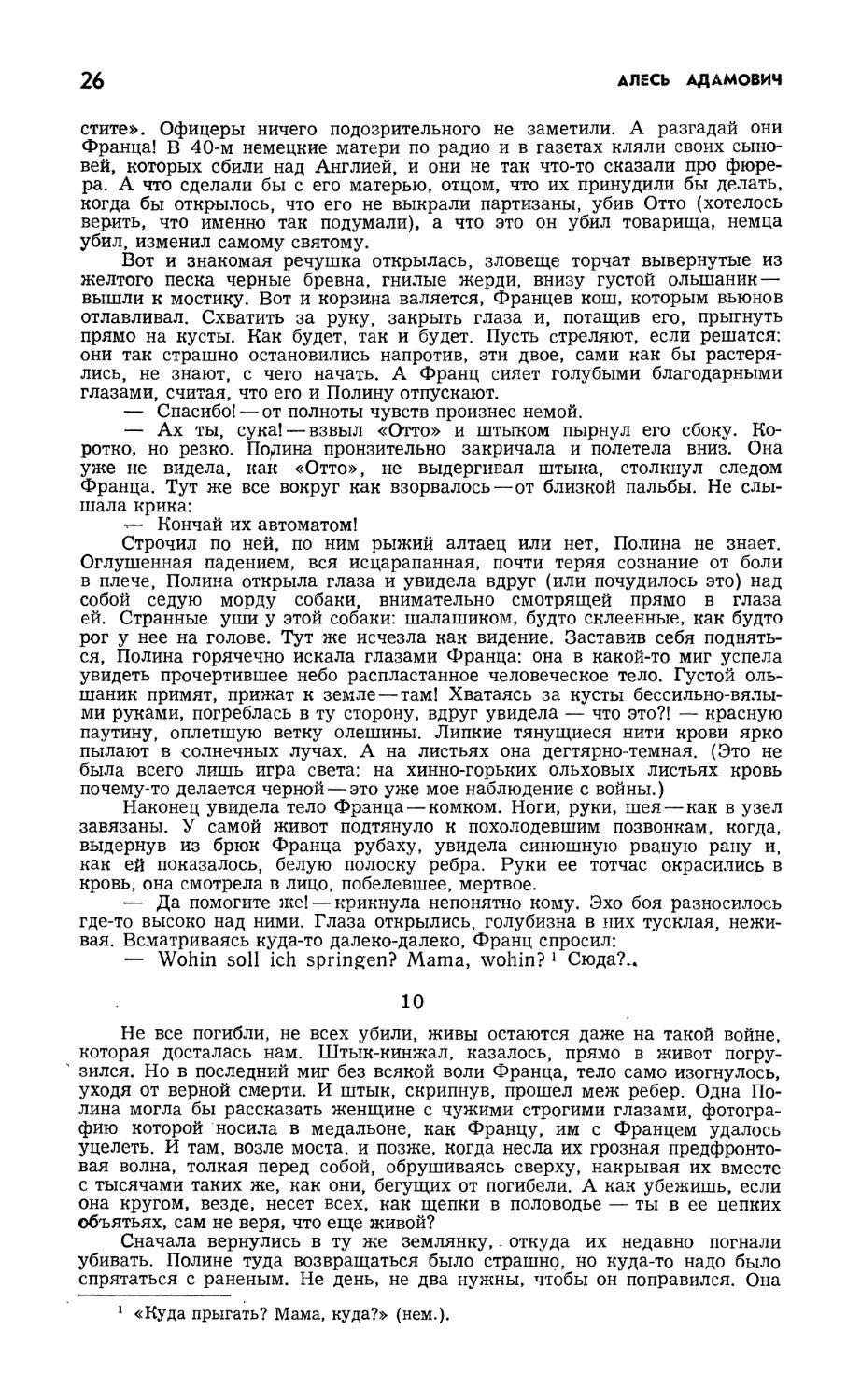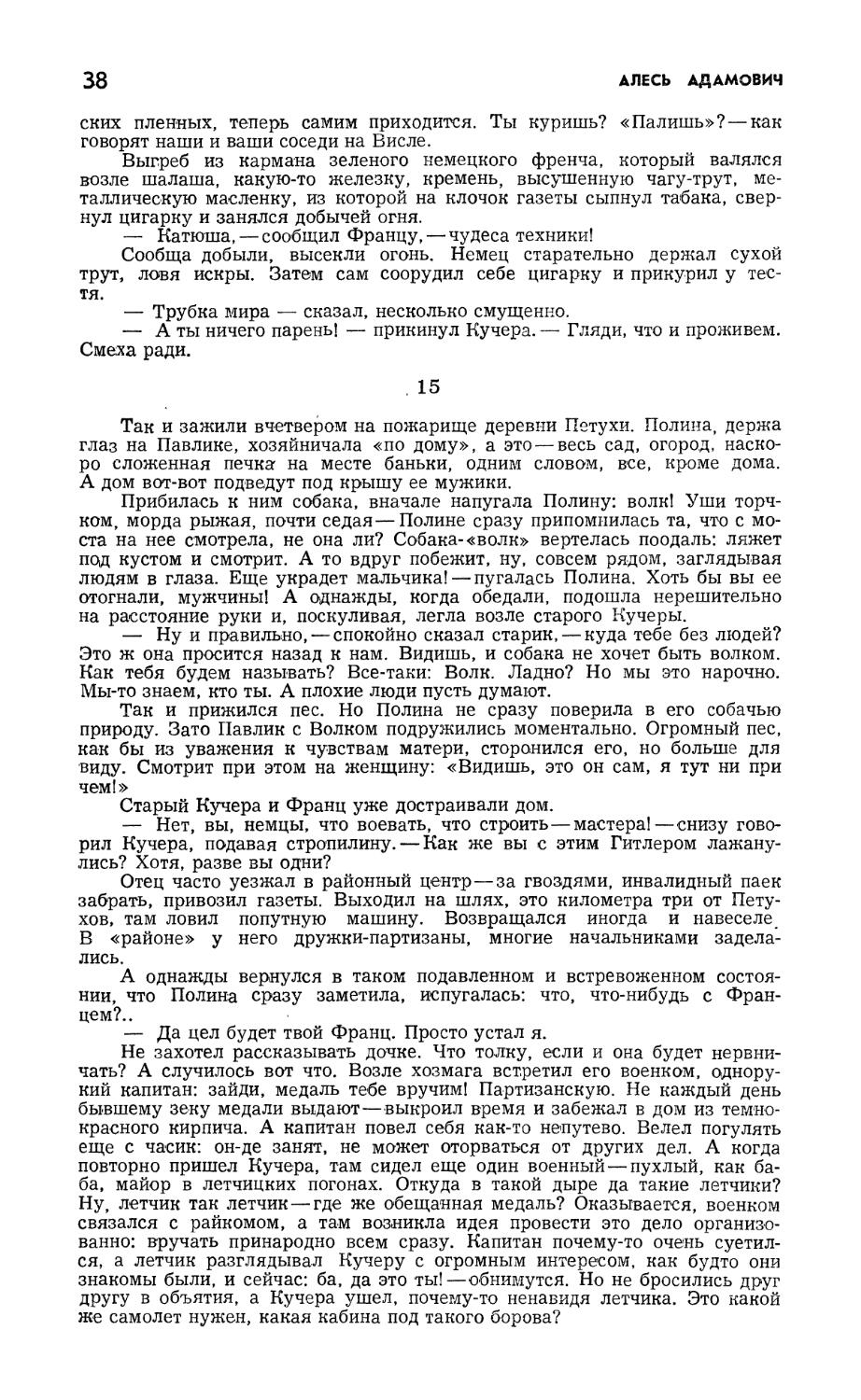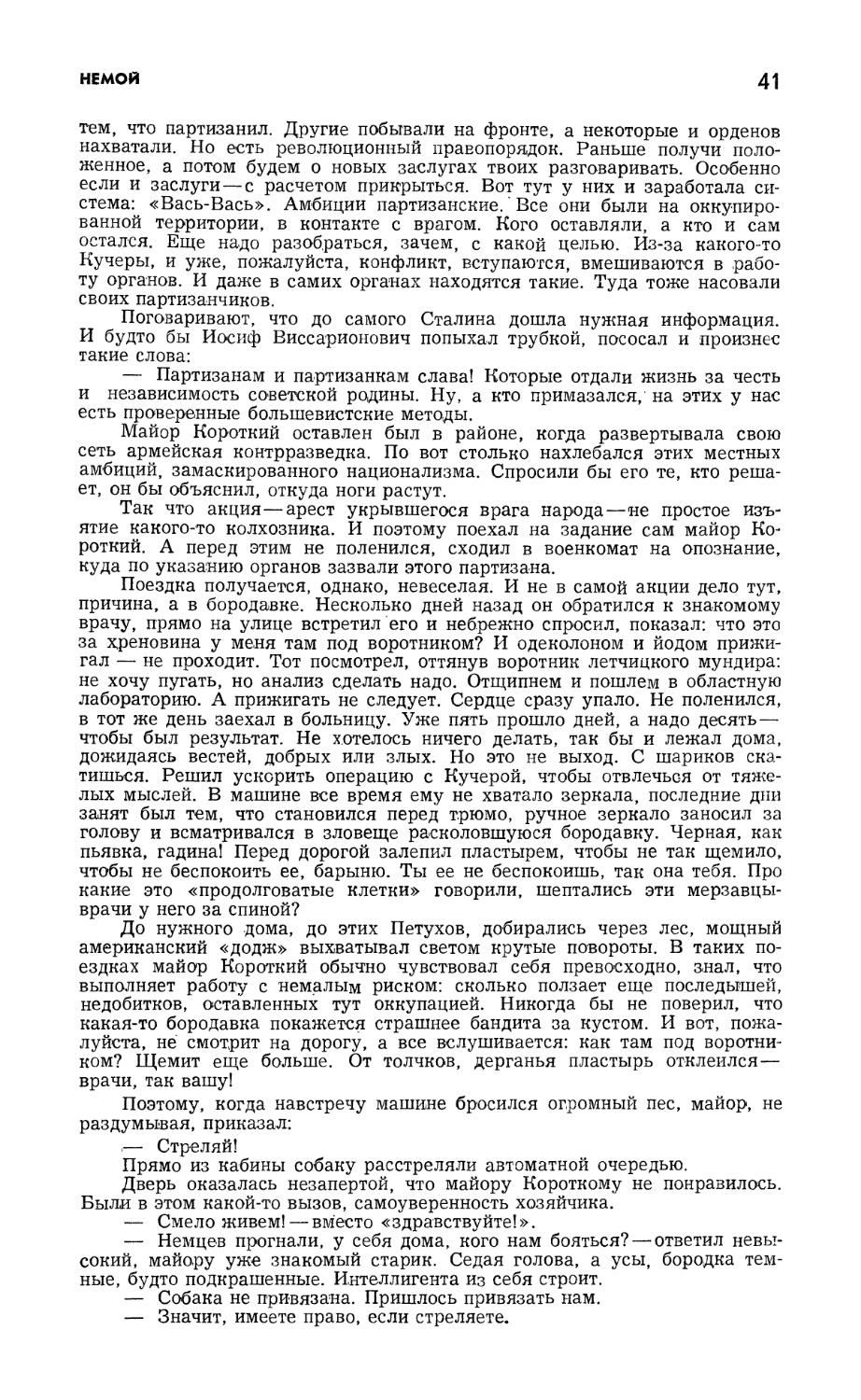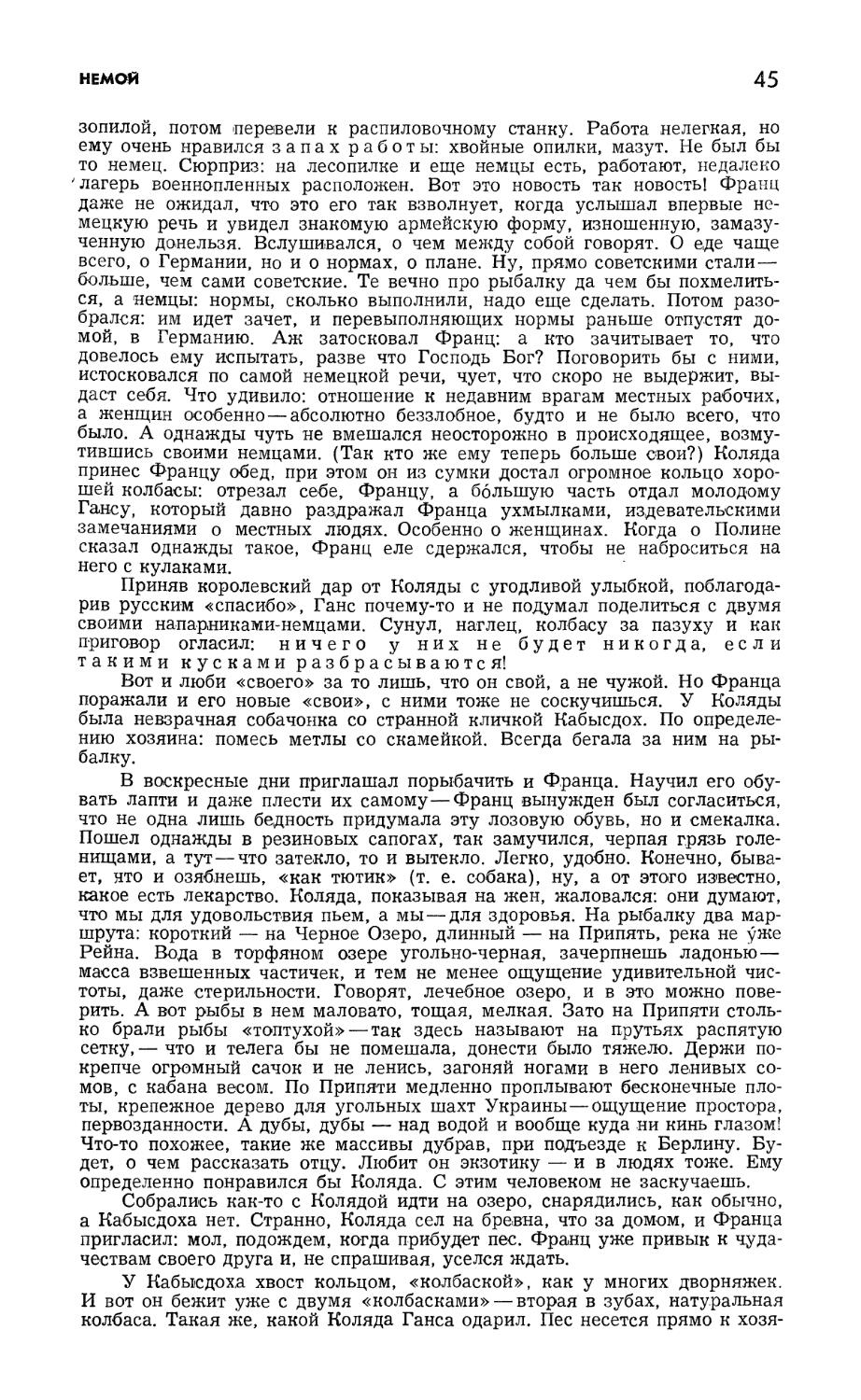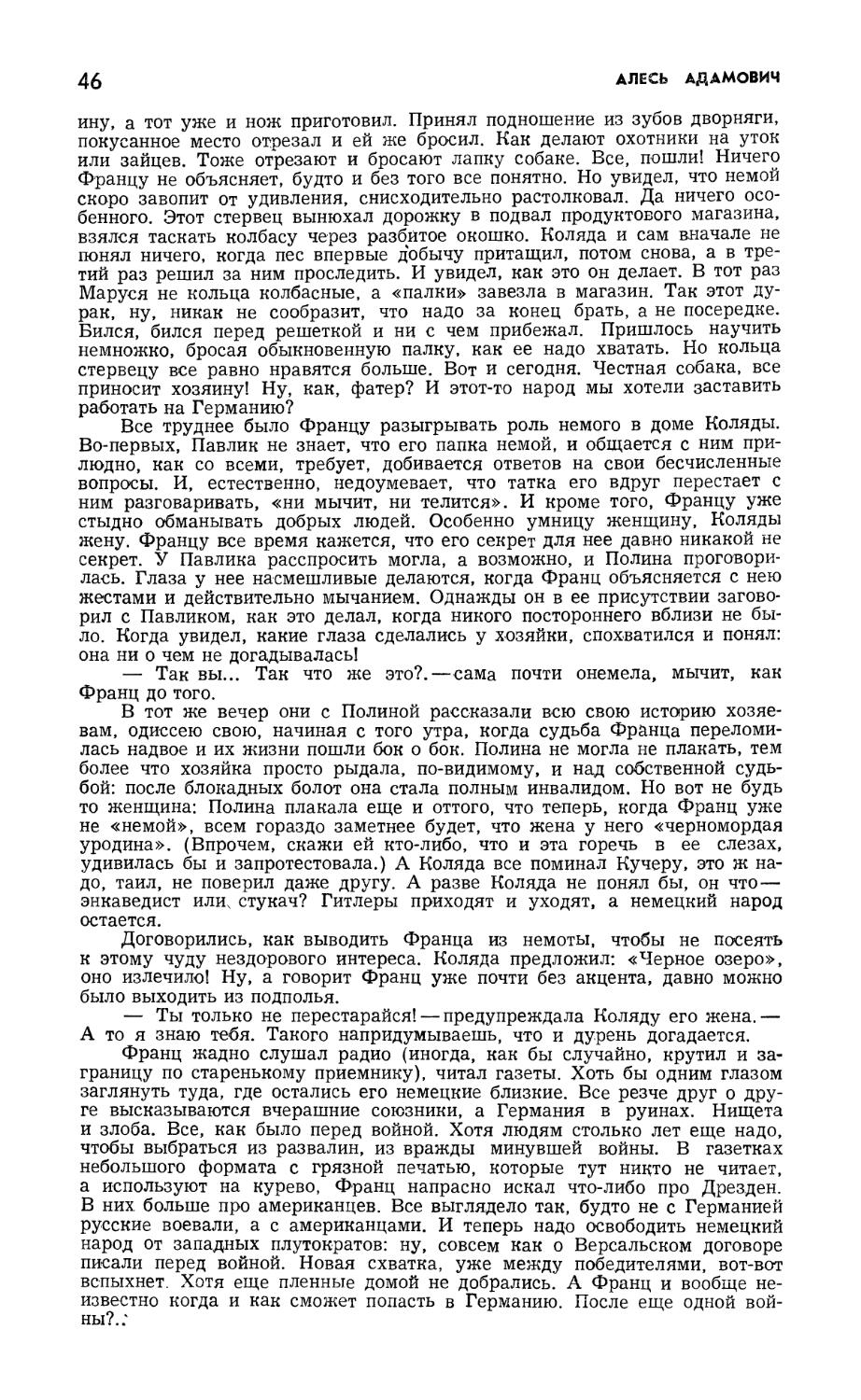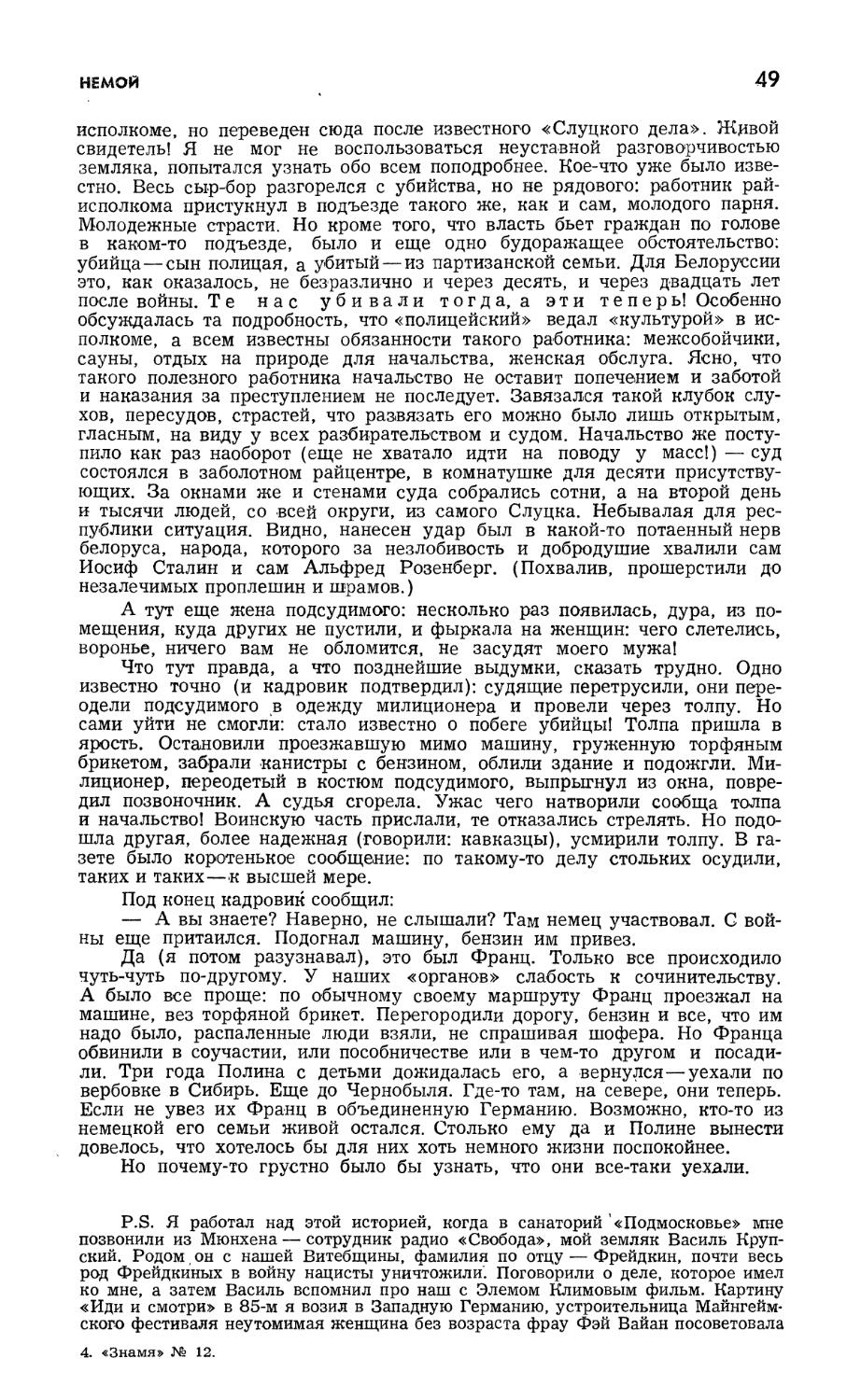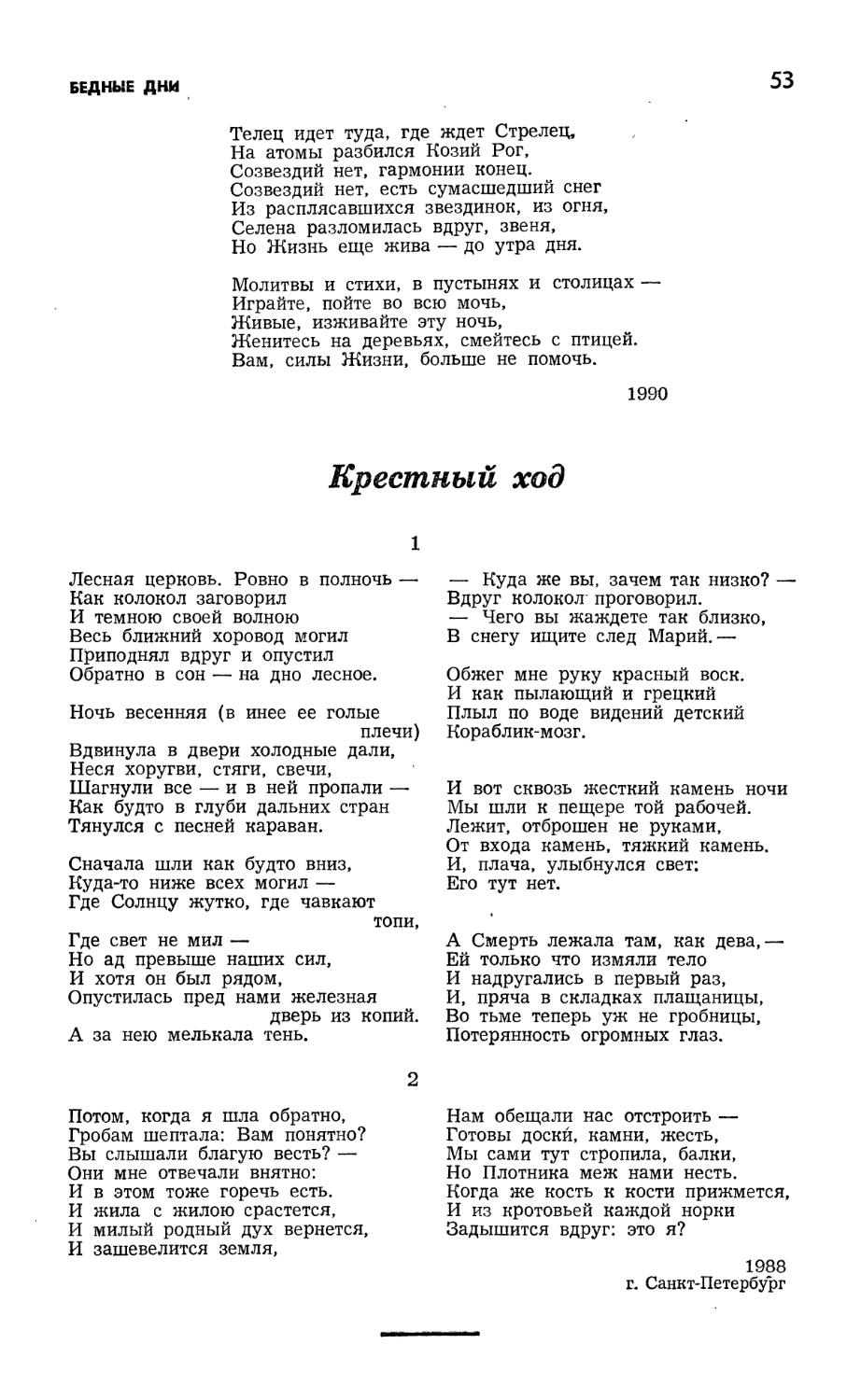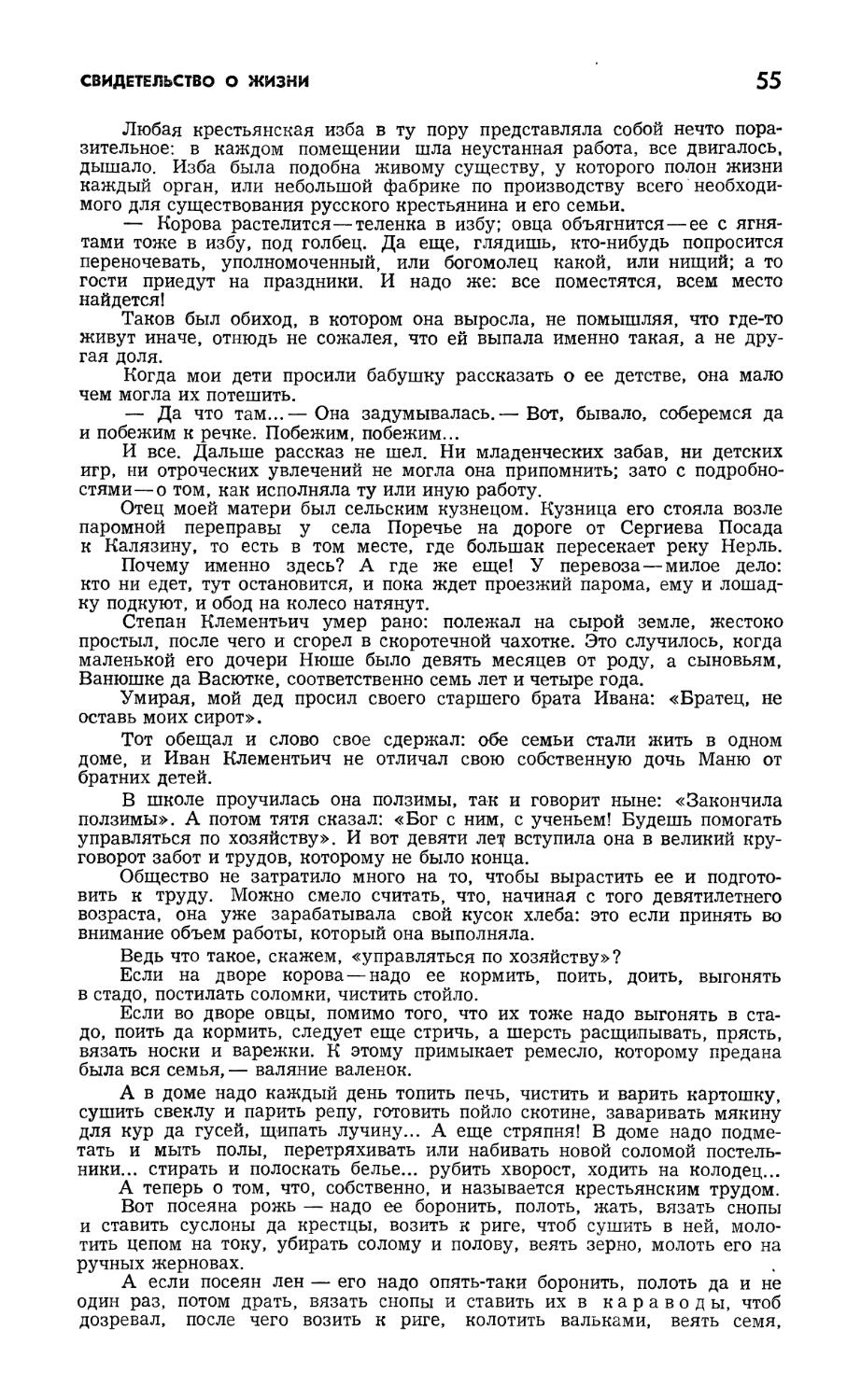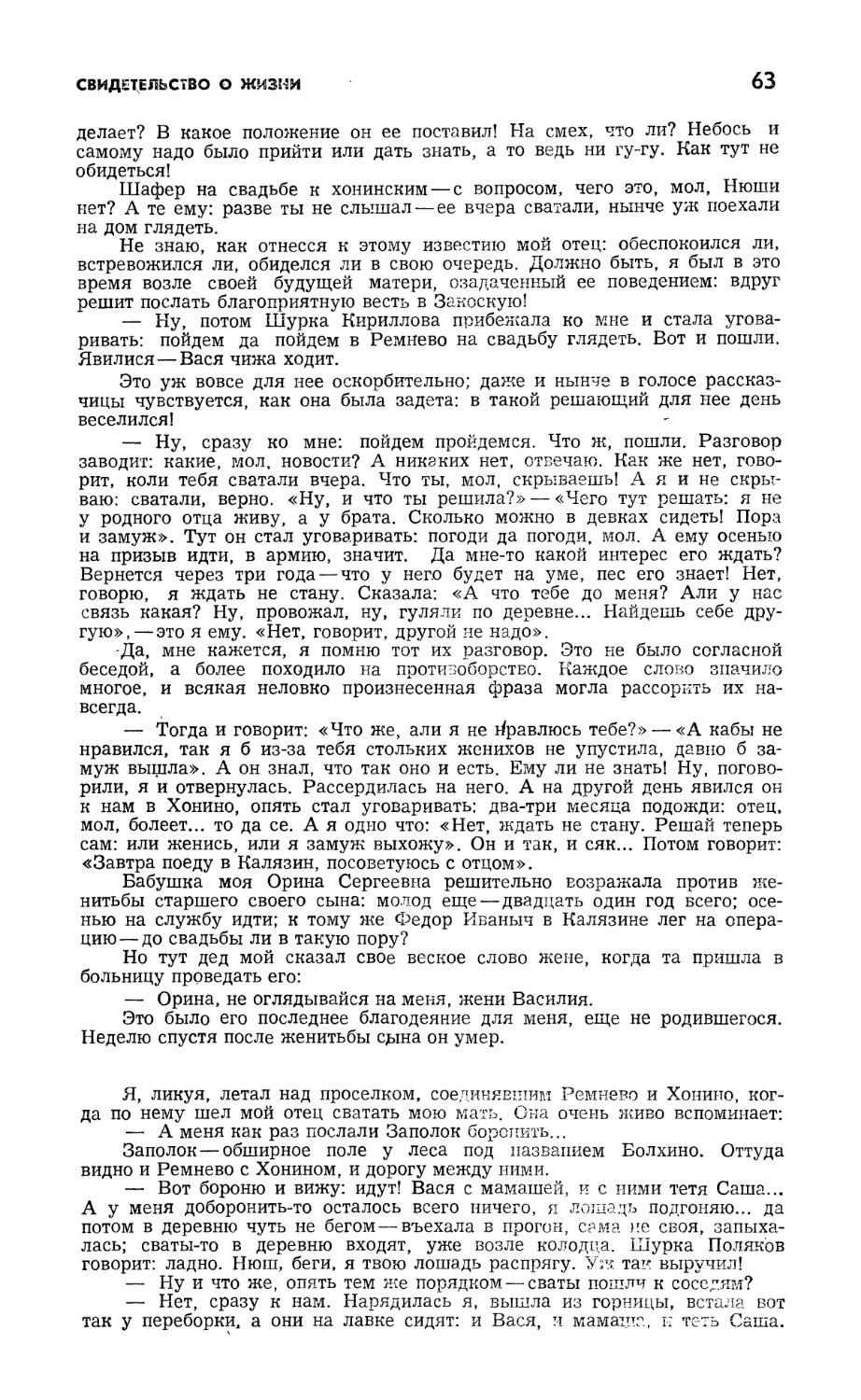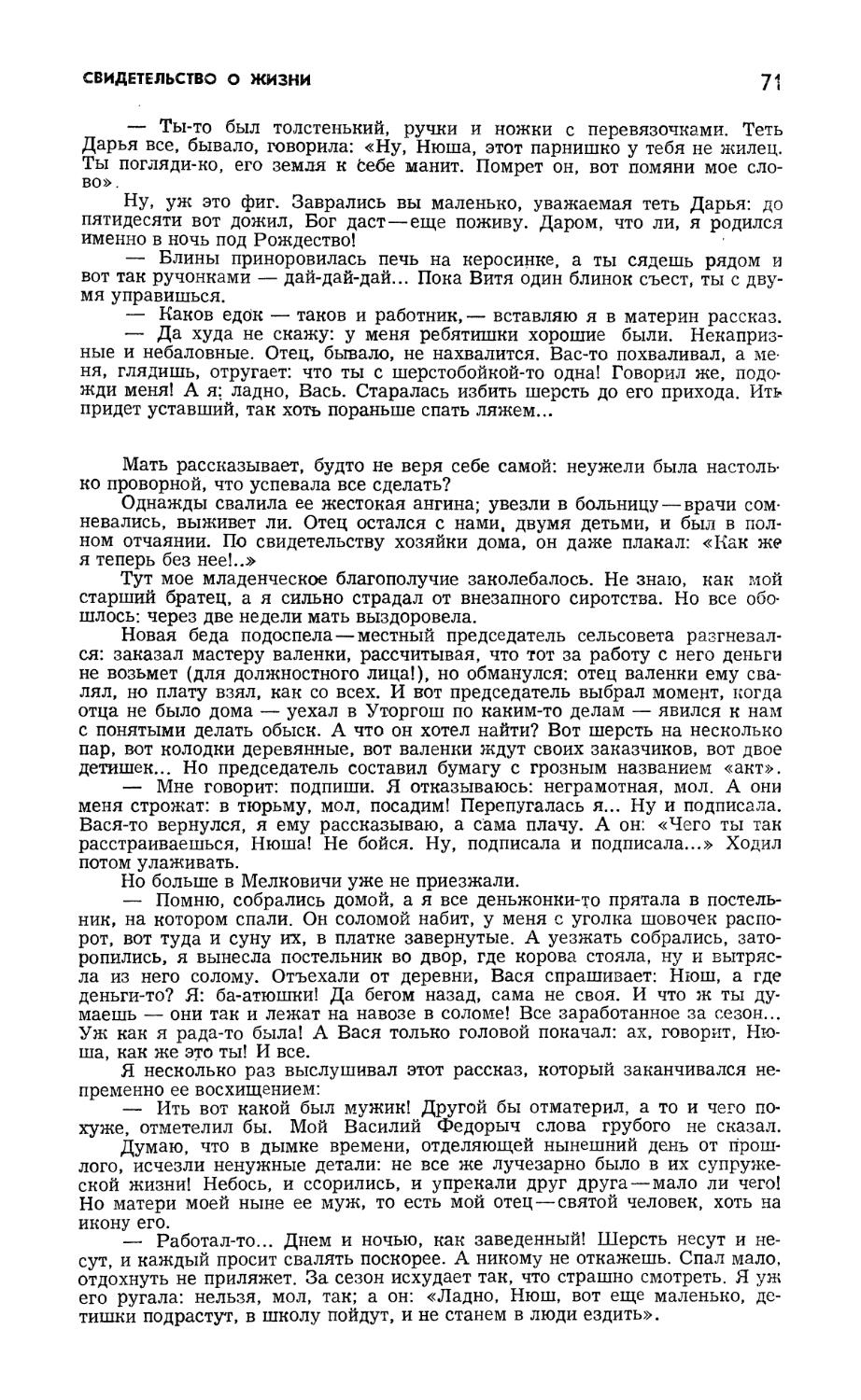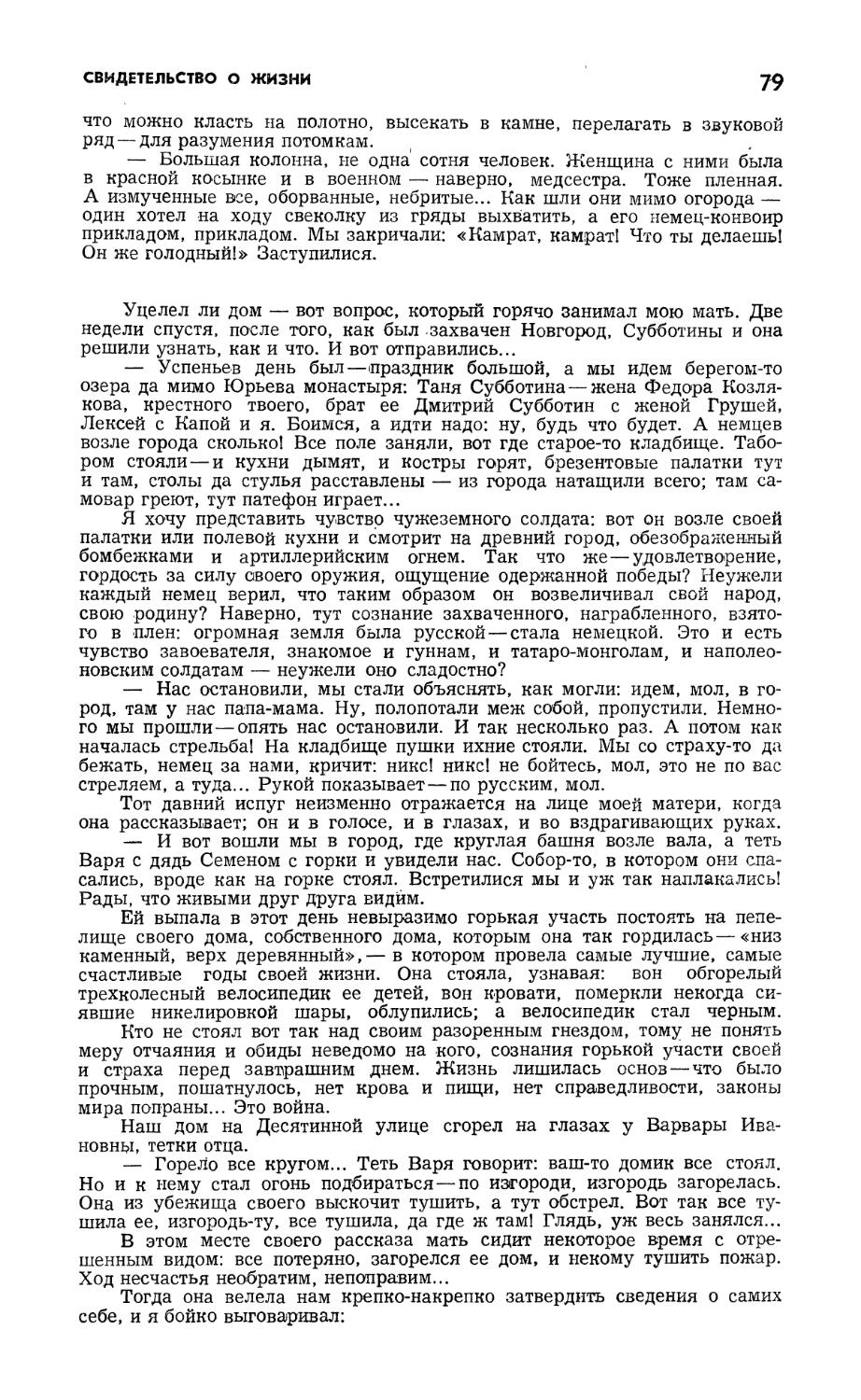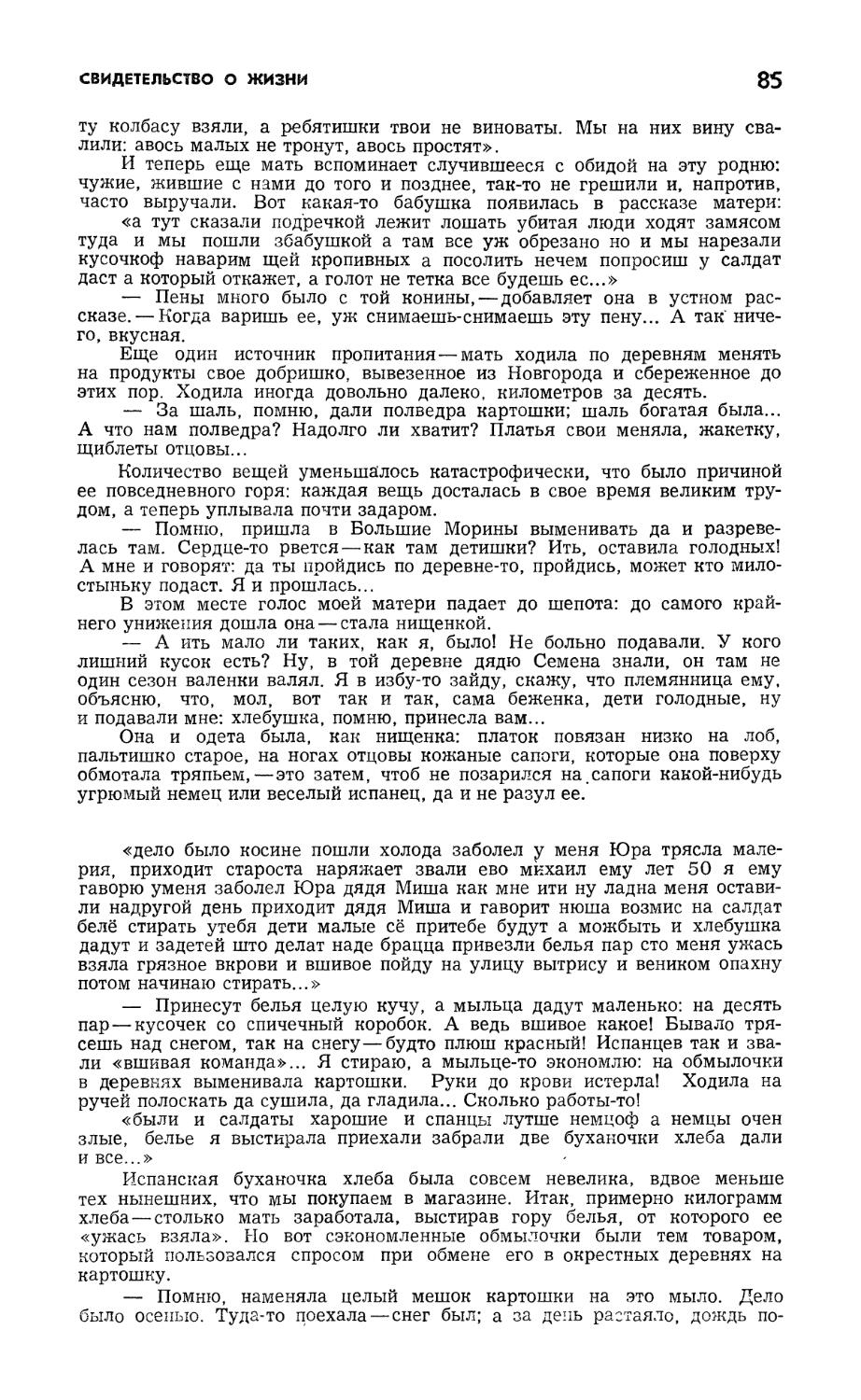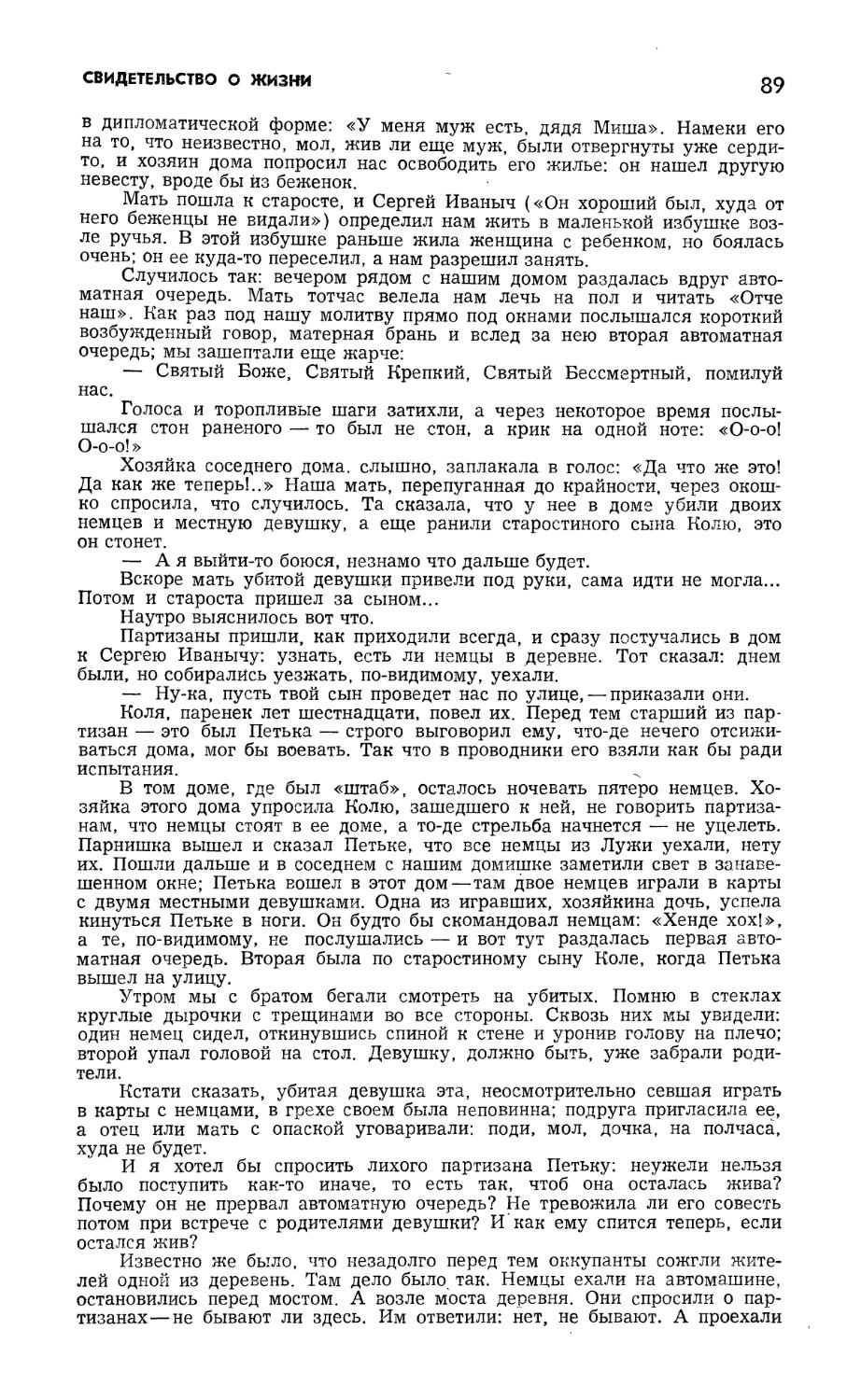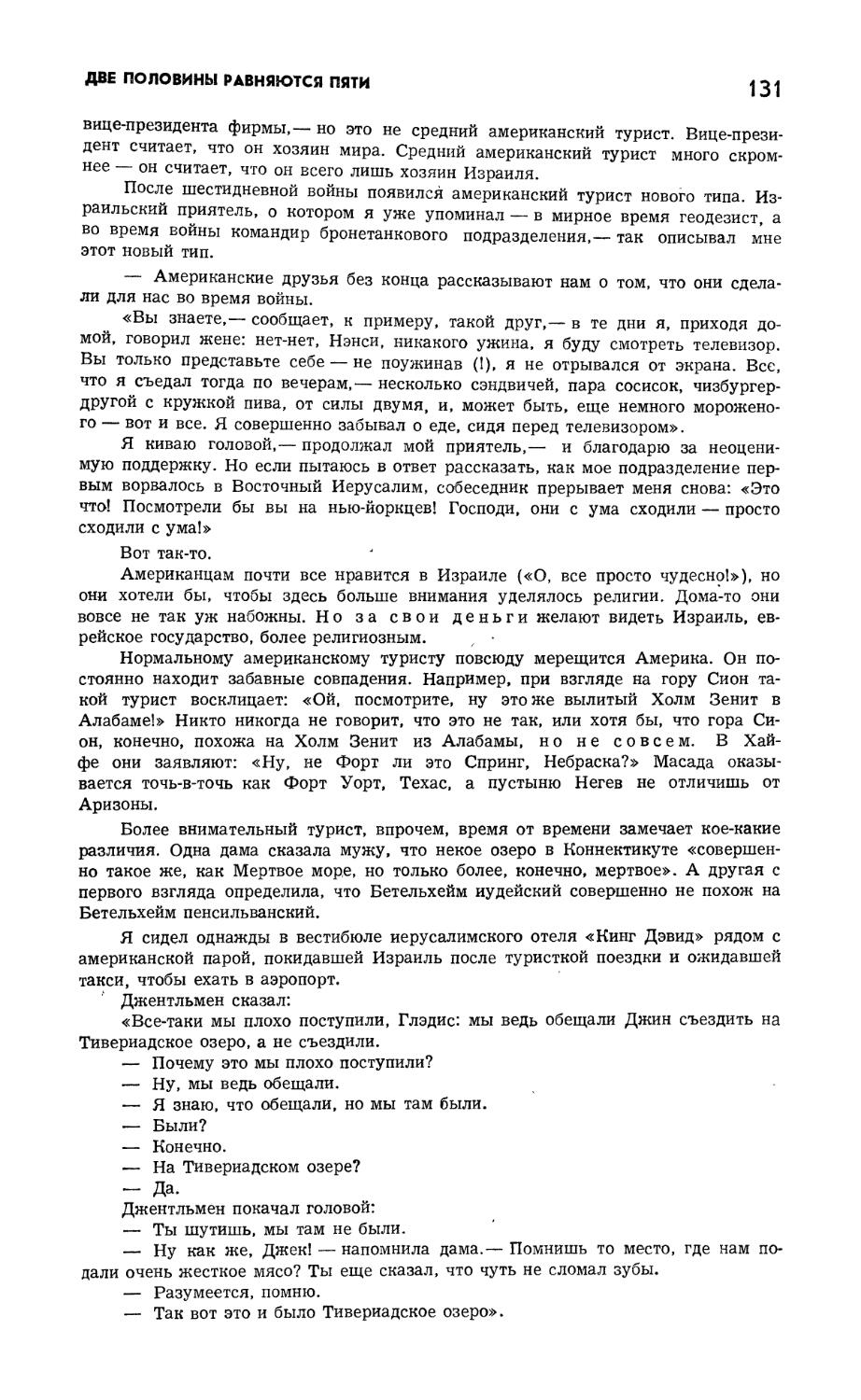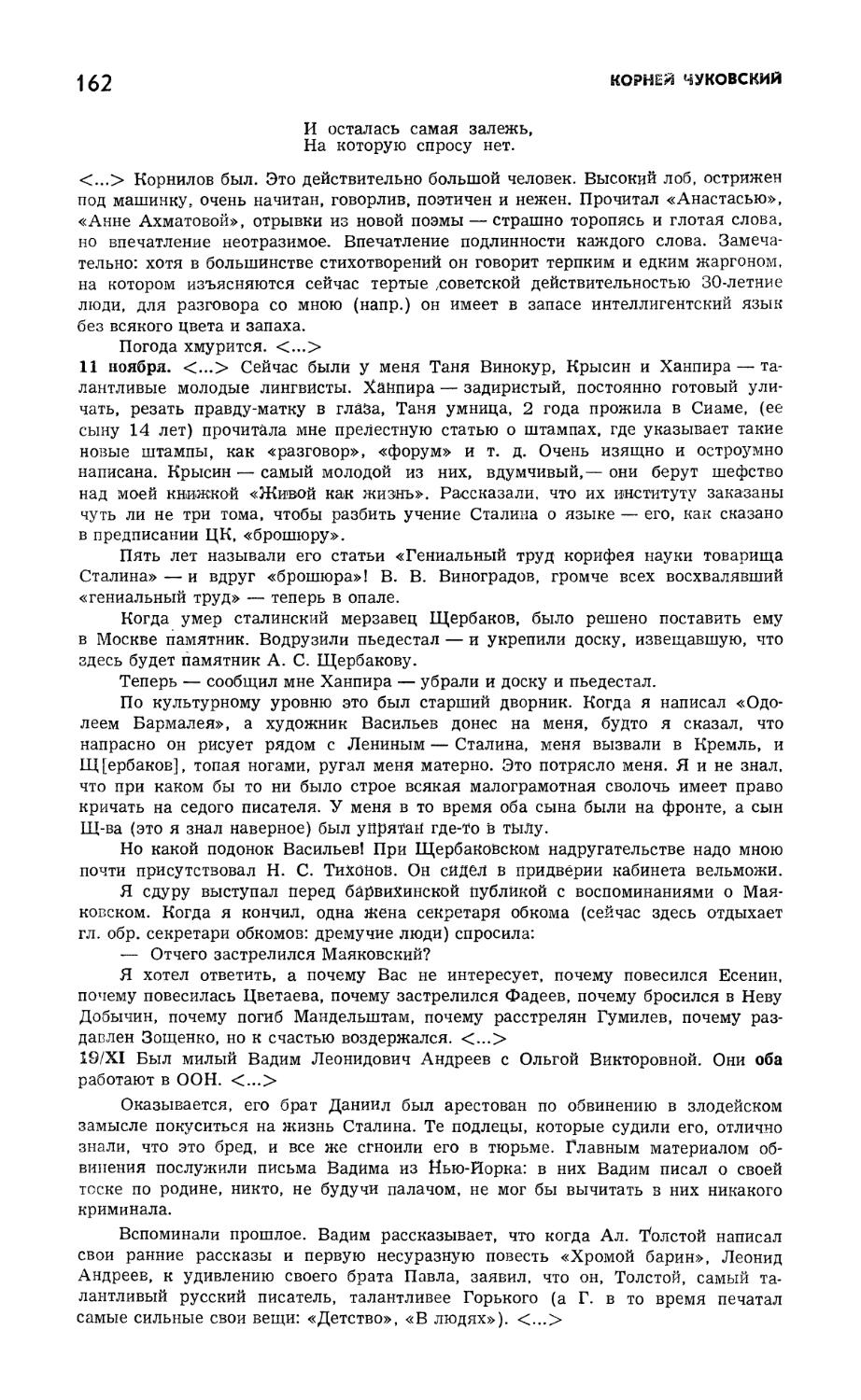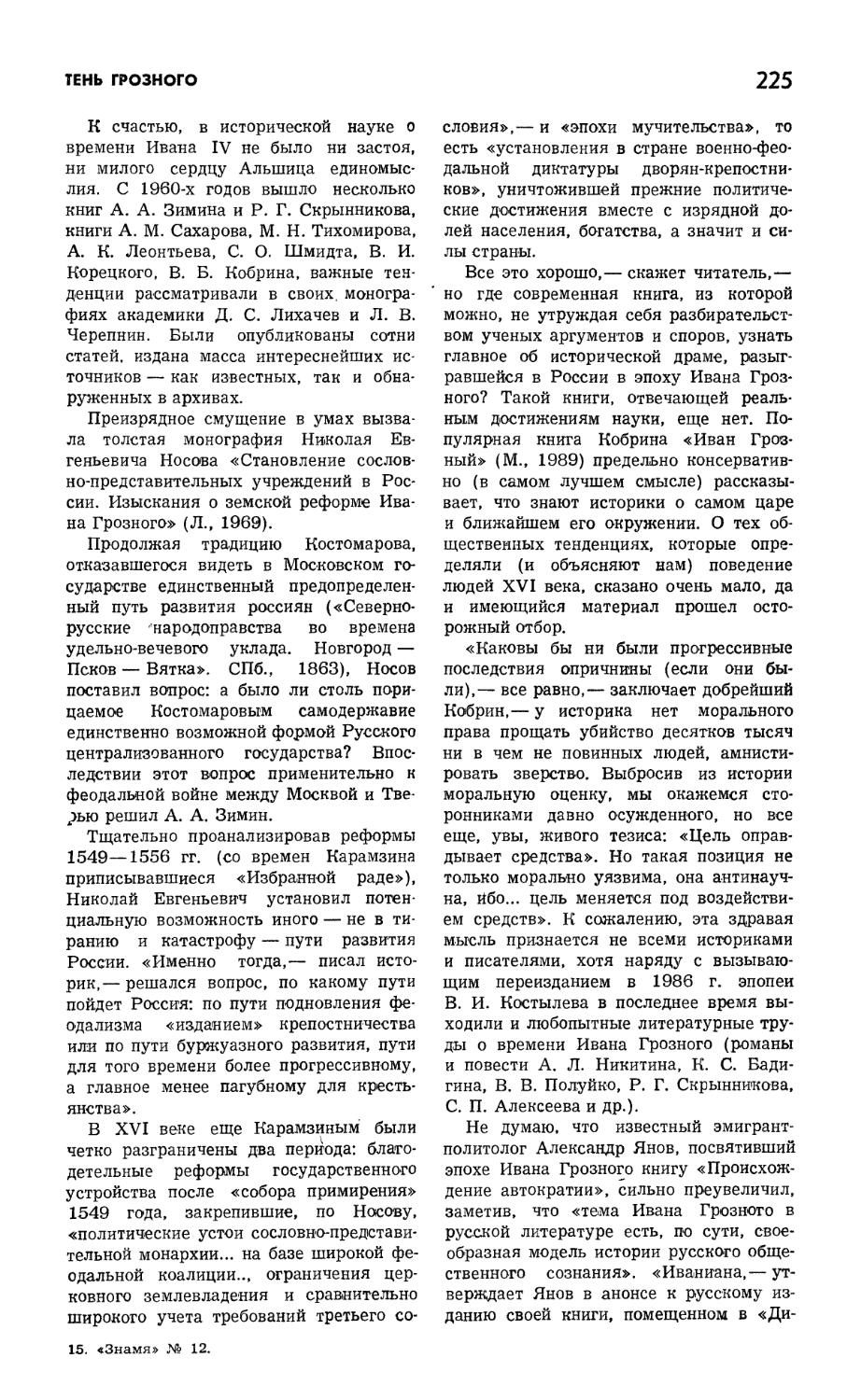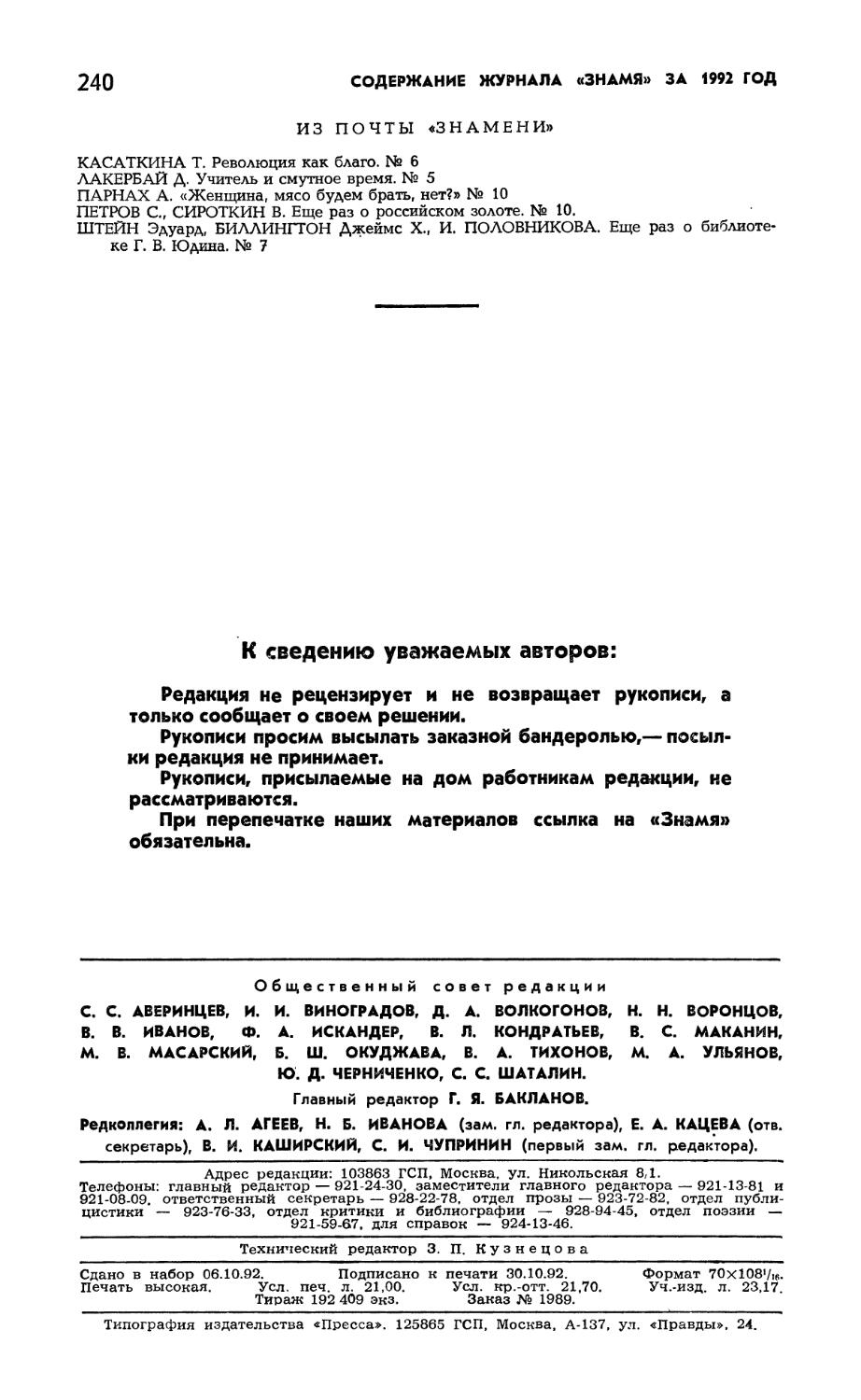Text
Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал
Выходит
с января 1931 года
Содержание
12
ДЕКАБРЬ
1992
Алесь Адамович. Немой. Быль 3
Елена Шварц. Бедные дни. Стихи 51
Юрий Красавин. Свидетельство о жизни.
Повесть 54
Виталий Дмитриев. И какой еще надо свободы?
Стихи 110
Джордж Микеш. Две половины равняются
пяти. Путевой очерк. Перевод
с английского И. Дорониной 117
Мемуары. Архивы. Свидетельства
Корней Чуковский. Из Дневника. Окончание.
Публикация и комментарии Е. Чуковской 140
Публицистика
Леонид Алаев. Россия и опыт восточных
демократий
205
Критика
Андрей Богданов. Тень Грозного
218
Москва
Издательство
«Пресса»
В мире журналов и книг
М Панова. «Плюсквамперфект»
Володи Охотникова 235
Содержание журнала «Знамя» за 1992 год 237
Благодарим
Когда проводилась подписка на 1992 год, тонна бумаги стоила
1380 рублей. Но уже в феврале она поднялась до 20 с лишним тысяч,
выросла и оплата за все остальные работы и услуги. Денег
подписчиков, стало ясно, хватит всего лишь на 2,1 номера журнала.
Мы хотим поблагодарить тех, кто помог в это трудное время нам
выпускать, а вам, нашим годовым подписчикам, получать журнал по
символической, в сущности, цене: два рубля пятьдесят копеек за
номер.
Российская товарно-сырьевая биржа, возглавлявшаяся К. Н.
Боровым, предоставила нам рекламу на год, и это дало возможность
выпустить номер журнала. Мы приносим за это благодарность.
Пяти журналам, в том числе нашему, «Учительской газете» и
Академии наук помог фонд «Культурная инициатива», основанный
известным американским финансистом Джорджем Соросом. И это
тоже дало нам возможность выпустить номер журнала. Мы
благодарим за это.
Мы ощутили поддержку президента Международной ассоциации
руководителей предприятий М. В. Масарского, академика В. А.
Тихонова, председателя правления Росбизнесбанка Н. М. Репченко, всех
друзей журнала, которым выражаем сердечную признательность.
И более всего нам, как всей нашей прессе, по инициативе
Министерства печати и массовой информации помогло Правительство
России.
Мы не обращались за помощью к нашим читателям, но читатели
сами стали присылать деньги в журнал. Каждого из них мы на эти
деньги с благодарностью подписали на первую половину 1993 года.
Редакция журнала «Знамя»
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».
© Журнал «Знамя». 1992.
Алесь Адамович
НЕМОЙ
«ICH WERDE DICH SCHOTZEN»*
БЫЛЬ
Памяти брата
Неужели это мы? Значит, способны на такое, можем быть такими? Снова и
снова задаешь вопросы, читая или видя на экране телевизора, с какой
безудержной яростью, а то и жестокостью решаются национальные, клановые и
политические споры на просторах недавно общей державы.
Когда в 41-м немцы-фашисты убивали советских военнопленных на глазах
у жителей моего поселка, старуха, напрочь раздавленная бессмысленной гибелью
в застенках НКВД ее мужа (вместе с еще восемью десятками заводских рабочих),
причитала в слезах: «Чего хотеть от чужих, когда свои вон что творили?». О, эти
«чужие» и эти «свои»! Как легко осуждаем других и как трудно поворачивается
язык сказать жестокую правду себе, собственному народу, даже если верх в нем
берут или взяли уже «свои» подонки и расисты (как бы они себя ни называли).
Много мы слышали самоосуждающих голосов хотя бы от известных всей стране
интеллигентов из Азербайджана и Армении, из Киргизии и Узбекистана, из
Молдовы и Таджикистана? Мир похолодел от Сумгаита и Ходжалы, от Ферганы и Оши,
от Бендер и Курган-Тюбе. Миллионы людей во всех странах в ужасе, а наша
национальная интеллигенция помалкивает. И в Прибалтике помалкивает, и в
Грузии, никто не сказал, не говорит «во весь голос» собственному народу, что
шовинизм «малого» народа столь же отвратителен, как и любой другой, что
имперские замашки по отношению к собственным «меньшинствам» подрывают и твои
права на самостоятельность. И добром это никогда не кончается. Свидетельством
чему — Осетия, Абхазия, Приднестровье. О российских и украинских «наших»,
открыто и самозабвенно демонстрирующих свою нацистскую родословную, и
говорить не хочется, хотя понимаем: вирусы расизма в столь огромном теле —
опасность уже для всей планеты.
Не будем недооценивать подобную же опасность и для относительно
спокойных Беларуси или Казахстана. Мы уже убедились: это прорывается неожиданно
и, казалось бы, «из ничего».
Видя все, переживая, сопереживая с другими — а беспокоит, мучит это
всех,— я вдруг вспомнил реальную историю белорусской девочки и молодого
немецкого солдата — из минувшей большой войны, из времен фашистского
озверения целых стран и континентов. Они, почти еще дети, сумели переступить
через мощнейшие националистические и государственно-идеологические мифы,
догмы и исполнить на земле свою Человеческую миссию — быть братом, сестрой,
быть любовью, быть человеком для другого человека.
У нас пересыхает горло, перехватывает дыхание, когда надо сказать
жестокую правду о нас самих. Тогда пусть они ее скажут, за нас — девочка и юноша
оттуда, из самой ночи гитлеризма и сталинизма.
Это — авторский ответ на вполне законный, вероятный вопрос: снова о войне,
зачем?
в
деревне Петухи решили затаиться и отсидеться несколько
дней. Gross Dorf Pietuchi2. Работа айнзатцкоманды
взбудоражила всю округу. На каждой опушке засады, обстрелы, на дорогах
мины. Разворошили партизанское гнездо. А эта деревня от леса
отгорожена речушкой, сама на горке. Вырыли окопы для пулеметов, расставили
в садах легкие танки и бронетранспортеры и зажили мирно. По два, по три
1 «Я тебя защищу» (нем.).
2 Большая деревня Петухи («ем.).
4 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
солдата в каждой избе, на семью. Караульные взводы разместились в
удобно расположенных в концах улицы бывшей школе и колхозной конторе.
Приказали, и местные женщины вычистили, вымыли загаженные комнаты,
им за это заплатили по три марки. Пусть никто не говорит, что у штурм-
банфюрера Оскара Пауля Дирлевангёра служат не солдаты, а бандиты,
уголовники.
Штурмбанфюрер самолично имел политическую беседу с младшими
офицерами, а те—с солдатами: как вести себя на этот раз, в этой деревне.
Никаких угроз и конфискаций, за услуги благодарить и даже платить,
смело вступать в личные контакты—все, как в цивилизованной стране.
А когда наступит день акции (о нем сообщено будет дополнительно), всех
хозяев своего дома ликвидировать, дом и все постройки поджечь. Словом,
дальше действовать, как и в других деревнях. Скот, особенно крупный,
как и раньше, не уничтожать, выгнать из сараев, передать
погонщикам.
При этом каждый обязан с первого же дня зафиксировать, сколько
членов семьи под его контролем, распределить, кто и за кого лично
отвечает в день акции — за то, чтобы не убежали, не спрятались. Особенно
важны последний день и ночь перед ликвидацией: они, как животные, чуют
близость бойни.
Молодого солдата Франца Ш. (молод по-настоящему, семнадцать
лет, призван по тотальной мобилизации) прикрепили к напарнику—
опытному, надежному, проверенному в деле. Отто Залевски, по
нормальным армейским меркам, можно сказать, уже старик, он из деревенских
жандармов. Тоже тотальник, но не 1943 года призыва, а 1942-го. После
Московской битвы, тогда как Франца фюрер позвал после
Сталинградской.
Франц в боевое подразделение попал прямо с Бобруйского вокзала
вместе с тяжелым вооружением, которое прибыло специально для этого
батальона. Так что деревня Петухи—его боевое крещение. Говорят, тут
самый змеюшник партизанский. Как выразился штурмбанфюрер, тут и
курица — партизан.
Однако Францу в это не легко было поверить, когда он видел местных
жителей — что в Бобруйске, что в этой деревне. Запуганы и какие-то
пришибленные: с готовностью уступают дорогу, в глаза, правда, стараются
не смотреть (дети, те глядят с испуганным любопытством), но, если немец
окликнет, послушно подойдут и даже несколько слов по-немецки скажут,
какие знают. «Никсфарштейн» — даже с гордостью, что тоже могут по-
немецки.
Если по совести говорить, то Францу куда больше не нравятся
местные полицейские: лживо-подобострастные, а тем не менее в руках у них
оружие. Что он там на самом деле думает и что сделает в следующий
миг—разве знаешь?
Ситуация, в которой он сразу же оказался в Петухах, для любого не
проста. А Францу, новичку, как ему даже вообразить, что сегодня он
с этими вот людьми живет в одной хате, они ему греют воду, жарят
яичницу, с ними он разговаривает, смеется, а завтра он их всех убьет?
Встанет утром, поздоровается, почистит зубы, посидит за столом,
переглядываясь с Полиной, молодой хозяйкой, а затем они с Отто
посмотрят на часы и лязгнут затворами...
Переглядываться и пересмеиваться Франц с девушкой начали не
сразу, лишь со второго дня, потому что сперва ему показалось, что в этой
избе — две старухи. Старая, седая старуха с какой-то нелепой постоянной
улыбкой и старуха помоложе, ничуть не краше той, первой. Даже грязнее,
н вся обмотана каким-то рваньем, а еще и прихрамывает, горбится.
Но назавтра утром вторая старуха куда-то пропала, исчезла, а
объявилась почти девочка — черноглазая, с коротко остриженными волосами,
с любопытством и как бы насмешливо приглядывающаяся к Францу. Юбка
та же, по-деревенски длинная, грязного цвета, но кофта беленькая, даже
с какими-то вышивками. Не подозревая, что Франц по-русски понимает
(отец его побывал в русском плену, и дома у них немало русских книг,
даже Библия есть на славянском), старая старуха шипит на свою, видно,
дочку, не поворачивая к ней лица:
НЕМОЙ ^
— Что это ты себе позволяешь, язви твою душу? Перед кем ты
выфрантилась? Что тэта с тобой робицца?
Отто, хотя он по-ихнему ни слова, тем не менее видит и понимает
происходящее получше Франца. Объяснил. Они тут все так... которая
помоложе и покраше, попригляднее, лицо, шею сажей измажет, извозит,
чуть не в навозе, руки, ноги, нарядится, будто сарай чистить, —она тебе
и хромая и горбатая, только не трожь ее! Не покушайся на ее прелести!
А эта, гляди ты, сразу переменила тактику, как только ты
появился,— гордись, Франц!
Старому Отто порученный его отеческой опеке молодой солдат,
прямо из гитлерюгенда, даже понравился. Хотя горожане, да еще эти
горластые, наглые юнцы, ему не очень по душе. От них старику, да еще
деревенскому, всегда можно ждать какого-нибудь подвоха, неприятности.
Один уже был у него такой, быстренько схватил должность цугфюрера,
взводом командует, и Отто теперь у него в подчинении. Напрочь забыл,
какой был смирненький в первые дни, как смотрел в рот бывалому
солдату, ловил каждое его слово, совет, а теперь на Отто глядит всегда с
насмешечкой, всякий раз при построении интересуется: «Hast du dein
Scheiss beendigt?», посрал ли герр Отто, а то цуг, взвод может его и
подождать.
А с Францем еще и такого жди: подстрелит сдуру, никак не
натешится полученным шмайссером, возится, как с игрушкой, заряжает,
перезаряжает. На Отто смотрит, как бы жалея его, у старика всего лишь
винтовка. С ними, с этой девицей, по-ихнему разговаривает, хихикают, не
над Отто ли? Когда успел и где так насобачиться по-русски? У Отто вон
какая фамилия, почти славянская. Но он их язык учить не будет.
Присмотревшись к немцам, которые поселились в их избе, послушав,
что соседи рассказывают про своих постояльцев, Полина действительно
перестала бояться. Нет, страх, ужас перед тем, что немцы натворили в
соседних Борках и Каменке, не уходил, давил. Но не Франца же ей бояться,
этого дылду-парнишку, которому трудно с собственными руками-ногами
справиться, похожего на вывалившегося из гнезда ястребенка?
Шестнадцать лет — это шестнадцать лет. Именно столько исполнилось Полине
в январе. Так хочется верить в лучшее. Ну, а немцу этому—намного ли
больше? Хотя и напялил мундир, ремнями и какими-то термосами
обвешан, как огородное чучело, с автоматом и спать ложится, воняет
лошадиным потом и какими-то помадами, одеколоном. Без смеха посмотреть на
него не удается. И все время видишь его голубые глаза. Даже спиной
чувствуешь.
Стоило ей одеться по-людски, нос сполоснуть, как тут же женским
чутьем поняла: этот парень ее, трудов больших не понадобится. Правда,
он немец, и совсем не те времена, когда на вечеринках играли в такие
игры. Но шестнадцать есть шестнадцать. Ее внезапное преображение —
повод для веселых, шутливых переглядываний. Будто разыграли они
кого-то третьего. И все еще разыгрывают—старого Отто, например. Так его
жалко—с его тусклыми, безразличными глазами, индюшечьей
морщинистой шеей. Умереть можно, слушая, как они, старики—Отто с матерью
Полины, — беседуют. Старуха обращается к нему, как к глухому. Видно,
ей кажется, что громкие слова чужого языка ему понятнее.
— Пан, а пан, воды теплой надо, бриться, говорю, будете? Что
фронштейн, что фронштейн: я говорю, голиться будете?
Часть жителей заранее убежали в лес, на болото. Живы они, нет —
никто не знает. Везде немцы предупреждают: кого в лесу застанут — всех
постреляют. А в деревне все-таки не так страшно. Но тоже страшно.
И еще как! Петуховцы, кто остался в своих хатах, пользуются любым
поводом, случаем, чтобы узнать, услышать от соседей успокаивающие
слова, новости. Друг другу с надеждой сообщают: а вроде ничего, не
лютуют, на каждом шагу: «данке! данке!», не похоже, что задумали что-
то благое. (По-белорусски «благое» — это «плохое».) Можно видеть, как
мирно моются, полощутся немцы в просторном дворе Францкевича у
колодца, дети им поливают спины холодной водой: оханье, смех. Всех пора-
£ АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
жает, как часто и помногу они едят. Целыми днями над деревней стоит
чадный дым из печных труб: приготовишь им ранний завтрак, тут же
ставь второй, тут же обед и еще полдник—и так до поздней ночи. Как
в прорву, как на погибель едят. Ну, да только бы людей не трогали.
Продукты у них свои есть. «Свои»—те, что нахватали в других селах: свиней,
гусей на подводах везут, муку и даже картошку выгребли.
А петуховское не трогают, ничего не скажешь.
Деду Пархимчику солдаты помогают ворота ставить. Старые
завалились, он заготовил дерево под новые столбы, и теперь навешивают на них
ворота. Пархимчик, бывший бригадир колхозный, даже покрикивает на
немцев:
— Старайся, хлопцы, а то трудодней не запишу!
Чем сильнее и нестерпимее ожидание чего-то ужасного и
неотвратимого, тем самозабвеннее люди стремятся к малейшему проблеску
надежды. И потому со стороны могло бы показаться, что не к казни,
убийству готовят деревню, и не судорожно отпихивают жители от себя
жутчайшую правду, а вроде готовятся к какому-то празднику—бабы
бегают друг к другу за всякой мелочью, возбужденно обсуждают
происходящее, глаза блестят.
Успокаивает жителей, однако, то, что разрешают выходить из села,
если ты на далекое поле направляешься, и входить в село—даже из лесу
две семейки вернулись, когда прослышали, что так ведут себя немцы,
в лесу еще страшнее дожидаться неизвестности.
А у Полины с Францем вообще все в порядке. Тем более что он
знает русский. Говорит, правда, медленно отыскивая слова и растягивая их,
как ребенок, иногда путает ударения, но к этому привыкаешь. Как
привыкаешь к заиканию давно знакомого человека. Почти перестаешь замечать.
А у них у обоих такое чувство, будто не три дня, а со школы знакомы.
Слова им не очень-то и нужны. Усмешка, короткий жест или взгляд, еле
заметное пожимание плечами—и они все сказали друг другу, и все
поняли. Ну, а если старикам это не нравится, непонятно—тем забавнее и
веселее играть в эту игру Полине и Францу.
Отец (теперь Франц это оценил) незаметно, но очень умело
направлял его интересы и способности именно к языкам — латинскому,
английскому, русскому. Только сейчас Франц начал понимать: тем самым
его фатер сопротивлялся общему поветрию — ничего кроме своего в мире
не^ценить, все свести к немецкому корню, смыслу, пониманию. То, что
Франц особенно увлекся русскими книгами, а поэтому и языком, видно,
заслуга (или вина) Достоевского. Он притягивал тем, что пугал. Когда
был ребенком, сестра дала Францу в руки столовый нож и вдруг поднесла
к нему красную подковку-магнит — нож вместе с рукой потащила
неведомая сила. Даже вскрикнул и уронил нож. Такая же пугающая
сила в книгах этого русского писателя. Что-то вытягивает из тебя, чего
прежде вроде и не было, будто и не ты это.
Для Полины Франц мало чем отличался от тех парней из соседних
сел, которых приманивали знаменитые на всю округу петуховские
вечеринки: приходили навеселе, вначале держались сплоченной группой,
готовые к отпору, если их обидят, а к ночи разбредались за петуховскими
кралями, кто куда, как телки послушные, приходилось их защищать,
опекать, не давать в обиду местным ревнивцам. Франц таскал воду, колол
дрова, даже рассаду капустную эта девка заставила высаживать на
огороде— старика Отто это заинтересовало. Он стоял у забора с трубкой во рту
и с удовольствием наблюдал, как гитлерюгенд неумело гнется над
грядкой, а на шее автомат болтается; гребется, как курица, в земле,
измазал от неумелого старания нос, шею.
Старая Кучериха время от времени отлавливала дочку, шипела, как
гусыня (но кто-то сказал бы — добрая гусыня):
— Остановись, девка, что ты себе позволяешь? Что ты над ним свои
штучки вытворяешь? А если его командирам это не понравится?
— А вы знаете, мама, ему чуть больше годов, чем мне. А вырос —
гляньте, какая дылда!
— Вы уже и годиками померялись! Дурное и есть дурное, то-то же,
дитя малое. Да только это тебе не игра. Ох, еще покажут они себя, чует
мое сердце!
НЕМОЙ у
И показал... В ту же ночь.
Пожалуй, ни одна девушка не нравилась так Францу, как вдруг эта
приглянулась—из бандитской деревни. Да если по совести, ничего
серьезного и не было еще у него с женским племенем. Хотя среди одногодков,
особенно когда был в юношеском лагере «Сила через радость», не хуже
других выставлял себя опытным ловеласом, неотразимым самцом,
который не с чужих слов знает что почем. А сам даже к проституткам не
ходил, куда'у юнцов из лагеря тропка была налажена. Не только из
боязни заразиться, сказывалось и домашнее воспитание в семье пастора.
И вот перед ним та, в которую, еще немного, и он влюбится
по-настоящему. Но времени на это не будет... Он же так и не познает того, о чем
столько говорят, пишут в книгах, в кино показывают — притом не с
падшей, а вот с такой чистой, привлекательной. С этим холодным вроде
бы расчетом: не упустить! — как-то соседствовало, уживалось чувство
влюбленности. Оно, это чувство, даже обострилось от хищных намерений,
мыслей, все больше им овладевавших. От беззащитности и обреченности
девушка становилась все желаннее. К третьей ночи только об ,этом и
думал, ужинали, никому в глаза не мог посмотреть. Девушка понимала это
по-своему и дразнила его еще больше: подсматривая за ним, ловя его
взгляд. Так и глупый щенок начинает играть перед оскалом волка.
Что еще жило в его сознании, как это ни странно, — протест.
Жестокость, эгоизм желания против жестокости догмы, идеологии.
Ведь расовый закон ему этого не позволяет. Убить разрешает и даже
обязывает это сделать. А вот подобным прелюбодеянием унизить свою
расу—что скотоложество. И того хуже, опаснее: скотина тебе свою
идеологию не передаст.
Что обо всем этом говорит за<кон, исповедуемый его отцом,
протестантским священником, Франц может вспомнить, но руководствоваться
им немец не обязан. Фюрер освободил от этой обязанности, дал свой
завет, закон. Но теперь именно с законом расы спорил эгоизм молодого
немца, не возвращаясь, однако, к отцовскому. Новые скрижали
вознаграждают его верность лишь трупом. И отнимают радость
обладания живым. Где же сила через радость? Что-то тут не так, мой фюрер, это
прельстит разве что Отто, для которого важнее всего—собрать вкусную
посылку и отослать ее своей жене...
Что произошло в ту ночь на кухне, на широкой лавке у окна, где на
ночь расположилась Полина, темнота разглядеть не позволила ни Куче-
рихе, ни старику Отто (она спала на печи, он — в другой комнате).
Я же эту сцену словно вижу, сам пережил нечто подобное.
Лет за пять до войны к нам в гости приехали тетка с мужем и их
племянница. Был я еще пятиклассником-школьником. Очень мне
приглянулась племянница, целыми днями мы с нею носились по двору и дому,
обливали друг друга водой, щипались, она на меня жаловалась, и нас
обоих стыдили, ругали — моя мама меня, тетка ее. А когда погасили свет,
легли спать, я во тьме пополз, чтобы напугать их. Дополз до
стола—дальше их кровать и диван—и крикнул по-дурному: «А-а-а!» Что-то громко
фыркнуло, зашипело, как клубок змей, и по моей физиономии, по шее
прошлись чьи-то когти. Да такие острые, бешеные Мне бы вовремя
вспомнить, что у нашей кошки родились котята, и коробка, их постелька,
под столом. Ничего не соображая, завопил, как резаный. Испуг был
всеобщий. Пока не зажгли свет, не увидели меня с расписанной физиономией
и не поняли, что произошло. Меня тут же раскрасили еще йодом, долго не
могли успокоиться—потом уже и от смеха.
В избе Кучерихи смеялся только Отто Залевски. Остальным было не
до того. Франц выбежал за дверь, на улицу. Полина бросилась на печь,
к матери под крылышко. И затаились обе.
Утром женщины поднялись по обыкновению раненько, осторожно
возились около печки, доили корову, кормили кабанчика, курей — все как
всегда. Вышел к ним Отто, выспавшийся, очень довольный прошедшей
ночью. Они его обслужили теплой водичкой: подрезал свои усы, побрил
морщинистые щеки и шею, чаще обыкновенного повторяя: «Данке, гут,
гут!» Франц вышел из спальни, как выбежал, звякая оружием и
металлическими коробками на поясе, отворачивая исцарапанную, с
воспалившимися шрамами, физиономию. Не поздоровавшись, убежал на улицу. Куче-
g АЯЕСЬ АДАМОВИЧ
риха проводила его испуганным взглядом, даже " Полина, вся
присмиревшая, бледная, стояла у шкафа, виновато молчала. Отто же просто
светился весь, как новый пятак.
— Лыбится, будто подмазку съел! —не выдержала Полина. Кажется,
она обижена за Франца.
Старая Кучерха на нее накинулась:
— Ты хоть гзтага не чапай, не трогай! Хватит, уже доигралась.
Полина тихонько шмыгнула за дверь. Вернулись они оба, мирнень-
кие, благостные (что она ему там говорила, чем утешила?), хоть ты их
иконой благословляй.
— Мама, у нас лой был, гусиный жир. Помазать и пройдет.
Выбежала в кладовую, а Франц стоит и неловко улыбается,
поглаживая щеки, лоб, шею.
— Война, матка, криг! — пытается шутить,
— Вы ужо на яе не гневайтесь, молодое-дурное, что с нее взять?
Слава Богу, хоть старый немец ушел в уборную. Полина уже несет
стакан, белонаполненный, ковырнула пальцем.
— У нас так лечат, — объяснила Францу, — если кто ненароком
поцарапается. Я смажу ранки, гут? Не больно, чуть-чуть.
Франц покорно наклонился. Полина, водя пальчиком,
приговаривала:
— По соломе, по мякине, пусть поболит и покинет. Пока жениться —
загоится. Заживет до свадьбы.
День расправы приближался выверенным военным шагом. А жителям
деревни будто уши заложило, глаза залепило: так им не хотелось в это
поверить. Об этом знала одна часть людей (постояльцы), вторая же часть
(сами жители) с каждым благополучно прожитым днем все больше
верили: пронесло, на них беда не обрушилась, хотя бы на этот раз.
Последнюю ночь, когда уже был отдан приказ осуществить на
рассвете (в 8.00) акцию. Франц почти не спал. Отто Залевски сообщил ему
распоряжение: больше никого из деревни не выпускать (но тем, кто из
лесу возвращается, не препятствовать), по возможности удерживать
своих хозяев в хате, предупреждая, что вот-вот может начаться бой с
партизанами, они, мол, подходят, окружают. Отто спал вполглаза, несколько
раз ночью вставал и курил на кухне, бегал воды попить или на улицу по
нужде. Франц лихорадочно думал, представлял, как это будет
происходить. Отто у него спросил, ухмыляясь: ты, конечно, молодую выбрал?
Что ж, нравится, битте, пожалуйста, а я по-стариковски пригрею старую
каргу.
И все-таки задремал Франц, а когда проснулся и услышал на кухне
мирные голоса Отто и старухи, все пытающихся объяснить друг другу,
какая это нехорошая штука — война, его внезапно прохватил холод,
начала бить дрожь. Этого еще не хватало! Как же он выйдет к ним, как
посмотрит на Полину, глазами встретится с ней? О. Господи, лучше бы не
просыпаться вообще! Не жить, не знать ничего этого. Отец, ты любил
повторять слова о чаше, которую Сыну Божьему предопределено было
испить до дна. За нас, чтобы и мы свои испытания выдержали достойно.
Ну, а сыну твоему — вот такое выпало. Не я выбираю, за меня Фатерланд,
фюрер определили мою ношу. Как с нею быть, что делать мне? У меня
остался час времени, кто, кто подскажет?
Слышал, как со двора вошла Полина, гремнула дровами у печки.
Перед этим в комнату к Францу забежал бешеный старик: ты что, забыл,
твоя побежала куда-то, за нее ты отвечаешь! О, Господи, пусть бы она
и правда убежала, не съели бы за это Франца, ну, пусть бы наказали, как
следует. Или пускай, если уж на то пошло, Отто все это проделает, ему
это не в новинку.
Слышно, как Полина моет подойник, пойдет корову доить, а сюда
снова влетит этот бешеный подгонять Франца. Вот он, аж задохнулся от
гнева, слова в горле застряли.
Франц только махнул рукой, навешивая на плечо автомат и
направляясь в кухню. Поздоровался с хозяйкой, она пообещала:
НЕМОЙ 9
— Сейчас Полина молочка свежего принесет, а вы трошки шпацирен.
Будет аппетит гут.
— До чего способная к языкам! — Франц улыбкой ответил на ее
улыбку. Что ж, Франц погуляет, а то его опекун скоро залает от
возмущения.
Франц направился к воротам, выглянуть на улицу. В сарае визжит,
требует кормежки кабан, доносится голос Полины, покрикивающей на
неспокойную корову. Все так мирно, обыкновенно. И такое солнечное
утро. Самое черное в жизни Франца. Выглянул на улицу, там какое-то
движение, заведены машины, перебегают улицу солдаты. А вдруг
раздумал штурмбанфюрер, это в его власти, вдруг объявят: акция отменяется,
уходим. Ну, пусть другой раз, пусть где-то, но не сейчас, не здесь.
Поймите же, Полина, Полина! Фюрер мой, Германия, я плохой патриот, сам
вижу, но я еще наберусь мужества, воли, решиглости. Я сгожусь в дело.
Но только не теперь!
Слышно, через все утренние звуки пробивается к Францу, как звонко
бьет в дно подойника струйка молока, как ласково уговаривает корову
Полина: «Стой смирно, что это с тобой сегодня?»
Ох, девочка, девочка, даже скотина что-то чует, а ты—как же ты не
видишь, что готовится? Сказать ей, махнуть на все рукой и предупредить!
Ну и что, куда она теперь убежит, где спрячется, когда все начнет гореть,
а еще Отто, уж он-то не позволит нарушить приказ! Раньше надо было,
хотя бы вчера, позавчера. Чего дожидался, почему этого не сделал? Но
это же измена, этим ты предаешь интересы своего народа. А какой там
она, эта девчонка, враг для Германии!..
Из распахнувшихся ворот вышла Полина с цинковым подойником
в руке, увидела расписанную ею физиономию Франца, смущенно
улыбнулась, даже румянец радостный согрел ее щеки. Франц помог закрыть
тяжелые ворота. Знакомо вскинула короткие волосы и вдруг торопливо
накрыла краем длинной юбки молоко. Пояснила, смущенно
засмеявшись:
— Чтобы не сглазили. Чтобы молоко не скисло, вымя у коровы не
высохло. Если у тебя плохой глаз.
— Полина, я хочу сказать,—все, что казалось самым важным, вдруг
перестало что-либо значить, — я хочу warnen... предупредить. Плёхой
человек уже пришел, вам всем будет плёхо.
На Франца умоляюще смотрят большие черные глаза: это неправда?
Я не так поняла? Ты защитишь!..
— Надо вам... я не знаю что...— сказал и оглянулся на дверь, на
ворота. Вдруг громко засмеялся, громко произнес:
— Молоко гут? Молоко корошо!
Как бы передразнивая Отто. Полина на него смотрит с
возвращающейся надеждой, а может, она не так поняла? И все не так страшно.
Направилась к избе, а Франц, придерживая автомат у пояса, пошел
следом.
И постояльцы-немцы, и старуха — все внимательно наблюдают (это
всегда завораживает), как молоко льется и пенится в стеклянном
кувшине. Старуха уже накрыла стол; неизменная картошка, кусочки сала,
сметана, консервы — видно, Отто расщедрился и открыл банку.
Полина взяла другой, непрозрачный, глиняный кувшин, накрыла
марлей и цедит молоко в него. С выражением печали и обреченности на
лице: Францу припомнились такие лица в музее, куда его часто водил
отец, — на картинах с изображением Мадонн. Отто выразительно, не
спеша, чтобы другие не обратили внимания, а Франц, наоборот, заметил,
достал свои большие серебряные часы и, щелкнув крышкой, посмотрел на
стрелки. Заметили однако все: еще бы, такие часы, старинные, такой
звук. Кучериха даже потянулась рассмотреть их поближе. Как к лезвию
топора в руках палача: острое ли? Ужас сковал голову Франца железным
обручем, стали вдруг болеть глаза, даже слезиться от боли.
Невольно посмотрел на свои часы, ручные, подарок матери: без пяти
минут восемь! Невольно прислушивался, что за окном происходит: не
началось ли? И в желтых (какие они желтые у него!) глазах, на
изрезанном . глубокими морщинами ляце Отто такое же ожидание. Морщики-
10 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
стая шея стервятника... Оба завороженно смотрят, как льется пенистое
молоко, будто и это связано с ожиданием: кончится и... начнется.
— Вы завтракайте, а я наберу картошки, обед надо варить, — вдруг
прозвучал голос старой хозяйки. Испуг на лице у Отто: ситуация
усложняется! Женщина за кольцо подняла крышку подпола, в
другой руке держит пустую корзинку.
— Dorthin darf man nicht!1 —устремился к ней Отто, прихватывая
стоявшую у стенки винтовку. Старуха, не понимая, что немец имеет в
виду, передала ему из рук в руки крышку погреба, и Отто глупо принял ее,
держит.
А старуха, продолжая улыбаться, спускается в погреб. И тут глухо
застучали за окном, где-то у соседей, выстрелы.
— Komm raus,2 — закричал Отто.
Франц смотрит на Полину, которая, уставившись в окно,
вслушивается. Лицо^такое же белое, как молоко, уже льющееся через край черного
кувшина, хлюпающее об пол. Старуха из погреба ни звука, будто и нет ее
там. Отто в отчаянии бросил крышку, которую до этого нелепо держал,
на пол и, торопливо зарядив винтовку, грохнул под пол выстрелом.
Франц от неожиданности вскочил с табурета, а Отто, ощерив
прокуренные желтые зубы, крикнул ему:
— Was steckst du da, Scheisser?3
И направил винтовку на Полину. Но Полина за спиной у Франца,
и Отто не может выстрелить. Выстрелил Франц. Он и ,не заметил, как
рука вздернула затвор автомата, опомнился, лишь когда автомат забился
у него в руках. Сквозь чад, наполнивший комнату, легкие, глаза,
сознание Франц видел, как Отто, взмахнув рукой и как бы отбрасывая
винтовку, ударившуюся о кухонный шкаф, кренится к печке, хватается
руками за нее, будто взобраться хочет. Сползает на пол, а белая боковина
печки заплыла красным, расползающимся на глазах у Франца (и в глазах
Франца) кровавым пятном.
Как-то отрешенно он услышал звук своего упавшего к ногам
автомата, Кто-то его толкает сзади — он переступил через автомат и оказался
у ямы, ведущей под пол. А Полина держит его за плечи, наклоняет:
— Туда! Там есть ход. Туда!
Франц попытался объяснить, спросить, но чужие руки цепко и
упрямо направляют его куда-то. Только бы подальше от этого ужаса! Франц,
вступив на лесенку, сразу же неловко соскользнул с нее и упал коленями
на что-то скользкое, уползающее. Руки погрузились в картошку, мокрую,
подгнившую.
— О Господи, о боже, о Господи!
Старуха здесь, жива, но ее не видно. А Полина закрывает за собой
крышку подпола. Шепчет:
— У тебя фонарик, зажги фонарик!
Действует на диво уверенно, рассчитанно, будто не раз с нею такое
приключалось. Протиснулась возле Франца, направила луч фонарика в
руке Франца на нужную ей стенку и тотчас стала сдергивать, снимать
с нее деревянный щит.
— Тихо вы, мама! — прикрикнула на охающую, стонущую старуху.
За щитом, оказывается, дыра-лаз. Полина подсаживает мать:
— Вы первая. Только тихо. Не бойтесь, тата учил вас, вы же
помните.
Жалко, по-лягушачьи подергались и исчезли в черноте искривленные
ноги, на Франца, щурясь — луч фонарика бьет ей в глаза, — смотрит
Полина. Большие перепуганные детские глаза, не верится, что это она так
деловито распоряжалась. Просит:
— Ползи теперь ты, а я закрою за собой. Там у нас хованка, такой
большой погреб. Специально мой фатер сделал для нас. Нас не найдут, не
бойся.
Франц полз по холодному песку, плечами, локтями, головой ощущая
1 «Туда нельзя!» (нем.)
2 «Вылазь наверх!» (нем.)
3 «Ты что, засранец, сидишь?» (нем.)
НЕМОЙ
11
доски узкой, как гроб, норы. Приходится извиваться, как червяку. Он уже
и кажется себе червяком, в один миг из самоуверенного веселого гитлер-
югенда, из начитанного, музыкального сына уважаемого в округе пастора
превратился в нечто запуганное, ползущее, спасающееся. Слышит, как
впереди тяжело кряхтит старуха, и следом за ней уползает от всего
прежнего, от себя прежнего. Как быстро все изменилось. Все было, и
ничего не стало. А где-то сзади — Полина, Единственное, что еще осталось на
земле (под землей!) для него — эта испуганная, но такая решительная
девочка. Франц направил фонарик назад и увидел... оголенные белые
икры ног, истоптанные ботинки. Полина ползет, пятясь назад; понял—она
закрывала лаз щитом, маскировала и не смогла развернуться в узкой
норе.
— Погаси сейчас же! Ты что? — гневный девичий голос.
Куда-то пропали уползающие ноги старухи. Франц спустился в какую-
то яму, посветил и огляделся. Тут ящики, на одном уже уселась старуха,
стоят бочонки, ведро и даже кружка возле него. Старуха показывает:
садитесь и вы! Сказал машинально: «данке», а не «спасибо» — немецкое
слово для самого прозвучало по-чужому, сразу повеяло угрозой. Они там
найдут убитого Отто, а может, он только ранен, расскажет, кто в него
стрелял. Автомат Франца остался в избе. Лучше бы сгорел дом, так
надежнее было бы, надо было поджечь, прежде чем прятаться. Если все
раскроется, родных в Германии ждет лагерь, позор, ненависть и презрение
соседей.
Торопливо в погреб соскользнула Полина, больно о что-то
ударилась, ойкнула, сердито поправила на себе юбку.
— Помоги мне.
Оказывается, и тут есть щит, можно задраить дыру-лаз, ведущий
К дому. Полина пояснила неправдоподобно безразличным тоном:
— Это от дыма, когда гореть будет хата. — И простонала: — О,
Господи, что теперь там?1
Дым проник в землянку совсем не с той стороны, откуда приползли.
Полина объяснила:
— Горит банька. Нам туда выползать.
Скоро всех начал душить кашель. Полина и Франц невольно
утыкаются в плечо друг друга, чтобы не так слышно было. Кто-то
гулко пробежал прямо над головой, выстрел, второй. Старуха, зажимая лицо,
упала прямо на пол. Франц с бессмысленной торопливостью погасил
фонарик. От наступившей темноты как бы слышнее стало, что делается
наверху. Машины ревут—и стрельба. Или это пламя так гудит и стреляет?
Несколько раз тяжело стукнуло, глухие взрывы сбоку, как бы из глубины
земной, посыпался сверху песок.
А может, и на самом деле бой начался, подойьли партизаны? Если и
так—одновременно подумали Полина и Франц — если выйдем наверх, а
там уже наши (а там — эти, кого называют бандитами), брат Павел и тата
прибегут, заберут и Франца, но мы его защитим, объясним, как немец
спас нам жизнь (лицом к лицу окажусь с безжалостными, страшными
партизанами, но по крайней мере моей семье не будет грозить Дахау).
Франц уснул, как-то сразу, как, случается, засыпают дети в самой
страшной ситуации—именно в самый жуткий момент. Защитной называют
такую реакцию организма. Полина не сразу поняла, отчего вздрагивают
плечи Франца, отяжелело прислонившегося к ней. Немец-мальчик спал. Он
плакал.
— Бедный, плачет,— сказала старуха,— тоже человек. Божа мой,
божа!
А Францу снилась его квартира в Дрездене: за длинным домашним
столом какие-то люди, видно гости, но все молчат и смотрят на строго, во
все черное одетого отца и разряженную, как девочка, мать Франца,
которая и по виду не старше его сестер. Они тоже за столом, с ними Полина.
Самая младшая в семье, Елена, кричит (почему-то по-русски):
— У нас свадьба, Франц. Смотри, какая невеста. Почему ты
плачешь? Ты их напугаешь.
<|2 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
— Отто им рассказал, — тихо говорит Полина и непонятно: — Но ты
не бойся, он мертвый.
Очнулся, видимо, от близкого взрыва, не понимает, где он, темно,
как в могиле, но рядом чье-то дыхание. Ладонью провел по лицу, щемит
кожа от соленых слез. В горле першит—это от дыма. Невозможно дышать.
— Где фонарик, запали; — голос Полины.
Франц нащупал на ящике круглую рукоятку фонарика, зажег свет и
окончательно вернулся, вырвался из сна.
— Тебе легче? — спросила Полина и объяснила, в голосе
снисходительная усмешка.—Ты заснул.
— Да! Сон такой!
— А там затихает, слышишь? Ты наклонись к долу, там меньше
дыма.
По часам Франца (Полина взяла его руку, чтобы посмотреть) уже
полдень.
Целая вечность прошла, что-то в этом мире кончилось навсегда, а
они трое все еще живы. Дым больше не валит из щелей, но все равно
сухим туманом стоит перед глазами, он в груди, в легких, кажется, что и
голову, и сердце — все, все заполнил. Полина не выдержала, начала
снимать щит со стороны, как она сказала, баньки. Франц бросился помогать
ей. Про себя подумал: «Wie ein Unterseeboot!»1.
Полина не говорит, ч/г о б ы их не н а п у г а т ь, но сама замирает
от мысли: а удастся ли выбраться, вдруг оба выхода—и через баньку, и
через хату — завалило так, что не выдерешься? Францу не разрешила
ползти за собой (нечем будет дышать двоим в норе!), подбирая юбку,
подсаживаемая Францем (все-таки поправила его руки, когда взял ее вроде бы
не так) втиснулась в нору и пропала. Францу и старухе показалось,
надолго, нестерпимо долго ее не было. Вначале доносился осторожный кашель,
а потом и его не стало слышно. Франц бессмысленно пытался лучом
фонарика высветить задымленную дыру, уже и батарейки садиться стали, свет
тусклый. Наконец-то появилась, и опять раньше ноги, ботинки, белые
икры ног. Франц — от беды подальше! — отвел свет в сторону. Принял на
руки ее легкое утомленное тело, помог стать на ноги. Что, что там?
— Еще огонь там, жар. Надо подождать.
Выбрались только заполночь. Все равно их встретил недотлевший
жар. Франц на этот раз пополз первым и получил ожогов больше. Ему
пришлось разгребать выход. Прожег мундир на локтях, штаны на коленях.
Щемит кожа на запястьях, щека, шея горят от ожога, сколько ни
облизывай их, ни смачивай слюной. Но все-таки он поднял, откинул крышку
(угли так и посыпались на него), проделал выход, затаптывая и
расшвыривая красные угли, помог выбраться наверх женщинам. Уже ночь, но вся
раскаленная, куда ни глянь, видны за стволами и сквозь сучья садовых
деревьев все еще огненно тлеющие, раздуваемые ветром пепелища. От
дома Кучерихи осталась одна печка, снизу красная, подсвеченная жаром,
выше белее, а еще выше — как темный обелиск, уходящий в черное небо.
Поражала тишина: где-то выла собака, вторила еще одна, но это не
нарушало мертвой, какой-то запредельной тишины.
Людей, переживших смерть своей деревни—думаю, и те, кто заживо
горели в Дрездене, могли бы засвидетельствовать, — оглушала щысль:
везде так! На всей земле! В этуминуту убивают всех!..
Завыла Кучериха во весь голос, уже не опасаясь убийц, карателей.
Будто и их тоже не осталось! Бросилась к своему дому, обежала вокруг
пожарища раз, второй, как бы пытаясь добраться, дотянуться до сиротливо
белеющей печки, припасть, обнять. Полина почему-то отошла от Франца,
он машинально двинулся следом, она еще дальше, под деревья отступила.
И когда он снова захотел приблизиться, вдруг закричала не своим
голосом:
— Что ты все облизываешь свои руки? Что, болит? А им не больно
было? Деткам! Живым в этом огне!
И зарыдала, закинув голову, схватясь руками за ствол дерева. —
Фашист! — сквозь рыдания. — Ненавижу! Все вы фашисты!
«Как подводная лодка» (нем.).
НЕМОЙ <J 3
Франц отошел в сторонку и сел на какой-то столбик. Положил на
колени свою плоскую сумку. Там у него бритвенные принадлежности, мыло
и еще —черная круглая граната с голубенькой головкой. Жить ему не
хотелось.
Было бы безопаснее уйти в чащу леса, куда-нибудь на болото, но
что-то удерживало их в деревне, которой уже не было. Днем обошли
село—от пожарища к пожарищу. Кучериха время от времени принималась
звать, окликать хозяев:
— Хведорка! Прузына! А где ж вы, чаму не выйдете до нас, чаму
не позовете нас в гости? Или мы провиыилися перед вами? А моя ж ты
Ганночка, а ты ж всегда поздороваешься, спросишь про деток, про все
расспросишь. Что ж ты молчишь, не чувать тебя?..
Полина и Франц шли впереди, но тоже не вместе, каждый сам по
себе— лучше бы Франц вообще не ходил с ними. Но он не отставал.
Уже несколько раз дождь принимался остужать неостывающую
землю, черные пепелища, но все еще колыхались голубые дымки то в одном,
то в другом месте — будто чья-то задержавшаяся душа.
Жгли костер: надо было есть, кипятили воду. Через лаз на месте
сгоревшей бани вытащили какие-то сухари, старое пожелтевшее сало, желтое
вязьмо репчатого лука, картошку — то, что припасено было на такой,
видимо, случай. Жили, как бы кого-то и чего-то дожидаясь. Лишь несколько
суток минуло с той ночи, как выбрались наружу, а казалось, что прошло
Бог знает сколько времени. Вот так сидели у огонька, накрытые черным
с редкими звездами небом, как вдруг Франц, оглянувшись, будто позвали
его, вскочил на ноги. Следом за ним — Полина со старухой. Кто, что?!
А на них, уставившись из ночи, смотрят глаза, множество горящих глаз!
Со всех сторон. Кучерихе показалось—души людские, она стала
креститься, но тут же всех успокоила:
— Коты, это коты.
Со всей деревни собрались — на запах пищи, на живое присутствие
людей.
Франц тесаком нарубил, заготовил еловые ветки, наломал березовых
сучьев, уже пахнущих весной, соком — на чем спать. У Полины и старухи
общее ложе под широкой яблоней. У Франца — свое, особняком. Но какой
там сон, холодно по ночам, и вообще не спится. Старуха собрала вблизи
какие-то обгоревшие, противно пахнущие половики, рядно. Чтобы было чем
накрыться.
А утром Полина вдруг услышала: птицы поют! И все эти дни,
наверное, звучали их голоса.
— А где мы его спрячем? — спросила Кучериха, которая тоже не
спала.
— Пусть уходит, откуда пришел. Что ему здесь делать?
— Кто ж его, доченька, примет? Не ихний и не наш. Придут
партизаны— тоже неизвестно, как на него посмотрят.
— Я и говорю. Появятся герои! Когда одни угольки от людей
остались. Как же, немца в плен захватили!
— Живой ли Павлик, батька? О, Боже святы!
Над шепотом людей—птичий разгай. Их дом — сады, подлесок
березовый—цел. Сообщают, что они есть, живут, целому свету, не опасаясь.
Пи-икают пеночки, по-стрекозьи свирчат шпаки (скворцы), на лесной
опушке впервые в этом году попробовала свой голос кукушка, Полина только
начала считать—та счет оборвала.
Полина посмотрела в ту сторону, где под старой потрескавшейся
грушей спит немец: поджал чуть не до подбородка колени, накрылся грязным
половиком как у мамки в гостях. Кто теперь более одинок в этом мире, чем
он. Полину тяготит, мучает, как обреченно Фраиц ходит за нею, как
смотрит, но с собой ничего поделать она не может: когда вышли наверх и
увидела опустевшую деревню, будто в ней что замкнулось. Не может его
ни видеть, ни слышать.
А тут что-то в ней дрогнуло: затеплилась жалость к этому, страшно
-J4 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
i
сказать, немцу. Туг же решила: надо его переодеть, выбросить, спрятать
всю лошадиную сбрую, что на нем, этот ненавистный мундир. В хованке,
там в ящиках, спрятаны отцовские и брата старые одежки, белье. Хотя
трудно будет подобрать под эту каланчу, к нелепо длинным рукам и
ногам, что-нибудь подходящее.
Переодевание совершено было тут же, еще картошку Кучериха не
успела сварить. Штаны и пиджак, когда-то купленные в сельпо, давно
потеряли фабричный цвет, ну, а рубаха, белье — вообще самотканые. И
свитка поверх всего—тоже из рудого самодельного сукна. На ноги Полина не
нашла ничего. Пусть остаются на нем немецкие сапоги, их теперь и
партизаны носят. Зато белье было новенькое, из домашнего полотна. Да,
жестковатое, не так его отбеливали прежде, до войны, зато ненадеванное.
Франц удалился в еще безлистный кустарник и там переодевается.
Время от времени радостно показывает, что он снял с себя и что
надевает. Показал ремень со всей солдатской оснасткой, дисками автоматными,
с круглой коробкой противогаза. Полина машет рукой: брось и это! Если
своей жизни жалко, этого не жалей.
Вернулся из кустов совсем другой Франц. Хоть ты с ним на петухов-
скую вечеринку отправляйся. Нет, конечно, не на вечеринку в таком
рванье, скорее на колхозное собрание или на скотный двор. Но это то, что
надо—опять-таки, если жить хочешь. Немец честно показал: круглую
гранату он себе оставляет. Поднес к улыбающемуся лицу и
продемонстрировал, как отвернет голубую головку гранаты, как потянет за нее и...
Рукой, пальцами смял свое лицо, как помидор. И пояснил:
— Blutiges Fleisch. l Никто не узнает немца Франца. Что его фатер
и мутти живут в Дрездене.
Полина видит, что на руке у него блестят, бросаясь в глаза, «не
наши» часы, но не выбрасывать же и их? Будет носить в кармане. Он уже
чего-то напихал туда.
— Хорошо, что ты по-нашему понимаешь, но говоришь—ну, просто
горячая картошка во рту. Сделаем так: ты будешь немой; а говорить
буду я!
6
— Пойду схожу к Пархимчикам.
Или:
— Проведаю бабку Капустиху.
И уходит. К соседям, чуть не на весь день. Это она наведывается к
покойникам. Полину пугает, с каким спокойствием, как серьезно звучат
ее: «схожу», «проведаю». Не дай Бог—тронется умом.
Очень постарела за эти дни. Посторонние называли ее старухой
давно, еще когда Полина девочкой была. Не соглашалась:
— Неправда! Моя мама самая молодая!
Полину родила, когда ей уже пятьдесят было, Павлика—на год с
половиной ранее. А до этого все не было в семье детей. Вот и получилось:
малые дети, а мать — «бабушка». Но в деревне на это мало внимания
обращают, старух могут называть—«девки», молодиц—«бабки»: хоть
горшком обзывай, только в печь не сажай!
Полина проследила, куда и по какому делу мать уходит с утра.
Ничего, только собирает на пожарищах косточки, черепа сгоревших и
складывает возле печки. Как возле памятника. Прочитав молитву, переходит в
следующий двор. И так целый день. Полина стала приносить ей поесть,
попить. Молча примет черными от сажи руками, отрешенно, с пустыми
глазами, поест, на вопросы не отвечает. Полина тоже замолкнет, посидят
рядышком, и Полина уходит. Теперь идет к Францу. Он обычно сидит у
костра, хорошо, если занятие есть — следить, испеклась ли картошка, а то не
знает, куда себя девать, все время ищет глазами Полину.
Полина и Франц теперь ночевать уходят в лес, хотя и недалеко.
Чтобы, если что, они первые, а не их, заметили. Кроме них троих в деревне
в живых остались еще несколько курей, кошки, собаки. Сумерки уже не
«Кровавое мясо» (нем.).
немой i 5
пахнут коровьим калом. Но у живых, у каждого свое занятие, свои
заботы. Полина обнаружила, что собаки, которые не убежали в лес (встретишь
и пугаешься: волк!), тоже разыскивают куриные яйца, жрут их вместе со
скорлупой. А она сама взялась яйца собирать, чтобы «кор^мить семью» —
мать, Франца. Смешно вспоминать, но дед Пархимчик так объяснял
ненависть немцев к евреям: и те, и другие любят яйца, для всех не хватает.
Как теперь у Полины с собаками.
Так прожили неделю, вторую. Дни не занятые, долгие. Бродили по
лесу, белому от берез, заполненному весенним солнцем и птичьими
голосами, не сидеть же на месте. В одно теплое майское утро случилось чудо.
Или как это назвать? Жизнь такая, что все время вслушиваешься. Ждешь
звуков угрожающих. А тут—какой-то шорох, крадущийся, как от бегущего
по листьям мелкого дождя. Но на небе ни хмуринки, и на деревьях
листьев все еще нет. Тут Полина ахнула: это же почки, листья березовые
распускаются! Миллиарды одновременно, одномоментные электрические за-
рядики взрываются! Затеребила Франца: слышишь?! Слышишь?! Он
глянул на счастливую Полину, посмотрел вверх и—молодец! —сразу понял,
о чем это она.
— Wie bei einem Kommando! — и сам перевел: — Как по команде!
Самое удивительное: начинает казаться, что не только над головой
взрывающиеся почки — березовые бомбочки, — но и далекие-далекие
слышишь, з'вук сливается в общий электрический шорох.
И тут Полина и Франц нырнули на землю: как будто тела их
пронзил визг настоящей бомбы. Как стояли, так и упали, схватившись за руки,
потащив друг друга к земле: увидели среди деревьев людей, движение
среди неподвижно-белых берез. Зеленые мундиры — немцы! Франц панически
зашарил рукой в кармане, яростно пытается оторваться от Полины,
откатиться в сторону: это он гранату вытаскивает-—Полина увидела черное
яйцо и еще цепче впилась пальцами в его рукав! Брось, брось, выбрось!
Неужто и впрямь есть что-то страшнее смерти? Да сколько угодно—
в этой жизни, не один человек в этом убеждался. Вот и Франц решил:
«кровавый бифштекс», но только чтобы не получили его живьем, не
признали в нем «своего», немца! Смог бы он или не смог—не помешай ему
Полина, —кто знает. Но что он больше, чем смерти пугаются, своих
испугался— это было. Такое происходит с людьми.
С некоторых пор меня занимает вопрос: что было в фюрерах XX
века, намертво парализовывавшее волю других людей? Или, может быть,
это находилось, содержалось не столько в фюрерах, «вождях», сколько в
окружавших их людях? Какое такое вещество в переизбытке
присутствовало, выделялось организмами XX века?
Сцена. «При нас» это происходило, но понять до конца это
невозможно даже современникам, не говоря уже об идущих нам на смену.
За столом сидят солидные люди и не просто, а те, кого называют
«людьми науки», «людьми искусства», у них деловое совещание. Не
сидит, а ходит лишь один человек, ходит за спинами у сидящих., раскуривает
вонючую трубку, попыхивает. В какой-то момент, когда главные вопросы
«решили», этот, прохаживающийся, произносит за спинами:
— А сейчас мы должны рассмотреть вопрос о враждебной
деятельности товарища Н. в области театрального дела.
Представим себе, что не всего лишь слова прозвучали, а близкая,
«на поражение», автоматная очередь — как повели бы себя все эти люди?
И тот, с трубкой. Наверное, оказались бы под столом. Страх смерти их
сбросил бы туда, на пол. Но чтобы вскинуть на стол, чтобы человек,
солидный, почти министр, вскочил на стол и петухом закукарекал (а именно
это произошло в реальности) — тут страха смерти мало. Нужно еще, чтобы
волю свою ты (сам) кому-то передал. Как говорят, делегировал — челове-
коупырю. Высасывателю чужих воль.
Корчившийся на земле в попытке спрятаться в смерть Франц был
один из таких — из обезволенных упырями. Ну, а по нашу сторону — много
было с невысосанной волей? И как нелегко, непросто ее себе возвращали—
и тогда, в войну, и много лет, да нет, десятилетий спустя.
\4> АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
— Не немцы, не немцы это! —кричала Францу Полина, а он словно
оглох, все вырывается, прячет под себя гранату.
Наконец, "кажется, сам разглядел: к ним приближаются люди, хотя и
с оружием, но в обычной цивильной одежде, какая и на нем, и только один
из них во всем немецком. В две руки, Франц и Полина, сунули черное
яйцо смерти под прошлогодние листья и отскочили в сторону. Этого не
могли не заметить подходившие. Тот, что во всем зеленом, прежде чем
приблизиться к ним, завернул к тому месту, где оставили гранату. Ковырнул
ботинком, нагнулся и поднял. Громко хмыкнул. Когда наклонился,
повернулся спиной, на его немецкой пилотке Полина разглядела красную
звездочку—сзади, он зачем-то ее надел задом наперед. У двух других красные
ленточки—на зимних шапках. На одном кожушок, на втором свитка, не
лучше, чем Францева. У «немца» ворошиловские усики. (Франц тоже
отметил: как у фюрера!) Полина держит руку у рта как бы от испуга, но
это для Франца: подсказывает ему, напоминает, что он немой. Пастух
колхозный, дурачок. О, Господи, часы! Их-то забыли снять с руки, спрятать:
тоненькие, «не наши», сразу заметно. А еще сапоги немецкие! «Немец»
присматривается к Францу каким-то охотничьим взглядом.
— Немой он, это мой брат, — тут же затараторила Полина, сама
отметив, каким вдруг крикливо бабьим сделался ее голос.
Сощуренные глаза «немца» с усиками (он самый низкорослый из
всех) не отпускают Франца, и тот, бедный, стоит перед ним, как перед
начальником.
— Откуда такие? — показал на часы. — Трофейные? Сапоги тоже?
И все время подбрасывает на руке Францеву гранату.
— Брат, говоришь? — повернулся к Полине и вдруг—к Францу: —
Как тебя звали, когда умел разговаривать? Имя как твое? Что на нее
смотришь, я тебя спрашиваю?, Покажи часы. Замаскировались, только бы дома
отсидеться. На тебя можно плиту минометную взвалить. Станкач
неразобранный.
В одной руке у «немца» Францева граната, во второй уже и часы.
Теперь он оценивающе смотрит на сапоги.
— Трофейные, придется сдать.
Лицо дурашливо-строгое — большой, видно, мастер по трофеям. Его
сотоварищи смотрят на него тоже с интересом. Ткнув пальцем в самого
пожилого, приказал Францу:
— Вот с ним поменяйся.
Ох, и сказала бы ему Полина, когда бы не боялась, что разгадают,
кто такой Франц. Пусть забирают все и пусть только уходят.
— Ну что ты, как петух перед курицей, топчешься? — влетело и
пожилому партизану от «Ворошилова». — Снимай и меняйся. Видишь,
парень решил помочь народным мстителям! Раз сам не воюет, пусть
поможет.
Рассматривает Францевы часы уже на своем запястье:
— Вот, тут не по-нашему написано.
Наконец поинтересовался:
— Вы из какой деревни?
— Из Петухов.
— Так вас же спалили.
— Это мы знаем.
Все-таки смутился.
— Вы не обижайтесь. Мы не знали, что вы петуховские.
Но почему-то не вернул «трофеи».
День начался как обычно. Проснулись в утреннем сумраке густого
леса под еловым шатром-балдахином. По одну сторону толстенной елины
с подтеками смолы лежала Полина, укрывшись старенькой с
проплешинами плюшевой жакеткой, по другую, натянув до подбородка деревенскую
шерстяную свитку—Франц. Мрачное дерево между ними как строгий страж.
Нарушителей не было: попробовал бы этот немец еще раз, как тогда! До
сих пор на щеках, на лбу у него метинки от когтей ПЬлины. Весело жалу-
НЕМОЙ 17
ется, что клещи на него дождем сыплются. Вот, и на шее, и за ухом.
Полина посмотрела (покорно наклонил коротко стриженную голову)
убедилась: чернеют оторванные головки, кожа воспалилась. Не хлопец' а
тридцать три несчастья этот Франц. Беды на него сыплются, как эти' клещи.
Во дворе у сгоревшего Подобеда, он жил у самой речки, нашли
лозовую вершу-топтуху—Полина научила, как ловить вьюнов, Франц натоптал
с десяток змееподобных вертких рыбешек. А чирьев заимел еще больше —
всего обсыпало. А может, оттого, что на земле приходится спать, ночи
холодные? Белье из жесткого деревенского полотна натерло мягкие места,
теперь он ноги ставит враскид, как циркуль —умереть можно, как он ходит.
Друзья Павла, партизаны, называют это: нагнал волка! Хорошо еще, что
не ноет, сам над своими бедами подшучивает. Уверяет, что обязательно
своей муттер завезет и покажет: какое белье сын ее носил («Когда был в
партизанах», — от себя добавила Полина). Франц промолчал: мулкое для
него слово, вроде этого белья. И носить невозможно и другого нет, свое,
немецкое, затоптал в болоте.
И вот наступил день, которого Полина и ждала как спасения, и
отчаянно боялась. Из лесу увидела возле своего двора верховых лошадей,
сразу же узнала Павлика, стоит рядом с матерью. С ним, наверное, его
разведчики, приезжали вот так не единожды.
— Сядь и сиди здесь, — приказала Францу, указывая на нагретое
солнцем полусгнившее бревно, — пока я не вернусь. Или позову. Только не
убеги! Не уйдешь?
—- Не уйду.
Ну совсем как умного пса она его уговаривает. Но им не до смеха.
Франц как-то сник, лицо посерело.
И Лазарчука узнала издали, он из Заречья, село это когда-то
соперничало с Петухами: у кого зычнее и многолюднее вечеринки. И третий кто-
то с ними, сидит на лошади, держа на коленях винтовку. Что, что им
рассказала мама про Франца? Она видит уже бегущую по огородам Полину,
показывает в ее сторону. Что им сказать? Увезут в отряд, а там что? Или
с ним так же поступят, как с тремя немецкими офицерами. Сами перешли
к партизанам, убежав с бобруйского аэродрома, а до этого долгое время
поставляли отраду разные сведения, медикаменты. На машине прикатили,
всего навезли. Их сначала приняли с почетом, даже пистолеты не
отобрали. А потом —арестовали. Будто бы яд нашли. Полина отцу доверяет, его
спокойной рассудительности, опыту, ну, не Павлу же верить — такому же,
как она сама, школьнику? Для школьников все заранее ясно. А отец
усомнился:
— Какой там мышьяк? Для себя ампулу зашили в воротник. Не к
теще на блины ехали. А у нас рады придумать: хотели отравить кого-то,
командование! Отличиться надо было особому отделу—вот и весь мышьяк.
Живого немца поди поймай, а тут сами в руки пришли.
Бросилась брату на шею:
— Вот что с нами, Павлик, сделали, побили, попалили!
— Вижу! — Какой же он стал худой, глаза провалились, рука
подвязана. Поморщился: Полина неосторожно коснулась ее.
— Ранили тебя?
— Да ерунда!
У него все ерунда, пустяки. Вдруг прикинула: а они, пожалуй,
одногодки с Францем, восемнадцати нет.
— Донька, где вы там ходите? А он где? — спросила Кучериха.
Сказала, рассказала про Франца, про немца!
— Ну, где ваш фриц? — поинтересовался Павел.
Стоящий возле лошади Лазарчук смотрит испытывающе. Глаза
незнакомо жесткие. Оброс так, что и хвацкие бакенбарды его потерялись.
Как чеснок в лебеде у плохой хозяйки.
— Ой, мама! —Полине почему-то легче свою внезапную придумку-
ложь сообщать всем через мать. — Забрали Франца! Какие-то из не знаю
какого отряда. Отняли часы, сапоги, а как увидели носочки с голубым
пояском: «А, немец!» И увели. Я уже им и про то, как он нас спас, что
он не убивал, не палил —не поверили, забрали. Не знаю, что с ним
сделают.
2. «Знамя» № 12.
.g АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
— А что с ними делать? —глухо произнес Лазарчук. —Ясно что.
— Он же нас от лютой смерти... —взмолилась Кучериха.
— Дайте, мати, за зло расквитаться. А уже потом остальное,
—прервал ,ее Лазарчук.
Вмешался Павелг.
— Мы вас, мама, с Поли-ной заберем в отряд, когда назад поедем.
Что вам тут теперь оставаться? Через пару дней. А то еще каратели
вернутся. У нас тут в яме белье есть, хлопцам, да и мне —переодеться.
Завшивели.
— А як жа! И сало, сухари. Вот Полина, слазь, доченька.
А некоторое время спустя брат незаметно отвел Полину в сторонку.
— Так, говоришь, увели?
— А вы бы что с ним? А, Павлик?
— Не знаю, как в отряде. Вон у Лазарчука всю семью выбили,
никого не оставили.
Посмотрел прямо в глаза сестре таким знакомым взглядом старшего
на младшую, любимицу в семье.
— Ох, и политики вы с мамой! Если недалеко увели его, пусть он
уходит. Раз вы говорите, что он такой.
— Так он убил немца, ему нельзя возвращаться!
— Ну, не знаю.
8
Вдали над лесом, а часто й прямо над сгоревшей деревней пролетают
самолеты. Франц, прислонясь к дереву, с мальчишеской осведомленностью
обязательно сообщит марку: «мессершмитт», «фокке-вульф». Полина в
такие моменты ревниво замечает, как взгляд его на время куда-то
удаляется, затуманиваясь. Это его Германия летает. А сам он от нее прячется и
больше всего боится, что она его отыщет. Мать тоже все чаще уходит в
свою даль, все меньше у нее разговоров с живыми, она вся—с.
покойниками.
— Во сне приходят: «Что ж ты нас, Кучериха, наши белые кости
земелькой не присыплешь?» Надо им, детки, могилки выкопать.
Теперь Полина с Францем ходят по ее следам, зарывают то, что она
собрала на пожарищах. С лопатой, с кошем (корзиной) переходят со двора
во двор. Франц на огороде роет небольшую, но поглубже 1яму («Чтобы,
детки, не откопали их волки, собаки не растаскивали»), Полина, собрав в
кош то, что осталось от семейки, несет к яме — зарывают. Перед этим
могилку выстилают зацветающими ветками с хозяйской грушки или вишень-
ки, присыпав, Франц специальным валиком из круглого поленца
выдавливает на влажном песке крест. Молча перекрестится, и Полина тоже.
Неправдой было бы сказать, что она прежде никогда этого не делала. Это ее
тайна, сладкая и стыдная. И не набожность в ней тогда просыпалась, а,
пожалуй, что-то совсем другое. Сначала она проделывала это в гумне, на
току; сладко пахнущем нагретыми снопами, сеном. Воровски забиралась
туда, становилась голыми коленями на каменнотвердую глину, начинала
истово креститься и класть поклоны. Перед этим торопливо и грубо
мазала губы помадой, подаренной ей дочерью лесничего Эвирой, волнующий
запах нетеперешней, ожидающей ее женской жизни добавлял стыда и запрет-
ности. Войдут и увидят, и что ты будешь объяснять? Стала это
проделывать в избе, перед маминой иконой, и именно когда кто-то поблизости был:
на кухне или за окном разговаривают мать с соседкой или с отцом — вот-
вот войдут! Даже в школе рисковала это делать, когда все выбегут на
перемену (у той же Эвиры специально для этого выпросила маленькую
овальную иконку) — вот где чувство стыда и запрета было самое острое. Вбегут,
увцдят—после этого жить станет невозможно. Только умереть!
Вспоминала она теперь об этом? Куда от памяти спрячешься? Но
теперь даже смерть не очень волновала, больше пугала—грубой простотой и
окончательностью. Эти полуистлевшие кости недавно живших знакомых ей
баб, мужчин, детские, они лишали тебя всякой надежды. Кладя крест
следом за Францем, но сцрава налево, как мама крестится, как эти когда-то
крестились (кто постарше был и чьи кости перед глазами), Полина только
НЕМОЙ 19
отгораживала себя от ушедших, приближения не свершалось. Хотя даже
у Франца, чужого здесь, она видела, было по-другому.
— У вас в школе... молились?—спросил вдруг Франц, медленно
подбирая слова.
— Нет, конечно! — Полина почему-то покраснела.
— И у нас тоже: конечно! Но отец и особенно муттер—очень
верующие. Фюрера они только боятся. У вас мало церквей, где у вас
венчались, или как это?
— В сельсовете.
— Это... а, муниципалитет! Вокруг пня? Древние германцы так
делали. Или это историческая шутка, не знаю.
Однажды ранним утром Полина увидела, что Франц ходит по
пепелищу ее дома, внимательно рассматривает у себя под ногами, что-то ищет.
Видно, кости Отто хочет и боится увидеть.
Кучериха «с работы» обычно уходила, не объявляя об этом Полине,
Францу: исчезала, и все, приходили в свой двор, а она уже там, варит им
ужин или спит, завернувшись в колхозную свою телогрейку.
На этот раз почему-то попрощалась. Подошла:
— Ну, я там собрала, и там, и там. Я пошла—похороните.
Полину потом мучила память, догадка; она сказала «я пошла —
похороните!» Знала, что сейчас ляжет и умрет? Когда они с Францем
вернулись «домой», Полину поразило, как по-детски спит ее мать. Рваные свои
солдатские ботинки аккуратно поставила в головах (отец всегда смеялся
над Павлом, когда он так делал по крестьянской привычке), руку
положила под щеку, босые ноги, поджав, спрятала в длинной юбке.
Разговаривали вполголоса: пусть поспит. Приготовили ужин, стали будить, а она...
Полина не кричала, тихо и безнадежно текли слезы, все делал, что
надо, Франц. В этой деревне столько смертей, что закричать (а так
хотелось!) было страшно.
На мертвом лице снова появилась, как бы проявленная смертью,
мамина улыбка. Только тут сообразила Полина, чего не хватало все
последние дли, недели. Ведь всю жизнь, сколько Полина себя помнит, радом
было немолодое лицо с неизменной доброй улыбкой, ласковыми чертами, так
сочетающимися с певучим «маминым» голосом. «Алтайский голосок у
нашей мамы, знаете, какое в горах эхо!» — любовно говорил отец. И еще:
«Мама наша в детстве подмазку съела, всегда улыбается, правда, дети?»
Он привез маму с Беломорканала, из ссылки, потому что она—«из
кулаков». Прямые слова про это отца когда-то пугали Полину, требовали
других, а не тех, что у нее, к матери, чувств. Они стихов, поэм столько
заучивали про Павлика Морозова. Свой же Павлик, казалось, не переживал,
даже когда отец, выпив (редко, но бывало) обзывал себя с вызовом:
«вредитель», «враг народа». Мама его тогда старалась увести от детей,
уложить спать. Как с этим было справиться детской душе, зыбкому сознанию?
Павел справлялся легко. А может, и не так, просто характер у него
мужской. («Кремень наш Павел»,— говорил отец полушутя-полусерьезно.)
Полина же не раз по ночам, плача, переписывала маме и отцу биографии.
В ее фантазиях родители были те же самые, с маминой постоянной
улыбкой, отцовской резкой горячностью, но на Беломорканал они ездили по
комсомольским путевкам и вообще все, как в книгах и в кино.
На огороде возле старой груши Франц копал могилу Кучерихе.
Прикидывал, из чего сделает гроб. Ни досок аккуратных нет, ни инструмента.
Копал и в мыслях обходил двор за двором, всю деревню, припоминая, что
и где видел. Пошел искать доски, а когда принес нужное (даже сломанная
пила ему попалась, полуобгоревший топор), увидел, что Полина уже
побывала в хованке-погребе и достала серый валик домотканого полотна.
Молча, каждый свое, делали. Франц только следил все время, не надо ли
помочь. Принес из колодца воды, когда Полина, подойдя к яме, постояла,
как бы что-то забыв и припоминая:
— Я сама обмою, хоть немного.
Отец, может, и не одобрит, что не на кладбище, а прямо на огороде
будет похоронена. Но и соседи так — каждый в своем саду. Все село теперь
кладбище. Дом они сами строили, отец с матерью. Вот так вместе
работали, как Франц с Полиной, но совсем-совсем другую работу делали. Поли-
20 АПШСЬ АДАМОВИЧ
не, жх знающей, легко представить, как радовались друг другу и тому, что
делают. Особенно после этого Беломорканала. Дом поставили, родили
Павла, тут же вскоре—Полину, работали в колхозе, отец счетоводом, мама —
«куда пошлют», дети семилетку кончали, и тут снова забрали отца. Перед
самой войной. В школу хоть ты не ходи, но Павел не отступал, тащилась
следом за ним и Полина, а там директриса-историчка объясняла детям:
в таком-то выступлении товарища Сталина то-/го и то-то, все, что он
когда-либо сказал,— верно навсегда. Вот и про счетоводов. Врагов надо уметь
распознавать под любой личиной, маской: кулак не обязательно с
берданкой или обрезом под полой. Он может из бухгалтерских костяшек
выстрелить. Как сказал товарищ Сталин? Сидит себе такой в колхозной конторе
и щелк-щелк, как из-за угла. Нащелкал, и пожалуйста: коровы от
бескормицы дохнут, свиньи и куры от чумы, зерно мокнет, гниет, на трудодни —
граммы.
Деревянные «счеты» отца с желтыми костяшками почему-то не
забрали, когда был обыск, они дождались его возвращения из тюрьмы. Уже
когда война началась. Проснулась ночью Полина от испуганно-счастливого
крика матери:
— Дети! Дети!
Потом все дружно грели воду, помогали отцу мыться, как младенца,
поставили его в «балею»—огромную низкую бадью — и поливали водой,
намыливали, терли мочалкой. А он совсем не стыдился своей наготы,
неправдоподобно худой, одни кости. Шепелявить стал, зубов передних нет.
Мать со страхом спрашивала:
— Что у тебя со спиной? На всем теле — что это за шрамы?
Вначале отец ничего не рассказывал. Что там было, как он
освободился. Война шла, из лесу стали наведываться «окруженцы», скоро это
слово вытеснено было другим: «партизаны». У отца какие-то дела с ними
начались, сразу же. Куда-то их водил, пропадая на ночь, а то и на
несколько суток. Однажды заговорил:
— Послушайте и забудьте. Неизвестно, что еще нас ждет в жизни.
Но хочу, чтобы вы знали все.
Про то, как в .минской тюрьме били, выбивали зубы и «признания»
во вредительстве, потом какого-то «письменника» приплели, наверно, он
им был нужен больше, чем сам Кучера. Расскажи, как приезжал читать
стихи, а сам вербовал для польской дефинзивы, охранки! Про то, как этот
«нацдем» подбирал людей для связи с заграницей. А тут — война, Минск
стали бомбить, тюрьма сотрясалась от грохота взрывов. По Московскому
шоссе убегали горожане, следом уводили «врагов», несколько длинных
колонн, у охраны красные петлицы, такие же околыши фуражек, винтовки с
длинными русскими штыками. И эти штыки стерегут тебя, родину от тебя
оберегают. А немец лупит сверху, и ты уже вроде с ним против своих.
Пробовали уговаривать конвой: отведите нас в военкомат, сдайте в армию,
воевать с немцем хотим. Заткнись, вражина! Но вот выстроили
арестованных в шеренгу, сами напротив с винтовками, пулеметы на земле: какой-то
приказ зачитывать будут. Майор-энкаведист держит в руке бумажку,
дождался, когда всех подровняли, все.подготовились и, глядя в бумагу свою:
«Огонь!» А тут как раз налетели самолеты.
— Я лежу среди картофельного поля, скошу глаза — кресты над
головой ревут и оттуда строчат. Кто еще живой, бежать пытается, по тем —
энкаведешники. А один, вижу, подбежал, штыком на соседа замахивается,
как я ногами дал ему промеж ног, аж взвыл. Подскочили мы — и бежать,
а в стороне вижу: энкаведешник стал над женщиной, на обе руки ногами,
да ка-ак штыком ей в грудь или живот! Со всего маху —женщину!..
9
Решили уйти из деревни—со смертью Кучерихи, казалось, она
умерла окончательно—и поселиться в лесу, куда не добрались бы ни немцы с
полицаями, ни партизаны. А как отыскать такое местечко? Догоняя,
преследуя друг друга, убегая и прячась друг от друга, безопасных мест на
этой земле не оставили.
Но повезло. В густом непросматриваемом ельнике (правда, просека
близко) набрели на заброшенную землянку. Судя по тому, как проросли,
НЕМОЙ у.
покрылись грибами и чагой бревна и бревнышки, а жестяная
бочка-«буржуйка» окрасилась в охру ржавчины, тут давно никто не жил Может
оыть, с осени — зимы 41-го, когда окруженцы-партизаны таились по лесам
выходили лишь добывать пропитание. Иногда обстреливали немецкие ма-
шины.
Убрали с нар сгнивший хворост, выстелили ложе свежим ельником и
березой. Франц топором, который с собой прихватили, нарубил сухих
дров —приготовились жить долго. По лесу расползся дымок, а с ним и
тревога: не унюхал бы кто. Пока высушивались их палаты, сидели под
деревьями. Франц сказал:
— Хорошая человек твоя мутти. Показать мою?
Запустил руку под рубаху, на ладони у него заблестел медальон.
Как это не углядел тот, «трофейщик»? Шнурок замаслился, грязный, а
золото блестит, как живое. Подковырнул ногтем, и открылась фотография.
Полина приблизила свое лицо, на нее смотрит строгая чужая женщина с
аккуратно выложенной прической. Франц вытряхнул себе на ладонь
фотографию, перевернул ее.
— Тут написано: «Ich werde dich Schiitzen». Я тебя (как
это? ага) защищу. Всем им так кажется.
Франц долго и нескладно объяснял, что носить это рискованно, а
замазать немецкую надпись будет нехорошо, и потому просит Полину
забрать и хранить, пока ему снова можно будет...
Полина не знала, как тут ей поступить. Вроде она присваивает
право, не спросясь у той женщины, держать на груди ее фотографию. Как-то
неловко перед нею, далеко живущей. Потерла блестящее золото меж
ладоней, заодно и шнурок и опустила холодное сердечко под рубаху. Невольно
поежилась: почему-то вспомнилась Эвирина круглая иконка...
Автоматная очередь! — Франц настороженно поднял голову.
Далековато, но почему разрывные пули ее повторили совсем рядом, в кустах за
землянкой?
— Это же соловей!—рассмеялась Полина. — Как будет по-немецки?
— Nachtigall. Никому только не рассказывай, что Франц уже...
Покрутил пальцем у виска.
— Нет, правда, похоже, — успокоила Полина, когда они улеглись на
нарах, — во, ну совсем, как пулемет. А теперь полощет горлышко. И до
войны пели соловьи, но никому в голову не приходило такое.
— Многое не приходило, — согласился Франц.—А в вашей школе...
И пошли разбирать стенку незнания—и того, и другого, и третьего.
Как у вас? А у вас как? Обнаружилось, что многое очень похоже: девушки
больше понимают в парнях, чем те в них, — что в немецком Дрездене, что
в белорусских Петухах. И так же одинаково живут в вечном
противостоянии женской части школы и мужской, но предателей своего племени
больше среди девочек. Вот была в десятом классе Клавка, девка никакая из
себя, у нее и парня не было своего на выпускном вечере, так
старшеклассники потом рассказывали: она столько пар разбила, развела за один тот
вечер! Даже у которых дело к свадьбе уже шло. И чем взяла, ты
подумай! Те, невесты, выдерживали своих парней на расстоянии: поцелуй еще
можно, а больше—ни-ни!—это чтобы удержать их до свадьбы. Вам же
только уступи и —адью! Эта нахалка всем дала урок: танцевала с
парнями со всеми подряд, и все ее наперебой приглашали — прижималась,
бесстыжая, смотрела так, что каждый поверил: сегодня он все и получит, если
с нею уйдет. Ну, как опоила зельем! И оставила в дураках. У невест
после этого вечера раздрызг с женихами, у некоторых навсегда — отомстила за
все десять лет невнимания.
Полина задала тон, Франц так же осуждающе заговорил о легких
прямо-таки свинских нравах среди парней, увлеклись, аж дыхание сделалось
горячим и у нее, и у него, казалось, теперь-то уж не смогут сдержать
себя, сблизятся руки, губы, но что вы, как теперь это возможно?! О чем
только что говорили?., как осуждали! как негодовали! Смущенно замолкли
Полина с Францем, почувствовав себя обманутыми кем-то: наиздевался и
смотрит на них со стороны, чтобы громко расхохотаться при первом их
прикосновении. Разочарованно' полежали и уснули каждый на своем
месте—приблизительно в метре друг от друга. Но девушка все-таки сказала
«на прощание»:
22 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
— На новом месте приснись жених невесте.
Однако сказано было столь иронично, что Франц так и не решился
протянуть в ее сторону руку. Помнит, бедняжка, коготки!
Прежде чем уснуть, Полина много навспоминать успела. Виру
вспомнила. Вот она бы знала, как распорядиться и собой, и Францем.
Жила эта семья, по представлениям петуховцев, «как помещики».
А имя Вира—от Эвиры, что означает: Эпоха Войн и Революций. Имя ей
такое дала мать, та самая директриса-историчка.
Отец Виры (пока и этих не пересажали) работал лесничим, хозяйство
его,было чуть не в полрайона, десятки лесников в его распоряжении, и
лес с грибами-ягодами, и трава на полянах, и дрова. Все, чем в лесном
крае люд жив. Обширное лесничество располагалось особняком от
деревни, за высоким дощатым забором, где стояла просторная контора,
раздольный дом лесничего, высокие, из крепкого дерева, теса хозяйственные
постройки. В лесничестве было несколько лошадей, хороший выезд. Все не
как в рваном-гнилом колхозе: что сбруя, что возок—кошевка, лошади—
загляденье! Даже свой пруд был за тем высоким забором, а зимой—каток
для Виры и ее друзей. Но в друзьях у нее ходили не многие. Это еще
надо было заслужить. И прежде всего — непохожим на общее поведением,
смелостью знать то, чего другие знать боятся. Сама она была и умница,
и красавица. Читала много, но главное—обо всем было у нее свое
суждение. И действительно, ничего не боялась, — так казалось Полине. Аж
голова кружилась рядом с ней. «Я сама себе книга»,—любила повторять. И
сообщала, что подумалось, что почувствовалось — почему? отчего так? — в
таких-то и таких обстоятельствах. Однажды отец—усатый, черногривый
красавец—ее просто высек. «Из любопытства», как сама говорила,
подожгла копну сена прямо во дворе. Так вот: «Он меня плеткой, плеткой, так
напугался пожара, а я в эти минуты любила его больше, чем когда-либо.
До слез».
С Полиной они, забравшись на сеновал, под ласточкино цвиканье,
читали, делились секретами, спали, грезили, как устроится их жизнь.
Однажды Полину предупредила:
— Я позвала Костю и Бублика. Выбирай, кого ты хочешь.
— Зачем они мне?
— Что, трусишь? Мы же договорились.
— Ну, это мы так.
— Так или не так, а я их пригласила. Сказала: приходите с
интересными книжками.
Они и пришли с книжками. Бублик, тот дурачок-дурачком, а
школьный красавец Костик (скорее по испуганно-скованному поведению Полины,
чем вызывающему—Виры) понял, что все неспроста. Дурачились,
копошились в сене, все более распаляясь и позволяя себе все больше. Пока
Полина не разозлилась и не убежала к окошку, оттолкнув Бублика. Тот
виновато поволокся следом. А Вира с Костиком как-то непонятно и
страшно затихли. Глянула Полина в полумрак сеновала и увидела голое,
высоко поднятое колено Виры и бессмысленное какое-то качание спины в
голубой майке, спина эта показалась такой мужской, отвратительной.
Растерявшийся Бублик смотрел на Полину, она удерживала его взгляд
бессмысленной усмешкой, только бы он не обернулся, не посмотрел туда.
(Но оба слышат: смотрят друг на друга и слушают.)
С этого дня Вира возненавидела Полину. А однажды на зимнем катке,
когда Костя, ходивший теперь за ней, как голодный пес, помогал ей
привязывать конек, Вира с внезапно исказившимся от отвращения и ненависти
лицом изо всей силы ударила его прямо под бороду, так что он отвалился
на снег.
Когда Вириного отца тоже арестовали (после ветеринаров взялись за
лесников), семью выгнали из-за дощатого забора, и они с матерью куда-то
уехали, как сгинули.
Утром Полина и Франц проснулись, почему-то недовольные собой и
ДРУГ другом. Но скоро это прошло, им действительно интересно быть
вместе. И вот так — вдвоем. Вот, пожалуйста, жили каждый далеко от другого
немой 23
и совсем вроде иначе, но столько общего у них. Эта простенькая мысль
почему-то волновала.
— Скоро у тебя ковтун будет! — взлохматив волосы Франца, сказала
Полина.
Он только что помыл их в заросшей ольшаником и осокой речке, и
они лежали на траве, возле развалившегося мостика, отдыхали. Франц в
нелепом, коротком ему белье из сурового полотна, немало помучившем его
бедное городское тело, но уже размягченном ноской и частым окунанием
в воду, почему-то не стесняется Полины—как не стеснялся бы, видимо,
одеяния клоуна. Ну, а Полине просто весело на него, такого, смотреть.
— Ты сказала: ковтун? — видно, что Франц что-то припомнить
старается.
Рядышком на траве блестят змейками извивающиеся вьюны,
выловленные в болотистой затоке, где вода потеплее, Полина с детской
бессознательной жестокостью прихлопывает их ладошкой.
— Наши полешуки когда-то вообще не стригли волос, — сообщает
Полина.
— Как сикхи.
— Это кто?
— В Индии каста такая. По три метра волосы отращивают.
— Ну, наши меньше, но тоже. Считалось: срежешь—заболеешь. В
ковтуне все болезни.
— Ой, постой, вспомнил! Богиня Мэб. У нее крылья из комариных
туч, из маленьких мошек. Она хвосты лошадям заплетает по ночам,
богиня Мэб. А людям ковтуны делает. У Шекспира, знаешь «Ромео и
Джульетту»?
Джульетту на школьной сцене Вира играла; Полина помнит бледное
лицо, предсмертный грудной голос. Повторила перед Францем:
— Обожди меня, Ромео! И я с тобой, я иду к тебе!
И «заколола» себя «кинжалом».
— Кажется, она пьет яд? — возразил Франц.
— А ты что, носишь с собой? — невольно спросила, вспомнив про тех
немецких офицеров.
— Неплохо бы. Гранату конфисковали.
Когда к землянке шли, увидели на березовом кусте странно
зависшую ворону. Смотрит на них в ужасе, пошевелилась и заскользила по
листьям, еле удержалась на нижней ветке. Больная? Или это уже так
подросли птенцы, по неосторожности вывалился из гнезда. Не заметили, а уж
подступило лето. Лес отяжелел от листвы, хвоя выбросила свежие зеленые
(тут же начинают желтеть) стрелки. А соловьи запускают свои
трели-очереди и утром, и вечером. Появился в лесу мастер, и все остальные певцы
тянутся, подстраиваются под него, стараются изо всех силенок, чтобы и у
них не хуже получалось. А тут еще невидимые лягушки-на всю округу
сообщают: ка-ак хор-р-ро-шо, сладко!
Когда Полина невольно протянула руку, чтобы помочь вороненку, он
от испуга — где и силы, умение взялись — взлетел и сел на нижний сук
сиротливо, в еловой засени стоявшей березы. Покачался, чтобы не упасть,
укрепиться. И взялся отряхивать влагу родного гнезда, соскабливать
детскую липучку с перьев, пропуская через клюв то одно, то другое крыло.
Всем хорошо. А что людям плохо, так кто в этом повинен, если не они
сами?
Поужинали картошкой и испеченными на раскаленной жести
вьюнками (Франц уверял, что ничего вкуснее не ел, будет муттер своей
рассказывать).
На этот раз спать укладывались молча, как бы боясь слов, они
только мешают. Расстелили Францеву деревенскую свитку из домотканого
сукна — это под низ будет, накрыться — плюшевая жакетка Полины. Все без
слов и будто всегда вот так спали и ничего такого в этом нет.
— Холодно тебе?
— Немножко. Я вижу и тебе тоже холодно.
— Бедный вороненок. Из гнезда выпал.
— Интересно, какие теперь у моей мутти сны? Она любит их
пересказывать, и мы обязаны слушать, как правительственную сводку.
Обижается. Вернусь если, она мне их обязательно расскажет.
24 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
— Тебе же холодно. Накройся хорошенько. Спи, спи. Не дыши так!
Слышишь, не дыши так!
Хотела отодвинуться, а он испуганно и виновато затих. Бедный
вороненок! Протянула сама к нему в темноте руки, он прижался к ним
горячими щеками, прижался к ней, как спрятался. Такой беспомощный, такой
потерявшийся... Когда боль пронзила ее и, главное, испуг, что это уж^е
произошло, случилось (подкрался, гад!), она отбросила его с силой,
которой сама не ожидала!
— Зверь! Фашист! Фашист проклятый!
— Я же тебя люблю, Полина.
— Волк — кобылу! — и зарыдала.
Печка выгорела, погасла, в землянке неуютно, сыро, запах
заброшенности и какой-то безысходности. За дырявым окошком хохочущий,
издевающийся хор лягушек. Завернувшись в свой плюш, тихо всхлипывала
Полина. Затихший, будто и нет его здесь, лежит Франц. Он, кажется, больше
нее оглушен случившимся. Тихонько поднялся, раздул в печке огонек,
подбросил дров. Под смолистое постреливание огня заснули.
Крик ворвался в распахнутую дверь:
— А ну выходи! Ферфлюхтер, мать вашу!
И прямо над головами—в окошко:
— Бросаю гранату! Язви твою душу: выходи!
Это мамино «язви» подействовало особенно парализующе.
— Ой, дяденька, не надо, мы деревенские!
Отстранив Франца, вышла, выбежала первая, предупреждая криком:
— Там брат, он немой, совсем немой!
Пятнистый какой-то человек (плащ-накидка и бритая голова — все у
него в пятнах) отшвырнул Полину:
— А мы сейчас посмотрим.
И Франца автоматом оттолкнул в сторону:
— А ну выпентюх! Кто еще там?
— Никого, паночек, только мы! — спешит ответить Полина.
— Проверь, — приказал пятнистый другому в таком же плаще, но у
этого на голове немецкая каска.
— Ишь, бандитские морды! — недобрыми глазами рассматривает
бритоголовый пойманных.—Хотите увидеть белорусскую птушку бусла?
Покажем вам, сталинские бандиты!
И уже к своим, человек шесть их, железноголовых.
— Мало было Сталина этим бульбянникам, не натешились
колхозами. Вы за что это воюете?
— Мы цивильные, дяденька, брат, он немоглый совсем, больной,—
причитала Полина, а сама думала: не хуже бабки Адарки, она кормилась
тем, что оплакивала покойников. Только бы Франц не вздумал помогать.
А пятнистоголовый все ищет, к кому прицепиться. Вот уже свой ему
не угодил:
— Иванов, ты куда? В кусты все тянет? Ой, смотри! Может, как
Волошин решил? Бегите, бегите, вас бандиты приласкают!
— Откуда ты взял?—огрызнулся власовец в очках (Полина уже
понимает, кто это). — Человеку посц... нельзя?
Франц же о своем все думал, тревожился: на просеке сразу увидел
немцев. Несколько офицеров в таких же плащ-накидках, но высокие
фуражки на них, а не каски и не пилотки. И главное, смотрят так — они и
остальные на них, — что сразу понимаешь: самые большие начальники—
эти.
Франц изо всех сил старался не испугаться, не привлечь их
внимания. Но все-таки это были первые немцы после Петухов, и сам он не
мог не испытывать сложнейших чувств, где были не только тревога, страх,
но и щемящая боль за себя, за свою вот так повернувшуюся судьбу.
— Warum grinzt er? l — спросил вдруг офицер. О ком это он?!
Неужто о Франце? — смотрит на него. Ну вот. Ну вот, сейчас все и
произойдет, случится! А если найдут медальон у Полины: немецкий, откуда?! —
а если она не выдержит? Как умеют допросить человека, чтобы узнать
«Почему он ухмыляется?» (нем.)
немой 25
все,—для Франца не секрет. Тут пришел страх уже не за себя—за
Полину. Понял, как дорого ему это своенравное существо!..
Стоявший рядом с офицером, похоже, переводчик, спросил у
бритоголового русского:
— Кто они?
— Немой,—охотно объяснил тот и для убедительности пальцем
повертел у своего виска, — колхозники. Все они тут бандиты.
Вдруг забеспокоились все, по-немецки, по-русски прозвучало
предупреждение: сойти с просеки в лес, впереди какие-то люди! Бежит по
просеке человек, одетый по-деревенски, но по тому, как он бежит, а все ждут
его, понятно, что это связной, разведчик. И действительно, добежал,
запыхавшись,, глубоко, с храпом, вдохнул-выдохнул и просипел:
— Идут! Там их целая группа.
И те, что оставались на просеке, все сдвинулись, углубились в чащу,
затолкав туда и Франца с Полиной. Тут много их, власовцев, и, очевидно,
немцев. Оказались рядышком с тем самым «Ивановым», или он
придвинулся специально, вдруг как бы показал себе за спину: убегайте, пока не
поздно! Но, кажется, поздно: тут уже и бритоголовый.
— Ты и ты, — приказал двум власовцам,—отведите их... Ну, хотя
бы к мостику.
Те на него смотрят спрашивающе:
— Что непонятно? Отпустите там. Чтобы ни звука. Одна нога
там, другая здесь. Форштейн? Выполняйте!
И поднял глаза к небу, усмехнувшись гадко. Полина поняла, а Франц,
похоже, испытывает облегчение, что он уже не в поле зрения немецких
офицеров.
Францу даже интересно наблюдать ягдкоманду в действии, сколько
раз читал с восторгом о смельчаках, которые, перенимая тактику
партизан, проникают в самое гнездо их, а там, затаившись, дожидаются, как
охотник зверя, ничего не подозревавшего врага. Но писали именно о
немецких «охотничьих командах», эта же — вся почти из русских
иностранцев.
Полина понимала, куда их и зачем ведут. Тот, что с винтовкой надел
на ствол штык-кинжал, сталь хищно клацнула, у автоматчика, рыжебро-
вого под каской, кинжал висит на поясе. Будут резать! — руки-ноги
у Полины загудели, как будто они пустые, полые, продуваемые морозным
зимним ветром. Ее на глазах у Франца резать, Франца на глазах у нее.
Страх не только боли и не только ужас сам по себе, но и стыд.
Ее животный ужас будет видеть Франц, а она—его ужас. По этой
короткой лесной дороге вчера шли к речке вьюнов ловить. Тут совсем
рядом, сейчас, сейчас это случится!
— Ну, иди, иди! — подталкивает Полину штыком пожилой власовец,
чем-то, какой-то внутренней злобой напомнивший ей Отто. Франца
впереди ведет рыжий автоматчик. Как сообщить Францу, что их ведут убивать
(если он еще не понял).и, главное, что стрелять, шуметь, когда партизаны
рядом, нельзя. Если броситься в лес, им будет не до того, чтобы ловить,
но надо обоим, вместе. «Отто» не зря нервничает, злится, чует, что может
произойти. Полина уже побежала бы, будь что будет, но Франц,
Франц...
— Так, значит, Пушкину царь говорит,—вдруг поворачивается ры-
жебровый автоматчик, обращаясь к «Отто» через голову Полины,— говорит:
«Пушкин, не ты написал «Луку Мудищева?» А Пушкин, язвц его душу...
— Вы не с Алтая, не алтаец? — перехватила его взгляд (показалось,
добродушный, не угрожающий) Полина.
— Ну, алтаец, а что?
— У меня мама из-под Лениногорска.
— Гэ, я тоже из Рыдера. Это по-сталински: Лениногорск. А
настоящее— Рыдер, англичане руду добывали. Так что ты хотела сказать?
— Ну. что мама моя с Алтая тоже. Она как и вы говорит.
— Гэ, слышь, Муха, — обратился к «Отто», — землячка моя.
— Иди, лысого этим обрадуй. Вот сейчас они там подойдут, да
влепят тебе очередь в спину — побратаетесь. Я бы их всех! Чего это мы их так
далеко провожаем?
Францу казалось, что самая угроза миновала. Тот же сказал: «отпу-
26 ЛЛЕСЬ АДАМОВИЧ
стите». Офицеры ничего подозрительного не заметили. А разгадай они
Франца! В 40-м немецкие матери по радио и в газетах кляли своих
сыновей, которых сбили над Англией, и они не так что-то сказали про
фюрера. А что сделали бы с его матерью, отцом, что их принудили бы делать,
когда бы открылось, что его не выкрали партизаны, убив Отто (хотелось
верить, что именно так подумали), а что это он убил товарища, немца
убил, изменил самому святому.
Вот и знакомая речушка открылась, зловеще торчат вывернутые из
желтого песка черные бревна, гнилые жерди, внизу густой ольшаник —
вышли к мостику. Вот и корзина валяется, Францев кош, которым вьюнов
отлавливал. Схватить за руку, закрыть глаза и, потащив его, прыгнуть
прямо на кусты. Как будет, так и будет. Пусть стреляют, если решатся:
они так страшно остановились напротив, эти двое, сами как бы
растерялись, не знают, с чего начать. А Франц сияет голубыми благодарными
глазами, считая, что его и Полину отпускают.
— Спасибо! — от полноты чувств произнес немой.
— Ах ты, сука! —взвыл «Отто» и штыком пырнул его сбоку.
Коротко, но резко. Подина пронзительно закричала и полетела вниз. Ока
уже не видела, как «Отто», не выдергивая штыка, столкнул следом
Франца. Тут же все вокруг как взорвалось—от близкой пальбы. Не
слышала крика:
■«— Кончай их автоматом!
Строчил по ней, по ним рыжий алтаец или нет, Полина не знает.
Оглушенная падением, вся исцарапанная, почти теряя сознание от боли
в плече, Полина открыла глаза и увидела вдруг (или почудилось это) над
собой седую морду собаки, внимательно смотрящей прямо в глаза
ей. Странные уши у этой собаки: шалашиком, будто склеенные, как будто
рог у нее на голове. Тут же исчезла как видение. Заставив себя
подняться, Полина горячечно искала глазами Франца: она в какой-то миг успела
увидеть прочертившее небо распластанное человеческое тело. Густой
ольшаник примят, прижат к земле — там! Хватаясь за кусты
бессильно-вялыми руками, погреблась в ту сторону, вдруг увидела — что это?! — красную
паутину, оплетшую ветку олешины. Липкие тянущиеся нити крови ярко
пылают в солнечных лучах. А на листьях она дегтярно-темная. (Это не
была всего лишь игра света: на хинно-горьких ольховых листьях кровь
почему-то делается черной — это уже мое наблюдение с войны.)
Наконец увидела тело Франца — комком. Ноги, руки, шея — как в узел
завязаны. У самой живот подтянуло к похолодевшим позвонкам, когда,
выдернув из брюк Франца рубаху, увидела синюшную рваную рану и,
как ей показалось, белую полоску ребра. Руки ее тотчас окрасились в
кровь, она смотрела в лицо, побелевшее, мертвое.
— Да помогите же! — крикнула непонятно кому. Эхо боя разносилось
где-то высоко над ними. Глаза открылись, голубизна в них тусклая,
неживая. Всматриваясь куда-то далеко-далеко, Франц спросил:
— Wohin soil ich springen? Mama, wohin? l Сюда?.*
10
He все погибли, не всех убили, живы остаются даже на такой войне,
которая досталась нам. Штык-кинжал, казалось, прямо в живот
погрузился. Но в последний миг без всякой воли Франца, тело само изогнулось,
уходя от верной смерти. И штык, скрипнув, прошел меж ребер. Одна
Полина могла бы рассказать женщине с чужими строгими глазами,
фотографию которой носила в медальоне, как Францу, им с Францем удалось
уцелеть. И там, возле моста, и позже, когда несла их грозная предфронто-
вая волна, толкая перед собой, обрушиваясь сверху, накрывая их вместе
с тысячами таких же, как они, бегущих от погибели. А как убежишь, если
она кругом, везде, несет всех, как щепки в половодье — ты в ее цепких
объятьях, сам не веря, что еще живой?
Сначала вернулись в ту же землянку,. откуда их недавно погнали
убивать. Полине туда возвращаться было страшно, но куда-то надо было
спрятаться с раненым. Не день, не два нужны, чтобы он поправился. Она
1 «Куда прыгать? Мама, куда?» (нем.).
немой 27
тащила Франца, вслушиваясь в редкую пальбу удалившегося боя,
каждый их шаг страданием, болью отражался на посеревшем лице
раненого. Полина прижимала к раненому боку Франца ком ольховых листьев,
слипшихся от крови, понимала, что это бессмысленно, кровь этим не
остановишь, но тем сильнее вжимала руку, как бы удерживая в обмякшем
теле остатки сил, жизни.
Дни покатились без счета, слипаясь с тревожными ночами,
подсвеченными пожарами, с неспокойными, вздрагивающими от далеких и
близких взрывов рассветами—сливались в нечто неразличимое, как спицы
в быстро несущемся колесе. Уже через неделю пришлось покинуть
убежище. К счастью, Полине попалась на глаза кем-то брошенная двуколка (на
таких колхозники возили сено с болота, на себе, конечно, коня иметь им
было запрещено). Уложив на нее раненого, Полина убегала от
настигающей беды. Порой казалось, что не какие-то там каратели — немцы или
полицаи их преследуют, а вся Германия, та самая «проклятая», как о ней
поют, мстительно бросилась в погоню. Не успевала дотащиться до какой-
нибудь деревни или на хутор, где рассчитывала передохнуть, перехватить
что-либо поесть, как приходилось вместе с жителями бежать дальше. Их
загнали в гиблые болота, какие уж там тележки. Приходилось не то что
идти, а ползти на брюхе. Были моменты, когда от страха с головой
провалиться, от неожиданности у полубредящего Франца вырывались немецкие
слова — вскрики, и тут он вдруг замечал рядом лицо ребенка или
женщины с расширенными от ужаса глазами: как если бы рядом с ними
зарычал, вздыбил шерсть волк или, еще точнее, клацнул пастью крокодил.
А когда выбрались на «дальние», как тут называют, «острова» («Комар-
мох») и уже можно было стоять и даже лежать, передохнуть, Франца
вдруг затрясла лихорадка, жар свалил, как и многих—тиф! Мало всего,
так еще и это. Теперь, в бреду, выкрикивал сплошь немецкие фразы.
Полине пришлось сочинять легенду. Это итальянец, он убежал из ихней
армии, многие убегают после того, как Италия вышла из войны. Немцы
их загоняют в лагеря. Но Полине верили не долго: даже дети хорошо
знают, чьи это слова: «хальт» да «комм». Женщины и суровые подростки
начали недобро коситься на Полину и ее «итальянца», ничего не
оставалось, как поведать им всю правду. Чутье подсказало Полине: надо
рассказывать подробно, со всеми переживаниями, как оно на самом деле
происходило. И Полина постаралась: про то, как Франц спас их с матерью,
как вместе хоронили деревню, а мама умерла, как Франца чуть не
зарезал власовец, и они чудом спаслись. А когда про ту тележку стала
рассказывать, расплакалась. Слезы уже и на глазах у других женщин: все это
и они испытали, есть кого и что оплакивать каждой. Но, конечно, и спор
возник. Полина правильно сделала, что замолчала. Пусть, пусть женщины
наговорятся, сколько им хочется.
— А, усе яны добрыя! Одних спасал, а других, можа, казнил,
мучил.
— Девка ж казала: ён тольки што з Германии, кали ён мог
поспеть? i
— Ужо нагляделись мы на них! На всяких.
— Не, не, бывае, не кажэце! Вось одна женщинка на чердаке схова-
лась, лук там сушился, так онгуюд него зашилась. А ён: скрып по
лестнице, скрып-скрып... Поднялся, подошел, открыл лицо ей, поглядели один
на другого, назад положил вязанку и ушел, не тронул.
— А то рассказывали... Офицер один, тоже немец, не выдержал, как
они тех детей, баб забивают, отошел в сторонку и себе в голову...
— А тэты, кали ён правда застрелил своего, кто ж его теперь
помилует? Кали не мы.
Когда горячка и смертная слабость отступили и Франц стал
узнавать Полину, увидел людей возле себя, он вдруг поздоровался:
— Добрый день!
— Ничего, можешь грворить,—успокоила Полина,—люди все знают.
— А ён по-нашему говора!—обрадовались бабы.
А когда убедились, что и говорит и понимает хорошо, начались
прямо-таки политбеседы. Заводила этих бесконечных разговоров—старик,
которого все называют Безухий. Он без ушей на самом деле. Если такс-
28 АЯЕСЬ АДАМОВИЧ
выми не считать короткие огрызки, прикрытые редкими клочьями волос.
Бабы, те все знают, поведали Полине: в гражданскую войну так удружили
деду, одно ухо отрезали красные, второе балахоновцы, белые. Не угодил
ни тем, ни другим. Наверное, им так же надоедал, «назолял» своей
особенной, крестьянской правдой, как теперь вот Францу. Бабы уже
отгоняют его, как овода.
— Дай хоть человеку полежать. До чего приставучий дед.
Если бы эти люди вдруг причинили Полине даже очень большое зло,
она не смогла бы их не простить — за те кружечки молока, которые
приносили Францу. На весь «гражданский лагерь» было две или три коровы,
чтобы добраться до них, надо совершить опасное путешествие по
болотным кочкам, и вот каплями молока, что предназначались одним лишь
детям, делились с немцем.
А Безухий все старался что-то свое доказать Францу. И вызвать его
на спор. «Деду-усеведу» (еще и так окликают Безухого глумливые
подростки) надо обязательно получить подтверждение, что это немцы
придумали колхозы. И сделали специально, чтобы эти дураки на востоке
разучились и работать, и воевать. Армия всегда держалась на самостоятельном
хозяине, а с колхозника какой спрос? Какой работник, такой и воин.
А придумал, сделал все внук «Карлы Маркса», он при Гитлере главный
советник. У Франца голова шла кругом от несокрушимой уверенности
Безухого. Бабы же предупреждали своего деда:
— Ой, гляди, отрезали тебе уши, и язык отрежут!
Кто отрежет, не говорили, но, судя по всему, знали и они, и сам
старик. Потому что говорун на какое-то время замолкал, уходил по своим
делам. Но вскоре возвращался.
— А вот скажите вы мне! А правда, что Геббельс в Москве учился,
там школа специальная есть для таких?..
Припоминая суждения своего отца о России, про все, что в ней
произошло после революции, Франц тоже не против был кое-что
перепроверить, а вдруг сможет потом отцу пересказать. Верно ли, что колхозы
задумывались как возвращение к коммунам, общинам ранних христиан?
Совместный труд, общий стол, равенство, пусть и не при большом
достатке. «Капиталист — во!» — Франц сгребал к своим ногам весь мусор,
шишки—«а коммунист...»—раздавал те же шишки: «тебе, тебе и тебе!»
Реакция была неожиданная. Нет, никто, вроде, не возразил, но даже
старухи смотрели на Франца, как на блаженного, больного. «Дед-усевед»
все-таки прокомментировал:
— Безухий не я, а вот кто! — и торжествующе показал на Франца.—
Может, сами вы, немцы, еще поспытаете, что это за мед.
На все возражения (Полина тоже с ним спорила) дед твердил
одно:
— Ну, а почему Гитлер колхозы не распускает? Только вывеску
поменял. То-то и оно! Что этот, что Наполеон — испугались мужицкой
воли.
Полина слышала, как в сторонке бабы так это обсуждали.
— Мо ён коммунист? Не усих жа Гитлер посажал.
— Говорит так про колхозы, думает, нам это понравится.
— Бедный, каждому жить хочется.
Полину мучит опасение: появятся партизаны, и кто-нибудь
обязательно похвастается немцем. Не у каждого есть свой немец. Если бы можно
было знать, как они поступят? Ты же не знаешь, какие попадутся
партизаны.
Что особенно поражало Франца — эти люди обходили разговоры,
которые звучали бы как обвинения ему—все-таки немец. Ждал, что
заговорят о выбитых деревнях, о том, что им тут вот надо с детьми прятаться.
Ни слова. Даже фюрера почти не упоминают. Но однажды веснушчатый
подросток, опасливо оглянувшись на женщин, прошипел:
~ — Ну что, капут твоему Гитлеру? Говори: капут!
Ответили за Франца:
— Надо будет —скажет. Что ты пристаешь?
— Он что, спрашивал, этот Гитлер, у Франца, воевать или нет?
Не поддержали и разговор Безухого про то, встречались или не
встречались Сталин с Гитлером.
немой 29
— Не чапай (не трогай) лиха, пока тихо. Хай яго сорочка не чапае!
Не уточнили: касается это одного фюрера или их собственного вождя
тоже. Полина Францу объяснила про сорочку: белорусская присказка по
смыслу обратная—«родиться в сорочке», т. е. «добра бы ему не знать».
И опять-таки, кому?
Не потому ли не говорят о Гитлере, чтобы не задеть и Сталина?
Знакомо это Францу — в Германии, особенно до войны, пожилые люди вели
себя похоже.
Ну, а у Полины другие заботы, поважнее проблемы — чей вождь
лучше. Ее беспокоит задержка с женскими делами. Неужто то, что у них
с Францем произошло, может быть причиной? Да ничего же и не было,
кроме боли и обиды. Разве так возможно? Скорее всего перенапряжение
сказывается: особенно те трое суток, когда таскала тележку с полуживым
Францем. Знал бы он, какой был тяжелый! А еще все ноги сваливались,
хоть ты смейся, хоть плачь!
Припоминая деревенские бабьи разговоры о самочувствии «тя-
жарной», перепроверяла—что и как с нею происходит. Вот это жжение
внутри—не оно самое? А еще возникает навязчивое желание, это
известно. Съесть чего-нибудь, особенно соленого. Или такого, что и в городе
не найти. Маме, когда «ходила Полиной», захотелось вдруг беломорка-
нальской баланды с гнилыми селедцами. Или это выдумка отца, он любил
над нею подшучивать. Пока Полина гадала-разгадывала, накликала на
свою голову: захотелось, хоть убей, чего-нибудь холодного. Все
вспоминала мороженое, каким отец угостил когда-то в железнодорожном
буфете: желтое, на скользкой металлической чаше, а от этого еще
холоднее.
Сказать, не сказать Францу?
То, что было, случилось у них в землянке, постепенно, по деталям
восстанавливалось, но уже не как предтеча всего ужасного, что произошло
в то самое утро, и о чем не хотелось вспоминать, а по-другому: ведь это
была их первая близость. У Полины—первая, она про себя знает. А про
них — разве можешь знать? Вон как тогда полез в избе! И получил! Вдруг
ревность—смешно. Лежит, как младенец, слабенький, беспомощный,
захотелось бы, так не поревнуешь.
Оттого, что грудь странно затвердела и болит, ощущаешь и все
время вспоминаешь его руки. Как тогда! Но уже не оттолкнула бы,
наоборот, прижала бы их, чтобы больнее, слаже...
Франц уже сидеть мог, прислонясь к дереву, сидел так часами,
провожая и встречая всех слабой усмешкой выздоравливающего. Тиф свалил
многих, некоторых похоронили, он же — как с того света вернулся,
затихший, задумчивый. Волосы у бедного посыпались, нет ратунку,
спасения. Ладно, лес тоже скоро лысый сделается, не горюй и ты! Ольха, осина
почернели, дожди зарядили, лесные люди по необходимости осмелели и
начали жечь костры, обсушиться не обсушишься, поскольку льет без конца,
но хоть нагреется мокрая одежда, кислый пар от нее идет.
Полина все не говорила ему главного. Теперь у нее занятие, игра:
глядя на Франца, сравнивать, представлять, какие глаза, лицо, волосы
у ее ребеночка. Забывалась в усмешке, но вдруг ее лицо (сама
видела) делалось холодным, чужим, спорящим: а вам какое дело?
Ну, от немца, не вам его растить!
Мамочка стала мамой, а тата отцом для Полины, будучи такими
старенькими. У ее ребеночка мама будет совсем молодая. Вместе на
вечеринки бегать будем!—упрямо возвращала усмешку на лицо.
А потом все началось заново: обстрелы, бомбежки. Выкрикнула свою
тайну Францу, когда пробиралась по холодной грязи по колено, вдруг
испугалась (сосенка от взрыва, взлетев, их обоих накрыла, больно
хлестанув по головам, спинам), что убьют кого-либо или обоих, а он так и не
узнает.
Но Франц, похоже, не расслышал или не понял, о каком она ребенке.
Их столько вокруг, детей, несмотря на слабость, и Франц старается
помогать женщинам, у которых по трое, а то и больше.
В горячке уже почти не замечал Франц (а вначале пугался), когда
рядом появлялись люди с оружием, партизаны. Они то двигались вместе
30 АЛ£СЬ АДАМОВИЧ
с жителями, то куда-то уходили, пропадали. Франц убеждался: такие же,
как и остальные деревенские люди.
Правда, если и Францу, при его маскараде, одежде, дать оружие,
сойдет и он за своего здесь.
А однажды случилось такое, что всего перевернуло, как бы не
помнил уже, кто он, где он. Такое пришлось увидеть (Полине), в таком
участвовать (Францу)—об этом никогда потом не говорили друг с другом
и вспоминать не хотелось. Нет, не самое жестокое и страшное из
виденного, пережитого, потому что мера давно потеряна на этой войне, в этой
жизни.
Эти пятеро появились после явно неудачной операции (боя). Никак
успокоиться не могли, по восклицаниям и нервной перепалке можно было
понять, что лишь они и вырвались оттуда живыми. Двое из них ранены,
в РУКУ, в голову, казалось, еле держатся на ногах. Вначале наседали на
человека в потертом кожаном пальто, с сухим некрасивым лицом. Он не
отдал какую-то команду и сам оказался не там, где должен был
находиться. Францу интересно было и немного жутковато наблюдать за ними: это
и есть те самые партизаны, которых так ненавидят и опасаются немцы.
А в кожанке, наверное, командир, может быть, комиссар. Но он не еврей,
хотя у немцев принято считать, что они заправляют всем. Есть и еврей;
этот, однако, почти не участвует в перепалке, совсем как посторонний.
Уселся на вещмешок и смотрит прямо перед собой, как будто поезда
дожидается, что вот-вот вынырнет из-за деревьев. А профиль—профиль, ну,
прямо-таки карикатура на «юде-комиссара» в солдатских газетах! Что-то
притягивает внимание Франца именно к этому человеку. Впрочем,
понятно: столько написано, наговорено о еврейском племени, которое
ухитряется во все влезть и все повернуть на пользу себе и во вред другим,
что встреча с евреем, с живым — в Германии их уже нет—неожиданно
взволновала. Нет, Франц не считает себя нацистом-антисемитом, у них
в доме этого стыдились. Но Франц последние годы домой к отцу и матери
лишь наведывался время от времени, а жил и работал в молодежных
лагерях, где надо было соответствовать образу молодого и кровожадного
тигра-солдата фюрера. Франц учился соответствовать. Дожидался, как
и другие, дня, когда, как посвящение, будет и у него под мышкой наколка
эсэсовца. Насколько, однако, далеко зашло, он и сам не знал: не было
вблизи и вокруг евреев, чтобы проверить свои чувства. Но помнит, что
холодел от ужаса и как его тошнило, но старался выглядеть не хуже
других, когда фронтовик с «Железным крестом» рассказывал, как весело
воюет СС на Востоке. Где-то в южном городе: русская жена принесла
передачу арестованному еврею. Ей вынесли, вернули посуду. На тарелке,
под полотенцем — голова мужа!
И вот еврей сидит перед ним, но ситуация прямо противоположная:
не «юде» в руках у «арийца», а «ариец» — в полной его власти.
Достаточно еврею, узнав, что это немец смотрит на него, ткнуть в его сторону
пальцем, и с немцем сделают то же, что заслуживают, по убеждению
солдат фюрера, евреи.
А тем временем что-то переменилось в сцене, которая разыгрывалась
в лесу. До этого закручивалось вокруг командира в кожанке, которого
винили в недавней беде, угрожающе поносили за неумные распоряжения
и, похоже, за трусость. Кожаный подошел к сидящему на вещмешке,
долго смотрел бессмысленно, как бы что-то соображая, и вдруг спросил
громко:
— Постойте, а где диски к пулемету?
— Что диски, если и пулеметчика потеряли, и пулемет,—издали
отозвался раненный в голову.
— Все равно. Диски я поручал вот ему, Фуксону.
— Какие диски, какие диски? — оглядываясь, как бы ища поддержки,
закричал человек, сидящий на мешке.
— Что значит, какие? — не отставал кожаный.— Тебе было поручено
носить запасные. Что, потерял, бросил?
— Кто-то что-то не так сделал, побежал первый, а виноват
Фуксон!—неприятно высоким голосом выкрикивал, отбивался хозяин
мешка.
НЕМОЙ 31
— Ты за других не прячься, — вмешался раненный в руку, кривясь от
ноющей боли, — каждый за себя отвечай.
— Что* у тебя там, чем мешок набит? — все решительнее наступал
кожаный. Кажется, рад, что о его вине забыли. — Вот это он не бросил!
А ну-ка развяжи!
И еще чей-то голос прозвучал, присоединяясь к командирскому:
— За потерянное оружие, знаешь, что у нас бывает?
Кожаный схватил мешок за лямки и выдернул из-под сидящего, тот
смешно по-бабьи завалился на бок. Из мешка вывалились скрутки
поблескивающей кожи, новые ботинки.
— Хром, смотрите, сколько из той машины заготовок
нагреб!—обрадовался кожаный. — Небось, кожу не бросил.
— Что хром, что нагреб! Если другие побросали, значит, и я
должен...
— О дисках речь, куда их подевал!
— А что они без пулемета? Сами же потом попросили бы: Фуксон,
сапоги надо пошить, Фуксон, подметка износилась!
— А ты и кинулся делать! Знаем мы тебя! — Это тот, с ноющей
рукой.
— Что тут с ним базар разводить? А ну! — Кожаный забрал из рук
Фуксона винтовку. — Отойдем-ка туда.
Направились в сторону небольшой поляны, но кожаный вдруг
оглянулся на Франца:
— И ты! Пошли с нами.
«Что, почему?» — Франц растерялся. Никак не ожидал, в его сторону
никто даже не смотрел, а тут вдруг...
Полина запричитала:
— Нашто ён вам? Ён хворы, ён немы, ён...
— Ён, ён, ён!—окрысился кожаный.— Ну что заенчила? Ничего не
станет с твоим немым.
— А нашто ён вам, а Божа ж, а што гэта робицца! — на всякий
случай выкрикивала Полина, но и понимала: нельзя переборщить. Вдруг тут
есть кто-то, кто знает все про Франца, вспомнит, скажет—вот тогда и на
самом деле поенчишь. Побежала за ними следом, не выпуская ни на миг
из виду, готовая снова поднять бабий крик.
Вышли из леса на поляну, и тут Франц близко разглядел человека
в кожанке, его узкое и некрасивое лицо, волчьи морщины на переносье.
Что-то знакомое почудилось ему в бессмысленно-злом взгляде, в резко
опущенных уголках бледногубого рта. Именно таким легко подчиняются:
злость, от них исходящая, постоянна, как атмосферный столб. Она и тебя
начинает обволакивать, сначала неприязнью к нему же, но затем ты сам
заражаешься его непонятной злостью непонятно к кому—от
беспокойства, тревоги, страха.
Куда он и зачем ведет всех, и все идут? Куда, будто знают—даже
Фуксон—разумный смысл и цель этого похода. Коричневая уродливо
длинная кожанка с белыми проплешинами и трещинами на командире
висит, как на вешалке, в руке у него пистолет, а в другой—винтовка
арестованного. Зачем позвал Франца, что от него хотят? Глаза кожаного,
казалось, бессмысленно шарят вокруг, но нет, увидел несколько
особняком стоящих березок и тут же направился к ним. Показал Францу на
белое стройное дерево:
— Ты самый высокий, берись, нагибай. Чего не понимаешь? Вот
так — гни! Выше, выше забирай.
Франц попробовал—дерево только пошумело уже пожелтевшей и
поредевшей кроной — не поддается. Действительно, пришлось встать на
цыпочки и схватить красавицу повыше, как за горло, повиснув, потянул
книзу. Перебирая руками поближе к вершине, заставил упрямицу, плавно
ослабевающую, пригнуться, навалился сверху на нее, локтями, все-м телом,
кто-то рядом повис, наклонили как надо. Хотя, как надо и что надо,
известно тут, кажется, единственному человеку. От его тайной непонятной
мысли исходит угроза.
— А ты,—командует кожаный тому, у кого перевязана голова,—
сними с этого ремень.
— Сам снимет, если надо. Ладно, Фуксон, давай твой ремень.
32 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
— Что? Зачем? Что вам от меня надо?!
— Давай, раз приказывают.
И тот торопливо распоясался, темный плащ с раздутыми карманами
повис на нем уродливо, как халат. А кожаный распоряжается дальше:
— Привязывай за ногу. Ну, что непонятно? Ногу. К березе. Ремнем.
Понял, немая ступа?
И сам подтолкнул Фуксона к Францу.
Франц и второй, помогающий удерживать пружинящую березу, нелепо
пытаются поймать ногу Фуксона, тот отступает, смешно отпрыгнул,
вырвав колошину немецких штанов из Францевых ногтей.
— Вы что? Что вы придумали? За это ответите?
— Э, ответите, ответите!—вдруг разозлился ленивого вида крепыш-
парень, до этого ни в чем не участвовавший. Как укусили его.
Схватил голову бедного Фуксона сильными руками «в замок» и
подтащил его к дереву: привязывайте! Франц схватил ногу ременной
петлей, быстро протянув конец через металлическую пряжку, будто не
раз такое проделывал. Кожаный одобрительно помахал пистолетом. На
пару с тем, что помогает удерживать березу, торопливо стали конец
ремня привязывать к стволу. Фуксон уже лежит на земле, нога задрана
к небу.
— Вы что, вы что? — все повторяет несчастный, дергая ремень, как
бы пробуя, достаточно ли прочно, хорошо ли нога привязана.
— А вот сейчас поймешь!
— Будет тебе хром!
В выкриках не злоба, а как бы игра, всех завораживает само
действие, нечто происходящее сними.
— Наклоняй вторую, — командует кожаный и, отшвырнув винтовку,
сам бросается к стоящей в метрах семи такой же березе. — Сюда, к нему
гни!
Фуксон в отчаянии закричал на весь лес:
— Люди, помогите! Это фашисты! Вы что, фашисты? Вы фашисты,
или кто?
Ухитрился вскочить с земли, на ноге, еще не привязанной, пытается
ускакать, убежать, снова упал, на руках старается уползти, а его тащат,
волокут, прижимают, вяжут:
— Ах, мы фашисты?.. Значит, вот мы кто?.. Сейчас ты увидишь, кто
фашист!.. Сука! Фархфлюхтер! Свинья! Фуфло! Иуда! Шайзе!..
Чьи были слова, чьи голоса в этом безобразном клубке яростных тел,
кто молчал немо, а кто нет—никто не мог бы разобрать. На другом конце
поляны тоже кричали—женщины, их испуганные голоса все нарастали.
— Крепче, крепче привязывай!—командует кожаный.
Ноги несчастного уже смотрят в небо, плечами, головой он егозит по
жухлой траве, перемещаясь с места на место на локтях, как
членистоногое насекомое.
— Отпускай! Поехали!
Раздался вопль ужаса — деревья, вздрогнув, подскочили, пытаясь
распрямиться, стать, как прежде, но не смогли. Их удерживали распято
голые, страшные в таком положении человеческие ноги. А руки висящего
головой вниз почти достают до земли, скребут траву, опавшую листву.
Какие-то ухающие звуки: «У-о-х!» «У-о-х!» доносятся из-под свисающего
книзу плаща, закрывшего голову, лицо подвешенного.
Что происходило бы дальше, сказать невозможно: крик со всех
сторон нарастал, людей на поляне все больше. Кожаный, как бы вспомнив
про свой пистолет, торопливо выстрелил — в упор в оголившийся тощий
живот висящего. Руки подвешенного напряженно подвигались и повисли
мягко.
Онемевшая Полина все это наблюдала из-за куста, вскрикнув от
боли, прижала ладони к своему животу. Как бы закрывая ребенку глаза.
11 i
Блокада — такая штука, не позволяет задержаться, остановиться.
Гонит безжалостно вперед, даже если бежать уже некуда. И для Франца
с Полиной, для тех, кто рядом, такой момент наступил — плотная стрельба
НЕМОЙ
33
вокруг, совсем близко, рядом. Их взяли. Франц слушает, слышит, как
люди в плащах, пятнистых накидках по-немецки переговариваются: что
делать с пойманными бандитами? Тащить их через болото или лучше
будет —положить на месте. Толстый, в очках, ефрейтор с неожиданным
упрямством возражает старшему офицеру: оружия при них нет, их
следует запереть в лагерь! Франц вида не показывает, что понимает. Не хотел,
чтобы и Полина знала, о чем сговариваются.
Так они оказались в лесном лагере. Что за лагерь, где это, не знали,
плохо ориентировались, но часто слышалось, звучало слово: Озаричи.
Шли долго, почти целый день. Снова и снова позади резко стучали
выстрелы — это пристреливали тех, кто упал, не мог идти. Сколько раз
у Франца готовы были вырваться немецкие слова, обращенные к тем,
кого он должен считать своими земляками. Но он молчал, прячась за уже
стыдную, уже позорную свою немоту. Забрал у ослабевшей женщины
девочку, ( нес ее на плечах, Полина вела двоих за руки. Девочка цсе
повторяла, наконяясь к уху Франца: «Я не боюсь, я не боюсь, немец нас не
застрелит, ты, дядя, не бойся».
Лагерь—это огороженный колючей проволокой кусок заболоченного
леса, ни единого барака, даже землянки, люди, их тут бессчетные тысячи,
стоят, вяло переходят с места на место, мертво лежат в холодной грязи.
Очень мало мужчин, даже стариков, в основном женщины с детьми.
Казалось, и недели прожить тут невозможно.
Прожили чуть не полгода. Мать Лизы—девочки, которую принес
в лагерь Франц, умерла от тифа. Теперь девочка жила при Полине и
Франце. Целыми днями синяя, большеглазая, лежала она на обжитой ими
лапинке гнилой кочковатой земли, согреваясь всем, что живые забирают
у умерших, а ее приемные родители толкались у ворот в надежде
дождаться привоза какой-нибудь еды. Когда приходила машина, полицаи,
немцы швыряли в голодную толпу подмерзшие буханки хлеба, стараясь
обязательно попасть кому-нибудь в голову. Свекольными «гранатами» —
прямо в лицо, веселились, забавлялись, налетай, не зевай! И налетали из
последних сил, затаптывая тех, кто послабее, выхватывая хлеб, как
собственную жизнь, из чужих рук. Но зато какое счастье в глазах ребенка
(Лизы!), который видит хлеб в твоих руках.
Франц, глядя на довольных своей сытостью и властью над тысячами
жизней охранников, мог представить себя на их месте. Он тоже мог стоять
на вышке с пулеметом, на машине, целился бы из пулемета в Полину,
Лизу, забавлялся стрельбой по ним по всем, швырял хлеб, как кирпичи,
им в голову. И был бы он тоже Франц—так кто же, что же такое люди?
Лизочка продержалась всего лишь до первого снега. Выбравшись из-
под горы грязных телогреек, кожухов, глянула на белый саван, укрывший
живых и мертвых в этом страшном лесу, сказала еще: «Мама (Полине)
попроси у таты (у Франца) хлебца»... И умерла — с румянцем на
истощенном личике. Тиф, настигая человека даже на последней стадии
истощения, вспыхивал вот таким неправдоподобным румянцем, обманным,
прощальным. Человек умирал, и тогда все вши выползали наверх, убегая от
холода смерти на мороз. На умерших женщинах, которые лежат по всему
лесу, если платок или кожух—то посеревшие от насекомых.
Вначале умерших собирали на телеги, вывозили к ямам — рвам-у
проволочной ограды, а когда выпал снег, ударили морозы, и трупный запах,
пропитавший лес на десятках гектаров, отступил, этим бросили
заниматься. Хлеб и даже гнилую картошку почти перестали привозить. Охрана
засела на своих вышках и в наружных бараках, а запертые в лагере
полутрупы— в земляных норах, почти не выползали, лишь из , некоторых
чуть заметно выходил наружу пар их немоглого дыхания.
Теперь только Полина дежурила у ворот с несколькими, такими же,
как она, неузнаваемо изменившимися человеческими существами. Франц
почти не оставлял грязной земляной норы под единственным в этом хилом
сосновом лесу дубом. Полина, возвращаясь с хлебом (все реже и реже),
. иногда находила его уже наверху—терпеливо дожидался, а вдруг не с
пустыми руками. Как в свое время — Лиза. Вши уже поверху пошли, самое
ужасное, они даже на бровях у него. А он не замечает, не понимает, что
это мешает его ресницам, жалко моргает — о, Господи, и это ее Франц!
Смотрит на ее руки, на хлеб, как бы боясь, что не дадут, что ему не до-
3. «Знамя» № 12.
34 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
станется. Как будто Полина когда-нибудь не поделилась с ним. Она бы
и свое отдала, но ведь не ей одной надо, а еще и ребенку, и х
ребеночку. Порой казалось, что он уже и не живой там, ничем о себе
не напоминает. Иногда отдав весь хлеб Францу (он хватал и тут же
уползал в нору), она падала на снег и плакала — от обиды на Франца.
Как, как он может быть таким? Значит, ему теперь ее любовь не нужна?
Ничего не нужно, кроме куска хлеба.
12
Мой друг-философ поймал удачную мысль: а что если подсчитать,
сколько раз слово «вдруг» и его синонимы встречаются на одной
странице у различных авторов, сколь часто время — жизнь спотьщается на бегу.
В прозе Пушкина подчеркнутые красным фломастером слова мелькают
лишь изредка, как километровые столбы. У Толстого почаще, но в той же
ритмической последовательности. И вдруг запылали страницы!—Это
роман Достоевского.
Ну, а если саму жизнь можно было бы вот так разметить,
собственную или чью-то? Сколько раз «вдруг» в течение дня? Повороты,
рывки, неожиданные события. Ну, а если существование, как у Франца
с Полиной, когда неожиданностью не является уже и смерть? Она —
повседневность, исчезла грань, граница между жизнью, бытием и
небытием.
В Озаричском лагере само время остановилось: казалось, ничего уже
не может произойти. Умрешь—так какое же это событие?
Раз в несколько суток из ямы под корнями дуба, по краям которой
грязная наледь (будто и дыхание уже нечастое), выползало
неправдоподобное существо, судя по одежде и торчащим из-под платка клочьям
волос, женщина, не сразу распрямлялась, какое-то время опираясь обеими
руками о дерево. Потом, перебирая ими по стволу, выпрямлялась и,
наконец оттолкнувшись, начинала двигаться... бегом. Но только пять — десять
шагов и тут же падала: ноги не поспевали за телом. И все начиналось
сначала. Лицо... В лицо, в глаза лучше не будем заглядывать. Пощадим
Полину.
И не станем заглядывать в нору, где безвылазно уже лежит тот, кто
был Францем.
Но уже по-весеннему светит солнце. И какие-то звуки стали
доноситься по утрам в этот мертвый лес с той стороны, откуда оно поднимается.
Люди, которые двигались и жили вне лагеря, маячили на вышках,
делались все беспокойнее и задумчивее. Но не будем и в эти лица
заглядывать— что нам до них? Мало они что ли ненависти уже получили за все?
Что тут наша запоздалая капля может изменить? Да и нужна ли она?
И вдруг что-то произошло в мире, из которого, казалось, навсегда
ушло оно, великое ВДРУГ. Полина кое-как доползла до грязной площадки
вблизи ворот, увидела привычную толпу из одних женщин, приготовилась
ждать, надеяться на чудо появления хлеба, как напрасно ждала несколько
последних дней. Но что это, куда все так напряженно и безумно
смотрят? Глянула и она, ничего не поняла: ворота распахнуты и ни
одного охранника вокруг! Тишина невероятная.
Люди как будто увидели кого-то там, за воротами, на уходящей в
лесную даль грязной дороге, — закричали и побежали. Путаясь в
собственных ногах, шатаясь, некоторые бабы падали и подняться не в
состоянии были. Это был странный бег, как во сне, когда сердце выскакивает
от быстрых ударов, а ноги еле-еле двигаются. Если бы Полина
оглянулась, она увидела бы, что другие бегут назад, в свой лес, к оставленным
там детям, близким. Но таких было не много. Остальные не помнили в
этот миг ничего и лишь видели распахнутые ворота. И даже, когда
раздались первые взрывы на дороге, на поляне (бежали, рассыпавшись
широко), не остановились. Ничего не понимали, а потом раздались крики: «Ми-
ины! Люди, ми-ины!»
И тут рвануло возле Полины, не под ней, а под впереди бегущим
стариком, — смрадом и огнем полоснуло по глазам, по лицу. Зажав лицо
ладонями, упала в грязь. И позвала:
— Мама!
НЕМОЙ
35
Вспомнила и неслышно сказала:
— Прости, Франц.
Кто ее поднял, кто вел назад, она не видела: глаза залепило, ей
казалось, что кровь мешает смотреть, слиплись пальцы, которыми закрывала
лицо. Голоса вокруг, крики были испуганные, но все равно радостные. Ей
надо было услышать Франца, его голос. Кто-то стонал рядом, а женщина
пронзительно кричала, подумалось: как роженица! И про своего:
напугался, маленький? Это магла твоя виновата, все мама!..
Немало времени минуло, и вдруг загудело, и снова закричали,
непонятно, радостно. Полина в ужасе, в отчаянии терла глаза, стирала кровь,
липкую теплую пелену, чтобы увидеть, чтобы смотреть — щемило лицо,
кожу на левой щеке, на шее и лбу, правым глазом чувствовала свет, но
и только.
Потом около нее зазвучали забыто спокойные человеческие голоса,
кто-то трогал ее лицо мужскими, с запахом табака, пальцами, просили ее
убрать свои руки.
— Правый цел, кажется...—услышала она. Крепко запахло аптекой,
чем-то холодным-холодным смочили лицо. Она крепко зажмурилась, все
надеясь: вот сделают так и так, откроет глаза и будет видеть. И правда—
правым разглядела высокого военного в серой шинели, неправдоподобно
толстую женщину в белом халате поверх телогрейки.
— Перевяжите — и на машину. Остальное потом,—приказал военный
и отошел к другим.
С машины и разглядела Франца. Яйцо ее, голова уродливо и тепло
обернуты ватой, бинтами, но один глаз открыт. Увидела: стоит позади
всех, взгляд тупо-растерянный, нет, как у забытого, потерявшегося
ребенка. Вид страшный. Как бы теперь только это увидела по-настоящему.
Толстая женщина в халате нетерпеливо обернулась на ее вскрик:
— Ну, что там? Вы кого зовете? Муж? Это какой, кто? Немой? Где
тут немой? Кто муж этой женщины? Давайте его на эту машину.
13
Когда учился в Минском университете, в нашей комнате по улице
Немига были одни лишь фронтовики и недавние партизаны. Как и во
многих других комнатах. Наша особенно знаменита была баянистом — Иван
Иванович с физмата. Все коридорные танцы метелили под его музыку. На
свадьбах репертуар Иван Иванович выдерживал строго классический. По
одному уводили невесты-жены наших фронтовиков-партизан, и провожал
их в семейную жизнь Иван Иванович маршами: из «Аиды», из «Фауста».
Лишь потом, позже ты это услышали в исполнении симфонических
оркестров. \
А вот на его свадьбе наших было мало. По-моему, не захотел нал:
видеть у себя. А точнее, чтобы мы увидели.
Лишь в день его погребения, Ивана Ивановича, — через долгие годы—
я увидел его жену, побывал в квартире. Лежал он в гробу в столь
непривычном на нем костюме (всегда ведь в черной, все одной и той же,
гимнастерке), а на стуле возле него сидела женщина, все время
полуотвернувшись. Я знал, мы знали, а тут я впервые рассмотрел: щека
черная, как остается от близкого взрыва, глаз один жутковато
неподвижный, вставной. Ей самой, возможно, было безразлично, как она
смотрится, отворачивалась же (вдруг подумалось): ради
покойного. Раз он не звал нас к себе, значит, не хотел, чтобы видели.
А ведь знали его историю, на редкость романтичную в наше не столь
уж романтичное время. Помню, я переживал ее почти со слезой, когда
однажды услышал. Сам он и рассказал. В группе подрывников, которую
Ваня водил на «железку», была (или в тот раз оказалась в ней, возможно,
сама напросилась, это бывало) молоденькая девушка. Когда уходили
после подрыва эшелона, убегали, она напоролась на мину. Несколько
километров он нес ее на руках. Вспоминая, сказал: «Прижалась,
худенькая, дрожит, как дитя»... Вот эта память их и поженила. Наверное, он
гордился своим поступком: не тем, у железной дороги, а послевоенным.
А были или нет счастливы — кто знает? Было горе на лице вдовы, но
36 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
доброты, кажется, не много. А Ваня и запивал сильно, и все время
туберкулезом болел. Сын их попал в тюрьму, на похоронах отца его не было.
Если бы за все хорошее воздавалось полной мерой—было бы просто
жить. А жизнь не проста.
14
На спаде (или как говорят белорусы: на сконе) лета 1944 года над
размытыми и поросшими лебедой пепелищами Петухов разносился
одинокий звук. Негромкий, вялый, какой бывает, когда стесывают кору,
звонкий, сухой, когда прямо на срубе высекают канавку, чтобы уложить
мох—для соединения со следующим венком бревен.
На опушке леса стоят двое и вслушиваются. Впрочем, их трое — на
руках у женщины, завернутый в грязный марлевый лоскут, спит малыш.
И косынка на голове у женщины марлевая, от этого особенно заметны
черные крапинки на изуродованной левой щеке, на лбу. У ног мужчины
армейский вещмешок, сам он в русской шинели, для него короткой, она
вся в бурых пятнах, заношенная.
— Это татка, мой татка! — шепотом восклицает женщина. — Я как
голос его слышу.
— И пришли они в Вифлеем...
— Мне не верится, что мы снова здесь!
— И пришли в Вифлеем, потому как велел Август отправиться
каждому туда, где родился. Иосиф пошел записаться с Мариею, обрученною
ему...
По дороге Франц уже несколько раз вспоминал про библейскую
перепись, а вообще-то они с Полиной очень обрадовались, когда в военном
госпитале им выдали бумажку, одну на двоих (с упоминанием о ребенке):
«препровождаются по месту довоенного проживания».
В том госпитале они прижились надолго, Франц работал по заготовке
дров, Полина, немного поправившись, при кухне и санитаркой, а затем
пришло время рожать. Обнаружила, что за время, пока она болела, ее
«немой» стал общим любимцем в госпитале, медсестры его жалели,
подкармливали. Даже приревновала:
— Ты теперь меня такую поменяешь. Я знаю.
А Франц улыбался так, что хотелось верить: уродливо склеившийся
ее глаз и эта ужасная несмываемая чернота на щеке для Франца как бы
невидимы.
, Старый Кучера издалека увидел и стал приглядываться: что это за
женщина так спешит, направляясь к его селищу, селибе. Белая косынка
то появляется, то прячется в березовой зелени. Последний раз тюкнул
топором и, не слезая с высокого сруба, следил за живым пятном глазами,
уставшими от многодневного безлюдия. Когда увидел на руках у
женщины дитя, несмелая мысль — а вдруг Полина? — стала гаснуть. Но все
равно интересно, кто это—а вдруг сыскался еще один петуховский
житель?
Полина уже видела, уже узнала отца: голова совсем-совсем белая,
а лицо красиво-загоревшее и усы, борода все еще темные. Татка, татка! —
комок слез не выпускал голоса, крика.
И когда она выбежала из кустов с плачущим ребенком, которому
передалось волнение, и выкрикнула-таки: «тата!», старик, непонятно
каким образом оказался на земле. Прихрамывающий (Полина испугалась,
что ударился, свергаясь со сруба), двинулся ей навстречу. Полина, дочка!
Но что это у нее с лицом, со щекой? И чей малышок на руках,? Как же
она похожа на свою маму! Молодую, беломоркаяальскую.
— А донака моя, а что с тобой сделалось! — непохоже на себя
запричитал отец. Обнял ее вместе с ребенком. — Ну, ничего, ничего, главное,
живые, встретились. А где же мамка, жива?
Полина, повернувшись, посмотрела на то место, где они с Францем
оставили холмик-могилу, там все заросло бурьяном, травой.
— Так это она? Я почему-то так и подумал. Так и подумал.
— Мы тут решили поховать. — Полина сказала «мы» и оглянулась
в сторону опушки. Франц там, дожидается, когда покличут.
НЕМОЙ 37
— А Павлик? Он что, в армии? — в свою очередь опросила у отца.
— Ушел наш Павел, сказал, пойду добивать зверя в логове.
Некоторых оставляли работать в районе, а он: пойду добивать. И вот...
Стал шарить в карманах, потом махнул рукой в сторону шалашика,
возле которого валяются одежки, котелок стоит с ложкой, ведро.
— Там похоронка. На Висле сложил голову наш Павлик.
Видно, чтобы не дать ей заплакать, тут же спросил у Полины про
дитя, которое молча, оценивающе разглядывало своего деда:
— Твое?
— Наш Павлик,—специально ударение сделала: наш! — Мы его так
назвали. О, Господи, как будто чувствовала!
— А отец кто?
— Тут, тут, тоже пришел. — Полина показала на лес. — А что у вас
с ногой?
— Да малость миной подцепило.
— И меня, татка, во, видишь! Но Франц говорит, что зато не
потеряюсь, приметная.
И заплакала.
— Ну, ничего, ничего. Зато во какой у вас красавец! Франц,
говоришь? Что ж он в лесу прячется, как соловей-разбойник?
— Ой, я вам все, все объясню. Мама вам то же самое сказала
бы. Они так подружились.
— Постой, постой! Мне Павел рассказывал... Так это он?!
— Да, он, татка.
— Не-мец? Вот не ждал, не гадал! Знал, что отчаянная ты у нас
голова, но чтобы на такое решиться! Ты соображаешь, что про тебя люди
говорить будут? Как жить нам теперь? То-то прячется в лесу. Так и
будем жить, дочка?
— Увидишь, татка, увидишь, какой он! Вы что* вот так сами этот
сруб и складываете?
— Спасибо хоть лес вывезти помогли вояки... Ага, так это ты мне
помощника привела?
— Направили нас—«по месту жительства». И документ есть. Он
такой старательный, Франц, такой рукастый, врачи просто влюбились
в него.
— Ну, а ты, ясное дело, тем более. Значит, это он вас спас тогда?
Ну что ж теперь делать будешь? Зови своего соловья-разбойника. Будем
разбираться.
Пока к ним приближался немец-зять, позванный радостным голосом
любимой дочери, партизан Кучера с каким-то внутренним нервным
смешком снова пробегал свою жизнь: ничего не скажешь, только этого ему еще
не хватало!
— День добрый, Иосиф Герасимович, — скромно и вполне
по-здешнему поздоровался цыбатый парень в заношенной русской шинели, голова
коротко стриженная — так выглядели советские военнопленные в 41-м. Что
ж в нем от немца осталось?
— Добрый, говоришь, день? Что ж, будем надеяться. А за них—
спасибо! — Показал на Полину, глянул на могилу жены. — Судьба, значит,
такая. Хороший у вас пацан, вон, чмыхает, как сердитый ежик.
— Ой, правда, татка!—обрадовалась Полина, что так все хорошо
складывается. — Никогда не плачет, только сердится, если голодный.
— Ты что, — спросил Кучера Франца, — коммунист? Рот-фронт, как
говорится?
— Наин... Нет. Христианин. Отец у меня пастор.
— Это то же, что священник, татка.
— Знаю, ксендз. Я про коммунистов сказал, потому что их раньше
из плена домой отпустят.
— Причем тут плен, татка? Франц не в плену. Он с нами.
— С нами-то с нами. Если, конечно, получится. Человек
предполагает, а власть располагает.
.— Не за проволоку же ему идти!
— Врагу не пожелаю, ты меня, дочка, не дергай за усы. Вот так,
Франц,— все-таки не удержался партизан Кучера, — ваши морили совет-
38 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
ских пленных, теперь самим приходится. Ты куришь? «Палишь»? — как
говорят наши и ваши соседи на Висле.
Выгреб из кармана зеленого немецкого френча, который валялся
возле шалаша, какую-то железку, кремень, высушенную чагу-трут,
металлическую масленку, из которой на клочок газеты сыпнул табака,
свернул цигарку и занялся добычей огня.
— Катюша, — сообщил Францу, — чудеса техники!
Сообща добыли, высекли огонь. Немец старательно держал сухой
трут, ловя искры. Затем сам соорудил себе цигарку и прикурил у
тестя.
— Трубка мира — сказал, несколько смущенно.
— А ты ничего парень! — прикинул Кучера. — Гляди, что и проживем.
Смеха ради.
15
Так и зажили вчетвером на пожарище деревни Петухи. Полина, держа
глаз на Павлике, хозяйничала «по дому», а это—весь сад, огород,
наскоро сложенная печка на месте баньки, одним словом, все, кроме дома.
А дом вот-вот подведут под крышу ее мужики.
Прибилась к ним собака, вначале напугала Полину: волк! Уши
торчком, морда рыжая, почти седая—Полине сразу припомнилась та, что с
моста на нее смотрела, не она ли? Собака-«волк» вертелась поодаль: ляжет
под кустом и смотрит. А то вдруг побежит, ну, совсем рядом, заглядывая
людям в глаза. Еще украдет мальчика! — пугалась Полина. Хоть бы вы ее
отогнали, мужчины! А однажды, когда обедали, подошла нерешительно
на расстояние руки и, поскуливая, легла возле старого Кучеры.
— Ну и правильно, —спокойно сказал старик, — куда тебе без людей?
Это ж она просится назад к нам. Видишь, и собака не хочет быть волком.
Как тебя будем называть? Все-таки: Волк. Ладно? Но мы это нарочно.
Мы-то знаем, кто ты. А плохие люди пусть думают.
Так и прижился пес. Но Полина не сразу поверила в его собачью
природу. Зато Павлик с Волком подружились моментально. Огромный пес,
как бы из уважения к чувствам матери, сторонился его, но больше для
виду. Смотрит при этом на женщину: «Видишь, это он сам, я тут ни при
чем!»
Старый Кучера и Франц уже достраивали дом.
— Нет, вы, немцы, что воевать, что строить—мастера!—снизу
говорил Кучера, подавая стропилину. — Как же вы с этим Гитлером
лажанулись? Хотя, разве вы одни?
Отец часто уезжал в районный центр—за гвоздями, инвалидный паек
забрать, привозил газеты. Выходил на шлях, это километра три от
Петухов, там ловил попутную машину. Возвращался иногда и навеселе
В «районе» у него дружки-партизаны, многие начальниками
заделались.
А однажды вернулся в таком подавленном и встревоженном
состоянии, что Полина сразу заметила, испугалась: что, что-нибудь с
Францем?..
— Да цел будет твой Франц. Просто устал я.
Не захотел рассказывать дочке. Что толку, если и она будет
нервничать? А случилось вот что. Возле хозмага встретил его военком,
однорукий капитан: зайди, медаль тебе вручим! Партизанскую. Не каждый день
бывшему зеку медали выдают—выкроил время и забежал в дом из темно-
красного кирпича. А капитан повел себя как-то непутево. Велел погулять
еще с часик: он-де занят, не может оторваться от других дел. А когда
повторно пришел Кучера, там сидел еще один военный — пухлый, как
баба, майор в летчицких погонах. Откуда в такой дыре да такие летчики?
Ну, летчик так летчик — где же обещанная медаль? Оказывается, военком
связался с райкомом, а там возникла идея провести это дело
организованно: вручать принародно всем сразу. Капитан почему-то очень
суетился, а летчик разглядывал Кучеру с огромным интересом, как будто они
знакомы были, и сейчас: ба, да это ты!—обнимутся. Но не бросились друг
другу в объятия, а Кучера ушел, почему-то ненавидя летчика. Это какой
же самолет нужен, какая кабина под такого борова?
НЕМОЙ 39
Снова встала проблема: как быть с Францем? Где ночевать ему, что
отвечать, если кто-нибудь всерьез заинтересуется немым зятем Кучеры?
А если самим Кучерой снова заинтересовались (скорее всего это!) да
найдут в его доме беглого немца — быть тому летчику -подполковником, если
не выше. Не слишком ли жирно для него?
И что станет с Полиной, с мальчиком: немецкая подстилка! Немецкий
байструк! Мало, что фашисты изуродовали девку, теперь эти будут
измываться. О себе самом Кучера, казалось, уже и не очень беспокоился.
Берите, жрите со всем дерьмом, если вы никак не нажретесь! Если всю жизнь
добираетесь, уему на вас нет!
Снова бедному Францу ночлег стали устраивать отдельно, хотели
даже в лесу, а потом приспособили для этого несгоревший сарайчик на
чужой селибе — это называлось: пошел Франц в примы! Полина его
провожала да и оставалась с ним иногда. А мальчик спал с дедом. Объяснение
Кучера для них нашел такое: везде шарят, отлавливают полицаев,
дезертиров, могут и сюда забрести. И еще одну вещь предусмотрел Кучера: так
распланировать комнаты и чуланчики в новом доме, чтобы у Франца
была своя хованка. Не привыкать это делать: научили фашисты, а еще
прежде — и свои.
Кучеру время от времени проведывал его партизанский дружок,
всегда румяный, всегда веселый и шумный Коляда Виктор. Работал он где-то
в леспромхозе, неблизком, а тут училась дочка в техникуме: привозил ей
бульбу, рыбу, называя это «госпоставкой». И всякий раз завернет в
бывшие Петухи и обязательно со своим «горючим». Не рассказывайте мне
сказки, что зять непьющий! Не пьют*или больные, или скупые. Ты что
хочешь, Кучера, чтобы про зятя твоего такая поголоска пошла? А что
немой, так он у нас сразу разговорится от «полесской бронебойной».
Всю тайну Кучера даже другу не выдал, хотя на всякий случай
заговаривал с ним, что, мол, если что, помоги молодым. Хотя бы перебраться
в твой леспромхоз, коли там и правда так вольно вам живется. А что?
•Ничего такого. Но все под Богом ходим. И под НКВД. Про довоенное
Коляда сечет с полуслова. В партизанах обсуждали почти в открытую.
И даже теперь артачится Виктор Коляда: нас, партизан, лучше не
трогайте, мы и фашистов не побоялись! Фашистов — да, но эти достанут тебя
так, что забудешь, кто и что ты.
Похрабрится, побалагурит Коляда — и как бы веселее жить.
— Хорошо тебе, Полина, ты своему мужику что ни говори, а он в
ответ молчит. Вот бы моей такое счастье. Или мне. В моем доме никто не
молчит. Это как кому повезет. Вот эти два пальца, какой мне прок от
такой руки (на правой у него лишь два пальца остались), а вот Черчиллю
бы такую: Виктория! Победа!
Когда пал Берлин и даже до Петухов долетело: «Победа!»—решили
отметить. Как раз и новоселье подоспело. «Дом, как звон!» — любой
сказал бы. Но не каждому дано узнать, что дом этот с секретом. Франц
оказался прирожденным мастером по дереву, Кучера чуть-чуть направил,
а дальше уже сам за ним еле поспевал. Францева придумка: дверь в
секретный чулан-простенок сделать в виде жалюзи. Досочка за досочку
заходит, поднял, опустил — и ты в простенке, как в пенале, всех слышишь,
а тебя не видят.
Дом еще пустоват, но стол смастерили, лавы вдоль стен, кровать,
даже шкаф. Есть на что сесть, за что сесть. А тем более—войне конец.
Тут и без понуканий Коляды выпьешь. Если есть что. Нашлось. Полина
первая подняла свою капельку в стакане.
— Чтобы нашим детям того не знать, что нам досталось.
Мужчины невольно посмотрели на солидно сидящего за столом
Павлика и на ее, уже так заметный, «новый живот». Ловя улыбку Полины,
Франц вдруг понял: это же Моны Лизы улыбка, повернутая, обращенная
вовнутрь! Да никакой другой «загадки» Моны Лизы не существует—
помимо тайны ее беременности. В этом разгадка Джоконды: мать,
улыбкой разговаривающая с ребенком, который в ней. (Вот что он сообщит:
отцу, когда снова его увидит. И не в Лувре, а в Петухах пришло к нему
это понимание.)
Как бы уловив что-то в его мыслях, старый Кучера поднял стакан:
40 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
— За твоих, Франц, родителей. Чтобы встретились вы.
Франц тоже встал, постоял. И сел.
— Ну и правильно,—согласился Кучера, — выпьем молча.
— Нет, попробую, —снова приподнялся Франц. Постоял, подумал: —
Я убил человека. Если бы жил в Германии, считалось бы: убил немца.
Здесь: убил нациста. Но и так и так — человека. Если по Евангелию. Я
только не знаю, на ком тот еврей.
— Не на тебе, Франц, не на тебе! —привычно поспешила на помощь
Полина.
Франц невесело усмехнулся:
— Разве что групповое. Но такое преступление оценивается даже
земным судом строже. Только бы на них не упало.
И снова посмотрел на Павлика и на живот Моны Лизы,
16
И надо же, чтобы они свое государственное дело приурочили к тому
времени, когда Полине подоспело рожать.
Кучера и Франц, оба одинаково растерявшиеся, грели в чугунах
воду, а Полина, лежа в постели, стыдясь себя, стыдясь отца,
распоряжалась, что надо приготовить, с чем быть наготове, если это и правда роды.
Собирались через неделю пригласить опытную бабку из соседней деревни,
чтобы пожила в доме, дожидаясь срока. А тут, на тебе, началось! Теперь
рассчитывать приходится только на себя—есть от чего растеряться.
На улице залаял Волк, по окнам полоснул свет от подъезжающей
машины. Быстро в тайник — это они! Не крикнул, а показал Францу
рукой, изменившимся лицом Кучера. И дочке:
— Ничего, ничего. Ты только не пугайся. Это у них ко мне разговор.
По старым делам. А со мной ничего не сделают.
И тут под окном ударила автоматная очередь.
В свое время Иосифа Кучеру арестовало ОГПУ, затем НКВД. Сейчас
к дому подъехало МГБ — в лице майора Короткого и двух его младших
сотрудников. Тем самым Кучере оказывалось некоторое уважение. Все-
таки партизан, у него могло сохраниться оружие. Можно было бы
вызвать под каким-нибудь предлогом в район и там арестовать. Но вдруг
заподозрит нехорошее и уйдет — лес-то рядом, для партизана привычный.
Но даже не это главное. Кто-то не поверил бы, но майор Короткий знал:
здесь не рядовой случай, тут высокая политика диктует правила,
поведение. У руководителей МГБ на самом верху (а с этим не шути!) укрепилось
убеждение (подпитываемое встречной информацией с мест), что был
допущен просчет, если не политическая ошибка, когда в освобожденной от
оккупантов республике, в столице и на местах многие партийные и
советские должности отданы были партизанским командирам и вообще всей
этой партизанской пиз...братии. Считалось: они лучше знают обстановку
и людей, были здесь в войну, хорошо ориентируются. Так-то оно так, да
только Лаврентий Павлович уже во время войны не очень им всем
доверял. Потому-то и посылал свои спецотряды из хорошо проверенных
людей. Но за всеми уследить было невозможно. У них, у местных,
сложилась и наладилась своя система связей и кадровых оценок людей.
Подменяющая идущую из Центра, порой даже с наглыми попытками
самостоятельного выхода на Сталина. Сколько лет понадобилось Иосифу
Виссарионовичу, сколько усилий стоило тем же органам, чтобы расколоть глыбы
связей времен гражданской войны, добиться, чтобы нити, тяги власти
шли исключительно сверху вниз, а никак не по горизонтали. Когда вместо
строго контролируемых взаимоотношений на всех уровнях начинает
господствовать система: «Вась-Вась». Я его знаю, я ему верю! Как будто это
не компетенция исключительно органов: знать, кому верить, а кому нет.
Они, дурни, рассчитывают, что Сталин их поддерживает. Это кого же —
закоренелых террористов? Этих как раз Иосиф Виссарионович больше
всего и любит.
Вот и местный случай, пример. Органы, проводя работу по
выявлению тех, кто, воспользовавшись нападением врага, убежал /из тюрем, из-
под охраны, вышли на след Кучеры Иосифа. Конечно, он прикрывается
НЕМОЙ 41
тем, что партизанил. Другие побывали на фронте, а некоторые и орденов
нахватали. Но есть революционный правопорядок. Раньше получи
положенное, а потом будем о новых заслугах твоих разговаривать. Особенно
если и заслуги—с расчетом прикрыться. Вот тут у них и заработала
система: «Вась-Вась». Амбиции партизанские/ Все они были на
оккупированной территории, в контакте с врагом. Кого оставляли, а кто и сам
остался. Еще надо разобраться, зачем, с какой целью. Из-за какого-то
Кучеры, и уже, пожалуйста, конфликт, вступаются, вмешиваются в
работу органов. И даже в самих органах находятся такие. Туда тоже насовали
своих партизанчиков.
Поговаривают, что до самого Сталина дошла нужная информация.
И будто бы Иосиф Виссарионович полыхал трубкой, пососал и произнес
такие слова:
— Партизанам и партизанкам слава! Которые отдали жизнь за честь
и независимость советской родины. Ну, а кто примазался, на этих у нас
есть проверенные большевистские методы.
Майор Короткий оставлен был в районе, когда развертывала свою
сеть армейская контрразведка. По вот столько нахлебался этих местных
амбиций, замаскированного национализма. Спросили бы его те, кто
решает, он бы объяснил, откуда ноги растут.
Так что акция—арест укрывшегося врага народа—не простое
изъятие какого-то колхозника. И поэтому поехал на задание сам майор
Короткий. А перед этим не поленился, сходил в военкомат на опознание,
куда по указанию органов зазвали этого партизана.
Поездка получается, однако, невеселая. И не в самой акции дело тут,
причина, а в бородавке. Несколько дней назад он обратился к знакомому
врачу, прямо на улице встретил его и небрежно спросил, показал: что это
за хреновина у меня там под воротником? И одеколоном и йодом
прижигал — не проходит. Тот посмотрел, оттянув воротник летчицкого мундира:
не хочу пугать, но анализ сделать надо. Отщипнем и пошлем в областную
лабораторию. А прижигать не следует. Сердце сразу упало. Не поленился,
в тот же день заехал в больницу. Уже пять прошло дней, а надо десять —
чтобы был результат. Не хотелось ничего делать, так бы и лежал дома,
дожидаясь вестей, добрых или злых. Но это не выход. С шариков
скатишься. Решил ускорить операцию с Кучерой, чтобы отвлечься от
тяжелых мыслей. В машине все время ему не хватало зеркала, последние дни
занят был тем, что становился перед трюмо, ручное зеркало заносил за
голову и всматривался в зловеще расколовшуюся бородавку. Черная, как
пьявка, гадина! Перед дорогой залепил пластырем, чтобы не так щемило,
чтобы не беспокоить ее, барыню. Ты ее не беспокоишь, так она тебя. Про
какие это «продолговатые клетки» говорили, шептались эти мерзавцы-
врачи у него за спиной?
До нужного дома, до этих Петухов, добирались через лес, мощный
американский «додж» выхватывал светом крутые повороты. В таких
поездках майор Короткий обычно чувствовал себя превосходно, знал, что
выполняет работу с немалым риском: сколько ползает еще последышей,
недобитков, оставленных тут оккупацией. Никогда бы не поверил, что
какая-то бородавка покажется страшнее бандита за кустом. И вот,
пожалуйста, не смотрит на дорогу, а все вслушивается: как там под
воротником? Щемит еще больше. От толчков, дерганья пластырь отклеился—
врачи, так вашу!
Поэтому, когда навстречу машине бросился огромный пес, майор, не
раздумывая, приказал:
.— Стреляй!
Прямо из кабины собаку расстреляли автоматной очередью.
Дверь оказалась незапертой, что майору Короткому не понравилось.
Были в этом какой-то вызов, самоуверенность хозяйчика.
— Смело живем! — вместо «здравствуйте!».
— Немцев прогнали, у себя дома, кого нам бояться? — ответил
невысокий, майору уже знакомый старик. Седая голова, а усы, бородка
темные, будто подкрашенные. Интеллигента из себя строит.
— Собака не привязана. Пришлось привязать нам.
— Значит, имеете право, если стреляете.
42 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
— А это кто у вас?
— Дочка. Извините, рожать вздумала.
Ишь, все с подковыркой, с издевкой. Посмотрим, посмотрим, как
запоешь.
— Есть еще кто-нибудь.
— Сынок на печке. Мой внучек.
,— А муж?
— Мужья теперь, сами знаете...
Майор не стал добиваться уточнения. Черт, загвоздка! Как ее тут
одну бросишь, роженицу? Хорошо, что из сельсовета прихватили с собой
понятого, ему и поручить, чтобы привез акушерку.
Лишь тень майора, — лампа свисает с потолка, — заполняя просторную
комнату, перемещается по бревенчатым стенам, по дощатому потолку.
Все остальные ждут его распоряжений; понятой, держа картуз у колен,
замер у порога, младшие офицеры дежурят у окон, старик возле постели
с роженицей.
Сказал женщине как можно мягче:
— Извините, незваные гости всегда не вовремя. Если бы мы
знали...
Сам внутренне усмехнулся: ну а если бы знали? Отменили бы
акцию? Смешно. Надо приступать.
— Обойдемся без протокольных формальностей. Вы—Кучера Иосиф
Герасимович.
<— Совершенно точно.
— Год рождения, прочее — потом. Партизан, насколько нам
известно?
— С сорок первого.
— Знаем. Даже то, что ранение имеете.
— Ничего, на победителях, как на собаке, раны затягивает мигом.
— Допустим, хотя собаки тут не к месту. Оружие имеете?
— Сдал, как положено. По списку: полуавтоматическую винтовку
СВТ, две гранаты, пистолет системы «наган».
— Это вы правильно сделали. А то один вот так жил на отшибе,
пожар приключился, так на том месте, где гумно стояло, танк! Вылез,
пожалуйста. Как из штанов. Но, говорят, это в Западной Белоруссии
было.
— Всякое рассказывают. Чудаков на свете хватает.
— Чудаков или врагов?
— А это как посмотреть.
— Ну, что, темнить не будем? Знаете небось зачем пожаловали?
— Догадываюсь. У вас теперь красные погоны. А были, помните,
небесные, летчицкие.
— И я вас узнал. Так что можно без лишних церемоний.
Приступайте,— приказал своим сотрудникам.
— Дом, как видите, пустой, найти, если что есть, легко, — поощрил
хозяин.
— А все-таки поищем. Приступайте. На чердак где лестница?
— Там, в холодном помещении.
Майор подсел к столу, постучал ногтями по дереву (так делал кто-то
из больших чинов в каком-то кинофильме) и спросил немного не своим
голосом:
— Вам не стыдно?
— Это чего же мне стыдиться?
— В глаза Советской власти, народу смотреть не стыдно?
— Это вам? Вроде бы не очень.
— Значит, то, что народный комиссариат в третий раз вас вынужден
арестовывать, — плевать на это?
Кучера хотел ответить этому толстогрудому и толстозадому, как
баба, хмырю, но глаза его встретились со взглядом дочери, он сразу
обмяк, плечи опустились, промолчал.
Майор неловко повернулся, и тут же воротник задел проклятую
бородавку — это помешало Короткому посмотреть, вникнуть, чей кашель глухо
прозвучал где-то за печкой. Но с печки донесся голосок (ах, вот кто
это1):
НЕМОЙ 43
— Не обижайте дедулю. Я папке скажу.
— Ты там где? У, какой грозный! Покажись, казак. А где твой папка?
— Папа придет и вас набьет! — Павлик грозит из-за печной трубы, не
открываясь врагу. Толстый дядька его не видит, а мамка, лежа на
подушке, делает страшные глаза, аж смешно. Пообещал толстому:
— И за мамку набьет.
— Скоро внучек, скоро татка придет,—вмешался старик и пояснил
майору: — Кого увидит, сразу: мой папка! Вы уйдете, будет всем
рассказывать, что у него папа военный, в ремнях весь.
Франц, задавив в себе предательский кашель, лежал в своем пенале
на топчане, им же сколоченном, лицом в ладони. Видимо, древесная пыль,
вдохнул неосторожно.
Вслушивался в разговор за стеной, в стуки, шаги, старался поймать
голос, хотя бы стон Полины, но ее как бы и нет там—что, что происходит,
зачем они приехали? Голоса: отца и незнакомый, такой уверенно
командный, военный — только они слышны. О «немце» вроде бы ни слова.
Тогда что их привело? Почему так наседают на отца, чем он провинился?
Их здешняя жизнь, с которой Франц и знаком вроде бы, но и не знает
совершенно. А потому невольно ищет аналогии с тем, что уже было.
И что было бы, могло быть, если бы это в Германии происходило. Когда
прозвучала во дворе автоматная очередь и завизжал пес, а Франц еще
только приподнял хитро сделанную стенку, чтобы заползти в свой
«пенал» (или лроб—называй, как тебе больше нравится), ему показалось, что
все вернулось к тому моменту, когда из дома, потом сгоревшего на этом
самом месте, вот так же уползал в нору. С Полиной, со старухой. Тогда
было ощущение обвала, катастрофы, но разве мог предположить, какие
еще испытания ждут? Его и еле знакомую тогда девушку. Но это была
война, все думалось, все надеялись: вот закончится война! только бы
кончилась и остаться живым вместе с близкими твоими! Она позади,
война,—для всех, кроме Франца. Даже для рухнувшей Германии и, если
живы, для родителей—закончилась. Как бы там теперь ни было, какая-то
определенность наступила. У Франца именно этого нет, определенности.
Своя жизнь оборвалась, а та, которой он живет,—лишь примеривание
к чужой, натужное старание удержаться на плаву, не пойти ко дну.
Держится игрой случая да еще волей этой поразительной девушки-женщины,
которая встретилась ему на пути. Но лишь до того момента, как узнают,
что никакой он не немой, а немец. Тотчас Полину с детьми и его отнимут
ДРУГ У друга, а дальше — какая разница, какую судьбу предпишут ему
здешние законы, порядки? В лагерь ли, в Германию ли? Но у него есть
и в Германии семья: отец, мать, сестры. Остаться навсегда
здесь—потерять их. Если уже не потерял. Старый Кучера показывал ему журнал с
фотографиями: что осталось от немецкого Дрездена и японского города
Хиросима. Черные руины, пустыня.
О чем же они так сердито, даже грозно беседуют со стариком, если
не ради Франца прибыли? Чего-то ищут: слышно, как топают по потолку,
над головой. Что, тех самых беглых полицаев, дезертиров разыскивают?
Были минуты, когда Францу все-таки хотелось, чтобы его нашли,
и кончилась бы неопределенность, неприкаянность. То, что мучило все
время, в эти минуты стало невыносимо: он оторван от Фатерланда, но
и эта страна—что он для нее или она для него? Да, Полина, дети — вот-вот
встреча со вторым ребенком—но, оказывается, даже этого мало человеку.
И не только какому-нибудь индусу: там, если изгнан из касты (читал про
это) — ложись и помирай! Тебя нет, повис над пустотой. Умирают, тихо,
безропотно.
Понимал: вызревает мысль, предательская по отношению к Полине,
к собственным детям, но что может человек, если любой его шаг
навстречу собственным чувствам,— уже предательство. Тогда, в первой норе,
прятался предатель Германии, фюрера. В этом пенале-гробу
затаился некто, готовый собственных детей предать. Но вдруг так
захотелось ему оказаться, пусть за колючей проволокой, но со всеми вместе.
С немцами. С теми, кого еще недавно страшился больше всего на свете.
Но все переменилось: они в плену, они страдают, погибают от болезней,
голода. И все равно счастливей его. У них есть надежда вернуться в Гер-
44 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
манию. Ну, не казнят же его советские власти, если объявится, выйдет из
укрытия? Он же спас их людей, он убил нациста. Должно же что-то
значить это для них?..
Вдруг услышал крик Полины:
— Тата, тата! Что это? Куда вы его забираете, куда уводите? Вы
люди или кто вы? Что он вам сделал плохого?
И громкий голос Кучеры:
— Ничего/ доченька, тебе нельзя так. А меня подержат и выпустят.
Майор обещает: сейчас пришлют акушерку. Слышишь? (Так громко
крикнул, что Франц понял: предупреждает его.) Сюда приедут люди. Так что
ждите. А придет из Королева Стана... тетка, тогда решайте сами, как
быть. За меня не бойся. Не пропал и не пропаду.
От порога Кучера оглянулся еще раз на Полину и вдруг увидел
присевшего за ее кроватью... Франца. Вылез! Что он делает? Погубил!
Думает, что спасает, дурень, а губит окончательно. Отчаянный взгляд старика
заставил Франца припасть к полу, затаиться.
— Ничего, ничего, —из-за плеча Кучеры прозвучал чужой голос,— не
беспокойтесь, женщина. Мы не звери. — И засмеялся. — Звери не мы.
17
В Королев Стан под крыло неунывающего Коляды, в леспромхоз
попали не скоро. Еще год прожили в своем доме, пока Полина
выкармливала второго мальчика да все писала в Минск и ездила в районный центр,
добиваясь правды, спасая отца. Коляда тоже старался. Но по
обыкновению больше разговорами, криком.
— Мрак и туман! — объяснял Францу. — Был такой у фашистов
шифр, у гестапо: человек исчезает без следа. Чтобы остальных до пят
проняло. Но не на тех они напали. Вот поеду еще раз в Минск...
Немой Коляде нравился все больше, особенно, когда пил с ним
наравне, устав отнекиваться. Тогда Полина подходила и конфисковывала
бутылку.
— Не хватало мне еще пьяницы-мужа!
Коляда все просвещал немого:
— Все потому, что в Политбюро ни одного партизана. Есть в Москве
один человек, Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич, говорят, он
приемный сын Сталина. Так что партизаны еще скажут слово. Верни,,
Полина, бутылку, так не делают. Тебя Кучера не похвалил бы за это.
Смех и беда с такими помощниками. Но когда пришлось почти
убегать из Петухов — не становиться же и Францу колхозником, бесправным
на всю жизнь, а к этому шло, — Коляда оказался единственным светом
в окошке. Дом продали (за вещи в основном—одежду и обувь) беженцам
с голодающих районов Украины и отправились в глушь полесскую, куда
давно кликал Коляда. Денег только и было доехать. Где машиной,
поездом, а последние десять километров — железнодорожной дрезиной по
узкоколейке.
Огромный поселок из легких бараков и кое-как «скиданных»
(белорусское слово особенно подходило: на скорую руку сложенных) домов —
это и был край обетованный, который так расписывал Коляда. Дом, в
котором им предстояло жить (по рассказам Коляды едва ли не дворец),
оказался действительно просторным, но не доведенным до ладу и уже
полуразрушенным строением, да к тому же жена Коляды, прикованная
к постели тяжелейшим ревматизмом, артритом и еще десятью болезнями,
нуждалась в постороннем уходе. Все бы ничего, в конце концов и Франц
с руками плотника-столяра, и Полина никакой работы по дому не
чурается — проживут, а вот как с документами быть? Та жалкая бумаженция
из госпиталя, которой уже не хватало для сколько-нибудь спокойной
жизни в Петухах, вопреки заверениям Коляды малопригодна и в этой глуши:
порядки везде одни. Так-то оно так, не унывал Коляда, да только люди не
везде одинаковые. Здесь все у него друзья-товарищи, им работников не
хватает, а не правильных бумажек. С большими нервами и хлопотами кое-
как утряслось: бутылка сильнее Совнаркома, Коляда свою житейскую
мудрость делом подтвердил. Франц сначала работал на лесоповале с бен-
немой 45
зопилой, потом перевели к распиловочному станку. Работа нелегкая, но
ему очень нравился запах работы: хвойные опилки, мазут. Не был бы
то немец. Сюрприз: на лесопилке и еще немцы есть, работают, недалеко
' лагерь военнопленных расположен. Вот это новость так новость! Франц
даже не ожидал, что это его так взволнует, когда услышал впервые
немецкую речь и увидел знакомую армейскую форму, изношенную, замазу-
ченную донельзя. Вслушивался, о чем между собой говорят. О еде чаще
всего, о Германии, но и о нормах, о плане. Ну, прямо советскими стали—
больше, чем сами советские. Те вечно про рыбалку да чем бы
похмелиться, а немцы: нормы, сколько выполнили, надо еще сделать. Потом
разобрался: им идет зачет, и перевыполняющих нормы раньше отпустят
домой, в Германию. Аж затосковал Франц: а кто зачитывает то, что
довелось ему испытать, разве что Господь Бог? Поговорить бы с ними,
истосковался по самой немецкой речи, чует, что скоро не выдержит,
выдаст себя. Что удивило: отношение к недавним врагам местных рабочих,
а женщин особенно — абсолютно беззлобное, будто и не было всего, что
было. А однажды чуть не вмешался неосторожно в происходящее,
возмутившись своими немцами. (Так кто же ему теперь больше свои?) Коляда
принес Францу обед, при этом он из сумки достал огромное кольцо
хорошей колбасы: отрезал себе, Францу, а большую часть отдал молодому
Гансу, который давно раздражал Франца ухмылками, издевательскими
замечаниями о местных людях. Особенно о женщинах. Когда о Полине
сказал однажды такое, Франц еле сдержался, чтобы не наброситься на
него с кулаками.
Приняв королевский дар от Коляды с угодливой улыбкой,
поблагодарив русским «спасибо», Ганс почему-то и не подумал поделиться с двумя
своими напарниками-немцами. Сунул, наглец, колбасу за пазуху и как
приговор огласил: ничего у них не будет никогда, если
такими кусками разбрасываются!
Вот и люби «своего» за то лишь, что он свой, а не чужой. Но Франца
поражали и его новые «свои», с ними тоже не соскучишься. У Коляды
была невзрачная собачонка со странной кличкой Кабысдох. По
определению хозяина: помесь метлы со скамейкой. Всегда бегала за ним на
рыбалку.
В воскресные дни приглашал порыбачить и Франца. Научил его
обувать лапти и даже плести их самому—Франц вынужден был согласиться,
что не одна лишь бедность придумала эту лозовую обувь, но и смекалка.
Пошел однажды в резиновых сапогах, так замучился, черпая r-рязь
голенищами, а тут—что затекло, то и вытекло. Легко, удобно. Конечно,
бывает, нто и озябнешь, «как тютик» (т. е. собака), ну, а от этого известно,
какое есть лекарство. Коляда, показывая на жен, жаловался: они думают,
что мы для удовольствия пьем, а мы—для здоровья. На рыбалку два
маршрута: короткий — на Черное Озеро, длинный — на Припять, река не уже
Рейна. Вода в торфяном озере угольно-черная, зачерпнешь ладонью —
масса взвешенных частичек, и тем не менее ощущение удивительной
чистоты, даже стерильности. Говорят, лечебное озеро, и в это можно
поверить. А вот рыбы в нем маловато, тощая, мелкая. Зато на Припяти
столько брали рыбы «топтухой» — так здесь называют на прутьях распятую
сетку, — что и телега бы не помешала, донести было тяжело. Держи
покрепче огромный сачок и не ленись, загоняй ногами в него ленивых
сомов, с кабана весом. По Припяти медленно проплывают бесконечные
плоты, крепежное дерево для угольных шахт Украины—ощущение простора,
первозданности. А дубы, дубы — над водой и вообще куда ни кинь глазом!
Что-то похожее, такие же массивы дубрав, при подъезде к Берлину.
Будет, о чем рассказать отцу. Любит он экзотику — ив людях тоже. Ему
определенно понравился бы Коляда. С этим человеком не заскучаешь.
Собрались как-то с Колядой идти на озеро, снарядились, как обычно,
а Кабысдоха нет. Странно, Коляда сел на бревна, что за домом, и Франца
пригласил: мол, подождем, когда прибудет пес. Франц уже привык к
чудачествам своего друга и, не спрашивая, уселся ждать.
У Кабысдоха хвост кольцом, «колбаской», как у многих дворняжек.
И вот он бежит уже с двумя «колбасками» — вторая в зубах, натуральная
колбаса. Такая же, какой Коляда Ганса одарил. Пес несется прямо к хозя-
46 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
ину, а тот уже и нож приготовил. Принял подношение из зубов дворняги,
покусанное место отрезал и ей же бросил. Как делают охотники на уток
или зайцев. Тоже отрезают и бросают лапку собаке. Все, пошли! Ничего
Францу не объясняет, будто и без того все понятно. Но увидел, что немой
скоро завопит от удивления, снисходительно растолковал. Да ничего
особенного. Этот стервец вынюхал дорожку в подвал продуктового магазина,
взялся таскать колбасу через разбитое окошко. Коляда и сам вначале не
понял ничего, когда пес впервые добычу притащил, потом снова, а в
третий раз решил за ним проследить. И увидел, как это он делает. В тот раз
Маруся не кольца колбасные, а «палки» завезла в магазин. Так этот
дурак, ну, никак не сообразит, что надо за конец брать, а не посередке.
Бился, бился перед решеткой и ни с чем прибежал. Пришлось научить
немножко, бросая обыкновенную палку, как ее надо хватать. Но кольца
стервецу все равно нравятся больше. Вот и сегодня. Честная собака, все
приносит хозяину! Ну, как, фатер? И этот-то народ мы хотели заставить
работать на Германию?
Все труднее было Францу разыгрывать роль немого в доме Коляды.
Во-первых, Павлик не знает, что его папка немой, и общается с ним
прилюдно, как со всеми, требует, добивается ответов на свои бесчисленные
вопросы. И, естественно, недоумевает, что татка его вдруг перестает с
ним разговаривать, «ни мычит, ни телится». И кроме того, Францу уже
стыдно обманывать добрых людей. Особенно умницу женщину, Коляды
жену. Францу все время кажется, что его секрет для нее давно никакой не
секрет. У Павлика расспросить могла, а возможно, и Полина
проговорилась. Глаза у нее насмешливые делаются, когда Франц объясняется с нею
жестами и действительно мычанием. Однажды он в ее присутствии
заговорил с Павликом, как это делал, когда никого постороннего вблизи не
было. Когда увидел, какие глаза сделались у хозяйки, спохватился и понял:
она ни о чем не догадывалась!
— Так вы... Так что же это?.—сама почти онемела, мычит, как
Франц до того.
В тот же вечер они с Полиной рассказали всю свою историю
хозяевам, одиссею свою, начиная с того утра, когда судьба Франца
переломилась надвое и их жизни пошли бок о бок. Полина не могла не плакать, тем
более что хозяйка просто рыдала, по-видимому, и над собственной
судьбой: после блокадных болот она стала полным инвалидом. Но вот не будь
то женщина: Полина плакала еще и оттого, что теперь, когда Франц уже
не «немой», всем гораздо заметнее будет, что жена у него «черномордая
уродина». (Впрочем, скажи ей кто-либо, что и эта горечь в ее слезах,
удивилась бы и запротестовала.) А Коляда все поминал Кучеру, это ж
надо, таил, не поверил даже другу. А разве Коляда не понял бы, он что—
энкаведист или, стукач? Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ
остается.
Договорились, как выводить Франца из немоты, чтобы не посеять
к этому чуду нездорового интереса. Коляда предложил: «Черное озеро»,
оно излечило! Ну, а говорит Франц уже почти без акцента, давно можно
было выходить из подполья.
— Ты только не перестарайся! — предупреждала Коляду его жена.—
А то я знаю тебя. Такого напридумываешь, что и дурень догадается.
Франц жадно слушал радио (иногда, как бы случайно, крутил и
заграницу по старенькому приемнику), читал газеты. Хоть бы одним глазом
заглянуть туда, где остались его немецкие близкие. Все резче друг о
друге высказываются вчерашние союзники, а Германия в руинах. Нищета
и злоба. Все, как было перед войной. Хотя людям столько лет еще надо,
чтобы выбраться из развалин, из вражды минувшей войны. В газетках
небольшого формата с грязной печатью, которые тут никто не читает,
а используют на курево, Франц напрасно искал что-либо про Дрезден.
В них больше про американцев. Все выглядело так, будто не с Германией
русские воевали, а с американцами. И теперь надо освободить немецкий
народ от западных плутократов: ну, совсем как о Версальском договоре
писали перед войной. Новая схватка, уже между победителями, вот-вот
вспыхнет. Хотя еще пленные домой не добрались. А Франц и вообще
неизвестно когда и как сможет попасть в Германию. После еще одной
войны?.;
НЕМОЙ
47
А тем временем они с Полиной и с детьми обживались на новом
месте. По вечерам и рано утречком Франц мастерил-столярничал в доме
Коляды, который теперь и их дом, Полина поделила обязанности с хозяйкой:
та присрдатривала, насколько в силах была, за детьми, Полина хлопотала
на кухне, в огороде. В местах старых вырубок подготовили огнем и
топором, разделали делянку (круглое слово: «лядо»!)-— под просо. Франц
вдруг ощутил вкус к такому именно хозяйствованию, первобытному, а по
определению Полины—«дикарскому». Поглядели бы мутти и фатер на
своего сына: босой, в черных от сажи армейских галифе, таре, как у
африканца, и весь в грязных подтеках пота, впрягшись в немыслимую
борону— всего лишь обожженная вершинка ели, суковатый еж,—таскал ее
сучьями вперед из конца в конец поляны, вздирая покрытую пеплом
землю. Полина прибегала к нему с обедом (соленые огурцы и г;рибы, рыба,
картошка, хлеб), как же она хлопотала возле бедного своего, как она
считала, каторжника. И не верила, что белозубая «негритянская»
счастливая улыбка — это всерьез, что такая работа может кому-то нравиться.
А Франц и впрямь испытывал незнакомое прежде чувство полноты жизни.
Пытался объяснить жене: именно так, именно голыми руками один на
один с природой, и вот, пожалуйста, не пропали бы с Полиной и детьми—
без всякого государства, без всякой власти, Вот увидишь, вырастет просо,
каша будет, разваристая—ложку проглотишь! Глупости, фантазии, но это
Франц, не зря она любит его, никого другого рядом с собой представить
не может. Но на всякий случай говорила:
— Знаю, почему тебе хочется без людей, в диком лесу жить. С такой
женкой — ни себе, ни людям показать!
И привычно держится рукой за щеку. Левый глаз у Полины, немного
слипшийся, видит, но все равно не как у людей. Франц не спорит, просто
смотрит, но так, что вспыхивающая румянцем Полина смело убирает ру-
ку.
— А, как хочешь! Какая есть, такая есть! — говорит с притворным
безразличием, а в глазах все равно близкие слезы.
18
Уввдел Франца я впервые, всю его немалую семью на партизанской
встрече в лесу близ деревни Зубаревичи. Это были уже хрущевские 60-е,
такие встречи сделались разрешенными, регулярными, обычно 9 Мая.
«Романтики сталинизма», а именно так хочется назвать многих партизан
этого времени, приняли из рук разоблачителя их «главнокомандующего»
то, к чему сам он, Сталин, близко их не подпускал, но «Никиту» тем не
менее недолюбливали, а «генералиссимуса» по-прежнему почитали. Так
и не узнали, а узнали бы, не поверили, что готовил и им кровавую баню,
может быть, сразу же после евреев, и только смерть помешала ему
отблагодарить их по-сталински.
К этому времени на местах уже произошло «омоложение кадров» —
в райкомах, и райисполкомах на смену бывшим партизанам пришли
другие люди, но в центре, в Минске, они сидели плотненько, а потому
районные руководители такие партизанские праздники организовывали со
всем партийным размахом. Высылали на «места боев» буфеты, заранее
сооружали где-нибудь на лесной поляне или у речки трибуну, выделяли
собственных ораторов, наструнивали сельских учителей, этих
безропотных пристяжных во всех подобных мероприятиях, колхозников
старались не занимать срочными работами и даже собственным на.чальствен-
ным присутствием освящали выездные попойки. Как если бы к ним
приехало начальство из области или из самой столицы. Помнили: завтра кто-
нибудь из этих партизанчиков запросто повстречается с Мазуровым или
Машеровым да и поделится впечатлениями о постановке патриотического
воспитания в таком-то районе.
Ну, а мы, рядовые народные мстители, настроены были
мирно-ностальгически даже по отношению к тем из своего бывшего начальства,
кого на дух не выносили. Сами же наши начальники продолжали
выяснять, кто кого обскакал после войны и по заслугам ли. Но случалось, что
жизнь и нас сталкивала лбами. Да нет, не жизнь, что нам было делить,
48 АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
а вполне определенные, компетентные в таких делах органы. Мне,
например, с какого-то времени ездить на такие встречи расхотелось, хотя
многих повидал бы с радостью. Как-то совестно было встречаться с веселым
своим комбригом, который, простецкая душа, подписал против меня
коллективное письмецо в белорусской газете с гневным полковничьим
осуждением «пацифиста» и «абстрактного гуманиста». Ну что, выяснять с ним,
какие бывают гуманизмы? Абстрактные, не абстрактные? Глупее не
придумаешь. Или такое же письмо моего одногодка, который аж в
московской «Красной звезде» излил свое огорчение, что довелось ему
партизанить с человеком, клевещущим на наших героических генералов.
Но первое время мы ездили на такие встречи очень охотно. (После
лишь брат мой туда отправлялся, а мне привозил приветы.) Вот там я и
увидел Франца, его обширное семейство. Возле машины-буфета
толпились чисто одетые колхозники, в основном женщины с детьми и
подростки, в глаза бросился высокого роста голубоглазый мужчина в
простоватом суконном костюме и в галстуке. Он только что принял от буфетчицы
на двух тарелках хлеб и горку сосисок, и его окружили подростки —
сколько же их, не пятеро ли? Невысокая полная женщина (таких у нас
предпочитают называть: женщинка, и еще очень хорошо ложится слово: кобе-
та, кобетка), пошумливая на эту орду, начала делить сосиски—по одной
каждому. На голове у нее темная косынка, хотя платье веселое,
цветастое. А приглядеться если, увидишь, что левая щека у женщины
повреждена, как бывает от близкого взрыва.
— Поля, есть апельсины, может, купим?
Заметно, что этот муж советуется со своей кобеткой постоянно.
— Ой, мабыть, дорого?
— Но им же хочется.
— Хочется! Хочется! — подтвердила орава.
И тут же очень живой черныш поинтересовался у девочки, у самой,
по-видимому, младшей:
— А купило у тебя есть?
— А у ця—ябе?
Ох, ты какая певунья!
Когда в семье много мальчиков, а самая младшая—девочка, она
обычно общая любимица. Заметно сразу, что и здесь так же. Вполне
возможно, что их так много, мальчиков, потому, что родители хотели
девочку и все «добирались» до нее. Так что ей эти сорванцы обязаны своим
появлением. Окликают свою благодетельницу они нездешним именем:
Марта.
Вряд ли надолго запомнил бы эту хорошую, счастливую семью,
когда бы после не услышал такой разговор:
— А видели тут немца? Чуть не двадцать лет его прятала женщина
в подвале.
— Ну и ну! Фрица?
— Да, фрица. Детей кучу нарожали, а потом объявился. На торфоза-
воде работает.
А потом и в самом Минске услышал о нем.
Как-то у меня появилась необходимость зайти в «первый отдел»
Академии наук: мы уже стали выезжать по туристским путевкам за рубеж,
а за той железной дверью хранились наши «дела», по которым сверялись
подобные желания с возможностью, их осуществления. Какая-то печать
мне понадобилась. Обнаружил за высоким барьером маленького
человечка: мне незнаком, но на меня смотрел, как на известного ему вдоль
и поперек, со всей требухой. Я, конечно, не удивился: а как еще может
смотреть человек («первый отдел»), у которого под руками, перед
глазами вся твоя подноготная, даже то, о чем сам не знаешь и не подозрева- '
ешь? *
Но он посчитал нужным узнающий свой взгляд объяснить совсем
просто:
— Вы же родом со Слутчины? Я тоже оттуда. Совсем недавно в
вашей Академии.
Не был бы то провинциал, тут же сообщил, что прежде работал в рай-
немой 49
исполкоме, но переведен сюда после известного «Слуцкого дела». Живой
свидетель! Я не мог не воспользоваться неуставной разговорчивостью
земляка, попытался узнать обо всем поподробнее. Кое-что уже было
известно. Весь сыр-бор разгорелся с убийства, но не рядового: работник
райисполкома пристукнул в подъезде такого же, как и сам, молодого парня.
Молодежные страсти. Но кроме того, что власть бьет граждан по голове
в каком-то подъезде, было и еще одно будоражащее обстоятельство:
убийца—сын полицая, а убитый—из партизанской семьи. Для Белоруссии
это, как оказалось, не безразлично и через десять, и через двадцать лет
после войны. Те нас убивали тогда, а эти теперь! Особенно
обсуждалась та подробность, что «полицейский» ведал «культурой» в
исполкоме, а всем известны обязанности такого работника: межсобойчики,
сауны, отдых на природе для начальства, женская обслуга. Ясно, что
такого полезного работника начальство не оставит попечением и заботой
и наказания за преступлением не последует. Завязался такой клубок
слухов, пересудов, страстей, что развязать его можно было лишь открытым,
гласным, на виду у всех разбирательством и судом. Начальство же
поступило как раз наоборот (еще не хватало идти на поводу у масс!) — суд
состоялся в заболотном райцентре, в комнатушке для десяти
присутствующих. За окнами же и стенами суда собрались сотни, а на второй день
и тысячи людей, со всей округи, из самого Слуцка. Небывалая для
республики ситуация. Видно, нанесен удар был в какой-то потаенный нерв
белоруса, народа, которого за незлобивость и добродушие хвалили сам
Иосиф Сталин и сам Альфред Розенберг. (Похвалив, прошерстили до
незалечимых проплешин и шрамов.)
А тут еще жена подсудимого: несколько раз появилась, дура, из
помещения, куда других не пустили, и фыркала на женщин: чего слетелись,
воронье, ничего вам не обломится, не засудят моего мужа!
Что тут правда, а что позднейшие выдумки, сказать трудно. Одно
известно точно (и кадровик подтвердил): судящие перетрусили, они
переодели подсудимого в одежду милиционера и провели через толпу. Но
сами уйти не сгдогли: стало известно о побеге убийцы! Толпа пришла в
ярость. Остановили проезжавшую мимо машину, груженную торфяным
брикетом, забрали канистры с бензином, облили здание и подожгли.
Милиционер, переодетый в костюм подсудимого, выпрыгнул из окна,
повредил позвоночник. А судья сгорела. Ужас чего натворили сообща толпа
и начальство! Воинскую часть прислали, те отказались стрелять. Но
подошла другая, более надежная (говорили: кавказцы), усмирили толпу. В
газете было коротенькое сообщение: по такому-то делу стольких осудили,
таких и таких—к высшей мере.
Под конец кадровик сообщил:
— А вы знаете? Наверно, не слышали? Там немец участвовал. С
войны еще притаился. Подогнал машину, бензин им привез.
Да (я потом разузнавал), это был Франц. Только все происходило
чуть-чуть по-другому. У наших «органов» слабость к сочинительству.
А было все проще: по обычному своему маршруту Франц проезжал на
машине, вез торфяной брикет. Перегородили дорогу, бензин и все, что им
надо было, распаленные люди взяли, не спрашивая шофера. Но Франца
обвинили в соучастии, или пособничестве или в чем-то другом и
посадили. Три года Полина с детьми дожидалась его, а вернулся—уехали по
вербовке в Сибирь. Еще до Чернобыля. Где-то там, на севере, они теперь.
Если не увез их Франц в объединенную Германию. Возможно, кто-то из
немецкой его семьи живой остался. Столько ему да и Полине вынести
довелось, что хотелось бы для них хоть немного жизни поспокойнее.
Но почему-то грустно было бы узнать, что они все-таки уехали.
P.S. Я работал над этой историей, когда в санаторий '«Подмосковье» мне
позвонили из Мюнхена — сотрудник радио «Свобода», мой земляк Василь Круп-
ский. Родом он с нашей Витебщины, фамилия по отцу — Фрейдкин, почти весь
род Фрейдкиных в войну нацисты уничтожили". Поговорили о деле, которое имел
ко мне, а затем Василь вспомнил про наш с Элемом Климовым фильм. Картину
«Иди и смотри» в 85-м я возил в Западную Германию, устроительница Майнгейм-
ского фестиваля неутомимая женщина без возраста фрау Фэй Вайан посоветовала
4. «Знамя» № 12.
50 AHECfe АДАМОВИЧ
мне быть готовым к жесткой дискуссии. А вообще можно было ожидать (меня
в Москве всерьез предостерегали), что неонацисты подожгут кинотеатр.
Неприятный не для одних лишь нацистов фильм у нас получился. Во время XIV
Московского кинофестиваля я был свидетелем такой сцены в Кремле: известный
западногерманский кинорежиссер, хороший знакомый Элема Климова, упрекнул его в
излишне жестком показе немцев. Глаза у Элема побелели (знакомое мне чего
состояние — по нашим встречам с руководителями Госкино): «Ах так! Да мы вот
такую капелечку правды показали. Вот в следующий раз — на полную катушку!»
В Мангейме диспут получился яростный, но мне в нем участвовать не
пришлось совершенно. Сидел на краю сцены, спустив ноги в зал, и всего лишь
наблюдал за схваткой немцев с немцами. Двух поколений: побывавших на войне и
молодых, «Ах вот вы чем там занимались!» — а ветеранам, конечно, обидно.
Василь Крупский рассказал тут нее по телефону про похожую ситуацию,
историю в Мюнхене: он пригласил к себе молодых немцев и показал им фильм.
Один из гостей попросил кассету и прокрутил ее родителям. Посмотрел с ними
фильм и ушел из дома. К Василю приходил потом немец-отец, плакал и уверял,
что хотя служил в Белоруссии, но был всего лишь «при лошадях». Просил, умоляя
помочь ему вернуть сына в семью.
Ну, а если целые народы побежали друг от друга, казалось, на всю свою
последующую историческую жизнь напуганные существованием в тоталитарном
крысарии? Как сейчас мы бежим, схватившись за голову. От других убегаем, как
от самого себя. Потому что от собственной памяти пытаемся укрыться.
И в то же время возвращаемся, возвращаем себя друг другу — мы с
немцами. Значит, ничего нет окончательного в этом мире. В этом и наша надежда.
Апрель — август 1992 г.
Елена Шварц
БЕДНЫЕ ДНИ
Серый день
Второпях говорила в трепете,
Потому что времени мало —
Пока молния, вздрагивая,
Замедляясь, бежала.
Или это была кровь моя,
Тихо гаснущее бытие?
Войти мне уже пора
В горчичное зерно Твое.
В доме Отца моего ныне ветшает
все,
В доме Отца все ангелы плачут —
Потому что их иногда достигает
Где-нибудь замученной клячи.
тоска
В серый день я жила на земле,
В дне туманном свое торжество
Может Дух подойти и смотреть,
Чтоб не видя, ты видел его.
Так порадуйся скудости их,
Этих сумерек не кляни,
Если нас посещает Христос —
То в такие вот бедные дни.
1989
Красная юбка
Я тихо подходила к морю,
Бутыль бросала далеко.
От всплеска — чаек синий порох,
Крича, взлетал так высоко.
Горела мая юбка ало,
И ветром с тлеющих песков
Так высоко ее вздувало
И накрывало Петергоф,
И опадала и взлетала,
В колени хлопала мои,
И медленно, как два кинжала,
В Кронштадт входили корабли.
Я шла заливом, припевала,
А ты передо мной металась,
Цветочки белые свивала
И развивала, вся как парус.
«Уймись же, юбка, что ты скачешь!»
Ладонями в тебя стучала,
А ты под ветром, ветром с суши
Вся вздрагивала и плясала.
Упало солнце. Во времянку
Пойду, туман стряхнувши с ног.
Лягушки, чуя дождь, со шлепом
Ко мне скакали на порог.
У поцарапанного шкафа
Тебя я, вялую, снимала —
Крючок ослаб, прожог, заплата,
Швы разошлись — как ты
устала!
Тобою, мертвой, занавешу
Окно — сегодня полнолунье —
От раскаленной лунной плеши,
От наводненья, от безумья.
Тебя повешу на окне —
Пусть ночь тебя оденет ночью,
Пусть соловей тебя прожжет,
Пускай роса тебя промочит.
Не сплю — луна скользит мертва,
Слегка прикрытая кошмою,
Как срубленная голова
В мешке татарина кривого,
Скользит, уходит из окна,
52
ЕЛЕНА ШВАРЦ
Она мерцает под травою.
«Что ж ты луну не довезла?»
Орда бежала бы бегом
Смотреть, как хан тебя развяжет,
К губам прижмет, вина прикажет
И отшвырнет луну ногой.
1984
Сердце, сердце, тебя все слушай,
На тебя же не посмотри —
На боксерскую мелкую грушу,
Избиваемую изнутри.
Что в тебе все стучится, клюется —
Астральный цыпленок какой?
Что прорежется больно и скажет:
Я не смерть, а двойник твой.
Что же, что же мне делать?
Своего я сердца боюсь,
И не кровью его умыла,
А водицею дней, вот и злюсь.
Не за то тебя, сердце, ругаю —
Что темное и нездешнее,
А за fo, что сметливо, лукаво
И безутешное.
1989
Мертвых больше
Петербургский погибший народ
Вьется мелким снежком средь живых,
Тесной рыбой на нерест плывет
По верхам переулков своих.
Так погибель здесь все превзошла —
Вот иду я по дну реки,
И скользят через ребра мои,
Как пескарики — ямщики
И швеи, полотеры, шпики.
Вся изъедена ими, пробита,
Будто мелкое теплое сито,
Двое вдруг невидимок меня,
Как в балете — средь белого дня
Вознесут до второго окна,
Повертят, да и бросят,
И никто не заметит, не спросит.
Этот воздух исхожен, истоптан,
Ткань залива порвалась — гляди —
Руки нищий греет мертвый
О судорогу в моей груди.
От стремительного огня
Можно лица их различать.
Что не надо и умирать —
Так ты, смерть, изъязвила меня.
1989
Последняя ночь
Теснясь, толкаясь,
Звезды высыпали на работу,
Вымыты до боли, на парад.
Звезда хотела бы упасть — о что ты, что ты!
Сей ночью подержись, не падай, брат.
Сей ночью надо блеском изойти,
Сияньем проколоть глаза у мертвых,
Златиться в реках, на морском пути —
Сверкай, сияй, мерцай, коли
В долинах, шахтах и аортах
В Святую ночь — последнюю — Земли.
Заутра мы осыплемся, как прах,—
Беда живым, надежда в мертвецах.
Сосцы питающие, не питайте.
Ложесна, закрывайтесь, не рождайте.
Смотрите, звезды заплясали, как горох.
Шаги вы слышите? К рассвету будет Бог.
БЕДНЫЕ ДНИ
53
Телец идет туда, где ждет Стрелец,
На атомы разбился Козий Рог,
Созвездий нет, гармонии конец.
Созвездий нет, есть сумасшедший снег
Из расплясавшихся звездинок, из огня,
Селена разломилась вдруг, звеня,
Но Жизнь еще жива — до утра дня.
Молитвы и стихи, в пустынях и столицах —
Играйте, пойте во всю мочь,
Живые, изживайте эту ночь,
Женитесь на деревьях, смейтесь с птицей.
Вам, силы Жизни, больше не помочь.
1990
Крестный ход
Лесная церковь. Ровно в полночь —
Как колокол заговорил
И темною своей волною
Весь ближний хоровод могил
Приподнял вдруг и опустил
Обратно в сон — на дно лесное.
Ночь весенняя (в инее ее голые
плечи)
Вдвинула в двери холодные дали,
Неся хоругви, стяги, свечи,
Шагнули все — ив ней пропали —
Как будто в глуби дальних стран
Тянулся с песней караван.
Сначала шли как будто вниз,
Куда-то ниже всех могил —
Где Солнцу жутко, где чавкают
топи,
Где свет не мил —
Но ад превыше наших сил,
И хотя он был рядом,
Опустилась пред нами железная
дверь из копий.
А за нею мелькала тень.
— Куда же вы, зачем так низко?
Вдруг колокол проговорил.
— Чего вы жаждете так близко,
В снегу ищите след Марий.—
Обжег мне руку красный воск.
И как пылающий и грецкий
Плыл по воде видений детский
Кораблик-мозг.
И вот сквозь жесткий камень ночи
Мы шли к пещере той рабочей.
Лежит, отброшен не руками,
От входа камень, тяжкий камень.
И, плача, улыбнулся свет:
Его тут нет.
А Смерть лежала там, как дева,—
Ей только что измяли тело
И надругались в первый раз,
И, пряча в складках плащаницы,
Во тьме теперь уж не гробницы,
Потерянность огромных глаз.
Потом, когда я шла обратно,
Гробам шептала: Вам понятно?
Вы слышали благую весть? —
Они мне отвечали внятно:
И в этом тоже горечь есть.
И жила с жилою срастется,
И милый родный дух вернется,
И зашевелится земля,
Нам обещали нас отстроить —
Готовы доски, камни, жесть,
Мы сами тут стропила, балки,
Но Плотника меж нами несть.
Когда же кость к кости прижмется,
И из кротовьей каждой норки
Задышится вдруг: это я?
1988
г. Санкт-Петербург
Юрий Красавин
a
ПОВЕСТЬ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Е нашем доме — лифт. Изобретение это восхищает мою
старушку-мать, когда она приходит в гости, но ей
страшно: вдруг не на ту кнопку нажмет — пойдет он вверх неостановимо,
проломит к£ышу да и выбросит в небо; или наоборот, опустит в
могильное подземелье, да и застрянет там. Поэтому она, стоя внизу, поджидает
грар/ютного попутчика, который хорошо разбирается в кнопках. Звонок ее
в дверь я узнаю сразу—это какой-то особенный звонок, боязливый: а ну
как нас нет дома, тогда ей придется идти в обратный путь, не отдохнув.
Я открываю дверь, и она с радостным возгласом переступает порог,
а переступив, тотчас садится в прихожей на низенькую скамеечку, не
раздеваясь.
— Ох, погоди-ко, сынок... дай передохну, потом... уж разденуся.
. Я жду, стоя рядом.
— Что-то ноги отказываются совсем,—жалуется она. — Прям никак
не хотят идти.
Знаю я ее ноги... приду к ней, она станет угощать чем-нибудь—из-
за стола то и дело вскакивает: ой, сейчас то принесу! ой, сейчас это
подам! Я сержусь: «Да посиди ты, мам! Принести я и сам могу». Не
успеешь остановить, уж откинула западню, полезла в подпол за солеными
огурцами или вареньем... Мне б в ее возврасте так-то!
Наконец раздевается, и мы садимся на кухне почайпить.
— Как у вас хорошо!—говорит она, оглядываясь, и вздыхает при
этом глубоко и радостно.
Кухонька у меня маленькая, потолок побелен пять лет назад, пора
бы освежить; на полу линолеум постелен мною собственноручно, то есть
неумело; раковина для мытья посуды, газовая плита, посудный шкаф —
все самого наипростейшего вида. Но мать во всякий свой приход
неустанно нахваливает:
— Уж больно хорошо у вас! Теплота, светлота, чистота... Как в раю.
Она выросла в маленькой тесной избушке, которая, однако же,
всегда была заботливо обихожена и потому являла собой вид' довольства
и даже некоего богатства. Ныне сруб той избушки, вернее;, нижние венцы
догнивают в деревне Хонино, заросшей лопухами да крапивой, лебедой
да полынью. И как не удивиться, когда представишь, глядя на этот венец
из гнилых бревен: неужели тут и заключена была вся жилая площадь?
Неужели здесь, вот в этом бревенчатом срубе, и помещалось все: русская
печь, кровать, скамейки и табуретки, комод... а еще полати, голбец,
лавки и всяческая утварь, вроде чугунов, бадей, лоханей. Неужели здесь
могли разместиться за обеденным столом или на ночлег семь человек?
— А как же! — удивляется моим вопросам мать. — Не только ели да
спали — тут и работали! В, кухне мама, царство ей небесное, с утра до
вечера крутилась: варила, пекла, жарила, парила. В передней и пряли,
и ткацкий станок тут же ставили, и валенки подшивали, и упряжь ладили...
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 55
Любая крестьянская изба в ту пору представляла собой нечто
поразительное: в каждом помещении шла неустанная работа, все двигалось,
дышало. Изба была подобна живому существу, у которого полон жизни
каждый орган, или небольшой фабрике по производству всего
необходимого для существования русского крестьянина и его семьи.
— Корова растелится—теленка в избу; овца объягнится—ее с
ягнятами тоже в избу, под голбец. Да еще, глядишь, кто-нибудь попросится
переночевать, уполномоченный, или богомолец какой, или нищий; а то
гости приедут на праздники. И надо же: все поместятся, всем место
найдется!
Таков был обиход, в котором она выросла, не помышляя, что где-то
живут иначе, отнюдь не сожалея, что ей выпала именно такая, а не
другая доля.
Когда мои дети просили бабушку рассказать о ее детстве, она мало
чем могла их потешить.
— Да что там...— Она задумывалась.— Вот, бывало, соберемся да
и побежим к речке. Побежим, побежим...
И все. Дальше рассказ не шел. Ни младенческих забав, ни детских
игр, ни отроческих увлечений не могла она припомнить; зато с
подробностями— о том, как исполняла ту или иную работу.
Отец моей матери был сельским кузнецом. Кузница его стояла возле
паромной переправы у села Поречье на дороге от Сергиева Посада
к Калязину, то есть в том месте, где большак пересекает реку Нерль.
Почему именно здесь? А где же еще! У перевоза—милое дело:
кто ни едет, тут остановится, и пока ждет проезжий парома, ему и
лошадку подкуют, и обод на колесо натянут.
Степан Клементьич умер рано: полежал на сырой земле, жестоко
простыл, после чего и сгорел в скоротечной чахотке. Это случилось, когда
маленькой его дочери Нюше было девять месяцев от роду, а сыновьям,
Ванюшке да Васютке, соответственно семь лет и четыре года.
Умирая, мой дед просил своего старшего брата Ивана: «Братец, не
оставь моих сирот».
Тот обещал и слово свое сдержал: обе семьи стали жить в одном
доме, и Иван Клементьич не отличал свою собственную дочь Маню от
братних детей.
В школе проучилась она ползимы, так и говорит ныне: «Закончила
ползимы». А потом тятя сказал: «Бог с ним, с ученьем! Будешь помогать
управляться по хозяйству». И вот девяти лет? вступила она в великий
круговорот забот и трудов, которому не было конца.
Общество не затратило много на то, чтобы вырастить ее и
подготовить к труду. Можно смело считать, что, начиная с того девятилетнего
возраста, она уже зарабатывала свой кусок хлеба: это если принять во
внимание объем работы, который она выполняла.
Ведь что такое, скажем, «управляться по хозяйству»?
Если на дворе корова — надо ее кормить, поить, доить, выгонять
в стадо, постилать соломки, чистить стойло.
Если во дворе овцы, помимо того, что их тоже надо выгонять в
стадо, поить да кормить, следует еще стричь, а шерсть расщипывать, прясть,
вязать носки и варежки. К этому примыкает ремесло, которому предана
была вся семья, — валяние валенок.
А в доме надо каждый день топить печь, чистить и варить картошку,
сушить свеклу и парить репу, готовить пойло скотине, заваривать мякину
для кур да гусей, щипать лучину... А еще стряпня! В доме надо
подметать и мыть полы, перетряхивать или набивать новой соломой
постельники... стирать и полоскать белье... рубить хворост, ходить на колодец...
А теперь о том, что, собственно, и называется крестьянским трудом.
Вот посеяна рожь — надо ее боронить, полоть, жать, вязать снопы
и ставить суслоны да крестцы, возить к риге, чтоб сушить в ней,
молотить цепом на току, убирать солому и полову, веять зерно, молоть его на
ручных жерновах.
А если посеян лен — его надо опять-таки боронить, полоть да и не
один раз, потом драть, вязать снопы и ставить их в кар а воды, чтоб
дозревал, после чего возить к риге, колотить вальками, веять семя,
56 ЮРИЙ КРАСАВИН
стлать тресту под августовские росы, поднимать ее и мять на мялке,
трепать и чесать, прясть и ткать, отбеливать холсты.
А огород! Там надо сажать и окучивать картошку, поливать огурцы
и капусту, полоть грядки.
Каждая работа требует умения и навыков: косить траву и класть
сено в стога, шить юбки и рубахи, запрягать лошадь в сани, телегу,
борону, заквасить капусту и затворить тесто, засолить огурцы и грибы,
вышивать рушники и рубахи...
Ко всему она приобщалась постепенно, согласно с возрастом.
Но помимо всего этого, нужно было овладеть каким-то главным
ремеслом, которое выручало бы не только сегодня, а во всей жизни:
земля бедна, да и мало ее, урожаи плохие —не прокормишься.
— Некоторые голодовали. Хошь не хошь, а надо подрабатывать на
стороне, под лежач камень вода не течет.
Есть фотография—доверена мне ради сохранения — великолепная по
качеству исполнения, наклеенная, между прочим, на тисненый картон...
Где это вам, позвольте спросить, ныне сделают такую фотографию
да еще и на картоне с тиснением? А вот жил в уездном городе Калязине
какой-то буржуй-предприниматель, который честью фирмы своей дорожил,
заботился о ней и был мастером своего дела. Его мастерскую потом
наверняка распотрошили, а самого прикончили во имя великих классовых
целей. А небось, тоже был из крестьян, совершивших великое переселение
из деревни в город, великое превращение из крестьянина в
предпринимателя.
Вот она, эта фотография: на фоне как бы барского жилья —большие
окна, шторы с кистями, двери высоченные...
Я понимаю, что это рисованное, декорация, однако обман
обнаруживается лишь при внимательном рассмотрении.
...расположилось крестьянское семейство Ворониных из деревни
Хонино,
Глава семьи, бородатый, большелобый, с зорким усмешливым
взглядом из-под нахмуренных белесых бровей, сидит на стуле, положив
тяжелые руки на колени. На нем рубаха-косоворотка, длиннополый пиджак,
сапоги кожаные. Сидит прямо, не сутулясь; посадка головы горделива,
разворот плеч и грудь бравые—он хозяин, главный ствол семейного
куста и первый ответчик за него перед Богом, людьми и своей совестью.
Двое мальчиков, примерно девяти и двенадцати лет, стоят справа от
него. Слева две женщины в темных шалях: одна сидит—это жена Анна;
вторая стоит перед высоким столиком—это жена его покойного брата, моя
бабушка Прасковья. А с краю в белом ситцевом платьице замысловатого
покроя — с широким кружевным воротником на плечах и оборочками по
поясу и подолу—моя мать, ей здесь лет шесть или семь. Не хватает на
фотографии дочери Ивана Клементьича, Мани,— говорят, красавица была
и рано вышла замуж в славный город Курск.
Далеким временем веет от этой фотографии—от одежды этих людей,
от того, что щелястый пол застлан соломой, что не очень гармонирует
с «барскими покоями», а впрочем... На соломе у ног хозяина смиренно
лежит угольно-черная дворняжка.
— Мам, как собаку звали? Не помнишь?
— Как же не помнить-то! Цыганка... ласковая такая собачка была.
Фотография сделана года за два до революции, все эти люди
смотрят на меня одинаково, требовательно и строго — они не знают ничего из
своего будущего, а я знаю, и потому мой встречный взгляд полон печали
и сожаления, тогда как их глаза полны надежды и упований на счастливую
судьбу.
— Тятя красивый был...—непременно добавляет мать, разглядывая
этот снимок.—Я, бывало, на колени к нему заберусь и бороду ему
расчесываю, а борода большая. Он меня любил, но не баловал, нет. Строгой
был! Уж как мы боялись его! Он только бровью поведет, мы и не пикнем.
А хоть бы раз пальцем тронул!
Эту строгость своего «тяти» мать моя унаследовала в полной мере.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 57
И сейчас ей присуща почти осязаемая сила взгляда, хотя чего уж,
восемьдесят с лишним лет, возраст старческой немощи.
Иван Клементьич не только валенки валять умел, но и хороший
сноваль был, то есть обладал умением из шерсти делать ту заготовку,
из которой после валки получается валенок. Вот к этому делу и стал он
приучать свою племянницу Нюшу с девятилетнего возраста. Сначала-то
она у него просто выкатывала, то есть он выложит слой шерсти, завернет
его в рулон—вот его-то и надо выкатывать довольно долго, чтоб
получился плотный лист. Из этого листа и заворачивают потом нечто похожее на
валенок, который тоже надо немало выкатывать, прежде чем он пойдет
в с тир. Сновать валенки—не просто ремесло, а искусство; оно подобно
искусству закройщика, и в этом деле у валял были свои знаменитости, как
и в любом ином, вплоть до моего, писательского.
Сновать она выучилась в шестнадцать лет. И сейчас может
изготовить хоть детские, хоть мужские или женские, полудлинники, заколенни-
ки... на любой возраст и вкус.
— Каждый год после праздника Рождества Богородицы тятя уезжал
в Курскую, там у него домичек был для валяния, вот и работал с
сентября по масленицу. Брал с собой свою дочку Маню да старшего
племянника— Ванюшку. Мама оставалась дома и подряжалась возить подкладь...
ну, товар какой-никакой из Нерли в Калязин или из Калязина в Нерль.
Надо ж было как-то подрабатывать! Лошаденка у нас была, Васькой
звали, черненькая такая, а упряжь веревочная, плохая. Много ли бабенка
заработает! А хоть и мало—все подспорье.
Я упомянул ранее, что-де после смерти Степана Клементьича обе
семьи Ворониных стали жить вместе, а не пояснил: они и раньше-то жили
бок о бок. Деревенская община не позволяла молодым семьям делиться,
поскольку в этом случае надо было выделять пай земли. Поэтому старший
из братьев выстроился на родительском огороде, рядом.
Это я все к тому, что земли было мало и побочное ремесло—не
прихоть, не забава; оно не от жажды обогащения, а просто насущная
необходимость.
— Помню, в люди мы отправились в Тамбовскую, работали уже
без тяти. Братчик сначала снял там квартеру—деревня Грибановка,
у Маньки Ильиной. Ехали в поезде, потом на лошадях. Село большое, все
улицам, улицам. А грязь—ноги не вытащишь! Он уже женатый был, брат-
чик-то. Сестричка, молодая его, шерсть била, я сновала, а они, два брата,
Ванюшка и Васютка, валяли. Приносу что-то мало было: принесут,
принесут, и опять нету. Еле дотянули до Рождества. Помню, ходили кино
смотреть, в первый раз. Картина такая: отец отправил сына в армию, а сам
жил со снохой, а сын вернулся, когда у нее ребенок от отца. И вот она
бежала, бежала по берегу реки да и кинулася в воду...
Могу себе представить мою шестнадцатилетнюю мать: она впервые
на поезде... впервые в людях... впервые смотрит кино...
— Я там, в Тамбовской, чуть замуж не вышла. Углядел меня
лавошник, мы у него керосин брали. Керосину не было, а нам он
отпускал. Уезжали — он одно что: приеду за тобой. Я вернулась, говорю: мам,
так вот и так, сватает. Она меня отругала. Написали письмо, отказали.
Спасибо, мол, за честь, но слишком молода невеста, рано ей. На другой
год братчик опять туда поехал, а жених мой его уговаривать...
Между прочим, красавица Маня, родная дочь Ивана Клементьича,
как раз по семнадцатому году, молоденькая еще, вышла замуж за
булочника в Курске, куда в очередной раз поехала с отцом в люди.
Что за спрос такой на хонинских невест у булочников да лавочников?
Ишь, разохотились они: не надо курских да тамбовских, хотим жениться
на тверских. Губа не дура.
Я был тогда творением тонкой материи или чем-то, что не имеет
ни материальной сущности, ни формы или оболочки, ни какой-то
определенности... Но был! В этом нет никаких сомнений.
Недавно ученые произвели точнейшие исследования, используя самые
последние достижения в области измерительной техники, и в результате
немыслимо кропотливых работ установили, что душа в человеке есть, она
58 ЮРИЙ КРАСАВИН
имеет даже некую материальность и весит сколько-то граммов. Вот этим
бессмертным нечто я и был тогда, и каким-то образом тяготел именно
к той местности, душевная связь с которой неразрывна и ныне.
Тот факт, что в Спасской школе девочка Ворониных сидела на одной
парте с каким-то Баушкиным из деревни Ремнево, еще не пробудил
моего интереса: ну, сидят и сидят, Бог с ними! Но вот по мере того, как
Нюша Воронина становилась взрослой девушкой, а в соседней деревне
в семье Федора Красавина мальчик Васютка становился уже Василием,
а то и Федорычем (бригадиром поставили!), волнение и радостное
беспокойство постепенно и все сильнее овладевали мною.
Я очень люблю две фотографии из той поры. На одной мой отец
лет этак восемнадцати с младшим братом Михаилом и сестрой Марусей,
она тут еще девочка. Братья Красавины в хромовых сапогах выше колен,
молодцеватые, подтянутые. Михаил сидит, лихо положив ногу на ногу;
мой отец стоит рядом, сунув руки в карманы светлого плаща; оба при
галстуках бабочкой—женихи!
— А что, мам,—говорю я, рассматривая эту
фотокарточку,—галстуки-то небось им мастер-фотограф нацепил, а?
— Нет, — отвечает она строго.—Тогда мода такая была. Сапоги
чтоб хромовые выше колен, галифе и пиджаки в талию, и чтоб галстук
вот такой... Какие у нас парни-то были! Нынешним не чета. Бравые,
подбористые, ловкие. Сапоги хромовые, блестят, костюмы утюгом
отглаженные, при галстуках. Бывало, как войдут на беседу, да как затопочут,
да как гармошка-то грянет! У каждого выходка своя: и спеть, и сплясать.
Могу себе представить... Но где ныне мужики или старики, бывшие
этими парнями? Нету.
— Чтоб пьяным кто-то пришел или слова ахаверные—ни-ни. Поди-ка
осудят такого, ославят на всю округу—как-то боялись этого.
А вот сама она в той девичьей поре на другой фотографии, вдвоем
со своей лучшей подругой Настей Чаркиной—"сидит, небрежно положив
в локте согнутую руку на спинку стула; платье на ней вроде бы
шелковое, блестит, переливается; на ногах туфли на высоком каблуке, длинные
косы перекинуты на грудь (в ту пору девушки носили не одну, а две
косы), лоб высокий, чистый, взгляд открытый.
— Я в девках-то славенкой была, — сообщает мать, глядя на свою
фотографию. — В славе гуляла. Уж не знаю, чем было особо гордиться-то,
а все равно гордилась.
Ну да, она и на фотоснимке здесь «гордится», если не сказать
«заносится». Не вдруг подойдешь к такой — небось, робость возьмет. Уж и не
знаю, пошла бы она с таким парнем, каким был я в жениховскую пору,
или нет. Может, не удостоила бы внимания? Вообще-то я был ничего, но...
не уверен. Не исключено, что глянула бы на меня насмешливо, да
и только.
Странная, конечно, и опрометчивая эта мысль: как мне пришло
в голову представить себя в жениховском возрасте рядом со своей
девушкой-матерью?! Пожалуй, в этом случае мой отец поступил бы со мной,
как с одним из хонинских ухажеров—отметелил бы: не суйся с
кувшинным рылом да в калашный ряд... не по себе дерево рубишь!
Как хотите, а у меня были красивые родители. Странно, что это их
качество не передалось мне. Я-то, как говорится, молодым был—это
помню точно, а вот красивым... нет, не возьму греха на душу, не стану
утверждать такого.
Между прочим, у семейного портрета Ворониных и у того, где моя
мать с подругой, один и тот же фон: явно нарисованное барское окно
с подвязанной шторой и рамка картины, якобы висящей на стене. Эти две
фотографии разделяет время, в котором уместилась революция и
Гражданская война, потому у второй тисненого картона уже нет—заплошала
фотомастерская.
Мою мать сватали не единожды. Вишь, даже лавочник на Тамбовщи-
не воспылал необоримым желанием жениться на ней. И каждый раз при
таком течении дел замирало... я чуть не написал «замирало мое сердце»,
но о каком сердце может идти речь! Я же был чем-то невесомым и бес-
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 59
плотным, не имеющим ни .формы, ни материальной сущности. И тем не
менее мог радоваться и страдать, как всякий живущий, даже в большей
степени; я мог и воздействовать на ход событий земной жизни, как
воздействует зритель из партера или с трибун на поведение актеров или
игроков.
Я приходил в великое волнение всякий раз, когда в деревне Хонино
появлялись сваты и давали знать Нюше Ворониной, что они — к ней.
Тогда я тотчас оказывался рядом, деликатно оттеснял своих почти
невесомых и почти бесплотных (два-три грамма!) соперников, желавших того
же, что и я: повернуть тот или иной эпизод земного, житейского действа
в благоприятную для себя сторону — чтобы родиться на свет. Я внушал
невесте, что жених—плохой, что она достойна гораздо лучшего, надо
только подождать. Кажется, именно мое вмешательство расстраивало ход
сватовства; впрочем, может быть, я ошибаюсь. Однако же — очередные
сваты уезжали ни с чем.
Точно так же я поступал, если где-то на гулянье к ней подходил
парень с предложением: «Позвольте с вами пройтись» — это была формула
вежливости, принятая в молодежной дипломатии наших мест. Я знал, чем
угрожает лично мне это галантное предложение, и спешил с советами:
«Не ходи. Зачем тебе такой? Ты—славенка. Слышишь? Не ходи с ним!»
Я мог видеть в великой досаде, как она прохаживается под руку
с каким-нибудь кавалером среди прочих гуляющих, и мог слышать
радостные возгласы кого-то рядом с собой, чьи надежды на земную
юдоль обретали пока еще неопределенную, но все же реальность, чьи
шансы вдруг возрастали. В таких случаях я устремлялся к тому, кто
должен был стать моим отцом, и подталкивал его: «Неужели ты это
стерпишь? Накостыляй ему по шее!»
— Ванюху Воробьева отметелил, — вспоминает теперь мать.—Он ко
мне гулять приставал, а Вася-то ему и накостылял.
Этот случай на моей совести. Равно как и другой:
— Пришел из Якимовской парень к нам в Хонино. Такой высокой
да бравой, да красивой... И вот все поглядывал на меня, все поглядывал,
а потом говорит: «Позвольте с вами пройтись». Я согласилась: чего ж,
он мне понравился. Идем мы с ним, разговариваем, а навстречу, откуда
ни возьмись, ремневские идут целой партией, человек пятнадцать — в Рем-
неве тогда много парней-то было!
И далее мать, уже с некоторой обидой, о моем отце:
— И вот хватило же совести у Васи — он от своих да и — шасть ко
мне: «Позвольте с вами пройтись». А этого якимовского отпихнул...
Как видите, в моем тогдашнем эфирном бытии забот и хлопот было
много. Еще то надо иметь в виду, что у юного отца моего появлялись
время от времени «ухажерки» и «милашки»: не только свет, что в окне,
и не одна Нюша Воронина нравилась ему — мало ли красивых девок
в округе! Так что беспокойства они доставляли мне немало, и чаши весов
колебались в зависимости от тех или иных обстоятельств,. событий. И уж
совсем качнулись они не в мою пользу, когда Нюшу Воронину пришли
сватать в очередной раз сваты солидные, серьезные, решительные.
— Сидим мы, девки, на лавочке, праздник был, Мироносицы,—
он по весне бывает, только-только снег сошел... Глядь, со стороны Овся-
никова идут: жених в пальте майском, две нарядные свахи с ним.
Тут надо сказать, что Овсяниково стояло этак на возвышении, за
низинкой, в которой протекал ручей под названием Ир, соединяющий
ожерелье из множества бочагов, среди которых загадочный Белый
Бурачок, слывший бездонным. В этот ручей в водополицу из Hep ли заходили
щуки метать икру, и летом в бочагах было полно юрких щурят. Мне
в детстве казалось (и, наверное, это справедливо!), что бочаги для щурят
то же, что для людей—деревни; по узкой протоке ручья щурята, небось,
ходили из бочага в бочажок погулять, поиграть друг с другом, как ходят
люди в гости из одной деревни в другую.
Овсяниково из Хонина прекрасно видно, до него не более
полуверсты. В деревушке этой было около десятка изб, в Хонине
же—десятка два, ну а в Ремневе — домов сорок, однако не больше.
60 ЮРИЙ КРАСАВИН
Тогда довольно многолюдно было на этой земле, не то что ныне.
Ведь из того же Хонина выходило в разные стороны пять проселочных
дорог, и на каждой не далее двух-трех верст стояли деревни: Ремнево,
Овсяниково, Задорожье, Плутково Малое и Большое, Спасское. А за ними
на таком же расстоянии—Пряжино с Василевым, Соломидино с
Береговом, Панютино, Сущево, Дуброво, Селятино, Поречье...
По крайней мере половина этих деревень ныне уже сошла с лица
земли, и я называю имена их затем, чтоб сохранились они в памяти.
Душа моя никак не может примириться с их потерей, как не можем мы
примириться со смертью близких нам людей.
Овсяниково я уже не застал, но в памяти моей матери оно живо,
равно как и тот день, когда с овсяниковской горки шли сваты...
— А как вы догадались, что это не просто гости к кому-нибудь?
— Дак сразу видно! Чего ж не догадаться-то!
Сваты не в диковинку были не только в мясоед, но и по весне,
когда женихи, ушедшие в люди, возвращались уже с заработком, в
обновках,—вот и устраивались сборные, то есть большие гулянья,
большие беседы. На сборную приглашались девки на выданье со всей
округи, тут парни себе невест и высматривали.
— Опосля сваты-те и идут... Я на сборных гуляла и в Ремневе,
и в Плуткове, в Соломидине, в Спасском два раза...
— А этот, что в праздник Мироносиц явился, он был откуда?
— Из Закоской—деревня за Поречьем, в Крутетчине. Я его
и знать-то не знала, и не видывала никогда. Одна из свах гостила у кого-
то в Хонине, вот она, видно, и нахвалила меня жениху. А еще той
весной на Пасху ходили м£1, хонинские девки, в Поречье—там большое
гулянье было! Народу-то сколько! Видно, он, жених-то, еще там меня
высмотрел. И чего ему втемяшилось, ить я с Васей была!
Однако вот хоть и с ухажером она там была под руку, это не
отпугнуло закоского жениха. >
— Как он тебя сватал, мам? Ну-ка, расскажи.
— А вот вошли они в деревню от Овсяникова-то — мы, девки,
спрятались во дворе. Надо же, будто испугались чего. Вот дуры-то! А они
к Катерине, соседке нашей, зашли сначала.
— Отчего же не к вам сразу, к Ворониным? Ведь они тебя сватать
пришли?
— Меня, кого же еще! Только так-то не принято, чтоб сразу,
— Почему?
— Дак вдруг я рядиться не захочу!
«Рядиться» не значит «торговаться», нет—наряжаться, вот что.
— Отказ рядиться — жениху от ворот поворот?
— Ну да. Тогда они, может, другую невесту захотят посмотреть, не
с пустом же назад идти. Глядишь, и сосватают, да и свадьбу сыграют.
И так бывало...
— Ну, а в этом случае как? С закоским-то?
— Пришли они к Катерине да и прислали ее к нам: так, мол, и так,
к тебе, Нюша, готовься, мол.
— А ты, значит, не стала обижать их, нарядилась?
— Братчик сказал: гляди, сестренка, останешься в вековухах!
На базаре, знамо дело, спрос на товар только с утра, а к вечеру по
дешевке продают. Как бы и тебе, мол, не остаться на бобах. Ну, чего
ломаться—нарядилась я, встала вот так у переборки: тут я .с мамой,
братчик—он вместо отца, раз я сирота. А народу-то собралось! Вся
деревня сбежалась...
— Зачем?
— А как же! Сватовство ли, венчание ли, свадьба ли — это вроде
праздника для всех. Так уж было принято, мода такая. Толпятся в
дверях, пошучивают, смотрят, как невеста одета, что скажут сваты, а что им
ответят хозяева. Сваты-то пришли, встали напротив, и жених с ними.
Поглядели на меня, говорят: пусть невеста в другое нарядится. Меня
сестричка, братчикова жена, повела в горницу: она впереди, я за ней.
Перерядилась, опять встала.
— А кто велел переодеться? Жених?
— Что жених-то! Он помалкивает, скромность соблюдает. Тут сваха
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 61
дело-то правит. Им главное знать, сколько чего у невесты, богатая илц
бедная. Поглядели, говорят: теперь пусть В' зимнее оденется. А у меня,
ить, все было! Лисяк, сапожки фетровые, шаль пуховая... Потом говорят:
покажите всю сряду, какая есть. Сестричка вынесла из горницы вот так
на руке мои платья, кофты, юбки, положила на стол. Ну, глядели... Потом
гостей пригласили почайпить — тоже так полагается.
— А свои-то деревенские, что поглядеть пришли, сели тоже
чаевничать с вами?
Я большой любитель задавать глупые и наивные вопросы. Поверьте,
у меня тут свой резон.
— Ну, нет! Как только хозяева да сваты за стол станут садиться—
посторонние сразу выйдут. Им уж тут неприлично быть.
— Йебось самогонкой жениха угощали, а не чаем?
— Нет, братчик завсегда держал на случай сватов бутылку водки;
закусочки собрали, ну и самовар поставили.
— Этак сватать можно бесконечно. Как захотелось выпить, так
и поезжай. Не бывало у вас таких женихов?
— Ну, что ты! Слава-то какая о тебе пойдет! Кто тогда тебя примет?
Пальцем будут показывать.
Не было большей кары человеку, чем мера общественного
осуждения, когда «указывают пальцем». Это уж худая слава, позор, потеря
самого себя.
— И как же закончилось сватовство?
— Посидели за столом, тары-бары, они нам: приезжайте, мол, наш
дом глядеть в Закоскую. Братчик им: спасибо, мол. Все, как полагается.
А потом жениха я провожала. Так братчик велел: иди, мол, Нюша,
проводи. Вот за деревню вышла до ручья, где у нас Белый Бурачок,
бочажок такой, ты, небось, знаешь. Дальше, говорю, не пойду. А он:
позвольте, мол, вас поцеловать. Ну, я говорю, это совсем не обязательно. Опять
приглашал дом глядеть: посмотрите, мол, как живу. А я ему: коли было
бы нынче это в обычае, конечно, приехала бы и поглядела. Но раз мода
прошла...
Жених отбыл восвояси, еще не получив решительного ответа, но уже
обнадеженный и ободренный благоприятным ходом сватовства. Он должен
был теперь ждать весть от засватанной девушки и, дождавшись такой
вести, мог предпринимать решающий шаг: ехал к нейv уже Богу м о-
л ить с я—это когда молодых родители благословляют иконой, после чего
девушка считалась сговоренкой.
Боже мой! как разумно был устроен этот крестьянский мир — во всем
свой смысл и всему свой порядок; любое дело совершалось продуманно,
степенно, в высшей степени пристойно и красиво, с сознанием того, что
хоть и важно ЧТО, но не менее важно и КАК. Тут не просто обиход, не
просто быт, а проявление вековой культуры, высокого искусства: мало
знать, надо еще уметь—на все свой уклад, мода, правило. Нет, не
строгие ограничения — просто руководство, как вести себя в людском обществе,
разумные советы, исполнение которых охраняет достоинство каждого и
возвышает душу.
Вот хоть бы простую вечеринку взять — беседу. Это же не просто
случайная сходка молодежи, а церемониал, освященный вековой
традицией. Те деревенские беседы устраивались, по-моему, как некое подобие
дворянских балов. (Впрочем, не наоборот ли? Может, великосветские балы
ведут свою родословную от крестьянских посиделок?) Конечно, в деревне-
то вместо залов—тесные избы, в которых мазурку да польку не
станцуешь; и вместо паркетных навощенных полов—скобленые половицы,
натертые дресвой; и вместо множества свечей или электричества —
керосиновая лампа, а вместо вальса да полонеза — свое, более подходящее для
малого пространства деревенской избы. Вот, к примеру, у нас ходили
чи жа...
Танец этот довольно сложен, и каждый тур его сопровождается
музыкой— елецким, русским, просто чем-то неопределенным — сол.омуш-
к о й — и на гармони, и на балалайке. Начинался он с того, что встанут
парни вчетвером, вшестером или восьмером, разойдутся девок выбрать.
62 ЮРИЙ КРАСАВИН
Каждый шаг означен смыслом: кого пригласить, как пригласить, что при
этом сказать... Выберут они, грянет гармошка, пары кружатся, кавалеры
меняются дамами. Чижа ходили с частушками и с лихой дробью, чтоб
выходку показать, проявить обходительность, ловкость, остроумие, тут
неоценима возможность дать кому-то что-то понять улыбкой ли, частушкой
ли, нежным ли мимолетным объятием, ну и, конечно, развеселить,
распотешить публику, запомниться.
За первым туром следовал второй, третий... пятый... наконец,
заключительный; и для каждого свой музыкальный аккомпанемент, у каждого
свой рисунок танца, свои возможности; в перерывах кавалеры меняли дам.
При этом случались те или иные происшествия или просто
многозначительные мелочи: кто-то что-то сказал, улыбнулся, кто-то нарушил порядок
исполнения фигур танца и понес заслуженное наказание—его заставили
поцеловать свою ли, чужую ли партнершу, а это дело непростое,
поскольку надо преодолеть и свою, и ее застенчивость.
Зрителей на беседе собиралось столько, что и не протолкнешься,
чтобы хоть краем глаза посмотреть на главное действо. Двери
распахнуты, но все равно духота; однако же стояли часами, как в церкви на
Всенощной,— замужние молодухи, пожилые женщины, старухи, иногда и
мужики тоже. Детишки шныряли тут же, под ногами, лезли на печь, на
полати, некоторые, уморившись, и спали тут.
Задняя часть избы одобрительным ропотом или дружным смехом
откликалась на новую частушку, на ловко выбитую дробь, на
обходительность или неловкость парня, вогнавшего в краску свою подругу; обсуждали
так и этак новичков, впервые пришедших сюда из другой деревни.
«Эй, парень! Ты откуда будешь?» — «Я-то? Из Плоховки».— «Эва!
Мы и деревни такой не знаем». — «Да он шутит! Это ж Гаврилы
Четверика, его родова. Он ить взял из Лучкина, овдовел и опять женился.
Значит, младший. Хороший парень, худа не скажешь».
Пока «хороший парень» ходил чижа, обсуждали и его самого, и
родню, и деревню, и свинарник в том колхозе, и кучу навоза возле
свинарника...
Между тем вся изба ходила ходуном; девки кокетливо обмахивались
платочками, выбегали на улицу прохладиться, а тут среди сугробов
миленок укрывал свою милашку пиджаком, самоотверженно заслонял от
морозного ветра.
Беседа таким манером продолжалась далеко за полночь: ночи
длинные, спешить некуда—не летнее время.
Нет, самому мне гулять на беседах не пришлось. Вот разве что
в послевоенные годы, когда традиция эта умирала, я был среди тех, что
шныряли под ногами у взрослых, бегали вокруг избы и подсматривали,
куда это Костяха или Мишака положил свою дерзновенную ладонь Вале
или Гале, прикрывая ее пиджаком.
Эти вечеринки-беседы исчезли в начале пятидесятых. Старший брат
мой ходил чижа, но уже словно бы не всерьез, словно бы потехи ради.
Череда трудов и праздников, песни и танцы, понятия о приличиях
и долге, о чести и достоинстве, родственные связи и обязательства,
родословные, не уступающие дворянским по глубине в истории... Этот
крестьянский мир уже не возвратить, не воскресить. Он так далеко, что едва
различим. Речь может идти о том лишь, чтоб оглянуться и посмотреть ему,
уходящему, вослед прощальным и запоминающим взглядом.
Мой будущий отец проявлял возмутительное благодушие и
беззаботность в те дни. Вернее, им владели иные заботы: друг его, Федюха
Кустов, женился.
— Вася-то шафером у него был... Все наши хонинские, помню,
отправились на эту свадьбу глядеть, а я не пошла, осталась с
племянником няньчиться: племянник Володя был маленький.
Да и то сказать: как это она пойдет в Ремнево, если ее вчера
сватали, и хоть она согласия еще не дала, но ведь обнадежила закоского
парня, не отказала сразу.
Тут уж чувствуется в рассказе матери некоторая обида на моего
отца: ишь, ее сватают, а он на чужой свадьбе веселится. Кто же так
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 63
делает? В какое положение он ее поставил! На смех, что ли? Небось и
самому надо было прийти или дать знать, а то ведь ни гу-гу. Как тут не
обидеться!
Шафер на свадьбе к хонинским — с вопросом, чего это, мол, Нюши
нет? А те ему: разве ты не слышал—ее вчера сватали, нынче уж поехали
на дом глядеть.
Не знаю, как отнесся к этому известию мой отец: обеспокоился ли,
встревожился ли, обиделся ли в свою очередь. Должно быть, я был в это
время возле своей будущей матери, озадаченный ее поведением: вдруг
решит послать благоприятную весть в Закоскую!
— Ну, потом Шурка Кириллова прибежала ко мне и стала
уговаривать: пойдем да пойдем в Ремнево на свадьбу глядеть. Вот и пошли.
Явилися — Вася чижа ходит.
Это уж вовсе для нее оскорбительно; даже и нынче в голосе
рассказчицы чувствуется, как она была задета: в такой решающий для нее день
веселился!
— Ну, сразу ко мне: пойдем пройдемся. Что ж, пошли. Разговор
заводит: какие, глол, новости? А никаких нет, отвечаю. Как же нет,
говорит, коли тебя сватали вчера. Что ты, мол, скрываешь! А я и не
скрываю: сватали, верно. «Ну, и что ты решила?» — «Чего тут решать: я не
у родного отца живу, а у брата. Сколько можно в девках сидеть! Пора
и замуж». Тут он стал уговаривать: погоди да погоди, мол. А ему осенью
на призыв идти, в армию, значит. Да мне-то какой интерес его ждать?
Вернется через три года—что у него будет на уме, пес его знает! Нет,
говорю, я ждать не стану. Сказала: «А что тебе до меня? Али у нас
связь какая? Ну, провожал, ну, гуляли по деревне... Найдешь себе
другую»,—это я ему. «Нет, говорит, другой не надо».
Да, мне кажется, я помню тот их разговор. Это не было согласной
беседой, а более походило на противоборство. Каждое слово значило
многое, и всякая неловко произнесенная фраза могла рассорить их
навсегда.
— Тогда и говорит: «Что же, али я не Нравлюсь тебе?» — «А кабы не
нравился, так я б из-за тебя стольких женихов не упустила, давно б
замуж вышла». А он знал, что так оно и есть. Ему ли не знать! Ну,
поговорили, я и отвернулась. Рассердилась на него. А на другой день явился он
к нам в Хонино, опять стал уговаривать: два-три месяца подожди: отец,
мол, болеет... то да се. А я одно что: «Нет, ждать не стану. Решай теперь
сам: или женись, или я замуж выхожу». Он и так, и сяк... Потом говорит:
«Завтра поеду в Калязин, посоветуюсь с отцом».
Бабушка моя Орина Сергеевна решительно возражала против
женитьбы старшего своего сына: молод еще—двадцать один год всего;
осенью на службу идти; к тому же Федор Иваныч в Калязине лег на
операцию— до свадьбы ли в такую пору?
Но тут дед мой сказал свое веское слово жене, когда та пришла в
больницу проведать его:
— Орина, не оглядывайся на меня, жени Василия.
Это было его последнее благодеяние для меня, еще не родившегося.
Неделю спустя после женитьбы дына он умер.
Я, ликуя, летал над проселком, соединявшим Ремнево и Хонино,
когда по нему шел мой отец сватать мою мать. Она очень живо вспоминает:
— А меня как раз послали Заполок боронить...
Заполок — обширное поле у леса под названием Болхино. Оттуда
видно и Ремнево с Хонином, и дорогу между ними.
— Вот бороню и вижу: идут! Вася с мамашей, и с ними тетя Саша...
А у меня доборонить-то осталось всего ничего, я лошадь подгоняю... да
потом в деревню чуть не бегом — въехала в прогон, сама не своя,
запыхалась; сваты-то в деревню входят, уже возле колодца. Шурка Поляков
говорит: ладно. Нюш, беги, я твою лошадь распрягу. Уп так выручил!
— Ну и что же, опять тем же порядком — сваты пошлч к соседям?
— Нет, сразу к нам. Нарядилась я, вышла из горницы, встала вот
так у переборки, а они на лавке сидят: и Вася, и мамаша, и теть Саша.
64 ЮРИЙ КРАСАВИН
Вася говорит: «Ну, чего ты встала, Нюша? Садись рядом». Я и села
рядом с ним.
Вот в эту минуту и решилась моя судьба — они стали мужем и женой.
Я чувствую странное облегчение даже теперь: мои будущие родители
сидят рядом, плечо к плечу — это залог того, что мне родиться!
— И что, опять вся деревня собралась?—спрашиваю я, желая еще
побыть в той атмосфере.
— Нет, никого чужих не было. Тут уж на что глядеть-то: Васю все
знали. Они пришли сразу Богу молиться, а не ради смотрин. Тут уж мама
благословила меня и икону мне подарила: береги ее, Нюша, а не
убережешь— счастья не будет. Не уберегла в войну—вот счастья-то и нет...
Сидит, горестно качает головой.
— Стол собрали?—спрашиваю я, чтоб отвлечь ее от печальных
мыслей.
— А как же! Сговариваться стали: когда и как, что готовить. До
свадьбы-то еще к брату моему в Калязин гостить ездили; и братчик с
сестричкой, и мамаша, и мы, жених да невеста. Я в черном платочке—сго-
воренка, значит.
В назначенный день той же дорогой, по которой мой отец-ухажер
ходил к моей м&тери еще только ради вечернего провожания, по которой
и сватать приходил, по ней же из Хонина в Ремнево повезли приданое — от
Нюши Ворониной к Василию Красавину.
— Я замуж выходила —приданое на двух подводах везли! —с
гордостью, а то и с укоризной по отношению к своим невесткам говорит и ныне
мать: невестки ее бесприданницы обе.
В £тих словах не чванство и не спесь — избави Бог! — а вот именно
гордость: не добро, доставшееся по наследству от дяди или тети, стало
приданым — все заработано своими руками, своим трудом, сбереженное,
накопленное.
На одной подводе постель — на матраце соломенном одеяла: ватное,
стеганое и легкое, шерстяное; простыни, пододеяльники, покрывало,
подушки пышные в наволочках с кружевами под кружевной накидкой,
подзор тоже кружевной. На другой подводе сундук с добром и кое-какая
хозяйственная утварь. В сундуке полотно домотканое для рушников, и
сами рушники, уже вышитые, и новые половики, и одежда зимняя (шуба на
лисьем меху!), и летняя, обыденная, и сряда; и обувь — туфли, сапожки
фетровые, валенки с калошами; и шали, и платки.
«Да чего уж!» — то и дело слышалось и при осмотре приданого, когда
бабы отгибали край ватного одеяла, проверяя, атласное оно или попроще,
пока считали простыни да разглядывали вышивку на рушниках, кружева
на подзоре...
Приданое Нюши Ворониной подвезли к крыльцу красавинского дома,
и жених самолично принимал привезенное добро, собственноручно таскал
его в дом под шуточки и пожелания собравшихся поглазеть соседей.
Назавтра было венчание и свадьба.
Вскоре после свадьбы сходили молодые в Калязин—семнадцать
километров пешком!—чтоб только сфотографироваться. Видно, это
считалось важным — оставлять на память детям и внукам свои портреты.
Вот они стоят, мои еще юные родители. Отец высокий, статный, в
костюме и опять при галстуке-бабочке, в начищенных до блеска штиблетах;
кепка с большим козырьком на лобастой голове; красивые руки с
длинными пальцами; лицо хранит юношескую припухлость — несколько лет
спустя, на маленькой фотокарточке в паспорте лицо это приобретет
замечательную мужественность. На маленькой-то виден уже не юноша, а муж —
человек спокойного, уравновешенного характера, несуетливый,
степенный, домовитый глава семейства. Но это потом, а пока...
Моя мать ростом ему по плечо, кисти опущенных рук не по-девичьи
крупны от работы, ими совершенной; на ней легкое полупальто, широкий
кружевной воротник выпущен наверх—сряда праздничная, береженая
в сундуке.
По одежке-то своей родители мой не похожи на людей деревенских—
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 65
видно, что нередкие поездки в Москву да в Питер подравнивали
деревенскую моду под городскую.
У обоих на лицах ни тени улыбки—они уже люди серьезные,
самостоятельные, полны достоинства и сознания того, что запас сил позволит
им построить счастливую жизнь и себе, и своим детям.
Я всматриваюсь в фотографию: матери здесь двадцать три года,
отцу—двадцать один.
— А я стыдилась, что старше его. Расписываться пошли в сельсовет,
Спасское, я ему дорогой и говорю: «Вась, ить я старше тебя на два года»,
А он мне: «Да я знаю. Ну и что ж тут такого!»
Моя мать всегда любила свой дом, то есть жилье, само строение,
в котором жила, — так было во всякую пору ее жизни. Главным в
хозяйственных устремлениях она считала именно хлопоты и заботы о доме.
Но жизнь подсказывала: не стремись к домовладению, коли хочешь
уцелеть; будь нищим, будь неимущим. Однако же мечта заиметь свое
собственное жилье была неистребима в моей матери, наверное, с раннего
детства; теперь же, когда вышла замуж, обрела главенствующее
значение.
Домишко красавинский был покрепче и попросторнее воронинского.
— Уж и не знаю, чего тому домику не постоялось,—жалеет она его
и теперь. — Ить помоложе, поновее нашего.
Он закончил свое существование, кстати сказать, уже на моих
глазах— это случилось не столь давно. Им владели чужие люди, несколько
лет он стоял брошенным, потом его разобрали на дрова.
— А поставили-то когда? Федор Иваныч пришел из германского
плену и стал строить. Значит, году в двадцать втором или двадцать
третьем.
Не простоял долго этот дом — не сохранилось и строение того
хозяйственного мужика, которого мать называет Васюткой Лексевым. Не
уцелела и хоромина Козляковых — вот был дом так дом! Крепкий пятистенник
с просторными сенями, с горницей, под четырехскатной крышей, с
огромным крытым двором для скотины.
Я думаю, при естественном течении жизни, при ненасильственном ее
устройстве вряд ли в дальнейшем Воронины да Красавины остались бы
в Хонине да в Ремневе, чтоб пахать землю, сеять хлеб. В каждой деревне
уже проявились тогда по две-три семьи умелых и работящих
земледельцев, талантом своим призванных к крестьянскому делу; они должны были
со временем стать полными хозяевами окрестных земель, а прочие
неизбежно были бы вовлечены в промышленное производство, артельное
или фабричное', они стали бы рабочими или ремесленниками, к чему,
собственно, и чувствовали предрасположение.
Но все пошло не так. Пролетариями стали истинные земледельцы,
а земледельцами—люди, принужденные к тому силой и обстоятельствами.
Нарушился порядок жизни, словно страхом и болью ускорили роды...
и преуспели в этом: появилось на свет нечто уродливое, пугающее — и что
нам теперь с ним делать?
Мой отец обучился валянию валенок, он стал мастером, умевшим
изготовить полудлинники да заколенники для зимней мужицкой работы—
скажем, пилить лес, ехать в извоз; и совсем махонькие для годовалого
младенца; и снежно-белые или угольно-черные, щегольские, для парня-
форсуна или девки-модницы, покрашенные или естественного цвета,
вычищенные пемзочкой, с изящными очертаниями головки и голенища—я
знаю красоту таких валенок и готов любоваться ими, как произведениями
искусства. Надо полагать, мой отец валял именно такие, поскольку его
ценили: отправившись в люди и поработав в месте незнакомом, обретал
там такой авторитет, что и на будущий год его звали приехать сюда
вновь.
Что же касается матери, то она к тому времени стала хорошей #снова-
лицей, а это ремесло, как я уже говорил, не каждому дается, тут
природный талант нужен.
Поженившись, мои родители оказались, что называется, два сапога
пара; способности одного счастливо дополняли способности другого.
5. «Знамя» № 12.
66 ЮРИЙ КРАСАВИН
В этом союзе был залог того, что расти мне в семье дружной, в
достатке и, по крайней мере, до взрослого состояния, не знать большой нужды.
Такая вроде бы уготована была мне участь еще до моего рождения, если
бы потом кто-то не распорядился иначе. Потом... но сначала молодые
усердно работали в колхозе.
К этому времени все отцовы товарищи переженились, в деревне Рем-
нево между ними шло соперничество, кому лучше удается семейная
жизнь. В свободное от колхозной работы время валяли валенки.
Валяльная мастерская—стируха—была в деревне большая,
общая. Работали там сразу пятеро-шестеро молодых мужиков.
— За работой и песни поют, и пошутят — весело у них! Я, бывало,
приду Васю обедать звать, а у них уговор: кого молодая жена как
называет. Одна скажет: пойдем, мол. И все. А другая иначе. Так иного осмеют:
эва, мол, как тебя молодая-то величает!
— А ты как звала?
— Про меня говорили: ну, мол, Василий, тебя Нюша любит, если так
ласково.
После появления на свет первенца, у которого с момента рождения на
роже было написано, ^то это будущий отличник, послушный и прилежный
мальчик, одним словом, умничек, после его рождения мои родители
решили уехать в город.
— А чего это вы надумали уехать, мам? Как это вам в голову
пришло и почему?
— Дак в колхозе-то на трудодни не доставалось ничего! Бедно стали
жить, голодно и год от году все хуже. Каждый кусок хлеба на счету! На
работу, бывало, собираешься рано утром—косить надо, молотить ли—
думаешь: хоть бы хлебца с собой прихватить! Так нет: мамаша строгая
была, поди-ка у нее возьми. В семью-то большую я пришла: у сЕекрови
пятеро детей, младшему, Ванюшке, четыре годика. Сядешь, бывало,
обедать, ребятишки щи хлебают—друг дружку отталкивают... Я выросла
в другой семье, у нас такого не бывало, мы посытнее жили; а замуж
вышла— всегда поесть хотелось. Из-за стола вставала голодная. Мужу
пожалуюсь: поесть, мол, хочется. А он: ну, Нюша, что же ты за обедом-то
стесняешься? А у матери попросить для меня побаивался. Вот так. А
работа в колхозе какая! С рассвета до сумерек, без выходных. Может,
только лошадям тяжелее. Да Васю все норовили поставить то кладовщиком,
то заведующим фермой, а время строгое было: чуть что случится со
скотиной или на складе — в тюрьму. А от должности не откажешься! Велят:
становись, да и все тут.
— А как вам удалось уехать? Или перед войной можно было добыть
паспорт?
— Как бы не так! Справку давали на время. Осенью, как полевые
работы кончатся, отпускали со справкой. Ну, не всех, конечно, отпускали,
а вот если натреплешь льну столько-то—глядишь, отпустят на сезон, до
весны. Я, помню, натрепала много, больше всех, мне премию дали:
красный платок. И отпустили нас с Васей в люди. Уехали мы, да и не
вернулись: Вася в Новгороде вроде бы кому-то в лапу дал, ну и выправили
нам паспорта.
Говоря современным языком, они стали невозвращенцами. То есть
покинули пределы своего родного государства-колхоза. Уехали и не
вернулись, пренебрегли своим колхозным гражданством ради вольной жизни
на стороне, насколько она тогда была возможна.
— А почему вы Новгород выбрали? Лишь бы подальше, что ли?
— Там наша родня жила—Субботины. Твоего дедушки, Федора
Иваныча, сестра родная, тетя Варя, Варвара Ивановна; она вышла замуж за
Семена Субботина в Глебовку, их раскулачили и сослали. Они сколько-то
на высылке были, потом им разрешили вернуться. А видно, не все
отобрали у них, успели Субботины деньжонки-то спрятать, вот и купили в
Новгороде дом. Семья у них была большая: дядя Семен, тетя Варя, двое
женатых сыновей — Дмитрий с Груней да Леня с Капой; и дети ихние. А дочка
Таня вышла замуж за Федора Козлякова, тоже из раскулаченных. Федор-
то тебя крестил, крестный он твой. Они все друг за дружку держались—.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 67
у Козляковых дом, у Субботиных тоже... Вася у них раньше бывал, еще
•до женитьбы, вот мне и нахваливал.
— В Ремнево вы потом возвращались?
— Приезжали, как же... Гостили раза два. Да ведь знаешь, как на
нас тогда смотрели? Вот, мол, из колхоза убежали—зависти-то сколько!
Однажды сидим с Васей на лавочке возле дома, а как раз звонок дали
с обеда. Ну и идут, глядим, вдоль по посаду в нашу сторону бабы и
мужики ремневские, и уж какой-то разговор у них про нас не больно
хороший; хотят, видно, что-то сказать нам. Вася говорит: «Давай, Нюш,
уйдем от греха». Встали мы да и ушли в дом.
Замечу кстати, что эта неприязнь сказывалась и после войны, когда
мы поселились в Ремневе. Но это — было потом, о чем речь впереди, а пока
что сельский мир, именуемый уже колхозом, отторг их, досадуя и
завидуя: молодые Красавины стали горожанами...
Новгородский период в жизни нашей семьи распадается на несколько
временных отрезков, каждый из которых как бы самостоятелен, во
всяком случае, имеет свои непохожие и очень характерные черты.
— Вот, помню, сняли мы комнату в Воскресенской слободке...
Это время в преданиях нашей ремьи так и значится — «когда мы жили
в Воскресенской слободке»...
— Пустила нас хозяйка Маланья Николавна в комнатку, в которой
раньше кур держали да гусей—такое небольшое помещеньице, вроде
пристройки. Ну, мы все выскоблили, вымыли; обоев-то не было — газетами
оклеили... И так-то у нас хорошо стало! Я рада была до страсти!..
«Рада до страсти» — обычная ее формула для обозначения полного
счастья.
— Чему ты так радовалась? —пытаю я. — Ведь курятник, только и
всего. Пахло там, небось, куриным пометом.
—, Ну, как же не радоваться, сынок, — ить свой угол! Великое дело,
когда есть где приткнуться, есть куда голову приклонить.
Ту Воскресенскую слободку окружали древние храмы: с одной
стороны — Кремль с Софийским собором; от Ильменя — Юрьев монастырь с
Георгиевским да Крестовоздвиженским соборами; за Волховом—Яросла-
вово Дворище со множеством куполов; за пойменным лугом
вдали—церковь Спаса на Нередице.
— Белье полоскать пойду—красота-то какая! И вольно-то как — река
большая, озеро огромное, луга кругом. После деревни мне там очень
нравилось.
Надо видеть вдохновенное лицо матери моей, когда она рассказывает
это: даже то, что бывший курятник не отапливался, холодно в нем было,
еду готовили на керосинке, тут же и стирали, и купали умничка Витю —
все это она вспоминает со своеобразным удовольствием и даже умилением.
В ту пору, как я догадываюсь, в душе моей матери произошла великая
культурная революция: выросшая в маленькой деревушке, она вдруг
осознала себя горожанкой, жительницей не какого-нибудь заштатного
городка, а древнего Новгорода, столь богатого дивными храмами. Она
как бы стала на новую, более высокую ступень, и оглянулась, и
возрадовалась.
Дымкой воспоминаний подернуто прошлое; дымка эта
облагораживает, скрывая неприглядные детали. Что там комната, оклеенная газетами,
в которой они жили, с кухонными удобствами в виде керосинки и
неистребимым запахом куриного помета! Главное — она была молода, рядом был
муж, семья имела свой угол, свое гнездо... Разве не прекрасна жизнь!
От той поры осталось у матери моей вот это обращение к
незнакомому человеку: «Гражданочка!.. Гражданин!» Городское обращение, должно
быть, поразившее и восхитившее ее тогда, а потому и усвоенное на долгие
годы.
Поживши в курятнике на Воскресенской слободке, родители мои
переселились к Субботиным, где занимали комнатку поприличнее, но тоже
не ахти какую, особенно в смысле житейских удобств.
Счастливая пора не оставляет воспоминаний. Мы помним лишь
несчастья да испытания. По известной формуле «брюхо добра не помнит»,
£g ЮРИЙ КРАСАВИН
и память наша хранит лишь общее впечатление, без деталей. Так и мать
про ту пору скажет лишь: «Это когда мы у Субботиных жили...»
Она и нынче так и встрепенется при одном только упоминании о
Новгороде: откликается на это слово, как на свое собственное имя—это
потому, что для нее «Новгород» ч не просто название города, а нечто кровно
родное, обозначение самого счастливого периода ее жизни.
В начале осени мой отец отправлялся из Новгорода как бы на
разведку в сторону Батецка или Старой Руссы, в Боровичи или на
Валдай.
— Вася-то самостоятельной был, к людям подходчивдй, его все
любили. Где ни устроится—его только по имени-отчеству: Василей Федо-
рыч да Василей Федорыч. Характером легкой, все, бывало, с улыбкой,
слова грубого никому не скажет.
Прежде всего мои родители на заработанные деньги купили
шерстобойную машину — покупка солидная, для работы совершенно
необходимая: шерстобойка для валялы — что лошадь для крестьянина или лодка
для рыбака.
— Помню, приходит и говорит: вот, Нюша, продается шерстобойка,
на шариковом ходу, да у меня денег-то не хватает. Знамо, откуда деньгам
быть! Вася мне давал на неделю по шесть рублей—это на продукты,
значит. Так я покупала что подешевле: булку-то не белую, а серую, молочка
немного, а уж масло не брала. На всем экономила, ну и накопила, помню,
двадцать рублей—вроде как тайком от него. А тут он сказал насчет
машины и что деньжонок, мол, не хватает, я и выручила: вот, говорю, Вась,
я сберегла. Уж так он удивился да обрадовался! Все головой качал: ах,
говорит, Нюша, Нюша. И купили мы машину—уж больно хороша!
Легкая: крутишь—не устанешь.
В начале валяльного сезона, то есть в сентябре-октябре, отец
перевозил эту шерстобойку по железной ли дороге, на телеге ли из одной
местности, где он уже обул на зиму нуждающихся, в другую, где они еще
разуты. Машина была довольно громоздкой и тяжелой: перенести ее с
места на место под силу четверым мужикам, не меньше. И вот привезет он
ее да снимет квартиру, да обустроится маленько, то есть наладит
шерстобойку, оборудует валяльную мастерскую, и когда уже пойдет принос
(это значит, шерсть понесут заказчики), тут и приезжала к нему моя
мать, и приступали они к работе.
Два или даже три сезона подряд (спрос на валенки большой!)
работали в селе Мелковичи, недалеко от железнодорожной станции Уторгош.
В первый мелковичский сезон мать была беременна мною и работала,
кстати сказать, до последнего дня, когда уж схватки родовые
начались.
Именно это село записано у меня в паспорте, как место моего
рождения, но я к нему не испытываю ничего, кроме простого любопытства: там
я только родился и прожил всего несколько недель, потому ныне на
вопрос, откуда родом, я отвечаю: тверской, из Калязинского района, там-де
моя родина.
Тут уместно отметить, что я родился в ночь на Рождество, то есть
в ту самую зимнюю ночь, когда чистая и нечистая силы вершат всяческие
дела, каждая в меру своих способностей и согласно своему
предназначению.
Мой первый торжествующий крик приняли за плач и поспешили с
утешениями. Но ничто не могло унять меня, я ликовал уже по-земному,
как человек, и это был мой великий праздник.
Отметим этот факт стихами, он того заслуживает:
Я родился в ночь под Рождество,
Уж поверьте, с непростою целью,
Если колдовство и волшебство
Над моей витали колыбелью.
В Мелковичах отец арендовал чью-то баньку, приспособив ее под
валяльную мастерскую, а жили в избе, в комнатке с одним окошком. Там
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 69
же, кстати сказать, помещались и шерстобойная машина, и стол, на
котором мать сновала, и керосинка, на которой готовили еду и грели воду
в тазу, чтоб купать меня с братцем (его первого, а меня потом), и посуда;
тут же были разложены кудели шерсти, деревянные колодки, тут же и
постели, на которых спали.
— Вставали рано, часа в четыре, во всякий день, кроме выходного.
Да и в выходной разве отдыхали? Вася, бывало, посидит-посидит да и
скажет: Нюш, а пойду-ка я сваляю парочку. Ить хотелось побольше
заработать! Нужда-то какая: и то надо купить, и это. Не успеешь
оглянуться—уж сезон кончается.
Патент купишь — пиши декларацию: сколько пар свалял, сколько брал
за работу. В любой день тебя могут проверить: не скрываешь ли доход от
государства. Налог дадут, покажется мало—еще прибавят.
— Вася у меня, бывало, придет расстроенный из этой конторы, вот
где патент выправлял: год от году налогу набавляли. Сидит,
пригорюнившись. Я ему: ладно, Вась, ничего, как-нибудь.
Итак, рабочий день начинался у них в четыре часа утра—это зимой,
значит, еще в глубокой ночной темноте. Вставали, сверяя время по крику
петухов, зажигали керосиновую лампу и сразу же принимались за дело: в
хозяйской печи с вечера сушились валенки на колодках; отец доставал их
и чистил куском пемзы", соскребая ворс; а мать кормила грудью
младенца— это, значит, меня,—растапливала печь, готовила еду на день,
помогала отцу чистить валенки или садилась щипать шерсть.
Я помню тот полумрак, дивные морозные узоры на окне,
характерный запах шерсти, тепло и благодатность материнской груди, мягкие и
уверенные шаги отца...
Таков был мир, в который я вступил. Осознав его, я удовлетворенно
вздыхал и засыпал.
Отец затемно уходил в баньку, а там прежде всего насаживал на
колодки свалянные накануне три-четыре пары—кто не видел, как это
делается, вряд ли может представить себе, насколько непроста и нелегка
задача, посильная только здоровому мужику. Колодка разборная, и работа
совершается в несколько приемов: сначала округлую, этакую пузатую,
фигурной формы деревяшку величиной с кулак надо засунуть, загнать в
головку валенка. А в нее и три пальца едва просунешь, не то что эту
штуку. Поэтому деревяшку загоняют, ударяя пяткой сапога о чурбан.
«Ударяют»— сказано слабо: изо всей силы надо хрястнуть — и раз! и два! При
этом гляди, не пробей пятку насквозь, тогда пропал валенок, пропали
труды. И вот с тяжким «хаком» — хрясь! И еще раз! И снова!.. Ага, кажется,
поддается. Не жалей сил, вальщик! А ну, еще разок! После сушки
намучаешься, выбивая ту деревяшку из валенка, поэтому иногда в носок
совали немного соломки—помогало вынимать колодку.
Потом в голенище вставляются передник с задником, и между ними
забивается середник — это уже полегче. Теперь, чтоб у колена голенище
было пошире, чем у щиколотки, нужно вбить клин возле середника. Гляди,
чтоб не лопнуло голенище: не зашьешь потом и заплаты не положишь —
тут скажется и качество шерсти, и умение сновалицы, и мастерство
валяла.
Ну вот, один валенок насадили... Я могу представить себе, как отец
удовлетворенно оглаживает его, будто новорожденного ягненка,
ощупывает—не повредился ли при рождении. Теперь можно браться за следующий.
Насаженные валенки отец приносил и ставил в печь сушить. Надо
было именно ставить, а не класть плашмя,—голенищем вниз, головкой
вверх — к задней стене печи, там жар поровнее и углей нет — они в жа-
ратке. На ухвате один за другим в темноте надо поочередно прислонить
валенки, не роняя на угли.
— Это была Васина работа, я не умела. Да и он-то, случалось,
намучается: валенки мокрые, тяжеленные, соскальзывают с ухвата! Иной
будто заговоренный — падает, да и все тут, не хочет стоять. Бьется-бьется
Вася с ним, ну и ругнется: ох, ёш твою двадцать! Вот только так, а
иначе никак. Чего не было, того не было, не скажешь зря: не матерился.
Покончив с этим делом, они завтракали (картошка в мундире, с
соленым огурцом), и отец уходил валять.
70 юрий красавин
В баньке был сооружен каток, под ним печка, в печку вмазан котел.
Каток чуть наклонен, чтоб вода в него при валке стекала в котел; она
всегда должна быть горячей, потому и печка постоянно топится; жарко в бане,
парко, вся одежда на отце становилась мокра, а дверь откроешь — холод в
спину...
Днем приходили заказчики, тут отец накоротко прекращал валку.
— Я принос никогда не принимала, это уж он сам: надо было
вешать шерсть, договариваться, что и сколько валять, ну и насчет платы...
Вася-то обходительный был, его все любили. Бывало, придут насчет
валенок, а тут же и разговор: посоветуй, Василей Федорыч, как быть.
Работал он с четырех часов утра до десяти вечера...
С четырех до десяти! Постойте-ка, это сколько? Восемнадцать часов.
Ну, час на обед да час на ужин, еще пару часов на разговоры с
приходившими посоветоваться. Остальные четырнадцать часов в сутки он
проводил в стирухе-мастерской. Как он выдерживал?
— Вася петь любил за работой, — вспоминает мать. — Бывало,
валяет и поет, и поет...
За такой работой—и петь! Это непостижимо. Хотя, если подумать...
все-таки не подневольный труд, как в колхозе. Может быть, в этом
разгадка трудового азарта моего отца? Стремление к свободному труду
неистребимо, поэтому он и мытарился в баньке села Мелковичи бывшего Утор-
гошского района. Ему хотелось выбиться из нужды и нищеты, и что ни
говори, а он был в определенном смысле свободным работником. Человеку
нужна свобода, тогда он горы своротит.
— А что, мам, грубые руки были у отца?
Я отличу руки валялы от других: потрескавшиеся, черные от
въевшейся краски.
— Да уж руки-те... Ладони—как подошвы.
«Ладони — как подошвы» — я, небось, знал их ласку. Знал, да вот не
помню. Поэтому и пишу, что, мол, судя по фотографии, у него были
красивые, интеллигентные руки.
— Он уйдет утром-то, а у меня сколько дел! Дети... накормить
надо, переодеть, перепеленать, купать. Пеленки тут же стираю да сушу, еду
готовлю... \
И каждый день ей надо было основать пять-шесть пар валенок.
— А еще шерсть избить! Ты машину-то шерстобойную знаешь:
одной рукой вЪт так за крюк верчу, другой вот этак клочки шерсти кидаю
на полотно...
Вообразите себе большой барабан метрового диаметра, одетый в
игольчатую шкуру, закрепленный в деревянной станине и имеющий крюк
для того, чтоб крутить его вручную; к барабану прилегают малые
барабанчики-валки в такой же шкуре; они вращаются от него через ременную
передачу. Рас'щипывание (битье) шерсти происходит за счет разной
скорости вращения большого барабана и малых вальков, именуемых ленивцами
и бегунками, к тому же они крутятся в разные стороны. Еще один
барабан подхватывает клочки шерсти с движущегося горизонтального полотна,
на который те клочки надо непрерывно подкладывать, разбрасывая
равномерно во всю ширину. Итак, с одной стороны, это полотно, с другой —
гребеночка очесывает вальян—валок-ленивец средней величины—уже
избитая шерсть ровным слоем укладывается на полу в большую кудель.
Одному на шерстобойной машине работать и тяжело, и несподручно;
тут надо вдвоем, а еще лучше втроем.
— Я уж Витю, бывало, посажу возле: кидай, сыночек, шерстку,
кидай. Он — такой умничек! — сидит и кидает. А было-то ему всего три или
четыре годика. Тут же и ты в уголку играешь. Отец подхваливал:
помощники у меня растут! Мужички!
Я силюсь вглядеться в тесную комнатку деревенской избы:
керосиновая лампа, пыль от работающей шерстобойки; в окно видны сугробы
снега, лед намерз в притворе двери; густой запах овечьей шерсти; на
керосинке греется в тазу вода для стирки, молодая женщина крутит рукоятку
машины, мальчик трех или четырех лет прилежно кидает клочки шерсти
на движущееся полотно, и младенец лежит в кроватке... или в зыбке?
У младенца очень удовлетворенное выражение лица, как у человека,
крупно выигравшего в лотерею.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 71
— Ты-то был толстенький, ручки и ножки с перевязочками. Теть
Дарья все, бывало, говорила: «Ну, Нюша, этот парнишко у тебя не жилец.
Ты погляди-ко, его земля к Ьебе манит. Помрет он, вот помяни мое сло-
Ну, уж это фиг. Заврались вы маленько, уважаемая теть Дарья: до
пятидесяти вот дожил, Бог даст—еще поживу. Даром, что ли, я родился
именно в ночь под Рождество!
— Блины приноровилась печь на керосинке, а ты сядешь рядом и
вот так ручонками — дай-дай-дай... Пока Витя один блинок съест, ты с
двумя управишься.
— Каков едок — таков и работник, — вставляю я в материн рассказ.
— Да худа не скажу: у меня ребятишки хорошие были.
Некапризные и небаловные. Отец, бывало, не нахвалится. Вас-то похваливал, а
меня, глядишь, отругает: что ты с шерстобойкой-то одна! Говорил же,
подожди меня! А я; ладно, Вась. Старалась избить шерсть до его прихода. Ить
придет уставший, так хоть пораньше спать ляжем...
Мать рассказывает, будто не веря себе самой: неужели была
настолько проворной, что успевала все сделать?
Однажды свалила ее жестокая ангина; увезли в больницу—врачи
сомневались, выживет ли. Отец остался с нами, двумя детьми, и был в
полном отчаянии. По свидетельству хозяйки дома, он даже плакал: «Как же
я теперь без нее!..»
Тут мое младенческое благополучие заколебалось. Не знаю, как мой
старший братец, а я сильно страдал от внезапного сиротства. Но все
обошлось: через две недели мать выздоровела.
Новая беда подоспела — местный председатель сельсовета
разгневался: заказал мастеру валенки, рассчитывая, что тот за работу с него деньги
не возьмет (для должностного лица!), но обманулся: отец валенки ему
свалял, но плату взял, как со всех. И вот председатель выбрал момедт, когда
отца не было дома — уехал в Уторгош по каким-то делам — явился к нам
с понятыми делать обыск. А что он хотел найти? Вот шерсть на несколько
пар, вот колодки деревянные, вот валенки ждут своих заказчиков, вот двое
детишек... Но председатель составил бумагу с грозным названием «акт».
— Мне говорит: подпиши. Я отказываюсь: неграмотная, мол. А они
меня строжат: в тюрьму, мол, посадим! Перепугалась я... Ну и подписала.
Вася-то вернулся, я ему рассказываю, а сама плачу. А он: «Чего ты так
расстраиваешься, Нюша! Не бойся. Ну, подписала и подписала...» Ходил
потом улаживать.
Но больше в Мелковичи уже не приезжали.
— Помню, собрались домой, а я все деньжонки-то прятала в
постельник, на котором спали. Он соломой набит, у меня с уголка шовочек
распорот, вот туда и суну их, в платке завернутые. А уезжать собрались,
заторопились, я вынесла постельник во двор, где корова стояла, ну и
вытрясла из него солому. Отъехали от деревни, Вася спрашивает: Нюш, а где
деньги-то? Я: ба-атюшки! Да бегом назад, сама не своя. И что ж ты
думаешь — они так и лежат на навозе в соломе! Все заработанное за сезон...
Уж как я рада-то была! А Вася только головой покачал: ах, говорит,
Нюша, как же это ты! И все.
Я несколько раз выслушивал этот рассказ, который заканчивался
непременно ее восхищением:
— Ить вот какой был мужик! Другой бы отматерил, а то и чего
похуже, отметелил бы. Мой Василий Федорыч слова грубого не сказал.
Думаю, что в дымке времени, отделяющей нынешний день от
прошлого, исчезли ненужные детали: не все же лучезарно было в их
супружеской жизни! Небось, и ссорились, и упрекали друг друга-—мало ли чего!
Но матери моей ныне ее муж, то есть мой отец—святой человек, хоть на
икону его.
— Работал-то... Днем и ночью, как заведенный! Шерсть несут и
несут, и каждый просит свалять поскорее. А никому не откажешь. Спал мало,
отдохнуть не приляжет. За сезон исхудает так, что страшно смотреть. Я уж
его ругала: нельзя, мол, так; а он: «Ладно, Нюш, вот еще маленько,
детишки подрастут, в школу пойдут, и не станем в люди ездить».
72 ЮРШ КРАСАВИН
Власть имущие упорно преследовали тех, кто хотел работать сам по
себе, единолично. И вот однажды отец поехал в Новгород и вернулся
расстроенный, даже испуганный:
— Все бросаем, Нюша! Не будем больше валять: с первого января
налог дадут такой, что и не отработать.
Кое-как в спешке доваляли принос, многим отказали да и поскорее,
поскорее вернулись в Новгород. Буквально в последний день уходящего
года успел отец сдать злополучный патент.
— С тех пор мы уж в люди не ездили...
Однако же кое-какой капиталец мои родители успели сколотить и,
после нескольких лет скитаний по частным квартирам, купили в Новгороде
дом.
— Вот напротив Десятинного монастыря, как перейдешь улицу-то,
чуть-чуть правее и стоял он — низ каменный, верх деревянный. Небось еще
яблони наши сохранились. Или нет? Теперь уж, конечно, вряд ли. А
хорошие были яблони.
Рассказывая о доме своем, мать всегда добавляет «низ каменный,
верх деревянный» — это бесконечно тешит ее сердце: она была владелицей
двухэтажного дома.
— Сторговали мы его уж не помню, за сколько. Больно он мне
понравился: аккуратненький такой да веселый. Окошечки-то, как глазки,
ясные— у меня прям сердце зашлось, когда в первый раз пришла смотреть
на него. Ну, говорю Васе, не упустить бы... Ночи не спала! Веришь ли: ни
есть, ни пить не могла, на уме только одно—как бы поскорее купчую
сделать. А купчую-то совершили—тут у меня прям гора с плеч...
В этом месте рассказа она, если сидит, распрямляется, и облегченно
вздыхает; даже осанка этакая горделивая появляется во всей ее фигуре.
Да и мне как-то легче становится, радостнее — шутка ли: дом купили мои
родители! Это значит, впервые в истории двух родов — Красавиных и
Ворониных— его представители стали городскими домовладельцами! Куда
теперь повернет судьба? Уж верно, в лучшую сторону. По крайней мере,
должна повернуть в лучшую сторону.
— Нижний этаж жильцы занимали, да и наверху жиличка — нам это
не больно нравилось, а только что не выселишь, такого закона не было;
дома продавались вместе с жильцами. Тогда ить во всем городе ничего не
строилось, вот и селились, кто как сумеет. Мы, хозяева, наверху одну
комнату заняли, да и тому рады. Этак войдешь, сначала будет кухня, слева
дверь в комнату жилички—мы с нею хорошо жили, дружно — а справа в
нашу. Все у нас было! И мебель купили, и из одежи-обужи что нужно, и
швейную машинку ножную—такая была красавица-машинка!
Мать с удовольствием перечисляет разные бытовые мелочи: где что
стояло, какие деревья росли возле дома, как полоскала белье на
Волхове— «вот на том месте, где теперь памятник-то стоит, лошадь-то, тут
мосточки были сделаны, с них и полоскали»; как за водой ходила—«колонка
была на той улице, где Субботины жили, а за воду-то платили по пятачку
за ведро или за пару ведер пятачок, вот уж не помню. Женщина пожилая
сидела возле колонки, она брала плату».
То ли два года, то ли три прожили мои родители-домовладельцы в
собственном доме, и жизнь наладилась — казалось, так и будет она идти:
словно с ухабистой дороги выехали на ровную, накатанную.
— Вот, помню, вам обоим матросочки удалось достать — костюмчики
такие, значит: рубашка с большим воротником, галстучек и штаники
короткие на лямках. Тогда в моде было. Да вон вы в них на карточке.
Две счастливые фотографии тех лет: на одной мы с братом — оба
«в матросочках»—сидим на высоком столике, отец и мать по сторонам на
стульях, за спиной у меня стоит крестная сестра отца Маруся. Братец
мой — сразу видно! — умничек: руки положены на коленочки, головка
чуть наклонена набок, смотрит смиренно — это от врожденного желания
слыть послушным мальчиком. Ну, а я головастенький, кривоногий, рот
открыт... разиня, чего говорить! Зато лобик пошире, бровки сдвинуты,
отчего взгляд пытлив и требователен, а сам весь толстенький, будто комочек,
будто мячик.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 73
На второй фотокарточке все то же, только без крестной; и мы не в
матросочках, а в белых рубашках с большими бантами вместо галстуков.
Да еще родители поменялись местами: теперь уже меня, полоротого,
любовно обнимает отец, этак пригребая к себе властной рукой, а Витю-умнич-
ка — мать.
От той поры обо мне осталось несколько преданий в нашей семье.
Первое: как меня заклевал петух. Куриц держали жильцы, и петух
у них был очень дерзкий, меня же невзлюбил особенно. Я думаю, дело не
в ненависти его ко мне, а просто едршственное человеческое существо,
которое он мог одолеть и тем заслужить восхищение своих подруг,—это был
я, самый маленький. Если я гулял с кем-то—петух не нападал, но вот
однажды он подстерег меня одного, налетел, поверг на землю и с
торжеством несколько раз клюнул, норовя попасть в глаз.
— Ты так кровью и залился!—рассказывает мать.—Хорошо Вася
вовремя подскочил, а то остался бы без глаза или без обоих.
Петух за свое злодейство заплатил жизнью — отец мой тут же изловил
его и отрубил напрочь голову. А у меня доныне возле правого глаза
отметина.
Второе происшествие — со мной приключился родимчик.
По-видимому, это та падучая болезнь, которая иных преследует всю жизнь, а меня
наказала лишь однажды, в младенчестве, когда я только-только научился
ходить.
— Играл-играл — вдруг упал, зашелся, глаза закатилась... Да нигде
подвернулась Варвара Николавна, жиличка Субботиных: Ты, говорит,
Нюша, положь его на кровать и оставь так, только накидочкой лицо
прикрой. Уложила я тебя на кровать, ты и уснул. Да так глубоко, так долго
спал! Я подойду, послушаю—жив ли? Дышит? Выспался, встал —
здоровехонек! Словно и не было ничего.
— Пойдем, бывало, в сквер гулять, — радостно вспоминает мать, —
а вы оба и бежите впереди, одному три годика г другому шесть. Люди-те
оглядываются: больно хороши робятки—нарядные оба, в башмачках, в
беленьких носочках. Ну, и мы с Васей идем за вами. Он тогда себе новый
костюм справил, и мне кой-чего. Помню, матерьялу купил — четыре часа в
очереди за ним отстоял; принес и говорит: вот, Нюша, тебе отрез на
платье... Гуляем в парке, он и скажет: «Нюш, сколь у нас робятки-то
хороши!» А я ему: «Это потому, что свои. Каждому свое дорого».— «Нет,
Нюша, наши лучше всех!»...
Всякий раз воспоминания свои, какими бы радостными они ни были,
мать заключает фразой, стазшей уже традиционной:
— Жись-та у меня больно тяжелая была.
И качает головой.
— А ты напиши сама сколько сможешь, — советую я.
— Дак я-то малограмотная... Письмо задумаю послать — целый день
сижу.
— Куда тебе спешить! Пиши да пиши.
Разговор этот случался у нас не однажды, и вот наступил день, когда
мать пришла ко мне с благой вестью, от которой сама она радовалась и
торжествовала:
—- Гляди-ко, целую тетрадку исписала!
Тетрадка, на обложке которой было каракульками выведено «Моя
жись», помята и потрепана, и исписана вся от первой до последней
страницы. Я понимал: это подвиг совершен —слово легло на бумагу, теперь
оно будет жить.
«довойны мы жили вновгороде и унас было двое детей» .
Над этой первой же фразой я просиживал подолгу, как над
математической формулой: в ней заключено огромное пространство, множество
живых людей, бессчетное количество событий, душевных переживаний.
Весь счастливый период своей жизни — в двух абзацах.
«довойны мы жили вновгороде и унас было двое детей жили наквар-
тире нонаквартире жить здетям очень трудно с мужем мы жили дружно он
74 ЮРИЙ КРАСАВИН
у меня был харошей вином незашибался работали много но жили скупо
каждою копейку берегли как только хотелос купить домик, но вот купили дом
напротев десятинова мыстыря и мы жили очень харашо и такая радас
была у нас что мы нажили дом муж работал валяльной мастерской а я зде-
тям ходила на поденку на огорот полоть маркоф агурцы патамушто детей
всадик неустроишь вто время их было мало...»
И вот тут я останавливаюсь: дальше — война.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«и вот подстигла беда, — повествует мать, — мужа взяли вармию на
сорок пять дней праводила я его 10 июня, а 22 июня началас война, вот я
ипростилас навею жись сосвоим любим мужем, а у меня пошли мучения,
новгорот стали бонбить...»
Изложение событий стремительно, кратко, в них нарастающее
напряжение и драматизм.
Отца взяли на переподготовку, то есть вроде бы дело обычное: он
уходил как сугубо мирный человек, которого оторвали от дела на короткое
время. На прощанье сказал жене: «Я хоть там отдохну».
Разумеется, у него были мысли о войне, но отстраненно, как о чем-
то возможном, однако же и невозможном тоже. Нелепица ведь явная эта
война! Я уверен, что он не брал ее в расчет.
Перед уходом отец за что-то в воспитательных целях постегал меня
прутом. Как свидетельствует мать, я долго потом помнил эту обиду и на
вопрос, скучаю ли об отце, отвечал решительно: нет, папа плохой, потому
что...
Что касается матери, она проводила своего мужа легко, наивно веря,
что разлука не будет долгой; полтора месяца—срок невелик. В последний
раз виделись они во дворе новгородского военкомата; отец был в
обмундировании стареньком, будто на потеху напяленном — рукава гимнастерки
едва закрывали локти, брюки чуть ниже колен. Привыкший одеваться
опрятно и подбористо, он конфузился перед нею из-за своего наряда.
— А ушел-то в хорошем костюме!—вздыхает мать.—Так и пропал
тот костюм.
Вот написал я «в последний раз они виделись во дворе
новгородского военкомата», будучи уверен, что так оно и было. Лишь недавно мать
проговорилась, что однажды отец пришел к ней ночью, а на рассвете ушел.
То была их тайна, в которой она не хотела признаваться никому. А мне
приятно было узнать, что он приходил домой в самый канун войны, и уж,
конечно, уходя, поцеловал меня, спящего. Тут я укорю маленького
негодника: лучше б тебе проснуться в ту ночную минуту, когда отец наклонился
над твоей кроватью, и обнять его, и сказать, как ты его любишь, не помня
никаких обид. Но, увы...
Война пришла в Новгород мирным и солнечным воскресным утром.
— Я с рынка, помню, шла; со старого рынка, который на Торговой
стороне. А утречко-то какое было! Душа радовалась. По Ярославову
Дворищу да по Великому мосту, да через кремль... Городок ведь небольшой
тогда был —только то, что внутри вала, а за валом уже огороды. И вот
идешь—тут тебе Софийский собор, с той стороны Антониев монастырь, а
за Воскресенской слободкой опять купола—Юрьев монастырь. Да в какую
сторону ни глянь, все сердцу мило. Уж я так любила Новгород! Его как
раз перед войной покрасили...
Оказывается, велели всем хозяевам домов покрасить фасады новой
краской-г-желтой, голубой, зеленой.
— Может быть, только наличники?
— Нет, фасады и заборы, и крылечки. А у Васи не хватило голубой
краски, и он добавил синьки. И вот столбы у ворот темноваты получились,
мне не понравилось. А Вася так сказал: погоди, мол, куплю краски.
Ишь, какие порядки были в Новгороде перед войной!
— На Торговой-то стороне магазин был — живой рыбой торговали: и
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 75
судаки, и щуки, и лещи—так в ванне большой и плавали. Бывало, сама
выберешь живую рыбину, укажешь, тебе ее вычерпнут, свешают.
Что травить душу воспоминанием о живорыбном магазине! Война уже
началась, наступил первый день ее.
— И вот иду я с рынка, гляжу: уличком народ собрал—сквер
прибирают возле Десятинного монастыря. Она, уличком-то, кричит мне:
«Красавина, Красавина, почему не выходите на благоустройство?» Тогда ить
строго было, не откажешься; каждый домохозяин обязан и улицу
обиходить. Я тороплюся: «Сейчас, сейчас!» Ну, вас маленько покормила,
вышла—тут и узнали мы, что война...
Нет, она не сразу осознала, что такое—война. Где-то за тридевять
земель, на окраине государства случилось что-то, будто огонь вспыхнул по
краю хлебного поля—ну так потушат скоро. Правда, тревогой опахнуло,
словно холодным ветерком, но не более того. Еще настоящего страха не
было: дом —вот он, дети при ней, здоровы и веселы, а муж рядом—в
Крестцах служит.
Две-три июльские недели были наполнены нарастающей тревогой,
потом страхом и, наконец, паникой; и вот уже нелепая прежде мысль о том,
что надо бросать дом, перестала казаться нелепой; напротив, она-то и была
разумной. Но как раз теперь отъезд стал невозможен. Тем, кто ринулся к
властям за помощью, должностные чиновники говорили, укоряя: «Неужели
вы думаете, что мы Новгород сдадим?» И в этом укоре слышалась угроза:
кто это сеет панику? «Выйдите пока в деревню,—советовали городские
власти,— на случай бомбежек, потом вернетесь».
Фронт между тем стремительно приближался. Железнодорожный
вокзал был забит беженцами из Пскова; они поселились табором под открытым
небом. Налетевшие впервые немецкие самолеты бомбили именно вокзал —
больше всего убитых было как раз среди беженцев.
Бомбежки стали ежедневными. Мы, дети, очень скоро научились
отличать свои самолеты от немецких, и по гулу моторов, и по внешнему
виду: вон те, что с закругляющимися крыльями, а вон те, что с
обрубленными. Вот летят они косой цепочкой, бочком, и передний сваливается на
правое крыло, с нарастающим ревом переходя в пикирование, за ним
другой. У каждого под брюхом от десяти до восемнадцати бомб, за один заход
они сбрасывают по три-четыре, потом заходят снова.
Вряд ли я умел разглядеть бомбы под брюхом самолета, а тем более
сосчитать их. Наверно, знал это из разговоров.
Мать помнит другое: во время налета насчитывали они над
Новгородом до ста немецких самолетов, потом сбивались со счета/Да и не до того
было, чтоб считать!
«хлеба достать было очень трудно тоидело воздушные тревоги
приказали песок носить начердак окна заклеивать убежище копать мы стали
проситься кудабы нас отправили дети стали пугатца... милиция нас загоняла в
подвал а тут дело дошло даже сварить неуспеешь бесконца тревоги...»
Ныне-то, из нашего мирного времени, я так рассуждаю: одолей мы
десяток километров хотя бы пешком в сторону Крестцев, Валдая, уже
оказались бы на территории, которая никогда не была захвачена немцами. Но
надежда на то, что враг все-таки не возьмет Новгород, была сильна.
Надежда эта утешала, удерживала и, в конечном итоге, погубила многих.
«Был дядя мово мужа унево было два сына две снохи и дочь и у них
были дети он нас отправил в деревню Малы Морины наберегу озера, а
дядя зженой остались оне спасались в церкви», — повествует мать.
Тут речь о наших родственниках Субботиных, у которых мы ранее
жили на квартире, а теперь лепились к ним в страхе и смятении.
Кое-какое добришко мать закопала у них в огороде, поскольку родственники эти
жили на соседней улице, и у них прятать было все-таки надежнее, чем
возле своего дома, когда его покидаешь. Кое-что прихватили в Малые
Морины— одежонку, еду на несколько дней, а все прочее оставили.
Из Малых Морин беженцы ходили в Новгород за хлебом, но достать
что-либо не всегда удавалось, да и походы эти были сопряжены с большой
опасностью: город и дороги к нему немцы бомбили, и тому, кто
отваживался идти туда, приходилось поминутно оглядываться на него и прислуши-
76 ЮРИЙ КРАСАВИН
ваться, не летит ли самолет, чтобы успеть кинуться в канаву, в яму,
проклиная тот час, когда решил отправиться в путь.
«пришла я последний раз к дому стекла все выбиты рамы изломаны
и небель вся кавырком бросили бомбу вдисятиный монастырь и горот весь
горит плакала плакала взяла детскую одежку да буханку хлеба достала и
пошла в деревню а дети меня встречают отломила хлеба и дала им и
больше я не видела своегодома...»
Тут надо пояснить, что заплакала она в своем доме в голос — это был
не плач, а рыдание, самое отчаянное, когда уж сам себя человек не помнит.
К ней поднялась с нижнего этажа старуха-жиличка, стала утешать: что же,
мол, поделаешь! И кое-как утешенная ушла владелица дома — низ
каменный, верх деревянный — чтоб больше никогда его не увидеть.
— И надо же: валенки не захватила с собой! Такие валеночки у
меня хорошие были—белые, новые. Оставила, дура, на шкафу их. Небось,
сгорели. Уж так я жалела их потом! Ить зима началась.
И сейчас жалеет. Впрочем, разве только их!
Дело не в материальной ценности тех или иных вещей, среди которых
живет человек. С вещами у него душевная взаимосвязь, как с живыми
существами.
Погодите, вот ученые вычислят и измерят энергетическое поле
дорогих человеку вещей; боль от их утраты—она отнюдь не по причине
жадности, тут категория иная—от меры богатства души или, наоборот, ее
нищеты. Сила душевных связей с живым и неживым миром есть производное
как раз свойства души человека.
— Фотокарточки на полу валялись... Надо же, Вася ушел и не взял
ни одной! Небось, как покаялся потом! Ведь совсем один остался..1.
Как хорошо, что некоторые фотографии мать сберегла! Я как раз
и богат ими, хотя их всего несколько. А не имел бы—насколько был бы
беднее!
Не все ушли из города, кое-кто оставался.
— Теть Варя с дядь Семеном выкопали убежище себе и не уходили
из Новгорода: будь что будет. Да ведь дом жалко, как его бросишь! Они
над своей землянкой сделали накат из бревен, там и спасались при
богдбежках. А только что когда дом ихний, Субботиных-то, загорелся,
дым потянуло в убежище, сидеть там стало невозможно. Они в церковь
перешли, неподалеку...
Кстати сказать, это была та самая церковь, в которой меня крестили,
когда привезли из Мелковичей; она и сейчас стоит. Может быть, именно
здесь, повинуясь высшей воле, и поместилась душа моя в тельце
младенца, рожденного в Мелковичах? Нет-нет! Я родился в ночь под
Рождество, сразу в единстве духа и тела, и это соединение произошло там, при
моем появлении на свет.
— Она небольшая, та церковь, но ее собором звали; там много
людей спасалось. Как немцы вошли в город, такая стрельба была, не
приведи Бог..-. Егора убили прямо в ней.
— Какого Егора?
— А родня Субботиным, зять ихний. Он был взят в армию, да,
знать, в окружение попал, ну и пришел потихоньку домой, отсиживался
вместе с семьей. А немец-то выстрелил через дверь, ему прямо вот сюда,
в рот пуля попала. Так и похоронили тут же, возле стены.
Отец служил где-то при полевом аэродроме возле городка Крестцы.
Последнее письмо от него пришло чуть ли не накануне того дня, когда
немцы вошли в Новгород, а написано было З^го августа.
Вот оно, уже протертое и порванное на сгибах, пожелтевшее,
пронесенное матерью за пазухой через годы оккупации, через беженские
лагеря, сохраняемое более полусотни лет.
Я раскладываю по столу четвертиночки листа, должно быть, из
ученической тетрадки в линейку, читаю:
«Здравствуйте многоуважаемая супруга Нюша детки мои Витя 'и
Юра. С приветом к вам супруг Василий Федорыч. Нюша посылаю я вам
свой чисто сердечный привет.'..»
" СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ ' уу
Моему отцу в момент написания письма — тридцать лет. Пишет не
шибко грамотно, однако с церемонным обращением к «многоуважаемой
супруге», как того требовала крестьянская традиция.
«Нюша, спешу сообщить что я от вас получил 2-го числа два письма
которых насилу дождался...»
Всякий раз, прочтя это, я радуюсь: пришли-таки письма, которых он
«насилу дождался». Он уже знал, даже мог слышать и видеть: Новгород
бомбят, Новгород горит— значит, в огне и улица Десятинная, где его жена
и дети. Получить весточку в этих условиях дорогого стоит.
«Ждал полный месяц и я очень рат узнать где вы находитесь. Нюша
вы пишете что вы живете в деревне и опять нет надежды на спокойную
жизнь. Нюша и вы пишете что собираетесь на родину нотолько незнаете
как доехать. И что я вам посоветую Нюша сами знаете стакой
обстановкой жизни. Я не знаю как вам и советовать. Голова моя разбита, и
ничего не соображает... Нюша, конечно бы лучше, кабы ты была народине
но как доехать тебе не знаю, веть теперь надорогах наверно скверно
ехать. Нюша смотри как луче вам виднее. Веть я. незнаю какое у вас
положение в смысле военного положения...» -*
От Крестцев до Новгорода восемьдесят километров. И близко, да
ничем не поможешь семье. Самое горячее его желание —чтоб мы как-
нибудь доехали до Калязина, а уж там все свои; там-то не пропадем. Но
он сам же сомневался, что нам удастся добраться до родных мест.
«Нюша правильно вы пишете: пес с ним, совсем симуществом но
только бы остаца живым. И поетому Нюша спасай свою жизнь да жизнь
наших детей. А об остальном и не думай не жалей. Живы останемся—
босые и нагие ходить не будем. А если придеца помереть, то и вовсе
ничего ненаде. Нюша если грозит опасност то веть нетебе одной, а всем. А вас
там много и если все поедут и ты не от стазай. А я напишу писмо дяде
Семену и попрошу их чтобы оне тебя неоставили. Расчитывай Нюша о
себе да о детях наших но обо мне все отложи мне может ничего не
понадобится...»
Тут он снова повторяет «жив буду—босой и раздетый не буду», и
это единственная бодрая нота в его письме.
«Нюша как пишет Пиминова жонка что везут вирославскую облает.
А ета облает рядом с нашей родиной если так вас повезут через Рыбинск
то ты Нюша поезжай народину тут рядом в Санкове зделаш пересатку.
И поезжай к маме и будешь жить у мамы уней хлеб есть как нето
проживешь хотя уж не дохорошева... А пропадает имущество притакой
обстановке жалеть не приходица. Имущиство ето нажитое дело но жизнь
потерять ее больше не наживешь. И я тебе советую если только будут
выселять то бросай все и поезжай народину. Возми себе и ребятам все
неопходимое что возможно мово ничево небери и поезжай. А дом запри
наслучай вставь зимние рамы под колоти изнутри и поезжай что же
поде лаш Нюша коли нам стобой выпало вжизни такая тяжолая жизнь...
только бы остаца живым досвидания пишу спешу и очень растроивши».
Сознание своего бессилия, невозможность помочь жене и малым
детям сокрушали его, потому и написано было дважды «голова моя
разбита»— это, наверное, не о том, что, мол, ранен, это о своем душевном
состоянии. А заканчивалось письмо разительной фразой, которая и ныне
рвет мое сердце:
«Пишу и плачу: неужели я вас больше не увижу...»
Он погиб тогда же, в сорок первом, в самую тяжелую пору войны--
двадцать шестого октября. А произошло это, согласно извещению, «в
районе станции Лычково». То есть недалеко от Крестцев, в.сторону Валдая.
Мне никогда не узнать, как это случилось. Где и как он похоронен? В
лесу под высокой сосной или в поле? А может, просто в болоте... И
похоронили ли? Может, оставили там, где настигла смерть, и доныне лежат его
кости не преданными земле, омываемые дождями и овеваемые ветрами?
Иногда у меня бывает чувство, что кто-то незримо покровительствует
мне. Кто-то заботливо предостерегает, подсказывает, советует.
Я утешаю себя мыслью, что в том непостижимом для нас мире
78
ЮРИЙ КРАСАВИН
тонкой материи, где обитает ныне его душа, ему непременно выпадет
счастливый жребий, и он вернется. Ведь души наши бессмертны; мы
возвращаемся на белый свет, становясь опять младенцами, чтоб пройти
новое жизненное поприще. Может быть, он еще застанет меня здесь, и мы
встретимся. Вот только узнаем ли друг друга? Ведь я буду уже старик,
а он маленький мальчик.
В Морино пришли наши солдаты, человек тридцать—остатки
попавших в окружение частей. Они заняли сарай и отсылались там.
Пробиваться через линию фронта по суше или по озеру у них, по-видимому,
уще не было ни сил, ни желания.
Моринский бригадир пошел с ними переговорить: мол, в деревне одни
женщины и дети, а если нагрянут немцы, то что же, будет бой? Они
сказали ему, что решили сдаться в плен. И, по-видимому, даже попросили
известить об этом немцев, стоявших недалеко, в деревне Ракома.
— Я хотела в подполе отсидеться,—рассказывает мать. — Не знала,
где и спрятаться. Таня Субботина вместе со мной жила, она говорит:
люди пошли на окраину, где дорога в Ракому, пойдем и мы. Будь что будет.
Ну, мы и пошли.
— А чего вы боялись? Что и вас угонят вместе с солдатами в
плен?
— Да немцы ведь! Не видывали их никогда. Что у них на уме?
Может, стрелять начнут в нас.
Я так понял мать: страшно было от неизвестности. Совершилось то,
что невозможно было воспринять умом — все противилось этому! — чужие
солдаты на новгородской земле...
— Вышли мы из дома — верно, вся деревня уж собралась, ждут: чего
уж, убьют так убьют.
— А наши солдаты где были? В сарае или вышли?
Мне хотелось поточнее представить себе, что они чувствуют в этот
час—стыд, отчаяние, безысходность? А может быть, облегчение? И такое
ведь могло быть.
— Они на луговине сидели, отдельно. И вот, глядим, немцы едут—на
мотоциклах, на велосипедах, человек десять, все с автоматами.
Подъехали, бригадир им доложил — он уж вроде старосты был: так, мол, и так.
Тут кое-кто из местных молочка вынес...
— Угощали парным молоком?-—переспросил я.—-Немцев?
— Дак страху-то сколько! — жарко отвечала мать. — Ни живы, ни
мертвы стоим. Знамо, себя не помня, умилостивить хотели, задобрить.
Еще крови не знала новгородская деревня Морины; еще враг не
воспринимался как враг, он, был просто чужеземец, пришедший
непрощенно и неведомо зачем; еще к страху примешивалось любопытство; не
было той ненависти, какая была потом. Люди хотели жить, будь то
солдаты или деревенские женщины с детьми.
И немцы еще не ожесточились—им легко дался марш до Новгорода;
им казалось, и до Москвы рукой подать; они вели себя как удачливые
и непобедимые завоеватели. Между прочим, молока пить не стали и к
пленным отнеслись пока что без злобы.
— Может, побоялись, что молоко отравлено? Или просто сыты были.
Нике, никс, говорят, вон русс, им, мол, дайте. А потом встали вот так
четверо, как бы ворота сделали, и наших солдат
пропустили—обшаривали, ощупывали... те винтовки свои кидали.
— И я на это смотрел?
— Ну а как же! Вы обое возле меня стояли. Я вас вот так к себе
прижимала.
Что поразило жителей Морин да, наверно, и сдающихся в плен—
немцы не взяли себе брошенные винтовки, просто переломали их через
колено, показывая таким образом полное презрение к ним, а также то,
что своего оружия у них в избытке. Именно так и поняли их действия все,
кто видел эту сцену.
Потом пленных построили по четверо в ряд... «поставили их в строй
и погнали куда незнаем, а мы все стоим и плачем...» Эта сцена из тех,
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 79
что можно класть на полотно, высекать в камне, перелагать в звуковой
ряд — для разумения потомкам.
— Большая колонна, не одна' сотня человек. Женщина с ними была
в красной косынке и в военном — наверно, медсестра. Тоже пленная.
А измученные все, оборванные, небритые... Как шли они мимо огорода —
один хотел на ходу свеколку из гряды выхватить, а его немец-конвоир
прикладом, прикладом. Мы закричали: «Камрат, камрат! Что ты делаешь!
Он же голодный!» Заступилися.
Уцелел ли дом — вот вопрос, который горячо занимал мою мать. Две
недели спустя, после того, как был захвачен Новгород, Субботины и она
решили узнать, как и что. И вот отправились...
— Успеньев день был—праздник большой, а мы идем берегом-то
озера да мимо Юрьева монастыря: Таня Субботина—жена Федора Козля-
кова, крестного твоего, брат ее Дмитрий Субботин с женой Грушей,
Лексей с Капой и я. Боимся, а идти надо: ну, будь что будет. А немцев
возле города сколько! Все поле заняли, вот где старое-то кладбище.
Табором стояли—и кухни дымят, и костры горят, брезентовые палатки тут
и там, столы да стулья расставлены — из города натащили всего; там
самовар греют, тут патефон играет...
Я хочу представить чувство чужеземного солдата: вот он возле своей
палатки или полевой кухни и смотрит на древний город, обезображенный
бомбежками и артиллерийским огнем. Так что же — удовлетворение,
гордость за силу своего оружия, ощущение одержанной победы? Неужели
каждый немец верил, что таким образом он возвеличивал свой народ,
свою родину? Наверно, тут сознание захваченного, награбленного,
взятого в плен: огромная земля была русской — стала немецкой. Это и есть
чувство завоевателя, знакомое и гуннам, и татаро-монголам, и
наполеоновским солдатам — неужели оно сладостно?
— Нас остановили, мы стали объяснять, как могли: идем, мол, в
город, там у нас папа-мама. Ну, полопотали меж собой, пропустили.
Немного мы прошли—опять нас остановили. И так несколько раз. А потом как
началась стрельба! На кладбище пушки ихние стояли. Мы со страху-то да
бежать, немец за нами, кричит: никс! никс! не бойтесь, мол, это не по вас
стреляем, а туда... Рукой показывает—по русским, мол.
Тот давний испуг неизменно отражается на лице моей матери, когда
она рассказывает; он и в голосе, и в глазах, и во вздрагивающих руках.
— И вот вошли мы в город, где круглая башня возле вала, а теть
Варя с дядь Семеном с горки и увидели нас. Собор-то, в котором они
спасались, вроде как на горке стоял. Встретилися мы и уж так наплакались!
Рады, что живыми друг друга видим.
Ей выпала в этот день невыразимо горькая участь постоять на
пепелище своего дома, собственного дома, которым она так гордилась—«низ
каменный, верх деревянный»,— в котором провела самые лучшие, самые
счастливые годы своей жизни. Она стояла, узнавая: вон обгорелый
трехколесный велосипедик ее детей, вон кровати, померкли некогда
сиявшие никелировкой шары, облупились; а велосипедик стал черным.
Кто не стоял вот так над своим разоренным гнездом, тому не понять
меру отчаяния и обиды неведомо на кого, сознания горькой участи своей
и страха перед завтрашним днем. Жизнь лишилась основ — что было
прочным, пошатнулось, нет крова и пищи, нет справедливости, законы
мира попраны... Это война.
Наш дом на Десятинной улице сгорел на глазах у Варвары
Ивановны, тетки отца.
— Горело все кругом... Теть Варя говорит: ваш-то домик все стоял.
Но и к нему стал огонь подбираться—по изгороди, изгородь загорелась.
Она из убежища своего выскочит тушить, а тут обстрел. Вот так все
тушила ее, изгородь-ту, все тушила, да где ж там! Глядь, уж весь занялся...
В этом месте своего рассказа мать сидит некоторое время с
отрешенным видом: все потеряно, загорелся ее дом, и некому тушить пожар.
Ход несчастья необратим, непоправим...
Тогда она велела нам крепко-накрепко затвердить сведения о самих
себе, и я бойко выговаривал:
gO ЮРИЙ КРАСАВИН
— Зовут Люля Касаин, живу Новгороде, улица Десятинская, дом
одиннадцать, папа Василей Федрыч, мама Анна Степановна, бабушки
живут в деревне Ремнево и Хонино недалеко от Калязина.
Это на всякий случай... если потеряемся... или убьют мать, и мы
осиротеем... или нас отберут и угонят куда-нибудь немцы.
Уж ни улиц, ни площадей в Новгороде, ни кварталов, ни скверов —
только остовы зданий, закоптелые печины на месте сгоревших
деревянных домов, воронки от бомб и снарядов, и россыпи, груды битого
кирпича, головни да угли. Редко-редко покажется боязливый прохожий из
мирных жителей — никто попусту на улицу не выходил, забились в
подвалы, щели, норы; каждому до себя—где укрыться да чем прокормиться.
— За водой ходили на Волхов, а ить обстрел то и дело! Наши-то
стояли недалеко, они в лесу, который из города видно. Там пушка
выстрелит — слышно, как снаряд летит... Ну и ляпнешься в канаву, в яму,
куда придется—пронеси, Господи! Выберешься—а тут снова снаряд. Коли
идешь с ведром, так и ведро разольешь —ступай снова к реке...
«Рядом вкомнате жили две манашки одну звали матушка я стала
просить их матушка приглядите замоим детям если будут бонбить а меня
нету захватите их влодвал, горот был вес развален стояли о дне трубы
воды небыло таили снег зима была очен снежная и морозная ходить было
очен опасно ухожу прощаюс жива вернеся или нет...»
— Тетя Варя привела*ко мне Анну Крайнюю. Она уж старушка
была, из наших мест — из Плуткова. Вот, говорит, Нюша, ты Анну приюти,
ей некуда деться. А я, что же, не против, много места не займет.
Потеснились.
В комнатах, которые занимали Субботины, до войны жил кто-то из
духовных лиц: икон в ней было много, одна одной лучше. Икону
Богоматери в окладе, большую, красивую, тетя Варя подарила моей матери. .
Что я крепко усвоил от той поры—молитвы. По вечерам перед сном
мы с братцем становились на колени перед иконой Богоматери. Мать
учила нас креститься, класть поклоны низкие, лбом до пола, и повторять
следом за собой:
— Отче наш, иже еси на небеси. Да святится имя Твое, да приидет
царствие Твое, да будет воля Твоя... яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь...
— Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победы
православным христианам...
Слова молитв, которые я знал и ранее, вдруг обрели живой,
насущный смысл:* о хлебе, об обретении спасительного Божьего царства,
о победе над врагом. Потому мы жарко шептали слова молитвы, веря, что
они помогут нам спастись.
Меньше всего мне хотелось умирать: так долго ждал я своей земной
юдоли, и вот, едва только начав этот путь, того и гляди принужден буду
вернуться...
— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй
нас!..
Вряд ли молитвы мои достигали неба. Проговаривая спасительные
слова, я все-таки думал о суетном: хотелось, чтоб был ломоть хлеба с
маслом льняным или подсолнечным, посоленным круто; можно и со
сметаной, да и просто безо всего, просто очень большой кусок.
—• Старушка Варвара Николавна, жалеючи нас, говорит: вот что,
Нюша, Субботины устроились на немецкую кухню, и сами сыти, и
детишки. Давай и мы поищем местечко. Вот и пошли мы с нею. Одна я
разве пошла бы! А куда идти, кого спросить, не знаем. Сначала решились
наведаться в дом с колоннами, что на главной площади перед кремлем...
он и теперь стоит, но тогда был вроде бы пониже — наверно, надстроили
верхний этаж после войны. Немцев в нем много было — штаб у них там
помещался, что ли. Ну, там нам сказали: не нужны, мол, без вас
справимся. Вдруг бомбежка. Немцы-то как кинулися! По всем лестницам так
и посыпались вниз, в подвал. Да и мы с ними туда же забились. Наши
самолеты бомбят, ну думаем, сейчас от своих и смерть примем, вместе
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 81
с немцами. Ничего, обошлося... Варвара Николавна потом мне: пойдем,
мол, на Ленинградскую улицу. Ну, в одном месте на кухню и взяли нас,
картошку чистить...
Свой рассказ мать строит скупо, в коротких фразах. Но я ловлю
дрожание материнских рук, вижу напряженное выражение в лице,
страдальческий блеск глаз... Боже мой, зачем я выспрашиваю, будто веду по
ее же крестному пути еще и еще раз!
— Нам и поесть дали в тот день. Я, помню, ем, а у меня слезы-те,
слезы-те! Думаю, сама сыта, а детишки? Повар-испанец спрашивает
у Варвары Николавны: чего, мол, паненка плачет? А та
объясняет—показывает ему: мол, двое маленьких у нее... есть хотят, голодные. Ну,
испанец этот и говорит: ага, мол, понимаю, пикени у нее... пусть, мол, паненка
найдет «качару». Мы догадались: какую-нибудь посудину...
Заглядываю в русско-испанский словарь: «качарола» — кастрюля,
«пикеньо» — малыш, «паненка»... Нет, этого слова не нашел я в словаре.
— Я отыскала в развалинах ковшик мятый, он и налил мне в него
для ребятишек какого-то хлебова. Принесла я вам, а вы рады до страсти!..
Вот так и стали мы с Варварой Николавной при той кухне; то
картофельные очистки принесу, то хлебушка горбушку; иной раз повезет — и первое,
и второе. С Анной Крайней поделюсь, а она, Анна-то, постилась, да
строго так пост соблюдала! Я ей: «Теть Анна, ешь знай. Господь простит».
Человек не живет без радости, как бы тяжело ни было. Иное дело,
что радости скудны.
— Наладила, пом«ю, лепешки печь из очисток: одни высушу да
истолку в муку, другие отварю, сляпаю да и обваляю в этой мучке,
испеку. Ты-то ничего, солощий был—поедаешь и поедаешь, а Витя
брезгливой, щапливой: разломит вот так лепешку-то мою, а она тя-а-анется, че-
ор-ная. «Мамочка, не хочу...» А я его строжу: «Закрой глаза или в стену
смотри да и ешь! А не то ремень возьму...»
В ночь под Рождество приснился матери сон, поразивший ее тогда
и поражающий ныне.
— ...Будто входит ко мне в комнату Вася да и говорит: «Вот, Нюша,
завтра праздник большой, у Юры день рождения—четыре годика ему
исполнилось. Так я принес вам...» И протягивает мне хлеба — много,
целую краюху. Тут я так обрадовалась, что его вижу, заплакала и
проснулась. Анна Крайняя рядом спала, говорит: «Нюша, Нюша, ты чего
плачешь?» Я ей: «Ой, теть Анна, вот такой сон приснился. Васю видела ясно-
ясно, будто живого». Она мне и говорит: к хорошему, мол, такой сон.
А днем — ты подумай-ко! — вышли мы с Анной бревнышко распилить —
холодно, дровишки нужны! — и подходит к нам молоденький испанец,
говорит мне по-своему, но понять можно: паненка-паненка, сегодня
праздник большой, а у тебя двое пикени... Дай, мол, им и помолись за
меня, католика. Мне, говорит, на фронт... Рукой машет: на фронт, мол,
ему идти. Краюха хлеба большая — вот как раз ее-то я во сне и видела.
Не правда ли, удивительный случай? Из тех, что бывают не так уж
редко, повергая нас в трепет.
— Я заплакала, и спасибо не выговорю никак. Ушел он, я эту краю-
шечку разделила, и Анне дала, и вам по ломоточку... Вот и был у нас
праздник, Рождество Христово.
«мы всё ходили картошку чистить пока сыти были, а тут опять пошло
мученье вначине января нас снова выгоняют...»
От большой семьи Субботиных в Новгороде остались только две
старушки—теть Варя да теть Дарья, но и они собирались на другой день
уйти.
«а вечером приходят немцы человек восемь укоторых плетки а один
сливорвертом кричат очистить вес новгорот очень злые так и замахали
плетками наменя ты партизанка я им гаворю какая партизанка уменя
детей двое а оне серавно меня строжат и толкают давай уходи, дети
испугались заплакали мамочка пойдем куда нибуть нас убют здесь...»
6. «Знамя» № 12.
82 юрий красавин
Хоть и стращали немцы, но надо было нам остаться до утра, не
уходить из жилья на ночь глядя. Ведь зима на дворе, лютый январь.
«атут была мово мужа тетка да ее сватия оне меня посылают ежай
влешино а то тебя застрелят ты молодая...»
Легко сказать: езжай. А на чем «езжай» и где нас ждут? И как быть
с вещами—двумя лисяками, дра-повым отцовым полупальто, фетровыми
сапожками, отцовым костюмом, жакеткой плюшевой, одеялами стегаными
и байковыми?.. А еще одежонка детская, кофты, платья... Мало ли! Не
бросишь.
— Нет, в этот раз я узлы-те с собой не взяла, я их опять зарыла.
В том доме, где мы жили, то ли подвал был, то ли кладовка... Ну,
полуподвальчик, такое помещеньице, окошки еле-еле выглядывали над землей.
Вот там и зарыла, и Субботины тоже... Сверху завалили и землей, и чем
* придется.
— А как же ты потом их забрала? Немцы пустили в город?
— А вот уж что-то и не помню. Должно быть, опосля ходила... или
мне Субботины привезли? Да разве все упомнишь, сынок! Ить сколько
раз зарывала да опять раскапывала! Но тут,' когда немцы-то нас
выгоняли, что с собой возьмешь? Самим бы уцелеть. Я на саночки тебя
посадила—финские санки этакие были, полозья у них длинные —спереди-то
поставила тебе возле ног такой вроде таз или чан, да в него кой-чего из
посуды поклала. Ить, на новом-то месте картошки не в чем сварить
будет! Вот и потащились...
Куда? Бог ведает. Просто вон из города.
— А уж ночь ноченская! Ни огонечка вокруг, ни живого человека.
И такая метелюга началась! Не видно ничего, глаз выткни. Снегу в ту
зиму много было, санки мои то и дело—кувырк! Витя сзади их подпирал,
а ты-то, младшенький, на них сидел, ну и носом в снег. Шли-шли мы да
и сбились с дороги-то, куда идти—не знаем. Снегу по пояс, вы плачете:
ой, мамочка, ручки отморозил! ой, мамочка, ножки отморозил! Я из сил
выбилась совсем. Ну и села на санки, прижала вас к себе: все, читайте
молитву, замерзать нам...
Только чудо-могло нас спасти, и оно произошло.
Я думаю, можно так его объяснить: мой отец был в эту пору уже
убит (и дай Бог, если похоронен!), но бессмертная душа его скиталась над
заснеженными новгородскими полями. А тут нас выгнали из города, и ясно
же, отец сопровождал нас в эти минуты, помогая тащить санки и поднимая
меня из сугробов, только мы о том не подозревали. Думаю, что его
отчаянные усилия и его неутоленное в земной юдоли отцовское чувство
сотворило то, о чем, как о чуде, вспоминает доныне мать.
— Да нигде Господь испанцев послал! — с сияющим лицом
повествует она сегодня. — Их пятеро было, шли они по дороге из Новой
Мельницы в Лешино и услышали, что ребятишки-то мои плачут. Свернули
к нам, подходят: паненка, паненка, ну что, капут? Нике капут, говорят,
иди за нами. Да и подхватили санки, а вас обоих на руки взяли, вот так
до самого Лешина. Дай Бог им здоровья! Конечно, если остались живы,
а коли погибли да умерли, Царство им Небесное.
Сам я не помню событий той ночи. Впрочем, что-то неясно брезжит
в памяти... Словно бы отзвук в душе родился, когда сильные руки
подняли меня и понесли, понесли точно так же, как это делал когда-то отец,
большой всемогущий человек.
— Их в Лешине много стояло, испанцев-то: в каждой избе по
двадцать—тридцать человек; спали вповалку, где придется. Однако вот хоть
и чужие солдаты, а не оставили нас; и даже в деревне привели в избу,
горячим кофеем напоили. Без них нас, небось, никто и не пустил бы на
ночлег — переполнено все! Залезла я с вами на печь, там старуха хозяйка
спала. Ну и отогрелись мы. Радости-то у меня сколько было: и ребятишки
целы, и сама жива. И так-то заснула, будто убитая!
Начался тот период семейной истории, который обозначен в наших
устных преданиях как «это когда мы жили в Лешине».
i.
Местный староста поселил нас в избе, брошенной хозяевами.
Пустовать когда ей, той избе! Едва поселив, староста повелел:
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 83
— Пол вымой да набросай соломы: испанцы придут, ночевать будут.
Старушки, тетя Варя да тетя Дарья подселились к нам чуть позже,
через несколько дней. А пока что мы были одни.
— Я боялась-то как! Ить молодая была — что у них на уме? А не
своя воля, сама из милости поселилась тут. Ну, пол вымыла, соломы
натаскала. И верно, пришли испанцы уж под вечер, в сумерках, совсем
закоченевшие; холод был лютый, а они в шинелишках, в ботинках. Один
из них—такой удалец! — прямо от порога пустился в пляс—ради сугреву;
ноги у него совсем замерзли. Уж как плясал!
Нет, не всегда-то сладко быть и завоевателями, так я думаю.
Из теплой Испании угодить в суровую Россию... Ведь одно дело
танцевать фламенко в веселии сердца, и совсем другое — от донимающего
русского мороза.
— У одного — как стал разуваться, ботинки с ног снялись вместе
с кожей — пальцы отморозил. Ходить не мог — его потом'наши бабы
лечили: мазали ему ноги гусиным жиром. Знамо, не своей волей они к нам
пришли.
Деревня эта—Лешино—полна была чужими солдатами, то немцами,
то испанцами; одни уходили, другие приходили—прифронтовая зона!
От артиллерийской перестрелки вздрагивала земля днем и ночью. Наши
самолеты прилетали по ночам бомбить город и позиции немцев вокруг
нрго—доставалось и Лешину.
При бомбежках мы прятались не в подпол, как это делали другие,—
там казалось еще страшнее: завалит в случае чего, и не выберешься!
Мать просто укрывалась одеялом с головой, прижимая к себе нас, детей:
будь что будет, и если убьют, то чтоб всех вместе, разом.
Старушки родственницы предложили пережидать ночные бомбежки на
улице, там-де не так страшно; вышли мы, помнится, во время очередного
налета—нас взрывной волной ударило о ворота так, что не скоро
опамятовались. С тех пор и прятались под одеялом на кровати: от своей
судьбы не уйдешь, а коли суждено погибнуть, ну что ж...
В одну из таких ночей бомба упала совсем неподалеку, она разнесла
по бревнышку большой крестьянский дом. Немецкого офицера,
ночевавшего там, вынесло и ударило о дерево, разорвало живот, а вот хозяева
остались живы, причем девочку лет пяти нашли среди бревен живой и
невредимой.
Наутро мы бегали смотреть на последствия ночной бомбежки. Помню
злых немцев, увозивших своего убитого...
— Под смертью были во всякий день и во всякую ночь,— вздыхает
мать, качая головой и дивясь, как это осталась жива.
Опасное соседство со смертью стало уже привычным: куда отсюда
уйдешь? С одной стороны — Новгород, и за ним уже фронт,
отгораживавший от нас половину мира, где, собственно, вся Россия и Москва, и
родная для матери сторона; с другой—озеро Ильмень, его не переплывешь,
да и на том берегу под Старой Руссой шли, бои; а с третьей стороны—
блокадный Ленинград.
«влешине я жила года два ноитут горя хлебнула есь было нечего
здеревне была кухня испанская пойдешь туда наберешь картофельных
очисток высушишь истолчешь, а наработу гоняли вновой мельнице был
штап к восьми часам штобы мы туда явилис а стрельба ниприкращаится
и снаряды летят и бонбят ухажу сдетям прощаюс вернеся жива или нет
и оне уменя были под страхом...»
Всех местных жителей и беженцев, что ютились в Морине, Ракоме,
Лешине, Новой Мельнице, всех, кто в состоянии был держать в руках
лопату или лом, немцы ежедневно гоняли на расчистку и починку дорог
или заставляли разбирать развалины в Новгороде.
I — Построят нас в колонну, как военнопленных, и погонят. Утром
туда, вечером обратно, а дети весь день брошены. \
«приехал карательный отряд уш очен жестоки на них черные
шинели и наворотниках и нарукавах написана смерть и многих наказывали оне
нехотели с русским жить а нас согнали всю деревню в три дома и где они
84 ЮРИЙ КРАСАВИН
жили там положили бревно хто провинился тово положат набревно са-
боих сторон стегают кому 25 розог кому 15 но щасие наше скоро
уехали...»
— Эти были злые как собаки... Их и немцы-то боялись! Старуху
лет семидесяти вот как отхлестали плеткой: она на немецкой йухне
сахару взяла кусок, а повар заметил, пожаловался. Ну, ее раздели,
привязали к бревну... нас заставили смотреть... Двадцать пять розог дали!
Она и встать не смогла...
Однажды мать и соседка Таня опоздали на работу: прибежали, когда
колонна была уже построена. Они хотели в нее встать, но конвойный
немец отстранил: нет, мол, вам вот сюда, в сторонку. Явился какой-то
начальник, ему объяснили, что-де вот опоздавшие.
— Вот тут мы страху-то натерпелись! Мы в слезы, да что слезы-
то— плачь не плачь... Однако обошлося. Начальник этот сказал: чтоб
такое в последний раз... Ну, в следующий раз мы на работу бегом.
«а было очен холодно ходили вбатинках наболтаеш каких нибудь
тряпок наноги и пойдешь целый день наморозе свосьми часоф досеми
вечера придешь домой а тут полная изба салдат и погретца негде наногах
все сырое а посушить негде мамочка мы покушали нам камраты дали ну
иладно только сами ничего ниберите, обнимеш детей прижмешь к себе вся
отрада была дети...»
В проулке возле нашего дома зенитки стояли. Время от времени
среди испанцев начиналось возбуждение: с криками «Иван! Иван!» они
кидались к этим зениткам, и те начинали бабахать — это означало, что
высоко в небе летит наш самолет.
Это означало еще, что незримая граница пролегла между тем
самолетом и нами, и по какой-то нелепой прихоти судьбы или из-за
возмутительного стечения обстоятельств мы теперь оказались на одной стороне
с чужими, а наши, где отец и этот русский самолетик в небе, — они по
другую сторону.
«а бои сё идут»,—отмечает мать время от времени в своей
тетрадочке.
- Именно от той поры осталось еще в памяти воспоминание о стихах,
неизвестно кем написанных, которые читали вслух и передавали друг
другу беженцы; и моя мать переписала их тоже, хотя ни до войны, ни
после не интересовалась стихами. От того стихотворения помнятся ей ныне
только две строки:
И образ твой, родной, неповторимый,
Увижу только в беспокойном сне.
— Утром встанешь —чем детей кормить? Хорошо еще, вы у меня
были умненькие робятки. Бывало, прибежит с улицы тот или другой:
«Ма-а-амочка, поесть хочу». А у меня нет ничего. Ну, ладно, скажет, не
плачь, мамочка, я пойду еще погуляю.
В доме, в котором мы жили, уехавшие хозяева оставили в подполе
картошку; она мороженая была, но вполне съедобная, Еыручала в первые
месяцы.
«а тут упала бонба прямо вдом председателя колхоза оне выкуиро-
валис, а впотполе была яма ржи вот все и ходили ибрали ету рош...»
Во дворе нашего дома полевая кухня стояла; испанцы еду готовили
на ней, но обедать садились в избе. Иногда повар оставлял хлеб на
столе—может быть, намеренно подвергая нас искушению: не украдем ли мы,
русские, ихний хлеб. Мать постоянно строжила нас с Витькой: не троньте
чужого! Избави Бог... И вот однажды, когда с нами жили тетя Варя
Субботина да ее сватья тетя Дарья, на кухне этой пропал кусок колбасы.
Дело вышло нешуточное, за воровство полагалось наказание плетью, а за
детей ответчица мать. Старухи начисто отрицали свою вину, таким
образом выходило, что виноваты мы, малолетки, а мы не ведали за собой
вины.
Мать вернулась с работы—в доме переполох: испанцы позвали
переводчика, разбирались с его помощью, и кое-как грозу пронесло. Потом уж
старухи признались: «Ой, Нюша, прости ты нас, Христа ради. Ить мы
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 85
ту колбасу взяли, а ребятишки твои не виноваты. Мы на них вину
свалили: авось малых не тронут, авось простят».
И теперь еще мать вспоминает случившееся с обидой на эту родню:
чужие, жившие с нами до того и позднее, так-то не грешили и, напротив,
часто выручали. Вот какая-то бабушка появилась в рассказе матери:
«а тут сказали под'речкой лежит лошать убитая люди ходят замясом
туда и мы пошли збабушкой а там все уж обрезано но и мы нарезали
кусочкоф наварим щей кропивных а посолить нечем попросиш у салдат
даст а который откажет, а голот не тетка все будешь ее...»
— Пены много было с той конины, — добавляет она в устном
рассказе.— Когда варишь ее, уж снимаешь-снимаешь эту пену... А так
ничего, вкусная.
Еще один источник пропитания — мать ходила по деревням менять
на продукты свое добришко, вывезенное из Новгорода и сбереженное до
этих пор. Ходила иногда довольно далеко, километров за десять.
— За шаль, шшню, дали полведра картошки; шаль богатая была...
А что нам полведра? Надолго ли хватит? Платья свои меняла, жакетку,
щиблеты отцовы...
Количество вещей уменьшилось катастрофически, что было причиной
ее повседневного горя: каждая вещь досталась в свое время великим
трудом, а теперь уплывала почти задаром.
— Помню, пришла в Большие Морины выменивать да и
разревелась там. Сердце-то рвется — как там детишки? Ить, оставила голодных!
А мне и говорят: да ты пройдись по деревне-то, пройдись, может кто
милостыньку подаст. Я и прошлась...
В этом месте голос моей матери падает до шепота: до самого
крайнего унижения дошла она — стала нищенкой.
— А ить мало ли таких, как я, было! Не больно подавали. У кого
лишний кусок есть? Ну, в той деревне дядю Семена знали, он там не
один сезон валенки валял. Я в избу-то зайду, скажу, что племянница ему,
объясню, что, мол, вот так и так, сама беженка, дети голодные, ну
и подавали мне: хлебушка, помню, принесла вам...
Она и одета была, как нищенка: платок повязан низко на лоб,
пальтишко старое, на ногах отцовы кожаные сапоги, которые она поверху
обмотала тряпьем,—это затем, чтоб не позарился на,сапоги какой-нибудь
угрюмый немец или веселый испанец, да и не разул ее.
«дело было косине пошли холода заболел у меня Юра трясла мале-
рия, приходит староста наряжает звали ево михаил ему лет 50 я ему
гаворю уменя заболел Юра дядя Миша как мне ити ну ладна меня
оставили надругой день приходит дядя Миша и гаворит нюша возмис на салдат
беле стирать утебя дети малые сё притебе будут а можбыть и хлебушка
дадут и задетей што делат наде брацца привезли белья пар сто меня ужась
взяла грязное вкрови и вшивое пойду на улицу вытрису и веником опахну
потом начинаю стирать...»
— Принесут белья целую кучу, а мыльца дадут маленько: на десять
пар—кусочек со спичечный коробок. А ведь вшивое какое! Бывало
трясешь над снегом, так на снегу—будто плюш красный! Испанцев так и
звали «вшивая команда»... Я стираю, а мыльце-то экономлю: на обмылочки
в деревнях выменивала картошки. Руки до крови истерла! Ходила на
ручей полоскать да сушила, да гладила... Сколько работы-то!
«были и салдаты харошие и спанцы лутше немцоф а немцы очен
злые, белье я выстирала приехали забрали две буханочки хлеба дали
и все...»
Испанская буханочка хлеба была совсем невелика, вдвое меньше
тех нынешних, что мы покупаем в магазине. Итак, примерно килограмм
хлеба—столько мать заработала, выстирав гору белья, от которого ее
«ужась взяла». Но вот* сэкономленные обмылочки были тем товаром,
который пользовался спросом при обмене его в окрестных деревнях на
картошку.
— Помню, наменяла целый мешок картошки на это мыло. Дело
было осенью. Туда-то поехала — снег был; а за день растаяло, дождь по-
86 ЮРИЙ КРАСАВИН
шел, обратно пришлось по грязи санки с этим мешком волочь. А уж ночь
ноченская, темнота — глаз выколи. Там, как к Лешину-то от Морин
идти,—аллея, деревья высоченные. Я иду, а ветер в деревьях только
«шшш-у-у». Жуть! Саночки у меня то и дело кувырк, мешок —в грязи.
Подниму, а они опять кувырк. Я измучилася! Ну, не могу больше, сил
нет. Тащила-тащила, да и бросила на дороге. Пошла к Лешину,. иду
и плачу. А там возле деревни хуторок был, в нем мужик жил с женой,
звать Николаем, я их обоих знала, вместе нас немцы на работу гоняли.
Постучалася—они, слава Богу, открыли. Рассказала им: так, мол, и так.
А они: пойдем, пойдем, говорят, Нюша, как это можно — мешок картошки
бросить! И пошли мы уж втроем, да никак не отыщем в темиоте-то! Еле-
еле нашли...
Рассказывая, мать время от времени останавливается, вздыхает—
она вся погружена в то время. Как ни стараюсь я проникнуться ее
состоянием— нет, мое чувство умозрительно, отстраненно.
И тот четырехлетний мальчик, что был тогда рядом с моей
матерью — он отдельно от меня, он вроде бы совсем не я, и его воспринимаю
отстраненно. Как все-таки далеко до них!
У нас с братом был свой промысел по части добывания еды.
Испанцы на окраине Лешина весной раскинули палатки; тут же
дымила их солдатская кухня — мне-то даже ветер от нее казался
вкусным и сытным, меня тянуло на этот запах, как собачонку по заячьему
следу.
Повар растапливал свою железную печку тонкими прямоугольными
щепочками желтого или оранжевого цвета; те щепочки пылали, словно
порох—что это было? Может, именно порох? И у этой кухни, и у
палаток было множество крайне интересных вещей: оружие, фляжки,
бритвенные приборы... Помню круглую желтую коробочку для сливочного масла,
поразившую меня.
, Нет-нет, я не взял ее, памятуя наказ матери: «Возьмете что-нибудь
чужое—выпорю без всякой пощады»—но как она была хороша, та
пластмассовая коробочка!
«очен страшно было, испанцы в домах жить боялис и стали жить
в палатках наберегу речки и наши дети стали бегать кним а салдаты им
дадут кателочки мыть а вкателке оставят супу оне и покушают а кате-
лочки им наречке вымают иду сработы, а мои бегут дети мамочка мы
покушали мы у салдат мыли кателки аоне нам уставляли супу робята
и завтра пойдут и мы пойдем сними смотрите если стрелять или бонбить
будут лажитес наземлю, витя смотри за Юрой бери ево заручку он уменя
был вместо няни...»
Тут, пожалуй, уместно будет отметить, что испанские оккупанты
любили меня. Например, Хосе... Впрочем, может быть, было
несколько этих Хосе. Но особенно благоволил ко мне испанец по имени
Августин.
— Он не простой солдат был,—отмечает мать, — а вроде
командир—шархент. Его все слушались.
— Наверно, сержант, мам?
— Нет, шархент... — говорит она уверенно. — И над кухней-то самый
главный.
Об этом же в тетрадочке сказано так:
«ете салдаты уехали другие приехали начальник приказал всем
детям давать супу и оне соберутся и пойдут кухне им всем налют супу
и ете салдаты были три недели а потом уехали а другие приехали но
и ети давали детям супу, но скоро уехали...»
Однажды кто-то из испанцев, живших в палатках на берегу ручья,
дал нам с братом по куску меда. Это был засахаренный мед, почему-то
круглыми кусками, вроде мячиков; свой я держал в обеих ладошках.
Пока шли до дому, я этот мед слизал почти без остатка; а умник-братец
донес его нетронутым. Помню торжество братца, когда мать меня
наказала (не прутом ли?) за то, что не сохранил и съел так глупо, а его
погладила по головке...
Наверное, я доставлял моей матери одни огорчения.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 87
«приходит мой Юрачка с улицы и гаворит мамочка я полежать хочу
я вижу ево начинает трясти так каждый день накрываю одеялом а руками
держу и сама плачу и тут пришел салдат ты што плачешь я ему гаворю
пикеня заболел посмотрел нанево а ево уж очен трясет и ушел прошло
часа два идет опять паненка пойдем бери пикеню ябоюся куда ити он
показывает а я не понимаю пришли туда а там врач осмотрел Юру дал
таблеток и сказал сколько давать... неделю полечила и мой сынок
выздоровел спасибо тем са л датам...»
— Ты их благодаришь!—говорю я укоризненно матери. — Может,
эти испанцы в отца моего стреляли. *
— Сынок, война была,—отзывается она рассудительно.—Там уж
кто в кого стрелял... А они подневольные, те испанцы, не по своей охоте
пошли. Ну, а добро — оно всегда добро.
В жилой части дома, к которому мы лепились, поселился испанский
офицер. Его заинтересовало то, что русские женщины за обедом
намазывали на хлеб вместо горчицы, называя это ругательным словом «хрен».
Любознательный человек, он решил отведать экзотической приправы, так
сказать, полакомиться.
— Поддел чуть-чуть на ложку, а мы ему: чего мало-то, черпай
больше. Ну, он и хвать полную! Глаза вытаращил, рот открыл,
вздохнуть не может... да и за ливорверт: подумал, что отравили. Мы
перепугались, закричали! Ну, мало-помалу отошел, потом и сам смеялся с
нами.
В другой раз было...
«иду с работы а меня встречают иди скорей твово Юру хотят рас-
трелять я вбежала визбу смотрю мово Юрачку поставили к стене и сам
наднем держит ливорверт и ево строжит он стоит трясется и белый как
полотно я схватила ребенка он меня толкает я ему говорю стреляй всех
троих а он ругаится и гаворит он шпион какой шпион ему три годика,
чево он зделал съел у тебя чево а он показывает писмо написал выспа-
нию и оставил на столе а Юра подошел и написал свое имя Юра я ему
гаворю он написал как ево зовут махнул рукой и ушол я думала он
приведет перевочика но не пришли...»
Мне очень нравилось мое имя! Поэтому я так старательно слюнявил
химический карандаш и писал с нажимом.
Офицер этот был пьян по случаю того, что назавтра предстояло ему
идти на фронт; по свидетельству матери, он кричал на меня:
— А-а! Большевик! Коммуниста!
Наверно, решил, что я написал «Смерть испанским оккупантам!».
Потом он оттаял и даже объяснил кое-как, что запечатает испорченный
конверт в новый и отошлет домой в родную Испанию с пояснением, что,
мол, четырехлетний «русо пикеньо» написал тут свое имя.
Как знать, может быть, доныне хранится мой первый писательский
автограф где-нибудь в Севилье или Гранаде!
Два года жизни в Лешине уместились на нескольких страничках
материной тетради.
«пойдем посмотрим на всходы все взошло харошо душа радовалас
рош уже стала колоситца буреть зернышко наливается а слух прошел што
нас хотят выкуировать вечером приходят салдаты и гаворят собирайся
завтра будеш выкуироват здетям я заплакала а один салдат подошел и
гаворит паненка неплач здес будут бои капут будет
на другой ден подогнали лошадей погрузили и повезли незнаем куда,
ето был сорок третий гот...»
Лешино, на коле повешено... Дразнилка такая была.
Привезли нас в Новгород, на железнодорожную станцию, разбитую
совершенно; лишь остовы станционных строений остались от нее да
искореженное железо, да обгорелые вагоны. Нас посадили на открытые
платформы...
Везли на запад весь день и всю ночь, то и дело останавливаясь по
неведомым причинам. На полустанке, где-то вроде бы между станциями
88 ЮРИЙ КРАСАВИН
Дно и Луга («Ить, разбито все! Ни надписей, ничего») велели сойти—
отсюда на подводах развозили беженцев по окрестным деревням.
Мы попали в деревню с названием Лужа. Она не была разорена,
люди жили тут мирно и даже сытно.
«и такой был дождь с градом мы приехали все мокрые перезябли
выбраной староста нас развозил подомам привел кодному дедушке а он
жил один дядя Миша пусть у тебя поживет он согласился и видит что мы
очен озябли лезьте напечку погреитес а мы все ночи неспавши влезли
напечку согрелис и так мы уснули нроснулис уже вечер вы наверно поес
хотите я вон чаю согрел дядя Миша у нас поес нечево ну я сичас сварю
киселя овсянова и поедите наварил и мы поели спасибо дядя Миша...»
Деревня. Лужа располагалась на берегу небольшой речки; ручей
рассекал ее на две неравные части, потому они имели каждая свое
название— Малое Лужино и Большое Лужино. Может быть, и вся деревня
звалась Лужино, однако в обиходе для краткости звали ее просто Лужей.
Сразу за рекой—лес, да и по этой стороне, где деревня, на некотором
удалении тоже лес. Место живописное и довольно глухое.
Наш домохозяин дядя Миша до войны работал в Ленинграде
полотером. Дом у него просторный, на две половины, окнами назад и наперед,
покрашен и внутри, и снаружи; правда, передняя, в которой мы
поместились, не имела печки и не могла отапливаться зимой. А в теплую кухню
дядя Йиша нас не пускал, он сам там жил — летом это не имело
значения, но пришла осень...
В Луже стоял небольшой немецкий гарнизон; мать говорит: «Штаб
у них тут был». Ну, она штабом называет любую немецкую контору,
«немцы землю разделили по одноличному мущин небыло остались
одне женщины вот я ковсем и ходила помогала закусок хлеба какбы детей
накормить и у дяди Миши косила усадьбу, сушила покос кончился
поспела рош и мы с Любой ходили жать хто только позовет нам платили два
кило в день ржи а овес жали два кило овса, лен драли слали поднимали
мяли анам платили овсом».
— Так мы там неплохо зажили, мам, в этой Луже! — воодушевляюсь
я, добравшись в тетради до этого места.
— Знамо, неплохо, — отзывается она.
«картошку копали платили два ведра вдень и молочка дадут детям
намелю муки напеку лепешек оне у меня исыти а сама где работаю там
поем картошку оне выбирали плохо мелкую небрали вот мы с Любой
ходили перекапывать...»
С этой Любой мать познакомилась и подружилась в Новой
Мельнице; у нее были две девочки нашего с братцем возраста, что и сблизило
нашу мать и ее подругу. Они даже пошучивали насчет того, кто у нас
кому жених, а кта невеста.
На жатве, мать вспоминает, так заведено было: хозяйка, у которой
они с Любой работали, пекла в этот день пироги из новой ржаной муки—
и для себя, и для них. Это уж, так сказать, сверх оплаты.
— Уж какие пироги были! С луком, с кашей, с яичком. Принесут,
бывало, в поле — еще теплые. Я так их любила! И сама поем, и детишек
покормлю.
— Пироги... Где эта деревня, мам? Я хочу туда.
— Что ж, там хорошо было. Мне нравилось; и сама деревня,
и люди хорошие... Я там и осталась бы...
— Что, насовсем?
— А хоть бы и насовсем. Место красивое, лес кругом, в лесу
грибов-то сколько! Староста Сергей Иваныч запряжет лошадь, и все вместе
едем за грибами... Белые брали — не такие, как у нас, а вот не могу
сказать какие. Так целую плетуху наберешь, и на телегу ее, а иначе не
донести.
Плетуха—это большущая корзина, которую употребляют для того,
чтоб накосить травы корове или нащипать ей лопухов. Если
столько грибов в этой деревне... Где она и как там теперь, вот что
интересно! '
Дядя Миша бобылем жить не хотел и надумал жениться. Сначала-то
он посватался к моей матери: он-де согласен и детишек, то есть нас
с Витькой, усыновить и вырастить. Его предложение было отклонено
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 39
в дипломатической форме: «У меня муж есть, дядя Миша». Намеки его
на то, что неизвестно, мол, жив ли еще муж, были отвергнуты уже
сердито, и хозяин дома попросил нас освободить его жилье: он нашел другую
невесту, вроде бы из беженок.
Мать пошла к старосте, и Сергей Иваныч («Он хороший был, худа от
него беженцы не видали») определил нам жить в маленькой избушке
возле ручья. В этой избушке раньше жила женщина с ребенком, но боялась
очень; он ее куда-то переселил, а нам разрешил занять.
Случилось так: вечером рядом с нашим домом раздалась вдруг
автоматная очередь. Мать тотчас велела нам лечь на пол и читать «Отче
наш». Как раз под нашу молитву прямо под окнами послышался короткий
возбужденный говор, матерная брань и вслед за нею вторая автоматная
очередь; мы зашептали еще жарче:
— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй
нас.
Голоса и торопливые шаги затихли, а через некоторое время
послышался стон раненого — то был не стон, а крик на одной ноте: «О-о-о!
О-о-о!»
Хозяйка соседнего дома, слышно, заплакала в голос: «Да что же это!
Да как же теперь!..» Наша мать, перепуганная до крайности, через
окошко спросила, что случилось. Та сказала, что у нее в доме убили двоих
немцев и местную девушку, а еще ранили старостиного сына Колю, это
он стонет.
— А я выйти-то боюся, незнамо что дальше будет.
Вскоре мать убитой девушки привели под руки, сама идти не могла...
Потом и староста пришел за сыном...
Наутро выяснилось вот что.
Партизаны пришли, как приходили всегда, и сразу постучались в дом
к Сергею Иванычу: узнать, есть ли немцы в деревне. Тот сказал: днем
были, но собирались уезжать, по-видимому, уехали.
— Ну-ка, пусть твой сын проведет нас по улице, — приказали они.
Коля, паренек лет шестнадцати, повел их. Перед тем старший из
партизан — это был Петька — строго выговорил ему, что-де нечего
отсиживаться дома, мог бы воевать. Так что в проводники его взяли как бы ради
испытания.
В том доме, где был «штаб», осталось ночевать пятеро немцев.
Хозяйка этого дома упросила Колю, зашедшего к ней, не говорить
партизанам, что немцы стоят в ее доме, а то-де стрельба начнется — не уцелеть.
Парнишка вышел и сказал Петьке, что все немцы из Лужи уехали, нету
их. Пошли дальше и в соседнем с нашим домишке заметили свет в
занавешенном окне; Петька вошел в этот дом—там двое немцев играли в карты
с двумя местными девушками. Одна из игравших, хозяйкина дочь, успела
кинуться Петьке в ноги. Он будто бы скомандовал немцам: «Хенде хох!»,
а те, по-видимому, не послушались — и вот тут раздалась первая
автоматная очередь. Вторая была по старостиному сыну Коле, когда Петька
вышел на улицу.
Утром мы с братом бегали смотреть на убитых. Помню в стеклах
круглые дырочки с трещинами во все стороны. Сквозь них мы увидели:
один немец сидел, откинувшись спиной к стене и уронив голову на плечо;
второй упал головой на стол. Девушку, должно быть, уже забрали
родители.
Кстати сказать, убитая девушка эта, неосмотрительно севшая играть
в карты с немцами, в грехе своем была неповинна; подруга пригласила ее,
а отец или мать с опаской уговаривали: поди, мол, дочка, на полчаса,
худа не будет.
И я хотел бы спросить лихого партизана Петьку: неужели нельзя
было поступить как-то иначе, то есть так, чтоб она осталась жива?
Почему он не прервал автоматную очередь? Не тревожила ли его совесть
потом при встрече с родителями девушки? И как ему спится теперь, если
остался жив?
Известно же было, что незадолго перед тем оккупанты сожгли
жителей одной из деревень. Там дело было так. Немцы ехали на автомашине,
остановились перед мостом. А возле моста деревня. Они спросили о
партизанах— не бывают ли здесь. Им ответили: нет, не бывают. А проехали
90 ЮРИЙ КРАСАВИН
через мост-—подорвались на мине. Так вот жителей этой деревни и
сожгли, заперев в сарай.
Теперь деревня Лужа замерла в страшном ожидании.
Студеным январским днем— как раз в Рождество!—немцы выселили
всех из Лужи и окрестных деревень. То ли предполагалось большое
наступление на партизан, то ли по какой-то иной причине. Всем велено было
пешком ли, на подводах ли добираться к железнодорожной станции.
Опять мы увязали узлы и, боясь, что вещи отберут, напялили на себя
и то, и это. На меня поверх моего зимнего пальтеца мать надела свою
плюшевую жакетку и обвязала шалью, а на Витю —отцову драповую
тужурку; на себя поверх майского пальто — лисяк...
Узлы пришлось распихать по разным подводам, обоз растянулся;
матери казалось: ну, вее, лишилась добришка. Она шла, выбиваясь из
сил, боясь потерять не только узлы свои, но и нас. На середине пути она
и вовсе соклела; стала проситься на подводу, и возчик, видя, что ей худо,
разрешил притулиться с краешку.
Вдоль дороги валялись брошенные вещи, зябли брошенные коровы,
овцы...
«сажали нас на подводу 3 — 4 семи все здетям и так было холодно и
метел сколько было слес как мне хотелось заработать хлеба иштобы детей
прокормит а тут пришлое все оставит а хто останется растреляем,
приехали настанцыю а дети увсех плачют озябли идет переводчик ведите детей
вбутку пус там погреются мы слюбой свели детей и стали грузить свои
узлы втоварные вагоны атам только иней кругом детей посадили водеялы
закутали сголофкой дышите вам будет потеплее и што только было на
етой станцыи и все плачют и дети и женщины закрыли вагоны и тронулся
поезд на жис унас надежды небыло думаем где-нибудь нас спустят по-
дуклон
ноч провезли нас а утром открывают двери и нас выгоняют изваго-
ноф идут немцы человек десят и увсех плетки вруках и такие злые стано-
витес сосвоим детям поставили нас врят ну думаем сичас нас растреляют
а оне отбирали детей по 10 и 9 лет...»
— Я стою, вас за головки пригибаю, чтоб поменьше ростом были, —
добавляет мать."—Ты-то, конечно, мал еще, а Вите было восемь с
половиной, могли и его отобрать. Уж так я боялась!
«их оставили в сторонке а нас загнали вагоны закрыли...»
Вагоны, кстати сказать, были совершенно разбиты, изрешечены: не
раз побывали под бомбежками.
«ноч проехали я сё шарю ихние ношки нет мамочка неозябли даш им
посухарику сидят и грызут а тут опять на какойто станцыи открывают
двери и нас выгоняют ставят подрят опять выбирают детей которы
побольше а нас загнали вагоны и повезли дальше...»
«приехали влатвию тут детям дали бульёну и надвоих буханочку
хлеба подходит мущина и спрашивает куда нас везут мы незнаем харашо-
бы вас влатвию, литва бедная Латвия богатая здесь жить можно тут
закрыли вагоны повезли дальше привезли нас влитву горот шауль и тут нас
поселили вбарак тесовый холодный кругом только иней набили нас как
вбочку селедок лагерь обнесен калючей провлокой и тут надышали
потекло спотолка мы сидим все мокрые пришол мущина сказал поруски
идите принесите дроф и натопите и мы принесли дроф натопили хоть
немного опсохли и нас ветом лагире держали две недели наложен был
карантин, потом нам сказали завтра вас свезут в баню, пройдете баню
отправим по хуторам...»
Вот это я помню: вокруг множество голого народа, дождик сверху,
мать моет нас с братом, тут же и Люба с девронками... в углу
единственный одетый человек — немец—крутит вентили, отчего голая толпа взревы-
вает—кипяток, ведь! — а ему, дураку, любо.
По выходе из бани нас осматривала комиссия: за столом сидели
немцы в белых халатах поверх мундиров, к ним подходили семьями голые,
подошла и наша мать, держа меня на руках и загораживаясь Витькой.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 91
Немец в белом халате заглянул нам в головы — нет ли вшей, — сказал:
фрау—гут, киндер—гут. И мы отошли одеваться.
«через два дня нам сказали завтра приедут литовцы вас заберут хто
имеет 25 гектар, тот должен взять рускую семю...»
И верно, приехали подводы, стали было сажать семьи на выбор, в
которых дети повзрослее да взрослые помоложе, посильнее, но
немец-переводчик рассердился на литовцев:
— Вы не на базаре! Мы русскими людьми не торгуем...
И велел выстроиться подводам в очередь, те подъезжали к воротам
барака одна за другой, а из лагеря тоже по очереди выпускали семьи,
садились, как кому придется.
«меня посадили Любу с девчонками и мы километроф 10 ехали
вместе, потом разехались я Любе гаворю мы найдем друг друга а от шауля
двадцать пять километроф...»
Наш литовец, то есть тот, кому мы достались и который правил
лошадьми, по-русски говорить не умел, и когда мы с братцем запросились
до кустика, мать не смогла ему объяснить чего хотят дети: языки разные,
а на пальцах это дело не растолкуешь. Тогда мать соскочила с телеги,
забежала вперед и схватила лошадей под уздцы, остановила—литовец
испугался: что задумала эта женщина?
Потом они не раз вспоминали это происшествие и всякий раз
смеялись.
Вот этот литовец привез нас в местечко, называвшееся Покопи.
Впрочем, нет: так называлось село, в котором был костел... Может быть, мать
переиначила на свой манер литовское название, или так оно и
называлось— Покопи? Не знаю. А нас-то привезли на соседний хутор, где жила
всего одна литовская семья. В которую сторону от Шауляя мы ехали, Бог
ведает. Хотя, постойте-ка, когда наши войска потом наступали, они шли
к нам через Шауляй, то есть сначала освободили этот город, а потом уж
нас. Значит, мы оказались западнее Шауляя.
Я помню немного тот хутор: обычный крестьянский дом, перед ним
колодец с журавлем; за колодцем полукругом дворы и сараи; далее
ручей... Был еще вишневый сад; за садом и прудом — большак, мощенный
булыжником.
«подехали к дому хозяин с хозяйкой встречают нас в хате пол
земляной стены черные как вриге, хозяйка собрала ужин и мы поехали поели.
Как трудно было привыкать к чюжому изыку оне гаворят я непонимаю
я гаворю оне непонимают у хазяина семя была четыре челавека два сына
одному 24 года другому 22 года етот учился вшавуле...»
Земляной пол в жилой избе и черные, закоптелые, будто в риге,
стены — первые впечатления наши, говорившие о том, что мы в чужой
стороне, в чужом укладе жизни. Спали хозяева на соломе, небрежно покрытой
ряднинкой...
— Хоть и не бедно, а серб жили, — так оценивает мать.
«хозяева харошие уних восемь штук свиней две коровы и телка
годовалая, два теленка, две лошади и жеребенок, я как работница варила
кормила свиней доила короф и што низаставят я сё делала...»
Это было хозяйство среднего достатка, но жили литовцы скупо. За
столом хозяин отрежет каждому по то-о-о-ненькому ломоточку, а
ковригу— себе за спину. Достанет из-за спины, отрежет ломоток и опять туда
же спрячет.
— Бывало, хочется хлебушка-то, так бы и попросила: тетя Маня, дай
кусочек. А где ж попросишь! Я за стол-то садилась сама третья, а на
работу— одна.
Обедали и ужинали мы вместе с хозяевами, но... хоть и за одним
столом, а хлебушек врозь: хозяин заметил, что у нас есть сухари,
насушенные еще в Луже.
«уменя было немного сухарикоф я ксупу сё и дам посуха£>ику детям
мы русские всё едим схлебом а оне удивляются, сухарики у меня кончилис
елисуп гольем носуп свиной жирный когда хозяйка сварит борщ я рада
была мы ево кушали скартошкой, и тут пришла весна стали палевые
работы я все умела делать и косить и жать штобы оне низаставили все я де-
92 ЮРИЙ КРАСАВИН
лала, и я сказала дядя антоша хоть немного давайте хлеба у меня нет
весь кончился он посоветовался с хозяйкой и гаворит нюша тогда давай
кушать вместе и мне было так харошо и я сыта и дети сыти и ябыла
очень давольна...»
По-видимому, и хозяева были довольны своей работницей, потому
что дядя Антоша однажды одобрительно сказал:
— Нюша, вот ты городская, а ничему тебя учить не надо, все умеешь
делать: и корову доить, и лошадь запрячь, и косить, и жать.
Мать не без удовольствия призналась, что и в деревне жила.
Иу, говоря «ничему не надо учить», хозяин несколько
преувеличивал. Кое-какие новые навыки мать обретала и у них: вот, скажем, как
литовцы кормили свиней:
— Каждый день меня посылали на пастбище собирдть конский навоз.
Придешь с корзинкой, наберешь— и на кухню: варили его свиньям. Я
говорю хозяевам: в нем уже жуки завелись... А они мне: ну зто и хорошо,
Июша, свиньям полезней. Конечно, добавляли картошечки, мучки, а все
равно... Тут же борщ варится, тут же и это...
Дядя Антоша в первую мировую был у немцев в плену вместе с
русскими солдатами и там немного научился говорить по-нашему. Он служил
для остальных переводчиком, причем сын его, который привез нас из
Шауляя (мать называет его Лександра), проявлял живейший интерес к
русскому языку, то и дело спрашивал, как по-русски будет то или зто.
— Мы с ним часто работали в поле вдвоем: он пашет, я бороню.
А вот скажу: ить работаем вместе, и пошутим, и посмеемся, я была
молодая, и он, а не скажешь зря, держал он себя строго. Честный был парень.
Может, конечно, отца боялся. Бывало, сядут они, отец с сыном, и
старший младшему что-то по-своему выговаривает сердито. Нет, худа про
Лександру не скажу. Да и хозяйка ласковая была...
Хозяйку звали Марией, она по национальности была вроде бы
полячка. И старшую дочь их звали тоже Марией, она уже вышла замуж
и жила где-то возле Шауляя; муж ее был такой невидный мужичок,
намного старше ее и небольшого росточка, лицом некрасив.
Моя мать однажды осторожно спросила хозяйку:
— Тетя Маня, что же вы дочь отдали за такого, ведь она у вас
красавица.
И та ей объяснила, пригорюнясь: богатый, мол... мельница у него
и дом большой.
Эта дочь с мужем гостили иногда на нашем хуторе, привозя с собой
и дочку свою Броню, девочку лет трех, с которой, я помню, мы играли
в песочек, набивая им стаканы и выставляя песочные столбики в рядок.
Мои столбики неизменно получались лучше, Броня плакала от досады,
и я, будучи кавалером благородным и великодушным, намеренно портил
свои песчаные столбики или ставил их криво-косо.
Кстати сказать, с этой Броней случилось происшествие: однажды мы
с нею играли в прятки, и вот девочка исчезла. Пропала, и все тут, нет ее
нигде. Взрослые переполошились и почему-то сразу решили, что это я,
русский мальчик, злой и преступный в своих замыслах, именно потому,
что русский, утопил литовскую девочку в пруду, то есть спихнул в воду
с берега, она и утонула. Тотчас меня заперли в каморку и сказали
матери, что если произошло несчастье, то они и меня утопят. Мать была в
отчаянии, пока взрослые снова и снова обыскивали дом и двор, пока багром
щупали дно пруда.
— Они утопили бы тебя,—убежденно говорит она и теперь.—Такие
злые были! Я им что-то объяснять — они и не слушают!
Броню нашли под кроватью, куда она спряталась от меня и мирно
уснула.
Заметно было, что в семье хозяина не любили русских; то есть не
нас, беженцев, а вообще русских. Их считали виновниками многих
несчастий.
— Пришли в сороковом году русские, отрезали у меня землю,—
говорил хозяин, — отдали бедняку, а тот все равно ее не засевает, потому
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 93
что ленивый! Так зачем же ваши у меня отобрали, а ему отдали? Ведь
пропадает земля!
Помнится, я чувствовал себя виноватым, хотя точно знал, что лично
я ни у кого не отрезал землю и никому не раздавал, и мой братец тоже,
и мать. Однако же на этот счет у литовцев было свое мнение; потому и на
нас они посматривали отчужденно.
Младший сын хозяина, Виктор, дома появлялся редко, учился в
Шауляе.
«тот и вовсе ненавидел руских както приехал из шавуля и такой злой
и мне штота гаворит сердито и я непонимаю он меня и давай по щекам
хвостать я заплакала потом всходит Лександра, гаворит, ты што плачешь,
я ему пожаловалас меня вихтор нахвостал по щекам незнаю зашто он
пошел сказал отцу а дядя антоша и спрашивает за што он тебя я незнаю
аи стервец ну и стервец неплач и пошел его ругать и он мне на глаза
больше неказался...»
Это случилось в какой-то праздник, после возбужденного разговора
в соседней комнате, где собралось довольно много народа за столом.
Я тогда уже понимал, что и разговор этот, и поступок хозяйского сына,
случившийся при нас, детях, отчего мы закричали и заплакали, — это все
оттого, что мы чужие в Литве, что мы—русские.
Помню, всякая детская ссора разгдежевывала нас, ребятишек, по
национальному признаку. Однажды дело дошло до серьезной драки, до
швыряния камнями, и когда литовские*«воины» бежали с поля сражения,
мы громко и с торжеством кричали:
— Русские победили! Победа за русскими!
Хозяйка в этот раз пришла к моей матери и разгневанная, и
испуганная:
— Нюша, послушай, что кричат твои дети! Ну-ка, если немцы
услышат!
Весьма недоумеваю я, когда сталкиваюсь с рассуждением, что-де
гордиться тем, что ты русский (грузин, узбек, еврей и т. д.), глупо и
недостойно; поскольку-де нет заслуги человека в том, что он родился от
людей той или иной национальности, то и гордость тут неуместна, глупа. Но
разве плохо, если человек любит свою родную мать, гордится ею? Хотя
в том нет его заслуги, что он родился именно от нее. Как же можно
отнять у человека эту гордость? Равно как и гордость от сознания
принадлежности к тому или иному народу.
Вот хрестоматийная история о том, как девочка в толпе потеряла
свою маму и ищет ее, плачет неутешно; в ответ же на вопрос «Какая твоя
мама?» — она отвечает бесхитростно: «Моя мама лучше всех», считая, что
таким образом ее легко определить.
И это прекрасно! Без глубокого почтения к своей родной матери
человек не будет уважать и чужих матерей. Равно как пренебрегая своей
национальностью, он пренебрежительно относится к национальным
чувствам других. В том, что кто-то скажет: «Моя мать лучше всех матерей
в мире!» — нет никакой обиды другим, в частности моей матери. Мне
приятно будет слышать, если кто-то так скажет, я зауважаю такого
человека.
Мои родители и все деды-прадеды были русскими людьми, и,
признаюсь, мне приятно сознавать это. Вместе с тем я готов пожать руку
литовцу (французу, египтянину, чукче), если он скажет: «Я литовец, моя
Литва— самая прекрасная страна в мире». Мне будет понятна его гордость,
и я разделю его святое чувство. Этот человек—мой брат.
Говорят, мы идем к тому, чтоб мир стал един и народ стал один на
всем земном шаре. У людей будет один общий язык, одна неразделимая
культура, понятие о национальности исчезнет!
Если так, меня это не радует. Прекрасен луг, на котором цветут одни
маки или одни ромашки. Но тысячекратно прекраснее разнотравье.
«слюбой встречаемся она ко мне ходит а я кней, от нашево хутора
затри километра было село Покопи несколько домоф и там была служба
ихний кастел понашему церкоф и мы туда ходили молиться тетя Маня
пускала меня оне очень верующие вера уних католическая и вот мы сабе-
94 ЮР№ КРАСАВИН
ремся все русские а нас там много было и што нибудь новинькова узнаем
и мы ветот касте л ходили каждое воскресенье, жили как в темной
бутылке нечево незнали а тут што нибуть узнаешь...»
Однажды моя мать с подругой Любой ходили даже в Шауляй
помолиться в православной церкви и были на исповеди. Служил батюшка из
знакомой нам деревни Ракома, что под Новгородом.
— Вы русская? — спросил он у моей матери.
— Да, я из Новгорода.
— Потерпргге,—утешал он ее. — Наши скоро придут...
Двадцать пять километров до Шауляя, столько же обратно—этот
путь пешком две беженки проделали затем лишь, чтобы услышать это
утешительное «Потерпите... Скоро наши придут».
Хозяева получали газету, Лександра читал ее отцу7 но нам они ничего
не рассказывали. Однажды моя мать попросила:
— Дядя Антоша, скажи, что пишут?
И Лександра живо залопотал отцу:
— Папа, сакй, сакй Нюше.
То есть скажи, скажи ей. И тот перевел:
— Вроде бы как ваши русские одолевают немцев. Вот еще город
взяли. Могут и сюда дойти.
Мать отвечала ему, замирая:
— Ой, что ты, дядя Антоша! Не верится...
«и tj/t стали шавуль бонбить и кнам приехали из шавуля дедушко
сбабушкой стали и наднам самолеты летать хозяева дома начивать боя-
лис уходили надругой хутор а я сетим старичкам оставалае было уних
убежище вырыто мы там и начивали...»
Тут надо пояснить, что хутор располагался как раз возле большака,
по которому шли и ехали отступавшие немцы, потому и было
страшновато ночевать. Что касается «бабушки и дедушки», то это дальние
родственники наших хозяев, которым в Шауляе из-за постоянных бомбежек
жить стало невозможно.
То и дело на хутор заворачивали немцы, требовали от хозяина, чтоб
запряг лошадь, подвез их хотя бы несколько километров по дороге. И он
запрягал, отвозил, каждый раз боясь, что лошадей отнимут; потому стал
их прятать в лесу.
Немцы, по свидетельству матери, имели в это время уже весьма
потрепанный вид: обмундирование плохое, помятые, уставшие и «не
спавши»— нет, это были не те немцы, что так весело и бесстрашно подъехали
на велосипедах да мотоциклах к деревне Морины на берегу озера
Ильмень и так лихо ломали через колено русские винтовки. То был август
сорок первого, теперь же — август сорок четвертого. Куда подевалась
былая уверенность да молодцеватость, этакий победоносный вид; они
нервничали, много кричали, рыскали глазами, суетились.
Горизонт в той стороне, где Шауляй, заволакивало дымом, все
явственнее и теперь уже неумолчно громыхала канонада; жилось в эти дни
тревожно, напряженно, однако же и радостно от горячей надежды на
скорое избавление.
Все шли по дороге немцы, все шли... И на машинах ехали, и на
подводах, но все пустее становилась дорога, все пустее... Где фронт—не
понять было, громыхало уже со всех сторон.
Однажды, выглянув в окно, — а в окно, надо сказать, теперь
выглядывали то и дело — мать увидела, что со стороны болота мимо хозяйских
сараев к дому идут цепочкой солдаты... человек шесть или семь. Эти уже
с оружием и в пилотках с красными звездочками.
— Я выскочила из дому-то, сама не своя, да им навстречу. А они
подходят... я заплакала: вижу, что наши.
— Вот так просто и подошли?—сомневаюсь я.— Средь бела дня?
Ведь немцы же могли быть на хуторе.
— А не шибко-то они боялись. Они только спросили, вы, мол,
русская? Я сказала: да, мол, беженка, из Новгорода мы. Пить попросили,
я их напоила — ведро воды достала из колодца. А они говорят: знаете что,
мы поспим вот тут, на пригорочке, а вы нас через два часа разбудите.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 95
И—веришь ли?-—все легли прямо возле колодца и заснули. Как
убитые.
— И часового не оставили? — спрашиваю я, надеясь на свое
деятельное участие в боевых делах разведчиков.
— Спали все как один! Знали, видно, что немцев нету. Ну, два часа
прошло, я их разбудила. Они, правду, сказать, встали, как встрепанные,
разом. Умылись, попрощались со мной и пошли к лесу. Сказали, уходя:
фронт, мол, близко, и скоро наши сюда придут.
И вот наступил день...
«дети мои гуляли во дворе а я штото делала смотрю машина другая
третия и сё оптыканы ветками исалдаты всерых шинелях а напоследних
машинах как грянули песню катюшу и я соскочила славки ой тетя маня
наши руские пришли а у самой слезы ручьем от радости бегут мои дети
так и прыгают мамочка наши руские пришли мамочка неплач нас теперь
отправят вросию и тут комне подошла тетя Маня и давай меня целовать
вобе щеки нюша невыдай нас...»
Машины эти проехали, однако — что это?—к вечеру вернулись...
Мать испугалась: уж не отступают ли наши, да и не придут ли опять
немцы!
Был поздний вечер, грузовики въехали прямо в вишенник, и солдаты
тотчас улеглись спать.
Хуторок затих, будто и не было тут никого. Мать хотела подойти,
поговорить, но хозяйка не пустила:
— Что ты, Нюша! Ты молодая... Мало ли чего...
Всю ночь, рассказывает мать, просидела она без сна. Рано утром
вышла из дому и услышала... не бог весть что, но такое, отчего тотчас
слезы навернулись на глаза:
— На рассвете уж слышу, голос там: «Ваньк! Ваньк! Вставай,
поехали...» И так мне было это радостно, что и сказать не могу.
Теперь уже наши войска шли по большаку, с песнями про Катюшу,
с говором. Ночевали они возле дороги, под открытым кебом.
Вот эта картина в моей памяти: наши солдаты щиплют в вишеннике
ягоды, стоя в кузове грузовика, стреляют в меня вишневыми косточками,
что-то спрашивают. А в душе моей детское ликование: русские пришли!.,
мы скоро поедем домой, в Россию.
«прошло еще две недели офицер гаворит нам, унас завтра едет
машина горот медветь и мы можем вас отправить туда а мы ради только бы
подальше от фронта...»
Что это за город «медветь», я, сколько ни ползал пальцем по карте
Литвы, * не нашел: небось, это переиначенное на русский манер литовское
название.
У нас уже все было увязано, собрано, осталось только помолиться на
дорогу да попрощаться с хозяевами. Что мы и сделали.
«надругой день нас отправили вгорот медветь а там все разбито было
но шалон стоял уже была праведена уская калейка анас руских было
очен много и нас всех посадили на открытые плащатки и повезли дальше
нас и дождик мочил но сё равно радас была вот узнаю про мужа
довезли нас доболагова...»
При каждой остановке, которые случались то и дело, невозможно
было узнать ее причины; никто не мог сказать, когда и куда отправится
тот или иной поезд. Вагоны с беженцами могли отцепить на любой
станции, загнать в тупик, и стой там сутки и больше, и неведомо, когда
прицепят. На остановках страшно было отойти от своего состава, поскольку он
каждую минуту мог тронуться; между тем состав этот простаивал часами.
Подчас мы садились наугад на какой-нибудь поезд под великим
страхом и при полной беспорядице. Питались крайне скудно, пили воду какую
придется, умывались редко, а что касается обычных человеческих нужд,
то с ними и вовсе горе.
В Бологое добрались через три недели, а там расстались с Любой
96 ЮРИЙ КРАСАВИН
и ее девчонками; я показал на прощанье своей «невесте» язык, она
погрозила мне кулачком.
— Поедем со мной в Новгород, — жарко уговаривала мою мать
подруга Люба. — Где-нибудь приткнемся, авось не пропадем. Поедем! Ведь
должны же власти как-то позаботиться о нас, беженках. Не дадут пропасть.
Но матерью руководил не житейский расчет, где удобнее поселиться,
а горячее желание поскорее узнать что-нибудь о муже. Наверное, он
пишет в деревню Ремнево, думала она, а если пишет, то уж, небось, и
распорядился о своей семье, как ей быть. Это было настолько важно, что
заслонило все остальное.
«я узнала намоей родине немцы небыли» — пишет она, и я
догадываюсь, что эта добрая весть косвенным образом укрепляла в ней надежду
на то, что мой отец жив. Ведь не всех же солдат на войне убивают! И
почему это, скажите-ка, именно мой отец должен погибнуть? За что именно
ему выпадет смертный жребий? Чем он прогневал Бога, которому мы так
жарко молились?
Между прочим, у Любы в Бологом случилась неожиданная встреча
после того, как мы расстались: пришел на станцию очередной воинский
состав, солдат с котелком побежал от него за кипятком, а ему вслед
товарищи кричали:
— Красавин, поживей! Сейчас трогаемся!
Крик этот и услыхала Люба. Она остановила солдата:
— Вы — Красавин?
— Да.
— Только что ваша жена с детьми уехала в Сонково. Вот сейчас
я с ними простилась.
— Какая жена? — растерялся солдат. — Я не женат.
— Вы Василий Красавин?
— Нет. Я—Дмитрий. А Василий—мой старший брат.
Дмитрий ехал на фронт, где вскоре был ранен в ногу, долго лежал
в госпитале и вернулся домой уже после войны калекой.
А пока что он был здоров, прытко бежал к вокзалу, а мы ехали в
сторону Сонкова с остановками, с приключениями... На какой-то станции
сели на товарняк, на открытую платформу, он уже тронулся, а человек
в железнодорожной фуражке закричал нам, что поезд идет не туда, куда
нам надо... Помню, как мать спихнула нас с Витькой с платформы под
откос, потом сбрасывала один за другим узлы, после чего уж спрыгнула
и сама, когда поезд набрал ход. Узлы наши были разбросаны далеко друг
от друга; собирали их в спешке и со страхом: все ли налицо или что-то
потеряли.
В Бежецке на вокзале нас обсели со всех сторон цыгане; мать
разместила нас по узлам таким образом, чтоб мы ногами и руками
«придерживали» наше добришко. Но две цыганки рядом с нами затеяли сначала
яростную перебранку, потом стали драться, таская друг дружку за
волосы, мы зазевались, в результате чего самый большой узел у нас вспороли
и выпотрошили. Исчезла большая теплая шаль, платье, жакетка, кое-что
из детской одежды. Мать подняла было шум, но цыгане снялись е места
и всей компанией удалились — ищи-свищи. Этак, что же, просидишь еще
неделю-другую — кругом оберут!
«мы здесь вагзале сидели три дня здетям никак несажали спрашивают
пропуск а какой уменя пропуск я еду сфронта мне детей кормит нечем
вотвот поест тронется вкалязин а меня несажают я стою плачю идут пять
человек салдат и сним командир спрашивает вчем дело а вкрасной шапке
стоит гаворит у ней нет пропуска я объясняю откуда я еду командир
закричал им сичасже посадите вы незнаите какая ее война и меня
посадили...»
В Калязин мы приехали поздно вечером, ночевали на вокзале'. Я
думаю, это была для моей матери уже отрадная ночь: она добралась до
родных мест. Самое страшное позади, она осталась жива и сохранила
детей. Даже кое-что из вещей сберегла, вот они — два лисяка, драповое
мужское полупальто, костюм отца, ее фетровые сапожки, плюшевая жа-
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 97
Спала ли мать в ту последнюю вокзальную ночь? Если спала, то уж,
конечно, сон был чуток из-за тревоги и надежды—какую весть о муже
принесет ей наступающий день? Война еще продолжалась, но она уже
далеко; мы для нее недосягаемы.
Калязин — городок тихий настолько, словно и не было нигде никакой
войны. Рано утром мать сходила на базар, надеясь увидеть знакомых.Но
нет, никто из ремневских или хонинских не приехал. Она купила нам по
дольке картофельника, и мы отправились пешком по большаку. Попутных
машин не было, да и подвод тоже.
Этот путь я потом измерил шагами многажды, но в первый раз—
в шестилетнем возрасте, и это было нелегко: семнадцать километров —
шутка ли! Через поле, через Черный лес... через деревни...
Прошли деревни Носатово, Якимовскую, Василево... Все ближе,
ближе было Ремнево. Вот уж миновали и Пряжино, отсюда до желанной цели
нашего путешествия рукой подать, два километра, не более; Ремнево уже
видно за низкорослым лесочком с названием Яменник—это был тот
самый Яменник, шагая через который мой отец распевал песни в тот день,
когда ему отсрочили воинскую службу. Впрочем, разве только тогда он
пел! И только ли тут!
В Яменнике мы услышали «звонок» — удары по рельсу: по времени
был конец обеденного перерыва. Помнится, этот звон радостно озадачил
и насторожил меня: мы вступали в мир, в котором нам предстояло
жить.
В деревню вошли через прогон, возле Кашицыных — как раз у
дома Красавиных собрались колхозники перед тем, как отправиться на
работу. Они сидели и стояли, оживленно переговариваясь, и замолчали, вдруг
увидев нас. Бабушка Орина выходила из огорода...
Большое стадо гусей, потревоженное нами на деревенской ул^це,
загоготало, и гусак разгневанно зашипел, пошел на меня в атаку—я
проворно спрятался за мать. Гуси эти отвлекли мое внимание, и я не
услышал первых возгласов, которыми встретили нас те, что собрались у дома
бабушки.
Но помню далее, как все смотрели на нас, и то ли бабушка Орина, то
ли Ванюшка, мой семнадцатилетний дядя, младший брат моего отца,
вынесли нам с Витькой по большой доле ватрухи. Пока мать
рассказывала что-то, я был всецело занят этой ватрухой, держал обеими руками, но
вот беда, никак не мог одолеть ее при всем моем старании—остался
здоровенный сгибень; глазами-то я еще поел бы, но животишко уже не
принимал.
«взошли вдеревню подходим к дому а мамаша идет изогорода и тут
мы встретилис и обе плачем столько лет невиделис я спрашиваю провасю
а она мне гаворит давно от нево писем нету...»
— Тут у меня что-то с голосом случилось. Насовсем пропал голос,
и все тут! Только шепотом да с хрипом могла говорить.
Она была так разбита усталостью да переживаниями, что не было
у нее сил дойти в Хонино повидаться со своей матерью и братом. Долгое
напряжение, державшее ее как обручами, теперь отпустило и совершенно
опустошило, обессилило.
Вечером, когда уже легли спать, мы во всей полноте осознали
тишину и покой: ну, скрипнет ворот колодца или калитка чья-то; ну, взмыкнет
корова во дворе или ворохнется курица на нашесте; ну, ворчливо
переговариваются грачи на вершинах тополей, усаживаясь на ночлег, — все эти
звуки кратковременные они сугубо мирные, потому успокаивали и
навевали дремоту.
Не могу вспомнить, слышал ли я в ту ночь перепелиное «спать-пора»
или скрип коростеля — ведь было уже начало сентября! Но ныне мне так
хочется, чтоб того мальчика, жившего под страхом несколько лет,
наголодавшегося, нахолодавшегося, трепанного малярией, с болячками на
коленях и локтях, чтоб его перепелочка теперь убаюкивала, и коростель ему
покричал.
Мне жалко того мальчика и хочется приласкать его. Я испытываю
к нему нежность вовсе не потому, что это я сам.
На сцене возвращения из Литвы кончаются записи в тетрадочке под
7. «Знамя» № 12.
98 ЮРИЙ КРАСАВИН
названием «Моя жись». Сразу вслед за кратким описанием встречи со
свекровью — завершающая труд фраза:
«Я сё ждала так и недождалас всю жись мучилас ростила детей».
Тут поставлена крепкая точка.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Два или три узла с вещами (в них любовно оберегаемые оба лисяка,
отцово драповое пальто с серым воротником и его костюм, материны
фетровые сапожки и плюшевая жакетка) — вот, по сути дела, все, что
удалось сохранить из нажитого добра, если иметь в виду то, что имело хоть
какую-то цену. Эти узлы были итогом трудовых усилий моей матери за
годы всей жизни, вернее, за четверть века неустанной работы—с
девятилетнего возраста до теперешнего — в сорок четвертом ей исполнилось
тридцать пять лет. И вот на этом рубеже у нее ни крова над головой, ни
мужа—кормильца и заступника, ни денег... Надо было начинать жизнь
заново. А молодость уже позади, давил груз страшной усталости, жестоких
разочарований, к тому же она обременена была двумя малолетними
детьми, которых надо поднимать на ноги.
Теперь, если б вздумала сфотографироваться в Калязине, уж, верно,
не сидела б так горделиво, как прежде: горе и страдания непременно
отразились бы на ее лице, не было бы прежней уверенности и заносчивости во
взгляде.
Она чувствовала себя совершенно осиротевшей. Даже паспорт как
документ, удостоверявший ее городские права, был просрочен и уже
потерял свою силу. На что ей опереться? Кто поддержит? Старенькая и
больная мать? Суровая и немилостивая свекровь? Вечно занятый старший
брат? Ощущение сиротства было теперь с нею неотступно. Одно только
слабое-слабое утешение еще теплилось: все-таки «пропал без вести»—это
ведь не погиб. Может быть, жив ее Василий Федорыч? Мало ли что
бывает на войне! Попал в плен... лежит в госпитале... а может, другую себе
нашел? И такое бывает.
— Да лучше б уж другую, лишь бы живой...—размышляла она
вслух, вздыхая. — Или пусть без рук, без ног, но только бы нашелся.
Вскоре после возвращения из Литвы ей предложили вступить в
колхоз, но она отказалась: нет, мол, на работу ходить буду, но я не
колхозница. Это дела не меняло: ее послали на лесозаготовки. Еще мы не
прижились как следует в бабушкином доме, еще у меня и брата не сошли с тела
болячки, которыми мы страдали—следствие длительного недоедания,
ночевок на грязных вокзалах и в товарных поездах, а уж мать отрывали от
нас, детей. Имел ли право председатель посылать ее Бог знает куда, на
лесоповал? Думаю, что нашей матери эта мысль не приходила в голову:
раз посылает, значит, правомочен.
В то время у каждого колхоза, помимо основного предназначения —
возделывать хлеб да выращивать скот, — были еще разнообразные
повинности: чинить дороги, заготавливать дрова для города... В начале каждой
зимы деревня Ремнево обязана была послать в далекое лесное село
Большое Михайловское — это в сторону Сергиева Посада — двух человек на
лесозаготовки. По осени на колхозном собрании при большом крике
решали, кого именно послать. Так было и теперь.
— Да Нюшку Воронину, кого же еще! — кричали на собрании.—Она
в плену была!
Кто бы ни попал в плен, это отнюдь не украшало его биографию:
солдату потом приходилось кровью смывать позор; что касается женщин
и детей — то тут крови не требовали, но незримое клеймо это давало
основание председателю колхоза или сельсовета, выбивавшим налоги, заем,
или просто при определении на тяжелую работу, стучать кулаком по
столу и говорить грозно, то есть строжить, по выражению матери:
— Не забывай, ты в плену была!
— Дак что же я, по своей охоте туда угодила?
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 99
— А уж этого я не знаю. Говори спасибо, что тебя за это не осудили
да не посадили!
И другой грех числился за нею: в свое время уехала ведь из колхоза
в город. Уехала, как убежала! Старая зависть оборачивалась теперь
злорадной местью.
Вообще, надо сказать, мое романтическое восприятие деревни
скрадывает многие неприглядные детали. Мне не хочется писать о них, но
против истины не погрешить бы.
Деревня завистлива — она не дает никому выделиться ни честью, ни
богатством. А если кому-то удалось это, значит, уступили перед силой;
значит, несмотря ни на что, он «выбился в люди», стал «начальником».
Но избави Бог ему поскользнуться и упасть — всю жизнь будут шпынять
и злорадствовать: то-то, брат, а высоко сидел!
Деревня злопамятна. Она попрекнет тебя и успехом твоим, и грехом
твоим даже столетней давности.
Деревня жестока, насмешлива, глумлива, отнюдь не склонна к
жалости, исповедуя правило: падающего толкни. У нее свои изгои, которых
она преследует, не считаясь ни с чем.
Увы, это так.
Мы не были изгоями, мы временно ослабели, потому нас и толкали:
страдания, выпавшие на долю моей матери, были ей же поставлены в
укор и отнюдь не пробудили ни сочувствия, ни жалости.
Итак, мать уехала на лесоразработки в Большое Михаиловское.
— С утра до вечера пилили лес,—вспоминает она ныне. — Зима уж
наступила, мороз лютый, а мы одеты-то как! Ни рукавиц, ничего —
мученье сплошное. Елку-то подпилим, а она заденет за соседние и никак не
валится. Уж мы бьемся-бьемся... А надо было напилить столько-то
кубометров. Бригадир—или кто он там? — придет, смеряет и еще велит пилить.
А ить голодные! Поесть-то нечего: из дому взяли картошечки—ну, кое-как
сварим или в костре испечем. На ночлег—в избу. А там что—на полу
соломки постелют, ну и спим, не раздеваясь. На нас мокрое все-—ить весь
день в снегу по пояс работали! Так и маялись.
Маялись, кстати сказать, не один день и не одну неделю, а месяца
полтора. Чем же отличалась эта работа от той, когда гоняли из Лешина
под немецким конвоем? Вот разве что этим — конвоем...
Во все время, пока жили мы у бабушки Орины, отношения между ею
и нашей матерью складывались отнюдь не лучшим образом — со
взаимными обидами, укорами, упреками. Иногда со слезами, даже с криком...
А иначе, я думаю, и быть не могло! Бабушка Орина была старуха
суровая, строгая, правившая своим домом полноправно и самовластно. А
невестка, в свою очередь, самолюбива, всегда помнила о своем достоинстве,
обиды свекрови не забывала и не прощала. Вот и нашла коса на
камень.
— Знамо, я за стол-то садилась сама третья, — и ныне вздыхает мать,
вспоминая ту пору. — У свекрови каждый кусок хлеба на счету, а тут мы,
нахлебники...
Иногда распри свекрови с невесткой достигали такого накала, что
приглашался председатель сельсовета: «Рассуди нас, Дмитрий
Тимофеич». Тот приходил, определял права и обязанности обеих сторон, усове-
щевал и строжил, после чего мир воцарялся; впрочем, ненадолго.
Естественно, самым заветным, самым горячим желанием моей матери
было купить дом и опять стать хозяйкой. Уж не до того, чтоб владеть
двухэтажной хороминой — низ каменный, верх деревянный, — а пусть это
будет хотя бы халупка, даже ветхая, лишь бы только она была своя и
только своя, чтоб мы в ней обитали не на правах квартирантов.
И вот, прожив у бабушки Орины два года и собрав оставшиеся крохи
прежнего, еще новогородского капитала, подзаняв деньжонок у брата Ивана
Степаныча, мать купила в Ремневе избушку Ивана Марьина,
перебравшегося в дом получше. Не купила, а, как сама говорила, огбревала.
Больше всего, между прочим, радовалась тому, что в избушке той печь была
100 ЮРИЙ КРАСАВИН
изразцовая, и именно имея в виду это, цену назначили повыше, чем того
стоила изба. Когда же купчую совершили, Иван Марьин выломал изразцы
и ночью перетаскал их к себе, после чего заявил, что никакой
договоренности об изразцах при покупке не было, а напротив, он имеет на них
полное право. Ну, что же, опять поплакала мать да и смирилась: не судиться
же было с этим бессовестным мужиком!
Так начался тот период в нашей жизни, который обозначен в
семейных воспоминаниях словами «когда мы жили в маленькой избушке».
То была именно избушка, от старости вросшая в землю почти по
самые окна, с хилым тесовым крылечком, под соломенной крышей. Через
подоконники можно было перешагивать, как через порог; ворота двора
уже не открывались; в соломе кровли гнездились воробьи и галки, на ней
зеленела травка; в дожди нас заливало—помню расставленные там и сям
миски да плошки, в которые капала с потолка вода. А не успеешь
подставить— спи на мокрой постели.
— Плохонькая избушка, да, — светлея лицом, вспоминает мать
теперь, много лет спустя.— Но все-таки свое гнездо; как ни кинь, а ты в нем
сама себе хозяйка.
Половину жилой избы занимала печь; в красном углу стоял
скобленый стол, лавки вдоль стен источены жуком-древоточцем; в заднем углу
возле двери кровать с ситцевым пологом. Пол в сенях круто покосился..,
чтоб пройти по нему от двери в избу, приходилось упираться правой
рукой в стену; зимой, когда несешь ведро воды из колодца, — обязательно
плеснешь, и сени превращались в каток.
Но перед моими глазами ныне сквозь дымку времени виден милый
облик этого дома — на подоконниках герань в дырявых горшках и
чугунках; завалинка, на которой хорошо было посидеть; перед фасадом
черемуха с мелкими и очень сладкими ягодами, а возле черемухи лежал
плоский гранитный камень — на нем и мастерить что-нибудь удобно, и просто
посидеть.
У меня нежность к камням-валунам. Не так-то их много в моих
родных местах, потому, бывая там, я обязательно обнимаю их поочередно,
говоря: «Здравствуй, мой хороший! Я соскучился по тебе, мы давно не
видались...» Клянусь, мне слышно, как в самой середине его медлительно
и благодарно бьется каменное сердце.
А этот валунчик, что перед бывшей нашей маленькой избушкой,
невелик, его не обнимешь, но он телесно гладок, по нему хорошо ласково
похлопать ладонью, чтоб сердечко его ответно трепыхнулось...
Так вот мы купили дом, в котором стали хозяевами. Потому мать
и вздыхает с отрадой:
— Мы там хорошо зажили!
А услужливая память извлекает давнее: изба так осела, что пол лег
на землю, и для хранения картошки пришлось выкопать яму,
предварительно вынув несколько половиц; стену, обращенную к соседям Офро-
синьиным, мать промазала «для тепла» глиной, и косяки окон по фасаду
тоже —получилось неприглядно, неказисто, но что делать, мера
вынужденная.
Избушка эта напоминала мне нашу скрюченную от болезней и
старости хонинскую бабушку Прасковью—так похилилась, что с одной
стороны пришлось ее подпереть бревнышками, чтоб не упала сама собой или
чтоб ее не повалило ветром.
На зиму все избы в деревне Ремнево одевали в соломенную
пеледу—тоже для тепла. Делалось это так: вдоль стены на расстоянии
примерно в локоть втыкали в землю высокие, до застрехи, колья и
посредине укрепляли их поперечными жердями; в это пространство меж
кольями и стеной плотно набивали солому. Работу эту мы обычно совершали
втроем: мать напихивала охапки соломы, а мы с Витькой утаптывали,
втиснувшись за колья у стены. Избушка наша таким образом становилась
как бы одетой в соломенную шубу — это и называлось запеледить;
окошки при этом уменьшались, в жилье становилось темновато, зато
теплее и уютнее.
Теперь представьте себе нашу избушку в соломенной пеледе, с
соломенной крышей, с прикладом соломы на задворках...
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ \Q]
Одно из частых воспоминаний матери о той поре — это как однажды
зимой, придя с работы, она застала нас с братом спящими на печи, а
коптилочка, при свете которой мы читали, оказалась на самом-самом
краешке — просто чудо, что она еще стояла. Если бы кто-то из нас, спящих,
подтолкнул ее чуть-чуть — быть бы пожару! Сгорело бы наше жалкое
и родное прибежище, сгорело бы жарко и скоротечно, как стожок
соломы.
Мать очень живо могла представить себе, как стоит перед
дымящимися головешками — при мысли об этом ей страшно и теперь, много лет
спустя. Мы с братом тоже помним этот случай, поскольку нам обоим в тот
вечер крепко влетело, но страх матери мы тогда понимали не в полной
мере, потому суровость наказания сочли излишней.
Ничего не осталось теперь ни от той избушки с теплой печкой и
покатыми сенями, ни от черемухи с мелкими, но сладкими ягодами. А вот
камень-валунок лежит на том же месте по сю пору, свидетельствуя
неопровержимо, что некогда бывшее все-таки было, а не приснилось мне.
Именно в этой избушке, памятуя о своем призвании и начитавшись
книжек о всяческих путешествиях да подвигах, я стал сочинять свои
собственные приключения, записывая их в старые тетради по чистописанию;
а так как рука не поспевала за полетом фантазии, я перемежал текст
условными рисунками и значками.
Однажды я предпринял попытку написать «историческую» повесть
о своих родителях, живущих еще до войны в Новгороде на Десятинной
улице. Повесть та, помню, начиналась фразой «Комната была
обставлена во вкусе того времени». Я успел написать всего одну страницу
этого повествования и был жестоко высмеян братом; он сделал это перед
всей честной компанией, в которой была и дама моего сердца: мы играли в
лапту перед нашим домом, а братец мой вынес листочек моей рукописи
и стал читать громко.
— Ха-ха! — безжалостно издевался он надо мной. — Комната была
обставлена во вкусе того времени! Это он украл у Гоголя из «Тараса Буль-
бы»!
Насчет Гоголя была сущая правда, и мне нечем было защититься.
Действительно, меня поражала волшебная простота некоторых книжных
фраз, и я не мог без них обойтись в своем сочинительстве. Мой старший
брат никогда не упускал случая утверждать собственный авторитет за
счет моего унижения. А уж мои писательские потуги смешили его
неостановимо.
Мать вздыхала обо мне:
— План-то наполионской, а свод-от—как у пешника Митрия. Был
у нас Митрий—печник. Уж так расскажет, какую сейчас печку сложит,
так распишет! Потом кладет-кладет, да трубу-то в окно и выведет.
Разумеется, подобные ее суждения полностью разделял мой брат.
Раз взяв себе в привычку полное пренебрежение ко мне, он продолжает
эту манеру общения и поныне. Стоит нам встретиться — в ответ на мое
«Хорошо!» он утверждает «Плохо!» или, наоборот, на мое «черное» он,
не задумываясь, твердит «белое» и добавляет знакомое мне с давних пор:
«Что ты понимаешь!», «Да уж ты-то помолчи!», «Не тебе судить!».
Но у нас одна кровь, мы дети одних родителей, и после самых
яростных споров, после самых обидных ссор, когда кажется, ну, все, полный
разрыв отношений, я вспоминаю вдруг...
Чаще всего почему-то воскрешает воображение маленький наш дом
в Ремневе, этакую халупку под соломенной крышей, застрехи которой
низко нависали над землей; и вот мы лежим с братом на печи, при свете
коптилки читаем, а в трубе завывает ветер, хлещет в стену крупитчатым
снегом, будто зверь величиной с корову трется о бревно своей мохнатой
шкурой. Но рядом уютно мурлычет кошка, в старом валенке
дозревают последние, самые поздние помидорчики, и печь пышет теплом...
Хорошо!
Как раз там, на печи, матроса Робинзона выбросило на необитаемый
остров, мушкетеры дрались на шпагах с гвардейцами кардинала Ришелье,
хитроумный идальго Дон Кихот седлал Россинанта, чтоб отправиться со-
102 юрий красавин
вершать подвиги, а Мэйлмюд Кид, напротив, распрягал собак возле
заснеженной эскимосской хижины...
Все это было там, на печи, возле коптилочки.
Брат читал быстро, я медленно; он успевал одолеть и свою^ книжку,
и мою, тогда как я только-только добирался до середины своей. Но он
был заинтересован в том, чтоб поскорее обменять обе в библиотеке, чтоб
нам на двоих дали книг побольше, и потому коварно уговаривал меня:
мол, дальше читать не стоит, там происходит то-то и то-то. И я уступал
ему.
Когда читать было нечего, мы с ним по очереди рассказывали друг
другу «самодумчивые» сказки, то есть нами же и сочиненные по образу
и подобию тех, что в книжках...
И вот при воспоминаниях этих исчезает моя досада на кандидата
физико-математических наук, размягчается душа, теплеет—тут бери меня
голыми руками.
Когда мы жили в маленькой избушке, посватался к нашей матери
овдовевший Николай Шальнов. Он родом-то хонинский, из
раскулаченных, а перед войной жил в Новгороде, с отцом моим не то чтобы дружил,
но, можно сказать, приятельствовал. Жена у него умерла при родах от
желтухи, оставив ему двух маленьких девчонок.
Согласись мать на его предложение — жить бы нам опять в Новгороде
рядом с улицей Десятинной, и судьба наша сложилась бы иначе. Но мать
ответила решительным отказом:
— Нет. Я Васю жду.
Она действительно все еще надеялась, что он жив. В самом деле, ведь
извещения о его гибели у нас не было, а «пропал без вести»—так о
мертвом не пишут, так только о живом.
Надежду эту подогревало еще вот что.
Где-то в дальней деревне проживала цыганка Катя, отбившаяся от
своего табора. Это была грузная, бесцеремонная женщина,
промышлявшая тем, что ходила по окрестным деревням, гадала на картах. Она везде
и всех знала по именам. Бывало, еще только подходит к нашей избенке,
еще не видя, есть ли кто дома, уж кричит громко, своеобразно так:
— Нюша, Нюша, гостья к тебе... Встречай гостью, Нюша. На картах
тебе погадаю, всю правду скажу, ничего не утаю.
Никто не мог запросто отмахнуться от гаданий цыганки; она
проявляла изумительную настырность, можно было только откупиться от нее.
И мать откупалась, позволяя Кате в очередной раз раскинуть рваные
карты.
— Что было, что будет, что на сердце лежит, Нюша. Вот посмотри,
как девяточка-то хорошо легла, это к счастью.
— Да ты и в прошлый раз насулила мне счастья, а где оно?
— Не я — карты так сказали, Нюша. А они не врут. Нет, нет,
карты не обманут! Будет тебе счастье, вот посмотришь. Ты еще вспомнишь
меня добром.
Она раскладывала карты, что-то шепча, и зорко посматривала по
сторонам; через некоторое время слышалось:
— Жив твой Василий! Видишь, дальняя дорога ему выпала и
большие слезы. Смотри, два вальта возле твоего короля, то ли не пускают,
то ли помогают... ах, краля червонная что-то близко... нет, не она у него
на сердце, не она! Большое огорчение ему выпадет, но вот и счастливая
встреча... Придет твой Василий, уже скоро,— заключала Катя с
решительным видом и собирала карты.
Мать с легким сердцем расставалась с десятком яиц, с куском
колотого сахару или с краюхой хлеба.
— А нет ли у тебя платочка, Нюша? Вот сагла-то форсишь в
платке, а на гвоздике еще один. Ты и так красивая, удачливая, хватит тебе
и одного, этот я заберу. Не жалей, Нюша! Василий привезет тебе новую
шаль, забудешь про платок. Верно говорю!
Более наглой вымогательницы не было во всей округе. Я ее
побаивался и недолюбливал, несмотря на ее добрые предсказания. Несколько
раз в год появлялась эта Катя, и неизменно карты ее свидетельствовали,
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ
что мой отец жив и что скоро он вернется к нам. Я жил с этим
сознанием и тоже ждал.
Однажды к нам пришла медичка делать мне прививку, а меня дома
не рыло — гулял. Зная, как я боюсь шприца и что не соглашусь идти
домой, мать позвала меня так:
— Иди скорей, там папа вернулся!
Как это ей пришло в голову! Я что было духу ринулся... и был
встречен медичкой. Нет слов описывать мое негодование! Впрочем,
случившееся не поколебало моей веры в скорое возвращение отца.
Говорили, что в Крутце или Старобислове кто-то после плена
отсидел пять лет в лагерях и вернулся. И будто бы говорил он, что много
еще мужиков, пришедших с войны, отбывает срок в Сибири...
По большим праздникам мать ставила в Спасской церкви перед
Спасителем свечку во здравие раба Божьего Василия, за избавление его от
мук и возвращение к родному дому.
Что касается Николая Шальнова, то он вскоре высватал себе жену.
И вот однажды шел он вместе с нею по дороге, а мать моя неподалеку
жала рожь серпом; день был жаркий, донимали овода; жница спешила
закончить полосу, чтоб перейти на следующую. Николай свернул с
дороги, подошел, чтобы только сказать:
— Ну что, работаешь? Не захотела хорошо жить, так живи плохо.
То ли бы ты в Новгороде стала барыней, то ли здесь будешь мучиться —
разница!
Она ответила ему с большим достоинством: что ж, мол, у каждого
своя судьба. Но в тот день опять плакала и упрекала моего отца,
подставившего грудь свою под пулю. Разумом-то она понимала, что не дождется
его, а сердце не хотело смириться с утратой, а ему не прикажешь.
Колхоз наш, состоявший из двух деревень, Ремнево и Хонино, имел
в ту пору и коровник, и конюшню, и свинарник, и птичник, и телятник,
и овчарню, и даже пасеку. Но вот ведь: что бы ни вызревало, что бы ни
вырастало на колхозных полях и фермах, все забирало себе жадное и
неумолимое государство. Из Ремнева и Хонина везли в Калязин, на
железнодорожную станцию, рожь и овес, гречиху и ячмень, картошку
и льняное семя; на молокозавод в деревню Высоково каждый день
отвозили бидоны молока; по осени бесконечно долго возили льняную тресту;
в город гнали колхозных коров и телят, овец и свиней... Могло ли быть
такое, чтоб колхозникам законным порядком досталась кринка молока
с фермы или десяток яиц с птичника, кило шерсти или мяса? Что-то я
такого не припомню. А государство брало еще в *виде налога с каждого
дома, с каждого личного хозяйства молоко, мясо, яйца, шерсть...
Наш колхоз был середнячок, тут колхозники довольно успешно
сводили концы с концами. Но вот его укрупнили, то есть объединили с
другими, среди которых были вовсе нищие, и относительное благополучие
сильно пошатнулось. На трудодни стали давать по двести граммов хлеба, ну,
и картошки пяток корзин каждой семье. И все, больше ничего.
Это значит: если, скажем, наша мать зарабатывала в год триста
трудодней (а больше заработать было трудно), то мы получали по осени
полтора-два мешка сорной ржи—это и был годовой заработок. А ведь
надо было еще платить налоги!
Мать проявляла крайнюю бережливость; по-моему, она достигла в
этом совершенства. Если из Калязина привозила бутылку масла
подсолнечного, то уж расходовала его, отмеряя каплями, как лекарство.
Так и вижу ее прижимающей пальцем горлышко бутылки: масло капали
в постные щи, чтоб хоть «звездочки» плавали, изображая «навар»; в
картошку жареную или холодную, на блины—редкое
кушанье!—размазывали ту каплю куриным перышком.
Мука ли белая, крупа ли пшенная расходовались с глубокими
вздохами, по щепоточке. Точно так же, по щепоточке, освящались сахарным
песком кусок хлеба или каша без масла. Все кулинарные ухищрения моей
матери отличались чрезвычайной простотой и бесхитростностью, и
направлены они были на то лишь, чтобы обмануть собственный живот,
создать ему иллюзию сытости при самом малом расходовании продуктов.
104
ЮРИЙ КРАСАВИН
На столе у нас изо дня в день были постные щи, похлебки, тыквенники,
картошка в мундире или жареная. Ну, еще для разнообразия свекла да
брюква пареные, да огурцы, если уродятся. Что еще? А, пожалуй, и
все.
И вот благодаря жестокой экономии благосостояние наше
повысилось с годами настолько, что мать расплатилась с долгами и даже купила
козу.
Никто в Ремневе, кроме нас, козу не держал, и в этом было
свидетельство нашей бедности, больно ранившее мое самолюбие—ведь коза
все-таки не корова! Но теперь на столе у нас ежедневно появлялась кри-
ночка молока, смирявшая мою гордость.
Зимой эта коза принесла нам двух козлят, которые до весны жили
под голбцем, вместе с козой. То были веселые и изобретательные козлята;
они немало веселили нас. Не доглядишь— скачут по всей избе; а летом,
когда открыли окна, тут уж и вовсе было им раздолье— они вспрыгивали
на голбец, с голбца на печь, с печи на залавок, да через окно на
поленницу, оттуда на крышу... Бодрый топоток постоянно раздавался от их
резвых игр.
— Прожили мы в той избенке лет семь, а в пятьдесят третьем году
надумал Макарей Бугрецов уехать в другую деревню —вот тут у меня
зуб-то и разгорелся на его дом.
В ту зиму я жил далеко от Ремнева, у дяди своего Ивана Федоровича
в поселке, называвшемся Архбумкомбинат,—это недалеко от
Архангельска. Дядя служил военным радистом, детей у него не было, вот он и
пригласил меня: приезжай, мол, школа рядом. Я стал учиться там в
шестом классе.
Когда я вернулся, наша маленькая избушка уже продана, мать жила
у Ворониных в Хонине, ожидая, когда Бугрецов Макарий освободит дом.
Купчая оформлена и деньги выплачены, то есть все решилось, мы обрели
иное жилье.
В ту первую ночь после моего возвращения из Архангельска мы с
матерью спали на печи у Ворониных, и мать долго и горячо нашептывала
мне, пересказывая и заново переживая все перипетии этой покупки: и как
узнала об отъезде Макария, и как у нее «зуб разгорелся», и как
осматривала дом да как шло осторожное дипломатическое противоборство из-за
цены. У меня слипались от сна глаза, а мать все шептала, шептала.
Покупка того или иного дома и поныне любимейшие ее рассказы.
— Сторговались мы, помню, за пять тыщ—это на старые деньги.
Козочка у нас была—отвела я ее на базар, а домик свой продала на
дрова; еще я овечку держала с двумя ягнятами и их продала, да у братчика
маленько подзаняла деньжонок, вот и купила бугрецовский-то дом. Уж
так я радовалась!
Еще бы не радоваться: это был хороший дом — высокий, с
просторными сенями, с горницей, с парадным и черным ходом; окошки большие,
крыша драночная, еще крепкая, не протекала, поместительный двор с
сенником. А уж какая подклеть—там и теленка бы держать, и поросенка,
и овец... но ничего этого у нас не было, потому двор пустовал.
Дом стоял на краю деревни; из окон видно было Хонино, низинка, по
которой тек Ир, и овсяниковская горка с одиноким сараем — единственное,
что осталось от деревни Овсяниково. По весне из низинки доносилось
хоровое кваканье лягушек, к самому крыльцу подступали купальницы;
в грибные годы в палисаднике под березами вырастали подберезовики,
а то и подосиновики.
Так и стоит он у меня сейчас перед глазами, этот дом — весь целиком,
со всеми своими внутренними помещениями; снова и снова открываю
я входную дверь, с парадного крыльца попадаю в сени; тут в полутьме
лестница на чердак, налево дверь в горницу, имевшая кованый замок
и ключ величиной в локоть, а направо дверь в избу. Как войдешь — печь
с одной стороны, с другой — отдельная комната — спальня, а еще передняя
и кухня; на окошках непременная и милая сердцу герань...
— Хороший дом, только холодноват был,—качает головой мать.—
Зимой, бывало, такой померзень стоит, хоть из шубы не вылезай.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 105
Что верно, то верно: зимой, пока печку топим, потуда и тепло.
А полчаса спустя накидываешь на плечи пальто, и пар изо рта уже
заметен.
— Так надо было печь топить пожарче! — подсказываю я, вспоминая,
как скупо, взвешивая в руке каждое поленце, подкладывала мать дрова.
— Где их возьмешь, дрова-то? — тотчас вскидывается бывшая
хозяйка того бывшего дома. — Вспомни-ка: в лесу дерево не срубишь —
штрафу дадут. Возили хворост-ольшняк из Гулинкова, а что та ольха? Даже
от толстых палок углей не оставалось. Самовар согреть —
роешься-роешься в жаратке — нет ни уголька, одна зола.
Ольшняк возили каждый год в марте по насту. До Гулинкова
километра полтора; в чистом поле наст крепкий, а в лесу проваливаешься чуть
не по пояс. Вытащить груженые санки из леса на дорогу да и потом
дотащить до дому — работа с тяжким хрипом. А сколько было такой работы
у матери и зимой, и летом, равно как осенью и весной!
Летом проснешься от петушиного крика и от тревожного чувства: не
слишком ли поздно встал? Солнышко светит в окна, матери дома нет,
значит, еще не вернулась с покоса. Избави Бог, застанет в постели! Она-
то встала с рассветом, подоила корову и ушла на косьбу. Придет, а я еще
в постели — тут она выскажется со всей страстью:
— Что ты дрыхнешь, ни стыда, ни совести! Гляди-ко, солнышко-то
где! Проспишь и царство небесное. И в кого такой уродился, прости
Господи. Небось, все бока отлежал...
Проговаривая с должным выражением привычные и справедливые
упреки, она принималась за домашние дела: надо печь топить, еду какую-
нибудь на день готовить. Хорошо, если я к ее приходу успевал накормить
кур, развалить за огородом копешки сена, полить огуречные грядки,
принести дров и воду от колодца... Если же нет, я узнавал о себе
неутешительное: таких лентяев поискать во всей округе.
А уж бригадир стучал в окно: «Нюша, сено ворошить!» На луг мы
шли вместе, и при посторонних мать не ругала меня, однако же взглядом
продолжала строжить, чтоб, избави Бог, лень моя не стала для всех
очевидной, чтоб ей не пришлось за меня краснеть.
С луга она спешила домой, оттуда чуть не бегом с подойником—на
полдни, корову доить. Обедали торопясь, буквально на ходу—уж
бригадир дал звонок с обеда: копны класть или вваливать сено в сараи. До
самого заката солнца.
И уж в сумерках мать опять доила корову, процеживала молоко, — ей
не до ужина, ее пошатывает от усталости, сон валит с ног.
Так каждый день. Без выходных. Без отпусков.
Вот вижу ее на клеверном поле... мне страшно глядеть на ее руки:
они перевиты набухшими венами, ладони в застарелых мозолях, пальцы
скрючены и почти не гнутся.
— Руки-то, как грабли, — жаловалась она.
Косить тяжело: клевер полег, коса отбита плохо, зазубрилась о
камни, но трудовое самолюбие моей матери таково, что не позволит ей
отстать от других, и она налегала на косу из последних сил.
Или вот она, подцепив на вилы охапку из копны, подаёт на воз, а
клевер спутан, тянется вся копна, мать приседает под ее тяжестью,
принимает на себя, поднимает... на подгибающихся ногах.
Скирдовать, копнить, молотить, колотить, таскать, грузить, косить...
Боже, сколько слов, и в каждом смысл один; тяжелая работа.
Накануне мать устала до полусмерти; сегодня вовсе измучилась чуть
не до потери сознания; назавтра ее ждала работа еще более тяжкая.
Ночью проснется и качается, качается, сидя на постели, колотит
руками о колени, не зная, как их положить, чтоб не болели так. Плачет,
стонет: «О-ой! 0-ой!» — как тот Старостин сын Коля, срезанный
автоматной очередью в деревне Луже.
Ночь коротка и бессонна; утром мать встает—нет сил ни ходить, ни
делать что-то. Потом разомнется, разработается... а ночью опять
просыпается, опять стонет и колотит руками о колени да о край постели от
нестерпимой боли.
106 ЮРИЙ КРАСАВИН
В ту пору она часто хворала, и зимой, и летом: то схватывал, сгибал
в Дугу радикулит, то снова и снова навещала ангина, но чаще прочих
болезней ее мучила печень. Приступы один за другим сваливали мою
бедную мать, и она не могла ни есть (соленого нельзя, жирного нельзя,
острого нельзя), ни пить, ни встать с постели. И в больнице лежала, и
лечилась домашними средствами — ничто не помогало. Решила съездить в
Москву—дело было, кажется, в пятьдесят пятом году. В Подмосковье, на
станции Монино, жила моя крестная, Маруся, отцова сестра; вот она
сопровождала мою мать к какому-то московскому профессору.
— Я опосля говорю Марусе: иди, спроси у него, сколько я еще
протяну. Мне-то он правды не скажет, а от тебя ему что скрывать! Маруся
сходила да и не говорит мне ничего. Уж я ее упросила, и она призналась,
что врач сказал: лет пять, мол, еще проживет эта больная, но не больше.
Уж как я обрадовалась: пять лет! Я-то думала, рак у меня, дай Бог
полгода протянуть, а тут эва сколько! У меня Витя в техникуме учился — за
пять-то лет он его закончит небось, на ноги встанет.
То ли профессор ошибся в том пятьдесят пятом году, то ли Маруся
придумала на ходу про этот срок — пять лет...
Во время очередного тяжелого приступа она всякий раз была уверена,
что умирает, оставляя нас с братом круглыми сиротами. Но едва только
ей становилось чуть-чуть получше, еще будучи не в состоянии
чего-нибудь поесть, она уже выходила на работу: боялась, что заподозрят в
притворстве или лени.
— Знамо, под страхом жили,—говорит она нынче, рассказывая о
военном ли времени, о послевоенном ли.
Откуда же этот страх?
А вот откуда.
Сегодня, оглядываясь назад, пробую сосчитать, сколько в нашей
деревне Ремнево пересажали народу за полтора десятка послевоенных
лет: хромого Митрия Приезжего (Соколова) — за колоски, так и погиб где-
то в лагерях;
безрукого Ивана Муравьева (он вернулся с войны с вырванной из
плеча рукой, а дома детей четверо)—-за валяние валенок осудили на
четыре года, отбыл от звонка до звонка;
двух женщин, имен не называю—за то, что в голодном сорок
седьмом ночью прорыли в колхозном бурте норку и палочкой выкатывали по
картошинке, чтобы хватило в чугунке сварить;
трех женщин — имен опять не называю из милосердия к ним — за
«антисоветскую пропаганду»: беспутную девку из соседней деревни
постегали крапивой, а трусы ее воздели на кол и понесли, как флаг,
распевая «Вставай, проклятьем заклейменный»;
еще несколько вдов, точного числа их за давностью времени назвать
не могу—за валяние валенок.
Рядовой колхозник боялся председателя, председатель трепетал
перед секретарем райкома, тот, в свою очередь, перед кем повыше. А над
простым крестьянином были еще грозные фигуры уполномоченного,
милиционера, прокурора, судьи, заведующего неведомым отделом,
инспектора, директора, инструктора, следователя — любой из них, появись он в
деревне, одним только наименованием должности внушал трепет. Никто не
был застрахован от карающей десницы жестокосердного государства,
и отсутствие вины не избавляло от тюрьмы.
Председателем нашего колхоза в пятидесятых годах был человек по
фамилии Мухин, присланный из Калязина. Мужичок невидный и
чрезвычайно въедливый, он не отличался ни хозяйственной сметкой, ни
распорядительностью, а старался лишь «нагонять страху» по всякому поводу,
когда надо и когда не надо.
— У тебя сын где? В техникуме учится! — кричал он на мою мать.—
Завтра же должен быть в колхозе! Твой сын дезертир, из колхоза
сбежал — за это знаешь, что бывает!
И мать маялась бессонницей: а ну как по звонку этого Мухина
исключат ее любимого сыночка из желанного техникума! Уж она Мухину слова
поперек сказать не смела и смиренно шла на любую работу, какой бы
тяжелой та ни была.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ ]Q7
А когда я учился там же, классная руководительница Мухина (уж не
родственники ли?), узнав о моем увлечении Есениным, вызвала мою
мать—той пришлось семнадцать километров отшагать по зимней дороге
(столько же обратно), —чтобы только выслушать от Мухиной
предупреждение:
— Я хочу обратить ваше внимание, Красавина: ваш сын
антисоветски настроен — читает Есенина. Вы знаете, к чему это его
приведет?
Хорошо помню и страх, и гнев матери:
— Ты что? В тюрьму захотел?
Написав, что в нашей деревне несколько вдов были осуждены судом
за валяние валенок, хотелось мне умолчать, что среди них была и моя
мать. Тяжело писать это, но после нелегких раздумий я пришел к выводу,
что умолчание в данном случае будет для меня бесчестьем.
Тем не менее рука моя с усилием, под принуждением пишет об этом,
равно как нехотя, превозмогая себя, писала и о том, что матери моей
в голодном сорок первом и в еще более отчаянном сорок втором пришлось
выпрашивать кусок хлеба для своих детей Христа ради, то есть
нищенствовать. Пусть это были единичные случаи, однако же, как говорится, из
песни слова не выкинешь.
Сказано же: от сумы да от тюрьмы не открестишься. Не открестилась
мать в войну от сумы, не открестилась после войны от тюрьмы.
Таков уж оказался проклятый круг жизни—как западня.
Налогом обложили—чем платить? Откуда взять шерсть и свиную
шкуру, и мясо, если нет у нас в хозяйстве ни поросенка, ни овцы, ни
теленка? А не выплатишь налог—уже дело подсудное. Значит, надо ту
овечью шерсть и свиную шкуру купить на базаре, после чего и сдать
государству. А откуда взять денег на такую покупку? Ну, продаст мать
мешок картошки... Ну еще что-нибудь, вроде соленых огурцов или
сушеной свеклы — велик ли тут доход? А помимо налога, требуют еще
подписаться на заем. И надо купить учебники да тетради для нас с братом,
обувку... одежонку... Да и себе что-нибудь, самое необходимое, без чего
совсем нельзя; скажем, резиновые сапоги или калоши. И в хозяйстве
нужны топор, ведро, пила, заступ...
Пойдут, бывало, бабы в колхозное правление с жалобой: как
выплатить этот проклятый заем, если денег колхозникам на трудодни не дают
ни копейки? А грозный председатель кулаком стучит по столу:
— Вы что! Своему государству враги? Да я отрежу у вас усадьбу по
угол дома!..
Помимо того, что он мог отрезать усадьбу и лишить огорода, были
в его карательном арсенале и другие наказания: не дать твоей корове или
козе пастись в стаде... не отпустить тебя на базар... приписать тебе какое-
нибудь суждение политического характера... Да мало ли!
Итак, нужны были деньги. Как их заработать? Вот разве что свалять
валенки и продать... Единственный выход. Но дело это именовалось
хлестким словом «спекуляция». Вот тебе и тюрьма...
Почти в каждом ремневском огороде, где-нибудь в вишеннике, в
глухом, заросшем крапивой углу, была устроена земляночка с двускатной
крышей—это так называемая стируха, мастерская для валяния
валенок. Вместе с домом Макария Бугрецова нам досталась и стирушка, но
она как-то очень быстро пришла в нерабочее состояние: в водополицу
печка разрушилась, стены оплыли. Мы ходили по ночам в Хонино, к дяде
Ване Воронину.
До сих пор помню ту тесную стирушку, в которой ничего не видно
из-за едкого пара и дыма; помню и тот ослизлый каток, и острый запах
овечьей шерсти, застарелой плесени на гнилых бревнах, человеческого
пота.
Мать стоит рядом со мною—на ней мокрый передник, руки
распаренные, изъеденные купоросным маслом, мокрые пряди волос прилипли
к потному лицу; она показывает мне на катке: «Вот так надо... Вот так...
|08 ЮРИЙ КРАСАВИН
Видишь? Давай-давай!» И я мну и комкаю этот будущий валенок,
который имеет пока что форму широкого мешка и когда-то еще сядет до
нормальных размеров! Сколько его надо мять и комкать, поливать
горячей водой из котла, тереть и раскатывать лощилом, тискать и колотить
скалкой!..
А в стирухе парко, как в бане, и нечем дышать, и глаза застилает то
ли пот, то ли слезы... Наверно, в аду так.
За всю мою жизнь я свалял только три сапога. Помнится, мать
сокрушалась: «Руки-то как вставленные! На руках-то пальцы!..» И тяжело
вздыхала.
Моей обязанностью было оттирать валенки на скребнице. Это такое
приспособление из набранных гармошкой заточенных вверху дощечек.
Я садился на скребницу верхом и возил по ней сапогом: тер и тер, чтоб
и голенище, и пятка, и носок уплотнились до твердого состояния —
работенка не на один час, до полного изнеможения.
После работы мы брели оттуда в свою деревню, в темноте,
пошатываясь от усталости; я не в силах был унять дрожь, бившую мое тело,
потому что все на мне было мокрое, а ведь зима—мороз или метель были
нашими спутниками. Мы несли в мешке три насаженных на колодки
сапога—итог трудовой ночи. Еще один такой поход— и вот уже сваляно три
пары. Еще несколько бессонных ночей—наберется пар одиннадцать-две-
надцать, тогда можно матери ехать продавать их в Москву или
Ленинград, в Загорск или Рыбинск.
Те дни, когда она собиралась в эту поездку, были наполнены
нарастающей тревогой: какую-то Маньку или Глашку недавно поймали,
судили, посадили... четверых баб из Плуткова задержали на вокзале, валенки
отобрали, им тоже суд будет... И ехать страшно, и не ехать нельзя.
Уложив товар свой в две сумки, чтобы нести их связанными,
перекинув через плечо, мать отправлялась в компании с такими же, как она,
бабами до Калязина пешком... Подводы на такое дело председатель не
давал, а на попутный грузовик надежи мало. Да и страшно на
грузовике— как раз попадешь в лапы милиции.
На станции, хоронясь за привокзальными пристройками, ждали
поезда, потом садились на него в великой спешке и суете. Но и в вагоне их
могли задержать, отобрать валенки — это в лучшем случае! Хуже — когда
ссадят на какой-нибудь станции да отведут в милицию, составят акт для
передачи в суд.
Благополучно приехав на место, они продавали свой товар на рынке,
где их осаждали маклаки и прочее жулье, и только теперь могли
перевести дух.
После всех этих переживаний, после нескольких бессонных ночей,
измученная и счастливая от удачи, мать возвращалась домой, и день этот
был для меня праздником: ее не поймали милиционеры, не обокрали
жулики, она привезла гостинцы — пряники мятные и белые московские
батоны. Это вовсе не значило, что я мог есть те пряники и булку досыта, но
полакомиться немного разрешалось: остальное мать прятала в сундук,
запирала на висячий замок. Несколько дней потом я разыскивал хитроумно
спрятанный ключ от этого замка и находил где-нибудь в самом
невероятном месте. Со дна сундука добывался мешочек с сахарным песком,
из него щепотка просеивалась на белый ломоток...
Ныне, когда я слышу рассказы о том, что вот-де, мол, помнятся
времена, когда в стране «был порядок», в столице нашей родины Москве
магазины ломились-де от товаров, что «все было», я всегда вспоминаю
этот московский батон; он добывался ценою великого страха и труда.
Я знаю обратную сторону того московского изобилия и умиленные
рассказы москвичей о былых благословенных временах слушаю с горькой
улыбкой.
Мать привозила из столицы кулек белой мучки да столько же сахару,
сухого компоту, фруктового киселя —продукты, которые украшали потом
лишь праздничный стол; еще она покупала где-то на свалке шерсть для
следующей партии валенок. Таких поездок за зиму обычно бывало две
или три. Из одной из них она не вернулась. Вернее, вернулась с большим
запозданием, когда я не знал, что и предположить.
— В Рыбинске на базаре забрали нас... валенки отняли, посадили
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ 109
в какую-то камеру, заперли, допрашивали. А что, мы только ревем...
Суд был в Троице-Нерли. Говорят: вы спекулянтки. Да спасибо, иерльские
бабы заступились. Суд был открытый, вот они и пришли, нерльские-то.
Такой крик подняли!.. Ну и дали нам по году принудиловки.
Ей повезло в тот раз. Ей очень крупно повезло.
Вообще, надо признать, моей матери часто везло. Когда я мысленно
прослеживаю течение ее жизни, мне ясно видно, как благополучно
складывалась ее судьба: в каждой тяжелой ситуации обязательно появлялся
избавитель в том или ином облике, подчас даже во множественном, вот
как на суде в Нерли.
Посудите сами:
она рано осиротела... но родной дядя стал ей вместо отца; с ним она
знала бедность, но отнюдь не нищету;
она выросла в семье, которую в год великого насилия над
крестьянством могли раскулачить, заслать в пески, но не раскулачили ведь и не
заслали;
она вышла замуж за хорошего человека — это ли не везение! Правда,
мужа ее убили на войне, но разве не утешительно, что она прожила с ним
восемь лет — другим разлука пресекла супружество гораздо ранее;
она была владелицей двухэтажного дома — низ каменный, верх
деревянный— и не где-нибудь, а в Новгороде! Правда, дом этот сгорел во
время бомбежки;
она сама была на той войне вместе со своими маленькими детьми, но
уцелела и спасла детей, хотя столько раз была близка к гибели:
замерзала в чистом поле — спасли испанцы... голод шел по пятам, но кусок хлеба
все-таки находился... немцы могли отнять детей, но обошлось... и столько
раз бывала под бомбежкой—но ни одна бомба в нее не попала, ни один
осколок не долетел;
ей пришлось батрачить—да, но у хороших хозяев; ее там только
один раз побили и грозились утопить младшего сына, но не утопили
же!
и даже когда хотели посадить ее в тюрьму года на четыре, все-таки
не посадили, а заставили отрабатывать принудиловку в своем колхозе.
Множество всяческих везений сопровождало ее в жизни, их
невозможно перечислить. Пожалуй, без этого ей не уцелеть бы. Нет, не
уцелеть.
Матери моей ныне восемьдесят третий год.
Восемьдесят три года — это возраст, до которого она никак не
предполагала дожить. Считала так: ее век, дай Бог, шестьдесят лет. Именно к
этому сроку она все приготовила и положила в сундук.
Сундук этот заперт на висячий замок, но петли, на которых
откидывается крышка, давно перержавели и отвалились. Время от времени она
открывает его, перебирает содержимое, вздыхает. Здесь хранятся особо
почитаемые вещи, добро: длинный кусок новины, искусно вытканный
бабушкой Прасковьей Ивановной; кружевной черный шарф, некогда
любимый деревенскими модницами; кожаный ридикюль с письмами отца, его
паспортом и фотографиями; фетровые сапожки, что надевались поверх
туфель... Что еще? Вроде только это. Ах да, два лисяка! Берегла она их,
берегла и вот добереглась: лисяки сильно полысели, мех линяет клочьями,
тонкое сукно побито молью — можно выбросить их за ненадобностью. Но
матери тяжело расстаться с ними: они свидетельствуют о бесконечно
дорогом, во что уж и не верится, словно это сон — о том, что «до войны мы
жили в Новгороде и у нас было двое детей».
1991, Конаково.
Виталий Дмитриев
И КАКОЙ ЕЩЕ НАДО СВОБОДЫ?
Похмелье затянулось, господа.
Мы забрели куда-то не туда.
Скажи, зачем я вновь припоминаю
дорогу, поле, избы в два ряда,
телегу у дощатого сарая,
мать-мачехой поросший косогор,
на спуске к речке порванные сети,
две плоскодонки... И над всем
над этим —
немыслимо сияющий простор.
Бывают же такие островки,
которые и время обтекает.
Я повторяю медленно — бывают.
Глаза закрою — вижу блеск реки,
а за рекой у самого села
сосновый бор, деревья все
в надрезах,
по желобкам в воронку из железа
стекает желтоватая смола.
Прохладная лесная тишина
утешит, худо-бедно успокоит.
Уж если эта жизнь тебе дана,
то о другой загадывать не стоит.
Молчи. Давно пора бы растерять
былые представления о славе.
Пора, мой друг, пора —
давно пора,
поскольку умирать еще не вправе.
* * *
Вот и закончилось все без меня
и до обидного просто.
Только на время не стоит пенять,
выбрав судьбу не по росту.
Выплеснуть все, что копилось
внутри,
нынче уже не геройство.
Если боишься, не говори.
Если сказал, не бойся.
Сколько же можно напрасно
служить
этой дурацкой системе?
Я не желаю ни правды, ни лжи,
ибо над нами над всеми
самое время взлететь топору.
Слишком уж верили слову.
Ибо не кончится все подобру —
в этой стране — поздорову.
Мы этой жизни не знали цены,
вот нам она и зачтется.
Только для новой гражданской
войны
граждан уже не найдется.
Господи, дай нам от крови уйти,
ведь из огня да в полымя
слишком накатаны наши пути,
хоть и неисповедимы.
Все мы дошли до последней черты,
всё, что могли, развалили.
Сколько же рабства и клеветы
в нашей крови растворили,
если душа начинает вскипать,
как от кессонной болезни,
если уже бесполезно молчать,
да и кричать — бесполезно.
Дмитриев Виталий Владимирович родился 7 ноября 1950 года в
Ленинграде, где и живет. В 1977 году закончил факультет журналистики ЛГУ, но по
специальности почти не работал. Сменил множество профессий, начиная от
экскурсовода в Исаакиевском соборе и кончая плотником, каменщиком, грузчиком.
Впервые опубликовал стихи в 1976 году в журнале «Нева», но после того, как
несколько стихов было напечатано во Франции в «Континенте», публикаций не
имел. В последние годы вышли стихи в сборниках «Молодой Ленинград»,
«Невские просторы», ленинградском «Дне поэзии», «Дружбе народов».
И КАКОЙ ЕЩЕ НАДО СВОБОДЫ!
111
Когда бездействие сродни
инстинкту самосохраненья,
среди всеобщей болтовни —
я преисполнен дивной лени.
С утра, не раздвигая штор,
и телевизор не включая,
я видеть не хочу в упор
тебя, страна моя родная.
Не потревожат сладкий сон
ночных парламентов дебаты.
Я отключаю телефон.
Я затыкаю уши ватой.
И с полки взяв роман Дюма,
вновь забываю все на свете.
Уж если мир сошел с ума —
мне, за компанию, не светит.
* * *
Поэзия — это не поза,
не выход куда-то в астрал,
не сгусток рифмованной прозы,
а вовсе иной матерьял,
вбирающий все без остатка.
Здесь музыке тесно звучать,
и мысль, изреченная кратко,
несет суесловья печать,
и цвет не имеет значенья...
А все же порою она
дарует нам новое зренье
и трогает душу до дна.
Не понят. Не признан. Не издан.
Да можно ль об этом всерьез,
коль наши короткие жизни
последний спасительный взнос
в игре, для которой с азартом
тасуется смысл бытия,
и только российская карта,
краплёная кровью,—твоя.
А. Еушнеру
Все к лучшему. Среди халтурных стен,
где даже тени прошлого боятся,
так долго ожидали перемен,
что сами начинаем изменяться.
Ну что ж, вертись среди добра и зла,
как флюгер, на одной и той же ноте,
судьба моя. Пусть времени игла
впивается при каждом повороте
все глубже. К этой боли я привык.
Прости мне, жизнь, что был твоею тенью,
что искромсал любовь, как черновик,
пытаясь удержать хоть на мгновенье.
Нам и всегда не очень-то везло.
Бредовый выбор — Мойка и Фонтанка.
Но, Боже, сколько крови утекло,
а ведь такая маленькая ранка.
Зажму рукой, почти вживаясь в роль,
к чужим шагам прислушаюсь за дверью.
Безвременье. Откуда ж эта боль?
Все к лучшему. И сам себе не верю.
* *
Настанет ночь — я не зажгу огня.
Отныне мне вполне хватает дня,
чтоб разрешить насущные вопросы.
Моих друзей все дальше от меня
чужим и страшным временем уносит.
А я живу не так, пишу не так,
давно не знаю, кто мне друг, кто враг,
112 ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ
кто так зашел — поговорить и выпить,
а кто пришел случайно, но всерьез.
Стихи... Стихи... Спасительный наркоз.
И, право, грех кого-нибудь обидеть.
Мне проще. Я-то ведаю судьбу.
Не знаю, где, когда, в каком гробу
меня опустят в тесную могилу,
но знаю — это будет.
Это было.
* * *
А. Сопровскому
Остановится машина под окном,
дверцей кто-то хлопнет осторожно.
Ты о чем сейчас подумал?
Ни о чем.
Ты о чем сидишь и пишешь?
Ни о чем.
Разве можно целый вечер ни о чем?
Значит, можно.
Что-то в городе творится по ночам.
Видно, снова им не спится, сволочам.
Я на улице пустынной обернусь,—
не за мной ли эта парочка идет?
И не то чтобы чего-нибудь боюсь,—
просто знаю сто смертей наперечет.
Да и муза у Литейного моста
улыбалась мне однажды неспроста.
Будет время, улыбнемся, а теперь
пару строчек на машинке отстучим,
поглядим с тоской на запертую дверь.
Там за дверью... Но об этом промолчим.
Будет время — усмехнемся, а сейчас —
дай нам Бог, чтоб свет в подъезде не погас.
Начало
Весной на одуревшем полустанке,
среди платформ, груженых всякой дрянью:
каким-то хламом, досками, щебенкой,—
я ощутил, что неспособность к пенью
заложена в любом, кто может петь.
И замолчал. И долго слушал
гудки, свистки, железа ржавый скрежет
и чей-то властный, но усталый голос
из рупора. Кругом кипела жизнь,
пыхтела, напирала. Я был лишним.
Я отошел в сторонку, на траве,
пропитанной мазутом, расстелил
газету и присел, обозревая
весь этот хаос. Я не торопился.
Мне, в общем, было некуда спешить.
Всегда и всюду я спешил уйти
в сторонку, поглядеть со стороны.
Оно верней, конечно. Ну, а толку?
Хотя какой же толк, коль вдруг раздавят
И КАКОЙ ЕЩЕ НАДО СВОБОДЬП 1 \ 3
и даже не заметят. Я хотел
остаться очевидцем. Но кто станет
прислушиваться к голосу, который
не в силах перекрыть победный рев?
Да, не дано мне вас перекричать.
Но я люблю свой голос и сумею,
коль не дано свободы сохранить,
соорудить петлю для гибкой шеи.
Я погляжу на вас со стороны,
поскольку не терплю кровосмешенья,
кровопролитья... Крови не терплю.
Итак, была весна. Еще она
не выбралась из первозданной грязи.
Была свобода. Даль была мутна,
верней туманна. За день я излазил
весь полустанок. Поездом ночным
я отбывал. Какие только сны
не снились мне на самой верхней полке,
покуда, притворяясь багажом,
матрасами укрывшись, я сквозь гром
колесный различал порою только
унылые шаги проводников.
Я отъезжал. О, сколько городов
я повидал в то памятное лето.
Всего теперь и не припомнить. Где там.
Я путешествовал, а может быть, бежал
сам от себя. Но это и не важно.
Меня встречал обшарпанный вокзал,
как своего. О, жизни след протяжный!
Я путешествовал. Хоть это и смешно.
Коль разобраться, так не все ль равно,
в каком из городов СССРа
с тоской взирать на милиционера
или на памятник родному Ильичу,
да покупать какую-нибудь «Правду»?
Спасибо. Начитался. Не хочу.
Я путешествовал. Я совершал круиз
без денег, без билетов и без виз.
Я не имел в кармане ни гроша,
но, видно, тем-то жизнь и хороша,
что нам дана и длится, как ни странно.
Я жил. Я странствовал. И даль была туманна...
* * *
Я за городом жил все это лето,
о том, что происходит где-то в мире,
я узнавал случайно из газеты,
наколотой на гвоздике в сортире.
Рычала стройка сотнями моторов,
клубила пылью от цементовоза.
Распространяли фауна и флора
благоуханье свежего навоза.
Строительство — всегда немного праздник.
Получка — это тоже день творенья.
И все-таки творцы перепивались
и стройка приходила в запустенье.
Торчали в небо башенные краны,
пересыхал раствор уже ненужный.
8. «Знамя» № 1.2.
114
ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ
И лишь в бытовках весело и дружно
позванивали полные стаканы.
Я с ними пил. Они — не виноваты...
* * *
Костей дорогих, этих ребер, ключиц, черепов
немыслимый ряд обходя, заблудился б Создатель
под кладбищем «Южным», где спать нам во веки веков,
когда навсегда интерес к этой жизни утратим.
«Не счесть» — повторю — «Не вместить ни в какой каталог
потерь твоих, Господи». Стыдно понять временами,
что эта душа, к сожаленью, не вечный залог,
и тьма неродившихся молча бредет между нами.
«Не страх» — повторю — «А надежда. Не ужас,— но свет,
огонь очистительный. Разве и этого мало?»
Слепая судьба постоит, перекрестится вслед,
потом отвернется, и дальше плетется устало.
«Не мрак» — повторю — «но сияние вижу вдали».
Не праведник, Господи, но и греху не причастен,
поскольку уже избежал самодельной петли,
а замысел твой мне неведом, хотя и прекрасен,
коль я, по глаголу вбирая российский язык,
с рожденья впотьмах натыкаясь на каждую тему,
блуждая, прозрел, и, наверное, что-то постиг,
вплетая свой голос в его корневую систему.
Осень
А. Сопровскому
Захлебнешься встречным ветром
и поймешь довольно скоро —
в этом воздухе несметном
человеку нет опоры.
Распахав земное лоно,
ожидая изобилья,
не находит он резона
мастерить из воска крылья.
Обнищали наши души,
человеку нет свободы,
если он не смог нарушить
хоть один закон природы
и еще при этой жизни
не уверовал в бессмертье,
ожидая скорбной тризны,
навсегда прикован к тверди.
Никому я не обязан,
но была бы жизнь бесцельной,
если б с прошлым не был связан
легким крестиком нательным.
За грядущее в ответе
быть, увы, намного проще.
О, как дико воет ветер
над разграбленною рощей.
На глазах редеют кроны.
Это много или мало,
если падает в ладони
лист, как сердце, темно-алый,
если бездна под ногами
не пугает немотою,
хоть расходятся кругами
дни, отринутые мною.
О, как просто ожиданье
переходит в сожаленье.
Кто-то просит прозябанья,
словно слабое растенье,
но смолкает тихий голос,
повторив молитву всуе.
Острый серп срезает колос
и забвением врачует.
Для осеннего кочевья
сада Божьего не надо.
Одичавшие деревья
тянут ветви сквозь ограду,
уронив в чужие руки
горьковатый плод познанья.
Бесполезно, ибо внуки
не вникают в назиданья.
Переставь любые строки,
повтори с конца к началу —
одинаковы истоки
и веселья^ и печали.
Повтори любое слово
сотню раз — лишится смысла.
Жизни зыбкая основа
распадается на числа.
И КАКОЙ ЕЩЕ НАДО СВОБОДЫ)
115
Застывают в жилах соки.
Для чего же я долдоню —
чтоб не слышать одинокий
ветра плач да крик вороний.
С каждым днем все глубже дали,
все прохладней свет вечерний.
Мокнут листья на асфальте
тусклым золотом по черни.
Я не знаю цену дружбе,
ничему не знаю цену.
Тянет вечностью и стужей
из расхристанной вселенной,
где устало и покорно
наши звезды тлеют рядом
в этом небе беспризорном
меж Москвой и Ленинградом.
* * *
Когда сквозь это время, как
игла,
раздвинув черно-белые волокна,
жизнь проскользнет, укутанная
в кокон
стихов моих, и, краше чем была,
ранимая и влажная душа
протиснется, как бабочка, на волю,
расправленными крыльями шурша,
не зная унижения и боли,—
мне будет абсолютно все равно.
Ну, а пока — грядущее темно,
и душно, и терпеть невмоготу
спасительную эту тесноту.
* * *
Ах, как вьется веревочка,
видно, кончаться не скоро:
деревянные улочки,
ставни, задвижки, запоры...
Закрываю все створки,
валяюсь в измятой постели.
Ах, какие задворки
для нас на земле уцелели.
Выйдет прошлое боком,
да так и пройдет под сурдинку.
Подгляжу ненароком
и горе, и счастье в обнимку,
толчею у прилавка,
пустые, усталые лица.
Даже здесь, в этой давке,
мне с ними не слиться.
Лишь бы жизнь не теряла
привычный свой привкус бумажный.
Это тоже немало,
а все остальное — не важно,
даже город голодный
в свистках милицейских окраин,
даже страх подворотный,
которому я не хозяин.
Я ведь знаю отныне,
что жил и умру на чужбине.
Никогда не покину
я этой великой пустыни.
Ты прости мне, Иосиф,
но это моя остановка.
Ах, как вьется веревочка,
как она вьется, веревка.
Саратов, 1978 год.
* * *
Любимая! Прекрасен наш союз,
пока не откровенны притязанья
на жизнь мою. Как в паутине бьюсь,
сам ничего не ведаю заране,
и все ж боюсь.
Как будто бы и впрямь — схожу с ума:
вот смерть находит темной полосою,
звезда последняя, и облако, и тьма...
Я отвернусь. Глаза прикрою.
Как холодно. Февральский липкий снег
ложится на карниз и сразу тает.
Фонарь в окне так радостно сияет,
что неуютно делается мне.
Который час? — Полпервого. Слышны
под окнами какой-то смех и пенье.
А день какой сегодня? — Воскресенье.
...да будет мрак зиять со всех сторон.
Да буду я вовеки неприкаян
как Каин. Как Он.
116 ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ
Да будет время медлить возле нас.
Да будет очаровано пространство
своим непостоянством в этот час.
Да будет ночь. Да будет все как есть.
Иного и не жду при этой жизни.
В моей отчизне без меня не счесть
пророков, ясновидцев и святых.
Подальше бы, о Господи, от них.
* * *
С. Гандлевскому
Есть музыка, которая кружит,
подсказывает легкие повторы.
Она сама себе принадлежит:
не ищет ни поддержки, ни опоры —
звучит. И слава Богу, что звучит.
Зачем? Откуда? Где ее родник?
Кричишь в туман, а сзади словно эхо —
такой же крик. Возможно ты лишь веха —
не более чем робкий ученик,
в одном лице посредник и помеха.
А все-таки он слышен — этот крик.
* * *
Ю. Вознесенской
И с ума не сойду, и уже не сопьюсь —
мне скандальной легенды не надо.
Так чего я боялся? Чего я боюсь?
Для чего, словно вор, заучил наизусть
проходные дворы Ленинграда?
Да и здесь, у Фонтанки, ну что я забыл,
и какой еще надо свободы?
Постою на ветру у чугунных перил,
загляжусь в нефтяные разводы,—
то-то радости, Господи, жить-поживать,
это все ж не блокадную пайку жевать,
не тюремной баландой давиться...
Ну, а впрочем, не все ли равно. Наплевать.
И не то еще может случиться.
Реквием
Слух притупился и зренье слабеет.
Мертвая мать не заплачет о сыне.
Я припадал к этой скудной равнине,
знаю, что тело ее леденеет.
Не различит погребального пенья.
Не отвергает последних объятий.
Самое страшное — это понять, и,
став сиротой, неприкаянной тенью,
все же проститься. Шепнуть: «Да святится
имя твое!» И, упрятав в ладони
злые глаза, повторить: «Да свершится
воля твоя! Если я ее понял».
Санкт-Петербург
Джордж Микеш
ДВЕ ПОЛОВИНЫ
РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ
путевой очерк
До шестидневной войны Израиль был крошечной страной с
населением всего лишь два с половиной миллиона человек,
которым угрожали истреблением сто миллионов соседей-арабов. Одна-единствен-
ная неделя превратила Израиль в Великую державу с чуть ли не имперскими
претензиями. Израиль стал гигантским военным лагерем с колоссальным
населением в два с половиной миллиона воинов, угрожающих оккупацией, если не чем-
нибудь похуже, несчастной сотне миллионов невинных, миролюбивых и
беззащитных соседей.
— Не удивляйся,— сказал мне в день приезда старый друг.— Мир не
желает видеть евреев героями. Но к черту мир! Да, мы агрессивные евреи и
намерены таковыми оставаться. Мы, как все видели, можем постоять за себя и, если
понадобится, будем снова сражаться за свои жизни с оружием в руках. Мир
предпочитает евреев — мелких торговцев, он готов терпеть евреев —
процветающих банкиров, даже знаменитых пианистов. Но евреи не должны одерживать
военных побед!
— Может быть, ты и прав,— ответил я,— но это еще не повод, чтобы
пренебрегать пропагандой. Ведь многие продолжают думать, что вы безо всякой
причины напали на кучку мирных арабов, желающих лишь возделывать свои
сады и ни во что не вмешивающихся.
— Нам все равно, что о нас думают,—- сказал он.— До июня 1967 года все
нам сочувствовали, все были на нашей стороне. Наблюдали за приближением
геноцида с глубоким состраданием в сердцах и со слезами на глазах. Были
готовы посылать теплые вещи трем тысячам еврейских детей, которые, быть может,
уцелеют. Но мы не нуждаемся в подобной щедрости по двум причинам.
Во-первых, Израиль — страна южная и теплые вещи нам не нужны. Во-вторых, мы
побили арабов. И после этого нам действительно наплевать на то, что мир
укоризненно качает головой, морально осуждает нас и имеет глупость называть
агрессорами. Мы были агрессивны не более, чем бык, которого загоняют на
живодерню. Нравится это миру или нет, мы стали страной воинов и перестали быть
страной мелких торговцев или страной Пророков.
Горькие слова, и мой друг не был одинок в своем мнении. Но не выражал
он и общего для страны настроения. Большинство израильтян не считало, что
мир бросил их на произвол судьбы в час испытания и что их маленькая страна
отчаянно нуждается в могущественных союзниках. Кроме того, я обнаружил, что
Дьердь Микеш родился в 1911 году в Будапеште, окончил университет,
стал журналистом. Ему было двадцать шесть лет, когда его направили в командировку
в Лондон. Он приехал туда на две недели, а остался навсегда. Здесь, в Англии, родился
писатель Джордж Микеш. Он много путешествовал по свету, и из-под его пера вышло
несколько книг, в которых с добрым юмором и тонкой наблюдательностью рассказы,
вается о венграх, финнах, итальянцах, англичанах («Как быть иностранцем».—
<Дружба народов», 1992, № 7).
Книга «Тема пророка», фрагменты которой мы предлагаем вниманию читателей,
написана давно, вскоре после шестидневной войны 1967 года. Многое в Израиле с тех
пор переменилось. Но вчера и позавчера у нас не было возможности взглянуть на эту
страну и людей, ее населяющих, глазами дружелюбного очевидца. Вот почему мы
надеемся, что ироничные наблюдения Микеша не только позабавят читателей, но и
восполнят некоторые пробелы в наших представлениях об Израиле.
1 1 8 ДЖОРДЖ МИКЕШ
пророки еще не перевелись в Израиле. Тема Пророка умирает медленно.
Шестидневная война не только превратила израильтян в нацию воинов, она снова
сделала Израиль Землей Пророков.
Мне рассказали историю об афганском богаче по имени Дэниел, который
полвека назад потряс друзей и сограждан, отказавшись от всего своего
состояния и переселившись в Палестину с родителями, женой и малыми детьми. «Мы
должны жить в еврейском государстве»,— заявил он. «В каком еврейском
государстве?» — удивился его лучший друг. Удивление можно понять, поскольку все
это происходило задолго до образования государства Израиль. Но Дэниел
объяснил: «Мы евреи, и у нас должна быть своя страна». Он приехал в Палестину,
устроился там и начал новую жизнь на новой родине. Через несколько лет
умерли его родители, и он, следуя древней традиции, похоронил их на Горе олив.
Минуло несколько десятилетий. Дэниел состарился и в конце 1966 года тяжело
заболел. Тот самый лучший друг, который, сомневаясь в мудрости принятого
Дэниелом решения, все же переселился вместе с ним в Землю обетованную,
деликатно напомнил, что следовало бы заранее позаботиться о месте погребения.
— У меня уже есть такое место,— сообщил другу старый Дэниел.
— Где?
— На Горе олив, конечно, там, где похоронены мои родители.
— Но она принадлежит Иордании!
— Это сейчас она принадлежит Иордании. А к тому времени, когда я умру,
Гора олив будет нашей, и меня там похоронят.
— Дэниел,— сказал ему старый друг,— ты добрый человек и умный. Но
ты сумасшедший.
Дэниел умер в конце июня 1967 года. За почти двадцать предшествовавших
лет он был первым евреем, которого похоронили на Горе олив. Араб, копавший
ему могилу, был внуком человека, выкопавшего могилу его родителям.
Однажды утром, вскоре после приезда, я встретил в вестибюле гостиницы
адвоката из Атланты, с которым вместе летел в самолете.
— Я слышал анекдот, который меня встревожил,— сказал он.
— Должно быть, это неважный анекдот? — ответил я.
— Нет, анекдот как раз хороший, но он меня тревожит, тем более что я
слышу его здесь уже не в первый раз.
— Ну и что же это за анекдот?
— Два еврея, Гохн и Грин, не виделись много лет. И вдруг повстречались
посреди Средиземного моря: Гохн плыл в Израиль как новый иммигрант на
одном пароходе, Грин покидал Израиль навсегда на другом. Они посмотрели друг
на друга в большом изумлении и одновременно прокричали: «Bist du meshug-
ge?» — «Ты что, совсем спятил?»
Адвокат замолчал и угрюмо взглянул на меня.
— Кто из них прав? — спросил он.
— Думаю, Гохн,— ответил я.— Но точно не знаю. Видите ли, цель моего
нынешнего визита в том и состоит, чтобы найти ответ на этот вопрос.
Если вам, великодушный читатель, тоже интересно знать, действительно ли
мистер Гохн или мистер Грин совсем meshugge, давайте попробуем разобраться
вместе.
Дж. М.
ЕВРЕЙСКАЯ СДЕРЖАННОСТЬ
В Лидде почти все по-старому, разве что называется он теперь Лод. Тель-
Авивский аэропорт —< по-прежнему единственный на свете аэропорт, где
каждого пассажира встречают по меньшей мере десять родственников.
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ \ 19
Меня интересовало, изменились ли израильтяне за двадцать лет, минувшие
со времени образования их государства, в одном определенном смысле. Я знал,
что они действительно многого добились за эти годы, но не стали ли они чуточку
менее самодовольными? Ничуть не бывало. Когда они с восторгом
«похлопывают себя по плечу», в этом нет ничего показного, это не дань общепринятой
манере поведения. Как только речь заходит об Израиле, глаза их моментально
загораются. Их восхищение не притворно, в нем нет никакой аффектации: они
искренне любят себя и глубоко почитают. Гостю нет нужды произносить
обязательные похвалы Земле — хозяева охотно делают это за него.
Помню, как раз накануне моего предыдущего приезда, десять лет назад,
здесь был построен новый Концертный зал. Десятки, нет, сотни людей
спрашивали меня тогда: «Вы видели новый Концертный зал? Это лучший зал в мире!»
Я все время отвечал, что еще не видел, после чего тут же следовало
предложение немедленно меня туда отвезти. Как бы увлекательна ни была такая
перспектива, мне удавалось побороть соблазн, я даже гордился как величайшим своим
достижением в Израиле тем, что так и не видел нового Концертного зала
(лучшего в мире).
Моя спутница по нынешнему путешествию, ничего не знавшая об этой
особенности израильтян, столкнулась с ней вскоре после прибытия. Ей понравился
Тель-Авив, но она не была склонна преувеличивать его красоту и по дороге из
аэропорта, в машине, сказала встречавшей нас паре: «Такой уродливый город как
Тель-Авив...»
Закончить фразу ей не удалось.
— Что вы имеете в виду? — произнес мужчина, он был за рулем.
Приятельницу мою в трусости не упрекнешь. Она привыкла отстаивать свое
мнение, каким бы непопулярным оно ни было; доводилось ей оставаться в
абсолютном меньшинстве, состоящем из одного человека, но и тогда она отважно
говорила то, что думала. На этот раз подобная непоколебимость не прошла.
В этом «Что вы имеете в виду?» звучали такой неподдельный ужас, такое
оскорбленное недоумение и такое полное непонимание, что было бы недопустимой
грубостью, граничащей с бесчеловечностью, обидеть добрых людей,
оказывающих нам к тому же любезность.
— Я имела в виду, что красота Тель-Авива не бросается в глаза, ведь
правда? Не то чтобы она была совсем не видна, знаете ли, нет, конечно... Но... как
бы это получше выразить?.. Она очень своеобразна. Это не банальная красота,
она поистине уникальна.
Ее объяснения были приняты благосклонно. Разумеется, если, утверждая,
что Тель-Авив уродлив, она имела в виду лишь то, что красота его уникальна,
тогда другое дело.
Когда мы въехали в центр города, наш хозяин показал на какое-то здание
рукой и поинтересовался:
— Вы видели наш новый Концертный зал? Это лучший зал в мире.
Умиление охватило меня. Я почувствовал себя так, словно после долгой
разлуки вернулся домой.
Привычка относиться к себе слишком серьезно соседствует обычно с
трогательной наивностью. Мне следовало бы знать, что у израильтян есть предел для
самокритики. Но я забыл об этом и наделал немало ошибок.
Между Тель-Авивом и Иерусалимом идет такое же соперничество, как
между Римом и Флоренцией или между Сиднеем и Мельбурном. Существует общая
(за редкими и малыми исключениями) тенденция: израильтянин уверен, что
место, где он живет,— это единственное место, где можно жить, Особенно
характерно это для жителей Иерусалима и Тель-Авива. Один пламенный патриот
Иерусалима долго и подробно объяснял мне, что Тель-Авив — шумный и
безвкусный город, почти невыносимый. В то же время Иерусалим — город
элегантный и величественный. Тель-Авив уродлив, Иерусалим прекрасен. В Тель-Авиве
всегда жарко, в Иерусалиме всегда — по вечерам, во всяком случае,— прохлад-
120 ДЖОРДЖ МИКЕШ
но. И так далее. В конце концов, скорее чтобы сделать приятное собеседнику,
чем выразить истинное отношение, я кивнул и сказал:
— Да, если бы я решил переехать в Израиль, я конечно же поселился бы в
Иерусалиме.
Он вспыхнул и громовым голосом произнес:
— Да?! А чем же это вам Тель-Авив не угодил?
— У нас совершенно английское чувство юмора,— сообщил мне некий
молодой человек.— Наш стиль — сдержанность и ироничность.
Я не поверил своим ушам.
— Сдержанность?! — с сомнением повторил я.
Он кивнул.
—- Как вы можете это утверждать, если пять минут назад, рассказывая об
Израиле, употребляли такие эпитеты, как «чудесный», «неповторимый»,
«восхитительный», «превосходный» и «несравненный»?
Удивленно взглянув на меня, он холодно парировал:
— И все же наш стиль — сдержанность и ироничность.
ИЗ ИСТОРИИ ИЗРАИЛЬСКИХ ДЕНЕГ
В своей предыдущей книге об Израиле «Молоко и мед» я уже писал, что
денежная система этой страны трудновата для понимания. Я дал тогда беглое
описание ее, которое коротко воспроизведу.
Израильский фунт (IF) был преемником палестинского фунта (PF),
эквивалентным британскому фунту стерлингов.
Главное, что нужно было помнить,— это что, когда говорили «пиастр»,
имели в виду 10 миллей; когда говорили «шиллинг», имели в виду 50 прут; когда
люди постарше упоминали «франк», они на самом деле имели в виду пять прут,
то есть монету, которой вообще не существовало (точно так же, как не
существует гинеи). Когда те же пожилые люди говорили «гирш», они имели в виду
пятую часть шиллинга, а когда они произносили «грач», вы чувствовали, что
близки к помешательству.
Но каким бы странным все это ни казалось, ключ к пониманию все же суще*
ствовал. IF делился на 1000 прут. Почему? Не спрашивайте. Просто официально
так было решено, вот и все. Но израильтяне — неофициально мыслящая нация,
и пруты (в единственном числе — прута) они просто никогда не упоминали. Во
времена протектората пруты назывались миллями. Позже мил ли все еще
упоминались, но редко. Что упоминалось часто, так это пиастр, которого, однако, не
существовало. Если бы он существовал, он состоял бы из десяти миллей. Это
предположение составляло основу израильской денежной системы. Чтобы все это
не казалось слишком простым, израильтяне считали на шиллинги, которых тоже
не существовало. Если бы они существовали, каждый шиллинг равнялся бы пяти
пиастрам, тоже не существовавшим, но если бы они существовали, пять пиастров
равнялись бы пятидесяти прутам, но пруты никогда не упоминались.
Совершенно очевидно, что при желании и настойчивости эти трудности понимания можно
было преодолеть. Но некоторые пожилые люди продолжали называть деньги
гиршами — так по-арабски назывался пиастр (но пиастров, как вы помните, не
существовало). Те, кто говорил на идиш, употребляли слово «грач». Это проще
всего. Грач — это тот же гирш, только на идиш, то есть это арабское название
пиастра, которого тогда уже не существовало.
Если вы все это усвоили, единственное, что вам оставалось запомнить,—
это что франк равен половине грача, то есть пяти прутам (которые никогда не
упоминались), то есть половине гирша (которого не существовало).
Никто ни разу не подверг сомнению точность моих подсчетов. Было всеми
признано, что эта сложная денежная система никогда еще не описывалась столь
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ 121
ясно и коротко. В Израиле, однако, к моим объяснениям отнеслись холодно. Мне
было сказано, что израильтяне не несут ответственности за эту путаницу. Уж
мне-то следовало бы знать, какими мастерами по части неразберихи являются
британцы. Британская имперская неразбериха уступает лишь неразберихе
Оттоманской империи турков, а израильская денежная система — наследие как
турецкого, так и британского господства.
Приехав в этот раз, я обнаружил, что денежная система полностью
реформирована, поставлена на четкую, ясную, логичную основу, достойную
государства Израиль. Суть новой системы такова.
Нынешний израильский фунт называется лирой, которой, однако, не
существует. Когда обсуждалась денежная реформа, многие сентиментальные старые
люди — памятуя о библейских временах — пожелали назвать денежную единицу
шекелем. Это предложение поначалу было отвергнуто парламентом, но тут же
все как один стали называть лиру (которой не существует) шекелем, который, по
мнению израильтян, должен существовать. В конце концов, рассудили они,
Израиль — свободная страна.
Мелкая монета называется теперь агорат, который, конечно же, никогда не
упоминается, даже в шутку. Правда, упоминаются пруты, перекочевавшие из
предыдущего периода своего небытия в нынешний. Молодежь называет агорат
грачем, которого не существует, и никто из них не может даже помнить времени,
когда он существовал. Чтобы упростить систему, пять агоратов часто называют
шиллингом, которого тоже не существует и который не будет существовать еще
очень долго. (Точно так же на всех дорожных указателях в Иерусалиме — даже
на совсем новых — значится направление и расстояние до Мандельбаумских
ворот, о которых все говорят, но которых не существует.)
Что еще я должен сообщить по этому поводу? Что израильский фунт
больше не равняется фунту стерлингов. Хотя и сам он, наш родной фунт стерлингов,
после множества девальваций и пертурбаций стал фунтом вовсе не таких
стерлингов, как прежде, израильский составляет нынче в лучшем случае два
шиллинга шесть пенсов от него. Это полкроны — британской денежной единицы,
которой не существует. Кстати, это одно из британских достижений в области
создания неразберихи: две половины здесь не составляют целого; две половины
равняются пяти. И, быть может, хоть это немного научит израильтян скромности?
МАНЕРЫ
Заметив на лотке уличного торговца какую-то желто-красную жидкость, мы
подошли к нему.
— Стакан яблочного сока, пожалуйста.
Он наполнил стакан и вручил его моей спутнице:
— Морковный. Это вам будет полезнее.
Я был смущен, ибо только что как раз рассказывал ей о том, что манеры
израильтян решительно изменились, и собирался объяснить, почему это
неизбежно должно было случиться.
Пришлось на время прервать разглагольствования. Мы отправились в
ресторан, где подавали популярные в Израиле и очень вкусные молочные блюда, и, к
своей великой радости, обнаружили в меню овечий сыр, который помнили и
любили еще по временам молодости, проведенной в Центральной Европе. Это был
самый простой и дешевый из всех существующих сыров. Когда мы попросили
нам его принести, официантка покачала головой:
— Нет, вам не это нужно. Я принесу вам кое-что получше.
Протестовать было неловко. Перед нами была женщина, к тому же
немолодая, очень милая, улыбчивая — словом, сама любезность. Притом она
совершенно очевидно проявляла материнскую заботу о нас.
— Во всяком случае,— сказал я, когда официантка отошла достаточно
далеко, чтобы не услышать,— все они желают нам добра. Заботятся. Думают о
нашем благе.
122 ДЖОРДЖ МИКЕШ
Смутные сомнения, однако, у меня в душе шевелились. Может быть, думал
я, у уличного торговца просто не было яблочного сока и, предлагая нам вместо
него морковный, он пекся не столько о том, чтобы мы получили нужное
количество витаминов, сколько о том, чтобы не потерять покупателя? И, вероятно,
официантка, несмотря на свой материнский инстинкт, просто хотела подать нам
блюдо подороже? Разве в чужую душу заглянешь? Тем не менее я был решительно
настроен доказать, что манеры израильтян неузнаваемо изменились за
последние двадцать лет.
— Что это за история, которую вы описали в прошлой своей книге об
Израиле? — спросила моя спутница.— Об официанте и чае?
Я не захотел пересказывать старую историю, но дама нашла где-то
экземпляр «Молока и меда» и прочла сама.
«С компанией из семи человек я зашел в кафе. Мы заказали восемь
стаканов чая. Через несколько минут официант принес дымящийся крепкий напиток —
в каждом стакане плавал ломтик лимона. Официант опустил поднос на стол,
предоставив нам самим разбирать стаканы, что мы и сделали. Но здесь обнаружился
один лишний. Мы позвали официанта и сказали:
— Посмотрите, мы заказывали восемь стаканов, а здесь девять.
На официанта это не произвело никакого впечатления.
— Ну? — сказал он.— И что из этого? Еще какой-нибудь еврей придет и
выпьет его.
«Еще какой-нибудь еврей» действительно неотвратимо явился и выпил чай».
Когда моя спутница прочла эту историю, я объяснил ей, что подобного рода
поведение давно ушло в прошлое. Теперь такое случиться не может.
В тот же день мы отправились интервьюировать высокопоставленного
государственного чиновника, с которым обсуждали проблемы его департамента.
Когда официальная часть беседы окончилась, он заказал прохладительные напитки.
— Вы, конечно, помните вами же рассказанную историю об официанте и
чае? — спросил он.— Точно то же самое происходит у меня в кабинете три раза
в день.
На обратном пути моя спутница язвительно заметила:
— Вы, кажется, утверждали, что подобный тип поведения давно канул в
Лету?
— Я хотел лишь сказать, что официант в ресторане теперь не стал
бы так себя вести. А если сотрудники официального учреждения позволяют себе
подшучивать друг над другом, это совсем другое дело.
Вскоре после того мы пили кофе в баре. Я достал из кармана коробочку
сахарина в таблетках и спросил у дамы: «Вам сколько, две или три?» Но,
встряхнув коробочку сильнее, чем следовало, я рассыпал таблетки. Они раскатились по
столу во всех направлениях и попадали на пол.
Наблюдая, как мы ползаем, собирая таблетки, официант покатывался со
смеху:
— Две или три!.. Ха-ха-ха... Вы, наверное, хотели спросить, две или три
сотни? Ха-ха-ха...
Моя спутница не упустила случая снова посыпать мне соли на рану:
— Видно, не только сотрудники официальных учреждений позволяют себе
подобные развлечения.
Мне пришлось признать, что манеры этого официанта несколько более
непринужденны, чем принято. А почему бы, собственно, и нет?
— Люди,— сказал я,— больше не чувствуют себя неравными друг другу,
униженными, да они и не должны так себя чувствовать. Здесь нет большой
разницы в доходах, поэтому все считаются равноправными. А главное — эти люди
вместе прошли через ужасные испытания, и испытания сделали различия между
ними совсем несущественными. В Израиле у входа в отель не увидишь,—
продолжал я,— швейцаров в шитой золотыми галунами адмиральской униформе
или напоминающих скорее дипломатов эдвардианской эпохи официантов во
фраках, не встретишь вызывающе агрессивной готовности с кулаками доказывать,
что ты «ничем не хуже других», хотя никто этого и не утверждает. Кто-то офи-
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ \ 23
циант, кто-то судья, генерал или член кабинета министров — ну и что из того?
Человек — прежде всего человек.
Неплохая получилась речь. И произнес я ее недурно. Но я понимал, что все
равно проиграл. Манеры израильтян были так же плохи, как и прежде.
Израильтяне все время учат вас, что и как следует делать. Бог знает все, но
израильтяне знают все лучше, чем он. Они никогда не ошибаются. Если вы что-нибудь им
говорите, они прерывают вас замечанием «да-да, конечно», означающим «как
глупо столь подробно распространяться об очевидных вещах». Или коротким
«о'кей, о'кей», означающим приблизительно то же. Если бесцеремонно перебить
собеседника не удается, они начинают гримасничать, показывая, что все давно
уже поняли и нет нужды так долго болтать.
Они скоры на суждения и всегда сразу же делают выводы. Часто неверные.
Я как-то зашел в обувной магазин и спросил:
— У вас есть...
— Коричневые туфли, как на витрине?
— Нет, у вас есть...
— Черные?
— Нет.
— Замшевые?
— Нет.
— Босоножки?
— Нет.
— Тогда у меня есть что?
— У вас есть дочь Сюзанна? Если да, я привез для нее письмо из Лондона.
При собственной нетерпеливости и склонности к скороспелым суждениям
израильтяне уверены, что вы непременно тугодум и вообще человек туповатый.
В Хайфе я спросил у прохожего, как пройти на улицу Леона Блюма. Он ответил:
«Четвертая направо». Я поблагодарил и собрался было идти. Но он остановил
меня, подняв руку, и подчеркнуто медленно и громко стал вразумлять:
— Не первая, не вторая, не третья, а четвертая.
Я снова поблагодарил — несколько суше на сей раз,— но он и теперь не
позволил мне двинуться в путь.
— Не налево, а направо,— произнес он укоризненно.
Нужно признать, что, встречая достойный отпор своей беспардонности,
средний израильтянин относится к этому с пониманием.
Моя спутница немного прихворнула, и знакомый врач по телефону
посоветовал купить некие таблетки. Я накорябал своим неразборчивым почерком
название на бумажке и, придя в аптеку, хотел прочесть его продавщице. Она
громко крикнула:
— Дайте сюда бумажку. Я сама могу прочесть. Я не слепая.
Я твердо возразил:
— Мне кажется, что вы и не глухая, так что послушайте.
Наши отношения тотчас наладились, и покупка была совершена без
дальнейших осложнений.
Несмотря на подобные огорчительные и раздражающие мелкие инциденты и
препирательства, вежливость все же медленно завоевывает свои позиции. Вы
постоянно встречаетесь с проявлениями этикета и понимания. Водители (иногда)
дают пешеходам целых две, а то и три (но это уже предел их терпения) секунды,
чтобы перейти улицу, и оказывают друг другу мелкие любезности. Общая
атмосфера гораздо менее накалена, чем во время моего предыдущего приезда.
Напряженность не витает больше в воздухе, а случающиеся все же вспышки не так
убийственно заканчиваются.
Новый стиль поведения — трудно, медленно — пробивает себе дорогу. Пусть
это еще не спокойное, лишенное суматошности взаимопонимание и не
старомодная куртуазность придворных европейских манер, не сдержанность,
дисциплинированность и хладнокровие, свойственные англичанам. Но кто, собственно, ска-
124 ДЖОРДЖ МИКЕШ
зал, что вежливость должна быть именно такой? Я, например, предпочитаю
простое, искреннее сочувствие долгим расшаркиваниям, не говоря уж об
«изысканности» манер в стиле «только-после-вас-Сесил».
Мой приятель — геодезист поехал по делам со своим помощником в какой-
то отдаленный городок. Он хорошо знал это место, но в последнее время там
не бывал, а помощник наведывался чуть ли не каждую неделю.
— Оказывается, здесь строят новый военный аэродром, а ты мне ничего об
этом не сказал! — упрекнул геодезист своего ассистента.
Ассистент тут же оправдался:
— Простите. Я не знал, что он секретный.
Припоминаю еще более забавный случай, иллюстрирующий отношение
израильтян к секретности. Я брал интервью у высокопоставленного военного и
выражал сомнения по некоему конкретному вопросу. Я сильно давил, и в конце
концов его терпение лопнуло. Он подошел к сейфу, достал оттуда какую-то
папку и сердито сказал:
— Ну, хорошо. Вот это — совершенно секретно, но я вам это покажу.
И показал.
О КНИГАХ, ВЫПИВКЕ И...
Израиль очень уж легкомысленной страной не назовешь. Любимое народное
времяпрепровождение здесь — чтение. Положение не изменилось даже после
наплыва огромного количества евреев с Востока, многие из которых были
неграмотными. Как-то я заглянул в тель-авивскую трущобу. Это было, быть может,
самое бедное и жалкое жилище, какое мне довелось увидеть в Израиле.
Глубокий старик, хозяин этого унылого подвала, лежал ничком на полуразвалившемся
остове железной кровати. В нескольких дюймах от носа он держал совершенно
растрепанную книгу и при свете единственной голой лампочки, свисавшей с
потолка на длинном проводе, читал с помощью лупы. Быть может, Ницше и
собрание сочинений Достоевского есть теперь не у каждого неквалифицированного
рабочего в этой стране (как было двадцать лет назад), но несомненно, что здесь
гораздо больше, чем в любом другом месте на земле, людей, которые читают
стбящую литературу.
Неподалеку от отеля, где я жил, на улице Яркон, есть маленький парк,
обнесенный невысоким кирпичным забором. Каждый день я видел одного и того
же парня, видимо, поденщика, который сидел на этом заборе. Он ждал, когда
подвернется какая-нибудь работенка — поднести постояльцам чемоданы или
начистить картошки для гостиничной кухни — и при этом постоянно слушал свой
транзистор. Не популярную музыку, как делал бы его коллега в любой другой
точке света, а новости и политические комментарии. Передачи шли на иврите, я
ничего не понимал, кроме имен президентов и названий горячих точек. Однажды
я спросил приятеля, с которым мы проходили мимо этого молодого человека, что
тот слушает. Оказалось — обзор зарубежной прессы. И тогда я подумал: быть
может, в том и заключается сила Израиля, что поденщиков, сидящих на заборах
в ожидании случайной работы, интересуют не популярные рок-группы, а
передовицы из «Монд»?
Подобная преданность культуре и политике может, однако, далеко завести.
Как-то, едучи в такси, я заметил, что шофер на ходу читает газету. К счастью,
событий в мире в тот день было немного, а те, что были, не казались
захватывающими, так что нам удалось-таки добраться до места целыми и невредимыми.
Ночных клубов в Израиле мало, и найти их нелегко. Заметив в беседе с при^
ятелями, что Израилю далеко до Лас-Вегаса, я хотел сделать комплимент, но
они почувствовали себя уязвленными. Иронизировать над чем бы то ни было
израильским нельзя! Однако я все же рискну дать совет: если вы любите разгуль-
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ 1 25
ную жизнь и веселые, фривольные развлечения, Израиль — не для вас. Даже те
ночные клубы, которые вам удастся обнаружить, по духу больше напоминают
Ассоциацию молодых христиан, чем гнездо разврата.
Кстати об Ассоциации. В Иерусалиме находится единственное в мире
отделение этой популярной христианской организации, где большинство членов
составляют евреи. (Правда, в последнее время соотношение несколько
изменилось благодаря значительному притоку в нее... мусульман.)
Серьезная для Израиля проблема — алкоголизм. Дело в том, что народ
Израиля потребляет мало спиртных напитков. Здесь нет пивных; выпить можно
лишь в гостиничном баре, ресторане или кафе, но мало кто пьет что-нибудь
крепче пива.
Пьют в основном холодные фруктовые соки, да и то все меньше. Когда я
первый раз приехал в Израиль, национальным напитком там был газоз —
газированный фруктовый сок. Каждый день жители страны выпивали миллионы
галлонов газоза. Тогда даже ходил такой анекдот. Христианин и еврей заблудились в
пустыне. После многодневных поисков их наконец нашли, и, когда спасатели
приблизились к ним, христианин закричал: «Воды, воды!», а еврей: «Газоз, газоз!»
В этот приезд я уже не слышал слова «газоз». Теперь самым популярным
напитком был просто фруктовый сок, и еврейский джентльмен, заблудись он в
пустыне сегодня, подозреваю, согласился бы и на стакан воды, если, конечно,
она будет должным образом охлаждена.
Низкое потребление алкоголя беспокоит правительство, так как оно
намерено развивать виноделие. Израиль — пожалуй, единственная в мире страна, где
официальные средства пропаганды пытаются убедить население пить больше:
ВИНО УЛУЧШАЕТ ВКУС ПИЩИ!
Израиль производит собственное бренди. Завязавшаяся было у меня с
одним израильтянином дружба была погублена в зародыше, после того как я
высказал робкое предположение, что самые высокосортные французские коньяки,
пожалуй, все же чуть-чуть лучше израильского бренди. Впрочем, оно и в самом
деле недурно, и людям внушают:
ГЛОТОК БРЕНДИ ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ!
Тщетно! Они, видимо, не хотят быть в хорошем настроении. Предпочитают
пребывать в унынии, но сохранять трезвость. Правда, пасхальные дни весьма
благоприятны для торговли спиртными напитками: предполагается, что все
израильтяне выпивают в среднем по четыре стакана вина в каждый из восьми дней.
Они их действительно выпивают, однако делают это из чувства религиозного
долга и удовольствия при этом не испытывают.
Только, не дай Бог, не подумайте, что в остальном мире подобная
умеренность воспринимается как добродетель. Ничуть не бывало! Многие считают ее
доказательством того, что евреи просто не такие же живые люди, как все, что
они не умеют радоваться жизни и что они вовсе и не люди даже. И переубедить
в этом никого невозможно.
Даже скромность, проявляемая евреями в другом известном смысле,
оборачивается иногда против них. Я слышал однажды, как некий французский
журналист интервьюировал в Газе группу арабов, делая упор на злодеяниях евреев во
время войны. Газа — средоточие горечи, ненависти и безысходности, и нет
такого обвинения, которое местные арабы не были бы готовы обрушить на головы
евреев. Араба-учителя, горевшего желанием в мельчайших, леденящих душу
подробностях описать злодейства, совершенные здесь евреями, француз спросил,
были ли случаи изнасилования.
— Какого изнасилования? — удивился араб.
— Ну, вы же понимаете. Изнасилование. Израильские солдаты насиловали
арабских женщин?
Учитель покачал головой и доложил, что изнасилований не было.
— Что, совсем не было?
126 ДЖОРДЖ МИКЕШ
— Совсем,—извиняющимся тоном ответил араб, страшно расстроенный
тем, что вынужден разочаровать дружелюбного француза.—- Чего не было, того
не было.
Француз закатил глаза к небу и презрительно воскликнул:
— О, Боже! И э т о называется армией!
Здесь к месту вспомнить и рассказ моего приятеля, который командовал во
время войны танковым экипажем.
Бой был в разгаре. Жестокий бой, по его словам. «В течение нескольких
часов мы не могли сломить сопротивление противника. Пожалуй, это был
единственный случай за всю войну.
Я вошел в какой-то дом, чтобы позвонить жене,— продолжал мой
приятель.— Все обитатели его были в бомбоубежище. Я спустился туда и нашел
хозяина дома. Правоверный еврей поднялся со мной наверх и поинтересовался, что
мне нужно. Я попросил разрешения позвонить.
— Позвонить? — повторил он.
— Да, жене,— объяснил я.
Он удивился.
— Вашей жене?
— Да, моей жене, в Беэр-шеву.
— Зачем?
— Сказать ей, что у меня все в порядке.
Его удивление росло.
— Вокруг стреляют, идет бой, а вы хотите звонить жене?.. Ну, что ж,
солдат, давайте, раз так. Звоните вашей жене.
Я снял трубку, назвал номер в Беэр-шеве, и меня соединили даже быстрее,
чем в мирное время. Наверное, мало кто пользовался в те дни телефоном.
Жена была дома и сказала мне, что в Беэр-шеве спокойно. Но только мы начали
говорить, как три израильских орудия открыли огонь у самого дома. Я не слышал
теперь ни единого слова. Тогда я вышел к артиллеристам и сказал:
— Ради Бога... Я разговариваю с женой. Не могли бы вы немного
подождать?
— Да, конечно,— ответил лейтенант, который командовал подразделением,
и огонь прекратился.
Правоверный еврей наблюдал за всем этим с возрастающим отчаянием. Он
не верил своим ушам. Потом простер руки к небу и воскликнул:
— И это иудейская армия! Всемогущий Боже, смилуйся над нами!»
И еще к вопросу о злодеяниях.
Газетчик-араб из Восточного Иерусалима, пользуясь только что
предоставленными всем журналистам правами, в том числе правом в любой момент
обращаться в правительственную пресс-службу за содействием, жаловался
руководителю этой службы на какие-то осложнения в работе.
— Хорошо, я разберусь,—- сказал чиновник, но араб не удовлетворился этим
и продолжал «доставать» его своими жалобами. Наконец у чиновника лопнуло
терпение,
— Послушайте,— сказал он,— вы устраиваете такой шум по такому
ничтожному поводу. А позволили бы вы израильским журналистам предъявлять
претензии своей пресс-службе? Что бы вообще вы сделали с нами, если бы
победили?
— Ну, как же,— весело и беззаботно отозвался араб.— Мы бы, разумеется,
перерезали вам глотки. Но это, видите ли, совсем другое дело: вы же — народ
цивилизованный, а мы — дикари.
Пожалуй, араб имел право на сарказм. Я не знаю случая, чтобы в ответ на
обвинения в злодеяниях или разного рода эксцессах израильтянин не сказал:
«А что бы сделали в этом случае арабы?»
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ \ 27
ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКА
В промежутке между двумя моими последними визитами Израиль выучил
иврит.
Он сделал это в три приема. Вначале, как известно, ни одна живая душа
на иврите не говорила. Это единственный в новой истории пример успешного
возрождения мертвого языка. Ни ирландский, ни валлийский не могут
похвастать такими достижениями. Воскресение иврита — идея и дело жизни одного
человека, Вен Иегуды, который жил с 1858 по 1922 год. В юности он обретался в
России, в городе Двинске, учился в университете. Потом эмигрировал в
Палестину и отказался разговаривать на каком бы то ни было другом языке, кроме
иврита, даже с женой и детьми. «Я не утверждаю, что сионист должен
непременно быть безумным,— говаривал президент Вейцман1,— но если он безумен, это
сильно облегчает дело». И действительно, Бен Иегуду многие долго считали
чуть ли не клиническим сумасшедшим. Однако случилось невозможное: иврит
прижился.
Собственный язык — основа человеческого достоинства, считал Аристотель.
Бен Иегуда разделял его мнение. Сегодня молочницы и портные, чиновники и
зеленщики, почтальоны и юристы говорят на иврите. Кто-то говорит на нем
прекрасно, кто-то неважно, кто-то плохо —- но говорят! И это стало так же
естественно, как говорить по-французски или по-персидски.
Сам Бен Иегуда учился ивриту по Библии. В любом другом случае великие
литературные произведения есть побочный продукт языка; в этом — язык есть
побочный продукт великого литературного произведения.
Иврит — язык очень трудный, потому что на письме в нем не
предусмотрены гласные. Ну, представьте себе, что первая строка английского гимна пишется
так:
Бж, хрн, крлв!
Или возьмем слово кот. Если бы англичане приняли ивритскую систему
написания (впрочем, надо признать, что английская орфография не намного
лучше), то это слово следовало бы писать так: к т. И тогда вот это: «Ктгрмкмкл»
следовало бы читать как «Кот громко мяукал»,— ибо кто же, если не кот,
может мяукать? Но безгласное кт может означать и множество других понятий:
кит, якут, кут, икота, кета, кат, акт, кутья, киот и даже Китай. И вполне
можно предположить, что в лихой статье публициста-парадоксалиста ту же фразу
следовало бы читать как: Китай громко мяукал.
Это, однако, не единственная языковая трудность.
Язык, пришедший из древней книги, больше подходит для клятв и
пророчеств, чем для современной живой речи или обсуждения проблем технологии.
Никто по-настоящему не знал, как следует говорить на иврите. В то время в
Израиле существовала даже особая профессия: человек, который правил речи
членов парламента и министров, устраняя грубые грамматические ошибки,
чтобы сделать эти речи приемлемыми для публикации.
Менее чем через десять лет — во время моего второго визита —
израильтяне достигли второй стадии. Теперь это была страна, в которой хуже, чем где бы
то ни было, говорили на большем* чем где бы то ни было, количестве языков.
Многие выходцы из Центральной Европы говорили на плохом немецком;
румыны и болгары — на плохом французском; другие румыны, а также словаки и
хорваты — на ломаном венгерском; некоторые югославы говорили на плохом
итальянском, итальянцы — на плохом испанском, греки — на плохом турецком,
турки — на плохом греческом. Плохой английский был вторым общепринятым
языком Израиля, а плохой иврит, разумеется, оставался общенациональным,
государственным языком.
1 Вейцман Хаим (1874—1952), президент государства Израиль с 1948 года. Один
из лидеров сионистского движения, президент Всемирной сионистской организации в
1920—1931. 1935—1946 гг. (Здесь и далее прим. перев.)*
128 ДЖОРДЖ МИКЕШ
Нынче все переменилось, наступила третья стадия. Для большинства
населения иврит стал родным языком. И прогресс не в том, что на иврите говорит
теперь гораздо больше людей, а в том, что говорят они на нем совершенно е с-
тественно. Это больше не требует усилий: иврит уже не диво и не шутка, а
настоящий язык. Сильно возросли тиражи газет на иврите, так как все больше
людей привыкают читать на этом языке. (Не забавно ли, что в стране с очень
высоким уровнем грамотности значительная часть населения умела говорить, но
не умела читать и писать на иврите. Отсутствие гласных, видимо, многим
оказалось не по зубам.) Заново конструируемые и естественно рождающиеся слова все
больше заполняют пробелы и становятся органичными, живыми элементами
речи. Теперь уже можно свободно, как на всяком другом языке, обсуждать на
иврите любые темы — технологии, поп-музыки, секса, искусства, науки — любые.
Региональные диалекты здесь, конечно, не возникли — больно уж мала страна,
чтобы можно было по говору отличить жителя Хайфы от жителя Беэр-шевы. Но
разного рода жаргоны и сленги расцвели пышным цветом: судейский, актерский,
военный, ученый, блатной и так далее. Если в первый свой приезд я наблюдал
чудо выживания иврита, то в нынешний видел, как он живет полноценной
жизнью.
Лингвистический опыт, приобретенный в Израиле, опрокинул мою же
собственную теорию, которая всегда казалась мне несокрушимой. Когда-то я побывал
в Финляндии, которая мне очень понравилась. Особенно меня интересовал ее
язык как один из очень немногих родственных моему родному, венгерскому.
Хотя элементарные слова (например, «рыба», «птица», «рука», «ступня», «один»,
«два», «три»), а также некоторые основополагающие грамматические правила в
этих языках одинаковы, я не понимал по-фински решительно ничего. Но я
безошибочно мог идентифицировать финскую речь: интонация та же — ударение в
обоих языках всегда падает на первый слог, а в конце фразы голос всегда
понижается. Поэтому я знаю: всякий язык, звучащий как венгерский, но мне
непонятный, есть финский.
Считается, что хуже всех на иврите говорят венгры. Их иврит действительно
ужасен. Быть может, потому, что в иврите ударение всегда падает на последний
слог, а интонация в конце фразы повышается. Это требование все венгры
дружно презирают, игнорируют и тем гордятся. В результате подобного их отношения
к ивриту и рухнула моя теория. Теперь я знаю, что человек, который говорит на
языке, похожем на венгерский, но мне непонятном, не обязательно финн. Это
может быть венгр, говорящий на иврите.
Отношения между ивритом и идиш тоже сильно изменились за последние
годы. Сначала идиш был в Израиле языком даже более нежелательным и
преследуемым, чем в Польше или предгитлеровской Германии. Идиш считался
незаконнорожденным, немного смешным языком того комичного еврея, каким рисуют его
антисемиты. Израильтяне были убеждены, что к государству Израиль он
никакого отношения не имеет. Но выходцы из Польши и других
центральноевропейских стран — в каких-то отношениях самые несносные существа, в каких-то,
можно сказать, цвет нации — не сомневались, несмотря на все антисемитские
выпады, что идиш — органическая часть еврейской традиции, а если вспомнить кое-
какие главы национальной истории, а также выдающихся писателей, творивших
на этом языке, то и весьма значительная часть. Эти люди энергично
протестовали против гонений на идиш, считая их проявлением антисемитизма внутри
государства Израиль. В то же время они возражали против признания за ивритом
статуса государственного языка. Иврит — язык Книги, утверждали они, и
кощунственно пользоваться им на базаре или в спальне.
Нынче идиш переживает период славного возрождения, что происходит и
благодаря блестящим успехам театра на этом языке. Против идиш теперь уже
никто не возражает и никто не относится к нему враждебно. Иврит достаточно
окреп, чтобы позволить себе быть добрым и терпимым к идиш.
Как-то в Хайфе я встретил старых друзей. Они незадолго до того приехали
из Трансильвании, и иврит давался им еще труднее, чем большинству венгров.
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ 129
Они корпели над ним со всем усердием, но, видимо, потерпели полное фиаско.
Однажды я отправился за покупками с матерью этого семейства. В магазине
арабский мальчик лет пятнадцати, обслуживая посетителей, бойко болтал с
ними, насколько я мог судить, на хорошем, живом иврите, без всякого акцента
(арабы вообще необычайно одарены лингвистически). Когда подошла наша
очередь, моя приятельница и мальчик стали беседовать по-английски.
— Но ведь он же говорит на иврите,— удивился я.
Дама покраснела.
— Он-то говорит, да вот я-то — нет.
ГДЕ ПОЕСТЬ
В целом Израиль — одно из самых волнующих мест на земле, ибо он все
еще продолжает меняться и бороться — по большей части, успешно — против
значительно превосходящих внешних сил. Это маленькая, но отважная страна,
глядящая в будущее, и она, пожалуй, может в известном смысле преподать
человечеству урок-другой. А кроме всего прочего, Израиль — не такой как все.
Вы можете проехать от Нью-Йорка до Сингапура или от Сиднея до Иоганнес-
бурга и — если, разумеется, специально не выискивать чего-то необычного —
вообще не заметить никаких различий. Совсем иное дело Израиль. Есть туристы,
которые совершают кругосветное путешествие, так и не видя ничего, кроме
вестибюлей в отелях «Хилтон», заполненных американцами, в ожидании
экскурсионного автобуса поглощающими огромные количества отвратительного
американского кофе, которым почему-то — без всяких на то оснований — гордится
весь американский народ. В Израиле даже путешественники, пользующиеся
услугами фирмы «Хилтон», замечают отличие, скажем, тель-авивского «Хилтона»
от всех других. Где бы я ни бывал, эти заведения всегда вызывали у меня
отвращение. Тель-авивский «Хилтон» лишь слегка раздражал. (А фаршированную
рыбу, гордость польско-еврейской кухни, здесь готовят лучше, чем в любом
другом «Хилтоне» на свете, если, конечно, ее вообще еще где-нибудь готовят.)
Памятуя об этом, а также о том, что сказал ранее (людям, которые больше
всего интересуются ночными клубами и стриптизами, лучше объезжать Израиль
стороной), я вынужден тем не менее добавить: а тем, кто основное и
исключительное удовольствие находит в гастрономических усладах, лучше до (или
вместо) Израиля поехать во Францию.
В Израиле можно хорошо поесть, если у вас много денег. Среди очень
дорогих ресторанов есть несколько действительно превосходных — быть может, не
лучших в мире, однако способных удовлетворить взыскательный вкус даже
искушенного гурмана. Но, насколько известно мне, а равно и множеству моих
израильских друзей, ресторана, в котором можно было бы прилично поесть за
умеренную плату, здесь нет.
А вот еще ступенькой ниже, в дешевом ресторане, вам снова повезет.
В каком-нибудь молочном кафе подают свежие и очень вкусные молочные
блюда.
Очень хороши настоящие арабские рестораны — в Восточном Иерусалиме и
на Западном берегу. И популярность их заслуженна. Арабская кухня больше
подходит для местного климата, чем все эти знаменитые и часто действительно
замечательные кушанья, рожденные среди снегов России и Польши. Правда, это
мало кто признает, и, вкушая в Израиле отличные еврейские блюда, я очень
этому радовался.
Арабская еда действительно вкусна, но лучшие арабские рестораны ничуть
не дешевле еврейских.
Здешние официанты имеют обескураживающую привычку выслушать вас с
величайшим вниманием и галантностью, а затем принести втрое больше, чем вы
9. «Знамя» №12.
ДЖОРДЖ МИКЕШ
просили. Если вы робко укажете им на это, они уберут половину того, jrro
принесено сверх вашего желания, но вид у них при этом будет оскорбленный.
Когда вы заказываете бифштекс, вам, случается, приносят баранину. Вы
заказываете свинину — вам снова приносят баранину. Тогда вы прибегаете к
военной хитрости и заказываете баранину. Черта с два! Вам все равно приносят
баранину.
ИМЕНА
В Израиле я оскорбил больше народу, чем где бы то ни было еще за всю
свою жизнь.
Кто-то звонит вам и представляется:
— Это Эфраим Бар'он.
— Чем могу служить? — вежливо интересуетесь вы.
Эфраим Бар'он бросает трубку. Он больше никогда в жизни не будет с
вами разговаривать, потому что вы совершили непростительную бестактность,
проявили надменность, холодность и недружелюбие. Оказывается, в прошлый свой
приезд вы с Эфраимом Бар'оном были закадычными друзьями — но тогда его
звали Марсель Брандис. Это правда, что он уже давно сменил имя, как правда
и то, что вас он об этом не оповещал, но вам все равно следовало знать, что
Эфраим Бар'он не может быть никем иным, кроме как вашим старым приятелем
Марселем Брандисом.
Иногда случаются некоторые несообразности. Мне рассказывали об одном
йеменце по имени Элияху Иегуда — ивритское имя, о котором можно только
мечтать, вызывающее множество легендарных ассоциаций. Но йеменец никогда не
слышал о великом Бен Иегуде, Став гражданином Израиля, он пожелал иметь
настоящее еврейское имя, в его, разумеется, понимании. Поэтому он стал
Шмуэлем Гольдштейном и жил с тех пор спокойно и счастливо.
Обжегшись пару раз на подобной перемене имен, вы начинаете вежливо и
осторожно выспрашивать у того, кто вам звонит, как его звали раньше. Это
считается грубостью. Израильтяне, за редкими исключениями вроде мистера
Элияху Иегуды, стараются избавиться от своих старых фамилий, похожих на
немецкие, и никто не желает, чтобы ему напоминали, что когда-то, в Словакии
или Черногории, у него была именно такая фамилия, а не нынешняя — длинная,
мелодично звучащая и красивая ивритская.
Ивритские имена зачастую слишком трудны для иностранцев. Ваш старый
друг Питер теперь стал Акибой, Джо — Игал ом, а Стив — Аароном. Библию
перетрясли множество раз в поисках не избитых еще имен, и сегодня, кроме имени
Каин, в ней не осталось ни одного свободного.
Выхода нет. Вас все равно сочтут человеком грубым и бессердечным, если
вы не знаете, что Игал Гилбоа и ваш друг детства Пишта Варна из Будапешта —
одно и то же лицо. Как это узнать — ваша проблема, и решать ее вы должны
сами.
Было бы весьма полезно издать в Израиле справочник «Кто был кем». Он
пользовался бы большим спросом.
АМЕРИКАНЦЫ В ИЗРАИЛЕ
Американцы порой ведут себя в Израиле так, словно они его купили.
Объяснить это можно тем, что так оно и есть.
Нужно признать, что американцы, приезжающие в Израиль, очень милые
люди. Они вдумчивы и любознательны. По большей части это евреи, но много
и христиан, ведь в Израиле немало святынь, дорогих и для христиан. Довольно
часто среди туристов встречаются типичные американские бизнесмены — уровня
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ
131
вице-президента фирмы,— но это не средний американский турист.
Вице-президент считает, что он хозяин мира. Средний американский турист много
скромнее — он считает, что он всего лишь хозяин Израиля.
После шестидневной войны появился американский турист нового типа.
Израильский приятель, о котором я уже упоминал — в мирное время геодезист, а
во время войны командир бронетанкового подразделения,— так описывал мне
этот новый тип.
— Американские друзья без конца рассказывают нам о том, что они
сделали для нас во время войны.
«Вы знаете,— сообщает, к примеру, такой друг,— в те дни я, приходя
домой, говорил жене: нет-нет, Нэнси, никакого ужина, я буду смотреть телевизор.
Вы только представьте себе — не поужинав (!), я не отрывался от экрана. Все,
что я съедал тогда по вечерам,— несколько сэндвичей, пара сосисок, чизбургер-
другой с кружкой пива, от силы двумя, и, может быть, еще немного
мороженого — вот и все. Я совершенно забывал о еде, сидя перед телевизором».
Я киваю головой,— продолжал мой приятель,— и благодарю за
неоценимую поддержку. Но если пытаюсь в ответ рассказать, как мое подразделение
первым ворвалось в Восточный Иерусалим, собеседник прерывает меня снова: «Это
что! Посмотрели бы вы на нью-йоркцев! Господи, они с ума сходили — просто
сходили с ума!»
Вот так-то.
Американцам почти все нравится в Израиле («О, все просто чудесно!»), но
они хотели бы, чтобы здесь больше внимания уделялось религии. Дома-то они
вовсе не так уж набожны. Но за свои деньги желают видеть Израиль,
еврейское государство, более религиозным. , •
Нормальному американскому туристу повсюду мерещится Америка. Он
постоянно находит забавные совпадения. Например, при взгляде на гору Сион
такой турист восклицает: «Ой, посмотрите, ну это же вылитый Холм Зенит в
Алабаме!» Никто никогда не говорит, что это не так, или хотя бы, что гора
Сион, конечно, похожа на Холм Зенит из Алабамы, но не совсем. В
Хайфе они заявляют: «Ну, не Форт ли это Спринг, Небраска?» Масада
оказывается точь-в-точь как Форт Уорт, Техас, а пустыню Негев не отличишь от
Аризоны.
Более внимательный турист, впрочем, время от времени замечает кое-какие
различия. Одна дама сказала мужу, что некое озеро в Коннектикуте
«совершенно такое же, как Мертвое море, но только более, конечно, мертвое». А другая с
первого взгляда определила, что Бетельхейм иудейский совершенно не похож на
Бетельхейм пенсильванский.
Я сидел однажды в вестибюле иерусалимского отеля «Кинг Дэвид» рядом с
американской парой, покидавшей Израиль после туристкой поездки и ожидавшей
такси, чтобы ехать в аэропорт.
Джентльмен сказал:
«Все-таки мы плохо поступили, Глэдис: мы ведь обещали Джин съездить на
Тивериадское озеро, а не съездили.
— Почему это мы плохо поступили?
— Ну, мы ведь обещали.
— Я знаю, что обещали, но мы там были.
— Были?
— Конечно.
— На Тивериадском озере?
— Да.
Джентльмен покачал головой:
— Ты шутишь, мы там не были.
— Ну как же, Джек! — напомнила дама.— Помнишь то место, где нам
подали очень жесткое мясо? Ты еще сказал, что чуть не сломал зубы.
— Разумеется, помню.
— Так вот это и было Тивериадское озеро».
ДЖОРДЖ МИКЕШ
БЕДУИНЫ
Бедуины, в 1948 году гораздо более склонные к кочевой жизни, чем
нынче, всегда были самой произраильской частью арабского населения. Когда-то они
пощипывали израильтян, но в этом не было никаких личных мотивов —
антиеврейские мы оставляем в стороне. Просто они грабили тех, кого имело смысл
грабить. Но даже в те времена некоторые бедуины испытывали к государству
чувство благодарности за предоставленное им медицинское обслуживание, а
небольшая их часть даже боролась в 1948 году на стороне Израиля.
Я видел несколько сотен бедуинов, живущих теперь в деревнях между
Хайфой и Назаретом. Это уважаемые, законопослушные граждане. Я побывал в доме
бывшего вождя и был принят с истинно арабским гостеприимством. Я
романтически представлял себе бедуинов бедными детьми необъятных просторов
безжизненной пустыни. Они же благополучно обитали в обычных селах, в обычных
кирпичных домах. Я был разочарован. А сами бедуины нисколько не тосковали по
прошлой жизни: им явно недоставало моего романтизма. «Это добрая
перемена,— просто сказал бывший вождь.— Гораздо удобнее жить в доме, чем
постоянно скитаться по свету. И для детей лучше, они могут ходить в школу. Приятно
иметь обставленный всем необходимым дом, холодильник, телевизор и
консервный нож, висящий на стене».
— Но как же со свободолюбием, свойственным сынам пустыни? — с
надеждой в голосе настаивал я.
— А, свободолюбие... Да, конечно...— ответил он.— Свободолюбие
свойственно сынам пустыни. Но в этой жизни есть многое, что компенсирует его
утрату.
— И у вас совсем нет желания побродить по бесконечной пустынной земле,
почувствовать себя абсолютно свободным? — не унимался я.
— Никакого,— ответил он.
Сопровождавший меня приятель-араб вставил:
— Еще не так давно каждая капля воды доставалась с огромным трудом:
женщины должны были носить тяжелые ведра на голове.
— Но мужчины могли бы им помочь,— заметил я.
— Добывать воду с незапамятных времен было обязанностью женщин,—
отбрил меня бывший вождь.— Однако я не о том. В те времена, если гость
просил стакан воды, он его, конечно же, получал, но для хозяев это было величайшим
бедствием. А сегодня стоит только открыть кран...
— А как насчет племенной вражды? — с надеждой поинтересовался я.
— С ней покончено,— ответил экс-вождь.— В деревне ей не выжить.
— Но ведь были же смертельные враги,— попытался я возразить.—
Непримиримые, кровные.
— Все помирились.— Он улыбнулся.— Умишки у нас тогда были скудные.
С группой израильских журналистов я путешествовал по окрестностям Беэр-
шевы в поисках местного колорита. Нам посоветовали разыскать бедуина,
обитающего неподалеку от маленькой гостиницы на главном шоссе. Утверждали, что
он весьма живописно выглядит. Настолько живописно, что это уже стало его
профессией — выглядеть живописно. Туристы, главным образом американцы,
фотографировали его вместе с верблюдом с утра до вечера. Размер гонорара
колебался от пяти до десяти фунтов. Предприятие процветало.
Мы нашли объект без труда — его просто невозможно было не заметить. Он
был свиреп на вид и великолепен: кожа опалена жарким солнцем пустыни, глаза,
когда он смотрел на вас, прожигали насквозь. В этом человеке соединились
вековая гордость, мудрость, жестокость и храбрость — при всем том он был вполне
доступен.
Он беседовал с одним из израильских журналистов, а я прислушивался, хоть
разговор шел на иврите. Их прервала американская пара: дама желала запечат-
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ 133
леться подле бедуина на фоне верблюда. Они заплатили десять фунтов и
удалились. Интервью возобновилось.
Наконец я перебил их и сказал по-английски:
— Ваш акцент...
— Чем вам не нравится мой акцент? — спросил он надменно. Сотня гордых
сынов пустыни глядела на меня его черными глазами.
— Это не бедуинский акцент,— предположил я.
— Ну, может быть, и нет.
— У вас венгерский акцент.
— Не исключено.
— Как ваше имя?
— Золтан Штайнер.
— Золтан Штайнер,— повторил я, словно пробуя имя на вкус— Придется
признать, что это не бедуинское имя. Во всяком случае, не очень обычное для
бедуина.
— Нет, это вовсе не бедуинское имя.
— А почему же вы одеты, как бедуин?
Он взглянул на меня. Теперь гордых сынов пустыни в его глазах осталось
всего человек пятьдесят.
— Быть бедуином — моя профессия. У врачей — свой рабочий костюм, у
хирургов и медсестер — свой; солдаты, полицейские, шахтеры носят спецодежду,
монахини и раввины тоже. Почему бы и бедуину не иметь форму?
В этом был резон.
— Хорошо, мистер Штайнер, тогда расскажите мне, как венгерский еврей
стал профессиональным бедуином?
Он рассказал. Очень простая история. Оказавшись вблизи Беэр-шевы без
работы и без гроша в кармане, он обратил внимание, что некий бедуин —
истинный сын пустыни — делает потрясающий бизнес, позволяя фотографировать
себя американским туристам. Однажды его племя решило сняться с места.
Бедуин, который зарабатывал на жизнь в качестве фотомодели, зубами и когтями
сражался, чтобы отменить это решение: ведь у него дела шли отлично. О его
соплеменниках этого, однако, никак нельзя было сказать, и против них он был
бессилен. О том, чтобы остаться, если остальные уйдут, не могло быть и речи:
ни один бедуин не может отколоться от племени. Словом, пришлось ему
уходить.
— Я отправился в Беэр-шеву на базар,— продолжал мистер Штайнер,—
купил себе бедуинское обмундирование. Обошлось оно недешево, но я получил
кредит. Пришлось купить и верблюда: нужно было выглядеть достоверно.
Деньги на верблюда я тоже занял, но теперь все долги выплачены. К обеду того дня,
когда племя откочевывало, я был уже на посту. И я ни разу не пожалел о своем
решении.
Он взглянул на часы.
— Вы торопитесь? — спросил я.
— Пока нет. Я закрываюсь в 5.30, во время туристского сезона —
в 7.30.
— А чем вы занимаетесь после рабочего дня?
— Иду домой, принимаю ванну и делаю, как и все, то да се. Обычно
слушаю музыку, у меня стереопроигрыватель. Особенно люблю Моцарта. Причем
предпочитаю раннего Моцарта — я не похож на других.
Этот факт было трудно оспорить.
— Вы счастливы и довольны, мистер Штайнер? — спросил я.
Он посмотрел на меня. На сей раз я заметил в его пронзительном взгляде
отблеск огней сотен центральноевропейских кафе.
— Да, я счастлив и доволен,— спокойно ответил он,— если бы не одна
загвоздка.
— Какая?
— Я до сих пор смертельно боюсь этого чертова верблюда.
134 ДЖОРДЖ МИКЕШ
«ХИЛТОН» В КИБУЦЕ
Мы приехали в кибуц и вошли в гостиничную регистратуру. Первым делом
заметили объявление — «Здесь принимаются клубные карточки, а также
дорожные чеки «Американ экспресс». Мы расписались в книге, и посыльный отнес
вещи в наши номера. В каждом из них были душ и кондиционер. Потом мы
отправились в ресторан, забитый теми же американскими туристами, которых мы
видели в тель-авивском «Хилтоне» и которых полно в любом «Хилтоне» мира,
только здесь они были в теннисках или ярких рубашках навыпуск — в конце концов
это был всего лишь кибуц. Столовая кибуца — в отличие от ресторана —
находилась в стороне от гостиницы и не имела к ней никакого отношения. Кибуцники
не ходили в гостиницу, они жили и питались так, как принято во всех кибуцах.
Кто-то сообщил мне, что только бармен, администратор и директор
ресторана — члены кибуца. Официанты же все — нанятые, так как кибуцники
отказываются прислуживать посторонним.
Как я узнал позже, это не совсем так. Директор ресторана, который в
армии имел звание полковника, обходил гостей, когда те уже пили кофе, и,
кланяясь (слегка), выражал надежду, что еда им понравилась.
Я помню кибуцы, которые видел двадцать лет назад: изнурительная борьба
за выживание, бедность, предельная простота быта. И мне было очень приятно
видеть, какими процветающими они стали теперь. Однако сам собой возникал
вопрос: не утрачено ли что-то в процессе развития? Нынче все они содержат какие-
нибудь доходные заведения — в этом кибуце, как видим, есть гостиница, другие
производят сельскохозяйственный инвентарь, слесарные инструменты,
электроприборы и всевозможные приспособления,— и большинство членов кибуца
живет в цивилизованных, комфортабельных условиях. Этот кибуц' был побогаче
других, и уж наверняка намного богаче того маленького английского кибуца, в
котором моя спутница побывала несколькими днями раньше и где, конечно же,
все пьют чай в пять часов дня, играют в крикет по воскресеньям и где на стенах
непременно висит портрет королевы. Моя приятельница спросила, все ли члены
этого кибуца англичане или среди них есть и представители других
национальностей. Молодой человек, которому она адресовала свой вопрос, удивился и
покачал головой. «О, нет-нет, никаких иностранцев»,— ответил он.
А приятельница моя думала, что он добавит: «И никаких евреев».
В беседе с полковником я обронил какое-то замечание насчет изобильности
жизни в кибуце. Он улыбнулся:
— О, простите, мы не носим лохмотьев. Люди не хотят. Конечно, нас
ожидают увидеть эдакими «пионерами»-оборванцами. Но таких больше нет. Мы,
правда, подумываем, не обрядить ли гостиничных служащих в рванье, чтобы не
разочаровывать посетителей.
Я ответил, что не столько сожалею об отсутствии лохмотьев — хотя они
всегда выглядят очень живописно,— сколько удивлен, что кибуц держит наемную
рабочую силу, так как его члены считают службу официанта унизительной.
— Вы правы, использование наемных работников противоречит принципам
кибуца. Правда и то, что мы все же нанимаем девушек из окрестных деревень,
которые, кстати, неплохо здесь зарабатывают. Но неправда, будто мы делаем это
потому, что считаем труд официанта зазорным. Мы бы никогда не стали
перекладывать на других работу, которую отказываемся делать сами. Просто у нас
не хватает рук, чтобы и гостиницу содержать, и в кибуце работать. Работа же в
кибуце — в полеводстве, хлопководстве — для нас прежде всего. Гостиница дело
важное и доходное, но только побочное. Как-нибудь, когда мы построим
достаточно жилых домов, в ресторанах или других заведениях, которые мы откроем,
будут работать члены кибуца, так как официанток со стороны — разумеется, тех,
кто сам пожелает,— мы примем в кибуц.
Неизменный основополагающий принцип жизни в кибуце — взаимопомощь.
Детей, проявляющих способности к учебе, посылают в университеты; но по
возвращении они все равно обязаны выполнять любую необходимую работу. Выпускник
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ
135
университета может заниматься умственным трудом, но в положенный срок и до
него дойдет очередь мыть посуду или обслуживать членов кибуца в столовой.
Когда меня повели на кухню, картошку там чистил прославленный пилот-
истребитель, на счету которого немало сбитых во время шестидневной войны
самолетов противника. Ему явно и в голову не приходило, что он занимается чем-
то для него унизительным. Бывший председатель кибуца работал теперь в саду
и был счастлив, что избавился от груза ответственности, который был вынужден
нести прежде, а также что может проводить много времени на свежем воздухе.
Случалось, кибуцники становились даже министрами, но оставались при этом
членами кибуца. Покинув министерские кресла, они возвращались в кибуц
чистить коровники или доить коров. Правда, их всегда показывают туристам:
«Посмотрите, вот этот дояр — бывший министр».
Я познакомился с милым, культурным и скромным — даже застенчивым —
кибуцником, который отлично говорил по-английски с легким центральноевропей-
ским акцентом — немецким или, быть может, польским. Этот мужчина средних
лет большую часть взрослой жизни провел здесь, в кибуце.
— Я приехал из Британии,— рассказал он,— там окончил школу, там
живут все мои родственники. Ну и будет об этом.
Я, разумеется, не стал расспрашивать о его происхождении, поняв, что у
него есть причины не вспоминать о своем центральноевропейском прошлом. Его
звали Алекс, и мы не расставались с ним на протяжении всего моего
пребывания в кибуце. Я спросил его, какую роль сегодня играют кибуцы, служат ли они
главным образом военными аванпостами? Стратегическими укреплениями? Он
покачал головой:
— Нет. Они имеют, конечно, определенное военное значение и, разумеется,
сыграли важную роль во время войны. Среди нас много летчиков и офицеров-
танкистов. Но хотите верьте, хотите нет, главная и самая важная их роль — это
роль сельскохозяйственная.
Я поинтересовался, что было с этим кибуцем во время войны, ведь он
расположен почти на самой границе с Сирией и наверняка был уязвим для
артиллерии противника.
— Нам повезло. У нас здесь были сложены в стога тонны кормовой травы,
и один из первых же сирийских снарядов их поджег. Стога очень ярко и долго
горели, выбрасывая огромные столбы черного дыма. Сирийцы, видимо, решили,
что попали в полевой склад боеприпасов и от нас не осталось мокрого места. Из-
за дымовой завесы они ничего не могли рассмотреть, поэтому прекратили огонь и
оставили нас в покое.
Звучало слишком просто. А я ведь слышал немало историй о героизме ки-
буцников.
— Героизм? — нахмурился Алекс.— Не думаю, что это подходящее слово.
Дело в том, что мы просто не могли отсюда уйти. Отступление — роскошь,
которую даже новые и процветающие кибуцы не могут себе позволить. Русские
одержали множество великих побед, используя тактику отступления и
выжженной земли, но в Израиле Кутузов не стал бы выдающимся полководцем. Можно
временно сдать «территорию», но сдать свой дом врагу нельзя, нельзя и сжечь
дело всей своей жизни. Да, наш кибуц — наша жизнь. Это очень просто. Если
нам суждено отдать свою жизнь — что ж, но это значит, что мы умрем, защищая
кибуц. Никакой это не героизм, это здравый смысл.
Обо всем — о войне, мире, жизни, смерти — он говорил спокойно, без
патетики. Он мне нравился, я восхищался его характером, но мне казалось, что он
совершенно лишен эмоций. Я ошибся. Был предмет, который глубоко и сердечно
трогал его. Как только мы его коснулись, Алекс растаял и разволновался; глаза
его заблестели, в голосе зазвучали лирические нотки. Этим предметом были...
запчасти. Первый раз он упомянул о них вскользь. Я спросил, чем он занимается,.
и он, ответив: «Работаю на складе запчастей»,— продолжил разговор на прежнюю
тему. Позднее, в своем чистеньком маленьком домике, он показывал мне картины
своего сына, который не жил в кибуце. Очень неплохие для любителя работы.
И я поинтересовался, есть ли увлечение у самодо Алекса.
4 зб ДЖОРДЖ МИКЕШ
— Мое увлечение — моя работа,— просто ответил он.
— Запчасти? — удивился я.
— Да,— он кивнул.
— Вы увлекаетесь запчастями?!
В этом кибуце сельскохозяйственное производство так же высоко
механизировано, как на любой американской ферме. Приезжие из США с восхищением
подтверждают это. Много лет назад Алекс заметил, что при поломке техники
масса времени уходит на поиск запасных частей, иногда их надо добывать в
Британии, а то и в Соединенных Штатах. И он решил убедить руководство кибуца в
том, что гораздо выгоднее хранить их на месте, чтобы никакая авария не могла
застать механизатора врасплох. Это требовало, разумеется, немалых вложений,
и, естественно, руководство поначалу сопротивлялось. Но Алекс был настойчив,
а его энтузиазм заразителен, так что в конце концов начальство сдалось и
назначило Алекса заведующим отделом запчастей.
Осуществление плана принесло невероятный успех: ежегодная экономия
выражалась в тысячах человеко-часов. Для хранения запчастей специально
построили большое складское помещение. Опыт переняли и многие другие кибуцы.
— Хотите взглянуть на мои запчасти? — с нежностью произнес Алекс.
Отказаться было просто невозможно, я сказал, что мечтаю увидеть их. Мы
отправились на склад и провели там не меньше часа, разглядывая шестеренки,
шпильки, сверла, динамо-машины всех форм и размеров, а также какие-то
сложные части механизмов. Это напоминало, как когда-то англичане показывали мне
свои огороды: они так же гордились цветной капустой и кабачками, как Алекс —
шестеренками и предохранителями. Нигде больше я не встречал такой
трогательной гордости, любви, заботы и такой преданности неодушевленным
предметам — при абсолютном отсутствии тщеславия и снобизма. Он любил
запчасти бескорыстно, беззаветно, ради них самих.
— В 1960 году я ездил за границу. Кибуц взял на себя все расходы и
снабдил деньгами. Я навестил родственников в Бирмингеме,— сообщил Алекс и
добавил: — Мне оплатили дорогу туда и обратно.— Видимо, чтобы я не подумал,
что билет ему купили только в один конец.— У нас все путешествуют, даже
подростки. И я4опять поеду, когда подойдет моя очередь, наверное, уже скоро.
— Но послушайте, Алекс,— сказал я,— ведь если бы вы были агентом по
продаже запчастей, пусть бы дело шло у вас даже лишь наполовину столь
успешно, вы могли бы каждый год совершать кругосветное путешествие, а не
краткосрочные поездки раз в десять лет.
— Это правда,— ответил он с видом человека, много раз об этом
думавшего.
— И что же, никаких сожалений?
Он не спросил: «Сожалений о чем?» Он понял, но промолчал. А я
продолжал подначивать:
— Никаких сожалений о том, что вы стали монахом Израиля?
— Как-то раз,— сказал он,— сломался наш электрогенератор. Полетела
маленькая деталь трансформатора американского производства. Случись это до
того, как я организовал хранение запчастей, все наше, электрооборудование, в том
числе и освещение, остановилось бы по меньшей мере на три недели. Благодаря
же моей системе хранения запчастей остановка продлилась семнадцать минут.
— Поздравляю. Но я спрашиваю, нет ли у вас сожалений?
— А это и есть мой ответ. Нет у меня сожалений. Да, я действительно не
владею сколько-нибудь значительным личным имуществом. И может быть, мы
действительно монахи Израиля. Но разве мы обеспечены хуже горожан? У нас
нет денег, но за все, что нам нужно, платит кибуц. Мы все получаем бесплатно.
У нас нет забот, во всяком случае, финансовых. И, как видите, уровень жизни
сильно повысился. Раньше мы жили в скромных комнатках, похожих на
монашеские кельи, а теперь взгляните на мой дом. Чем не жилище со всеми
удобствами представителя среднего класса? И одеваемся мы так же, как горожане,
даже в галстуках порой ходим — двадцать лет назад об этой детали туалета здесь
и не ведали. Система кибуцев совершенствуется. Дети теперь чаще остаются с
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ \ 37
родителями. До армии мой сын тоже жил с нами .(жена моя сейчас в отъезде).
Радиоприемники в домах раньше не поощрялись, считалось, что все вместе
должны слушать коммунальное радио. А сейчас у всех — собственные приемники
и телевизоры. Мы живем нормальной жизнью, такой же, как горожане. И все
больше, наших детей получает высшее образование.
— А они возвращаются потом?
— Некоторые нет, большинство возвращается. Им нравится такая жизнь,
ведь они привыкли к ней с рождения. У нас есть и общественная жизнь, клубы,
например. И там все бесплатно: хотите сэндвич или какой-нибудь безалкогольный
напиток — пожалуйста. За спиртное, правда, нужно платить из своих карманных
денег, но его никто не употребляет. Знаете, это один из самых серьезных
недостатков евреев: они не пьют. Разве что кружку пива, не более.
Он закурил.
Для него было важно, что жизнь в кибуце нормальная.
— В былые времена никому в голову не* приходило запирать свою
комнату или дом. Все исходили из того, что воров среди нас нет. Но на самом деле у
нас есть свои воры. Мелкие, конечно, но несколько вещей пропало. Так что
теперь мы тоже запираем двери.
Он произнес это с некоторым удовлетворением, словно гордился тем, что в
кибуце, как везде, есть воры. Конечно, хотелось бы иметь и вооруженных
грабителей, но приходится довольствоваться тем, что есть. Наличие нескольких
мелких воришек делало кибуц менее добродетельным, но более человечным. Воры —
это нормально.
— Вот вы спросили, нет ли у меня сожалений. Я много об этом думал и
теперь могу сказать с уверенностью: нет. Наверное, какие-то житейские
удовольствия прошли мимо меня. Но что такое удовольствие? В кибуце нет места
честолюбию, во всяком случае, личному. А кибуц как таковой — вообще-то
организация честолюбивая. И, как вы могли убедиться, весьма успешно действующая.
Наше общество здоровее, чем потребительское общество за пределами кибуца.
Во внешнем мире главная забота: что вы можете получить, здесь — что вы
можете дать. Неплохая, знаете ли, жизненная установка. Конечно, у нас есть
свои трудности, приходится чем-то жертвовать, но нам многое дано взамен.
— Понимаю,— сказал я. Я действительно понял.
— Хорошо выполняя полезную работу, помогая создавать нечто стоящее,
человек получает и личное удовлетворение.
Он сказал это очень просто, и слова его прозвучали правдиво и
убедительно. И все же я спросил, не посещало ли его хоть раз в жизни чувство протеста
против подавления личности.
— Я был частью целого,— с гордостью ответил он.
— Не просто частью,— добавил я.— Запчастью!
Тень улыбки мелькнула на его лице, и вид стал еще более гордым.
САБРЫ
Слово с а б р меняло смысл дважды.
Изначально это название маленького, колючего, кисловатого плода. Затем
так стали называть молодого человека, уроженца Израиля. Двадцать лет назад
сабр был редкостью в этой стране иммигрантов, сегодня уже половина
населения — коренные жители. Таким образом, слово «сабр» еще раз изменило свое
значение. Теперь сабр — это истинный израильтянин, характер его должен быть
независимым, агрессивным, несентиментальным — в сущности, нееврейским:
колючим и кисловатым. Многие сабры таковы и есть, но таковы же и многие
иммигранты. С другой стороны, дети, скажем, марокканцев — а их в семье
обычно не меньше шести-семи,— родившиеся в Израиле, но воспитанные по древним
правилам Востока, столь же далеки от образа сабра, как Коран от Моше Даяна.
Сегодня гораздо меньше, чем двадцать лет назад, людей, которые с
гордостью, пылающей в очах, сообщат вам, что их дети — сабры. Слово девальвиро-
\ 33 ДЖОРДЖ МИКЕШ
валось, хотя дух сабров необходим нынче Израилю больше, чем самоирония,
мудрое понимание, жалость к себе и самоуничижительный юмор евреев из гетто,
которых сабры презирают.
Сабры не испытывают никакого почтения к своим так называемым
благодетелям — богатым американским евреям и вообще евреям диаспоры. Сабры
сомневаются в их бескорыстии. Когда во время шестидневной войны добровольцы
со всего мира стремились приехать в Израиль, сабры говорили: «Они нам не
нужны. Кроме того, единственное, чего они хотят, это устроить себе бесплатные
каникулы». А узнав, сколько среди этих добровольцев девушек, добавляли:
«Единственное, чего они хотят, это подцепить здесь женихов». Услышав, что Ватикан
простил евреев, вернее, освободил их от ответственности за распятие Христа, они
задали вопрос: «А кто простит папу и Ватикан за две тысячи лет гонений на
евреев?»
Они непокорны по отношению к властям, но не воинственны. Шестидневная
война не доставила им никакого удовольствия. Она была лишь неприятной
обязанностью, пустой тратой сил. Время от времени этим приходится заниматься,
и они готовы снова проучить неприятеля, но никакого энтузиазма по сему поводу
не испытывают. Они исполняют эту обязанность как фермер исполняет
обязанность засевать поле: работа тяжелая и неприятная, но необходимая.
Во всем мире бывают бурные студенческие демонстрации. Только не в
Израиле! Жесткая, агрессивная молодежь воздерживается здесь от манифестаций;
она не стремится к «студенческой власти» и не проявляет никакого желания
изменить общество. В Израиле нет Кон-Бендитов и Тариков Али. Израильская
молодежь не любит их, а они, в свою очередь, ненавидят израильский национализм.
Израильская молодежь не видит — или не придает значения тому факту, что
точно так же эти студенческие лидеры ненавидят французский, британский и
немецкий национализм, демонстрируя тем самым гораздо более широкий и гуманный
взгляд на человечество, чем ограниченные националисты, которые, быть может,
и понимают это, но считают, что Израиль не может позволить себе роскошь
интернационализма. Во всяком случае, то, что в Израиле нет студенческих волнений,
объясняется двумя причинами. Во-первых, плата за образование здесь очень
высока, а преимущества, которые оно дает, еще выше. Молодой человек,
обучающийся в вузе, зависит от родителей, которые, как правило, вынуждены многим
жертвовать, чтобы дать ребенку образование; человек с образованием может
рассчитывать на хорошую работу, материальную независимость и высокий
социальный статус. Поэтому израильская молодежь предпочитает сначала
сосредоточиться на учебе, а уж потом, получив образование, преобразовывать общество, если,
конечно, в этом будет необходимость. Статус студента в Израиле к
романтическим порывам не располагает.
Вторая причина — еще важнее. Молодые люди не оппозиционны
государству. Это вовсе не означает, что они с энтузиазмом поддерживают любое решение
правительства, но они поддерживают правительство по существу: всегда готовы
защищать Израиль от арабов. А поскольку фундаментальных
расхождений нет, какой смысл в маршах протеста и революционных действиях? Поэтому
студенты продолжают учиться. А выход своей агрессивности и избыточной
энергии находят в военной службе и регулярных войнах.
Сабр нетерпим к евреям диаспоры. Если ты еврей, твое место в Израиле;
если ты не едешь в Израиль, значит, ты не еврей. У сабра израилецентристское
мировосприятие: на мир он смотрит сквозь израильские очки. Конечно, он
понимает, что полагать, будто в мире существует одна-единственная проблема, есть
проявление ограниченности, поэтому он признает, что существуют две проблемы:
отношение Израиля к арабам и отношение евреев Израиля к евреям диаспоры.
Противостояние поколений неизбежно везде, но в двух странах современного
мира оно приобрело особенно острую форму непонимания и недоверия. Эти
страны — Германия и Израиль. Современная немецкая молодежь задает вопрос
своим родителям: как вы могли это сделать? Современная молодежь Израиля
вопрошает своих: как вы могли это терпеть?
ДВЕ ПОЛОВИНЫ РАВНЯЮТСЯ ПЯТИ t39
В обеих странах разрыв между поколениями еще недавно казался
непреодолимым. Здесь речь не о Германии, а в Израиле толчком к взаимопониманию
послужил процесс над Эйхманом1. До него точка зрения сабров была хорошо
известна — она была примитивна и воинственна: почему наши отцы не восстали,
почему не сражались и не погибли в бою? Молодые сабры время нацизма
представляли себе не как эпоху страданий и мученичества, а как национальный позор.
Родители же отказывались говорить на эту тему вообще. С них было достаточно,
что они то страшное время пережили: забыть это невозможно, но можно — и
должно — об этом молчать. Процесс над Эйхманом воскресил былую трагедию во всей
ее ужасной наглядности: он показал, что евреи были беззащитны перед
вооруженными до зубов убийцами и мощью государства, но при малейшей возможности —
сколь безнадежной она бы ни. казалась,— они все же оказывали сопротивление.
Пример тому — варшавское гетто, где они умирали, сражаясь. Молодежь
узнала—и это произвело на нее сильнейшее 'впечатление,— что в те дни мир стоял
в стороне, наблюдая за убийством миллионов невинных людей, а после сделал
вид, что ни о чем не ведал. На это новое знание наложился и собственный опыт,
полученный в войне 1967 года. Молодежь вдруг осознала, что это может
повториться, что погибнуть могут даже те, кто чудом остался в живых после
геноцида. Юноши и девушки задумались о том, что сами они могли сделать такого,
чего не сделали их отцы в сороковые годы, и осознали наконец тот факт, что
массовые убийства евреев нацистами были трагедией, а не позором народа.
Суд над Эйхманом преподал еще один урок: нужно пытаться выражать
словами даже кажущееся невыразимым, дискуссия так или иначе проясняет
ситуацию, ведь и жертвы и, увы, убийцы — люди. Молодежи впервые стало
ясно, что эпоха Эйхмана — позор скорее для Германии, чем для евреев.
И, наконец, самое главное. После того, что израильтяне услышали, во время
процесса и что пережили во время шестидневной войны, старики поняли, что,
имей они в свое время шанс и оружие, они тоже могли бы стать героями, а
сабры, встретив у своих границ несметную армию арабов, жаждущих крови евреев,
и увидев, что мир снова проливает слезы, но ничего не предпринимает, поняли,
что без поддержки извне и сами могут оказаться жертвами.
Колесо описало полный круг. Сабр, живущий в государстве, добившемся
выдающихся успехов в сельском хозяйстве и военных побед, весьма заурядном в
области искусства и литературы и очень слабом в сфере коммерции и банковского
дела, в государстве, постоянно озабоченном проблемами миграции населения, этот
сабр — совершенно особый человеческий вид, существо, отличное от собственных
родителей, корнями приросших к Европе.
Одна израильская пара путешествовала по Европе со своим
одиннадцатилетним отпрыском-сабром. В Италии мальчик спросил:
— Эти люди евреи?
— Нет, они христиане.
Во Франции ребенок поинтересовался снова:
— А эти люди — евреи?
— Нет, они христиане.
Сын везде задавал этот вопрос и везде получал один и тот же ответ —
в Голландии, Дании, Швеции. И наконец с искренним сочувствием воскликнул:
— Какая страшная судьба!.. Как это, наверное, ужасно для бедных
христиан — быть вот так рассеянными по всему миру!
Перевод с английского И. Дорониной
1 Эйхман Карл (1906—1962), немецко-фашистский военный преступник. С 1933
года в СС, с 1937 года возглавлял подотдел «по делам евреев» в имперском управлении
безопасности. После разгрома фашистской Германии бежал в Аргентину, откуда
вывезен в 1960 году израильской разведкой, судим и казнен по приговору суда.
Корней Чуковский
ИЗ ДНЕВНИКА
1955-1969
1955
21 января. Был в городе — хотел поговорить с Пискуновым о новом сборнике
своих «Сказок», куда они как будто согласны включить «Крокодила». Вдруг звонит
ко мне Клара: «М. Б-не стало хуже, зовите Алексея Вас-ча». У нее совершенно
перестало действовать сердце, сильно болит левая рука, аппетита никакого, губы
синие. Но голова ясная, речь не хуже обычной. Что делать? Я примчался из
Москвы — не доделав своих мелконьких дел. <3...>
22 янв. Щемящее чувство к родному гибнущему человеку душит меня
слезами. Хотел было отвлечь ее от мучительных мыслей — и стал читать ей рукопись
«Бибигона» — и все боялся, что прорвутся рыдания. Он[а] слушала очень
внимательно — и указывала, где длиноты и вялости — но вдруг я увидел, что это
тяжкая нагрузка для ее усталого мозга — и что я утомляю ее. Держится она только
черным кофеем и ядами лекарей. <...>
21 февраля. Лида вошла и сказала: «скончалась». Ольга Ив. и Анаст. Ив.
обмыли ее, одели, приехал врач: смерть. <3...>
23 февраля. Вот и похороны. <...>
Я на грузовике вместе с Лидой и Сергеем Николаевичем. Смотрю на это
обожаемое лицо в гробу, розовое, с такими знакомыми пятнышками, которое я
столько целовал — и чувствую, будто меня везут на эшафот. Сзади шествуют Штейн,
Погодина, Леоновы, Федин, Каверин — дети, внуки и мне легче, что я не один, но
я смотрю, смотрю в это лицо, и на него падает легкий снежок, и мне кажется, что
на нем какое-то суровое благоволение, спокойствие.
Гроб на горку несли Миримский, Сергей Ник., Дима Родичев.
Чудесный венок от Маршака, от Георгиевской и Габбе (Габбе дивно говорила
ео мною — в комнате, отдельно). И вот гроб на горке — и мне кажется, что я в
первый раз вижу похороны, и в первый раз понимаю, что такое смерть,— мы
плетемся по ухабистому снегу, проваливаясь, прекрасное место под тремя соснами
выбрал я для нее и для себя, здесь я пережил всю казнь — и забивание гроба
гвоздями, и стуки мерзлой земли по гробу и медленную — ужасно медленную работу
лопат. Прокопыч сколотил крестик, Женя написал чудесную табличку, насыпь
засыпали цветами, венками, и я не помню, как я вернулся домой. Трогательнее
всех был Сергей Николаевич, наш бывший шофер. <3...>
7 марта. Был рано утром на могиле. Снежок. Снял ленты — с венков. Уцелели
очень немногие — от Маршака, от детей. Какая-то сволочь ворует надгробные
ленты. Никогда еще так ясно не представлялась мне хрупкость понятий «мое», «твое».
К своим вещам М. Б. была по-детски ревнива, и мне даже странно, что я могу
взять ее чемодан, или открыть ее столик. <3...>
И как остро ощущаешь те перемены, которые происходят в мире без нее.
<3-..> В Москве у Образцова гостит Сима Дрейден — тебе было бы интересно
О к о н ч а н и е. Начало см. «Знамя* № 11.
ИЗ ДНЕВНИКА 141
взглянуть на него. Сима вернулся из лагеря, оправданный. Рассказывает, что в
качестве лжесвидетеля был Дембо, в качестве лжеэксперта была Тамара Кази-
мировна Трифонова. Дембо «уличал» его в антисоветских речах — уличал в
глаза, на очной ставке. А когда Дрейден вернулся и появился в театре, Дембо
подошел к нему «Здравствуй, Симочка, поздравляю!» Дрейден прошел мимо негодяя,
даже не взглянув на него. М. Б-не это было бы интересно очень. <-...>
Был сейчас у Степанова. Говорил, что хочу ставить на могиле М. Б-ны
памятник — и что рядом будет моя могила. Он сказал деловито:
— Вас тут ни за что не похоронят. (Словно добавив: «вот увидите»).
Значит, надо хлопотать, чтобы похоронили именно здесь. <...> Когда
теряешь друга и спутника всей твоей жизни, начинаешь с изумлением думать о себе —
впервые задаешься вопросом: «кто же я таков?» и приходишь к очень
неутешительным выводам. <...> И еще одно: когда умирает жена, с которой прожил
нераздельно полвека, вдруг забываются последние годы, чи она возникает перед
тобою во всем цвету молодости, женственности — невестой, молодой матерью —
забываются седые волосы, и видишь, какая чепуха -— время, какая это бессильная
чушь. <...>
11 марта. Встретил на улице Корнелия Зелинского и Перцова. Рассказывает
сенсационную новость. Александрова, министра культуры, уличили в разврате, а
вместе с ним и Петрова, и Кружкова, и (будто бы) Еголина. Говорят, что Петров, как
директор Литинститута, поставлял Александрову девочек-студенток, и они
распутничали вкупе и влюбе. Подумаешь, какая новость. Я этого Ал-ва наблюдал в
Узком. Каждый вечер он был пьян, пробирался в номер к NN и (как говорила
прислуга) выходил оттуда на заре. Но разве в этом дело. Дело в том, что он бездарен,
невежествен, хамоват, туп, вульгарно-мелочен. Когда я был в Узком, он с группой
«философов» спешно сочинял учебник философии (или Курс философии), я
встречался с ним часто. Он, историк философии, никогда не слыхал имени Николая Як.
Грота, не знал, что Влад. Соловьев был поэтом, смешивал Федора Сологуба с
Вл. Соллогубом и т. д. Нужно было только поглядеть на него пять минут, чтобы
увидеть, что это — карьерист, не имеющий никакого отношения к культуре. И его
делают министром культуры!
Это мне напоминает случай с Анной Радловой. Она гнусно переводила
Шекспира. Я написал об этом, доказал это с математической точностью. Малый ребенок
мог убедиться, что ее переводы никуда не годятся. Но она продолжала
процветать,— и Шекспир ставился в ее переводах. Но вот оказалось, что она ушла в
лагерь Гитлера — и тогда официально было признано, что она действительно плохо
переводила Ш-ра. Александров на Съезде выступал тотчас же после меня. Я в
своей речи говорил о бюрократизации нашего советского лит. стиля. И речь
Александрова была чудесной иллюстрацией к моему тезису. Публика хохотала. Я
получил несколько записок, где его речь подвергалась насмешкам — именно как
образец того стиля, над которым я сейчас издевался. Все видели, что это Держиморда,
холуй. Но — повторилась история с Берией — начальство было слепо, и Ал-ов был
поставлен во главе всей советской культуры. <...>
Приехал Коля. Рассказывал дело Сурова, который пользуясь гонениями
против космополитов, путем всяких запугиваний, принудил двух евреев написать ему
пьесы, за которые он, Суров, получил две сталинские премии! Гниль, ложь,
бездарность, карьеризм! <...>
В городе ходит много анекдотов об Александрове. Говорят, что ему
позвонили 8 марта и поздравили с женским днем.— Почему вы поздравляете меня? —
«Потому что вы главная наша проститутка». Говорят, что три министра заспорили,
чье ведомство было создано раньше: мин. земледелия: «мое» (потому что бог
раньше всего создал землю); министр электрост.: «мое» (потому что «Да будет свет»);
министр культуры: «мое» (так как вначале был хаос).
Оказывается Еголин действительно причастен к этим оргиям. Неужели его
будут судить за это, а не за то, что он, паразит, «редактировал» Ушинского,
Чехова, Некрасова, ничего не делая, сваливая всю работу на других и получая за
свое номинальное редакторство больше, чем получили при жизни Чехов, У'шин-
ский, Некрасов! Зильберштейн и Макашин трудятся в поте лица, а паразиты
1 42 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Бельчиков и Еголин ставят на их работах свои имена — и получают
гонорар?! <...>
15 марта. Леонов говорит, что Александров вчера как ни в чем не бывало явился
вчера в Академию Наук за жалованием (20 тысяч) и говорил тамошней
администрации: теперь я более свободен, присылайте мне побольше аспирантских
работ. <...>
1 апреля 55. Ну вот, Корней, тебе и 73 года!
До сих пор я писал дневник для себя, то есть для того неведомого мне Кор-
нея Чуковского, каким я буду в более поздние годы. Теперь более поздних лет
для меня уже нет. Для кого же я пишу это? Для потомства? Если бы я писал его
для потомства, я писал бы иначе, наряднее, писал бы о другом, и не ставил бы
порою двух слов, вместо 25 или 30,— как поступил бы, если бы не мнил именно
себя единственным будущим читателем этих заметок. Выходит, что писать
дневник уже незачем, ибо. всякий кто знает, что такое могила, не думает о дневниках
для потомства.
Вчера читал «Tramp abroad» — и с прежним восторгом «The Awful German
Language» *. Эта глава кажется мне одним из лучших произведений Твена. Никогда ни
одна филологическая статья не вызывала такого хохота. Написать веселую статью
о лингвистике — сделать грамматику уморительно смешной — казалось бы,
немыслимое дело, и однако через 50 лет я так же весело смеялся — читая его
изыскания. <'...>
10 мая. Был у меня сейчас Ираклий, недавно воротившийся из Вены. Он
пересказал ходячие остроты о деле Александрова — Еголина.
«Философский ансамбль ласки и пляски им. Александрова».
«Александров доказал единство формы и содержания: когда ему нравились
формы, он брал их на содержание».
Еголин любил «еголеньких» женщин.
Еголина давно уже называют: «под хреном» (опуская слово: «поросенок»).
У него действительно наружность свиненка. Андроников полон венских
впечатлений. Чудесно усвоил интонацию тамошней речи. <...>
17 июля. <...> Хлопоты о Тагер уперлись в тупик. Полковник Ковалев уехал в
отпуск, и милая девушка, работающая в Прокуратуре («зовите меня просто
Вера»), утверждает, что дело еще на рассмотрении в Л-де 1. <<...>
Был [у] Федина, хлопотал о квартире для Габбе и о продлении авторского
права для дочери Бальмонта. <3...>
Сейчас у меня ночует Бек. Он рассказал мне дело Сахнина, укравшего у
сосланной Левиной ее роман. Она прислала в «Знамя» роман о Японии. Он, как
секретарь редакции, сообщил ей, что роман принят — и попросил сообщить свою
биографию. Она ответила, уверенная, что он, приславший ей радостную весть о
том, что роман будет напечатан, достоин полной откровенности. Чуть только он
узнал, что она была арестована, он украл у нее роман, содрал огромный гонорар
(роман печатался и в Детгизе, и [в] «Роман-газете») — и не дал ей ни копейки.
Теперь на суде его изобличили, но как редакция «Знамени» пыталась замутить
это дело, прикрыть мошенника, запугать Левину — и опорочить Бека, который и
открыл это дело!2 <...>
13 декабря 1955 г. вторник. Вчера сдал наконец в «Дом детской книги» новое,
11-ое издание своей книжки «От двух до пяти». Редактор Иван Андреевич
Давыдов, седенький приятный человечек, редактор обещал прочитать эту книгу к
16-му — то есть к пятнице. Я буду рад, если ее немедленно отправят в печать —
это избавит меня от нее. Мне хотелось работать над Чеховым, над Блоком, над
Буниным, над Слепцовым — а тянуло к этой незаконной книжонке, как, судя по
романам, тянет от жены к любовнице.
На прошлой неделе выступал с чтением о Блоке. В зале Чайковского было
пышное чествование. Федин металлическим голосом, как Саваоф на Синае, очень
«Бродяга за границей» и «Ужасный немецкий язык» (англ.).
ИЗ ДНЕВНИКА
веско и многозначительно произнес вступительное слово. Потом началась
свистопляска. Антокольский с мнимой энергией прокричал свой безнадежно
пустопорожний доклад, так и начал с крика, словно возражая кому-то, предлагая публике
протухшую, казенную концепцию («Блок — реалист! Блок — любитель революций!») —
прогудел как в бочку и уселся. Я сидел рядом с Твардовским, который сказал:
кричит словно с самолета. Твардовский приготовил слово о Блоке, но прослушав,
как корчится и шаманствует Кирсанов, как лопочет что-то казенное Сергей
Городецкий, отказался от слова. Федин предоставил мне слово уже тогда, когда вся
публика ужасно устала — и все же мое выступление — единственное — дошло ей
до сердца (так сказали мне тогда же Федин, Твардовский, Казакевич), а между
тем и это было выступление, тоже недостаточно осердеченное.
Готовя это выступление, я прочитал свою старую книжку о Блоке и с грустью
увидел, что она вся обокрадена, ощипана, разграблена нынешними Блоковедами
и раньше всего — «Володей Орловым». Когда я писал эту книжку, в ней было
ново каждое слово, каждая мысль была моим изобретением. Но т< к, книжку мою
запретили, изобретениями моими воспользовались ловкачи» прощелыги — и теперь
мой приоритет совершенно забыт.
То же и с книжкой «От двух до пяти». Покуда она была под запретом, ее
мысли разворовали.
Между тем я умею писать только изобретая, только высказывая мысли,
которые никем не высказывались. Остальное совсем не занимает меня. Излагать
чужое я не мог бы. <...>;
1956
2 января. Провожу мои дни в оцепенении. Ничего не делаю, все валится из рук.
Если мне 74 года, если завтра смерть, о чем же хлопотать, чего хотеть.
Одиночество мое полное: вчера в день нового года не пришло ни одного человека.
28 февраля, вторник. <...> Третьего дня Бек принес мне «Литературную
Москву», где есть моя гнусная, ненавистная заметка о Блоке. Я, ничего не
подозревая, принялся читать стихи Твардовского — и вдруг дошел до «Встречи с
другом» — о ссыльном, который 17 лет провел на каторге ни за что ни про что,—
и заревел. Вообще сборник — большое литературное событие. В нем попытка
дать материал очень разнообразный, представить лит. Москву со всех сторон —
особенно с тех, которые было немыслимо показывать при Сталине. У
Казакевича в романе о Советской армии наряду с героями показаны прощелыги,
карьеристы, воры — и т. д. <...>
4 марта. Сейчас был у меня Казакевич. Пришел Оксман, приехал Коля.
Казакевич весь вечер бурлил шутками, остротами, буфонил, изобретая комические
ситуации, вовлекая и нас в свои выдумки. Среди них такая: вдруг в «Правде»
печатается крупным шрифтом на третьей странице: «В Совете Министров
СССР». Вчера в 12 часов .11 минут считавшийся умершим И. В. Сталин —
усилиями советских ученых ВОСКРЕШЕН и приступил к исполнению своих
обязанностей. Вместе с ним воскрешен и заместитель председателя Совета
Министров Лаврентий Павлович Берия».
И никто даже не удивился бы.
Сегодня я впервые заметил, какой у Казакевича высокий думающий лоб —
и какой добрый щедрый смех. <...>
Из Третьяковки вынесли все картины, где холуи художники изображали
Сталина. Из Военной Академии им. Фрунзе было невозможно унести его бюст.
Тогда его раздробили на части — и вынесли по кускам.
Как кстати вышла «Лит. Москва». Роман Казакевича воспринимается как
протест против сталинщины, против «угрюмого недоверия к людям». В
продвижении сборника в печать большую роль сыграла Зоя Никитина — полная ж[ен-
щи]на. Инициатор сборника — Бек. Поэтому Казакевич острит, пародируя
Маяковского:
144 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Наш бог — Бек
Никитина — наш барабан.
Вообще у него манера: сказав остроту, смеяться так, будто ее сказал кто-то
другой, будто сострили все собеседники — и оттого получается впечатление
дружного острословия, компанейского.
6 марта. Был вчера у Ивановых. Всеволод кончил роман «Мы идем в Индию».
31 печатный лист. <...>
Большая советская энциклопедия приостановлена. Она дошла до буквы С.
Следующий том был целиком посвящен £[тали]ну, Ст[алинским] премиям,
С[талин]ской конституции, Сталину, как корифею наук и т. д. На заседании
редколлегии «Вопросы истории» редактор сказал: «Вот письмо мерзавца Ст[а-
ли]на к товарищу Троцкому. <...>
Всев. Иванов сообщил, что Фрунзе тоже убит Сталиным!!! Что фото, где
Ст[алин] изображен на одной скамье с Лениным, смонтировано жульнически.
Крупская утверждает, что они никогда вместе не снимались. <...>
8 марта. <...> Вечером пришла ко мне Тренева-Павленко. У нее двойной ущерб.
Ее отец был сталинский любимец. Сталин даже снялся вместе с ним на
спектакле «Любови Яровой», а мужа ее, автора «Клятвы», назвал Хрущев в своем
докладе подлецом. И вот она говорит теперь, что многое в сообщении Хрущева
неверно, что Орджоникидзе никогда не стрелялся, а умер собственной смертью,
что снимок «Ленин — Сталин» не фальшивка и т. д. <J...>
9 марта. Когда я сказал Казакевичу, что я, несмотря ни на что очень любил
Сталина, но писал о нем меньше, чем другие, Казакевич сказал:
— А «Тараканище»?! Оно целиком посвящено Сталину.
Напрасно я говорил, что писал «Тараканище» в 1921 году, что оно
отпочковалось у меня от «Крокодила»,— он блестяще иллюстрировал свою мысль
цитатами из «Т-ща».
И тут я вспомнил, что цитировал «Т-ще» он, И. В. Сталин,— кажется на
XIV съезде. «Зашуршал где-то таракан»,— так начинался его плагиат. Потом
он пересказал всю мою сказку и не сослался на автора. Все «простые люди»
потрясены разоблачениями Сталина, как бездарного полководца, свирепого
администратора, нарушившего все пункты своей же Конституции. «Значит, газета
«Правда» была газетой «Ложь»,— сказал мне сегодня школьник 7 класса.
13 МАЯ
Воскресенье
Застрелился Фадеев
Мне сказали об этом в Доме Творчества — и я сейчас подумал об одной из
его вдов Маргарите Алигер, наиболее любившей его, поехал к ней, не застал,
сказали: она — у Либедиыских, я — туда, там — смятение и ужас: Либединский
лежит в прединфарктном состоянии, на антресолях рыдает первая жена
Фадеева — Валерия Герасимова, в боковушке сидит вся окаменелая — Алигер. Я взял
Алигер в машину и отвез ее домой, а потом поехал к Назым Хикмету, за
врачихой. Та захватил[а] пантопон, горчичники, валерьянку — и около часу возилась
с больным, потом поехала к Алигер (она — одна, никого не хочет видеть,
прогнала Гринбергов, ужасно потрясена самым плохим потрясением — столбняком),
ее дети в Москве в том числе и дочь Фадеева; Наталья Конст. Тренева лежит
больная, приехать не может: все писатели, каких я встречал на дороге,— Штейн,
Семушкин, Никулин, Перцов, Жаров, Каверин, Рыбаков, Сергей Васильев ходят
с убитыми лицами похоронной походкой и сообщают друг другу невеселые
подробности этого дела: ночью Фадеев не мог уснуть, принял чуть не десять нем-
буталов, сказал, что не будет завтракать, пусть его позовут к обеду, а покуда он
будет дремать. Наступило время обеда: «Миша, позови папу!» Миша пошел
наверх, вернулся с известием: «папа застрелился». Перед тем как застрелиться,
Фадеев снял с себя рубашку, выстрелил прямо в левый сосок. Врачиха с дачи
Назыма Хикмета, которую позвали раньше всего, рассказывала мне, что в 15V2
ИЗ ДНЕВНИКА t45
часов на теле у него были трупные пятна, значив он застрелился около часу дня.
Семья ничего не слыхала. Накануне у него были в гостях Либединские — и,
говорят они, нельзя было предсказать такой конец. Ольга Всеволодовна (жена
Пастернака) рассказывает, что третьего дня по пути в город он увидел ее,
остановил машину — и весело крикнул: — Садитесь, Ольга Всеволодовна, довезу до
Москвы.
Мне очень жаль милого А. А.— в нем — под всеми наслоениями —
чувствовался русский самородок, большой человек, но боже, что это были за
наслоения. Вся брехня Сталинской эпохи, все ее идиотские зверства, весь ее страшный
бюрократизм, вся ее растленность и казенность находили в нем свое послушное
орудие. Он — по существу добрый, человечный, любящий литературу «до слез
умиления», должен был вести весь литературный корабль самым гибельным и
позорным путем — и пытался совместить человечность с гепеушничеством.
Отсюда зигзаги его поведения, отсюда его замученная СОВЕСТЬ в последние годы. Он
был не создан для неудачничества, он так привык к роли вождя, решителя
писательских судеб — что положение отставного литературного маршала для него
было лютым мучением. Он не имел ни одного друга — кто сказал бы ему, что его
«Металлургия» никуда не годится, что такие статьи, какие писал он в последнее
время — трусливенькие, мутные, притязающие на руководящее значение, только
роняют его в глазах читателей, что перекраивать «Молодую гвардию» в угоду
начальству постыдно,— он совестливый, талантливый, чуткий — барахтался в
жидкой зловонной грязи, заливая свою совесть вином1. <...>
3 августа. <...> Я прочитал стенограмму речи, произнесенной Оксманом 18 июня
56 г. в Саратовском у-те при обсуждении книги В. Баскакова. Речь,
направленная против «невежества воинствующего, грубо претенциозного, выращенного в
столичных инкубаторах, воспитанного годами безнаказанного конъюнктурного
лганья и беспардонного глумленья над исторической истиной». Речь,
потрясающая — и смелая, и великолепно написанная. <...>
В понед. была у меня Алигер, читала письма к ней А. А. Фадеева,
спрашивала совета, публиковать ли их. Оба письма — пронзили меня жалостью: в них
виден запутавшийся человек, обреченный гибели, заглушающий совесть. <...>
Сейчас была Анна Ахматова с Лидой. Она виделась с Фединым, он сказал
ей, что выйдет книга ее стихов под ред. Суркова.
Я позвал на свидание с ней Сергея Бонди. Бонди прочитал неизвестное
письмо Осиповой к Александру Тургеневу — очень изящно написанное, но ни единым
словом о том, что говорил Пушкин за два дня до дуэли с ее дочерью Евпраксией.
Ахматова рассказывала, какой резонанс имела в Америке ее статья о «Золотом
Петушке», основанном на новелле Ваш. Эрвинга. <...>
Третьего дня вышло новое издание «От двух до пяти». Книжка стала
серьезной, чеканной, стройной. Нет ни одной мысли, которую я списал бы откуда-
нибудь — вся она моя, и все мысли в ней мои. Ее издать надо было серьезно,
строго, просто, а издали ее вычурно, с финтифлюшками, с плохими детскими
рисунками. <...>
14 сентября. <...>> В общем «Том Сойер» — очень наглая книга. Твен даже не
знает возраста Тома. Судя по рисунку мальчишки (который он сделал для Бек-
ки) — ему самое большее 4 года, судя по его отношению с теткой — 7 лет, а
похищает он золото у Индейца Джо как 18-летний малый. Поэтому художники
никогда не могут нарисовать Тома, всегда выходит брехня. Всю художественную
правду Твен истратил на бытовые подробности, на изображение детской
психики — здесь он гениален (равно как и в разговорном языке персонажей) — а все
adventures * заведомая чушь, ради угождения толпе. Угодливость Твена доходот
здесь до того, что он заставляет своих героев в обеих книгах — ив «Томе» и в
«Геккльбере Финне» — находить в конце концов кучи долларов.
17 октября. Надо писать о Блоке, а я как идиот перевожу заново «Тома Сойера»
и не могу выкарабкаться из этой постылой работы. <...>
* приключения (англ.)*
10. «Знамя» № 12.
146 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Был вчера Каверин, рассказывает, будто секретарь Хрущева вдруг позвонил
Твардовскому. «Н. С. велел спросить, как вы живете, нуждаетесь ли в чем-ниб.,
что вы пишете, и т. д. Тв. ответил: «Шиву хорошо, не нуждаюсь ни в чем» —
«А Как ваш «Василий Тёркин на том свете?» Что вы думаете с ним делать?» —
«Думаю печатать».— «Вот и хорошо. Теперь самое время».
Твардовский «исправил» эту поэму чуть-чуть, но основное оставил без
изменений. Тот же Хрущев в свое время разнес его за эту поэму — теперь наступили
«new times» *.
Тот же Каверин рассказывает, что на совещании драматургов Н. А.
Михайлов вдруг как Ни в чем не бывало наивно спросил: почему не ставятся пьесы
Булгакова — напр., такая чудесная пьеса, как «Ёег». А Каверин на днях
поместил в журнале «Театр» как раз статью о «Беге», которая лежала в редакции
6 месяцев. Во всем этом Каверин видит «симптомы». <...>
1957
21 марта. <.„> Был вчера у Федина. Он с восхищением говорит о рассказе
«Рычаги» (в ЛитМоскве). «То, что описано в «Рычагах», происходит во всей
стране,— говорит он.— И у нас в Союзе писателей. Кскгда шло обсуждение моей
крамольной книги «Горький среди нас», особенно неистовствовала Шагинян. Она
произнесла громовую речь» а в кулуарах сказала мне: «великолепная книга». Ну
чем не «рычаг»! *.
Был у меня Юрий Олеша. Он задумал .целую книгу критических заметок и
набросков, О своих любимейших книгах. Он умен и талантлив, но с очень
коротким дыханием — оттого он так мало написал. (Помню, как восхищался его «Лиом-
пой» КХ Тынянов, который вообще ненавидел его одесские «изыски», считая их
моветоном.)
Вечером я был у Каверина, коего сегодня выбранили в «Правде»2. Он,
конечно, угнетен, но не слишком. «Мы будем продолжать «ЛитМоскву» — во что бы
то ни стало.» Читал мне отрывки из своей автобиографии. Оказывается, его отец
был Еоенный капельмейстер, считавший военный быт нормой человеческого
поведения. В доме он был деспот, тиран. И в свою автобиографию Вениамин
Александрович хотел ввести главу «Скандалы». Я его отговорил: нельзя слишком
интимничать с совр. читателем... У Кав. готов целый том критических статей. Целые
дни он сидит и пишет. Счастливец.
27 мая. В жизни моей было много событий, но я не записывал их в эту тетрадь.
После того, как пропали десятки моих дневников, я потерял вкус к этому занятию.
События были такие: 30 марта праздновали мой юбилей. 75 лет:
Хоть этот срок не шутка,
Хоть мил еще мне свет,
Шагнуть мне как-то жутко
За 75 лет.
Юбилей мой удивил меня нежностью и лаской — количеством и качеством
приветствий. Поздравляли меня — меня!!! — и Университет, и Институт Горького, и
Академия наук — и «Крокодил», и «Знамя», и «Новый мир», и «Пушкинский
дом», и сотни детских домов, школ, детских садов,— и я казался себе жуликом,
не имеющим права на такую любовь. Конечно, я понимал, что это — похороны,
но слишком уж пышные, по 1-му разряду. Все в Союзе писателей думали, что
меня будут чествовать по 3-му разряду (как и подобало), но столпилось столько
народу (в Доме Литераторов), пришло столько делегаций, выступали такие люди
(Федин, Леонов, Образцов, Всеволод Иванов и т. д.) — что вышли похороны
1-го разряда. В качестве честолюбивого покойника я был очень счастлив и рад.
Второе событие: орден Ленина и его получение в Кремле — вместе с
Никитой Хрущевым.
Милый Ворошилов — я представлял его себе совсем не таким. Оказалось,
что он светский человек, очень находчивый, остроумный, и по-овоему блестяоций.
* «новые времена» (англ.).
ИЗ ДНЕВНИКА 14§Г .
Хрущев сказал «наконец-то я вижу злодея, из-за которого я терплю столько мук.
Мне приходится так часто читать вас своим внукам». На их приветы я ответил
глупой речью, которая сразу показала им, что я идиот.
Третье событие: я был приглашен правительством вместе с писателями,
художниками, композиторами — на банкет под открытым небом. Ездил на
правительственную дачу — заповедник — слушал речь Хрущева, длившуюся 41/2
часа. <...>
18 июня. Часа в два звонок. Вадим Леонидович Андреев. В первый раз я видел
его в 1903 году, в детской колясочке. С тех пор прошло всего 54 года. Потом —
на даче в Ваммельсуу (1908—1916), потом в Ленинграде в 1917 — ровно 40 лет
назад. В первый раз мне показывала его «дама Шура» — в колясочке, ему
было не больше полугода. Сейчас это седоватый, высокий мужчина, с узким лицом,
живыми глазами — с печатью благородства, талантливости и — обреченности. Он
позвонил мне — из Дома творчества и через 10 минут был у меня. Мы сели на
балконе, и он стал рассказывать м«е свою фантастическую жизнь. Анна
Ильинична, скупая, тупая, любила одного только Савву и вскоре по приезде в Париж
Вадим оказался буквально на улице. Он хватил лиха, был линотипистом,
пробовал пристроиться к литературе, написал неск. книг (в том числе «Воспоминания
об отце»), пробыл 25 лет в эмиграции, потом добыл советский паспорт, переехал
в США и работает в ООН'е. Я повез его к Ек. П. Пешковой — в Барвиху. По
дороге он читал свои стихи — негромкие, но подлинные, чуть-чуть бледноватые —
о своем детстве, которое я помню так хорошо. Читает он стихи старинным
петербургским напевом» как и его сверстник, Коля Чуковский. Американцы в
массе своей ему ненавистны: девочки распутны, мальчишки — кретины. Теперь у
девочек мода: мужская рубашка, без штанов или юбки,— «это более неприлично,
чем нагота». Рассказывал об Алексее Ремизове — стал в 80 лет писать
превосходно, пронзительно, без прежних выкрутас, Юрочка Анненков женился на
молоденькой, прислал на какой-то конкурс рассказ (под фамилией Тимирязев) и
получил первую премию и т. д. В литературном мире Андреев знает все обо
всем — и о Заболоцком, и о Дудинцеве, и о Пастернаке, и о Бунине, и о разных
американских писателях. Впечатление произвел он чарующее...
30 июля. Был у Казакевича. Остроумен, едок по-прежнему. Говорили о Феди-
не — и о его выступлении на пленуме. Федин с огромным сочувствием к Лит-
Москве и говорил (мне), что если есть заслуга у руководимого им Московского
отделения ССП, она заключается в том, что это отделение выпустило два тома
«ЛитМосквы». А потом на Пленуме вдруг изругал ЛитМоскву и сказал, будто он
предупреждал Казакевича, увещевал его, но тот не послушался и т» д. Я склонен
объяснять это благородством Ф[еди]на (не думал ли он таким путем отвратить
от ЛитМосквы более тяжелые удары), но Казакевич говорит, что это не
благородство, а животный страх. Тотчас же после того, как Ф. произнес эту свою
«постыдную» речь — он говорил Зое Никитиной в покаянном порыве — «порву с
Союзом», «уйду», «меня заставили» и готов был рыдать. А потом выдумал, будто
своим отречением от ЛитМосквы, Алигер и Казакевича, он тем самым выручал
их, спасал, и совесть его успокоилась. «А все дело в том,— говорит Казакевич,—
что он стал бездарно писать, потерял талант, растерялся — и захотел выехать
на кривой». <...>
23 июля. <...> Кажется, я могу предаться мечтам — они накануне реализации.
Мне кажется, что к осени у меня за гаражами возникнет просторное здание — не
только библиотека, но и читальня, и дом детской книги. Чуть только начнут
выводить стены я обращусь ко всем писателям: к Кассилю, Маршаку, Барто,
Михалкову с просьбой прислать в библиотеку свои портреты, чтобы дети видели
своих авторов. <...> *
30 июля. Чиновники Литфонда не хотят библиотеки. Им плевать, что вчера
библиотека обслужила больше 70 детей. Вчера я привел на свою строительную
площадку Леонида Макс. Леонова — он осмотрел мой стройматериал и сказал:
«дрянь». Это, конечно, верно; по сравнению с немецкими и финскими домиками
наш домик позорно сучковат, кое-какист, сработан с полным неуважением к
148 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
хамски и наплевательски. Но ведь для того, чтобы не было в России таких
бесстыжих и бесчестных работников, я и строю свою библиотеку. <...>
12 ноября. Был у меня сегодня Твардовский вместе с Казакевичем. У меня такое
чувство, будто у меня был Некрасов. Я робею перед ним как гимназист. «Му-
равия» и «Теркин» — для меня драгоценны, и мне странно, что такой Поэт здесь
у меня в Переделкине, сидит и курит, как обыкновенные люди. Я прочитал ему
кусок своей статьи о Маршаке, читал робко и сбивчиво — и был страшно
обрадован, когда он похвалил. Вообще он ко мне благоволит: принес свои два томика1
и говорил обо многом вполне откровенно. Об Эренбурге: «бездарно переводит
франц. поэтов и читая его низкопробные вирши, я не верю ни в его романы, ни
в его стихи. Вообще по стихам можно сразу узнать человека. Как-то я заболел —
пришел врач — у меня было растяжение жил, он прописал лекарство, а потом
говорит: рад, что познакомился с Еами, я ведь тоже пишу стихи — и прочитал
такую галиматью, что я ужаснулся: неужели такой идиот может лечить людей.
Сразу увидел, что и врач он никудышный». <...>
О детской литературе: «она очень расцвела и Есе такое, но это литература
городская, а деревня еще не имеет своего детского поэта».
О Маяковском: «Прятали отзыв Ленина о «150 миллионах» — и всячески
рекламировали его похвалу «Прозаседавшимся». И 25 лет заставляли любить
Маяковского. И кто относился к нему не слишком восторженно, тех сажали, да,
да,— у меня есть приятель, который именно за это и был арестован — за то, что
не считал его величайшим поэтом...»
К Барто относится с презрением. «Стихи Ник. Тихонова об Орджоникидзе
омерзительно-слабы. Косноязычные, глупые, беспомощные. Встретил
Кожевникова, зовет в «Знамя». Я говорю: как не стыдно печатать такую чушь, как стихи
Тихонова. Он смеется. Говорит: дальше лучше будет.» 3 <...>
7 декабря. <...> Как отвратительны наши писательские встречи. Никто не
говорит о своем — о самом дорогом и заветном. При встречах очень много
смеются — пир во время — рассказывают анекдоты, уклоняются от сколько-нибудь
серьезных бесед. <...>
27 декабря 1957. Вот, Корней, милый друг, наступает быть может последний год
твоей жизни. Будь же хоть в этот последний год ЧЕЛОВЕКОМ. <...>
Вчера был на предвыборном собрании писателей: скучно, я ушел. Хотят
выбирать меня — тоска! Я буду последний идиот, если соглашусь. Самоубийца.
Вчера я слушал доклад Федина, к-рый он писал в Суханове целый месяц. Целый
месяц талантливый беллетрист должен был корпеть над докладом, заячье-трусли-
вым, где речь идет о секциях, подсекциях, группах, подгруппах и т. д. Я десяти
минут не мог пробыть в этой обстановке — выбежал на воздух. Какая чушь! Если
считать, что из тысячи слушавших этот доклад, каждый написал бы только по
странице — и то вышло бы два романа. Чем больше заседаем, тем хуже мы
пишем. <...>
29 декабря.'— Конашевич прислал великолепную картину для библиотеки: «Чудо-
юдо рыба-кит».
— Хотя я сделал все возможное, чтоб меня не выбрали в Правление
Московского отделения Союза Писателей,— меня выбрали — зачем, неизвестно.
Сегодня сообщают подробности выборов,— с таким азартом, будто все это и в
самом деле имеет отношение к литературе. <..,>
1958*
22 апреля. Вот уже два дня, как мне не пишется, не читается, не работается.
Вчера навестила меня Тамара Владимировна Иванова (у нее тромбофлебит —
произошел в Карловых Варах, откуда она только что вернулась). Все же она
поднялась по лестнице, чтобы навестить меня.
1 Там был и Шолохов, о котором она говорит с отвращением, как о надмен-
* Многие записи 1958 года касаются В. Л. Пастернака, хлопот о его лечении,
истории с Нобелевской премией. Эти страницы Дневника уже опубликованы (см. «Во-
, просы литературы», 1890. № 2).
ИЗ ДНЕВНИКА 1 49
ном и тупом человеке, который никаких связей с культурой не имеет, смертельно
скучает и даже кино не желает смотреть. Шолохов был в Карловых Варах с
женою и всей семьей. У источника он стоял прямо не сгибаясь, а его жена черпала
для него воду и почтительно подавала ему.
Там. Вл. сказала Шолохову с улыбкой о его домостроевских замашках. Он
ничего не ответил, только протянул жене стакан, чтобы она зачерпнула ему еще.
Люшенька подарила мне третьего дня изданный в Дрездене альбом франц.
импрессионистов. И я понемного перестаю любить Репина. Это очень огорчает
меня. Ведь сейчас выходят и в Детгизе и в «Советском писателе» мои
воспоминания о нем. <...>
Был у меня Заболоцкий. Специально приехал, чтобы подарить мне два тома
своих переводов с грузинского. Все тот же: молчаливый, милый, замкнутый.
Говорит, что хочет купить дачу.
А давно ли он приехал из Караганды, не имея где преклонить голову, и
ночевал то у Андроникова, то у Степанова в их каморках. <...>
23 мая ночь на 24-ое. Вот уже 4-ая ночь [как] я не сплю.
Стыдно показаться людям: такой я невыспанный, растрепанный, жалкий. Пробую
писать, ничего не выходит. Совсем разучился. Что делать? Иногда думается: «Как
хорошо умереть». Вообще без писания я не понимаю жизни. Глядя назад, думаю:
какой я был счастливец. Сколько раз я знал вдохновение! Когда рука сама
пишет, словно под чью-то диктовку, а ты только торопись — записывай. Пусть из
этого выходит такая мизерня, как «Муха Цокотуха» или фельетон о Вербицкой, но
те минуты — наивысшего счастья, какое доступно человеку.
Читаю переписку Блока и Белого. Белый суетен, суетлив, истеричен,
претенциозен, разнуздан. Блок спокоен и светел, но и у него в иные периоды сколько
мути, сколько заикания и вялости. <...>
31 декабря. Вчера Маршак был прелестен. У него в номере (18-м) мы устроили
литературный вечер: я, он и Кнорре. Стали читать его переводы Бернса —
превосходные, на высочайшем уровне. Мы обедали и ужинали вместе; за ужином
вспоминали Льва Моисеевича Клячко, о котором С. Я. сохраняет самые светлые
воспоминания. Мне тоже захотелось вспомнить этого большого и своеобразного
человека. Я познакомился с ним в 1907 году, работая в литерат. отделе газеты
«Речь». Он был репортером, «королем репортеров», как говорили тогда. Казался
мне вульгарным, всегда сквернословил, всегда рассказывал анекдоты, острил —
типичный репортер того времени. Выделяла его из их толпы только доброта. Так
как по своей должности он часто интервьюировал министров, да и видел их
ежедневно (в Думе и в министерствах), к нему всякий раз обращались десятки
людей, чтобы он похлопотал о них. И он никогда не отказывал. Жил он тогда на
Старо Невском. Я однажды ночевал у него и был свидетелем того, как его
квартиру с утра осаждают всякие «обремененные и трудающиеся» — и о« каждый
день от 9 до 11 принимал их всех,— и брался хлопотать обо всех. Причем был
бескорыстен (до грубости): выгнал одного пожилого просителя, котор. предложил
ему вознаграждение. Всех принимал сразу — на глазах у всех. Одна девушка,
сестра ви ленского доктора Шабада, сказала ему:
— Я не могу говорить о своем деле при всех. Дайте мне возможность
рассказать вам всё наедине.
Он разъярился.
— Ни за что. Сейчас же скажут, что вы дали мне взятку. Только при всех.
В чем же ваше дело? Говорите.
— Я германская подданная.— Тогда это было ужасно. Все посмотрели на
нее с ужасом. Немецких подданных тогда ссылали, топтали ногами... Но Клячко
поехал куда-то, поговорил, объяснил — и я видел ее дней через десять, она
приходила благодарить его.
В 1921 году Клячко задумал основать издательство. Брат его жены—дал
ему ссуду: 5000 р. Он по настоянию брата затеял издавать «Библиотеку
еврейских мемуаров». Евреи (такие, как Винавер) снабдили его десятками рукописей.
Он пригласил меня редактировать их. В то время после закрытия Всемирной
1 50 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Литературы я сильно голодал, семья была большая, и я охотно пошел в
поденщики. Правил слог, сверял исторические факты. Милый Клячко, он не имел
представления, как неинтересны и сумбурны были многие из приобретенных им
рукописей, и требовал, чтобы я скорее сдавал их в набор. Нужна была марка для
еврейских мемуаров, повторяющаяся на каждом томе. Я предложил изобразить
на марке Ноя, который видит радугу и простирает руки к летящему голубю. Мы
так и назвали будущее мемуарное изд-во «Радуга», я познакомил Клячку с
Чехониным, который и нарисовал нам Ноя с голубем и радугой. На другой день,
когда у Клячко был семейный праздник (кажется именины одной из дочерей), он
немного выпил и был в благодушнейшем настроении, я прочитал ему две свои
сказки, которые написал тем летом на Лахте (наряду со статьей: денежная тема
в творчестве Некрасова): «Мойдодыра» и «Тараканище». Не успел я закончить
чтение, как он закричал, перебивая меня:
— Идьёт! Какой идьёт!
Я смутился.
— Это я себя называю идьётом. Ведь вот что нужно издавать в нашей
«Радуге»! Дайте-ка мне ваши рукописи!
И он стал читать их, захлебываясь и перевирая слова. На следующий день
он знал их наизусть и декламировал каждому, кто приходил к нему. «Ехали
медведи на велосипеде».
В тот же день побежал к моему приятелю Ю. Анненкову (тот жил рядом со
мною на Кирочной), съездил в литографию, снова посетил Чехонина и каша
заварилась.— Его энтузиазм был (нужно сказать) одиноким. Те, кому он читал мои
сказки и кому, по его настоятельному желанию, читал я, только пожимали
плечами и громко высказывали, что Клячко свихнулся. Помню репортеров, которые
продолжали составлять его компанию (Полякова рыжего, Гиллера и др.), которые
предсказывали ему верное банкротство. Он и вправду казался одержимым:
назначил обеим моим книжкам «огромный» по тому времени тираж: 7000 экз. и
выпустил их к Рождеству 1921 года (или чуточку позже). Когда я привел к нему
Маршака, тогда же, ъ самом начале 1922 г., он встретил его с восторгом, как
долгожданного друга, издал томик его пьес, и был очарован его даровитостью.
Помню, как он декламирует:
На площади базарной,
На каланче пожарной —
упиваясь рифмами, ритмом, закрывая глаза от удовольствия. В качестве
газетного репортера он никогда не читал никаких стихов. Первое знакомство с поэзией
вообще у него состоялось тогда, когда он стал издателем детских стихов — до той
поры он никаких стихотворений не знал. Весь 1922 и 1923 год мы работали у
него с Маршаком необыкновенно дружественно, влияя друг на друга — потом эта
дружба замутилась из-за всяких злобных наговоров Биянки и отчасти Житкова,
которые по непонятной причине не взлюбили С. Я. и — я не то чтобы поддался
их нашептываниям, но отошел от детской литературы и от всего, чем жил тогда
М[арш]ак.
1959
1 января. С Новым Годом, дорогой Корней Иванович!
Моя ненависть — старинная — ко всяким застольным торжествам, юбилеям,
вечеринкам, пирам и т. д.— заставила меня согласиться с милым предложением
Арсения Григорьевича Головко (адмирала) съездить в Переделкино, навестить
«своих». Я даже не надевал пиджака. В серой больничной пижаме — ровно в
8 часов — я сел в Зис милейшего А. Г.— и мы покатили. Дома очень
хорошо. <...> Вспоминая прошлое — а как же не вспоминать его в день Нового
года — я должен помянуть Сергеева-Ценского. Это был кудрявый, как цыган, очень
здоровый, жилистый, моветонный прапорщик. Уходя, всегда говорил вместо До
свидания — «До свишвеция», вместо «я ухожу»
ИЗ ДНЕВНИКА 151
Ухо жуя,
Ухожу я
и т. Д.
Сочинял самоделковые очень бесвкусные, витиеватые стишки. <...>
26 февраля. [В больнице.— Е. Ч.] <...> Прочитал роман Агаты Кристи «Hickory
Dickory Dok». Дело происходит в общежитии иностранных студентов,
съехавшихся в Лондон отовсюду. Есть там и англичане. Есть и не студенты. И как всегда
у Кристи, все они вначале кажутся невинными, простодушными, милыми. Но в
доме совершаются убийства и всякие каверзы, и на протяжении % книги
читателю приходится снова и снова вглядываться в каждого персонажа, и каждого
подозревать в убийстве, в негодяйстве, в воровстве и т. д. Лишь на последних
страницах выясняется, что убийство совершил наименее подозрительный из всех,
который перед тем отравил (мединалом!) свою мать; что элегантная хозяйка
«Салона красоты» — его соучастница, контрабандистка, которая и не поморщилась,
когда он мимоходом отравил ее мать! Все это произведение могло произрасти лишь
на почве глубочайшего неверия в людей. <...>
9 марта. <...> Сестер насильно заставляют быть гуманными. Многие из них
сопротивляются этому. В голове у них гуляет ветер молодости и самой страшной
мещанской пошлости. Сейчас Коля принес мне Заболоцкого, Люша — Матисса.
Даже дико представить себе, чтобы хоть одна из них могла воспринять это
искусство. Словно другая планета. Кино, телевизор и радио вытеснили всю
гуманитарную культуру. Мед. «сестра» это типичная низовая интеллигенция,
сплошной массовый продукт — все они знают историю партии, но не знают истории
своей страны, знают Суркова, но не знают Тютчева — словом, не просто дикари, а
недочеловеки. Сколько не говори о будущем поколении, но это поколение будет
оголтелым, обездушенным, темным. Был у меня «медбрат» — такой же
обокраденный. И у меня такое чувство, что в сущности не для кого писать. <...>
27 апреля. Был у меня в лесу Федин. Зашел по пути. Говорит, что с «Литна-
следством» (после напечатания книги «Новое о Маяковском») дело обстоит очень
плохо. Так как начальству нужна лакировка всего — в том числе и писательских
биографий — оно с ненавистью встретило книгу, где даны интимные (правда,
очень плохие) письма Маяк-ого к Лили Брик — и вообще М[аяковски]й показан
не на пьедестале. Поэтому вынесено постановление о вредности этой книги и
занесен удар над Зильберштейном. Человек создал великолепную серию
монументальных книг — образцовых книг по литературоведению, отдал этой работе
30 лет — и все это забыто, на все это наплевать, его оскорбляют, бьют, топчут за
один ошибочный шаг.
— Создана в Ак[адемии] Н[аук] комиссия,—сказал Федин.—Я
председатель.
— Вот и хорошо! Вы выступите на защиту Зильберштейна.
— Какой вы чудак! Ведь придется подписать уже готовое решение.
— Неужели вы подпишете?
— А что же остается мне делать?1
И тут же Ф. стал подтверждать мои слова, что 3-н чудесный работник,
отличный исследователь, безупречно честный, великий организатор и т. д.
— А его книга о Бестужевых!1 — говорит он.— А герценовский том и т. д.
И знаете, что отвратительно: в комиссию не введены ни Зильбершт., ни Макашин,
но зато дополнительно введен... Храпченко. Какая мерзость!
— И все же вы подпишете?
— А что же мне остается делать?!
Бедный Федин. Вчера ему покрасили забор зеленой краской — неужели
ради этого забора, ради звания академика, ради оффициозных постов, к-рые ему не
нужны, он вынужден продавать свою совесть, подписывать бумаги. <...>
Дал в «Новый мир» свои воспоминания о Луначарском — тусклые и никому
не нужные. Над Чеховым работаю вяло, без прежней охоты. И без таланта.
5/V. Дважды был у Федина по делу Литнаследства. Хлопотал, чтобы он,
председательствуя в Комиссии, созданной Академией Наук специально для рассмот-
1 52 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
рения вопроса о Лит. Наследстве («Новое о Маяковском»), сказал бы похвальное
слово о Зильберштейне и Макашине. Второй визит нанес ему вместе с Макаши-
ным. М-н боится, что «Литнасл.» передадут в Институт Горького, где
распоряжается Эльсберг — тот самый Эльсберг, по доносу которого (так утверждает Ма-
кашин) он и был сослан. «Из-за этого человека я узнал лагерь, войну, плен, этот
человек мерзавец и работать с ним я не буду.»2 Хуже всего то, что Зильб.
поссорился с Храпченко, а Храпченко (как теперь оказалось) уже член-корреспондент —
подумать только! — тусклый чинуша, заместитель Виноградова!
Целый час Макашин своим ровным голосом сообщал Федину всевозможные
дрязги, опутавшие со всех сторон «Литнаследство»: недовольно начальство тем,
что в Герценовских томах раскрыта история Натали Герцен и Гервега,
недовольно, что Илья пользуется иностранными источниками. Храпченко хочет спихнуть
Виноградова и утопить Илью и т. д.
Для меня во всем этом печально, что тот литературоведческий метод,
которым до сих пор пользовался я — метод литературного портрета без лакировки —
теперь осужден и провален. Требуется хрестоматийный глянец — об этом громко
заявлено в постановлении Ц. К. Мои «Люди и книги» вряд ли будут переизданы
вновь. Сволочи. Опять нет у меня пристанища. Из детской литературы вышибли,
из критики вышибли, из некрасоведения вышибли. <...>
6 мая. Вчера видел в городе Федина. Он подошел к моей машине и сказал: Зиль-
берштейна хоть и со скрипом удалось оставить. Бой длился три часа. Коллегию
«Литнаследства» раздули до 9 человек. Большую помощь Илье оказал
Виноградов, который вел себя отлично. Моим сказкам опять грозит беда, возрождение
РАПП'а. Был я вчера в Детгизе, разговаривал с Конст. Федотычем. И он, явно
повторяя фразу начальства, сказал: «довольно птичек и кошечек — нашим
дошкольникам нужно другое». Когда в декабре прошлого года я слышал эту фразу
от Михайлова, я думал, что он острит; оказывается, это — директива. <...>
8 мая. <...> Был у меня Макашин. Его сделали загаед. редакцией. Он недоволен.
«Во 1-х Илья обидится. Во 2-х я не умею быть заведующим, огромная
ответственность, трата времени. В 3-х я должен писать о Щедрине (2-й том) — и вот опять
отрывают меня».
Умер Еголин — законченный негодяй, подхалим и — при этом бездарный
дурак. Находясь на руководящей работе в ЦК, он, пользуясь своим служебным
положением, пролез в редакторы Чехова, Ушинского, Некрасова — и эта синекура
давала ему огромные деньги,— редактируя (номинально!) Чехова, он заработал на
его сочинениях больше, чем заработал на них Чехов. Он преследовал меня с
упорством идиота. Он сопровождал Жданова во время его позорного похода против
Ахматовой и Зощенко — и выступал в Питере в роли младшего палача — и все
это я понял не сразу, мне даже мерещилось в нем что-то добродушное, только
два года назад я постиг, что он беспросветная сволочь. Его «работы» о Некрасове
были бы подлы, если бы не были так пошлы и глупы.
Странно, что я понял это только в самое последнее время, когда он явился
ко мне с покаянием, говоря, что он лишь теперь оценил мои «труды и
заслуги». <...>
15 августа, суббота. Вернулся из Америки В. Катаев. Привез книгу «The Holy
Barbarians» *, о «битниках», которую я прочитал в течение ночи, не отрываясь.
Капитализм должен был создать своих битников — протестантов против
удушливого американизма — но как уродлив и скучен их протест. <...>
Катаева на прессконференции спросили: «Почему вы убивали еврейских
поэтов?»
— Должно быть, вы ответили: «Мы убивали не только еврейских поэтов, но
и русских»,— сказал я ему.
— Нет, все делю было в том, чтобы врать. Я глазом не моргнул и ответил:
— Никаких еврейских поэтов мы не убивали. ,<...>
* «Святые варвары» (англ.).
ИЗ ДНЕВНИКА
153
1960
21 апреля. Приехал Фишер младший, которого я помню пионером. <...>
Вожусь с воспоминаниями о Короленко. Снился мне до полной осязательности
Чехов. Он живет в гостинице, страшно худой, с ним какая-то пошлая ж[енщи]на,
знающая, что он через 2—3 недели умрет. Он показал мне черновик рассказа:
вот видите, я пишу сначала без «атмосферы», но в нижней части листка
выписываю все детали, которые нужно сказать мимоходом в придаточн [ых]
предложениях, чтобы создалась атмосфера. Живу я будто в гостинице — и забыл, в
котором номере. Предо мной то и дело мелькают три неразлучные молодые веселые
ж[енщи]ны. Одна из них моя жена. Я не знаю, которая из них, и спрашиваю
об этом коридорного. Чехов пригласил меня кататься в коляске. И та пошлячка,
которая состоит при нем, говорит:
— Ты бы, Антоша, купил Кадиляк.
И я думаю во сне: какая стерва! Ведь знает, что он умрет и машина
останется ей.
И поцеловал у Ч[ехова] руку. А о-н у меня. <...>
13 августа. Я снова в Барвихе. <...>
14 августа. <...> Маршак работает до изнеможения — целые дни. С утра
пишет воспоминания о своем брате Ильине, вечером правит корректуру своего
четвертого тома. Ему помогают его сестра Елена Ильина и Петровых, милая
поэтесса. Петровых рассказывает о неблагополучии со сборником Ахматовой, кот.
должен выйти в Гослите. Редакция выбросила лучшие стихи — и принудительно
печатает ее «сугубо-советские» строки, написанные ею в Сталинскую эпоху, когда
ее сын Лева был в ссылке (или на каторге).
Маршак рассказывает опять, как («неизвестно за что») ненавидели его Би-
анки и Житков. Сейчас он бьется с корректором Гослита и достиг того, что ему
разрешили печатать не черт, а чорт. Я вожусь с «Гимназией» и вижу свою
плачевную бездарность: бессонницы и старчество.
15-ое изд. «От двух до пяти» уже сдано в производство. Как бы мне
хотелось еще поработать над этой книгой! Но нужно писать Чехова, нужно
перестраивать «Мастерство перевода». Опять здесь в санатории мне попался Walt Whitman
и очаровал ка-к в дни юности — особенно Crossing Brooklyn Ferry*, где он говорит
0 себе из могилы.
И нельзя себе представить того ужаса и того восторга — с которым я
прочитал книгу J. D. Salinger'a «The Catcher in the Rye» ** о мальчишке 16 лет,
ненавидящем пошлость и утопающем в пошлости — его автобиография. «Неприятие
здешнего мира», сказали бы полвека назад. И как написано!! Вся сложность его
души, все противоборствующие желания — раздирающие его душу — нежность и
грубость сразу. <...>
1 сентября 1960. <...> Маршак острит напропалую. Зубной кабинет он зовет «Ни
в зуб ногой», кабинет ухо-горло-нос — «Ни уха ни рыла». Кабинет электро
медицины: «До облучения не целуй ты ее». <...>
6 сент. Говорят: он сегодня уезжает. Я провел с ним два вечера — как в
древности, и это очень взволновало меня. <...>
Говорил он, как новое, все свои старые «находки»: что Лермонтов и Пушкин
люди чести, а Лев Толстой и Достоевский — люди совести; что у Пушкина нет
ошибок, нет провалов.
Иные его определения чудесны:
«Короленко это «хорошая польская писательница».
«Есть среди медицинских сестер — сестры родные и сестры двоюродные».
«И почему это Данте переводили поэты, у которых в фамилии есть звук
«мин»: «Мин», «Минаев», Чюмина. Да и Мих. Лозинский тоже «мин». <...>•
Октябрь 12-го. Я почему-то уверен, что эта тетрадь будет последней тетрадью
моего дневника: зимы мне не пережить — «свежей травы мне не мять». Был сего-
Переправа на бруклинском пароходике (англ.).
* Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (англ.).
154
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
дня на могиле Марии Борисовны — собственно на своей могиле. Там рядом с нею
оставлено свободное место для моей ямы. Сегодня сидел у своей могилы —
вместе с Лидой — и думал, что я в сущности прожил отличную жизнь, даже могила
у меня превосходная.
Сегодня Таня Литвинова читала мне свой перевод Чивера — открытого мною
писателя: о доброй, благодушной, спокойной женщине -г которая меняет
любовников, как чеховская Душенька мужей — и только в конце выясняется, что это
символ Смерти. <...>
7 ноября. Праздник. В сущности праздник был у меня вчера: Лида прочитала мне
отрывки из своего дневника о Тамаре Гр. Габбе — и свои воспоминания о ней...
Впечатление огромное. Габбе была одной из самых одухотворенных — и
вследствие этого — самых несчастных женщин, каких я когда-либо знал. У Лиды
одухотворенность Т[амары] Г[ригорьев]ны ощущается в каждом ее слове, каждом
движении. <...>
11 ноября. В большом зале Дома Литераторов, набитом битком сегодня был
вечер памяти Квитко.
Кассиль сказал прекрасную речь, где сказал, что враги, погубившие
Квитко — наши враги, враги нашей культуры, нашего советского строя. Это место его
речи вызвал [о] гром аплодисментов. К сожалению (моему) он сказал, что я
первый открыл поэзию Квитко. Это страшно взбаламутило Варто, которая в своей
речи («я... я... я...») заявила, что Квитко открыла она.
Перед нею было мое выступление — очень сердечно принятое слушателями.
Все понимали, что совершается великий акт воскрешения Квитко и радовались
этому воскрешению. Были Пискунов, Алянский, С. Михалков, Таня Литвинова,
Клара (с Глоцером), поэт Нуради[н] Юсупов, Казакевич,— не было ни Смирно,
вой, ни Мих. Светлова. <...>
19 декабря. Сегодня Коля в ЦДРИ выступает с воспоминаниями о Вишневском.
8 Доме литераторов выступает Лида, будет обсуждение ее книги «В мастерской
редактора». Вчера у меня были Прилежаева и Кассиль — оба обещали быть на
обсуждении, обоим книга чрезвычайно понравилась. Сегодня часа в 4 вечера
промчалась медицинская «Победа». Спрашивает дорогу к Кожевникову. У
Кожевникова— сердечный приступ. Из-за романа Вас. Грос[с]мана. Вас. Грос[с]ман дал
в «Знамя» роман (продолжение «Сталинградской битвы»), к-рый нельзя
напечатать. Это обвинительный акт против командиров, обвинение начальства в
юдофобстве и т. д. Вадим Кожевников хотел тихо-мирно возвратить автору этот
роман, объяснив, что печатать его невозможно. Но в дело вмешался Д. А.
Поликарпов — прочитал роман и разъярился. На Вадима Кожевникова это так
подействовало, что у него без двух минут инфаркт1.
Роман Казакевича — о Ленине в Разливе — вырезан из «Октября», ибо там
сказано, что с Лениным был и Зиновьев. .<...>
27 дек. <...> Коля рассказывает, что Казакевич, роман которого вырезали из
«Октября», послал Хрущеву текст романа и телеграмму в триста слов.
Через 3 дня Казакевичу позвонил секретарь Х[рущев]а и сказал, что роман
великолепный, что именно такой роман нужен в настоящее время, что он так и
доложит Н. С-чу. <...>
Новый 1961
4 янв. Год начался для литературы ужасно. Из «Октября» вырезали роман
Казакевича. Из «Знамени» изъяли роман Василия Гроссмана; из «Нового мира»
вырезали Воспоминания Эренбурга: о Цветаевой, о Пастернаке и проч.
Неохота писать о языке. Какой тут язык! Недавно одна женщина написала
мне: «вы все пишете, как плохо мы говорим, а почему не напишете» как плохо
мы живем.» <...>
Теперь читаю книгу Vlaclimir'a Nabokov'a «Pnin», великую книгу, во сла*зу
русского праведника, брошенного в американскую университетскую жизнь. Книга
. поэтичная, умная — q рассеянности, невзрослости и забавности и душевном ве-
ИЗ ДНЕВНИКА 1 55
личии русского полупрофессора Тимофея Пнина. Книга насыщена сарказмом —
и любовью. <...>
Все журналы поздравили своих читателей «С Новым
Годом», а журнал Октябрь — с «Новым Гадом» (в
редакторы Октября назначен Кочетов).
Со слов своего отца Влад. Дмитриевича Набокова романист рассказывает
в своих мемуарах, будто в то время, когда я предстал в Букингемском дворце
перед очами Георга V, я будто бы обратился к нему с вопросом об Оскаре Уайльде.
Вздор! Король прочитал нам по бумажке свой текст и Вл. Д. Набоков — свой.
Разговаривать с королем не полагалось. Все это анекдот. Он клевещет на отца...1
20 января. Храбровицкий дал мне книгу Гиппиус «Дмитрий Мережковский».
Издана YMCA. Бедная, пустопорожняя, чахлая книга — почти без образов, без
красок,— прочтя ее, так и не знаешь: что же за человек был Мережковский. Вместо
того, чтобы изображать его, она изображает коловращение событий вокруг него,
причем путает и даты и факты. (Как они бежали через Гомель — пожалуй, верно
описано, но о поездке Ал. Толстого, Егорова и Набокова в Лондон — все брехня).
И кроме того: холодное безлюбое сердце.
В этот же день я получил от Ел. Драбкиной ее книгу «Черные сухари». На
одной странице больше таланта, души, жизни, чем во всей книге Гиппиус, хотя
тема книги мне глубоко чужда.
Сегодня же книга Марии Карловны Куприной «Годы молодости» о Куприне.
В ней Куприн слишком благолепен и благостен — и многое завуалировано, но
книга жгуче интересна — и главное, живая, не то что книга-кадавр 3.
Гиппиус. <...>
7 февр. <...> Прочитал в «Нов. Мире» воспоминания Эренбурга — об
убиенных Мандельштаме, Паоло Яшвили, Цветаевой, Маяковском. Пафосу этой статьи
мешает мелькание людей — имен,— мест — устаешь от этой чехарды. Но все же
это подвиг, событие. ,<...>
11-го счастливейший день. С утра до вечера пишу без оглядки, не перечитывая
того, что написалось. Писать мне приятно лишь в том случае, если мне кажется,
что я открываю нечто новое, чего никто не говорил. Это конечно иллюзия, но
пока она длится, мне весело. <...>
1 апреля. День рождения: 79 лет. Встретил этот предсмертный год без всякого
ужаса, что удивляет меня самого. <...>
Очень интересно отношение старима к вещам: дай уже не его собстветаость.
Всех карандашей мне не истратить, туфлей не доносить, носков не истрепать.
Все это чужое. Пальто пригодится Гуле, детские англ. книжки Андрею, телевизор
(вчера я купил новый телевизор) — гораздо больше Люшин, чем мой. Женя
подарил мне вечное перо. Скоро оно вернется к нему. И все это знают. И все делают
вид, что я такой же человек, как они. <...>
23 августа. В «Литературе и жизни» две статьи с доносом о моей
неблагонадежности 2. Эта газета какое-то «Ежедневное ура». Рассердилась, что я сказал, будто
у нас есть человеки в футляре. Одно время считали необходимым замалчивать
существование у нас очковтирателей и тунеядцев. Теперь объявляют чуть ли не
врагом народа того, кто осмелится сказать, что среди учителей у нас есть
человеки в футлярах, хотя сами же плодят таковых. <,..>
Был в городе, в «Литгазете», в «Известиях». Нужно отвечать «Лит. и
жизни», это тяжелая скука. <...>
3 сентября. [Барвиха.— Е. Ч.] Всю эту неделю я хвораю: темп. 37,4. Тоска
величайшая. После горячего душа вышел на сквозняки коридорные.
С Твардовским неск. длинных разговоров. «Ненавижу я слово: творчество.
Совестно говорить про себя: я живу в доме творчества. Мне дана «творческая
командировка» и т. д. Я даже слово поэт не смею применить к себе. А теперь
сплошь говорят: мы, трое поэтов. Как вычурно пишет Паустовский, а обыватель
\ 56 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
любит. А какой шарлатан Лев Никулин! Бедный Казакевич: не дается ему
солдатская речь. Чуть начнут говорить солдаты — фальшь. В его рассказе идеально
честный солдат приносит золотые часы вдове своего командира. Василий Теркин
пропил бы их, и был бы прав. Что за чудак Маршак. Он требует, чтобы его
переводы печатались так: раньше крупными буквами: Маршак, потом перевод, а
потом внизу мелким шрифтиком Шекспир».
Подарил мне «За далью даль» — с доброжелательной надписью3. <...>
13 сент. Познакомился я с нашим израильским послом4. Он недавно приехал из
Иерусалима. У одного из америк. богачей в Иерусалиме есть вилла; в молодости
этот богач был (по линии бизнеса) связан с Сов. Союзом — поэтому он
пригласил к себе нашего посла — и первое, что тот увидел, был
Мой Портрет работы Репина.
Вот куда он перекочевал из Америки. Итак, путь этого портрета:
Куоккала, Рим, Москва, Нью-Йорк. Интересно, куда метнет его дальше. Между
тем Репин торжественно подарил его мне. <...>
1962
21 февраля. <...> Сегодня получил официальное приглашение в Оксфорд и
письмо от С. А. Коновалова, дающее мне указания, какие лекции там читать и
прочее. ,<...>
22 февраля. <...> Сейчас уехала от меня Вера Федоровна Панова — первая вне
всякого сравнения писательница Советского Союза — простая, без всякого
чванства. Рассказывала о том, как в 1944 году везла троих детей и больную мать в
Пермь из Полтавы и как за две бутылки самогону и мешок сухарей ее пустили в
вагон, на который она имела полное право, т. к. у нее были билеты. Показала в
лицах ту бабу-железнодорожницу, с к-рой она вела переговоры. Как баба и
кондуктор пробовали самогон, хорош ли и т. д. Очень умна, необыкновенно
деятельна, сейчас от меня поехала в Мосфильм, там по ее сценарию готовится
кино-картина. За два года изготовила шесть сценариев.
Ярко талантлива и очень естественна в каждом движении — держит себя
как самая обыкновенная женщина. <...>
1 марта. <...> Эльсберга исключили-таки из Союза за то, что он своими
доносами погубил Бабеля, Левидова и хотел погубить Макашина. Но Люсичевский,
погубивший Корнилова и Заболоцкого — сидит на месте К <...>
'30 марта 1962. Вчера меня «чествовали» в Доме Пионеров и в Доме Детской
книги. <...> Отлично сказал Шкловский, что до моих сказок детская литература
была в руках у Сида, а мои сказки — сказки Геккельбери Финна. <...>
Все эти заботы, хлопоты, речи, приветы, письма, телеграммы (коих пуды)
созданы специально для того, чтобы я не очнулся и ни разу не вспомнил, что
жизнь моя прожита, что завтра я в могиле, что мне предстоит очень скоро
убедиться в своем полном ничтожестве, в полном бессильи.
Получил орден Красного знамени. Одновременно с Юговым. <...>
Письмо от Казакевича2.
2 апреля. Выступал в Политехническом Музее и по телевизору. Меня
по-прежнему принимают за кого-то другого. Что делалось в Политехническом! По
крайней мере половина публики ушла не достав билетов. Зал переполнен, все
проходы забиты людьми. И все сколько есть смотрят на меня влюбленными глазами.
Андроников пел мне дифирамбы ровно полчаса. Я чувствовал себя каким-то
мазуриком. Ведь, боже мой, сколько дряни я написал в своей жизни, постыдной
ерунды, как гадки мои статьи у Ильи Василевского в «Понедельнике». Чтобы
загладить их, не хватит и 90 лет работы. Сколько пошлостей — вроде «Англии
накануне победы», «Заговорили молчавшие». Ничего этого нельзя оправдать тем,
что все это писалось искренне. Мало утешения мне, что я был искренний идиот.
Получено больше тысячи телеграмм, среди них от Анны Ахматовой,
Твардовского, Паустовского, Исаковского и проч. <...>
7 апреля. Утром во дворце — получал орден. Вместе со мной получал бездарный
подонок Югов, которому я не подал руки. Брежнев говорил тихим голосом и был
ИЗ ДНЕВНИКА 1 57
очень рад, когда оказалось, что никто из получавших- орден не произнес ни
одного слова. Любимое выражение Брежнева: «я удовлетворен», «с большим
удовлетворением я узнал» и т. д.
Оттуда в Барвиху. Первый, кого я увидел в холле — Твардовский, с ясными
глазами, приветливый. <...>
Твардовский относится ко мне трогательно. Сегодня подошел к моему столу
и сказал, что в пять часов придет ко мне побеседовать. Говорили о здоровье
Маршака. Оно сильно улучшилось. Изумительно четкие кованные стихи прислал мне
Маршак к моему 80-летию, свидетельствующие о его душевной силе — и власти
над материалом3. <...>
Сейчас был у меня Твардовский. Поразительный человек. Давно уже хотел
уйти из «Нового Мира». «Но ведь если я уйду, всех моих ближайших товарищей
по журналу покроет волна».— И он показал рукою, как волна покрывает их
головы. Ясные глаза, доверчивый голос. «Некрасову издавать «Современник» было
легче, чем мне. Ведь у него б[ыло] враждебное правителъствю, а у меня свое».
Принес мне рукопись некоего беллетриста о сталинских лагерях. Рукопись дала
ему Ася Берзер4. Рассказывал, как он нечаянно произнес свою знаменитую речь
на XXII съезде. Подготовил, но увидал, что литераторов и без того много.
Оставил рукопись в пальто. Вдруг ему говорят: следующая речь — ваша.
Рассказывал о Кочетове, что ему кричали «долой!», а в газетных отчетах это изображено,
как «оживление в зале». Публика смеялась над ним издевательски, а в газетах
(«Смех в зале») <...> Говорил о черносотенцах и подонках: «они вовсе не так
сплочены — охотно продают друг друга, и при том все, как один бездарны».
В нем чувствуется сила физическая, нравственная, творческая. Говорил об Эрен-
бурге — о его воспоминаниях. «Он при помощи своих воспоминаний сводит свои
счеты с правительством — и все же первый назвал ряд запретных имен и за это
ему прощается все. Но намучились мы с ним ужасно». Говорит о Лесючевском:
«Это патентованный мерзавец. Сколько раз я поднимал вопрос, что его нужно
прогнать и все же он остается. А его стукачество в глазах многих — плюс:
«значит, наш».
13 апреля. <...> Третьего дня Тв. дал мне прочитать рукопись «Один день
Ивана Даниловича» — чудесное изображение лагерной жизни при Сталине. Я
пришел в восторг и написал краткий отзыв о рукописи5. Тв. рассказал, что автор —
математик, что у него есть еще один рассказ, что он писал плохие стихи и т. д.
12 апр. 1962. Сейчас в три часа дня Александр Трифонович Твардовский,
приехавший из города (из Ленинского комитета) сообщил мне, что мне присуждена
Ленинская премия. Я воспринял это как радость и как тяжкое горе.
Чудесный Твардовский провел со мною часа два. Шутил: «вдруг завтра
окажется, что вы всю свою книгу списали у Архипова!» Говорил об Ермилове,
который выступал против меня. Оказалось, что провалились Н. Н. Асеев, Вал.
Катаев. Я — единственный, кому досталась премия за литературоведческие работы.
Никогда не здоровавшийся со мною Вадим Кожевников вдруг поздоровался со
мною. Все это мелочи, которых я не хочу замечать. <...>
14 апр. воскресенье. <...> Твардовский сидит с компанией в холле. Я проходя
говорю: «Совет старейшин». Он отзывается: Совет Курейшин. (Это стоит суето-
рии)6 <...>
19. <...> Твардовский входит в столовую майестатно хозяйской походкой
человека, только что оторвавшегося от интересной и важной работы. Странно, что он
на ты с Вадимом Кожевниковым и что они так мирно беседуют. <...> Читаю
Ажаева. Я даже не предполагал, что можно быть таким неталантливым
писателем. Это за гранью литературы.
22 апр. Хотел ли я этого? Ей богу нет! Мне вовсе не нужно, чтобы меня, старого,
замученного бессонницами, показывали в телевизорах, чтобы ко мне доходили
письма всяких никчемных людей с таким адресом: «Москва или Л-д Корнелю
Чуйковскому», чтобы меня тормошили репортеры. Я потому и мог писать мою
книгу, что жил в уединении, вдали от толчеи, пренебрегаемый и «Правдой» и
1 58 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
«Известиями». Но моя победа знаменательна, т. к. это победа интеллигенции над
Кочетовыми, Архиповыми, Юговым, Лидией Феликсовной Кон и другими
сплоченными черносотенцами. Нападки идиота Архипова и дали мне премию. Здесь
схватка интеллигенции с черносотенцами, которые, конечно, возьмут свой
реванш. В «Правде» вчера была очень хитренькая статейка Погодина о моем...
даже дико выговорить! — снобизме7. <...>
'30 апреля 1962. Ек. Павл. Пешкова получила от Марии Игн. Бенкендорф (Буд-
берг) просьбу пригласить ее к себе из Англии. Ек. Павловна исполнила ее
желание. «Изо всех увлечений Алексея Максимовича — сказала она мне сегодня,—
я меньше всего могла возражать против этого увлечения: М. Игн.— женщина
интересная». Но тут же до нее дошли слухи, будто Мария Игн. продала каким-то
английским газетам дневники Ал. М-ча, где говорится о Сталине. «Дневников он
никаких никогда не вел,— говорит она,— но возможно, что делал какие-нибудь1
заметки на отдельных листках». И вот эти-то заметки Мария Игн. могла продать
в какое-ниб. издательство. Лицо Екат. Павл. покрывается пятнами, она нервно
перебирает пальцами, <...> Заговорили опять о Марии Игнатьевне. «Когда
умирал Ал. Максим., она вдруг дает мне какую-то бумажку, исписанную рукою
Крючкова — и подписанную Горьким. «Пожалуйста, А. М. просил, чтобы вы передали
эту бумажку Сталину, а если нельзя, то Молотову». Я сначала даже не взглянула
на эту бумажку, сунула ее в карман халата, но потом гляжу: да это —
завещание! — обо мне ни слова, все передается в руки Крючкова!» (И опять на лице
красные пятна.) Вбт воспоминания, терзающие эту беспокойную душу.
5 мая. Ну вот и кончается моя Барвиха. Завтра уезжаю. Очень рад. <...>
21 мая. Летели мы очень хорошо. В самолете мне с Мариной достались отличные
места. Впереди. Ни с кем не познакомились в пути. Видели далеко, глубоко под
собой — облака. Пролетели над Копенгагеном и вот Лондсод. Встретил меня Рот-
штейн и незнакомец. Оказывается, я гость Британского Совета. В Посольство —
мимо Кенсингтон Garden — знакомые места. Чуть не плачу от радости.
Сопровождающий меня англичанин — оказался тем самым Норманом, которого я истре-
тил в Переделкине! Шел по Переделкину молодой ч[елове]к без шляпы, я
догадался, что это — англичанин, затащил его к себе — и он прочитал мне по моей
книге Броушшга «О Галупи Балтасаро this is very sad to find» *. Оказывается, он —
работник Британского Совета. В Оксф[ордском] Randolf Hotel — две прелестные
комнатки — с тремя зеркалами каждая, но без письменного стола. Встретил нас
С. А. Коновалов без шапки — бесконечно милый. <...>
Был в Бодлейн Library ** — чудо! Letters of Swinburn ***. собр. соч. Трол[л]о>па.
Чудесное издание Газзлита — и красота дивная, гармоничность всего
архитектурного ансамбля подействовала на меня как музыка. Видел прелестные рисунки
Сомова, Бенуа, Серова, Щастерна]ка отца, видел эскизные портреты Ленина
(с натуры).
24 мая. Счастливейший день. Облачно, но дождя нет. Зашли за мною студенты
вместе с Pier'ом Хотнером, который каждую свою речь начинает словом: «Послушайте!»
По дороге мы купили бритву и банку чернил. Подъехала машина и в ней жена
Пьера — с мальчиком Мишей 8 месяцев — умное глазастое лицо — прелестный
мальчуган. По дороге — Alice Shop, лавка, где Люиз Кэррол покупал для детей
ледеецы. В честь Люиз Кэрролла поехали по Isis'y в лодке, здесь ровно сто лет
назад он рассказывал девочкам Лиддел «Alice in Wonderland» ****. Прелестная
река — виды великолепные, вдали Magdalen Tower, серая белка прыгает, как
кенгуру, в траве, в воде лебеди и кажется, будто и белка и лебеди здесь с 1320 или с
1230 года.<...>
Я забыл записать, что третьего дня происходила церемония, при помощи
которой меня превратили в Litt. D[octor]a.***** Процедура величественная. Дело
произошло в Taylor Institution, так как то здание, где обычно происходят такие
как печально это обнаружить (англ.)
библиотека (англ.)
письма Суинборна (англ.)
«Алиса в стране чудес» (англ.)
Доктор литературы (англ.)
ИЗ ДНЕВНИКА \ 59
дела, теперь ремонтируется. На меня надели великолепную мантию, по обеим
моим сторонам встали bedels (наши педели?) с жезлами, в мантиях, ввели меня в
зал, наполненный публикой, — а передо мною на возвышении, к к-рому вели
четыре етупеньки, сидел с каменным, но очень симпатичным лицом Vice Chancellor
of Oxford University проф. А. Л. П. Норрингтон. Профессор Ворчестера А. N. Bryan
(Brown) прочитал латинскую похвалу, где упомянул «Crocodilius'a», после чего я
поднялся на 4 ступеньки и пожал Vice Chancellory руку.
Vice Chancellor посадил меня рядом с собою, после чего я пошел читать
лекцию о Н[екрасо]ве. Читал я легко, непринужденно, почти без-подготовки — и к
своему удивлению имел громадный успех. Перед этим проф. Obolensky огласил
мою краткую биографию. Я читал по англ. отрывки из Swinburn'a и прославил
нашу советскую науку, наше литературоведение, назвав имена акад. Алексеева,
Макашина, Нашинского, Скафтымова, Вл. Орлова, Оксмана, Зильберштейна
и многих других русских исследователей л-ры8.
После моей лекции Reception * тут же. <...>
Вернувшись, я предложил Марине пройтись переулками перед сном. Тихие
средневековые стогны — и вдруг из одного домика выбегает возбужденная ж[ен-
щин]а и прямо ко мне: «Мы воспитались на ваших книгах, ах, Мойдодыр, ах, Муха
Цокотуха, ах, мой сын, который в Алжире, знает с детства наизусть ваш[е] «Та-
раканище» — вовлекли меня в дом и подарили мне многоцветный карандаш.
Марина чудесный товарищ в путешествии, ее сопутствие радует меня очень.
Коновалов чистый ч[елове]к, любит Россию горячей любовью.<...>
26 мая. Вчера два визита: заехал за нами сэр Морис Баура — автор «Песен
диких народов» — и повез нас в свою гениальную холостяцкую квартиру ту самую,
где когда-то в тысяча шестьсот... котором-то году жил сэр Кристофер Рен. Таких
музыкальных пропорций, такой абсолютной гармонии, такого сочетания простоты
и роскоши я никогда не видал. Быть в такой комнате значит испытывать
художественную радость. А комнат у него много — и столько книг в идеальном порядке,
итальянские, греческие, французские, русские, английские — наверху зимний сад
с кактусами. Завтрак в такой столовой, что хочется кричать от восторга. Sir
Maurice — холостяк. Бесшумный лакей — chicken, chocolade pudding **, говорили
о Роберте Броунинге, о Суиеберне, Уотт Dunton'e, сэр Морис декламировал Фета,
Гомера, Сафо. <...>
3 июня. Кашляю. Выступал вчера в Пушкинском клубе. <...>
Был перед этим у Iona u Peter Opie. Мудрые люди, устроившие свою жизнь
мудро и счастливо. Они вместе создали три фундаментальные книги — и с какой
любовью, с каким гениальным терпением. Весь их дом сверху донизу — музей,
изумительный музей детской книги и детской игрушки. Так как в их работе —
систематизация, классификация играет главную роль — в их огромном хозяйстве
величайший порядок; тысячи папок, тысячи конвертов, тысячи экспонатов —
распределены как в музее. Он моложавый с горячими глазами, она черноглазая,
энергичная, приветливая — их жизнь — идеал супружества, супружеского
сотрудничества. Дочь их тоже собирательница. Она собирает карты всего мира, и в ее
комнате нет ни одной стены, к-рая не была бы увешана географ, картами. Ей
задано: прочитать 13 классич. книг: Диккенса, Теккерея и т. д. Каждую субботу в
том месте, где живут эти счастливцы, в городке — распродажа книги, любая
книга 6 пенсов, они каждую субботу ходят на ловлю — и возвращаются с добычей.
Вообще весь их громадный музей создан не деньгами, а энтузиазмом.
Сегодня 3 июня — мой счастливейший день, прогулка с Мариной по Лондону.
Солнце, потрясающей красоты здания Парламента, West Cathedral'a парад
ирландских ветеранов войны перед Cenotaph. Мы поехали в National Gallery. Она заперта!
Воскресенье. <...> Постояв у закрытых ворот галереи, мы пошли на Trafalgar
Square. Львы как будто выросли за те годы, что я их не видел. Огромные
фонтаны с подсиненной водой. Голуби тысячами бродят по земле. Дети держат на
ладошках зерно и считают себя счастливыми, если голубь клюнет у них из ладош-
Прием (англ.).
цыпленок, шоколадный пудинг (англ.).
160 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
ки. Маленьких детей родители водят на вожжах. <...> Тут-то мы увидели
Кенотаф — памяти погибших на войне ирлавдцев, и вдруг к этому памятнику с
обнаженными седыми волосами и лысинами стройной колонной, по-военному,
прошли в штатской одежде ветераны ирландских полков. Трубы трубили печально —
панихидио, солнце, священник в белой накидке — god, save the Queen! * — потом
богослужение — на груди у каждого старика десятки орденов и медалей, один без
ноги, все это так растрогало меня и Марину. Так жалко было этих стариков в
такой праздничный солнечный день, так стало мне жалко себя, что я побрел
прочь к бессмертному красивому Вестминстерскому аббатству, по дороге:
памятник Canning'y, Линкольну и... Георгу пятому. Меня это потрясло. Я привык в
Москве ходить среди памятников моим знакомым: памятников Репину,
Маяковскому, Горькому, но здесь в Лондоне — найти памятник — огромный, помпезный
человеку, которого ты видел живым, голос которого слышал — это так странно. <...>
4 июня. Была Эллен Winter, возила нас в своем автомобиле. Яркая женщина.
Очень хочет, чтобы я разрешил ее сыну Стеффенсу, профессору, который на днях
приезжает из Америки, перевести книгу «От двух до пяти». Была Мура Будберг
с какой-то Андрониковой — глухой и слепой. «Мне А. А. посвятила
стихотворение «Тень».
— Прочтите, пожалуйста.
— Не помню. <...>
9 июня. Летим обратно. <...> В самолете была 7-летняя девочка Таня, с к-рой
мы очень сошлись. Она поглядела на облака, клубившиеся внизу и сказала:
«мыльная страна».— Путешествие было незаметно. Я чувствовал себя в самолете, как
в трамвае.<...>
15 июня.<...> Был вчера у Маршака. Он уезжает в Крым. Бодр необыкновенно.
Читал мне свои стихи — из них лучшее — о Марине Цветаевой9. Читал новый
перевод из Вильяма Блэйка. Еще полгода назад (да нет, три месяца назад) врачи
приговорили его к смерти: он еле дышал. Теперь он стал прежним Маршаком,
неистощимо работающим, с горою рукописей на столе, непрерывно говорящим со
всеми по телефону, принимающим в день десятки людей — расточающим себя,
как богач. В Крым он уезжает на пять месяцев.
Он написал рецензию на повесть «Один день», которую Твардовский все же
хочет поместить в «Новом Мире» в августе. «После этой повести нельзя будет
писать плохую беллетристику». <...>
29 июня. Были у Лиды Копелевы, муж и жена. Оказывается, он, Копелев, достал
для «Нового Мира» рассказ «Один день», который давал мне Твардовский. 10<...>
Копелевы рассказывают, что, приехав в Тбилиси, они поселились на ул. Сталина,
потом переехали на улицу Джугашвили, а [в] Сухуми (кажется) оказались на
улице Кобы (парт, кличка Сталина).<...>
1 июля. <...> Отовсюду мрачнейшие сведения об экономическом положении
страны: 40 лет кричать, что страна идет к счастью — даже к блаженству —
и привести ее к голоду; утверждать, что вступаешь в соревнование с капитали-
стич. странами, и провалиться на первом же туре — да так, что приходится
прекратить всякое соревнование... <...>
3 июля. <...> Читал Эренбурга в 6-й кн. «Нового Мира». Все восхищаются.
А мне показалось: совсем не умеет писать. Выручает его тема: трагическая
тема о России, попавшей в капкан. Но зачем — чехарда имен, и всё на одной
плоскости без рельефов: Даладье, Пастернак, Лиза Полонская? Рябит в глазах
и какие плохие стихи (его собственные) он цитирует в тексте и. <...>
[Вклеено письмо — Е. Ч.]:
Дорогой Корней Иванович! Вашего адреса я не знаю. Надеюсь, что почтамт
Вас найдет,
31.03.62
Многоуважаемый Корней Иванович!
Разрешите от всей души поздравить Вас с 80-летием. Я не хочу говорить
Боже, спаси королеву (англ.Х
ИЗ ДНЕВНИКА
Вам комплиментов, но Вы на фотографиях, помещенных в последних номерах
журналов и газет выглядите значительно моложе. Это тем более приятно, что
любимый общепризнанный писатель для детей до сих пор молод душой.
Дорогой Корней Иванович, многие не знают, что в прошедшую войну Вы
потеряли сына. В первые дни войны я вместе с ним был в армии и хочу об этом
Вам рассказать. Мне пришлось с ним переживать солдатскую жизнь в июле,
августе и сентябре 1941 года.
Вначале я не знал, кто этот веселый, а вместе с тем серьезный молодой
симпатичный человек. Потом мне сказали, что это сын Корнея Чуковского.
Тогда пригляделся к нему внимательно и нашел много черт, схожих с отцом.
Как сейчас помню, он был высокого роста, брюнет, лицом похож на Вас (я мог
это сравнить, т. к. Вашу фотографию не раз видел в печати).
Помню, что у него был друг — такой крепышок, пониже ростом Вашего сына,
студент IV курса, почти инженер по гидросооружениям. По-моему, к этой области
имел отношение и Ваш сын, так как этим двум солдатам было поручено
восстановить плотину в одной из дере>вень, где мы сооружали оборонительные
укрепления. Они с этой задачей справились успешно. К нам приходили представители
общественности деревни и объявили благодарность Вашему сыну и его товарищу.
В дальнейшем ходе военных событий нас разлучили. Мы были в одном
взводе, а потом меня перевели в штаб батальона и с тех пор я больше его
не видел.
Все это происходило в 13 Ростокинской дивизии гор. Москвы (народное
ополчение).
Всю войну я помнил о Вашем сыне, помню этого милого человека до сих
пор. По демобилизации и приезду в Москву, я разыскал телефон Вашей
квартиры, позвонил, разговаривал с матерью, справлялся, не вернулся ли Ваш сын.
Но он не вернулся.
Память о нем у Вас в сердце, но поверьте, все кто соприкасался с ним, а тем
более ел из одного котелка, никогда его не забудут.
С уважением М. Ершов
гор. Пенза, ул. Куйбышева, 45а, кв. 11
Ершов Михаил Андреевич.
P. S. Может быть, есть что-нибудь нового в известиях о Вашем сыне. Буду очень
признателен, если дадите ответ. <...>
19 июля. Трагично положение Аркадия Белинкова. Он пришел ко мне смертельно
бледный, долго не мог произнести ни единого слова, потом рассказал со слезами,
что он совершенно лишился способности писать. Он стал писать большую статью:
«Судьба Анны Ахматовой», написал по его словам больше 500 стр., потом
произошла с ним мозговая катастрофа, и он не способен превратить черновик
в текст, пригодный для печати.— Поймите же,— говорит он,— у меня уничтожили
5 книг (взяли рукописи при аресте), я не отдыхал 15 лет — вернувшись из
ссылки, держал вторично экзамены в Литер. И-туте, чтобы получить диплом,
который мне надлежало получить до ареста (тогда он уже выдержал экзамены)—
тут слезы задушили его и он лишился способности говорить. Я сидел
ошеломленный и не мог сказать ни единого слова ему в утешение. Он дал мне первые
страницы своей статьи об Ахматовой. В них он говорит, что правительство всегда
угнетало и уничтожало людей искусства, что это вековечный закон — может
быть это и так, но выражает он эту мысль слишком длинно, и в конце концов
она надоедает и хочется спорить с нею. Хочется сказать: а Одиссея? а «Война
и Мир»; а «Ромео и Джульетта», а «Братья Карамазовы». <...>
16 аьг. Четверг. Читаю Корнилова.
Плачут. Вконец исчез рафинад,
Масла и мяса нету.
Но ежедневно благодарят
Сталина газеты.
Поскакали девчата замуж,
Пропадают во цвете лет!
11. «Знамя» № 12. а
-J 62 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
И осталась самая залежь,
На которую спросу нет.
<...> Корнилов был. Это действительно большой человек. Высокий лоб, острижен
под машинку, очень начитан, говорлив, поэтичен и нежен. Прочитал «Анастасью»,
«Анне Ахматовой», отрывки из новой поэмы — страшно торопясь и глотая слова,
но впечатление неотразимое. Впечатление подлинности каждого слова.
Замечательно: хотя в большинстве стихотворений он говорит терпким и едким жаргоном,
на котором изъясняются сейчас тертые .советской действительностью 30-летние
люди, для разговора со мною (напр.) он имеет в запасе интеллигентский язык
без всякого цвета и запаха.
Погода хмурится. <...>
11 ноября. <...> Сейчас были у меня Таня Винокур, Крысин и Ханпира —
талантливые молодые лингвисты. Ханпира — задиристый, постоянно готовый
уличать, резать правду-матку в глаза, Таня умница, 2 года прожила в Сиаме, (ее
сыну 14 лет) прочитала мне прелестную статью о штампах, где указывает такие
новые штампы, как «разговор», «форум» и т. д. Очень изящно и остроумно
написана. Крысин — самый молодой из них, вдумчивый,— они берут шефство
над моей книжкой «Шивой как жизнь». Рассказали, что их институту заказаны
чуть ли не три тома, чтобы разбить учение Сталина о языке — его, как сказано
в предписании ЦК, «брошюру».
Пять лет называли его статьи «Гениальный труд корифея науки товарища
Сталина» — и вдруг «брошюра»! В. В. Виноградов, громче всех восхвалявший
«гениальный труд» — теперь в опале.
Когда умер сталинский мерзавец Щербаков, было решено поставить ему
в Москве памятник. Водрузили пьедестал — и укрепили доску, извещавшую, что
здесь будет памятник А. С. Щербакову.
Теперь — сообщил мне Ханпира — убрали и доску и пьедестал.
По культурному уровню это был старший дворник. Когда я написал
«Одолеем Бармалея», а художник Васильев донес на меня, будто я сказал, что
напрасно он рисует рядом с Лениным — Сталина, меня вызвали в Кремль, и
Щ[ербаков], топая ногами, ругал меня матерно. Это потрясло меня. Я и не знал,
что при каком бы то ни было строе всякая малограмотная сволочь имеет право
кричать на седого писателя. У меня в то время оба сына были на фронте, а сын
Щ-ва (это я знал наверное) был упрятай где-то в тылу.
Но какой подонок Васильев! При Щербаковском надругательстве надо мною
почти присутствовал Н. С. Тихонов. Он сидел в придверии кабинета вельможи.
Я сдуру выступал перед барвихинской публикой с воспоминаниями о
Маяковском. Когда я кончил, одна жена секретаря обкома (сейчас здесь отдыхает
гл. обр. секретари обкомов: дремучие люди) спросила:
— Отчего застрелился Маяковский?
Я хотел ответить, а почему Вас не интересует, почему повесился Есенин,
почему повесилась Цветаева, почему застрелился Фадеев, почему бросился в Неву
Добычин, почему погиб Мандельштам, почему расстрелян Гумилев, почему
раздавлен Зощенко, но к счастью воздержался. <...>
I9/XI Был милый Вадим Леонидович Андреев с Ольгой Викторовной. Они оба
работают в ООН. <...>
Оказывается, его брат Даниил был арестован по обвинению в злодейском
замысле покуситься на жизнь Сталина. Те подлецы, которые судили его, отлично
знали, что это бред, и все же сгноили его в тюрьме. Главным материалом
обвинения послужили письма Вадима из Нью-Йорка: в них Вадим писал о своей
тоске по родине, никто, не будучи палачом, не мог бы вычитать в них никакого
криминала.
Вспоминали прошлое. Вадим рассказывает, что когда Ал. Толстой написал
свои ранние рассказы и первую несуразную повесть «Хромой барин», Леонид
Андреев, к удивлению своего брата Павла, заявил, что он, Толстой, самый
талантливый русский писатель, талантливее Горького (а Г. в то время печатал
самые сильные свои вещи: «Детство», «В людях»). <...>
ИЗ ДНЕВНИКА 1 63
24 ноября. Сталинская полицейщина разбилась об Ахматову... Обывателю, это,
пожалуй, покажется чудом — десятки тысяч опричников, вооруженных
всевозможными орудиями пытки, револьверами, пушками — напали на беззащитную
женщину, и она оказалась сильнее. Она победила их всех. Но для нас в этом нет
ничего удивительного. Мы знаем: так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее
всех полицейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, не убьешь. Это
я знаю по себе. В книжке «От двух до пяти» я только изображаю дело так, будто
на мои сказки нападали отдельные педологи. Нет, на них ополчилось все
государство, опиравшееся на миллионы своих чиновников, тюремщиков, солдат. Их
поддерживала терроризированная пресса. Топтали меня ногами — запрещали —
боролись с «чуковщиной» — и были разбиты наголову. Чем? Одеялом, которое
убежало, и чудо-деревом, на котором растут башмаки.
Сейчас вышел на улицу платить (колоссальные) деньги за дачу — и
встретил Катаева. Он возмущен повестью «Один день», которая напечатана в «Новом
Мире». К моему изумлению он сказал: повесть фальшивая: в ней не показан
протест.— Какой протест? — Протест крестьянина, сидящего в лагере.— Но ведь
в этом же вся правда повести: палачи создали такие условия, что люди утратили
малейшее понятие справедливости и под угрозой смерти не смеют и думать о том,
что на свете есть совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать
себя шпионом, чтобы следователи не били его. В этом вся суть замечательной
повести — а Катаев говорит: как он смел не протестовать хотя бы под одеялом.
А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал
рабьи гимны, как и все.
Теперь я вижу, как невыгодна черносотенцам антисталинская кампания,
проводимая Хрущевым. Повесть эту прочитал Хр. и разрешил печатать, к ужасу
всех Поликарповых* <...>
1 декабря. Снег молодой, обильный, бессмертно-красивый. <...>
Н. С. Хрущев пришел на выставку в Манеж и матерно изругал скульптора
Неизвестного и группу молодых мастеров. Метал громы и молнии против Фалька.
Пришла ко мне Тамара Вл. Иванова с Мишей (выставившим в Манеже свои
пейзажи), принесли бумагу, сочиненную и подписанную Всеволодом Ивановым —
протест против выступления вождя. Я подписал. Говорят, что подпишет
Фаворский, который уже послал ему телеграмму с просьбой не убирать из Манежа
обруганных картин — и с похвалами Фальку.
10 декабря 1982. Третьего дня выступал по теле, вместе с Винокуровым, Кор-
жавиным, Корниловым. Они приехали ко мне. Я прочитал «Тараканище», «Чудо-
дерево», «Мимозу» (Ел. Гулыги). Они читали свои стихи. Удачно ли,
не знаю. <...>
Ахматова: «Главное: не теряйте отчаяния». Она записала свой «Requiem».
18 декабря. <...> «Сибирские огни» приняли к напечатанию Лидину повесть
«Софья Петровна». Но по свойственной редакторам тупости требуют озаглавить
ее «Одна из тысяч». Лида — фанатик редакционного невмешательства, отвергает
все поправки, внесенные ими. Между тем еще полгода назад нельзя было и
подумать, что эта вещь может быть вынута из-под спуда. Сколько лет ее рукопись
скрывалась от всех, как опаснейший криминал, за к-рый могут расстрелять.
А теперь она побывала в «Новом мире», в «Знамени», в «Советском писателе»,
в «Москве» — все прочитали ее, и отвергли, а «Сибирские огни» приняли и
решили печатать в феврале.
Впрочем, все зависит от завтрашней встречи с Н. С. Х[рущевым]. Не
исключено, что завтра будет положен конец всякому либерализму. И «Софье
Петровне» — каюк.
Коля написал великолепные воспоминания о Заболоцком — очень умно и
талантливо.
Очень печален конец 1962 г. Я подписал письмо с протестом против нападок
Н. С. X. на молодежь художественную и мне на вчерашнем собрании очень
влетело от самого Н. С. X. Хотя мои вкусы определялись картинами Репина и поэзией
Некрасова, я никак не могу примириться с нынешним Серовым, Александром
1 64 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Герасимовым и Локтионовым, кои мнят себя продолжателями Репина. Ненавижу
я деспотизм в области искусства.
I don't cherish tender feelings for Neizvestny, but the way they have
treated him fills me with intense, intense indignation *.
При Сталине было просто: бей интеллигенцию, уничтожай всех, кто
самостоятельно думает! Но сейчас это гораздо труднее: выросли массы технической
интеллигенции, без которой государству нельзя обойтись,— и вот эти массы взяли
на себя функцию гуманитарной интеллигенции — и образовали нечто вроде
общественного мнения.
1963
Morituri te Salutant!**
8 января. Свои дневники я всегда писал для себя: «вот прочту через год, через 2,
через десять, через 20 лет.» Теперь, когда будущего для меня почти нет, я
потерял всякую охоту вести дневники, п. ч. писать о своей жизни каким-то
посторонним читателям не хочется — да и времени нет. <...>
17 января. Мороз 30°. Жду Геннадия Матвеевича — и Люшу. Уже б часов.
Сегодня Г. М. должен привезти мне новое издание моего бедного «Мастерства».
Издание четвертое — удостоенное ленинской премии. Я вполне равнодушен к этой
книге. Она — худшая из всех моих книг. Писана во время проклятого культа,
когда я старался писать незаметные вещи, потому что быть заметным — было
очень опасно. Стараясь оставаться в тени, я писал к юбилею Пушкина статейку
«Пушкин и Н[екрасо]в», к юбилею Гоголя «Гоголь и Некрасов» и т. д. Перед
этим (или в это время) я несколько лет писал комментарии к стихотворениям
Некрасова — тоже ради пребывания на литературных задворках, не
привлекающих внимания сталинской полицейщины. Человек я громкий и бросающийся в
глаза, избрал себе тихую заводь, где и писал вполголоса. Если вспомнить, с каким
волнением я писал «Поэт и палач», «Жизнь и судьба Николая Успенского»,
«Нат Пинкертон» будет ясно, что книга моя «Мастерство» — не творчество, а
рукоделие. <...>
15 февраля. В Доме Творчества отдыхает Паустовский. Вчера Лида сказала мне,
что он хотел бы меня видеть. Сегодня я пришел к нему утром. Он обаятелен
своей необычайной простотой. Голос у него слабый и очень обыкновенный,
прозаический, будничный. Он не изрекает, не позирует, он весь как бы говорит:
я не праздник, я будни. Дело у него ко мне такое: идиоты, управляющие
Карелией, решили уничтожить чуть ли не все древние деревянные церкви. На столе
у него фотоснимки этих церквей — чудесных, затейливых, гибнущих. Так и
хочется реставрировать их. Подумать о том, чтобы их уничтожить, мог только
изверг — и при том беспросветный тупица. <...>
Разговор у нас был о том, чтобы послать телеграмму властям о прекращении
этого варварства. Кто ее подпишет?
Леонов, Шостакович, я, Фаворский.
Паустовский предложил зайти к нему вечером. Он за это время приготовит
текст.
Между тем ко мне пришла Таня Литвинова, прочла свою статью о
казаках — прекрасную статью, прозрачную, очень изящную.
Потом я показывал свои заметки для нового издания «Искусства перевода».
Она зафыркала: неверно, зачем это? не нужно! ваша старая книжка не нуждается
в новых заплатах — и сразу вся моя работа скисла!
И мы пошли к Паустовскому. Он рассказал нам целую новеллу о памятнике
Марины Цветаевой в Тарусе. Марина Цветаева, уроженка Тарусы, выразила
однажды желание быть похороненной там,— а если это не удастся, пусть хотя
* Я не питаю нежных чувств к Неизвестному, но то, как они поступили с ним,
внушает мне сильное, сильное негодование (англ.).
** Идущие на смерть приветствуют тебя (лат.).
ИЗ ДНЕВНИКА 165
бы поставят в Тарусе камень на определенном месте над Окой и на этом камне
начертают:
Здесь хотела быть погребенной
Марина Цветаева
Некий энергичный молодой человек пожелал выполнить волю Цветаевой.
Он приехал в Тарусу, получил у властей разрешение, раздобыл глыбу
мрамора,— там же в Тарусе есть залежи мрамора — и пригласил гравера, который и
начертал на граните:
Здесь хотела быть погребенной и т. д.
Но в это время какой-то бездарный скульптор ставил в Тарусе памятник
Ленину; он узнал о затее энергичного юноши и побежал в Горком.
— Что вы делаете? Ставите монументы эмигрантке? врагу родины? и т. д.
Там испугались, отменили решение, прислали подъемный кран — и увезли
памятник эмигрантке Марине Цветаевой обратно, чтобы он не осквернял Тарусу.
У Тани во время этого рассказа блестели глаза, как свечи. Увидав это
сверкание, П. стал словоохотлив. Привел еще несколько фактов распоясавшегося
хамства, все же закончил свою «беседу» словами:
— Я оптимист! Я верю: все будет превосходно. «Они» выпустили духа из
бутылки и не могут вогнать его обратно. Этот дух: общественное мнение.
Сегодня он придет ко мне с готовым письмом или телеграммой.
Задержан 2-й номер «Нового Мира»: там должны были печататься
воспоминания Эренбурга о советских антисемитах и их жертвах.
По словам Паустовского в «Правде» и в «Известиях» должны появиться
статьи, громящие два новых рассказа Солженицына.
— Меня пугает в Солженицыне одно,— сказал Паустовский: — он — враг
интеллигенции. Это чувствуется во всем. «Оттого-то он так люб[ит] Твардовского,
который при встрече со мною всякий раз говорит укоризненно: «ведь ваша
«Золотая чаша» 1 — интеллигентская штука».
— Но ведь судьба подшутила над Александром Трифоновичем: ему
пришлось издавать самый интеллигентский журнал в СССР.
17 февр. воскресенье. Вчера был у меня Паустовский. Уже поднимаясь по
лестнице (с одышкой), он сказал:
— Читали «Известия» — насчет Ермишки?
Оказывается, в «Изв.» целая полоса занята подборкой писем, где Ер [мило] ва
приветствует темная масса читателей, ненавидящих Эренбурга за то, что он —
еврей, интеллигент, западник2.
Пауст. принес чудесно написанное обращение к Ник. Серг. по поводу
уничтожения северных церквей. Написано обращение со сдержанным гневом; мы
обсудили черновик. Таничка взялась переписать его на красивой бумаге и внесла
от себя неск. мелких поправок, с к-рыми Паустовский вполне согласился3. •
О Федине: «Какой чудесный был малый! И как испортился! Меня уже
не тянет к нему. Да и его «Костер». Боже мой, я даже не мог дочитать! И совсем
не знает простонародной речи. Всё по словарям, по этнографическим
исследованиям!
Мы с Таней проводили П-ого до дома, он всю дорогу задыхался. Таня взялась
достать подписи Леонова и Фаворского. <...>
Вчера черт меня дернул согласиться выступить в 268 школе с докладом
о Маяковском. Кроме меня выступала сестра Маяковского, 79-летияя Людмила
Маяковская. Ее длинный и нудный доклад заключался весь в саморекламе:
напрасно думают, что Володя приобрел какие-нб. качества вне семьи: все дала
ему семья.
Остроумию он научился у отца, чистоплотности от матери. Сестра Оля
отличалась таким же быстрым умом, «у меня — скромно сказала она — он
научился лирике. Я очень лиричная».
Выступала А. И. Кальма. Та прямо начала с саморекламы. «Сегодня у меня
166 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
праздник. Вышла моя новая книжка». И показала книжку, которая не имеет
никакого отношения к Маяковскому. Потом: «всем, что я сделала в литературе
(?!?), я обязана Маяковскому. Вся моя литературная деятельность» и т. д.
Потом рассказала, как Маяк, любил детей. Познакомившись с девочкой
Витой, служаночкой, он каждый день встречал ее словами: «Вита немыта,
небрита» и т. д. Это вовсе не значит, что он любил детей. Это значит, что он
любил рифмы. У Маяк, была эта черта: услыхав чью-нб. фамилию, он немедленно
подбирал к ней рифму:
Аверчеыком заверчен ком
и т. д. <...>'
Сразу собрались: Рина, Перцов, его сын Коля, Люша, Николай Чуковский,
Ал. Яшин, его жена Злата, его дочь Злата, Вал. Берестов. Берестов читал стихи,
Рина со множеством нюансов рассказала о родителях, которые хотели приучить
ребенка любить животных, но сами их ненавидели и когда в доме заводилась
птица или собака или черепаха, изгоняли их из дому на второй же день, потом
Яшин прочитал четыре великолепных стихотворения, таких глубоких и таких
проникновенных, что у всех в комнате стали просветленные лица. Он вологодский
крестьянин — у него крестьянское обличье,— и мне кажется, что в нем
воплотилась красота духовной силы и ясности, свойственной так наз. «русской душе».
Замечательно, с какой любовью смотрели на него, когда он читал стихи, обе
Златы — жена и дочь, и если он забывал строку, они подсказывали. Дочь Злата
в восьмилетнем возрасте писала прелестные стихи. Их редактировала Оля
Казакевич, и я когда-то прочитал их по радио.
Я забыл сказать, что Яшин пришел ко мне не только с двумя Златами, но
и с братом-кибернетиком из Ленинграда — такой же крепкий крестьянин с
хорошим лицом.
Сейчас Яшина колотят в «Комсом. правде» за его статью «О вологодской
свадьбе» в «Новом Мире». Он очень приуныл, но я без труда доказал ему, что
эта брань — воспринимается лучшей частью читателей, как высшая хвала и что
он не должен отвечать «Комсом. правде», потому что они вновь обольют его
помоями 4.
Он опечалился. «Мне бы на всё наплевать, но там в деревне моя мать и две
сестры».
Когда гости ушли, я получил из Парижа письмо от Бориса Конст. Зайцева!!!
Помню его в 1909—1910 г., то есть 53 года назад. С надменным профилем —
музыкального и лучезарного москвича.
21 февраля. Вот и 8 лет миновало с тех пор как скончалась моя милая Мария
Борисовна. Сегодня еду на ее могилу, как всегда растерянный, без какого-нибудь
единого чувства. Все мое оправдание пред нею, что скоро, очень скоро, я лягу
навеки рядом с нею — и искуплю все свои вины перед нею, вольные и
невольные. <...>
Ходил с Лидой на могилу. Февральская вьюга, мгла. Постоял, подумал. На
моей могиле снежок. Так ясно представляю себе Переделкино — без меня. Кое-
кто будет говорить: «Это случилось, когда еще старик Чуковский был жив».
Мебель дачная и книги разойдутся по внукам и детям, и как я ни напрягаю мозги,
никак не могу понять, что такое посмертная слава, и на что она нужна, и какое
мертвецу от нее удовольствие. Появятся новые вещи, и наследники будут
говорить:
— Это полотенце куплено еще при Корнее Иваныче.
— Нет! Что вы. Оно куплено в прошлом году.
В Переделкине у всех Серапионов есть внуки — у Федина, у Каверина, у
Тихонова <...> —у всех, кого я знал молодыми людьми; у Леонова, у Всеволода
Иванова, у Сельвинского. Приехали они сюда отцами, а стали дедами. После
меня все эти внуки поженятся, в 70-х годах большинство дедов повымрет, в
80-х годах внуки начнут лысеть и кто-нб. из внуков напишет роман
«Переделкино», первая часть будет называться «Доисторическая древность», и в этой части
будем фигурировать мы: Сейфулина, Бабель, Пильняк, Лидин, Леонов, Пастернак,
ИЗ ДНЕВНИКА 1 67
Бруно Ясенский и я — первые насельники Переделкина. Во второй части
возникнут Тренев, Павленко, Андроников, Казакевич, Нилин. <...>
Вторник 5 марта. <...> Послезавтра в четверг 7-го марта назначен разгром
литературы, живописи и кино в Ц. К. Я был в Доме творчества, видел Паустовского
и Яшина. Яшин в панике. Рассказывает анекдот о Карапете, который, спасаясь
от льва, спустился по канату в колодец и вдруг увидел, что на дне — крокодил.
«Но Карапет не унывает». И вдруг он видит, что мышь подгрызает веревку. «Но
Карапет не унывает».
Сам он очень «унывает». Ему прислали по поводу его «Вологодской свадьбы»
крестьяне описанного им колхоза, что он совершенно прав; он носит это письмо
при себе — и дрожит: «У меня шестеро детей и что будет с ними, если меня
перестанут печатать?» Паустовский мрачен: «У них уже всё слажено заранее,
как обедня; и мне в этом богослужении нет места. Я три раза на всех трех
съездах хотел выступить — и мне три раза не давали слова». Ему и мне звонят
из ЦК, чтобы мы были непременно. <...>
7 марта. Жаль, что я болен и не могу поехать на сегодняшнее собрание в Кремле.
Что будет на этом собрании, не знаю — и не будь мне 81 года, я бы принял
там «живейшее участие».
Но разговоров много. Говорят, будто Шолохов приготовил доклад, где будут
уничтожены «Новый Мир» с Твардовским, будет уничтожен Солженицын, будет
прославлен Ермилов, бу,цет разгромлена интеллигенция и т. д.
Был вчера у Нилина. Он читал мне прелестные рассказцы (varia) и сказал,
будто ни Катаев, ни Яшин не получили приглашения в Кремль.
14 марта. Был у меня Паустовский. Со слов Каверина, к-рый бывает у Оренбурга
каждый день, он говорит, что Эр. страшно подавлен, ничего не ест, похудел
и впервые в жизни не может писать5. Паустовский показывал фото (достал из
кармана): мраморная глыба, на которой высечено: «Здесь хотела лежать Марина
Цветаева». Глыбу бросили в Оку. Вывезли специально на пароме.— «Но я знаю
место, куда ее бросили, и постараюсь летом выудить. Буду хлопотать о
восстановлении» 6.
26 марта. 20 дней тому назад мне позвонила Наташа Роскина и взяла [у] меня
интервью по поводу «детской недели». Я наговорил ей всякого неинтересного
вздору и вдруг третьего дня она звонит мне невинным голосом, что она внесла
туда несколько строк — откликов на речь т. Хрущева о литературе. «Лит. газе-
ia» сейчас только такими откликами и интересуется, и вот поэтому Наташа
вставила в текст моего интервью неси, абзацев о том, что я не вижу ни малейшей
розни между (сталинистами)-отцами и детьми. Словно кто ударил меня по
голове. Я пришел в ужас. Послал за Наташей — она приехала, я требовал, чтобы
эта позорная отсебятина была выброшена, а потом сообразил, что в это трудное
время всякое выступление с каким-то тру-ля-ля отвратительно, потребовал,
чтобы все интервью было аннулировано. Наташа не ручалась за успех, но
обещала попробовать. Это было в субботу. После двух бессонных ночей, я в
понедельник (вчера) поехал в «Лит. Газ.» Прошел в кабинет редактора и сказал ему:
«вы сами понимаете, что я, старый интеллигент, не могу сочувствовать тому,
что происходит сейчас в литературе. Я радуюсь тому, что «дети» ненавидят
«отцов», и если вы напечатаете слова, не принадлежащие мне, я заявлю вслух
о своих убеждениях, которых ни от кого не скрываю.»
И еще много безумных слов. Он обещал. Но вернувшись, я не спал еще
одну ночь (т. е. спал, но тревожно, прерывисто, т. к. знал бандитские нравы
нынешней печати) — мне чудилось, что несмотря на обещание, «Лит. Газ.» тиснет
за моей подписью черт знает что! Об этом рассказал мне Илья Зверев (Изольд),
кот. был у меня накануне. Он сдал «Лит. Газ[ет]е» очень либеральную статью
и уехал в Польшу. Пользуясь его отсутствием, «Лит. газ.» изменила всю
направленность статьи и приписала конец, сплошь состоящий из цитат из речи
Хрущева. Получилась полная противоположность тому, что Зв. хотел сказать.
Но со мною, слава богу, обошлось. <...>
6 июня. Сегодня был у меня Солженицын. Взбежал по лестнице легко, как
юноша. В легком летнем костюме, лицо розовое, глаза молодые, смеющиеся.
168 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Оказывается, он вовсе не так болен как говорили. «У меня внутри опухоль, была
как два кулака, теперь уменьшилась, ташкентские врачи, очень хорошие,
лечили». Много рассказывает о своих тюремных годах. «Я мог бы деньги
зарабатывать: сидеть в тюремной приемной и учить старушек, какие вещи можно
передавать, а какие нельзя». Потом; «в тюрьму нельзя идти в хорошем костюме,
уголовные отнимут все равно, нужно сшить из тряпки мешок, взять ложку и
чашку из пластмассы (ничего металлического); вообще в Таганку можно брать
папиросы, а в Бутырки нельзя, и т. д. и т. д. И как мы веселились по вечерам в
Бутырках. Я там лекции читал по физике, в три смены, совсем запарился. Ах,
К. И., какие хорошие русские слова — сохранились в науке и в технике»
(привел слова). Рассматривал «Чукоккалу». Заинтересовался предреволюционными
записями: «я пишу Петербургскую повесть, давно хотел написать. Сейчас я
закончил рассказ о том, как молодежь строила для [себя] техникум, а когда
построила, ее прогнали. У нас в Рязани из трех техникумов два были построены
так».
— 75%, сказал я.
— 66\ — сказал он, и я вспомнил, что он учитель. Очень восхищается
городом Таллином. «Единственный город в Эстонии, где сохранились памятники
средневековья. И какие! (перечисляет). Особенно в Северо-западном углу
Эстонии» — (назвал место) «Мы туда с товарищем на велосипеде собираемся».
Поехали мы с ним на кладбище. Посмотрели на могилу Пастернака, она
вся в белых цветах шиповника — и множество цветов внутри. Побывали мы и на
могиле Марии Борисовны — и моей.— Там густые заросли: вишни, акация,
рябина. Мы постояли там долго — и я ушел как всегда умиротворенным.
Давно я не писал дневника. Между тем у меня дважды (две среды подряд)
была Ахматова, величавая, медлительная, но с безумными глазами: ее мучает,
что Сергей Маковский написал о ее отношениях с Гумилевым какую-то неправду.
«Он не знал первого периода нашего брака».
С Солженицыным мы приехали на станцию, когда подошел поезд: как
молодо помчался он догонять поезд — изо всех сил, сильными ногами, без одышки.
Какими-то чертами он похож на Житкова, но Житков был тяжелый человек,
хмурый деспот, всегда мрачный, а этот легкий, жизнерадостный, любящий, <...>
25 сентября в великолепную погоду я приехал в Барвиху. Встретил здесь
милых Солдатовых, которые подарили мне песни Бернса (Souvenir Edition) *. <...>
12 окт. <...> Вышел пройтись. Навстречу маршал Соколовский. Слово за
слово — стал ругать Солженицына. «Иван Денисович» это проповедь блатного
языка. Кому из нас нужен (!) блатной язык! Во-вторых, если хочешь обличать
сталинскую эпоху, обличай ясно, а то сказал о Сталине неск. слов — ив кусты!
и т. д.
А «Матренин двор» — нашел идеал в вонючей деревенской старухе с
иконами и не противопоставил ей положительный тип советского ч[елове]ка!
Я с визгом возражал ему. Но он твердил свое: «проповедь блатного языка».
О «Случае на станции» говорит более благосклонно. Покуда мы спорили,
смотрел на меня с ненавистью. <...>
Соколовский звук г произносит мягко, по-украински. В разговоре
употребляет крутые солдатские ругательства. А боится блатного языка.
Здесь отдыхают два председателя колхоза: «Мы хотим поговорить с вами
о Солж.» Я избегаю их всеми способами.
Вчера была у меня Мура Будберг и Людмила Толстая. Мура привезла мне
книжку Устинова, посвященную ей. Я поставил ей бутылку вина, к-рую она, не
допив, взяла с собой. <...>
27 октября. <...> Весь здешний бюрократический Олимп ужасно по-свински
живет. Раньше всего все это не думающие люди. Все продумали за них Маркс-
Энгельс-Ленин — а у них никакой пытливости, никаких запросов, никаких
сомнений. Осталось —- жить на казенный счет, получать в Кремлевской столовой
* Сувенирное издание (англ.).
ИЗ ДНЕВНИКА 1 69
обеды — и проводить время в Барвихе, слушая казенное радио, играя в домино,
глядя на футбол (в телевизоре). Очень любят лечиться. Принимают десятки
процедур.
Разговоры такие:
— Что-то нет у меня жажды...
— А ты съешь соленого. От соленого захочется пить.
— Верно, верно.
Или:
— Какая водка лучше — столичная и[ли] московская?
— Московская лучше, на этикетке у нее — медали.
Или:
— Кто у вас там секретарь.
— Со л оду хин.
— Иван Васильевич.
—г Нет Василий Иванович.
Со мною рядом сидит Сергей Борисович Сутоцкий, один из редакторов
«Правды». Милейший человек, загубленный средой, поддающийся ее влиянию.
Он принес мою книжку «Живой как жизнь», прося автографа. Я написал ему
следующее:
Средь сутолоки идиотской
Ты помнишь ли, Сергей Сутоцкий,
Глубокомысленный завет,
Что нам оставил Заболоцкий,
Мудрец, учитель и поэт:
— «Не позволяй душе лениться.
Она — служанка, а не дочь.
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь».
В Барвихе или в Кисловодске —
В какой бы ни попал ты рай,
Прошу тебя, мой друг Сутоцкий,
Своей души не усыпляй.
Оставим стаду идиотов
Усладу грязных анекдотов,
Транзисторы и домино
И скудоумное кино.
К лицу ли нам, друзьям искусства,
Такое гнусное паскудство? <...>
10 декабря. Мне легче. Вчера я ходил гулять — вместе с Расулом Гамзатовым,
который поселился здесь в Доме Творчества во флигеле. <...> Очень забавно
рассказывал, как он исполняет обязанности члена правительства. Всякий раз,
когда какое-нибудь новое превращение какого-нб. генерала в маршала или
мелкого посланника в посла, звонят ему из Кремля, чтобы он подал свой голос. Он
всякий раз отвечает: «Я согласен», так как никого из этих людей не знает, и их
карьера не интересует его. Но это выходило очень монотонно, и вот для
разнообразия он ответил однажды «я подумаю», хотя и не знал, о ком идет речь.
«Я подумаю и на днях дам ответ». Там всполошились. Но он через день
позвонил и сказал: «Пожалуй, я согласен». Вообще у него много юмора. <...>
1964
4 января 1964. Опять .в Барвихе. Измочален совсем. Шумно, неуютно. <...>
24/1. У меня такое впечатление, будто какая-то пьяная личность рыгнула мне
прямо [в] лицо. Нет, это слишком мягко. Явился из Минска некий Сергей
Сергеевич Цитович и заявил подмигивая, что у Первухина и Ворошилова жены —
еврейки, что у Маршака (как еврея) нет чувства родины, что Энгельс оставил
завещание, в к-ром будто писал, что социализм погибнет, если к нему примкнут
170 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
евреи, что настоящая фамилия Аверченко — Лифшиц, что Маршак в юности был
сионистом, что Кони (Анат. Фед) был на самом-то деле Кон и т. д. Я сидел,
оцепенелый от ужаса. Чувствовалось, что у него за спиной большая поддержка, что
он опирается на какие-то очень реальные силы. <]...>
3 февраля. <...> Снастин, заместитель Ильичева, говорил мне во время
прогулки, что существует много рукописей Ленина, не вошедших в «Собр. соч.» — одна
из них о Ворошилове — о том, как В. развалил армию. «Мы не печатаем: шаль
старика.»
Рассказывал о Шепилове, к-рый нынче служит в архиве: разбирает военные
бумаги XIX века. «Мы дали ему квартирку на Кутузовском — две комнаты. Он
запротестовал: мало. Где я буду держать мои бумаги? — Мы даем вам квартиру
не для бумаг, а для жилья.»
Молотов не взял никакой работы. «Он упрямый, нераскаянный.» А Булга-
нин был на встрече нового года в Кремле и дружески беседовал с Ник.
Сергеевичем.
О Федине говорит с великим почтением. <...>
17 февраля 64. <...> Лида и Фрида Вигдорова хлопочут сейчас о судьбе
ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого в Л-де травит группа бездарных
поэтов, именующих себя «Руссистами». Его должны завтра судить за бытовое
разложение. Лида и Фрида выработали целый ряд мер, которые должны быть
приняты нами, Маршаком и Чуковским, чтобы приостановить этот суд. Маршак
охотно включился в эту борьбу за несчастного поэта. Звонит по телефонам,
хлопочет.
— Пойдем, поговорим о нем по прямому проводу,— предложил он. У меня
в это время был Митя. Он помог Маршаку взобраться на 2-й этаж в ту комнатку
(рядом с кино), где телефон. Был 7-й час. Но мы не могли дозвониться до Лиды.
Митя в промежутке между звонками стал рассказывать о Солженицыне.
Солженицын пришел в студию МХАТа посмотреть инсценировку «Случая на станции».
Поглядеть на него собралась куча народа. Долго ждали его — что же он
запаздывает? — оказалось, он давно сидит в третьем ряду, неузнанный никем. Когда
его опознали, он сказал, что хотел поговорить с глазу на глаз с актерами, а не с
публикой,— и особенно ему неприятно, что здесь присутствуют журналисты.
«Все, что я хочу сказать читателям, я скажу в своих произведениях — и мне не
нужны посредники». И стал так нелестно отзываться о журналистах, что один из
них предпочел уйти.
Маршак внимательно слушал этот Митин рассказ и вдруг сказал совсем
простым голосом: «Мне плохо» и сомлел. Митя чуть не на руках отвел его в его
палату (№ 23), мы вызвали врача, открыли фрамугу окна и через неск. минут он
отошел. «А я думал, что умираю»,— очень просто сказал он.
На Митю все это произвело большое впечатление. Маршак, едва очнулся,
сказал: «звоните Лиде об Иосифе Бродском.»
Есть в этом характере черты величия.
18 февраля. Сейчас ушел от меня Влад. Семенович Лебедев. Вот его воззрения,
высказанные им в долгой беседе. Шолохов — великий писатель, надорванный
сталинизмом. «Разве так писал бы он, если бы не страшная полоса сталинизма.—
Вы, К. И., не знаете, а у меня есть документы, доказывающие, что Сталин
намеревался физически уничтожить Шолохова. К счастью тот человек, который
должен был его застрелить, в последнюю минуту передумал. Человек этот жив и
сейчас. Леонов, исписавшийся, выжатый как лимон,— тоже жертва сталинизма: «Вот,
мол, меня Горький любил». Тем и живет. И его «Русский лес» такая чушь. Анну
Ахматову я люблю и чту: в то самое время, когда велась против нее травля, она
писала стихи о Родине.
Об Ахматовой я заговорил с ним первый: ей 75 лет, нужен ее однотомник.
«Ну что же — однотомник будет». И вообще, К. И., все будет. Будет собрание
соч. Пастернака. Мы издадим даже «Д-ра Живаго», в к-potM чудесные описания
природы, зима, например, великолепна.
О Фросте: я записал всю беседу Н. С. с Фростом. Фрост ребенок, наивный,
ИЗ ДНЕВНИКА 1 71
знал что умирает, и приехал умирать в СССР. Но наивен. Сурков даже сочинил
стихи — где называет его идеи бредовыми. Сурков весь изменился на 180°.
Удивляют меня эти люди — «изменившиеся» и т. д. <...>
19 февраля. Будь прокляты Бенкендорфы и Дубельты; какой бы режим ни
защищали они насилием над Литературой! Бедный, ничтожный поскребышик, его
бесславье перейдет в века. Жданов и не догадывался, каким страшным клеймом
он клеймит и себя и свое потомство — своирл безграмотным и хамским наскоком
на Ахматову и Зощенко.
Вот что хочу я написать Лебедеву на книжке «От двух до пяти», к-рую он
принес ко мне, чтобы я начертал на ней автограф. <...>
1 марта 1984. Вчера состоялся вечер Маршака. <...> Он прочитал из Бериса
«Честную бедность» и 3—4 эпиграммы, потом шекспировские сонеты, публика
хлопала после каждого опуса, хотя многое до нее совсем не доходило. Например,
о словаре, о времени и т. д.
Вл. Сем. Лебедев уверяет, что рядом с ним один восхищался:
— И все в рифму!
Я забыл сказать, что перед этим показывалась кино-картина «Маршак» —
очень хорошая, прекрасно оформленная. <...>
Меня и Маршака позвал к себе Вл. Сем. Прочитал нам письмо
Солженицына, к-рый очень благодарит за участие,— видимо волнуясь по поводу премии.
Потом очень много рассказывал об Н. С. Хрущеве:
«Работает с 7 час. утра. Читает документы, корреспонденцию. Потом
разговоры по телефонам. Приемы, до 7 вечера ни минуты свободной. Вообще можно
сказать, что это самая тяжелая жизнь, без малейшего просвета — и врагу не
пожелаю такой. Разве иногда он выезжает на охоту, но редко. С Молотовым спорил
без конца. Молотов противник всяким новшествам. Сейчас мы все сталинисты —
и вы, Корней Ив., и вы, Самуил Яковлевич.»
Ненавидит Евтушенко. Это лгун. Он сказал матери, что уезжает на ст.
Зима, а сам направился в Л-д на симпозиум — восстановить связи с иностранцами.
Очень самобытный ч[елове]к — Вл. С. Лебедев. Линия у него либеральная: он
любит Паустовского, выхлопотал печатанье «Синей тетради» Казакевича,
обещает добыть для вдовы Пастернака пенсию, восторженно говорит о русской
ин[теллиген]ции, но при этом глумлив, задирист, всегда ведет разговор так,
чтобы кого-ниб. из собеседников высмеять, обличить, поставить в неловкое
положение. Так у него бездна юмора, он очень находчив,— это блистательно удается
ему. Спорщик он великолепный с иезуитским наклоном. И тут же рядом
учительный тон, когда он говорит о святынях, отчасти даже поповский,
проповеднический.
Кстати: он говорил об изумительной памяти Н. С. Хрущева: он помнит
почти дословно все документы, которые когда-либо читал, хотя бы десятилетней
давности.
Эти строки я пишу перед отъездом из Барвихи, где я пробездельничал два
месяца.
4 марта. Воротился третьего дня в Переделкино. Очень грустно старому
человеку возвращаться в обновленный дом, где ему — человеку — остается жить не
годы, но месяцы. Ремонтировали дом очень добротно: ванная внизу, кухня, все
неузнаваемо прелестно — мой кабинет, Кларочка сделала чудеса, воротив сюда
и в соседнюю комнату все мои книги, которые были снесены вниз в сараи, и
расставив их по полкам — и Марина прекрасно оформила столовую,— никогда я не
жил в таком отличном благоустроенном доме. <...>
25 июня. Были у [меня] вчера четыре джентльмена. Л. Н. Смирнов,
председатель верховного суда РСФСР, В. Г. Базанов, директор Пушкинского Дома, Е. Во-
рожейкин, директор Юриздата (тел. К 7-72-63, К 7-91-67) и еще один, чья
фамилия не выяснена. Мои коллеги по изданию 8-томного Кони. <...> Оказалось,
что со Смирновым, Председателем Верховного Суда, я уже встречался в
жизни — на Лахте, в Ольгино, в 1922 году. Он говорит: «помню, вы все возились
172 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
с детьми». Был ли он тогда ребенком, я не решился спросить. Он тучный, высо-
колобый, с усталым лицом. Я заговорил об Иосифе Бродском.
Он оживился:
— Представьте, я получил о нем два письма. Оба из Лен-да. Одно
по-английски. Пишет какой-то студент — на бумаге, вырванной из тетради. Такое
смешное письмо...
— Вам смешно, а он страдает. Больной, должен где-то под командой грубых
людей возить навоз и т. д.
— Очень смешное письмо...
Я стал говорить о злобном Прокофьеве, который из темных побуждений
решил загубить поэта, о невежественном судье, Базанов и незнакомец вяло
поддерживали меня, но Смирнов отошел в угол балкона (покурить) и все говорил:
— Такое письмо... И по-английски.
Мы вышли с ним в лесок. Он стал жаловаться на усталость. Должен сейчас
ехать обратно в Москву. Много непрочитанных дел: убийства, изнасилование и
снова убийства... Несколько человек к расстрелу.
Лицо симпатичное. Интеллигент. На прощание:
— Это очень хорошо, что вы любите детей.
Утром 10 сент. Камфора.
Все это пустяки. Умирать вовсе не так страшно, как думают. Из-за того, что
я всю жизнь изучал биографии писателей и знаю, как умирали Некрасов,
Тургенев, Щедрин, Вас. Боткин, Леонид Андреев, Фонвизин, Зощенко, Уолт Уитмен,
Уайльд, Сологуб, Гейне, Мицкевич, Гете, Байрон, и множество других, в том
числе Куприн, Бунин, Кони, Лев Толстой, я изучил методику умирания, знаю,
что говорят и делают умирающие, и что делается после их похорон. В 1970 году
Люша будет говорить: это было еще при деде, в квартиру к тому времени
вторгнется куча вещей, но, скажем, лампа останется. «Эту дорожку'в саду провели
еще при Корнее Ивановиче». «Нет, через год.» И проходя мимо дачи. «Вот на
этом балконе сидел всегда Маршак...— Какой Маршак? Чуковский!» И появятся
некрологи в «Литгазете» и в «Неделе». А в 1975 году вдруг откроют, что я был
ничтожный, сильно раздутый писатель (как оно и есть на самом деле) — и меня
поставят на полочку.
10 сент. Четверг. В IOV2 пришел Солженицын. Моложавый. Отказался от кофею,
попросил чаю. Мы расцеловались. Рассказывает по секрету о своем новом
романе: Твардовский от него прямо с ума сошел. В восторге. Но Дементьев и Закс
растерялись. Положили в сейф. Посоветовали автору говорить всем, что роман
еще не кончен. А он кончен совсем. 35 печатных листов. Три дня (сплошь:
двое с половиной суток) 49-го года. Тюрьма и допросы. Даже Сталин там
изображен.1 Завтра он скажет Тв[ардовско}му, чтобы Тв. дал прочитать роман мне.
Узнал, что я пишу о Зощенко. «Много читал его, но не люблю. Юмор
кажется грубым».
Мы гуляли с ним под дождем в саду — взошли наверх и вдруг ему стало
худо. Лида уложила его в нижней комнате — дала ему валокордина. <...>
8 декабря. Приехала вчера Лида из Комарова. Рассказывает, что Лернер,
дружинник, сыгравший такую гнусную роль в судьбе Бродского, выследил одного
физика, к которому в гостиницу повадилась дама. Стоя на страже морали,
Лернер запугал коридорного, и тот впустил Лернера в номер, где физик принимал
свою даму. Лернер вошел в прихожую, а так как физик — атомщик, у него в
прихожей сидели два охранника, которые и отколотили Лернера, потом вызвали
директора гостиницы, и тот отобрал у Лернера все документы. <...>
15 вторник. <...> Был вчера благороднейший Елизар Мальцев, 11/2 часа
рассказывал о заседании в Горкоме партии. Страшно взволнован, потрясен,
рассказывал нервно, вскакивал, хихикал, вскрикивал. «Я сказал Егорычеву, а он
говорит... А Борщаговский... А Антокольский... А Слуцкий крикнул с места...
А Щипачев схватился за сердце и упал... вызвали врача... а Сергей Сергеевич
Смирнов... Прижали Егорычева...»
Я слушал и думал: при чем же здесь литература? Дело литераторов — не
знать этих чиновников, забыть о их существовании — только тогда можно остать-
ИЗ ДНЕВНИКА \ 73
ся наследниками Белинского, Тютчева, Герцена, Чехова. Почему между мною
и Чеховым должен стоять запуганный и в то же время нагловатый чиновник.
Я микроскопический, недостойный, но несомненный наследник Чеховых,
Тургеневых, Куприна, Бунина, я целыми днями думаю о них, о своих законных
предках, а не о каких-то невежественных и бездарных Егорычевых. <...>
18 дек. <...> Все хохочут над дураком — Локтионовым, который написал
предисловие к роману «Тля». Т. к. в этом гнусном романе пресмыкательство перед
Хрущевым, против него (и против локтионовского романа) ополчилась даже
сервильная пресса. Локтионов, желая оправдаться, публично заявил (письмом в
редакцию «Лит. Газеты»), что
1. романа он не читал
2. не читал и своего предисловия,
так как это предисловие в порядке саморекламы сочинил сам автор «Тли».
То есть сам о себе заявил, что он шуллер, причем думает, что здесь —
оправдание.2
25 декабря. <...> Гулял с Симой Дрейденом. Он рассказал мне потрясающую,
имеющую глубокий смысл историю. Некий интеллигент поселился (поневоле) в
будке жел. дор. сторожа. Сторож был неграмотен. Интеллигент с большим
трудом научил его грамоте. Сторож был туп, но, в конце концов одолел начатки
грамматики. Он очень хотел стать проводником на поезде. Для этого нужно было
изучить десятки правил наизусть — и сдать экзамен. Интеллигент помог и здесь.
Сторож стал проводником, приезжая на юг, закупал апельсины и проч. и
небезвыгодно продавал на севере. Разбогател. Интеллигента между тем арестовали.
Отбыв в лагере свой срок, он воротился домой. Здесь его реабилитировали — и
показали его «дело». Оказалось, что научившись грамоте, благодарный
железнодорожник первым делом написал на него донос: «Предупреждаю, что NN имеет
связи с заграницей.» <...>
1965
14 января. <...> Третьего дня я, больной (желудок, бессонница, сердце),
несмотря на все уговаривания близких, поехал в Союз писателей выступить на
вечере, посвященном Зощенко. Первый вечер за двадцать лет. Хотя публики
собралось очень много, ее загнали в Малый зал. Нигде, даже внутри Дома
Литераторов — ни одной афиши. Секретное нелегальное сборище. В программе: Вал.
Катаев, Шкловский, Чуковский, Каверин, Ильинский. И Катаев, и Шкловский
побоялись приехать, да и стыдно им: они оба, во время начальственного гонения
на Зощенко, примкнули к улюлюкающим, были участниками травли... Очень
сильный мороз, я поехал в валенках. Слушали мой доклад с увлечением, много
аплодировали, кричали: спасибо.
Председательствовал Лев Славин. Он сказал чудесное вступительное слово:
о том, что есть у нас целый разряд великолепных писателей, которых даже не
упоминают в истории советской литературы: Бабель, Платонов, Хацревин,
Лапин,— и вот Зощенко. Мы будем бороться за них и т. д.
Каверина доклад, блестяще написанный, мужественный, прозвучал
негодованием к палачам, погубившим Зощенко. После нас Ильинский. Говорят, он
великолепно прочитал два рассказа: «Елка» и еще какой-то. <...>
16 янв. <...> Недели две назад Евтушенко прочитал по радио стихи о корабле,
который волны швыряют туда и сюда (т. е. о партии Ленина). Стихи вызвали
ярость начальства, и две редакторши уволены.1
Во главе Союза писателей, равно как и во главе всех журналов — по
замыслу начальства — должны стоять подлецы. На днях будет избираться новое
руководство Союза писателей — правление. Лиду это ужасно волнует. Если бы
выборы были правильные, то все подлецы полетели бы. Но конечно, начальство
придумает способ, чтобы навязать Союзу своих подлецов. Из-за чего же
волноваться? Исход выборов предрешен. Однако Лида рвется в бой: пусть молодежь
видит, что есть борьба за справедливость (?!) Вместе с нею рвется и Таня. Она
хочет встать и спросить об Оксмане.
I 74 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Фридочка Вигдорова страшно больна: думали, что рак поджелудочной
железы. Третьего дня в Институте Виноградова ей сделали операцию, к-рая
длилась 372 часа. Обнаружили камни в желчном пузыре. Фрида и на «смертном
одре» спрашивала: что с Иосифом Бродским? Решено ли его дело?
18 января. Литераторы в восторге. В Ленинградском Союзе писателей были
перевыборы и с грохотом провалили Прокофьева, который состряпал «дело
Иосифа Бродского». В правлении выбраны «бродскисты»:
Добрынина (описка, следует читать — Грудинина.— Е. Ч.)
Долинина
Эткинд и др.
Такое крошечное и хрупкое торжество справедливости вызывает
восхищение всего литературного мира.
А третий посмотрел лукаво
И головою покачал...
Фриде как будто лучше. <...>
21 января. День Марии Борисовны. Через месяц — десять лет как она
похоронена и ждет меня в соседнюю могилу. Была у меня Раиса Орлова и
рассказывала о выборах в правление Союза Писателей. Целый день тысячи писателей
провели в духоте, в ерунде, воображая, что дело литературы изменится, если вместо
А в правлении будет Б или В, при том непременном условии, что вся власть
распоряжаться писателями останется в руках у тех людей, которые сгубили Бабеля,
Зощенко, Маяковского, Ос. Мандельштама, Гумилева, Бенедикта Лившица, Та-
гер, Марину Цветаеву, Бруно Ясенского, Пастернака и сотни других. <...>
6 апр. В больнице. Провожая Клару, встретил Вл. Сем. Лебедева. Он уже два
месяца здесь — завтра уезжает. Он пишет диссертацию: «Радио в период Отеч.
войны». Но главное — воспоминания: о Сталинской эпохе, о Хрущеве. Говорит,
что в новом романе Солж. есть много ошибок, касающихся Сталинского бытового
антуража. «Александр Исаевич просто не знал этого быта. Я берусь просмотреть
роман и исправить». По словам Лебедева здесь же отдыхает Борис
Полевой. <...>
12 апреля. <...> надо держать корректуру «Современников», в которых мне
теперь очень не нравятся Короленко, Луначарский и Репин. О Луначарском я
всегда думал как о легковесном талантливом пошляке и, если решил написать
о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром
культуры — был образованный человек. Репин — статейка о нем создалась тогда, когда
было запрещено хвалить его, вскоре после его смерти. Теперь имя Репина стало
знаменем реакции, и, следуя моде, надлежало бы воздержаться от похвал, но
плевать на моду — все же я очень любил его, хотя и согласен с Вл. Набоковым,
что его «Пушкин на экзамене» и «Дуэль Онегина с Ленским» — дрянные
картинки.2 <...>
17 мая. Подарил сто (то есть тысячу) рублей докторше NN. Мы говорили с ней
о больнице, где я лежал. Больница позорная: работники ЦК и другие вельможи
построили для самих себя рай, на народ — наплевать. Народ на больничных
койках, на голодном пайке, в грязи, без нужных лекарств, во власти грубых нянь,
затурканных сестер, а для чинуш и их жен сверх-питание, сверх-лечение,
сверхучтивость, величайший комфорт. Рядом с моей палатой — палата жены министра
строительства,— законченно пошлая женщина,— посвятившая все свои
душевные силы борьбе со своим 50-летием, совершенно здоровая. <...>
I1 июня. Чудесное утро — все в солнце, в сирени, в птичьем гомоне,— сижу на
своем гениальном балконе, правлю корректуру Н-го тома •— и вдруг меня сбо-
жгло как кипятком — из статьи о Тынянове все же выбросили фамилию Оксмана.
Будь они прокляты, бездарные душители русской культуры! <...>
19 июня. Итак, завтра Костёр. Получил из Иерусалима письмо, полное
ненависти к деспотизму раввината. Автор письма Рахиль Павловна Маргодина
прислала мне портрет пожилого Жаботинского, в котором уже нет ни одной черты того
Альталены, которого я любил. Тот бы[л] легкомысленный, жизнелюбивый, весе-
ИЗ ДНЕВНИКА 1 75
лый: черный чуб, смеющийся рот. А у этого на лице одно упрямство и тупость
фанатика. Но конечно в историю вошел только этот Ж-ий. Марголика выслала
мне его двухтомную биографию! Странная смесь у меня на письменном столе!
Календарь из Японии, портрет Катеньки Андреевой из Кембриджа, стакан для
перьев из США, аппарат для сшивания страниц — из Оксфорда, портрет Жабо-
тинского из Иерусалима, статуэтка Дон Кихота из Испании, статуэтка
Андерсена — из Дании. <...>
15 авг. <...> Впервые в жизни слушаю радио и вижу, что «радио — опиум для
народа». В стране с отчаянно, плохой экономикой, с системой абсолютного
рабства так вкусно подаются отдельные крошечные светлые явления, причем
раритеты выдаются за общие факты — рабскими именуются все другие режимы за
исключением нашего.
Была вчера Люша. Читали «Гэтсби», которого Таня не захотела и слушать.
Написал письмо Твардовскому.
С таким же правом можно сказать: газета ■—• опиум для народа. Футбол —
опиум для народа. А какие песни — всё бодряцкие —- прикрывающие собою
общее уныние. И персонажи — всё бодрячки -— «вот, Ив. Пафнутьич, расскажи
нам, как вы достигли в своем колхозе таких изумительных успехов...»
Небо свинцовое. Уже целую неделю ни одного клочка синевы. И бешеный
ветер. Бывали дождливые летние месяцы и прежде, но таких не бывало. Из окна
вижу стог сена — гниющий у меня на глазах. Так гниет весь урожай. <...>
24 авг. Вчера в парке — у озера — блаженный день. <...> Встретил... Вл. Сем.
Лебедева и Цейтлина (из «Известий») — стиль у них по-прежнему глумливый,
иронический — и в то же время нежный. Леб. говорит, что русская
интеллигенция очень обижена, что Шолохову не дали героя труда!!! Я взвился: разве инт-
ция следит за чинами? за бляхами, которые прицепят тебе на грудь. Какая же
это инт-ция! и т. д.
Сентябрь 15. Дивная погода. Мне лучше. Главное событие: «Театральная
повесть» Булгакова — чудо. В 8-й книге «Нов. Мира». Ослепительный талант.
Есть гоголевские страницы. <...>
21 сент. <...> Сегодня у меня будет Солженицын. Его московский адрес:
Чапаевский пер. 8 кв. 54 (около Сокола и площади Расковой).
Сообщает Би Би Си, что Румянцева сняли.
В самом деле: можно ли было ему позволить, перечисляя лучших творцов
советской литературы — не упомянуть ни Грибачева, ни Софронова, ни Кочето-
ва?!? И где? В «Правде» <...>
Сейчас ушел от меня Солженицын — борода, щеки розовые, ростом как
будто выше. Весь в смятении. Дело в том, что он имел глупость взять в «Нов.
Мире» свой незаконченный роман — в 3-х экз. и повез этот роман в чемодане
к приятелю. Приятель антропософ. Ночью нагрянули к нему архангелы. Искали
якобы теософские книги; а потом: «что это там у вас в чемодане? белье?» —
и роман погиб 3.
Враги клевещут на него: распространяют о нем слухи, будто он власовец,
изменил родине, не был в боях, был в плену. Мечта его переехать в ученый
городок Обнинск из Рязани, где жена его нашла место, но сейчас ее с этого
места прогнали. Он бесприютен, растерян, ждет каких-то грозных событий —-
ждет, что его куда-то вызовут, готов даже к тюрьме. <...>
28 <...> Клара поехала отвезти мое письмо в ЦК. В час дня приехал
Солженицын с вещами и женой. Завтра утром он поселится у меня в Колиной
комнате.
29 сент., среда. Поселился у меня Солженицын. Из разговора выясншюсь, что
он глубоко поглощен своей темой, и не слишком интересуется напр., Пушкиным,
Леонидом Андреевым, Квитко. Я читал ему любимые стихи. Ему они никак
не понравились. Зато о лагере может говорить без конца.
Гулял с ним по лесу. <.-.>
30 сент. Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал
А. И.— и поразительно прочитал. Словно я сам был в этом потоке озверелых
людей. Читал он 50 минут. Стихийная вещь,— огромная мощь таланта.
176 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Он написал поэму 15 лет назад. Буйный водопад слов — бешеный напор
речи — вначале,— а кончается тихой идиллией: изнасилованием немецкой
девушки. Был Борис Заход ер. Привез Винни Пуха. Чудесный цикл его стихов
в «Юности» (9). Но издателя для них нет. Замышляет перевести «Алису в
волшебной стране».
2 окт. Вчера была милая Столярова, привезшая мне подарки от Вадима
Андреева. Она оказалась секретарем Эренбурга. Солженицын хорошо знаком
с ней — и мы провели отличный вечер (вчетвером: приехала Люшенька).
Столярова сообщила, что Синявский признался, что он один из «Абрамов Терцов».
Она видела в Париже старых эмигрантов: вымирающее племя — 30 инвалидов
из богадельни — в том числе Г. Адамович, Одоевцева.
3 октября. Вчера разбирали с Люшей «Чукоккалу», которую она знает гораздо
лучше, чем я. Очень весело было работать вместе. Солженицын вчера уехал
в Москву. Может быть приедет сегодня, а может быть в четверг. Я ближе
присмотрелся к нему. Его в сущности интересует только одна тема — та, что
в «Случае на станции» и в «Ив. Денисовиче». Все остальное для него как в
тумане. Ой не интересуется литературой как литературой, он видит в ней только
средство протеста против вражьих сил. Вообще он целеустремлен и не глядит
по сторонам. <*...>
28 ноября 65. <...> Прочитал рассказ Солженицына. Ну и мастерище. Правая
кисть.
Опять о бесчеловечьи человеческом.
Паустовский выразил желание подписать петицию о Солженицыне. Мы
были у него с Люшей. Прежде чем пойти к нему, произошла заминка. Он послал
узнать, кто звонил. Его испугало, что вдруг — Чаковский.
«Впрочем,— прибавил он,— в Италии он вполне знаменит, там его
называли Чайковский». <...> Вчера Паустовский был в духе — и рассказывал мне
и Вл. С. Лебедеву о Булгакове, который изобрел целую серию рассказов о
своей мнимой дружбе со Сталиным. Новеллы очень смешные — в них двойное
мастерство — Паустовского и Булгакова.
Вчера написал большое письмо Солженицыну. Мы собираем подписи: уже
есть подпись С. Смирнова, Капицы, Шостаковича, моя, Паустовского.
Интересно: даст ли свою подпись Твардовский 4.
27/XII <...> Все говорят о деле Синявского, во всех лит. учреждениях
выносят ему порицание по воле начальства, хотя никто из осуждающих не видел его
криминальных произведений5. <...>
1966
6 января. Был Иосиф Бродский. Производит впечатление очень самоуверенного
и даже самодовольного человека, пишущего сумбурные, но не бездарные стихи.
Меня за мои хлопоты о нем он не поблагодарил. Его любовь к английской
поэзии напускная, ибо язык он знает еле-еле. Но человек он в общем приятный.
Говорит очень почтительно об Анне Ахматовой. <5...>
1 апреля. <?...> Подлая речь Шолохова — в ответ на наше ходатайство взять на
поруки Синявского так взволновала меня, что я, приняв утроенную порцию
снотворного, не мог заснуть. И зачем Люша прочитала мне эту речь? 1 Черная сотня
сплотилась и выработала программу избиения и удушения интеллигенции. Я
представил себе, что после этой речи жизнь Синявского станет на каторге еще
тяжелее. <3-..>
19 июля. Вчера был Солженицын с женой. Я только что прочитал его «Раковый
корпус». Он боится, что «высшие власти», раздобыв его худшие пьесы, недаром
напечатали их для внутреннего распространения. Хотят, чтобы с пьесами
познакомились члены правительства и вынесли бы ему свой приговор. Очень хвалит
мою книжку «От Чехова до наших дней» (?), Катаева еще не прочел. «Раковый
корпус» в «Новом мире». Надеются напечатать. Твардовский одобрил, но
запил — третий запой за нынешнее лето. Он предлагает заглавие «От четверга до
из дневника 177
среды». Похоже, что Солж. никакими другими темами не интересуется, кроме
тех, которым посвящены его писания.
- Спросил его жену: есть ли у них деньги. Говорит, есть. Даже валюта. Она
получает 300 р. в месяц (как химик). Кроме того, А. И. говорит: богатство не в
том, чтобы много зарабатывать, а в том, чтобы мало тратить. «Говорю ему: тебе
нужны ботинки. А он: еще не прошло 10 лет, как я купил эти.» <...>
С Солженицыным снова беда. Твардовский, который до запоя принял для
«Нового мира» его «Раковый корпус» — после запоя отверг его самым
решительным образом. <...>
1967
3 марта. <...> Гостит у меня Машенька Слоним — уютная, трижды родная,
простая, талантливая.
Оказывается, «Times Literary Supplement» пишет о Лиде, что ее повесть
есть classic of purge*, сравнивает повесть с Ив. Денисовичем и с Реквиемом.
20 мая. Я в постели. Затянулась пневмония. Сегодня приехал Солженицын,
румяный, бородатый, счастливый. Закончил вторую часть «Ракового корпуса».
О Твардовском, о его двойственности. Тв-ий С-ну: «Вы слишком злопамятны!
Надо уметь забывать — вы ничего не забываете.»
С. (торжественно): Долг писателя ничего не забывать.
Он ясноглазый и производит впечатление простеца. Но глаз у него
сверлящий, зоркий, глаз художника. Говоря со мной, он один (из трех собеседников)
заметил, что я утомлен. Меня действительно сморило. Но он один увидел это — и
прервал — скорее сократил — рассказ.
Таким «собранным», энергичным, «стальным» я еще никогда не видел его.
Оказывается, он написал письмо Съезду писателей, начинающемуся 22 мая —
предъявляя ему безумные требования — полной свободы печати (отмена
цензуры). В письме он рассказывает о том, как агенты Госбезопасности конфисковали
его роман. Письмо написано — с пафосом. Он протестует против того, что до сих
пор не вышли отдельным изданием его рассказы, напечатанные в «Новом Мире».
Я горячо ему сочувствовал — замечателен его героизм, талантливость его
видна в каждом слове, но — ведь государство не всегда имеет шансы
просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду... Если бы Николаю
1-му вдруг предъявили требование, чтобы он разрешил к печати «Письмо
Белинского к Гоголю», Николай I в интересах целостности государства не сделал бы
этого. Нужно же войти в положение Демичева: если он предоставит писателям
волю, возникнут сотни Щедриных, которые станут криком кричать о Кривде,
которая «царюет» в стране, выступят перед всем человечеством под знаменем
ПРАВДЫ и справедливости. И куда денется армия агитаторов, куда денутся
тысячи областных и районных газет, для которых распоряжение из Центра —
закон. Конечно, имя С-на войдет в литературу, в историю — как имя одного из
благороднейших борцов за свободу — но все же в его правде есть неправда:
сколько среди коммунистов было восхитительных, самоотверженных, светлых людей —
которые действительно создали — или пытались создать основы для
общенародного счастья. Списывать их со счета истории нельзя, так же как нельзя забывать
и о том, что свобода слова нужна очень ограниченному кругу людей, а
большинство^— даже из интеллигентов — врачи, геологи, офицеры, летчики, архитекторы,
плотники, каменщики, шоферы делают свое дело и без нее.
Вот до какой ерунды я дописался, а все потому, что болезнь моя повредила
мои бедные мозги. <!•->
Пятница 6 часов, [в больнице.— Е.Ч.] Какое число, не з»аю. Съезд еще
продолжается. Говорят, что около ста человек подписались под письмом
Солженицына. Или, кажется, составили свое письмо, еще более сильное. <...>
Бокс 93. 30 мая. <...> Прочитал две книги. Одну — о Тынянове, другую —
* Классика времен чисток (англ.).
12. «Знамя» JSfe 12.
178 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
«Прометей» № 2. Автобиография Тынянова — чудо. Вся из конкретных
образов, из художественных деталей." Как будто пишет не ученый, а величайший
беллетрист. И какая память на те живописные образы, что окружали его в детстве!
В книге нигде не говорится, что он был еврей. Между тем та тончайшая
интеллигентность, которая царит в его «Вазир Мухтаре», чаще всего свойственна
еврейскому уму. Сравните романы Ал. Толстого с Тыняновскими. У Тынянова
героями выступают идеи, идеи борются и сталкиваются и вообще на первом
месте — идеология. Идеология, подкрепленная живописью. А у Ал. Толстого —
плоть.
Были врачи. Как единодушно они ненавидят Светлану Аллилуеву-Сталину *.
Опростоволосившиеся власти торопятся клеветать на нее в газетах, но так как
в стране царит единомыслие, даже честные люди попадаются в этот капкан.
И вся Россия мечется
Покуда не излечится.
Барбитураты
Виноваты,
Что мы с тобой дегенераты.
6 августа. Вчера в Переделкино приехал А. И. Солженицын. Но мне было так
худо, что я не мог его принять. Голова, сердце, желудок. Сейчас он спит
внизу. <...>
Сегодня завтракал с Солженицыным. Он сияет. Помолодел, пополнел.
Великолепно рассказал, как в Союзе писателей почтительно и растерянно приняли
его в кабинете Федина — Воронков, Марков, Соболев. Он вынул и положил
на стол бумаги. Марков испугался: что, если это новый обличительный
документ, обращенный к мировому общественному мнению? Они дружески
упрекнули его: зачем же вы не накисали письма в Президиум. Зачем размножили
свое письмо к Съезду и разослали копии каждому члену Съезда?
Он обратился к тем бумагам, которые выложил заранее на стол.
— Я уже два года обращался к разным отдельным лицам и ни разу
не получил ответа.
Вот копия моего письма к Брежневу. Брежнев мне не ответил. Вот копия
письма в «Правду». Ответа я не получил. Вот мое письмо к вам в Союз, вы
тоже не ответили мне.
Марков, Воронков, Соболев — изобразили на лицах изумление.
Несомненно Леонид Ильич Брежнев не получал Вашего письма.
Словом, все лебезили перед ним. «Не мешает ли вам форточка? Не дует
ли?» Когда он попросил воды, тотчас же в комнату 0ыли внесены подносы
со стаканами чаю и обильными закусками.
Твардовский, привезший С-на, спросил: Скажите, пожалуйста, не думаете
чи вы, что ваш «Раковый корпус» будет напечатан за границей.
Солж. Весьма вероятно. По моим сведениям, существует не меньше 5G0
машинописных копий этой вещи: нельзя надеяться, что ни одна из этих копий
че попадет за границу.
— Что же нам делать? — в отчаянии спросили судьи у подсудимого,
— Остается одно,— сказал Твардовский,— печатать «Рак. корпус» в
«Новом Мире».
Заговорили о клевете на Солж., будто он дезертир, будто он был в
немецком плену чуть ли не полицаем и т. д. Великодушно обещали ему защитить
его доброе имя.
Он чувствует себя победителем. И утверждает, что вообще государство
в ближ. будущем пойдет на уступки. «Теперь я могу быть уверен, что по
крайней мере в ближайшие три месяца меня не убьют из-за угла».
Походка у него уверенная, он источает из себя радость. <,,.>
15 авг. 67. <.„> Лидочке лучше; ей нужна клиника, где она быстро
поправилась бы, но из-за ее нервного заболевания ей нужна отдельная палата, и чтобы
не было шума в коридоре. Единственая клиника, где ее могли бы вылечить —
ИЗ ДНЕВНИКА 1 79
та якобы инфекционная, где лечился я, но туда ее вряд ли примут, из-за ее
письма к Шолохову и из-за ее «Софии Петровны», выходящей в Англии.—
В 3-м номере «Прометея» ее статья о детстве и юности Герцена — очень
талантливая, но неоконченная, так как ей скучно заниматься такой нетворческой
работой при наличии «Былого и дум». <...>
Сегодня 15-го авг. <«...> Сима сообщил, что вчера по ВВС сообщили о Лиди-
ной книге, вышедшей в Англии. Интересно бы узнать, кто переправил ее
рукопись через границу. <...>
23 сент. Суббота. Был Солженицын. Вчера он 5 часов находился под судом
и следствием Секретариата Союза Писателей — где его допрашивали с
пристрастием Федин, Сурков, Воронков и др. <...>
15, воскресенье. Октябрь. Таня о рукописи Мередита, над к-рой она работает:
— Не мередите мои раны!
Таня — наиболее одухотворенная женщина из всех, с кем мне доводилось
дружить. Свободная от всякой аффектации и фальши. Это видно из ее
отношения к отцу, к-рого она любит нежно и — молчаливо. Никогда я [не] слышал
от нее тех патетических слов, какие говорятся дочерьми и вдовами знаменитых
покойников. Она любила отца не только сердцем, но и глубоким пониманием.
Она живет у меня вот уже неделю, и это — самая ладная, самая светлая моя
неделя за весь год. Больше всего на свете Таня любит свою мать и своих
детей. Но и здесь опять-таки никакой аффектации. И умна — и необычайно чутка
ко всякому лже-искусству. <...> Ее работа над Мередитом — колоссальная
умственная работа. Теперь она правит рукопись своего .перевода — и за весь
день напряженного труда ей удается «сделать» 8—10 страниц.
Она много и охотно рисует, но всегда кроки, всегда наброски, ее альбомы
полны зарисовками разных людей — в судах, в кофейнях, в вагонах железной
дороги — порою в них пробивается сильная талантливость, а порою это просто
каракули. Вообще ее отношение к изо-искусству хоть и понятно мне—но не
совпадает с моим. Зато литературные оценки всегда совпадают. <...>
Чего нет у Тани и в помине — важности. Она демократична и проста со
всеми — не из принципа, а по инстинкту. Не могу представить ее себе солидной
старухой. <...>
22 октября. <...> Я послал в Театр на Таганке рецензию о «Пугачеве»
Есенина — Эрдмана. Приезжал ко мне директор театра Юрий Петрович Любимов —
просить рецензию, так как театр подвергся нападкам начальства, вполне
справедливо усмотревшего здесь пасквиль на нынешнее положение вещей. Замучен
корректурами пятого тома моих сочинений — где особенно омерзительны мне
статьи о Слепцове. Причем я исхожу в этих статьях [из] мне опостылевшей
формулировки, что революция — это хорошо, а мирный прогресс — плохо. Теперь
последние сорок лет окончательно убедили меня, что революционные идеи —
были пагубны — и привели [не дописано,— Е. Ч.] <...>
25 декабря. Сейчас был Каверин. Очень весел. Говорит: «Раковый корпус» уже
набран и сверстан для 12-й книжки «Нового Мира». Точно так же решено
издать книгу рассказов Солженицына. Говорят, что на этом настояли
итальянская и английская компартии.
Солженицын говорил Каверину: «Я убежден, что Советский Союз
неизбежно вступит на западнический путь. Другого пути ему нет!» Жду Люшу.
Люша пришла и сразу окатила меня холодной водой. Оказалось, что
никакого разрешения на печатание «Корпуса» нет. Твардовский намерен включить
первые 8 глав в 12-ю книжку, но этот текст еще не был в цензуре и т. д.
26 дек. Встретил сегодня Залыгина, который сказал, что в 12-[ой] книге «Но-
ного Мира» — повести «Рак. корпус» не будет. Перенесли на 1-ую книгу. <...>
29 декабря. <,..> Вчера Бибиси передавало «протест», написанный Павлом
Литвиновым против заметки в «Вечерней газете», где Буковского зовут
хулиганом. Кажется, протест передан за рубеж самим Павлом2. <...>
Таничка рассказала мне, что едва только по БиБиСи передали о поступке
Павла Литвинова, советские умники решили сорвать свою ненависть на...
покойном М. М. Литвинове. Как раз на этих днях было празднование юбилея
]gO КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Советской дипломатии. И газетам было запрещено упоминать имя М. М.
Литвинова. Говорили «Чичерин и другие». Так поступила даже газета «Moscow
News». Таничка справилась: оказывается, было распоряжение замалчивать имя
покойника, понесшего ответственность' эа проступки племянника [внука.— Е. Ч.]
через 25 лет после своей смерти. <...>
1968
11 января. <...> Таня опять: написала негодующее письмо в «Известия» по
поводу суда над четырьмя и оггять стремилась прорваться в судебную залу
вместе со своим племянником Павлом. Мне кажется, это — преддекабристское
движение, начало жертвенных подвигов русской интеллигенции, которые превратят
русскую историю в расширяющийся кровавый поток. Это только начало, только
ручеек. Любопытен генерал Григоренко — типичный представитель 60х годов
прошлого века. И тогда были свои генералы. Интересно, ширится ли армия
протестантов, или их всего 12 человек: Таня, Павлик, Григоренко, Кома
Иванов — и обчелся.
Павлик вручил иностранным корреспондентам вполне открыто свое
заявление, что нужно судить судей, инсценировавших суд над четырьмя, что
Добровольский — предатель, что все приговоры были предрешены, что весь зал был
заполнен агентами ГПУ — и это заявление вместе с ним подписала жена
Даниэля К
Английская ко1ммунистическая партия в «Morning Star» заявила, что наше
посольство в Лондоне обмануло английских коммунистов, уверив их, что суд
будет при открытых дверях. <...>
17 января. <...> Слушал передачу Би би си, где меня называют корифеем
и хвалят меня за то, что я будто бы «работаю» вместе с дочерью. А я узнал
текст ее письма к Шолохову из амер. газет2. <...>
Кончаю перечитывать Семина. Очень хороший писатель 3.
20.1. Чувства какие-то раскидистые,— Бог с ними, с моими чувствами. Таня
рассказала, что Ivy, старуха, ни с того ни с сего, дала интервью репортеру
газеты «Morning Star», одобряя поступки своего безумного внука, которого,
кстати сказать, вызвали вчера в военкомат4. <...>
29 января. В гостях у меня был гений: Костя Райкин. Когда я расстался с ним,
он был мальчуганом, играл вместе с Костей Смирновым в сыщики, а тепе(рь
это феноменально стройный, изящный юноша с необыкновенно вдумчивым,
выразительным лицом, занят — мимикой, создает этюды своим телом: «Я,
ветер и зонтик», «Индиец и ягуар», «На Арбате», «В автобусе».
Удивительная наблюдательность, каждый дюйм его гибкого, прелестного сильного тела
подчинен тому или иному замыслу — жаль не было музыки — я сидел
очарованный, чувствовал, что в комнате у меня драгоценность. <...>
Очень своеобразен и художествен разговор Кости Райкина. Своим
серьезным, немного саркастическим голосом он рассказал, как родители и дети
собираются где-нибудь за городом для общих веселий: родители вначале опекают
детей, стоят на страже, но вскоре сами напиваются так, что их начинают
опекать дети: «папа, стыдно!», «мама, довольно» — и развозят их по домам. <...>
30 января. Создалась неуклюжая ситуация. Лида (я слышал) написала резкое
письмо Маргарите Алигер — та ответила ей грубостью, Лида ответила еще
резче 5. И нужно же было так случиться, что сегодня вечером ко мне в гости
приехала Лида как раз в ту минуту, когда пришла Алигер (вместе с Ритой Райт).
Лида — полуслепая — в темноте услышала голос Риты — «Здравствуйте, Рита
Яковлевна» и не рассмотрев Алигер, подала ей руку. Все обошлось. <...>
Лида величава и полна боевого задора. Люда Стефанчук сказала за
ужином, что один из рассказов Солженицына (которого она обожает), понравился
ей меньше других. Лида сказала железным голосом:
— Так не говорят о великих писателях.
И выразила столько нетерпимости к отзыву Люды, что та, оставшись
наедине с Кларой, заплакала. <...>
ИЗ ДНЕВНИКА
Бокс 93
Март 68 в Инфекционном Корпусе
12 марта. Приехал сюда здоровый — и здесь меня простудили 37,3. Вспоминаю.
Больничные записки
Что вспомнилось или Собачья чушь
(писано в больнице при высокой температуре) 19686
* * *
<...> Розанов очень мало читал. «Довольно с меня того, что я написал
книгу «О понимании». Книга большая: 5 рублей стоит»,— хвастал он по-детски.
В кабинете у него висел барельеф — гипсовый портрет Ник. Ник. Страхова.
На столе был портрет Николая Яковлевича Данилевского. «Данилевский
правильно доказал, что дарвинизм — чушь. Вот я порезал палец, и какая-то
премудрая сила скрепила порез, наложила сверху струп, произвела тонкую работу
под струпом, струп отпал — и от пореза ни следа — вся фактура кожи ровная,
словно и не было пореза. Природа совершила ряд целесообразных поступков,
клонящихся к благу индивидуума, но при чем же здесь борьба за
существование? Легче верить в бога, чем в эту борьбу».
Страшно хотел, чтобы Репин написал его портрет. Репин наотрез
отказался: «лицо у него красное. Он весь похож на...»
Узнав, что Репин не напишет его портрета, Розанов в «Новом времени»
и в «Опавших листьях» стал нападать на него, на Наталию Борисовну и
выругал мой портрет работы Репина. Но все это простодушно; при первой же встрече
он сказал: «вот какую я выкинул подлую штуку».
* * *
Как Ахматова презирала Шкловского! Это перешло к ней по наследству
от Блока, который относился к нему с брезгливостью, как к прокаженному.
«Шкловский,— говорил он,— принадлежит к тому бесчисленному разряду
критиков, которые, ничего не понимая в произведениях искусства, не умея
отличить хорошее от плохого, предпочитают создавать об искусстве теории, схемы—
и ценят то или иное произведение не за его художественные качества, а за то,
что оно подходит (или не подходит) к заранее придуманной ими схеме».
* * *
Читаю 5-ое издание Хрестоматии по детской литературе. Сколько
принудительного ассортимента: например, родоначальником детской литературы
считается по распоряжению начальства Маяковский. Я прочитал его вирши «Кем
быть». Все это написано левой ногой и как неутомима была его левая нога!
Какое глубокое неуважение к ребенку. Дело дошло до такого неряшества —
о самолете —
В небеса, мотор, лети
Чтоб взамен низин
Рядом птички пели.
Почему птички поют взамен низин? Разве низины поют? И потом, разве
самолеты для того поднимаются ввысь, чтобы слушать пение птиц? И если бы
даже нашелся такой летчик, что захотел бы взлететь в небеса, чтобы послушать
птиц, их голос будет заглушён пропеллером. Между тем именно в низинах
огромное большинство певчих птиц. И какая безграмотная фразеология. И как
устарело! Этот фимиам рабочему, этот рассказ о постройке многоэтажного дома
при помощи строительных лесов. Так как я люблю Маяковского, мне больно,
что по распоряжению начальства навязывают детям самое плохое из всего, что
он написал. Издательство «Просвещение» лучше бы назвать «Затемнение».
1 82 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
В «Хрестоматии» есть много Баруздина и нет ни Майкова, ни Полонского,
ни Хармса, ни Вознесенского, ни Пантелеева.
•к * *
6 апреля. Читаю Бунина «Освобождение Толстого» 7. Один злой человек,
догадавшийся, что доброта высшее благо, пишет о другом злом человеке, безумно
жаждавшем источать из себя доброту. Толстой был до помрачения вспыльчив,
честолюбив, самолюбив, заносчив, Бунин — завистлив, обидчив, злопамятен8.
14 апреля. 93 бокс Инфекционного корпуса. Сейчас ушла Марианна Петровна.
37,2.
История моего портрета, написанного Репиным. Репин всегда писал сразу
несколько картин. Я позировал ему для двух: для «Черноморской вольницы»
и для «Дуэли». Раздевался до пояса и лежал на ковре, в качестве раненого
дуэлянта. В 1910 году он предложил мне позировать ему для портрета.
Портрет удался. Репин подарил его мне. Но в Риме в 1912 году открылась
выставка — и Репин попросил у меня разрешения отправить на выставку мой
портрет. Портрет был послан. Через месяц Илья Ефимович приходит смущенный
и сообщает, что портрет купили какие-то Цейтлины: «Произошла ошибка,— по-
ясняет он.— Я застраховал портрет за определенную очень малую сумму, а
администрация выставки вообразила, что это цена портрета, продала ваш портрет
по дешевке». Я был огорчен. Репин, утешая меня, обещал, что напишет с ме«я
новый портрет. В 1916 году я был в Париже — с Ал. Толстым, Вл. Набоковым
и Вас. Немировичем-Данченко. К нам в гостиницу явился сладкоречивый
г. Цейтлин и от имени своей супруги пригласил нас к ним на обед. Мы пришли.
Цейтлины оказались просвещенными, гостеприимными людьми, поднаторелыми
в светском радушии. После десерта мадам Цейтлин порывисто схватила меня
за руку и повела в одну из дальних комнат. Там я увидел портреты ее детей,
написанные Бакстом, и мой портрет, написанный Репиным. Я сказал, что этот
портрет подарен мне художником, что они заплатили лишь сумму страховки,
что я готов уплатить им эту сумму немедленно. Порывистая мадам уже хотела
было распорядиться, чтобы принесли лестницу и сняли портрет со стены, но ее
муж, войдя в комнату, воспротивился: «куда в военное время вы повезете
портрет? Ведь вам ехать в Питер Балтийским морем, через Скандинавию, портрет
может утонуть, достаться немцам... Вот кончится война, и мы привезем вам
портрет»i Война кончилась большевиками, ленинскими декретами — все же
Цейтлины воротились в Москву. В записках Крандиевской (жены Ал. Толстого)
есть повествование о том, как Цейтлины, у коих было конфисковано все
имущество, пробирались вместе с Толстыми в Одессу. Мой портрет,
конфискованный у Цейтлиных, очутился в Третьяковке. Там он был повешен в зале, где
портрет Павлова (работы Нестерова). Но не висел более месяца. Пришло какое-
то начальство, удивилось:
— Почему Чуковский? Отчего Чуковский?
Потрет убрали в подвал. Когда я снова приехал в Москву, я увидел его
в витрине магазина «Торгсин».
— Охотно продадим, но только за валюту, за золото.
Я ушел, а через месяц узнал, что портрет увезен в Америку. Это было,
должно быть, в 1933 году. Через год я снова приехал в Москву, остановился
в «Национале». Прихожу как-то вечером в вестибюль гостиницы, портье
громко называет мое имя и дает мне письмо. Стоявшая рядом дама сказала певуче
с удивлением:
— Are you really Mr. Chukovsky? *
Мы разговорились. Она сказала мне, что репинский портрет куплен ее
мужем, находится (кажется) в Иллинойсе. Я объяснил ей, что портрет — моя
фамильная собственность, что я прошу их продать мне этот портрет за советские
деньги. Она обещала поговорить об этом с мужем. Муж работал в Амторге,
* Вы действительно м-р Чуковский? (англ.)-
ИЗ ДНЕВНИКА 183
и советская валюта представляла для него ценность. Условились, что он
привезет репинский портрет из Иллинойса, а я уплачу ему стоимость портрета
советскими червонцами. Так как американка (кажется, Mrs. Edward или что-то
в этом роде) тоже жила в «Национале», я каждое утро приходил к ней пить
кофе, и мы близко познакомились. Потом она уехала к мужу ■— и долго не
возвращалась.
Наступил год сталинского террора — 1937-й. Отечественные хунвейбины
распоясались. Шло поголовное уничтожение интеллигенции. Среди моих
близких были бессмысленно арестованы писатели, переводчики, физики, художники,
артисты. Каждую ночь я ждал своей очереди.
И вот как раз в это время приходит ко мне посыльный, на фуражке вышито:
«Astoria» (из гостиницы «Астория»), вручает мне письмо и пакет. Я
разворачиваю пакет: там томики Уолта Уитмена, О'Henry, чулки, карандаши и еще
что-то. Я даже не взглянул на конверт, не попытался узнать от кого посылка,
а завернул все вещи в тот же пакет, в каком они были и отдал рассыльному
вместе с нераспечатанным письмом... «Вот... вот... вот... я не читал... не
смотрел... возьмите и несите назад»,— бормотал я в отчаянии, ибо всякая встреча
любого гражданина с иностранцем, сразу же в глазах хунвейбинов превращала
этого гражданина в шпиона. Хунвейбины и представить себе не могли, что есть
хоть один интеллигент не шпион. Я почему-то вообразил, что письмо и подарки
прислали мне «Эдварды» и что в письме было сообщение о прибытии моего
портрета в Ленинград. Я думал, что портрет навеки исчез с моего горизонта.
Но нет! Уже в 50-х годах я познакомился в Барвихе с нашим израильским
послом, и он сказал мне, что часто бывал в Иерусалиме у тамошнего богача Ше-
ровера и любовался репинским портретом, Я, конечно, сейчас же позабыл
фамилию богача, но позднее, вступив в переписку с жительницей Иерусалима
Рахилью Марголиной, очень милой женщиной, сообщил ей о своем портрете.
Она установила при помощи радио, что портрет находится у г. Шеровера,
большого друга СССР. Я вступаю с Шеровером в переписку. Он сообщил, что
после его смерти портрет отойдет по завещанию Третьяковской галерее — и
любезно прислал мне фото-снимок с этого портрета. <...> В 1968 году он
посетил меня — типичный американский коммерсант 9.
* * *
Федору Кузьмичу Сологубу даже в старости была свойственна игривость.
Почему-то он всегда носил туфли с очень несолидными бантиками и, сидя,
очень легкомысленно подрыгивал ножкой.
— Какое самое плохое стихотворение Пушкина?—спросил он меня
однажды, сидя в проходной комнате Евдокии Петровны Струковой.
Я куда-то спешил, и не задумываясь, ответил:
Одна заря сменить другую
Спешит дав ночи полчаса.
Это очень расплывчато и расхлябано,— сказал я.— Неясно даже в каком
падеже «ночи» (дав чего? или чему?) И кроме того с белой ночью не связано
слово «спешит». Белая ночь никуда не спешит, она томная, тягучая. И кроме
того...
Сологуб перебил меня и сказал докторально:
— Самое худшее стихотворение Пушкина «Для берегов отчизны дальней».
— ?1
— Да. Я слушал об этом стихотворении лекцию Жирмунского и с той
поры оно стало мне ненавистно. Жирмунский как пеплом посыпал его.
* * *
В 1917 или 18 году А. Ф. Кони был арестован Чекой. Грозный
юноша-следователь спросил его с гневом:
184
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
— Бот вы сразу работали и как член Государственного Совета, и как
Почетный академик? Совместительство. Разве так можно?
— Для вас, молодой человек, это никак невозможно,— ответил Кони.-—
А для меня возможно. (Рассказ самого А. Ф. Кони).
* * *
Маяковский, тоскуя по биллиарду, часто приходил в Куоккале на дачу к
Татьяне Александровне Богданович — играть с ее детьми в крокет. Я как
сейчас слышу уверенный и веселый стук его молотка по шару. Он почти никогда не
проигрывал. Ему было 23 года, гибкий, ловкий, он не давал своим партнерам ни
одного шанса выиграть. Татьяна Александровна ждала гостей — Евгения
Викторовича Тарле, Редьков. Она приготовила большой пирог с (каягустой. Разрезала его
пополам и одну половину на восемь частей
Поставила пирог на террасе и сказала:
— В. В. возьмите себе на террасе пирожок.
В. В. вскочил на террасу и взял цельную половину пирога, ту, что была не-
разрезана (б).
Горький был слабохарактерен, легко поддавался чужим влияниям. У Чехова
был железный характер, несокрушимая воля. Не потому ли Горький воспевал
сильных, волевых, могучих людей, а Чехов — слабовольных, беспомощных?
Зиновий Исаевич Гржебин окончил Одесскую рисовальную школу, никогда
ничего не читал. В литературе разбирался инстинктивно, Леонид Андреев
говорил:
— Люблю читать свои вещи Гржебину. Он слушает сонно, молчаливо. Но
когда какое-нибудь место ему нравится, он начинает нюхать воздух, будто учуял
запах бифштекса. И тогда я знаю, что это место и в самом деле стоющее.
* * *
Жил он на Таврической улице в роскошной большой квартире. В моей
сказке «Крокодил» фигурирует «милая девочка Лялечка», это его дочь,— очень
изящная девочка, похожая на куклу.
Когда я писал:
«А на Таврической улице мамочка Лялечку ждет»,— я ясно представлял
себе Марью Константиновну, встревоженную судьбою Лялечки, оказавшейся среди
зверей.
10 мая. Все это писано в Загородной больнице, куда я попал почти здоровый и
где перенес три болезни. Температура у меня все время была высокая, роэ
огромное, ничего дельного я писать не мог — и вот писал пустячки. Писал коряво,
кое-как. Сейчас должны прибыть Митя, Клара и Виктор Федорович Емельянов
ИЗ ДНЕВНИКА 185
и увезти меня отсюда. О, сколько скопилось книг! Два месяца я не написал ни
одной путной строки.
Четверг 28. Май. Утром неожиданно приехал профессор Влади-мир Харитонович
Василенко — чарующее впечатление. Вечером приехала Елена Никол. Конюхова
от «Советского писателя» уговаривать меня, чтобы я выбросил из своей книги
упоминание о Солженицыне 10. Я сказал что это требование хунвейбиновское, и не
согласился. Мы расстались друзьями. Книга моя вряд ли выйдет. Кларочка
готовит 6-ой том. Встретил Нилина, Агапова, Галина, Разгониху. Книга моя
«Высокое искусство» сверстана в издательстве «Советский писатель». Она должна
была выйти в свет, когда в издательстве вдруг заметили, что в книге упоминается
фамилия Солженицын. И задержали книгу. Итак, у меня в плане 1968 г. три
книги, которые задержаны цензурой:
— «Чукомкала».
— «Вавилонская башня».
— «Высокое искусство».
Не слишком ли много для одного человека? <...>
Суббота 25. Май.
Я в полной прострации. Боюсь, что в эту книгу мне придется записывать
одни неудачи. <...>
В пять часов приехал ко мне Юрий Петрович Любимов, руководитель
«Театра на Таганке» — жертва хунвейбиновского наскока на его театр. С ним Элла
Петровна — зав. лит. частью. Хотят ставить на сцене мою «Чукоккалу». Очень
смешно рассказывал о посещении театра «Современник» Хрущевым и вообще
показывал Хрущева. У меня прошла всякая охота писать. Уже третий день ничего
не делаю из-за смертельной тоски, которую стараюсь низкому не показывать.
Понедельник 27. Май. <...> Сейчас я вспомнил, что Любимов рассказал о
подвиге Паустовского. Паустовский очень болел, все же он позвонил Косыгину и сказал:
— С вами говорит умирающий писатель Паустовский. Я умоляю вас не
губить культурные ценности нашей страны. Если вы снимете с работы режиссера
Любимова — распадется театр, погибнет большое дело и т. д.
Косыгин обещал рассмотреть это дело. В результате — Любимов остался в
театре, только ему записали «строгача». <...>
Понедельник 3. Июнь. <:...> Недаром я чувствовал такой удушливый трепет с
утра. Сегодня прочитал клеветнический выпад со стороны бандитов в «Огоньке»
по поводу Маяковского п. Выпад не очень обеспокоил меня. Но я боюсь, что это
начало той планомерной кампании, какую начали эти бандиты против меня в
отместку за мою дружбу с Солженицыным, за «подписанство», за (Недописано.—
Е. Ч.) <...>
Пятница 28. Июнь. Для Лиды тяжелый день. Ленгиз уведомил ее, что из
однотомника Ахматовой решено выбросить четыре стихотворения и несколько строк
из «Поэмы без героя». Ока написала письма в редакцию Ленгиза, Жирмунскому,
Суркову, и еще куда-то, что она протестует против этих купюр. Между тем в тех
строках, которые выброшены из «Поэмы без героя», говорится о том, что
Ахматова ходила столько-то лет «под наганом», и вполне понятно, что при
теперешних «веяниях» печатать эти стихи никак невозможно.
Но Лида — адамант. Ее не убедишь. Она заявила изд-ву, что если выбросят
из книги наган, она снимет свою фамилию, т. к. она, Лида, ответственна перед
всем миром за текст поэмы. Некрасов смотрел на такие вещи иначе, понимая,
что изуверство цензуры не вечно 12.
Суббота 29. Июнь. Умер Крученых — с ним кончилась вся плеяда Маяковского
окружения. Остался Кирсанов, но уже давно получеловек. Замечательно, что
Таня, гостящая у нас, уэнав о смерти Крученыха, оказала то же, что за полчаса до
нее, сказал я: «странно, он казался бессмертным».
Подлая статья о Солженицыне в «Литгазете» с ударом по Каверину13.
Четверг 11. Июль. Вчера были у меня Солженицын, Вознесенский, Катаев,
[нрзб.], Лидия Гинзбург, Володя Швейцер — не слишком ли много людей?
186 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Солженицын решил не реагировать на публикацию «Литер, газеты».
Говорит, что Твардовский должен побывать на аудиенции у Брежнева — с
предложением либо закрыть журнал, либо ослабить цензуру. Приходится набирать
материал на три книжки, чтобы составить одну.
Среда 31. Июль. Была Наталья Ильина, умница. Привезла сестру француженку
(Ольгу) и ее дочь Катю. Ездили все вместе к Литвиновым. <...>
Очень помогает Владимир Осипович, идеальный секретарь — поразительный
человек, всегда служащий чужим интересам и притом вполне бескорыстно.
Вообще два самых бескорыстных человека в моем нынешнем быту — Клара и Глоцер.
Но Клара немножко себе на уме — в хорошем смысле этого слова — а он
бескорыстен самоотверженно и цростодушно. И оба они — евреи, т. е. люди наиболее
предрасположенные к бескорыстию. (См.— Чехова Соломон в «Степи») <...>
Пятница 2. Август. Подготовили 6-ой том к печати — вместе с Вл. Ос. Глоцером
и ждем Бонецкого вместе с Софой. Они прибыли ровно в 4. Я разложил на столе
все статьи изувеченного тома. И тут Бонецкий произнес потрясающий монолог:
оказывается, я обязан написать предисловие о том, что я долгим, извилистым,
«сложным и противоречивым» путем шел в своей писательской карьере к
марксизму-ленинизму и наконец пришел к этой истине, что явствует из моих книг
«Мастерство Н-ва» и т. д.
А в этом томе я печатаю статьи, ошибки коих объясняются тем, что
марксизм-ленинизм еще не осенил меня своей благодатью.
Эта чушь взволновала меня. Сердце мое дьявольски забилось. И я
наговорив всяческих глупостей, прочитал написанное мной предисловие к VI тому, над
которым мы столько трудились вместе с Марианной Петровной и Глоцером. К
моему изумлению приверженец Маркса и Энгельса вполне удовлетворился моим
предисловием и сказал:
— Это как раз то, что нам нужно!14
«Обзоры» мои остались неприкосновенными], нужно только выбросить из
них упоминание о горьковской «Матери»,— maman, как игриво выразился
Бонецкий.
Дальше оказалось, что многого в этом томе он не прочел и говорит лишь по
наслыпше. Мою статью «Литература в школе», забракованную Софой, теперь
признали вполне пригодной. Вообще оказалось все зыбким, неясным, но
«Короленко», «Кнутом иссеченная Муза», «Жена поэта» полетели теперь вверх
тормашками.
Потом Бонецкий стал рассказывать анекдоты, подали закуску и коньяк, и
мы благодушно отправились гулять по Переделкину, встретили Нилина,
посмотрели здание строящегося Дома творчества и — двоица отбыла вполне
удовлетворенная и собою и мною. <...>
Вторник 17. Сентябрь <...> С моими книгами — худо. «Библию» задержали,
хотя она вся отпечатана (50 000 экз.). «Чукоккалу» задержали. Шестой том урезали,
выбросив лучшие статьи, из оставшихся статей выбросили лучшие места.
«Высокое искусство» лежит с мая, т. к. требуют, чтобы я выбросил о Солженицыне.
Я оравнодушил, хотя больно к концу жизни видеть, что все мечты
Белинских, Герценов, Чернышевских, Некрасовых, бесчисленных народовольцев,
социал-демократов и т. д., и т. д. обмануты — и тот социальный рай, ради которого
они готовы были умереть — оказался разгулом бесправия и полицейщины. <...>
Среда 25. Сентябрь. В гости приехала Елена Сергеевна Булгакова. Очень
моложава. Помнит о Булгакове много интереснейших вещей. Мы сошлись с ней в
оценке Влад. Ив. Немировича-Данченко и вообще всего Худож. Театра.
Рассказывала, как ненавидел этот театр Булгаков. Даже когда он был смертельно
болен и будил ее — заводил с ней разговор о ненавистном театре, и он забывал
свои боли, высмеивая Нем.-Данченко. Он готовился высмеять его во второй
части романа.
Четверг 26. Сентябрь <...> Пишу письмо Люсичевскому. Карпова написала, что
мне типография хочет рассыпать набор «Высокого искусства». Завтра приедет
Ася Берзер, посоветуюсь с ней и решу.
27. Сентябрь <...;> Вчера была поэтесса двадцати одного года — с пок-
ИЗ ДНЕВНИКА \ 37
лонником физиком. Стихи талантливы, но пустые, читала манерно и выспренне.
Я спросил, есть ли у нее в Институте товарищи. Она ответила, как самую
обыкновенную вещь:
— Были у меня товарищи — «ребята» (теперь это значит юноши), но всех
их прогнали.
— Куда? За что?
— Они не голосовали за наше вторжение в ЧехоСловакию.
— Только за это?
— Да. Это были самые талантливые наши студенты!
И это сделано во всех институтах.
Говорят, что в Союзе Писателей Межелайтис, Симонов, Леонов и
Твардовский отказались выразить сочувствие нашей Чехословацкой афере.
Суббота 28. Сентябрь. Восстановилась ясная погода. <...> Пишу письмо Лесю-
чевскому — по совету Люши и Аси.
Утомлен очень. Ася Берзер.— прелесть, талантливая журналистка, хороший
критик, я был рад ее приезду. Она вместе с Люшей провожала на самолет
Виктора Некрасова. Тот напился. И увидев портрет Ленина сказал громко:
— Ненавижу этого человека. <...>
Вторник 1. Октябрь <...> Отделывал письмо Люсичевскому.
Безумная жена Даниэля! Оставила сына, плюнула на арестованного мужа и
сама прямо напросилась в тюрьму.
Адвокатши по ее делу и по делу Павлика —истинные героини, губящие свою
карьеру. По уставу требуется, чтоб в политических делах адвокаты признавали
своих клиентов виновными и хлопотали только о снисхождении. Защитницы
Павла и Ларисы — заранее отказались от этого метода15 <...>
Понедельник 7. Октябрь. Сегодня, увы, я совершил постыдное предательство:
вычеркнул из своей книги «Высокое искусство» — строки о. Солженицыне. Этих
строк много. Пришлось искалечить четыре страницы, но ведь я семь месяцев не
сдавался, семь месяцев не разрешал издательству печатать мою книгу — семь
месяцев страдал оттого, что она лежит где-то под спудом, сверстанная, готовая к
тому, чтобы лечь на прилавок, и теперь, когда издательство заявило мне, что оно
рассыпет набор, если я оставлю одиозное имя, я увидел, что я не герой, а всего
лишь литератор и разрешил наносить книге любые увечья, ибо книга все же —
плод многолетних усилий, огромного, хотя и безуспешного труда.
Мне предсказывали, что сделав эту уступку цензурному террору, я почувствую
большие мучения, но нет: я ничего не чувствую, кроме тоски — об [м] озолился.
Вторник 8. Октябрь. Сейчас ушел от меня известный профес. Борис Николаевич
Делоне — дед злополучного Вадима, которого будут завтра судить 1б. Рассказал
между прочим, как Сталин заинтересовался «Историей опричнины», разыскал
книгу о ней и спросил, жив ли автор книги. Ему говорят: «жив».— «Где он?» —
в тюрьме. «Освободить его и дать ему высокий пост: дельно пишет». Наше ГПУ—
это те же опричники. Пр[офессо]ру Делоне это рассказывал сам автор—Смирнов.
Б. Н. Делоне — говорун. Рассказывал, как он принимал у себя француженку
Деруа. Все было хорошо, вдруг один оратор (Стечкин) сказал: «жалко одно, что
вами управляет такой длинноносый премьер». (Де Голль). Все смутились.
Бестактность. И вдруг француженка сказала: «он не только длинноносый — он
глупый. Очень глупый».
Рассказывал, как молодой Якир в Кишиневе, где ставили памятник его от-
цу, вдруг сказал перед многотысячной публикой, собравшейся на торжество:
— Неужели не стыдно Ворошилову и Буденному, кои подписали смертный
приговор моему отцу.
Делоне —78 лет. Бравый старик. Альпинист. Ходит много пешком. На днях
прошел 40 километров — по его словам. <...>
Среда 9. Октябрь. Комната моя заполнена юпитерами, камерами. Сегодня меня
снимали для «Чукоккалы» 17. Так как такие съемки ничуть не затрудняют меня,
и весь персонал очень симпатичен, я нисколько не утомлен от болтовни перед
камерой. Это гораздо легче, чем писать. Я пожаловался Марьяне (режиссеру), что
138 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
фильм выходит кособокий: нет ни Мандельштама, ни Гумилева, ни Замятина, так
что фотокамера очень стеснена. Она сказала:
— Да здравствует свобода камеры!
Дмитрий федоровский (оператор):
— Одиночной.
Вечером читал Руфь Зернову. «На солнечной стороне». Хорошо. Написал ей
письмо.
У Лиды второй день нормальная t °. А в Москве судят Павлика, Л. Даниэль,
Делоне. Чувствую это весь день. Таня, Флора, Миша у меня как занозы. И
старуха Делоне...18
Рассказ Ivy в «New Yorker'e» очень хорош. <...>
Воскресенье 13. Октябрь. Пришла к вечеру Таня — с горящими глазами,
почернелая от горя. Одержимая. Может говорить только о процессе над Павликом,
Делоне, Богораз и др. Восхищается их доблестью, ^одробно рассказывает о суде,
который и в самом деле был далек от законности. Все ее слова и поступки
—отчаянные.
Теперь, когда происходит хунвейбинская расправа с интеллигенцией, когда
слово интеллигент стало словом ругательным — важно оставаться в рядах
интеллигенции, а не уходить из ее рядов — в тюрьму. Интеллигенция нужна нам здесь
для повседневного интеллигентского дела. Неужели было бы лучше, если бы
Чехова или Констэнс Гарнетт посадили в тюрьму. <...>
Пятница 18. Октябрь. Вчера вечером приехал Солженицын. Я надеялся, что он
проживет недели две — он приехал всего на сутки. При встрече с ним мы
целуемся — губы у него свежие, глаза ясные, но на моложавом лице стали появляться
морщины. Жена его «Наташа», работающая в каком-то исследовательском
Институте в Рязани, вдруг получила сигналы, что не сегодня-завтра ее снимут с
работы. Уже прислали какого-то сладенького «ученого», которого прочат на ее место.
Через час после того, как он уехал из своей деревенской избы, сосед С-на увидел
какого-то высокого субъекта, похожего на чугунный памятник, который
по-военному шагал по дороге. У соседа на смычке собака. Субъект не глядел по
сторонам— все шагал напрямик. Сосед приблизился к нему и сказал: «уехали!..» Тот
словно не слышал, но через минуту спросил: «когда?» Сосед: «да около часу, не
больше». Незнакомец быстро повернул, опасливо поглядывая на собаку. Сосед за
ним — на опушке стояла машина невиданной красоты (очевидно итальянская), у
машины стояли двое, обвешанные фото-аппаратами и другими какими-то
инструментами.
Все это Солж. рассказывает со смаком, но морщины вокруг рта очень
тревожны. Рассказывает о своих Портретах, помещенных в «Тайме». «Я видел
заметки о себе в «Тайме» и прежде, но говорил: нет того, чтобы поместить мой портрет
на обложке. И вот теперь они поместили на обложке целых четыре портрета.
И нет ни одного похожего». Вечером пришел к нему Можаев и прочитал
уморительные сцены из деревенской жизни. «Как крестьяне чествовали Глазка». Очень
хороший юморист,— и лицо у него — лицо юмориста.
Сегодня чуть свет Солженицын уехал.
Приехала Таня — успокоенная. Павлик — очень серьезен и ни на что не
жалуется. Читает в тюрьме Пруста — занимается гимнастикой — готовится к
физическому труду. <...>
Воскресенье 20. Октябрь <..♦> Интересно, что у большинства служащих,
выполняющих все предписания партии и голосующих за, есть ясное понимание, что они
служат неправде, — но — привыкли притворяться, мошенничать с совестью.
Двурушники — привычные. <...>
Пятница 25. Октябрь. Услышал о новых подвигах наших хунвейбинов: они
разгромили «Б-ку поэта» с Орловым во главе. В самом деле, эта «Б-ка» готовилась
выпустить Ахматову, Гумилева, Мандельштама, «интеллигентских» поэтов и
пренебрегла балалаечниками вроде Ошанина... Сняли Орлова, Исакович и других
из-за того, что в книге Эткинда о переводчиках сказано, что Ахм., Заболоцкий
и др., не имели возможности печатать свои стихи и потому были вынуждены
отдавать все силы переводам. <...>
ИЗ ДНЕВНИКА ] 39
Суббота 2. Ноябрь.
С утра — Нина Кристе[н]сен.
Вечером —■ от 6 до 11 Евтушенко. Для меня это огромное событие. Мы
говорили с ним об антологии, которую он составляет по закаоу какой-то амер.
фирмы. Обнаружил огромное знание в старой литературе. Не хочет ни Вяч. Иванова,
ни Брюсоова. Великолепно выбрал Маяковского. За всем этим строгая
требовательность и понимание. Говорит, что со времени нашего вторжения в Чехию его
словно прорвало — он написал бездну стихов. Прочитал пять прекрасных
стихотворений. Одно о трех гнилых избах, где живут две старухи и старичек-брехуиок и две
старухи. Перед этой картиной изображение насквозь прогнившей Москвы — ее
фальшивой и мерзостной жизни. Потом о старухе, попавшей в валютный магазин
и вообразившей, что она может купить за советские деньги самую роскошную
снедь, что она уже вступила в коммунизм, а потом ее из коммунизма выгнали,
ибо у нее не было сертификатов. Потам о войсках, захвативших ЧехоСловакию 19.
— Поразительные стихи и поразителен он. Большой человек большой судьбы.
Я всегда говорил, что он та игла, ,к-рая всегда прикасается к самому больному
нерву в зубе, он ощущает жизнь страны, как свою зубную боль.
— Я ей богу же лирический поэт,— сказал он.— А почему-то не могу не
писать на политические темы, будь они прокляты.
Слушали его Марина, Митя и Люшенька.
Воскресенье 3. Ноябрь. Сегодня был Олег Чухонцев с женой и вновь читал
отличные стихи. О Державине, Дельвиге, о Баркове, о танках, о реставраторе.
Читая, он жестикулирует. Разговаривая — тоже. Весь в черном, в черных очках —
так что сильно движущиеся белые руки особенно заметны. <;...>
Среда 13. Ноябрь.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе.
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.
Блок
Пятница 22. Ноябрь. Вечером Евтушенко. Доминантная фигура. Страшно
волнуется: сегодня его должны либо выбрать, либо провалить в Оксфорде (речь идет о
присуждении ему звания Оке. профессора). «Подлец Амисс» выступил там с
заявлением, будто Евт. — «официальный» поэт. А сам — фашист, сторонник войны
во Вьетнаме.— «Сволочь Amiss! He знают они нашего положения! Ничего не
понимают!» Из его высказываний: «я отдал бы пять лет жизни, лишь бы только
было напечатано в России «В круге первом». У нас нет писательской
сплоченности — от этого все мы гибнем». И излагает фантастический план захвата власти
в Московском отделении Союза писателей!.. Читал стихи — лучше[е] о
«ползучих березках» — то есть о себе, о своей литературной судьбе. К этому сводятся
все его стихи. Пошли гулять. <...>
Суббота 23. Ноябрь. Сегодня приехал ко мне второй центральный человек
литературы Александр Исаевич. Борода длиннее, лицо изможденное. Вчера приехал
в Москву — и за день так устал, что приехал ко мне отоспаться. Бодр.
Рассказывает о дерзностных письмах, которые он написал в Рязанское отделение Союза
писателей. Секретарь рязанского Обкома пожелал побеседовать с ним.
Пригласил к себе. Он ответил (через Союз Пис), что так как он не партийный, он не
считает себя обязанным являться к нему и если он хочет, пусть придет в Союз и
С-н охотно побеседует с ним, но конечно не с глазу на глаз (т. к. у нас нет
никаких секретов). Ему поставили в вину, зачем он держится в стороне о[т]
Рязанского Союза. Он ответил, что он во всякое время готов прочитать там «Раковый
корпус», что же касается беседы, то вряд ли его слова будут иметь вес после
того, как его оклеветала «Литгазета». <...>
Вторник 3. Декабрь. Я увидел в «Times» статью Харти о неизбрании Евтушенко
в Оксфорд и решил отвезти ему вырезку. Мимо проезжал милиционер в
мотоцикле, подвез. «Евтушенко болен» — сказала нянька. Оказалось, он три дня был в
Москве и три дня пил без конца. «Пропил деньги на магнитофон»,— сокрушается
190 корней Чуковский
он. Стыдно показать глаза жене. Прочитал мне стихи о голубом песце, о китах.
«Удивляюсь, как напечатали о песце20. Должно [быть] вообразили, что я и в
самом деле пишу о песцах. Их ввела в заблуждение подпись «Аляска». Пошли
вместе к Слуцкому,— а потом по хорошему снежку ко мне. <.~>
1969
Март 6-ое. Вчера попал в больницу Касирского. Персонал отличный. Врачи
первоклассные. Но я очень плох. Весь отравлен лекарствами. <...>
7 марта. <...> Позор и ужас. Обнаружился сосед, который обожает телевизор.
Из-за стены слышен несмолкаемый лай. Прекратится он только в 12 часов.
Если бы мне хоть намекнули, что возможно соседство с таким ди-карем, я предпочел
бы умереть у себя на диване. <...>
24 марта. <...> Здесь мне особенно ясно стало, что начальство при помощи
радио, и теле и газет распространяет среди миллионов разухабистые гнусные
песни —- дабы население не знало ни Ахматовой, ни Блока, ни Мандельштама. И
массажистки, и сестры в разговоре цитируют самые вульгарные песни и никто, не
знает Пушкина, Боратынского, Жуковского, Фета — никто.
В этом океане пошлости купается вся полуинтеллигентная Русь, и те, кто
знают и любят поэзию — это крошечный пруд. <...>
31 марта. <...> Здесь наиболее замечательная личность Валентина Георгиевна
Антипова, финансовый ревизор по проверке железнодорожного строительства
Урала, Сибири и Дальнего Востока — и фабрик. Всю душу отдает воспитанию
сына, 16-летнего юноши, очень милого. Житейский опыт у нее огромный. Все
Сибирские города известны ей, как мне — Переделкино. Ум большой,
самостоятельный. С мужем она давно рассталась — поневоле ей пришлось выработать мужские
черты характера. К современности относится критически. Говорит, что после ком-
сомольства не пожелала вступить в Партию, хотя ее отец — старый партиец.
Разговаривать с ней одно удовольсвие — живой деятельный, скептический ум.
Но... она даже не предполагает, что в России были Мандельшам, Заболоцкий,
Гумилев, Замятин, Сомов, Борис Григорьев, в ее жизни пастернаковское
«Рождество» не было событием, она не подозревала, что «Мастер и Маргарита» и
«Театральный роман» — наша национальная гордость. «Матренин двор», «В круге
первом» — так и [не] дошли до ее сознания. Она свободно обходится без них.
Так как я давно подозревал, что такие люди существуют, я стал внимательно
приглядываться к ней и понял, что это результат специальной обработки при
помощи газет, радио, журналов «Неделя» и «Огонек», которые не только
навязывают своим потребителям дурное искусство, но скрывают от них хорошее.
Выдвинув на первое место таких оголтело-бездарных и ничтожных людей, как
Серафимович, Гладков, Ник. Островский, правительство упорно скрывает от населения
стихи Ахматовой, Мандельштама, Гумилева, романы Солженицына. Оно
окружило тайной имена Сологуба, Мережковского, Белого, Гиппиус, принуждая любить
худшие стихи Маяковского, худшие вещи Горького. Во главе TV и радио стоят
цербера, не разрешающие пропустить ни одного крамольного имени.
Словом, в ее лице я вижу обокраденную большую душу.
Рядом со мной в палате 202 живет окулист проф. Р. Как всякий
самовлюбленный специалист, он может говорить только о своей специальности. Едва лишь
мы познакомились, он изложил мне свою «систему», которую он применил к
живописи. Потом он ловил меня в коридоре и излагал ее во время прогулки, потом
он вздумал устроить вечернее чтение, объявив, что будет читать lU часа. Читал от
час пять минут, не считаясь со слушателями, причем предпосылкой его воззрений
была чепуховая мысль, будто то искусство хорошо, 'которое творится здоровыми
людьми. Художник близорукий — плохой художник, дальнозоркий тоже.
Дальтоников он уличает как преступников. Ему мерещится, что если он докажет, что
Ван Гог был дальтоник, этим он в какой-то мере скомпрометирует Ван Гога.
[Сбоку приписано.— Е. Ч.]: (A John Turner?) Умница Инна Борисовна задала ему
вопрос: итак, если бы у Достоевского не было падучей, он писал бы лучше? Осел
ответил: несомненно... «Если бы Гойя не был болен, он еще лучше написал бы
ИЗ ДНЕВНИКА
огромную серию «Капричо»? — «Еще бы». Врубель, по мнению
идиота-профессора, свою синюю гамму изобрел из-за дальтонизма — а то что эта синяя гамма
была вехой в его истории, вкладогл в искусство, так как ею посрамлялось и
опровергалось захиревшее передвижничество, это- ему невдомек. Самое требование
«здорового искусства» по самому своему существу порочно. Оно выдвинуто в свое
время советскими жандармами. Вследствие этого от публики прятали в подвалах
шедевры импрессионистов, приобретенных Щукиным, который завещал их
народу. От всех художников требовали «реализма». Из-за этого выдвинулись
вонючие полуфотографы вроде Галактионова, Герасимова. Но даже советским
идеологам пришлось уступить — устроили выставку Матисса, стали воскрешать
художников «Мира Искусства», перестали употреблять в качестве ругательства имена
Сера, Сислея, Мане, Моне и т. д.
Р. декларировал свою любовь к искусству. Но ничем не показал, что любит
его. Он сам рассказывал мне, что когда приехал в Россию из Индии Рерих, он,
Р., долго разговаривал с ним по-английски, не подозревая, что Рерих — русский.
Словом, не знал «Город строят», «Вороны» и др. произведений мастера.
Невежество лошадиное!
Абсолютно лишенный эстетического вкуса, понимания школ и направлений
в мировой живописи, он авторитетно толкует о ней, как знаток. Это так
взволновало Валентину Георгиевну, что она, ссылаясь на духоту, ушла раньше времени.
А я пожалел, что этому тупице я, по его настойчивой просьбе, еще не
познакомившись с ним, подарил свою книжку «Чехов».
Ко всем его экскурсам в искусство годится один эпиграф:
Суди, голубчик мой, не выше сапога.
Его стараниями уничтожен Эдгар По, Уитмен, Гаршин, Бодлер, Достоевский.
Показываю одной из здешних интеллигенток снимки с картин Пиросманаш-
вили.
— Ах, как я люблю шашлык,— сказала она и здесь была вся ее реакция на
творчество грузинского художника. <...>
29 апреля, <...> Большую радость доставили мне в последнее время общение
с И. А. К.— из 209 палаты. Несмотря на свою внешнюю грубость, это
деликатный, добрый, щедрый, покладистый человек. Очень талантлив. Во время наших
общих обедов в столовой он заставляет нас хохотать своими остроумными
репликами. Трудолюбив, талантлив, упорен, бескорыстен. Но феноменально далек от
общечеловеческой культуры. Он певец — и я верю — хороший. Но недаром
Шаляпин смолоду водился со Львом Толстым, с Чеховым, с Горьким, с Леонидом
Андреевым, с Бальмонтом, с Головиным, с Кустодиевым, с Судейкиным,—
недаром Собинов был одним из начитаннейших людей своего времени. Недаром
Лядов мог в разговоре цитировать Щедрина и Достоевского — а Игорь Ал., не
получив обще-гуманитарного образования, может цитировать лишь вонючую пошля-
ти-ну современных казенных стихокропателей. Мне странно видеть молодого
человека, кот. не знает ни Заболоцкого, ни Мандельштама, ни Ахматовой, ни
Солженицына, ни Державина, ни Баратынского. Он пробует писать, и конечно, в его
писаниях сказывается его богатая натура, но вкуса никакого, литературности
никакой, шаблонные приемы, банальные эпитеты.
Между тем это один из самых замечательных людей, живущих в нашем
коридоре. Остальные — оболванены при помощи газет, радио и теле на один
салтык, и можно наперед знать, что они скажут по любому поводу. Не люди, а
мебель — гарнитур кресел, стульев и т. д. Когда-то Щедрин и Кузьма Прутков
смеялись над проектом о введении в России единомыслия — теперь этот проект
осуществлен; у всех одинаковый казенный метод мышления, яркие
индивидуальности — стали величайшею редкостью. <...>
Медицинская сестра, кот. раньше работала на улице Грановского, где
Кремлевская больница. Спрашиваю ее: «а кто был Грановский?» Не знает.
Получил письмо из Мельбурна, спрашиваю И.. А.: «где этот город?»
Отвечает: «в Швеции», потом: «в Швейцарии». Я наконец сообщаю ему, что этот город
в Австралии.
\ 92 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Он: «Ах, да, там были какие-то скачки!»
Только оттого, что туда ездили наши советские спортсмены, он знает, что
существует этот город. <...>
Вчера познакомился с женою Багрицкого. Седая женщина с тяжелою
судьбой: была арестована — и провела 18 лет в лагере. За нашей больничной
трапезой женщины говорят мелко-бабье: полезен ли кефир, как лучше изжарить
карпа, кому идет голубое, а кому зеленое — ни одной общей мысли, ни одного
человеческого слова. Ежедневно читают газеты, интересуясь гл. образом прогнозами
погоды и программами теле и кино. <...>
ПРЕДСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ*
16 июня. Понедельник. Вчера внезапно приехал с женой А. И. Солженицын.
Расцеловались. Обедали на балконе. Погода святая: сирень расцвела у нас
необыкновенно щедро,— кукушки кричат веселей, чем обычно, деревья феноменально
зеленые. А. И. пишет роман из времен 1-й германской войны (1914—1917) —весь
поглощен им. «Но сейчас почему-то не пишется. Мне очень легко писать то, что
я пережил, но сочинять я не могу...» Жена подтверждает: когда у него
застопорится работа, он становится мрачен, раздражителен. Жена («Наташа») ведет его
архив — 19 папок: одна папка почетных званий — он ведь академик, избранный
какой-то из литер, академий Парижа, а также — почетный член американской
академии. Жена благоговейно фотографирует ту крохотную дачку, где живет
Солженицын, все окрестности,— и как он собирает грибы, и как он пишет в саду,
за вкопанным в землю столбом, и как гуляет над рекой. Фото — цветные, она
привезла с собою около 50 в коробке. Спрашивали у меня, нет ли у меня копии
того отзыва об «Иване Денисовиче», который я написал в Барвихе, когда
рукопись этой повести дал мне почитать Твардовский.1 <...>
17/VI вторник. Вожусь с первыми страницами статьи о детективах2. Пишу две
страницы чуть ли не двадцатый раз — борюсь со своим проклятым склерозом.
Процесс писания причиняет мне столько страданий, я начинаю так зверски
ненавидеть себя — что обрушиваюсь на ни в чем неповинных людей. <...>
2 августа. Был Евтушенко. Вместе с художником, фамилию к-рого я не запомнил.
Читал вдохновенные стихи, читал так артистично, что я жалел, что вместе со
мною нет еще 10 тысяч человек, которые блаженствовали бы вместе. Читал одно
стихотворение о том, что мы должны даже болея и страдая, благодарить судьбу
за то, что мы существуем. Стихи такие убедительные, что было бы хорошо
напечатать их на листовках и распространять их в тюрьмах, больницах и других
учреждениях, где мучают и угнетают людей. Потом прочитал стихотворение,
вывезенное им из Сибири, где он плыл на реке в баркасе, который сел на камень.
Очень русское, очень народное. Был он в Казани, пишет о Ленине в 80-х годах,
там секретарь Обкома дал ему один занятный документ. Стихи его совсем не
печатаются. 12 редакций возвратили ему одни и те же стихи. Одно стихотворение,
где он пишет, как прекрасно раннее утро в Москве, как хороша в Москве ночь —
ему запретили оттого, что — значит, вы предпочитаете те часы, когда начальство
спит? <...>
Вот уже 4-ое сентября. Сколько событий обнаружилось за это время. Налет
милиции на мою дачу ради изгнания Ривов, которые приехали ко мне с 3-мя
детьми.3 <...> Я подружился с Наталией Иосифовной Ильиной, которая путем долгих
усилий написала для «Нового Мира» отличную юмореску об экранизации
классиков. 4 Я начал писать об детективах — и бросил. Начал о Максе Бирбоме и
бросил. Сейчас пишу о том, как создавались мои сказки. Но память у меня ослабела —
боюсь наврать. <...>
14 сент. 1969. Вчера вечером, когда мы сидели за ужином, пришел Евтушенко
с замученным лицом и поставив Петю на пол, сказал замогильно (очевидно те
слова, к-рые нес всю дорогу ко мне):
* Этот заголовок открывает последнюю. 29-ю тетрадь Дневника.
ИЗ ДНЕВНИКА 193
— Мне нужно бросать профессию. Оказывается, я совсем не поэт. Я
фигляр, который вечно чувствует себя под прожектором.
Мы удивлены. Он помолчал.
«Все это сказал мне вчера Твардовский. У него пять месяцев лежала моя
рукопись «Америка». Наконец он удосужился прочитать ее. Она показалась ему
отвратительной. И он полчаса доказывал мне — с необыкновенною грубостью, что
все мое писательство — чушь.»
Я утешал его: «Фет не признавал Некрасова поэтом, Сельвинский —
Твардовского». Таня, видевшая его в первый раз, сказала: «Женя, не волнуйтесь».
И стала говорить ему добрые слова.
Но он, не дослушав, взял Петю и ушел. <...>
5 октября. Воскресенье. Вдруг утром сказали:
— Солдаты пришли!
Какие солдаты? Оказывается, их прислал генерал Червонцев для ремонта
нашей библиотеки. Какой генерал Червонцев? А тот, который приезжал ко мне
дня четыре назад — вместе с заместителем министра внутренних дел Сумцовым.
А почему приезжал Сумцов? А потому, что я написал министру вн. д. бумагу.
О чем? О том, что милиция прогнала из моей дачи профессора Рива! У проф.
Рива был намечен маршрут на Новгород. А он заехал ко мне в Переделкино. Его
настигла милиция — человек 10, иные на мотоциклах, и вытурили — довольно
учтиво.
По совету Атарова я написал министру заявление; министр прислал ко мне
зама, не то с извинением, не то с объяснением. Сумцов приехав, сообщил, как он
рад, что случай дал ему возможность познакомиться со мною — и привез с собою
генерала Червонцева, который признался, что он, не имея никакого дела в М-ве
Вн. Дел, приехал специально затем, чтобы познакомиться со мною. Это
громадный толстяк, с добродушным украинским прононсом. Располагает к себе,
charmer. Они долго не могли уехать, т. к. их шофер ушел в лес искать грибы.
Я повел их в библиотеку, где сейчас производится ремонт. Червонцев обещал
прислать солдат, чтобы убрать библиотечный сад — и отремонтировать внутренность.
Вот что значило восклицание:
— Солдаты пришли.
Из-за болезни я [не] вышел к ним, не поглядел на их работу, но говорят, что
они расчистили весь участок вокруг библиотеки. Четверо остались на целую
неделю — ремонтировать внутреннее помещение.
Около шести часов пришла докторша Хоменко — нашла у меня желтуху —
и увезла в Инфекционный корпус Загородной больницы.
Усадила меня в свою машину — и несмотря на то, что ко мне в это время
приехала австралийская гостья, доставила меня в больницу, где только что
освободился 93 бокс, мой любимый. И застал свою любимую сестру Александру
Георгиевну. <...>
7 октября. Сестра Сима, делая мне укол, сказала:
—1 Да, камни в печени неприятная вещь]
Вот оно что! У меня камни в печени.
Мария Ник. вчера объяснила, что во всем виноваты снотворные, кот. я
принимаю чуть не с двадцати лет.
Пробую писать, не пишется.
Мария Николаевна после долгой пальпации решила, что у меня больна
печень и назначила мне внутривенное вливание.
Пожелтел еще сильнее, чем прежде. Слабость ужасная. Пишу 3-й этюд о
своих сказках. Тороплюсь, п. ч. знаю, что завтра голова моя будет слабей, чем
сегодня.
У меня над дверью табличка
Подозревается] болезнь Боткина. <...>
9 октября. <...> Работаю над 8-м томом Кони.5 Это был праведник и
великомученик. Он боролся против тех форм суда, какие существуют теперь — против кри-
13. «Знамя» № 12.
194 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
восудия для спасения госуд. строя. Ирония судьбы, что эти благородные книги
печатаются в назидание нынешним юристам.
В 5 часов темп. 37,6. <...>
16 окт. Слабость как у малого ребенка,— хотел я сказать, но вспомнил о Митяе
Чуковском и взял свои слова обратно. Митяй, которому сейчас 10 месяцев —
феноменальный силач, сложен, как боксер. В янв. 2000 года ему пойдет 32-й год.
В 2049 году он начнет писать мемуары:
«Своего прадеда, небезызвестного в свое время писателя, я не помню.
Говорят, это был человек легкомысленный, вздорный». <...>
18 октября. Суббота.
Вот какие книги, оказывается, я написал:
1. Некрасов (1930 изд. Федерации)
2. Книга об Ал. Блоке (1924)
3. Современники
4. Живой как жизнь
5. Высокое искусство
6. От двух до пяти
7. Чехов
8. Люди и книги 60-х годов и другие очерки (Толстой и Дружинин.—
Слепцов. Тайнопись «Трудного времени» и т. д.)
9. Мастерство Некрасова
10. Статьи, входящие в VI том моего Собр. соч.
11. Статьи, входящие (условно) в VII том.
12. Репин
13. Мой Уитмен
14. Серебряный герб
15. Солнечная
Авторские права на все эти книги я завещаю дочери моей Л. К. и внучке мбей
Елене Цезаревне Чуковским.
Кроме того, Елене Цезаревне Чуковской я вверяю еуДвбу своего архива,
своих дневников и Чукоккалы. <...>
20 октября.
Книги, пересказанные мною: «МШнхаузен», «Р&бййзон Крузб», «Маленький
оборвыш», «Доктор Айболит».
Книги, переведенные мною:
Уичерли «Прямодушный», Марй Твен «ТЬм Сойёр»; пёфв'ая часть «Принца и
Нищего», «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга. Детские английские песенки.
Сказки мои: «Топтыгин и Лиса», «Топтыгин и луна», «Слава Айболиту»,
«Айболит», «Телефон», «Тараканище», «Мойдодыр», «Муха Цокотуха», «Крокодил»,
«Чудо дерево», «Краденое солнце», «Бибигон».
С приложением всех моих загадок и песенок —
Все это я завещаю и отдаю в полное распоряжение моей дочери Лидии Кор-
неев'не и внучке Елене Цезаревне Чуковским.
Как это оформить, не знаю.
21 октября. День Марии Борисовны.
Вчера пришел VI том собрания моих сочинений — его прислала мне Софья
Краснова с очень милым письмом, а у меня нет ни возможности, ни охоты
взглянуть на это долгожданное исчадие цензурного произвола. <.*.>
24 октября. Ужасная ночь.
КОММЕНТАРИИ
Текст публикации сверен с рукописью. Рукопись Дневника хранится у меня.
В публикации сохранены особенности авторской орфографии (чорт, жолтый и т. д.)
и синтаксиса.— Е. Ч.
ИЗ ДНЕВНИКА 1 95
1955
1 Чуковский хлопотал о реабилитации Е. М. Тагер.
2 Речь идет о романе А. Я. Сахнина «Тучи на рассвете», напечатанном в
журнале «Знамя» (1954, № 2, 3). В том же году роман вышел в
«Роман-газете» (№ 7, 8), в Детгизе и в Гослитиздате. Между тем ссыльная Раиса
Семеновна Левина обратилась в суд с заявлением, что она послала в редакцию «Знамени»
свой роман, а сотрудник журнала А. Сахнин заимствовал из ее рукописи многие
сюжетные ходы, ситуации и отрывки и опубликовал книгу под своим именем.
Суд привлек к разбору этой жалобы комиссию Союза писателей, которую
возглавил В. А. Рудный. От него автору этих строк известно, что суд постановил
обязать Сахнина выплатить Левиной часть гонорара и поставить ее имя, так как,
судя по рукописи, представленной Левиной, «Тучи на рассвете» изданы на
основе ее труда, хотя Сахнин и переработал текст,
А: Я. Сахнин с 1949 г;— сотрудник журнала «Знамя», в 1957 г»~ принят
в Союз писателей, в 70-е годы, после снятия А. Твардовского, работал в «Новом
мире». «Тучи на рассвете» переизданы (без имени Левиной) в 1957, 1966, 1968
и 1975 годах. Другие книги А. Сахнина—-о подрывной деятельности
американского империализма против Чили, против социалистических стран, о польской
разведке в ФРГ, а также о подвигах машинистов и подводников.
1956
1 В Переделкине знали, что Фадеев оставил письмо в ЦК. Содержание этого
письма стало известно лишь через 34 года. Осенью 1990 г. письмо было
напечатано в «Известиях», «Лит. газете», «Гласности». Но наиболее обстоятельная
публикация (включая факсимильное воспроизведение), а также докладные записки от
14 и 22 мая 1956 г. в ЦК КПСС от председателя КГБ И. А. Серова о ходе
следствия по этому делу и, наконец, письмо А. Фадеева к В. Ермилову напечатаны в
«Известиях ЦК КПСС», 1990, № 10, с. 146—155. Нельзя не заметить, что
некоторые мысли Чуковского из его дневника совпадают с тем, что пишет о себе
Фадеев в своем предсмертном письме.
1957
1 Рассказ Александра Яшина «Рычаги» напечатан во 2-м сборнике альманаха
«Литературная Москва»* Каверин приводит слова Яшина: «Два года назад я
послал этот рассказ в «Новый мир». Кривицкий вызвал меня и сказал: «Ты,
говорит» возьми его и либо сожги, либо положи в письменный стол, запри на замок,
а ключ спрячь куда-нибудь подальше». Я спрашиваю: «почему?», а он отвечает:
«Потому что тебе иначе 25 лет обеспечены». «Рычаги» прославили Яшина,—
продолжает Каверин.— Он впервые показал одно из самых характерных явлений
советского общества, двойную жизнь...» (Ё. Каверин. &пшюг; М., 1989, с. 338—
339). Яшин рассказывает о сельских коммунистах, которые до собрания в-едут
себя как люди, а на собрании превращаются в «рычаги» бездушной машины.
Поразительно, что вскоре после разговора, записанного Чуковским, самому Федину
суждено было стать «рычагом» травли «Литературной Москвы».
2 А. Дмитриев в статье «О сборнике «Литературная Москва» обвинил
Каверина в том, что его роман вышел отдельной книгой раньше, чем появился на
страницах альманаха «Литературная Москва», а также приписал Каверину и
Алигер «огульное отрицание критики» («Правда», 20 марта 1957 г.).
3 В «Знамени» № 10—12 за 1957 год напечатана поэма Н. Тихонова «Сер-
го в горах».
1959
1 Речь идет о книге И. С. Зильберштейна «Николай Бестужев и его
живописное наследие» (М.: Изд-во АН СССР, 1956).
2 Биография и репутация Я. И. Эльсберга были таковы, что статья о нем
в Краткой литературной энциклопедии, опубликованная в трудные 70-е годы,
подпйс&йа красноречиво: Г. П Уткин (М.: Сов. энциклопедия, 1975, т. 8, с. 883).
После выхода тбма энциклопедии в редакций разразился скандал, но было
поздно.
1960
1 Речь идет о романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Роль В.
Кожевникова, тогдашнего главного редактора «Знамени» в истории этого романа
Чуковский излагает неточно, возможно со слов своего сына, Н. К. Чуковского, в то
время чл'ёна редколлегии «Знамени». Теперь уже широко известно, что именно
В. Кожевников послал роман В. Гроссмана в ЦК — Д. А. Поликарпову и М. А.
Суслову. В результате, все машинописные экземпляры романа в феврале 1961 г.
были конфискованы КГБ. Подробнее об этом см.: Семен Липкин. Жизнь и
судьба Василия Гроссмана; Анна Берзер. Прощание. М., 1990.
196 КОРН1Й ЧУКОВСКИЙ
1981
1 Очевидно, Чуковский имеет в виду следующий абзац из книги В.
Набокова «Другие берега» (цит. по изданию: Владимир Набоков. Собр. соч. в четырех
томах, т. 4, М., 1990, с. 271):
«Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916-го года приезжал туда
с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой,
Немирович-Данченко, Чуковский) до приглашению британского правительства,
желавшего показать им свою военную деятельность <...> Во время аудиенции
у Георга Пятого Чуковский, как многие русские, преувеличивающий
литературное значение автора «Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем
английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — «дзи
воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда
не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно
выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, ненамного
лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман —
«бруар»? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии
с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества,—
замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни».
2 12 августа 1961 г. «Литературная газета» напечатала статью К.
Чуковского «Нечто о лабуде». В статье автор писал о молодежном жаргоне, о
всяческих «потрясно» и «хиляй», усматривая в этом жаргоне протест против
штампованной бюрократической речи... Против статьи Чуковского ополчилась газета
«Литература и жизнь» (в те годщ ее называли кратко и выразительно «Лижи»).
В статьях И. Астахова «Не по-горъковски!», И. Моцарева «Никакого оправдания»
и В. Панкова «Право на звездный билет» был дан решительный отпор взглядам
Чуковского. И. Астахов не согласился с его утверждением, что «вульгарные
слова'— порождение вульгарных поступков и мыслей». «Получается,— возмущается
Астахов,— что школьников толкает в пучину вульгарности сама школа». Моца-
рев с негодованием цитирует строки из статьи Чуковского — «школьникам
опостылела та лакированная, слащаво-фальшивая, ханжески благонамеренная речь,
которую разные человеки в футляре все еще культивируют в школе». Авторы
убеждены, что «никакого оправдания для В. Аксенова нет и быть не может»
(«Литература и жизнь», 23 и 25 августа). Разгорелась оживленная дискуссия.
(Перечень многочисленных откликов на статью «Нечто о лабуде» см.: Д. А. Бер-
ман. Корней Чуковский. Биобиблиографический указатель. Л., 1984, с. 73). 9-го
и 16-го сентября «Литературная газета» напечатала новую статью Чуковского
«Канцелярит». В этой статье автор утверждал, что главная болезнь языка —
засилие в нем канцелярски-бюрократических оборотов, присущих
«департаментскому стилю».
3 Книга сохранилась в переделкинской библиотеке Чуковского. Привожу
текст надписи: «Корнею Ивановичу Чуковскому, неутомимому деятелю и
великому знатоку родной литературы — в знак глубокого уважения и расположения.
А. Твардовский. 2.IX.61. Барвиха».
4 Послом СССР в Израиле с 1958 г. был М. Ф. Бодров.
1962
1 В эти годы Н. В. Лесючевский занимал пост директора издательства
«Советский писатель». От его воли зависели судьбы писателей и их книг. В
литературной среде было хорошо известно о его причастности к аресту Н. Заболоцкого
и Б. Корнилова. Многим памятен рассказ Ю. Г. Оксмана, увидевшего Лесючев-
ского в президиуме торжественного заседания в Большом театре по поводу
пушкинского юбилея. Оксман громко спросил: «А этот от чьего имени здесь
присутствует? От имени убийц поэтов?» В конце 80-х годов сведения о деятельности
Н. В. Лесючевского в Ленинграде в 30-е годы в качестве «консультанта» НКВД
попали в печать. См. его доносы на Н. А. Заболоцкого: «Лит. Россия», 10 марта
1989 г. и «Невский проспект», 1990, № 1, 2. Первый донос Лесючевский
написал по заказу Николая Николаевича Лупандина (1904—1977),
оперуполномоченного НКВД, палача с 4-классным образованием, впоследствии — персонального
пенсионера союзного значения. О зверствах следователя Лупандина при допросах
Заболоцкого см.: Евг. Лунин. Великая душа. Ленинградская панорама, 1989,
№ 5, с. 36—38. Второй донос Лесючевский составил по велению сердца — и уже
не только на Заболоцкого, но и на прокурора Ручкина, который по просьбам
ленинградских писателей в 1940 году истребовал дело Заболоцкого для пересмотра.
Об Эльсберге см. примеч. 2, 1959.
2 Поздравляя Чуковского с 80-летием, 3. Казакевич писал: «Вы один из тех
немногих людей, у которых мы учились и научились ценить и понимать свое
призвание, свое великое ремесло. От Вас мы узнали, что слово, написанное
пером, влиятельнее, чем приказы и тюрьмы, долговечнее, чем гранит и медь...
Потому мы и смотрели на Вас всегда как на великого седого путешественника и
следопыта, сильного и хитрого, прошедшего через все бури и широты для того, чтобы
нам про это рассказать», (см.: «Неделя», 1982, № 12, с 9).
ИЗ ДНЕВНИКА 197
3 Юбилейное стихотворение С. Маршака «Май старый добрый друг
Корней...» кончалось словами: «Могли погибнуть ты и я, / Но, к счастью, есть на
свете / У нас могучие друзья, / Которым имя — дети!» Этим маршаковским
четверостишием К. И. завершил свой альманах «Чукоккалу», когда в конце 60-х
годов готовил рукопись к печати.
4 Речь идет о рассказе А. Рязанского «Щ-854». Рассказ впоследствии был
опубликован в «Новом мире» под названием «Один день Ивана Денисовича».
А. Рязанский — псевдоним Александра Солженицына.
5 Этот краткий отзыв назывался «Литературное чудо» и представлял собой
первую рецензию на «Ивана Денисовича». Рецензия К. Чуковского напечатана
в отделе «За сценой» «Записок об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской (Париж,
1980, т. 2, с. 608—609). Слова Чуковского: «...с. этим рассказом в
литературу вошел очень сильный, оригинальный и зрелый писатель» — почти буквально
совпадают с тем, что позже написал Твардовский в своем предисловии к
публикации «Одного дня...» в «Новом мире» (1962, № 11): «...оно [произведение.—
Е. Ч.] означает приход в нашу литературу нового, своеобычного и вполне зрелого
мастера». Рецензии Чуковского и Маршака Твардовский переслал Н. Хрущеву,
добиваясь разрешения на публикацию «Одного дня Ивана Денисовича». Однако
Солженицыну Твардовский этих отзывов не показал (см.: А. Солженицын.
Бодался теленок с дубом.—'«Новый мир», 1991, № 6, с. 25).
6 С
6
дур, , , )
Суетория — слово, созданное Твардовским. См. его поэму «Страна Мура-
вия: «Товарищ Сталин! / Дай ответ, / Чтоб люди зря не спорили: / Конец
предвидится, аи нет / Всей этой суетории?»
7 Речь идет о статье Н. Погодина «Школа «Правды»», где автор
вспоминает М. И. Ульянову и свою работу вместе с нею в газете. В статье Погодин
упоминает, как он читал свою пьесу на квартире Л. Н. Сейфуллиной в присутствии
Чуковского, который спросил: «Разве в самом деле пятилетка — такое трудное
дело?» «Теперь бы сам Корней Иванович назвал подобный вопрос снобизмом и
оторванностью от жизни,— продолжает Погодин,— но тогда пятилетка еще не
стучалась в двери наших квартир» («Правда», 21 апреля 1962).
8 «Оксфордская лекция» Чуковского опубликована в России лишь через 27
лет, поскольку в ней были упомянуты имена, попавшие в те годы под запрет
(см.: Корней Чуковский. Русскими глазами.— «Звезда», 1989, № 5, с. 189).
9 Стихотворение С. Маршака «Марине Цветаевой» кончалось словами:
«Себя ты до последней строчки / Успела родине вернуть» (С. Я. Маршак.
Стихотворения и поэмы. Б-ка поэта. Большая серия. Л., 1973 с. 132).
10 В своих «очерках литературной жизни» А. Солженицын рассказал о роли
Л. Копелева в судьбе рассказа «Один день...» (см.: А. Солженицын. Бодался
теленок с дубом.— «Новый мир», 1991, № 6, с. 15 и № 12, с. 38). Воспоминания
Л. Копелева об этом событии см. в кн.: Р. Орлова, Л. Копелев. Мы жили в
Москве. М., 1990, с. 76—81.
11 Речь идет о главах из 4-й "книги воспоминаний И. Эренбурга «Люди, годы,
жизнь».— «Новый мир», 1962, № 4, 5.
1963
1 На самом деле повесть Паустовского называется «Золотая роза» (1956).
2 Паустовский имеет в виду подборку писем читателей «Известий» по
поводу спора между В. Ермиловым и И. Эренбургом о мемуарах Эренбурга «Люди,
годы, жизнь». В. Ермилов в своей статье «Необходимость спора» («Известия»,
29 января 1963) обвинил Эренбурга в том, что он «выдвигает искусство
модернизма на первый план... Не видит, как искало себя искусство революции».
Однако основное неудовольствие критика вызвали те 'строки мемуаров, где автор
пишет об «искусстве молчания», которое противостоит несправедливостям
окружающей действительности. Полемика Ермилова с Эренбургом (то, как ее подала
газета), послужила важным симптомом, свидетельствующим, что на смену
«оттепели» надвигаются новые заморозки (см. также «Известия», 5 и 15 февраля).
3 Это письмо Паустовский и Чуковский послали Н. С. Хрущеву. Копия
сохранилась в архиве К, Чуковского (ГБЛ, ф. 620). В письме, в частности,
говорится, «что управляющий делами Совета Министров Карельской Республики — Петр
Афанасьевич СЕМЕНОВ (он же — Уполномоченный по делам русской
православной церкви) подписал список 116 церквей, подлежащих безотлагательному
уничтожению... недалеко время, когда великолепные эти произведения станут
объектами отечественного и мирового туризма и источником гордости нашей страны.
Почти все церкви, входящие в список Семенова, являются признанными
памятниками архитектурного искусства (16-го, 17-го и 18-го веков). Мы обращаемся к
Вам, дорогой Никита Сергеевич! Мы умоляем Вас спасти наше северное
искусство... от холодных рук и равнодушных сердец, иначе будет обездолена наша
великая культура».
4 Имеется в виду «Свадьба с дегтем. Открытое письмо писателю А. Яшину»
(«Коме, правда», 31 января 1963). Письмо подписано вологодскими земляками
Яшина — зоотехником, трактористом, другими участниками читательской конфе-
198 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
ренции в районной библиотеке Никольска, обвинявшими писателя в том, что он
«через темные очки» смотрит «на нашу сегодняшнюю жизнь». Для вящей
убедительности атака земляков поддержана редакцией газеты, которая посоветовала
«...задуматься о позиции журнала «Новый мир». В последнее время читателю
все чаще приходится недоумевать по поводу того, что иной раз печатается в
журнале. Это, в частности, относится к некоторым страницам мемуаров И. Эренбур-
га». Негодует редакция и по поводу публикации в № 12 «Нового мира»
одновременно с «Вологодской свадьбой» еще и американских заметок Виктора
Некрасова, «содержащих более чем странные рассуждения о советской молодежи».
5 А. Солженицын в своих «очерках литературной жизни» «Бодался теленок
с дубом» так пишет об этой встрече правительства с интеллигенцией: «Вторая
же кремлевская встреча — 7—8 марта 1963 г., была из самых позорных страниц
всего хрущевского правления. Создан был сталинистами пятикратный перевес сил
(приглашены аппаратчики, обкомовцы) и была атмосфера яростного лая и
разгрома всего, что хоть чуть отдавало свободой... Выла в короткое время... воссоздана
атмосфера нетерпимости 30-х годов» В. Каверин вспоминает, что на этой встрече
Эренбург оказался «главным объектом нападения». Книгу «Люди, годы, жизнь»
Хрущев оценил как «взгляд из парижского чердака на историю советского
государства». Эренбург пытался возражать.,, но был тотчас оборван и замолчал.
Оскорбления сыпались одно за другим... вокруг него мгновенно образовалась
пустота» (В. Каверин. Эпилог. М., 1989, с. 381).
6 Интересно сопоставить эту запись с версией Анастасии Цветаевой,
обвинившей в уничтожении памятника Марине Цветаевой в Тарусе — А. Эфрон,
И. Эренбурга и К. Паустовского. А. И. Цветаева вспоминает: «Аля была в Латвии,
уже летели Але телеграммы, ее знакомые сообщали, что без нее неизвестные
ставят Марине «Памятник». На другой день по просьбе дочери Марины, Ариадны
Сергеевны Эфрон, от цветаевской комиссии, членами коей были Эренбург,
Паустовский, пришел в райсовет властям протест по поводу установки камня.
Дальнейшая судьба камня была такова: за ним приехала машина, его с трудом
погрузили, повезли по холмистому пути, меняли транспорт (подробно не знаю, так как
я с Ритой уже уехала), снова везли и, наконец, сбросили в какую-то яму — возле
не то автостанции, не то гаража. Там о« и лежит поныне, должно быть»
(Анастасия Цветаева. Воспоминания. М., 1983, с. 742).
1964
1 Речь идет о романе А. Солженицына «В круге первом»,
2 Роман И. Шевцова «Тля» вышел в 1964 году (М.: Сов. Россия) с
предисловием члена Академии художеств СССР А. Лактионова. 17 декабря 1964 г.
«Литературная газета» напечатала письмо в редакцию А. Лактионова, где, в
частности, сказано: «Я не читал роман, когда подписывал предисловие к нему,
заранее заготовленное автором романа, проявив тем самым, мягко говоря,
неосторожность. Разрешите через вашу газету выразить мое искреннее сожаление
о случившемся. Сейчас, прочитав роман, я вижу, как жестоко искажен в нем
высокий смысл жизни искусства и служения ему. Я считаю своим долгом сообщить
читателям, что полеостью согласен с критической оценкой, выраженной этому
"произведению" в печати».
1965
1 Речь идет о стихотворениях «Качка» и «Баллада о миражах».
2 Вероятно, Чуковский имеет в виду такой отзыв Вл. Набокова о Репине:
«Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного
Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова»
(«Другие берега»-—в кн.: Владимир Набоков. Собр. соч. в 4-х томах. М., 1990, т. 4,
с. 245).
3 11 сентября на квартире у В. Л. Теуша был проведен обыск и
конфискованы машинописные экземпляры романа «В круге первом». Подробнее о
конфискации архива см.: А. Солженицын. Бодался теленок с дубом.— «Новый мир»
1991, № 6, с. 79.
4 Петиция о Солженицыне — письмо. к секретарю ЦК КПСС, председателю
идеологической комиссии ЦК КПСС П. Н. Демичеву с просьбой предоставить
А. И. Солженицыну квартиру в Москве. Это письмо теперь опубликовано (см.
«Известия ЦК КПСС», 1990, № 12, с. 147). Подписи А. Твардовского там нет.
В ответ на просьбу К. Паустовского, Д..Шостаковича, К. Чуковского, П.
Капицы и С. Смирнова дать Солженицыну квартиру в Москве ему была в
двухнедельный срок предоставлена квартира в Рязани, о которой, как видно из теясста
«петиции», никто не просил.
5 Все перипетии «процесса Синявского и Даниэля» (за исключением
официальных документов суда и следствия, до которых н<е допустили составителя и
в 1988—89 г.) представлены в сборнике «Цена метафоры, или Преступление и
наказание Синявского и Даниэля» (Составитель Е. М. Великанова. М., 1989),
ИЗ ДНЕВНИКА - 199
1966
1 Имеется в виду речь М. Шолохова на XXIII съезде КПСС, которая была
напечатана в газетах. Шолохов, в частности, сказал: «Мне стыдно за тех,
кто предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки
осужденных отщепенцев. (Бурные аплодисменты!)». См. сб. «Цена метафоры»,
с. 501.
1967
1 Светлана Сталина в это время стала невозвращенкой. Сенсационная
новость стала известна из передач иностранного радио и кампании брани в
советской прессе.
2 Заметка в «Вечерней Москве», где Буковского зовут хулиганом.— Газета
«Вечерняя Москва» 4 сентября 1967 поместила статейку: «В Московском
городском суде». В статье сообщалось, что «30 августа — 1 сентября Московский
городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Буковского В. К.;
Делоне В. Н. и Кушева В. И. ...Буковский... много раз предупреждался органами
власти за совершение хулиганских антиобщественных действий.,. Суд приговорил
Буковского к 3 годам лишения свободы». На самом деле Буковского судили ке
«за хулиганство», а за то, что 22 января 1967 года он организовал демонстрацию
с требованием освободить Галанскова, Добровольского, Лашкову и Радзиевского,
арестованных незадолго до этого. Вскоре после суда Павел Литвинов был вызван
в КГБ и предупрежден об уголовной ответственности в случае распространения
записи процесса Буковского. Однако П. Литвинов обнародовал рассказ об этом
вызове и угрозах КГБ, а затем выпустил книгу: «Правосудие или расправа. Дело
о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 года. Сборник
документов под редакцией Павла Литвинова». London: Overseas Publications Interchange,
Ltd., 1968. О В. Буковском см. также: Владимир Буковский. И возвращается
ветер. М., 1990.
1968
1 Суд над четырьмя — суд над Ю. Т. Галансковым, А. И. Гинзбургом,
В. И. Лапшовой и А. А. Добровольским в январе 1968 года. В. Буковский,
который в это время уже был в заключении., на страницах своей книги «И
возвращается ветер...» (М., 1990, с. 228—229) передает обстановку «процесса четырех»
и приводит выдержки из обращения П. Литвинова и Л. Богораз: «Граждане
нашей страны! Этот процесс — пятно на чести нашего государства и на совести
каждого из нас... Сегодня в опасности не только судьба подсудимых — процесс над
ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов...» Подробнее см.
сб.: Процесс четырех. Составление и комментарии Павла Литвинова. Амстердам,
Фонд имени Герцена, 1971, а также: Мое последнее слово. Речи подсудимых на
судебных процессах 1966—1974. Франкфурт-на-Майне. «Посев», 1974.
2 Открытое письмо Лидии Чуковской «Михаилу Шолохову, автору ,,Тихого
Дона"» — в защиту А, Синявского и Ю. Даниэля — широко распространилось
в Самиздате, его читали зарубежные русские радиостанции и опубликовали
иностранные газеты. Оберегая покой своего отца, Лидия Корнеевиа не рассказала ему
о своем общественном поступке, могущем иметь нежелательные последствия.
Теперь «Письмо Шолохову...» опубликовано в России. См. журнал «Горизонт»,
1989, № 3, и сборники Лидии Чуковской «Процесс исключения» (1990) и
«Сверстнику» (1991).
3 Речь идет о повести Виталия Семина «Семеро в одном доме»,
напечатанной в «Новом мире» (1965, № 5).
4 Ivy, старуха — А. В. Литвинова; ...безумный внук — Павел Литвинов.
5 Эта переписка сохранилась в архиве Лидии Чуковской. В письмах
ведется полемика о стихотворении М. Алигер «Несчетный счет минувших дней...»
(«Новый мир», 1967, № 9, с. 109), Многие мысли, высказанные в письме
к М. Алигер, легли в основу статьи Лидии Чуковской «Не казнь, но мысль. Но
слово». Статья была распространена в Самиздате, а в 90-е годы напечатана в
нашей стране. См.: журнал «Горизонт», 1989, № 3, а также: Лидия Чуковская.
Процесс исключения, 1990; Сверстнику, 1991.
6 Записи «Что вспомнилось» велись в дневнике вперемежку с другими
дневниковыми заметками. Затем наброски воспоминаний, сделанные в дневнике,
были перепечатаны, и этот машинописный экземпляр автор правил заново.
Заголовок написан на первом листе машинописного экземпляра. В нашу
публикацию включен не первоначальный, а ислравленвый автором текст набросков «Что
вспомнилось».
7 «Освобождение Толстого» — см.: И. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, М.,
1967, т. 9, с. 7—168.
8 В тетради «Что вспомнилось» об И. Бунине сохранились записи, ныне
опубликованные. См.: «Неделя», 1987, с. 16, 17.
200 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
9 В письме ко мне (лето 1991 г.) К. И. Лозовская, присутствовавшая на
этой встрече, сообщает: «Когда Шеровер был в Переделкине, Корней Иванович
за обедом сказал ему (и довольно категорично), что считает репинский портрет
своей собственностью, потому что Илья Ефимович подарил ему свою работу...
Шеровер обещал, что после его (люроверской) смерти наследники вернут
репинскую работу лично Корнею Ивановичу».
10 Речь идет о книге К. Чуковского «Высокое искусство». В книгу входила
главка, посвященная анализу английских переводов рассказа Алесандра
Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (см.: К. Чуковский. Собр. соч. в 6-ти
томах. М., 1966, т. 3, с. 379—382).
11 В «Огоньке», № 16 и № 23 за 1968 год, появились статьи «Любовь
поэта» и «Трагедия поэта». А. Колосков видит трагедию поэта в травле и
непонимании со стороны критиков и возвещает прокурорским тоном: «...Писатель Евг.
Замятин, вскоре после этого эмигрировавший за границу, печатает злобную
статейку «Я боюсь», где плачет о гибели русской литературы после Октября...
Корней Чуковский в книге, вышедшей в 1922 году, определял Маяковского, как
«поэта катастроф и конвульсий», утверждал, что «чувства родины у негр нет
никакого», что «его пафос — не из сердца», «каждый его крик — головной,
сочиненный», «его пламенность — деланная. Это Везувий, извергающий вату... Все это
отзывается выдумкой, натугой, сочинительством». Жадно схватывая брань, ложь,
клевету, которыми враги и недоброжелатели революции забрасывали поэта,
троцкист Л. Сосновский начал против поэта кампанию под лозунгами «Довольно Мая-
ковщины»... и т. п.
Все факты в этой тираде перевраны. Статья Замятина «Я боюсь»
напечатана в журнале «Дом искусств», № 1, в январе 1921 г., а эмигрировал он не
«вскоре», а в 1932-м. Чуковский никакой книги о Маяковском в 1922 году не
выпустил, а в том же номере «Дома искусств» в январе 1921 года поместил
статью «Ахматова и Маяковский». Мысли, изложенные в этой статье, не
соотносятся с теми надерганными обрыека>ми фраз, которые приводит Колосков. В этом
легко убедиться каждому, кто прочтет недавно переизданную статью Чуковского.
См.: «Вопросы литературы», 1988, № 1, а также—Корней Чуковский. Собр.
соч. в двух томах. Т. 2. М., 1990 (В-ка «Огонек»). Другие несуразицы и
натяжки в статье Колоскова, позволившие ему поставить в ряды истинных ценителей
поэзии Маяковского Ленина, Куйбышева и Луначарского, вполне укладываются
в общую методологию этого автора. ч
12 В 1967 г. Лениздат начал готовить к печати первый посмертный сборник
Анны Ахматовой «Стихи и проза».. Лидии Чуковской издательство поручило
подготовить отдел поэзии. Предисловие было заказано К. Чуковскому, а составление
отдела прозы — Э. Г. Герштейн. Издательским редактором стал Б. Г. Друян.
Книга была сдана в издательство в 1967 г., однако в 1969 — задержана на
стадии сверки из-за негласного запрета на имя Л. К. Чуковской. Затем было взято
из издательства предисловие К. Чуковского. «...А моя текстологическая работа,
установленные мною тексты, даты, факты? Кому-нибудь пригодится»,— писала
Лидия Чуковская в 1974 г. в своих «очерках литературных нравов». И
вправду — пригодилась работа. В 1976 г. книга все же вышла в Лениздате.
Составителем отдела стихов объявлен Б. Г. Друян. Предисловие написал главный редактор
Лениздата Д. Хренков (по его новой версии — исполняя просьбу Ахматовой).
После 1976 г. сборник неоднократно переиздавался. Подробнее историю этого
издания см.: «Лидия Чуковская. Процесс исключения. М. 1990, с. 214—218. Д.
Хренков. Уроки добра и мудрости. «Нева», 1987, № 10, с. 194—202. Э. Г. Герштейн.
Разъяснение. «Нева», 1988, № 4, с. 204. Строки о «нагане» («За тебя я
заплатила / Чистоганом, / Ровно десять лет ходила /Под наганом») — во всех советских
изданиях до конца 80-х годов заменялись многоточием. Впервые опубликованы
за границей. См.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1952—1962.
Париж: ИМКА — ПРЕСС, 1980, с. 507.
13 Речь идет о статье «Идейная борьба. Ответственность писателя».—
«Литературная газета», 26 июня 1968. Основной удар этой редакционной статьи
пришелся по Солженицыну — в связи с публикацией на Западе его «Ракового
корпуса». О Каверине сказано так: «Раздувая провокационную шумиху вокруг
повести «Раковый корпус», враждебные нам радиоцентры взяли на вооружение еще
один «документ», именуемый ими «открытое письмо В. Каверина». Превратно
толкуя ряд событий нашей литературной жизни последних лет, В. Каверин в том
же духе, что и Солженицын в своей распространенной на Западе записи,
извращает отношение некоторых членов секретариата к изданию повести «Раковый
корпус». Нет нужды разбирать это письмо в подробностях. Достаточно сказать,
что, слушая его чуть ли не ежедневно в исполнении зарубежных «голосов»,
В. Каверин не счел нужным выступить против этого враждебного нам хора».
14 См.: «От автора».— В кн.: К. Чуковский. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6,
М., 1969, с. 7—9.
15 П. Литвинова защищала Дина Исааковна Каминская, В. Делоне — Софья
Васильевна Каллистратова. Поскольку они выступили на стороне своих подзащит-
ИЗ ДНЕВНИКА 201
вых, они сами подверглись политическим преследованиям. Д. И. Каминская была
лишена допуска к делам такого рода, а затем после угроз и обысков вынуждена
эмигрировать. (Подробнее см. ее книгу «Записки адвоката», Вермонт; Хроника-
Пресс, 1987.) Глава из этой книги — о суде над участниками демонстрации на
Красной площади напечатана с предисловием Владимира Корнилова в «Знамени»
(1990, № 8). С. В. Каллистратова была вытолкнута на пенсию, подвергалась
обыскам, однако продолжала свою правозащитную деятельность в качестве члена
Хельсинкской группы и консультанта А. Д. Сахарова по юридическим вопросам.
В изд-ве «Книга» в серии «Время и судьбы» готовится к печати сборник,
посвященный памяти С; В. Каллистратовой.
16 В сборнике Н. Горбаневской «Полдень» (Франкфурт-на-Майне, «Посев»,
1970, с. 371) помещено письмо К. И. Чуковского к Б. Н. Делоне о стихах Вадима
Делоне. Письмо написано в октябре 1968 г. и, очевидно, как-то связано с
приездом Б. Н. Делоне в Переделкино.
17 Речь идет о съемках фильма «Чукоккала» (режиссер М. Таврог). Фильм
снят на студии «Центрнаучфильм» и вышел на экраны через два месяца после
кончины Чуковского.
18 Запись в дневнике касается суда над участниками демонстрации ва
Красной плащади 25 августа 1968 года — против вторжения в Чехословакию
войск стран Варшавского договора. Павлик, Таня, Флора, Миша — Литвиновы.
Суд происходил 9—11 октября в помещении народного суда Пролетарского
района. Все материалы, относящиеся к демонстрации и расправе с ее участниками,
тщательно собраны в сборнике «Полдень» (см. примеч. 16).
19 Речь идет о стихотворениях Е. Евтушенко: «В ста верстах от столицы
всех надежд», «Русское чудо», «Танки идут по Праге».
20 ...стихи о голубом песце, о китах.— «Монолог голубого песца»,
«Кладбище китов».
1969
1 См. 1962, примеч. 5.
2 Статья не закончена. Опубликована посмертно. См. «Книжное обозрение»,
1991, № 31.
3 Американский славист, профессор F. D. Reeve, автор книг «Robert Frost
in Russia», «The Russian Novel» и др. приехал к Чуковскому в Переделкино
с женой и тремя маленькими детьми. Жена Рива — Елена, писала диссертацию
о Н. А. Некрасове и хотела обсудить ее с Чуковским. Однако не успели гости
начать разговор, как явились представители милиции, заставили их сесть в машину
и уехать из Переделкина.
4 Фельетон Н. Ильиной «Записки начинающего экранизатора» не появился
в «Новом мире», его напечатал «Советский экран» (1969, № 23).
5 В больнице Чуковский читал верстку 8-го тома Собрания сочинений А. Ф.
Кони. Он был одним из редакторов этого восьмитомника, выпускаемого изд-вом
«Юридическая литература» (1966—1969).
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Адамович Георгий Викторович (1894—1972, ум. в эмиграции), поэт, критик;
Амисс (Эмис) Кингсли Уильям (р. 1922), английский писатель; Андреев
Вадим Леонидович (1915—1976), писатель, участник французского
Сопротивления, сын Л. Н. Андреева; Андреев Даниил Леонидович* (1906—Д959), поэт,
прозаик, сын Л. Н. Андреева; Андреев Савва Леонидович (р. 1909),
сын Л. Н. Андреева; Андреева Александра Михайловна («дама Шура»,
1881 — 1906), первая жена Л. Н. Андреева; Андреева Анна Ильинична
(1885—1948, ум. за границей), вторая жена Л. Н. Андреева; Андреева
(Чернова) Ольга Викторовна (1903—1979), жена В. Л. Андреева; Андроникова
Саломея Николаевна (1888—1982), адресат стихотворений Ахматовой и
Мандельштама; Архипов Владимир Александрович (1913—1977), литературовед.
Баскаков Василий Георгиевич, философ, автор работ о Белинском и
Чернышевском; Баура Морис (1898—1971), английский историк литературы; Бе-
линков Аркадий Викторович* (1921 —1970), писатель; Бельчиков
Николай Федорович (1890—1979), литературовед; Бенкендорф (Будберг) Мария
Игнатьевна (1892—1974, ум. за границей), переводчица, секретарь М. Горького;
Б ер з ер Анна Самойловна, Ася (р. 1917), зав. отделом прозы «Нового мира»;
Вир б ом Макс (1872—1956), английский писатель, эссеист, карикатурист; Бо-
нецкий Константин Иосифович (р. 1914), редактор изд-ва «Худож.
литература»; Боткин Василий Петрович (1812—1869), писатель.
Василевский (псевд. He-Буква) Илья Маркович (1882—1938, расстрелян),
журналист, сотрудник ленинградского Госиздата; Василенко Владимир Ха-
202 корней Чуковский
ритонович * (1897—1987), врач-терапевт; Винокур Татьяна Григорьевна
(1924—1992),. лингвист; Воронков Константин Васильевич (1911 — 1984),
в 1959—70 гг. секретарь правления СП СССР; Вульф (Вревская) Евпрак-
сия Николаевна (1809—1883), дочь П. А. Осиновой, приятельницы А. С.
Пушкина.
Газзлит. (Hazlitt) Вильям (1778—1830), английский литературный и
театральный критик; Галин (наст. фам. Рогалин) Борис Абрамович (1904—1983),
писатель, журналист; Гарнетт Констанс (1862—1946), английская
писательница, переводчица русской литературы; Геннадий Матвеевич — Б е л о в (р. 1926),
шофер К. И. Чуковского; Герасимов Александр Михайлович (1881 —1963),
художник, в 1947—57 гг. президент Академии художеств; Г е рве г Георг (1817 —
1875), немецкий поэт, публицист; Глоцер Владимир Иосифович (р. 1931),
педагог, критик; Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929, ум. в эмиграции),
художник, издатель; Гринберг Иосиф Львович (1906—1980), писатель,
критик; Грот Николай Яковлевич (1852—1899), философ; Грудинина Наталья
Иосифовна (р. 1918), поэт.
Дембо Николай Григорьевич, художественный редактор ленинградского
отделения изд-ва «Искусство»; До бычин Леонид Иванович (1894—1936),
писатель; Долинина Наталья Григорьевна (1928—1979), педагог,
писательница; Д р е й д е н Симон Давидович * (1906—1991), театральный критик.
Еголин Александр Михайлович (1896—1959), литературовед; Егорычев
Николай Григорьевич (р. 1920), с ноября 1962 г. первый секретарь МГК КПСС.
Жаботинский (псевд. Altalena) Владимир Евгеньевич (1880—1940),
писатель, журналист, сионист, один из основателей гос-ва Израиль.
Зверев Илья (Изольд, 1926—1966), писатель; Зерно в а Руфь
Александровна * (р. 1919), писательница.
Иванов Вячеслав Всеволодович, Кома (р. 1929), филолог, переводчик;
Иванов Михаил Всеволодович (р. 1927), художник; Иванова Тамара
Владимировна (р. 1900), переводчица, жена Вс. Иванова; Ильичев Леонид Федорович
(1906—1990), в 1958—65 гг. зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС;
Исакович Ирина Владимировна (р. 1917), сотрудница редакции «Б-ка поэта».
Кальма Н. (наст, имя Анна Иосифовна Кальманок, 1908—1988),
писательница; Карпова Валентина Михайловна (р. 1915), главный редактор изд-ва
«Советский писатель»; Касеирский Иосиф Абрамович (1898—1971), терапевт;
Кнорре Федор Федорович (1903—1987), писатель; Кон Лидия Феликсовна
(р. 1895), литературовед; Коновалов Сергей Александрович (1899—1982),
английский славист; Корнилов Борис Петрович (1907—1938, расстрелян),
поэт; Краснова Софья Петровна (р. 1919), редактор собр. соч. К. Чуковского
в Госиздате; Кристенсен Нина Михайловна (р. 1911), австралийская славист-
ка; Кружков Владимир Семенович (1905—1989), зам. зав. отделом ЦК КПСС;
Крученых Алексей Елисеевич (1886—1968), поэт; Крысин Леонид
Петрович (р. 1935), лингвист; Крючков Петр Петрович (1889—1938, расстрелян),
секретарь М. Горького; Куприна Мария Карловна (1879—1966), первая жена
А. И. Куприна.
Лактионов Александр Иванович (1910—1972), художник; Лапин Сергей
Георгиевич (1912—1990), в 1962—65 гг. зам. министра иностранных дел; Ле,
бед ев Владимир Семенович (1915—1966), секретарь Н. С. Хрущева; Леви-
дов Михаил Юльевич (1891 — 1942, погиб в заключении), писатель; Левина
Раиса Зельмановна * (р. 1903), писательница; Л ер н ер Яков Михайлович, член
«народной дружины», инициатор травли И. Бродского и его «дела»; Лесючев-
ский Николай Васильевич (1908—1978), директор изд-ва «Сов. писатель»;
Литвинов Павел Михайлович* (р. 1940), правозащитник, физик; Литвинова
Татьяна Максимовна (р. 1918), переводчица, художница, дочь М. М. Литвинова.
ИЗ ДНЕВНИКА 203
Марголина Рахиль Павловна (ум. 1973), иерусалимская корреспондентка
К. Чуковского; Марьяна— Та в рог Марианна Елизаровна (р. 1921),
кинорежиссер-документалист; Машинский Семен Иосифович (1914—1978),
литературовед; Мередит Джордж (1828—1909), английский писатель; Михайлов
Николай Александрович (1906—1982), в 1955—60 гг. министр культуры СССР,
в 1965—70 гг. председатель Комитета по печати при Совмине СССР.
Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936, ум. в эмиграции),
писатель; Никитина Зоя Александровна (1902—1973), редакционный
работник; Норман Питер (р. 1921), английский славист, переводчик русской
литературы; Норрингтон Артур (1899—1982), вице-канцлер Оксфордского
Университета.
О с и п о в а Прасковья Александровна, соседка А. С. Пушкина по Михайловскому.
Петров Сергей Митрофанович (1905—1988), в 50-е годы — директор Литин-
стятута; Полонская Елизавета Григорьевна (1890—1969), поэтесса.
Разгониха — Разгон Ревекка Ефремовна * (1905 — 1991), жена писателя
Л. Э. Разгона; Редьки —Редько Александр Мефодьевич (1866—1933),
литературовед и его жена Евгения Исааковна (ум. 1955), артистка; Рен Кристофер
(1632—1723), английский архитектор, математик, астроном; Рив Франклин
(р. 1924), американский славист, прозаик; Роскина Наталья Александровна
(1928—1989), мемуаристка, литературовед; Рот штейн Эндрю, член
английской компартии, автор книг об СССР; Румянцев Алексей Матвеевич (р. 1905),
главный редактор «Правды», академик.
Серов Владимир Александрович (1910—1968), президент Академии художеств
СССР; Скафтымов Александр Павлович* (1890—1968), литературовед; С л о-
ним Маша (р. 1945), дочь Т. М. Литвиновой, журналистка; Смирнов Иван
Иванович (1909—1965), историк; Снастин Василий Иванович (1913—1976),
зам. зав. отделом ЦК КПСС; Соколовский Василий Данилович (1897—
1968), военачальник, маршал Советского Союза; Солдатовы — Александр
Алексеевич (р. 1915), дипломат, в 1960—66 гг. посол в Великобритании и его
жена Руфина Борисовна; Стефанчук Людмила Григорьевна, литературовед;
Столярова Наталья Ивановна* (1912—1984), секретарь И. Г. Эренбурга;
Страхов Николай Николаевич (1828—1896), публицист, критик; Струкова
Евдокия Петровна, секретарь изд-ва «Всемирная литература»; Сутоц-кий
Сергей Борисович (1912 — 1974), сотрудник «Правды».
Толстая Людмила Ильинична (1906—1982), жена А. Н. Толстого; Троллоп
Энтони (1815—1882), английский писатель; Тургенев Александр Иванович
(1784—1845), общественный деятель, историк, писатель.
Устинов Питер Александер (р. 1926),- английский писатель, киноактер,
внучатый племянник художника А. Н. Бенуа.
Фрост Роберт (1874—1963), американский поэт.
Хан пир а Эрик Иосифович (р. 1928), лингвист; Харти Рассел (1934—1988),
английский журналист; Хацревин Захар Львович (1903—1941), писатель;
Храбровицкий Александр Вениаминович (1912—1989), литературовед,
специалист по творчеству В. Г. Короленко; Храпченко Михаил Борисович
(1904—1986), академик-секретарь отделения литературы и языка.
Цейтлин Михаил Александрович, отв. секретарь «Литературной газеты»;
Цейтлин Михаил Осипович (1882—1945, ум. за границей), поэт, критик,
коллекционер.
204 корней Чуковский
.Червонцев Анатолий Иосифович (1919—1985), генерал-майор, начальник
отдела главного управления Министерства обороны; Чехонин Сергей
Васильевич (1878—1936, ум. в эмиграции), художник-график; Чивер Джон (1912—
1982), американский писатель.
Швейцер Владимир Захарович (1889—1971), журналист.
Щукин Сергей Иванович (1854—1937), московский купец, коллекционер.
Элик — Маршак Иммануил Самойлович, физик, переводчик, сын С. Я.
Маршака; Эльсберг Яков Ефимович (1901 —1976), критик, Эрдман Николай
Робертович (1902—1970), драматург-сценарист; Эткинд Ефим Григорьевич
(;р. 1918), переводчик, литературовед.
Югов Алексей Кузьмич (1902—1979), писатель; Юсупов Нуратдин Абакаро-
вич (р. 1931), лакский поэт.
* * *
Canning George (1770—1827), английский премьер-министр: Dun ton
Watts (1832—1914), английский литературный критик, новеллист; Ivy —
Литвинова Айви Вальтеровна (1889—1977, ум. за* границей), переводчица,
писательница, жена М. М. Литвинова; Obolensky — Оболенский Дмитрий
Дмитриевич (р. 1918), английский историк, профессор; О pie Peter (p. 1918) й
Iona (p. 1923), английские специалисты по детской психологии; Winter Ella
(1898—1971), американская журналистка, жена Джона Рида.
Публикация, комментарии Е. Ц. Чуковской
Указатель имен: Л. А. Абрамова, Д. Г. Юр ас о в,
Е. Ц. Чуковская
Публицистика
Леонид Алаев
РОССИЯ И ОПЫТ
ВОСТОЧНЫХ ДЕМОКРАТИЙ
тт
-П_аша демократия очень молода. Кое-кто говорит, что у нас ее
и вовсе нет. Но особенно озабочены, не то слово — в панике, в шоке, в
прострации — те, кто считает, что ее у нас и быть не может. Россия, мол, не Запад, где
демократия развивалась веками. У нас другие традиции, другой народ, у вас
(апофеоз отчаяния! )нет гражданского общества.
Между тем в мире есть гораздо более молодые, чем западноевропейские,
демократии, которым тоже многого «не хватает» с точки зрения классических
образцов. Однако они существуют и менее или более успешно совмещают
традиционные ценности, социальную стабильность и политическую модернизацию.
Ладно, давайте примем никем никогда не доказанный тезис-всхлип «умом Россию не
понять», согласимся, что Россия — не Запад, сочтем ее единственной и
неповторимой самостоятельной цивилизацией. Но никто не станет отрицать, что на такую
же уникальность могут претендовать, например, Индия или Япония. Однако
неевропейская сущность их культуры не помешала им установить работающий
парламентарный режим и оградить от покушений основные свободы. А в результате
мы имеем «японское экономическое чудо» и очень удовлетворительное развитие
Индии, проблемы которой сорок лет назад казались неразрешимыми. Может ли
Россия воспользоваться опытом «обучения демократии по сокращенной
программе» и по индийским или японским «учебникам» сдать экзамен на демократию
экстерном?
Для ответа воспользуюсь материалами двух «круглых столов», проведенных
редакцией журнала «Восток». Первый — «Демократия в Японии» —
опубликован в № 4 этого журнала за 1991 год, второй — «Парламентаризм и демократия
в незападных обществах» будет опубликован в № 6 за 1992-й и № 1 за 1993
год. Используя выступления своих коллег, я буду выражать, конечно, лишь свою
точку зрения. В ходе второго «круглого стола» прозвучали и мнения, прямо
противоположные моим.
Начнем с начала. Откуда и как появляется демократия на Востоке? Ответ
однозначен — с Запада. Причем довольно часто не в результате свободного
заимствования, а как принудительный ассортимент к господству внешней силы.
Конечно, не надо забывать, что первая конституция Японии 1889 года и первая
конституция Филиппин 1899 года возникли «изнутри» под идейным лишь
воздействием западных образцов, но период «настоящей демократии» начинается в
Японии все же только после 1945 года, а на Филиппинах — после получения
независимости от Америки в 1946 году.
Значение «внешней силы» в обоих случаях огромно. Японская конституция,
целиком написанная в штабе Макартура, была для японцев выдумкой
«проклятых янки», только что стерших с лица земли Хиросиму и Нагасаки. Это янки
навязали «унижающие национальное достоинство» три антиядерных принципа,
ограничение военных расходов одним процентом национального дохода,
запрещение, использовать военную силу за пределами островов и т. п. Вот был повод для
«самураев» (назовем так японских «патриотов») пошуметь об
империалистическом диктате, о воинской славе древних японцев, о нетерпимости ограничения
206 ЛЕОНИД АЛАЕВ
суверенных прав нации. Но, к счастью для Японии, ее «самураи», только что
потерпевшие поражение в войне, утратили общественную поддержку и вынуждены
были какое-то время молчать. Молчание «самураев» — весьма позитивный
фактор. Оно позволяет нации заняться действительно нужными ей делами.
Не буду рассказывать о процессе привыкания японского общества к
«оккупационной» конституции. Важен результат: сейчас японцы гордятся своей
конституцией, считают ее подлинно национальной, готовы ее защищать. А этим
летом произошло даже нечто невероятное. Левые депутаты (социалисты) ради
защиты пункта конституции, который можно считать унижающим национальный
престиж (запрещение использования войск за пределами Японии), пожертвовали
своими депутатскими мандатами, а ведь чтобы их сохранить, депутаты во всех
странах обычно готовы на любой компромисс.
На Филиппинах американский эксперимент был более длительным, но
менее удачным. Там стали вводить конституционные нормы еще в период
колониального господства. Реальная власть оставалась при этом, как каждому было
понятно, в руках колониальной администрации. Поэтому парламентские
упражнения приобретали театральные или даже опереточные формы. Филиппинские
знатные семьи с удовольствием играли в демократию, понимая, что победа на
выборах приятна, но не накладывает никаких обязательств. В конечном итоге
во всем плохом можно обвинить американцев. Такая учеба «понарошку»
оказалась не очень продуктивной, и Филиппинам, когда они обрели независимость,
пришлось проходить курсы повышения квалификации, которые пока еще не
окончены.
В Индии было много сходного с Филиппинами в том смысле, что
колонизаторы (в данном случае англичане) тоже как бы обучали верхушку индийского
общества демократическим процедурам, Но ученики здесь оказались прилежнее.
После завоевания страной независимости они разработали собственную
конституцию, практически не связанную с предыдущими колониальными. Но за основу
была взята британская — со значительными «американизмами». И было
главное — приспособление и текста конституции при помощи поправок, и самой
практики ее применения к индийским условиям. Сейчас никто не скажет, что
индийцы живу? «по британским подсказкам».
Во всех трех случаях не получилось «безоглядного перенесений» чужих
политических институтов, которые так и остались бы чужими. Всё они либо
становятся своими, национальными, либо отвергаются и забываются.
Нужно уж совсем не верить в свой народ, считать его совершеннейшим
стадом, чтобы бояться, что введение какой-либо иностранной новинки мбшёт его
«испортить», заставить свернуть с «предназначенного» пути.
Второй вопрос — о готовности к восприятию демократии. Он распадается
на ряд вопросов. 1) Подходит ли цивилизационный код данного
общества для восприятия идей равенства, свободы личности и ее приоритета
перед обществом и общества перед государством? 2) Готовы ли массы
воспринять демократическую идею, то есть сознательно выбирать руководителя,
отдавая предпочтение той или иной программе действий? 3) Готова ли
элита нации бороться за власть и за влияние только демократическими методами,
ставя насущные для населения цели?
Хоть первый вопрос и затемнен до /Крайности, мне он представляется
довольно простым. Мнение о том, что демократия возможна только в странах
европейской цивилизации, где свобода ставится превыше всего, и не мозйет
существовать в иных цивилизациях, где главная проблема — не свобода, а
справедливость, представляется по крайней мере неосновательным. Я признаю это
различие цивилизаций, но ведь нет такого общества, которое могло бы жить»
руководствуясь лишь каким-то единственным принципом^ Если для одних
главное — свобода, это не значит, что справедливость для них — пустой звук. И
наоборот.
То же можно сказать о приоритете личности. Европейские мыслители не
раз страстно доказывали, что личность важнее коллектива, но никто же не
сделает отсюда вывод, что корпоративности, общинноети, общества наконец, в За-
РОССИЯ И ОПЫТ ВОСТОЧНЫХ ДЕМОКРАТИЙ 207
падной Европе нет. Разные народы по-разному решали вопрос о соотношении
личности и общества, но решение всегда было «срединным», компромиссным»
Торжество индивидуализма означало бы распад общества, его гибель. Торжества
общинности означало бы застой и в конце концов также гибель.
Образование властных структур в результате свободного волеизъявления
отдельного человека или арифметического сложения свободных волеизъявлений
всех людей — это лишь теория, идеал, но отнюдь не реальность даже в самых
индивидуализированных обществах. Человек всегда входит в партию,
корпорацию, ассоциацию, класс и действует на выборах под влиянием окружающих его
людей, печати, предрассудков и т. п. Более того, структурированность Общества,
наличие в нем групп с разными интересами или представляющими различные
интересы — один из показателей зрелости гражданского общества* которое,
в свою очередь, как утверждают, является условием демократии.
Так что будем считать степенью готовности к демократии не обособление
людей, а структурированность общества, способность личности найти «свою»
группу, через которую она, эта личность, может преследовать свои интересы.
Конечно, структуры различны. Современной обычно считается такая, которая
состоит из добровольных объединений, так называемых «вторичных»
социальных групп — ассоциаций, добровольных обществ, партий и т. п. «Первичные»
же социальные группы — те, членство в которых определяется рождением, или
те, куда человек включается автоматически (семья, клан, община, мафия,
землячество). Считается, что «первичные» группы преобладают в традиционных
обществах (феодальных, азиатских) и, таким образом, само их существование
указывает на низкий уровень становления гражданского общества.
Все это так. Но нас интересует не терминология, а практический вопрос:
какие условия нужны для становления и сохранения демократии? И тут мы с
удивлением замечаем, что в индийском обществе, например,— насквозь
традиционном по социальной структуре, как бы подчеркнуто состоящем из
«первичных» групп — каст, религиозных, территориальных общин, землячеств,— обще^
стве, где суперсовременные фирмы строятся на основах кастовой солидарности,
а рабочих на завод нанимают по землячествам,— демократические институты
не только работают, но и обслуживают интересы именно традиционная,
«первичных», «несовременных» групп.
Я сейчас не говорю о таких особенностях индийской избирательней
системы, как резервирование мест в парламенте для представителей неприкасаемых
каст и малочисленных народов. Это как раз отступление от демократических
принципов, «дискриминация наоборот». (Разъясню, что считаю эти черты
индийской системы необходимыми. Более того, нам следовало бы прямо
заимствовать соответствующие положения из индийской конституции применительно
к нашим малочисленным народам.) Я говорю о совершенно иной особенности
демократической системы, которая вопреки тому, что о ней говорят, не дает
явного преимущества большинству и не угнетает меньшинства, если этих
меньшинств много.
Скажем, мусульмане. Они составляют 11 процентов населения и потому
не могут самостоятельно, голосами своей общины, победить на выборах ни в
одном округе. Надо добавить, что с Индией граничит Пакистан — ее давний врат,
государство мусульманское, а в последние годы еще и «исламское», и это не
может не влиять на отношение к мусульманам, которых иные считают «пятой
колонной». Примерно в таком положении ?логут оказаться русские в странах
СНГ, если Россия поссорится со своими бывшими колониями.
Добавить можно и движение местных «патриотов» — амбициозных
политиков, которым нечего предложить народу и потому они пытаются раздуть тлёго^
щие конфессиональные противоречия, чтобы погреть на этом костре руки. Здесь
не место рассказывать подробно о деятельности индусских «патриотов», котбрых
в Индии называют «коммуналистами» (от слова «коммьюнал» — «общинный»;
подразумевается «религиозно-общинный»).
В Индии никто не спутает «коммунализм» с «коммунизмом». Коммунисты,
при всей их включенности в парламентскую борьбу с неизбежными в ней аль-
208 ЛЕОНИД АЛАЕВ
янсами партий и сил против общего врага (скажем, правящей партии),
принципиально не идут на союз с Бхаратия Джаната парти — партией индусского ком-
мунализма. Для них это немыслимо, так как они — что бы ни думать о
«прогрессивности» их лозунгов — гораздо более принципиальные коммунисты,
интернационалисты, чем наши капеэсэсники. Нынешний альянс «красных» и
«патриотов» в России только подчеркивает, что наши «коммунисты», если их поскрести,
давно уже не «красные».
Советские «патриоты» вызывают у меня отвращение не только потому, что
я ясно вижу, какой вред они наносят моей стране, но и потому, что в их
деятельности проглядывают индийские аналогии, столь мне знакомые. Наблюдая
за толпой «патриотов» в Останкино, читая антиеврейские, «рррусские»
лозунги, я вижу полуголых индусских садху с отточенными трезубцами (символ
бога Шивы) в руках, атакующих парламент, чтобы добиться закона,
запрещающего убой коров; я вижу толпы темных неграмотных индусов во главе с лидерами
партий и «культурных» организаций, идущих на штурм мечети, чтобы снести ее
и построить вместо нее индусский храм в честь бога Рамы. Темнота одних.
И бессовестность других.
Эти аналогии дают мне силы не верить в возможности «патриотической»
пропаганды на Руси, Я думаю: «Ну не дурее же мы индусов!» Если в Индии,
обществе глубоко традиционном и религиозном, «наши» никогда, даже в
периоды отчаяния масс, не набирали более 20 процентов голосов, то на выборах в
России «патриотам» вообще рассчитывать не на что.
Но я отвлекся. Вернемся к рассказу о том, как в Индии отстаивают свои
интересы религиозные (и иные) меньшинства. Просто. Когда подходит время
выборов, то о мусульманах уже не говорят: «Их только 11 процентов». Нет,
теперь говорят иначе: «Их целых 11 процентов». Этот банк голосов надо
привлечь на свою сторону, иначе не победить другого кандидата. Бывает, что
именно голоса мусульман определяют исход выборов. Значит, надо мусульманам что-
то пообещать, значит, после победы надо что-то им дать, ведь со временем снова
будут выборы. Мусульман довольно много на государственной службе,
обязательно — один-два министра. Президентами страны выбирают поочередно:
сначала индуса, потом мусульманина, потом сикха, потом снова индуса и т. д.
Мусульмане именно в качестве избирателей иногда решают судьбы страны.
Например, Индира Ганди и ее партия в 1977 году, по мнению многих
исследователей, потерпели поражение, в частности, потому, что она и ее сын Санджай
оттолкнули мусульманские массы Севера. Так же «играют» на выборах другие
меньшинства.
Для нас важно то, что «первичные» общности в условиях демократии ведут
себя как «вторичные», то есть обеспечивают политическую мобилизацию,
служат каналами сбора и передачи информации об интересах групп, «банками
голосов», наконец, комиссиями «экспертов» по оценке деятельности депутата,
министра и т. п.
В высокой степени структурировано общество Японии. Здесь еще более
интересная и обнадеживающая нас картина равной активности и переплетения
«первичных» и «вторичных» групп. Наряду с современными корпорациями,
ассоциациями — патронаты, строящиеся на принципах родства, землячества,
покровительства, личной преданности. И политические партии, которые интегрируют
объединения обоих типов.
Наша беда не в том только, что у нас еще нет структуры современного
гражданского общества. У нас уже нет и структуры традиционного общества.
Советский период не только разрушил общину, сословия, гильдии и т. п.,
попытался решительно ослабить семью, но и создал такие объединения («партию»,
«профсоюзы», «Комитет защиты мира» и мириады других), которые
дискредитировали в глазах людей саму идею общественной организации,
общественной деятельности, самодеятельности. Поэтому, кстати, и новые
партии столь маломощны — сам призыв к объединению вызывает отвращение.
Констатировав крайнюю опасность деструктуризации российского
общества для судеб демократии, закончим этот раздел на оптимистической ноте. Сей-
РОССИЯ И ОПЫТ ВОСТОЧНЫХ ДЕМОКРАТИЙ 209
час идет бурная структуризация — партии, общества, ассоциации, форумы,
клубы возникают, как грибы. Это неважно, что большинство из них недолго
проживет. Останутся действенные, полезные, нужные, возникнут новые, сольются,
разделятся. Надеюсь, общество успеет превратиться из хаотической груды
одноклеточных в единый многоклеточный организм до того, как какой-нибудь
Скалозуб даст нам в Вольтеры фельдфебеля и «структурирует» нас в ряды и
шеренги.
Теперь о готовности масс и политической элиты. Эти две «готовности»
имеют разный вес и разные критерии.
Что касается веса, то массы — они масса и есть. В конечном итоге все
зависит от них. А критерии различны потому, что массам и политической элите
предназначены в демократическом процессе разные роли.
Массы — это избиратели. Они должны выбирать людей, которые
олицетворяют ту или иную политику. Но должны они выбирать, только если видят
в этом смысл. Если кандидаты отчаянно поливают друг друга грязью, но по
существу ничего не предлагают, избиратель на участок не пойдет, и будет не
только прав, но и проявит свою зрелость — он играть в демократию не любит.
К выборам он относится либо серьезно, либо никак.
Иногда говорят, что народ пассивен. Вот, мол, и у российского Белого
дома было «всего» несколько тысяч человек! Позволю себе высказать
крамольную мысль: народ и не должен выходить на баррикады. Не его это дело. Если,
конечно, мы хотим еще одного «взятия Бастилии», если мы все еще зовем
Русь «к топору», тогда, конечно, будем стараться выгнать на улицы миллионы.
Но революции демократию не устанавливают! Они только разрушают — режим,
здания, привычную жизнь. Разрушать надо. Но чем более жестоко
(«радикально» — по хитрой терминологии политологов) разрушается старое, тем меньше
шансов построить что-либо приличное новое. Это мы теперь знаем.
Коммунистический режим пал сравнительно быстро и сравнительно бескровно. Это наше
счастье. Но не надо идти «от победы к победе». Если мы хотим
демократического процесса и построения правового общества, давайте забудем про
баррикады и запретим себе звать обывателя на улицы. Обыватель хочет спокойной и
удобной жизни — и он тысячу раз прав. Политик должен ему такую жизнь
обеспечить. Политик получает от народа мандат — и больше ничего народ ему не
должен.
Демократия — это, конечно, не только выборы. Но выборы — единственный
институт, процедура, акт, в котором (которой) участвует все население, народ как
таковой, а не его представители. В любую демонстрацию или митинг вовлечена
только микроскопическая часть народа. Да, это наиболее активная его часть,
но она, если мыслить демократически, ничуть не лучше другой, большей,
пассивной части. Демократическое сознание не признает существования «авангарда
трудящихся», «ведущего» массы куда-то.
Активная часть народа, несомненно, выполняет важную миссию. Демократия
не работает без давления снизу. «Politicians do nothing unless pressed» —
«Политики ничего не делают, если на них не давить» — эта поговорка родилась не
у нас, а именно в странах «благополучной» англосаксонской демократии.
Активная часть народа может (если хочет) выражать свое мнение по поводу тех или
иных действий власти или отдельных политиков — при помощи митингов,
писем, петиций, обращений в суд, в прессу и т. д. Но в какой мере активные
элементы отражают интересы народа в целом, решают только выборы.
О чем же говорит опыт «неразвитых» стран относительно готовности масс
к демократии? Политолог А. Б. Зубов в монографии «Парламентская
демократия и политическая традиция Востока» (М., «Наука», 1990), проанализировав
статистику выборов в Индии, Таиланде, Японии, Турции и Ливане, пришел к
выводу, что на уровень избирательной активности не влияют ни
конфессиональная принадлежность избирателей, ни место жительства (город или деревня),
ни уровень образования, ни уровень благосостояния или
социально-экономического развития региона. Оказалось также, что массы очень быстро воспринимают
14. «Знамя» № 12.
210 ЛЕОНИД АЛАЕВ
систему выборов и реагируют на нее здраво и сознательно. «Привыкание» к
демократии происходит как бы «моментально».
Но не везде. Во многих колониальных странах демократия либо с самого
начала приобрела формальный или декоративный характер (примерно как
система Советов при власти КПСС), либо была свергнута путем разного рода
переворотов. На поверхности это находило свое объяснение в поведении
политической элиты: она погрязла в политиканстве, борьбе за места, мелкой грызне,
коррупции и т. п. И приходил некий генерал, который обещал со всем этим
покончить, навести порядок и установить справедливость. Наиболее яркий
пример довольно успешного функционирования военного авторитарного режима в
Азии — Индонезия при Сухарто. Но надо бы вспомнить, что Сухарто сверг
отнюдь не демократию, а прогнивший режим Сукарно.
А наиболее явные примеры того, как демократическая система не может
укрепиться, но и военные режимы демонстрируют беспомощность — Пакистан
и Бангладеш. Интересно, что это части Британской Индии, то есть территории,
которым демократия тоже «прививалась». Однако в одном случае прививка дала
иммунитет против авторитаризма, а в другом — ее как бы и не было. Так что
дело не в прививке, а в организме. Сопоставим две судьбы демократии с двумя
основными конфессиями Индостанского полуострова. Пакистан, включавший
тогда и территорию будущей Бангладеш, формировался как государство мусульман;
Индия поэтому оставалась как бы государством индусов. Вспомним, что
практически во всех странах, где господствует ислам, демократии или нет вовсе, или
она очень слаба, или она «исламская», и сделаем отсюда вывод: у исламского
мира, по-видимому, действительно есть некие цивилизационные особенности,
затрудняющие установление демократии.
Возможно, это уже упоминавшееся обостренное чувство справедливости и
социального равенства. Возможно, что мусульмане действительно в массе более
враждебны индивидуализму, чем иные народы. Тут нужны серьезные
исследования. Я бы добавил такой не очень по-ученому звучащий фактор, как
нетерпеливость, «горячность» южных народов. Стремление решить проблемы быстро и
решительно способно разрушать демократический процесс.
Самое интересное, что при этом ход событий в мусульманских странах
внушает оптимизм. Слов нет, в большинстве этих стран у власти короли, диктаторы
или духовные вожди. Но далеко не всюду. Через многочисленные потрясения
все же добралась до демократии Турция. Сравнительно демократический режим
в Египте. Очень интересные, хотя и противоречивые процессы в Алжире и
Тунисе. «Исламская» система в Иране ясно показала, что способна выражать волю
масс через выборы. Даже король Саудовской Аравии вводит парламент, правда,
пока еще «придворный». Так что цивилизационные особенности не могут,
видимо, отменить общемировой процесс.
Серьезным препятствием к установлению демократии во многих
неевропейских странах считается «темнота» масс: низкий процент грамотных, малое число
газет, транзисторов и телевизоров на душу населения и, как результат,
возможность для традиционной элиты манипулировать избирателями. Справедлив ли
этот тезис для Востока — весьма сомнительно. Но гораздо важнее для нас иное —
все это к России не относится. Что бы ни говорить о десятилетиях советского
режима, результатом их стала поголовная грамотность и поголовный охват
населения средствами массовой информации. Оставим в стороне также вопрос о
навязывании населению официальной идеологии при помощи тенденциозной
информации. Это нельзя отрицать, но неправильно было бы и преувеличивать.
Советские люди давно привыкли понимать партийную печать «с точностью до
наоборот», а сейчас информация уже довольно разнообразна и дает пищу для ума.
Главное —- сознательное и идеологически (политически?) здравое участие
масс в выборах. А. Б. Зубов в выступлении на «круглом столе»
«Парламентаризм и демократия в незападных обществах» приводил такие примеры. Во
время выборов Президента России в 1991 году баллотировалось, как известно, шесть
кандидатов на этот пост, причем у каждого была четкая идеологическая позиция.
Каждый кандидат получил «свой» процент голосов, одинаковый во всех районах
РОССИЯ И ОПЫТ ВОСТОЧНЫХ ДЕМОКРАТИЙ 21 1
Санкт-Петербурга, например. Иной процент, но тоже одинаковый (до десятых
долей) -— во всех районах Архангельской области. Никакого разброса, как было,
например, в тех же местностях при выборах в Учредительное собрание в 1917
году. Люди знают, чего хотят. Их позиции определились, это готовые электо-
раты для полнокровных политических партий. Осталось лишь партиям
организоваться и «взять» соответствующие «байки голосов». Но для этого надо не
грызться из-за нюансов программных формулировок, а стараться осознать устремления
социальных сил, созревших в народе.
Кстати, удивительно, но факт,— наши политологи не хотят анализировать
уже накопившуюся избирательную статистику. Она не опубликована (замечу,
что это один из показателей ущербности нашей гласности), но исследователям
доступна. Зная, кто, где и за что голосовал, можно было бы увереннее судить —
почему.
По сути, мы уже перешли от масс к политической и политологической элите.
В идеале политик должен ставить превыше всего общественные интересы,
отрешиться от своих собственных. Во всяком случае, убедить избирателей в том,
что действует он не в своих, а в их интересах. Что на самом деле не так —
и это знают все. Это знают избиратели и в развитых западных странах, и в
неразвитых восточных. Однако из двух или более людей, думающих о своих
интересах, избиратели предпочтут того, чьи личные интересы ближе к их
интересам.
Однажды мой коллега ехал по дорогам Шри-Ланки в машине местного
депутата. Тропический ливень, вокруг ни души. Вдруг впереди замаячила фигура
в белой традиционной одежде, под зонтом. Человек этот поднял руку. Депутат
остановил машину и вышел. Оказалось, избиратель хочет поговорить со своим
депутатом. И вот они стояли полчаса под дождем — один под зонтом, другой
без оного — и избиратель излагал свою просьбу. Когда депутат, весь промокший,
сел снова за баранку, он извиняющимся тоном произнес одно слово:
«Избиратель...» Дескать, сами понимаете, не поговори я с ним, молва о не уважающем
избирателей депутате разнесется по округе, и на следующих выборах завалят.
Хотя бы такая, пусть даже показная ответственность «слуг народа» должна
проявляться. Однако, как правило, политическая элита новых демократий
отличается детской безответственностью. Депутатам кажется, что пять лет между
выборами — вечность. И здесь Восток дает гораздо больше негативных, чем
позитивных примеров. Бьющая в глаза алчность правящих клик во всех почти без
исключения странах Африки, безответственные действия политических лидеров
в странах, где возникают национально-конфессиональные конфликты — Ливане,
Шри-Ланке, Армении, Азербайджане, Молдове,— борьба за лидерство в
партиях, желание играть роль, а не стремиться к декларируемой цели...
Зная политическую кухню зарубежных стран, на борьбу российских
демократов между собой, да и на потуги наших «патриотов» смотришь с изрядной
долей презрения. Видишь неспособность лидеров договориться и хоть на йоту
поступиться личными амбициями во имя совместной работы. Расколы внутри
демократических партий и возникновение дюжины коммунистических, как
бы они словесно ни обставлялись,— на самом деле та же игра самолюбий.
Воинственные заявления облеченных полномочиями личностей, скандальные
мероприятия «оппозиционеров» — все это не забота о российских интересах, а
стремление заполучить «лицо» непримиримого борца «за Россию». Эти люди
паразитируют на положении, в каком мы все оказались, сосут «политические соки»
из населения, сбитого с толку перепалкой лидеров.
Вернемся к демократам. Нисколько не удивительно слышать от женщины
в очереди: «Вот, выбрали демократов, а стало еще хуже...» — каждый знает,
как эта речь продолжается и чем уснащается. Но я поражаюсь моим коллегам —
людям, которые считают себя думающими политологами, аналитиками, когда они
удивляются, что «демократы» оказались неделовыми, самовлюбленными и
корыстными.
Стенаний подобного рода публикуется много. Вот, к примеру, статья Ю. Бур-
тина «Важные государственные дела» в «Независимой газете». В статье сооб-
212 ЛЕОНИД АЛАЕВ
щается, что автор испытывает чувство горечи через полгода после победы
демократии. «Все уже снова затянуто тиной». Это очень характерный образ — образ
спокойного пруда. Отсюда следует, что политолог хочет бури, чтобы разметала
она всю тину. А что она разметет и кое-что иное, он, что, не понимает?
Какова же аргументация? Где тина? «Нет КПСС, зато есть партия Руцкого,
Движение демократических реформ, Научно-промышленный союз, Всеармейское
офицерское собрание и пр. и пр.». Остановимся. Итак, Ю. Буртин не понимает,
что тысячи общественных организаций не могут заменить одну КПСС. Он
забыл, что такое КПСС? Никакая партия и никакое офицерское собрание (даже
в случае, например, военного переворота) не смогут так зажать общество, как
зто удалось гению Сталина при помощи ВКП(б)-КПСС.
Далее Ю. Буртин в качестве признака неизменности говорит о
переименовании КГБ в РСБ. Может быть, изменилось и мало. Не знаю. Но уже одно то,
что генералов увольняют за взятки, заставляет сомневаться, что ничего не
изменилось.
Наконец, «нет союзных министерств, но они целиком перелились в
российские— министерства, государственные концерны, ассоциации и т. п.».
Положим, не целиком. Сокращение медленно, но идет. А вы хотите одномоментно
выбросить на улицу сотни тысяч ранее привилегированных, а потому
политически активных людей?
«Сохранилось то, что составляло их (прежних общественных институтов.—
Л. А.) социальное содержание», а именно номенклатура, джиласовский «новый
класс». Итак, это плохо, что он сохранился. Надо было его уничтожить? Надо
было провозгласить лозунг «Ликвидация номенклатуры как класса»? И сослать
их всех в Сибирь в качестве спецпоселенцев? А дачи их за «непроницаемыми
заборами» отобрать и передать... Кому? Новому новому классу?
Не будем желать революции. Не будем жалеть о «плодах», которые мы
будто бы «упустили». Плод-то ведь надо не отобрать, а вырастить.
Нигде, и меньше всего в странах Востока, к которым в данной связи
хочется отнести и нашу страну, выборы не гарантируют приход к власти только
компетентных и кристально честных. Власть развращает — замечено впервые не
нами и не нам этому удивляться. Не будем впадать в уныние по поводу того,
что царство справедливости все никак не наступит. Будем просто готовиться
сами и готовить других к следующим выборам.
«Демократы» ломаются на трех «перекатах». Первый — это власть как
таковая. Возможность «переплавить» полученную власть в материальные
ценности мало кого оставляет равнодушным. А кроме того, раз власть в руках, надо
ее «усилить». Здесь прямая дорога в авторитаризм. Практически тот же
перекат для других «демократов» — неполучение власти. Они демократы, они
победили коммунистический режим, они лично внесли в эту победу большой вклад
(личный вклад преувеличивается — это так по-человечески понятно!) — а власти
не получили. Около Президента другие люди, пускай «тоже демократы», но ведь
сделавшие для победы значительно меньше (преуменьшение роли других — кто
этим не грешен?). Глухое недовольство, личное недоброжелательство вскоре
получают вполне цивилизованную форму критики ошибок правительства, благо
ошибки всегда есть. А там уж недалеко и до поисков союзников в лагере,
который еще совсем недавно представлялся враждебным.
Второй перекат — державность. Никому не хочется* быть «слабым
политиком». Лучше уж быть неумным. Никому не хочется «председательствовать при
распаде России», как когда-то Черчиллю не хотелось «председательствовать при
распаде Британской империи». Наконец, никому не хочется быть обвиненным в
антипатриотизме. Зато каждому хочется быть более русским, чем другие. И
начинается подчинение демократических идеалов государственно-державным.
«Вот, разваливали Союз, а не понимали, что разваливают и Россию»,—
злорадствуют те, для кого и раньше Держава была главным божеством. Это,
конечно, нечестно. Не демократы, и не Горбачев, и не Ельцин развалили Союз.
Он распался, как бочка, с которой сняли железные обручи. Но — и это надо
признать — демократы в то »ремя занимали последовательную, принципиальную по-
РОССИЯ И ОПЫТ ВОСТОЧНЫХ ДЕМОКРАТИЙ 21 3
зицию — вплоть до поддержки отделения Прибалтики. А сейчас, придя к власти,
некоторые из них изменяют прежним идеалам, потому что изменилась их
система ценностей. Как отметил классик, бытие определяет сознание.
Третий перекат — критика. Демократ — подобно любому иному — не любит
критики. Когда демократы сами критиковали, они были за свободу слова и
печати. Сейчас многие из них считают, что с прессой «пора разобраться»,
«остановить разгул», «отсеять неконструктивную» критику и т. п.
Между тем демократические власти лучше авторитарных только тем,
что их можно критиковать, что на них постоянно направлен прожектор, что их
можно сменить — раз в пять лет по крайней мере, а если они позволят себе
особо крупное безобразие — то и раньше. Гласности нам все еще не хватает.
Нужны данные о численности аппарата, о ставках всех чиновников, о всех
назначениях. Нужно продолжать ликвидацию привилегий. Не должен «слуга
народа» жить лучше, чем его господин. Не может быть представителем народа
человек, который не ходит в магазин (не «посещает», как Ельцин во время
поездок, а именно ходит покупать).
Я напоминал известное выражение «власть развращает». Но надо
напомнить и его продолжение: «абсолютная власть развращает абсолютно». Да,
демократические лидеры бывают безответственны, но система все же постепенно
может воспитать ответственность в каждом, в том числе и в политике.
Авторитаризм же воспитывает безответственность во всех слоях, начиная с диктатора.
Так что будем пользоваться возможностями воспитания власти, пока они у нас
есть. Разоблачения типа Уотергейта укрепляют демократическую систему, а не
разрушают ее.
Перейдем теперь к некоторым «организационным» проблемам «вторичной
демократии». В Японии все эти годы у власти одна партия —
Либерально-демократическая. В Индии почти всегда на выборах побеждает Индийский
национальный конгресс (краткие его отстранения от власти в 1977—1979 и в 1990—1991
годах пока можно рассматривать как случайные сбои в системе). Вместе с тем
это не однопартийные режимы * у каждой партии есть мощная оппозиция справа
и слева. Но либералы в Японии и конгрессисты в Индии раз за разом
доказывают, что они пользуются преимущественными симпатиями населения. Именно это
постоянство правящей партии обеспечивает во многом стабильность
политического строя.
В тех странах Востока, где такой партии нет (Турция, Таиланд, Филиппины),
демократия неустойчива или была неустойчива до самого последнего времени.
Партию такого типа называют в политологии «доминирующей». Она
характеризуется тем, что претендует на представительство общества в целом, а
практически говоря, стремится заручиться поддержкой части (не обязательно
большей, практика показывает, что нужно примерно 40 процентов голосов) всех
слоев населения — бедных и богатых, рабочих и предпринимателей, крестьян (в
Индии это основа электората) и батраков, женщин и молодежи, индусов и
мусульман и т. п. Отсюда вытекает сбалансированность программы и, следовательно,
центризм в политике. Очень характерно, повторю, что у нее есть противники
и справа, и слева.
Становлению такой партии могут значительно помочь некая общая цель,
достигнутая под ее руководством (например, в Индии — получение
независимости), и наличие сильного харизматического лидера (как Джавахарлал Неру).
Однако в Японии она сложилась без этих двух условий, так что они не обязательны.
Характерной чертой доминирующей партии должна быть фракционность —
наличие в ней групп, отстаивающих разные пути. Так, чтобы различные
политические силы могли добиваться своих целей, работая внутри партии, а не вне
ее, чтобы различные социальные силы имели представительство внутри
партии, а не вне ее.
Двухпартийная система — по-видимому, очень удачная форма существования
уже сложившейся демократии. Для складывающейся она не подходит. Опыт
показывает, что она просто не получается.
214 ЛЕОНИД АЛАЕВ
Если политики России хотят сознательно подойти к тому процессу, которым
пытаются управлять, они должны изучить опыт доминирующих партий Востока.
Собственно, призывы укреплять «центр» политического спектра раздаются давно.
Еще Горбачев хотел быть «центром» и превратить КПСС в центристскую
партию. Абстрактно-теоретически говоря, у КПСС была такая возможность, может
быть, до 1989-го или до 1990 года: поступиться административной властью в
стране и использовать сохранявшийся по традиции ореол «партии всего народа»
для строительства собственного электората. Но, конечно, практически это было
немыслимо. Кроме обычной жадности, не позволившей ничего отдать, было и
непонимание того, что коммунисты оказались на краю пропасти.
Но нас интересует чисто политологический аспект. Горбачев не понимал, что,
провозглашая «центристскую» позицию, он на самом деле центром не был.
Верность «социалистическому выбору» и упрямое отстаивание единства страны
неумолимо оттесняли его влево, а центр тяжести политической конфигурации
смещался туда, где находился Ельцин. Утверждаю, что Ельцин победил как
«центрист» и потому мог бы стать (и все еще может стать) ядром кристаллизации
доминирующей партии.
И сейчас делаются попытки создать «партию реформ». Но эти попытки
какие-то двусмысленные. Множество партий — за реформы. Почти все они в той
или иной степени поддерживают Ельцина. Критикуя дравительство, большинство
демократических партий по крайней мере не выступает за его смещение.
Но главной своей задачей они считают не поддержку курса, а его критику. По
поводу того, как критикуется правительство, можно было бы написать
отдельное исследование, попытаться расплести узел из дремучего невежества, скрытой
зависти и нежелания понять логику. (Не говорю о тех, кто под видом
«коррекции» реформ желал бы их сорвать.) В критике правительства, как она звучит,
я вижу прежде всего политиканство, желание не столько помочь стране, сколько
себя показать народным заступником, остаться чистеньким к тому времени, когда
наступит следующий раунд борьбы за портфели.
v Большинство демократических партий на своих съездах и конференциях,
подробно перечисляя грехи правительства, заканчивает резолюции фразами о
его поддержке. Но раз так — объясните подробно людям, почему
поддерживаете, то есть — что хорошего в его действиях. Разъясните это! Ведь иначе
ваша позиция остается двусмысленной. И если все партии, действительно
стоящие за реформу, серьезно поработают над тезисами о том, почему они (пока)
поддерживают правительство, будет создана платформа для действительно
мощной, действенной, доминирующей в вышеизложенном смысле партии, которая
сможет претендовать на длительный контроль над властью.
Японисты считают, что демократический режим в Японии держится также
на национальном согласии, на системе общепринятых ценностей. Судя по
многим публикациям, содержащим вздохи и ахи по поводу «раскола общества», у
нас никакого национального согласия нет. Но вспомните, когда еще нам начали
предрекать «социальный взрыв»,— а его все нет и нет. Посмотрите, насколько
россияне не желают решать силовыми методами ни татарстанский, ни чеченский,
ни приднестровский, ни осетинский, ни абхазский вопросы. Многие наши
новоиспеченные политики не обращают внимания на такие настроения, но это
характеризует только их самих.
Я считаю, что национальная система ценностей у нас уже существует, хотя,
может быть, и в неразвитом виде. Я ее пока характеризую через негативные
определения, но вспомните, что заповеди Моисея, на которых строится
современная мораль, тоже негативны по форме (не убий, не прелюбодействуй...).
Во-первых, есть согласие по поводу того, что немыслим возврат к старому,
к системе централизованного зажима, и поэтому антикоммунизм можно
считать общей платформой национального объединения.
Во-вторых, десятилетия кровавого режима привили русским стойкое непри-
йтие вооруженного насилия как метода решения споров. Этот тезис может
показаться безответственным сейчас, когда разворачиваются кровавые события в
РОССИЯ И ОПЫТ ВОСТОЧНЫХ ДЕМОКРАТИЙ 215
Приднестровье, Грузии, Армении, Азербайджане. Но я говорю о России. По-
моему, ситуация здесь принципиально иная.
В чем причина этого принципиального различия — вопрос, конечно, нелегкий.
Есть одно соображение, которое может оказаться бессодержательным, но, но-мо-
ему, его стоит обдумать. Все кровавые конфликты (включая югославский)
вспыхнули на территориях, некогда принадлежавших Османской и Сефевидской
империям. Может быть, семена были брошены еще тогда?
И еще соображение. Гражданская война в 1918—1920 годах охватила,
конечно, всю территорию бывшей Российской империи, но, может быть, разные
народы пережили ее по-разному? Все же украинские, грузинские и прочие
националисты ее проиграли, а мы, русские и красные, ее выиграли. Может быть,
мы сильнее пережили сознание бессмысленности победы в гражданской войне?
Но это «мысли по поводу». Пока важнее констатировать: русский народ не
хочет воевать ни за Державу, ни за демократию. Конечно, политики могут
спровоцировать войну, и некоторые из них это .пытаются делать, но они, если им
это удастся, будут прокляты, причем не потом, а сразу же, как только заставят
народ воевать..
Наконец, нельзя не отметить удивительную (великую или ужасную — это
уже зависит от ракурса рассмотрения) способность русского народа терпеть
лишения. Многие проклинают эту его черту. Русские дольше всех в Европе
терпели крепостное право. Дольше всех терпели бездарный царский режим. Дольше
всех «социалистических» стран терпели коммунистический режим. Все это нашу
историю не украшает.
Но сейчас, в условиях небывало жесткого перелома привычной жизни, эта
терпеливость может оказаться спасительной. Два народа, с которыми я все время
сравниваю русских,— японцы и индийцы — отличаются именно этим. Это сейчас
японцы начинают входить во вкус потребительства. А после войны они работали
как звери, сжав зубы, получая гроши по тогдашним западным стандартам,
переживая инфляцию и прочие прелести становления современной экономики.
Правда, у них не было никаких комплексов по части «закабаления иностранным
капиталом» и ввоза американских технологий. А индийцы терпят до сих пор, хотя
их положение за 45 лет улучшилось: из отчаянного стало просто тяжелым.
Русский народ никогда не жил хорошо. И хотя терпение его, как показывает
история, не беспредельно, он согласен еще потерпеть. Сколько — не знаю.
Все это создает, мне кажется, основу для выработки новой национальной
идеологии, в значительной степени совпадающей с либеральной идеологией
Запада. Надо бы людям образованным помочь этому процессу, а не ужасаться по
поводу того, что «не во что стало верить».
Между тем интеллектуальная элита зациклилась на системе ценностей,
пахнущей нафталином. Просто для примера, поскольку имя таким «властителям
душ» легион, вспомню интервью Виктора Розова, которое случайно услышал по
радио. Цитирую, как записал. «Я бы не хотел жить в обществе, где молодые
люди торгуют. Торгуют здоровые лбы, которые могли бы работать. Ведь слово
«зарабатывать» — от слова «работать»». Видный драматург не понимает, что
торговля — одна из отраслей народного хозяйства, что без торговли, в том числе
обязательно розничной, нет смысла ничего производить. Что государственная
«торговля» полностью провалилась (увы, не сегодня), что выпускают у нас
некачественные товары, что треть произведенных у нас сельскохозяйственных
продуктов теряется именно потому, что нет нормальной торговой сети. Что в
обществе, где удобно жить, продавцов должно быть больше, чем покупателей. Не
думаю, что В. Розову милее покупать i e у молодых «лбов», а у полупьяных,
грязных и грубых теток, которые составляют основной контингент продавцов в
государственных магазинах.
И еще о «лбах». Торгующие молодые люди вызывают возмущение
драматурга, и не только его. А что драматург скажет о еще более физически
совершенных молодых людях, которым вкалывать бы да вкалывать, но они стоят в
проходных «секретных» объектов вроде Академии наук, проверяют пропуска и у ми-
2^6 ЛЕОНИД АЛАЕВ
рают от безделья? А ведь таких и подобных им «рабочих мест» для спортивных
молодых людей по стране, наверное, сотни тысяч.
Дорогие идеологи! Проповедуйте, пожалуйста, преимущества частной
собственности, уважение к хозяину, к торговле и посредничеству как к решающим
звеньям товарной, рыночной экономики. Понимания этого действительно нет в
довольно широких массах (хотя, конечно, не надо считать всех идиотами), и
тарная пропаганда сейчас нужна. И старайтесь избавляться от совкового мышления.
Иначе неумолимый ход экономики лишит вас всякого авторитета.
Я не хотел бы быть понятым так, что Россия — тот же Восток и нам просто
надо черпать там опыт. Многое сближает нас с Западом — и это придется
учитывать.
Например, по-моему, мы излечились от веры в харизматического лидера.
«Вождь» сейчас нам не нужен — никому. Как оказалось, и грузинам.
В собственном смысле слова «харизма» — не просто огромный авторитет,
сходный с обожествлением, а представление об особом качестве «всеведения» и
всемогущества, которое может передаваться, например, по наследству или
путем делегирования, скажем, назначения наследника. У нас даже Сталин не смог
бы передать свою харизму сыну Василию. И он это знал. Неверие в передачу
качеств по наследству — черта западного образа мышления. На Западе сыну
или дочери известного политического деятеля его родственные связи не столько
будут помогать в карьере, сколько мешать. Скажем, Рандольфу Черчиллю
мешало то, что он был сыном Уинстона Черчилля.
Иное дело на Востоке. Там кажется естественным, что лучшим
продолжателем дела лидера будет его сын, дочь, в крайнем случае вдова, особенно если
этого деятеля погубили. Вспомним довольно большой список деятелей и
деятельниц, которые пришли к власти или претендовали на нее, имея в активе только
свои родственные связи. Индира Ганди и Раджив Ганди в Индии, Сиримаво
Бандаранаике на Шри-Ланке, Беназир Бхутто в Пакистане, Халеда Зия в
Бангладеш, Корасон Акино на Филиппинах. Особенно важно то, что все они пришли
к власти демократическим путем, обеспечив победу на выборах себе лично или
своей партии. Можно, следовательно, заключить, что представления о харизме
проникли глубоко в народное сознание, стали неотъемлемой частью социальной
психологии.
Некоторые называют Ельцина харизматическим лидером. Это неверно
терминологически. Более того. Его вовсе не воспринимают как «спасителя». Его
популярность испытывает сильные колебания, его недостатки большинством
населения прекрасно осознаются. Таким образом, наше общество гораздо ближе
к демократии типологически, чем даже в тех восточных государствах, которые
ее освоили.
Другое важное обстоятельство. На Востоке принято решать вопросы
полюбовно, путем консенсуса. Там не любят голосований, разделяющих борющиеся
лагери. В японском парламенте, например, согласования в комиссиях длятся
долго, чтобы не выносить разногласий на заседание палаты. Составляется сценарий
заседания парламента — кто что будет говорить. Правящая партия иногда
отказывается от законопроекта, хотя могла бы провести его голосованием, если
оппозиция активно возражает. Все это не значит, конечно, что у каждой из партий
нет за пазухой какого-нибудь камешка, который можно неожиданно бросить в
соперника, или что не бывает резких столкновений вплоть до примитивной драки.
Речь идет об общем психологическом настрое.
Только так — при помощи постоянных внутренних компромиссов — и может
работать доминирующая партия. Это хорошо известно из практики и Либерально-
демократической партии, и Национального конгресса.
У нас гораздо больше склонны к «пробе сил», «перетягиванию каната»,
предпочитают ситуацию открытой борьбы. Эта черта имеет два источника,
довольно полярных. С одной стороны, тут проявляется европейский взгляд на борьбу
как испытание не только силы, но и смелости, благородства и достоинства. С
другой же — воспитанное десятилетиями недоверие к власти и ее носителям. Все,
что скрыто от наблюдения, воспринимается как интриги, «аппаратные игры»,
РОССИЯ И ОПЫТ ВОСТОЧНЫХ ДЕМОКРАТИЯ 217
свидетельство нечестности и беспринципности. Может быть, со мной
согласятся, что для россиянина характерно странное, но органичное сочетание упования
на власть и вместе с тем глубокого к ней недоверия, убеждения в ее
враждебности простому человеку.
Это скорее плохо, чем хорошо для нашей ситуации. Слов нет, недоверие к
власти — один из столпов демократического сознания. Но это же недоверие
нарушает стабильность, которая сейчас так нужна. Постоянные выяснения
отношений, вопросы, запросы, согласования, волокита в парламенте и суде — все это
известные издержки той системы управления, которая зовется демократической.
Мы слишком западная страна, чтобы снизить эти издержки в переходный
период, поверив, что «лидер думает за нас».
В одной статье не исчерпать тему «Восточные демократии и Россия». Я
мечтаю о том, чтобы наши политологи и действующие политики занялись детальным
изучением азиатских парламентских систем. Нельзя сказать, что опыт других
стран в наших дискуссиях, в том числе в парламенте, не присутствует. Напротив,
постоянные ссылки на «цивилизованные общества» уже набили оскомину.
Западные образцы дают нам некоторую точку отсчета, ориентацию на пути к
устойчивой системе свободного общества. Но, выдерживая генеральный курс «норд-
вест», мы должны думать и о рифах, и тут опыт «вторичных» демократий для
нас в каком-то смысле важнее.
Главный вывод, к которому мы неизбежно придем после исследований этого
опыта,— демократизация болезнь тяжелая, но некоторые сумели через нее
пройти и создать вполне приличные условия для существования современного* то
есть свободного, человека.
Критика
Андрей Богданов
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
ОТРИЦАНИЕ ПРОЙДЕННОГО В ТОЛСТЫХ ЖУРНАЛАХ
п;
"оразительное совпаде-
-ние ознаменовало
важный момент в развитии отечественной
исторической мысли. Ровно за один
год — с июня 1991 по июнь 1992 г,—
три совершенно разных писателя на
страницах трех известнейших толстых
журналов опубликовали три романа,
посвященных злохе Ивана Грозного.
Первым начал печататься в «Знамени»
роман Николая Шмелева «Сильвестр»
(1991, № 6—7), номер в номер за ним
«Москва» приступила к публикации
сочинения Николая Плотникова «Андрей
Курбский» (№ 8—10), растянувшегося
уже на три номера. Приотстав,
«Октябрь» в 1992 г. выпустил уже четыре
номера с книгой первой эпического
романа Анатолия Ананьева «Лики
бессмертной власти» (№ 3—6). Первым
ликом оказался «Царь Иоанн Грозный».
Три далеких друг от друга писателя,
не сговариваясь, точно распределили
между собой исторический материал и
пришли к единодушному выводу. С
личностью попа Сильвестра, о котором
пишет Н. Шмелев, еще со времен князя
Курбского (а из новых историков —
Н. М. Карамзина) связывается период
замечательных реформ начала
царствования Ивана IV, время процветания и
побед Русского государства. Герой
Н. Плотникова Андрей Курбский —
главный оппонент царя-тирана, первый
и наиболее яркий обличитель зверств
опричнины, наступившей после удаления
А. П. Богданов (1956 г.) — историк, канди*
дат наук, научный сотрудник Института
российской истории РАН, специализируется на
русской истории XVI—XVII вв., автор
одиннадцати книг, в том числе «Да будет
потомкам явлено... Очерки о русских историках
2-й половины XVII века и их трудах» (М„
1988). «Сказание о Волконских князьях.
Исторические были» (М., 1989), «Перо и крест.
Русские писатели под церковным судом»
(М.. 1990).
от двора Сильвестра и его товарищей.
Опричнина на Руси началась уже без
Курбского: как это произошло и где
корни злодейской власти, пытается
понять А. Ананьев. Центром его историко-
психологических размышлений является
Иван Грозный.
Очевидно, что общее в выступлении
Ананьева, Плотникова и Шмелева —
протест против образа «великого
государя», официально признанного в
сталинские времена и не истребленного в
общественном сознании доныне.
Известно, что И. В. Сталин, эта
квинтэссенция большевизма, видел в образе
Грозного царя свое отражение, уважал
«предшественника» больше, чем Петра I,
сочувствовал и сопереживал Ивану,
«недорезавшему» всего «пять семейств»,
чтобы предотвратить Смуту, зато
показавшему, как «нужно быть жестоким»,
«стоять на национальной точке зрения»
и «ограждать страну от иностранного
влияния».
Но можно отметить и другое —
журналы «Знамя» и «Октябрь»
возвращаются к теме, поднятой ими ровно 50 лет
назад. Разумеется, теперь это другие
журналы, в них работают совсем не те
люди, что в 1941—42-м годах, и только
некоторые журналистские традиции
сохранились. Не знаю, обдуманно или
случайно, но новые публикации противостоят
старым и по содержанию, и по форме.
Со стороны это выглядит если не
покаянием, то по крайней мере попыткой
исправления нанесенного человеческим
душам зла.
Такое предположение, верное или нет
(ибо память людская коротка), отражает
более серьезное явление. Обвиняя
Сталина, его приближенных и приспешников,
мы не должны забывать, что в вопросе
об Иване Грозном инициаторами кампа-
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
219
нии были не они, а интеллигенты,
предложившие властям предержащим мотивы
оправдания и возвеличения «великого
государя». Более того, преодолевая
сопротивление огромного культурного
наследия, воспрещавшего хвалить царя-
убийцу, участники большевистской акции
(далеко не всегда марксисты по
убеждениям) взращивали семена зла, попавшие
в культурную почву задолго до них и
уже успевшие дать ядовитые побеги.
Дуализм был присущ образу Ивана
Грозного с самого его зарождения в
XVI в., когда официальная пропаганда
«великого государя» столкнулась с
яростными обличительными посланиями
и «Историей» Курбского. В умы
верноподданных сочинителей заползали
сомнения, выплеснувшиеся на страницы,
обожженные в огне Смуты. В бунтарном
XVII веке судорожные усилия воспро-
славить мужественного, крепкого и
страшного врагам царя (например, в
патриарших летописях) говорили о
влиянии на общественное сознание рассказов
и повестей о государе-погромщике. Сам
канцлер Василий Голицын, еще в
бытность помощником царя-реформатора
Федора Алексеевича, видевшего благо
государства в богатстве, защищенности
и просвещенности подданных,
распространял сочинения князя Курбского об
ужасах самодержавной тирании. Вскоре
подданные уже сопоставляли тексты
о погромах Грозного с записями о
зверствах Петра.
Век XVIII в лице петровских летопи-
сателей, В. Н. Татищева и его коллег-
историков еще более прежнего
усиливался прославить Иоанна, но должен
был с осторожностью обходить и
преуменьшать «конфликт между царской-
властью и ее слугами». «Дней
Александровых прекрасное начало» с его
русскими сарафанами на придворных дамах
ознаменовалось произнесением и
изданием истовых «Похвальных слов»
Грозному царю — но великий Карамзин,
нежно любивший самодержавие и
тщательнейшим образом собиравший все
положительное, все, что
свидетельствовало бы в пользу Ивана, с сердечной
болью принужден был вынести ему
страшный приговор.
« Самодержец-мучитель», «губитель»
бесконечно терпеливой России, «зверь
из вертепа слободы Александровской»,
Грозный как «тигр упивался кровью
агнцев — и жертвы, вздыхая в
невинности, последним взором на бедственную
землю требовали справедливости,
умилительного воспоминания от
современников и потомства!» Не обошел Николай
Михайлович очевидный дуализм образа
Иоаннова, постарался объяснить его
феномен в «народной памяти»: народ
русский «отвергнул или забыл название
Мучителя, данное ему современниками,
и по темным слухам о жестокости Иоан-
новой доныне именует его только
Грозным».
«Жизнь тирана,— заключает Николай
Михайлович,— есть бедствие для
человечества, по его История всегда полезна,
для государей и народов: вселять
омерзение ко злу есть вселять любовь к
добродетели». Писатель-историк не учел,
что изобретательный человек, возлелеяв
иную, темную сторону своей души,
может подобрать оправдания для
наслаждения злом и требовать от других, как
Иван Грозный от своих опричников, с
омерзением отвернуться от самого
понятия добра, отбросить все, что мешает
на пути к возведенной в абсолют
злодейской цели.
К великому стыду ученых, змея сия
заползла в общественное сознание из их
среды. Среди превеликого множества
романов, повестей, рассказов, пьес, опер,
стихов и даже «похвальных слов»,
обращенных к личности и эпохе Ивана
Грозного в XIX веке, есть более или менее
сознательные попытки оправдания того,
что происходило в России во времена,
разделенные Карамзиным на
характерные периоды: «Начало злу», «вторая
эпоха казней»... «четвертая, ужаснейшая
эпоха мучительства»... «шестая эпоха
казней» и т. п.— Но это лишь
умолчания, приукрашивания, риторические
восклицания...
Хмуро взирала «идейная» критика на
то, как за «Боярином Оршей» М. Ю.
Лермонтова следовал «Князь Серебряный.
Повесть времен Иоанна Грозного»
А. К. Толстого, за лермонтовской
«Песней про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца
Калашникова» — толстовская баллада
«Василий Шибанов». А тут еще тень Грозного
легла на театр! Одна за другой
печатались и ставились пьесы, не вызывающие
сомнений в моральной позиции авторов.
220
АНДРЕЙ БОГДАНОВ
Барон Егор Федорович Розен вслед за
•невинным «Рождением Ивана Грозного»
(СПб., 1830) разразился трагедиями
«Осада Пскова» (1834) и «Князья
Курбские» (1857). Драмы милейшего Льва
Александровича Мея «Царская невеста»
(1849) и «Псковитянка» (1860) вышли
усилиями Н. А. Римского-Корсакова на
сцену оперного. Успех трагедии Ивана
Ивановича Лажечникова «Опричник»
(1859) уступал поистине убийственной
для памяти тирана пьесе Алексея
Константиновича Толстого «Смерть Иоанна
Грозного» (1866, поставлена в 1867 г.).
Да и А. Н. Островский не удержался,
показал, как практично использует Иван
идею божественного происхождения
царской власти в личной жизни («Василиса
Мелентьева»).
Легко представить, как взвился от
радости «неистовый Виссарион»,
получив в 1846 г. в редакции
«Современника» статью историка-юриста К. Д.
Кавелина, толковавшего о Грозном царе-
преобразователе, предшественнике Петра.
В обобщающем «Взгляде на юридический
быт древней России» Кавелин, ставший
виднейшим представителем
государственной школы, квалифицировал Ивана
и Петра как «благороднейших
представителей государственного начала». Но
Грозный не обладал петровской волей
и практической сметкой, а главное —
ему негде было взять помощников в
тупой, невежественной, косной и
своекорыстной среде.
«Растерзанный, измученный
бесплодной борьбой, Иван мог только мстить за
свои неудачи, под которыми похоронил
он все свои надежды, всю веру, все, что
в нем было великого и благородного, и
мстил страшно»,— заключил ученый.
Белинским, как заметил советский
специалист, «этот взгляд был развит с
полной ясностью»: Грозный объявлен
реформатором, предшественником Петра,
только пришедшим слишком рано,
опричнина — прогрессивным мероприятием,
а кровавые массовые расправы,
достойные осуждения,— следствием
столкновения обширных планов с незрелыми
условиями.
Да и что — кровь? «Смешно и
думать,— писал орел наш В. Г.
Белинский,— что все это может сделаться
само собою, временем, без
насильственных переворотов, без крови... Да и что
кровь тысячей в сравнении с
страданиями миллионов». Это представление со
свойственной Белинскому
последовательностью проецировалось на современность:
ведь Иван Грозный — «образец сильного
русского характера»!
Смыкание государственного начала с
революционным было замечено (помните,
у Салтыкова-Щедрина, «каждый
эскадронный командир был коммунистом») и
вызвало беспокойство Сергея
Михайловича Соловьева. Сам выходец из низов
(сын священника, как и В. О.
Ключевский), он знал свой народ не понаслышке
и чувствовал ужасную правоту
Белинского. «Народ русский! — писал
Соловьев.— Я знаю, почему ты любишь
Грозного, знаю, почему я люблю его. Он
первообраз своего народа!»
Признавшись себе, что чувствовал ту
же жажду крови при виде чванливых
властодержцев, историк спрятал
написанное глубоко в стол. Он отдавал себе
отчет, что развиваемая в его «Истории
России с древнейших времен» теория
закономерной смены «родовых» начал
новыми, «государственными»
предоставляет возможность оправдания Грозного
(как и Людовика XI во Франции)
«идейными» соображениями. Это глубоко
потрясло Сергея Михайловича. Он
завершил шестой том довольно беспорядочно
написанной главой, где с трогательным
усердием старался отстоять свои
взгляды, одновременно категорически
отмежевавшись от Ивана — олицетворения
зла: «Характер, способ действий Иоан-
новых историч^ески объясняется
борьбою старого с новым... но могут ли они
быть нравственно оправданы этою
борьбою, этими событиями?»
Понимая, сколь призрачна
нравственная преграда для новых «идейных
людей», Сергей Михайлович вынужден был
признать, что и результаты
государственной деятельности Грозного были
страшны: «Не произнесет историк слово
оправдания такому человеку!» — И не
сможет произносить,— заметил на это
старый товарищ Соловьева, не хуже его
понимавший опасность тени Грозного для
народа, сын крепостного крестьянина
Михаил Петрович Погодин,— если
всякими теориями не ставить Ивана «вверх
ногами».
Не было у него никогда
государственных взглядов и целей — сначала за
Ивана правили бояре, затем 25 лет «нет
ничего, кроме казней» и «необузданной
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
221
страсти». Что есть в поступках и
взглядах Грозного «высокого, благородного,
прозорливого, государственного? Злодей,
зверь, говорун-начетчик с подьяческим
умом и только. Надо же ведь, чтобы
такое существо, потерявшее даже образ
человеческий, не только высокий лик
царский, нашло себе проелавителей»!
Здравому смыслу Погодина не мог не
отдавать должное и автор «Русской
истории» К. Н. Бестужев-Рюмин, однако
душе славянофила претил позор, в который,
казалось ему, ввергает россиян такая
трактовка событий.
Бестужев-Рюмин не мог спокойно
читать «Смерть Иоанна Грозного» А. К.
Толстого, где «перед нами является
коварный тиран, самолюбивый и
самовластный деспот и более ничего». «Это тем
прискорбнее, что вред, производимый
впечатлением поэтического
произведения, должен быть очень силен». Историк
выразил свою обиду в речи на заседании
Славянского благотворительного
комитета, напечатанной в 1871 г. «Зарей»,
поставив в пример не названному по имени
Толстому стихи А. Н. Майкова о
завоевании Сибири Ермаком и обосновав
уподобление «двух наших великих
исторических лиц» — Петра Великого и Иоанна
Васильевича Грозного.
' Выступление Бестужева-Рюмина раз-
дразнило Николая Ивановича
Костомарова — единственного либерала среди
великих русских историков, концепция
которого в целом до сих пор не может быть
осознана нашим обществом. Посему
почти все, написанное Костомаровым,
выглядит скорее пророчеством, чем фактом
исторической науки XIX столетня.
Совершенно не нашел поддержки
предложенный Костомаровым в очерке «Личность
царя Ивана Васильевича Грозного»
(1871 г.) критерий оценки исторических
событий. «Прежде всего,— писал
историк в пустоту,— нужно уяснить себе,
что следует называть великим, что
действительно достойно этого названия...
Победы, кровопролития, разорения,
унижения соседних государств — явления
крупные, громкие, но сами по себе не
великие. Сочувственное название великого
должно давать только тому, что
способствует благосостоянию человеческого
рода, его умственному развитию и
нравственному достоинству... Относительная
степень исторического величия может
быть определена как суммой добра,
принесенного человечеству, так и умением
находить для своих целей пути и
средства, преодолевать препятствия и,
наконец, пользоваться своими успехами».
С этими безобидными на первый
взгляд «путями и средствами»
Костомаров добрался, как известно, и до
Петра (чего до сих пор многие не могут
пережить). Пока же, говоря об Иване,
историк заметил: «Мы все же надеемся,
что уже близко то время, когда встретить
у историка похвалу насильственным
мерам, хотя бы предпринимаемым или
допускаемым с целью объединения и
укрепления государств, будет так же дико,
как было бы теперь дико услышать с
кафедры одобрения инквизиционных
пыток и сожжений».
После революции, когда переиздавать
его стало невозможно, редко кто
осмеливался упомянуть имя Костомарова без
бранных эпитетов.
Но и его влияния оказалось
недостаточно, чтобы уничтожить зловещие
семена зла, прораставшие в русском
обществе. Посмотрите на скульптуру Марка
Матвеевича Антокольского «Иван
Грозный» (1871): это вдохновенно
выполненный образ великого государственного
деятеля, отягощенного поражениями в
борьбе с эпохой, человека образованного
и целеустремленного. Сколь явно
перекликается он со скульптурой «Петр I»
(1872 г.) — это одна композиция,
характеризующая исторический прогресс
России в его самом зловещем понимании.
Конечно, скульптура сильно уступает
картине Репина «Иван Грозный и сын
его Иван 16 мая 1581 года»: полагаю,
именно таким входит кровавый тиран в
жизнь каждого, причастного к русской
культуре. Недаром смертельно больной
Костомаров попросил отнести себя в
выставочный зал к этой картине, сказав
Илье Ефимовичу: «Не хотел умереть, не
взглянувши еще раз!» Но трещина,
проходившая между передвижниками
Репиным и Антокольским, тянулась все
далее и далее, через искусство,
литературу и науку.
Василий Осипович Ключевский,
подробно обосновывавший свою
механистическую теорию социально-политического
прогресса, развития государства в XVI в.
в борьбе великокняжеской, затем царской
власти, опиравшейся на дворянство,
против боярства и пережитков
раздробленности, понимал, как можно использовать
222
АНДРЕЙ БОГДАНОВ
его в общем-то безличное изложение.
Историк счел долгом читать в «Курсе»
знаменитую ХХХ-ю лекцию о кошмарной
личности Грозного, подчеркнуть, что
«положительное значение царя Ивана в
истории нашего государства далеко не
так велико, как можно было бы думать...
Жизнь Московского государства и без
Ивана устроилась бы так же, как она
строилась до него и после него, но без
него это устроение пошло бы легче и
ровнее, чем оно шло при нем и после
него... Важнее отрицательное значение
этого царствования».
После революции не было ничего
легче, чем выбросить из головы эту лекцию
и спокойно рассматривать опричнину
как борьбу передовых сил государства
с феодальной аристократией, в
результате которой было ликвидировано
вотчинное землевладение, сделаны
необходимые шаги к централизации. Если
Ключевский уподобил Ивана Грозного
слепому Самсону, так потрясшему
здание, в котором находился, что погубил и
врагов, и себя, то для С. Ф. Платонова
в злопамятном 1937 г. царь уже —
Геракл, сумевший одолеть Антея, оторвав
его от земли. Оговорки Платонова об
издержках и печальных для страны
результатах «общего террора» просто не
учитывались. В 1922 г., незадолго до
эмиграции, Роберт Юрьевич Виппер,
считавший опричную резню спасением
от «революции» и противопоставлявший
свирепого тирана бесхребетному
Николаю И, восхитился внешней экспансией
в книге «Иван Грозный», назвал
государя одним из «великих организаторов»
Москвы и уподобил его Петру I,
завоевавшему-таки Ливонию в еще более
страшной Северной войне (приговор
таким восторгам вынес еще Н. И.
Костомаров).
В 1939 г., когда Сталин готовил
аннексию Прибалтики, Большая советская
энциклопедия отметила «правильность»
взглядов Виппера, мирно
преподававшего тогда в Рижском университете, и
одновременно вузовский учебник
констатировал, что опричнина, «несмотря на
ряд темных и отрицательных сторон»,
была «явлением положительным».
Летом 1940 года Виппер получил
возможность подумать о своих оценках, лично
узрев русских солдат на улицах Риги,
но, как известная субстанция, не утонул.
Напротив, бывший контрреволюционер
и эмигрант вернулся в Москву, снабдил
свою книжку главой «Борьба с изменой»
и ссылками на Сталина, трижды
переиздал ее (1942, 1944, 1945 гг.),
произнес публичную лекцию в Колонном зале
Дома Союзов (17 сентября 1943 г.),
которую невозможно читать без
содрогания, стал академиком... Видные
знатоки русского средневековья Сергей
Владк'миров/ич Бахрушин и Иван
Иванович Смирнов опубликовали в 1942—
1946 гг. книги и статьи о Грозном как
«крупном государственнохм деятеле своей
эпохи, верно понимавшем интересы и
нужды своего народа и боровшемся за
их удовлетворение» (первый получил
Сталинскую премию, второй трудился
над темой «боярского мятежа» до
1953 г.).
Однако люди науки уступили пальму
первенства людям искусства — более
мощного средства насаждения
«правильных» взглядов на древнерусского
тирана. Уже в мае 1940 г. Алексей
Николаевич Толстой получил заказ на пьесу об
Иване Грозном. Советский классик, как
показало недавно исследование С. О.
Шмидта, не слишком торопился
выполнить заказ (начал работу в октябре
1941 г., закончил — в феврале 1942 г.).
Вперед вырвался по зову сердца
влюбленный в Грозного горьковский писатель
Валентин Иванович Костылев,
пробивший в марте 1941 г. в «Известиях»
статью о выдающемся государственном
деятеле Иване IV, гнусно оклеветанном
иностранцами.
Журнал «Знамя» лишь чуть-чуть
отстал от газеты, зато статья Евгения
Хазина об Иване Грозном в его пятом
номере (май 1941 г.) отличалась
солидностью, изобличала основательное
знакомство автора с литературой и
источниками, в том числе неопубликованными.
Хазин обосновал народное прозвище
Иоанна — «Прозритель», описал, сколь
сложно было государю отстаивать свое
прогрессивное дело в окружении
внутренних и внешних врагов. Муку
безмерной власти, ответственности за
государство переносил Грозный один, но его
образ в народной памяти по праву велик
и светел!
«Октябрь» тогда, как и сейчас, сильно
отстал от «Знамени» («Москвы» еще не
было), компенсировав это упущение
объемом опубликованного в 5—8
номерах за 1942 г. романа Костылева «Иван
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
223
Грозный» (первая часть трилогии:
«Москва в походе»). Это была верная
ставка! Пухлая эпопея Костылева,
впервые в полном виде вышедшая в Горьком
(1943—1947), «беспомощная
художественно и откровенно фальсифицирующая
историю» (как выразился В. Б. Кобрин),
пришлась сталинским опричникам ко
двору. Она была быстро пять раз
переиздана центральными издательствами
(М„ 1944—1947; М., 1948; Л., 1948;
М., 1949; М., 1955). Автор удостоился
Сталинской премии 2-й степени за 1947
год и издания Избранных сочинений, в
которые 4-м томом вошел все тот же
шедевр (Горький, 1952).
Бывшего графа Алексея Николаевича
нельзя сравнить с шустрым
беллетристом. Но сказав «А», государственники
говорили и «Б». 7 ноября 1941 г.
Толстой вещал в статье «Родина», что Иван
Грозный «со страстной настойчивостью
и жестокостью... разломал обветшавший
застой удельной Руси, разгромил
вотчинников-князей и самовластное
боярство и основал единое русское государство
и единую государственность с новыми
порядками и новыми задачами огромного
размаха».
Алексей Николаевич прекрасно знал,
что «единое русское государство»
Иван IV получил в наследство, «единую
государственность» строили те
«самовластные» советники царя, которых он
«разгромил», а «новыми задачами
огромного размаха» стали закрепощение
крестьянства, попытки вернуть хоть
часть потерянных Грозным территорий
и удержать страну от войны всех против
всех — попытки неудачные. Однако, как
и Виппер, Толстой уже служил. Его
пьеса «Иван Грозный» (автор
предпочитал название «драматическая
повесть»), сначала осторожно
опубликованная в 200-х экземплярах (М.— Л.,
1942), после апробации Сталиным была
распечатана журналом «Октябрь» (1943,
№ 11 —12) и разрекламирована
«Большевиком» (1944, № 10—11).
Опричная свистопляска, столь лихо
изображенная в фильме «Иван Грозный»
С. М. Эйзенштейна (собственный
сценарий режиссера был издан «Новым
миром» в 1943 году, № 10—11),
неукротимо продолжалась. Заложенное в образ
оправдание зла в процессе поэтизации
начинало сверкать инфернальными
красками. Сворачивать же с этого пути,
уклоняться от поэтизации жестокости, не
рекомендовалось. Об этом специально
напоминал, например, критик В. Перцов
в журнале «Октябрь» за 1944 год
(№ 5—6), рассматривая драматическую
дилогию А. Н. Толстого.
А. Н. Толстой, в глазах критика, не
прав, когда пытается уклониться от своей
задачи, идеализирует отношения царя с
народом: «Народ мучился и терпел, но,
верный своему историческому чутью,
оправдал Ивана». Жестокость Грозного
и тяготы народа — вот неотъемлемые
черты образа великого государя и его
времени, вот предмет поэтизации для
советского художника!
Эйзенштейн и его творческий
коллектив реализовали эту задачу с такой силой
искусства, что даже Сталину стало не
по себе. Вторая серия фильма
подверглась опале — показывая, что, террор был
необходим, несмотря ни на что,
режиссер и прекрасные актеры (а какой
композитор!) поистине вывели на сцену силы
Ада. «Прогрессивное войско
опричников», говорилось в постановлении ЦК
ВКП(б) в сентябре 1946 года,
получилось чем-то «наподобие американского
ку-клукс-клана».
«Прогрессивное войско опричников» —
какой перл большевицкой мысли!
Господа ГБ-сты, надо полагать, не должны
обижаться на заслуженное звание
«опричников», пока сохраняется
преемственность их учреждения с любимым
детищем ВКП(б).
Для истории русской общественной
мысли принципиальное значение имеет
тот факт, что в хоре предписанных
свыше славословий Ивану Грозному, в
самый разгар восхвалений «великого
государя», прозвучал голос выдающегося
историка Степана Борисовича Веселов-
ского, открыто заклеймившего тирана и
его апологетов. В полном одиночестве
средь шума похвальных речей Веселов-
ский подверг уничтожающей критике
драматическую дилогию А. Н. Толстого
«Иван Грозный» на авторском чтении
ее весной 1942 года в собрании
историков. «Фабулы нет... есть серия
эпизодов», большинство из которых
недостоверны. Например, в картинах осени
1572 года «на сцене появляются...
выходцы с того света: боярин Ив. П.
Федоров, собственноручно убитый царем в
1568 г., думный дьяк и печатник Ив.
Н. Висковатый, казненный года за два
224
АНДРЕЙ БОГДАНОВ
перед тем в числе сотни представителей
центрального аппарата власти,
новгородский владыка Пимен, умерший в тюрьме
в 1570 г., и, наконец, пленный магистр
Ливонии Фюрстенберг, умерший в
тюрьме... в 1565 году». Когда Веселовский
пояснил, что старик Федоров погиб не
ночью по возвращению с пьянки, до
того, как стало известно о его измене, а
«был убит царем Иваном
собственноручно, после тридцатилетней службы, а
затем его обезображенный труп выброшен
для поругания на площади перед
дворцом», что он был «жертвой
непроверенной царем клеветы» — раздраженный
Алексей Николаевич воскликнул: «А
Вам не все ли равню!» Веселовский
показал, что в изображении Земского
Собора, как и в других картинах, А. Н.
Толстой употребляет прием
«вульгаризации, упрощенчества, доходящего до
карикатуры... Двор московских государей...
очень часто смахивает на проходный
двор «ли сельский кабак». «Балаганные
сцены» наполнены «куклами с
этикетками исторических имен». В следующем,
1943 году, ученый на примере эпопеи
Костылева с непередаваемым сарказмом
продемонстрировал безнравственность
одобренной Сталиным «исторической
реабилитации Ивана Грозного», показал
действительное лицо монстра, который по
словам «отца народов» «был великий и
мудрый правитель». Разумеется,
рецензии Веселовского не были изданы (их
опубликовали десятилетия спустя
А. А. Зимина и С. О. Шмидт), как
оставались в рукописях и его главные труды.
«Хрущевская оттепель» не вскоре, но
начала растапливать сталинский образ
Ивана Грозного. Из издательских планов
и со сцены потихоньку испарялись не
только названные выше «шедевры», но
и менее внушительные произведения:
трагедия Владимира Александровича
Соловьева «Великий государь»
(издавалась в 1944, 45, 46, 50 и... 1972 гг.), в
которой в Ленинградском гос.
академическом театре им. А. С. Пушкина
главную роль играл сам Черкасов; трагедия
Ильи Львовича Сельвинского
«Ливонская война» (изданная «Знаменем» в
1944 г., № 12, печатавшаяся в 1946
и 47 гг.)... Общественное потрясение
вызвала книга «Исследования по истории
опричнины» (1963) С. Б. Веселовского,
скончавшегося в 1952 г. на 76-м году
жизни. Е, Дорош в «Новом мире» (1964,
№ 4) горько пожалел, что ученый не
дожил до того времени, «когда снова
считается безнравственным
утверждение, будто произвол может быть
оправдан великой целью».
Но явления культуры, даже
чудовищные, не исчезают бесследно. Когда часть
общественного сознания ужаснулась
содеянному, другая часть озаботилась
спасением большевистских ценностей от
издержек сталинского периода. Целью
профессора С. М. Дубровского, еще в
1956 г. выступившего в Институте
истории инициатором кампании «против
идеализации деятельности Ивана
Грозного в связи с культом личности»
(Вопросы истории, 1956, № 8—9), было
именно отделение усвоенной
марксистско-ленинской наукой концепции
государственников от слишком откровенной
апологии террора.
Позиция Дубровского еще долго
оставалась «живее всех живых». В
последний раз широкий читатель был
ознакомлен с ней в 1988 г. в книге Д. Н. Аль-
шица (под редакцией Д. С. Лихачева):
«Начало самодержавия в России».
Оказывается, «классовая позиция»
заключается в игнорировании ужасающих
страданий и прямого истребления
народа, в принципиальном отказе от «ярлы-
ковой историографии, сортирующей
исторические явления по рубрикам
«прогрессивное», «реакционное» и не
понимающей «исторической
необходимости возникновения тех или иных
политических институтов и форм отнюдь не
прогрессивных». Но что скрывается за
этим требованием писать, как
выражается в пушкинской драме Гришка
Отрепьев, «добру и злу внимая равнодушно, не
ведая ни жалости, ни гнева»?
Как в свое время Виппер видел в
терроре Грозного противоядие против
революции, так ныне Альшиц усматривает
в сломе сословно-представительных
учреждений объективный путь развития
России. В конце концов опричный террор
смел «сословно-представительную
монархию» через несколько лет ее
существования, Октябрьская революция
Временное правительство — через несколько
месяцев, а Учредительное собрание было
задушено на корню. Самодержавие
устояло, несмотря на краткий прорыв к
свободе в Смуту... Нынешний союз
императорского и красного флагов имеет
глубокие корни.
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
225
К счастью, в исторической науке о
времени Ивана IV не было ни застоя,
ни милого сердцу Альшица
единомыслия. С 1960-х годов вышло несколько
книг А. А. Зимина и Р. Г. Скрынникова,
книги А. М. Сахарова, М. Н. Тихомирова,
А. К. Леонтьева, С. О. Шмидта, В. И.
Корецкого, В. Б. Кобрина, важные
тенденции рассматривали в своих,
монографиях академики Д. С. Лихачев и Л. В.
Черепнин. Были опубликованы сотни
статей, издана масса интереснейших
источников — как известных, так и
обнаруженных в архивах.
Преизрядное смущение в умах
вызвала толстая монография Николая
Евгеньевича Носова «Становление сослов-
но-представительных учреждений в
России. Изыскания о земской реформе
Ивана Грозного» (Л., 1969).
Продолжая традицию Костомарова,
отказавшегося видеть в Московском
государстве единственный
предопределенный путь развития россиян
(«Севернорусские "народоправства во времена
удельно-вечевого уклада. Новгород —
Псков — Вятка». СПб., 1863), Носов
поставил вопрос: а было ли столь
порицаемое Костомаровым самодержавие
единственно возможной формой Русского
централизованного государства?
Впоследствии этот вопрос применительно к
феодальной войне между Москвой и
Тверью решил А. А. Зимин.
Тщательно проанализировав реформы
1549—1556 гг. (со времен Карамзина
приписывавшиеся «Избранной раде»),
Николай Евгеньевич установил
потенциальную возможность иного — не в
тиранию и катастрофу — пути развития
России. «Именно тогда,— писал
историк,— решался вопрос, по какому пути
пойдет Россия: по пути подновления
феодализма «изданием» крепостничества
или по пути буржуазного развития, пути
для того времени более прогрессивному,
а главное менее пагубному для
крестьянства».
В XVI веке еще Карамзиным были
четко разграничены два периода:
благодетельные реформы государственного
устройства после «собора примирения»
1549 года, закрепившие, по Носову,
«политические устои сословно-представи-
тельной монархии... на базе широкой
феодальной коалиции.., ограничения
церковного землевладения и сравнительно
широкого учета требований третьего
сословия»,— и «эпохи мучительства», то
есть «установления в стране
военно-феодальной диктатуры
дворян-крепостников», уничтожившей прежние
политические достижения вместе с изрядной
долей населения, богатства, а значит и
силы страны.
Все это хорошо,— скажет читатель,—
но где современная книга, из которой
можно, не утруждая себя
разбирательством ученых аргументов и споров, узнать
главное об исторической драме,
разыгравшейся в России в эпоху Ивана
Грозного? Такой книги, отвечающей
реальным достижениям науки, еще нет.
Популярная книга Кобрина «Иван
Грозный» (М., 1989) предельно
консервативно (в самом лучшем смысле)
рассказывает, что знают историки о самом царе
и ближайшем его окружении. О тех
общественных тенденциях, которые
определяли (и объясняют нам) поведение
людей XVI века, сказано очень мало, да
и имеющийся материал прошел
осторожный отбор.
«Каковы бы ни были прогрессивные
последствия опричнины (если они
были),— все равно,— заключает добрейший
Кобрин,— у историка нет морального
права прощать убийство десятков тысяч
ни в чем не повинных людей,
амнистировать зверство. Выбросив из истории
моральную оценку, мы окажемся
сторонниками давно осужденного, но все
еще, увы, живого тезиса: «Цель
оправдывает средства». Но такая позиция не
только морально уязвима, она
антинаучна, ибо... цель меняется под
воздействием средств». К сожалению, эта здравая
мысль признается не всеми историками
и писателями, хотя наряду с
вызывающим переизданием в 1986 г. эпопеи
B. И. Костылева в последнее время
выходили и любопытные литературные
труды о времени Ивана Грозного (романы
и повести А. Л. Никитина, К. С. Бади-
гина, В. В. Полуйко, Р. Г. Скрынни»кова,
C. П. Алексеева и др.).
Не думаю, что известный эмигрант-
политолог Александр Янов, посвятивший
эпохе Ивана Грозного книгу
«Происхождение автократии», сильно преувеличил,
заметив, что «тема Ивана Грозного в
русской литературе есть, по сути,
своеобразная модель истории русского
общественного сознания». «Иваниана,—
утверждает Янов в анонсе к русскому
изданию своей книги, помещенном в «Ди-
15. «Знамя» № 12.
226
АНДРЕЙ! БОГДАНОВ
алоге» (2991, № 10),— оказывается не
только печальной повестью о днях
минувших, но и о сегодняшнем и — более
всего — о завтрашнем дне моей
страны».
За рубежом, где с понятным
опасением смотрели на наши метания, «великий
государь» тоже вспоминался часто. Под
одним названием «Иван Грозный»
вышли на разных языках книги
Владислава Сержика (Вроцлав, 1977), Анри Тру-
айя (Париж, 1982), Бенсона Бобрика
(Эдинбург, 1987). Основательная «реин-
терпретация» профессором А. Н. Гробов-
ским вопроса об «Избранной раде»
Ивана IV в книге на английском (родном
автору) языке почему-то не вызвала
отклика советских специалистов (Бруклин,
1969), и какие-то доброжелатели для
доступности сделали ее перевод на
русский (Лондон, 1987 — автор преподавал
тогда в Оксфорде, а позже переехал в
Теннеси) с броским заглавием: «Иван
Грозный и Сильвестр. История одного
мифа» — но все всуе.
Кстати, мифами не побрезговала
Морин Перри. Ее монография «Иван
Грозный в русском фольклоре»
(Кембридж, 1987) выглядит достаточно
существенным предупреждением тем,
кто склонен пренебрегать «феноменом
Грозного» в русском общественном
сознании. Я бы рекомендовал
отечественным политическим деятелям если не
дерзкать перевод на ночном столике, то
по крайней мере внимательно
ознакомиться с этой книгой.
Авторы трех новейших романов об
эпохе Ивана Грозного вольно или
невольно вступают в диалог с уже
высказанными многочисленными точками
зрения и обнажают свою позицию
безотносительно к партийным, групповым и
прочим одеяниям. Мы видели, что в
русской культуре не существует двух
(положительной и отрицательной) или трех (с
добавлением нейтральной) оценок
личности и деяний Ивана, что отношение к
Грозному раскалывало сложившиеся
направления и научные школы: разделяло
между собой славянофилов, западников,
государственников, даже
революционных «демократов» (среди коих Герцен
отказался принять бестрепетный подход
Белинского),— а с другой стороны —
сводило позиции на первый взгляд
несовместные (вплоть до братания
коммунистов с монархистами).
Если программам различных
политических партий, общественных движений,
казенных и кустар^ро-промышляющих
деятелей, включая служителей муз,
можно верить не больше, чем телевизионной
рекламе (а лучше,верить еще меньше),
то тест на Ивана IV способен расставить
все фигуры по истинным позициям
гораздо надежнее. Так и выяснение
позиций Шмелева, Плотникова и Ананьева
необходимо не для того, чтобы судить
или (упаси Боже!) осуждать авторов, но
чтобы понять общественные настроения,
на выражение коих испокон веков
претендует русская литература.
Для анализа существенны знания об
авторах, их источниках и приемах
работы, но на их реальные позиции эти
обстоятельства влияют мало. Николай
Шмелев — известный
ученый-экономист и признанный мастер изящной
исторической повести о творческих
личностях в их сложном отношении с
реальной жизнью, роман «Сильвестр» — его
третье крупное произведение,
опубликованное «Знаменем» (в более полном
виде он вышел в 1992 г. книгой).
Свободно владея источниками и литературой,
автор, как правило, способен докопаться
до истинных фактов, но трижды наивен
будет ожидающий, что Шмелев именно
эти факты и изложит.
Собственная позиция, игра
скептического ума человека, испытавшего
близость к «государеву двору», строгие
требования к литературной композиции
влияют на содержание романа Шмелева не
менее, чем сумма сведений источников и
литературы. В основу романа положена
схема Карамзина, развитая
Костомаровым (последним ею воспользовался
Кобрин): воспитание непутевого юноши
Ивана, за которым с несчастного детства
при дворе шалой матери и буйных бояр
не было никакого присмотра, мудрым
попом Сильвестром, душой «Избранной
рады», проводившей общеполезные
государственные реформы.
По этой схеме развернуты Шмелевым
и события после разрыва Ивана
Грозного с Сильвестром и «Избранной
радой» — вплоть до смерти бывшего
советника в заточении на Соловках,
морального, а затем и физического крушения
тирана, униженного перед победоносным
крымским ханом. Не желая, как многие
представители старшего поколения, быть
элитарным писателем, Шмелев не за-
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
227
ставляет читателей ломать голову над
литературными аллюзиями, смело
доводя их до гротескной контроверсии.
Так, в последней главе романа с
язвительным названием «Отец наш, хан
Крымский Дев лет-Гирей», автор
использует самые преувеличенные из
имеющихся в литературе цифры русских
потерь от набега крымцев на Москву в
1571 году (они были оспорены еще
Костомаровым и совсем уж изничтожены
Скрынниковьш): чуть не седьмая часть
населения страны! Более того, уже в
прямом противоречии с имеющимися
фактами Шмелев заставляет Ивана IV
заявить о «покорности и смирении»
Русской земли перед ханом, признать
Русское государство вассалом Крыма.
Уклонившись от исторических реалий,
Шмелев до мельчайших деталей
построил главу в противовес заключительной
сцене драматической дилогии А. Н.
Толстого «Иван Грозный». Спор этот тем
более принципиален, что на протяжении
всего романа Шмелев подчеркивает
сходство своих взглядов с историческим
видением Толстого, но не с
неприемлемой драмой, не с печальным
завершением творчества писателя, а с его
классическим романом «Петр I». Дело, надо
полагать, не только в заслуживающем
уважения уровне притязаний Шмелева, но
в определенном родстве взглядов двух
убежденных государственников.
Николай Шмелев вслед за Алексеем
Толстым изображает себя сторонником
самого узкого течения
государственников, не уставая подчеркивать, что
именно царь, сначала с Сильвестром и Ада-
шевым, а затем в одиночку (не считая
бледно изображенной компании
опричников) является активной силой в
пассивной стране. Демонстрируя близость с
романом «Петр I», Шмелев раз за разом
вкладывает в уста царя мотив, как
«вздыбит и вздрючит он Русь, это
сонное царство! И ожжет его что есть силы
кнутом, и проснутся тогда, и закричат,
и забегают люди московские, позабыв
про лень и упрямство свое, и ^покорятся
все ему, и пойдут туда, куда он
поведет».
Условием актуализации подобного
образа преобразователя исстари была
убогая, сонная страна. Посему в романе
«Сильвестр» вокруг героев простирается
лишь «грязь непролазная, и бездорожье,
и нищета избенок убогих, и люди в
лохмотьях, и покосившиеся заборы, и сор
на улицах, и тяжкий смрад... И все то
была Русь. И не было в ней радости
никому. А были лишь простор да вечная
тоска».
Стране необходимо соответствовало
бедное, тупое, неумытое и совершенно
неподъемное народонаселение, которое, по
Шмелеву, следовало «вздрючить»
кнутом (вариант — нагайкой; Толстой
предпочитал, помнится, дубину), «заставить
его закричать от боли, и проснуться, и
начать жить!» Обязательно нужно было
подчеркнуть отсутствие вокруг царя,
Сильвестра и Адашева сколько-нибудь
пригодных помощников: «Куда ни кинь
взор — одни замшелые пни вокруг, одни
беззубые рты да седые бороды, да
шубы собольи, да спячка, да лень, да спесь
непомерная. И какое дело этим пням ни
поручи, все сделают не так, а то и
вовсе не сделают ничего. Людей! Людей
надобно ему, царю московому, новых,
бойких, усердных, бескорыстных,
преданных».
Не стремясь изобретать велосипед,
Шмелев позаимствовал обобщенный
образ боярства и страшно реакционного
духовенства из романа предшественника,
уповая на то, что живые детали сами
всплывут в памяти читателей. Главная
его художественная деталь — седые
бороды, которыми «качают», «трясут» и
кои даже «понуривают» (языковая
находка!), как сомневаясь, так и «хваля
царя за мудрость его». Бесполезно
укорять автора за несоответствие этой
картины исторической действительности.
Уверен, что Шмелев и сам знает
имена адного-двух десятков выдающихся и
весьма энергичных (даже с сегодняшней
точки зрения), отнюдь не старых
полководцев, государственных и церковных
деятелей 40-х ~— 60-х годов XVI в. Просто
автору нужно, чтобы их не было — а
ёрнический тон, балаганные сцены
возникали и в драме Толстого, как
подметил еще Веселовский (и подтвердил
издатель его рецензии Шмидт), в качестве
защитной реакции при — скажем так —
отходе от исторической истины.
Обеспечив необходимый фон
сопротивления реформам, автор должен был по
условиям игры подчеркнуть их
необычность, принципиальную новизну для
России. Образ идеального советника
царя — попа Сильвестра, получившего
«полную власть над духом» Ивана, «ца-
228
АНДРЕЙ БОГДАНОВ
ря лишь по имени», можно было взять из
старой историографии готовым. Правда,
монография Гробовского обстоятельно
показала, какие несообразности
порождает миф о всевластии Сильвестра и
Адашева, осветила и происхождение
этой легенды,— но литератор мог
использовать их образы как
собирательные.
Для этого не нужно было бы даже
выходить за рамки классической
государственной школы. Ведь знаменитый
«собор примирения», с которого
начались реформы «Избранной рады»
(говорю с учетом условности этого
прижившегося в литературе термина),
декларировал как раз «примирение и братскую
любовь всего народа», то есть компромисс
царя, аристократии и духовенства
(Думы и освященного собора), дворянства
(к которому относился Адашев) и
верхов торгово-промышленного посада
(города), к которому по происхождению,
хозяйственной деятельности и убеждениям
принадлежал Сильвестр.
Отвергая существование
намечавшегося компромисса интересов разных слоев
общества (приведшего в передовых
странах через тернии абсолютных монархий
и революций к довольно либеральным
социальным, экономическим и
политическим порядкам), Шмелев столкнулся с
большими трудностями и вышел из них
с изрядньш уроном.
Прежде всего «Домострой», в
котором автор нашел ключевое для
изложения программы Сильвестра понятие
«выгоды», является традиционным
русским сочинением, в одной из трех
редакций которого находится собственное
сочинение попа — послание к сыну Анфи-
му (купцу, позже — государеву дьяку).
Его идеи были нормальны для
объединенных «собором примирения» слоев
русского общества XVI века,
адаптировавшихся к изменениям Нового времени.
Все взгляды Сильвестра, о которых
известно ученым (и Шмелеву), нужно
было отобрать у отечественной
аристократии, дворянства, купцов, духовенства,
изобразить чуть не революционными или
на худой конец заимствованными с
Запада.
«Не привык русский человек сам собой
управляться, сам за себя решать,—
заявляет автор.— Испокон веков
полагался он во всем на промысел Божий, да
на волю царскую, да на власть и силу
ближних людей государевых». Посему
«Магдебургское право» (земское
самоуправление, суд присяжных и т. п.) — это
невиданное новшество, введенное
Иваном IV по совету с Сильвестром и Ада-
шевым вопреки сомнениям всех высших
чинов государства (!) — в романе
«шатается, никак не может утвердиться
нигде».
Тут авторские рассуждения не могут
не насторожить самого доверчивого
читателя (вдруг он обратит внимание,
например, что Сильвестр происходит из
Великого Новгорода, лишь недавно
утратившего статус вольного
республиканского города). Ведь для того чтобы
узнать, что земская власть и земский суд
существовали на Руси задолго до
реформ, не надо и к специальной
литературе обращаться — дело популярнейше
разъяснено Костомаровым в очерке
«Сильвестр и Адашев». Там же, не
говоря о толстой книге Носова, описана
успешная реализация реформы,
соответствовавшей собственной воле городов и
земель, показано развитие «двоевластия
и двоесудия», «государства и земщины»
от Судебника Ивана III до Судебника
Ивана IV (который Шмелеву тоже
пришлось со скрежетом вырвать из рук
истинных составителей и приписать
Сильвестру и Адашеву).
Лишенные истинного смысла —
обустройства общества в соответствии с
широко осознанными новыми
потребностями, реформы в романе оказались
скомканы, а автор в отчаянии бросился в
объятия Кавелина, трогательно
описывая вслед за ним душевные мучения
Ивана IV, в обстановке всеобщего
непонимания все более раздражавшегося
медленными темпами «преобразований»,
логично докатившегося до террора и,
как следствие, краха. К этому моменту
повествование, как это случилось и в
драме Толстого, претерпевает
трансформацию, как бы стремясь вовсе
оторваться от исторической реальности.* Вот
чудесным . образом пала Казань, за ней
Астрахань, и Иван, тяготившийся
медленностью преобразований, страдавший
от отсутствия земли, «начал тяготиться
делами царскими и сидением думным»,
тем, что его подгоняли советники.
Противоречия и анахронизмы налезают уже
друг на друга, в Кремле появляются
подземные темницы (списанные то ли с
рыцарских замков, то ли с Лубянки), где
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
229
Малюта Скуратов натурально
«человечью кровь пьет», в подмосковных лесах
прячутся правительственные дачи —
«теремки» со штатом девок «на ласку
отзывчивых»...
Как экономист, автор романа не мог
не оценить хозяйственное развитие
России к началу реформ по таким
признакам, как использование почти всей
пригодной для земледелия площади,
масштабы городового строительства, объемы
внутренней и заграничной торговли,
наличие крупного предпринимательства,
расслоение крестьянства особенно
свободного от личной зависимости. Шмелев-
политолог, конечно, представлял себе
потенциал страны, за несколько лет
смахнувшей с карты Европы два ханства
и почти добившей третье, занявшей
значительную часть Ливонии и отнявшей
солидный кусок территории
воинственной Литвы, причем без перенапряжения
внутренних сил.
Значит, ему очевидна была, мягко
говоря, неточность утверждений, что
только благодаря мудрому попу «вновь
стали оживать в Русской земле и
мирное хлебопашество, и рыбные ловли, и
лесные промыслы, и солеварение, и
ремесло всякое, и торговля» (а как же
отец Сильвестра был богатым
промышленником?). Автор вводил в
заблуждение читателя, а не себя, заявляя, что
«причина того нового величия державы
Российской была прежде всего во
многих доблестях и здравом рассуждении
самого московского царя и мудрых
советников его».
Читателю должно быть любопытно,
почему при столь близком соответствии
стилю драмы Толстого роман все же
оканчивается спором с маститым
предшественником? На этот вопрос отвечает
глава «Александровская слобода», с
которой можно познакомиться в книжном
издании романа. В ней автор в самом
начале повествования рисует состояние
царя-опричника в традициях лучших
представителей государственной школы.
Царь не просто громит своевольный
Новгород и давнюю соперницу Москвы
Тверь,— он сознательно сеет страх,
насаждает покорность: «Не вас казню —
казню всю землю Русскую. Народ
русский казню!» Речь, в полном
соответствии с источниками, с работами Веселов-
ского, идет о геноциде: власть
стремится истребить и запугать народ в
достаточной степени, чтобы ей посильно
было держать его в рабстве: «Новым
народом населят землю Русскую. Но
другим народом! Покорным, и
благочестивым, и мягким, как воск. Ибо отныне и
впредь народ этот будет в полную меру
знать лишь то, что он только одно и
должен знать — страх».
Действительно, с помощью
разнообразных средств, включая сговор с
внешними неприятелями, Грозному удалось
добиться еще невиданных в мировой
практике успехов геноцида: в
Московском уезде площадь пашни сократилась
на 84%, в Псковских и Новгородских
землях в среднем на 92,5%. В
Можайском уезде стояли пустыми 86%
деревень, в городе — 89% домов, в
Коломне — 92% домов и т. д. Татары Девлет-
Гирея, набег которых Шмелев
изображает как катастрофу, были сущими
ангелами по сравнению с опричниками и их
эффективными методами обезлюживания
территорий.
Намеренно сближая повествование с
произведениями Алексея Толстого,
Николай Шмелев демонстрирует коренное
изменение позиции советского
государственника, резко отказывается
оправдывать злодеяния верховной власти. Ведь
, и работая над «Петром I», Толстой
прекрасно знал, чего стоил России его
герой, знакомился с ужасающими
материалами, вроде выкладок П. Н. Милюкова
о сокращении количества дворов в
стране на 19,5% уже к середине петровского
царствования....
«О, окаянные и вселукавые пагубники
Отечества, и телесоядцы, и кровопийцы
сродников cBOHiX и единоязычных!
Поколь маете безстыдствоватъ и
оправдывать такого человекорастерзателя?!» —
уже который век звучит в ушах
историков и писателей гневный глас князя
Андрея Михайловича Курбского. Его
«История» и послания стали первым в
Российском царствии примером гражданской
литературы, а в последние века —
неизбывным укором служилой
интеллигенции.
Признание заслуг Курбского всегда
было более трудным, чем даже полное
согласие с ним в обличении тирана. Он
заявил право человека, независимо от его
служебного положения, решать вопросы
государственного устройства своей
страны и вообще назвал Россию своей из-за
границы. Он выступил против самодер-
230
АНДРЕЙ БОГДАНОВ
жавия и обличил автократию как врага
свободы, сословного представительства
и страны в целом. Он энергично
защищал православие в русских землях
Польско-Литовского государства и приложил
все силы, чтобы остановить натиск кро-
вашх орд опричников, очистить от них
ка-к можно большую часть русской
земли.
Взявшись писать о Курбском, да еще
в период эмиграции, Николай Плотников
взвалил на себя задачу, которая
оказалась непосильной , многим выдающимся
ученым и литераторам. Не то чтобы не
хватало источников: их более чем
достаточно. В отличие от Сильвестра, князь
был весьма плодовитым и ярким
писателем, а его жизнь в Литве и на Волыни
отразилась во множестве
систематизированных, опубликованных и тщательно
изученных документов. Избавленный от
необходимости искать и анализировать
обширный материал, Плотников мог
целиком сосредоточиться на его
истолковании. И это было бы нетрудно, если бы
роман «Андрей Курбский» был задуман
только как обличительный — но автор,
похоже, все-таки сочувствует
«изменнику» и изгнаннику.
Как либерал, не мог не посвятить
изрядное место оправданию Курбского
Костомаров, но здесь историк совершил
одну из немногих своих ошибок,
попавшись на удочку формального обвинения,
выдвинутого еще Карамзиным: «Бегство
не всегда измена, гражданские законы
не могут быть сильнее естественного
спасаться от вдучителя; но горе
гражданину, который за тирана мстит
отечеству!» В ответ Костомаров исчерпывающе
доказал, что право отъезда, которым
воспользовались сотни шляхтичей и
сотни русских дворян и аристократов,
следует считать равно моральным в обе
стороны границы, что на службе новых
сюзеренов феодалы естественно воевали
с бывшими своими «отечествами», где
они гражданами никогда не были, и т. п.,
а заодно высмеял издержки «русского
патриотизма», отрицающего всякий иной
патриотизм.
Это разъяснение ничего не изменило,
поскольку стрела ушла не в истинную
цель. Ведь называвшие Курбского
изменником в действительности не могли и не
могут ему простить не участие в войне
с государством Ивана Грозного, а
именно то, что он не был, в отличие от
других, слугой, поменявшим хозяина (это
слуги готовы простить с легкостью),—
он воевал, писал, переводил,
благотворительствовал именно оставаясь
гражданином «Святорусской земли», не только
болеющим душой, но и ответственным за
нее!
Более четырехсот лет прошло — но
вот как взволнованно пишет о князе
обычно уравновешенный академик
Д. С, Лихачев: «Курбский стал
писателем, бежав за рубеж и изменив родине.
Ему надо было оправдать себя >в глазах
общественного мнения в России и
Польско-Литовском государстве. Больше
того —ему надо было оправдать себя в
своих собственных глазах, ощутить свое
право на позицию моралиста и нраво-
учителя. Его писания были
самооправдательными документами, в которых он
позировал перед другими, перед своими
читателями, но прежде всего перед
самим собой... Грозный был несомненно
талантливее Курбского».
Надо отдать должное Плотникову,
который верно угадал основной
«криминал» в биографии князя и целиком
исключил из романа гражданские мотивы
его деятельности за границей. Если
К. Плешаков в историческом очерке о
политической эмиграции «Дилемма
Курбского» (Новое время, 1990, № 36)
разделил эмиграцию на пассивную (уехать,
чтобы забыть) и активную, призванную
бороться с тиранией извне, и, конечно,
представил Курбского примером
последней, то в романе князь уезжает, чтобы
забыть, и (мучается оттого, что не может
забытчь. Письма Курбского Грозному и
другим лицам еще занимают романиста,
но о самом сильном его произведении —
«История о великом князе
Московском» — сказано только, что она начата,
а потом окончена.
Избирая среди противоречивых
сообщений источников наименее лестные для
князя версии, Плотников убеждает
читателя, что Курбский бежал, оставив
жену и маленького сына (?) на верную
смерть, причем не просто из страха
перед неминучей казнью, а влекомый
нечестивой страстью к языческому
божеству Бирутэ. Сюжетно этого не
требовалось, панна Мария Козинская,
избранная автором земным воплощением
колдовства, появляется в романе гораздо
позже. Из документов известно, что брак
с веселой вдовушкой был неудачен, при
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
231
разводе она затаскала по судам самого
Курбского и потом утеснила в правах
его детей от третьей жены.
Но иррациональной вины Плотникову
было мало. Вопреки источникам,
повествующим, как Курбский с целой пачкой
пригласительных писем от короля Си-
гизмунда И Августа и высших
сановников прибыл из Дерпта в Вольмар,
автор «пленяет» его в г, Гельмет. Там
князя со слугами грабят представители
Ливонского ордена (давно разбитого),
вовсю издеваются над ними и чуть не
убивают. Зачем эта выдумка? Затем, чтобы
Курбский выдал врагу военные тайны и
потом казнился, чтобы его спас иезуит и
князь со временем стал пособником
иезуитов, которые, впрочем, изображены
славными малыми. Как на грех, именно
о том, что у иезуитов не было
контактов с Курбским, достоверно известно!
Смело искажает автор и военную
деятельность Курбского за границей,
добиваясь вывода, что князь «не щадил и
своих соплеменников, одной веры с
ним». Часть ошибок можно списать на
слабое знание автором военных реалий
XVI века (последний по «чести»
Сторожевой полк он считает «первым в
войске по значению» и т, п.), но
несуществующие «подвиги» и небывалые походы
в войне с Россией приписаны Курбскому
явно намеренно, а их изображение
отличается дурновкусием.
Когда Плотников хочет князя
похвалить, тоже получается не совсем
хорошо: например, Курбский гордо
отказывается уговорить сдаться королю своего
друга воеводу П. М. Щенятева. Вот
после этого ему следовало бы в романе
плакать и рыдать, потому что в
следующем году того лично царь Иван запы-
тает насмерть! Впрочем, пожалование
князя королевскими землями,
многократно превосходившими все, что по
древности рода и великим подвигам имел
Курбский на Руси, сама королевская
милость? все удовольствия использованы
Плотниковым, чтобы показать, «в каких
мучениях жили изгнанники русские при
Иване Четвертом Грозном!»
На протяжении всего романа автор не
устает живописать «унижение беглеца,
одинокого, нищего, подозреваемого
всеми», «перебежчика и иноверца»,
которому никто не доверяет. Чужбина есть
чужбина, но Плотников с упорством
изумительным подчеркивает совершенную
чужеродеость для беглого россиянина
обстановки Западной Руси. Во Владимире
Волынском слуги князя ковельского
«даже между собой старались говорить
по-литовски или по-польски», не зная,
что местные-то в основном говорят на
русском диалекте. Идея «ополячивания»
засела у автора настолько плотно, что и
с русскими слугами, и с другим
беглецам с Руси Курбский разговаривает по-
польски.
Раз взявшись за какую-нибудь мысль,
Плотников возвращается к ней вновь и
вновь, как бы вколачивая своего героя в
гроб. В отношении к царю Ивану
унижение и обида сменяется ощущением,
что все казненные тираном — на его
совести: Курбский «предал их, а сам
бежал».
«От злобы я бежал,— заключает
Курбский,— ради мести и сохранения своей
шкуры. И нет мне прощения!».
Лишившись души, князь завершает свой век с
ощущением, что «никто не может
сделать ему страшнее того, что он сделал
себе сам», что «теперь ему ничем не
искупить содеянного». Утешительно все
же, что Плотников оставил Курбскому
чувство раскаяния (вместо гордого
сознания своей правоты), как в черной
душе Грозного помимо «пса цепного» и
«обычного грешного» выделил
«Государев Разум» (пережитки представлений
историков о его государственных
замыслах).
По отношению к этому «Государеву
Разуму» Анатолий Ананьев- более
радикален. Взяв за основу схему
«объективного исторического процесса»
марксистско-ленинских историков и не видя ей
никакой альтернативы в убогом нашем
отечестве, писатель дает ей моральную
оценку — убийственную. «То ваш
издавна кровопийственный род!» —- как бы
восклицает Ананьев вслед за Курбским,
исчисляя злодеяния создателей
московского самодержавия, но не от Юрия
Даниловича, оклеветавшего в Орде святого
князя Михаила Тверского, как
вспыльчивый Курбский, а поближе, от Ивана III.
Схема исторического процесса, идея
которой заимствована у Курбского,
проста: серия безобразных схваток за власть
начиная с печальной истории Дмитрия-
внуки и кончая первым серьезным
делом юного Ивана IV — отданием на
растерзание псарям зарвавшегося боярина
Андрея Шуйского. Довольно материала
232
АНДРЕЙ БОГДАНОВ
Ананьев нашел у Карамзина и
Костомарова (единственных, названных
поименно), часть — сочинил сам, а
захватывающую историю о таинственном «царевиче
Георгии», по слухам, которых боится
Иван Грозный, родившемся у
заточенной в монастырь первой жены его отца
Солюмониды Юрьевны Сабуровой,
почерпнул у своего собрата-литератора
(по образованию археолога) А. Л.
Никитина.
Достаточно важны для концепции
романа рассуждения автора, основанные на
такой посылке из Первого послания
Ивана Грозного князю Курбскому: «...оттого-
де только и погибла Византия, что
верховодили в ней не цари, а попы, то
есть не светское, не мирское начало, а
церковное».
«Нигде ты не найдешь,— писал
Грозный,— чтобы не разорилось царство,
руководимое попами. Тебе чего
захотелось — того, что случилось с греками,
погубившими царство и предавшимися
туркам?» Однако не будем забывать,
что православная церковь в Византии
подчинялась императорам, признавая их
высшей властью, данной от Бога и
призванной блюсти чистоту православия.
Иван по обыкновению лукавил, обвиняя
«попа-невежду» Сильвестра. Но
Ананьеву этой зацепки достаточно:
«Обвинялись,— заключает он,— в сущности,
Церковь и ее догматы, вернее, то самое
православие, которое уже тогда
считалось более чем судьбоносным для
русского человека».
Автор не желает, чтобы его
обвинения выглядели огульными, и
многократно подчеркивает, что «речь идет не о
христианстве вообще, а только об одной
ее (религии.— А. Б.) ветви, о
православии, сыгравшем в нашей истории роль
особенную», повлиявшем на
«общеславянские национальные черты
характера», на формирование славянского
«генетического кода» (даже так). «С
приходом византийской церкви, особенно
умевшей подавить в человеке все
естественное и живое, что есть в «ем, и
поставить в строй смиренных и послушных»,
«возглавляемая теми же князьями..,
лишь облачившимися в одежды
святителей, церковь с невиданной еще дотоле
силой принялась обрабатывать народ в
духе смирения/ и терпения, раболепного
преклонения перед алтарем и троном».
«На державу, в сущности, была
накинута нетленная паутина единой духовной
(читай: монастырской) воли, которая,
как мне представляется (хотя и с
перемещенным уже центром) продолжает и
ныне многих и многих держать в
повиновении». Из «византийской» церкви, по
Ананьеву, «мы взяли главное, чего
более всего следовало опасаться,— верхе-
водство идеологии над мирской
властью.., народ... после Октября
семнадцатого был целиком пострижен в монахи,
лишен собственности, закабален,
унижен, государство превращено в
казарменный монастырь с наставниками и
паствой», а «функции церкви,
расширенные до безмерного влияния на все и
всех, взяла на себя партия».
Действительно, церковь в узком
смысле, не как сообщество верующих, а как
идеологическая организация, имеющая
политическую власть,— учреждение
малоприятное. Но не церковь накинула
«нетленную паутину» на государство, а
князья ввели на своей территории
православие, как посже большевики силой
навязали свою идеологию. Однако
«ручного» византийского христианства на
Руси сразу не получилось: московским
государям пришлось покорять церковь,
соблазняя иерархию благами своей
защиты и покровительства с одной стороны,
применяя разные формы насилия — с
другой. Лишь во времена Петра I, потеряв
часть свою в расколе, церковь
превратилась в духовный департамент империи.
Странно, что, сосредоточившись на
отъезде Ивана Грозного из Москвы в
1564 году, автор запамятовал, за что
царь «гнев свой положил» на
духовенство, аристократию, дворян и
приказных: за то, что служивые плохо служат,
а духовенство заступается за
виновных — потому-де государю ничего не
остается, как оставить свое государство.
Народу же объявили, что на него нет
никакого гнева и опалоы, посему, как
пишет Костомаров, «народ возопил:, «Пусть
государь не оставляет государства, не
отдает на расхищение волкам, избавит
нас от рук сильных людей. Пусть
казнит своих лиходеев! В животе и смерти
волен Бог и государь!»
Вот какие усилия приложил Иван, вот
в какой ситуации постарел на много лет
и облысел: лишая духовенство npaisa
«печалования» за опальных, Грозный
поставил на кон государство; бояре,
дворяне, приказные и духовенство не мог-
ТЕНЬ ГРОЗНОГО
233
л-и допустить кровавой анархии в
стране; их покорение означало кровавый
террор «сверху». Ананьев знает, кто
встал на пути опричнины, кто отказался
благословить тирана, «доколе в Русской
земле будет господствовать
беззаконие»,— митрополит Филипп.
Архиепископы Геннадий и Леонид, сотни других
духовных лиц приняли вслед за
митрополитом лютую смерть, пока Грозный
«смирял» церковь, как «смирял» всю
Россию.
Кому-то может показаться излишним,
например, обширное отступление с
грубым оскорблением личности св.
Феодосия Печерского — но это часть замысла
автора, желающего представиться
«простым» человеком, почитающим себя «от
наук свободным» и режущим всем в
глаза правду матку (в действительности
основой здесь послужил ироничный
очерк Костомарова). Ананьев и свое
излюбленное западничество демонстрирует
на уровне «гласа народа»: у нас плохо,
а там — хорошо.
«В то время как среди европейских
народов, получивших (уже в те средние
века) во -владение землю и
обрабатывавших ее, укреплялось свободолюбие и
достоинство, безземельный,
закрепощенный россиянин, одновременно
угнетавшийся и властью, и церковью.., не мог
даже помыслить о каком-либо ином
устройстве жизни, чем то, в котором
пребывал, свыкнувшись с нищетой,
бесправием, терпящий тяготы и заботы»,—
читаем в романе.
Замечу, что России в XVI веке было
довольно трудно «пойти путем другим,
европейским... путем раскрепощения
труда», поскольку Европа к востоку от
Рейна уже с XV века двинулась по пути
«закрепощения труда» — самого
натурального крепостничества. Что.касается
«владения землей», то французские
крестьяне получили ее во время Великой
революции, английские — вообще не
получили (и остаются арендаторами) и
т. д. Россия отставала от своих соседей
европейцев — до Великого разорения
страны Грозным огромные земли
обрабатывались свободным черносошным
крестьянством (весь север и часть
центра), не считая вольнопоселенцев и
казачества на границах. Эти «закрепощен-
нные» россияне при «Избранной раде»
имели самоуправление, земский сбор
налогов, земский суд присяжных и т. п.
Политические процессы в Европе к
западу от Смоленска трактуются
Ананьевым еще более вольно. По его
мнению, во времена Ивана IV имелись «два
направления» развития: 1) «движение к
власти законов, что уже намечалось в
устройстве европейских стран, где была
уже провозглашена хартия вольности ц
делались усиленные, то есть
революционные (по тем понятиям и меркам),
попытки ограничения королевской власти»;
2) «движение к абсолютизму, что
главным образом соседствовало с нами на
востоке».
А где была провозглашена «хартия
вольности»? Назовите страну, кроме
Англии, где Великая хартия вольностей
была вырвана у Иоанна Безземельного
баронами (наподобие Курбского) с
целью ограждения своих интересов от
королевского беззакония (1215 г.).
Своеобразие ситуации состоит в том, что как
раз Западная Европа двигалась к
абсолютизму, а на Востоке его не было!
Напомню: Англия (Елизавета I Тюдор);
Франция (Франциск I — до Генриха IV);
Испания (Карл V, Филипп II),
медленнее — Дания и Швеция. Избежавшие
этого процесса Германия и Италия были
разорваны на части и смогли
объединиться только в XIX веке.
Революционными можно признать только события в
Нидерландах, отстоявших в кровавой
борьбе (1566—1609 гг.) свою
независимость от Испании и Империи.
Привлекательность позиции Ананьева
связана с его моральной оценкой
«объективного исторического процесса»
становления российского самодержавия, о
котором нам до сих пор твердят. Она
однозначно отрицательная. Вслед за
Костомаровым писатель задается
вопросом, был ли Грозный «крупнейшим
государственным деятелем», и предлагает
решать его с позиции народного блага:
«Насколько желателен, а вернее,
необходим народу этот возводящийся над ним
государетвенный аппарат насилия и
подавления свобод, аппарат, который
разве что только обирает и кормится за его
счет и который, чем совершенней он
создай (именно с точки зрения обирания и
насилия), тем славнее и выше
почитается в истории личность такого
преобразователя?»
Принципиально важно заключение,
что собственные цели такого аппарата и
личностей, его создающих, всегда древа-
234
АНДРЕЙ БОГДАНОВ
лируют над интересами народа. В
порядке вещей, как при Иване Грозном,
прямое «противоборство с народом и
державой вообще», а не только с
боярами и ^духовенством. Царь чувствовал
себя в роли «палача державы, которая по
Божьему будто бы изволению, как
утверждалось им, дана ему в рабство».
Власть — это «вечный сеятель зла, это
крапивное семя». «Венценосцы не
думают о народе; жил-де, всегда, сколько
ни дави, ни угнетай его, и будет жить
вечно; власть, власть, власть,
безудержная, неохватная,— вот главное, вокруг
чего сосредоточены их щшьгслы и
деяния».
Отношение к власти ясно высказано,
представление о безысходности ситуации
раскрыто: «Не разумом народа, а
своевольством правителей направляется и
движется мир... История не знает
революций снизу, те,м более народных; снизу
появляются только бунты... Сверху же
совершается лишь хорошо
спланированный захват власти» в интересах только
ее самой, как было и во французскую
революцию, и в русскую, и в
перестройку,— считает автор.
Такое отношение к властей как раз и
лежало в основе трюка Ивана Грозного:
направить легко распаляемые этой
искони присущей россиянам анархической
идеей массы на аппарат власти, на
господствующее сословие, и заставить его
сдаться, обратить в холопьев; а уж
затем настанет черед рабства для всех без
исключения и одни холопы будут
истреблять других.
Роман А. Ананьева отразил тот
глубинный пласт народной психологии,
причастность к которому чувствовали
замечательные историки XIX ве«а, о
котором писал С. М. Соловьев. «Тень
Грозного» присутствует на страницах
романа 'весомо и зримо, предупреждая
о жизнеспособности, пожалуй, даже
злободневности страшного исторического
наследия: не только самой
деспотической власти, но, что еще более важно,
въевшегося в души народного
отношения к этому «чудищу облу, озорну, сто-
зевну».
В трех журнальных публикациях
1991—1992 гг. произошло разрушение
зловещего стереотипа одного из поворогг-
ных моментов нашей истории,
навязанного нам наследниками опричиины, воз-
ч вращение к моральным ценностям
высокой русской культуры. Одобряя
справедливое обличение зла, наиболее
громко прозвучавшее в романе Ананьева,
следует особо приветствовать более
трудные для россиян попытки
живописать дающее надежду добро. Ведь и
Курбский, рассказавший Шмелеву о
Сильвестре, давший Ананьеву
стержневую идею романа и предоставивший
Плотникову историю своего изгнания, не
только клеймил «пагубяиков отечества»,
но еще больше спасал для потомков
память о людях, на которых держится
Святорусская земля:
«О, преблаженные и достохвальные
святые мученики, новотабдоенные от
внутреннего змия! За добрую совесть
вашу пострадаете!»
В мире журналов и книг
«Плюсквамперфект»
Володи Охотникова
П-
о дозреваю, что имя ав-
" тора романа
«Лестницы» (между прочим, лауреата
Государственной премии) Исая Кузнецова
любителям российской словесности мало что
скажет. А между тем многие хоть мельком,
да знают его произведения, не говоря уже
о моем поколении, которое чуть ли не
росло на них. В историю советского
театра он вошел соавтором пьесы «Два
цвета», с которой начинался ефремовский
«Современник». Мы же, прыгая по
партам с палками-шпагами — «Вжик-вжик*
вжик, уноси готовенького! Кто на
новенького?!»,— подражая Андрею
Миронову •— Маркизу или воображая себя
космонавтами из «Москвы — Кассиопеи» и
«Отроков во Вселенной», были, как
и всякие кинозрители, мал о любопытны
и не читали титров, чтобы узнать, кто
же все это выдумал. Потом были
«Пропавшая экспедиция», «Золотая речка»,
«Похищение «Савойи»... В общем,
знатокам кинодраматургии про Исая
Кузнецова давно было известно, что это
человек, любящий конструировать,
фантазировать, выдумывать и играть. И вдруг
он съезжает с такой наезженной колеи
и принимается за то, что обычно в
кинокругах воспринимается как
«самокопание», и бросается в океан презираемой
сценаристами со ВГИКовской скамьи
«литературщины».
Но Исай Кузнецов не только сменил
жанр, а с ним и свой имидж. Он еще
и рискнул на единичное существование,
ибо до того его самого как бы и не было,
а был сиамский близнец (названный
Д. Самойловым в поэме «Юлий Клом-
цус» «Мюром и Мерилизом») по имени
«Зак и Кузнецов»,— как «Ильф и
Петров» или «Фрид и Дунский». Так что
эта книга — знак рождения
самостоятельного писателя И. Кузнецова.
Впрочем, и кинодраматург в ней
не умер. Именно благодаря
профессионализму автора бессюжетность романа
умело выстроена и чисто
драматургическими приемами создана незаметная глазу,
но увлекательная интрига.
Собственно, автор вместе со своим
героем, Владимиром Охотниковым,
решается пойти по стопам пушкинского
финна, «вызвавшего» через сорок лет
свою Наину. Наш классик дружески
Исай Кузнецов. Лестницы. М..
«Советский писатель», 1990.
предупреждал об опасности возвращения
на родное пепелище, о разочаровываю^
щей бессмысленности попыток «вернуть
прошлое» и пускаться в поиски
«утраченного времени». Но так как Владимир
Охотников более интеллигентен, чем
«пастух-герой», но менее изыскан, чем
герой Марселя Пруста, то и пытается
балансировать меж Сциллой воссоздания
в памяти своих чувств и Харибдой
попыток вернуться-таки на реальное
пепелище, впрочем, успешно избегая свидания
с постаревшими Наинами, предпочитая
лишь представлять все возможные
варианты встречи, что, конечно, гораздо
безопаснее реального общения. К тому
же воображаемое оказывается
интереснее и даже как бы правдивее
действительности, объективное существование
которой словно исчезает.
Роман написан в несуществующем
в русском языке грамматическом
времени, не случайно вдруг вспоминаемом
Охотниковым и называющемся
по-немецки «плюсквамперфект» — «время
не просто прошедшее, а именно давно
прошедшее». Да и для современных
немцев этот казус — времен гетевских. Так
что «плюсквамперфект» — уже не
столько немецкая грамматика, сколько одна
из форм общечеловеческого
мироощущения. «Давным-давно прошедшее» для
Охотникова — не по исторической
хронологии, а именно по ощущению. Он
даже в собственных воспоминаниях
предается почти единственно —
воспоминаниям. И уже для него самого становится
загадкой: не занимается ли он только
воспоминаниями о воспоминаниях, и что
же на самом деле случилось (всплывает
даже и вечное «А был ли мальчик?»),
и главное — есть ли в этом
случившемся его, Охотникова, вина? Ясно одно:
произошла жизнь, но не сон ли она?
Вопрос банальный, но каждый должен
отвечать на него сам. И ничего нет более
безуспешного, чем давать прямые,
категоричные ответы. Поэтому роман
написан не только в психологическом
«плюсквамперфекте», но и в таком близком
русскому духу сослагательном
наклонении, когда не только нет прямых
ответов, но и происходящее вроде бы
существует сразу в нескольких
взаимозаменяемых параллельных реальностях.
А как было «на самом деле» — человеку
знать не дано, даже адекватно
вспомнить те чувства, которые он испытывал
236
В МИРЕ ЖУРНАЛОВ И КНИГ
именно тогда... Мудрый человек может
лишь осознать это «не дано».
И само ощущение времени в романе
двойственно: казалось бы, оно
соответствует образу «пыли» (название первой
части) — «Время — пыль»
просачивается сквозь пальцы в никуда, оставляя
нам не хронологию, не даты, но лишь
неясный след чувств и ощущений.
Образ же «Времени — лестницы»
предполагает застывшую материальность
прошлого, монументальность. На мой
взгляд, роману более подошло бы
название его первой части «Пыль». Ведь
автор прямо противопоставляет живому
зыбкому ощущению истории Охотнита-
вым патетичность въевшейся в души
официальной истории. Недаром же
Охотников бежит из музея-мемориала памяти
Кати Нечаевой, его детской любви,
и «воспоминаний» ветеранов, в которых
настоящая память о войне подменена
текстом наградных представлений.
Но в самом-то деле, что мы понимаем
в трагической судьбе поколения,
называемого ныне «ветеранами»? Поколения,
которое делит свою жизнь на «до» и
«после» войны? Поколения, на жизнь
которого так повлияли четыре года?
Поколение, которое долгое время «об-
ронзовляли», пока многие (не все!
не все!) не поверили в свою обронзове-
лость, наивно полагая, что так высоко
ценится их жизнь. Личные судьбы
людей официальной историей были
«подняты» до Исторической Судьбы, роль Бога
и Рока придана идее и силе
направляющей, ' указующей, карающей. Именно
в этой идее наши старики осознали
значительность, смысл своей личной жизни.
Настоящий же их подвиг —
ежедневный солдатский труд, настоящая же
Историческая судьба — быть
Победителями — словно бы бледнели перед
Великой Идеей. Теперь мы поняли ложь идеи.
Но ведь подвиг солдата — не ложь,
Победа — не ложь! В прошлый День
Победы российское радио опрашивало
москвичей «праздник ли этот день?»
Многие колебались. С исчезновением
Идеи мы до того почувствовали себя
неполноценными, что даже в
действительности нашей Победы засомневались.
Замысел романа как раз и состоит в том,
чтобы мы смогли увидеть исторический
смысл в самой своей жизни, чтобы свой
жизненный опыт осознали как судьбу.
Поколение, которым пытались
манипулировать. Чтобы это понять — не о
других, а о себе,—- человеку необходимо
мужество. Владимир Охотников (и прежде
всего автор) его имел. На встрече
ветеранов он ясно почувствовал, что
участвует «в некоем спектакле, в огромном,
охватывающем всю страну зрелище,
гигантской, с умом и размахом
поставленной массовке, где все — его желание
увидеть дорогих ему людей... все
годилось, все шло в дело...»
Почему же столь мужественные,
много пережившие и перетерпевшие люди
позволяли проделывать над собой такие
эксперименты? Ответ мсжно найти
в том, что А. Платонов точно назвал
«безотцовщиной». Интересно, что эту
черту русских судеб начала XX века
отметил не только Платонов (например,
в «Чевенгуре»), но и В. Набоков (в
«Даре»). Парадоксальность последующей
истории заключалась в том, что при
почти поголовной безотцовщине (у
Охотникова отец был, по-видимому, расстрелян;
у многих других они ссылались,
расстреливались, гибли на войнах, гнили
в лагерях), в то же время все обладали
одним на всех горячо любимым «Отцогл
народов». Крайнее, идеальное
проявление равенства! По существу, Охотников
разделил общую трагическую судьбу
сиротского поколения, в котором (как
сказал он о себе) каждый «стремился
быть, как все». Исторический поток, где,
как в братской могиле, «нет ни одной
персональной судьбы, все судьбы в
единую слиты». Существуют лишь
варианты. И как ни печально, основное
жизненное умозаключение Охотникова о том,
что главное — «остаться самим собой»,
на мой взгляд, является лишь тажим
вариантом. Интересно, что это
единственное место в романе, напрочь лишенное
мягкой авторской иронии. А между тем
возникает вопрос, что же такое «быть
самим собой» и почему Охотников так
уверен, что ему все-таки удалось самим
собой остаться? Роль Рока в его жизни
сыграла «закономерная случайность»:
после убийства Кирова его выслали из
Ленинграда. Таким образом, как
Охотников понял потом, ему повезло — он
не продал свою душу «дьяволу». Но
не потому, что сам был против, а потому
что «дьявол» не признал его годным.
И еще одно случайное везение: на войне
его не убили, но главное — он никого
не убил. Впрочем, не по собственному
выбору, а по выбору начальства,
определившего его в такой род войск и на
такую должность. А если бы не
выслали? А если бы — на передовую? Ведь
вот, к несчастью, не выгнали же его
из класса, и ему «пришлось» травить
вместе со всеми девочку (свою первую
любовь). Правда, он всю жизнь
мучился. Хотя в самом конце все-таки
косвенным образом себя оправдал...
По сути, автор искренно показал то,
что все мы друг перед другом таили.
Признайтесь, кто в тоскливости нашей
недавней жизни не утешался мыслью,
что «зато я-то остаюсь самим собой»?
А не единственная ли это мысль,
которая нам разрешалась? Но только — про
себя. Не потому ли роман «Лестницы»,
написанный в 1968—1974 годах, увидел
свет лишь в 1990-м?
М. Панова
Содержание журнала «Знамя»
за 1992 год
ПРОЗА
АДАМОВИЧ Алесь. Немой. Быль. № 12
АЛЕКСЕЕВ Иван. Холода в Занзибаре. Рассказ. № 9
АНТОНОВ Сергей. Поездка к дьяволу. Рассказ. № 8
БАКЛАНОВ Григорий. Входите узкими вратами. Невыдуманные рассказы. № 9
БЕРНАЦКАЯ Марина. Серафима, ангел мой. Повесть. № 2
ВАРЛАМОВ^ Алексей. Здравствуй, князь! Сентиментальная история. № 9
ГОРЕНШТЕЙН Фридрих. Последнее лето на Волге. Повесть. № i
ЕРМАКОВ Олег. Знак зверя. Роман. №№ 6, 7
ЗУЕВ Владимир. Черный ящик. Роман-клип. № 3—4
ИСКАНДЕР Фазиль. Человек и его окрестности. Роман. №№ 2, 6, 11
КАФКА Франц. Новеллы и притчи. Перевод с немецкого И. Щербаковой. № 5
КЕНЖЕЕВ Бахыт. Плато. Роман. №№ 3—4, 5
КОЗЛОВ Борис. Записки ликвидатора. Повесть. № 11
КОЗЬКО Виктор. Спаси и помилуй нас, черный аист. Повесть. Перевел с
белорусского автор. №№ 1, 2
КОРОЛЕВ Анатолий. Голова Гоголя. Повесть. № 7
КРАВЧЕНКО Владимир. Ужин с клоуном. Повесть. № 6
КРАСАВИН Юрий. Свидетельство о жизни. Повесть. № 12
КУРАЕВ Михаил. Куранты бьют. Повесть. № 11
МАКАНИН Владимир. Сюжет усреднения. № 1
МИКЕШ Джордж. Две половины равняются пяти. Путевой очерк. Перевод с
английского И. Дорониной. № 12
МИТРОФАНОВ Илья. Водолей над Одессой. Повесть. № 3—4.
НИМ Наум. До петушиного крика. Повесть. № 10
НОСОВ Евгений. Красное, желтое, зеленое... Рассказ. № 10
ОКУДЖАВА Булат. Выписка из давно минувшего дела. № 7
ПЕЛЕВИН Виктор. Омон Ра. Повесть. № 5
ПЬЕЦУХ Вячеслав. Заколдованная страна. Повесть. № 2
РАНСМАЙР Кристоф. Последний мир. Роман. Перевод с немецкого Н. Федоровой.
№№ 10, И
РОГОЖИН Сергей. Солнечные дни. Повесть. № 8
САДУР Нина. Юг. Повесть. № 10
СВЕТОВ Феликс. Далида. Рассказ. № 5
СИДУР Вадим. Памятник современному состоянию. Миф. Публикация Юлии Сидур.
№№ 8, 9
ТАРИВЕРДИЕВ Карен. Ловушка. «Перебежчик». Рассказы. № 1
УЛАНОВСКАЯ Белла. Боевые коты. Рассказы. № 2
ХАРИТОНОВ Марк. Очередь. Рассказ. № 3—4
ЦВЕТКОВ Алексей. Просто голос. Отрывок из поэмы. № 8
ЧУЛКОВ Георгий. Вредитель. Вступительная статья и публикация Марии'
Михайловой. № 1
ПОЭЗИЯ
АРАБОВ Юрий. От винта! № 5
БЕК Татьяна. Невероятный свет. № 9
БЛАЖЕЕВСКИЙ Евгений. По дороге в Загорск. № 9
БЛАЖЕННЫЙ Вениамин. Единоборство. № 6
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей. Три стихотворения. № 10
ДИЖУР Белла. Стихи разных лет. № 2
ДМИТРИЕВ Виталий. И какой еще надо свободы? № 12
ДЬЯКОВА Елена. По треснутому блюдцу картосхемы... № 5
ЕРЕМЕНКО Александр. Стихи. № 1
КЕКОВА Светлана. Стихи о пространстве и времени, № 5; В глуши губернской. № 11
КИБИРОВ Тимур. К вопросу о романтизме. № б
КУЛЬБА Андрей. Муравьиные башни. № 8
КУШНЕР Александр. Девять стихотворений. № 2
ЛИСНЯНСКАЯ Инна. Из новой тетради. № 11
ЛОСЕВ Лев. Стихи, № 9
МАТВЕЕВА Новелла. Лирика, № 3—4
238 СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ» ЗА 1992 ГОД
МЕЖИРОВ Александр. Восемь стихотворений. № 1
НИКОЛАЕВА Олеся. Прощанье с империей. № 7
ПАРИН Алексей. Из самых близких. № 1
ПАХОМОВ Аркадий. Весела была ночь... № 7
ПОЛЕТАЕВА Татьяна. Я тоже любила качели... № 3—4
РАДАШКЕВИЧ Александр. Московские ряды. № 7
СЕДАКОВА Ольга. Из книги «Дикий шиповник». № 8
СЕМЕНЕНКО Светлан. Посвящения. № 10
СОКОЛОВ Владимир. Шесть стихотворений. № 3—4
СОСНОРА Виктор. Из «Мартовских ид». № 10
СУХАРЕВ Дмитрий. Пять стихотворений. № 8
ЦВЕТКОВ Алексей. Новые стихи. № 2
ШВАРЦ Елена. Бедные дни. № 12
ПУБЛИЦИСТИКА
АЛАЕВ Леонид. Россия и опыт восточных демократий. № 12
В какой стране мы будем жить? Беседа политологов А. ЦИПКО и А. МИГРАНЯ-
НА. № 1
ГУДКОВ Лев. Интеллигенты и интеллектуалы. № 3—4
ГУСЕЙНОВ Гасан. Исторический смысл политического косноязычия. № 9
ИВАНОВА Наталья. Русский вопрос. № 1
ЛЕВАДА Юрий. Уходящая натура?.. № б
ПАНАРИН Александр. Цивилизационный процесс в России: опыт поражения и уроки
на завтра. № 7
ПАС Октавио. Дохляк и другие крайности. Вступительная заметка и перевод с
испанского Б. Дубина. № 11
РАБОТНОВ Николай. С дровами в XXI век? № И
СВИНЦОВ Виталий. Три лика совести. № 10
СИРОТКИН Владлен. Вернется ли на родину российское золото? Послесловие М. Ма-
сарского. № 8
СЛАВНЫЙ Борис. Гражданское общество или гражданская война? № 2
СТАРИКОВ Евгений. От Ивана до Петра. № 5
URB I ET ORBI
ИОНЕСКО Эжен. Зачем я пишу? Перевод с французского и примечания В. Бибихина № б.
КОКС Харви. Мирской град. Перевод с английского К. Туровской и О. Боровой.
Послесловие С. Лёзова: Христианин в обезбоженном мире. № 9
ПАНЧЕНКО Александр. О специфике славянской цивилизации. № 9
ДОКУМЕНТ
ВОРОБЬЕВ Виктор. Письмо Президенту. № 10
МЕМУАРЫ. АРХИВЫ. СВИДЕТЕЛЬСТВА
КОРЯКОВ Михаил. Фронтовой дневник. Публикация И. Яунзем. № 5
ЛЕСКОВ Н. С. Неоцененные услуги. Отрывки из воспоминаний. Подготовка текста,
вступительная заметка и примечания О. Е. Майоровой. № 1
МЕЛЕТИНСКИЙ Елеазар. Моя война. № 10
Переписка Варлама ШАЛАМОВА и Надежды МАНДЕЛЬШТАМ. Публикация и
примечания И. Сиротинской. № 2
САДОВСКОЙ Борис. Заметки. Дневник. Вступительная статья, публикация И.
Андреевой. № 7
ФЕДОТОВ Георгий. Судьба империй. Публикация, предисловие и примечания М. Га-
лахтина. № 3—4
ЦВЕТАЕВА Марина. Из «Рабочих тетрадей». Публикация и предисловие Е. Корки-
ной. № 9
ЧУКОВСКИЙ Корней. Из Дневника. Публикация, вступление и комментарии Е.
Чуковской. №№ 11, 12
«Эх, Говард!» (История одного неотправленного письма.) Вступительная заметка,
публикация, примечания А. Петрова. № 8
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
ГРАНИН Даниил. Этому нас не учили. № 2
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ» ЗА 1992 ГОД 239
КРИТИКА
БОГДАНОВ Андрей. Тень Грозного. № 12
ВАЙЛЬ Петр. Смерть героя. № 11
ДАРК Олег. «Черная месса» императивной критики. № 8
ЗОРИН Андрей. Круче, круче, круче... № 10
ЗВЕРЕВ Алексей. Преступления страсти. № б
ЗВИНЯЦКОВСКИЙ Владимир. Партийная литература без партийной организации. № 2
ИВАНИЦКАЯ Елена. Новые русские мальчики. № 10
КЕНЖЕЕВ Бахыт. Стихи Сергея Гандлевского. № 10
ЛИПОВЕЦКИЙ Марк. Апофеоз частиц, или Диалоги с Хаосом. № 8
Литература сегодня: взгляд с двух берегов № 1
Кристина ЭНГЕЛЬ. Прощание с мифом
Нэнси КОНДИ, Владимир ПАДУНОВ. Самоубийство перестройки:
не хлебом единым. Перевод с английского И. Чабанова
Вячеслав КУРИЦЫН. Жизнь с кокаином
Мария РУДЕНКО. Мелкие неприятности в ночь перед Страшным Судом. № 1
НОВИКОВ Вл. Промежуточный финиш. № 9
РАССАДИН Ст. Из жизни кентавров. № 3—4
Русская классика и Октябрьская революция
Заочный «Круглый стол» «Знамени»
М. Л. ГАСПАРОВ, А. М. ПАНЧЕНКО. № 1
Г. ПОМЕРАНЦ, Ю. КУБЛАНОВСКИЙ, А. АГЕЕВ. № 5
Вадим СКУРАТОВСКИЙ, Георгий ФРИДЛЕНДЕР, Игорь ВИНОГРАДОВ. № 7
СТЕПАНЯН Карен. Реализм как заключительная стадия постмодернизма.^ № 9
ТИХОМИРОВА Елена. Эрос из подполья. № 6
ЧУПРИНИН С. Первенцы свободы. № 5
ШЕМЯКИН Андрей. Обуздание кромешного мира. № 7
В МИРЕ ЖУРНАЛОВ И КНИГ
КИРИЛЛОВА Ирина. Исцеление свободой (Л. Сара скин а. «Бесы»:
роман-предупреждение. М., «Советский писатель», 1990). № 8
ПАНОВА М. «Плюсквамперфект» Володи Охотникова (Исай Кузнецов.
Лестницы. М., «Советский писатель», 1990). № 12
РАДЗИХОВСКИЙ Леонид. Западнее — только стена (Михаил Сокольский.
Неверная память. Герои и антигерои России. М., «Московский рабочий», 1990). № 1
ШВАРЦ Говард. «Анна Каренина» вместо «Войны и мира» (Размышления об
«афганской прозе»). Перевод с английского Т. Касаткиной. № 1
МЕЖДУ ПРОЧИМ
БОРОВИКОВ Сергей. Затерянная страна. № 6
САРАСКИНА Л. Тут вам не там. № 5
СТАРИКОВ Евгений. «Боевые холопы». № 3—4
ХОЛМОГОРОВА Елена. Декабрист Александр I. № 8
ФРЕЙДИН Григорий. Две шинели, или Анекдот с бородой. № 10
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
БОГОМОЛОВ Ю. представляет журнал «Киносценарии». № 2
КУЛАКОВ Владислав представляет книги, изданные на средства авторов. № 10
ФОНЯКОВ Илья представляет ленинградские альманахи. № 3—4
С ТОГО БЕРЕГА
КЛАРК Катерина. Границы, перестановки и переодевания: русские интеллектуалы в
«период перестройки». Перевод с английского К. Степаняна. № 10
ПРИСТАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ
КИРЕЕВ Руслан. Вечный титулярный советник. № 11
240 СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ» ЗА 1992 ГОД
ИЗ ПОЧТЫ «ЗНАМЕНИ»
КАСАТКИНА Т. Революция как благо. № 6
ЛАКЕРБАЙ Д. Учитель и смутное время. № 5
ПАРНАХ А. «Женщина, мясо будем брать, нет?» № 10
ПЕТРОВ С, СИРОТКИН В. Еще раз о российском золоте. № 10.
ШТЕЙН Эдуард, БИЛЛИНГТОН Джеймс X., И. ПОЛОВНИКОВА. Еще раз о
библиотеке Г. В. Юдина. № 7
К сведению уважаемых авторов:
Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи, а
только сообщает о своем решении.
Рукописи просим высылать заказной бандеролью,—
посылки редакция не принимает.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не
рассматриваются.
При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя»
обязательна.
Общественный совет редакции
С. С. АВЕРИНЦЕВ, И. И. ВИНОГРАДОВ, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, Н. Н. ВОРОНЦОВ,
В. В. ИВАНОВ, Ф. А. ИСКАНДЕР, В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. С. МАКАНИН,
М. В. МАСАРСКИЙ, Б. Ш. ОКУДЖАВА, В. А. ТИХОНОВ, М. А. УЛЬЯНОВ,
Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. С. ШАТАЛИН.
Главный редактор Г. Я. БАКЛАНОВ.
Редколлегия: А. Л. АГЕЕВ, Н. Б. ИВАНОВА (зам. гл. редактора), Е. А. КАЦЕВА (отв.
секретарь), В. И. КАШИРСКИЙ, С. И. ЧУПРИНИН (первый зам. гл. редактора).
Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. Никольская 8,1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и
921-08-09. ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел
публицистики — 923-76-33, отдел критики и библиографии — 928-94-45, отдел поэзии —
921-59-67, для справок — 924-13-46.
Технический редактор 3. П. Кузнецова
Сдано в набор 06.10.92. Подписано к печати 30.10.92. Формат 70xl08Vie.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,17.
Тираж 192 409 экз. Заказ № 1989.
Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.